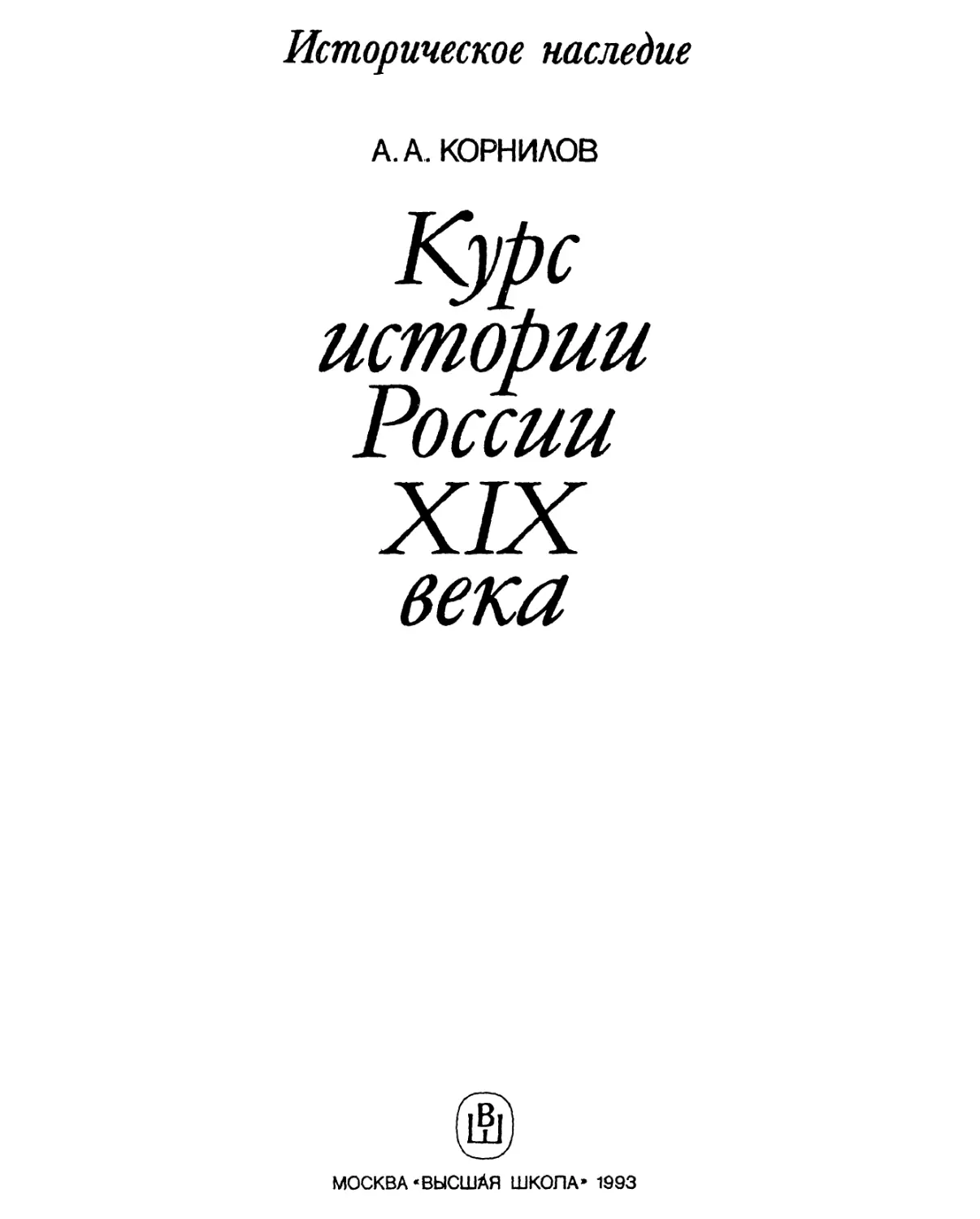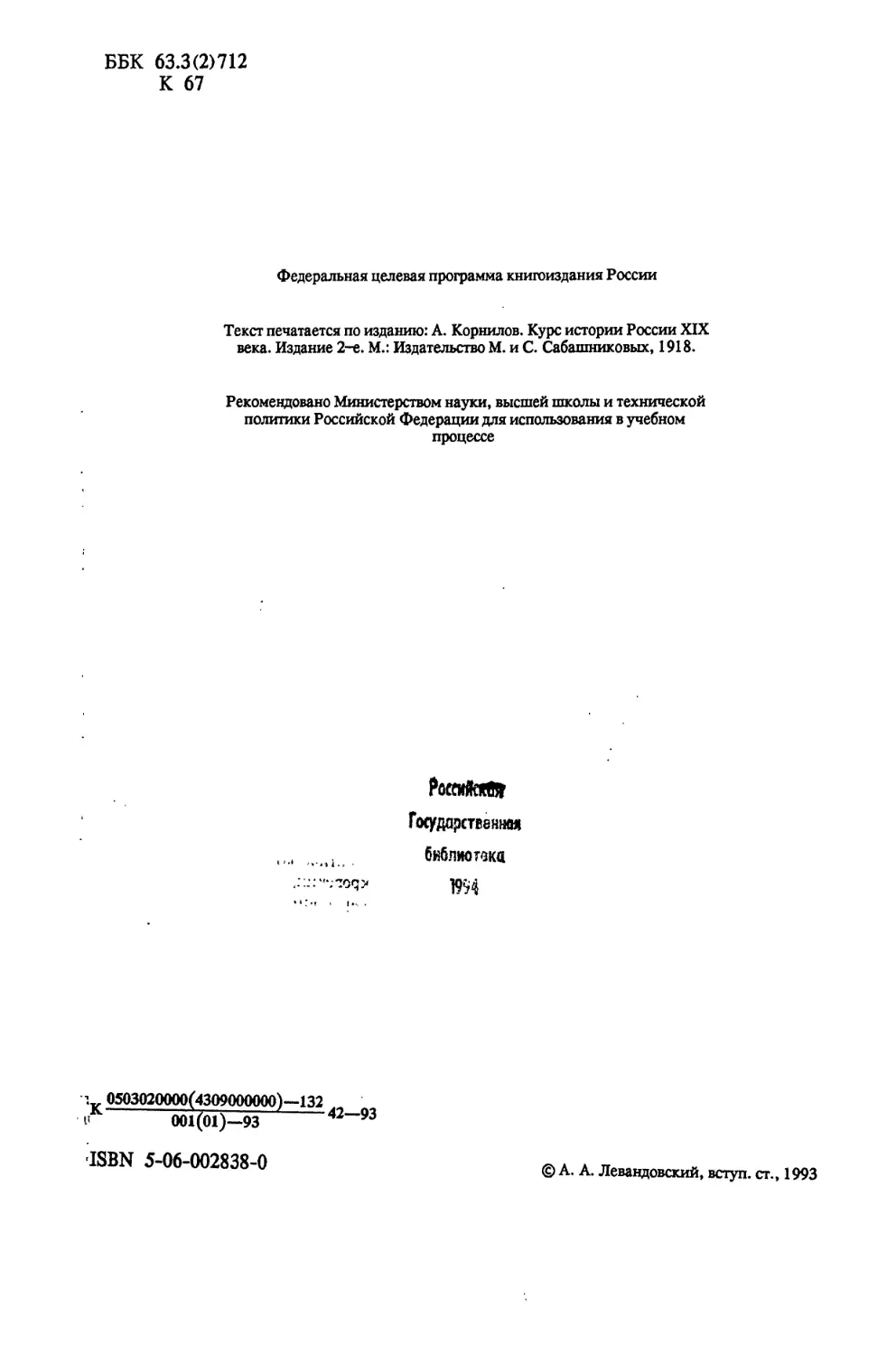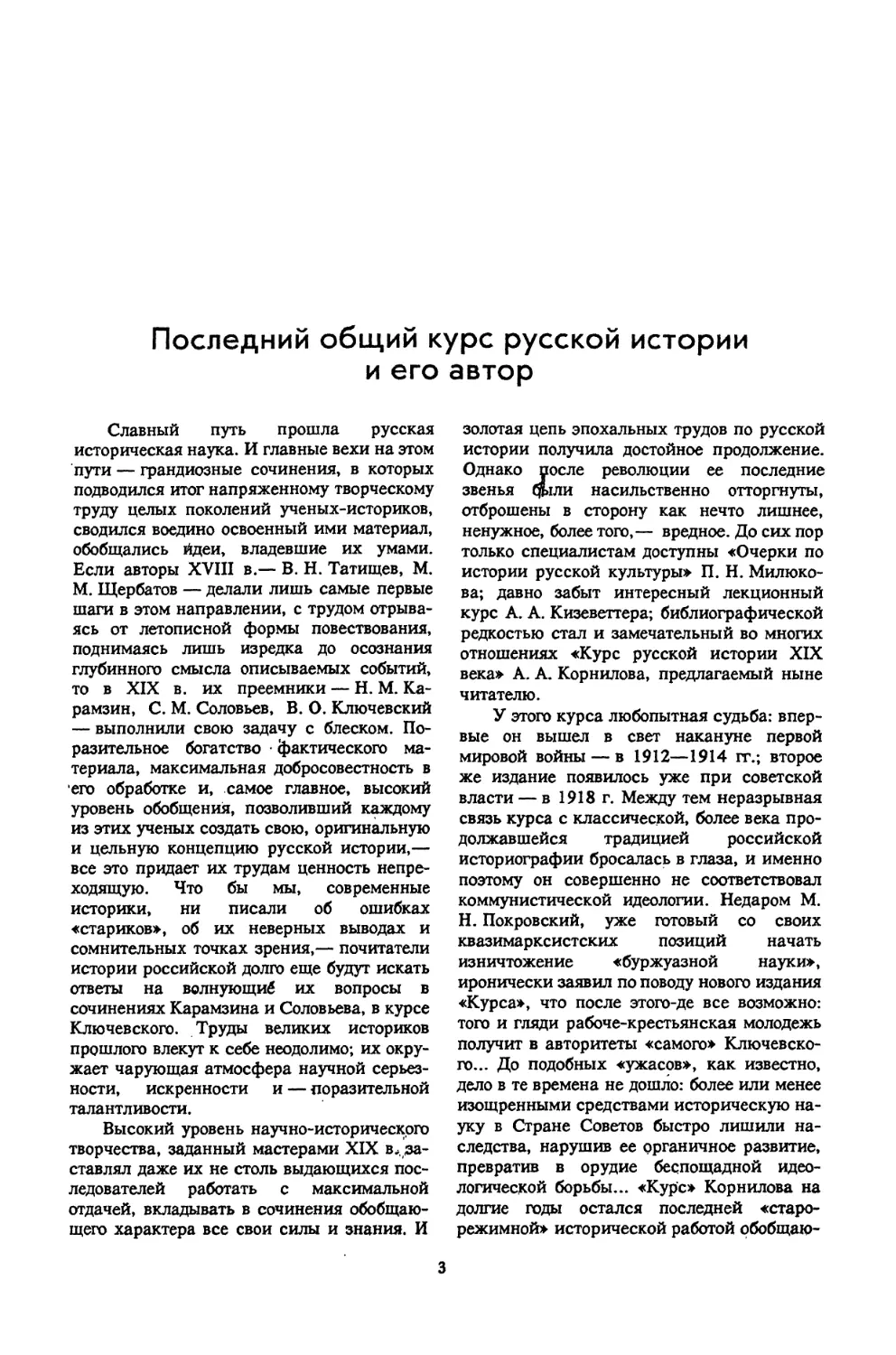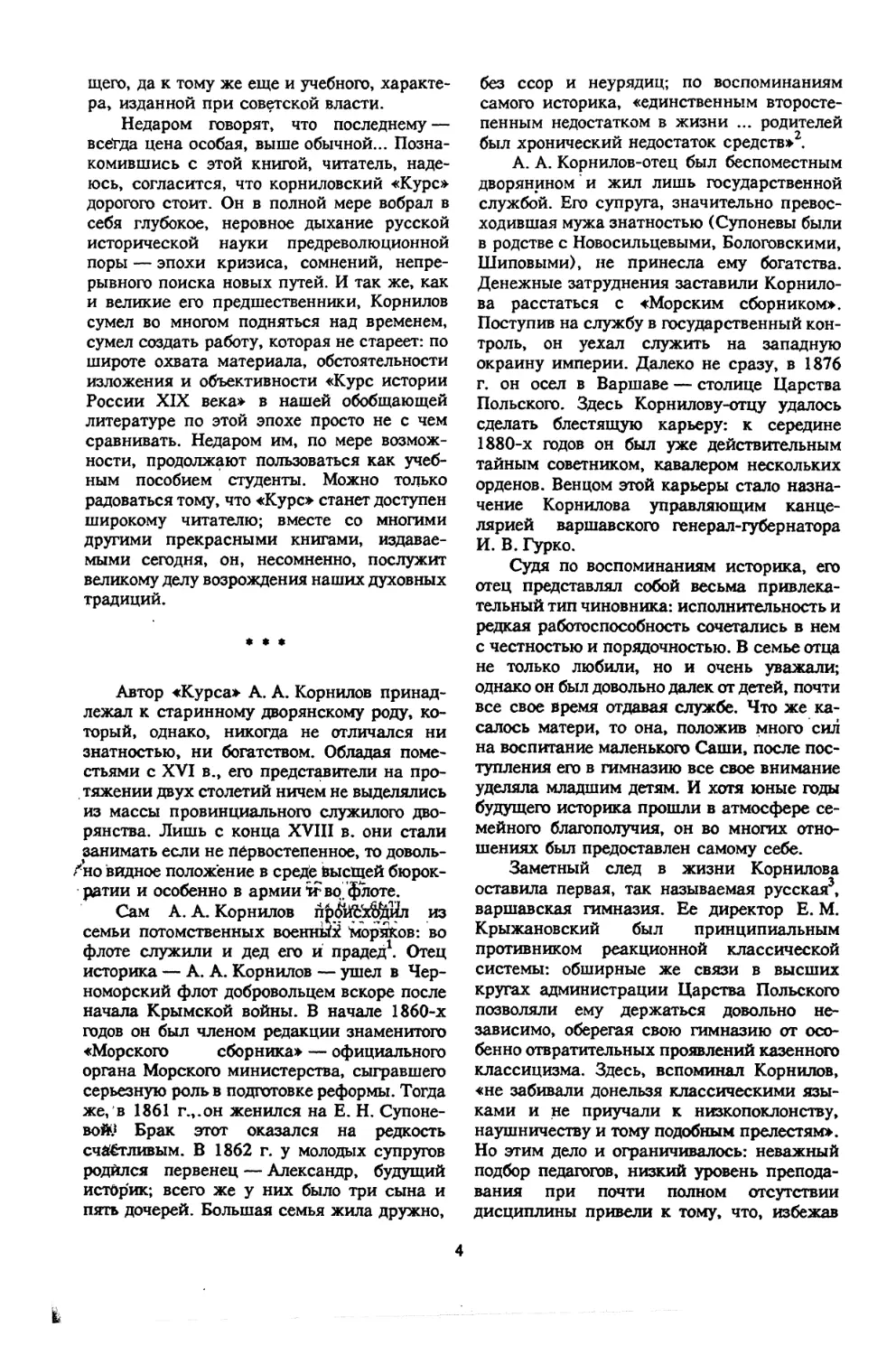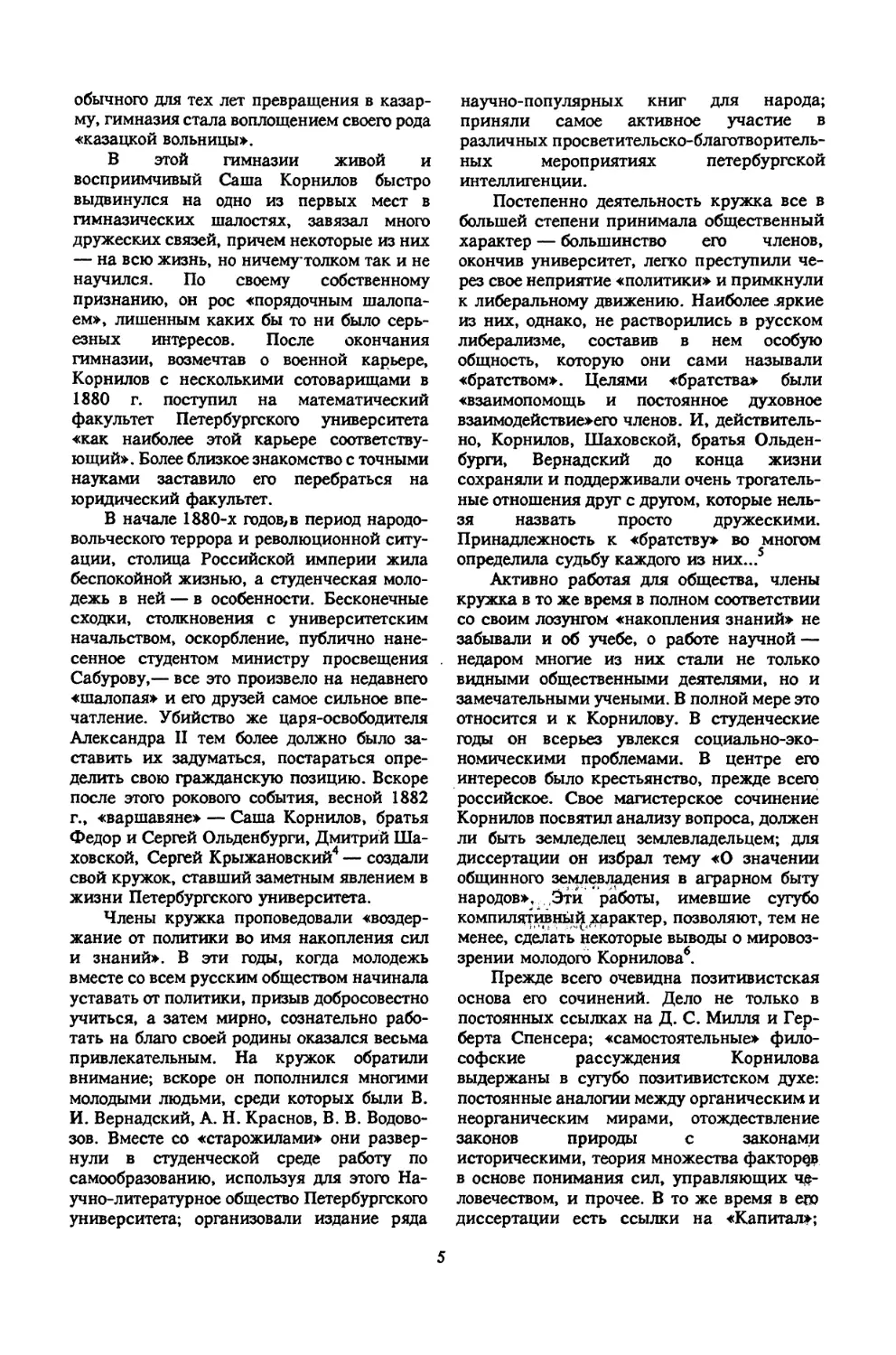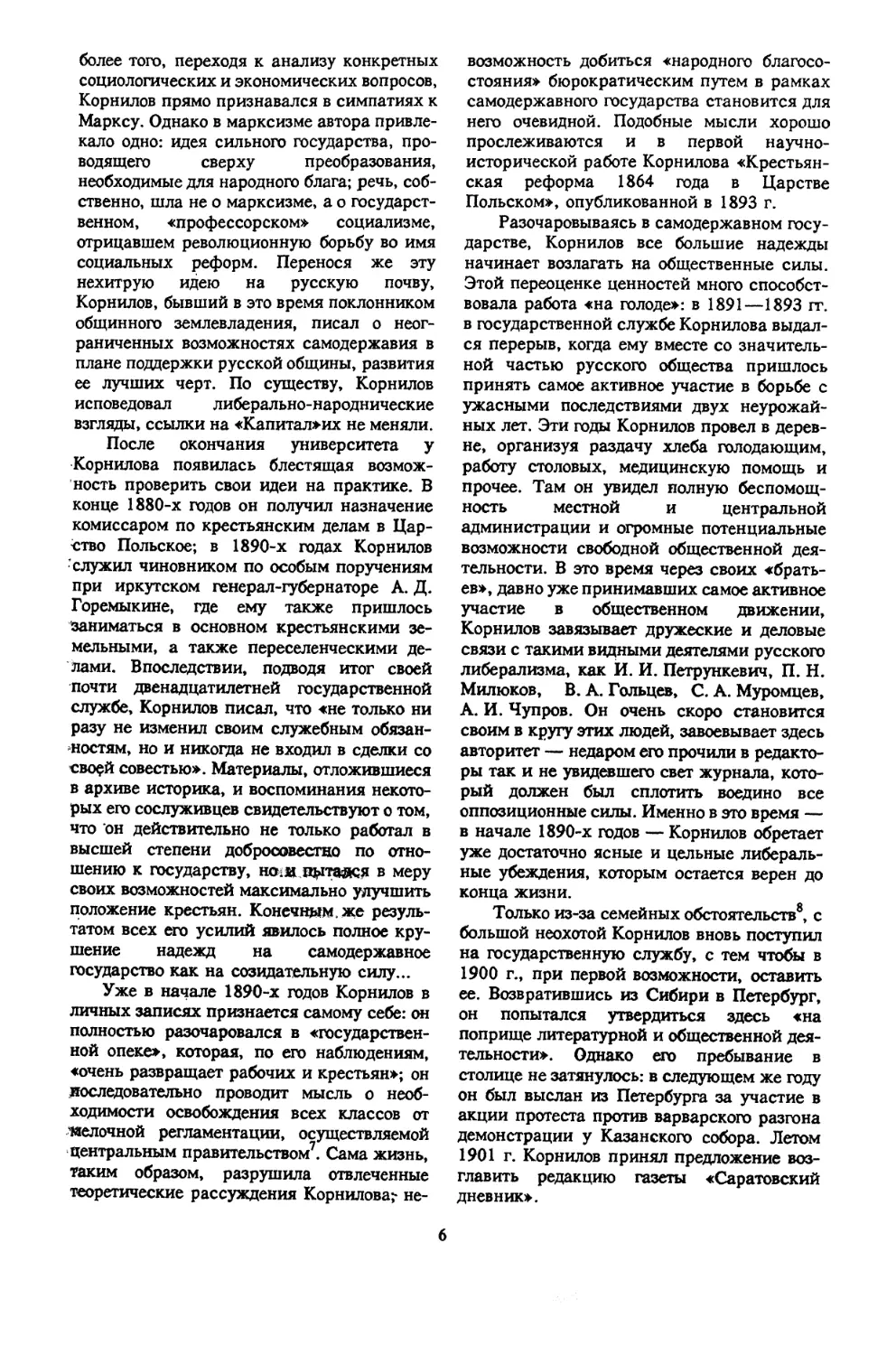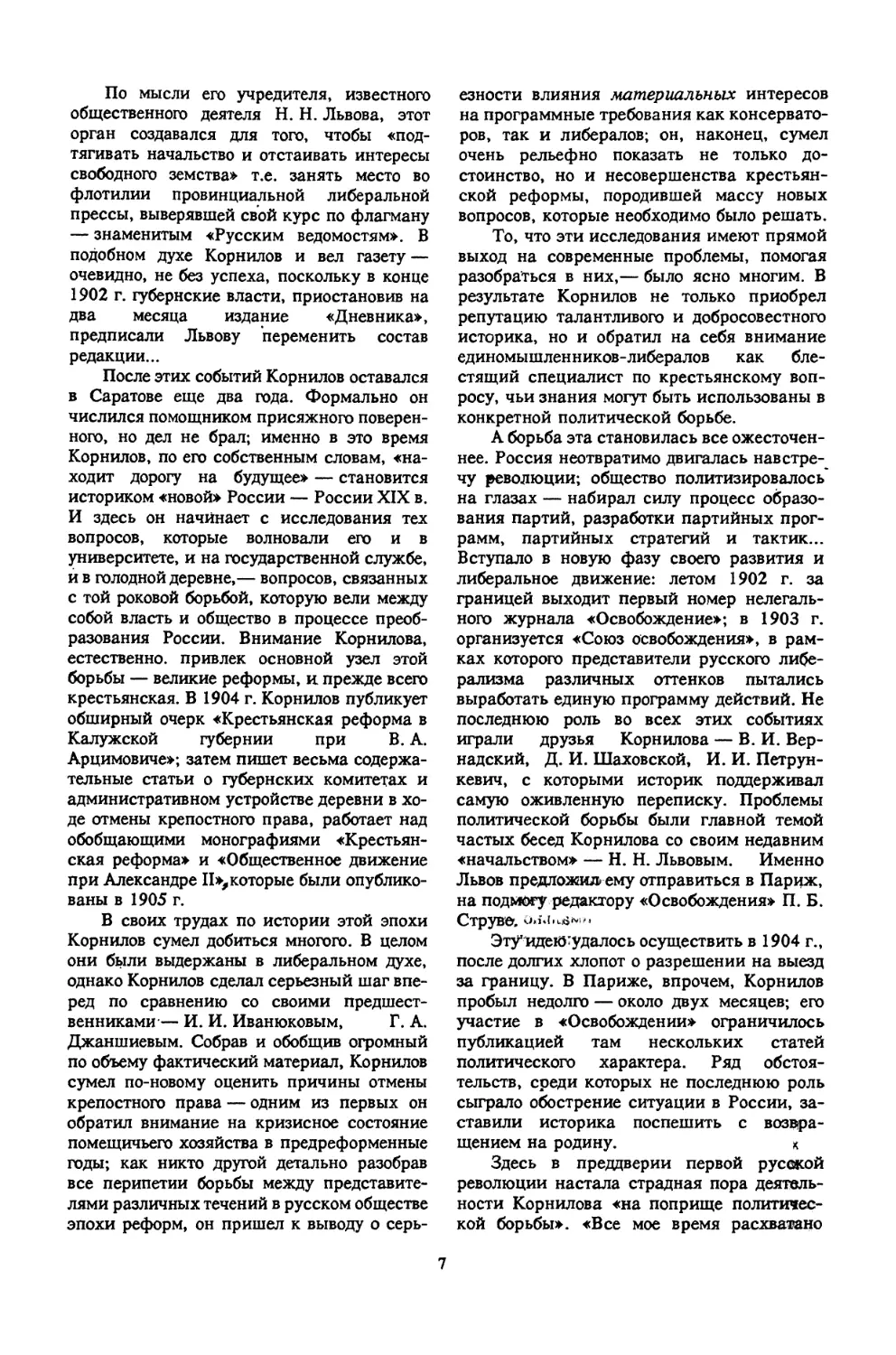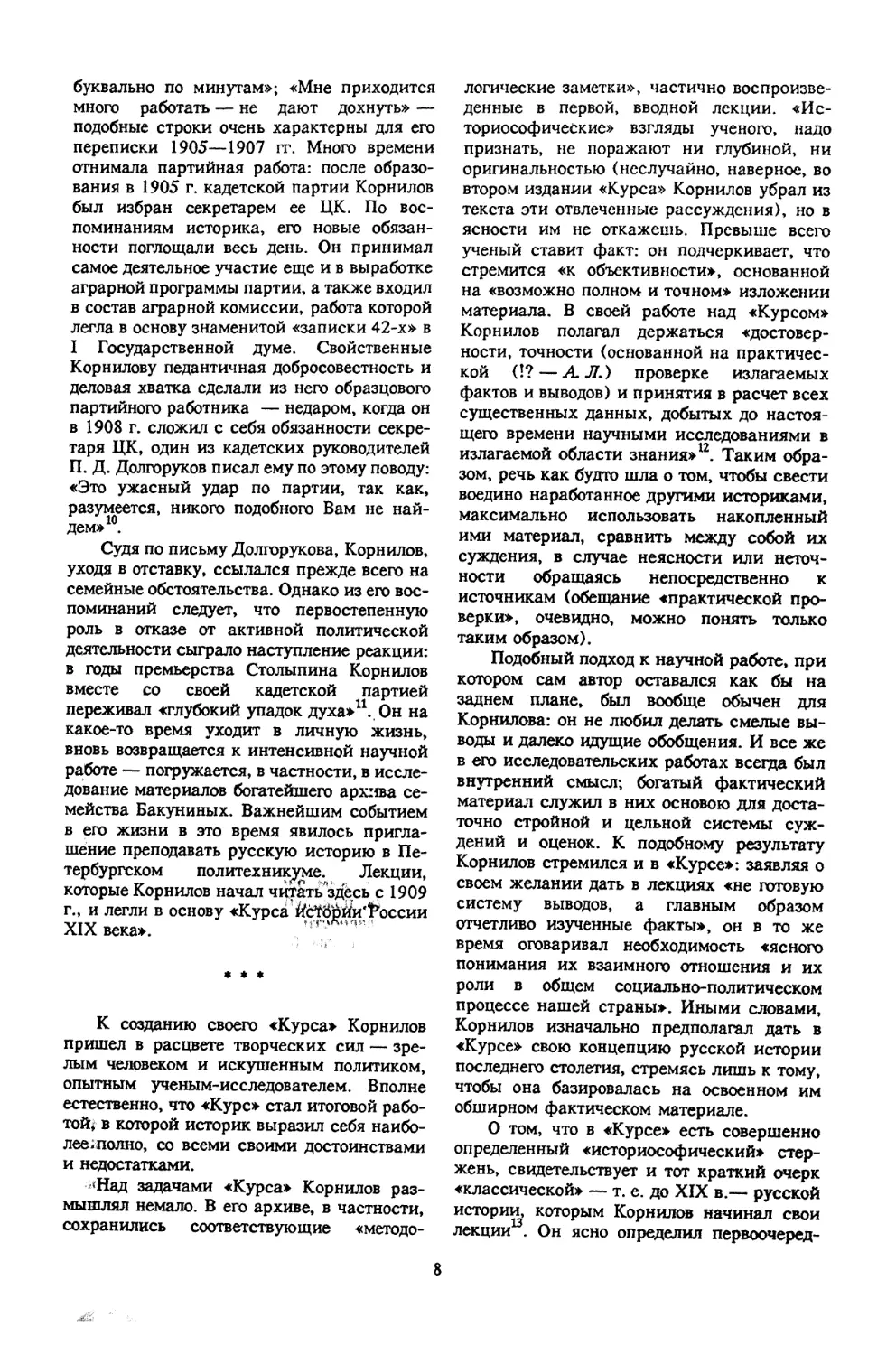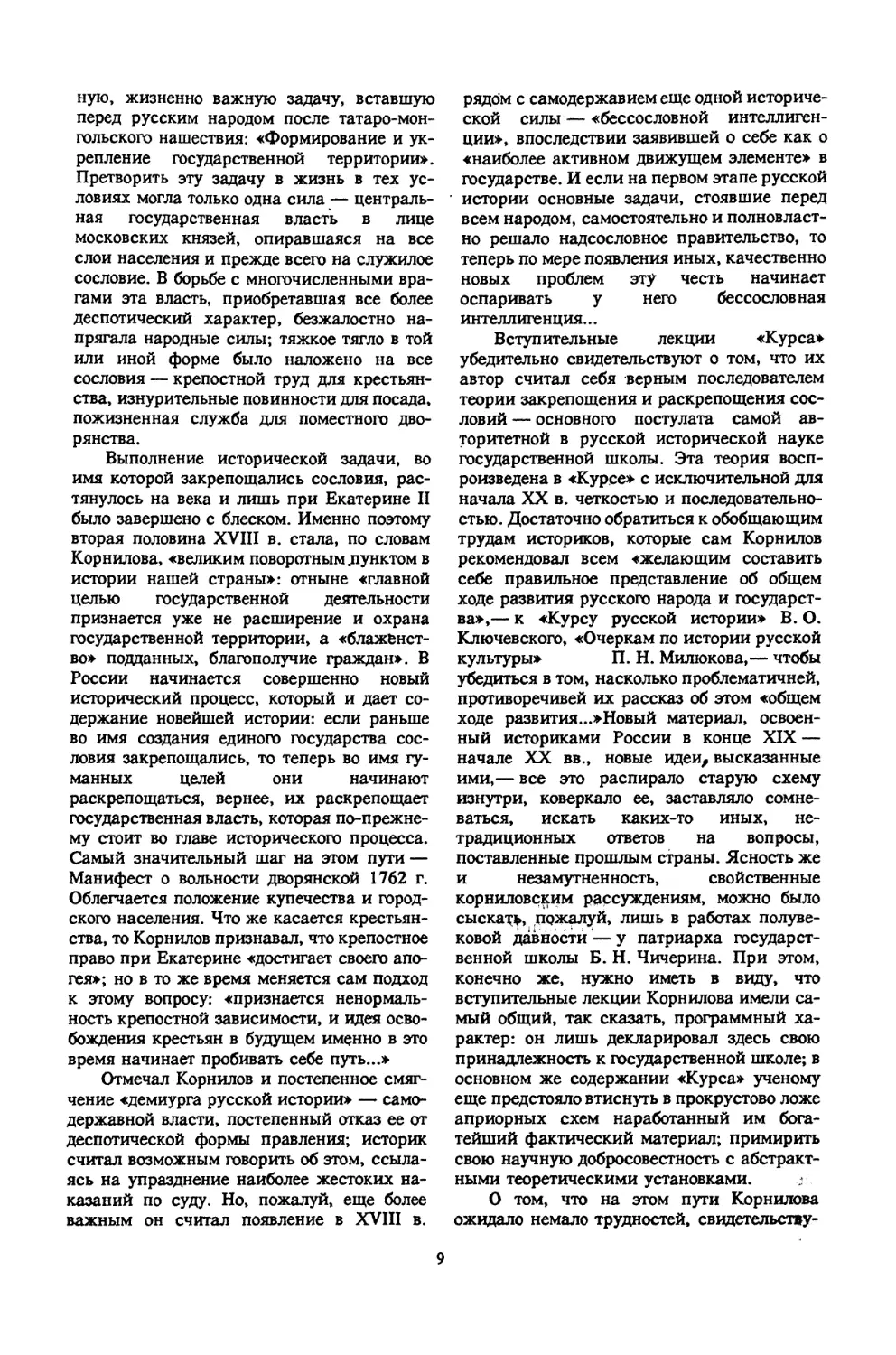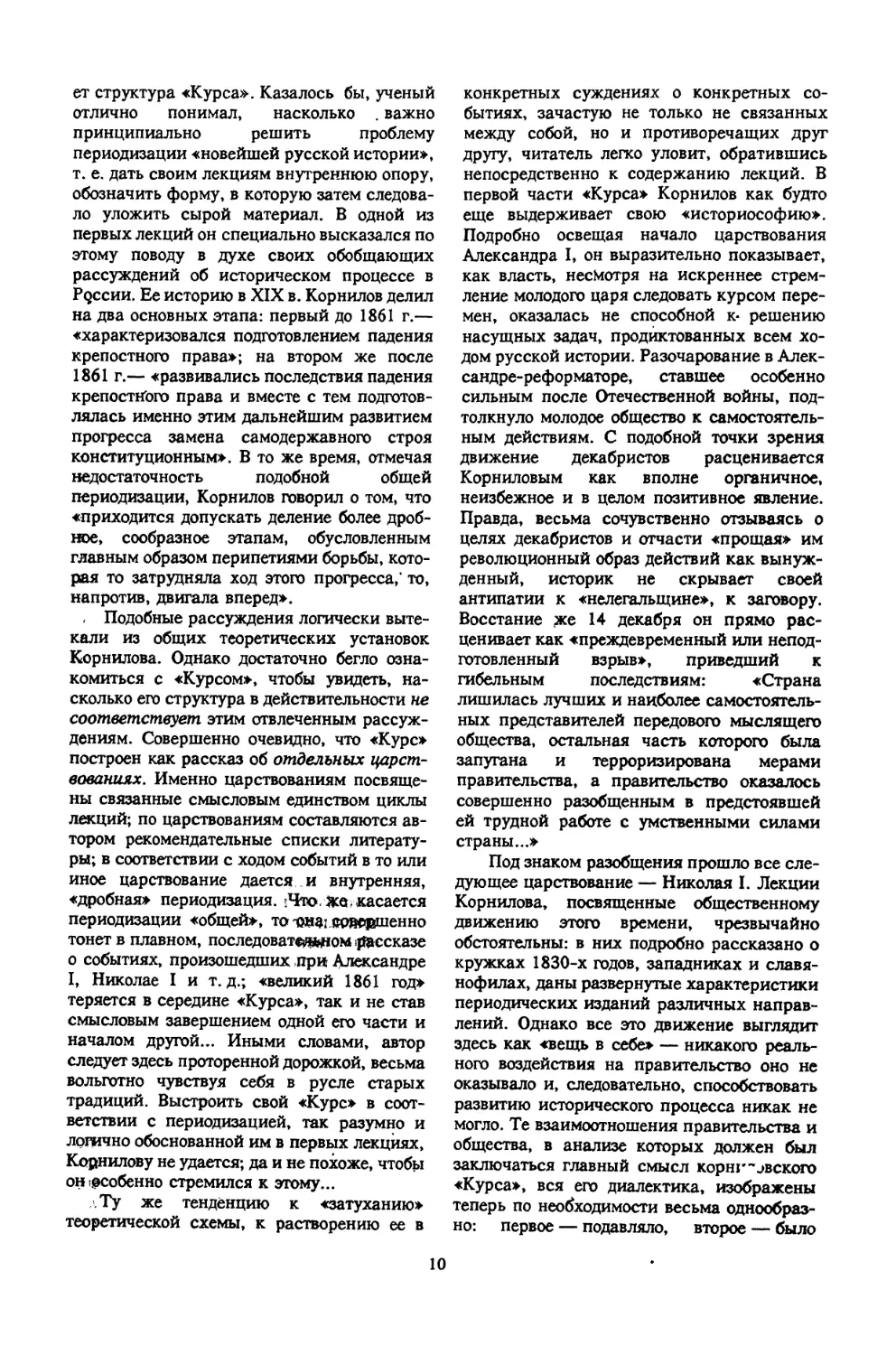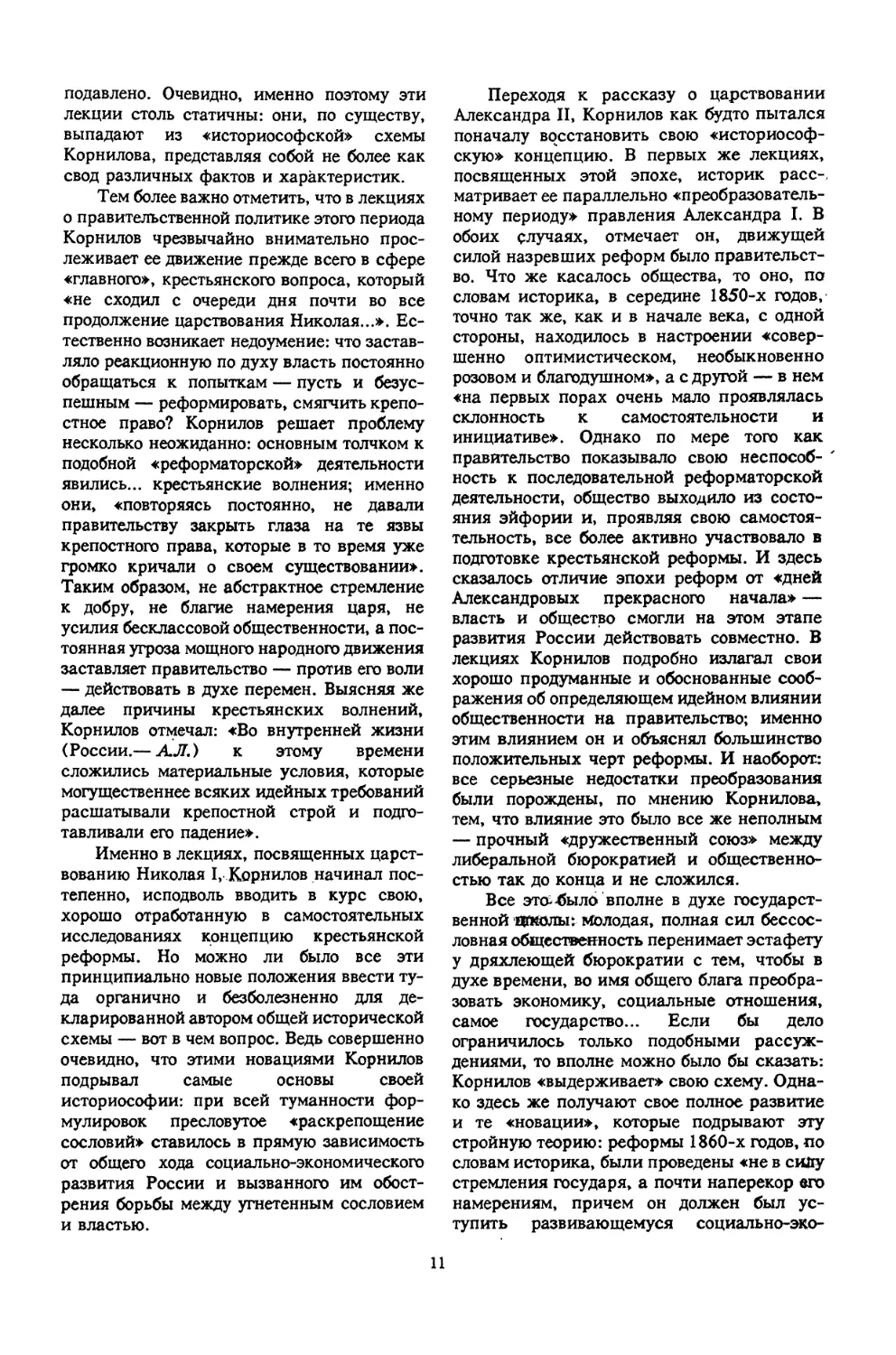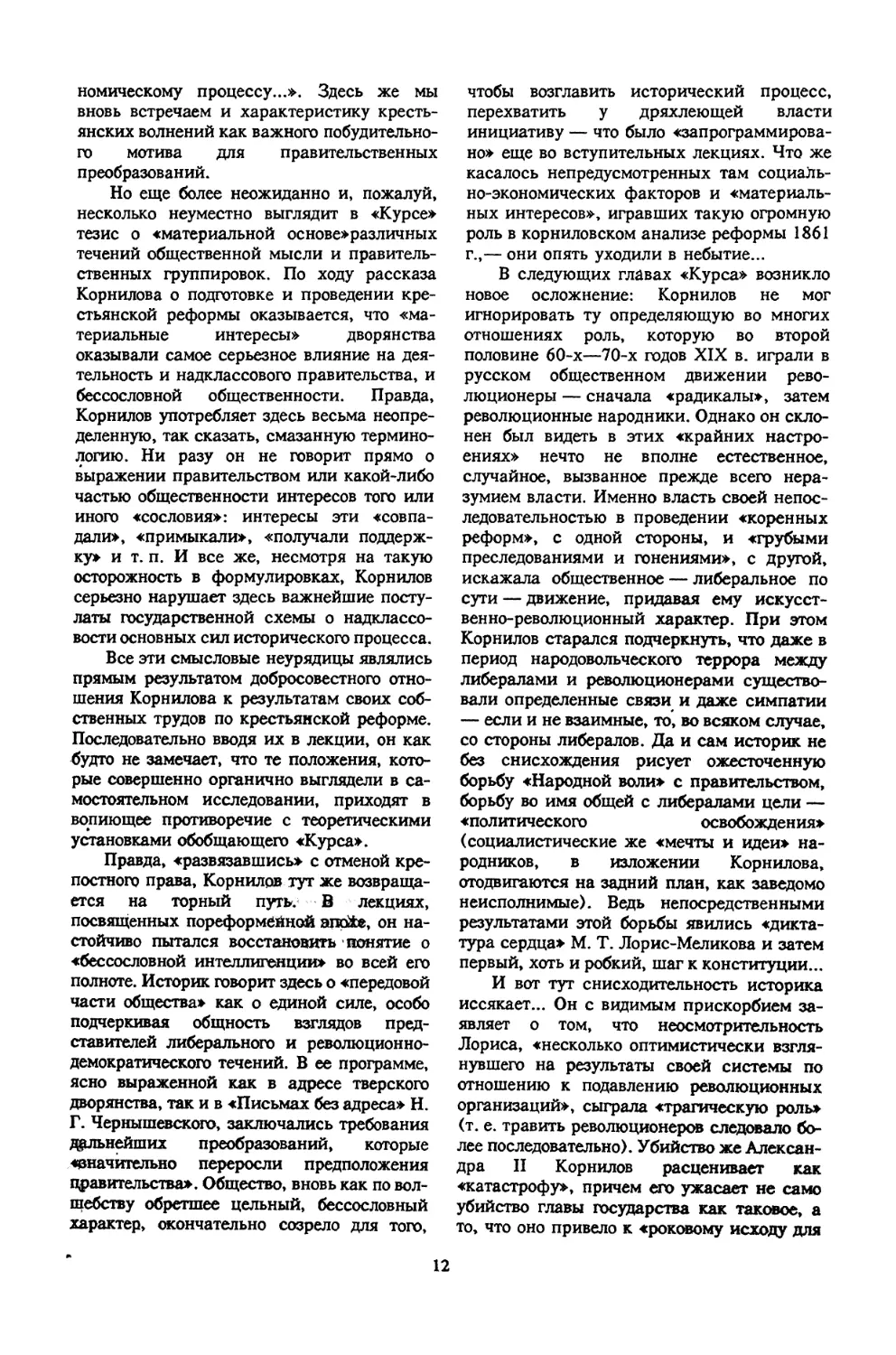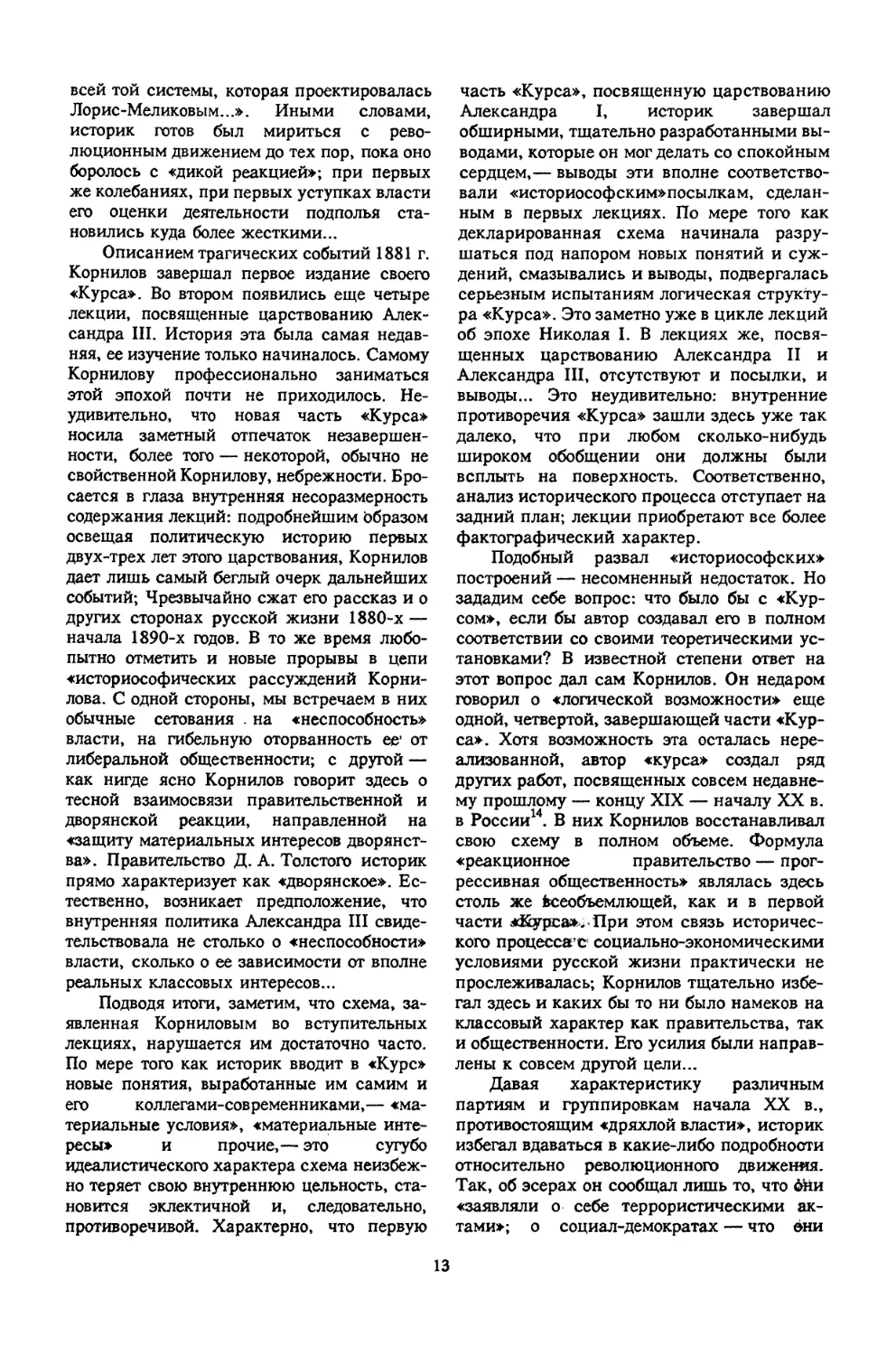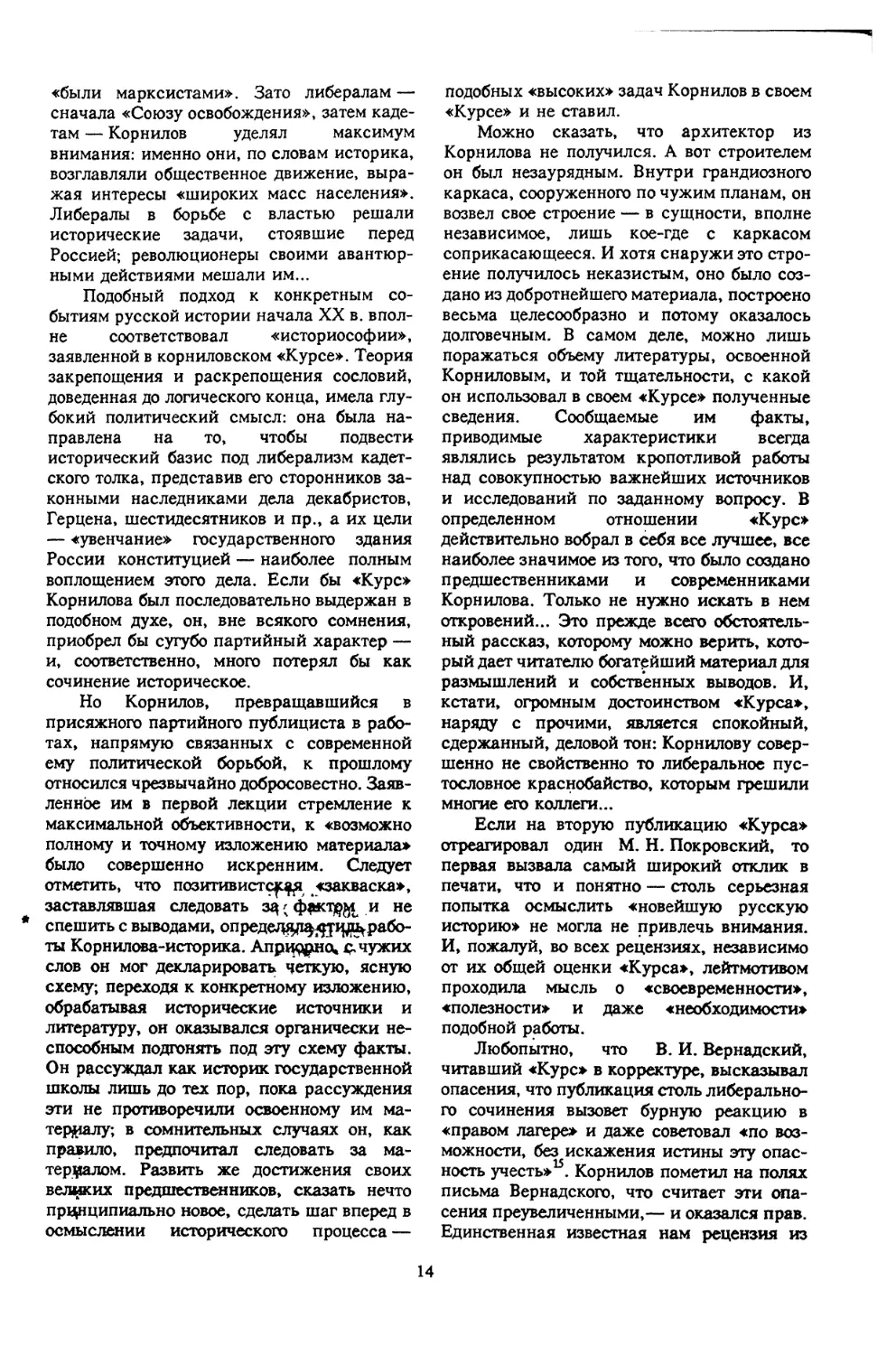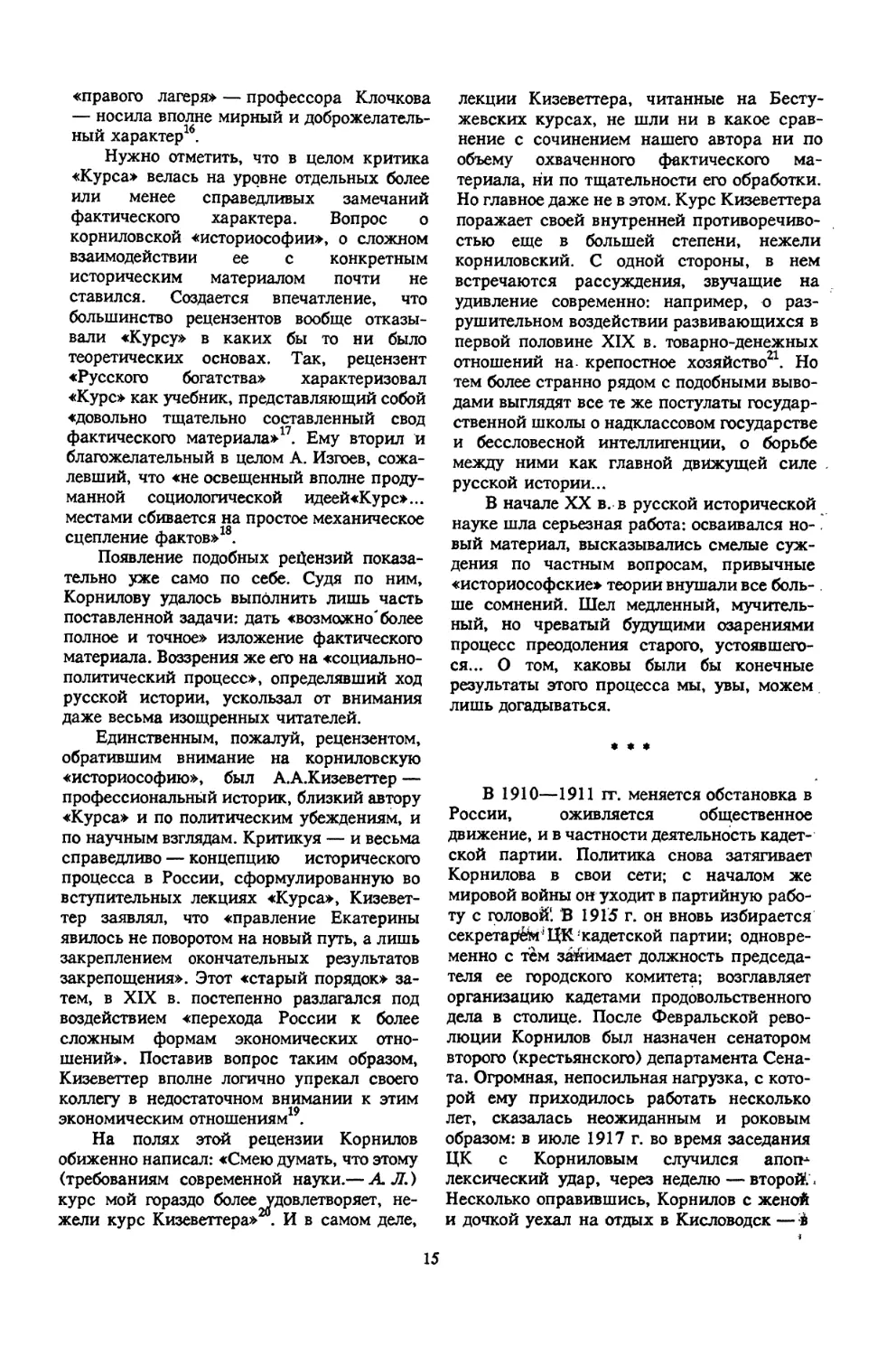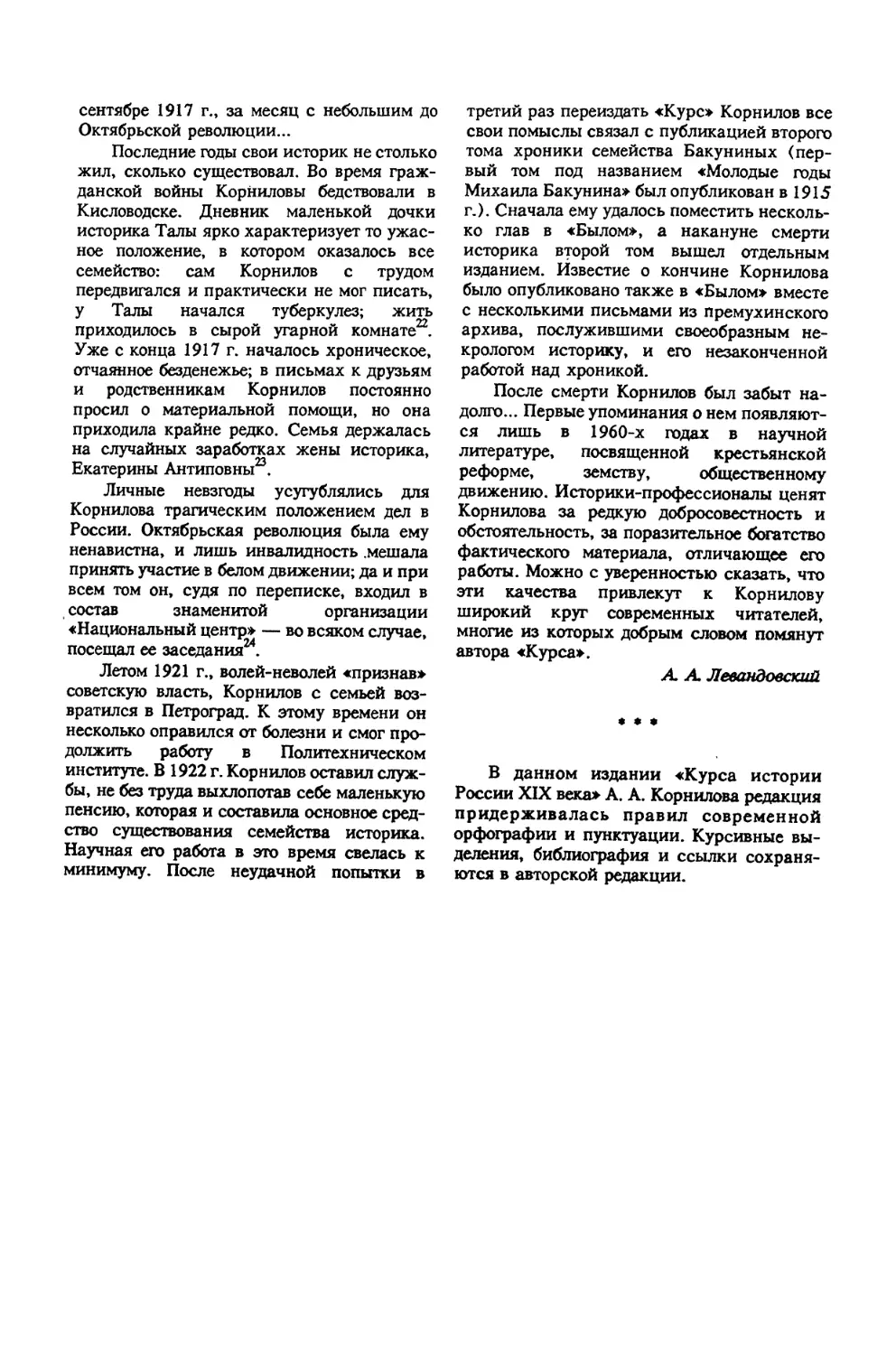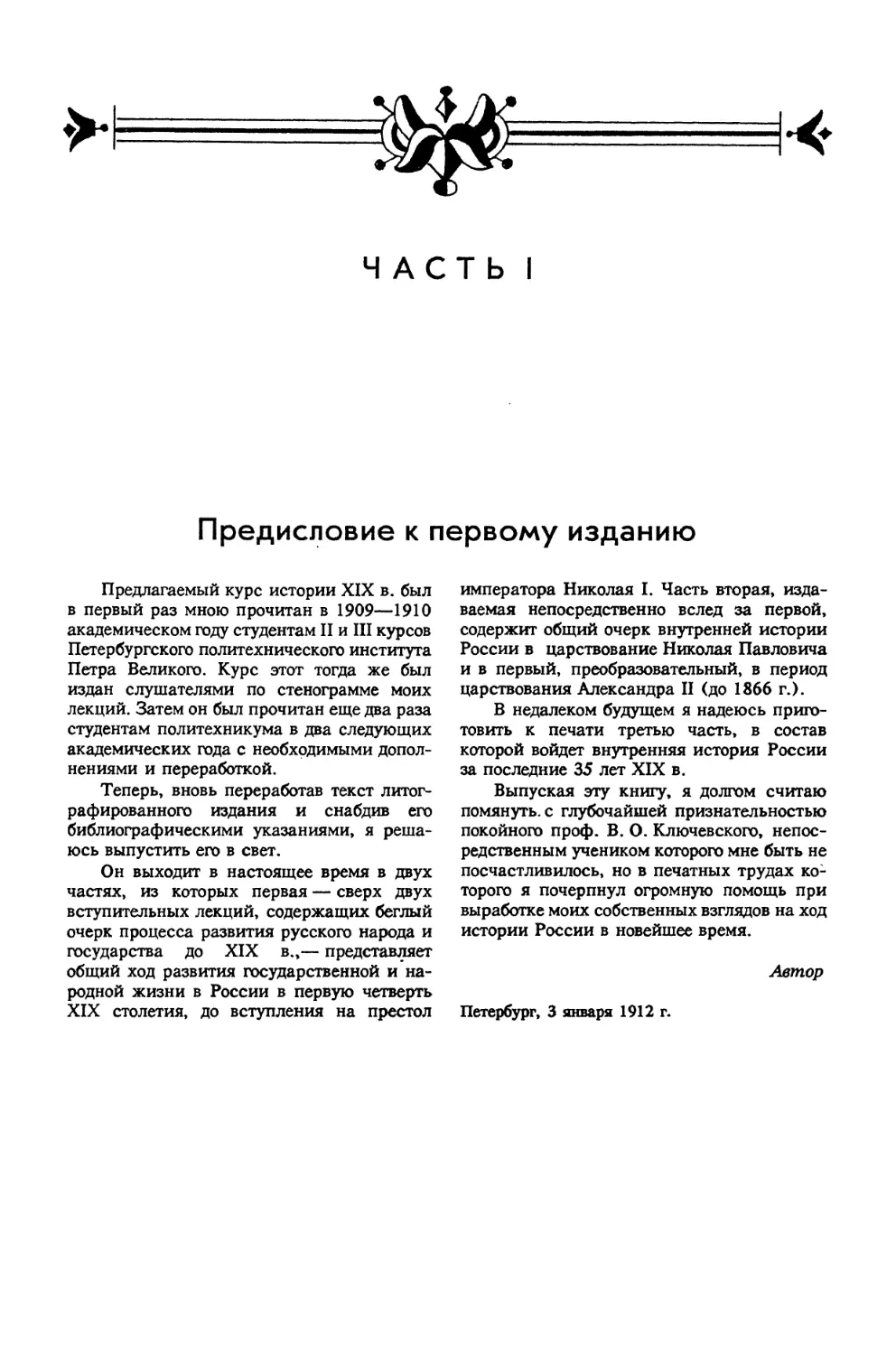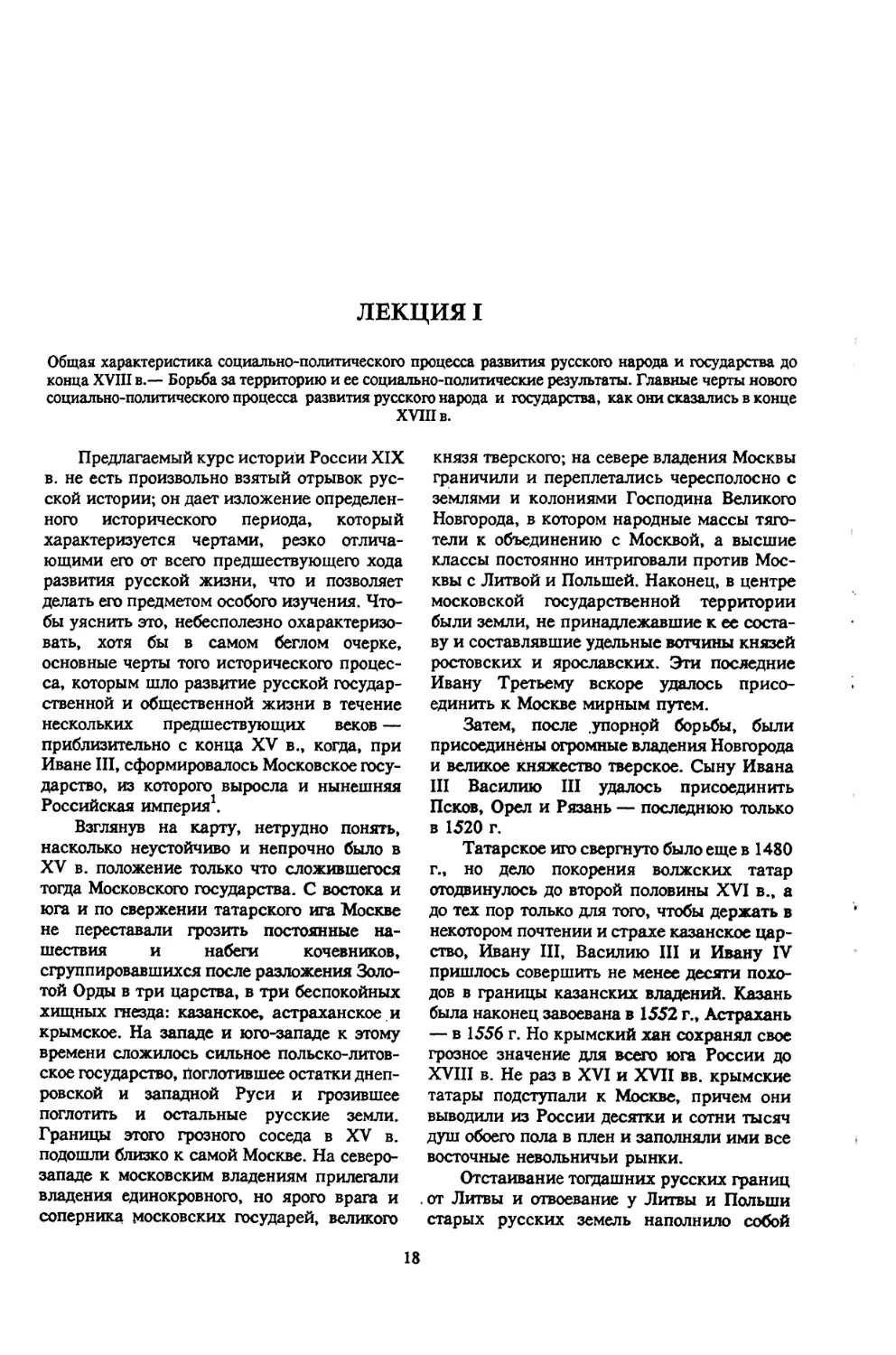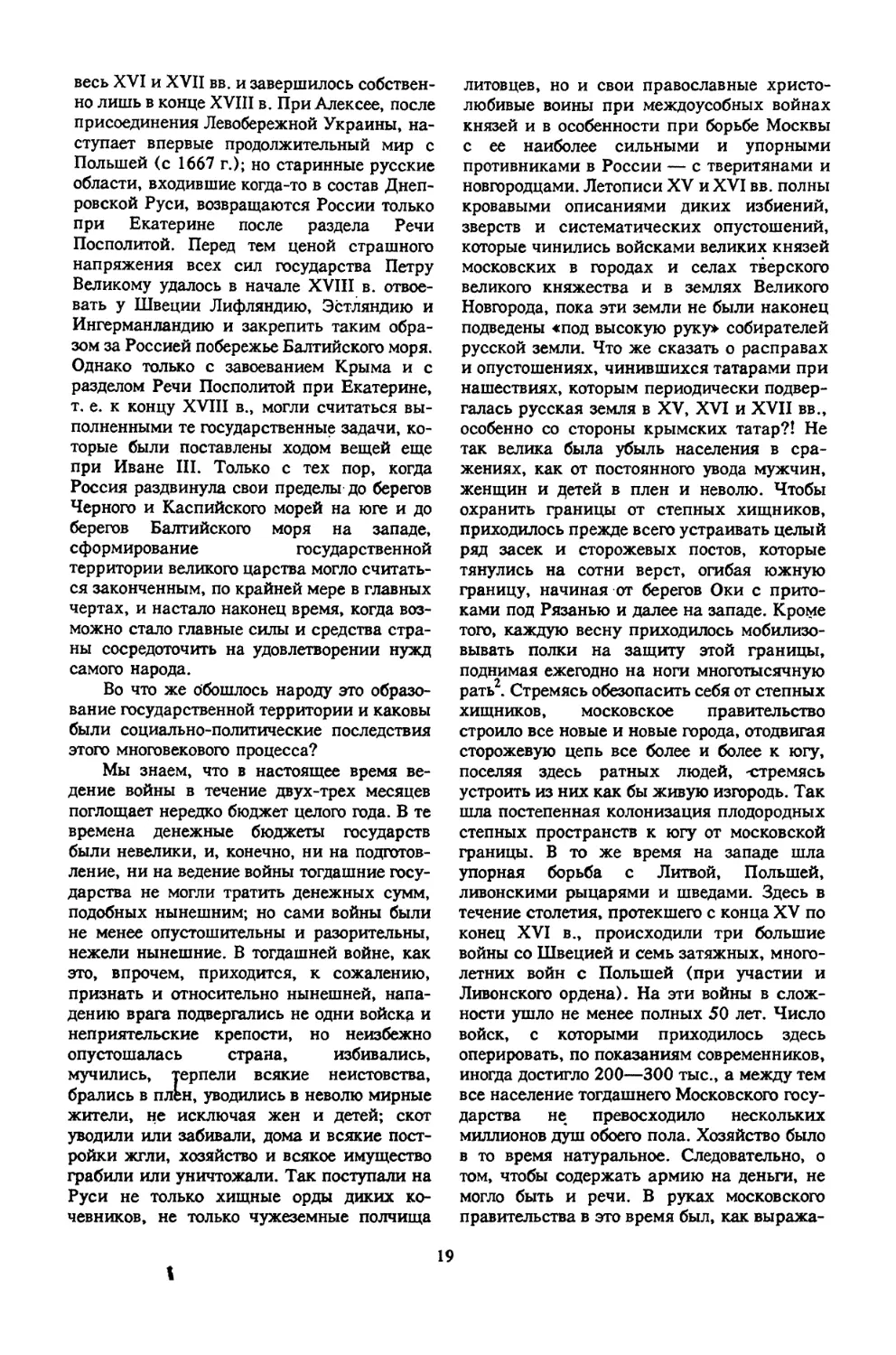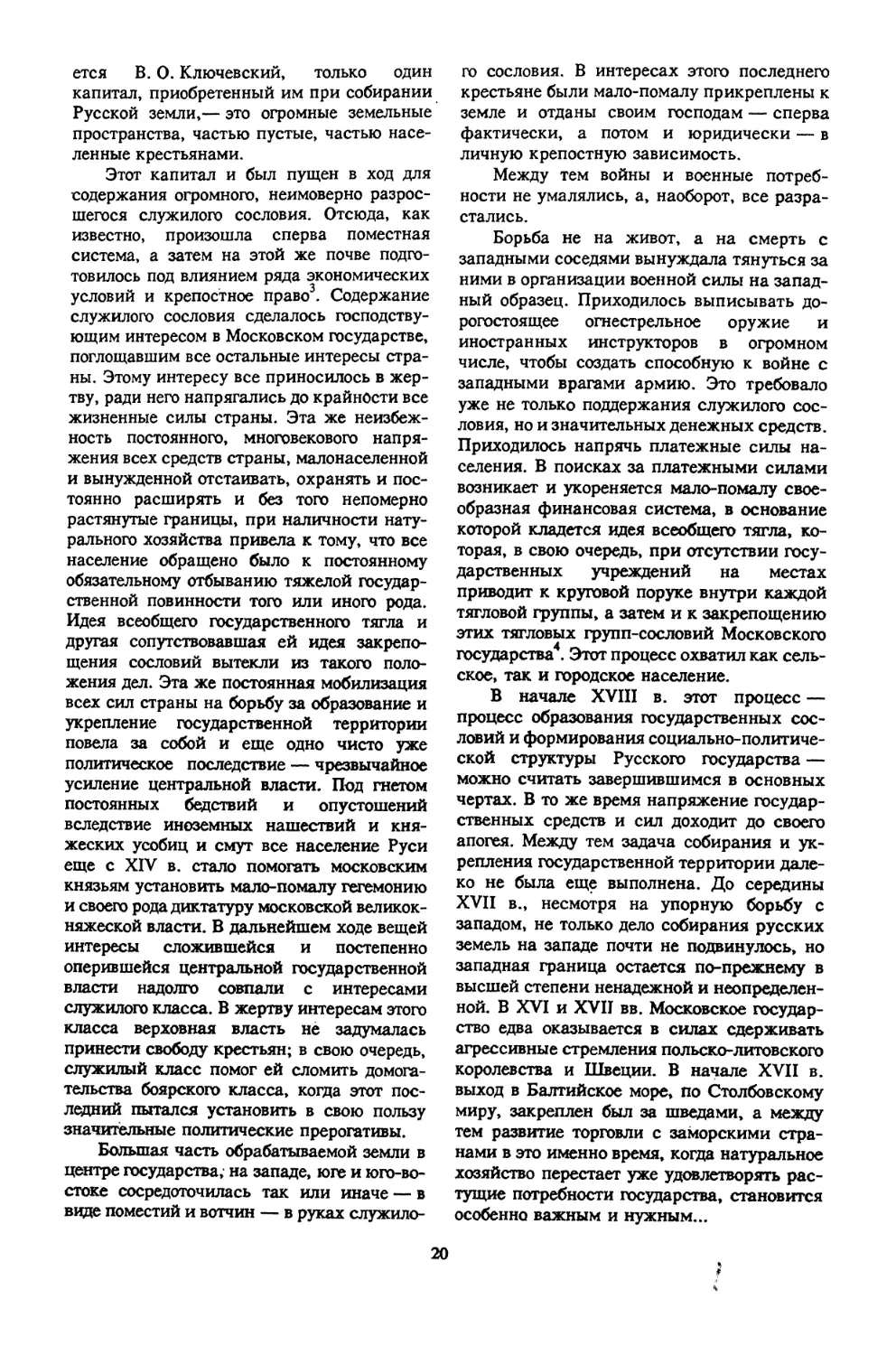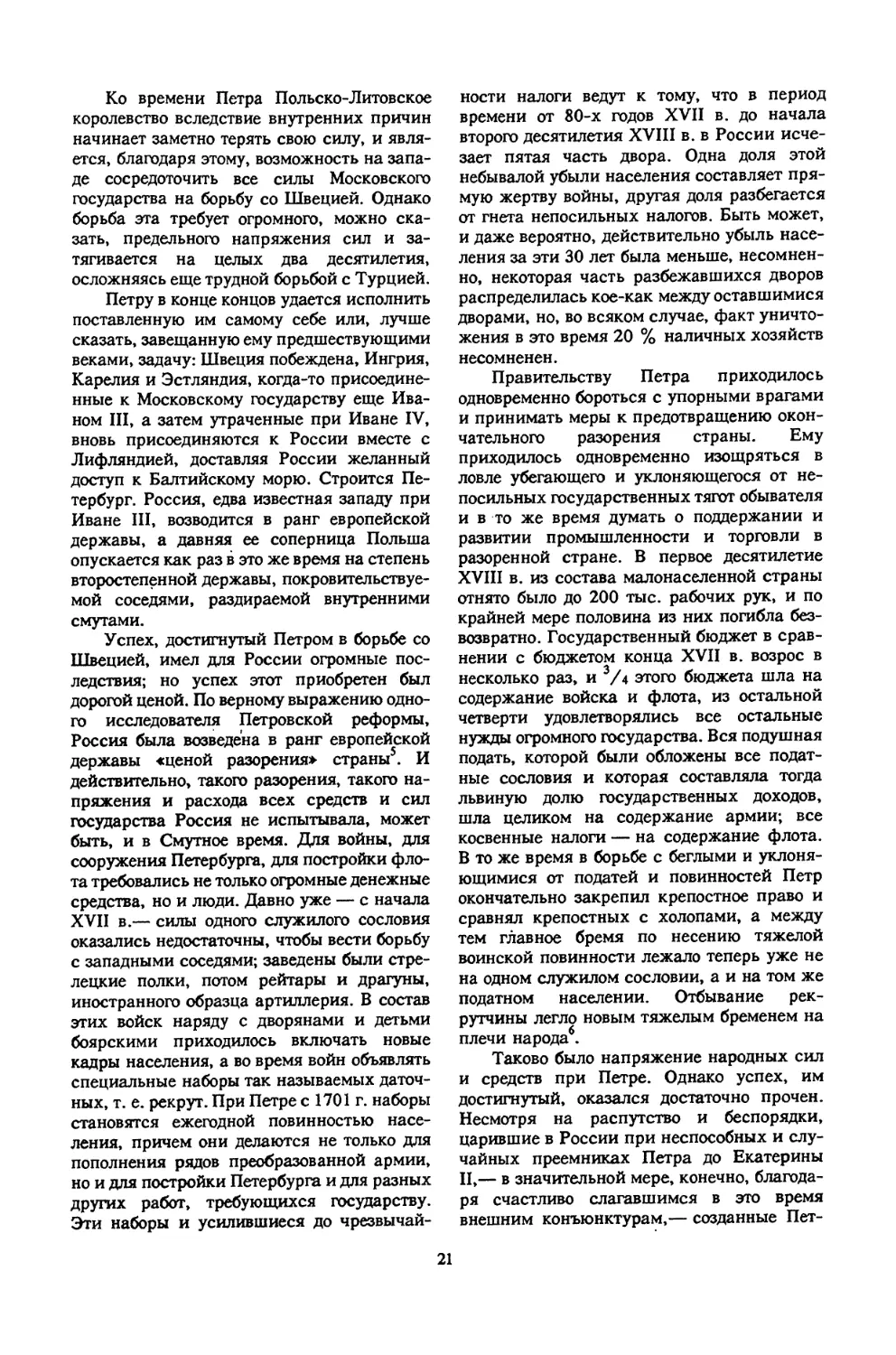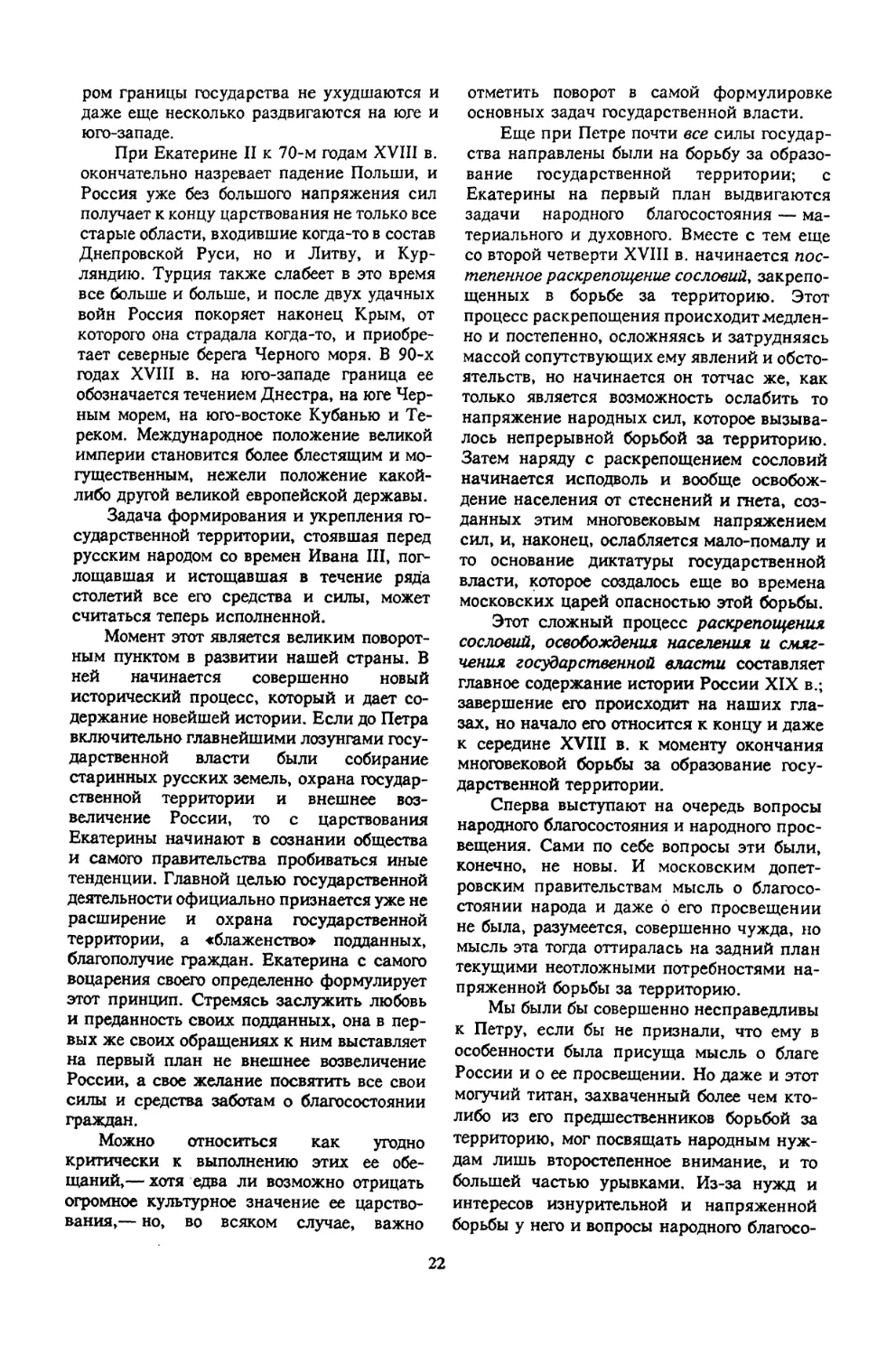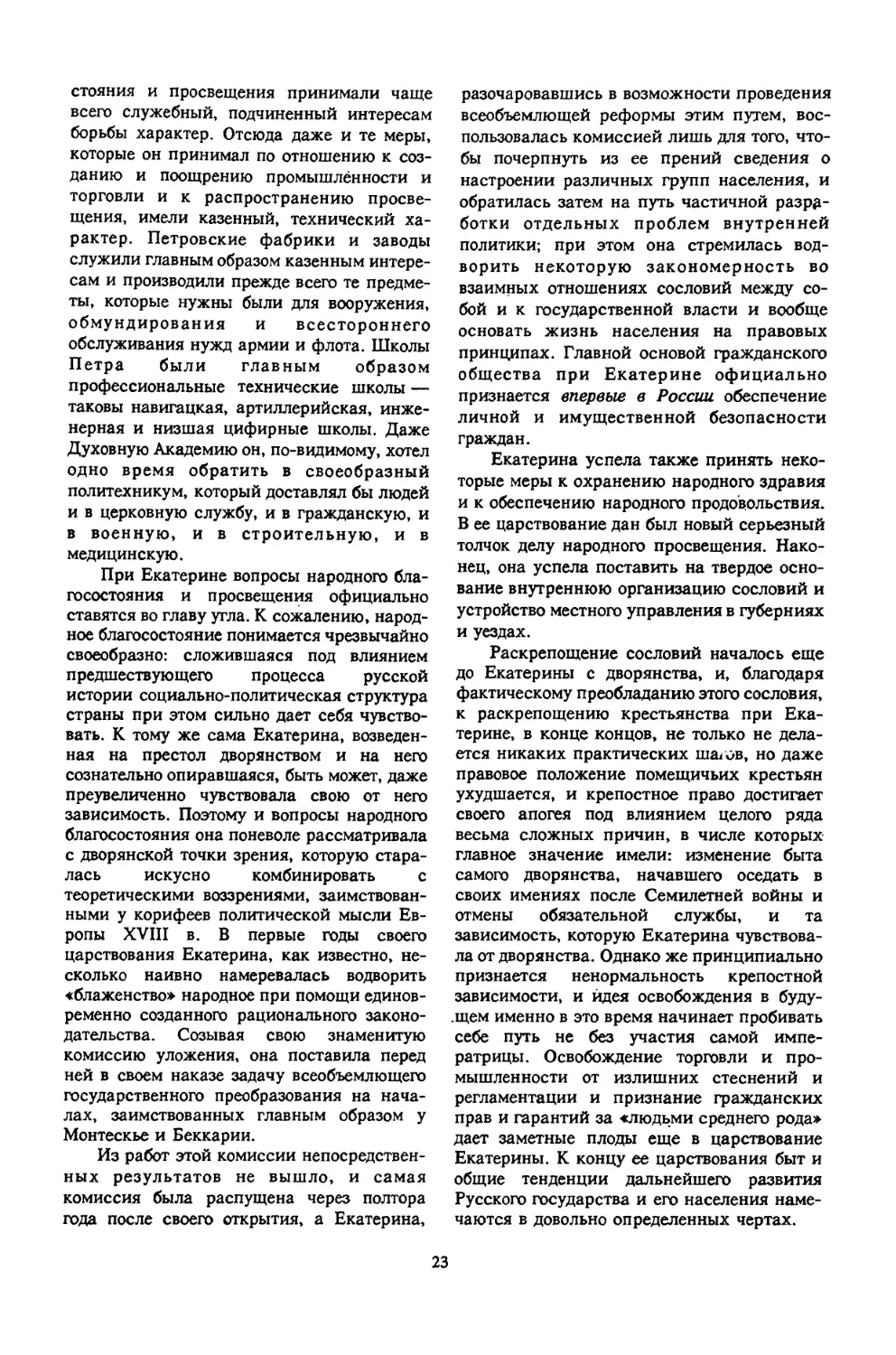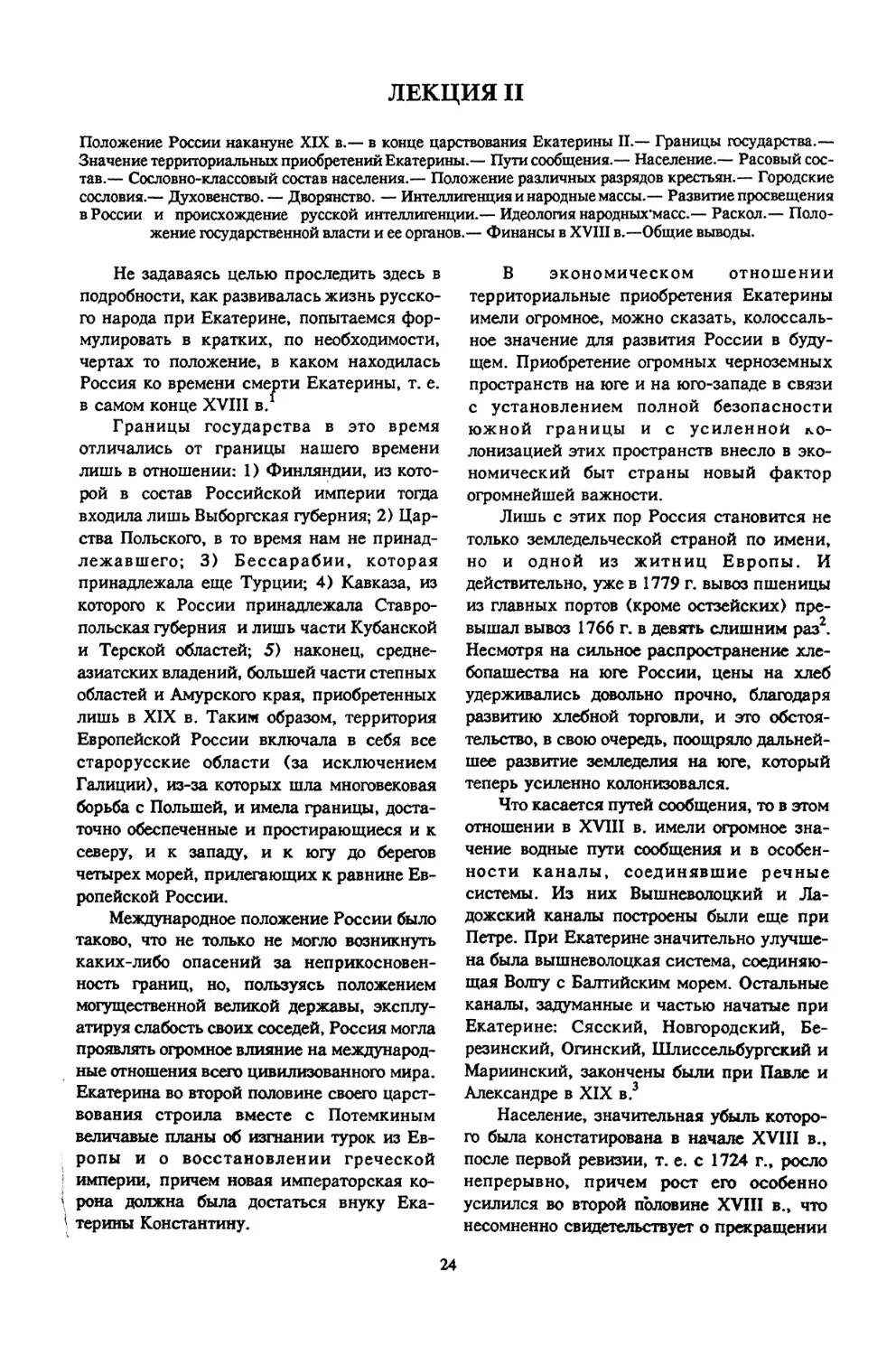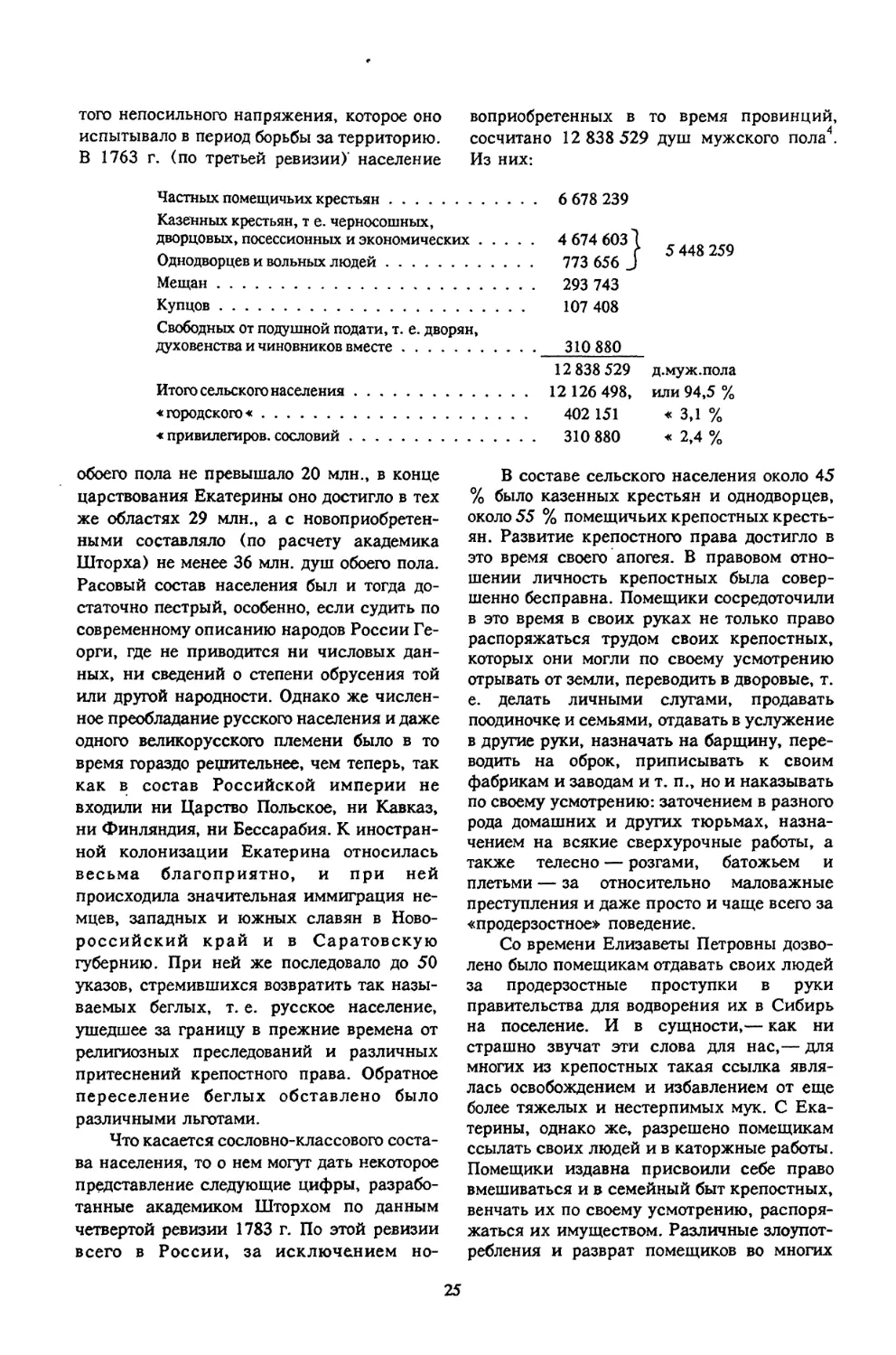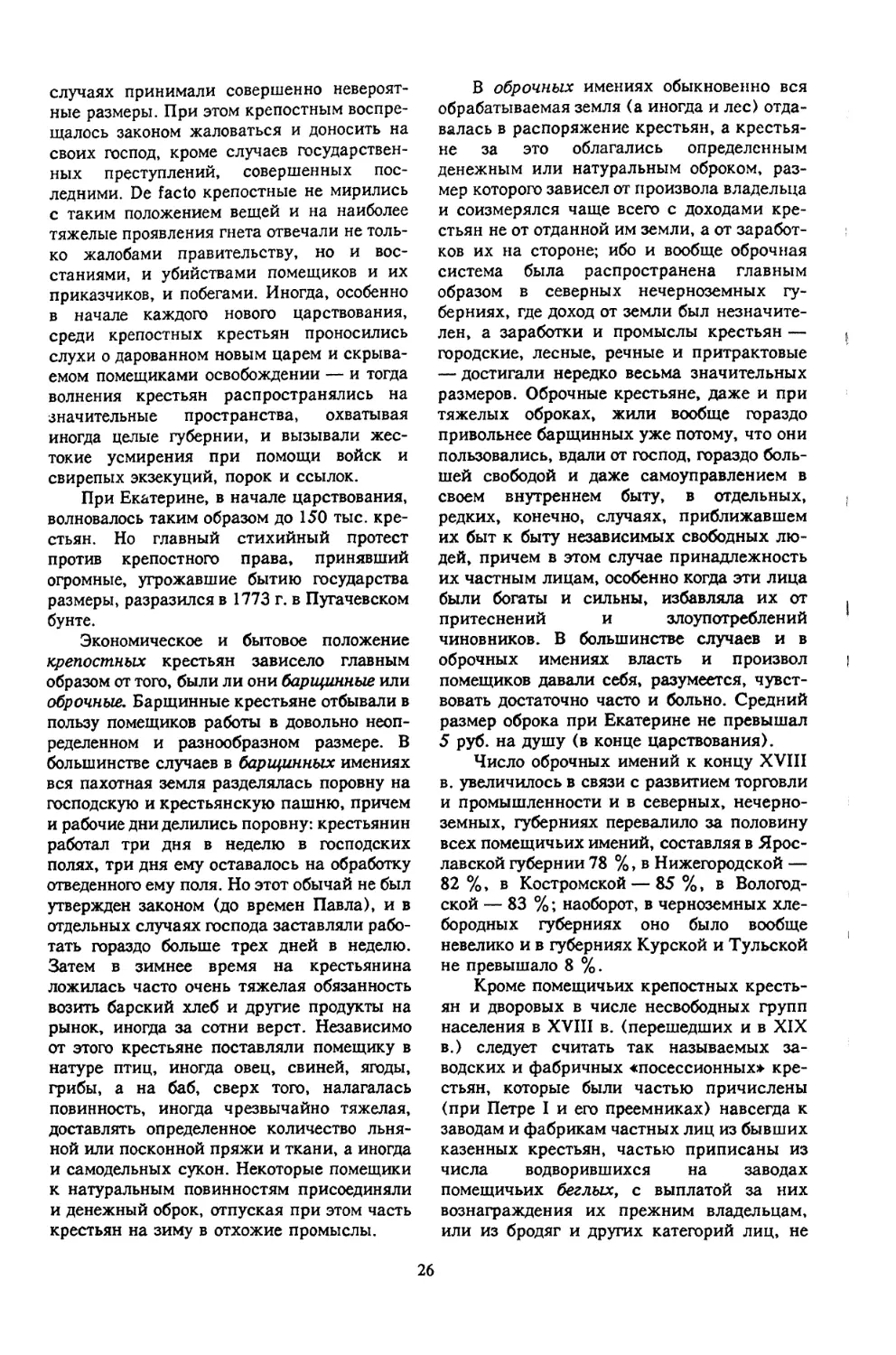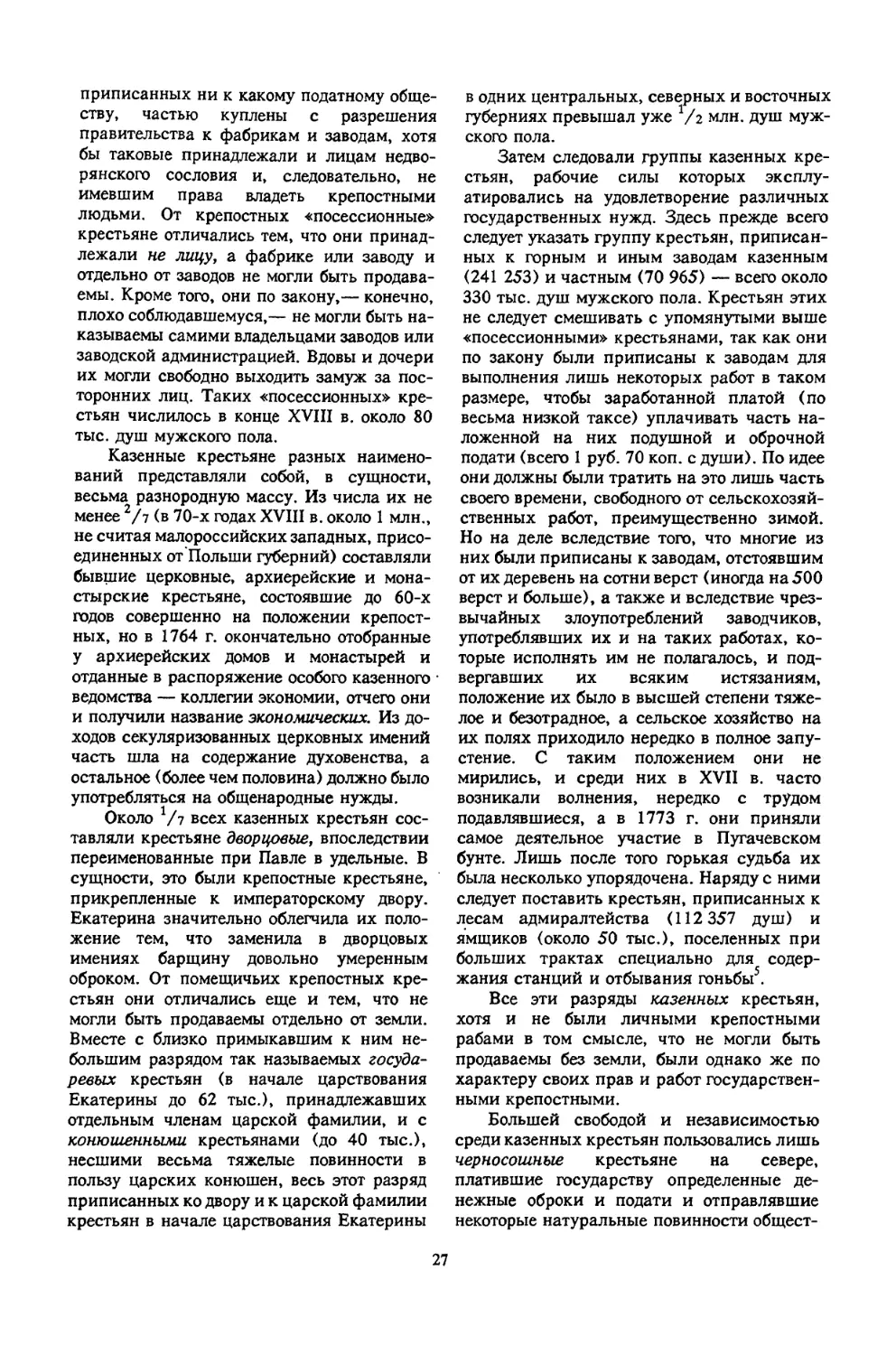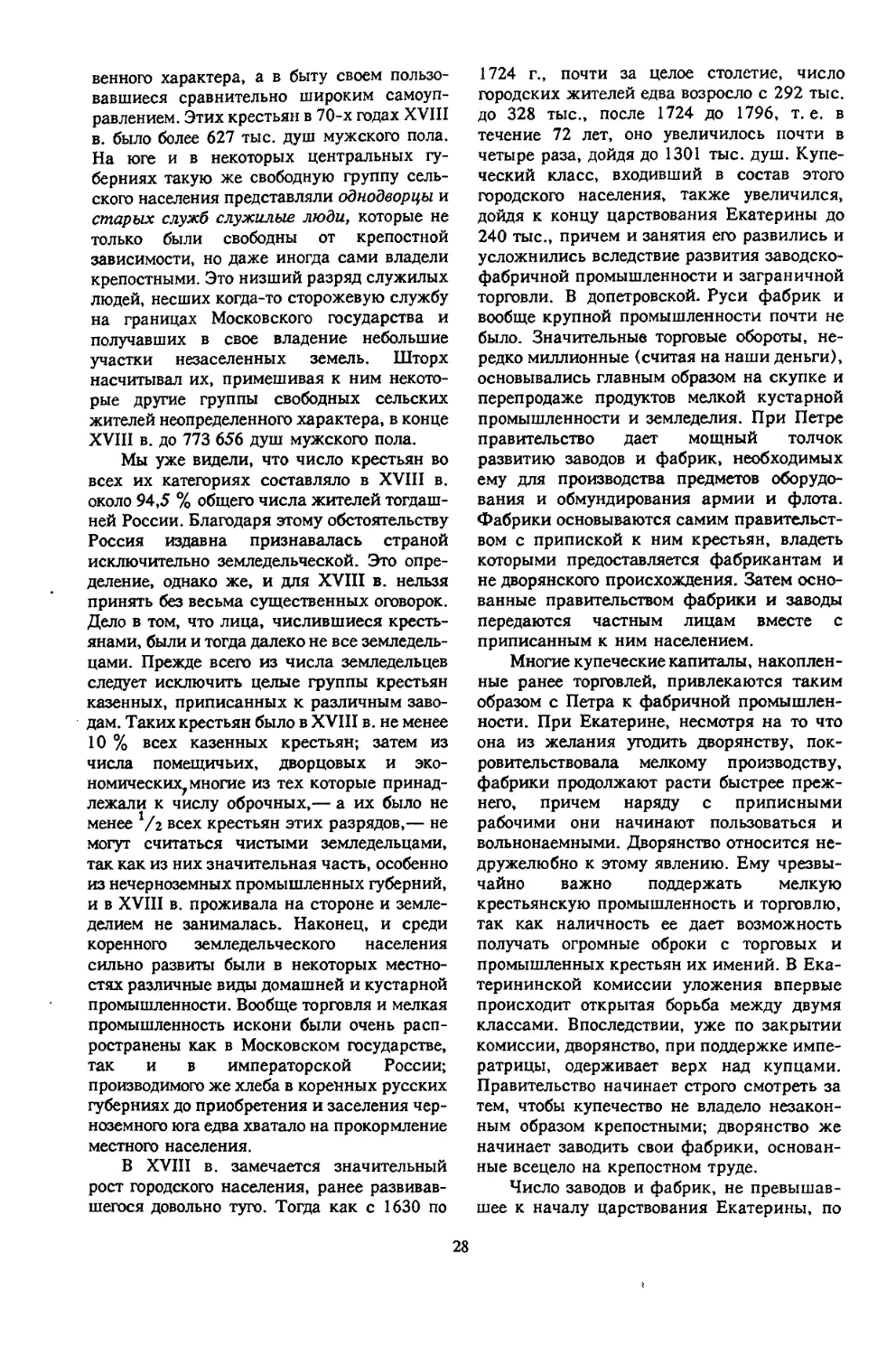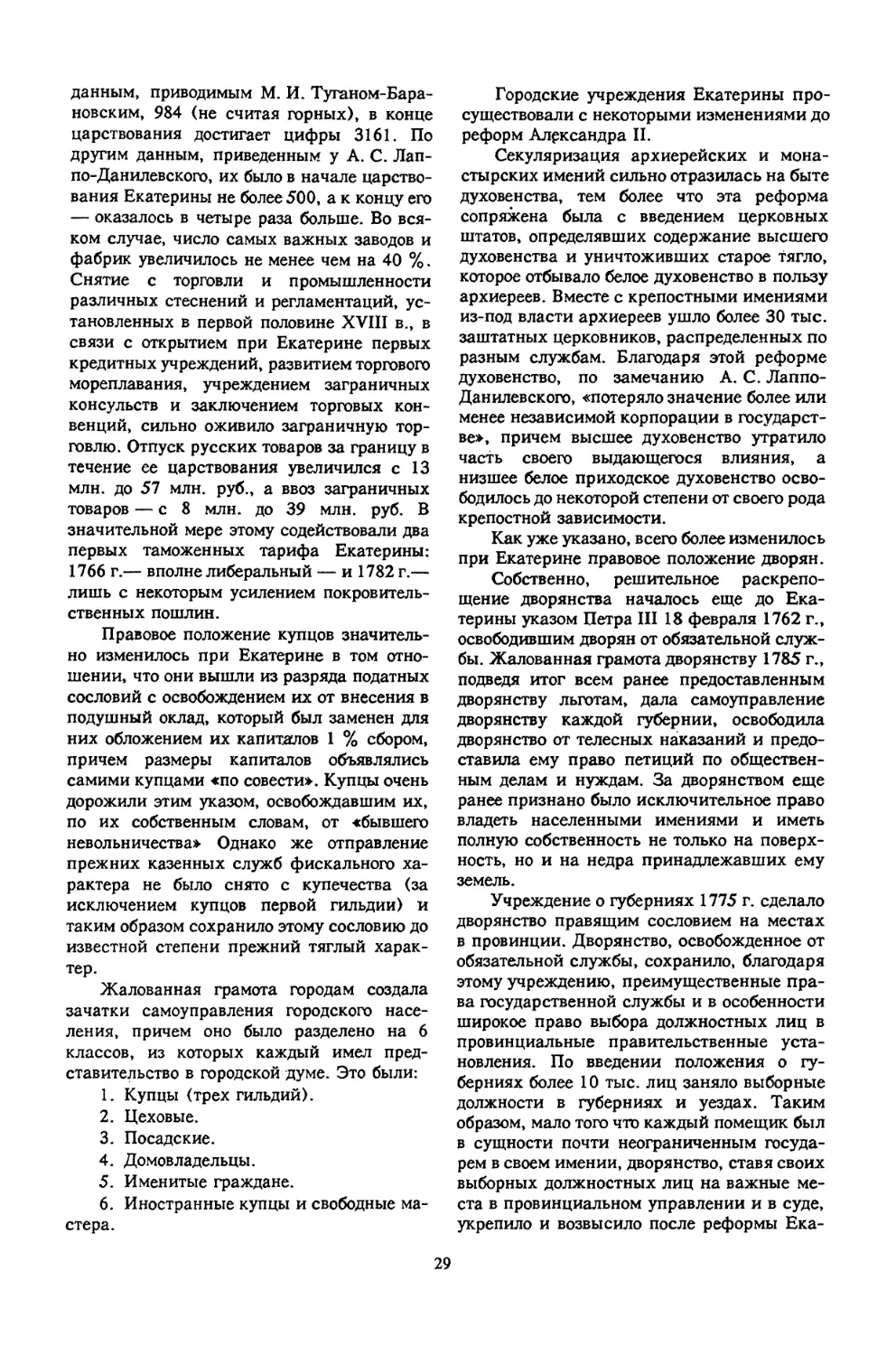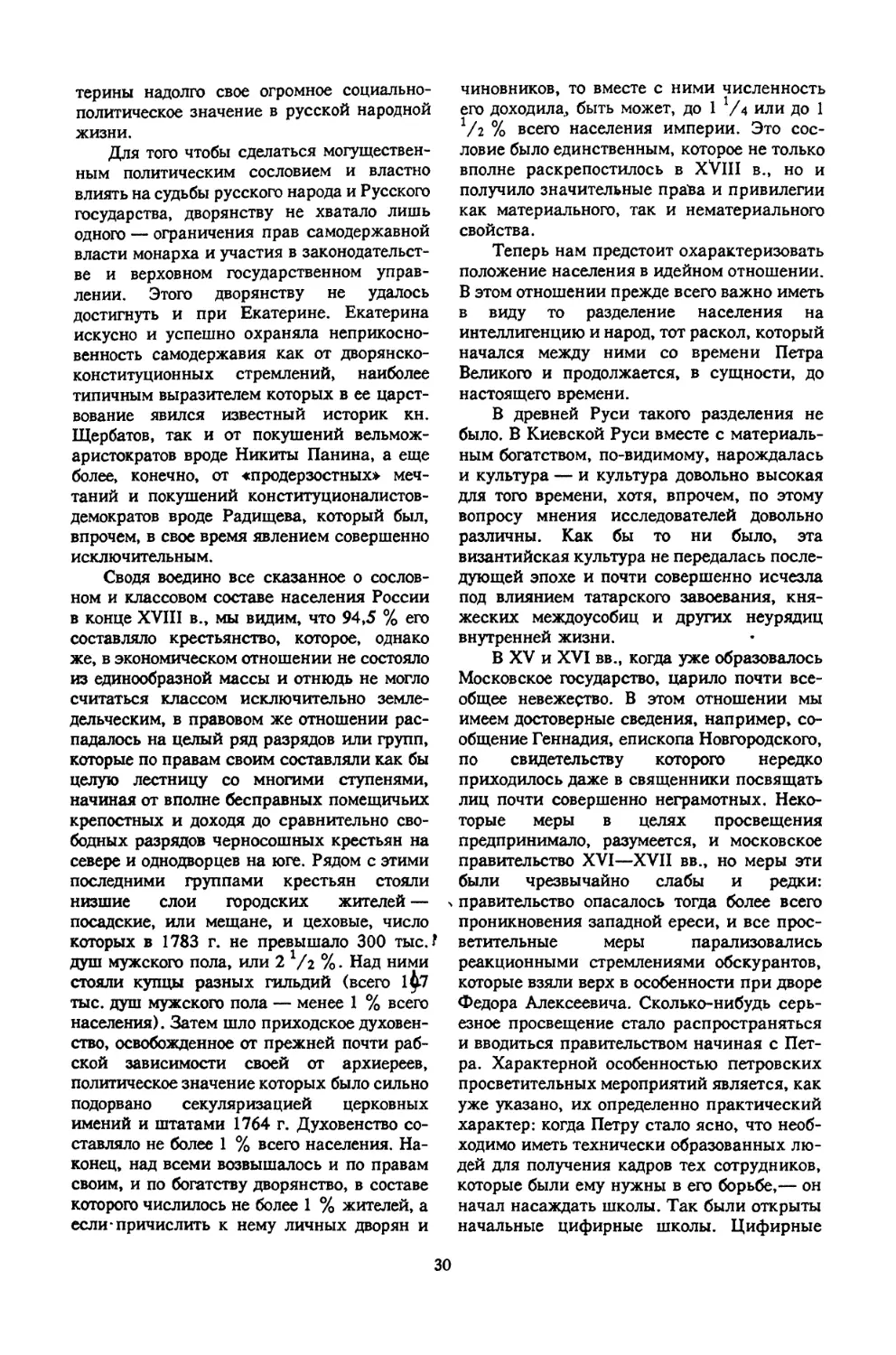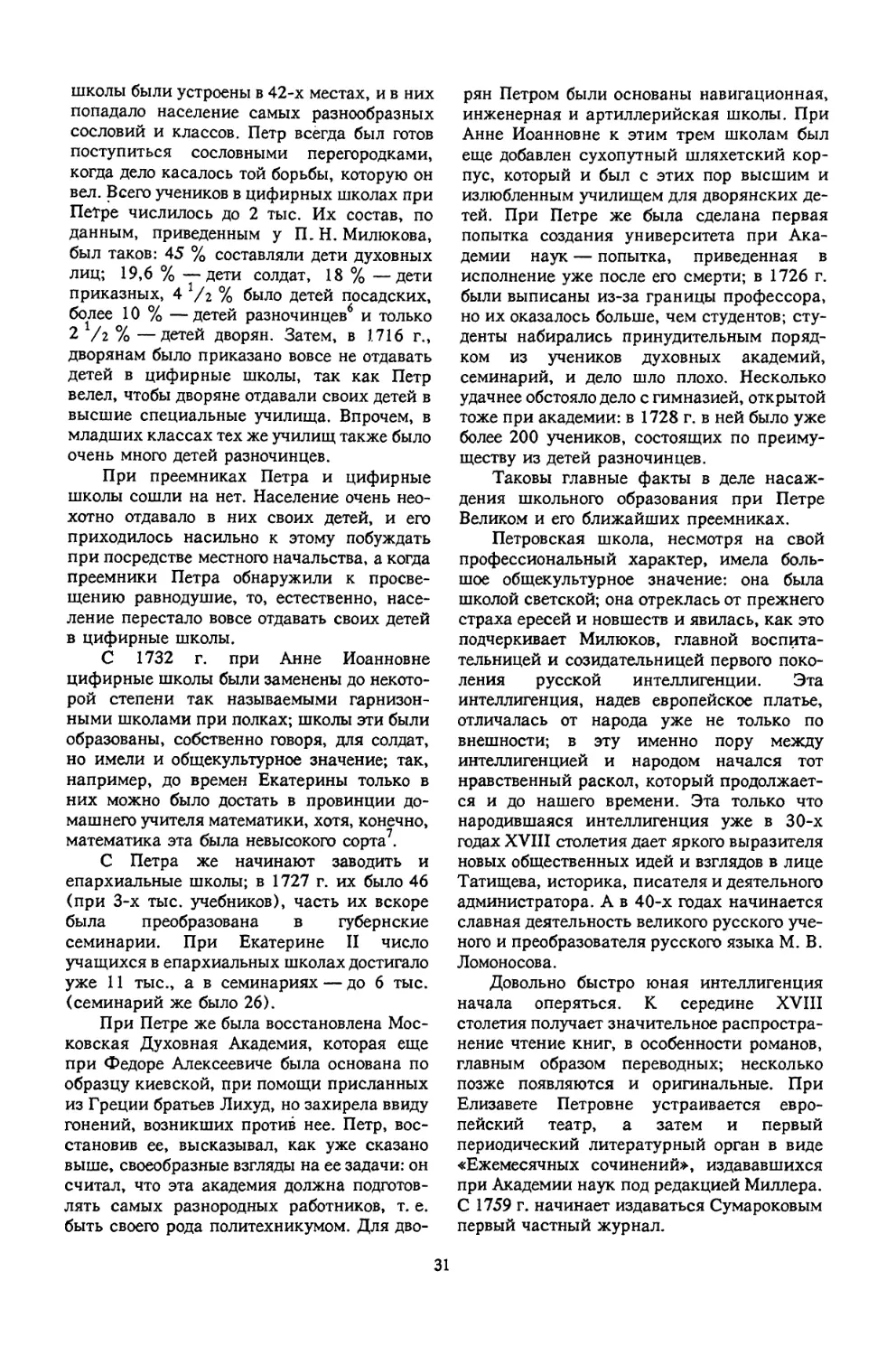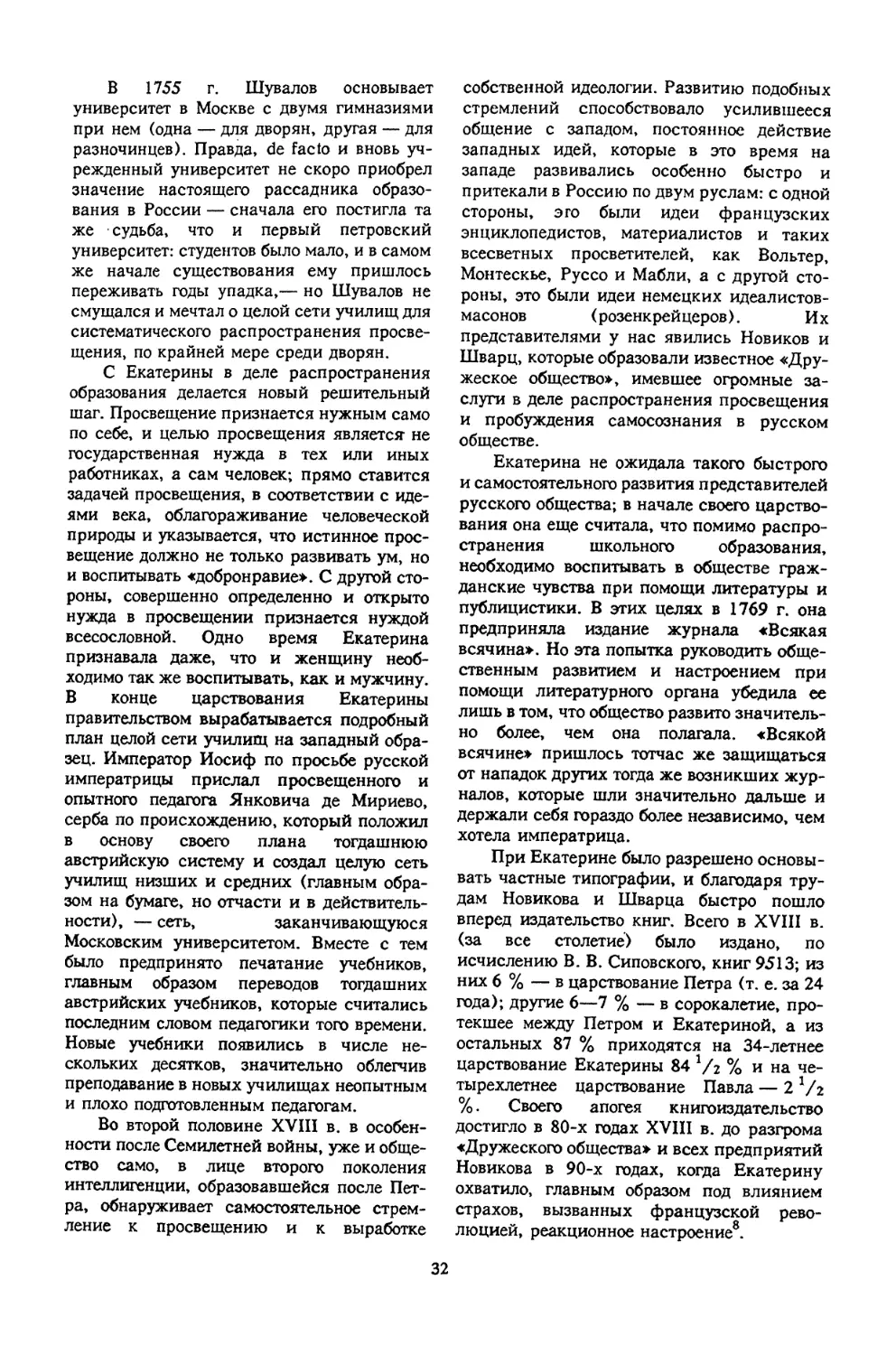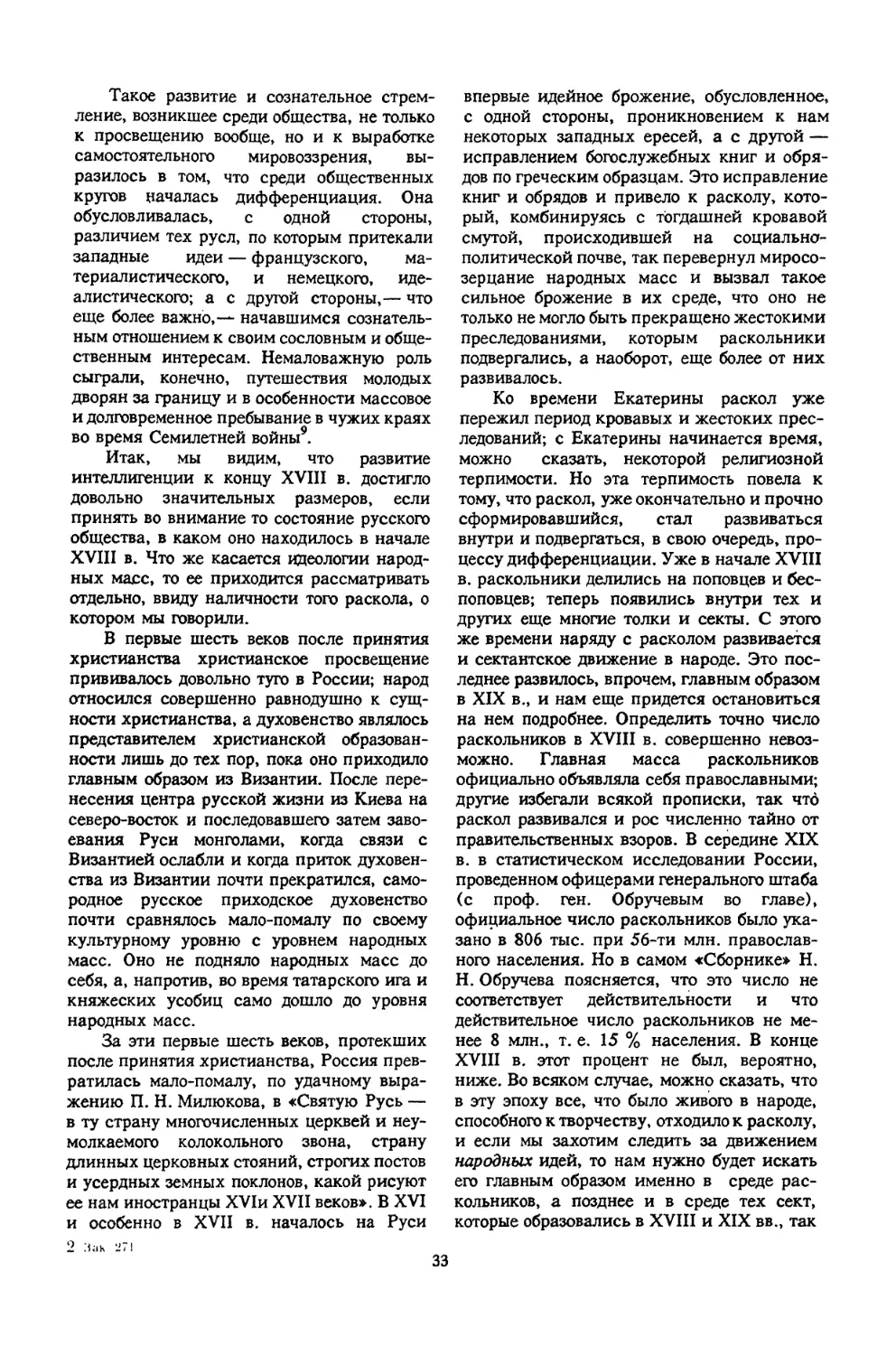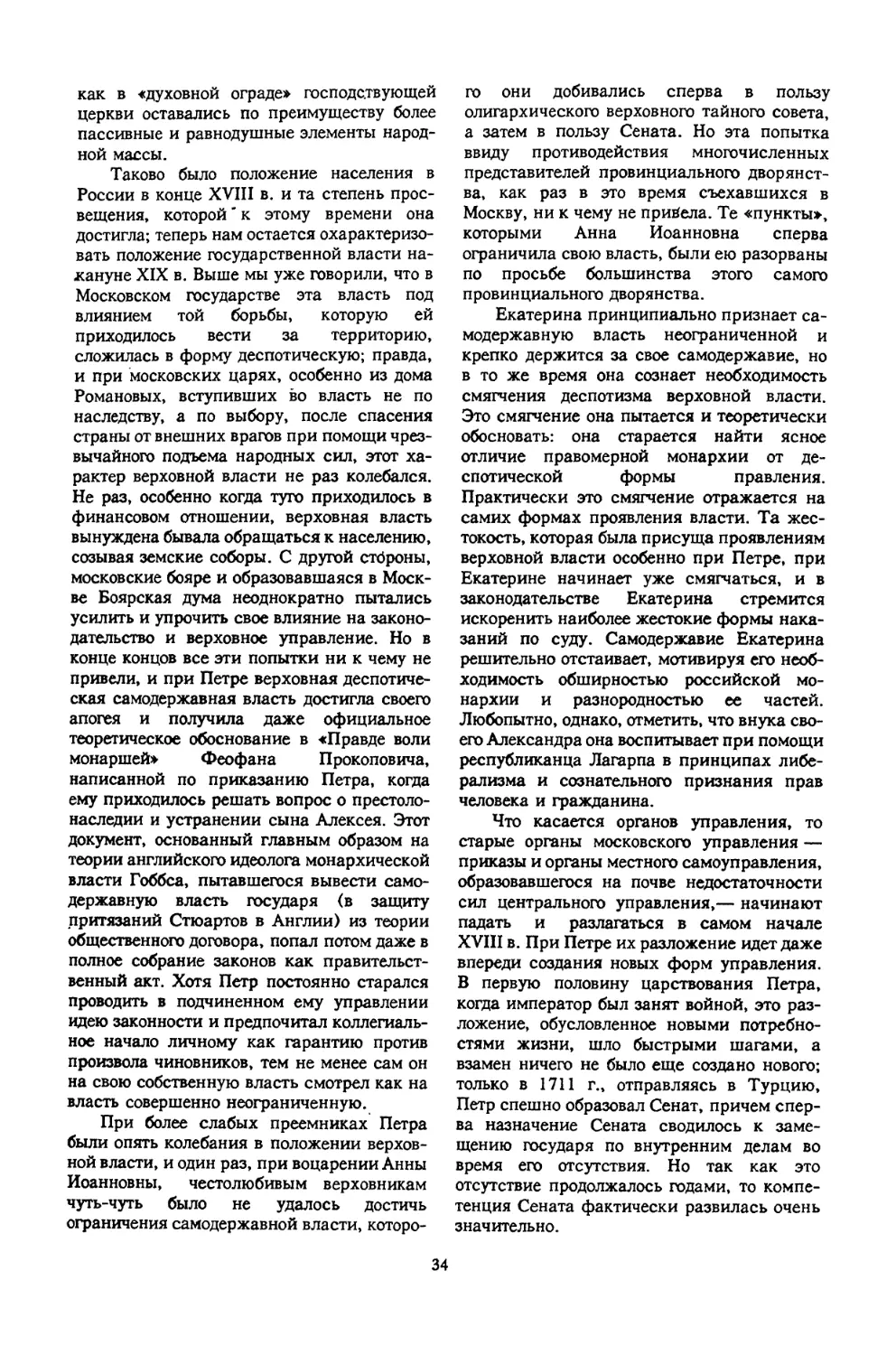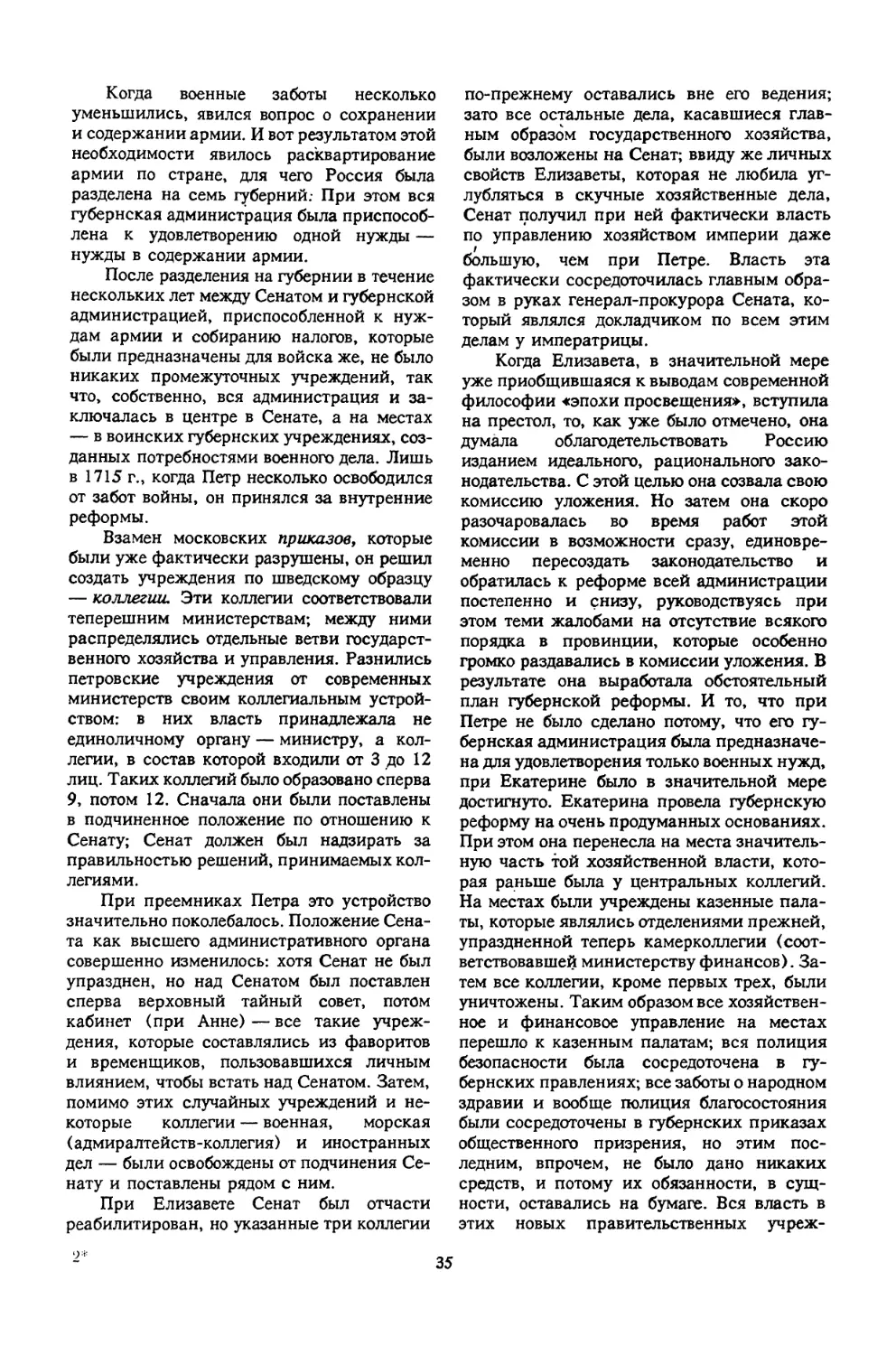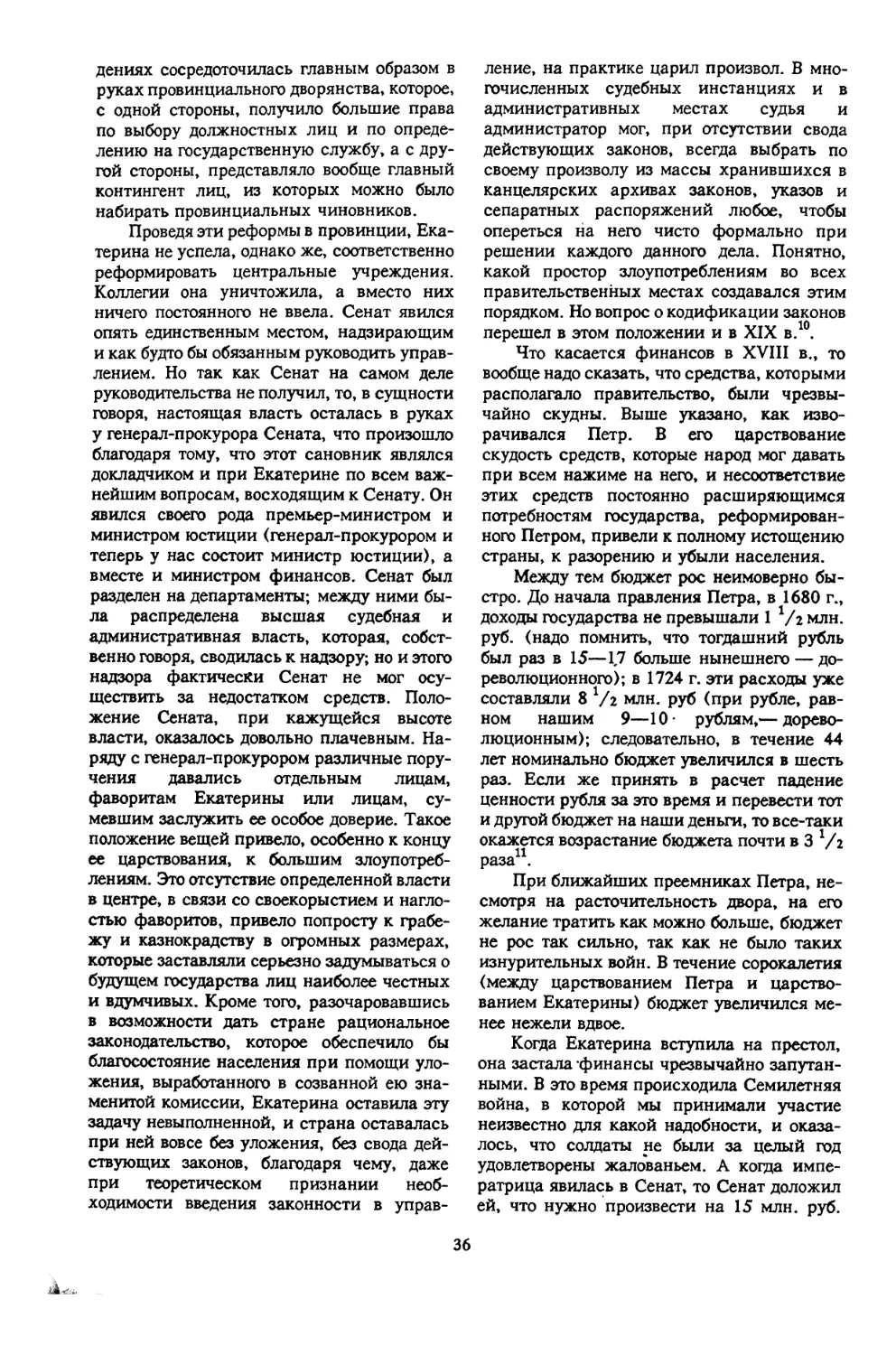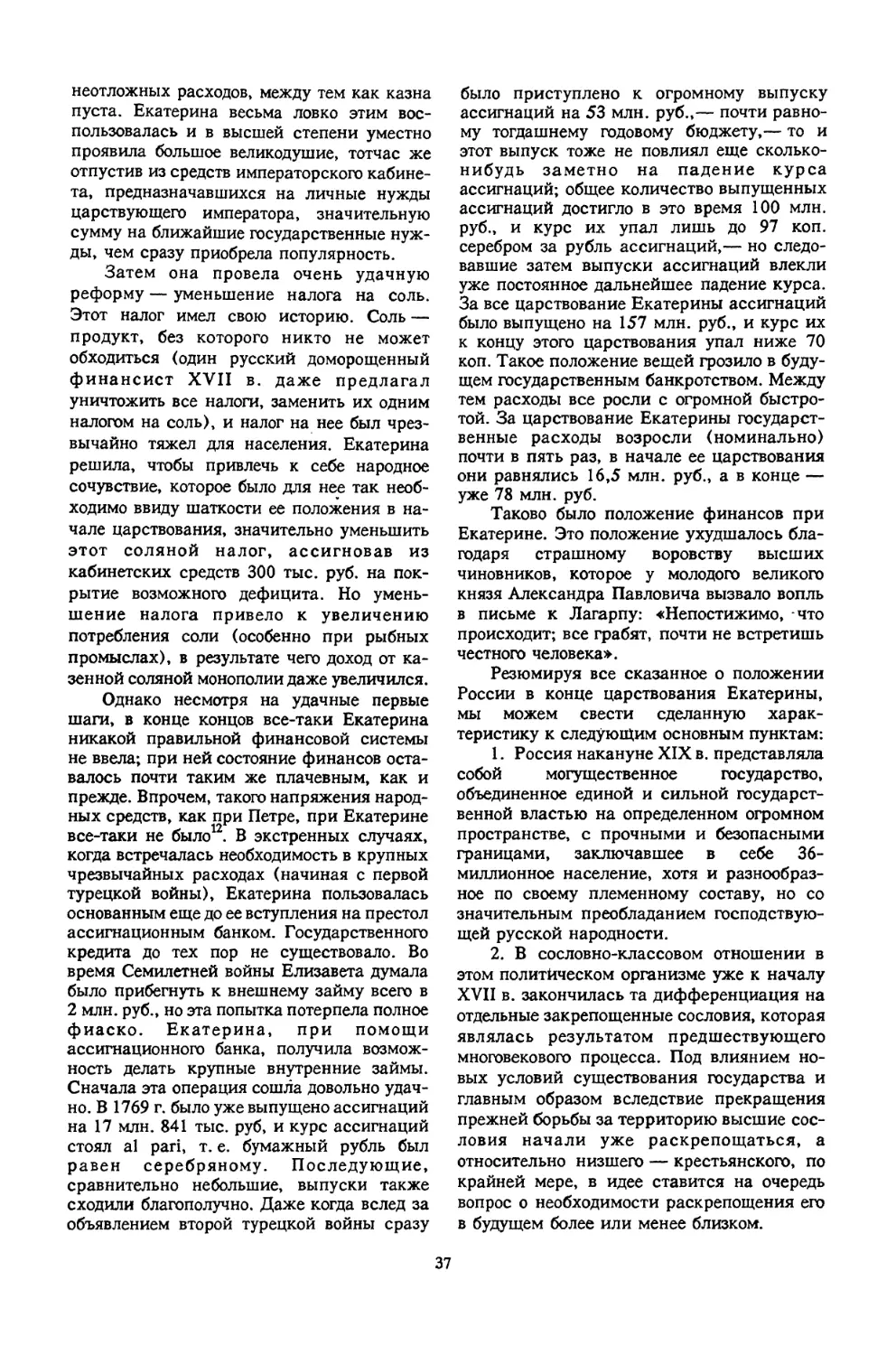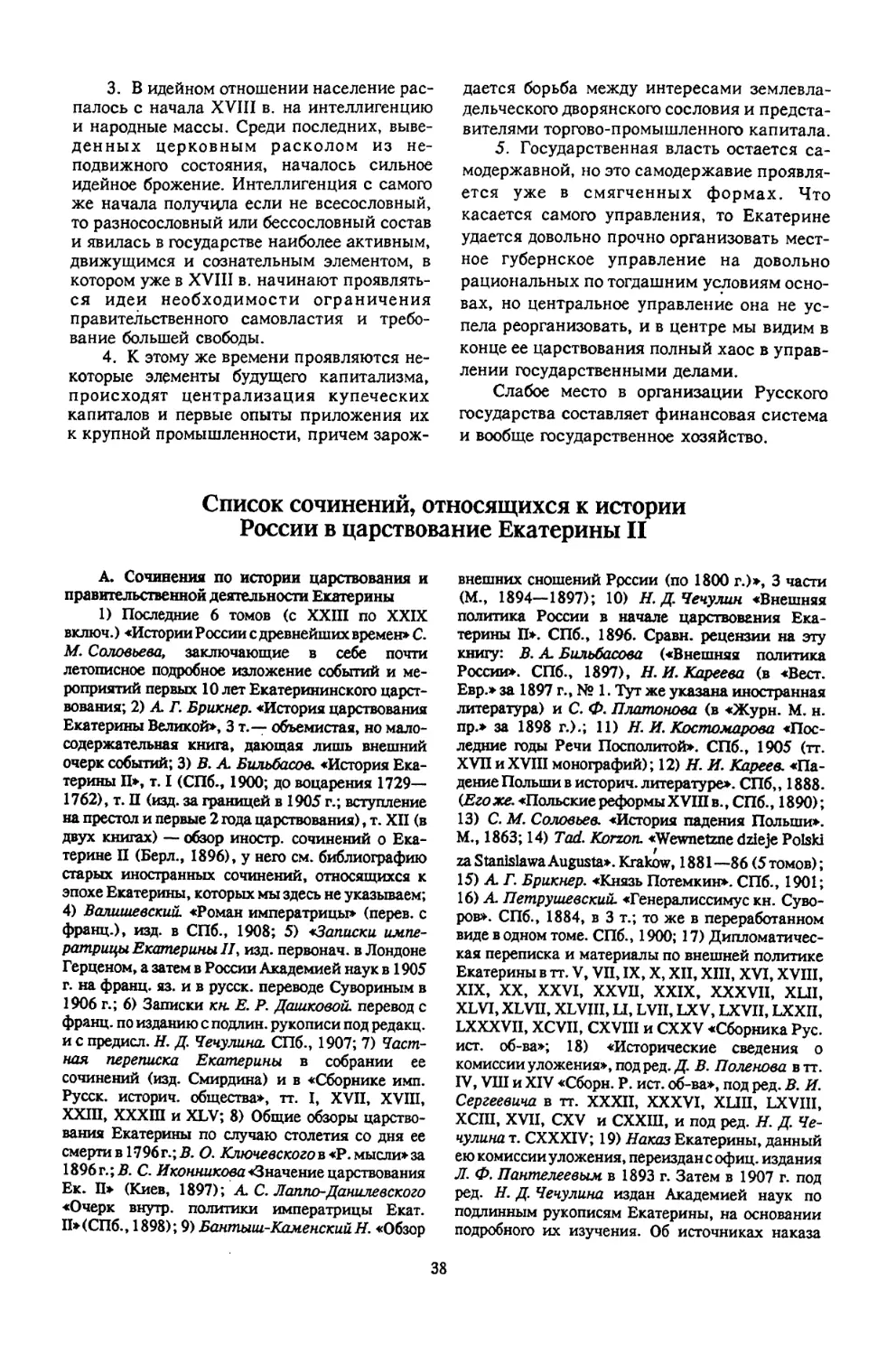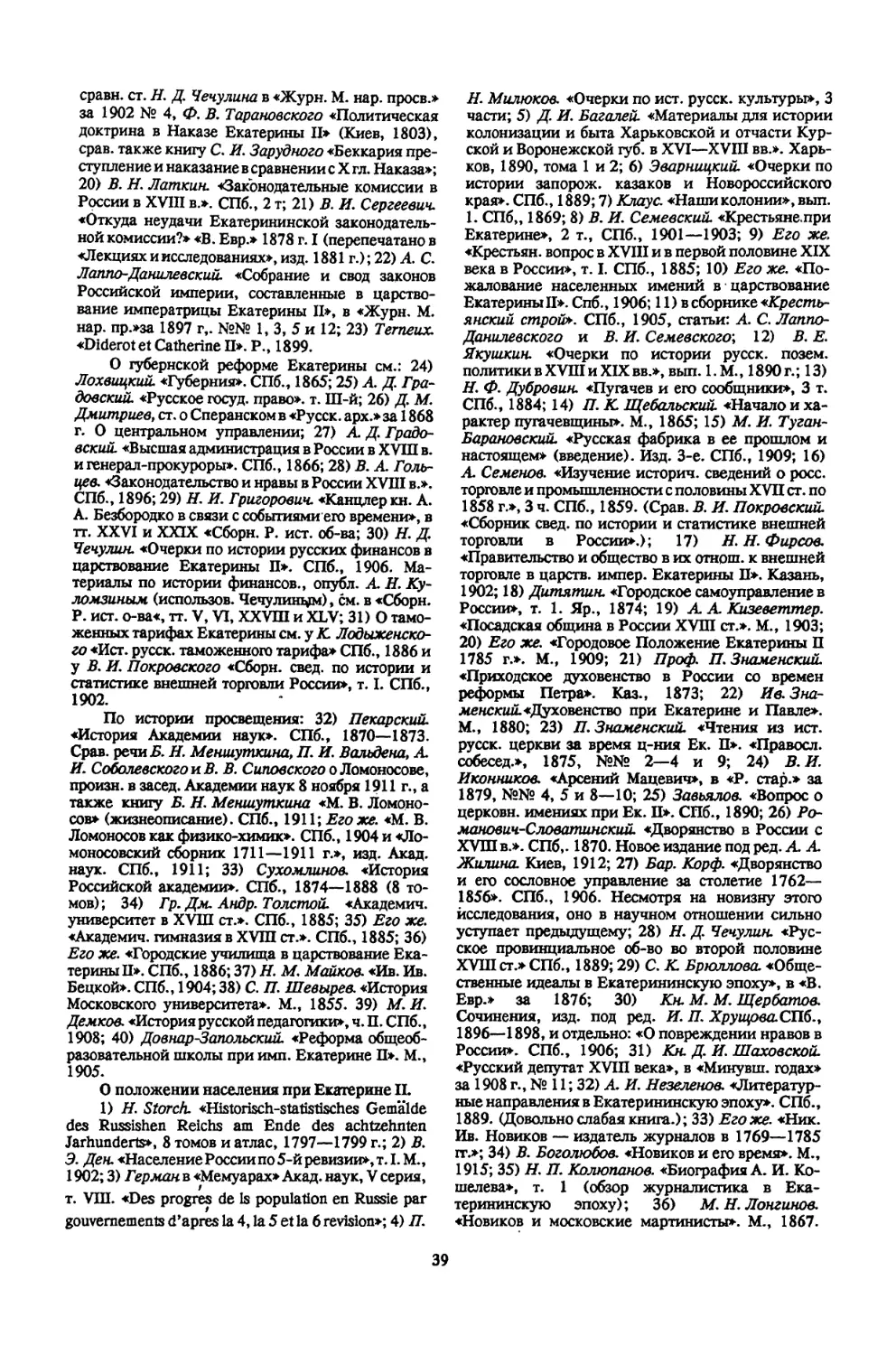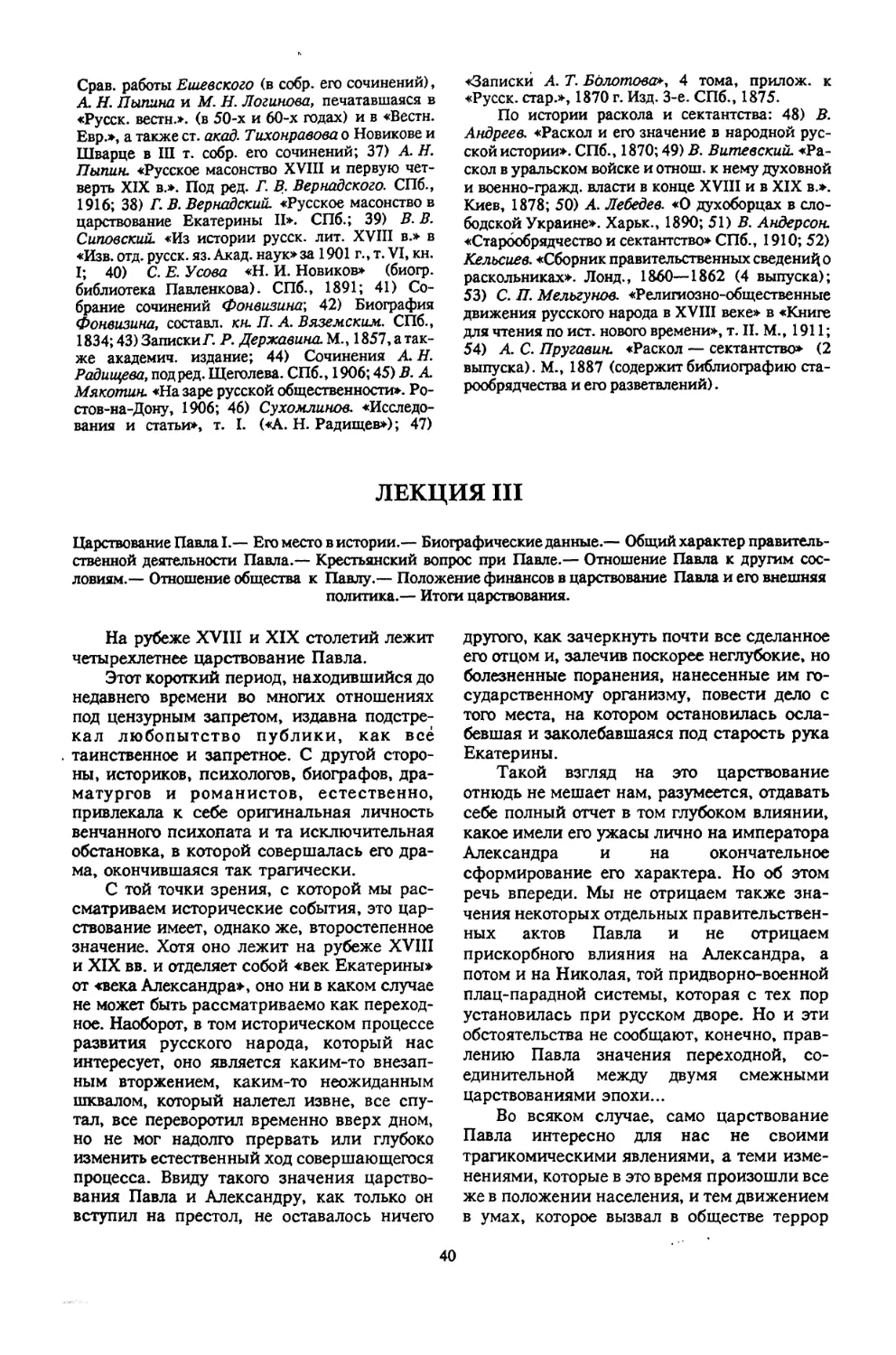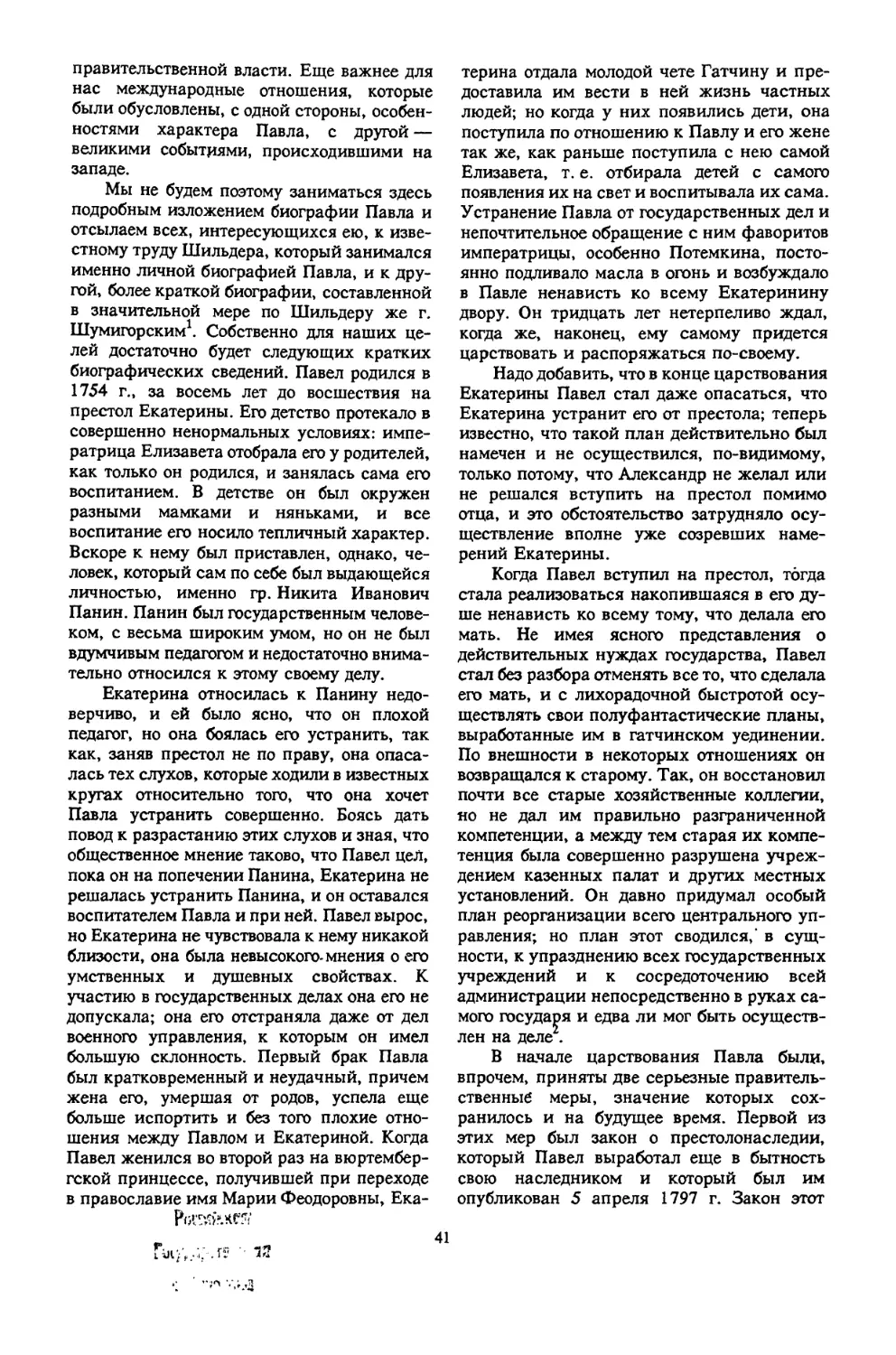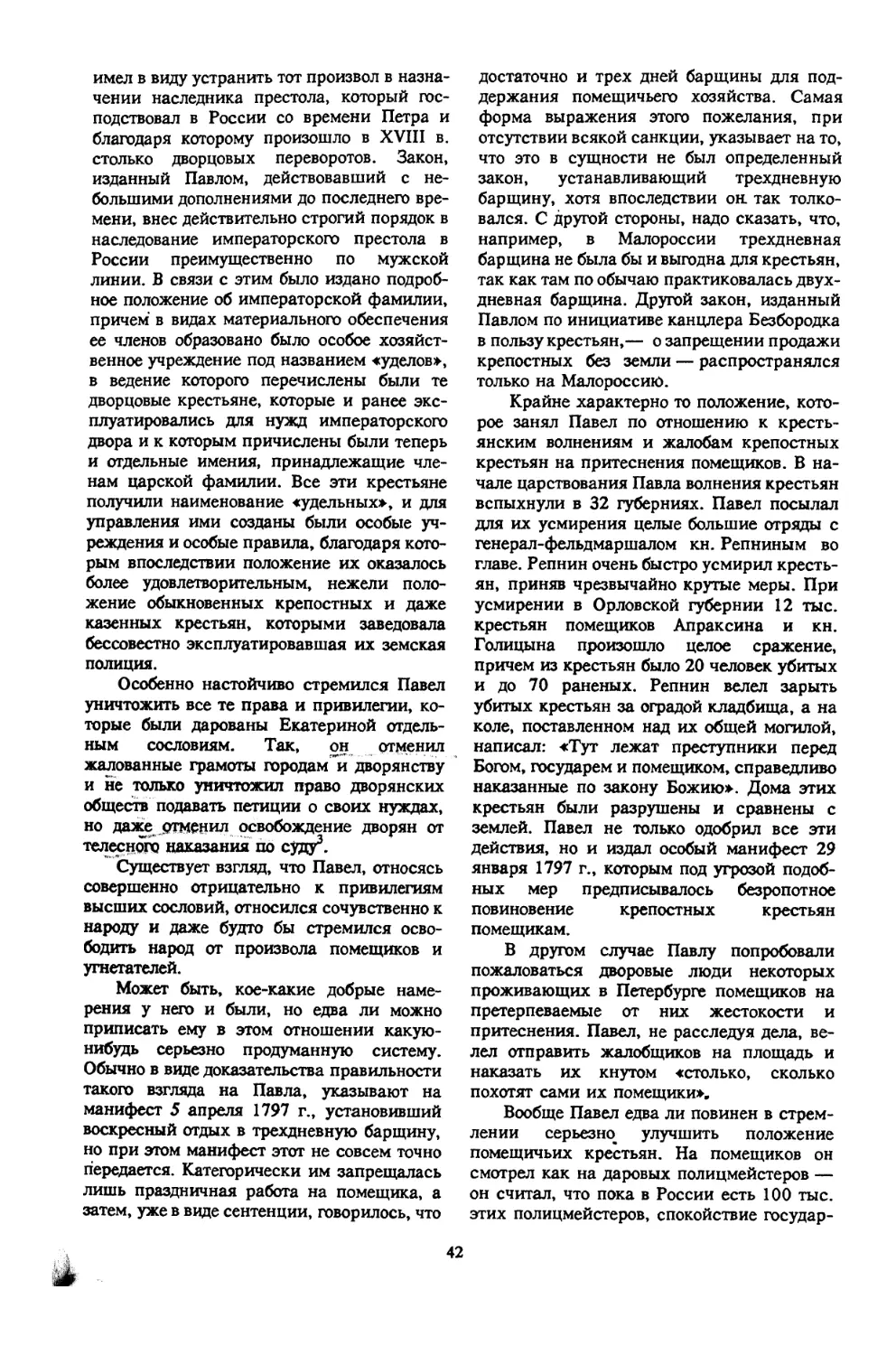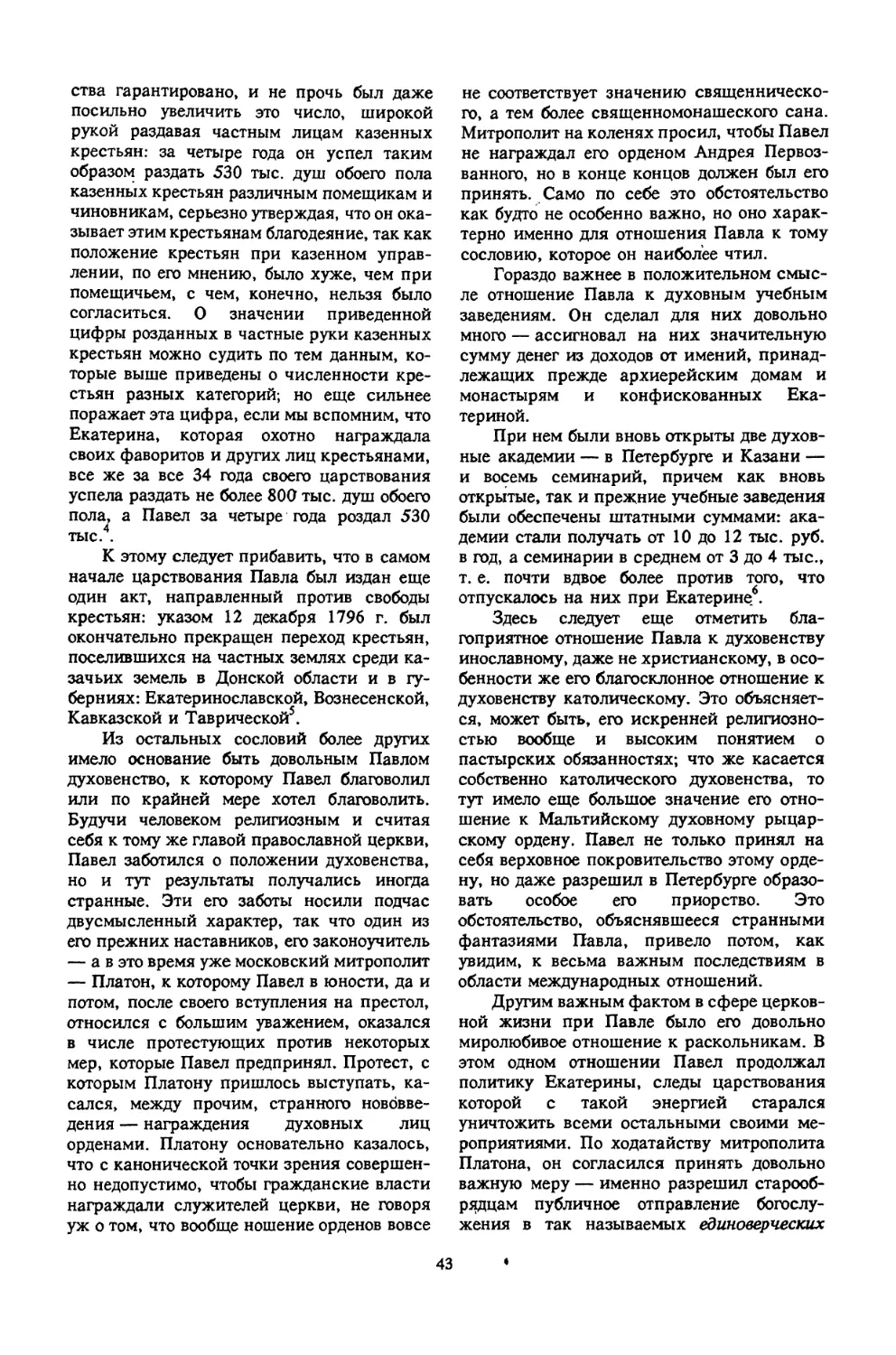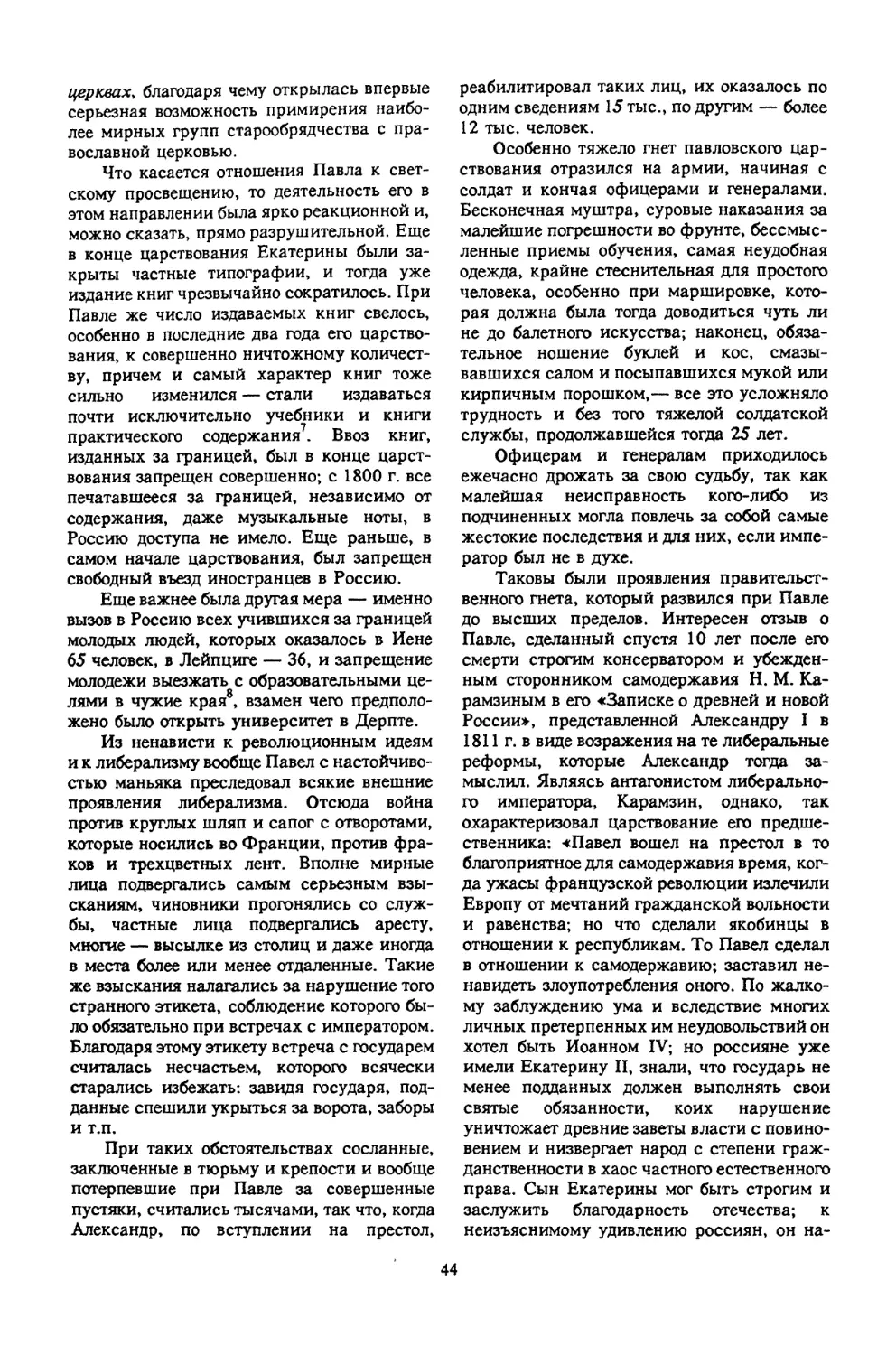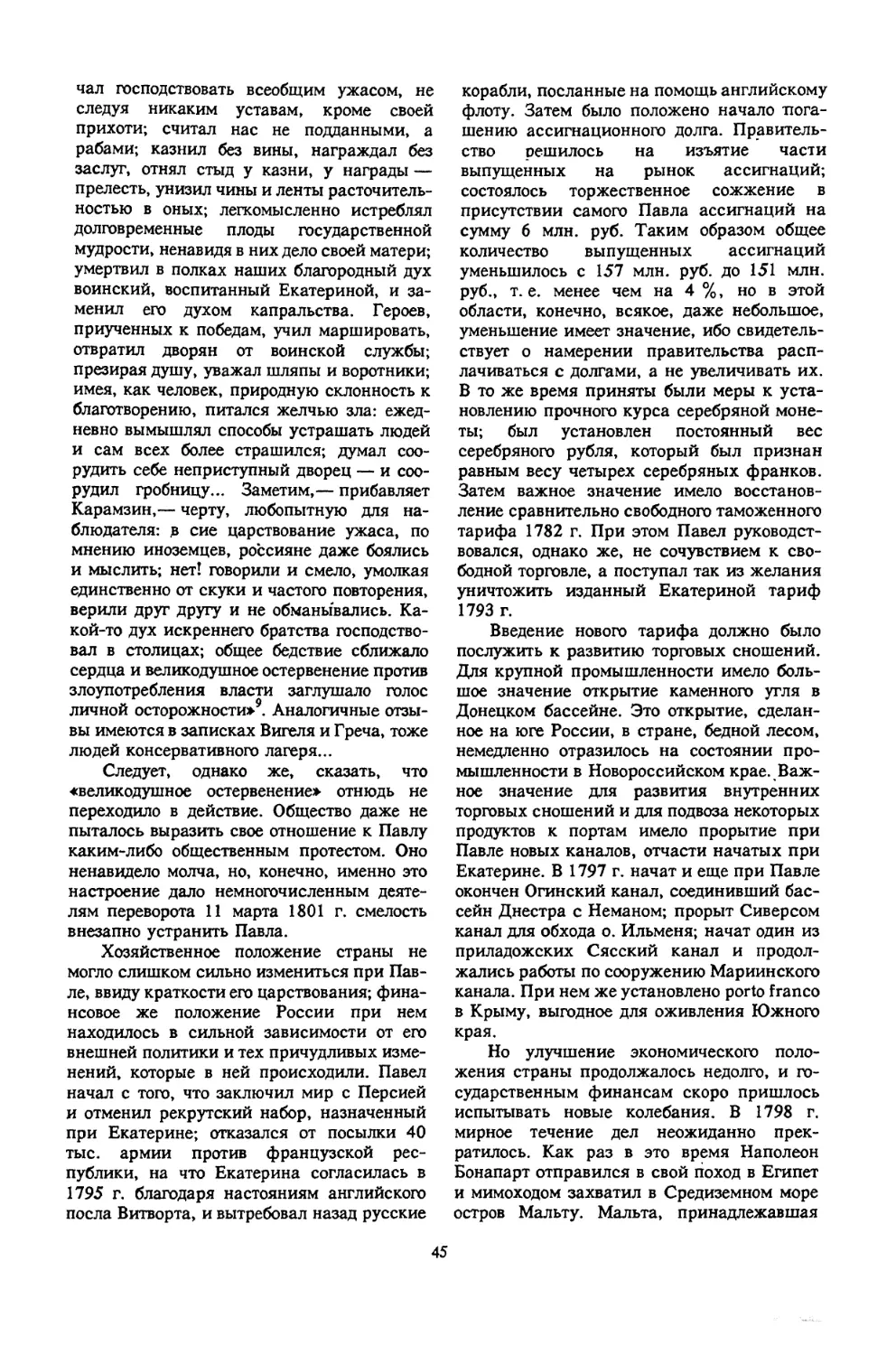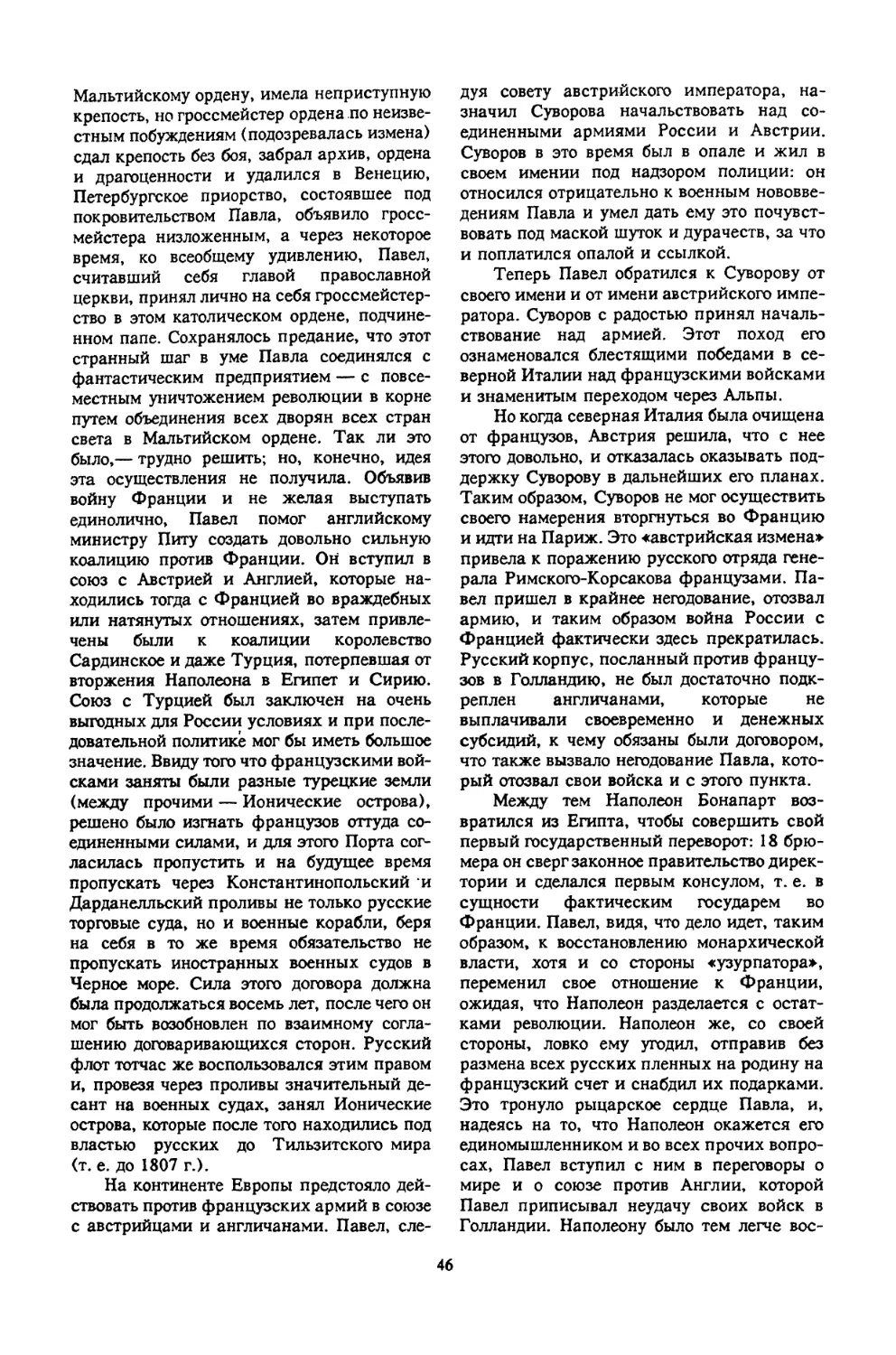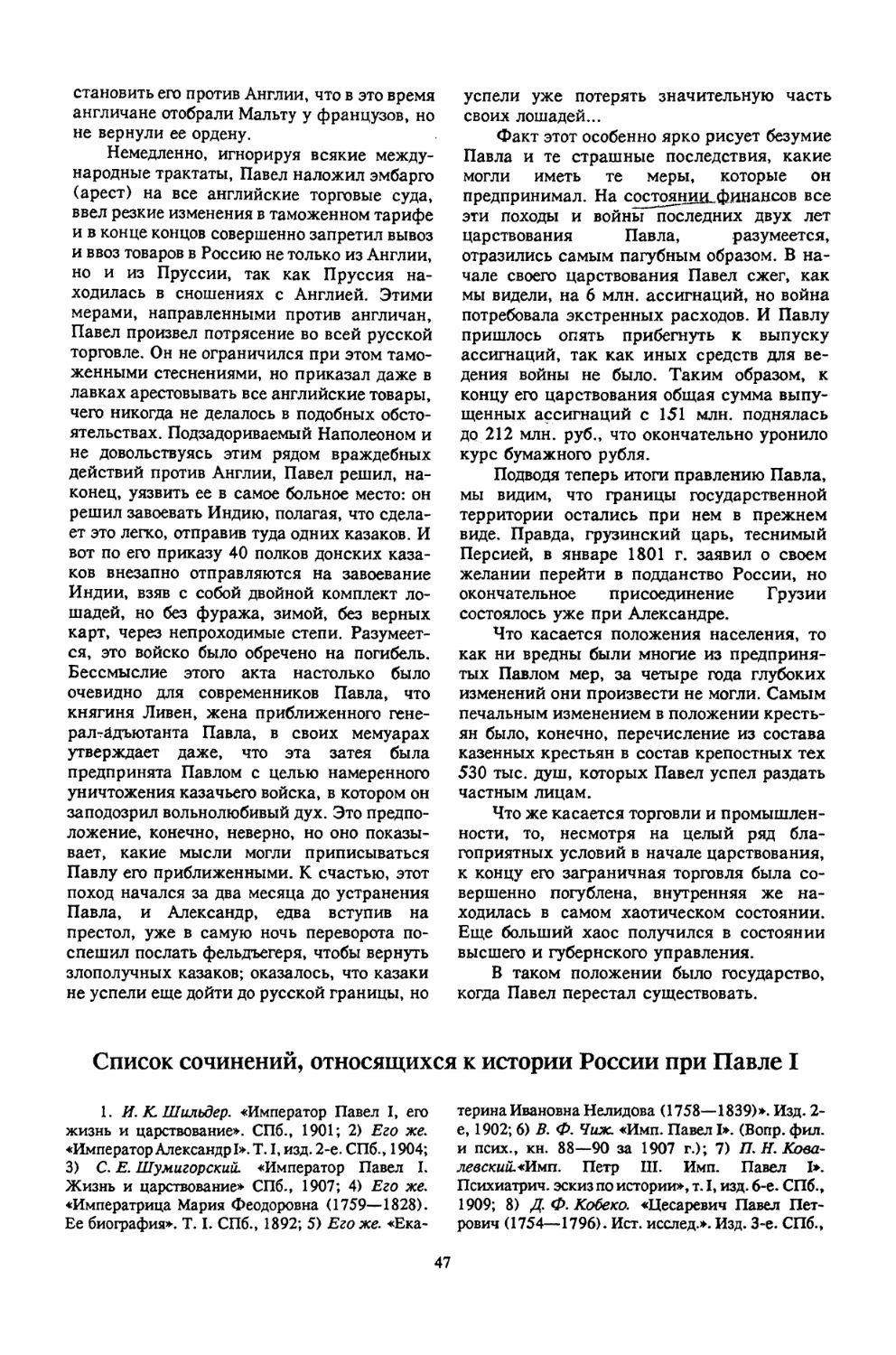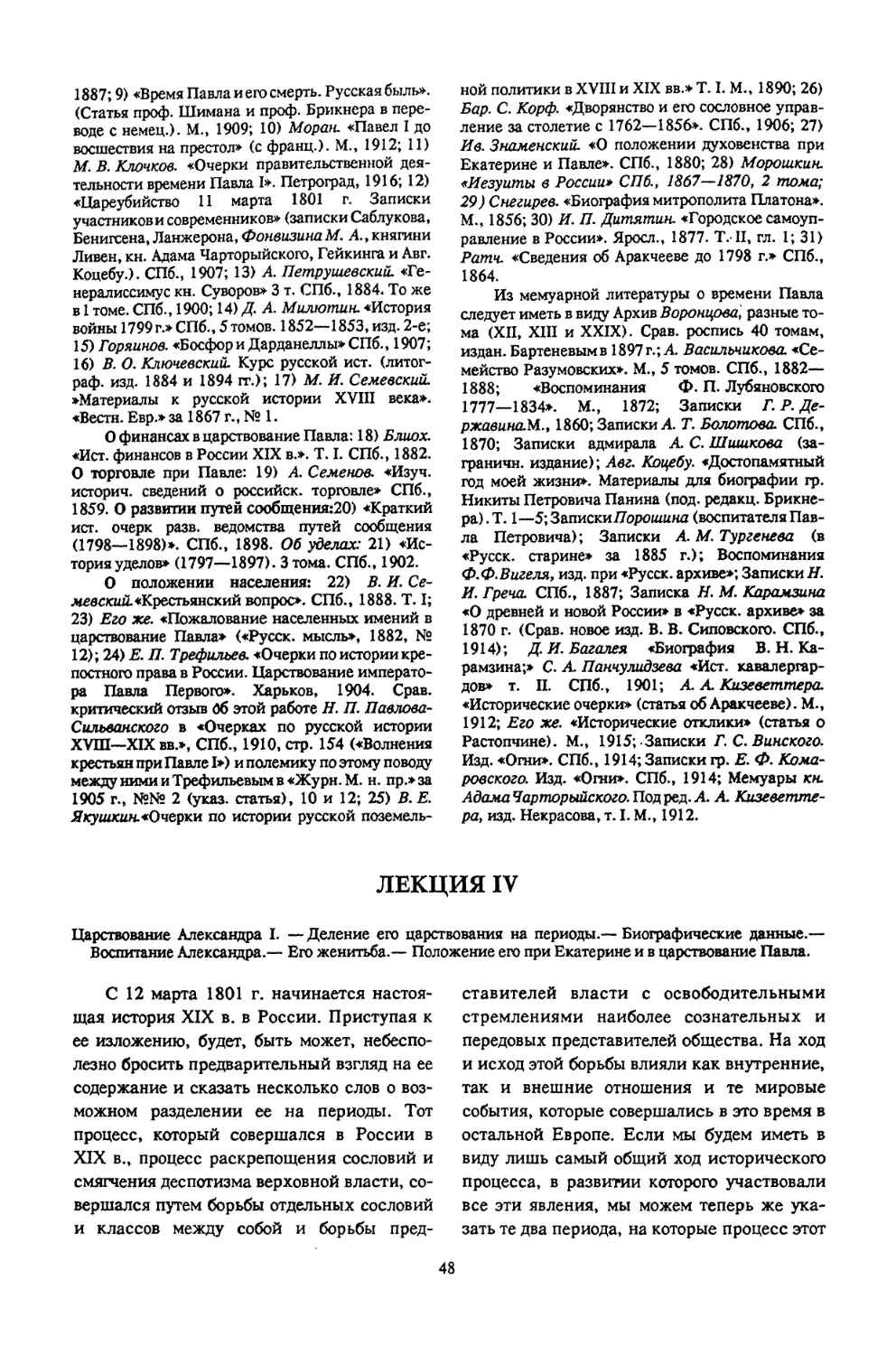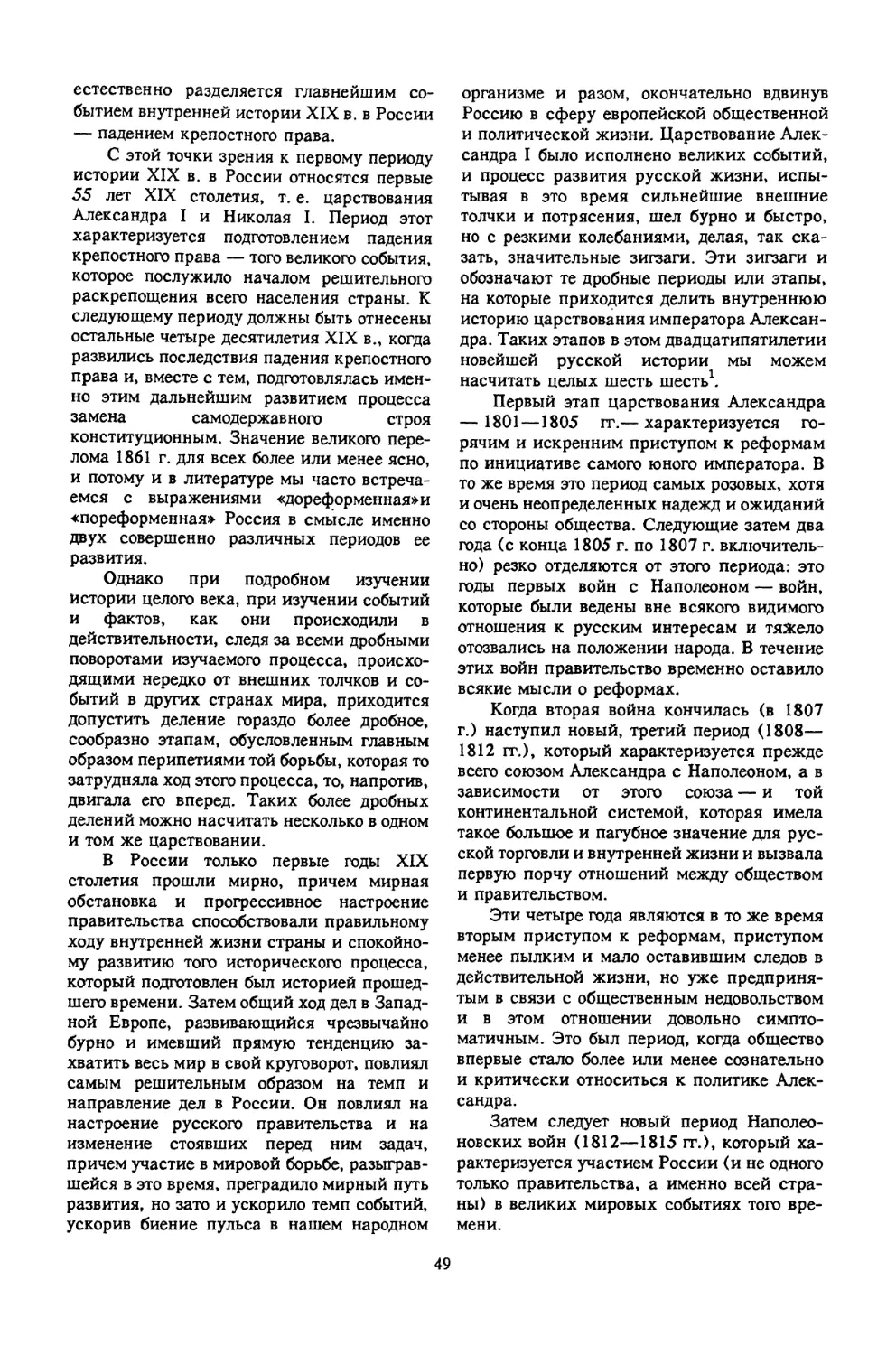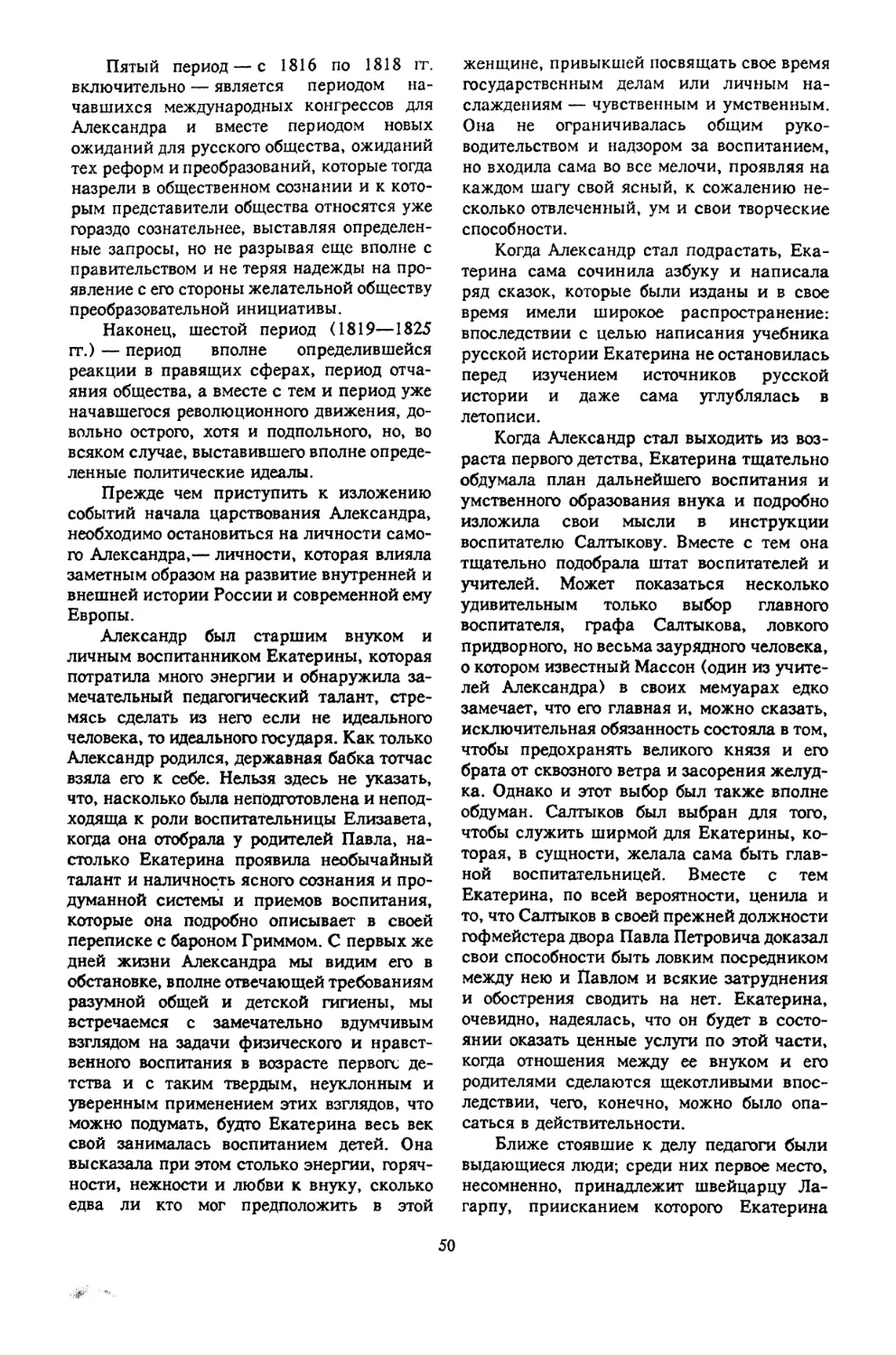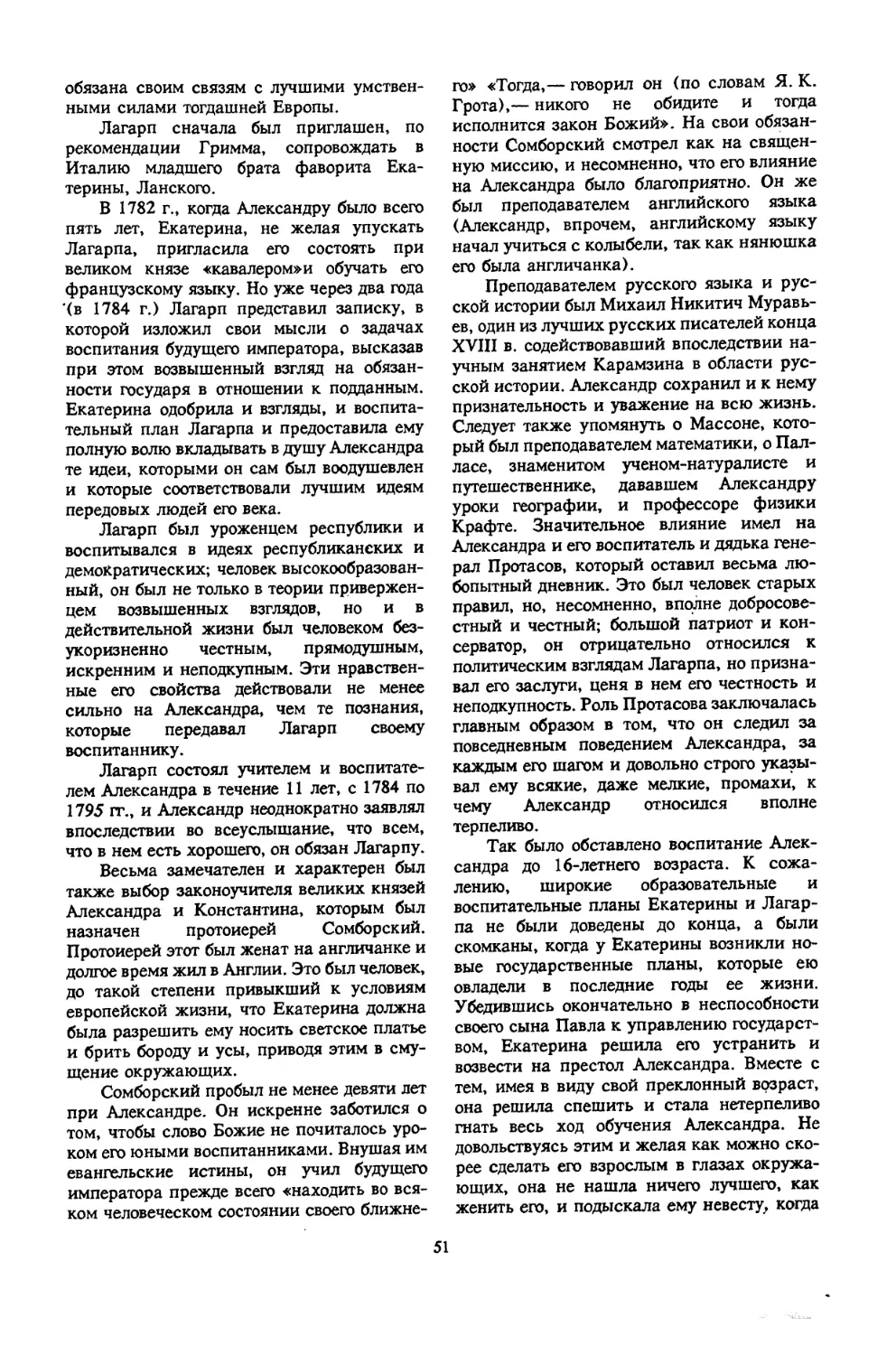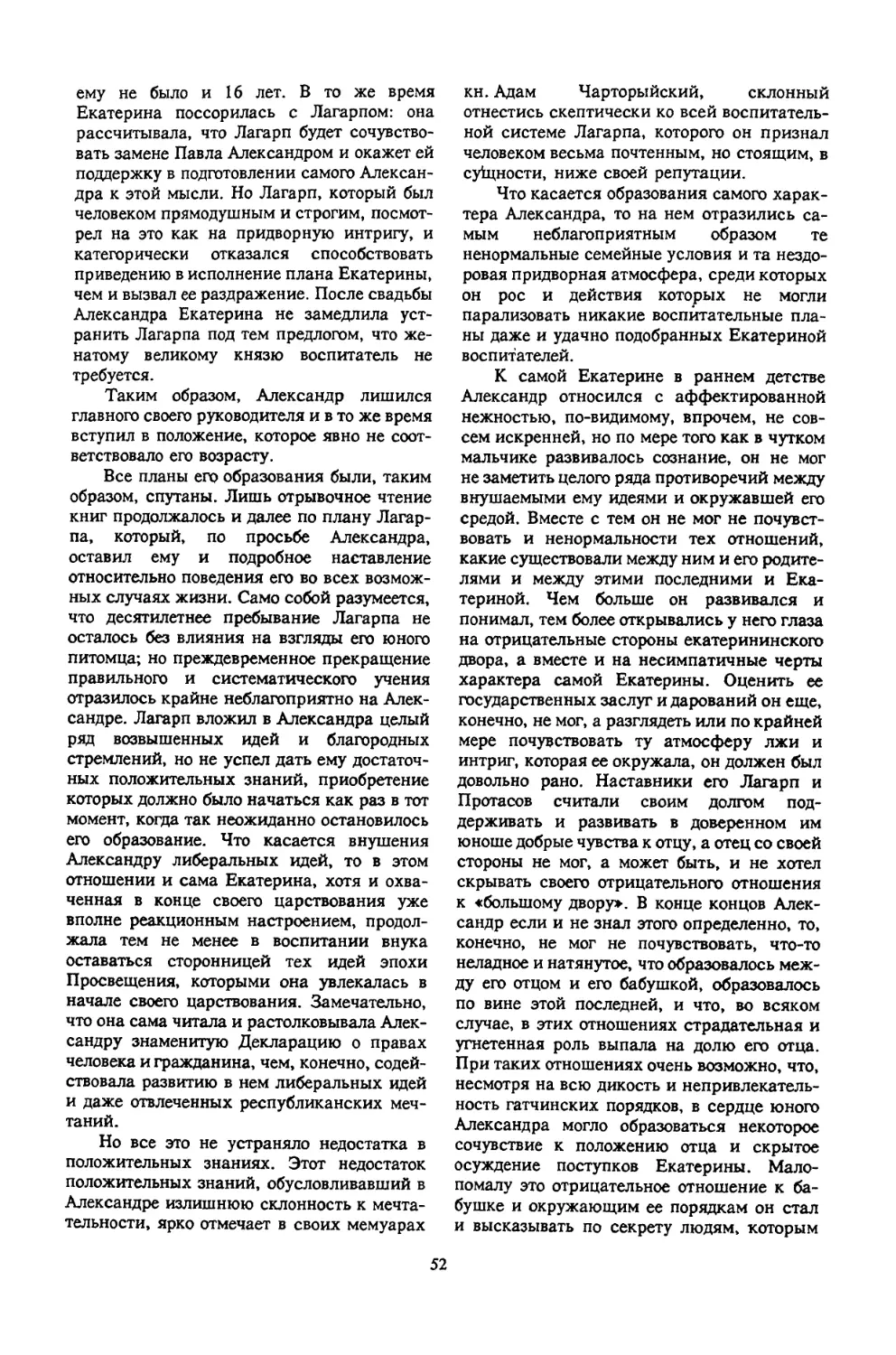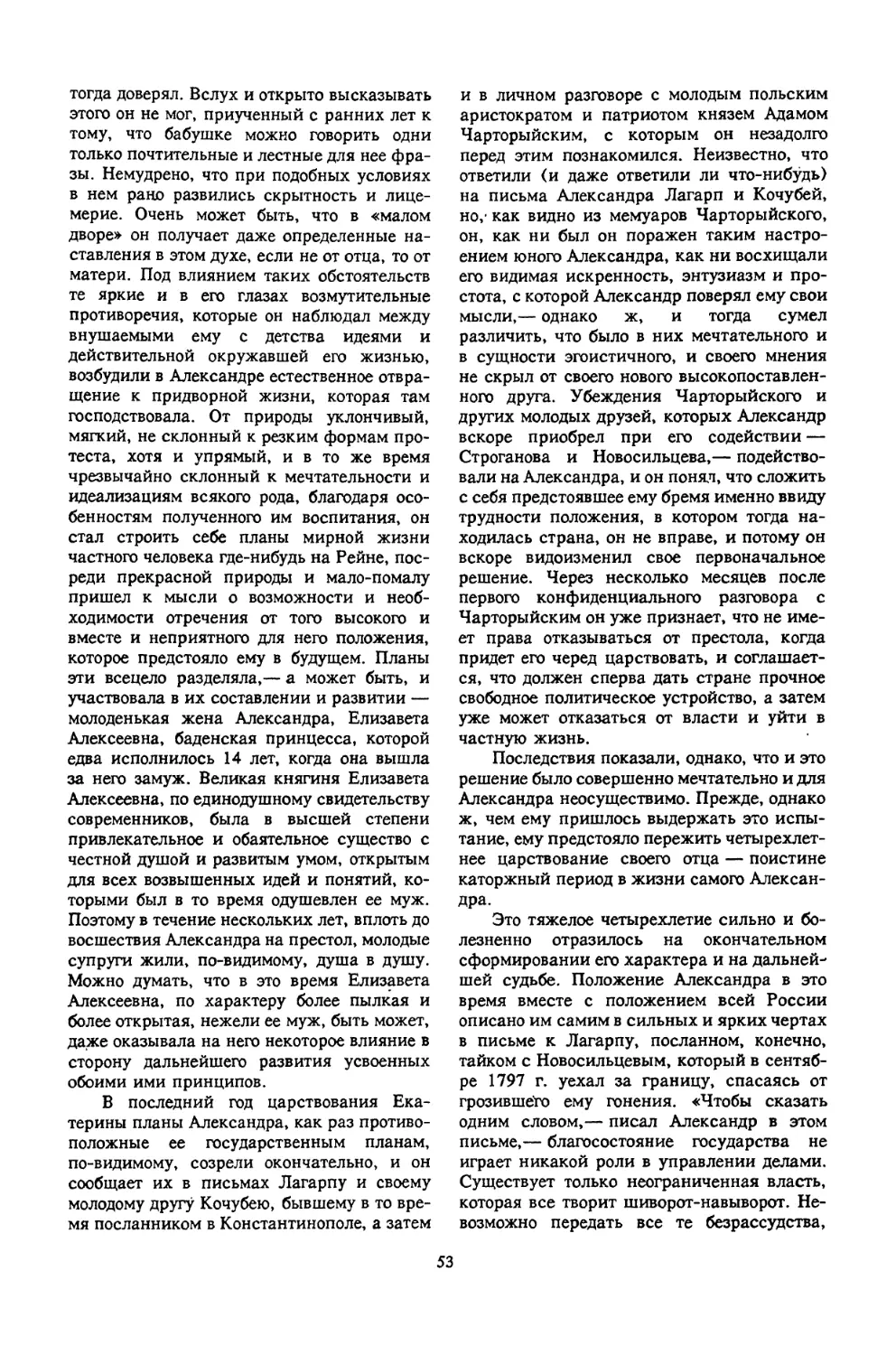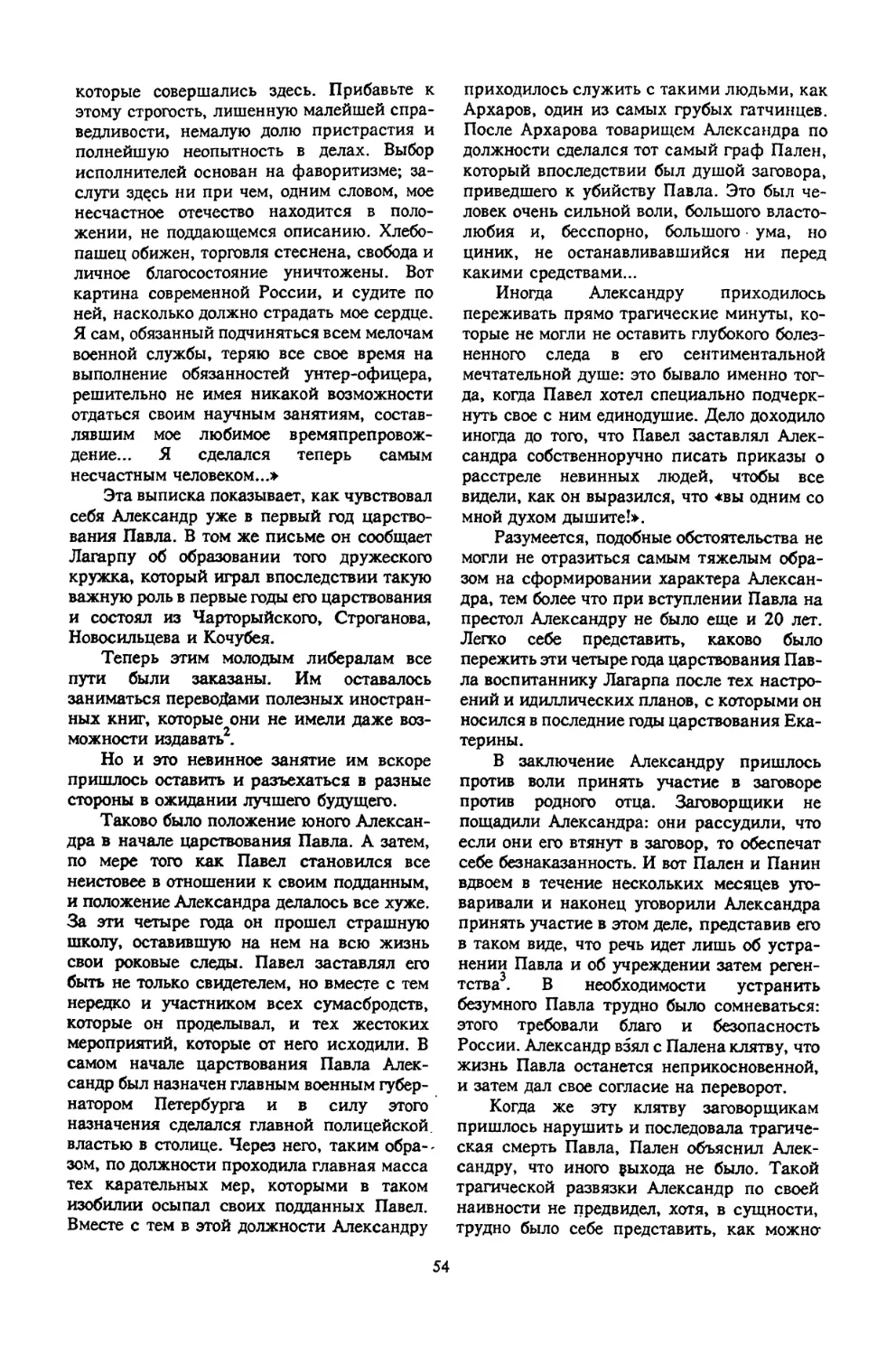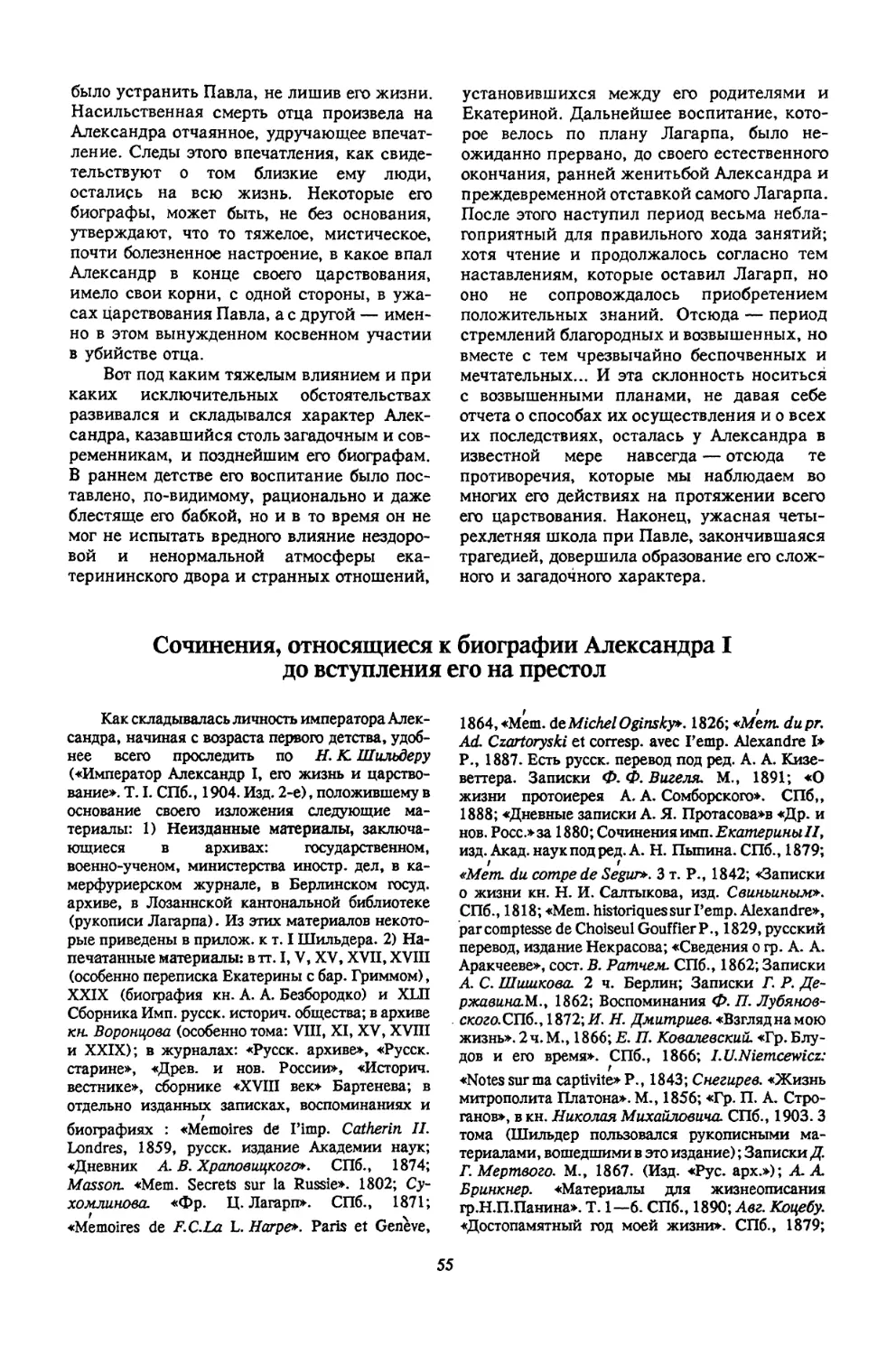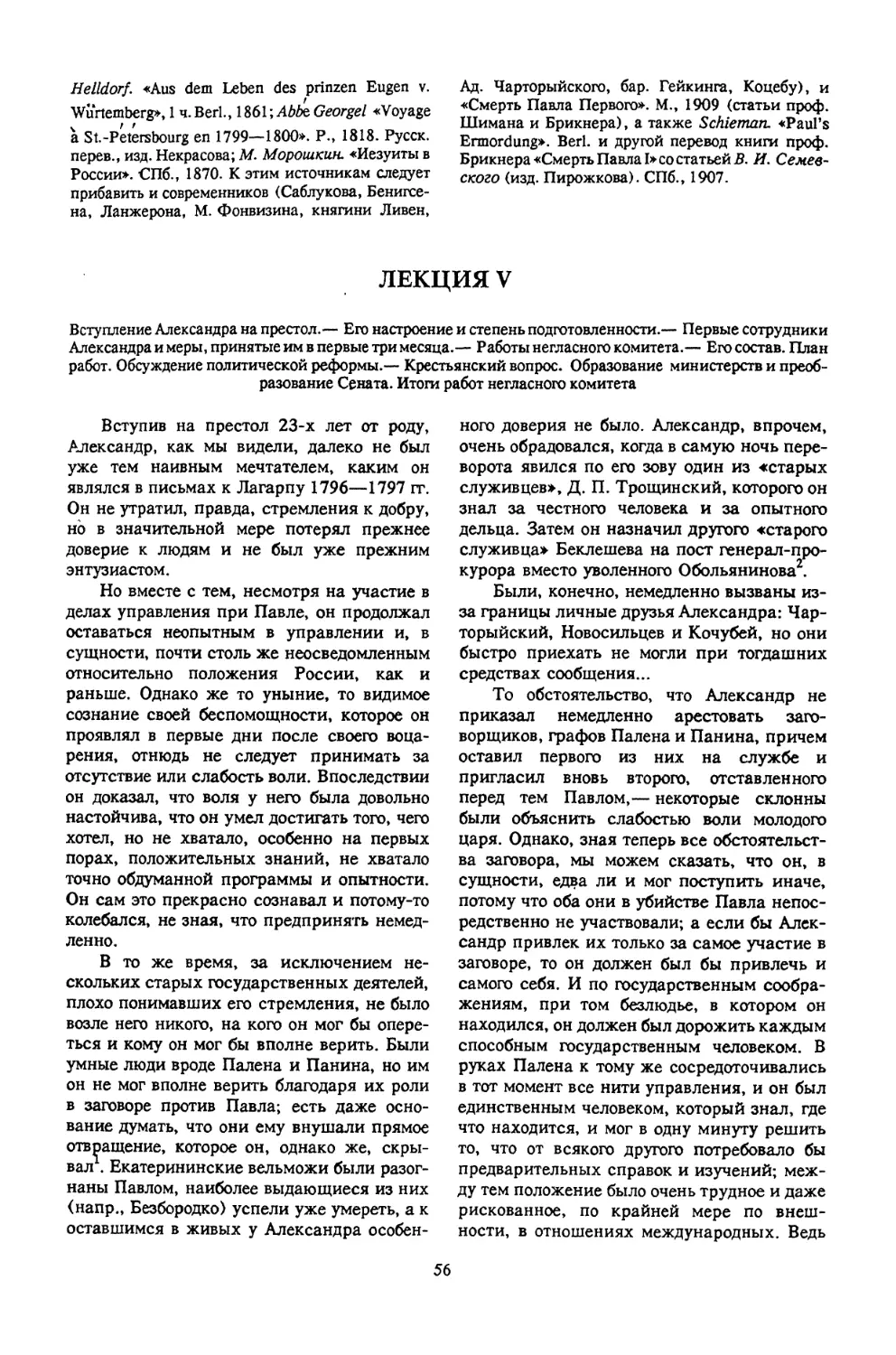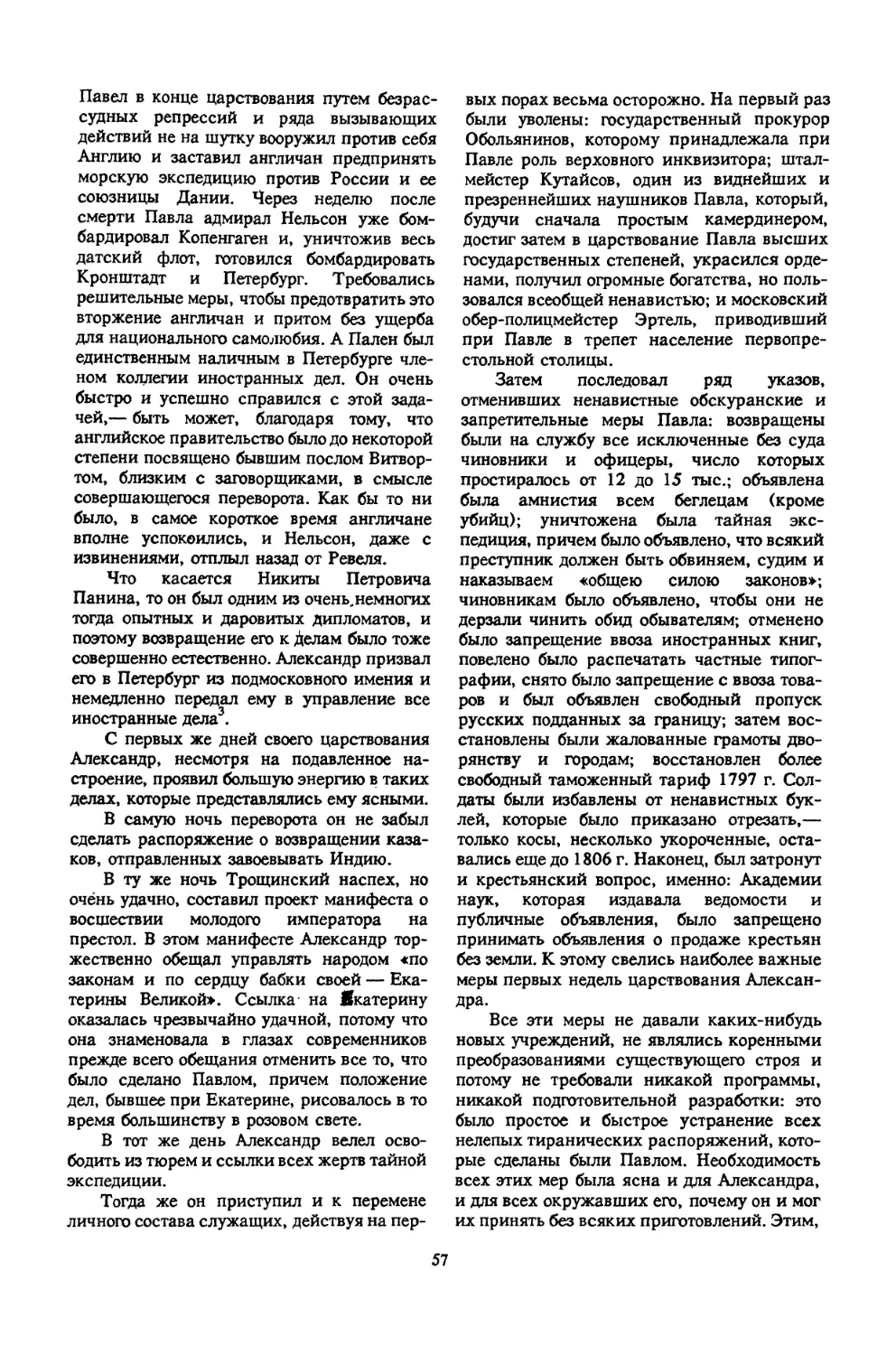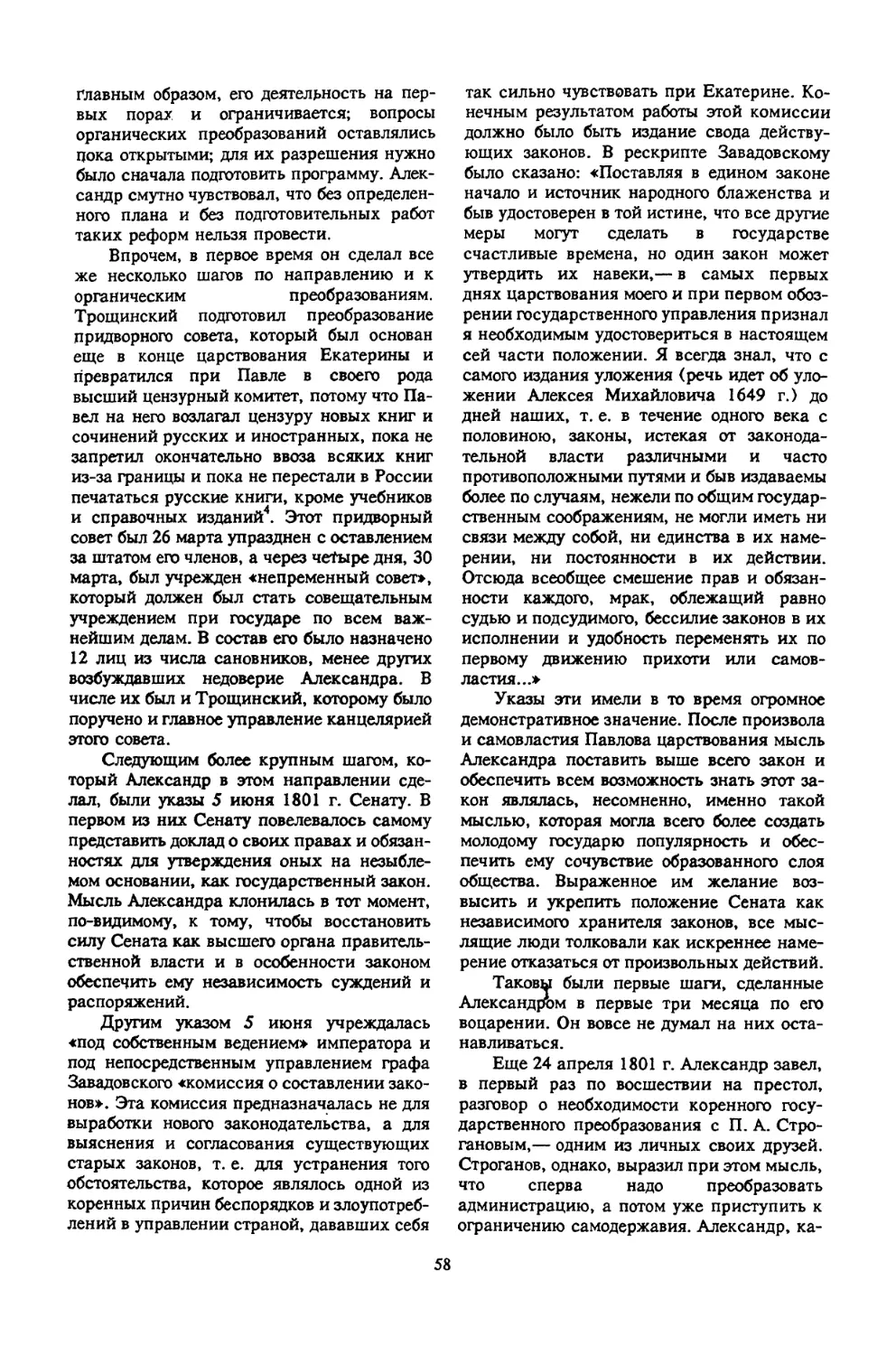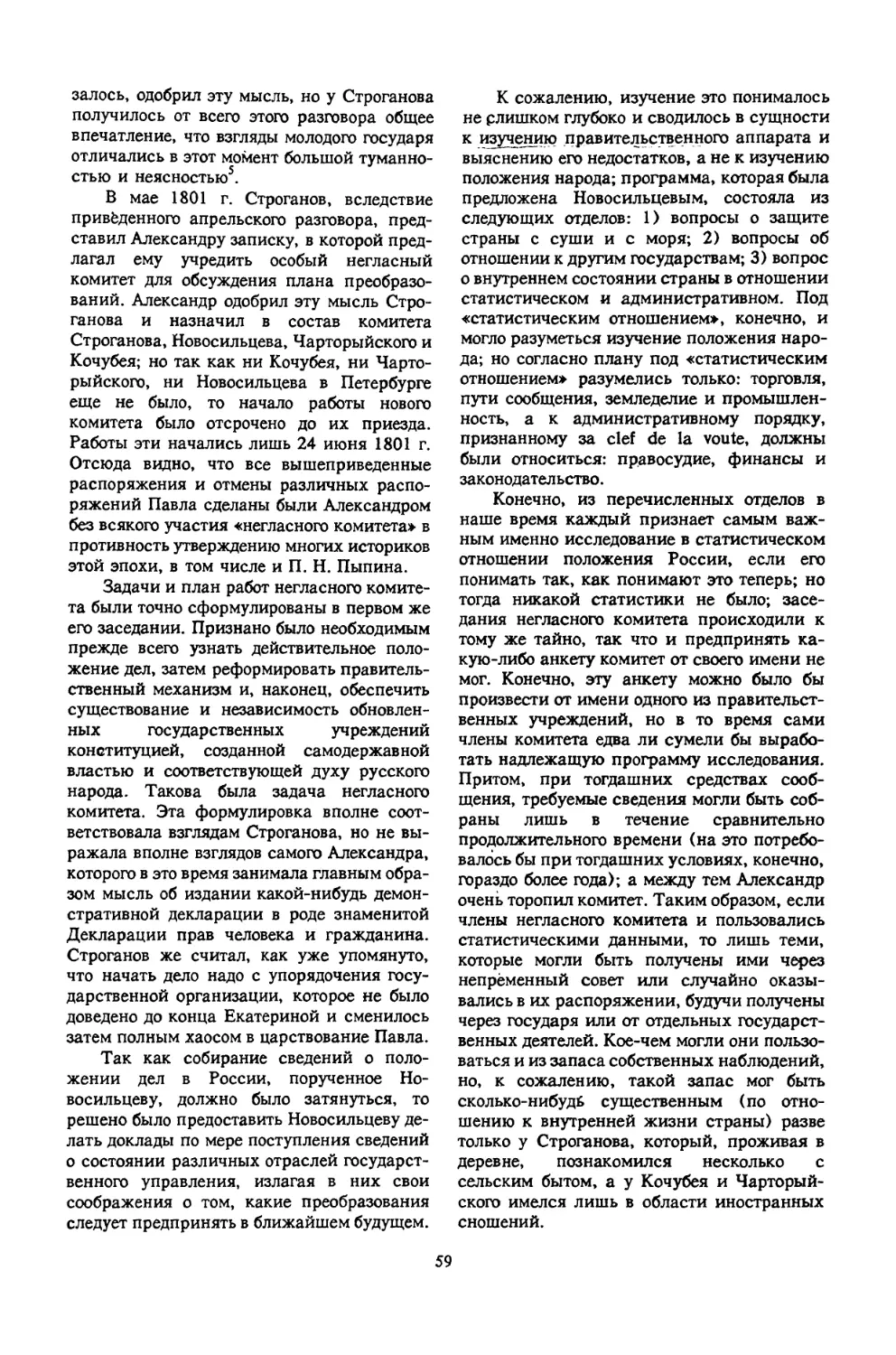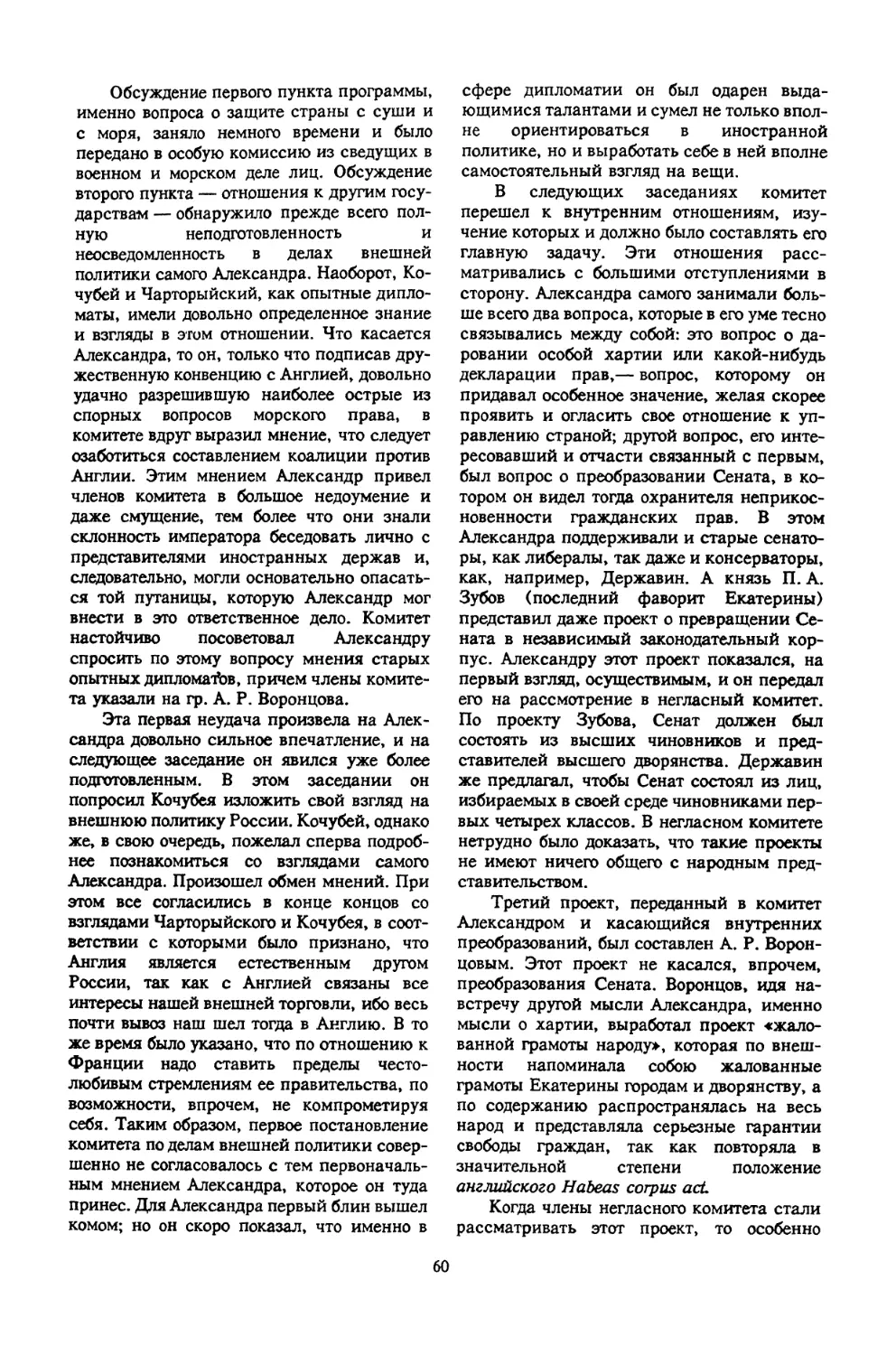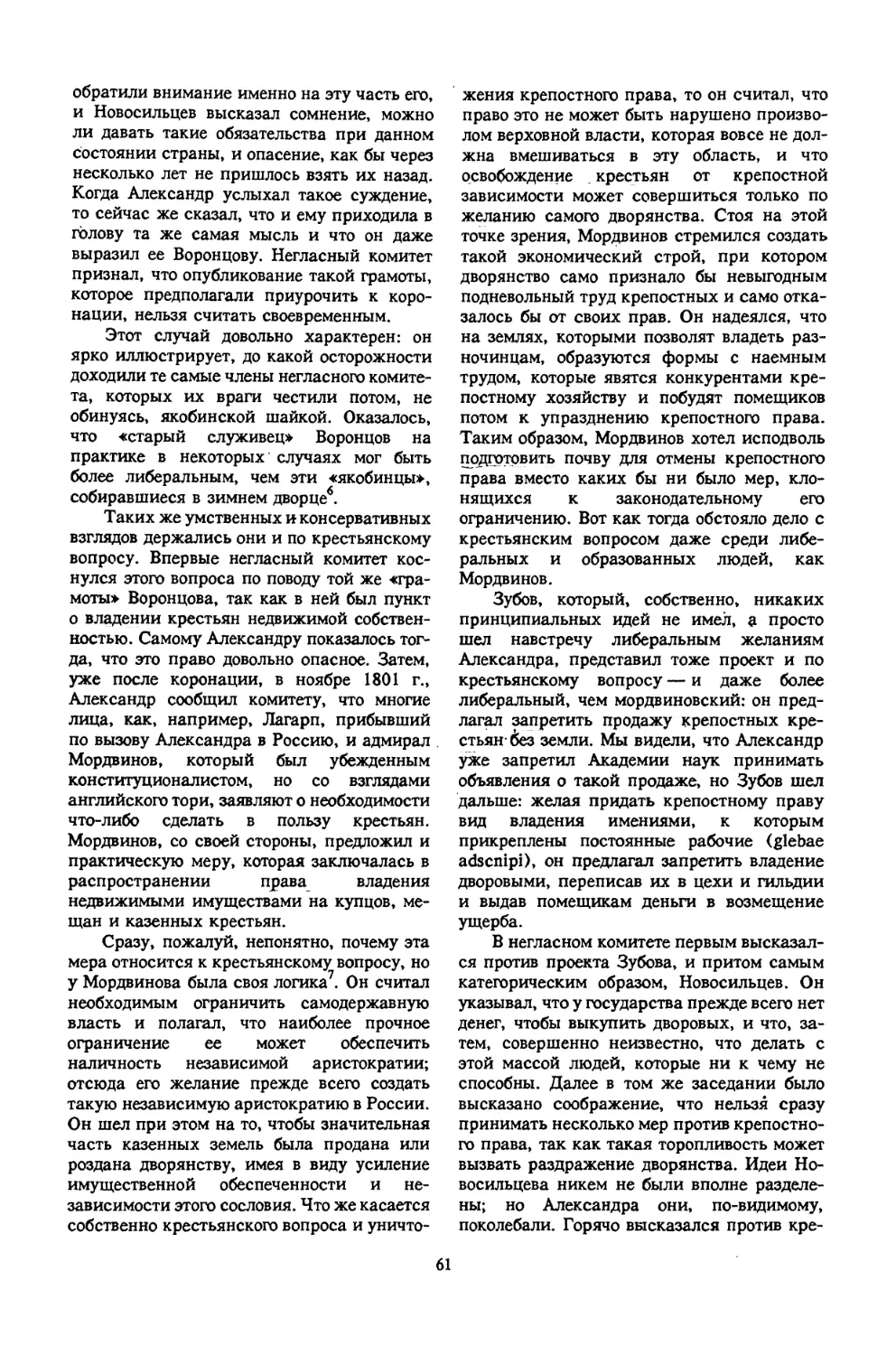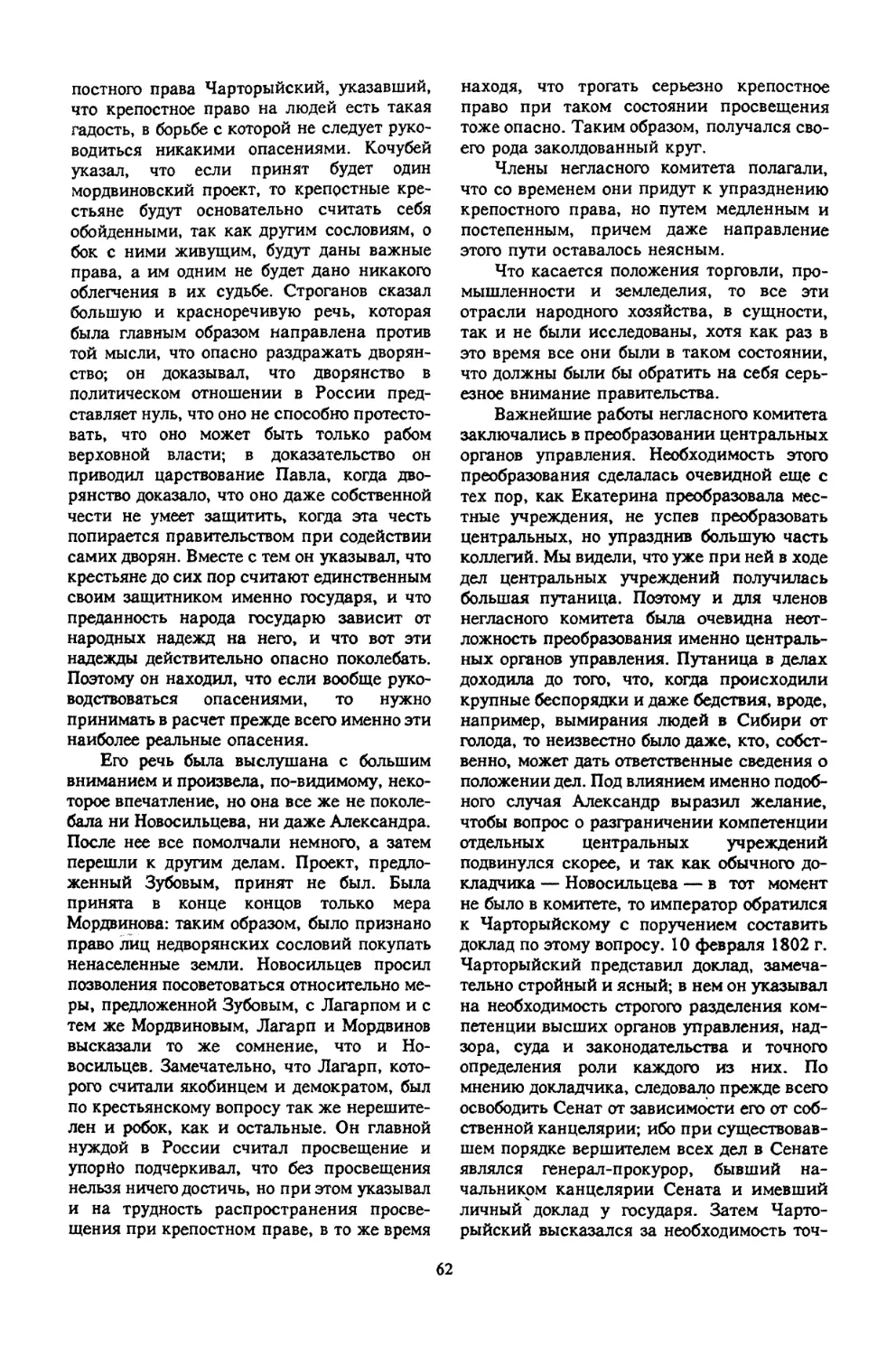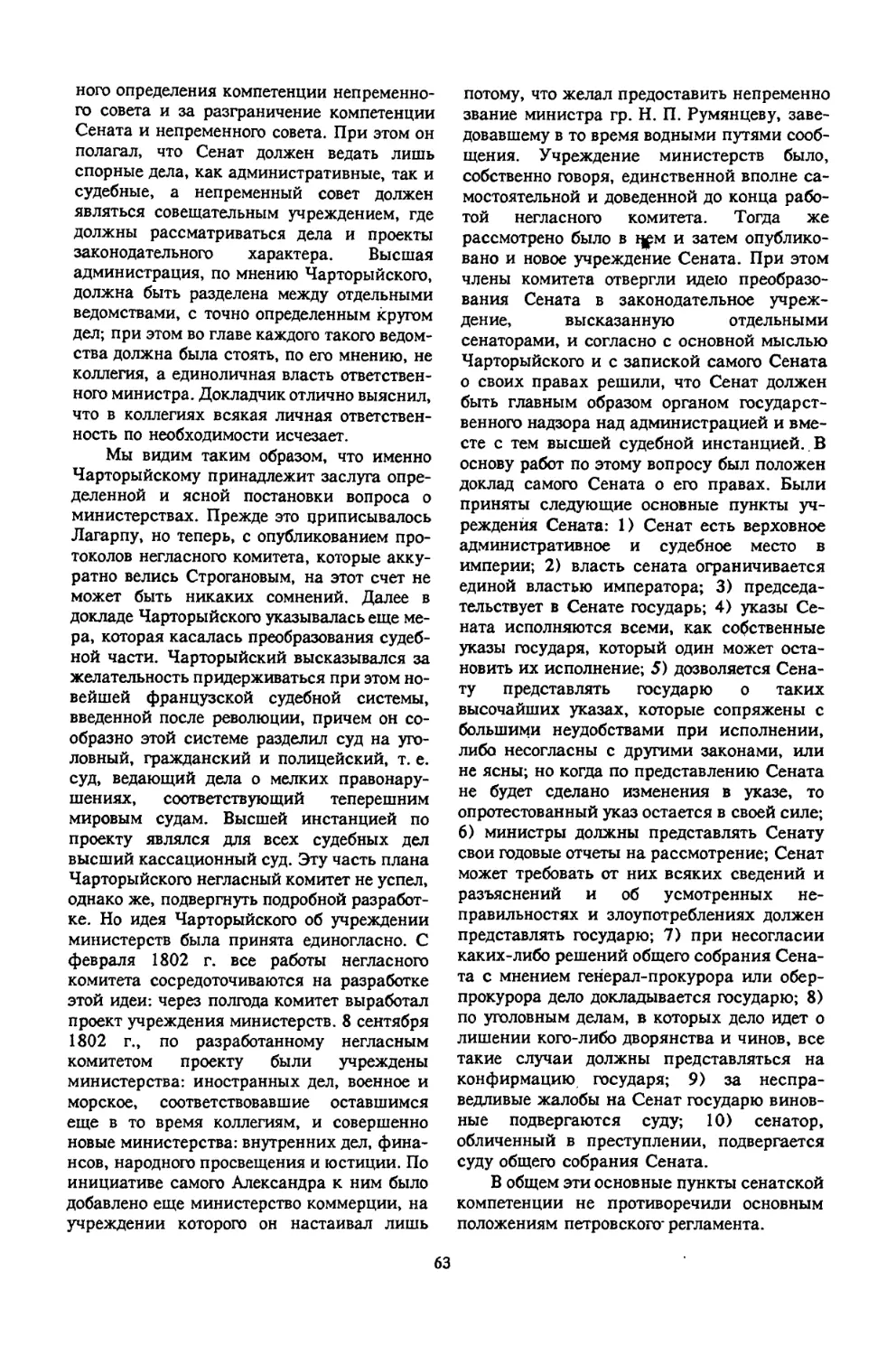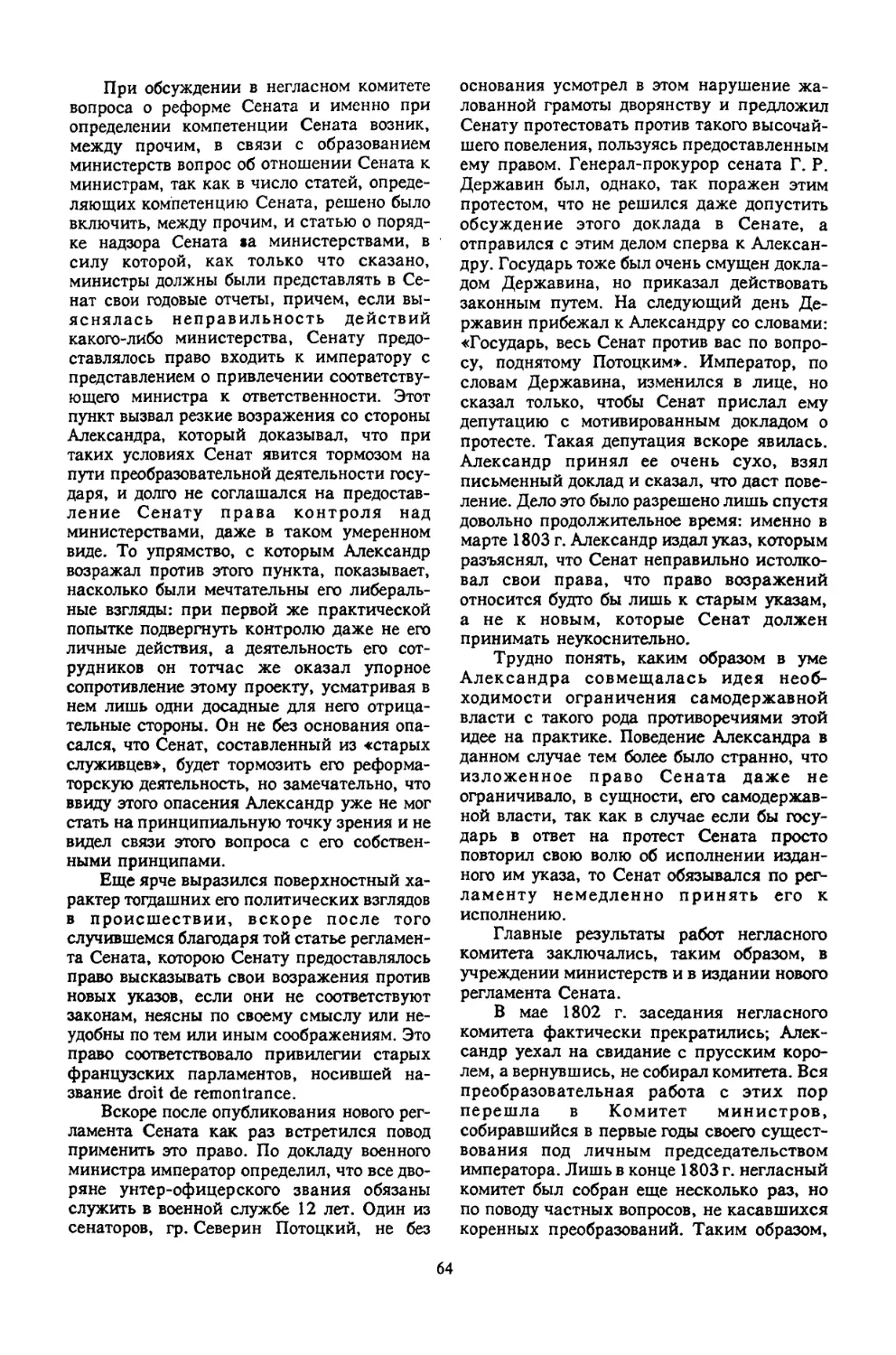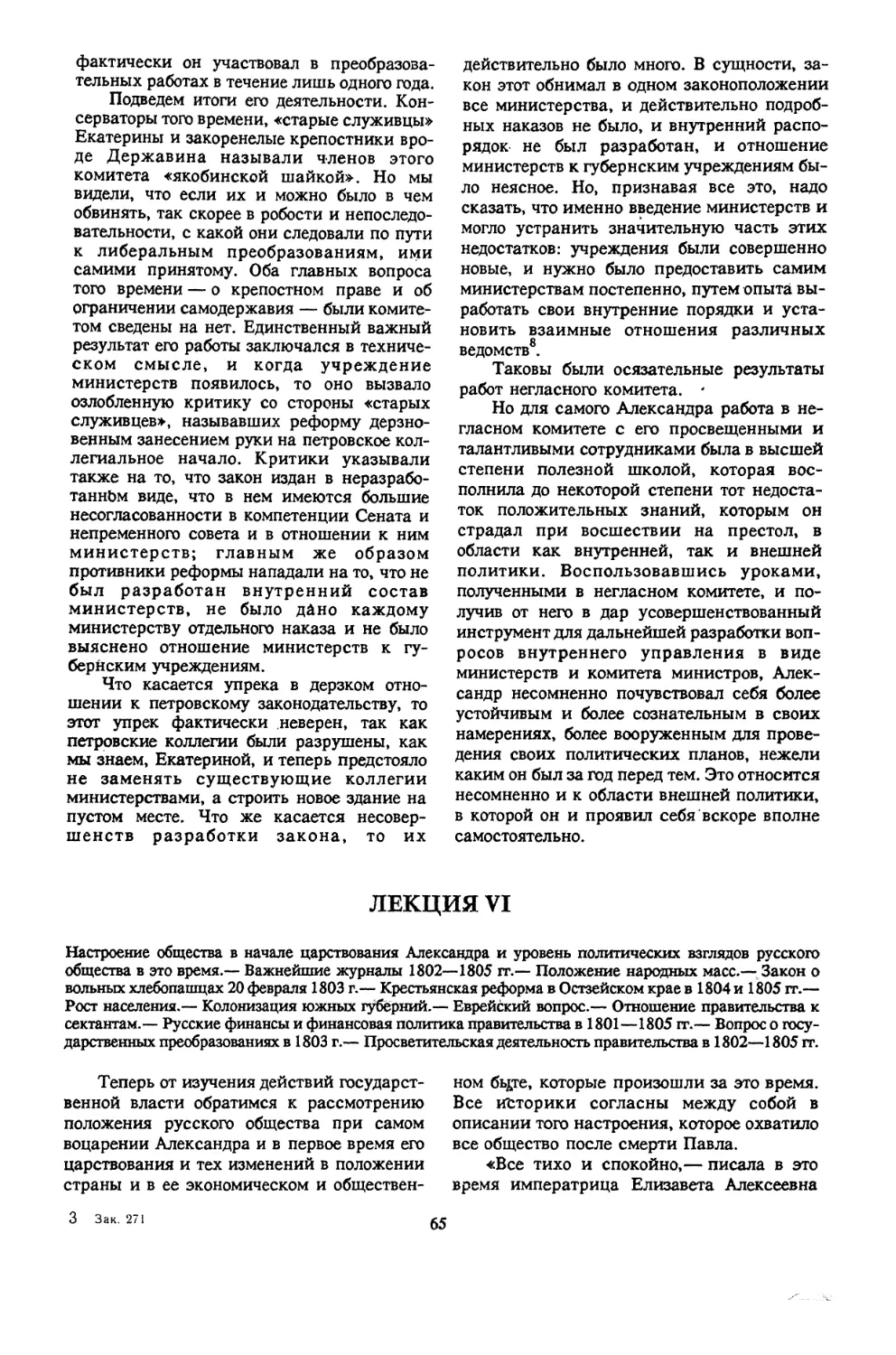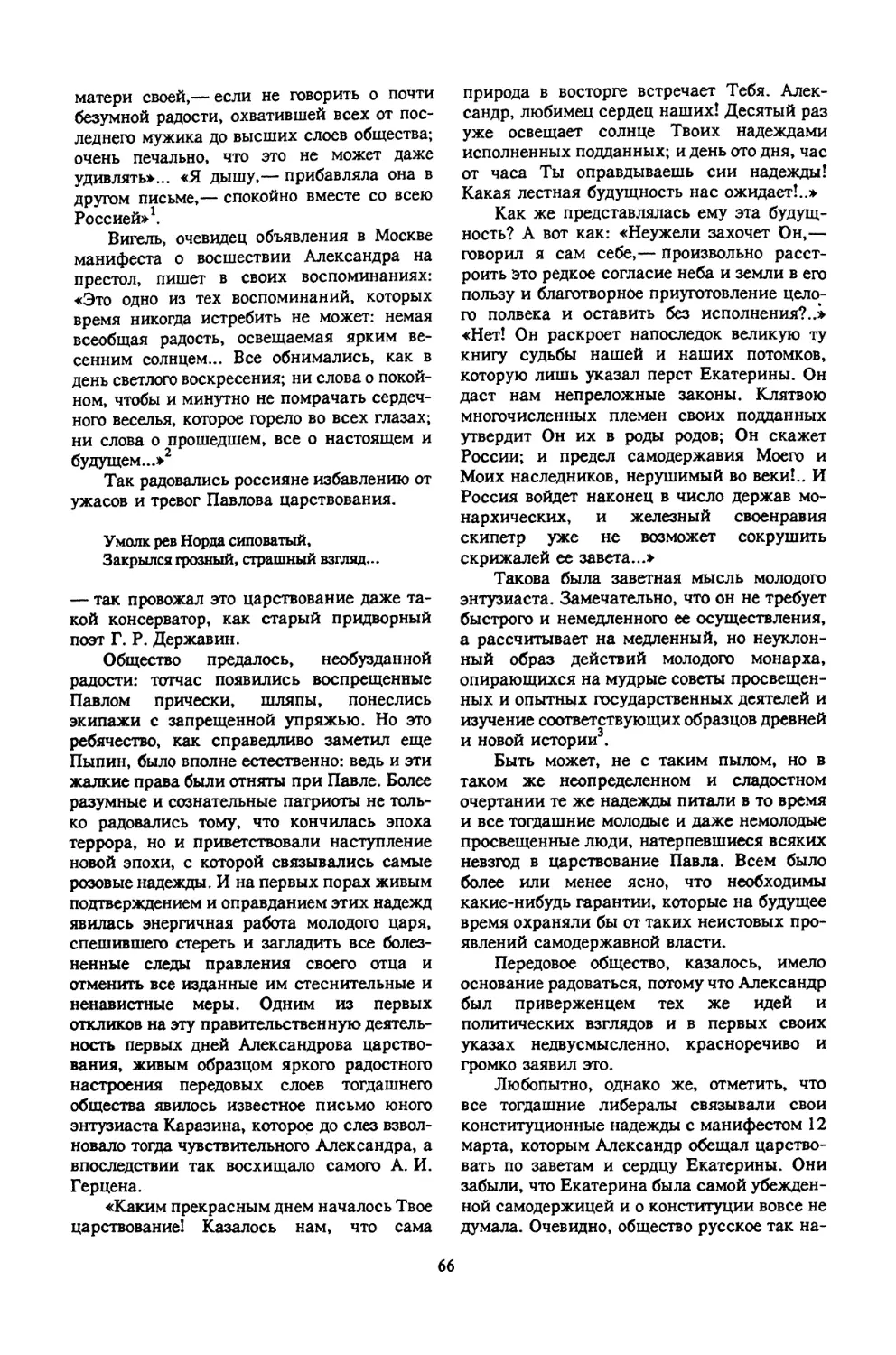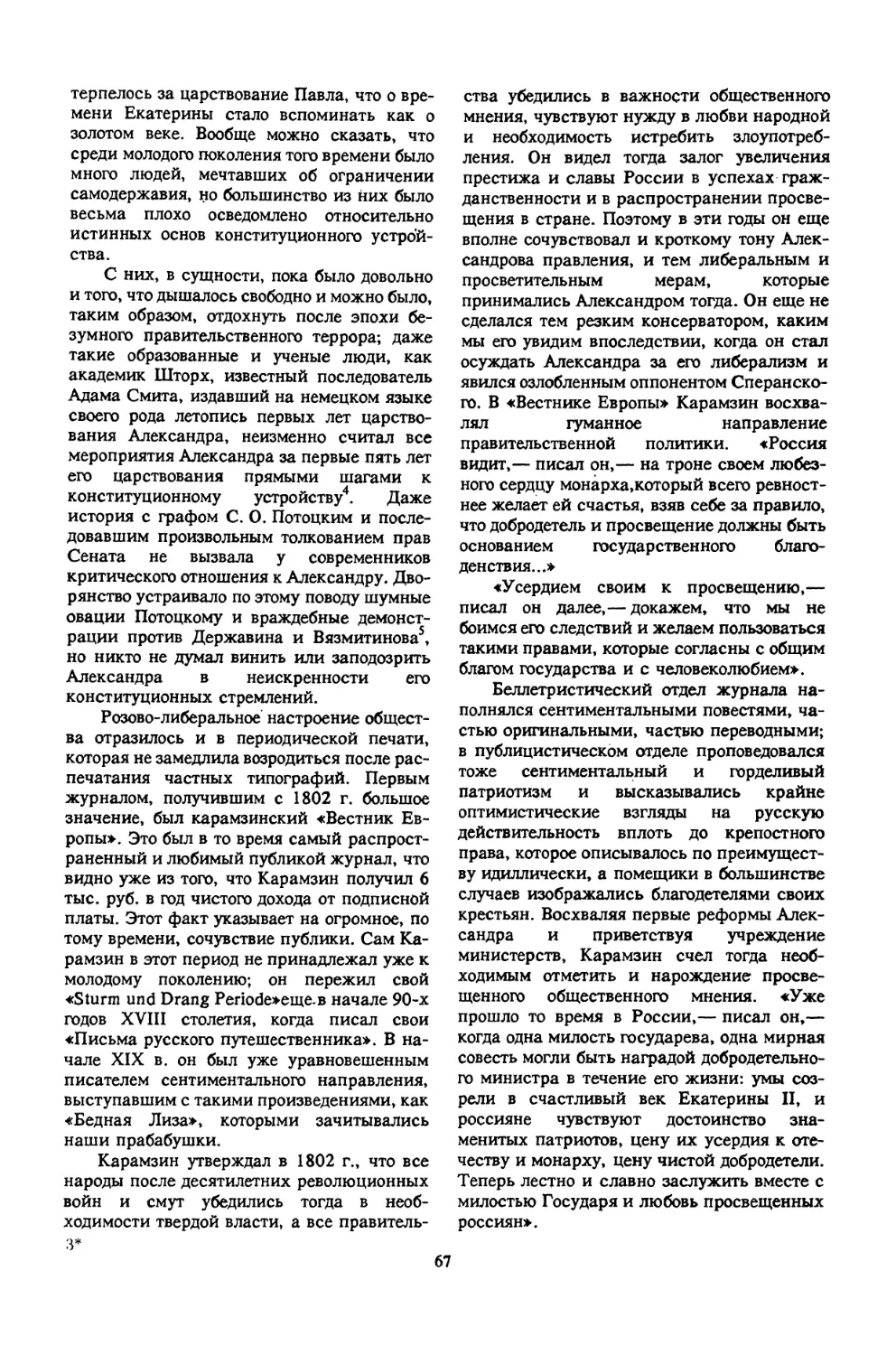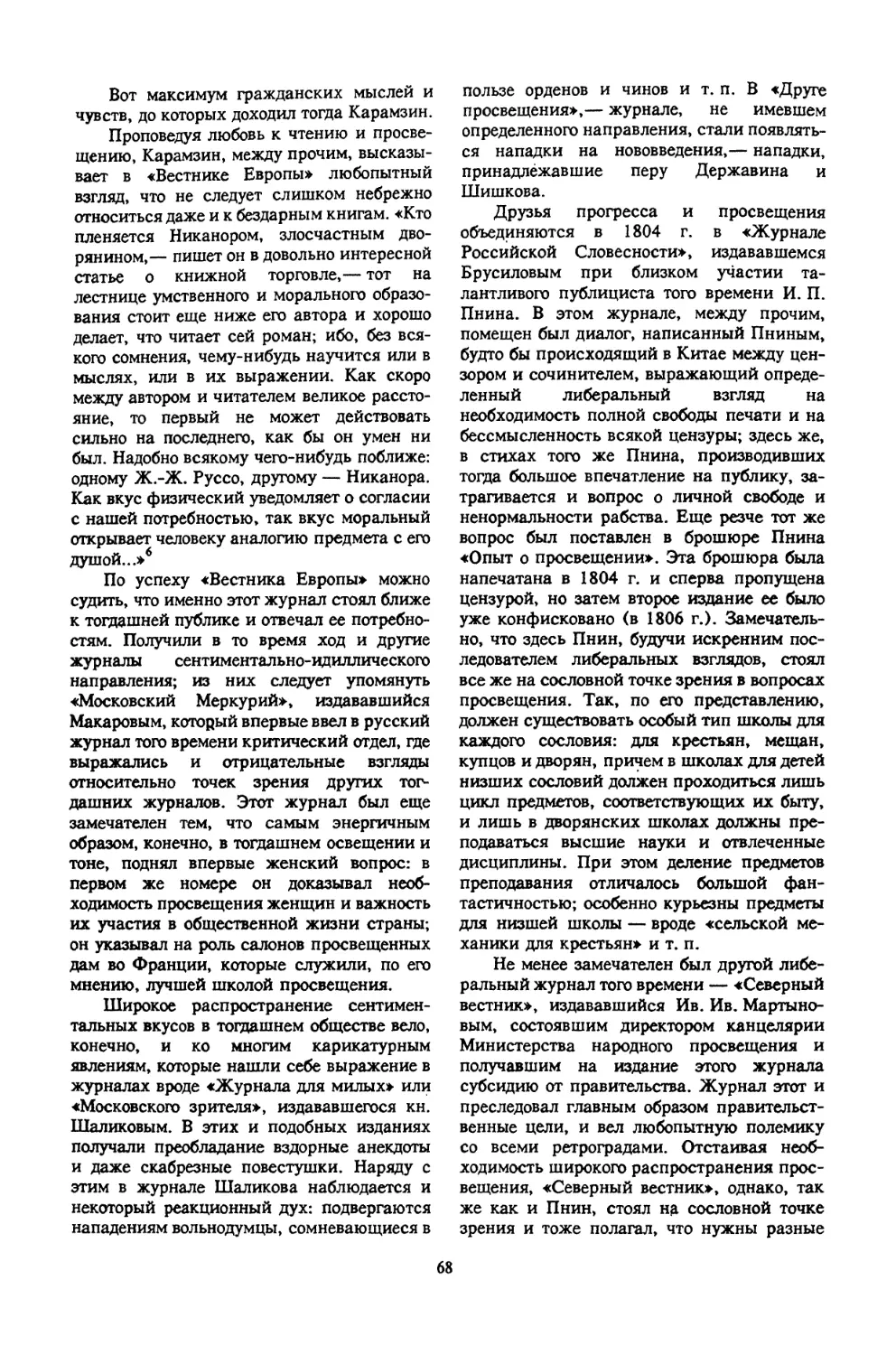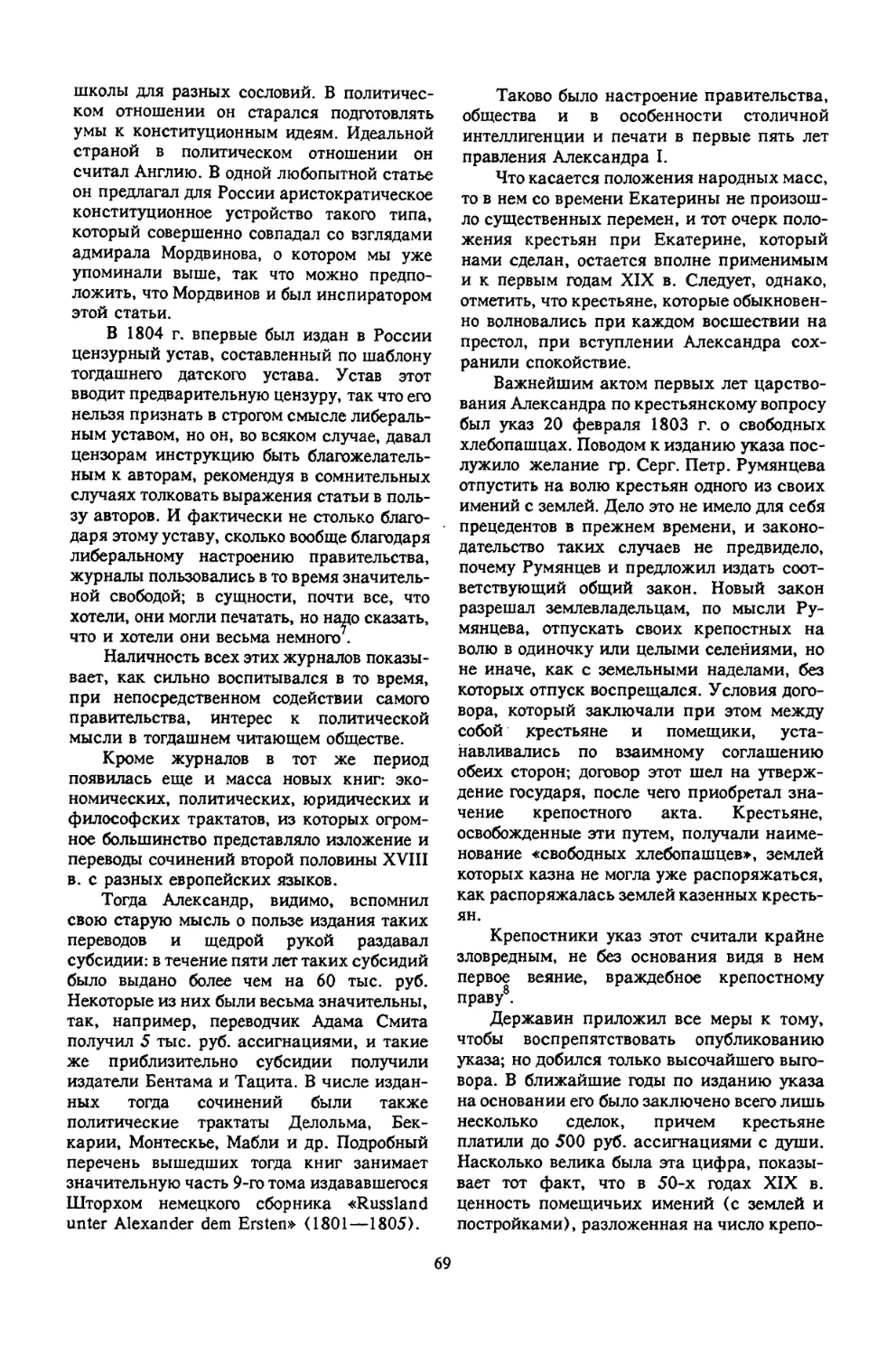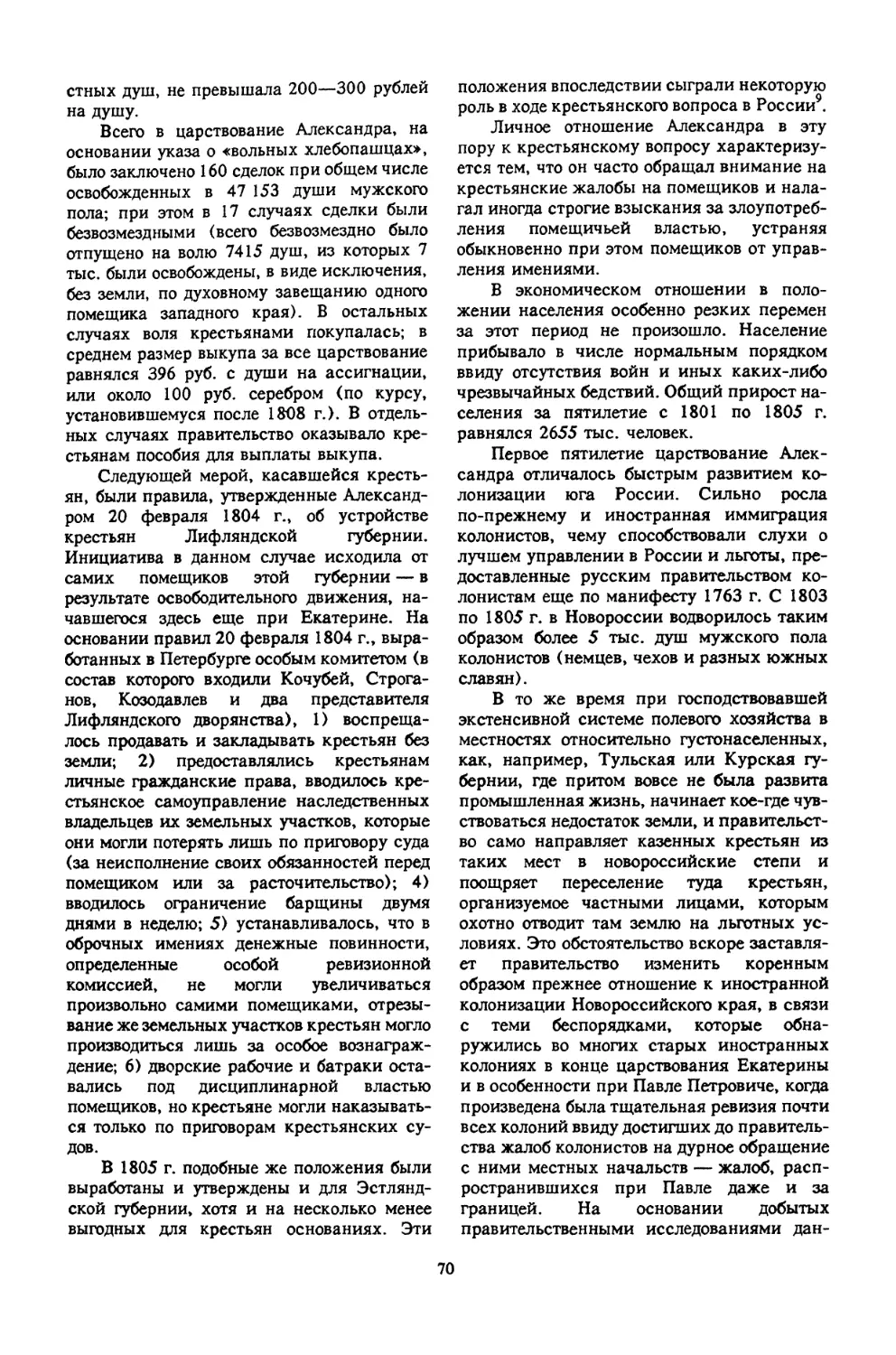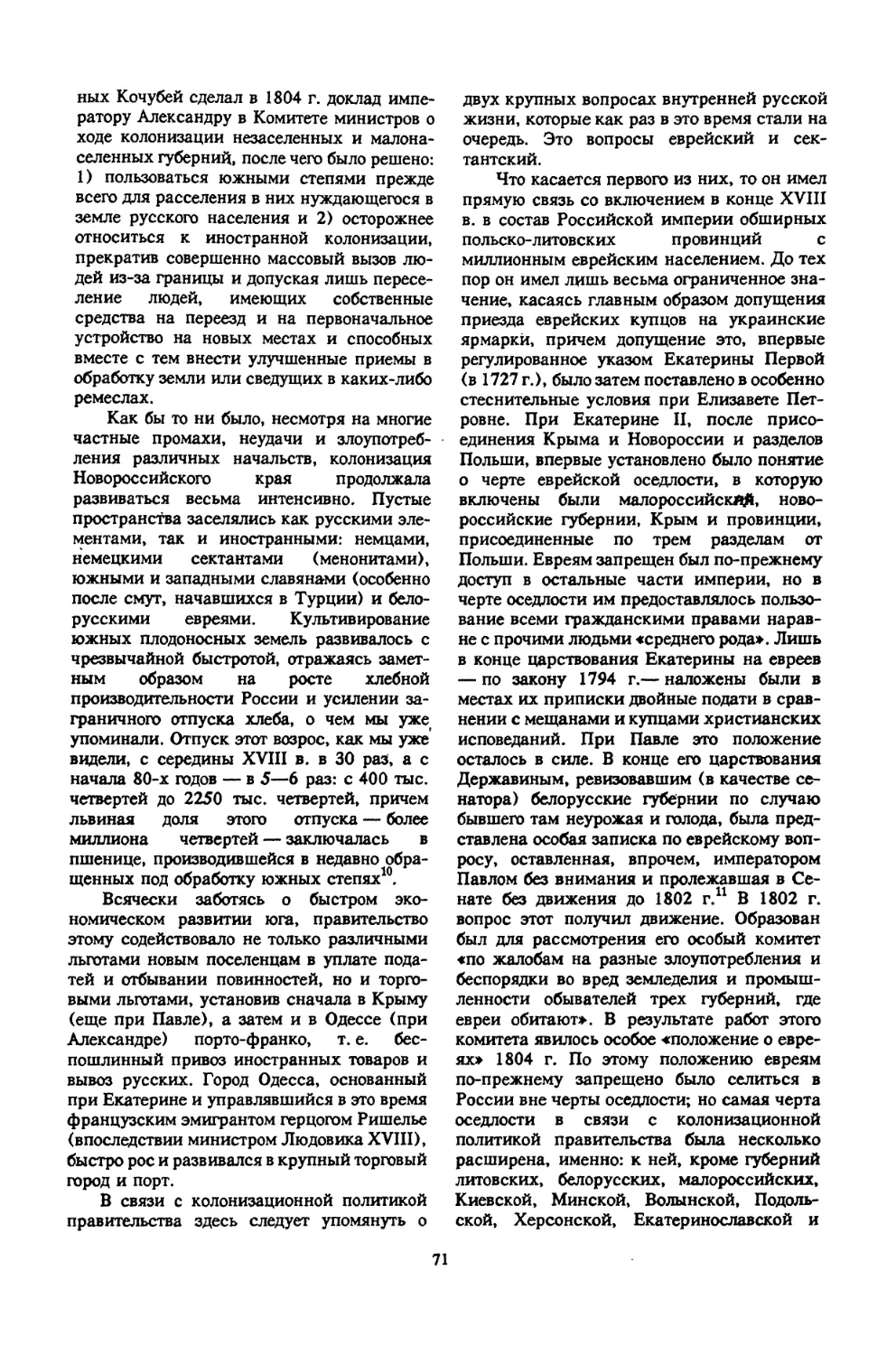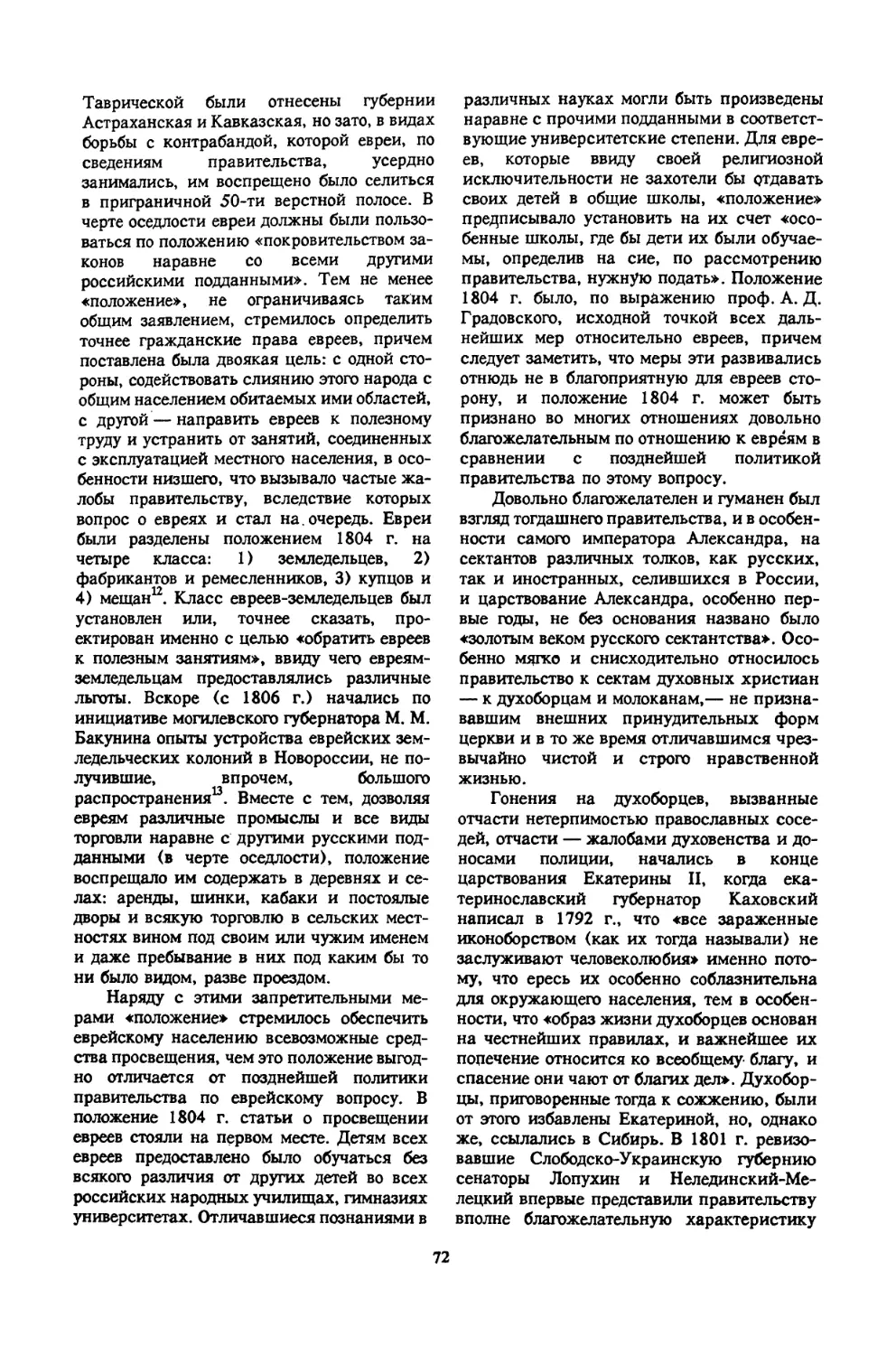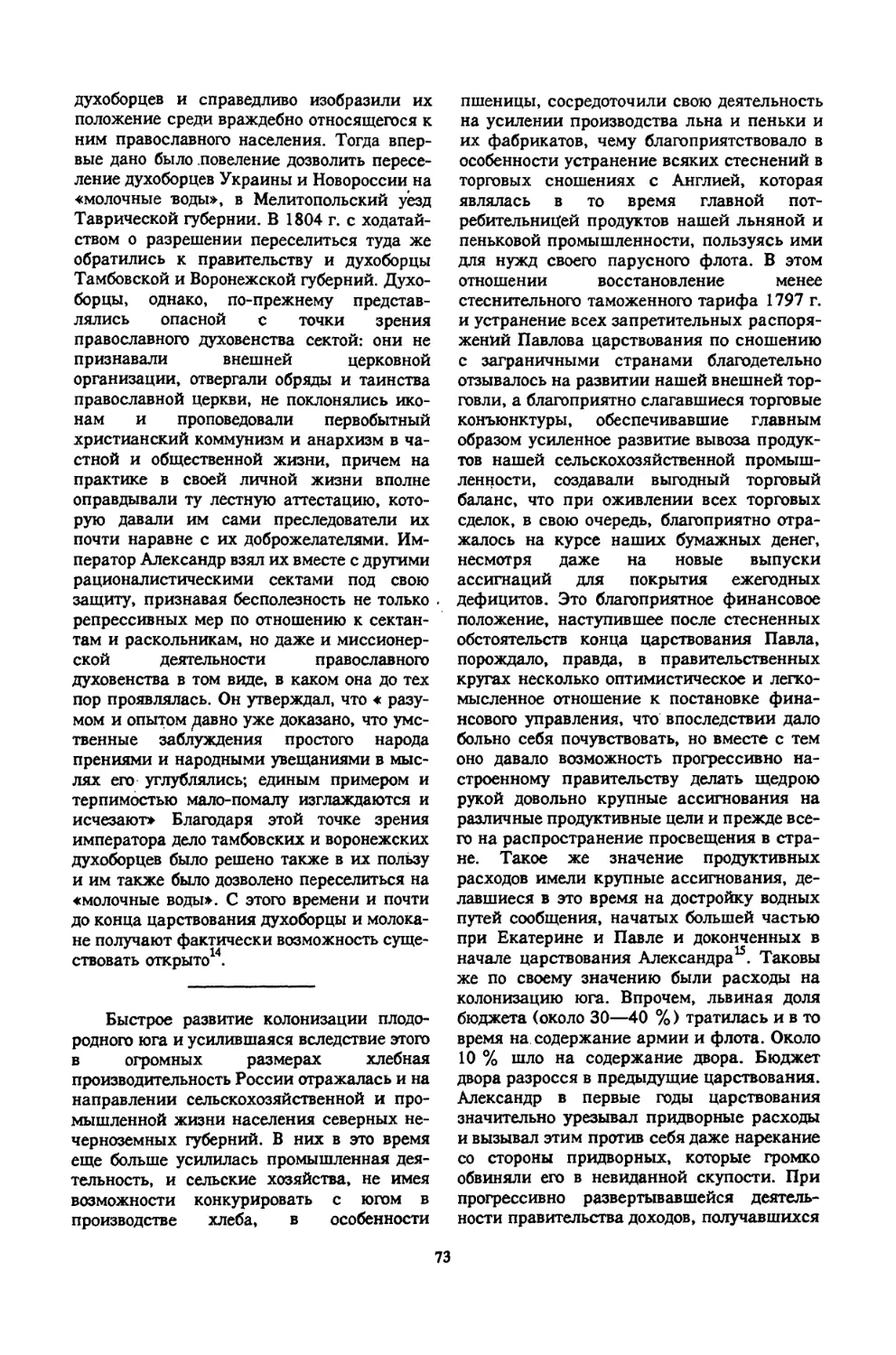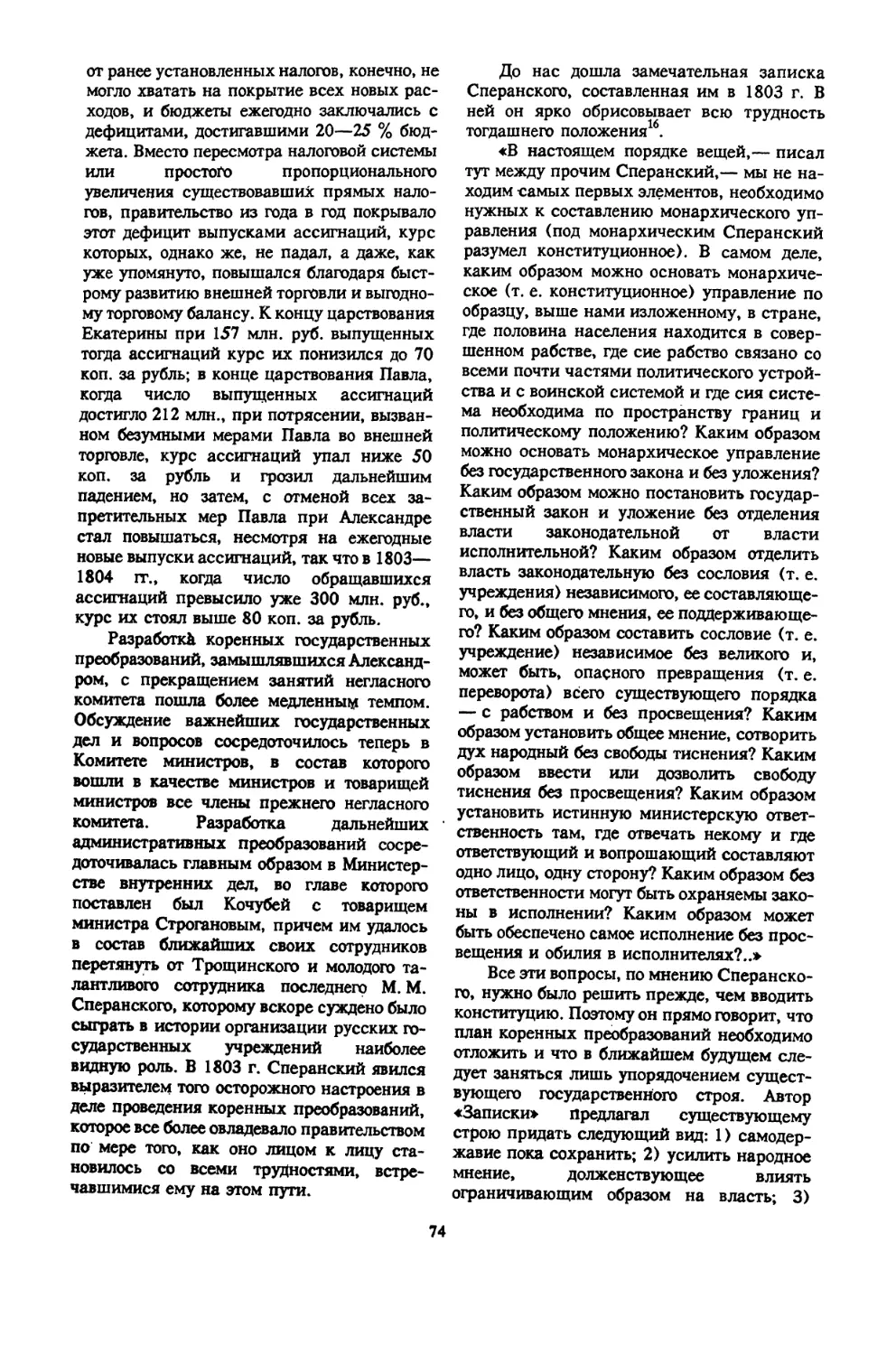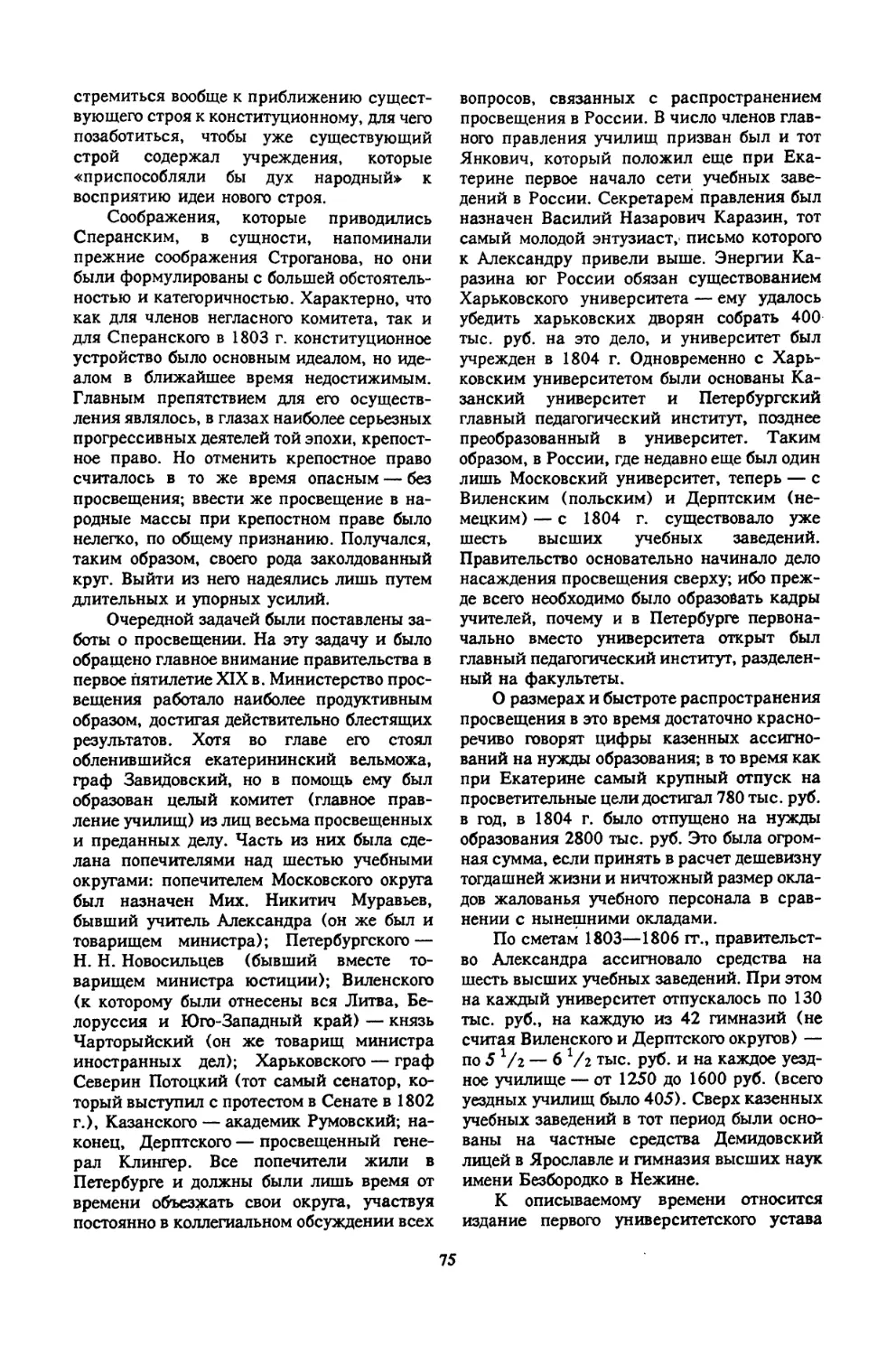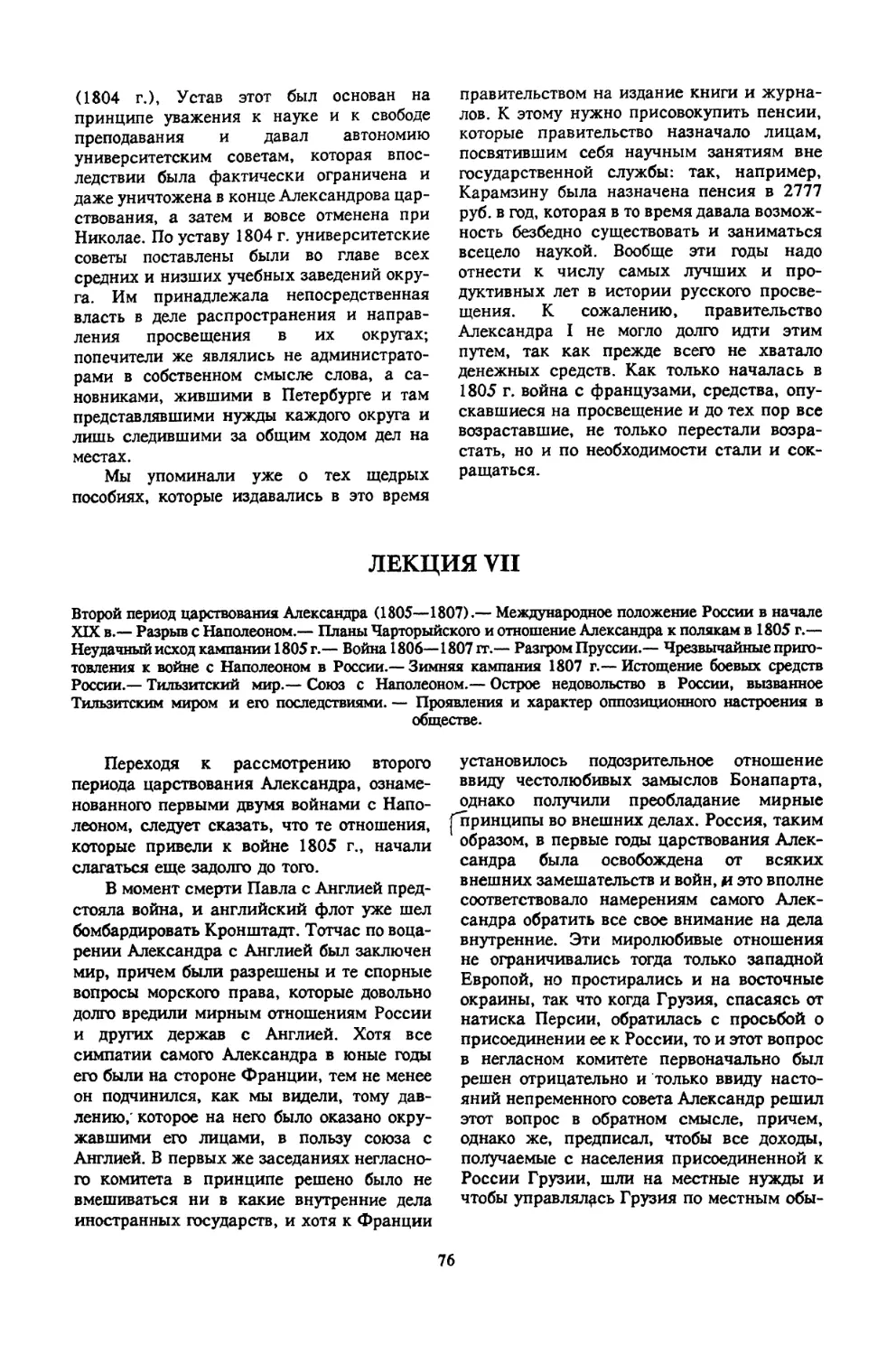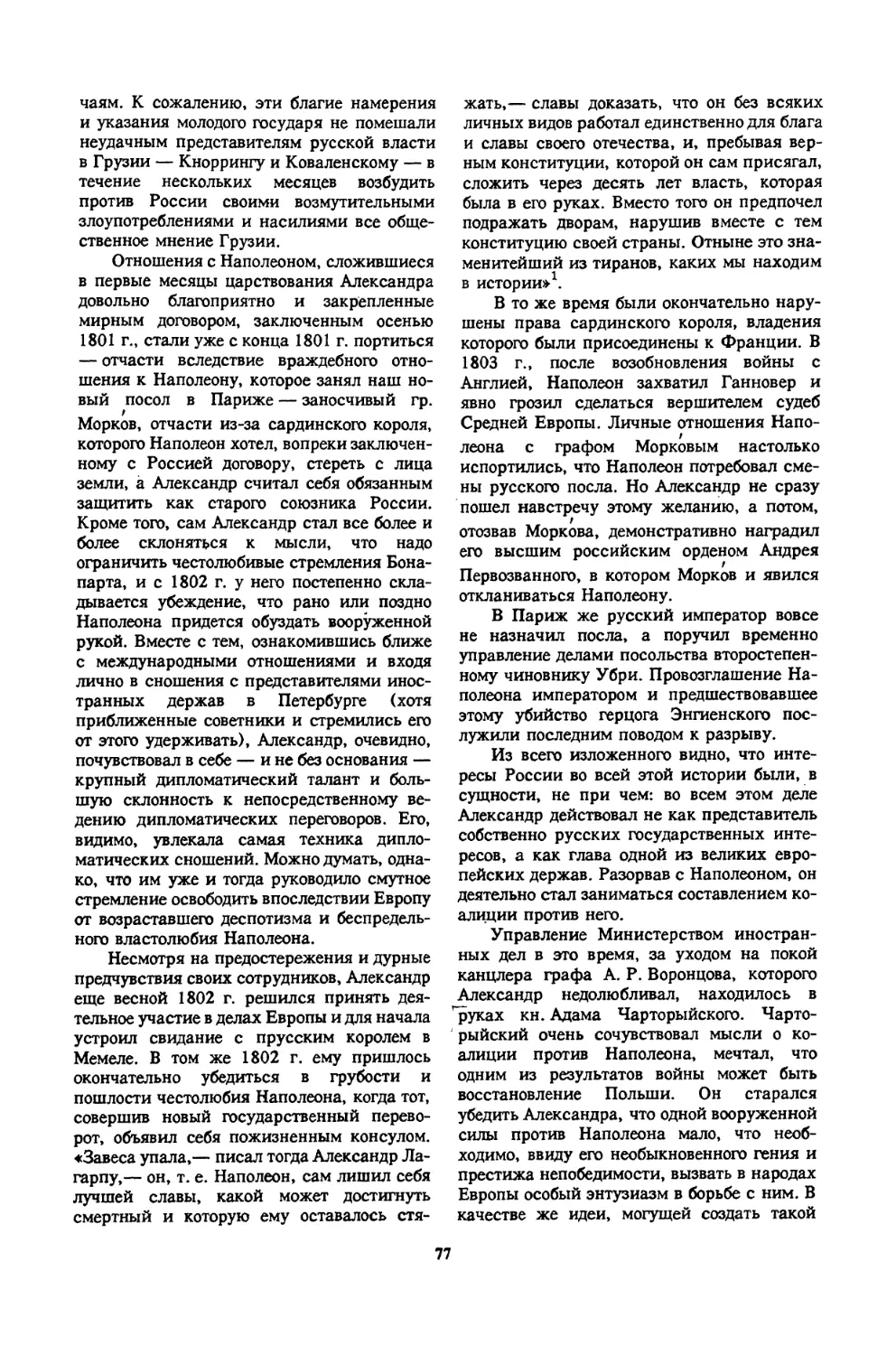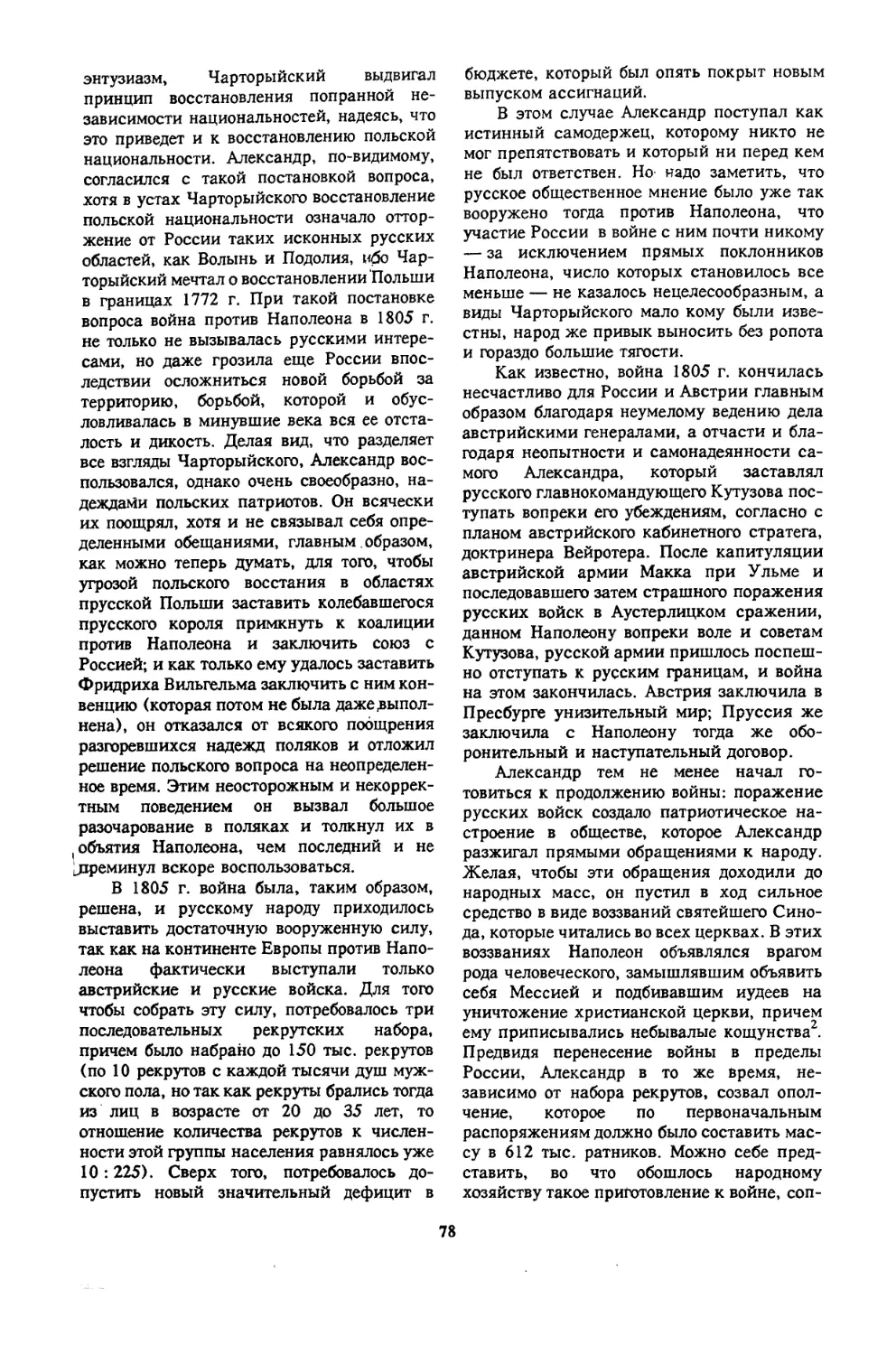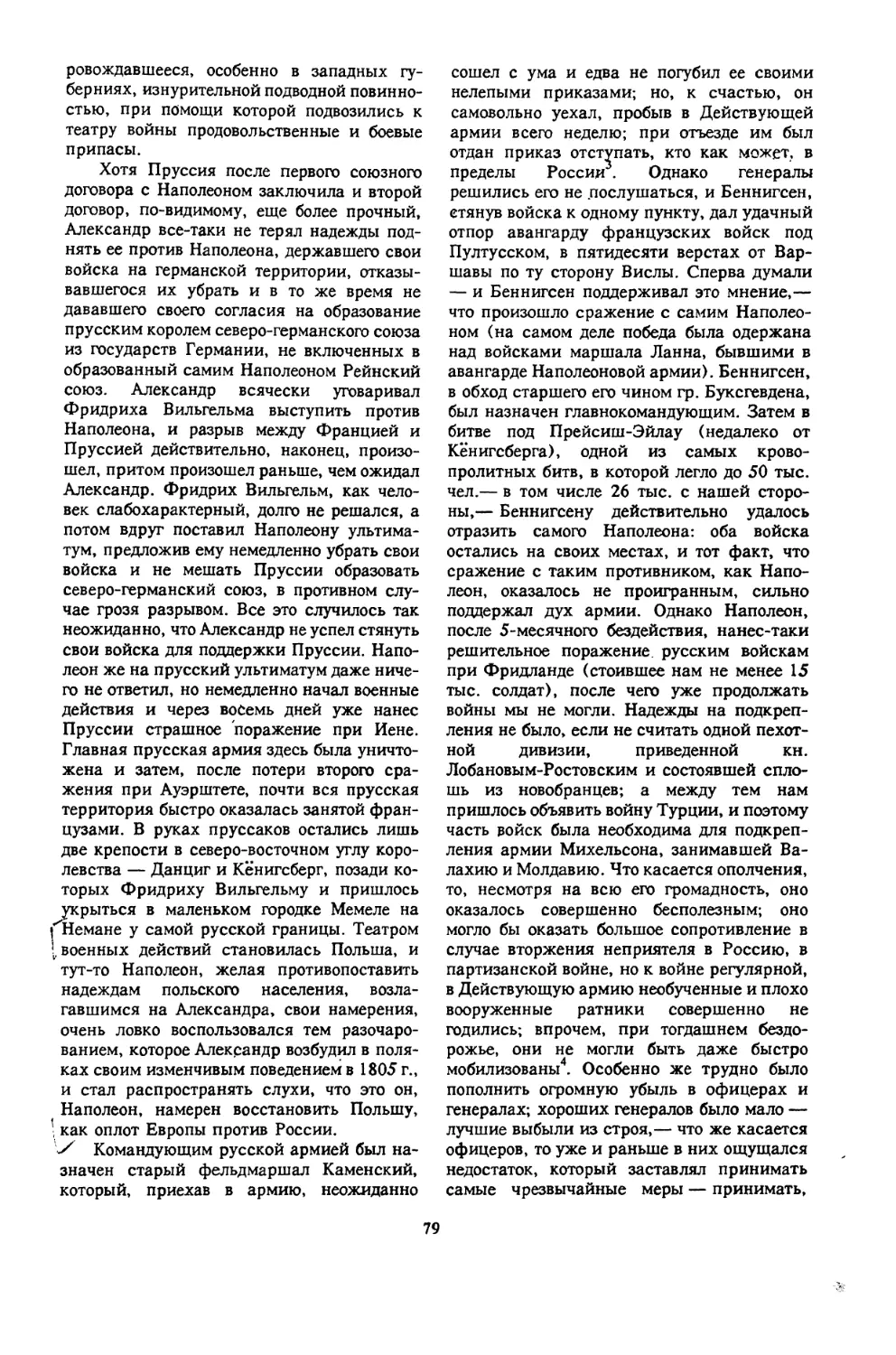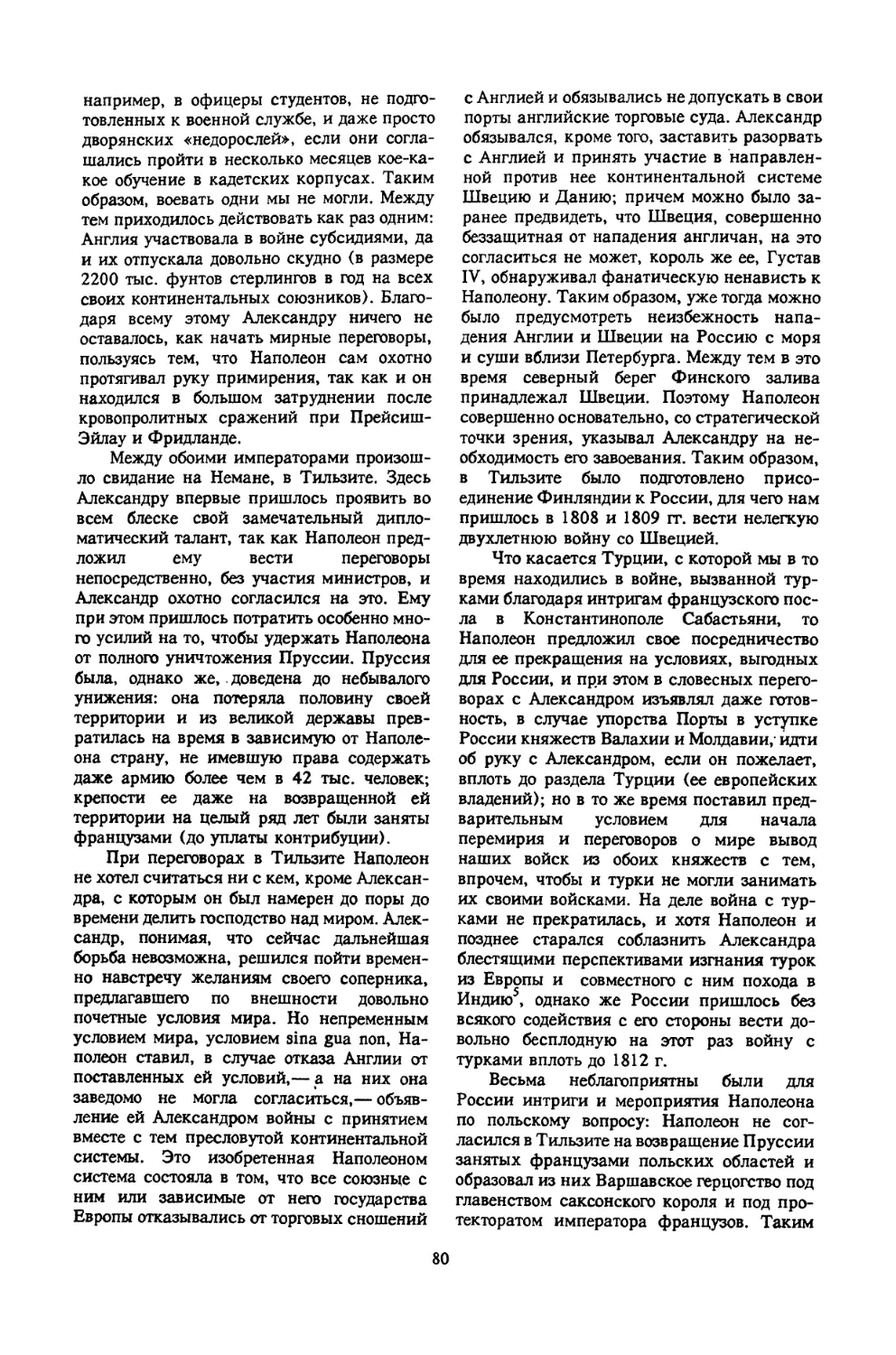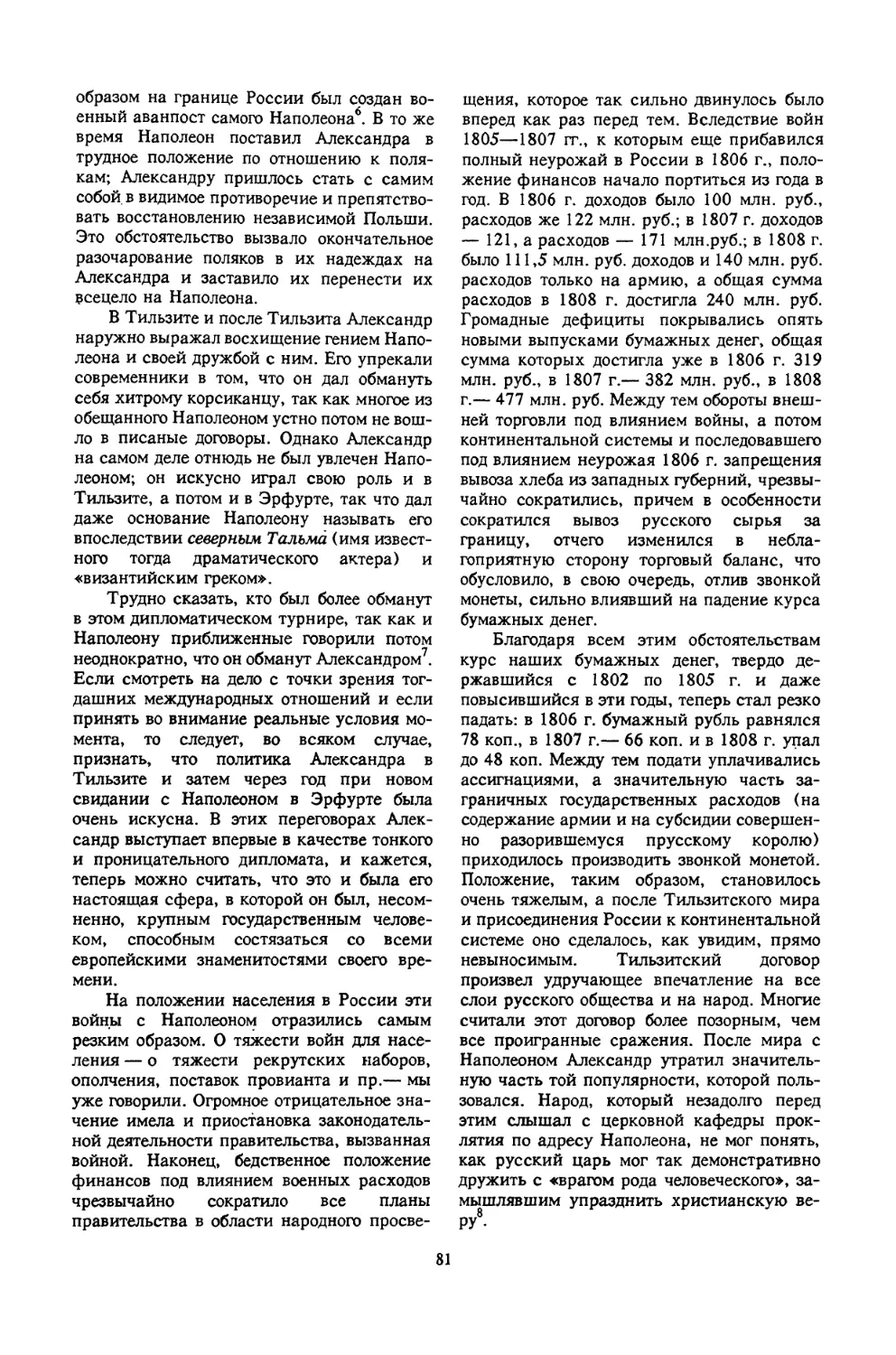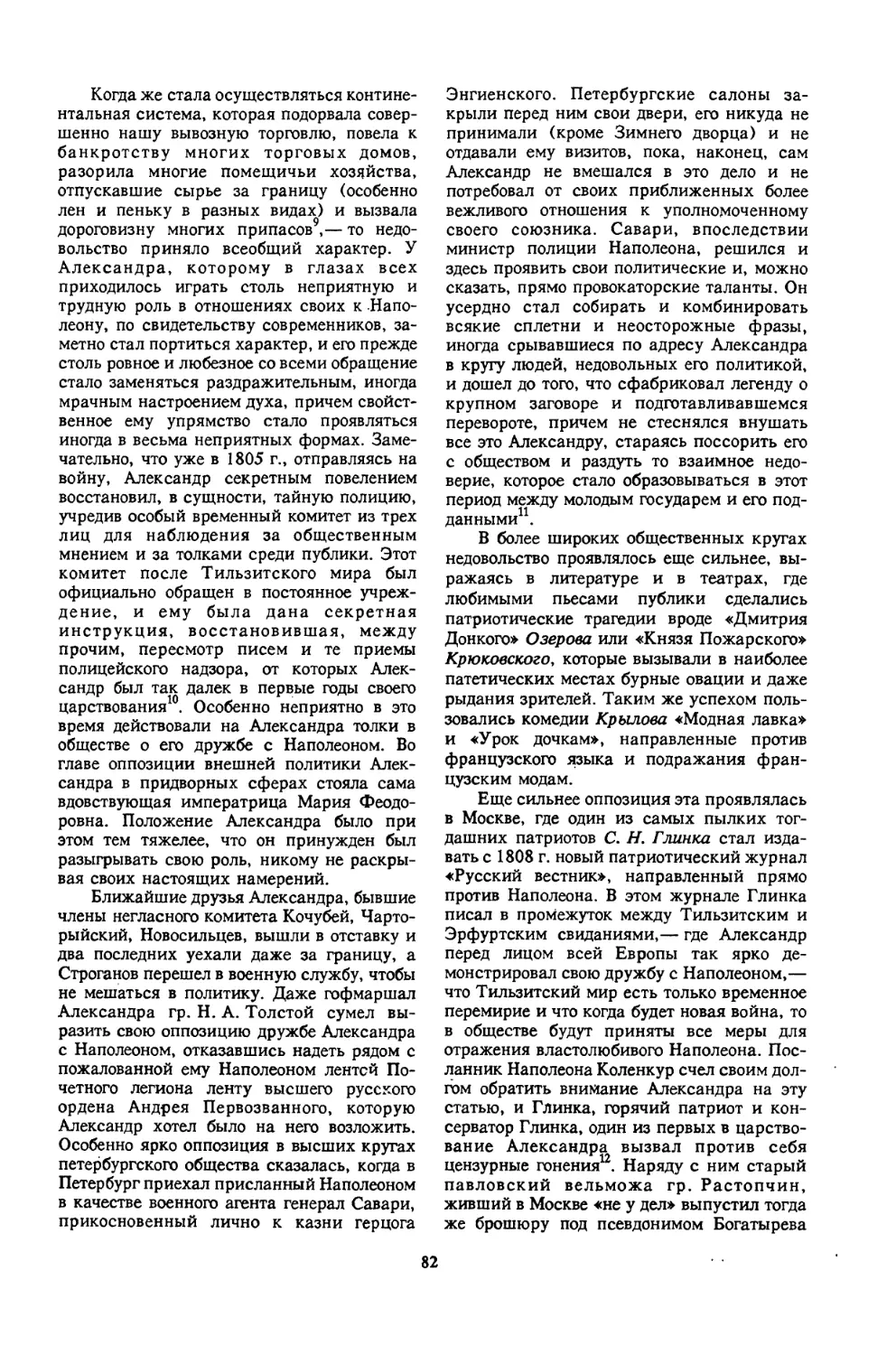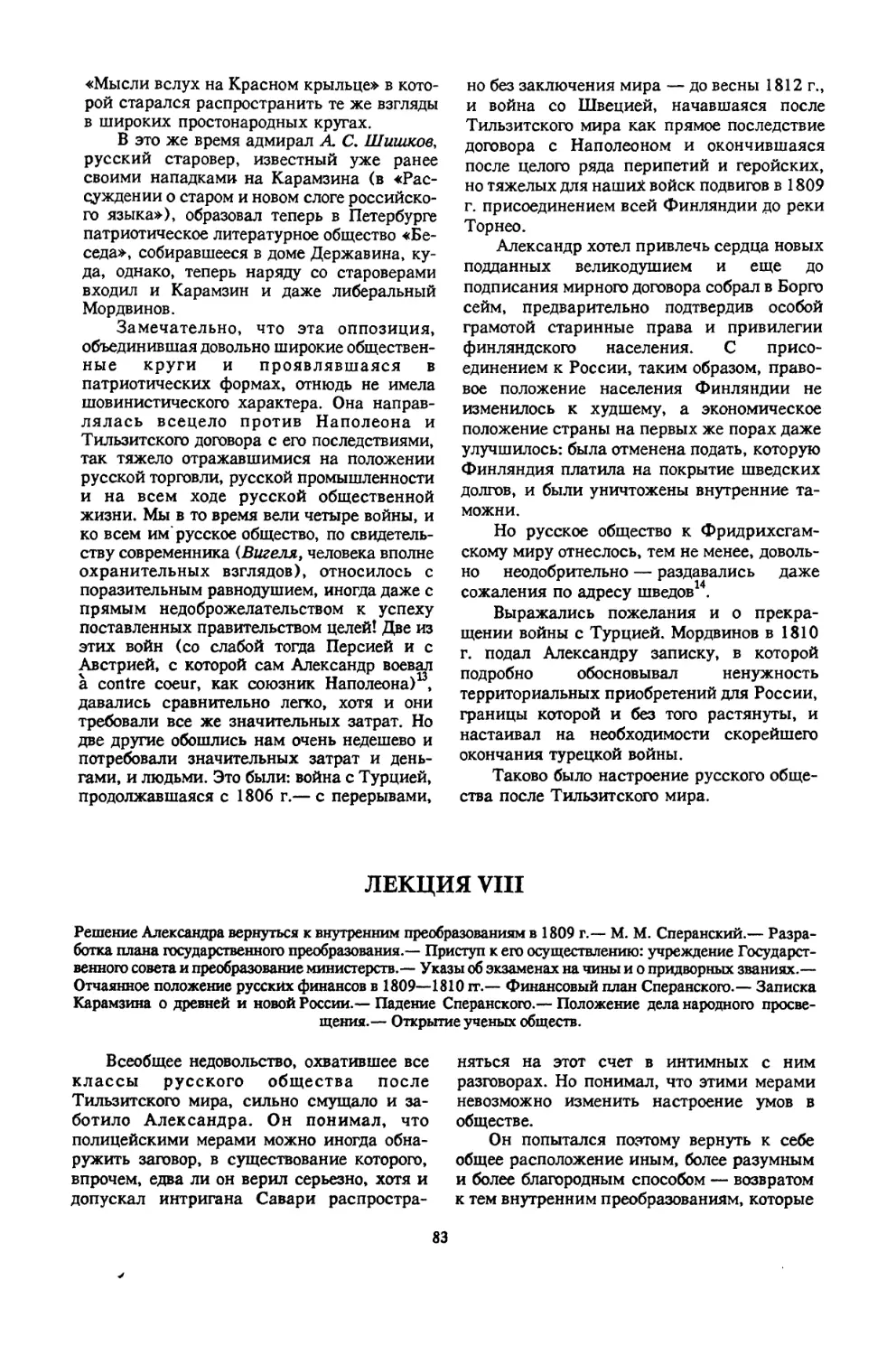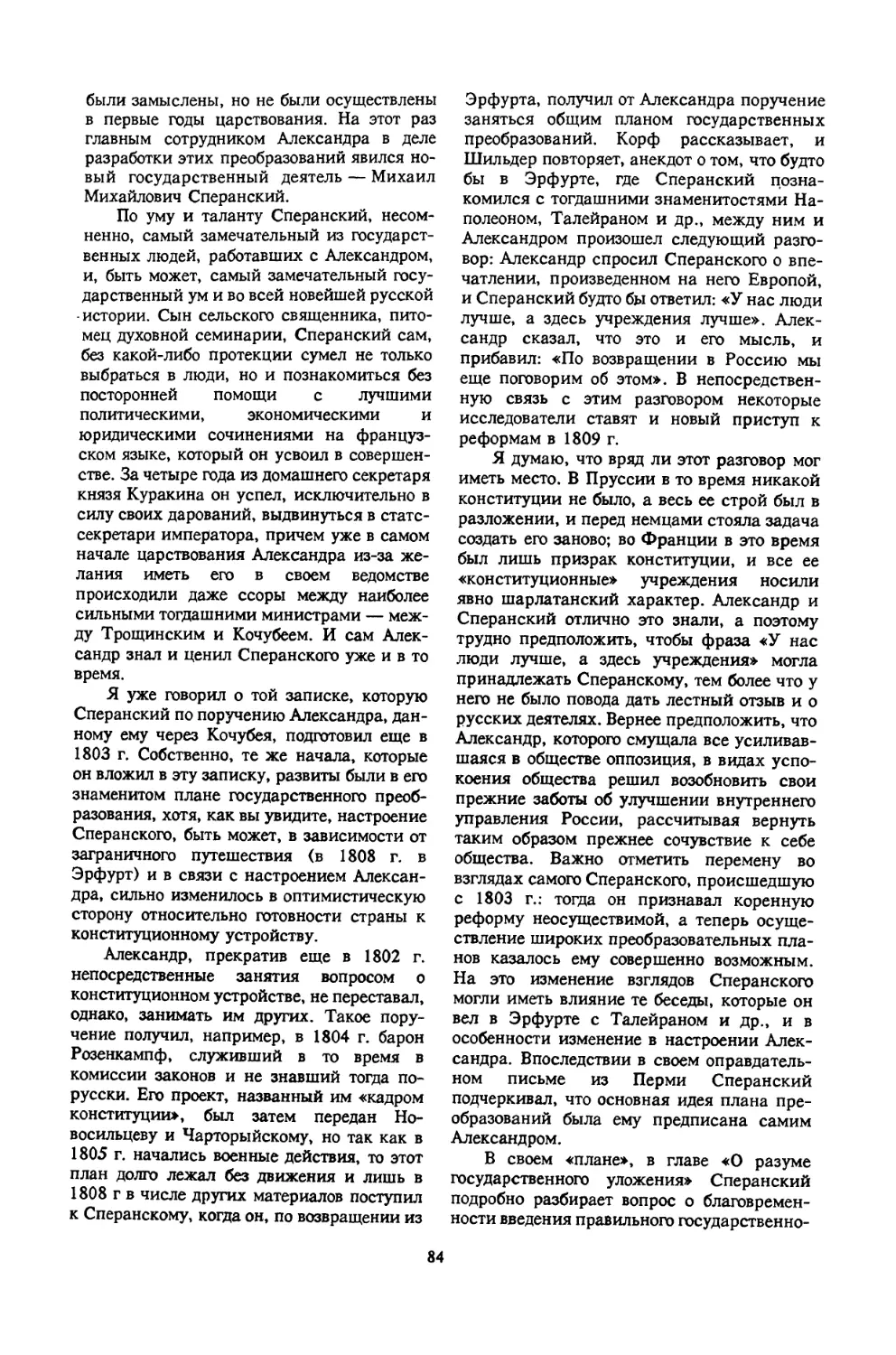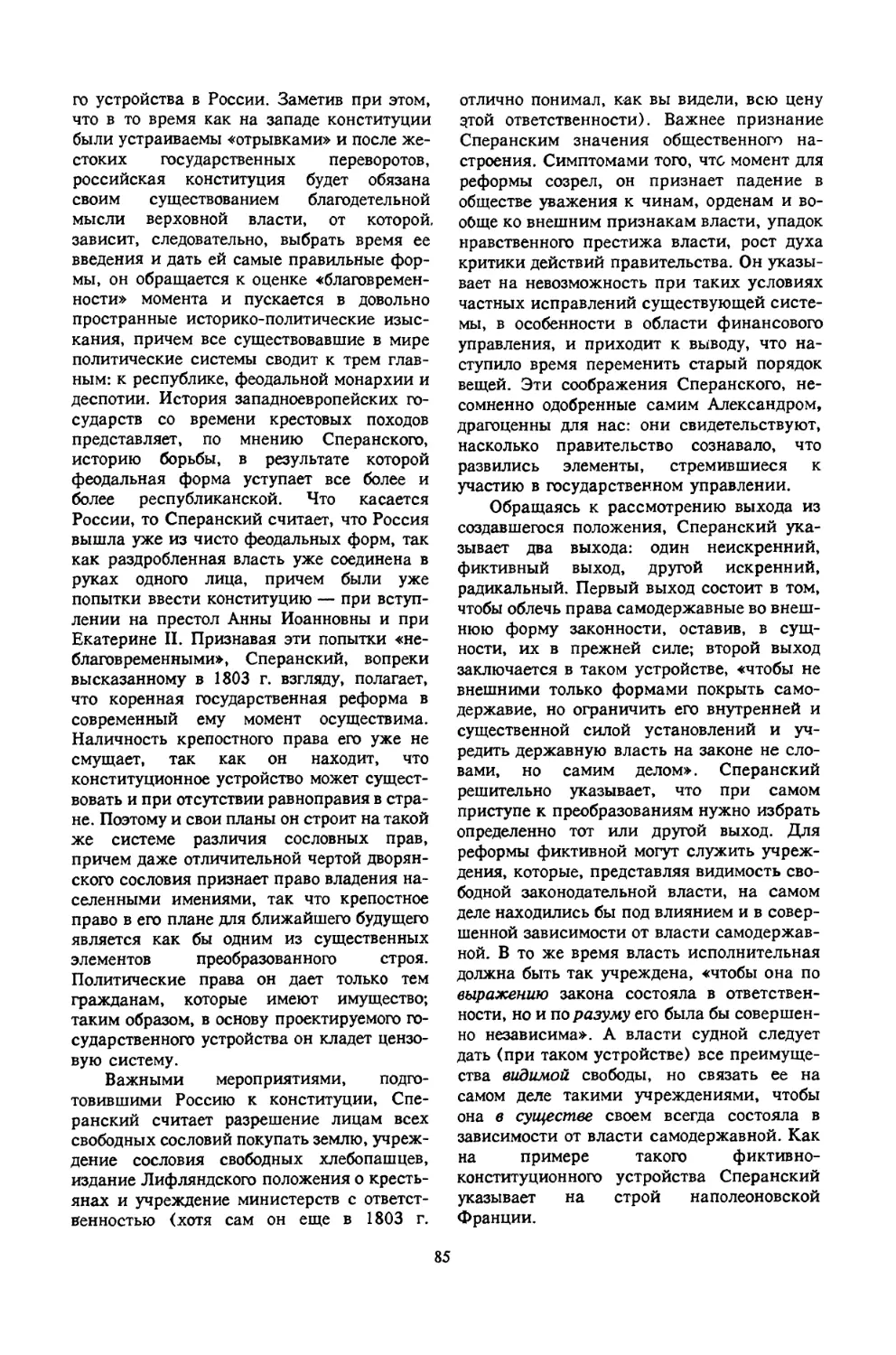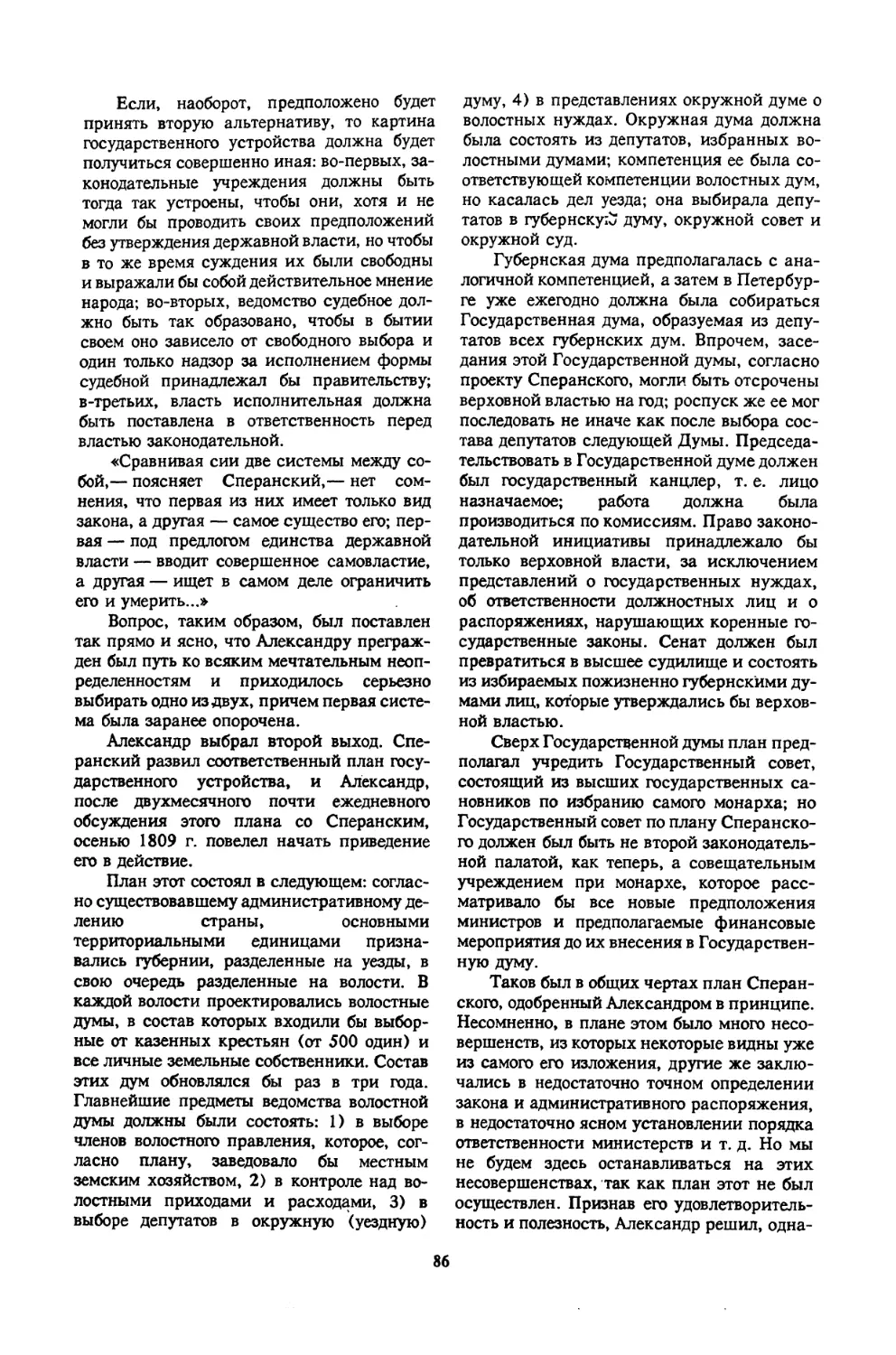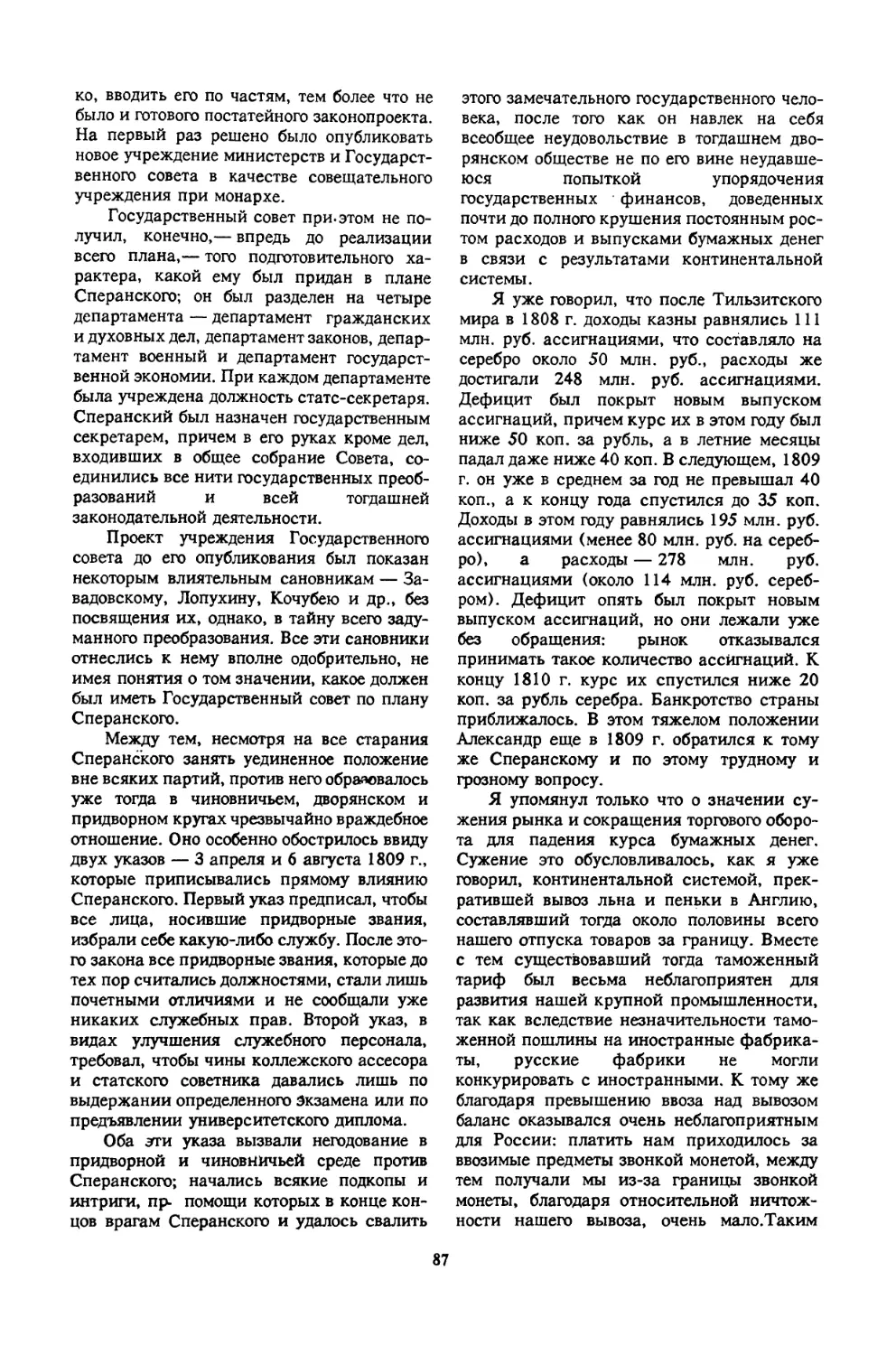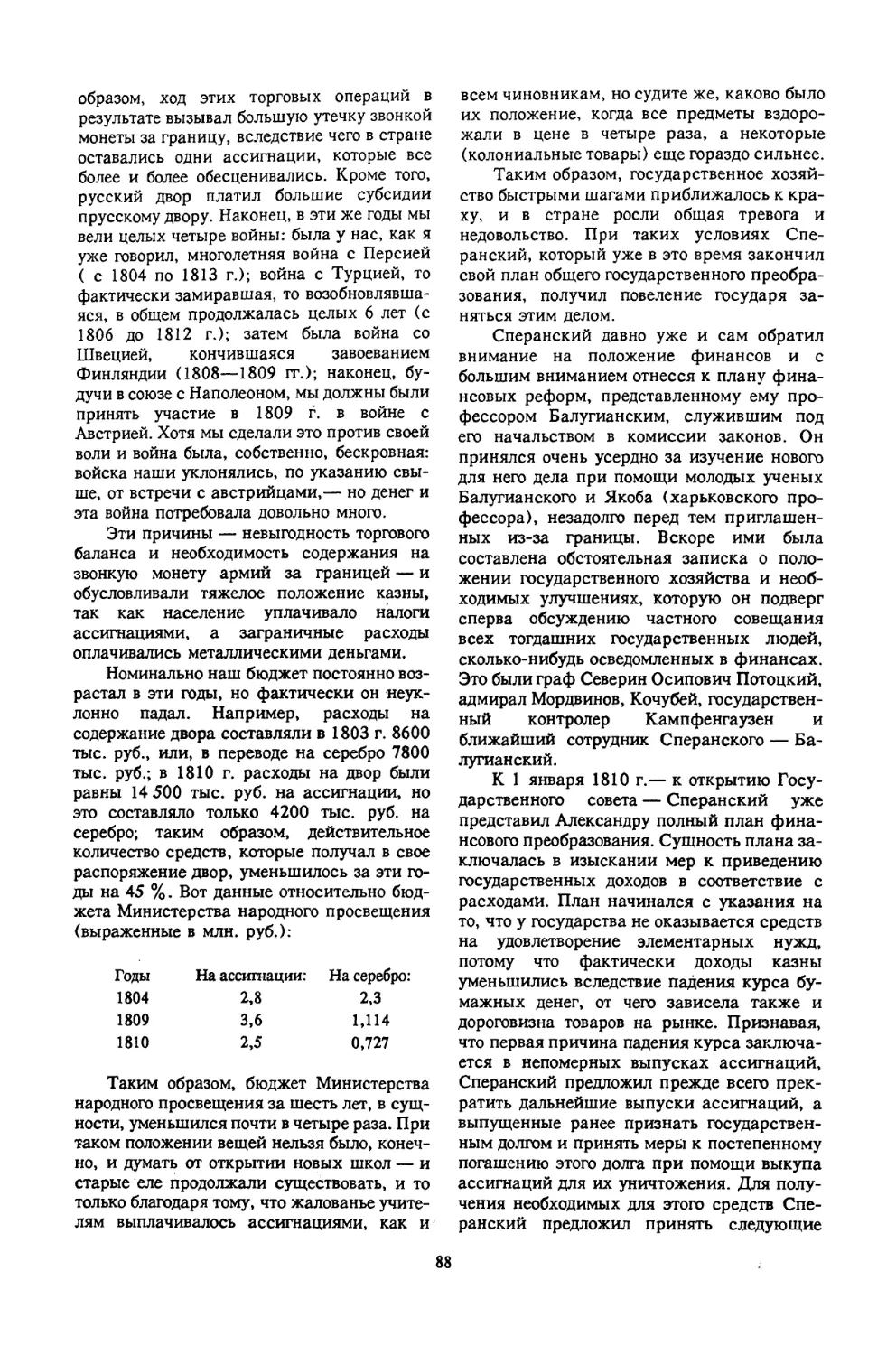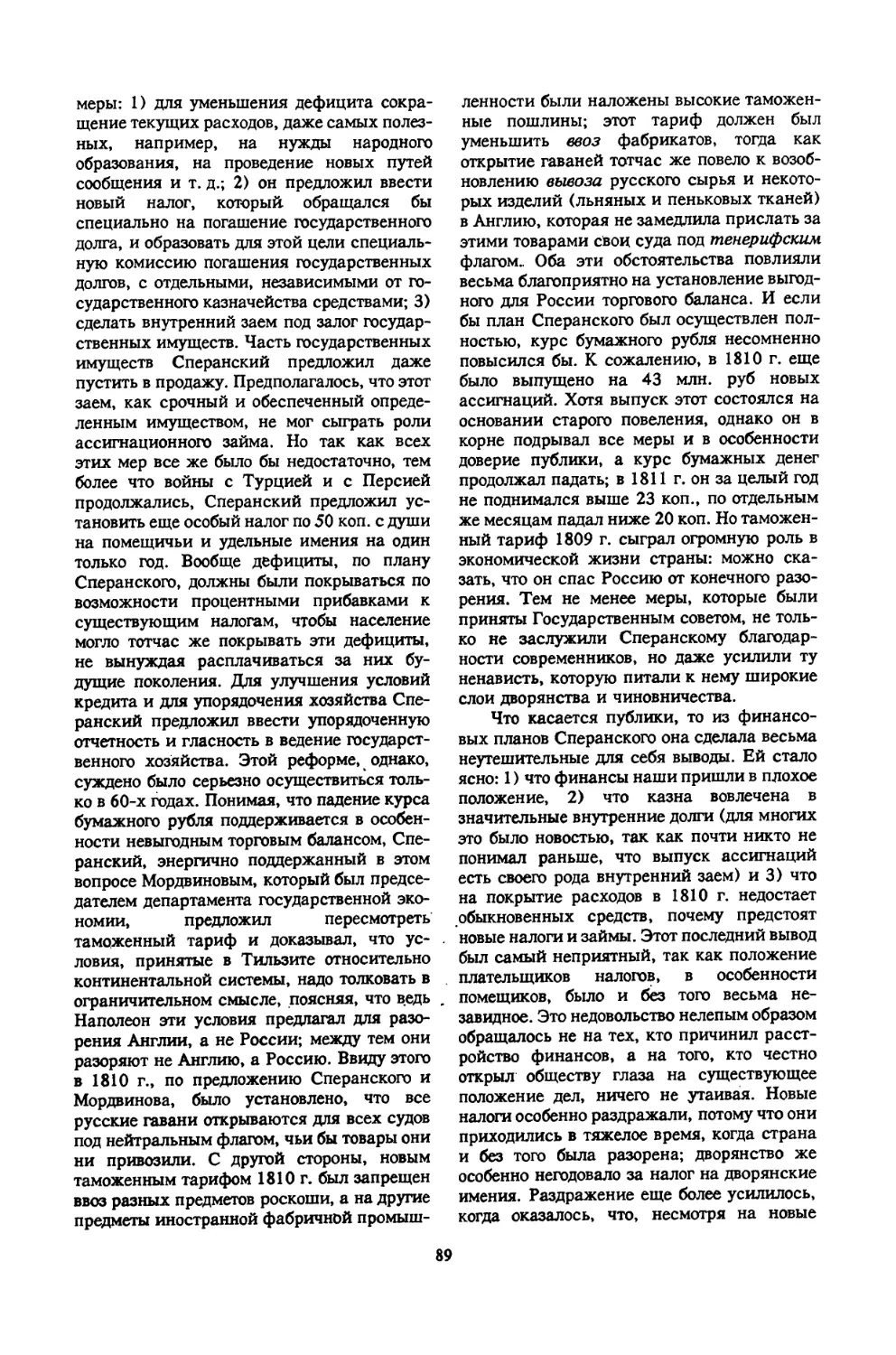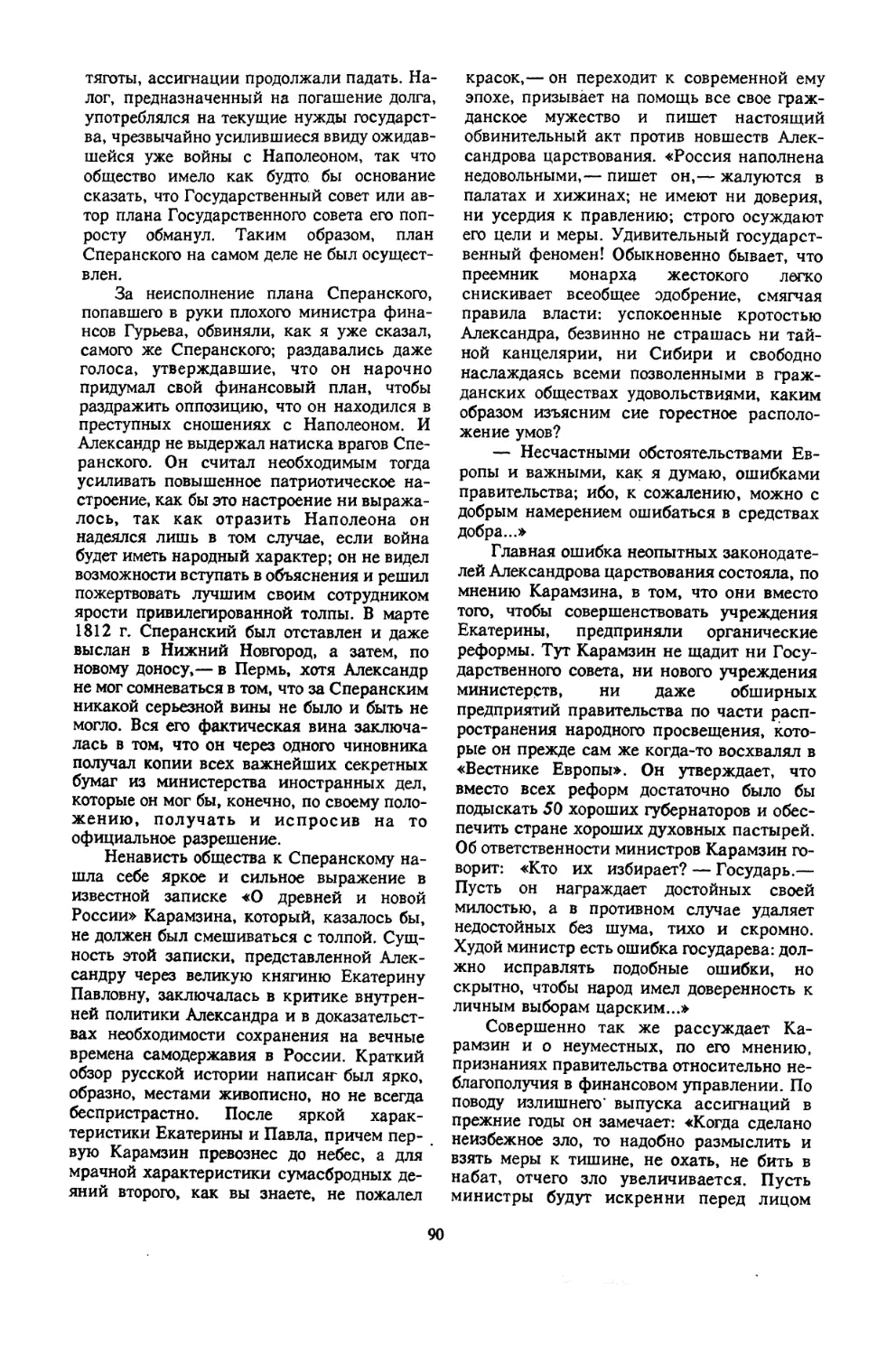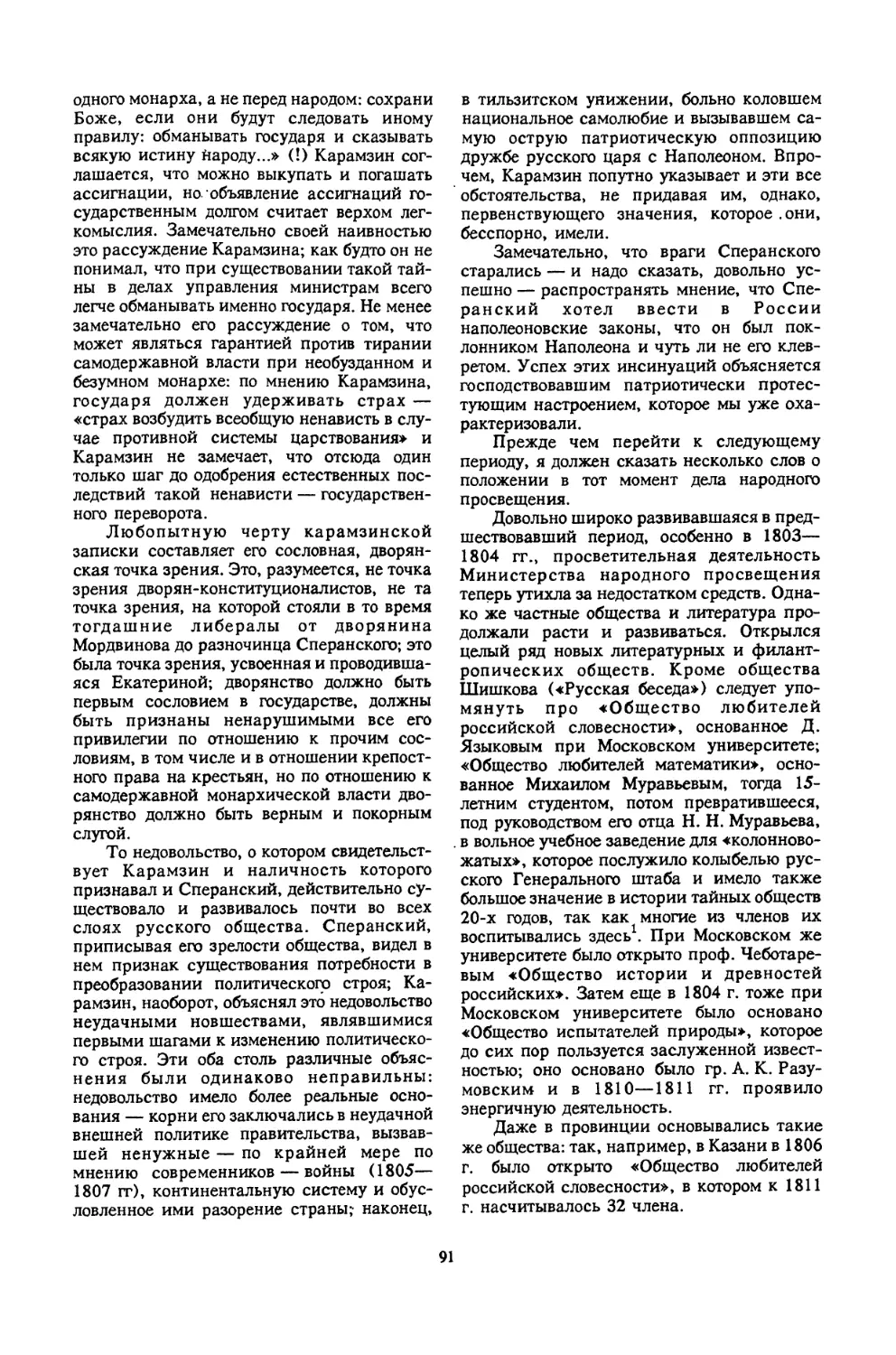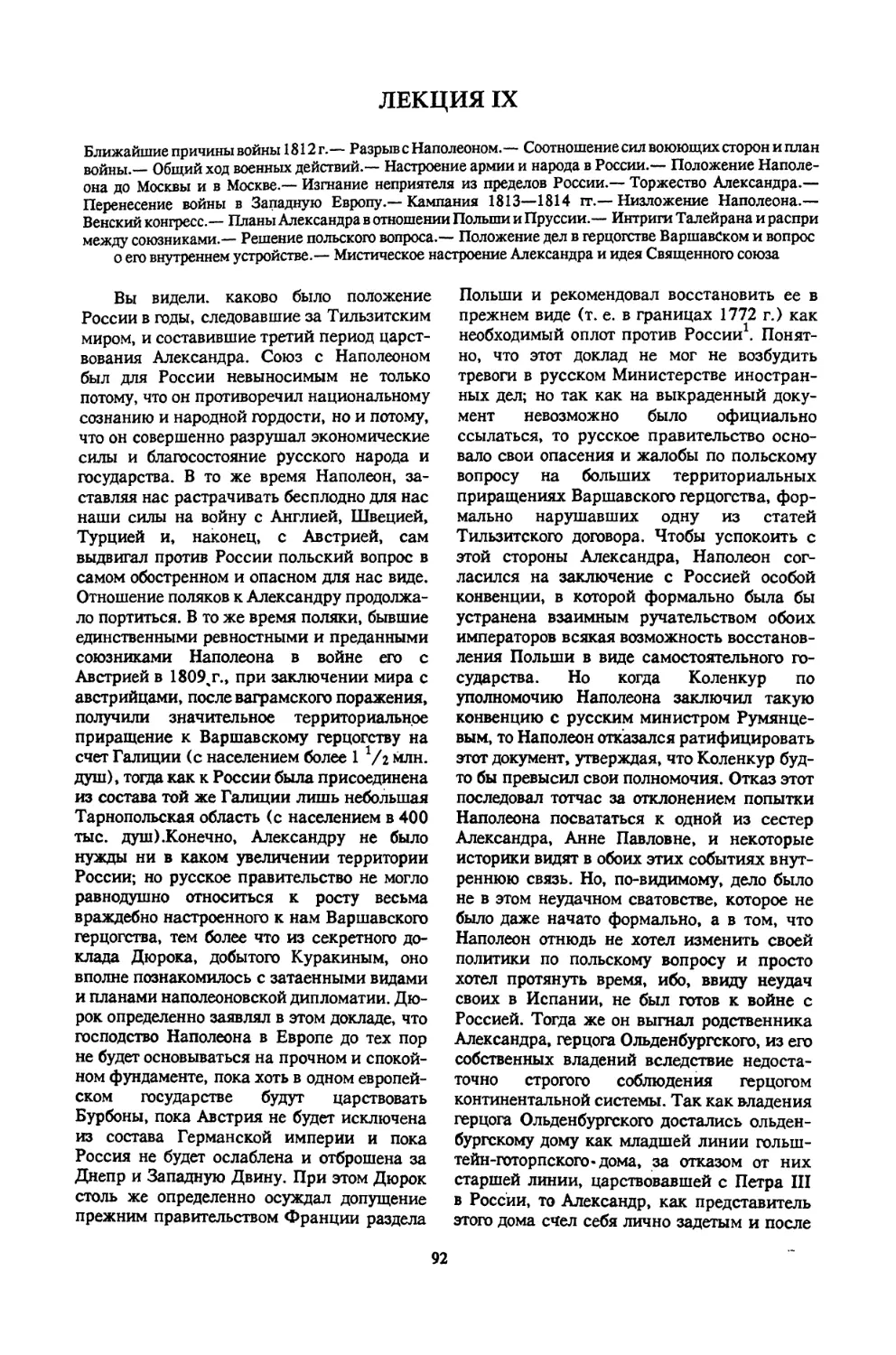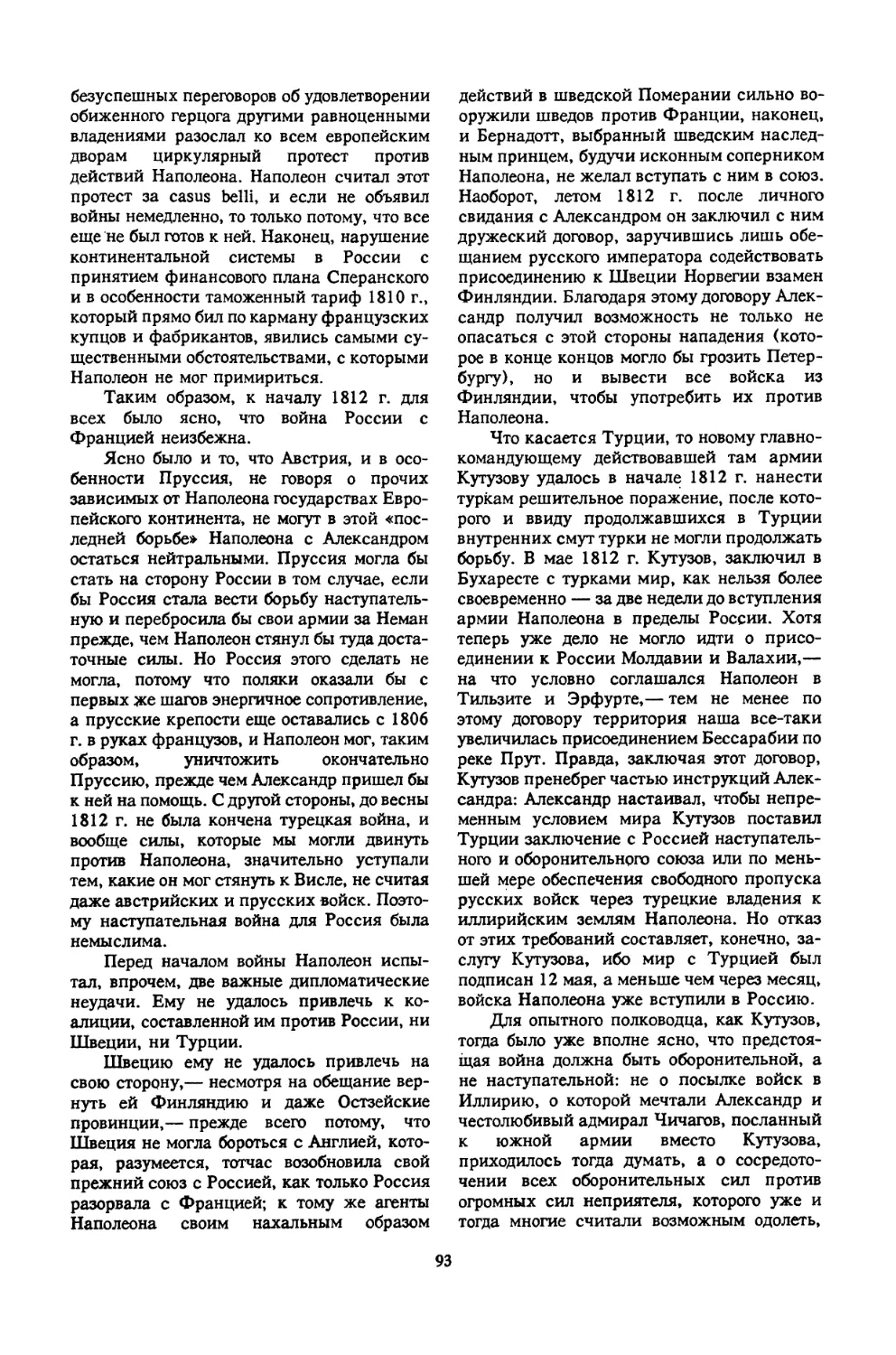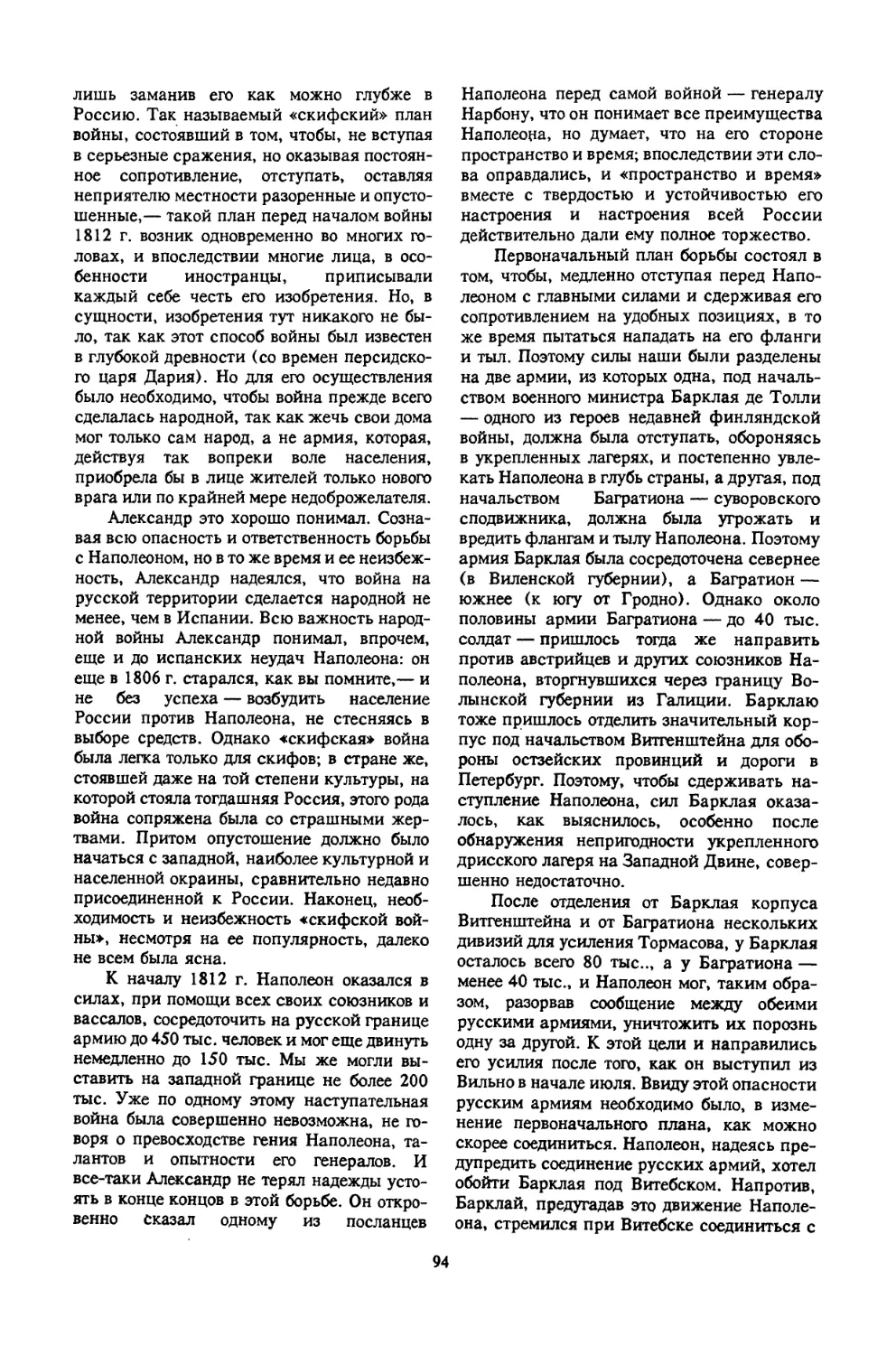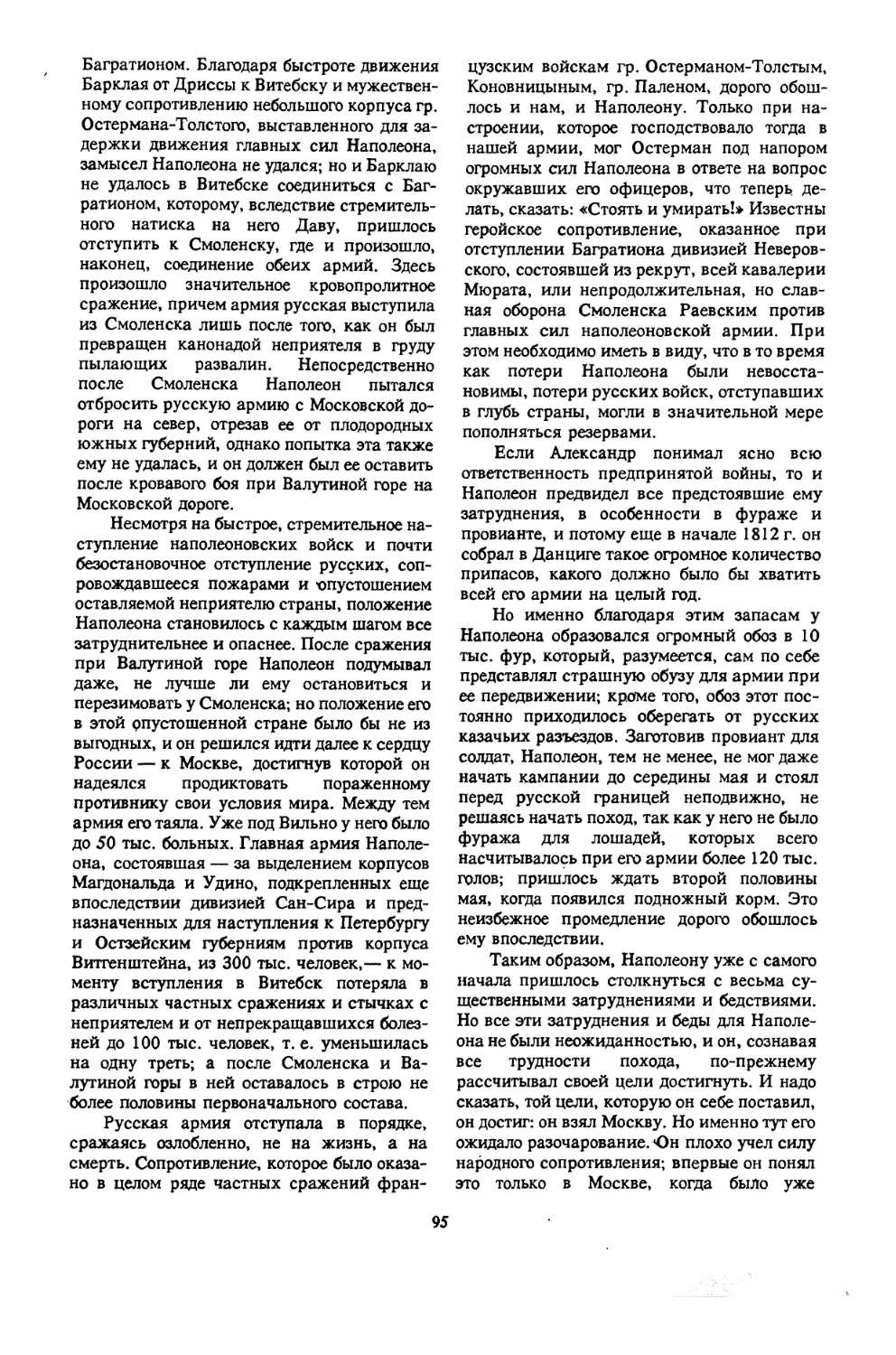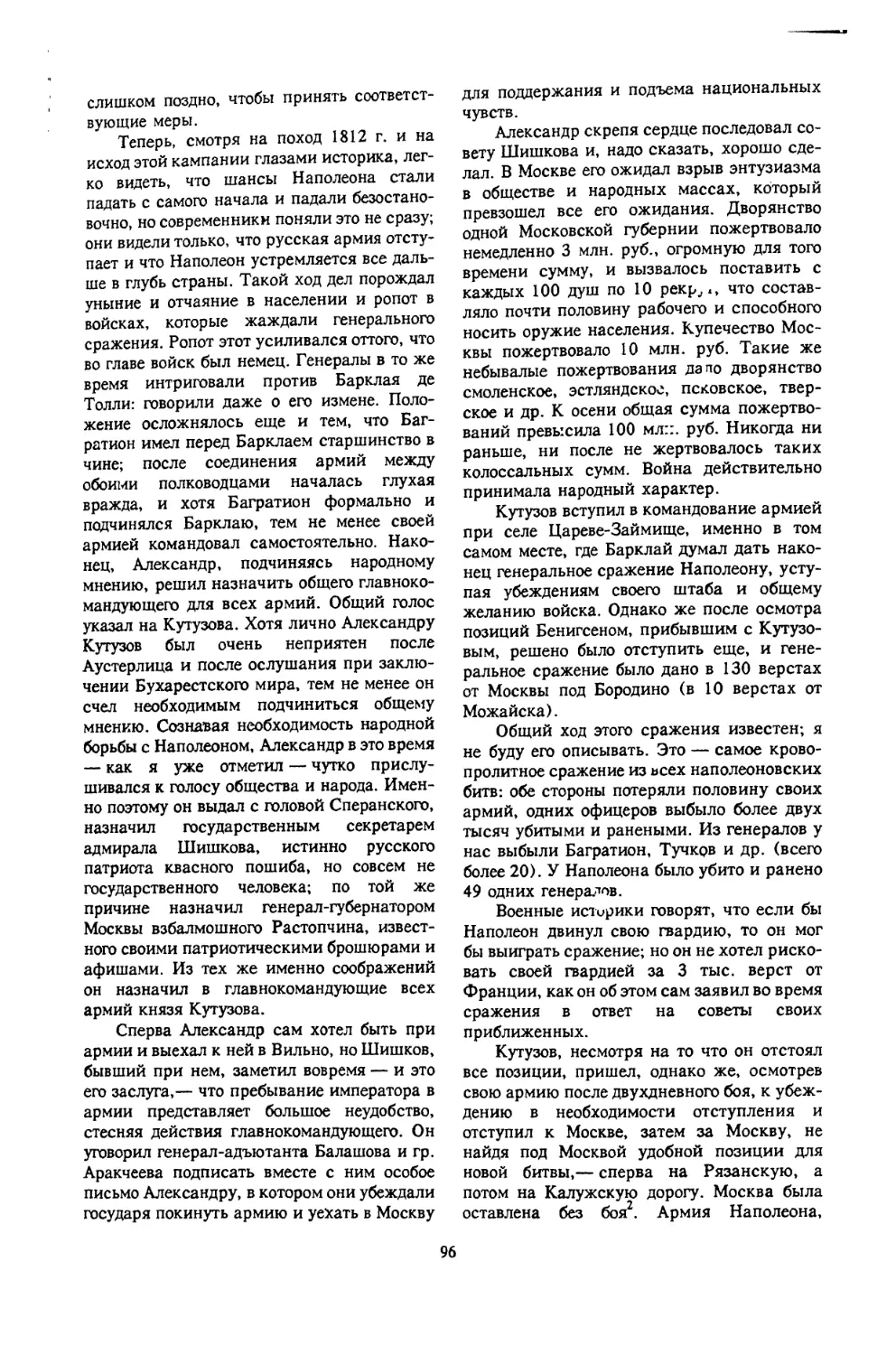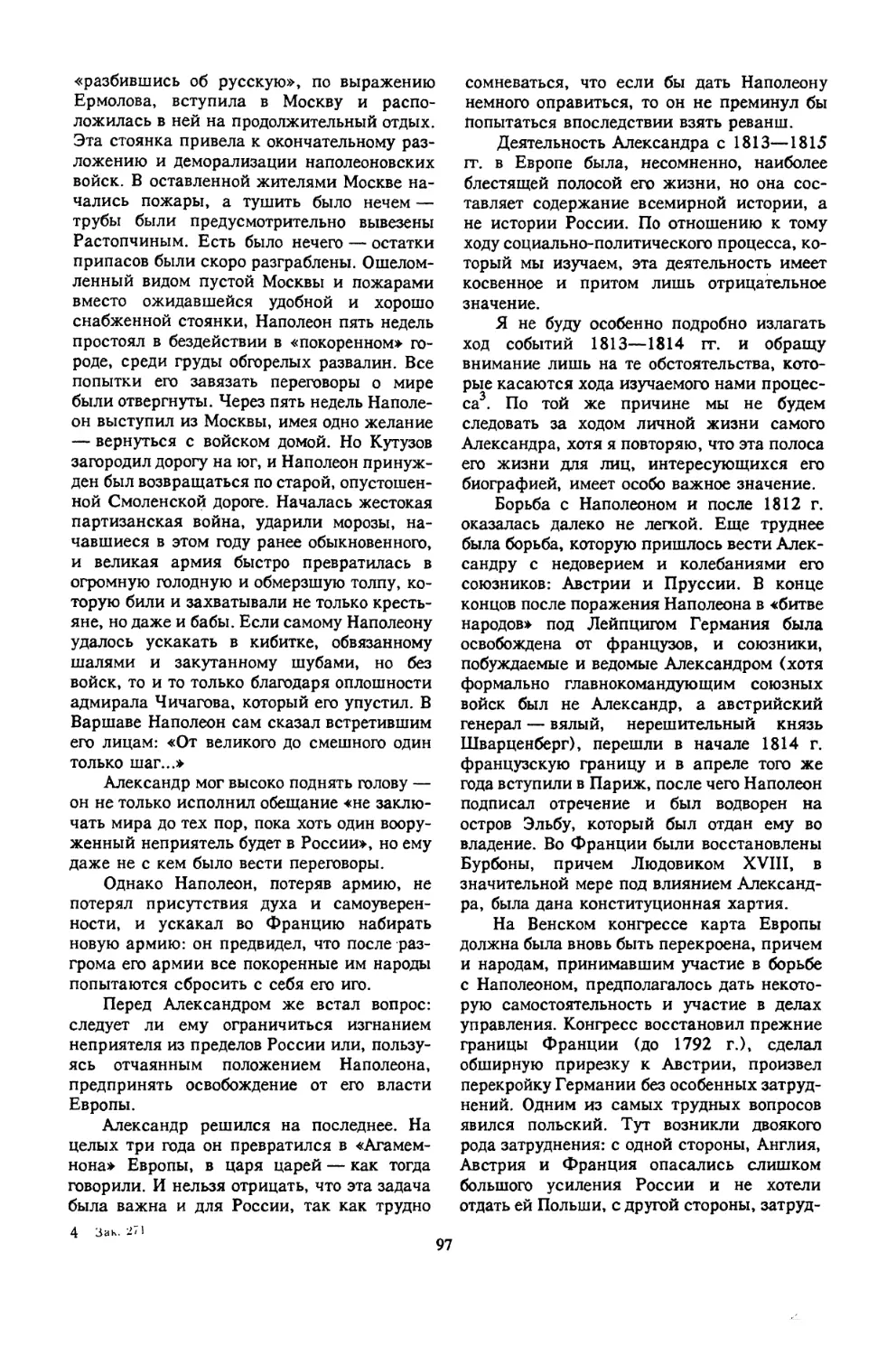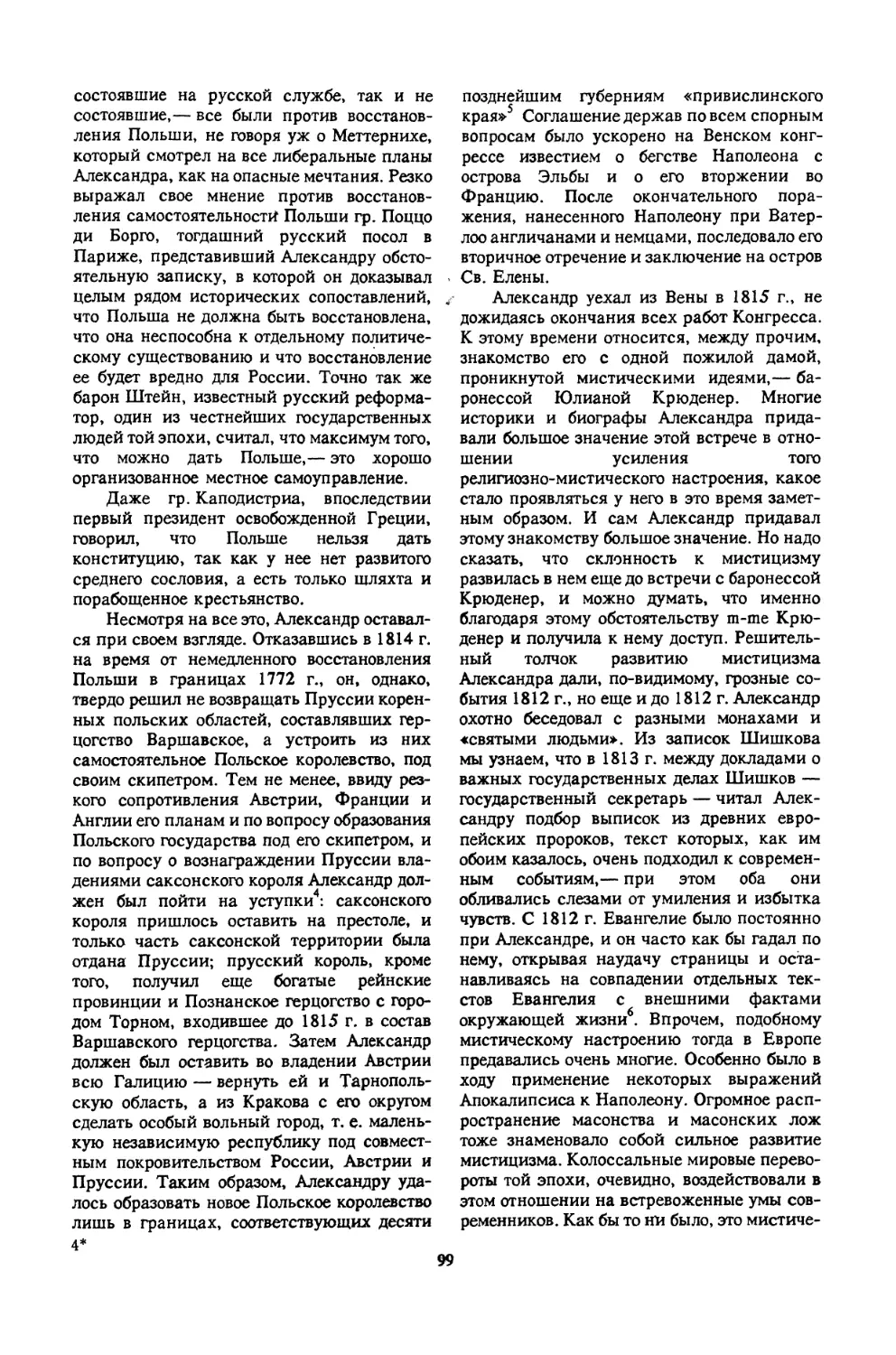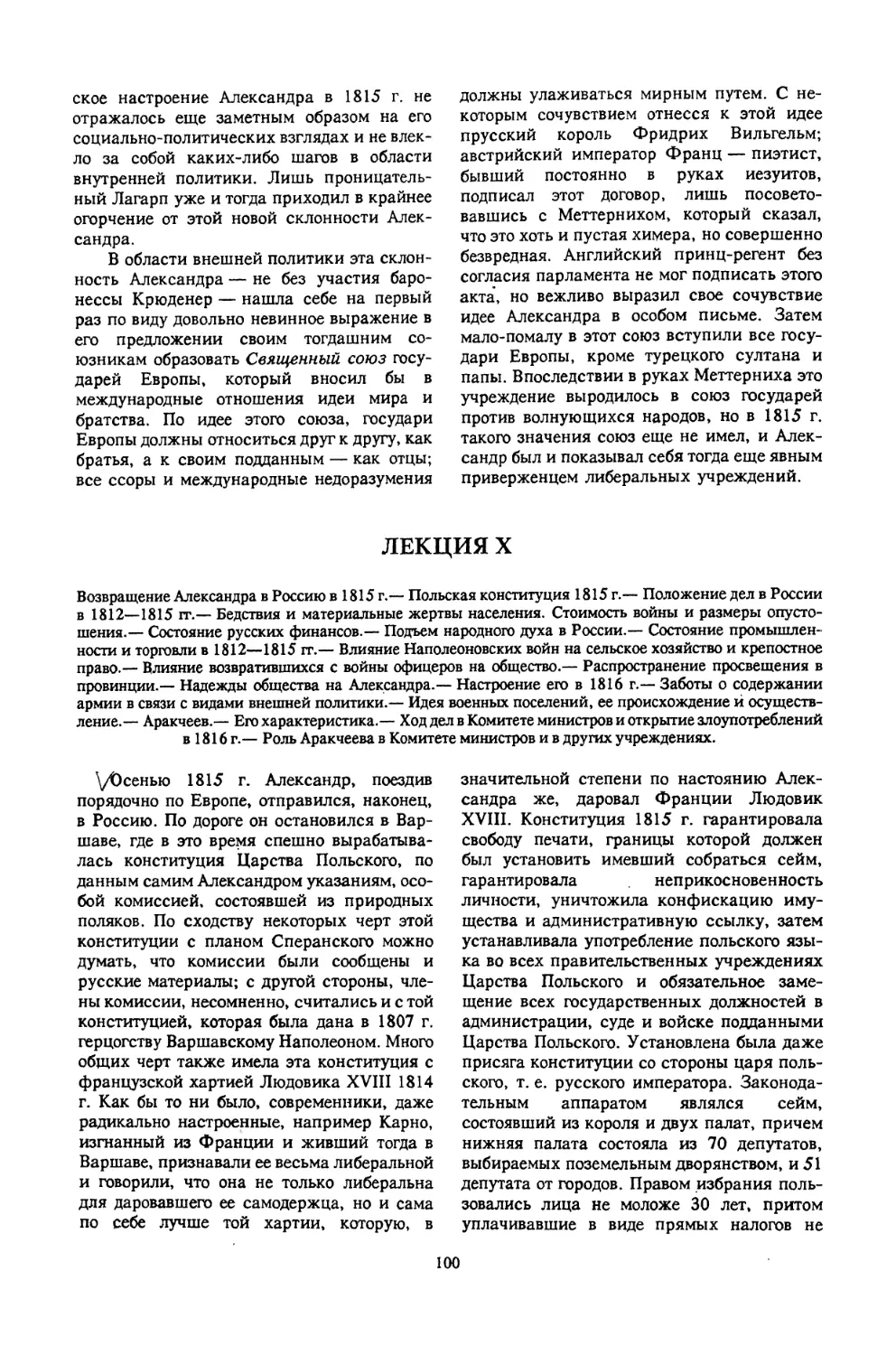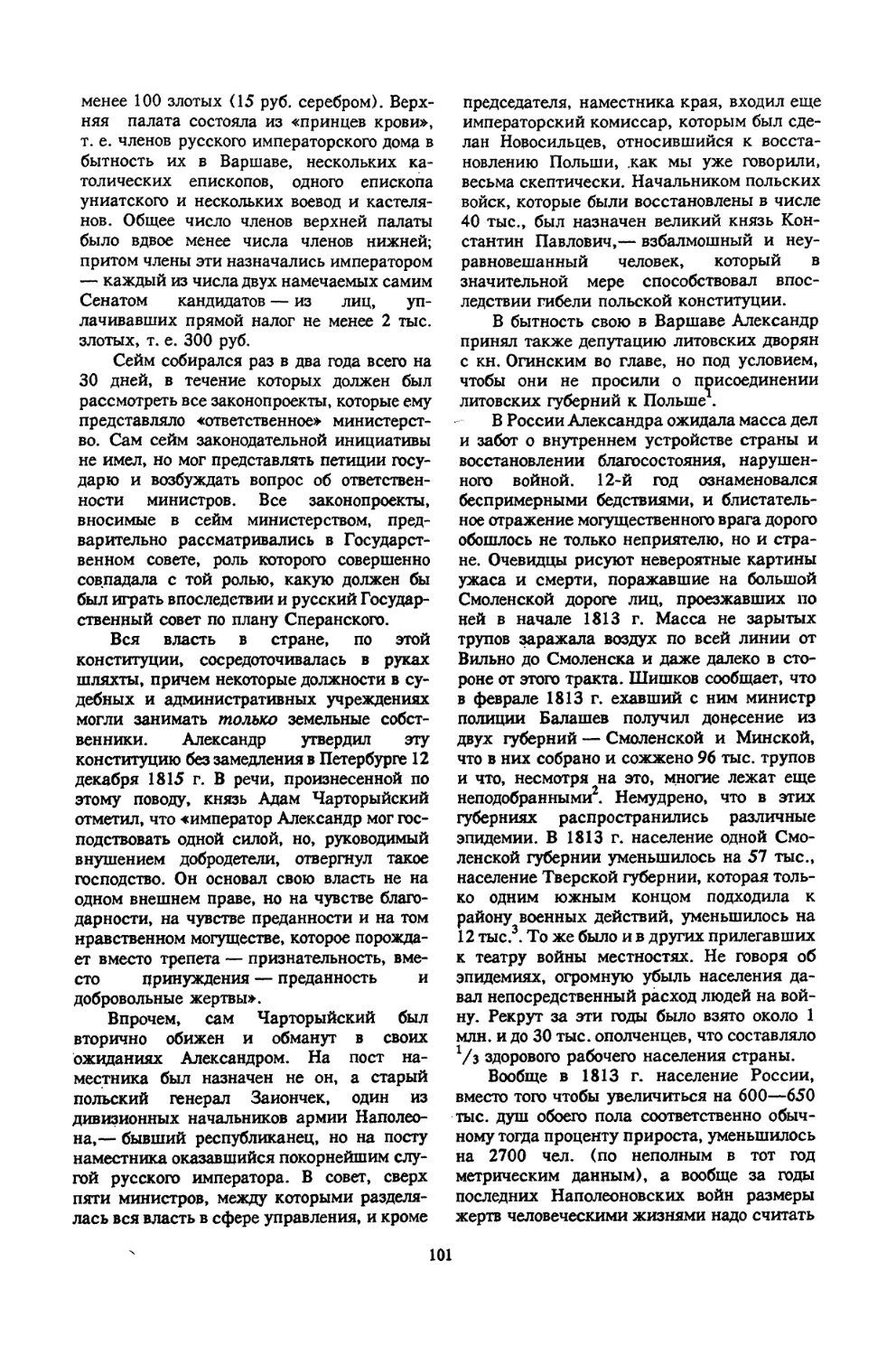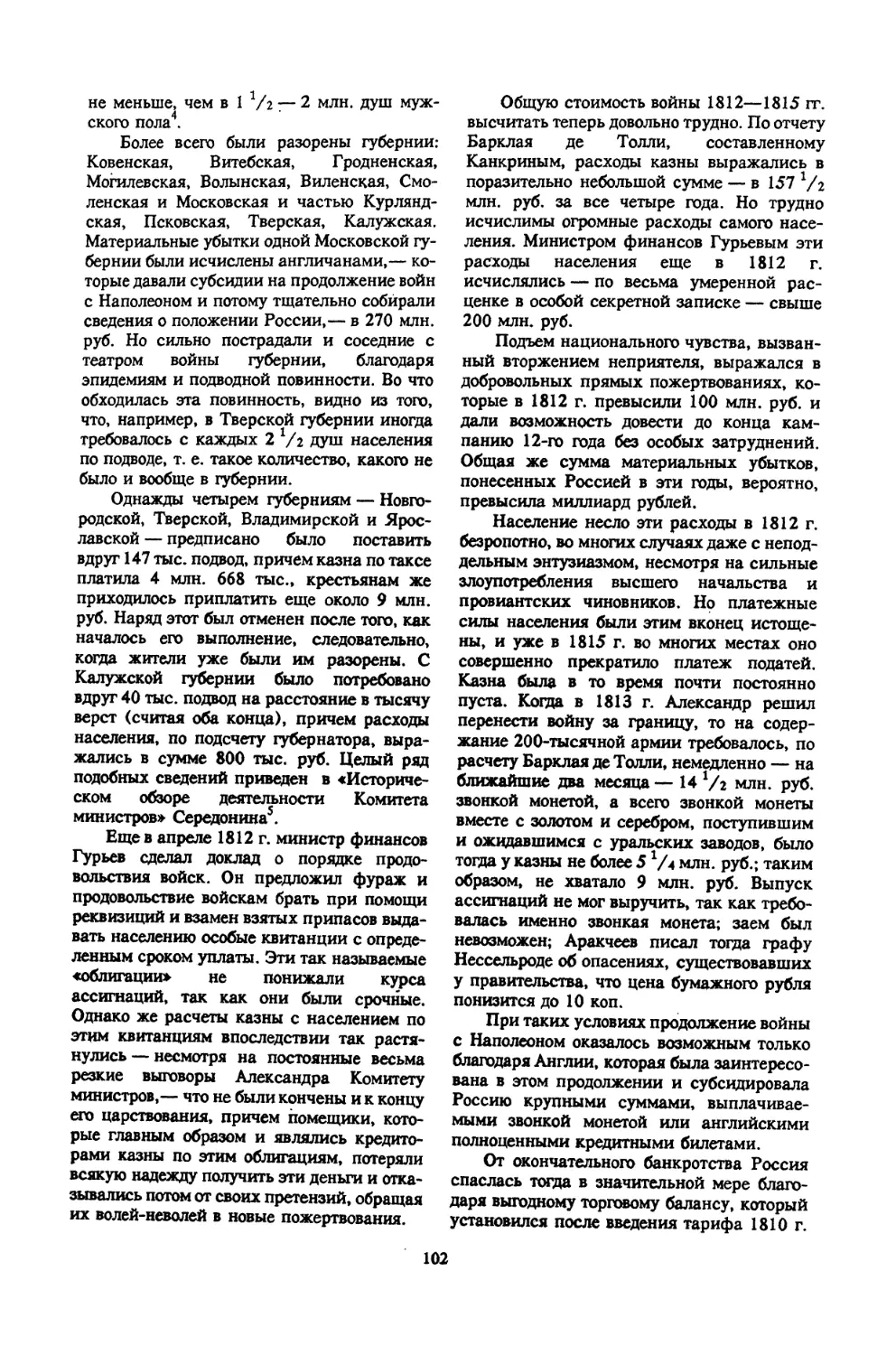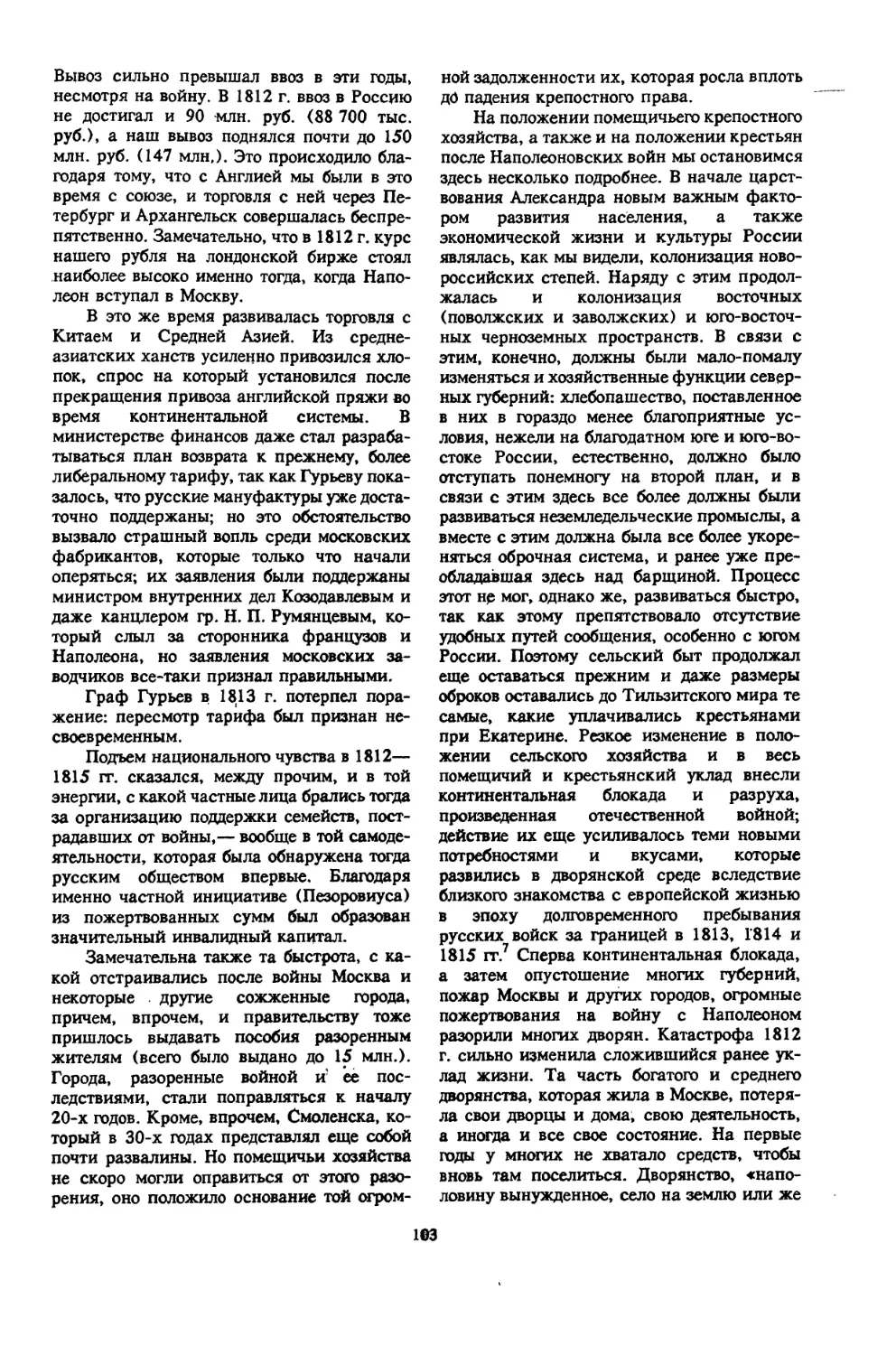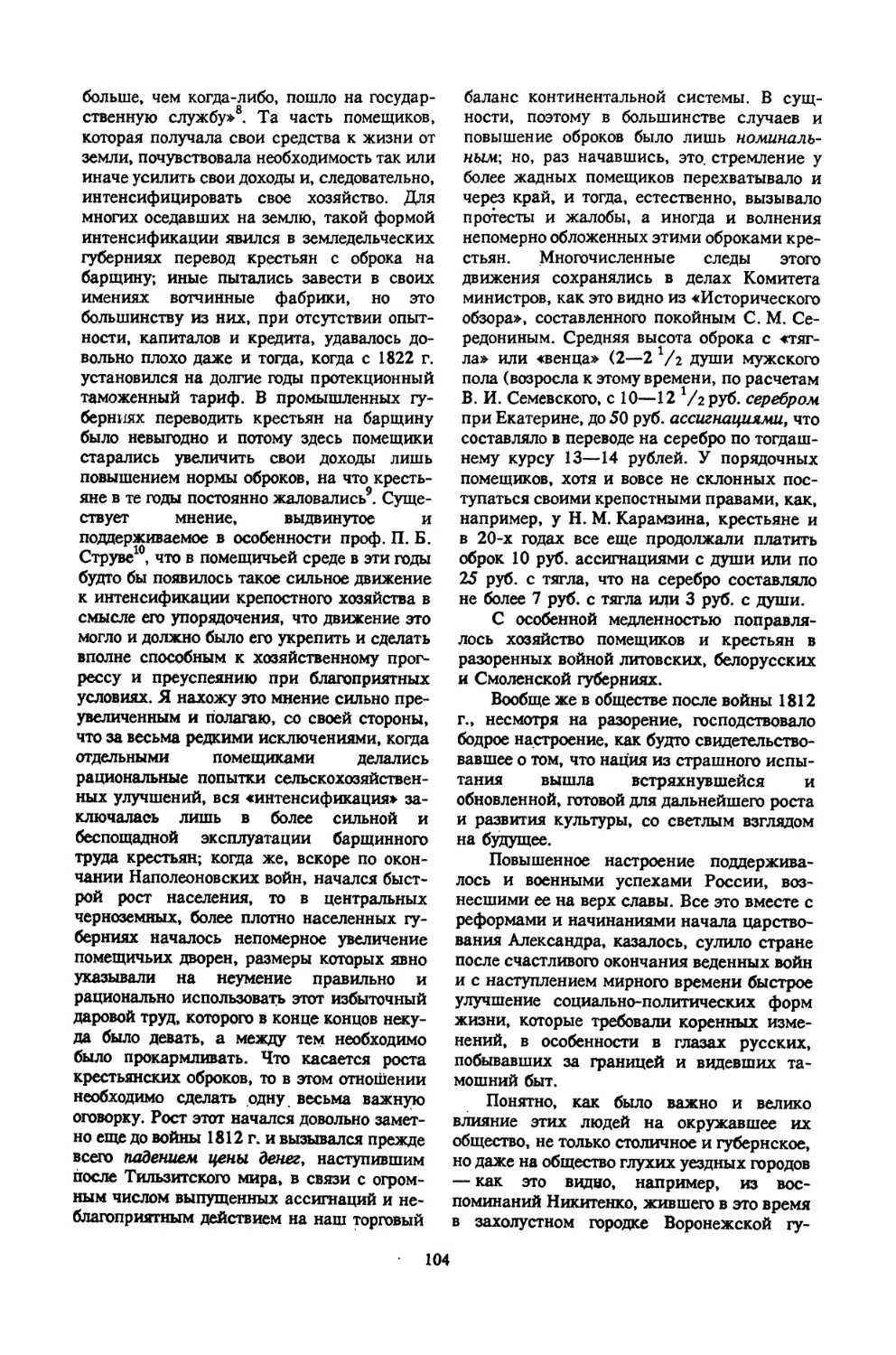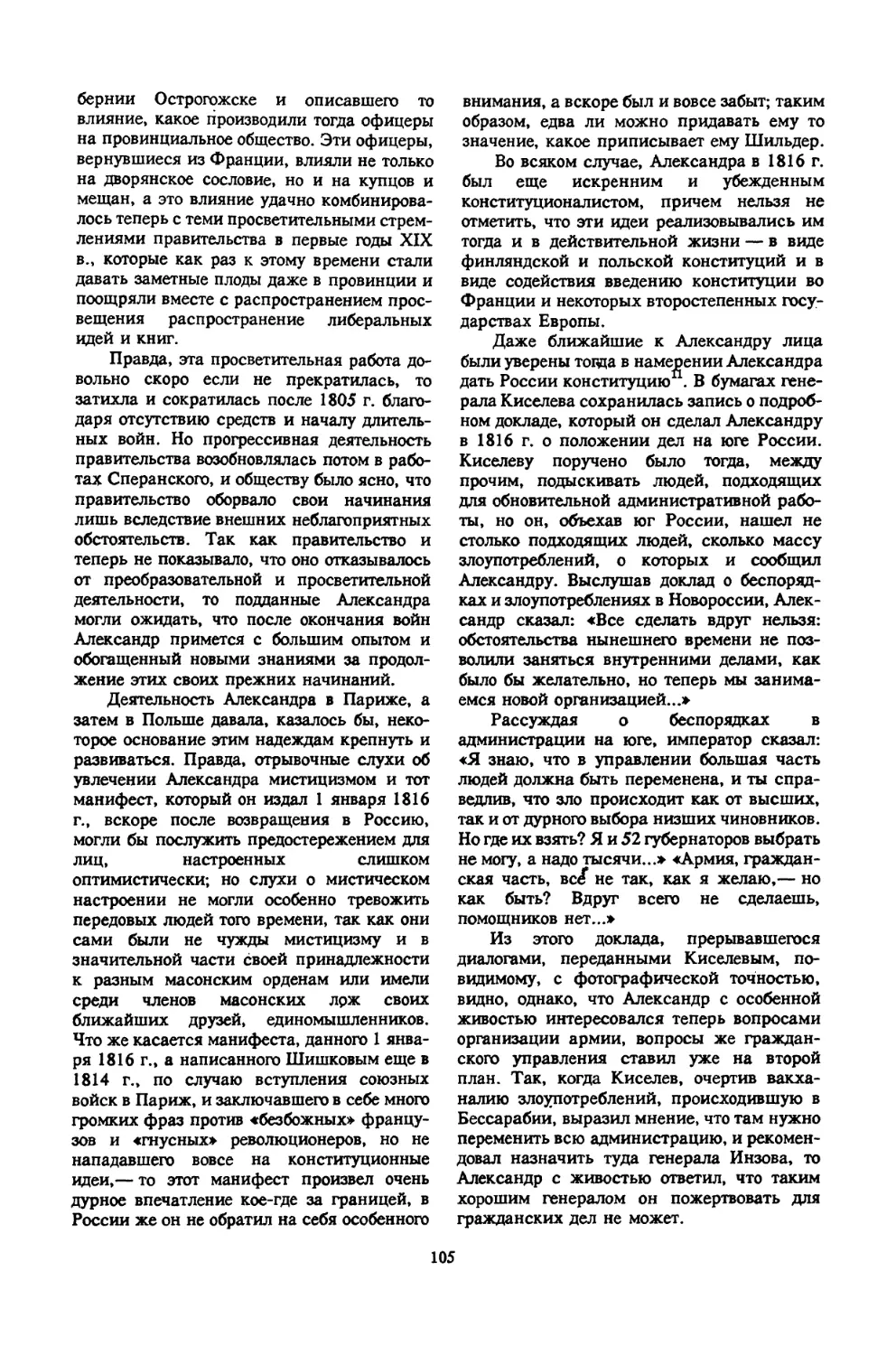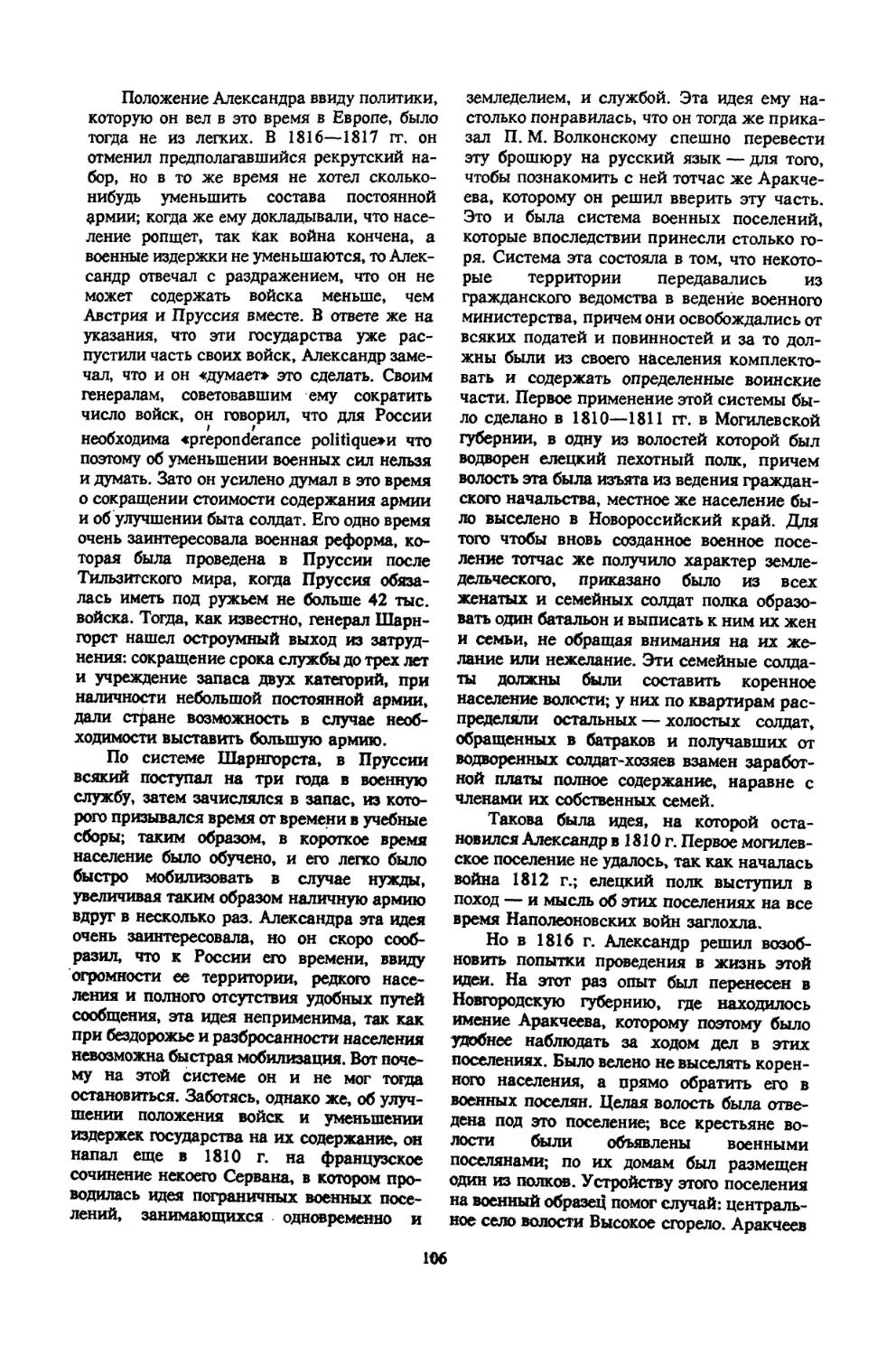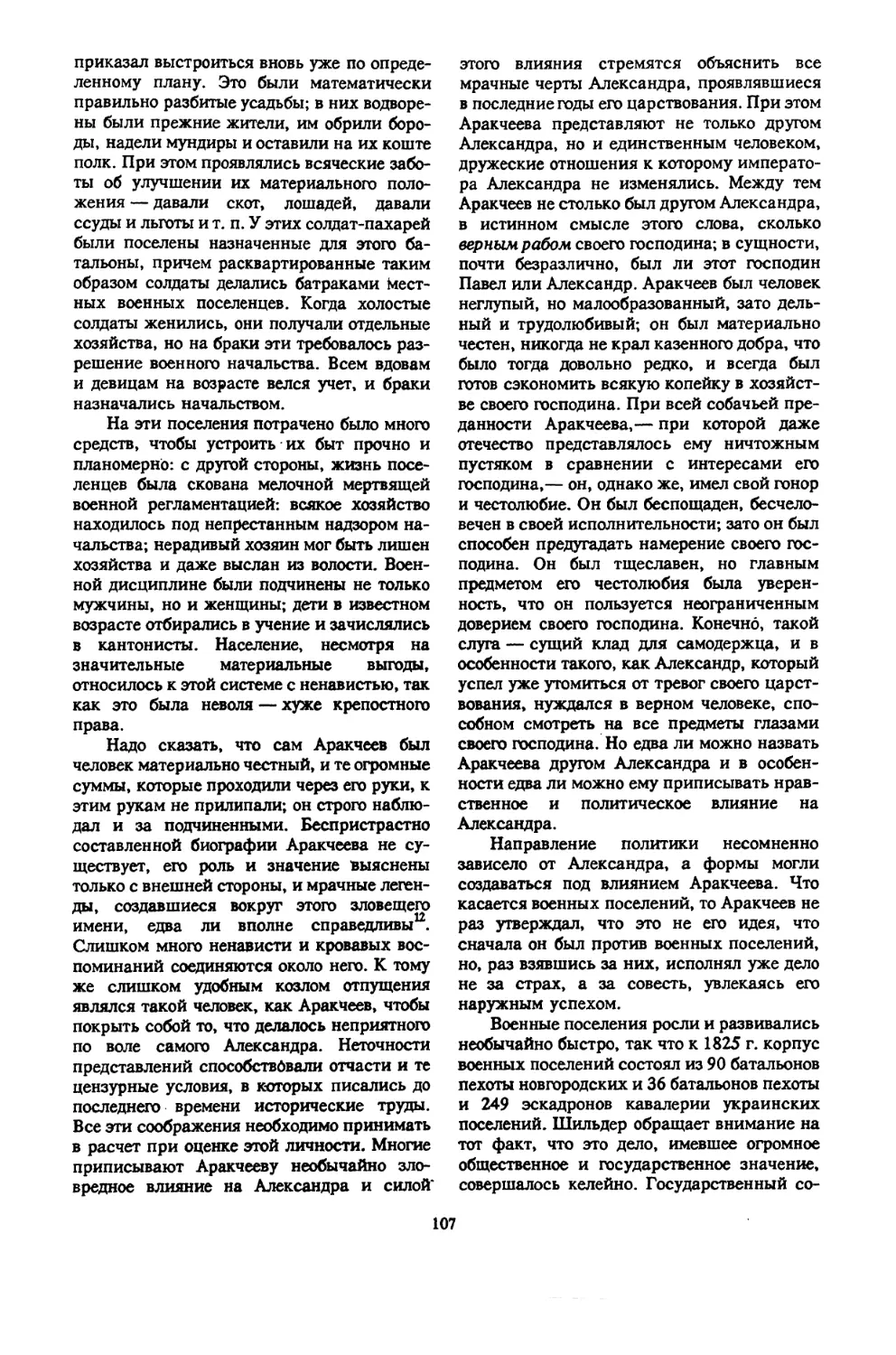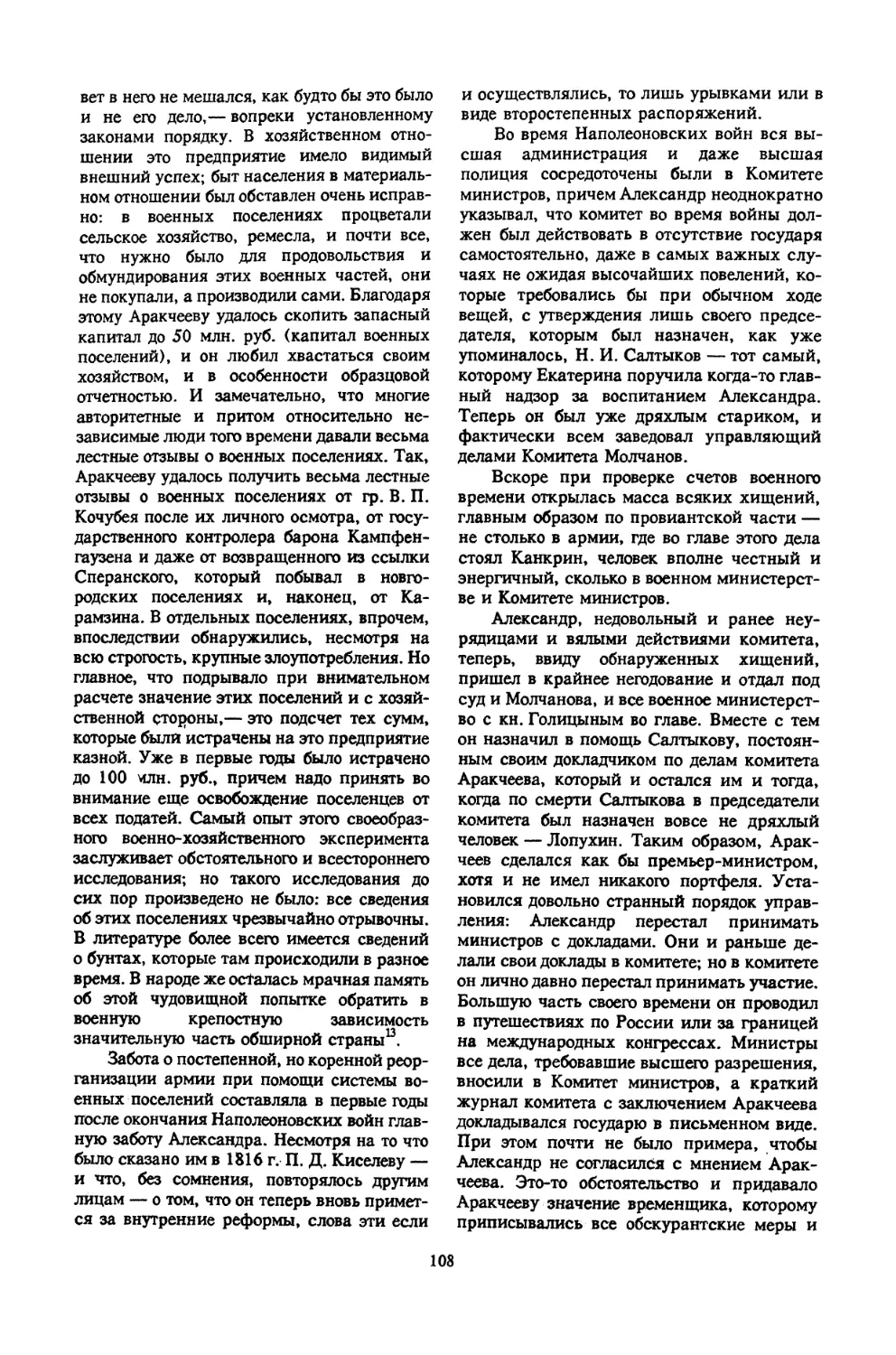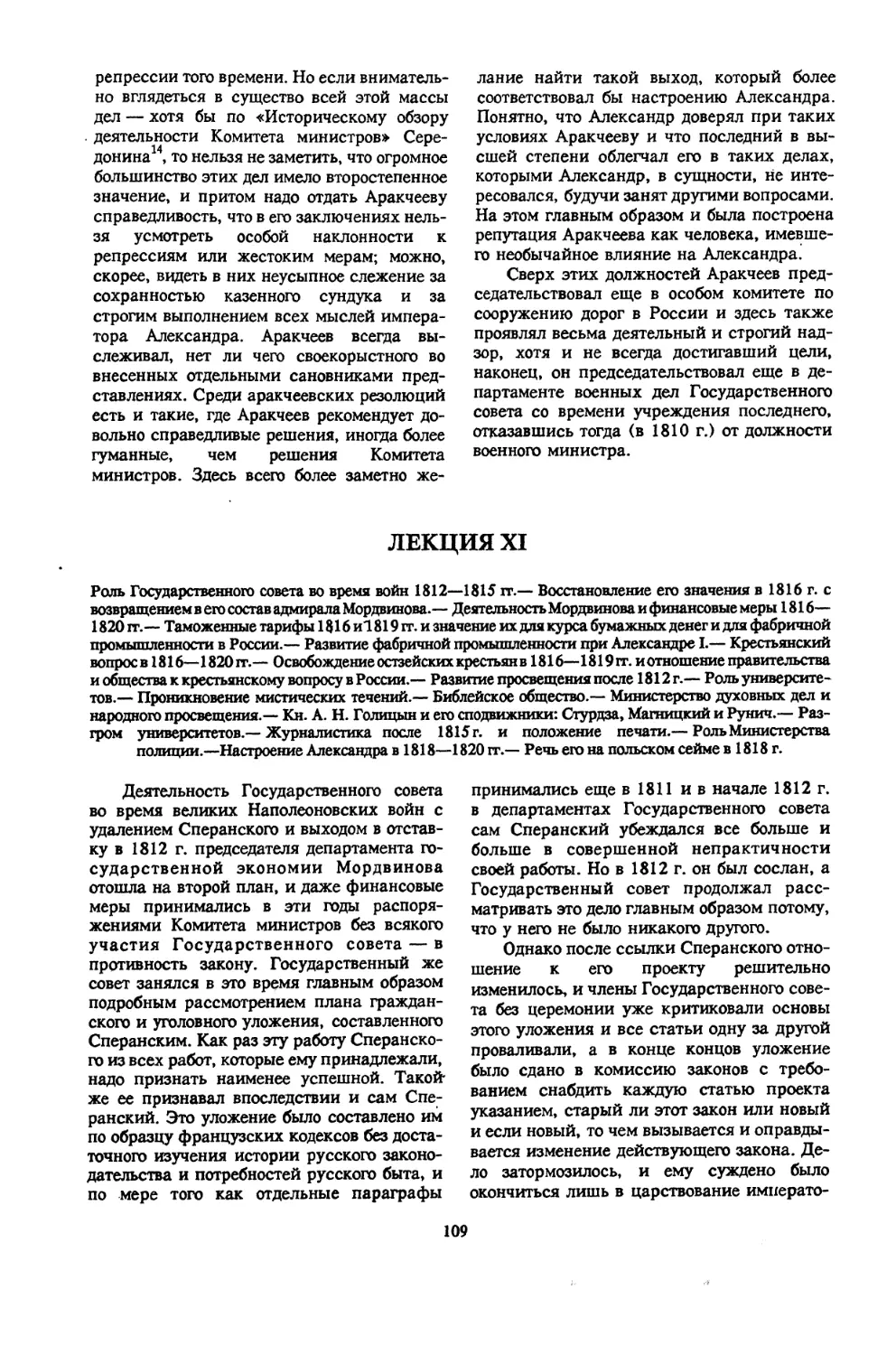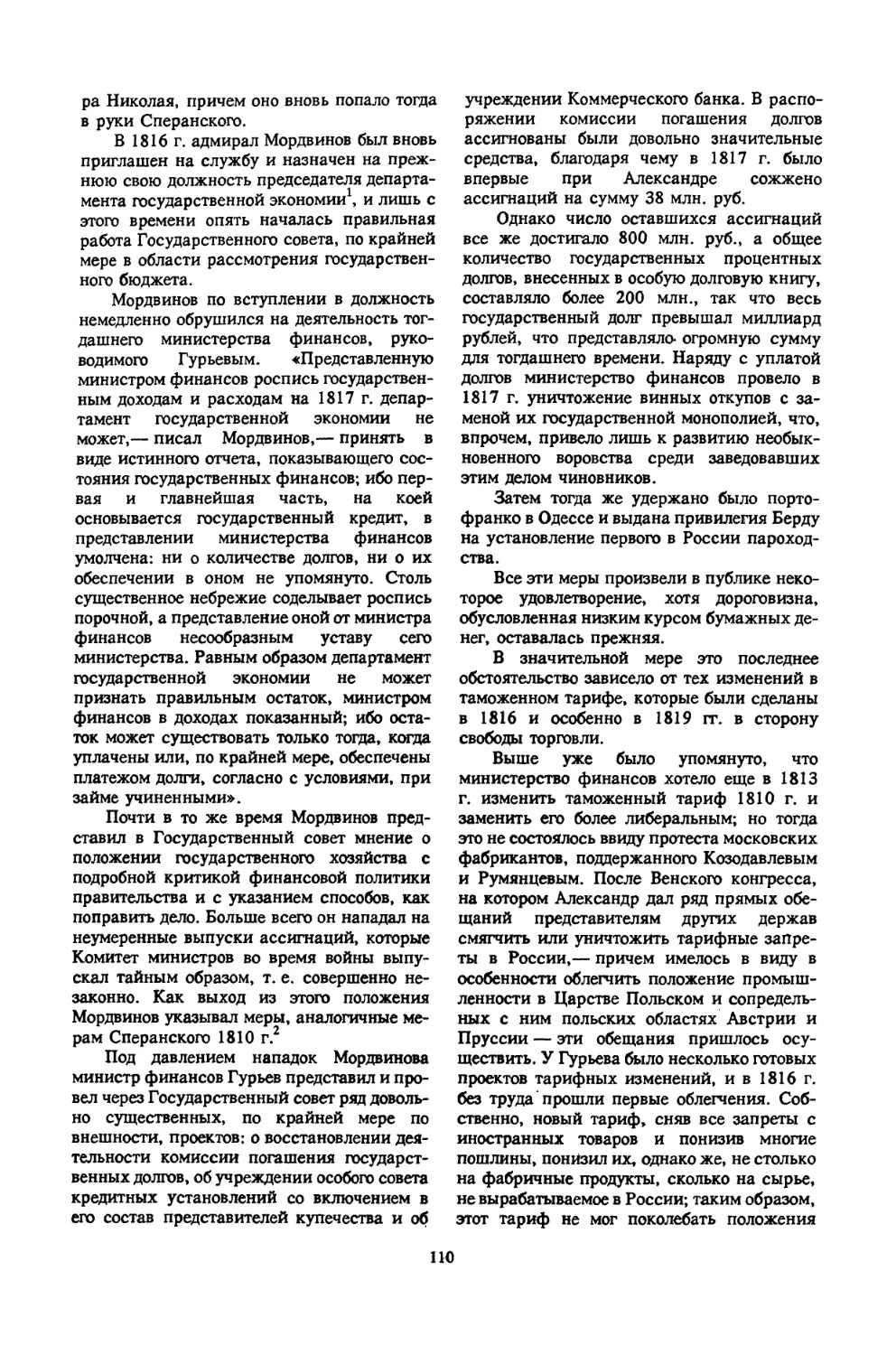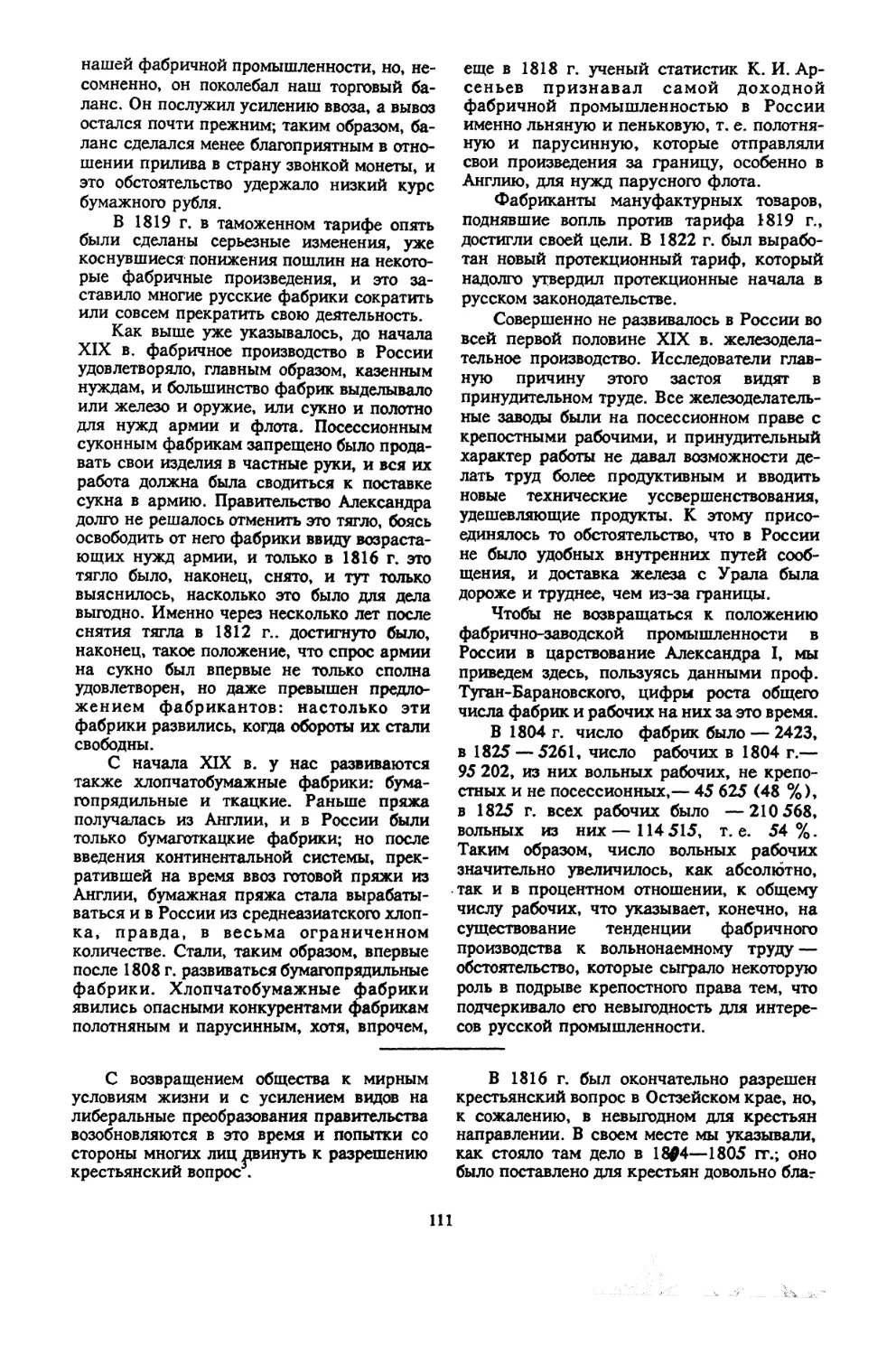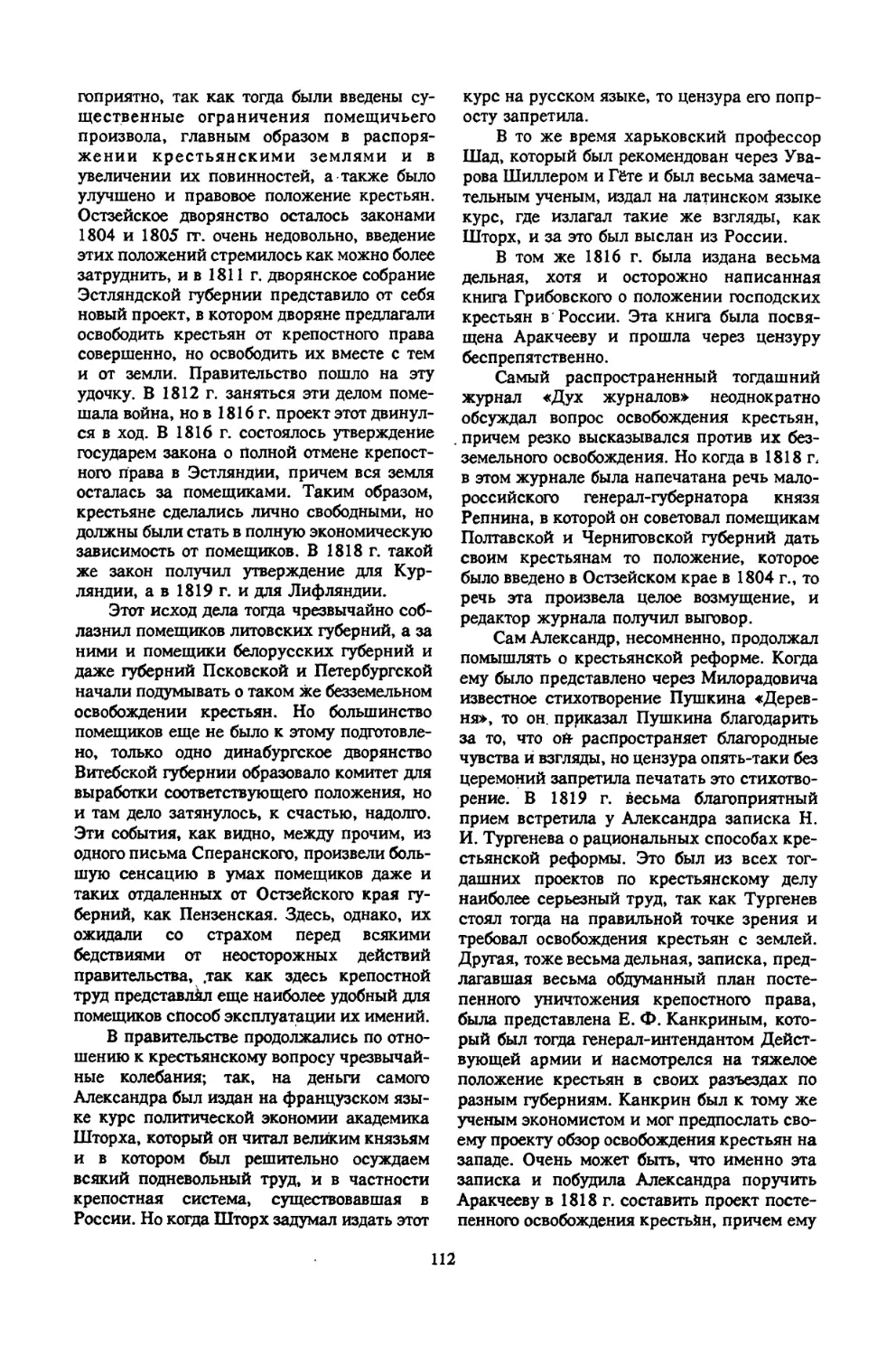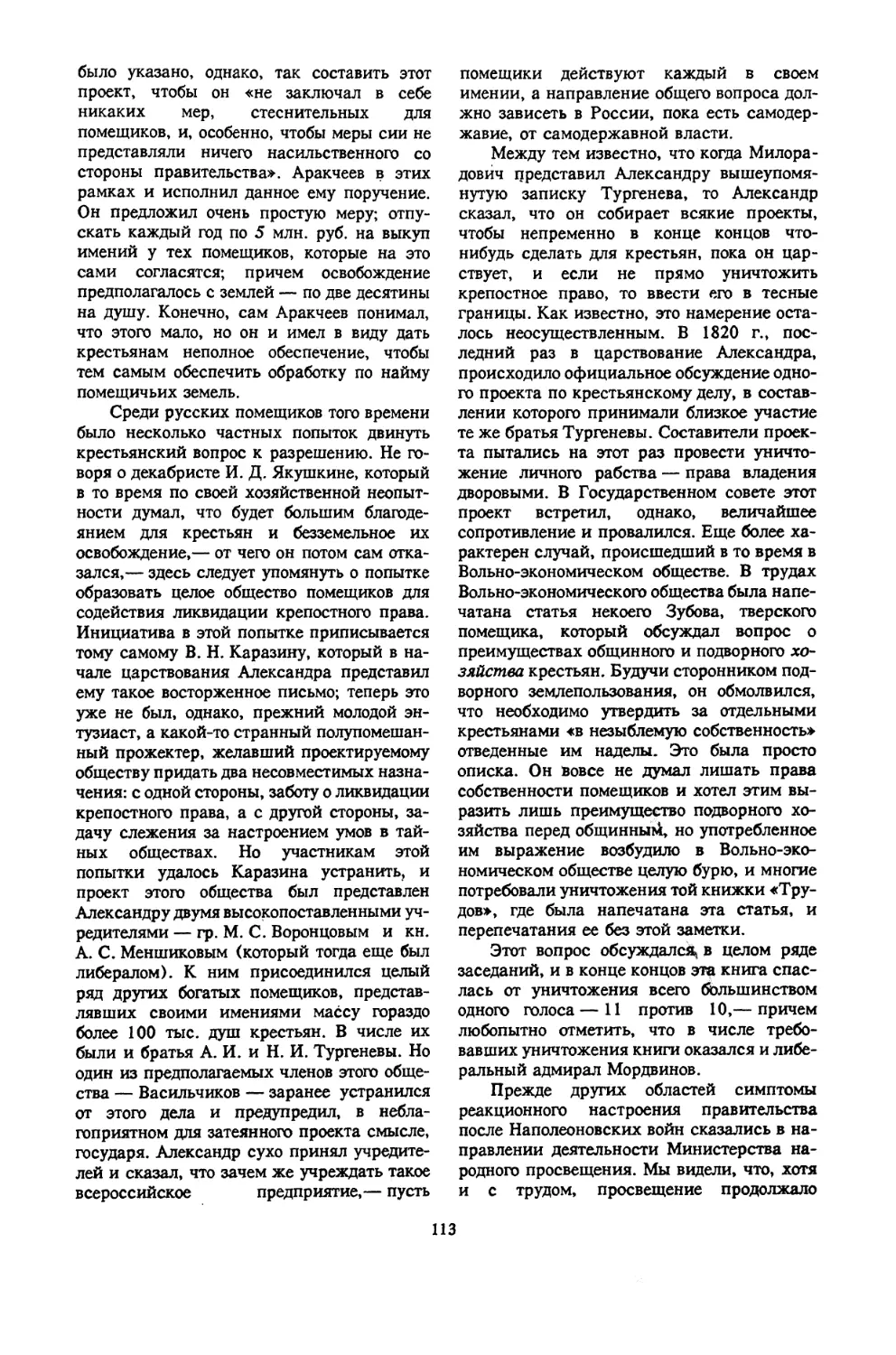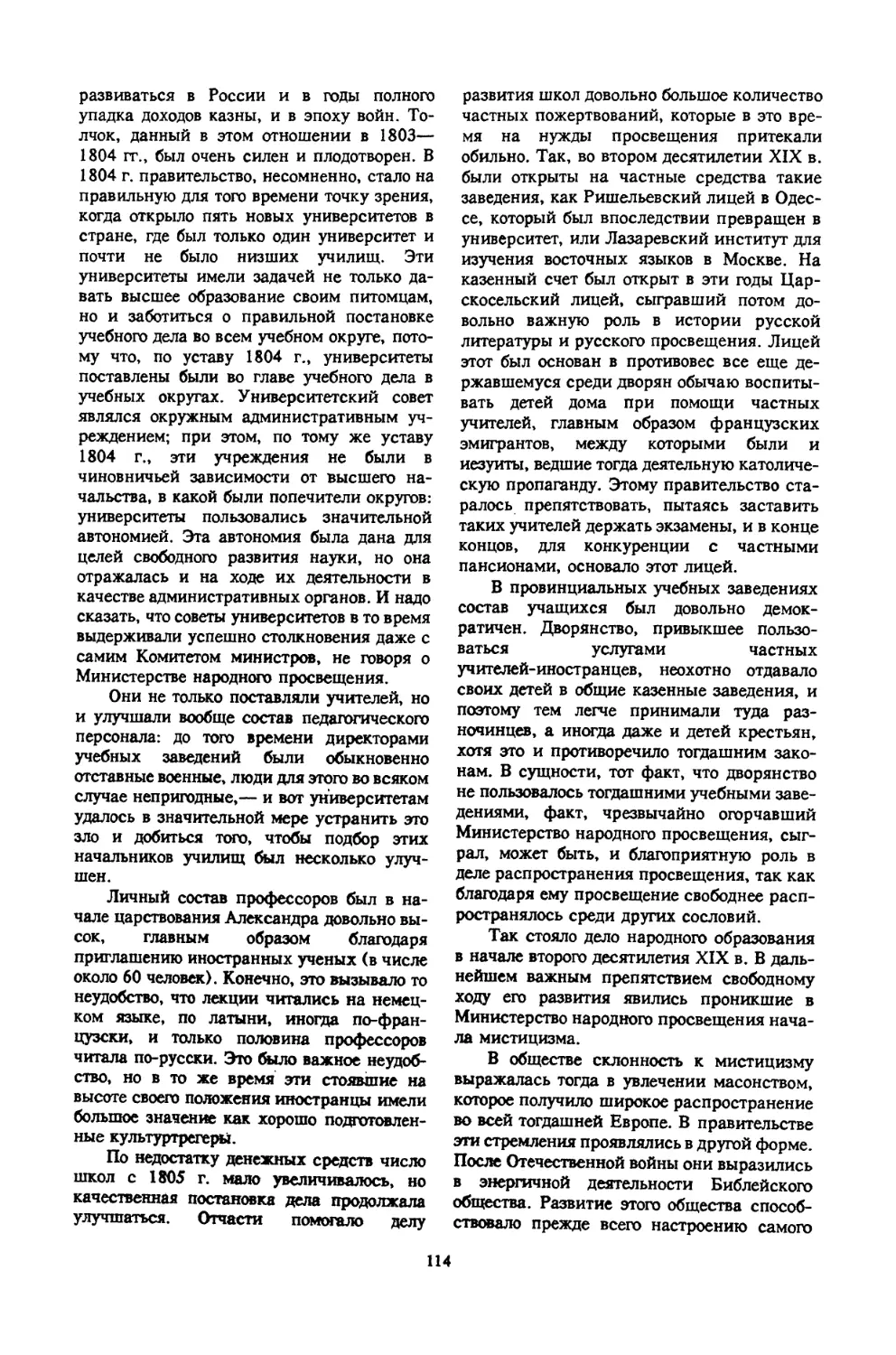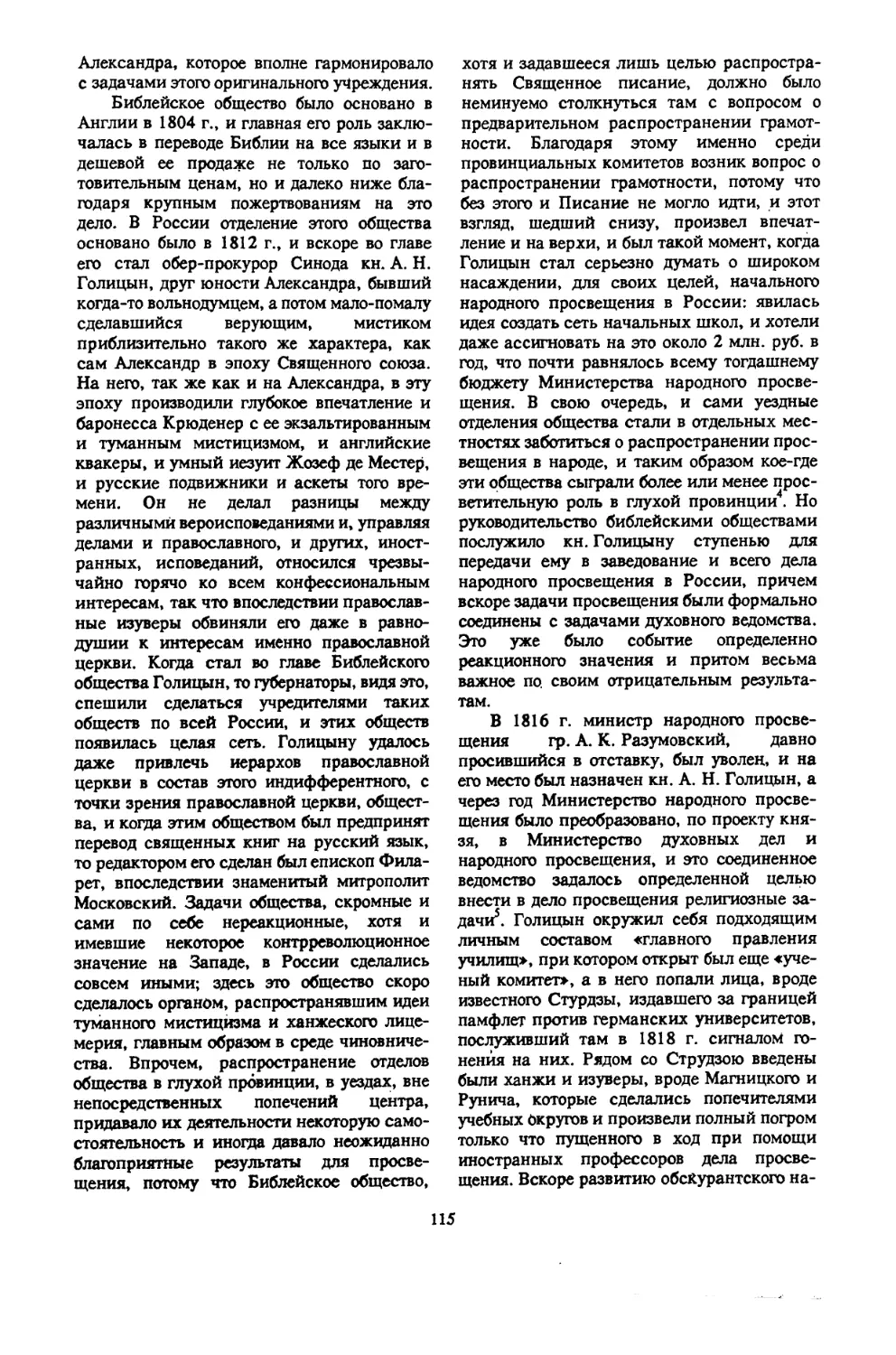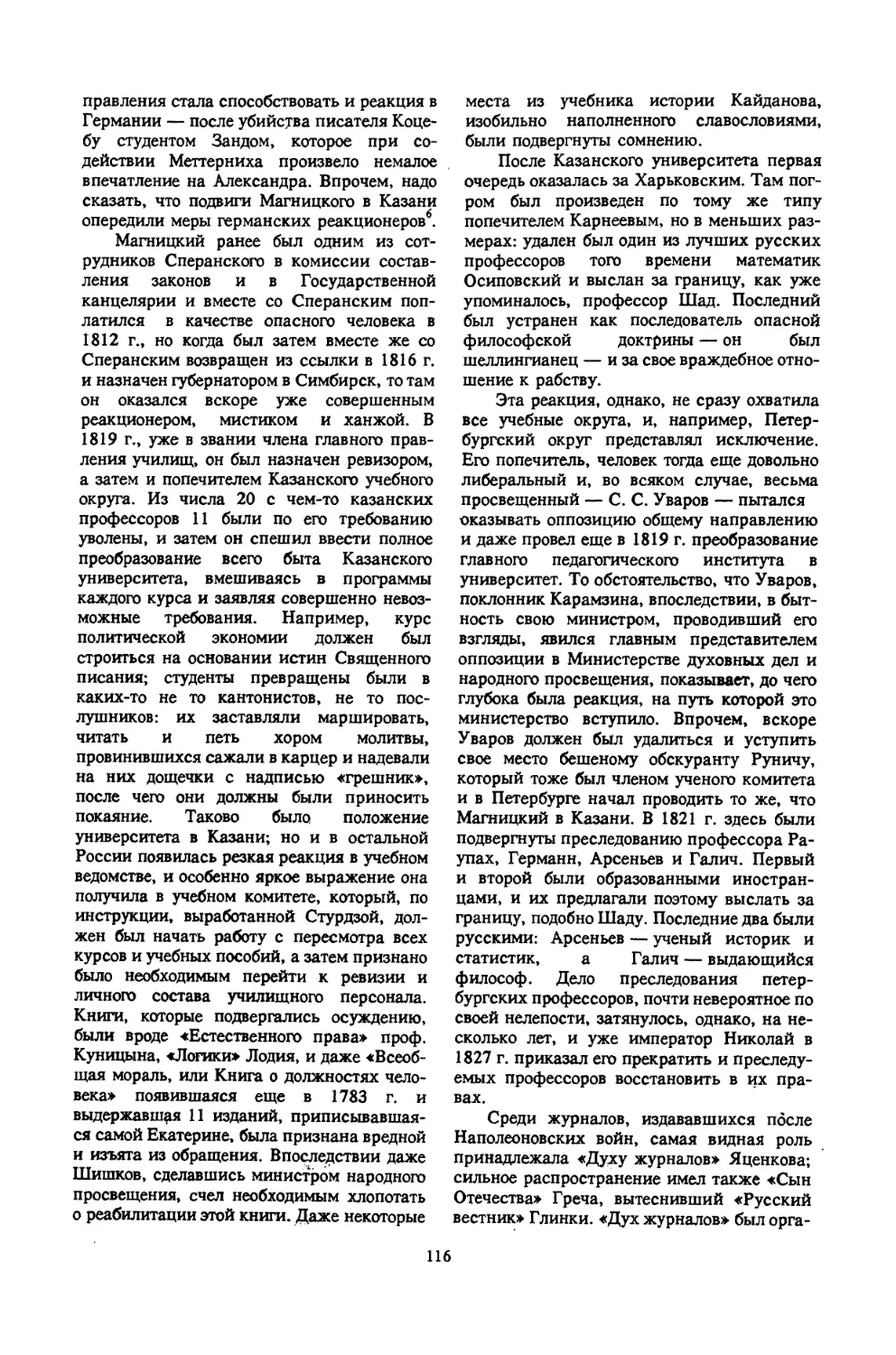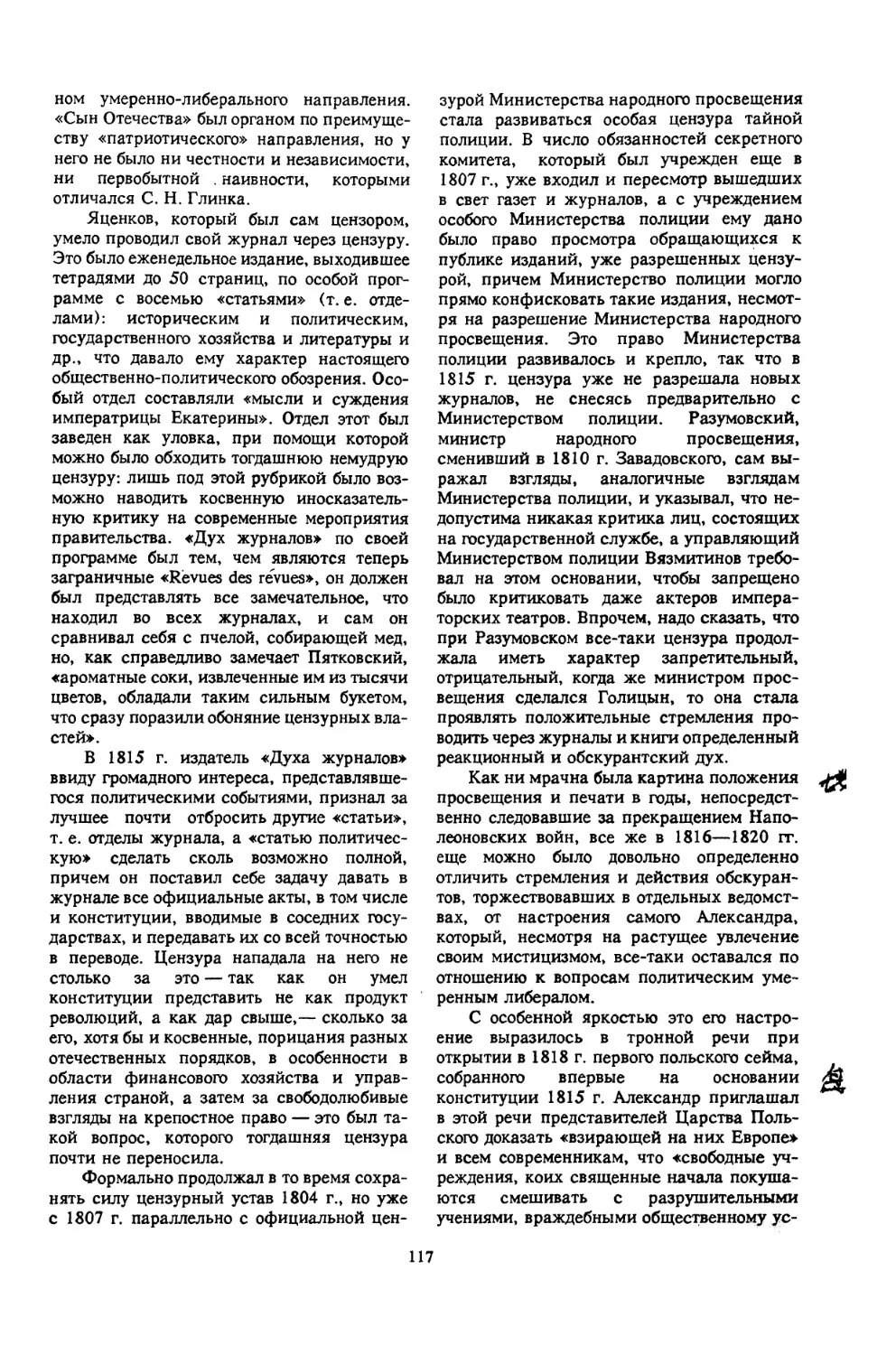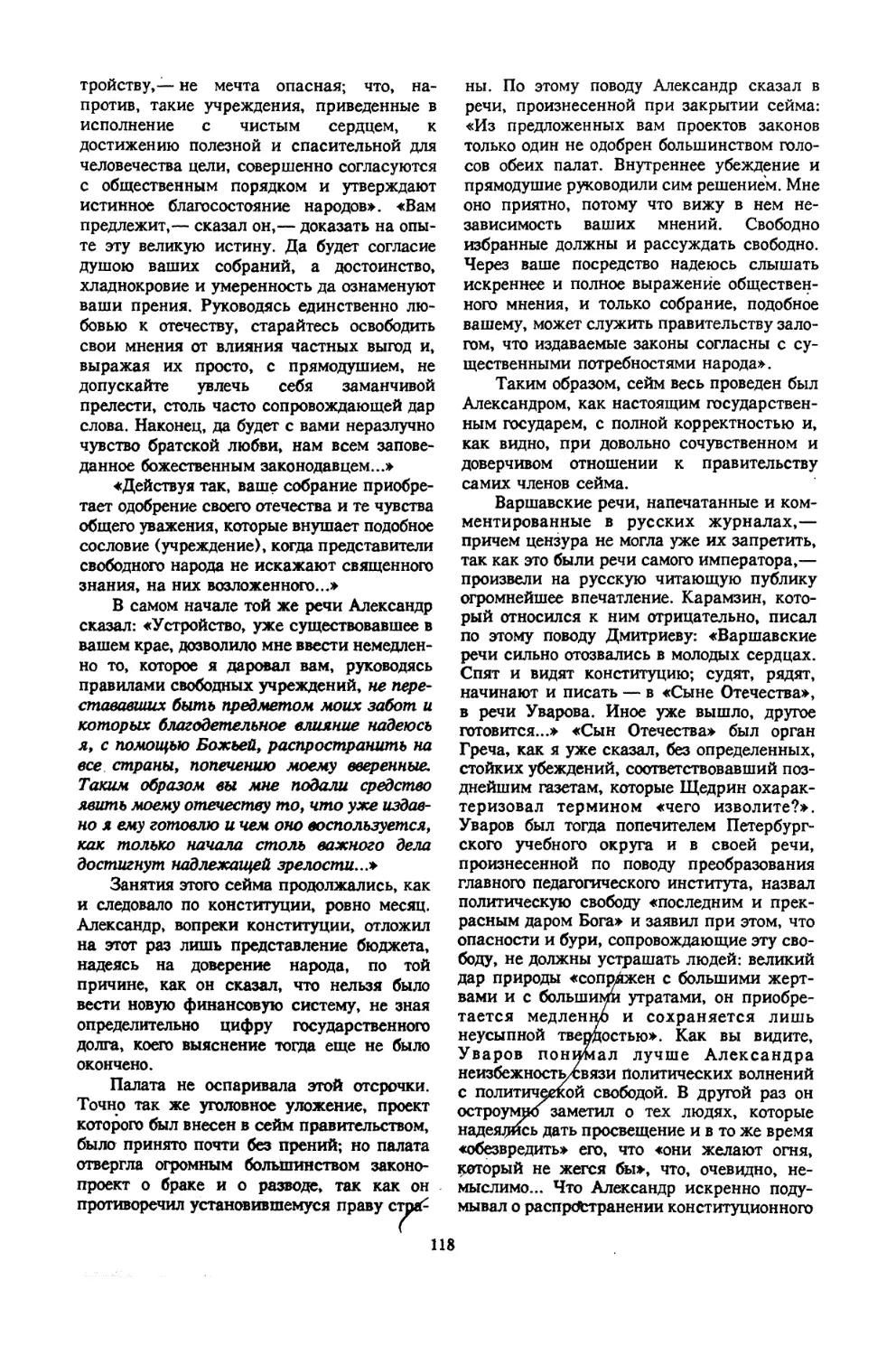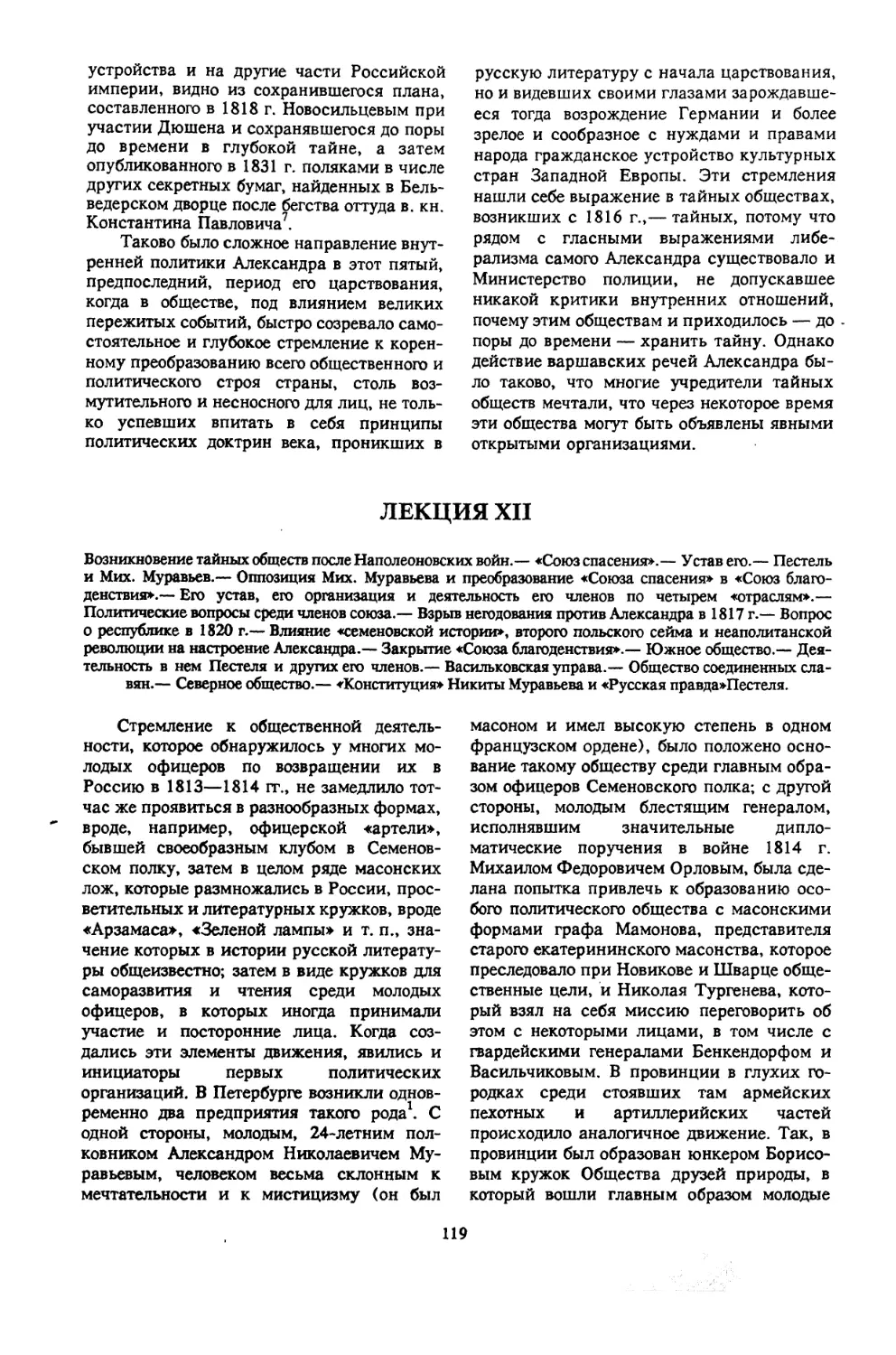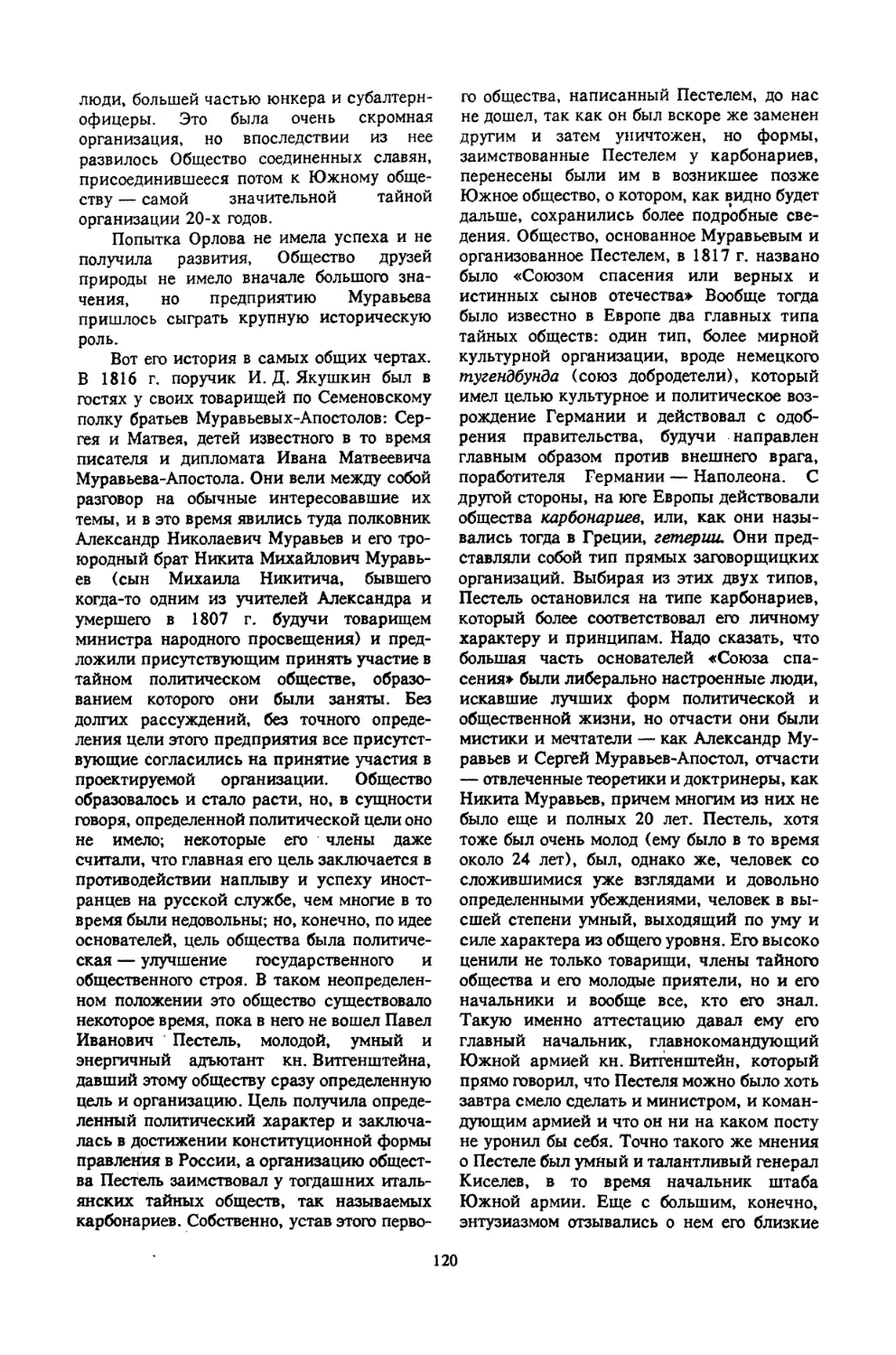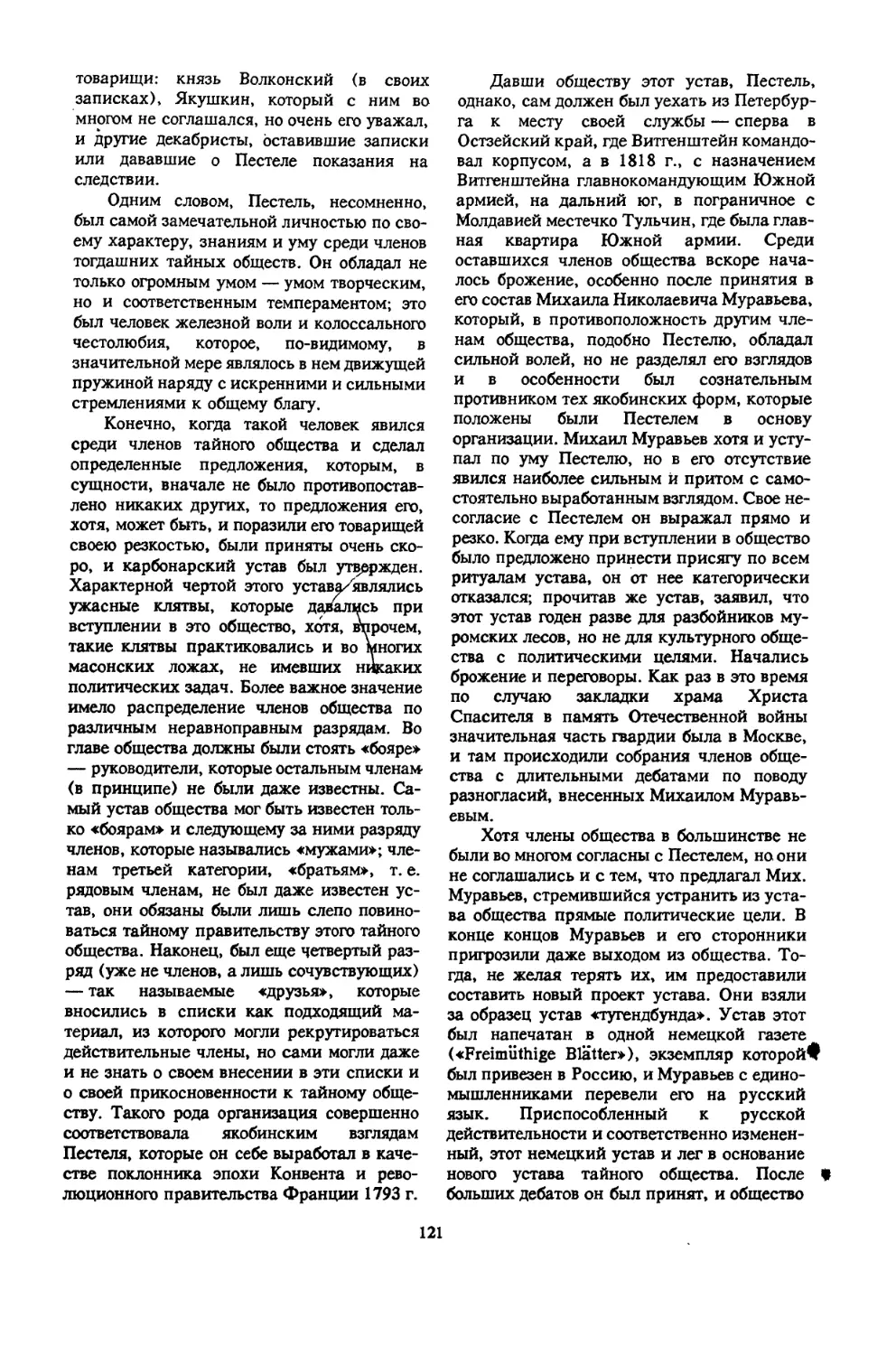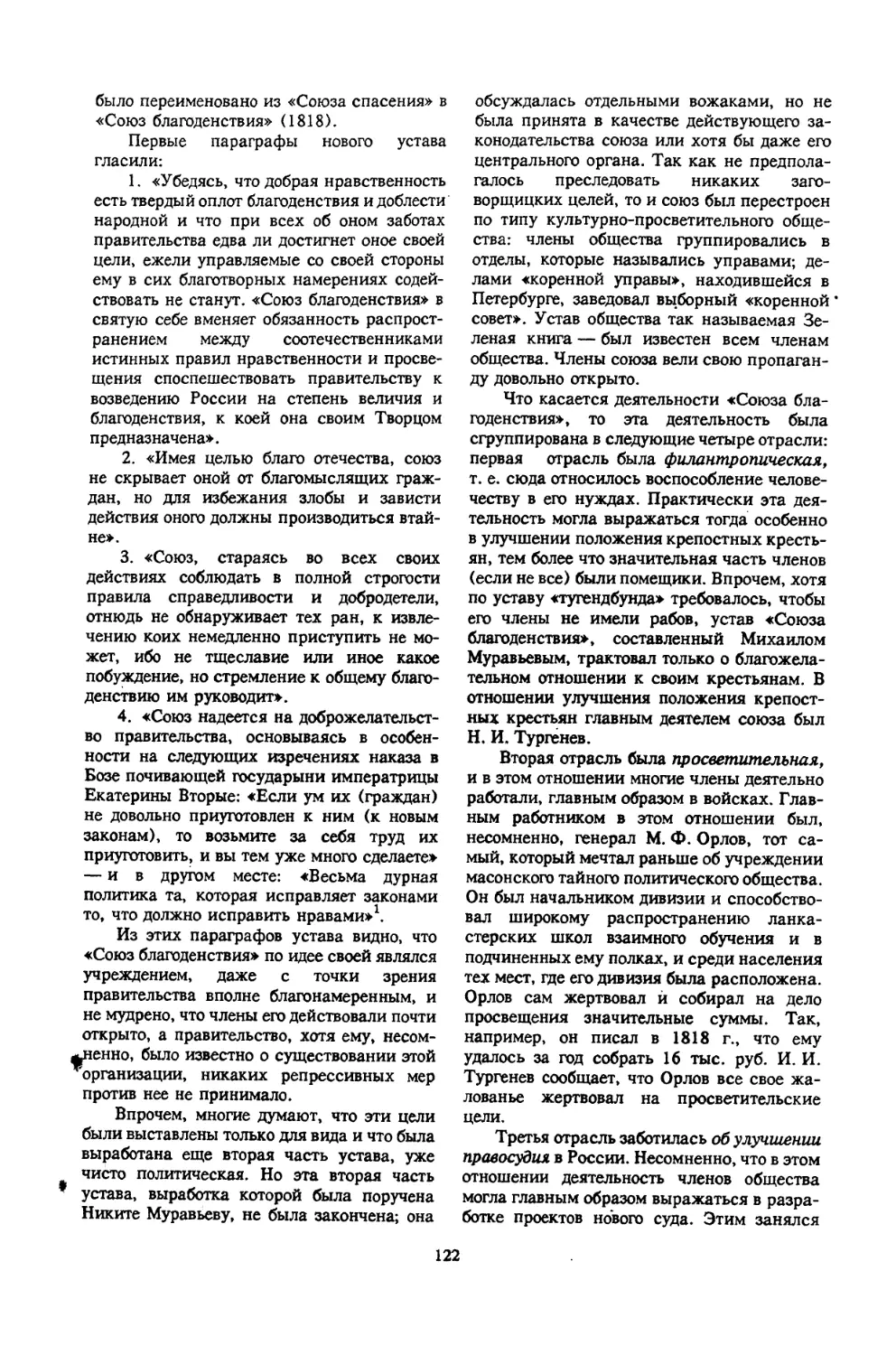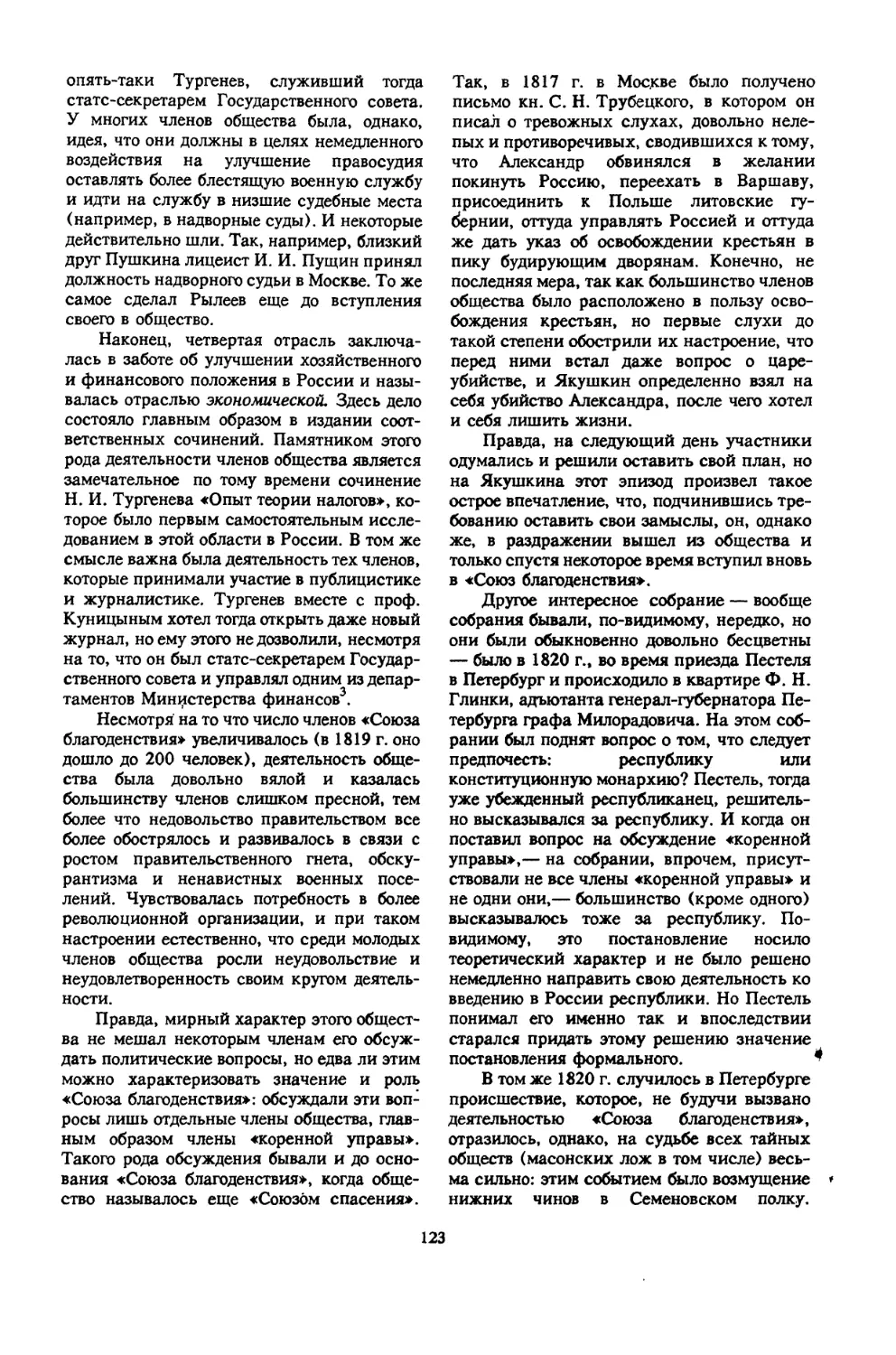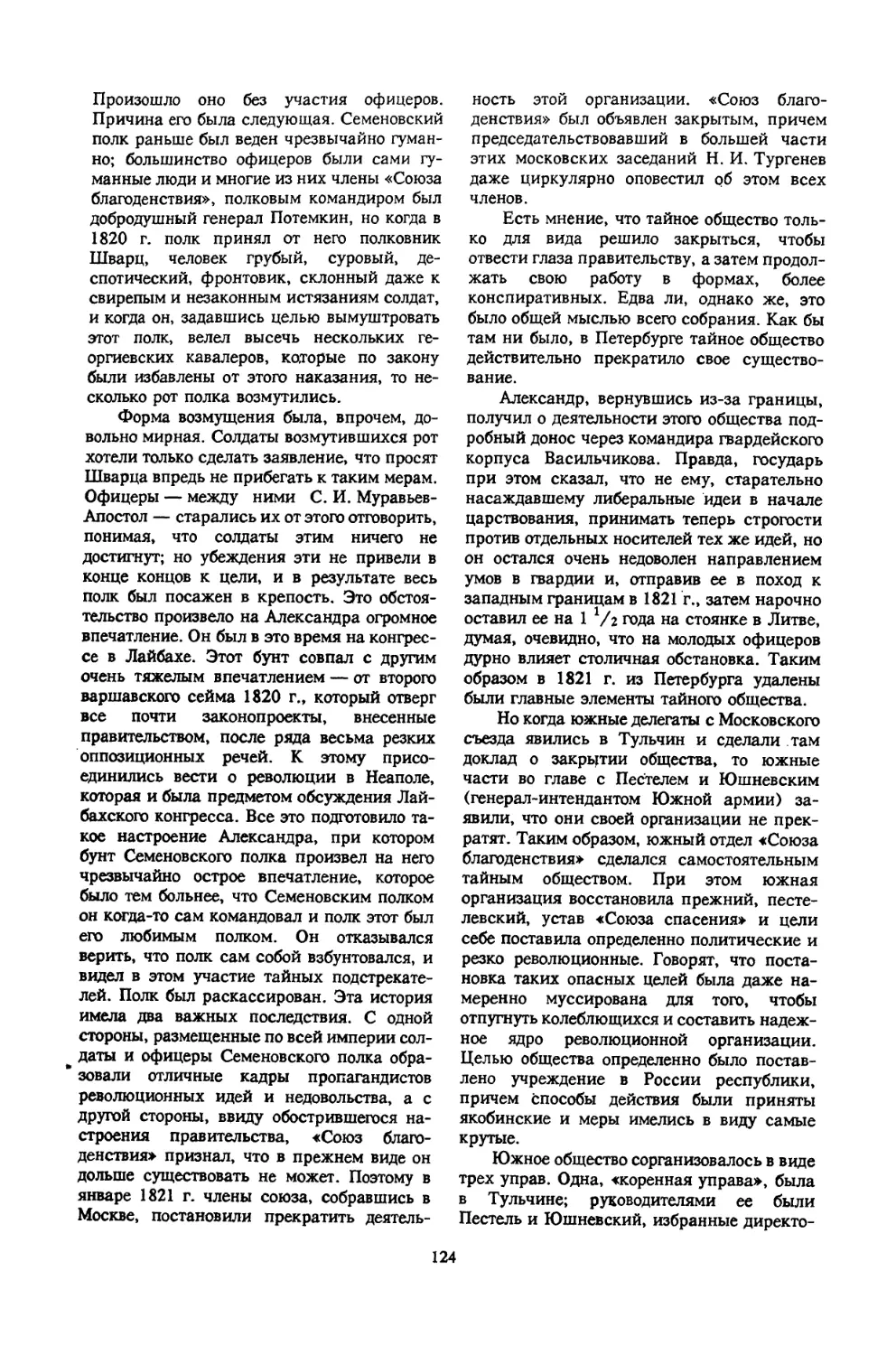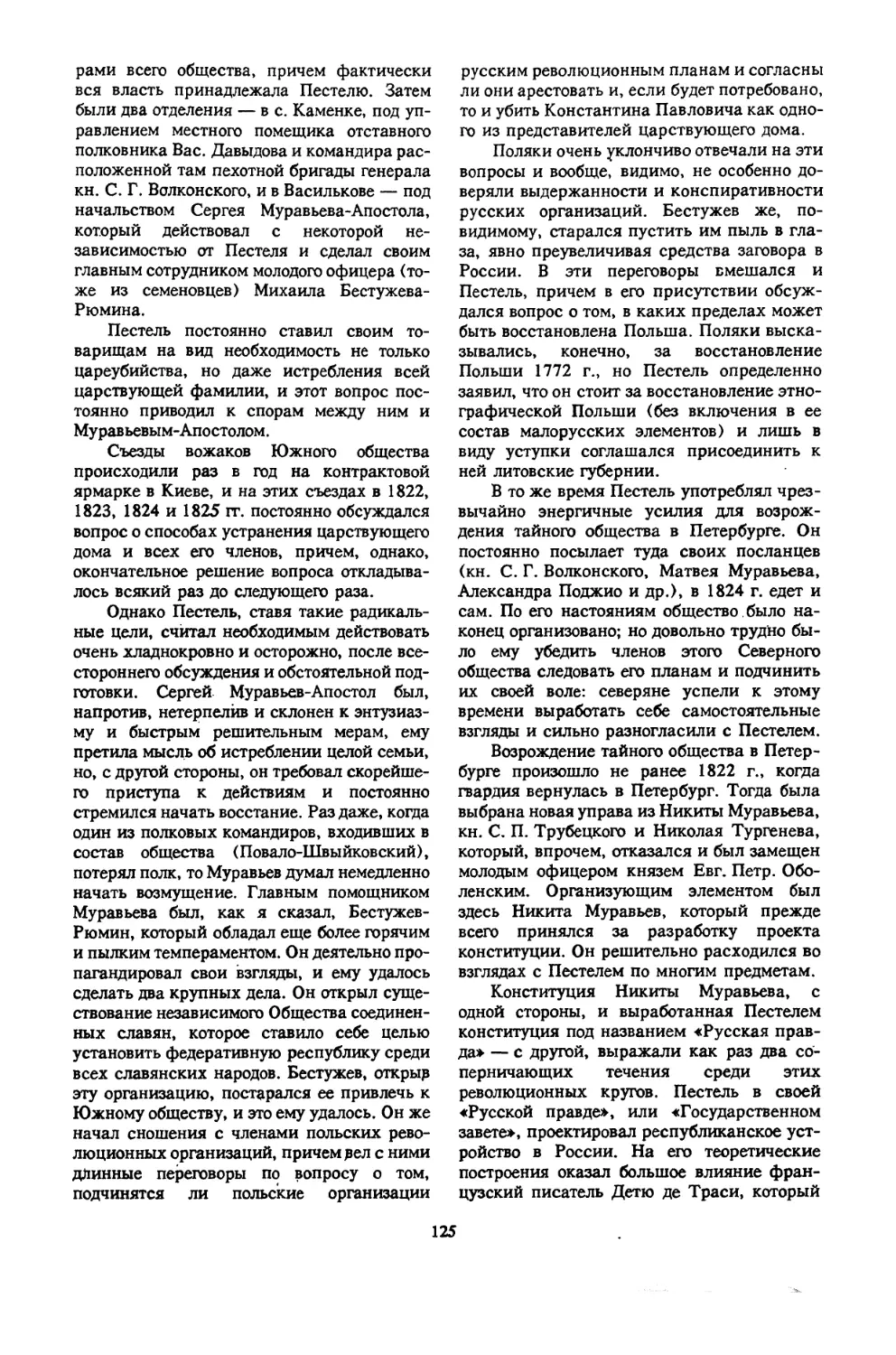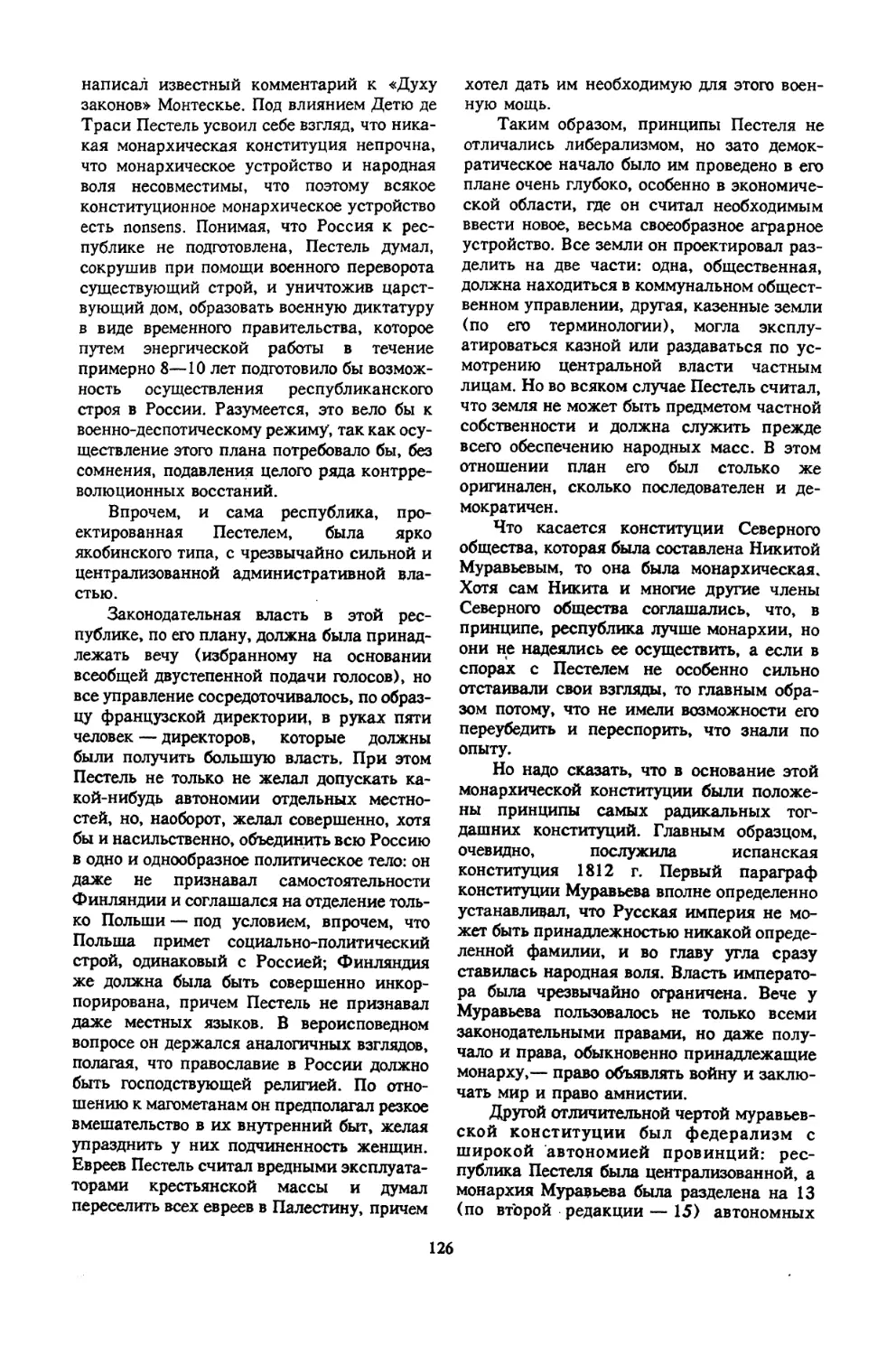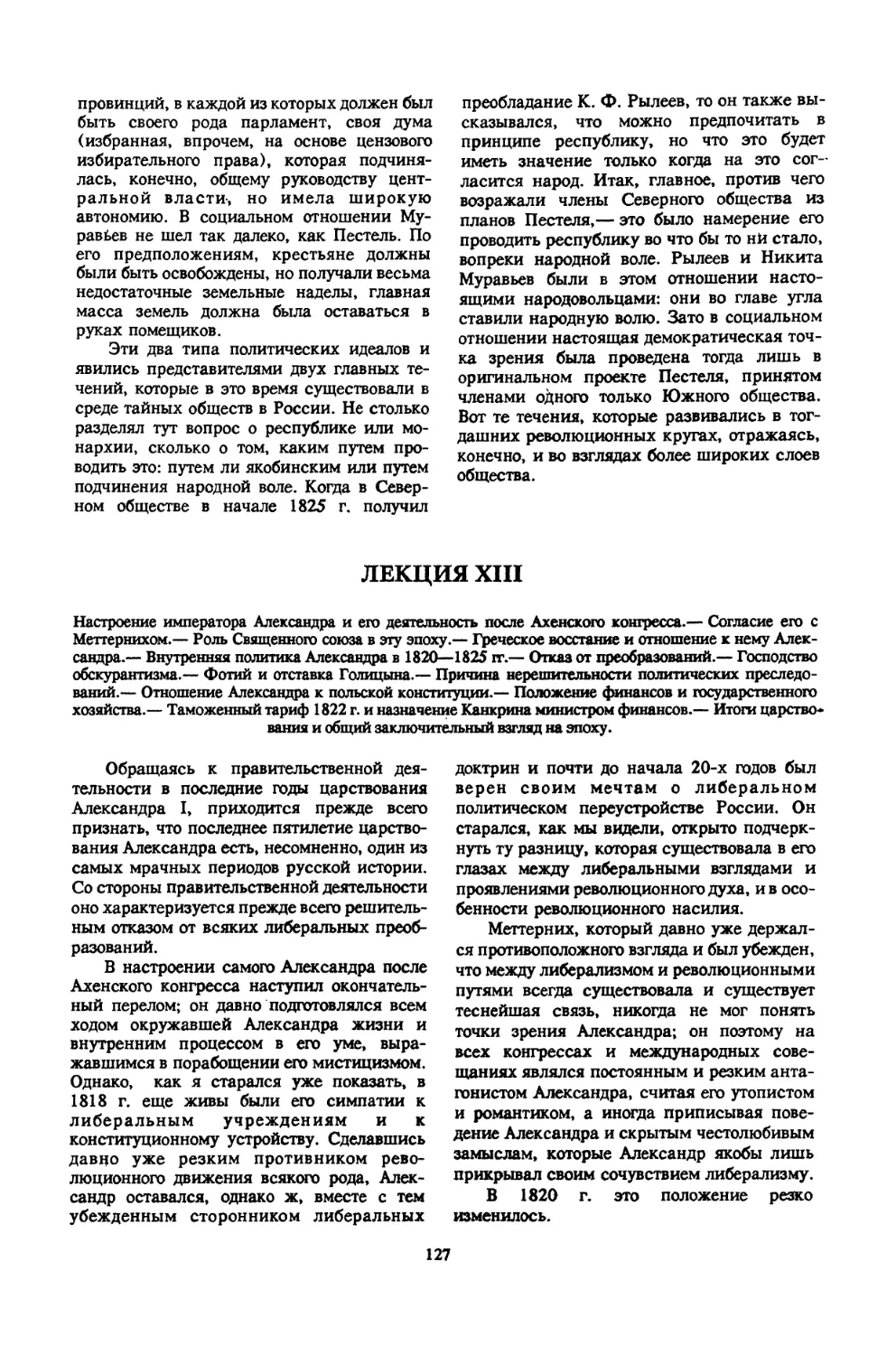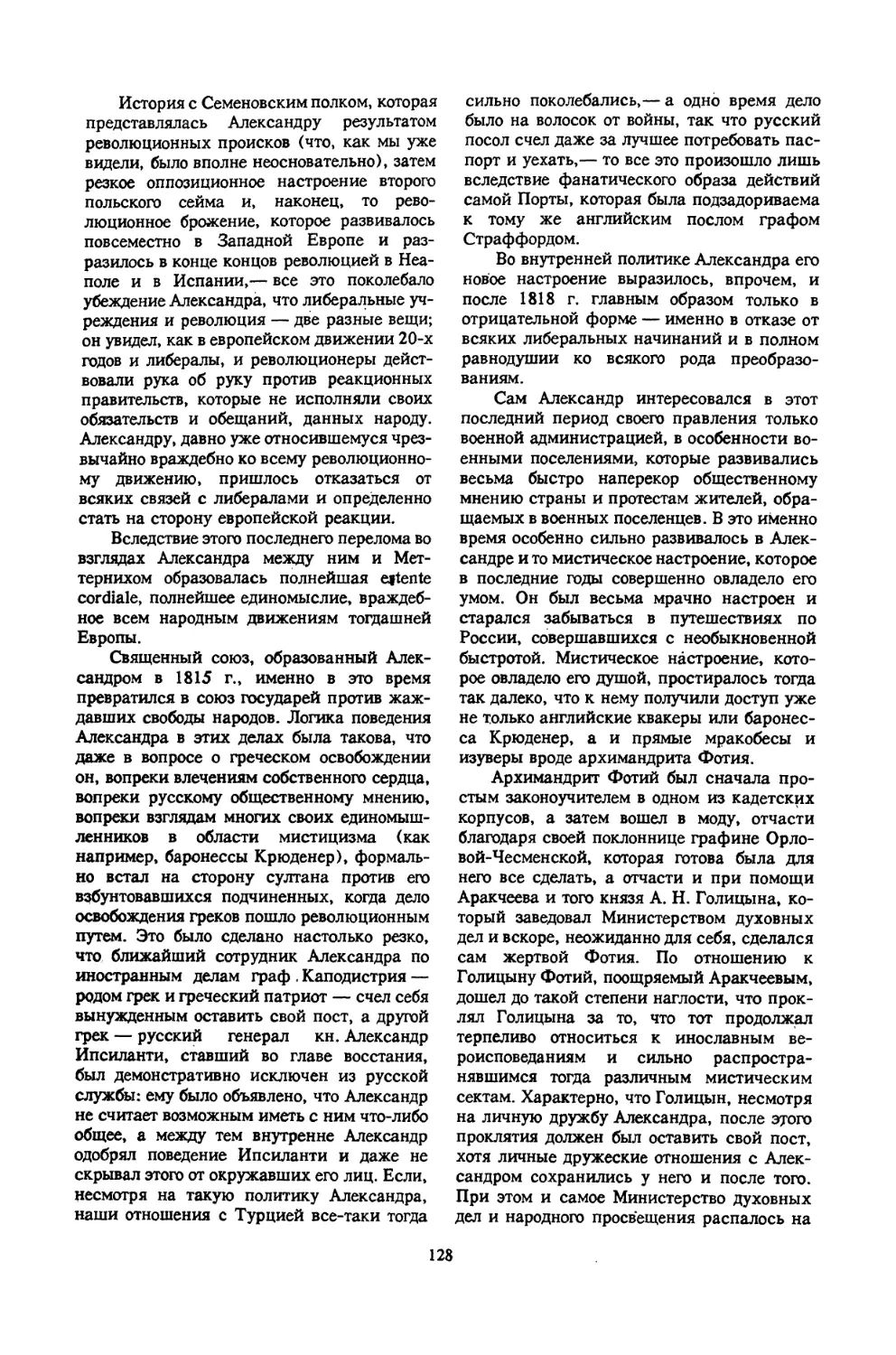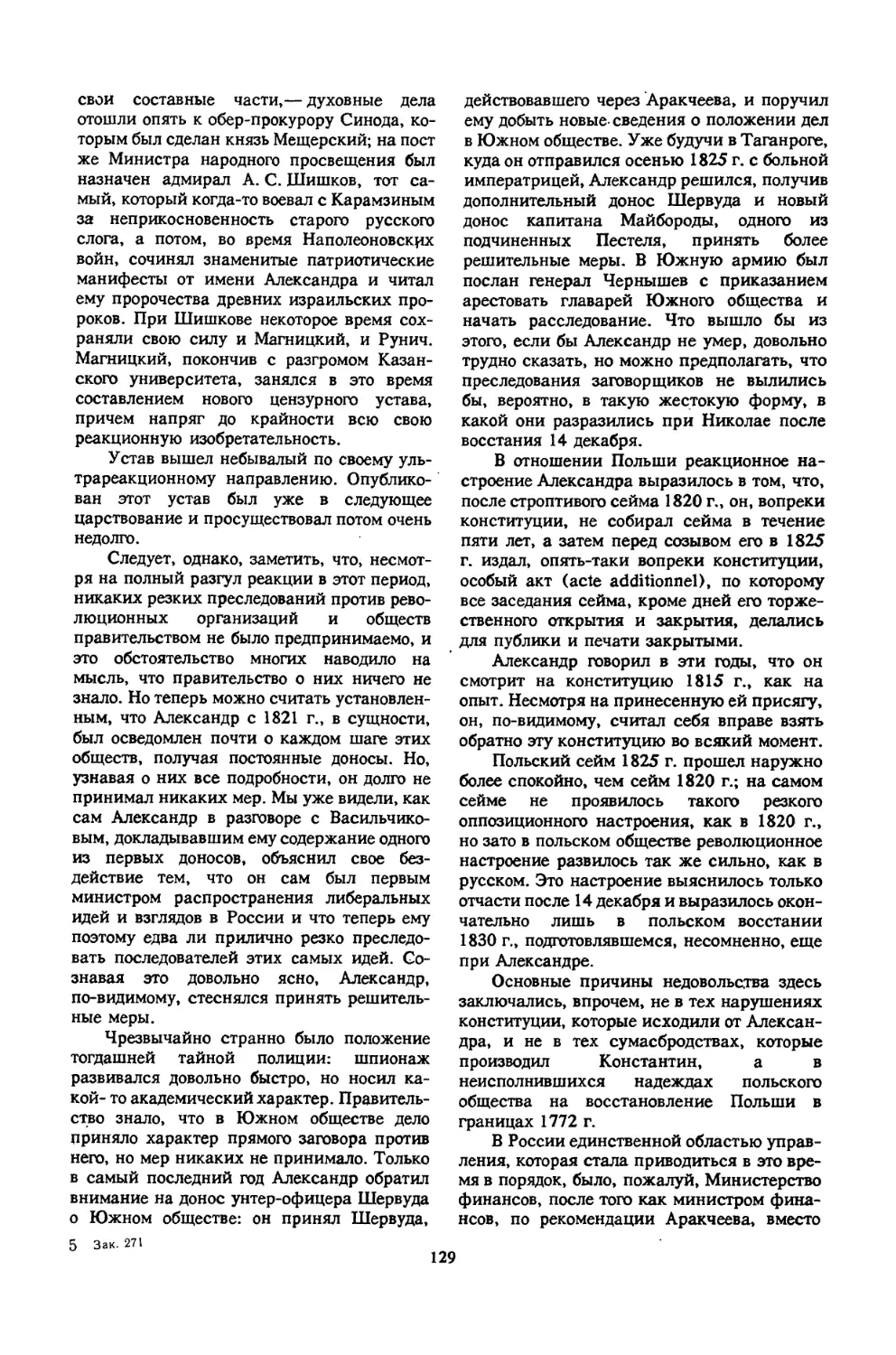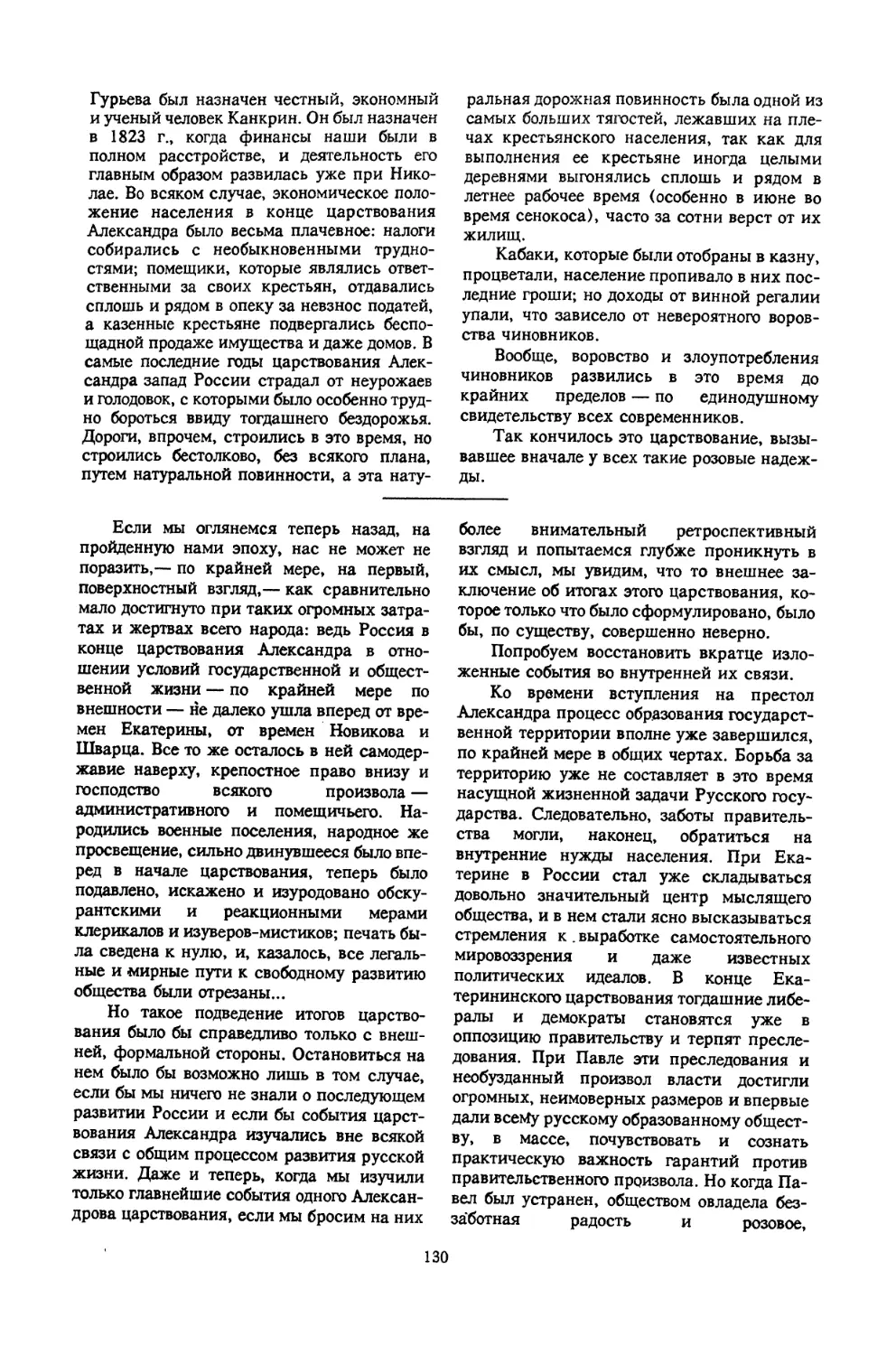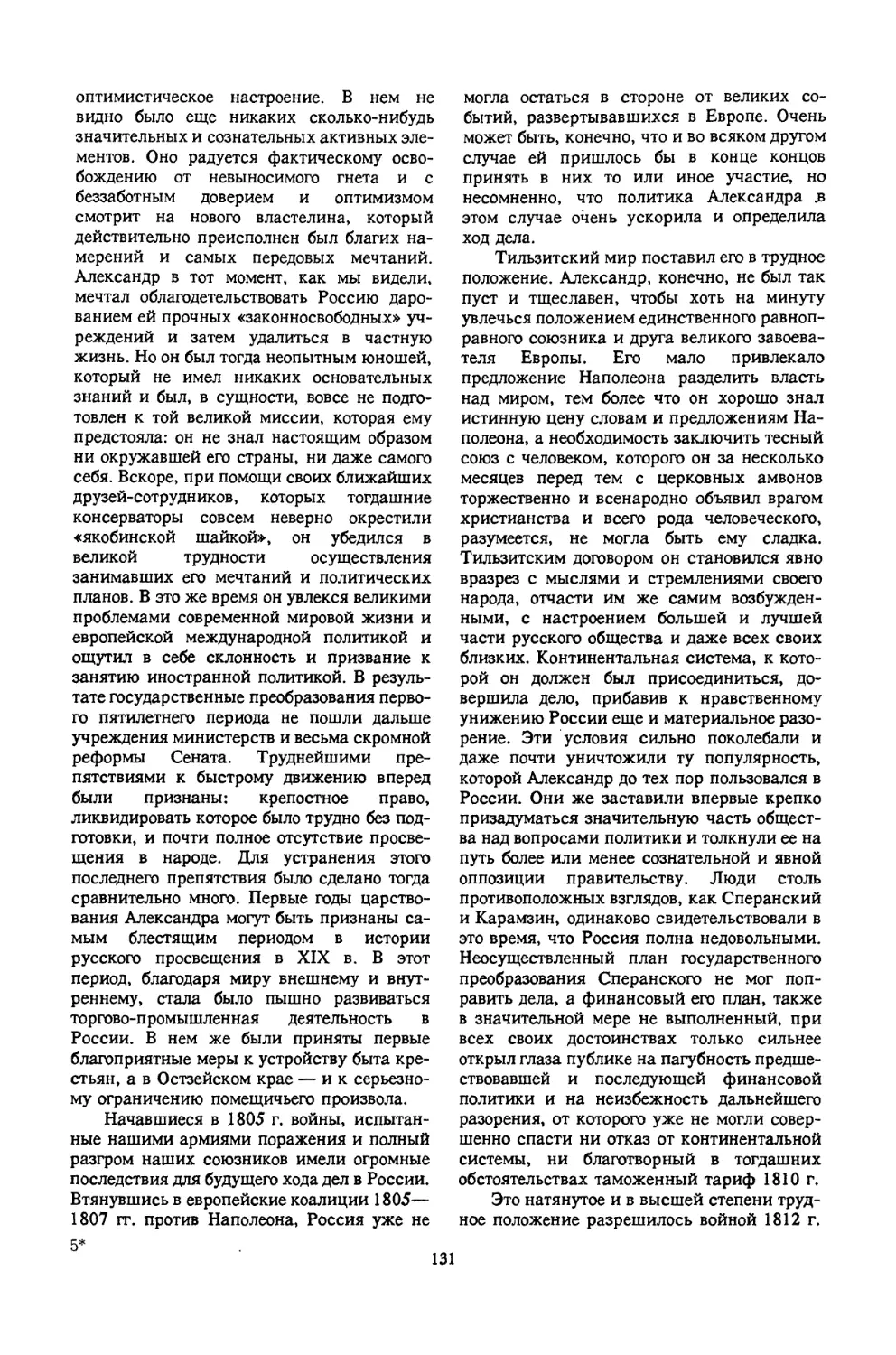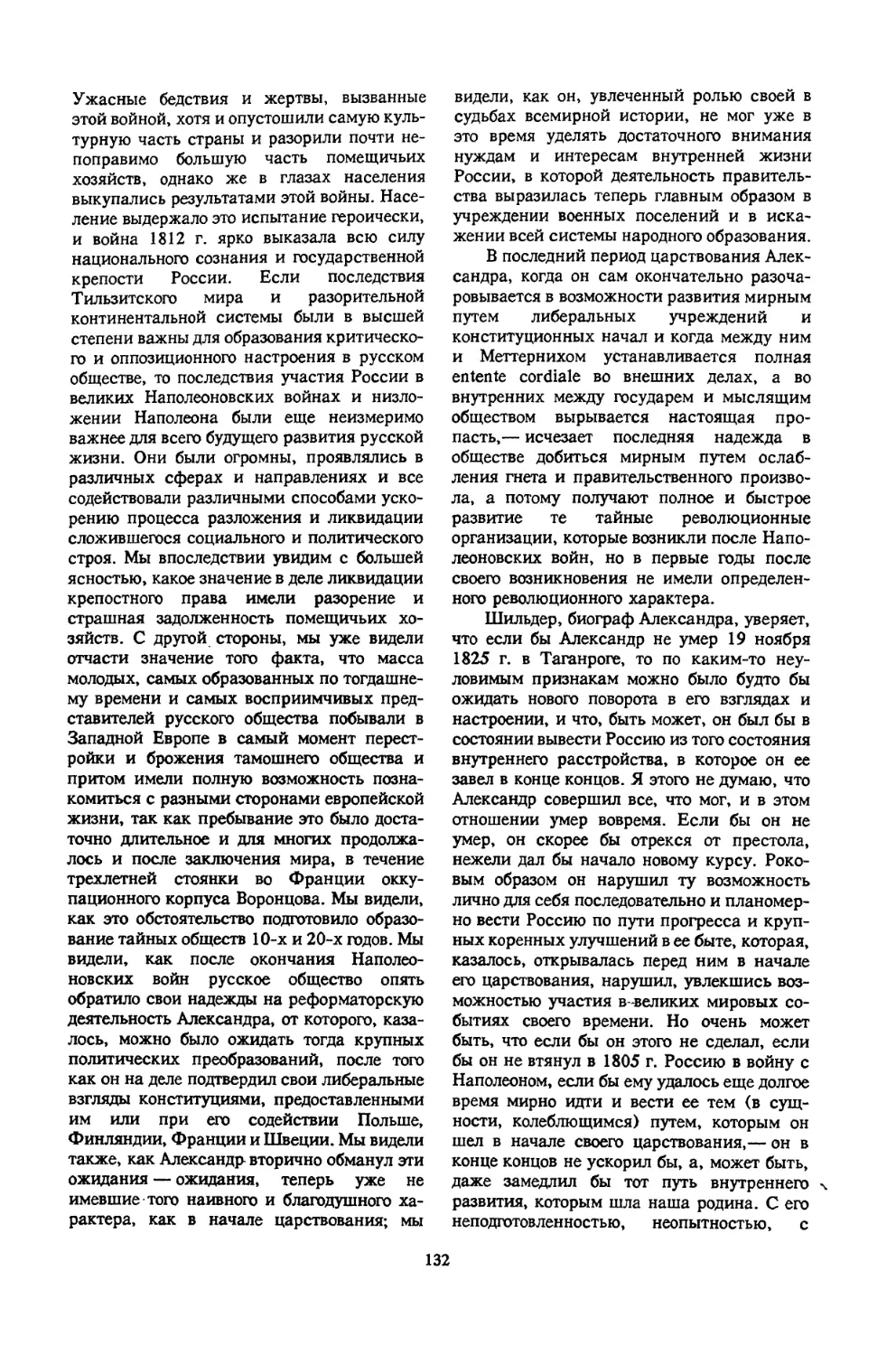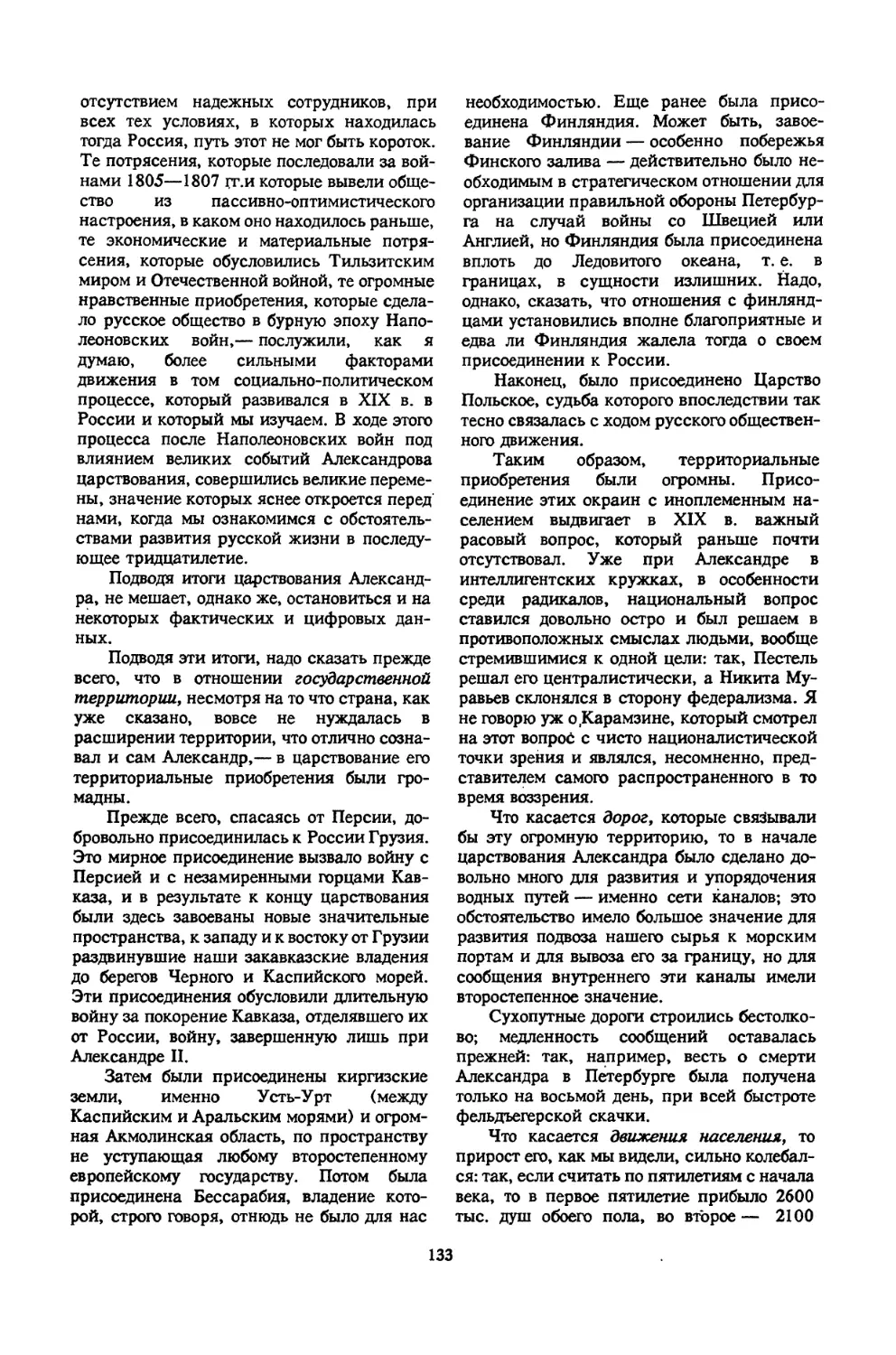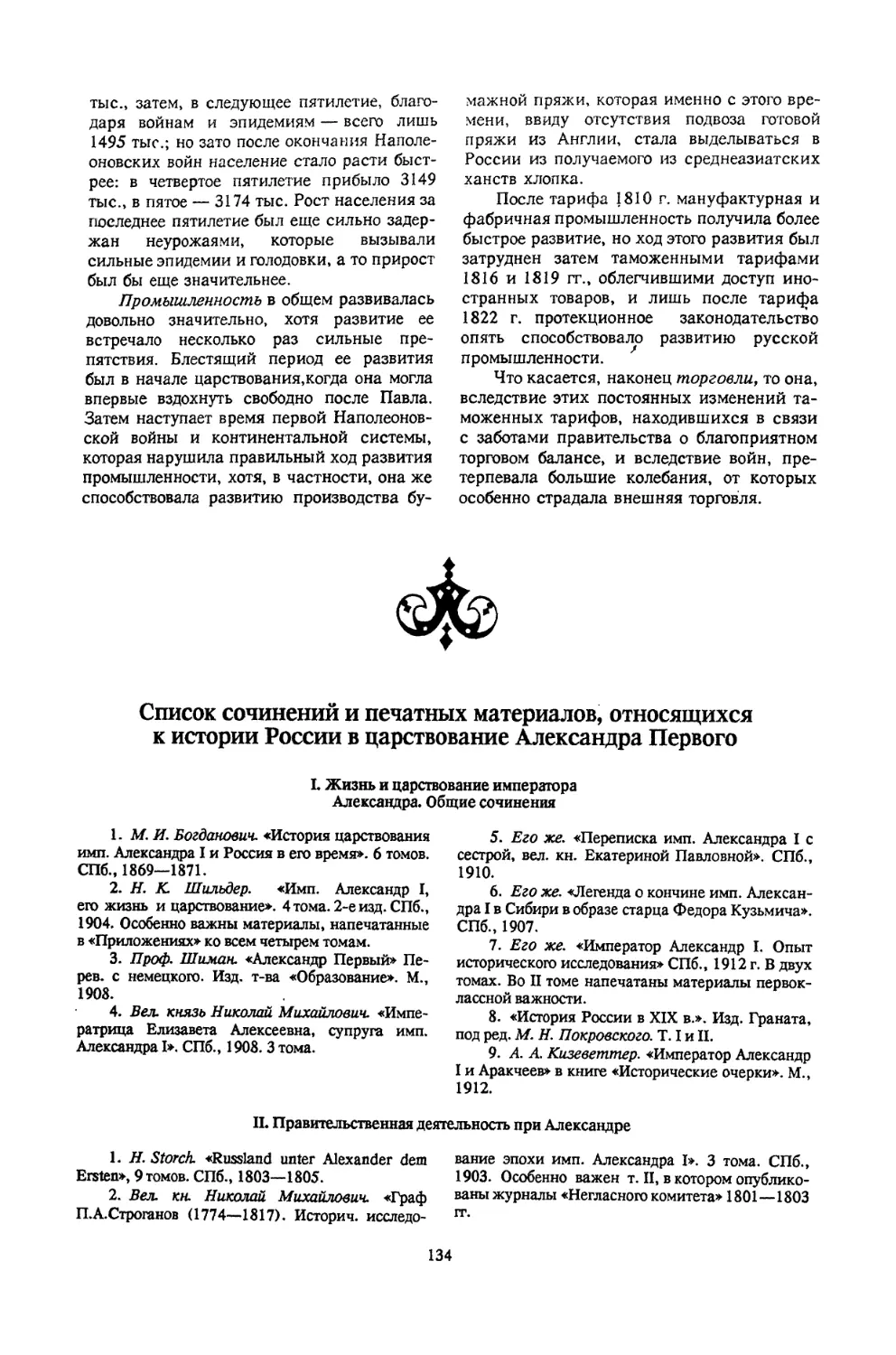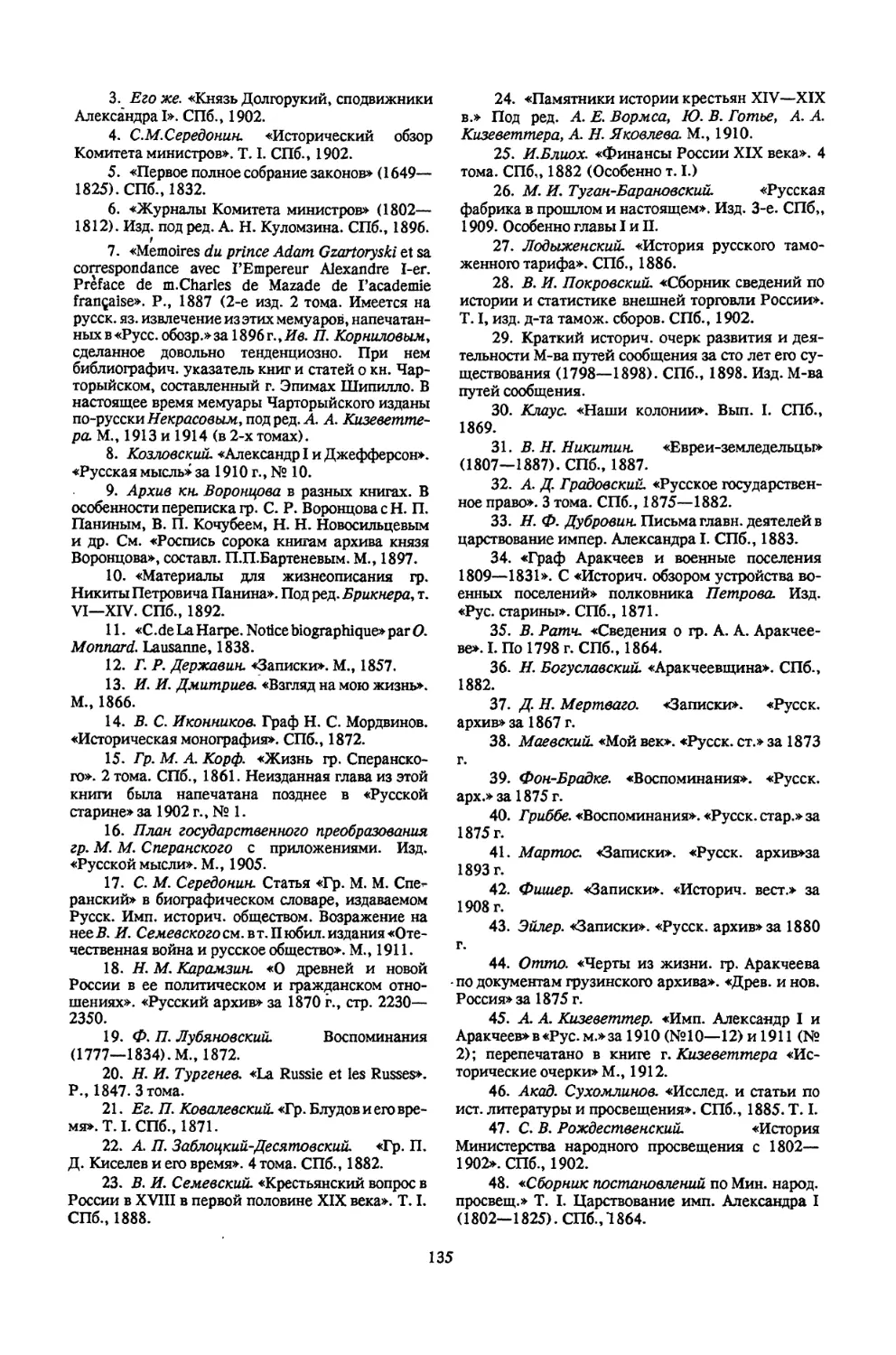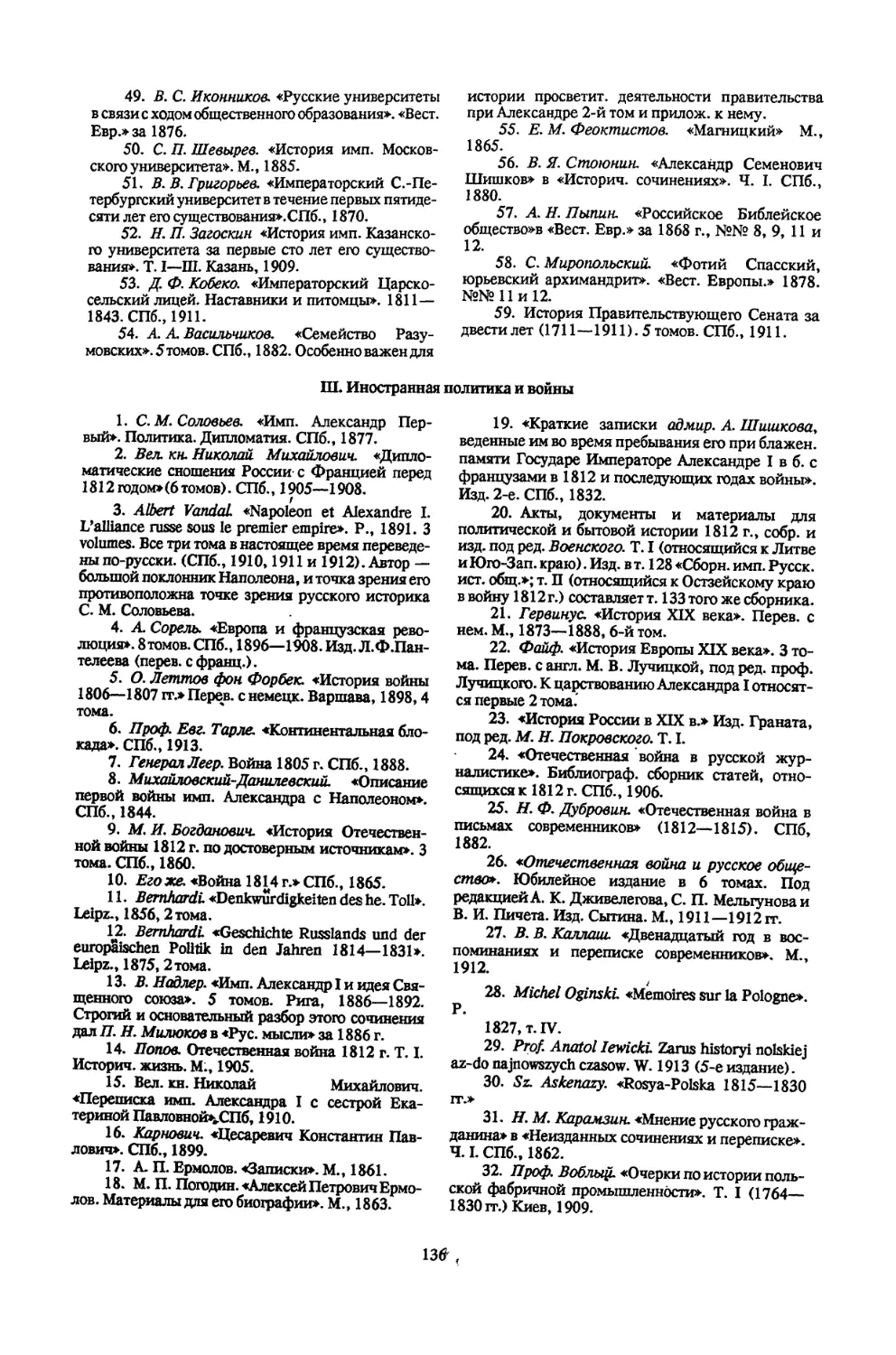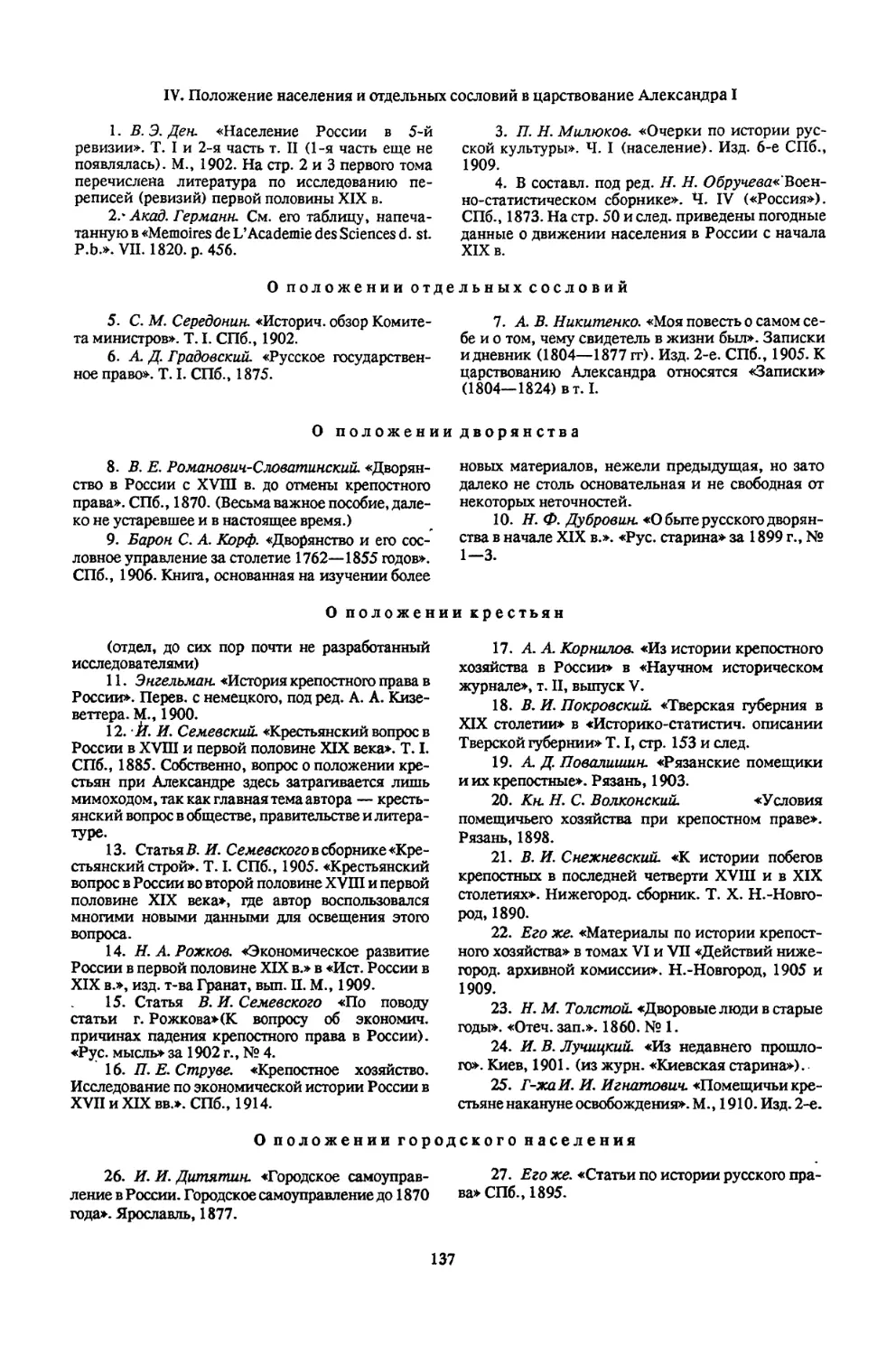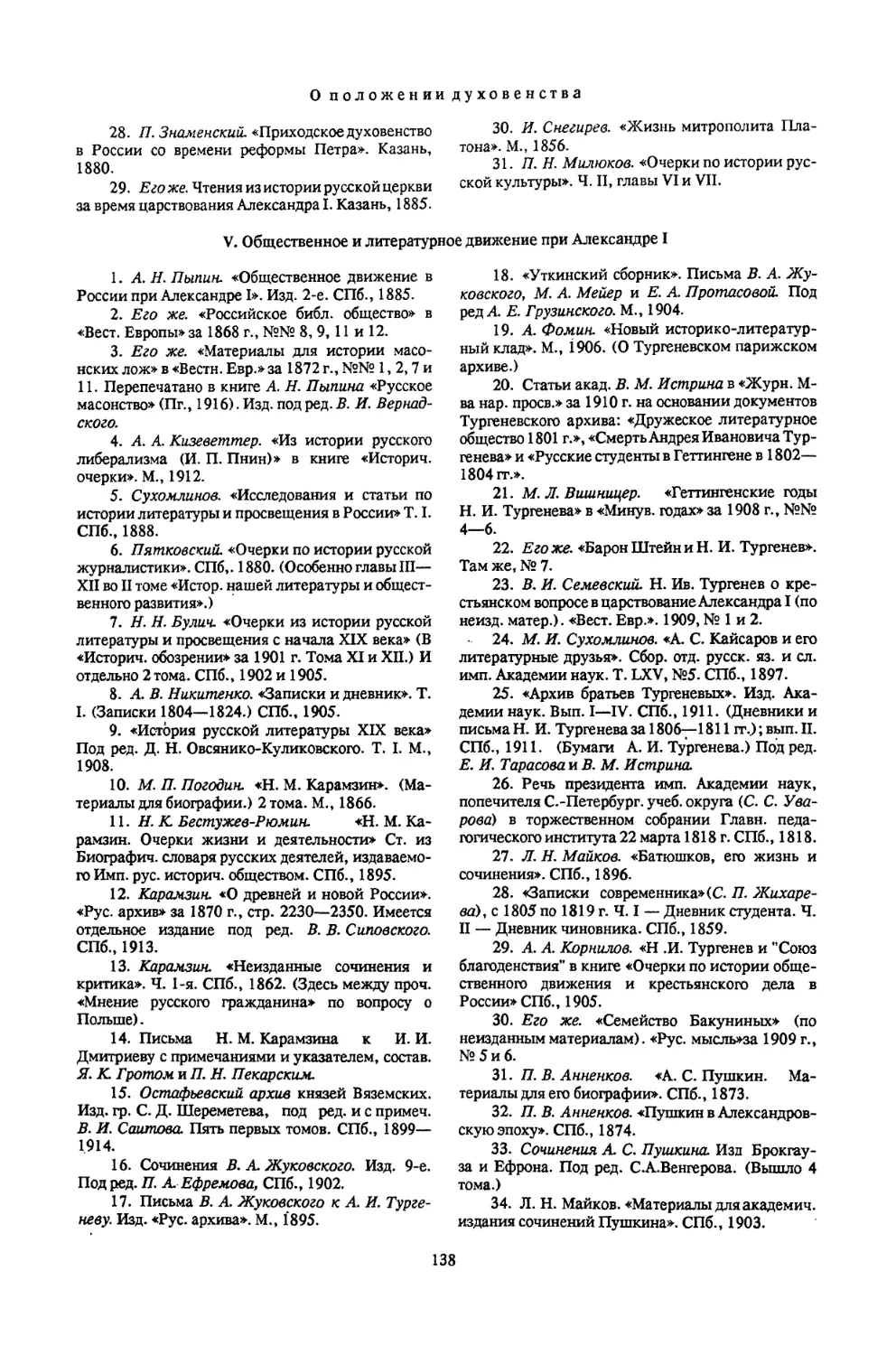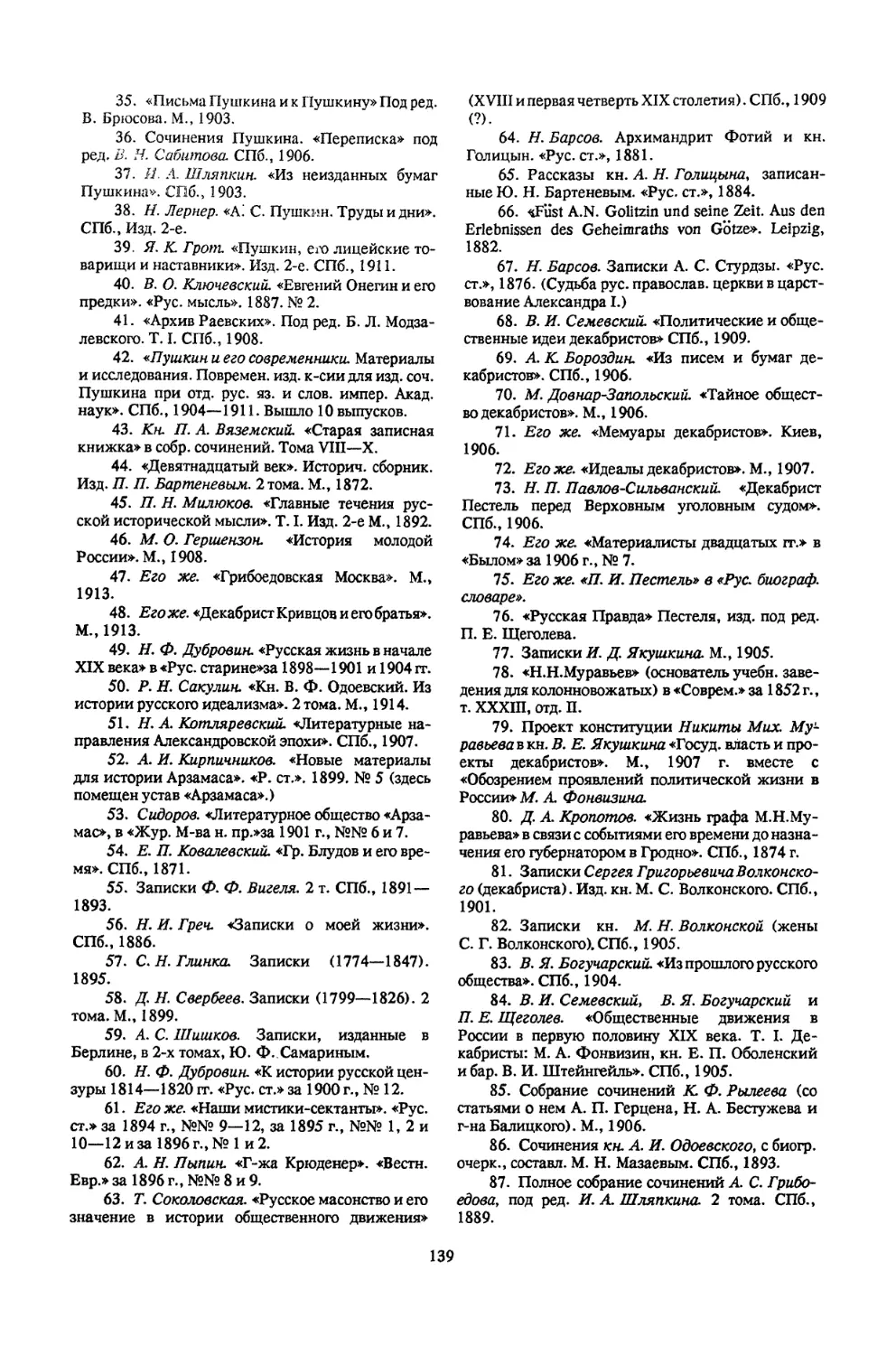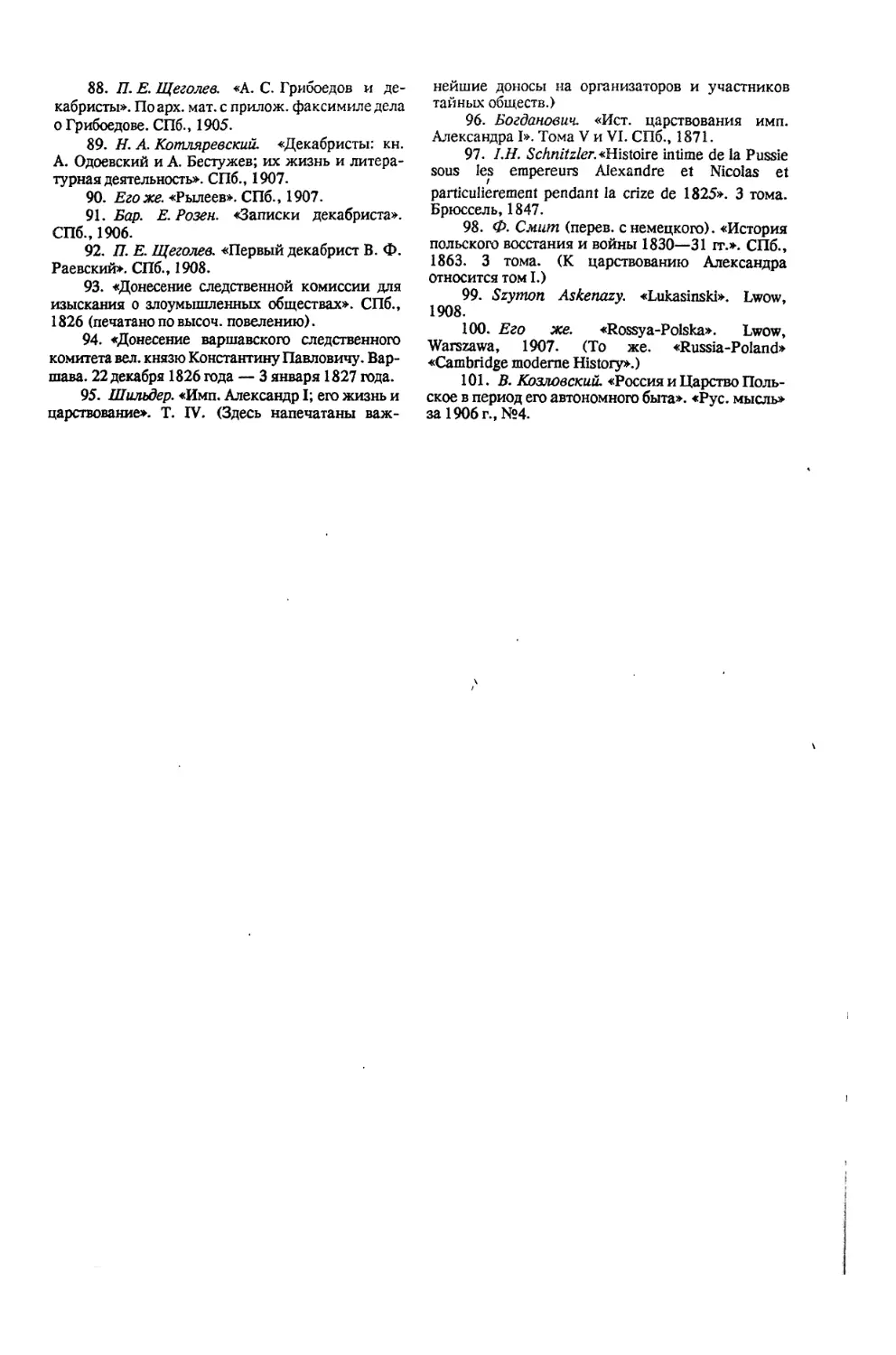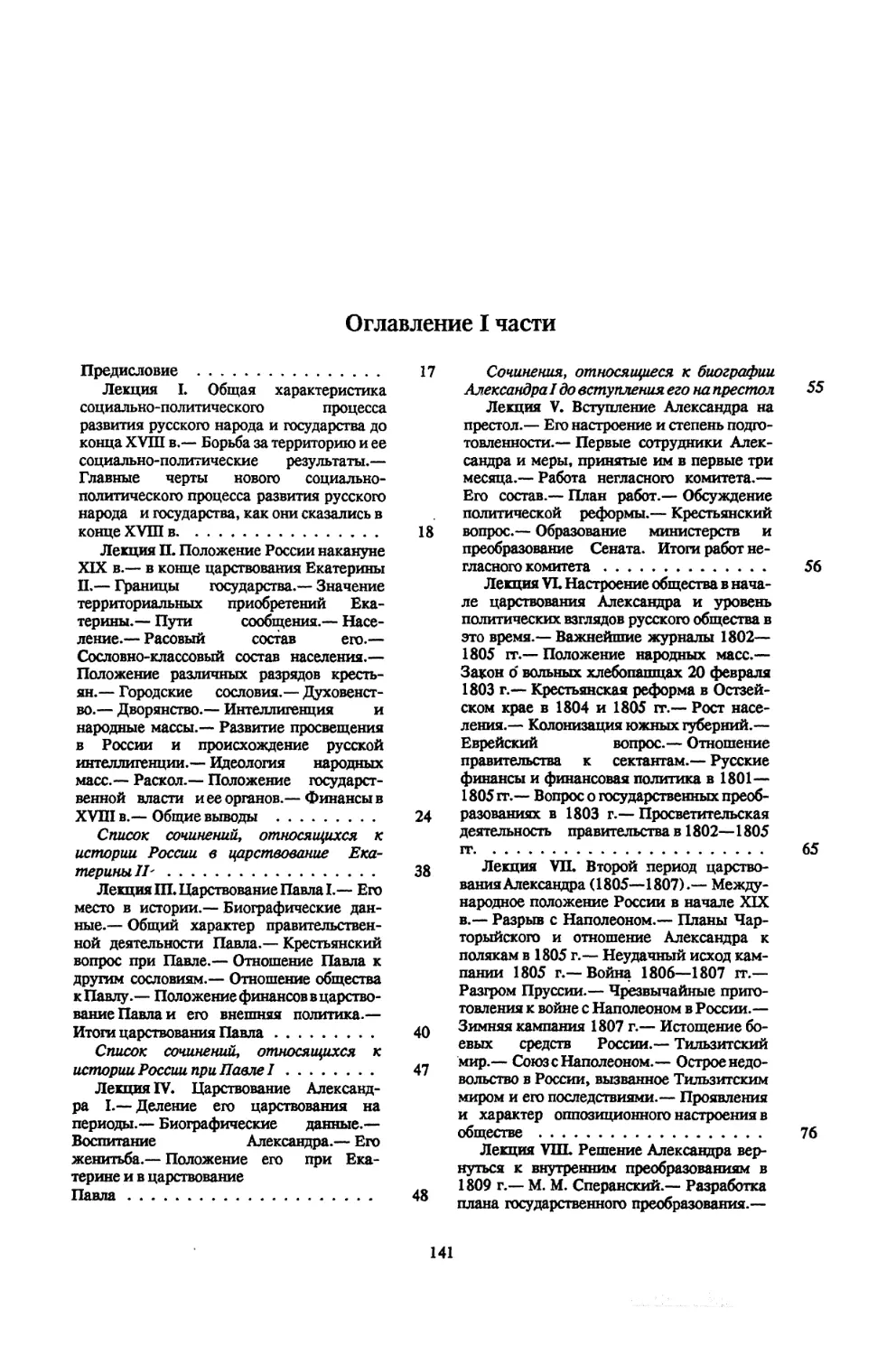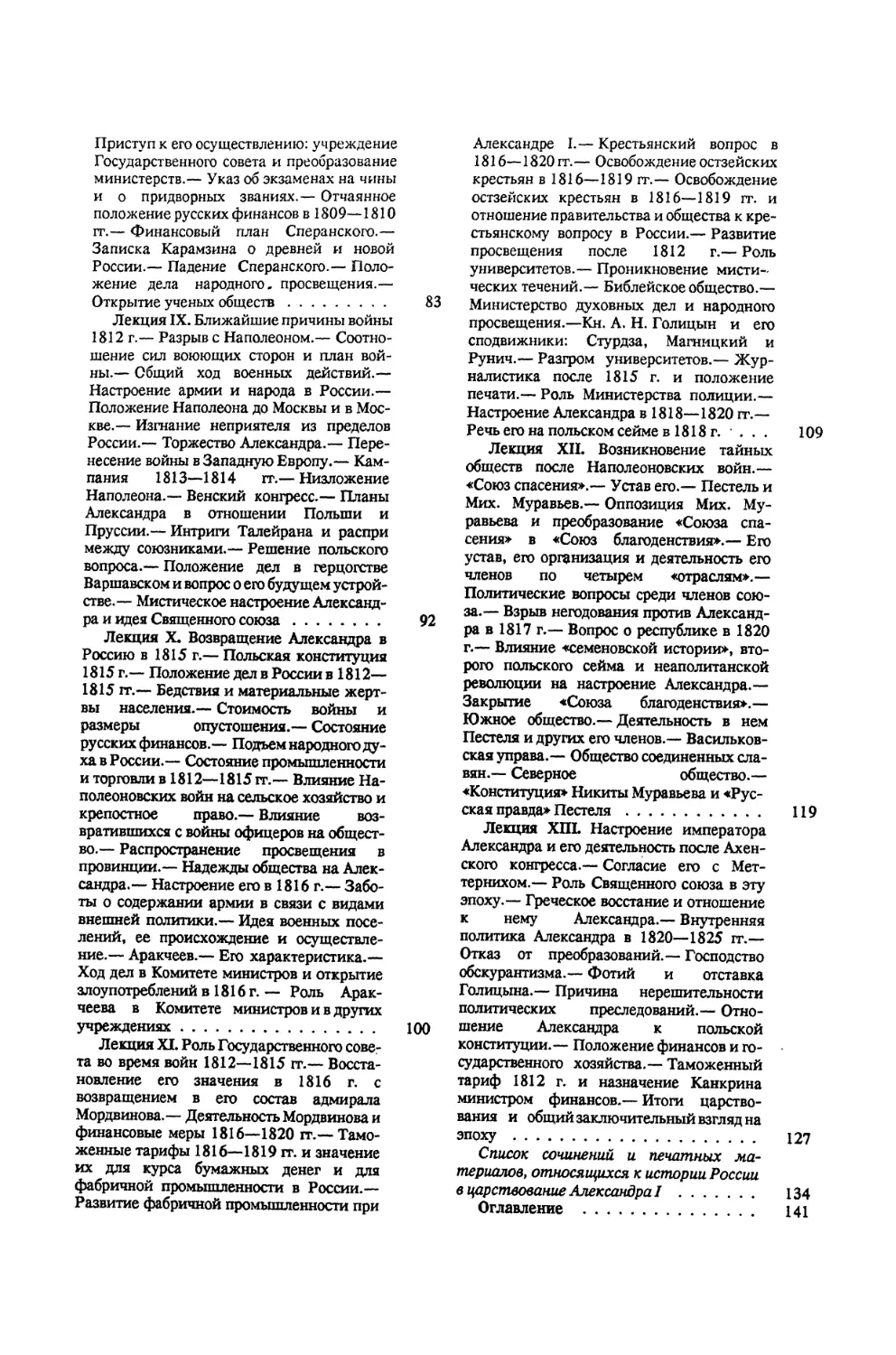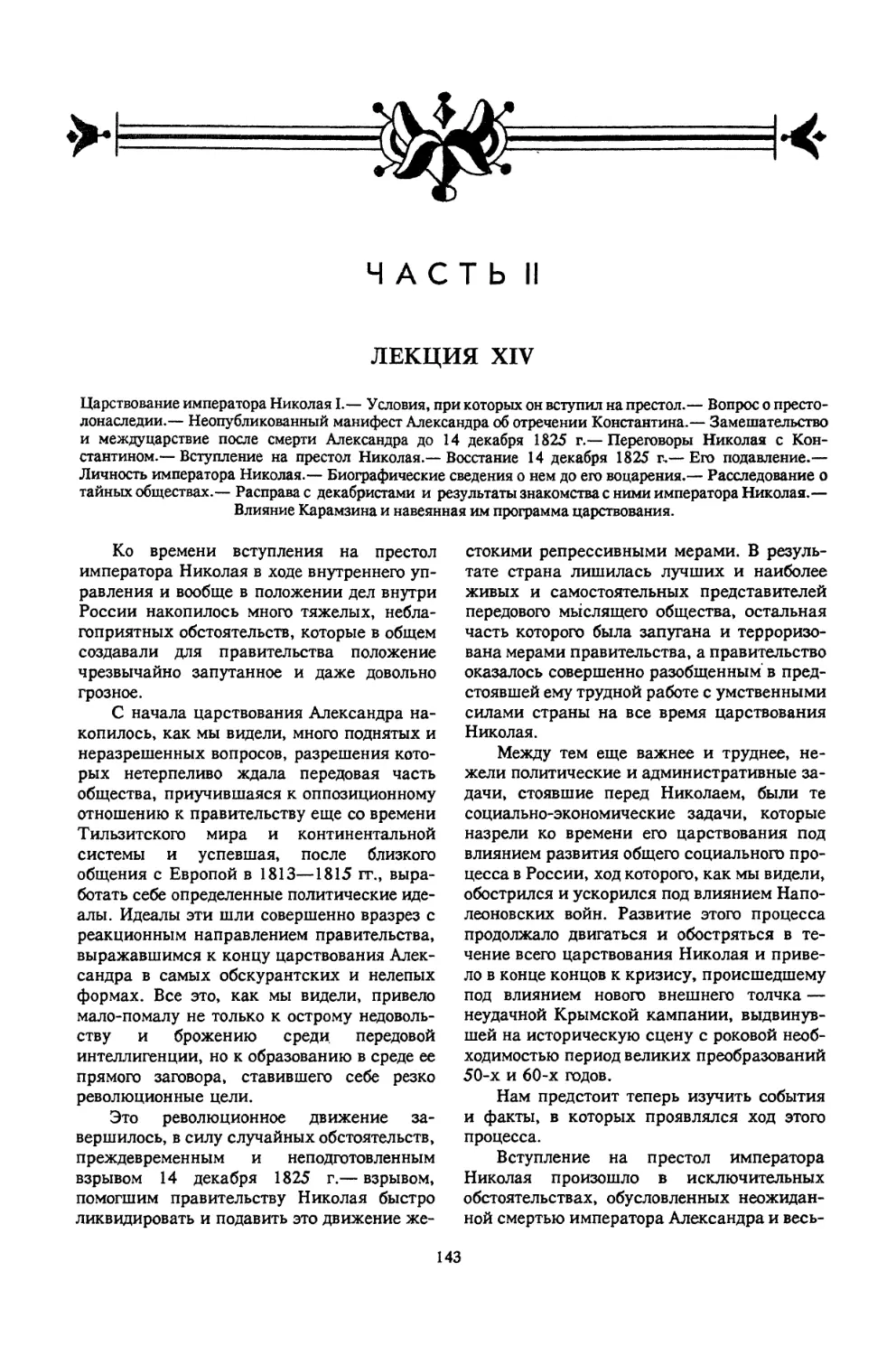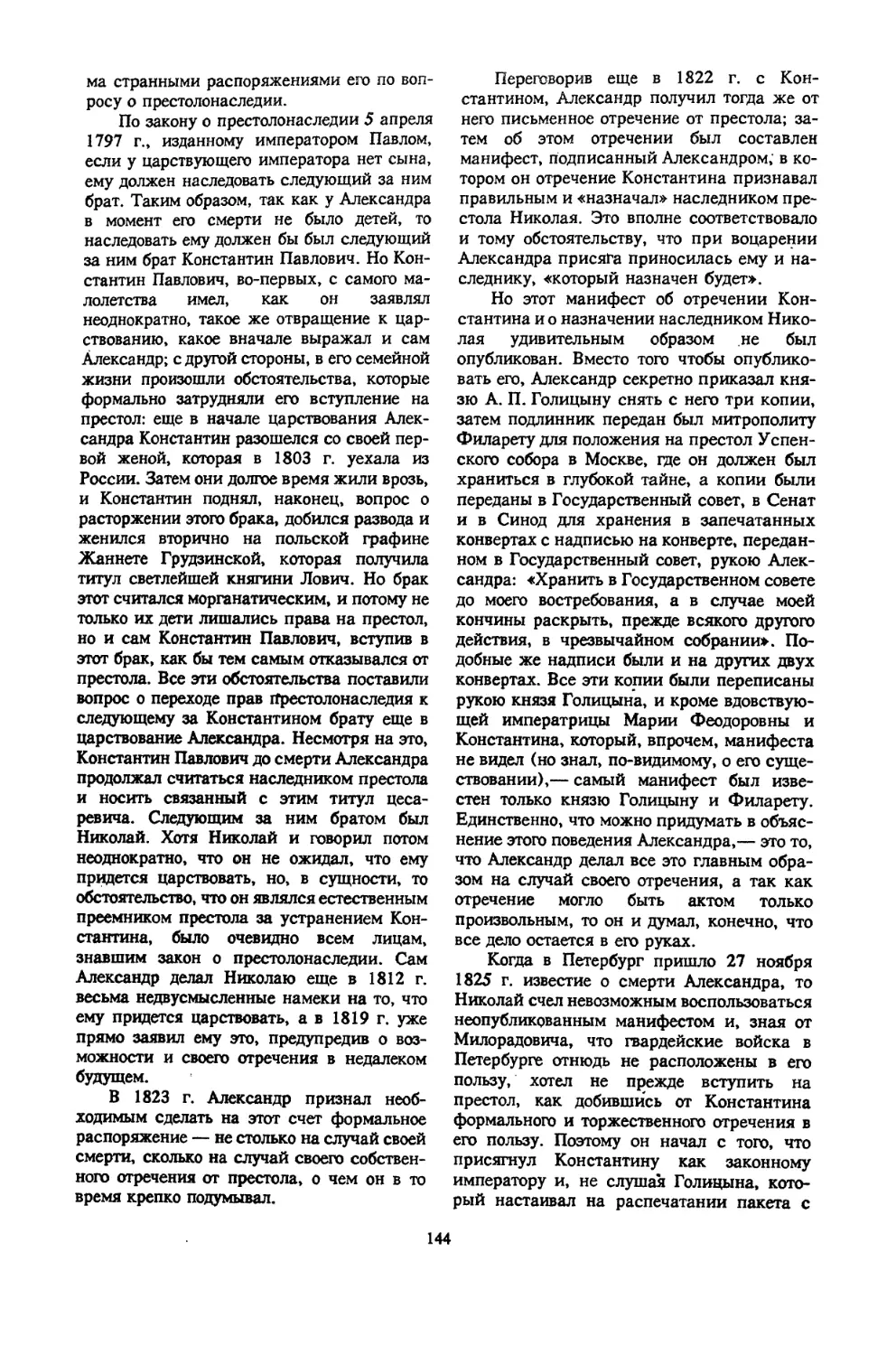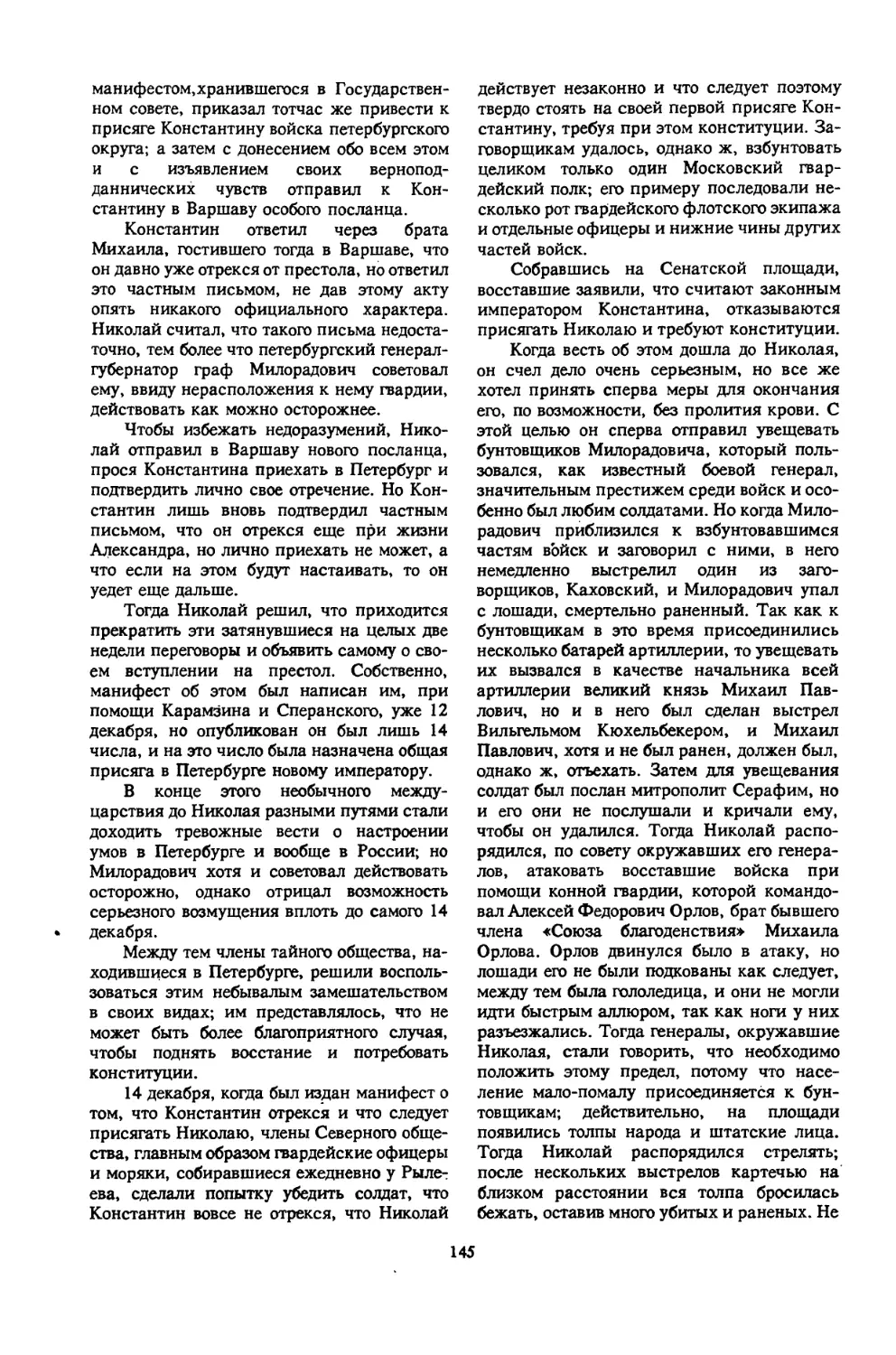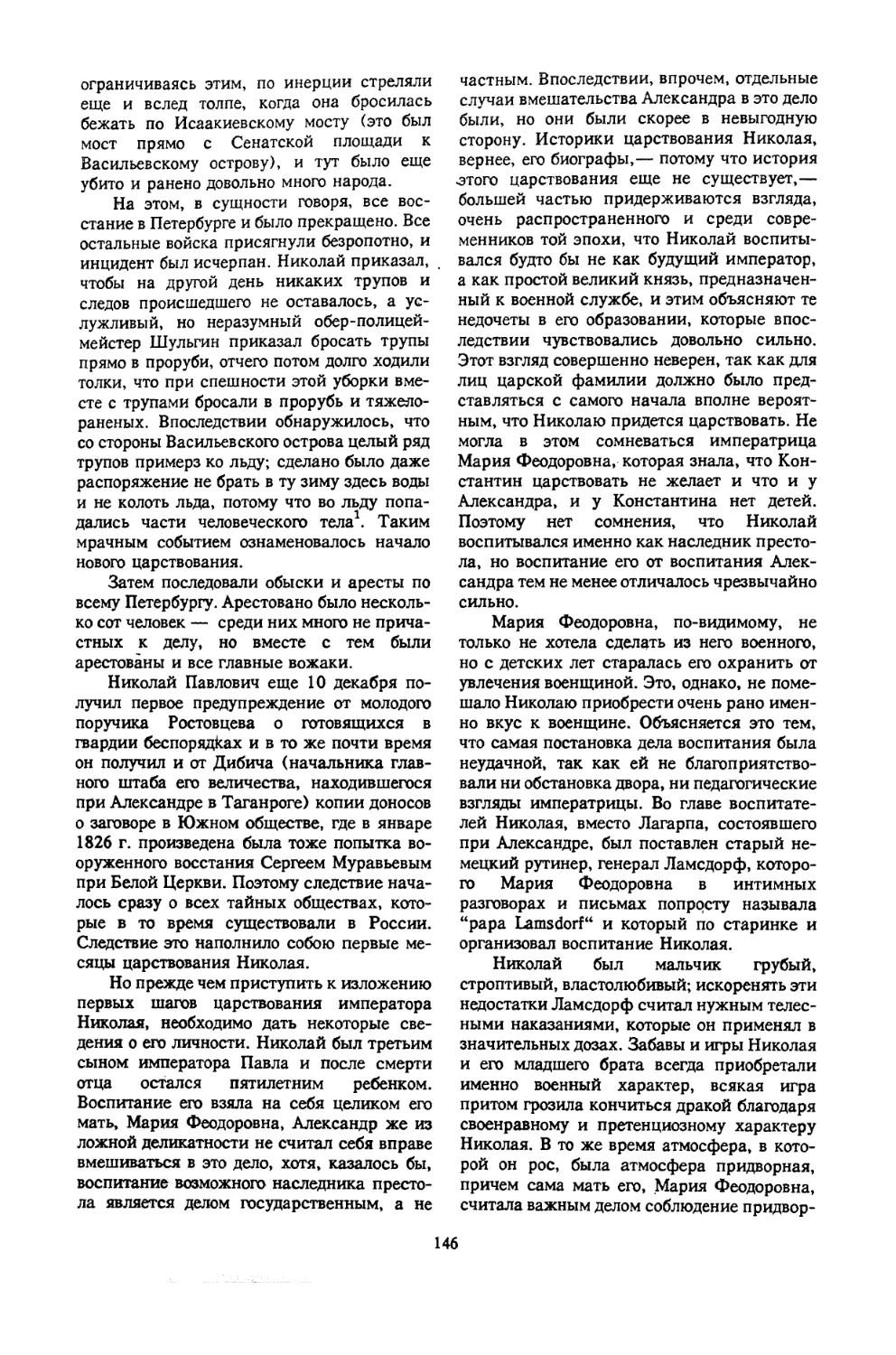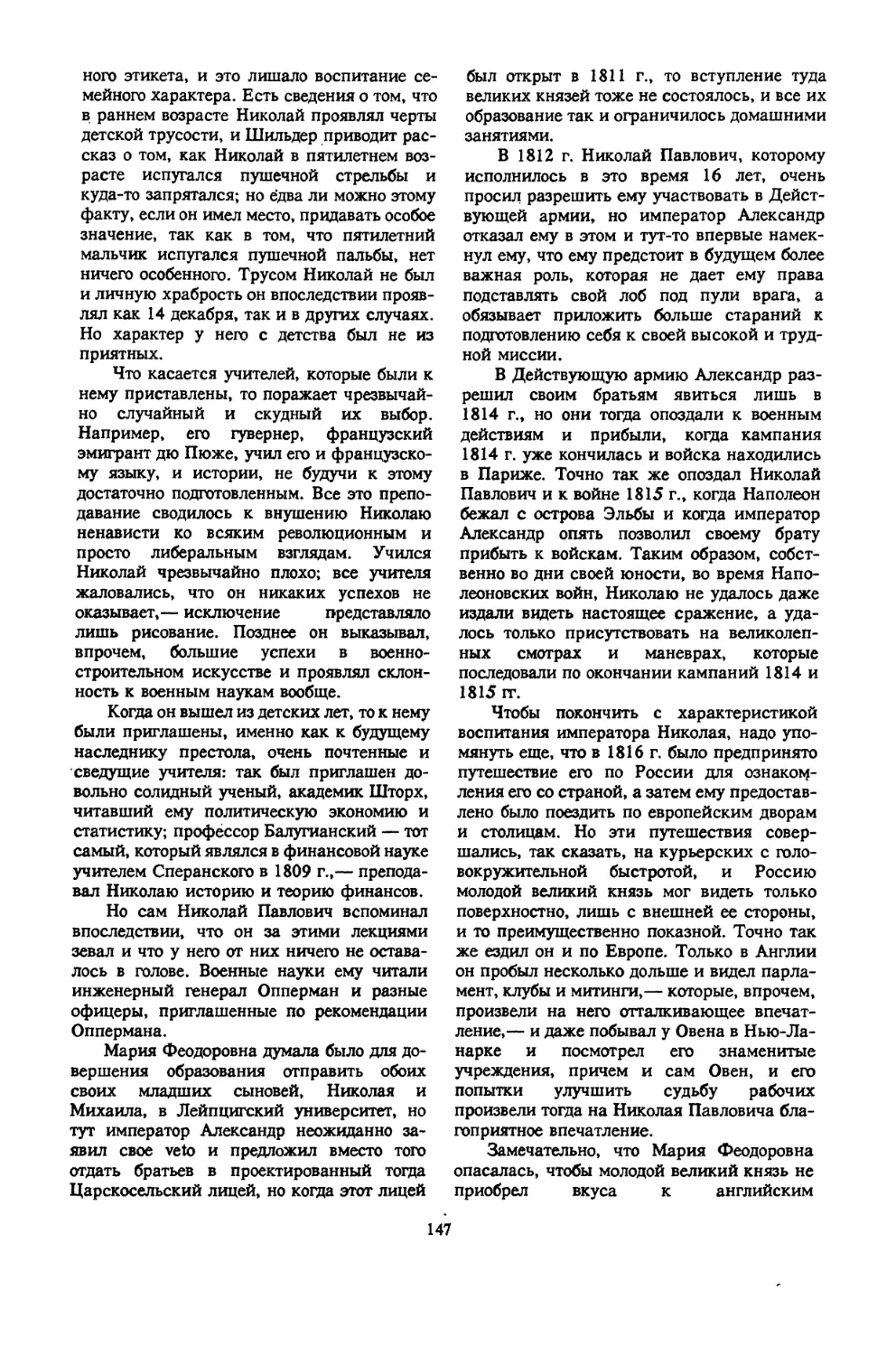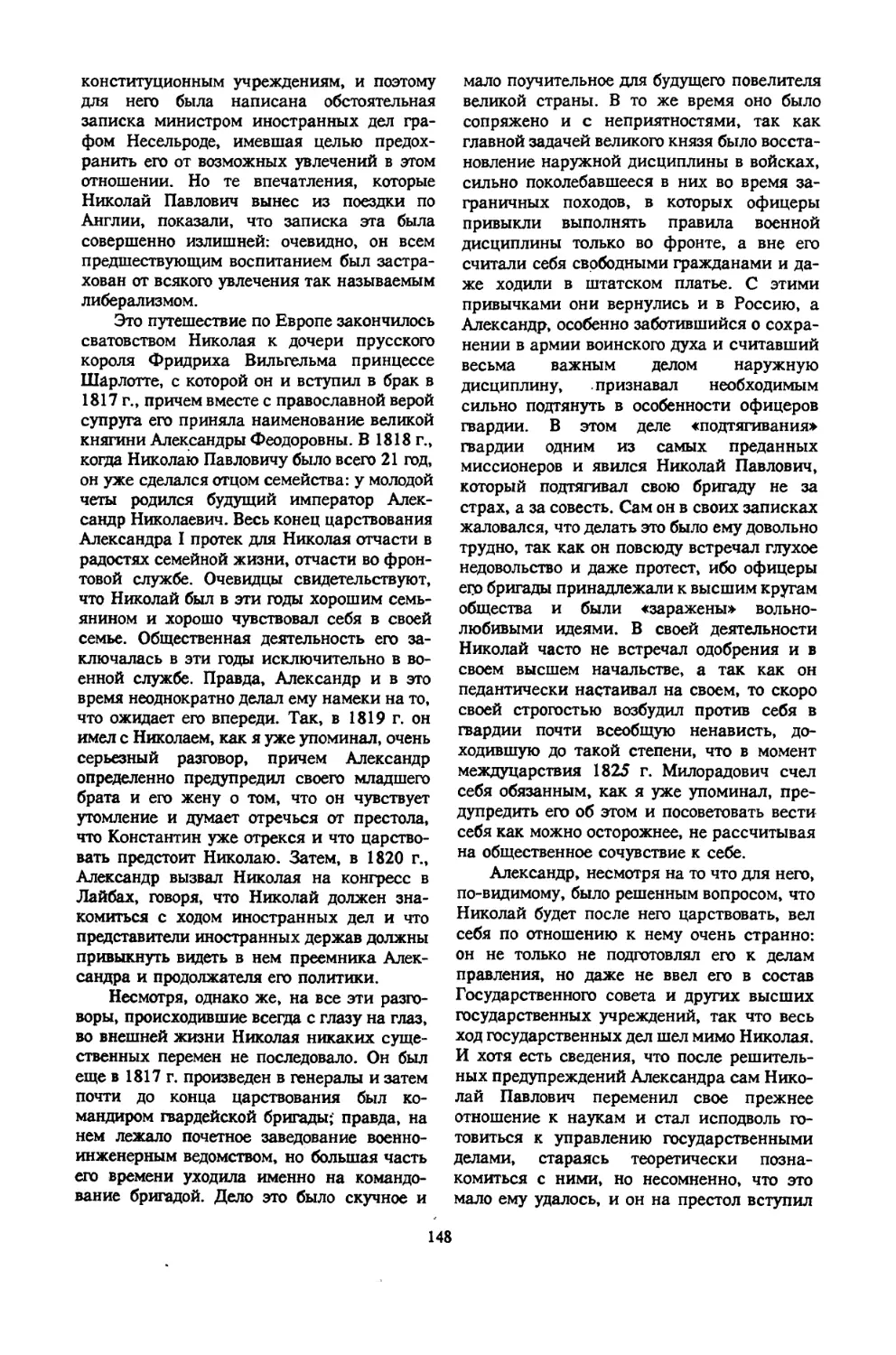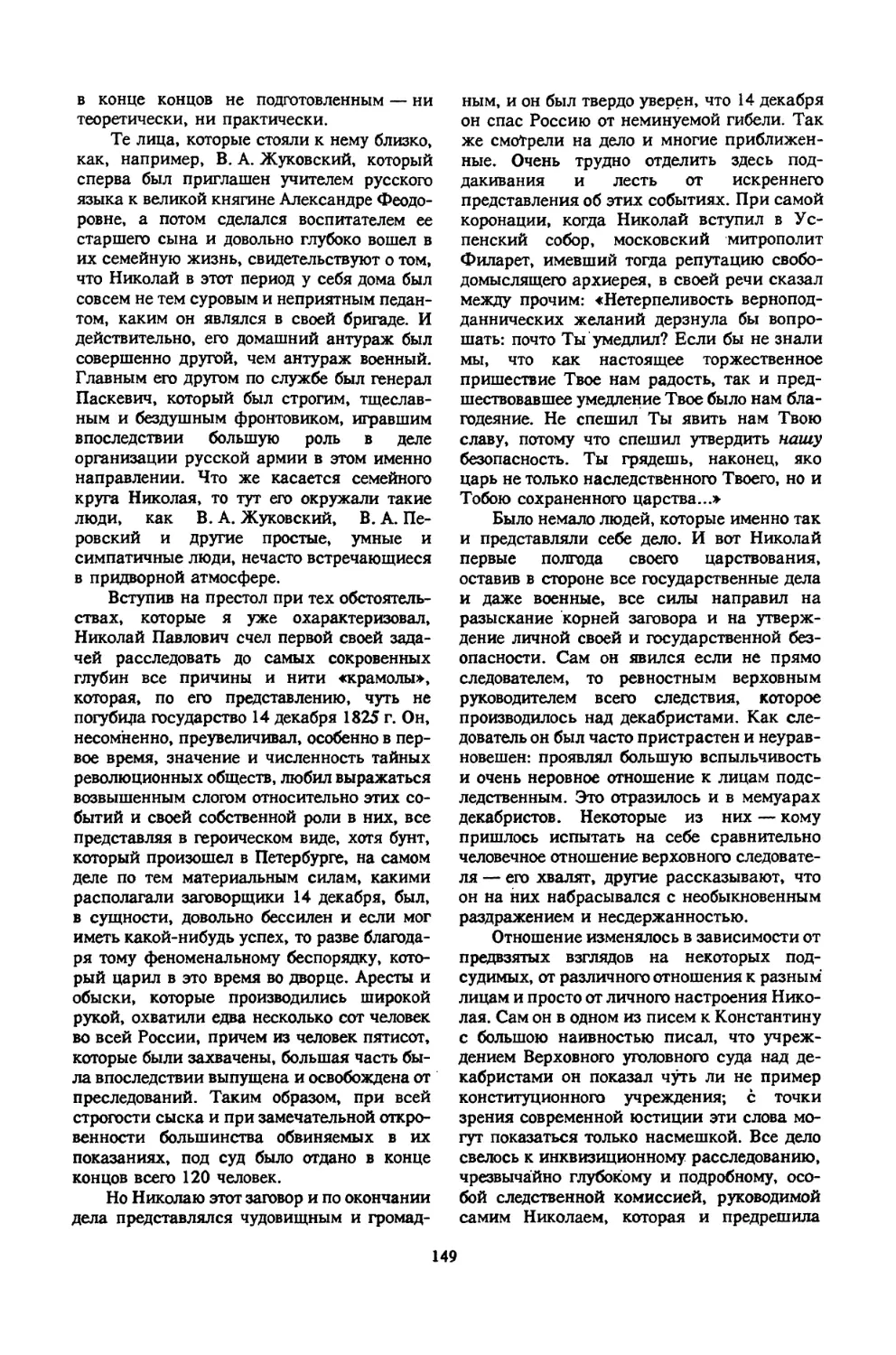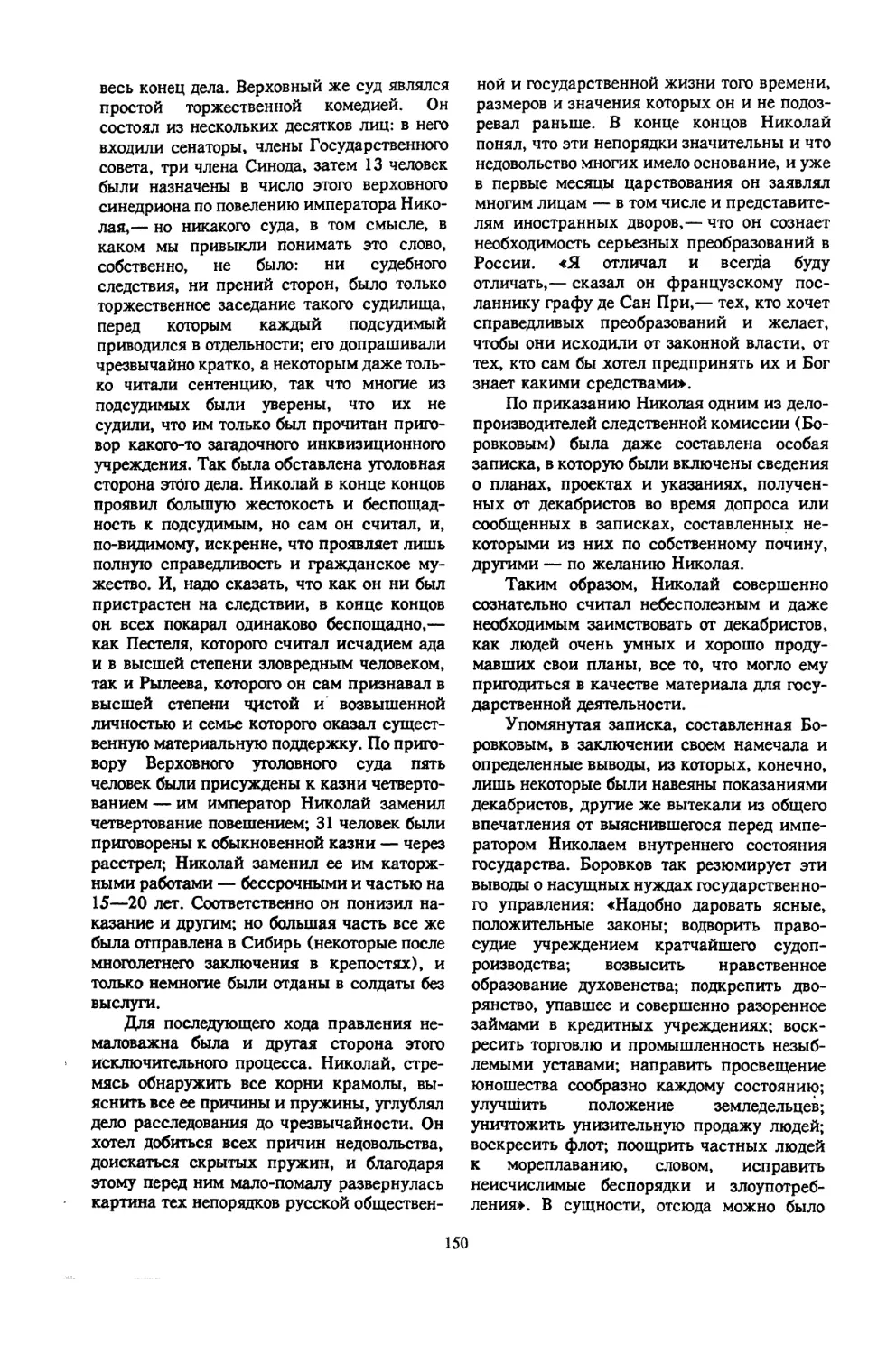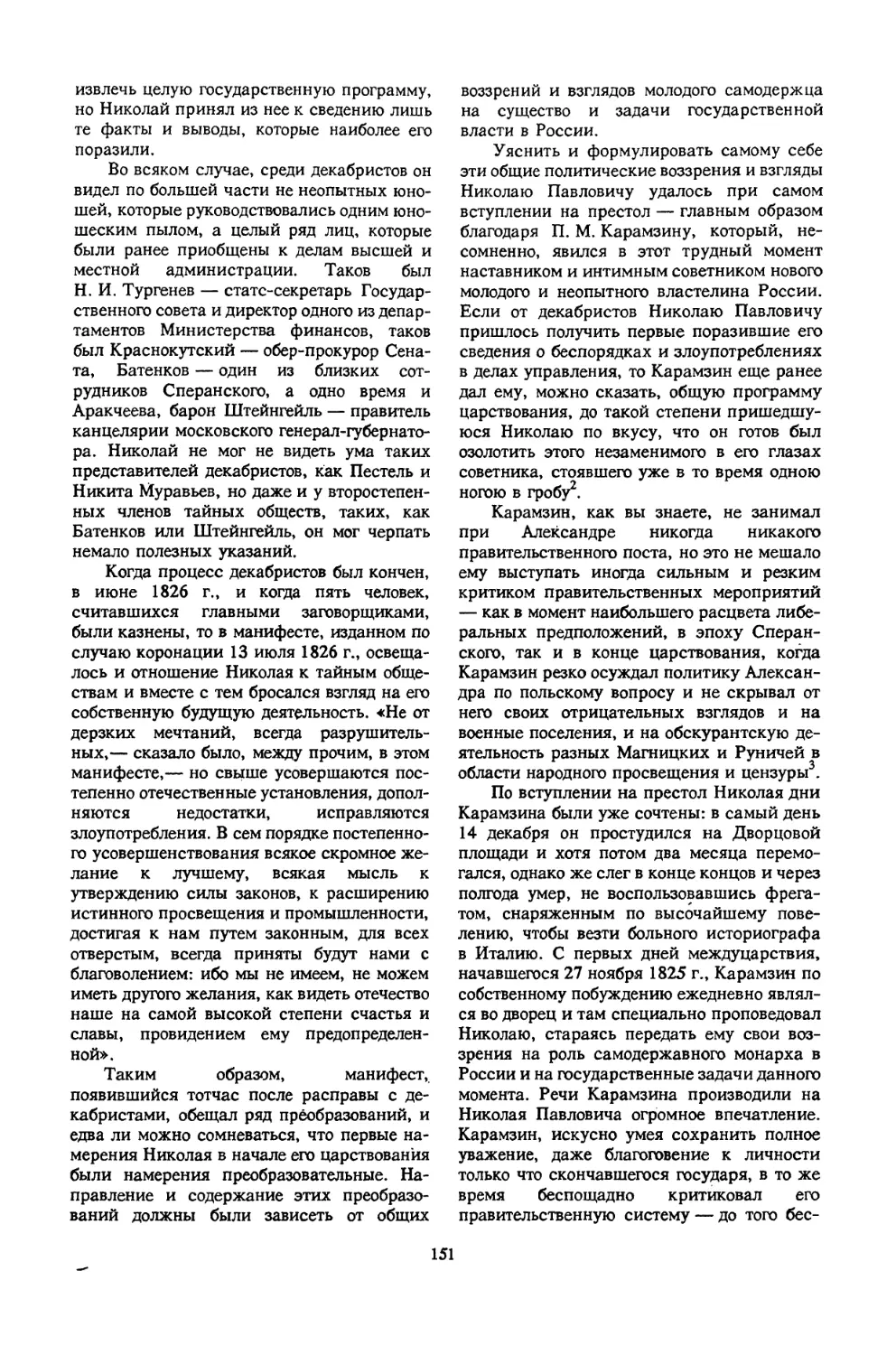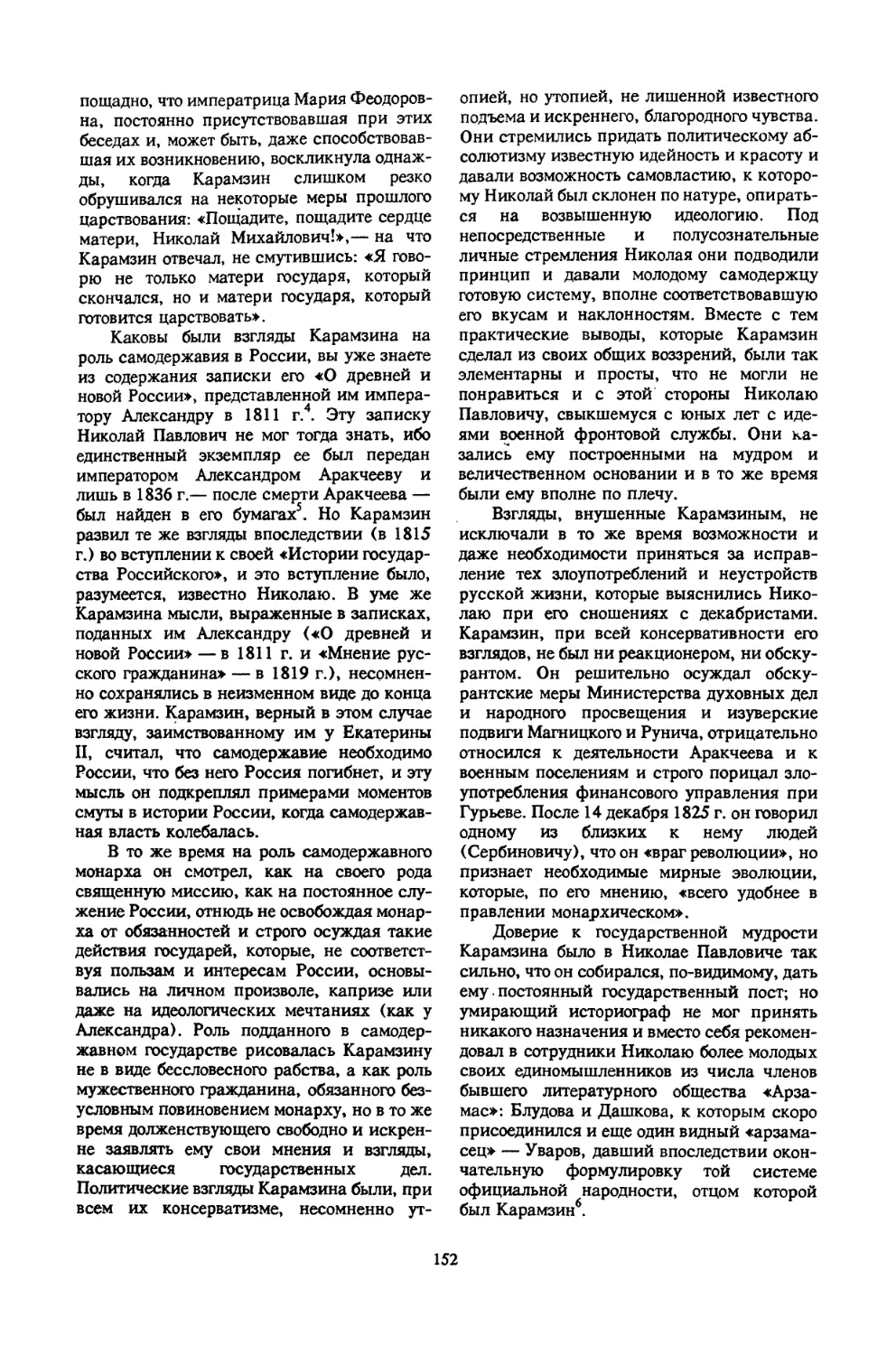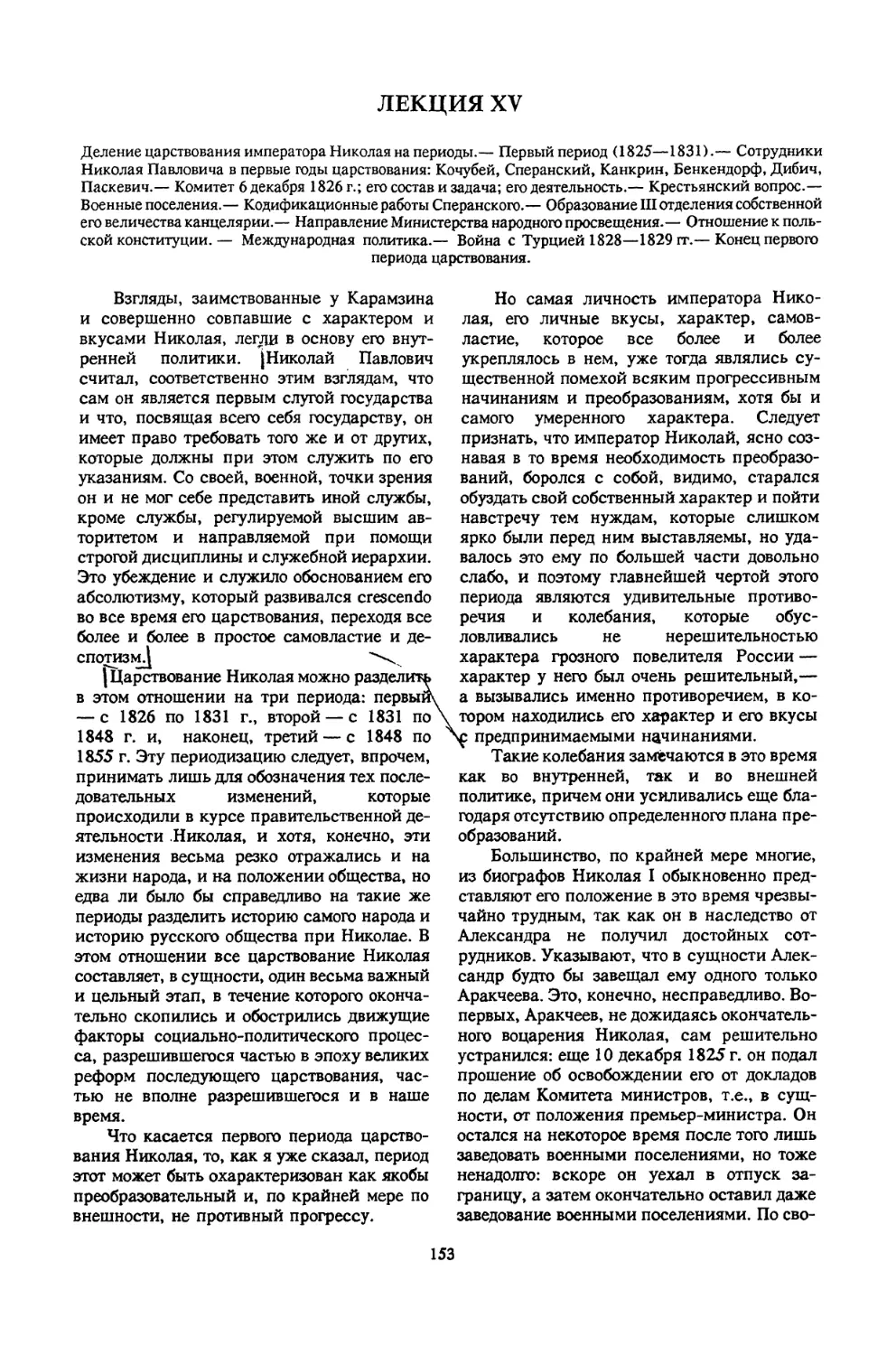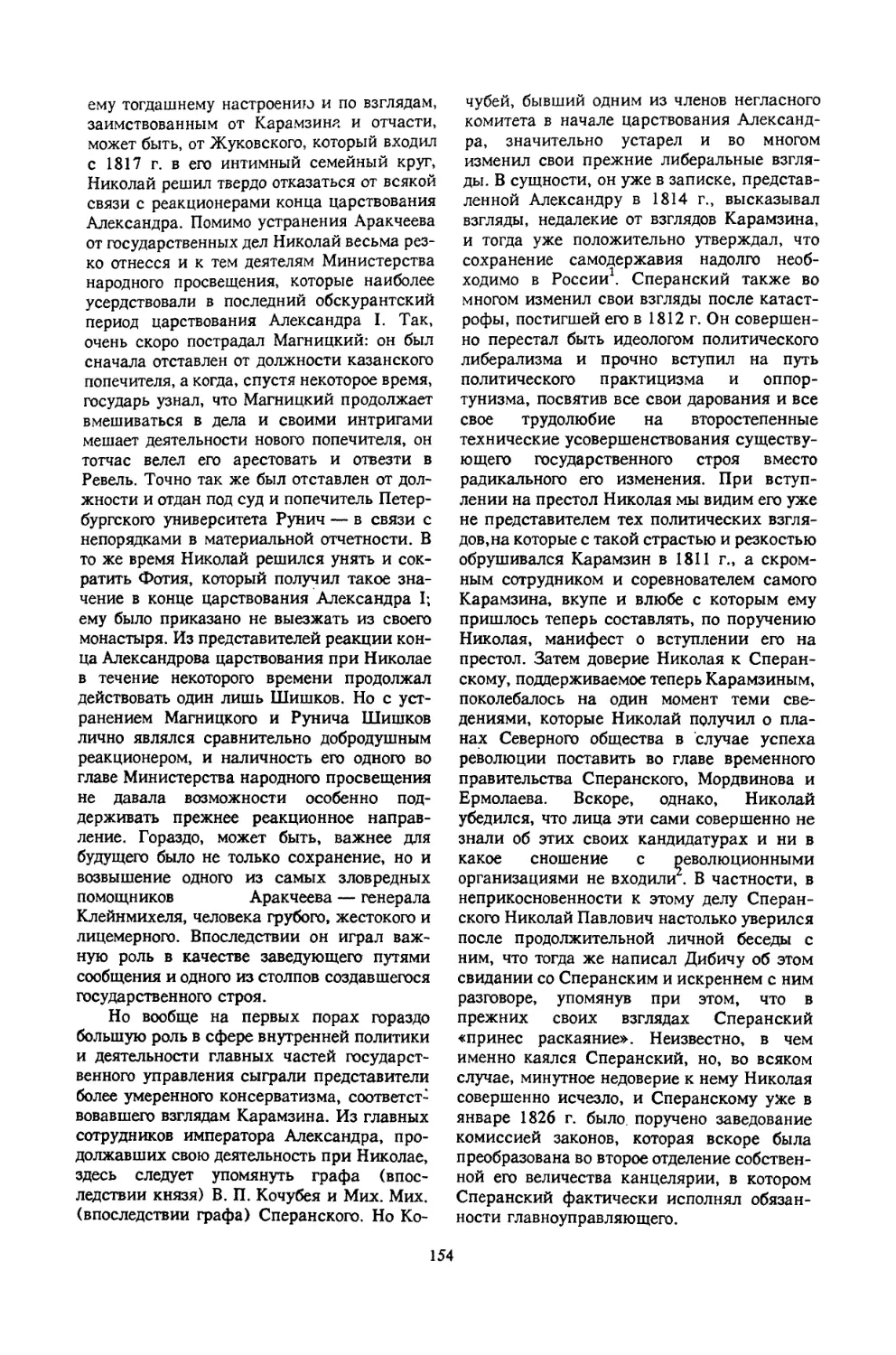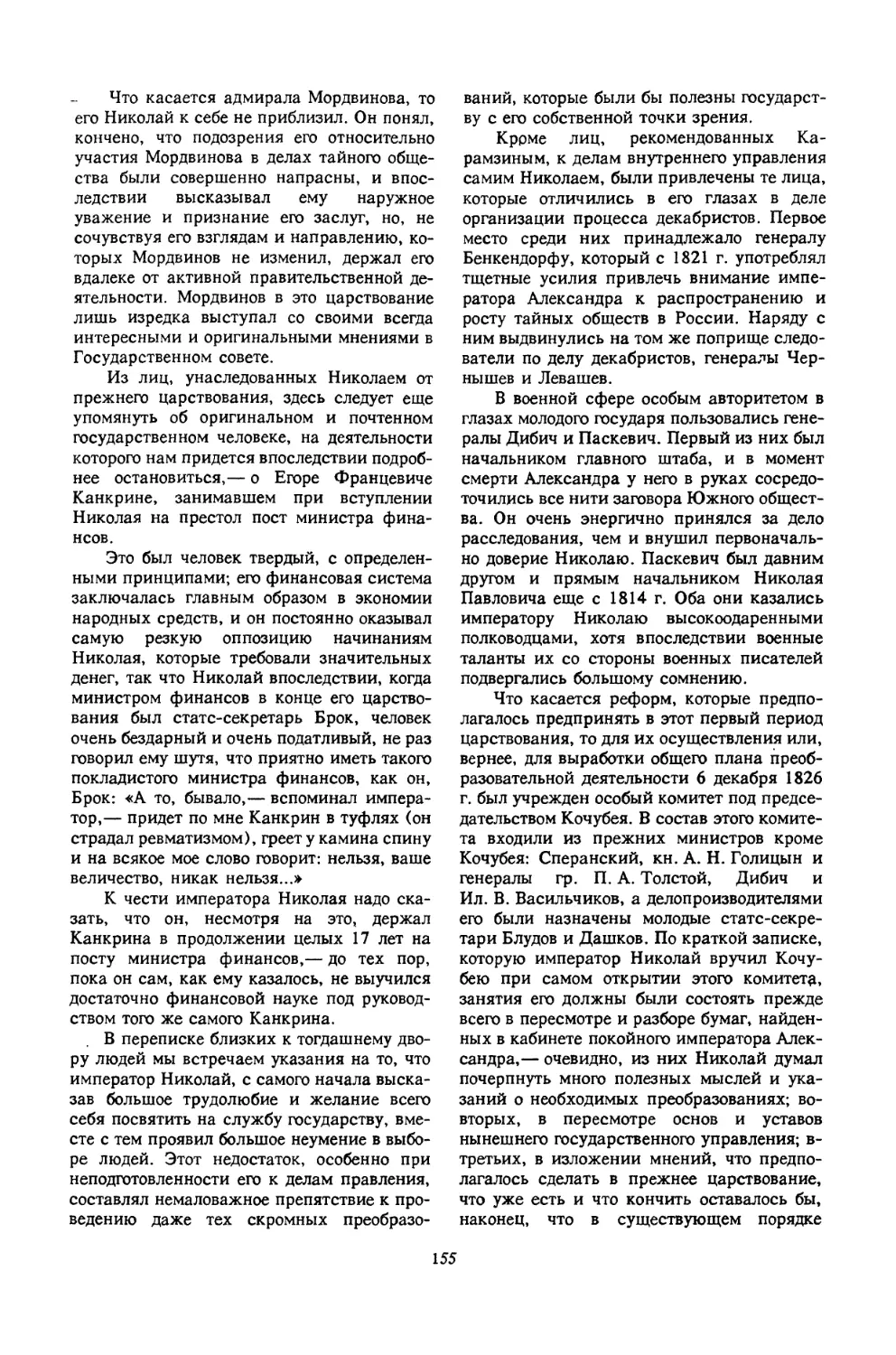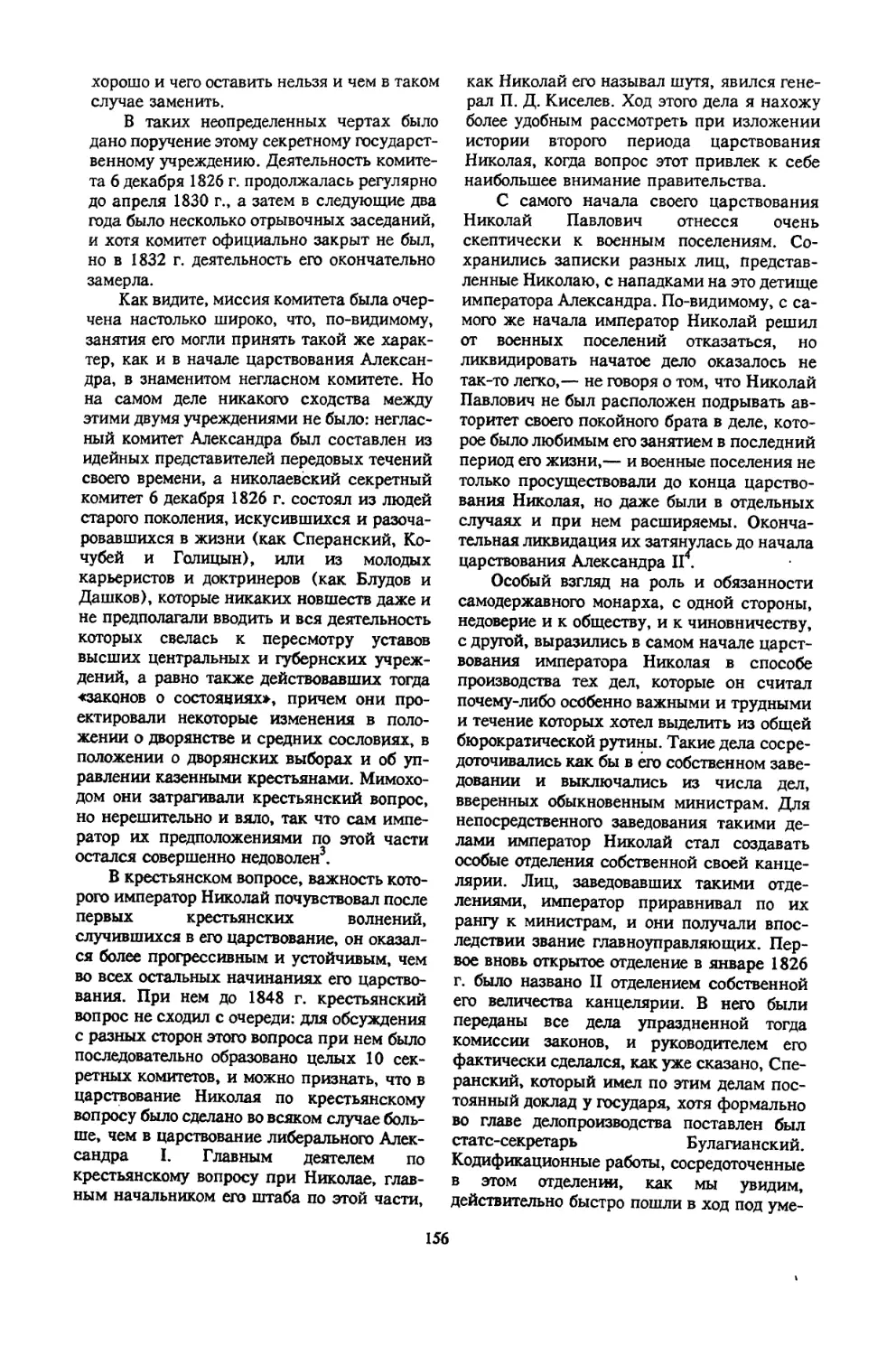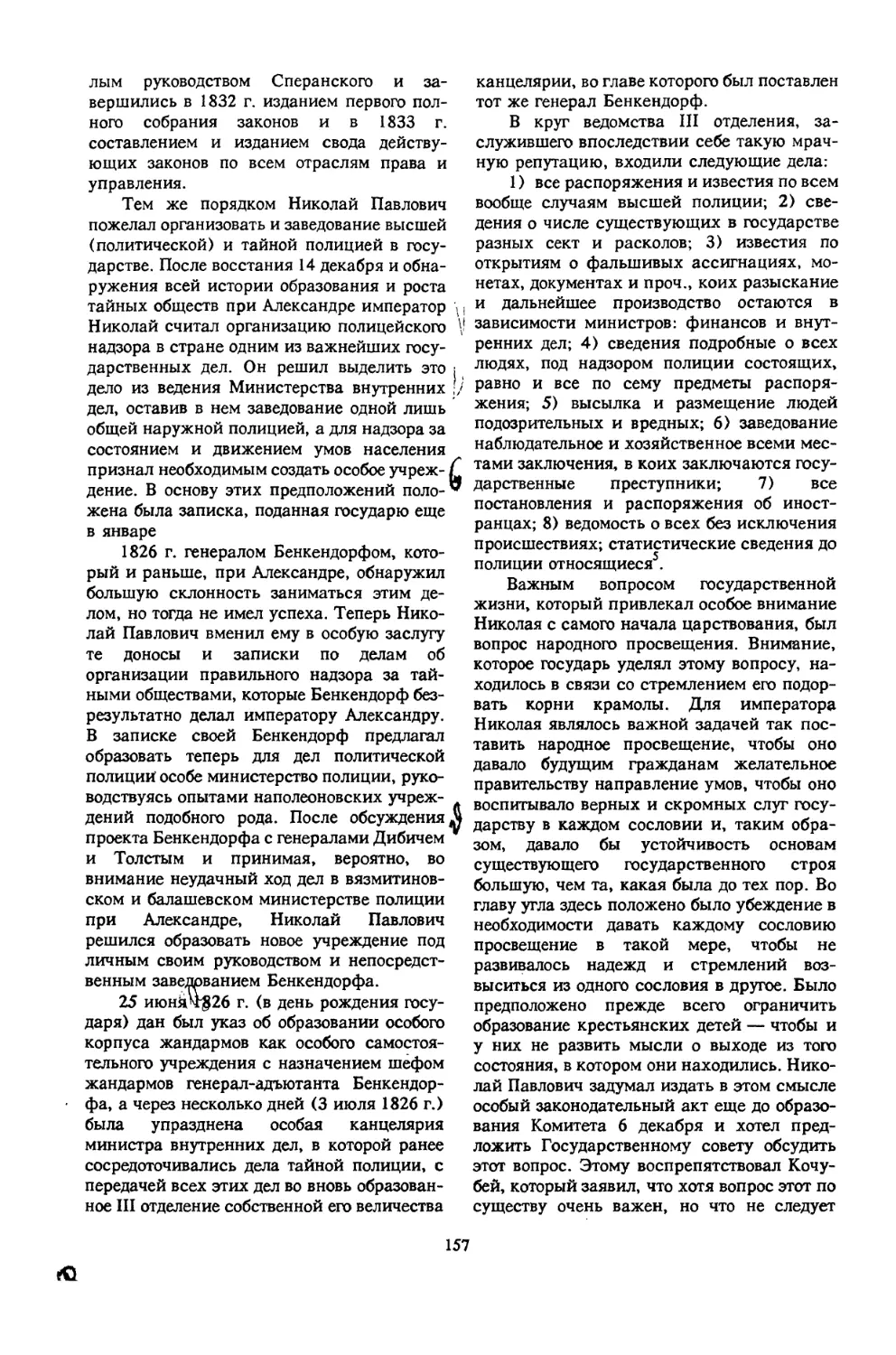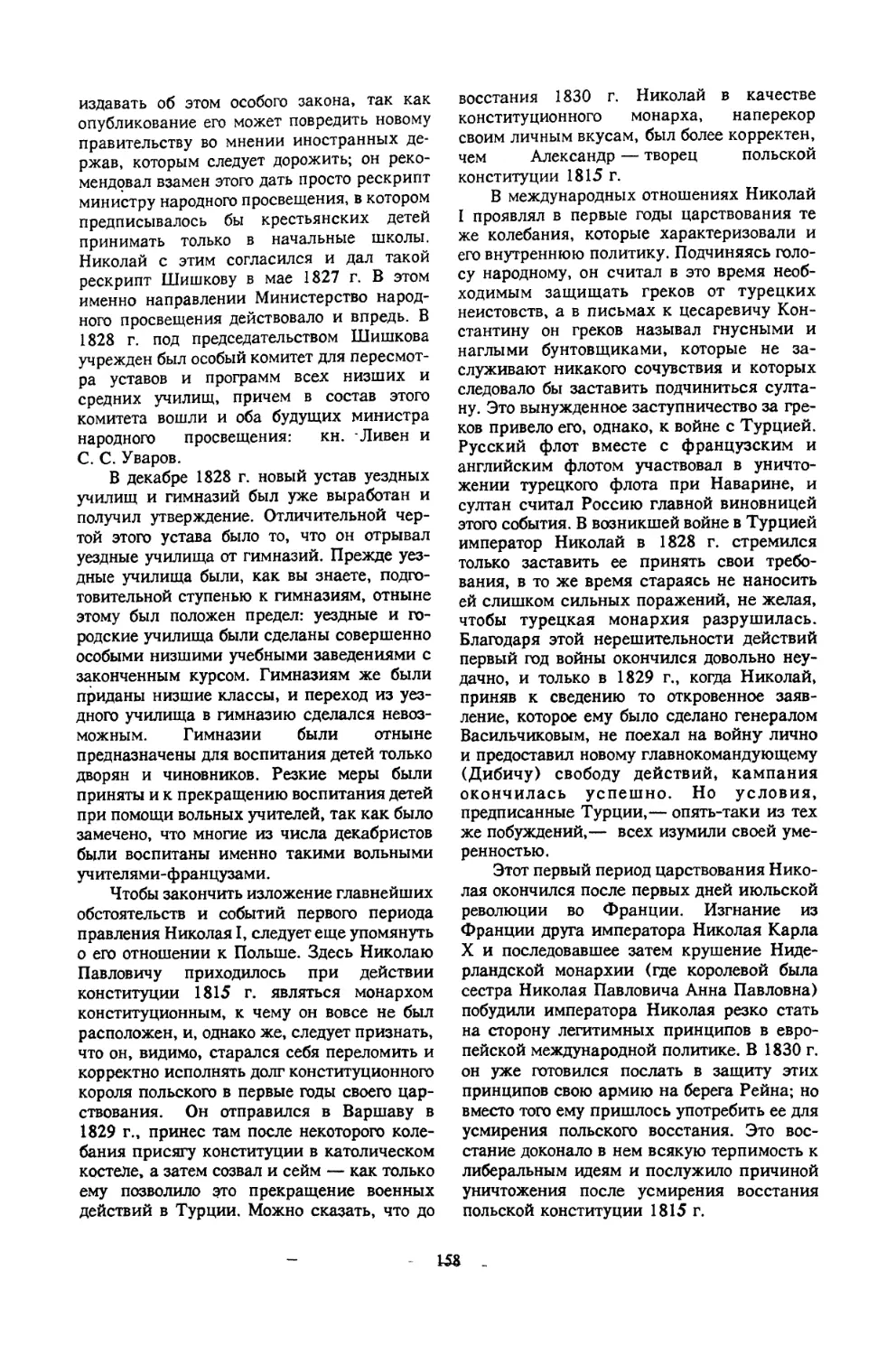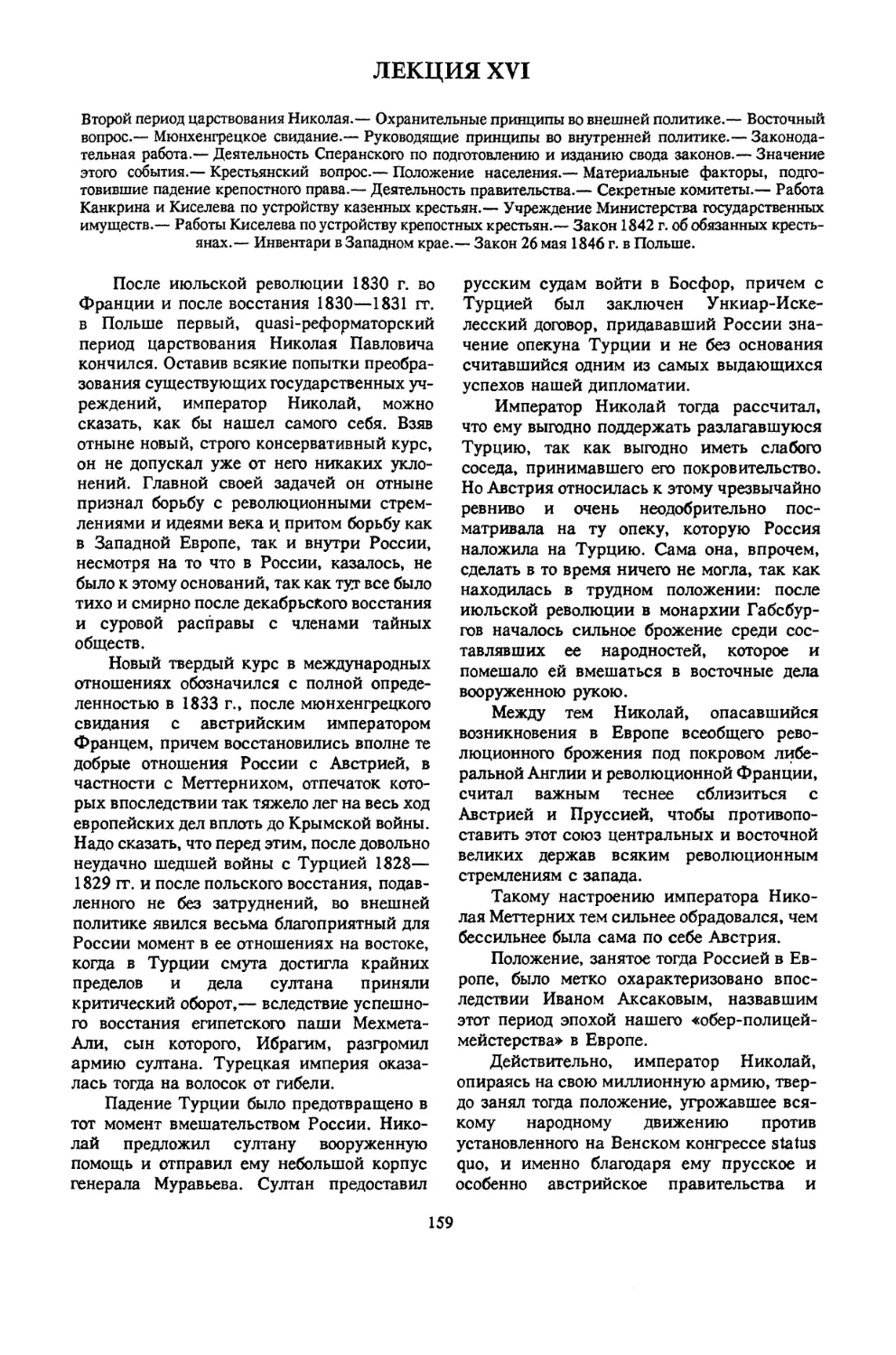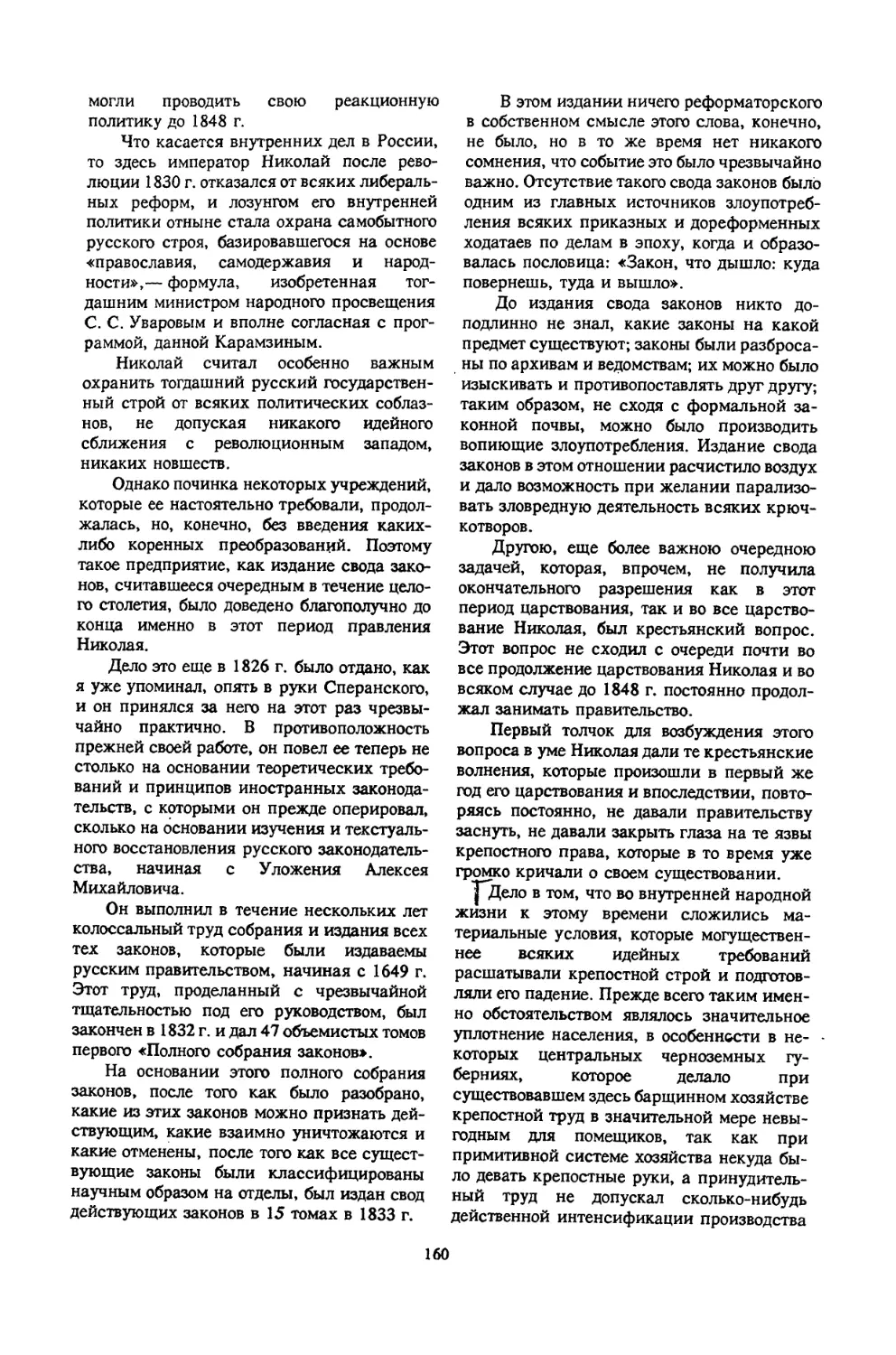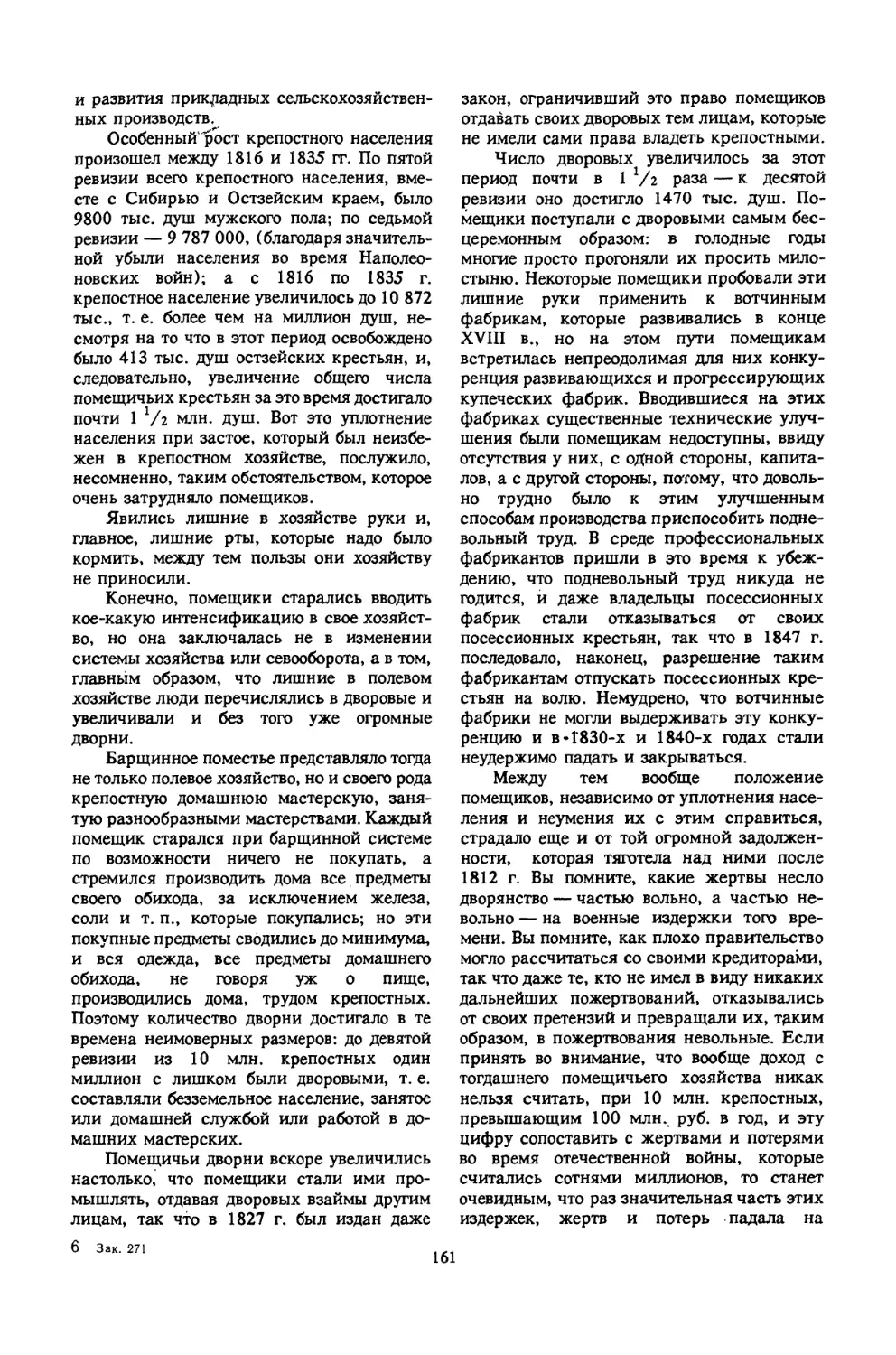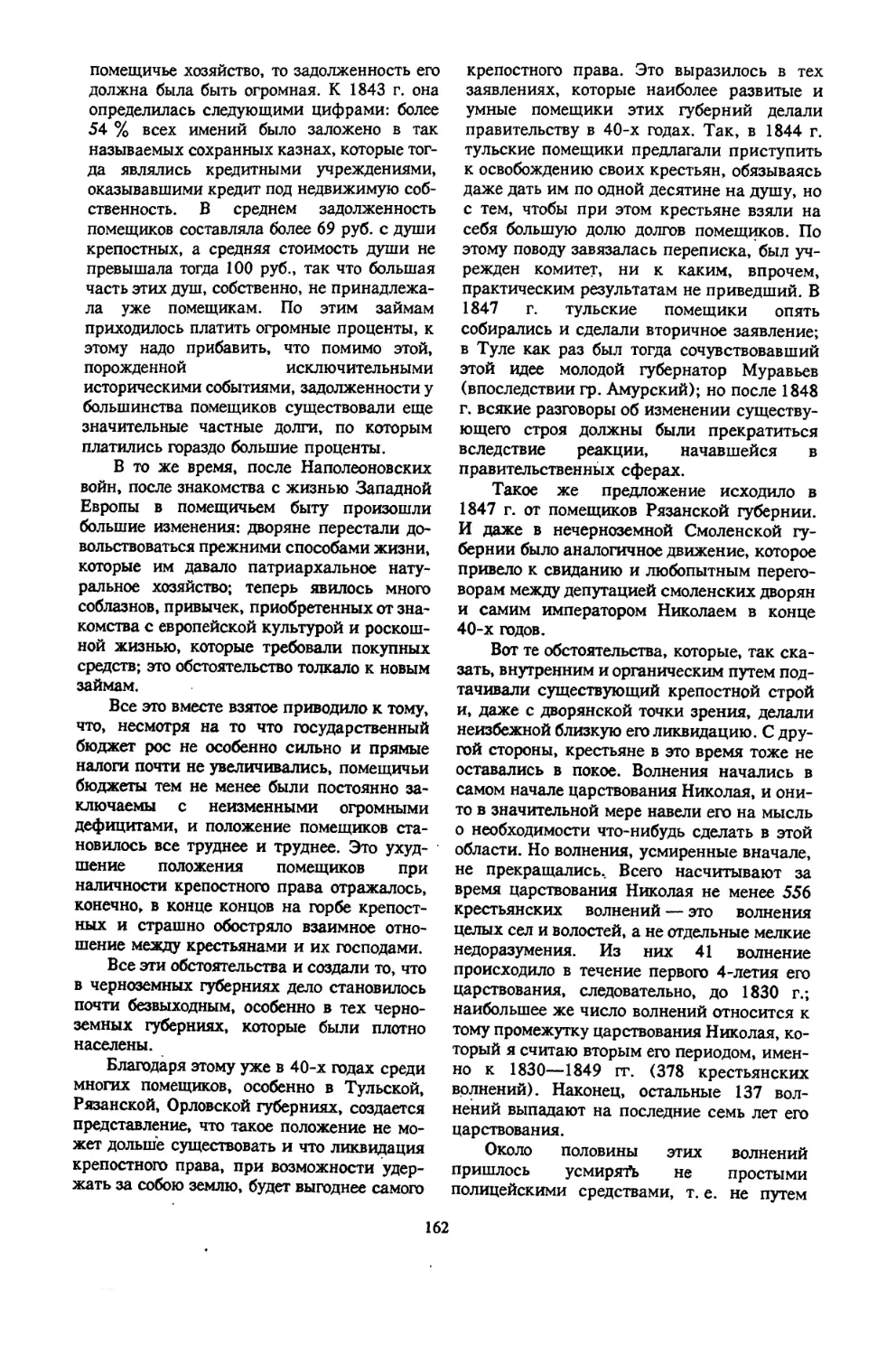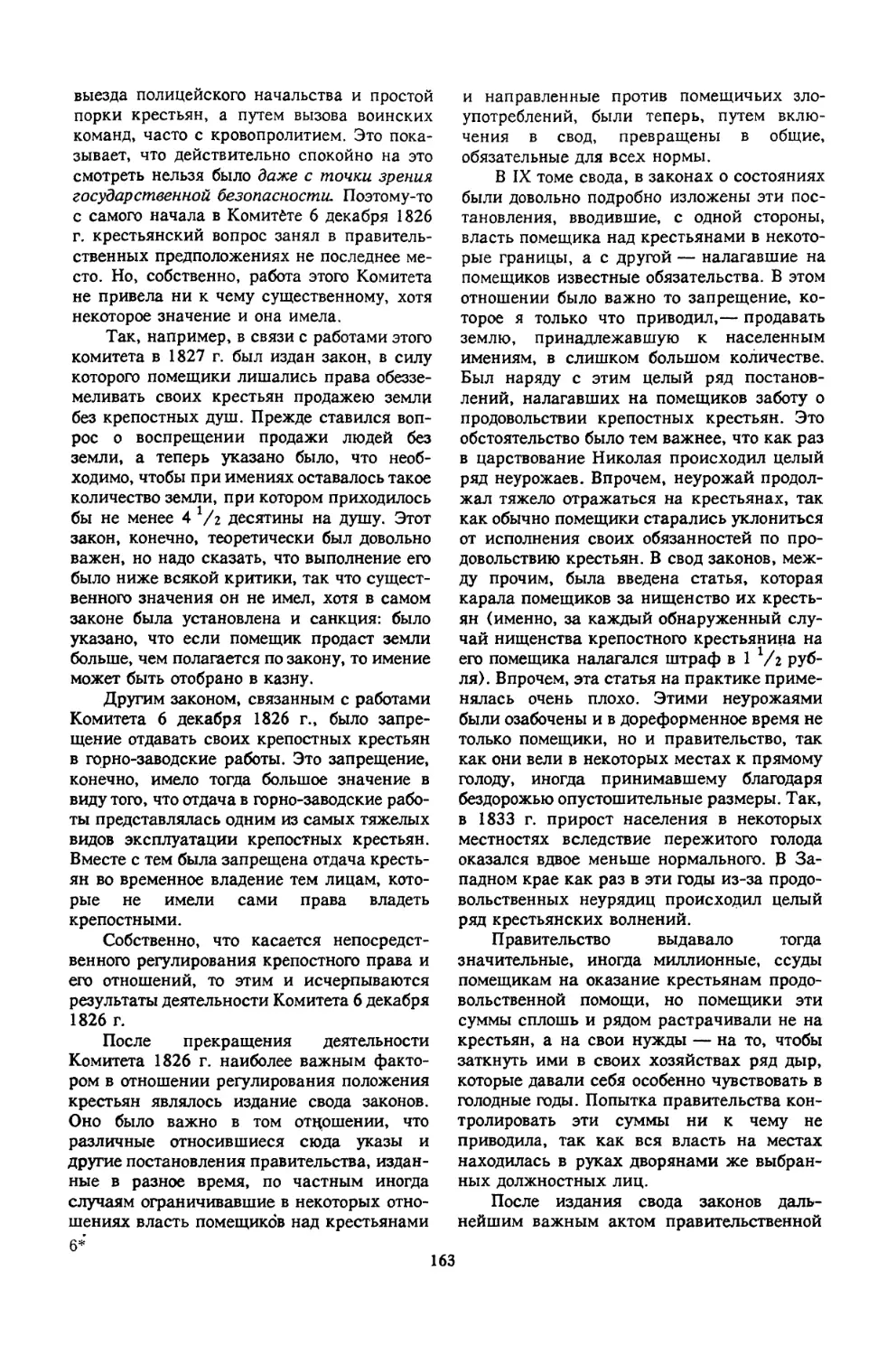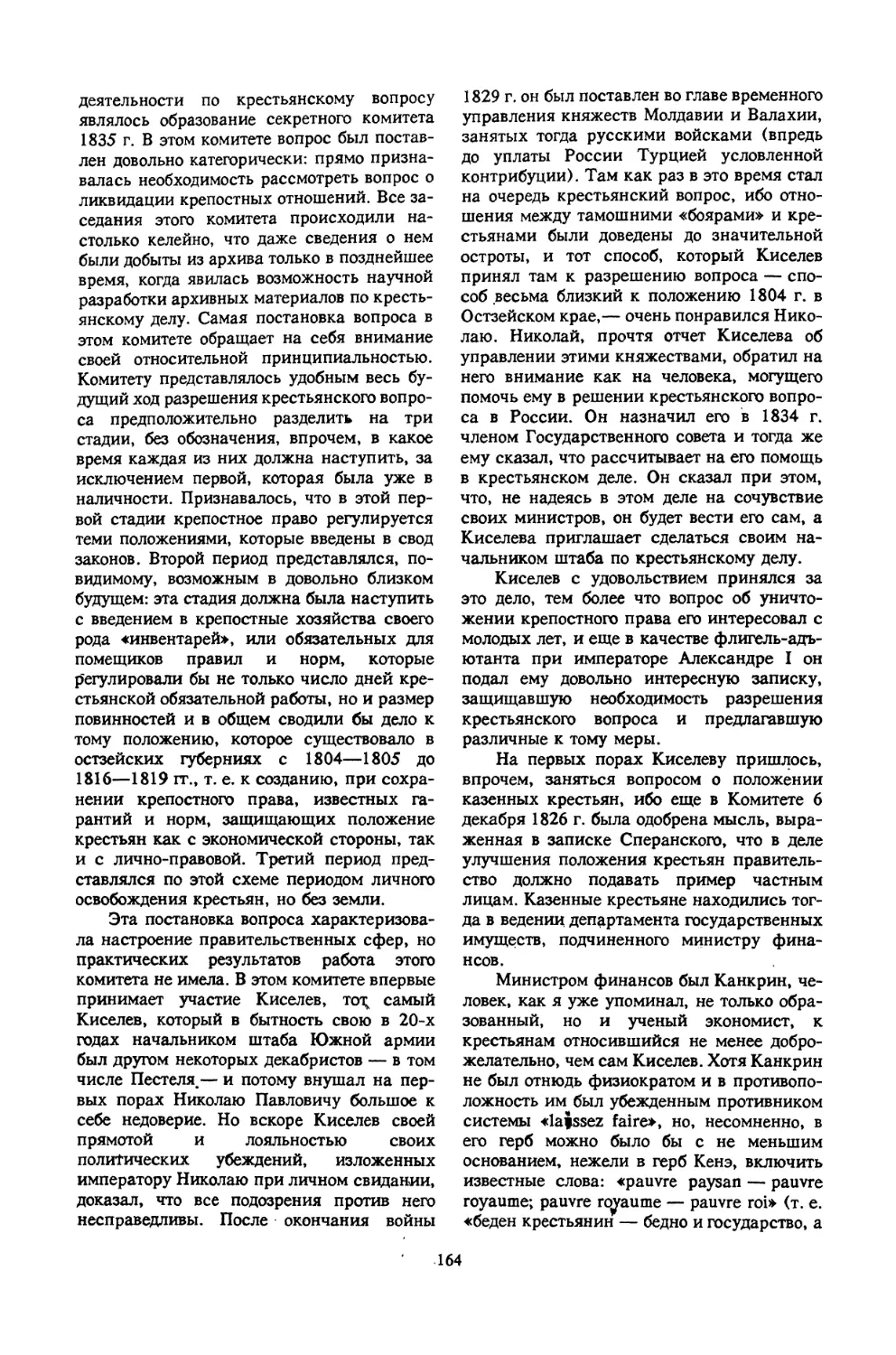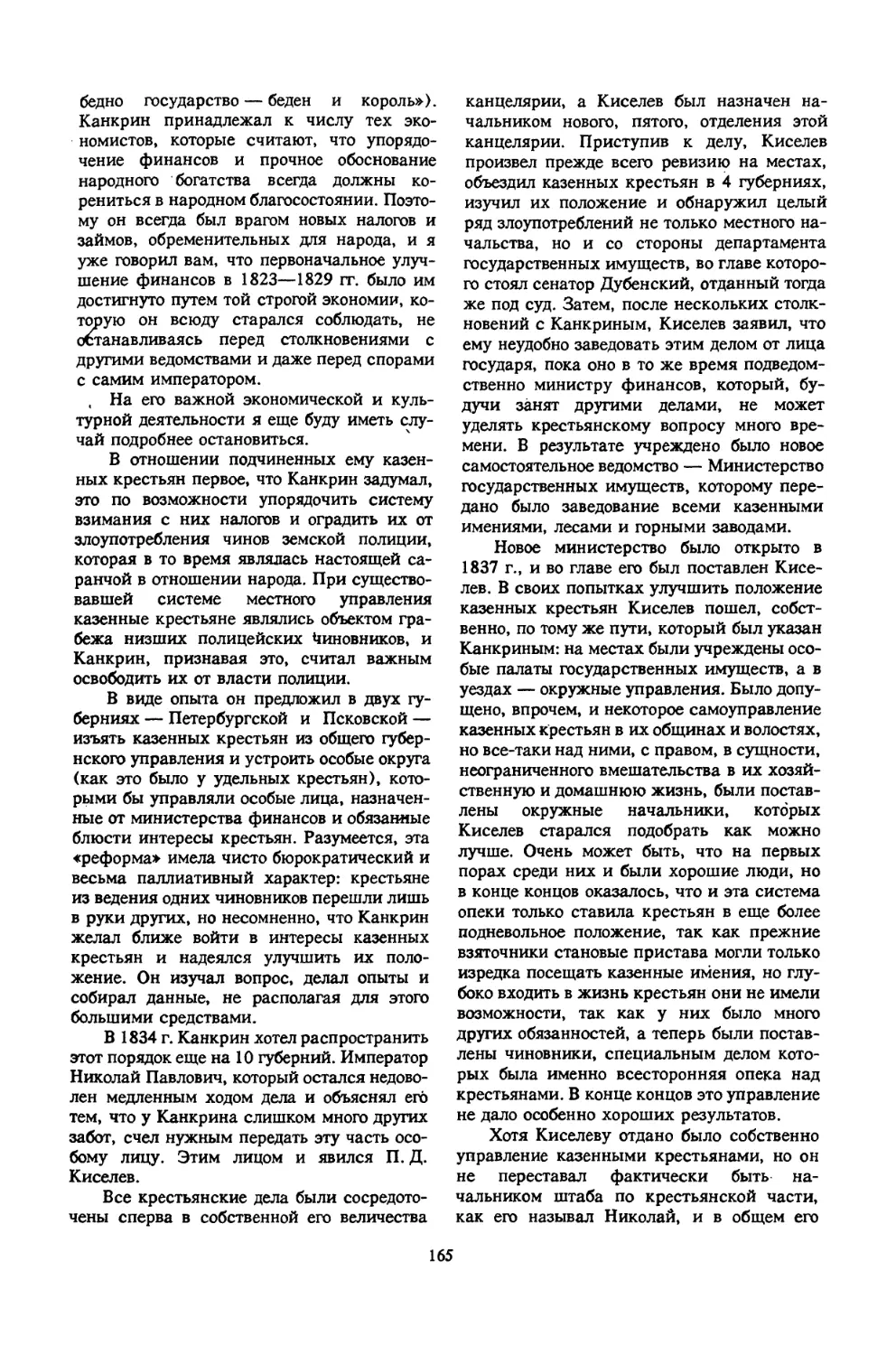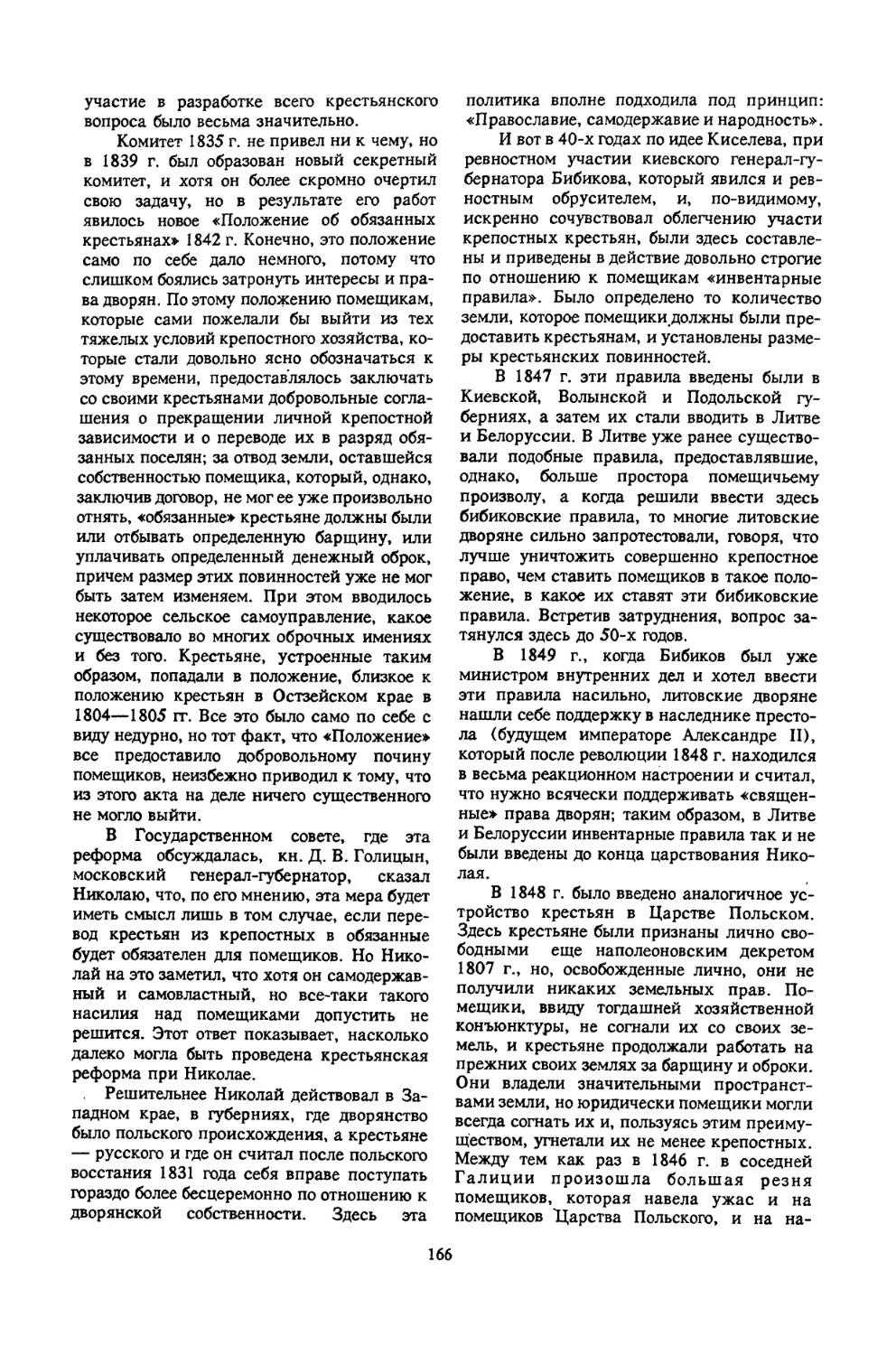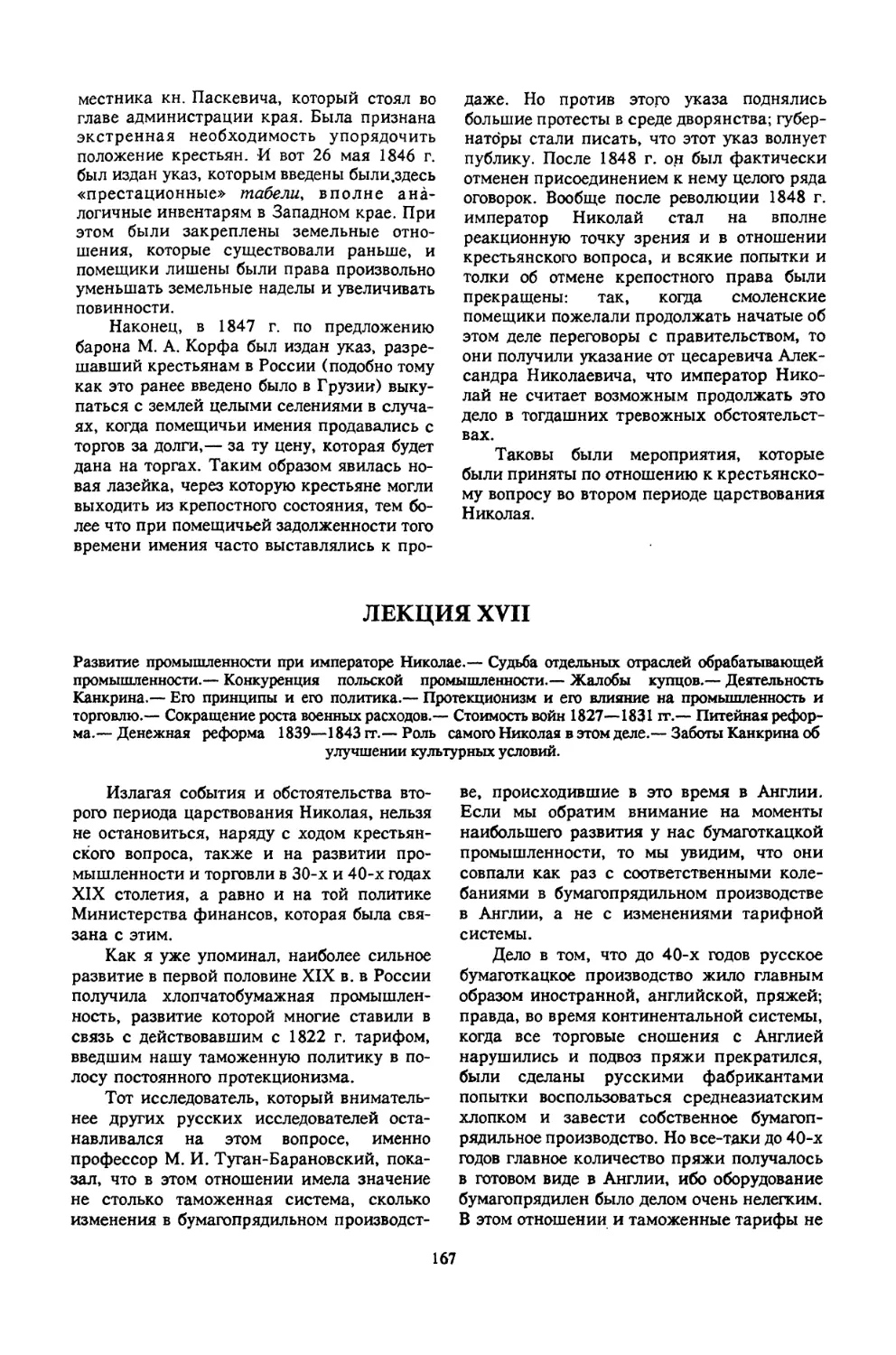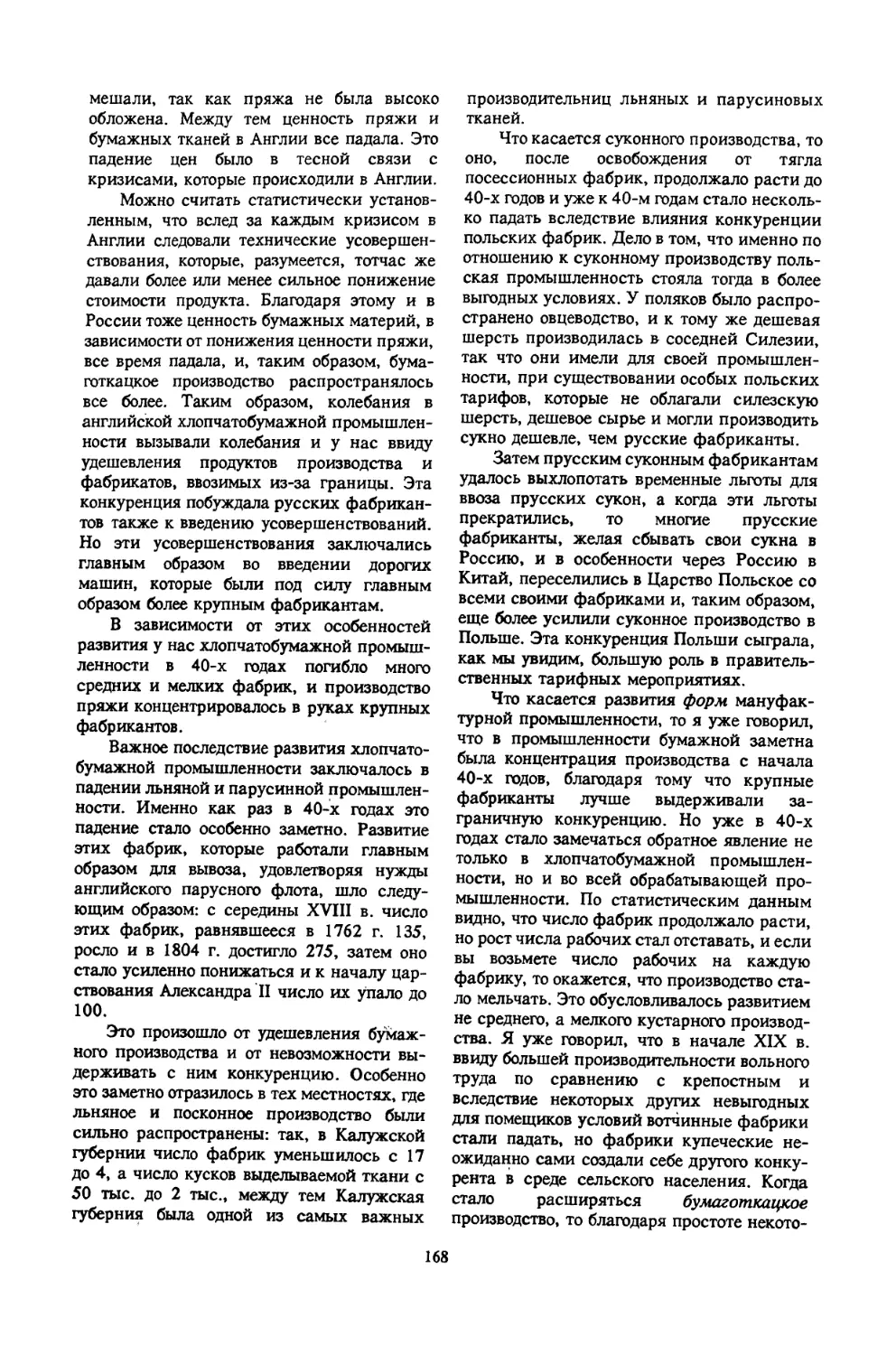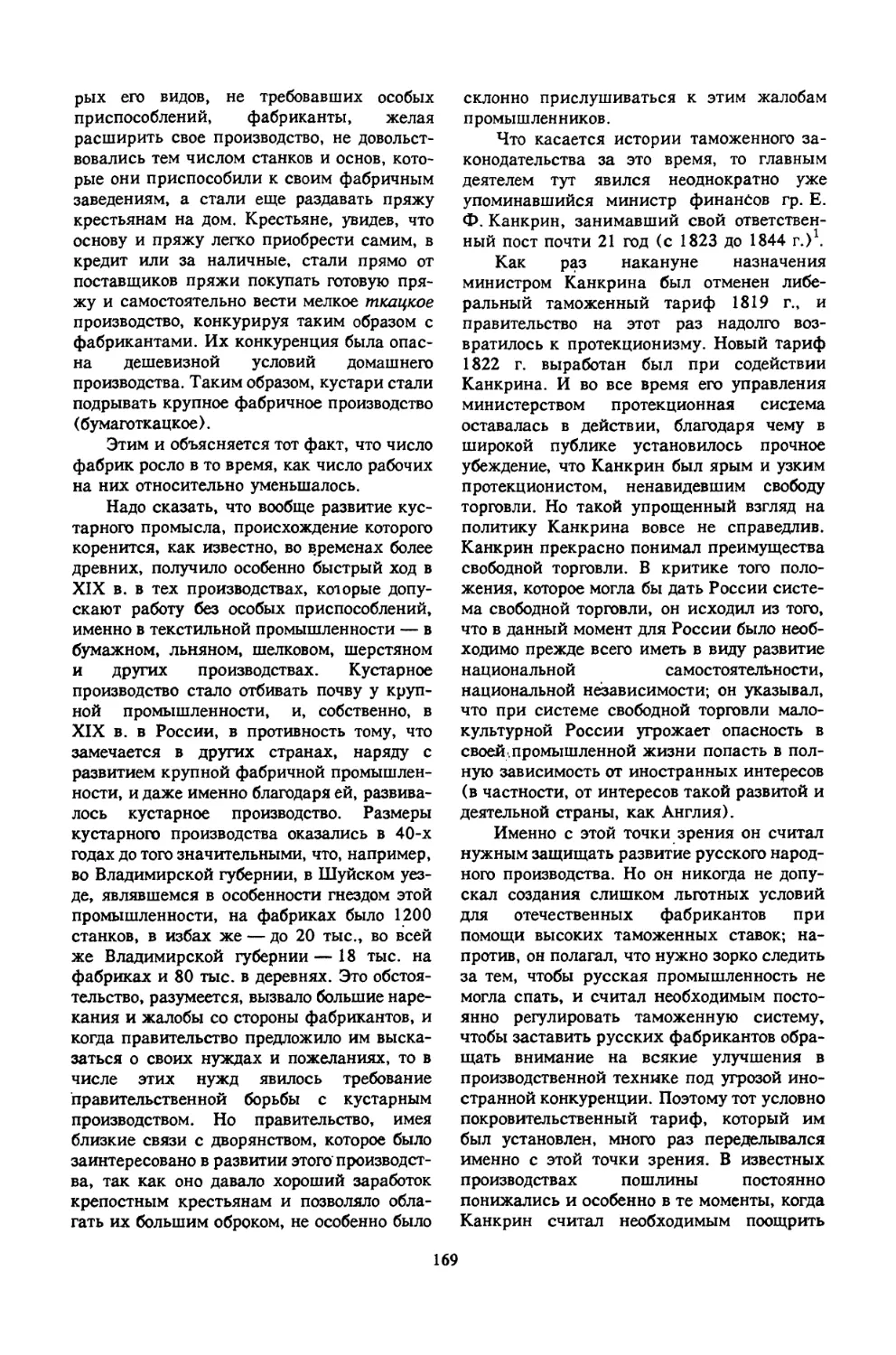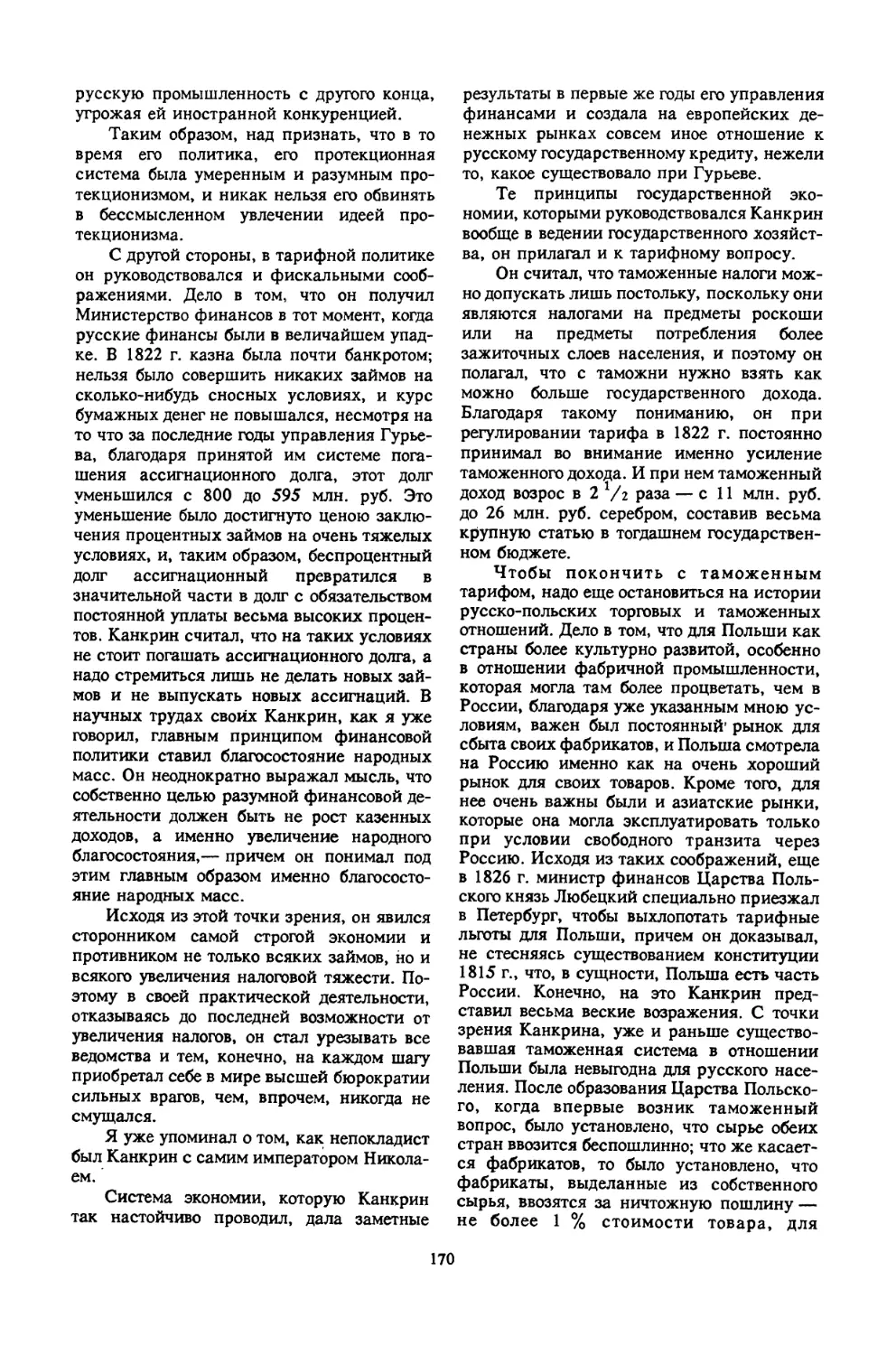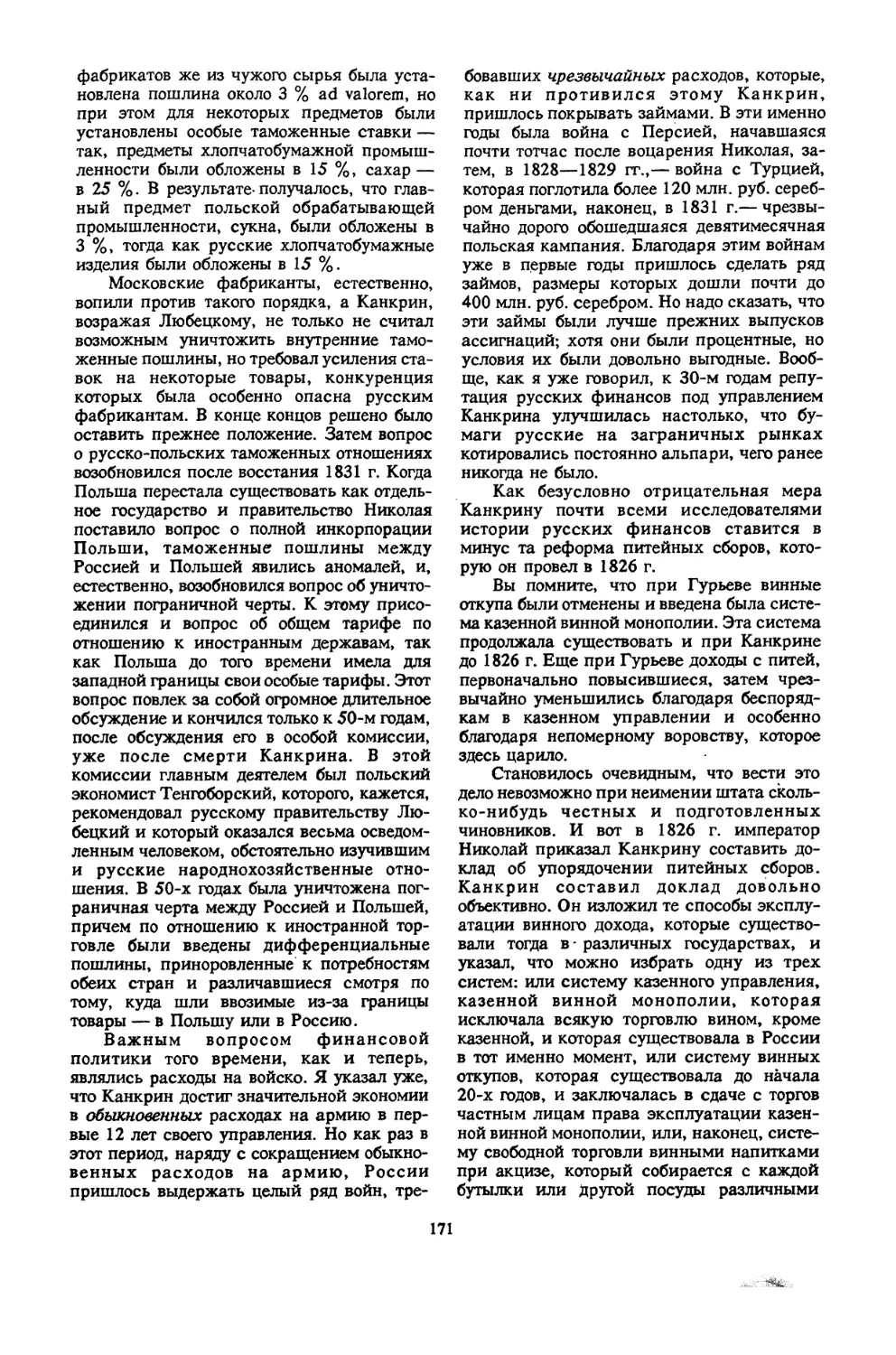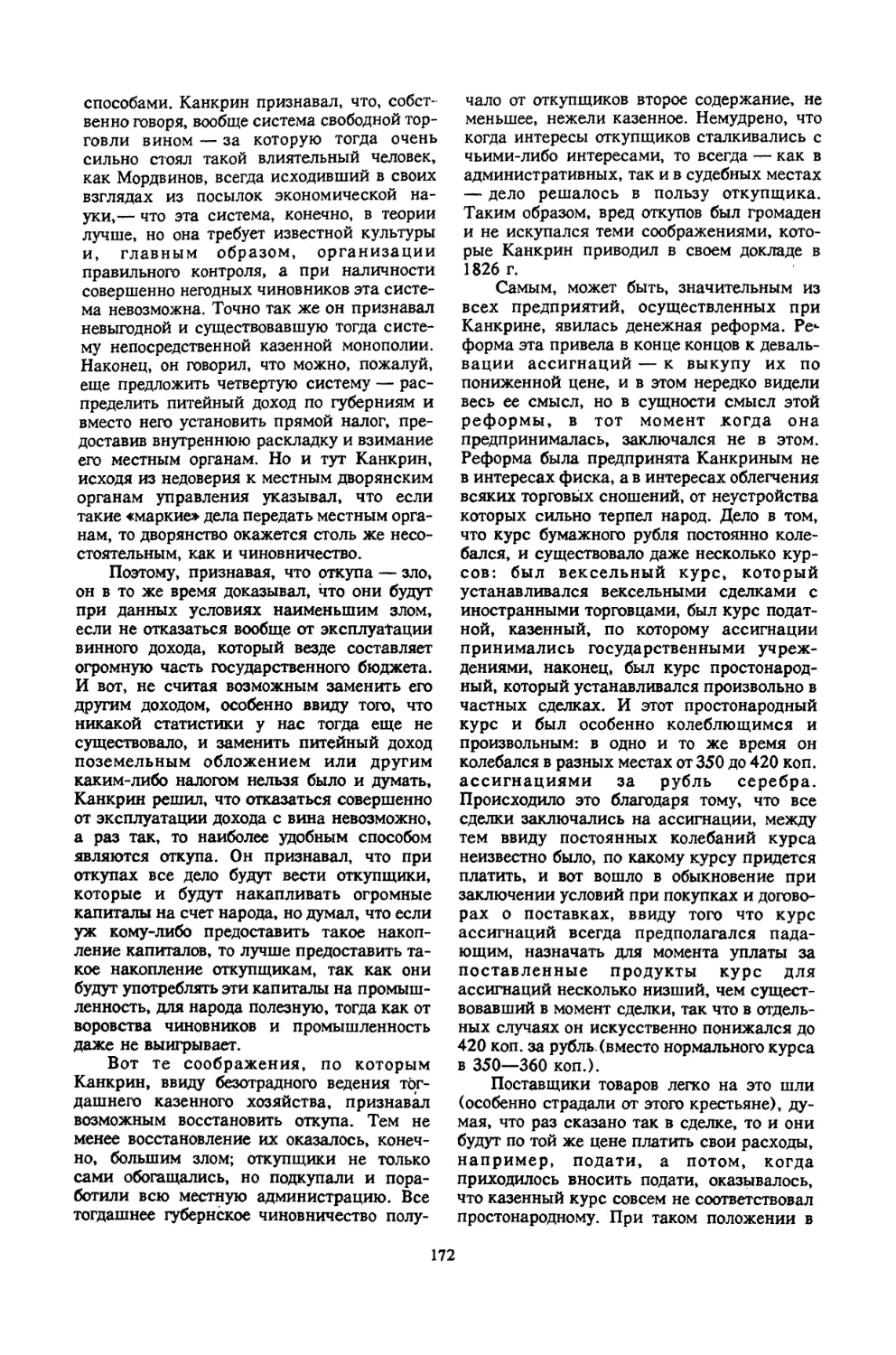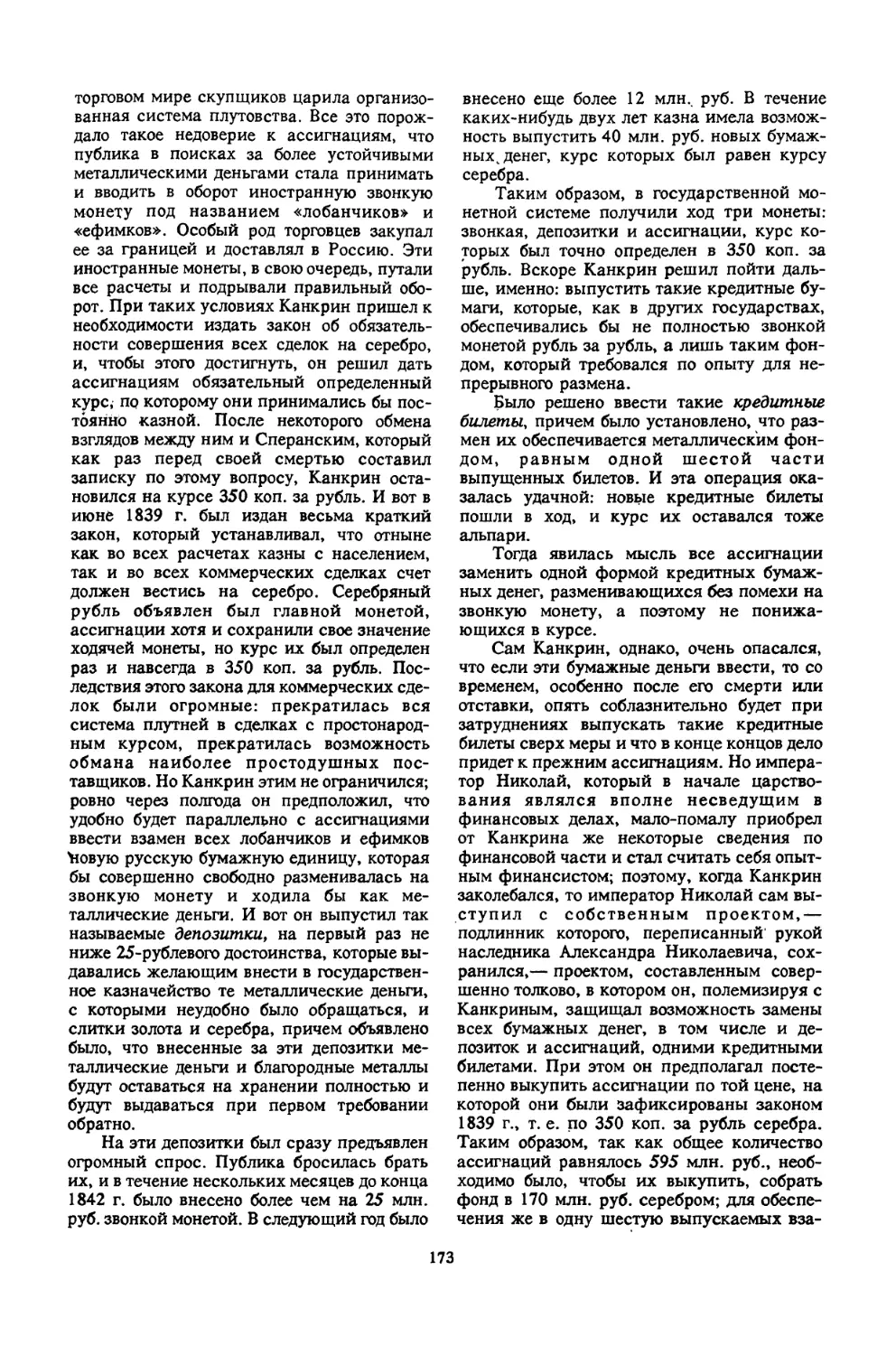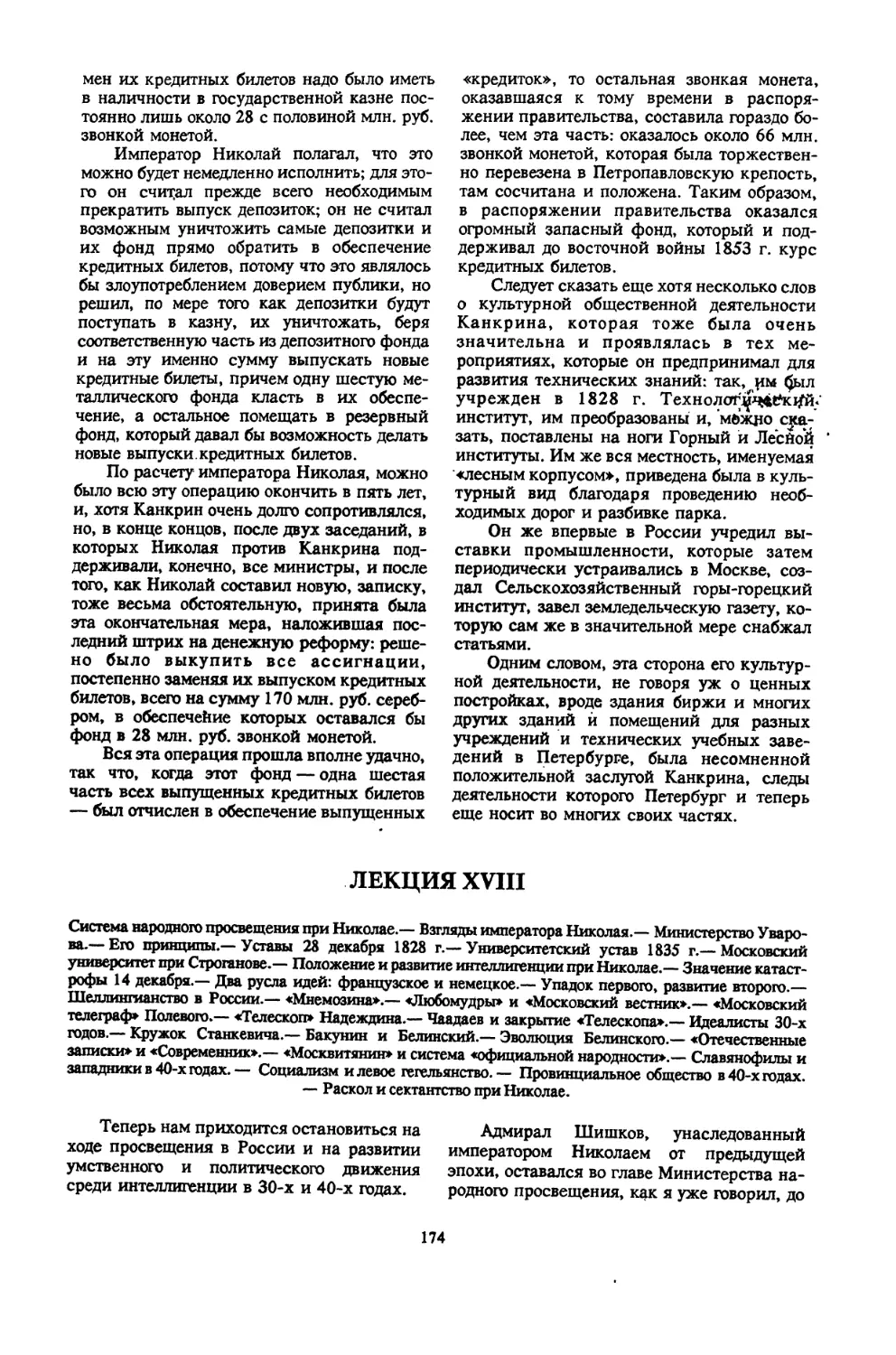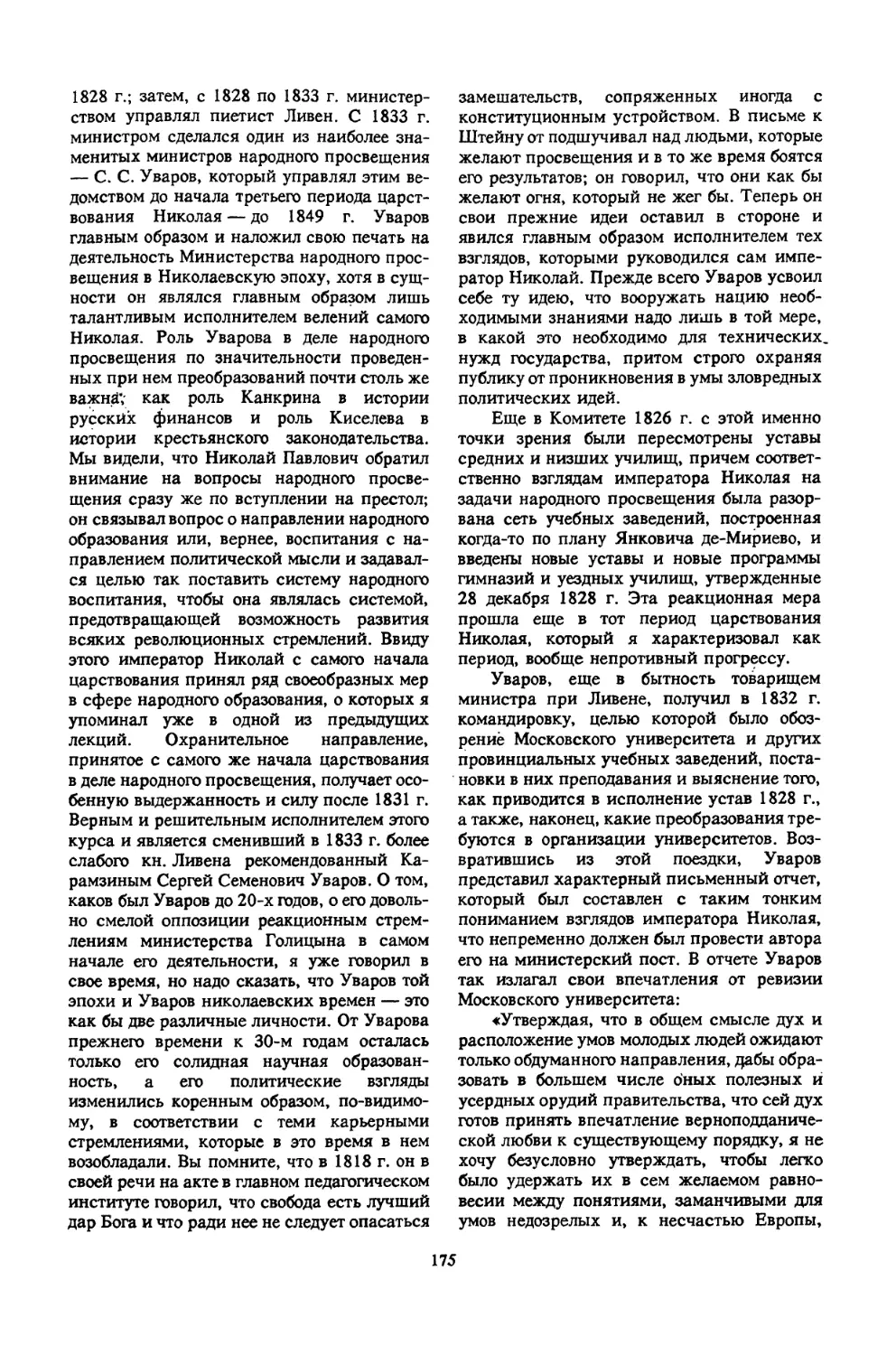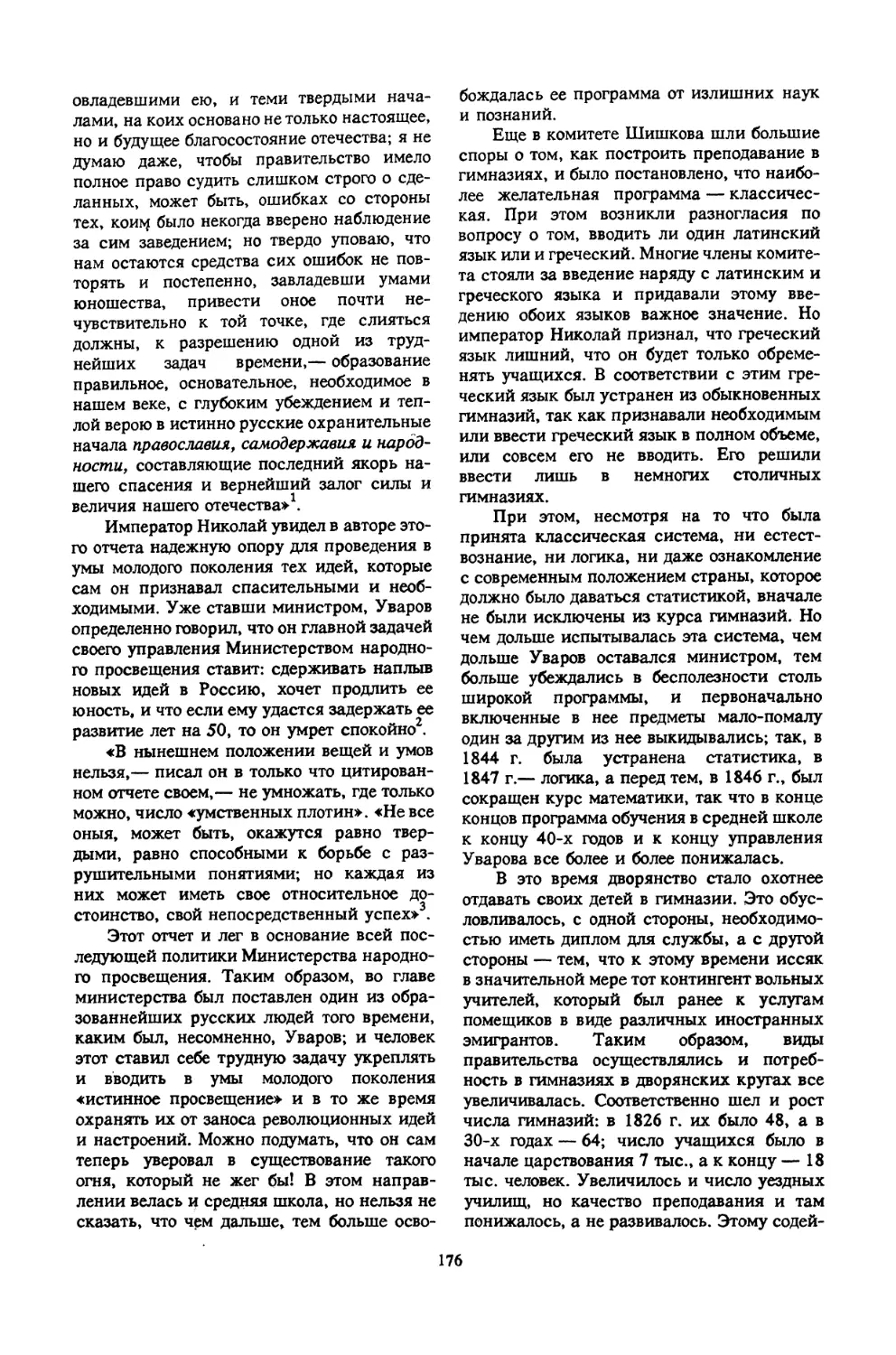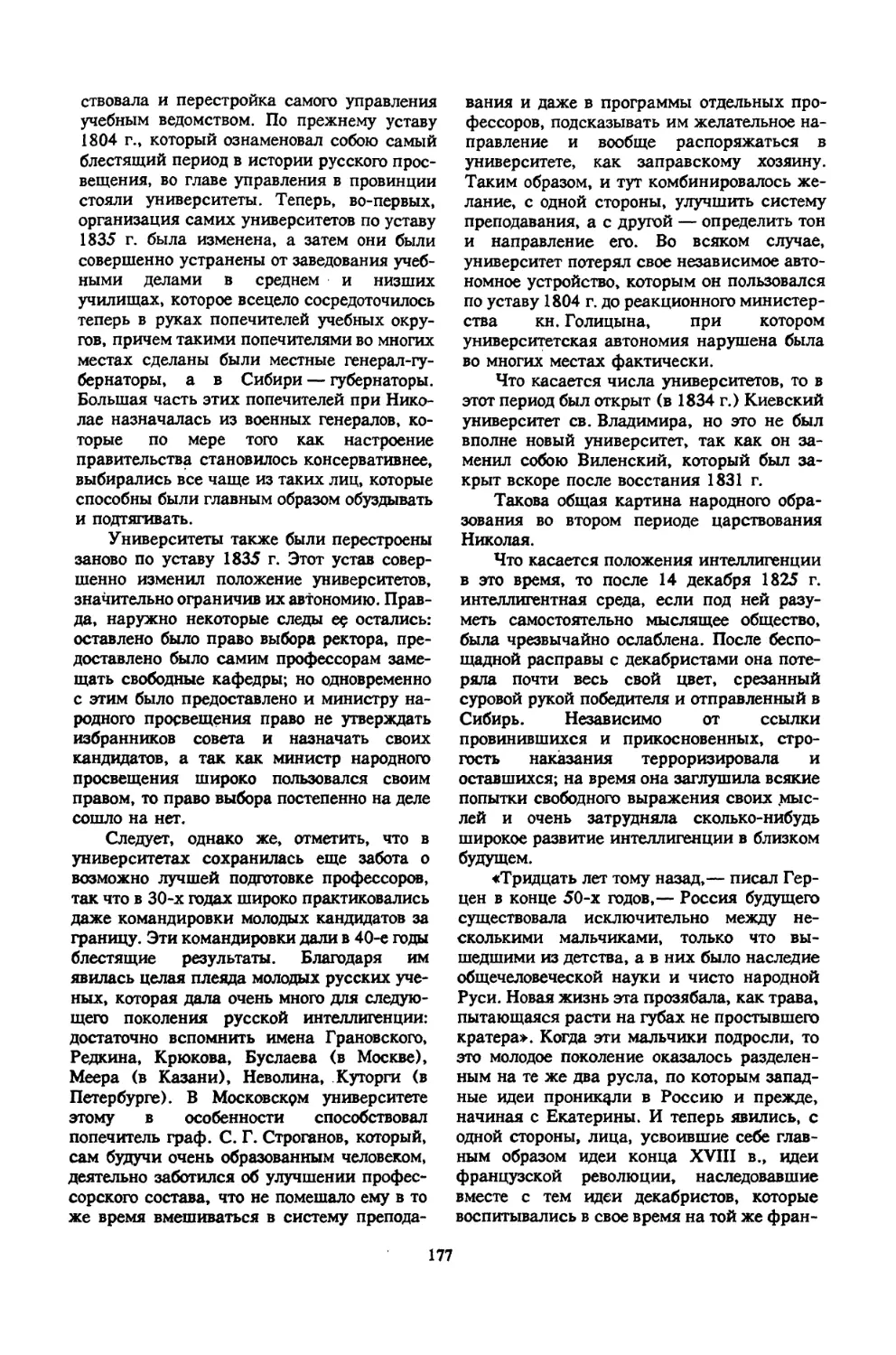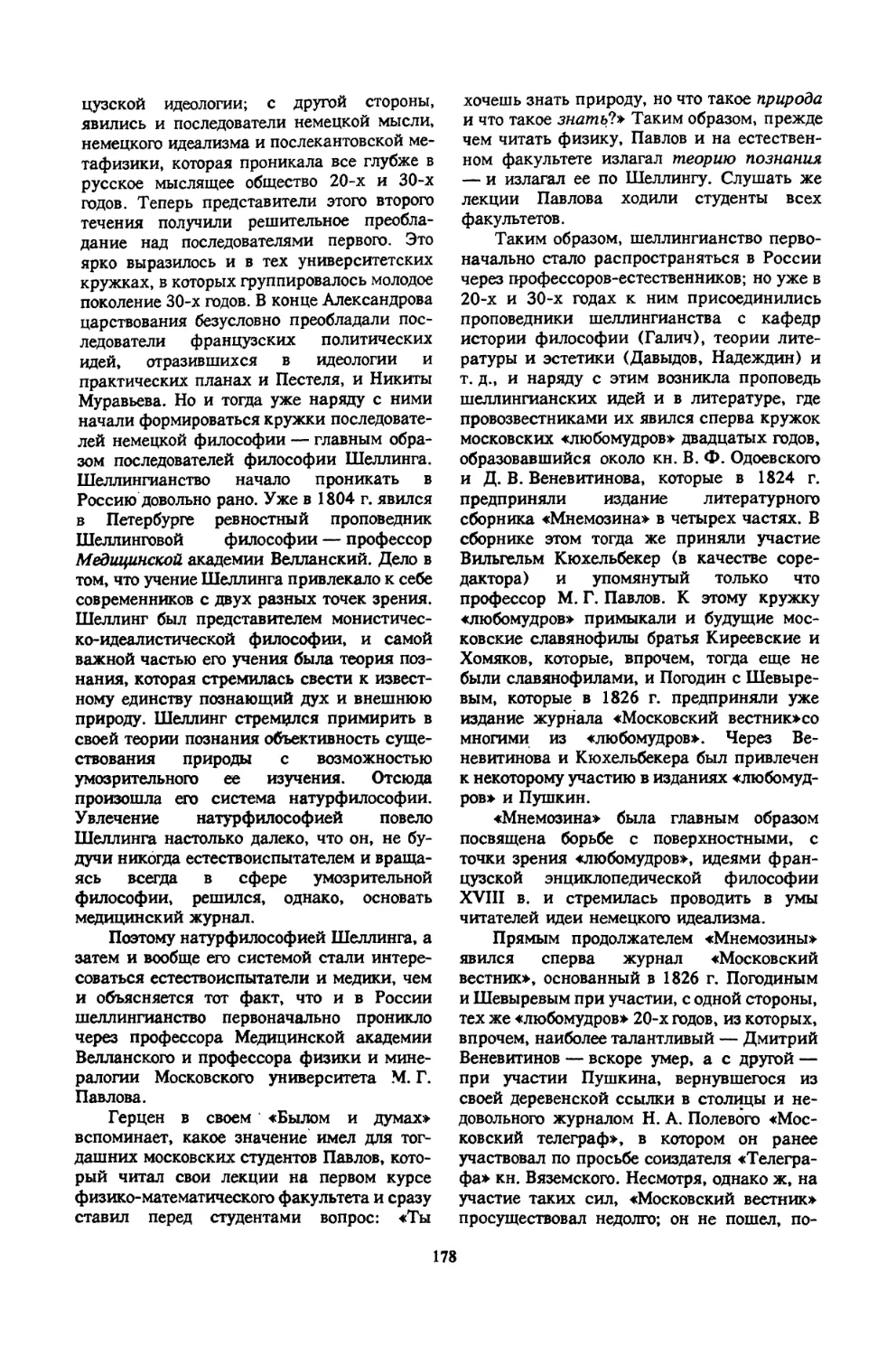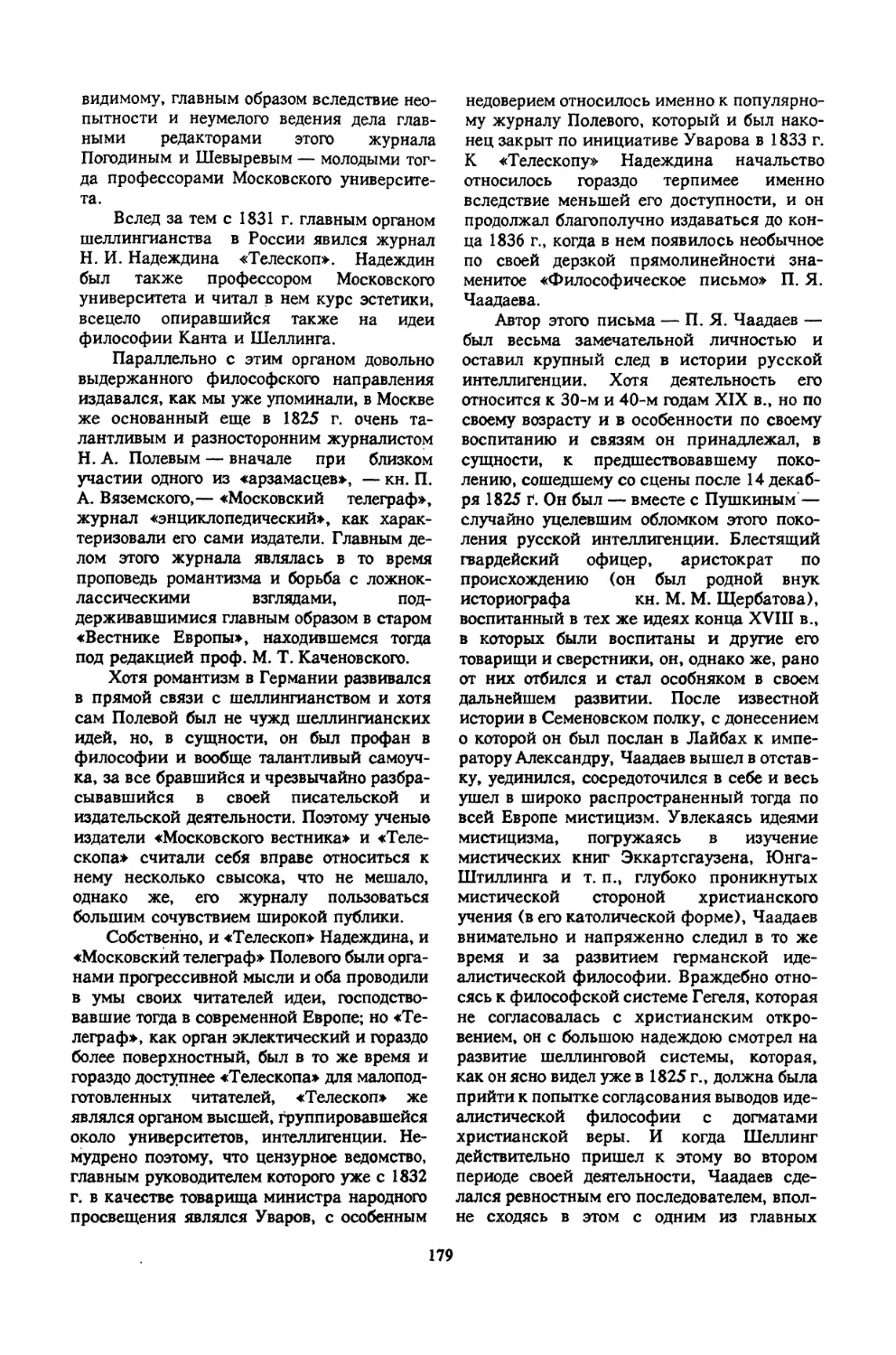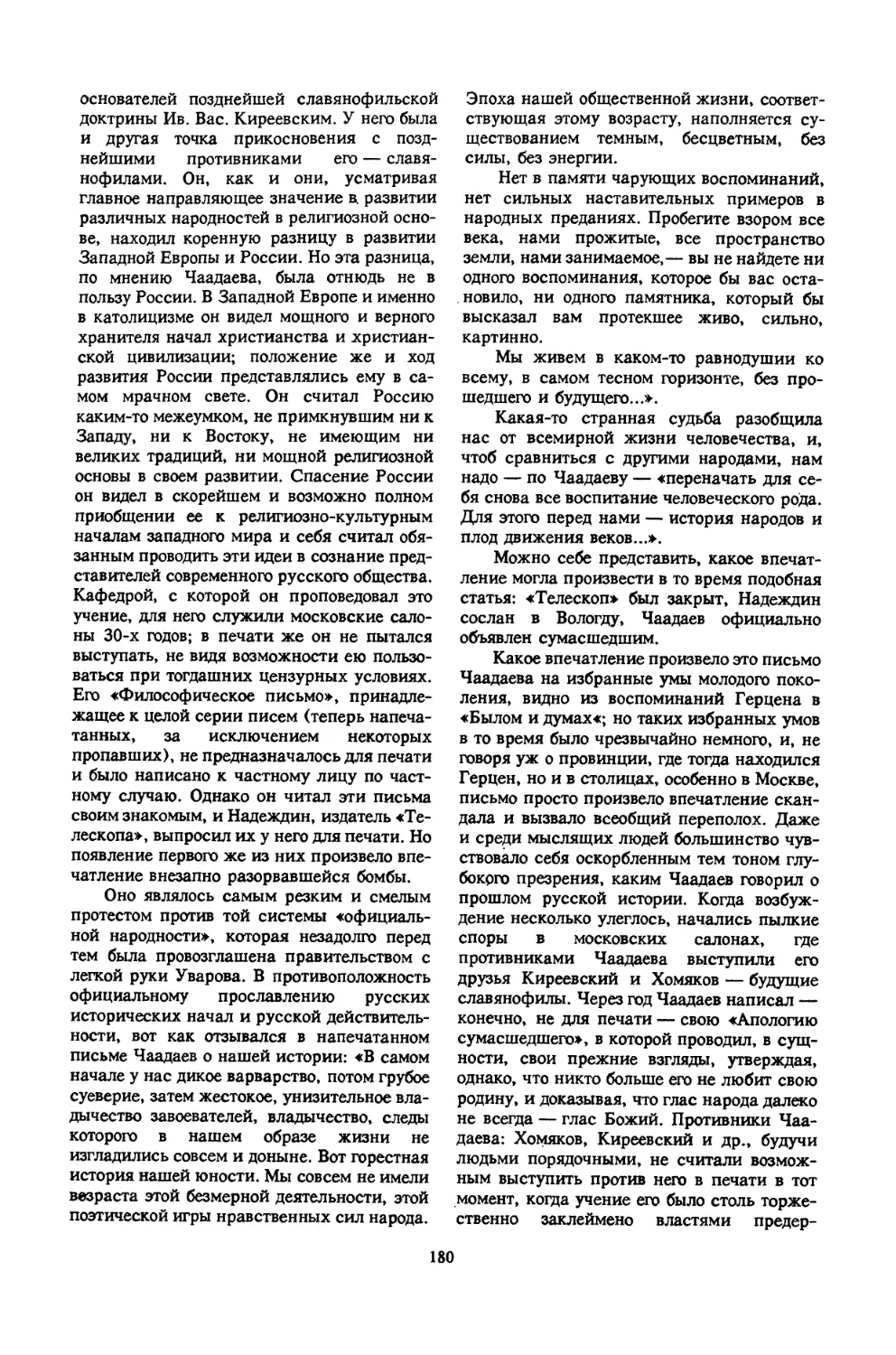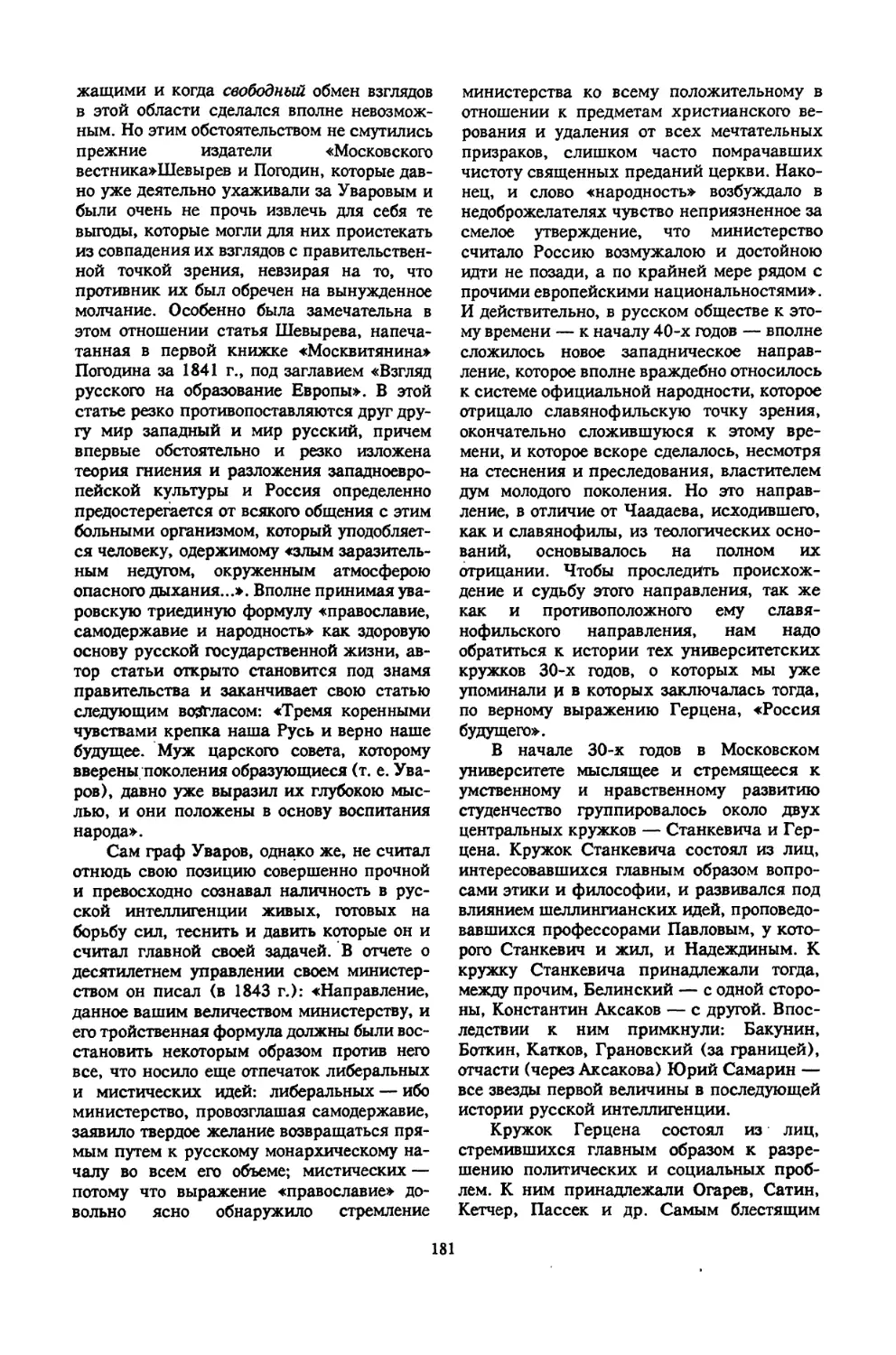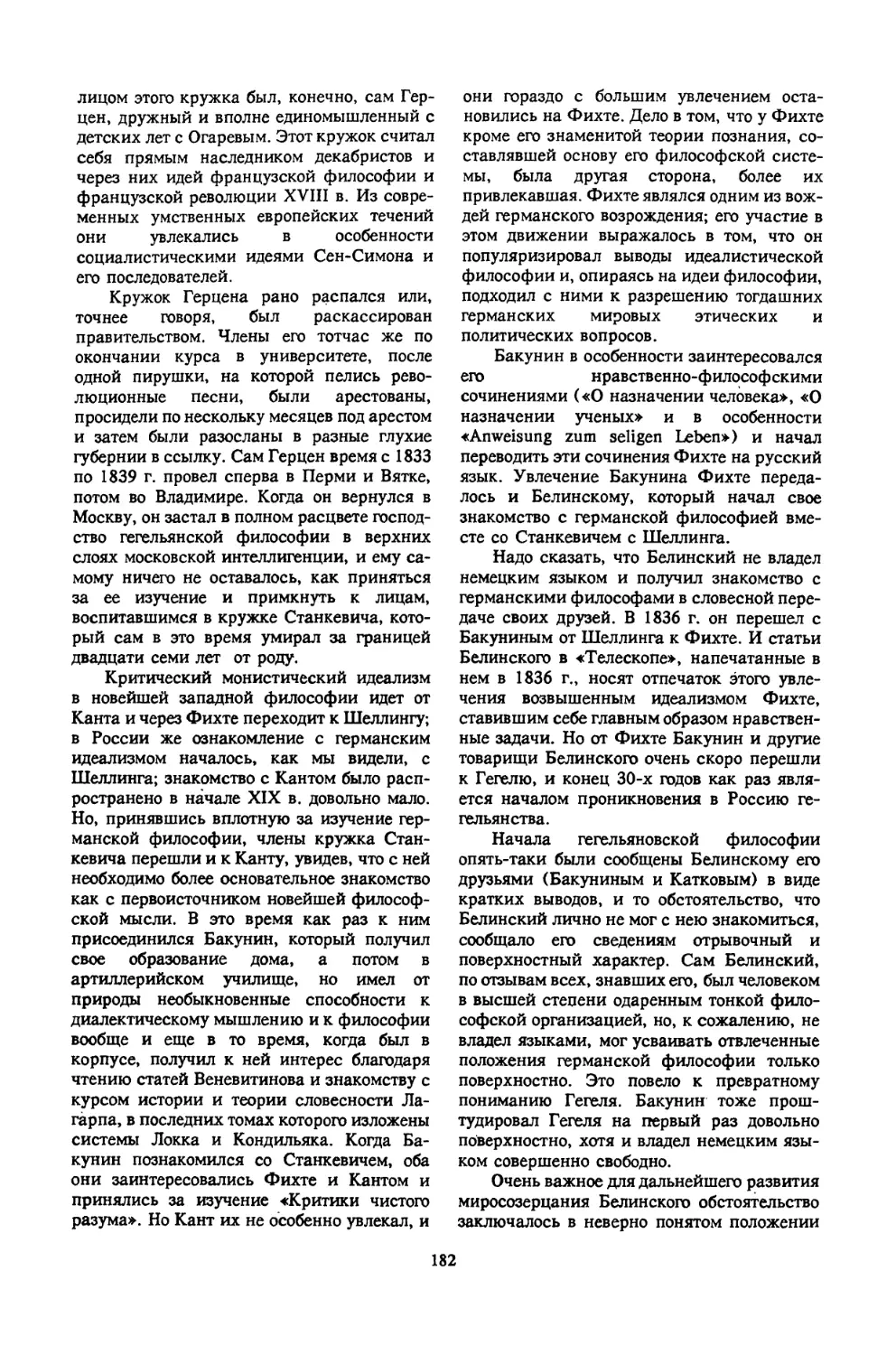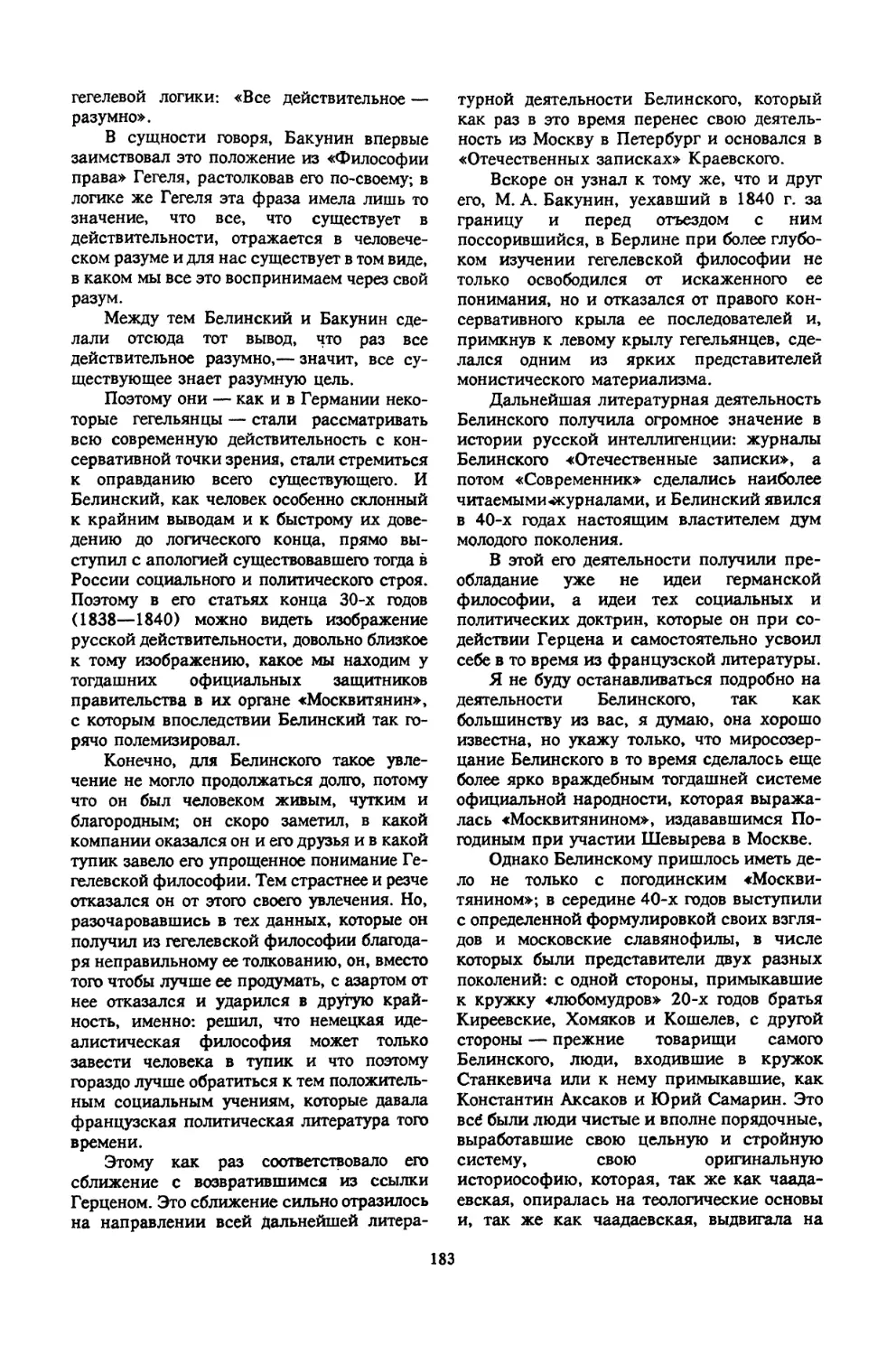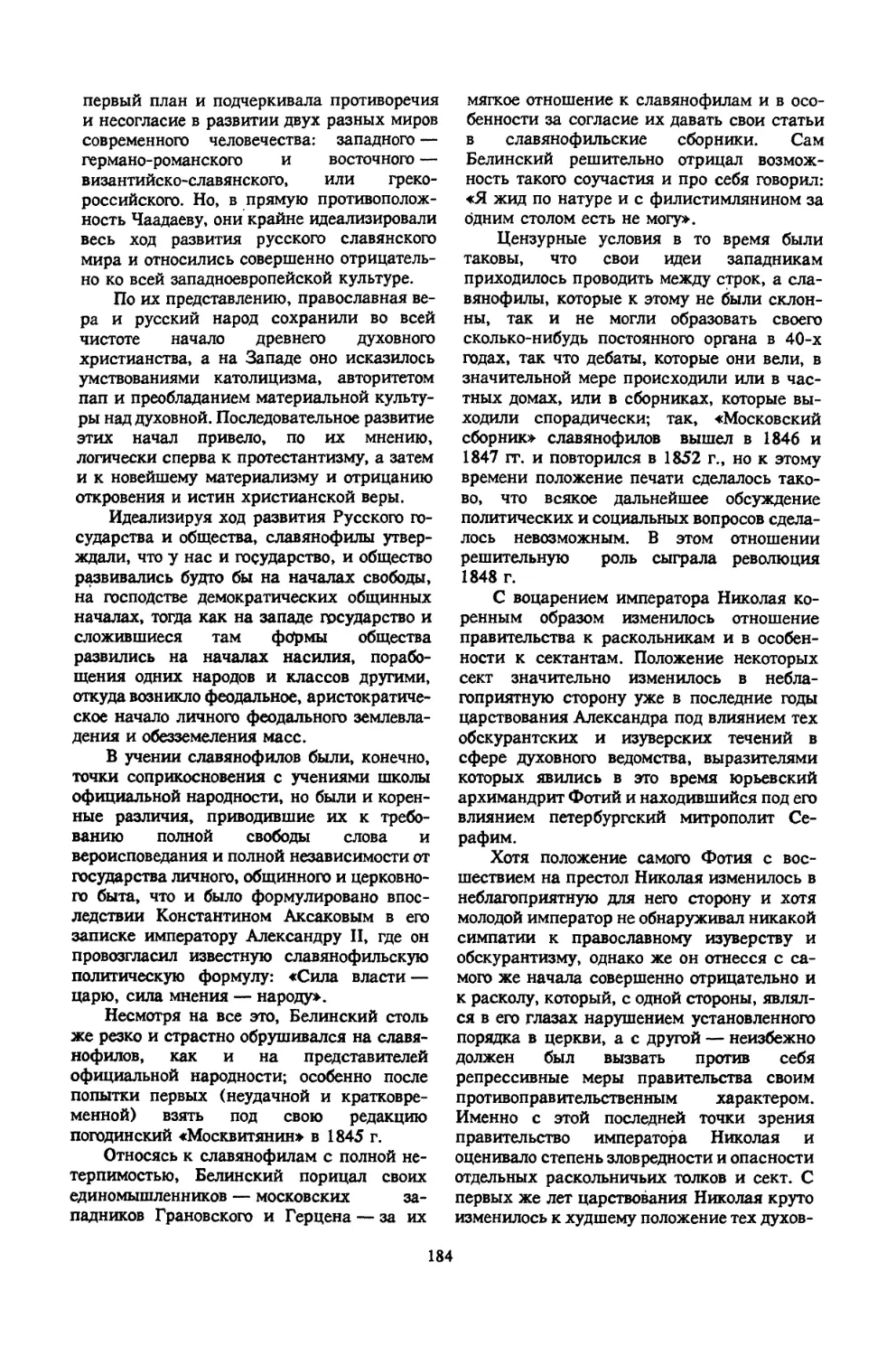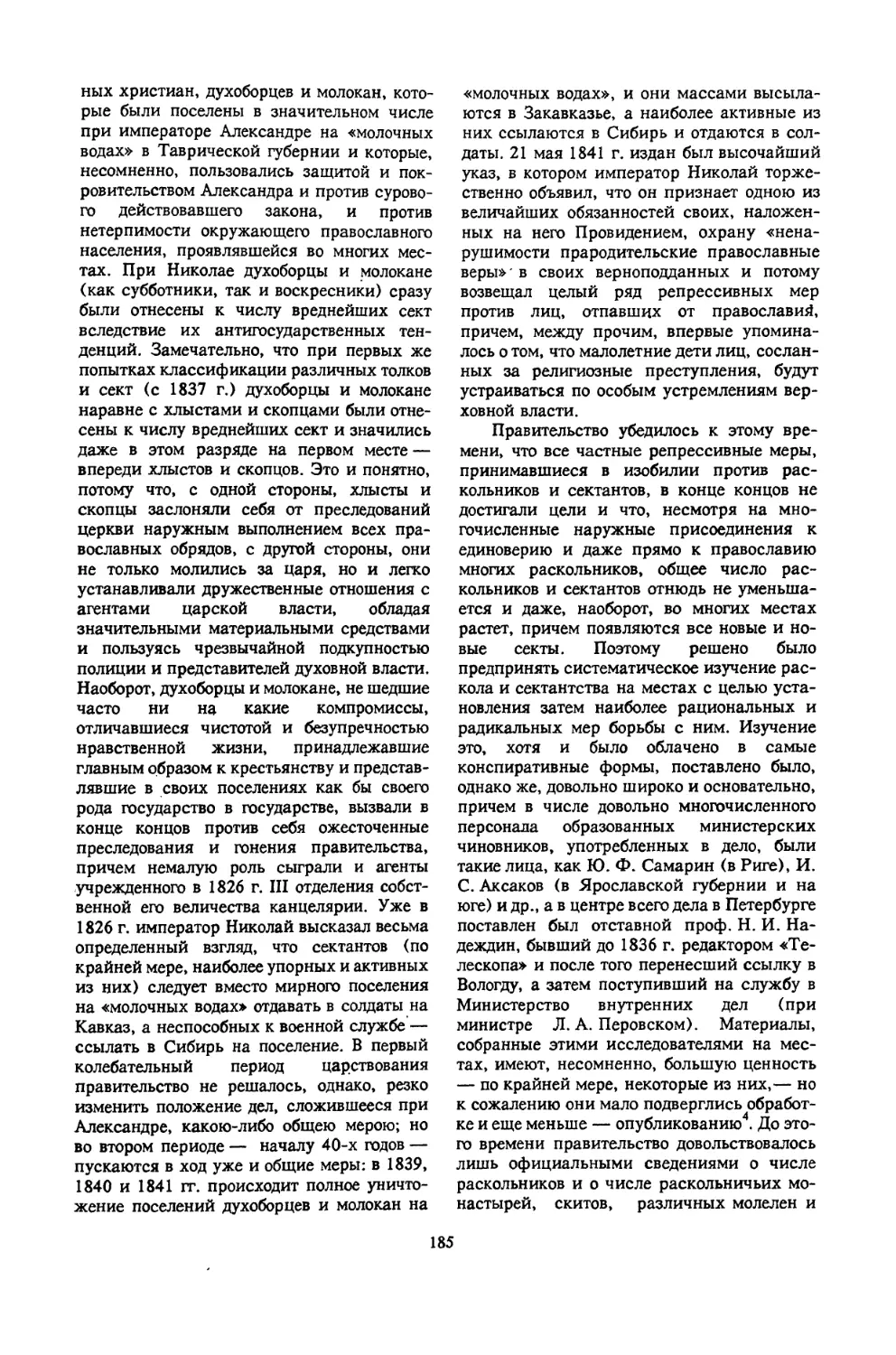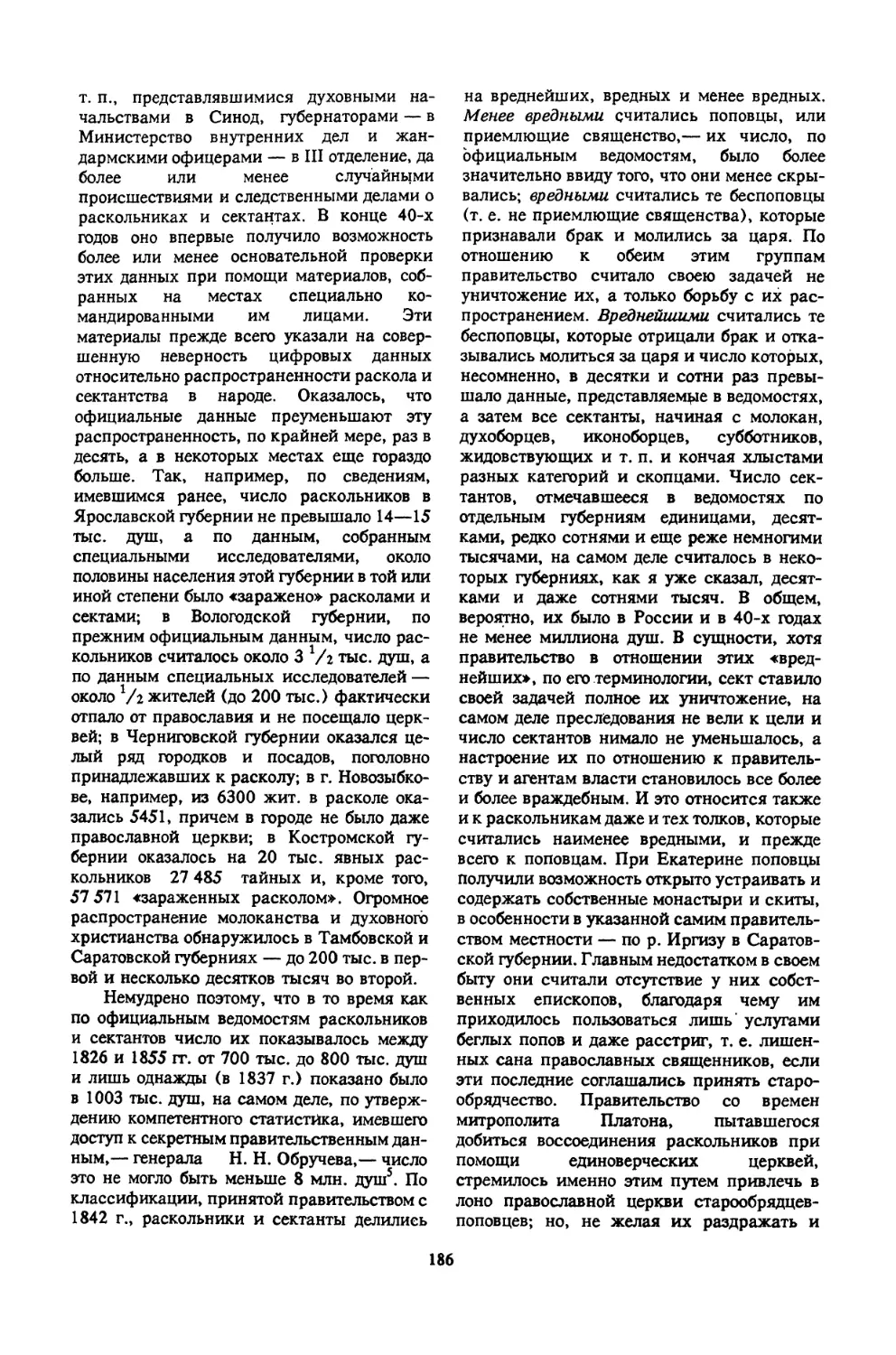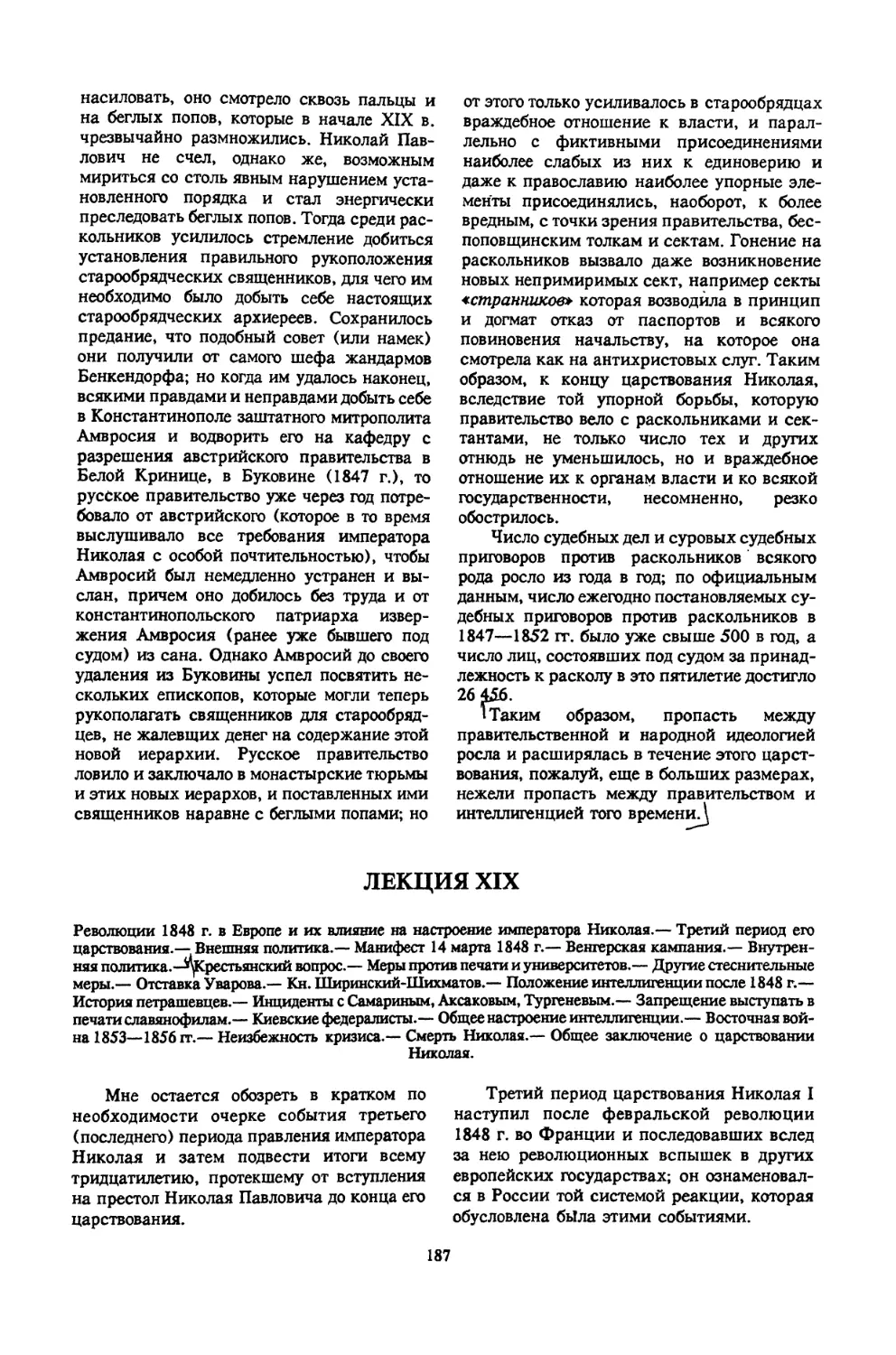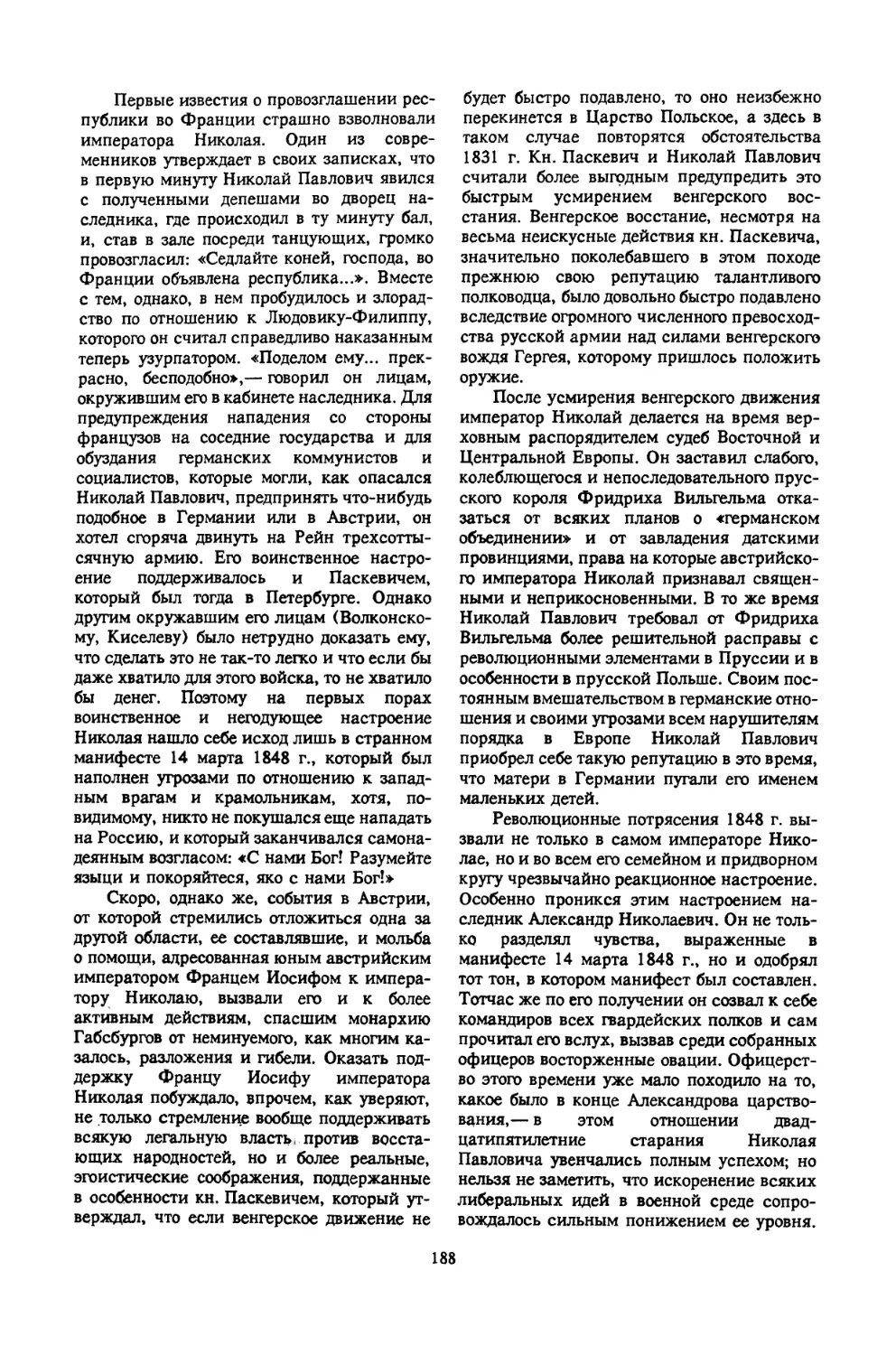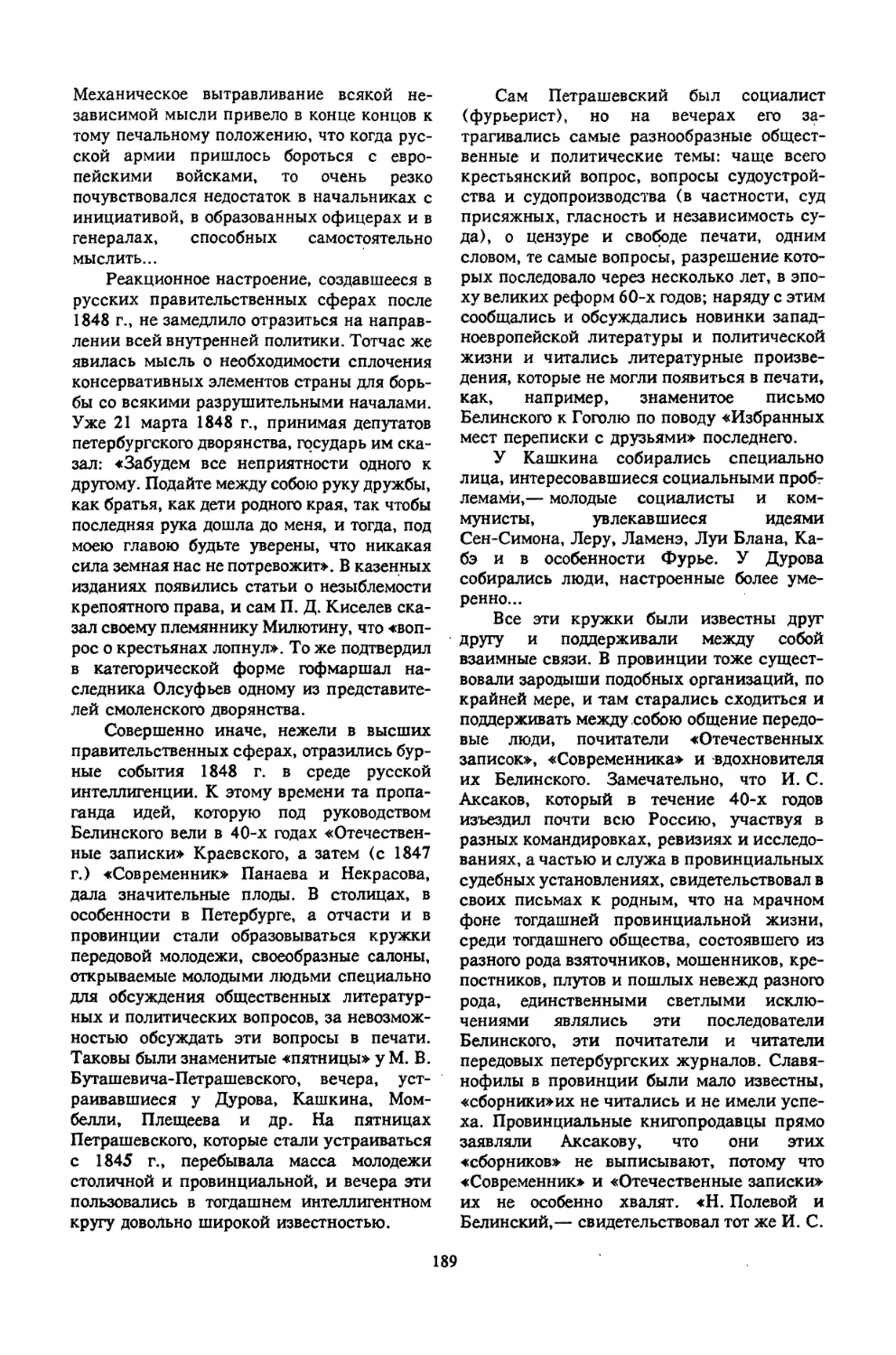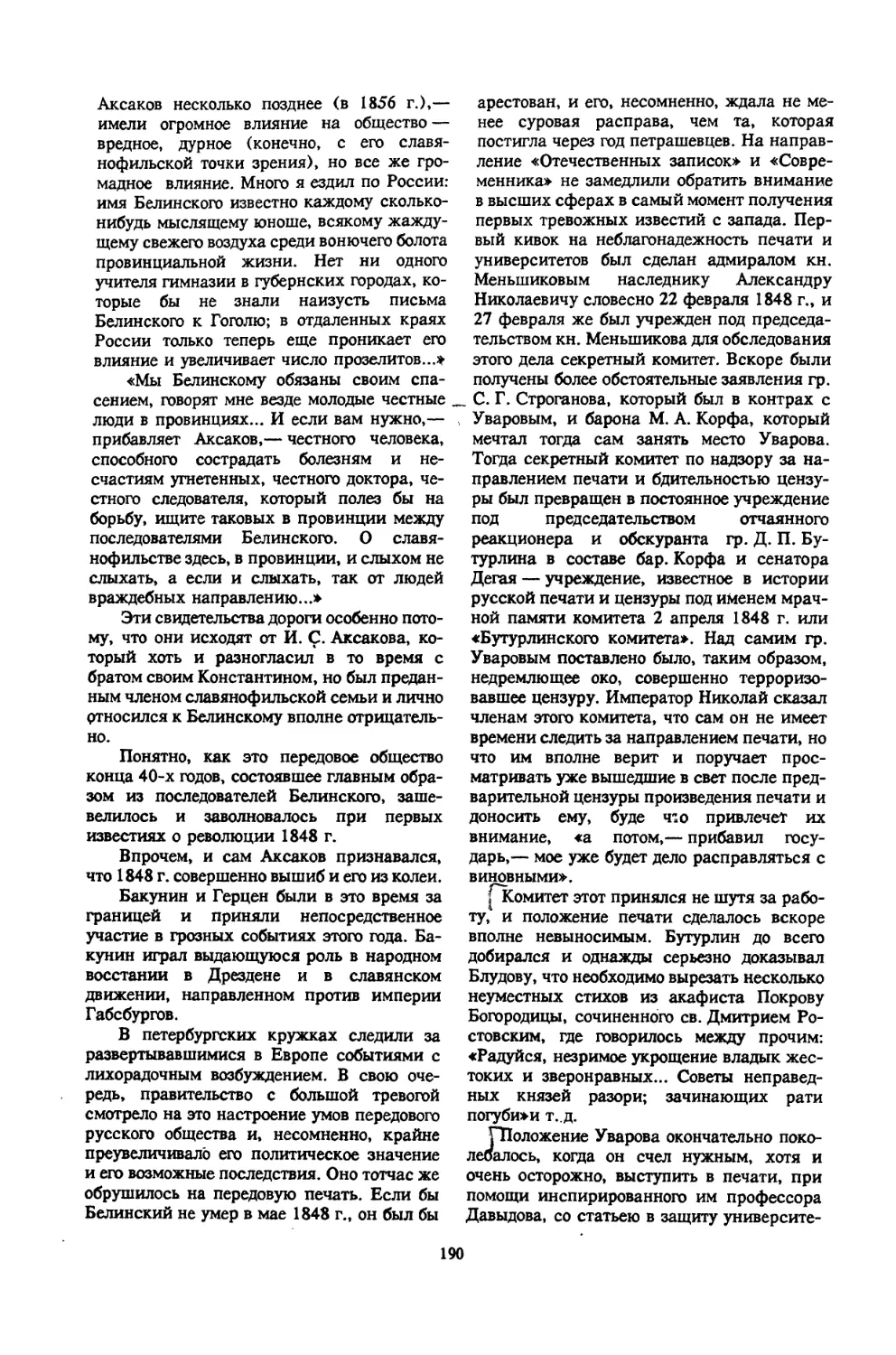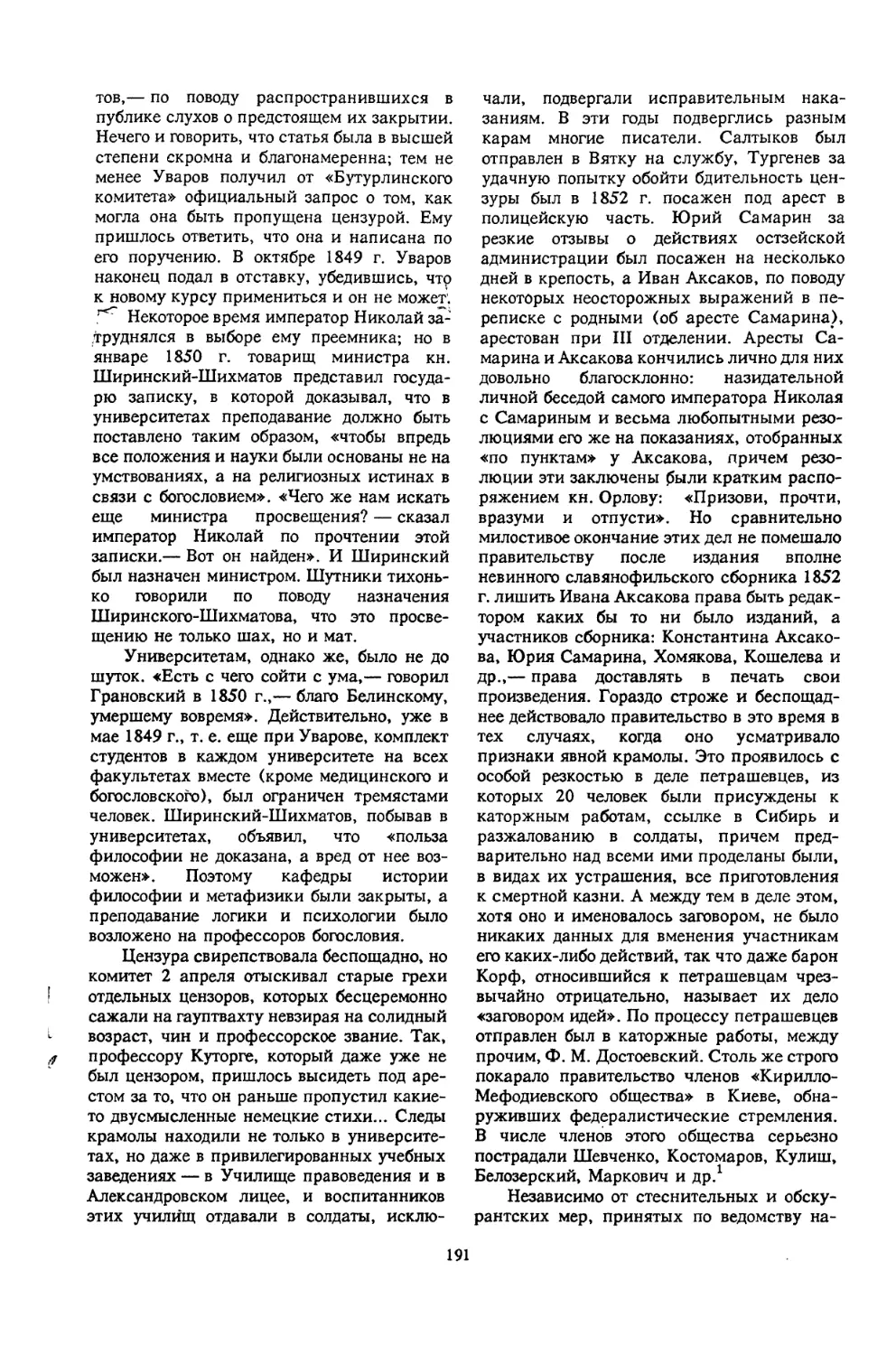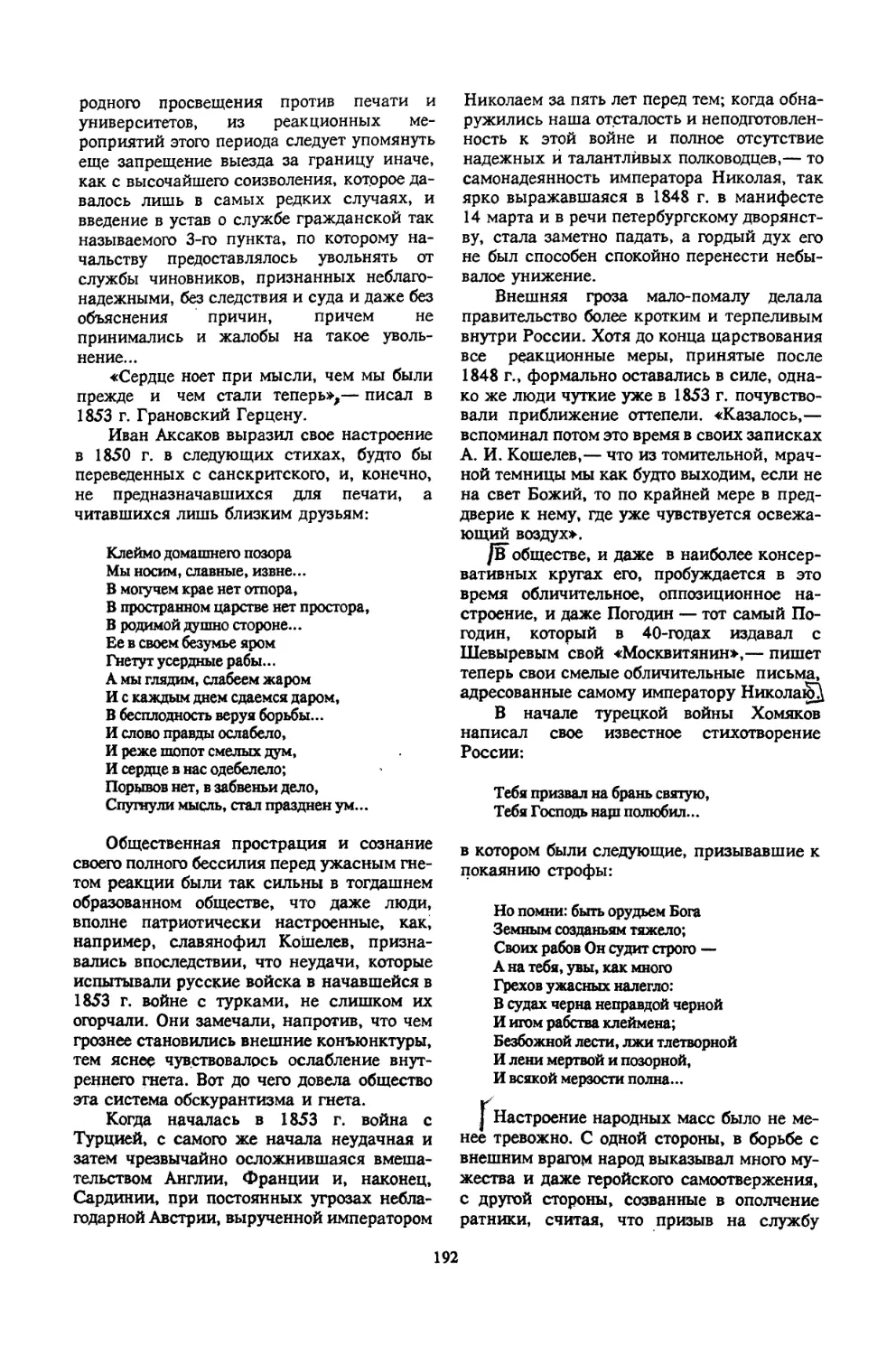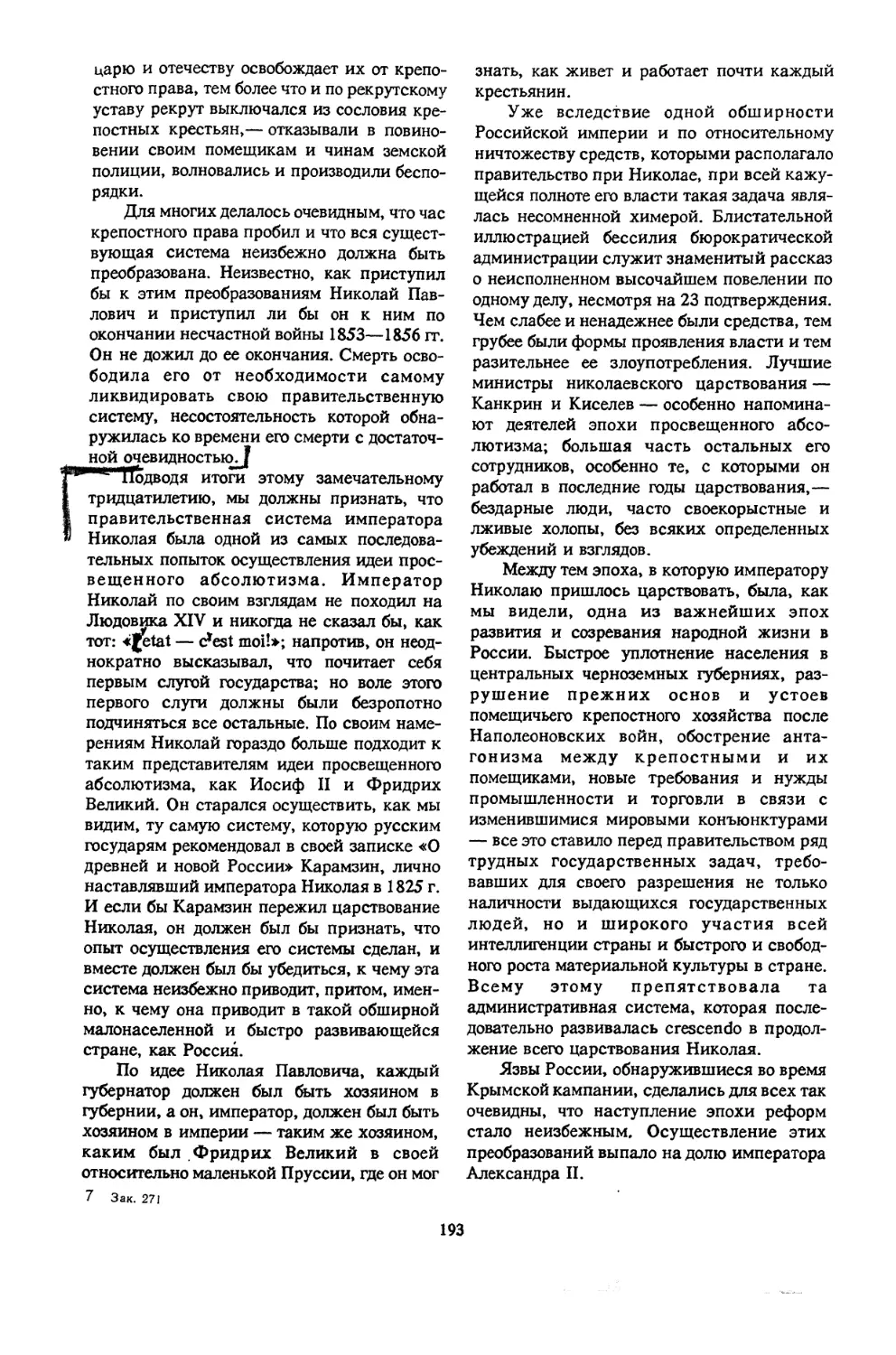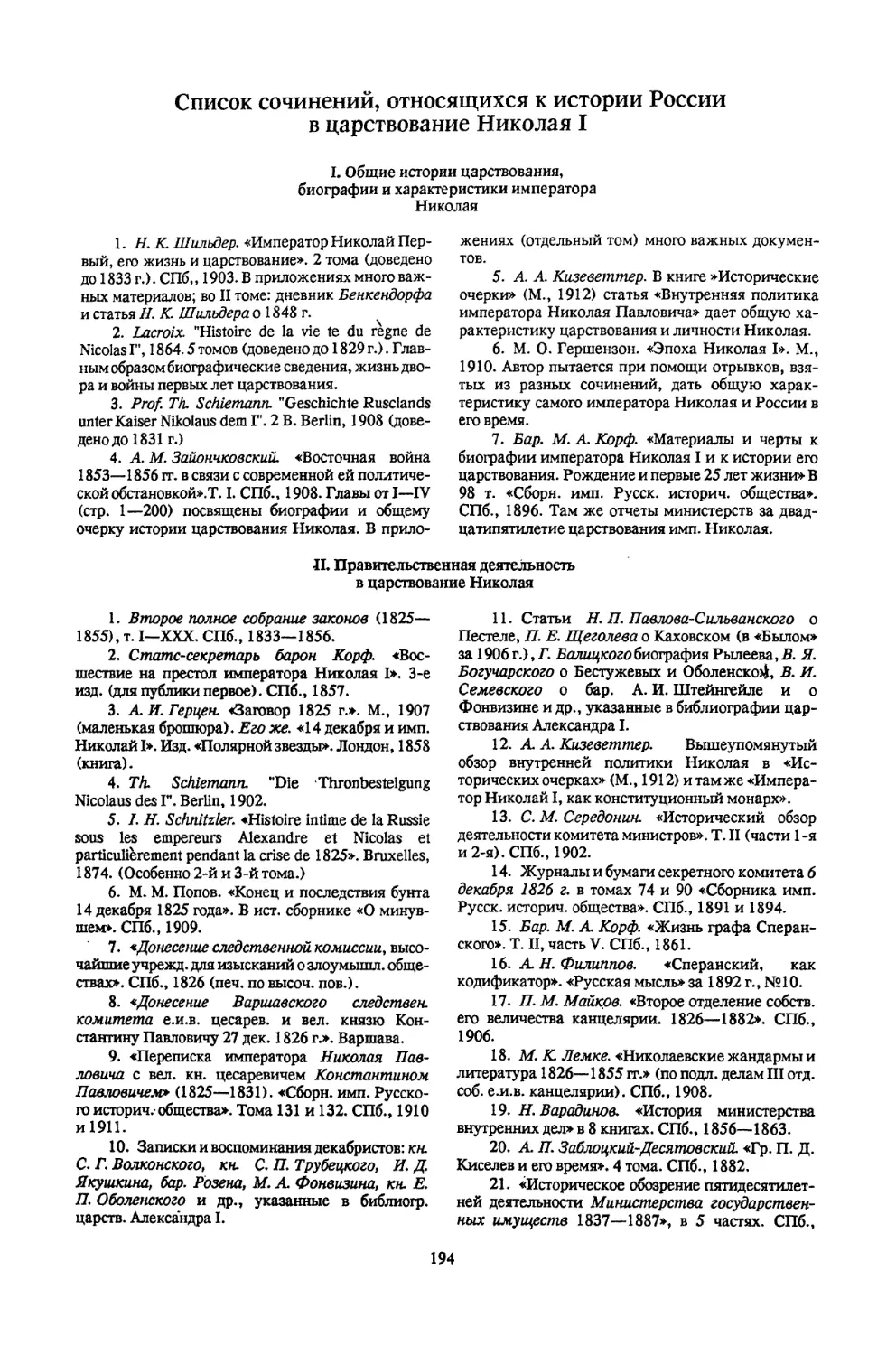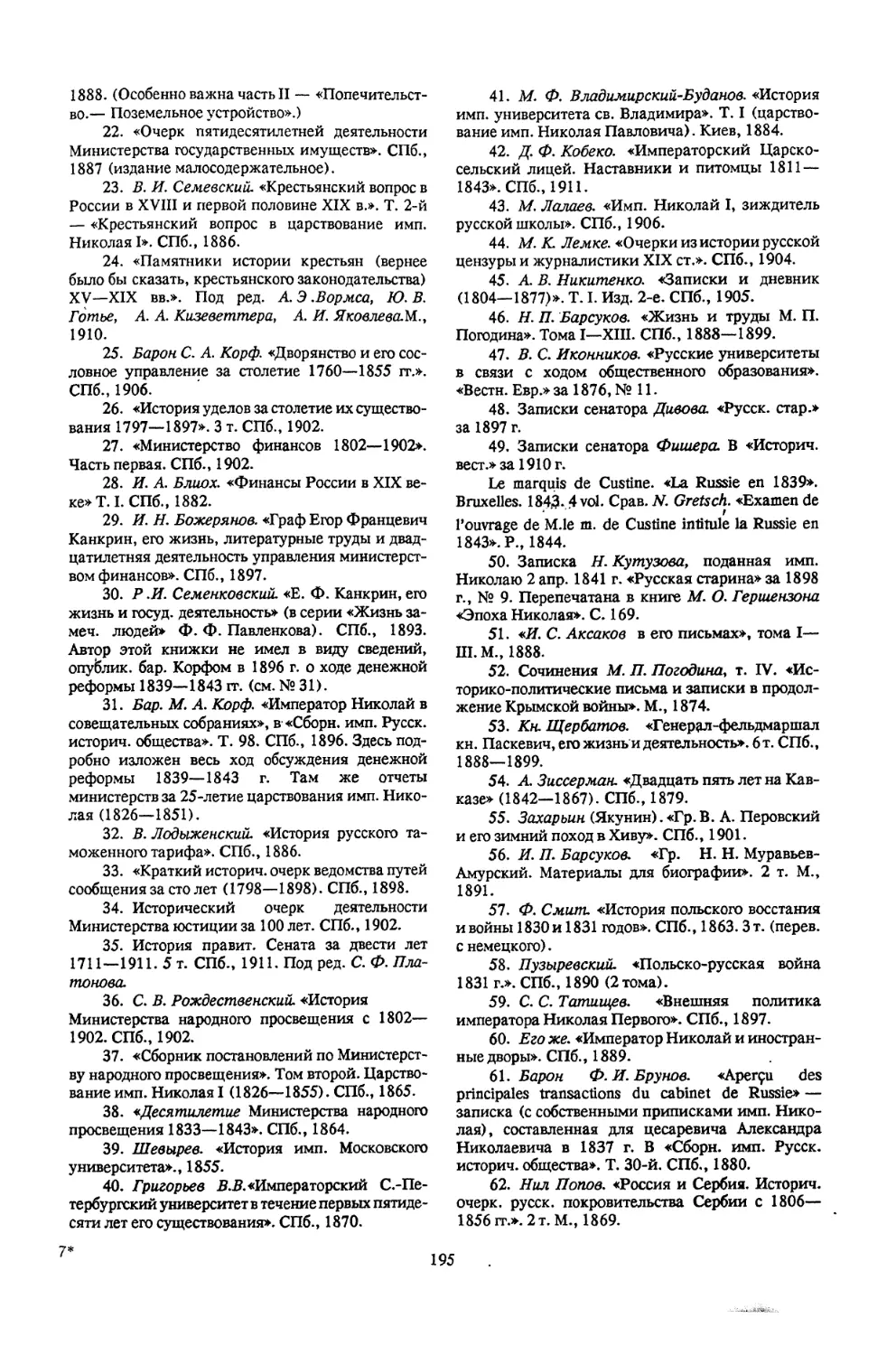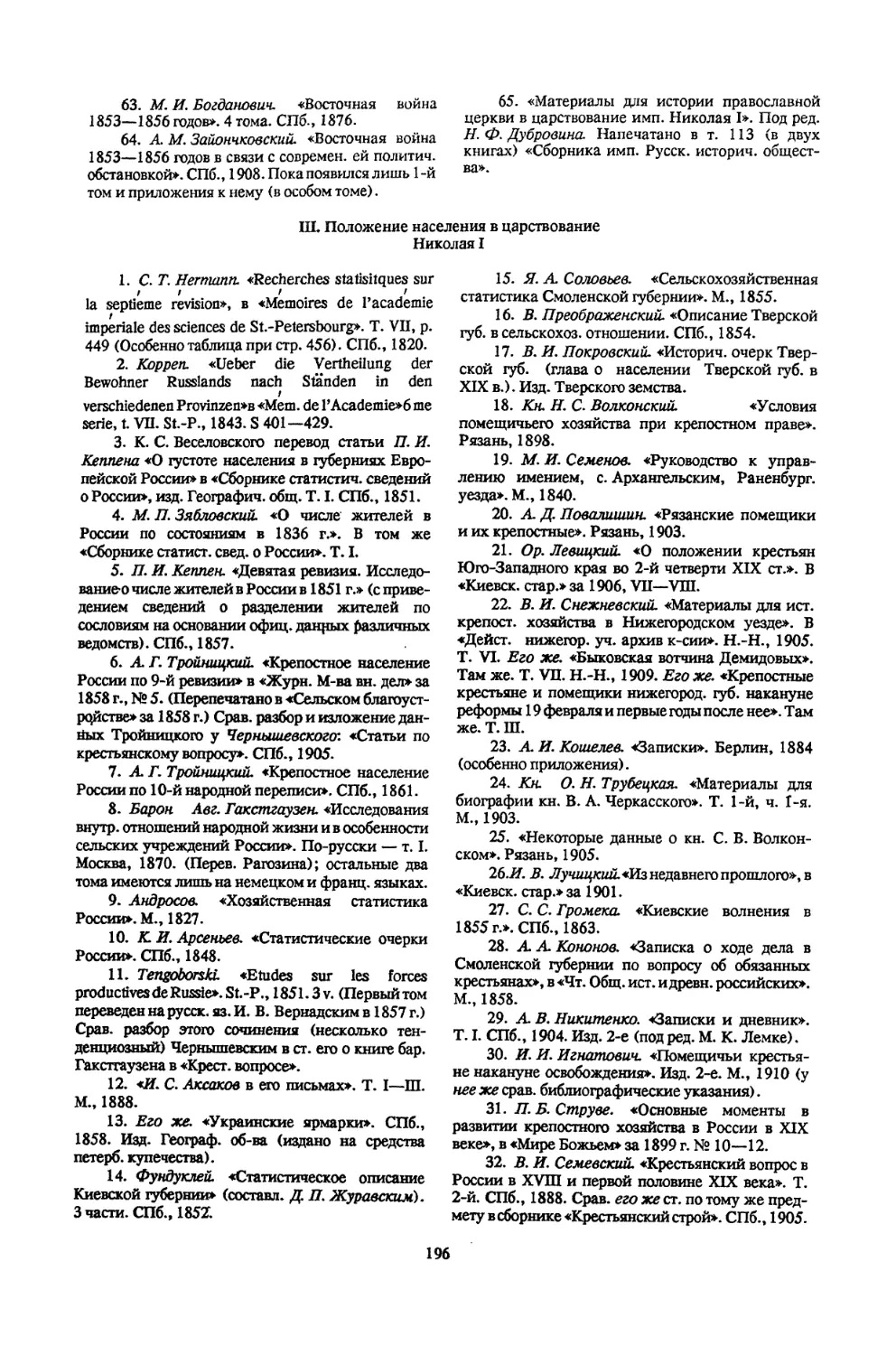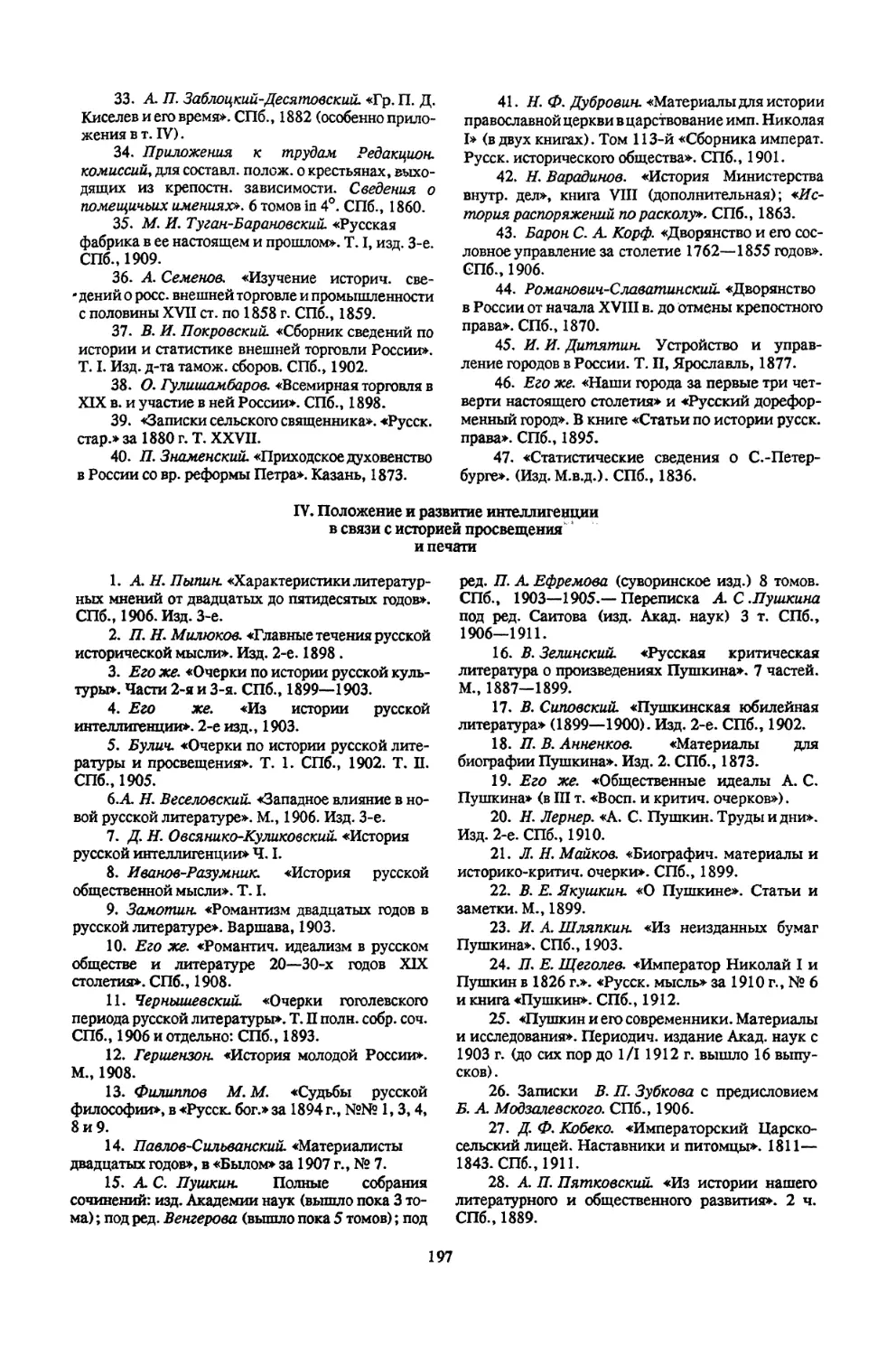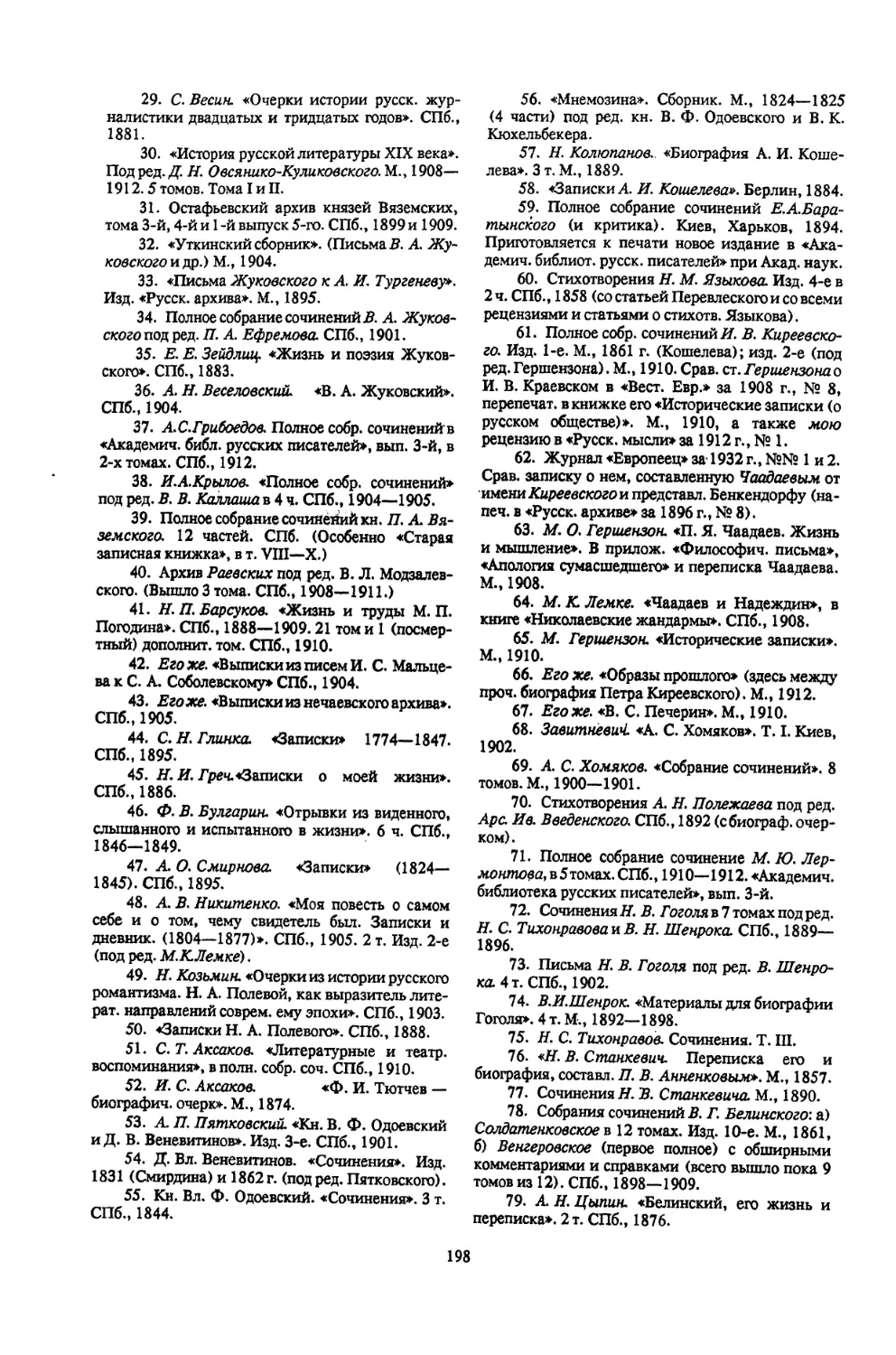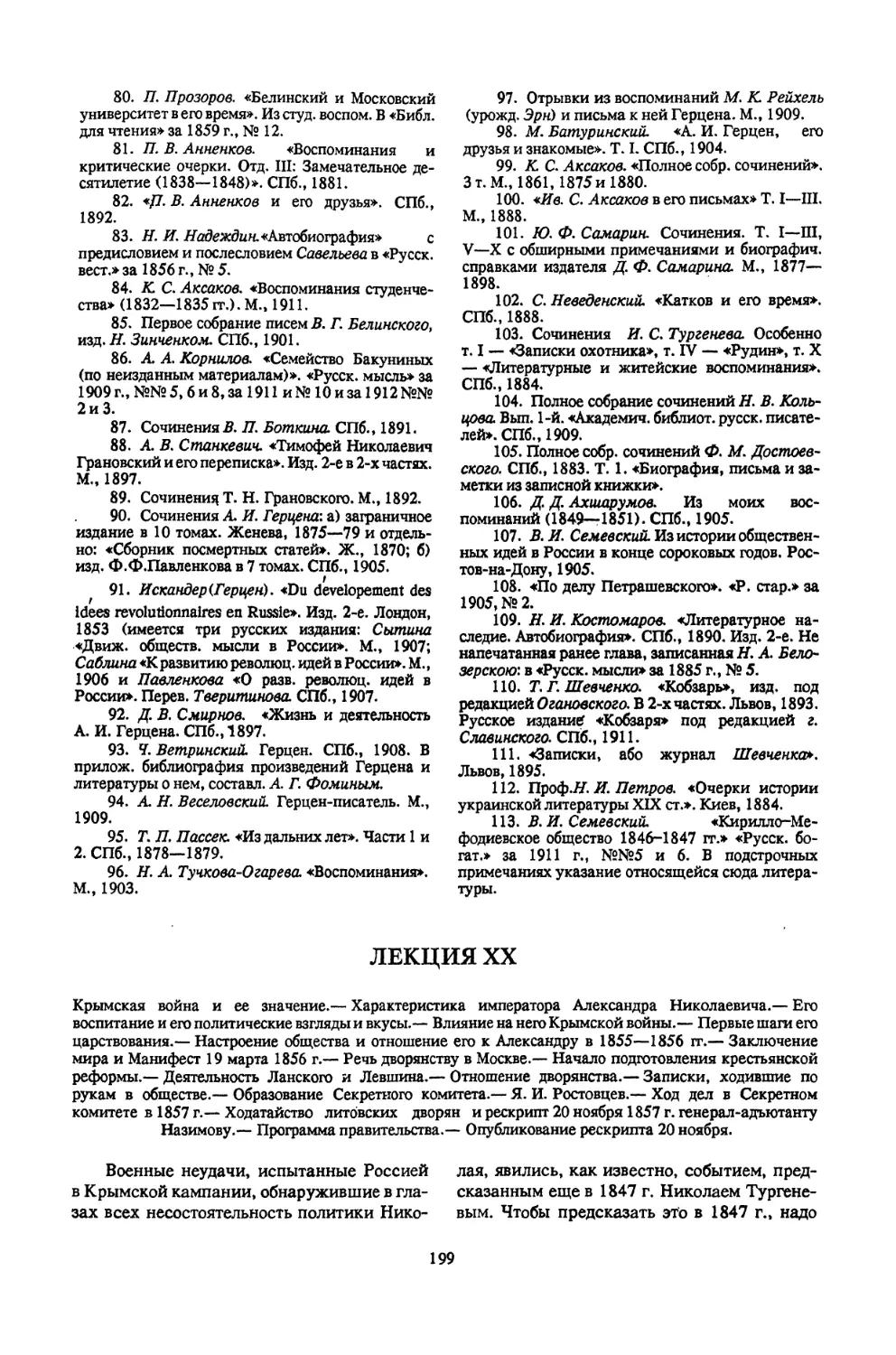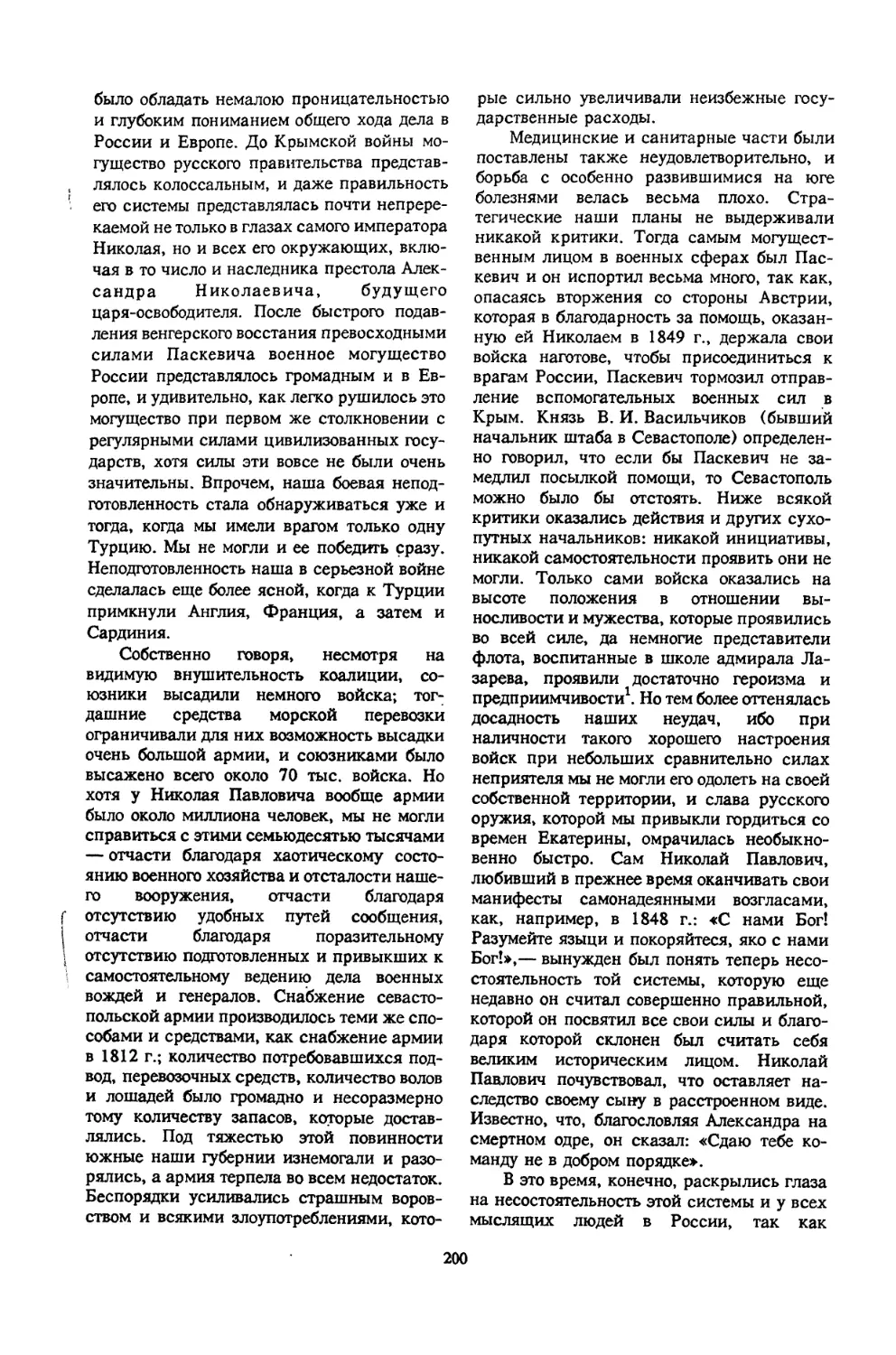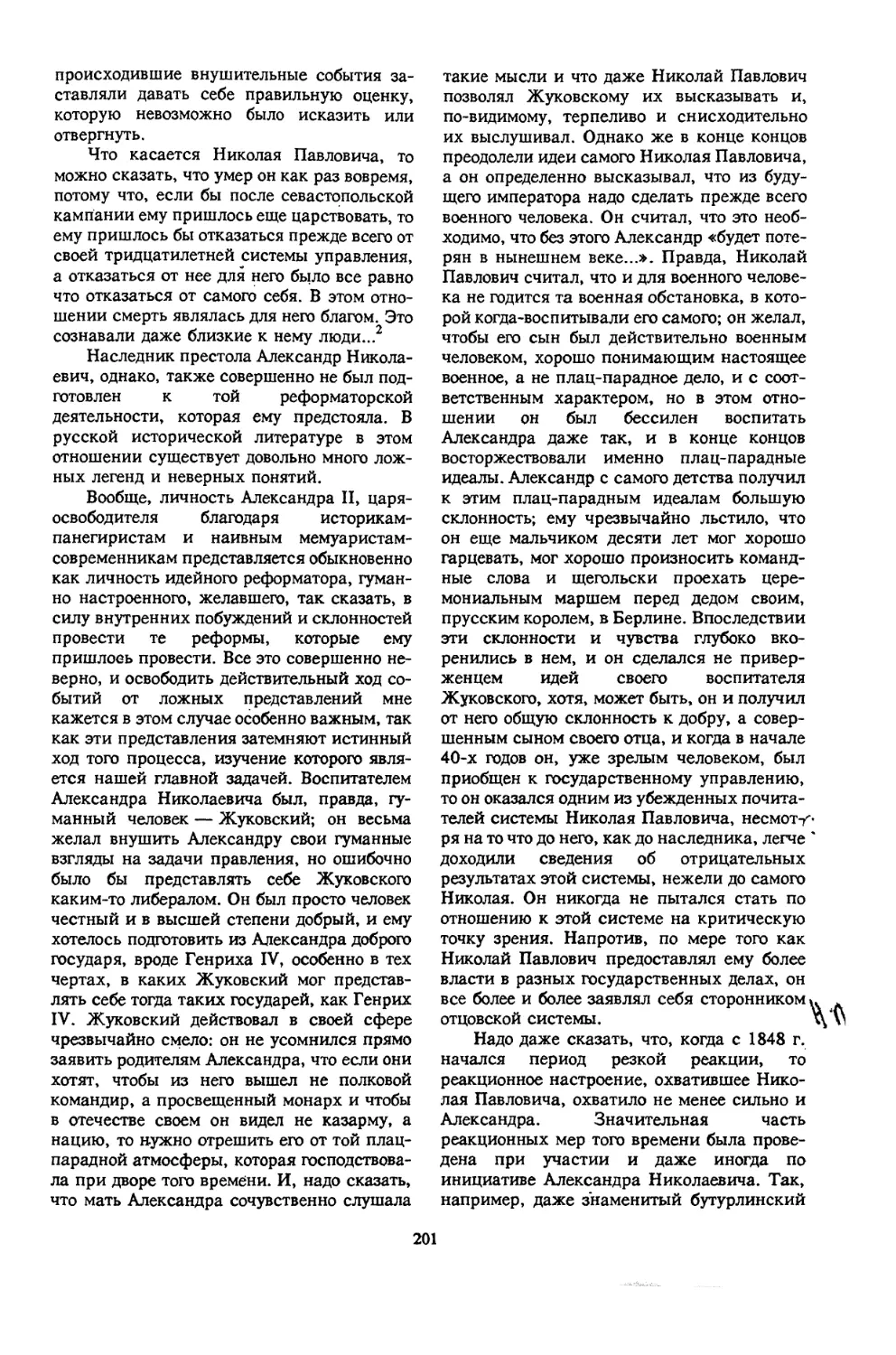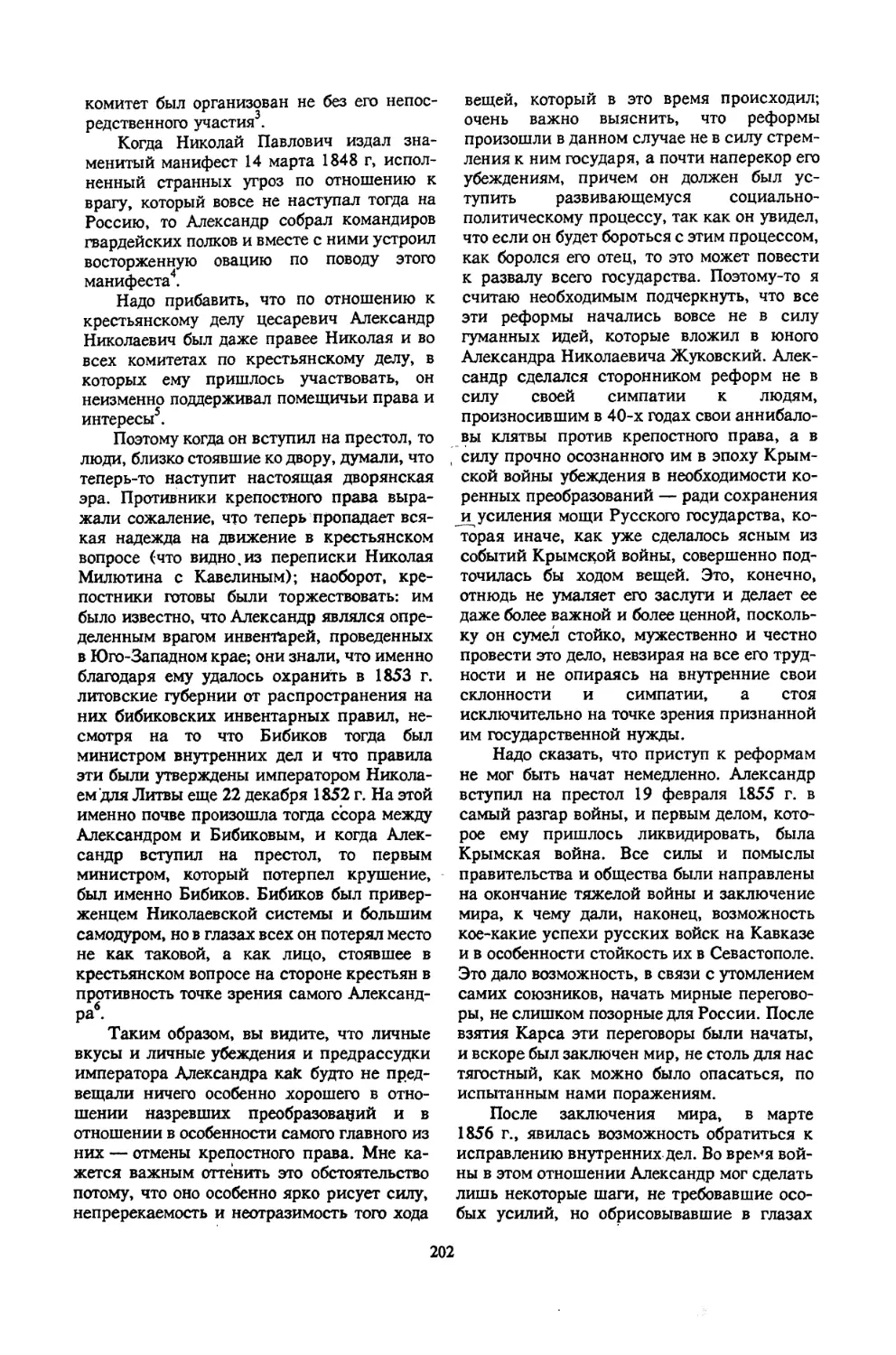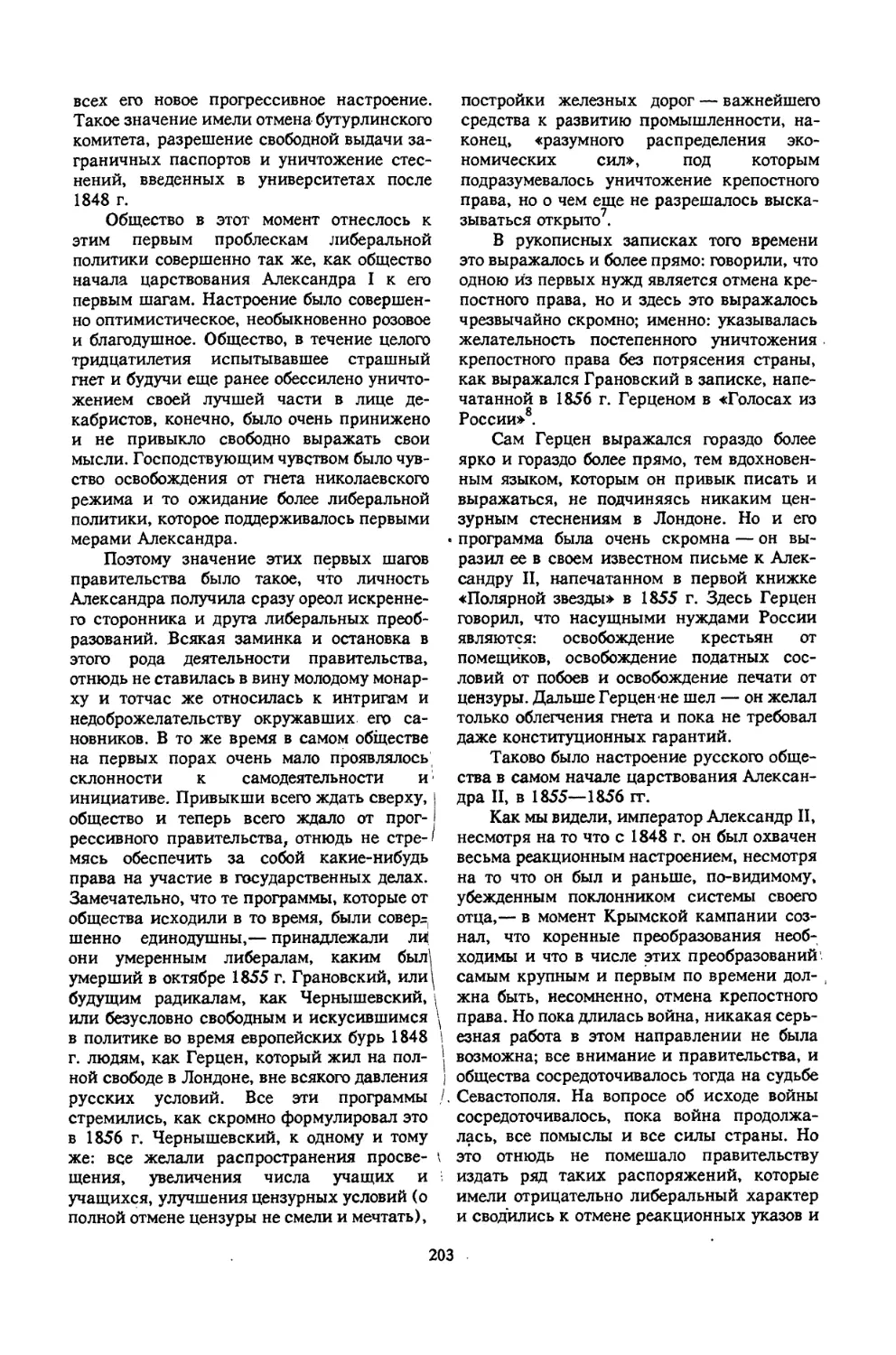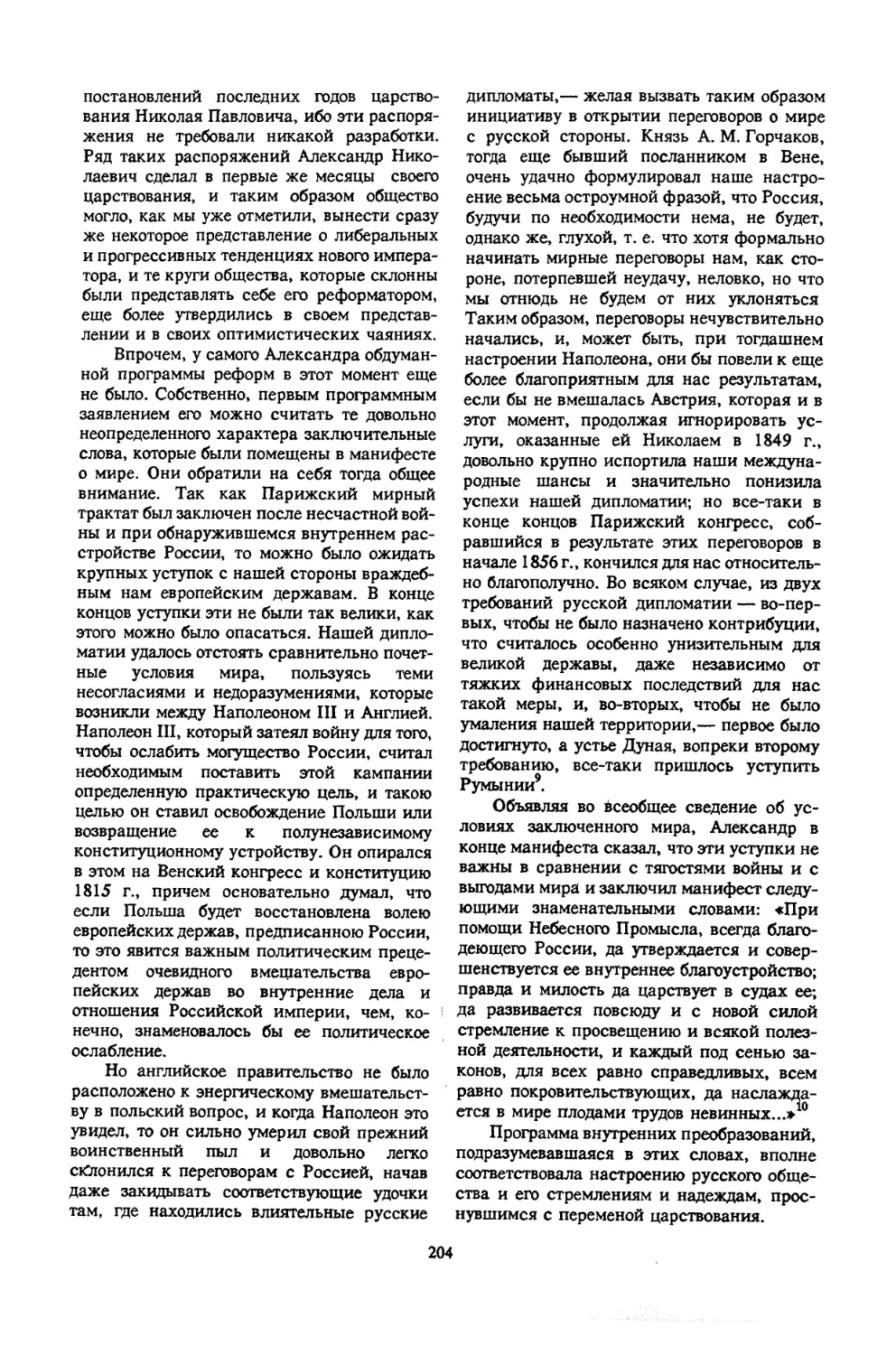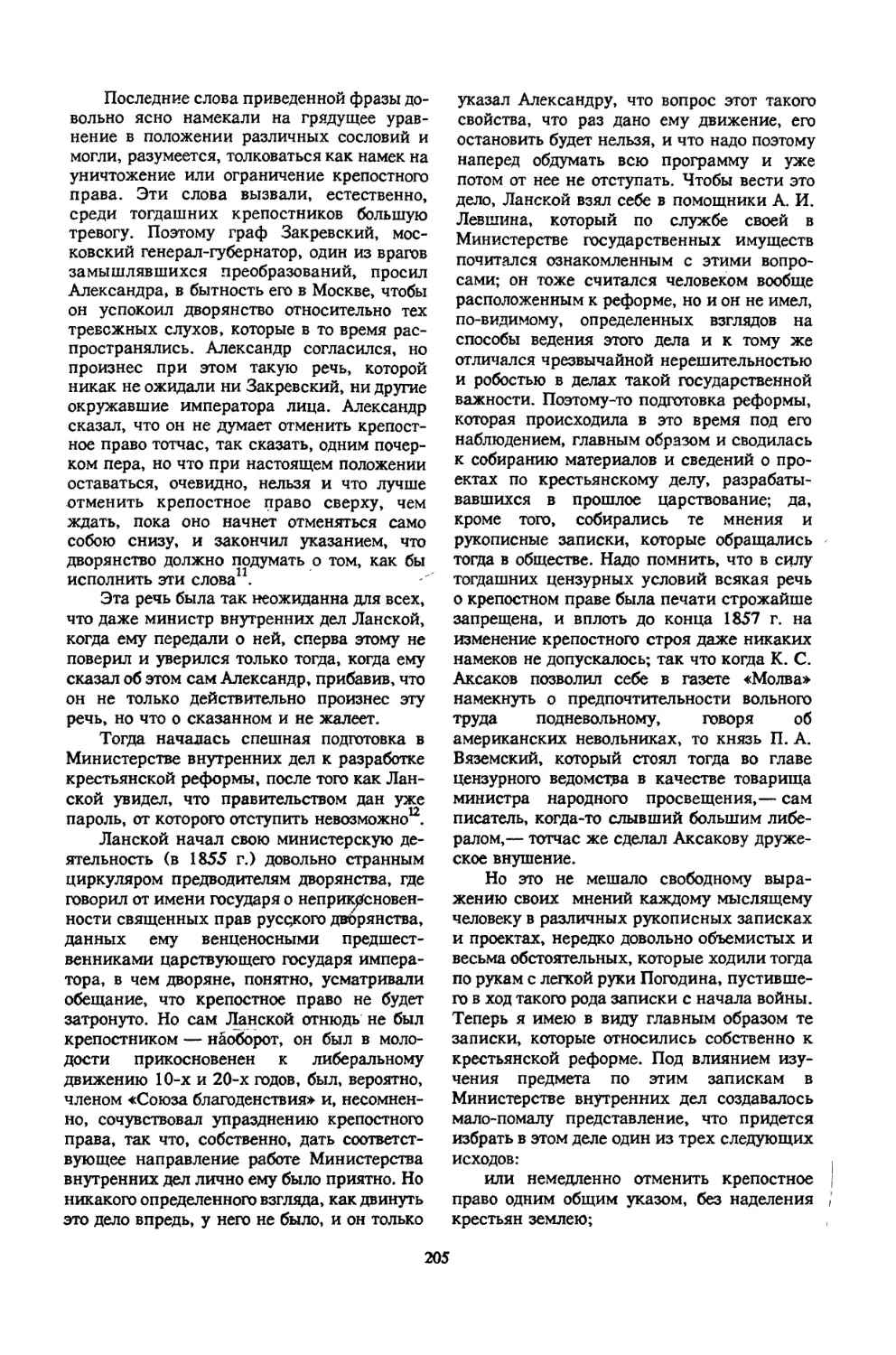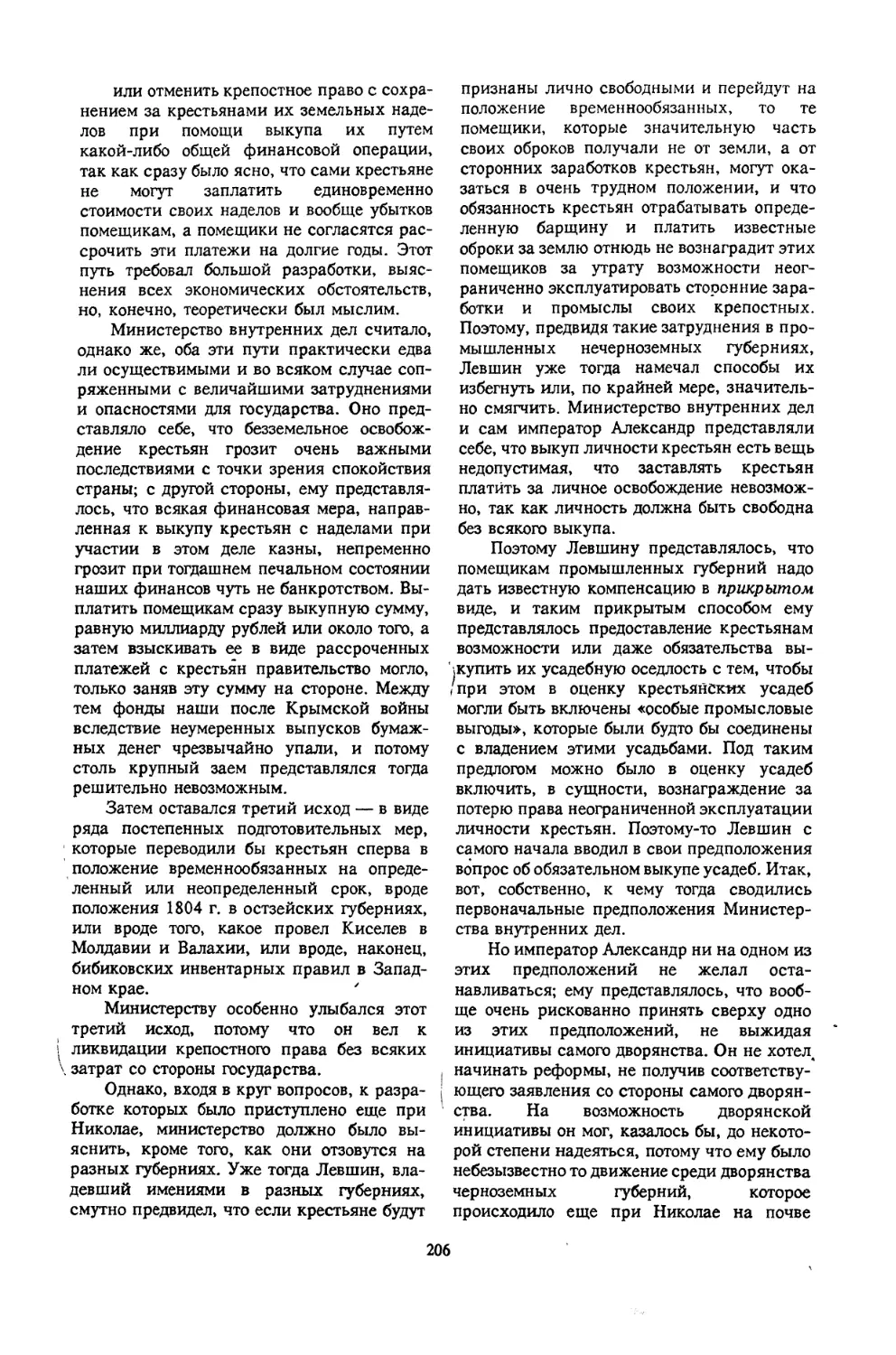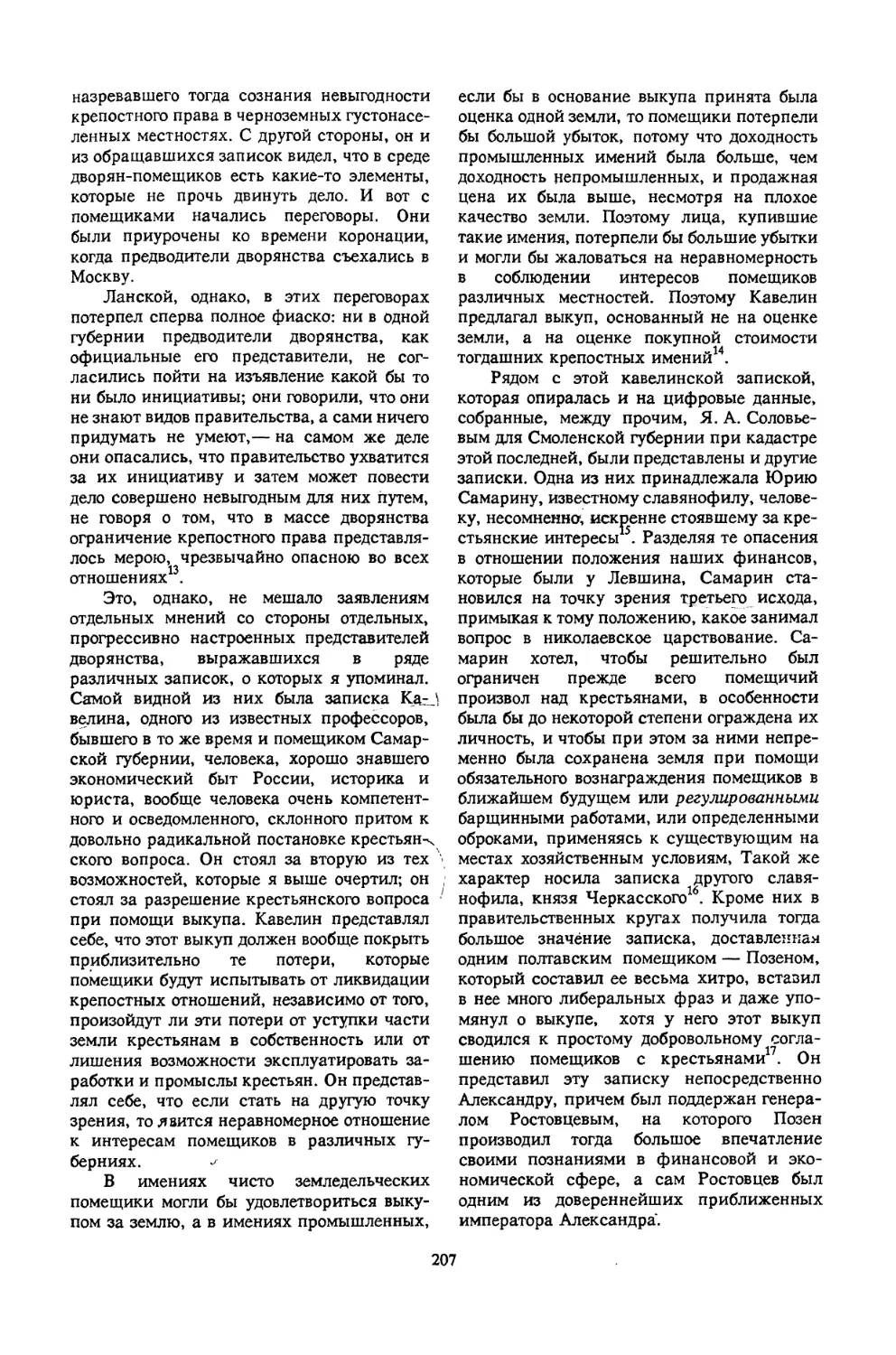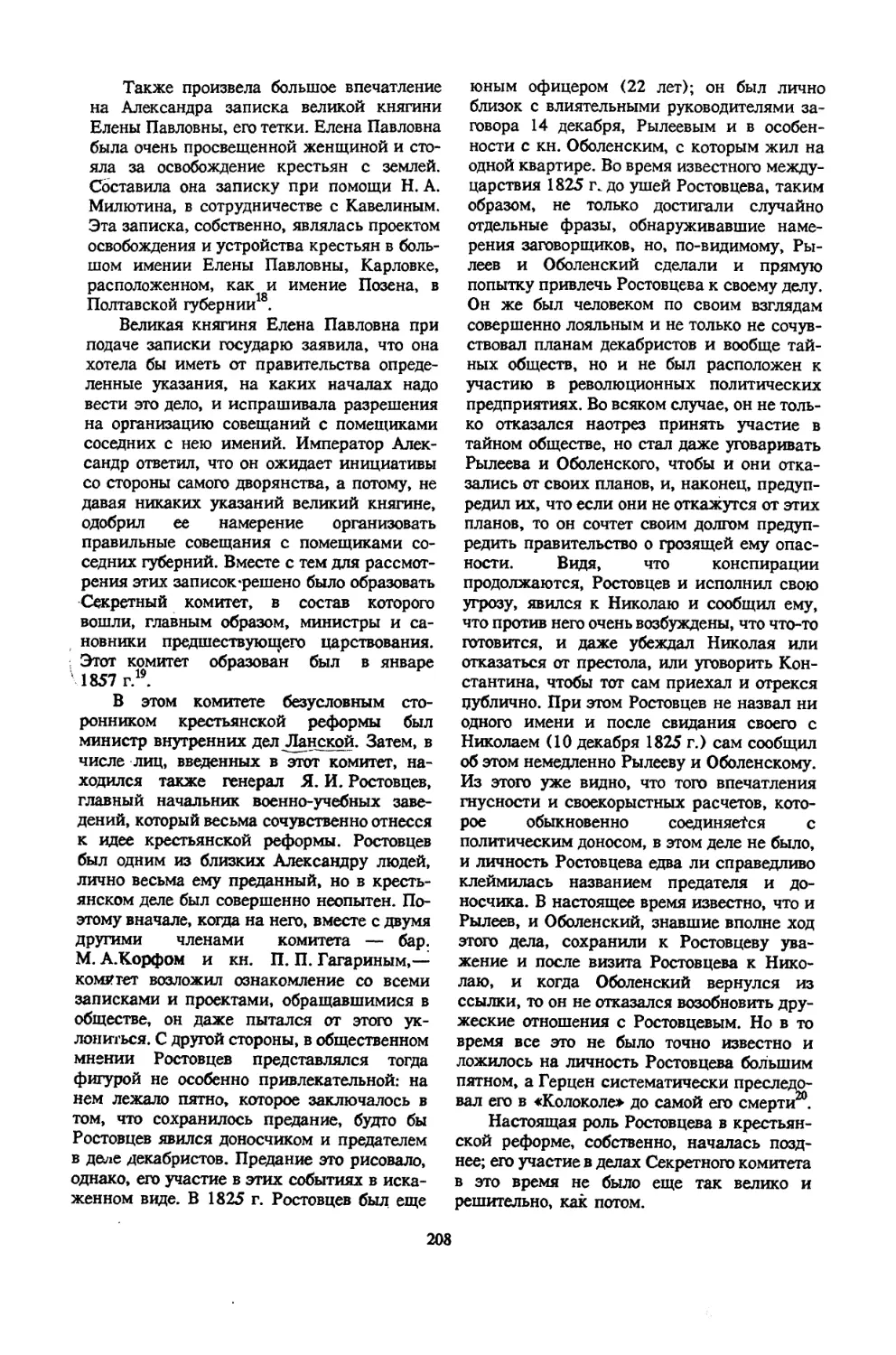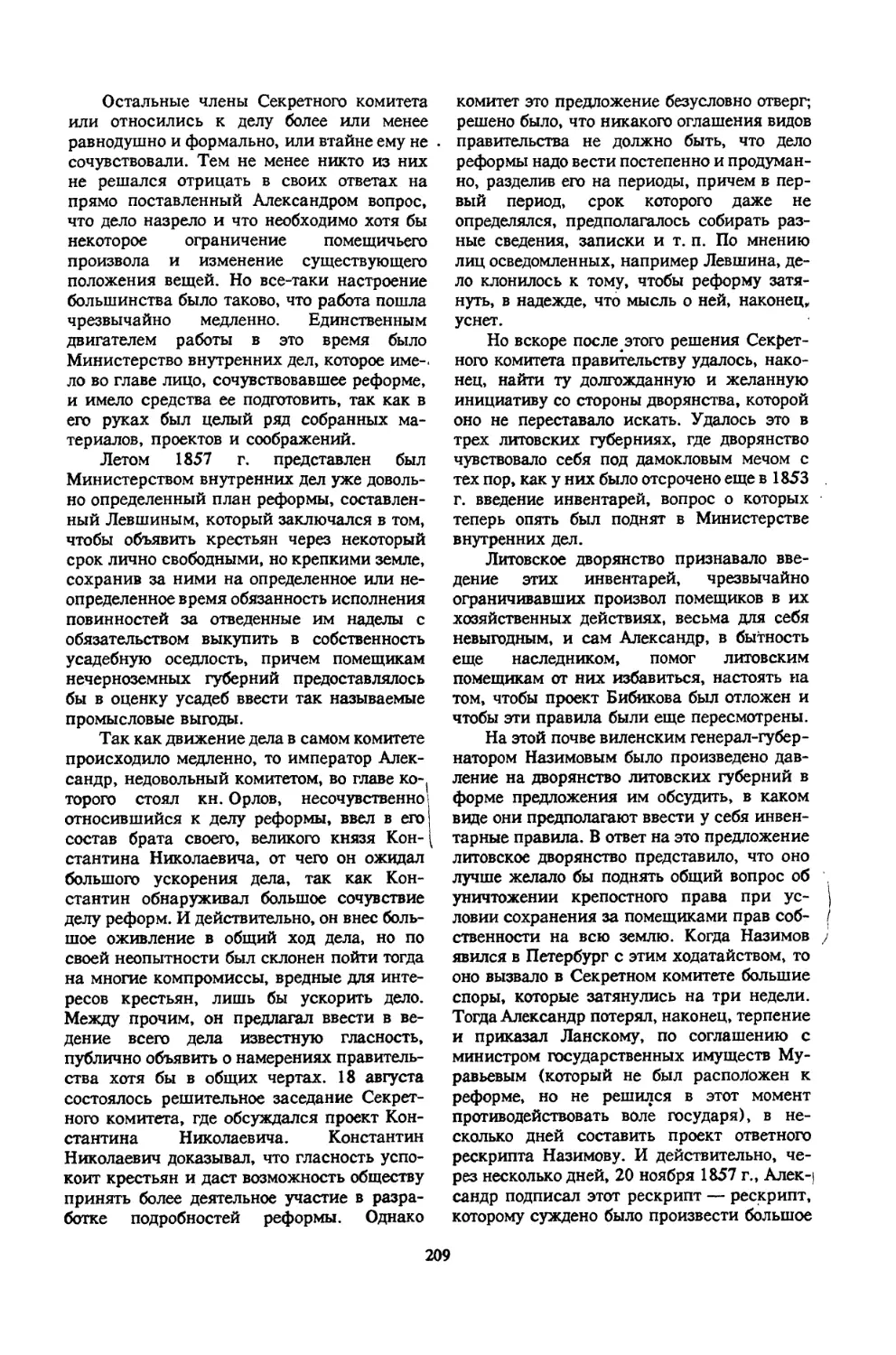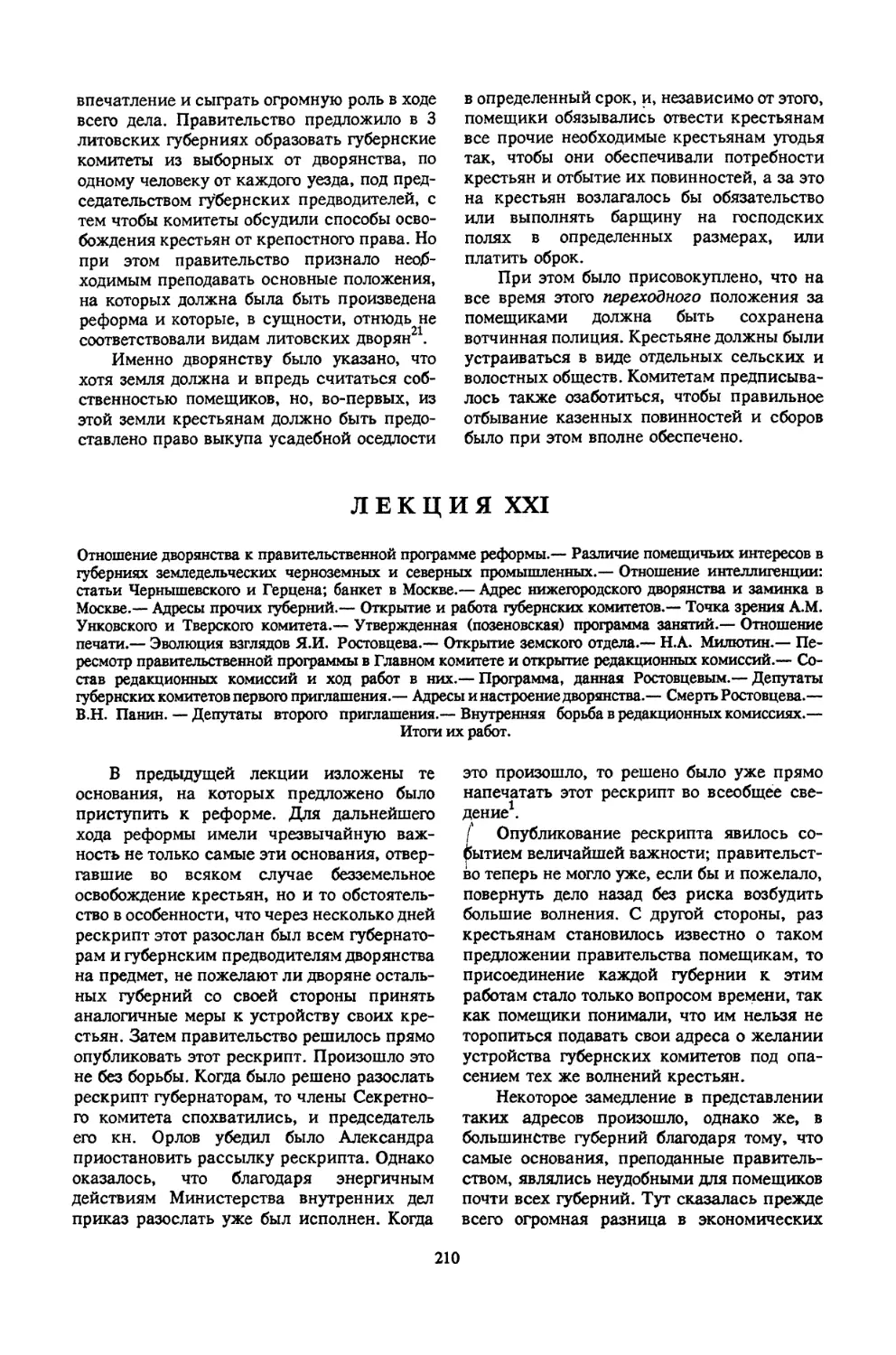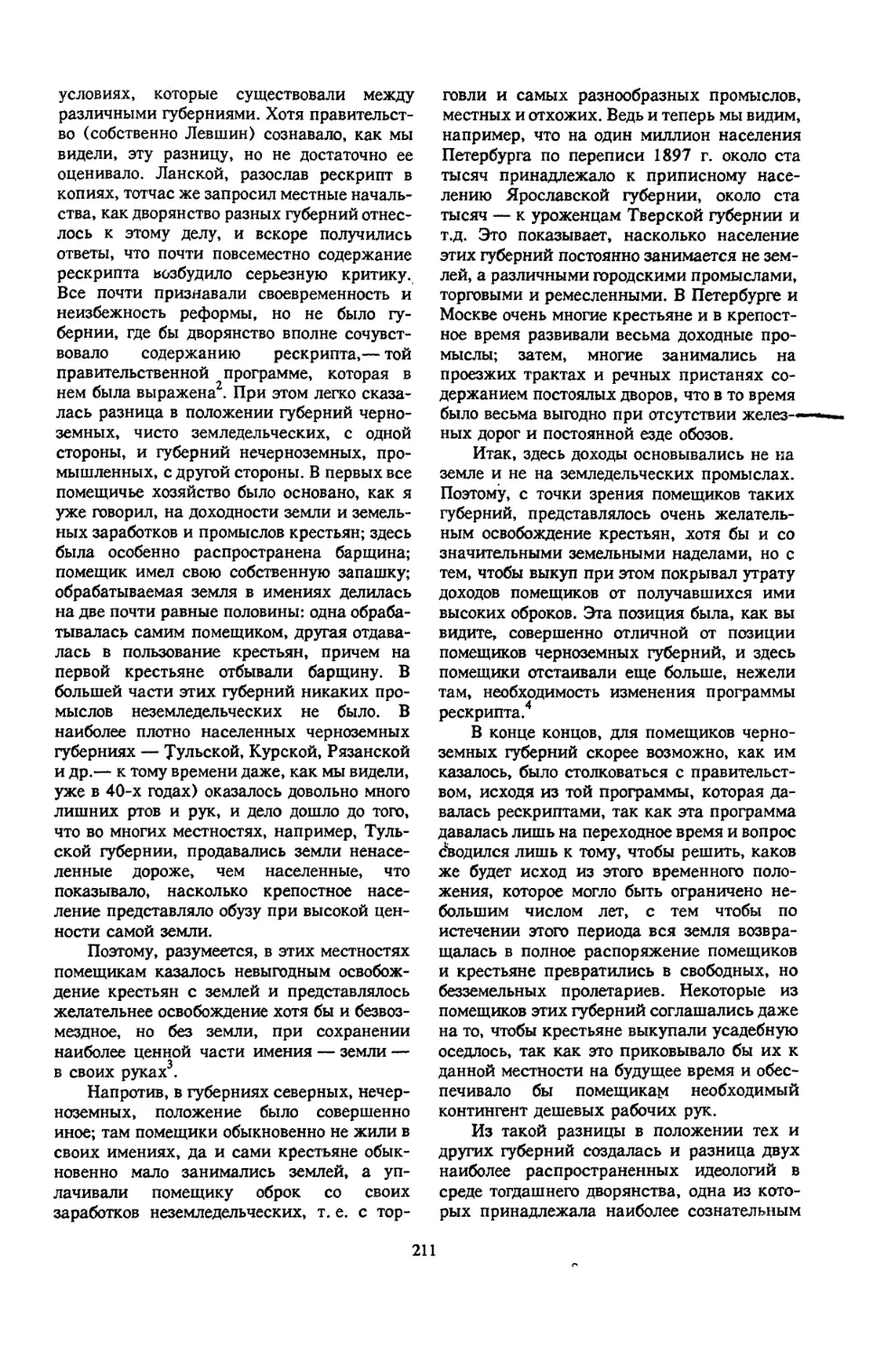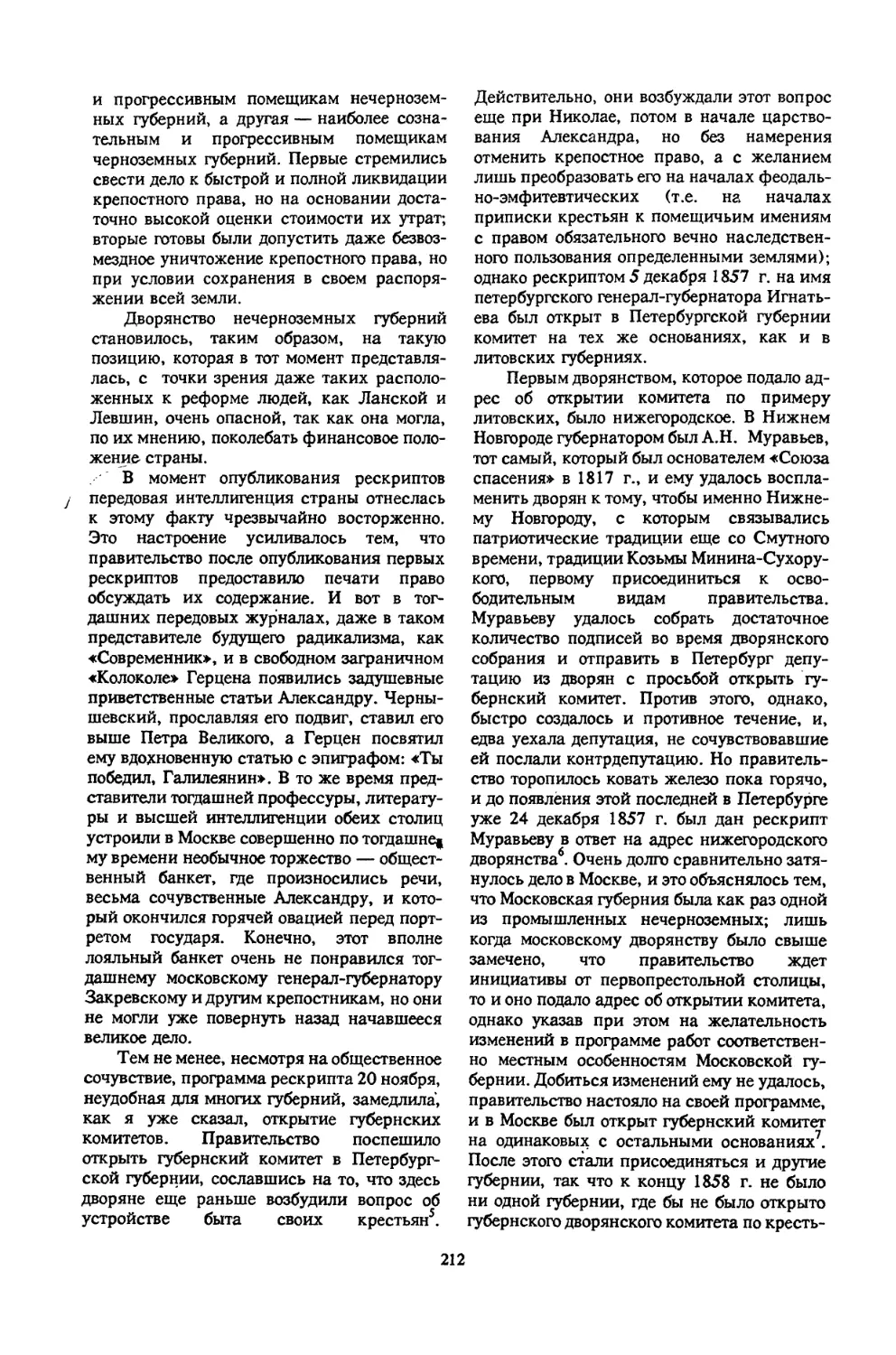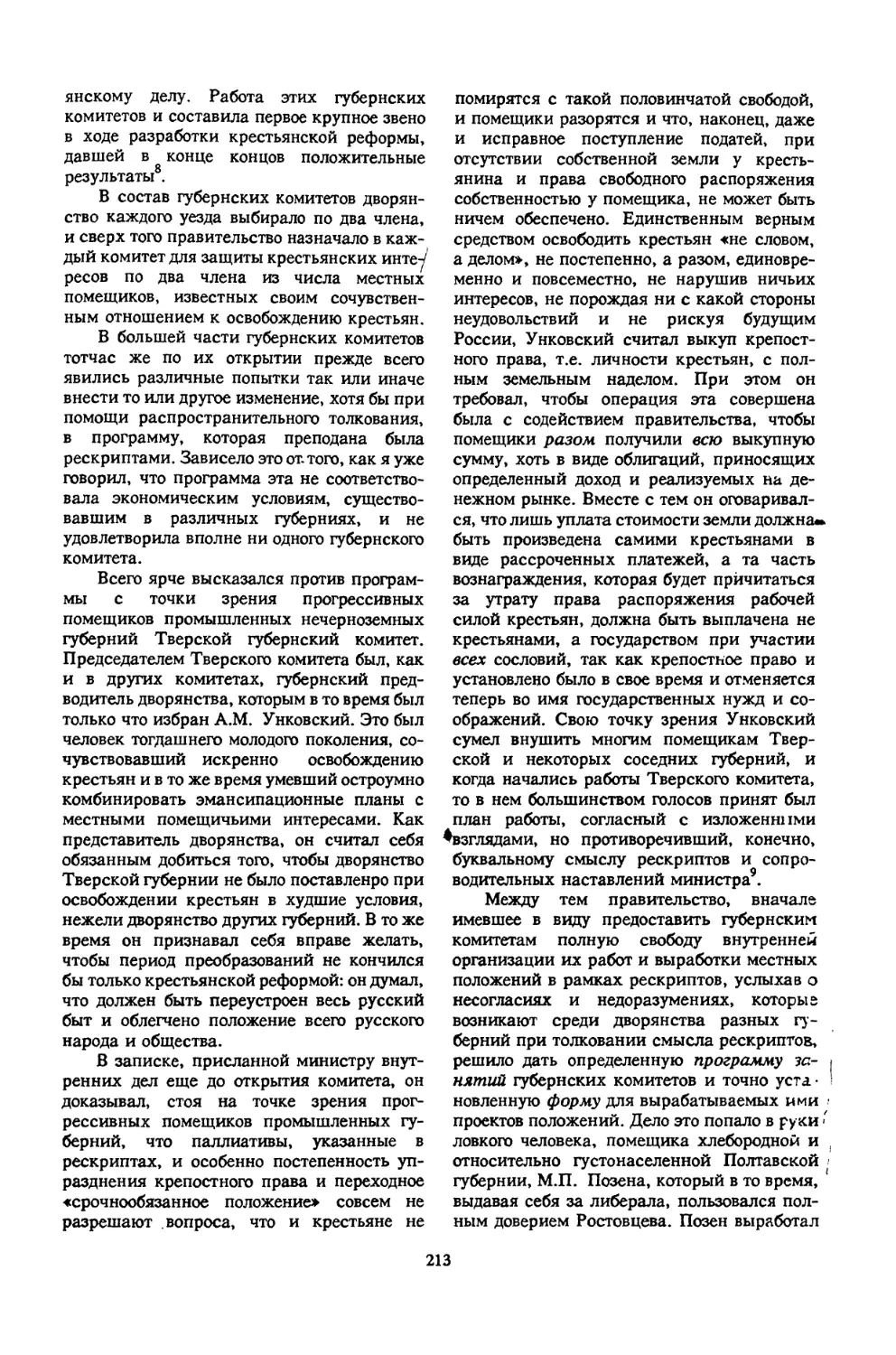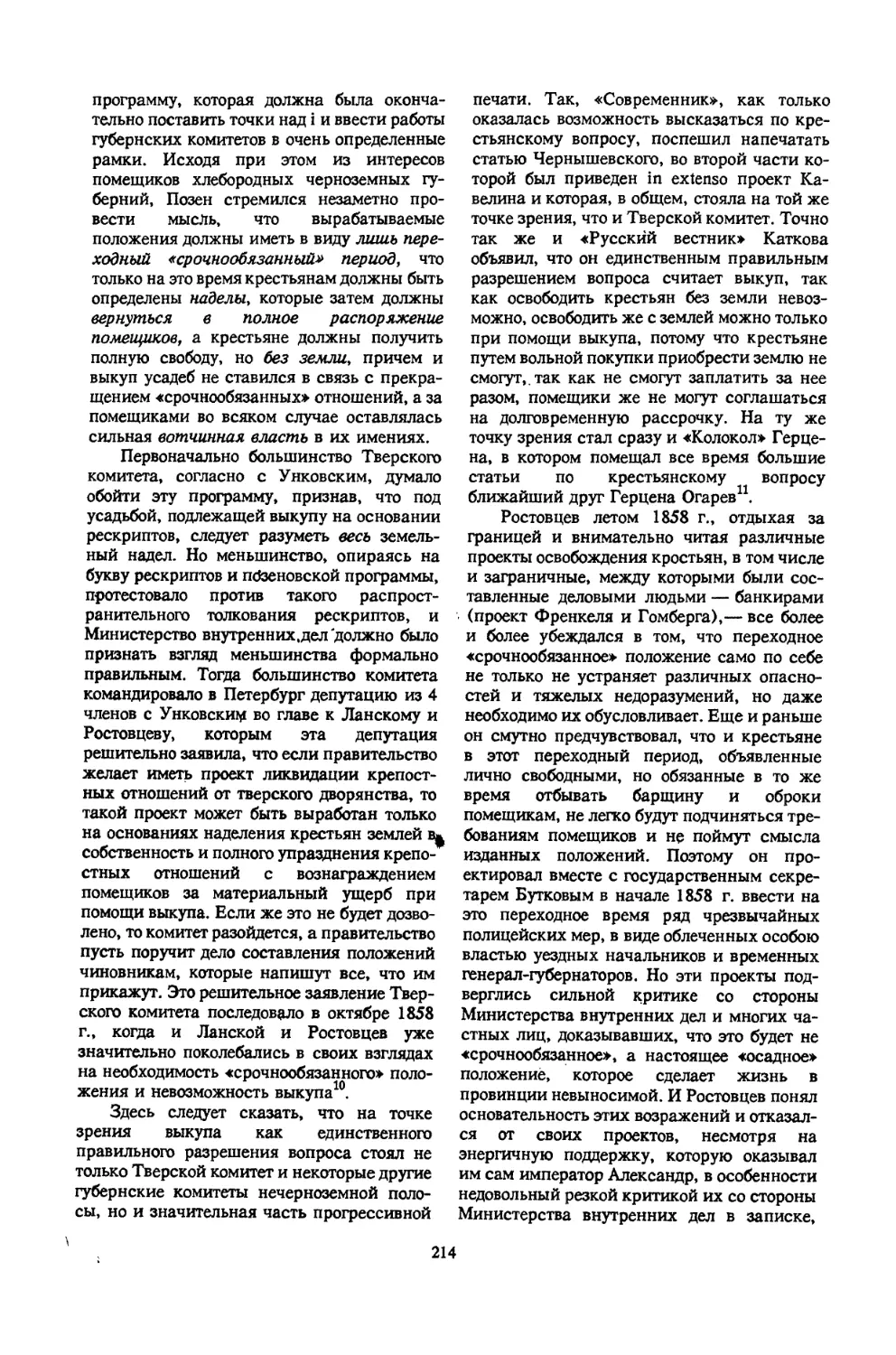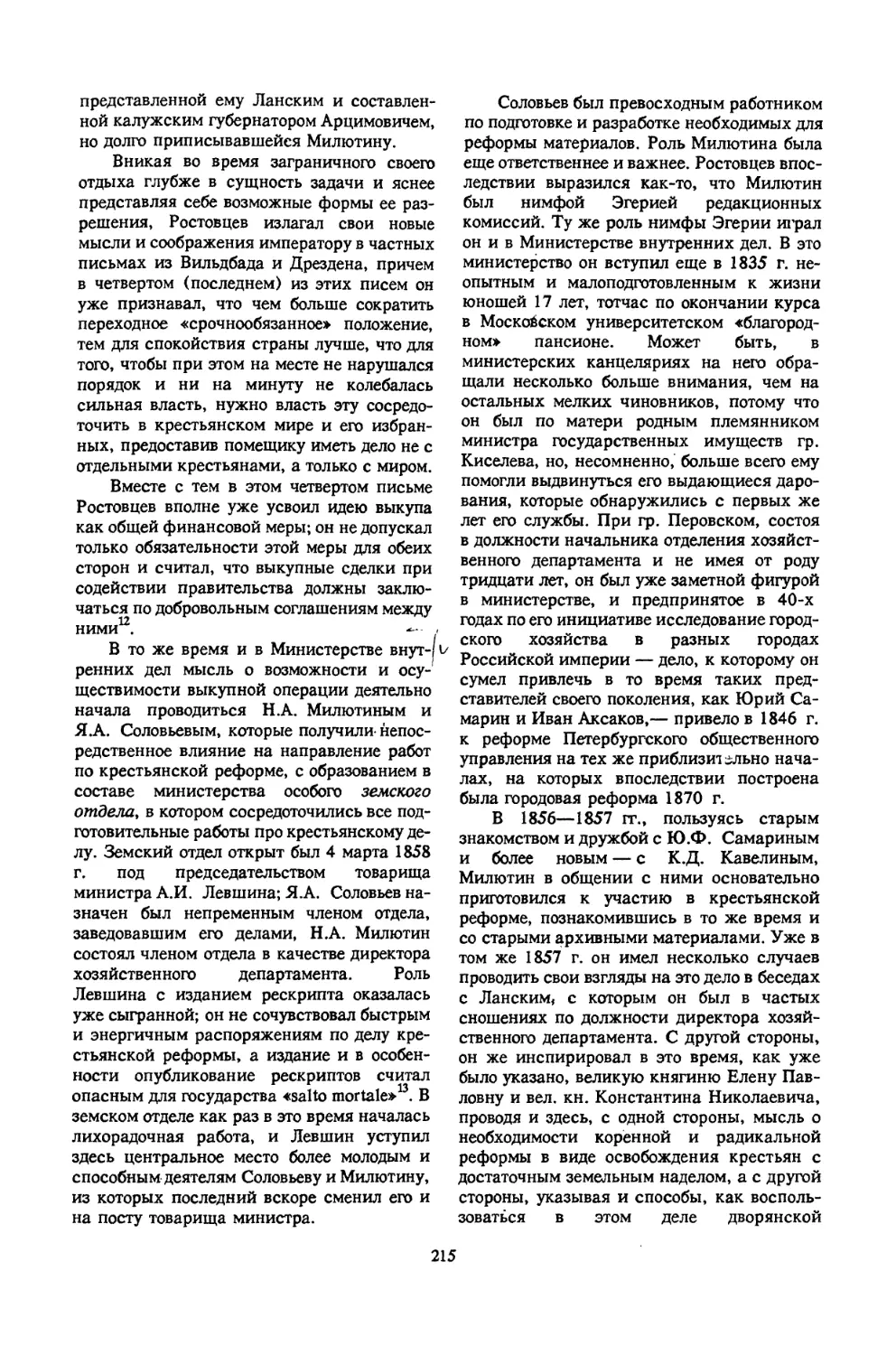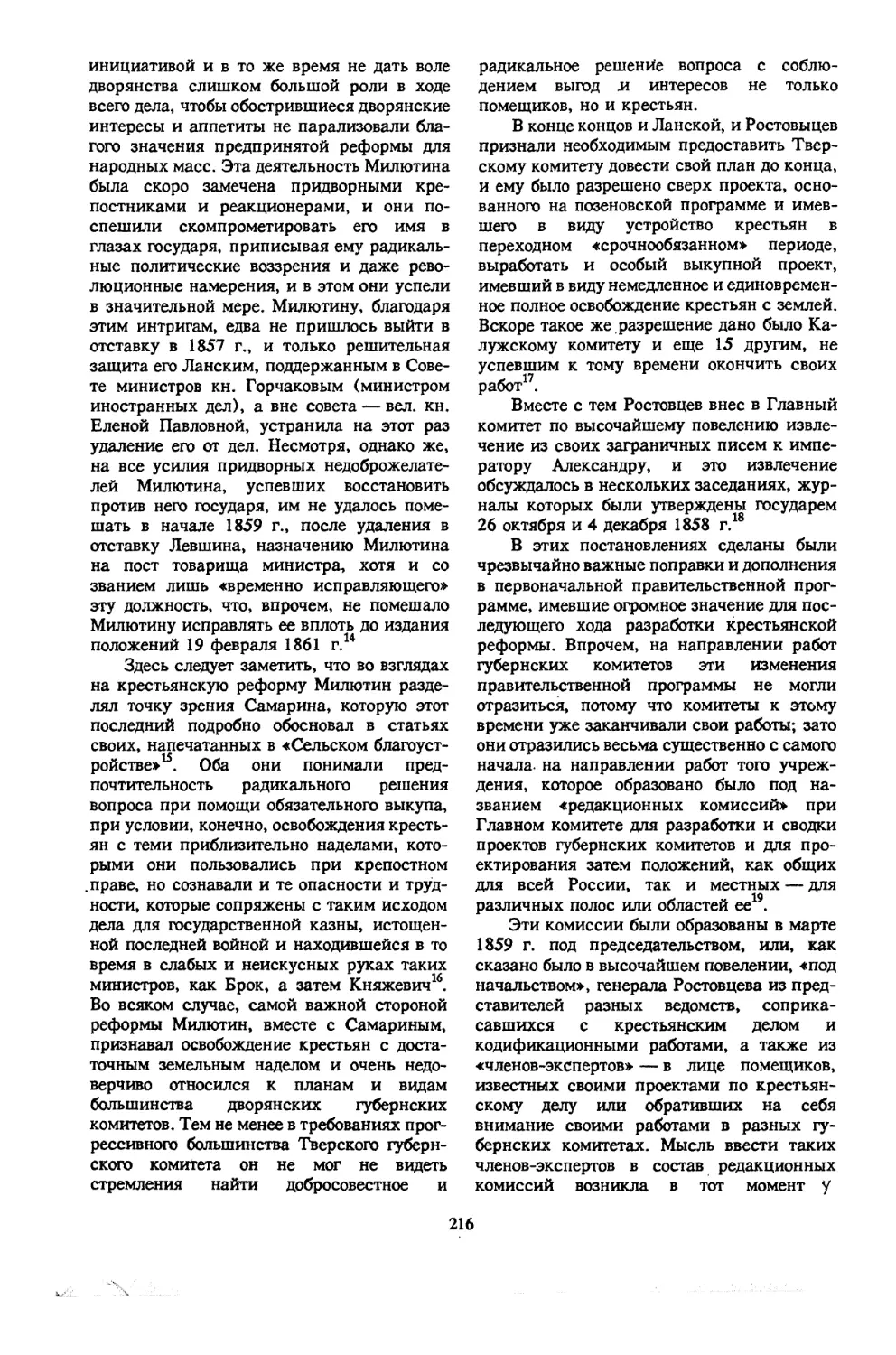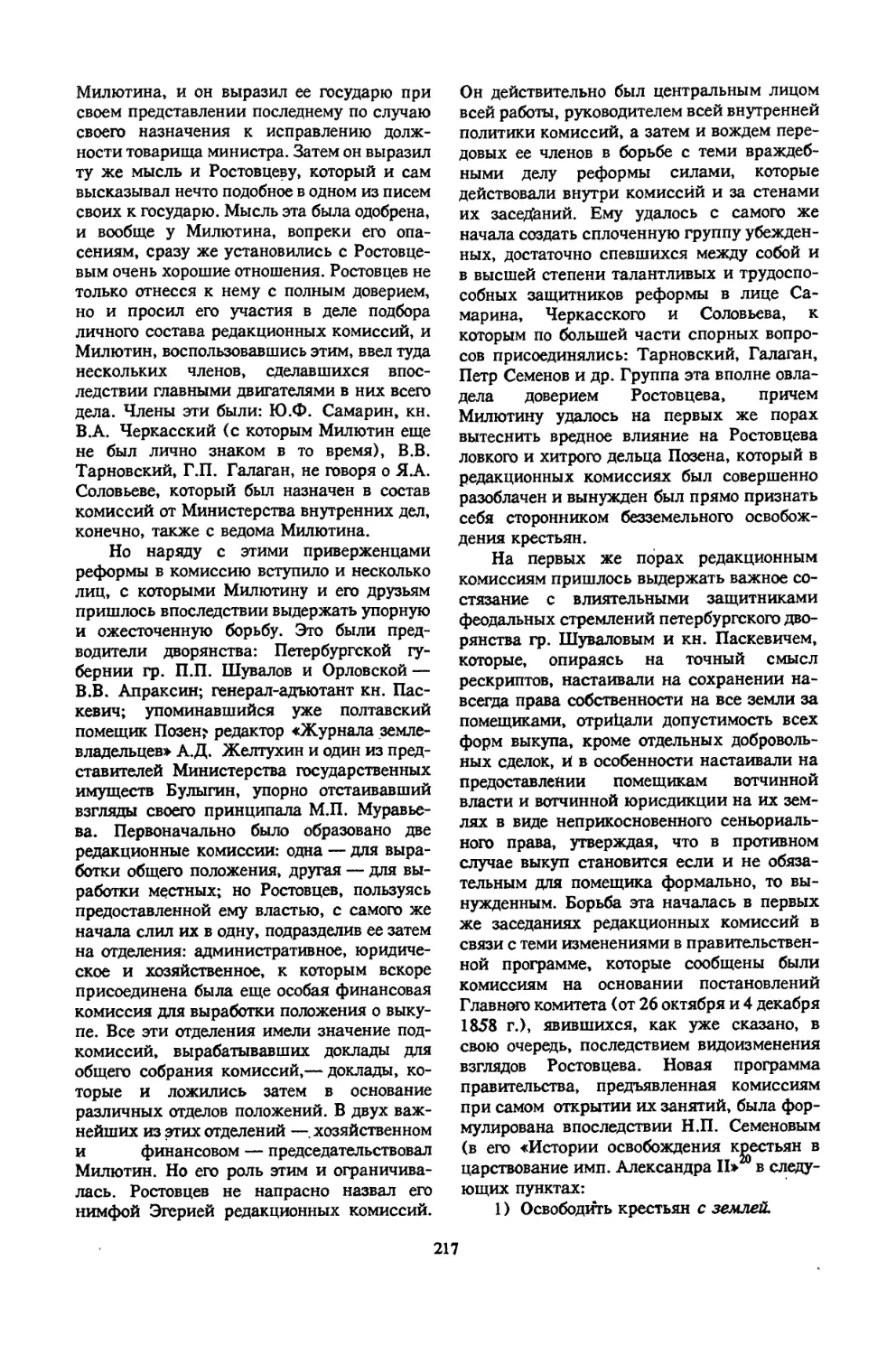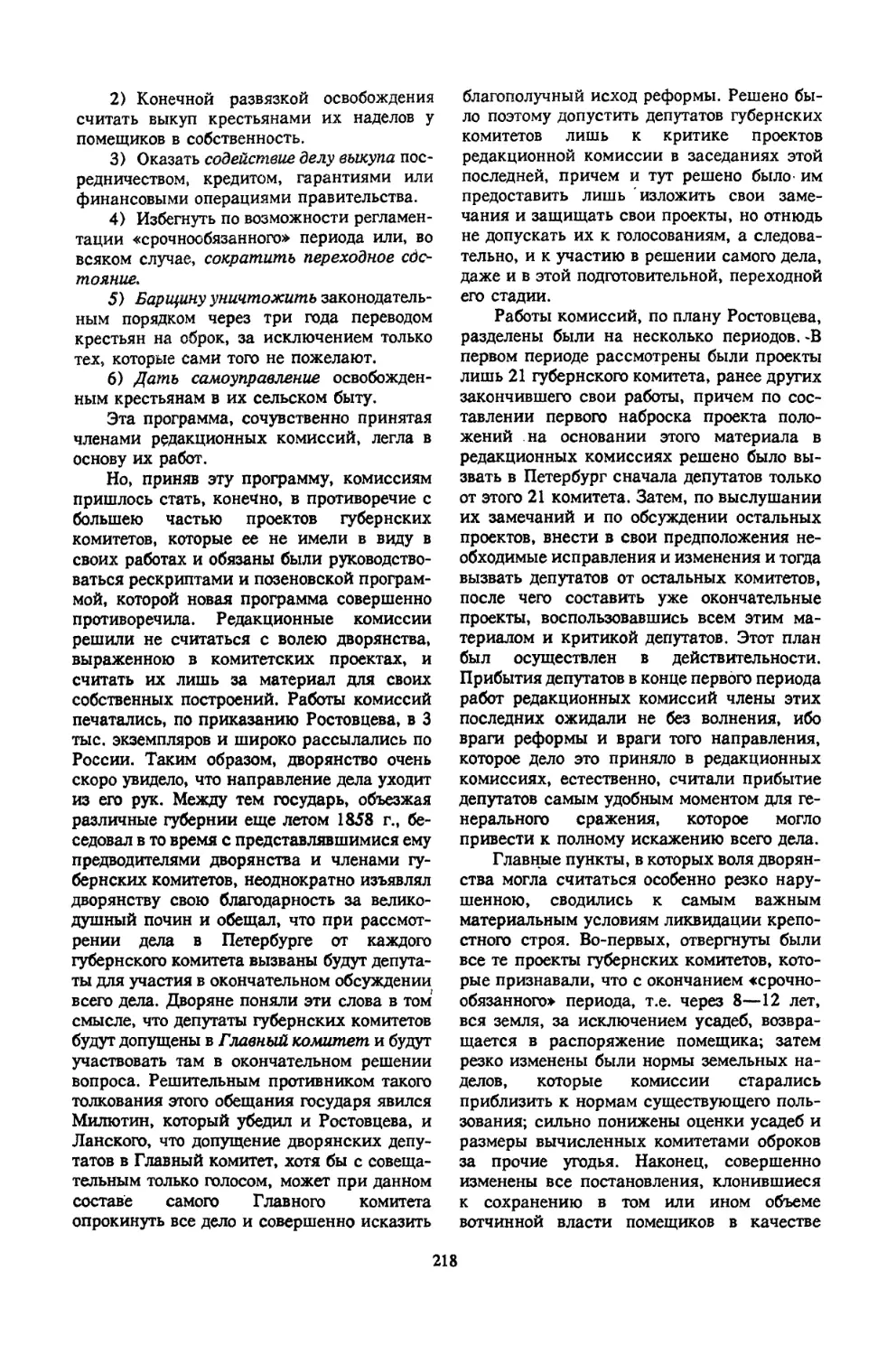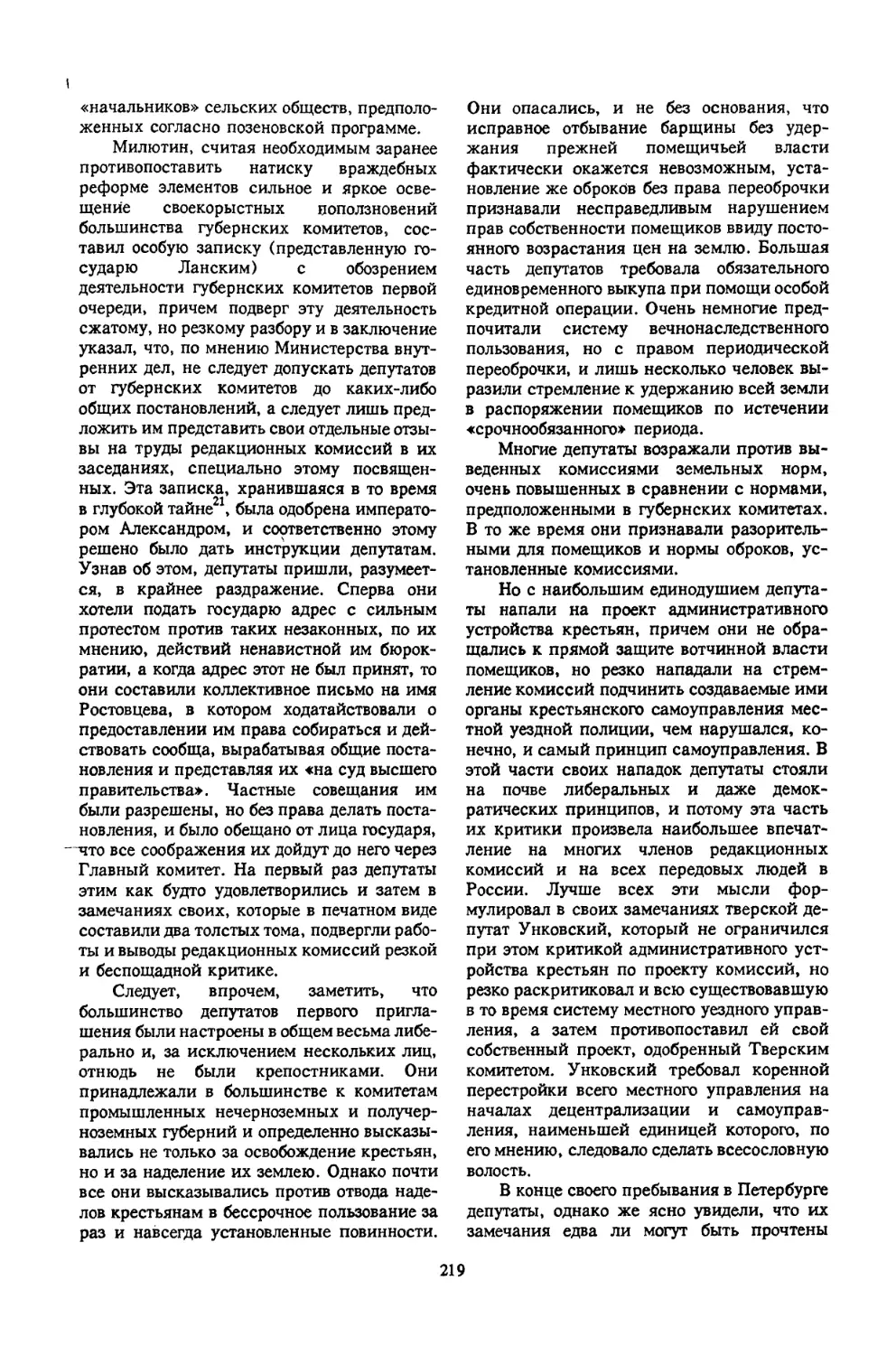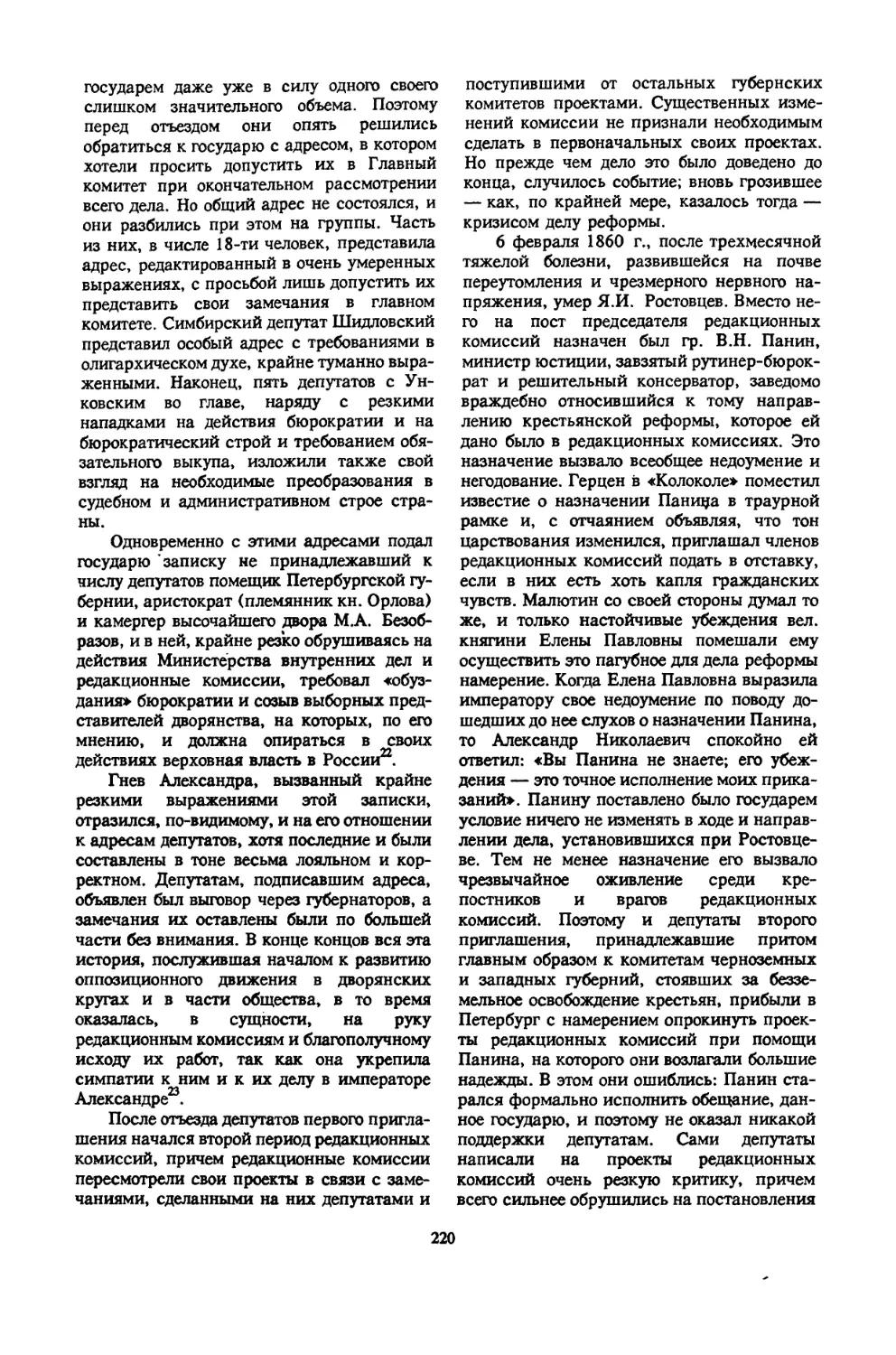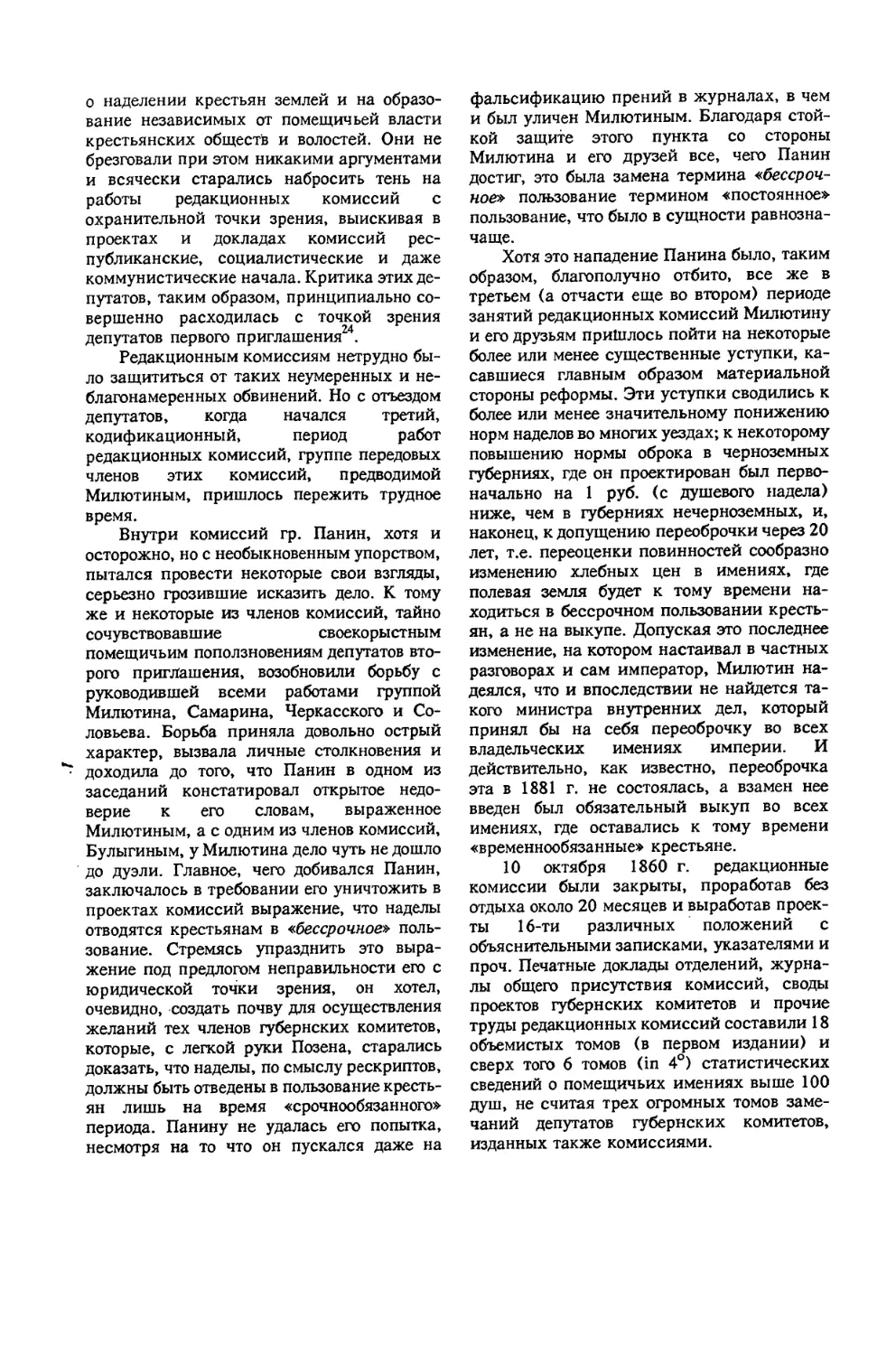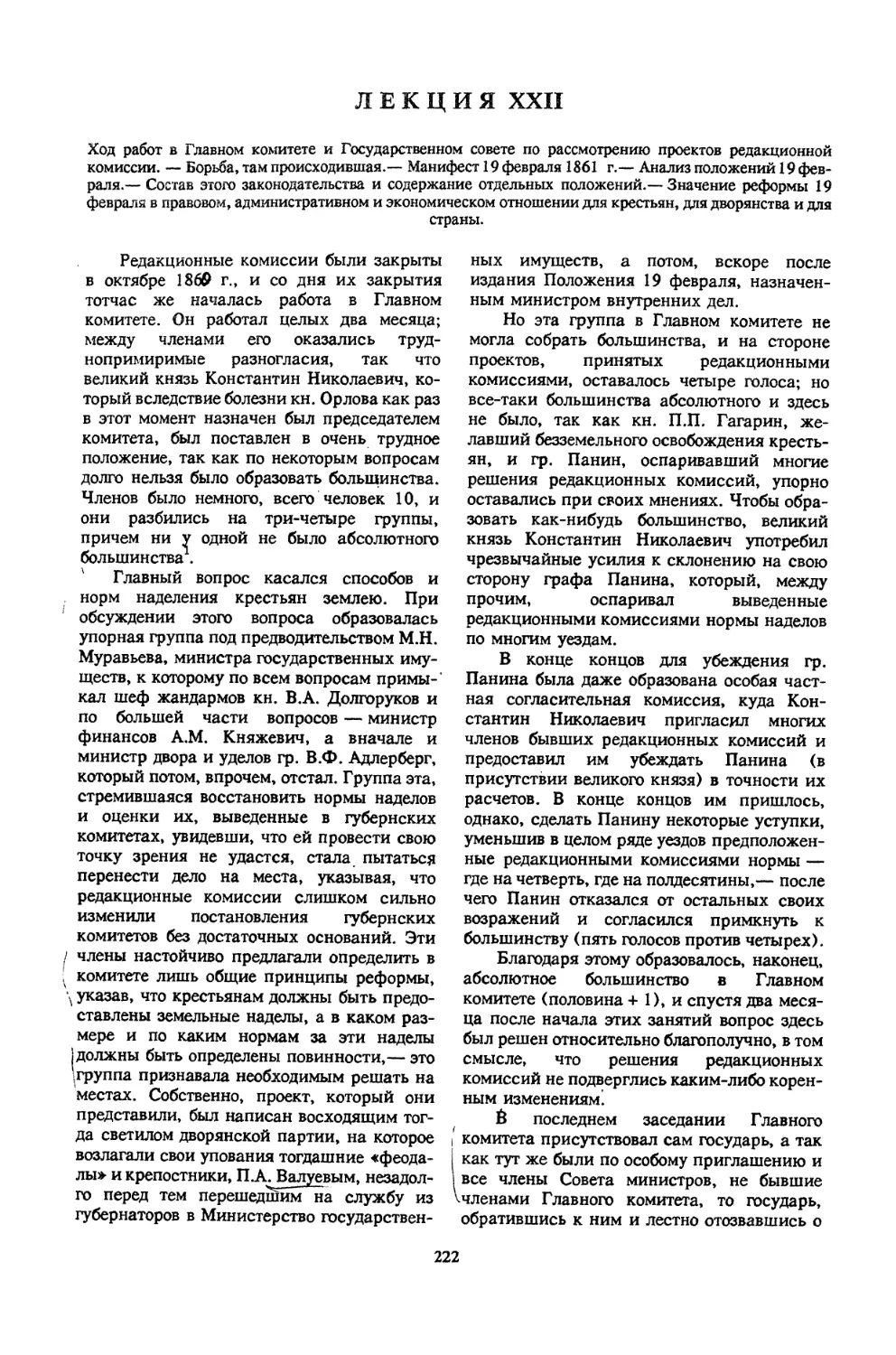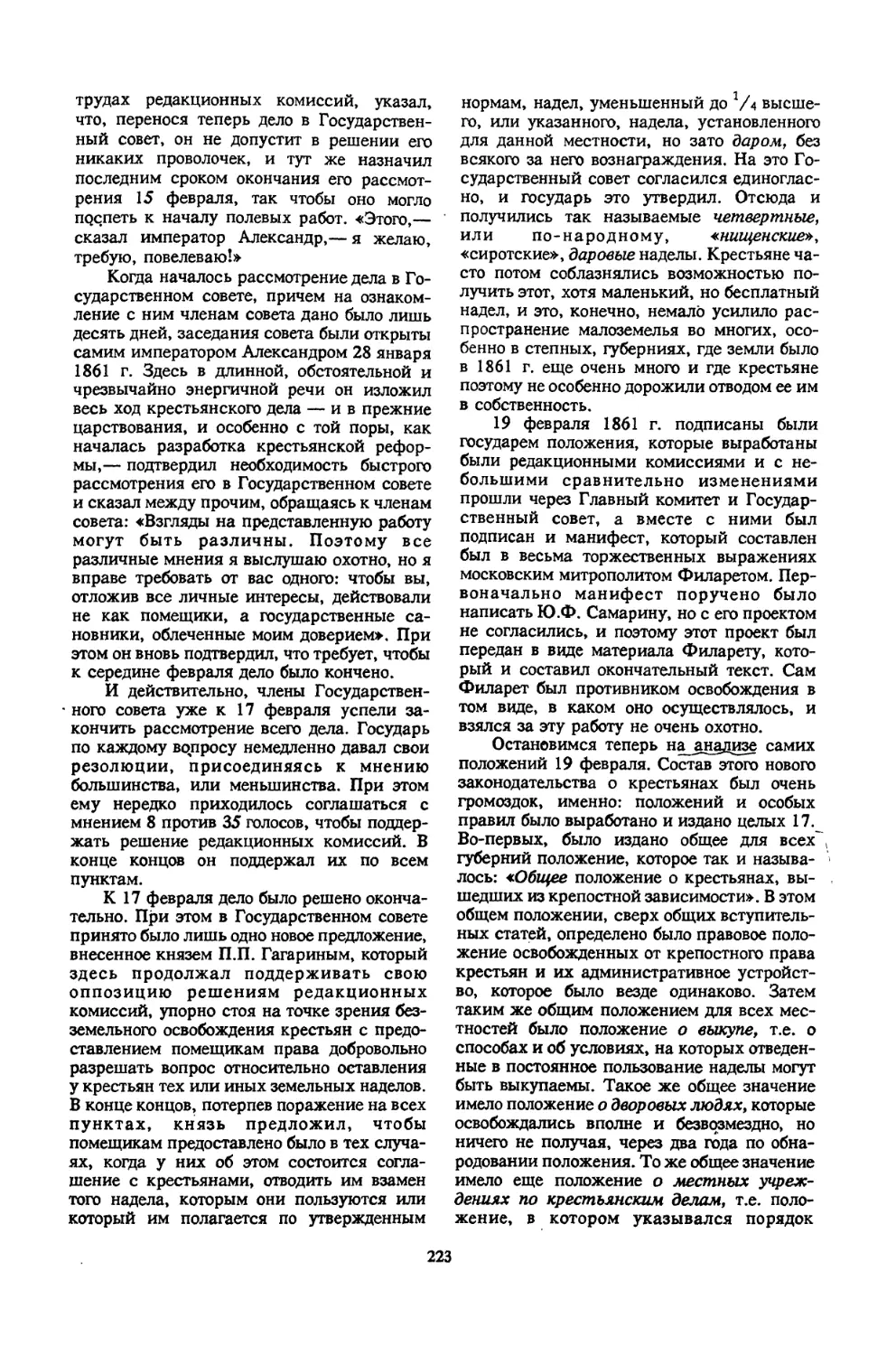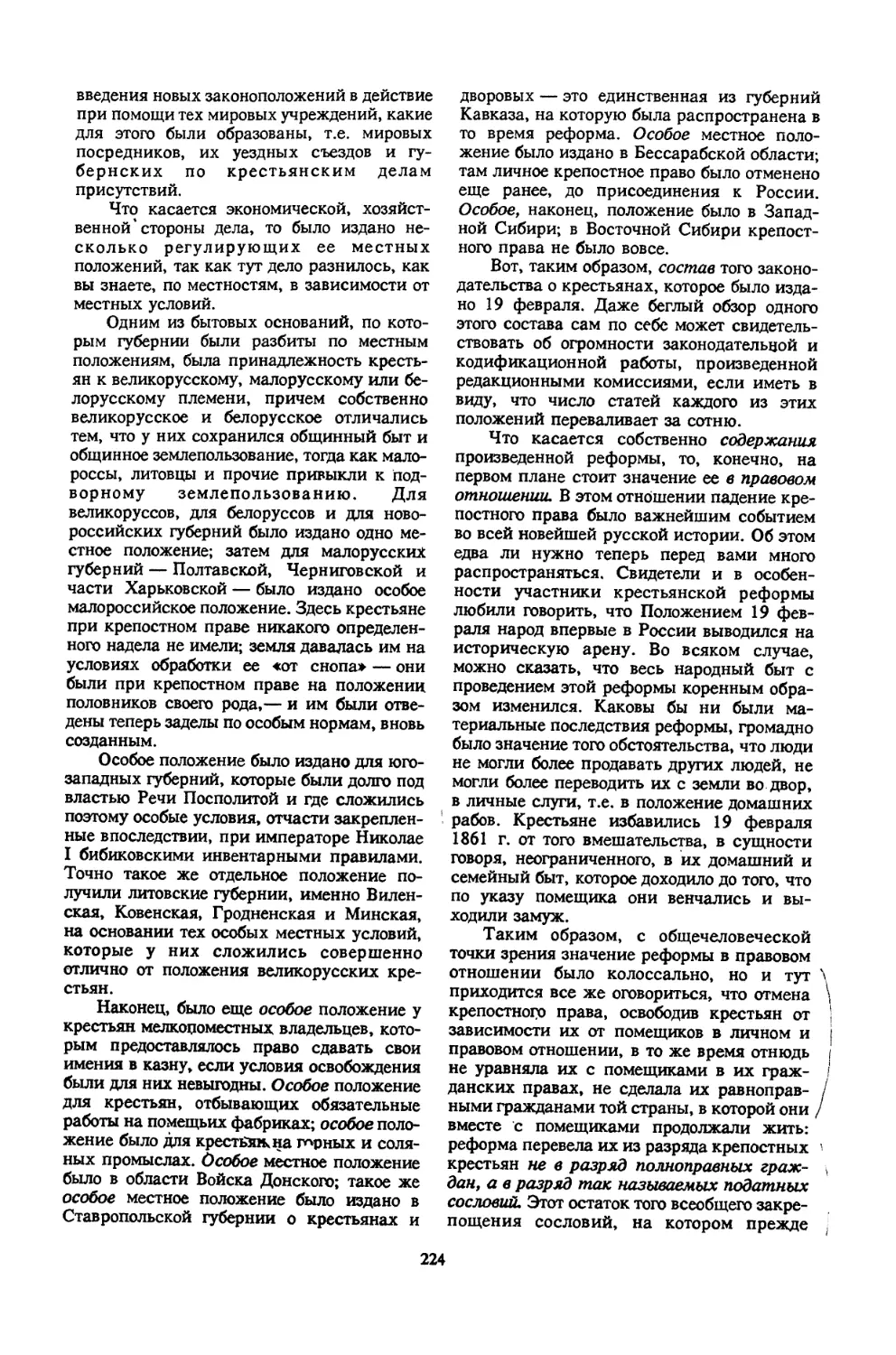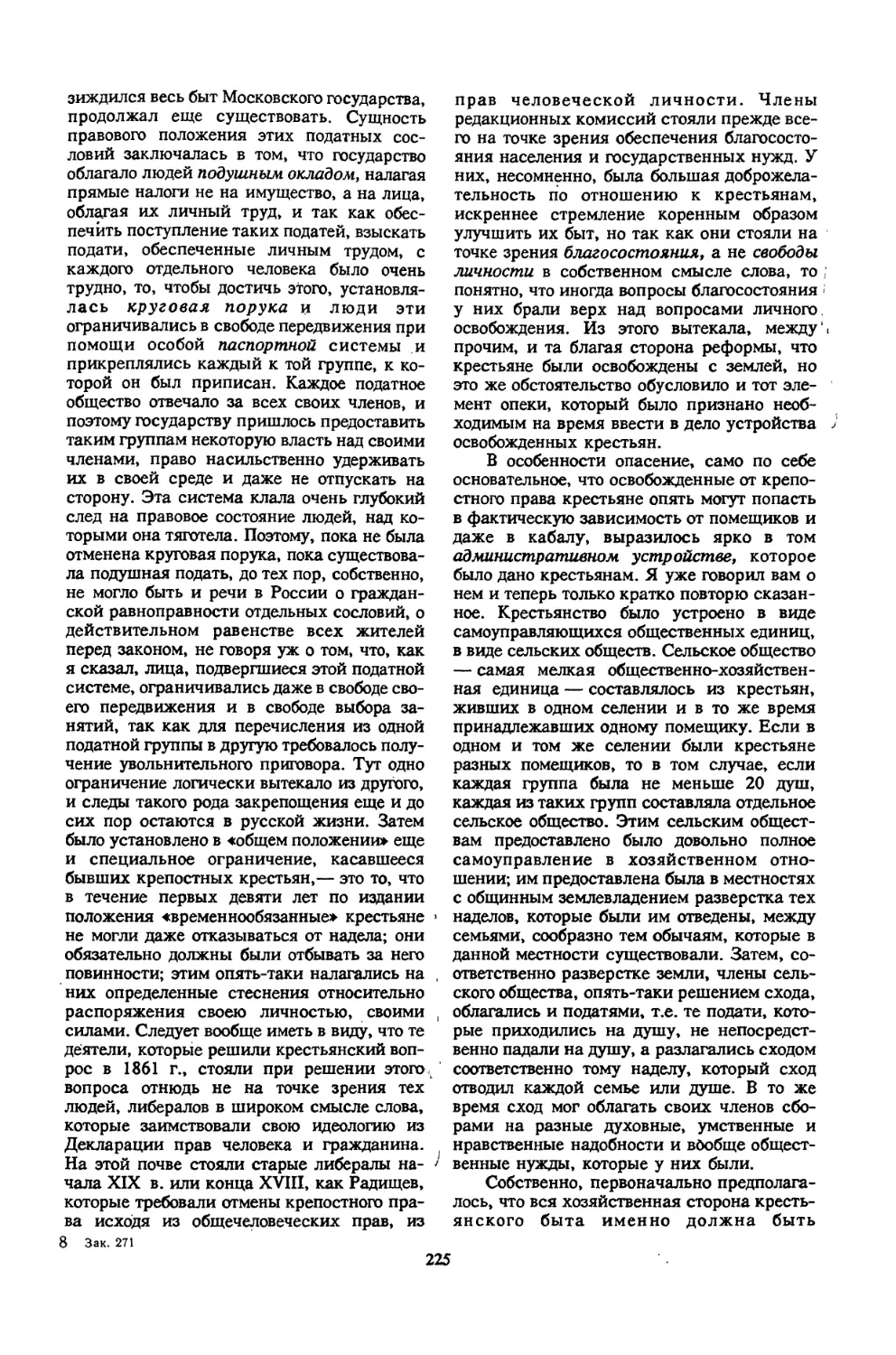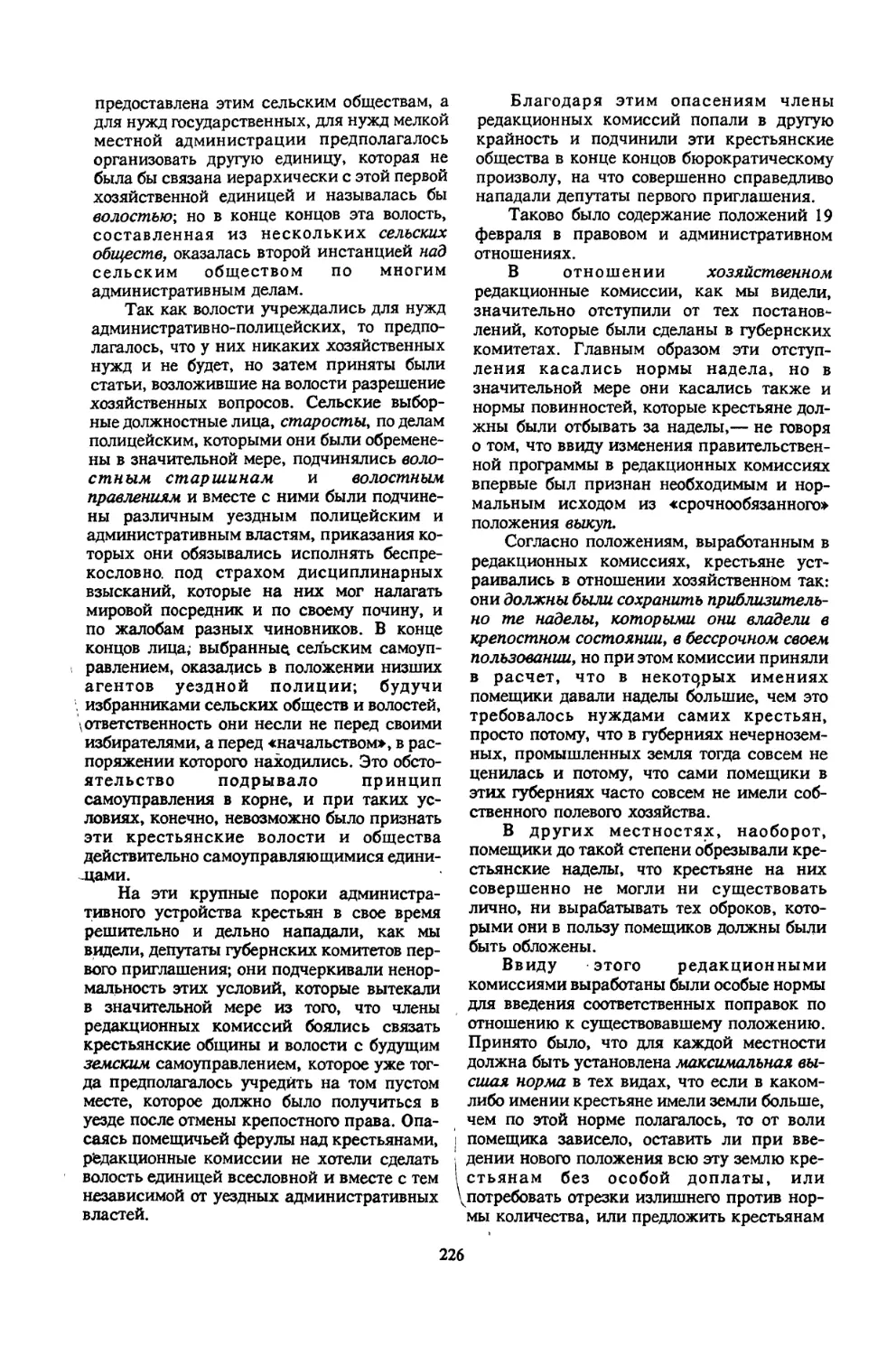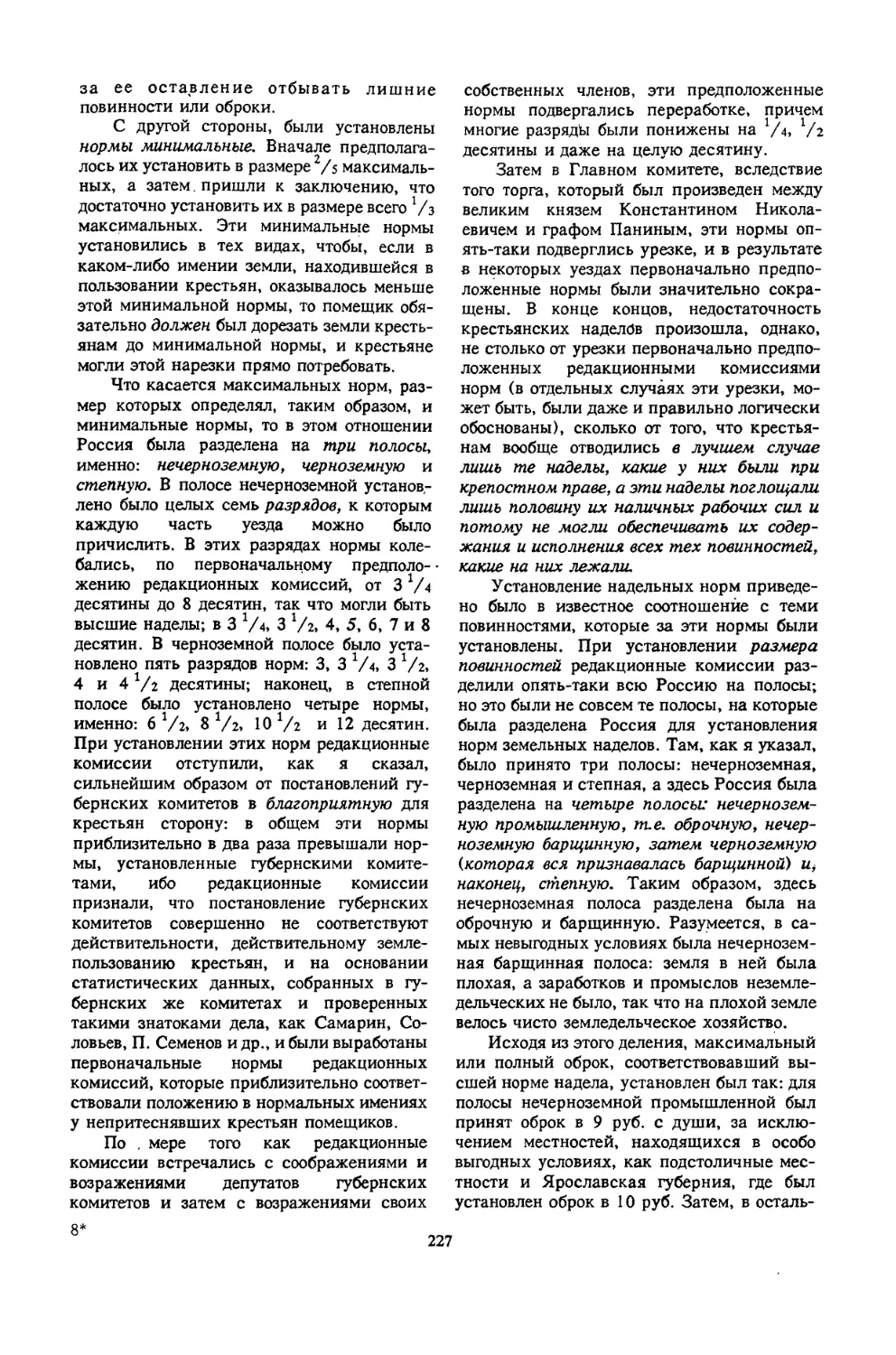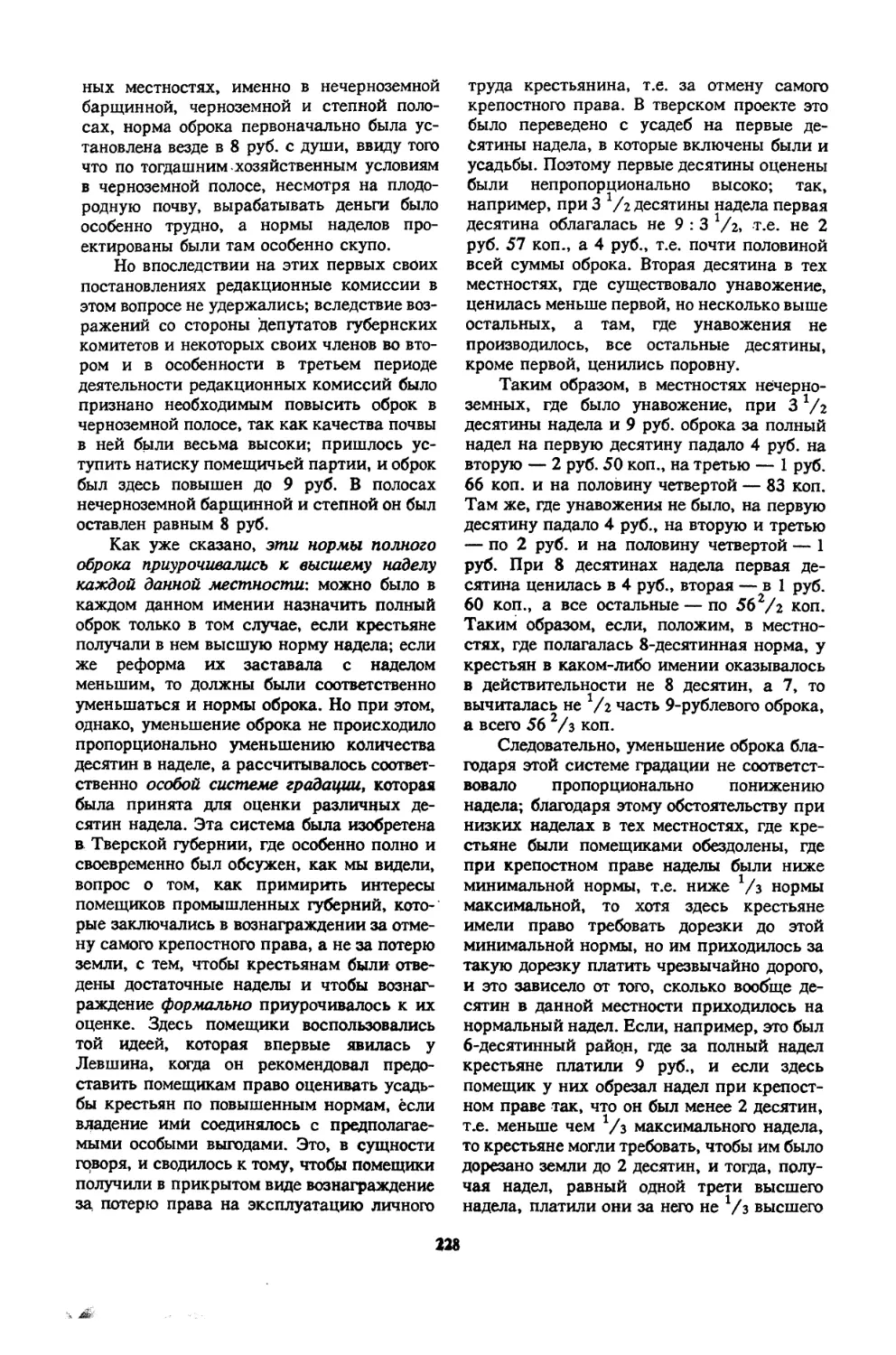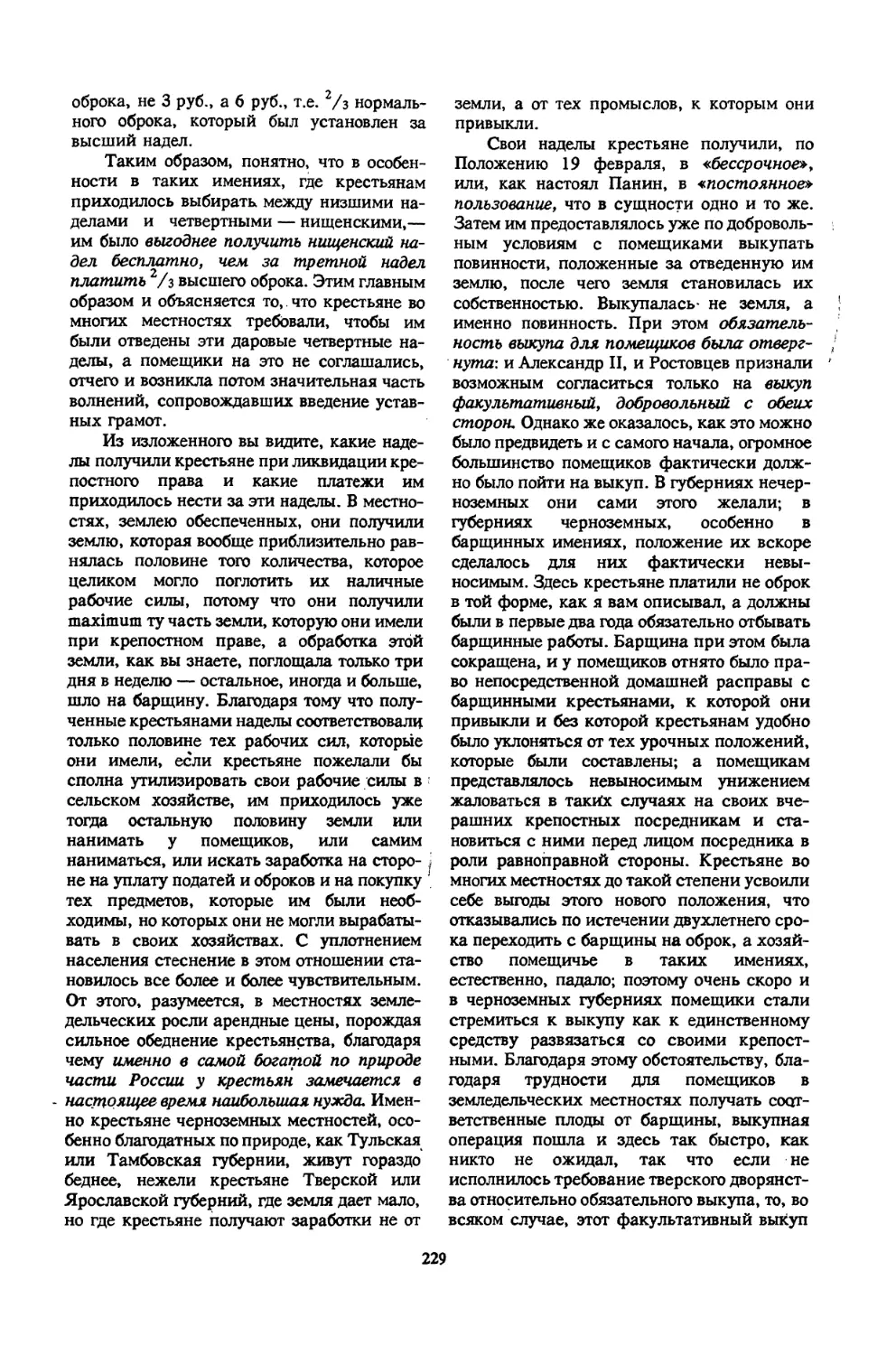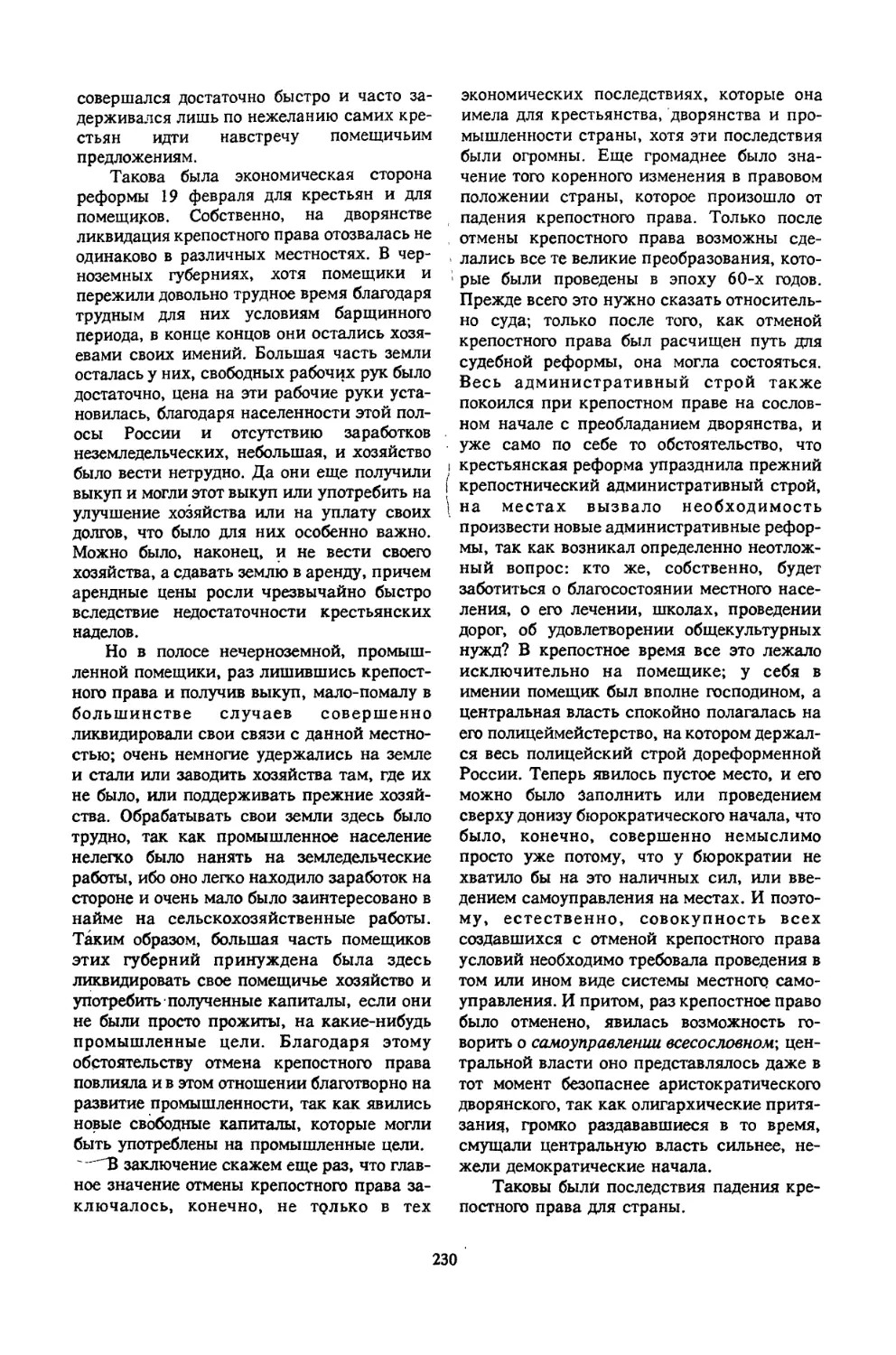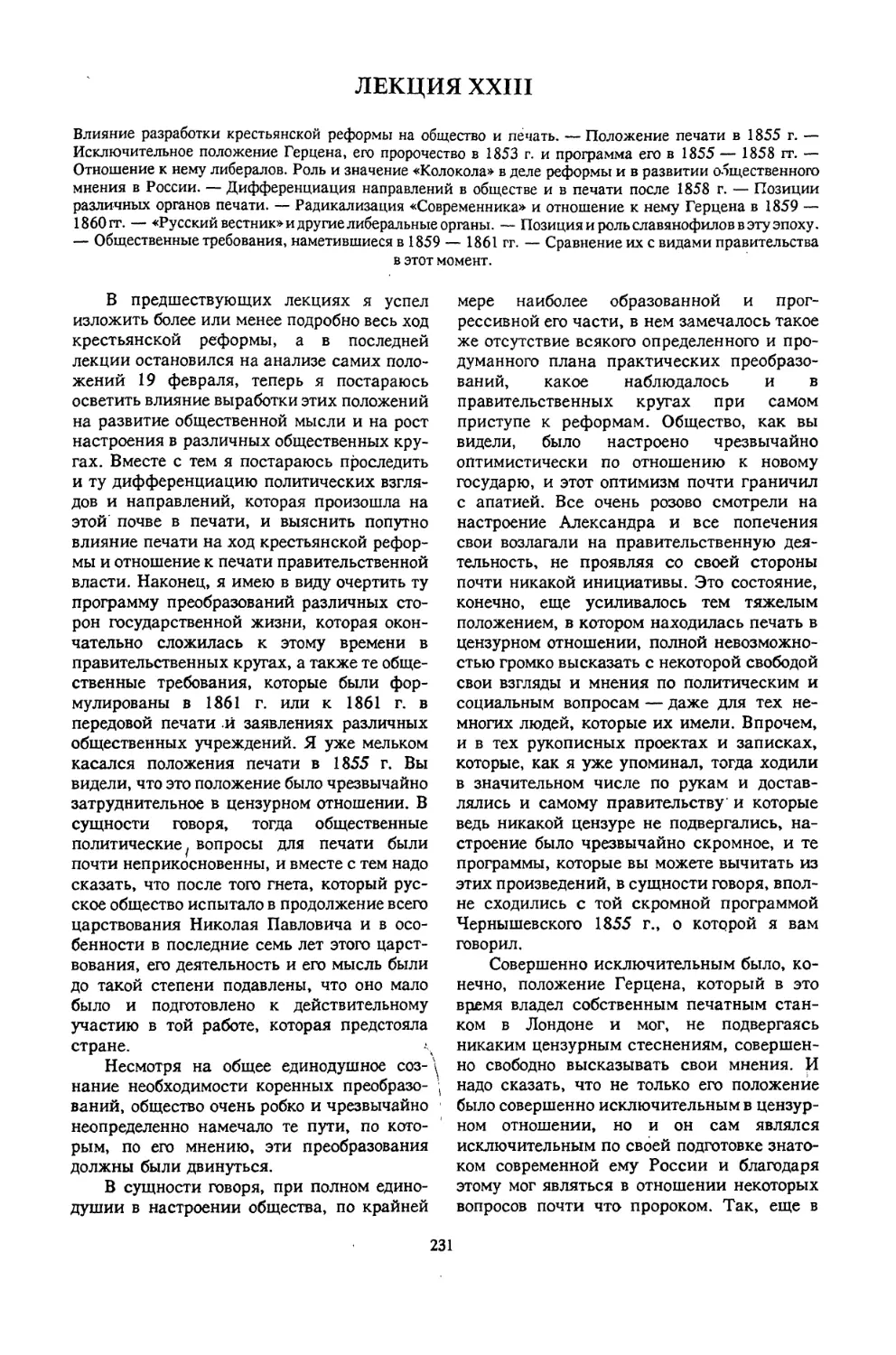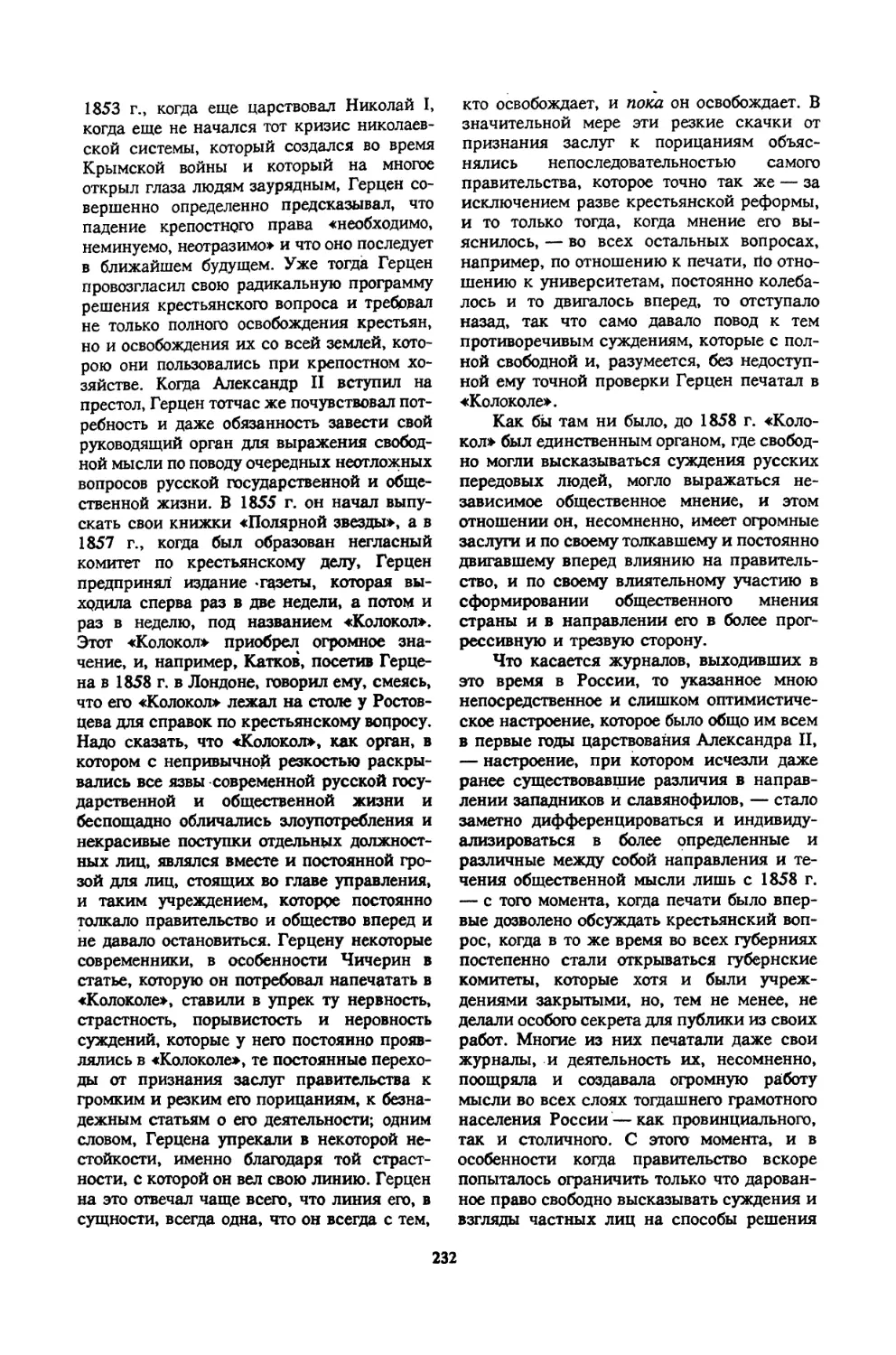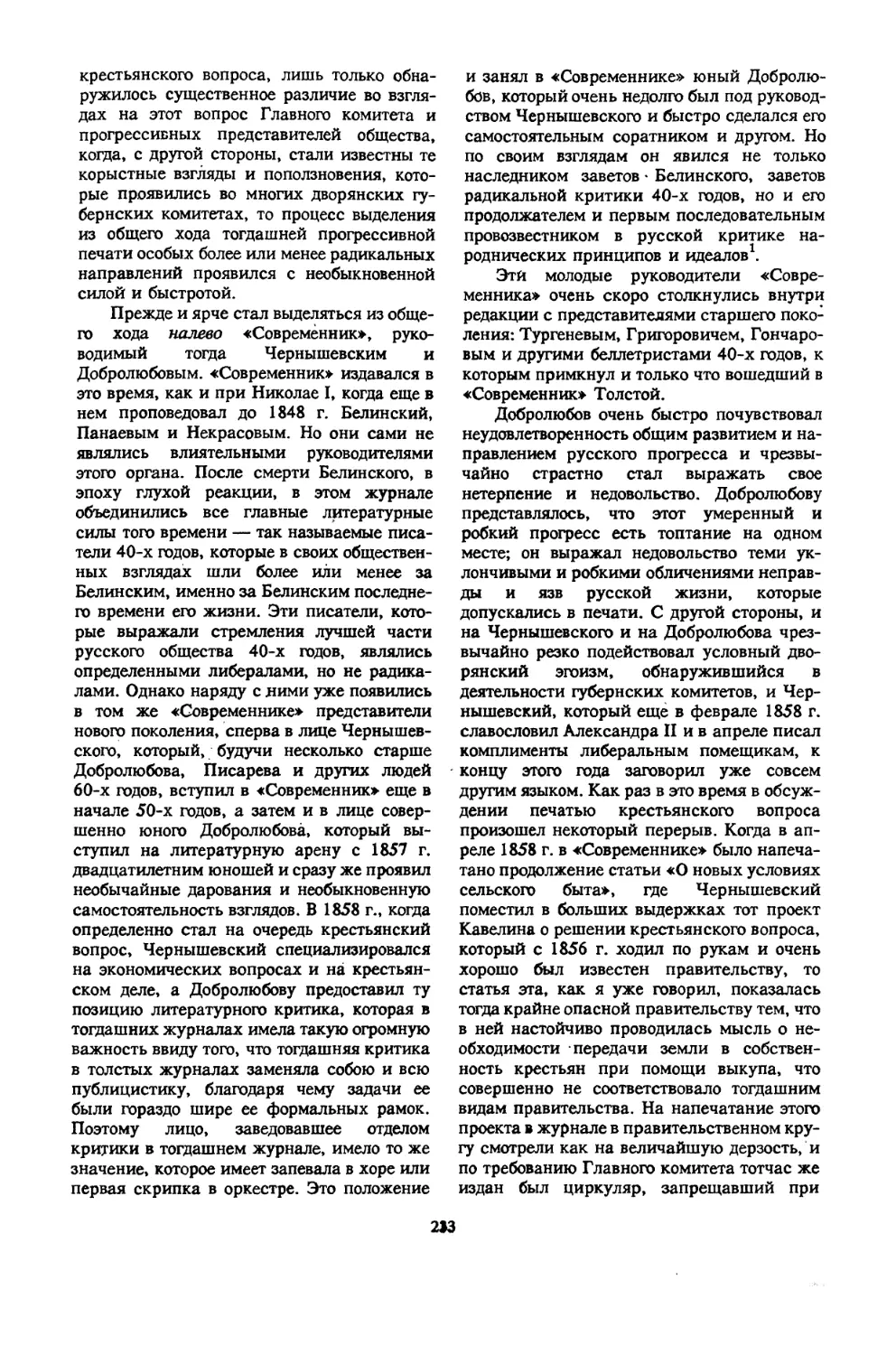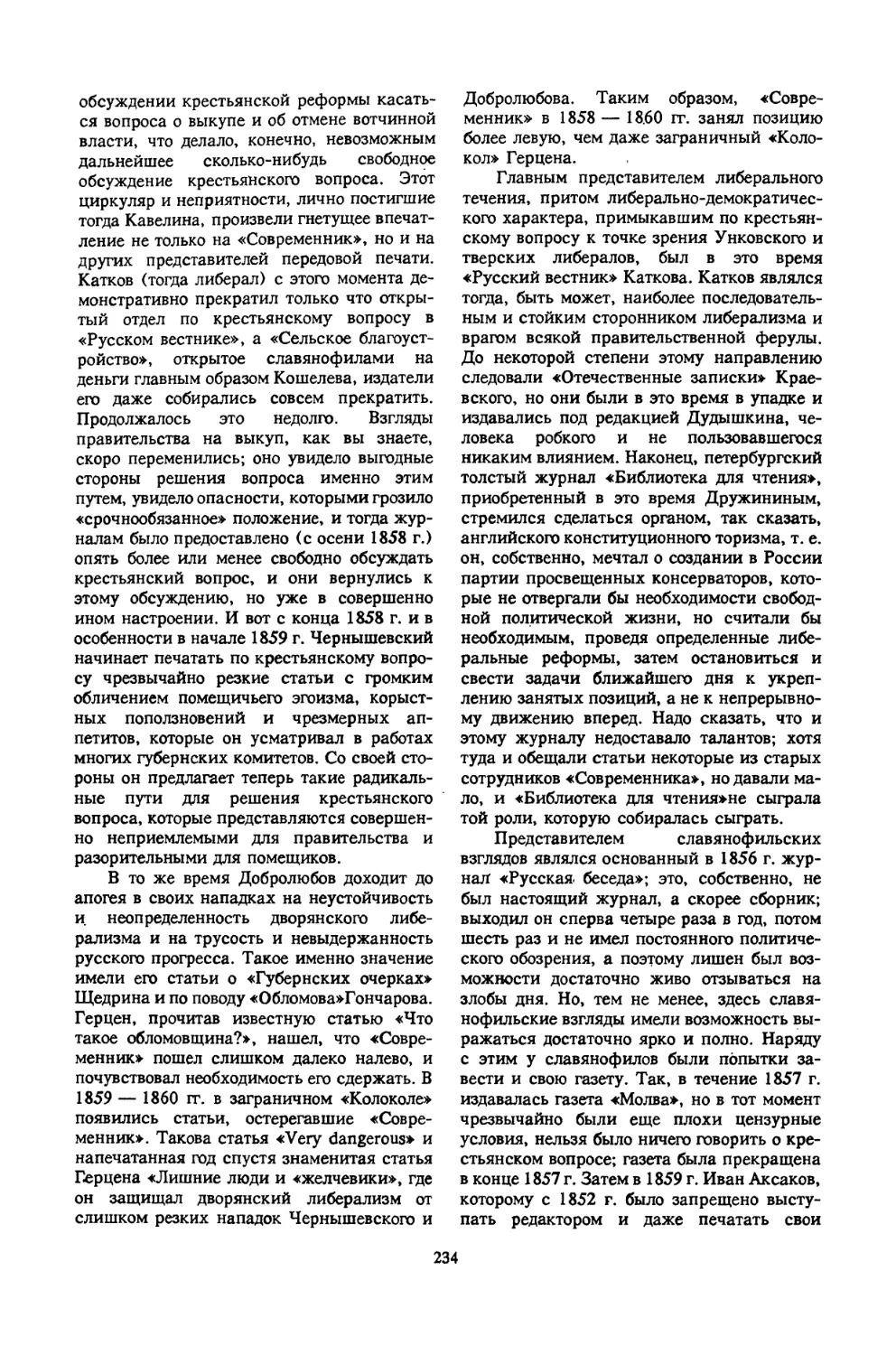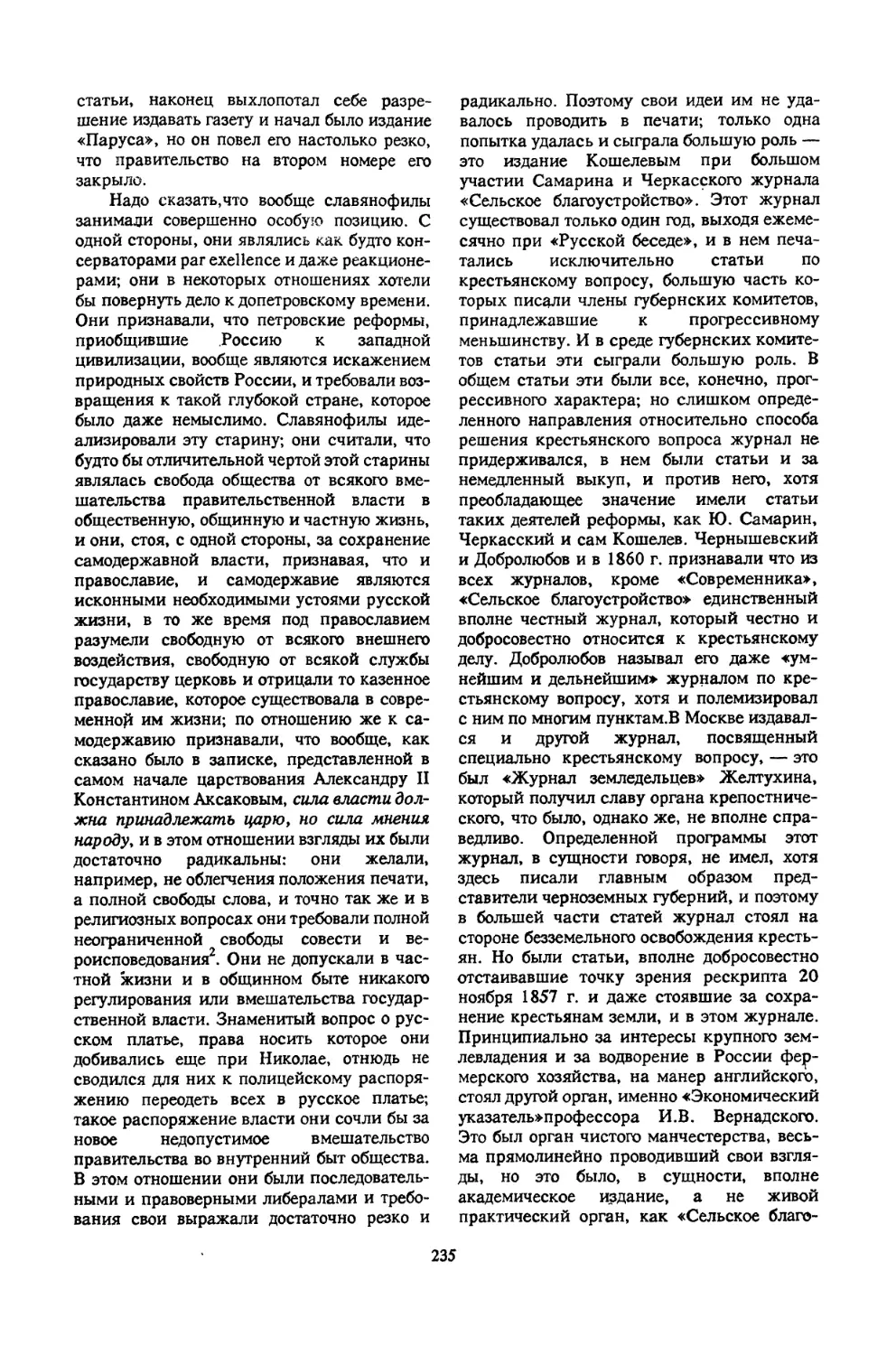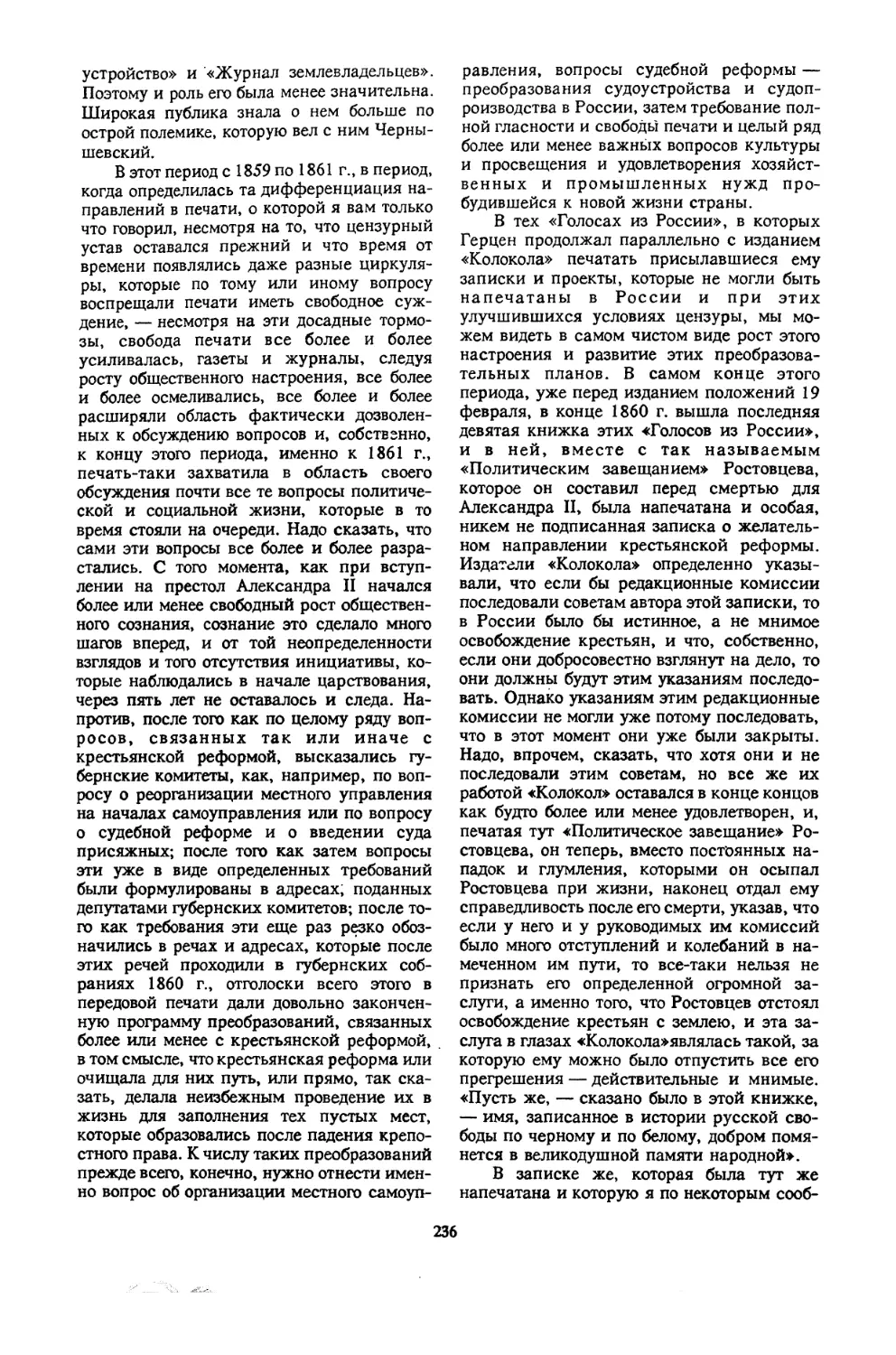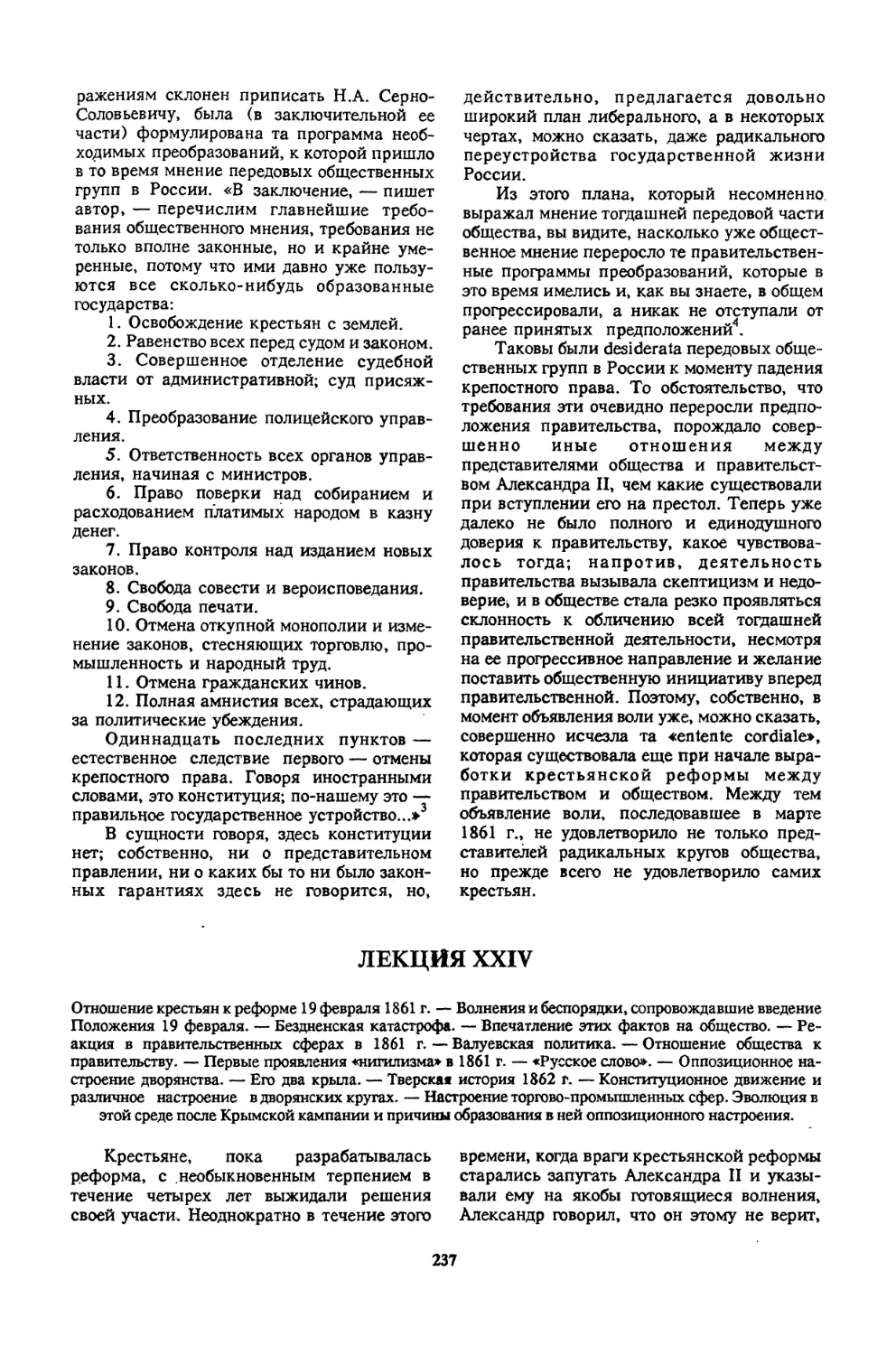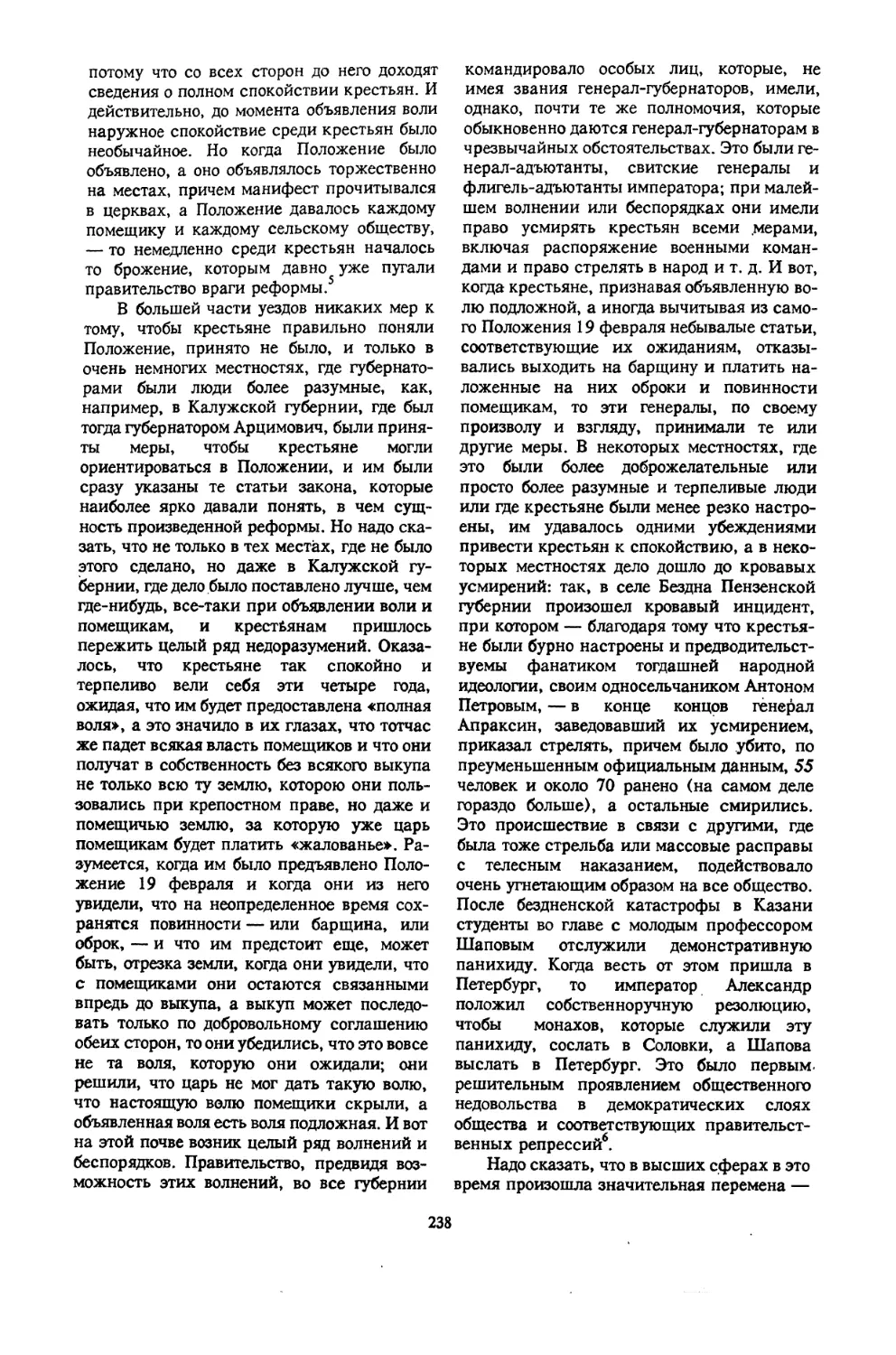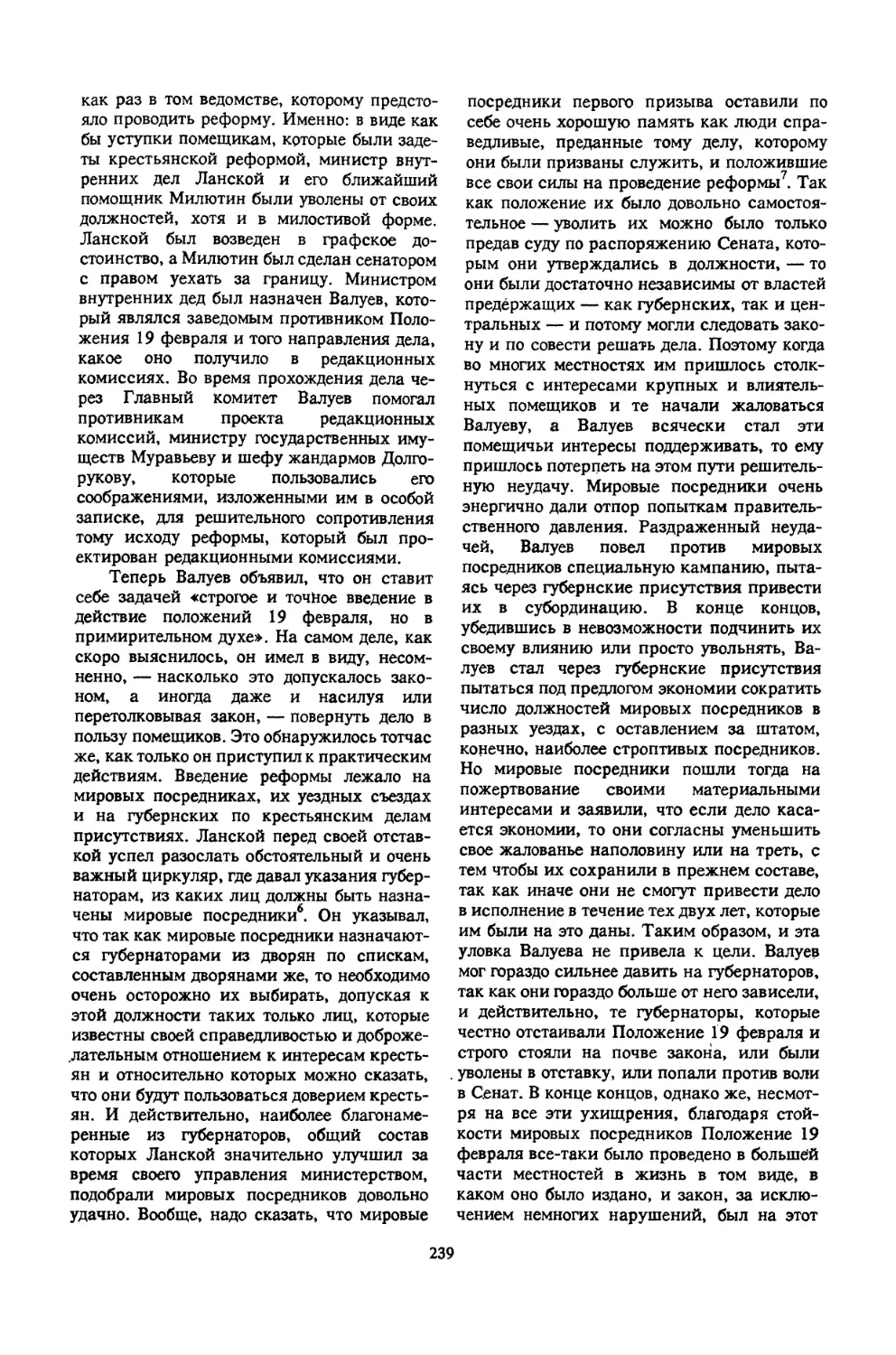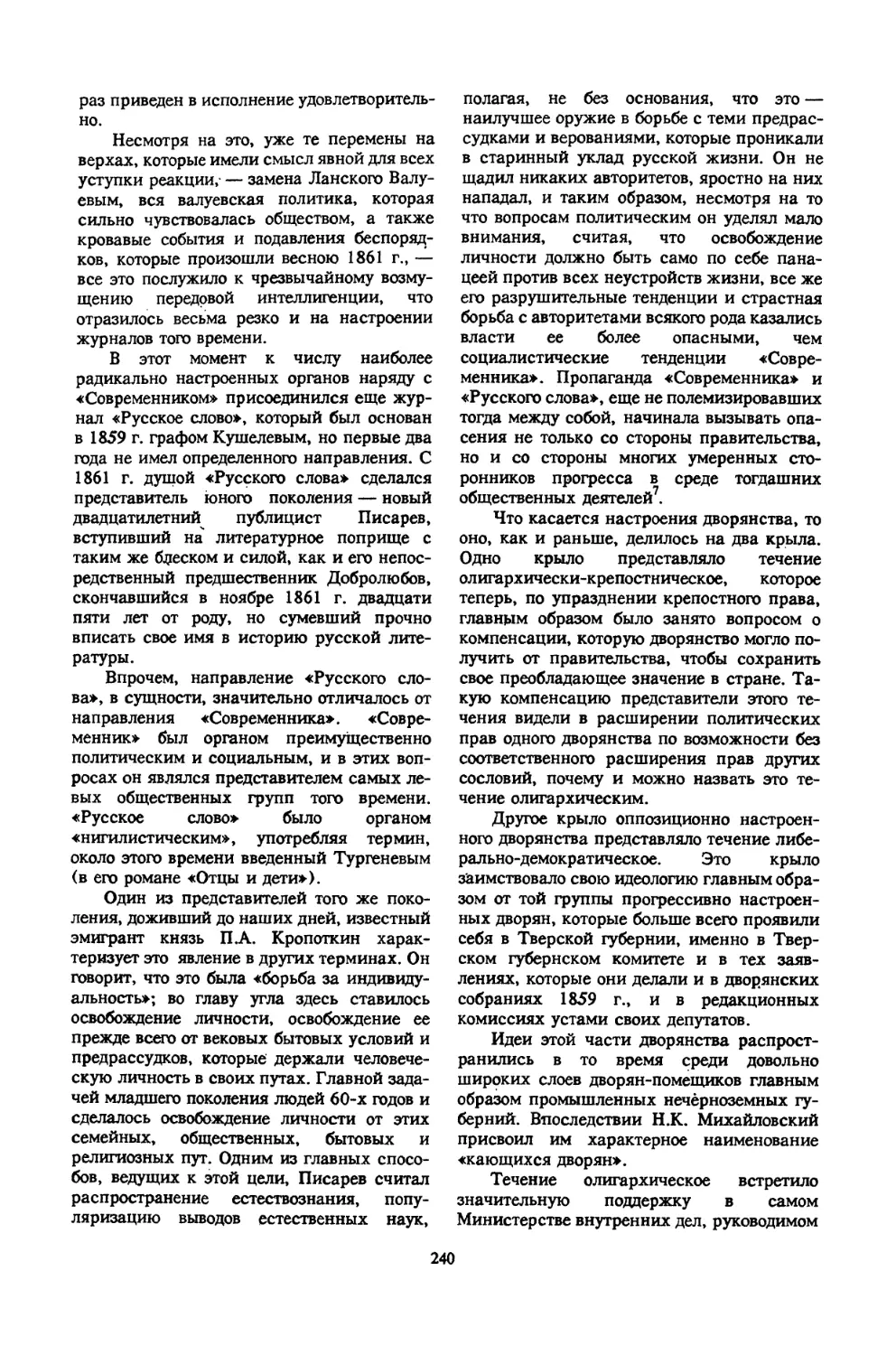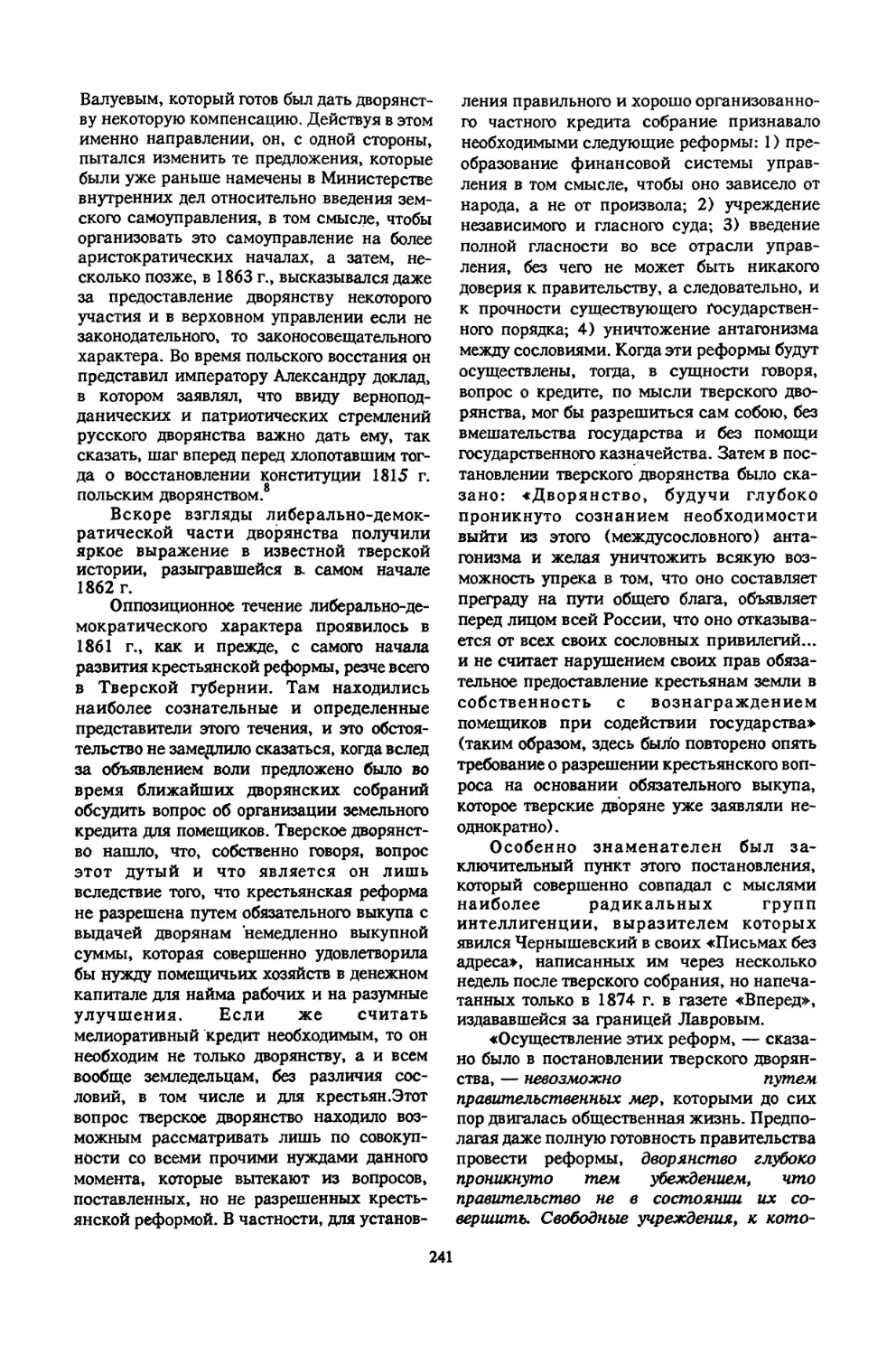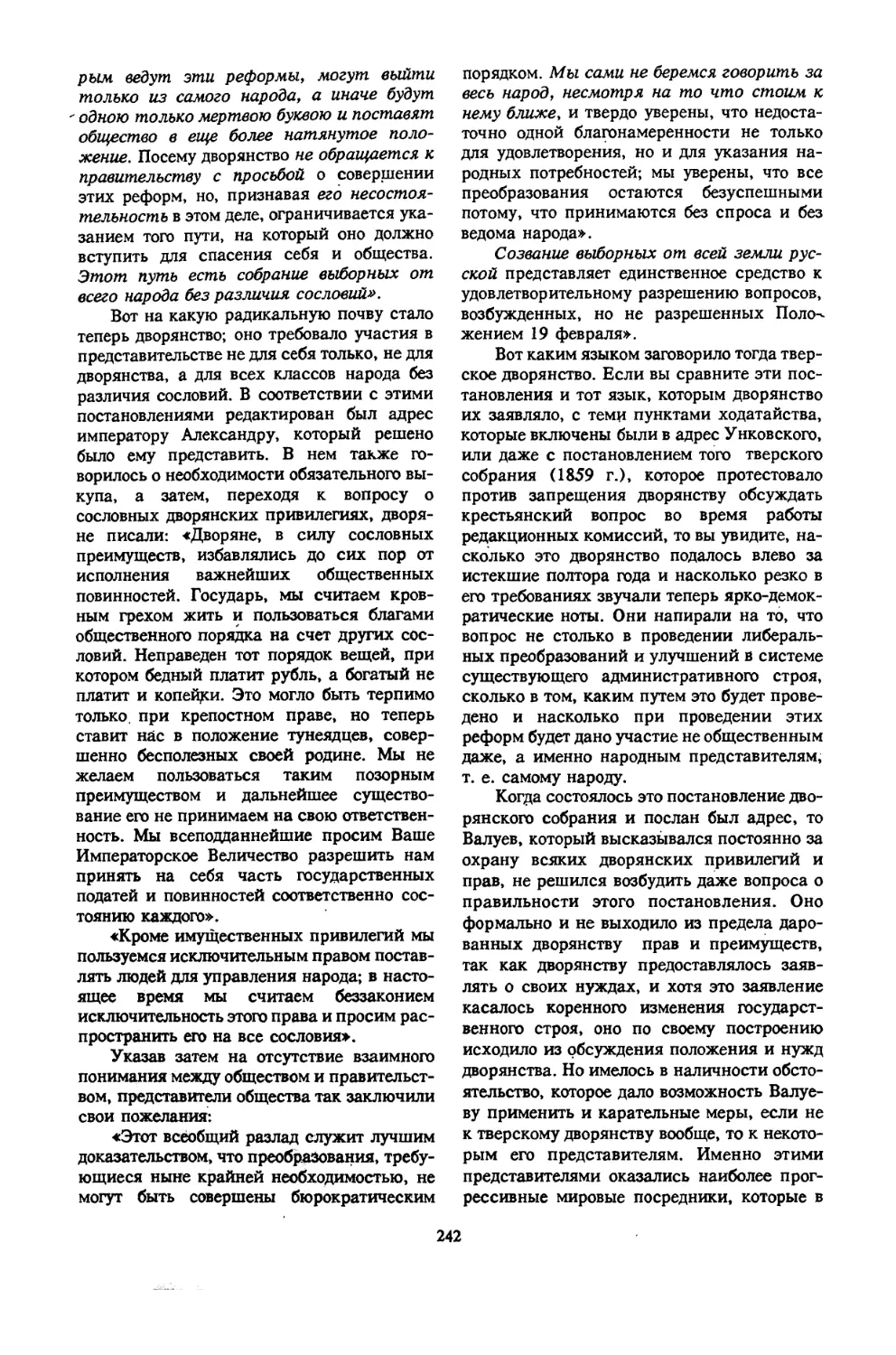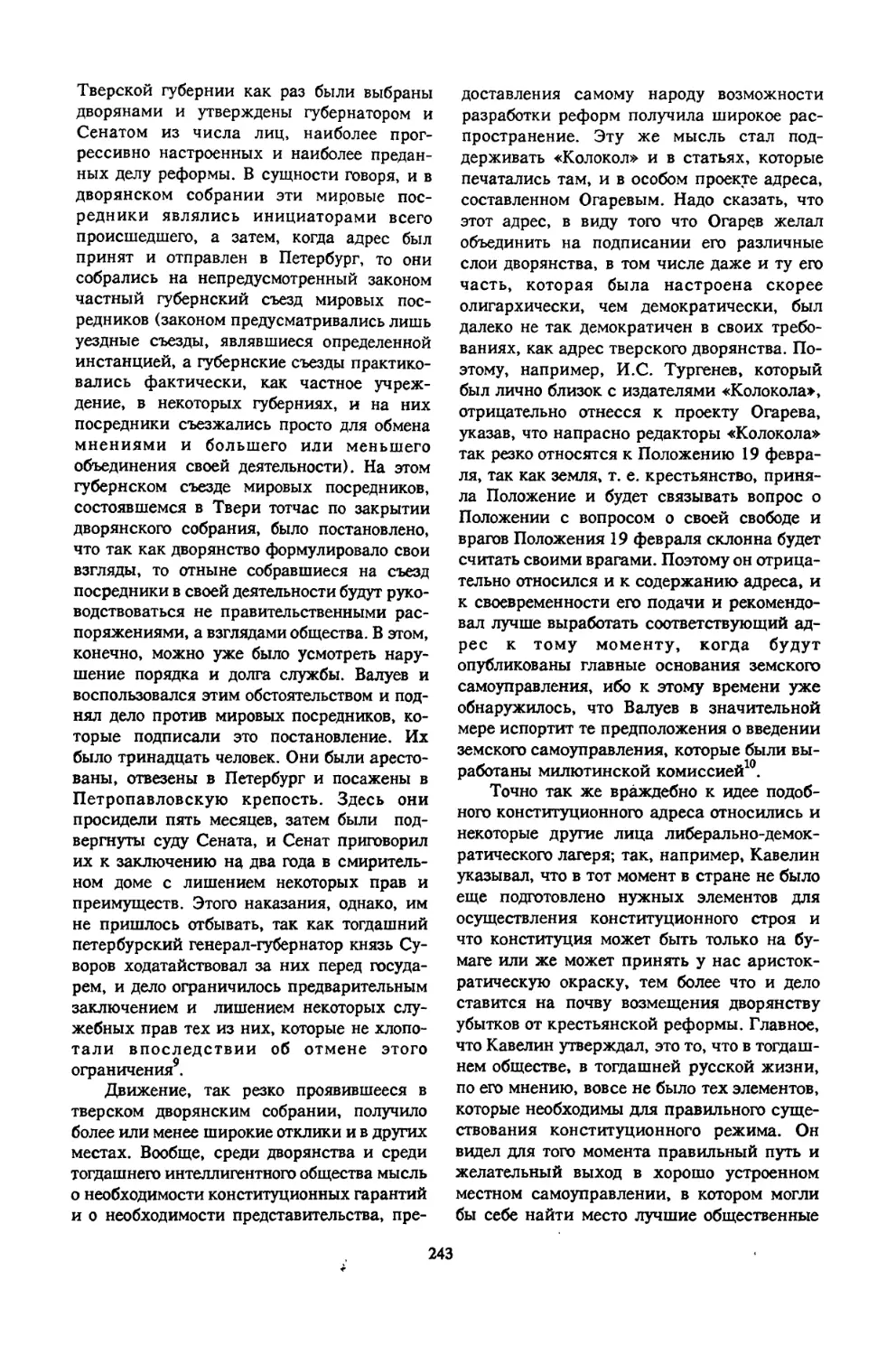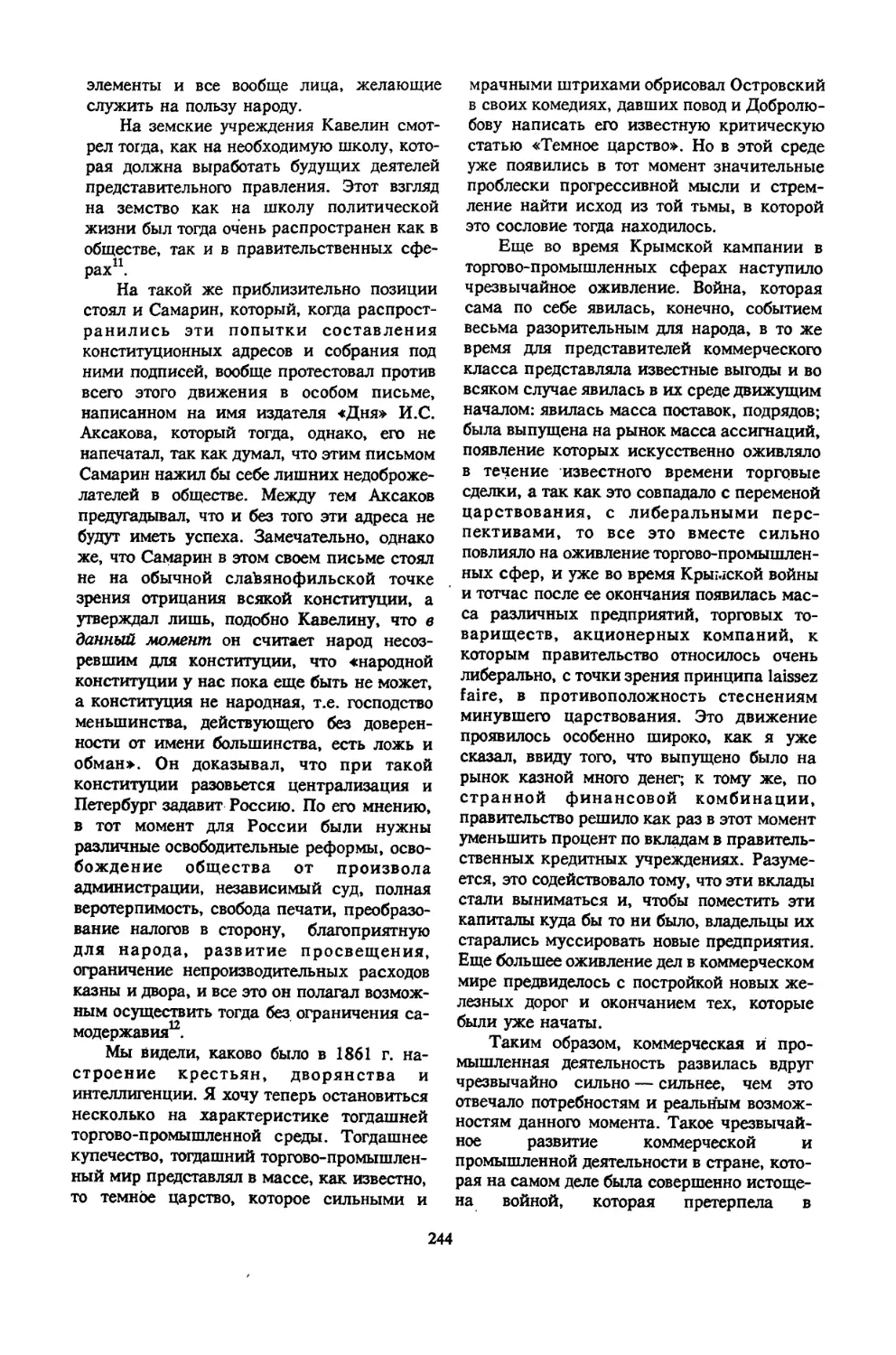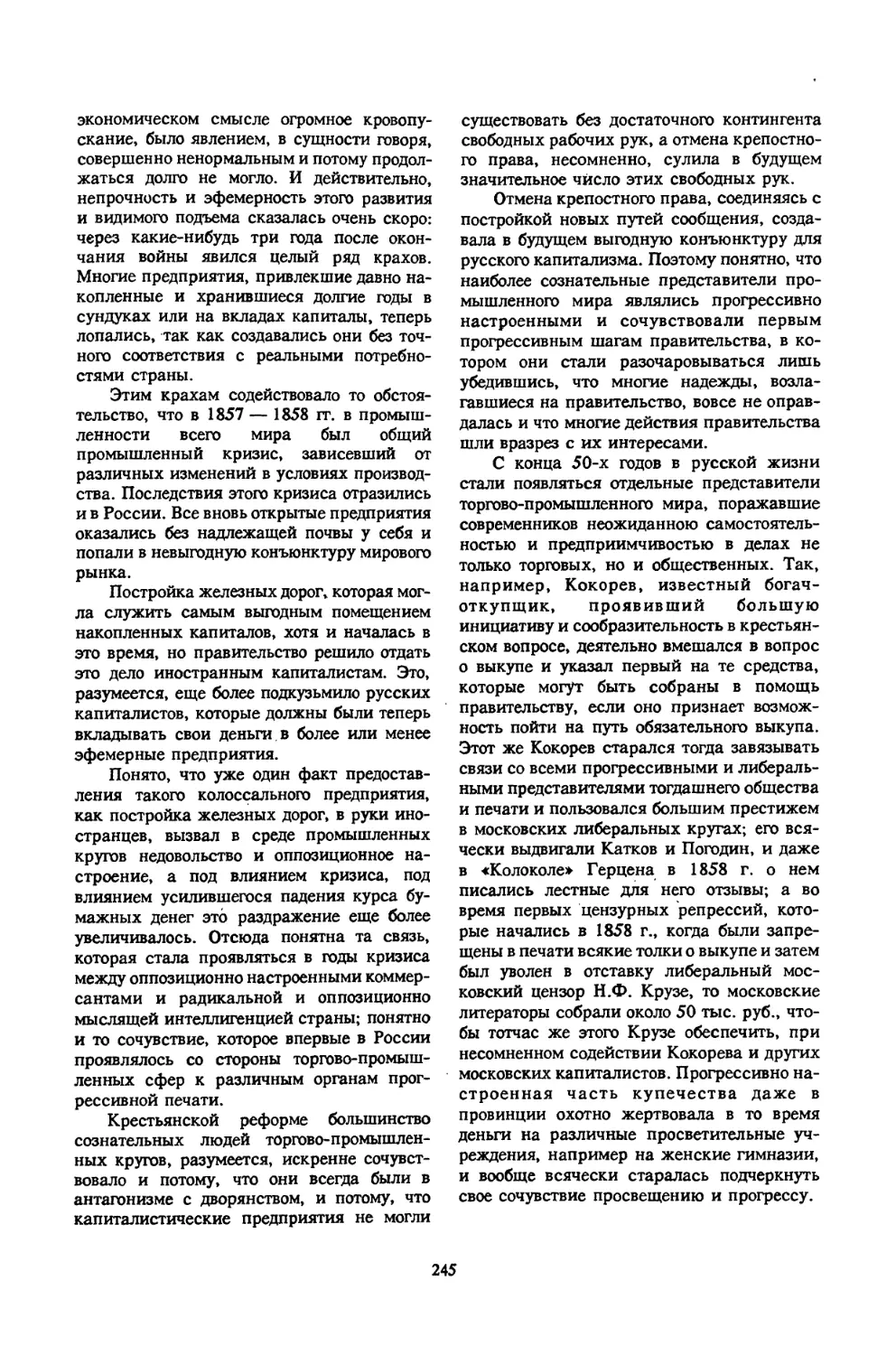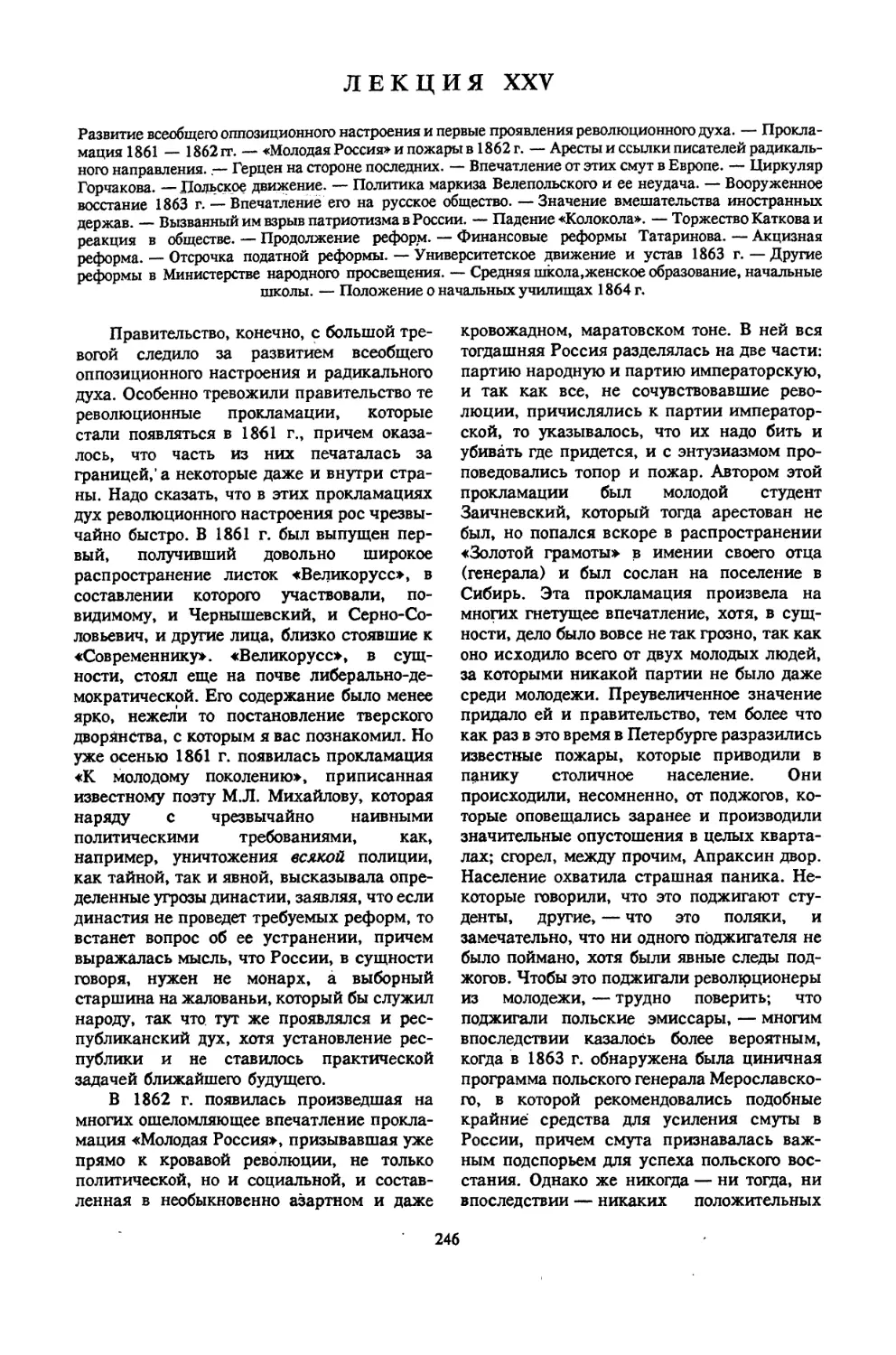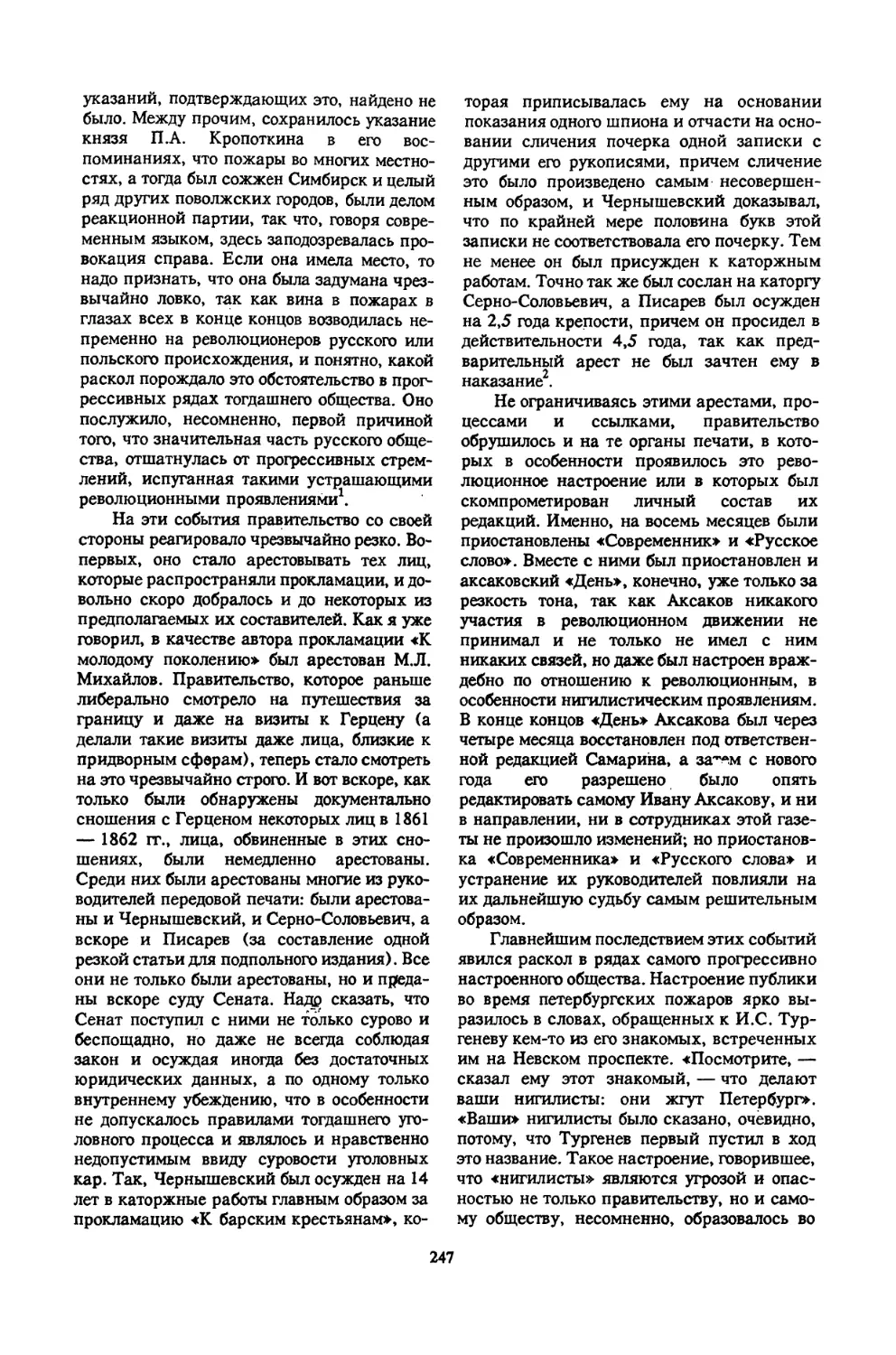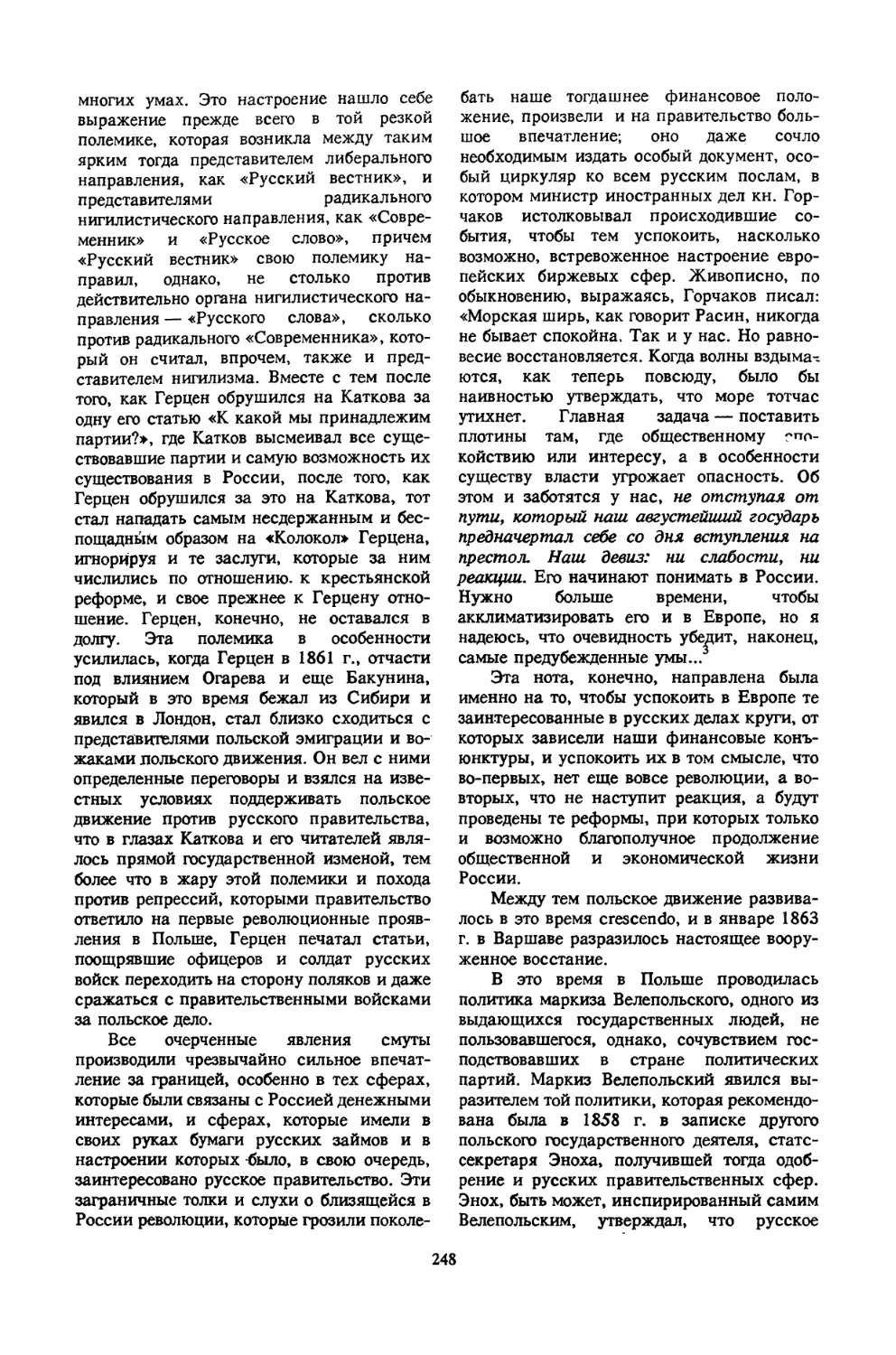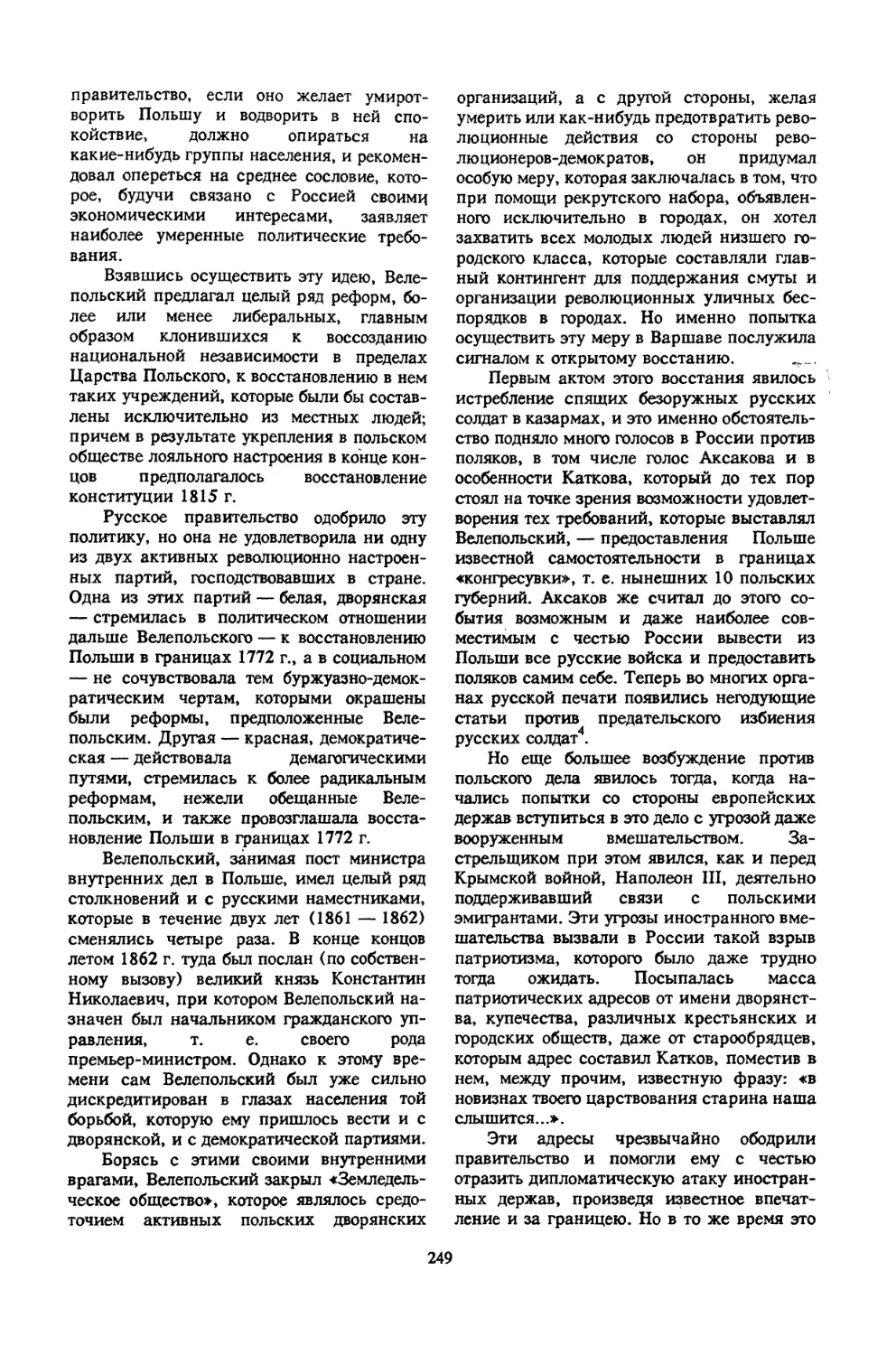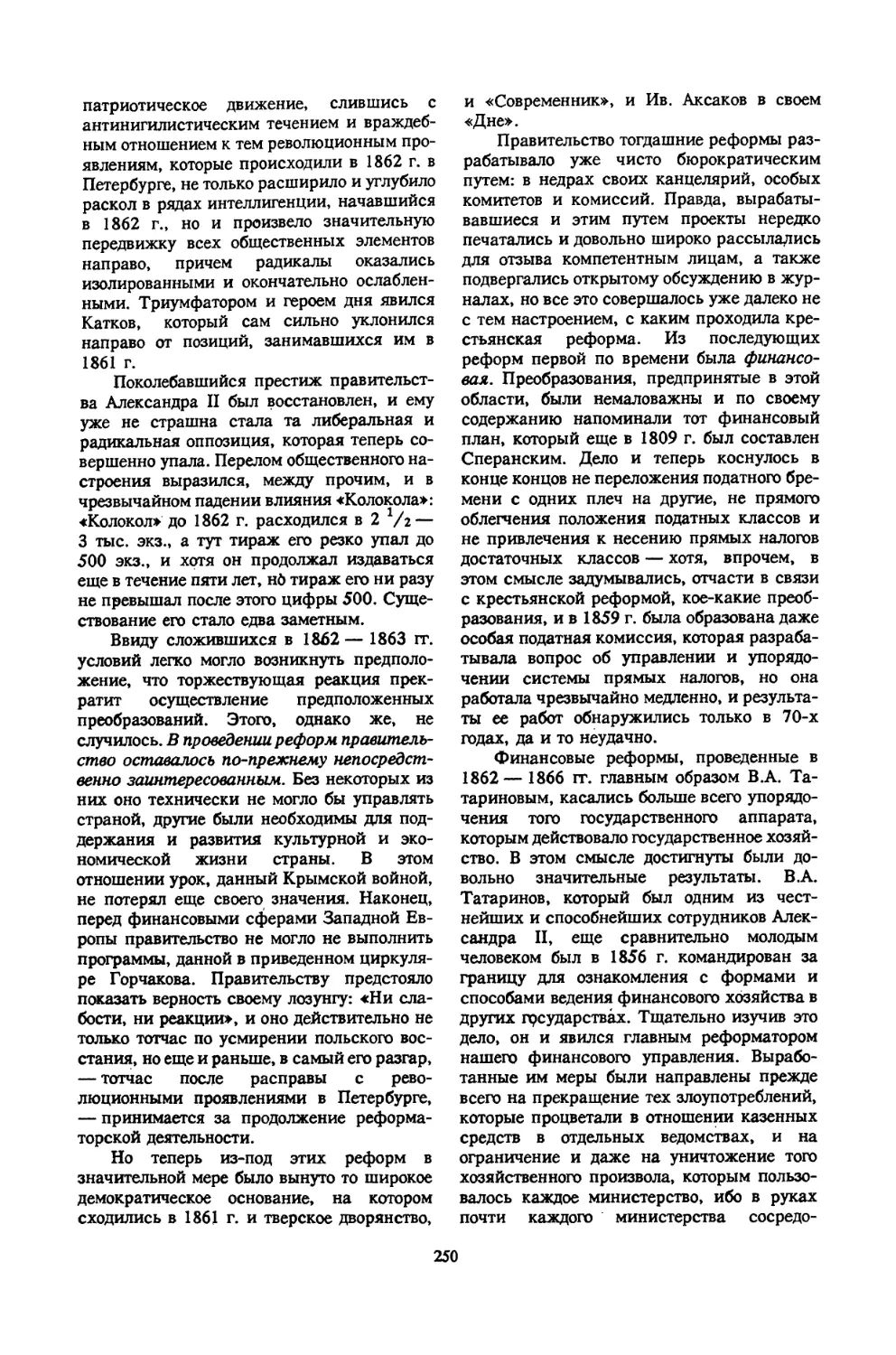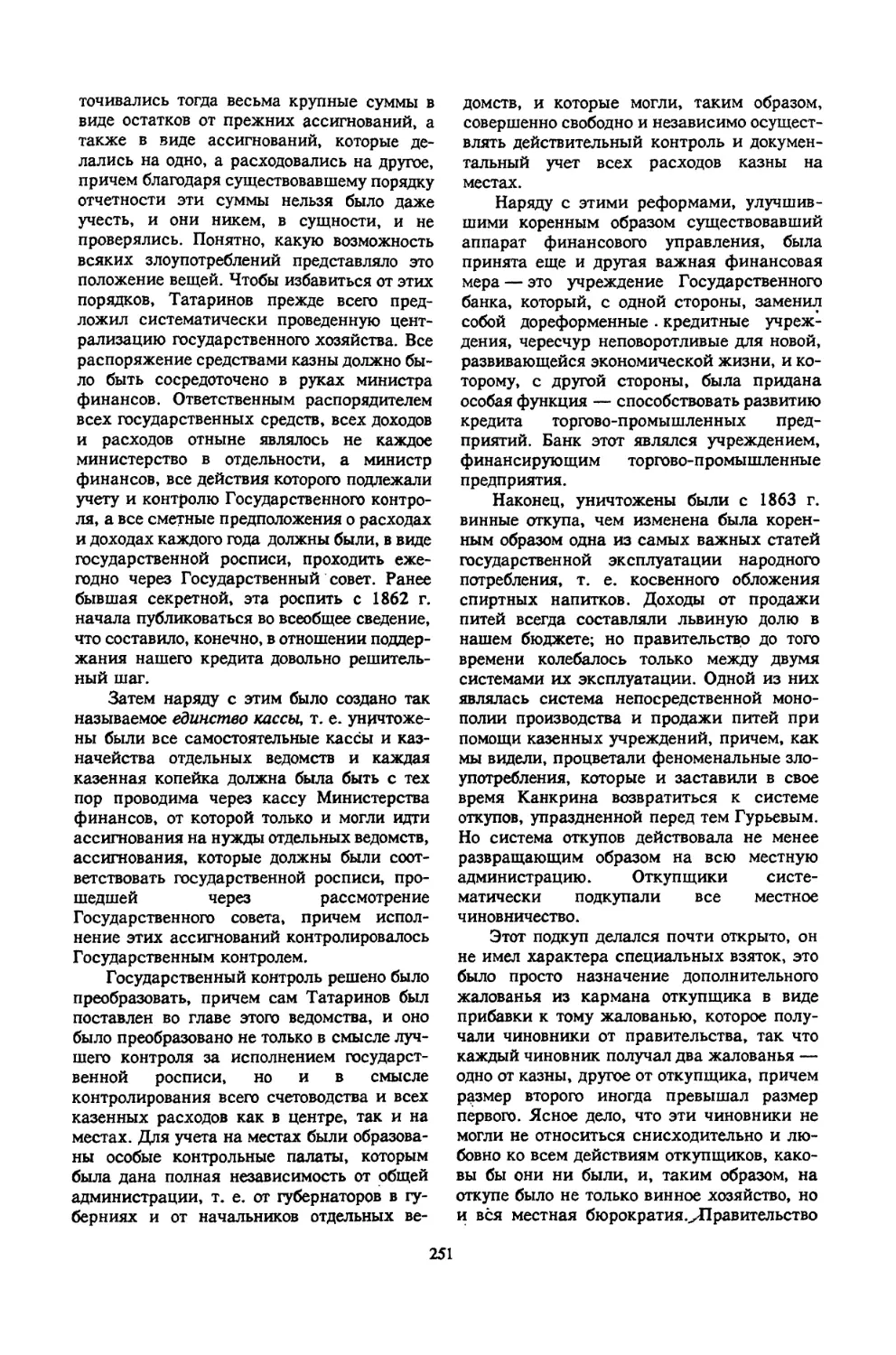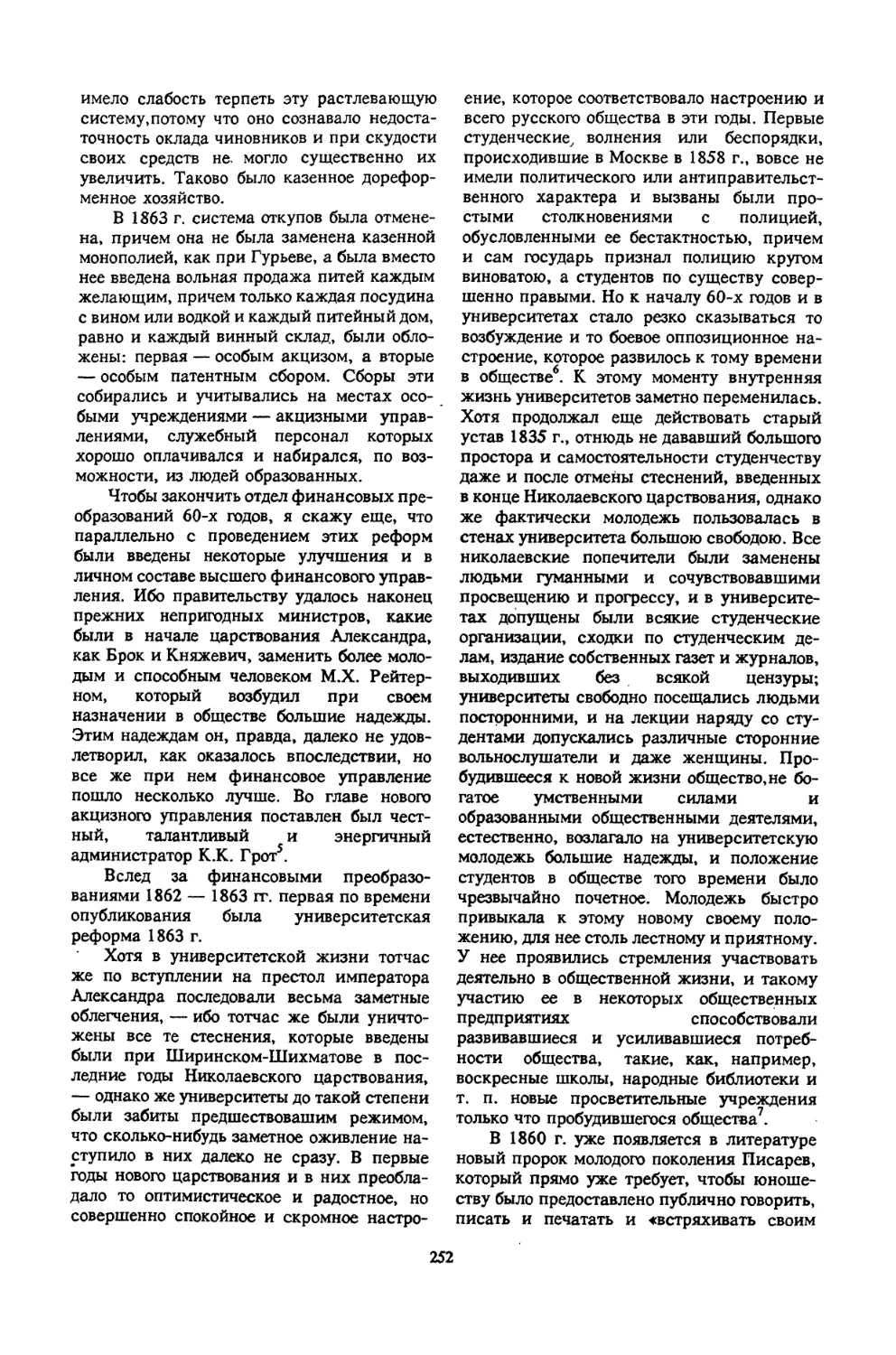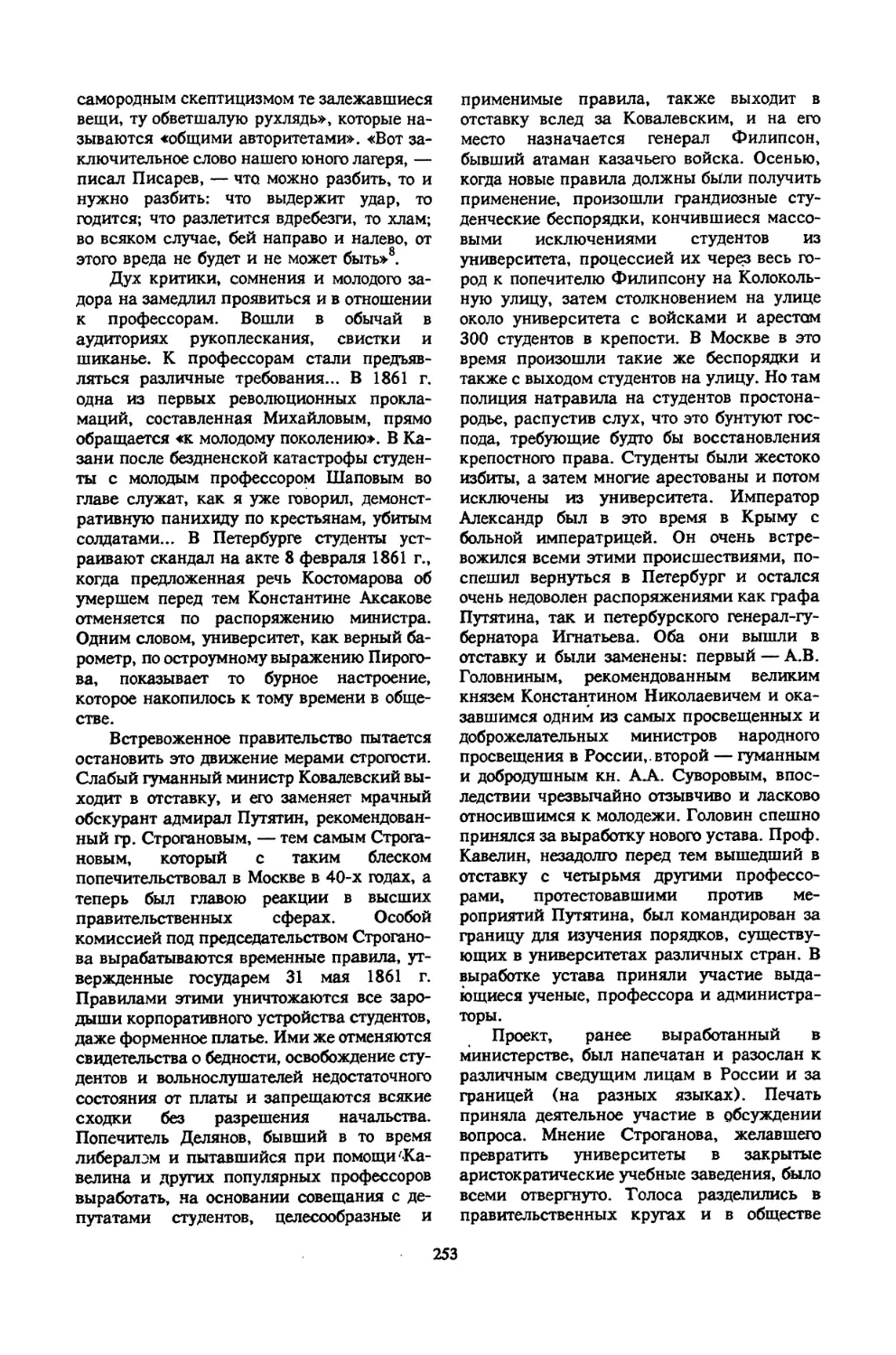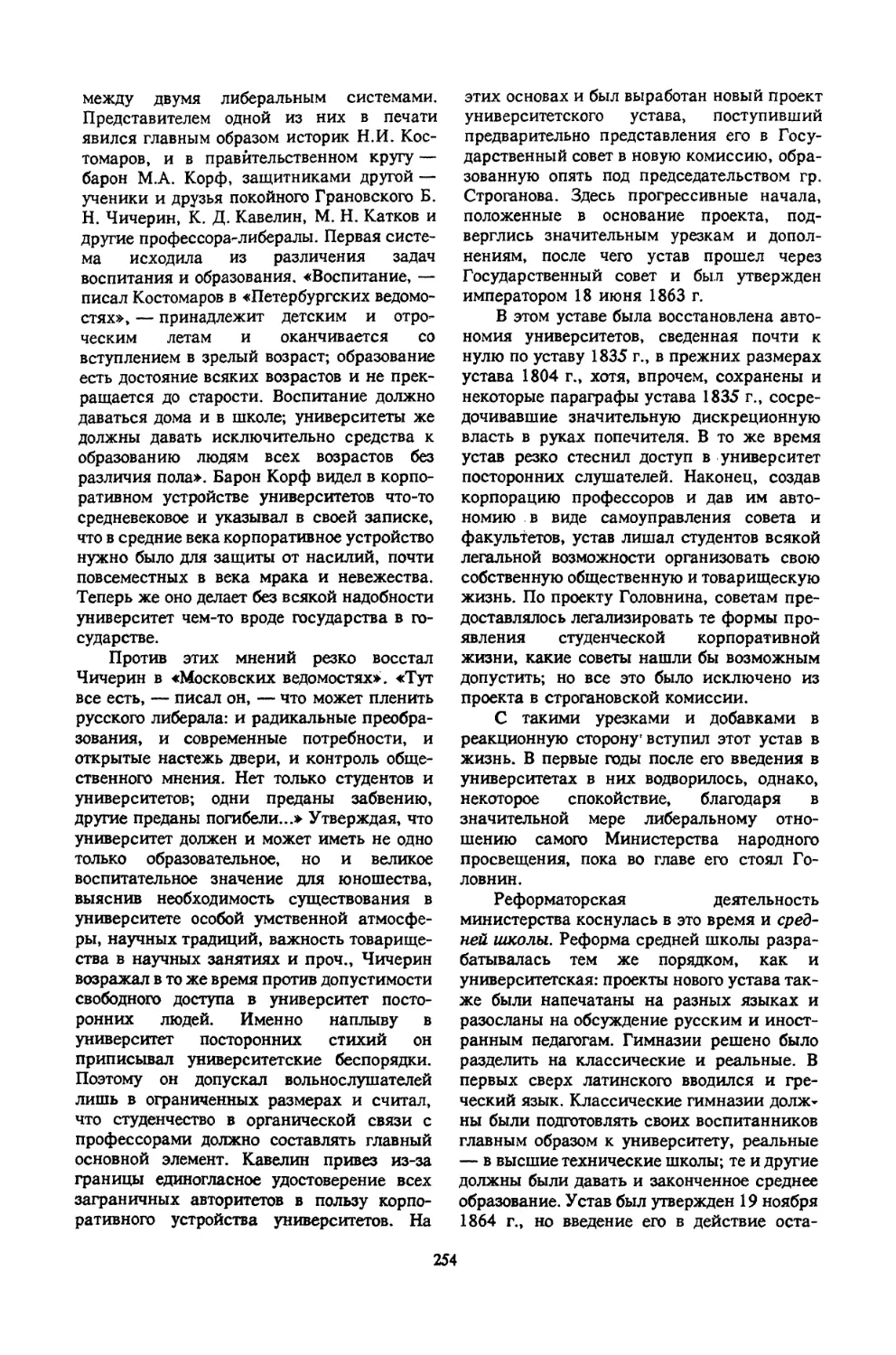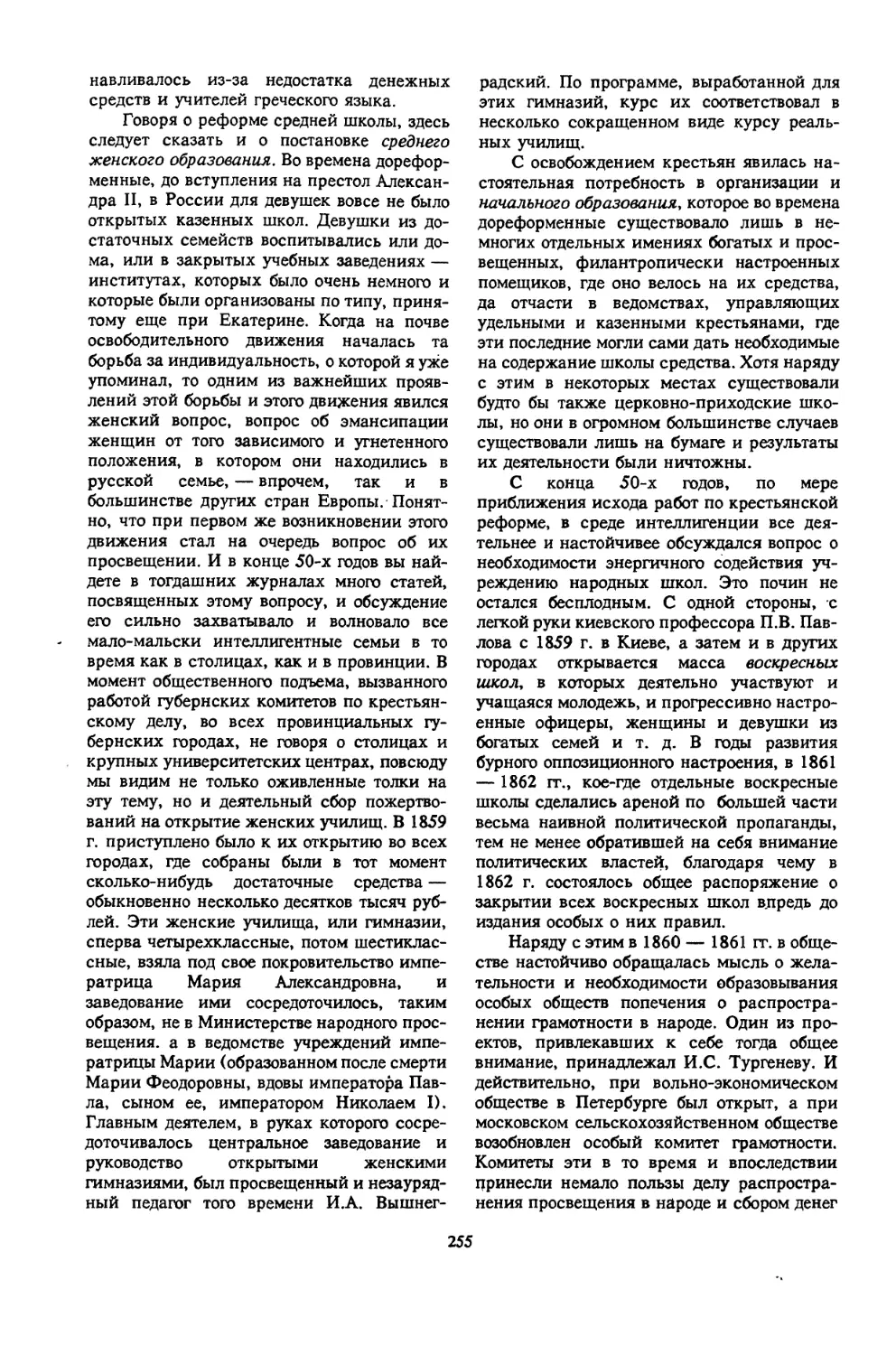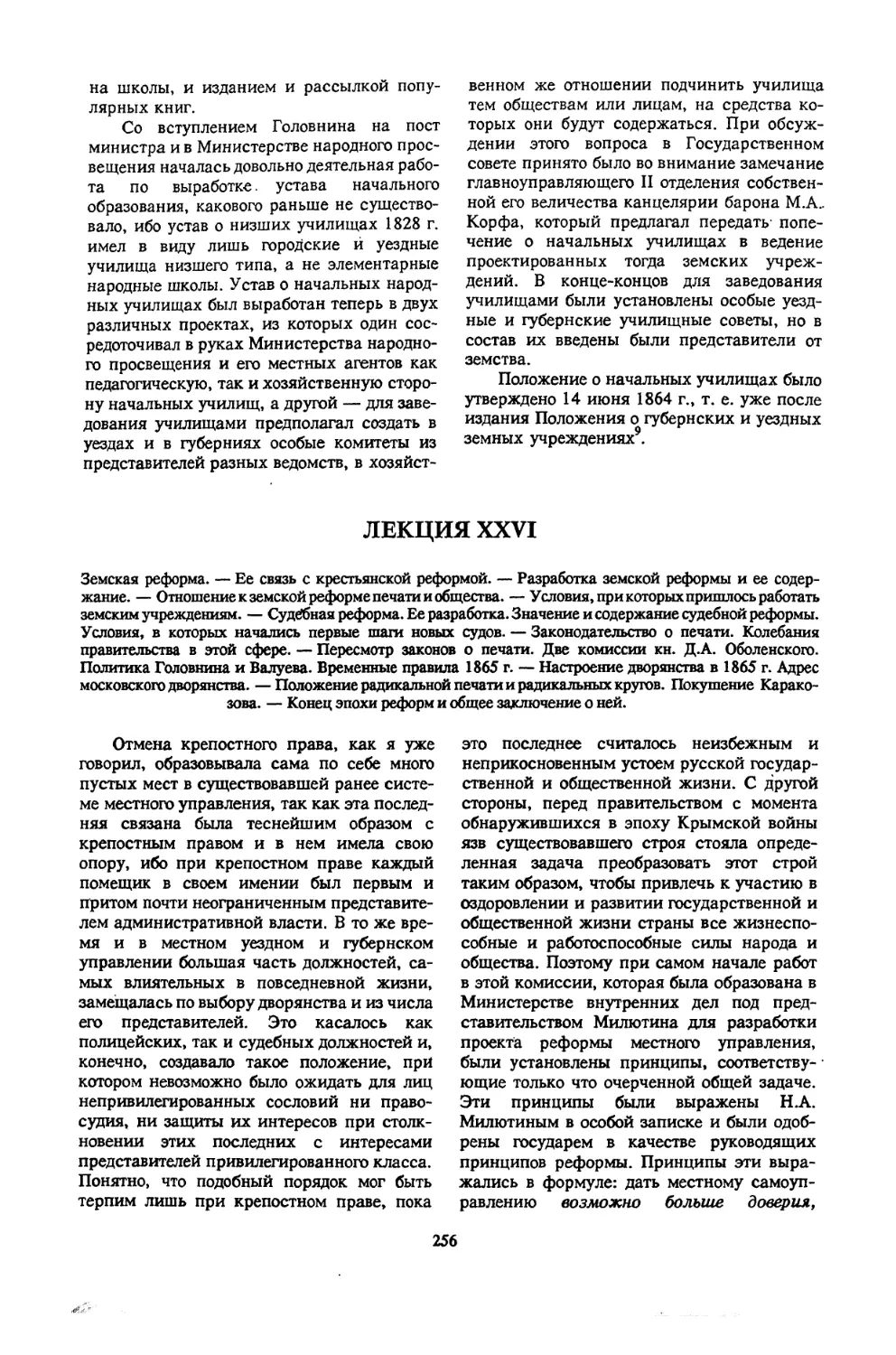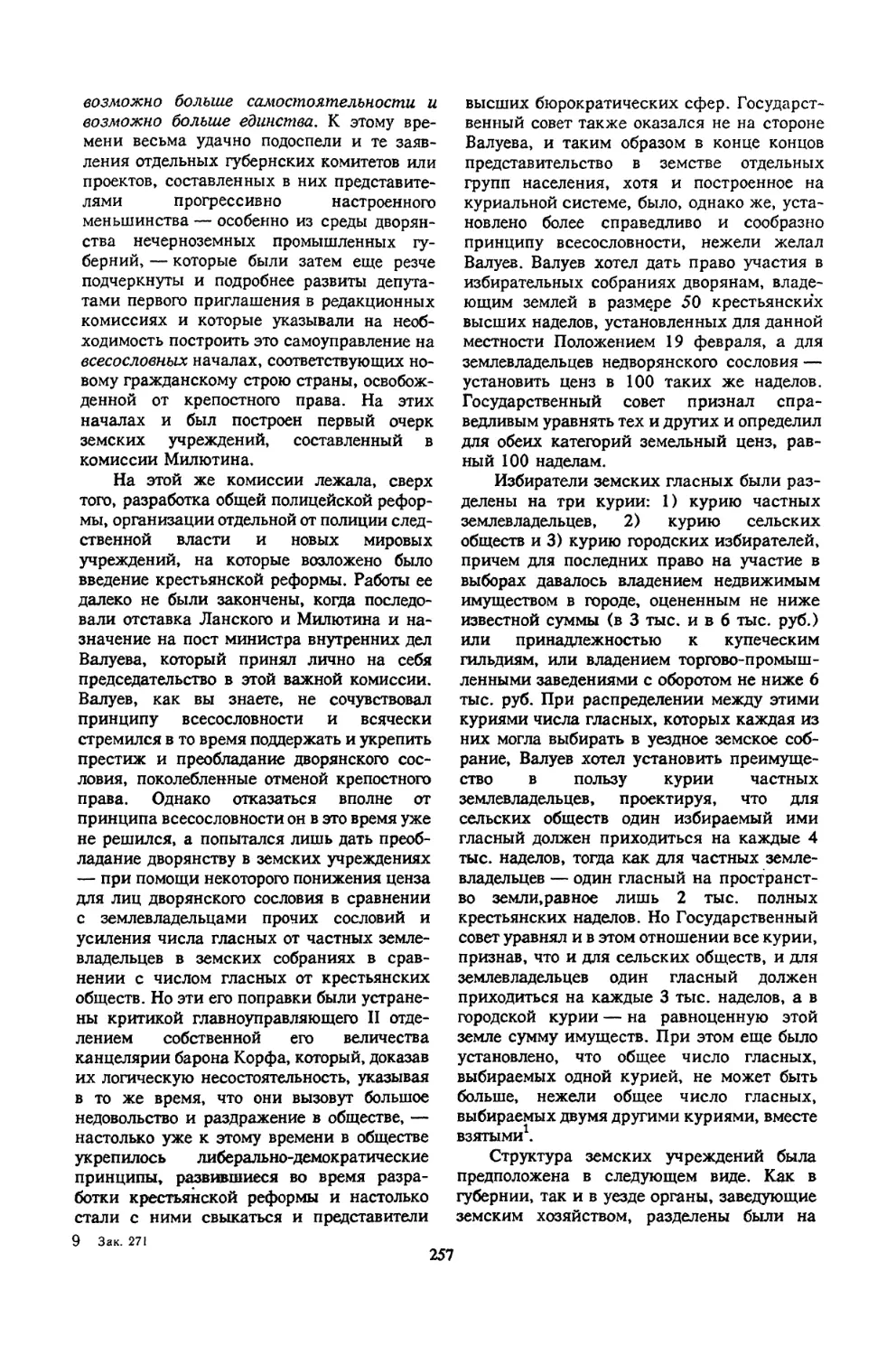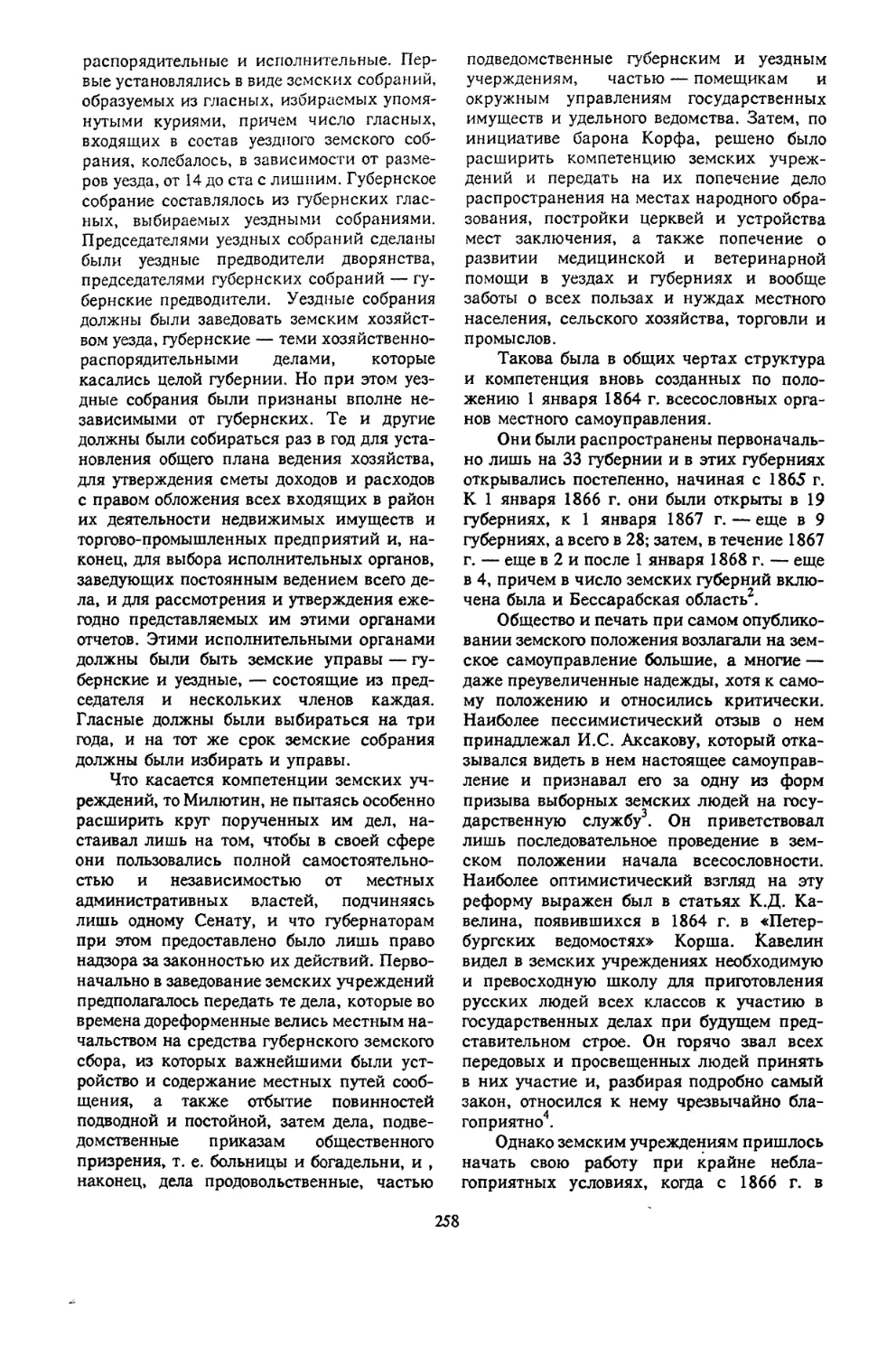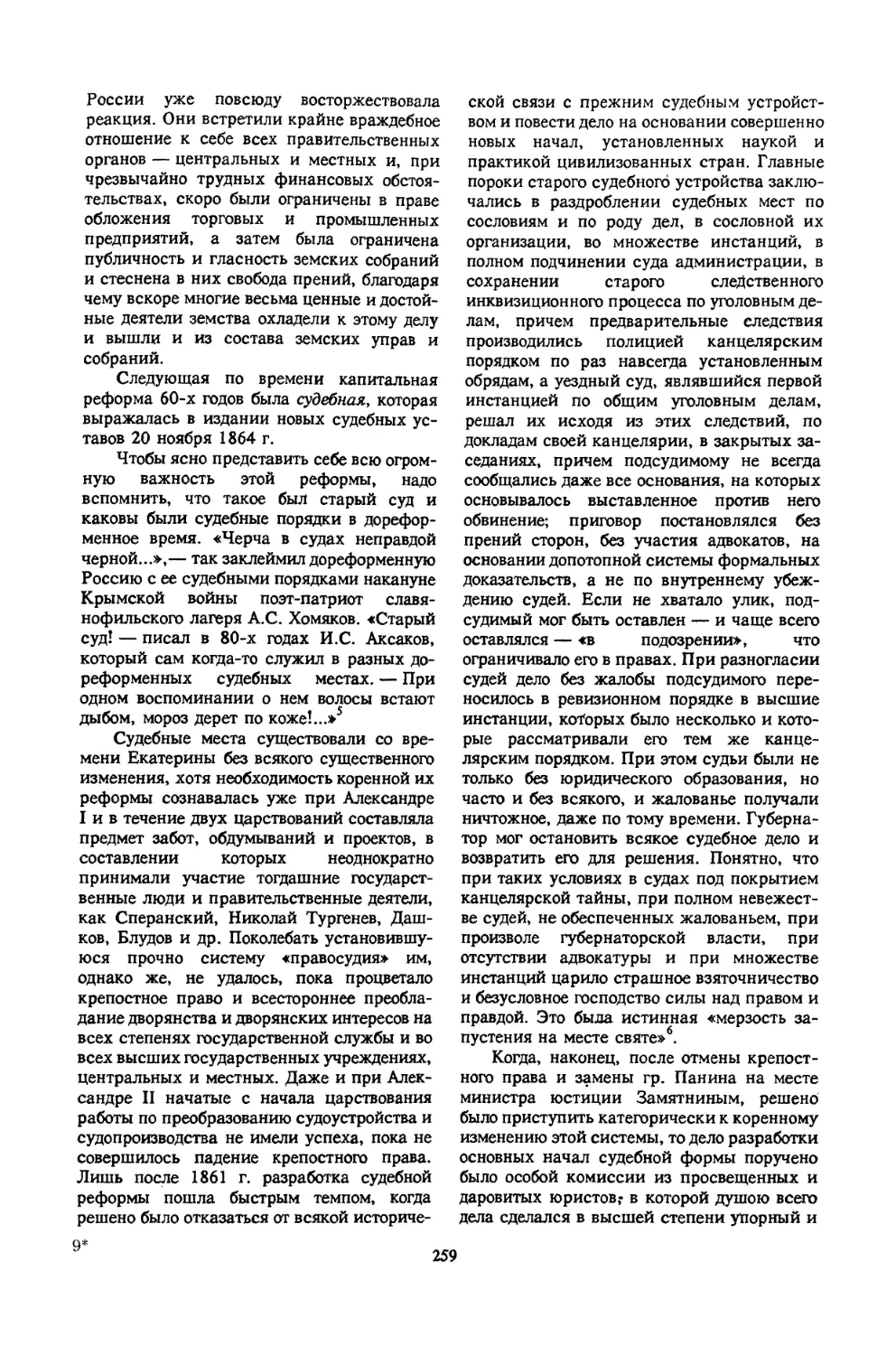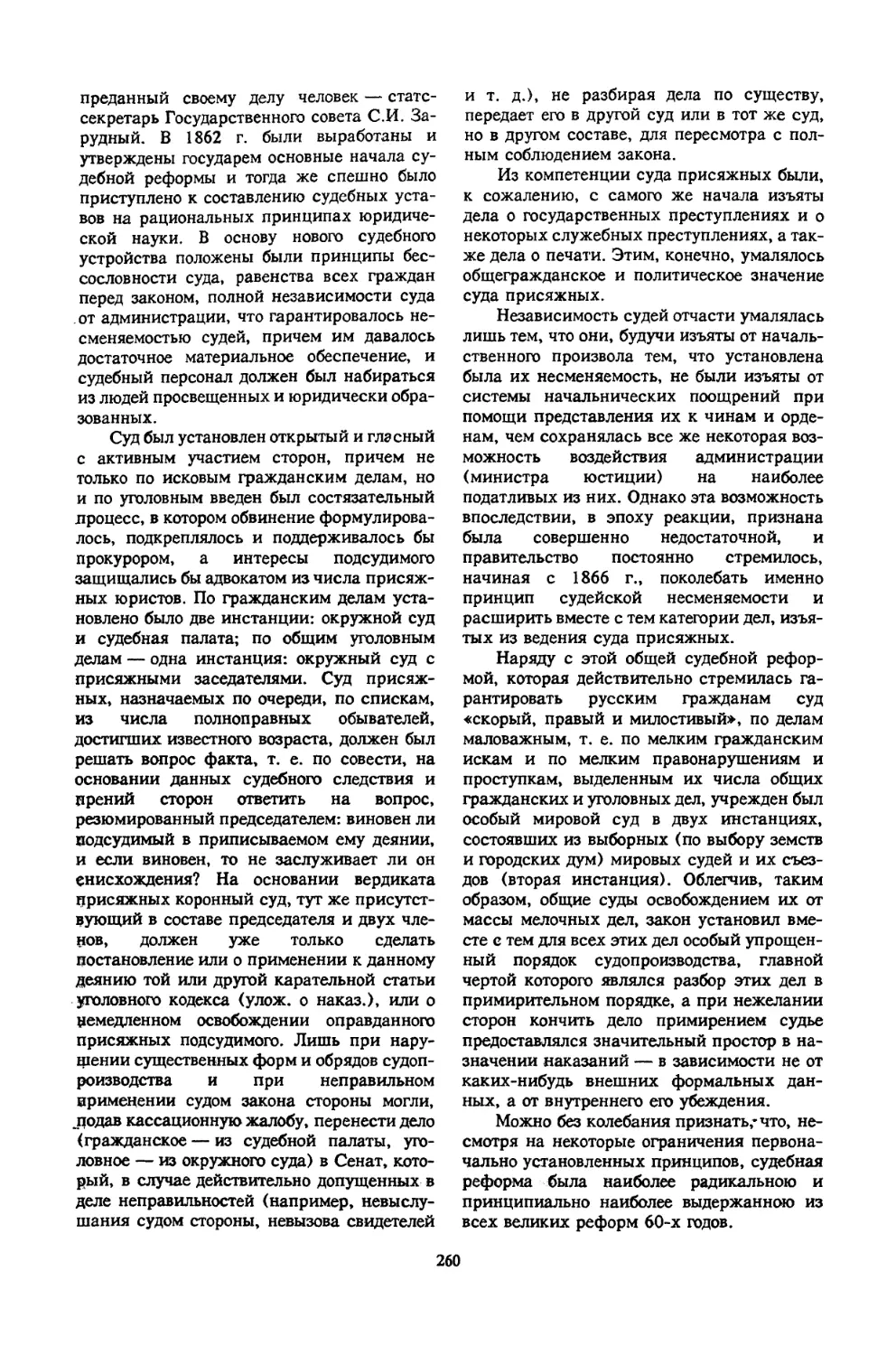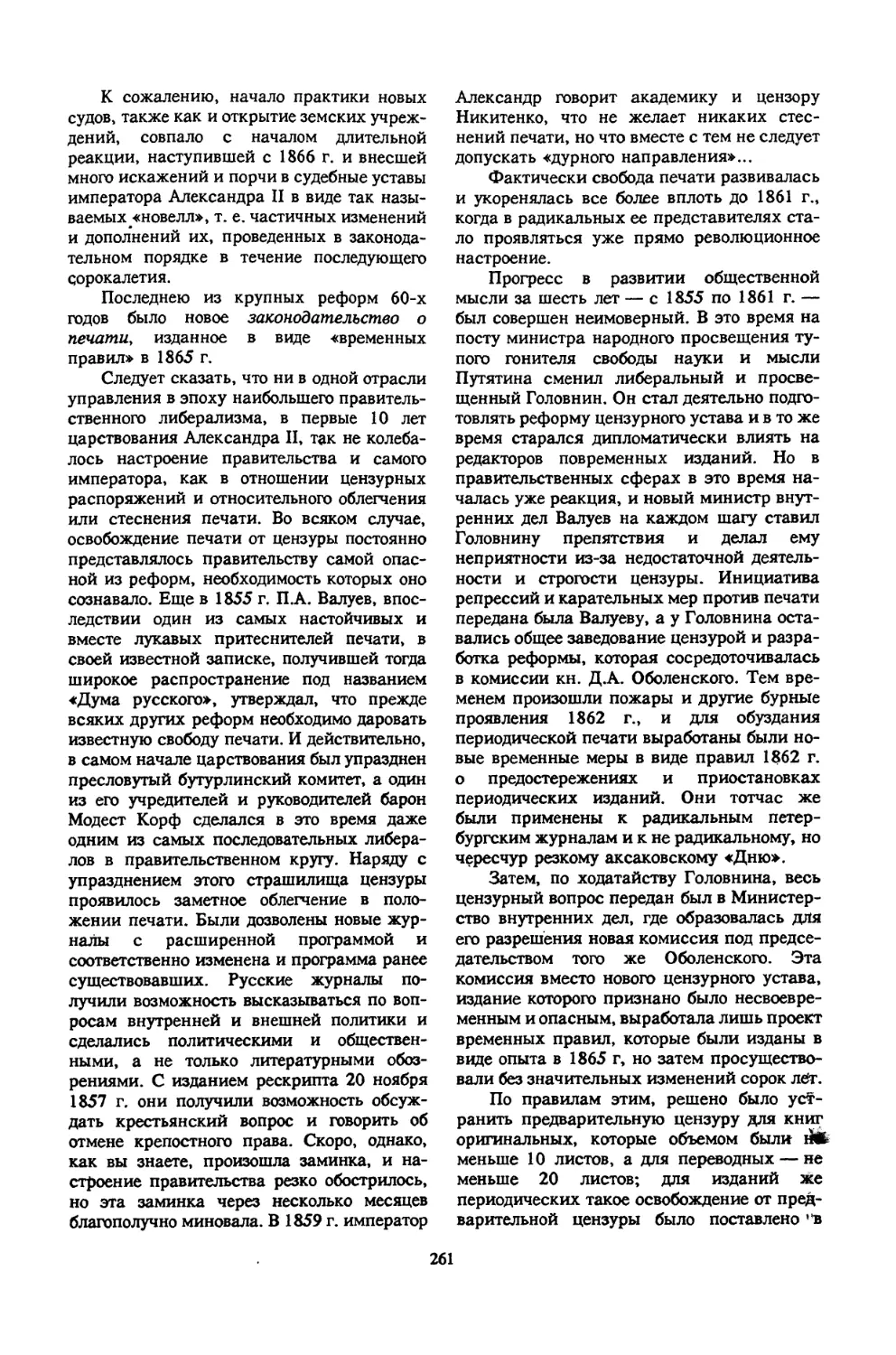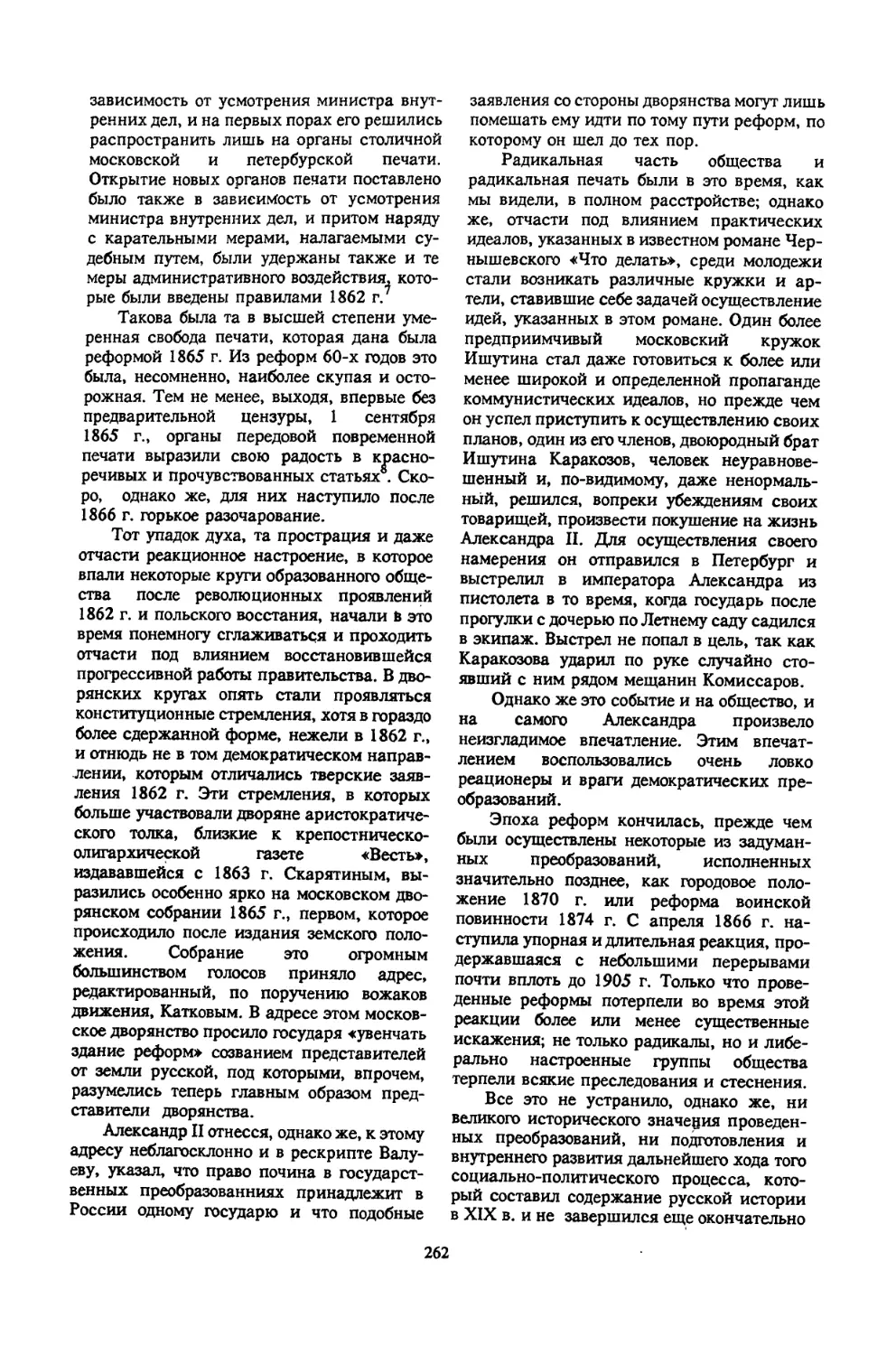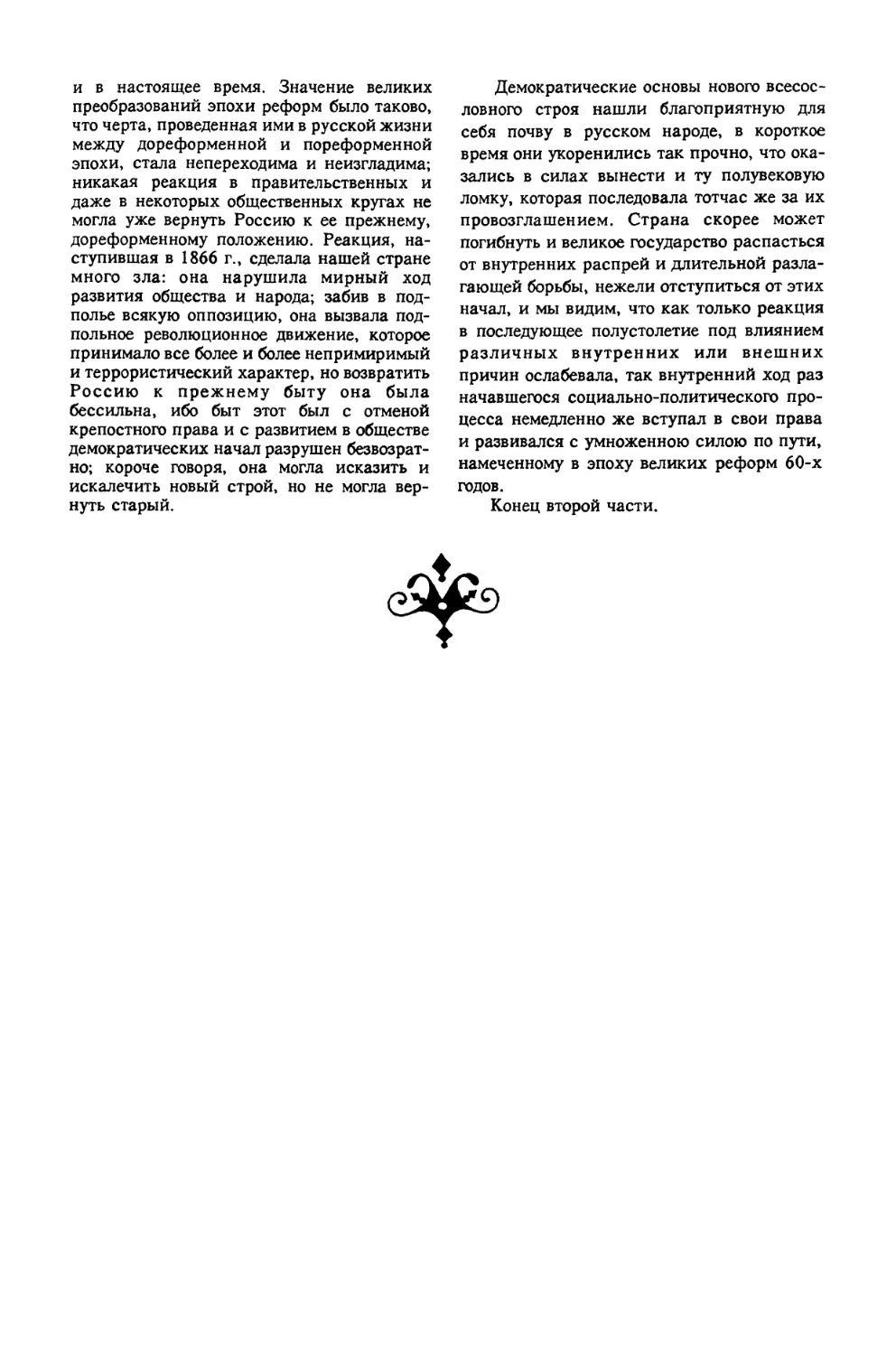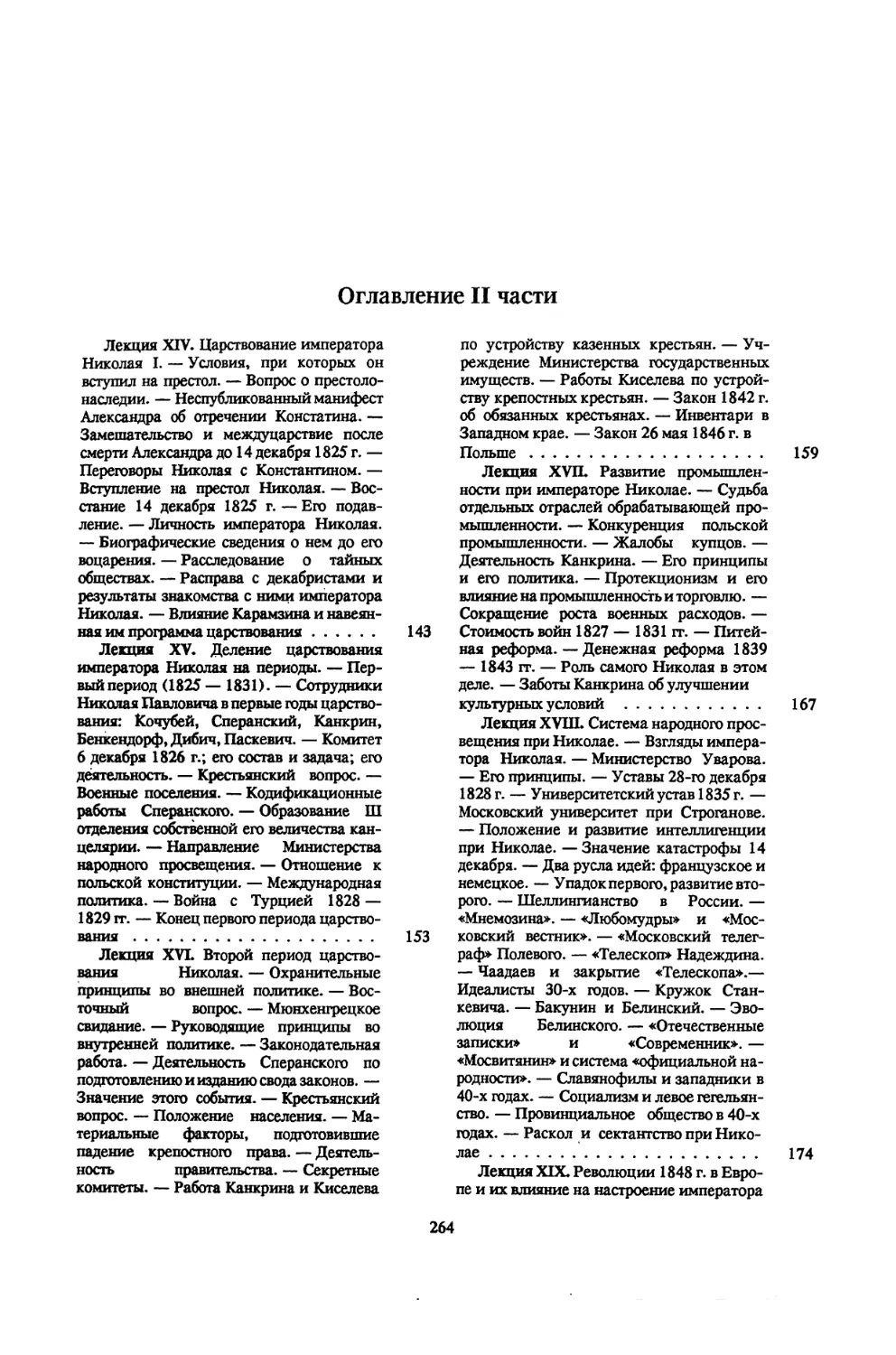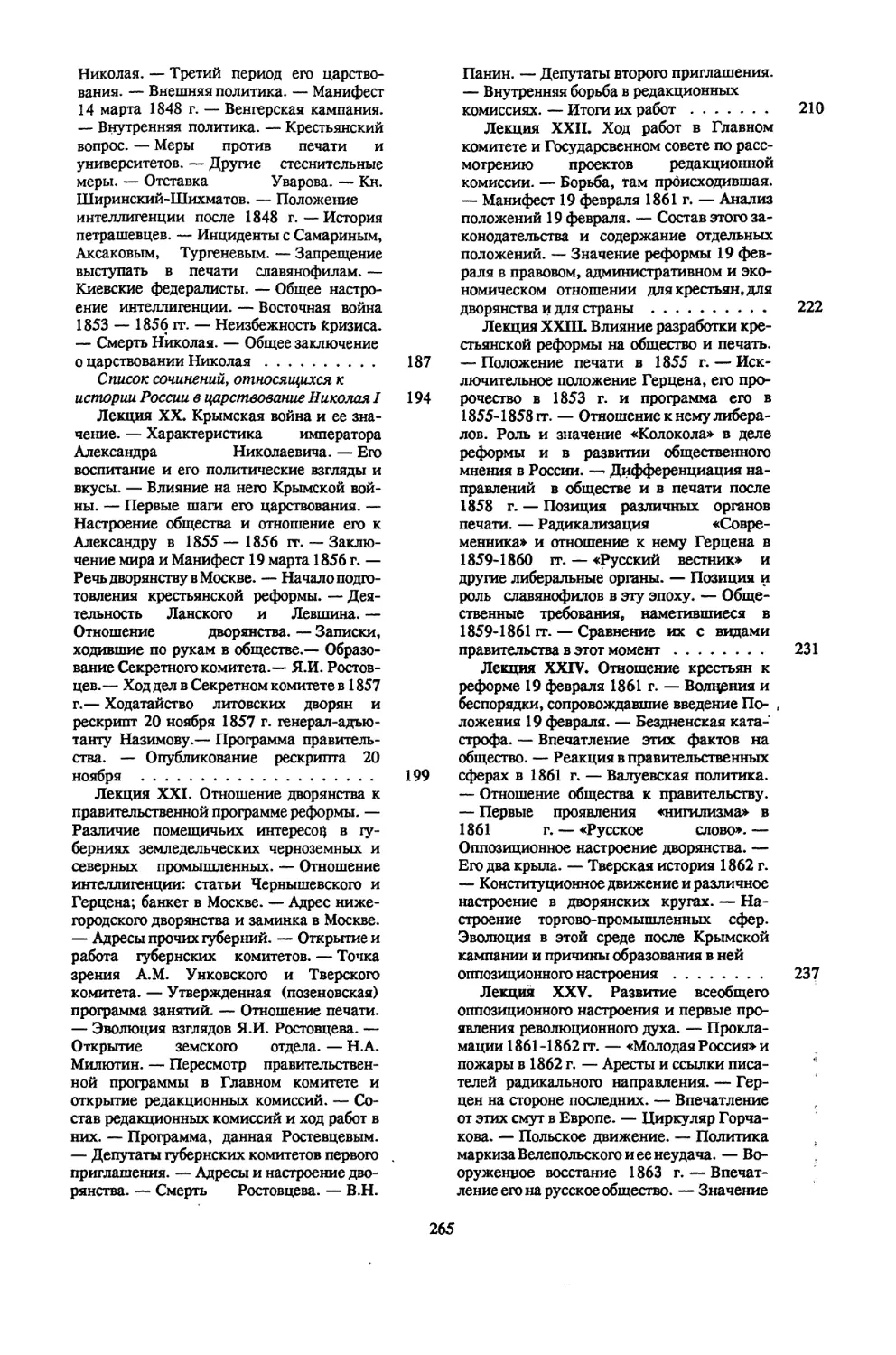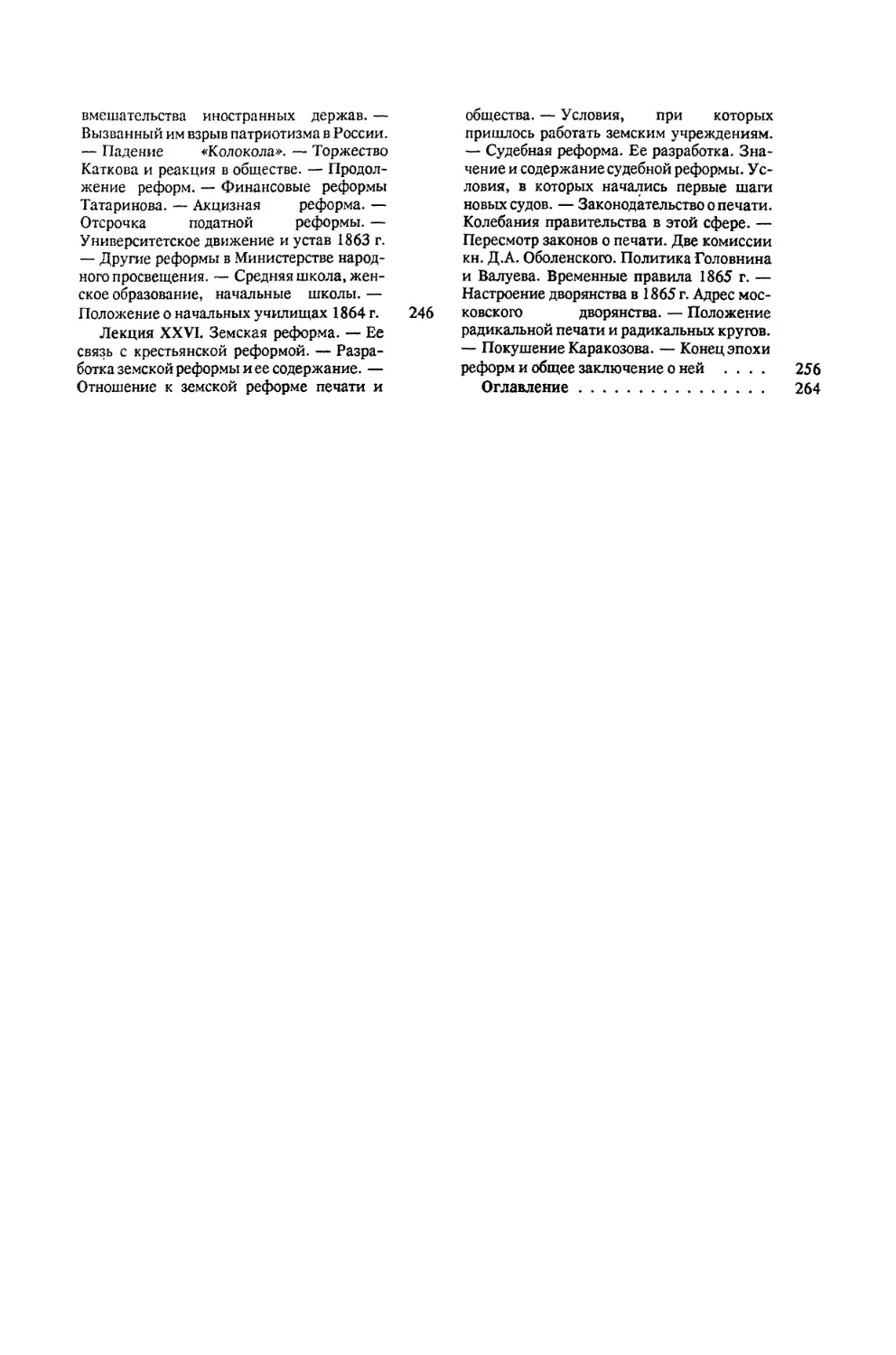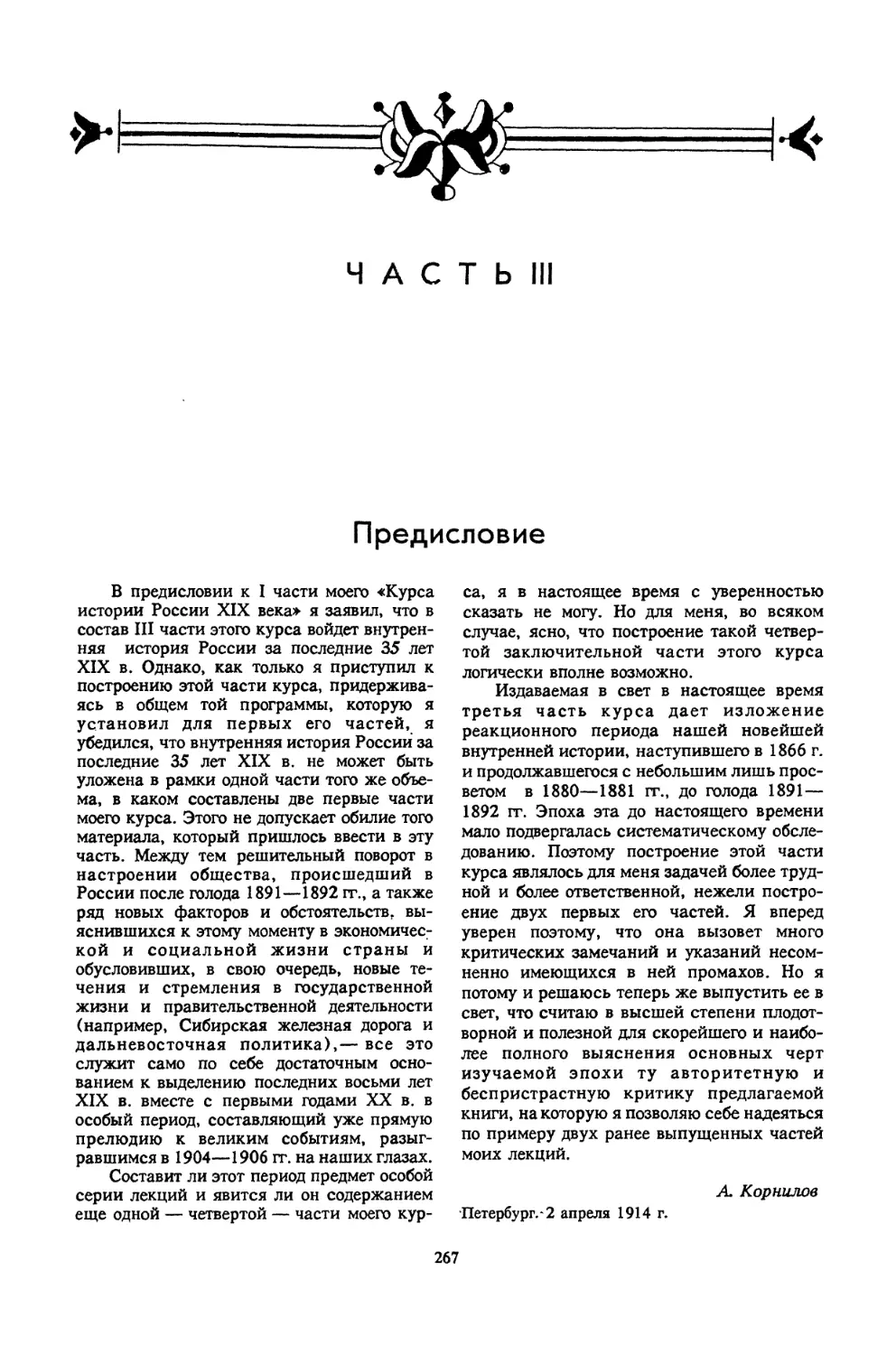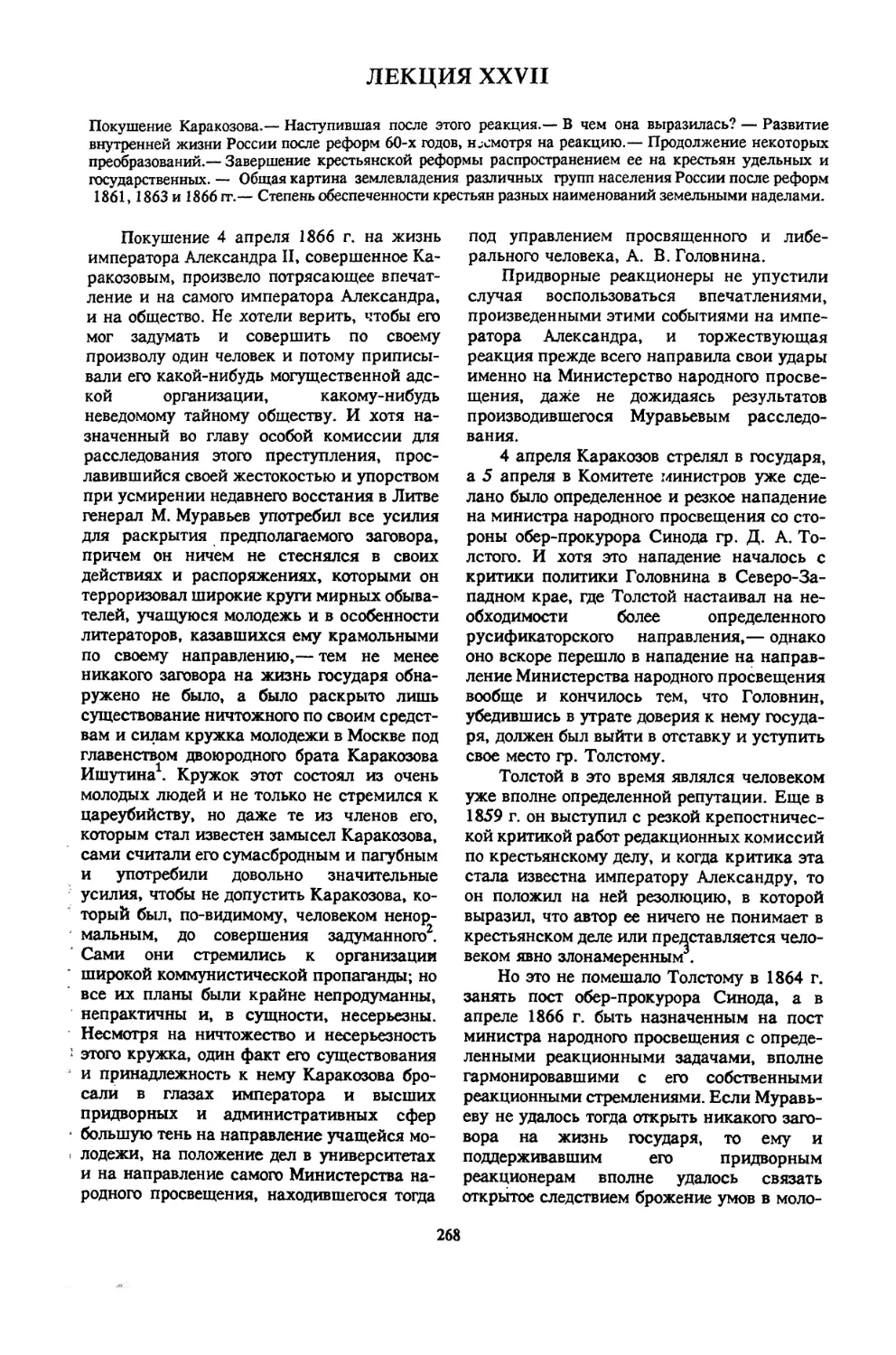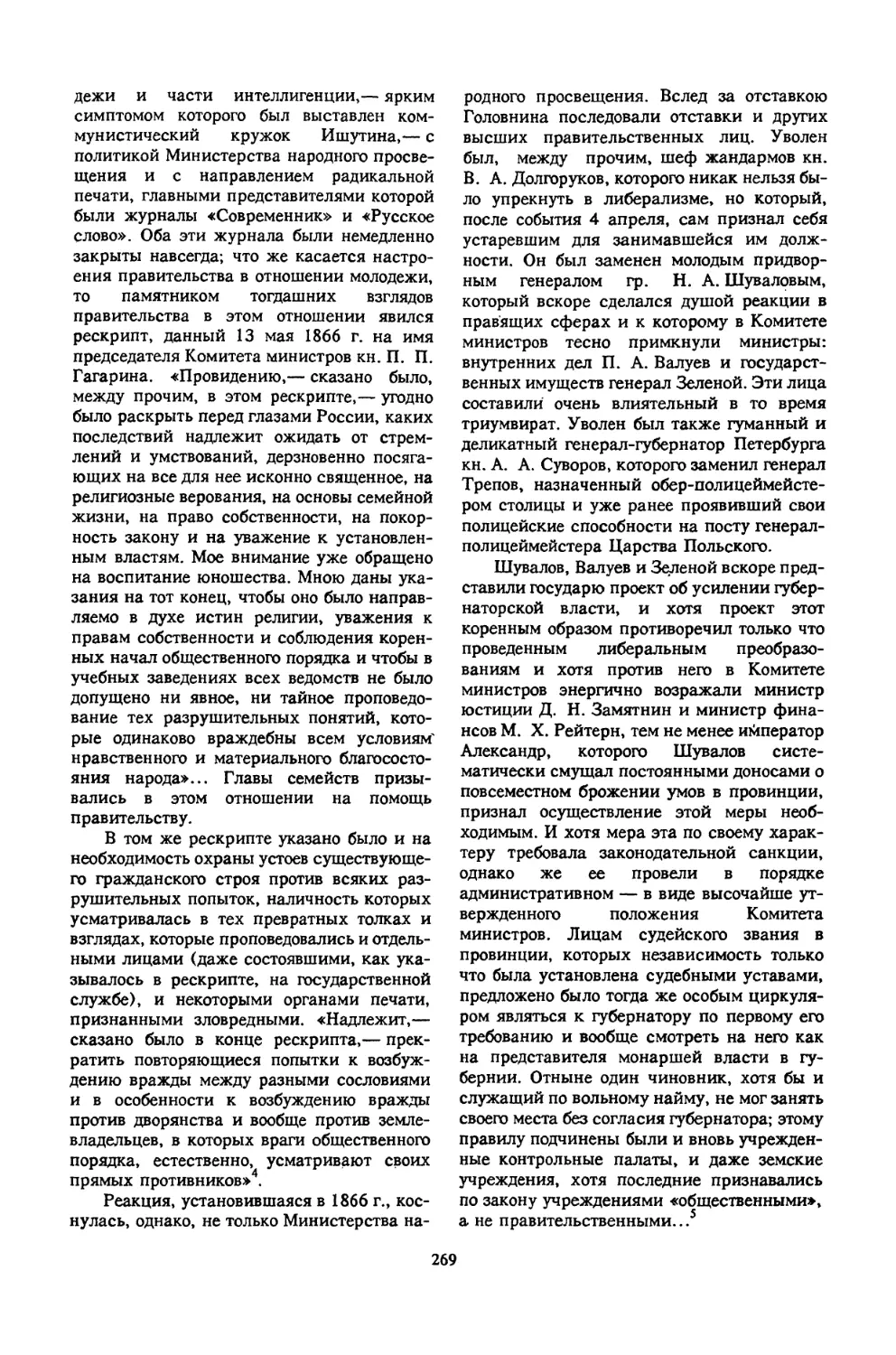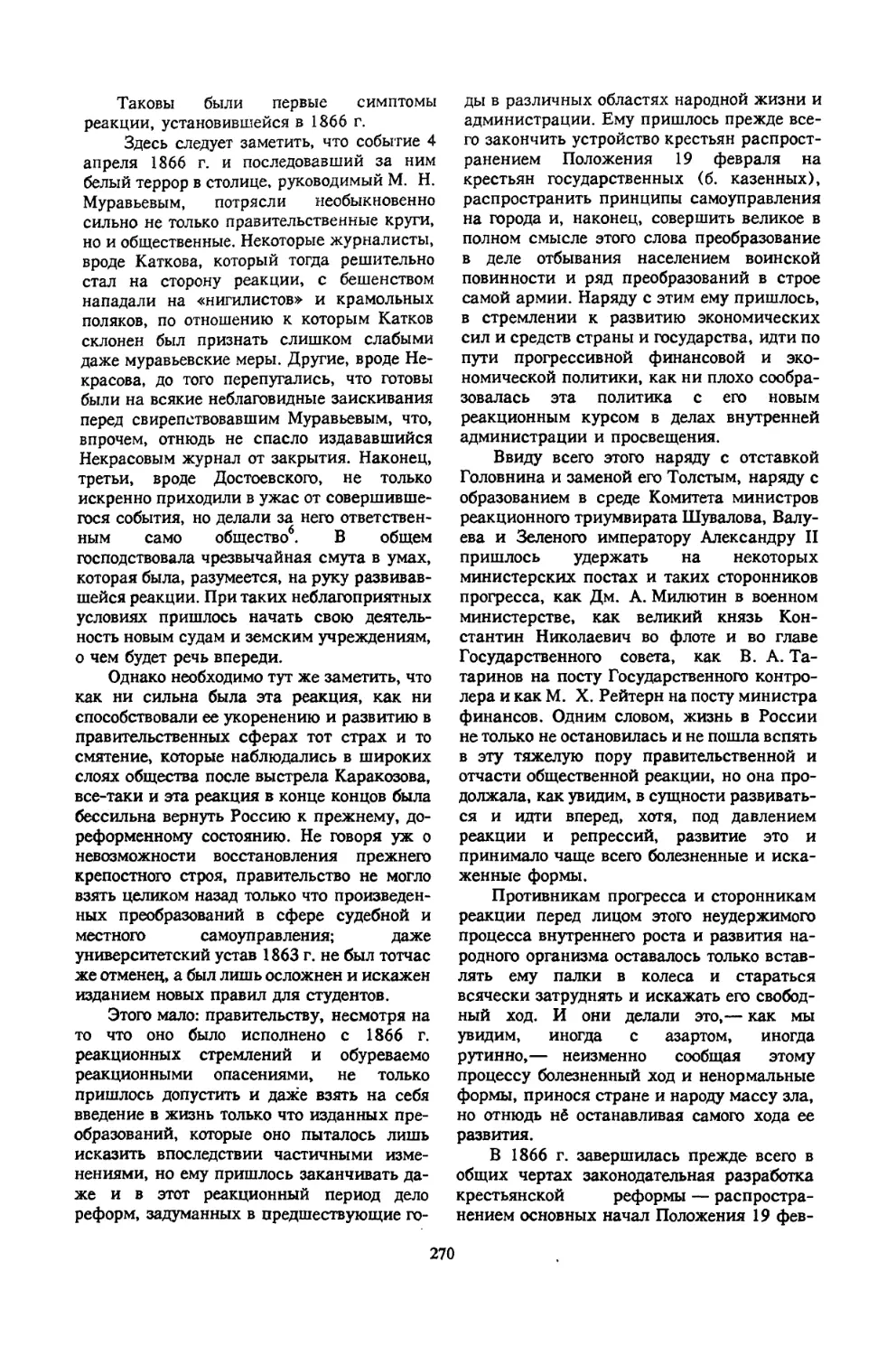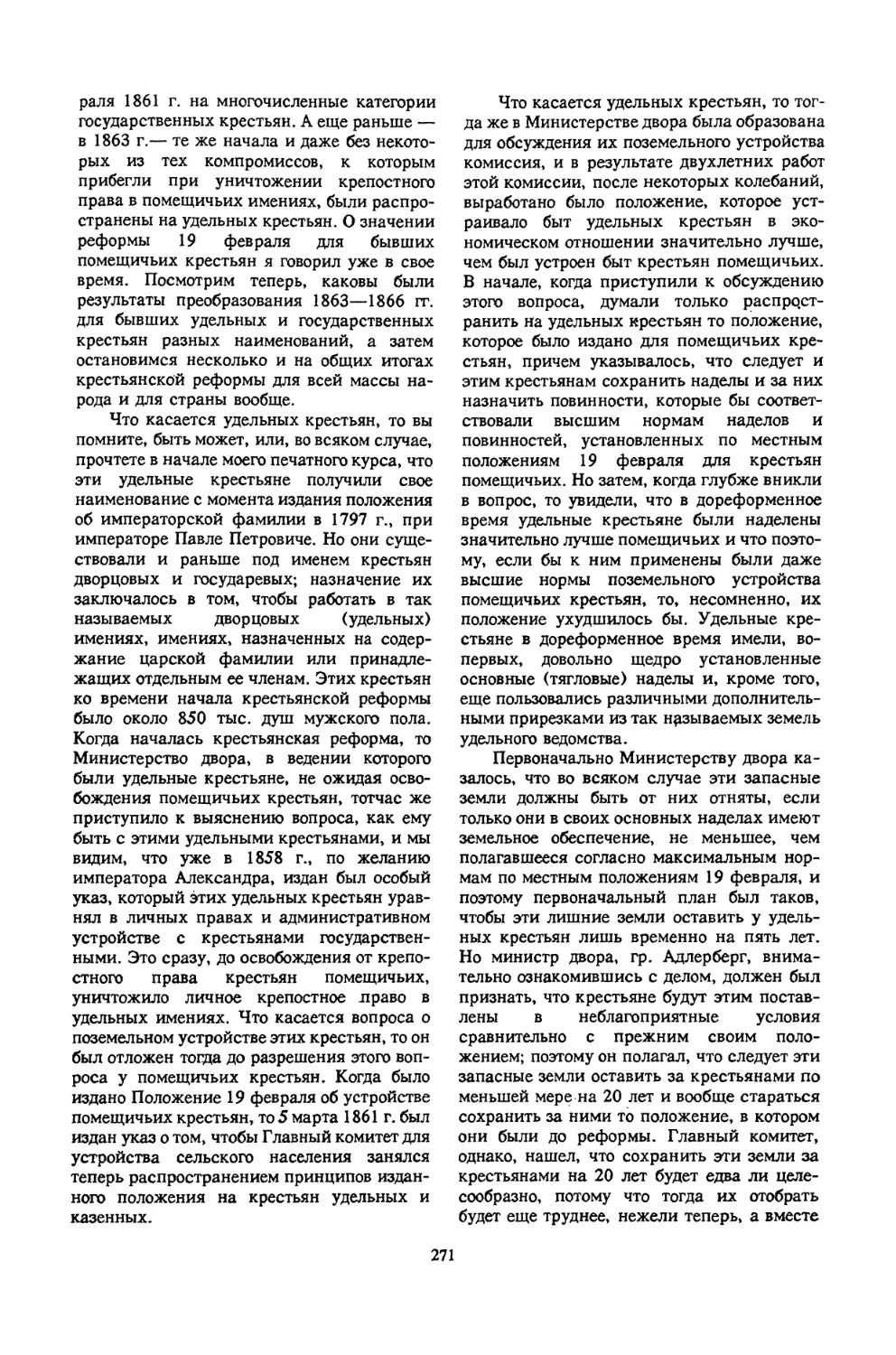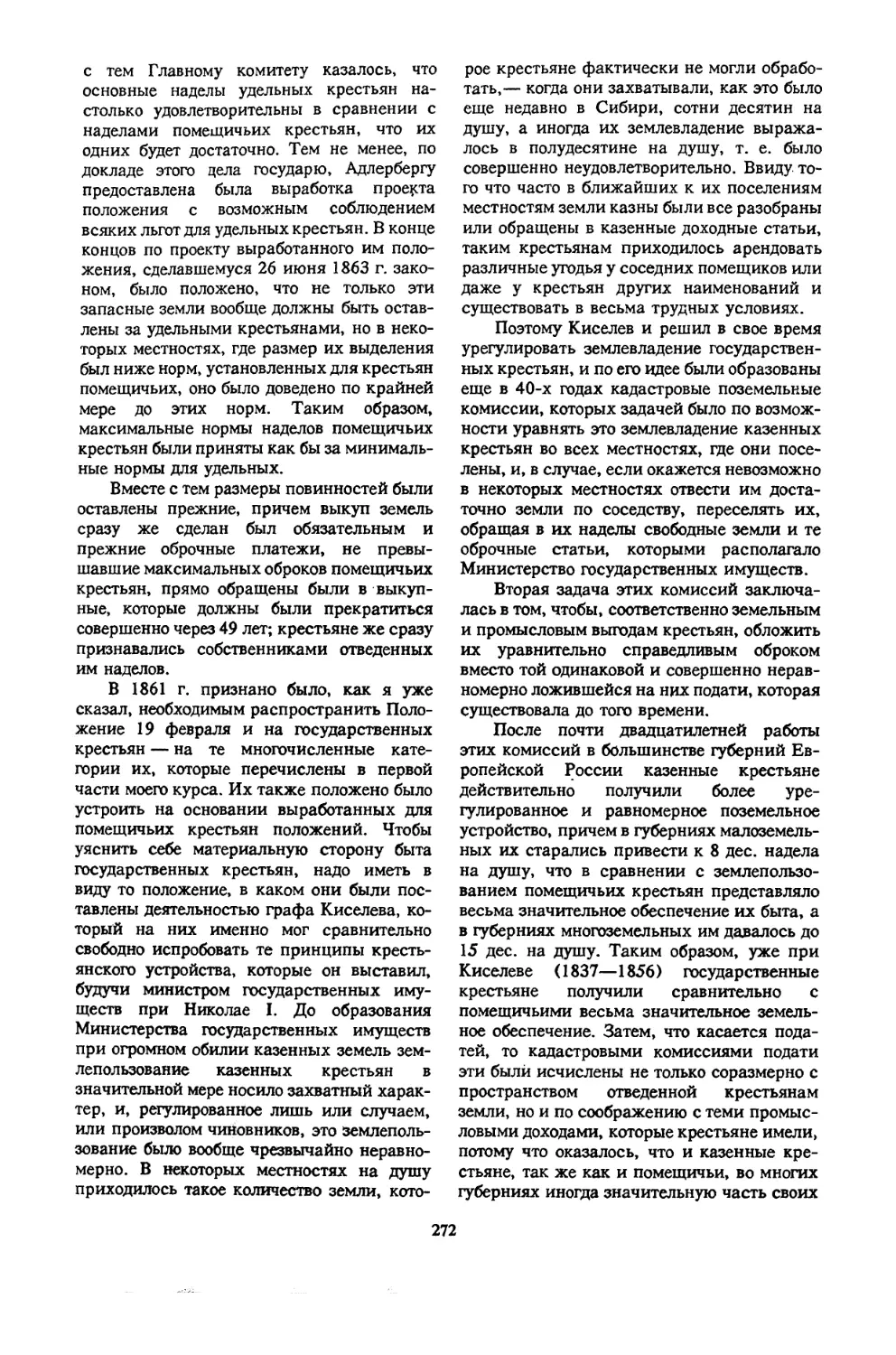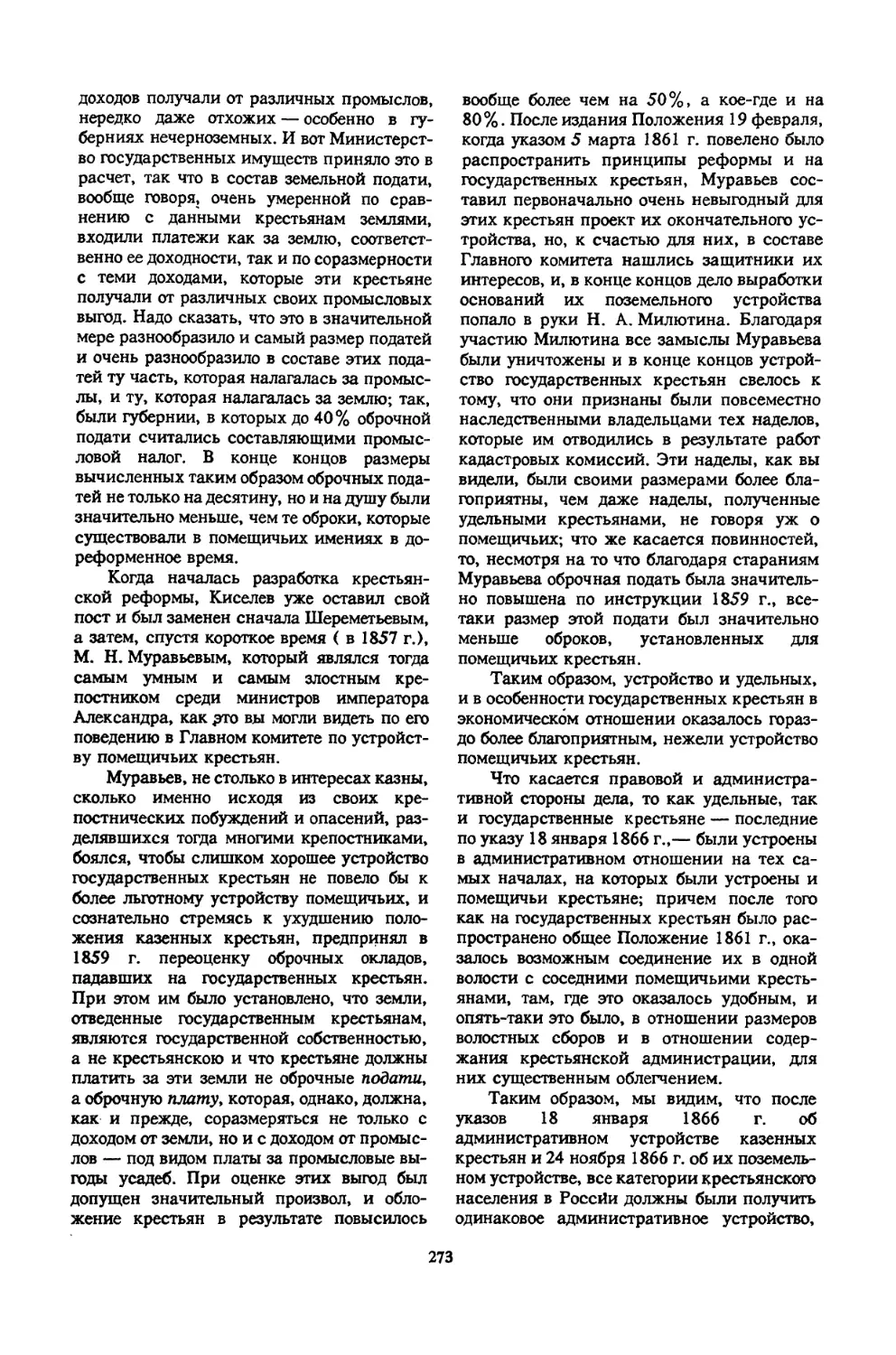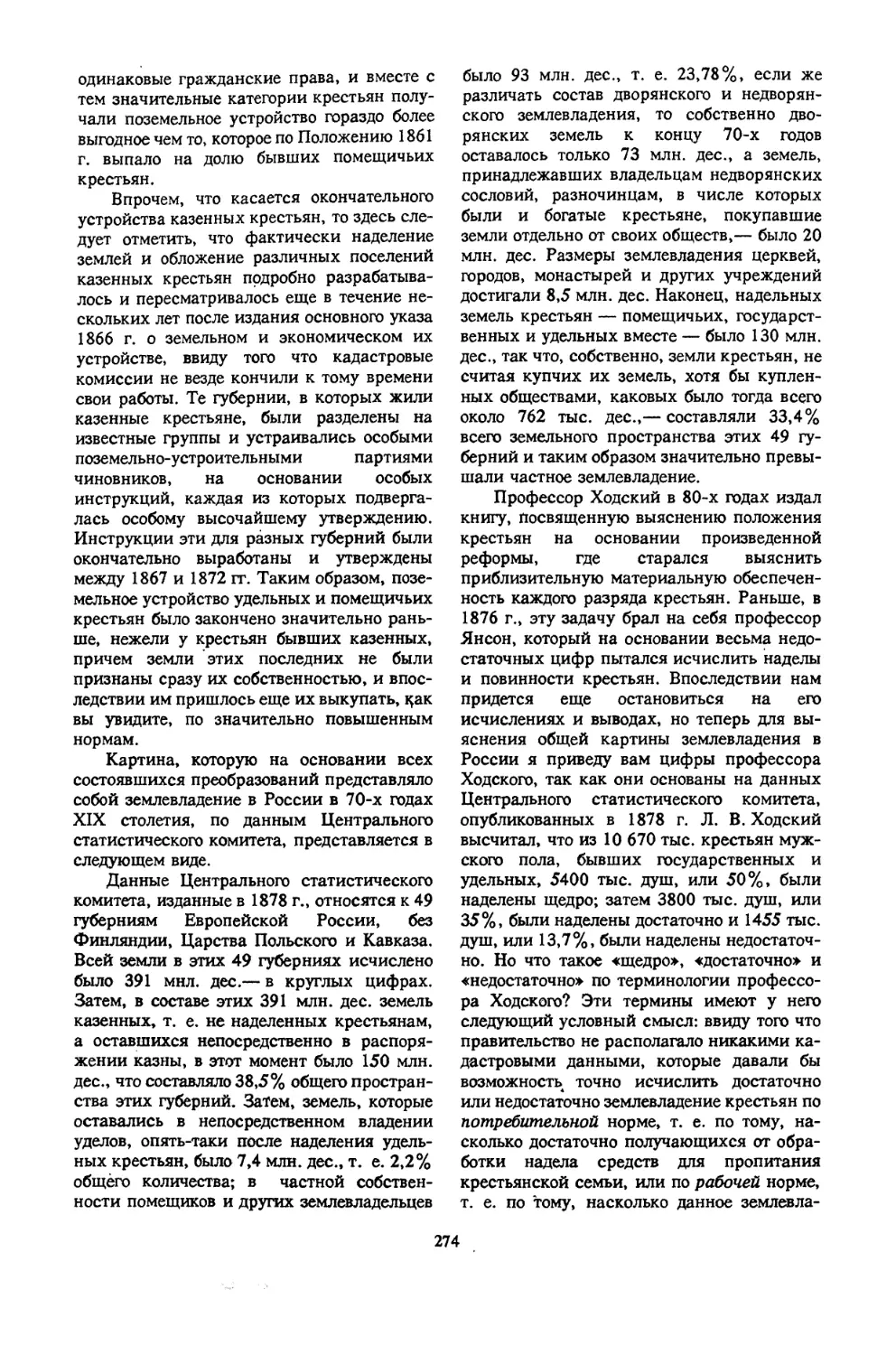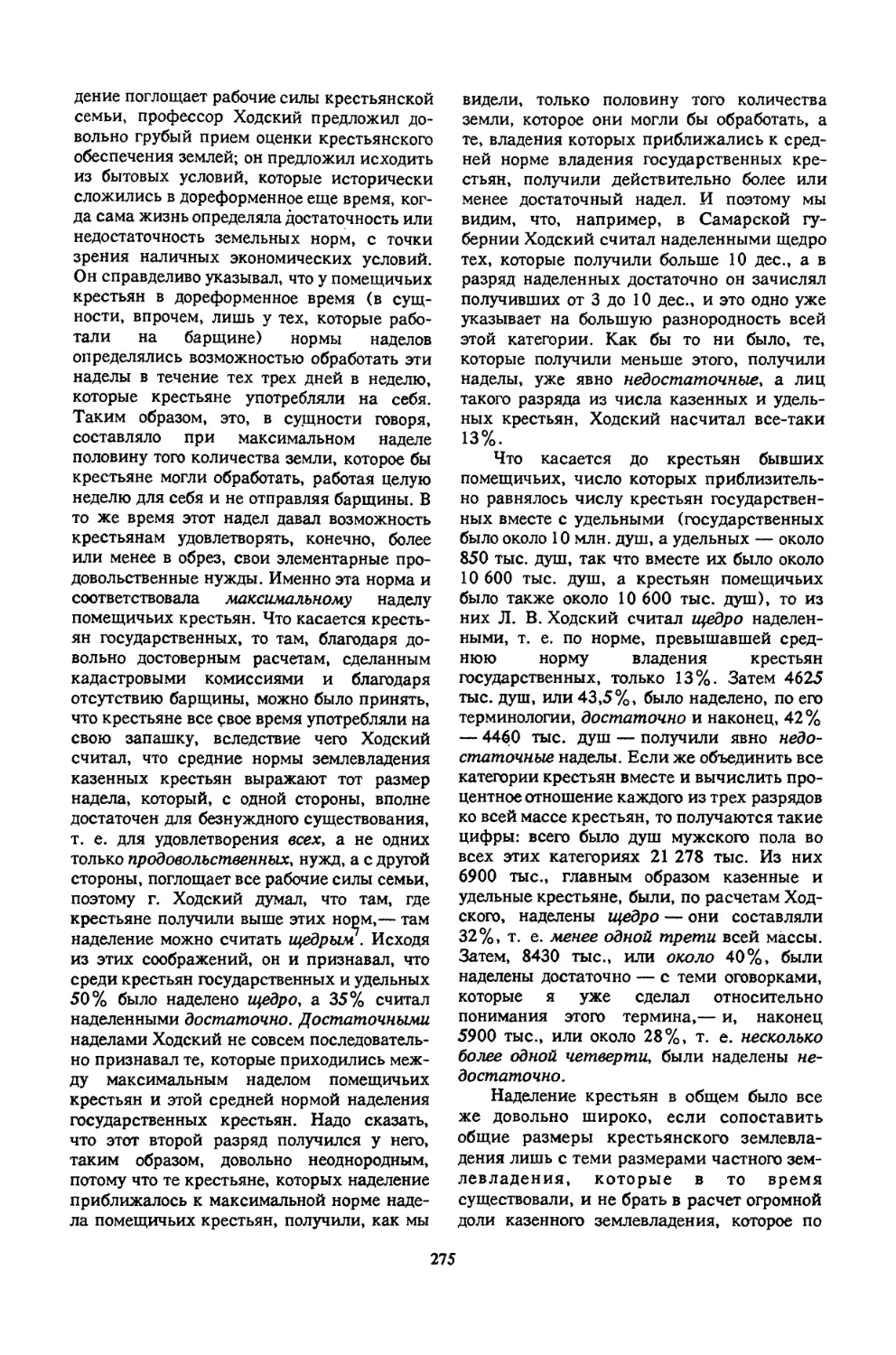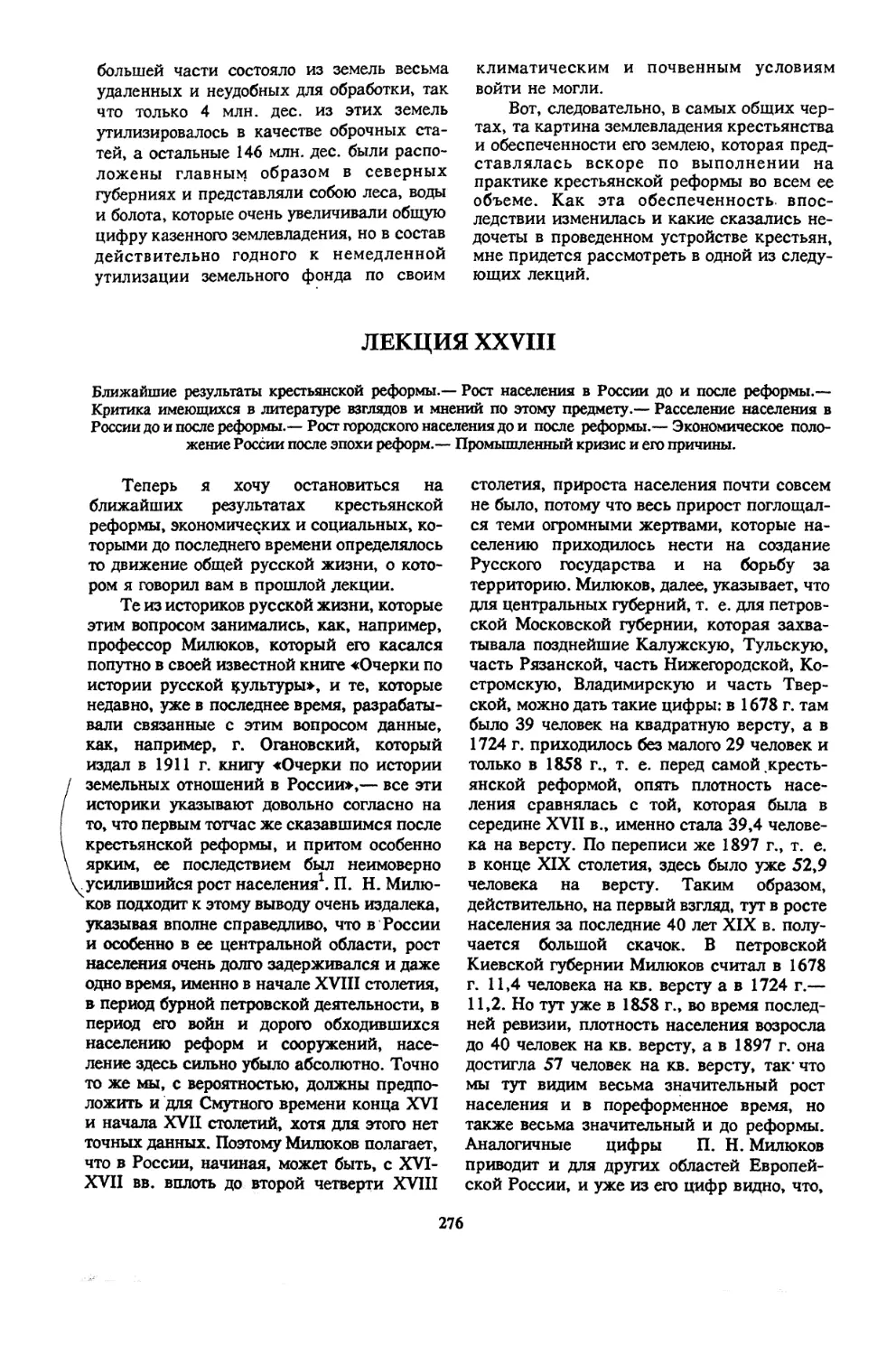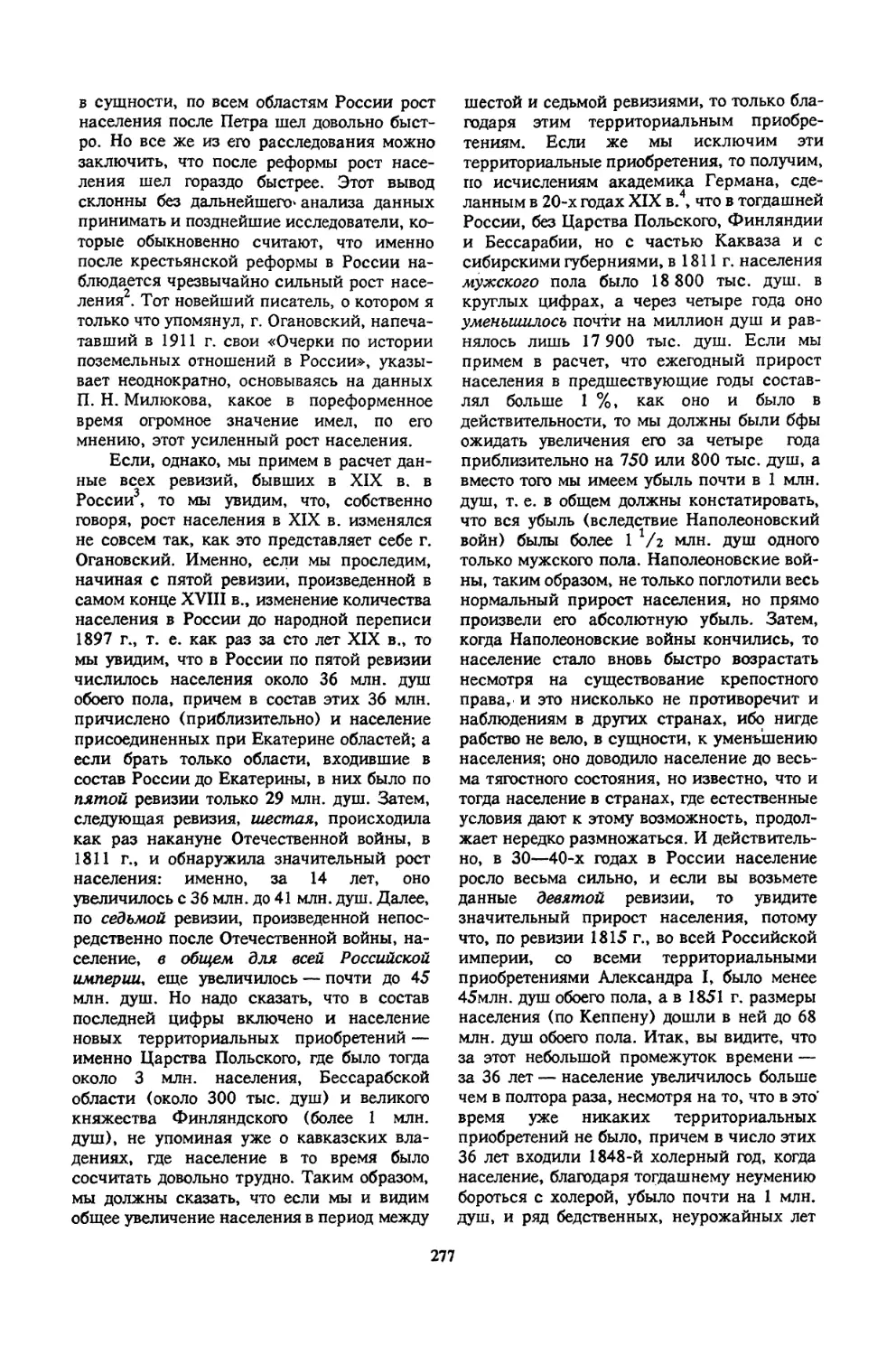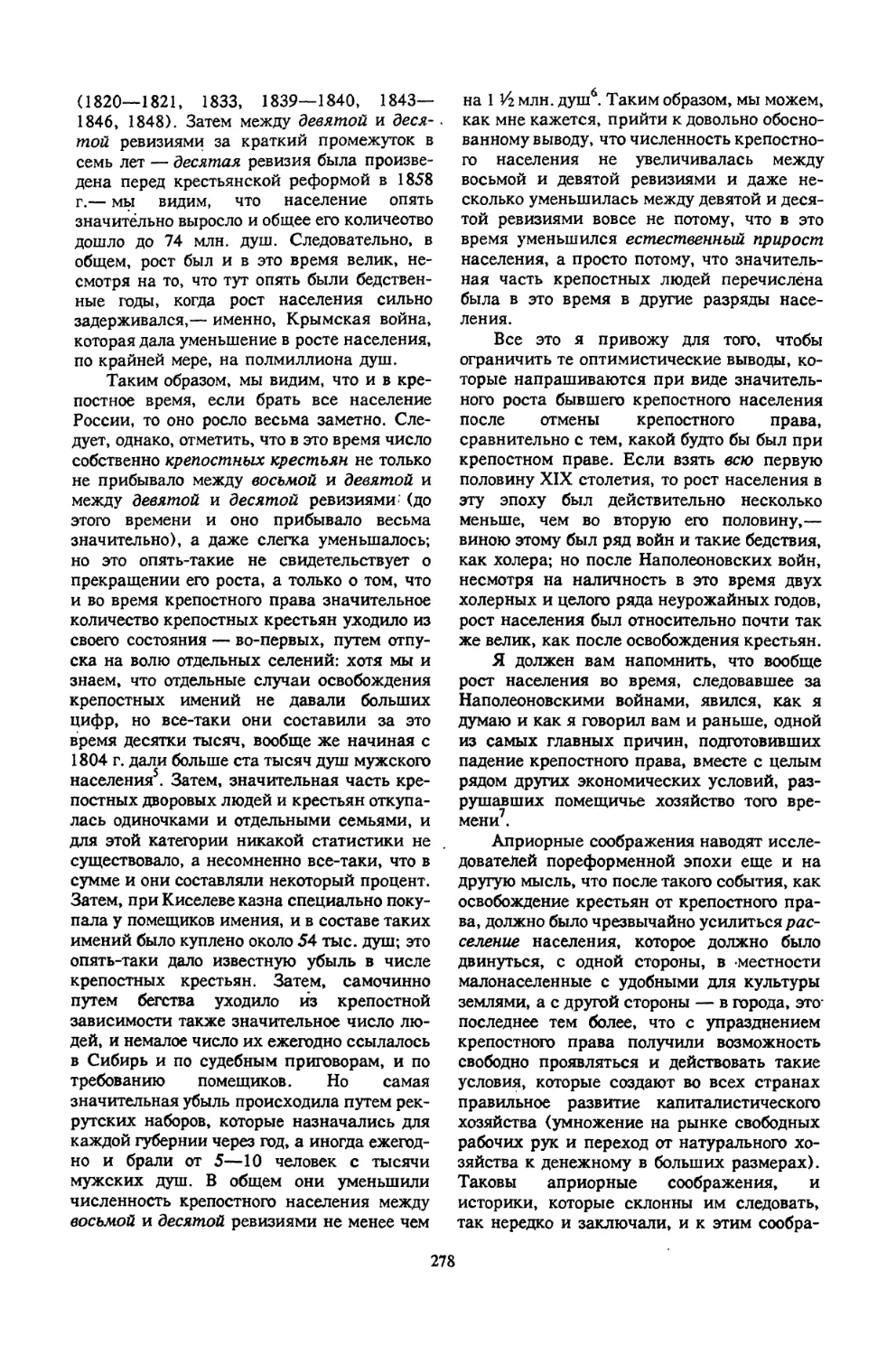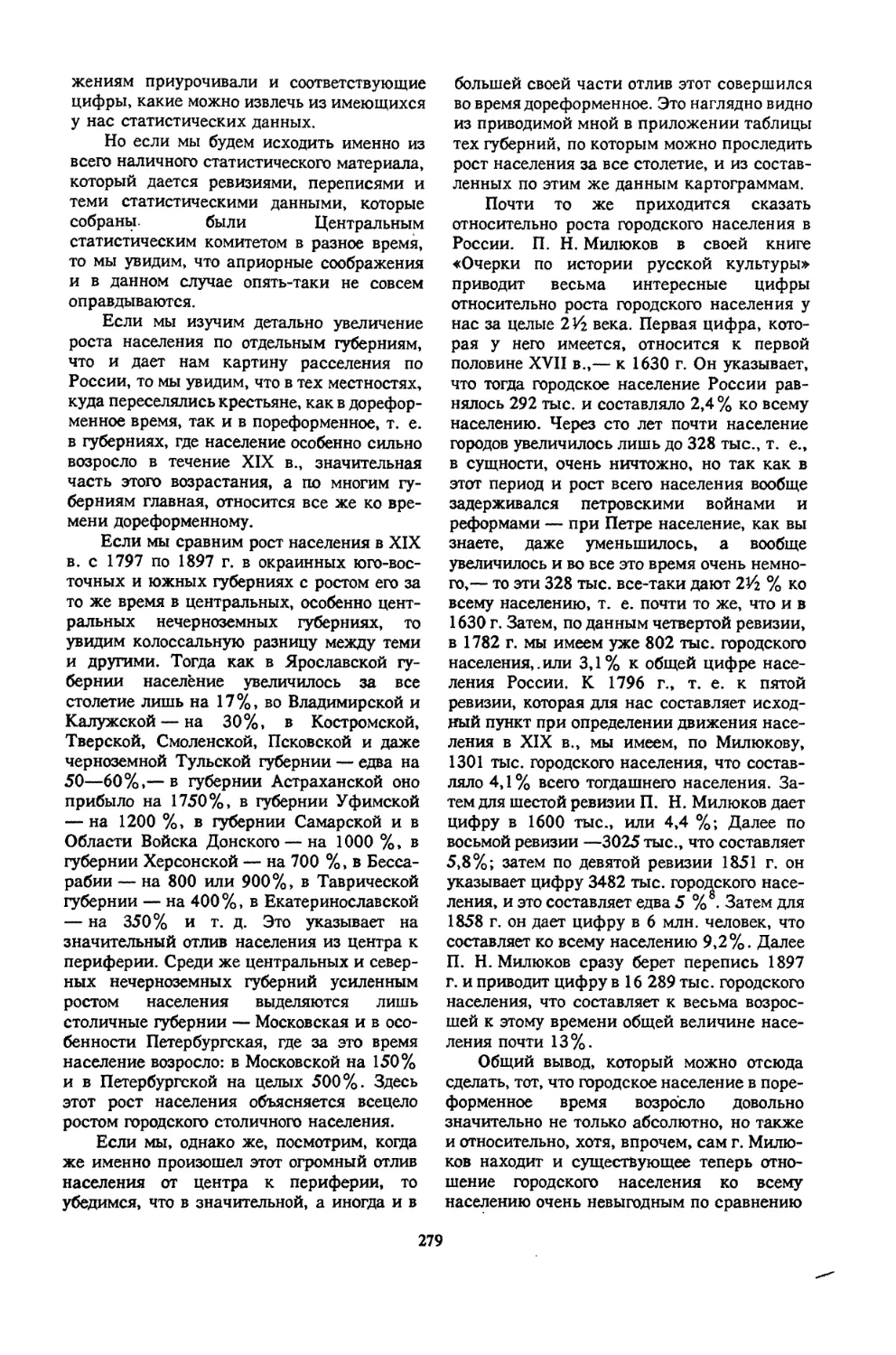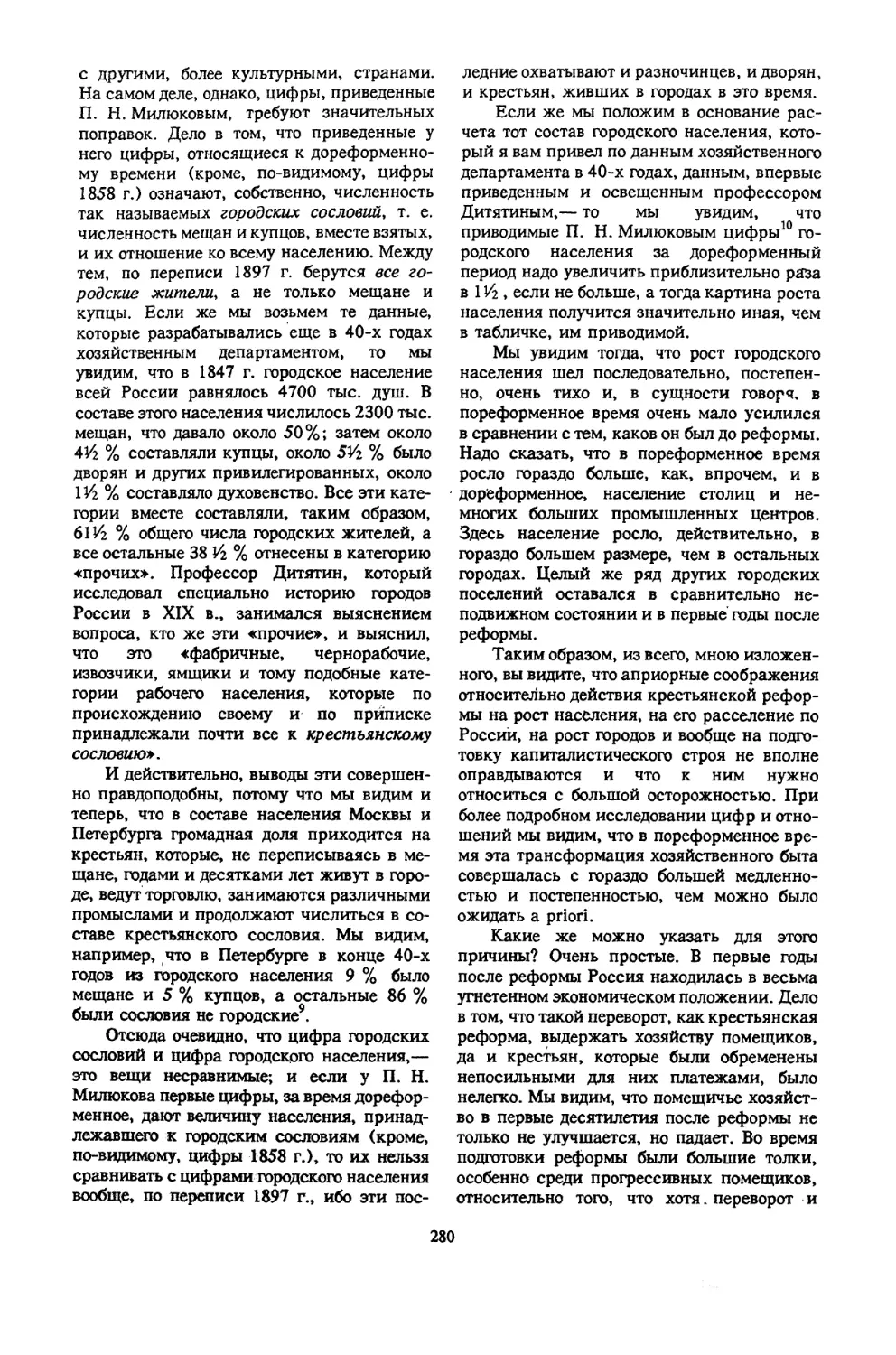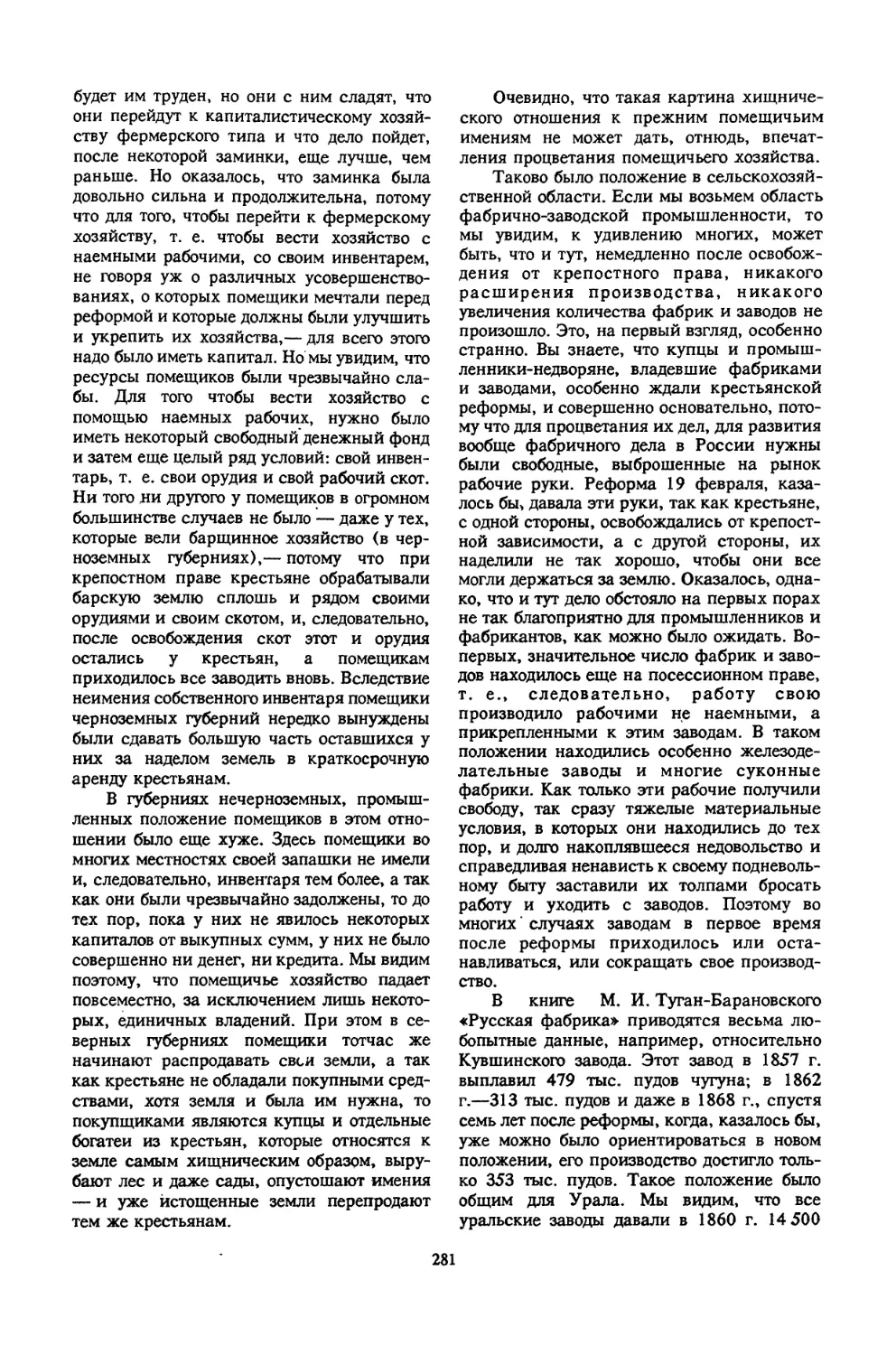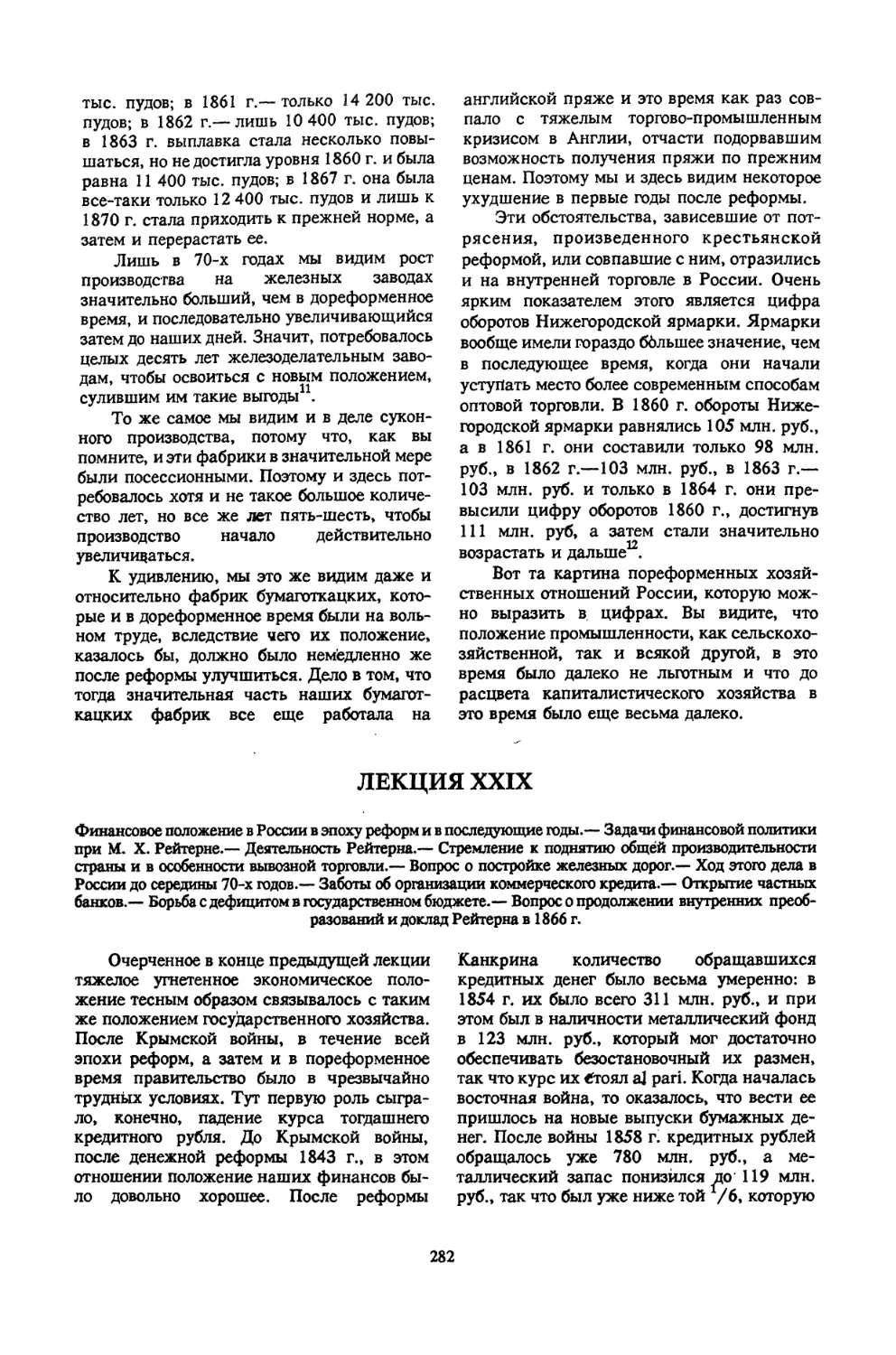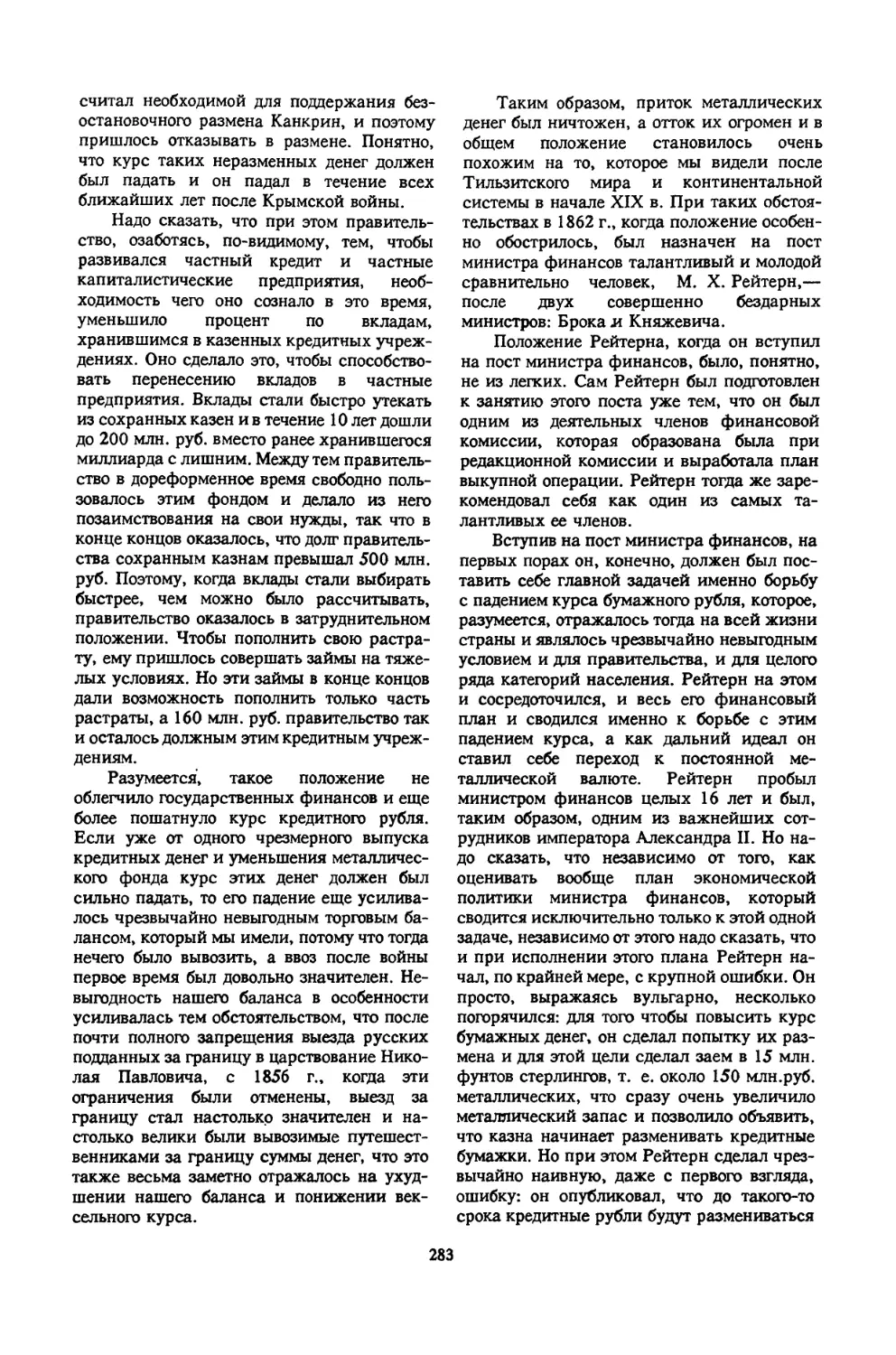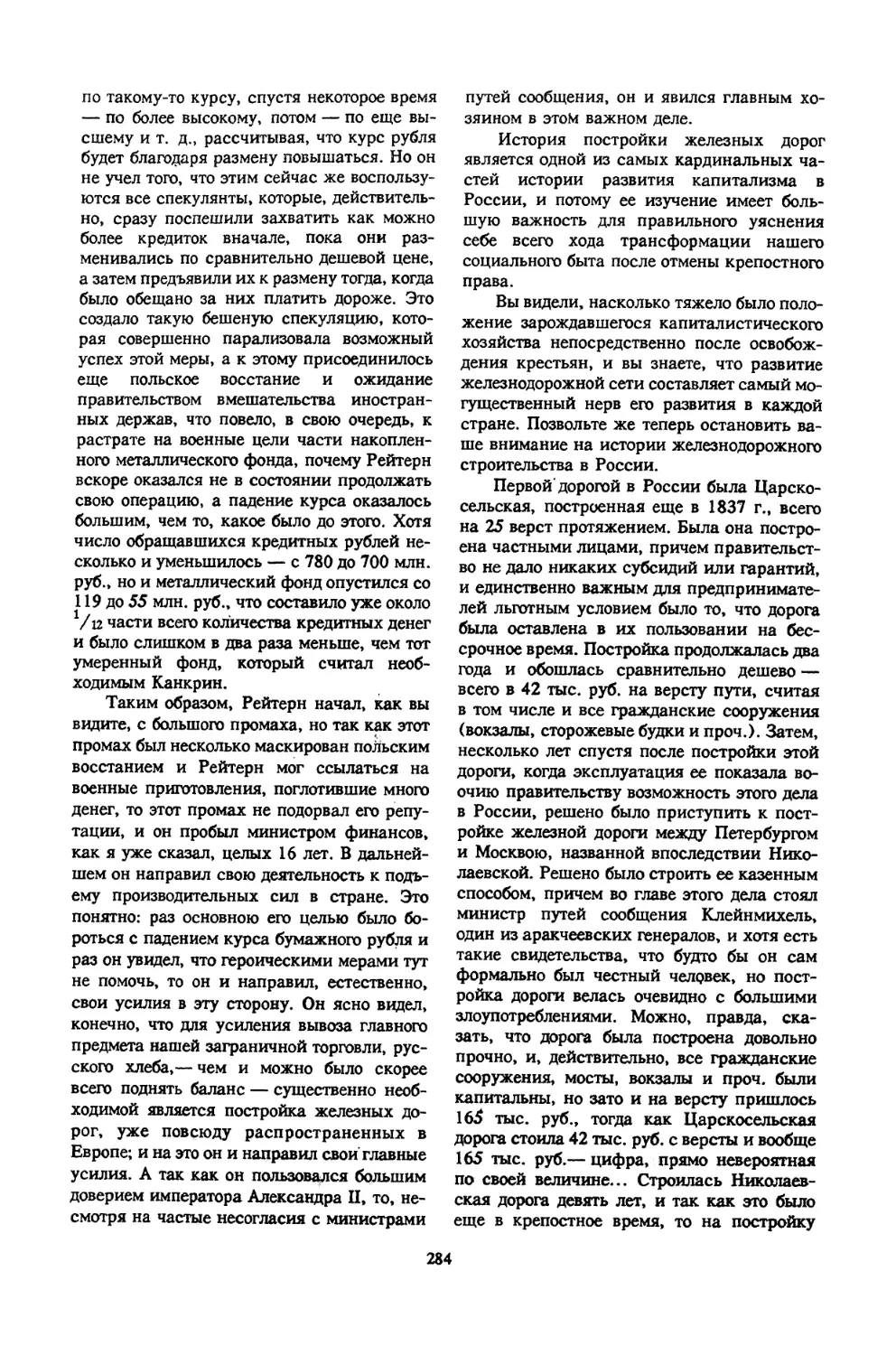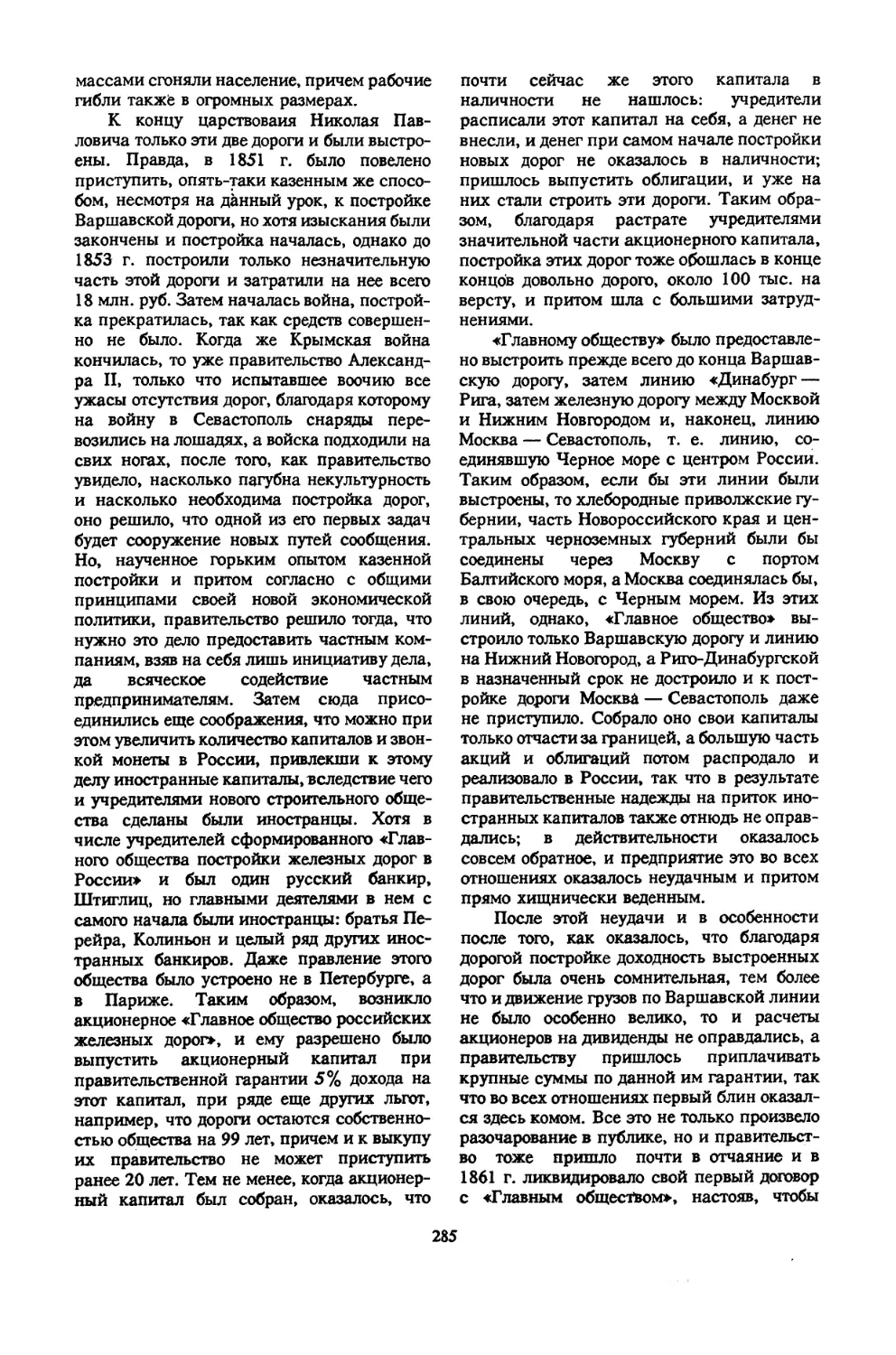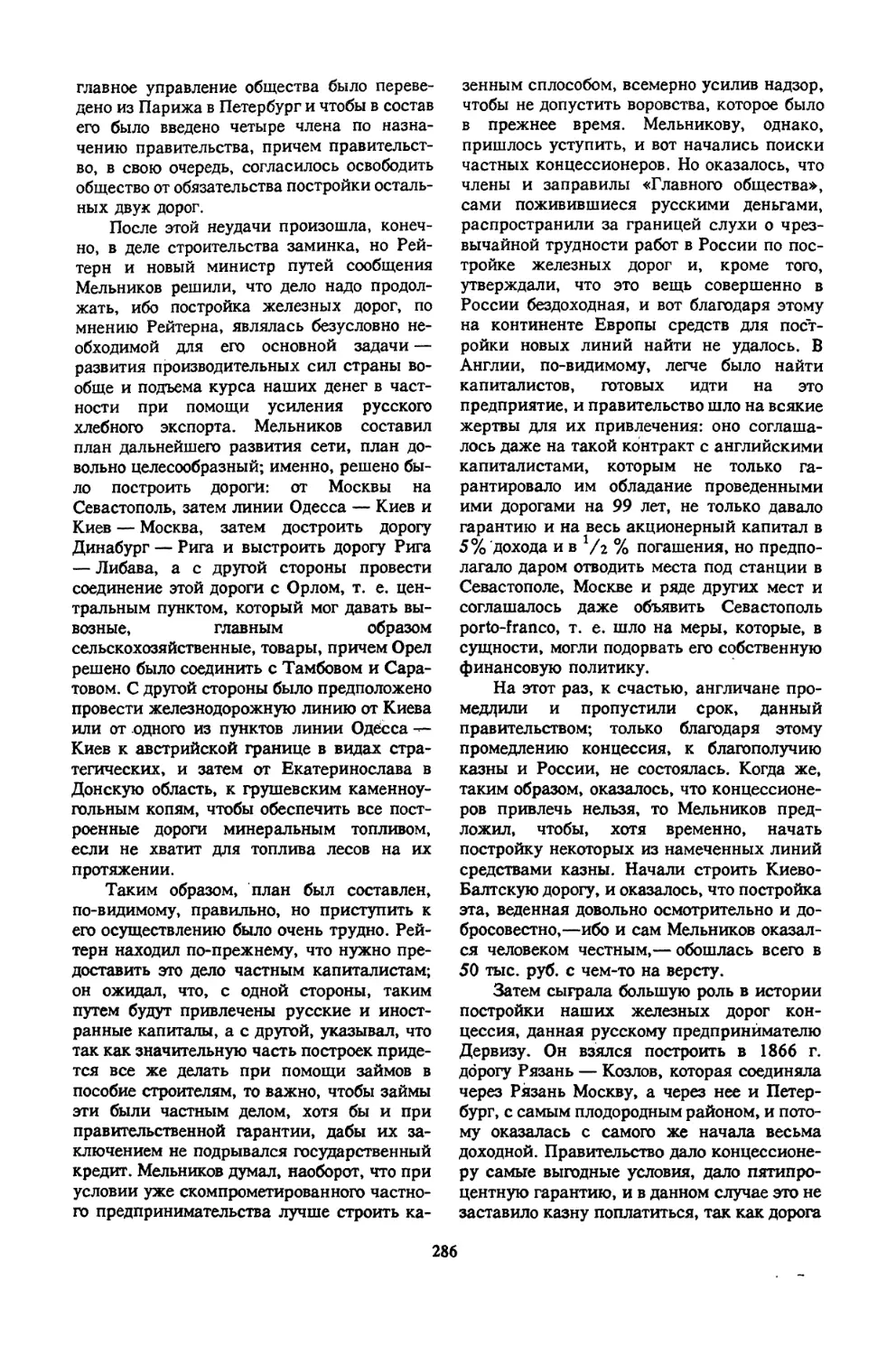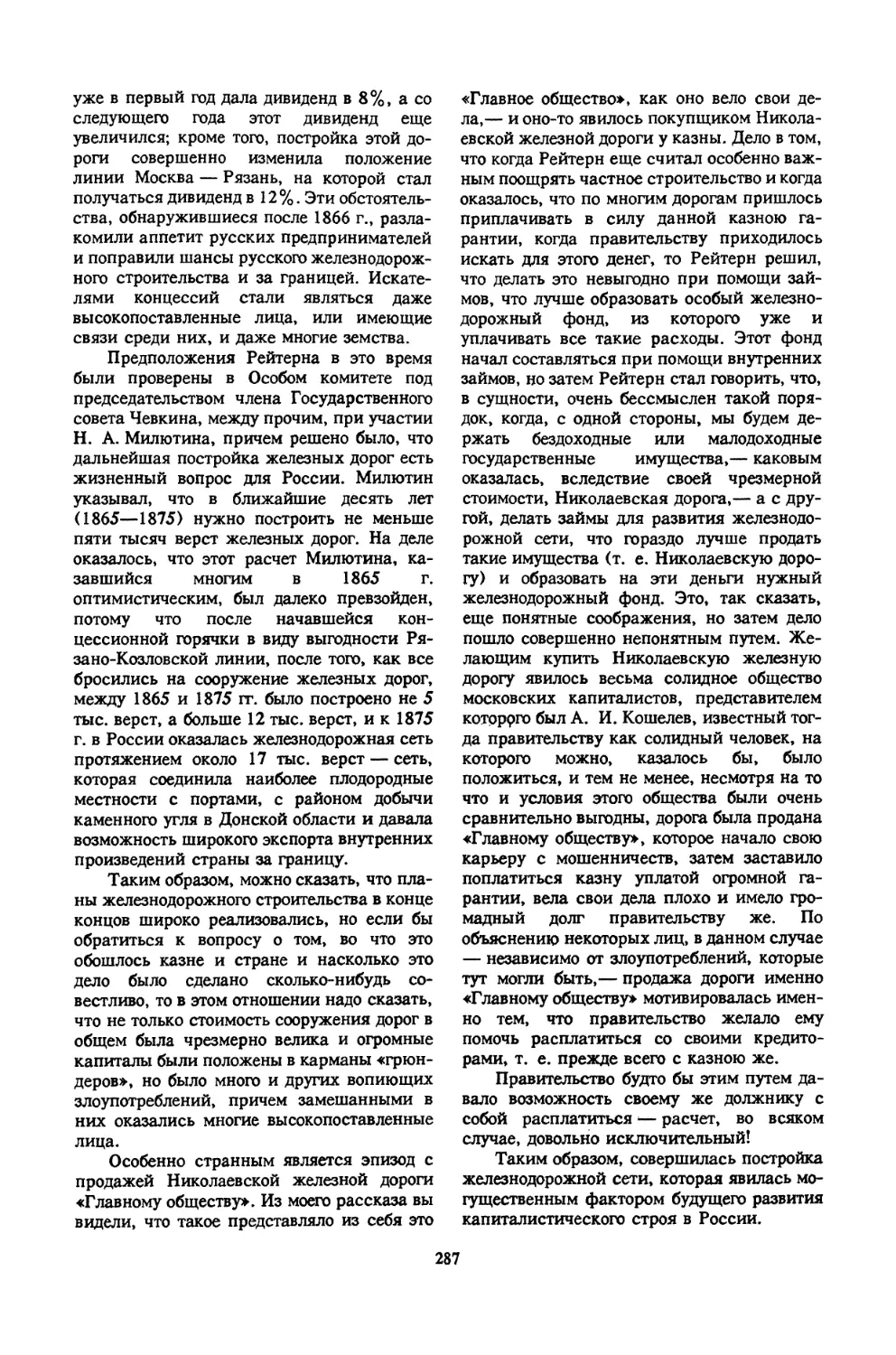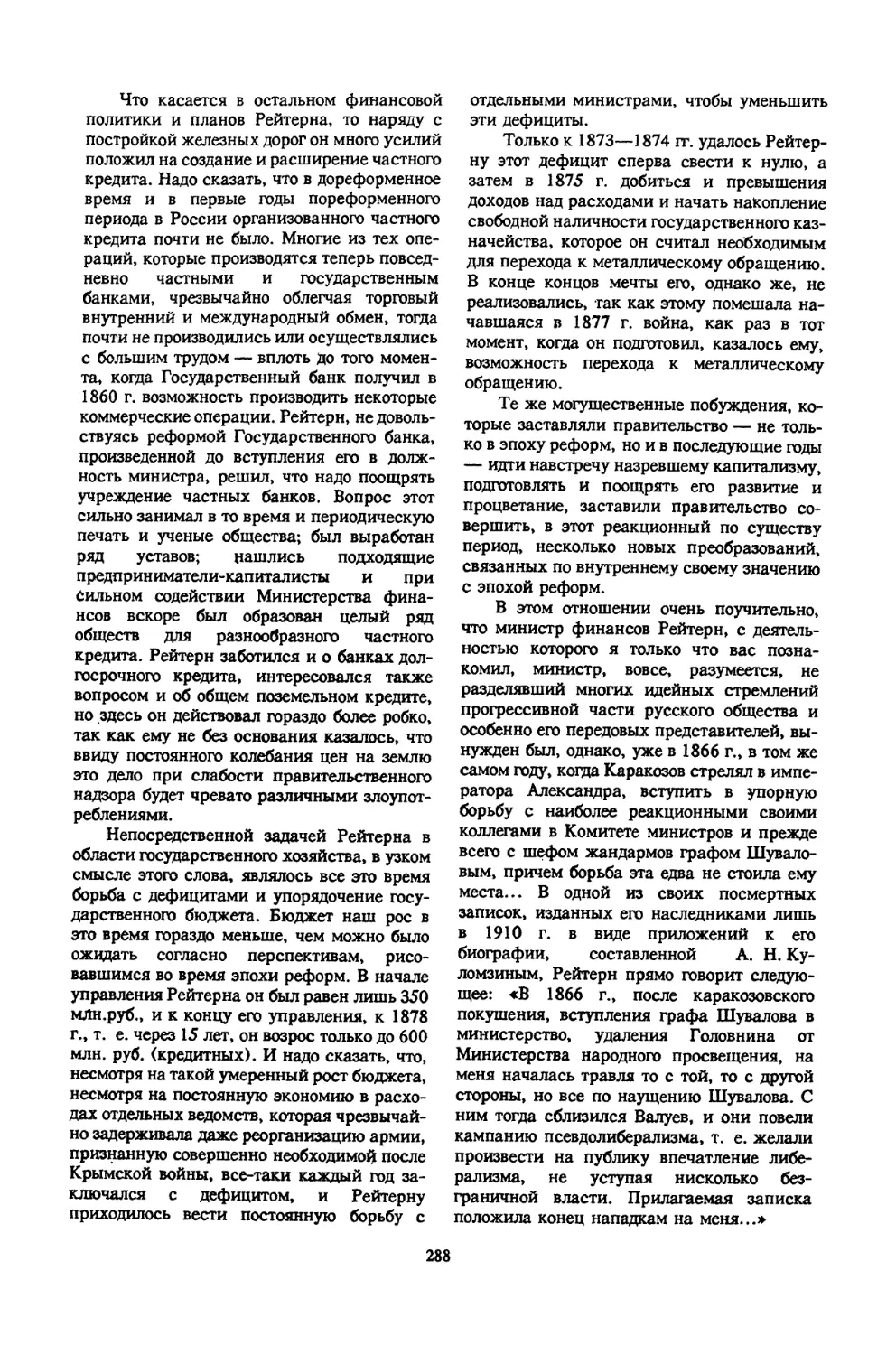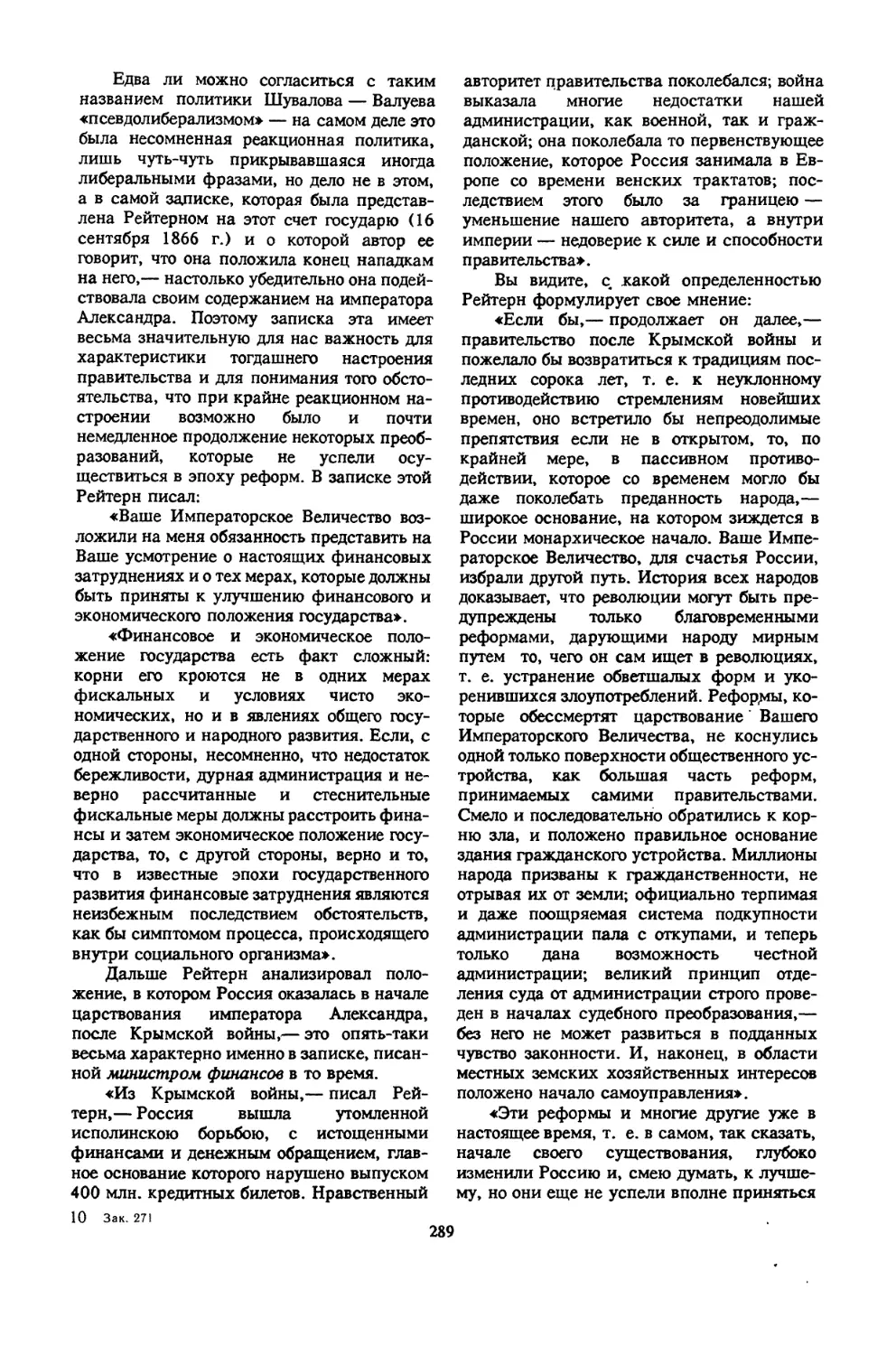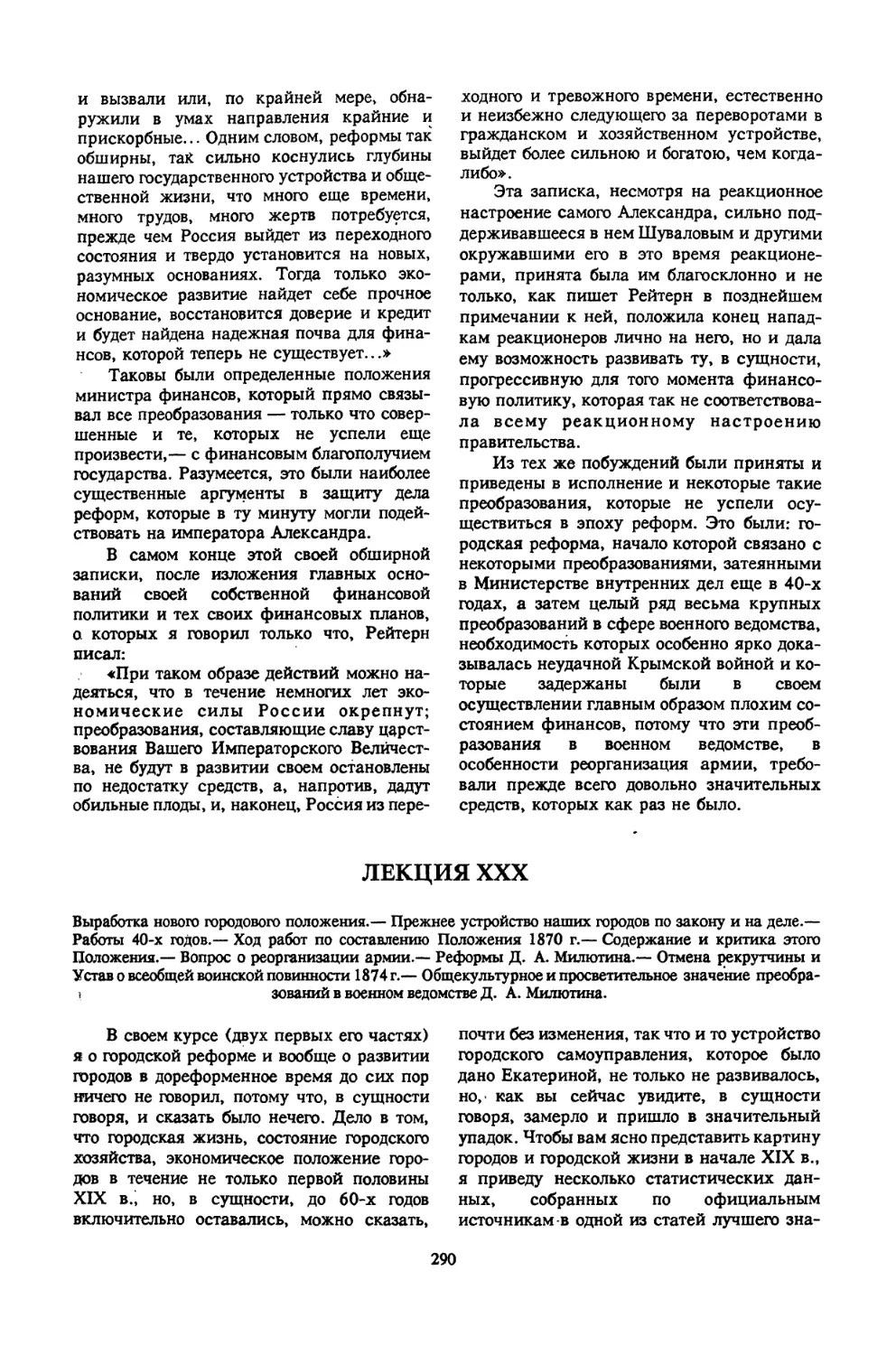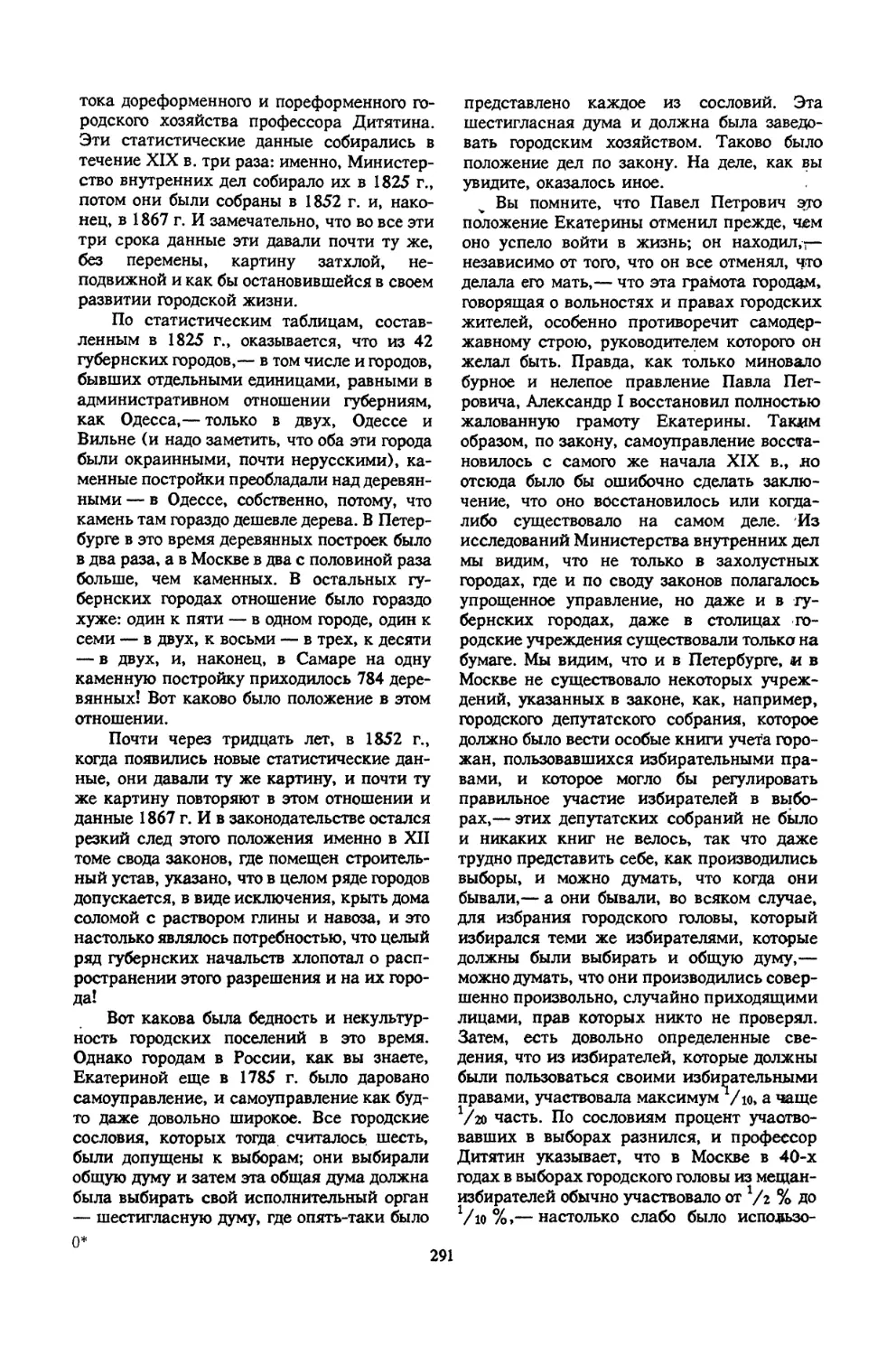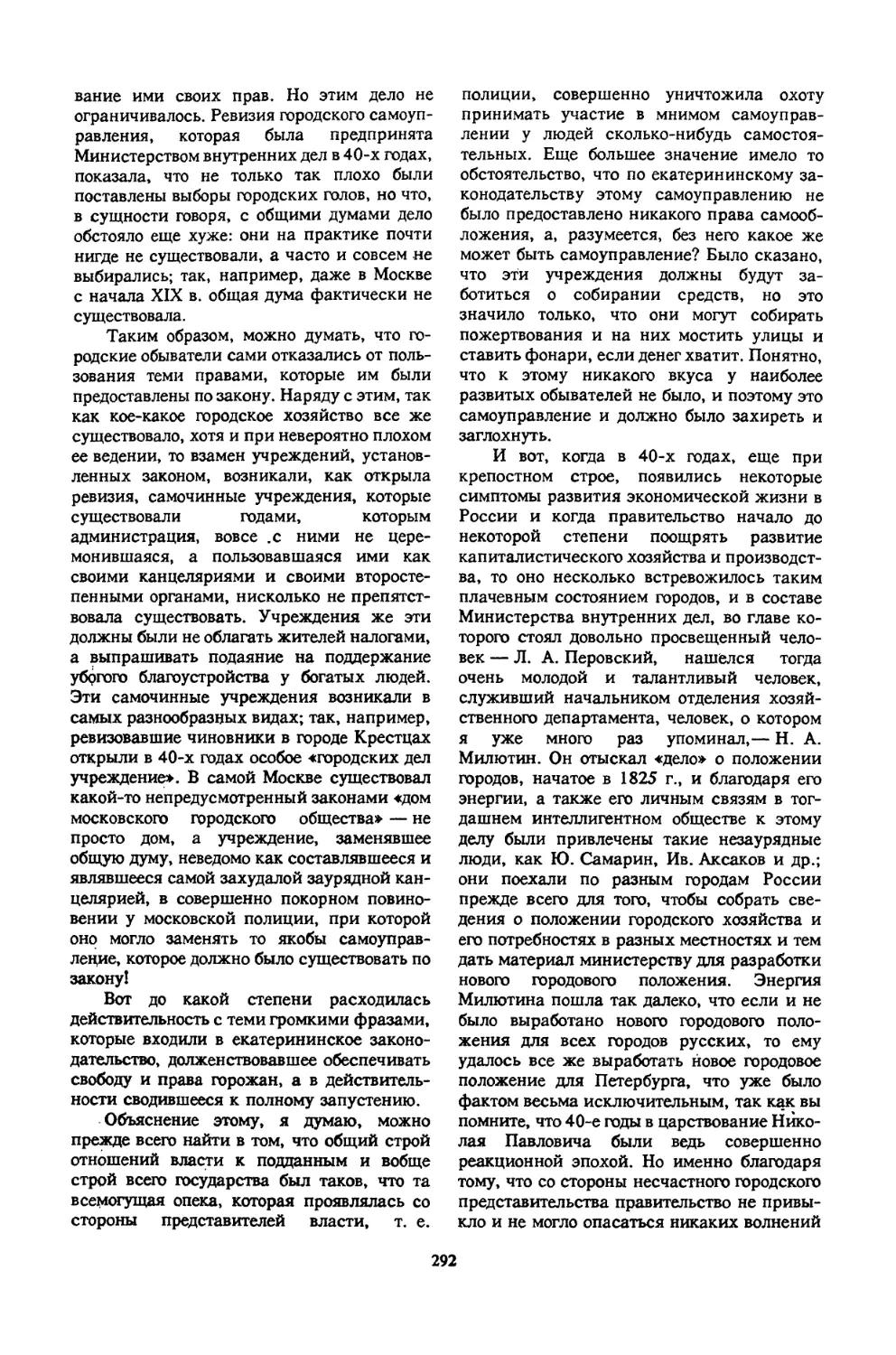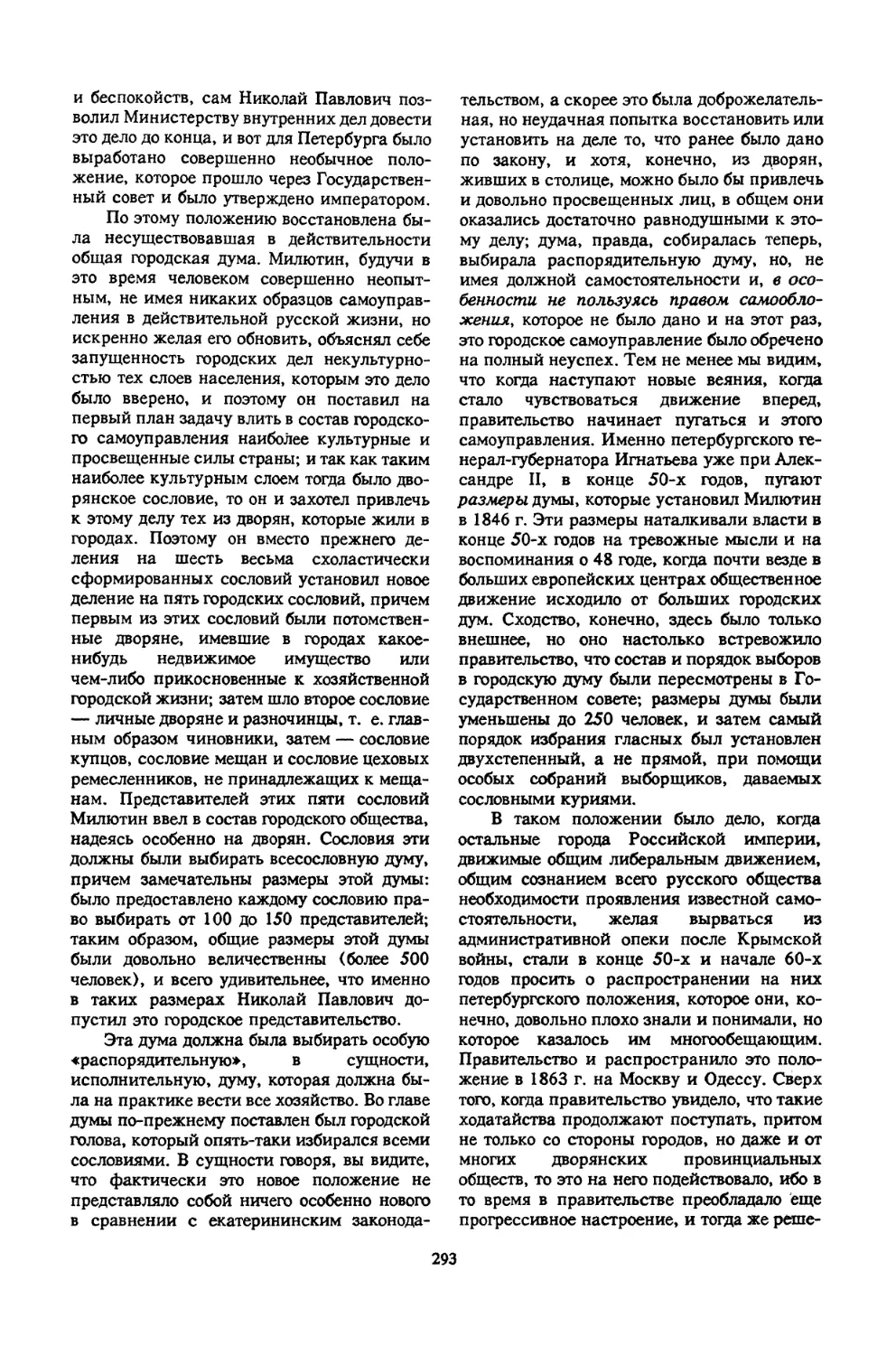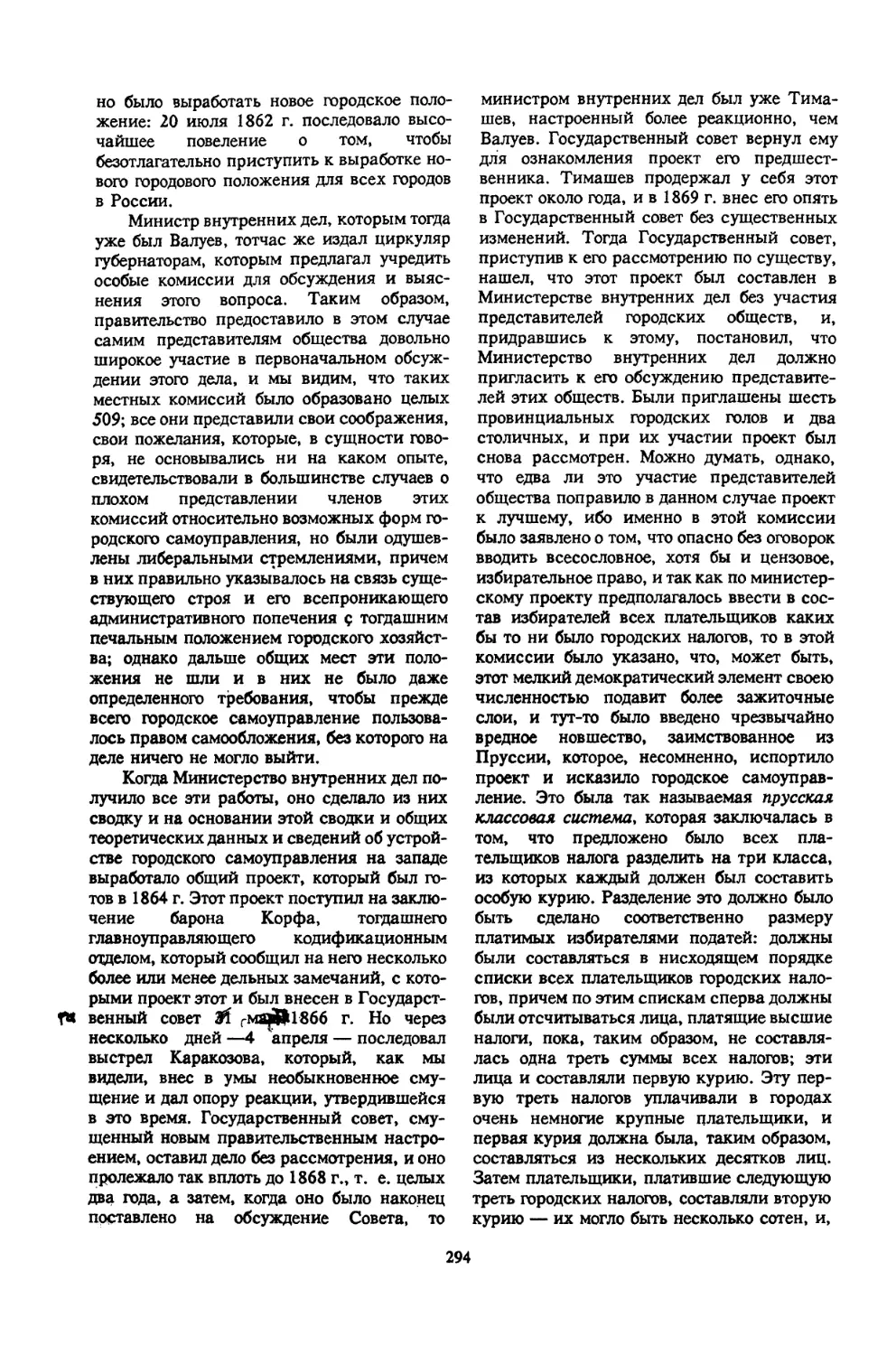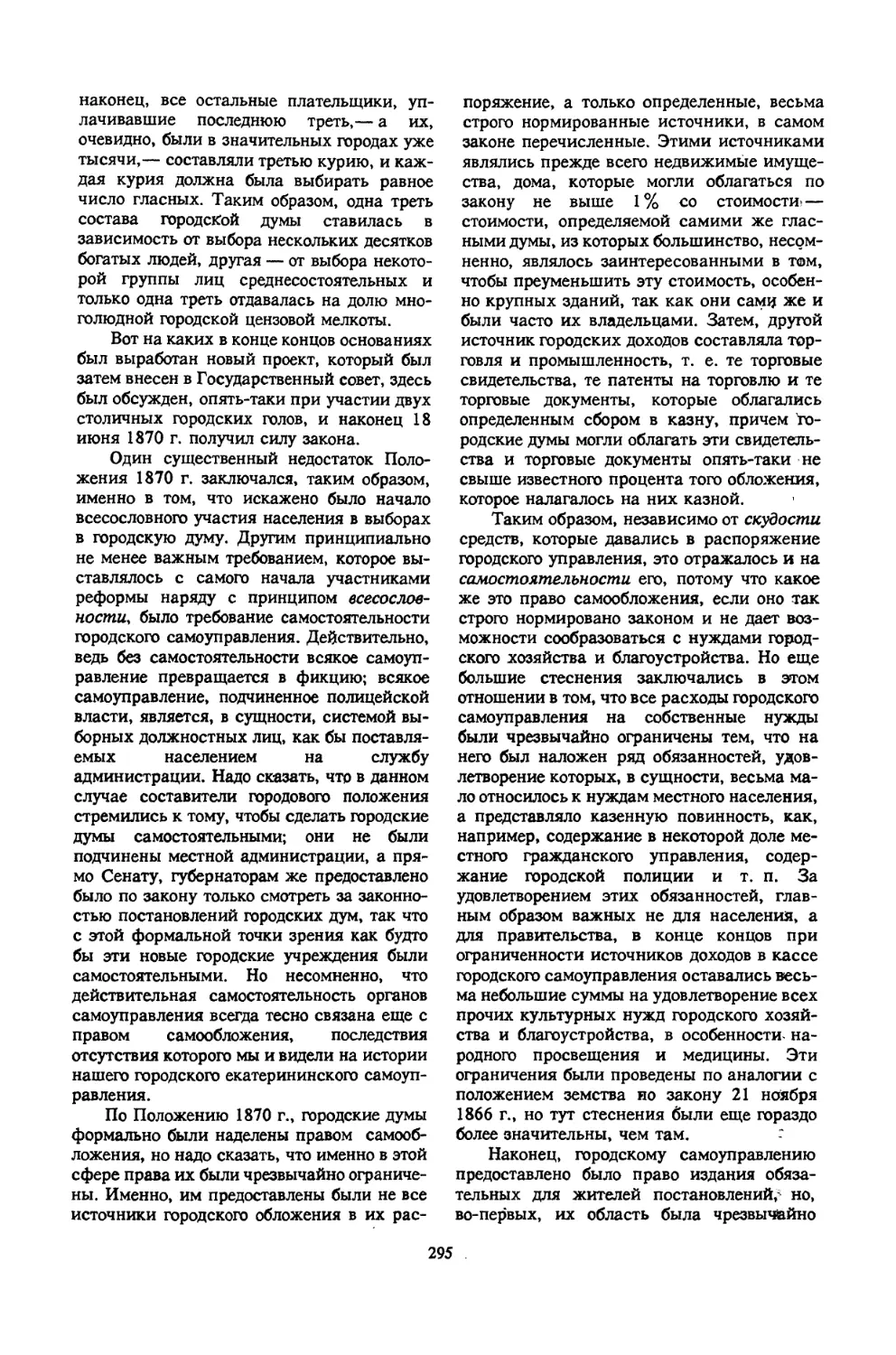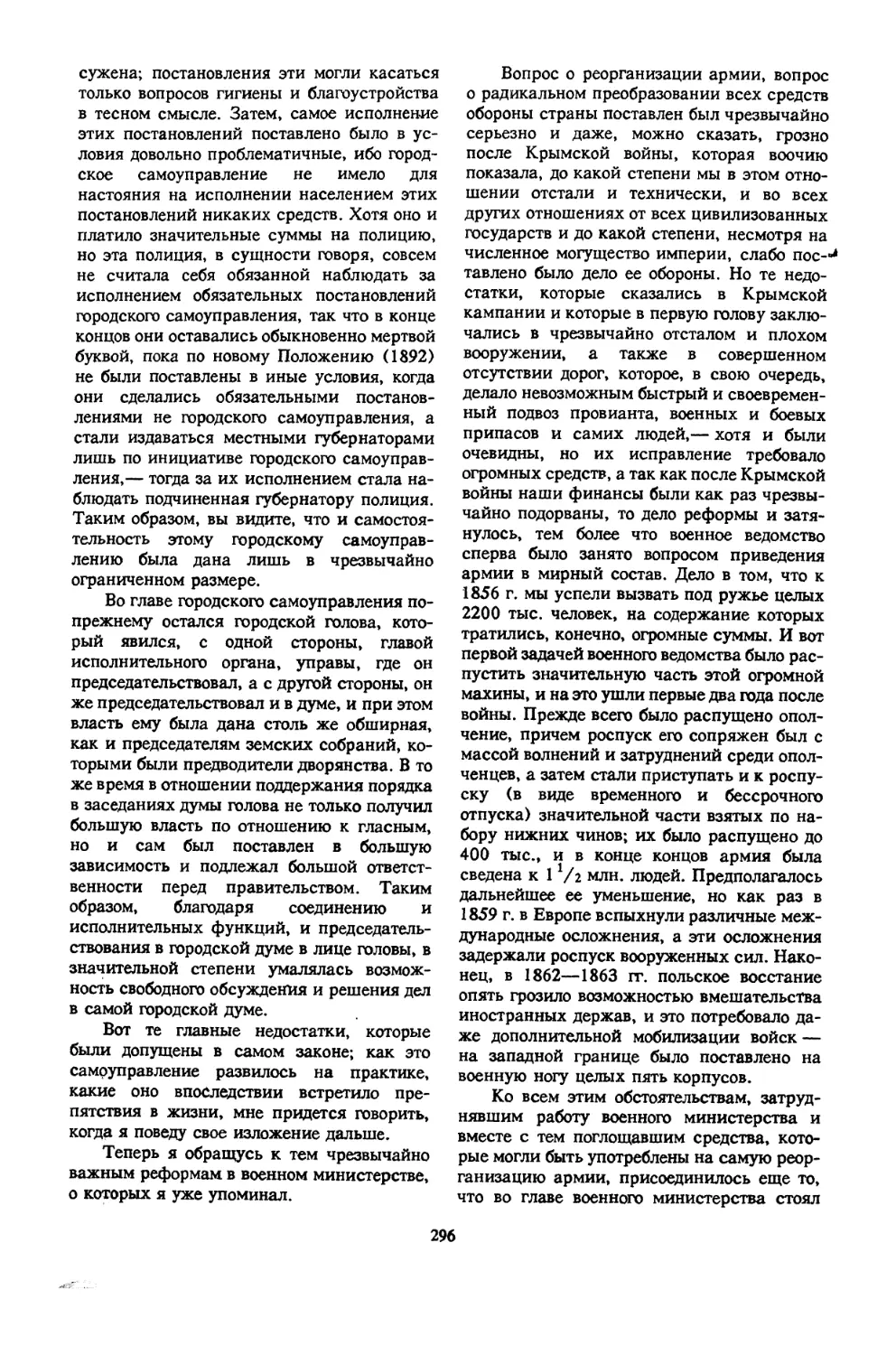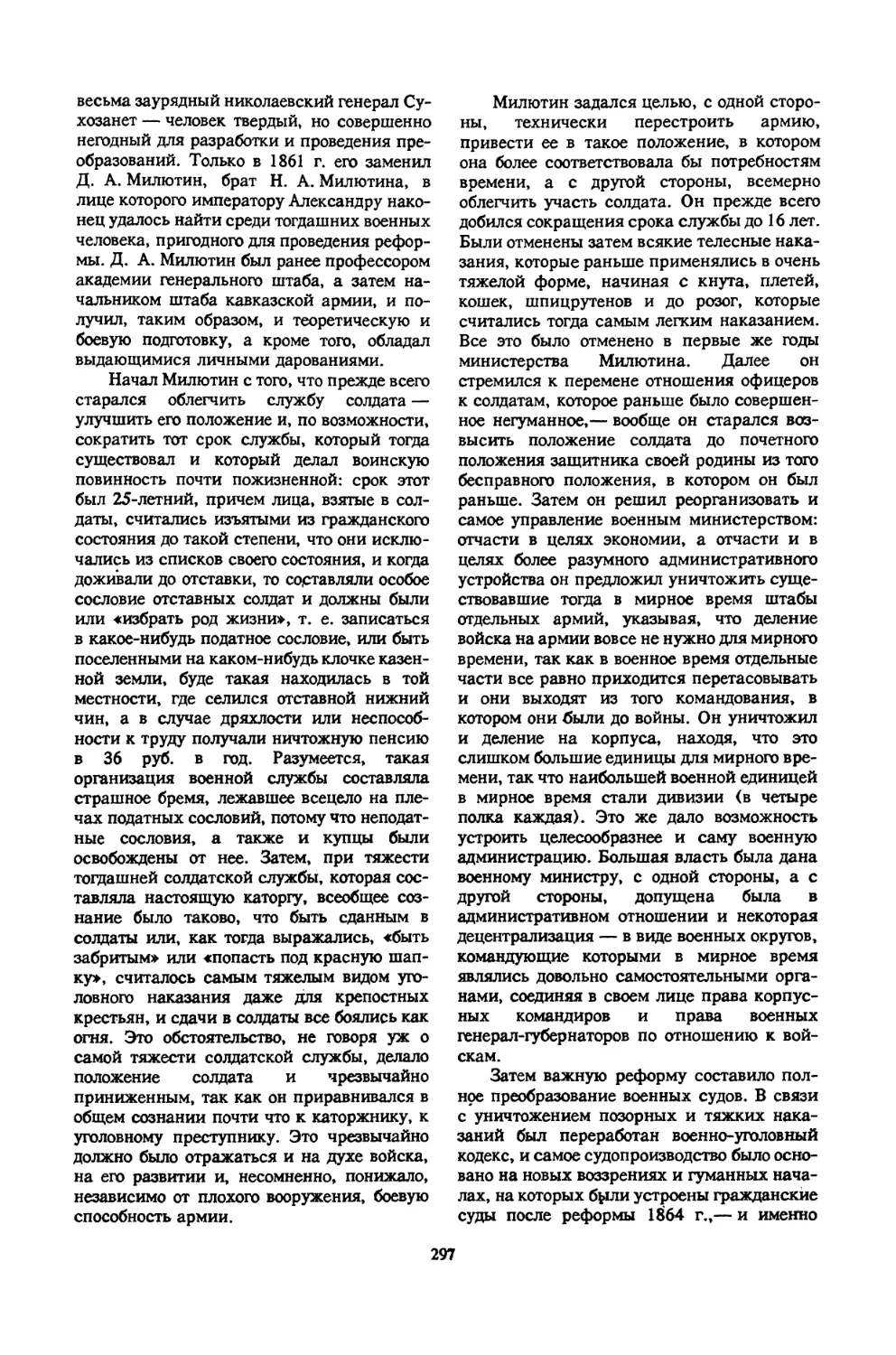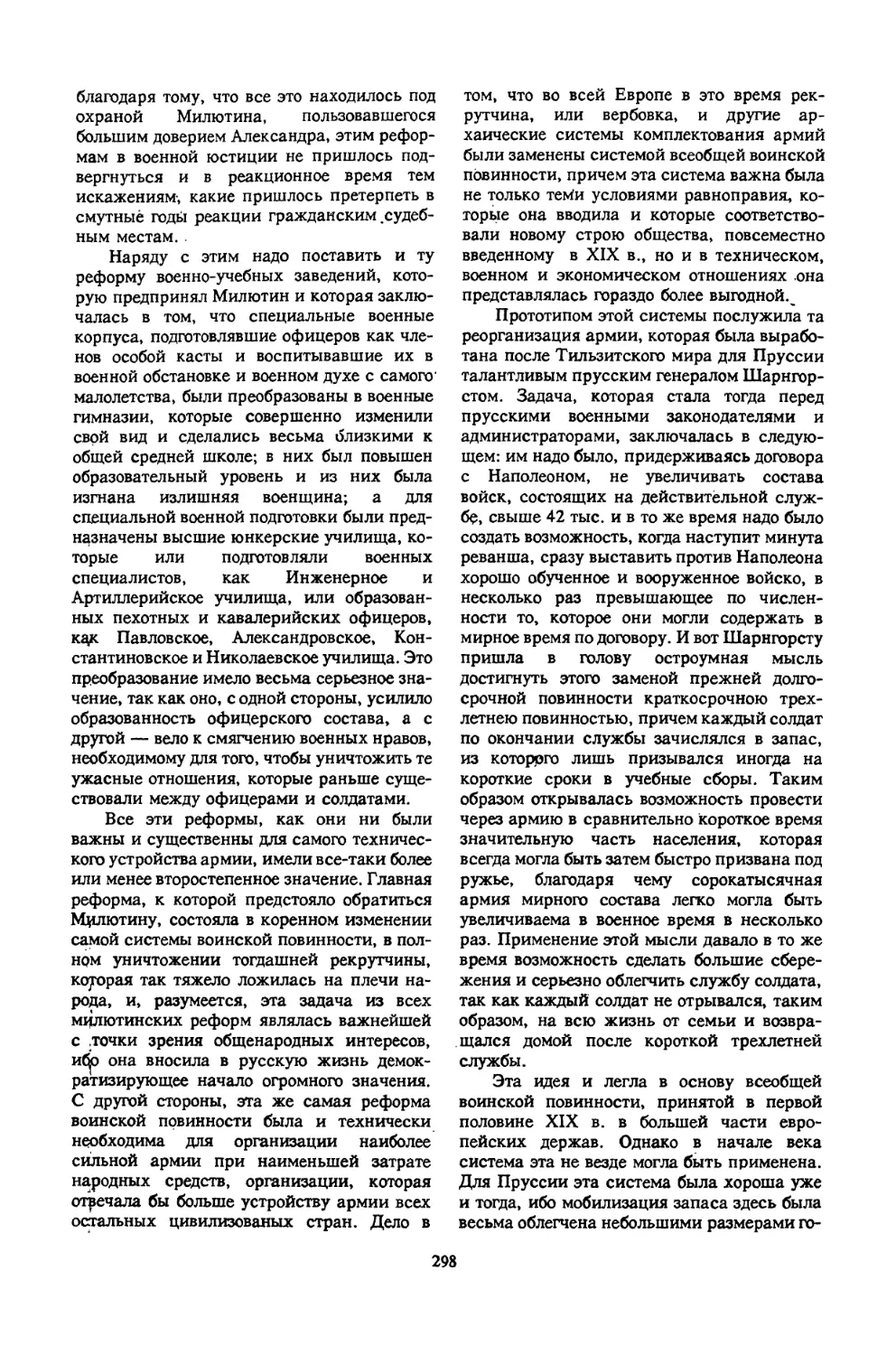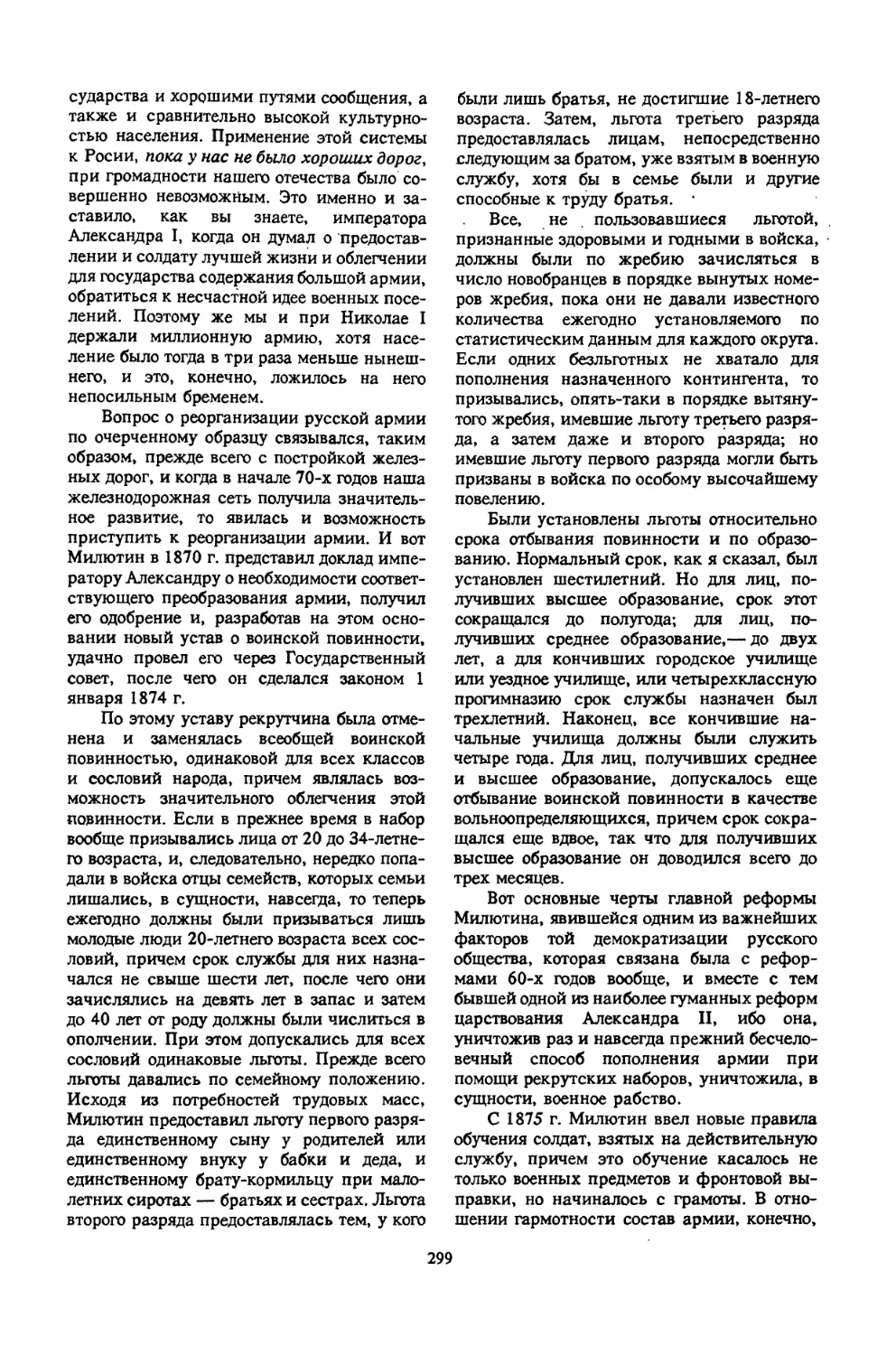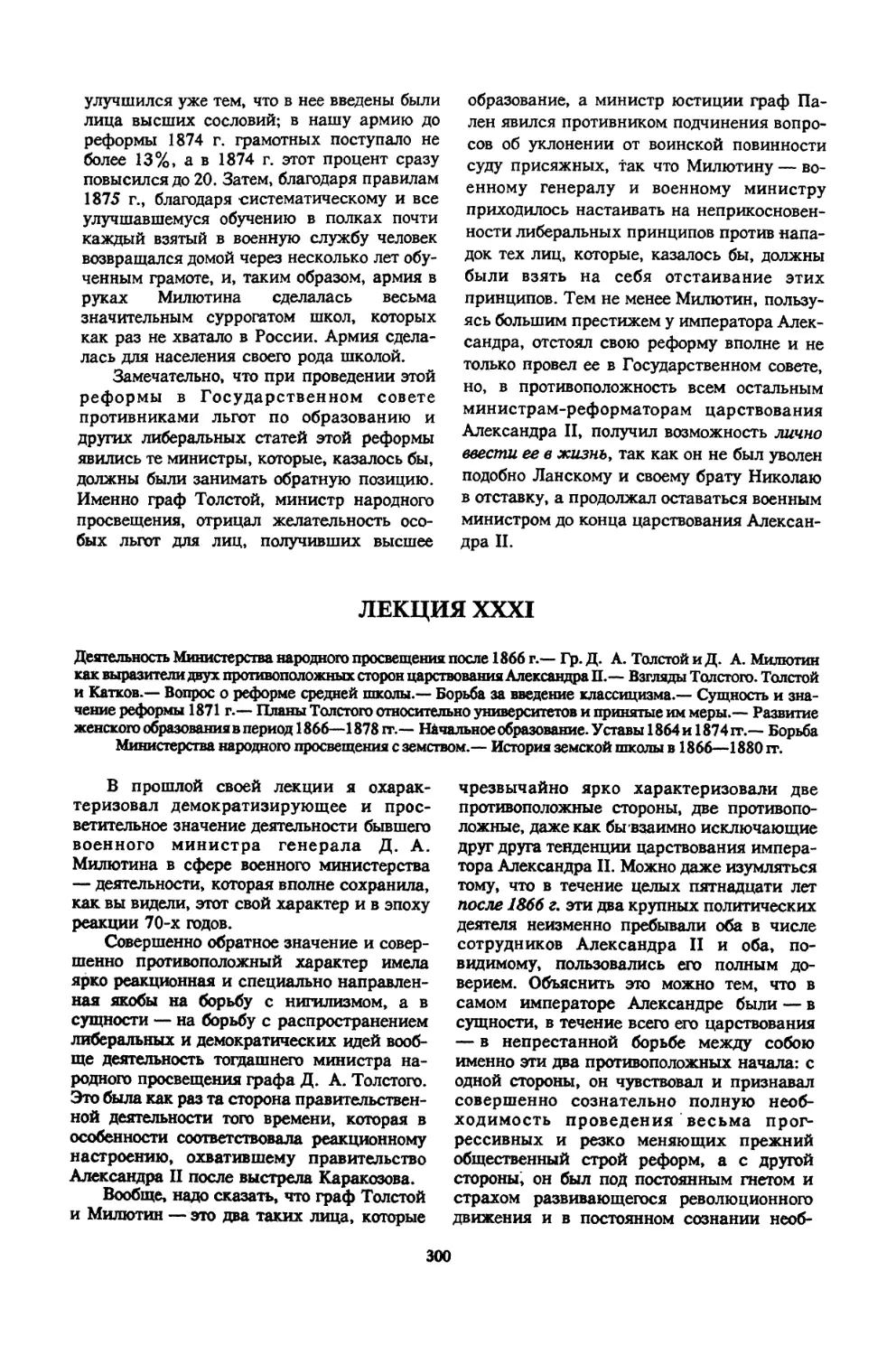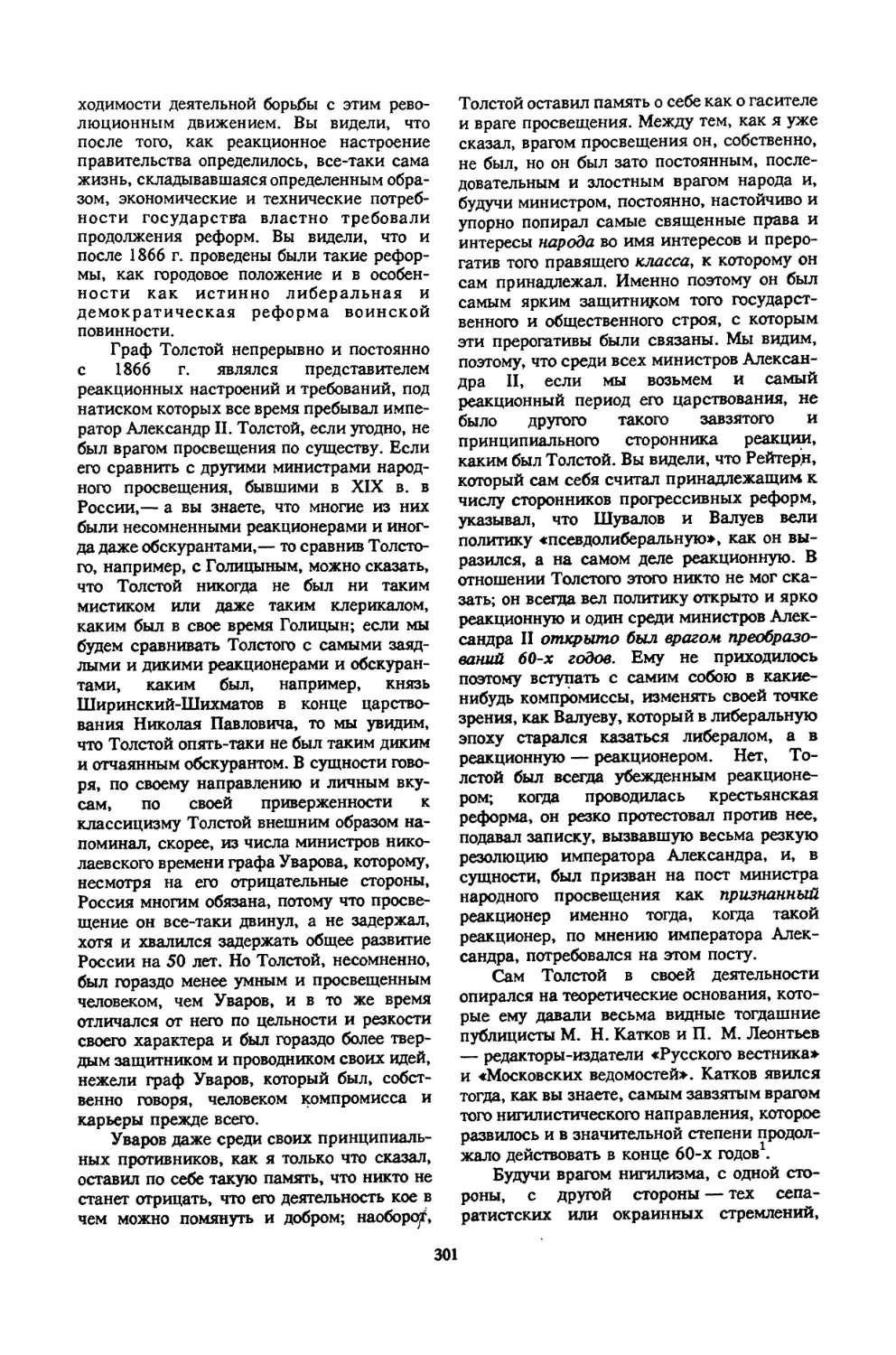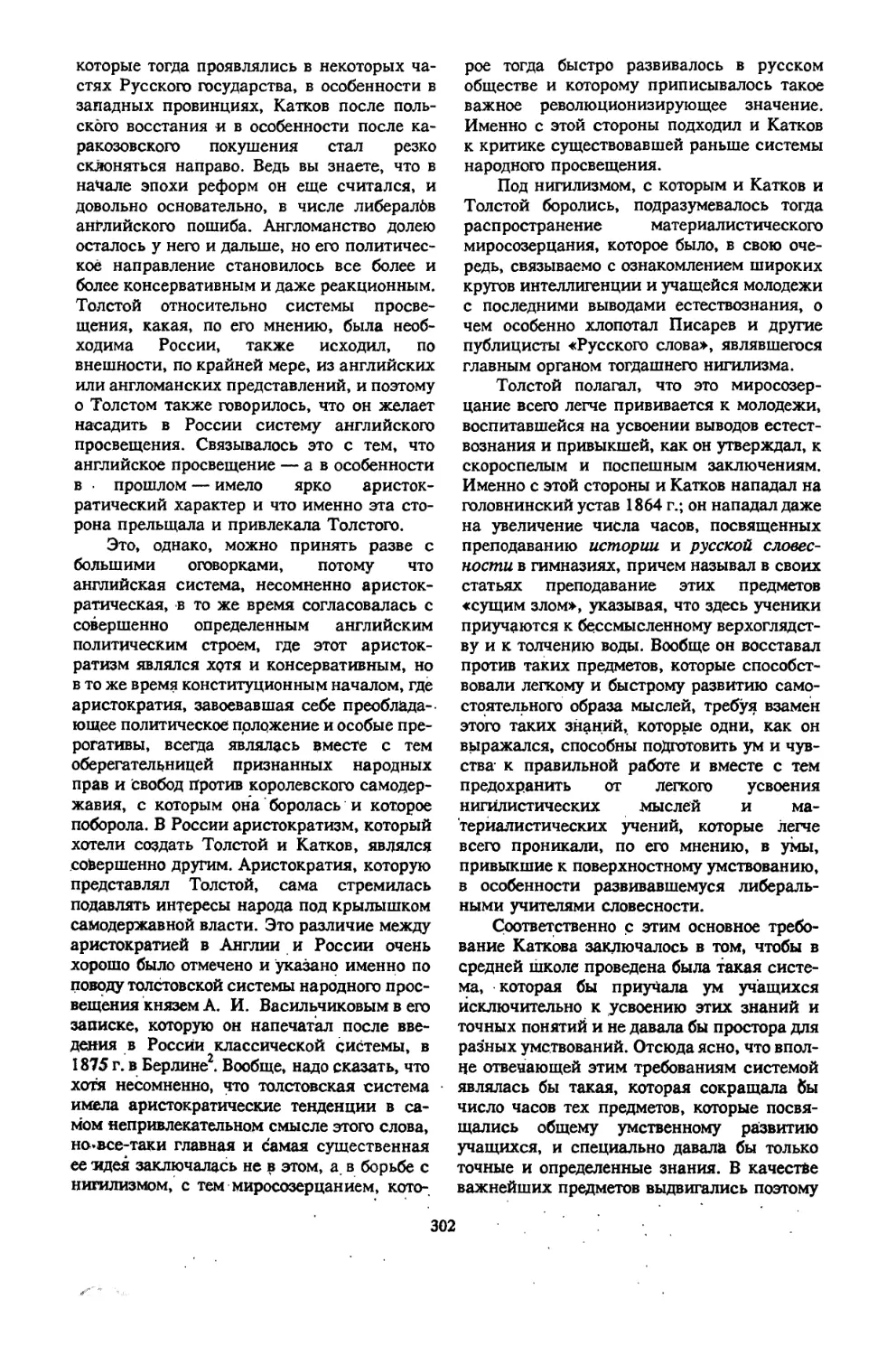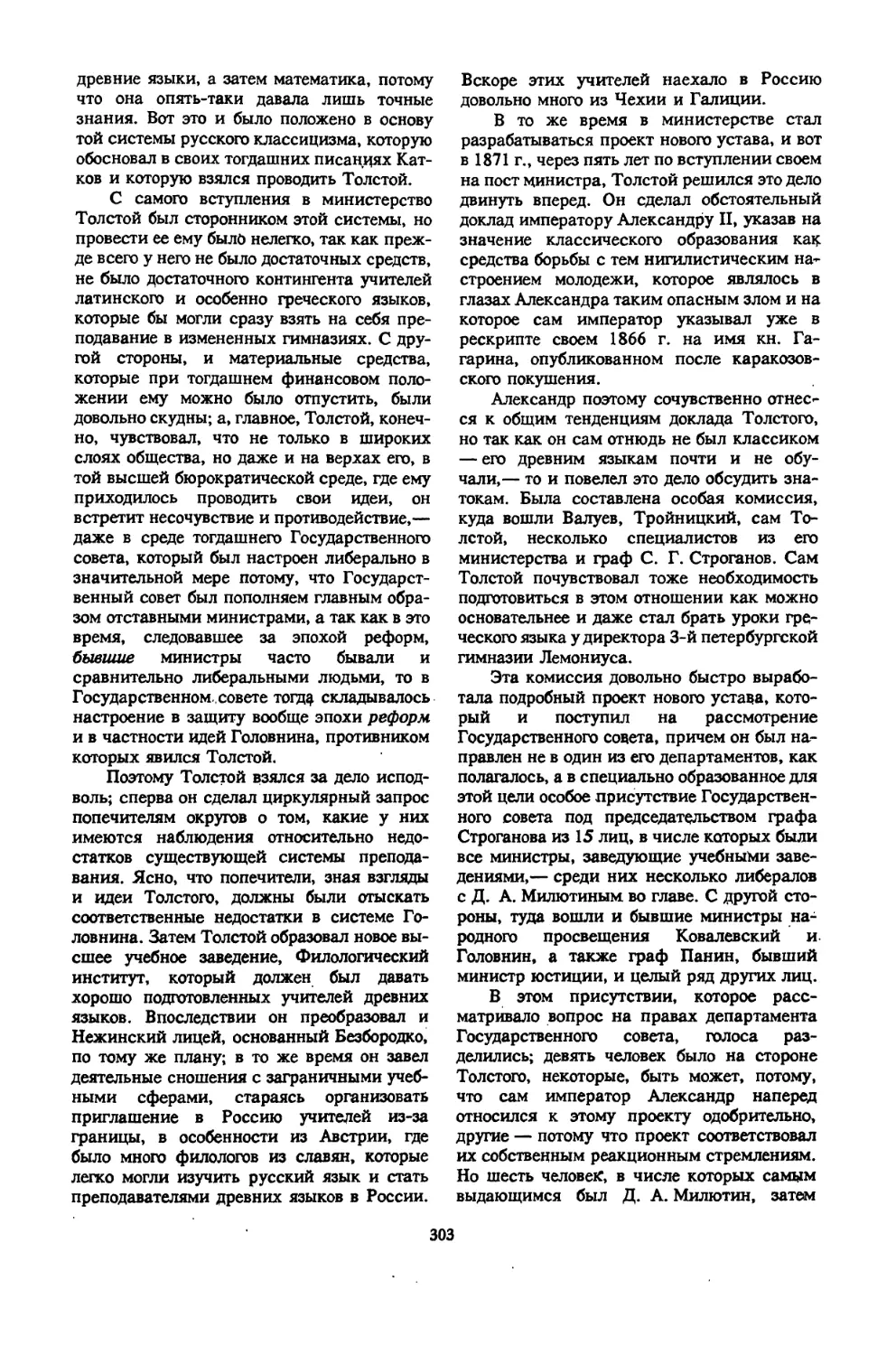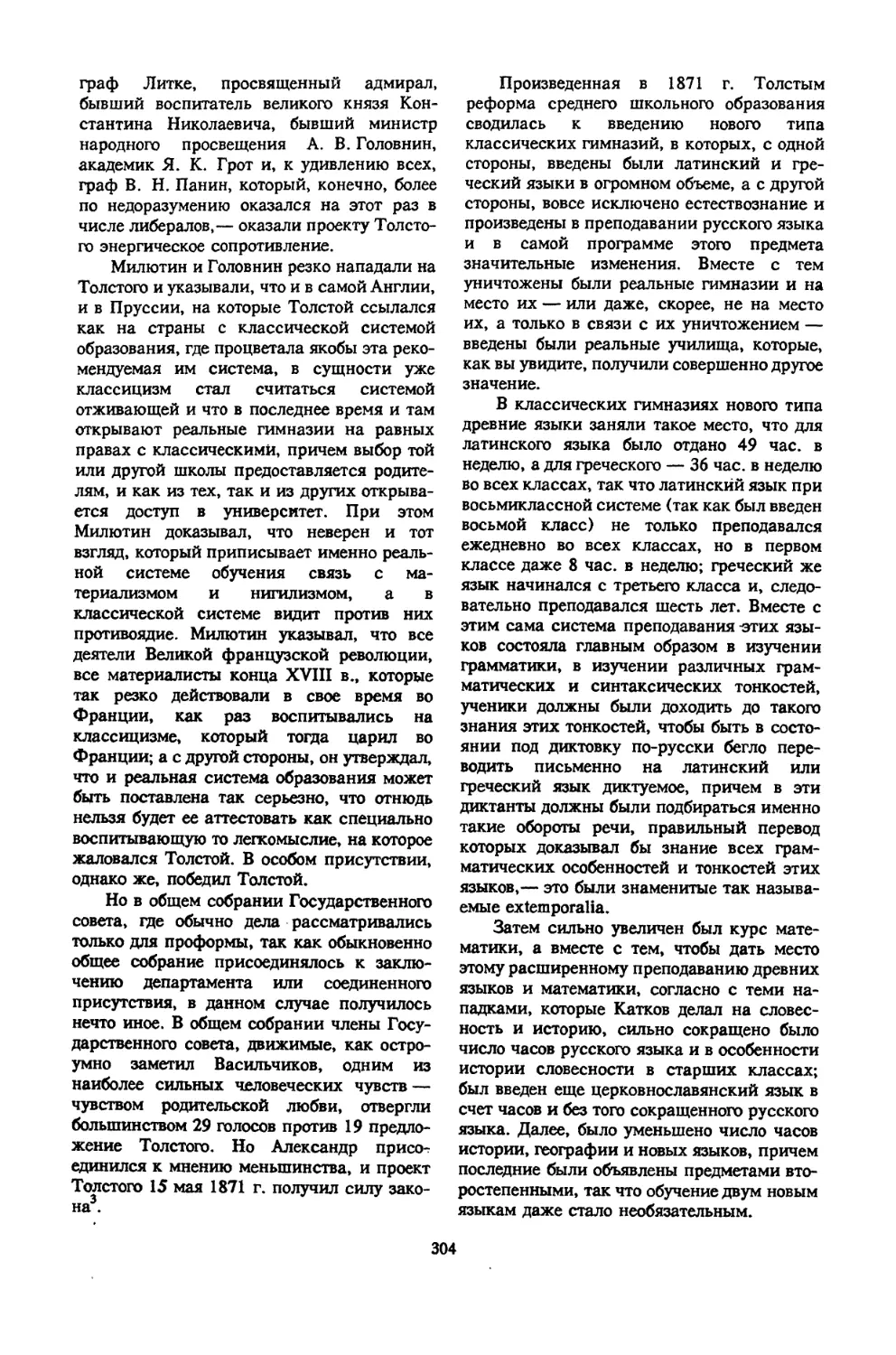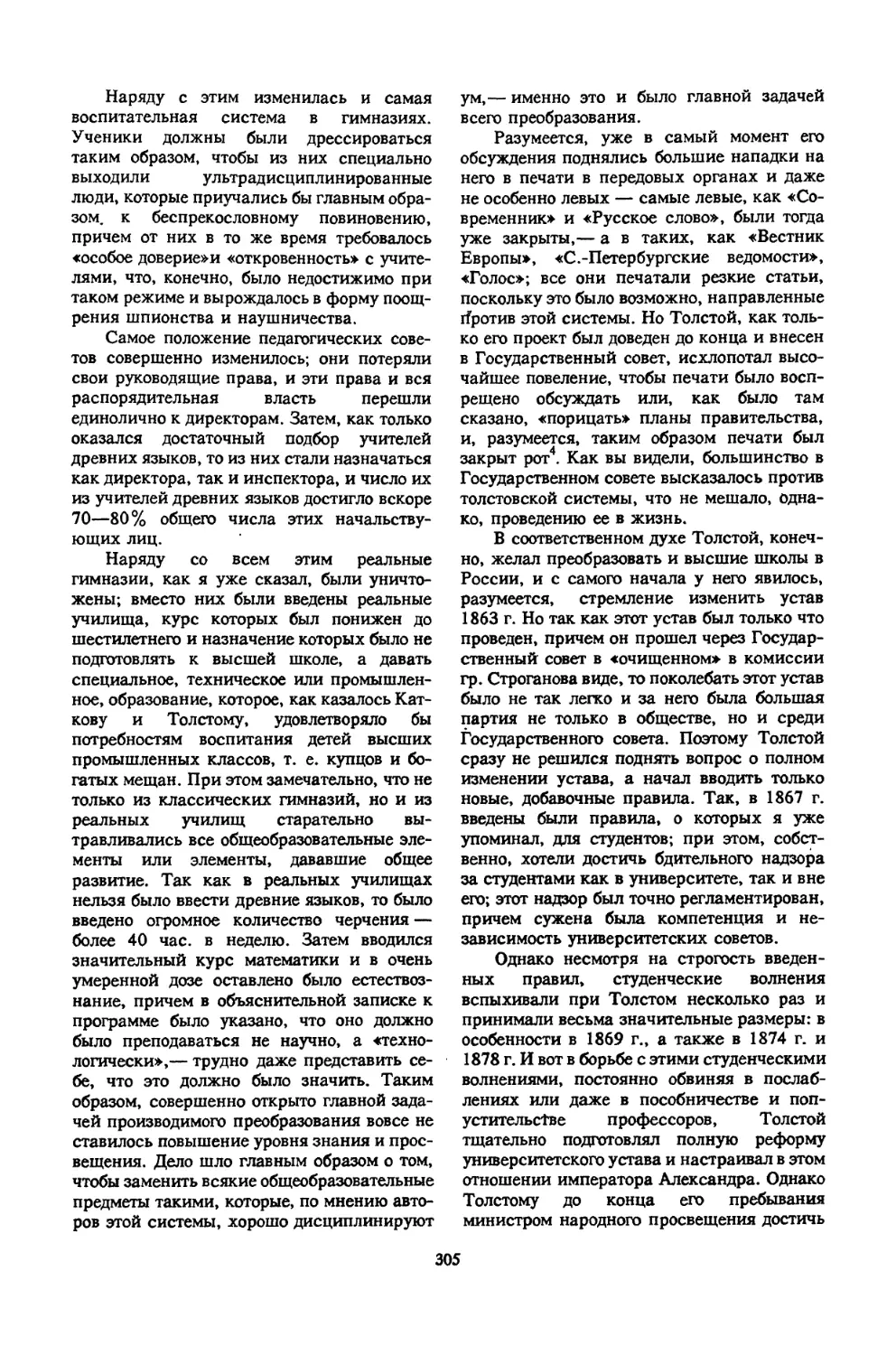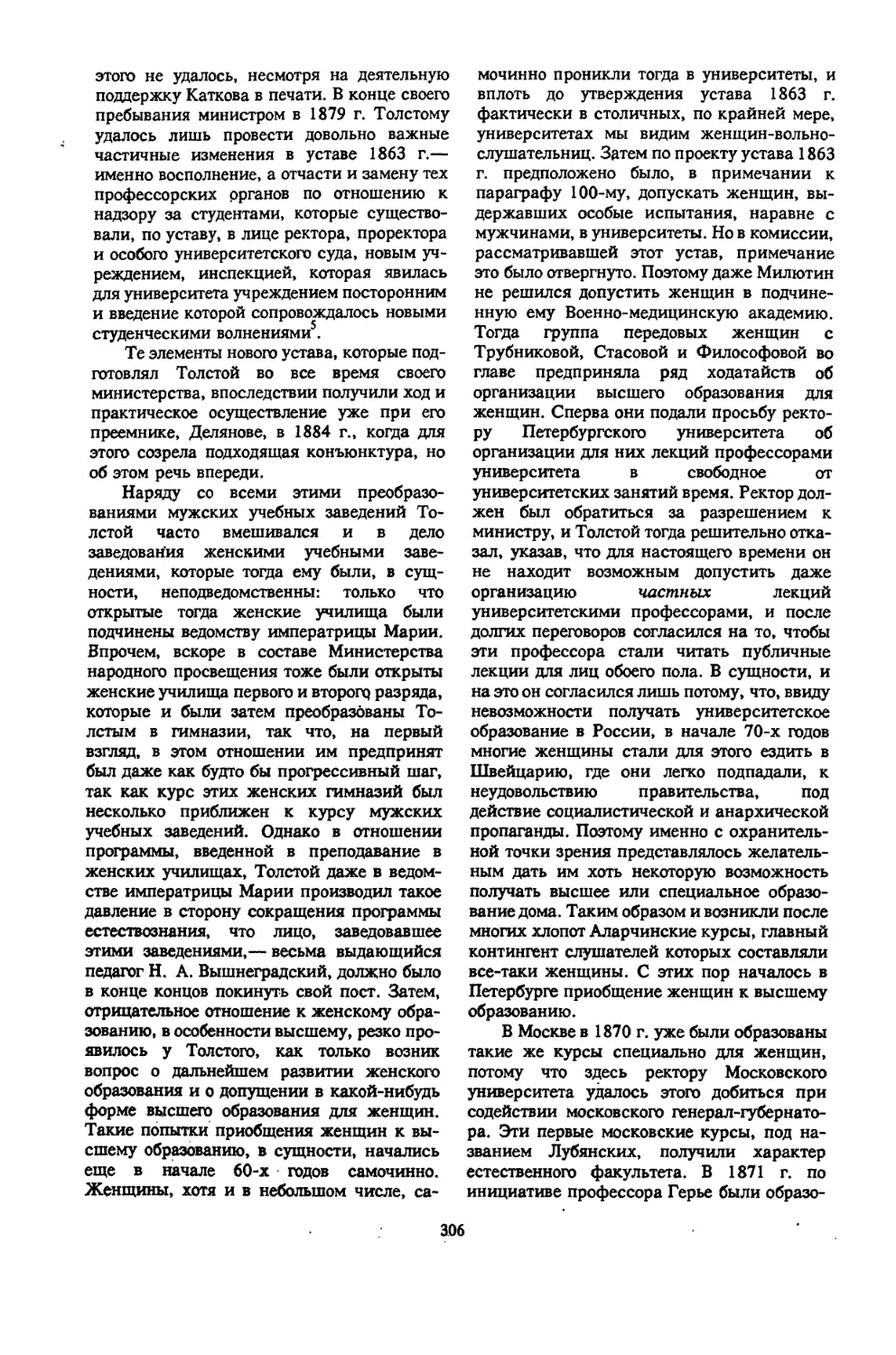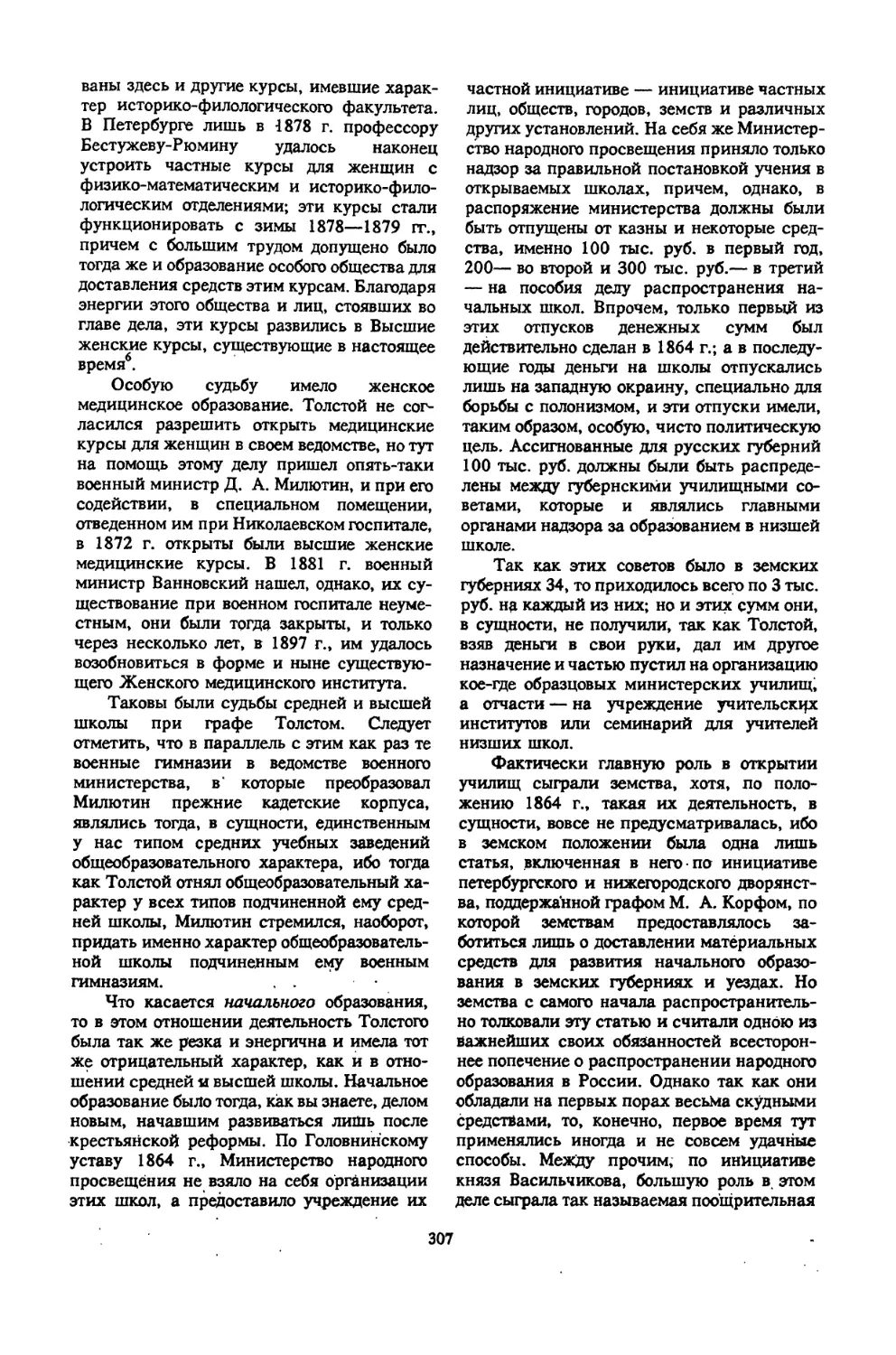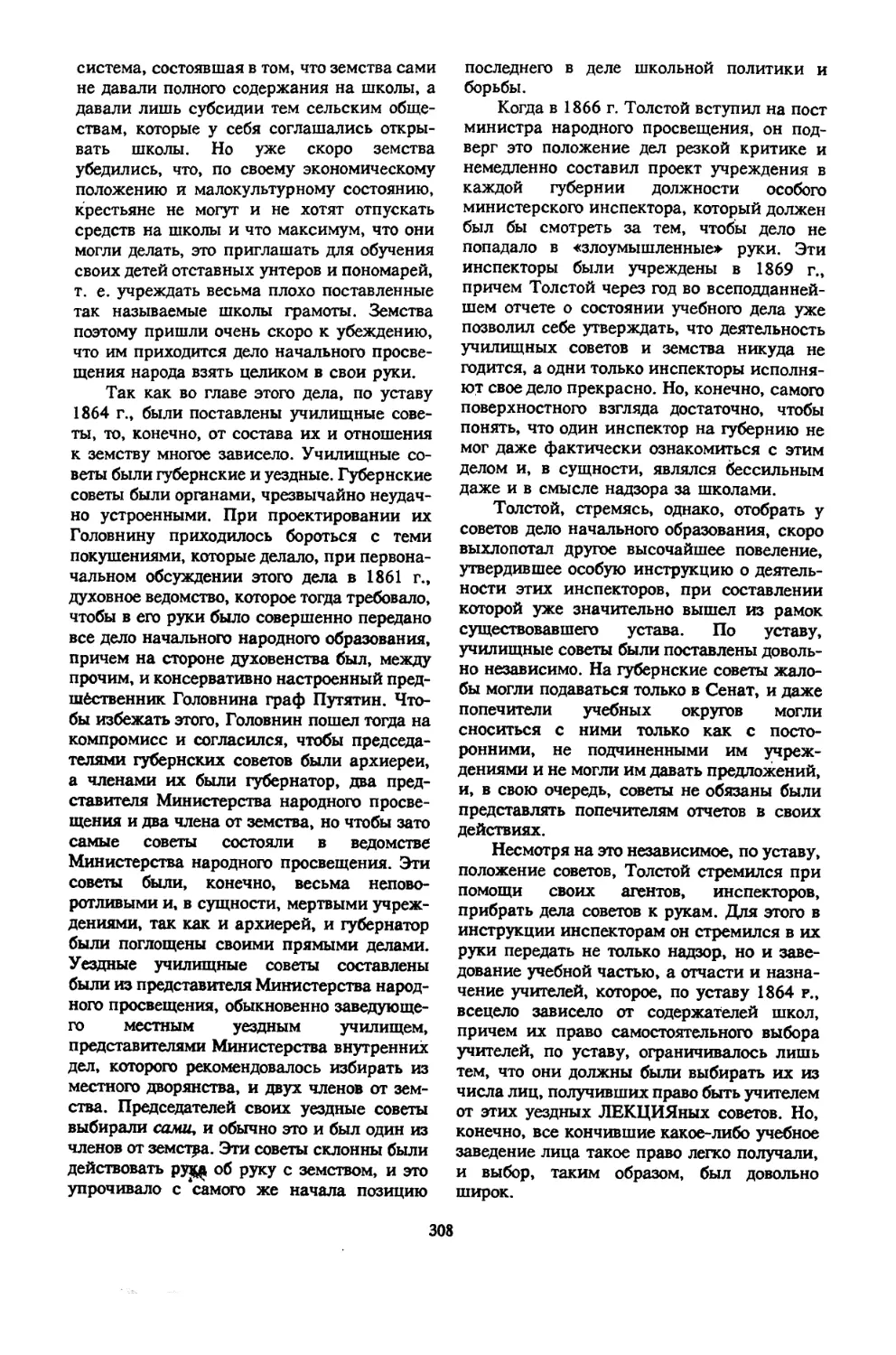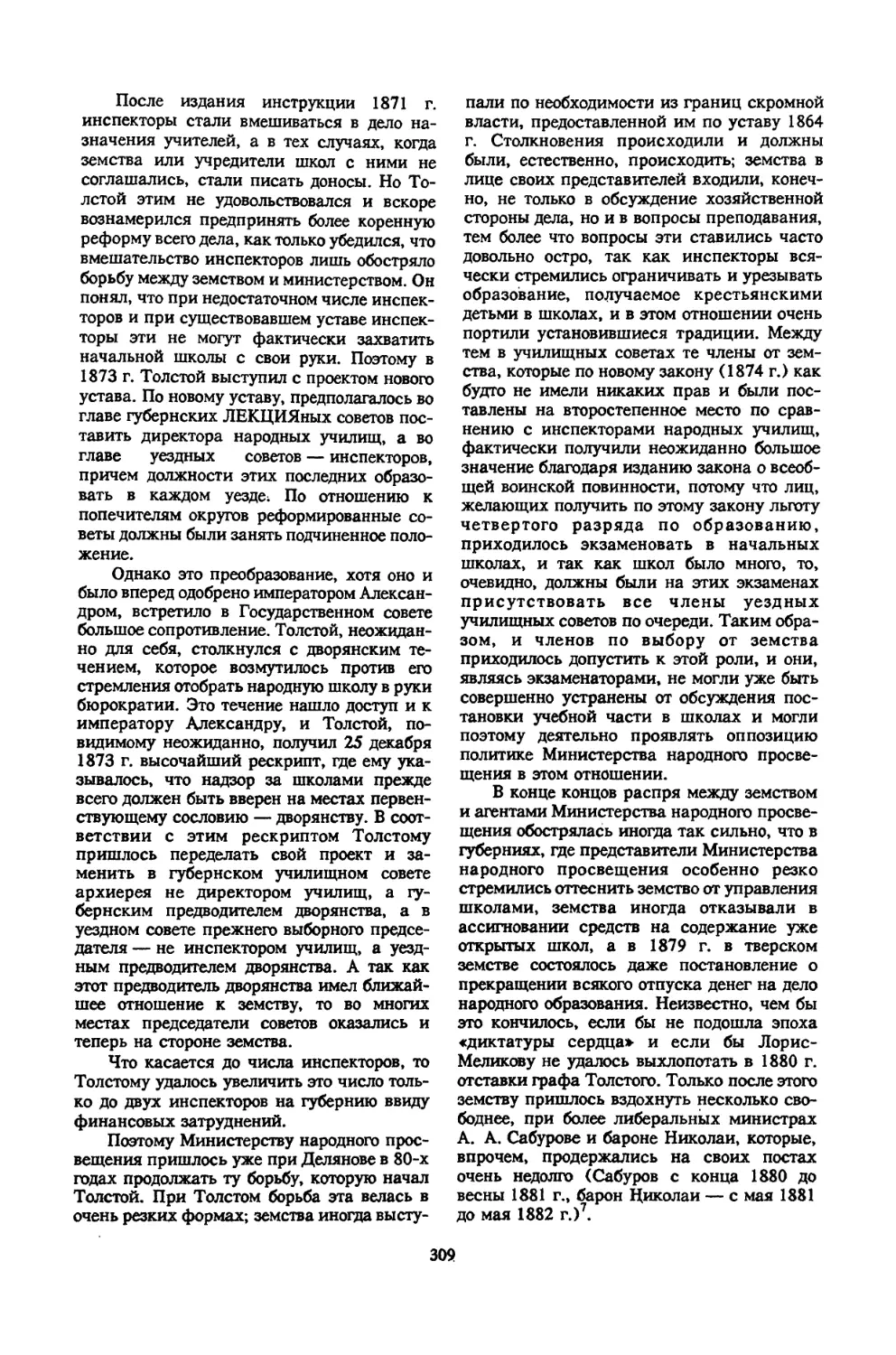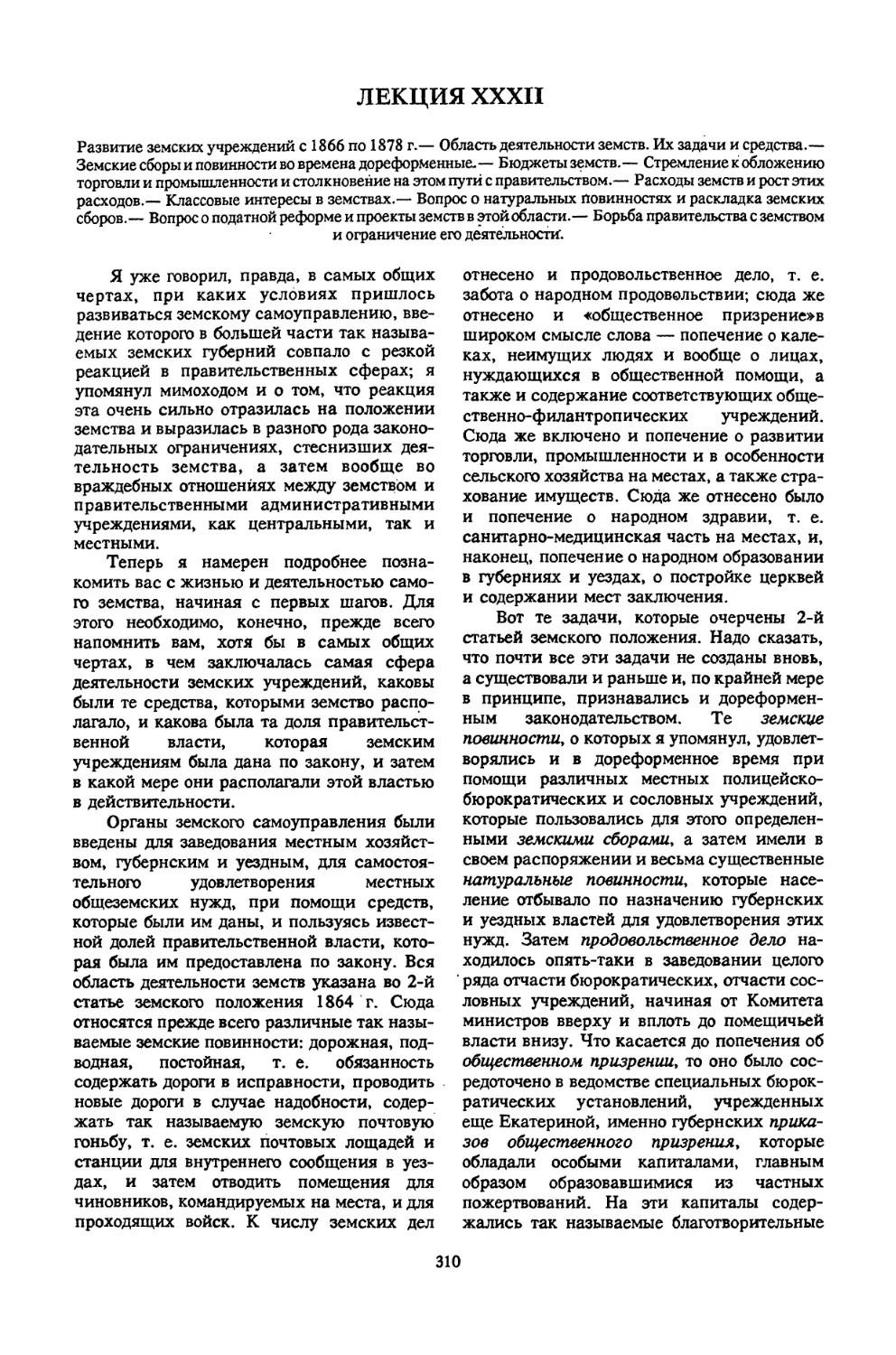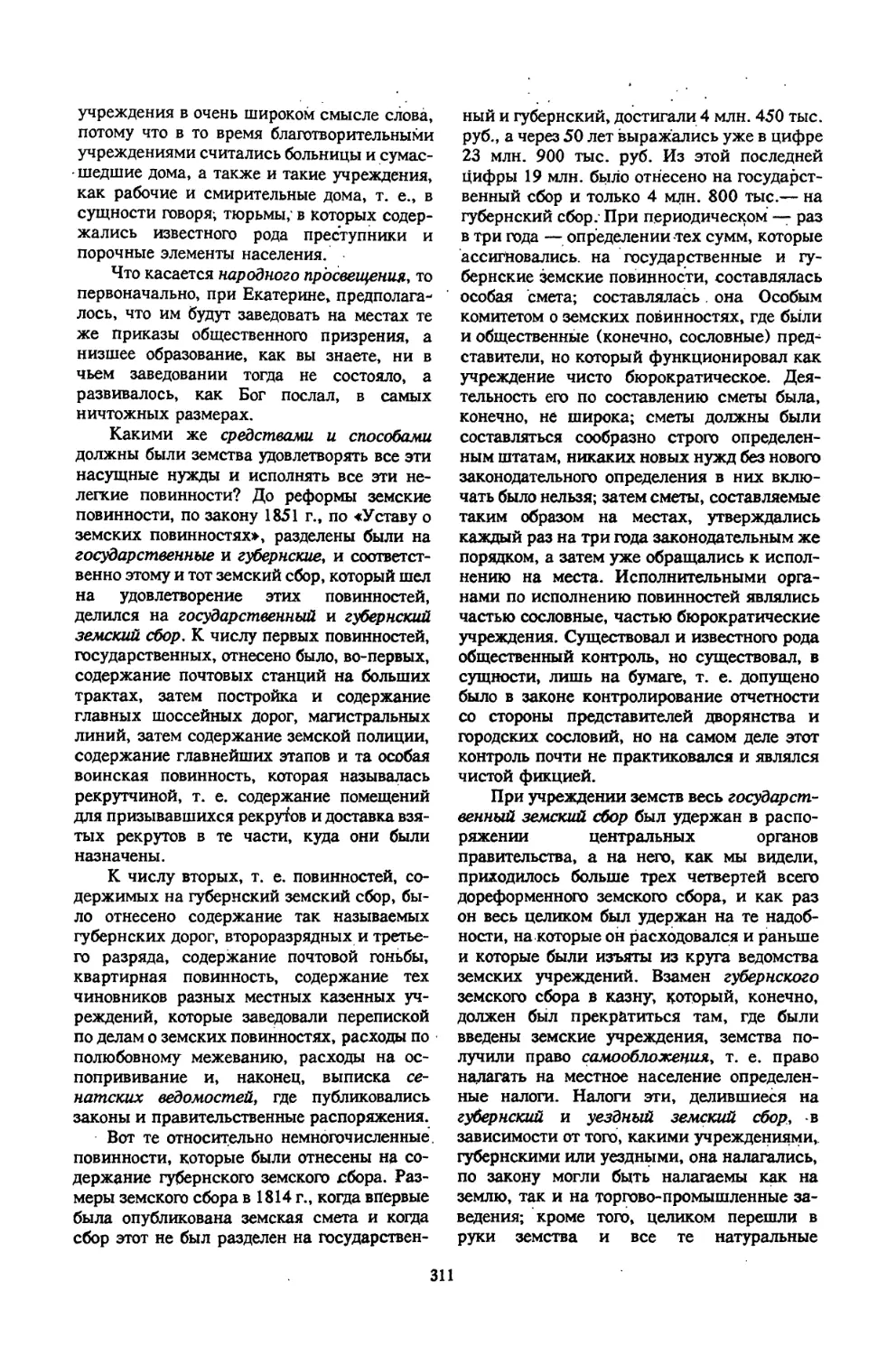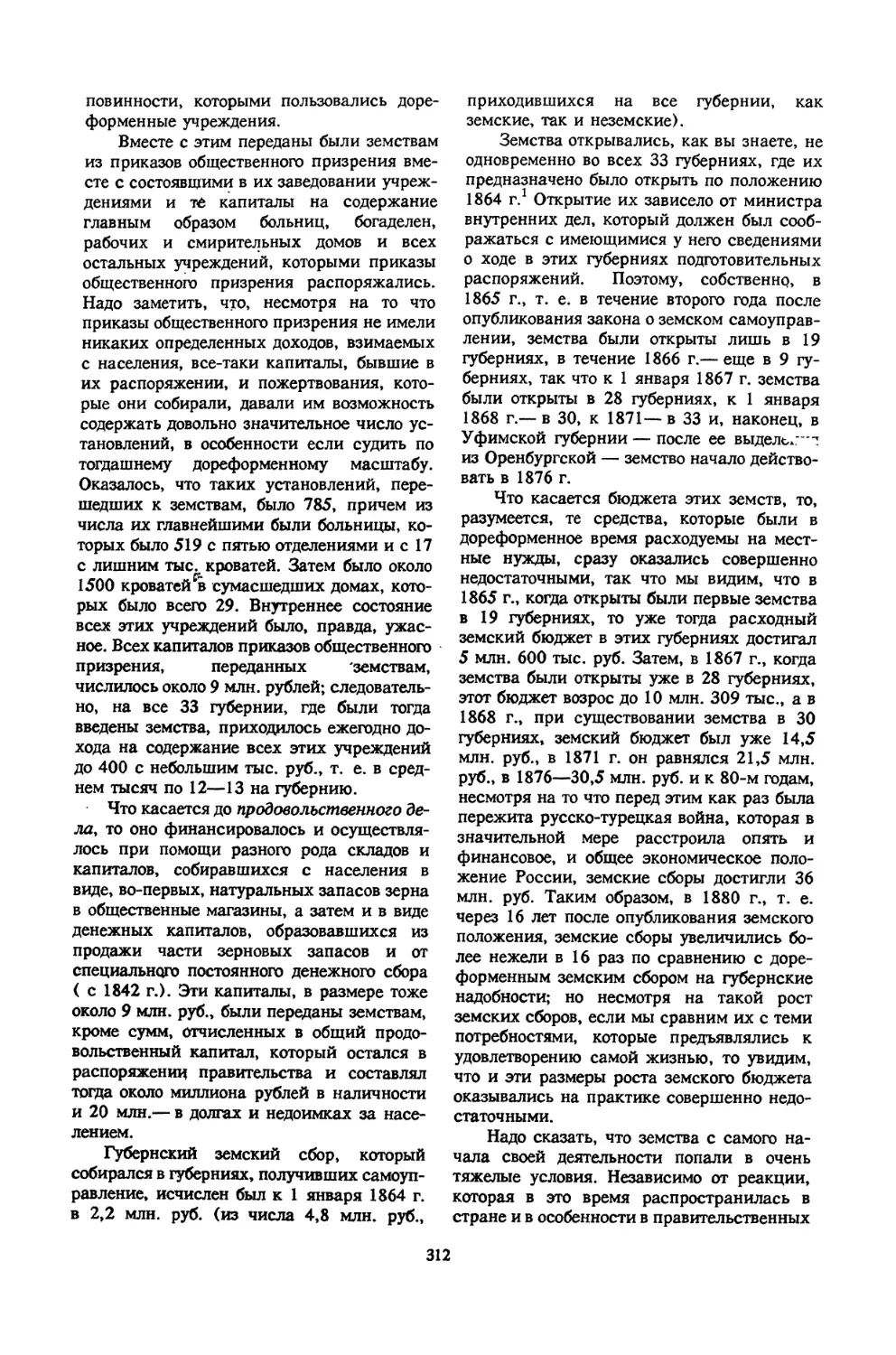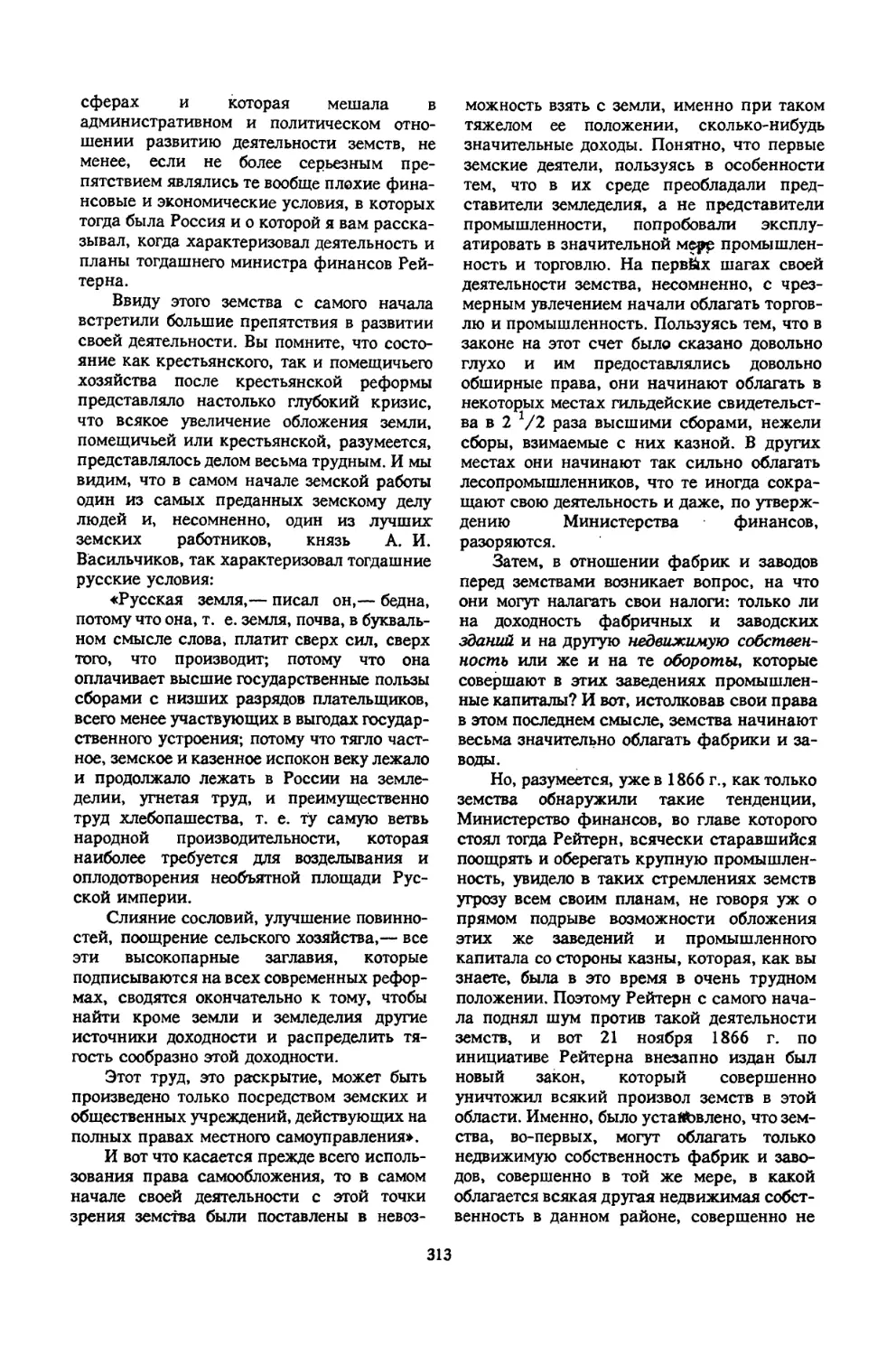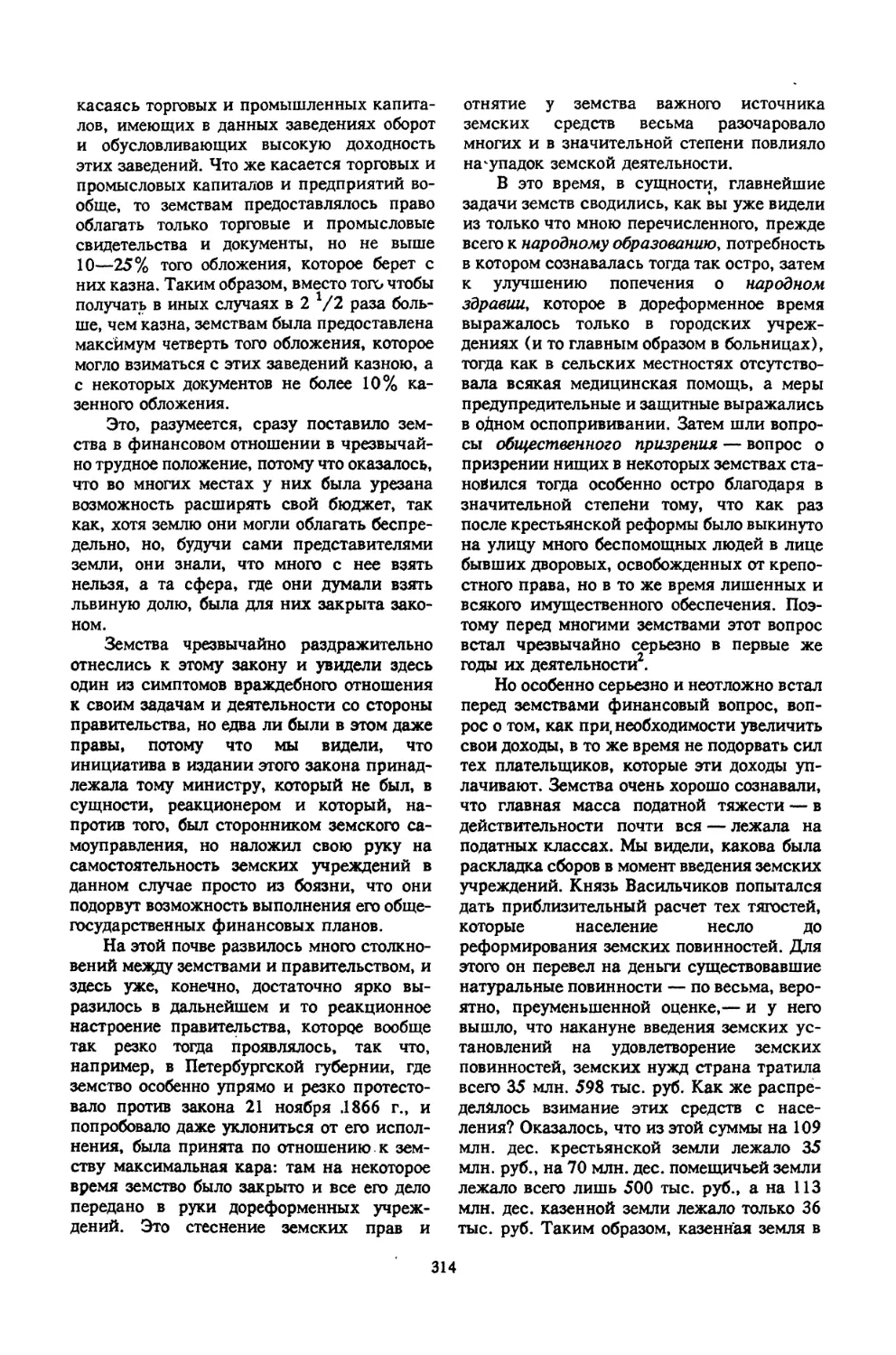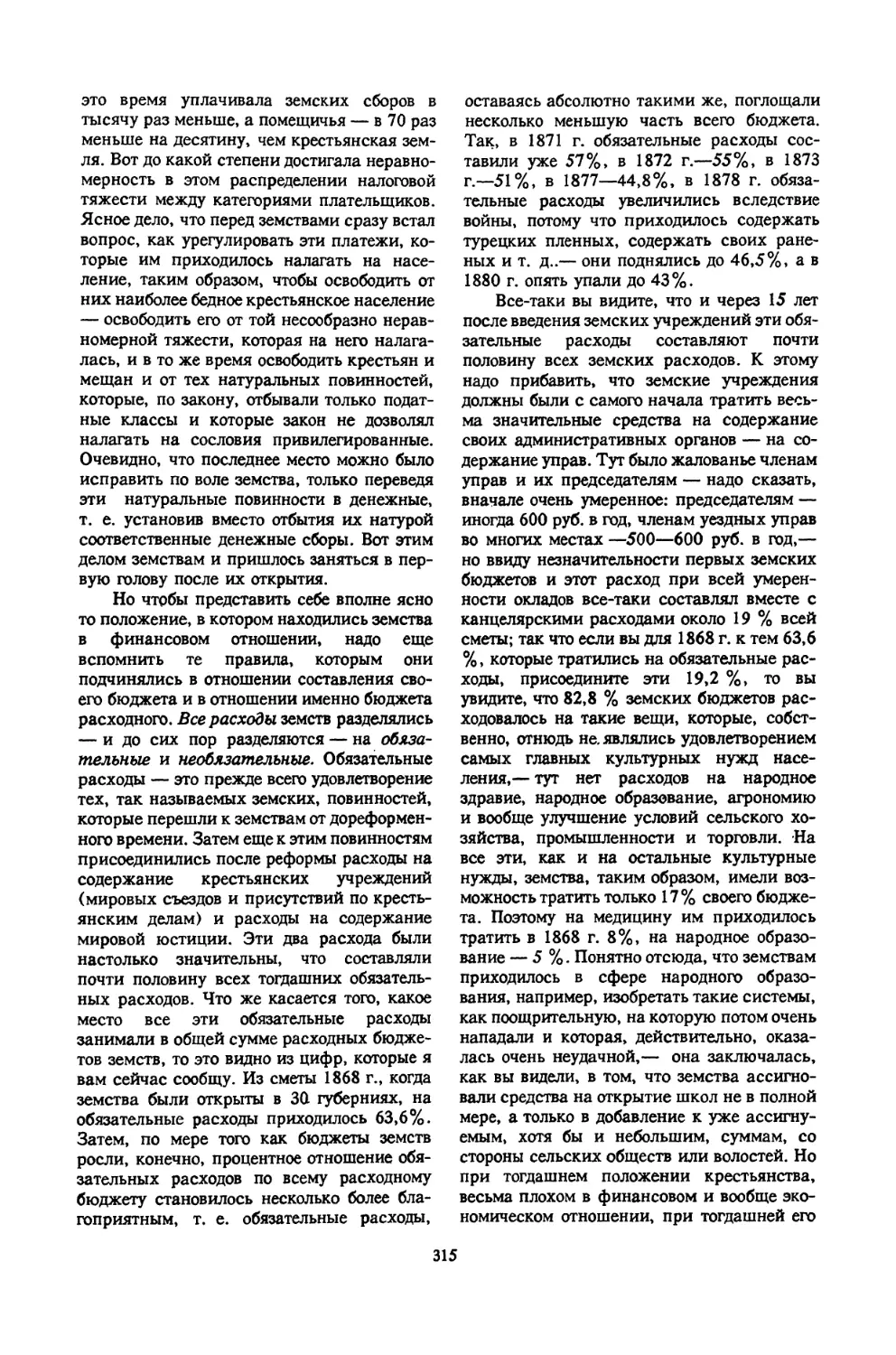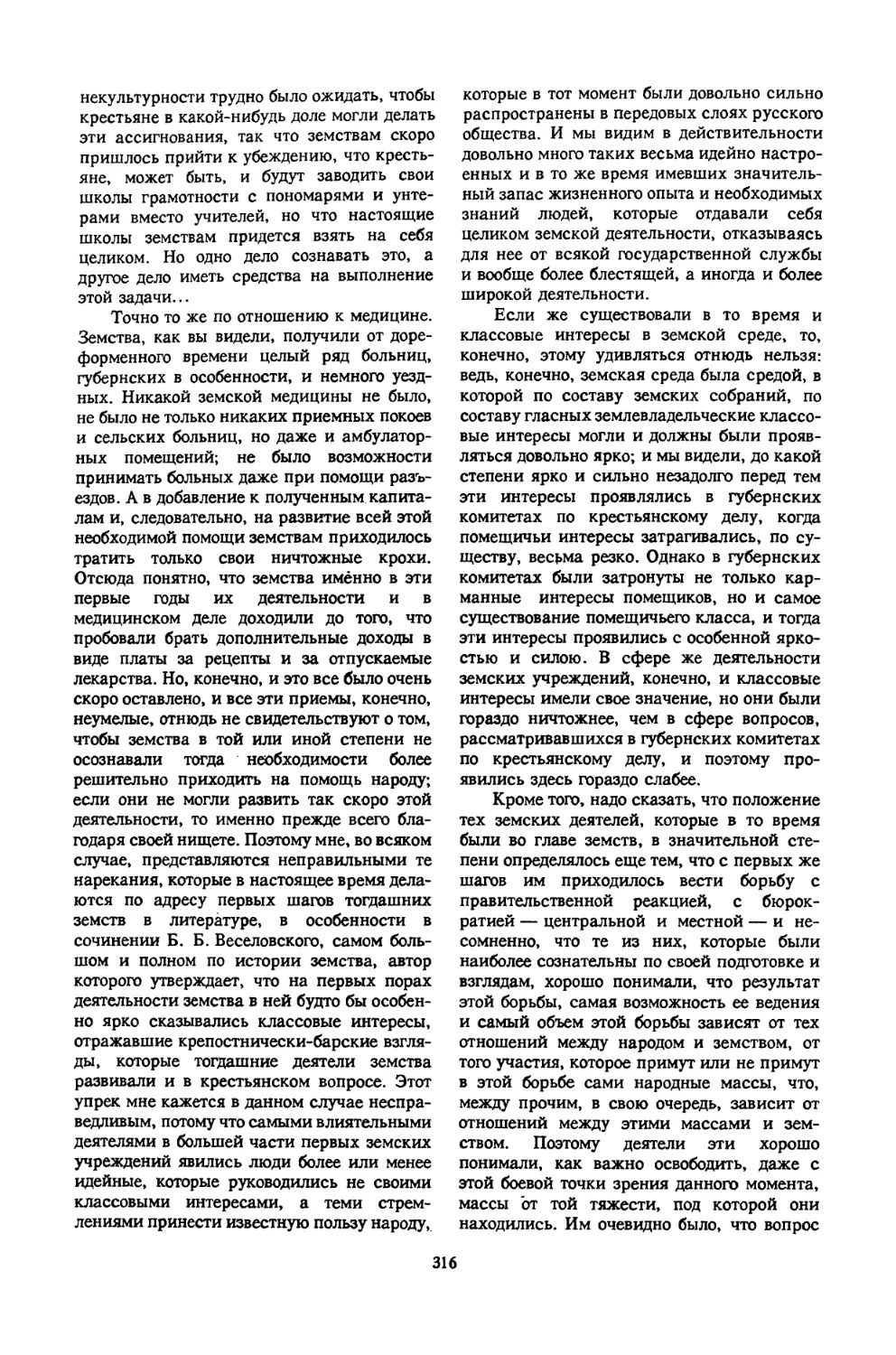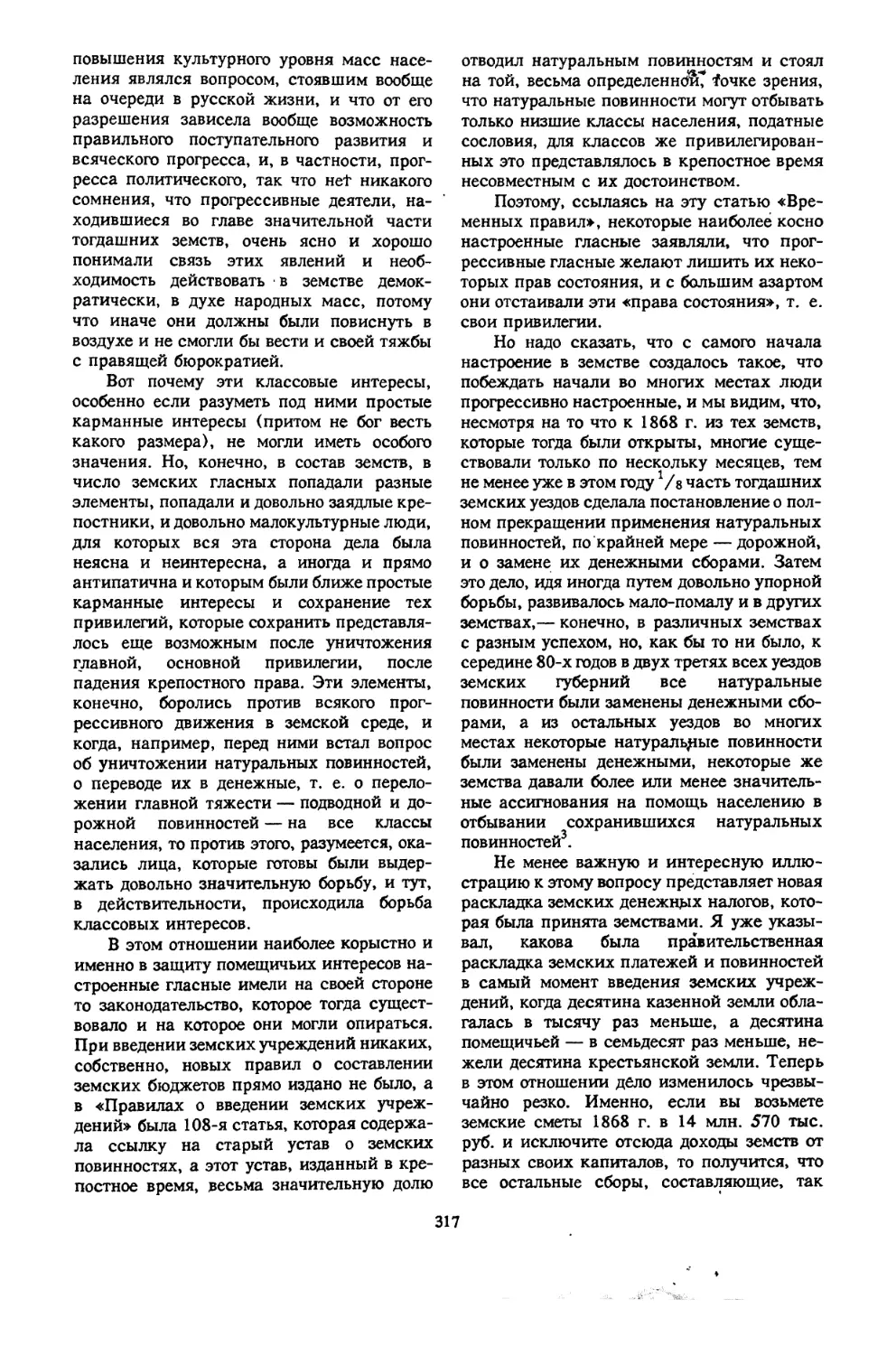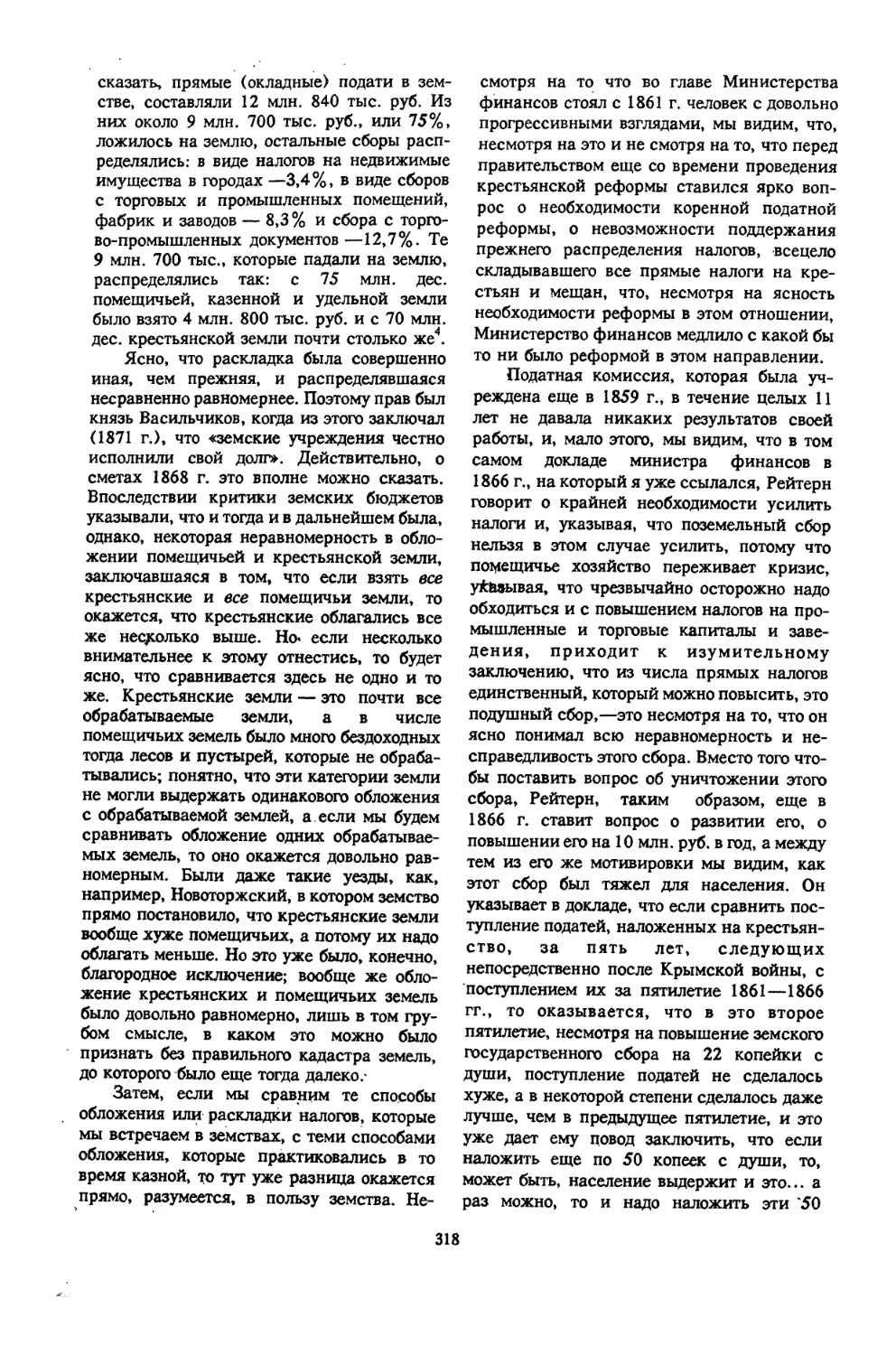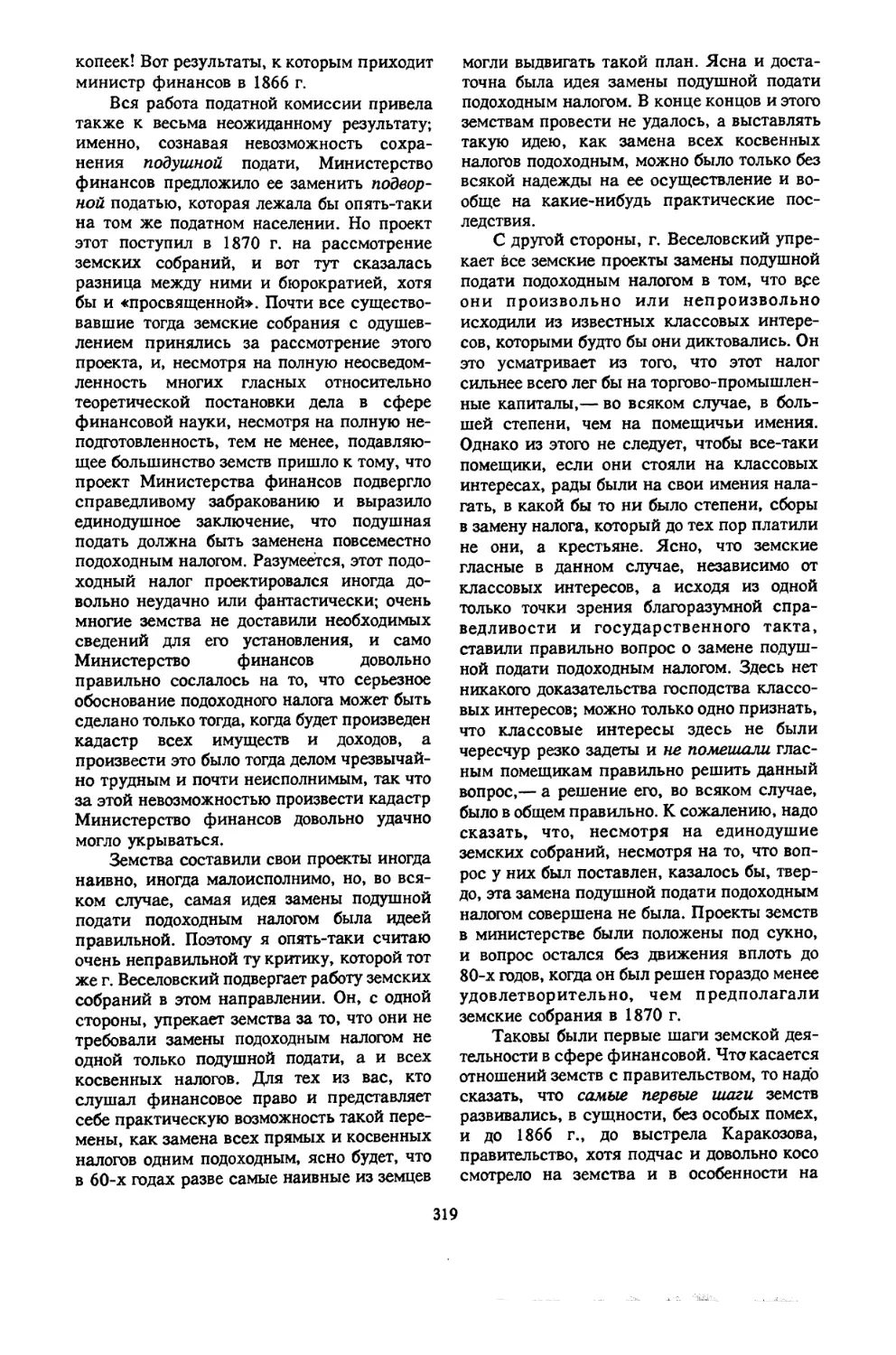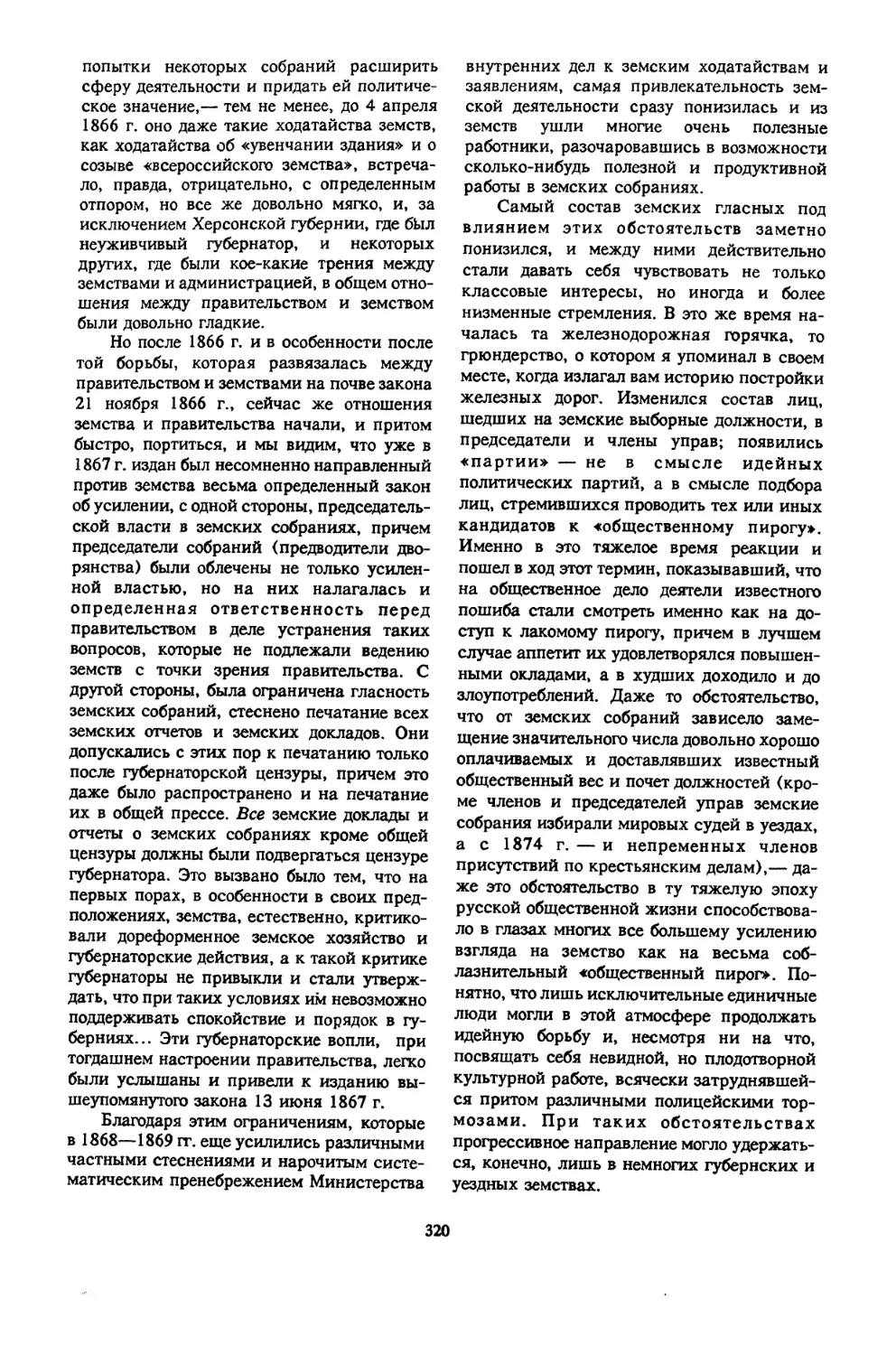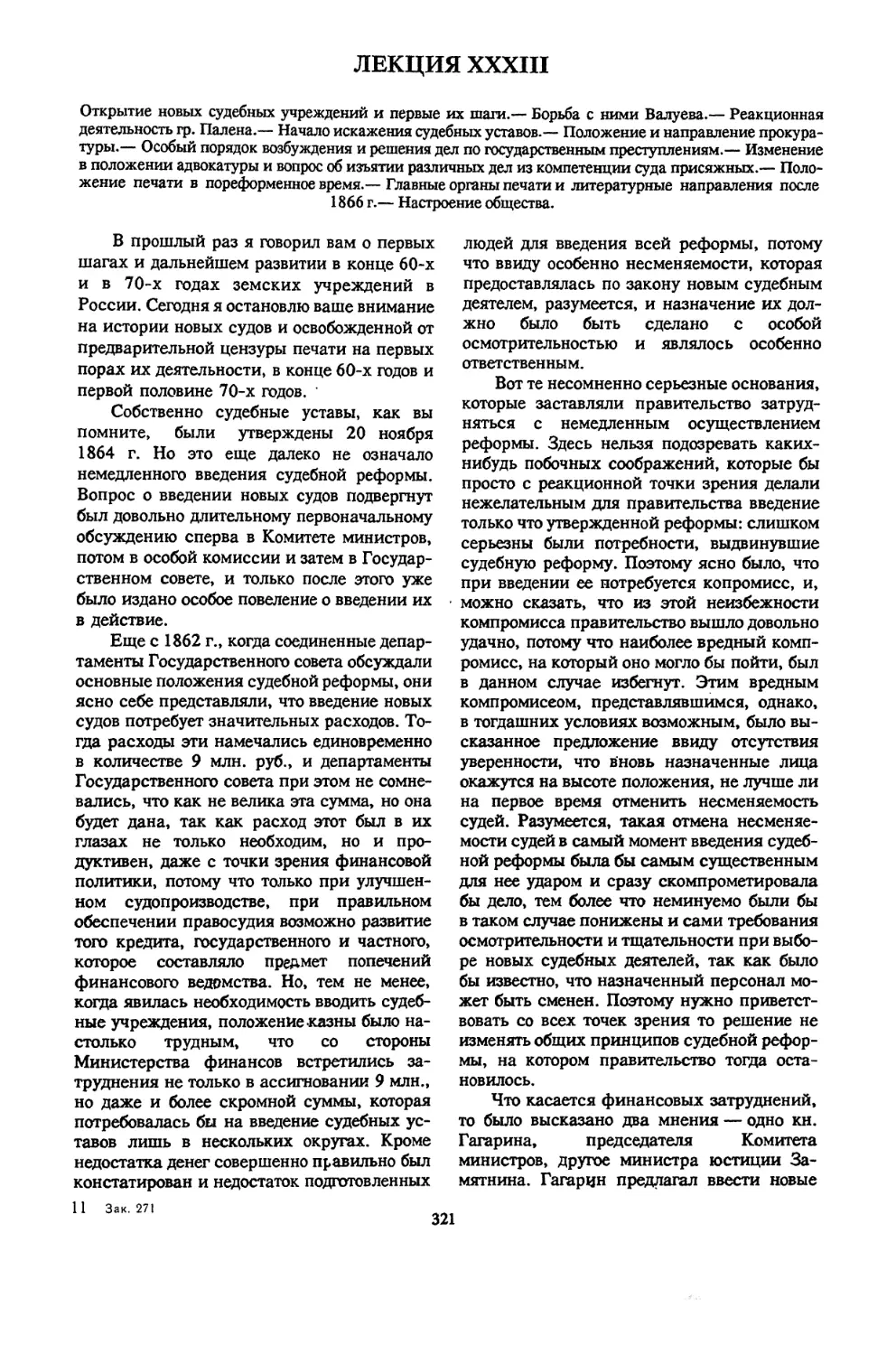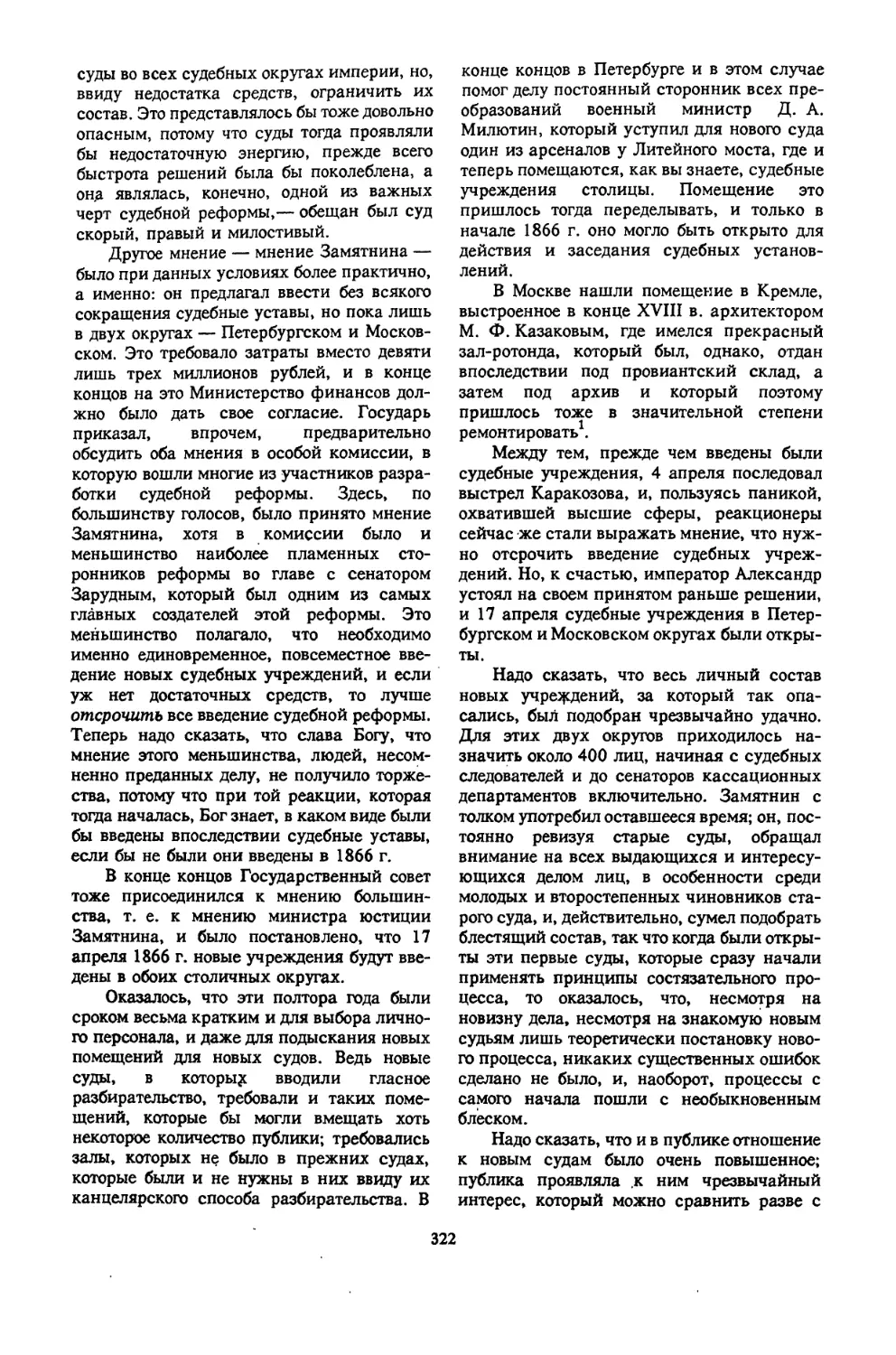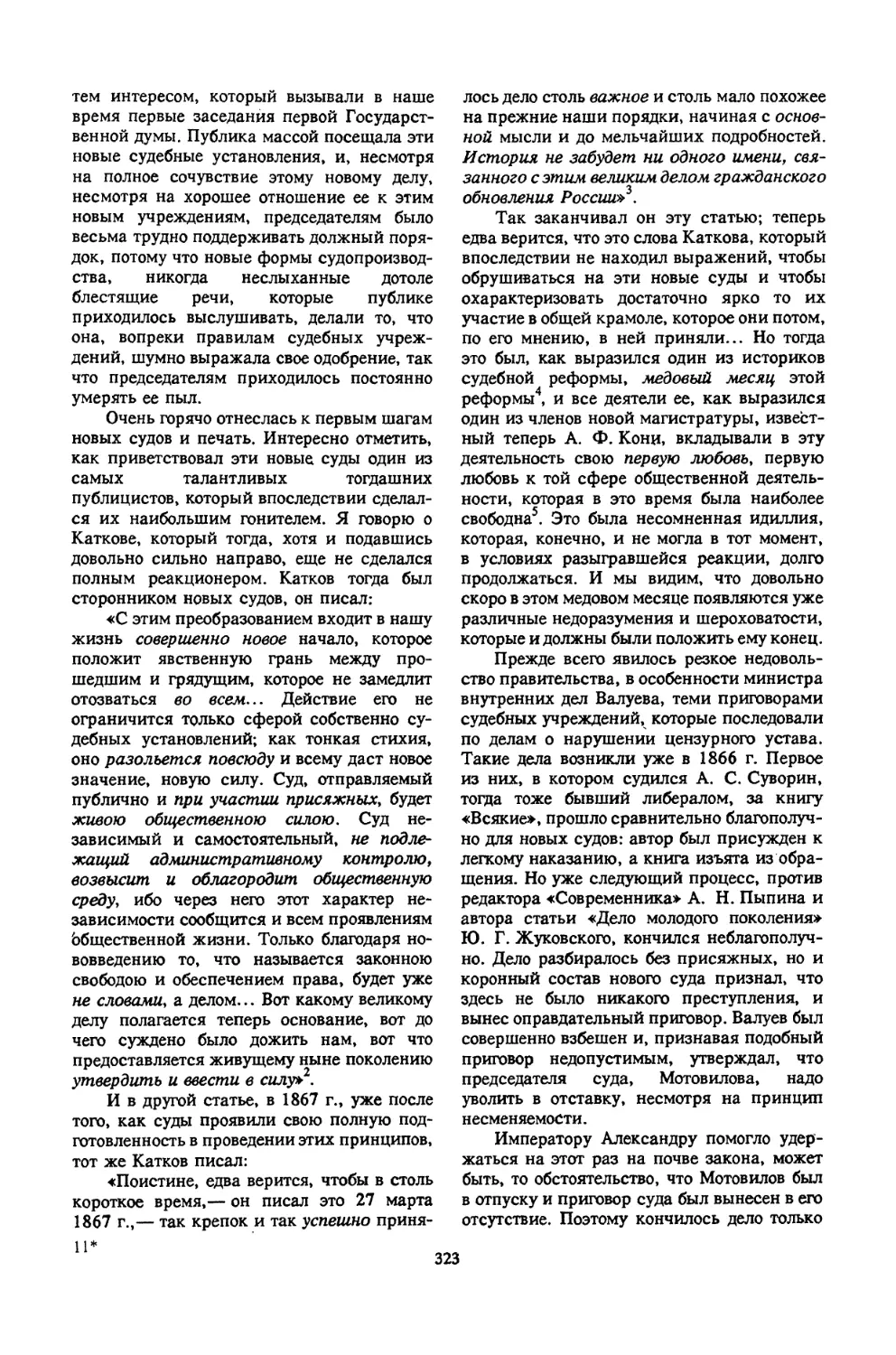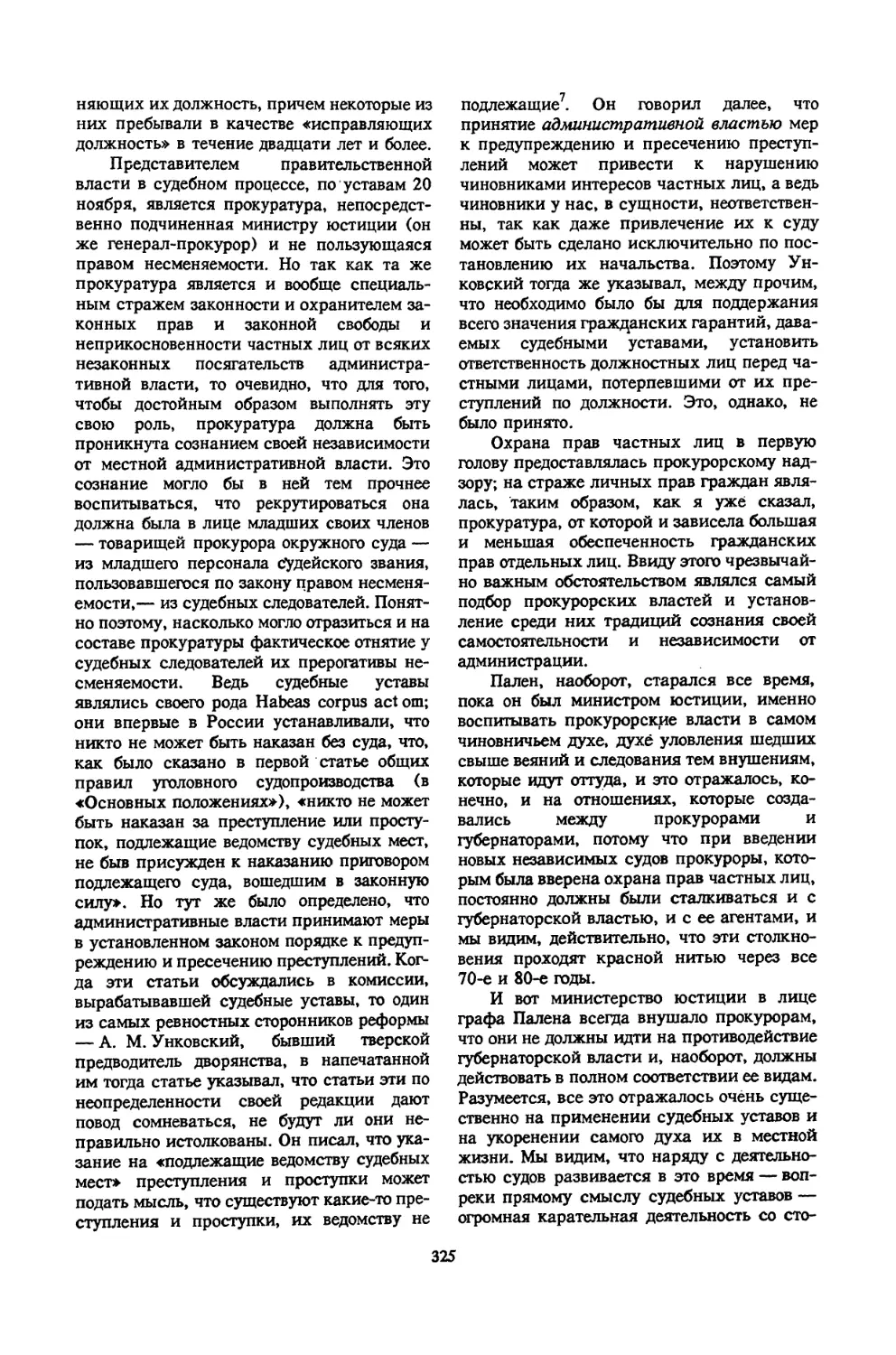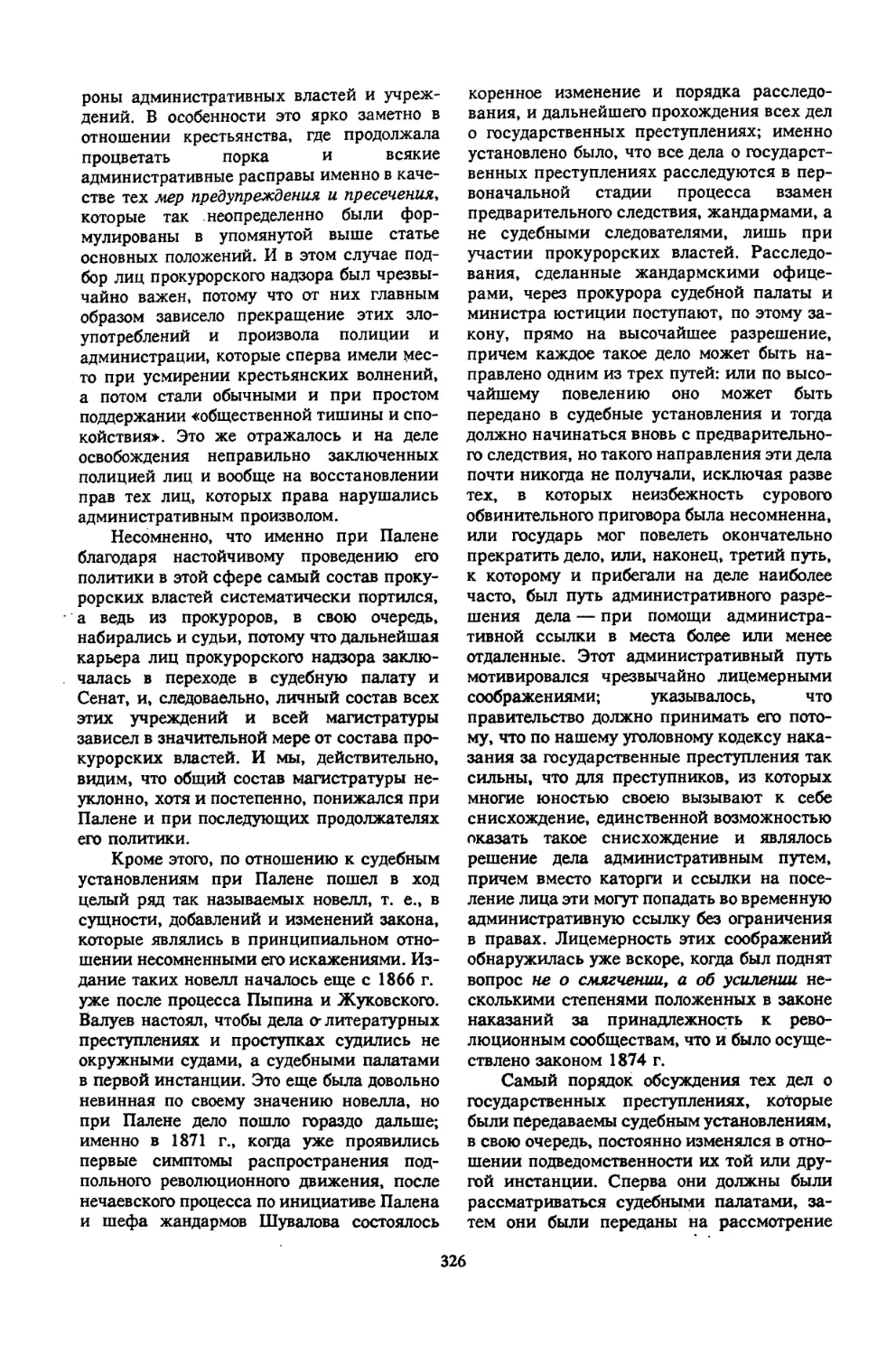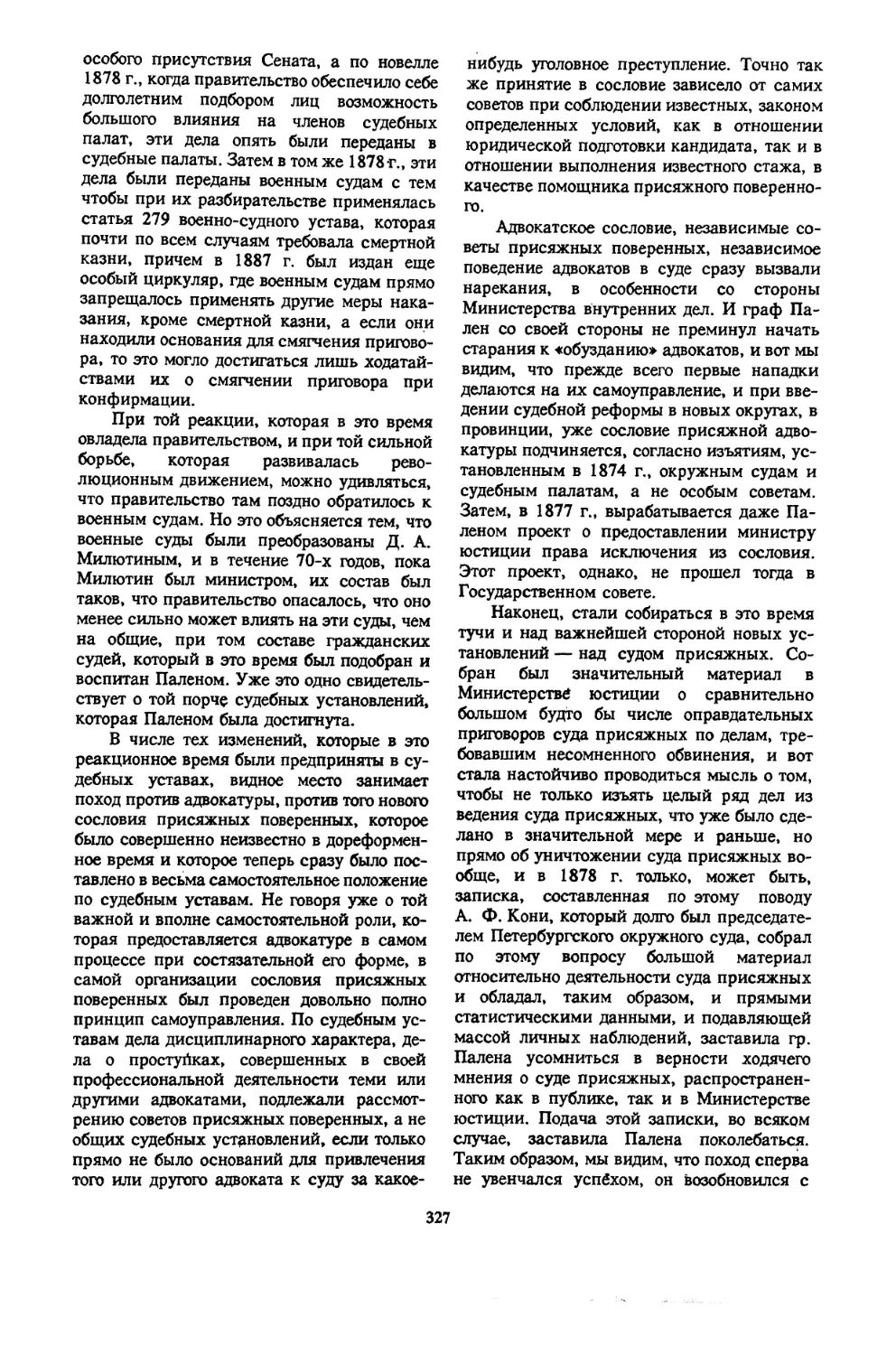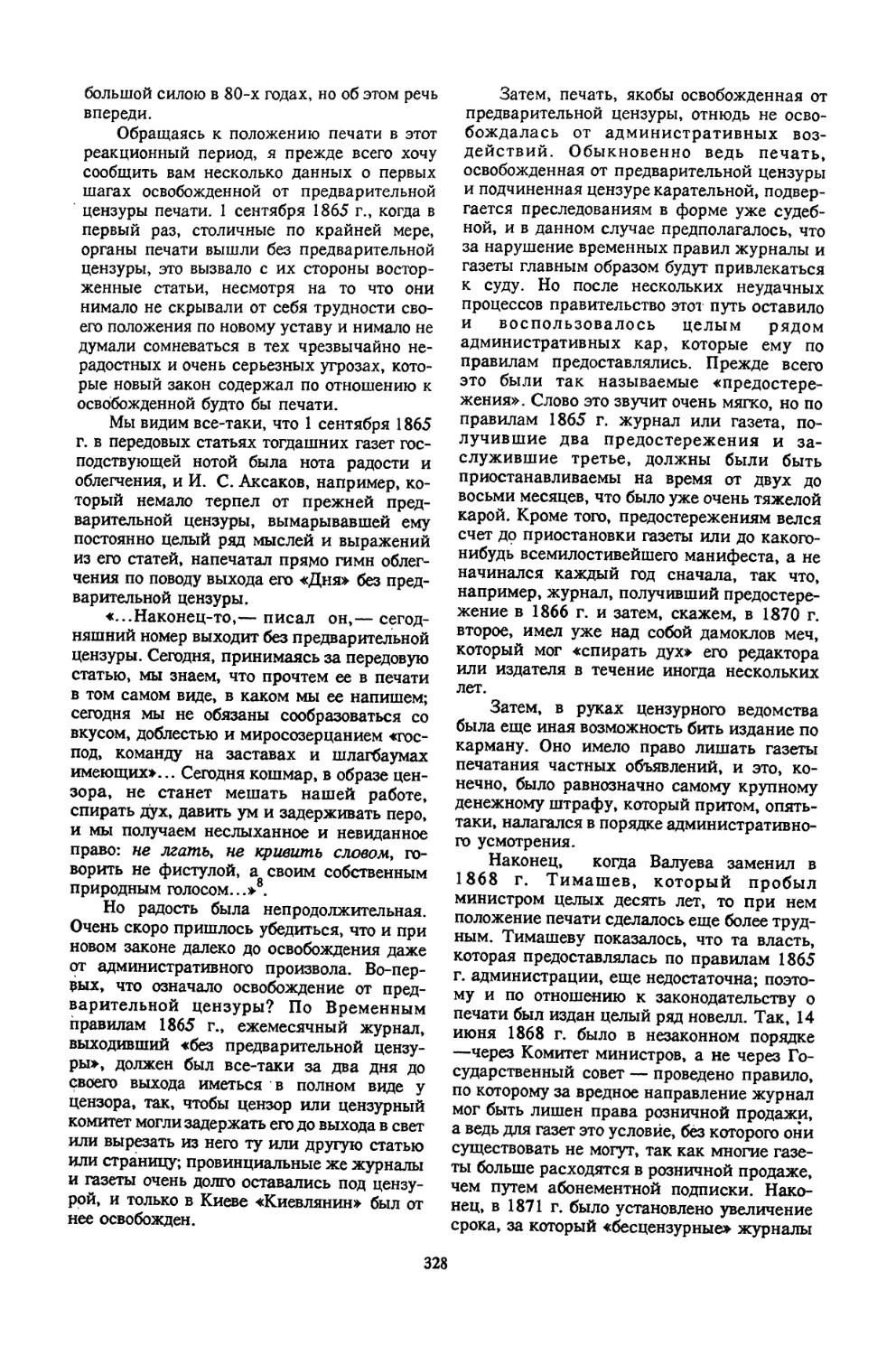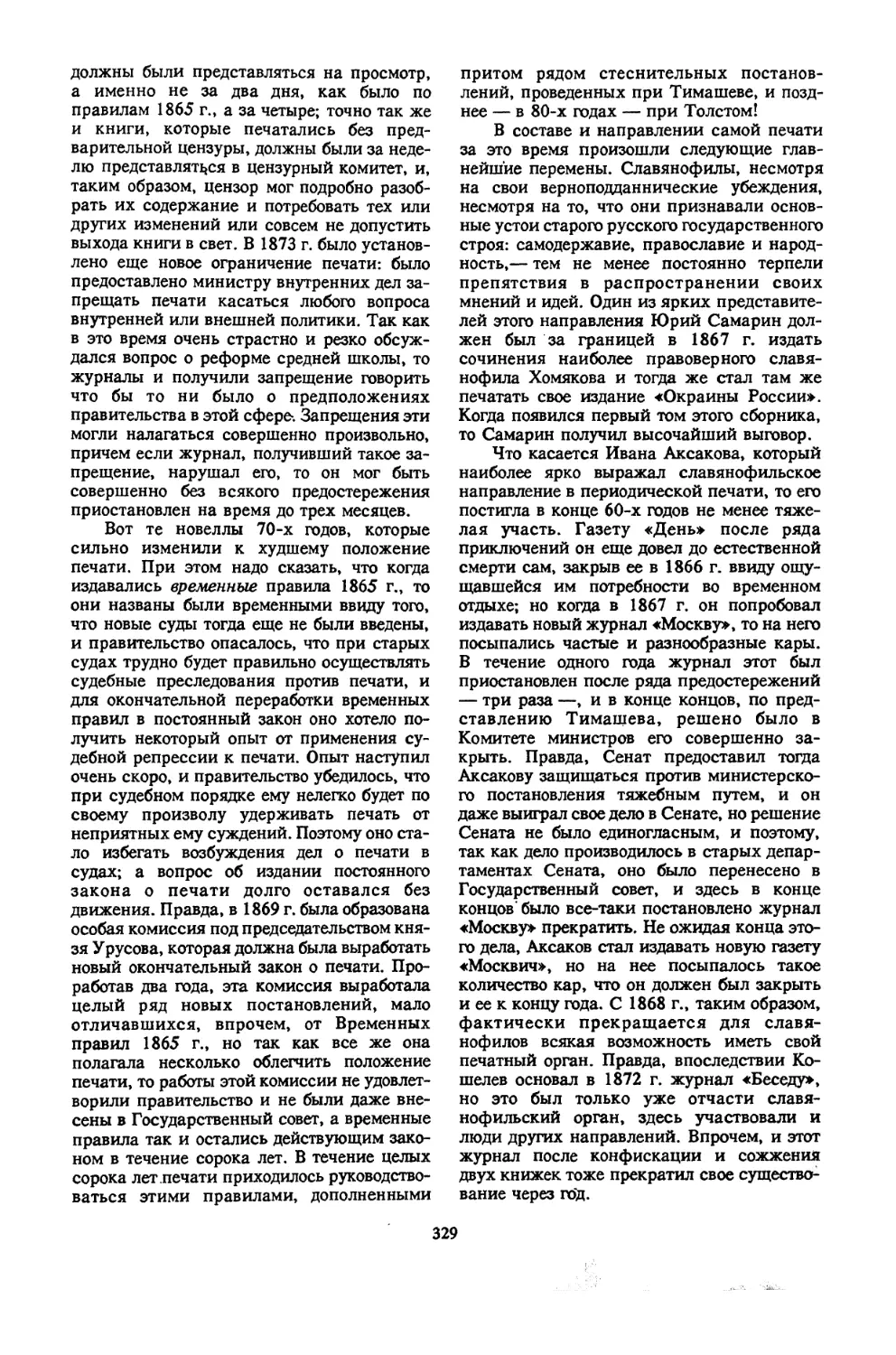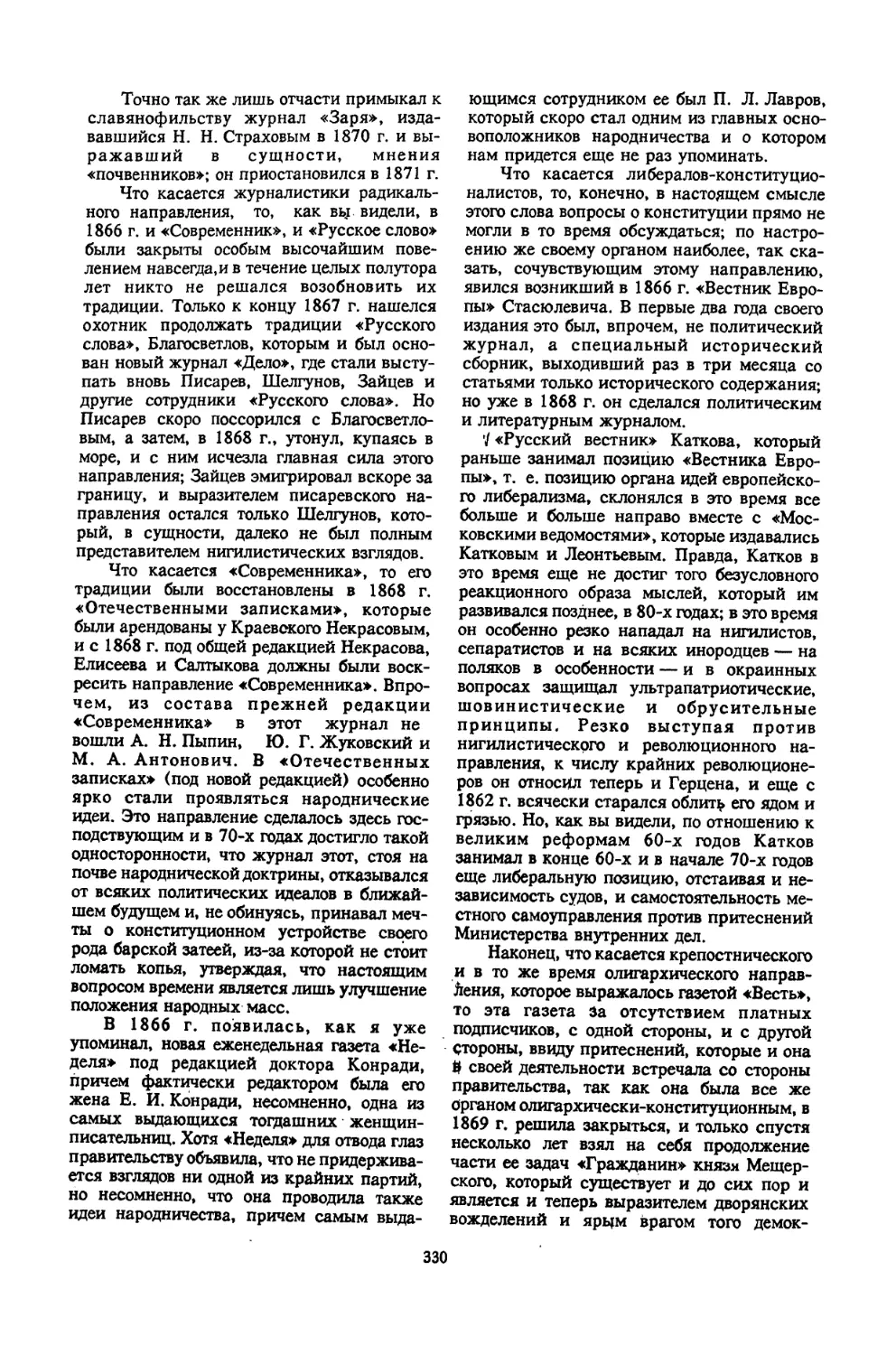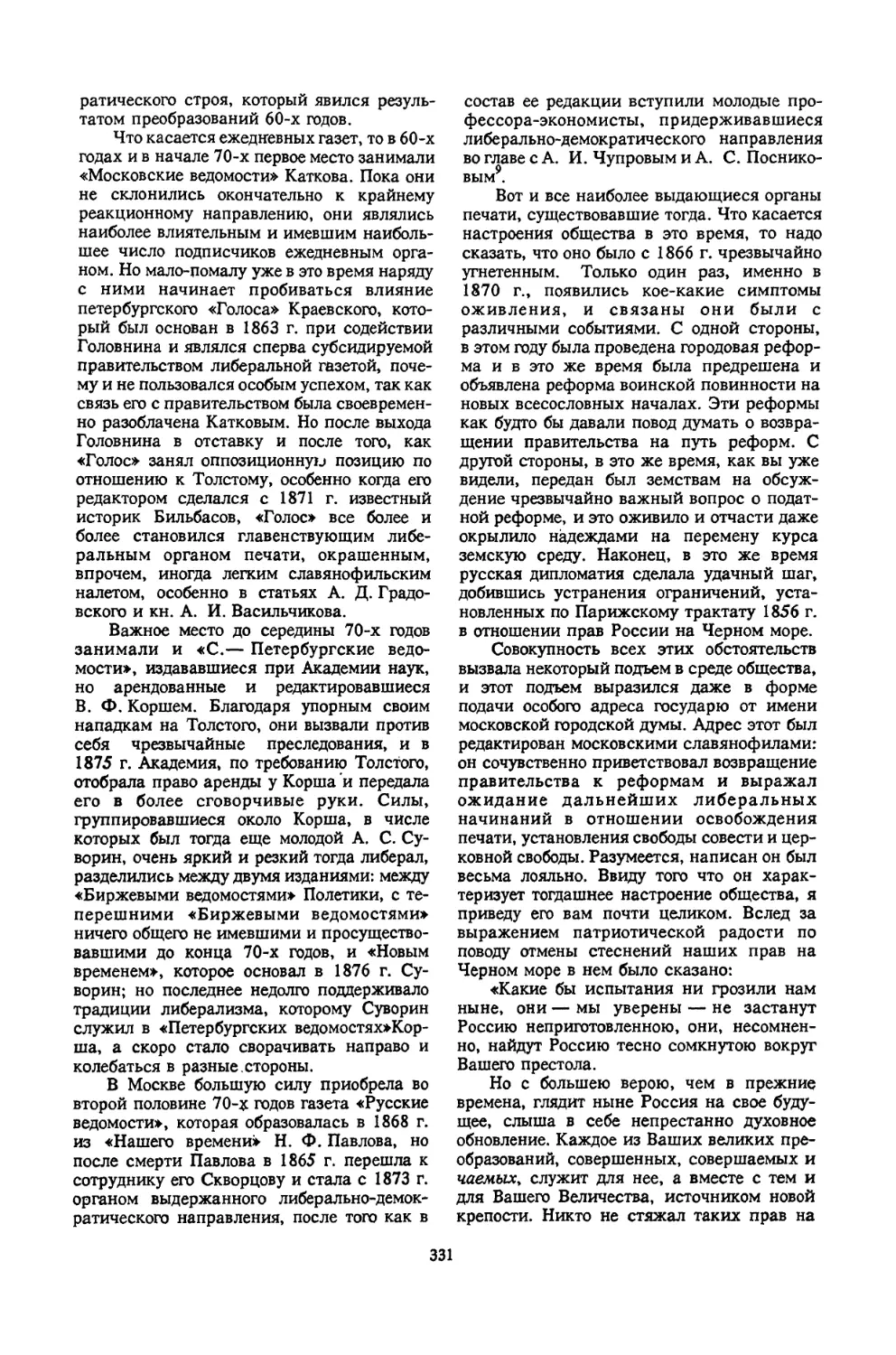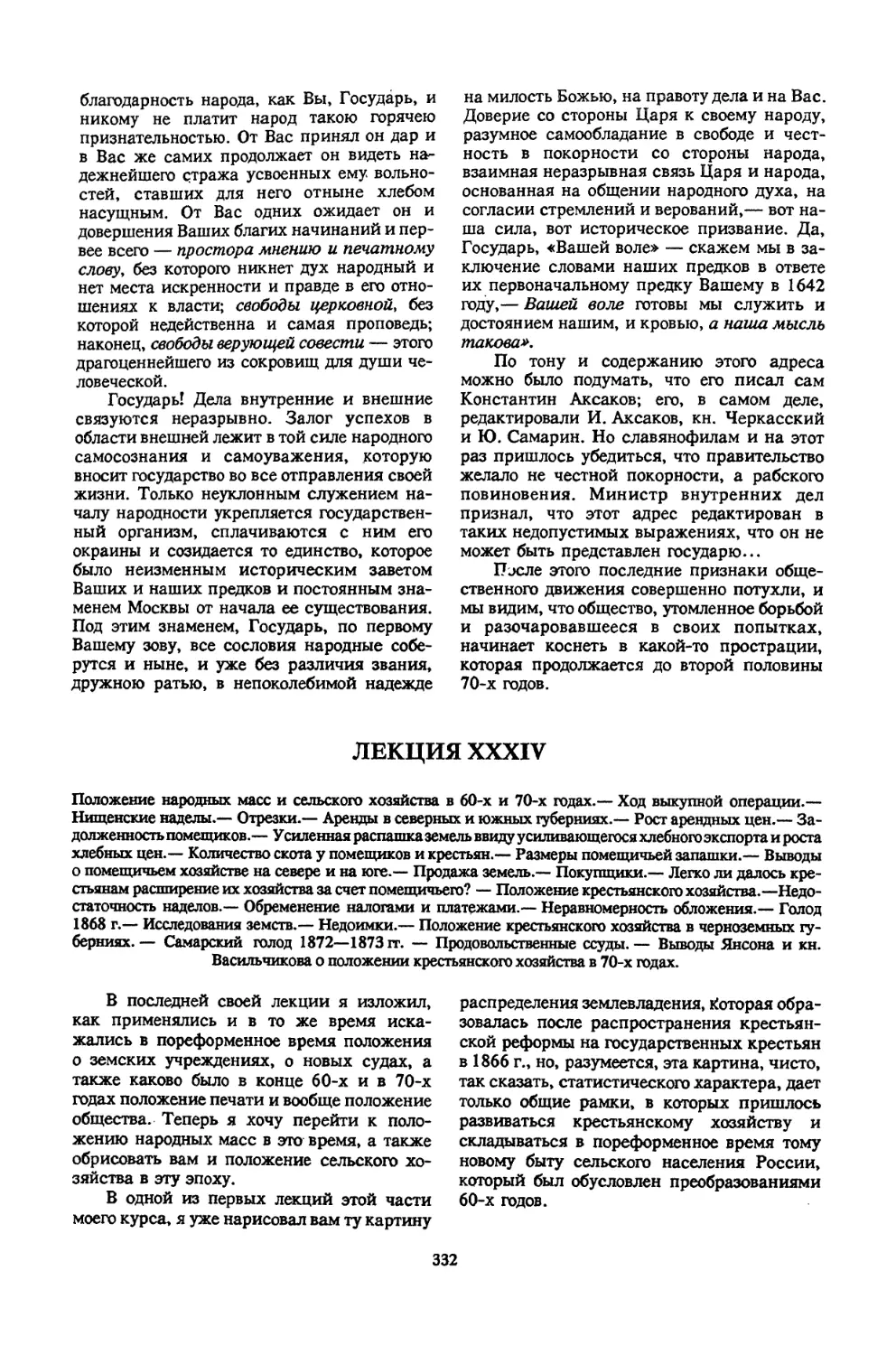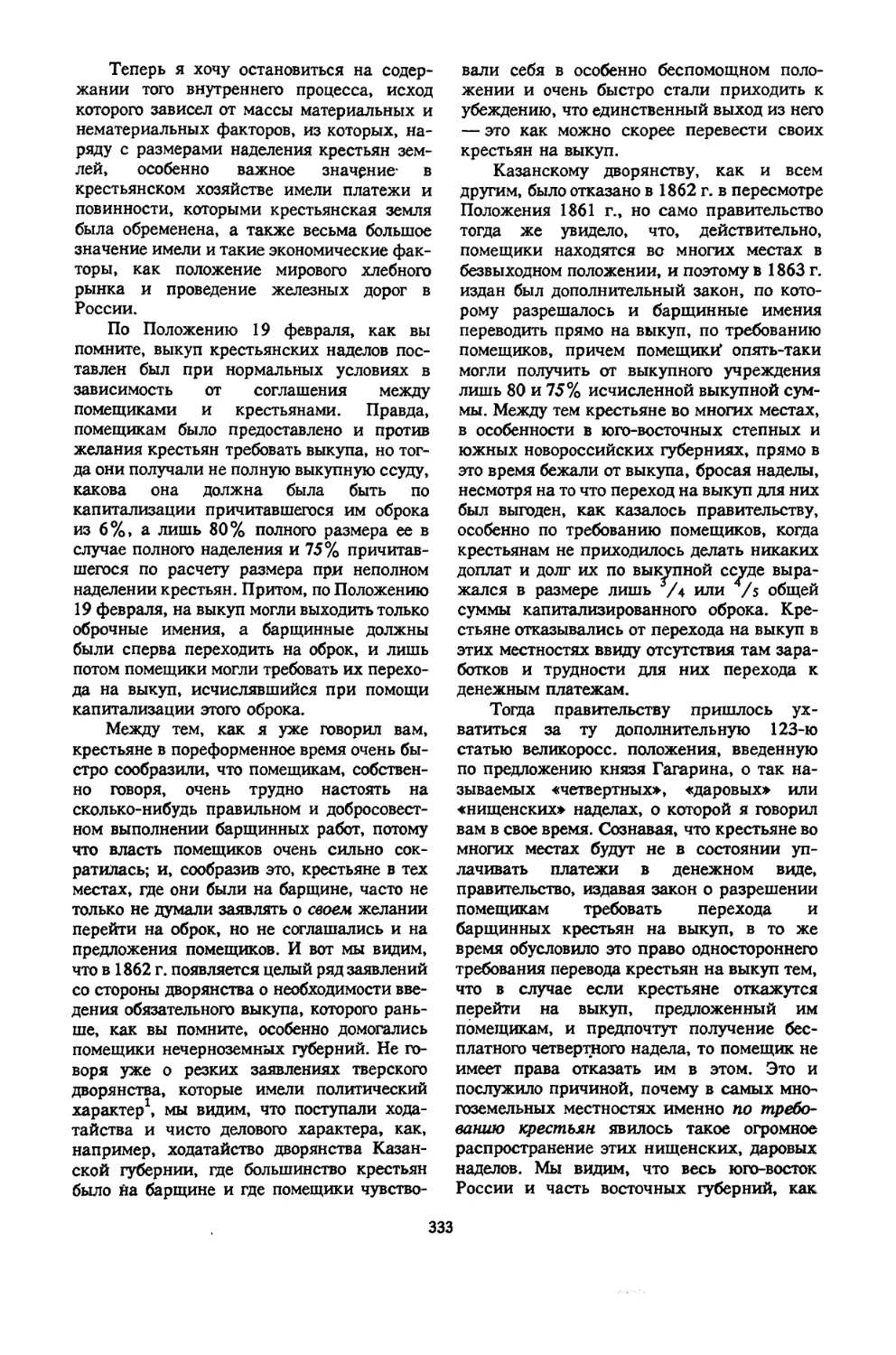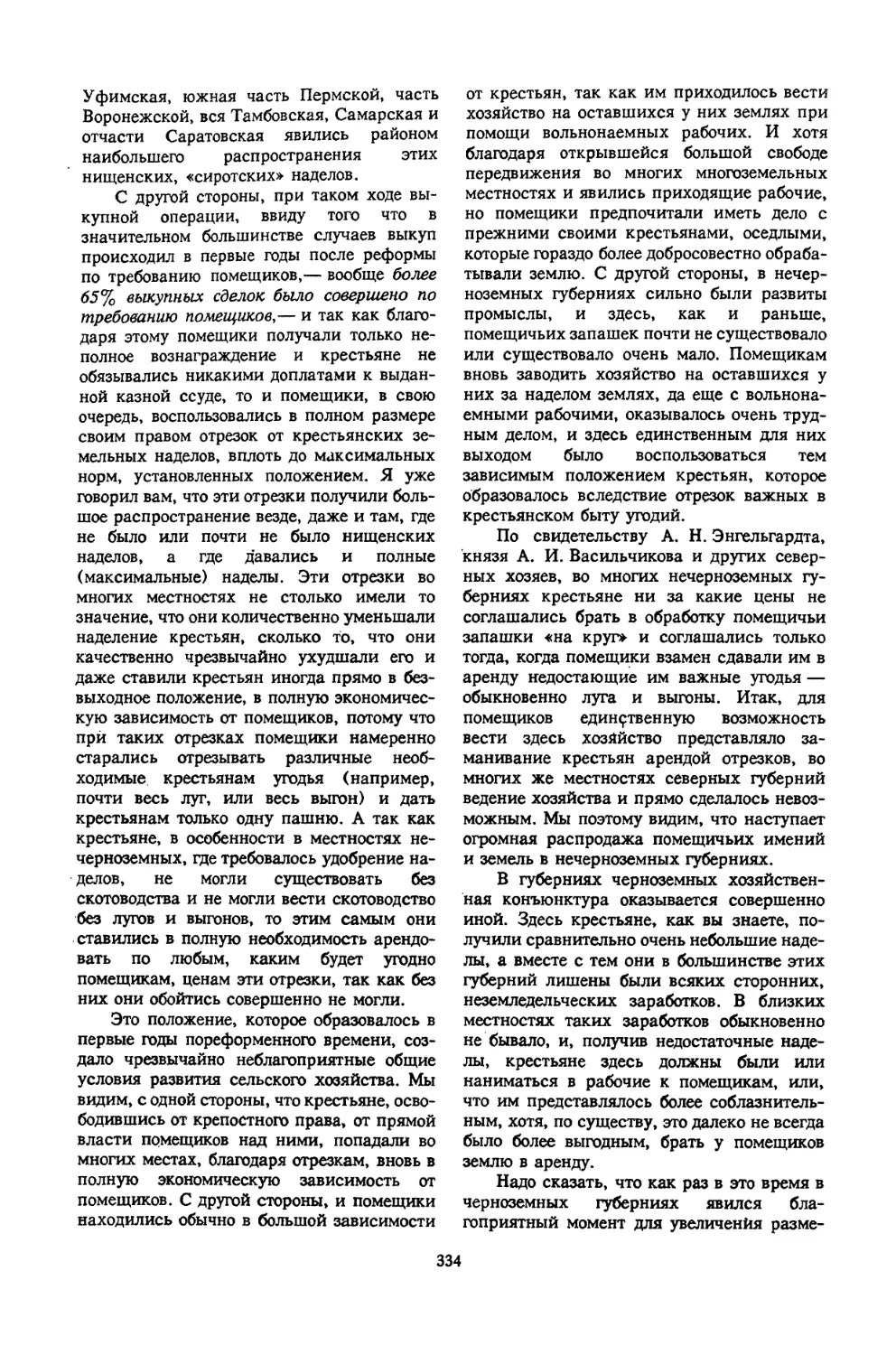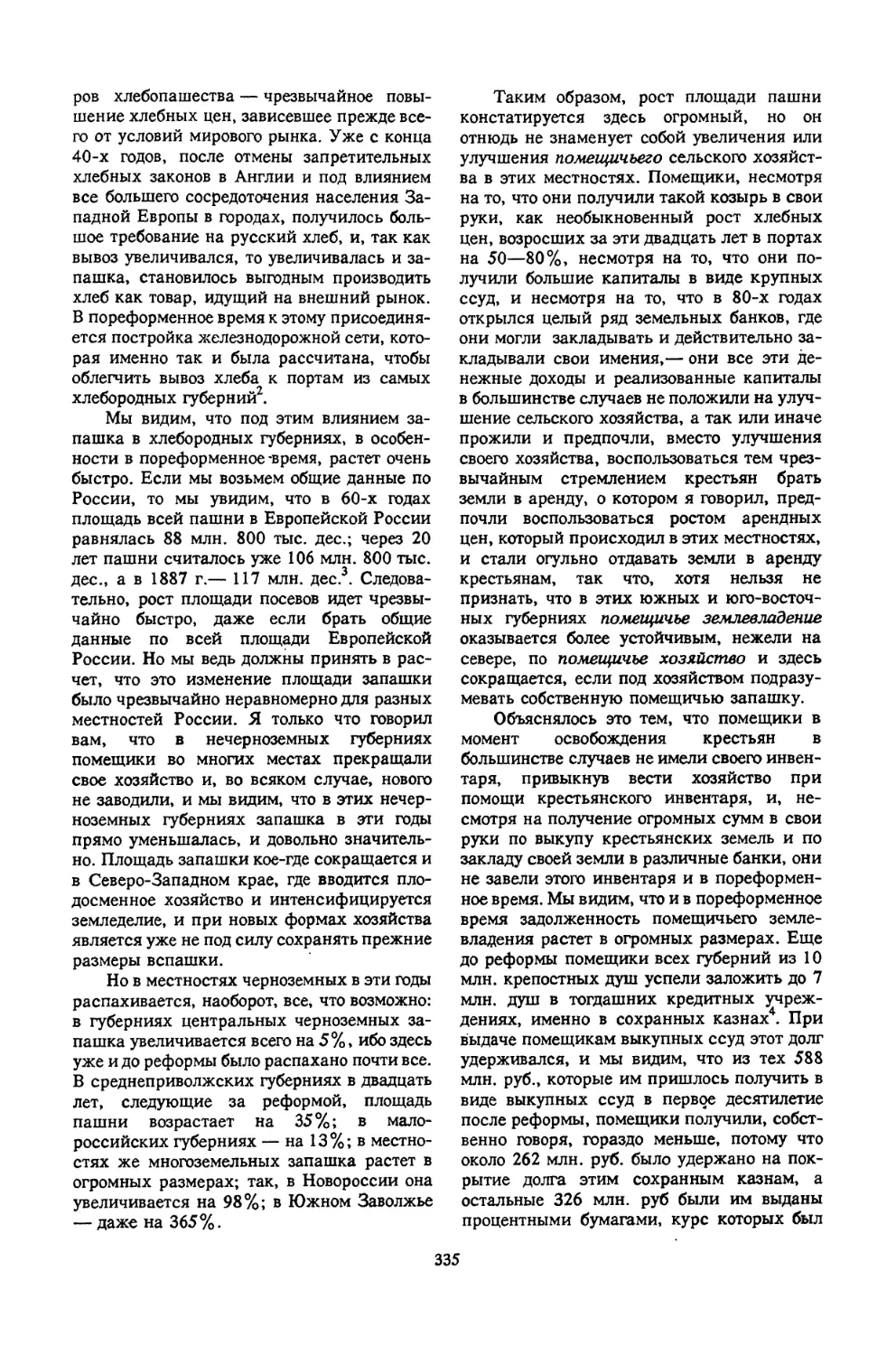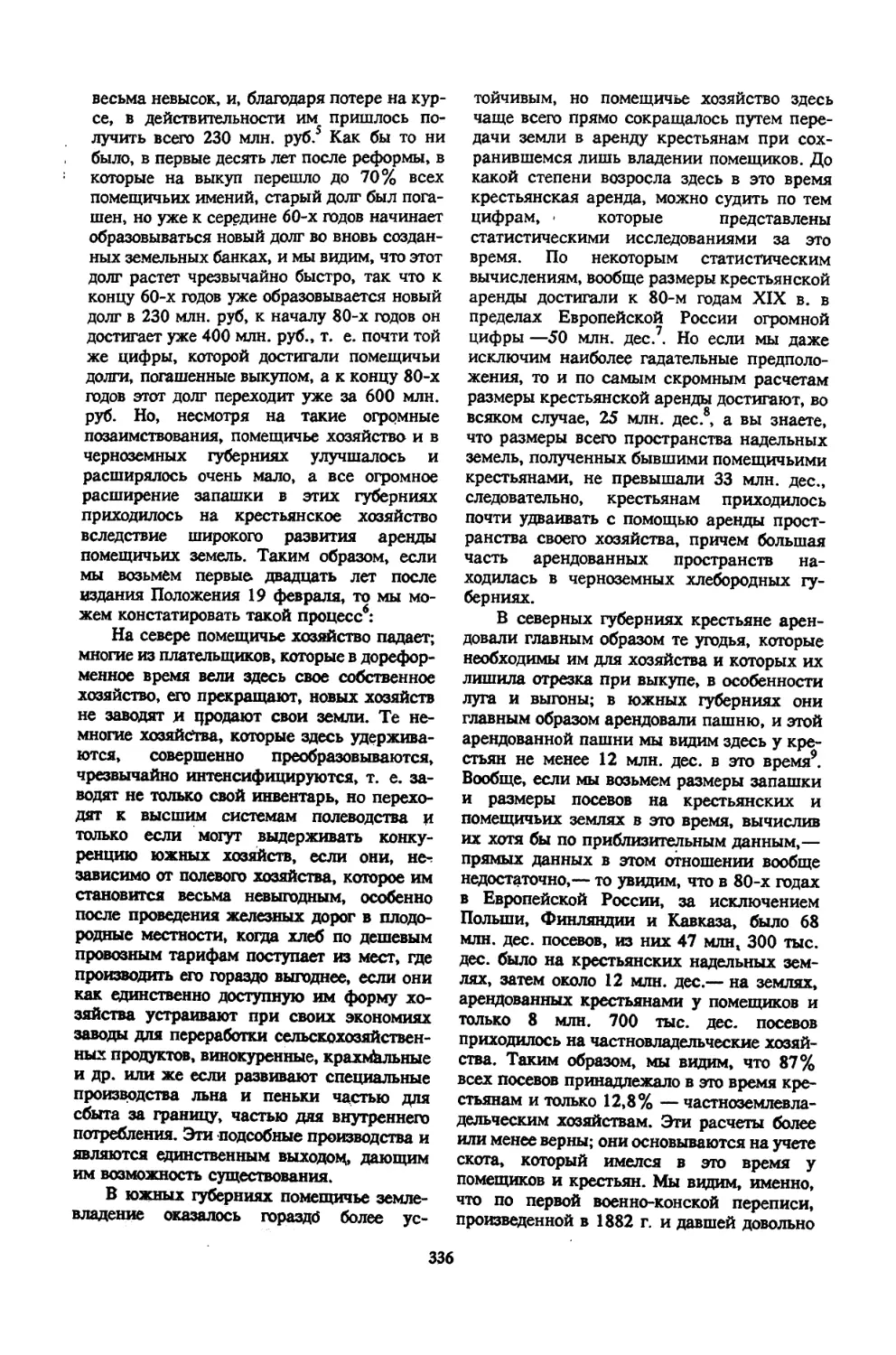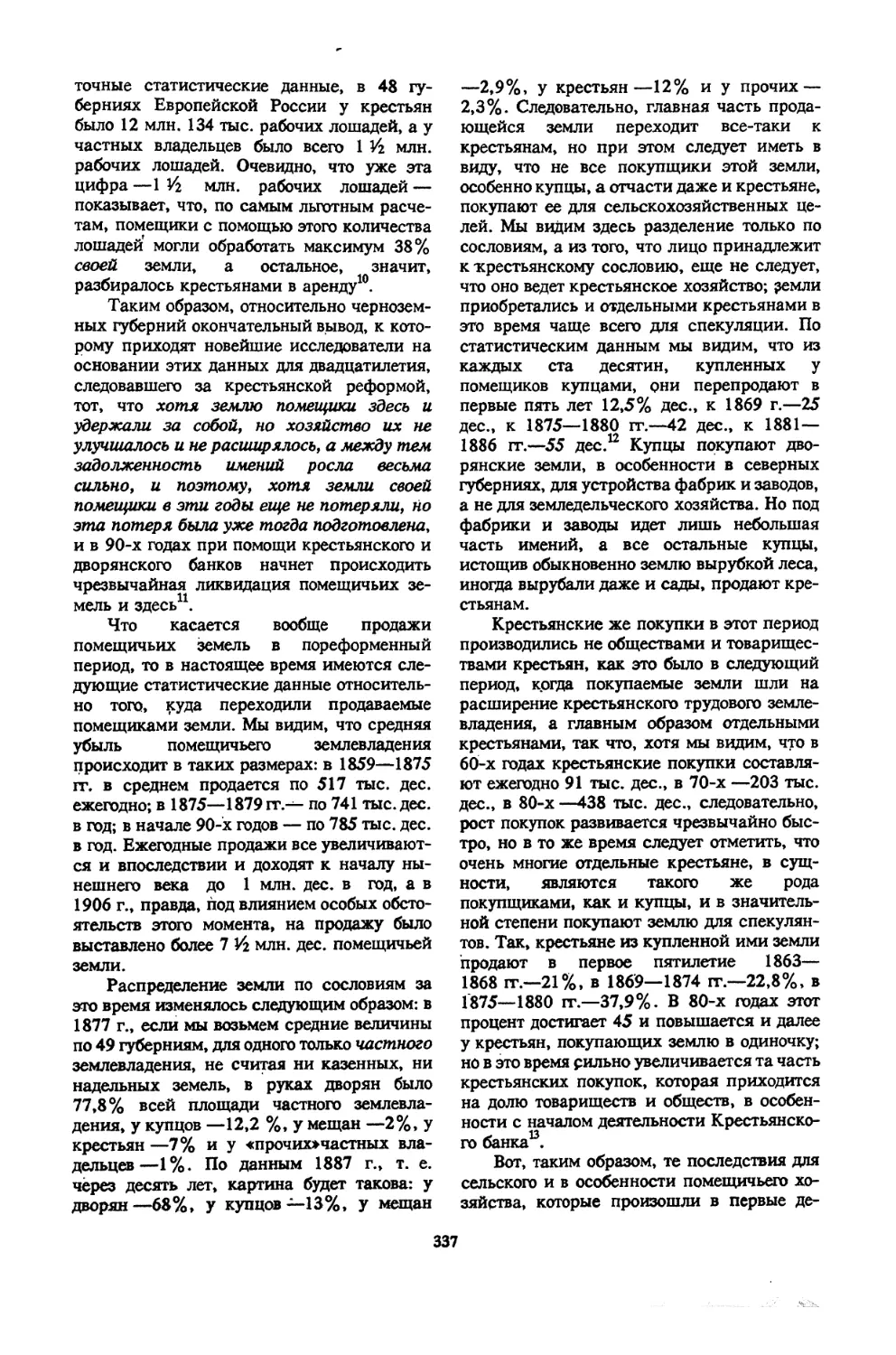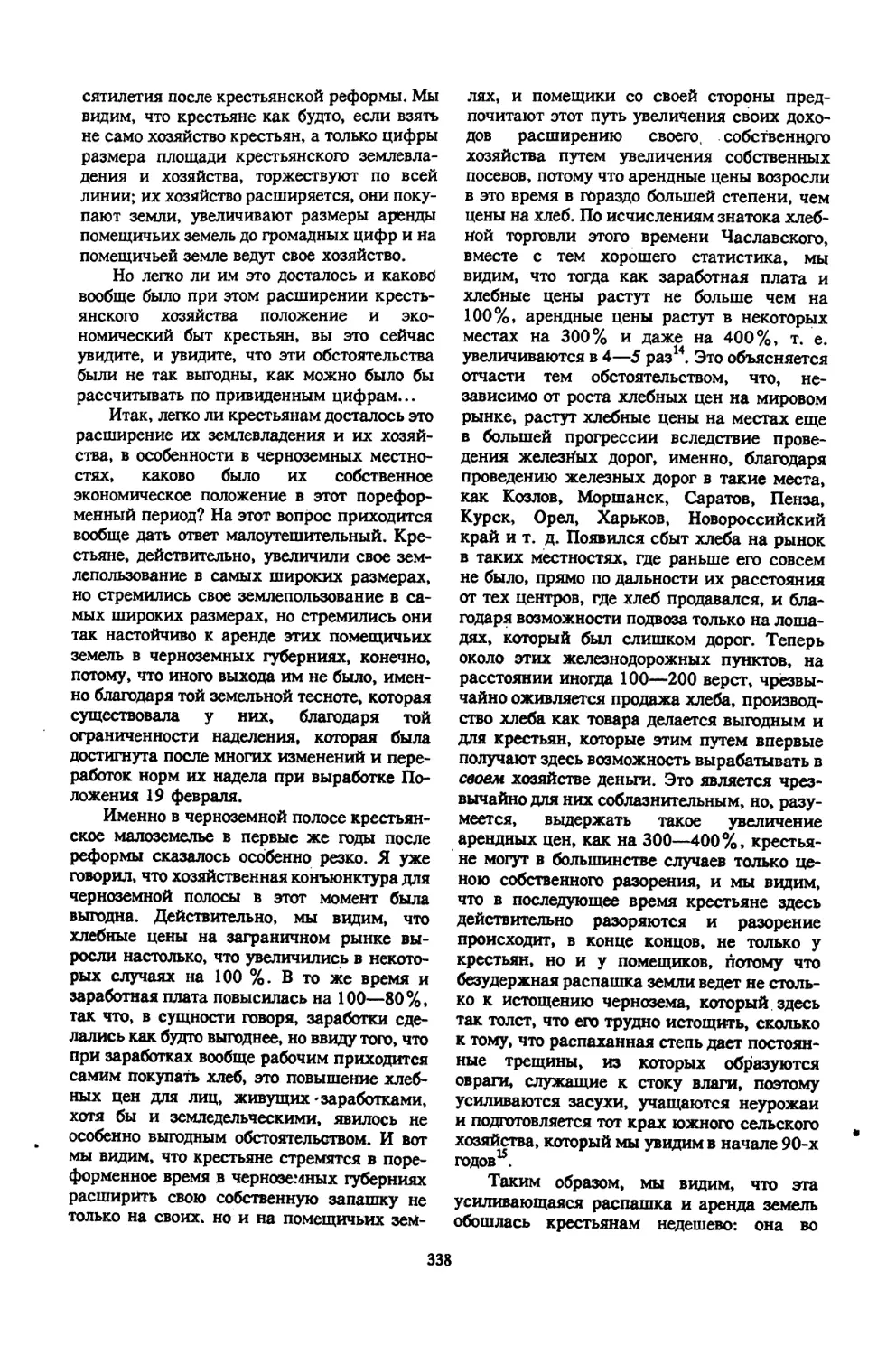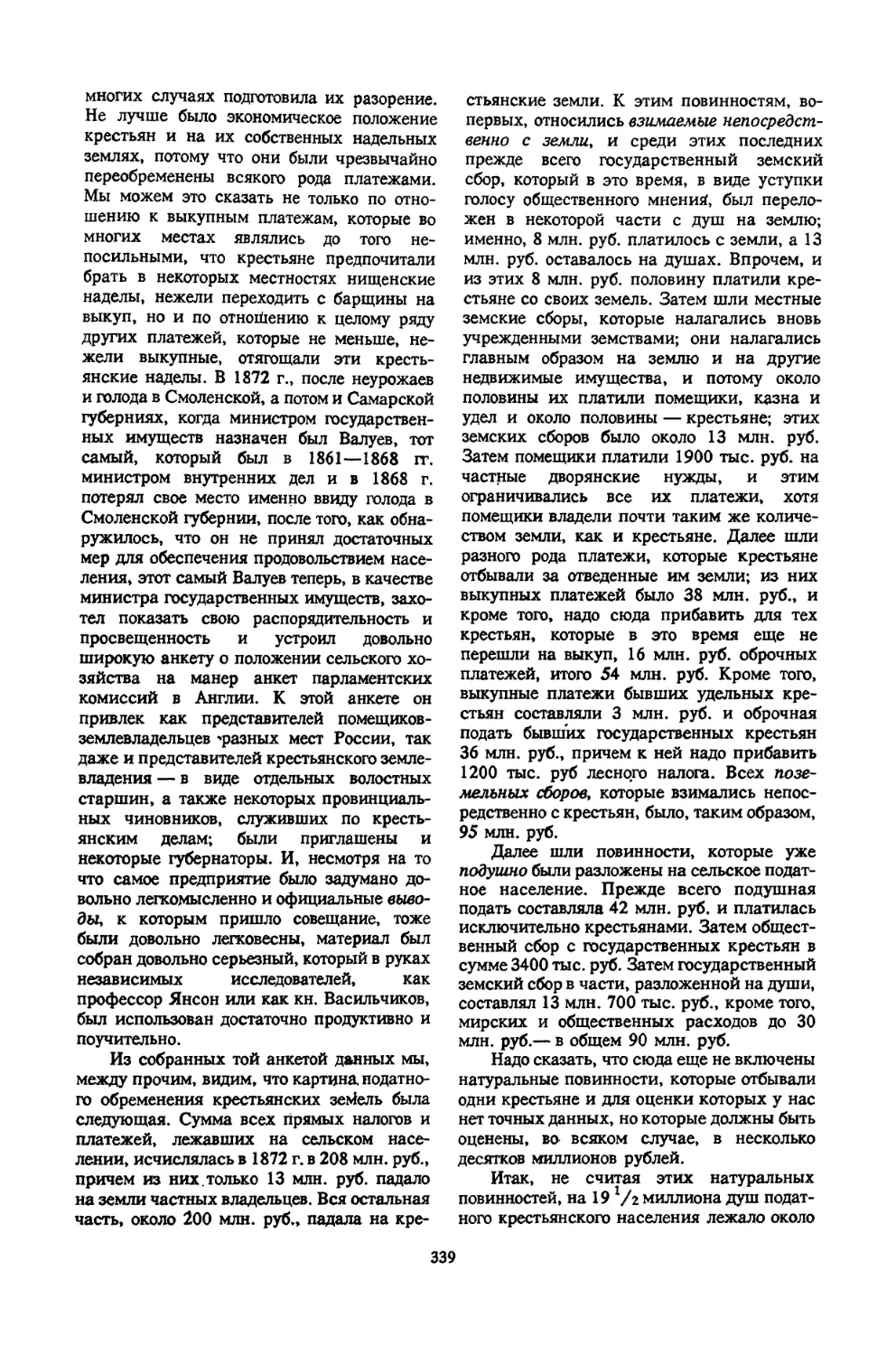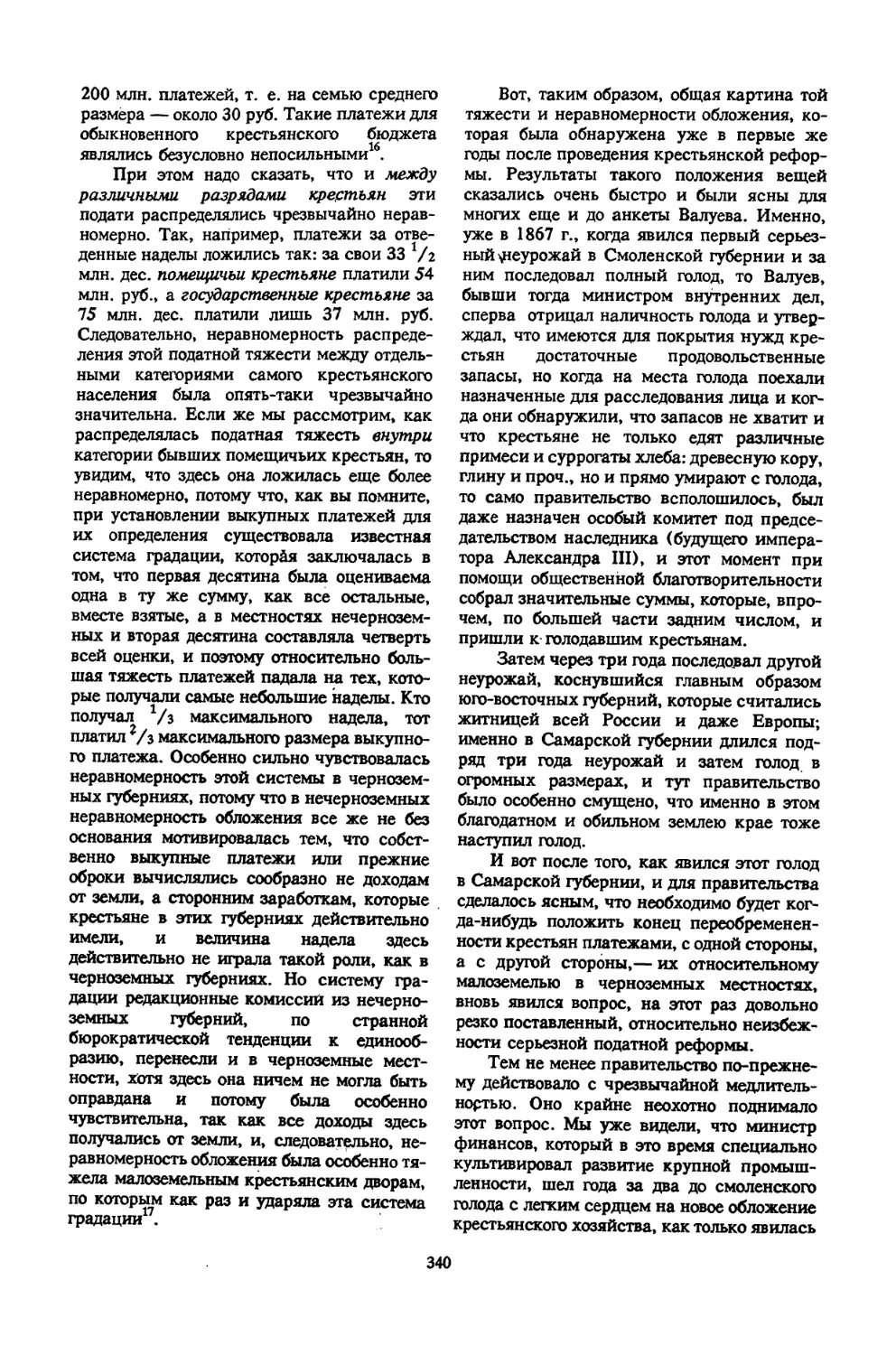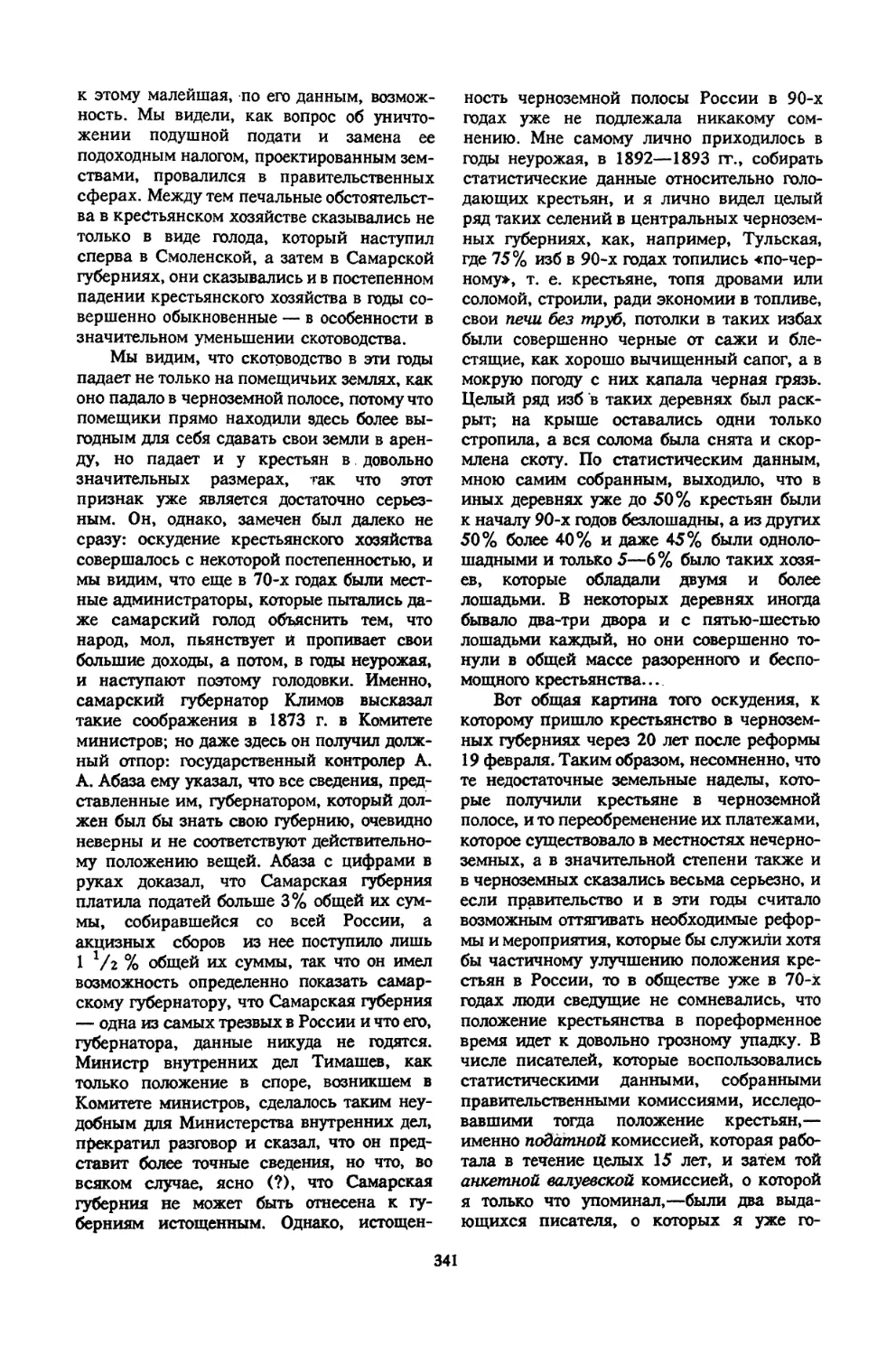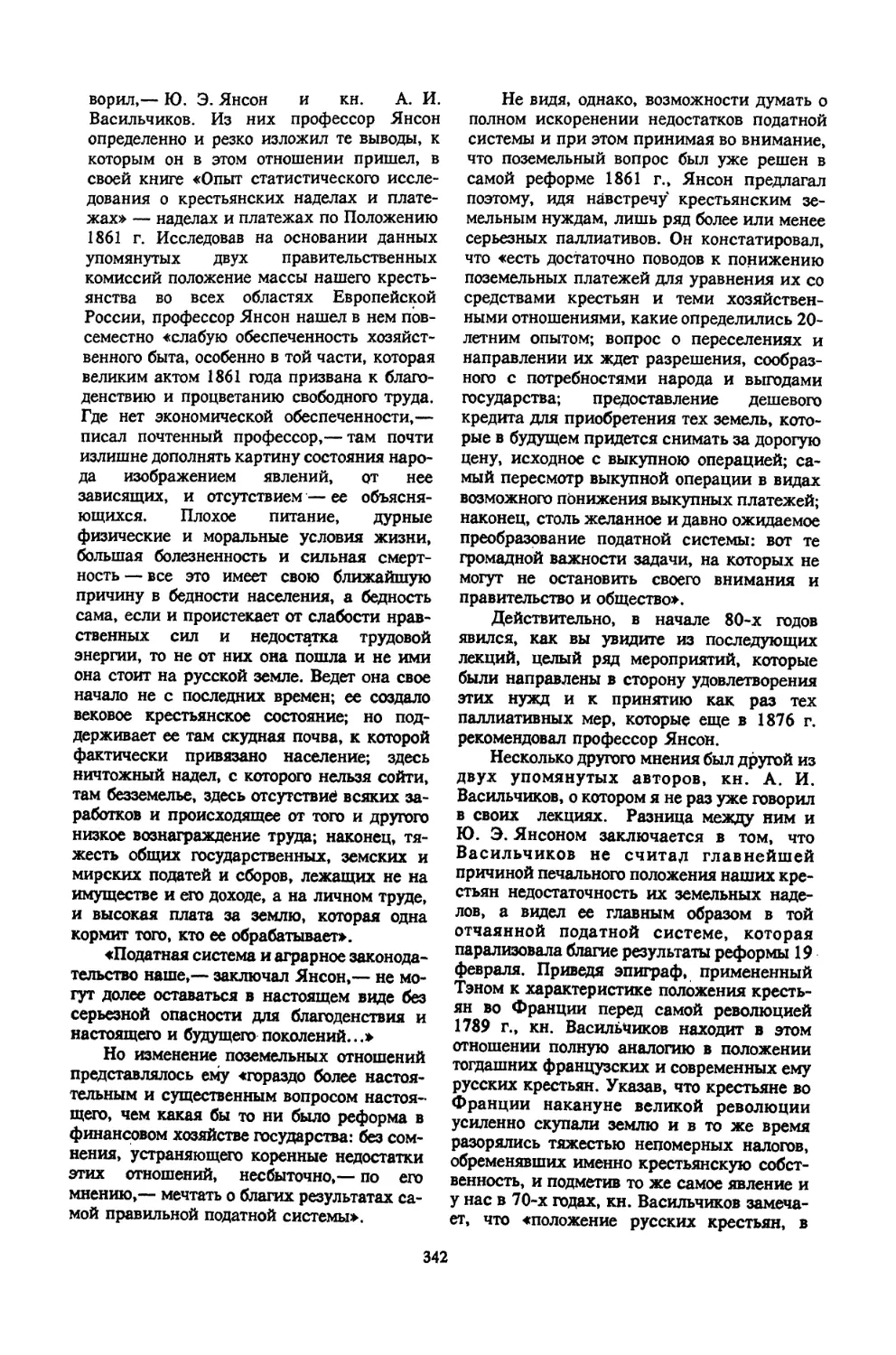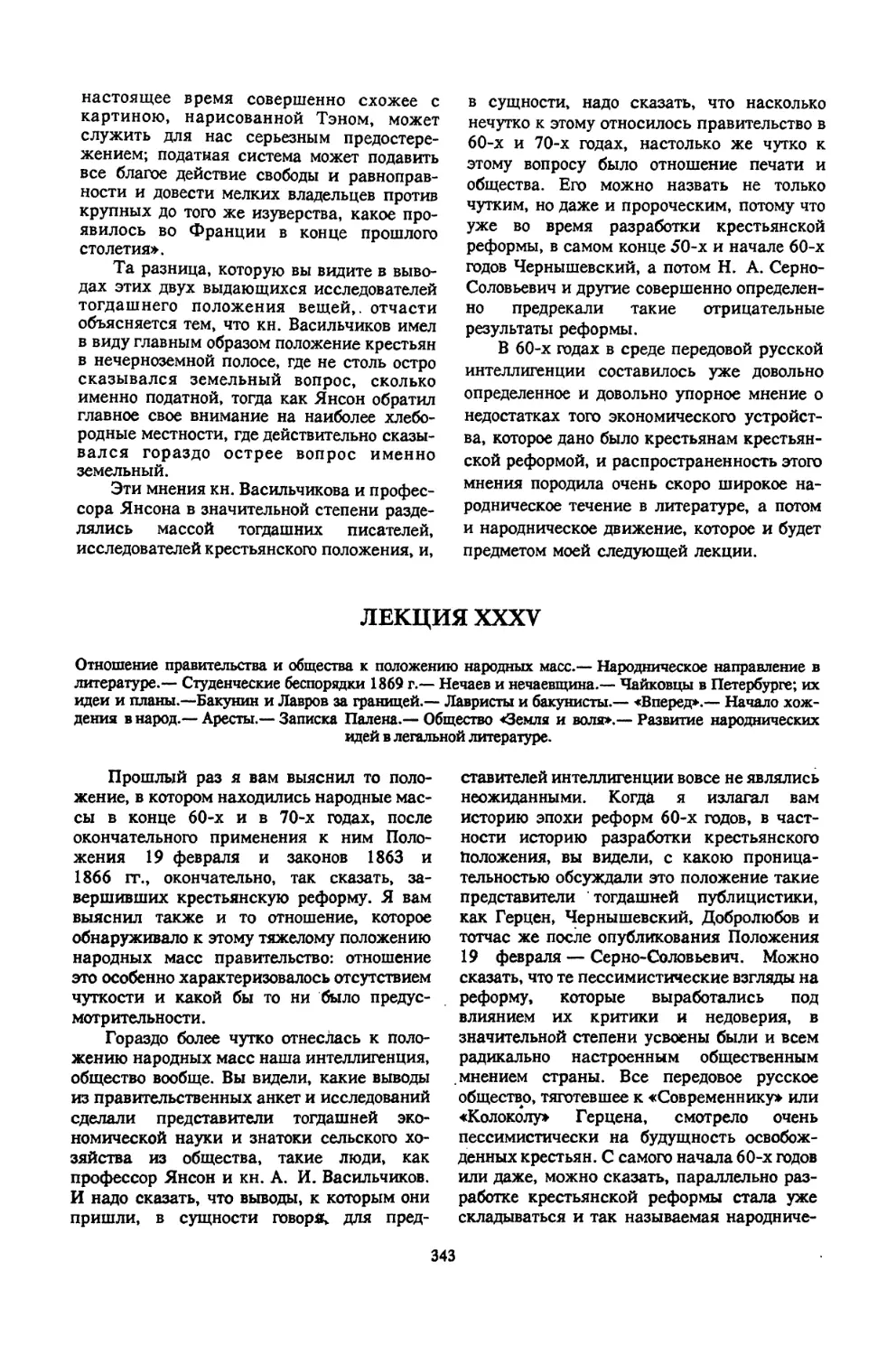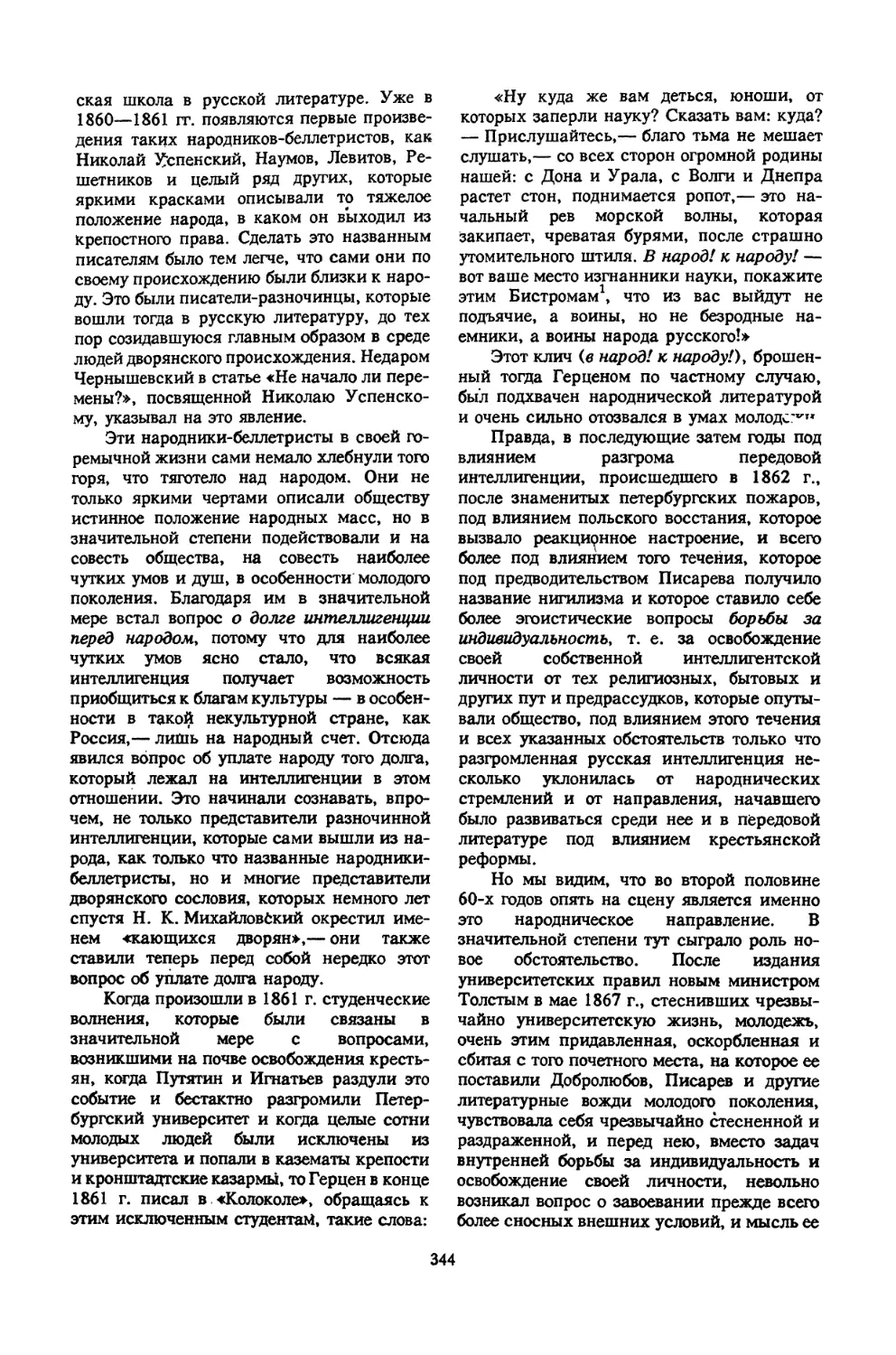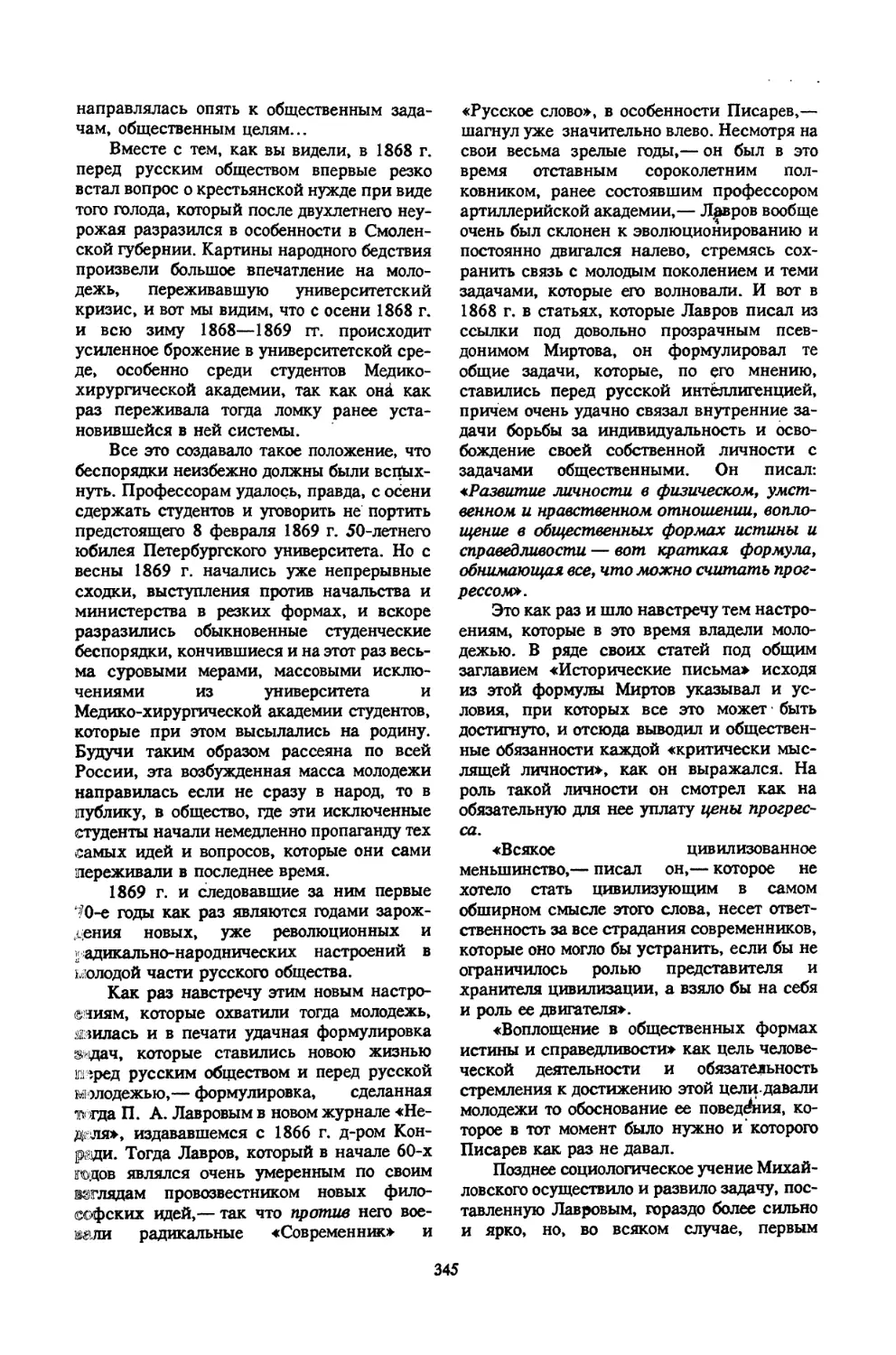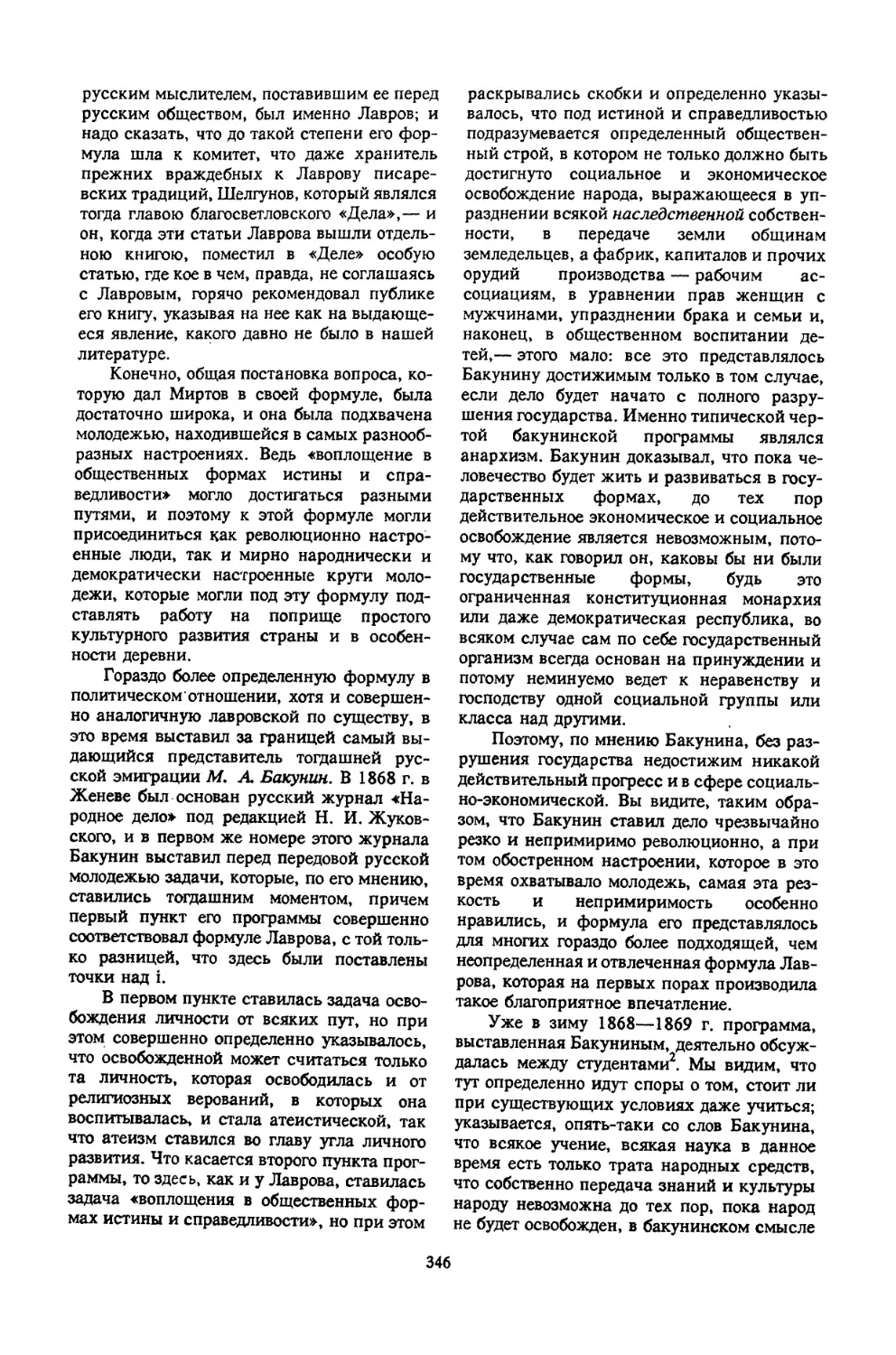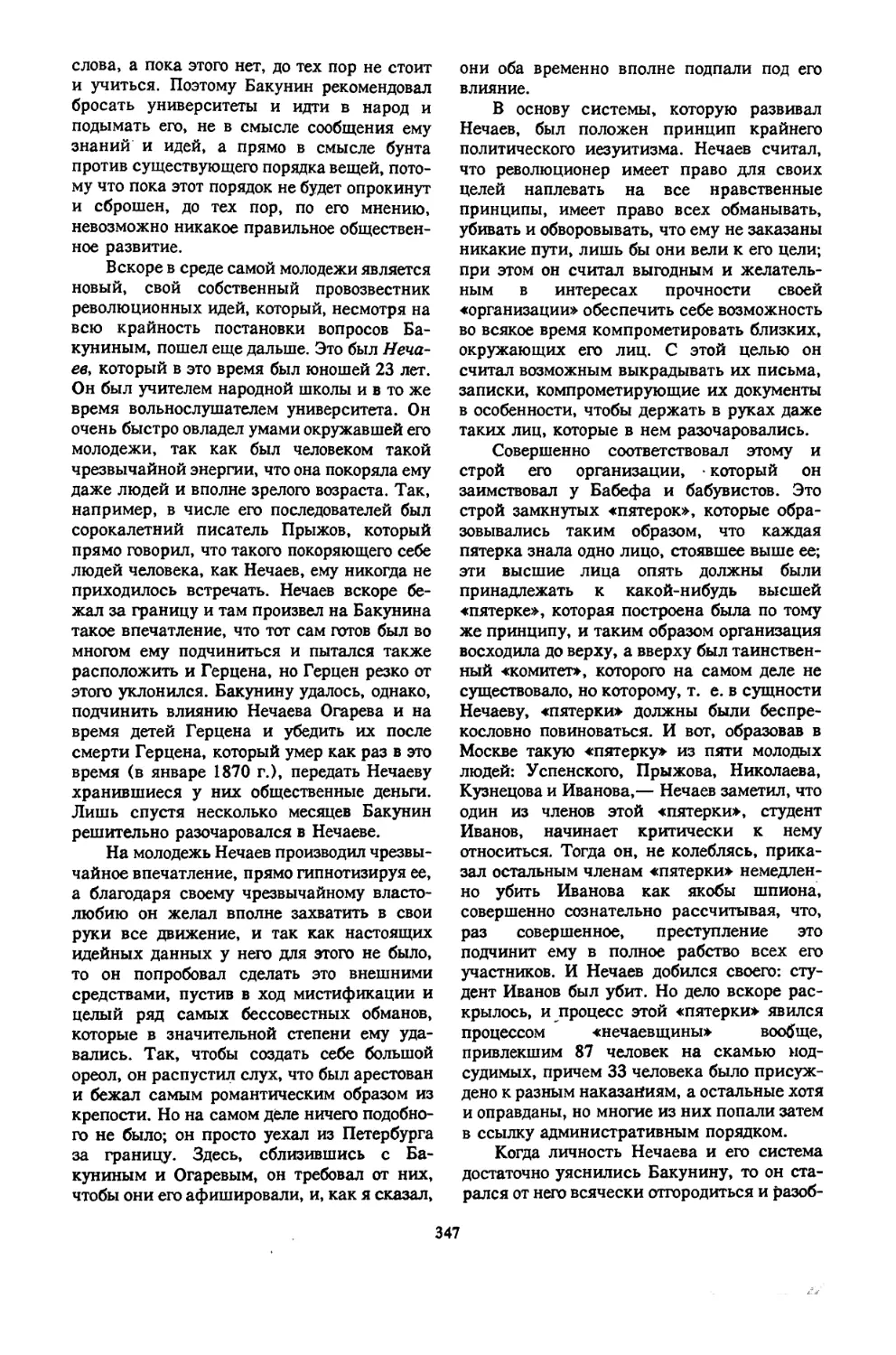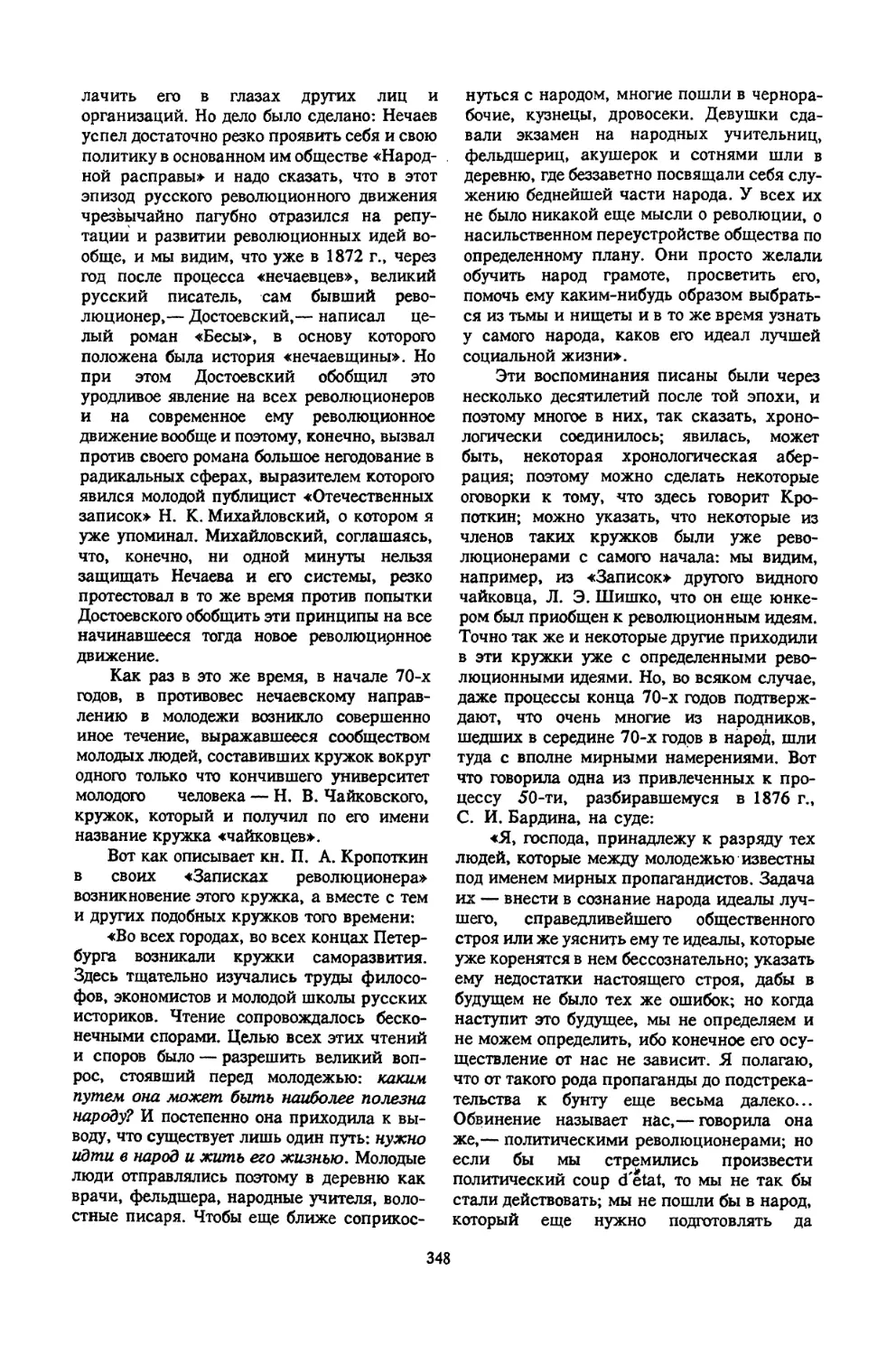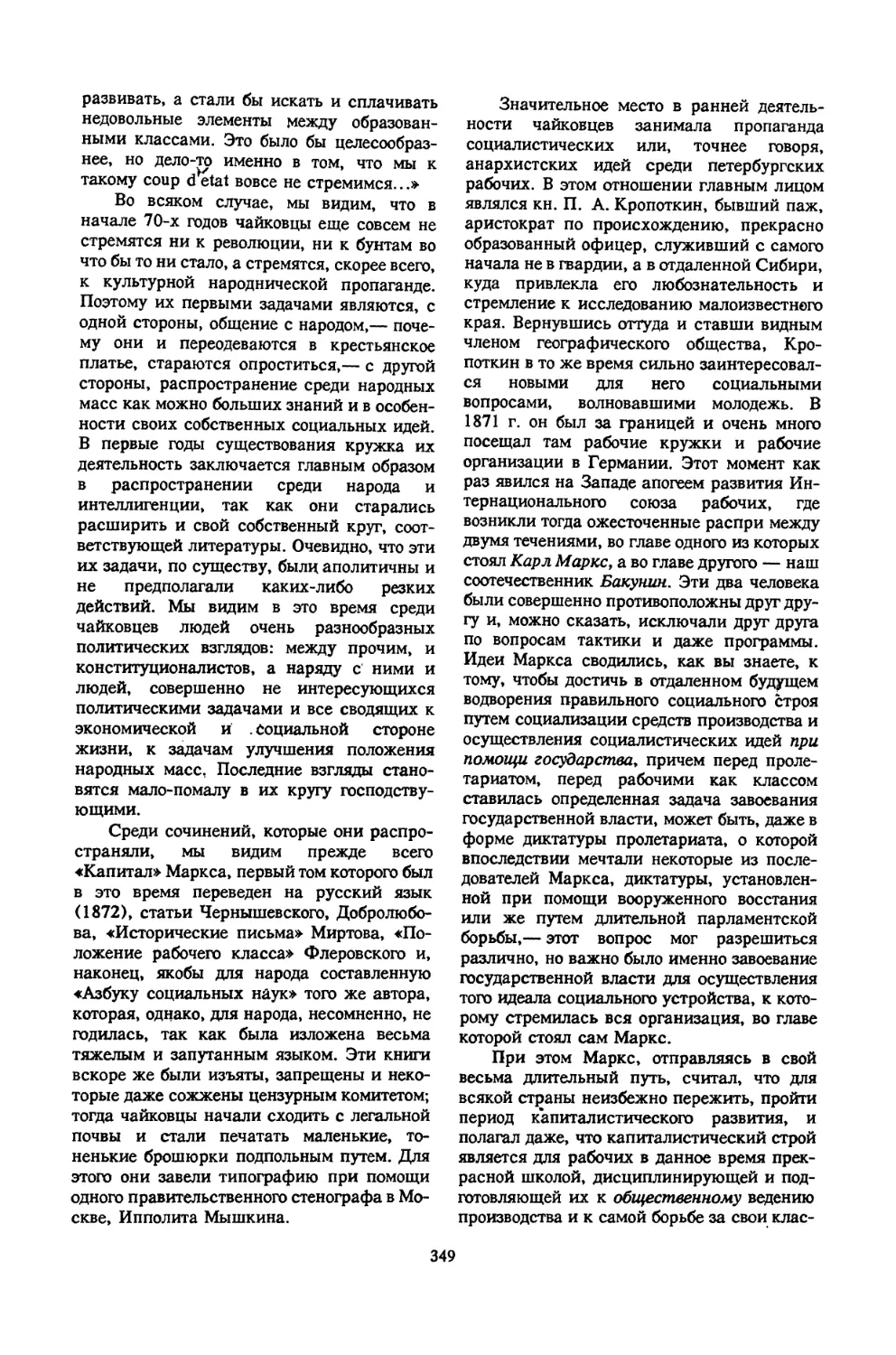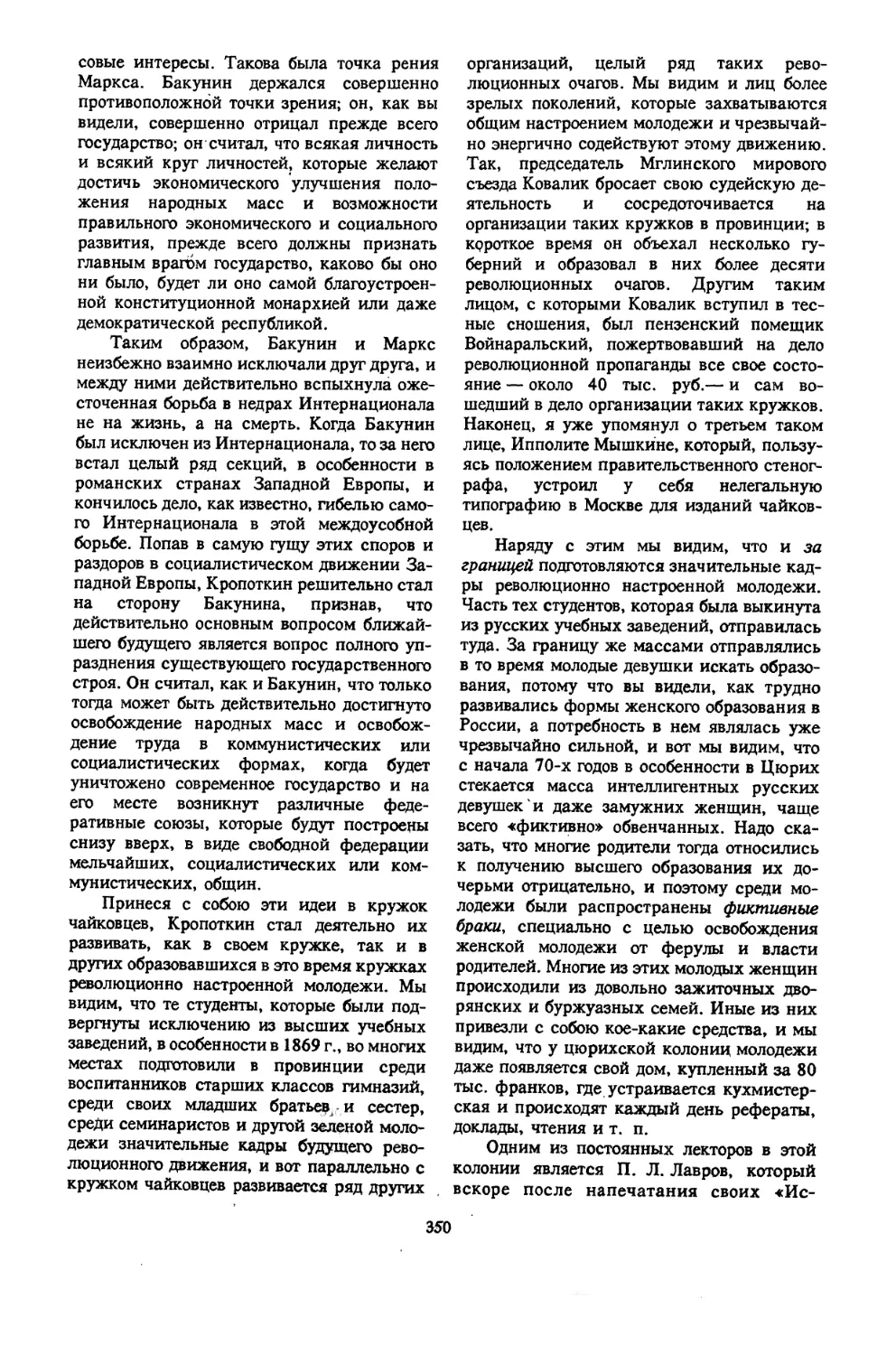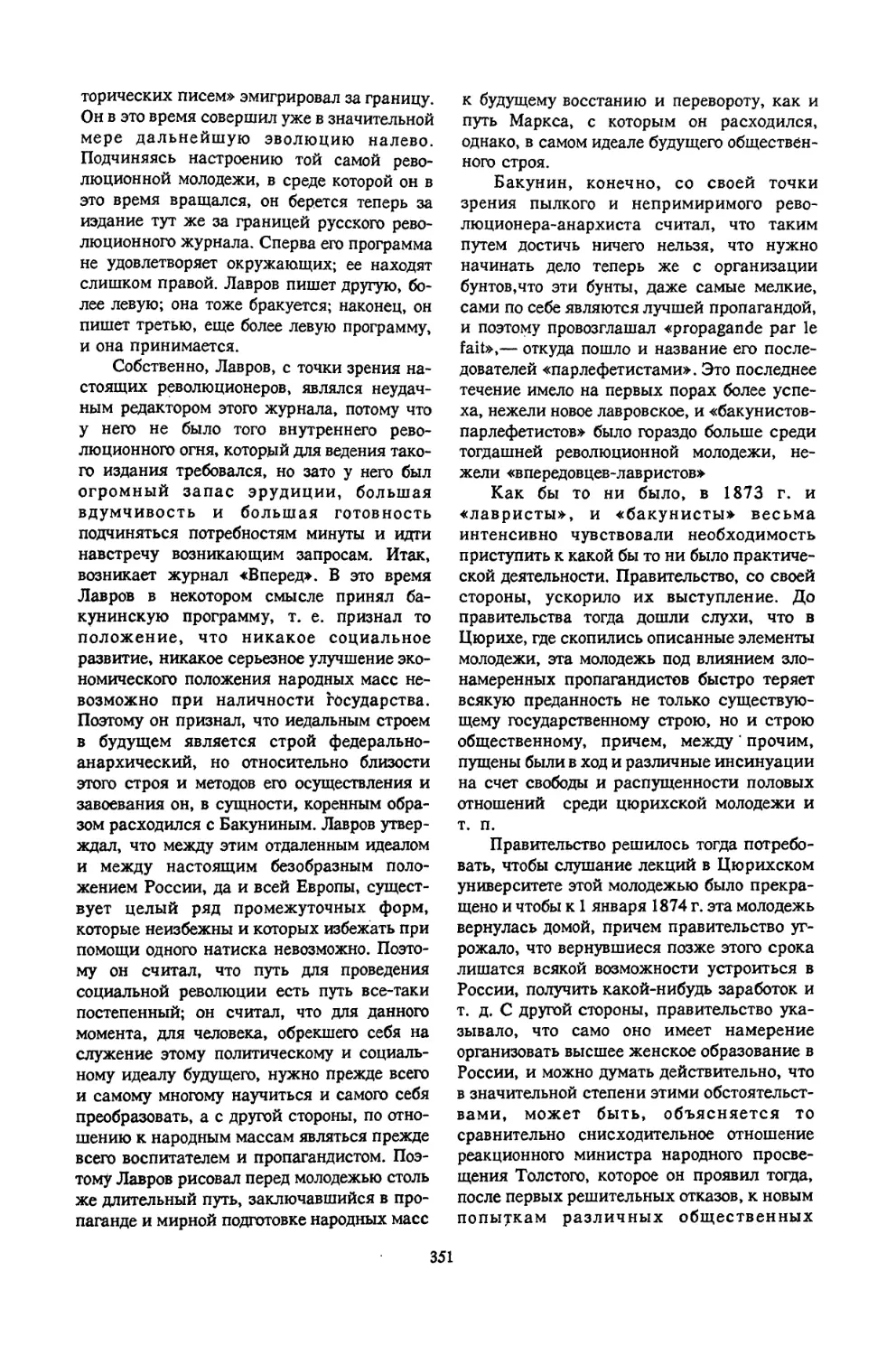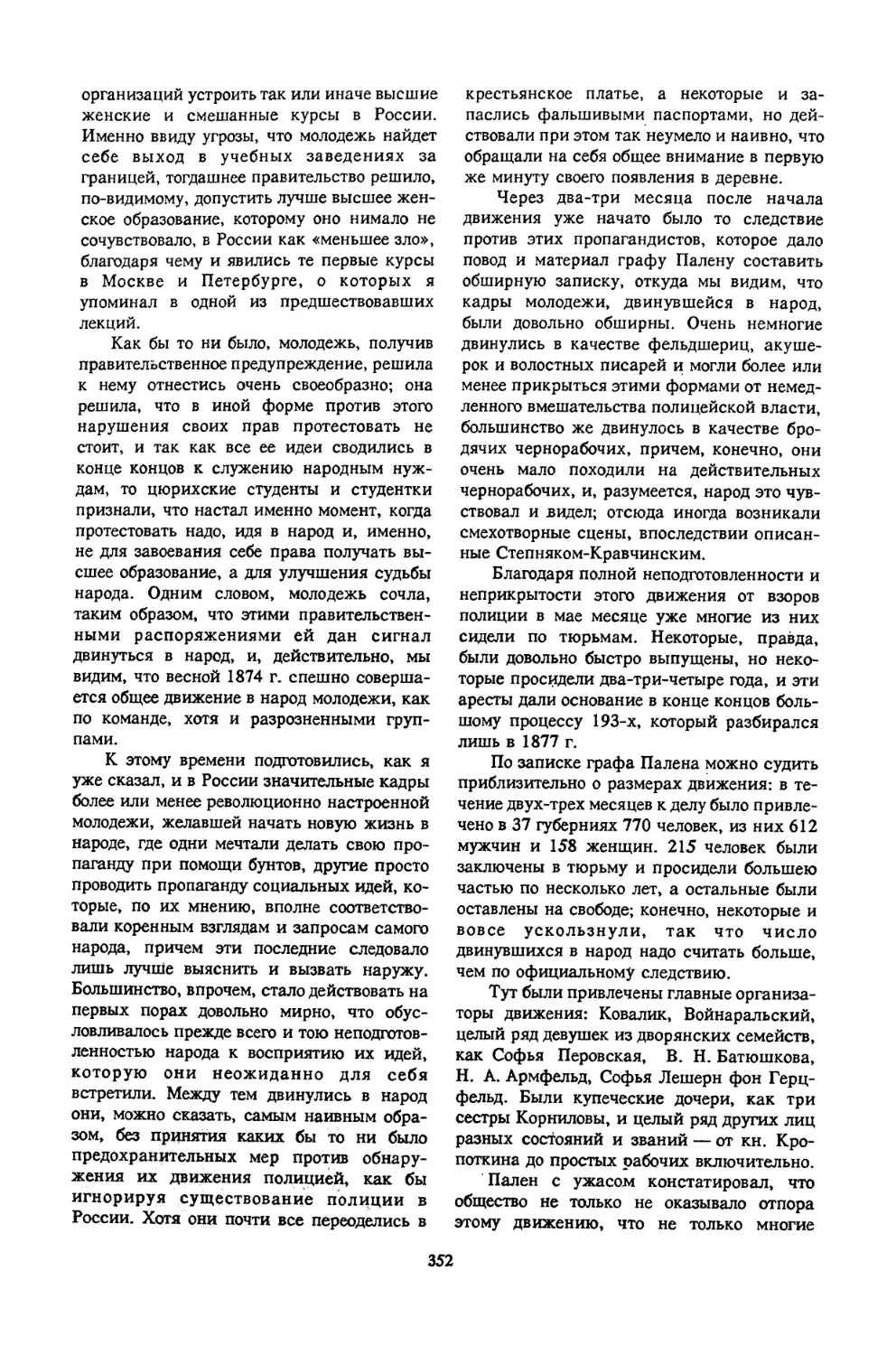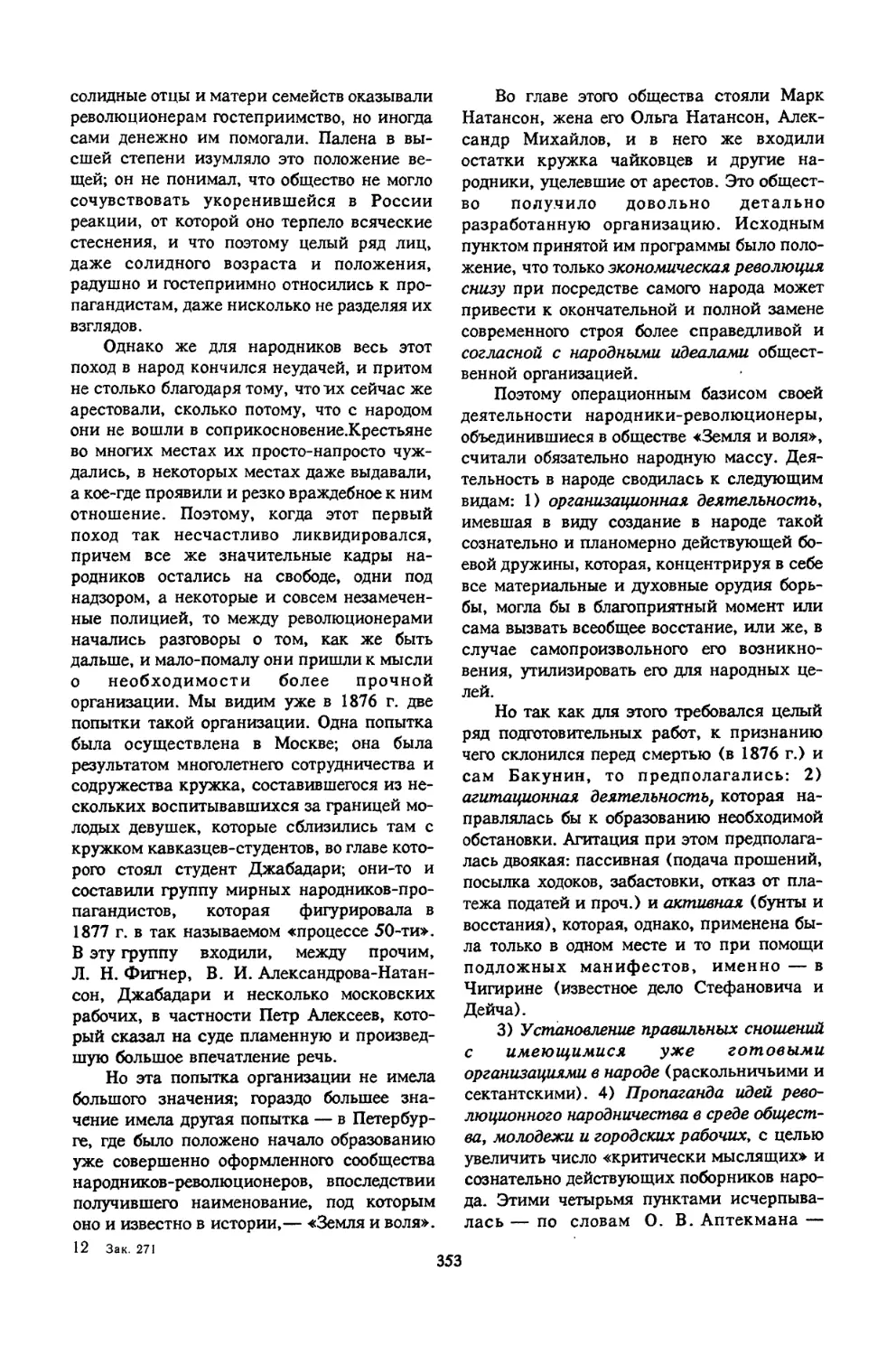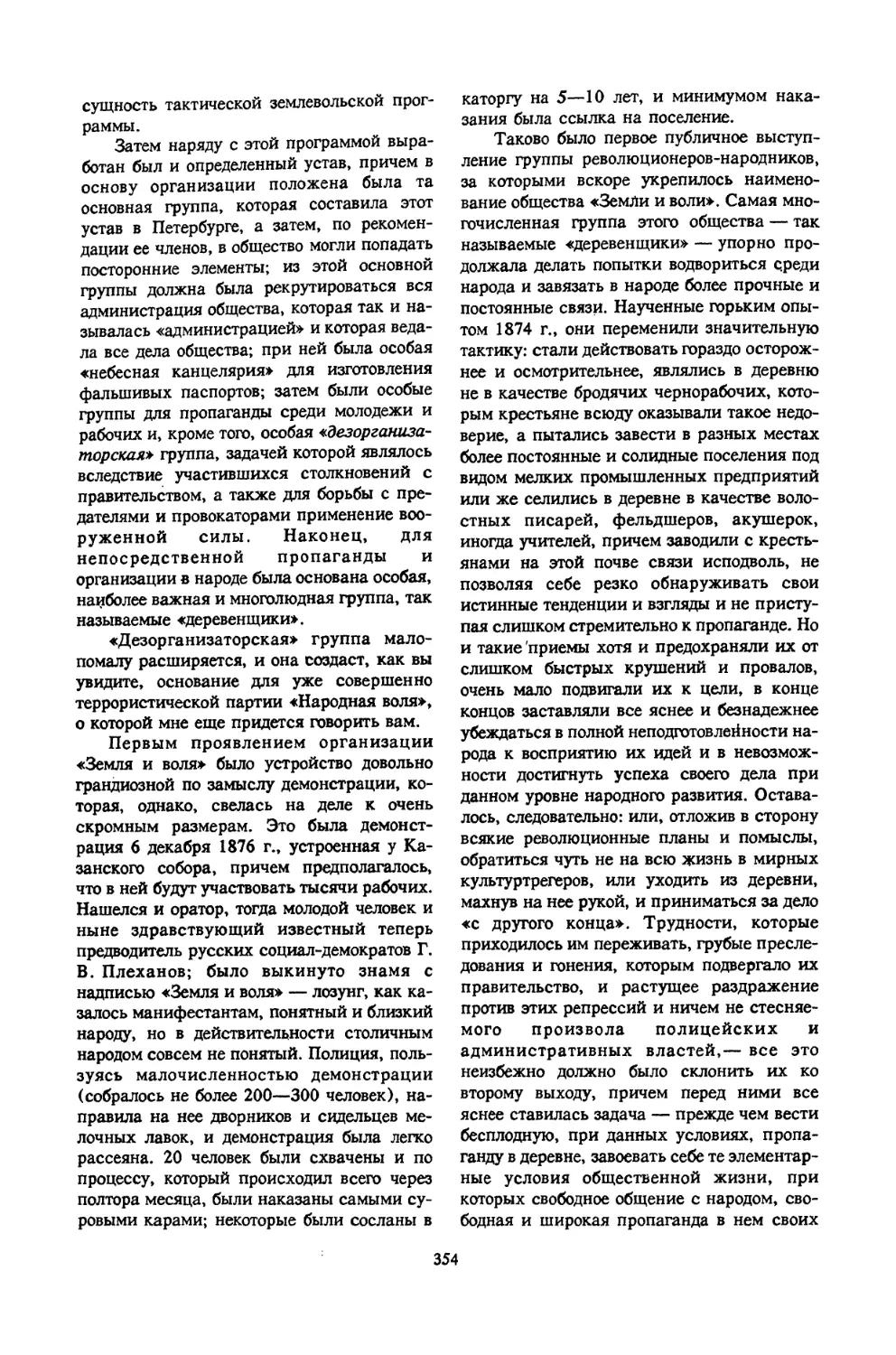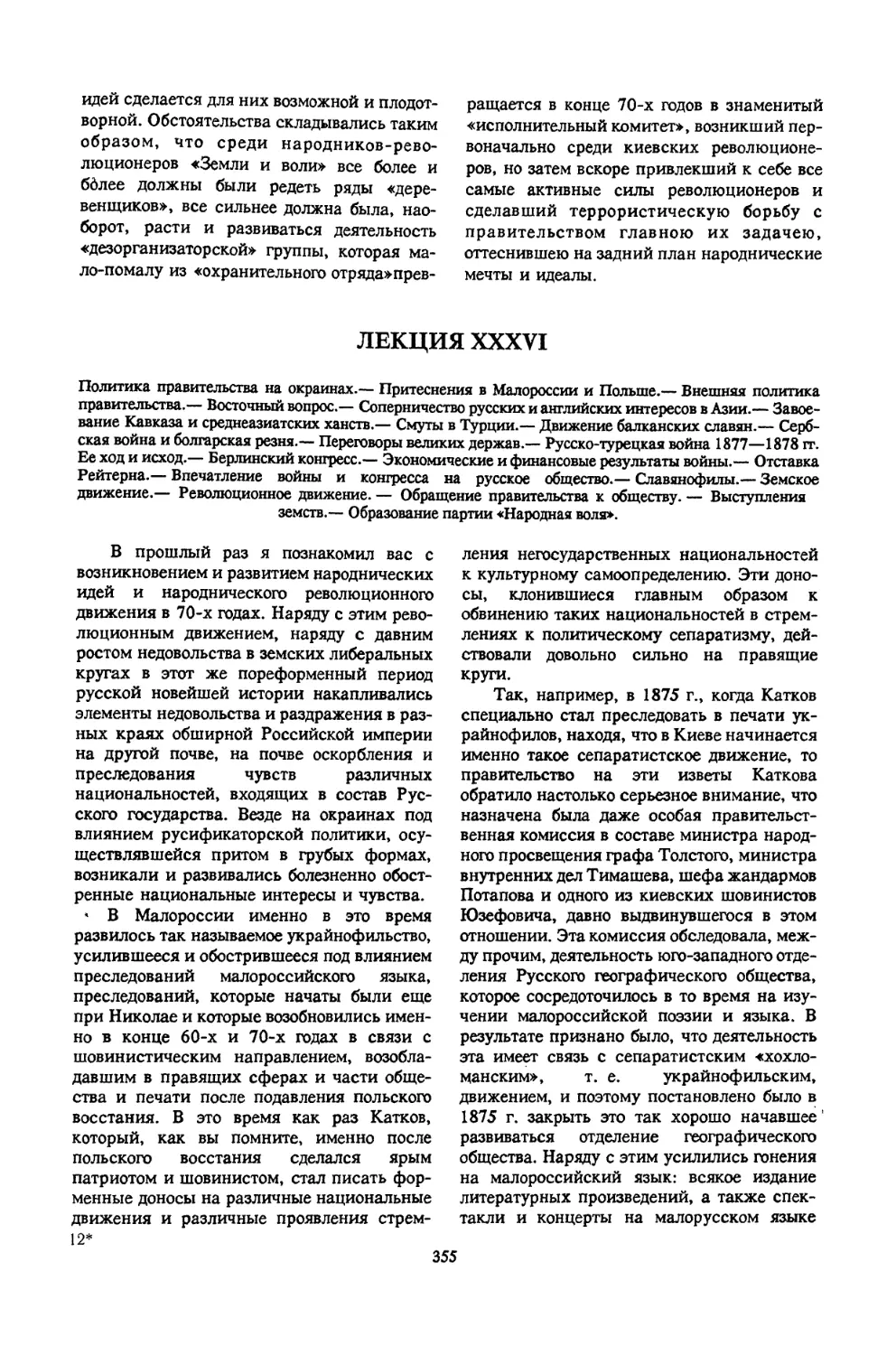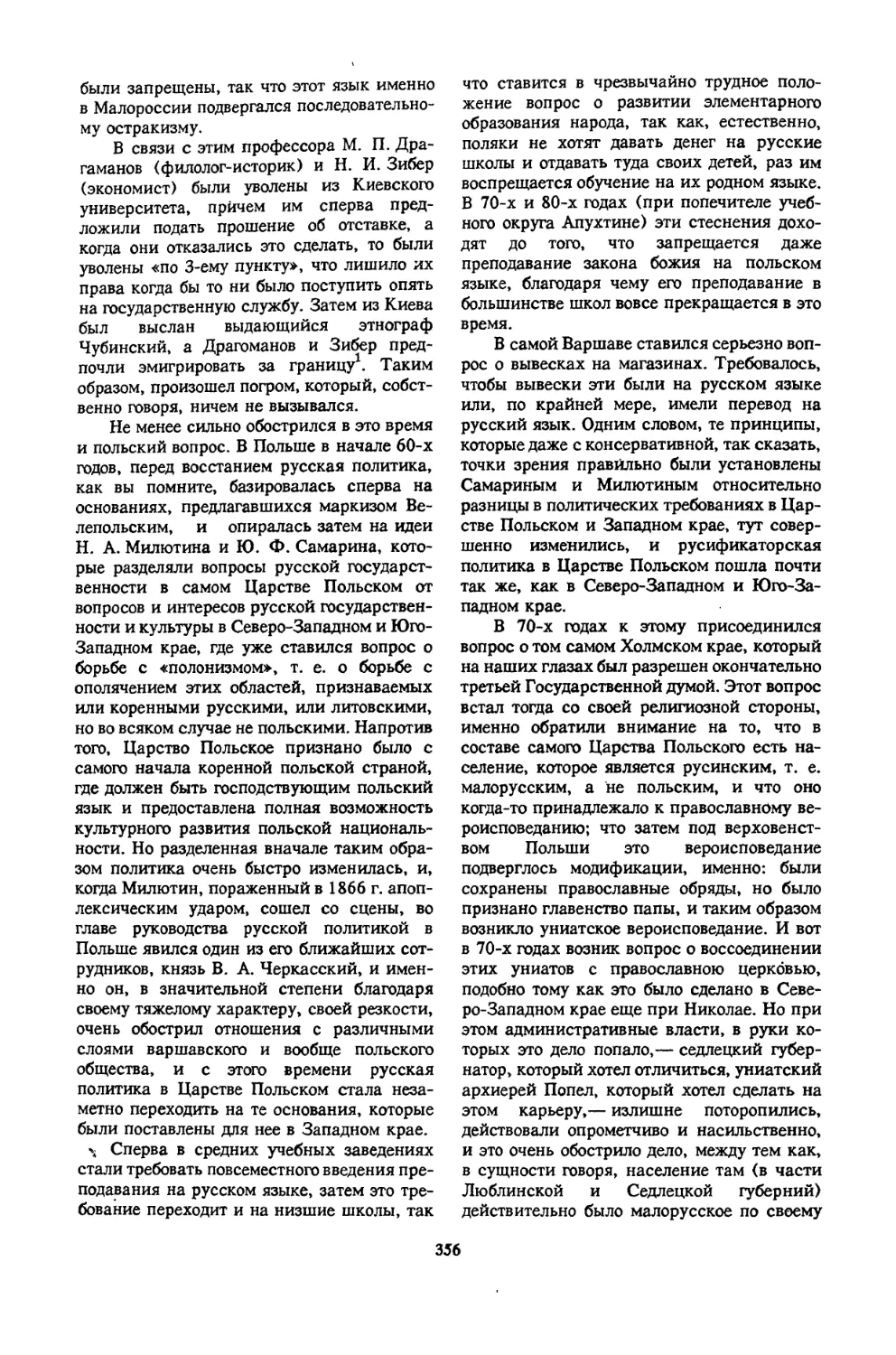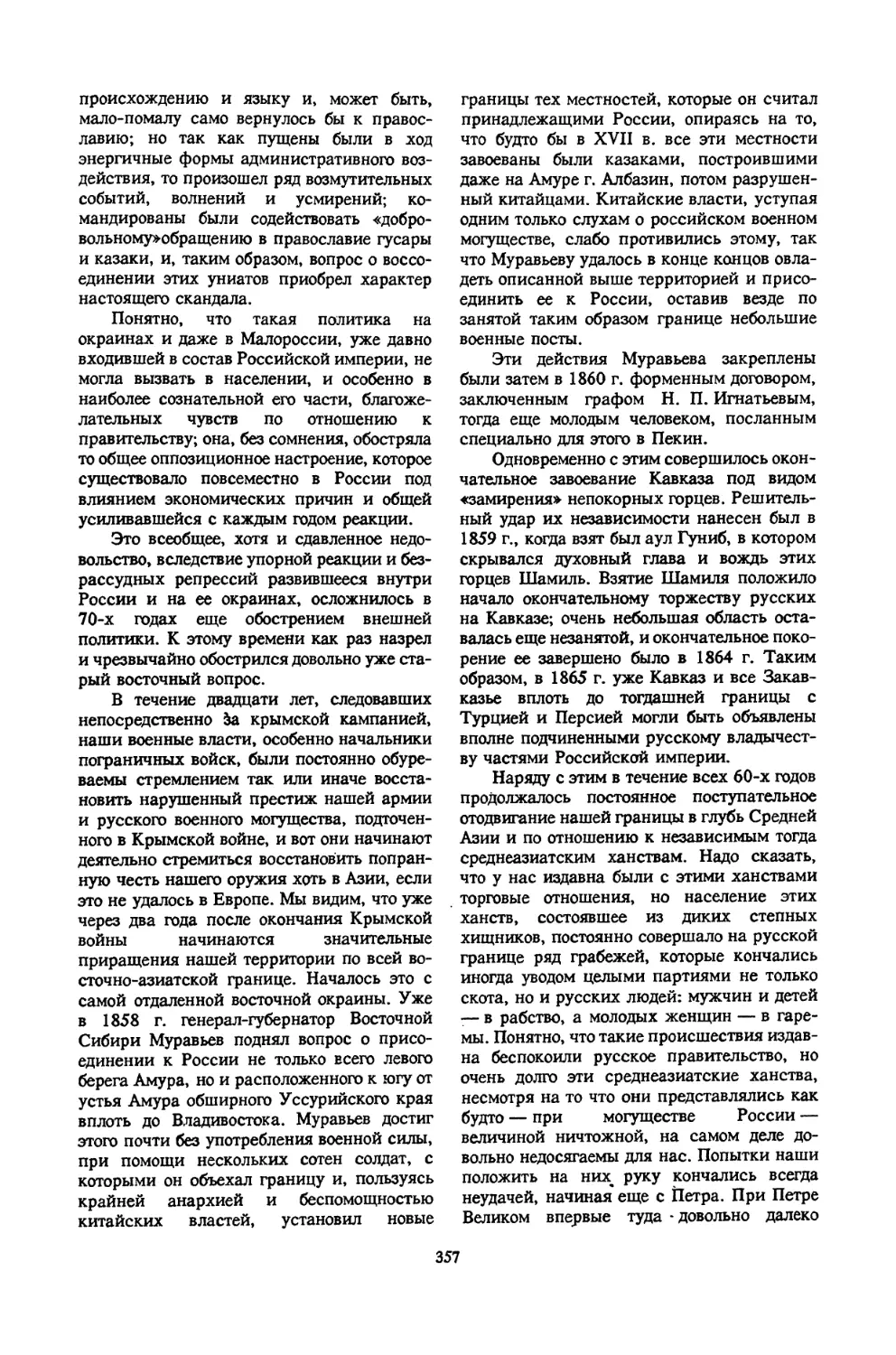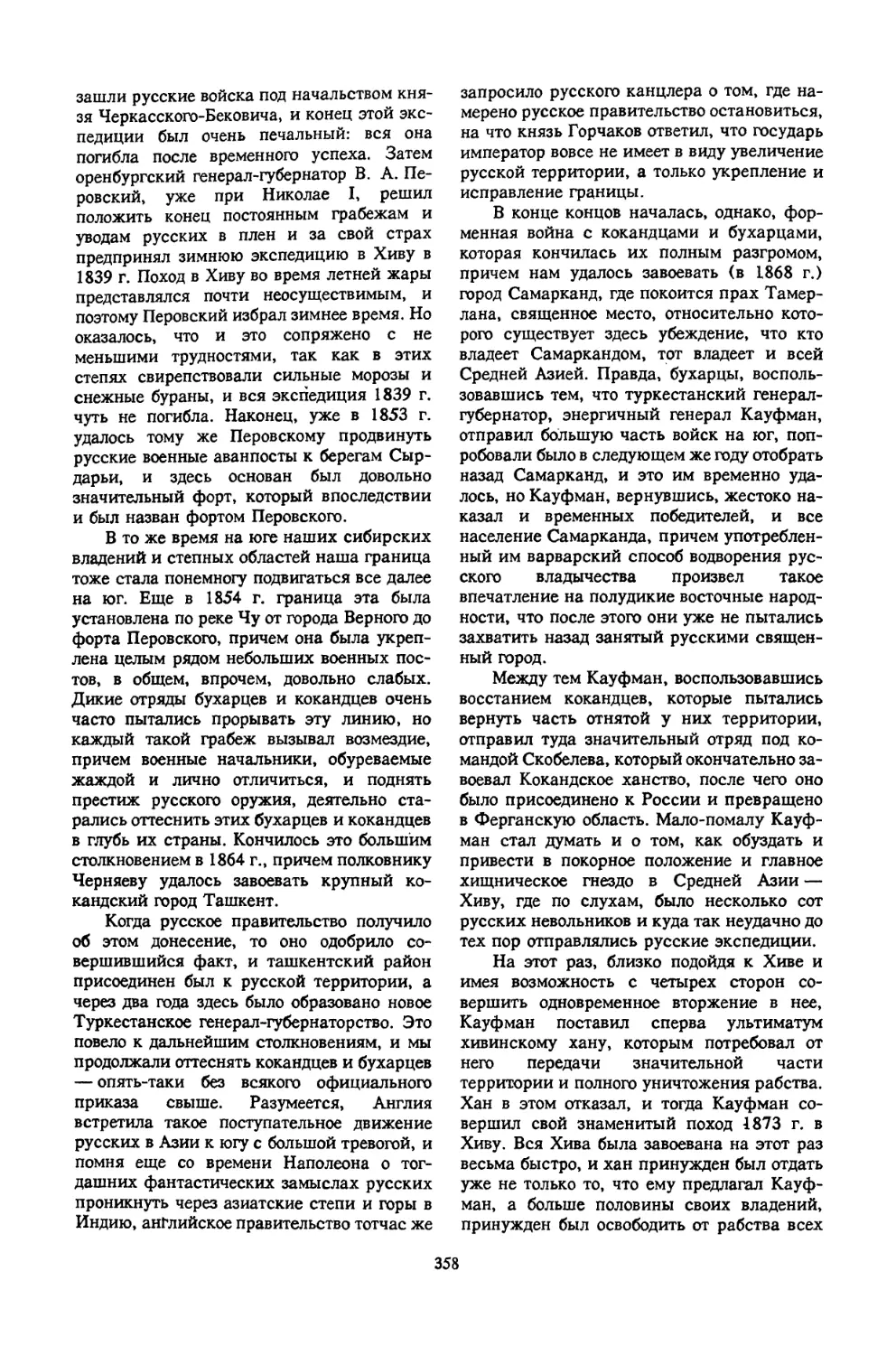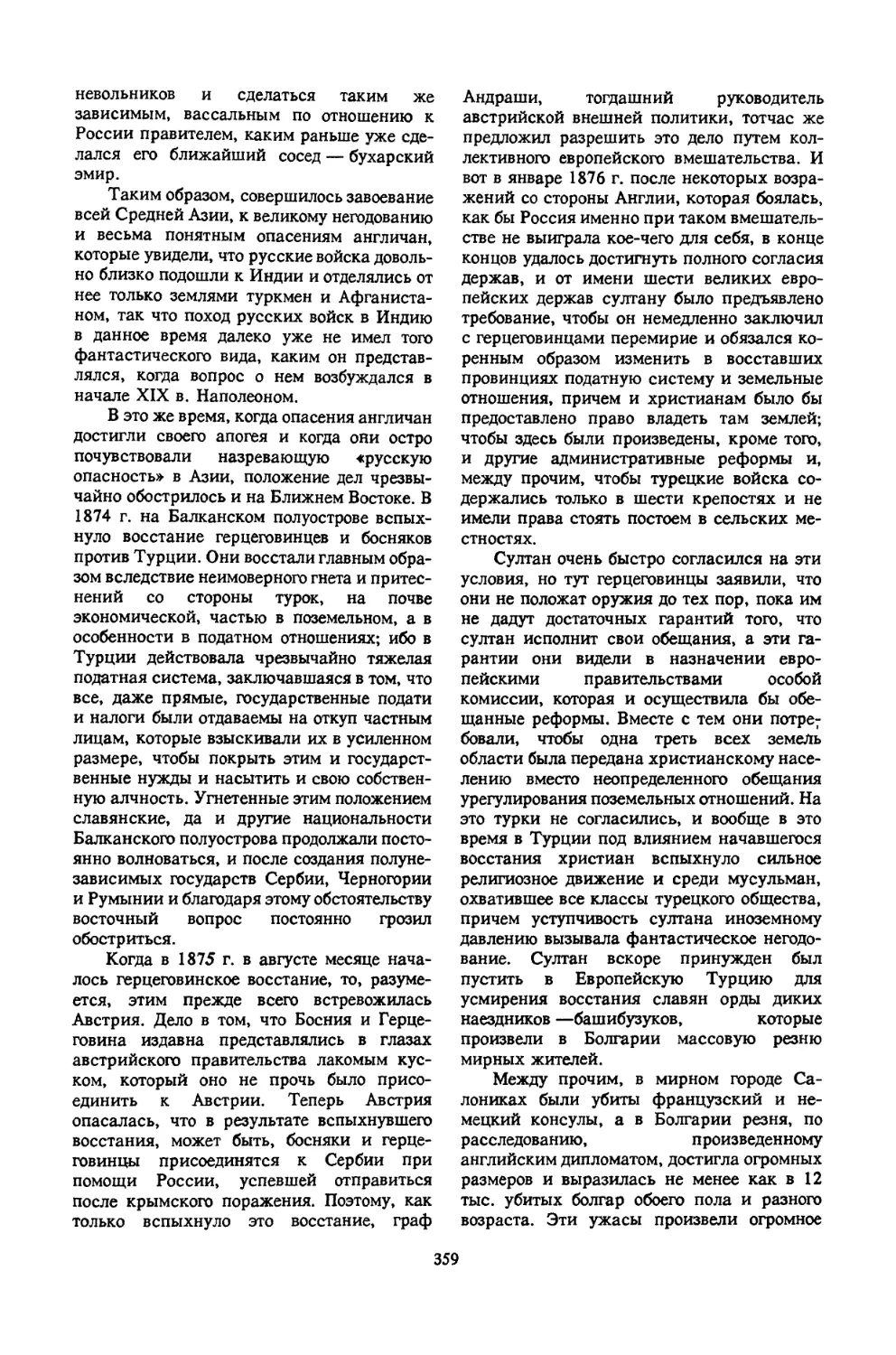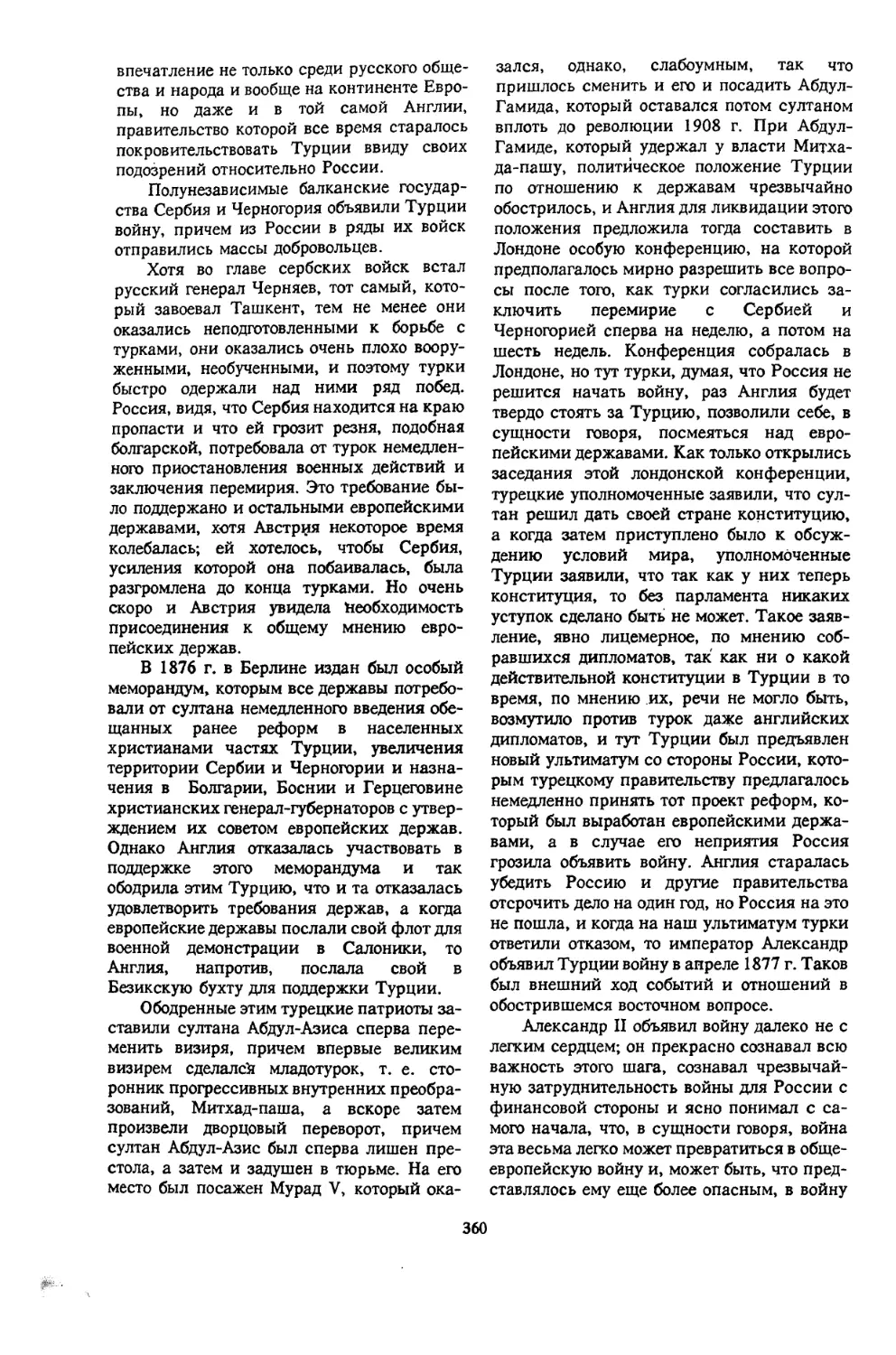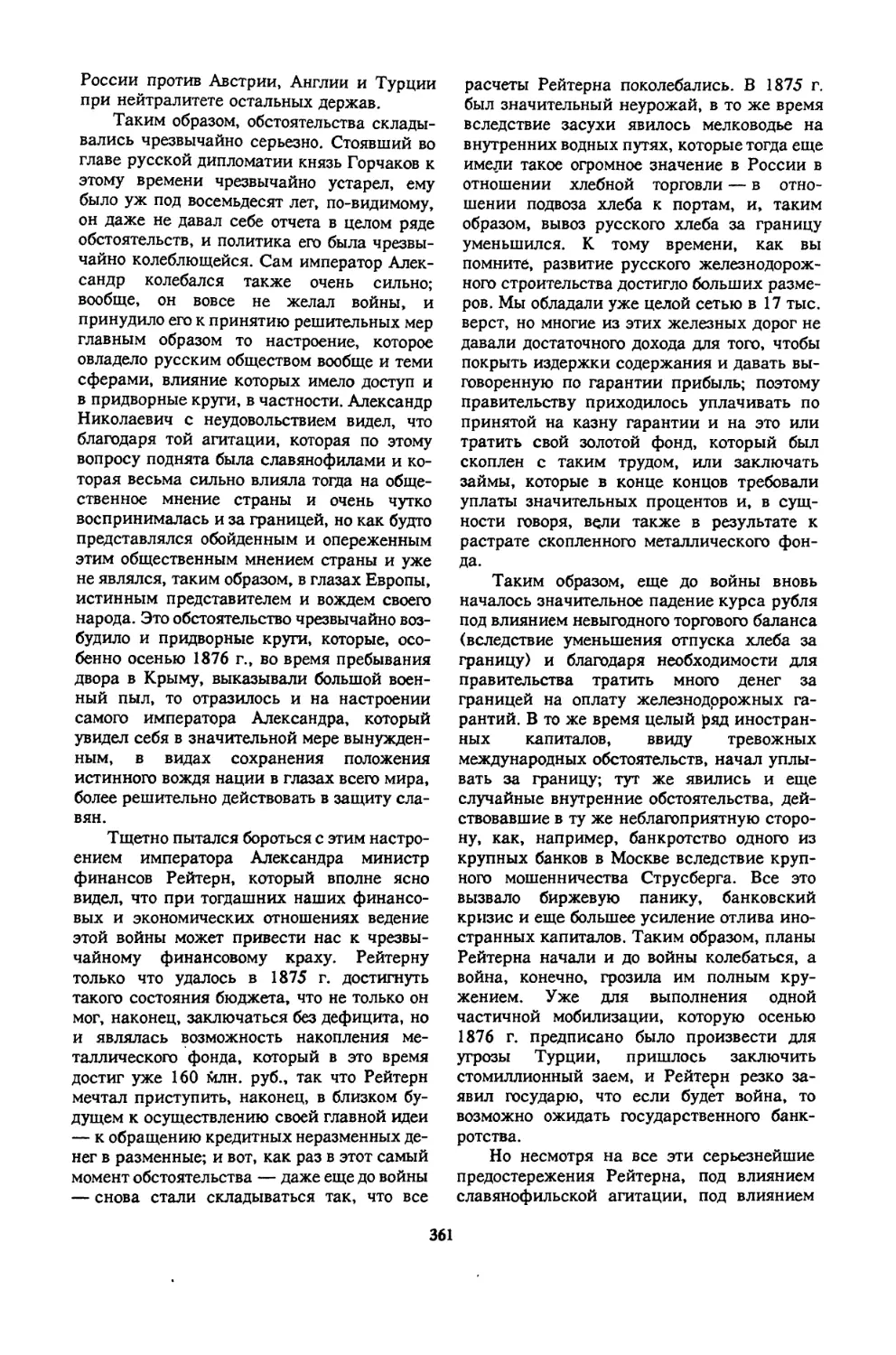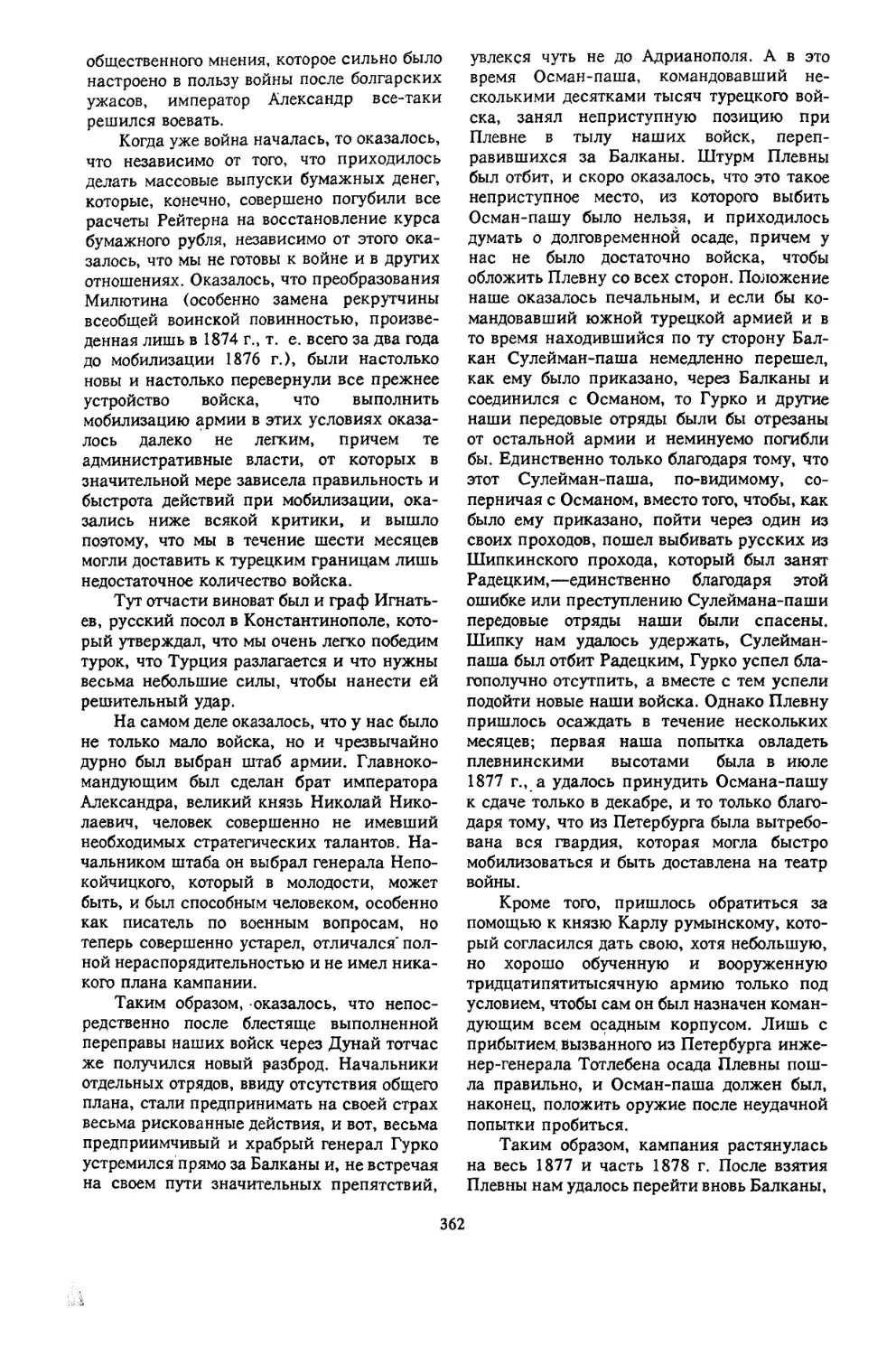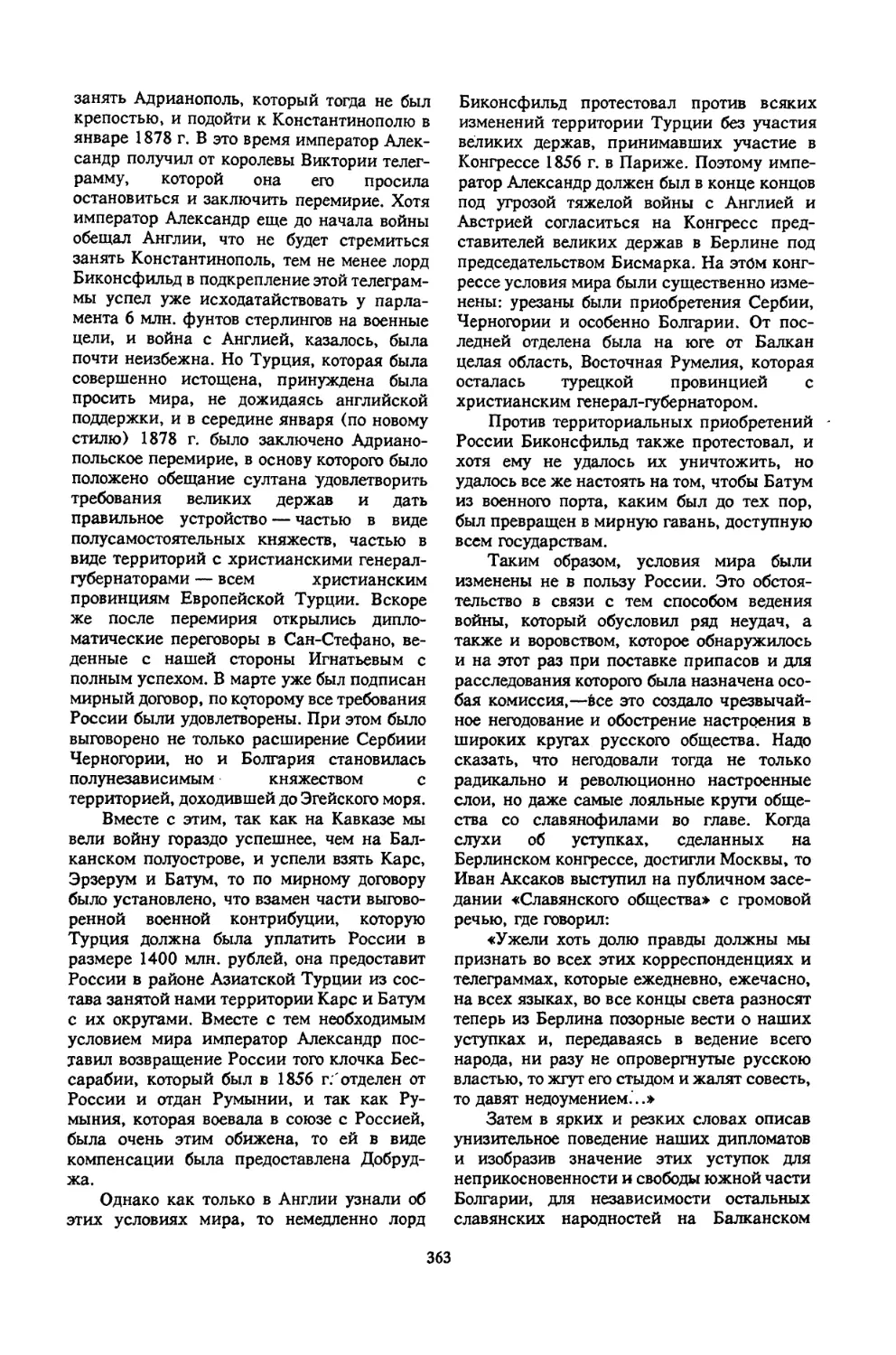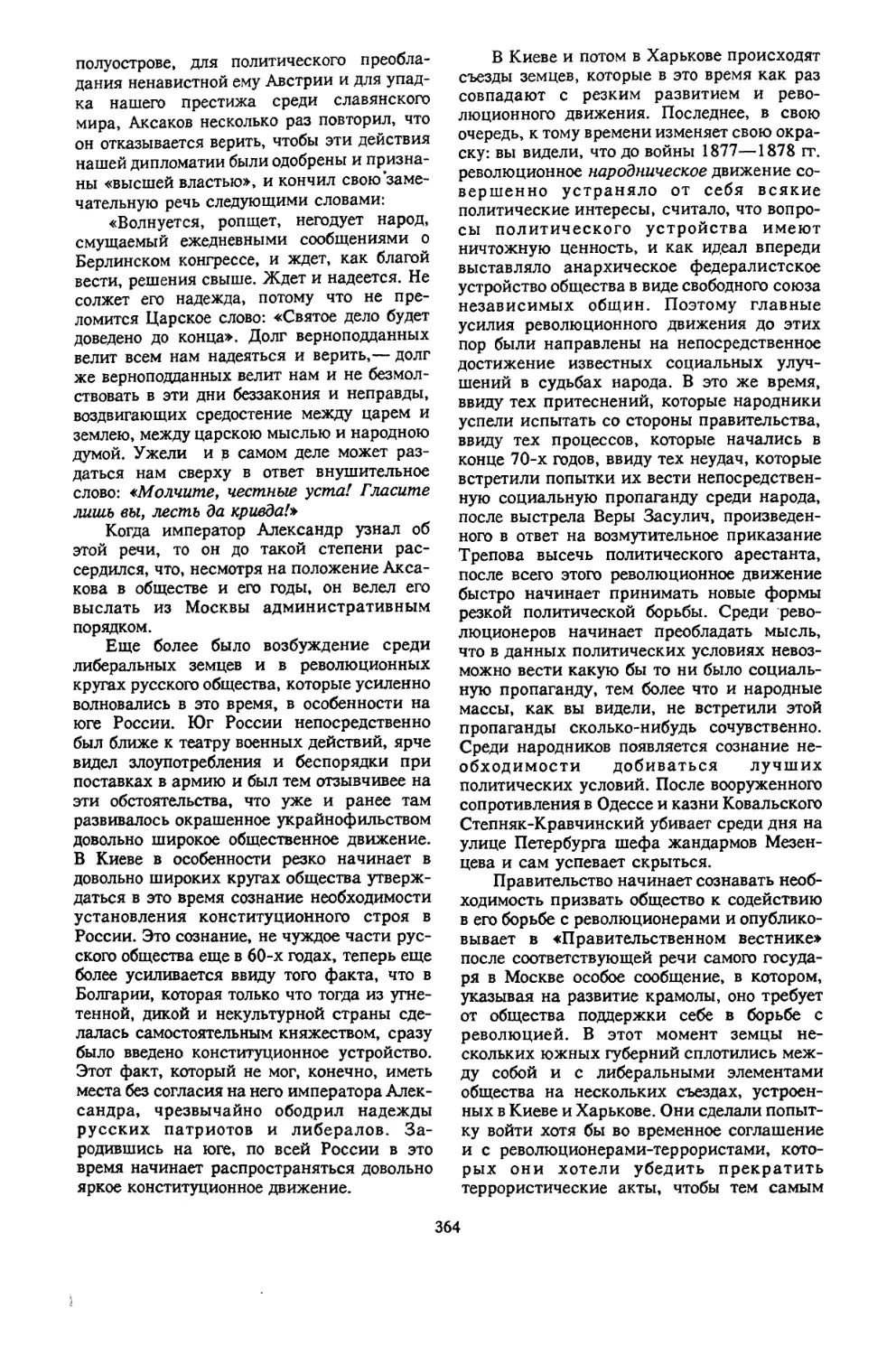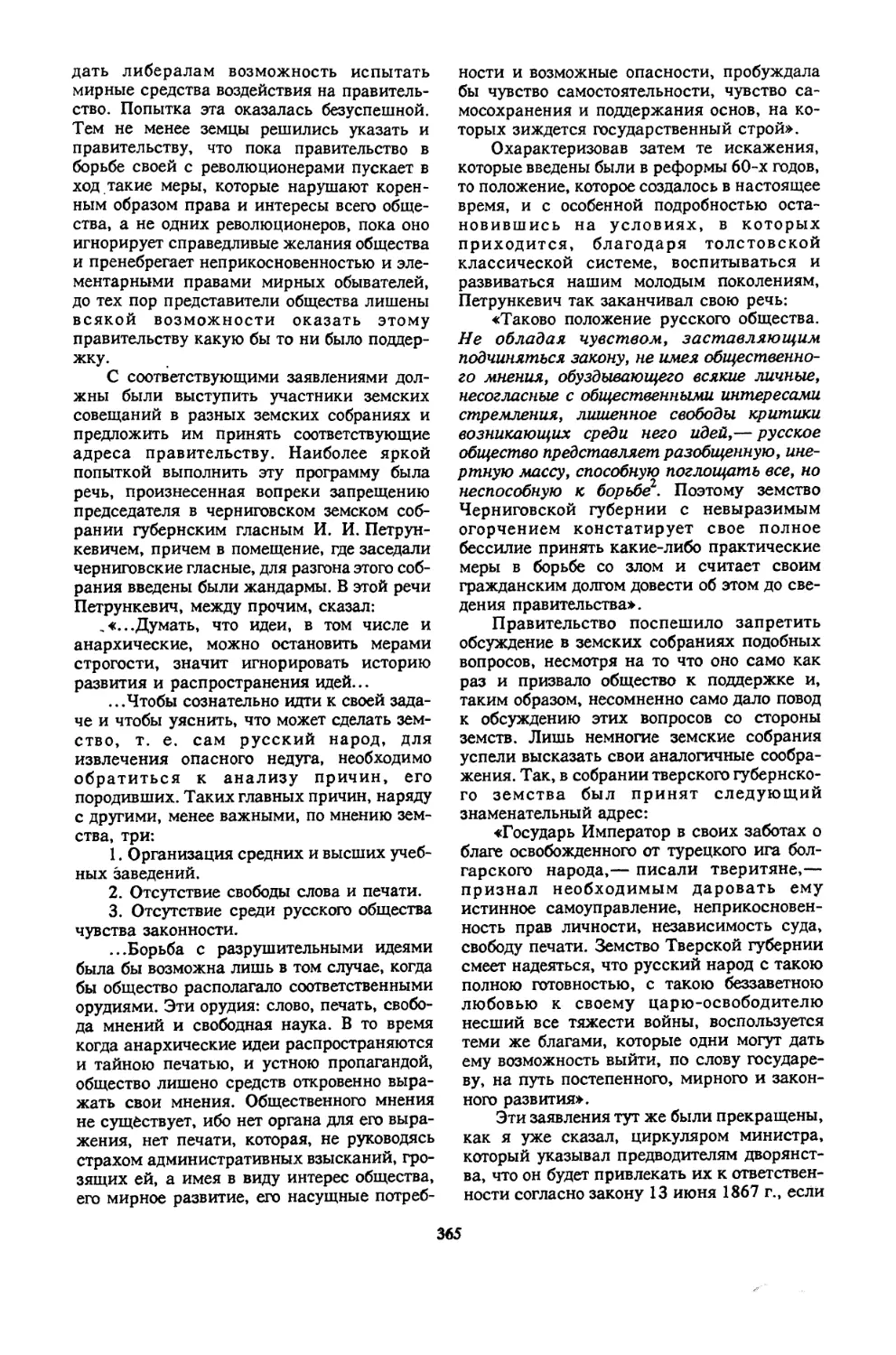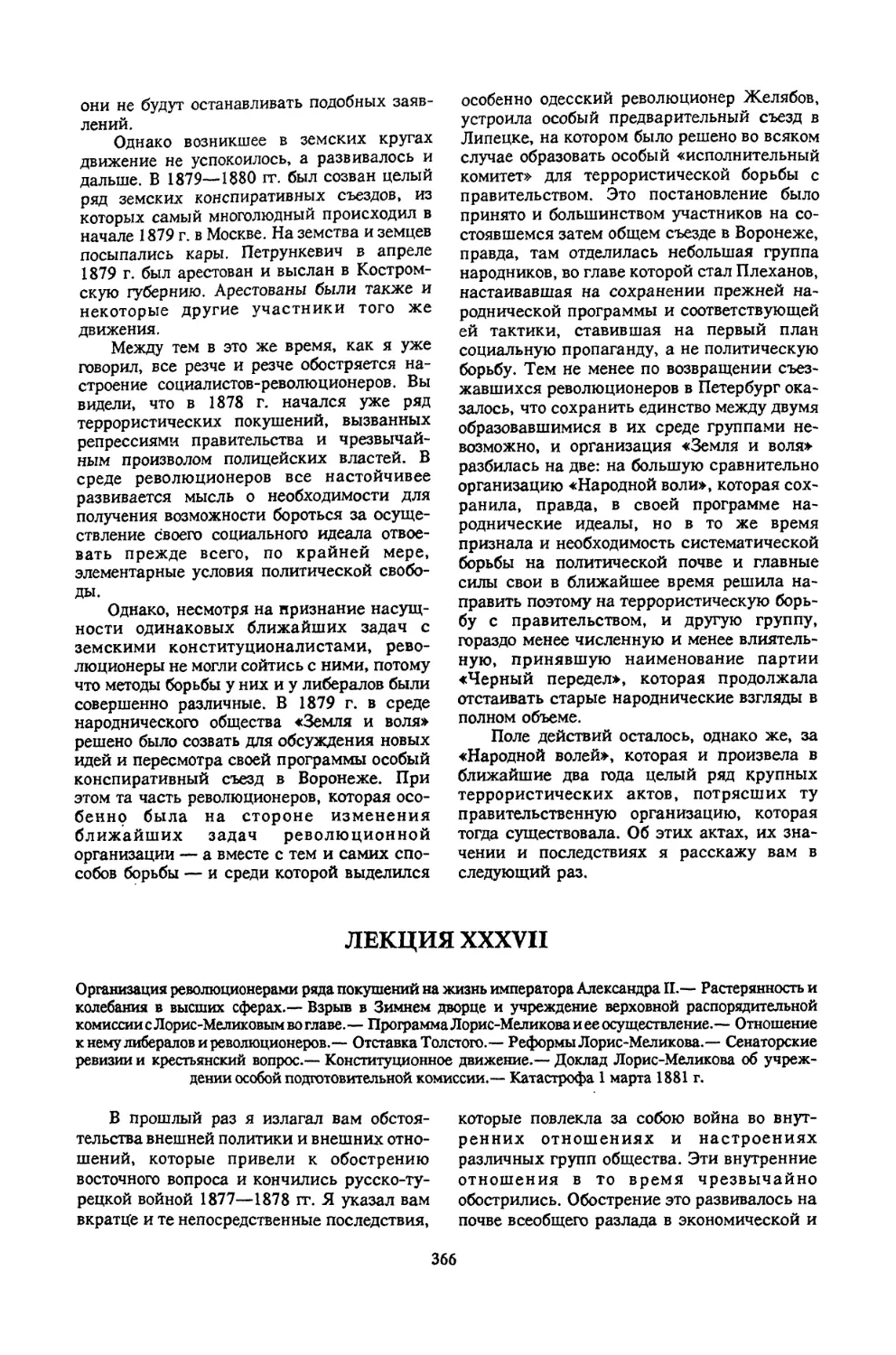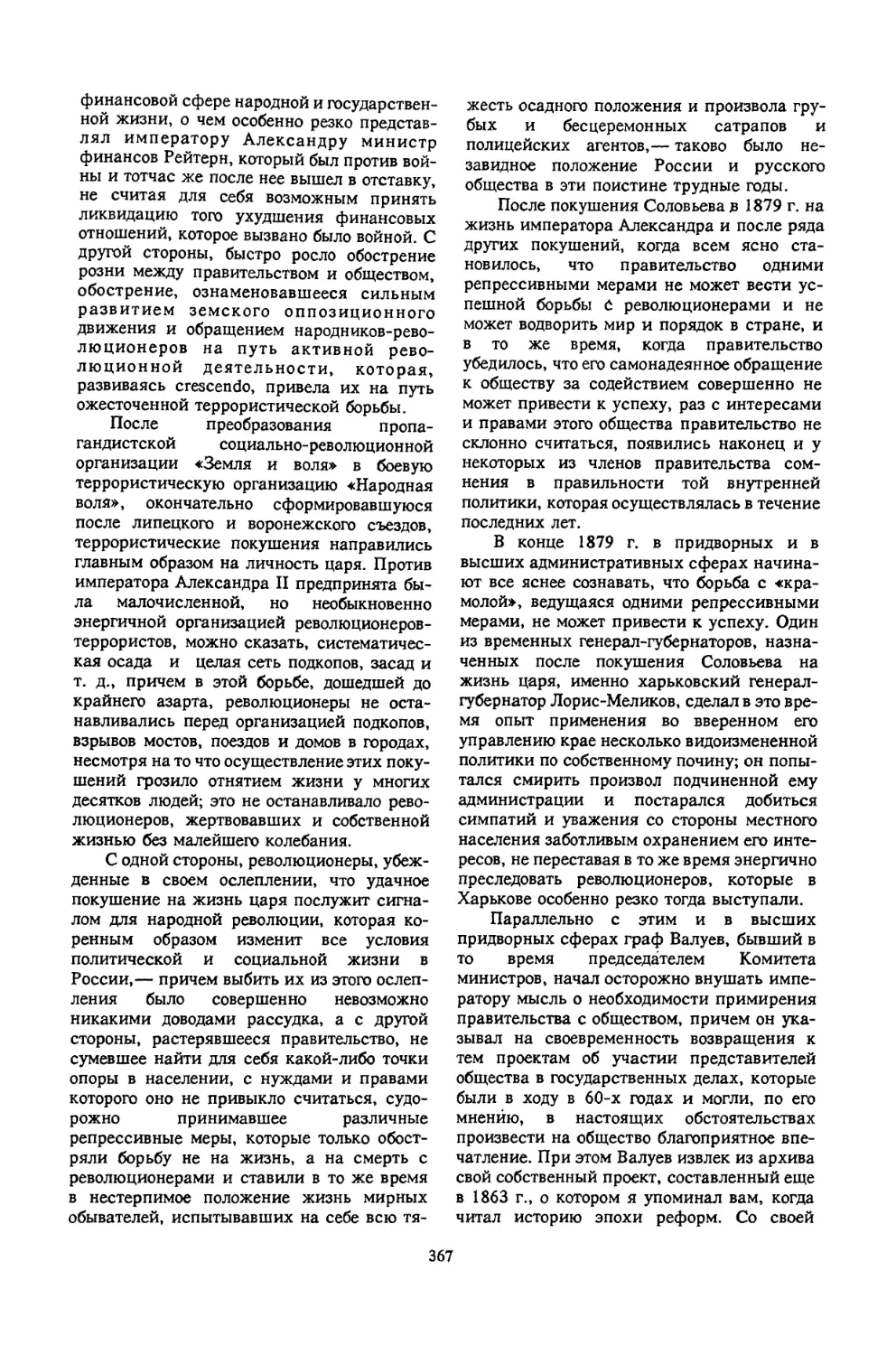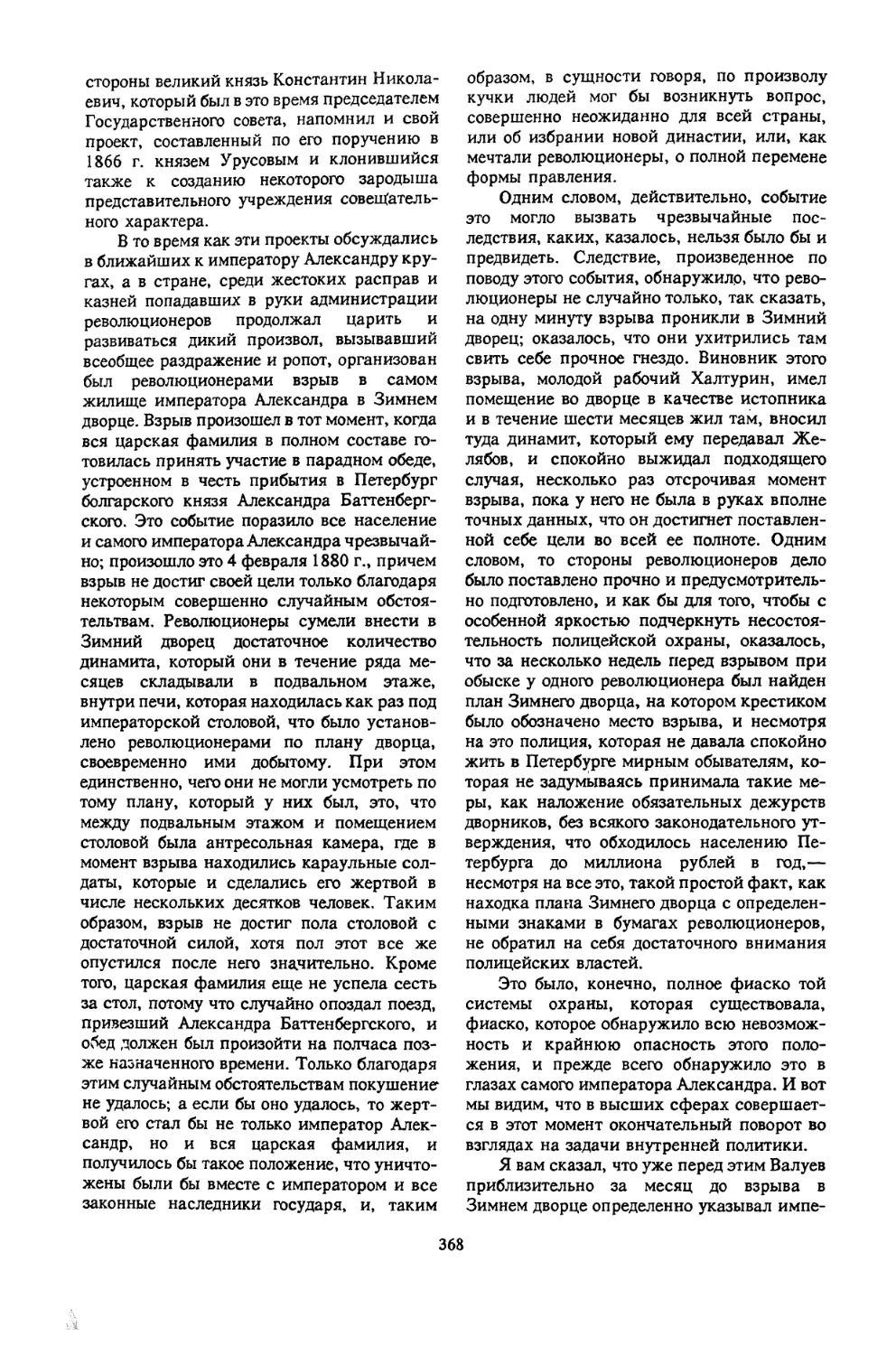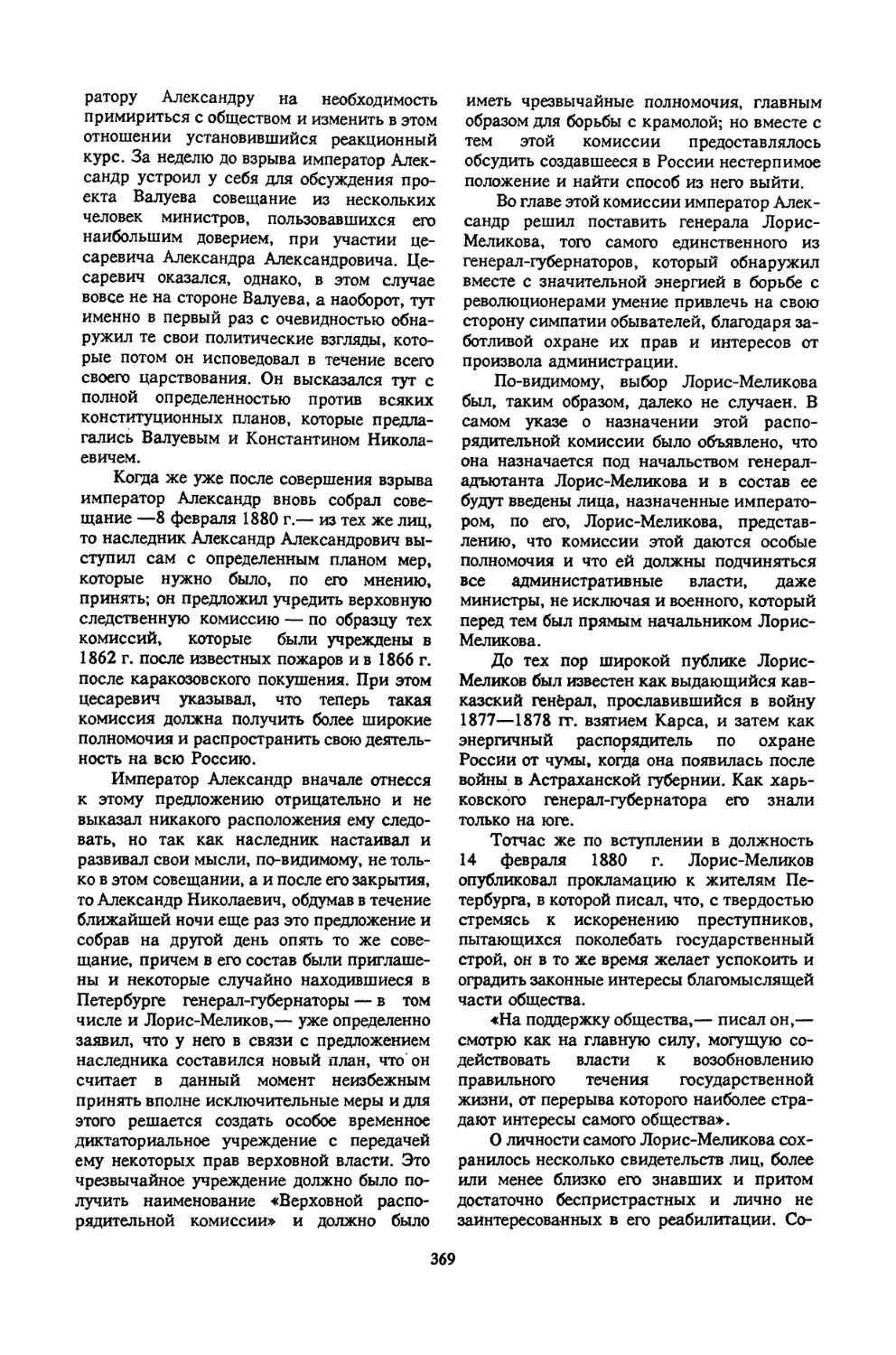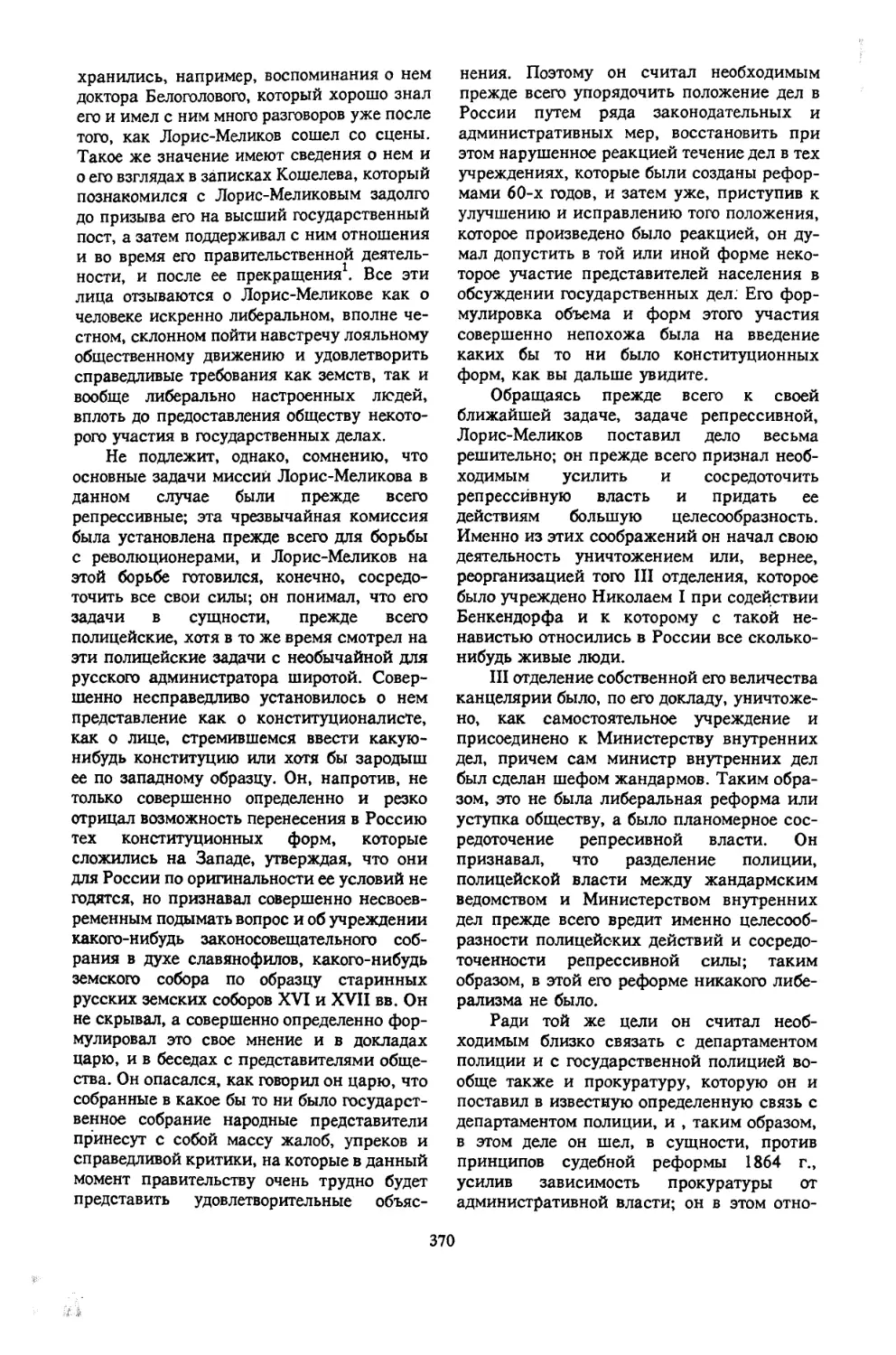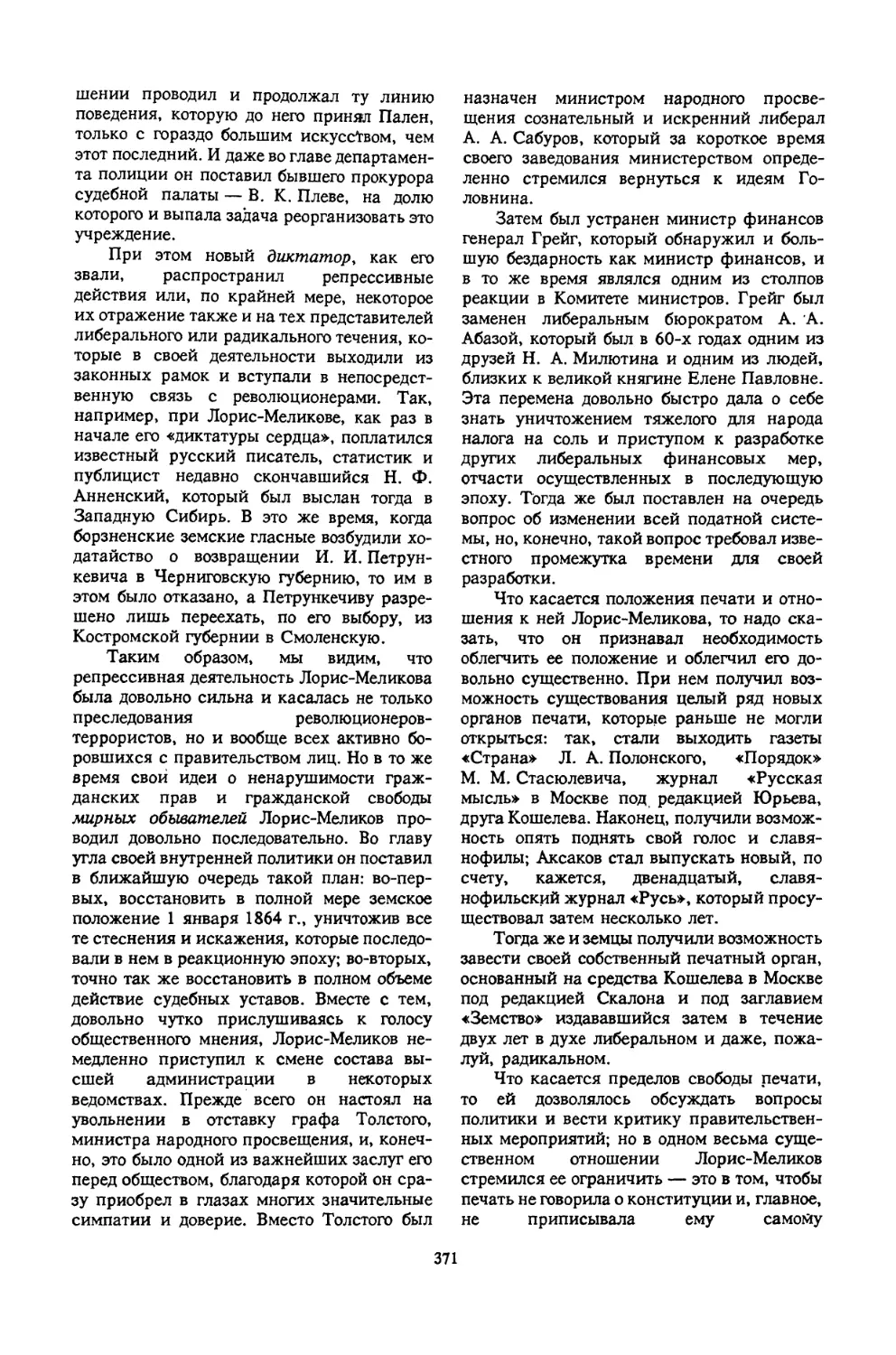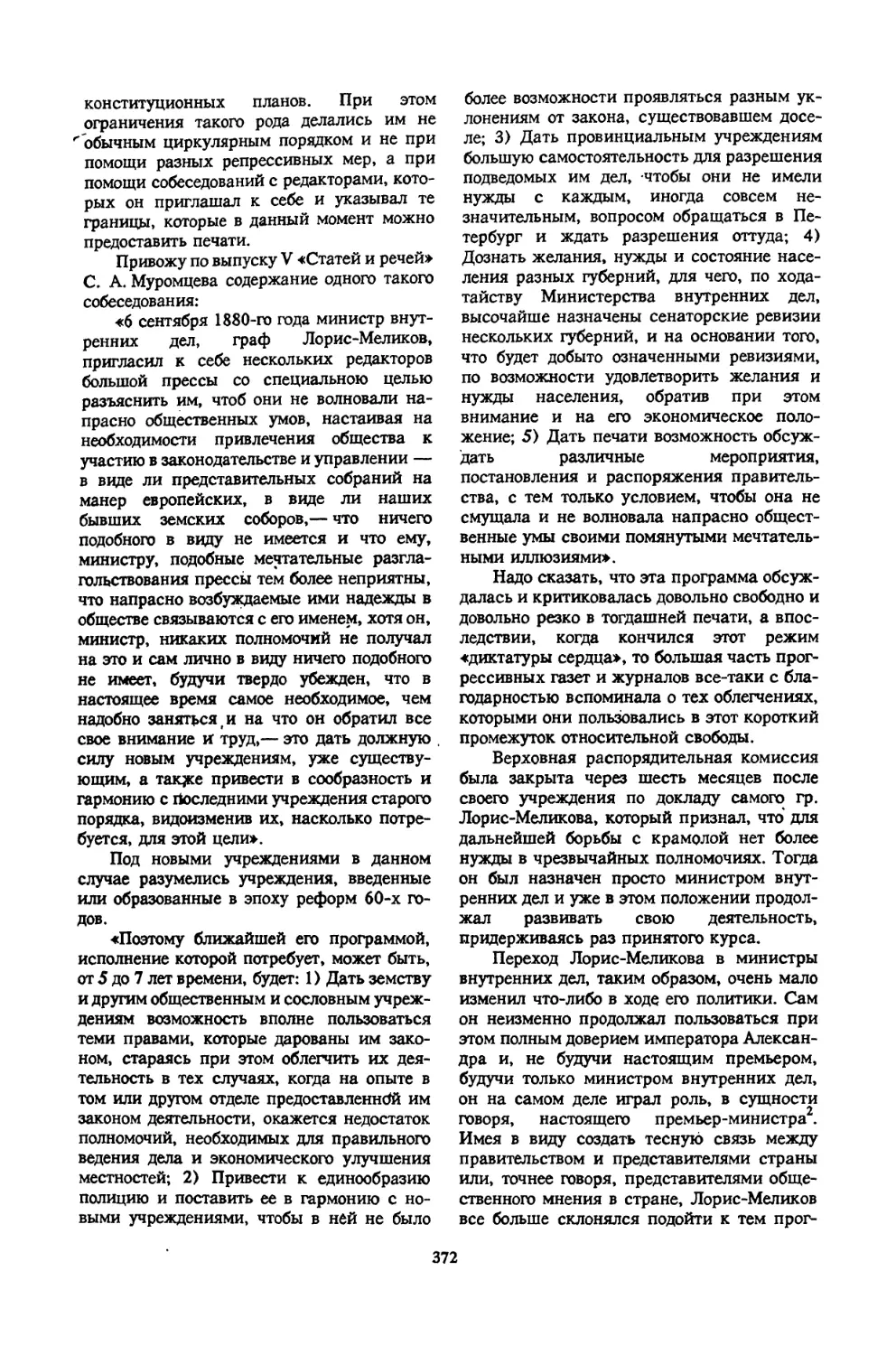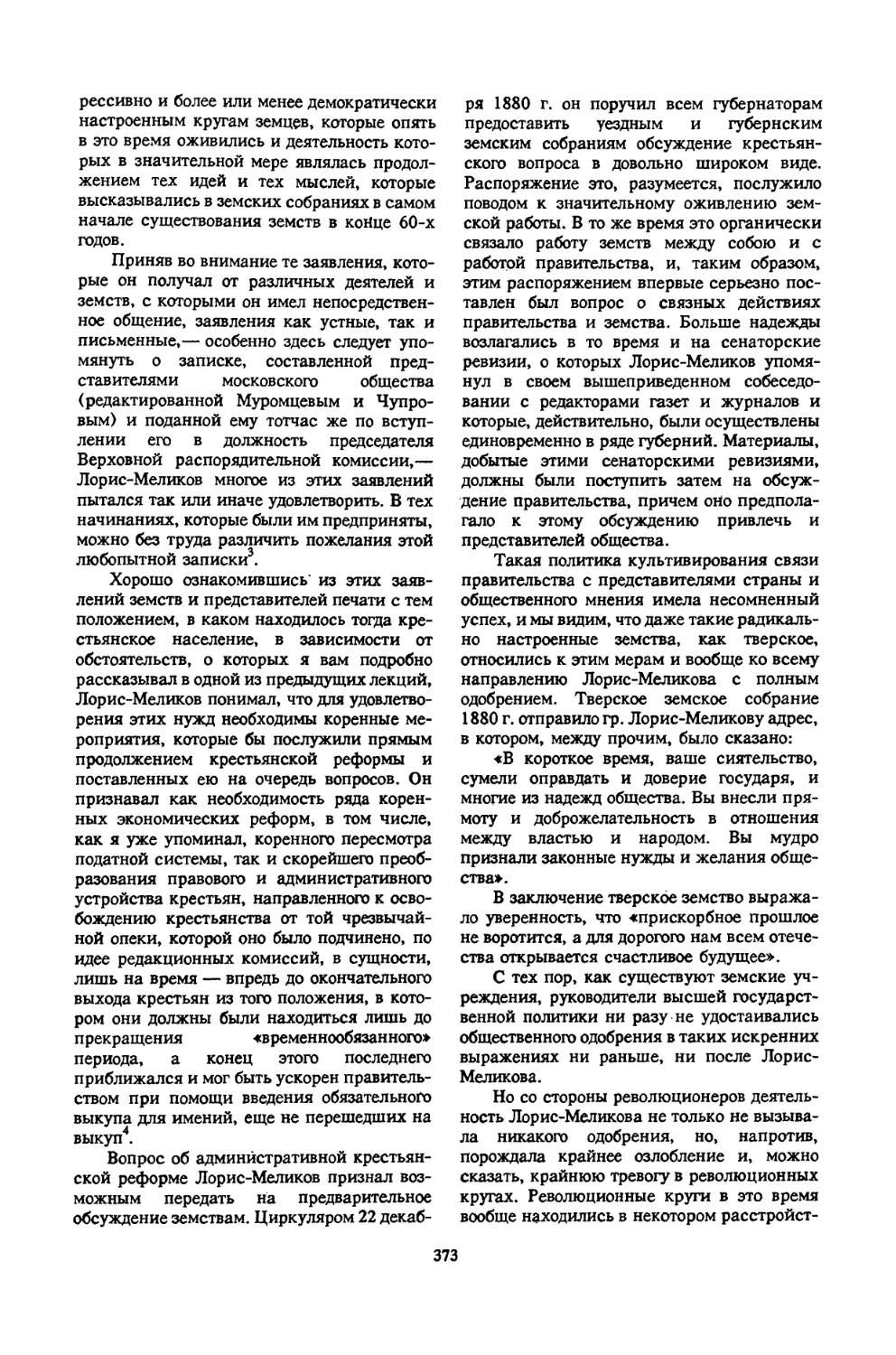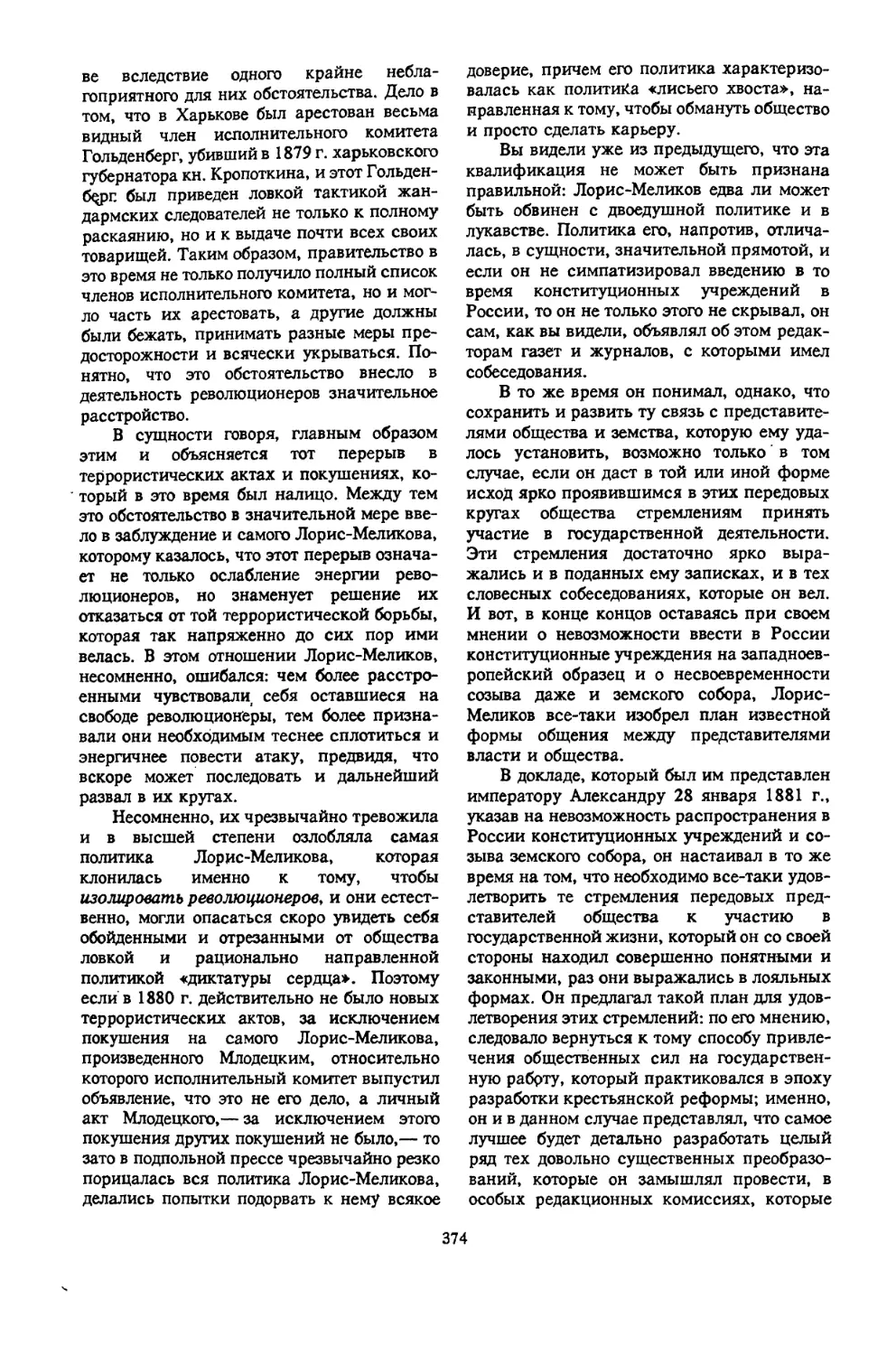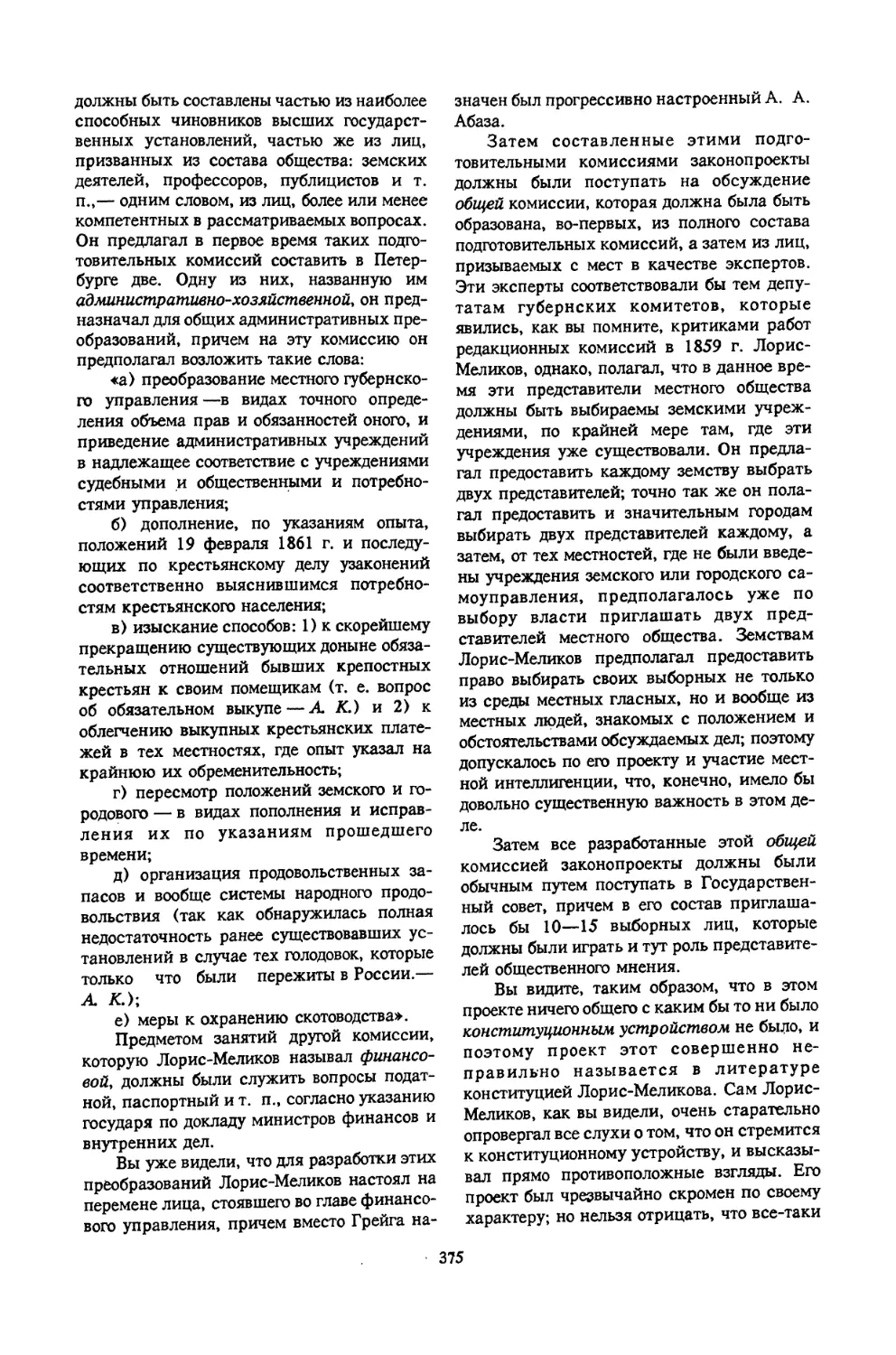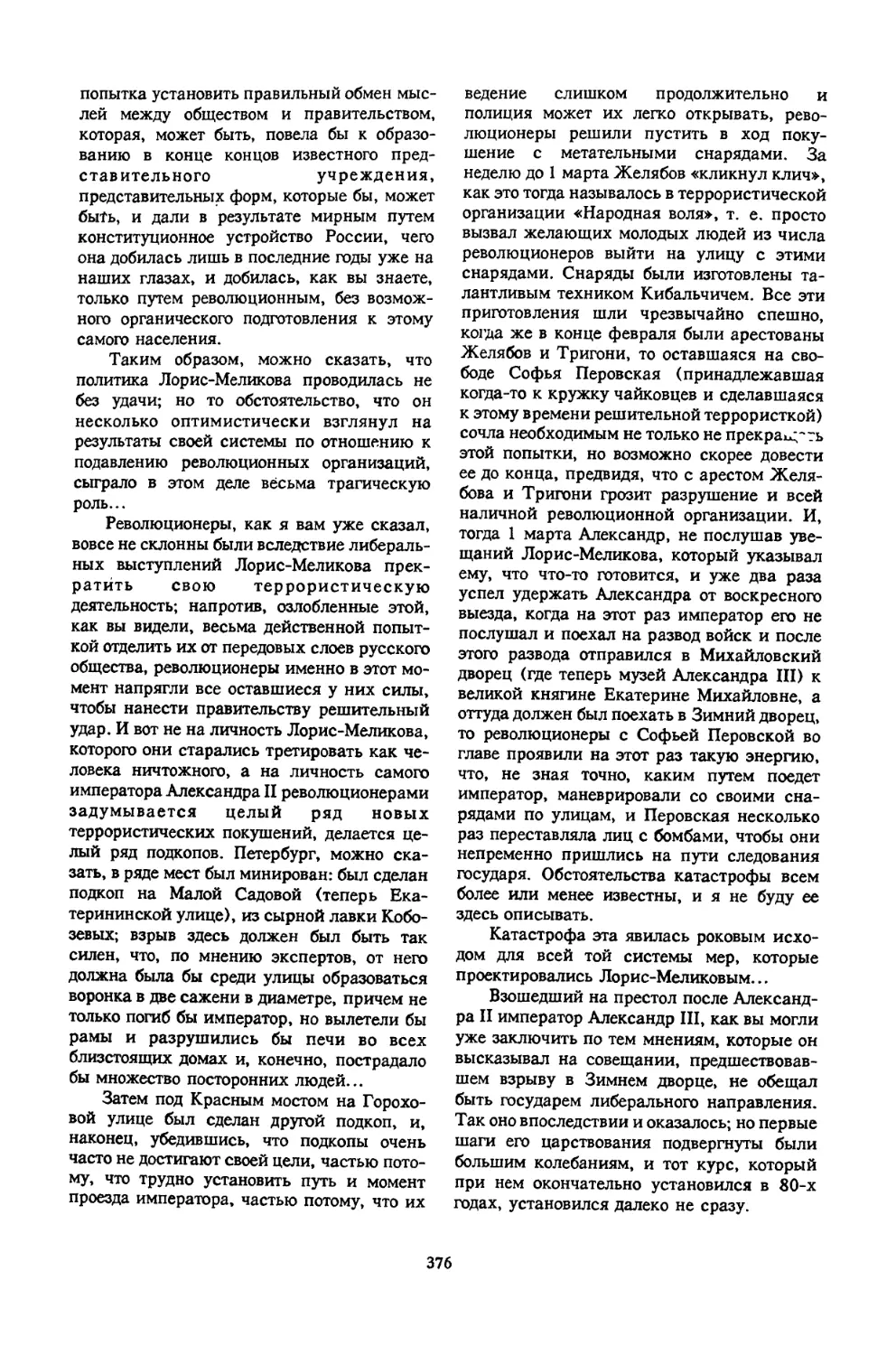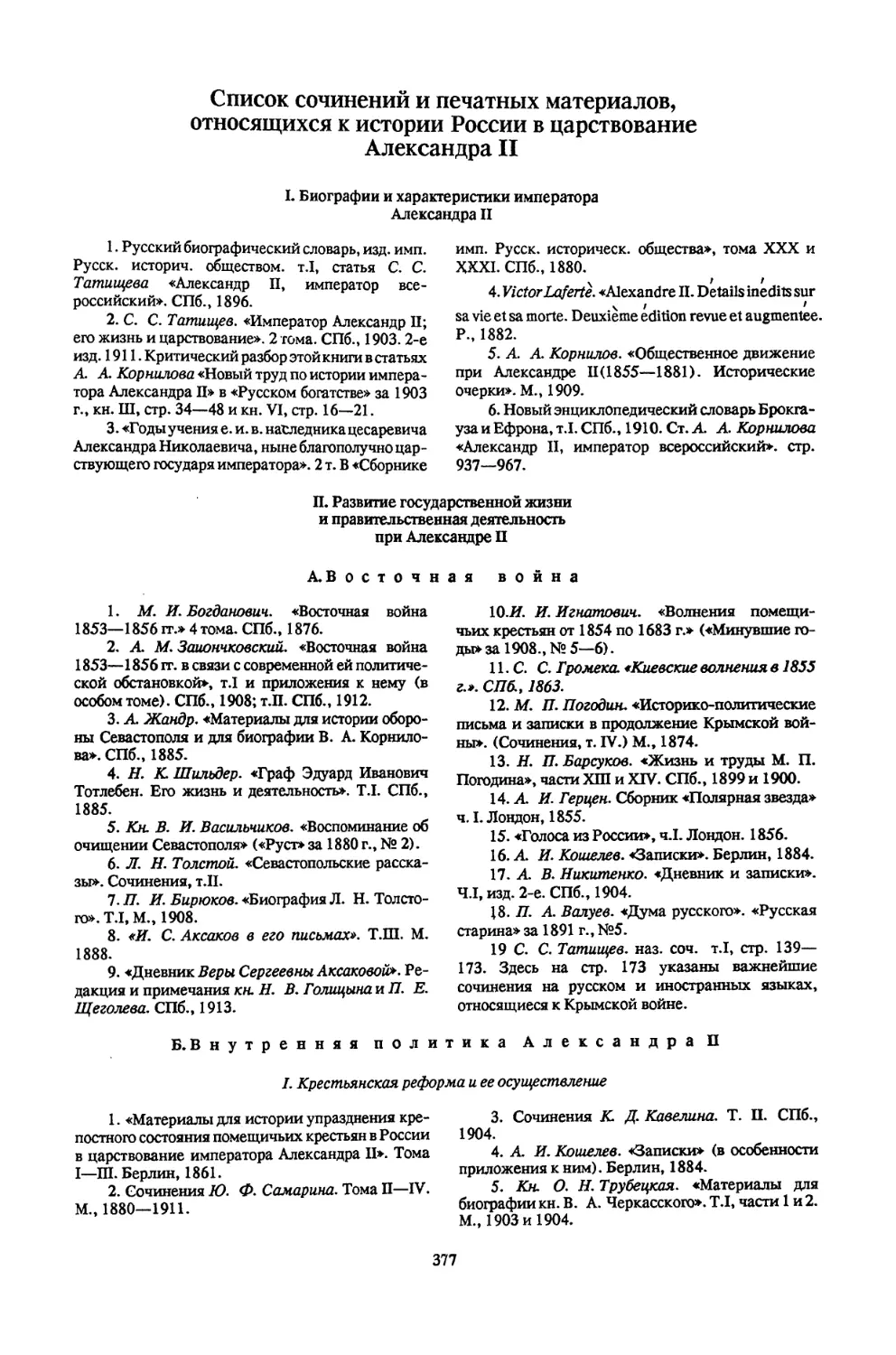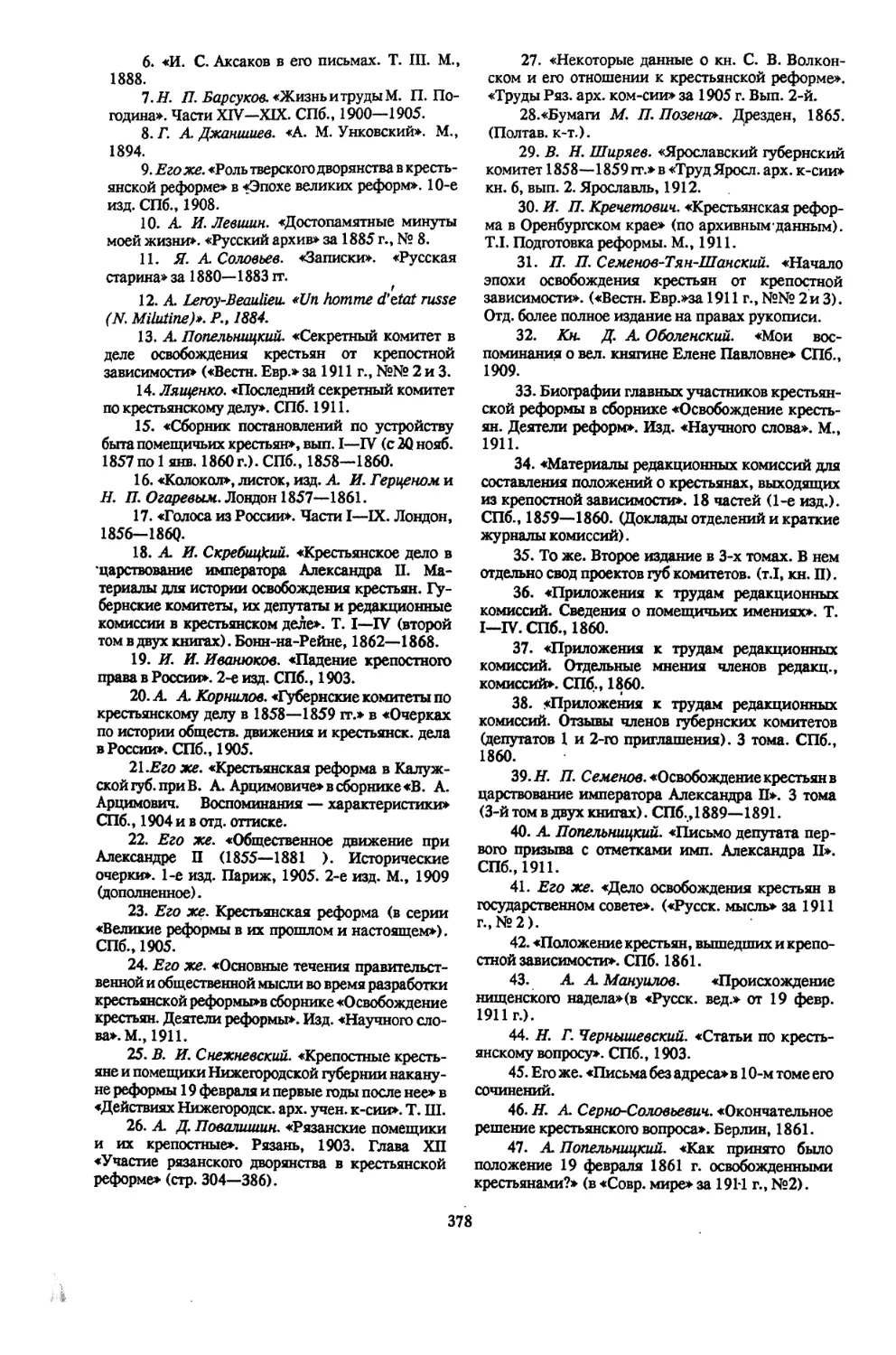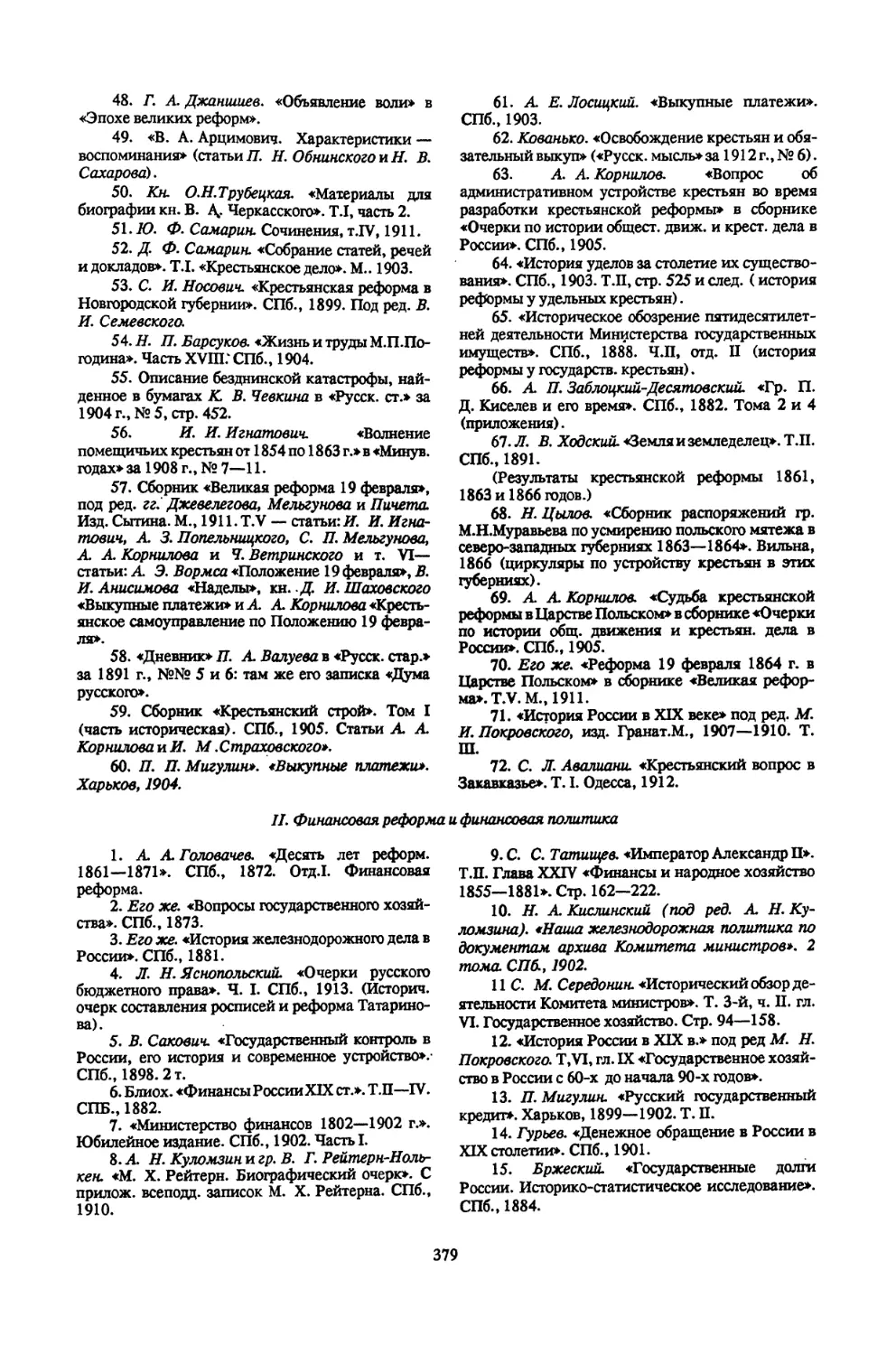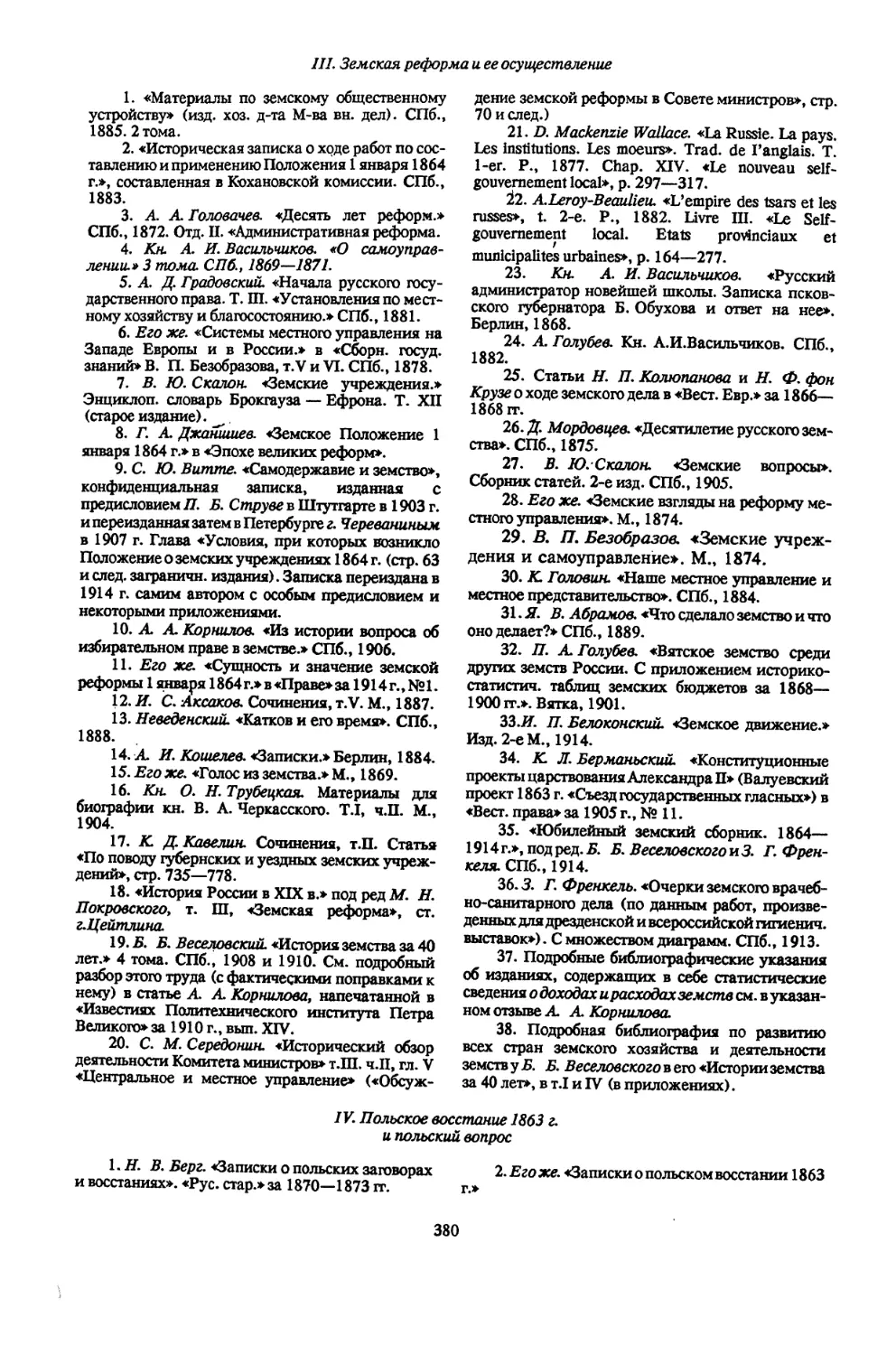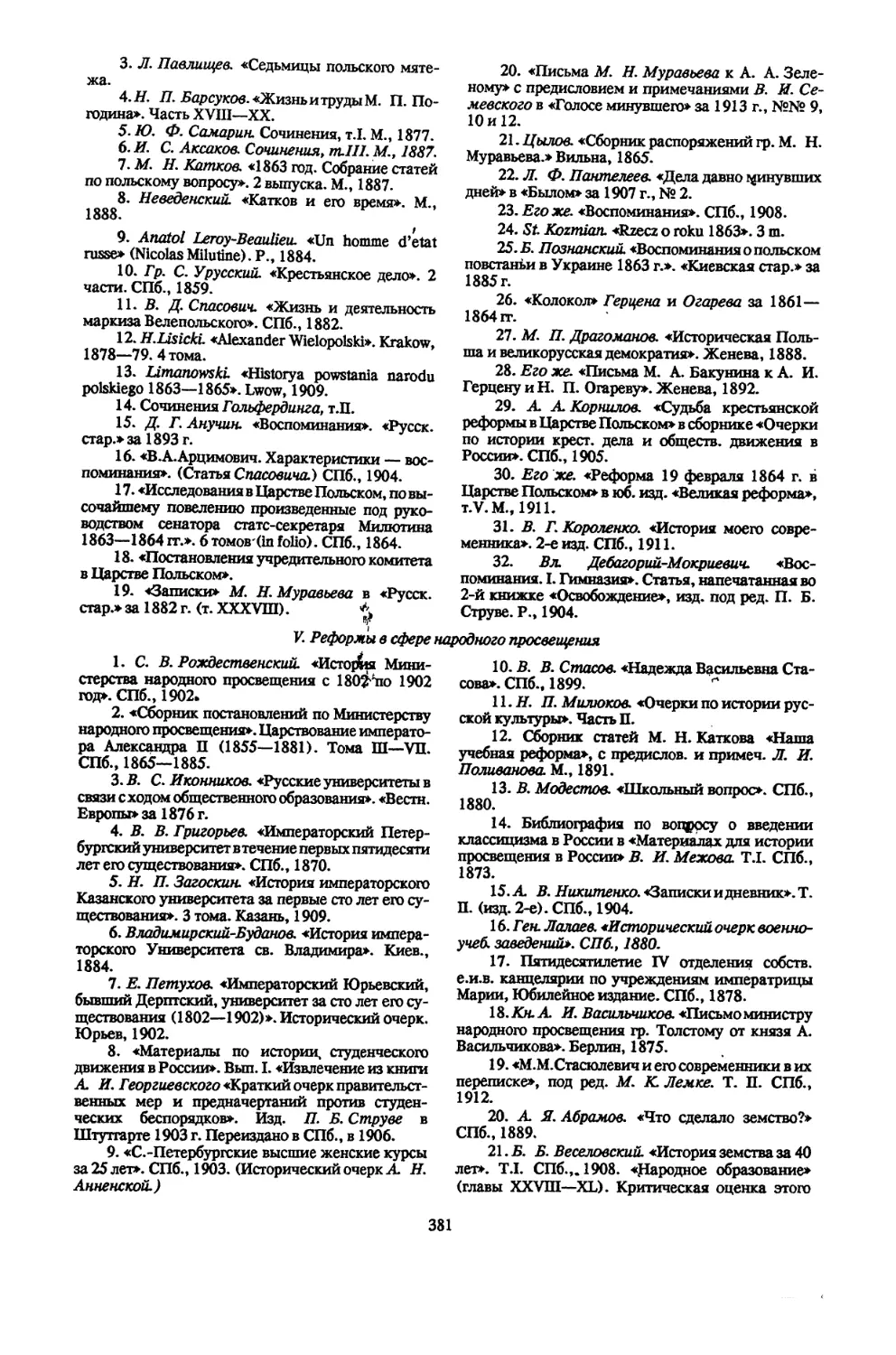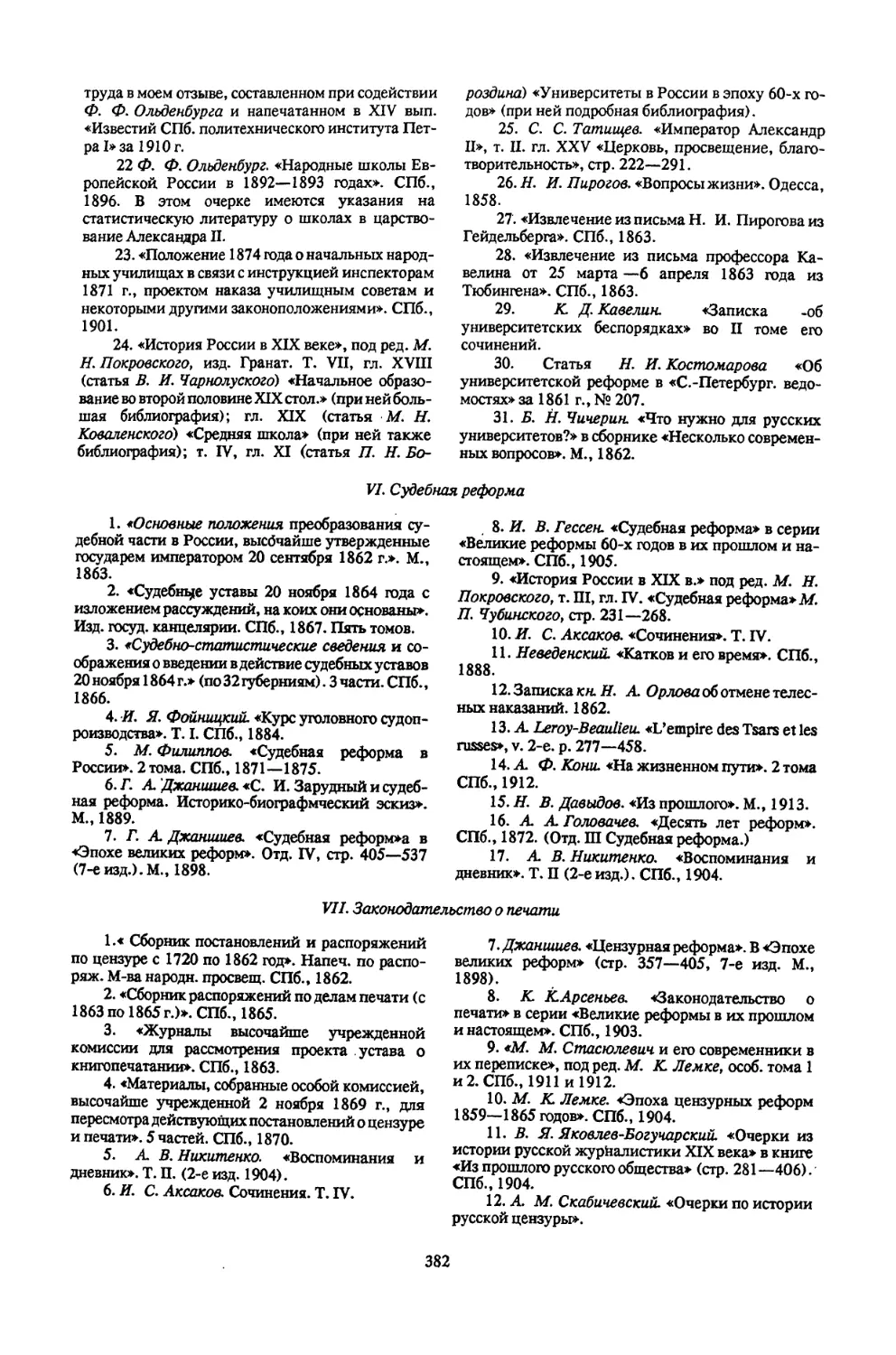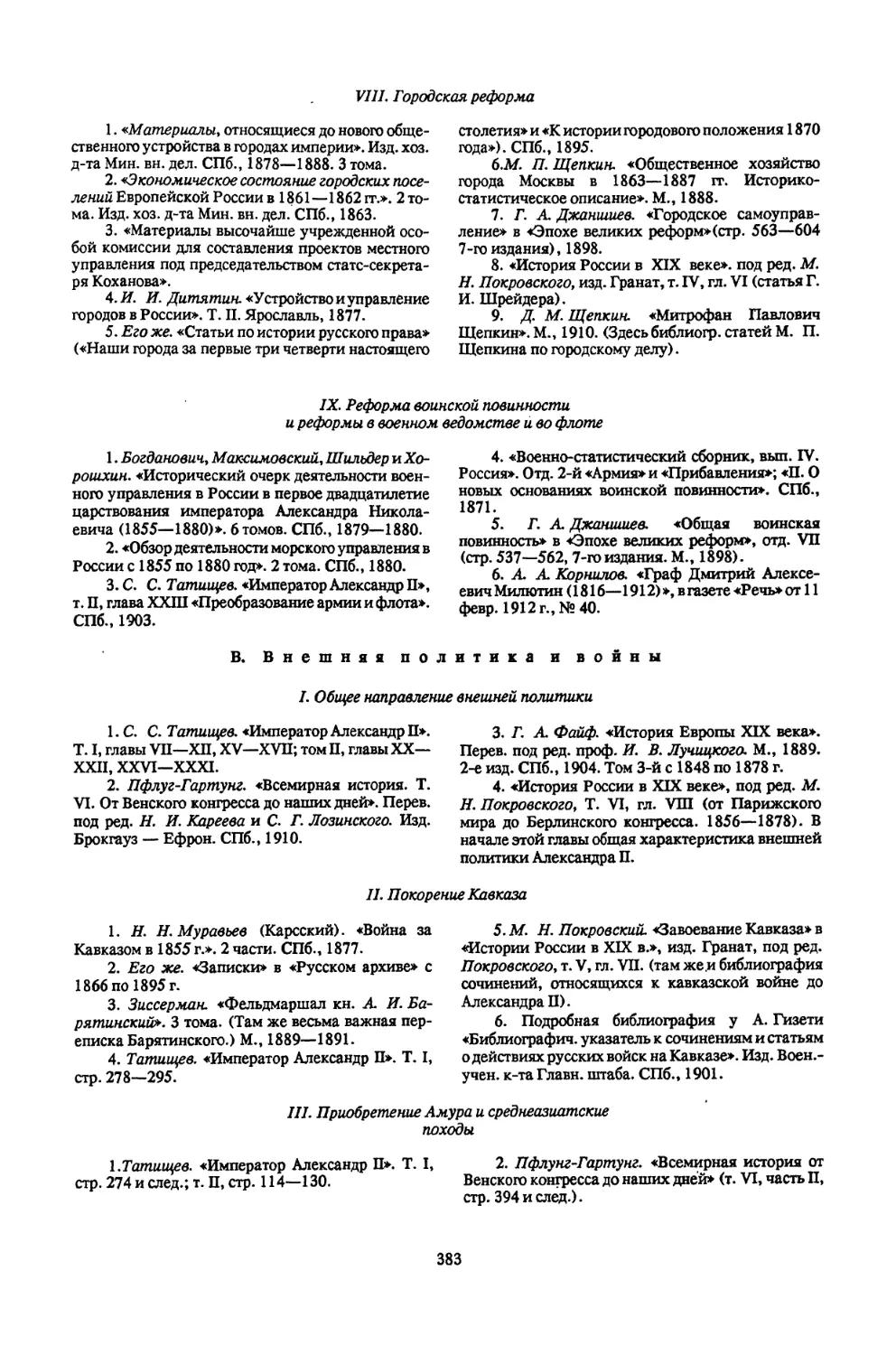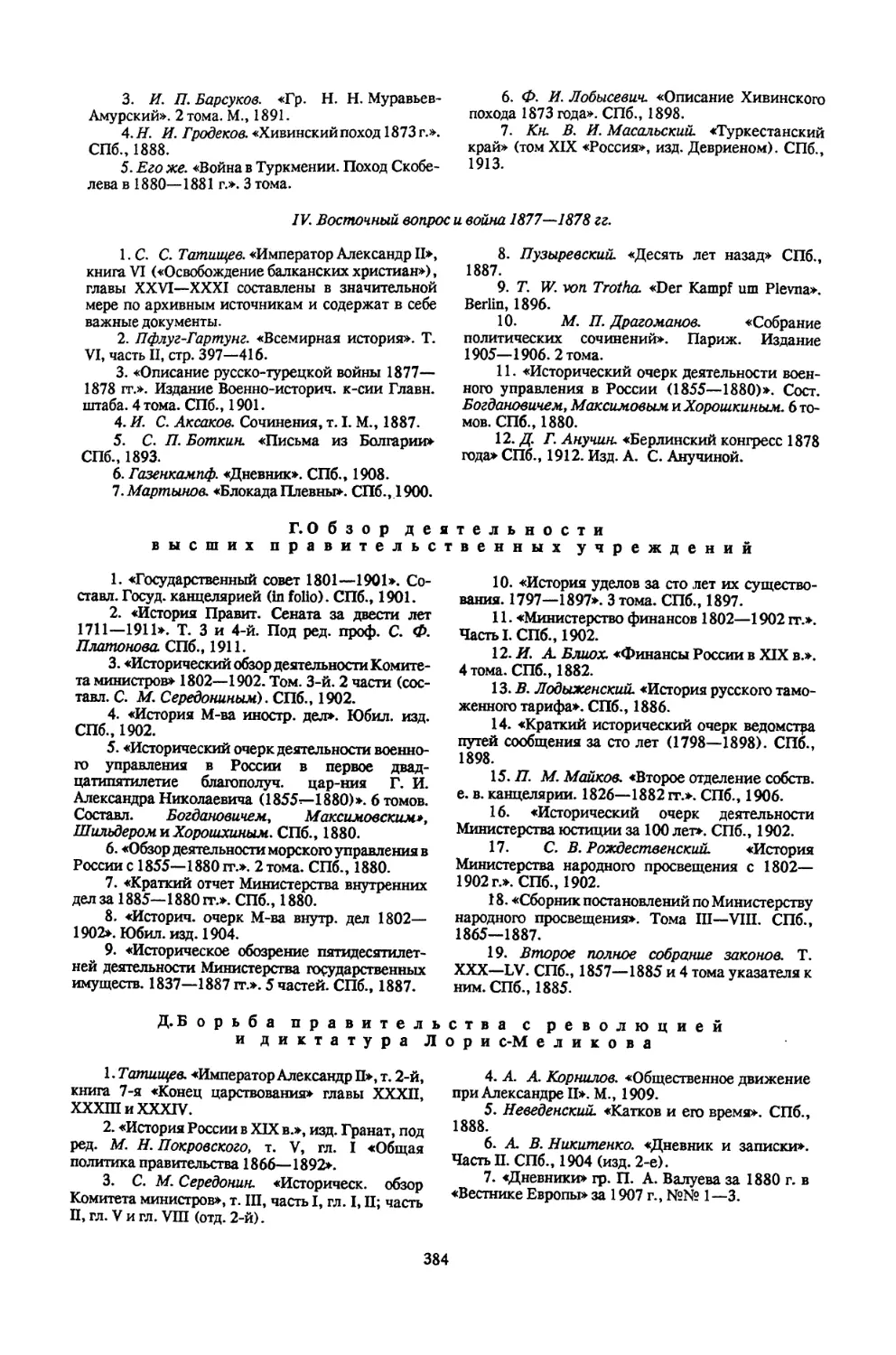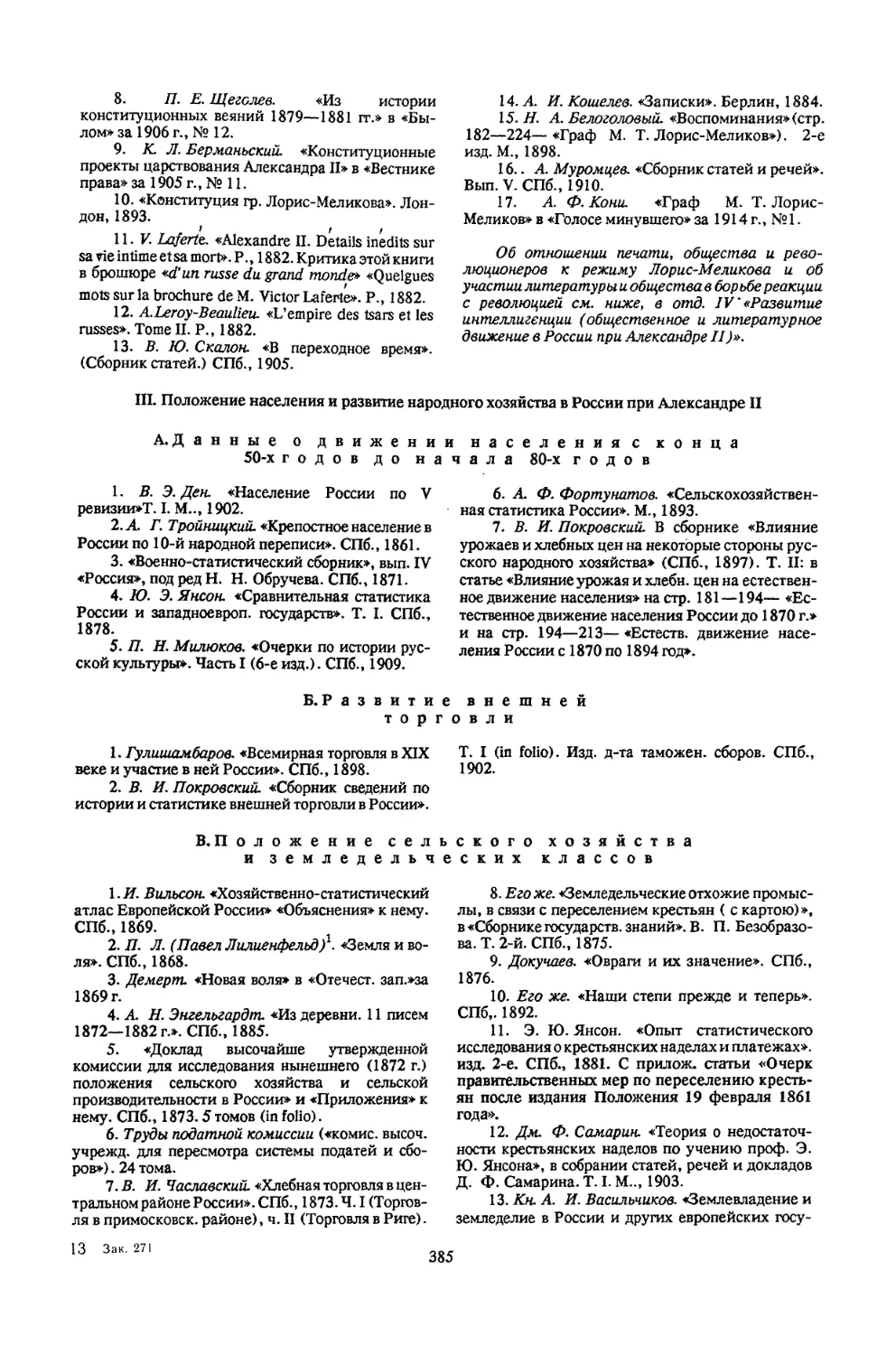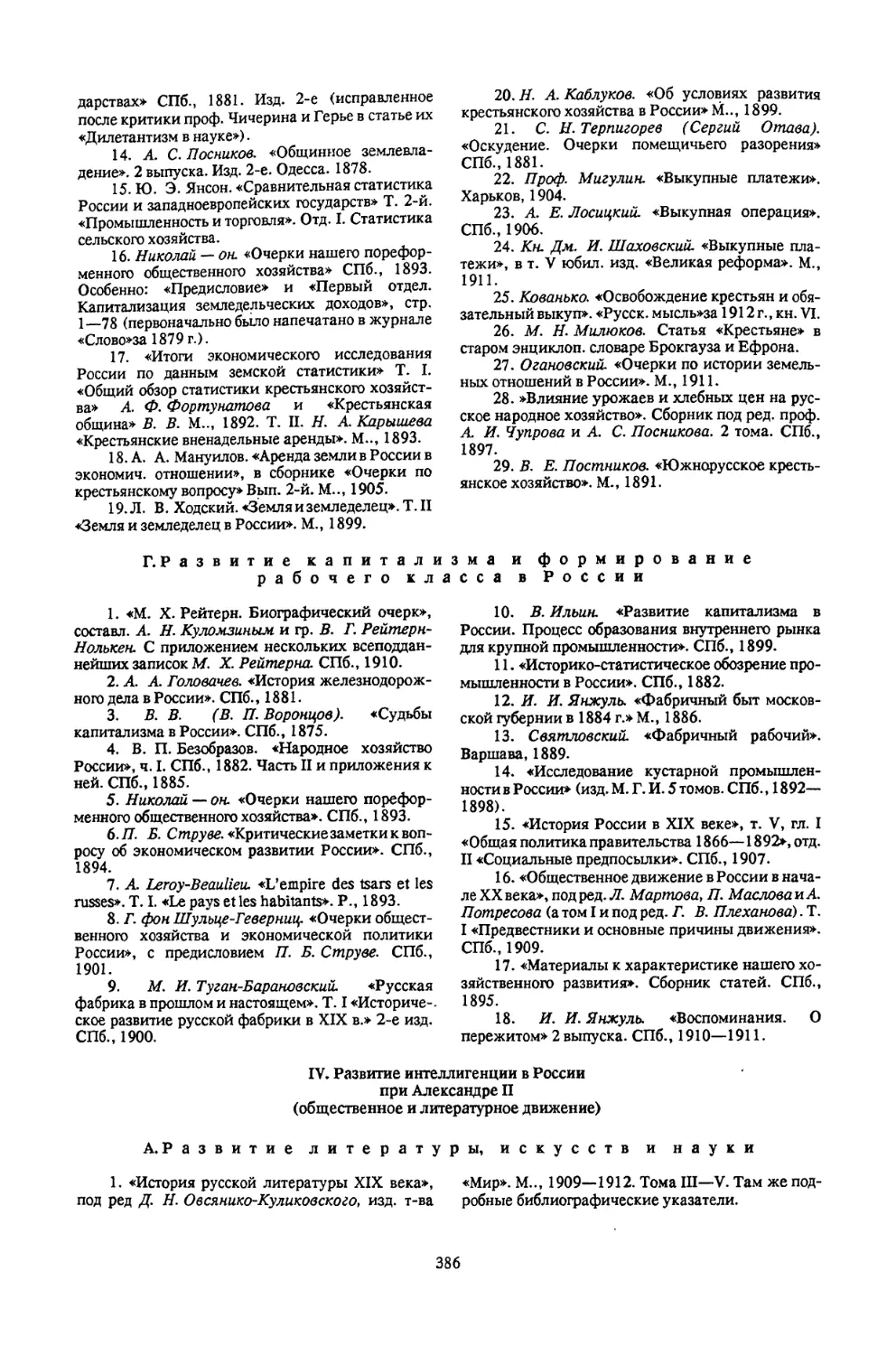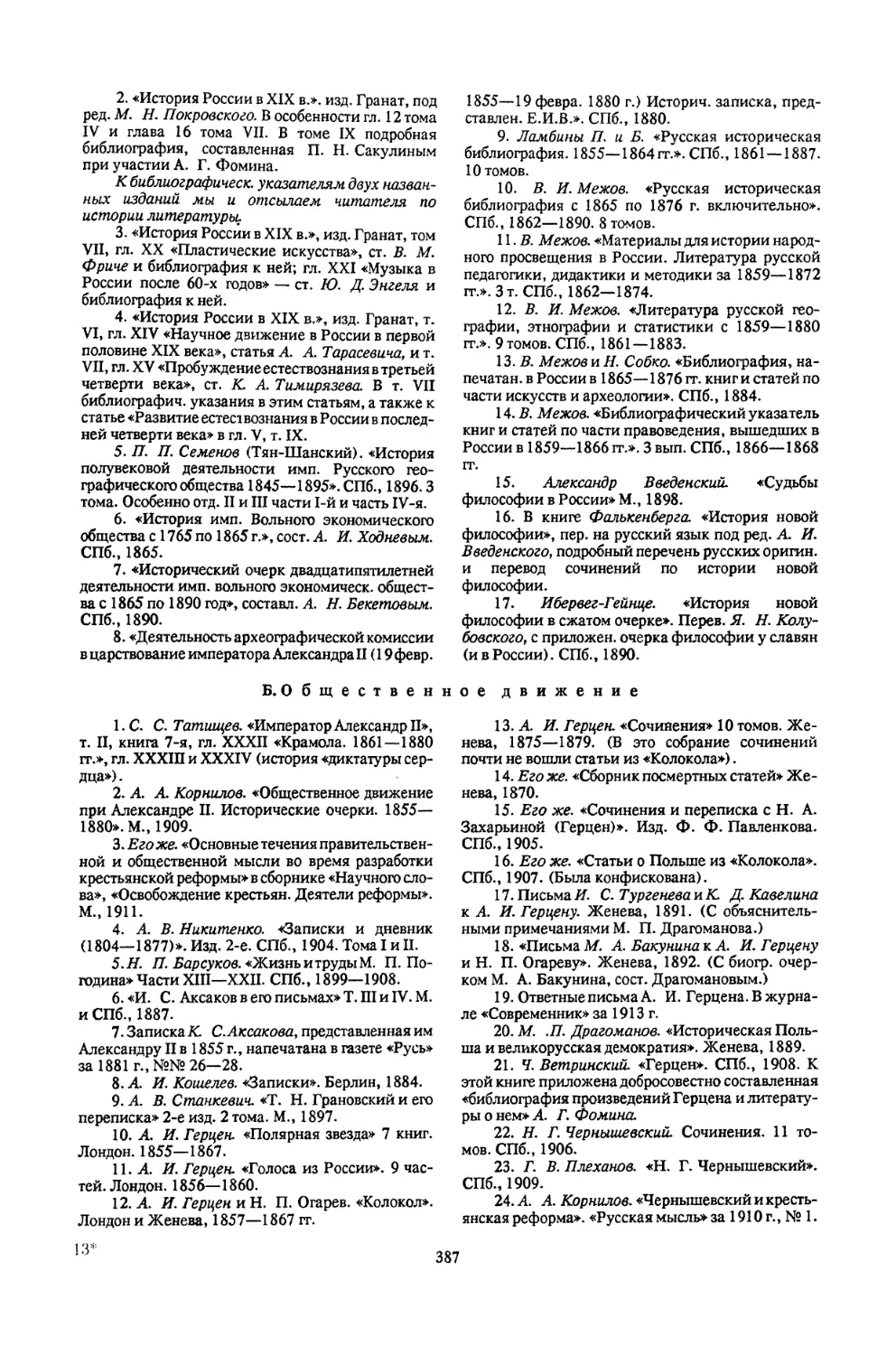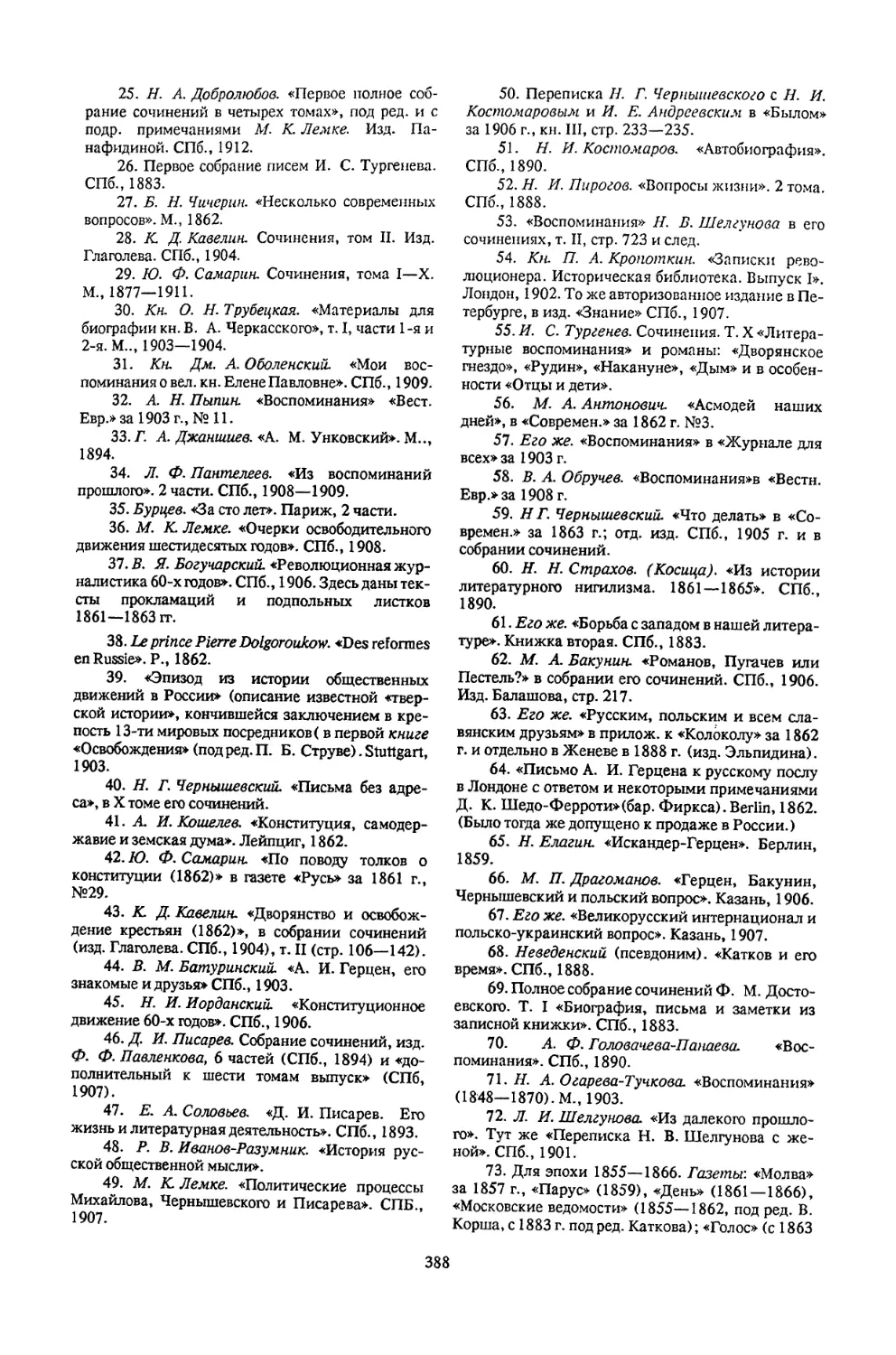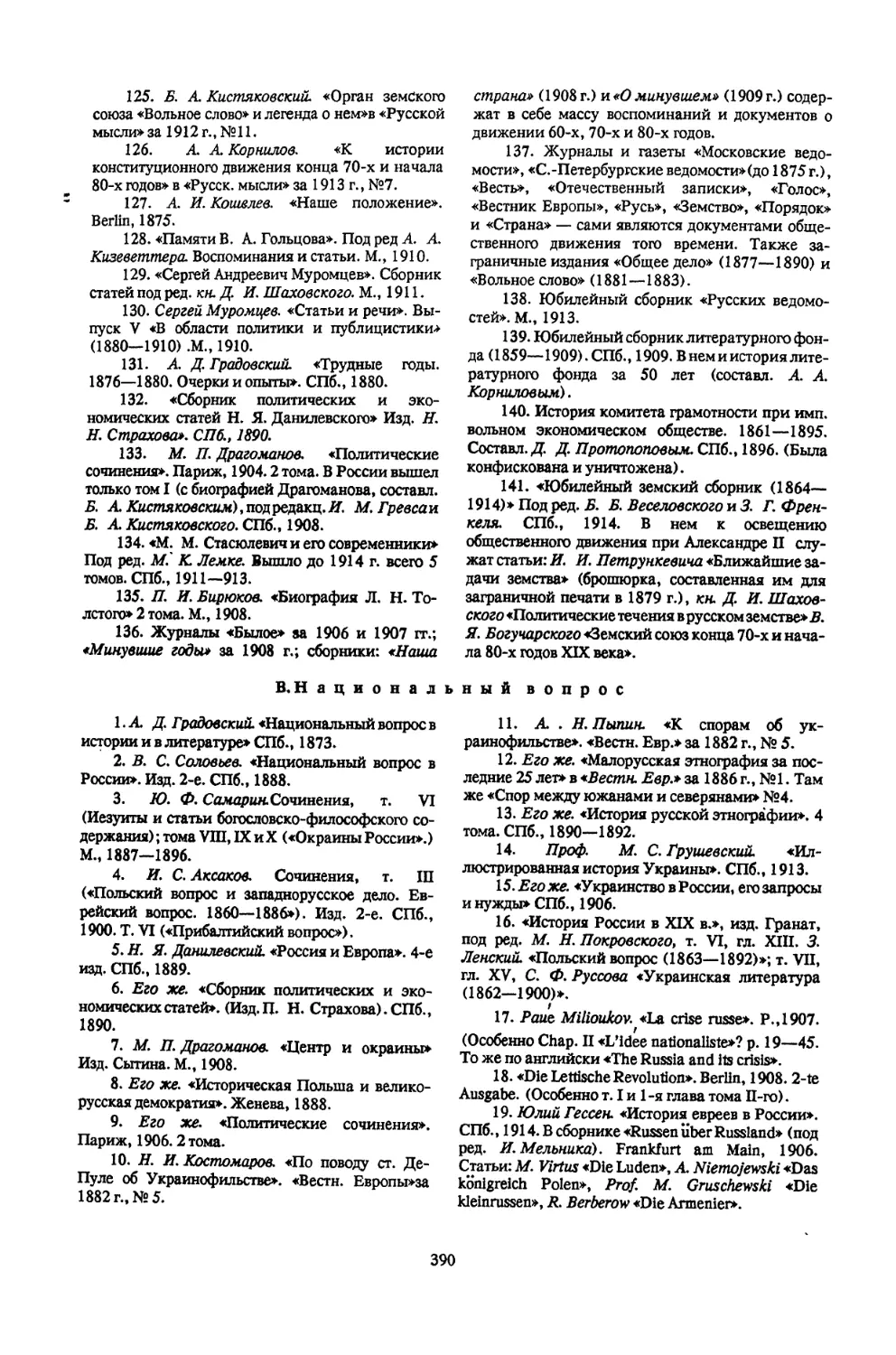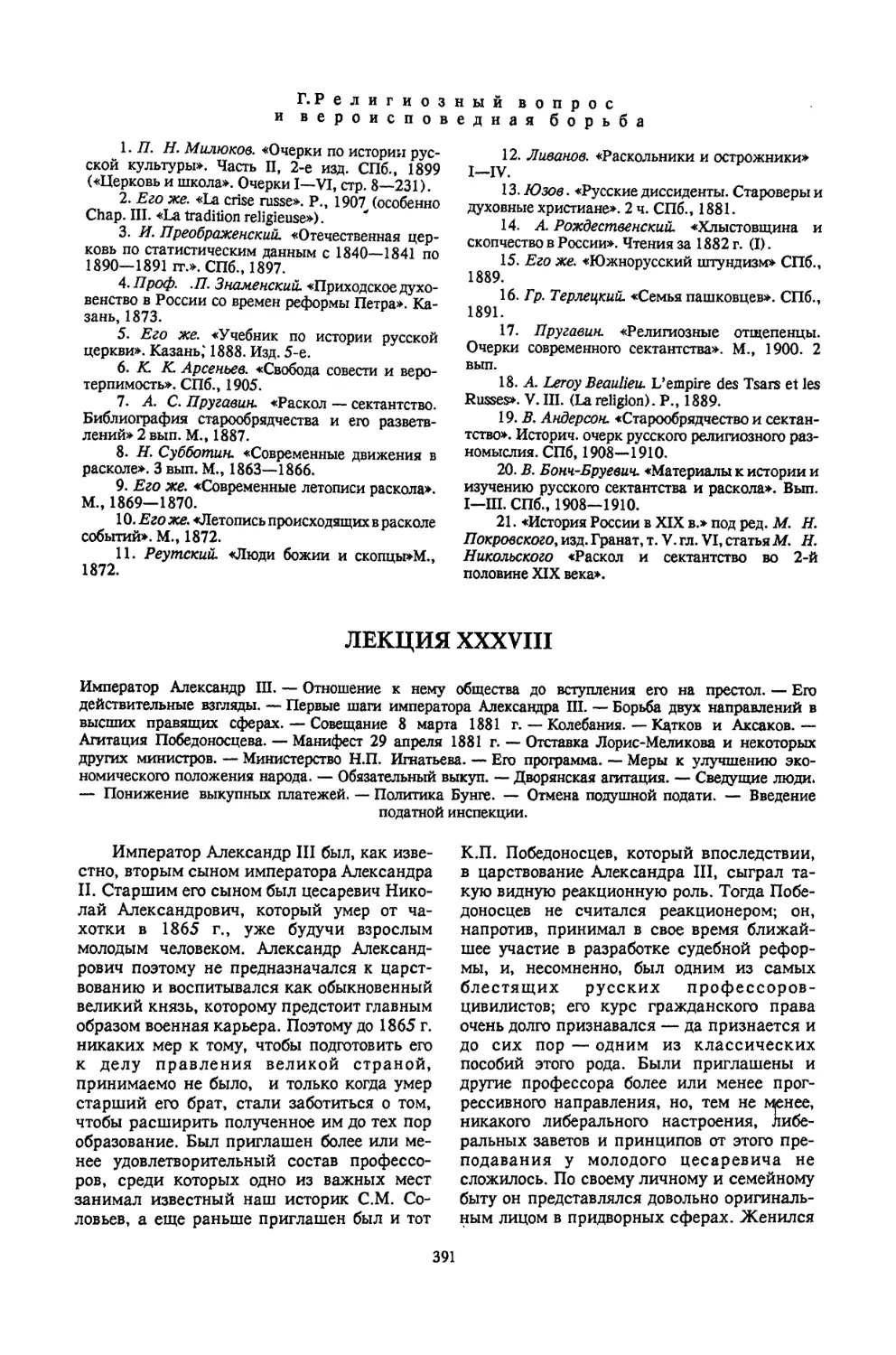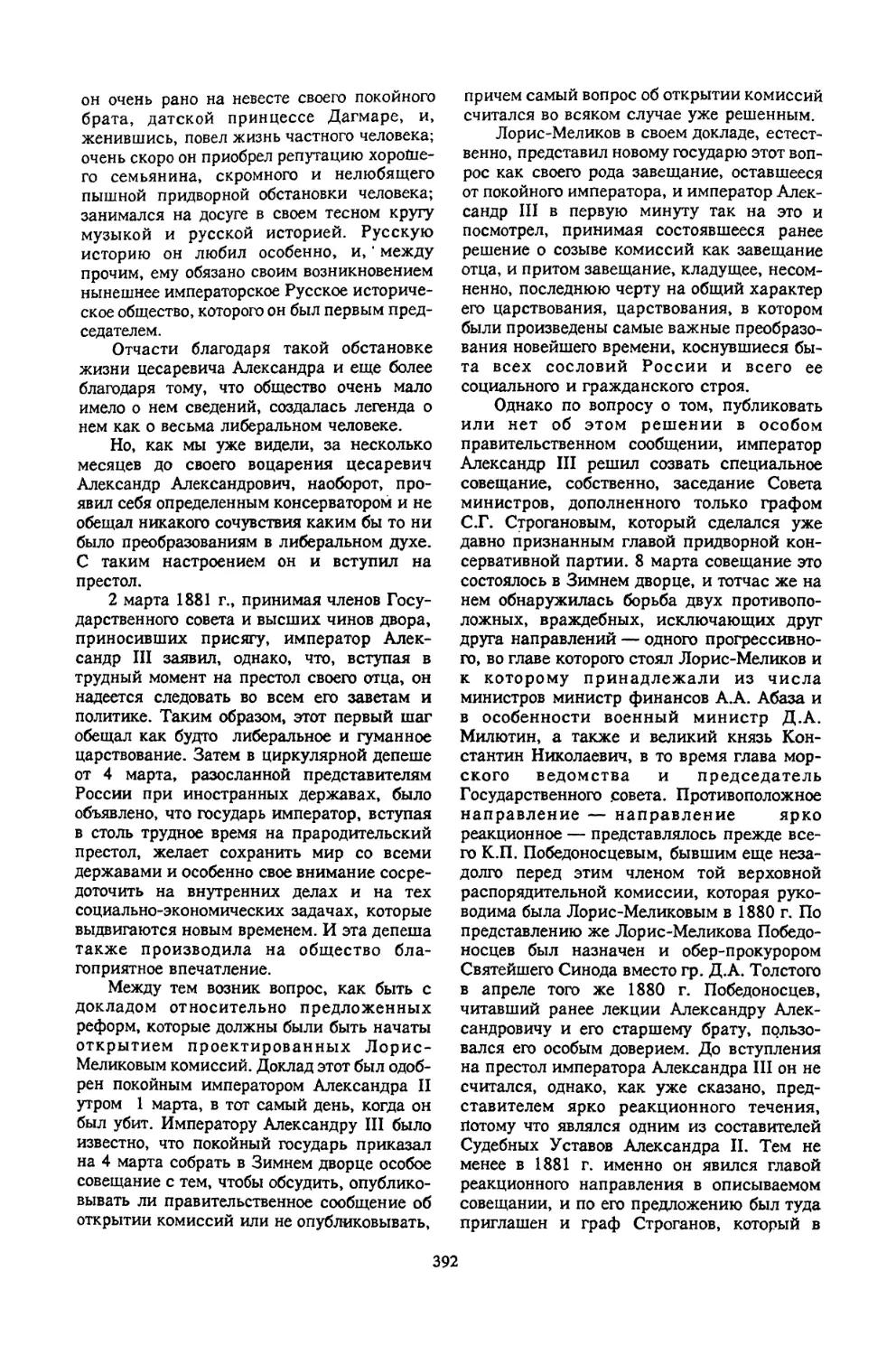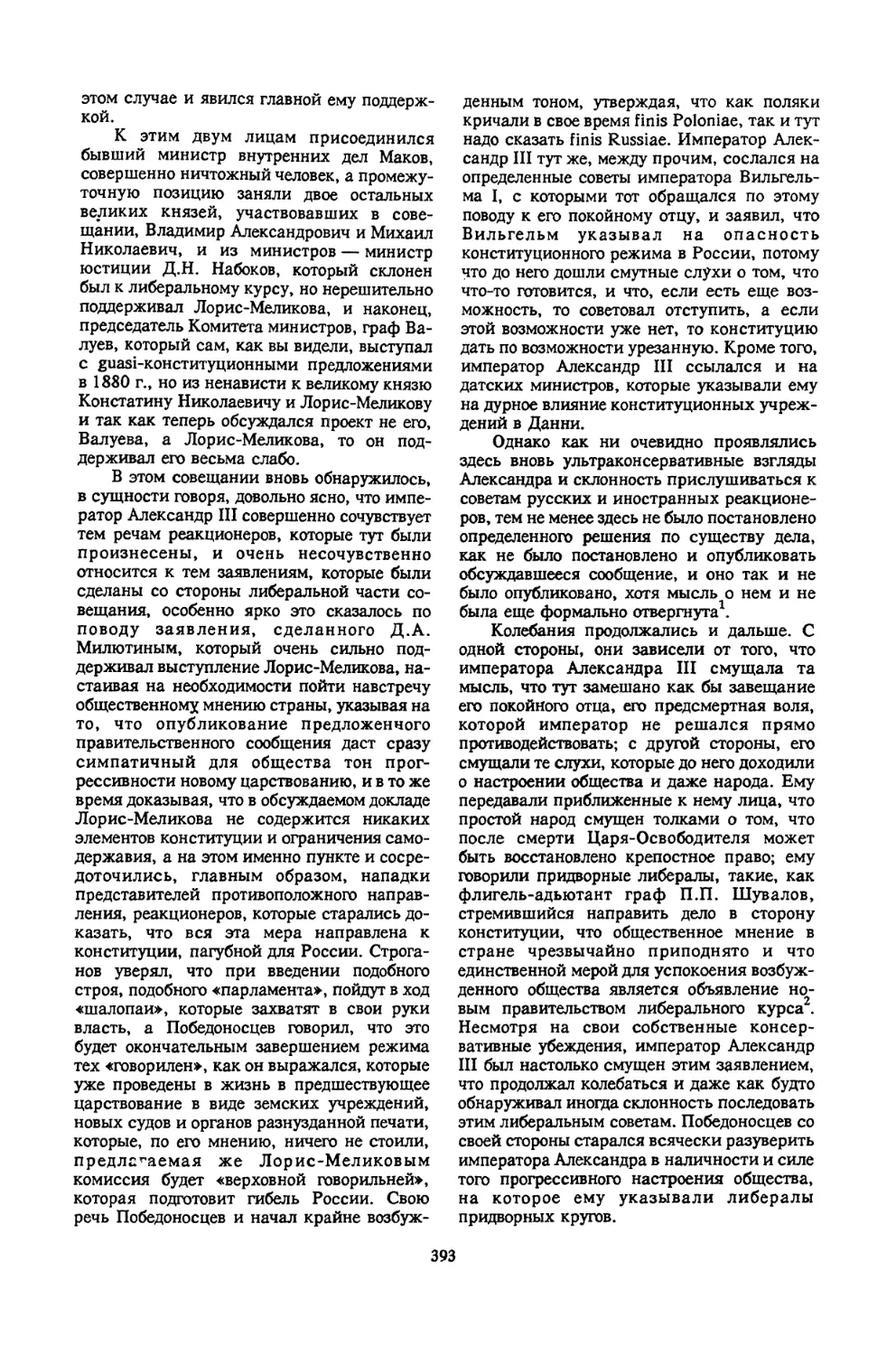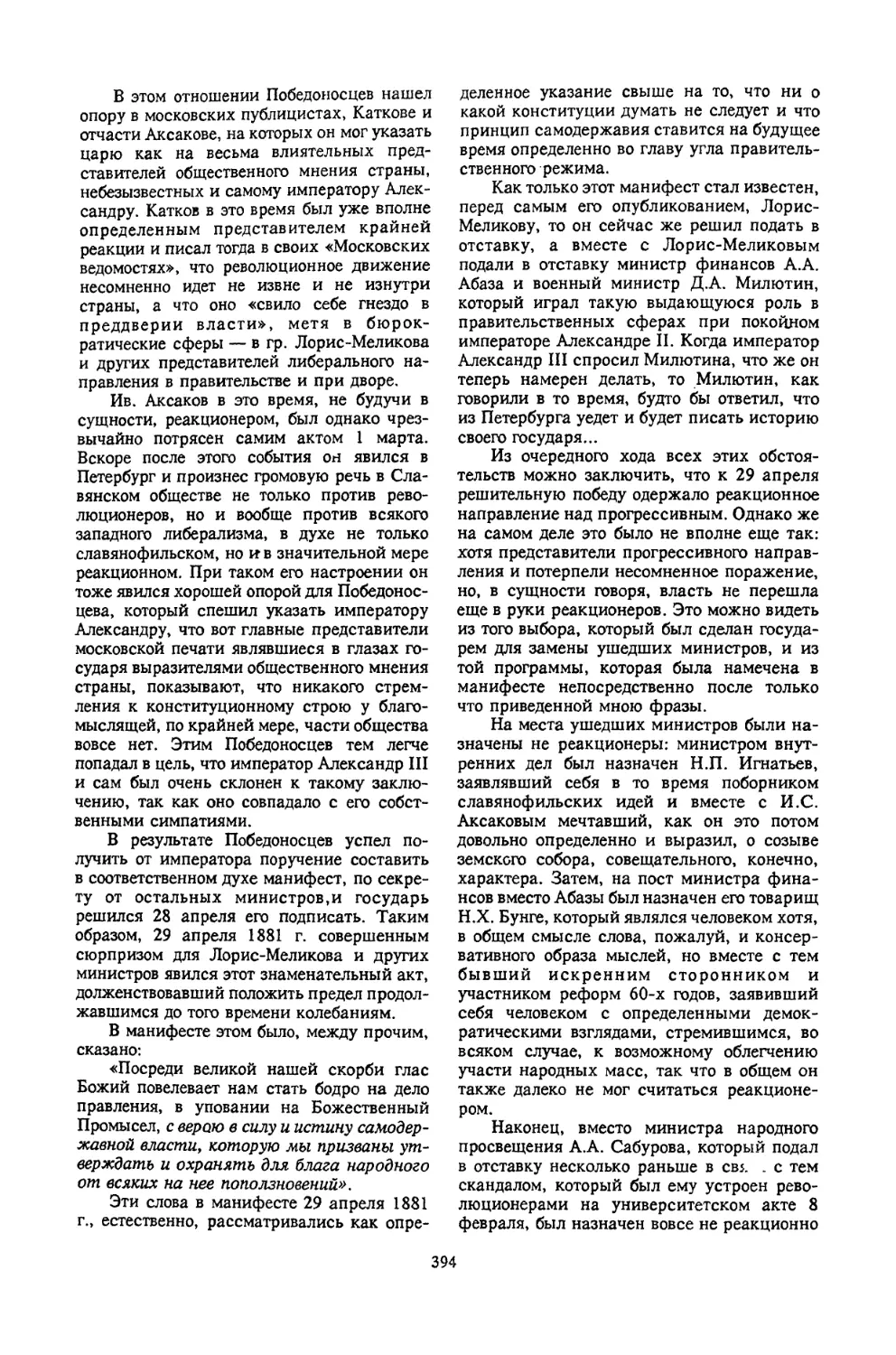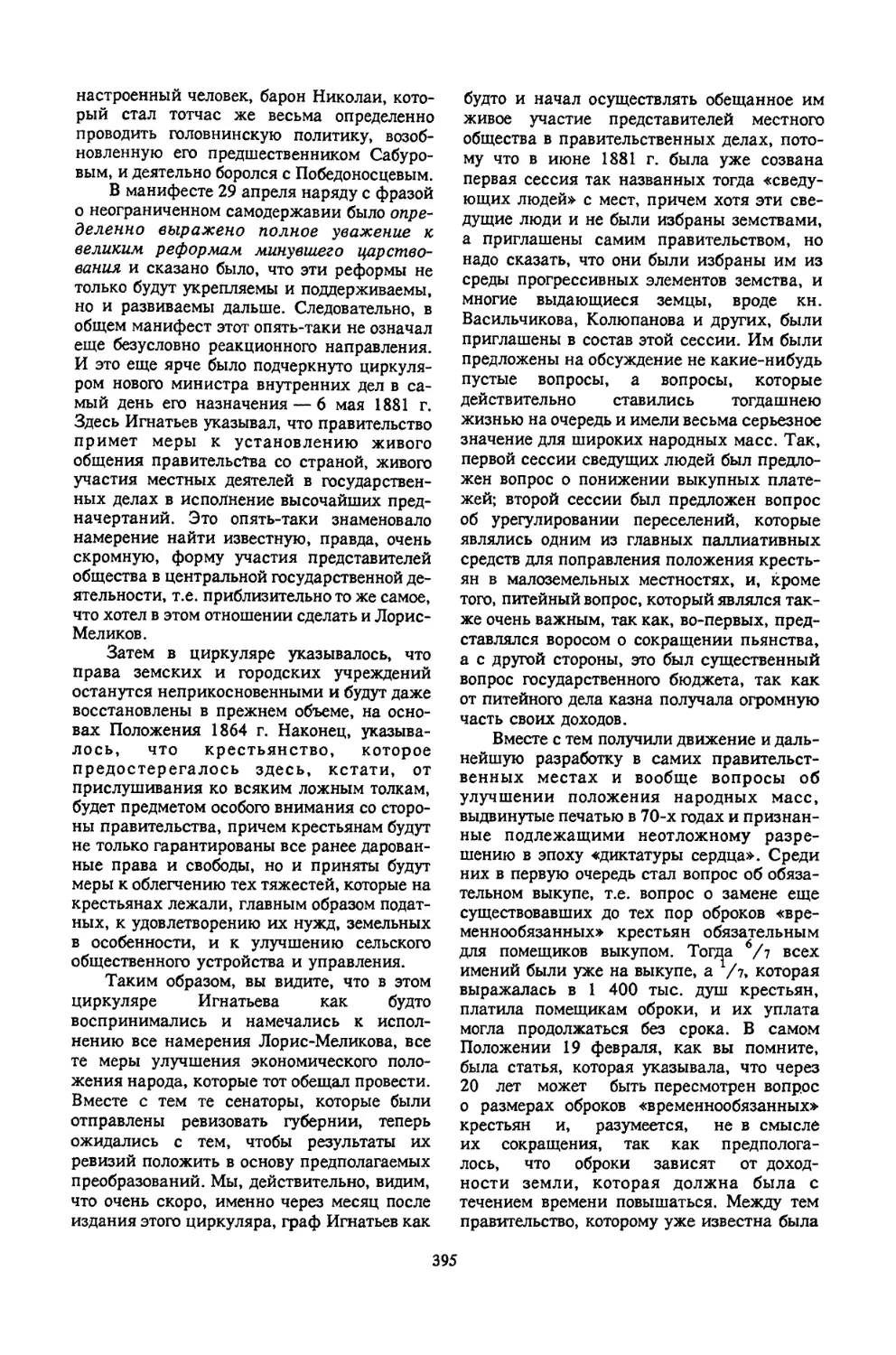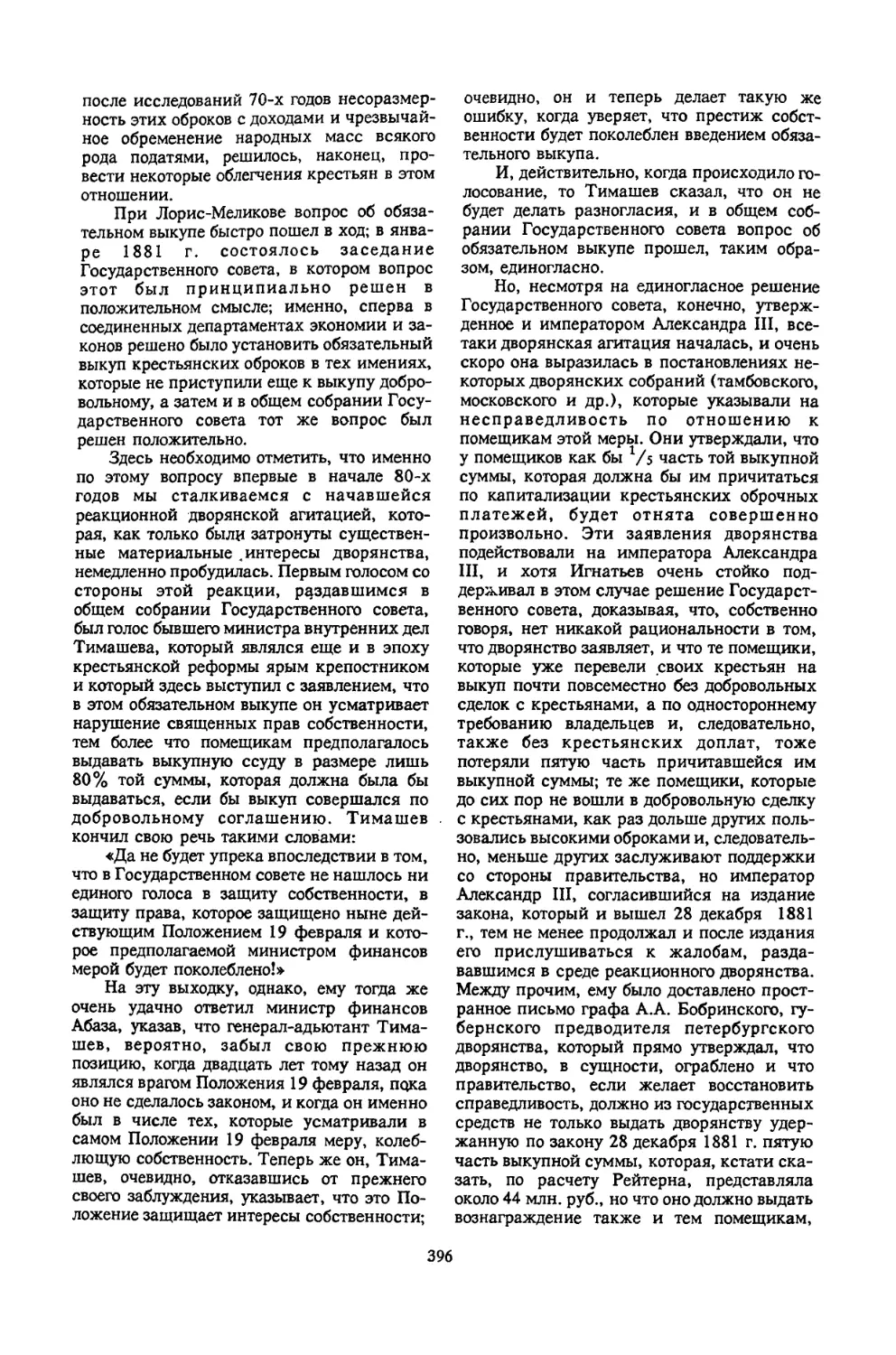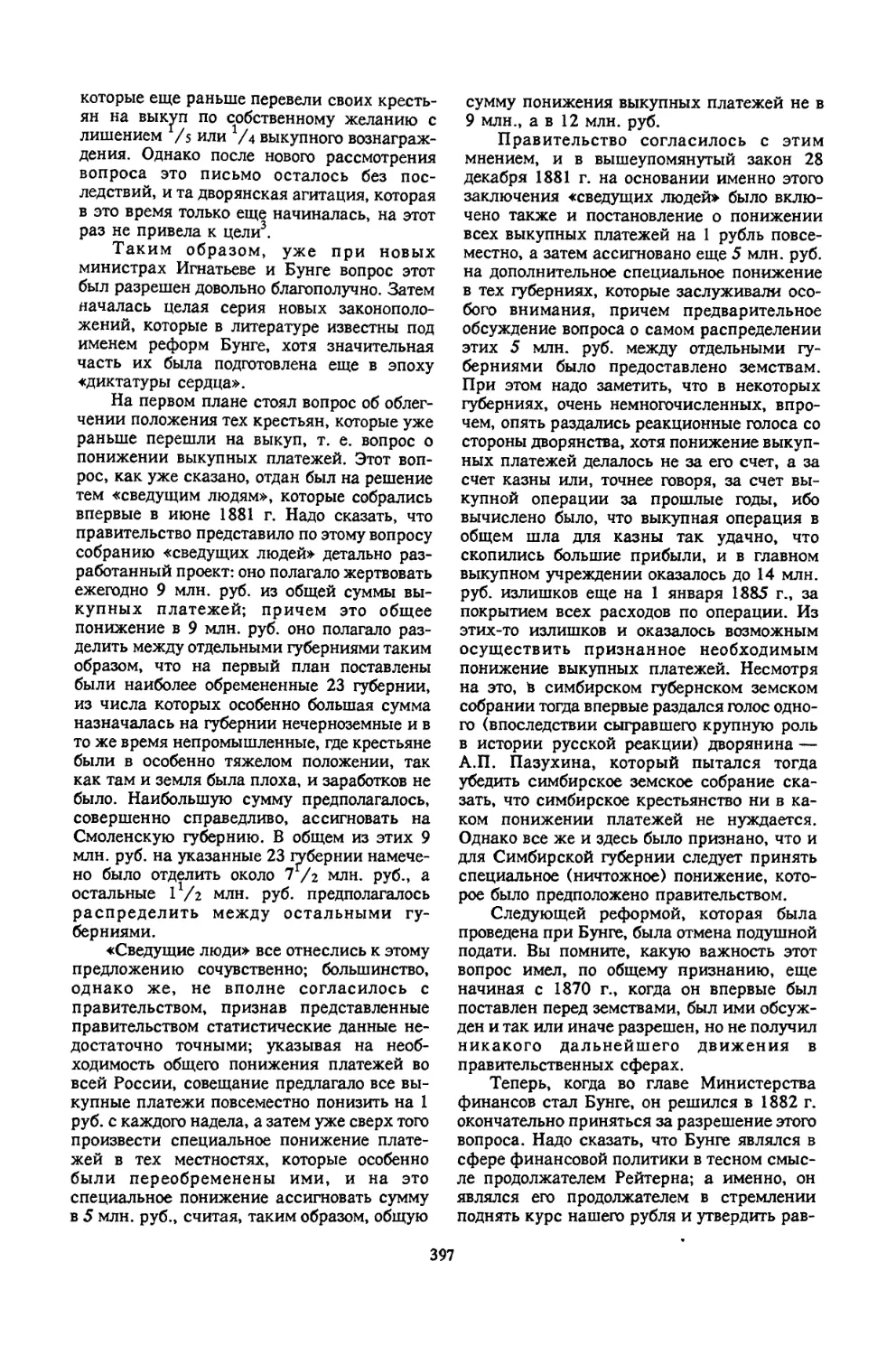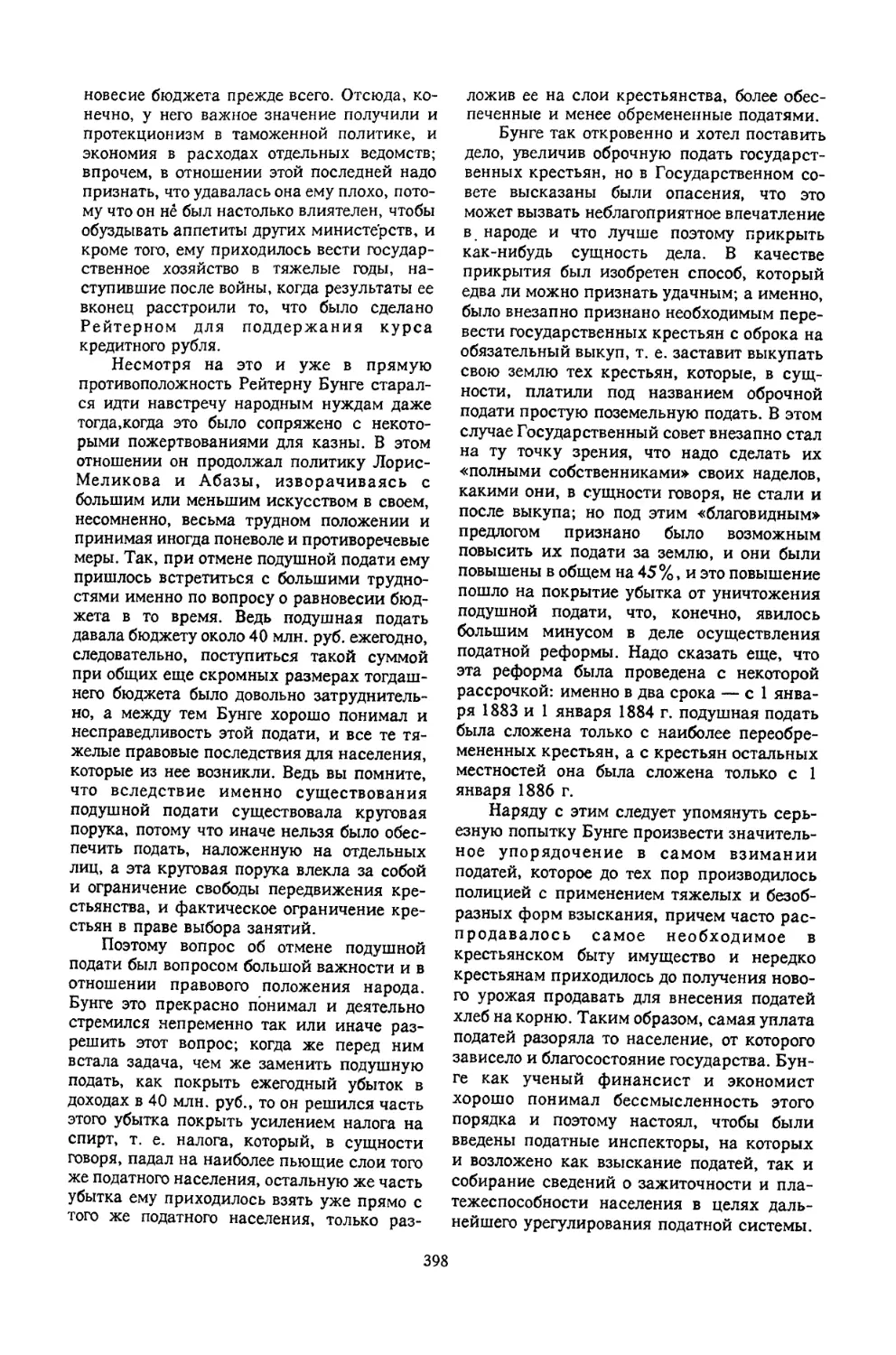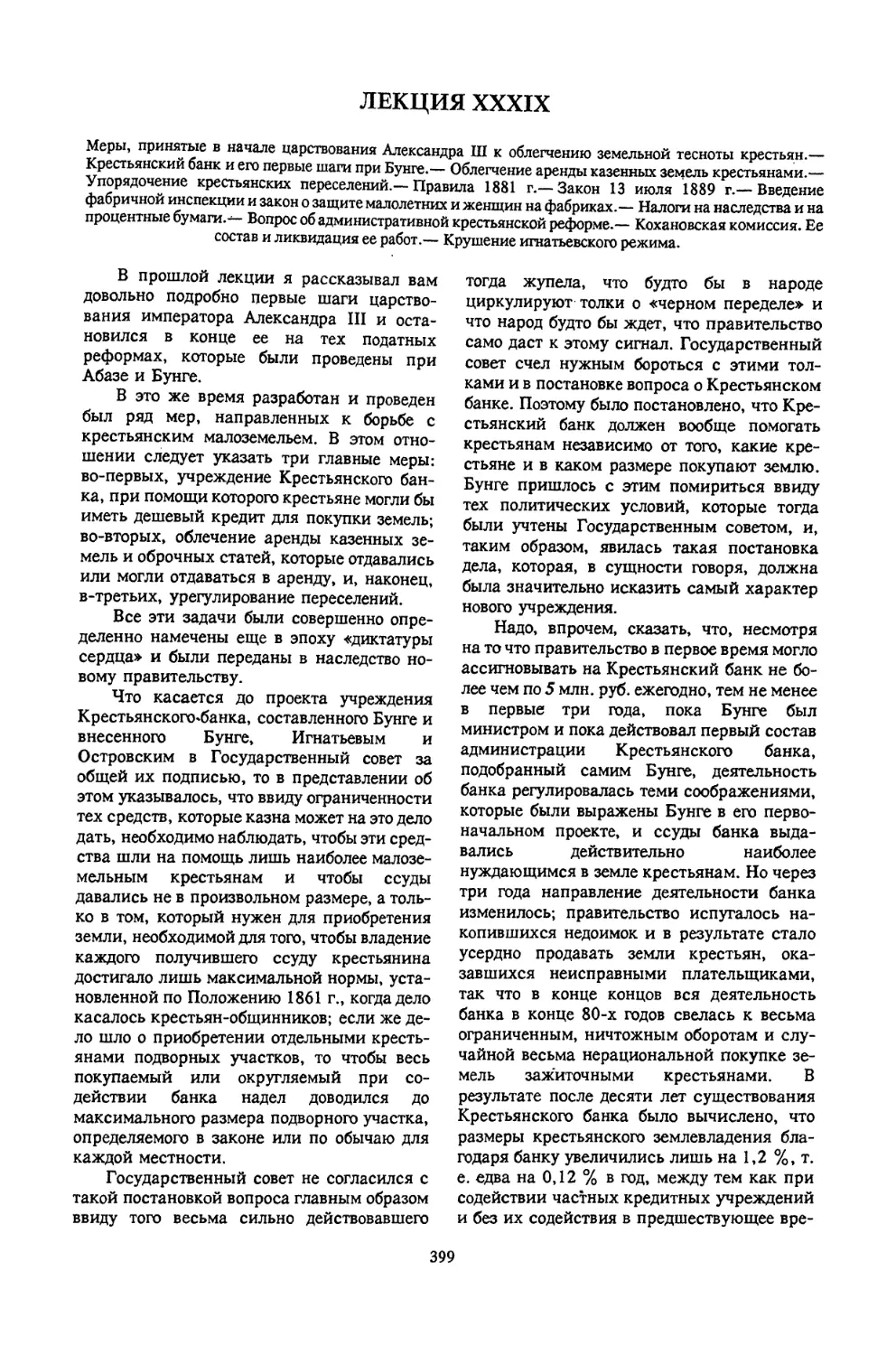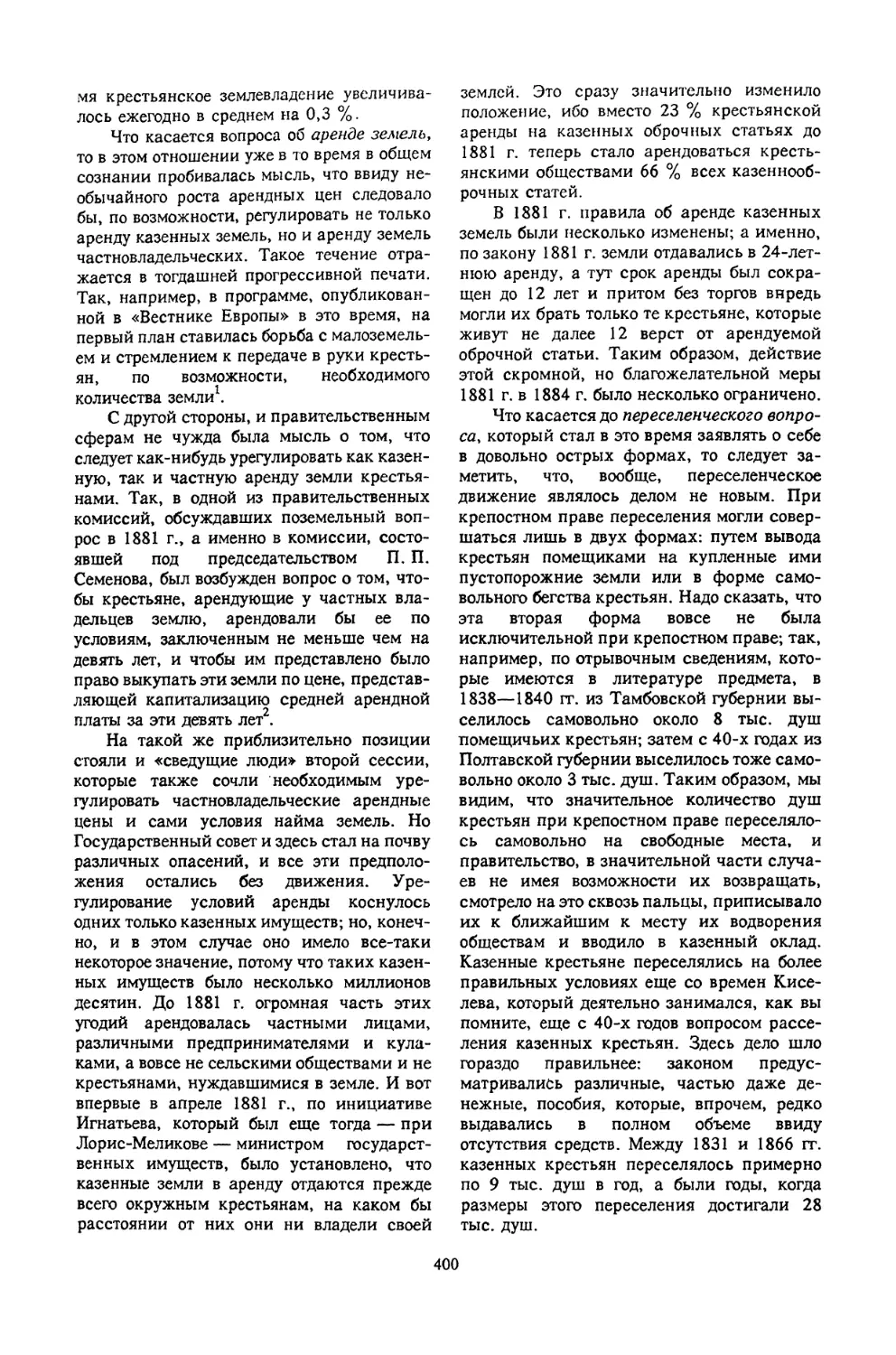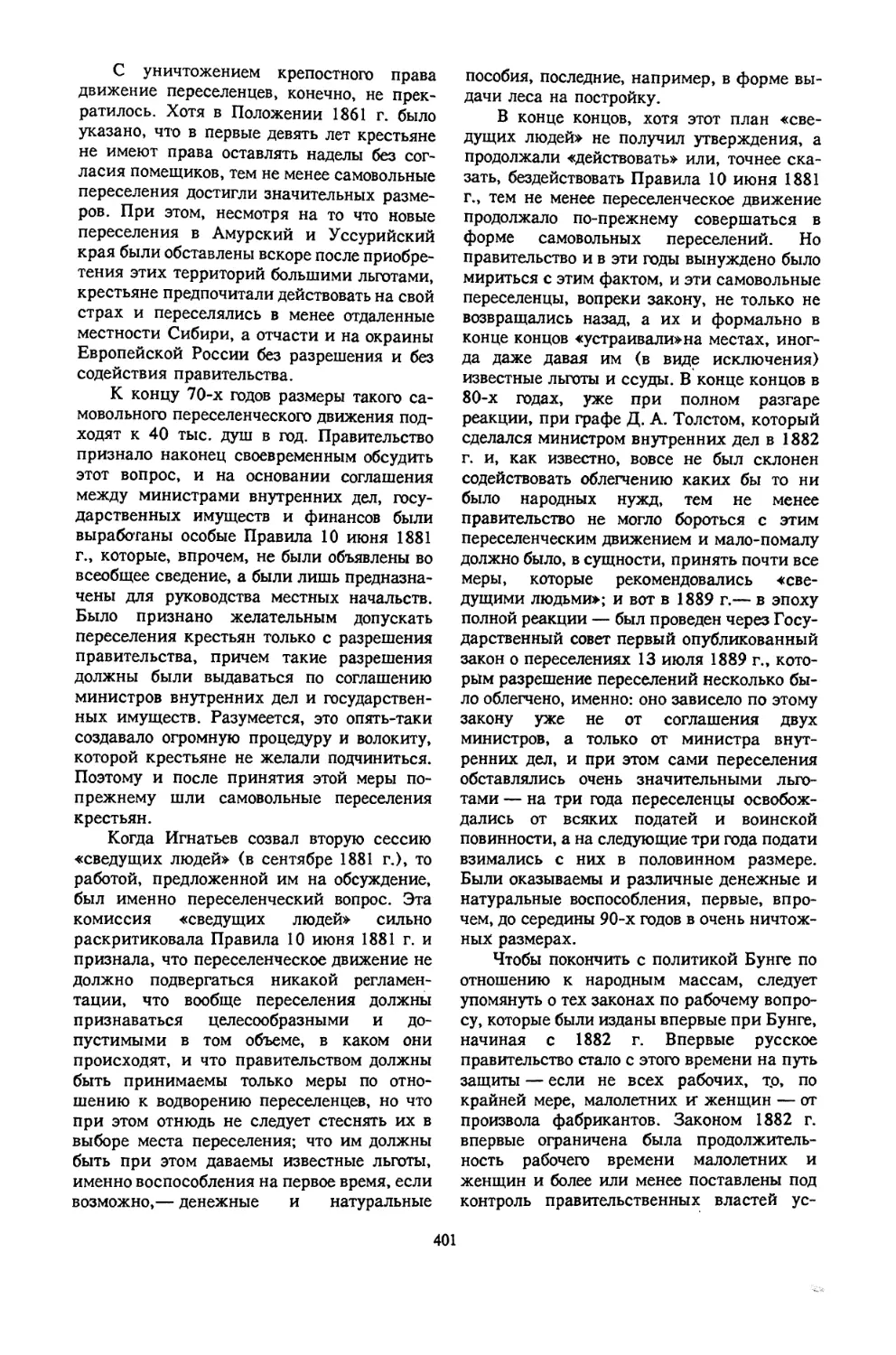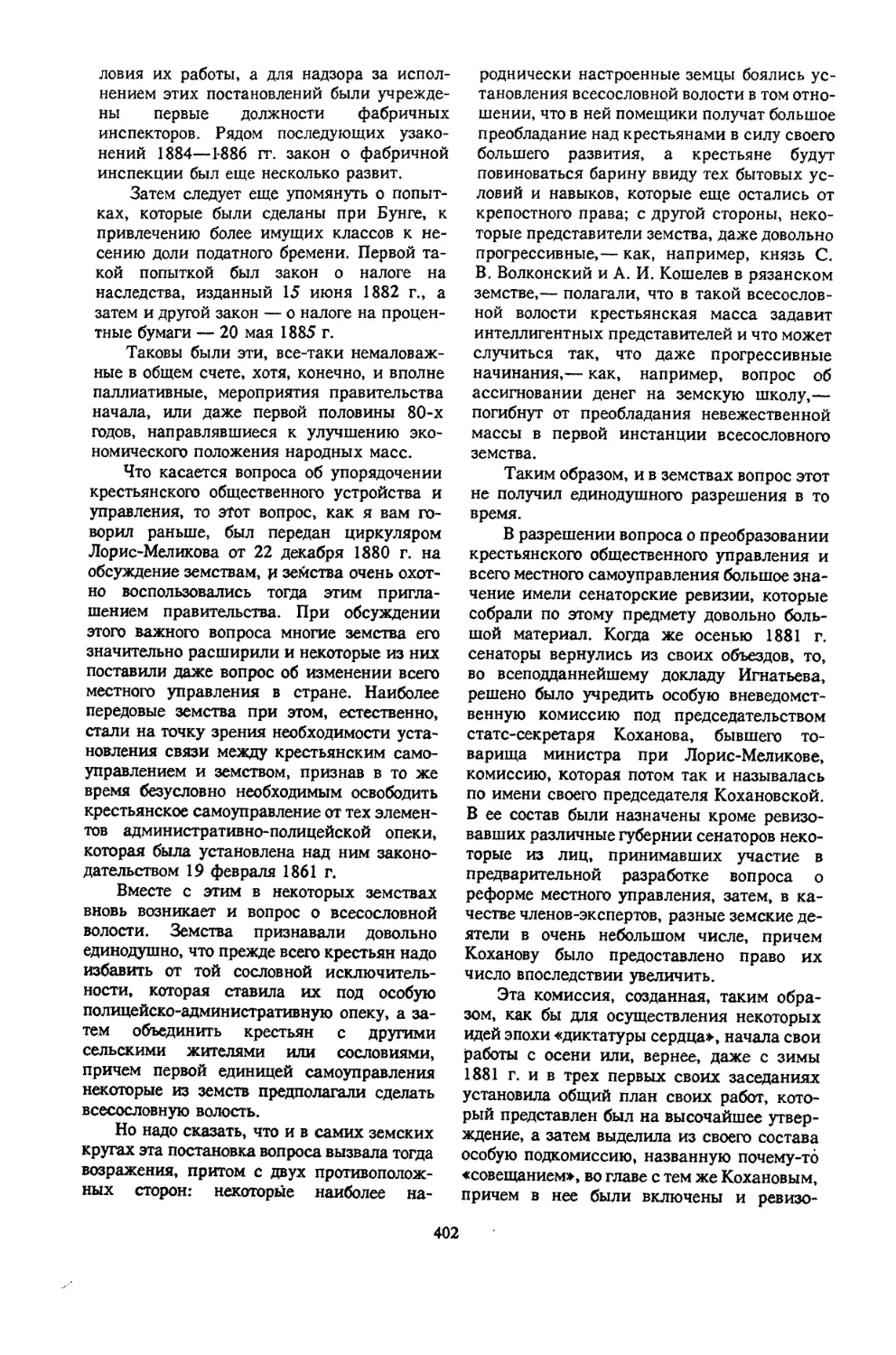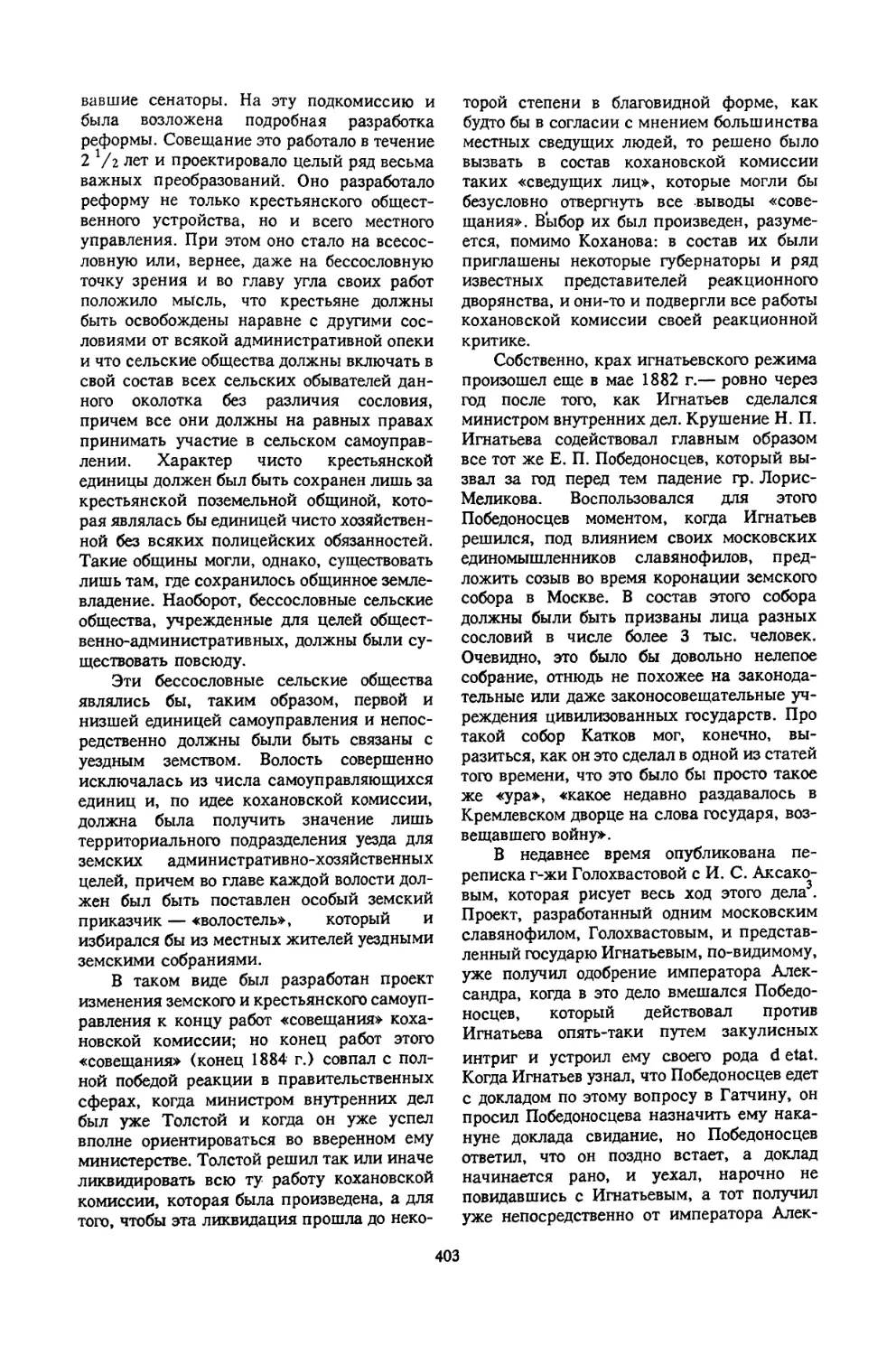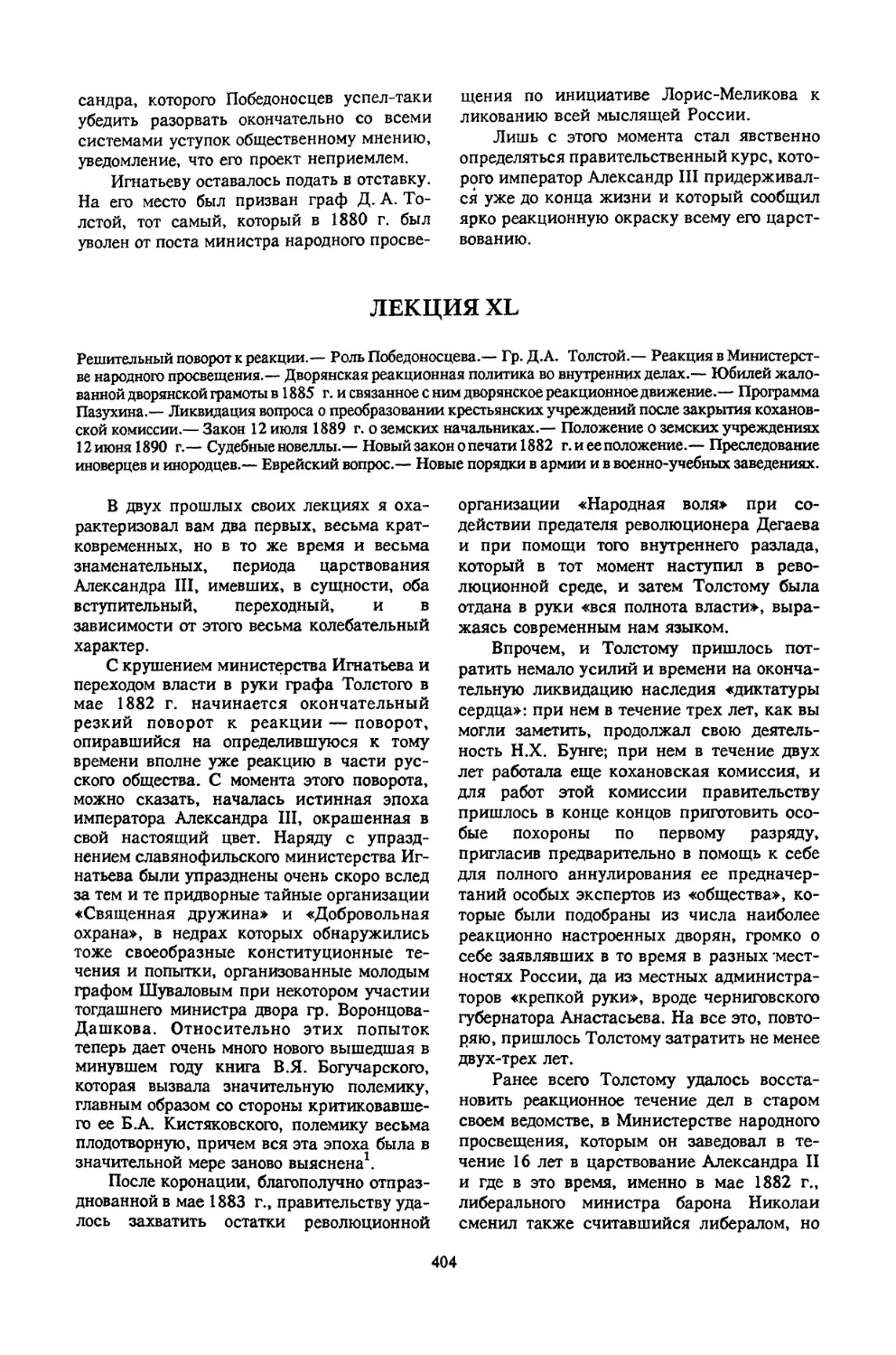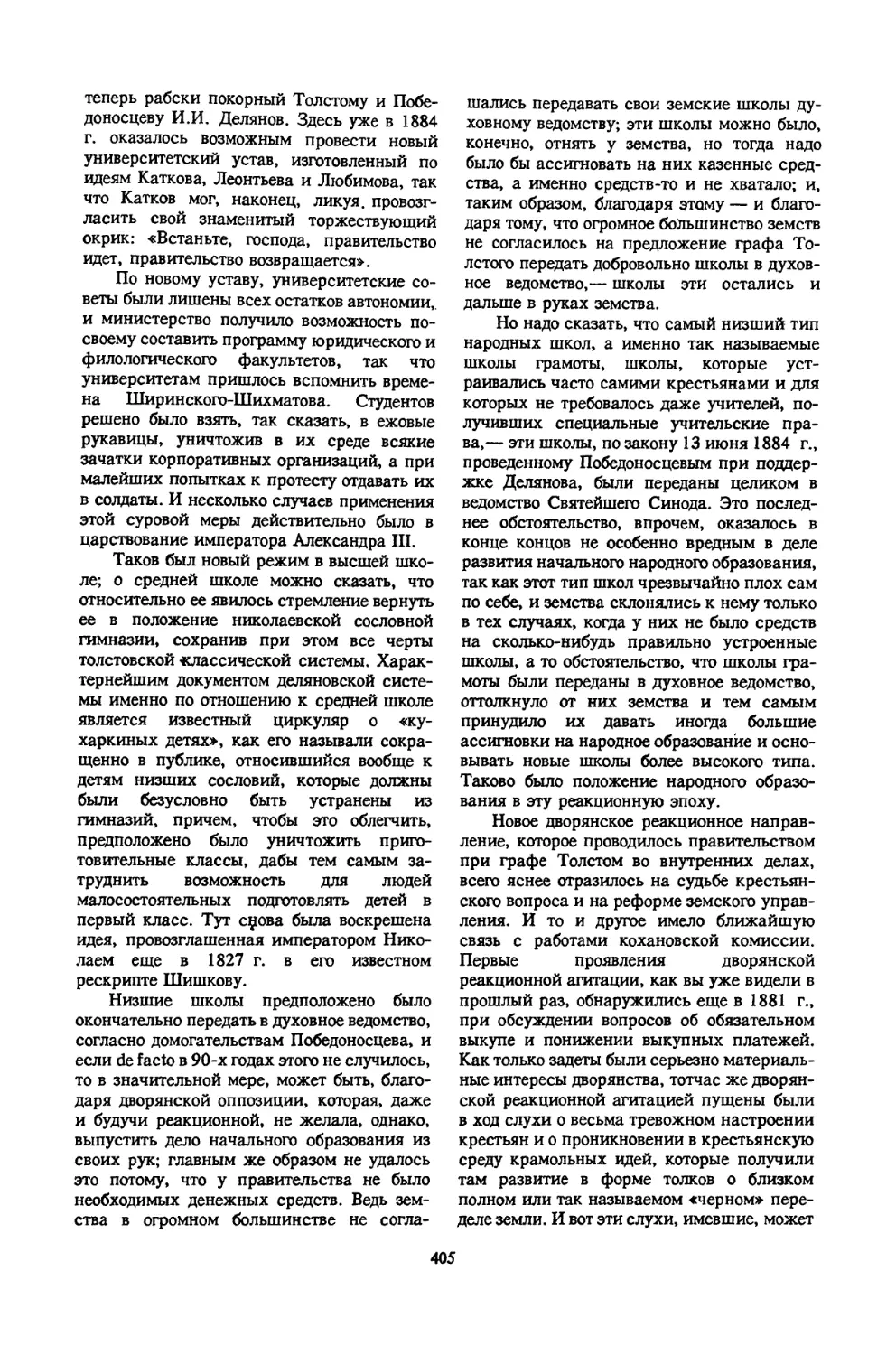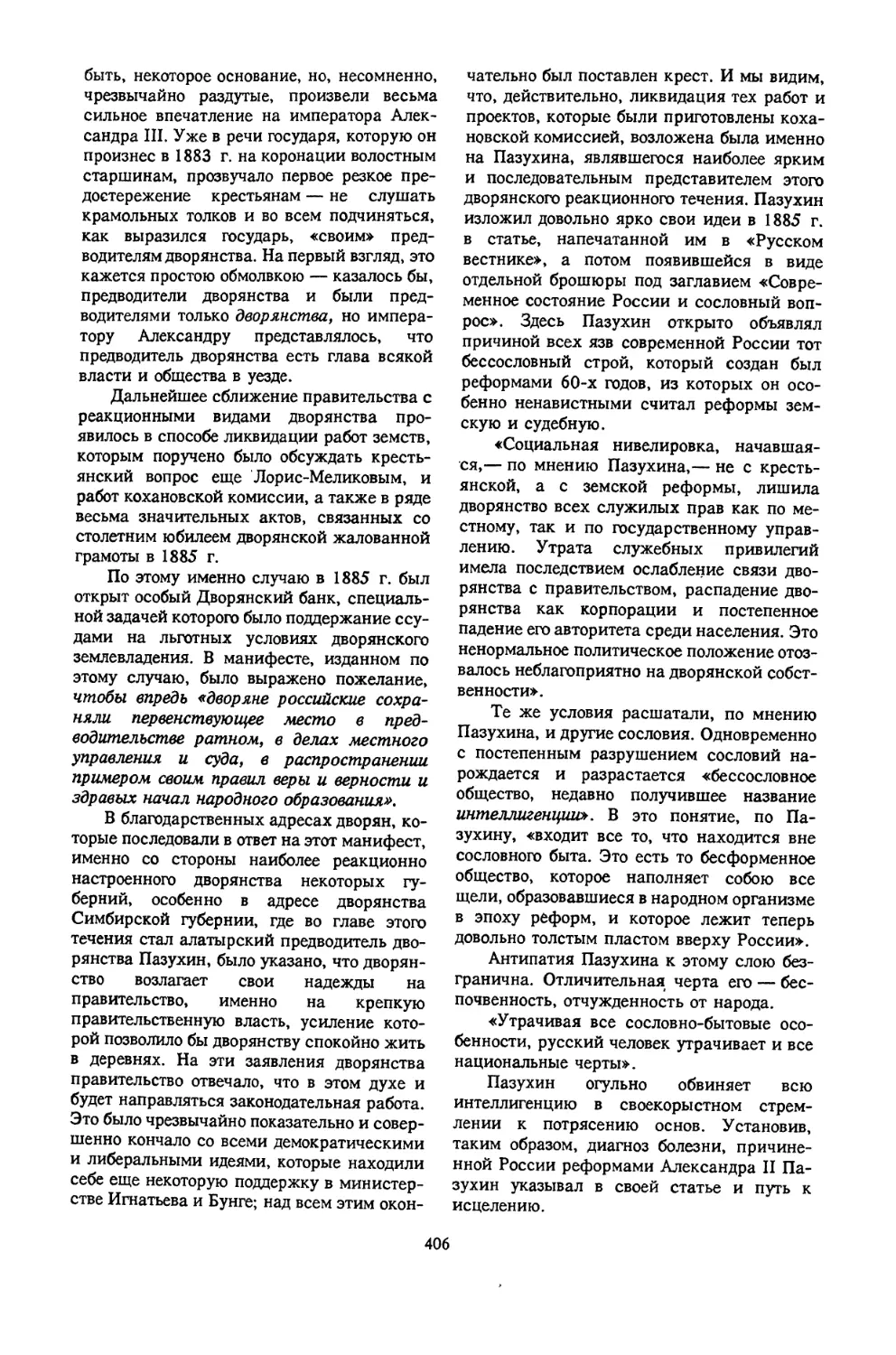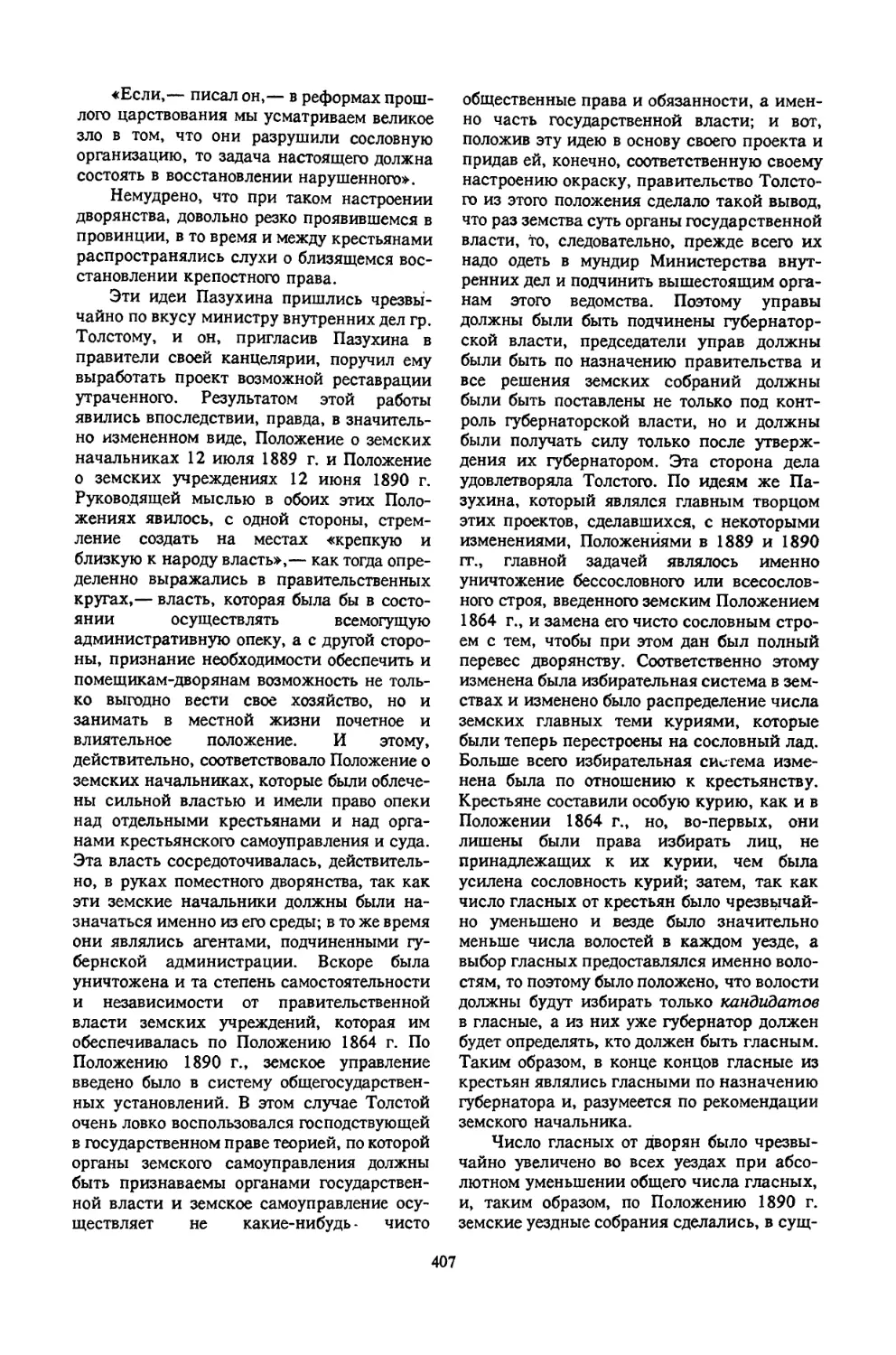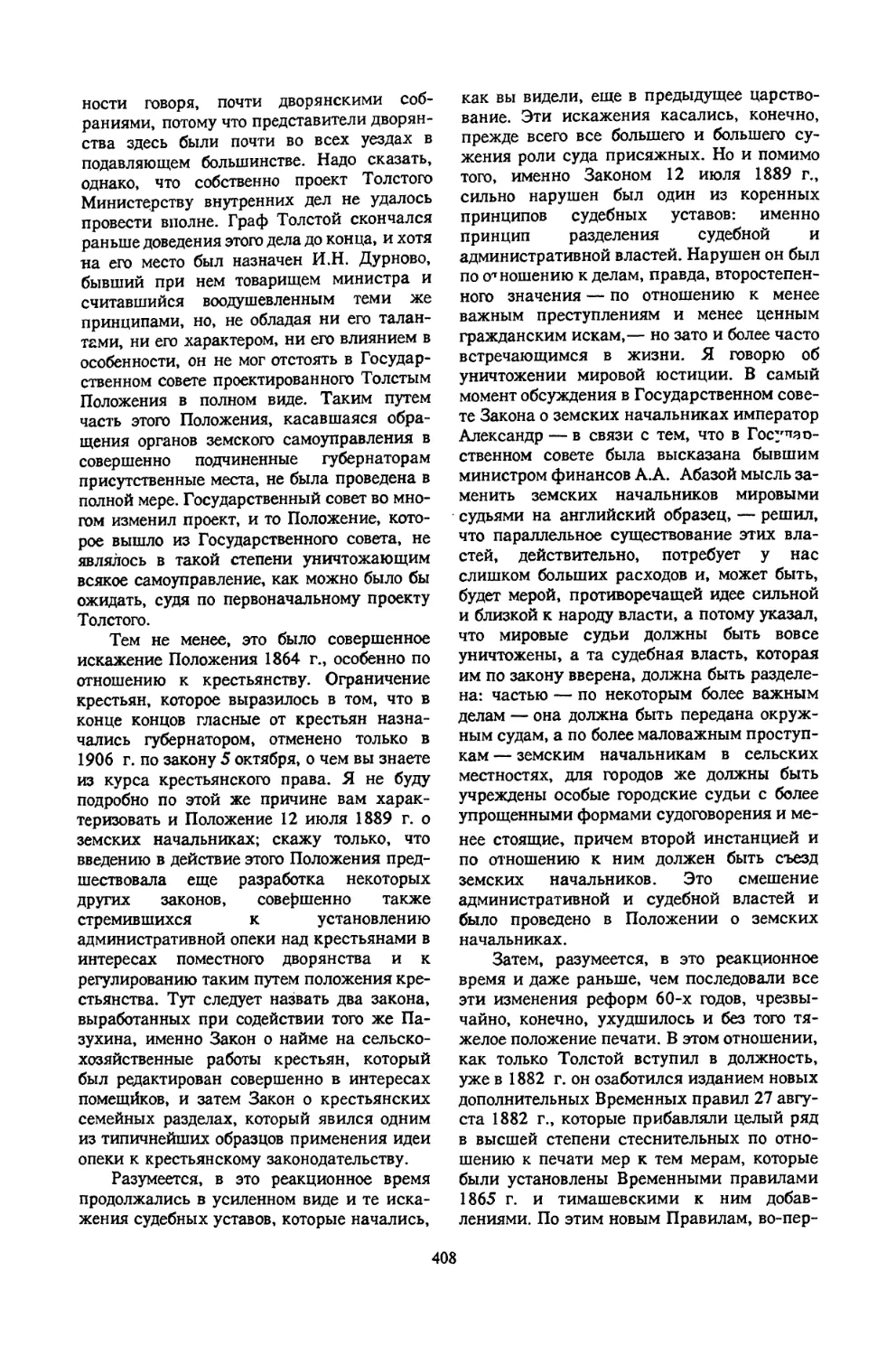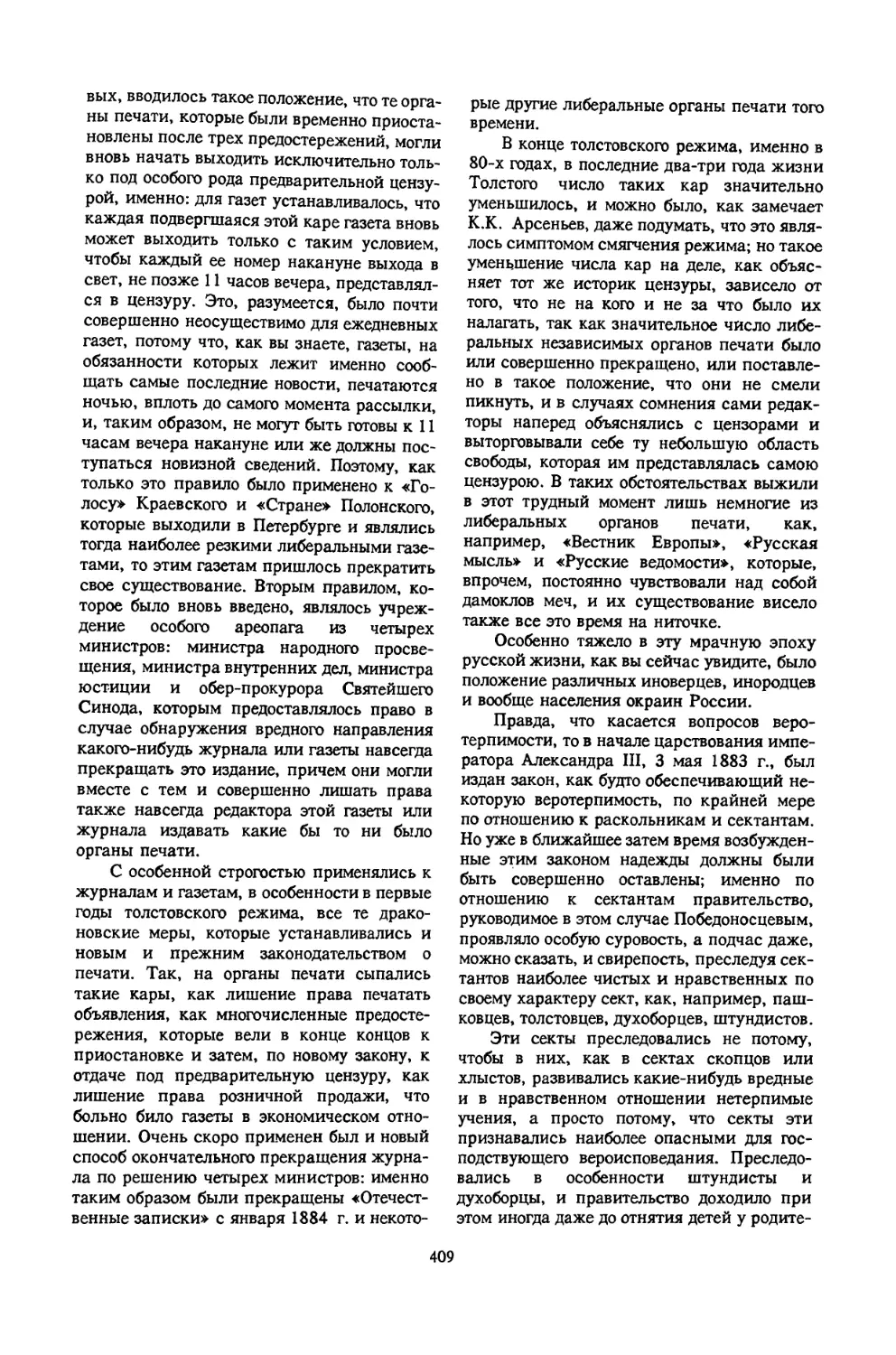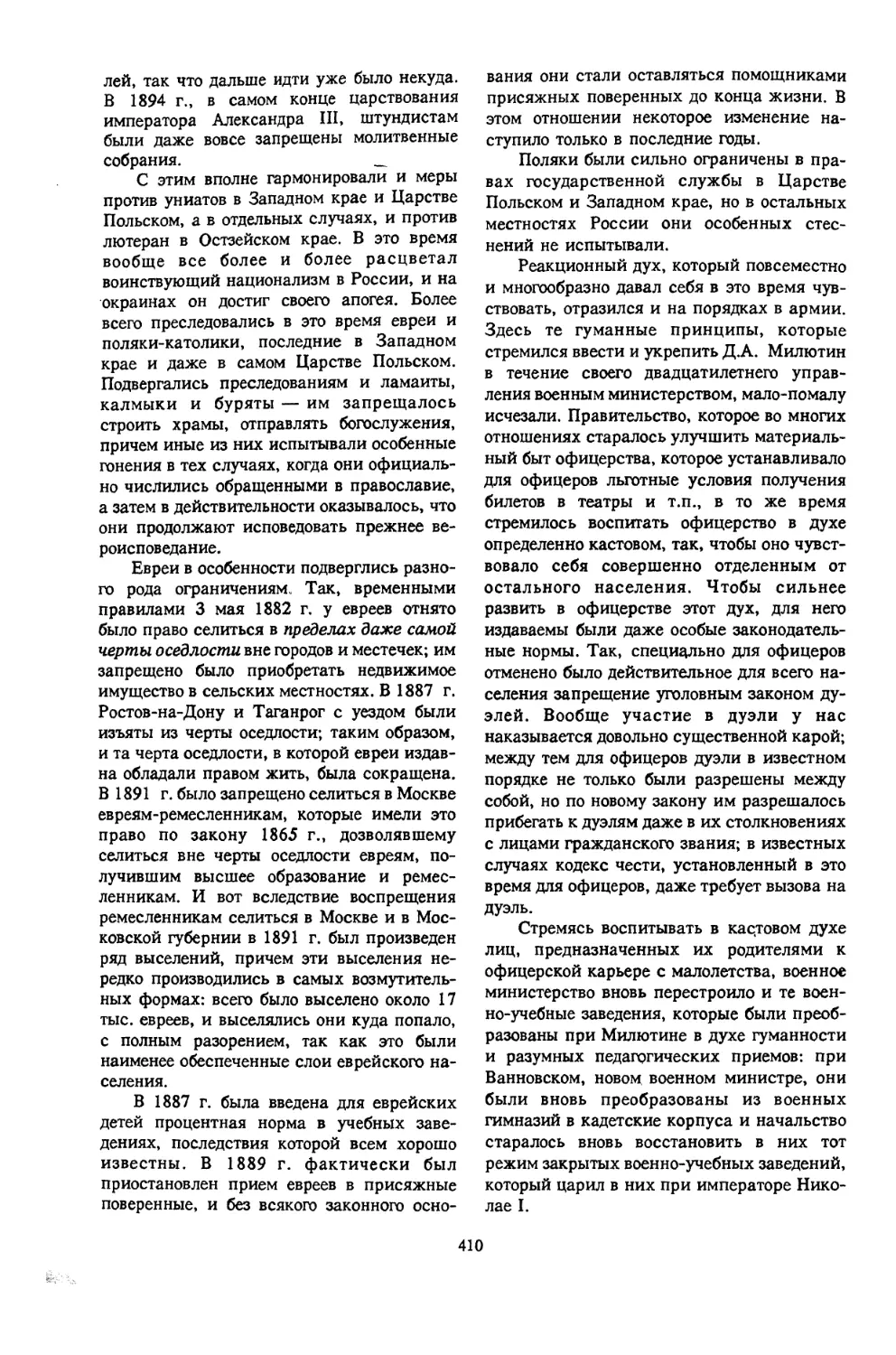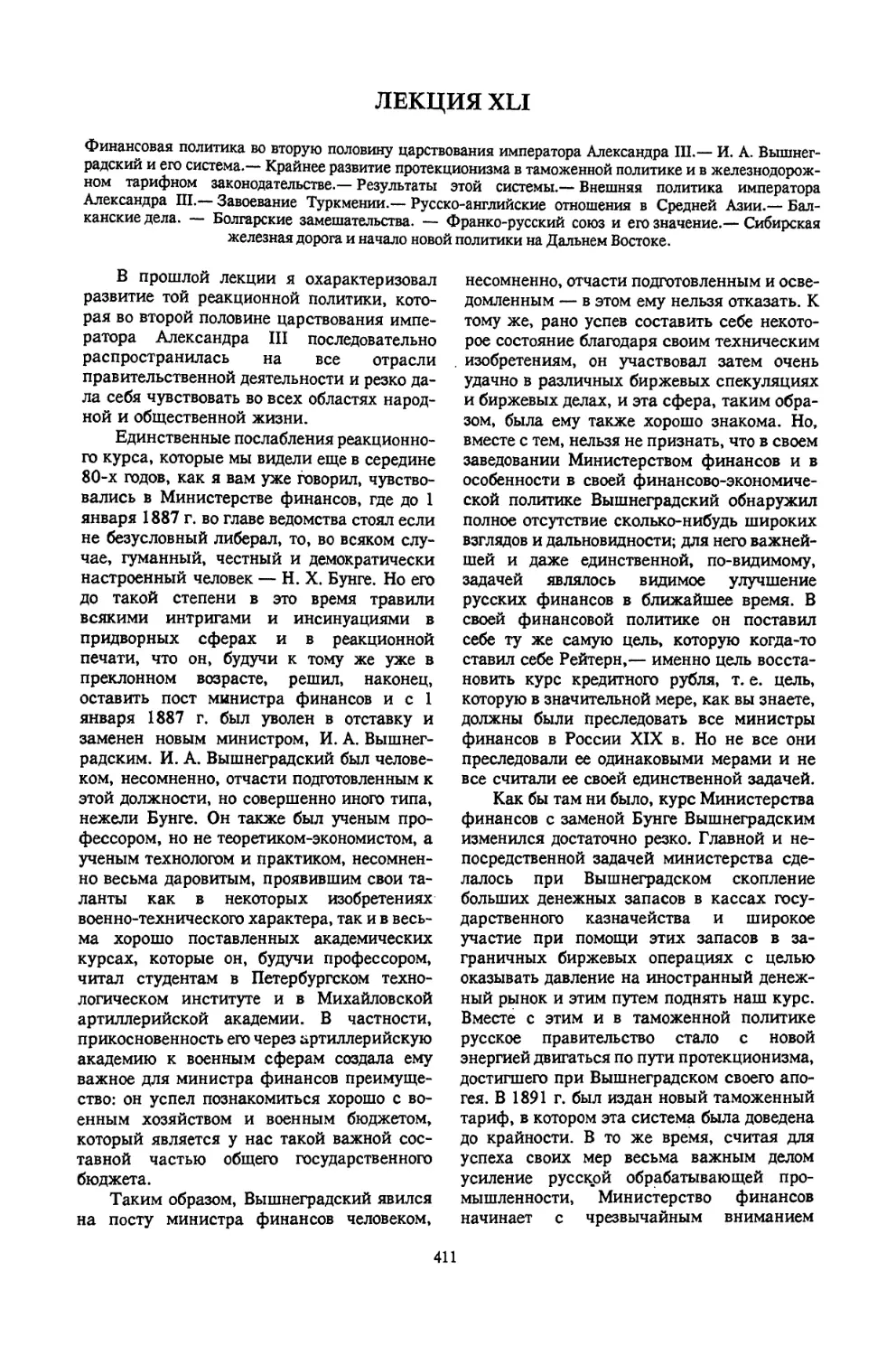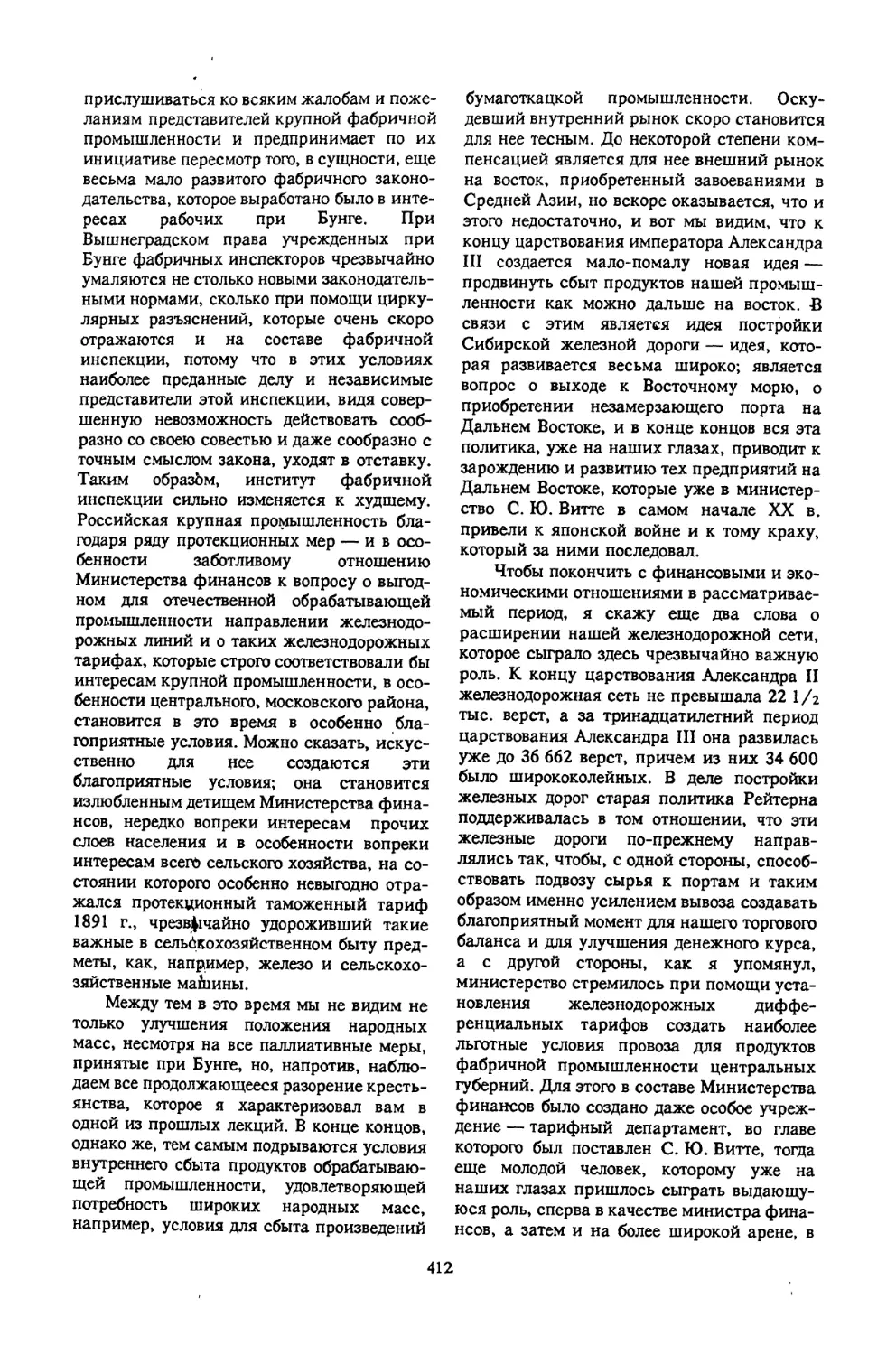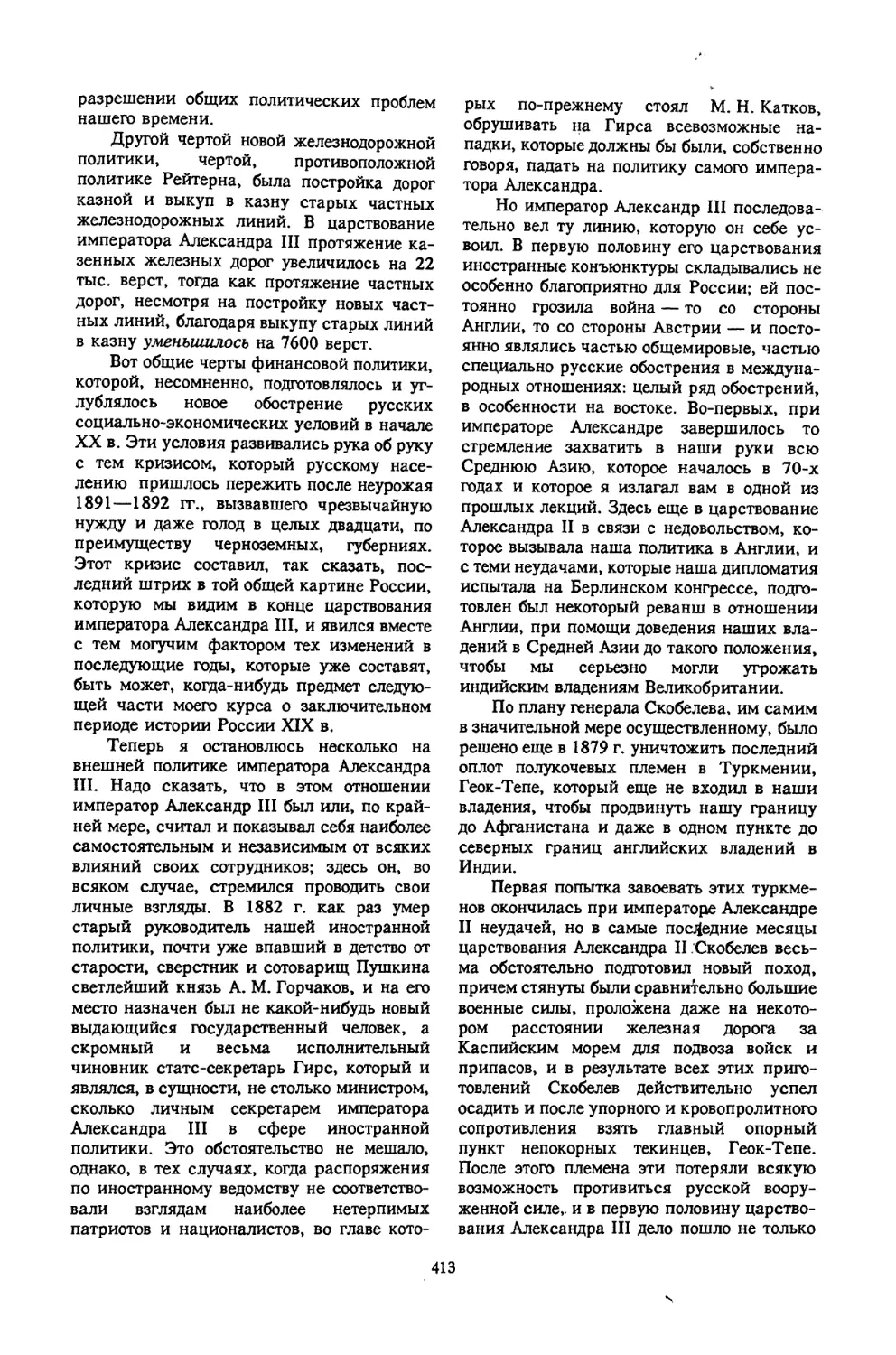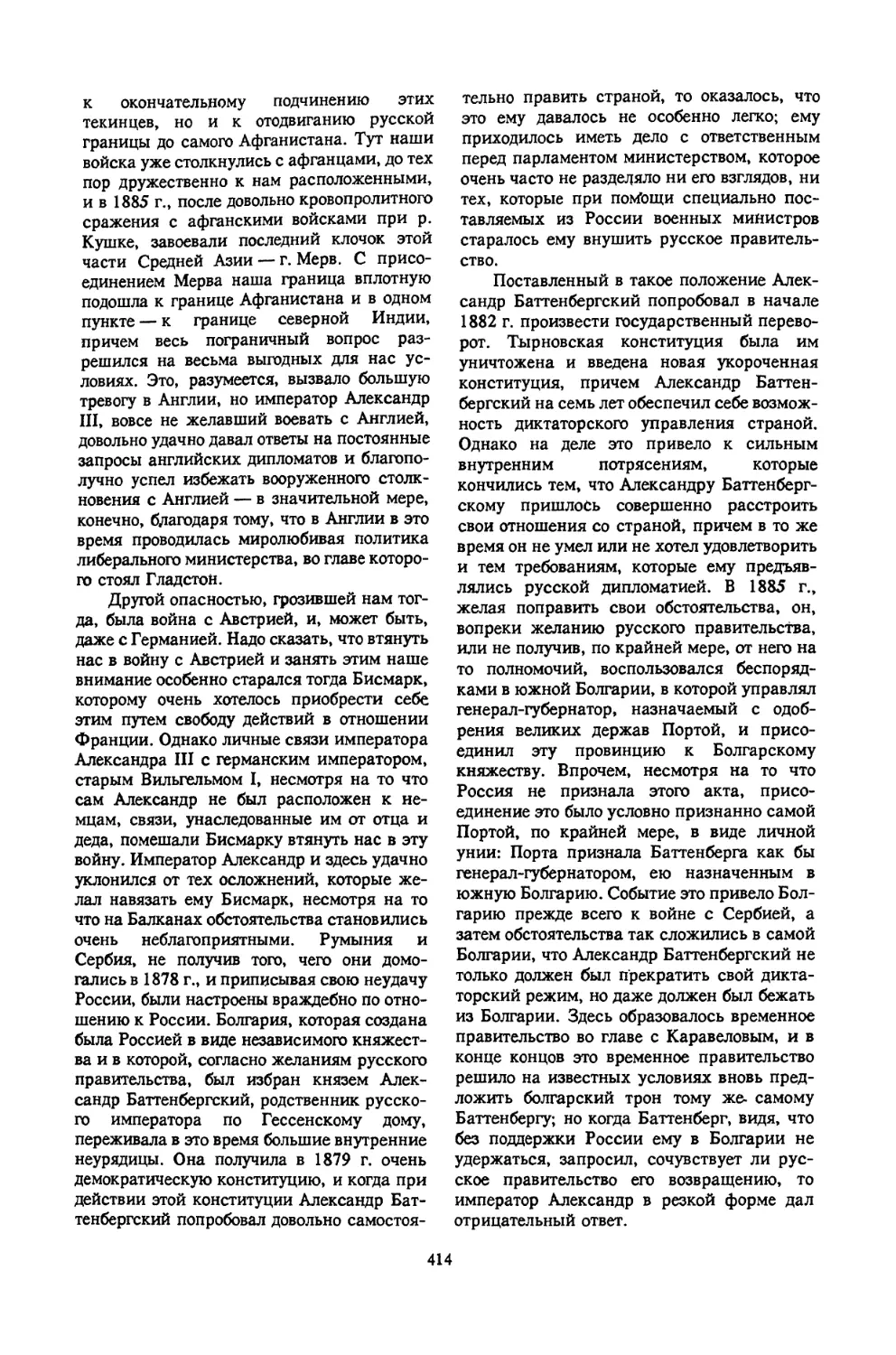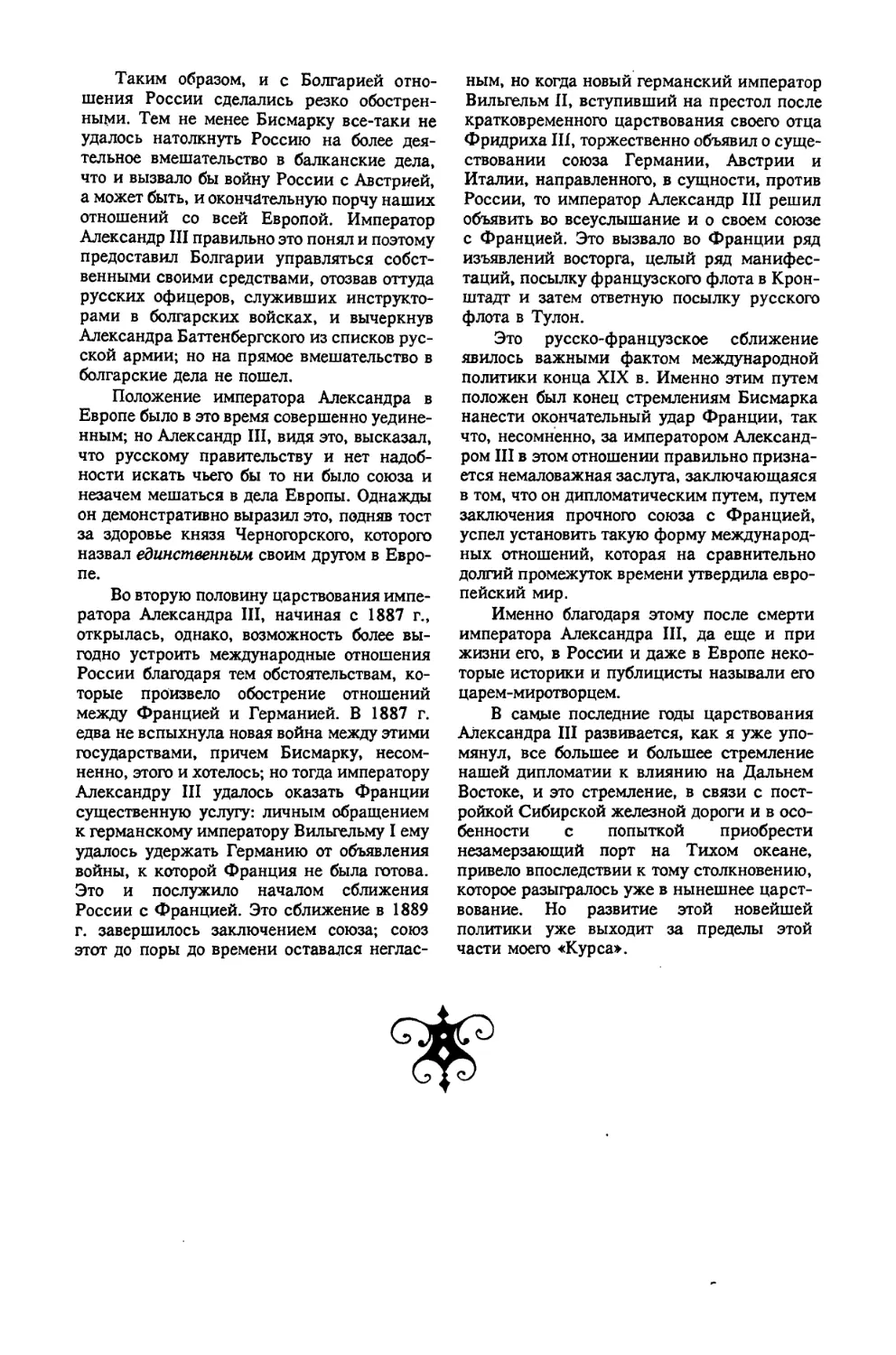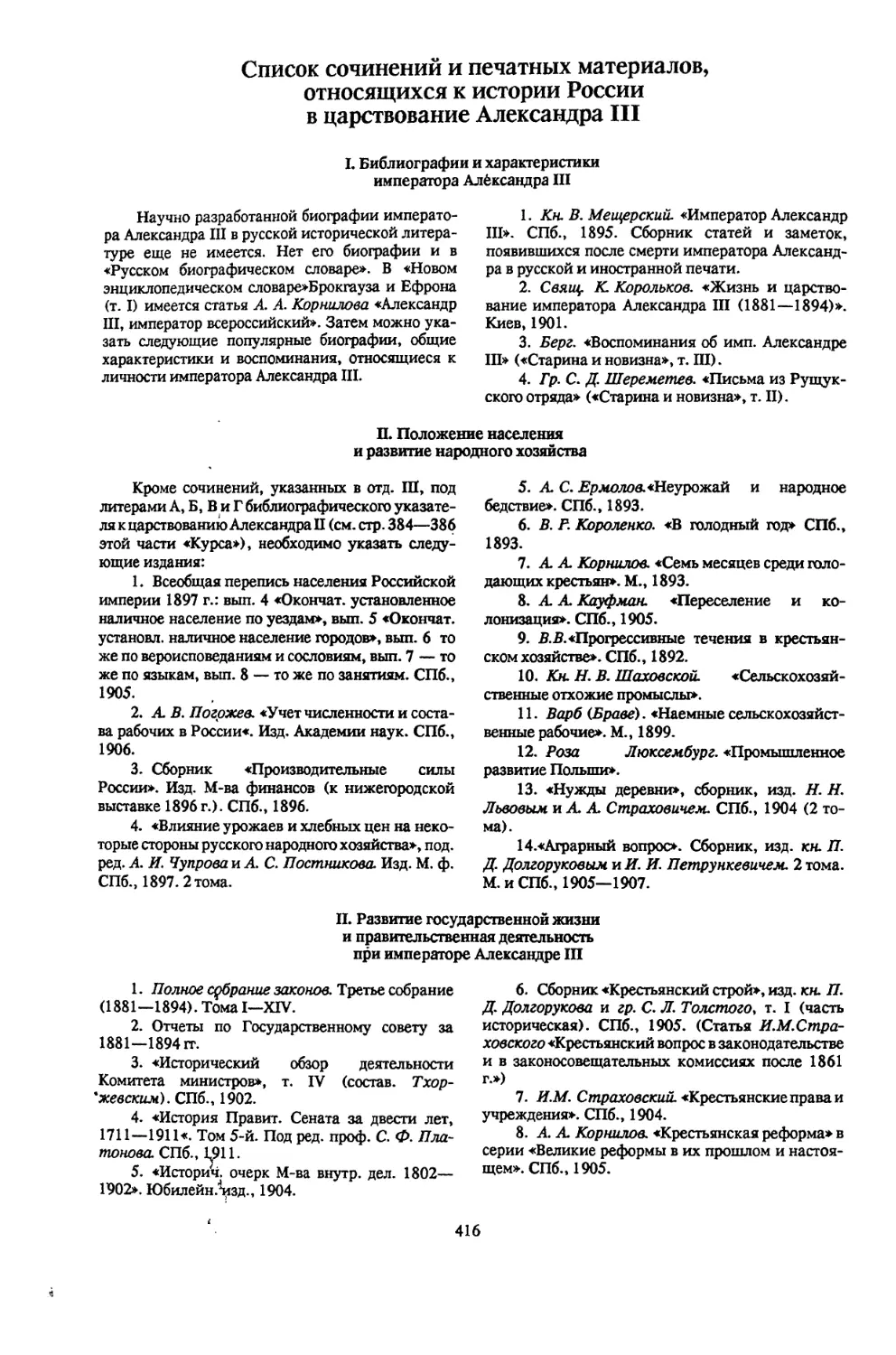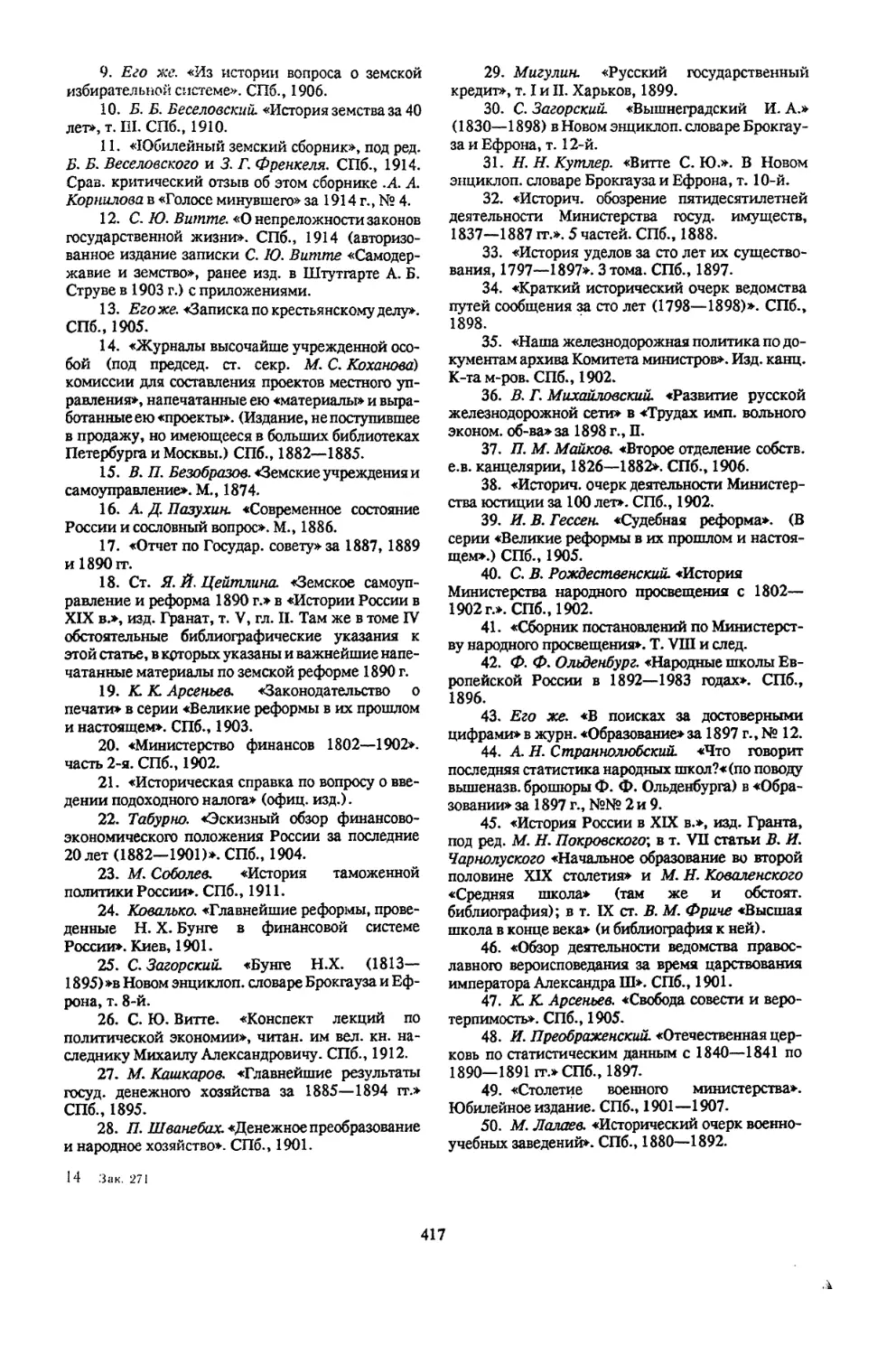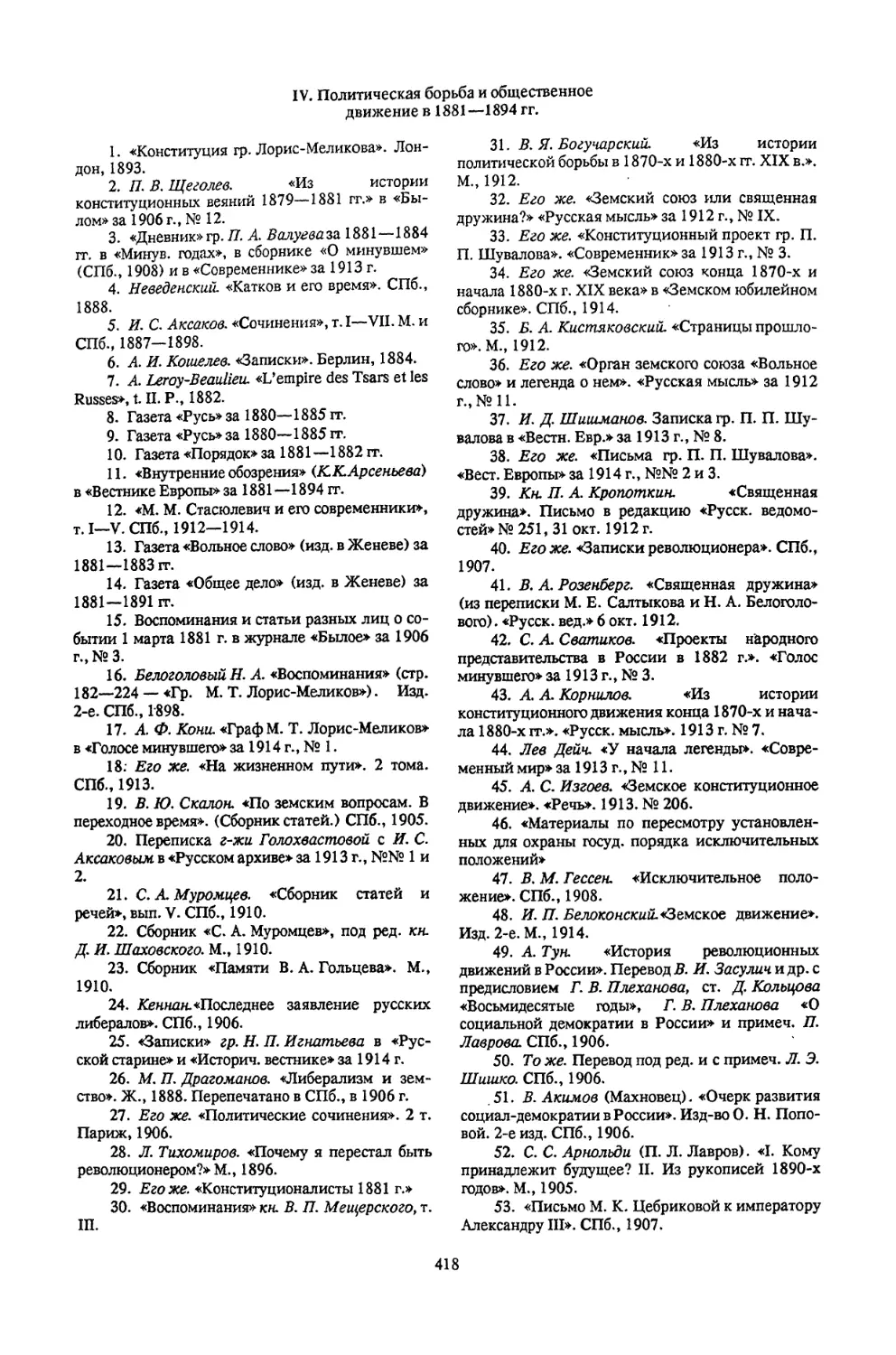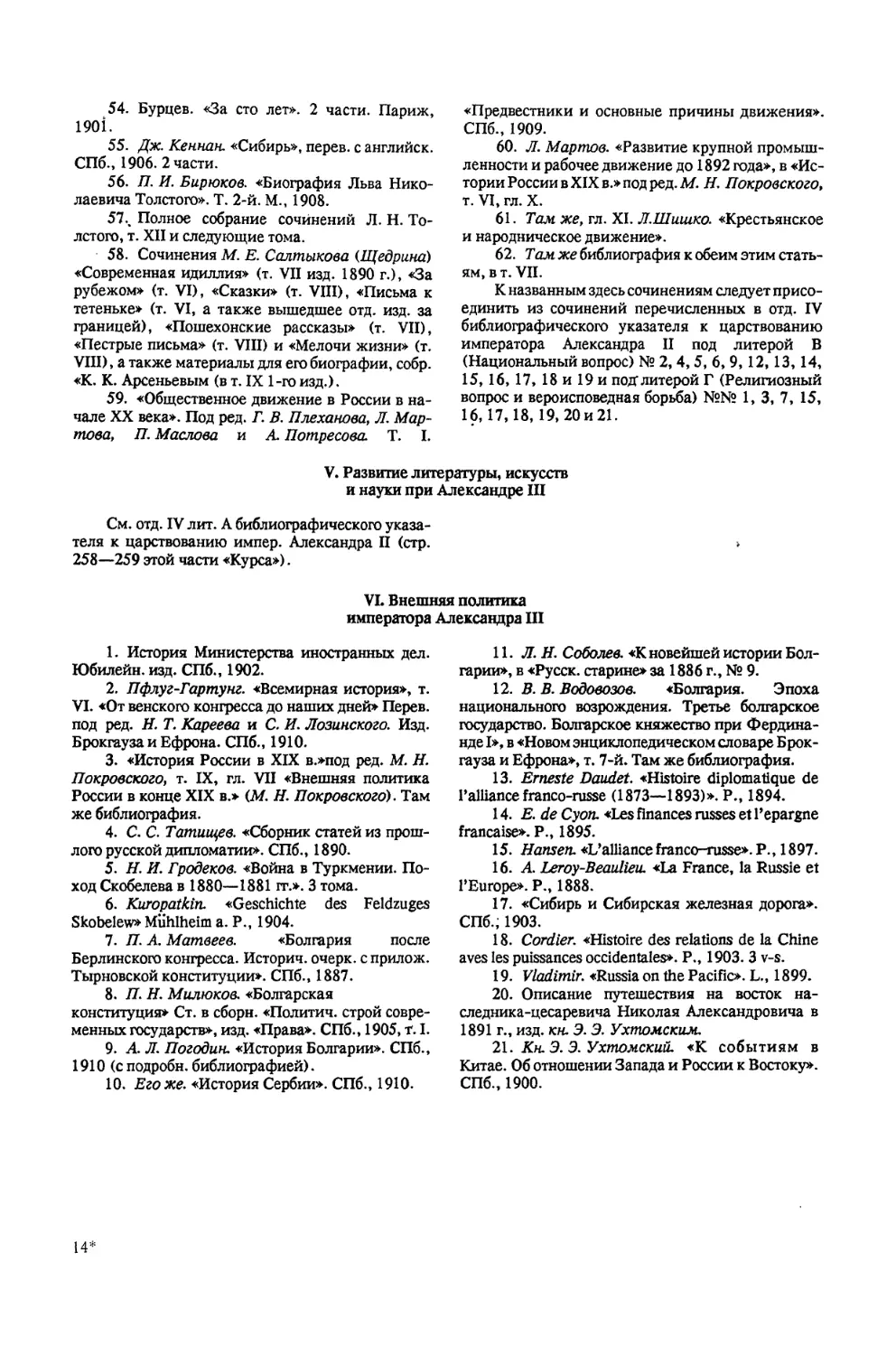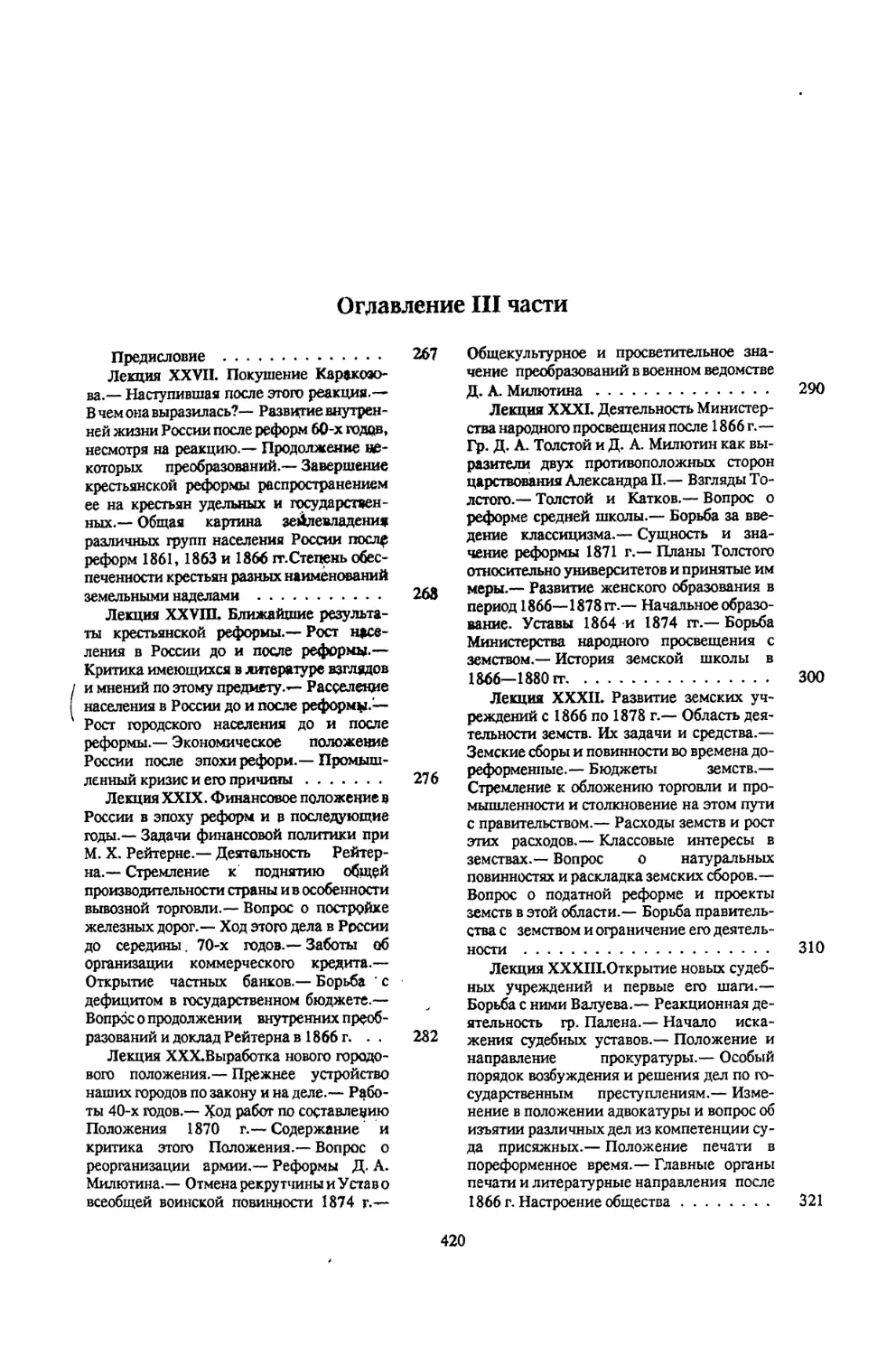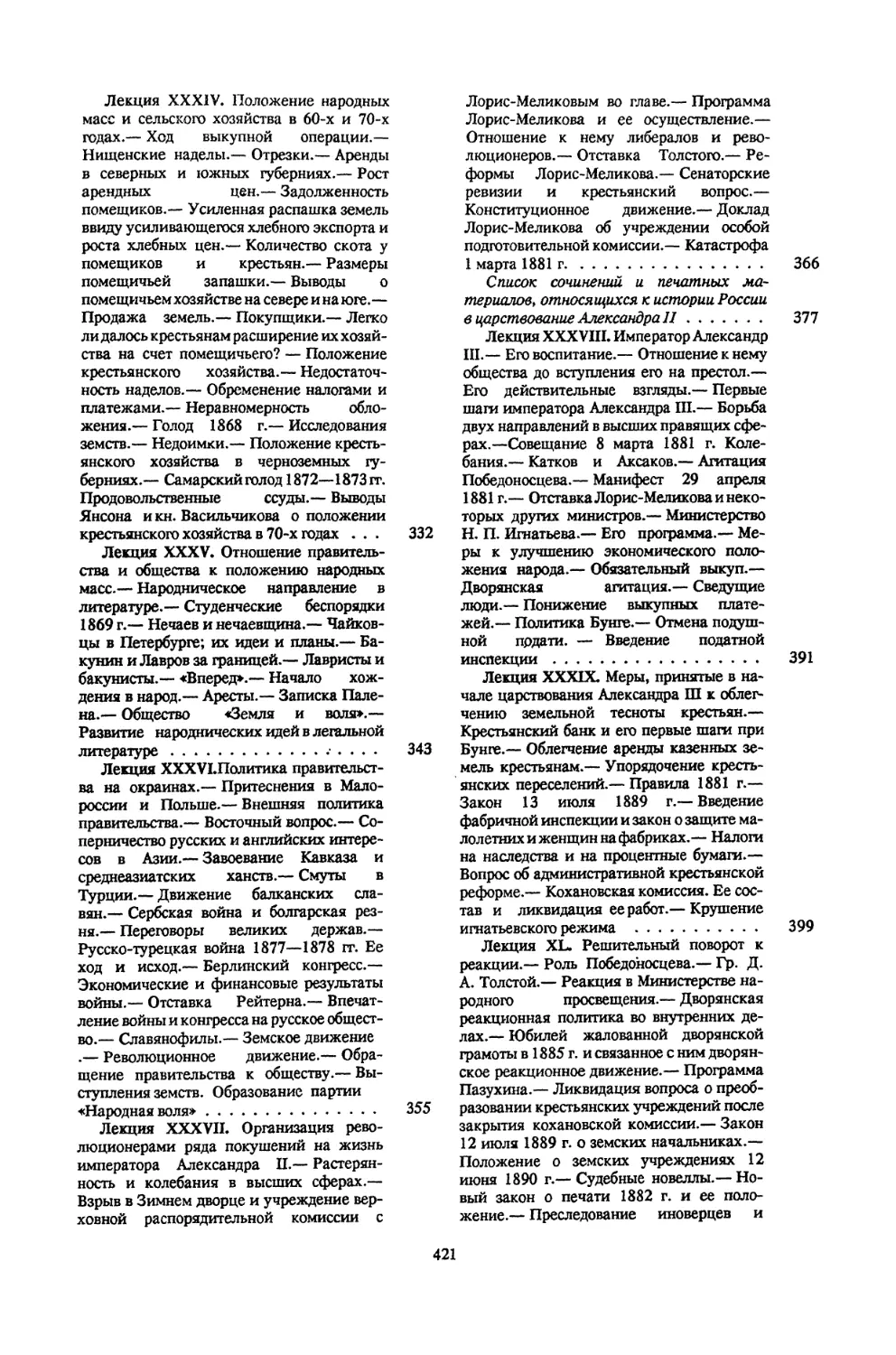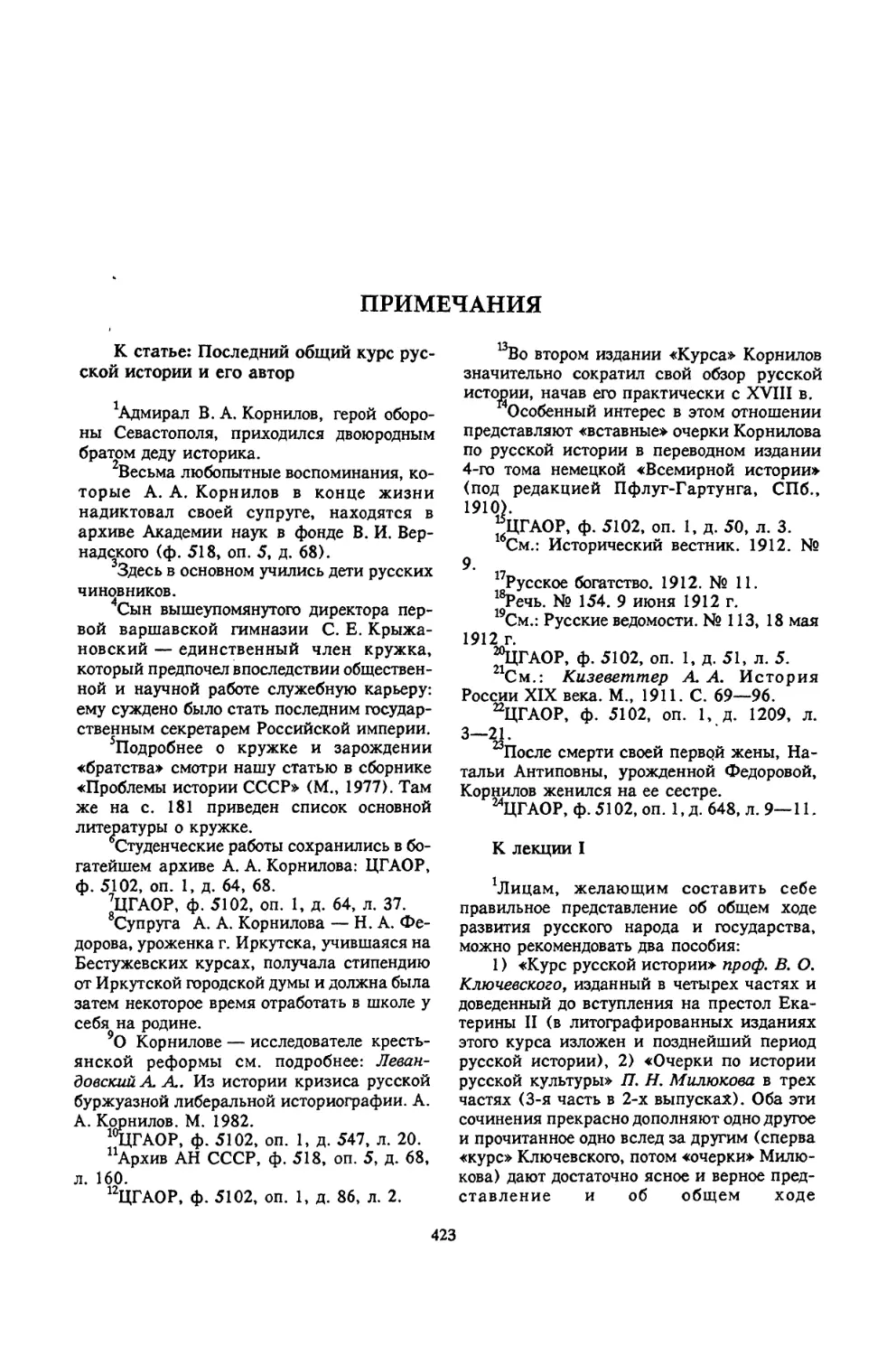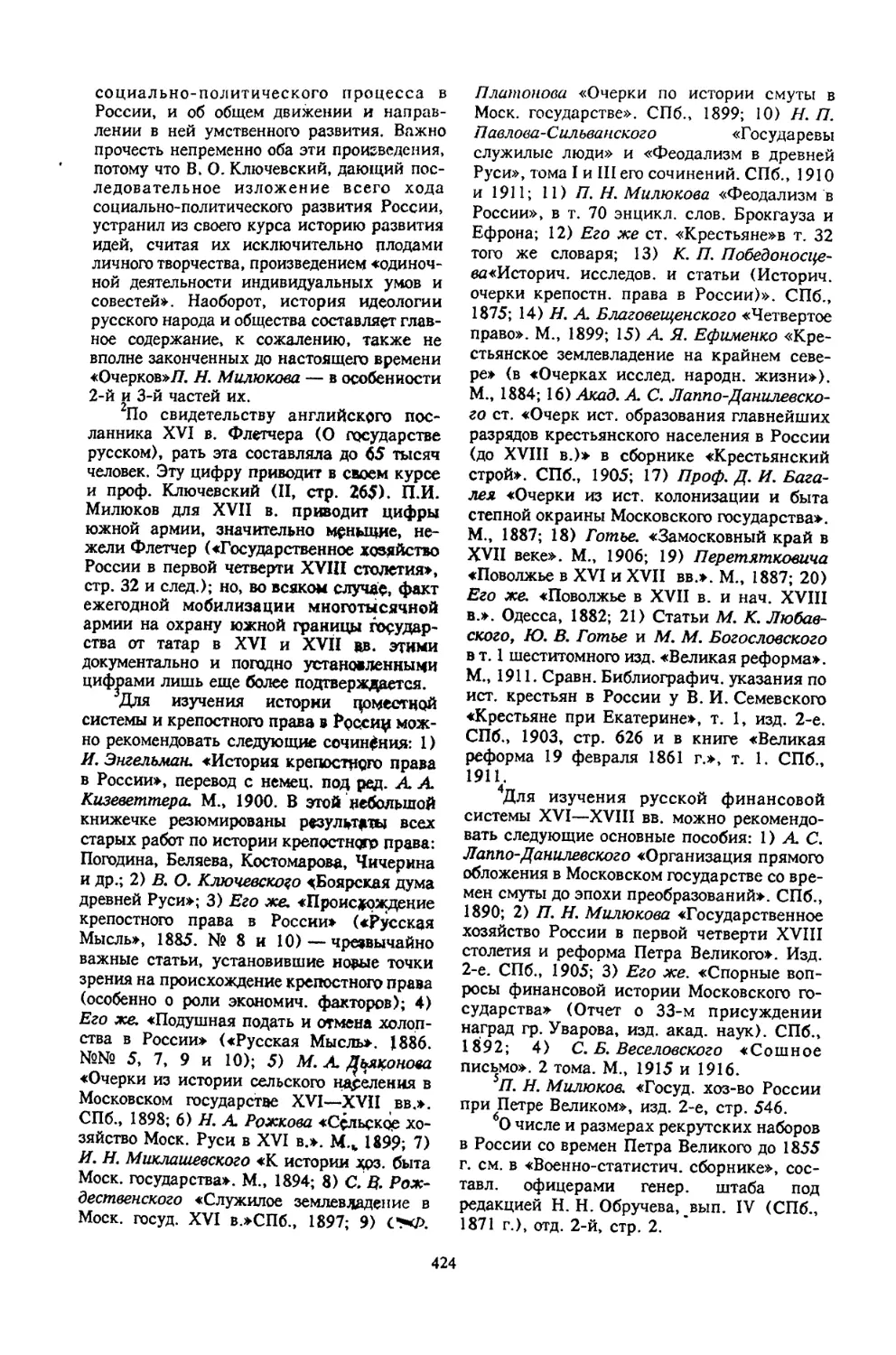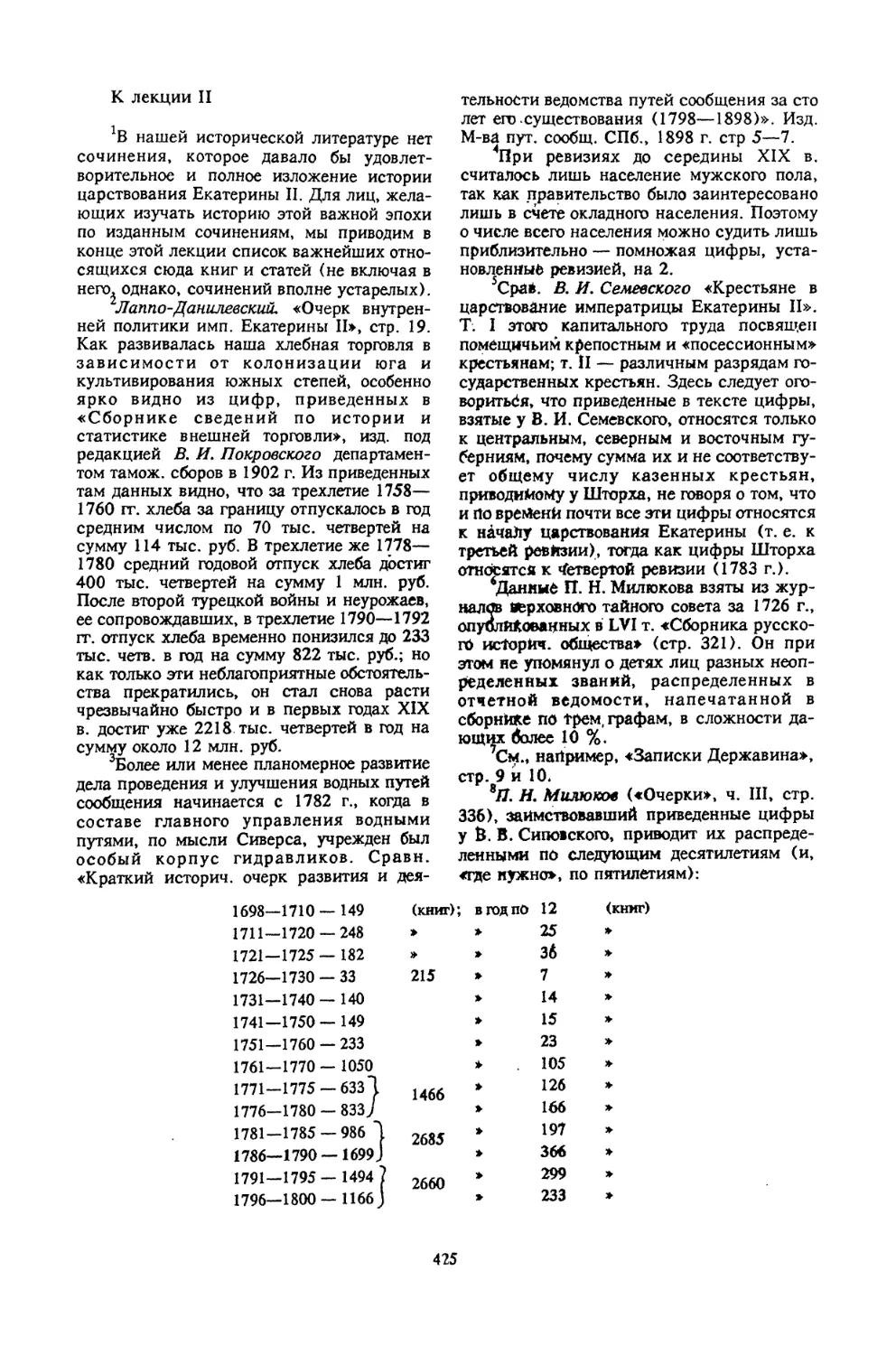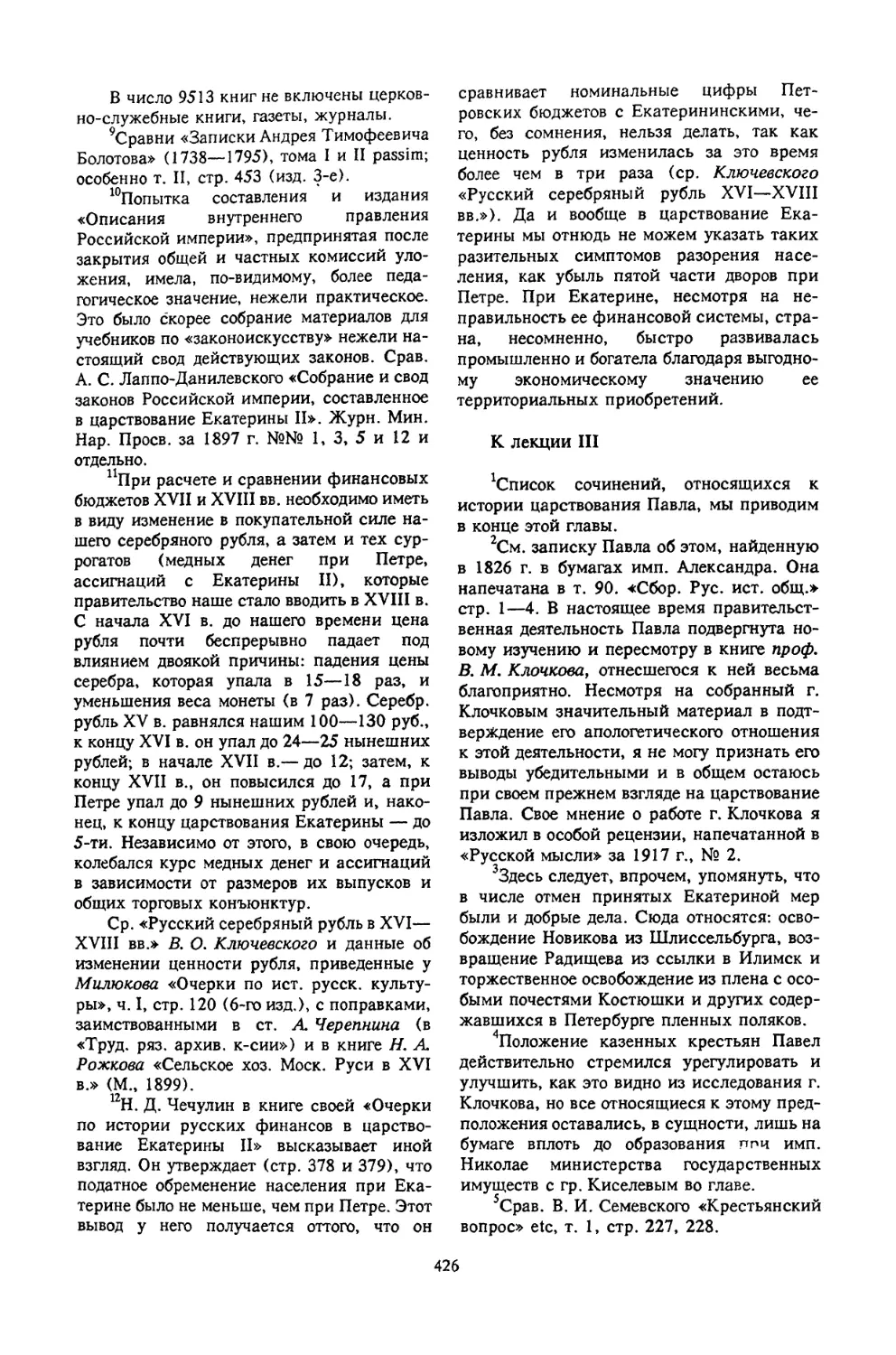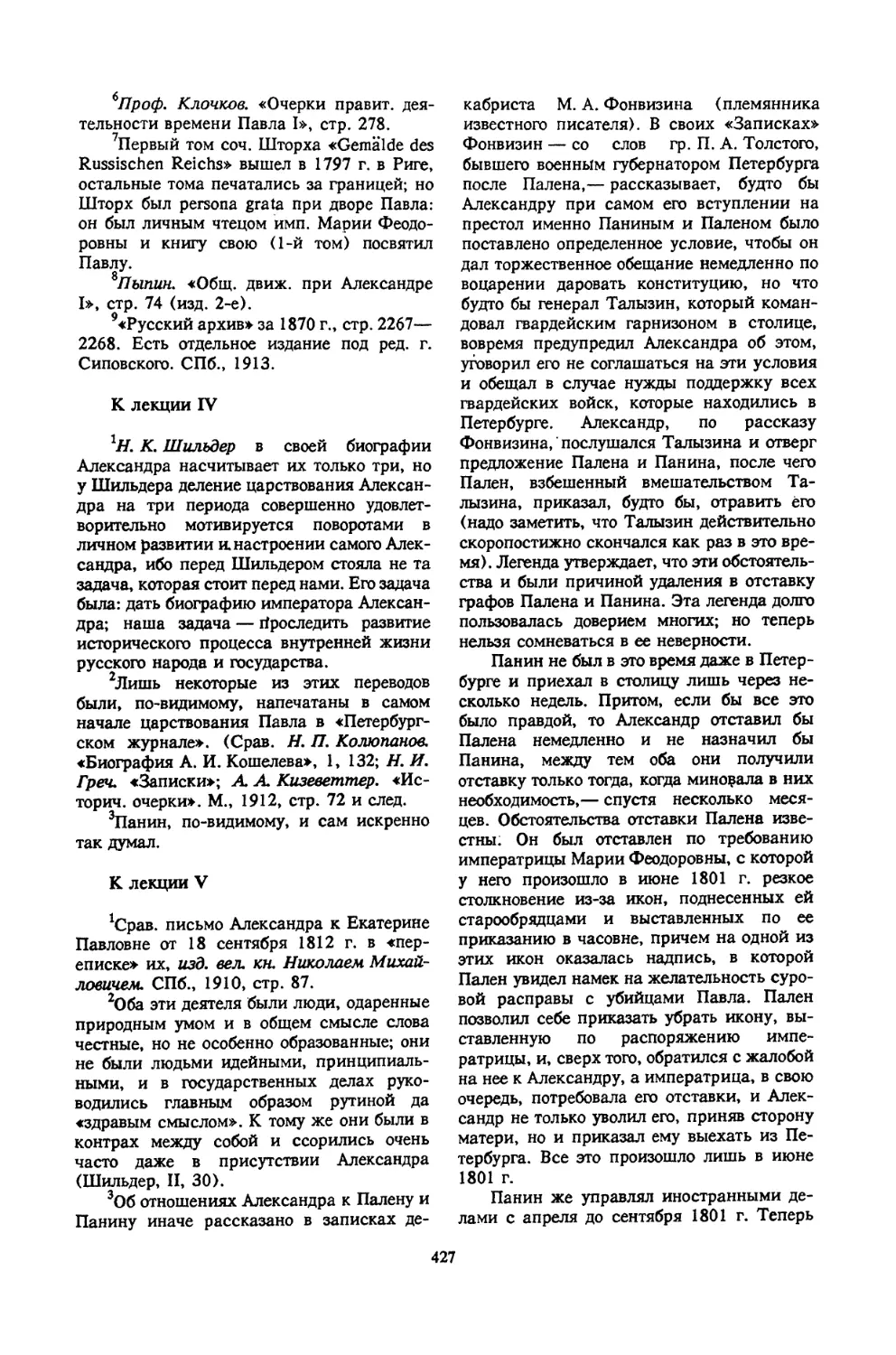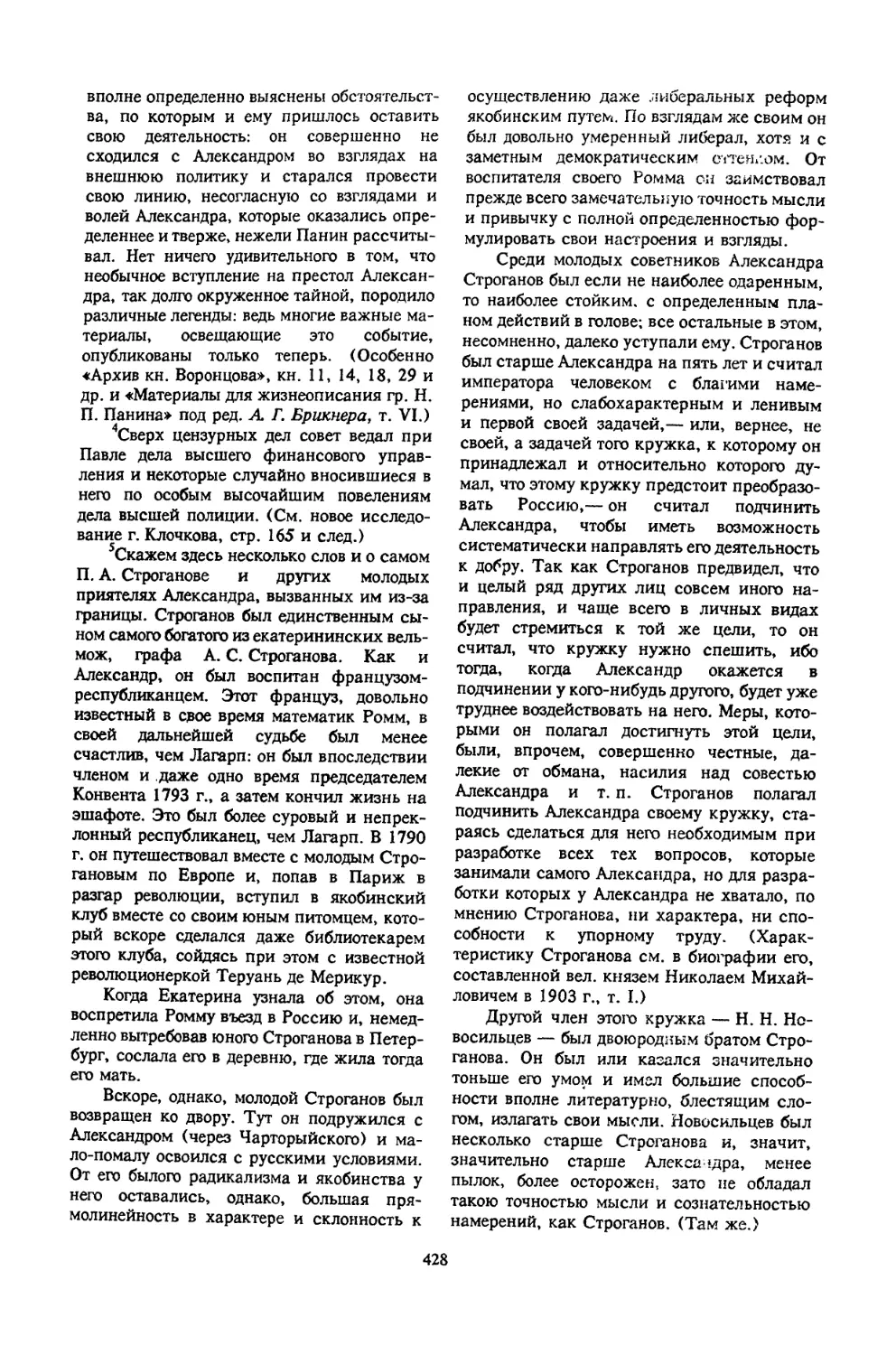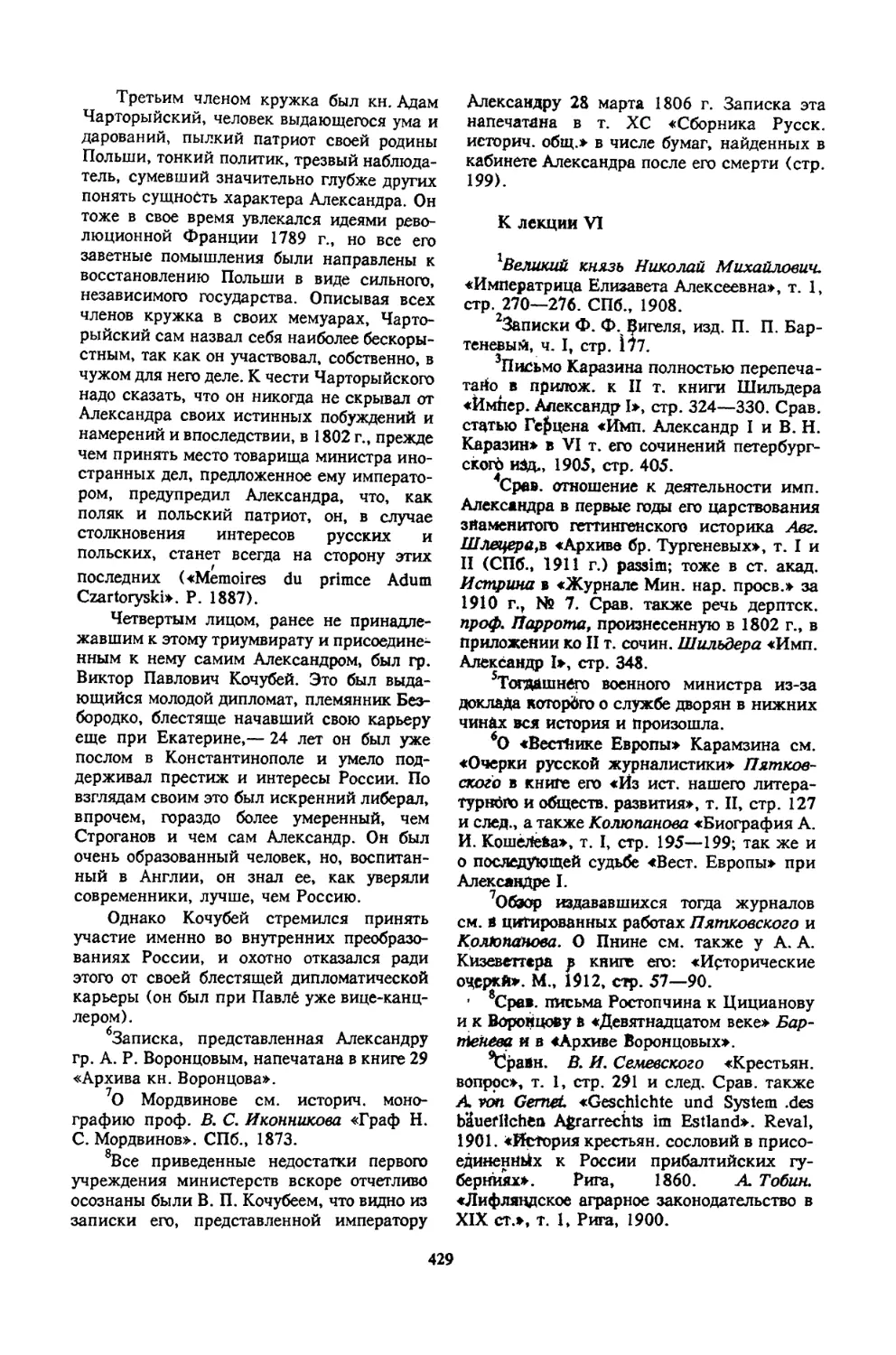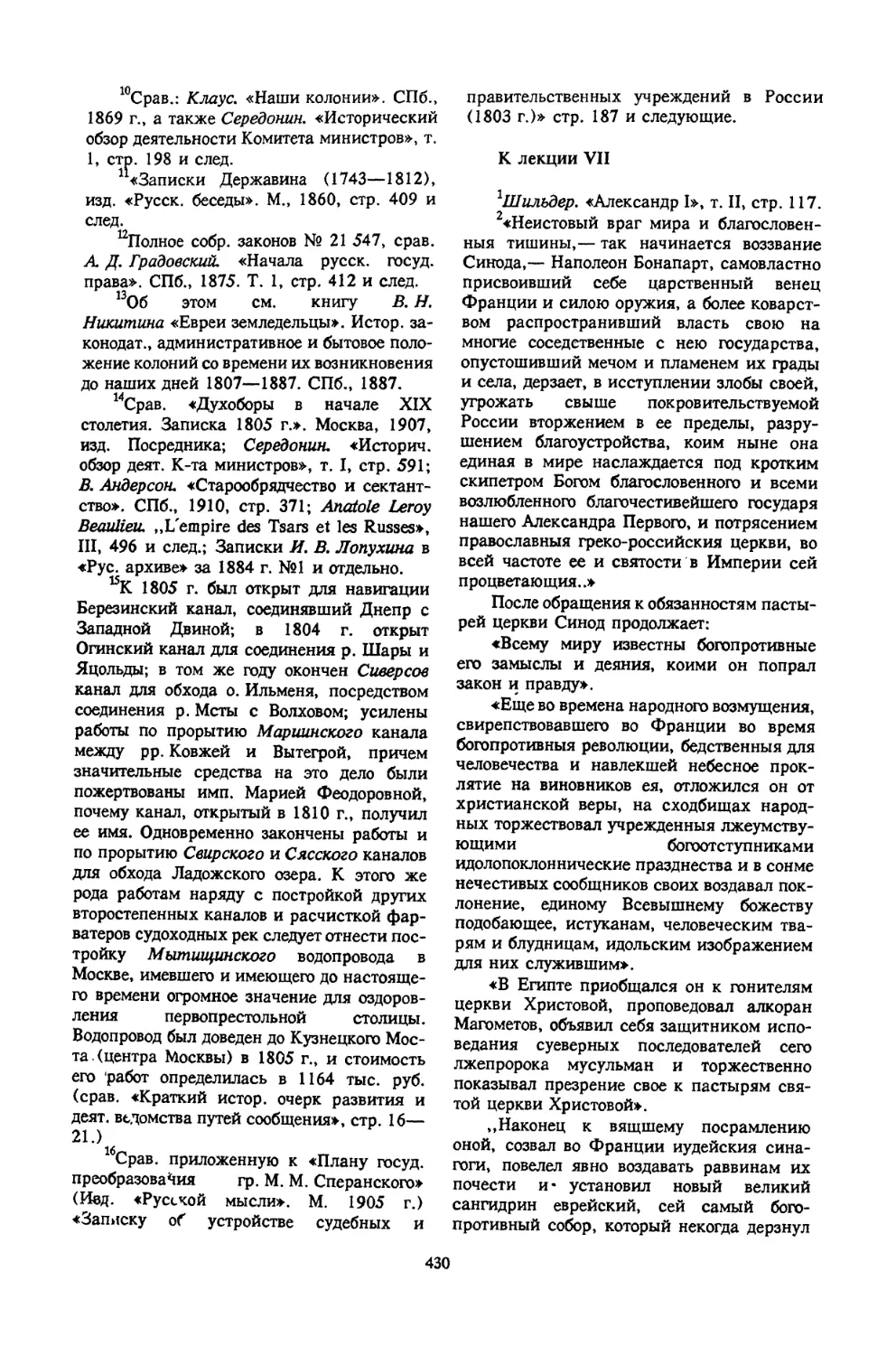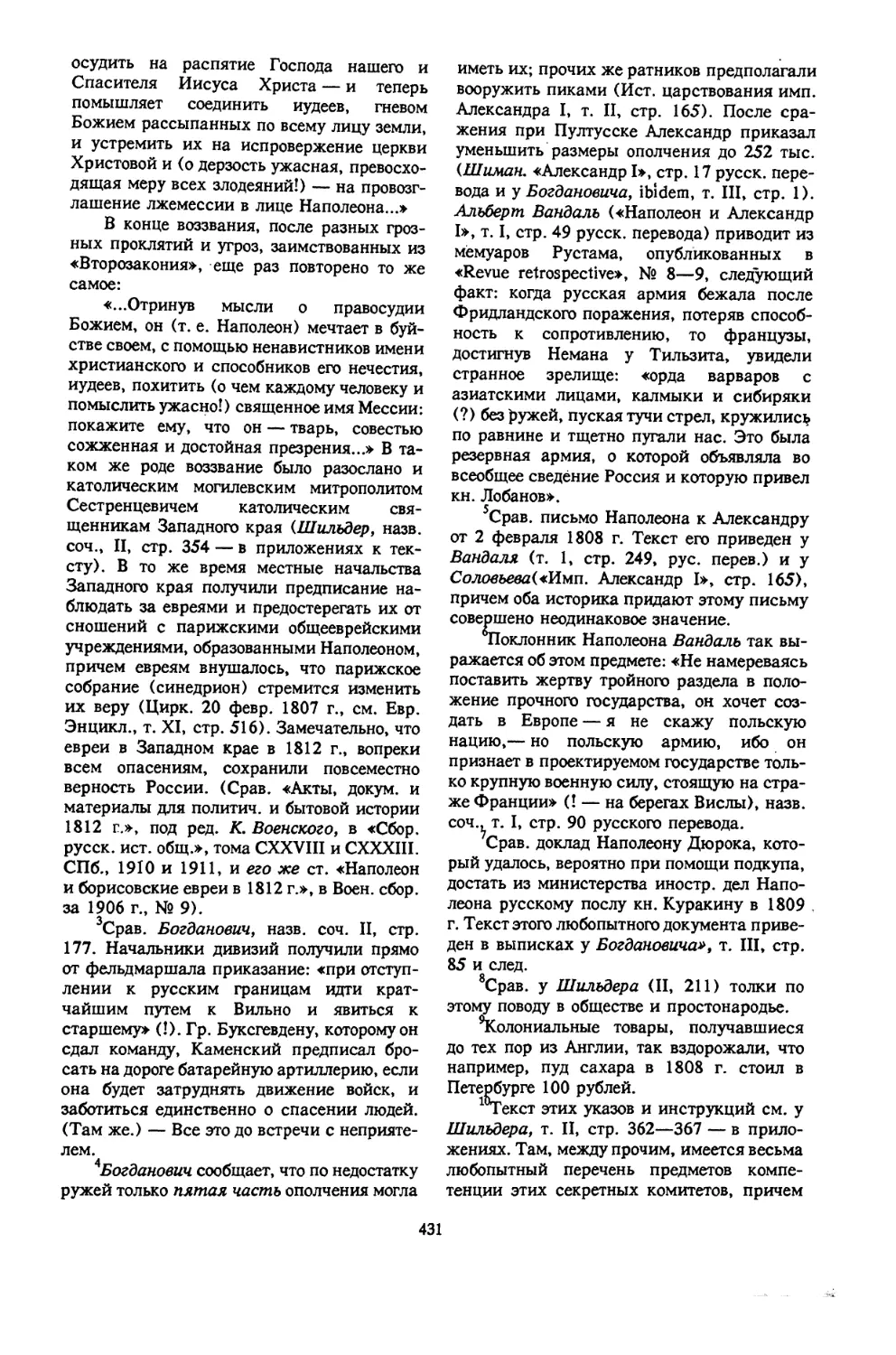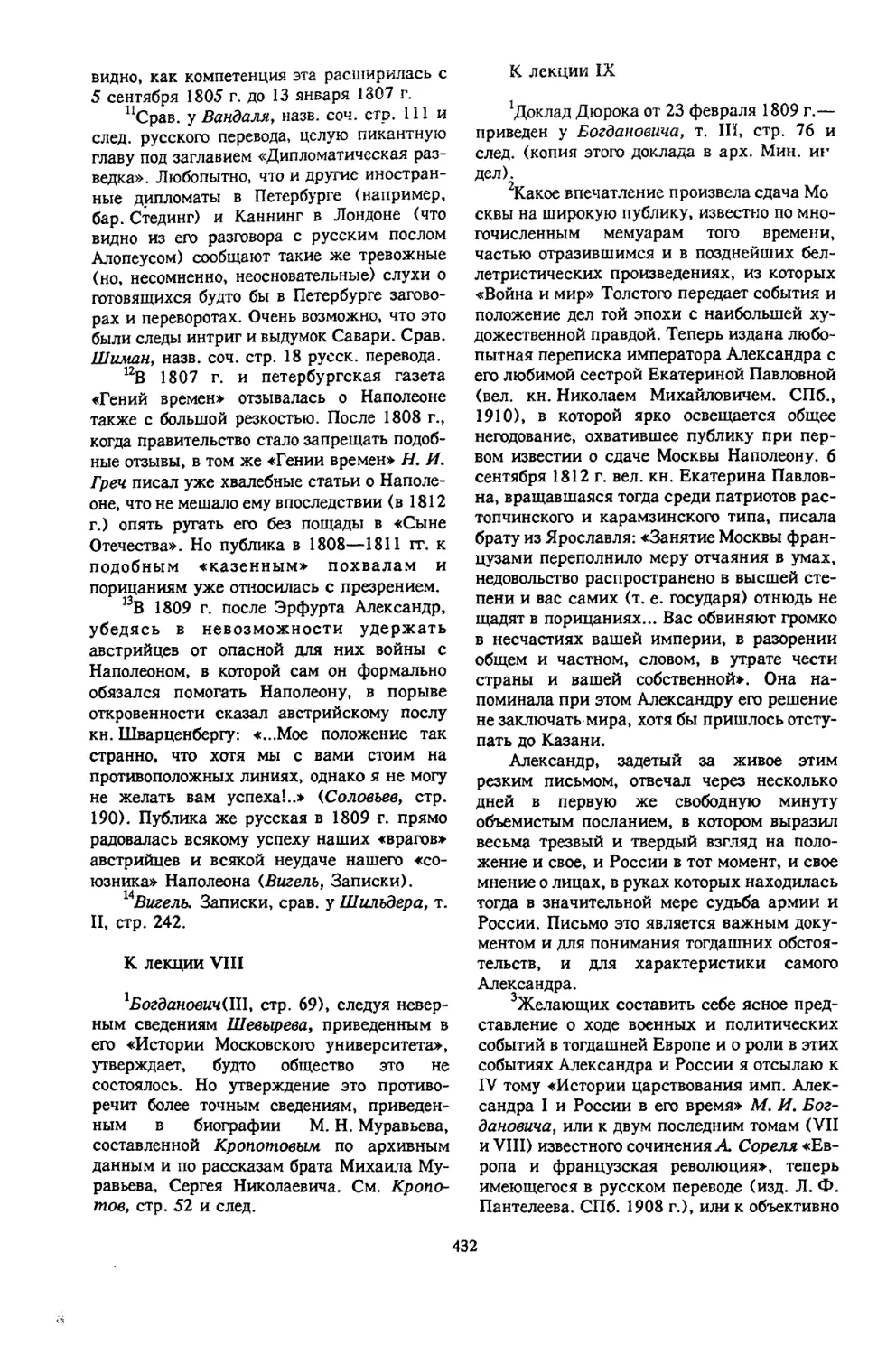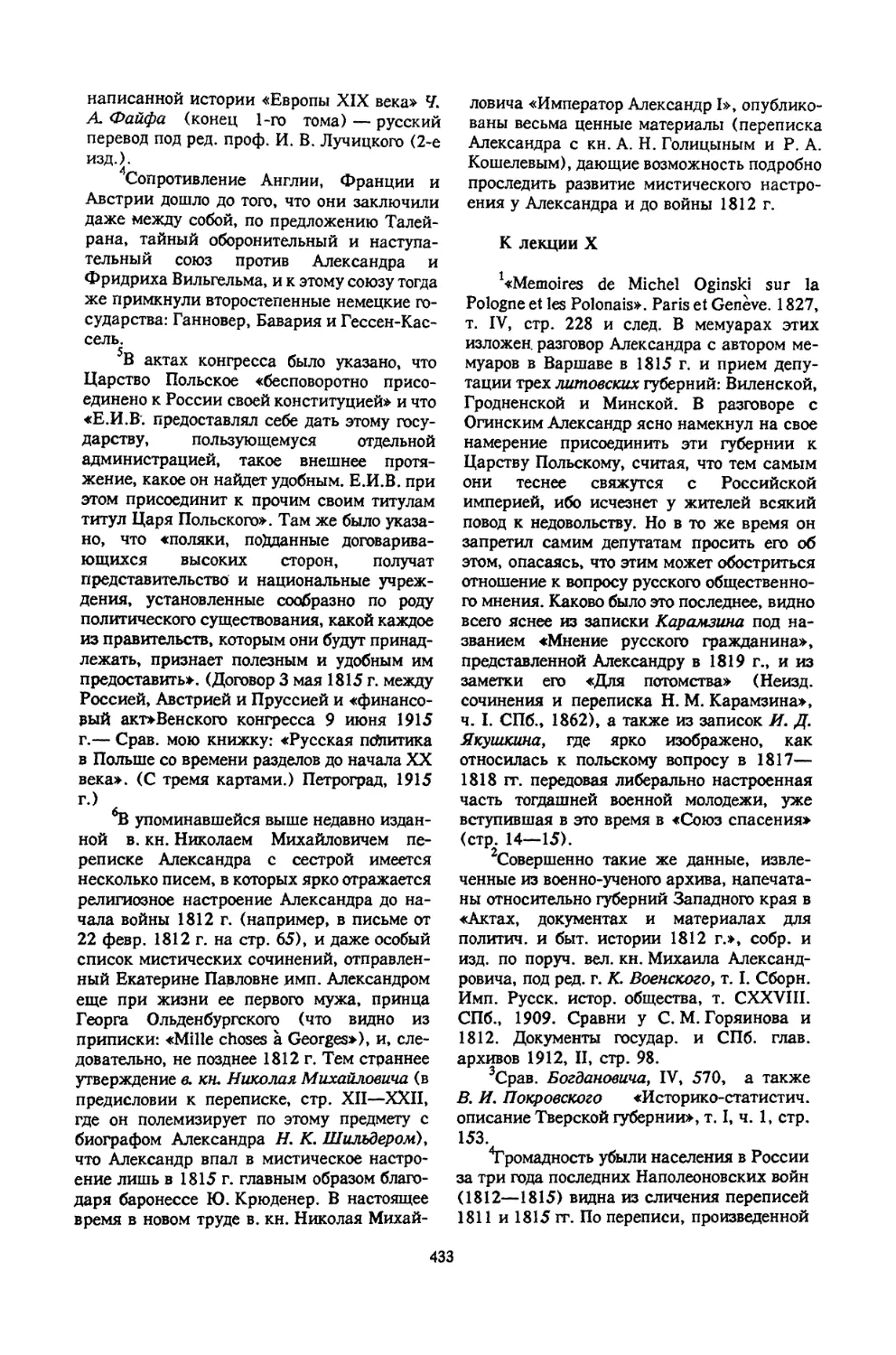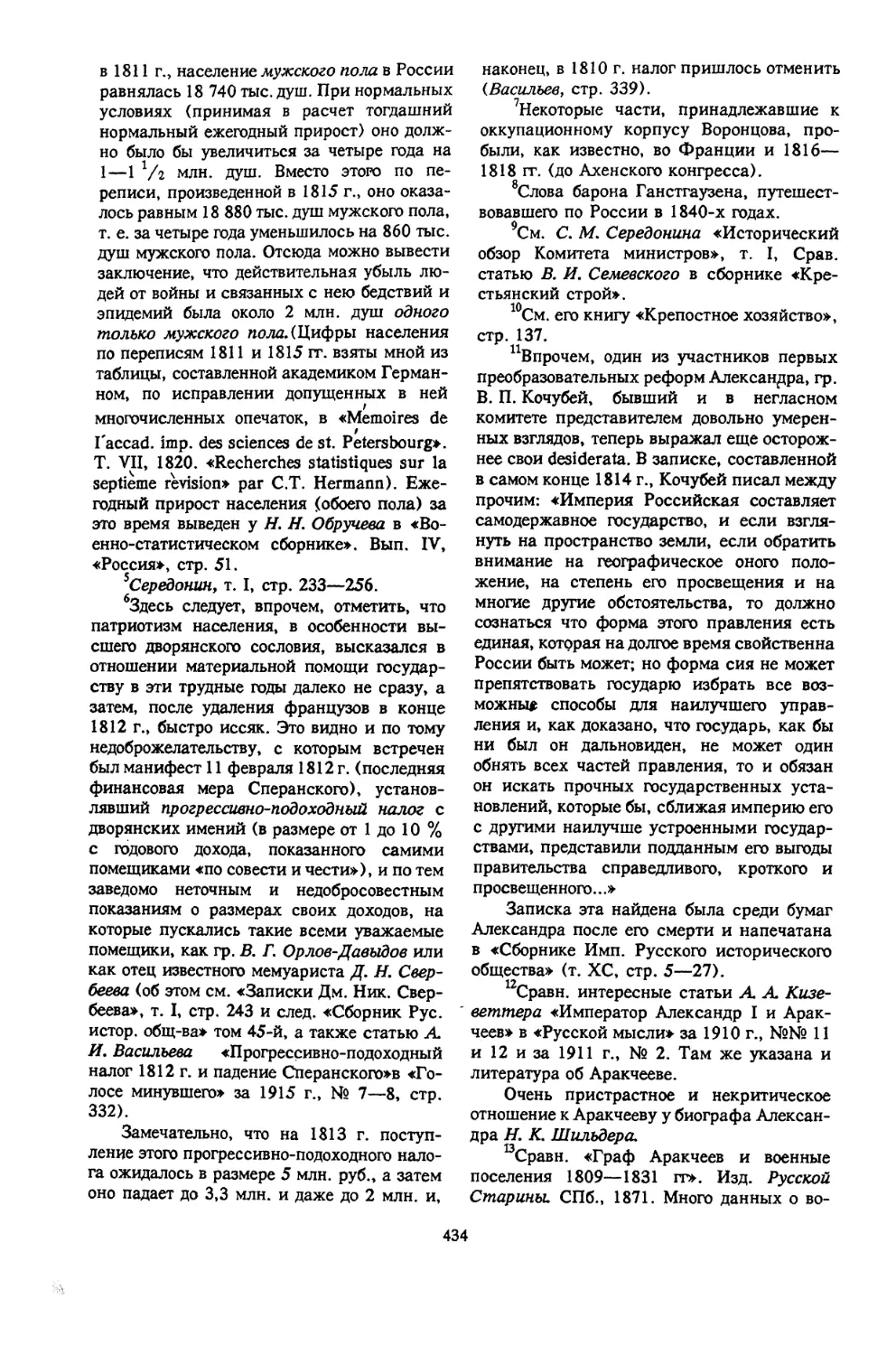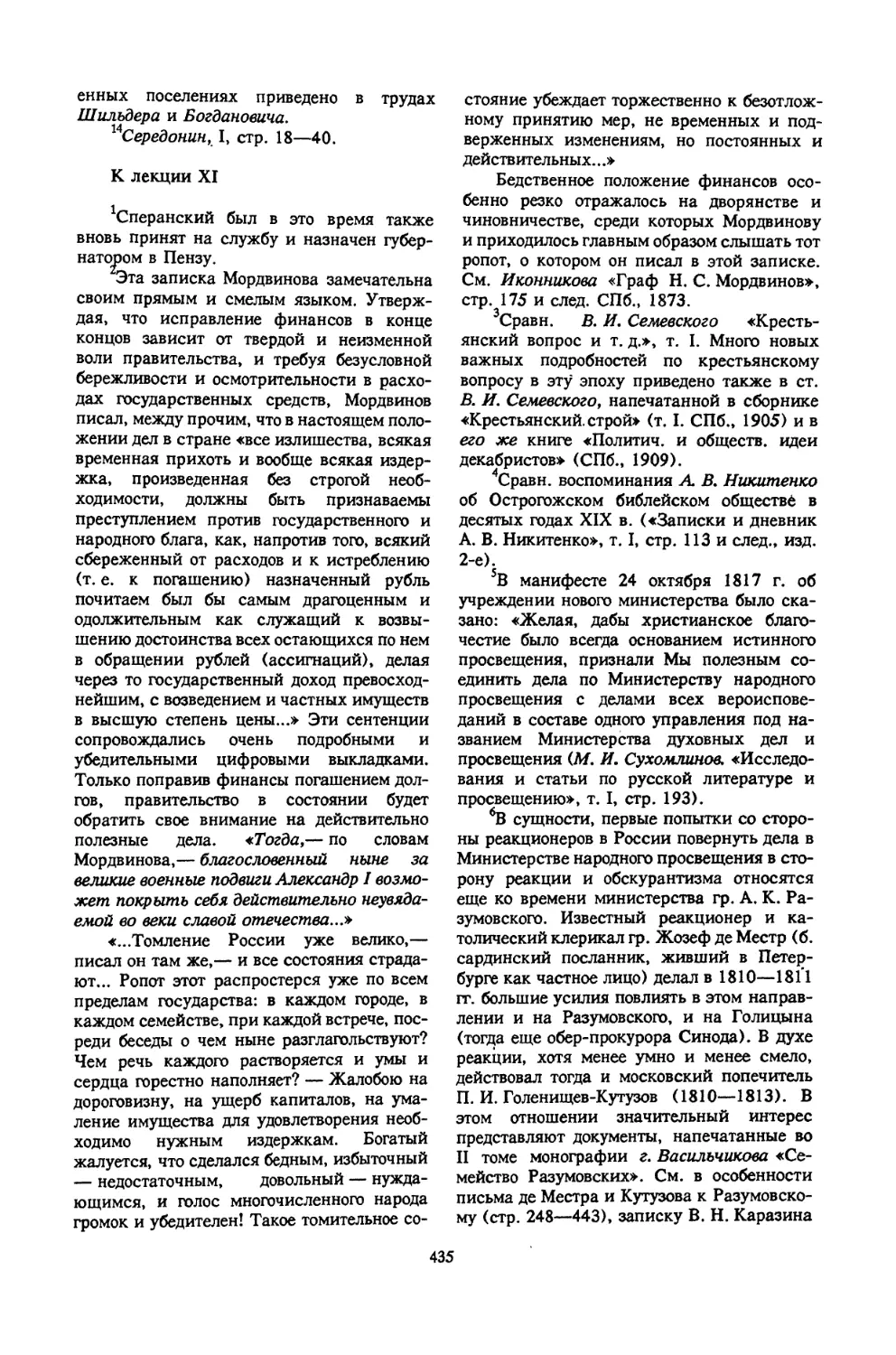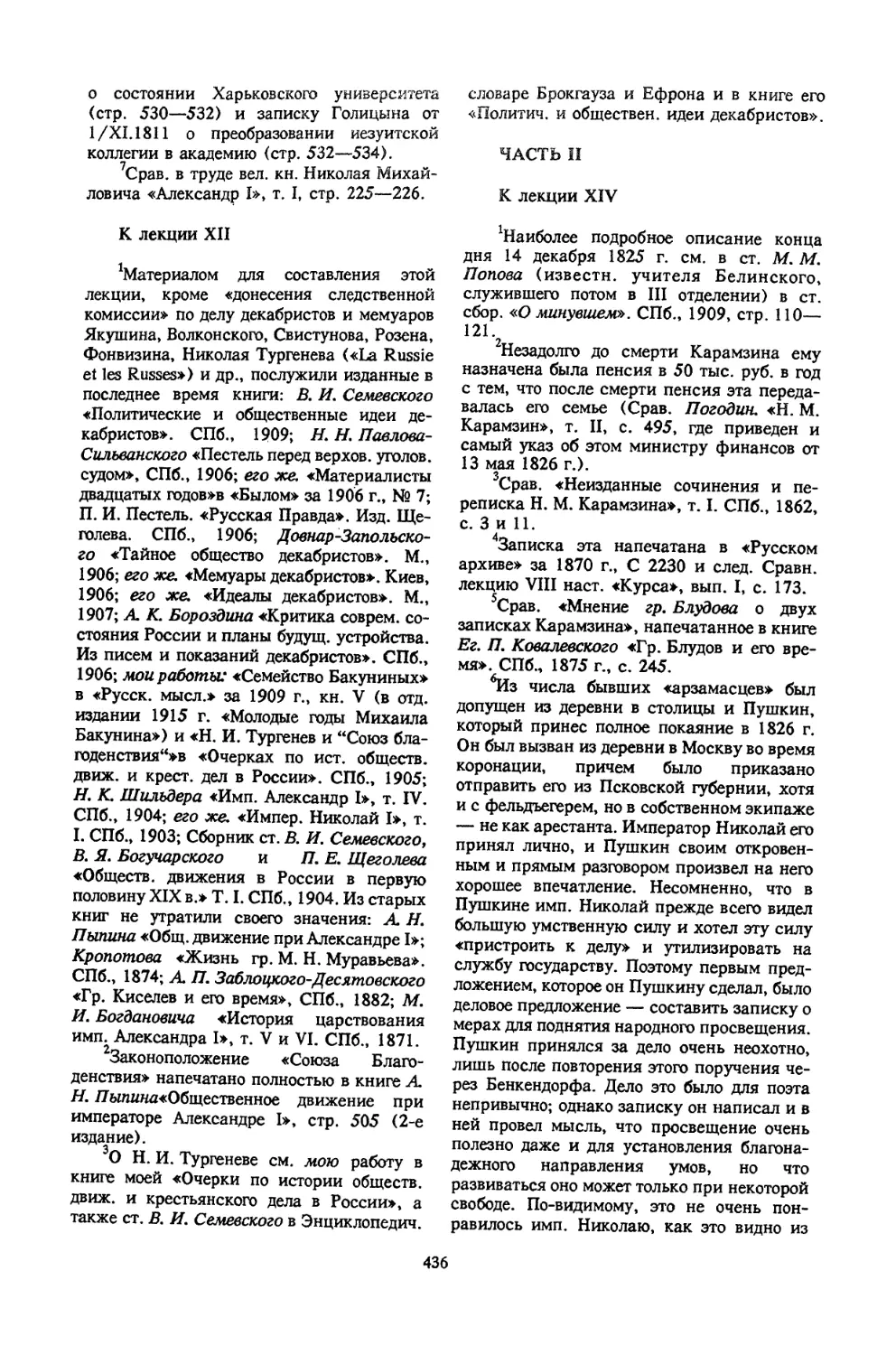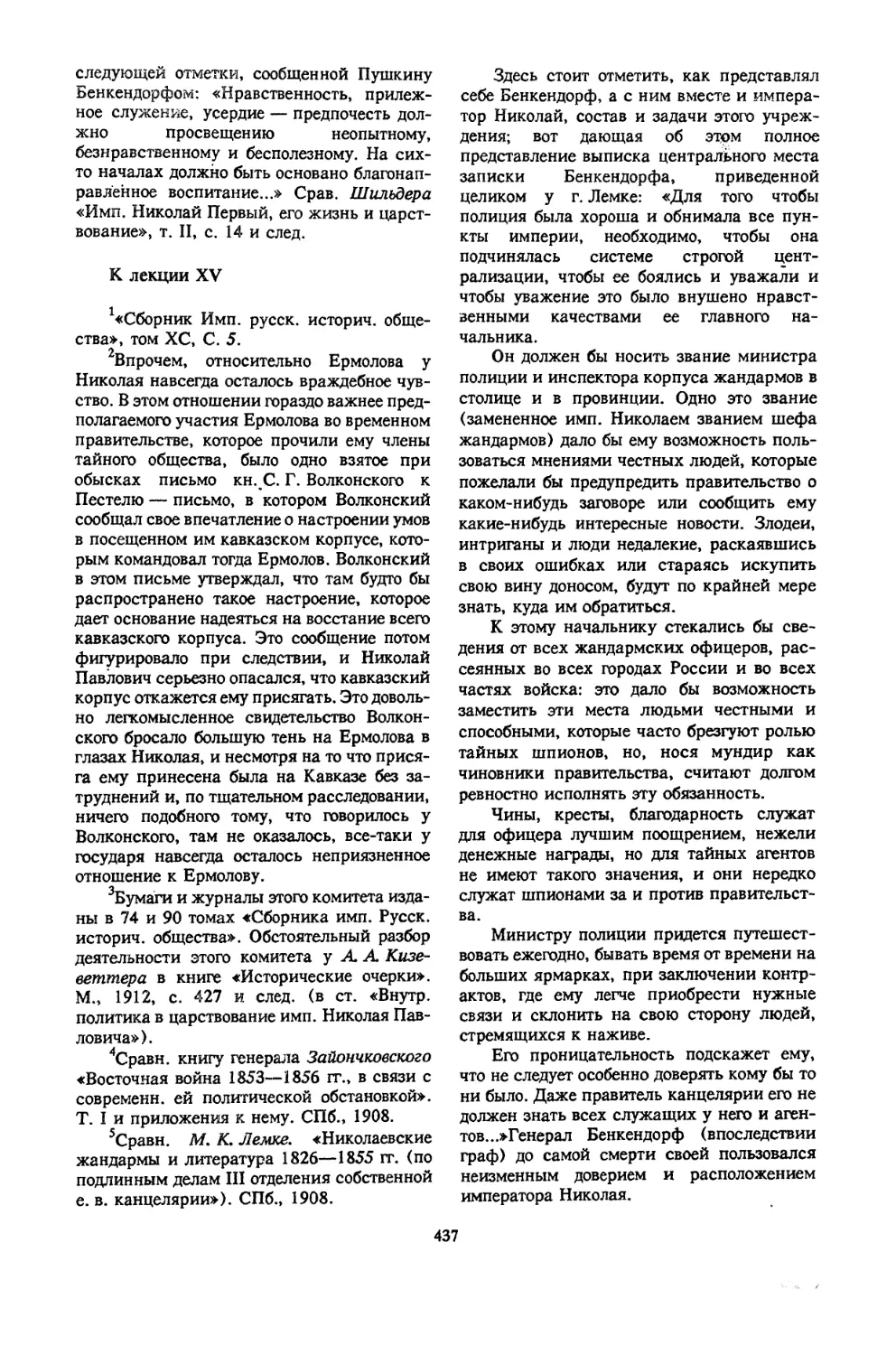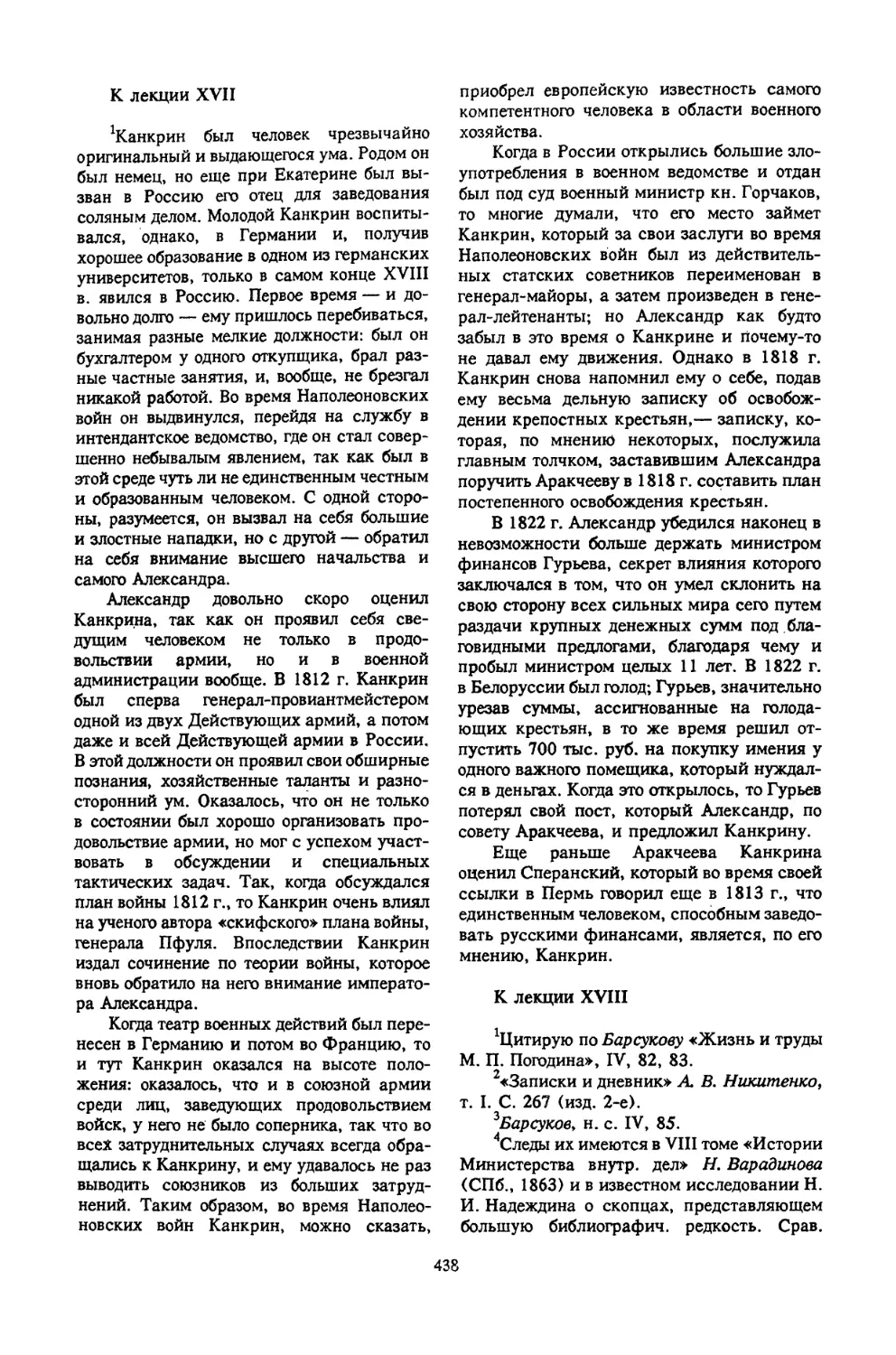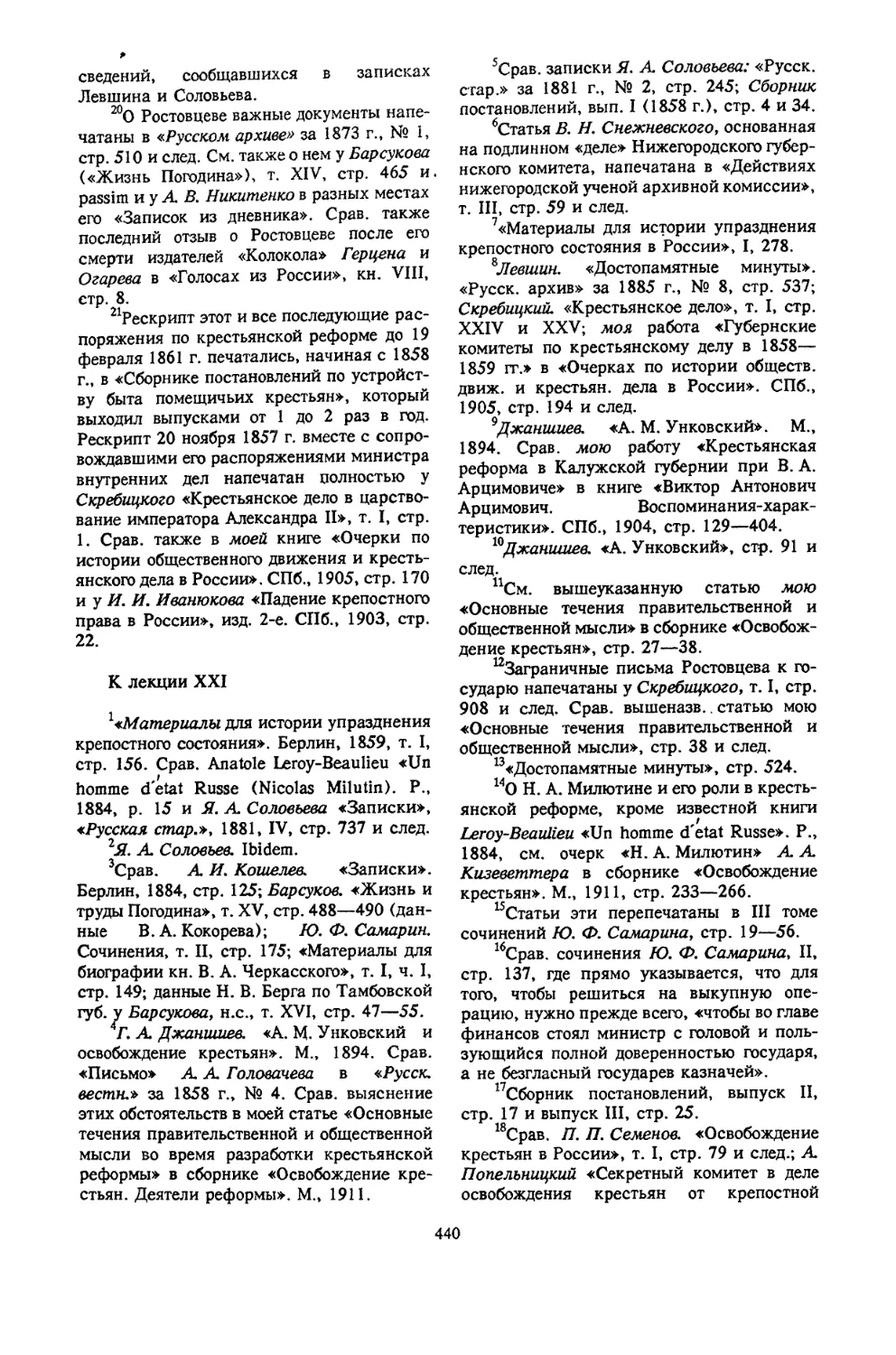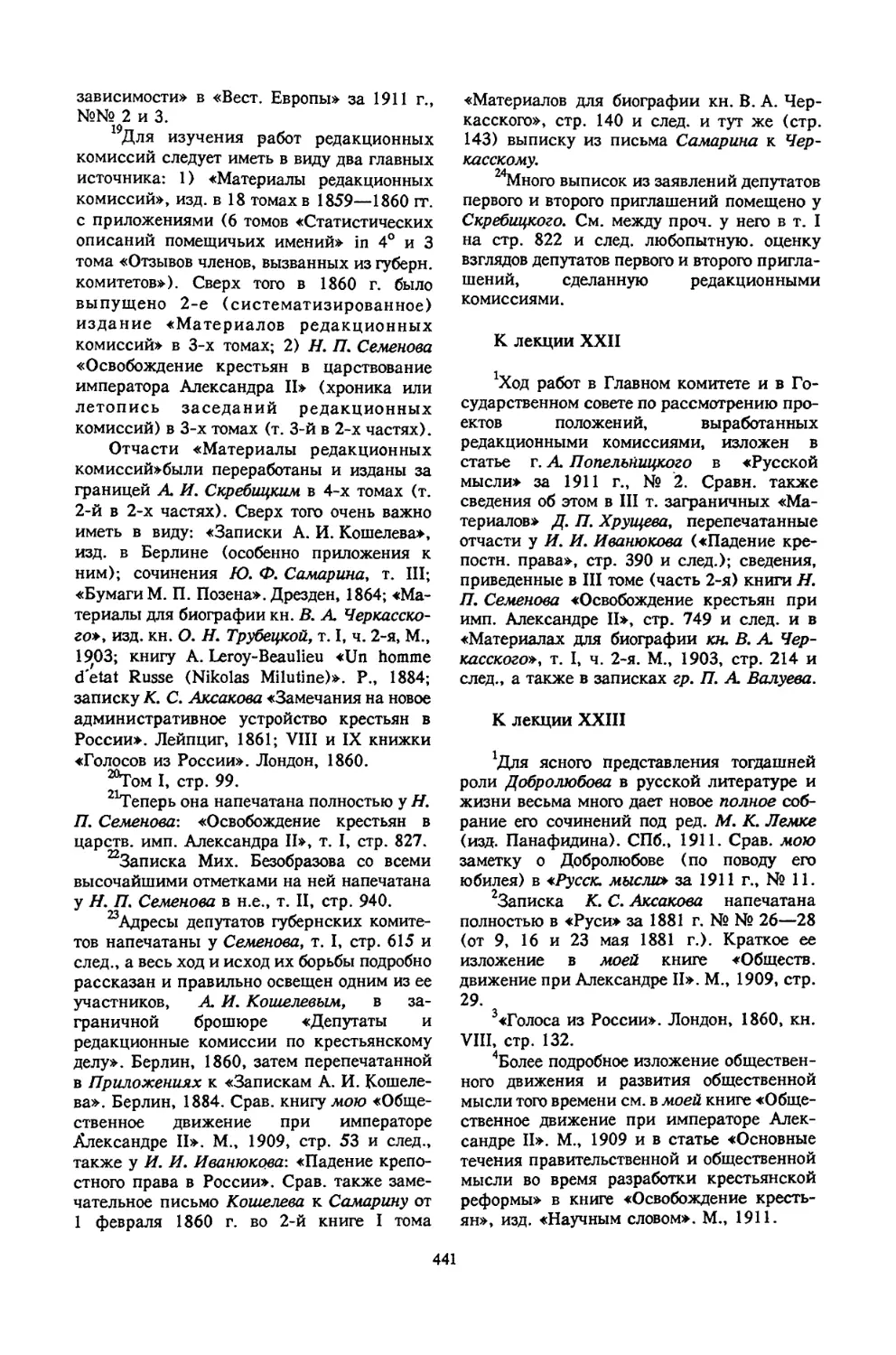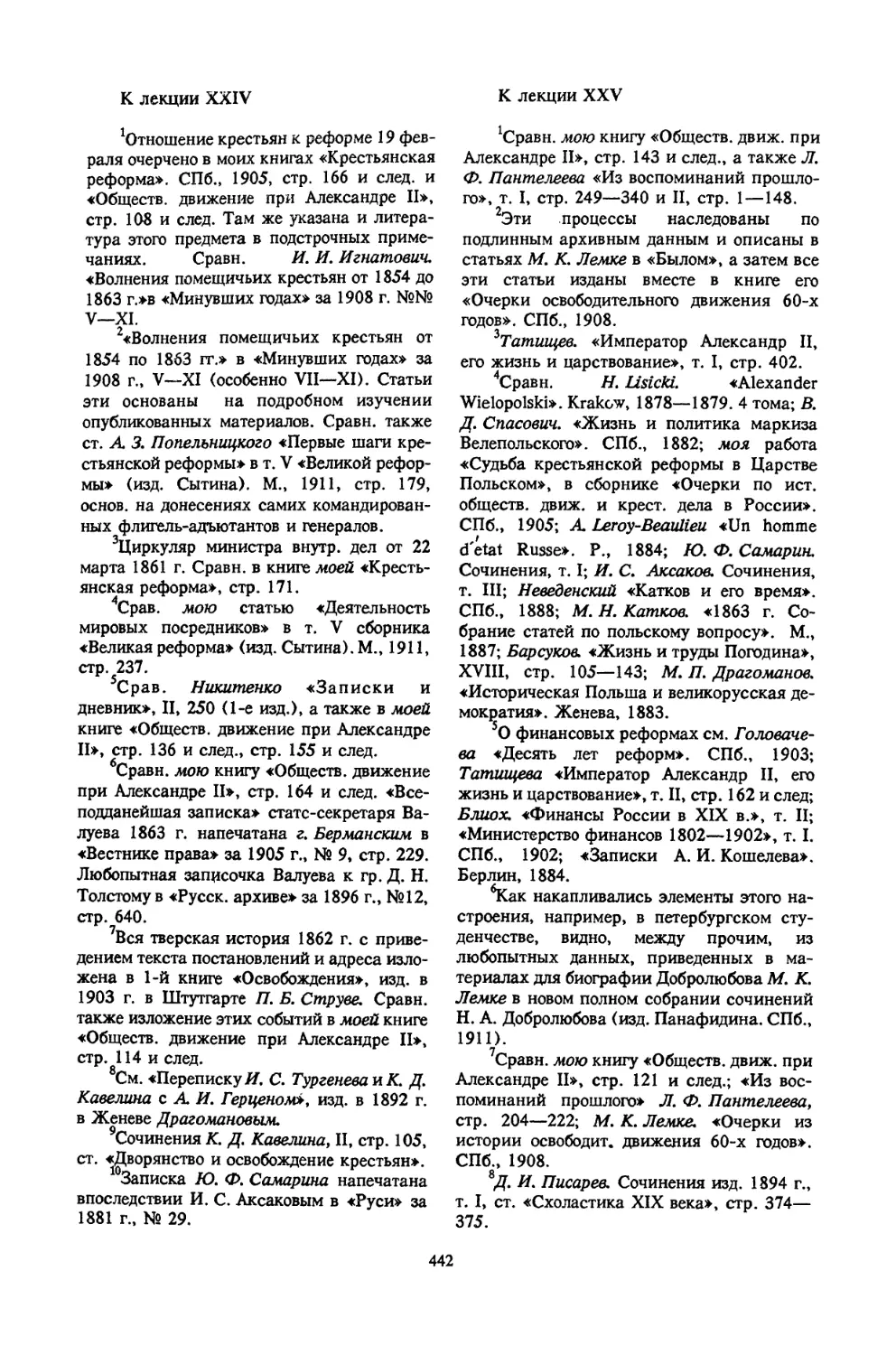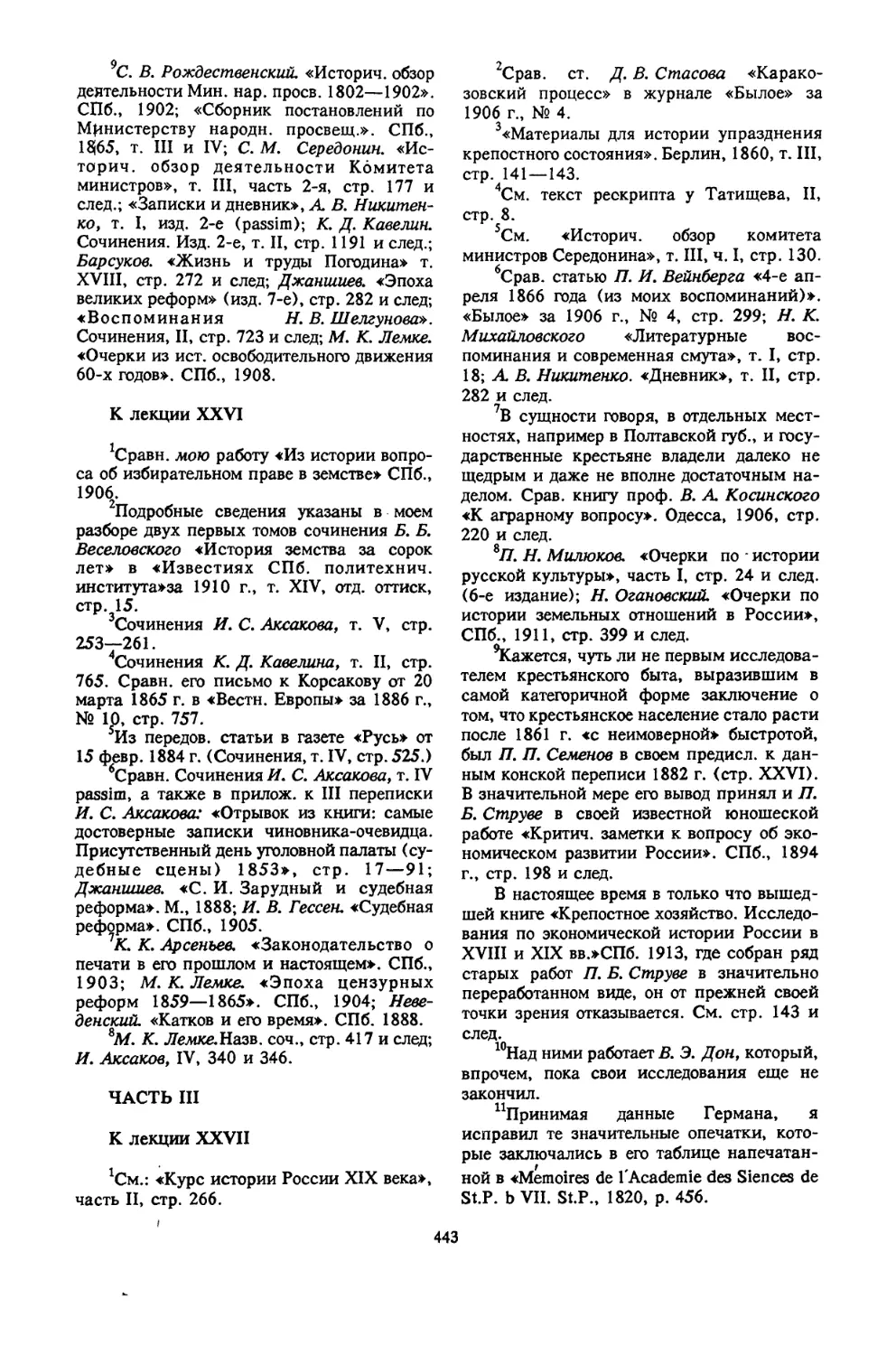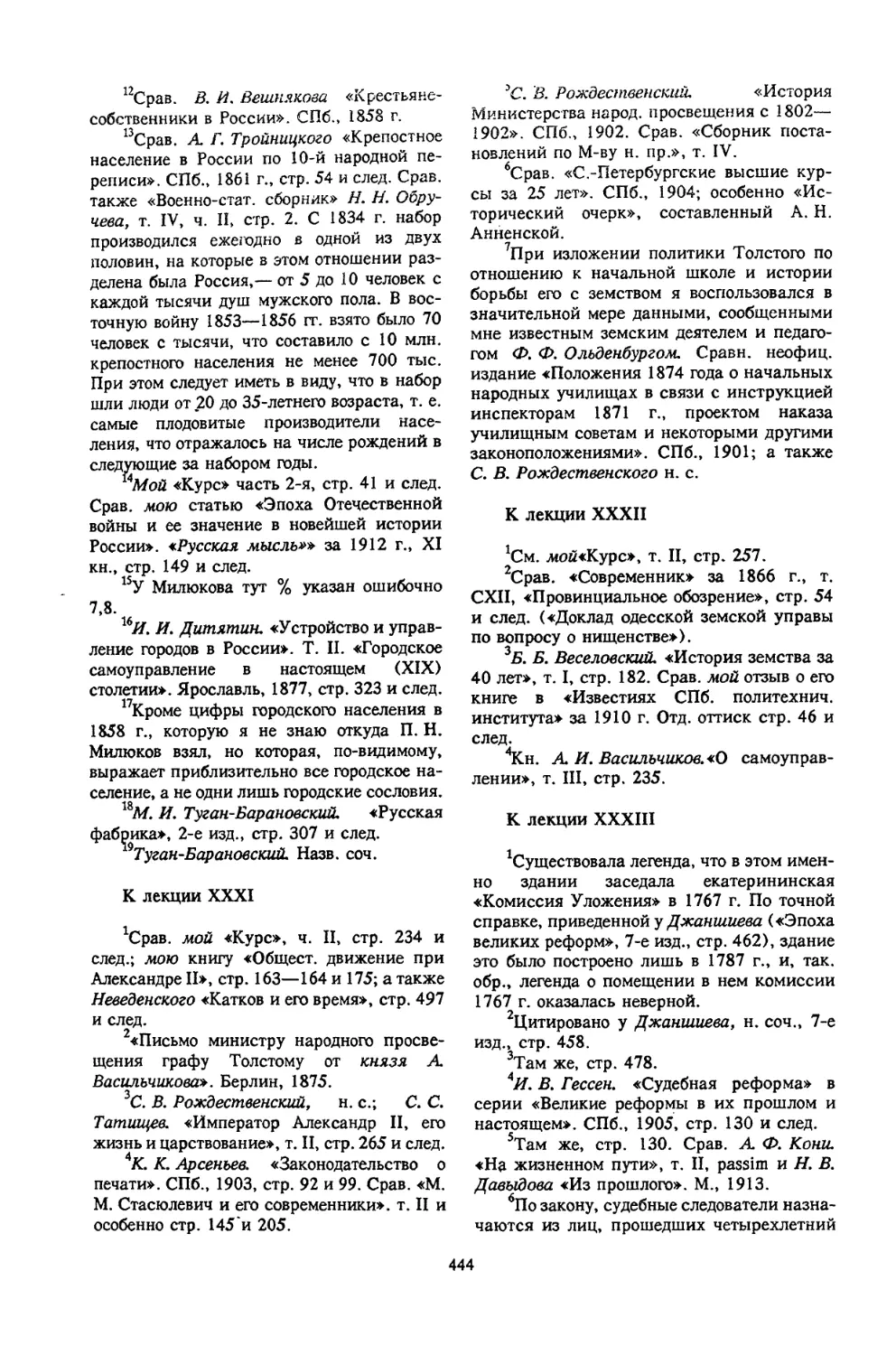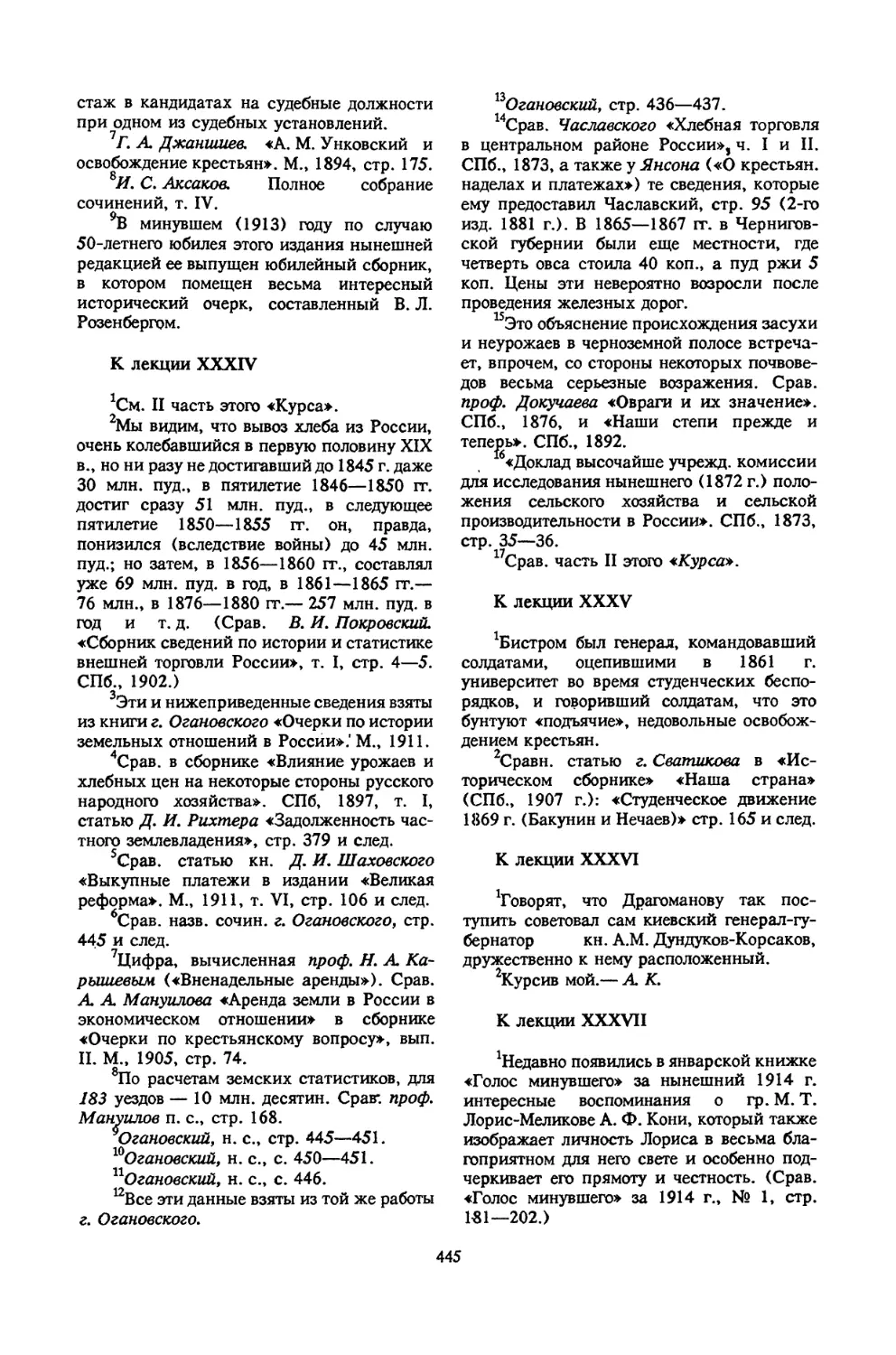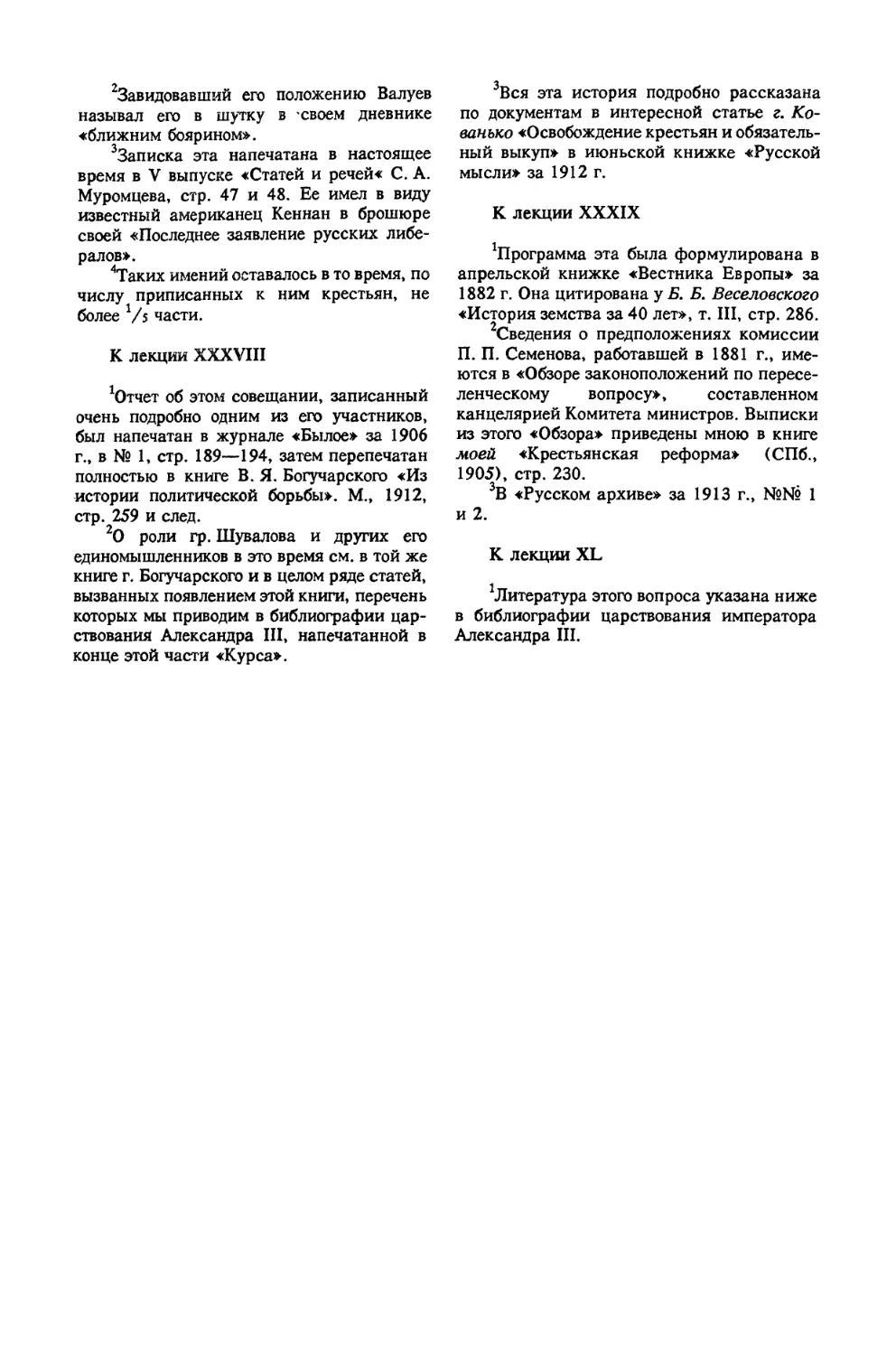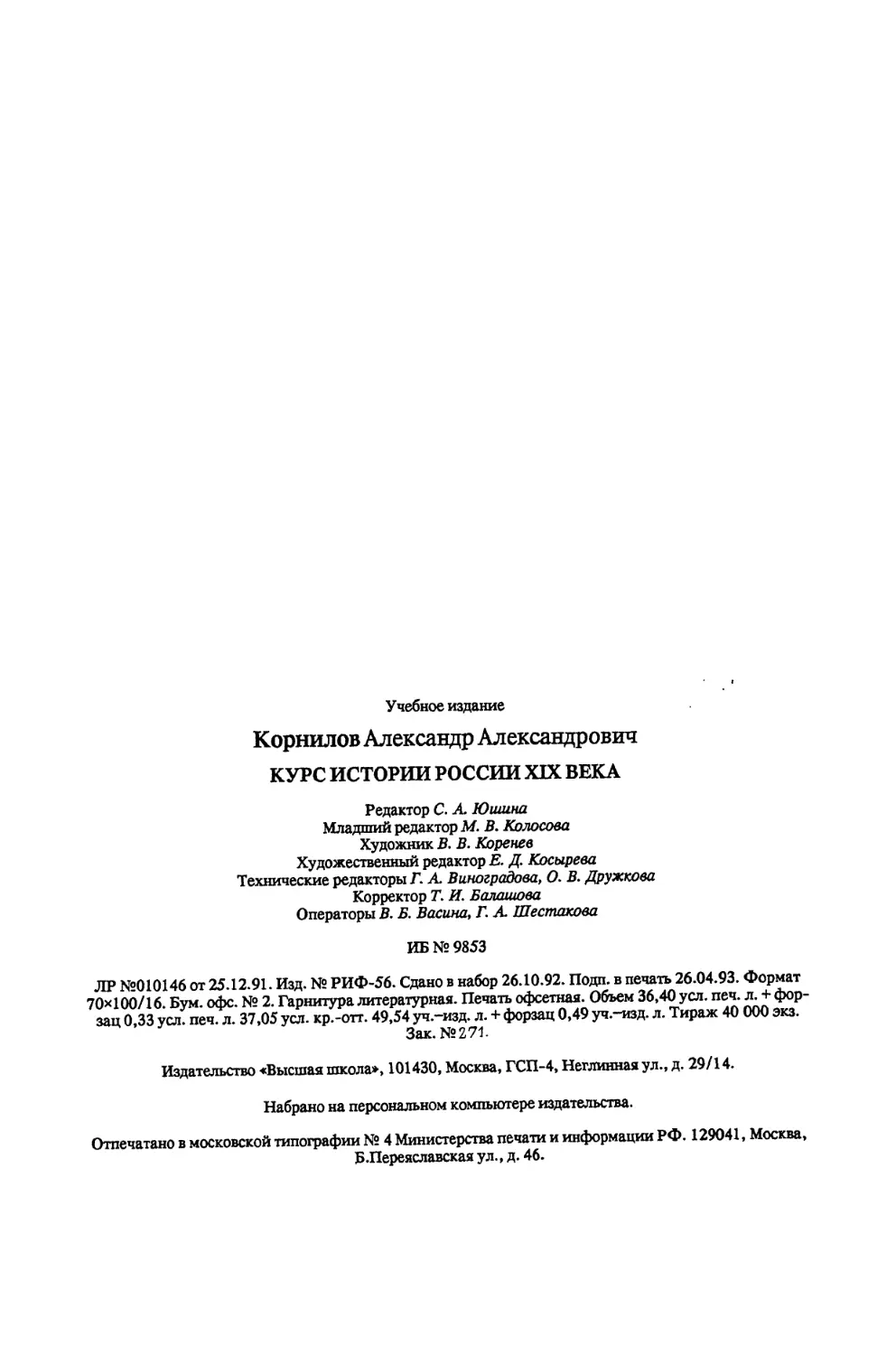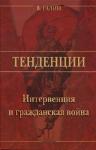Author: Корнилов А.А.
Tags: история российского государства история россии
ISBN: 5-06-002838-0
Year: 1993
Text
ББК 63.3(2)712
К 67
Федеральная целевая программа книгоиздания России
Текст печатается по изданию: А. Корнилов. Курс истории России XIX
века. Издание 2-е. М.: Издательство М. и С. Сабашниковых, 1918.
Рекомендовано Министерством науки, высшей школы и технической
политики Российской Федерации для использования в учебном
процессе
Рооийоявг
Государственно*
библиотека
0503020000(4309000000^—132
* 001(01)-93 42“93
ISBN 5-06-002838-0 ЛД * и. * _
© А. А. Левандовский, вступ. ст., 1993
Последний общий курс русской истории
и его автор
Славный путь прошла русская
историческая наука. И главные вехи на этом
пути — грандиозные сочинения, в которых
подводился итог напряженному творческому
труду целых поколений ученых-историков,
сводился воедино освоенный ими материал,
обобщались йдеи, владевшие их умами.
Если авторы XVIII в.— В. Н. Татищев, М.
М. Щербатов — делали лишь самые первые
шаги в этом направлении, с трудом отрыва¬
ясь от летописной формы повествования,
поднимаясь лишь изредка до осознания
глубинного смысла описываемых событий,
то в XIX в. их преемники — Н. М. Ка¬
рамзин, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский
— выполнили свою задачу с блеском. По¬
разительное богатство • фактического ма¬
териала, максимальная добросовестность в
его обработке и, самое главное, высокий
уровень обобщения, позволивший каждому
из этих ученых создать свою, оригинальную
и цельную концепцию русской истории,—
все это придает их трудам ценность непре¬
ходящую. Что бы мы, современные
историки, ни писали об ошибках
«стариков», об их неверных выводах и
сомнительных точках зрения,— почитатели
истории российской долго еще будут искать
ответы на волнующий их вопросы в
сочинениях Карамзина и Соловьева, в курсе
Ключевского. Труды великих историков
прошлого влекут к себе неодолимо; их окру¬
жает чарующая атмосфера научной серьез¬
ности, искренности и — поразительной
талантливости.
Высокий уровень научно-исторического
творчества, заданный мастерами XIX в,, за¬
ставлял даже их не столь выдающихся пос¬
ледователей работать с максимальной
отдачей, вкладывать в сочинения обобщаю¬
щего характера все свои силы и знания. И
золотая цепь эпохальных трудов по русской
истории получила достойное продолжение.
Однако после революции ее последние
звенья флли насильственно отторгнуты,
отброшены в сторону как нечто лишнее,
ненужное, более того,— вредное. До сих пор
только специалистам доступны «Очерки по
истории русской культуры» П. Н. Милюко¬
ва; давно забыт интересный лекционный
курс А. А. Кизеветтера; библиографической
редкостью стал и замечательный во многих
отношениях «Курс русской истории XIX
века» А. А. Корнилова, предлагаемый ныне
читателю.
У этого курса любопытная судьба: впер¬
вые он вышел в свет накануне первой
мировой войны — в 1912—1914 гг.; второе
же издание появилось уже при советской
власти — в 1918 г. Между тем неразрывная
связь курса с классической, более века про¬
должавшейся традицией российской
историографии бросалась в глаза, и именно
поэтому он совершенно не соответствовал
коммунистической идеологии. Недаром М.
Н. Покровский, уже готовый со своих
квазимарксистских позиций начать
изничтожение «буржуазной науки»,
иронически заявил по поводу нового издания
«Курса», что после этого-де все возможно:
того и гляди рабоче-крестьянская молодежь
получит в авторитеты «самого» Ключевско¬
го... До подобных «ужасов», как известно,
дело в те времена не дошло: более или менее
изощренными средствами историческую на¬
уку в Стране Советов быстро лишили на¬
следства, нарушив ее органичное развитие,
превратив в орудие беспощадной идео¬
логической борьбы... «Курс» Корнилова на
долгие годы остался последней «старо¬
режимной» исторической работой обобщаю¬
3
щего, да к тому же еще и учебного, характе¬
ра, изданной при советской власти.
Недаром говорят, что последнему —
все'гда цена особая, выше обычной... Позна¬
комившись с этой книгой, читатель, наде¬
юсь, согласится, что корниловский «Курс»
дорогого стоит. Он в полной мере вобрал в
себя глубокое, неровное дыхание русской
исторической науки предреволюционной
поры — эпохи кризиса, сомнений, непре¬
рывного поиска новых путей, И так же, как
и великие его предшественники, Корнилов
сумел во многом подняться над временем,
сумел создать работу, которая не стареет: по
широте охвата материала, обстоятельности
изложения и объективности «Курс истории
России XIX века» в нашей обобщающей
литературе по этой эпохе просто не с чем
сравнивать. Недаром им, по мере возмож¬
ности, продолжают пользоваться как учеб¬
ным пособием студенты. Можно только
радоваться тому, что «Курс» станет доступен
широкому читателю; вместе со многими
другими прекрасными книгами, издавае¬
мыми сегодня, он, несомненно, послужит
великому делу возрождения наших духовных
традиций.
* * *
Автор «Курса» А. А. Корнилов принад¬
лежал к старинному дворянскому роду, ко¬
торый, однако, никогда не отличался ни
знатностью, ни богатством. Обладая поме¬
стьями с XVI в., его представители на про-
. тяжении двух столетий ничем не выделялись
из массы провинциального служилого дво¬
рянства. Лишь с конца XVIII в. они стали
занимать если не первостепенное, то доволь¬
но видное положение в среде Ьысщей бюрок¬
ратии и особенно в армии tF во флоте.
Сам А. А. Корнилов пьйгёйййл из
семьи потомственных военный моряков: во
флоте служили и дед его и прадед1. Отец
историка — А. А. Корнилов — ушел в Чер¬
номорский флот добровольцем вскоре после
начала Крымской войны. В начале 1860-х
годов он был членом редакции знаменитого
«Морского сборника» — официального
органа Морского министерства, сыгравшего
серьезную роль в подготовке реформы. Тогда
же, в 1861 г.,.он женился на Е. Н. Супоне-
войУ Брак этот оказался на редкость
счастливым. В 1862 г. у молодых супругов
родился первенец — Александр, будущий
историк; всего же у них было три сына и
пять дочерей. Большая семья жила дружно,
без ссор и неурядиц; по воспоминаниям
самого историка, «единственным второсте¬
пенным недостатком в жизни ... родителей
был хронический недостаток средств»2.
А. А. Корнилов-отец был беспоместным
дворянином и жил лишь государственной
службой. Его супруга, значительно превос¬
ходившая мужа знатностью (Супоневы были
в родстве с Новосильцевыми, Бологовскими,
Шиповыми), не принесла ему богатства.
Денежные затруднения заставили Корнило¬
ва расстаться с «Морским сборником».
Поступив на службу в государственный кон¬
троль, он уехал служить на западную
окраину империи. Далеко не сразу, в 1876
г. он осел в Варшаве — столице Царства
Польского. Здесь Корнилову-отцу удалось
сделать блестящую карьеру: к середине
1880-х годов он был уже действительным
тайным советником, кавалером нескольких
орденов. Венцом этой карьеры стало назна¬
чение Корнилова управляющим канце¬
лярией варшавского генерал-губернатора
И. В. Гурко.
Судя по воспоминаниям историка, его
отец представлял собой весьма привлека¬
тельный тип чиновника: исполнительность и
редкая работоспособность сочетались в нем
с честностью и порядочностью. В семье отца
не только любили, но и очень уважали;
однако он был довольно далек от детей, почти
все свое время отдавая службе. Что же ка¬
салось матери, то она, положив много сил
на воспитание маленького Саши, после пос¬
тупления его в гимназию все свое внимание
уделяла младшим детям. И хотя юные годы
будущего историка прошли в атмосфере се¬
мейного благополучия, он во многих отно¬
шениях был предоставлен самому себе.
Заметный след в жизни Корнилова
оставила первая, так называемая русская3,
варшавская гимназия. Ее директор Е. М.
Крыжановский был принципиальным
противником реакционной классической
системы: обширные же связи в высших
кругах администрации Царства Польского
позволяли ему держаться довольно не¬
зависимо, оберегая свою гимназию от осо¬
бенно отвратительных проявлений казенного
классицизма. Здесь, вспоминал Корнилов,
«не забивали донельзя классическими язы¬
ками и не приучали к низкопоклонству,
наушничеству и тому подобным прелестям».
Но этим дело и ограничивалось: неважный
подбор педагогов, низкий уровень препода¬
вания при почти полном отсутствии
дисциплины привели к тому, что, избежав
I
обычного для тех лет превращения в казар¬
му, гимназия стала воплощением своего рода
«казацкой вольницы».
В этой гимназии живой и
восприимчивый Саша Корнилов быстро
выдвинулся на одно из первых мест в
гимназических шалостях, завязал много
дружеских связей, причем некоторые из них
— на всю жизнь, но ничему толком так и не
научился. По своему собственному
признанию, он рос «порядочным шалопа¬
ем», лишенным каких бы то ни было серь¬
езных интересов. После окончания
гимназии, возмечтав о военной карьере,
Корнилов с несколькими сотоварищами в
1880 г. поступил на математический
факультет Петербургского университета
«как наиболее этой карьере соответству¬
ющий». Более близкое знакомство с точными
науками заставило его перебраться на
юридический факультет.
В начале 1880-х годов, в период народо¬
вольческого террора и революционной ситу¬
ации, столица Российской империи жила
беспокойной жизнью, а студенческая моло¬
дежь в ней — в особенности. Бесконечные
сходки, столкновения с университетским
начальством, оскорбление, публично нане¬
сенное студентом министру просвещения
Сабурову,— все это произвело на недавнего
«шалопая» и его друзей самое сильное впе¬
чатление. Убийство же царя-освободителя
Александра II тем более должно было за¬
ставить их задуматься, постараться опре¬
делить свою гражданскую позицию. Вскоре
после этого рокового события, весной 1882
г., «варшавяне» — Саша Корнилов, братья
Федор и Сергей Ольденбурга, Дмитрий Ша¬
ховской, Сергей Крыжановский4 — создали
свой кружок, ставший заметным явлением в
жизни Петербургского университета.
Члены кружка проповедовали «воздер¬
жание от политики во имя накопления сил
и знаний». В эти годы, когда молодежь
вместе со всем русским обществом начинала
уставать от политики, призыв добросовестно
учиться, а затем мирно, сознательно рабо¬
тать на благо своей родины оказался весьма
привлекательным. На кружок обратили
внимание; вскоре он пополнился многими
молодыми людьми, среди которых были В.
И. Вернадский, А. Н. Краснов, В. В. Водово¬
зов. Вместе со «старожилами» они развер¬
нули в студенческой среде работу по
самообразованию, используя для этого На-
учно-литературное общество Петербургского
университета; организовали издание ряда
научно-популярных книг для народа;
приняли самое активное участие в
различных просветительско-благотворитель-
ных мероприятиях петербургской
интеллигенции.
Постепенно деятельность кружка все в
большей степени принимала общественный
характер — большинство его членов,
окончив университет, легко преступили че¬
рез свое неприятие «политики» и примкнули
к либеральному движению. Наиболее яркие
из них, однако, не растворились в русском
либерализме, составив в нем особую
общность, которую они сами называли
«братством». Целями «братства» были
«взаимопомощь и постоянное духовное
взаимодействие»его членов. И, действитель¬
но, Корнилов, Шаховской, братья Ольден¬
бурга, Вернадский до конца жизни
сохраняли и поддерживали очень трогатель¬
ные отношения друг с другом, которые нель¬
зя назвать просто дружескими.
Принадлежность к «братству» во многом
определила судьбу каждого из них...5
Активно работая для общества, члены
кружка в то же время в полном соответствии
со своим лозунгом «накопления знаний» не
забывали и об учебе, о работе научной —
недаром многие из них стали не только
видными общественными деятелями, но и
замечательными учеными. В полной мере это
относится и к Корнилову. В студенческие
годы он всерьез увлекся социально-эко¬
номическими проблемами. В центре его
интересов было крестьянство, прежде всего
российское. Свое магистерское сочинение
Корнилов посвятил анализу вопроса, должен
ли быть земледелец землевладельцем; для
диссертации он избрал тему «О значении
общинного землевладения в аграрном быту
народов», Эти работы, имевшие сугубо
компилятивны^ характер, позволяют, тем не
менее, сделать некоторые выводы о мировоз¬
зрении молодого Корнилова6.
Прежде всего очевидна позитивистская
основа его сочинений. Дело не только в
постоянных ссылках на Д. С. Милля и Гер¬
берта Спенсера; «самостоятельные» фило¬
софские рассуждения Корнилова
выдержаны в сугубо позитивистском духе:
постоянные аналогии между органическим и
неорганическим мирами, отождествление
законов природы с законами
историческими, теория множества факторов
в основе понимания сил, управляющих че¬
ловечеством, и прочее. В то же время в его
диссертации есть ссылки на «Капитал»;
5
более того, переходя к анализу конкретных
социологических и экономических вопросов,
Корнилов прямо признавался в симпатиях к
Марксу. Однако в марксизме автора привле¬
кало одно: идея сильного государства, про¬
водящего сверху преобразования,
необходимые для народного блага; речь, соб¬
ственно, шла не о марксизме, а о государст¬
венном, «профессорском» социализме,
отрицавшем революционную борьбу во имя
социальных реформ. Перенося же эту
нехитрую идею на русскую почву,
Корнилов, бывший в это время поклонником
общинного землевладения, писал о неог¬
раниченных возможностях самодержавия в
плане поддержки русской общины, развития
ее лучших черт. По существу, Корнилов
исповедовал либерально-народнические
взгляды, ссылки на «Капитал»их не меняли.
После окончания университета у
Корнилова появилась блестящая возмож¬
ность проверить свои идеи на практике. В
конце 1880-х годов он получил назначение
комиссаром по крестьянским делам в Цар¬
ство Польское; в 1890-х годах Корнилов
служил чиновником по особым поручениям
при иркутском генерал-губернаторе А. Д.
Горемыкине, где ему также пришлось
заниматься в основном крестьянскими зе¬
мельными, а также переселенческими де¬
лами. Впоследствии, подводя итог своей
почти двенадцатилетней государственной
службе, Корнилов писал, что «не только ни
разу не изменил своим служебным обязан¬
ностям, но и никогда не входил в сделки со
своей совестью». Материалы, отложившиеся
в архиве историка, и воспоминания некото¬
рых его сослуживцев свидетельствуют о том,
что он действительно не только работал в
высшей степени добросовестно по отно¬
шению к государству, нот щлщтя в меру
своих возможностей максимально улучшить
положение крестьян. Конечном же резуль¬
татом всех его усилий явилось полное кру¬
шение надежд на самодержавное
государство как на созидательную силу...
Уже в начале 1890-х годов Корнилов в
личных записях признается самому себе: он
полностью разочаровался в «государствен¬
ной опеке», которая, по его наблюдениям,
«очень развращает рабочих и крестьян»; он
последовательно проводит мысль о необ¬
ходимости освобождения всех классов от
мелочной регламентации, осуществляемой
центральным правительством7. Сама жизнь,
таким образом, разрушила отвлеченные
теоретические рассуждения Корнилова;* не¬
возможность добиться «народного благосо¬
стояния» бюрократическим путем в рамках
самодержавного государства становится для
него очевидной. Подобные мысли хорошо
прослеживаются и в первой научно¬
исторической работе Корнилова «Крестьян¬
ская реформа 1864 года в Царстве
Польском», опубликованной в 1893 г.
Разочаровываясь в самодержавном госу¬
дарстве, Корнилов все большие надежды
начинает возлагать на общественные силы.
Этой переоценке ценностей много способст¬
вовала работа «на голоде»: в 1891—1893 гг.
в государственной службе Корнилова выдал¬
ся перерыв, когда ему вместе со значитель¬
ной частью русского общества пришлось
принять самое активное участие в борьбе с
ужасными последствиями двух неурожай¬
ных лет. Эти годы Корнилов провел в дерев¬
не, организуя раздачу хлеба голодающим,
работу столовых, медицинскую помощь и
прочее. Там он увидел полную беспомощ¬
ность местной и центральной
администрации и огромные потенциальные
возможности свободной общественной дея¬
тельности. В это время через своих «брать¬
ев», давно уже принимавших самое активное
участие в общественном движении,
Корнилов завязывает дружеские и деловые
связи с такими видными деятелями русского
либерализма, как Й. И. Петрункевич, П. Н.
Милюков, В. А. Гольцев, С. А. Муромцев,
А. И. Чупров. Он очень скоро становится
своим в кругу этих людей, завоевывает здесь
авторитет — недаром его прочили в редакто¬
ры так и не увидевшего свет журнала, кото¬
рый должен был сплотить воедино все
оппозиционные силы. Именно в это время —
в начале 1890-х годов — Корнилов обретает
уже достаточно ясные и цельные либераль¬
ные убеждения, которым остается верен до
конца жизни.
Только из-за семейных обстоятельств8, с
большой неохотой Корнилов вновь поступил
на государственную службу, с тем чтобы в
1900 г., при первой возможности, оставить
ее. Возвратившись из Сибири в Петербург,
он попытался утвердиться здесь «на
поприще литературной и общественной дея¬
тельности». Однако его пребывание в
столице не затянулось: в следующем же году
он был выслан из Петербурга за участие в
акции протеста против варварского разгона
демонстрации у Казанского собора. Летом
1901 г. Корнилов принял предложение воз¬
главить редакцию газеты «Саратовский
дневник».
6
По мысли его учредителя, известного
общественного деятеля Н. Н. Львова, этот
орган создавался для того, чтобы «под¬
тягивать начальство и отстаивать интересы
свободного земства» т.е. занять место во
флотилии провинциальной либеральной
прессы, выверявшей свой курс по флагману
— знаменитым «Русским ведомостям». В
подобном духе Корнилов и вел газету —
очевидно, не без успеха, поскольку в конце
1902 г. губернские власти, приостановив на
два месяца издание «Дневника»,
предписали Львову переменить состав
редакции...
После этих событий Корнилов оставался
в Саратове еще два года. Формально он
числился помощником присяжного поверен¬
ного, но дел не брал; именно в это время
Корнилов, по его собственным словам, «на¬
ходит дорогу на будущее» — становится
историком «новой» России — России XIX в.
И здесь он начинает с исследования тех
вопросов, которые волновали его и в
университете, и на государственной службе,
и в голодной деревне,— вопросов, связанных
с той роковой борьбой, которую вели между
собой власть и общество в процессе преоб¬
разования России. Внимание Корнилова,
естественно, привлек основной узел этой
борьбы — великие реформы, и прежде всего
крестьянская. В 1904 г. Корнилов публикует
обширный очерк «Крестьянская реформа в
Калужской губернии при В. А.
Арцимовиче»; затем пишет весьма содержа¬
тельные статьи о губернских комитетах и
административном устройстве деревни в хо¬
де отмены крепостного права, работает над
обобщающими монографиями «Крестьян¬
ская реформа» и «Общественное движение
при Александре П»^ которые были опублико¬
ваны в 1905 г.
В своих трудах по истории этой эпохи
Корнилов сумел добиться многого. В целом
они были выдержаны в либеральном духе,
однако Корнилов сделал серьезный шаг впе¬
ред по сравнению со своими предшест¬
венниками— И. И. Иванюковым, Г. А.
Джаншиевым. Собрав и обобщив огромный
по объему фактический материал, Корнилов
сумел по-новому оценить причины отмены
крепостного права — одним из первых он
обратил внимание на кризисное состояние
помещичьего хозяйства в предреформенные
годы; как никто другой детально разобрав
все перипетии борьбы между представите¬
лями различных течений в русском обществе
эпохи реформ, он пришел к выводу о серь¬
езности влияния материальных интересов
на программные требования как консервато¬
ров, так и либералов; он, наконец, сумел
очень рельефно показать не только до¬
стоинство, но и несовершенства крестьян¬
ской реформы, породившей массу новых
вопросов, которые необходимо было решать.
То, что эти исследования имеют прямой
выход на современные проблемы, помогая
разобраться в них,— было ясно многим. В
результате Корнилов не только приобрел
репутацию талантливого и добросовестного
историка, но и обратил на себя внимание
единомышленников-либералов как бле¬
стящий специалист по крестьянскому воп¬
росу, чьи знания могут быть использованы в
конкретной политической борьбе.
А борьба эта становилась все ожесточен¬
нее. Россия неотвратимо двигалась навстре¬
чу революции; общество политизировалось
на глазах — набирал силу процесс образо¬
вания партий, разработки партийных прог¬
рамм, партийных стратегий и тактик...
Вступало в новую фазу своего развития и
либеральное движение: летом 1902 г. за
границей выходит первый номер нелегаль¬
ного журнала «Освобождение»; в 1903 г.
организуется «Союз освобождения», в рам¬
ках которого представители русского либе¬
рализма различных оттенков пытались
выработать единую программу действий. Не
последнюю роль во всех этих событиях
играли друзья Корнилова — В. И. Вер¬
надский, Д. И. Шаховской, И. И. Петрун-
кевич, с которыми историк поддерживал
самую оживленную переписку. Проблемы
политической борьбы были главной темой
частых бесед Корнилова со своим недавним
«начальством» — Н. Н. Львовым. Именно
Львов предложил* ему отправиться в Париж,
на подмогу редактору «Освобождения» П. Б.
Струве.
Эту^идекЭ - удалое ь осуществить в 1904 г.,
после долгих хлопот о разрешении на выезд
за границу. В Париже, впрочем, Корнилов
пробыл недолго — около двух месяцев; его
участие в «Освобождении» ограничилось
публикацией там нескольких статей
политического характера. Ряд обстоя¬
тельств, среди которых не последнюю роль
сыграло обострение ситуации в России, за¬
ставили историка поспешить с возвра¬
щением на родину. х
Здесь в преддверии первой русской
революции настала страдная пора деятель¬
ности Корнилова «на поприще политичес¬
кой борьбы». «Все мое время расхватано
7
буквально по минутам»; «Мне приходится
много работать — не дают дохнуть» —
подобные строки очень характерны для его
переписки 1905—1907 гг. Много времени
отнимала партийная работа: после образо¬
вания в 1905 г. кадетской партии Корнилов
был избран секретарем ее ЦК. По вос¬
поминаниям историка, его новые обязан¬
ности поглощали весь день. Он принимал
самое деятельное участие еще и в выработке
аграрной программы партии, а также входил
в состав аграрной комиссии, работа которой
легла в основу знаменитой «записки 42-х» в
I Государственной думе. Свойственные
Корнилову педантичная добросовестность и
деловая хватка сделали из него образцового
партийного работника — недаром, когда он
в 1908 г. сложил с себя обязанности секре¬
таря ЦК, один из кадетских руководителей
П. Д. Долгоруков писал ему по этому поводу:
«Это ужасный удар по партии, так как,
разумеется, никого подобного Вам не най¬
дем»10.
Судя по письму Долгорукова, Корнилов,
уходя в отставку, ссылался прежде всего на
семейные обстоятельства. Однако из его вос¬
поминаний следует, что первостепенную
роль в отказе от активной политической
деятельности сыграло наступление реакции:
в годы премьерства Столыпина Корнилов
вместе со своей кадетской партией
переживал «глубокий упадок духа»11. Он на
какое-то время уходит в личную жизнь,
вновь возвращается к интенсивной научной
работе — погружается, в частности, в иссле¬
дование материалов богатейшего архива се¬
мейства Бакуниных. Важнейшим событием
в его жизни в это время явилось пригла¬
шение преподавать русскую историю в Пе¬
тербургском политехникуме. Лекции,
которые Корнилов начал читать здесь с 1909
г., и легли в основу «Курса Йс^йи^оссии
XIX века». ’ и1;'
* * *
К созданию своего «Курса» Корнилов
пришел в расцвете творческих сил — зре¬
лым человеком и искушенным политиком,
опытным ученым-исследователем. Вполне
естественно, что «Курс» стал итоговой рабо¬
той* в которой историк выразил себя наибо¬
лее-полно, со всеми своими достоинствами
и недостатками.
«Над задачами «Курса» Корнилов раз¬
мышлял немало. В его архиве, в частности,
сохранились соответствующие «методо¬
логические заметки», частично воспроизве¬
денные в первой, вводной лекции. «Ис-
ториософические» взгляды ученого, надо
признать, не поражают ни глубиной, ни
оригинальностью (неслучайно, наверное, во
втором издании «Курса» Корнилов убрал из
текста эти отвлеченные рассуждения), но в
ясности им не откажешь. Превыше веет
ученый ставит факт: он подчеркивает, что
стремится «к объективности», основанной
на «возможно полном и точном» изложении
материала. В своей работе над «Курсом»
Корнилов полагал держаться «достовер¬
ности, точности (основанной на практичес¬
кой (!? — А. Л.) проверке излагаемых
фактов и выводов) и принятия в расчет всех
существенных данных, добытых до настоя¬
щего времени научными исследованиями в
излагаемой области знания»12. Таким обра¬
зом, речь как будто шла о том, чтобы свести
воедино наработанное другими историками,
максимально использовать накопленный
ими материал, сравнить между собой их
суждения, в случае неясности или неточ¬
ности обращаясь непосредственно к
источникам (обещание «практической про¬
верки», очевидно, можно понять только
таким образом).
Подобный подход к научной работе, при
котором сам автор оставался как бы на
заднем плане, был вообще обычен для
Корнилова: он не любил делать смелые вы¬
воды и далеко идущие обобщения. И все же
в его исследовательских работах всегда был
внутренний смысл; богатый фактический
материал служил в них основою для доста¬
точно стройной и цельной системы суж¬
дений и оценок. К подобному результату
Корнилов стремился и в «Курсе»: заявляя о
своем желании дать в лекциях «не готовую
систему выводов, а главным образом
отчетливо изученные факты», он в то же
время оговаривал необходимость «ясного
понимания их взаимного отношения и их
роли в общем социально-политическом
процессе нашей страны». Иными словами,
Корнилов изначально предполагал дать в
«Курсе» свою концепцию русской истории
последнего столетия, стремясь лишь к тому,
чтобы она базировалась на освоенном им
обширном фактическом материале.
О том, что в «Курсе» есть совершенно
определенный «историософический» стер¬
жень, свидетельствует и тогг краткий очерк
«классической» — т. е. до XIX в.— русской
истории, которым Корнилов начинал свои
лекции . Он ясно определил первоочеред¬
8
ную, жизненно важную задачу, вставшую
перед русским народом после татаро-мон¬
гольского нашествия: «Формирование и ук¬
репление государственной территории».
Претворить эту задачу в жизнь в тех ус¬
ловиях могла только одна сила — централь¬
ная государственная власть в лице
московских князей, опиравшаяся на все
слои населения и прежде всего на служилое
сословие. В борьбе с многочисленными вра¬
гами эта власть, приобретавшая все более
деспотический характер, безжалостно на¬
прягала народные силы; тяжкое тягло в той
или иной форме было наложено на все
сословия — крепостной труд для крестьян¬
ства, изнурительные повинности для посада,
пожизненная служба для поместного дво¬
рянства.
Выполнение исторической задачи, во
имя которой закрепощались сословия, рас¬
тянулось на века и лишь при Екатерине II
было завершено с блеском. Именно поэтому
вторая половина XVIII в. стала, по словам
Корнилова, «великим поворотным .пунктом в
истории нашей страны»: отныне «главной
целью государственной деятельности
признается уже не расширение и охрана
государственной территории, а «блаженст¬
во» подданных, благополучие граждан». В
России начинается совершенно новый
исторический процесс, который и дает со¬
держание новейшей истории: если раньше
во имя создания единого государства сос¬
ловия закрепощались, то теперь во имя гу¬
манных целей они начинают
раскрепощаться, вернее, их раскрепощает
государственная власть, которая по-прежне¬
му стоит во главе исторического процесса.
Самый значительный шаг на этом пути —
Манифест о вольности дворянской 1762 г.
Облегчается положение купечества и город¬
ского населения. Что же касается крестьян¬
ства, то Корнилов признавал, что крепостное
право при Екатерине «достигает своего апо¬
гея»; но в то же время меняется сам подход
к этому вопросу: «признается ненормаль¬
ность крепостной зависимости, и идея осво¬
бождения крестьян в будущем именно в это
время начинает пробивать себе путь...»
Отмечал Корнилов и постепенное смяг¬
чение «демиурга русской истории» — само¬
державной власти, постепенный отказ ее от
деспотической формы правления; историк
считал возможным говорить об этом, ссыла¬
ясь на упразднение наиболее жестоких на¬
казаний по суду. Но, пожалуй, еще более
важным он считал появление в XVIII в.
рядом с самодержавием еще одной историче¬
ской силы — «бессословной интеллиген¬
ции», впоследствии заявившей о себе как о
«наиболее активном движущем элементе» в
государстве. И если на первом этапе русской
истории основные задачи, стоявшие перед
всем народом, самостоятельно и полновласт¬
но решало надсословное правительство, то
теперь по мере появления иных, качественно
новых проблем эту честь начинает
оспаривать у него бессословная
интеллигенция...
Вступительные лекции «Курса»
убедительно свидетельствуют о том, что их
автор считал себя верным последователем
теории закрепощения и раскрепощения сос¬
ловий — основного постулата самой ав¬
торитетной в русской исторической науке
государственной школы. Эта теория восп¬
роизведена в «Курсе» с исключительной для
начала XX в. четкостью и последовательно¬
стью. Достаточно обратиться к обобщающим
трудам историков, которые сам Корнилов
рекомендовал всем «желающим составить
себе правильное представление об общем
ходе развития русского народа и государст¬
ва»,— к «Курсу русской истории» В. О.
Ключевского, «Очеркам по истории русской
культуры» П. Н. Милюкова,— чтобы
убедиться в том, насколько проблематичней,
противоречивей их рассказ об этом «общем
ходе развития..>Новый материал, освоен¬
ный историками России в конце XIX —
начале XX вв., новые идеи, высказанные
ими,— все это распирало старую схему
изнутри, коверкало ее, заставляло сомне¬
ваться, искать каких-то иных, не¬
традиционных ответов на вопросы,
поставленные прошлым страны. Ясность же
и незамутненность, свойственные
корниловским рассуждениям, можно было
сыскать, пожалуй, лишь в работах полуве¬
ковой давности — у патриарха государст¬
венной школы Б. Н. Чичерина. При этом,
конечно же, нужно иметь в виду, что
вступительные лекции Корнилова имели са¬
мый общий, так сказать, программный ха¬
рактер: он лишь декларировал здесь свою
принадлежность к государственной школе; в
основном же содержании «Курса» ученому
еще предстояло втиснуть в прокрустово ложе
априорных схем наработанный им бога¬
тейший фактический материал; примирить
свою научную добросовестность с абстракт¬
ными теоретическими установками. j
О том, что на этом пути Корнилова
ожидало немало трудностей, свцдетельству-
9
ет структура «Курса». Казалось бы, ученый
отлично понимал, насколько . важно
принципиально решить проблему
периодизации «новейшей русской истории»,
т. е. дать своим лекциям внутреннюю опору,
обозначить форму, в которую затем следова¬
ло уложить сырой материал. В одной из
первых лекций он специально высказался по
этому поводу в духе своих обобщающих
рассуждений об историческом процессе в
России. Ее историю в XIX в. Корнилов делил
на два основных этапа: первый до 1861 г.—
«характеризовался подготовлением падения
крепостного права»; на втором же после
1861 г.— «развивались последствия падения
крепостного права и вместе с тем подготов¬
лялась именно этим дальнейшим развитием
прогресса замена самодержавного строя
конституционным». В то же время, отмечая
недостаточность подобной общей
периодизации, Корнилов говорил о том, что
«приходится допускать деление более дроб¬
ное, сообразное этапам, обусловленным
главным образом перипетиями борьбы, кото¬
рая то затрудняла ход этого прогресса,' то,
напротив, двигала вперед».
Подобные рассуждения логически выте¬
кали из общих теоретических установок
Корнилова. Однако достаточно бегло озна¬
комиться с «Курсом», чтобы увидеть, на¬
сколько его структура в действительности не
соответствует этим отвлеченным рассуж¬
дениям. Совершенно очевидно, что «Курс»
построен как рассказ об отдельных царст¬
вованиях. Именно царствованиям посвяще¬
ны связанные смысловым единством циклы
лекций; по царствованиям составляются ав¬
тором рекомендательные списки литерату¬
ры; в соответствии с ходом событий в то или
иное царствование дается и внутренняя,
«дробная» периодизация. i4m Жег у касается
периодизации «общей», то шылшвдйшенно
тонет в плавном, последовательном ^ссказе
о событиях, произошедших при Александре
I, Николае I и т.д.; «великий 1861 год»
теряется в середине «Курса», так и не став
смысловым завершением одной его части и
началом другой... Иными словами, автор
следует здесь проторенной дорожкой, весьма
вольготно чувствуя себя в русле старых
традиций. Выстроить свой «Курс» в соот¬
ветствии с периодизацией, так разумно и
логично обоснованной им в первых лекциях,
Корнилову не удается; да и не похоже, чтобы
он особенно стремился к этому...
Ту же тенденцию к «затуханию»
теоретической схемы, к растворению ее в
конкретных суждениях о конкретных со¬
бытиях, зачастую не только не связанных
между собой, но и противоречащих друг
другу, читатель легко уловит, обратившись
непосредственно к содержанию лекций. В
первой части «Курса» Корнилов как будто
еще выдерживает свою «историософию».
Подробно освещая начало царствования
Александра I, он выразительно показывает,
как власть, несмотря на искреннее стрем¬
ление молодого царя следовать курсом пере¬
мен, оказалась не способной к« решению
насущных задач, продиктованных всем хо¬
дом русской истории. Разочарование в Алек-
сандре-реформаторе, ставшее особенно
сильным после Отечественной войны, под¬
толкнуло молодое общество к самостоятель¬
ным действиям. С подобной точки зрения
движение декабристов расценивается
Корниловым как вполне органичное,
неизбежное и в целом позитивное явление.
Правда, весьма сочувственно отзываясь о
целях декабристов и отчасти «прощая» им
революционный образ действий как вынуж¬
денный, историк не скрывает своей
антипатии к «нелегальщине», к заговору.
Восстание ;же 14 декабря он прямо рас¬
ценивает как «преждевременный или непод¬
готовленный взрыв», приведший к
гибельным последствиям: «Страна
лишилась лучших и наиболее самостоятель¬
ных представителей передового мыслящего
общества, остальная часть которого была
запугана и терроризирована мерами
правительства, а правительство оказалось
совершенно разобщенным в предстоявшей
ей трудной работе с умственными силами
страны...»
Под знаком разобщения прошло все сле¬
дующее царствование — Николая I. Лекции
Корнилова, посвященные общественному
движению этого времени, чрезвычайно
обстоятельны: в них подробно рассказано о
кружках 1830-х годов, западниках и славя¬
нофилах, даны развернутые характеристики
периодических изданий различных направ¬
лений. Однако все это движение выглядит
здесь как «вещь в себе» — никакого реаль¬
ного воздействия на правительство оно не
оказывало и, следовательно, способствовать
развитию исторического процесса никак не
могло. Те взаимоотношения правительства и
общества, в анализе которых должен был
заключаться главный смысл корнг~лвского
«Курса», вся его диалектика, изображены
теперь по необходимости весьма однообраз¬
но: первое — подавляло, второе — было
10
подавлено. Очевидно, именно поэтому эти
лекции столь статичны: они, по существу,
выпадают из «историософской» схемы
Корнилова, представляя собой не более как
свод различных фактов и характеристик.
Тем более важно отметить, что в лекциях
о правительственной политике этого периода
Корнилов чрезвычайно внимательно прос¬
леживает ее движение прежде всего в сфере
«главного», крестьянского вопроса, который
«не сходил с очереди дня почти во все
продолжение царствования Николая...». Ес¬
тественно возникает недоумение: что застав¬
ляло реакционную по духу власть постоянно
обращаться к попыткам — пусть и безус¬
пешным — реформировать, смягчить крепо¬
стное право? Корнилов решает проблему
несколько неожиданно: основным толчком к
подобной «реформаторской» деятельности
явились... крестьянские волнения; именно
они, «повторяясь постоянно, не давали
правительству закрыть глаза на те язвы
крепостного права, которые в то время уже
громко кричали о своем существовании».
Таким образом, не абстрактное стремление
к добру, не благие намерения царя, не
усилия бесклассовой общественности, а пос¬
тоянная угроза мощного народного движения
заставляет правительство — против его воли
— действовать в духе перемен. Выясняя же
далее причины крестьянских волнений,
Корнилов отмечал: «Во внутренней жизни
(России.—АЛ.) к этому времени
сложились материальные условия, которые
могущественнее всяких идейных требований
расшатывали крепостной строй и подго¬
тавливали его падение».
Именно в лекциях, посвященных царст¬
вованию Николая I, Корнилов начинал пос¬
тепенно, исподволь вводить в курс свою,
хорошо отработанную в самостоятельных
исследованиях концепцию крестьянской
реформы. Но можно ли было все эти
принципиально новые положения ввести ту¬
да органично и безболезненно для де¬
кларированной автором общей исторической
схемы — вот в чем вопрос. Ведь совершенно
очевидно, что этими новациями Корнилов
подрывал самые основы своей
историософии: при всей туманности фор¬
мулировок пресловутое «раскрепощение
сословий» ставилось в прямую зависимость
от общего хода социально-экономического
развития России и вызванного им обост¬
рения борьбы между угнетенным сословием
и властью.
Переходя к рассказу о царствовании
Александра II, Корнилов как будто пытался
поначалу восстановить свою «историософ¬
скую» концепцию. В первых же лекциях,
посвященных этой эпохе, историк расс-,
матриваетее параллельно «преобразователь¬
ному периоду» правления Александра I. В
обоих случаях, отмечает он, движущей
силой назревших реформ было правительст¬
во. Что же касалось общества, то оно, по
словам историка, в середине 1850-х годов,
точно так же, как и в начале века, с одной
стороны, находилось в настроении «совер¬
шенно оптимистическом, необыкновенно
розовом и благодушном», а с другой — в нем
«на первых порах очень мало проявлялась
склонность к самостоятельности и
инициативе». Однако по мере того как
правительство показывало свою неспособ¬
ность к последовательной реформаторской
деятельности, общество выходило из состо¬
яния эйфории и, проявляя свою самостоя¬
тельность, все более активно участвовало в
подготовке крестьянской реформы. И здесь
сказалось отличие эпохи реформ от «дней
Александровых прекрасного начала» —
власть и общество смогли на этом этапе
развития России действовать совместно. В
лекциях Корнилов подробно излагал свои
хорошо продуманные и обоснованные сооб¬
ражения об определяющем идейном влиянии
общественности на правительство; именно
этим влиянием он и объяснял большинство
положительных черт реформы. И наоборот:
все серьезные недостатки преобразования
были порождены, по мнению Корнилова,
тем, что влияние это было все же неполным
— прочный «дружественный союз» между
либеральной бюрократией и общественно¬
стью так до конца и не сложился.
Все это*-было вполне в духе государст¬
венной цтолы: молодая, полная сил бессос¬
ловная общественность перенимает эстафету
у дряхлеющей бюрократии с тем, чтобы в
духе времени, во имя общего блага преобра¬
зовать экономику, социальные отношения,
самое государство... Если бы дело
ограничилось только подобными рассуж¬
дениями, то вполне можно было бы сказать:
Корнилов «выдерживает» свою схему. Одна¬
ко здесь же получают свое полное развитие
и те «новации», которые подрывают эту
стройную теорию: реформы 1860-х годов, по
словам историка, были проведены «не в силу
стремления государя, а почти наперекор его
намерениям, причем он должен был ус¬
тупить развивающемуся социально-эко¬
11
номическому процессу...». Здесь же мы
вновь встречаем и характеристику кресть¬
янских волнений как важного побудительно¬
го мотива для правительственных
преобразований.
Но еще более неожиданно и, пожалуй,
несколько неуместно выглядит в «Курсе»
тезис о «материальной основе»различных
течений общественной мысли и правитель¬
ственных группировок. По ходу рассказа
Корнилова о подготовке и проведении кре¬
стьянской реформы оказывается, что «ма¬
териальные интересы» дворянства
оказывали самое серьезное влияние на дея¬
тельность и надклассового правительства, и
бессословной общественности. Правда,
Корнилов употребляет здесь весьма неопре¬
деленную, так сказать, смазанную термино¬
логию. Ни разу он не говорит прямо о
выражении правительством или какой-либо
частью общественности интересов того или
иного «сословия»: интересы эти «совпа¬
дали», «примыкали», «получали поддерж¬
ку» и т. п. И все же, несмотря на такую
осторожность в формулировках, Корнилов
серьезно нарушает здесь важнейшие посту¬
латы государственной схемы о надклассо-
вости основных сил исторического процесса.
Все эти смысловые неурядицы являлись
прямым результатом добросовестного отно¬
шения Корнилова к результатам своих соб¬
ственных трудов по крестьянской реформе.
Последовательно вводя их в лекции, он как
будто не замечает, что те положения, кото¬
рые совершенно органично выглядели в са¬
мостоятельном исследовании, приходят в
вопиющее противоречие с теоретическими
установками обобщающего «Курса».
Правда, «развязавшись» с отменой кре¬
постного права, Корнилов тут же возвраща¬
ется на торный путь. В лекциях,
посвященных пореформенной апо&е, он на¬
стойчиво пытался восстановить нонятие о
«бессословной интеллигенции» во всей его
полноте. Историк говорит здесь о «передовой
части общества» как о единой силе, особо
подчеркивая общность взглядов пред¬
ставителей либерального и революционно-
демократического течений. В ее программе,
ясно выраженной как в адресе тверского
дворянства, так и в «Письмах без адреса» Н.
Г. Чернышевского, заключались требования
дальнейших преобразований, которые
«значительно переросли предположения
правительства». Общество, вновь как по вол¬
шебству обретшее цельный, бессословный
характер, окончательно созрело для того,
чтобы возглавить исторический процесс,
перехватить у дряхлеющей власти
инициативу — что было «запрограммирова¬
но» еще во вступительных лекциях. Что же
касалось непредусмотренных там социаль¬
но-экономических факторов и «материаль¬
ных интересов», игравших такую огромную
роль в корниловском анализе реформы 1861
г.,— они опять уходили в небытие...
В следующих главах «Курса» возникло
новое осложнение: Корнилов не мог
игнорировать ту определяющую во многих
отношениях роль, которую во второй
половине 60-х—70-х годов XIX в. играли в
русском общественном движении рево¬
люционеры — сначала «радикалы», затем
революционные народники. Однако он скло¬
нен был видеть в этих «крайних настро¬
ениях» нечто не вполне естественное,
случайное, вызванное прежде всего нера¬
зумием власти. Именно власть своей непос¬
ледовательностью в проведении «коренных
реформ», с одной стороны, и «грубыми
преследованиями и гонениями», с другой,
искажала общественное — либеральное по
сути — движение, придавая ему искусст¬
венно-революционный характер. При этом
Корнилов старался подчеркнуть, что даже в
период народовольческого террора между
либералами и революционерами существо¬
вали определенные связи и даже симпатии
— если и не взаимные, то, во всяком случае,
со стороны либералов. Да и сам историк не
без снисхождения рисует ожесточенную
борьбу «Народной воли» с правительством,
борьбу во имя общей с либералами цели —
«политического освобождения»
(социалистические же «мечты и идеи» на¬
родников, в изложении Корнилова,
отодвигаются на задний план, как заведомо
неисполнимые). Ведь непосредственными
результатами этой борьбы явились «дикта¬
тура сердца» М. Т. Лорис-Меликова и затем
первый, хоть и робкий, шаг к конституции...
И вот тут снисходительность историка
иссякает... Он с видимым прискорбием за¬
являет о том, что неосмотрительность
Лориса, «несколько оптимистически взгля¬
нувшего на результаты своей системы по
отношению к подавлению революционных
организаций», сыграла «трагическую роль»
(т. е. травить революционере» следовало бо¬
лее последовательно). Убийство же Алексан¬
дра II Корнилов расценивает как
«катастрофу», причем его ужасает не само
убийство главы государства как таковое, а
то, что оно привело к «роковому исходу для
12
всей той системы, которая проектировалась
Лорис-Меликовым...». Иными словами,
историк готов был мириться с рево¬
люционным движением до тех пор, пока оно
боролось с «дикой реакцией»; при первых
же колебаниях, при первых уступках власти
его оценки деятельности подполья ста¬
новились куда более жесткими...
Описанием трагических событий 1881 г.
Корнилов завершал первое издание своего
«Курса». Во втором появились еще четыре
лекции, посвященные царствованию Алек¬
сандра III. История эта была самая недав¬
няя, ее изучение только начиналось. Самому
Корнилову профессионально заниматься
этой эпохой почти не приходилось. Не¬
удивительно, что новая часть «Курса»
носила заметный отпечаток незавершен¬
ности, более того — некоторой, обычно не
свойственной Корнилову, небрежности. Бро¬
сается в глаза внутренняя несоразмерность
содержания лекций: подробнейшим Ьбразом
освещая политическую историю первых
двух-трех лет этого царствования, Корнилов
дает лишь самый беглый очерк дальнейших
событий; Чрезвычайно сжат его рассказ и о
других сторонах русской жизни 1880-х —
начала 1890-х годов. В то же время любо¬
пытно отметить и новые прорывы в цепи
«историософических рассуждений Корни¬
лова. С одной стороны, мы встречаем в них
обычные сетования . на «неспособность»
власти, на гибельную оторванность ее’ от
либеральной общественности; с другой —
как нигде ясно Корнилов говорит здесь о
тесной взаимосвязи правительственной и
дворянской реакции, направленной на
«защиту материальных интересов дворянст¬
ва». Правительство Д. А. Толстого историк
прямо характеризует как «дворянское». Ес¬
тественно, возникает предположение, что
внутренняя политика Александра III свиде¬
тельствовала не столько о «неспособности»
власти, сколько о ее зависимости от вполне
реальных классовых интересов...
Подводя итоги, заметим, что схема, за¬
явленная Корниловым во вступительных
лекциях, нарушается им достаточно часто.
По мере того как историк вводит в «Курс»
новые понятия, выработанные им самим и
его коллегами-современниками,— «ма¬
териальные условия», «материальные инте¬
ресы» и прочие,— это сугубо
идеалистического характера схема неизбеж¬
но теряет свою внутреннюю цельность, ста¬
новится эклектичной и, следовательно,
противоречивой. Характерно, что первую
часть «Курса», посвященную царствованию
Александра I, историк завершал
обширными, тщательно разработанными вы¬
водами, которые он мог делать со спокойным
сердцем,— выводы эти вполне соответство¬
вали «историософским»посылкам, сделан¬
ным в первых лекциях. По мере того как
декларированная схема начинала разру¬
шаться под напором новых понятий и суж¬
дений, смазывались и выводы, подвергалась
серьезным испытаниям логическая структу¬
ра «Курса». Это заметно уже в цикле лекций
об эпохе Николая I. В лекциях же, посвя¬
щенных царствованию Александра II и
Александра III, отсутствуют и посылки, и
выводы... Это неудивительно: внутренние
противоречия «Курса» зашли здесь уже так
далеко, что при любом сколько-нибудь
широком обобщении они должны были
всплыть на поверхность. Соответственно,
анализ исторического процесса отступает на
задний план; лекции приобретают все более
фактографический характер.
Подобный развал «историософских»
построений — несомненный недостаток. Но
зададим себе вопрос: что было бы с «Кур¬
сом», если бы автор создавал его в полном
соответствии со своими теоретическими ус¬
тановками? В известной степени ответ на
этот вопрос дал сам Корнилов. Он недаром
говорил о «логической возможности» еще
одной, четвертой, завершающей части «Кур¬
са». Хотя возможность эта осталась нере¬
ализованной, автор «курса» создал ряд
других работ, посвященных совсем недавне¬
му прошлому — концу XIX — началу XX в.
в России14. В них Корнилов восстанавливал
свою схему в полном объеме. Формула
«реакционное правительство — прог¬
рессивная общественность» являлась здесь
столь же всеобъемлющей, как и в первой
части adKcypcaa^ При этом связь историчес¬
кого процессах1 социально-экономическими
условиями русской жизни практически не
прослеживалась; Корнилов тщательно избе¬
гал здесь и каких бы то ни было намеков на
классовый характер как правительства, так
и общественности. Его усилия были направ¬
лены к совсем другой цели...
Давая характеристику различным
партиям и группировкам начала XX в.,
противостоящим «дряхлой власти», историк
избегал вдаваться в какие-либо подробности
относительно революционного движения.
Так, об эсерах он сообщал лишь то, что
«заявляли о себе террористическими ак¬
тами»; о социал-демократах — что они
13
«были марксистами». Зато либералам —
сначала «Союзу освобождения», затем каде¬
там — Корнилов уделял максимум
внимания: именно они, по словам историка,
возглавляли общественное движение, выра¬
жая интересы «широких масс населения».
Либералы в борьбе с властью решали
исторические задачи, стоявшие перед
Россией; революционеры своими авантюр¬
ными действиями мешали им...
Подобный подход к конкретным со¬
бытиям русской истории начала XX в. впол¬
не соответствовал «историософии»,
заявленной в корниловском «Курсе». Теория
закрепощения и раскрепощения сословий,
доведенная до логического конца, имела глу¬
бокий политический смысл: она была на¬
правлена на то, чтобы подвести
исторический базис под либерализм кадет¬
ского толка, представив его сторонников за¬
конными наследниками дела декабристов,
Герцена, шестидесятников и пр., а их цели
— «увенчание» государственного здания
России конституцией — наиболее полным
воплощением этого дела. Если бы «Курс»
Корнилова был последовательно выдержан в
подобном духе, он, вне всякого сомнения,
приобрел бы сугубо партийный характер —
и, соответственно, много потерял бы как
сочинение историческое.
Но Корнилов, превращавшийся в
присяжного партийного публициста в рабо¬
тах, напрямую связанных с современной
ему политической борьбой, к прошлому
относился чрезвычайно добросовестно. Заяв¬
ленное им в первой лекции стремление к
максимальной объективности, к «возможно
полному и точному изложению материала»
было совершенно искренним. Следует
отметить, что позитивистская «закваска»,
заставлявшая следовать зз'ффхтщ и не
* спешить с выводами, опредед*^^*да*рабо¬
ты Корнилова-историка. Апрцодна* чужих
слов он мог декларировать четкую, ясную
схему; переходя к конкретному изложению,
обрабатывая исторические источники и
литературу, он оказывался органически не¬
способным подгонять под эту схему факты.
Он рассуждал как историк государственной
школы лишь до тех пор, пока рассуждения
эти не противоречили освоенному им ма¬
териалу; в сомнительных случаях он, как
правило, предпочитал следовать за ма¬
териалом. Развить же достижения своих
велжих предшественников, сказать нечто
принципиально новое, сделать шаг вперед в
осмыслении исторического процесса —
подобных «высоких» задач Корнилов в своем
«Курсе» и не ставил.
Можно сказать, что архитектор из
Корнилова не получился. А вот строителем
он был незаурядным. Внутри грандиозного
каркаса, сооруженного по чужим планам, он
возвел свое строение — в сущности, вполне
независимое, лишь кое-где с каркасом
соприкасающееся. И хотя снаружи это стро¬
ение получилось неказистым, оно было соз¬
дано из добротнейшего материала, построено
весьма целесообразно и потому оказалось
долговечным. В самом деле, можно лишь
поражаться объему литературы, освоенной
Корниловым, и той тщательности, с какой
он использовал в своем «Курсе» полученные
сведения. Сообщаемые им факты,
приводимые характеристики всегда
являлись результатом кропотливой работы
над совокупностью важнейших источников
и исследований по заданному вопросу. В
определенном отношении «Курс»
действительно вобрал в себя все лучшее, все
наиболее значимое из того, что было создано
предшественниками и современниками
Корнилова. Только не нужно искать в нем
откровений... Это прежде всего обстоятель¬
ный рассказ, которому можно верить, кото¬
рый дает читателю богатейший материал для
размышлений и собственных выводов. И,
кстати, огромным достоинством «Курса»,
наряду с прочими, является спокойный,
сдержанный, деловой тон: Корнилову совер¬
шенно не свойственно то либеральное пус¬
тословное краснобайство, которым грешили
многие его коллеги...
Если на вторую публикацию «Курса»
отреагировал один М. Н. Покровский, то
первая вызвала самый широкий отклик в
печати, что и понятно — столь серьезная
попытка осмыслить «новейшую русскую
историю» не могла не привлечь внимания.
И, пожалуй, во всех рецензиях, независимо
от их общей оценки «Курса», лейтмотивом
проходила мысль о «своевременности»,
«полезности» и даже «необходимости»
подобной работы.
Любопытно, что В. И. Вернадский,
читавший «Курс» в корректуре, высказывал
опасения, что публикация столь либерально¬
го сочинения вызовет бурную реакцию в
«правом лагере» и даже советовал «по воз¬
можности, без искажения истины эту опас¬
ность учесть»15. Корнилов пометил на полях
письма Вернадского, что считает эти опа¬
сения преувеличенными,— и оказался прав.
Единственная известная нам рецензия из
14
«правого лагеря» — профессора Клочкова
— носила вполне мирный и доброжелатель¬
ный характер16.
Нужно отметить, что в целом критика
«Курса» велась на уровне отдельных более
или менее справедливых замечаний
фактического характера. Вопрос о
корниловской «историософии», о сложном
взаимодействии ее с конкретным
историческим материалом почти не
ставился. Создается впечатление, что
большинство рецензентов вообще отказы¬
вали «Курсу» в каких бы то ни было
теоретических основах. Так, рецензент
«Русского богатства» характеризовал
«Курс» как учебник, представляющий собой
«довольно тщательно составленный свод
фактического материала»17. Ему вторил и
благожелательный в целом А. Изгоев, сожа¬
левший, что «не освещенный вполне проду¬
манной социологической идеей«Курс»...
местами сбивается на простое механическое
, 18
сцепление фактов» .
Появление подобных рецензий показа¬
тельно уже само по себе. Судя по ним,
Корнилову удалось выполнить лишь часть
поставленной задачи: дать «возможно-более
полное и точное» изложение фактического
материала. Воззрения же его на «социально-
политический процесс», определявший ход
русской истории, ускользал от внимания
даже весьма изощренных читателей.
Единственным, пожалуй, рецензентом,
обратившим внимание на корниловскую
«историософию», был АЛ.Кизеветтер —
профессиональный историк, близкий автору
«Курса» и по политическим убеждениям, и
по научным взглядам. Критикуя — и весьма
справедливо — концепцию исторического
процесса в России, сформулированную во
вступительных лекциях «Курса», Кизевет-
тер заявлял, что «правление Екатерины
явилось не поворотом на новый путь, а лишь
закреплением окончательных результатов
закрепощения». Этот «старый порядок» за¬
тем, в XIX в. постепенно разлагался под
воздействием «перехода России к более
сложным формам экономических отно¬
шений». Поставив вопрос таким образом,
Кизеветтер вполне логично упрекал своего
коллегу в недостаточном внимании к этим
экономическим отношениям19.
На полях этой рецензии Корнилов
обиженно написал: «Смею думать, что этому
(требованиям современной науки.— А1)
курс мой гораздо более удовлетворяет, не¬
жели курс Кизеветтера» . И в самом деле,
лекции Кизеветтера, читанные на Бесту¬
жевских курсах, не шли ни в какое срав¬
нение с сочинением нашего автора ни по
объему охваченного фактического ма¬
териала, ни по тщательности его обработки.
Но главное даже не в этом. Курс Кизеветтера
поражает своей внутренней противоречиво¬
стью еще в большей степени, нежели
корниловский. С одной стороны, в нем
встречаются рассуждения, звучащие на
удивление современно: например, о раз¬
рушительном воздействии развивающихся в
первой половине XIX в. товарно-денежных
отношений на крепостное хозяйство21. Но
тем более странно редом с подобными выво¬
дами выглядят все те же постулаты государ¬
ственной школы о надклассовом государстве
и бессловесной интеллигенции, о борьбе
между ними как главной движущей силе
русской истории...
В начале XX в. в русской исторической
науке шла серьезная работа: осваивался но- ,
вый материал, высказывались смелые суж¬
дения по частным вопросам, привычные
«историософские» теории внушали все боль¬
ше сомнений. Шел медленный, мучитель¬
ный, но чреватый будущими озарениями
процесс преодоления старого, устоявшего¬
ся... О том, каковы были бы конечные
результаты этого процесса мы, увы, можем
лишь догадываться.
* * *
В 1910—1911 гг. меняется обстановка в
России, оживляется общественное
движение, и в частности деятельность кадет¬
ской партии. Политика снова затягивает
Корнилова в свои сети; с началом же
мировой войны он уходит в партийную рабо¬
ту с головой*. Ш 1915 г. он вновь избирается
секретаре?!1 ЦК кадетской партии; одновре¬
менно с тем занимает должность председа¬
теля ее городского комитета; возглавляет
организацию кадетами продовольственного
дела в столице. После Февральской рево¬
люции Корнилов был назначен сенатором
второго (крестьянского) департамента Сена¬
та. Огромная, непосильная нагрузка, с кото¬
рой ему приходилось работать несколько
лет, сказалась неожиданным и роковым
образом: в июле 1917 г. во время заседания
ЦК с Корниловым случился апоп*
лексический удар, через неделю — второй1. *
Несколько оправившись, Корнилов с женой
и дочкой уехал на отдых в Кисловодск — й
15
сентябре 1917 г„ за месяц с небольшим до
Октябрьской революции...
Последние годы свои историк не столько
жил, сколько существовал. Во время граж¬
данской войны Корниловы бедствовали в
Кисловодске. Дневник маленькой дочки
историка Талы ярко характеризует то ужас¬
ное положение, в котором оказалось все
семейство: сам Корнилов с трудом
передвигался и практически не мог писать,
у Талы начался туберкулез; жить
приходилось в сырой угарной комнате .
Уже с конца 1917 г. началось хроническое,
отчаянное безденежье; в письмах к друзьям
и родственникам Корнилов постоянно
просил о материальной помощи, но она
приходила крайне редко. Семья держалась
на случайных заработках жены историка,
Екатерины Антиповны23.
Личные невзгоды усугублялись для
Корнилова трагическим положением дел в
России. Октябрьская революция была ему
ненавистна, и лишь инвалидность .мешала
принять участие в белом движении; да и при
всем том он, судя по переписке, входил в
состав знаменитой организации
«Национальный центр» — во всяком случае,
посещал ее заседания24.
Летом 1921 г., волей-неволей «признав»
советскую власть, Корнилов с семьей воз¬
вратился в Петроград. К этому времени он
несколько оправился от болезни и смог про¬
должить работу в Политехническом
институте. В 1922 г. Корнилов оставил служ¬
бы, не без труда выхлопотав себе маленькую
пенсию, которая и составила основное сред¬
ство существования семейства историка.
Научная его работа в это время свелась к
минимуму. После неудачной попытки в
третий раз переиздать «Курс» Корнилов все
свои помыслы связал с публикацией второго
тома хроники семейства Бакуниных (пер¬
вый том под названием «Молодые годы
Михаила Бакунина» был опубликован в 1915
г.). Сначала ему удалось поместить несколь¬
ко глав в «Былом», а накануне смерти
историка второй том вышел отдельным
изданием. Известие о кончине Корнилова
было опубликовано также в «Былом» вместе
с несколькими письмами из премухинского
архива, послужившими своеобразным не¬
крологом историку, и его незаконченной
работой над хроникой.
После смерти Корнилов был забыт на¬
долго... Первые упоминания о нем появляют¬
ся лишь в 1960-х годах в научной
литературе, посвященной крестьянской
реформе, земству, общественному
движению. Историки-профессионалы ценят
Корнилова за редкую добросовестность и
обстоятельность, за поразительное богатство
фактического материала, отличающее его
работы. Можно с уверенностью сказать, что
эти качества привлекут к Корнилову
широкий круг современных читателей,
многие из которых добрым словом помянут
автора «Курса».
А А Левандоеский
* * *
В данном издании «Курса истории
России XIX века» А. А. Корнилова редакция
придерживалась правил современной
орфографии и пунктуации. Курсивные вы¬
деления, библиография и ссылки сохраня¬
ются в авторской редакции.
Предисловие к первому изданию
Предлагаемый курс истории XIX в. был
в первый раз мною прочитан в 1909—1910
академическом году студентам II и III курсов
Петербургского политехнического института
Петра Великого. Курс этот тогда же был
издан слушателями по стенограмме моих
лекций. Затем он был прочитан еще два раза
студентам политехникума в два следующих
академических года с необходимыми допол¬
нениями и переработкой.
Теперь, вновь переработав текст литог¬
рафированного издания и снабдив его
библиографическими указаниями, я реша¬
юсь выпустить его в свет.
Он выходит в настоящее время в двух
частях, из которых первая — сверх двух
вступительных лекций, содержащих беглый
очерк процесса развития русского народа и
государства до XIX в.,— представляет
общий ход развития государственной и на¬
родной жизни в России в первую четверть
XIX столетия, до вступления на престол
императора Николая I. Часть вторая, изда¬
ваемая непосредственно вслед за первой,
содержит общий очерк внутренней истории
России в царствование Николая Павловича
и в первый, преобразовательный, в период
царствования Александра II (до 1866 г.).
В недалеком будущем я надеюсь приго¬
товить к печати третью часть, в состав
которой войдет внутренняя история России
за последние 35 лет XIX в.
Выпуская эту книгу, я долгом считаю
помянуть, с глубочайшей признательностью
покойного проф. В. О. Ключевского, непос¬
редственным учеником которого мне быть не
посчастливилось, но в печатных трудах ко¬
торого я почерпнул огромную помощь при
выработке моих собственных взглядов на ход
истории России в новейшее время.
Автор
Петербург, 3 января 1912 г.
ЛЕКЦИЯI
Общая характеристика социально-политического процесса развития русского народа и государства до
конца XVIII в.— Борьба за территорию и ее социально-политические результаты. Главные черты нового
социально-политического процесса развития русского народа и государства, как они сказались в конце
XVIII в.
Предлагаемый курс истории России XIX
в. не есть произвольно взятый отрывок рус¬
ской истории; он дает изложение определен¬
ного исторического периода, который
характеризуется чертами, резко отлича¬
ющими его от всего предшествующего хода
развития русской жизни, что и позволяет
делать его предметом особого изучения. Что¬
бы уяснить это, небесполезно охарактеризо¬
вать, хотя бы в самом беглом очерке,
основные черты того исторического процес¬
са, которым шло развитие русской государ¬
ственной и общественной жизни в течение
нескольких предшествующих веков —
приблизительно с конца XV в., когда, при
Иване III, сформировалось Московское госу¬
дарство, из которого выросла и нынешняя
Российская империя1.
Взглянув на карту, нетрудно понять,
насколько неустойчиво и непрочно было в
XV в. положение только что сложившегося
тогда Московского государства. С востока и
юга и по свержении татарского ига Москве
не переставали грозить постоянные на¬
шествия и набеги кочевников,
сгруппировавшихся после разложения Золо¬
той Орды в три царства, в три беспокойных
хищных гнезда: казанское, астраханское и
крымское. На западе и юго-западе к этому
времени сложилось сильное польско-литов¬
ское государство, поглотившее остатки днеп¬
ровской и западной Руси и грозившее
поглотить и остальные русские земли.
Границы этого грозного соседа в XV в.
подошли близко к самой Москве. На северо-
западе к московским владениям прилегали
владения единокровного, но ярого врага и
соперника московских государей, великого
князя тверского; на севере владения Москвы
граничили и переплетались чересполосно с
землями и колониями Господина Великого
Новгорода, в котором народные массы тяго¬
тели к объединению с Москвой, а высшие
классы постоянно интриговали против Мос¬
квы с Литвой и Польшей. Наконец, в центре
московской государственной территории
были земли, не принадлежавшие к ее соста¬
ву и составлявшие удельные вотчины князей
ростовских и ярославских. Эти последние
Ивану Третьему вскоре удалось присо¬
единить к Москве мирным путем.
Затем, после .упорной борьбы, были
присоединены огромные владения Новгорода
и великое княжество тверское. Сыну Ивана
III Василию III удалось присоединить
Псков, Орел и Рязань — последнюю только
в 1520 г.
Татарское иго свергнуто было еще в 1480
г., но дело покорения волжских татар
отодвинулось до второй половины XVI в., а
до тех пор только для того, чтобы держать в
некотором почтении и страхе казанское цар¬
ство, Ивану III, Василию III и Ивану IV
пришлось совершить не менее десяти похо¬
дов в границы казанских владений. Казань
была наконец завоевана в 1552 г., Астрахань
— в 1556 г. Но крымский хан сохранял свое
грозное значение для всего юга России до
XVIII в. Не раз в XVI и XVII вв. крымские
татары подступали к Москве, причем они
выводили из России десятки и сотни тысяч
душ обоего пола в плен и заполняли ими все
восточные невольничьи рынки.
Отстаивание тогдашних русских границ
от Литвы и отвоевание у Литвы и Польши
старых русских земель наполнило собой
18
весь XVI и XVII вв. и завершилось собствен¬
но лишь в конце XVIII в. При Алексее, после
присоединения Левобережной Украины, на¬
ступает впервые продолжительный мир с
Польшей (с 1667 г.); но старинные русские
области, входившие когда-то в состав Днеп¬
ровской Руси, возвращаются России только
при Екатерине после раздела Речи
Посполитой. Перед тем ценой страшного
напряжения всех сил государства Петру
Великому удалось в начале XVIII в. отвое¬
вать у Швеции Лифляндию, Эстляндию и
Ингерманландию и закрепить таким обра¬
зом за Россией побережье Балтийского моря.
Однако только с завоеванием Крыма и с
разделом Речи Посполитой при Екатерине,
т. е. к концу XVIII в., могли считаться вы¬
полненными те государственные задачи, ко¬
торые были поставлены ходом вещей еще
при Иване III. Только с тех пор, когда
Россия раздвинула свои пределы до берегов
Черного и Каспийского морей на юге и до
берегов Балтийского моря на западе,
сформирование государственной
территории великого царства могло считать¬
ся законченным, по крайней мере в главных
чертах, и настало наконец время, когда воз¬
можно стало главные силы и средства стра¬
ны сосредоточить на удовлетворении нужд
самого народа.
Во что же обошлось народу это образо¬
вание государственной территории и каковы
были социально-политические последствия
этого многовекового процесса?
Мы знаем, что в настоящее время ве¬
дение войны в течение двух-трех месяцев
поглощает нередко бюджет целого года. В те
времена денежные бюджеты государств
были невелики, и, конечно, ни на подготов¬
ление, ни на ведение войны тогдашние госу¬
дарства не могли тратить денежных сумм,
подобных нынешним; но сами войны были
не менее опустошительны и разорительны,
нежели нынешние. В тогдашней войне, как
это, впрочем, приходится, к сожалению,
признать и относительно нынешней, напа¬
дению врага подвергались не одни войска и
неприятельские крепости, но неизбежно
опустошалась страна, избивались,
мучились, терпели всякие неистовства,
брались в плен, уводились в неволю мирные
жители, не исключая жен и детей; скот
уводили или забивали, дома и всякие пост¬
ройки жгли, хозяйство и всякое имущество
грабили или уничтожали. Так поступали на
Руси не только хищные орды диких ко¬
чевников, не только чужеземные полчища
литовцев, но и свои православные христо¬
любивые воины при междоусобных войнах
князей и в особенности при борьбе Москвы
с ее наиболее сильными и упорными
противниками в России — с тверитянами и
новгородцами. Летописи XV и XVI вв. полны
кровавыми описаниями диких избиений,
зверств и систематических опустошений,
которые чинились войсками великих князей
московских в городах и селах тверского
великого княжества и в землях Великого
Новгорода, пока эти земли не были наконец
подведены «под высокую руку» собирателей
русской земли. Что же сказать о расправах
и опустошениях, чинившихся татарами при
нашествиях, которым периодически подвер¬
галась русская земля в XV, XVI и XVII вв.,
особенно со стороны крымских татар?! Не
так велика была убыль населения в сра¬
жениях, как от постоянного увода мужчин,
женщин и детей в плен и неволю. Чтобы
охранить границы от степных хищников,
приходилось прежде всего устраивать целый
ряд засек и сторожевых постов, которые
тянулись на сотни верст, огибая южную
границу, начиная от берегов Оки с прито¬
ками под Рязанью и далее на западе. Кроме
того, каждую весну приходилось мобилизо¬
вывать полки на защиту этой границы,
поднимая ежегодно на ноги многотысячную
рать2. Стремясь обезопасить себя от степных
хищников, московское правительство
строило все новые и новые города, отодвигая
сторожевую цепь все более и более к югу,
поселяя здесь ратных людей, ^стремясь
устроить из них как бы живую изгородь. Так
шла постепенная колонизация плодородных
степных пространств к югу от московской
границы. В то же время на западе шла
упорная борьба с Литвой, Польшей,
ливонскими рыцарями и шведами. Здесь в
течение столетия, протекшего с конца XV по
конец XVI в., происходили три большие
войны со Швецией и семь затяжных, много¬
летних войн с Польшей (при участии и
Ливонского ордена). На эти войны в слож¬
ности ушло не менее полных 50 лет. Число
войск, с которыми приходилось здесь
оперировать, по показаниям современников,
иногда достигло 200—300 тыс., а между тем
все население тогдашнего Московского госу¬
дарства не превосходило нескольких
миллионов душ обоего пола. Хозяйство было
в то время натуральное. Следовательно, о
том, чтобы содержать армию на деньги, не
могло быть и речи. В руках московского
правительства в это время был, как выража¬
I
19
ется В. О. Ключевский, только один
капитал, приобретенный им при собирании
Русской земли,— это огромные земельные
пространства, частью пустые, частью насе¬
ленные крестьянами.
Этот капитал и был пущен в ход для
содержания огромного, неимоверно разрос¬
шегося служилого сословия. Отсюда, как
известно, произошла сперва поместная
система, а затем на этой же почве подго¬
товилось под влиянием ряда экономических
условий и крепостное право3. Содержание
служилого сословия сделалось господству¬
ющим интересом в Московском государстве,
поглощавшим все остальные интересы стра¬
ны. Этому интересу все приносилось в жер¬
тву, ради него напрягались до крайности все
жизненные силы страны. Эта же неизбеж¬
ность постоянного, многовекового напря¬
жения всех средств страны, малонаселенной
и вынужденной отстаивать, охранять и пос¬
тоянно расширять и без того непомерно
растянутые границы, при наличности нату¬
рального хозяйства привела к тому, что все
население обращено было к постоянному
обязательному отбыванию тяжелой государ¬
ственной повинности того или иного рода.
Идея всеобщего государственного тягла и
другая сопутствовавшая ей идея закрепо¬
щения сословий вытекли из такого поло¬
жения дел. Эта же постоянная мобилизация
всех сил страны на борьбу за образование и
укрепление государственной территории
повела за собой и еще одно чисто уже
политическое последствие — чрезвычайное
усиление центральной власти. Иод гнетом
постоянных бедствий и опустошений
вследствие иноземных нашествий и кня¬
жеских усобиц и смут все население Руси
еще с XIV в. стало помогать московским
князьям установить мало-помалу гегемонию
и своего рода диктатуру московской великок¬
няжеской власти. В дальнейшем ходе вещей
интересы сложившейся и постепенно
оперившейся центральной государственной
власти надолго совпали с интересами
служилого класса. В жертву интересам этого
класса верховная власть не задумалась
принести свободу крестьян; в свою очередь,
служилый класс помог ей сломить домога¬
тельства боярского класса, когда этот пос¬
ледний пытался установить в свою пользу
значительные политические прерогативы.
Большая часть обрабатываемой земли в
центре государства, на западе, юге и юго-во¬
стоке сосредоточилась так или иначе — в
виде поместий и вотчин — в руках служило¬
го сословия. В интересах этого последнего
крестьяне были мало-помалу прикреплены к
земле и отданы своим господам — сперва
фактически, а потом и юридически — в
личную крепостную зависимость.
Между тем войны и военные потреб¬
ности не умалялись, а, наоборот, все разра¬
стались.
Борьба не на живот, а на смерть с
западными соседями вынуждала тянуться за
ними в организации военной силы на запад¬
ный образец. Приходилось выписывать до¬
рогостоящее огнестрельное оружие и
иностранных инструкторов в огромном
числе, чтобы создать способную к войне с
западными врагами армию. Это требовало
уже не только поддержания служилого сос¬
ловия, но и значительных денежных средств.
Приходилось напрячь платежные силы на¬
селения. В поисках за платежными силами
возникает и укореняется мало-помалу свое¬
образная финансовая система, в основание
которой кладется идея всеобщего тягла, ко¬
торая, в свою очередь, при отсутствии госу¬
дарственных учреждений на местах
приводит к круговой поруке внутри каждой
тягловой группы, а затем и к закрепощению
этих тягловых групп-сословий Московского
государства4. Этот процесс охватил как сель¬
ское, так и городское население.
В начале XVIII в. этот процесс —
процесс образования государственных сос¬
ловий и формирования социально-политиче¬
ской структуры Русского государства —
можно считать завершившимся в основных
чертах. В то же время напряжение государ¬
ственных средств и сил доходит до своего
апогея. Между тем задача собирания и ук¬
репления государственной территории дале¬
ко не была еще выполнена. До середины
XVII в., несмотря на упорную борьбу с
западом, не только дело собирания русских
земель на западе почти не подвинулось, но
западная граница остается по-прежнему в
высшей степени ненадежной и неопределен¬
ной. В XVI и XVII вв. Московское государ¬
ство едва оказывается в силах сдерживать
агрессивные стремления польско-литовского
королевства и Швеции. В начале XVII в.
выход в Балтийское море, по Столбовскому
миру, закреплен был за шведами, а между
тем развитие торговли с заморскими стра¬
нами в это именно время, когда натуральное
хозяйство перестает уже удовлетворять рас¬
тущие потребности государства, становится
особенно важным и нужным...
20
Ко времени Петра Польско-Литовское
королевство вследствие внутренних причин
начинает заметно терять свою силу, и явля¬
ется, благодаря этому, возможность на запа¬
де сосредоточить все силы Московского
государства на борьбу со Швецией. Однако
борьба эта требует огромного, можно ска¬
зать, предельного напряжения сил и за¬
тягивается на целых два десятилетия,
осложняясь еще трудной борьбой с Турцией.
Петру в конце концов удается исполнить
поставленную им самому себе или, лучше
сказать, завещанную ему предшествующими
веками, задачу: Швеция побеждена, Ингрия,
Карелия и Эстляндия, когда-то присоедине¬
нные к Московскому государству еще Ива¬
ном III, а затем утраченные при Иване IV,
вновь присоединяются к России вместе с
Лифляндией, доставляя России желанный
доступ к Балтийскому морю. Строится Пе¬
тербург. Россия, едва известная западу при
Иване III, возводится в ранг европейской
державы, а давняя ее соперница Польша
опускается как раз в это же время на степень
второстепенной державы, покровительствуе¬
мой соседями, раздираемой внутренними
смутами.
Успех, достигнутый Петром в борьбе со
Швецией, имел для России огромные пос¬
ледствия; но успех этот приобретен был
дорогой ценой. По верному выражению одно¬
го исследователя Петровской реформы,
Россия была возведена в ранг европейской
державы «ценой разорения» страны5. И
действительно, такого разорения, такого на¬
пряжения и расхода всех средств и сил
государства Россия не испытывала, может
быть, и в Смутное время. Для войны, для
сооружения Петербурга, для постройки фло¬
та требовались не только огромные денежные
средства, но и люди. Давно уже — с начала
XVII в.— силы одного служилого сословия
оказались недостаточны, чтобы вести борьбу
с западными соседями; заведены были стре¬
лецкие полки, потом рейтары и драгуны,
иностранного образца артиллерия. В состав
этих войск наряду с дворянами и детьми
боярскими приходилось включать новые
кадры населения, а во время войн объявлять
специальные наборы так называемых даточ¬
ных, т. е. рекрут. При Петре с 1701 г. наборы
становятся ежегодной повинностью насе¬
ления, причем они делаются не только для
пополнения рядов преобразованной армии,
но и для постройки Петербурга и для разных
других работ, требующихся государству.
Э^ги наборы и усилившиеся до чрезвычай¬
ности налоги ведут к тому, что в период
времени от 80-х годов XVII в. до начала
второго десятилетия XVIII в. в России исче¬
зает пятая часть двора. Одна доля этой
небывалой убыли населения составляет пря¬
мую жертву войны, другая доля разбегается
от гнета непосильных налогов. Быть может,
и даже вероятно, действительно убыль насе¬
ления за эти 30 лет была меньше, несомнен¬
но, некоторая часть разбежавшихся дворов
распределилась кое-как между оставшимися
дворами, но, во всяком случае, факт уничто¬
жения в это время 20 % наличных хозяйств
несомненен.
Правительству Петра приходилось
одновременно бороться с упорными врагами
и принимать меры к предотвращению окон¬
чательного разорения страны. Ему
приходилось одновременно изощряться в
ловле убегающего и уклоняющегося от не¬
посильных государственных тягот обывателя
и в то же время думать о поддержании и
развитии промышленности и торговли в
разоренной стране. В первое десятилетие
XVIII в. из состава малонаселенной страны
отнято было до 200 тыс. рабочих рук, и по
крайней мере половина из них погибла без¬
возвратно. Государственный бюджет в срав¬
нении с бюджетом конца XVII в. возрос в
несколько раз, и 3А этого бюджета шла на
содержание войска и флота, из остальной
четверти удовлетворялись все остальные
нужды огромного государства. Вся подушная
подать, которой были обложены все подат¬
ные сословия и которая составляла тогда
львиную долю государственных доходов,
шла целиком на содержание армии; все
косвенные налоги — на содержание флота.
В то же время в борьбе с беглыми и уклоня¬
ющимися от податей и повинностей Петр
окончательно закрепил крепостное право и
сравнял крепостных с холопами, а между
тем главное бремя по несению тяжелой
воинской повинности лежало теперь уже не
на одном служилом сословии, а и на том же
податном населении. Отбывание рек¬
рутчины легло новым тяжелым бременем на
плечи народа6.
Таково было напряжение народных сил
и средств при Петре. Однако успех, им
достигнутый, оказался достаточно прочен.
Несмотря на распутство и беспорядки,
царившие в России при неспособных и слу¬
чайных преемниках Петра до Екатерины
II,— в значительной мере, конечно, благода¬
ря счастливо слагавшимся в это время
внешним конъюнктурам,— созданные Пет¬
21
ром границы государства не ухудшаются и
даже еще несколько раздвигаются на юге и
юго-западе.
При Екатерине II к 70-м годам XVIII в.
окончательно назревает падение Польши, и
Россия уже без большого напряжения сил
получает к концу царствования не только все
старые области, входившие когда-то в состав
Днепровской Руси, но и Литву, и Кур¬
ляндию. Турция также слабеет в это время
все больше и больше, и после двух удачных
войн Россия покоряет наконец Крым, от
которого она страдала когда-то, и приобре¬
тает северные берега Черного моря. В 90-х
годах XVIII в. на юго-западе граница ее
обозначается течением Днестра, на юге Чер¬
ным морем, на юго-востоке Кубанью и Те¬
реком. Международное положение великой
империи становится более блестящим и мо¬
гущественным, нежели положение какой-
либо другой великой европейской державы.
Задача формирования и укрепления го¬
сударственной территории, стоявшая перед
русским народом со времен Ивана III, пог¬
лощавшая и истощавшая в течение ряда
столетий все его средства и силы, может
считаться теперь исполненной.
Момент этот является великим поворот¬
ным пунктом в развитии нашей страны. В
ней начинается совершенно новый
исторический процесс, который и дает со¬
держание новейшей истории. Если до Петра
включительно главнейшими лозунгами госу¬
дарственной власти были собирание
старинных русских земель, охрана государ¬
ственной территории и внешнее воз¬
величение России, то с царствования
Екатерины начинают в сознании общества
и самого правительства пробиваться иные
тенденции. Главной целью государственной
деятельности официально признается уже не
расширение и охрана государственной
территории, а «блаженство» подданных,
благополучие граждан. Екатерина с самого
воцарения своего определенно формулирует
этот принцип. Стремясь заслужить любовь
и преданность своих подданных» она в пер¬
вых же своих обращениях к ним выставляет
на первый план не внешнее возвеличение
России, а свое желание посвятить все свои
силы и средства заботам о благосостоянии
граждан.
Можно относиться как угодно
критически к выполнению этих ее обе¬
щаний,—* хотя едва ли возможно отрицать
огромное культурное значение ее царство¬
вания,— но, во всяком случае, важно
отметить поворот в самой формулировке
основных задач государственной власти.
Еще при Петре почти все силы государ¬
ства направлены были на борьбу за образо¬
вание государственной территории; с
Екатерины на первый план выдвигаются
задачи народного благосостояния — ма¬
териального и духовного. Вместе с тем еще
со второй четверти XVIII в. начинается пос¬
тепенное раскрепощение сословий, закрепо¬
щенных в борьбе за территорию. Этот
процесс раскрепощения происходит медлен¬
но и постепенно, осложняясь и затрудняясь
массой сопутствующих ему явлений и обсто¬
ятельств, но начинается он тотчас же, как
только является возможность ослабить то
напряжение народных сил, которое вызыва¬
лось непрерывной борьбой за территорию.
Затем наряду с раскрепощением сословий
начинается исподволь и вообще освобож¬
дение населения от стеснений и гнета, соз¬
данных этим многовековым напряжением
сил, и, наконец, ослабляется мало-помалу и
то основание диктатуры государственной
власти, которое создалось еще во времена
московских царей опасностью этой борьбы.
Этот сложный процесс раскрепощения
сословий, освобождения населения и смяг¬
чения государственной власти составляет
главное содержание истории России XIX в.;
завершение его происходит на наших гла¬
зах, но начало его относится к концу и даже
к середине XVIII в. к моменту окончания
многовековой борьбы за образование госу¬
дарственной территории.
Сперва выступают на очередь вопросы
народного благосостояния и народного прос¬
вещения. Сами по себе вопросы эти были,
конечно, не новы. И московским допет¬
ровским правительствам мысль о благосо¬
стоянии народа и даже о его просвещении
не была, разумеется, совершенно чужда, но
мысль эта тогда оттиралась на задний план
текущими неотложными потребностями на¬
пряженной борьбы за территорию.
Мы были бы совершенно несправедливы
к Петру, если бы не признали, что ему в
особенности была присуща мысль о благе
России и о ее просвещении. Но даже и этот
могучий титан, захваченный более чем кто-
либо из его предшественников борьбой за
территорию, мог посвящать народным нуж¬
дам лишь второстепенное внимание, и то
большей частью урывками. Из-за нужд и
интересов изнурительной и напряженной
борьбы у него и вопросы народного благосо¬
22
стояния и просвещения принимали чаще
всего служебный, подчиненный интересам
борьбы характер. Отсюда даже и те меры,
которые он принимал по отношению к соз¬
данию и поощрению промышленности и
торговли и к распространению просве¬
щения, имели казенный, технический ха¬
рактер. Петровские фабрики и заводы
служили главным образом казенным интере¬
сам и производили прежде всего те предме¬
ты, которые нужны были для вооружения,
обмундирования и всестороннего
обслуживания нужд армии и флота. Школы
Петра были главным образом
профессиональные технические школы —
таковы навигацкая, артиллерийская, инже¬
нерная и низшая цифирные школы. Даже
Духовную Академию он, по-видимому, хотел
одно время обратить в своеобразный
политехникум, который доставлял бы людей
и в церковную службу, и в гражданскую, и
в военную, и в строительную, и в
медицинскую.
При Екатерине вопросы народного бла¬
госостояния и просвещения официально
ставятся во главу угла. К сожалению, народ¬
ное благосостояние понимается чрезвычайно
своеобразно: сложившаяся под влиянием
предшествующего процесса русской
истории социально-политическая структура
страны при этом сильно дает себя чувство¬
вать. К тому же сама Екатерина, возведен¬
ная на престол дворянством и на него
сознательно опиравшаяся, быть может, даже
преувеличенно чувствовала свою от него
зависимость. Поэтому и вопросы народного
благосостояния она поневоле рассматривала
с дворянской точки зрения, которую стара¬
лась искусно комбинировать с
теоретическими воззрениями, заимствован¬
ными у корифеев политической мысли Ев¬
ропы XVIII в. В первые годы своего
царствования Екатерина, как известно, не¬
сколько наивно намеревалась водворить
«блаженство» народное при помощи единов¬
ременно созданного рационального законо¬
дательства. Созывая свою знаменитую
комиссию уложения, она поставила перед
ней в своем наказе задачу всеобъемлющего
государственного преобразования на нача¬
лах, заимствованных главным образом у
Монтескье и Беккарии.
Из работ этой комиссии непосредствен¬
ных результатов не вышло, и самая
комиссия была распущена через полтора
года после своего открытия, а Екатерина,
разочаровавшись в возможности проведения
всеобъемлющей реформы этим путем, вос¬
пользовалась комиссией лишь для того, что¬
бы почерпнуть из ее прений сведения о
настроении различных групп населения, и
обратилась затем на путь частичной разра¬
ботки отдельных проблем внутренней
политики; при этом она стремилась вод¬
ворить некоторую закономерность во
взаимных отношениях сословий между со¬
бой и к государственной власти и вообще
основать жизнь населения на правовых
принципах. Главной основой гражданского
общества при Екатерине официально
признается впервые в России обеспечение
личной и имущественной безопасности
граждан.
Екатерина успела также принять неко¬
торые меры к охранению народного здравия
и к обеспечению народного продовольствия.
В ее царствование дан был новый серьезный
толчок делу народного просвещения. Нако¬
нец, она успела поставить на твердое осно¬
вание внутреннюю организацию сословий и
устройство местного управления в губерниях
и уездах.
Раскрепощение сословий началось еще
до Екатерины с дворянства, и, благодаря
фактическому преобладанию этого сословия,
к раскрепощению крестьянства при Ека¬
терине, в конце концов, не только не дела¬
ется никаких практических ша/ов, но даже
правовое положение помещичьих крестьян
ухудшается, и крепостное право достигает
своего апогея под влиянием целого ряда
весьма сложных причин, в числе которых
главное значение имели: изменение быта
самого дворянства, начавшего оседать в
своих имениях после Семилетней войны и
отмены обязательной службы, и та
зависимость, которую Екатерина чувствова¬
ла от дворянства. Однако же принципиально
признается ненормальность крепостной
зависимости, и идея освобождения в буду-
.щем именно в это время начинает пробивать
себе путь не без участия самой импе¬
ратрицы. Освобождение торговли и про¬
мышленности от излишних стеснений и
регламентации и признание гражданских
прав и гарантий за «людьми среднего рода»
дает заметные плоды еще в царствование
Екатерины. К концу ее царствования быт и
общие тенденции дальнейшего развития
Русского государства и его населения наме¬
чаются в довольно определенных чертах.
23
ЛЕКЦИЯ II
Положение России накануне XIX в.— в конце царствования Екатерины II.— Границы государства.—
Значение территориальных приобретений Екатерины.— Пути сообщения.— Население.— Расовый сос¬
тав.— Сословно-классовый состав населения.— Положение различных разрядов крестьян.— Городские
сословия.— Духовенство. — Дворянство. — Интеллигенция и народные массы.— Развитие просвещения
в России и происхождение русской интеллигенции.— Идеология народных'масс.— Раскол.— Поло¬
жение государственной власти и ее органов.— Финансы в XVIII в.—Общие выводы.
Не задаваясь целью проследить здесь в
подробности, как развивалась жизнь русско¬
го народа при Екатерине, попытаемся фор¬
мулировать в кратких, по необходимости,
чертах то положение, в каком находилась
Россия ко времени смерти Екатерины, т. е.
в самом конце XVIII в.
Границы государства в это время
отличались от границы нашего времени
лишь в отношении: 1) Финляндии, из кото¬
рой в состав Российской империи тогда
входила лишь Выборгская губерния; 2) Цар¬
ства Польского, в то время нам не принад¬
лежавшего; 3) Бессарабии, которая
принадлежала еще Турции; 4) Кавказа, из
которого к России принадлежала Ставро¬
польская губерния и лишь части Кубанской
и Терской областей; 5) наконец, средне¬
азиатских владений, большей части степных
областей и Амурского края, приобретенных
лишь в XIX в. Таким образом, территория
Европейской России включала в себя все
старорусские области (за исключением
Галиции), из-за которых шла многовековая
борьба с Польшей, и имела границы, доста¬
точно обеспеченные и простирающиеся и к
северу, и к западу, и к югу до берегов
четырех морей, прилегающих к равнине Ев¬
ропейской России.
Международное положение России было
таково, что не только не могло возникнуть
каких-либо опасений за неприкосновен¬
ность границ, но, пользуясь положением
могущественной великой державы, эксплу¬
атируя слабость своих соседей, Россия могла
проявлять огромное влияние на международ¬
ные отношения всего цивилизованного мира.
Екатерина во второй половине своего царст¬
вования строила вместе с Потемкиным
величавые планы об изгнании турок из Ев¬
ропы и о восстановлении греческой
j империи, причем новая императорская ко-
\ рона должна была достаться внуку Ека-
I терины Константину.
В экономическом отношении
территориальные приобретения Екатерины
имели огромное, можно сказать, колоссаль¬
ное значение для развития России в буду¬
щем. Приобретение огромных черноземных
пространств на юге и на юго-западе в связи
с установлением полной безопасности
южной границы и с усиленной ко¬
лонизацией этих пространств внесло в эко¬
номический быт страны новый фактор
огромнейшей важности.
Лишь с этих пор Россия становится не
только земледельческой страной по имени,
но и одной из житниц Европы. И
действительно, уже в 1779 г. вывоз пшеницы
из главных портов (кроме остзейских) пре¬
вышал вывоз 1766 г. в девять слишним раз2.
Несмотря на сильное распространение хле¬
бопашества на юге России, цены на хлеб
удерживались довольно прочно, благодаря
развитию хлебной торговли, и это обстоя¬
тельство, в свою очередь, поощряло дальней¬
шее развитие земледелия на юге, который
теперь усиленно колонизовался.
Что касается путей сообщения, то в этом
отношении в XVIII в. имели огромное зна¬
чение водные пути сообщения и в особен¬
ности каналы, соединявшие речные
системы. Из них Вышневолоцкий и Ла¬
дожский каналы построены были еще при
Петре. При Екатерине значительно улучше¬
на была вышневолоцкая система, соединяю¬
щая Волгу с Балтийским морем. Остальные
каналы, задуманные и частью начатые при
Екатерине: Сясский, Новгородский, Бе¬
резинский, Огинский, Шлиссельбургский и
Мариинский, закончены были при Павле и
Александре в XIX в.3
Население, значительная убыль которо¬
го была констатирована в начале XVIII в.,
после первой ревизии, т. е. с 1724 г., росло
непрерывно, причем рост его особенно
усилился во второй половине XVIII в., что
несомненно свидетельствует о прекращении
24
того непосильного напряжения, которое оно воприобретенных в то время провинций,
испытывало в период борьбы за территорию. сосчитано 12 838 529 душ мужского пола4.
В 1763 г. (по третьей ревизии)' население Из них:
:3]
5 448 259
Частных помещичьих крестьян 6 678 239
Казенных крестьян, т е. черносошных,
дворцовых, посессионных и экономических ..... 4 674 603
Однодворцев и вольных людей 773 656
Мещан 293 743
Купцов 107 408
Свободных от подушной подати, т. е. дворян,
духовенства и чиновников вместе 310 880
12 838 529 д.муж.пола
Итого сельского населения 12 126 498, или 94,5%
«городского* 402 151 « 3,1 %
« привилегиров. сословий 310 880 «2,4%
обоего пола не превышало 20 млн., в конце
царствования Екатерины оно достигло в тех
же областях 29 млн., а с новоприобретен-
ными составляло (по расчету академика
Шторха) не менее 36 млн. душ обоего пола.
Расовый состав населения был и тогда до¬
статочно пестрый, особенно, если судить по
современному описанию народов России Ге¬
орги, где не приводится ни числовых дан¬
ных, ни сведений о степени обрусения той
или другой народности. Однако же числен¬
ное преобладание русского населения и даже
одного великорусского племени было в то
время гораздо решительнее, чем теперь, так
как в состав Российской империи не
входили ни Царство Польское, ни Кавказ,
ни Финляндия, ни Бессарабия. К иностран¬
ной колонизации Екатерина относилась
весьма благоприятно, и при ней
происходила значительная иммиграция не¬
мцев, западных и южных славян в Ново¬
российский край и в Саратовскую
губернию. При ней же последовало до 50
указов, стремившихся возвратить так назы¬
ваемых беглых, т. е. русское население,
ушедшее за границу в прежние времена от
религиозных преследований и различных
притеснений крепостного права. Обратное
переселение беглых обставлено было
различными льготами.
Что касается сословно-классового соста¬
ва населения, то о нем могут дать некоторое
представление следующие цифры, разрабо¬
танные академиком Шторхом по данным
четвертой ревизии 1783 г. По этой ревизии
всего в России, за исключением но-
В составе сельского населения около 45
% было казенных крестьян и однодворцев,
около 55 % помещичьих крепостных кресть¬
ян. Развитие крепостного права достигло в
это время своего апогея. В правовом отно¬
шении личность крепостных была совер¬
шенно бесправна. Помещики сосредоточили
в это время в своих руках не только право
распоряжаться трудом своих крепостных,
которых они могли по своему усмотрению
отрывать от земли, переводить в дворовые, т.
е. делать личными слугами, продавать
поодиночке и семьями, отдавать в услужение
в другие руки, назначать на барщину, пере¬
водить на оброк, приписывать к своим
фабрикам и заводам и т. п., но и наказывать
по своему усмотрению: заточением в разного
рода домашних и других тюрьмах, назна¬
чением на всякие сверхурочные работы, а
также телесно — розгами, батожьем и
плетьми — за относительно маловажные
преступления и даже просто и чаще всего за
«продерзостное» поведение.
Со времени Елизаветы Петровны дозво¬
лено было помещикам отдавать своих людей
за продерзостные проступки в руки
правительства для водворения их в Сибирь
на поселение. И в сущности,— как ни
страшно звучат эти слова для нас,— для
многих из крепостных такая ссылка явля¬
лась освобождением и избавлением от еще
более тяжелых и нестерпимых мук. С Ека¬
терины, однако же, разрешено помещикам
ссылать своих людей и в каторжные работы.
Помещики издавна присвоили себе право
вмешиваться и в семейный быт крепостных,
венчать их по своему усмотрению, распоря¬
жаться их имуществом. Различные злоупот¬
ребления и разврат помещиков во многих
25
случаях принимали совершенно невероят¬
ные размеры. При этом крепостным воспре¬
щалось законом жаловаться и доносить на
своих господ, кроме случаев государствен¬
ных преступлений, совершенных пос¬
ледними. De facto крепостные не мирились
с таким положением вещей и на наиболее
тяжелые проявления гнета отвечали не толь¬
ко жалобами правительству, но и вос¬
станиями, и убийствами помещиков и их
приказчиков, и побегами. Иногда, особенно
в начале каждого нового царствования,
среди крепостных крестьян проносились
слухи о дарованном новым царем и скрыва¬
емом помещиками освобождении — и тогда
волнения крестьян распространялись на
значительные пространства, охватывая
иногда целые губернии, и вызывали жес¬
токие усмирения при помощи войск и
свирепых экзекуций, порок и ссылок.
При Екатерине, в начале царствования,
волновалось таким образом до 150 тыс. кре¬
стьян. Но главный стихийный протест
против крепостного права, принявший
огромные, угрожавшие бытию государства
размеры, разразился в 1773 г. в Пугачевском
бунте.
Экономическое и бытовое положение
крепостных крестьян зависело главным
образом от того, были ли они барщинные или
оброчные. Барщинные крестьяне отбывали в
пользу помещиков работы в довольно неоп¬
ределенном и разнообразном размере. В
большинстве случаев в барщинных имениях
вся пахотная земля разделялась поровну на
господскую и крестьянскую пашню, причем
и рабочие дни делились поровну: крестьянин
работал три дня в неделю в господских
полях, три дня ему оставалось на обработку
отведенного ему поля. Но этот обычай не был
утвержден законом (до времен Павла), и в
отдельных случаях господа заставляли рабо¬
тать гораздо больше трех дней в неделю.
Затем в зимнее время на крестьянина
ложилась часто очень тяжелая обязанность
возить барский хлеб и другие продукты на
рынок, иногда за сотни верст. Независимо
от этого крестьяне поставляли помещику в
натуре птиц, иногда овец, свиней, ягоды,
грибы, а на баб, сверх того, налагалась
повинность, иногда чрезвычайно тяжелая,
доставлять определенное количество льня¬
ной или посконной пряжи и ткани, а иногда
и самодельных сукон. Некоторые помещики
к натуральным повинностям присоединяли
и денежный оброк, отпуская при этом часть
крестьян на зиму в отхожие промыслы.
В оброчных имениях обыкновенно вся
обрабатываемая земля (а иногда и лес) отда¬
валась в распоряжение крестьян, а крестья¬
не за это облагались определенным
денежным или натуральным оброком, раз¬
мер которого зависел от произвола владельца
и соизмерялся чаще всего с доходами кре¬
стьян не от отданной им земли, а от заработ¬
ков их на стороне; ибо и вообще оброчная
система была распространена главным
образом в северных нечерноземных гу¬
берниях, где доход от земли был незначите¬
лен, а заработки и промыслы крестьян —
городские, лесные* речные и притрактовые
— достигали нередко весьма значительных
размеров. Оброчные крестьяне, даже и при
тяжелых оброках, жили вообще гораздо
привольнее барщинных уже потому, что они
пользовались, вдали от господ, гораздо боль¬
шей свободой и даже самоуправлением в
своем внутреннем быту, в отдельных,
редких, конечно, случаях, приближавшем
их быт к быту независимых свободных лю¬
дей, причем в этом случае принадлежность
их частным лицам, особенно когда эти лица
были богаты и сильны, избавляла их от
притеснений и злоупотреблений
чиновников. В большинстве случаев и в
оброчных имениях власть и произвол
помещиков давали себя, разумеется, чувст¬
вовать достаточно часто и больно. Средний
размер оброка при Екатерине не превышал
5 руб. на душу (в конце царствования).
Число оброчных имений к концу XVIII
в. увеличилось в связи с развитием торговли
и промышленности и в северных, нечерно¬
земных, губерниях перевалило за половину
всех помещичьих имений, составляя в Ярос¬
лавской губернии 78 %, в Нижегородской —
82 %, в Костромской — 85%, в Вологод¬
ской — 83 %; наоборот, в черноземных хле¬
бородных губерниях оно было вообще
невелико и в губерниях Курской и Тульской
не превышало 8 %.
Кроме помещичьих крепостных кресть¬
ян и дворовых в числе несвободных групп
населения в XVIII в. (перешедших и в XIX
в.) следует считать так называемых за¬
водских и фабричных ♦посессионных» кре¬
стьян, которые были частью причислены
(при Петре I и его преемниках) навсегда к
заводам и фабрикам частных лиц из бывших
казенных крестьян, частью приписаны из
числа водворившихся на заводах
помещичьих беглых, с выплатой за них
вознаграждения их прежним владельцам,
или из бродяг и других категорий лиц, не
26
приписанных ни к какому податному обще¬
ству, частью куплены с разрешения
правительства к фабрикам и заводам, хотя
бы таковые принадлежали и лицам недво¬
рянского сословия и, следовательно, не
имевшим права владеть крепостными
людьми. От крепостных «посессионные»
крестьяне отличались тем, что они принад¬
лежали не лицу, а фабрике или заводу и
отдельно от заводов не могли быть продава¬
емы. Кроме того, они по закону,— конечно,
плохо соблюдавшемуся,— не могли быть на¬
казываемы самими владельцами заводов или
заводской администрацией. Вдовы и дочери
их могли свободно выходить замуж за пос¬
торонних лиц. Таких «посессионных» кре¬
стьян числилось в конце XVIII в. около 80
тыс. душ мужского пола.
Казенные крестьяне разных наимено¬
ваний представляли собой, в сущности,
весьма разнородную массу. Из числа их не
менее 2/7 (в 70-х годах XVIII в. около 1 млн.,
не считая малороссийских западных, присо¬
единенных от’Полыыи губерний) составляли
бывшие церковные, архиерейские и мона¬
стырские крестьяне, состоявшие до 60-х
годов совершенно на положении крепост¬
ных, но в 1764 г. окончательно отобранные
у архиерейских домов и монастырей и
отданные в распоряжение особого казенного •
ведомства — коллегии экономии, отчего они
и получили название экономических. Из до¬
ходов секуляризованных церковных имений
часть шла на содержание духовенства, а
остальное (более чем половина) должно было
употребляться на общенародные нужды.
Около х/п всех казенных крестьян сос¬
тавляли крестьяне дворцовые, впоследствии
переименованные при Павле в удельные. В
сущности, это были крепостные крестьяне,
прикрепленные к императорскому двору.
Екатерина значительно облегчила их поло¬
жение тем, что заменила в дворцовых
имениях барщину довольно умеренным
оброком. От помещичьих крепостных кре¬
стьян они отличались еще и тем, что не
могли быть продаваемы отдельно от земли.
Вместе с близко примыкавшим к ним не¬
большим разрядом так называемых госуда¬
ревых крестьян (в начале царствования
Екатерины до 62 тыс.), принадлежавших
отдельным членам царской фамилии, и с
конюшенными крестьянами (до 40 тыс.),
несшими весьма тяжелые повинности в
пользу царских конюшен, весь этот разряд
приписанных ко двору и к царской фамилии
крестьян в начале царствования Екатерины
в одних центральных, северных и восточных
губерниях превышал уже 1/г млн. душ муж¬
ского пола.
Затем следовали группы казенных кре¬
стьян, рабочие силы которых эксплу¬
атировались на удовлетворение различных
государственных нужд. Здесь прежде всего
следует указать группу крестьян, приписан¬
ных к горным и иным заводам казенным
(241 253) и частным (70 965) — всего около
330 тыс. душ мужского пола. Крестьян этих
не следует смешивать с упомянутыми выше
«посессионными» крестьянами, так как они
по закону были приписаны к заводам для
выполнения лишь некоторых работ в таком
размере, чтобы заработанной платой (по
весьма низкой таксе) уплачивать часть на¬
ложенной на них подушной и оброчной
подати (всего 1 руб. 70 коп. с души). По идее
они должны были тратить на это лишь часть
своего времени, свободного от сельскохозяй¬
ственных работ, преимущественно зимой.
Но на деле вследствие того, что многие из
них были приписаны к заводам, отстоявшим
от их деревень на сотни верст (иногда на 500
верст и больше), а также и вследствие чрез¬
вычайных злоупотреблений заводчиков,
употреблявших их и на таких работах, ко¬
торые исполнять им не полагалось, и под¬
вергавших их всяким истязаниям,
положение их было в высшей степени тяже¬
лое и безотрадное, а сельское хозяйство на
их полях приходило нередко в полное запу¬
стение. С таким положением они не
мирились, и среди них в XVII в. часто
возникали волнения, нередко с трудом
подавлявшиеся, а в 1773 г. они приняли
самое деятельное участие в Пугачевском
бунте. Лишь после того горькая судьба их
была несколько упорядочена. Наряду с ними
следует поставить крестьян, приписанных к
лесам адмиралтейства (112 357 душ) и
ямщиков (около 50 тыс.), поселенных при
больших трактах специально для содер¬
жания станций и отбывания гоньбы5.
Все эти разряды казенных крестьян,
хотя и не были личными крепостными
рабами в том смысле, что не могли быть
продаваемы без земли, были однако же по
характеру своих прав и работ государствен¬
ными крепостными.
Большей свободой и независимостью
среди казенных крестьян пользовались лишь
черносошные крестьяне на севере,
платившие государству определенные де¬
нежные оброки и подати и отправлявшие
некоторые натуральные повинности общест¬
27
венного характера, а в быту своем пользо¬
вавшиеся сравнительно широким самоуп¬
равлением. Этих крестьян в 70-х годах XVIII
в. было более 627 тыс. душ мужского пола.
На юге и в некоторых центральных гу¬
берниях такую же свободную группу сель¬
ского населения представляли однодворцы и
старых служб служилые люди, которые не
только были свободны от крепостной
зависимости, но даже иногда сами владели
крепостными. Это низший разряд служилых
людей, несших когда-то сторожевую службу
на границах Московского государства и
получавших в свое владение небольшие
участки незаселенных земель. Шторх
насчитывал их, примешивая к ним некото¬
рые другие группы свободных сельских
жителей неопределенного характера, в конце
XVIII в. до 773 656 душ мужского пола.
Мы уже видели, что число крестьян во
всех их категориях составляло в XVIII в.
около 94,5 % общего числа жителей тогдаш¬
ней России. Благодаря этому обстоятельству
Россия издавна признавалась страной
исключительно земледельческой. Это опре¬
деление, однако же, и для XVIII в. нельзя
принять без весьма существенных оговорок.
Дело в том, что лица, числившиеся кресть¬
янами, были и тогда далеко не все земледель¬
цами. Прежде всего из числа земледельцев
следует исключить целые группы крестьян
казенных, приписанных к различным заво¬
дам. Таких крестьян было в XVIII в. не менее
10 % всех казенных крестьян; затем из
числа помещичьих, дворцовых и эко¬
номически^ многие из тех которые принад¬
лежали к числу оброчных,— а их было не
менее Vг всех крестьян этих разрядов,— не
могут считаться чистыми земледельцами,
так как из них значительная часть, особенно
из нечерноземных промышленных губерний,
и в XVIII в. проживала на стороне и земле¬
делием не занималась. Наконец, и среди
коренного земледельческого населения
сильно развиты были в некоторых местно¬
стях различные виды домашней и кустарной
промышленности. Вообще торговля и мелкая
промышленность искони были очень расп¬
ространены как в Московском государстве,
так и в императорской России;
производимого же хлеба в коренных русских
губерниях до приобретения и заселения чер¬
ноземного юга едва хватало на прокормление
местного населения.
В XVIII в. замечается значительный
рост городского населения, ранее развивав¬
шегося довольно туго. Тогда как с 1630 по
1724 г., почти за целое столетие, число
городских жителей едва возросло с 292 тыс.
до 328 тыс., после 1724 до 1796, т. е. в
течение 72 лет, оно увеличилось почти в
четыре раза, дойдя до 1301 тыс. душ. Купе¬
ческий класс, входивший в состав этого
городского населения, также увеличился,
дойдя к концу царствования Екатерины до
240 тыс., причем и занятия его развились и
усложнились вследствие развития заводско¬
фабричной промышленности и заграничной
торговли. В допетровской. Руси фабрик и
вообще крупной промышленности почти не
было. Значительные торговые обороты, не¬
редко миллионные (считая на наши деньги),
основывались главным образом на скупке и
перепродаже продуктов мелкой кустарной
промышленности и земледелия. При Петре
правительство дает мощный толчок
развитию заводов и фабрик, необходимых
ему для производства предметов оборудо¬
вания и обмундирования армии и флота.
Фабрики основываются самим правительст¬
вом с припиской к ним крестьян, владеть
которыми предоставляется фабрикантам и
не дворянского происхождения. Затем осно¬
ванные правительством фабрики и заводы
передаются частным лицам вместе с
приписанным к ним населением.
Многие купеческие капиталы, накоплен¬
ные ранее торговлей, привлекаются таким
образом с Петра к фабричной промышлен¬
ности. При Екатерине, несмотря на то что
она из желания угодить дворянству, пок¬
ровительствовала мелкому производству,
фабрики продолжают расти быстрее преж¬
него, причем наряду с приписными
рабочими они начинают пользоваться и
вольнонаемными. Дворянство относится не¬
дружелюбно к этому явлению. Ему чрезвы¬
чайно важно поддержать мелкую
крестьянскую промышленность и торговлю,
так как наличность ее дает возможность
получать огромные оброки с торговых и
промышленных крестьян их имений. В Ека¬
терининской комиссии уложения впервые
происходит открытая борьба между двумя
классами. Впоследствии, уже по закрытии
комиссии, дворянство, при поддержке импе¬
ратрицы, одерживает верх над купцами.
Правительство начинает строго смотреть за
тем, чтобы купечество не владело незакон¬
ным образом крепостными; дворянство же
начинает заводить свои фабрики, основан¬
ные всецело на крепостном труде.
Число заводов и фабрик, не превышав¬
шее к началу царствования Екатерины, по
28
данным, приводимым М. И. Туганом-Бара-
новским, 984 <не считая горных), в конце
царствования достигает цифры 3161. По
другим данным, приведенным у А. С. Лап-
по-Данилевского, их было в начале царство¬
вания Екатерины не более 500, а к концу его
— оказалось в четыре раза больше. Во вся¬
ком случае, число самых важных заводов и
фабрик увеличилось не менее чем на 40 %.
Снятие с торговли и промышленности
различных стеснений и регламентаций, ус¬
тановленных в первой половине XVIII в., в
связи с открытием при Екатерине первых
кредитных учреждений, развитием торгового
мореплавания, учреждением заграничных
консульств и заключением торговых кон¬
венций, сильно оживило заграничную тор¬
говлю. Отпуск русских товаров за границу в
течение ее царствования увеличился с 13
млн. до 57 млн. руб., а ввоз заграничных
товаров — с 8 млн. до 39 млн. руб. В
значительной мере этому содействовали два
первых таможенных тарифа Екатерины:
1766 г.— вполне либеральный — и 1782 г.—
лишь с некоторым усилением покровитель¬
ственных пошлин.
Правовое положение купцов значитель¬
но изменилось при Екатерине в том отно¬
шении, что они вышли из разряда податных
сословий с освобождением их от внесения в
подушный оклад, который был заменен для
них обложением их капиталов 1 % сбором,
причем размеры капиталов объявлялись
самими купцами «по совести». Купцы очень
дорожили этим указом, освобождавшим их,
по их собственным словам, от «бывшего
невольничества» Однако же отправление
прежних казенных служб фискального ха¬
рактера не было снято с купечества (за
исключением купцов первой гильдии) и
таким образом сохранило этому сословию до
известной степени прежний тяглый харак¬
тер.
Жалованная грамота городам создала
зачатки самоуправления городского насе¬
ления, причем оно было разделено на 6
классов, из которых каждый имел пред¬
ставительство в городской думе. Это были:
1. Купцы (трех гильдий).
2. Цеховые.
3. Посадские.
4. Домовладельцы.
5. Именитые граждане.
6. Иностранные купцы и свободные ма¬
стера.
Городские учреждения Екатерины про¬
существовали с некоторыми изменениями до
реформ Александра II.
Секуляризация архиерейских и мона¬
стырских имений сильно отразилась на быте
духовенства, тем более что эта реформа
сопряжена была с введением церковных
штатов, определявших содержание высшего
духовенства и уничтоживших старое тягло,
которое отбывало белое духовенство в пользу
архиереев. Вместе с крепостными имениями
из-под власти архиереев ушло более 30 тыс.
заштатных церковников, распределенных по
разным службам. Благодаря этой реформе
духовенство, по замечанию А. С. Лаппо-
Данилевского, «потеряло значение более или
менее независимой корпорации в государст¬
ве», причем высшее духовенство утратило
часть своего выдающегося влияния, а
низшее белое приходское духовенство осво¬
бодилось до некоторой степени от своего рода
крепостной зависимости.
Как уже указано, всего более изменилось
при Екатерине правовое положение дворян.
Собственно, решительное раскрепо¬
щение дворянства началось еще до Ека¬
терины указом Петра III 18 февраля 1762г.,
освободившим дворян от обязательной служ¬
бы. Жалованная грамота дворянству 1785 г.,
подведя итог всем ранее предоставленным
дворянству льготам, дала самоуправление
дворянству каждой губернии, освободила
дворянство от телесных наказаний и предо¬
ставила ему право петиций по обществен¬
ным делам и нуждам. За дворянством еще
ранее признано было исключительное право
владеть населенными имениями и иметь
полную собственность не только на поверх¬
ность, но и на недра принадлежавших ему
земель.
Учреждение о губерниях 1775 г. сделало
дворянство правящим сословием на местах
в провинции. Дворянство, освобожденное от
обязательной службы, сохранило, благодаря
этому учреждению, преимущественные пра¬
ва государственной службы и в особенности
широкое право выбора должностных лиц в
провинциальные правительственные уста¬
новления. По введении положения о гу¬
берниях более 10 тыс. лиц заняло выборные
должности в губерниях и уездах. Таким
образом, мало того что каждый помещик был
в сущности почти неограниченным госуда¬
рем в своем имении, дворянство, ставя своих
выборных должностных лиц на важные ме¬
ста в провинциальном управлении и в суде,
укрепило и возвысило после реформы Ека¬
29
терины надолго свое огромное социально-
политическое значение в русской народной
жизни.
Для того чтобы сделаться могуществен¬
ным политическим сословием и властно
влиять на судьбы русского народа и Русского
государства, дворянству не хватало лишь
одного — ограничения прав самодержавной
власти монарха и участия в законодательст¬
ве и верховном государственном управ¬
лении. Этого дворянству не удалось
достигнуть и при Екатерине. Екатерина
искусно и успешно охраняла неприкосно¬
венность самодержавия как от дворянско-
конституционных стремлений, наиболее
типичным выразителем которых в ее царст¬
вование явился известный историк кн.
Щербатов, так и от покушений вельмож-
аристократов вроде Никиты Панина, а еще
более, конечно, от «продерзостных» меч¬
таний и покушений конституционалистов-
демократов вроде Радищева, который был,
впрочем, в свое время явлением совершенно
исключительным.
Сводя воедино все сказанное о сослов¬
ном и классовом составе населения России
в конце XVIII в., мы видим, что 94,5 % его
составляло крестьянство, которое, однако
же, в экономическом отношении не состояло
из единообразной массы и отнюдь не могло
считаться классом исключительно земле¬
дельческим, в правовом же отношении рас¬
падалось на целый рад разрядов или групп,
которые по правам своим составляли как бы
целую лестницу со многими ступенями,
начиная от вполне бесправных помещичьих
крепостных и доходя до сравнительно сво¬
бодных разрядов черносошных крестьян на
севере и однодворцев на юге. Рядом с этими
последними группами крестьян стояли
низшие слои городских жителей —
посадские, или мещане, и цеховые, число
которых в 1783 г. не превышало 300 тыс. Г
душ мужского пола, или 2 х/г %. Над ними
стояли купцы разных гильдий (всего 1^7
тыс. душ мужского пола — менее 1 % всего
населения). Затем шло приходское духовен¬
ство, освобожденное от прежней почти раб¬
ской зависимости своей от архиереев,
политическое значение которых было сильно
подорвано секуляризацией церковных
имений и штатами 1764 г. Духовенство со¬
ставляло не более 1 % всего населения. На¬
конец, над всеми возвышалось и по правам
своим, и по богатству дворянство, в составе
которого числилось не более 1 % жителей, а
если-причислить к нему личных дворян и
чиновников, то вместе с ними численность
его доходила, быть может, до 1 :/а или до 1
1/г % всего населения империи. Это сос¬
ловие было единственным, которое не только
вполне раскрепостилось в XVIII в., но и
получило значительные npafca и привилегии
как материального, так и нематериального
свойства.
Теперь нам предстоит охарактеризовать
положение населения в идейном отношении.
В этом отношении прежде всего важно иметь
в виду то разделение населения на
интеллигенцию и народ, тот раскол, который
начался между ними со времени Петра
Великого и продолжается, в сущности, до
настоящего времени.
В древней Руси такого разделения не
было. В Киевской Руси вместе с материаль¬
ным богатством, по-видимому, нарождалась
и культура — и культура довольно высокая
для того времени, хотя, впрочем, по этому
вопросу мнения исследователей довольно
различны. Как бы то ни было, эта
византийская культура не передалась после¬
дующей эпохе и почти совершенно исчезла
под влиянием татарского завоевания, кня¬
жеских междоусобиц и других неурядиц
внутренней жизни.
В XV и XVI вв., когда уже образовалось
Московское государство, царило почти все¬
общее невежество. В этом отношении мы
имеем достоверные сведения, например, со¬
общение Геннадия, епископа Новгородского,
по свидетельству которого нередко
приходилось даже в священники посвящать
лиц почти совершенно неграмотных. Неко¬
торые меры в целях просвещения
предпринимало, разумеется, и московское
правительство XVI—XVII вв., но меры эти
были чрезвычайно слабы и редки:
> правительство опасалось тогда более всего
проникновения западной ереси, и все прос¬
ветительные меры парализовались
реакционными стремлениями обскурантов,
которые взяли верх в особенности при дворе
Федора Алексеевича. Сколько-нибудь серь¬
езное просвещение стало распространяться
и вводиться правительством начиная с Пет¬
ра. Характерной особенностью петровских
просветительных мероприятий является, как
уже указано, их определенно практический
характер: когда Петру стало ясно, что необ¬
ходимо иметь технически образованных лю¬
дей для получения кадров тех сотрудников,
которые были ему нужны в его борьбе,— он
начал насаждать школы. Так были открыты
начальные цифирные школы. Цифирные
30
школы были устроены в 42-х местах, и в них
попадало население самых разнообразных
сословий и классов. Петр всегда был готов
поступиться сословными перегородками,
когда дело касалось той борьбы, которую он
вел. Всего учеников в цифирных школах при
Петре числилось до 2 тыс. Их состав, по
данным, приведенным у П. Н. Милюкова,
был таков: 45 % составляли дети духовных
лиц; 19,6%—дети солдат, 18%—дети
приказных, 4 1/г % было детей посадских,
более 10 % —детей разночинцев6 и только
2 /г % —детей дворян. Затем, в 1716 г.,
дворянам было приказано вовсе не отдавать
детей в цифирные школы, так как Петр
велел, чтобы дворяне отдавали своих детей в
высшие специальные училища. Впрочем, в
младших классах тех же училищ также было
очень много детей разночинцев.
При преемниках Петра и цифирные
школы сошли на нет. Население очень нео¬
хотно отдавало в них своих детей, и его
приходилось насильно к этому побуждать
при посредстве местного начальства, а когда
преемники Петра обнаружили к просве¬
щению равнодушие, то, естественно, насе¬
ление перестало вовсе отдавать своих детей
в цифирные школы.
С 1732 г. при Анне Иоанновне
цифирные школы были заменены до некото¬
рой степени так называемыми гарнизон¬
ными школами при полках; школы эти были
образованы, собственно говоря, для солдат,
но имели и общекультурное значение; так,
например, до времен Екатерины только в
них можно было достать в провинции до¬
машнего учителя математики, хотя, конечно,
математика эта была невысокого сорта7.
С Петра же начинают заводить и
епархиальные школы; в 1727 г. их было 46
(при 3-х тыс. учебников), часть их вскоре
была преобразована в губернские
семинарии. При Екатерине II число
учащихся в епархиальных школах достигало
уже И тыс., а в семинариях — до 6 тыс.
(семинарий же было 26).
При Петре же была восстановлена Мос¬
ковская Духовная Академия, которая еще
при Федоре Алексеевиче была основана по
образцу киевской, при помощи присланных
из Греции братьев Лихуд, но захирела ввиду
гонений, возникших против нее. Петр, вос¬
становив ее, высказывал, как уже сказано
выше, своеобразные взгляды на ее задачи: он
считал, что эта академия должна подготов¬
лять самых разнородных работников, т. е.
быть своего рода политехникумом. Для дво¬
рян Петром были основаны навигационная,
инженерная и артиллерийская школы. При
Анне Иоанновне к этим трем школам был
еще добавлен сухопутный шляхетский кор¬
пус, который и был с этих пор высшим и
излюбленным училищем для дворянских де¬
тей. При Петре же была сделана первая
попытка создания университета при Ака¬
демии наук — попытка, приведенная в
исполнение уже после его смерти; в 1726 г.
были выписаны из-за границы профессора,
но их оказалось больше, чем студентов; сту¬
денты набирались принудительным поряд¬
ком из учеников духовных академий,
семинарий, и дело шло плохо. Несколько
удачнее обстояло дело с гимназией, открытой
тоже при академии: в 1728 г. в ней было уже
более 200 учеников, состоящих по преиму¬
ществу из детей разночинцев.
Таковы главные факты в деле насаж¬
дения школьного образования при Петре
Великом и его ближайших преемниках.
Петровская школа, несмотря на свой
профессиональный характер, имела боль¬
шое общекультурное значение: она была
школой светской; она отреклась от прежнего
страха ересей и новшеств и явилась, как это
подчеркивает Милюков, главной воспита¬
тельницей и созидательницей первого поко¬
ления русской интеллигенции. Эта
интеллигенция, надев европейское платье,
отличалась от народа уже не только по
внешности; в эту именно пору между
интеллигенцией и народом начался тот
нравственный раскол, который продолжает¬
ся й до нашего времени. Эта только что
народившаяся интеллигенция уже в 30-х
годах XVIII столетия дает яркого выразителя
новых общественных идей и взглядов в лице
Татищева, историка, писателя и деятельного
администратора. А в 40-х годах начинается
славная деятельность великого русского уче¬
ного и преобразователя русского языка М. В.
Ломоносова.
Довольно быстро юная интеллигенция
начала оперяться. К середине XVIII
столетия получает значительное распростра¬
нение чтение книг, в особенности романов,
главным образом переводных; несколько
позже появляются и оригинальные. При
Елизавете Петровне устраивается евро¬
пейский театр, а затем и первый
периодический литературный орган в виде
«Ежемесячных сочинений», издававшихся
при Академии наук под редакцией Миллера.
С 1759 г. начинает издаваться Сумароковым
первый частный журнал.
31
В 1755 г. Шувалов основывает
университет в Москве с двумя гимназиями
при нем (одна — для дворян, другая — для
разночинцев). Правда, de facto и вновь уч¬
режденный университет не скоро приобрел
значение настоящего рассадника образо¬
вания в России — сначала его постигла та
же судьба, что и первый петровский
университет: студентов было мало, и в самом
же начале существования ему пришлось
переживать годы упадка,— но Шувалов не
смущался и мечтал о целой сети училищ для
систематического распространения просве¬
щения, по крайней мере среди дворян.
С Екатерины в деле распространения
образования делается новый решительный
шаг. Просвещение признается нужным само
по себе, и целью просвещения является не
государственная нужда в тех или иных
работниках, а сам человек; прямо ставится
задачей просвещения, в соответствии с иде¬
ями века, облагораживание человеческой
природы и указывается, что истинное прос¬
вещение должно не только развивать ум, но
и воспитывать «добронравие». С другой сто¬
роны, совершенно определенно и открыто
нужда в просвещении признается нуждой
всесословной. Одно время Екатерина
признавала даже, что и женщину необ¬
ходимо так же воспитывать, как и мужчину.
В конце царствования Екатерины
правительством вырабатывается подробный
план целой сети училищ на западный обра¬
зец. Император Иосиф по просьбе русской
императрицы прислал просвещенного и
опытного педагога Янковича де Мириево,
серба по происхождению, который положил
в основу своего плана тогдашнюю
австрийскую систему и создал целую сеть
училищ низших и средних (главным обра¬
зом на бумаге, но отчасти и в действитель¬
ности), — сеть, заканчивающуюся
Московским университетом. Вместе с тем
было предпринято печатание учебников,
главным образом переводов тогдашних
австрийских учебников, которые считались
последним словом педагогики того времени.
Новые учебники появились в числе не¬
скольких десятков, значительно облегчив
преподавание в новых училищах неопытным
и плохо подготовленным педагогам.
Во второй половине XVIII в. в особен¬
ности после Семилетней войны, уже и обще¬
ство само, в лице второго поколения
интеллигенции, образовавшейся после Пет¬
ра, обнаруживает самостоятельное стрем¬
ление к просвещению и к выработке
собственной идеологии. Развитию подобных
стремлений способствовало усилившееся
общение с западом, постоянное действие
западных идей, которые в это время на
западе развивались особенно быстро и
притекали в Россию по двум руслам: с одной
стороны, эго были идеи французских
энциклопедистов, материалистов и таких
всесветных просветителей, как Вольтер,
Монтескье, Руссо и Мабли, а с другой сто¬
роны, это были идеи немецких идеалистов-
масонов (розенкрейцеров). Их
представителями у нас явились Новиков и
Шварц, которые образовали известное «Дру¬
жеское общество», имевшее огромные за¬
слуги в деле распространения просвещения
и пробуждения самосознания в русском
обществе.
Екатерина не ожидала такого быстрого
и самостоятельного развития представителей
русского общества; в начале своего царство¬
вания она еще считала, что помимо распро¬
странения школьного образования,
необходимо воспитывать в обществе граж¬
данские чувства при помощи литературы и
публицистики. В этих целях в 1769 г. она
предприняла издание журнала «Всякая
всячина». Но эта попытка руководить обще¬
ственным развитием и настроением при
помощи литературного органа убедила ее
лишь в том, что общество развито значитель¬
но более, чем она полагала. «Всякой
всячине» пришлось тотчас же защищаться
от нападок других тогда же возникших жур¬
налов, которые шли значительно дальше и
держали себя гораздо более независимо, чем
хотела императрица.
При Екатерине было разрешено основы¬
вать частные типографии, и благодаря тру¬
дам Новикова и Шварца быстро пошло
вперед издательство книг. Всего в XVIII в.
(за все столетие) было издано, по
исчислению В. В. Сиповского, книг 9513; из
них 6 % — в царствование Петра (т. е. за 24
года); другие 6—7 % — в сорокалетие, про¬
текшее между Петром и Екатериной, а из
остальных 87 % приходятся на 34-летнее
царствование Екатерины 84 */г % и на че¬
тырехлетнее царствование Павла — 2 l/z
%. Своего апогея книгоиздательство
достигло в 80-х годах XVIII в. до разгрома
«Дружеского общества» и всех предприятий
Новикова в 90-х годах, когда Екатерину
охватило, главным образом под влиянием
страхов, вызванных французской рево¬
люцией, реакционное настроение8.
32
Такое развитие и сознательное стрем¬
ление, возникшее среди общества, не только
к просвещению вообще, но и к выработке
самостоятельного мировоззрения, вы¬
разилось в том, что среди общественных
кругов началась дифференциация. Она
обусловливалась, с одной стороны,
различием тех русл, по которым притекали
западные идеи — французского, ма¬
териалистического, и немецкого, иде¬
алистического; а с другой стороны,— что
еще более важно,— начавшимся сознатель¬
ным отношением к своим сословным и обще¬
ственным интересам. Немаловажную роль
сыграли, конечно, путешествия молодых
дворян за границу и в особенности массовое
и долговременное пребывание в чужих краях
во время Семилетней войны9.
Итак, мы ввдим, что развитие
интеллигенции к концу XVIII в. достигло
довольно значительных размеров, если
принять во внимание то состояние русского
общества, в каком оно находилось в начале
XVIII в. Что же касается идеологии народ¬
ных масс, то ее приходится рассматривать
отдельно, ввиду наличности того раскола, о
котором мы говорили.
В первые шесть веков после принятия
христианства христианское просвещение
прививалось довольно туго в России; народ
относился совершенно равнодушно к сущ¬
ности христианства, а духовенство являлось
представителем христианской образован¬
ности лишь до тех пор, пока оно приходило
главным образом из Византии. После пере¬
несения центра русской жизни из Киева на
северо-восток и последовавшего затем заво¬
евания Руси монголами, когда связи с
Византией ослабли и когда приток духовен¬
ства из Византии почти прекратился, само¬
родное русское приходское духовенство
почти сравнялось мало-помалу по своему
культурному уровню с уровнем народных
масс. Оно не подняло народных масс до
себя, а, напротив, во время татарского ига и
княжеских усобиц само дошло до уровня
народных масс.
За эти первые шесть веков, протекших
после принятия христианства, Россия прев¬
ратилась мало-помалу, по удачному выра¬
жению П. Н. Милюкова, в «Святую Русь —
в ту страну многочисленных церквей и неу¬
молкаемого колокольного звона, страну
длинных церковных стояний, строгих постов
и усердных земных поклонов, какой рисуют
ее нам иностранцы XVIh XVII веков». В XVI
и особенно в XVII в. началось на Руси
впервые идейное брожение, обусловленное,
с одной стороны, проникновением к нам
некоторых западных ересей, а с другой —
исправлением богослужебных книг и обря¬
дов по греческим образцам. Это исправление
книг и обрядов и привело к расколу, кото¬
рый, комбинируясь с тогдашней кровавой
смутой, происходившей на социально-
политической почве, так перевернул миросо¬
зерцание народных масс и вызвал такое
сильное брожение в их среде, что оно не
только не могло быть прекращено жестокими
преследованиями, которым раскольники
подвергались, а наоборот, еще более от них
развивалось.
Ко времени Екатерины раскол уже
пережил период кровавых и жестоких прес¬
ледований; с Екатерины начинается время,
можно сказать, некоторой религиозной
терпимости. Но эта терпимость повела к
тому, что раскол, уже окончательно и прочно
сформировавшийся, стал развиваться
внутри и подвергаться, в свою очередь, про¬
цессу дифференциации. Уже в начале XVIII
в. раскольники делились на поповцев и бес¬
поповцев; теперь появились внутри тех и
других еще многие толки и секты. С этого
же времени наряду с расколом развивается
и сектантское движение в народе. Это пос¬
леднее развилось, впрочем, главным образом
в XIX в., и нам еще придется остановиться
на нем подробнее. Определить точно число
раскольников в XVIII в. совершенно невоз¬
можно. Главная масса раскольников
официально объявляла себя православными;
другие избегали всякой прописки, так что
раскол развивался и рос численно тайно от
правительственных взоров. В середине XIX
в. в статистическом исследовании России,
проведенном офицерами генерального штаба
(с проф. ген. Обручевым во главе),
официальное число раскольников было ука¬
зано в 806 тыс. при 56-ти млн. православ¬
ного населения. Но в самом «Сборнике» Н.
Н. Обручева поясняется, что это число не
соответствует действительности и что
действительное число раскольников не ме¬
нее 8 млн., т. е. 15 % населения. В конце
XVIII в. этот процент не был, вероятно,
ниже. Во всяком случае, можно сказать, что
в эту эпоху все, что было живого в народе,
способного к творчеству, отходило к расколу,
и если мы захотим следить за движением
народных идей, то нам нужно будет искать
его главным образом именно в среде рас¬
кольников, а позднее и в среде тех сект,
которые образовались в XVIII и XIX вв., так
33
как в «духовной ограде» господствующей
церкви оставались по преимуществу более
пассивные и равнодушные элементы народ¬
ной массы.
Таково было положение населения в
России в конце XVIII в. и та степень прос¬
вещения, которой ’ к этому времени она
достигла; теперь нам остается охарактеризо¬
вать положение государственной власти на¬
кануне XIX в. Выше мы уже говорили, что в
Московском государстве эта власть под
влиянием той борьбы, которую ей
приходилось вести за территорию,
сложилась в форму деспотическую; правда,
и при московских царях, особенно из дома
Романовых, вступивших во власть не по
наследству, а по выбору, после спасения
страны от внешних врагов при помощи чрез¬
вычайного подъема народных сил, этот ха¬
рактер верховной власти не раз колебался.
Не раз, особенно когда туго приходилось в
финансовом отношении, верховная власть
вынуждена бывала обращаться к населению,
созывая земские соборы. С другой стброны,
московские бояре и образовавшаяся в Моск¬
ве Боярская дума неоднократно пытались
усилить и упрочить свое влияние на законо¬
дательство и верховное управление. Но в
конце концов все эти попытки ни к чему не
привели, и при Петре верховная деспотиче¬
ская самодержавная власть достигла своего
апогея и получила даже официальное
теоретическое обоснование в «Правде воли
монаршей» Феофана Прокоповича,
написанной по приказанию Петра, когда
ему приходилось решать вопрос о престоло¬
наследии и устранении сына Алексея. Этот
документ, основанный главным образом на
теории английского идеолога монархической
власти Гоббса, пытавшегося вывести само¬
державную власть государя (в защиту
притязаний Стюартов в Англии) из теории
общественного договора, попал потом даже в
полное собрание законов как правительст¬
венный акт. Хотя Петр постоянно старался
проводить в подчиненном ему управлении
идею законности и предпочитал коллегиаль¬
ное начало личному как гарантию против
произвола чиновников, тем не менее сам он
на свою собственную власть смотрел как на
власть совершенно неограниченную.
При более слабых преемниках Петра
были опять колебания в положении верхов¬
ной власти, и один раз, при воцарении Анны
Иоанновны, честолюбивым верховникам
чуть-чуть было не удалось достичь
ограничения самодержавной власти, которо¬
го они добивались сперва в пользу
олигархического верховного тайного совета,
а затем в пользу Сената. Но эта попытка
ввиду противодействия многочисленных
представителей провинциального дворянст¬
ва, как раз в это время съехавшихся в
Москву, ни к чему не привела. Те «пункты»,
которыми Анна Иоанновна сперва
ограничила свою власть, были ею разорваны
по просьбе большинства этого самого
провинциального дворянства.
Екатерина принципиально признает са¬
модержавную власть неограниченной и
крепко держится за свое самодержавие, но
в то же время она сознает необходимость
смягчения деспотизма верховной власти.
Это смягчение она пытается и теоретически
обосновать: она старается найти ясное
отличие правомерной монархии от де¬
спотической формы правления.
Практически это смягчение отражается на
самих формах проявления власти. Та жес¬
токость, которая была присуща проявлениям
верховной власти особенно при Петре, при
Екатерине начинает уже смягчаться, и в
законодательстве Екатерина стремится
искоренить наиболее жестокие формы нака¬
заний по суду. Самодержавие Екатерина
решительно отстаивает, мотивируя его необ¬
ходимость обширностью российской мо¬
нархии и разнородностью ее частей.
Любопытно, однако, отметить, что внука сво¬
его Александра она воспитывает при помощи
республиканца Лагарпа в принципах либе¬
рализма и сознательного признания прав
человека и гражданина.
Что касается органов управления, то
старые органы московского управления —
приказы и органы местного самоуправления,
образовавшегося на почве недостаточности
сил центрального управления,— начинают
падать и разлагаться в самом начале
XVIII в. При Петре их разложение идет даже
впереди создания новых форм управления.
В первую половину царствования Петра,
когда император был занят войной, это раз¬
ложение, обусловленное новыми потребно¬
стями жизни, шло быстрыми шагами, а
взамен ничего не было еще создано нового;
только в 1711 г., отправляясь в Турцию,
Петр спешно образовал Сенат, причем спер¬
ва назначение Сената сводилось к заме¬
щению государя по внутренним делам во
время его отсутствия. Но так как это
отсутствие продолжалось годами, то компе¬
тенция Сената фактически развилась очень
значительно.
34
Когда военные заботы несколько
уменьшились, явился вопрос о сохранении
и содержании армии. И вот результатом этой
необходимости явилось расквартирование
армии по стране, для чего Россия была
разделена на семь губерний; При этом вся
губернская администрация была приспособ¬
лена к удовлетворению одной нужды —
нужды в содержании армии.
После разделения на губернии в течение
нескольких лет между Сенатом и губернской
администрацией, приспособленной к нуж¬
дам армии и собиранию налогов, которые
были предназначены для войска же, не было
никаких промежуточных учреждений, так
что, собственно, вся администрация и за¬
ключалась в центре в Сенате, а на местах
— в воинских губернских учреждениях, соз¬
данных потребностями военного дела. Лишь
в 1715 г., когда Петр несколько освободился
от забот войны, он принялся за внутренние
реформы.
Взамен московских приказов, которые
были уже фактически разрушены, он решил
создать учреждения по шведскому образцу
— коллегии. Эти коллегии соответствовали
теперешним министерствам; между ними
распределялись отдельные ветви государст¬
венного хозяйства и управления. Разнились
петровские учреждения от современных
министерств своим коллегиальным устрой¬
ством: в них власть принадлежала не
единоличному органу — министру, а кол¬
легии, в состав которой входили от 3 до 12
лиц. Таких коллегий было образовано сперва
9, потом 12. Сначала они были поставлены
в подчиненное положение по отношению к
Сенату; Сенат должен был надзирать за
правильностью решений, принимаемых кол¬
легиями.
При преемниках Петра это устройство
значительно поколебалось. Положение Сена¬
та как высшего административного органа
совершенно изменилось: хотя Сенат не был
упразднен, но над Сенатом был поставлен
сперва верховный тайный совет, потом
кабинет (при Анне) — все такие учреж¬
дения, которые составлялись из фаворитов
и временщиков, пользовавшихся личным
влиянием, чтобы встать над Сенатом. Затем,
помимо этих случайных учреждений и не¬
которые коллегии — военная, морская
(адмиралтейств-коллегия) и иностранных
дел — были освобождены от подчинения Се¬
нату и поставлены рядом с ним.
При Елизавете Сенат был отчасти
реабилитирован, но указанные три коллегии
по-прежнему оставались вне его ведения;
зато все остальные дела, касавшиеся глав¬
ным образом государственного хозяйства,
были возложены на Сенат; ввиду же личных
свойств Елизаветы, которая не любила уг¬
лубляться в скучные хозяйственные дела,
Сенат получил при ней фактически власть
по управлению хозяйством империи даже
большую, чем при Петре. Власть эта
фактически сосредоточилась главным обра¬
зом в руках генерал-прокурора Сената, ко¬
торый являлся докладчиком по всем этим
делам у императрицы.
Когда Елизавета, в значительной мере
уже приобщившаяся к выводам современной
философии «эпохи просвещения», вступила
на престол, то, как уже было отмечено, она
думала облагодетельствовать Россию
изданием идеального, рационального зако¬
нодательства. С этой целью она созвала свою
комиссию уложения. Но затем она скоро
разочаровалась во время работ этой
комиссии в возможности сразу, единовре¬
менно пересоздать законодательство и
обратилась к реформе всей администрации
постепенно и снизу, руководствуясь при
этом теми жалобами на отсутствие всякого
порядка в провинции, которые особенно
громко раздавались в комиссии уложения. В
результате она выработала обстоятельный
план губернской реформы. И то, что при
Петре не было сделано потому, что его гу¬
бернская администрация была предназначе¬
на для удовлетворения только военных нужд,
при Екатерине было в значительной мере
достигнуто. Екатерина провела губернскую
реформу на очень продуманных основаниях.
При этом она перенесла на места значитель¬
ную часть той хозяйственной власти, кото¬
рая раньше была у центральных коллегий.
На местах были учреждены казенные пала¬
ты, которые являлись отделениями прежней,
упраздненной теперь камерколлегии (соот¬
ветствовавшей министерству финансов). За¬
тем все коллегии, кроме первых трех, были
уничтожены. Таким образом все хозяйствен¬
ное и финансовое управление на местах
перешло к казенным палатам; вся полиция
безопасности была сосредоточена в гу¬
бернских правлениях; все заботы о народном
здравии и вообще полиция благосостояния
были сосредоточены в губернских приказах
общественного призрения, но этим пос¬
ледним, впрочем, не было дано никаких
средств, и потому их обязанности, в сущ¬
ности, оставались на бумаге. Вся власть в
этих новых правительственных учреж¬
35
дениях сосредоточилась главным образом в
руках провинциального дворянства, которое,
с одной стороны, получило большие права
по выбору должностных лиц и по опреде¬
лению на государственную службу, а с дру¬
гой стороны, представляло вообще главный
контингент лиц, из которых можно было
набирать провинциальных чиновников.
Проведя эти реформы в провинции, Ека¬
терина не успела, однако же, соответственно
реформировать центральные учреждения.
Коллегии она уничтожила, а вместо них
ничего постоянного не ввела. Сенат явился
опять единственным местом, надзирающим
и как будто бы обязанным руководить управ¬
лением. Но так как Сенат на самом деле
руководительства не получил, то, в сущности
говоря, настоящая власть осталась в руках
у генерал-прокурора Сената, что произошло
благодаря тому, что этот сановник являлся
докладчиком и при Екатерине по всем важ¬
нейшим вопросам, восходящим к Сенату. Он
явился своего рода премьер-министром и
министром юстиции (генерал-прокурором и
теперь у нас состоит министр юстиции), а
вместе и министром финансов. Сенат был
разделен на департаменты; между ними бы¬
ла распределена высшая судебная и
административная власть, которая, собст¬
венно говоря, сводилась к надзору; но и этого
надзора фактически Сенат не мог осу¬
ществить за недостатком средств. Поло¬
жение Сената, при кажущейся высоте
власти, оказалось довольно плачевным. На¬
ряду с генерал-прокурором различные пору¬
чения давались отдельным лицам,
фаворитам Екатерины или лицам, су¬
мевшим заслужить ее особое доверие. Такое
положение вещей привело, особенно к концу
ее царствования, к большим злоупотреб¬
лениям. Это отсутствие определенной власти
в центре, в связи со своекорыстием и нагло¬
стью фаворитов, привело попросту к грабе¬
жу и казнокрадству в огромных размерах,
которые заставляли серьезно задумываться о
будущем государства лиц наиболее честных
и вдумчивых. Кроме того, разочаровавшись
в возможности дать стране рациональное
законодательство, которое обеспечило бы
благосостояние населения при помощи уло¬
жения, выработанного в созванной ею зна¬
менитой комиссии, Екатерина оставила эту
задачу невыполненной, и страна оставалась
при ней вовсе без уложения, без свода дей¬
ствующих законов, благодаря чему, даже
при теоретическом признании необ¬
ходимости введения законности в управ¬
ление, на практике царил произвол. В мно¬
гочисленных судебных инстанциях и в
административных местах судья и
администратор мог, при отсутствии свода
действующих законов, всегда выбрать по
своему произволу из массы хранившихся в
канцелярских архивах законов, указов и
сепаратных распоряжений любое, чтобы
опереться на него чисто формально при
решении каждого данного дела. Понятно,
какой простор злоупотреблениям во всех
правительственных местах создавался этим
порядком. Но вопрос о кодификации законов
перешел в этом положении и в XIX в.10.
Что касается финансов в XVIII в., то
вообще надо сказать, что средства, которыми
располагало правительство, были чрезвы¬
чайно скудны. Выше указано, как изво¬
рачивался Петр. В его царствование
скудость средств, которые народ мог давать
при всем нажиме на него, и несоответствие
этих средств постоянно расширяющимся
потребностям государства, реформирован¬
ного Петром, привели к полному истощению
страны, к разорению и убыли населения.
Между тем бюджет рос неимоверно бы¬
стро. До начала правления Петра, в 1680 г.,
доходы государства не превышали 1 г/г млн.
руб. (надо помнить, что тогдашний рубль
был раз в 15—17 больше нынешнего — до¬
революционного); в 1724 г. эти расходы уже
составляли 8 1/г млн. руб (при рубле, рав¬
ном нашим 9—10* рублям,— дорево¬
люционным); следовательно, в течение 44
лет номинально бюджет увеличился в шесть
раз. Если же принять в расчет падение
ценности рубля за это время и перевести тот
и другой бюджет на наши деньги, то все-таки
окажется возрастание бюджета почти в 3 1/г
раза11.
При ближайших преемниках Петра* не¬
смотря на расточительность двора, на его
желание тратить как можно больше, бюджет
не рос так сильно, так как не было таких
изнурительных войн. В течение сорокалетия
(между царствованием Петра и царство¬
ванием Екатерины) бюджет увеличился ме¬
нее нежели вдвое.
Когда Екатерина вступила на престол,
она застала финансы чрезвычайно запутан¬
ными. В это время происходила Семилетняя
война, в которой мы принимали участие
неизвестно для какой надобности, и оказа¬
лось, что солдаты не были за целый год
удовлетворены жалованьем. А когда импе¬
ратрица явилась в Сенат, то Сенат доложил
ей, что нужно произвести на 15 млн. руб.
неотложных расходов, между тем как казна
пуста. Екатерина весьма ловко этим вос¬
пользовалась и в высшей степени уместно
проявила большое великодушие, тотчас же
отпустив из средств императорского кабине¬
та, предназначавшихся на личные нужды
царствующего императора, значительную
сумму на ближайшие государственные нуж¬
ды, чем сразу приобрела популярность.
Затем она провела очень удачную
реформу — уменьшение налога на соль.
Этот налог имел свою историю. Соль —
продукт, без которого никто не может
обходиться (один русский доморощенный
финансист XVII в. даже предлагал
уничтожить все налоги, заменить их одним
налогом на соль), и налог на нее был чрез¬
вычайно тяжел для населения. Екатерина
решила, чтобы привлечь к себе народное
сочувствие, которое было для нее так необ¬
ходимо ввиду шаткости ее положения в на¬
чале царствования, значительно уменьшить
этот соляной налог, ассигновав из
кабинетских средств 300 тыс. руб. на пок¬
рытие возможного дефицита. Но умень¬
шение налога привело к увеличению
потребления соли (особенно при рыбных
промыслах), в результате чего доход от ка¬
зенной соляной монополии даже увеличился.
Однако несмотря на удачные первые
шаги, в конце концов все-таки Екатерина
никакой правильной финансовой системы
не ввела; при ней состояние финансов оста¬
валось почти таким же плачевным, как и
прежде. Впрочем, такого напряжения народ¬
ных средств, как при Петре, при Екатерине
все-таки не было12. В экстренных случаях,
когда встречалась необходимость в крупных
чрезвычайных расходах (начиная с первой
турецкой войны), Екатерина пользовалась
основанным еще до ее вступления на престол
ассигнационным банком. Государственного
кредита до тех пор не существовало. Во
время Семилетней войны Елизавета думала
было прибегнуть к внешнему займу всего в
2 млн. руб., но эта попытка потерпела полное
фиаско. Екатерина, при помощи
ассигнационного банка, получила возмож¬
ность делать крупные внутренние займы.
Сначала эта операция сошла довольно удач¬
но. В 1769 г. было уже выпущено ассигнаций
на 17 млн. 841 тыс. руб, и курс ассигнаций
стоял al pari, т. е. бумажный рубль был
равен серебряному. Последующие,
сравнительно небольшие, выпуски также
сходили благополучно. Даже когда вслед за
объявлением второй турецкой войны сразу
было приступлено к огромному выпуску
ассигнаций на 53 млн. руб.,— почти равно¬
му тогдашнему годовому бюджету,— то и
этот выпуск тоже не повлиял еще сколько-
нибудь заметно на падение курса
ассигнаций; общее количество выпущенных
ассигнаций достигло в это время 100 млн.
руб., и курс их упал лишь до 97 коп.
серебром за рубль ассигнаций,— но следо¬
вавшие затем выпуски ассигнаций влекли
уже постоянное дальнейшее падение курса.
За все царствование Екатерины ассигнаций
было выпущено на 157 млн. руб., и курс их
к концу этого царствования упал ниже 70
коп. Такое положение вещей грозило в буду¬
щем государственным банкротством. Между
тем расходы все росли с огромной быстро¬
той. За царствование Екатерины государст¬
венные расходы возросли (номинально)
почти в пять раз, в начале ее царствования
они равнялись 16,5 млн. руб., а в конце —
уже 78 млн. руб.
Таково было положение финансов при
Екатерине. Это положение ухудшалось бла¬
годаря страшному воровству высших
чиновников, которое у молодого великого
князя Александра Павловича вызвало вопль
в письме к Лагарпу: «Непостижимо, -что
происходит; все грабят, почти не встретишь
честного человека».
Резюмируя все сказанное о положении
России в конце царствования Екатерины,
мы можем свести сделанную харак¬
теристику к следующим основным пунктам:
1. Россия накануне XIX в. представляла
собой могущественное государство,
объединенное единой и сильной государст¬
венной властью на определенном огромном
пространстве, с прочными и безопасными
границами, заключавшее в себе 36-
миллионное население, хотя и разнообраз¬
ное по своему племенному составу, но со
значительным преобладанием господствую¬
щей русской народности.
2. В сословно-классовом отношении в
этом политическом организме уже к началу
XVII в. закончилась та дифференциация на
отдельные закрепощенные сословия, которая
являлась результатом предшествующего
многовекового процесса. Под влиянием но¬
вых условий существования государства и
главным образом вследствие прекращения
прежней борьбы за территорию высшие сос¬
ловия начали уже раскрепощаться, а
относительно низшего — крестьянского, по
крайней мере, в идее ставится на очередь
вопрос о необходимости раскрепощения его
в будущем более или менее близком.
37
3. В идейном отношении население рас¬
палось с начала XVIII в. на интеллигенцию
и народные массы. Среди последних, выве¬
денных церковным расколом из не¬
подвижного состояния, началось сильное
идейное брожение. Интеллигенция с самого
же начала получила если не всесословный,
то разносословный или бессословный состав
и явилась в государстве наиболее активным,
движущимся и сознательным элементом, в
котором уже в XVIII в. начинают проявлять¬
ся идеи необходимости ограничения
правительственного самовластия и требо¬
вание большей свободы.
4. К этому же времени проявляются не¬
которые элементы будущего капитализма,
происходят централизация купеческих
капиталов и первые опыты приложения их
к крупной промышленности, причем зарож¬
дается борьба между интересами землевла¬
дельческого дворянского сословия и предста¬
вителями торгово-промышленного капитала.
5. Государственная власть остается са¬
модержавной, но это самодержавие проявля¬
ется уже в смягченных формах. Что
касается самого управления, то Екатерине
удается довольно прочно организовать мест¬
ное губернское управление на довольно
рациональных по тогдашним условиям осно¬
вах, но центральное управление она не ус¬
пела реорганизовать, и в центре мы видим в
конце ее царствования полный хаос в управ¬
лении государственными делами.
Слабое место в организации Русского
государства составляет финансовая система
и вообще государственное хозяйство.
Список сочинений, относящихся к истории
России в царствование Екатерины II
А. Сочинения по истории царствования и
правительственной деятельности Екатерины
1) Последние 6 томов (с XXIII по XXIX
включ.) «Истории России с древнейших времен» С.
М. Соловьева, заключающие в себе почти
летописное подробное изложение событий и ме¬
роприятий первых 10 лет Екатерининского царст¬
вования; 2) А Г. Брикнер. «История царствования
Екатерины Великой», 3 т.— объемистая, но мало¬
содержательная книга, дающая лишь внешний
очерк событий; 3) В. А Бильбааж «История Ека¬
терины И», т. I (СПб., 1900; до воцарения 1729—
1762), т. П (изд. за границей в 1905 г.; вступление
на престол и первые 2 года царствования), т. XII (в
двух книгах) — обзор иностр. сочинений о Ека¬
терине II (Берл., 1896), у него см. библиографию
старых иностранных сочинений, относящихся к
эпохе Екатерины, которых мы здесь не указываем;
4) Валшиевский. «Роман императрицы» (перев. с
франц.), изд. в СПб., 1908; 5) «Записки импе¬
ратрицы Екатерины //, изд. первонач. в Лондоне
Герценом, а затем в России Академией наук в 1905
г. на франц. яз. и в русск. переводе Сувориным в
1906 г.; 6) Записки кн. Е. Р. Дашковой, перевод с
франц. по изданию с подлин. рукописи под редакц.
и с предисл. Я. Д. Чечулина. СПб., 1907; 7) Част¬
ная переписка Екатерины в собрании ее
сочинений (изд. Смирдина) и в «Сборнике имп.
Русск. историч. общества», тт. I, XVII, XVIII,
XXIII, ХХХШ и XLV; 8) Общие обзоры царство¬
вания Екатерины по случаю столетия со дня ее
смерти в 1796г.; В. О. Ключевского в «Р. мысли» за
1896 г.; В. С. Иконникова «Значение царствования
Ек. П» (Киев, 1897); А С. Лаппо-Данилевского
«Очерк внутр. политики императрицы Екат.
И»(СПб., 1898); 9) Бантыш-КаменскийН. «Обзор
внешних сношений Ррссии (по 1800 г.)», 3 части
(М., 1894—1897); 10) Я. Д. Чечулин «Внешняя
политика России в начале царствования Ека¬
терины П». СПб., 1896. Сравн. рецензии на эту
книгу: В. А Бильбасова («Внешняя политика
России». СПб., 1897), Н.И.Кареева (в «Вест.
Евр.» за 1897 г., № 1. Тут же указана иностранная
литература) и С. Ф. Платонова (в «Журн. М. н.
пр.» за 1898 г.).; 11) Я. И. Костомарова «Пос¬
ледние годы Речи Посполитой». СПб., 1905 (тт.
XVnиXVIII монографий); 12) Я. Я. Кареев. «Па¬
дение Польши в историч. литературе». СПб,, 1888.
(Его же. «Польские реформы XVIII в., СПб., 1890);
13) С. М. Соловьев. «История падения Польши».
М., 1863; 14) Tad. Korzon. «Wewnetzne dzieje Polski
za Stanislawa Augusta». Krakow, 1881 —86 (5 томов);
15) А Г. Брикнер. «Князь Потемкин». СПб., 1901;
16) А ПетрушевскиИ «Генералиссимус кн. Суво¬
ров». СПб., 1884, в 3 т.; то же в переработанном
виде в одном томе. СПб., 1900; 17) Дипломатичес¬
кая переписка и материалы по внешней политике
Екатерины в тт. V, VII, IX, X, XII, XIII, XVI, XVIII,
XIX, XX, XXVI, XXVII, XXIX, XXXVII, XUI,
XLVI, XLVII, XLVIII, U, LVII, LXV, LX VII, LXXII,
LXXXVII, XCVII, CXVIII и CXXV «Сборника Рус.
ист. об-ва»; 18) «Исторические сведения о
комиссии уложения», под ред. Д. В. Поленова в тт.
IV, VIII и XIV «Сборн. Р. ист. об-ва», под ред. В. И.
Сергеевича в тт. XXXII, XXXVI, XLIII, LXVIII,
XCIII, XVII, CXV и СХХ1П, и под ред. Я. Д. Че¬
чулина т. CXXXIV; 19) Наказ Екатерины, данный
ею комиссии уложения, переиздан с офиц. издания
Л. Ф. Пантелеевым в 1893 г. Затем в 1907 г. под
ред. Я. Д Чечулина издан Академией наук по
подлинным рукописям Екатерины, на основании
подробного их изучения. Об источниках наказа
38
сравн. ст. Я. Д Чечулина в «Журн. М. нар. проев.»
за 1902 № 4, Ф. В. Тарановского «Политическая
доктрина в Наказе Екатерины II» (Киев, 1803),
срав. также книгу С. И. Зарудного «Беккария пре¬
ступление и наказание в сравнении с X гл. Наказа»;
20> В. Н. Латкин. «Законодательные комиссии в
России в XVIII в.». СПб., 2 т; 21) В. И. Сергеевич.
«Откуда неудачи Екатерининской законодатель¬
ной комиссии?» «В. Евр.» 1878 г. I (перепечатано в
«Лекциях и исследованиях», изд. 1881г.); 22) А С.
Лаппо-Данилевский. «Собрание и свод законов
Российской империи, составленные в царство¬
вание императрицы Екатерины II», в «Журн. М.
нар. пр.»за 1897 г,. №№ 1, 3, 5 и 12; 23) Тегпеих.
«Diderot et Catherine П». P., 1899.
О губернской реформе Екатерины см.: 24)
Лохвицкий. «Губерния». СПб., 1865; 25) А Д. Гра-
довский. «Русское госуд. право», т. Ш-й; 26) Д. М.
Дмитриев, ст. о Сперанском в «Русск. арх.»за 1868
г. О центральном управлении; 27) А Д. Градо-
вский. «Высшая администрация в России в XVIII в.
и генерал-прокуроры». СПб., 1866; 28) В. А Голь¬
цев. «Законодательство и нравы в России XVIII в.».
СПб., 1896; 29) Я. И. Григорович. «Канцлер кн. А.
А. Безбородко в связи с событиями его времени», в
тт. XXVI и XXIX «Сборн. Р. ист. об-ва; 30) Я. Д.
Чечулин. «Очерки по истории русских финансов в
царствование Екатерины П». СПб., 1906. Ма¬
териалы по истории финансов., опубл. А Я. Ку-
ломзиным (использов. Чечулиным), см. в «Сборн.
Р. ист. о-ва«, гг. V, VI, XXVIII и XLV; 31) О тамо¬
женных тарифах Екатерины см. у К. Лодыженско-
го «Ист. русск. таможенного тарифа» СПб., 1886 и
у В. И. Покровского «Сборн. свед. по истории и
статистике внешней торговли России», т. I. СПб.,
1902.
По истории просвещения: 32) Пекарский.
«История Академии наук». СПб., 1870—1873.
Срав. речи В. Я. Мешиуткина, П. И. Вальдена, А
Я. Соболевского и В. В. Сиповского о Ломоносове,
произн. в засед. Академии наук 8 ноября 1911 г., а
также книгу Б. Я. Мешиуткина «М. В. Ломоно¬
сов» (жизнеописание). СПб., 1911; Его же. «М. В.
Ломоносов как физико-химик». СПб., 1904 и «Ло¬
моносовский сборник 1711—1911 г.», изд. Акад.
наук. СПб., 1911; 33) Сухомлинов. «История
Российской академии». СПб., 1874—1888 (8 то¬
мов); 34) Гр. Дм. Андр. Толстой. «Академич.
университет в XVIII ст.». СПб., 1885; 35) Его же.
«Академич. гимназия в XVIII ст.». СПб., 1885; 36)
Его же. «Городские училища в царствование Ека¬
терины П». СПб., 1886; 37) Я. М. Майков. «Ив. Ив.
Бецкой». СПб., 1904; 38) С. П. Шевырев. «История
Московского университета». М., 1855. 39) М. И.
Демков. «История русской педагогики», ч. П. СПб.,
1908; 40) Довнар-Запольский. «Реформа общеоб¬
разовательной школы при имп. Екатерине П». М.,
1905.
О положении населения при Екатерине II.
1) Я. Storch. «Historisch-statistisches Gemalde
des Russishen Reichs am Ende des achtzehnten
Jarhunderts», 8 томов и атлас, 1797—1799 г.; 2) В.
Э. Ден. «Население России по 5-й ревизии», т. I. М.,
1902; 3) Герман в «Мемуарах» Акад. наук, V серия,
т. VIII. «Des progres de Is population en Russie par
gouvemements d’apres la 4, la 5 et la 6 revision»; 4) Я.
Я. Милюков. «Очерки по ист. русск. культуры», 3
части; 5) Д. Я. Багалей. «Материалы для истории
колонизации и быта Харьковской и отчасти Кур¬
ской и Воронежской губ. в XVI—XVIII вв.». Харь¬
ков, 1890, тома 1 и 2; 6) Эварнщкий. «Очерки по
истории запорож. казаков и Новороссийского
края». СПб., 1889; 7) Клаус. «Нашиколонии», вып.
1. СПб,, 1869; 8) В. И. Семевский. «Крестьяне.при
Екатерине», 2 т., СПб., 1901—1903; 9) Его же.
«Крестьян, вопрос в XVIII и в первой половине XIX
века в России», т. I. СПб., 1885; 10) Его же. «По¬
жалование населенных имений в царствование
Екатерины II». Спб., 1906; 11) в сборнике «Кресть¬
янский строй». СПб., 1905, статьи: А. С. Лаппо-
Данилевского и В. И. Семевского; 12) В. Е.
Якушхин. «Очерки по истории русск. позем,
политики в XVIII и XIX вв.», вып. 1.М., 1890 г.; 13)
Я. Ф. Дубровин. «Пугачев и его сообщники», 3 т.
СПб., 1884; 14) П. К Щебальский. «Начало и ха¬
рактер пугачевщины». М., 1865; 15) М. Я. Тугая-
Барановский. «Русская фабрика в ее прошлом и
настоящем» (введение). Изд. 3-е. СПб., 1909; 16)
А Семенов. «Изучение историч. сведений о росс,
торговле и промышленности с половины XVII ст. по
1858 г.», 3 ч. СПб., 1859. (Срав. В. И. Покровский.
«Сборник свед. по истории и статистике внешней
торговли в России».); 17) Я. Я. Фирсов.
«Правительство и общество в их отнош. к внешней
торговле в царств, импер. Екатерины П». Казань,
1902; 18) Дитятин. «Городское самоуправление в
России», т. 1. Яр., 1874; 19) А А Кизеветтер.
«Посадская община в России XVIII ст.». М., 1903;
20) Его же. «Городовое Положение Екатерины П
1785 г.». М., 1909; 21) Проф. П. Знаменский.
«Приходское духовенство в России со времен
реформы Петра». Каз., 1873; 22) Ив. Зна¬
менский. «Духовенство при Екатерине и Павле».
М., 1880; 23) П. Знаменский. «Чтения из ист.
русск. церкви за время ц-ния Ек. П». «Правосл.
собесед.», 1875, №№ 2—4 и 9; 24) В. И.
Иконников. «Арсений Мацевич», в «Р. стар.» за
1879, №№ 4, 5 и 8—10; 25) Завьялов. «Вопрос о
церковн. имениях при Ек. И». СПб., 1890; 26) Ро-
манович-Словатинский. «Дворянство в России с
XVin в.». СПб,. 1870. Новое издание под ред. А А
Жилина. Киев, 1912; 27) Бар. Корф. «Дворянство
и его сословное управление за столетие 1762—
1856». СПб., 1906. Несмотря на новизну этого
исследования, оно в научном отношении сильно
уступает предыдущему; 28) Я. Д. Чечулин. «Рус¬
ское провинциальное об-во во второй половине
XVIIIct.» СПб., 1889; 29) С. К Брюллова. «Обще¬
ственные идеалы в Екатерининскую эпоху», в «В.
Евр.» за 1876; 30) Кн. М. М. Щербатов.
Сочинения, изд. под ред. И. П. ХрущовсиСПб.,
1896—1898, и отдельно: «О повреждении нравов в
России». СПб., 1906; 31) Кн. Д. И. Шаховской.
«Русский депутат XVIII века», в «Минувш. годах»
за 1908 г., №11; 32) А Я. Незеленов. «Литератур¬
ные направления в Екатерининскую эпоху». СПб.,
1889. (Довольно слабая книга.); 33) Его же. «Ник.
Ив. Новиков — издатель журналов в 1769—1785
гг.»; 34) В. Боголюбов. «Новиков и его время». М.,
1915; 35) Я. Я. Колюпанов. «Биография А. И. Ко¬
шелева», т. 1 (обзор журналистика в Ека¬
терининскую эпоху); 36) М. Я. Лонгинов.
«Новиков и московские мартинисты». М., 1867.
39
Срав. работы Ешевского (в собр. его сочинений),
А Я. Пыпина и М. Я. Логинова, печатавшаяся в
«Русск. вестн.». (в 50-х и 60-х годах) и в «Вестн.
Евр.», а также ст. акад. Тихонравова о Новикове и
Шварце в III т. собр. его сочинений; 37) А Я.
Пыпин. «Русское масонство XVIII и первую чет¬
верть XIX в.». Под ред. Г. Д. Вернадского. СПб.,
1916; 38) Г. В. Вернадский. «Русское масонство в
царствование Екатерины II». СПб.; 39) В. В.
Сиповский. «Из истории русск. лит. XVIII в.» в
«Изв. отд. русск. яз. Акад. наук» за 1901 г., т. VI, кн.
I; 40) С. Е. Усова «Н. И. Новиков» (биогр.
библиотека Павленкова). СПб., 1891; 41) Со¬
брание сочинений Фонвизина', 42) Биография
Фонвизина, составл. кн. П. А Вяземским. СПб.,
1834; 43) Записки .Г. Р. Державина. М., 1857, а так¬
же академич. издание; 44) Сочинения А Я.
Радищева, под ред. Щеголева. СПб., 1906; 45) В. А
Мякотин. «На заре русской общественности». Ро-
стов-на-Дону, 1906; 46) Сухомлинов. «Исследо¬
вания и статьи», т. I. («А. Н. Радищев»); 47)
«Записки А. Т. Болотова», 4 тома, прилож. к
«Русск. стар.», 1870 г. Изд. 3-е. СПб., 1875.
По истории раскола и сектантства: 48) В.
Андреев. «Раскол и его значение в народной рус¬
ской истории». СПб., 1870; 49) В. Витевский. «Ра¬
скол в уральском войске и отнош. к нему духовной
и военно-гражд. власти в конце XVIII и в XIX в.».
Киев, 1878; 50) А Лебедев. «О духоборцах в сло¬
бодской Украине». Харьк., 1890; 51) В. Андерсон.
«Старообрядчество и сектантство» СПб., 1910; 52)
Кельсиев. «Сборник правительственных сведений о
раскольниках». Лонд., 1860—1862 (4 выпуска);
53) С. Я. Мелъгунов. «Религиозно-общественные
движения русского народа в XVIII веке» в «Книге
для чтения по ист. нового времени», т. II. М., 1911;
54) А С. Пругавин. «Раскол — сектантство» (2
выпуска). М., 1887 (содержитбиблиографию ста¬
рообрядчества и его разветвлений).
ЛЕКЦИЯ III
Царствование Павла I.— Его место в истории.— Биографические данные.— Общий характер правитель¬
ственной деятельности Павла.— Крестьянский вопрос при Павле.— Отношение Павла к другим сос¬
ловиям.— Отношение общества к Павлу.— Положение финансов в царствование Павла и его внешняя
политика.— Итоги царствования.
На рубеже XVIII и XIX столетий лежит
четырехлетнее царствование Павла.
Этот короткий период, находившийся до
недавнего времени во многих отношениях
под цензурным запретом, издавна подстре¬
кал любопытство публики, как всё
таинственное и запретное. С другой сторо¬
ны, историков, психологов, биографов, дра¬
матургов и романистов, естественно,
привлекала к себе оригинальная личность
венчанного психопата и та исключительная
обстановка, в которой совершалась его дра¬
ма, окончившаяся так трагически.
С той точки зрения, с которой мы рас¬
сматриваем исторические события, это цар¬
ствование имеет, однако же, второстепенное
значение. Хотя оно лежит на рубеже XVIII
и XIX вв. и отделяет собой «век Екатерины»
от «века Александра», оно ни в каком случае
не может быть рассматриваемо как переход¬
ное. Наоборот, в том историческом процессе
развития русского народа, который нас
интересует, оно является каким-то внезап¬
ным вторжением, каким-то неожиданным
шквалом, который налетел извне, все спу¬
тал, все переворотил временно вверх дном,
но не мог надолго прервать или глубоко
изменить естественный ход совершающегося
процесса. Ввиду такого значения царство¬
вания Павла и Александру, как только он
вступил на престол, не оставалось ничего
другого, как зачеркнуть почти все сделанное
его отцом и, залечив поскорее неглубокие, но
болезненные поранения, нанесенные им го¬
сударственному организму, повести дело с
того места, на котором остановилась осла¬
бевшая и заколебавшаяся под старость рука
Екатерины.
Такой взгляд на это царствование
отнюдь не мешает нам, разумеется, отдавать
себе полный отчет в том глубоком влиянии,
какое имели его ужасы лично на императора
Александра и на окончательное
сформирование его характера. Но об этом
речь впереди. Мы не отрицаем также зна¬
чения некоторых отдельных правительствен¬
ных актов Павла и не отрицаем
прискорбного влияния на Александра, а
потом и на Николая, той придворно-военной
плац-парадной системы, которая с тех пор
установилась при русском дворе. Но и эти
обстоятельства не сообщают, конечно, прав¬
лению Павла значения переходной, со¬
единительной между двумя смежными
царствованиями эпохи...
Во всяком случае, само царствование
Павла интересно для нас не своими
трагикомическими явлениями, а теми изме¬
нениями, которые в это время произошли все
же в положении населения, и тем движением
в умах, которое вызвал в обществе террор
40
правительственной власти. Еще важнее для
нас международные отношения, которые
были обусловлены, с одной стороны, особен¬
ностями характера Павла, с другой —
великими событиями, происходившими на
западе.
Мы не будем поэтому заниматься здесь
подробным изложением биографии Павла и
отсылаем всех, интересующихся ею, к изве¬
стному труду Шильдера, который занимался
именно личной биографией Павла, и к дру¬
гой, более краткой биографии, составленной
в значительной мере по Шильдеру же г.
Шумигорским1. Собственно для наших це¬
лей достаточно будет следующих кратких
биографических сведений. Павел родился в
1754 г., за восемь лет до восшествия на
престол Екатерины. Его детство протекало в
совершенно ненормальных условиях: импе¬
ратрица Елизавета отобрала его у родителей,
как только он родился, и занялась сама его
воспитанием. В детстве он был окружен
разными мамками и няньками, и все
воспитание его носило тепличный характер.
Вскоре к нему был приставлен, однако, че¬
ловек, который сам по себе был выдающейся
личностью, именно гр. Никита Иванович
Панин. Панин был государственным челове¬
ком, с весьма широким умом, но он не был
вдумчивым педагогом и недостаточно внима¬
тельно относился к этому своему делу.
Екатерина относилась к Панину недо¬
верчиво, и ей было ясно, что он плохой
педагог, но она боялась его устранить, так
как, заняв престол не по праву, она опаса¬
лась тех слухов, которые ходили в известных
кругах относительно того, что она хочет
Павла устранить совершенно. Боясь дать
повод к разрастанию этих слухов и зная, что
общественное мнение таково, что Павел цел,
пока он на попечении Панина, Екатерина не
решалась устранить Панина, и он оставался
воспитателем Павла и при ней. Павел вырос,
но Екатерина не чувствовала к нему никакой
близости, она была невысокого-мнения о его
умственных и душевных свойствах. К
участию в государственных делах она его не
допускала; она его отстраняла даже от дел
военного управления, к которым он имел
большую склонность. Первый брак Павла
был кратковременный и неудачный, причем
жена его, умершая от родов, успела еще
больше испортить и без того плохие отно¬
шения между Павлом и Екатериной. Когда
Павел женился во второй раз на вюртембер¬
гской принцессе, получившей при переходе
в православие имя Марии Феодоровны, Ека-
fiil/’rAVr?-
терина отдала молодой чете Гатчину и пре¬
доставила им вести в ней жизнь частных
людей; но когда у них появились дети, она
поступила по отношению к Павлу и его жене
так же, как раньше поступила с нею самой
Елизавета, т. е. отбирала детей с самого
появления их на свет и воспитывала их сама.
Устранение Павла от государственных дел и
непочтительное обращение с ним фаворитов
императрицы, особенно Потемкина, посто¬
янно подливало масла в огонь и возбуждало
в Павле ненависть ко всему Екатеринину
двору. Он тридцать лет нетерпеливо ждал,
когда же, наконец, ему самому придется
царствовать и распоряжаться по-своему.
Надо добавить, что в конце царствования
Екатерины Павел стал даже опасаться, что
Екатерина устранит его от престола; теперь
известно, что такой план действительно был
намечен и не осуществился, по-видимому,
только потому, что Александр не желал или
не решался вступить на престол помимо
отца, и это обстоятельство затрудняло осу¬
ществление вполне уже созревших наме¬
рений Екатерины.
Когда Павел вступил на престол, тогда
стала реализоваться накопившаяся в его ду¬
ше ненависть ко всему тому, что делала его
мать. Не имея ясного представления о
действительных нуждах государства, Павел
стал без разбора отменять все то, что сделала
его мать, и с лихорадочной быстротой осу¬
ществлять свои полуфантастические планы,
выработанные им в гатчинском уединении.
По внешности в некоторых отношениях он
возвращался к старому. Так, он восстановил
почти все старые хозяйственные коллегии,
но не дал им правильно разграниченной
компетенции, а между тем старая их компе¬
тенция была совершенно разрушена учреж¬
дением казенных палат и других местных
установлений. Он давно придумал особый
план реорганизации всего центрального уп¬
равления; но план этот сводился/ в сущ¬
ности, к упразднению всех государственных
учреждений и к сосредоточению всей
администрации непосредственно в руках са¬
мого государя и едва ли мог быть осуществ¬
лен на деле .
В начале царствования Павла были,
впрочем, приняты две серьезные правитель¬
ственный меры, значение которых сох¬
ранилось и на будущее время. Первой из
этих мер был закон о престолонаследии,
который Павел выработал еще в бытность
свою наследником и который был им
опубликован 5 апреля 1797 г. Закон этот
41
имел в виду устранить тот произвол в назна¬
чении наследника престола, который гос¬
подствовал в России со времени Петра и
благодаря которому произошло в XVIII в.
столько дворцовых переворотов. Закон,
изданный Павлом, действовавший с не¬
большими дополнениями до последнего вре¬
мени, внес действительно строгий порядок в
наследование императорского престола в
России преимущественно по мужской
линии. В связи с этим было издано подроб¬
ное положение об императорской фамилии,
причем в видах материального обеспечения
ее членов образовано было особое хозяйст¬
венное учреждение под названием «уделов»,
в ведение которого перечислены были те
дворцовые крестьяне, которые и ранее экс¬
плуатировались для нужд императорского
двора и к которым причислены были теперь
и отдельные имения, принадлежащие чле¬
нам царской фамилии. Все эти крестьяне
получили наименование «удельных», и для
управления ими созданы были особые уч¬
реждения и особые правила, благодаря кото¬
рым впоследствии положение их оказалось
более удовлетворительным, нежели поло¬
жение обыкновенных крепостных и даже
казенных крестьян, которыми заведовала
бессовестно эксплуатировавшая их земская
полиция.
Особенно настойчиво стремился Павел
уничтожить все те права и привилегии, ко¬
торые были дарованы Екатериной отдель¬
ным сословиям. Так, он отменил
жалованные грамоты городам и дворянству
и не только уничтожил право дворянских
обществ подавать петиции о своих нуждах,
но дажеотменилосвобождение дворян от
телесного наказания по суду3.
Существует взгляд, что Павел, относясь
совершенно отрицательно к привилегиям
высших сословий, относился сочувственно к
народу и даже будто бы стремился осво¬
бодить народ от произвола помещиков и
угнетателей.
Может быть, кое-какие добрые наме¬
рения у него и были, но едва ли можно
приписать ему в этом отношении какую-
нибудь серьезно продуманную систему.
Обычно в виде доказательства правильности
такого взгляда на Павла, указывают на
манифест 5 апреля 1797 г., установивший
воскресный отдых в трехдневную барщину,
но при этом манифест этот не совсем точно
передается. Категорически им запрещалась
лишь праздничная работа на помещика, а
затем, уже в виде сентенции, говорилось, что
достаточно и трех дней барщины для под¬
держания помещичьего хозяйства. Самая
форма выражения этого пожелания, при
отсутствии всякой санкции, указывает на то,
что это в сущности не был определенный
закон, устанавливающий трехдневную
барщину, хотя впоследствии он. так толко¬
вался. С другой стороны, надо сказать, что,
например, в Малороссии трехдневная
барщина не была бы и выгодна для крестьян,
так как там по обычаю практиковалась двух¬
дневная барщина. Другой закон, изданный
Павлом по инициативе канцлера Безбородка
в пользу крестьян,— о запрещении продажи
крепостных без земли — распространялся
только на Малороссию.
Крайне характерно то положение, кото¬
рое занял Павел по отношению к кресть¬
янским волнениям и жалобам крепостных
крестьян на притеснения помещиков. В на¬
чале царствования Павла волнения крестьян
вспыхнули в 32 губерниях. Павел посылал
для их усмирения целые большие отряды с
генерал-фельдмаршалом кн. Репниным во
главе. Репнин очень быстро усмирил кресть¬
ян, приняв чрезвычайно крутые меры. При
усмирении в Орловской губернии 12 тыс.
крестьян помещиков Апраксина и кн.
Голицына произошло целое сражение,
причем из крестьян было 20 человек убитых
и до 70 раненых. Репнин велел зарыть
убитых крестьян за оградой кладбища, а на
коле, поставленном над их общей могилой,
написал: «Тут лежат преступники перед
Богом, государем и помещиком, справедливо
наказанные по закону Божию». Дома этих
крестьян были разрушены и сравнены с
землей. Павел не только одобрил все эти
действия, но и издал особый манифест 29
января 1797 г., которым под угрозой подоб¬
ных мер предписывалось безропотное
повиновение крепостных крестьян
помещикам.
В другом случае Павлу попробовали
пожаловаться дворовые люди некоторых
проживающих в Петербурге помещиков на
претерпеваемые от них жестокости и
притеснения. Павел, не расследуя дела, ве¬
лел отправить жалобщиков на площадь и
наказать их кнутом «столько, сколько
похотят сами их помещики».
Вообще Павел едва ли повинен в стрем¬
лении серьезно^ улучшить положение
помещичьих крестьян. На помещиков он
смотрел как на даровых полицмейстеров —
он считал, что пока в России есть 100 тыс.
этих полицмейстеров, спокойствие государ¬
42
ства гарантировано, и не прочь был даже
посильно увеличить это число, широкой
рукой раздавая частным лицам казенных
крестьян: за четыре года он успел таким
образом раздать 530 тыс. душ обоего пола
казенных крестьян различным помещикам и
чиновникам, серьезно утверждая, что он ока¬
зывает этим крестьянам благодеяние, так как
положение крестьян при казенном управ¬
лении, по его мнению, было хуже, чем при
помещичьем, с чем, конечно, нельзя было
согласиться. О значении приведенной
цифры розданных в частные руки казенных
крестьян можно судить по тем данным, ко¬
торые выше приведены о численности кре¬
стьян разных категорий; но еще сильнее
поражает эта цифра, если мы вспомним, что
Екатерина, которая охотно награждала
своих фаворитов и других лиц крестьянами,
все же за все 34 года своего царствования
успела раздать не более 800 тыс. душ обоего
пола, а Павел за четыре года роздал 530
тыс. .
К этому следует прибавить, что в самом
начале царствования Павла был издан еще
один акт, направленный против свободы
крестьян: указом 12 декабря 1796 г. был
окончательно прекращен переход крестьян,
поселившихся на частных землях среди ка¬
зачьих земель в Донской области и в гу¬
берниях: Екатеринославской, Вознесенской,
Кавказской и Таврической5.
Из остальных сословий более других
имело основание быть довольным Павлом
духовенство, к которому Павел благоволил
или по крайней мере хотел благоволить.
Будучи человеком религиозным и считая
себя к тому же главой православной церкви,
Павел заботился о положении духовенства,
но и тут результаты получались иногда
странные. Эти его заботы носили подчас
двусмысленный характер, так что один из
его прежних наставников, его законоучитель
— а в это время уже московский митрополит
— Платон, к которому Павел в юности, да и
потом, после своего вступления на престол,
относился с большим уважением, оказался
в числе протестующих против некоторых
мер, которые Павел предпринял. Протест, с
которым Платону пришлось выступать, ка¬
сался, между прочим, странного нововве¬
дения — награждения духовных лиц
орденами. Платону основательно казалось,
что с канонической точки зрения совершен¬
но недопустимо, чтобы гражданские власти
награждали служителей церкви, не говоря
уж о том, что вообще ношение орденов вовсе
не соответствует значению священническо¬
го, а тем более священномонашеского сана.
Митрополит на коленях просил, чтобы Павел
не награждал его орденом Андрея Первоз¬
ванного, но в конце концов должен был его
принять. Само по себе это обстоятельство
как будто не особенно важно, но оно харак¬
терно именно для отношения Павла к тому
сословию, которое он наиболее чтил.
Гораздо важнее в положительном смыс¬
ле отношение Павла к духовным учебным
заведениям. Он сделал для них довольно
много — ассигновал на них значительную
сумму денег из доходов от имений, принад¬
лежащих прежде архиерейским домам и
монастырям и конфискованных Ека¬
териной.
При нем были вновь открыты две духов¬
ные академии — в Петербурге и Казани —
и восемь семинарий, причем как вновь
открытые, так и преж;ние учебные заведения
были обеспечены штатными суммами: ака¬
демии стали получать от 10 до 12 тыс. руб.
в год, а семинарии в среднем от 3 до 4 тыс.,
т. е. почти вдвое более против того, что
отпускалось на них при Екатерине6.
Здесь следует еще отметить бла¬
гоприятное отношение Павла к духовенству
инославному, даже не христианскому, в осо¬
бенности же его благосклонное отношение к
духовенству католическому. Это объясняет¬
ся, может быть, его искренней религиозно¬
стью вообще и высоким понятием о
пастырских обязанностях; что же касается
собственно католического духовенства, то
тут имело еще большое значение его отно¬
шение к Мальтийскому духовному рыцар¬
скому ордену. Павел не только принял на
себя верховное покровительство этому орде¬
ну, но даже разрешил в Петербурге образо¬
вать особое его приорство. Это
обстоятельство, объяснявшееся странными
фантазиями Павла, привело потом, как
увидим, к весьма важным последствиям в
области международных отношений.
Другим важным фактом в сфере церков¬
ной жизни при Павле было его довольно
миролюбивое отношение к раскольникам. В
этом одном отношении Павел продолжал
политику Екатерины, следы царствования
которой с такой энергией старался
уничтожить всеми остальными своими ме¬
роприятиями. По ходатайству митрополита
Платона, он согласился принять довольно
важную меру — именно разрешил старооб¬
рядцам публичное отправление богослу¬
жения в так называемых единоверческих
43
церквах, благодаря чему открылась впервые
серьезная возможность примирения наибо¬
лее мирных групп старообрядчества с пра¬
вославной церковью.
Что касается отношения Павла к свет¬
скому просвещению, то деятельность его в
этом направлении была ярко реакционной и,
можно сказать, прямо разрушительной. Еще
в конце царствования Екатерины были за¬
крыты частные типографии, и тогда уже
издание книг чрезвычайно сократилось. При
Павле же число издаваемых книг свелось,
особенно в последние два года его царство¬
вания, к совершенно ничтожному количест¬
ву, причем и самый характер книг тоже
сильно изменился — стали издаваться
почти исключительно учебники и книги
практического содержания7. Ввоз книг,
изданных за границей, был в конце царст¬
вования запрещен совершенно; с 1800 г. все
печатавшееся за границей, независимо от
содержания, даже музыкальные ноты, в
Россию доступа не имело. Еще раньше, в
самом начале царствования, был запрещен
свободный въезд иностранцев в Россию.
Еще важнее была другая мера — именно
вызов в Россию всех учившихся за границей
молодых людей, которых оказалось в Иене
65 человек, в Лейпциге — 36, и запрещение
молодежи выезжать с образовательными це¬
лями в чужие края8, взамен чего предполо¬
жено было открыть университет в Дерпте.
Из ненависти к революционным идеям
и к либерализму вообще Павел с настойчиво¬
стью маньяка преследовал всякие внешние
проявления либерализма. Отсюда война
против круглых шляп и сапог с отворотами,
которые носились во Франции, против фра¬
ков и трехцветных лент. Вполне мирные
лица подвергались самым серьезным взы¬
сканиям, чиновники прогонялись со служ¬
бы, частные лица подвергались аресту,
многие — высылке из столиц и даже иногда
в места более или менее отдаленные. Такие
же взыскания налагались за нарушение того
странного этикета, соблюдение которого бы¬
ло обязательно при встречах с императорам.
Благодаря этому этикету встреча с государем
считалась несчастьем, которого всячески
старались избежать: завидя государя, под¬
данные спешили укрыться за ворота, заборы
и т.п.
При таких обстоятельствах сосланные,
заключенные в тюрьму и крепости и вообще
потерпевшие при Павле за совершенные
пустяки, считались тысячами, так что, когда
Александр, по вступлении на престол,
реабилитировал таких лиц, их оказалось по
одним сведениям 15 тыс., по другим — более
12 тыс. человек.
Особенно тяжело гнет павловского цар¬
ствования отразился на армии, начиная с
солдат и кончая офицерами и генералами.
Бесконечная муштра, суровые наказания за
малейшие погрешности во фрунте, бессмыс¬
ленные приемы обучения, самая неудобная
одежда, крайне стеснительная для простого
человека, особенно при маршировке, кото¬
рая должна была тогда доводиться чуть ли
не до балетного искусства; наконец, обяза¬
тельное ношение буклей и кос, смазы¬
вавшихся салом и посыпавшихся мукой или
кирпичным порошком,— все это усложняло
трудность и без того тяжелой солдатской
службы, продолжавшейся тогда 25 лет.
Офицерам и генералам приходилось
ежечасно дрожать за свою судьбу, так как
малейшая неисправность кого-либо из
подчиненных могла повлечь за собой самые
жестокие последствия и для них, если импе¬
ратор был не в духе.
Таковы были проявления правительст¬
венного гнета, который развился при Павле
до высших пределов. Интересен отзыв о
Павле, сделанный спустя 10 лет после его
смерти строгим консерватором и убежден¬
ным сторонником самодержавия Н. М. Ка¬
рамзиным в его ♦Записке о древней и новой
России», представленной Александру I в
1811 г. в виде возражения на те либеральные
реформы, которые Александр тогда за¬
мыслил. Являясь антагонистом либерально¬
го императора, Карамзин, однако, так
охарактеризовал царствование его предше¬
ственника: -«Павел вошел на престол в то
благоприятное для самодержавия время, ког¬
да ужасы французской революции излечили
Европу от мечтаний гражданской вольности
и равенства; но что сделали якобинцы в
отношении к республикам. То Павел сделал
в отношении к самодержавию; заставил не¬
навидеть злоупотребления оного. По жалко¬
му заблуждению ума и вследствие многих
личных претерпенных им неудовольствий он
хотел быть Иоанном IV; но россияне уже
имели Екатерину II, знали, что государь не
менее подданных должен выполнять свои
святые обязанности, коих нарушение
уничтожает древние заветы власти с повино¬
вением и низвергает народ с степени граж¬
данственности в хаос частного естественного
права. Сын Екатерины мог быть строгим и
заслужить благодарность отечества; к
неизъяснимому удивлению россиян, он на¬
44
чал господствовать всеобщим ужасом, не
следуя никаким уставам, кроме своей
прихоти; считал нас не подданными, а
рабами; казнил без вины, награждал без
заслуг, отнял стыд у казни, у награды —
прелесть, унизил чины и ленты расточитель¬
ностью в оных; легкомысленно истреблял
долговременные плоды государственной
мудрости, ненавидя в них дело своей матери;
умертвил в полках наших благородный дух
воинский, воспитанный Екатериной, и за¬
менил его духом капральства. Героев,
приученных к победам, учил маршировать,
отвратил дворян от воинской службы;
презирая душу, уважал шляпы и воротники;
имея, как человек, природную склонность к
благотворению, питался желчью зла: ежед¬
невно вымышлял способы устрашать людей
и сам всех более страшился; думал соо¬
рудить себе неприступный дворец — и соо¬
рудил гробницу... Заметим,— прибавляет
Карамзин,— черту, любопытную для на¬
блюдателя: э сие царствование ужаса, по
мнению иноземцев, россияне даже боялись
и мыслить; нет! говорили и смело, умолкая
единственно от скуки и частого повторения,
верили друг другу и не обманывались. Ка-
кой-то дух искреннего братства господство¬
вал в столицах; общее бедствие сближало
сердца и великодушное остервенение против
злоупотребления власти заглушало голос
личной осторожности»9. Аналогичные отзы¬
вы имеются в записках Вигеля и Греча, тоже
людей консервативного лагеря...
Следует, однако же, сказать, что
♦великодушное остервенение» отнюдь не
переходило в действие. Общество даже не
пыталось выразить свое отношение к Павлу
каким-либо общественным протестом. Оно
ненавидело молча, но, конечно, именно это
настроение дало немногочисленным деяте¬
лям переворота И марта 1801 г. смелость
внезапно устранить Павла.
Хозяйственное положение страны не
могло слишком сильно измениться при Пав¬
ле» ввиду краткости его царствования; фина¬
нсовое же положение России при нем
находилось в сильной зависимости от его
внешней политики и тех причудливых изме¬
нений, которые в ней происходили. Павел
начал с того, что заключил мир с Персией
и отменил рекрутский набор, назначенный
при Екатерине; отказался от посылки 40
тыс. армии против французской рес¬
публики, на что Екатерина согласилась в
1795 г. благодаря настояниям английского
посла Витворта, и вытребовал назад русские
корабли, посланные на помощь английскому
флоту. Затем было положено начало пога¬
шению ассигнационного долга. Правитель¬
ство решилось на изъятие части
выпущенных на рынок ассигнаций;
состоялось торжественное сожжение в
присутствии самого Павла ассигнаций на
сумму 6 млн. руб. Таким образом общее
количество выпущенных ассигнаций
уменьшилось с 157 млн. руб. до 151 млн.
руб., т. е. менее чем на 4 % но в этой
области, конечно, всякое, даже небольшое,
уменьшение имеет значение, ибо свидетель¬
ствует о намерении правительства расп¬
лачиваться с долгами, а не увеличивать их.
В то же время приняты были меры к уста¬
новлению прочного курса серебряной моне¬
ты; был установлен постоянный вес
серебряного рубля, который был признан
равным весу четырех серебряных франков.
Затем важное значение имело восстанов¬
ление сравнительно свободного таможенного
тарифа 1782 г. При этом Павел руководст¬
вовался, однако же, не сочувствием к сво¬
бодной торговле, а поступал так из желания
уничтожить изданный Екатериной тариф
1793 г.
Введение нового тарифа должно было
послужить к развитию торговых сношений.
Для крупной промышленности имело боль¬
шое значение открытие каменного угля в
Донецком бассейне. Это открытие, сделан¬
ное на юге России, в стране, бедной лесом,
немедленно отразилось на состоянии про¬
мышленности в Новороссийском крае. Важ¬
ное значение для развития внутренних
торговых сношений и для подвоза некоторых
продуктов к портам имело прорытие при
Павле новых каналов, отчасти начатых при
Екатерине. В 1797 г. начат и еще при Павле
окончен Огинский канал, соединивший бас¬
сейн Днестра с Неманом; прорыт Сиверсом
канал для обхода о. Ильменя; начат один из
приладожских Сясский канал и продол¬
жались работы по сооружению Мариинского
канала. При нем же установлено porto franco
в Крыму, выгодное для оживления Южного
края.
Но улучшение экономического поло¬
жения страны продолжалось недолго, и го¬
сударственным финансам скоро пришлось
испытывать новые колебания. В 1798 г.
мирное течение дел неожиданно прек¬
ратилось. Как раз в это время Наполеон
Бонапарт отправился в свой поход в Египет
и мимоходом захватил в Средиземном море
остров Мальту. Мальта, принадлежавшая
45
Мальтийскому ордену, имела неприступную
крепость, но гроссмейстер ордена по неизве¬
стным побуждениям (подозревалась измена)
сдал крепость без боя, забрал архив, ордена
и драгоценности и удалился в Венецию,
Петербургское приорство, состоявшее под
покровительством Павла, объявило гросс¬
мейстера низложенным, а через некоторое
время, ко всеобщему удивлению, Павел,
считавший себя главой православной
церкви, принял лично на себя гроссмейстер-
ство в этом католическом ордене, подчине¬
нном папе. Сохранялось предание, что этот
странный шаг в уме Павла соединялся с
фантастическим предприятием — с повсе¬
местным уничтожением революции в корне
путем объединения всех дворян всех стран
света в Мальтийском ордене. Так ли это
было,— трудно решить; но, конечно, идея
эта осуществления не получила. Объявив
войну Франции и не желая выступать
единолично, Павел помог английскому
министру Питу создать довольно сильную
коалицию против Франции. Он вступил в
союз с Австрией и Англией, которые на¬
ходились тогда с Францией во враждебных
или натянутых отношениях, затем привле¬
чены были к коалиции королевство
Сардинское и даже Турция, потерпевшая от
вторжения Наполеона в Египет и Сирию.
Союз с Турцией был заключен на очень
выгодных для России условиях и при после¬
довательной политике мог бы иметь большое
значение. Ввиду того что французскими вой¬
сками заняты были разные турецкие земли
(между прочими — Ионические острова),
решено было изгнать французов оттуда со¬
единенными силами, и для этого Порта сог¬
ласилась пропустить и на будущее время
пропускать через Константинопольский и
Дарданелльский проливы не только русские
торговые суда, но и военные корабли, беря
на себя в то же время обязательство не
пропускать иностранных военных судов в
Черное море. Сила этого договора должна
была продолжаться восемь лет, после чего он
мог быть возобновлен по взаимному согла¬
шению договаривающихся сторон. Русский
флот тотчас же воспользовался этим правом
и, провезя через проливы значительный де¬
сант на военных судах, занял Ионические
острова, которые после того находились под
властью русских до Тильзитского мира
(т. е. до 1807 г.).
На континенте Европы предстояло дей¬
ствовать против французских армий в союзе
с австрийцами и англичанами. Павел, сле¬
дуя совету австрийского императора, на¬
значил Суворова начальствовать над со¬
единенными армиями России и Австрии.
Суворов в это время был в опале и жил в
своем имении под надзором полиции: он
относился отрицательно к военным нововве¬
дениям Павла и умел дать ему это почувст¬
вовать под маской шуток и дурачеств, за что
и поплатился опалой и ссылкой.
Теперь Павел обратился к Суворову от
своего имени и от имени австрийского импе¬
ратора. Суворов с радостью принял началь¬
ствование над армией. Этот поход его
ознаменовался блестящими победами в се¬
верной Италии над французскими войсками
и знаменитым переходом через Альпы.
Но когда северная Италия была очищена
от французов, Австрия решила, что с нее
этого довольно, и отказалась оказывать под¬
держку Суворову в дальнейших его планах.
Таким образом, Суворов не мог осуществить
своего намерения вторгнуться во Францию
и идти на Париж. Это ««австрийская измена»
привела к поражению русского отряда гене¬
рала Римского-Корсакова французами. Па¬
вел пришел в крайнее негодование, отозвал
армию, и таким образом война России с
Францией фактически здесь прекратилась.
Русский корпус, посланный против францу¬
зов в Голландию, не был достаточно подк¬
реплен англичанами, которые не
выплачивали своевременно и денежных
субсидий, к чему обязаны были договором,
что также вызвало негодование Павла, кото¬
рый отозвал свои войска и с этого пункта.
Между тем Наполеон Бонапарт воз¬
вратился из Египта, чтобы совершить свой
первый государственный переворот: 18 брю¬
мера он сверг законное правительство дирек¬
тории и сделался первым консулом, т. е. в
сущности фактическим государем во
Франции. Павел, видя, что дело идет, таким
образом, к восстановлению монархической
власти, хотя и со стороны «узурпатора»,
переменил свое отношение к Франции,
ожидая, что Наполеон разделается с остат¬
ками революции. Наполеон же, со своей
стороны, ловко ему угодил, отправив без
размена всех русских пленных на родину на
французский счет и снабдил их подарками.
Это тронуло рыцарское сердце Павла, и,
надеясь на то, что Наполеон окажется его
единомышленником и во всех прочих вопро¬
сах, Павел вступил с ним в переговоры о
мире и о союзе против Англии, которой
Павел приписывал неудачу своих войск в
Голландии. Наполеону было тем легче вос¬
46
становить его против Англии, что в это время
англичане отобрали Мальту у французов, но
не вернули ее ордену.
Немедленно, игнорируя всякие между¬
народные трактаты, Павел наложил эмбарго
(арест) на все английские торговые суда,
ввел резкие изменения в таможенном тарифе
и в конце концов совершенно запретил вывоз
и ввоз товаров в Россию не только из Англии,
но и из Пруссии, так как Пруссия на¬
ходилась в сношениях с Англией. Этими
мерами, направленными против англичан,
Павел произвел потрясение во всей русской
торговле. Он не ограничился при этом тамо¬
женными стеснениями, но приказал даже в
лавках арестовывать все английские товары,
чего никогда не делалось в подобных обсто¬
ятельствах. Подзадориваемый Наполеоном и
не довольствуясь этим рядом враждебных
действий против Англии, Павел решил, на¬
конец, уязвить ее в самое больное место: он
решил завоевать Индию, полагая, что сдела¬
ет это легко, отправив туда одних казаков. И
вот по его приказу 40 полков донских каза¬
ков внезапно отправляются на завоевание
Индии, взяв с собой двойной комплект ло¬
шадей, но без фуража, зимой, без верных
карт, через непроходимые степи. Разумеет¬
ся, это войско было обречено на погибель.
Бессмыслие этого акта настолько было
очевидно для современников Павла, что
княгиня Ливен, жена приближенного гене-
ралт£дъютанта Павла, в своих мемуарах
утверждает даже, что эта затея была
предпринята Павлом с целью намеренного
уничтожения казачьего войска, в котором он
заподозрил вольнолюбивый дух. Это предпо¬
ложение, конечно, неверно, но оно показы¬
вает, какие мысли могли приписываться
Павлу его приближенными. К счастью, этот
поход начался за два месяца до устранения
Павла, и Александр, едва вступив на
престол, уже в самую ночь переворота по¬
спешил послать фельдъегеря, чтобы вернуть
злополучных казаков; оказалось, что казаки
не успели еще дойти до русской границы, но
успели уже потерять значительную часть
своих лошадей...
Факт этот особенно ярко рисует безумие
Павла и те страшные последствия, какие
могли иметь те меры, которые он
предпринимал. На состмнии^финансов все
эти походы и войны последних двух лет
царствования Павла, разумеется,
отразились самым пагубным образом. В на¬
чале своего царствования Павел сжег, как
мы видели, на 6 млн. ассигнаций, но война
потребовала экстренных расходов. И Павлу
пришлось опять прибегнуть к выпуску
ассигнаций, так как иных средств для ве¬
дения войны не было. Таким образом, к
концу его царствования общая сумма выпу¬
щенных ассигнаций с 151 млн. поднялась
до 212 млн. руб., что окончательно уронило
курс бумажного рубля.
Подводя теперь итоги правлению Павла,
мы видим, что границы государственной
территории остались при нем в прежнем
виде. Правда, грузинский царь, теснимый
Персией, в январе 1801 г. заявил о своем
желании перейти в подданство России, но
окончательное присоединение Грузии
состоялось уже при Александре.
Что касается положения населения, то
как ни вредны были многие из предприня¬
тых Павлом мер, за четыре года глубоких
изменений они произвести не могли. Самым
печальным изменением в положении кресть¬
ян было, конечно, перечисление из состава
казенных крестьян в состав крепостных тех
530 тыс. душ, которых Павел успел раздать
частным лицам.
Что же касается торговли и промышлен¬
ности, то, несмотря на целый ряд бла¬
гоприятных условий в начале царствования,
к концу его заграничная торговля была со¬
вершенно погублена, внутренняя же на¬
ходилась в самом хаотическом состоянии.
Еще больший хаос получился в состоянии
высшего и губернского управления.
В таком положении было государство,
когда Павел перестал существовать.
Список сочинений, относящихся к истории России при Павле I
1. И. К. Шильдер. «Император Павел I, его
жизнь и царствование». СПб., 1901; 2) Его же.
«Император Александр I». Т. I, изд. 2-е. СПб., 1904;
3) С. Е. Шумигорский. «Император Павел I.
Жизнь и царствование» СПб., 1907; 4) Его же.
«Императрица Мария Феодоровна (1759—1828).
Ее биография». Т. I. СПб., 1892; 5) Его же. «Ека¬
терина Ивановна Нелидова (1758—1839)». Изд. 2-
е, 1902; 6) В. Ф. Чиж. «Имп. Павел I». (Вопр. фил.
и псих., кн. 88—90 за 1907 г.); 7) Я. Я. Кова-
левский.«Имп. Петр III. Имп. Павел I».
Психиатрич. эскиз по истории», т. I, изд. 6-е. СПб.,
1909; 8) Д. Ф. Кобеко. «Цесаревич Павел Пет¬
рович (1754—1796). Ист. исслед.». Изд. 3-е. СПб.,
47
1887; 9) «Время Павла и его смерть. Русская быль».
(Статья проф. Шимана и проф. Брикнера в пере¬
воде с немец.). М., 1909; 10) Морей. «Павел I до
восшествия на престол» (с франц.). М., 1912; 11)
М. В. Клочков. «Очерки правительственной дея¬
тельности времени Павла I». Петроград, 1916; 12)
«Цареубийство 11 марта 1801 г. Записки
участников и современников» (записки Саблукова,
Бенигсена, Ланжерона, Фонвизина М. Л., княгини
Ливен, кн. Адама Чарторыйского, Гейкинга и Авг.
Коцебу.). СПб., 1907; 13) А. ПетрушевскиИ «Ге¬
нералиссимус кн. Суворов» 3 т. СПб., 1884. То же
в 1 томе. СПб., 1900; 14) Д. А. Милютин. «История
войны 1799 г.» СПб., 5 томов. 1852—1853, изд. 2-е;
15) Горяйнов. «Босфор и Дарданеллы» СПб., 1907;
16) В. О. Ключевский. Курс русской ист. (литог¬
раф. изд. 1884 и 1894 гг.); 17) М. И. Семевский.
»Материалы к русской истории XVIII века».
«Вестн. Евр.» за 1867 г., № 1.
О финансах в царствование Павла: 18) Блиох.
«Ист. финансов в России XIX в.». Т. I. СПб., 1882.
О торговле при Павле: 19) А. Семенов. «Изуч.
историч. сведений о российск. торговле» СПб.,
1859. О развитии путей сообщения:20) «Краткий
ист. очерк разв. ведомства путей сообщения
(1798—1898)». СПб., 1898. Об уделах: 21) «Ис¬
тория уделов» (1797—1897). 3 тома. СПб., 1902.
О положении населения: 22) В. И. Се¬
мевский. «Крестьянский вопрос». СПб., 1888. Т. I;
23) Его же. «Пожалование населенных имений в
царствование Павла» («Русск. мысль», 1882, №
12); 24) Е. П. Трефильев. «Очерки по истории кре¬
постного права в России. Царствование императо¬
ра Павла Первого». Харьков, 1904. Срав.
критический отзыв дб этой работе Я. П. Павлова-
Сильванского в «Очерках по русской истории
ХУШ—XIX вв.», СПб., 1910, стр. 154 («Волнения
крестьян при Павле I») и полемику по этому поводу
междунимииТрефильевымв«Журн.М. н. пр.» за
1905 г., №№ 2 (указ. статья), 10 и 12; 25) В. Е.
Якушкин.«Очерки по истории русской поземель¬
ной политики в XVIII и XIX вв.» Т. I. М., 1890; 26)
Бар. С. Корф. «Дворянство и его сословное управ¬
ление за столетие с 1762—1856». СПб., 1906; 27)
Ив. Знаменский. «О положении духовенства при
Екатерине и Павле». СПб., 1880; 28) Морошкин.
«Иезуиты в России» СПб., 1867—1870, 2 тома;
29) Снегирев. «Биография митрополита Платона».
М., 1856; 30) И. П. Дитятин. «Городское самоуп¬
равление в России». Яросл., 1877. Т.-II, гл. 1; 31)
Ратч. «Сведения об Аракчееве до 1798 г.» СПб.,
1864.
Из мемуарной литературы о времени Павла
следует иметь в виду Архив Воронцова, разные то¬
ма (XII, XIII и XXIX). Срав. роспись 40 томам,
издан. Бартеневым в 1897 г.; А. Васильчикова. «Се¬
мейство Разумовских». М., 5 томов. СПб., 1882—
1888; «Воспоминания Ф. П. Лубяновского
1777—1834». М., 1872; Записки Г.Р.Де-
ржавинаМ., 1860; Записки А Т. Болотова. СПб.,
1870; Записки адмирала А. С. Шишкова (за-
граничн. издание); Авг. Коцебу. «Достопамятный
год моей жизни». Материалы для биографии гр.
Никиты Петровича Панина (под. редакц. Брикне¬
ра) . Т. 1—5; Записки Порошина (воспитателя Пав¬
ла Петровича); Записки А. М. Тургенева (в
«Русск. старине» за 1885 г.); Воспоминания
Ф.Ф.Вигеля, изд. при «Русск. архиве»; Записки Я.
Я. Греча. СПб., 1887; Записка Я. М. Карамзина
«О древней и новой России» в «Русск. архиве» за
1870 г. (Срав. новое изд. В. В. Сиповского. СПб.,
1914); ДИ.Багалея «Биография В. Н. Ка¬
рамзина;» С. А. Ланчулидзева «Ист. кавалергар¬
дов» т. II. СПб., 1901; А. А. Кизеветтера.
«Исторические очерки» (статья об Аракчееве). М.,
1912; Его же. «Исторические отклики» (статья о
Растопчине). М., 1915; Записки Г. С. Винского.
Изд. «Огни». СПб., 1914; Записки гр. Е. Ф. Кома¬
ровского. Изд. «Огни». СПб., 1914; Мемуары кн.
Адама Чарторыйского. Под ред. А. А. Кизеветте¬
ра, изд. Некрасова, т. I. М., 1912.
ЛЕКЦИЯ IV
Царствование Александра I. — Деление его царствования на периоды.— Биографические данные.—
Воспитание Александра.— Его женитьба.— Положение его при Екатерине и в царствование Павла.
С 12 марта 1801 г. начинается настоя¬
щая история XIX в. в России. Приступая к
ее изложению, будет, быть может, небеспо¬
лезно бросить предварительный взгляд на ее
содержание и сказать несколько слов о воз¬
можном разделении ее на периоды. Тот
процесс, который совершался в России в
XIX в., процесс раскрепощения сословий и
смягчения деспотизма верховной власти, со¬
вершался путем борьбы отдельных сословий
и классов между собой и борьбы пред¬
ставителей власти с освободительными
стремлениями наиболее сознательных и
передовых представителей общества. На ход
и исход этой борьбы влияли как внутренние,
так и внешние отношения и те мировые
события, которые совершались в это время в
остальной Европе. Если мы будем иметь в
виду лишь самый общий ход исторического
процесса, в развитии которого участвовали
все эти явления, мы можем теперь же ука¬
зать те два периода, на которые процесс этот
48
естественно разделяется главнейшим со¬
бытием внутренней истории XIX в. в России
— падением крепостного права.
С этой точки зрения к первому периоду
истории XIX в. в России относятся первые
55 лет XIX столетия, т. е. царствования
Александра I и Николая I. Период этот
характеризуется подготовлением падения
крепостного права — того великого события,
которое послужило началом решительного
раскрепощения всего населения страны. К
следующему периоду должны быть отнесены
остальные четыре десятилетия XIX в., когда
развились последствия падения крепостного
права и, вместе с тем, подготовлялась имен¬
но этим дальнейшим развитием процесса
замена самодержавного строя
конституционным. Значение великого пере¬
лома 1861 г. для всех более или менее ясно,
и потому и в литературе мы часто встреча¬
емся с выражениями «дореформенная»и
«пореформенная» Россия в смысле именно
двух совершенно различных периодов ее
развития.
Однако при подробном изучении
Истории целого века, при изучении событий
и фактов, как они происходили в
действительности, следя за всеми дробными
поворотами изучаемого процесса, происхо¬
дящими нередко от внешних толчков и со¬
бытий в других странах мира, приходится
допустить деление гораздо более дробное,
сообразно этапам, обусловленным главным
образом перипетиями той борьбы, которая то
затрудняла ход этого процесса, то, напротив,
двигала его вперед. Таких более дробных
делений можно насчитать несколько в одном
и том же царствовании.
В России только первые годы XIX
столетия прошли мирно, причем мирная
обстановка и прогрессивное настроение
правительства способствовали правильному
ходу внутренней жизни страны и спокойно¬
му развитию того исторического процесса,
который подготовлен был историей прошед¬
шего времени. Затем общий ход дел в Запад¬
ной Европе, развивающийся чрезвычайно
бурно и имевший прямую тенденцию за¬
хватить весь мир в свой круговорот, повлиял
самым решительным образом на темп и
направление дел в России. Он повлиял на
настроение русского правительства и на
изменение стоявших перед ним задач,
причем участие в мировой борьбе, разыграв¬
шейся в это время, преградило мирный путь
развития, но зато и ускорило темп событий,
ускорив биение пульса в нашем народном
организме и разом, окончательно вдвинув
Россию в сферу европейской общественной
и политической жизни. Царствование Алек¬
сандра I было исполнено великих событий,
и процесс развития русской жизни, испы¬
тывая в это время сильнейшие внешние
толчки и потрясения, шел бурно и быстро,
но с резкими колебаниями, делая, так ска¬
зать, значительные зигзаги. Эти зигзаги и
обозначают те дробные периоды или этапы,
на которые приходится делить внутреннюю
историю царствования императора Алексан¬
дра. Таких этапов в этом двадцатипятилетии
новейшей русской истории мы можем
насчитать целых шесть шесть1.
Первый этап царствования Александра
— 1801—1805 гг.— характеризуется го¬
рячим и искренним приступом к реформам
по инициативе самого юного императора. В
то же время это период самых розовых, хотя
и очень неопределенных надежд и ожиданий
со стороны общества. Следующие затем два
года (с конца 1805 г. по 1807 г. включитель¬
но) резко отделяются от этого периода: это
годы первых войн с Наполеоном — войн,
которые были ведены вне всякого видимого
отношения к русским интересам и тяжело
отозвались на положении народа. В течение
этих войн правительство временно оставило
всякие мысли о реформах.
Когда вторая война кончилась (в 1807
г.) наступил новый, третий период (1808—
1812 гг.), который характеризуется прежде
всего союзом Александра с Наполеоном, а в
зависимости от этого союза — и той
континентальной системой, которая имела
такое большое и пагубное значение для рус¬
ской торговли и внутренней жизни и вызвала
первую порчу отношений между обществом
и правительством.
Эти четыре года являются в то же время
вторым приступом к реформам, приступом
менее пылким и мало оставившим следов в
действительной жизни, но уже предприня¬
тым в связи с общественным недовольством
и в этом отношении довольно симпто¬
матичным. Это был период, когда общество
впервые стало более или менее сознательно
и критически относиться к политике Алек¬
сандра.
Затем следует новый период Наполео¬
новских войн (1812—1815 гг.), который ха¬
рактеризуется участием России (и не одного
только правительства, а именно всей стра¬
ны) в великих мировых событиях того вре¬
мени.
49
Пятый период — с 1816 по 1818 гг.
включительно — является периодом на¬
чавшихся международных конгрессов для
Александра и вместе периодом новых
ожиданий для русского общества, ожиданий
тех реформ и преобразований, которые тогда
назрели в общественном сознании и к кото¬
рым представители общества относятся уже
гораздо сознательнее, выставляя определен¬
ные запросы, но не разрывая еще вполне с
правительством и не теряя надежды на про¬
явление с его стороны желательной обществу
преобразовательной инициативы.
Наконец, шестой период <1819—1825
гг.) — период вполне определившейся
реакции в правящих сферах, период отча¬
яния общества, а вместе с тем и период уже
начавшегося революционного движения, до¬
вольно острого, хотя и подпольного, но, во
всяком случае, выставившего вполне опреде¬
ленные политические идеалы.
Прежде чем приступить к изложению
событий начала царствования Александра,
необходимо остановиться на личности само¬
го Александра,— личности, которая влияла
заметным образом на развитие внутренней и
внешней истории России и современной ему
Европы.
Александр был старшим внуком и
личным воспитанником Екатерины, которая
потратила много энергии и обнаружила за¬
мечательный педагогический талант, стре¬
мясь сделать из него если не идеального
человека, то идеального государя. Как только
Александр родился, державная бабка тотчас
взяла его к себе. Нельзя здесь не указать,
что, насколько была неподготовлена и непод¬
ходяща к роли воспитательницы Елизавета,
когда она отобрала у родителей Павла, на¬
столько Екатерина проявила необычайный
талант и наличность ясного сознания и про¬
думанной системы и приемов воспитания,
которые она подробно описывает в своей
переписке с бароном Гриммом. С первых же
дней жизни Александра мы видим его в
обстановке, вполне отвечающей требованиям
разумной общей и детской гигиены, мы
встречаемся с замечательно вдумчивым
взглядом на задачи физического и нравст¬
венного воспитания в возрасте первой, де¬
тства и с таким твердым, неуклонным и
уверенным применением этих взглядов, что
можно подумать, будто Екатерина весь век
свой занималась воспитанием детей. Она
высказала при этом столько энергии, горяч¬
ности, нежности и любви к внуку, сколько
едва ли кто мог предположить в этой
женщине, привыкшей посвящать свое время
государственным делам или личным на¬
слаждениям — чувственным и умственным.
Она не ограничивалась общим руко¬
водительством и надзором за воспитанием,
но входила сама во все мелочи, проявляя на
каждом шагу свой ясный, к сожалению не¬
сколько отвлеченный, ум и свои творческие
способности.
Когда Александр стал подрастать, Ека¬
терина сама сочинила азбуку и написала
ряд сказок, которые были изданы и в свое
время имели широкое распространение:
впоследствии с целью написания учебника
русской истории Екатерина не остановилась
перед изучением источников русской
истории и даже сама углублялась в
летописи.
Когда Александр стал выходить из воз¬
раста первого детства, Екатерина тщательно
обдумала план дальнейшего воспитания и
умственного образования внука и подробно
изложила свои мысли в инструкции
воспитателю Салтыкову. Вместе с тем она
тщательно подобрала штат воспитателей и
учителей. Может показаться несколько
удивительным только выбор главного
воспитателя, графа Салтыкова, ловкого
придворного, но весьма заурядного человека,
о котором известный Массон (один из учите¬
лей Александра) в своих мемуарах едко
замечает, что его главная и, можно сказать,
исключительная обязанность состояла в том,
чтобы предохранять великого князя и его
брата от сквозного ветра и засорения желуд¬
ка. Однако и этот выбор был также вполне
обдуман. Салтыков был выбран для того,
чтобы служить ширмой для Екатерины, ко¬
торая, в сущности, желала сама быть глав¬
ной воспитательницей. Вместе с тем
Екатерина, по всей вероятности, ценила и
то, что Салтыков в своей прежней должности
гофмейстера двора Павла Петровича доказал
свои способности быть ловким посредником
между нею и Павлом и всякие затруднения
и обострения сводить на нет. Екатерина,
очевидно, надеялась, что он будет в состо¬
янии оказать ценные услуги по этой части,
когда отношения между ее внуком и его
родителями сделаются щекотливыми впос¬
ледствии, чего, конечно, можно было опа¬
саться в действительности.
Ближе стоявшие к делу педагоги были
выдающиеся люди; среди них первое место,
несомненно, принадлежит швейцарцу Ла-
гарпу, приисканием которого Екатерина
50
обязана своим связям с лучшими умствен¬
ными силами тогдашней Европы.
Лагарп сначала был приглашен, по
рекомендации Гримма, сопровождать в
Италию младшего брата фаворита Ека¬
терины, Ланского.
В 1782 г., когда Александру было всего
пять лет, Екатерина, не желая упускать
Лагарпа, пригласила его состоять при
великом князе «кавалером» и обучать его
французскому языку. Но уже через два года
'(в 1784 г.) Лагарп представил записку, в
которой изложил свои мысли о задачах
воспитания будущего императора, высказав
при этом возвышенный взгляд на обязан¬
ности государя в отношении к подданным.
Екатерина одобрила и взгляды, и воспита¬
тельный план Лагарпа и предоставила ему
полную волю вкладывать в душу Александра
те идеи, которыми он сам был воодушевлен
и которые соответствовали лучшим идеям
передовых людей его века.
Лагарп был уроженцем республики и
воспитывался в идеях республиканских и
демократических; человек высокообразован¬
ный, он был не только в теории привержен¬
цем возвышенных взглядов, но и в
действительной жизни был человеком без¬
укоризненно честным, прямодушным,
искренним и неподкупным. Эти нравствен¬
ные его свойства действовали не менее
сильно на Александра, чем те познания,
которые передавал Лагарп своему
воспитаннику.
Лагарп состоял учителем и воспитате¬
лем Александра в течение 11 лет, с 1784 по
1795 гг., и Александр неоднократно заявлял
впоследствии во всеуслышание, что всем,
что в нем есть хорошего, он обязан Лагарпу.
Весьма замечателен и характерен был
также выбор законоучителя великих князей
Александра и Константина, которым был
назначен протоиерей Сомборский.
Протоиерей этот был женат на англичанке и
долгое время жил в Англии. Это был человек,
до такой степени привыкший к условиям
европейской жизни, что Екатерина должна
была разрешить ему носить светское платье
и брить бороду и усы, приводя этим в сму¬
щение окружающих.
Сомборский пробыл не менее девяти лет
при Александре. Он искренне заботился о
том, чтобы слово Божие не почиталось уро¬
ком его юными воспитанниками. Внушая им
евангельские истины, он учил будущего
императора прежде всего «находить во вся¬
ком человеческом состоянии своего ближне¬
го» «Тогда,— говорил он (по словам Я. К.
Грота),— никого не обидите и тогда
исполнится закон Божий». На свои обязан¬
ности Сомборский смотрел как на священ¬
ную миссию, и несомненно, что его влияние
на Александра было благоприятно. Он же
был преподавателем английского языка
(Александр, впрочем, английскому языку
начал учиться с колыбели, так как нянюшка
его была англичанка).
Преподавателем русского языка и рус¬
ской истории был Михаил Никитич Муравь¬
ев, один из лучших русских писателей конца
XVIII в. содействовавший впоследствии на¬
учным занятием Карамзина в области рус¬
ской истории. Александр сохранил и к нему
признательность и уважение на всю жизнь.
Следует также упомянуть о Массоне, кото¬
рый был преподавателем математики, о Пал-
ласе, знаменитом ученом-натуралисте и
путешественнике, дававшем Александру
уроки географии, и профессоре физики
Крафте. Значительное влияние имел на
Александра и его воспитатель и дядька гене¬
рал Протасов, который оставил весьма лю¬
бопытный дневник. Это был человек старых
правил, но, несомненно, вполне добросове¬
стный и честный; большой патриот и кон¬
серватор, он отрицательно относился к
политическим взглядам Лагарпа, но призна¬
вал его заслуги, ценя в нем его честность и
неподкупность. Роль Протасова заключалась
главным образом в том, что он следил за
повседневным поведением Александра, за
каждым его шагом и довольно строго указы¬
вал ему всякие, даже мелкие, промахи, к
чему Александр относился вполне
терпеливо.
Так было обставлено воспитание Алек¬
сандра до 16-летнего возраста. К сожа¬
лению, широкие образовательные и
воспитательные планы Екатерины и Лагар¬
па не были доведены до конца, а были
скомканы, когда у Екатерины возникли но¬
вые государственные планы, которые ею
овладели в последние годы ее жизни.
Убедившись окончательно в неспособности
своего сына Павла к управлению государст¬
вом, Екатерина решила его устранить и
возвести на престол Александра. Вместе с
тем, имея в виду свой преклонный возраст,
она решила спешить и стала нетерпеливо
гнать весь ход обучения Александра. Не
довольствуясь этим и желая как можно ско¬
рее сделать его взрослым в глазах окружа¬
ющих, она не нашла ничего лучшего, как
женить его, и подыскала ему невесту, когда
51
ему не было и 16 лет. В то же время
Екатерина поссорилась с Лагарпом: она
рассчитывала, что Лагарп будет сочувство¬
вать замене Павла Александром и окажет ей
поддержку в подготовлении самого Алексан¬
дра к этой мысли. Но Лагарп, который был
человеком прямодушным и строгим, посмот¬
рел на это как на придворную интригу, и
категорически отказался способствовать
приведению в исполнение плана Екатерины,
чем и вызвал ее раздражение. После свадьбы
Александра Екатерина не замедлила уст¬
ранить Лагарпа под тем предлогом, что же¬
натому великому князю воспитатель не
требуется.
Таким образом, Александр лишился
главного своего руководителя и в то же время
вступил в положение, которое явно не соот¬
ветствовало его возрасту.
Все планы его образования были, таким
образом, спутаны. Лишь отрывочное чтение
книг продолжалось и далее по плану Лагар¬
па, который, по просьбе Александра,
оставил ему и подробное наставление
относительно поведения его во всех возмож¬
ных случаях жизни. Само собой разумеется,
что десятилетнее пребывание Лагарпа не
осталось без влияния на взгляды его юного
питомца; но преждевременное прекращение
правильного и систематического учения
отразилось крайне неблагоприятно на Алек¬
сандре. Лагарп вложил в Александра целый
ряд возвышенных идей и благородных
стремлений, но не успел дать ему достаточ¬
ных положительных знаний, приобретение
которых должно было начаться как раз в тот
момент, когда так неожиданно остановилось
его образование. Что касается внушения
Александру либеральных идей, то в этом
отношении и сама Екатерина, хотя и охва¬
ченная в конце своего царствования уже
вполне реакционным настроением, продол¬
жала тем не менее в воспитании внука
оставаться сторонницей тех идей эпохи
Просвещения, которыми она увлекалась в
начале своего царствования. Замечательно,
что она сама читала и растолковывала Алек¬
сандру знаменитую Декларацию о правах
человека и гражданина, чем, конечно, содей¬
ствовала развитию в нем либеральных идей
и даже отвлеченных республиканских меч¬
таний.
Но все это не устраняло недостатка в
положительных знаниях. Этот недостаток
положительных знаний, обусловливавший в
Александре излишнюю склонность к мечта¬
тельности, ярко отмечает в своих мемуарах
кн. Адам Чарторыйский, склонный
отнестись скептически ко всей воспитатель¬
ной системе Лагарпа, которого он признал
человеком весьма почтенным, но стоящим, в
сущности, ниже своей репутации.
Что касается образования самого харак¬
тера Александра, то на нем отразились са¬
мым неблагоприятным образом те
ненормальные семейные условия и та нездо¬
ровая придворная атмосфера, среди которых
он рос и действия которых не могли
парализовать никакие воспитательные пла¬
ны даже и удачно подобранных Екатериной
воспитателей.
К самой Екатерине в раннем детстве
Александр относился с аффектированной
нежностью, по-видимому, впрочем, не сов¬
сем искренней, но по мере того как в чутком
мальчике развивалось сознание, он не мог
не заметить целого ряда противоречий между
внушаемыми ему идеями и окружавшей его
средой. Вместе с тем он не мог не почувст¬
вовать и ненормальности тех отношений,
какие существовали между ним и его родите¬
лями и между этими последними и Ека¬
териной. Чем больше он развивался и
понимал, тем более открывались у него глаза
на отрицательные стороны екатерининского
двора, а вместе и на несимпатичные черты
характера самой Екатерины. Оценить ее
государственных заслуг и дарований он еще,
конечно, не мог, а разглядеть или по крайней
мере почувствовать ту атмосферу лжи и
интриг, которая ее окружала, он должен был
довольно рано. Наставники его Лагарп и
Протасов считали своим долгом под¬
держивать и развивать в доверенном им
юноше добрые чувства к отцу, а отец со своей
стороны не мог, а может быть, и не хотел
скрывать своего отрицательного отношения
к «большому двору». В конце концов Алек¬
сандр если и не знал этого определенно, то,
конечно, не мог не почувствовать, что-то
неладное и натянутое, что образовалось меж¬
ду его отцом и его бабушкой, образовалось
по вине этой последней, и что, во всяком
случае, в этих отношениях страдательная и
угнетенная роль выпала на долю его отца.
При таких отношениях очень возможно, что,
несмотря на всю дикость и непривлекатель¬
ность гатчинских порядков, в сердце юного
Александра могло образоваться некоторое
сочувствие к положению отца и скрытое
осуждение поступков Екатерины. Мало-
помалу это отрицательное отношение к ба¬
бушке и окружающим ее порядкам он стал
и высказывать по секрету людям, которым
52
тогда доверял. Вслух и открыто высказывать
этого он не мог, приученный с ранних лет к
тому, что бабушке можно говорить одни
только почтительные и лестные для нее фра¬
зы. Немудрено, что при подобных условиях
в нем рано развились скрытность и лице¬
мерие. Очень может быть, что в «малом
дворе» он получает даже определенные на¬
ставления в этом духе, если не от отца, то от
матери. Под влиянием таких обстоятельств
те яркие и в его глазах возмутительные
противоречия, которые он наблюдал между
внушаемыми ему с детства идеями и
действительной окружавшей его жизнью,
возбудили в Александре естественное отвра¬
щение к придворной жизни, которая там
господствовала. От природы уклончивый,
мягкий, не склонный к резким формам про¬
теста, хотя и упрямый, и в то же время
чрезвычайно склонный к мечтательности и
идеализациям всякого рода, благодаря осо¬
бенностям полученного им воспитания, он
стал строить себе планы мирной жизни
частного человека где-нибудь на Рейне, пос¬
реди прекрасной природы и мало-помалу
пришел к мысли о возможности и необ¬
ходимости отречения от того высокого и
вместе и неприятного для него положения,
которое предстояло ему в будущем. Планы
эти всецело разделяла,— а может быть, и
участвовала в их составлении и развитии —
молоденькая жена Александра, Елизавета
Алексеевна, баденская принцесса, которой
едва исполнилось 14 лет, когда она вышла
за него замуж. Великая княгиня Елизавета
Алексеевна, по единодушному свидетельству
современников, была в высшей степени
привлекательное и обаятельное существо с
честной душой и развитым умом, открытым
для всех возвышенных идей и понятий, ко¬
торыми был в то время одушевлен ее муж.
Поэтому в течение нескольких лет, вплоть до
восшествия Александра на престол, молодые
супруги жили, по-видимому, душа в душу.
Можно думать, что в это время Елизавета
Алексеевна, по характеру более пылкая и
более открытая, нежели ее муж, быть может,
даже оказывала на него некоторое влияние в
сторону дальнейшего развития усвоенных
обоими ими принципов.
В последний год царствования Ека¬
терины планы Александра, как раз противо¬
положные ее государственным планам,
по-видимому, созрели окончательно, и он
сообщает их в письмах Лагарпу и своему
молодому другу Кочубею, бывшему в то вре¬
мя посланником в Константинополе, а затем
и в личном разговоре с молодым польским
аристократом и патриотом князем Адамом
Чарторыйским, с которым он незадолго
перед этим познакомился. Неизвестно, что
ответили (и даже ответили ли что-нибудь)
на письма Александра Лагарп и Кочубей,
но,* как видно из мемуаров Чарторыйского,
он, как ни был он поражен таким настро¬
ением юного Александра, как ни восхищали
его видимая искренность, энтузиазм и про¬
стота, с которой Александр поверял ему свои
мысли,— однако ж, и тогда сумел
различить, что было в них мечтательного и
в сущности эгоистичного, и своего мнения
не скрыл от своего нового высокопоставлен¬
ного друга. Убеждения Чарторыйского и
других молодых друзей, которых Александр
вскоре приобрел при его содействии —
Строганова и Новосильцева,— подейство¬
вали на Александра, и он понял, что сложить
с себя предстоявшее ему бремя именно ввиду
трудности положения, в котором тогда на¬
ходилась страна, он не вправе, и потому он
вскоре видоизменил свое первоначальное
решение. Через несколько месяцев после
первого конфиденциального разговора с
Чарторыйским он уже признает, что не име¬
ет права отказываться от престола, когда
придет его черед царствовать, и соглашает¬
ся, что должен сперва дать стране прочное
свободное политическое устройство, а затем
уже может отказаться от власти и уйти в
частную жизнь.
Последствия показали, однако, что и это
решение было совершенно мечтательно и для
Александра неосуществимо. Прежде, однако
ж, чем ему пришлось выдержать это испы¬
тание, ему предстояло пережить четырехлет¬
нее царствование своего отца — поистине
каторжный период в жизни самого Алексан¬
дра.
Это тяжелое четырехлетие сильно и бо¬
лезненно отразилось на окончательном
сформировании его характера и на дальней-*
шей судьбе. Положение Александра в это
время вместе с положением всей России
описано им самим в сильных и ярких чертах
в письме к Лагарпу, посланном, конечно,
тайком с Новосильцевым, который в сентяб¬
ре 1797 г. уехал за границу, спасаясь от
грозивше'го ему гонения. «Чтобы сказать
одним словом,— писал Александр в этом
письме,— благосостояние государства не
играет никакой роли в управлении делами.
Существует только неограниченная власть,
которая все творит шиворот-навыворот. Не¬
возможно передать все те безрассудства,
53
которые совершались здесь. Прибавьте к
этому строгость, лишенную малейшей спра¬
ведливости, немалую долю пристрастия и
полнейшую неопытность в делах. Выбор
исполнителей основан на фаворитизме; за¬
слуги здесь ни при чем, одним словом, мое
несчастное отечество находится в поло¬
жении, не поддающемся описанию. Хлебо¬
пашец обижен, торговля стеснена, свобода и
личное благосостояние уничтожены. Вот
картина современной России, и судите по
ней, насколько должно страдать мое сердце.
Я сам, обязанный подчиняться всем мелочам
военной службы, теряю все свое время на
выполнение обязанностей унтер-офицера,
решительно не имея никакой возможности
отдаться своим научным занятиям, состав¬
лявшим мое любимое времяпрепровож¬
дение... Я сделался теперь самым
несчастным человеком...»
Эта выписка показывает, как чувствовал
себя Александр уже в первый год царство¬
вания Павла. В том же письме он сообщает
Лагарпу об образовании того дружеского
кружка, который играл впоследствии такую
важную роль в первые годы его царствования
и состоял из Чарторыйского, Строганова,
Новосильцева и Кочубея.
Теперь этим молодым либералам все
пути были заказаны. Им оставалось
заниматься переводами полезных иностран¬
ных книг, которые они не имели даже воз¬
можности издавать2.
Но и это невинное занятие им вскоре
пришлось оставить и разъехаться в разные
стороны в ожидании лучшего будущего.
Таково было положение юного Алексан¬
дра в начале царствования Павла. А затем,
по мере того как Павел становился все
неистовее в отношении к своим подданным,
и положение Александра делалось все хуже.
За эти четыре года он прошел страшную
школу, оставившую на нем на всю жизнь
свои роковые следы. Павел заставлял его
быть не только свидетелем, но вместе с тем
нередко и участником всех сумасбродств,
которые он проделывал, и тех жестоких
мероприятий, которые от него исходили. В
самом начале царствования Павла Алек¬
сандр был назначен главным военным губер¬
натором Петербурга и в силу этого
назначения сделался главной полицейской
властью в столице. Через него, таким обра- ^
зом, по должности проходила главная масса
тех карательных мер, которыми в таком
изобилии осыпал своих подданных Павел.
Вместе с тем в этой должности Александру
приходилось служить с такими людьми, как
Архаров, один из самых грубых гатчинцев.
После Архарова товарищем Александра по
должности сделался тот самый граф Пален,
который впоследствии был душой заговора,
приведшего к убийству Павла. Это был че¬
ловек очень сильной воли, большого власто¬
любия и, бесспорно, большого ума, но
циник, не останавливавшийся ни перед
какими средствами...
Иногда Александру приходилось
переживать прямо трагические минуты, ко¬
торые не могли не оставить глубокого болез¬
ненного следа в его сентиментальной
мечтательной душе: это бывало именно тог¬
да, когда Павел хотел специально подчерк¬
нуть свое с ним единодушие. Дело доходило
иногда до того, что Павел заставлял Алек¬
сандра собственноручно писать приказы о
расстреле невинных людей, чтобы все
видели, как он выразился, что «вы одним со
мной духом дышите!».
Разумеется, подобные обстоятельства не
могли не отразиться самым тяжелым обра¬
зом на сформировании характера Алексан¬
дра, тем более что при вступлении Павла на
престол Александру не было еще и 20 лет.
Легко себе представить, каково было
пережить эти четыре года царствования Пав¬
ла воспитаннику Лагарпа после тех настро¬
ений и идиллических планов, с которыми он
носился в последние годы царствования Ека¬
терины.
В заключение Александру пришлось
против воли принять участие в заговоре
против родного отца. Заговорщики не
пощадили Александра: они рассудили, что
если они его втянут в заговор, то обеспечат
себе безнаказанность. И вот Пален и Панин
вдвоем в течение нескольких месяцев уго¬
варивали и наконец уговорили Александра
принять участие в этом деле, представив его
в таком виде, что речь идет лишь об устра¬
нении Павла и об учреждении затем реген¬
тства . В необходимости устранить
безумного Павла трудно было сомневаться:
этого требовали благо и безопасность
России. Александр взял с Палена клятву, что
жизнь Павла останется неприкосновенной,
и затем дал свое согласие на переворот.
Когда же эту клятву заговорщикам
пришлось нарушить и последовала трагиче¬
ская смерть Павла, Пален объяснил Алек¬
сандру, что иного выхода не было. Такой
трагической развязки Александр по своей
наивности не предвидел, хотя, в сущности,
трудно было себе представить, как можно
54
было устранить Павла, не лишив его жизни.
Насильственная смерть отца произвела на
Александра отчаянное, удручающее впечат¬
ление. Следы этого впечатления, как свиде¬
тельствуют о том близкие ему люди,
остались на всю жизнь. Некоторые его
биографы, может быть, не без основания,
утверждают, что то тяжелое, мистическое,
почти болезненное настроение, в какое впал
Александр в конце своего царствования,
имело свои корни, с одной стороны, в ужа¬
сах царствования Павла, а с другой — имен¬
но в этом вынужденном косвенном участии
в убийстве отца.
Вот под каким тяжелым влиянием и при
каких исключительных обстоятельствах
развивался и складывался характер Алек¬
сандра, казавшийся столь загадочным и сов¬
ременникам, и позднейшим его биографам.
В раннем детстве его воспитание было пос¬
тавлено, по-видимому, рационально и даже
блестяще его бабкой, но и в то время он не
мог не испытать вредного влияние нездоро¬
вой и ненормальной атмосферы ека¬
терининского двора и странных отношений,
установившихся между его родителями и
Екатериной. Дальнейшее воспитание, кото¬
рое велось по плану Лагарпа, было не¬
ожиданно прервано, до своего естественного
окончания, ранней женитьбой Александра и
преждевременной отставкой самого Лагарпа.
После этого наступил период весьма небла¬
гоприятный для правильного хода занятий;
хотя чтение и продолжалось согласно тем
наставлениям, которые оставил Лагарп, но
оно не сопровождалось приобретением
положительных знаний. Отсюда — период
стремлений благородных и возвышенных, но
вместе с тем чрезвычайно беспочвенных и
мечтательных... И эта склонность носиться
с возвышенными планами, не давая себе
отчета о способах их осуществления и о всех
их последствиях, осталась у Александра в
известной мере навсегда — отсюда те
противоречия, которые мы наблюдаем во
многих его действиях на протяжении всего
его царствования. Наконец, ужасная четы¬
рехлетняя школа при Павле, закончившаяся
трагедией, довершила образование его слож¬
ного и загадочного характера.
Сочинения, относящиеся к биографии Александра I
до вступления его на престол
Как складывалась личность императора Алек¬
сандра, начиная с возраста первого детства, удоб¬
нее всего проследить по Я. К Шильдеру
(«Император Александр I, его жизнь и царство¬
вание». Т. I. СПб., 1904. Изд. 2-е), положившему в
основание своего изложения следующие ма¬
териалы: 1) Неизданные материалы, заключа¬
ющиеся в архивах: государственном,
военно-ученом, министерства иностр. дел, в ка-
мерфуриерском журнале, в Берлинском госуд.
архиве, в Лозаннской кантональной библиотеке
(рукописи Лагарпа). Из этих материалов некото¬
рые приведены в прилож. к т. I Шильдера. 2) На¬
печатанные материалы: в тт. I, V, XV, XVII, XVIII
(особенно переписка Екатерины с бар. Гриммом),
XXIX (биография кн. А. А. Безбородко) и ХШ
Сборника Имп. русск. историч. общества; в архиве
кн. Воронцова (особенно тома: VIII, XI, XV, XVIII
и XXIX); в журналах: «Русск. архиве», «Русск.
старине», «Древ, и нов. России», «Историч.
вестнике», сборнике «XVIII век» Бартенева; в
отдельно изданных записках, воспоминаниях и
t
биографиях : «Memoires de I’imp. Catherin II.
Londres, 1859, русск. издание Академии наук;
«Дневник А. В. Храповицкого». СПб., 1874;
Masson. «Mem. Secrets sur la Russie». 1802; Су¬
хомлинова. «Фр. Ц. Лагарп». СПб., 1871;
«Memoires de F.C.La L. Натре». Paris et Geneve,
t t
1864, «Mem. de Michel Oginsky». 1826;«Mem. dupr.
Ad. Czartoryski et corresp. avec Гетр. Alexandre I»
P., 1887. Есть русск. перевод под ред. А. А. Кизе¬
веттера. Записки Ф. Ф. Вигеля. М., 1891; «О
жизни протоиерея А. А. Сомборского». СПб,,
1888; «Дневные записки А. Я. Протасова»в «Др. и
нов. Росс.» за 1880; Сочинения имп. Екатерины II,
изд. Акад. наук под ред. А. Н. Пыпина. СПб., 1879;
t t
«Mem. du compe de Segur». 3 т. P., 1842; «Записки
о жизни кн. Н. И. Салтыкова, изд. Свиньиным».
СПб., 1818; «Mem. historiques sur Гетр. Alexandre»,
parcomptesse de Choiseul GouffierP., 1829, русский
перевод, издание Некрасова; «Сведения о гр. А. А.
Аракчееве», сост. В. Ратчем. СПб., 1862; Записки
А. С. Шишкова. 2 ч. Берлин; Записки Г. Р. Де¬
ржавиным ., 1862; Воспоминания Ф. П. Лубянов-
ского.СПб., 1872; И. Н. Дмитриев. «Взгляд на мою
жизнь». 2 ч. М., 1866; Е. П. Ковалевский. «Гр. Блу¬
дов и его время». СПб., 1866; I.U.Niemcewicz:
г
«Notes surma captivite» P., 1843; Снегирев. «Жизнь
митрополита Платона». М., 1856; «Гр. П. А. Стро¬
ганов», в кн. Николая Михайловича СПб., 1903.3
тома (Шильдер пользовался рукописными ма¬
териалами, вошедшими в это издание); Записки Д.
Г. Мертвого. М., 1867. (Изд. «Рус. арх.»); А. А.
Вринкнер. «Материалы для жизнеописания
гр.Н.П.Панина». Т. 1—6. СПб., 1890; Авг. Коцебу.
«Достопамятный год моей жизни». СПб., 1879;
55
Helldorf. «Aus dem Leben des prinzen Eugen v.
Wurtemberg», 1 ч-Berl., 1861 \AbbtGeorgel «Voyage
a St.-Petersbourg en 1799—1800». P., 1818. Русск.
перев., изд. Некрасова; М. Морошкин. «Иезуиты в
России». СПб., 1870. К этим источникам следует
прибавить и современников (Саблукова, Бенигсе-
на, Ланжерона, М. Фонвизина, княгини Ливен,
Ад. Чарторыйского, бар. Гейкинга, Коцебу), и
«Смерть Павла Первого». М., 1909 (статьи проф.
Шимана и Брикнера), а также Schieman. «Paul’s
Ermordung». Berl. и другой перевод книги проф.
Брикнера «Смерть Павла I» со статьей В. И. Семев-
ского (изд. Пирожкова). СПб., 1907.
ЛЕКЦИЯ v
Вступление Александра на престол.— Его настроение и степень подготовленности.— Первые сотрудники
Александра и меры, принятые им в первые три месяца.— Работы негласного комитета.— Его состав. План
работ. Обсуждение политической реформы.— Крестьянский вопрос. Образование министерств и преоб¬
разование Сената. Итоги работ негласного комитета
Вступив на престол 23-х лет от роду,
Александр, как мы видели, далеко не был
уже тем наивным мечтателем, каким он
являлся в письмах к Лагарпу 1796—1797 гг.
Он не утратил, правда, стремления к добру,
но в значительной мере потерял прежнее
доверие к людям и не был уже прежним
энтузиастом.
Но вместе с тем, несмотря на участие в
делах управления при Павле, он продолжал
оставаться неопытным в управлении и, в
сущности, почти столь же неосведомленным
относительно положения России, как и
раньше. Однако же то уныние, то видимое
сознание своей беспомощности, которое он
проявлял в первые дни после своего воца¬
рения, отнюдь не следует принимать за
отсутствие или слабость воли. Впоследствии
он доказал, что воля у него была довольно
настойчива, что он умел достигать того, чего
хотел, но не хватало, особенно на первых
порах, положительных знаний, не хватало
точно обдуманной программы и опытности.
Он сам это прекрасно сознавал и потому-то
колебался, не зная, что предпринять немед¬
ленно.
В то же время, за исключением не¬
скольких старых государственных деятелей,
плохо понимавших его стремления, не было
возле него никого, на кого он мог бы опере¬
ться и кому он мог бы вполне верить. Были
умные люди вроде Палена и Панина, но им
он не мог вполне верить благодаря их роли
в заговоре против Павла; есть даже осно¬
вание думать, что они ему внушали прямое
отвращение, которое он, однако же, скры¬
вал . Екатерининские вельможи были разог¬
наны Павлом, наиболее выдающиеся из них
(напр., Безбородко) успели уже умереть, а к
оставшимся в живых у Александра особен¬
ного доверия не было. Александр, впрочем,
очень обрадовался, когда в самую ночь пере¬
ворота явился по его зову один из «старых
служивцев», Д. П. Трощинский, которого он
знал за честного человека и за опытного
дельца. Затем он назначил другого «старого
служивца» Беклешева на пост генерал-про-
курора вместо уволенного Обольянинова .
Были, конечно, немедленно вызваны из-
за границы личные друзья Александра: Чар-
торыйский, Новосильцев и Кочубей, но они
быстро приехать не могли при тогдашних
средствах сообщения...
То обстоятельство, что Александр не
приказал немедленно арестовать заго¬
ворщиков, графов Палена и Панина, причем
оставил первого из них на службе и
пригласил вновь второго, отставленного
перед тем Павлом,— некоторые склонны
были объяснить слабостью воли молодого
царя. Однако, зная теперь все обстоятельст¬
ва заговора, мы можем сказать, что он, в
сущности, едва ли и мог поступить иначе,
потому что оба они в убийстве Павла непос¬
редственно не участвовали; а если бы Алек¬
сандр привлек их только за самое участие в
заговоре, то он должен был бы привлечь и
самого себя. И по государственным сообра¬
жениям, при том безлюдье, в котором он
находился, он должен был дорожить каждым
способным государственным человеком. В
руках Палена к тому же сосредоточивались
в тот момент все нити управления, и он был
единственным человеком, который знал, где
что находится, и мог в одну минуту решить
то, что от всякого другого потребовало бы
предварительных справок и изучений; меж¬
ду тем положение было очень трудное и даже
рискованное, по крайней мере по внеш¬
ности, в отношениях международных. Ведь
56
Павел в конце царствования путем безрас¬
судных репрессий и ряда вызывающих
действий не на шутку вооружил против себя
Англию и заставил англичан предпринять
морскую экспедицию против России и ее
союзницы Дании. Через неделю после
смерти Павла адмирал Нельсон уже бом¬
бардировал Копенгаген и, уничтожив весь
датский флот, готовился бомбардировать
Кронштадт и Петербург. Требовались
решительные меры, чтобы предотвратить это
вторжение англичан и притом без ущерба
для национального самолюбия. А Пален был
единственным наличным в Петербурге чле¬
ном коллегии иностранных дел. Он очень
быстро и успешно справился с этой зада¬
чей,— быть может, благодаря тому, что
английское правительство было до некоторой
степени посвящено бывшим послом Витвор¬
том, близким с заговорщиками, в смысле
совершающегося переворота. Как бы то ни
было, в самое короткое время англичане
вполне успокоились, и Нельсон, даже с
извинениями, отплыл назад от Ревеля.
Что касается Никиты Петровича
Панина, то он был одним из очень, немногих
тогда опытных и даровитых дипломатов, и
поэтому возвращение его к Делам было тоже
совершенно естественно. Александр призвал
его в Петербург из подмосковного имения и
немедленно передал ему в управление все
иностранные дела3.
С первых же дней своего царствования
Александр, несмотря на подавленное на¬
строение, проявил большую энергию в таких
делах, которые представлялись ему ясными.
В самую ночь переворота он не забыл
сделать распоряжение о возвращении каза¬
ков, отправленных завоевывать Индию.
В ту же ночь Трощинский наспех, но
очень удачно, составил проект манифеста о
восшествии молодого императора на
престол. В этом манифесте Александр тор¬
жественно обещал управлять народом «по
законам и по сердцу бабки своей — Ека¬
терины Великой». Ссылка на Мкатерину
оказалась чрезвычайно удачной, потому что
она знаменовала в глазах современников
прежде всего обещания отменить все то, что
было сделано Павлом, причем положение
дел, бывшее при Екатерине, рисовалось в то
время большинству в розовом свете.
В тот же день Александр велел осво¬
бодить из тюрем и ссылки всех жертв тайной
экспедиции.
Тогда же он приступил и к перемене
личного состава служащих, действуя на пер¬
вых порах весьма осторожно. На первый раз
были уволены: государственный прокурор
Обольянинов, которому принадлежала при
Павле роль верховного инквизитора; штал¬
мейстер Кутайсов, один из виднейших и
презреннейших наушников Павла, который,
будучи сначала простым камердинером,
достиг затем в царствование Павла высших
государственных степеней, украсился орде¬
нами, получил огромные богатства, но поль¬
зовался всеобщей ненавистью; и московский
обер-полицмейстер Эртель, приводивший
при Павле в трепет население первопре¬
стольной столицы.
Затем последовал ряд указов,
отменивших ненавистные обскуранские и
запретительные меры Павла: возвращены
были на службу все исключенные без суда
чиновники и офицеры, число которых
простиралось от 12 до 15 тыс.; объявлена
была амнистия всем беглецам (кроме
убийц); уничтожена была тайная экс¬
педиция, причем было объявлено, что всякий
преступник должен быть обвиняем, судим и
наказываем «общею силою законов»;
чиновникам было объявлено, чтобы они не
дерзали чинить обид обывателям; отменено
было запрещение ввоза иностранных книг,
поведено было распечатать частные типог¬
рафии, снято было запрещение с ввоза това¬
ров и был объявлен свободный пропуск
русских подданных за границу; затем вос¬
становлены были жалованные грамоты дво¬
рянству и городам; восстановлен более
свободный таможенный тариф 1797 г. Сол¬
даты были избавлены от ненавистных бук¬
лей, которые было приказано отрезать,—
только косы, несколько укороченные, оста¬
вались еще до 1806 г. Наконец, был затронут
и крестьянский вопрос, именно: Академии
наук, которая издавала ведомости и
публичные объявления, было запрещено
принимать объявления о продаже крестьян
без земли. К этому свелись наиболее важные
меры первых недель царствования Алексан¬
дра.
Все эти меры не давали каких-нибудь
новых учреждений, не являлись коренными
преобразованиями существующего строя и
потому не требовали никакой программы,
никакой подготовительной разработки: это
было простое и быстрое устранение всех
нелепых тиранических распоряжений, кото¬
рые сделаны были Павлом. Необходимость
всех этих мер была ясна и для Александра,
и для всех окружавших его, почему он и мог
их принять без всяких приготовлений. Этим,
57
главным образом, его деятельность на пер¬
вых порах и ограничивается; вопросы
органических преобразований оставлялись
цока открытыми; для их разрешения нужно
было сначала подготовить программу. Алек¬
сандр смутно чувствовал, что без определен¬
ного плана и без подготовительных работ
таких реформ нельзя провести.
Впрочем, в первое время он сделал все
же несколько шагов по направлению и к
органическим преобразованиям.
Трощинский подготовил преобразование
Придворного совета, который был основан
еще в конце царствования Екатерины и
превратился при Павле в своего рода
высший цензурный комитет, потому что Па¬
вел на него возлагал цензуру новых книг и
сочинений русских и иностранных, пока не
запретил окончательно ввоза всяких книг
из-за границы и пока не перестали в России
печататься русские книги, кроме учебников
и справочных изданий4. Этот придворный
совет был 26 марта упразднен с оставлением
за штатом его членов, а через четыре дня, 30
марта, был учрежден «непременный совет»,
который должен был стать совещательным
учреждением при государе по всем важ¬
нейшим делам. В состав его было назначено
12 лиц из числа сановников, менее других
возбуждавших недоверие Александра. В
числе их был и Трощинский, которому было
поручено и главное управление канцелярией
этого совета.
Следующим более крупным шагом, ко¬
торый Александр в этом направлении сде¬
лал, были указы 5 июня 1801 г. Сенату. В
первом из них Сенату повелевал ось самому
представить доклад о своих правах и обязан¬
ностях для утверждения оных на незыбле¬
мом основании, как государственный закон.
Мысль Александра клонилась в тот момент,
по-видимому, к тому, чтобы восстановить
силу Сената как высшего органа правитель¬
ственной власти и в особенности законом
обеспечить ему независимость суждений и
распоряжений.
Другим указом 5 июня учреждалась
«под собственным ведением» императора и
под непосредственным управлением графа
Завадовского «комиссия о составлении зако¬
нов». Эта комиссия предназначалась не для
выработки нового законодательства, а для
выяснения и согласования существующих
старых законов, т. е. для устранения того
обстоятельства, которое являлось одной из
коренных причин беспорядков и злоупотреб¬
лений в управлении страной, дававших себя
так сильно чувствовать при Екатерине. Ко¬
нечным результатом работы этой комиссии
должно было быть издание свода действу¬
ющих законов. В рескрипте Завадовскому
было сказано: «Поставляя в едином законе
начало и источник народного блаженства и
быв удостоверен в той истине, что все другие
меры могут сделать в государстве
счастливые времена, но один закон может
утвердить их навеки,— в самых первых
днях царствования моего и при первом обоз¬
рении государственного управления признал
я необходимым удостовериться в настоящем
сей части положении. Я всегда знал, что с
самого издания уложения (речь идет об уло¬
жении Алексея Михайловича 1649 г.) до
дней наших, т. е. в течение одного века с
половиною, законы, истекая от законода¬
тельной власти различными и часто
противоположными путями и быв издаваемы
более по случаям, нежели по общим государ¬
ственным соображениям, не могли иметь ни
связи между собой, ни единства в их наме¬
рении, ни постоянности в их действии.
Отсюда всеобщее смешение прав и обязан¬
ности каждого, мрак, облежащий равно
судью и подсудимого, бессилие законов в их
исполнении и удобность переменять их по
первому движению прихоти или самов¬
ластия...»
Указы эти имели в то время огромное
демонстративное значение. После произвола
и самовластия Павлова царствования мысль
Александра поставить выше всего закон и
обеспечить всем возможность знать этот за¬
кон являлась, несомненно, именно такой
мыслью, которая могла всего более создать
молодому государю популярность и обес¬
печить ему сочувствие образованного слоя
общества. Выраженное им желание воз¬
высить и укрепить положение Сената как
независимого хранителя законов, все мыс¬
лящие люди толковали как искреннее наме¬
рение отказаться от произвольных действий.
Таковы были первые шаги, сделанные
Александрам в первые три месяца по его
воцарении. Он вовсе не думал на них оста¬
навливаться.
Еще 24 апреля 1801 г. Александр завел,
в первый раз по восшествии на престол,
разговор о необходимости коренного госу¬
дарственного преобразования с П. А. Стро¬
гановым,— одним из личных своих друзей.
Строганов, однако, выразил при этом мысль,
что сперва надо преобразовать
администрацию, а потом уже приступить к
ограничению самодержавия. Александр, ка¬
58
залось, одобрил эту мысль, но у Строганова
получилось от всего этого разговора общее
впечатление, что взгляды молодого государя
отличались в этот момент большой туманно¬
стью и неясностью5.
В мае 1801 г. Строганов, вследствие
приведенного апрельского разговора, пред¬
ставил Александру записку, в которой пред¬
лагал ему учредить особый негласный
комитет для обсуждения плана преобразо¬
ваний. Александр одобрил эту мысль Стро¬
ганова и назначил в состав комитета
Строганова, Новосильцева, Чарторыйского и
Кочубея; но так как ни Кочубея, ни Чарто¬
рыйского, ни Новосильцева в Петербурге
еще не было, то начало работы нового
комитета было отсрочено до их приезда.
Работы эти начались лишь 24 июня 1801 г.
Отсюда видно, что все вышеприведенные
распоряжения и отмены различных распо¬
ряжений Павла сделаны были Александром
без всякого участия «негласного комитета» в
противность утверждению многих историков
этой эпохи, в том числе и П. Н. Пыпина.
Задачи и план работ негласного комите¬
та были точно сформулированы в первом же
его заседании. Признано было необходимым
прежде всего узнать действительное поло¬
жение дел, затем реформировать правитель¬
ственный механизм и, наконец, обеспечить
существование и независимость обновлен¬
ных государственных учреждений
конституцией, созданной самодержавной
властью и соответствующей духу русского
народа. Такова была задача негласного
комитета. Эта формулировка вполне соот¬
ветствовала взглядам Строганова, но не вы¬
ражала вполне взглядов самого Александра,
которого в это время занимала главным обра¬
зом мысль об издании какой-нибудь демон¬
стративной декларации в роде знаменитой
Декларации прав человека и гражданина.
Строганов же считал, как уже упомянуто,
что начать дело надо с упорядочения госу¬
дарственной организации, которое не было
доведено до конца Екатериной и сменилось
затем полным хаосом в царствование Павла.
Так как собирание сведений о поло¬
жении дел в России, порученное Но¬
восильцеву, должно было затянуться, то
решено было предоставить Новосильцеву де¬
лать доклады по мере поступления сведений
о состоянии различных отраслей государст¬
венного управления, излагая в них свои
соображения о том, какие преобразования
следует предпринять в ближайшем будущем.
К сожалению, изучение это понималось
не рлишком глубоко и сводилось в сущности
к изучению правительственного аппарата и
выяснению его недостатков, а не к изучению
положения народа; программа, которая была
предложена Новосильцевым, состояла из
следующих отделов: 1) вопросы о защите
страны с суши и с моря; 2) вопросы об
отношении к другим государствам; 3) вопрос
о внутреннем состоянии страны в отношении
статистическом и административном. Под
«статистическим отношением», конечно, и
могло разуметься изучение положения наро¬
да; но согласно плану под «статистическим
отношением» разумелись только: торговля,
пути сообщения, земледелие и промышлен¬
ность, а к административному порядку,
признанному за clef de la voute, должны
были относиться: правосудие, финансы и
законодательство.
Конечно, из перечисленных отделов в
наше время каждый признает самым важ¬
ным именно исследование в статистическом
отношении положения России, если его
понимать так, как понимают это теперь; но
тогда никакой статистики не было; засе¬
дания негласного комитета происходили к
тому же тайно, так что и предпринять ка¬
кую-либо анкету комитет от своего имени не
мог. Конечно, эту анкету можно было бы
произвести от имени одного из правительст¬
венных учреждений, но в то время сами
члены комитета едва ли сумели бы вырабо¬
тать надлежащую программу исследования.
Притом, при тогдашних средствах сооб¬
щения, требуемые сведения могли быть соб¬
раны лишь в течение сравнительно
продолжительного времени (на это потребо¬
валось бы при тогдашних условиях, конечно,
гораздо более года); а между тем Александр
очень торопил комитет. Таким образом, если
члены негласного комитета и пользовались
статистическими данными, то лишь теми,
которые могли быть получены ими через
непременный совет или случайно оказы¬
вались в их распоряжении, будучи получены
через государя или от отдельных государст¬
венных деятелей. Кое-чем могли они пользо¬
ваться и из запаса собственных наблюдений,
но, к сожалению, такой запас мог быть
сколько-нибудь существенным (по отно¬
шению к внутренней жизни страны) разве
только у Строганова, который, проживая в
деревне, познакомился несколько с
сельским бытом, а у Кочубея и Чарторый¬
ского имелся лишь в области иностранных
сношений.
59
Обсуждение первого пункта программы,
именно вопроса о защите страны с суши и
с моря, заняло немного времени и было
передано в особую комиссию из сведущих в
военном и морском деле лиц. Обсуждение
второго пункта — отношения к другим госу¬
дарствам — обнаружило прежде всего пол¬
ную неподготовленность и
неосведомленность в делах внешней
политики самого Александра. Наоборот, Ко¬
чубей и Чарторыйский, как опытные дипло¬
маты, имели довольно определенное знание
и взгляды в этом отношении. Что касается
Александра, то он, только что подписав дру¬
жественную конвенцию с Англией, довольно
удачно разрешившую наиболее острые из
спорных вопросов морского права, в
комитете вдруг выразил мнение, что следует
озаботиться составлением коалиции против
Англии. Этим мнением Александр привел
членов комитета в большое недоумение и
даже смущение, тем более что они знали
склонность императора беседовать лично с
представителями иностранных держав и,
следовательно, могли основательно опасать¬
ся той путаницы, которую Александр мог
внести в это ответственное дело. Комитет
настойчиво посоветовал Александру
спросить по этому вопросу мнения старых
опытных дипломатЬв, причем члены комите¬
та указали на гр. А. Р. Воронцова.
Эта первая неудача произвела на Алек¬
сандра довольно сильное впечатление, и на
следующее заседание он явился уже более
подготовленным. В этом заседании он
попросил Кочубея изложить свой взгляд на
внешнюю политику России. Кочубей, однако
же, в свою очередь, пожелал сперва подроб¬
нее познакомиться со взглядами самого
Александра. Произошел обмен мнений. При
этом все согласились в конце концов со
взглядами Чарторыйского и Кочубея, в соот¬
ветствии с которыми было признано, что
Англия является естественным другом
России, так как с Англией связаны все
интересы нашей внешней торговли, ибо весь
почти вывоз наш шел тогда в Англию. В то
же время было указано, что по отношению к
Франции надо ставить пределы често¬
любивым стремлениям ее правительства, по
возможности, впрочем, не компрометируя
себя. Таким образом, первое постановление
комитета по делам внешней политики совер¬
шенно не согласовалось с тем первоначаль¬
ным мнением Александра, которое он туда
принес. Для Александра первый блин вышел
комом; но он скоро показал, что именно в
сфере дипломатии он был одарен выда¬
ющимися талантами и сумел не только впол¬
не ориентироваться в иностранной
политике, но и выработать себе в ней вполне
самостоятельный взгляд на вещи.
В следующих заседаниях комитет
перешел к внутренним отношениям, изу¬
чение которых и должно было составлять его
главную задачу. Эти отношения расс¬
матривались с большими отступлениями в
сторону. Александра самого занимали боль¬
ше всего два вопроса, которые в его уме тесно
связывались между собой: это вопрос о да¬
ровании особой хартии или какой-нибудь
декларации прав,— вопрос, которому он
придавал особенное значение, желая скорее
проявить и огласить свое отношение к уп¬
равлению страной; другой вопрос, его инте¬
ресовавший и отчасти связанный с первым,
был вопрос о преобразовании Сената, в ко¬
тором он видел тогда охранителя неприкос¬
новенности гражданских прав. В этом
Александра поддерживали и старые сенато¬
ры, как либералы, так даже и консерваторы,
как, например, Державин. А князь П. А.
Зубов (последний фаворит Екатерины)
представил даже проект о превращении Се¬
ната в независимый законодательный кор¬
пус. Александру этот проект показался, на
первый взгляд, осуществимым, и он передал
его на рассмотрение в негласный комитет.
По проекту Зубова, Сенат должен был
состоять из высших чиновников и пред¬
ставителей высшего дворянства. Державин
же предлагал, чтобы Сенат состоял из лиц,
избираемых в своей среде чиновниками пер¬
вых четырех классов. В негласном комитете
нетрудно было доказать, что такие проекты
не имеют ничего общего с народным пред¬
ставительством.
Третий проект, переданный в комитет
Александром и касающийся внутренних
преобразований, был составлен А. Р. Ворон¬
цовым. Этот проект не касался, впрочем,
преобразования Сената. Воронцов, идя на¬
встречу другой мысли Александра, именно
мысли о хартии, выработал проект «жало¬
ванной грамоты народу», которая по внеш¬
ности напоминала собою жалованные
грамоты Екатерины городам и дворянству, а
по содержанию распространялась на весь
народ и представляла серьезные гарантии
свободы граждан, так как повторяла в
значительной степени положение
английского Habeas corpus act
Когда члены негласного комитета стали
рассматривать этот проект, то особенно
60
обратили внимание именно на эту часть его,
и Новосильцев высказал сомнение, можно
ли давать такие обязательства при данном
состоянии страны, и опасение, как бы через
несколько лет не пришлось взять их назад.
Когда Александр услыхал такое суждение,
то сейчас же сказал, что и ему приходила в
голову та же самая мысль и что он даже
выразил ее Воронцову. Негласный комитет
признал, что опубликование такой грамоты,
которое предполагали приурочить к коро¬
нации, нельзя считать своевременным.
Этот случай довольно характерен: он
ярко иллюстрирует, до какой осторожности
доходили те самые члены негласного комите¬
та, которых их враги честили потом, не
обинуясь, якобинской шайкой. Оказалось,
что «старый служивец» Воронцов на
практике в некоторых случаях мог быть
более либеральным, чем эти «якобинцы»,
собиравшиеся в зимнем дворце6.
Таких же умственных и консервативных
взглядов держались они и по крестьянскому
вопросу. Впервые негласный комитет кос¬
нулся этого вопроса по поводу той же «гра¬
моты» Воронцова, так как в ней был пункт
о владении крестьян недвижимой собствен¬
ностью. Самому Александру показалось тог¬
да, что это право довольно опасное. Затем,
уже после коронации, в ноябре 1801 г.,
Александр сообщил комитету, что многие
лица, как, например, Лагарп, прибывший
по вызову Александра в Россию, и адмирал
Мордвинов, который был убежденным
конституционалистом, но со взглядами
английского тори, заявляют о необходимости
что-либо сделать в пользу крестьян.
Мордвинов, со своей стороны, предложил и
практическую меру, которая заключалась в
распространении права владения
недвижимыми имуществами на купцов, ме¬
щан и казенных крестьян.
Сразу, пожалуй, непонятно, почему эта
мера относится к крестьянскому вопросу, но
у Мордвинова была своя логика7. Он считал
необходимым ограничить самодержавную
власть и полагал, что наиболее прочное
ограничение ее может обеспечить
наличность независимой аристократии;
отсюда его желание прежде всего создать
такую независимую аристократию в России.
Он шел при этом на то, чтобы значительная
часть казенных земель была продана или
роздана дворянству, имея в виду усиление
имущественной обеспеченности и не¬
зависимости этого сословия. Что же касается
собственно крестьянского вопроса и уничто¬
жения крепостного права, то он считал, что
право это не может быть нарушено произво¬
лом верховной власти, которая вовсе не дол¬
жна вмешиваться в эту область, и что
освобождение крестьян от крепостной
зависимости может совершиться только по
желанию самого дворянства. Стоя на этой
точке зрения, Мордвинов стремился создать
такой экономический строй, при котором
дворянство само признало бы невыгодным
подневольный труд крепостных и само отка¬
залось бы от своих прав. Он надеялся, что
на землях, которыми позволят владеть раз¬
ночинцам, образуются формы с наемным
трудом, которые явятся конкурентами кре¬
постному хозяйству и побудят помещиков
потом к упразднению крепостного права.
Таким образом, Мордвинов хотел исподволь
подготовить почву для отмены крепостного
права вместо каких бы ни было мер, кло¬
нящихся к законодательному его
ограничению. Вот как тогда обстояло дело с
крестьянским вопросом даже среди либе¬
ральных и образованных людей, как
Мордвинов.
Зубов, который, собственно, никаких
принципиальных идей не имел, а просто
шел навстречу либеральным желаниям
Александра, представил тоже проект и по
крестьянскому вопросу — и даже более
либеральный, чем мордвиновский: он пред¬
лагал запретить продажу крепостных кре¬
стьян-без земли. Мы видели, что Александр
уже запретил Академии наук принимать
объявления о такой продаже, но Зубов шел
дальше: желая придать крепостному праву
вид владения имениями, к которым
прикреплены постоянные рабочие (glebae
adscnipi), он предлагал запретить владение
дворовыми, переписав их в цехи и гильдии
и выдав помещикам деньги в возмещение
ущерба.
В негласном комитете первым высказал¬
ся против проекта Зубова, и притом самым
категорическим образом, Новосильцев. Он
указывал, что у государства прежде всего нет
денег, чтобы выкупить дворовых, и что, за¬
тем, совершенно неизвестно, что делать с
этой массой людей, которые ни к чему не
способны. Далее в том же заседании было
высказано соображение, что нельзя сразу
принимать несколько мер против крепостно¬
го права, так как такая торопливость может
вызвать раздражение дворянства. Идеи Но¬
восильцева никем не были вполне разделе¬
ны; но Александра они, по-видимому,
поколебали. Горячо высказался против кре¬
61
постного права Чарторыйский, указавший,
что крепостное право на людей есть такая
гадость, в борьбе с которой не следует руко¬
водиться никакими опасениями. Кочубей
указал, что если принят будет один
мордвиновский проект, то крепостные кре¬
стьяне будут основательно считать себя
обойденными, так как другим сословиям, о
бок с ними живущим, будут даны важные
права, а им одним не будет дано никакого
облегчения в их судьбе. Строганов сказал
большую и красноречивую речь, которая
была главным образом направлена против
той мысли, что опасно раздражать дворян¬
ство; он доказывал, что дворянство в
политическом отношении в России пред¬
ставляет нуль, что оно не способно протесто¬
вать, что оно может быть только рабом
верховной власти; в доказательство он
приводил царствование Павла, когда дво¬
рянство доказало, что оно даже собственной
чести не умеет защитить, когда эта честь
попирается правительством при содействии
самих дворян. Вместе с тем он указывал, что
крестьяне до сих пор считают единственным
своим защитником именно государя, и что
преданность народа государю зависит от
народных надежд на него, и что вот эти
надежды действительно опасно поколебать.
Поэтому он находил, что если вообще руко¬
водствоваться опасениями, то нужно
принимать в расчет прежде всего именно эти
наиболее реальные опасения.
Его речь была выслушана с большим
вниманием и произвела, по-видимому, неко¬
торое впечатление, но она все же не поколе¬
бала ни Новосильцева, ни даже Александра.
После нее все помолчали немного, а затем
перешли к другим делам. Проект, предло¬
женный Зубовым, принят не был. Была
принята в конце концов только мера
Мордвинова: таким образом, было признано
право лиц недворянских сословий покупать
ненаселенные земли. Новосильцев просил
позволения посоветоваться относительно ме¬
ры, предложенной Зубовым, с Лагарпом и с
тем же Мордвиновым, Лагарп и Мордвинов
высказали то же сомнение, что и Но¬
восильцев. Замечательно, что Лагарп, кото¬
рого считали якобинцем и демократом, был
по крестьянскому вопросу так же нерешите¬
лен и робок, как и остальные. Он главной
нуждой в России считал просвещение и
упорйо подчеркивал, что без просвещения
нельзя ничего достичь, но при этом указывал
и на трудность распространения просве¬
щения при крепостном праве, в то же время
находя, что трогать серьезно крепостное
право при таком состоянии просвещения
тоже опасно. Таким образом, получался сво¬
его рода заколдованный круг.
Члены негласного комитета полагали,
что со временем они придут к упразднению
крепостного права, но путем медленным и
постепенным, причем даже направление
этого пути оставалось неясным.
Что касается положения торговли, про¬
мышленности и земледелия, то все эти
отрасли народного хозяйства, в сущности,
так и не были исследованы, хотя как раз в
это время все они были в таком состоянии,
что должны были бы обратить на себя серь¬
езное внимание правительства.
Важнейшие работы негласного комитета
заключались в преобразовании центральных
органов управления. Необходимость этого
преобразования сделалась очевидной еще с
тех пор, как Екатерина преобразовала мес¬
тные учреждения, не успев преобразовать
центральных, но упразднив большую часть
коллегий. Мы видели, что уже при ней в ходе
дел центральных учреждений получилась
большая путаница. Поэтому и для членов
негласного комитета была очевидна неот¬
ложность преобразования именно централь¬
ных органов управления. Путаница в делах
доходила до того, что, когда происходили
крупные беспорядки и даже бедствия, вроде,
например, вымирания людей в Сибири от
голода, то неизвестно было даже, кто, собст¬
венно, может дать ответственные сведения о
положении дел. Под влиянием именно подоб¬
ного случая Александр выразил желание,
чтобы вопрос о разграничении компетенции
отдельных центральных учреждений
подвинулся скорее, и так как обычного до¬
кладчика — Новосильцева — в тот момент
не было в комитете, то император обратился
к Чарторыйскому с поручением составить
доклад по этому вопросу. 10 февраля 1802 г.
Чарторыйский представил доклад, замеча¬
тельно стройный и ясный; в нем он указывал
на необходимость строгого разделения ком¬
петенции высших органов управления, над¬
зора, суда и законодательства и точного
определения роли каждого из них. По
мнению докладчика, следовало прежде всего
освободить Сенат от зависимости его от соб¬
ственной канцелярии; ибо при существовав¬
шем порядке вершителем всех дел в Сенате
являлся генерал-прокурор, бывший на¬
чальником канцелярии Сената и имевший
личный доклад у государя. Затем Чарто¬
рыйский высказался за необходимость точ¬
62
ного определения компетенции непременно¬
го совета и за разграничение компетенции
Сената и непременного совета. При этом он
полагал, что Сенат должен ведать лишь
спорные дела, как административные, так и
судебные, а непременный совет должен
являться совещательным учреждением, где
должны рассматриваться дела и проекты
законодательного характера. Высшая
администрация, по мнению Чарторыйского,
должна быть разделена между отдельными
ведомствами, с точно определенным кругом
дел; при этом во главе каждого такого ведом¬
ства должна была стоять, по его мнению, не
коллегия, а единоличная власть ответствен¬
ного министра. Докладчик отлично выяснил,
что в коллегиях всякая личная ответствен¬
ность по необходимости исчезает.
Мы видим таким образом, что именно
Чарторыйскому принадлежит заслуга опре¬
деленной и ясной постановки вопроса о
министерствах. Прежде это приписывалось
Лагарпу, но теперь, с опубликованием про¬
токолов негласного комитета, которые акку¬
ратно велись Строгановым, на этот счет не
может быть никаких сомнений. Далее в
докладе Чарторыйского указывалась еще ме¬
ра, которая касалась преобразования судеб¬
ной части. Чарторыйский высказывался за
желательность придерживаться при этом но¬
вейшей французской судебной системы,
введенной после революции, причем он со¬
образно этой системе разделил суд на уго¬
ловный, гражданский и полицейский, т. е.
суд, ведающий дела о мелких правонару¬
шениях, соответствующий теперешним
мировым судам. Высшей инстанцией по
проекту являлся для всех судебных дел
высший кассационный суд. Эту часть плана
Чарторыйского негласный комитет не успел,
однако же, подвергнуть подробной разработ¬
ке. Но идея Чарторыйского об учреждении
министерств была принята единогласно. С
февраля 1802 г. все работы негласного
комитета сосредоточиваются на разработке
этой идеи: через полгода комитет выработал
проект учреждения министерств. 8 сентября
1802 г., по разработанному негласным
комитетом проекту были учреждены
министерства: иностранных дел, военное и
морское, соответствовавшие оставшимся
еще в то время коллегиям, и совершенно
новые министерства: внутренних дел, фина¬
нсов, народного просвещения и юстиции. По
инициативе самого Александра к ним было
добавлено еще министерство коммерции, на
учреждении которого он настаивал лишь
потому, что желал предоставить непременно
звание министра гр. Н. П. Румянцеву, заве¬
довавшему в то время водными путями сооб¬
щения. Учреждение министерств было,
собственно говоря, единственной вполне са¬
мостоятельной и доведенной до конца рабо¬
той негласного комитета. Тогда же
рассмотрено было в щрм и затем опублико¬
вано и новое учреждение Сената. При этом
члены комитета отвергли идею преобразо¬
вания Сената в законодательное учреж¬
дение, высказанную отдельными
сенаторами, и согласно с основной мыслью
Чарторыйского и с запиской самого Сената
о своих правах решили, что Сенат должен
быть главным образом органом государст¬
венного надзора над администрацией и вме¬
сте с тем высшей судебной инстанцией.. В
основу работ по этому вопросу был положен
доклад самого Сената о его правах. Были
приняты следующие основные пункты уч¬
реждения Сената: 1) Сенат есть верховное
административное и судебное место в
империи; 2) власть сената ограничивается
единой властью императора; 3) председа¬
тельствует в Сенате государь; 4) указы Се¬
ната исполняются всеми, как собственные
указы государя, который один может оста¬
новить их исполнение; 5) дозволяется Сена¬
ту представлять государю о таких
высочайших указах, которые сопряжены с
большими неудобствами при исполнении,
либо несогласны с другими законами, или
не ясны; но когда по представлению Сената
не будет сделано изменения в указе, то
опротестованный указ остается в своей силе;
6) министры должны представлять Сенату
свои годовые отчеты на рассмотрение; Сенат
может требовать от них всяких сведений и
разъяснений и об усмотренных не¬
правильностях и злоупотреблениях должен
представлять государю; 7) при несогласии
каких-либо решений общего собрания Сена¬
та с мнением генерал-прокурора или обер-
прокурора дело докладывается государю; 8)
по уголовным делам, в которых дело идет о
лишении кого-либо дворянства и чинов, все
такие случаи должны представляться на
конфирмацию государя; 9) за неспра¬
ведливые жалобы на Сенат государю винов¬
ные подвергаются суду; 10) сенатор,
обличенный в преступлении, подвергается
суду общего собрания Сената.
В общем эти основные пункты сенатской
компетенции не противоречили основным
положениям петровского* регламента.
63
При обсуждении в негласном комитете
вопроса о реформе Сената и именно при
определении компетенции Сената возник,
между прочим, в связи с образованием
министерств вопрос об отношении Сената к
министрам, так как в число статей, опреде¬
ляющих компетенцию Сената, решено было
включить, между прочим, и статью о поряд¬
ке надзора Сената *а министерствами, в
силу которой, как только что сказано,
министры должны были представлять в Се¬
нат свои годовые отчеты, причем, если вы¬
яснялась неправильность действий
какого-либо министерства, Сенату предо¬
ставлялось право входить к императору с
представлением о привлечении соответству¬
ющего министра к ответственности. Этот
пункт вызвал резкие возражения со стороны
Александра, который доказывал, что при
таких условиях Сенат явится тормозом на
пути преобразовательной деятельности госу¬
даря, и долго не соглашался на предостав¬
ление Сенату права контроля над
министерствами, даже в таком умеренном
виде. То упрямство, с которым Александр
возражал против этого пункта, показывает,
насколько были мечтательны его либераль¬
ные взгляды: при первой же практической
попытке подвергнуть контролю даже не его
личные действия, а деятельность его сот¬
рудников он тотчас же оказал упорное
сопротивление этому проекту, усматривая в
нем лишь одни досадные для него отрица¬
тельные стороны. Он не без основания опа¬
сался, что Сенат, составленный из «старых
служивцев», будет тормозить его реформа¬
торскую деятельность, но замечательно, что
ввиду этого опасения Александр уже не мог
стать на принципиальную точку зрения и не
видел связи этого вопроса с его собствен¬
ными принципами.
Еще ярче выразился поверхностный ха¬
рактер тогдашних его политических взглядов
в происшествии, вскоре после того
случившемся благодаря той статье регламен¬
та Сената, которою Сенату предоставлялось
право высказывать свои возражения против
новых указов, если они не соответствуют
законам, неясны по своему смыслу или не¬
удобны по тем или иным соображениям. Это
право соответствовало привилегии старых
французских парламентов, носившей на¬
звание droit de remontrance.
Вскоре после опубликования нового рег¬
ламента Сената как раз встретился повод
применить это право. По докладу военного
министра император определил, что все дво¬
ряне унтер-офицерского звания обязаны
служить в военной службе 12 лет. Один из
сенаторов, гр. Северин Потоцкий, не без
основания усмотрел в этом нарушение жа¬
лованной грамоты дворянству и предложил
Сенату протестовать против такого высочай¬
шего повеления, пользуясь предоставленным
ему правом. Генерал-прокурор сената Г. Р.
Державин был, однако, так поражен этим
протестом, что не решился даже допустить
обсуждение этого доклада в Сенате, а
отправился с этим делом сперва к Алексан¬
дру. Государь тоже был очень смущен докла¬
дом Державина, но приказал действовать
законным путем. На следующий день Де¬
ржавин прибежал к Александру со словами:
«Государь, весь Сенат против вас по вопро¬
су, поднятому Потоцким». Император, по
словам Державина, изменился в лице, но
сказал только, чтобы Сенат прислал ему
депутацию с мотивированным докладом о
протесте. Такая депутация вскоре явилась.
Александр принял ее очень сухо, взял
письменный доклад и сказал, что даст пове¬
ление. Дело это было разрешено лишь спустя
довольно продолжительное время: именно в
марте 1803 г. Александр издал указ, которым
разъяснял, что Сенат неправильно истолко¬
вал свои права, что право возражений
относится будто бы лишь к старым указам,
а не к новым, которые Сенат должен
принимать неукоснительно.
Трудно понять, каким образом в уме
Александра совмещалась идея необ¬
ходимости ограничения самодержавной
власти с такого рода противоречиями этой
идее на практике. Поведение Александра в
данном случае тем более было странно, что
изложенное право Сената даже не
ограничивало, в сущности, его самодержав¬
ной власти, так как в случае если бы госу¬
дарь в ответ на протест Сената просто
повторил свою волю об исполнении издан¬
ного им указа, то Сенат обязывался по рег¬
ламенту немедленно принять его к
исполнению.
Главные результаты работ негласного
комитета заключались, таким образом, в
учреждении министерств и в издании нового
регламента Сената.
В мае 1802 г. заседания негласного
комитета фактически прекратились; Алек¬
сандр уехал на свидание с прусским коро¬
лем, а вернувшись, не собирал комитета. Вся
преобразовательная работа с этих пор
перешла в Комитет министров,
собиравшийся в первые годы своего сущест¬
вования под личным председательством
императора. Лишь в конце 1803 г. негласный
комитет был собран еще несколько раз, но
по поводу частных вопросов, не касавшихся
коренных преобразований. Таким образом,
64
фактически он участвовал в преобразова¬
тельных работах в течение лишь одного года.
Подведем итоги его деятельности. Кон¬
серваторы того времени, «старые служивцы»
Екатерины и закоренелые крепостники вро¬
де Державина называли членов этого
комитета «якобинской шайкой». Но мы
видели, что если их и можно было в чем
обвинять, так скорее в робости и непоследо¬
вательности, с какой они следовали по пути
к либеральным преобразованиям, ими
самими принятому. Оба главных вопроса
того времени — о крепостном праве и об
ограничении самодержавия — были комите¬
том сведены на нет. Единственный важный
результат его работы заключался в техниче¬
ском смысле, и когда учреждение
министерств появилось, то оно вызвало
озлобленную критику со стороны «старых
служивцев», называвших реформу дерзно¬
венным занесением руки на петровское кол¬
легиальное начало. Критики указывали
также на то, что закон издан в неразрабо-
таннЬм виде, что в нем имеются большие
несогласованности в компетенции Сената и
непременного совета и в отношении к ним
министерств; главным же образом
противники реформы нападали на то, что не
был разработан внутренний состав
министерств, не было д&но каждому
министерству отдельного наказа и не было
выяснено отношение министерств к гу¬
бернским учреждениям.
Что касается упрека в дерзком отно¬
шении к петровскому законодательству, то
этот упрек фактически неверен, так как
петровские коллегии были разрушены, как
мы знаем, Екатериной, и теперь предстояло
не заменять существующие коллегии
министерствами, а строить новое здание на
пустом месте. Что же касается несовер¬
шенств разработки закона, то их
действительно было много. В сущности, за¬
кон этот обнимал в одном законоположении
все министерства, и действительно подроб¬
ных наказов не было, и внутренний распо¬
рядок не был разработан, и отношение
министерств к губернским учреждениям бы¬
ло неясное. Но, признавая все это, надо
сказать, что именно введение министерств и
могло устранить значительную часть этих
недостатков: учреждения были совершенно
новые, и нужно было предоставить самим
министерствам постепенно, путем опыта вы¬
работать свои внутренние порядки и уста¬
новить взаимные отношения различных
ведомств8.
Таковы были осязательные результаты
работ негласного комитета. '
Но для самого Александра работа в не¬
гласном комитете с его просвещенными и
талантливыми сотрудниками была в высшей
степени полезной школой, которая вос¬
полнила до некоторой степени тот недоста¬
ток положительных знаний, которым он
страдал при восшествии на престол, в
области как внутренней, так и внешней
политики. Воспользовавшись уроками,
полученными в негласном комитете, и по¬
лучив от него в дар усовершенствованный
инструмент для дальнейшей разработки воп¬
росов внутреннего управления в виде
министерств и комитета министров, Алек¬
сандр несомненно почувствовал себя более
устойчивым и более сознательным в своих
намерениях, более вооруженным для прове¬
дения своих политических планов, нежели
каким он был за год перед тем. Это относится
несомненно и к области внешней политики,
в которой он и проявил себя вскоре вполне
самостоятельно.
ЛЕКЦИЯ VI
Настроение общества в начале царствования Александра и уровень политических взглядов русского
общества в это время.— Важнейшие журналы 1802—1805 гг.— Положение народных масс.—- Закон о
вольных хлебопашцах 20 февраля 1803 г.— Крестьянская реформа в Остзейском крае в 1804 и 1805 гг.—
Рост населения.— Колонизация южных губерний.— Еврейский вопрос.— Отношение правительства к
сектантам.— Русские финансы и финансовая политика правительства в 1801—1805 гг.— Вопрос о госу¬
дарственных преобразованиях в 1803 г.— Просветительская деятельность правительства в 1802—1805 гг.
Теперь от изучения действий государст¬
венной власти обратимся к рассмотрению
положения русского общества при самом
воцарении Александра и в первое время его
царствования и тех изменений в положении
страны и в ее экономическом и обществен¬
ном бьде, которые произошли за это время.
Все историки согласны между собой в
описании того настроения, которое охватило
все общество после смерти Павла.
«Все тихо и спокойно,— писала в это
время императрица Елизавета Алексеевна
3 Зак. 271
65
матери своей,— если не говорить о почти
безумной радости, охватившей всех от пос¬
леднего мужика до высших слоев общества;
очень печально, что это не может даже
удивлять»... «Я дышу,— прибавляла она в
другом письме,— спокойно вместе со всею
Россией»1.
Вигель, очевидец объявления в Москве
манифеста о восшествии Александра на
престол, пишет в своих воспоминаниях:
«Это одно из тех воспоминаний, которых
время никогда истребить не может: немая
всеобщая радость, освещаемая ярким ве¬
сенним солнцем... Все обнимались, как в
день светлого воскресения; ни слова о покой¬
ном, чтобы и минутно не помрачать сердеч¬
ного веселья, которое горело во всех глазах;
ни слова о прошедшем, все о настоящем и
будущем...»2
Так радовались россияне избавлению от
ужасов и тревог Павлова царствования.
Умолк рев Норда сиповатый,
Закрылся грозный, страшный взгляд...
— так провожал это царствование даже та¬
кой консерватор, как старый придворный
поэт Г. Р. Державин.
Общество предалось, необузданной
радости: тотчас появились воспрещенные
Павлом прически, шляпы, понеслись
экипажи с запрещенной упряжью. Но это
ребячество, как справедливо заметил еще
Пыпин, было вполне естественно: ведь и эти
жалкие права были отняты при Павле. Более
разумные и сознательные патриоты не толь¬
ко радовались тому, что кончилась эпоха
террора, но и приветствовали наступление
новой эпохи, с которой связывались самые
розовые надежды. И на первых порах живым
подтверждением и оправданием этих надежд
явилась энергичная работа молодого царя,
спешившего стереть и загладить все болез¬
ненные следы правления своего отца и
отменить все изданные им стеснительные и
ненавистные меры. Одним из первых
откликов на эту правительственную деятель¬
ность первых дней Александрова царство¬
вания, живым образцом яркого радостного
настроения передовых слоев тогдашнего
общества явилось известное письмо юного
энтузиаста Каразина, которое до слез взвол¬
новало тогда чувствительного Александра, а
впоследствии так восхищало самого А. И.
Герцена.
«Каким прекрасным днем началось Твое
царствование! Казалось нам, что сама
природа в восторге встречает Тебя. Алек¬
сандр, любимец сердец наших! Десятый раз
уже освещает солнце Твоих надеждами
исполненных подданных; и день ото дня, час
от часа Ты оправдываешь сии надежды!
Какая лестная будущность нас ожидает!..»
Как же представлялась ему эта будущ¬
ность? А вот как: «Неужели захочет Он,—
говорил я сам себе,— произвольно расст¬
роить это редкое согласие неба и земли в его
пользу и благотворное приуготовление цело¬
го полвека и оставить без исполнения?..»
«Нет! Он раскроет напоследок великую ту
книгу судьбы нашей и наших потомков,
которую лишь указал перст Екатерины. Он
даст нам непреложные законы. Клятвою
многочисленных племен своих подданных
утвердит Он их в роды родов; Он скажет
России; и предел самодержавия Моего и
Моих наследников, нерушимый во веки!.. И
Россия войдет наконец в число держав мо¬
нархических, и железный своенравия
скипетр уже не возможет сокрушить
скрижалей ее завета...»
Такова была заветная мысль молодого
энтузиаста. Замечательно, что он не требует
быстрого и немедленного ее осуществления,
а рассчитывает на медленный, но неуклон¬
ный образ действий молодого монарха,
опирающихся на мудрые советы просвещен¬
ных и опытных государственных деятелей и
изучение соответствующих образцов древней
и новой истории3.
Быть может, не с таким пылом, но в
таком же неопределенном и сладостном
очертании те же надежды питали в то время
и все тогдашние молодые и даже немолодые
просвещенные люди, натерпевшиеся всяких
невзгод в царствование Павла. Всем было
более или менее ясно, что необходимы
какие-нибудь гарантии, которые на будущее
время охраняли бы от таких неистовых про¬
явлений самодержавной власти.
Передовое общество, казалось, имело
основание радоваться, потому что Александр
был приверженцем тех же идей и
политических взглядов и в первых своих
указах недвусмысленно, красноречиво и
громко заявил это.
Любопытно, однако же, отметить, что
все тогдашние либералы связывали свои
конституционные надежды с манифестом 12
марта, которым Александр обещал царство¬
вать по заветам и сердцу Екатерины. Они
забыли, что Екатерина была самой убежден¬
ной самодержицей и о конституции вовсе не
думала. Очевидно, общество русское так на¬
66
терпелось за царствование Павла, что о вре¬
мени Екатерины стало вспоминать как о
золотом веке. Вообще можно сказать, что
среди молодого поколения того времени было
много людей, мечтавших об ограничении
самодержавия, но большинство из них было
весьма плохо осведомлено относительно
истинных основ конституционного устрой¬
ства.
С них, в сущности, пока было довольно
и того, что дышалось свободно и можно было,
таким образом, отдохнуть после эпохи бе¬
зумного правительственного террора; даже
такие образованные и ученые люди, как
академик Шторх, известный последователь
Адама Смита, издавший на немецком языке
своего рода летопись первых лет царство¬
вания Александра, неизменно считал все
мероприятия Александра за первые пять лет
его царствования прямыми шагами к
конституционному устройству4. Даже
история с графом С. О. Потоцким и после¬
довавшим произвольным толкованием прав
Сената не вызвала у современников
критического отношения к Александру. Дво¬
рянство устраивало по этому поводу шумные
овации Потоцкому и враждебные демонст¬
рации против Державина и Вязмитинова5,
но никто не думал винить или заподозрить
Александра в неискренности его
конституционных стремлений.
Розово-либеральное настроение общест¬
ва отразилось и в периодической печати,
которая не замедлила возродиться после рас-
печатания частных типографий. Первым
журналом, получившим с 1802 г. большое
значение, был карамзинский «Вестник Ев¬
ропы». Это был в то время самый распрост¬
раненный и любимый публикой журнал, что
видно уже из того, что Карамзин получил 6
тыс. руб. в год чистого дохода от подписной
платы. Этот факт указывает на огромное, по
тому времени, сочувствие публики. Сам Ка¬
рамзин в этот период не принадлежал уже к
молодому поколению; он пережил свой
«Sturm und Drang Periode»euje-B начале 90-х
годов XVIII столетия, когда писал свои
«Письма русского путешественника». В на¬
чале XIX в. он был уже уравновешенным
писателем сентиментального направления,
выступавшим с такими произведениями, как
«Бедная Лиза», которыми зачитывались
наши прабабушки.
Карамзин утверждал в 1802 г., что все
народы после десятилетних революционных
войн и смут убедились тогда в необ¬
ходимости твердой власти, а все правитель-
3*
ства убедились в важности общественного
мнения, чувствуют нужду в любви народной
и необходимость истребить злоупотреб¬
ления. Он видел тогда залог увеличения
престижа и славы России в успехах граж¬
данственности и в распространении просве¬
щения в стране. Поэтому в эти годы он еще
вполне сочувствовал и кроткому тону Алек¬
сандрова правления, и тем либеральным и
просветительным мерам, которые
принимались Александром тогда. Он еще не
сделался тем резким консерватором, каким
мы его увидим впоследствии, когда он стал
осуждать Александра за его либерализм и
явился озлобленным оппонентом Сперанско¬
го. В «Вестнике Европы» Карамзин восхва¬
лял гуманное направление
правительственной политики. «Россия
видит,— писал он,— на троне своем любез¬
ного сердцу монарха,который всего ревност¬
нее желает ей счастья, взяв себе за правило,
что добродетель и просвещение должны быть
основанием государственного благо¬
денствия...»
«Усердием своим к просвещению,—
писал он далее,— докажем, что мы не
боимся его следствий и желаем пользоваться
такими правами, которые согласны с общим
благом государства и с человеколюбием».
Беллетристический отдел журнала на¬
полнялся сентиментальными повестями, ча¬
стью оригинальными, частью переводными;
в публицистическом отделе проповедовался
тоже сентиментальный и горделивый
патриотизм и высказывались крайне
оптимистические взгляды на русскую
действительность вплоть до крепостного
права, которое описывалось по преимущест¬
ву идиллически, а помещики в большинстве
случаев изображались благодетелями своих
крестьян. Восхваляя первые реформы Алек¬
сандра и приветствуя учреждение
министерств, Карамзин счел тогда необ¬
ходимым отметить и нарождение просве¬
щенного общественного мнения. «Уже
прошло то время в России,— писал он,—
когда одна милость государева, одна мирная
совесть могли быть наградой добродетельно¬
го министра в течение его жизни: умы соз¬
рели в счастливый век Екатерины II, и
россияне чувствуют достоинство зна¬
менитых патриотов, цену их усердия к оте¬
честву и монарху, цену чистой добродетели.
Теперь лестно и славно заслужить вместе с
милостью Государя и любовь просвещенных
россиян».
Вот максимум гражданских мыслей и
чувств, до которых доходил тогда Карамзин.
Проповедуя любовь к чтению и просве¬
щению, Карамзин, между прочим, высказы¬
вает в «Вестнике Европы» любопытный
взгляд, что не следует слишком небрежно
относиться даже и к бездарным книгам. «Кто
пленяется Никанором, злосчастным дво¬
рянином,— пишет он в довольно интересной
статье о книжной торговле,— тот на
лестнице умственного и морального образо¬
вания стоит еще ниже его автора и хорошо
делает, что читает сей роман; ибо, без вся¬
кого сомнения, чему-нибудь научится или в
мыслях, или в их выражении. Как скоро
между автором и читателем великое рассто¬
яние, то первый не может действовать
сильно на последнего, как бы он умен ни
был. Надобно всякому чего-нибудь поближе:
одному Ж.-Ж. Руссо, другому — Никанора.
Как вкус физический уведомляет о согласии
с нашей потребностью, так вкус моральный
открывает человеку аналогию предмета с его
душой...»6
По успеху «Вестника Европы» можно
судить, что именно этот журнал стоял ближе
к тогдашней публике и отвечал ее потребно¬
стям. Получили в то время ход и другие
журналы сентиментально-идиллического
направления; из них следует упомянуть
«Московский Меркурий», издававшийся
Макаровым, который впервые ввел в русский
журнал того времени критический отдел, где
выражались и отрицательные взгляды
относительно точек зрения других тог¬
дашних журналов. Этот журнал был еще
замечателен тем, что самым энергичным
образом, конечно, в тогдашнем освещении и
тоне, поднял впервые женский вопрос: в
первом же номере он доказывал необ¬
ходимость просвещения женщин и важность
их участия в общественной жизни страны;
он указывал на роль салонов просвещенных
дам во Франции, которые служили, по его
мнению, лучшей школой просвещения.
Широкое распространение сентимен¬
тальных вкусов в тогдашнем обществе вело,
конечно, и ко многим карикатурным
явлениям, которые нашли себе выражение в
журналах вроде «Журнала для милых» или
«Московского зрителя», издававшегося кн.
Шаликовым. В этих и подобных изданиях
получали преобладание вздорные анекдоты
и даже скабрезные повестушки. Наряду с
этим в журнале Шаликова наблюдается и
некоторый реакционный дух: подвергаются
нападениям вольнодумцы, сомневающиеся в
пользе орденов и чинов и т. п. В «Друге
просвещения»,— журнале, не имевшем
определенного направления, стали появлять¬
ся нападки на нововведения,— нападки,
принадлежавшие перу Державина и
Шишкова.
Друзья прогресса и просвещения
объединяются в 1804 г. в «Журнале
Российской Словесности», издававшемся
Брусиловым при близком участии та¬
лантливого публициста того времени И. П.
Пнина. В этом журнале, между прочим,
помещен был диалог, написанный Пниным,
будто бы происходящий в Китае между цен¬
зором и сочинителем, выражающий опреде¬
ленный либеральный взгляд на
необходимость полной свободы печати и на
бессмысленность всякой цензуры; здесь же,
в стихах того же Пнина, производивших
тогда большое впечатление на публику, за¬
трагивается и вопрос о личной свободе и
ненормальности рабства. Еще резче тот же
вопрос был поставлен в брошюре Пнина
«Опыт о просвещении». Эта брошюра была
напечатана в 1804 г. и сперва пропущена
цензурой, но затем второе издание ее было
уже конфисковано (в 1806 г.). Замечатель¬
но, что здесь Пнин, будучи искренним пос¬
ледователем либеральных взглядов, стоял
все же на сословной точке зрения в вопросах
просвещения. Так, по его представлению,
должен существовать особый тип школы для
каждого сословия: для крестьян, мещан,
купцов и дворян, причем в школах для детей
низших сословий должен проходиться лишь
цикл предметов, соответствующих их быту,
и лишь в дворянских школах должны пре¬
подаваться высшие науки и отвлеченные
дисциплины. При этом деление предметов
преподавания отличалось большой фан¬
тастичностью; особенно курьезны предметы
для низшей школы — вроде «сельской ме¬
ханики для крестьян» и т. п.
Не менее замечателен был другой либе¬
ральный журнал того времени — «Северный
вестник», издававшийся Ив. Ив. Мартыно¬
вым, состоявшим директором канцелярии
Министерства народного просвещения и
получавшим на издание этого журнала
субсидию от правительства. Журнал этот и
преследовал главным образом правительст¬
венные цели, и вел любопытную полемику
со всеми ретроградами. Отстаивая необ¬
ходимость широкого распространения прос¬
вещения, «Северный вестник», однако, так
же как и Пнин, стоял нд сословной точке
зрения и тоже полагал, что нужны разные
68
школы для разных сословий. В политичес¬
ком отношении он старался подготовлять
умы к конституционным идеям. Идеальной
страной в политическом отношении он
считал Англию. В одной любопытной статье
он предлагал для России аристократическое
конституционное устройство такого типа,
который совершенно совпадал со взглядами
адмирала Мордвинова, о котором мы уже
упоминали выше, так что можно предпо¬
ложить, что Мордвинов и был инспиратором
этой статьи.
В 1804 г. впервые был издан в России
цензурный устав, составленный по шаблону
тогдашнего датского устава. Устав этот
вводит предварительную цензуру, так что его
нельзя признать в строгом смысле либераль¬
ным уставом, но он, во всяком случае, давал
цензорам инструкцию быть благожелатель¬
ным к авторам, рекомендуя в сомнительных
случаях толковать выражения статьи в поль¬
зу авторов. И фактически не столько благо¬
даря этому уставу, сколько вообще благодаря
либеральному настроению правительства,
журналы пользовались в то время значитель¬
ной свободой; в сущности, почти все, что
хотели, они могли печатать, но надо сказать,
что и хотели они весьма немного .
Наличность всех этих журналов показы¬
вает, как сильно воспитывался в то время,
при непосредственном содействии самого
правительства, интерес к политической
мысли в тогдашнем читающем обществе.
Кроме журналов в тот же период
появилась еще и масса новых книг: эко¬
номических, политических, юридических и
философских трактатов, из которых огром¬
ное большинство представляло изложение и
переводы сочинений второй половины XVIII
в. с разных европейских языков.
Тогда Александр, видимо, вспомнил
свою старую мысль о пользе издания таких
переводов и щедрой рукой раздавал
субсидии: в течение пяти лет таких субсидий
было выдано более чем на 60 тыс. руб.
Некоторые из них были весьма значительны,
так, например, переводчик Адама Смита
получил 5 тыс. руб. ассигнациями, и такие
же приблизительно субсидии получили
издатели Бентама и Тацита. В числе издан¬
ных тогда сочинений были также
политические трактаты Делольма, Бек-
карии, Монтескье, Мабли и др. Подробный
перечень вышедших тогда книг занимает
значительную часть 9-го тома издававшегося
Шторхом немецкого сборника «Russland
unter Alexander dem Ersten» (1801—1805).
Таково было настроение правительства,
общества и в особенности столичной
интеллигенции и печати в первые пять лет
правления Александра I.
Что касается положения народных масс,
то в нем со времени Екатерины не произош¬
ло существенных перемен, и тот очерк поло¬
жения крестьян при Екатерине, который
нами сделан, остается вполне применимым
и к первым годам XIX в. Следует, однако,
отметить, что крестьяне, которые обыкновен¬
но волновались при каждом восшествии на
престол, при вступлении Александра сох¬
ранили спокойствие.
Важнейшим актом первых лет царство¬
вания Александра по крестьянскому вопросу
был указ 20 февраля 1803 г. о свободных
хлебопашцах. Поводом к изданию указа пос¬
лужило желание гр. Серг. Петр. Румянцева
отпустить на волю крестьян одного из своих
имений с землей. Дело это не имело для себя
прецедентов в прежнем времени, и законо¬
дательство таких случаев не предвидело,
почему Румянцев и предложил издать соот¬
ветствующий общий закон. Новый закон
разрешал землевладельцам, по мысли Ру¬
мянцева, отпускать своих крепостных на
волю в одиночку или целыми селениями, но
не иначе, как с земельными наделами, без
которых отпуск воспрещался. Условия дого¬
вора, который заключали при этом между
собой крестьяне и помещики, уста¬
навливались по взаимному соглашению
обеих сторон; договор этот шел на утверж¬
дение государя, после чего приобретал зна¬
чение крепостного акта. Крестьяне,
освобожденные эти путем, получали наиме¬
нование «свободных хлебопашцев», землей
которых казна не могла уже распоряжаться,
как распоряжалась землей казенных кресть¬
ян.
Крепостники указ этот считали крайне
зловредным, не без основания видя в нем
первое веяние, враждебное крепостному
праву8.
Державин приложил все меры к тому,
чтобы воспрепятствовать опубликованию
указа; но добился только высочайшего выго¬
вора. В ближайшие годы по изданию указа
на основании его было заключено всего лишь
несколько сделок, причем крестьяне
платили до 500 руб. ассигнациями с души.
Насколько велика была эта цифра, показы¬
вает тот факт, что в 50-х годах XIX в.
ценность помещичьих имений (с землей и
постройками), разложенная на число крепо¬
69
стных душ, не превышала 200—300 рублей
на душу.
Всего в царствование Александра, на
основании указа о «вольных хлебопашцах»,
было заключено 160 сделок при общем числе
освобожденных в 47 153 души мужского
пола; при этом в 17 случаях сделки были
безвозмездными (всего безвозмездно было
отпущено на волю 7415 душ, из которых 7
тыс. были освобождены, в виде исключения,
без земли, по духовному завещанию одного
помещика западного края). В остальных
случаях воля крестьянами покупалась; в
среднем размер выкупа за все царствование
равнялся 396 руб. с души на ассигнации,
или около 100 руб. серебром (по курсу,
установившемуся после 1808 г.). В отдель¬
ных случаях правительство оказывало кре¬
стьянам пособия для выплаты выкупа.
Следующей мерой, касавшейся кресть¬
ян, были правила, утвержденные Александ¬
ром 20 февраля 1804 г., об устройстве
крестьян Лифляндской губернии.
Инициатива в данном случае исходила от
самих помещиков этой губернии — в
результате освободительного движения, на¬
чавшегося здесь еще при Екатерине. На
основании правил 20 февраля 1804 г., выра¬
ботанных в Петербурге особым комитетом (в
состав которого входили Кочубей, Строга¬
нов, Козодавлев и два представителя
Лифляндского дворянства), 1) воспреща¬
лось продавать и закладывать крестьян без
земли; 2) предоставлялись крестьянам
личные гражданские права, вводилось кре¬
стьянское самоуправление наследственных
владельцев их земельных участков, которые
они могли потерять лишь по приговору суда
(за неисполнение своих обязанностей перед
помещиком или за расточительство); 4)
вводилось ограничение барщины двумя
днями в неделю; 5) устанавливалось, что в
оброчных имениях денежные повинности,
определенные особой ревизионной
комиссией, не могли увеличиваться
произвольно самими помещиками, отрезы-
вание же земельных участков крестьян могло
производиться лишь за особое вознаграж¬
дение; 6) дворские рабочие и батраки оста¬
вались под дисциплинарной властью
помещиков, но крестьяне могли наказывать¬
ся только по приговорам крестьянских су¬
дов.
В 1805 г. подобные же положения были
выработаны и утверждены и для Эстлянд-
ской губернии, хотя и на несколько менее
выгодных для крестьян основаниях. Эти
положения впоследствии сыграли некоторую
роль в ходе крестьянского вопроса в России9.
Личное отношение Александра в эту
пору к крестьянскому вопросу характеризу¬
ется тем, что он часто обращал внимание на
крестьянские жалобы на помещиков и нала¬
гал иногда строгие взыскания за злоупотреб¬
ления помещичьей властью, устраняя
обыкновенно при этом помещиков от управ¬
ления имениями.
В экономическом отношении в поло¬
жении населения особенно резких перемен
за этот период не произошло. Население
прибывало в числе нормальным порядком
ввиду отсутствия войн и иных каких-либо
чрезвычайных бедствий. Общий прирост на¬
селения за пятилетие с 1801 по 1805 г.
равнялся 2655 тыс. человек.
Первое пятилетие царствование Алек¬
сандра отличалось быстрым развитием ко¬
лонизации юга России. Сильно росла
по-прежнему и иностранная иммиграция
колонистов, чему способствовали слухи о
лучшем управлении в России и льготы, пре¬
доставленные русским правительством ко¬
лонистам еще по манифесту 1763 г. С 1803
по 1805 г. в Новороссии водворилось таким
образом более 5 тыс. душ мужского пола
колонистов (немцев, чехов и разных южных
славян).
В то же время при господствовавшей
экстенсивной системе полевого хозяйства в
местностях относительно густонаселенных,
как, например, Тульская или Курская гу¬
бернии, где притом вовсе не была развита
промышленная жизнь, начинает кое-где чув¬
ствоваться недостаток земли, и правительст¬
во само направляет казенных крестьян из
таких мест в новороссийские степи и
поощряет переселение туда крестьян,
организуемое частными лицами, которым
охотно отводит там землю на льготных ус¬
ловиях. Это обстоятельство вскоре заставля¬
ет правительство изменить коренным
образом прежнее отношение к иностранной
колонизации Новороссийского края, в связи
с теми беспорядками, которые обна¬
ружились во многих старых иностранных
колониях в конце царствования Екатерины
и в особенности при Павле Петровиче, когда
произведена была тщательная ревизия почти
всех колоний ввиду достигших до правитель¬
ства жалоб колонистов на дурное обращение
с ними местных начальств — жалоб, расп¬
ространившихся при Павле даже и за
границей. На основании добытых
правительственными исследованиями дан¬
70
ных Кочубей сделал в 1804 г. доклад импе¬
ратору Александру в Комитете министров о
ходе колонизации незаселенных и малона¬
селенных губерний, после чего было решено:
1) пользоваться южными степями прежде
всего для расселения в них нуждающегося в
земле русского населения и 2) осторожнее
относиться к иностранной колонизации,
прекратив совершенно массовый вызов лю¬
дей из-за границы и допуская лишь пересе¬
ление людей, имеющих собственные
средства на переезд и на первоначальное
устройство на новых местах и способных
вместе с тем внести улучшенные приемы в
обработку земли или сведущих в каких-либо
ремеслах.
Как бы то ни было, несмотря на многие
частные промахи, неудачи и злоупотреб¬
ления различных начальств, колонизация
Новороссийского края продолжала
развиваться весьма интенсивно. Пустые
пространства заселялись как русскими эле¬
ментами, так и иностранными: немцами,
немецкими сектантами (менонитами),
южными и западными славянами (особенно
после смут, начавшихся в Турции) и бело¬
русскими евреями. Культивирование
южных плодоносных земель развивалось с
чрезвычайной быстротой, отражаясь замет¬
ным образом на росте хлебной
производительности России и усилении за¬
граничного отпуска хлеба, о чем мы уже
упоминали. Отпуск этот возрос, как мы уже
видели, с середины XVIII в. в 30 раз, а с
начала 80-х годов — в 5—6 раз: с 400 тыс.
четвертей до 2250 тыс. четвертей, причем
львиная доля этого отпуска — более
миллиона четвертей — заключалась в
пшенице, производившейся в недавно обра¬
щенных под обработку южных степях10.
Всячески заботясь о быстром эко¬
номическом развитии юга, правительство
этому содействовало не только различными
льготами новым поселенцам в уплате пода¬
тей и отбывании повинностей, но и торго¬
выми льготами, установив сначала в Крыму
(еще при Павле), а затем и в Одессе (при
Александре) порто-франко, т. е. бес¬
пошлинный привоз иностранных товаров и
вывоз русских. Город Одесса, основанный
при Екатерине и управлявшийся в это время
французским эмигрантом герцогом Ришелье
(впоследствии министром Людовика XVIII),
быстро рос и развивался в крупный торговый
город и порт.
В связи с колонизационной политикой
правительства здесь следует упомянуть о
двух крупных вопросах внутренней русской
жизни, которые как раз в это время стали на
очередь. Это вопросы еврейский и сек¬
тантский.
Что касается первого из них, то он имел
прямую связь со включением в конце XVIII
в. в состав Российской империи обширных
польско-литовских провинций с
миллионным еврейским населением. До тех
пор он имел лишь весьма ограниченное зна¬
чение, касаясь главным образом допущения
приезда еврейских купцов на украинские
ярмарки, причем допущение это, впервые
регулированное указом Екатерины Первой
(в 1727 г.), было затем поставлено в особенно
стеснительные условия при Елизавете Пет¬
ровне. При Екатерине II, после присо¬
единения Крыма и Новороссии и разделов
Польши, впервые установлено было понятие
о черте еврейской оседлости, в которую
включены были малороссийский, ново¬
российские губернии, Крым и провинции,
присоединенные по трем разделам от
Польши. Евреям запрещен был по-прежнему
доступ в остальные части империи, но в
черте оседлости им предоставлялось пользо¬
вание всеми гражданскими правами нарав¬
не с прочими людьми «среднего рода». Лишь
в конце царствования Екатерины на евреев
— по закону 1794 г.— наложены были в
местах их приписки двойные подати в срав¬
нении с мещанами и купцами христианских
исповеданий. При Павле это положение
осталось в силе. В конце его царствования
Державиным, ревизовавшим (в качестве се¬
натора) белорусские губернии по случаю
бывшего там неурожая и голода, была пред¬
ставлена особая записка по еврейскому воп¬
росу, оставленная, впрочем, императором
Павлом без внимания и пролежавшая в Се¬
нате без движения до 1802 г.11 В 1802 г.
вопрос этот получил движение. Образован
был для рассмотрения его особый комитет
«по жалобам на разные злоупотребления и
беспорядки во вред земледелия и промыш¬
ленности обывателей трех губерний, где
евреи обитают». В результате работ этого
комитета явилось особое «положение о евре¬
ях» 1804 г. По этому положению евреям
по-прежнему запрещено было селиться в
России вне черты оседлости; но самая черта
оседлости в связи с колонизационной
политикой правительства была несколько
расширена, именно: к ней, кроме губерний
литовских, белорусских, малороссийских,
Киевской, Минской, Волынской, Подоль¬
ской, Херсонской, Екатеринославской и
71
Таврической были отнесены губернии
Астраханская и Кавказская, но зато, в видах
борьбы с контрабандой, которой евреи, по
сведениям правительства, усердно
занимались, им воспрещено было селиться
в приграничной 50-ти верстной полосе. В
черте оседлости евреи должны были пользо¬
ваться по положению «покровительством за¬
конов наравне со всеми другими
российскими подданными». Тем не менее
«положение», не ограничиваясь таким
общим заявлением, стремилось определить
точнее гражданские права евреев, причем
поставлена была двоякая цель: с одной сто¬
роны, содействовать слиянию этого народа с
общим населением обитаемых ими областей,
с другой — направить евреев к полезному
труду и устранить от занятий, соединенных
с эксплуатацией местного населения, в осо¬
бенности низшего, что вызывало частые жа¬
лобы правительству, вследствие которых
вопрос о евреях и стал на. очередь. Евреи
были разделены положением 1804 г. на
четыре класса: 1) земледельцев, 2)
фабрикантов и ремесленников, 3) купцов и
4) мещан12. Класс евреев-земледельцев был
установлен или, точнее сказать, про¬
ектирован именно с целью «обратить евреев
к полезным занятиям», ввиду чего евреям-
земледельцам предоставлялись различные
льготы. Вскоре (с 1806 г.) начались по
инициативе могилевского губернатора М. М.
Бакунина опыты устройства еврейских зем¬
ледельческих колоний в Новороссии, не по¬
лучившие, впрочем, большого
распространения13. Вместе с тем, дозволяя
евреям различные промыслы и все виды
торговли наравне с другими русскими под¬
данными (в черте оседлости), положение
воспрещало им содержать в деревнях и се¬
лах: аренды, шинки, кабаки и постоялые
дворы и всякую торговлю в сельских мест¬
ностях вином под своим или чужим именем
и даже пребывание в них под каким бы то
ни было видом, разве проездом.
Наряду с этими запретительными ме¬
рами «положение» стремилось обеспечить
еврейскому населению всевозможные сред¬
ства просвещения, чем это положение выгод¬
но отличается от позднейшей политики
правительства по еврейскому вопросу. В
положение 1804 г. статьи о просвещении
евреев стояли на первом месте. Детям всех
евреев предоставлено было обучаться без
всякого различия от других детей во всех
российских народных училищах, гимназиях
университетах. Отличавшиеся познаниями в
различных науках могли быть произведены
наравне с прочими подданными в соответст¬
вующие университетские степени. Для евре¬
ев, которые ввиду своей религиозной
исключительности не захотели бы отдавать
своих детей в общие школы, «положение»
предписывало установить на их счет «осо¬
бенные школы, где бы дети их были обучае¬
мы, определив на сие, по рассмотрению
правительства, нужную подать». Положение
1804 г. было, по выражению проф. А. Д.
Градовского, исходной точкой всех даль¬
нейших мер относительно евреев, причем
следует заметить, что меры эти развивались
отнюдь не в благоприятную для евреев сто¬
рону, и положение 1804 г. может быть
признано во многих отношениях довольно
благожелательным по отношению к евреям в
сравнении с позднейшей политикой
правительства по этому вопросу.
Довольно благожелателен и гуманен был
взгляд тогдашнего правительства, и в особен¬
ности самого императора Александра, на
сектантов различных толков, как русских,
так и иностранных, селившихся в России,
и царствование Александра, особенно пер¬
вые годы, не без основания названо было
«золотым веком русского сектантства». Осо¬
бенно мягко и снисходительно относилось
правительство к сектам духовных христиан
— к духоборцам и молоканам,— не призна¬
вавшим внешних принудительных форм
церкви и в то же время отличавшимся чрез¬
вычайно чистой и строго нравственной
жизнью.
Гонения на духоборцев, вызванные
отчасти нетерпимостью православных сосе¬
дей, отчасти — жалобами духовенства и до¬
носами полиции, начались в конце
царствования Екатерины II, когда ека-
теринославский губернатор Каховский
написал в 1792 г., что «все зараженные
иконоборством (как их тогда называли) не
заслуживают человеколюбия» именно пото¬
му, что ересь их особенно соблазнительна
для окружающего населения, тем в особен¬
ности, что «образ жизни духоборцев основан
на честнейших правилах, и важнейшее их
попечение относится ко всеобщему- благу, и
спасение они чают от благих дел». Духобор¬
цы, приговоренные тогда к сожжению, были
от этого избавлены Екатериной, но, однако
же, ссылались в Сибирь. В 1801 г. ревизо¬
вавшие Слободско-Украинскую губернию
сенаторы Лопухин и Нелединский-Ме-
лецкий впервые представили правительству
вполне благожелательную характеристику
72
духоборцев и справедливо изобразили их
положение среди враждебно относящегося к
ним православного населения. Тогда впер¬
вые дано было .повеление дозволить пересе¬
ление духоборцев Украины и Новороссии на
«молочные воды», в Мелитопольский уезд
Таврической губернии. В 1804 г. с ходатай¬
ством о разрешении переселиться туда же
обратились к правительству и духоборцы
Тамбовской и Воронежской губерний. Духо¬
борцы, однако, по-прежнему представ¬
лялись опасной с точки зрения
православного духовенства сектой: они не
признавали внешней церковной
организации, отвергали обряды и таинства
православной церкви, не поклонялись ико¬
нам и проповедовали первобытный
христианский коммунизм и анархизм в ча¬
стной и общественной жизни, причем на
практике в своей личной жизни вполне
оправдывали ту лестную аттестацию, кото¬
рую давали им сами преследователи их
почти наравне с их доброжелателями. Им¬
ператор Александр взял их вместе с другими
рационалистическими сектами под свою
защиту, признавая бесполезность не только
репрессивных мер по отношению к сектан¬
там и раскольникам, но даже и миссионер¬
ской деятельности православного
духовенства в том виде, в каком она до тех
пор проявлялась. Он утверждал, что « разу¬
мом и опытом давно уже доказано, что умс¬
твенные заблуждения простого народа
прениями и народными увещаниями в мыс¬
лях его углублялись; единым примером и
терпимостью мало-помалу изглаждаются и
исчезают» Благодаря этой точке зрения
императора дело тамбовских и воронежских
духоборцев было решено также в их пользу
и им также было дозволено переселиться на
♦молочные воды». С этого времени и почти
до конца царствования духоборцы и молока¬
не получают фактически возможность суще¬
ствовать открыто14.
Быстрое развитие колонизации плодо¬
родного юга и усилившаяся вследствие этого
в огромных размерах хлебная
производительность России отражалась и на
направлении сельскохозяйственной и про¬
мышленной жизни населения северных не¬
черноземных губерний. В них в это время
еще больше усилилась промышленная дея¬
тельность, и сельские хозяйства, не имея
возможности конкурировать с югом в
производстве хлеба, в особенности
пшеницы, сосредоточили свою деятельность
на усилении производства льна и пеньки и
их фабрикатов, чему благоприятствовало в
особенности устранение всяких стеснений в
торговых сношениях с Англией, которая
являлась в то время главной пот¬
ребительницей продуктов нашей льняной и
пеньковой промышленности, пользуясь ими
для нужд своего парусного флота. В этом
отношении восстановление менее
стеснительного таможенного тарифа 1797 г.
и устранение всех запретительных распоря¬
жений Павлова царствования по сношению
с заграничными странами благодетельно
отзывалось на развитии нашей внешней тор¬
говли, а благоприятно слагавшиеся торговые
конъюнктуры, обеспечивавшие главным
образом усиленное развитие вывоза продук¬
тов нашей сельскохозяйственной промыш¬
ленности, создавали выгодный торговый
баланс, что при оживлении всех торговых
сделок, в свою очередь, благоприятно отра¬
жалось на курсе наших бумажных денег,
несмотря даже на новые выпуски
ассигнаций для покрытия ежегодных
дефицитов. Это благоприятное финансовое
положение, наступившее после стесненных
обстоятельств конца царствования Павла,
порождало, правда, в правительственных
кругах несколько оптимистическое и легко¬
мысленное отношение к постановке фина¬
нсового управления, что впоследствии дало
больно себя почувствовать, но вместе с тем
оно давало возможность прогрессивно на¬
строенному правительству делать щедрою
рукой довольно крупные ассигнования на
различные продуктивные цели и прежде все¬
го на распространение просвещения в стра¬
не. Такое же значение продуктивных
расходов имели крупные ассигнования, де¬
лавшиеся в это время на достройку водных
путей сообщения, начатых большей частью
при Екатерине и Павле и доконченных в
начале царствования Александра15. Таковы
же по своему значению были расходы на
колонизацию юга. Впрочем, львиная доля
бюджета (около 30—40 %) тратилась и в то
время на содержание армии и флота. Около
10 % шло на содержание двора. Бюджет
двора разросся в предыдущие царствования.
Александр в первые годы царствования
значительно урезывал придворные расходы
и вызывал этим против себя даже нарекание
со стороны придворных, которые громко
обвиняли его в невиданной скупости. При
прогрессивно развертывавшейся деятель¬
ности правительства доходов, получавшихся
73
от ранее установленных налогов, конечно, не
могло хватать на покрытие всех новых рас¬
ходов, и бюджеты ежегодно заключались с
дефицитами, достигавшими 20—25 % бюд¬
жета. Вместо пересмотра налоговой системы
или простого пропорционального
увеличения существовавших прямых нало¬
гов, правительство из года в год покрывало
этот дефицит выпусками ассигнаций, курс
которых, однако же, не падал, а даже, как
уже упомянуто, повышался благодаря быст¬
рому развитию внешней торговли и выгодно¬
му торговому балансу. К концу царствования
Екатерины при 157 млн. руб. выпущенных
товда ассигнаций курс их понизился до 70
коп. за рубль; в конце царствования Павла,
когда число выпущенных ассигнаций
достигло 212 млн., при потрясении, вызван¬
ном безумными мерами Павла во внешней
торговле, курс ассигнаций упал ниже 50
коп. за рубль и грозил дальнейшим
падением, но затем, с отменой всех за¬
претительных мер Павла при Александре
стал повышаться, несмотря на ежегодные
новые выпуски ассигнаций, так что в 1803—
1804 гг., когда число обращавшихся
ассигнаций превысило уже 300 млн. руб.,
курс их стоял выше 80 коп. за рубль.
Разработка коренных государственных
преобразований, замышлявшихся Александ¬
ром, с прекращением занятий негласного
комитета пошла более медленны^ темпом.
Обсуждение важнейших государственных
дел и вопросов сосредоточилось теперь в
Комитете министров, в состав которого
вошли в качестве министров и товарищей
министров все члены прежнего негласного
комитета. Разработка дальнейших
административных преобразований сосре¬
доточивалась главным образом в Министер¬
стве внутренних дел, во главе которого
поставлен был Кочубей с товарищем
министра Строгановым, причем им удалось
в состав ближайших своих сотрудников
перетянуть от Трощинского и молодого та¬
лантливого сотрудника последнего М. М.
Сперанского, которому вскоре суждено было
сыграть в истории организации русских го¬
сударственных учреждений наиболее
видную роль. В 1803 г. Сперанский явился
выразителем того осторожного настроения в
деле проведения коренных преобразований,
которое все более овладевало правительством
по мере того, как оно лицом к лицу ста¬
новилось со всеми трудностями, встре¬
чавшимися ему на этом пути.
До нас дошла замечательная записка
Сперанского, составленная им в 1803 г. В
ней он ярко обрисовывает всю трудность
тогдашнего положения16.
«В настоящем порядке вещей,— писал
тут между прочим Сперанский,— мы не на¬
ходим самых первых элементов, необходимо
нужных к составлению монархического уп¬
равления (под монархическим Сперанский
разумел конституционное). В самом деле,
каким образом можно основать монархиче¬
ское (т. е. конституционное) управление по
образцу, выше нами изложенному, в стране,
где половина населения находится в совер¬
шенном рабстве, где сие рабство связано со
всеми почти частями политического устрой¬
ства и с воинской системой и где сия систе¬
ма необходима по пространству границ и
политическому положению? Каким образом
можно основать монархическое управление
без государственного закона и без уложения?
Каким образом можно постановить государ¬
ственный закон и уложение без отделения
власти законодательной от власти
исполнительной? Каким образом отделить
власть законодательную без сословия (т. е.
учреждения) независимого, ее составляюще¬
го, и без общего мнения, ее поддерживающе¬
го? Каким образом составить сословие (т. е.
учреждение) независимое без великого и,
может быть, опасного превращения (т. е.
переворота) всего существующего порядка
— с рабством и без просвещения? Каким
образом установить общее мнение, сотворить
дух народный без свободы тиснения? Каким
образом ввести или дозволить свободу
тиснения без просвещения? Каким образом
установить истинную министерскую ответ¬
ственность там, где отвечать некому и где
ответствующий и вопрошающий составляют
одно лицо, одну сторону? Каким образом без
ответственности могут быть охраняемы зако¬
ны в исполнении? Каким образом может
быть обеспечено самое исполнение без прос¬
вещения и обилия в исполнителях?..»
Все эти вопросы, по мнению Сперанско¬
го, нужно было решить прежде, чем вводить
конституцию. Поэтому он прямо говорит, что
план коренных преобразований необходимо
отложить и что в ближайшем будущем сле¬
дует заняться лишь упорядочением сущест¬
вующего государственного строя. Автор
«Записки» предлагал существующему
строю предать следующий вид: 1) самодер¬
жавие пока сохранить; 2) усилить народное
мнение, долженствующее влиять
ограничивающим образом на власть; 3)
74
стремиться вообще к приближению сущест¬
вующего строя к конституционному, для чего
позаботиться, чтобы уже существующий
строй содержал учреждения, которые
«приспособляли бы дух народный» к
восприятию идеи нового строя.
Соображения, которые приводились
Сперанским, в сущности, напоминали
прежние соображения Строганова, но они
были формулированы с большей обстоятель¬
ностью и категоричностью. Характерно, что
как для членов негласного комитета, так и
для Сперанского в 1803 г. конституционное
устройство было основным идеалом, но иде¬
алом в ближайшее время недостижимым.
Главным препятствием для его осуществ¬
ления являлось, в глазах наиболее серьезных
прогрессивных деятелей той эпохи, крепост¬
ное право. Но отменить крепостное право
считалось в то же время опасным — без
просвещения; ввести же просвещение в на¬
родные массы при крепостном праве было
нелегко, по общему признанию. Получался,
таким образом, своего рода заколдованный
круг. Выйти из него надеялись лишь путем
длительных и упорных усилий.
Очередной задачей были поставлены за¬
боты о просвещении. На эту задачу и было
обращено главное внимание правительства в
первое пятилетие XIX в. Министерство прос¬
вещения работало наиболее продуктивным
образом, достигая действительно блестящих
результатов. Хотя во главе его стоял
обленившийся екатерининский вельможа,
граф Завидовский, но в помощь ему был
образован целый комитет (главное прав¬
ление училищ) из лиц весьма просвещенных
и преданных делу. Часть из них была сде¬
лана попечителями над шестью учебными
округами: попечителем Московского округа
был назначен Мих. Никитич Муравьев,
бывший учитель Александра (он же был и
товарищем министра); Петербургского —
Н. Н. Новосильцев (бывший вместе то¬
варищем министра юстиции); Виленского
(к которому были отнесены вся Литва, Бе¬
лоруссия и Юго-Западный край) — князь
Чарторыйский (он же товарищ министра
иностранных дел); Харьковского — граф
Северин Потоцкий (тот самый сенатор, ко¬
торый выступил с протестом в Сенате в 1802
г.), Казанского — академик Румовский; на¬
конец, Дерптского — просвещенный гене¬
рал Клингер. Все попечители жили в
Петербурге и должны были лишь время от
времени объезжать свои округа, участвуя
постоянно в коллегиальном обсуждении всех
вопросов, связанных с распространением
просвещения в России. В число членов глав¬
ного правления училищ призван был и тот
Янкович, который положил еще при Ека¬
терине первое начало сети учебных заве¬
дений в России. Секретарем правления был
назначен Василий Назарович Каразин, тот
самый молодой энтузиаст, письмо которого
к Александру привели выше. Энергии Ка-
разина юг России обязан существованием
Харьковского университета — ему удалось
убедить харьковских дворян собрать 400
тыс. руб. на это дело, и университет был
учрежден в 1804 г. Одновременно с Харь¬
ковским университетом были основаны Ка¬
занский университет и Петербургский
главный педагогический институт, позднее
преобразованный в университет. Таким
образом, в России, где недавно еще был один
лишь Московский университет, теперь — с
Виленским (польским) и Дерптским (не¬
мецким) — с 1804 г. существовало уже
шесть высших учебных заведений.
Правительство основательно начинало дело
насаждения просвещения сверху; ибо преж¬
де всего необходимо было образовать кадры
учителей, почему и в Петербурге первона¬
чально вместо университета открыт был
главный педагогический институт, разделен¬
ный на факультеты.
О размерах и быстроте распространения
просвещения в это время достаточно красно¬
речиво говорят цифры казенных ассигно¬
ваний на нужды образования; в то время как
при Екатерине самый крупный отпуск на
просветительные цели достигал 780 тыс. руб.
в год, в 1804 г. было отпущено на нужды
образования 2800 тыс. руб. Это была огром¬
ная сумма, если принять в расчет дешевизну
тогдашней жизни и ничтожный размер окла¬
дов жалованья учебного персонала в срав¬
нении с нынешними окладами.
По сметам 1803—1806 гг., правительст¬
во Александра ассигновало средства на
шесть высших учебных заведений. При этом
на каждый университет отпускалось по 130
тыс. руб., на каждую из 42 гимназий (не
считая Виленского и Дерптского округов) —
по 5 г/г — 6 V2 тыс. руб. и на каждое уезд¬
ное училище — от 1250 до 1600 руб. (всего
уездных училищ было 405). Сверх казенных
учебных заведений в тот период были осно¬
ваны на частные средства Демидовский
лицей в Ярославле и гимназия высших наук
имени Безбородко в Нежине.
К описываемому времени относится
издание первого университетского устава
75
(1804 г.), Устав этот был основан на
принципе уважения к науке и к свободе
преподавания и давал автономию
университетским советам, которая впос¬
ледствии была фактически ограничена и
даже уничтожена в конце Александрова цар¬
ствования, а затем и вовсе отменена при
Николае. По уставу 1804 г. университетские
советы поставлены были во главе всех
средних и низших учебных заведений окру¬
га. Им принадлежала непосредственная
власть в деле распространения и направ¬
ления просвещения в их округах;
попечители же являлись не администрато¬
рами в собственном смысле слова, а са¬
новниками, жившими в Петербурге и там
представлявшими нужды каждого округа и
лишь следившими за общим ходом дел на
местах.
Мы упоминали уже о тех щедрых
пособиях, которые издавались в это время
правительством на издание книги и журна¬
лов. К этому нужно присовокупить пенсии,
которые правительство назначало лицам,
посвятившим себя научным занятиям вне
государственной службы: так, например,
Карамзину была назначена пенсия в 2777
руб. в год, которая в то время давала возмож¬
ность безбедно существовать и заниматься
всецело наукой. Вообще эти годы надо
отнести к числу самых лучших и про¬
дуктивных лет в истории русского просве¬
щения. К сожалению, правительство
Александра I не могло долго идти этим
путем, так как прежде всего не хватало
денежных средств. Как только началась в
1805 г. война с французами, средства, опу¬
скавшиеся на просвещение и до тех пор все
возраставшие, не только перестали возра¬
стать, но и по необходимости стали и сок¬
ращаться.
ЛЕКЦИЯ VII
Второй период царствования Александра (1805—1807).— Международное положение России в начале
XIX в.— Разрыв с Наполеоном.— Планы Чарторыйского и отношение Александра к полякам в 1805 г.—
Неудачный исход кампании 1805 г.— Война 1806—1807 гг.— Разгром Пруссии.— Чрезвычайные приго¬
товления к войне с Наполеоном в России.—Зимняя кампания 1807 г.— Истощение боевых средств
России.— Тильзитский мир.— Союз с Наполеоном.— Острое недовольство в России, вызванное
Тильзитским миром и его последствиями. — Проявления и характер оппозиционного настроения в
обществе.
Переходя к рассмотрению второго
периода царствования Александра, ознаме¬
нованного первыми двумя войнами с Напо¬
леоном, следует сказать, что те отношения,
которые привели к войне 1805 г., начали
слагаться еще задолго до того.
В момент смерти Павла с Англией пред¬
стояла война, и английский флот уже шел
бомбардировать Кронштадт. Тотчас по воца¬
рении Александра с Англией был заключен
мир, причем были разрешены и те спорные
вопросы морского права, которые довольно
долго вредили мирным отношениям России
и других держав с Англией. Хотя все
симпатии самого Александра в юные годы
его были на стороне Франции, тем не менее
он подчинился, как мы видели, тому дав¬
лению, которое на него было оказано окру¬
жавшими его лицами, в пользу союза с
Англией. В первых же заседаниях негласно¬
го комитета в принципе решено было не
вмешиваться ни в какие внутренние дела
иностранных государств, и хотя к Франции
установилось подозрительное отношение
ввиду честолюбивых замыслов Бонапарта,
однако получили преобладание мирные
^принципы во внешних делах. Россия, таким
образом, в первые годы царствования Алек¬
сандра была освобождена от всяких
внешних замешательств и войн, и это вполне
соответствовало намерениям самого Алек¬
сандра обратить все свое внимание на дела
внутренние. Эти миролюбивые отношения
не ограничивались тогда только западной
Европой, но простирались и на восточные
окраины, так что когда Грузия, спасаясь от
натиска Персии, обратилась с просьбой о
присоединении ее к России, то и этот вопрос
в негласном комитете первоначально был
решен отрицательно и только ввиду насто¬
яний непременного совета Александр решил
этот вопрос в обратном смысле, причем,
однако же, предписал, чтобы все доходы,
получаемые с населения присоединенной к
России Грузии, шли на местные нужды и
чтобы управлялась Грузия по местным обы¬
76
чаям. К сожалению, эти благие намерения
и указания молодого государя не помешали
неудачным представителям русской власти
в Грузии — Кноррингу и Коваленскому — в
течение нескольких месяцев возбудить
против России своими возмутительными
злоупотреблениями и насилиями все обще¬
ственное мнение Грузии.
Отношения с Наполеоном, сложившиеся
в первые месяцы царствования Александра
довольно благоприятно и закрепленные
мирным договором, заключенным осенью
1801 г., стали уже с конца 1801 г. портиться
— отчасти вследствие враждебного отно¬
шения к Наполеону, которое занял наш но¬
вый посол в Париже — заносчивый гр.
Морков, отчасти из-за сардинского короля,
которого Наполеон хотел, вопреки заключен¬
ному с Россией договору, стереть с лица
земли, а Александр считал себя обязанным
защитить как старого союзника России.
Кроме того, сам Александр стал все более и
более склоняться к мысли, что надо
ограничить честолюбивые стремления Бона¬
парта, и с 1802 г. у него постепенно скла¬
дывается убеждение, что рано или поздно
Наполеона придется обуздать вооруженной
рукой. Вместе с тем, ознакомившись ближе
с международными отношениями и входя
лично в сношения с представителями инос¬
транных держав в Петербурге (хотя
приближенные советники и стремились его
от этого удерживать), Александр, очевидно,
почувствовал в себе — и не без основания —
крупный дипломатический талант и боль¬
шую склонность к непосредственному ве¬
дению дипломатических переговоров. Его,
видимо, увлекала самая техника дипло¬
матических сношений. Можно думать, одна¬
ко, что им уже и тогда руководило смутное
стремление освободить впоследствии Европу
от возраставшего деспотизма и беспредель¬
ного властолюбия Наполеона.
Несмотря на предостережения и дурные
предчувствия своих сотрудников, Александр
еще весной 1802 г. решился принять дея¬
тельное участие в делах Европы и для начала
устроил свидание с прусским королем в
Мемеле. В том же 1802 г. ему пришлось
окончательно убедиться в грубости и
пошлости честолюбия Наполеона, когда тот,
совершив новый государственный перево¬
рот, объявил себя пожизненным консулом.
«Завеса упала,— писал тогда Александр Ла¬
гарпу,— он, т. е. Наполеон, сам лишил себя
лучшей славы, какой может достигнуть
смертный и которую ему оставалось стя¬
жать,— славы доказать, что он без всяких
личных видов работал единственно для блага
и славы своего отечества, и, пребывая вер¬
ным конституции, которой он сам присягал,
сложить через десять лет власть, которая
была в его руках. Вместо того он предпочел
подражать дворам, нарушив вместе с тем
конституцию своей страны. Отныне это зна¬
менитейший из тиранов, каких мы находим
в истории»1.
В то же время были окончательно нару¬
шены права сардинского короля, владения
которого были присоединены к Франции. В
1803 г., после возобновления войны с
Англией, Наполеон захватил Ганновер и
явно грозил сделаться вершителем судеб
Средней Европы. Личные отношения Напо¬
леона с графом Морковым настолько
испортились, что Наполеон потребовал сме¬
ны русского посла. Но Александр не сразу
пошел навстречу этому желанию, а потом,
отозвав Моркова, демонстративно наградил
его высшим российским орденом Андрея
Первозванного, в котором Морков и явился
откланиваться Наполеону.
В Париж же русский император вовсе
не назначил посла, а поручил временно
управление делами посольства второстепен¬
ному чиновнику Убри. Провозглашение На¬
полеона императором и предшествовавшее
этому убийство герцога Энгиенского пос¬
лужили последним поводом к разрыву.
Из всего изложенного видно, что инте¬
ресы России во всей этой истории были, в
сущности, не при чем: во всем этом деле
Александр действовал не как представитель
собственно русских государственных инте¬
ресов, а как глава одной из великих евро¬
пейских держав. Разорвав с Наполеоном, он
деятельно стал заниматься составлением ко¬
алиции против него.
Управление Министерством иностран¬
ных дел в это время, за уходом на покой
канцлера графа А. Р. Воронцова, которого
Александр недолюбливал, находилось в
Груках кн. Адама Чарторыйского. Чарто¬
рыйский очень сочувствовал мысли о ко¬
алиции против Наполеона, мечтал, что
одним из результатов войны может быть
восстановление Польши. Он старался
убедить Александра, что одной вооруженной
силы против Наполеона мало, что необ¬
ходимо, ввиду его необыкновенного гения и
престижа непобедимости, вызвать в народах
Европы особый энтузиазм в борьбе с ним. В
качестве же идеи, могущей создать такой
77
энтузиазм, Чарторыйский выдвигал
принцип восстановления попранной не¬
зависимости национальностей, надеясь, что
это приведет и к восстановлению польской
национальности. Александр, по-видимому,
согласился с такой постановкой вопроса,
хотя в устах Чарторыйского восстановление
польской национальности означало оттор¬
жение от России таких исконных русских
областей, как Волынь и Подолия, ибо Чар¬
торыйский мечтал о восстановлении Польши
в границах 1772 г. При такой постановке
вопроса война против Наполеона в 1805 г.
не только не вызывалась русскими интере¬
сами, но даже грозила еще России впос¬
ледствии осложниться новой борьбой за
территорию, борьбой, которой и обус¬
ловливалась в минувшие века вся ее отста¬
лость и дикость. Делая вид, что разделяет
все взгляды Чарторыйского, Александр вос¬
пользовался, однако очень своеобразно, на¬
деждами польских патриотов. Он всячески
их поощрял, хотя и не связывал себя опре¬
деленными обещаниями, главным образом,
как можно теперь думать, для того, чтобы
угрозой польского восстания в областях
прусской Польши заставить колебавшегося
прусского короля примкнуть к коалиции
против Наполеона и заключить союз с
Россией; и как только ему удалось заставить
Фридриха Вильгельма заключить с ним кон¬
венцию (которая потом не была даже выпол¬
нена), он отказался от всякого поощрения
разгоревшихся надежд поляков и отложил
решение польского вопроса на неопределен¬
ное время. Этим неосторожным и некоррек¬
тным поведением он вызвал большое
разочарование в поляках и толкнул их в
объятия Наполеона, чем последний и не
^преминул вскоре воспользоваться.
В 1805 г. война была, таким образом,
решена, и русскому народу приходилось
выставить достаточную вооруженную силу,
так как на континенте Европы против Напо¬
леона фактически выступали только
австрийские и русские войска. Для того
чтобы собрать эту силу, потребовалось три
последовательных рекрутских набора,
причем было набрано до 150 тыс. рекрутов
(по 10 рекрутов с каждой тысячи душ муж¬
ского пола, но так как рекруты брались тогда
из лиц в возрасте от 20 до 35 лет, то
отношение количества рекрутов к числен¬
ности этой группы населения равнялось уже
10 : 225). Сверх того, потребовалось до¬
пустить новый значительный дефицит в
бюджете, который был опять покрыт новым
выпуском ассигнаций.
В этом случае Александр поступал как
истинный самодержец, которому никто не
мог препятствовать и который ни перед кем
не был ответствен. Но надо заметить, что
русское общественное мнение было уже так
вооружено тогда против Наполеона, что
участие России в войне с ним почти никому
— за исключением прямых поклонников
Наполеона, число которых становилось все
меньше — не казалось нецелесообразным, а
виды Чарторыйского мало кому были изве¬
стны, народ же привык выносить без ропота
и гораздо большие тягости.
Как известно, война 1805 г. кончилась
несчастливо для России и Австрии главным
образом благодаря неумелому ведению дела
австрийскими генералами, а отчасти и бла¬
годаря неопытности и самонадеянности са¬
мого Александра, который заставлял
русского главнокомандующего Кутузова пос¬
тупать вопреки его убеждениям, согласно с
планом австрийского кабинетного стратега,
доктринера Вейротера. После капитуляции
австрийской армии Макка при Ульме и
последовавшего затем страшного поражения
русских войск в Аустерлицком сражении,
данном Наполеону вопреки воле и советам
Кутузова, русской армии пришлось поспеш¬
но отступать к русским границам, и война
на этом закончилась. Австрия заключила в
Пресбурге унизительный мир; Пруссия же
заключила с Наполеону тогда же обо¬
ронительный и наступательный договор.
Александр тем не менее начал го¬
товиться к продолжению войны: поражение
русских войск создало патриотическое на¬
строение в обществе, которое Александр
разжигал прямыми обращениями к народу.
Желая, чтобы эти обращения доходили до
народных масс, он пустил в ход сильное
средство в виде воззваний святейшего Сино¬
да, которые читались во всех церквах. В этих
воззваниях Наполеон объявлялся врагом
рода человеческого, замышлявшим объявить
себя Мессией и подбивавшим иудеев на
уничтожение христианской церкви, причем
ему приписывались небывалые кощунства2.
Предвидя перенесение войны в пределы
России, Александр в то же время, не¬
зависимо от набора рекрутов, созвал опол¬
чение, которое по первоначальным
распоряжениям должно было составить мас¬
су в 612 тыс. ратников. Можно себе пред¬
ставить, во что обошлось народному
хозяйству такое приготовление к войне, соп¬
78
ровождавшееся, особенно в западных гу¬
берниях, изнурительной подводной повинно¬
стью, при помощи которой подвозились к
театру войны продовольственные и боевые
припасы.
Хотя Пруссия после первого союзного
договора с Наполеоном заключила и второй
договор, по-видимому, еще более прочный,
Александр все-таки не терял надежды под¬
нять ее против Наполеона, державшего свои
войска на германской территории, отказы¬
вавшегося их убрать и в то же время не
дававшего своего согласия на образование
прусским королем северо-германского союза
из государств Германии, не включенных в
образованный самим Наполеоном Рейнский
союз. Александр всячески уговаривал
Фридриха Вильгельма выступить против
Наполеона, и разрыв между Францией и
Пруссией действительно, наконец, произо¬
шел, притом произошел раньше, чем ожидал
Александр. Фридрих Вильгельм, как чело¬
век слабохарактерный, долго не решался, а
потом вдруг поставил Наполеону ультима¬
тум, предложив ему немедленно убрать свои
войска и не мешать Пруссии образовать
северо-германский союз, в противном слу¬
чае грозя разрывом. Все это случилось так
неожиданно, что Александр не успел стянуть
свои войска для поддержки Пруссии. Напо¬
леон же на прусский ультиматум даже ниче¬
го не ответил, но немедленно начал военные
действия и через восемь дней уже нанес
Пруссии страшное поражение при Иене.
Главная прусская армия здесь была уничто¬
жена и затем, после потери второго сра¬
жения при Ауэрштете, почти вся прусская
территория быстро оказалась занятой фран¬
цузами. В руках пруссаков остались лишь
две крепости в северо-восточном углу коро¬
левства — Данциг и Кёнигсберг, позади ко¬
торых Фридриху Вильгельму и пришлось
укрыться в маленьком городке Мемеле на
I Немане у самой русской границы. Театром
[ военных действий становилась Польша, и
тут-то Наполеон, желая противопоставить
надеждам польского населения, возла¬
гавшимся на Александра, свои намерения,
очень ловко воспользовался тем разочаро¬
ванием, которое Алекрандр возбудил в поля¬
ках своим изменчивым поведением в 1805 г.,
и стал распространять слухи, что это он,
Наполеон, намерен восстановить Польшу,
5 как оплот Европы против России.
Командующим русской армией был на¬
значен старый фельдмаршал Каменский,
который, приехав в армию, неожиданно
сошел с ума и едва не погубил ее своими
нелепыми приказами; но, к счастью, он
самовольно уехал, пробыв в Действующей
армии всего неделю; при отъезде им был
отдан приказ отступать, кто как может, в
пределы России . Однако генералы
решились его не дослушаться, и Беннигсен,
стянув войска к одному пункту, дал удачный
отпор авангарду французских войск под
Пултусском, в пятидесяти верстах от Вар¬
шавы по ту сторону Вислы. Сперва думали
— и Беннигсен поддерживал это мнение,—
что произошло сражение с самим Наполео¬
ном (на самом деле победа была одержана
над войсками маршала Ланна, бывшими в
авангарде Наполеоновой армии). Беннигсен,
в обход старшего его чином гр. Буксгевдена,
был назначен главнокомандующим. Затем в
битве под Прейсиш-Эйлау (недалеко от
Кёнигсберга), одной из самых крово¬
пролитных битв, в которой легло до 50 тыс.
чел.— в том числе 26 тыс. с нашей сторо¬
ны,— Беннигсену действительно удалось
отразить самого Наполеона: оба войска
остались на своих местах, и тот факт, что
сражение с таким противником, как Напо¬
леон, оказалось не проигранным, сильно
поддержал дух армии. Однако Наполеон,
после 5-месячного бездействия, нанес-таки
решительное поражение, русским войскам
при Фридланде (стоившее нам не менее 15
тыс. солдат), после чего уже продолжать
войны мы не могли. Надежды на подкреп¬
ления не было, если не считать одной пехот¬
ной дивизии, приведенной кн.
Лобановым-Ростовским и состоявшей спло¬
шь из новобранцев; а между тем нам
пришлось объявить войну Турции, и поэтому
часть войск была необходима для подкреп¬
ления армии Михельсона, занимавшей Ва¬
лахию и Молдавию. Что касается ополчения,
то, несмотря на всю его громадность, оно
оказалось совершенно бесполезным; оно
могло бы оказать большое сопротивление в
случае вторжения неприятеля в Россию, в
партизанской войне, но к войне регулярной,
в Действующую армию необученные и плохо
вооруженные ратники совершенно не
годились; впрочем, при тогдашнем бездо¬
рожье, они не могли быть даже быстро
мобилизованы4. Особенно же трудно было
пополнить огромную убыль в офицерах и
генералах; хороших генералов было мало —
лучшие выбыли из строя,— что же касается
офицеров, то уже и раньше в них ощущался
недостаток, который заставлял принимать
самые чрезвычайные меры — принимать,
79
например, в офицеры студентов, не подго¬
товленных к военной службе, и даже просто
дворянских «недорослей», если они согла¬
шались пройти в несколько месяцев кое-ка¬
кое обучение в кадетских корпусах. Таким
образом, воевать одни мы не могли. Между
тем приходилось действовать как раз одним:
Англия участвовала в войне субсидиями, да
и их отпускала довольно скудно (в размере
2200 тыс. фунтов стерлингов в год на всех
своих континентальных союзников). Благо¬
даря всему этому Александру ничего не
оставалось, как начать мирные переговоры,
пользуясь тем, что Наполеон сам охотно
протягивал руку примирения, так как и он
находился в большом затруднении после
кровопролитных сражений при Прейсиш-
Эйлау и Фридланде.
Между обоими императорами произош¬
ло свидание на Немане, в Тильзите, Здесь
Александру впервые пришлось проявить во
всем блеске свой замечательный дипло¬
матический талант, так как Наполеон пред¬
ложил ему вести переговоры
непосредственно, без участия министров, и
Александр охотно согласился на это. Ему
при этом пришлось потратить особенно мно¬
го усилий на то, чтобы удержать Наполеона
от полного уничтожения Пруссии. Пруссия
была, однако же, доведена до небывалого
унижения: она потеряла половину своей
территории и из великой державы прев¬
ратилась на время в зависимую от Наполе¬
она страну, не имевшую права содержать
даже армию более чем в 42 тыс. человек;
крепости ее даже на возвращенной ей
территории на целый ряд лет были заняты
французами (до уплаты контрибуции).
При переговорах в Тильзите Наполеон
не хотел считаться ни с кем, кроме Алексан¬
дра, с которым он был намерен до поры до
времени делить господство над миром. Алек¬
сандр, понимая, что сейчас дальнейшая
борьба невозможна, решился пойти времен¬
но навстречу желаниям своего соперника,
предлагавшего по внешности довольно
почетные условия мира. Но непременным
условием мира, условием sina gua non, На¬
полеон ставил, в случае отказа Англии от
поставленных ей условий,— а на них она
заведомо не могла согласиться,— объяв¬
ление ей Александром войны с принятием
вместе с тем пресловутой континентальной
системы. Это изобретенная Наполеоном
система состояла в том, что все союзные с
ним или зависимые от него государства
Европы отказывались от торговых сношений
с Англией и обязывались не допускать в свои
порты английские торговые суда. Александр
обязывался, кроме того, заставить разорвать
с Англией и принять участие в направлен¬
ной против нее континентальной системе
Швецию и Данию; причем можно было за¬
ранее предвидеть, что Швеция, совершенно
беззащитная от нападения англичан, на это
согласиться не может, король же ее, Густав
IV, обнаруживал фанатическую ненависть к
Наполеону. Таким образом, уже тогда можно
было предусмотреть неизбежность напа¬
дения Англии и Швеции на Россию с моря
и суши вблизи Петербурга. Между тем в это
время северный берег Финского залива
принадлежал Швеции. Поэтому Наполеон
совершенно основательно, со стратегической
точки зрения, указывал Александру на не¬
обходимость его завоевания. Таким образом,
в Тильзите было подготовлено присо¬
единение Финляндии к России, для чего нам
пришлось в 1808 и 1809 гг. вести нелегкую
двухлетнюю войну со Швецией.
Что касается Турции, с которой мы в то
время находились в войне, вызванной тур¬
ками благодаря интригам французского пос¬
ла в Константинополе Сабастьяни, то
Наполеон предложил свое посредничество
для ее прекращения на условиях, выгодных
для России, и при этом в словесных перего¬
ворах с Александром изъявлял даже готов¬
ность, в случае упорства Порты в уступке
России княжеств Валахии и Молдавии, идти
об руку с Александром, если он пожелает,
вплоть до раздела Турции (ее европейских
владений); но в то же время поставил пред¬
варительным условием для начала
перемирия и переговоров о мире вывод
наших войск из обоих княжеств с тем,
впрочем, чтобы и турки не могли занимать
их своими войсками. На деле война с тур¬
ками не прекратилась, и хотя Наполеон и
позднее старался соблазнить Александра
блестящими перспективами изгнания турок
из Европы и совместного с ним похода в
Индию5, однако же России пришлось без
всякого содействия с его стороны вести до¬
вольно бесплодную на этот раз войну с
турками вплоть до 1812 г.
Весьма неблагоприятны были для
России интриги и мероприятия Наполеона
по польскому вопросу: Наполеон не сог¬
ласился в Тильзите на возвращение Пруссии
занятых французами польских областей и
образовал из них Варшавское герцогство под
главенством саксонского короля и под про¬
текторатом императора французов. Таким
80
образом на границе России был создан во¬
енный аванпост самого Наполеона6. В то же
время Наполеон поставил Александра в
трудное положение по отношению к поля¬
кам; Александру пришлось стать с самим
собой в видимое противоречие и препятство¬
вать восстановлению независимой Польши.
Это обстоятельство вызвало окончательное
разочарование поляков в их надеждах на
Александра и заставило их перенести их
всецело на Наполеона.
В Тильзите и после Тильзита Александр
наружно выражал восхищение гением Напо¬
леона и своей дружбой с ним. Его упрекали
современники в том, что он дал обмануть
себя хитрому корсиканцу, так как многое из
обещанного Наполеоном устно потом не вош¬
ло в писаные договоры. Однако Александр
на самом деле отнюдь не был увлечен Напо¬
леоном; он искусно играл свою роль и в
Тильзите, а потом и в Эрфурте, так что дал
даже основание Наполеону называть его
впоследствии северным Тальма (имя извест¬
ного тогда драматического актера) и
«византийским греком».
Трудно сказать, кто был более обманут
в этом дипломатическом турнире, так как и
Наполеону приближенные говорили потом
неоднократно, что он обманут Александром7.
Если смотреть на дело с точки зрения тог¬
дашних международных отношений и если
принять во внимание реальные условия мо¬
мента, то следует, во всяком случае,
признать, что политика Александра в
Тильзите и затем через год при новом
свидании с Наполеоном в Эрфурте была
очень искусна. В этих переговорах Алек¬
сандр выступает впервые в качестве тонкого
и проницательного дипломата, и кажется,
теперь можно считать, что это и была его
настоящая сфера, в которой он был, несом¬
ненно, крупным государственным челове¬
ком, способным состязаться со всеми
европейскими знаменитостями своего вре¬
мени.
На положении населения в России эти
войны с Наполеоном отразились самым
резким образом. О тяжести войн для насе¬
ления — о тяжести рекрутских наборов,
ополчения, поставок провианта и пр.— мы
уже говорили. Огромное отрицательное зна¬
чение имела и приостановка законодатель¬
ной деятельности правительства, вызванная
войной. Наконец, бедственное положение
финансов под влиянием военных расходов
чрезвычайно сократило все планы
правительства в области народного просве¬
щения, которое так сильно двинулось было
вперед как раз перед тем. Вследствие войн
1805—1807 гг., к которым еще прибавился
полный неурожай в России в 1806 г., поло¬
жение финансов начало портиться из года в
год. В 1806 г. доходов было 100 млн. руб.,
расходов же 122 млн. руб.; в 1807 г. доходов
— 121, а расходов — 171 млн .руб.; в 1808 г.
было 111,5 млн. руб. доходов и 140 млн. руб.
расходов только на армию, а общая сумма
расходов в 1808 г. достигла 240 млн. руб.
Громадные дефициты покрывались опять
новыми выпусками бумажных денег, общая
сумма которых достигла уже в 1806 г. 319
млн. руб., в 1807 г.— 382 млн. руб., в 1808
г.— 477 млн. руб. Между тем обороты внеш¬
ней торговли под влиянием войны, а потом
континентальной системы и последовавшего
под влиянием неурожая 1806 г. запрещения
вывоза хлеба из западных губерний, чрезвы¬
чайно сократились, причем в особенности
сократился вывоз русского сырья за
границу, отчего изменился в небла¬
гоприятную сторону торговый баланс, что
обусловило, в свою очередь, отлив звонкой
монеты, сильно влиявший на падение курса
бумажных денег.
Благодаря всем этим обстоятельствам
курс наших бумажных денег, твердо де¬
ржавшийся с 1802 по 1805 г. и даже
повысившийся в эти годы, теперь стал резко
падать: в 1806 г. бумажный рубль равнялся
78 коп., в 1807 г.— 66 коп. и в 1808 г. упал
до 48 коп. Между тем подати уплачивались
ассигнациями, а значительную часть за¬
граничных государственных расходов (на
содержание армии и на субсидии совершен¬
но разорившемуся прусскому королю)
приходилось производить звонкой монетой.
Положение, таким образом, становилось
очень тяжелым, а после Тильзитского мира
и присоединения России к континентальной
системе оно сделалось, как увидим, прямо
невыносимым. Тильзитский договор
произвел удручающее впечатление на все
слои русского общества и на народ. Многие
считали этот договор более позорным, чем
все проигранные сражения. После мира с
Наполеоном Александр утратил значитель¬
ную часть той популярности, которой поль¬
зовался. Народ, который незадолго перед
этим слышал с церковной кафедры прок¬
лятия по адресу Наполеона, не мог понять,
как русский царь мог так демонстративно
дружить с «врагом рода человеческого», за¬
мышлявшим упразднить христианскую ве-
ру8.
81
Когда же стала осуществляться контине¬
нтальная система, которая подорвала совер¬
шенно нашу вывозную торговлю, повела к
банкротству многих торговых домов,
разорила многие помещичьи хозяйства,
отпускавшие сырье за границу (особенно
лен и пеньку в разных видах) и вызвала
дороговизну многих припасов9,— то недо¬
вольство приняло всеобщий характер. У
Александра, которому в глазах всех
приходилось играть столь неприятную и
трудную роль в отношениях своих к Напо¬
леону, по свидетельству современников, за¬
метно стал портиться характер, и его прежде
столь ровное и любезное со всеми обращение
стало заменяться раздражительным, иногда
мрачным настроением духа, причем свойст¬
венное ему упрямство стало проявляться
иногда в весьма неприятных формах. Заме¬
чательно, что уже в 1805 г., отправляясь на
войну, Александр секретным повелением
восстановил, в сущности, тайную полицию,
учредив особый временный комитет из трех
лиц для наблюдения за общественным
мнением и за толками среди публики. Этот
комитет после Тильзитского мира был
официально обращен в постоянное учреж¬
дение, и ему была дана секретная
инструкция, восстановившая, между
прочим, пересмотр писем и те приемы
полицейского надзора, от которых Алек¬
сандр был так далек в первые годы своего
царствования10. Особенно неприятно в это
время действовали на Александра толки в
обществе о его дружбе с Наполеоном. Во
главе оппозиции внешней политики Алек¬
сандра в придворных сферах стояла сама
вдовствующая императрица Мария Феодо¬
ровна. Положение Александра было при
этом тем тяжелее, что он принужден был
разыгрывать свою роль, никому не раскры¬
вая своих настоящих намерений.
Ближайшие друзья Александра, бывшие
члены негласного комитета Кочубей, Чарто¬
рыйский, Новосильцев, вышли в отставку и
два последних уехали даже за границу, а
Строганов перешел в военную службу, чтобы
не мешаться в политику. Даже гофмаршал
Александра гр. Н. А. Толстой сумел вы¬
разить свою оппозицию дружбе Александра
с Наполеоном, отказавшись надеть рядом с
пожалованной ему Наполеоном лентсй По¬
четного легиона ленту высшего русского
ордена Андрея Первозванного, которую
Александр хотел было на него возложить.
Особенно ярко оппозиция в высших кругах
петербургского общества сказалась, когда в
Петербург приехал присланный Наполеоном
в качестве военного агента генерал Савари,
прикосновенный лично к казни герцога
Энгиенского. Петербургские салоны за¬
крыли перед ним свои двери, его никуда не
принимали (кроме Зимнего дворца) и не
отдавали ему визитов, пока, наконец, сам
Александр не вмешался в это дело и не
потребовал от своих приближенных более
вежливого отношения к уполномоченному
своего союзника. Савари, впоследствии
министр полиции Наполеона, решился и
здесь проявить свои политические и, можно
сказать, прямо провокаторские таланты. Он
усердно стал собирать и комбинировать
всякие сплетни и неосторожные фразы,
иногда срывавшиеся по адресу Александра
в кругу людей, недовольных его политикой,
и дошел до того, что сфабриковал легенду о
крупном заговоре и подготавливавшемся
перевороте, причем не стеснялся внушать
все это Александру, стараясь поссорить его
с обществом и раздуть то взаимное недо¬
верие, которое стало образовываться в этот
период между молодым государем и его под¬
данными11.
В более широких общественных кругах
недовольство проявлялось еще сильнее, вы¬
ражаясь в литературе и в театрах, где
любимыми пьесами публики сделались
патриотические трагедии вроде «Дмитрия
Донкого» Озерова или «Князя Пожарского»
Крюковского, которые вызывали в наиболее
патетических местах бурные овации и даже
рыдания зрителей. Таким же успехом поль¬
зовались комедии Крылова «Модная лавка»
и «Урок дочкам», направленные против
французского языка и подражания фран¬
цузским модам.
Еще сильнее оппозиция эта проявлялась
в Москве, где один из самых пылких тог¬
дашних патриотов С. Я. Глинка стал изда¬
вать с 1808 г. новый патриотический журнал
«Русский вестник», направленный прямо
против Наполеона. В этом журнале Глинка
писал в промежуток между Тильзитским и
Эрфуртским свиданиями,— где Александр
перед лицом всей Европы так ярко де¬
монстрировал свою дружбу с Наполеоном,—
что Тильзитский мир есть только временное
перемирие и что когда будет новая война, то
в обществе будут приняты все меры для
отражения властолюбивого Наполеона. Пос¬
ланник Наполеона Коленкур счел своим дол¬
гом обратить внимание Александра на эту
статью, и Глинка, горячий патриот и кон¬
серватор Глинка, один из первых в царство¬
вание Александра вызвал против себя
цензурные гонения12. Наряду с ним старый
павловский вельможа гр. Растопчин,
живший в Москве «не у дел» выпустил тогда
же брошюру под псевдонимом Богатырева
82
«Мысли вслух на Красном крыльце» в кото¬
рой старался распространить те же взгляды
в широких простонародных кругах.
В это же время адмирал А С. Шишков,
русский старовер, известный уже ранее
своими нападками на Карамзина (в «Рас¬
суждении о старом и новом слоге российско¬
го языка»), образовал теперь в Петербурге
патриотическое литературное общество «Бе¬
седа», собиравшееся в доме Державина, ку¬
да, однако, теперь наряду со староверами
входил и Карамзин и даже либеральный
Мордвинов.
Замечательно, что эта оппозиция,
объединившая довольно широкие обществен-
ные круги и проявлявшаяся в
патриотических формах, отнюдь не имела
шовинистического характера. Она направ¬
лялась всецело против Наполеона и
Тильзитского договора с его последствиями,
так тяжело отражавшимися на положении
русской торговли, русской промышленности
и на всем ходе русской общественной
жизни. Мы в то время вели четыре войны, и
ко всем им русское общество, по свидетель¬
ству современника (Вигеля, человека вполне
охранительных взглядов), относилось с
поразительным равнодушием, иногда даже с
прямым недоброжелательством к успеху
поставленных правительством целей! Две из
этих войн (со слабой тогда Персией и с
Австрией, с которой сам Александр воевал
a contre coeur, как союзник Наполеона)13,
давались сравнительно легко, хотя и они
требовали все же значительных затрат. Но
две другие обошлись нам очень недешево и
потребовали значительных затрат и день¬
гами, и людьми. Это были: война с Турцией,
продолжавшаяся с 1806 г.— с перерывами,
но без заключения мира — до весны 1812 г.,
и война со Швецией, начавшаяся после
Тильзитского мира как прямое последствие
договора с Наполеоном и окончившаяся
после целого ряда перипетий и геройских,
но тяжелых для наших войск подвигов в 1809
г. присоединением всей Финляндии до реки
Торнео.
Александр хотел привлечь сердца новых
подданных великодушием и еще до
подписания мирного договора собрал в Борго
сейм, предварительно подтвердив особой
грамотой старинные права и привилегии
финляндского населения. С присо¬
единением к России, таким образом, право¬
вое положение населения Финляндии не
изменилось к худшему, а экономическое
положение страны на первых же порах даже
улучшилось: была отменена подать, которую
Финляндия платила на покрытие шведских
долгов, и были уничтожены внутренние та¬
можни.
Но русское общество к Фридрихсгам-
скому миру отнеслось, тем не менее, доволь¬
но неодобрительно — раздавались даже
сожаления по адресу шведов14.
Выражались пожелания и о прекра¬
щении войны с Турцией. Мордвинов в 1810
г. подал Александру записку, в которой
подробно обосновывал ненужность
территориальных приобретений для России,
границы которой и без того растянуты, и
настаивал на необходимости скорейшего
окончания турецкой войны.
Таково было настроение русского обще¬
ства после Тильзитского мира.
ЛЕКЦИЯ VIII
Решение Александра вернуться к внутренним преобразованиям в 1809 г.— М. М. Сперанский.— Разра¬
ботка плана государственного преобразования.— Приступ к его осуществлению: учреждение Государст¬
венного совета и преобразование министерств.— Указы об экзаменах на чины и о придворных званиях.—
Отчаянное положение русских финансов в 1809—1810 гг.— Финансовый план Сперанского.— Записка
Карамзина о древней и новой России.— Падение Сперанского.— Положение дела народного просве¬
щения.— Открытие ученых обществ.
Всеобщее недовольство, охватившее все
классы русского общества после
Тильзитского мира, сильно смущало и за¬
ботило Александра. Он понимал, что
полицейскими мерами можно иногда обна¬
ружить заговор, в существование которого,
впрочем, едва ли он верил серьезно, хотя и
допускал интригана Савари распростра¬
няться на этот счет в интимных с ним
разговорах. Но понимал, что этими мерами
невозможно изменить настроение умов в
обществе.
Он попытался поэтому вернуть к себе
общее расположение иным, более разумным
и более благородным способом — возвратом
к тем внутренним преобразованиям, которые
были замыслены, но не были осуществлены
в первые годы царствования. На этот раз
главным сотрудником Александра в деле
разработки этих преобразований явился но¬
вый государственный деятель — Михаил
Михайлович Сперанский.
По уму и таланту Сперанский, несом¬
ненно, самый замечательный из государст¬
венных людей, работавших с Александром,
и, быть может, самый замечательный госу¬
дарственный ум и во всей новейшей русской
-истории. Сын сельского священника, пито¬
мец духовной семинарии, Сперанский сам,
без какой-либо протекции сумел не только
выбраться в люди, но и познакомиться без
посторонней помощи с лучшими
политическими, экономическими и
юридическими сочинениями на француз¬
ском языке, который он усвоил в совершен¬
стве. За четыре года из домашнего секретаря
князя Куракина он успел, исключительно в
силу своих дарований, выдвинуться в статс-
секретари императора, причем уже в самом
начале царствования Александра из-за же¬
лания иметь его в своем ведомстве
происходили даже ссоры между наиболее
сильными тогдашними министрами — меж¬
ду Трощинским и Кочубеем. И сам Алек¬
сандр знал и ценил Сперанского уже и в то
время.
Я уже говорил о той записке, которую
Сперанский по поручению Александра, дан¬
ному ему через Кочубея, подготовил еще в
1803 г. Собственно, те же начала, которые
он вложил в эту записку, развиты были в его
знаменитом плане государственного преоб¬
разования, хотя, как вы увидите, настроение
Сперанского, быть может, в зависимости от
заграничного путешествия <в 1808 г. в
Эрфурт) и в связи с настроением Алексан¬
дра, сильно изменилось в оптимистическую
сторону относительно готовности страны к
конституционному устройству.
Александр, прекратив еще в 1802 г.
непосредственные занятия вопросом о
конституционном устройстве, не переставал,
однако, занимать им других. Такое пору¬
чение получил, например, в 1804 г. барон
Розенкампф, служивший в то время в
комиссии законов и не знавший тогда по-
русски. Его проект, названный им «кадром
конституции», был затем передан Но¬
восильцеву и Чарторыйскому, но так как в
1805 г. начались военные действия, то этот
план долго лежал без движения и лишь в
1808 г в числе других материалов поступил
к Сперанскому, когда он, по возвращении из
Эрфурта, получил от Александра поручение
заняться общим планом государственных
преобразований. Корф рассказывает, и
Шильдер повторяет, анекдот о том, что будто
бы в Эрфурте, где Сперанский позна¬
комился с тогдашними знаменитостями На¬
полеоном, Талейраном и др., между ним и
Александром произошел следующий разго¬
вор: Александр спросил Сперанского о впе¬
чатлении, произведенном на него Европой,
и Сперанский будто бы ответил: «У нас люди
лучше, а здесь учреждения лучше». Алек¬
сандр сказал, что это и его мысль, и
прибавил: «По возвращении в Россию мы
еще поговорим об этом». В непосредствен¬
ную связь с этим разговором некоторые
исследователи ставят и новый приступ к
реформам в 1809 г.
Я думаю, что вряд ли этот разговор мог
иметь место. В Пруссии в то время никакой
конституции не было, а весь ее строй был в
разложении, и перед немцами стояла задача
создать его заново; во Франции в это время
был лишь призрак конституции, и все ее
«конституционные» учреждения носили
явно шарлатанский характер. Александр и
Сперанский отлично это знали, а поэтому
трудно предположить, чтобы фраза «У нас
люди лучше, а здесь учреждения» могла
принадлежать Сперанскому, тем более что у
него не было повода дать лестный отзыв и о
русских деятелях. Вернее предположить, что
Александр, которого смущала все усиливав¬
шаяся в обществе оппозиция, в видах успо¬
коения общества решил возобновить свои
прежние заботы об улучшении внутреннего
управления России, рассчитывая вернуть
таким образом прежнее сочувствие к себе
общества. Важно отметить перемену во
взглядах самого Сперанского, происшедшую
с 1803 г.: тогда он признавал коренную
реформу неосуществимой, а теперь осуще¬
ствление широких преобразовательных пла¬
нов казалось ему совершенно возможным.
На это изменение взглядов Сперанского
могли иметь влияние те беседы, которые он
вел в Эрфурте с Талейраном и др., и в
особенности изменение в настроении Алек¬
сандра. Впоследствии в своем оправдатель¬
ном письме из Перми Сперанский
подчеркивал, что основная идея плана пре¬
образований была ему предписана самим
Александром.
В своем «плане», в главе «О разуме
государственного уложения» Сперанский
подробно разбирает вопрос о благовремен-
ности введения правильного государственно¬
84
го устройства в России. Заметив при этом,
что в то время как на западе конституции
были устраиваемы «отрывками» и после же¬
стоких государственных переворотов,
российская конституция будет обязана
своим существованием благодетельной
мысли верховной власти, от которой,
зависит, следовательно, выбрать время ее
введения и дать ей самые правильные фор¬
мы, он обращается к оценке «благовремен-
ности» момента и пускается в довольно
пространные историко-политические изыс¬
кания, причем все существовавшие в мире
политические системы сводит к трем глав¬
ным: к республике, феодальной монархии и
деспотии. История западноевропейских го¬
сударств со времени крестовых походов
представляет, по мнению Сперанского,
историю борьбы, в результате которой
феодальная форма уступает все более и
более республиканской. Что касается
России, то Сперанский считает, что Россия
вышла уже из чисто феодальных форм, так
как раздробленная власть уже соединена в
руках одного лица, причем были уже
попытки ввести конституцию — при вступ¬
лении на престол Анны Иоанновны и при
Екатерине И. Признавая эти попытки «не-
благовременными», Сперанский, вопреки
высказанному в 1803 г. взгляду, полагает,
что коренная государственная реформа в
современный ему момент осуществима.
Наличность крепостного права его уже не
смущает, так как он находит, что
конституционное устройство может сущест¬
вовать и при отсутствии равноправия в стра¬
не. Поэтому и свои планы он строит на такой
же системе различия сословных прав,
причем даже отличительной чертой дворян¬
ского сословия признает право владения на¬
селенными имениями, так что крепостное
право в его плане для ближайшего будущего
является как бы одним из существенных
элементов преобразованного строя.
Политические права он дает только тем
гражданам, которые имеют имущество;
таким образом, в основу проектируемого го¬
сударственного устройства он кладет цензо¬
вую систему.
Важными мероприятиями, подго¬
товившими Россию к конституции, Спе¬
ранский считает разрешение лицам всех
свободных сословий покупать землю, учреж¬
дение сословия свободных хлебопашцев,
издание Лифляндского положения о кресть¬
янах и учреждение министерств с ответст¬
венностью <хотя сам он еще в 1803 г.
отлично понимал, как вы видели, всю цену
зтой ответственности). Важнее признание
Сперанским значения общественного на¬
строения. Симптомами того, что момент для
реформы созрел, он признает падение в
обществе уважения к чинам, орденам и во¬
обще ко внешним признакам власти, упадок
нравственного престижа власти, рост духа
критики действий правительства. Он указы¬
вает на невозможность при таких условиях
частных исправлений существующей систе¬
мы, в особенности в области финансового
управления, и приходит к выводу, что на¬
ступило время переменить старый порядок
вещей. Эти соображения Сперанского, не¬
сомненно одобренные самим Александром,
драгоценны для нас: они свидетельствуют,
насколько правительство сознавало, что
развились элементы, стремившиеся к
участию в государственном управлении.
Обращаясь к рассмотрению выхода из
создавшегося положения, Сперанский ука¬
зывает два выхода: один неискренний,
фиктивный выход, другой искренний,
радикальный. Первый выход состоит в том,
чтобы облечь права самодержавные во внеш¬
нюю форму законности, оставив, в сущ¬
ности, их в прежней силе; второй выход
заключается в таком устройстве, «чтобы не
внешними только формами покрыть само¬
державие, но ограничить его внутренней и
существенной силой установлений и уч¬
редить державную власть на законе не сло¬
вами, но самим делом». Сперанский
решительно указывает, что при самом
приступе к преобразованиям нужно избрать
определенно тот или другой выход. Для
реформы фиктивной могут служить учреж¬
дения, которые, представляя видимость сво¬
бодной законодательной власти, на самом
деле находились бы под влиянием и в совер¬
шенной зависимости от власти самодержав¬
ной. В то же время власть исполнительная
должна быть так учреждена, «чтобы она по
выражению закона состояла в ответствен¬
ности, но и по разуму его была бы совершен¬
но независима». А власти судной следует
дать (при таком устройстве) все преимуще¬
ства видимой свободы, но связать ее на
самом деле такими учреждениями, чтобы
она в существе своем всегда состояла в
зависимости от власти самодержавной. Как
на примере такого фиктивно¬
конституционного устройства Сперанский
указывает на строй наполеоновской
Франции.
85
Если, наоборот, предположено будет
принять вторую альтернативу, то картина
государственного устройства должна будет
получиться совершенно иная: во-первых, за¬
конодательные учреждения должны быть
тогда так устроены, чтобы они, хотя и не
могли бы проводить своих предположений
без утверждения державной власти, но чтобы
в то же время суждения их были свободны
и выражали бы собой действительное мнение
народа; во-вторых, ведомство судебное дол¬
жно быть так образовано, чтобы в бытии
своем оно зависело от свободного выбора и
один только надзор за исполнением формы
судебной принадлежал бы правительству;
в-третьих, власть исполнительная должна
быть поставлена в ответственность перед
властью законодательной.
«Сравнивая сии две системы между со¬
бой,— поясняет Сперанский,— нет сом¬
нения, что первая из них имеет только вид
закона, а другая — самое существо его; пер¬
вая — под предлогом единства державной
власти — вводит совершенное самовластие,
а другая — ищет в самом деле ограничить
его и умерить...»
Вопрос, таким образом, был поставлен
так прямо и ясно, что Александру преграж¬
ден был путь ко всяким мечтательным неоп¬
ределенностям и приходилось серьезно
выбирать одно из двух, причем первая систе¬
ма была заранее опорочена.
Александр выбрал второй выход. Спе¬
ранский развил соответственный план госу¬
дарственного устройства, и Александр,
после двухмесячного почти ежедневного
обсуждения этого плана со Сперанским,
осенью 1809 г. повелел начать приведение
его в действие.
План этот состоял в следующем: соглас¬
но существовавшему административному де¬
лению страны, основными
территориальными единицами призна¬
вались губернии, разделенные на уезды, в
свою очередь разделенные на волости. В
каждой волости проектировались волостные
думы, в состав которых входили бы выбор¬
ные от казенных крестьян (от 500 один) и
все личные земельные собственники. Состав
этих дум обновлялся бы раз в три года.
Главнейшие предметы ведомства волостной
думы должны были состоять: 1) в выборе
членов волостного правления, которое, сог¬
ласно плану, заведовало бы местным
земским хозяйством, 2) в контроле над во¬
лостными приходами и расходами, 3) в
выборе депутатов в окружную (уездную)
думу, 4) в представлениях окружной думе о
волостных нуждах. Окружная дума должна
была состоять из депутатов, избранных во¬
лостными думами; компетенция ее была со¬
ответствующей компетенции волостных дум,
но касалась дел уезда; она выбирала депу¬
татов в губернскую думу, окружной совет и
окружной суд.
Губернская дума предполагалась с ана¬
логичной компетенцией, а затем в Петербур¬
ге уже ежегодно должна была собираться
Государственная дума, образуемая из депу¬
татов всех губернских дум. Впрочем, засе¬
дания этой Государственной думы, согласно
проекту Сперанского, могли быть отсрочены
верховной властью на год; роспуск же ее мог
последовать не иначе как после выбора сос¬
тава депутатов следующей Думы. Председа¬
тельствовать в Государственной думе должен
был государственный канцлер, т. е. лицо
назначаемое; работа должна была
производиться по комиссиям. Право законо¬
дательной инициативы принадлежало бы
только верховной власти, за исключением
представлений о государственных нуждах,
об ответственности должностных лиц и о
распоряжениях, нарушающих коренные го¬
сударственные законы. Сенат должен был
превратиться в высшее судилище и состоять
из избираемых пожизненно губернскими ду¬
мами лиц, которые утверждались бы верхов¬
ной властью.
Сверх Государственной думы план пред¬
полагал учредить Государственный совет,
состоящий из высших государственных са¬
новников по избранию самого монарха; но
Государственный совет по плану Сперанско¬
го должен был быть не второй законодатель¬
ной палатой, как теперь, а совещательным
учреждением при монархе, которое расс¬
матривало бы все новые предположения
министров и предполагаемые финансовые
мероприятия до их внесения в Государствен¬
ную думу.
Таков был в общих чертах план Сперан¬
ского, одобренный Александром в принципе.
Несомненно, в плане этом было много несо¬
вершенств, из которых некоторые видны уже
из самого его изложения, другие же заклю¬
чались в недостаточно точном определении
закона и административного распоряжения,
в недостаточно ясном установлении порядка
ответственности министерств и т. д. Но мы
не будем здесь останавливаться на этих
несовершенствах, так как план этот не был
осуществлен. Признав его удовлетворитель¬
ность и полезность, Александр решил, одна¬
86
ко, вводить его по частям, тем более что не
было и готового постатейного законопроекта.
На первый раз решено было опубликовать
новое учреждение министерств и Государст¬
венного совета в качестве совещательного
учреждения при монархе.
Государственный совет при.этом не по¬
лучил, конечно,— впредь до реализации
всего плана,— того подготовительного ха¬
рактера, какой ему был придан в плане
Сперанского; он был разделен на четыре
департамента — департамент гражданских
и духовных дел, департамент законов, депар¬
тамент военный и департамент государст¬
венной экономии. При каждом департаменте
была учреждена должность статс-секретаря.
Сперанский был назначен государственным
секретарем, причем в его руках кроме дел,
входивших в общее собрание Совета, со¬
единились все нити государственных преоб¬
разований и всей тогдашней
законодательной деятельности.
Проект учреждения Государственного
совета до его опубликования был показан
некоторым влиятельным сановникам — За-
вадовскому, Лопухину, Кочубею и др., без
посвящения их, однако, в тайну всего заду¬
манного преобразования. Все эти сановники
отнеслись к нему вполне одобрительно, не
имея понятия о том значении, какое должен
был иметь Государственный совет по плану
Сперанского.
Между тем, несмотря на все старания
Сперанского занять уединенное положение
вне всяких партий, против него обрадовалось
уже тогда в чиновничьем, дворянском и
придворном кругах чрезвычайно враждебное
отношение. Оно особенно обострилось ввиду
двух указов — 3 апреля и б августа 1809 г.,
которые приписывались прямому влиянию
Сперанского. Первый указ предписал, чтобы
все лица, носившие придворные звания,
избрали себе какую-либо службу. После это¬
го закона все придворные звания, которые до
тех пор считались должностями, стали лишь
почетными отличиями и не сообщали уже
никаких служебных прав. Второй указ, в
видах улучшения служебного персонала,
требовал, чтобы чины коллежского ассесора
и статского советника давались лишь по
выдержании определенного Экзамена или по
предъявлении университетского диплома.
Оба згги указа вызвали негодование в
придворной и чиновничьей среде против
Сперанского; начались всякие подкопы и
интриги, пр- помощи которых в конце кон¬
цов врагам Сперанского и удалось свалить
этого замечательного государственного чело¬
века, после того как он навлек на себя
всеобщее неудовольствие в тогдашнем дво¬
рянском обществе не по его вине неудавше-
юся попыткой упорядочения
государственных финансов, доведенных
почти до полного крушения постоянным рос¬
том расходов и выпусками бумажных денег
в связи с результатами континентальной
системы.
Я уже говорил, что после Тильзитского
мира в 1808 г. доходы казны равнялись 111
млн. руб. ассигнациями, что составляло на
серебро около 50 млн. руб., расходы же
достигали 248 млн. руб. ассигнациями.
Дефицит был покрыт новым выпуском
ассигнаций, причем курс их в этом году был
ниже 50 коп. за рубль, а в летние месяцы
падал даже ниже 40 коп. В следующем, 1809
г. он уже в среднем за год не превышал 40
коп., а к концу года спустился до 35 коп.
Доходы в этом году равнялись 195 млн. руб.
ассигнациями (менее 80 млн. руб. на сереб¬
ро), а расходы — 278 млн. руб.
ассигнациями (около 114 млн. руб. сереб¬
ром). Дефицит опять был покрыт новым
выпуском ассигнаций, но они лежали уже
без обращения: рынок отказывался
принимать такое количество ассигнаций. К
концу 1810 г. курс их спустился ниже 20
коп. за рубль серебра. Банкротство страны
приближалось. В этом тяжелом положении
Александр еще в 1809 г. обратился к тому
же Сперанскому и по этому трудному и
грозному вопросу.
Я упомянул только что о значении су¬
жения рынка и сокращения торгового оборо¬
та для падения курса бумажных денег.
Сужение это обусловливалось, как я уже
говорил, континентальной системой, прек¬
ратившей вывоз льна и пеньки в Англию,
составлявший тогда около половины всего
нашего отпуска товаров за границу. Вместе
с тем существовавший тогда таможенный
тариф был весьма неблагоприятен для
развития нашей крупной промышленности,
так как вследствие незначительности тамо¬
женной пошлины на иностранные фабрика¬
ты, русские фабрики не могли
конкурировать с иностранными. К тому же
благодаря превышению ввоза над вывозом
баланс оказывался очень неблагоприятным
для России: платить нам приходилось за
ввозимые предметы звонкой монетой, между
тем получали мы из-за границы звонкой
монеты, благодаря относительной ничтож¬
ности нашего вывоза, очень мало.Таким
87
образом, ход этих торговых операций в
результате вызывал большую утечку звонкой
монеты за границу, вследствие чего в стране
оставались одни ассигнации, которые все
более и более обесценивались. Кроме того,
русский двор платил большие субсидии
прусскому двору. Наконец, в эти же годы мы
вели целых четыре войны: была у нас, как я
уже говорил, многолетняя война с Персией
( с 1804 по 1813 г.); война с Турцией, то
фактически замиравшая, то возобновлявша¬
яся, в общем продолжалась целых 6 лет (с
1806 до 1812 г.); затем была война со
Швецией, кончившаяся завоеванием
Финляндии (1808—1809 гг.); наконец, бу¬
дучи в союзе с Наполеоном, мы должны были
принять участие в 1809 г. в войне с
Австрией. Хотя мы сделали это против своей
воли и война была, собственно, бескровная:
войска наши уклонялись, по указанию свы¬
ше, от встречи с австрийцами,— но денег и
эта война потребовала довольно много.
Эти причины — невыгодность торгового
баланса и необходимость содержания на
звонкую монету армий за границей — и
обусловливали тяжелое положение казны,
так как население уплачивало налоги
ассигнациями, а заграничные расходы
оплачивались металлическими деньгами.
Номинально наш бюджет постоянно воз¬
растал в эти годы, но фактически он неук¬
лонно падал. Например, расходы на
содержание двора составляли в 1803 г. 8600
тыс. руб., или, в переводе на серебро 7800
тыс. руб.; в 1810 г. расходы на двор были
равны 14 500 тыс. руб. на ассигнации, но
это составляло только 4200 тыс. руб. на
серебро; таким образом, действительное
количество средств, которые получал в свое
распоряжение двор, уменьшилось за эти го¬
ды на 45%. Вот данные относительно бюд¬
жета Министерства народного просвещения
(выраженные в млн. руб.):
Годы
На ассигнации:
На серебро:
1804
2,8
2,3
1809
3,6
1,114
1810
2,5
0,727
Таким образом, бюджет Министерства
народного просвещения за шесть лет, в сущ¬
ности, уменьшился почти в четыре раза. При
таком положении вещей нельзя было, конеч¬
но, и думать от открытии новых школ — и
старые еле продолжали существовать, и то
только благодаря тому, что жалованье учите¬
лям выплачивалось ассигнациями, как и
всем чиновникам, но судите же, каково было
их положение, когда все предметы вздоро¬
жали в цене в четыре раза, а некоторые
(колониальные товары) еще гораздо сильнее.
Таким образом, государственное хозяй¬
ство быстрыми шагами приближалось к кра¬
ху, и в стране росли общая тревога и
недовольство. При таких условиях Спе¬
ранский, который уже в это время закончил
свой план общего государственного преобра¬
зования, получил повеление государя за¬
няться этим делом.
Сперанский давно уже и сам обратил
внимание на положение финансов и с
большим вниманием отнесся к плану фина¬
нсовых реформ, представленному ему про¬
фессором Балугианским, служившим под
его начальством в комиссии законов. Он
принялся очень усердно за изучение нового
для него дела при помощи молодых ученых
Балугианского и Якоба (харьковского про¬
фессора), незадолго перед тем приглашен¬
ных из-за границы. Вскоре ими была
составлена обстоятельная записка о поло¬
жении государственного хозяйства и необ¬
ходимых улучшениях, которую он подверг
сперва обсуждению частного совещания
всех тогдашних государственных людей,
сколько-нибудь осведомленных в финансах.
Это были граф Северин Осипович Потоцкий,
адмирал Мордвинов, Кочубей, государствен¬
ный контролер Кампфенгаузен и
ближайший сотрудник Сперанского — Ба-
лугианский.
К 1 января 1810 г.— к открытию Госу¬
дарственного совета — Сперанский уже
представил Александру полный план фина¬
нсового преобразования. Сущность плана за¬
ключалась в изыскании мер к приведению
государственных доходов в соответствие с
расходами. План начинался с указания на
то, что у государства не оказывается средств
на удовлетворение элементарных нужд,
потому что фактически доходы казны
уменьшились вследствие падения курса бу¬
мажных денег, от чего зависела также и
дороговизна товаров на рынке. Признавая,
что первая причина падения курса заключа¬
ется в непомерных выпусках ассигнаций,
Сперанский предложил прежде всего прек¬
ратить дальнейшие выпуски ассигнаций, а
выпущенные ранее признать государствен¬
ным долгом и принять меры к постепенному
погашению этого долга при помощи выкупа
ассигнаций для их уничтожения. Для полу¬
чения необходимых для этого средств Спе¬
ранский предложил принять следующие
88
меры: 1) для уменьшения дефицита сокра¬
щение текущих расходов, даже самых полез¬
ных, например, на нужды народного
образования, на проведение новых путей
сообщения и т. д.; 2) он предложил ввести
новый налог, который обращался бы
специально на погашение государственного
долга, и образовать для этой цели специаль¬
ную комиссию погашения государственных
долгов, с отдельными, независимыми от го¬
сударственного казначейства средствами; 3)
сделать внутренний заем под залог государ¬
ственных имуществ. Часть государственных
имуществ Сперанский предложил даже
пустить в продажу. Предполагалось, что этот
заем, как срочный и обеспеченный опреде¬
ленным имуществом, не мог сыграть роли
ассигнационного займа. Но так как всех
этих мер все же было бы недостаточно, тем
более что войны с Турцией и с Персией
продолжались, Сперанский предложил ус¬
тановить еще особый налог по 50 коп. с души
на помещичьи и удельные имения на один
только год. Вообще дефициты, по плану
Сперанского, должны были покрываться по
возможности процентными прибавками к
существующим налогам, чтобы население
могло тотчас же покрывать эти дефициты,
не вынуждая расплачиваться за них бу¬
дущие поколения. Для улучшения условий
кредита и для упорядочения хозяйства Спе¬
ранский предложил ввести упорядоченную
отчетность и гласность в ведение государст¬
венного хозяйства. Этой реформе, однако,
суждено было серьезно осуществиться толь¬
ко в 60-х годах. Понимая, что падение курса
бумажного рубля поддерживается в особен¬
ности невыгодным торговым балансом, Спе¬
ранский, энергично поддержанный в этом
вопросе Мордвиновым, который был предсе¬
дателем департамента государственной эко¬
номии, предложил пересмотреть
таможенный тариф и доказывал, что ус¬
ловия, принятые в Тильзите относительно
континентальной системы, надо толковать в
ограничительном смысле, поясняя, что ведь .
Наполеон эти условия предлагал для разо¬
рения Англии, а не России; между тем они
разоряют не Англию, а Россию. Ввиду этого
в 1810 г., по предложению Сперанского и
Мордвинова, было установлено, что все
русские гавани открываются для всех судов
под нейтральным флагом, чьи бы товары они
ни привозили. С другой стороны, новым
таможенным тарифом 1810 г. был запрещен
ввоз разных предметов роскоши, а на другие
предметы иностранной фабричной промыш¬
ленности были наложены высокие таможен¬
ные пошлины; этот тариф должен был
уменьшить ввоз фабрикатов, тогда как
открытие гаваней тотчас же повело к возоб¬
новлению вывоза русского сырья и некото¬
рых изделий (льняных и пеньковых тканей)
в Англию, которая не замедлила прислать за
этими товарами свои суда под тенерифским
флагом.. Оба эти обстоятельства повлияли
весьма благоприятно на установление выгод¬
ного для России торгового баланса. И если
бы план Сперанского был осуществлен пол¬
ностью, курс бумажного рубля несомненно
повысился бы. К сожалению, в 1810 г. еще
было выпущено на 43 млн. руб новых
ассигнаций. Хотя выпуск этот состоялся на
основании старого повеления, однако он в
корне подрывал все меры и в особенности
доверие публики, а курс бумажных денег
продолжал падать; в 1811 г. он за целый год
не поднимался выше 23 коп., по отдельным
же месяцам падал ниже 20 коп. Но таможен¬
ный тариф 1809 г. сыграл огромную роль в
экономической жизни страны: можно ска¬
зать, что он спас Россию от конечного разо¬
рения. Тем не менее меры, которые были
приняты Государственным советом, не толь¬
ко не заслужили Сперанскому благодар¬
ности современников, но даже усилили ту
ненависть, которую питали к нему широкие
слои дворянства и чиновничества.
Что касается публики, то из финансо¬
вых планов Сперанского она сделала весьма
неутешительные для себя выводы. Ей стало
ясно: 1) что финансы наши пришли в плохое
положение, 2) что казна вовлечена в
значительные внутренние долги (для многих
это было новостью, так как почти никто не
понимал раньше, что выпуск ассигнаций
есть своего рода внутренний заем) и 3) что
на покрытие расходов в 1810 г. недостает
обыкновенных средств, почему предстоят
новые налоги и займы. Этот последний вывод
был самый неприятный, так как положение
плательщиков налогов, в особенности
помещиков, было и без того весьма не¬
завидное. Это недовольство нелепым образом
обращалось не на тех, кто причинил расст¬
ройство финансов, а на того, кто честно
открыл обществу глаза на существующее
положение дел, ничего не утаивая. Новые
налоги особенно раздражали, потому что они
приходились в тяжелое время, когда страна
и без того была разорена; дворянство же
особенно негодовало за налог на дворянские
имения. Раздражение еще более усилилось,
когда оказалось, что, несмотря на новые
89
тяготы, ассигнации продолжали падать. На¬
лог, предназначенный на погашение долга,
употреблялся на текущие нужды государст¬
ва, чрезвычайно усилившиеся ввиду ожидав¬
шейся уже войны с Наполеоном, так что
общество имело как будто, бы основание
сказать, что Государственный совет или ав¬
тор плана Государственного совета его поп¬
росту обманул. Таким образом, план
Сперанского на самом деле не был осущест¬
влен.
За неисполнение плана Сперанского,
попавшего в руки плохого министра фина¬
нсов Гурьева, обвиняли, как я уже сказал,
самого же Сперанского; раздавались даже
голоса, утверждавшие, что он нарочно
придумал свой финансовый план, чтобы
раздражить оппозицию, что он находился в
преступных сношениях с Наполеоном. И
Александр не выдержал натиска врагов Спе¬
ранского. Он считал необходимым тогда
усиливать повышенное патриотическое на¬
строение, как бы это настроение ни выража¬
лось, так как отразить Наполеона он
надеялся лишь в том случае, если война
будет иметь народный характер; он не видел
возможности вступать в объяснения и решил
пожертвовать лучшим своим сотрудником
ярости привилегированной толпы. В марте
1812 г. Сперанский был отставлен и даже
выслан в Нижний Новгород, а затем, по
новому доносу,— в Пермь, хотя Александр
не мог сомневаться в том, что за Сперанским
никакой серьезной вины не было и быть не
могло. Вся его фактическая вина заключа¬
лась в том, что он через одного чиновника
получал копии всех важнейших секретных
бумаг из министерства иностранных дел,
которые он мог бы, конечно, по своему поло¬
жению, получать и испросив на то
официальное разрешение.
Ненависть общества к Сперанскому на¬
шла себе яркое и сильное выражение в
известной записке «О древней и новой
России» Карамзина, который, казалось бы,
не должен был смешиваться с толпой. Сущ¬
ность этой записки, представленной Алек¬
сандру через великую княгиню Екатерину
Павловну, заключалась в критике внутрен¬
ней политики Александра и в доказательст¬
вах необходимости сохранения на вечные
времена самодержавия в России. Краткий
обзор русской истории написан^ был ярко,
образно, местами живописно, но не всегда
беспристрастно. После яркой харак¬
теристики Екатерины и Павла, причем пер¬
вую Карамзин превознес до небес, а для
мрачной характеристики сумасбродных де¬
яний второго, как вы знаете, не пожалел
красок,— он переходит к современной ему
эпохе, призывает на помощь все свое граж¬
данское мужество и пишет настоящий
обвинительный акт против новшеств Алек¬
сандрова царствования. «Россия наполнена
недовольными,— пишет он,— жалуются в
палатах и хижинах; не имеют ни доверия,
ни усердия к правлению; строго осуждают
его цели и меры. Удивительный государст¬
венный феномен! Обыкновенно бывает, что
преемник монарха жестокого легко
снискивает всеобщее одобрение, смягчая
правила власти: успокоенные кротостью
Александра, безвинно не страшась ни тай¬
ной канцелярии, ни Сибири и свободно
наслаждаясь всеми позволенными в граж¬
данских обществах удовольствиями, каким
образом изъясним сие горестное располо¬
жение умов?
— Несчастными обстоятельствами Ев¬
ропы и важными, как я думаю, ошибками
правительства; ибо, к сожалению, можно с
добрым намерением ошибаться в средствах
добра...»
Главная ошибка неопытных законодате¬
лей Александрова царствования состояла, по
мнению Карамзина, в том, что они вместо
того, чтобы совершенствовать учреждения
Екатерины, предприняли органические
реформы. Тут Карамзин не щадит ни Госу¬
дарственного совета, ни нового учреждения
министерств, ни даже обширных
предприятий правительства по части расп¬
ространения народного просвещения, кото¬
рые он прежде сам же когда-то восхвалял в
«Вестнике Европы». Он утверждает, что
вместо всех реформ достаточно было бы
подыскать 50 хороших губернаторов и обес¬
печить стране хороших духовных пастырей.
Об ответственности министров Карамзин го¬
ворит: «Кто их избирает? — Государь.—
Пусть он награждает достойных своей
милостью, а в противном случае удаляет
недостойных без шума, тихо и скромно.
Худой министр есть ошибка государева: дол¬
жно исправлять подобные ошибки, но
скрытно, чтобы народ имел доверенность к
личным выборам царским...»
Совершенно так же рассуждает Ка¬
рамзин и о неуместных, по его мнению,
признаниях правительства относительно не¬
благополучия в финансовом управлении. По
поводу излишнего’ выпуска ассигнаций в
прежние годы он замечает: «Когда сделано
неизбежное зло, то надобно размыслить и
взять меры к тишине, не охать, не бить в
набат, отчего зло увеличивается. Пусть
министры будут искренни перед лицом
90
одного монарха, а не перед народом: сохрани
Боже, если они будут следовать иному
правилу: обманывать государя и сказывать
всякую истину йароду...» (!) Карамзин сог¬
лашается, что можно выкупать и погашать
ассигнации, но. объявление ассигнаций го¬
сударственным долгом считает верхом лег¬
комыслия. Замечательно своей наивностью
это рассуждение Карамзина; как будто он не
понимал, что при существовании такой тай¬
ны в делах управления министрам всего
легче обманывать именно государя. Не менее
замечательно его рассуждение о том, что
может являться гарантией против тирании
самодержавной власти при необузданном и
безумном монархе: по мнению Карамзина,
государя должен удерживать страх —
«страх возбудить всеобщую ненависть в слу¬
чае противной системы царствования» и
Карамзин не замечает, что отсюда один
только шаг до одобрения естественных пос¬
ледствий такой ненависти — государствен^
ного переворота.
Любопытную черту карамзинской
записки составляет его сословная, дворян¬
ская точка зрения. Это, разумеется, не точка
зрения дворян-конституционалистов, не та
точка зрения, на которой стояли в то время
тогдашние либералы от дворянина
Мордвинова до разночинца Сперанского; это
была точка зрения, усвоенная и проводивша¬
яся Екатериной; дворянство должно быть
первым сословием в государстве, должны
быть признаны ненарушимыми все его
привилегии по отношению к прочим сос¬
ловиям, в том числе и в отношении крепост¬
ного права на крестьян, но по отношению к
самодержавной монархической власти дво¬
рянство должно быть верным и покорным
слугой.
То недовольство, о котором свидетельст¬
вует Карамзин и наличность которого
признавал и Сперанский, действительно су¬
ществовало и развивалось почти во всех
слоях русского общества. Сперанский,
приписывая его зрелости общества, видел в
нем признак существования потребности в
преобразовании политического строя; Ка¬
рамзин, наоборот, объяснял это недовольство
неудачными новшествами, являвшимися
первыми шагами к изменению политическо¬
го строя. Эти оба столь различные объяс¬
нения были одинаково неправильны:
недовольство имело более реальные осно¬
вания — корни его заключались в неудачной
внешней политике правительства, вызвав¬
шей ненужные — по крайней мере по
мнению современников — войны (1805—
1807 гг), континентальную систему и обус¬
ловленное ими разорение страны; наконец,
в тильзитском унижении, больно коловшем
национальное самолюбие и вызывавшем са¬
мую острую патриотическую оппозицию
дружбе русского царя с Наполеоном. Впро¬
чем, Карамзин попутно указывает и эти все
обстоятельства, не придавая им, однако,
первенствующего значения, которое .они,
бесспорно, имели.
Замечательно, что враги Сперанского
старались — и надо сказать, довольно ус¬
пешно — распространять мнение, что Спе-
ранский хотел ввести в России
наполеоновские законы, что он был пок¬
лонником Наполеона и чуть ли не его клев¬
ретом. Успех этих инсинуаций объясняется
господствовавшим патриотически протес¬
тующим настроением, которое мы уже оха¬
рактеризовали.
Прежде чем перейти к следующему
периоду, я должен сказать несколько слов о
положении в тот момент дела народного
просвещения.
Довольно широко развивавшаяся в пред¬
шествовавший период, особенно в 1803—
1804 гг., просветительная деятельность
Министерства народного просвещения
теперь утихла за недостатком средств. Одна¬
ко же частные общества и литература про¬
должали расти и развиваться. Открылся
целый ряд новых литературных и филант¬
ропических обществ. Кроме общества
Шишкова («Русская беседа») следует упо¬
мянуть про «Общество любителей
российской словесности», основанное Д.
Языковым при Московском университете;
«Общество любителей математики», осно¬
ванное Михаилом Муравьевым, тогда 15-
летним студентом, потом превратившееся,
под руководством его отца Н. Н. Муравьева,
. в вольное учебное заведение для «колонново¬
жатых», которое послужило колыбелью рус¬
ского Генерального штаба и имело также
большое значение в истории тайных обществ
20-х годов, так как многие из членов их
воспитывались здесь1. При Московском же
университете было открыто проф. Чеботаре¬
вым «Общество истории и древностей
российских». Затем еще в 1804 г. тоже при
Московском университете было основано
«Общество испытателей природы», которое
до сих пор пользуется заслуженной извест¬
ностью; оно основано было гр. А. К. Разу¬
мовским и в 1810—1811 гг. проявило
энергичную деятельность.
Даже в провинции основывались такие
же общества: так, например, в Казани в 1806
г. было открыто «Общество любителей
российской словесности», в котором к 1811
г. насчитывалось 32 члена.
91
ЛЕКЦИЯ IX
Ближайшие причины войны 1812г.— Разрыв с Наполеоном.— Соотношение сил воюющих сторон и план
войны. Общий ход военных действий.— Настроение армии и народа в России.— Положение Наполе¬
она до Москвы и в Москве.— Изгнание неприятеля из пределов России.— Торжество Александра.—
Перенесение войны в Западную Европу.—Кампания 1813—1814 гг.—Низложение Наполеона.—
Венский конгресс.— Планы Александра в отношении Польши и Пруссии.— Интриги Талейрана и распри
между союзниками.— Решение польского вопроса.— Положение дел в герцогстве Варшавском и вопрос
о его внутреннем устройстве.— Мистическое настроение Александра и идея Священного союза
Вы видели, каково было положение
России в годы, следовавшие за Тильзитским
миром, и составившие третий период царст¬
вования Александра. Союз с Наполеоном
был для России невыносимым не только
потому, что он противоречил национальному
сознанию и народной гордости, но и потому,
что он совершенно разрушал экономические
силы и благосостояние русского народа и
государства. В то же время Наполеон, за¬
ставляя нас растрачивать бесплодно для нас
наши силы на войну с Англией, Швецией,
Турцией и, наконец, с Австрией, сам
выдвигал против России польский вопрос в
самом обостренном и опасном для нас виде.
Отношение поляков к Александру продолжа¬
ло портиться. В то же время поляки, бывшие
единственными ревностными и преданными
союзниками Наполеона в войне его с
Австрией в 1809,г„ при заключении мира с
австрийцами, после ваграмского поражения,
получили значительное территориальное
приращение к Варшавскому герцогству на
счет Галиции (с населением более 1 х/г млн.
душ), тоща как к России была присоединена
из состава той же Галиции лишь небольшая
Тарнопольская область (с населением в 400
тыс. душ).Конечно, Александру не было
нужды ни в каком увеличении территории
России; но русское правительство не могло
равнодушно относиться к росту весьма
враждебно настроенного к нам Варшавского
герцогства, тем более что из секретного до¬
клада Дюрока, добытого Куракиным, оно
вполне познакомилось с затаенными видами
и планами наполеоновской дипломатии. Дю-
рок определенно заявлял в этом докладе, что
господство Наполеона в Европе до тех пор
не будет основываться на прочном и спокой¬
ном фундаменте, пока хоть в одном европей¬
ском государстве будут царствовать
Бурбоны, пока Австрия не будет исключена
из состава Германской империи и пока
Россия не будет ослаблена и отброшена за
Днепр и Западную Двину. При этом Дюрок
столь же определенно осуждал допущение
прежним правительством Франции раздела
Польши и рекомендовал восстановить ее в
прежнем виде (т. е. в границах 1772 г.) как
необходимый оплот против России1. Понят¬
но, что этот доклад не мог не возбудить
тревоги в русском Министерстве иностран¬
ных дел; но так как на выкраденный доку¬
мент невозможно было официально
ссылаться, то русское правительство осно¬
вало свои опасения и жалобы по польскому
вопросу на больших территориальных
приращениях Варшавского герцогства, фор¬
мально нарушавших одну из статей
Тильзитского договора. Чтобы успокоить с
этой стороны Александра, Наполеон сог¬
ласился на заключение с Россией особой
конвенции, в которой формально была бы
устранена взаимным ручательством обоих
императоров всякая возможность восстанов¬
ления Польши в ввде самостоятельного го¬
сударства. Но когда Коленкур по
уполномочию Наполеона заключил такую
конвенцию с русским министром Румянце¬
вым, то Наполеон отказался ратифицировать
этот документ, утверждая, что Коленкур буд¬
то бы превысил свои полномочия. Отказ этот
последовал тотчас за отклонением попытки
Наполеона посвататься к одной из сестер
Александра, Анне Павловне, и некоторые
историки видят в обоих этих событиях внут¬
реннюю связь. Но, по-видимому, дело было
не в этом неудачном сватовстве, которое не
было даже начато формально, а в том, что
Наполеон отнюдь не хотел изменить своей
политики по польскому вопросу и просто
хотел протянуть время, ибо, ввиду неудач
своих в Испании, не был готов к войне с
Россией. Тогда же он выгнал родственника
Александра, герцога Ольденбургского, из его
собственных владений вследствие недоста¬
точно строгого соблюдения герцогом
континентальной системы. Так как владения
герцога Ольденбургского достались ольден¬
бургскому дому как младшей линии голыи-
тейн-готорпского- дома, за отказом от них
старшей линии, царствовавшей с Петра III
в России, то Александр, как представитель
этого дома счел себя лично задетым и после
92
безуспешных переговоров об удовлетворении
обиженного герцога другими равноценными
владениями разослал ко всем европейским
дворам циркулярный протест против
действий Наполеона. Наполеон считал этот
протест за casus belli, и если не объявил
войны немедленно, то только потому, что все
еще не был готов к ней. Наконец, нарушение
континентальной системы в России с
принятием финансового плана Сперанского
и в особенности таможенный тариф 1810 г.,
который прямо бил по карману французских
купцов и фабрикантов, явились самыми су¬
щественными обстоятельствами, с которыми
Наполеон не мог примириться.
Таким образом, к началу 1812 г. для
всех было ясно, что война России с
Францией неизбежна.
Ясно было и то, что Австрия, и в осо¬
бенности Пруссия, не говоря о прочих
зависимых от Наполеона государствах Евро¬
пейского континента, не могут в этой «пос¬
ледней борьбе» Наполеона с Александром
остаться нейтральными. Пруссия могла бы
стать на сторону России в том случае, если
бы Россия стала вести борьбу наступатель¬
ную и перебросила бы свои армии за Неман
прежде, чем Наполеон стянул бы туда доста¬
точные силы. Но Россия этого сделать не
могла, потому что поляки оказали бы с
первых же шагов энергичное сопротивление,
а прусские крепости еще оставались с 1806
г. в руках французов, и Наполеон мог, таким
образом, уничтожить окончательно
Пруссию, прежде чем Александр пришел бы
к ней на помощь. С другой стороны, до весны
1812 г. не была кончена турецкая война, и
вообще силы, которые мы могли двинуть
против Наполеона, значительно уступали
тем, какие он мог стянуть к Висле, не считая
даже австрийских и прусских войск. Поэто¬
му наступательная война для Россия была
немыслима.
Перед началом войны Наполеон испы¬
тал, впрочем, две важные дипломатические
неудачи. Ему не удалось привлечь к ко¬
алиции, составленной им против России, ни
Швеции, ни Турции.
Швецию ему не удалось привлечь на
свою сторону,— несмотря на обещание вер¬
нуть ей Финляндию и даже Остзейские
провинции,— прежде всего потому, что
Швеция не могла бороться с Англией, кото¬
рая, разумеется, тотчас возобновила свой
прежний союз с Россией, как только Россия
разорвала с Францией; к тому же агенты
Наполеона своим нахальным образом
действий в шведской Померании сильно во¬
оружили шведов против Франции, наконец,
и БернадОтт, выбранный шведским наслед¬
ным принцем, будучи исконным соперником
Наполеона, не желал вступать с ним в союз.
Наоборот, летом 1812 г. после личного
свидания с Александром он заключил с ним
дружеский договор, заручившись лишь обе¬
щанием русского императора содействовать
присоединению к Швеции Норвегии взамен
Финляндии. Благодаря этому договору Алек¬
сандр получил возможность не только не
опасаться с этой стороны нападения (кото¬
рое в конце концов могло бы грозить Петер¬
бургу), но и вывести все войска из
Финляндии, чтобы употребить их против
Наполеона.
Что касается Турции, то новому главно¬
командующему действовавшей там армии
Кутузову удалось в начале 1812 г. нанести
туркам решительное поражение, после кото¬
рого и ввиду продолжавшихся в Турции
внутренних смут турки не могли продолжать
борьбу. В мае 1812 г. Кутузов, заключил в
Бухаресте с турками мир, как нельзя более
своевременно — за две недели до вступления
армии Наполеона в пределы России. Хотя
теперь уже дело не могло идти о присо¬
единении к России Молдавии и Валахии,—
на что условно соглашался Наполеон в
Тильзите и Эрфурте,— тем не менее по
этому договору территория наша все-таки
увеличилась присоединением Бессарабии по
реке Прут. Правда, заключая этот договор,
Кутузов прене<брег частью инструкций Алек¬
сандра: Александр настаивал, чтобы непре¬
менным условием мира Кутузов поставил
Турции заключение с Россией наступатель¬
ного и оборонительного союза или по мень¬
шей мере обеспечения свободного пропуска
русских войск через турецкие владения к
иллирийским землям Наполеона. Но отказ
от этих требований составляет, конечно, за¬
слугу Кутузова, ибо мир с Турцией был
подписан 12 мая, а меньше чем через месяц,
войска Наполеона уже вступили в Россию.
Для опытного полководца, как Кутузов,
тогда было уже вполне ясно, что предстоя¬
щая война должна быть оборонительной, а
не наступательной: не о посылке войск в
Иллирию, о которой мечтали Александр и
честолюбивый адмирал Чичагов, посланный
к южной армии вместо Кутузова,
приходилось тогда думать, а о сосредото¬
чении всех оборонительных сил против
огромных сил неприятеля, которого уже и
тогда многие считали возможным одолеть,
93
лишь заманив его как можно глубже в
Россию. Так называемый «скифский» план
войны, состоявший в том, чтобы, не вступая
в серьезные сражения, но оказывая постоян¬
ное сопротивление, отступать, оставляя
неприятелю местности разоренные и опусто¬
шенные,— такой план перед началом войны
1812 г. возник одновременно во многих го¬
ловах, и впоследствии многие лица, в осо¬
бенности иностранцы, приписывали
каждый себе честь его изобретения. Но, в
сущности, изобретения тут никакого не бы¬
ло, так как этот способ войны был известен
в глубокой древности (со времен персидско¬
го царя Дария). Но для его осуществления
было необходимо, чтобы война прежде всего
сделалась народной, так как жечь свои дома
мог только сам народ, а не армия, которая,
действуя так вопреки воле населения,
приобрела бы в лице жителей только нового
врага или по крайней мере недоброжелателя.
Александр это хорошо понимал. Созна¬
вая всю опасность и ответственность борьбы
с Наполеоном, но в то же время и ее неизбеж¬
ность, Александр надеялся, что война на
русской территории сделается народной не
менее, чем в Испании. Всю важность народ¬
ной войны Александр понимал, впрочем,
еще и до испанских неудач Наполеона: он
еще в 1806 г. старался, как вы помните,— и
не без успеха — возбудить население
России против Наполеона, не стесняясь в
выборе средств. Однако «скифская» война
была легка только для скифов; в стране же,
стоявшей даже на той степени культуры, на
которой стояла тогдашняя Россия, этого рода
война сопряжена была со страшными жер¬
твами. Притом опустошение должно было
начаться с западной, наиболее культурной и
населенной окраины, сравнительно недавно
присоединенной к России. Наконец, необ¬
ходимость и неизбежность «скифской вой¬
ны», несмотря на ее популярность, далеко
не всем была ясна.
К началу 1812 г. Наполеон оказался в
силах, при помощи всех своих союзников и
вассалов, сосредоточить на русской границе
армию до 450 тыс. человек и мог еще двинуть
немедленно до 150 тыс. Мы же могли вы¬
ставить на западной границе не более 200
тыс. Уже по одному этому наступательная
война была совершенно невозможна, не го¬
воря о превосходстве гения Наполеона, та¬
лантов и опытности его генералов. И
все-таки Александр не терял надежды усто¬
ять в конце концов в этой борьбе. Он откро¬
венно сказал одному из посланцев
Наполеона перед самой войной — генералу
Нарбону, что он понимает все преимущества
Наполеона, но думает, что на его стороне
пространство и время; впоследствии эти сло¬
ва оправдались, и «пространство и время»
вместе с твердостью и устойчивостью его
настроения и настроения всей России
действительно дали ему полное торжество.
Первоначальный план борьбы состоял в
том, чтобы, медленно отступая перед Напо¬
леоном с главными силами и сдерживая его
сопротивлением на удобных позициях, в то
же время пытаться нападать на его фланги
и тыл. Поэтому силы наши были разделены
на две армии, из которых одна, под началь¬
ством военного министра Барклая де Толли
— одного из героев недавней финляндской
войны, должна была отступать, обороняясь
в укрепленных лагерях, и постепенно увле¬
кать Наполеона в глубь страны, а другая, под
начальством Багратиона — суворовского
сподвижника, должна была угрожать и
вредить флангам и тылу Наполеона. Поэтому
армия Барклая была сосредоточена севернее
(в Виленской губернии), а Багратион —
южнее (к югу от Гродно). Однако около
половины армии Багратиона — до 40 тыс.
солдат — пришлось тогда же направить
против австрийцев и других союзников На¬
полеона, вторгнувшихся через границу Во¬
лынской губернии из Галиции. Барклаю
тоже пришлось отделить значительный кор¬
пус под начальством Витгенштейна для обо¬
роны остзейских провинций и дороги в
Петербург. Поэтому, чтобы сдерживать на¬
ступление Наполеона, сил Барклая оказа¬
лось, как выяснилось, особенно после
обнаружения непригодности укрепленного
дрисского лагеря на Западной Двине, совер¬
шенно недостаточно.
После отделения от Барклая корпуса
Витгенштейна и от Багратиона нескольких
дивизий для усиления Тормасова, у Барклая
осталось всего 80 тыс.., а у Багратиона —
менее 40 тыс., и Наполеон мог, таким обра¬
зом, разорвав сообщение между обеими
русскими армиями, уничтожить их порознь
одну за другой. К этой цели и направились
его усилия после того, как он выступил из
Вильно в начале июля. Ввиду этой опасности
русским армиям необходимо было, в изме¬
нение первоначального плана, как можно
скорее соединиться. Наполеон, надеясь пре¬
дупредить соединение русских армий, хотел
обойти Барклая под Витебском. Напротив,
Барклай, предугадав это движение Наполе¬
она, стремился при Витебске соединиться с
94
Багратионом. Благодаря быстроте движения
Барклая от Дриссы к Витебску и мужествен¬
ному сопротивлению небольшого корпуса гр.
Остермана-Толстого, выставленного для за¬
держки движения главных сил Наполеона,
замысел Наполеона не удался; но и Барклаю
не удалось в Витебске соединиться с Баг¬
ратионом, которому, вследствие стремитель¬
ного натиска на него Даву, пришлось
отступить к Смоленску, где и произошло,
наконец, соединение обеих армий. Здесь
произошло значительное кровопролитное
сражение, причем армия русская выступила
из Смоленска лишь после того, как он был
превращен канонадой неприятеля в груду
пылающих развалин. Непосредственно
после Смоленска Наполеон пытался
отбросить русскую армию с Московской до¬
роги на север, отрезав ее от плодородных
южных губерний, однако попытка эта также
ему не удалась, и он должен был ее оставить
после кровавого боя при Валутиной горе на
Московской дороге.
Несмотря на быстрое, стремительное на¬
ступление наполеоновских войск и почти
безостановочное отступление русских, соп¬
ровождавшееся пожарами и опустошением
оставляемой неприятелю страны, положение
Наполеона становилось с каждым шагом все
затруднительнее и опаснее. После сражения
при Валутиной горе Наполеон подумывал
даже, не лучше ли ему остановиться и
перезимовать у Смоленска; но положение его
в этой рпустошенной стране было бы не из
выгодных, и он решился идти далее к сердцу
России — к Москве, достигнув которой он
надеялся продиктовать пораженному
противнику свои условия мира. Между тем
армия его таяла. Уже под Вильно у него было
до 50 тыс. больных. Главная армия Наполе¬
она, состоявшая — за выделением корпусов
Магдональда и Удино, подкрепленных еще
впоследствии дивизией Сан-Сира и пред¬
назначенных для наступления к Петербургу
и Остзейским губерниям против корпуса
Витгенштейна, из 300 тыс. человек,— к мо¬
менту вступления в Витебск потеряла в
различных частных сражениях и стычках с
неприятелем и от непрекращавшихся болез¬
ней до 100 тыс. человек, т. е. уменьшилась
на одну треть; а после Смоленска и Ва¬
лутиной горы в ней оставалось в строю не
более половины первоначального состава.
Русская армия отступала в порядке,
сражаясь озлобленно, не на жизнь, а на
смерть. Сопротивление, которое было оказа¬
но в целом ряде частных сражений фран¬
цузским войскам гр. Остерманом-Толстым,
Коновницыным, гр. Паленом, дорого обош¬
лось и нам, и Наполеону. Только при на¬
строении, которое господствовало тогда в
нашей армии, мог Остерман под напором
огромных сил Наполеона в ответе на вопрос
окружавших его офицеров, что теперь, де¬
лать, сказать: «Стоять и умирать!» Известны
геройское сопротивление, оказанное при
отступлении Багратиона дивизией Неверов¬
ского, состоявшей из рекрут, всей кавалерии
Мюрата, или непродолжительная, но слав¬
ная оборона Смоленска Раевским против
главных сил наполеоновской армии. При
этом необходимо иметь в виду, что в то время
как потери Наполеона были невосста¬
новимы, потери русских войск, отступавших
в глубь страны, могли в значительной мере
пополняться резервами.
Если Александр понимал ясно всю
ответственность предпринятой войны, то и
Наполеон предвидел все предстоявшие ему
затруднения, в особенности в фураже и
провианте, и потому еще в начале 1812 г. он
собрал в Данциге такое огромное количество
припасов, какого должно было бы хватить
всей его армии на целый год.
Но именно благодаря этим запасам у
Наполеона образовался огромный обоз в 10
тыс. фур, который, разумеется, сам по себе
представлял страшную обузу для армии при
ее передвижении; кроме того, обоз этот пос¬
тоянно приходилось оберегать от русских
казачьих разъездов. Заготовив провиант для
солдат, Наполеон, тем не менее, не мог даже
начать кампании до середины мая и стоял
перед русской границей неподвижно, не
решаясь начать поход, так как у него не было
фуража для лошадей, которых всего
насчитывалось при его армии более 120 тыс.
голов; пришлось ждать второй половины
мая, когда появился подножный корм. Это
неизбежное промедление дорого обошлось
ему впоследствии.
Таким образом, Наполеону уже с самого
начала пришлось столкнуться с весьма су¬
щественными затруднениями и бедствиями.
Но все эти затруднения и беды для Наполе¬
она не были неожиданностью, и он, сознавая
все трудности похода, по-прежнему
рассчитывал своей цели достигнуть. И надо
сказать, той цели, которую он себе поставил,
он достиг: он взял Москву. Но именно тут его
ожидало разочарование. Он плохо учел силу
народного сопротивления; впервые он понял
это только в Москве, когда было уже
95
слишком поздно, чтобы принять соответст¬
вующие меры.
Теперь, смотря на поход 1812 г. и на
исход этой кампании глазами историка, лег¬
ко видеть, что шансы Наполеона стали
падать с самого начала и падали безостано¬
вочно, но современники поняли это не сразу;
они видели только, что русская армия отсту¬
пает и что Наполеон устремляется все даль¬
ше в глубь страны. Такой ход дел порождал
уныние и отчаяние в населении и ропот в
войсках, которые жаждали генерального
сражения. Ропот этот усиливался оттого, что
во главе войск был немец. Генералы в то же
время интриговали против Барклая де
Толли: говорили даже о его измене. Поло¬
жение осложнялось еще и тем, что Баг¬
ратион имел перед Барклаем старшинство в
чине; после соединения армий между
обоими полководцами началась глухая
вражда, и хотя Багратион формально и
подчинялся Барклаю, тем не менее своей
армией командовал самостоятельно. Нако¬
нец, Александр, подчиняясь народному
мнению, решил назначить общего главноко¬
мандующего для всех армий. Общий голос
указал на Кутузова. Хотя лично Александру
Кутузов был очень неприятен после
Аустерлица и после ослушания при заклю¬
чении Бухарестского мира, тем не менее он
счел необходимым подчиниться общему
мнению. Сознавая необходимость народной
борьбы с Наполеоном, Александр в это время
— как я уже отметил — чутко прислу¬
шивался к голосу общества и народа. Имен¬
но поэтому он выдал с головой Сперанского,
назначил государственным секретарем
адмирала Шишкова, истинно русского
патриота квасного пошиба, но совсем не
государственного человека; по той же
причине назначил генерал-губернатором
Москвы взбалмошного Растопчина, извест¬
ного своими патриотическими брошюрами и
афишами. Из тех же именно соображений
он назначил в главнокомандующие всех
армий князя Кутузова.
Сперва Александр сам хотел быть при
армии и выехал к ней в Вильно, но Шишков,
бывший при нем, заметил вовремя — и это
его заслуга,— что пребывание императора в
армии представляет большое неудобство,
стесняя действия главнокомандующего. Он
уговорил генерал-адъютанта Балашова и гр.
Аракчеева подписать вместе с ним особое
письмо Александру, в котором они убеждали
государя покинуть армию и уехать в Москву
для поддержания и подъема национальных
чувств.
Александр скрепя сердце последовал со¬
вету Шишкова и, надо сказать, хорошо сде¬
лал. В Москве его ожидал взрыв энтузиазма
в обществе и народных массах, который
превзошел все его ожидания. Дворянство
одной Московской губернии пожертвовало
немедленно 3 млн. руб., огромную для того
времени сумму, и вызвалось поставить с
каждых 100 душ по 10 рекр,*, что состав¬
ляло почти половину рабочего и способного
носить оружие населения. Купечество Мос¬
квы пожертвовало 10 млн. руб. Такие же
небывалые пожертвования да по дворянство
смоленское, эстляндское, псковское, твер¬
ское и др. К осени общая сумма пожертво¬
ваний превысила 100 мл::, руб. Никогда ни
раньше, ни после не жертвовалось таких
колоссальных сумм. Война действительно
принимала народный характер.
Кутузов вступил в командование армией
при селе Цареве-Займище, именно в том
самом месте, где Барклай думал дать нако¬
нец генеральное сражение Наполеону, усту¬
пая убеждениям своего штаба и общему
желанию войска. Однако же после осмотра
позиций Бенигсеном, прибывшим с Кутузо¬
вым, решено было отступить еще, и гене¬
ральное сражение было дано в 130 верстах
от Москвы под Бородино (в 10 верстах от
Можайска).
Общий ход этого сражения известен; я
не буду его описывать. Это — самое крово¬
пролитное сражение из ьсех наполеоновских
битв: обе стороны потеряли половину своих
армий, одних офицеров выбыло более двух
тысяч убитыми и ранеными. Из генералов у
нас выбыли Багратион, Тучков и др. (всего
более 20). У Наполеона было убито и ранено
49 одних генералов.
Военные историки говорят, что если бы
Наполеон двинул свою гвардию, то он мог
бы выиграть сражение; но он не хотел риско¬
вать своей гвардией за 3 тыс. верст от
Франции, как он об этом сам заявил во время
сражения в ответ на советы своих
приближенных.
Кутузов, несмотря на то что он отстоял
все позиции, пришел, однако же, осмотрев
свою армию после двухдневного боя, к убеж¬
дению в необходимости отступления и
отступил к Москве, затем за Москву, не
найдя под Москвой удобной позиции для
новой битвы,— сперва на Рязанскую, а
потом на Калужскую дорогу. Москва была
оставлена без боя2. Армия Наполеона,
96
«разбившись об русскую», по выражению
Ермолова, вступила в Москву и распо¬
ложилась в ней на продолжительный отдых.
Эта стоянка привела к окончательному раз-
ложению и деморализации наполеоновских
войск. В оставленной жителями Москве на¬
чались пожары, а тушить было нечем —
трубы были предусмотрительно вывезены
Растопчиным. Есть было нечего — остатки
припасов были скоро разграблены. Ошелом¬
ленный видом пустой Москвы и пожарами
вместо ожидавшейся удобной и хорошо
снабженной стоянки, Наполеон пять недель
простоял в бездействии в «покоренном» го¬
роде, среди груды обгорелых развалин. Все
попытки его завязать переговоры о мире
были отвергнуты. Через пять недель Наполе¬
он выступил из Москвы, имея одно желание
— вернуться с войском домой. Но Кутузов
загородил дорогу на юг, и Наполеон принуж¬
ден был возвращаться по старой, опустошен¬
ной Смоленской дороге. Началась жестокая
партизанская война, ударили морозы, на¬
чавшиеся в этом году ранее обыкновенного,
и великая армия быстро превратилась в
огромную голодную и обмерзшую толпу, ко¬
торую били и захватывали не только кресть¬
яне, но даже и бабы. Если самому Наполеону
удалось ускакать в кибитке, обвязанному
шалями и закутанному шубами, но без
войск, то и то только благодаря оплошности
адмирала Чичагова, который его упустил. В
Варшаве Наполеон сам сказал встретившим
его лицам: «От великого до смешного один
только шаг...»
Александр мог высоко поднять голову —
он не только исполнил обещание «не заклю¬
чать мира до тех пор, пока хоть один воору¬
женный неприятель будет в России», но ему
даже не с кем было вести переговоры.
Однако Наполеон, потеряв армию, не
потерял присутствия духа и самоуверен¬
ности, и ускакал во Францию набирать
новую армию: он предвидел, что после раз¬
грома его армии все покоренные им народы
попытаются сбросить с себя его иго.
Перед Александром же встал вопрос:
следует ли ему ограничиться изгнанием
неприятеля из пределов России или, пользу¬
ясь отчаянным положением Наполеона,
предпринять освобождение от его власти
Европы.
Александр решился на последнее. На
целых три года он превратился в «Агамем¬
нона» Европы, в царя царей — как тогда
говорили. И нельзя отрицать, что эта задача
была важна и для России, так как трудно
сомневаться, что если бы дать Наполеону
немного оправиться, то он не преминул бы
попытаться впоследствии взять реванш.
Деятельность Александра с 1813—1815
гг. в Европе была, несомненно, наиболее
блестящей полосой его жизни, но она сос¬
тавляет содержание всемирной истории, а
не истории России. По отношению к тому
ходу социально-политического процесса, ко¬
торый мы изучаем, эта деятельность имеет
косвенное и притом лишь отрицательное
значение.
Я не буду особенно подробно излагать
ход событий 1813—1814 гг. и обращу
внимание лишь на те обстоятельства, кото¬
рые касаются хода изучаемого нами процес¬
са3. По той же причине мы не будем
следовать за ходом личной жизни самого
Александра, хотя я повторяю, что эта полоса
его жизни для лиц, интересующихся его
биографией, имеет особо важное значение.
Борьба с Наполеоном и после 1812 г.
оказалась далеко не легкой. Еще труднее
была борьба, которую пришлось вести Алек¬
сандру с недоверием и колебаниями его
союзников: Австрии и Пруссии. В конце
концов после поражения Наполеона в «битве
народов» под Лейпцигом Германия была
освобождена от французов, и союзники,
побуждаемые и ведомые Александром (хотя
формально главнокомандующим союзных
войск был не Александр, а австрийский
генерал — вялый, нерешительный князь
Шварценберг), перешли в начале 1814 г.
французскую границу и в апреле того же
года вступили в Париж, после чего Наполеон
подписал отречение и был водворен на
остров Эльбу, который был отдан ему во
владение. Во Франции были восстановлены
Бурбоны, причем Людовиком XVIII, в
значительной мере под влиянием Александ¬
ра, была дана конституционная хартия.
На Венском конгрессе карта Европы
должна была вновь быть перекроена, причем
и народам, принимавшим участие в борьбе
с Наполеоном, предполагалось дать некото¬
рую самостоятельность и участие в делах
управления. Конгресс восстановил прежние
границы Франции (до 1792 г.), сделал
обширную прирезку к Австрии, произвел
перекройку Германии без особенных затруд¬
нений. Одним из самых трудных вопросов
явился польский. Тут возникли двоякого
рода затруднения: с одной стороны, Англия,
Австрия и Франция опасались слишком
большого усиления России и не хотели
отдать ей Польши, с другой стороны, затруд¬
4 Зак. 2/ 1
97
нения возникли в связи с необходимостью
удовлетворить Пруссию за утраченные ею,
по Тильзитскому договору, владения.
Прусский король Фридрих Вильгельм был
теперь верным союзником Александра, ко¬
торый поэтому не хотел его обидеть. Между
тем Варшавское герцогство было образовано
в Тильзите из прусских владений, Алек¬
сандр предполагал воспользоваться Сак¬
сонией, чтобы удовлетворить Пруссию, не
уничтожая нового Польского государства.
Саксонский король был самым преданным
союзником Наполеона и потому трактовался
почти как изменник немецкой нации. Алек¬
сандр считал возможным лишить его вла¬
дений: жители Саксонии ничего против
этого не имели, возмущавшиеся, как немцы,
поведением своего короля; Фридриху
Вильгельму улыбалась мысль взамен враж¬
дебно настроенных поляков получить столь¬
ко новых подданных немцев; но за
саксонского короля неожиданно и самым
решительным образом вступился Талейран,
представлявший на конгрессе интересы Лю¬
довика XVIII. Конечно, Талейрану до сак¬
сонских интересов не было никакого дела,
но он старался отстоять интересы всех вто¬
ростепенных германских государств, так
как ему было важно сохранить слабость и
раздробленность Германии; он надеялся
притом посеять из-за этого вопроса вражду
между союзниками и в особенности воз¬
будить их недоверие к Александру. И ему
действительно удалось привлечь на свою
сторону Австрию и Англию, возбудить в них
подозрительное отношение к Александру. В
результате на Венском конгрессе три
великие державы отказались присоединить
Саксонию к Пруссии, а Варшавское герцог¬
ство отдать Александру. В действительности
Александр желал получить Варшавское гер¬
цогство вовсе не для того* чтобы увеличить
территорию России, а имея в виду лишь
выполнение своего старинного обещанда
относительно поляков. Он думал этого
достигнуть, превратив Варшавское герцогст¬
во в королевство Польское, которое должно
было представлять отдельное государство с
особой либеральной конституцией и на¬
ходиться только под скипетром русского го¬
сударя.
Положение вещей в Польше в этот мо¬
мент было тяжкое. Как только русские вой¬
ска в 1813 г. перешли границу и вступили в
Варшавское герцогство, там было установ¬
ление временное правительство в вцде осо¬
бой пятичленной комиссии с русским
сановником В. С. Ланским во главе; в каче¬
стве членов в комиссию входили: Н. Н. Но¬
восильцев, кн. А. А. Чарторыйский и два
прежних министра Варшавского герцогства.
Поляки тесно связали свою судьбу с Напо¬
леоном; они дрались весьма храбро и
энергично в рядах наполеоновских войск и
в Испании, и в России. Польские земли,
постоянно делавшиеся в это время театром
войны, были приведены в совершенное опу¬
стошение; это обстоятельство довершило
финансовое и экономическое разорение
страны, и без того не могшей выносить
тяжести содержания своей 65-тысячной
армии.
По вступлении великой армии Наполео¬
на в 1812 г. в пределы России в ряды этой
армии вступили также многие поляки —
русские подданные, особенно из литовских
губерний, нарушив тем самым свою присягу
на подданство Александру. Александр, одна¬
ко, даровал всем им по окончании войны
1812 г. амнистию и обнародовал, кроме того,
весьма дружелюбное воззвание к жителям
Варшавского герцогства. Это дало повод
Чарторыйскому обратиться к Александру с
новым предложением восстановления
Польши в границах 1772 г. под скипетром
младшего брата Александра — вел. кн.
Михаила Павловича. Но на это Александр
ответил категорическим отказом, заявив, что
согласиться восстановить Польшу в
границах 1772 г. притом не под скипетром
русского императора, значило бы идти враз¬
рез с национальным чувством его русских
подданных, которые не могут сочувствовать
отдаче старых русских областей, из-за кото¬
рых целые века Россия воевала с Польшей.
Александр в данном случае верно понят
настроение России. Впоследствии ему
пришлось убедиться, что настроение это да¬
же сильнее, чем он сам первоначально
рассчитывал. В русском народе и в войсках
наблюдалось явно враждебное отношение к
полякам; даже некоторые члены комиссии,
управлявшей Польшей, не были от него сво¬
бодны. Так, Новосильцев, например, обра¬
щал внимание Александра на враждебное
отношение ко всему русскому, господство¬
вавшее среди поляков. Ланской кате¬
горически возражал против
самостоятельности Польши, в особенности
же против сохранения отдельной польской
армии, которая, по его словам, сделается
«змеей, готовой всегда изливать на нас свой
яд». Дипломаты и государственные люди,
окружавшие Александра в это время, как
98
состоявшие на русской службе, так и не
состоявшие,— все были против восстанов¬
ления Польши, не говоря уж о Меттернихе,
который смотрел на все либеральные планы
Александра, как на опасные мечтания. Резко
выражал свое мнение против восстанов¬
ления самостоятельности Польши гр. Поццо
ди Борго, тогдашний русский посол в
Париже, представивший Александру обсто¬
ятельную записку, в которой он доказывал
целым рядом исторических сопоставлений, ,
что Польша не должна быть восстановлена,
что она неспособна к отдельному политиче¬
скому существованию и что восстановление
ее будет вредно для России. Точно так же
барон Штейн, известный русский реформа¬
тор, один из честнейших государственных
людей той эпохи, считал, что максимум того,
что можно дать Польше,— это хорошо
организованное местное самоуправление.
Даже гр. Каподистриа, впоследствии
первый президент освобожденной Греции,
говорил, что Польше нельзя дать
конституцию, так как у нее нет развитого
среднего сословия, а есть только щляхта и
порабощенное крестьянство.
Несмотря на все это, Александр оставал¬
ся при своем взгляде. Отказавшись в 1814 г.
на время от немедленного восстановления
Польши в границах 1772 г., он, однако,
твердо решил не возвращать Пруссии корен¬
ных польских областей, составлявших гер¬
цогство Варшавское, а устроить из них
самостоятельное Польское королевство, под
своим скипетром. Тем не менее, ввиду рез¬
кого сопротивления Австрии, Франции и
Англии его планам и по вопросу образования
Польского государства под его скипетром, и
по вопросу о вознаграждении Пруссии вла¬
дениями саксонского короля Александр дол¬
жен был пойти на уступки4: саксонского
короля пришлось оставить на престоле, и
только часть саксонской территории была
отдана Пруссии; прусский король, кроме
того, получил еще богатые рейнские
провинции и Познанское герцогство с горо¬
дом Торном, входившее до 1815 г. в состав
Варшавского герцогства. Затем Александр
должен был оставить во владении Австрии
всю Галицию — вернуть ей и Тарнополь¬
скую область, а из Кракова с его округом
сделать особый вольный город, т. е. малень¬
кую независимую республику под совмест¬
ным покровительством России, Австрии и
Пруссии. Таким образом, Александру уда¬
лось образовать новое Польское королевство
лишь в границах, соответствующих десяти
4*
позднейшим губерниям «привислинского
края»5 Соглашение держав по всем спорным
вопросам было ускорено на Венском конг¬
рессе известием о бегстве Наполеона с
острова Эльбы и о его вторжении во
Францию. После окончательного пора¬
жения, нанесенного Наполеону при Ватер¬
лоо англичанами и немцами, последовало его
вторичное отречение и заключение на остров
Св. Елены.
Александр уехал из Вены в 1815 г., не
дожидаясь окончания всех работ Конгресса.
К этому времени относится, между прочим,
знакомство его с одной пожилой дамой,
проникнутой мистическими идеями,— ба¬
ронессой Юлианой Крюденер. Многие
историки и биографы Александра прида¬
вали большое значение этой встрече в отно¬
шении усиления того
религиозно-мистического настроения, какое
стало проявляться у него в это время замет¬
ным образом. И сам Александр придавал
этому знакомству большое значение. Но надо
сказать, что склонность к мистицизму
развилась в нем еще до встречи с баронессой
Крюденер, и можно думать, что именно
благодаря этому обстоятельству m-me Крю¬
денер и получила к нему доступ. Решитель¬
ный толчок развитию мистицизма
Александра дали, по-видимому, грозные со¬
бытия 1812 г., но еще и до 1812 г. Александр
охотно беседовал с разными монахами и
«святыми людьми». Из записок Шишкова
мы узнаем, что в 1813 г. между докладами о
важных государственных делах Шишков —
государственный секретарь — читал Алек¬
сандру подбор выписок из древних евро¬
пейских пророков, текст которых, как им
обоим казалось, очень подходил к современ¬
ным событиям,— при этом оба они
обливались слезами от умиления и избытка
чувств. С 1812 г. Евангелие было постоянно
при Александре, и он часто как бы гадал по
нему, открывая наудачу страницы и оста¬
навливаясь на совпадении отдельных тек¬
стов Евангелия с внешними фактами
окружающей жизни6. Впрочем, подобному
мистическому настроению тогда в Европе
предавались очень многие. Особенно было в
ходу применение некоторых выражений
Апокалипсиса к Наполеону. Огромное расп¬
ространение масонства и масонских лож
тоже знаменовало собой сильное развитие
мистицизма. Колоссальные мировые перево¬
роты той эпохи, очевидно, воздействовали в
этом отношении на встревоженные умы сов¬
ременников. Как бы то ни было, это мистиче¬
99
ское настроение Александра в 1815 г. не
отражалось еще заметным образом на его
социально-политических взглядах и не влек¬
ло за собой каких-либо шагов в области
внутренней политики. Лишь проницатель¬
ный Лагарп уже и тогда приходил в крайнее
огорчение от этой новой склонности Алек¬
сандра.
В области внешней политики эта склон¬
ность Александра — не без участия баро¬
нессы Крюденер — нашла себе на первый
раз по виду довольно невинное выражение в
его предложении своим тогдашним со¬
юзникам образовать Священный союз госу¬
дарей Европы, который вносил бы в
международные отношения идеи мира и
братства. По идее этого союза, государи
Европы должны относиться друг к другу, как
братья, а к своим подданным — как отцы;
все ссоры и международные недоразумения
должны улаживаться мирным путем. С не¬
которым сочувствием отнесся к этой идее
прусский король Фридрих Вильгельм;
австрийский император Франц — пиэтист,
бывший постоянно в руках иезуитов,
подписал этот договор, лишь посовето¬
вавшись с Меттернихом, который сказал,
что это хоть и пустая химера, но совершенно
безвредная. Английский принц-регент без
согласия парламента не мог подписать этого
акта, но вежливо выразил свое сочувствие
идее Александра в особом письме. Затем
мало-помалу в этот союз вступили все госу¬
дари Европы, кроме турецкого султана и
папы. Впоследствии в руках Меттерниха это
учреждение выродилось в союз государей
против волнующихся народов, но в 1815 г.
такого значения союз еще не имел, и Алек¬
сандр был и показывал себя тогда еще явным
приверженцем либеральных учреждений.
лекция х
Возвращение Александра в Россию в 1815 г.— Польская конституция 1815 г.— Положение дел в России
в 1812—1815 гг.— Бедствия и материальные жертвы населения. Стоимость войны и размеры опусто¬
шения.-- Состояние русских финансов.— Подъем народного духа в России.— Состояние промышлен¬
ности и торговли в 1812—1815 гг.— Влияние Наполеоновских войн на сельское хозяйство и крепостное
право.— Влияние возвратившихся с войны офицеров на общество.— Распространение просвещения в
провинции.— Надежды общества на Александра.— Настроение его в 1816 г.— Заботы о содержании
армии в связи с видами внешней политики.— Идея военных поселений, ее происхождение й осуществ¬
ление.— Аракчеев.— Его характеристика.— Ход дел в Комитете министров и открытие злоупотреблений
в 1816 г.— Роль Аракчеева в Комитете министров и в других учреждениях.
\Д)сенью 1815 г. Александр, поездив
порядочно по Европе, отправился, наконец,
в Россию. По дороге он остановился в Вар¬
шаве, где в это время спешно вырабатыва¬
лась конституция Царства Польского, по
данным самим Александром указаниям, осо¬
бой комиссией, состоявшей из природных
поляков. По сходству некоторых черт этой
конституции с планом Сперанского можно
думать, что комиссии были сообщены и
русские материалы; с другой стороны, чле¬
ны комиссии, несомненно, считались и с той
конституцией, которая была дана в 1807 г.
герцогству Варшавскому Наполеоном. Много
общих черт также имела эта конституция с
французской хартией Людовика XVIII 1814
г. Как бы то ни было, современники, даже
радикально настроенные, например Карно,
изгнанный из Франции и живший тогда в
Варшаве, признавали ее весьма либеральной
и говорили, что она не только либеральна
для даровавшего ее самодержца, но и сама
по себе лучше той хартии, которую, в
значительной степени по настоянию Алек¬
сандра же, даровал Франции Людовик
XVIII. Конституция 1815 г. гарантировала
свободу печати, границы которой должен
был установить имевший собраться сейм,
гарантировала неприкосновенность
личности, уничтожила конфискацию иму¬
щества и административную ссылку, затем
устанавливала употребление польского язы¬
ка во всех правительственных учреждениях
Царства Польского и обязательное заме¬
щение всех государственных должностей в
администрации, суде и войске подданными
Царства Польского. Установлена была даже
присяга конституции со стороны царя поль¬
ского, т. е. русского императора. Законода¬
тельным аппаратом являлся сейм,
состоявший из короля и двух палат, причем
нижняя палата состояла из 70 депутатов,
выбираемых поземельным дворянством, и 51
депутата от городов. Правом избрания поль¬
зовались лица не моложе 30 лет, притом
уплачивавшие в виде прямых налогов не
100
менее 100 злотых (15 руб. серебром). Верх¬
няя палата состояла из «принцев крови»,
т. е. членов русского императорского домд в
бытность их в Варшаве, нескольких ка¬
толических епископов, одного епископа
униатского и нескольких воевод и кастеля¬
нов. Общее число членов верхней палаты
было вдвое менее числа членов нижней;
притом члены эти назначались императором
— каждый из числа двух намечаемых самим
Сенатом кандидатов — из лиц, уп¬
лачивавших прямой налог не менее 2 тыс.
злотых, т. е. 300 руб.
Сейм собирался раз в два года всего на
30 дней, в течение которых должен был
рассмотреть все законопроекты, которые ему
представляло «ответственное» министерст¬
во. Сам сейм законодательной инициативы
не имел, но мог представлять петиции госу¬
дарю и возбуждать вопрос об ответствен¬
ности министров. Все законопроекты,
вносимые в сейм министерством, пред¬
варительно рассматривались в Государст¬
венном совете, роль которого совершенно
совпадала с той ролью, какую должен бы
был играть впоследствии и русский Государ¬
ственный совет по плану Сперанского.
Вся власть в стране, по этой
конституции, сосредоточивалась в руках
шляхты, причем некоторые должности в су¬
дебных и административных учреждениях
могли занимать только земельные собст¬
венники. Александр утвердил эту
конституцию без замедления в Петербурге 12
декабря 1815 г. В речи, произнесенной по
этому поводу, князь Адам Чарторыйский
отметил, что «император Александр мог гос¬
подствовать одной силой, но, руководимый
внушением добродетели, отвергнул такое
господство. Он основал свою власть не на
одном внешнем праве, но на чувстве благо¬
дарности, на чувстве преданности и на том
нравственном могуществе, которое порожда¬
ет вместо трепета — признательность, вме¬
сто принуждения — преданность и
добровольные жертвы».
Впрочем, сам Чарторыйский был
вторично обижен и обманут в своих
ожиданиях Александром. На пост на¬
местника был назначен не он, а старый
польский генерал Заиончек, один из
дивизионных начальников армии Наполео¬
на,— бывший республиканец, но на посту
наместника оказавшийся покорнейшим слу¬
гой русского императора. В совет, сверх
пяти министров, между которыми разделя¬
лась вся власть в сфере управления, и кроме
председателя, наместника края, входил еще
императорский комиссар, которым был сде¬
лан Новосильцев, относившийся к восста¬
новлению Польши, .как мы уже говорили,
весьма скептически. Начальником польских
войск, которые были восстановлены в числе
40 тыс., был назначен великий князь Кон¬
стантин Павлович,— взбалмошный и неу-
равновешанный человек, который в
значительной мере способствовал впос¬
ледствии гибели польской конституции.
В бытность свою в Варшаве Александр
принял также депутацию литовских дворян
с кн. Огинским во главе, но под условием,
чтобы они не просили о присоединении
литовских губерний к Польше .
В России Александра ожидала масса дел
и забот о внутреннем устройстве страны и
восстановлении благосостояния, нарушен¬
ного войной. 12-й год ознаменовался
беспримерными бедствиями, и блистатель¬
ное отражение могущественного врага дорого
обошлось не только неприятелю, но и стра¬
не. Очевидцы рисуют невероятные картины
ужаса и смерти, поражавшие на большой
Смоленской дороге лиц, проезжавших по
ней в начале 1813 г. Масса не зарытых
трупов заражала воздух по всей линии от
Вильно до Смоленска и даже далеко в сто¬
роне от этого тракта. Шишков сообщает, что
в феврале 1813 г. ехавший с ним министр
полиции Балашев получил донесение из
двух губерний — Смоленской и Минской,
что в них собрано и сожжено 96 тыс. трупов
и что, несмотря на это, многие лежат еще
неподобранными2. Немудрено, что в этих
губерниях распространились различные
эпидемии. В 1813 г. население одной Смо¬
ленской губернии уменьшилось на 57 тыс.,
население Тверской губернии, которая толь¬
ко одним южным концом подходила к
району военных действий, уменьшилось на
12 тыс.3. То же было и в других прилегавших
к театру войны местностях. Не говоря об
эпидемиях, огромную убыль населения да¬
вал непосредственный расход людей на вой¬
ну. Рекрут за эти годы было взято около 1
млн. и до 30 тыс. ополченцев, что составляло
х/ъ здорового рабочего населения страны.
Вообще в 1813 г. население России,
вместо того чтобы увеличиться на 600—650
тыс. душ обоего пола соответственно обыч¬
ному тогда проценту прироста, уменьшилось
на 2700 чел. (по неполным в тот год
метрическим данным), а вообще за годы
последних Наполеоновских войн размеры
жертв человеческими жизнями надо считать
101
не меньше, чем в 1 1/г —- 2 млн. душ муж¬
ского пола4.
Более всего были разорены губернии:
Ковенская, Витебская, Гродненская,
Могилевская, Волынская, Виленская, Смо¬
ленская и Московская и частью Курлянд¬
ская, Псковская, Тверская, Калужская.
Материальные убытки одной Московской гу¬
бернии были исчислены англичанами,— ко¬
торые давали субсидии на продолжение войн
с Наполеоном и потому тщательно собирали
сведения о положении России,— в 270 млн.
руб. Но сильно пострадали и соседние с
театром войны губернии, благодаря
эпидемиям и подводной повинности. Во что
обходилась эта повинность, видно из того,
что, например, в Тверской губернии иногда
требовалось с каждых 2 1/г душ населения
по подводе, т. е. такое количество, какого не
было и вообще в губернии.
Однажды четырем губерниям — Новго¬
родской, Тверской, Владимирской и Ярос¬
лавской — предписано было поставить
вдруг 147 тыс. подвод, причем казна по таксе
платила 4 млн. 668 тыс., крестьянам же
приходилось приплатить еще около 9 млн.
руб. Наряд этот был отменен после того, как
началось его выполнение, следовательно,
когда жители уже были им разорены. С
Калужской губернии было потребовано
вдруг 40 тыс. подвод на расстояние в тысячу
верст (считая оба конца), причем расходы
населения, по подсчету губернатора, выра¬
жались в сумме 800 тыс. руб. Целый ряд
подобных сведений приведен в «Историче¬
ском обзоре деятельности Комитета
министров» Середонина5.
Еще в апреле 1812 г. министр финансов
Гурьев сделал доклад о порядке продо¬
вольствия войск. Он предложил фураж и
продовольствие войскам брать при помощи
реквизиций и взамен взятых припасов выда¬
вать населению особые квитанции с опреде¬
ленным сроком уплаты. Эти так называемые
«облигации» не понижали курса
ассигнаций, так как они были срочные.
Однако же расчеты казны с населением по
этим квитанциям впоследствии так растя¬
нулись— несмотря на постоянные весьма
резкие выговоры Александра Комитету
министров,— что не были кончены и к концу
его царствования, причем помещики, кото¬
рые главным образом и являлись кредито¬
рами казны по этим облигациям, потеряли
всякую надежду получить эти деньги и отка¬
зывались потом от своих претензий, обращая
юс волей-неволей в новые пожертвования.
Общую стоимость войны 1812— 1815 гг.
высчитать теперь довольно трудно. По отчету
Барклая де Толли, составленному
Канкриным, расходы казны выражались в
поразительно небольшой сумме — в 157 1 /%
млн. руб. за все четыре года. Но трудно
исчислимы огромные расходы самого насе¬
ления. Министром финансов Гурьевым эти
расходы населения еще в 1812 г.
исчислялись — по весьма умеренной рас¬
ценке в особой секретной записке — свыше
200 млн. руб.
Подъем национального чувства, вызван¬
ный вторжением неприятеля, выражался в
добровольных прямых пожертвованиях, ко¬
торые в 1812 г. превысили 100 млн. руб. и
дали возможность довести до конца кам¬
панию 12-го года без особых затруднений.
Общая же сумма материальных убытков,
понесенных Россией в эти годы, вероятно,
превысила миллиард рублей.
Население несло эти расходы в 1812 г.
безропотно, во многих случаях даже с непод¬
дельным энтузиазмом, несмотря на сильные
злоупотребления высшего начальства и
провиантских чиновников. Но платежные
силы населения были этим вконец истоще¬
ны, и уже в 1815 г. во многих местах оно
совершенно прекратило платеж податей.
Казна была в то время почти постоянно
пуста. Коща в 1813 г. Александр решил
перенести войну за границу, то на содер¬
жание 200-тысячной армии требовалось, по
расчету Барклая де Толли, немедленно — на
ближайшие два месяца — 14 г/г млн. руб.
звонкой монетой, а всего звонкой монеты
вместе с золотом и серебром, поступившим
и ожидавшимся с уральских заводов, было
тогда у казны не более 5 х/а млн. руб.; таким
образом, не хватало 9 млн. руб. Выпуск
ассигнаций не мог выручить, так как требо¬
валась именно звонкая монета; заем был
невозможен; Аракчеев писал тогда графу
Нессельроде об опасениях, существовавших
у правительства, что цена бумажного рубля
понизится до 10 коп.
При таких условиях продолжение войны
с Наполеоном оказалось возможным только
благодаря Англии, которая была заинтересо¬
вана в этом продолжении и субсидировала
Россию крупными суммами, выплачивае¬
мыми звонкой монетой или английскими
полноценными кредитными билетами.
От окончательного банкротства Россия
спаслась тоща в значительной мере благо¬
даря выгодному торговому балансу, который
установился после введения тарифа 1810 г.
102
Вывоз сильно превышал ввоз в эти годы,
несмотря на войну. В 1812 г. ввоз в Россию
не достигал и 90 млн. руб. <88 700 тыс.
руб.), а наш вывоз поднялся почти до 150
млн. руб. (147 млн,). Это происходило бла¬
годаря тому, что с Англией мы были в это
время с союзе, и торговля с ней через Пе¬
тербург и Архангельск совершалась беспре¬
пятственно. Замечательно, что в 1812 г. курс
нашего рубля на лондонской бирже стоял
наиболее высоко именно тогда, когда Напо¬
леон вступал в Москву.
В это же время развивалась торговля с
Китаем и Средней Азией. Из средне¬
азиатских ханств усиленно привозился хло¬
пок, спрос на который установился после
прекращения привоза английской пряжи во
время континентальной системы. В
министерстве финансов даже стал разраба¬
тываться план возврата к прежнему, более
либеральному тарифу, так как Гурьеву пока¬
залось, что русские мануфактуры уже доста¬
точно поддержаны; но это обстоятельство
вызвало страшный вопль среди московских
фабрикантов, которые только что начали
оперяться; их заявления были поддержаны
министром внутренних дел Козодавлевым и
даже канцлером гр. Н. П. Румянцевым, ко¬
торый слыл за сторонника французов и
Наполеона, но заявления московских за¬
водчиков все-таки признал правильными.
Граф Гурьев в 1813 г. потерпел пора¬
жение: пересмотр тарифа был признан не¬
своевременным.
Подъем национального чувства в 1812—
1815 гг. сказался, между прочим, и в той
энергии, с какой частные лица брались тогда
за организацию поддержки семейств, пост¬
радавших от войны,— вообще в той самоде¬
ятельности, которая была обнаружена тогда
русским обществом впервые. Благодаря
именно частной инициативе (Пезоровиуса)
из пожертвованных сумм был образован
значительный инвалидный капитал.
Замечательна также та быстрота, с ка¬
кой отстраивались после войны Москва и
некоторые другие сожженные города,
причем, впрочем, и правительству тоже
пришлось выдавать пособия разоренным
жителям (всего было выдано до 15 млн.).
Города, разоренные войной и7 её пос¬
ледствиями, стали поправляться к началу
20-х годов. Кроме, впрочем, Смоленска, ко¬
торый в 30-х годах представлял еще собой
почти развалины. Но помещичьи хозяйства
не скоро могли оправиться от этого разо¬
рения, оно положило основание той огром¬
ной задолженности их, которая росла вплоть
дО падения крепостного права.
На положении помещичьего крепостного
хозяйства, а также и на положении крестьян
после Наполеоновских войн мы остановимся
здесь несколько подробнее. В начале царст¬
вования Александра новым важным факто¬
ром развития населения, а также
экономической жизни и культуры России
являлась, как мы видели, колонизация ново¬
российских степей. Наряду с этим продол¬
жалась и колонизация восточных
(поволжских и заволжских) и юго-восточ-
ных черноземных пространств. В связи с
этим, конечно, должны были мало-помалу
изменяться и хозяйственные функции север¬
ных губерний: хлебопашество, поставленное
в них в гораздо менее благоприятные ус¬
ловия, нежели на благодатном юге и юго-во-
стоке России, естественно, должно было
отступать понемногу на второй план, и в
связи с этим здесь все более должны были
развиваться неземледельческие промыслы, а
вместе с этим должна была все более укоре¬
няться оброчная система, и ранее уже пре¬
обладавшая здесь над барщиной. Процесс
этот нр мог, однако же, развиваться быстро,
так как этому препятствовало отсутствие
удобных путей сообщения, особенно с югом
России. Поэтому сельский быт продолжал
еще оставаться прежним и даже размеры
оброков оставались до Тильзитского мира те
самые, какие уплачивались крестьянами
при Екатерине. Резкое изменение в поло¬
жении сельского хозяйства и в весь
помещичий и крестьянский уклад внесли
континентальная блокада и разруха,
произведенная отечественной войной;
действие их еще усиливалось теми новыми
потребностями и вкусами, которые
развились в дворянской среде вследствие
близкого знакомства с европейской жизнью
в эпоху долговременного пребывания
русских войск за границей в 1813, 1*814 и
1815 гг.7 Сперва континентальная блокада,
а затем опустошение многих губерний,
пожар Москвы и других городов, огромные
пожертвования на войну с Наполеоном
разорили многих дворян. Катастрофа 1812
г. сильно изменила сложившийся ранее ук¬
лад жизни. Та часть богатого и среднего
дворянства, которая жила в Москве, потеря¬
ла свои дворцы и дома, свою деятельность,
а иногда и все свое состояние. На первые
годы у многих не хватало средств, чтобы
вновь там поселиться. Дворянство, «напо¬
ловину вынужденное, село на землю или же
103
больше, чем когда-либо, пошло на государ¬
ственную службу»8. Та часть помещиков,
которая получала свои средства к жизни от
земли, почувствовала необходимость так или
иначе усилить свои доходы и, следовательно,
интенсифицировать свое хозяйство. Для
многих оседавших на землю, такой формой
интенсификации явился в земледельческих
губерниях перевод крестьян с оброка на
барщину; иные пытались завести в своих
имениях вотчинные фабрики, но это
большинству из них, при отсутствии опыт¬
ности, капиталов и кредита, удавалось до¬
вольно плохо даже и тогда, когда с 1822 г.
установился на долгие годы протекционный
таможенный тариф. В промышленных гу¬
берниях переводить крестьян на барщину
было невыгодно и потому здесь помещики
старались увеличить свои доходы лишь
повышением нормы оброков, на что кресть¬
яне в те годы постоянно жаловались9. Суще¬
ствует мнение, выдвинутое и
поддерживаемое в особенности проф. П. Б.
Струве10, что в помещичьей среде в эти годы
будто бы появилось такое сильное движение
к интенсификации крепостного хозяйства в
смысле его упорядочения, что движение это
могло и должно было его укрепить и сделать
вполне способным к хозяйственному прог¬
рессу и преуспеянию при благоприятных
условиях. Я нахожу это мнение сильно пре¬
увеличенным и полагаю, со своей стороны,
что за весьма редкими исключениями, когда
отдельными помещиками делались
рациональные попытки сельскохозяйствен¬
ных улучшений, вся «интенсификация» за¬
ключалась лишь в более сильной и
беспощадной эксплуатации барщинного
труда крестьян; когда же, вскоре по окон¬
чании Наполеоновских войн, начался быст¬
рой рост населения, то в центральных
черноземных, более плотно населенных гу¬
берниях началось непомерное увеличение
помещичьих дворен, размеры которых явно
указывали на неумение правильно и
рационально использовать этот избыточный
даровой труд, которого в конце концов неку¬
да было девать, а между тем необходимо
было прокармливать. Что касается роста
крестьянских оброков, то в этом отношении
необходимо сделать одну весьма важную
оговорку. Рост этот начался довольно замет¬
но еще до войны 1812 г. и вызывался прежде
всего падением цены денег, наступившим
после Тильзитского мира, в связи с огром¬
ным числом выпущенных ассигнаций и не¬
благоприятным действием на наш торговый
баланс континентальной системы. В сущ¬
ности, поэтому в большинстве случаев и
повышение оброков было лишь номиналь¬
ным; но, раз начавшись, это. стремление у
более жадных помещиков перехватывало и
через край, и тогда, естественно, вызывало
протесты и жалобы, а иногда и волнения
непомерно обложенных этими оброками кре¬
стьян. Многочисленные следы этого
движения сохранялись в делах Комитета
министров, как это видно из «Исторического
обзора», составленного покойным С. М. Се-
редониным. Средняя высота оброка с «тяг¬
ла» или «венца» (2—2 1 /г души мужского
пола (возросла к этому времени, по расчетам
В. И. Семевского, с 10—12 Угруб. серебром
при Екатерине, до 50 руб. ассигнациями, что
составляло в переводе на серебро по тогдаш¬
нему курсу 13—14 рублей. У порядочных
помещиков, хотя и вовсе не склонных пос¬
тупаться своими крепостными правами, как,
например, у Н. М. Карамзина, крестьяне и
в 20-х годах все еще продолжали платить
оброк 10 руб. ассигнациями с души или по
25 руб. с тягла, что на серебро составляло
не более 7 руб. с тягла или 3 руб. с души.
С особенной медленностью поправля¬
лось хозяйство помещиков и крестьян в
разоренных войной литовских, белорусских
и Смоленской губерниях.
Вообще же в обществе после войны 1812
г., несмотря на разорение, господствовало
бодрое настроение, как будто свидетельство¬
вавшее о том, что нация из страшного испы¬
тания вышла встряхнувшейся и
обновленной, готовой для дальнейшего роста
и развития культуры, со светлым взглядом
на будущее.
Повышенное настроение поддержива¬
лось и военными успехами России, воз¬
несшими ее на верх славы. Все это вместе с
реформами и начинаниями начала царство¬
вания Александра, казалось, сулило стране
после счастливого окончания веденных войн
и с наступлением мирного времени быстрое
улучшение социально-политических форм
жизни, которые требовали коренных изме¬
нений, в особенности в глазах русских,
побывавших за границей и видевших та¬
мошний быт.
Понятно, как было важно и велико
влияние этих людей на окружавшее их
общество, не только столичное и губернское,
но даже на общество глухих уездных городов
— как это видно, например, из вос¬
поминаний Никитенко, жившего в это время
в захолустном городке Воронежской гу¬
104
бернии Острогожске и описавшего то
влияние» какое производили тогда офицеры
на провинциальное общество. Эти офицеры,
вернувшиеся из Франции, влияли не только
на дворянское сословие, но и на купцов и
мещан, а это влияние удачно комбинирова¬
лось теперь с теми просветительными стрем¬
лениями правительства в первые годы XIX
в., которые как раз к этому времени стали
давать заметные плоды даже в провинции и
поощряли вместе с распространением прос¬
вещения распространение либеральных
идей и книг.
Правда, эта просветительная работа до¬
вольно скоро если не прекратилась, то
затихла и сократилась после 1805 г. благо¬
даря отсутствию средств и началу длитель¬
ных войн. Но прогрессивная деятельность
правительства возобновлялась потом в рабо¬
тах Сперанского, и обществу было ясно, что
правительство оборвало свои начинания
лишь вследствие внешних неблагоприятных
обстоятельств. Так как правительство и
теперь не показывало, что оно отказывалось
от преобразовательной и просветительной
деятельности, то подданные Александра
могли ожидать, что после окончания войн
Александр примется с большим опытом и
обогащенный новыми знаниями за продол¬
жение этих своих прежних начинаний.
Деятельность Александра в Париже, а
затем в Польше давала, казалось бы, неко¬
торое основание этим надеждам крепнуть и
развиваться. Правда, отрывочные слухи об
увлечении Александра мистицизмом и тот
манифест, который он издал 1 января 1816
г., вскоре после возвращения в Россию,
могли бы послужить предостережением для
лиц, настроенных слишком
оптимистически; но слухи о мистическом
настроении не могли особенно тревожить
передовых людей того времени, так как они
сами были не чужды мистицизму и в
значительной части своей принадлежности
к разным масонским орденам или имели
среди членов масонских лрж своих
ближайших друзей, единомышленников.
Что же касается манифеста, данного 1 янва¬
ря 1816 г., а написанного Шишковым еще в
1814 г., по случаю вступления союзных
войск в Париж, и заключавшего в себе много
громких фраз против «безбожных» францу¬
зов и «гнусных» революционеров, но не
нападавшего вовсе на конституционные
идеи,— то этот манифест произвел очень
дурное впечатление кое-где за границей, в
России же он не обратил на себя особенного
внимания, а вскоре был и вовсе забыт; таким
образом, едва ли можно придавать ему то
значение, какое приписывает ему Шильдер.
Во всяком случае, Александра в 1816 г.
был еще искренним и убежденным
конституционалистом, причем нельзя не
отметить, что эти идеи реализовывались им
тогда и в действительной жизни — в виде
финляндской и польской конституций и в
виде содействия введению конституции во
Франции и некоторых второстепенных госу¬
дарствах Европы.
Даже ближайшие к Александру лица
были уверены тоцца в намерении Александра
дать России конституцию . В бумагах гене¬
рала Киселева сохранилась запись о подроб¬
ном докладе, который он сделал Александру
в 1816 г. о положении дел на юге России.
Киселеву поручено было тогда, между
прочим, подыскивать людей, подходящих
для обновительной административной рабо¬
ты, но он, объехав юг России, нашел не
столько подходящих людей, сколько массу
злоупотреблений, о которых и сообщил
Александру. Выслушав доклад о беспоряд¬
ках и злоупотреблениях в Новороссии, Алек¬
сандр сказал: «Все сделать вдруг нельзя:
обстоятельства нынешнего времени не поз¬
волили заняться внутренними делами, как
было бы желательно, но теперь мы занима¬
емся новой организацией...»
Рассуждая о беспорядках в
администрации на юге, император сказал:
«Я знаю, что в управлении большая часть
людей должна быть переменена, и ты спра¬
ведлив, что зло происходит как от высших,
так и от дурного выбора низших чиновников.
Но где их взять? Я и 52 губернаторов выбрать
не могу, а надо тысячи...» «Армия, граждан¬
ская часть, bcS не так, как я желаю,— но
как быть? Вдруг всего не сделаешь,
помощников нет...»
Из этого доклада, прерывавшегося
диалогами, переданными Киселевым, по-
видимому, с фотографической точностью,
видно, однако, что Александр с особенной
живостью интересовался теперь вопросами
организации армии, вопросы же граждан¬
ского управления ставил уже на второй
план. Так, когда Киселев, очертив вакха¬
налию злоупотреблений, происходившую в
Бессарабии, выразил мнение, что там нужно
переменить всю администрацию, и рекомен¬
довал назначить туда генерала Инзова, то
Александр с живостью ответил, что таким
хорошим генералом он пожертвовать для
гражданских дел не может.
105
Положение Александра ввиду политики,
которую он вел в это время в Европе, было
тогда не из легких. В 1816—1817 гг. он
отменил предполагавшийся рекрутский на¬
бор, но в то же время не хотел сколько-
нибудь уменьшить состава постоянной
Зрмии; когда же ему докладывали, что насе¬
ление ропщет, так как война кончена, а
военные издержки не уменьшаются, то Алек¬
сандр отвечал с раздражением, что он не
может содержать войска меньше, чем
Австрия и Пруссия вместе. В ответе же на
указания, что эти государства уже рас¬
пустили часть своих войск, Александр заме¬
чал, что и он «думает» это сделать. Своим
генералам, советовавшим ему сократить
число войск, он говорил, что для России
t t
необходима «preponderance politique»H что
поэтому об уменьшении военных сил нельзя
и думать. Зато он усилено думал в это время
о сокращении стоимости содержания армии
и об улучшении быта солдат. Его одно время
очень заинтересовала военная реформа, ко¬
торая была проведена в Пруссии после
Тильзитского мира, когда Пруссия обяза¬
лась иметь под ружьем не больше 42 тыс.
войска. Тогда, как известно, генерал Шарн-
горст нашел остроумный выход из затруд¬
нения: сокращение срока службы до трех лет
и учреждение запаса двух категорий, при
наличности небольшой постоянной армии,
дали стране возможность в случае необ¬
ходимости выставить большую армию.
По системе Шарнгорста, в Пруссии
всякий поступал на три года в военную
службу, затем зачислялся в запас, из кото¬
рого призывался время от времени в учебные
сборы; таким образом, в короткое время
население было обучено, и его легко было
быстро мобилизовать в случае нужды,
увеличивая таким образом наличную армию
вдруг в несколько раз. Александра эта идея
очень заинтересовала, но он скоро сооб¬
разил, что к России его времени, ввиду
огромности ее территории, редкого насе¬
ления и полного отсутствия удобных путей
сообщения, эта идея неприменима, так как
при бездорожье и разбросанности населения
невозможна быстрая мобилизация. Вот поче¬
му на этой системе он и не мог тогда
остановиться. Заботясь, однако же, об улуч¬
шении положения войск и уменьшении
издержек государства на их содержание, он
напал еще в 1810 г. на французское
сочинение некоего Сервана, в котором про¬
водилась идея пограничных военных посе¬
лений, занимающихся одновременно и
земледелием, и службой. Эта идея ему на¬
столько понравилась, что он тогда же прика¬
зал П. М. Волконскому спешно перевести
эту брошюру на русский язык — для того,
чтобы познакомить с ней тотчас же Аракче¬
ева, которому он решил вверить эту часть.
Это и была система военных поселений,
которые впоследствии принесли столько го¬
ря. Система эта состояла в том, что некото¬
рые территории передавались из
гражданского ведомства в ведение военного
министерства, причем они освобождались от
всяких податей и повинностей и за то дол¬
жны были из своего населения комплекто¬
вать и содержать определенные воинские
части. Первое применение этой системы бы¬
ло сделано в 1810—1811 гг. в Могилевской
губернии, в одну из волостей которой был
водворен елецкий пехотный полк, причем
волость эта была изъята из ведения граждан¬
ского начальства, местное же население бы¬
ло выселено в Новороссийский край. Для
того чтобы вновь созданное военное посе¬
ление тотчас же получило характер земле¬
дельческого, приказано было из всех
женатых и семейных солдат полка образо¬
вать один батальон и выписать к ним их жен
и семьи, не обращая внимания на их же¬
лание или нежелание. Эти семейные солда¬
ты должны были составить коренное
население волости; у них по квартирам рас¬
пределяли остальных — холостых солдат,
обращенных в батраков и получавших от
водворенных солдат-хозяев взамен заработ¬
ной платы полное содержание, наравне с
членами их собственных семей.
Такова была идея, на которой оста¬
новился Александр в 1810 г. Первое могилев-
ское поселение не удалось, так как началась
война 1812 г.; елецкий полк выступил в
поход — и мысль об этих поселениях на все
время Наполеоновских войн заглохла.
Но в 1816 г. Александр решил возоб¬
новить попытки проведения в жизнь этой
идеи. На этот раз опыт был перенесен в
Новгородскую губернию, где находилось
имение Аракчеева, которому поэтому было
удобнее наблюдать за ходом дел в этих
поселениях. Было велено не выселять корен¬
ного населения, а прямо обратить его в
военных поселян. Целая волость была отве¬
дена под это поселение; все крестьяне во¬
лости были объявлены военными
поселянами; по их домам был размещен
один из полков. Устройству этого поселения
на военный образец помог случай: централь¬
ное село волости Высокое сгорело. Аракчеев
106
приказал выстроиться вновь уже по опреде¬
ленному плану. Это были математически
правильно разбитые усадьбы; в них водворе¬
ны были прежние жители, им обрили боро¬
ды, надели мундиры и оставили на их коште
полк. При этом проявлялись всяческие забо¬
ты об улучшении их материального поло¬
жения — давали скот, лошадей, давали
ссуды и льготы и т. п. У этих солдат-пахарей
были поселены назначенные для этого ба¬
тальоны, причем расквартированные таким
образом солдаты делались батраками Мест¬
ных военных поселенцев. Когда холостые
солдаты женились, они получали отдельные
хозяйства, но на браки эти требовалось раз¬
решение военного начальства. Всем вдовам
и девицам на возрасте велся учет, и браки
назначались начальством.
На эти поселения потрачено было много
средств, чтобы устроить их быт прочно и
планомерно: с другой стороны, жизнь посе¬
ленцев была скована мелочной мертвящей
военной регламентацией: всякое хозяйство
находилось под непрестанным надзором на¬
чальства; нерадивый хозяин мог бьггь лишен
хозяйства и даже выслан из волости. Воен¬
ной дисциплине были подчинены не только
мужчины, но и женщины; дети в известном
возрасте отбирались в учение и зачислялись
в кантонисты. Население, несмотря на
значительные материальные выгоды,
относилось к этой системе с ненавистью, так
как это была неволя — хуже крепостного
права.
Надо сказать, что сам Аракчеев был
человек материально честный, и те огромные
суммы, которые проходили через его руки, к
этим рукам не прилипали; он строго наблю¬
дал и за подчиненными. Беспристрастно
составленной биографии Аракчеева не су¬
ществует, его роль и значение выяснены
только с внешней стороны, и мрачные леген¬
ды, создавшиеся вокруг этого зловещего
имени, едва ли вполне справедливы12.
Слишком много ненависти и кровавых вос¬
поминаний соединяются около него. К тому
же слишком удобным козлом отпущения
являлся такой человек, как Аракчеев, чтобы
покрыть собой то, что делалось неприятного
по воле самого Александра. Неточности
представлений способствбвали отчасти и те
цензурные условия, в которых писались до
последнего времени исторические труды.
Все эти соображения необходимо принимать
в расчет при оценке этой личности. Многие
приписывают Аракчееву необычайно зло¬
вредное влияние на Александра и силой*
этого влияния стремятся объяснить все
мрачные черты Александра, проявлявшиеся
в последние годы его царствования. При этом
Аракчеева представляют не только другом
Александра, но и единственным человеком,
дружеские отношения к которому императо¬
ра Александра не изменялись. Между тем
Аракчеев не столько был другом Александра,
в истинном смысле этого слова, сколько
верным рабом своего господина; в сущности,
почти безразлично, был ли этот господин
Павел или Александр. Аракчеев был человек
неглупый, но малообразованный, зато дель¬
ный и трудолюбивый; он был материально
честен, никогда не крал казенного добра, что
было тогда довольно редко, и всегда был
готов сэкономить всякую копейку в хозяйст¬
ве своего господина. При всей собачьей пре¬
данности Аракчеева,— при которой даже
отечество представлялось ему ничтожным
пустяком в сравнении с интересами его
господина,— он, однако же, имел свой гонор
и честолюбие. Он был беспощаден, бесчело¬
вечен в своей исполнительности; зато он был
способен предугадать намерение своего гос¬
подина. Он был тщеславен, но главным
предметом его честолюбия была уверен¬
ность, что он пользуется неограниченным
доверием своего господина. Конечно, такой
слуга — сущий клад для самодержца, и в
особенности такого, как Александр, который
успел уже утомиться от тревог своего царст¬
вования, нуждался в верном человеке, спо¬
собном смотреть на все предметы глазами
своего господина. Но едва ли можно назвать
Аракчеева другом Александра и в особен¬
ности едва ли можно ему приписывать нрав¬
ственное и политическое влияние на
Александра.
Направление политики несомненно
зависело от Александра, а формы могли
создаваться под влиянием Аракчеева. Что
касается военных поселений, то Аракчеев не
раз утверждал, что это не его идея, что
сначала он был против военных поселений,
но, раз взявшись за них, исполнял уже дело
не за страх, а за совесть, увлекаясь его
наружным успехом.
Военные поселения росли и развивались
необычайно быстро, так что к 1825 г. корпус
военных поселений состоял из 90 батальонов
пехоты новгородских и 36 батальонов пехоты
и 249 эскадронов кавалерии украинских
поселений. Шильдер обращает внимание на
тот факт, что это дело, имевшее огромное
общественное и государственное значение,
совершалось келейно. Государственный со¬
107
вет в него не мешался, как будто бы это было
и не его дело,— вопреки установленному
законами порядку. В хозяйственном отно¬
шении это предприятие имело видимый
внешний успех; быт населения в материаль¬
ном отношении был обставлен очень исправ¬
но: в военных поселениях процветали
сельское хозяйство, ремесла, и почти все,
что нужно было для продовольствия и
обмундирования этих военных частей, они
не покупали, а производили сами. Благодаря
этому Аракчееву удалось скопить запасный
капитал до 50 млн. руб. (капитал военных
поселений), и он любил хвастаться своим
хозяйством, и в особенности образцовой
отчетностью. И замечательно, что многие
авторитетные и притом относительно не¬
зависимые люди того времени давали весьма
лестные отзывы о военных поселениях. Так,
Аракчееву удалось получить весьма лестные
отзывы о военных поселениях от гр. В. П.
Кочубея после их личного осмотра, от госу¬
дарственного контролера барона Кампфен-
гаузена и даже от возвращенного из ссылки
Сперанского, который побывал в новго¬
родских поселениях и, наконец, от Ка¬
рамзина. В отдельных поселениях, впрочем,
впоследствии обнаружились, несмотря на
всю строгость, крупные злоупотребления. Но
главное, что подрывало при внимательном
расчете значение этих поселений и с хозяй¬
ственной стороны,— это подсчет тех сумм,
которые были истрачены на это предприятие
казной. Уже в первые годы было истрачено
до 100 млн. руб., причем надо принять во
внимание еще освобождение поселенцев от
всех податей. Самый опыт этого своеобраз¬
ного военно-хозяйственного эксперимента
заслуживает обстоятельного и всестороннего
исследования; но такого исследования до
сих пор произведено не было: все сведения
об этих поселениях чрезвычайно отрывочны.
В литературе более всего имеется сведений
о бунтах, которые там происходили в разное
время. В народе же осталась мрачная память
об этой чудовищной попытке обратить в
военную крепостную зависимость
значительную часть обширной страны13.
Забота о постепенной, но коренной реор¬
ганизации армии при помощи системы во¬
енных поселений составляла в первые годы
после окончания Наполеоновских войн глав¬
ную заботу Александра. Несмотря на то что
было сказано им в 1816 г. П. Д. Киселеву —
и что, без сомнения, повторялось другим
лицам — о том, что он теперь вновь примет¬
ся за внутренние реформы, слова эти если
и осуществлялись, то лишь урывками или в
виде второстепенных распоряжений.
Во время Наполеоновских войн вся вы¬
сшая администрация и даже высшая
полиция сосредоточены были в Комитете
министров, причем Александр неоднократно
указывал, что комитет во время войны дол¬
жен был действовать в отсутствие государя
самостоятельно, даже в самых важных слу¬
чаях не ожидая высочайших повелений, ко¬
торые требовались бы при обычном ходе
вещей, с утверждения лишь своего предсе¬
дателя, которым был назначен, как уже
упоминалось, Н. И. Салтыков — тот самый,
которому Екатерина поручила когда-то глав¬
ный надзор за воспитанием Александра.
Теперь он был уже дряхлым стариком, и
фактически всем заведовал управляющий
делами Комитета Молчанов.
Вскоре при проверке счетов военного
времени открылась масса всяких хищений,
главным образом по провиантской части —
не столько в армии, где во главе этого дела
стоял Канкрин, человек вполне честный и
энергичный, сколько в военном министерст¬
ве и Комитете министров.
Александр, недовольный и ранее неу¬
рядицами и вялыми действиями комитета,
теперь, ввиду обнаруженных хищений,
пришел в крайнее негодование и отдал под
суд и Молчанова, и все военное министерст¬
во с кн. Голицыным во главе. Вместе с тем
он назначил в помощь Салтыкову, постоян¬
ным своим докладчиком по делам комитета
Аракчеева, который и остался им и тогда,
когда по смерти Салтыкова в председатели
комитета был назначен вовсе не дряхлый
человек — Лопухин. Таким образом, Арак¬
чеев сделался как бы премьер-министром,
хотя и не имел никакого портфеля. Уста¬
новился довольно странный порядок управ¬
ления: Александр перестал принимать
министров с докладами. Они и раньше де¬
лали свои доклады в комитете; но в комитете
он лично давно перестал принимать участие.
Большую часть своего времени он проводил
в путешествиях по России или за границей
на международных конгрессах. Министры
все дела, требовавшие высшего разрешения,
вносили в Комитет министров, а краткий
журнал комитета с заключением Аракчеева
докладывался государю в письменном виде.
При этом почти не было примера, чтобы
Александр не согласился с мнением Арак¬
чеева. Это-то обстоятельство и предавало
Аракчееву значение временщика, которому
приписывались все обскурантские меры и
108
репрессии того времени. Но если вниматель¬
но вглядеться в существо всей этой массы
дел — хотя бы по «Историческому обзору
деятельности Комитета министров» Сере-
донина14, то нельзя не заметить, что огромное
большинство этих дел имело второстепенное
значение, и притом надо отдать Аракчееву
справедливость, что в его заключениях нель¬
зя усмотреть особой наклонности к
репрессиям или жестоким мерам; можно,
скорее, видеть в них неусыпное слежение за
сохранностью казенного сундука и за
строгим выполнением всех мыслей импера¬
тора Александра. Аракчеев всегда вы¬
слеживал, нет ли чего своекорыстного во
внесенных отдельными сановниками пред¬
ставлениях. Среди аракчеевских резолюций
есть и такие, где Аракчеев рекомендует до¬
вольно справедливые решения, иногда более
гуманные, чем решения Комитета
министров. Здесь всего более заметно же¬
лание найти такой выход, который более
соответствовал бы настроению Александра.
Понятно, что Александр доверял при таких
условиях Аракчееву и что последний в вы¬
сшей степени облегчал его в таких делах,
которыми Александр, в сущности, не инте¬
ресовался, будучи занят другими вопросами.
На этом главным образом и была построена
репутация Аракчеева как человека, имевше¬
го необычайное влияние на Александра.
Сверх этих должностей Аракчеев пред¬
седательствовал еще в особом комитете по
сооружению дорог в России и здесь также
проявлял весьма деятельный и строгий над¬
зор, хотя и не всегда достигавший цели,
наконец, он председательствовал еще в де¬
партаменте военных дел Государственного
совета со времени учреждения последнего,
отказавшись тогда (в 1810 г.) от должности
военного министра.
ЛЕКЦИЯ XI
Роль Государственного совета во время войн 1812—1815 гг.— Восстановление его значения в 1816 г. с
возвращением в его состав адмирала Мордвинова.— Деятельность Мордвинова и финансовые меры 1816—
1820 гг.— Таможенные тарифы 1$16и1819гг.и значение их для курса бумажных денег и для фабричной
промышленности в России.— Развитие фабричной промышленности при Александре I.— Крестьянский
вопрос в 1816—1820 it.— Освобождение остзейских крестьян в 1816—1819гг. и отношение правительства
и общества к крестьянскому вопросу в России.— Развитие просвещения после 1812 г.— Роль университе¬
тов.— Проникновение мистических течений.— Библейское общество.— Министерство духовных дел и
народного просвещения.— Кн. А. Н. Голицын и его сподвижники: Стурдза, Магницкий и Рунич.— Раз¬
гром университетов.—Журналистика после 1815 г. и положение печати.— Роль Министерства
полиции.—Настроение Александра в 1818—1820 гг.— Речь его на польском сейме в 1818 г.
Деятельность Государственного совета
во время великих Наполеоновских войн с
удалением Сперанского и выходом в отстав¬
ку в 1812 г. председателя департамента го¬
сударственной экономии Мордвинова
отошла на второй план, и даже финансовые
меры принимались в эти годы распоря¬
жениями Комитета министров без всякого
участия Государственного совета — в
противность закону. Государственный же
совет занялся в это время главным образом
подробным рассмотрением плана граждан¬
ского и уголовного уложения, составленного
Сперанским. Как раз эту работу Сперанско¬
го из всех работ, которые ему принадлежали,
надо признать наименее успешной. Такой*
же ее признавал впоследствии и сам Спе¬
ранский. Это уложение было составлено им
по образцу французских кодексов без доста¬
точного изучения истории русского законо¬
дательства и потребностей русского быта, и
по мере того как отдельные параграфы
принимались еще в 1811 ив начале 1812 г.
в департаментах Государственного совета
сам Сперанский убеждался все больше и
больше в совершенной непрактичности
своей работы. Но в 1812 г. он был сослан, а
Государственный совет продолжал расс¬
матривать это дело главным образом потому,
что у него не было никакого другого.
Однако после ссылки Сперанского отно¬
шение к его проекту решительно
изменилось, и члены Государственного сове¬
та без церемонии уже критиковали основы
этого уложения и все статьи одну за другой
проваливали, а в конце концов уложение
было сдано в комиссию законов с требо¬
ванием снабдить каждую статью проекта
указанием, старый ли этот закон или новый
и если новый, то чем вызывается и оправды¬
вается изменение действующего закона. Де¬
ло затормозилось, и ему суждено было
окончиться лишь в царствование имиерато-
109
ра Николая, причем оно вновь попало тогда
в руки Сперанского.
В 1816 г. адмирал Мордвинов был вновь
приглашен на службу и назначен на преж¬
нюю свою должность председателя департа¬
мента государственной экономии1, и лишь с
этого времени опять началась правильная
работа Государственного совета, по крайней
мере в области рассмотрения государствен¬
ного бюджета.
Мордвинов по вступлении в должность
немедленно обрушился на деятельность тог¬
дашнего министерства финансов, руко¬
водимого Гурьевым. «Представленную
министром финансов роспись государствен¬
ным доходам и расходам на 1817 г. депар¬
тамент государственной экономии не
может,— писал Мордвинов,— принять в
виде истинного отчета, показывающего сос¬
тояния государственных финансов; ибо пер¬
вая и главнейшая часть, на коей
основывается государственный кредит, в
представлении министерства финансов
умолчена: ни о количестве долгов, ни о их
обеспечении в оном не упомянуто. Столь
существенное небрежие соделывает роспись
порочной, а представление оной от министра
финансов несообразным уставу сего
министерства. Равным образом департамент
государственной экономии не может
признать правильным остаток, министром
финансов в доходах показанный; ибо оста¬
ток может существовать только тоща, когда
уплачены или, по крайней мере, обеспечены
платежом долги, согласно с условиями, при
займе учиненными».
Почти в то же время Мордвинов пред¬
ставил в Государственный совет мнение о
положении государственного хозяйства с
подробной критикой финансовой политики
правительства и с указанием способов, как
поправить дело. Больше всего он нападал на
неумеренные выпуски ассигнаций, которые
Комитет министров во время войны выпу¬
скал тайным образом, т. е. совершенно не¬
законно. Как выход из этого положения
Мордвинов указывал меры, аналогичные ме¬
рам Сперанского 1810 г.2
Под давлением нападок Мордвинова
министр финансов Гурьев представил и про¬
вел через Государственный совет рад доволь¬
но существенных, по крайней мере по
внешности, проектов: о восстановлении дея¬
тельности комиссии погашения государст¬
венных долгов, об учреждении особого совета
кредитных установлений со включением в
его состав представителей купечества и об
учреждении Коммерческого банка. В распо¬
ряжении комиссии погашения долгов
ассигнованы были довольно значительные
средства, благодаря чему в 1817 г. было
впервые при Александре сожжено
ассигнаций на сумму 38 млн. руб.
Однако число оставшихся ассигнаций
все же достигало 800 млн. руб., а общее
количество государственных процентных
долгов, внесенных в особую долговую книгу,
составляло более 200 млн., так что весь
государственный долг превышал миллиард
рублей, что представляло* огромную сумму
для тогдашнего времени. Наряду с уплатой
долгов министерство финансов провело в
1817 г. уничтожение винных откупов с за¬
меной их государственной монополией, что,
впрочем, привело лишь к развитию необык¬
новенного воровства среди заведовавших
этим делом чиновников.
Затем тогда же удержано было порто-
франко в Одессе и выдана привилегия Берду
на установление первого в России пароход¬
ства.
Все эти меры произвели в публике неко¬
торое удовлетворение, хотя дороговизна,
обусловленная низким курсом бумажных де¬
нег, оставалась прежняя.
В значительной мере это последнее
обстоятельство зависело от тех изменений в
таможенном тарифе, которые были сделаны
в 1816 и особенно в 1819 гг. в сторону
свободы торговли.
Выше уже было упомянуто, что
министерство финансов хотело еще в 1813
г. изменить таможенный тариф 1810 г. и
заменить его более либеральным; но тогда
это не состоялось ввиду протеста московских
фабрикантов, поддержанного Козодавлевым
и Румянцевым. После Венского конгресса,
на котором Александр дал ряд прямых обе¬
щаний представителям других держав
смягчить или уничтожить тарифные запре¬
ты в России,— причем имелось в виду в
особенности облегчить положение промыш¬
ленности в Царстве Польском и сопредель¬
ных с ним польских областях Австрии и
Пруссии — эти обещания пришлось осу¬
ществить. У Гурьева было несколько готовых
проектов тарифных изменений, и в 1816 г.
без труда прошли первые облегчения. Соб¬
ственно, новый тариф, сняв все запреты с
иностранных товаров и понизив многие
пошлины, понизил их, однако же, не столько
на фабричные продукты, сколько на сырье,
не вырабатываемое в России; таким образом,
этот тариф не мог поколебать положения
110
нашей фабричной промышленности, но, не¬
сомненно, он поколебал наш торговый ба¬
ланс. Он послужил усилению ввоза, а вывоз
остался почти прежним; таким образом, ба¬
ланс сделался менее благоприятным в отно¬
шении прилива в страну звонкой монеты, и
это обстоятельство удержало низкий курс
бумажного рубля.
В 1819 г. в таможенном тарифе опять
были сделаны серьезные изменения, уже
коснувшиеся понижения пошлин на некото¬
рые фабричные произведения, и это за¬
ставило многие русские фабрики сократить
или совсем прекратить свою деятельность.
Как выше уже указывалось, до начала
XIX в. фабричное производство в России
удовлетворяло, главным образом, казенным
нуждам, и большинство фабрик выделывало
или железо и оружие, или сукно и полотно
для нужд армии и флота. Посессионным
суконным фабрикам запрещено было прода¬
вать свои изделия в частные руки, и вся их
работа должна была сводиться к поставке
сукна в армию. Правительство Александра
долго не решалось отменить это тягло, боясь
освободить от него фабрики ввиду возраста¬
ющих нужд армии, и только в 1816 г. это
тягло было, наконец, снято, и тут только
выяснилось, насколько это было для дела
выгодно. Именно через несколько лет после
снятия тягла в 1812 г.. достигнуто было,
наконец, такое положение, что спрос армии
на сукно был впервые не только сполна
удовлетворен, но даже превышен предло¬
жением фабрикантов: настолько эти
фабрики развились, когда обороты их стали
свободны.
С начала XIX в. у нас развиваются
также хлопчатобумажные фабрики: бума¬
гопрядильные и ткацкие. Раньше пряжа
получалась из Англии, и в России были
только бумаготкацкие фабрики; но после
введения континентальной системы, прек¬
ратившей на время ввоз готовой пряжи из
Англии, бумажная пряжа стала вырабаты¬
ваться и в России из среднеазиатского хлоп-
ка, правда, в весьма ограниченном
количестве. Стали, таким образом, впервые
после 1808 г. развиваться бумагопрядильные
фабрики. Хлопчатобумажные фабрики
явились опасными конкурентами фабрикам
полотняным и парусинным, хотя, впрочем.
С возвращением общества к мирным
условиям жизни и с усилением видов на
либеральные преобразования правительства
возобновляются в это время и попытки со
стороны многих лиц двинуть к разрешению
крестьянский вопрос .
еще в 1818 г. ученый статистик К. И. Ар¬
сеньев признавал самой доходной
фабричной промышленностью в России
именно льняную и пеньковую, т. е. полотня¬
ную и парусинную, которые отправляли
свои произведения за границу, особенно в
Англию, для нужд парусного флота.
Фабриканты мануфактурных товаров,
поднявшие вопль против тарифа 1819 г.,
достигли своей цели. В 1822 г. был вырабо¬
тан новый протекционный тариф, который
надолго утвердил протекционные начала в
русском законодательстве.
Совершенно не развивалось в России во
всей первой половине XIX в. железодела¬
тельное производство. Исследователи глав¬
ную причину этого застоя видят в
принудительном труде. Все железоделатель¬
ные заводы были на посессионном праве с
крепостными рабочими, и принудительный
характер работы не давал возможности де¬
лать труд более продуктивным и вводить
новые технические усовершенствования,
удешевляющие продукты. К этому присо¬
единялось то обстоятельство, что в России
не было удобных внутренних путей сооб¬
щения, и доставка железа с Урала была
дороже и труднее, чем из-за границы.
Чтобы не возвращаться к положению
фабрично-заводской промышленности в
России в царствование Александра I, мы
приведем здесь, пользуясь данными проф.
Туган-Барановского, цифры роста общего
числа фабрик и рабочих на них за это время.
В 1804 г. число фабрик было — 2423,
в 1825 — 5261, число рабочих в 1804 г.—
95 202, из них вольных рабочих, не крепо¬
стных и не посессионных,— 45 625 <48 %),
в 1825 г. всех рабочих было —210 568,
вольных из них—114 515, т. е. 54%.
Таким образом, число вольных рабочих
значительно увеличилось, как абсолютно,
так и в процентном отношении, к общему
числу рабочих, что указывает, конечно, на
существование тенденции фабричного
производства к вольнонаемному труду —
обстоятельство, которые сыграло некоторую
роль в подрыве крепостного права тем, что
подчеркивало его невыгодность для интере¬
сов русской промышленности.
В 1816 г. был окончательно разрешен
крестьянский вопрос в Остзейском крае, но*
к сожалению, в невыгодном для крестьян
направлении. В своем месте мы указывали,
как стояло там дело в 1804—1805 гг.; оно
было поставлено для крестьян довольно благ
111
гоприятно, так как тогда были введены су¬
щественные ограничения помещичьего
произвола, главным образом в распоря¬
жении крестьянскими землями и в
увеличении их повинностей, а также было
улучшено и правовое положение крестьян.
Остзейское дворянство осталось законами
1804 и 1805 гг. очень недовольно, введение
этих положений стремилось как можно более
затруднить, ив 1811 г. дворянское собрание
Эстляндской губернии представило от себя
новый проект, в котором дворяне предлагали
освободить крестьян от крепостного права
совершенно, но освободить их вместе с тем
и от земли. Правительство пошло на эту
удочку. В 1812 г. заняться эти делом поме¬
шала война, но в 1816 г. проект этот двинул¬
ся в ход. В 1816 г. состоялось утверждение
государем закона о Полной отмене крепост¬
ного права в Эстляндйи, причем вся земля
осталась за помещиками. Таким образом,
крестьяне сделались лично свободными, но
должны были стать в полную экономическую
зависимость от помещиков. В 1818 г. такой
же закон получил утверждение для Кур¬
ляндии, а в 1819 г. и для Лифляндии.
Этот исход дела тогда чрезвычайно соб¬
лазнил помещиков литовских губерний, а за
ними и помещики белорусских губерний и
даже |уберний Псковской и Петербургской
начали подумывать о таком же безземельном
освобождении крестьян. Но большинство
помещиков еще не было к этому подготовле¬
но, только одно динабургское дворянство
Витебской губернии образовало комитет для
выработки соответствующего положения, но
и там дело затянулось, к счастью, надолго.
Эти события, как видно, между прочим, из
одного письма Сперанского, произвели боль¬
шую сенсацию в умах помещиков даже и
таких отдаленных от Остзейского края гу¬
берний, как Пензенская. Здесь, однако, их
ожидали со страхом перед всякими
бедствиями от неосторожных действий
правительства, /гак как здесь крепостной
труд представлял еще наиболее удобный для
помещиков способ эксплуатации их имений.
В правительстве продолжались по отно¬
шению к крестьянскому вопросу чрезвычай¬
ные колебания; так, на деньги самого
Александра был издан на французском язы¬
ке курс политической экономии академика
Шторха, который он читал великим князьям
и в котором был решительно осуждаем
всякий подневольный труд, и в частности
крепостная система, существовавшая в
России. Но когда Шторх задумал издать этот
курс на русском языке, то цензура его попр¬
осту запретила.
В то же время харьковский профессор
Шад, который был рекомендован через Ува¬
рова Шиллером и Гете и был весьма замеча¬
тельным ученым, издал на латинском языке
курс, где излагал такие же взгляды, как
Шторх, и за это был выслан из России.
В том же 1816 г. была издана весьма
дельная, хотя и осторожно написанная
книга Грибовского о положении господских
крестьян в России. Эта книга была посвя¬
щена Аракчееву и прошла через цензуру
беспрепятственно.
Самый распространенный тогдашний
журнал «Дух журналов» неоднократно
обсуждал вопрос освобождения крестьян,
. причем резко высказывался против их без¬
земельного освобождения. Но когда в 1818 г,
в этом журнале была напечатана речь мало-
российского генерал-губернатора князя
Репнина, в которой он советовал помещикам
Полтавской и Черниговской губерний дать
своим крестьянам то положение, которое
было введено в Остзейском крае в 1804 г., то
речь эта произвела целое возмущение, и
редактор журнала получил выговор.
Сам Александр, несомненно, продолжал
помышлять о крестьянской реформе. Когда
ему было представлено через Милорадовича
известное стихотворение Пушкина «Дерев¬
ня», то он. приказал Пушкина благодарить
за то, что ой распространяет благородные
чувства й взгляды, но цензура опять-таки без
церемоний запретила печатать это стихотво¬
рение. В 1819 г. весьма благоприятный
прием встретила у Александра записка Н.
И. Тургенева о рациональных способах кре¬
стьянской реформы. Это был из всех тог¬
дашних проектов по крестьянскому делу
наиболее серьезный труд, так как Тургенев
стоял тогда на правильной точке зрения и
требовал освобождения крестьян с землей.
Другая, тоже весьма дельная, записка, пред¬
лагавшая весьма обдуманный план посте¬
пенного уничтожения крепостного права,
была представлена Е. Ф. Канкриным, кото¬
рый был тогда генерал-интендантом Дейст¬
вующей армии и насмотрелся на тяжелое
положение крестьян в своих разъездах по
разным губерниям. Канкрин был к тому же
ученым экономистом и мог предпослать сво¬
ему проекту обзор освобождения крестьян на
западе. Очень может быть, что именно эта
записка и побудила Александра поручить
Аракчееву в 1818 г. составить проект посте¬
пенного освобождения крестьян, причем ему
112
было указано, однако, так составить этот
проект, чтобы он «не заключал в себе
никаких мер, стеснительных для
помещиков, и, особенно, чтобы меры сии не
представляли ничего насильственного со
стороны правительства». Аракчеев в этих
рамках и исполнил данное ему поручение.
Он предложил очень простую меру; отпу¬
скать каждый год по 5 млн. руб. на выкуп
имений у тех помещиков, которые на это
сами согласятся; причем освобождение
предполагалось с землей — по две десятины
на душу. Конечно, сам Аракчеев понимал,
что этого мало, но он и имел в виду дать
крестьянам неполное обеспечение, чтобы
тем самым обеспечить обработку по найму
помещичьих земель.
Среди русских помещиков того времени
было несколько частных попыток двинуть
крестьянский вопрос к разрешению. Не го¬
воря о декабристе И. Д. Якушкине, который
в то время по своей хозяйственной неопыт¬
ности думал, что будет большим благоде¬
янием для крестьян и безземельное их
освобождение,— от чего он потом сам отка¬
зался,— здесь следует упомянуть о попытке
образовать целое общество помещиков для
содействия ликвидации крепостного права.
Инициатива в этой попытке приписывается
тому самому В. Н. Каразину, который в на¬
чале царствования Александра представил
ему такое восторженное письмо; теперь это
уже не был, однако, прежний молодой эн¬
тузиаст, а какой-то странный полупомешан¬
ный прожектер, желавший проектируемому
обществу придать два несовместимых назна¬
чения: с одной стороны, заботу о ликвидации
крепостного права, а с другой стороны, за¬
дачу слежения за настроением умов в тай¬
ных обществах. Но участникам этой
попытки удалось Каразина устранить, и
проект этого общества был представлен
Александру двумя высокопоставленными уч¬
редителями — гр. М. С. Воронцовым и кн.
А. С. Меншиковым (который тогда еще был
либералом). К ним присоединился целый
ряд других богатых помещиков, представ¬
лявших своими имениями массу гораздо
более 100 тыс. душ крестьян. В числе их
были и братья А. И. и Н. И. Тургеневы. Но
один из предполагаемых членов этого обще¬
ства — Васильчиков — заранее устранился
от этого дела и предупредил, в небла¬
гоприятном для затеянного проекта смысле,
государя. Александр сухо принял учредите¬
лей и сказал, что зачем же учреждать такое
всероссийское предприятие,— пусть
помещики действуют каждый в своем
имении, а направление общего вопроса дол¬
жно зависеть в России, пока есть самодер¬
жавие, от самодержавной власти.
Между тем известно, что когда Милора-
дович представил Александру вышеупомя¬
нутую записку Тургенева, то Александр
сказал, что он собирает всякие проекты,
чтобы непременно в конце концов что-
нибудь сделать для крестьян, пока он цар¬
ствует, и если не прямо уничтожить
крепостное право, то ввести его в тесные
границы. Как известно, это намерение оста¬
лось неосуществленным. В 1820 г., пос¬
ледний раз в царствование Александра,
происходило официальное обсуждение одно¬
го проекта по крестьянскому делу, в состав¬
лении которого принимали близкое участие
те же братья Тургеневы. Составители проек¬
та пытались на этот раз провести уничто¬
жение личного рабства — права владения
дворовыми. В Государственном совете этот
проект встретил, однако, величайшее
сопротивление и провалился. Еще более ха¬
рактерен случай, происшедший в то время в
Вольно-экономическом обществе. В трудах
Вольно-экономического общества была напе¬
чатана статья некоего Зубова, тверского
помещика, который обсуждал вопрос о
преимуществах общинного и подворного хо¬
зяйства крестьян. Будучи сторонником под¬
ворного землепользования, он обмолвился,
что необходимо утвердить за отдельными
крестьянами «в незыблемую собственность»
отведенные им наделы. Это была просто
описка. Он вовсе не думал лишать права
собственности помещиков и хотел этим вы¬
разить лишь преимущество подворного хо¬
зяйства перед общинный, но употребленное
им выражение возбудило в Вольно-эко¬
номическом обществе целую бурю, и многие
потребовали уничтожения той книжки «Тру¬
дов», где была напечатана эта статья, и
перепечатания ее без этой заметки.
Этот вопрос обсуждался, в целом ряде
заседаний, и в конце концов эщ книга спас¬
лась от уничтожения всего большинством
одного голоса—11 против 10,— причем
любопытно отметить, что в числе требо¬
вавших уничтожения книги оказался и либе¬
ральный адмирал Мордвинов.
Прежде других областей симптомы
реакционного настроения правительства
после Наполеоновских войн сказались в на¬
правлении деятельности Министерства на¬
родного просвещения. Мы видели, что, хотя
и с трудом, просвещение продолжало
113
развиваться в России и в годы полного
упадка доходов казны, и в эпоху войн. То¬
лчок, данный в этом отношении в 1803—
1804 гг., был очень силен и плодотворен. В
1804 г. правительство, несомненно, стало на
правильную для того времени точку зрения,
когда открыло пять новых университетов в
стране, где был только один университет и
почти не было низших училищ. Эти
университеты имели задачей не только да¬
вать высшее образование своим питомцам,
но и заботиться о правильной постановке
учебного дела во всем учебном округе, пото¬
му что, по уставу 1804 г., университеты
поставлены были во главе учебного дела в
учебных округах. Университетский совет
являлся окружным административным уч¬
реждением; при этом, по тому же уставу
1804 г., эти учреждения не были в
чиновничьей зависимости от высшего на¬
чальства, в какой были попечители округов:
университеты пользовались значительной
автономией. Эта автономия была дана для
целей свободного развития науки, но она
отражалась и на ходе их деятельности в
качестве административных органов. И надо
сказать, что советы университетов в то время
выдерживали успешно столкновения даже с
самим Комитетом министров, не говоря о
Министерстве народного просвещения.
Они не только поставляли учителей, но
и улучшали вообще состав педагогического
персонала: до того времени директорами
учебных заведений были обыкновенно
отставные военные, люди для этого во всяком
случае непригодные,— и вот университетам
удалось в значительной мере устранить это
зло и добиться того, чтобы подбор этих
начальников училищ был несколько улуч¬
шен.
Личный состав профессоров был в на¬
чале царствования Александра довольно вы¬
сок, главным образом благодаря
приглашению иностранных ученых (в числе
около 60 человек). Конечно, это вызывало то
неудобство, что лекции читались на немец¬
ком языке, по латыни, иногда по-фран¬
цузски, и только половина профессоров
читала по-русски. Это было важное неудоб¬
ство, но в то же время эти стоявшие на
высоте своего положения иностранцы имели
большое значение как хорошо подготовлен¬
ные культуртрегеры.
По недостатку денежных средств число
школ с 1805 г. мало увеличивалось, но
качественная постановка дела продолжала
улучшаться. Отчасти помогало делу
развития школ довольно большое количество
частных пожертвований, которые в это вре¬
мя на нужды просвещения притекали
обильно. Так, во втором десятилетии XIX в.
были открыты на частные средства такие
заведения, как Ришельевский лицей в Одес¬
се, который был впоследствии превращен в
университет, или Лазаревский институт для
изучения восточных языков в Москве. На
казенный счет был открыт в эти годы Цар¬
скосельский лицей, сыгравший потом до¬
вольно важную роль в истории русской
литературы и русского просвещения. Лицей
этот был основан в противовес все еще де¬
ржавшемуся среди дворян обычаю воспиты¬
вать детей дома при помощи частных
учителей, главным образом французских
эмигрантов, между которыми были и
иезуиты, ведшие тогда деятельную католиче¬
скую пропаганду. Этому правительство ста¬
ралось препятствовать, пытаясь заставить
таких учителей держать экзамены, и в конце
концов, для конкуренции с частными
пансионами, основало этот лицей.
В провинциальных учебных заведениях
состав учащихся был довольно демок¬
ратичен. Дворянство, привыкшее пользо¬
ваться услугами частных
учителей-иностранцев, неохотно отдавало
своих детей в общие казенные заведения, и
поэтому тем легче принимали туда раз¬
ночинцев, а иногда даже и детей крестьян,
хотя это и противоречило тогдашним зако¬
нам. В сущности, тот факт, что дворянство
не пользовалось тогдашними учебными заве¬
дениями, факт, чрезвычайно огорчавший
Министерство народного просвещения, сыг¬
рал, может быть, и благоприятную роль в
деле распространения просвещения, так как
благодаря ему просвещение свободнее расп¬
ространялось среди других сословий.
Так стояло дело народного образования
в начале второго десятилетия XIX в. В даль¬
нейшем важным препятствием свободному
ходу его развития явились проникшие в
Министерство народного просвещения нача¬
ла мистицизма.
В обществе склонность к мистицизму
выражалась тогда в увлечении масонством,
которое получило широкое распространение
во всей тогдашней Европе. В правительстве
эти стремления проявлялись в другой форме.
После Отечественной войны они выразились
в энергичной деятельности Библейского
общества. Развитие этого общества способ¬
ствовало прежде всего настроению самого
114
Александра, которое вполне гармонировало
с задачами этого оригинального учреждения.
Библейское общество было основано в
Англии в 1804 г., и главная его роль заклю¬
чалась в переводе Библии на все языки и в
дешевой ее продаже не только по заго¬
товительным ценам, но и далеко ниже бла¬
годаря крупным пожертвованиям на это
дело. В России отделение этого общества
основано было в 1812 г., и вскоре во главе
его стал обер-прокурор Синода кн. А. Н.
Голицын, друг юности Александра, бывший
когда-то вольнодумцем, а потом мало-помалу
сделавшийся верующим, мистиком
приблизительно такого же характера, как
сам Александр в эпоху Священного союза.
На него, так же как и на Александра, в эту
эпоху производили глубокое впечатление и
баронесса Крюденер с ее экзальтированным
и туманным мистицизмом, и английские
квакеры, и умный иезуит Жозеф де Местер,
и русские подвижники и аскеты того вре¬
мени. Он не делал разницы между
различными вероисповеданиями и, управляя
делами и православного, и других, иност¬
ранных, исповеданий, относился чрезвы¬
чайно горячо ко всем конфессиональным
интересам, так что впоследствии православ¬
ные изуверы обвиняли его даже в равно¬
душии к интересам именно православной
церкви. Когда стал во главе Библейского
общества Голицын, то губернаторы, видя это,
спешили сделаться учредителями таких
обществ по всей России, и этих обществ
появилась целая сеть. Голицыну удалось
даже привлечь иерархов православной
церкви в состав этого индифферентного, с
точки зрения православной церкви, общест¬
ва, и когда этим обществом был предпринят
перевод священных книг на русский язык,
то редактором его сделан был епископ Фила¬
рет, впоследствии знаменитый митрополит
Московский. Задачи общества, скромные и
сами по себе нереакционные, хотя и
имевшие некоторое контрреволюционное
значение на Западе, в России сделались
совсем иными; здесь это общество скоро
сделалось органом, распространявшим идеи
туманного мистицизма и ханжеского лице¬
мерия, главным образом в среде чиновниче¬
ства. Впрочем, распространение отделов
общества в глухой провинции, в уездах, вне
непосредственных попечений центра,
придавало их деятельности некоторую само¬
стоятельность и иногда давало неожиданно
благоприятные результаты для просве¬
щения, потому что Библейское общество,
хотя и задавшееся лишь целью распростра¬
нять Священное писание, должно было
неминуемо столкнуться там с вопросом о
предварительном распространении грамот¬
ности. Благодаря этому именно среди
провинциальных комитетов возник вопрос о
распространении грамотности, потому что
без этого и Писание не могло идти, и этот
взгляд, шедший снизу, произвел впечат¬
ление и на верхи, и был такой момент, когда
Голицын стал серьезно думать о широком
насаждении, для своих целей, начального
народного просвещения в России: явилась
идея создать сеть начальных школ, и хотели
даже ассигновать на это около 2 млн. руб. в
год, что почти равнялось всему тогдашнему
бюджету Министерства народного просве¬
щения. В свою очередь, и сами уездные
отделения общества стали в отдельных мес¬
тностях заботиться о распространении прос¬
вещения в народе, и таким образом кое-где
эти общества сыграли более или менее прос¬
ветительную роль в глухой провинции4. Но
руководительство библейскими обществами
послужило кн. Голицыну ступенью для
передачи ему в заведование и всего дела
народного просвещения в России, причем
вскоре задачи просвещения были формально
соединены с задачами духовного ведомства.
Это уже было событие определенно
реакционного значения и притом весьма
важное по. своим отрицательным результа¬
там.
В 1816 г. министр народного просве¬
щения гр. А. К. Разумовский, давно
просившийся в отставку, был уволен, и на
его место был назначен кн. А. Н. Голицын, а
через год Министерство народного просве¬
щения было преобразовано, по проекту кня¬
зя, в Министерство духовных дел и
народного просвещения, и это соединенное
ведомство задалось определенной целью
внести в дело просвещения религиозные за¬
дачи5. Голицын окружил себя подходящим
личным составом «главного правления
училищ», при котором открыт был еще «уче¬
ный комитет», а в него попали лица, вроде
известного Стурдзы, издавшего за границей
памфлет против германских университетов,
послуживший там в 1818 г. сигналом го¬
нения на них. Рядом со Струдзою введены
были ханжи и изуверы, вроде Магницкого и
Рунича, которые сделались попечителями
учебных Округов и произвели полный погром
только что пущенного в ход при помощи
иностранных профессоров дела просве¬
щения. Вскоре развитию обскурантского на¬
115
правления стала способствовать и реакция в
Германии — после убийства писателя Коце¬
бу студентом Зандом, которое при со¬
действии Меттерниха произвело немалое
впечатление на Александра. Впрочем, надо
сказать, что подвиги Магницкого в Казани
опередили меры германских реакционеров6.
Магницкий ранее был одним из сот¬
рудников Сперанского в комиссии состав¬
ления законов и в Государственной
канцелярии и вместе со Сперанским поп¬
латился в качестве опасного человека в
1812 г., но когда был затем вместе же со
Сперанским возвращен из ссылки в 1816 г.
и назначен губернатором в Симбирск, то там
он оказался вскоре уже совершенным
реакционером, мистиком и ханжой. В
1819 г., уже в звании члена главного прав¬
ления училищ, он был назначен ревизором,
а затем и попечителем Казанского учебного
округа. Из числа 20 с чем-то казанских
профессоров 11 были по его требованию
уволены, и затем он спешил ввести полное
преобразование всего быта Казанского
университета, вмешиваясь в программы
каждого курса и заявляя совершенно невоз¬
можные требования. Например, курс
политической экономии должен был
строиться на основании истин Священного
писания; студенты превращены были в
каких-то не то кантонистов, не то пос¬
лушников: их заставляли маршировать,
читать и петь хором молитвы,
провинившихся сажали в карцер и надевали
на них дощечки с надписью «грешник»,
после чего они должны были приносить
покаяние. Таково было, положение
университета в Казани; но и в остальной
России появилась резкая реакция в учебном
ведомстве, и особенно яркое выражение она
получила в учебном комитете, который, по
инструкции, выработанной Стурдзой, дол¬
жен был начать работу с пересмотра всех
курсов и учебных пособий, а затем признано
было необходимым перейти к ревизии и
личного состава училищного персонала.
Книги, которые подвергались осуждению,
были вроде «Естественного права» проф.
Куницына, «Логики» Лодия, и даже «Всеоб¬
щая мораль, или Книга о должностях чело¬
века» появившаяся еще в 1783 г. и
выдержавшая 11 изданий, приписывавшая¬
ся самой Екатерине, была признана вредной
и изъята из обращения. Впоследствии даже
Шишков, сделавшись министром народного
просвещения, счел необходимым хлопотать
о реабилитации этой книги. Даже некоторые
места из учебника истории Кайданова,
изобильно наполненного славословиями,
были подвергнуты сомнению.
После Казанского университета первая
очередь оказалась за Харьковским. Там пог¬
ром был произведен по тому же типу
попечителем Карнеевым, но в меньших раз¬
мерах: удален был один из лучших русских
профессоров того времени математик
Осиповский и выслан за границу, как уже
упоминалось, профессор Шад. Последний
был устранен как последователь опасной
философской доктрины — он был
шеллингианец — и за свое враждебное отно¬
шение к рабству.
Эта реакция, однако, не сразу охватила
все учебные округа, и, например, Петер¬
бургский округ представлял исключение.
Его попечитель, человек тогда еще довольно
либеральный и, во всяком случае, весьма
просвещенный — С. С. Уваров — пытался
оказывать оппозицию общему направлению
и даже провел еще в 1819 г. преобразование
главного педагогического института в
университет. То обстоятельство, что Уваров,
поклонник Карамзина, впоследствии, в быт¬
ность свою министром, проводивший его
взгляды, явился главным представителем
оппозиции в Министерстве духовных дел и
народного просвещения, показывает, до чего
глубока была реакция, на путь которой это
министерство вступило. Впрочем, вскоре
Уваров должен был удалиться и уступить
свое место бешеному обскуранту Руничу,
который тоже был членом ученого комитета
и в Петербурге начал проводить то же, что
Магницкий в Казани. В 1821 г. здесь были
подвергнуты преследованию профессора Ра-
упах, Германн, Арсеньев и Галич. Первый
и второй были образованными иностран¬
цами, и их предлагали поэтому выслать за
границу, подобно Шаду. Последние два были
русскими: Арсеньев — ученый историк и
статистик, а Галич — выдающийся
философ. Дело преследования петер¬
бургских профессоров, почти невероятное по
своей нелепости, затянулось, однако, на не¬
сколько лет, и уже император Николай в
1827 г. приказал его прекратить и преследу¬
емых профессоров восстановить в их пра¬
вах.
Среди журналов, издававшихся после
Наполеоновских войн, самая видная роль
принадлежала «Духу журналов» Яценкова;
сильное распространение имел также «Сын
Отечества» Греча, вытеснивший «Русский
вестник» Глинки. «Дух журналов» был орга¬
116
ном умеренно-либерального направления.
«Сын Отечества» был органом по преимуще¬
ству «патриотического» направления, но у
него не было ни честности и независимости,
ни первобытной . наивности, которыми
отличался С. Н. Глинка.
Яценков, который был сам цензором,
умело проводил свой журнал через цензуру.
Это было еженедельное издание, выходившее
тетрадями до 50 страниц, по особой прог¬
рамме с восемью «статьями» (т. е. отде¬
лами): историческим и политическим,
государственного хозяйства и литературы и
др., что давало ему характер настоящего
общественно-политического обозрения. Осо¬
бый отдел составляли «мысли и суждения
императрицы Екатерины». Отдел этот был
заведен как уловка, при помощи которой
можно было обходить тогдашнюю немудрую
цензуру: лишь под этой рубрикой было воз¬
можно наводить косвенную иносказатель¬
ную критику на современные мероприятия
правительства. «Дух журналов» по своей
программе был тем, чем являются теперь
заграничные «Revues des revues», он должен
был представлять все замечательное, что
находил во всех журналах, и сам он
сравнивал себя с пчелой, собирающей мед,
но, как справедливо замечает Пятковский,
«ароматные соки, извлеченные им из тысячи
цветов, обладали таким сильным букетом,
что сразу поразили обоняние цензурных вла¬
стей».
В 1815 г. издатель «Духа журналов»
ввиду громадного интереса, представлявше¬
гося политическими событиями, признал за
лучшее почти отбросить другие «статьи»,
т. е. отделы журнала, а «статью политичес¬
кую» сделать сколь возможно полной,
причем он поставил себе задачу давать в
журнале все официальные акты, в том числе
и конституции, вводимые в соседних госу¬
дарствах, и передавать их со всей точностью
в переводе. Цензура нападала на него не
столько за это — так как он умел
конституции представить не как продукт
революций, а как дар свыше,— сколько за
его, хотя бы и косвенные, порицания разных
отечественных порядков, в особенности в
области финансового хозяйства и управ¬
ления страной, а затем за свободолюбивые
взгляды на крепостное право — это был та¬
кой вопрос, которого тогдашняя цензура
почти не переносила.
Формально продолжал в то время сохра¬
нять силу цензурный устав 1804 г., но уже
с 1807 г. параллельно с официальной цен¬
зурой Министерства народного просвещения
стала развиваться особая цензура тайной
полиции. В число обязанностей секретного
комитета, который был учрежден еще в
1807 г., уже входил и пересмотр вышедших
в свет газет и журналов, а с учреждением
особого Министерства полиции ему дано
было право просмотра обращающихся к
публике изданий, уже разрешенных цензу¬
рой, причем Министерство полиции могло
прямо конфисковать такие издания, несмот¬
ря на разрешение Министерства народного
просвещения. Это право Министерства
полиции развивалось и крепло, так что в
1815 г. цензура уже не разрешала новых
журналов, не снесясь предварительно с
Министерством полиции. Разумовский,
министр народного просвещения,
сменивший в 1810 г. Завадовского, сам вы¬
ражал взгляды, аналогичные взглядам
Министерства полиции, и указывал, что не¬
допустима никакая критика лиц, состоящих
на государственной службе, а управляющий
Министерством полиции Вязмитинов требо¬
вал на этом основании, чтобы запрещено
было критиковать даже актеров импера¬
торских театров. Впрочем, надо сказать, что
при Разумовском все-таки цензура продол¬
жала иметь характер запретительный,
отрицательный, когда же министром прос¬
вещения сделался Голицын, то она стала
проявлять положительные стремления про¬
водить через журналы и книги определенный
реакционный и обскурантский дух.
Как ни мрачна была картина положения
просвещения и печати в годы, непосредст¬
венно следовавшие за прекращением Напо¬
леоновских войн, все же в 1816—1820 гт.
еще можно было довольно определенно
отличить стремления и действия обскуран¬
тов, торжествовавших в отдельных ведомст¬
вах, от настроения самого Александра,
который, несмотря на растущее увлечение
своим мистицизмом, все-таки оставался по
отношению к вопросам политическим уме¬
ренным либералом.
С особенной яркостью это его настро¬
ение выразилось в тронной речи при
открытии в 1818 г. первого польского сейма,
собранного впервые на основании
конституции 1815 г. Александр приглашал
в этой речи представителей Царства Поль¬
ского доказать «взирающей на них Европе»
и всем современникам, что «свободные уч¬
реждения, коих священные начала покуша¬
ются смешивать с разрушительными
учениями, враждебными общественному ус¬
117
тройству,— не мечта опасная; что, на¬
против, такие учреждения, приведенные в
исполнение с чистым сердцем, к
достижению полезной и спасительной для
человечества цели, совершенно согласуются
с общественным порядком и утверждают
истинное благосостояние народов». «Вам
предлежит,— сказал он,— доказать на опы¬
те эту великую истину. Да будет согласие
душою ваших собраний, а достоинство,
хладнокровие и умеренность да ознаменуют
ваши прения. Руководясь единственно лю¬
бовью к отечеству, старайтесь освободить
свои мнения от влияния частных выгод и,
выражая их просто, с прямодушием, не
допускайте увлечь себя заманчивой
прелести, столь часто сопровождающей дар
слова. Наконец, да будет с вами неразлучно
чувство братской любви, нам всем запове¬
данное божественным законодавцем...»
«Действуя так, ваше собрание приобре¬
тает одобрение своего отечества и те чувства
общего уважения, которые внушает подобное
сословие (учреждение), когда представители
свободного народа не искажают священного
знания, на них возложенного...»
В самом начале той же речи Александр
сказал: «Устройство, уже существовавшее в
вашем крае, дозволило мне ввести немедлен¬
но то, которое я даровал вам, руководясь
правилами свободных учреждений, не пере¬
стававших быть предметом моих забот и
которых благодетельное влияние надеюсь
я, с помощью Божьей, распространить на
все страны, попечению моему вверенные.
Таким образом вы мне подали средство
явить моему отечеству то, что уже издое¬
но я ему готовлю и чем оно воспользуется,
как только начала столь важного дела
достигнут надлежащей зрелости...»
Занятия этого сейма продолжались, как
и следовало по конституции, ровно месяц.
Александр, вопреки конституции, отложил
на этот раз лишь представление бюджета,
надеясь на доверение народа, по той
причине, как он сказал, что нельзя было
вести новую финансовую систему, не зная
определителыю цифру государственного
долга, коего выяснение тоща еще не было
окончено.
Палата не оспаривала этой отсрочки.
Точно так же уголовное уложение, проект
которого был внесен в сейм правительством,
было принято почти без прений; но палата
отвергла огромным большинством законо¬
проект о браке и о разводе, так как он
противоречил установившемуся праву стра£
118
ны. По этому поводу Александр сказал в
речи, произнесенной при закрытии сейма:
«Из предложенных вам проектов законов
только один не одобрен большинством голо¬
сов обеих палат. Внутреннее убеждение и
прямодушие руководили сим решением. Мне
оно приятно, потому что вижу в нем не¬
зависимость ваших мнений. Свободно
избранные должны и рассуждать свободно.
Через ваше посредство надеюсь слышать
искреннее и полное выражение обществен¬
ного мнения, и только собрание, подобное
вашему, может служить правительству зало¬
гом, что издаваемые законы согласны с су¬
щественными потребностями народа».
Таким образом, сейм весь проведен был
Александром, как настоящим государствен¬
ным государем, с полной корректностью и,
как видно, при довольно сочувственном и
доверчивом отношении к правительству
самих членов сейма.
Варшавские речи, напечатанные и ком¬
ментированные в русских журналах,—
причем цензура не могла уже их запретить,
так как это были речи самого императора,—
произвели на русскую читающую публику
огромнейшее впечатление. Карамзин, кото¬
рый относился к ним отрицательно, писал
по этому поводу Дмитриеву: «Варшавские
речи сильно отозвались в молодых сердцах.
Спят и видят конституцию; судят, рядят,
начинают и писать — в «Сыне Отечества»,
в речи Уварова. Иное уже вышло, другое
готовится...» «Сын Отечества» был орган
Греча, как я уже сказал, без определенных,
стойких убеждений, соответствовавший поз¬
днейшим газетам, которые Щедрин охарак¬
теризовал термином «чего изволите?».
Уваров был тогда попечителем Петербург¬
ского учебного округа и в своей речи,
произнесенной по поводу преобразования
главного педагогического института, назвал
политическую свободу «последним и прек¬
расным даром Бога» и заявил при этом, что
опасности и бури, сопровождающие эту сво¬
боду, не должны устрашать людей: великий
дар природы «сопряжен с большими жерт¬
вами и с большими утратами, он приобре¬
тается медленно и сохраняется лишь
неусыпной твердостью». Как вы видите,
Уваров понижал лучше Александра
неизбежность/связи политических волнений
с политической свободой. В другой раз он
остроумно заметил о тех людях, которые
надея^йсь дать просвещение и в то же время
«обезвредить» его, что «они желают огня,
который не жегся бы», что, очевидно, не¬
мыслимо... Что Александр искренно поду¬
мывал о распрсЯггранении конституционного
устройства и на другие части Российской
империи, видно из сохранившегося плана,
составленного в 1818 г. Новосильцевым при
участии Дюшена и сохранявшегося до поры
до времени в глубокой тайне, а затем
опубликованного в 1831 г. поляками в числе
других секретных бумаг, найденных в Бель-
ведерском дворце после бегства оттуда в. кн.
Константина Павловича7.
Таково было сложное направление внут¬
ренней политики Александра в этот пятый,
предпоследний, период его царствования,
когда в обществе, под влиянием великих
пережитых событий, быстро созревало само¬
стоятельное и глубокое стремление к корен¬
ному преобразованию всего общественного и
политического строя страны, столь воз¬
мутительного и несносного для лиц, не толь¬
ко успевших впитать в себя принципы
политических доктрин века, проникших в
русскую литературу с начала царствования,
но и видевших своими глазами зарождавше¬
еся тогда возрождение Германии и более
зрелое и сообразное с нуждами и правами
народа гражданское устройство культурных
стран Западной Европы. Эти стремления
нашли себе выражение в тайных обществах,
возникших с 1816 г.,— тайных, потому что
рядом с гласными выражениями либе¬
рализма самого Александра существовало и
Министерство полиции, не допускавшее
никакой критики внутренних отношений,
почему этим обществам и приходилось — до
поры до времени — хранить тайну. Однако
действие варшавских речей Александра бы¬
ло таково, что многие учредители тайных
обществ мечтали, что через некоторое время
эти общества могут быть объявлены явными
открытыми организациями.
ЛЕКЦИЯ XII
Возникновение тайных обществ после Наполеоновских войн.— «Союз спасения».— Устав его.— Пестель
и Мих. Муравьев.— Оппозиция Мих. Муравьева и преобразование «Союза спасения» в «Союз благо¬
денствия».— Его устав, его организация и деятельность его членов по четырем «отраслям».—
Политические вопросы среди членов союза.— Взрыв негодования против Александра в 1817 г.— Вопрос
о республике в 1820 г.— Влияние «семеновской истории», второго польского сейма и неаполитанской
революции на настроение Александра.— Закрытие «Союза благоденствия».— Южное общество.— Дея¬
тельность в нем Пестеля и других его членов.— Васильковская управа.— Общество соединенных сла¬
вян.— Северное общество.— «Конституция» Никиты Муравьева и «Русская правда»Пестеля.
Стремление к общественной деятель¬
ности, которое обнаружилось у многих мо¬
лодых офицеров по возвращении их в
Россию в 1813—1814 гг., не замедлило тот¬
час же проявиться в разнообразных формах,
вроде, например, офицерской «артели»,
бывшей своеобразным клубом в Семенов¬
ском полку, затем в целом ряде масонских
лож, которые размножались в России, прос¬
ветительных и литературных кружков, вроде
«Арзамаса», «Зеленой лампы» и т. п., зна¬
чение которых в истории русской литерату¬
ры общеизвестно; затем в виде кружков для
саморазвития и чтения среди молодых
офицеров, в которых иногда принимали
участие и посторонние лица. Когда соз¬
дались эти элементы движения, явились и
инициаторы первых политических
организаций. В Петербурге возникли однов¬
ременно два предприятия такого рода1. С
одной стороны, молодым, 24-летним пол¬
ковником Александром Николаевичем Му¬
равьевым, человеком весьма склонным к
мечтательности и к мистицизму (он был
масоном и имел высокую степень в одном
французском ордене), было положено осно¬
вание такому обществу среди главным обра¬
зом офицеров Семеновского полка; с другой
стороны, молодым блестящим генералом,
исполнявшим значительные дипло¬
матические поручения в войне 1814 г.
Михаилом Федоровичем Орловым, была сде¬
лана попытка привлечь к образованию осо¬
бого политического общества с масонскими
формами графа Мамонова, представителя
старого екатерининского масонства, которое
преследовало при Новикове и Шварце обще¬
ственные цели, и Николая Тургенева, кото¬
рый взял на себя миссию переговорить об
этом с некоторыми лицами, в том числе с
гвардейскими генералами Бенкендорфом и
Васильчиковым. В провинции в глухих го¬
родках среди стоявших там армейских
пехотных и артиллерийских частей
происходило аналогичное движение. Так, в
провинции был образован юнкером Борисо¬
вым кружок Общества друзей природы, в
который вошли главным образом молодые
119
люди, большей частью юнкера и субалтерн-
офицеры. Это была очень скромная
организация, но впоследствии из нее
развилось Общество соединенных славян,
присоединившееся потом к Южному обще¬
ству — самой значительной тайной
организации 20-х годов.
Попытка Орлова не имела успеха и не
получила развития, Общество друзей
природы не имело вначале большого зна¬
чения, но предприятию Муравьева
пришлось сыграть крупную историческую
роль.
Вот его история в самых общих чертах.
В 1816 г. поручик И. Д. Якушкин был в
гостях у своих товарищей по Семеновскому
полку братьев Муравьевых-Апостолов: Сер¬
гея и Матвея, детей известного в то время
писателя и дипломата Ивана Матвеевича
Муравьева-Апостола. Они вели между собой
разговор на обычные интересовавшие их
темы, и в это время явились туда полковник
Александр Николаевич Муравьев и его тро¬
юродный брат Никита Михайлович Муравь¬
ев (сын Михаила Никитича, бывшего
когда-то одним из учителей Александра и
умершего в 1807 г. будучи товарищем
министра народного просвещения) и пред¬
ложили присутствующим принять участие в
тайном политическом обществе, образо¬
ванием которого они были заняты. Без
долгих рассуждений, без точного опреде¬
ления цели этого предприятия все присутст¬
вующие согласились на принятие участия в
проектируемой организации. Общество
образовалось и стало расти, но, в сущности
говоря, определенной политической цели оно
не имело; некоторые его члены даже
считали, что главная его цель заключается в
противодействии наплыву и успеху иност¬
ранцев на русской службе, чем многие в то
время были недовольны; но, конечно, по идее
основателей, цель общества была политиче¬
ская — улучшение государственного и
общественного строя. В таком неопределен¬
ном положении это общество существовало
некоторое время, пока в него не вошел Павел
Иванович Пестель, молодой, умный и
энергичный адъютант кн. Витгенштейна,
давший этому обществу сразу определенную
цель и организацию. Цель получила опреде¬
ленный политический характер и заключа¬
лась в достижении конституционной формы
правления в России, а организацию общест¬
ва Пестель заимствовал у тогдашних италь¬
янских тайных обществ, так называемых
карбонариев. Собственно, устав этого перво¬
го общества, написанный Пестелем, до нас
не дошел, так как он был вскоре же заменен
другим и затем уничтожен, но формы,
заимствованные Пестелем у карбонариев,
перенесены были им в возникшее позже
Южное общество, о котором, как видно будет
дальше, сохранились более подробные све¬
дения. Общество, основанное Муравьевым и
организованное Пестелем, в 1817 г. названо
было «Союзом спасения или верных и
истинных сынов отечества» Вообще тогда
было известно в Европе два главных типа
тайных обществ: один тип, более мирной
культурной организации, вроде немецкого
тугендбунда (союз добродетели), который
имел целью культурное и политическое воз¬
рождение Германии и действовал с одоб¬
рения правительства, будучи направлен
главным образом против внешнего врага,
поработителя Германии — Наполеона. С
другой стороны, на юге Европы действовали
общества карбонариев, или, как они назы¬
вались тогда в Греции, гетерии. Они пред¬
ставляли собой тип прямых заговорщицких
организаций. Выбирая из этих двух типов,
Пестель остановился на типе карбонариев,
который более соответствовал его личному
характеру и принципам. Надо сказать, что
большая часть основателей «Союза спа¬
сения» были либерально настроенные люди,
искавшие лучших форм политической и
общественной жизни, но отчасти они были
мистики и мечтатели — как Александр Му¬
равьев и Сергей Муравьев-Апостол, отчасти
— отвлеченные теоретики и доктринеры, как
Никита Муравьев, причем многим из них не
было еще и полных 20 лет. Пестель, хотя
тоже был очень молод (ему было в то время
около 24 лет), был, однако же, человек со
сложившимися уже взглядами и довольно
определенными убеждениями, человек в вы¬
сшей степени умный, выходящий по уму и
силе характера из общего уровня. Его высоко
ценили не только товарищи, члены тайного
общества и его молодые приятели, но и его
начальники и вообще все, кто его знал.
Такую именно аттестацию давал ему его
главный начальник, главнокомандующий
Южной армией кн. Витгенштейн, который
прямо говорил, что Пестеля можно было хоть
завтра смело сделать и министром, и коман¬
дующим армией и что он ни на каком посту
не уронил бы себя. Точно такого же мнения
о Пестеле был умный и талантливый генерал
Киселев, в то время начальник штаба
Южной армии. Еще с большим, конечно,
энтузиазмом отзывались о нем его близкие
120
товарищи: князь Волконский (в своих
записках), Якушкин, который с ним во
мнргом не соглашался, но очень его уважал,
и другие декабристы, оставившие записки
или дававшие о Пестеле показания на
следствии.
Одним словом, Пестель, несомненно,
был самой замечательной личностью по сво¬
ему характеру, знаниям и уму среди членов
тогдашних тайных обществ. Он обладал не
только огромным умом — умом творческим,
но и соответственным темпераментом; это
был человек железной воли и колоссального
честолюбия, которое, по-видимому, в
значительной мере являлось в нем движущей
пружиной наряду с искренними и сильными
стремлениями к общему благу.
Конечно, когда такой человек явился
среди членов тайного общества и сделал
определенные предложения, которым, в
сущности, вначале не было противопостав¬
лено никаких других, то предложения его,
хотя, может быть, и поразили его товарищей
своею резкостью, были приняты очень ско¬
ро, и карбонарский устав был утвержден.
Характерной чертой этого устава/являлись
ужасные клятвы, которые дрались при
вступлении в это общество, хотя, впрочем,
такие клятвы практиковались и во многих
масонских ложах, не имевших никаких
политических задач. Более важное значение
имело распределение членов общества по
различным неравноправным разрядам. Во
главе общества должны были стоять «бояре»
— руководители, которые остальным членам-
(в принципе) не были даже известны. Са¬
мый устав общества мог быть известен толь¬
ко «боярам» и следующему за ними разряду
членов, которые назывались «мужами»; чле¬
нам третьей категории, «братьям», т. е.
рядовым членам, не был даже известен ус¬
тав, они обязаны были лишь слепо повино¬
ваться тайному правительству этого тайного
общества. Наконец, был еще четвертый раз¬
ряд (уже не членов, а лишь сочувствующих)
— так называемые «друзья», которые
вносились в списки как подходящий ма¬
териал, из которого могли рекрутироваться
действительные члены, но сами могли даже
и не знать о своем внесении в эти списки и
о своей прикосновенности к тайному обще¬
ству. Такого рода организация совершенно
соответствовала якобинским взглядам
Пестеля, которые он себе выработал в каче¬
стве поклонника эпохи Конвента и рево¬
люционного правительства Франции 1793 г.
Давши обществу этот устав, Пестель,
однако, сам должен был уехать из Петербур¬
га к месту своей службы — сперва в
Остзейский край, где Витгенштейн командо¬
вал корпусом, а в 1818 г., с назначением
Витгенштейна главнокомандующим Южной
армией, на дальний юг, в пограничное с
Молдавией местечко Тульчин, где была глав¬
ная квартира Южной армии. Среди
оставшихся членов общества вскоре нача¬
лось брожение, особенно после принятия в
его состав Михаила Николаевича Муравьева,
который, в противоположность другим чле¬
нам общества, подобно Пестелю, обладал
сильной волей, но не разделял его взглядов
и в особенности был сознательным
противником тех якобинских форм, которые
положены были Пестелем в основу
организации. Михаил Муравьев хотя и усту¬
пал по уму Пестелю, но в его отсутствие
явился наиболее сильным и притом с само¬
стоятельно выработанным взглядом. Свое не¬
согласие с Пестелем он выражал прямо и
резко. Когда ему при вступлении в общество
было предложено принести присягу по всем
ритуалам устава, он от нее категорически
отказался; прочитав же устав, заявил, что
этот устав годен разве для разбойников му¬
ромских лесов, но не для культурного обще¬
ства с политическими целями. Начались
брожение и переговоры. Как раз в это время
по случаю закладки храма Христа
Спасителя в память Отечественной войны
значительная часть гвардии была в Москве,
и там происходили собрания членов обще¬
ства с длительными дебатами по поводу
разногласий, внесенных Михаилом Муравь¬
евым.
Хотя члены общества в большинстве не
были во многом согласны с Пестелем, но они
не соглашались и с тем, что предлагал Мих.
Муравьев, стремившийся устранить из уста¬
ва общества прямые политические цели. В
конце концов Муравьев и его сторонники
пригрозили даже выходом из общества. То¬
гда, не желая терять их, им предоставили
составить новый проект устава. Они взяли
за образец устав «тугендбунда». Устав этот
был напечатан в одной немецкой газете
(«Freimiithige Blatter»), экземпляр которой^
был привезен в Россию, и Муравьев с едино¬
мышленниками перевели его на русский
язык. Приспособленный к русской
действительности и соответственно изменен¬
ный, этот немецкий устав и лег в основание
нового устава тайного общества. После ♦
больших дебатов он был принят, и общество
121
было переименовано из «Союза спасения» в
«Союз благоденствия» (1818).
Первые параграфы нового устава
гласили:
1. «Убедясь, что добрая нравственность
есть твердый оплот благоденствия и доблести
народной и что при всех об оном заботах
правительства едва ли достигнет оное своей
цели, ежели управляемые со своей стороны
ему в сих благотворных намерениях содей¬
ствовать не станут. «Союз благоденствия» в
святую себе вменяет обязанность распрост¬
ранением между соотечественниками
истинных правил нравственности и просве¬
щения споспешествовать правительству к
возведению России на степень величия и
благоденствия, к коей она своим Творцом
предназначена».
2. «Имея целью благо отечества, союз
не скрывает оной от благомыслящих граж¬
дан, но для избежания злобы и зависти
действия оного должны производиться втай¬
не».
3. «Союз, стараясь во всех своих
действиях соблюдать в полной строгости
правила справедливости и добродетели,
отнюдь не обнаруживает тех ран, к извле¬
чению коих немедленно приступить не мо¬
жет, ибо не тщеславие или иное какое
побуждение, но стремление к общему благо¬
денствию им руководит».
4. «Союз надеется на доброжелательст¬
во правительства, основываясь в особен¬
ности на следующих изречениях наказа в
Бозе почивающей государыни императрицы
Екатерины Вторые: «Если ум их (граждан)
не довольно приуготовлен к ним (к новым
законам), то возьмите за себя труд их
приуготовить, и вы тем уже много сделаете»
— и в другом месте: «Весьма дурная
политика та, которая исправляет законами
то, что должно исправить нравами»1.
Из этих параграфов устава видно, что
«Союз благоденствия» по идее своей являлся
учреждением, даже с точки зрения
правительства вполне благонамеренным, и
не мудрено, что члены его действовали почти
открыто, а правительство, хотя ему, несом-
фненно, было известно о существовании этой
организации, никаких репрессивных мер
против нее не принимало.
Впрочем, многие думают, что эти цели
были выставлены только для вида и что была
выработана еще вторая часть устава, уже
чисто политическая. Но эта вторая часть
* устава, выработка которой была поручена
Никите Муравьеву, не была закончена; она
обсуждалась отдельными вожаками, но не
была принята в качестве действующего за¬
конодательства союза или хотя бы даже его
центрального органа. Так как не предпола¬
галось преследовать никаких заго¬
ворщицких целей, то и союз был перестроен
по типу культурно-просветительного обще¬
ства: члены общества группировались в
отделы, которые назывались управами; де¬
лами «коренной управы», находившейся в
Петербурге, заведовал выборный «коренной
совет». Устав общества так называемая Зе¬
леная книга — был известен всем членам
общества. Члены союза вели свою пропаган¬
ду довольно открыто.
Что касается деятельности «Союза бла¬
годенствия», то эта деятельность была
сгруппирована в следующие четыре отрасли:
первая отрасль была филантропическая,
т. е. сюда относилось воспособление челове¬
честву в его нуждах. Практически эта дея¬
тельность могла выражаться тогда особенно
в улучшении положения крепостных кресть¬
ян, тем более что значительная часть членов
(если не все) были помещики. Впрочем, хотя
по уставу «тугендбунда» требовалось, чтобы
его члены не имели рабов, устав «Союза
благоденствия», составленный Михаилом
Муравьевым, трактовал только о благожела¬
тельном отношении к своим крестьянам. В
отношении улучшения положения крепост¬
ных крестьян главным деятелем союза был
Н. И. Тургенев.
Вторая отрасль была просветительная,
и в этом отношении многие члены деятельно
работали, главным образом в войсках. Глав¬
ным работником в этом отношении был,
несомненно, генерал М. Ф. Орлов, тот са¬
мый, который мечтал раньше об учреждении
масонского тайного политического общества.
Он был начальником дивизии и способство¬
вал широкому распространению ланка¬
стерских школ взаимного обучения и в
подчиненных ему полках, и среди населения
тех мест, где его дивизия была расположена.
Орлов сам жертвовал й собирал на дело
просвещения значительные суммы. Так,
например, он писал в 1818 г., что ему
удалось за год собрать 16 тыс. руб. И. И.
Тургенев сообщает, что Орлов все свое жа¬
лованье жертвовал на просветительские
цели.
Третья отрасль заботилась об улучшении
правосудия в России. Несомненно, что в этом
отношении деятельность членов общества
могла главным образом выражаться в разра¬
ботке проектов нового суда. Этим занялся
122
опять-таки Тургенев, служивший тогда
статс-секретарем Государственного совета.
У многих членов общества была, однако,
идея, что они должны в целях немедленного
воздействия на улучшение правосудия
оставлять более блестящую военную службу
и идти на службу в низшие судебные места
(например, в надворные суды). И некоторые
действительно шли. Так, например, близкий
друг Пушкина лицеист И. И. Пущин принял
должность надворного судьи в Москве. То же
самое сделал Рылеев еще до вступления
своего в общество.
Наконец, четвертая отрасль заключа¬
лась в заботе об улучшении хозяйственного
и финансового положения в России и назы¬
валась отраслью экономической. Здесь дело
состояло главным образом в издании соот¬
ветственных сочинений. Памятником этого
рода деятельности членов общества является
замечательное по тому времени сочинение
Н. И. Тургенева «Опыт теории налогов», ко¬
торое было первым самостоятельным иссле¬
дованием в этой области в России. В том же
смысле важна была деятельность тех членов,
которые принимали участие в публицистике
и журналистике. Тургенев вместе с проф.
Куницыным хотел тогда открыть даже новый
журнал, но ему этого не дозволили, несмотря
на то, что он был статс-секретарем Государ¬
ственного совета и управлял одним из депар¬
таментов Министерства финансов3.
Несмотря на то что число членов «Союза
благоденствия» увеличивалось (в 1819 г. оно
дошло до 200 человек), деятельность обще¬
ства была довольно вялой и казалась
большинству членов слишком пресной, тем
более что недовольство правительством все
более обострялось и развивалось в связи с
ростом правительственного гнета, обску¬
рантизма и ненавистных военных посе¬
лений. Чувствовалась потребность в более
революционной организации, и при таком
настроении естественно, что среди молодых
членов общества росли неудовольствие и
неудовлетворенность своим кругом деятель¬
ности.
Правда, мирный характер этого общест¬
ва не мешал некоторым членам его обсуж¬
дать политические вопросы, но едва ли этим
можно характеризовать значение и роль
«Союза благоденствия»: обсуждали эти воп¬
росы лишь отдельные члены общества, глав¬
ным образом члены «коренной управы».
Такого рода обсуждения бывали и до осно¬
вания «Союза благоденствия», когда обще¬
ство называлось еще «Союзом спасения».
Так, в 1817 г. в Москве было получено
письмо кн. С. Н. Трубецкого, в котором он
писал о тревожных слухах, довольно неле¬
пых и противоречивых, сводившихся к тому,
что Александр обвинялся в желании
покинуть Россию, переехать в Варшаву,
присоединить к Польше литовские гу¬
бернии, оттуда управлять Россией и оттуда
же дать указ об освобождении крестьян в
пику будирующим дворянам. Конечно, не
последняя мера, так как большинство членов
общества было расположено в пользу осво¬
бождения крестьян, но первые слухи до
такой степени обострили их настроение, что
перед ними встал даже вопрос о царе¬
убийстве, и Якушкин определенно взял на
себя убийство Александра, после чего хотел
и себя лишить жизни.
Правда, на следующий день участники
одумались и решили оставить свой план, но
на Якушкина этот эпизод произвел такое
острое впечатление, что, подчинившись тре¬
бованию оставить свои замыслы, он, однако
же, в раздражении вышел из общества и
только спустя некоторое время вступил вновь
в «Союз благоденствия».
Другое интересное собрание — вообще
собрания бывали, по-видимому, нередко, но
они были обыкновенно довольно бесцветны
— было в 1820 г., во время приезда Пестеля
в Петербург и происходило в квартире Ф. Н.
Глинки, адъютанта генерал-губернатора Пе¬
тербурга графа Милорадовича. На этом соб¬
рании был поднят вопрос о том, что следует
предпочесть: республику или
конституционную монархию? Пестель, тогда
уже убежденный республиканец, решитель¬
но высказывался за республику. И когда он
поставил вопрос на обсуждение «коренной
управы»,— на собрании, впрочем, присут¬
ствовали не все члены «коренной управы» и
не одни они,— большинство (кроме одного)
высказывалось тоже за республику. По-
видимому, это постановление носило
теоретический характер и не было решено
немедленно направить свою деятельность ко
введению в России республики. Но Пестель
понимал его именно так и впоследствии
старался предать этому решению значение
постановления формального. ^
В том же 1820 г. случилось в Петербурге
происшествие, которое, не будучи вызвано
деятельностью «Союза благоденствия»,
отразилось, однако, на судьбе всех тайных
обществ (масонских лож в том числе) весь¬
ма сильно: этим событием было возмущение *
нижних чинов в Семеновском полку.
123
Произошло оно без участия офицеров.
Причина его была следующая. Семеновский
полк раньше был веден чрезвычайно гуман¬
но; большинство офицеров были сами гу¬
манные люди и многие из них члены «Союза
благоденствия», полковым командиром был
добродушный генерал Потемкин, но когда в
1820 г. полк принял от него полковник
Шварц, человек грубый, суровый, де¬
спотический, фронтовик, склонный даже к
свирепым и незаконным истязаниям солдат,
и когда он, задавшись целью вымуштровать
этот полк, велел высечь нескольких ге¬
оргиевских кавалеров, которые по закону
были избавлены от этого наказания, то не¬
сколько рот полка возмутились.
Форма возмущения была, впрочем, до¬
вольно мирная. Солдаты возмутившихся рот
хотели только сделать заявление, что просят
Шварца впредь не прибегать к таким мерам.
Офицеры — между ними С. И. Муравьев-
Апостол — старались их от этого отговорить,
понимая, что солдаты этим ничего не
достигнут; но убеждения эти не привели в
конце концов к цели, и в результате весь
полк был посажен в крепость. Это обстоя¬
тельство произвело на Александра огромное
впечатление. Он был в это время на конгрес¬
се в Лайбахе. Этот бунт совпал с другим
очень тяжелым впечатлением — от второго
варшавского сейма 1820 г., который отверг
все почти законопроекты, внесенные
правительством, после рада весьма резких
оппозиционных речей. К этому присо¬
единились вести о революции в Неаполе,
которая и была предметом обсуждения Лай-
бахского конгресса. Все это подготовило та¬
кое настроение Александра, при котором
бунт Семеновского полка произвел на него
чрезвычайно острое впечатление, которое
было тем больнее, что Семеновским полком
он когда-то сам командовал и полк этот был
его любимым полком. Он отказывался
верить, что полк сам собой взбунтовался, и
видел в этом участие тайных подстрекате¬
лей. Пож был раскассирован. Эта история
имела два важных последствия. С одной
стороны, размещенные по всей империи сол¬
даты и офицеры Семеновского полка обра-
* зовали отличные кадры пропагандистов
революционных идей и недовольства, а с
другой стороны, введу обострившегося на¬
строения правительства, «Союз благо¬
денствия» признал, что в прежнем виде он
дольше существовать не может. Поэтому в
январе 1821 г. члены союза, собравшись в
Москве, постановили прекратить деятель¬
ность этой организации. «Союз благо¬
денствия» был объявлен закрытым, причем
председательствовавший в большей части
этих московских заседаний Н. И. Тургенев
даже циркулярно оповестил об этом всех
членов.
Есть мнение, что тайное общество толь¬
ко для вида решило закрыться, чтобы
отвести глаза правительству, а затем продол¬
жать свою работу в формах, более
конспиративных. Едва ли, однако же, это
было общей мыслью всего собрания. Как бы
там ни было, в Петербурге тайное общество
действительно прекратило свое существо¬
вание.
Александр, вернувшись из-за границы,
получил о деятельности этого общества под¬
робный донос через командира гвардейского
корпуса Васильчикова. Правда, государь
при этом сказал, что не ему, старательно
насаждавшему либеральные идеи в начале
царствования, принимать теперь строгости
против отдельных носителей тех же идей, но
он остался очень недоволен направлением
умов в гвардии и, отправив ее в поход к
западным границам в 1821 г., затем нарочно
оставил ее на 1 /г года на стоянке в Литве,
думая, очевидно, что на молодых офицеров
дурно влияет столичная обстановка. Таким
образом в 1821 г. из Петербурга удалены
были главные элементы тайного общества.
Но когда южные делегаты с Московского
съезда явились в Тульчин и сделали там
доклад о закрытии общества, то южные
части во главе с Пестелем и Юшневским
(генерал-интендантом Южной армии) за¬
явили, что они своей организации не прек¬
ратят. Таким образом, южный отдел «Союза
благоденствия» сделался самостоятельным
тайным обществом. При этом южная
организация восстановила прежний, песте-
левский, устав «Союза спасения» и цели
себе поставила определенно политические и
резко революционные. Говорят, что поста¬
новка таких опасных целей была даже на¬
меренно муссирована для того, чтобы
отпугнуть колеблющихся и составить надеж¬
ное ядро революционной организации.
Целью общества определенно было постав¬
лено учреждение в России республики,
причем Способы действия были приняты
якобинские и меры имелись в виду самые
крутые.
Южное общество сорганизовалось в виде
трех управ. Одна, «коренная управа», была
в Тульчине; руководителями ее были
Пестель и Юшневский, избранные директо¬
124
рами всего общества, причем фактически
вся власть принадлежала Пестелю. Затем
были два отделения — в с. Каменке, под уп¬
равлением местного помещика отставного
полковника Вас. Давыдова и командира рас¬
положенной там пехотной бригады генерала
кн. С. Г. Волконского, и в Василькове — под
начальством Сергея Муравьева-Апостола,
который действовал с некоторой не¬
зависимостью от Пестеля и сделал своим
главным сотрудником молодого офицера (то¬
же из семеновцев) Михаила Бестужева-
Рюмина.
Пестель постоянно ставил своим то¬
варищам на вид необходимость не только
цареубийства, но даже истребления всей
царствующей фамилии, и этот вопрос пос¬
тоянно приводил к спорам между ним и
Муравьевым-Апостолом.
Съезды вожаков Южного общества
происходили раз в год на контрактовой
ярмарке в Киеве, и на этих съездах в 1822,
1823, 1824 и 1825 гг. постоянно обсуждался
вопрос о способах устранения царствующего
дома и всех его членов, причем, однако,
окончательное решение вопроса откладыва¬
лось всякий раз до следующего раза.
Однако Пестель, ставя такие радикаль¬
ные цели, считал необходимым действовать
очень хладнокровно и осторожно, после все¬
стороннего обсуждения и обстоятельной под¬
готовки. Сергей Муравьев-Апостол был,
напротив, нетерпелив и склонен к энтузиаз¬
му и быстрым решительным мерам, ему
претила мысль об истреблении целой семьи,
но, с другой стороны, он требовал скорейше¬
го приступа к действиям и постоянно
стремился начать восстание. Раз даже, когда
один из полковых командиров, входивших в
состав общества (Повало-Швыйковский),
потерял полк, то Муравьев думал немедленно
начать возмущение. Главным помощником
Муравьева был, как я сказал, Бестужев-
Рюмин, который обладал еще более горячим
и пылким темпераментом. Он деятельно про¬
пагандировал свои взгляды, и ему удалось
сделать два крупных дела. Он открыл суще¬
ствование независимого Общества соединен¬
ных славян, которое ставило себе целью
установить федеративную республику среди
всех славянских народов. Бестужев, открыр
эту организацию, постарался ее привлечь к
Южному обществу, и это ему удалось. Он же
начал сношения с членами польских рево¬
люционных организаций, причем рел с ними
длинные переговоры по вопросу о том,
подчинятся ли польские организации
русским революционным планам и согласны
ли они арестовать и, если будет потребовано,
то и убить Константина Павловича как одно¬
го из представителей царствующего дома.
Поляки очень уклончиво отвечали на эти
вопросы и вообще, видимо, не особенно до¬
веряли выдержанности и конспиративности
русских организаций. Бестужев же, по-
видимому, старался пустить им пыль в гла¬
за, явно преувеличивая средства заговора в
России. В эти переговоры вмешался и
Пестель, причем в его присутствии обсуж¬
дался вопрос о том, в каких пределах может
быть восстановлена Польша. Поляки выска¬
зывались, конечно, за восстановление
Польши 1772 г., но Пестель определенно
заявил, что он стоит за восстановление этно¬
графической Польши (без включения в ее
состав малорусских элементов) и лишь в
виду уступки соглашался присоединить к
ней литовские губернии.
В то же время Пестель употреблял чрез¬
вычайно энергичные усилия для возрож¬
дения тайного общества в Петербурге. Он
постоянно посылает туда своих посланцев
(кн. С. Г. Волконского, Матвея Муравьева,
Александра Поджио и др.), в 1824 г. едет и
сам. По его настояниям общество. было на¬
конец организовано; но довольно трудно бы¬
ло ему убедить членов этого Северного
общества следовать его планам и подчинить
их своей воле: северяне успели к этому
времени выработать себе самостоятельные
взгляды и сильно разногласили с Пестелем.
Возрождение тайного общества в Петер¬
бурге произошло не ранее 1822 г., когда
гвардия вернулась в Петербург. Тогда была
выбрана новая управа из Никиты Муравьева,
кн. С. П. Трубецкого и Николая Тургенева,
который, впрочем, отказался и был замещен
молодым офицером князем Евг. Петр. Обо¬
ленским. Организующим элементом был
здесь Никита Муравьев, который прежде
всего принялся за разработку проекта
конституции. Он решительно расходился во
взглядах с Пестелем по многим предметам.
Конституция Никиты Муравьева, с
одной стороны, и выработанная Пестелем
конституция под названием «Русская прав¬
да» — с другой, выражали как раз два со¬
перничающих течения среди этих
революционных кругов. Пестель в своей
«Русской правде», или «Государственном
завете», проектировал республиканское уст¬
ройство в России. На его теоретические
построения оказал большое влияние фран¬
цузский писатель Детю де Траси, который
125
написал известный комментарий к «Духу
законов» Монтескье. Под влиянием Детю де
Траси Пестель усвоил себе взгляд, что ника¬
кая монархическая конституция непрочна,
что монархическое устройство и народная
воля несовместимы, что поэтому всякое
конституционное монархическое устройство
есть nonsens. Понимая, что Россия к рес¬
публике не подготовлена, Пестель думал,
сокрушив при помощи военного переворота
существующий строй, и уничтожив царст¬
вующий дом, образовать военную диктатуру
в виде временного правительства, которое
путем энергической работы в течение
примерно 8—10 лет подготовило бы возмож¬
ность осуществления республиканского
строя в России. Разумеется, это вело бы к
военно-деспотическому режиму, так как осу¬
ществление этого плана потребовало бы, без
сомнения, подавления целого ряда контрре¬
волюционных восстаний.
Впрочем, и сама республика, про¬
ектированная Пестелем, была ярко
якобинского типа, с чрезвычайно сильной и
централизованной административной вла¬
стью.
Законодательная власть в этой рес¬
публике, по его плану, должна была принад¬
лежать вечу (избранному на основании
всеобщей двустепенной подачи голосов), но
все управление сосредоточивалось, по образ¬
цу французской директории, в руках пяти
человек — директоров, которые должны
были получить большую власть. При этом
Пестель не только не желал допускать ка¬
кой-нибудь автономии отдельных местно¬
стей, но, наоборот, желал совершенно, хотя
бы и насильственно, объединить всю Россию
в одно и однообразное политическое тело: он
даже не признавал самостоятельности
Финляндии и соглашался на отделение толь¬
ко Польши — под условием, впрочем, что
Польша примет социально-политический
строй, одинаковый с Россией; Финляндия
же должна была быть совершенно инкор¬
порирована, причем Пестель не признавал
даже местных языков. В вероисповедном
вопросе он держался аналогичных взглядов,
полагая, что православие в России должно
быть господствующей религией. По отно¬
шению к магометанам он предполагал резкое
вмешательство в их внутренний быт, желая
упразднить у них подчиненность женщин.
Евреев Пестель считал вредными эксплуата¬
торами крестьянской массы и думал
переселить всех евреев в Палестину, причем
хотел дать им необходимую для этого воен¬
ную мощь.
Таким образом, принципы Пестеля не
отличались либерализмом, но зато демок¬
ратическое начало было им проведено в его
плане очень глубоко, особенно в экономиче¬
ской области, где он считал необходимым
ввести новое, весьма своеобразное аграрное
устройство. Все земли он проектировал раз¬
делить на две части: одна, общественная,
должна находиться в коммунальном общест¬
венном управлении, другая, казенные земли
(по его терминологии), могла эксплу¬
атироваться казной или раздаваться по ус¬
мотрению центральной власти частным
лицам. Но во всяком случае Пестель считал,
что земля не может быть предметом частной
собственности и должна служить прежде
всего обеспечению народных масс. В этом
отношении план его был столько же
оригинален, сколько последователен и де¬
мократичен.
Что касается конституции Северного
общества, которая была составлена Никитой
Муравьевым, то она была монархическая.
Хотя сам Никита и многие другие члены
Северного общества соглашались, что, в
принципе, республика лучше монархии, но
они не надеялись ее осуществить, а если в
спорах с Пестелем не особенно сильно
отстаивали свои взглады, то главным обра¬
зом потому, что не имели возможности его
переубедить и переспорить, что знали по
опыту.
Но надо сказать, что в основание этой
монархической конституции были положе¬
ны принципы самых радикальных тог¬
дашних конституций. Главным образцом,
очевидно, послужила испанская
конституция 1812 г. Первый параграф
конституции Муравьева вполне определенно
устанавливал, что Русская империя не мо¬
жет быть принадлежностью никакой опреде¬
ленной фамилии, и во главу угла сразу
ставилась народная воля. Власть императо¬
ра была чрезвычайно ограничена. Вече у
Муравьева пользовалось не только всеми
законодательными правами, но даже полу¬
чало и права, обыкновенно принадлежащие
монарху,— право объявлять войну и заклю¬
чать мир и право амнистии.
Другой отличительной чертой муравьев-
ской конституции был федерализм с
широкой автономией провинций: рес¬
публика Пестеля была централизованной, а
монархия Муравьева была разделена на 13
(по второй редакции — 15) автономных
126
провинций, в каждой из которых должен был
быть своего рода парламент, своя дума
(избранная, впрочем, на основе цензового
избирательного права), которая подчиня¬
лась, конечно, общему руководству цент¬
ральной власти, но имела широкую
автономию. В социальном отношении Му¬
равьев не шел так далеко, как Пестель. По
его предположениям, крестьяне должны
были быть освобождены, но получали весьма
недостаточные земельные наделы, главная
масса земель должна была оставаться в
руках помещиков.
Эти два типа политических идеалов и
явились представителями двух главных те¬
чений, которые в это время существовали в
среде тайных обществ в России. Не столько
разделял тут вопрос о республике или мо¬
нархии, сколько о том, каким путем про¬
водить это: путем ли якобинским или путем
подчинения народной воле. Когда в Север¬
ном обществе в начале 1825 г. получил
преобладание К. Ф. Рылеев, то он также вы¬
сказывался, что можно предпочитать в
принципе республику, но что это будет
иметь значение только когда на это сог¬
ласится народ. Итак, главное, против чего
возражали члены Северного общества из
планов Пестеля,— это было намерение его
проводить республику во что бы то нй стало,
вопреки народной воле. Рылеев и Никита
Муравьев были в этом отношении насто¬
ящими народовольцами: они во главе угла
ставили народную волю. Зато в социальном
отношении настоящая демократическая точ¬
ка зрения была проведена тогда лишь в
оригинальном проекте Пестеля, принятом
членами одного только Южного общества.
Вот те течения, которые развивались в тог¬
дашних революционных кругах, отражаясь,
конечно, и во взглядах более широких слоев
общества.
ЛЕКЦИЯ XIII
Настроение императора Александра и его деятельность после Ахенского конгресса.— Согласие его с
Меттернихом.— Роль Священного союза в эту эпоху.— Греческое восстание и отношение к нему Алек¬
сандра.— Внутренняя политика Александра в 1820—1825 гг.— Отказ от преобразований.— Господство
обскурантизма.— Фотий и отставка Голицына.— Причина нерешительности политических преследо¬
ваний.— Отношение Александра к польской конституции.— Положение финансов и государственного
хозяйства.— Таможенный тариф 1822 г. и назначение Канкрина министром финансов.— Итоги царство¬
вания и общий заключительный взгляд на эпоху.
Обращаясь к правительственной дея¬
тельности в последние годы царствования
Александра I, приходится прежде всего
признать, что последнее пятилетие царство¬
вания Александра есть, несомненно, один из
самых мрачных периодов русской истории.
Со стороны правительственной деятельности
оно характеризуется прежде всего решитель¬
ным отказом от всяких либеральных преоб¬
разований.
В настроении самого Александра после
Ахенского конгресса наступил окончатель¬
ный перелом; он давно подготовлялся всем
ходом окружавшей Александра жизни и
внутренним процессом в его уме, выра¬
жавшимся в порабощении его мистицизмом.
Однако, как я старался уже показать, в
1818 г. еще живы были его симпатии к
либеральным учреждениям и к
конституционному устройству. Сделавшись
давцо уже резким противником рево¬
люционного движения всякого рода, Алек¬
сандр оставался, однако ж, вместе с тем
убежденным сторонником либеральных
доктрин и почти до начала 20-х годов был
верен своим мечтам о либеральном
политическом переустройстве России. Он
старался, как мы видели, открыто подчерк¬
нуть ту разницу, которая существовала в его
глазах между либеральными взглядами и
проявлениями революционного духа, и в осо¬
бенности революционного насилия.
Меттерних, который давно уже держал¬
ся противоположного взгляда и был убежден,
что между либерализмом и революционными
путями всегда существовала и существует
теснейшая связь, никогда не мог понять
точки зрения Александра; он поэтому на
всех конгрессах и международных сове¬
щаниях являлся постоянным и резким анта¬
гонистом Александра, считая его утопистом
и романтиком, а иногда приписывая пове¬
дение Александра и скрытым честолюбивым
замыслам, которые Александр якобы лишь
прикрывал своим сочувствием либерализму.
В 1820 г. это положение резко
изменилось.
127
История с Семеновским полком, которая
представлялась Александру результатом
революционных происков (что, как мы уже
ввдели, было вполне неосновательно), затем
резкое оппозиционное настроение второго
польского сейма и, наконец, то рево¬
люционное брожение, которое развивалось
повсеместно в Западной Европе и раз¬
разилось в конце концов революцией в Неа¬
поле и в Испании,— все это поколебало
убеждение Александра, что либеральные уч¬
реждения и революция — две разные вещи;
он увидел, как в европейском движении 20-х
годов и либералы, и революционеры дейст¬
вовали рука об руку против реакционных
правительств, которые не исполняли своих
обязательств и обещаний, данных народу.
Александру, давно уже относившемуся чрез¬
вычайно враждебно ко всему революционно¬
му движению, пришлось отказаться от
всяких связей с либералами и определенно
стать на сторону европейской реакции.
Вследствие этого последнего перелома во
взглядах Александра между ним и Мет-
тернихом образовалась полнейшая eftente
cordiale, полнейшее единомыслие, враждеб¬
ное всем народным движениям тогдашней
Европы.
Священный союз, образованный Алек¬
сандром в 1815 г., именно в это время
превратился в союз государей против жаж¬
давших свободы народов. Логика поведения
Александра в этих делах была такова, что
даже в вопросе о греческом освобождении
он, вопреки влечениям собственного сердца,
вопреки русскому общественному мнению,
вопреки взглядам многих своих единомыш¬
ленников в области мистицизма (как
например, баронессы Крюденер), формаль¬
но встал на сторону султана против его
взбунтовавшихся подчиненных, когда дело
освобождения греков пошло революционным
путем. Это было сделано настолько резко,
что ближайший сотрудник Александра по
иностранным делам граф . Каподистрия —
родом грек и греческий патриот — счел себя
вынужденным оставить свой пост, а другой
грек — русский генерал кн. Александр
Ипсиланти, ставший во главе восстания,
был демонстративно исключен из русской
службы: ему было объявлено, что Александр
не считает возможным иметь с ним что-либо
общее, а между тем внутренне Александр
одобрял поведение Ипсиланти и даже не
скрывал этого от окружавших его лиц. Если,
несмотря на такую политику Александра,
наши отношения с Турцией все-таки тогда
сильно поколебались,— а одно время дело
было на волосок от войны, так что русский
посол счел даже за лучшее потребовать пас¬
порт и уехать,— то все это произошло лишь
вследствие фанатического образа действий
самой Порты, которая была подзадориваема
к тому же английским послом графом
Страффордом.
Во внутренней политике Александра его
новое настроение выразилось, впрочем, и
после 1818 г. главным образом только в
отрицательной форме — именно в отказе от
всяких либеральных начинаний и в полном
равнодушии ко всякого рода преобразо¬
ваниям.
Сам Александр интересовался в этот
последний период своего правления только
военной администрацией, в особенности во¬
енными поселениями, которые развивались
весьма быстро наперекор общественному
мнению страны и протестам жителей, обра¬
щаемых в военных поселенцев. В это именно
время особенно сильно развивалось в Алек¬
сандре и то мистическое настроение, которое
в последние годы совершенно овладело его
умом. Он был весьма мрачно настроен и
старался забываться в путешествиях по
России, совершавшихся с необыкновенной
быстротой. Мистическое настроение, кото¬
рое овладело его душой, простиралось тогда
так далеко, что к нему получили доступ уже
не только английские квакеры или баронес¬
са Крюденер, а и прямые мракобесы и
изуверы вроде архимандрита Фотия.
Архимандрит Фотий был сначала про¬
стым законоучителем в одном из кадетских
корпусов, а затем вошел в моду, отчасти
благодаря своей поклоннице графине Орло-
вой-Чесменской, которая готова была для
него все сделать, а отчасти и при помощи
Аракчеева и того князя А. Н. Голицына, ко¬
торый заведовал Министерством духовных
дел и вскоре, неожиданно для себя, сделался
сам жертвой Фотия. По отношению к
Голицыну Фотий, поощряемый Аракчеевым,
дошел до такой степени наглости, что прок¬
лял Голицына за то, что тот продолжал
терпеливо относиться к инославным ве¬
роисповеданиям и сильно распростра¬
нявшимся тогда различным мистическим
сектам. Характерно, что Голицын, несмотря
на личную дружбу Александра, после этого
проклятия должен был оставить свой пост,
хотя личные дружеские отношения с Алек¬
сандром сохранились у него и после того.
При этом и самое Министерство духовных
дел и народного просвещения распалось на
128
свои составные части,— духовные дела
отошли опять к обер-прокурору Синода, ко¬
торым был сделан князь Мещерский; на пост
же Министра народного просвещения был
назначен адмирал А. С. Шишков, тот са¬
мый, который когда-то воевал с Карамзиным
за неприкосновенность старого русского
слога, а потом, во время Наполеоновских
войн, сочинял знаменитые патриотические
манифесты от имени Александра и читал
ему пророчества древних израильских про¬
роков. При Шишкове некоторое время сох¬
раняли свою силу и Магницкий, и Рунич.
Магницкий, покончив с разгромом Казан¬
ского университета, занялся в это время
составлением нового цензурного устава,
причем напряг до крайности всю свою
реакционную изобретательность.
Устав вышел небывалый по своему уль¬
трареакционному направлению. Опублико¬
ван этот устав был уже в следующее
царствование и просуществовал потом очень
недолго.
Следует, однако, заметить, что, несмот¬
ря на полный разгул реакции в этот период,
никаких резких преследований против рево¬
люционных организаций и обществ
правительством не было предпринимаемо, и
это обстоятельство многих наводило на
мысль, что правительство о них ничего не
знало. Но теперь можно считать установлен¬
ным, что Александр с 1821 г., в сущности,
был осведомлен почти о каждом шаге этих
обществ, получая постоянные доносы. Но,
узнавая о них все подробности, он долго не
принимал никаких мер. Мы уже видели, как
сам Александр в разговоре с Васильчико-
вым, докладывавшим ему содержание одного
из первых доносов, объяснил свое без¬
действие тем, что он сам был первым
министром распространения либеральных
идей и взглядов в России и что теперь ему
поэтому едва ли прилично резко преследо¬
вать последователей этих самых идей. Со¬
знавая это довольно ясно, Александр,
по-видимому, стеснялся принять решитель¬
ные меры.
Чрезвычайно странно было положение
тогдашней тайной полиции: шпионаж
развивался довольно быстро, но носил ка¬
кой- то академический характер. Правитель¬
ство знало, что в Южном обществе дело
приняло характер прямого заговора против
него, но мер никаких не принимало. Только
в самый последний год Александр обратил
внимание на донос унтер-офицера Шервуда
о Южном обществе: он принял Шервуда,
5 Зак. 271
действовавшего через Аракчеева, и поручил
ему добыть новые-сведения о положении дел
в Южном обществе. Уже будучи в Таганроге,
куда он отправился осенью 1825 г. с больной
императрицей, Александр решился, получив
дополнительный донос Шервуда и новый
донос капитана Майбороды, одного из
подчиненных Пестеля, принять более
решительные меры. В Южную армию был
послан генерал Чернышев с приказанием
арестовать главарей Южного общества и
начать расследование. Что вышло бы из
этого, если бы Александр не умер, довольно
трудно сказать, но можно предполагать, что
преследования заговорщиков не вылились
бы, вероятно* в такую жестокую форму, в
какой они разразились при Николае после
восстания 14 декабря.
В отношении Польши реакционное на¬
строение Александра выразилось в том, что,
после строптивого сейма 1820 г., он, вопреки
конституции, не собирал сейма в течение
пяти лет, а затем перед созывом его в 1825
г. издал, опять-таки вопреки конституции,
особый акт (acte additionnel), по которому
все заседания сейма, кроме дней его торже¬
ственного открытия и закрытия, делались
для публики и печати закрытыми.
Александр говорил в эти годы, что он
смотрит на конституцию 1815 г., как на
опыт. Несмотря на принесенную ей присягу,
он, по-видимому, считал себя вправе взять
обратно эту конституцию во всякий момент.
Польский сейм 1825 г. прошел наружно
более спокойно, чем сейм 1820 г.; на самом
сейме не проявилось такого резкого
оппозиционного настроения, как в 1820 г.,
но зато в польском обществе революционное
настроение развилось так же сильно, как в
русском. Это настроение выяснилось только
отчасти после 14 декабря и выразилось окон¬
чательно лишь в польском восстании
1830 г., подготовлявшемся, несомненно, еще
при Александре.
Основные причины недовольства здесь
заключались, впрочем, не в тех нарушениях
конституции, которые исходили от Алексан¬
дра, и не в тех сумасбродствах, которые
производил Константин, а в
неисполнившихся надеждах польского
общества на восстановление Польши в
границах 1772 г.
В России единственной областью управ¬
ления, которая стала приводиться в это вре¬
мя в порядок, было, пожалуй, Министерство
финансов, после того как министром фина¬
нсов, по рекомендации Аракчеева, вместо
129
Гурьева был назначен честный, экономный
и ученый человек Канкрин. Он был назначен
в 1823 г., когда финансы наши были в
полном расстройстве, и деятельность его
главным образом развилась уже при Нико¬
лае. Во всяком случае, экономическое поло¬
жение населения в конце царствования
Александра было весьма плачевное: налоги
собирались с необыкновенными трудно¬
стями; помещики, которые являлись ответ¬
ственными за своих крестьян, отдавались
сплошь и рядом в опеку за невзнос податей,
а казенные крестьяне подвергались беспо¬
щадной продаже имущества и даже домов. В
самые последние годы царствования Алек¬
сандра запад России страдал от неурожаев
и голодовок, с которыми было особенно труд¬
но бороться ввиду тогдашнего бездорожья.
Дороги, впрочем, строились в это время, но
строились бестолково, без всякого плана,
путем натуральной повинности, а эта нату-
Если мы оглянемся теперь назад, на
пройденную нами эпоху, нас не может не
поразить,-- по крайней мере, на первый,
поверхностный взгляд,— как сравнительно
мало достигнуто при таких огромных затра¬
тах и жертвах всего народа: ведь Россия в
конце царствования Александра в отно¬
шении условий государственной и общест¬
венной жизни — по крайней мере по
внешности — не далеко ушла вперед от вре¬
мен Екатерины, от времен Новикова и
Шварца. Все то же осталось в ней самодер¬
жавие наверху, крепостное право внизу и
господство всякого произвола —
административного и помещичьего. На¬
родились военные поселения, народное же
просвещение, сильно двинувшееся было впе¬
ред в начале царствования, теперь было
подавлено, искажено и изуродовано обску¬
рантскими и реакционными мерами
клерикалов и изуверов-мистиков; печать бы¬
ла сведена к нулю, и, казалось, все легаль¬
ные и мирные пути к свободному развитию
общества были отрезаны...
Но такое подведение итогов царство¬
вания было бы справедливо только с внеш¬
ней, формальной стороны. Остановиться на
нем было бы возможно лишь в том случае,
если бы мы ничего не знали о последующем
развитии России и если бы события царст¬
вования Александра изучались вне всякой
связи с общим процессом развития русской
жизни, Даже и теперь, когда мы изучили
только главнейшие события одного Алексан¬
дрова царствования, если мы бросим на них
ральная дорожная повинность была одной из
самых больших тягостей, лежавших на пле¬
чах крестьянского населения, так как для
выполнения ее крестьяне иногда целыми
деревнями выгонялись сплошь и рядом в
летнее рабочее время (особенно в июне во
время сенокоса), часто за сотни верст от их
жилищ.
Кабаки, которые были отобраны в казну,
процветали, население пропивало в них пос¬
ледние гроши; но доходы от винной регалии
упали, что зависело от невероятного воров¬
ства чиновников.
Вообще, воровство и злоупотребления
чиновников развились в это время до
крайних пределов — по единодушному
свидетельству всех современников.
Так кончилось это царствование, вызы¬
вавшее вначале у всех такие розовые надеж¬
ды.
более внимательный ретроспективный
взгляд и попытаемся глубже проникнуть в
их смысл, мы увидим, что то внешнее за¬
ключение об итогах этого царствования, ко¬
торое только что было сформулировано, было
бы, по существу, совершенно неверно.
Попробуем восстановить вкратце изло¬
женные события во внутренней их связи.
Ко времени вступления на престол
Александра процесс образования государст¬
венной территории вполне уже завершился,
по крайней мере в общих чертах. Борьба за
территорию уже не составляет в это время
насущной жизненной задачи Русского госу¬
дарства. Следовательно, заботы правитель¬
ства могли, наконец, обратиться на
внутренние нужды населения. При Ека¬
терине в России стал уже складываться
довольно значительный центр мыслящего
общества, и в нем стали ясно высказываться
стремления к . выработке самостоятельного
мировоззрения и даже известных
политических идеалов. В конце Ека¬
терининского царствования тогдашние либе¬
ралы и демократы становятся уже в
оппозицию правительству и терпят пресле¬
дования. При Павле эти преследования и
необузданный произвол власти достигли
огромных, неимоверных размеров и впервые
дали всему русскому образованному общест¬
ву, в массе, почувствовать и сознать
практическую важность гарантий против
правительственного произвола. Но когда Па¬
вел был устранен, обществом овладела без¬
заботная радость и розовое,
130
оптимистическое настроение. В нем не
видно было еще никаких сколько-нибудь
значительных и сознательных активных эле¬
ментов. Оно радуется фактическому осво¬
бождению от невыносимого гнета и с
беззаботным доверием и оптимизмом
смотрит на нового властелина, который
действительно преисполнен был благих на¬
мерений и самых передовых мечтаний.
Александр в тот момент, как мы видели,
мечтал облагодетельствовать Россию даро¬
ванием ей прочных «законносвободных» уч¬
реждений и затем удалиться в частную
жизнь. Но он был тогда неопытным юношей,
который не имел никаких основательных
знаний и был, в сущности, вовсе не подго¬
товлен к той великой миссии, которая ему
предстояла: он не знал настоящим образом
ни окружавшей его страны, ни даже самого
себя. Вскоре, при помощи своих ближайших
друзей-сотрудников, которых тогдашние
консерваторы совсем неверно окрестили
«якобинской шайкой», он убедился в
великой трудности осуществления
занимавших его мечтаний и политических
планов. В это же время он увлекся великими
проблемами современной мировой жизни и
европейской международной политикой и
ощутил в себе склонность и призвание к
занятию иностранной политикой. В резуль¬
тате государственные преобразования перво¬
го пятилетнего периода не пошли дальше
учреждения министерств и весьма скромной
реформы Сената. Труднейшими пре¬
пятствиями к быстрому движению вперед
были признаны: крепостное право,
ликвидировать которое было трудно без под¬
готовки, и почти полное отсутствие просве¬
щения в народе. Для устранения этого
последнего препятствия было сделано тогда
сравнительно много. Первые годы царство¬
вания Александра могут быть признаны са¬
мым блестящим периодом в истории
русского просвещения в XIX в. В этот
период, благодаря миру внешнему и внут¬
реннему, стала было пышно развиваться
торгово-промышленная деятельность в
России. В нем же были приняты первые
благоприятные меры к устройству быта кре¬
стьян, а в Остзейском крае — и к серьезно¬
му ограничению помещичьего произвола.
Начавшиеся в 1805 г, войны, испытан¬
ные нашими армиями поражения и полный
разгром наших союзников имели огромные
последствия для будущего хода дел в России.
Втянувшись в европейские коалиции 1805—
1807 гг. против Наполеона, Россия уже не
5*
могла остаться в стороне от великих со¬
бытий, развертывавшихся в Европе. Очень
может быть, конечно, что и во всяком другом
случае ей пришлось бы в конце концов
принять в них то или иное участие, но
несомненно, что политика Александра з
этом случае очень ускорила и определила
ход дела.
Тильзитский мир поставил его в трудное
положение. Александр, конечно, не был так
пуст и тщеславен, чтобы хоть на минуту
увлечься положением единственного равноп¬
равного союзника и друга великого завоева¬
теля Европы. Его мало привлекало
предложение Наполеона разделить власть
над миром, тем более что он хорошо знал
истинную цену словам и предложениям На¬
полеона, а необходимость заключить тесный
союз с человеком, которого он за несколько
месяцев перед тем с церковных амвонов
торжественно и всенародно объявил врагом
христианства и всего рода человеческого,
разумеется, не могла быть ему сладка.
Тильзитским договором он становился явно
вразрез с мыслями и стремлениями своего
народа, отчасти им же самим возбужден¬
ными, с настроением большей и лучшей
части русского общества и даже всех своих
близких. Континентальная система, к кото¬
рой он должен был присоединиться, до¬
вершила дело, прибавив к нравственному
унижению России еще и материальное разо¬
рение. Эти условия сильно поколебали и
даже почти уничтожили ту популярность,
которой Александр до тех пор пользовался в
России. Они же заставили впервые крепко
призадуматься значительную часть общест¬
ва над вопросами политики и толкнули ее на
путь более или менее сознательной и явной
оппозиции правительству. Люди столь
противоположных взглядов, как Сперанский
и Карамзин, одинаково свидетельствовали в
это время, что Россия полна недовольными.
Неосуществленный план государственного
преобразования Сперанского не мог поп¬
равить дела, а финансовый его план, также
в значительной мере не выполненный, при
всех своих достоинствах только сильнее
открыл глаза публике на пагубность предше¬
ствовавшей и последующей финансовой
политики и на неизбежность дальнейшего
разорения, от которого уже не могли совер¬
шенно спасти ни отказ от континентальной
системы, ни благотворный в тогдашних
обстоятельствах таможенный тариф 1810 г.
Это натянутое и в высшей степени труд¬
ное положение разрешилось войной 1812 г.
131
Ужасные бедствия и жертвы, вызванные
этой войной, хотя и опустошили самую куль¬
турную часть страны и разорили почти не¬
поправимо большую часть помещичьих
хозяйств, однако же в глазах населения
выкупались результатами этой войны. Насе¬
ление выдержало это испытание героически,
и война 1812 г. ярко выказала всю силу
национального сознания и государственной
крепости России. Если последствия
Тильзитского мира и разорительной
континентальной системы были в высшей
степени важны для образования критическо¬
го и оппозиционного настроения в русском
обществе, то последствия участия России в
великих Наполеоновских войнах и низло¬
жении Наполеона были еще неизмеримо
важнее для всего будущего развития русской
жизни. Они были огромны, проявлялись в
различных сферах и направлениях и все
содействовали различными способами уско¬
рению процесса разложения и ликвидации
сложившегося социального и политического
строя. Мы впоследствии увидим с большей
ясностью, какое значение в деле ликвидации
крепостного права имели разорение и
страшная задолженность помещичьих хо¬
зяйств. С другой стороны, мы уже видели
отчасти значение того факта, что масса
молодых, самых образованных по тогдашне¬
му времени и самых восприимчивых пред¬
ставителей русского общества побывали в
Западной Европе в самый момент перест¬
ройки и брожения тамошнего общества и
притом имели полную возможность позна¬
комиться с разными сторонами европейской
жизни, так как пребывание это было доста¬
точно длительное и для многих продолжа¬
лось и после заключения мира, в течение
трехлетней стоянки во Франции окку¬
пационного корпуса Воронцова. Мы видели,
как это обстоятельство подготовило образо¬
вание тайных обществ 10-х и 20-х годов. Мы
видели, как после окончания Наполео¬
новских войн русское общество опять
обратило свои надежды на реформаторскую
деятельность Александра, от которого, каза¬
лось, можно было ожидать тогда крупных
политических преобразований, после того
как он на деле подтвердил свои либеральные
взгляды конституциями, предоставленными
им или при его содействии Польше,
Финляндии, Франции и Швеции. Мы видели
также, как Александр вторично обманул эти
ожидания — ожидания, теперь уже не
имевшие того наивного и благодушного ха¬
рактера, как в начале царствования; мы
видели, как он, увлеченный ролью своей в
судьбах всемирной истории, не мог уже в
это время уделять достаточного внимания
нуждам и интересам внутренней жизни
России, в которой деятельность правитель¬
ства выразилась теперь главным образом в
учреждении военных поселений и в иска¬
жении всей системы народного образования.
В последний период царствования Алек¬
сандра, когда он сам окончательно разоча¬
ровывается в возможности развития мирным
путем либеральных учреждений и
конституционных начал и когда между ним
и Меттернихом устанавливается полная
entente cordiale во внешних делах, а во
внутренних между государем и мыслящим
обществом вырывается настоящая про¬
пасть,— исчезает последняя надежда в
обществе добиться мирным путем ослаб¬
ления гнета и правительственного произво¬
ла, а потому получают полное и быстрое
развитие те тайные революционные
организации, которые возникли после Напо¬
леоновских войн, но в первые годы после
своего возникновения не имели определен¬
ного революционного характера.
Шильдер, биограф Александра, уверяет,
что если бы Александр не умер 19 ноября
1825 г. в Таганроге, то по каким-то неу¬
ловимым признакам можно было будто бы
ожидать нового поворота в его взглядах и
настроении, и что, быть может, он был бы в
состоянии вывести Россию из того состояния
внутреннего расстройства, в которое он ее
завел в конце концов. Я этого не думаю, что
Александр совершил все, что мог, и в этом
отношении умер вовремя. Если бы он не
умер, он скорее бы отрекся от престола,
нежели дал бы начало новому курсу. Роко¬
вым образом он нарушил ту возможность
лично для себя последовательно и планомер¬
но вести Россию по пути прогресса и круп¬
ных коренных улучшений в ее быте, которая,
казалось, открывалась перед ним в начале
его царствования, нарушил, увлекшись воз¬
можностью участия в -великих мировых со¬
бытиях своего времени. Но очень может
быть, что если бы он этого не сделал, если
бы он не втянул в 1805 г. Россию в войну с
Наполеоном, если бы ему удалось еще долгое
время мирно идти и вести ее тем (в сущ¬
ности, колеблющимся) путем, которым он
шел в начале своего царствования,— он в
конце концов не ускорил бы, а, может быть,
даже замедлил бы тот путь внутреннего \
развития, которым шла наша родина. С его
неподготовленностью, неопытностью, с
132
отсутствием надежных сотрудников, при
всех тех условиях, в которых находилась
тогда Россия, путь этот не мог быть короток.
Те потрясения, которые последовали за вой¬
нами 1805—1807 гт.и которые вывели обще¬
ство из пассивно-оптимистического
настроения, в каком оно находилось раньше,
те экономические и материальные потря¬
сения, которые обусловились Тильзитским
миром и Отечественной войной, те огромные
нравственные приобретения, которые сдела¬
ло русское общество в бурную эпоху Напо¬
леоновских войн,— послужили, как я
думаю, более сильными факторами
движения в том социально-политическом
процессе, который развивался в XIX в. в
России и который мы изучаем. В ходе этого
процесса после Наполеоновских войн под
влиянием великих событий Александрова
царствования, совершились великие переме¬
ны, значение которых яснее откроется перед
нами, когда мы ознакомимся с обстоятель¬
ствами развития русской жизни в последу¬
ющее тридцатилетие.
Подводя итоги царствования Александ¬
ра, не мешает, однако же, остановиться и на
некоторых фактических и цифровых дан¬
ных.
Подводя эти итоги, надо сказать прежде
всего, что в отношении государственной
территории, несмотря на то что страна, как
уже сказано, вовсе не нуждалась в
расширении территории, что отлично созна¬
вал и сам Александр,— в царствование его
территориальные приобретения были гро¬
мадны.
Прежде всего, спасаясь от Персии, до¬
бровольно присоединилась к России Грузия.
Это мирное присоединение вызвало войну с
Персией и с незамиренными горцами Кав¬
каза, и в результате к концу царствования
были здесь завоеваны новые значительные
пространства, к западу и к востоку от Грузии
раздвинувшие наши закавказские владения
до берегов Черного и Каспийского морей.
Эти присоединения обусловили длительную
войну за покорение Кавказа, отделявшего их
от России, войну, завершенную лишь при
Александре II.
Затем были присоединены киргизские
земли, именно Усть-Урт (между
Каспийским и Аральским морями) и огром¬
ная Акмолинская область, по пространству
не уступающая любому второстепенному
европейскому государству. Потом была
присоединена Бессарабия, владение кото¬
рой, строго говоря, отнюдь не было для нас
необходимостью. Еще ранее была присо¬
единена Финляндия. Может быть, завое¬
вание Финляндии — особенно побережья
Финского залива — действительно было не¬
обходимым в стратегическом отношении для
организации правильной обороны Петербур¬
га на случай войны со Швецией или
Англией, но Финляндия была присоединена
вплоть до Ледовитого океана, т. е. в
границах, в сущности излишних. Надо,
однако, сказать, что отношения с финлянд¬
цами установились вполне благоприятные и
едва ли Финляндия жалела тогда о своем
присоединении к России.
Наконец, было присоединено Царство
Польское, судьба которого впоследствии так
тесно связалась с ходом русского обществен¬
ного движения.
Таким образом, территориальные
приобретения были огромны. Присо¬
единение этих окраин с иноплеменным на¬
селением выдвигает в XIX в. важный
расовый вопрос, который раньше почти
отсутствовал. Уже при Александре в
интеллигентских кружках, в особенности
среди радикалов, национальный вопрос
ставился довольно остро и был решаем в
противоположных смыслах людьми, вообще
стремившимися к одной цели: так, Пестель
решал его централистически, а Никита Му¬
равьев склонялся в сторону федерализма. Я
не говорю уж о,Карамзине, который смотрел
на этот вопрос с чисто националистической
точки зрения и являлся, несомненно, пред¬
ставителем самого распространенного в то
время воззрения.
Что касается дорог, которые связывали
бы эту огромную территорию, то в начале
царствования Александра было сделано до¬
вольно много для развития и упорядочения
водных путей — именно сети каналов; это
обстоятельство имело большое значение для
развития подвоза нашего сырья к морским
портам и для вывоза его за границу, но для
сообщения внутреннего эти каналы имели
второстепенное значение.
Сухопутные дороги строились бестолко¬
во; медленность сообщений оставалась
прежней: так, например, весть о смерти
Александра в Петербурге была получена
только на восьмой день, при всей быстроте
фельдъегерской скачки.
Что касается движения населения, то
прирост его, как мы видели, сильно колебал¬
ся: так, если считать по пятилетиям с начала
века, то в первое пятилетие прибыло 2600
тыс. душ обоего пола, во второе— 2100
133
тыс., затем, в следующее пятилетие, благо¬
даря войнам и эпидемиям — всего лишь
1495 тыс.; но зато после окончания Наполе¬
оновских войн население стало расти быст¬
рее: в четвертое пятилетие прибыло 3149
тыс., в пятое — 3174 тыс. Рост населения за
последнее пятилетие был еще сильно задер¬
жан неурожаями, которые вызывали
сильные эпидемии и голодовки, а то прирост
был бы еще значительнее.
Промышленность в общем развивалась
довольно значительно, хотя развитие ее
встречало несколько раз сильные пре¬
пятствия. Блестящий период ее развития
был в начале царствования,когда она могла
впервые вздохнуть свободно после Павла.
Затем наступает время первой Наполеонов¬
ской войны и континентальной системы,
которая нарушила правильный ход развития
промышленности, хотя, в частности, она же
способствовала развитию производства бу¬
мажной пряжи, которая именно с этого вре¬
мени, ввиду отсутствия подвоза готовой
пряжи из Англии, стала выделываться в
России из получаемого из среднеазиатских
ханств хлопка.
После тарифа 1810 г. мануфактурная и
фабричная промышленность получила более
быстрое развитие, но ход этого развития был
затруднен затем таможенными тарифами
1816 и 1819 гг., облегчившими доступ ино¬
странных товаров, и лишь после тарифа
1822 г. протекционное законодательство
опять способствовало развитию русской
промышленности.
Что касается, наконец торговли, то она,
вследствие этих постоянных изменений та¬
моженных тарифов, находившихся в связи
с заботами правительства о благоприятном
торговом балансе, и вследствие войн, пре¬
терпевала большие колебания, от которых
особенно страдала внешняя торговля.
Список сочинений и печатных материалов, относящихся
к истории России в царствование Александра Первого
L Жизнь и царствование императора
Александра. Общие сочинения
1. М. Я. Богданович. «История царствования
имп. Александра I и Россия в его время». 6 томов.
СПб., 1869—1871.
2. Я. К. Шильдер. «Имп. Александр I,
его жизнь и царствование». 4 тома. 2-е изд. СПб.,
1904. Особенно важны материалы, напечатанные
в «Приложениях» ко всем четырем томам.
3. Проф. Шиман. «Александр Первый» Пе-
рев. с немецкого. Изд. т-ва «Образование». М.,
1908.
4. Вел. князь Николай Михайлович. «Импе¬
ратрица Елизавета Алексеевна, супруга имп.
Александра!». СПб., 1908. 3тома.
5. Его же. «Переписка имп. Александра I с
сестрой, вел. кн. Екатериной Павловной». СПб.,
1910.
6. Его же. «Легенда о кончине имп. Алексан¬
дра I в Сибири в образе старца Федора Кузьмича».
СПб., 1907.
7. Его же. «Император Александр I. Опыт
исторического исследования» СПб., 1912 г. В двух
томах. Во II томе напечатаны материалы первок¬
лассной важности.
8. «История России в XIX в.». Изд. Граната,
под ред. М. Н. Покровского. Т. I и II.
9. А. А. Кизеветтер. «Император Александр
I и Аракчеев» в книге «Исторические очерки». М.,
1912.
II. Правительственная деятельность при Александре
1. Н. Storch. «Russland unter Alexander dem
Ersten», 9 томов. СПб., 1803—1805.
2. Вел. кн. Николай Михайлович. «Граф
П.А.Строганов (1774—1817). Историч. исследо¬
вание эпохи имп. Александра I». 3 тома. СПб.,
1903. Особенно важен т. И, в котором опублико¬
ваны журналы «Негласного комитета» 1801—1803
гг.
134
3. Его же. «Князь Долгорукий, сподвижники
Александра I». СПб., 1902.
4. С.М.Середонин. «Исторический обзор
Комитета министров». Т. I. СПб., 1902.
5. «Первое полное собрание законов» (1649—
1825). СПб., 1832.
6. «Журналы Комитета министров» (1802—
1812). Изд. под ред. А. Н. Куломзина. СПб., 1896.
f
7. «Memoires du prince Adam Gzartoryski et sa
correspondance avec I’Empereur Alexandre I-er.
Preface de m.Charles de Mazade de I’academie
fran^aise». P., 1887 (2-е изд. 2 тома. Имеется на
русск. яз. извлечение из этих мемуаров, напечатан¬
ных в «Русс, обозр.» за 1896 г., Ив. П. Корниловым,
сделанное довольно тенденциозно. При нем
библиографич. указатель книг и статей о кн. Чар-
торыйском, составленный г. Эпимах Шипилло. В
настоящее время мемуары Чарторыйского изданы
по-русски Некрасовым у под ред. А А. Кизеветте¬
ра. М., 1913 и 1914 (в 2-хтомах).
8. Козловский. «Александр I и Джефферсон».
«Русская мысль» за 1910 г., № 10.
9. Архив кн. Воронцова в разных книгах. В
особенности переписка гр. С. Р. Воронцова с Н. П.
Паниным, В. П. Кочубеем, Н. Н. Новосильцевым
и др. См. «Роспись сорока книгам архива князя
Воронцова», составл. П.П.Бартеневым. М., 1897.
10. «Материалы для жизнеописания гр.
Никиты Петровича Панина». Под ред. Брикнера, т.
VI—XIV. СПб., 1892.
11. «С.de La Harpe. Notice biographique» par O.
Monnard. Lausanne, 1838.
12. Г. P. Державин. «Записки». М., 1857.
13. И. И. Дмитриев. «Взгляд на мою жизнь».
М., 1866.
14. В. С. Иконников. Граф Н. С. Мордвинов.
«Историческая монография». СПб., 1872.
15. Гр. М. А. Корф. «Жизнь гр. Сперанско¬
го». 2 тома. СПб., 1861. Неизданная глава из этой
книги была напечатана позднее в «Русской
старине» за 1902 г., № 1.
16. План государственного преобразования
гр. М. М. Сперанского с приложениями. Изд.
«Русской мысли». М., 1905.
17. С. М. Середонин. Статья «Гр. М. М. Спе¬
ранский» в биографическом словаре, издаваемом
Русск. Имп. историч. обществом. Возражение на
нее В. И. Семевского см. в т. П юбил. издания «Оте¬
чественная война и русское общество». М., 1911.
18. Я. М. Карамзин. «О древней и новой
России в ее политическом и гражданском отно¬
шениях». «Русский архив» за 1870 г., стр. 2230—
2350.
19. Ф. П. Лубяновский. Воспоминания
(1777—1834). М., 1872.
20. Я. Я. Тургенев. «La Russie et les Russes».
P., 1847. 3 тома.
21. Ег. П. Ковалевский. «Гр. Блудов и его вре¬
мя». Т. I. СПб., 1871.
22. А. Я. Заблоцкий-Десятовский. «Гр. П.
Д. Киселев и его время». 4 тома. СПб., 1882.
23. В. И. Семевский. «Крестьянский вопрос в
России в XVIII в первой половине XIX века». Т. I.
СПб., 1888.
24. «Памятники истории крестьян XIV—XIX
в.» Под ред. А. Е. Вормса, Ю. В. Готье, А. А.
Кизеветтера, А. Я. Яковлева. М., 1910.
25. И.Блиох. «Финансы России XIX века». 4
тома. СПб,, 1882 (Особенно т. I.)
26. М. И. Туган-Барановский. «Русская
фабрика в прошлом и настоящем». Изд. 3-е. СПб,,
1909. Особенно главы I и И.
27. Лодыженский. «История русского тамо¬
женного тарифа». СПб., 1886.
28. В. И. Покровский. «Сборник сведений по
истории и статистике внешней торговли России».
Т. I, изд. д-та тамож. сборов. СПб., 1902.
29. Краткий историч. очерк развития и дея¬
тельности М-ва путей сообщения за сто лет его су¬
ществования (1798—1898). СПб., 1898. Изд. М-ва
путей сообщения.
30. Клаус. «Наши колонии». Вып. I. СПб.,
1869.
31. В. Я. Никитин. «Евреи-земледельцы»
(1807—1887). СПб., 1887.
32. А. Д. Градовский. «Русское государствен¬
ное право». 3 тома. СПб., 1875—1882.
33. Я. Ф. Дубровин. Письма главн. деятелей в
царствование импер. Александра I. СПб., 1883.
34. «Граф Аракчеев и военные поселения
1809—1831». С «Историч. обзором устройства во¬
енных поселений» полковника Петрова. Изд.
«Рус. старины». СПб., 1871.
35. В. Ратч. «Сведения о гр. А. А. Аракчее¬
ве». I. По 1798 г. СПб., 1864.
36. Я. Богуславский. «Аракчеевщина». СПб.,
1882.
37. Д. Я. Мертваго. «Записки». «Русск.
архив» за 1867 г.
38. Маевский. «Мой век». «Русск. ст.» за 1873
г.
39. Фон-Брадке. «Воспоминания». «Русск.
арх.» за 1875 г.
40. Гриббе. «Воспоминания». «Русск. стар.» за
1875 г.
41. Мартос. «Записки». «Русск. архив»за
1893 г.
42. Фишер. «Записки». «Историч. вест.» за
1908 г.
43. Эйлер. «Записки». «Русск. архив» за 1880
г.
44. Отто. «Черты из жизни, гр. Аракчеева
- по документам грузинского архива». «Древ, и нов.
Россия» за 1875 г.
45. А. А. Кизеветтер. «Имп. Александр I и
Аракчеев» в «Рус. м.» за 1910 (№10—12) и 1911 (№
2); перепечатано в книге г. Кизеветтера «Ис¬
торические очерки» М., 1912.
46. Акад. Сухомлинов. «Исслед. и статьи по
ист. литературы и просвещения». СПб., 1885. Т. I.
47. С. В. Рождественский. «История
Министерства народного просвещения с 1802—
1902». СПб., 1902.
48. «Сборник постановлений по Мин. народ,
просвещ.» Т. I. Царствование имп. Александра I
(1802—1825). СПб.,1864.
135
49. В. С. Иконников. «Русские университеты
в связи с ходом общественного образования». «Вест.
Евр.» за 1876.
50. С. Я. Шевырев. «История имп. Москов¬
ского университета». М., 1885.
51. В. В. Григорьев. «Императорский С.-Пе¬
тербургский университете течение первых пятиде¬
сяти лет его существования».СПб., 1870.
52. Я. Я. Загоскин «История имп. Казанско¬
го университета за первые сто лет его существо¬
вания». Т. I—Ш. Казань, 1909.
53. Д. Ф. Кобеко. «Императорский Царско¬
сельский лицей. Наставники и питомцы». 1811—
1843. СПб., 1911.
54. А. А Васильчиков. «Семейство Разу¬
мовских». 5 томов. СПб., 1882. Особенно важен для
истории просветит, деятельности правительства
при Александре 2-й том и прилож. к нему.
55. Е. М. Феоктистов. «Магницкий» М.,
1865.
56. В. Я. Стоюнин. «Александр Семенович
Шишков» в «Историч. сочинениях». Ч. I. СПб.,
1880.
57. А. Я. Пыпин. «Российское Библейское
общество»в «Вест. Евр.» за 1868 г., №№ 8, 9, 11 и
12.
58. С. Миропольский. «Фотий Спасский,
юрьевский архимандрит». «Вест. Европы.» 1878.
№№ 11 и 12.
59. История Правительствующего Сената за
двести лет (1711—1911). 5томов. СПб., 1911.
Ш. Иностранная политика и войны
1. С. М. Соловьев. «Имп. Александр Пер¬
вый». Политика. Дипломатия. СПб., 1877.
2. Вел. кн. Николай Михайлович, «Дипло¬
матические сношения России с Францией перед
1812 годом» (6 томов). СПб., 1905—1908.
/
3. Albert Vandal «Napoleon et Alexandre I.
L’alliance russe sous le premier empire». P., 1891. 3
volumes. Все три тома в настоящее время переведе¬
ны по-русски. (СПб., 1910,1911 и 1912). Автор —
большой поклонник Наполеона, и точка зрения его
противоположна точке зрения русского историка
С. М. Соловьева.
4. А. Сорель. «Европа и французская рево¬
люция». 8 томов. СПб., 1896—1908. Изд. Л.Ф.Пан¬
телеева (перев. с франц.).
5. О. Леттов фон Форбек. «История войны
1806—1807 гг.» Перев. с немецк. Варшава, 1898,4
тома.
6. Проф. Евг. Тарле. «Континентальная бло¬
када». СПб., 1913.
7. Генерал Леер. Война 1805 г. СПб., 1888.
8. Михайловский-Данилевский. «Описание
первой войны имп. Александра с Наполеоном».
СПб., 1844.
9. М. И. Богданович. «История Отечествен¬
ной войны 1812 г. по достоверным источникам». 3
тома. СПб., 1860.
10. Его же. «Война 1814 г.» СПб., 1865.
11. Bernhardt «Denkwurdigkeiten des he. Toll».
Leipz., 1856,2 тома.
12. Bemhardl «Geschichte Russlands und der
europ&ischen Politik in den Jahren 1814—1831».
Leipz., 1875,2 тома.
13. В. Надлер. «Имп. Александр I и идея Свя¬
щенного союза». 5 томов. Рига, 1886—1892.
Строгай и основательный разбор этого сочинения
дал Я. Я. Милюков в «Рус. мысли» за 1886 г.
14. Попов. Отечественная война 1812 г. Т. I.
Историч. жизнь. М., 1905.
15. Вел. кн. Николай Михайлович.
«Переписка имп. Александра I с сестрой Ека¬
териной Павловной^СПб, 1910.
16. Карпович. «Цесаревич Константин Пав¬
лович». СПб., 1899.
17. А. П. Ермолов. «Записки». М., 1861.
18. М. П. Погодин. «Алексей Петрович Ермо¬
лов. Материалы для его биографии». М., 1863.
19. «Краткие записки адмир. А. Шишкова,
веденные им во время пребывания его при блажен,
памяти Государе Императоре Александре I в б. с
французами в 1812 и последующих годах войны».
Изд. 2-е. СПб., 1832.
20. Акты, документы и материалы для
политической и бытовой истории 1812 г., собр. и
изд. под ред. Военского. Т. I (относящийся к Литве
и Юго-Зап. краю). Изд. в т. 128 «Сборн. имп. Русск.
ист. общ.»; т. П (относящийся к Остзейскому краю
в войну 1812г.) составляет т. 133 того же сборника.
21. Гервинус. «История XIX века». Перев. с
нем. М., 1873—1888,6-й том.
22. Файф. «История Европы XIX века». 3 то¬
ма. Перев. с англ. М. В. Лучицкой, под ред. проф.
Лучицкого. К царствованию Александра I относят¬
ся первые 2 тома.
23. «История России в XIX в.» Изд. Граната,
под ред. М. Я. Покровского. Т. I.
24. «Отечественная война в русской жур¬
налистике». Библиограф, сборник статей, отно¬
сящихся к 1812 г. СПб., 1906.
25. Я. Ф. Дубровин. «Отечественная война в
письмах современников» (1812—1815). СПб,
1882.
26. «Отечественная война и русское обще¬
ствоЮбилейное издание в 6 томах. Под
редакцией А. К. Дживелегова, С. П. Мельгуноваи
В. И. Пичета. Изд. Сытина. М., 1911—1912 гг.
27. В. В. Каллаш. «Двенадцатый год в вос¬
поминаниях и переписке современников». М.,
1912.
28. Michel OginskL «Memoires sur la Pologne».
P.
1827, т. IV.
29. Prof. Anatol Iewicki Zarus historyi nolskiej
az-donajnowszychczasow. W. 1913 (5-еиздание).
30. Sz. Askenazy. «Rosya-Polska 1815—1830
IT.»
31. H.M. Карамзин. «Мнение русского граж¬
данина» в «Неизданных сочинениях и переписке».
Ч. I. СПб., 1862.
32. Проф. Вобльци «Очерки по истории поль¬
ской фабричной промышленности». Т. I (1764—
1830 гг.) Киев, 1909.
13& А
IV. Положение населения и отдельных сословий в царствование Александра I
1. В. Э. Ден. «Население России в 5-й
ревизии». Т. I и 2-я часть т. II (1-я часть еще не
появлялась). М., 1902. На стр. 2 и 3 первого тома
перечислена литература по исследованию пе¬
реписей (ревизий) первой половины XIX в.
2.‘ Акад. Германн. См. его таблицу, напеча¬
танную в «Memoires de L’Academie des Sciences d. st.
P.b.». VII. 1820. p. 456.
О положении отд
5. С. М. Середонин. «Историч. обзор Комите¬
та министров». Т. I. СПб., 1902.
6. А Д. Градовский. «Русское государствен¬
ное право». Т. I. СПб., 1875.
3. Я. Я. Милюков. «Очерки по истории рус¬
ской культуры». Ч. I (население). Изд. 6-е СПб.,
1909.
4. В составл. под ред. Я. Я. Обручева* Воен¬
но-статистическом сборнике». Ч. IV («Россия»).
СПб., 1873. На стр. 50 и след, приведены погодные
данные о движении населения в России с начала
XIX в.
льных сословий
7. А В. Никитенко. «Моя повесть о самом се¬
бе и о том, чему свидетель в жизни был». Записки
и дневник (1804—1877 гг). Изд. 2-е. СПб., 1905. К
царствованию Александра относятся «Записки»
(1804—1824) в т. I.
О положении дворянства
8. В. Е. Романович-Словатинский. «Дворян¬
ство в России с XVIII в. до отмены крепостного
права». СПб., 1870. (Весьма важное пособие, дале¬
ко не устаревшее и в настоящее время.)
9. Барон С. А. Корф. «Дворянство и его сос¬
ловное управление за столетие 1762—1855 годов».
СПб., 1906. Книга, основанная на изучении более
новых материалов, нежели предыдущая, но зато
далеко не столь основательная и не свободная от
некоторых неточностей.
10. Я. Ф. Дубровин. «О бьгге русского дворян¬
ства в начале XIX в.». «Рус. старина» за 1899 г., №
1—3.
О положении крестьян
(отдел, до сих пор почти не разработанный
исследователями)
11. Энгельман. «История крепостного права в
России». Перев. с немецкого, под ред. А. А. Кизе¬
веттера. М., 1900.
12. Й. И. Семевский. «Крестьянский вопрос в
России в XVIII и первой половине XIX века». Т. I.
СПб., 1885. Собственно, вопрос о положении кре¬
стьян при Александре здесь затрагивается лишь
мимоходом, так как главная тема автора — кресть¬
янский вопрос в обществе, правительстве и литера¬
туре.
13. Статья В. И. Семевского в сборнике «Кре¬
стьянский строй». Т. I. СПб., 1905. «Крестьянский
вопрос в России во второй половине XVIII и первой
половине XIX века», ще автор воспользовался
многими новыми данными для освещения этого
вопроса.
14. Н. А. Рожков. «Экономическое развитие
России в первой половине XIX в.» в «Ист. России в
XIX в.», изд. т-ва Гранат, вып. П. М., 1909.
15. Статья В. И. Семевского «По поводу
статьи г. Рожкова» (К вопросу об экономич.
причинах падения крепостного права в России).
«Рус. мысль» за 1902 г., № 4.
16. Я. Е. Струве. «Крепостное хозяйство.
Исследование по экономической истории России в
XVII и XIX вв.». СПб., 1914.
17. А А Корнилов. «Из истории крепостного
хозяйства в России» в «Научном историческом
журнале», т. И, выпуск V.
18. В. И. Покровский. «Тверская 1уберния в
XIX столетии» в «Историко-статистич. описании
Тверской губернии» Т. I, стр. 153 и след.
19. АД. Повалиишн. «Рязанские помещики
и их крепостные». Рязань, 1903.
20. Кн. Я. С. Волконский. «Условия
помещичьего хозяйства при крепостном праве».
Рязань, 1898.
21. В. И. Снежневский. «К истории побегов
крепостных в последней четверти XVIII и в XIX
столетиях». Нижегород. сборник. Т. X. Н.-Новго¬
род, 1890.
22. Его же. «Материалы по истории крепост¬
ного хозяйства» в томах VI и VII «Действий ниже¬
город. архивной комиссии». Н.-Новгород, 1905 и
1909.
23. Я. М. Толстой. «Дворовые люди в старые
годы». «Отеч. зап.». 1860. № 1.
24. И. В. Лучицкий. «Из недавнего прошло¬
го». Киев, 1901. (из журн. «Киевская старина»).
25. Г-жа И. И. Игнатович. «Помещичьи кре¬
стьяне накануне освобождения». М., 1910. Изд. 2-е.
О положении городского населения
26. И.И.Дитятин. «Городское самоуправ- 27. Его же. «Статьи по истории русского пра-
ление в России. Городское самоуправление до 1870 ва» СПб., 1895.
года». Ярославль, 1877.
137
О положении духовенства
28. Я. Знаменский. «Приходское духовенство
в России со времени реформы Петра». Казань,
1880.
29. Его же. Чтения из истории русской церкви
за время царствования Александра I. Казань, 1885.
30. И. Снегирев. «Жизнь митрополита Пла¬
тона». М., 1856.
31. Я. Я. Милюков. «Очерки по истории рус¬
ской культуры». Ч. И, главы VI и VII.
V. Общественное и литературное движение при Александре I
1. А. Н. Пыпин «Общественное движение в
России при Александре I». Изд. 2-е. СПб., 1885.
2. Его же. «Российское библ. общество» в
«Вест. Европы» за 1868 г., №№ 8, 9,11 и 12.
3. Его же. «Материалы для истории масо¬
нских лож» в «Вестн. Евр.» за 1872 г., №№ 1, 2,7 и
11. Перепечатано в книге А. Н. Пышна «Русское
масонство» (Пг., 1916). Изд. под ред. В. Я. Вернад¬
ского.
4. А. А. Кизеветтер. «Из истории русского
либерализма (И. П. Пнин)» в книге «Историч.
очерки». М., 1912.
5. Сухомлинов. «Исследования и статьи по
истории литературы и просвещения в России» Т. I.
СПб., 1888.
6. Пятковский. «Очерки по истории русской
журналистики». СПб,. 1880. (Особенно главыIII—
XII во II томе «Истор. нашей литературы и общест¬
венного развития».)
7. Я. Я. Булич. «Очерки из истории русской
литературы и просвещения с начала XIX века» (В
«Историч. обозрении» за 1901 г. Тома XI и XII.) И
отдельно 2 тома. СПб., 1902 и 1905.
8. А. В. Никитенко. «Записки и дневник». Т.
I. (Записки 1804—1824.) СПб., 1905.
9. «История русской литературы XIX века»
Под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского. Т. I. М.,
1908.
10. М. Я. Погодин. «Н. М. Карамзин». (Ма¬
териалы для биографии.) 2 тома. М., 1866.
11. Я. К Бестужев-Рюмин. «Н. М. Ка¬
рамзин. Очерки жизни и деятельности» Ст. из
Биографич. словаря русских деятелей, издаваемо¬
го Имп. рус. историч. обществом. СПб., 1895.
12. Карамзин. «О древней и новой России».
«Рус. архив» за 1870 г., стр. 2230—2350. Имеется
отдельное издание под ред. В. В. Сиповского.
СПб., 1913.
13. Карамзин. «Неизданные сочинения и
критика». Ч. 1-я. СПб., 1862. (Здесь между проч.
«Мнение русского гражданина» по вопросу о
Польше).
14. Письма Н. М. Карамзина к И. И.
Дмитриеву с примечаниями и указателем, состав.
Я. К Гротом и Я. Я. Пекарским.
15. Остафъевский архив князей Вяземских.
Изд. гр. С. Д. Шереметева, под ред. и с примеч.
В. И. Сайтова. Пять первых томов. СПб., 1899—
1914.
16. Сочинения В. А. Жуковского. Изд. 9-е.
Под ред. П. А. Ефремова, СПб., 1902.
17. Письма В. А. Жуковского к А. И. Турге¬
неву. Изд. «Рус. архива». М., 1895.
18. «Уткинский сборник». Письма В. А. Жу¬
ковского, М. А. Мейер и Е. А. Протасовой. Под
ред А. Е. Грузинского. М., 1904.
19. А. Фомин. «Новый историко-литератур¬
ный клад». М., 1906. (О Тургеневском парижском
архиве.)
20. Статьи акад. В. М. Истрина в «Журн. М-
ва нар. проев.» за 1910 г. на основании документов
Тургеневского архива: «Дружеское литературное
общество 1801 г.», «Смерть Андрея Ивановича Тур¬
генева» и «Русские студенты в Геттингене в 1802—
1804 гг.».
21. М. Л. Вишницер. «Геттингенские годы
Н. И. Тургенева» в «Минув, годах» за 1908 г., №№
4—6.
22. Его же. «Барон Штейн и Н. И. Тургенев».
Там же, № 7.
23. В. И. Семевский. Н. Ив. Тургенев о кре¬
стьянском вопросе в царствование Александра I (по
неизд. матер.). «Вест. Евр.». 1909, № 1 и 2.
24. М. Я. Сухомлинов. «А. С. Кайсаров и его
литературные друзья». Сбор. отд. русск. яз. и сл.
имп. Академии наук. Т. LXV, №5. СПб., 1897.
25. «Архив братьев Тургеневых». Изд. Ака¬
демии наук. Вып. I—IV. СПб., 1911. (Дневники и
письма Н. И. Тургенева за 1806—1811 гг.); вып. II.
СПб., 1911. (Бумаги А. И. Тургенева.) Под ред.
Е. И. Тарасова и В. М. Истрина.
26. Речь президента имп. Академии наук,
попечителя С.-Петербург, учеб. округа (С. С. Ува¬
рова) в торжественном собрании Главн. педа¬
гогического института 22 марта 1818г. СПб. ,1818.
27. Л. Я. Майков. «Батюшков, его жизнь и
сочинения». СПб., 1896.
28. «Записки современника» (С. Я. Жихаре¬
ва), с 1805 по 1819 г. Ч. I — Дневник студента. Ч.
II — Дневник чиновника. СПб., 1859.
29. А. А. Корнилов. «Н .И. Тургенев и "Союз
благоденствия" в книге «Очерки по истории обще¬
ственного движения и крестьянского дела в
России» СПб., 1905.
30. Его же. «Семейство Бакуниных» (по
неизданным материалам). «Рус. мысль»за 1909 г.,
№ 5 и 6.
31. П. В. Анненков. «А. С. Пушкин. Ма¬
териалы для его биографии». СПб., 1873.
32. Я. В. Анненков. «Пушкин в Александров¬
скую эпоху». СПб., 1874.
33. Сочинения А. С. Пушкина. Изд Брокгау¬
за и Ефрона. Под ред. СЛ.Венгерова. (Вышло 4
тома.)
34. JI. Н. Майков. «Материалы для академич.
издания сочинений Пушкина». СПб., 1903.
138
35. «Письма Пушкина и к Пушкину» Под ред.
В. Брюсова. М., 1903.
36. Сочинения Пушкина. «Переписка» под
ред. В. И. Сабитова. СПб., 1906.
37. И. А. Шляпкин. «Из неизданных бумаг
Пушкина». СПб., 1903.
38. Н. Лернер. «Ai С. Пушкин. Труды и дни».
СПб., Изд. 2-е.
39. Я. К. Грот. «Пушкин, его лицейские то¬
варищи и наставники». Изд. 2-е. СПб., 1911.
40. В. О. Ключевский. «Евгений Онегин и его
предки». «Рус. мысль». 1887. № 2.
41. «Архив Раевских». Под ред. Б. Л. Модза-
левского. Т. I. СПб., 1908.
42. «Пушкин и его современники. Материалы
и исследования. Повремен. изд. к-сии для изд. соч.
Пушкина при отд. рус. яз. и слов, импер. Акад.
наук». СПб., 1904—1911. Вышло 10 выпусков.
43. Кн. П. А. Вяземский. «Старая записная
книжка» в собр. сочинений. Тома VIII—X.
44. «Девятнадцатый век». Историч. сборник.
Изд. П. П. Бартеневым. 2 тома. М., 1872.
45. П. Н. Милюков. «Главные течения рус¬
ской исторической мысли». Т. I. Изд. 2-е М., 1892.
46. М. О. Гершензон. «История молодой
России». М., 1908.
47. Его же. «Грибоедовская Москва». М.,
1913.
48. Его же. «Декабрист Кривцов и его братья».
М., 1913.
49. Я. Ф. Дубровин, «Русская жизнь в начале
XIX века» в «Рус. старине»за 1898—1901 и 1904 гг.
50. Р. Я. Сакулин. «Кн. В. Ф. Одоевский. Из
истории русского идеализма». 2 тома. М., 1914.
51. Я. А. Котляревский. «Литературные на¬
правления Александровской эпохи». СПб., 1907.
52. А. Я. Кирпичников. «Новые материалы
для истории Арзамаса». «Р. ст.». 1899. № 5 (здесь
помещен устав «Арзамаса».)
53. Сидоров. «Литературное общество «Арза¬
мас», в «Жур. М-ва н. пр.»за 1901 г., №№ 6 и 7.
54. Е. П. Ковалевский. «Гр. Блудов и его вре¬
мя». СПб., 1871.
55. Записки Ф. Ф. Вигеля. 2 т. СПб., 1891 —
1893.
56. Я. Я. Греч. «Записки о моей жизни».
СПб., 1886.
57. С. Я. Глинка. Записки (1774—1847).
1895.
58. Д Я. Свербеев. Записки (1799—1826). 2
тома. М., 1899.
59. А. С. Шишков. Записки, изданные в
Берлине, в 2-х томах, Ю. Ф..Самариным.
60. Я. Ф. Дубровин «К истории русской цен¬
зуры 1814—1820гт. «Рус. ст.» за 1900 г., № 12.
61. Его же. «Наши мистики-сектанты». «Рус.
ст.» за 1894 г., №№ 9—12, за 1895 г., №№ 1, 2 и
10—12 и за 1896 г., №1и2.
62. А. Я. Пыпин. «Г-жа Крюденер». «Вестн.
Евр.» за 1896 г., №№ 8 и 9.
63. Т. Соколовская. «Русское масонство и его
значение в истории общественного движения»
(XVIII и первая четверть XIX столетия). СПб., 1909
(?).
64. Я. Барсов. Архимандрит Фотий и кн.
Голицын. «Рус. ст.», 1881.
65. Рассказы кн. А. Я. Голицына, записан¬
ные Ю. Н. Бартеневым. «Рус. ст.», 1884.
66. «Fust A.N. Golitzin und seine Zeit. Aus den
Erlebnissen des Geheimraths von Gotze». Leipzig,
1882.
67. Я. Барсов. Записки А. С. Стурдзы. «Рус.
ст.», 1876. (Судьба рус. православ. церкви в царст¬
вование Александра I.)
68. В. Я. Семевский «Политические и обще¬
ственные идеи декабристов» СПб., 1909.
69. А. К Бороздин «Из писем и бумаг де¬
кабристов». СПб., 1906.
70. М. Довнар-Запольский. «Тайное общест¬
во декабристов». М., 1906.
71. Его же. «Мемуары декабристов». Киев,
1906.
72. Его же. «Идеалы декабристов». М., 1907.
73. Я. Я. Павлов-Силъванский. «Декабрист
Пестель перед Верховным уголовным судом».
СПб., 1906.
74. Его же. «Материалисты двадцатых гг.» в
«Былом» за 1906 г., № 7.
75. Его же. «П. И. Пестель» в «Рус. биограф,
словаре».
76. «Русская Правда» Пестеля, изд. под ред.
П. Е. Щеголева.
77. Записки Я. Д. Якушкина. М., 1905.
78. «Н.Н.Муравьев» (основатель учебн. заве¬
дения для колонновожатых) в «Соврем.» за 1852 г.,
т. ХХХ1П, отд. П.
79. Проект конституции Никиты Мих. MyL
равьева в кн. В. Е. Якушкина «Госуд. власть и про¬
екты декабристов». М., 1907 г. вместе с
«Обозрением проявлений политической жизни в
России» М. А. Фонвизина.
80. Д. А. Кропотов. «Жизнь графа М.Н.Му-
равьева» в связи с событиями его времени до назна¬
чения его губернатором в Гродно». СПб., 1874 г.
81. Записки Сергея Григорьевича Волконско¬
го (декабриста). Изд. кн. М. С. Волконского. СПб.,
1901.
82. Записки кн. М. Я. Волконской (жены
С. Г. Волконского). СПб., 1905.
83. В. Я. Богучарский «Из прошлого русского
общества». СПб., 1904.
84. В. И. Семевский, В. Я. Богучарский и
Я. Е. Щеголев. «Общественные движения в
России в первую половину XIX века. Т. I. Де¬
кабристы: М. А. Фонвизин, кн. Е. П. Оболенский
и бар. В. И. Штейнгейль». СПб., 1905.
85. Собрание сочинений К Ф. Рылеева (со
статьями о нем А. П. Герцена, Н. А. Бестужева и
г-на Балицкого). М., 1906.
86. Сочинения кн А. И. Одоевского, с биогр.
очерк., составл. М. Н. Мазаевым. СПб., 1893.
87. Полное собрание сочинений А. С. Грибо¬
едова, под ред. Я. А. Шляпкина. 2 тома. СПб.,
1889.
139
88. Я. Е. Щеголев. «А. С. Грибоедов и де¬
кабристы». Поарх. мат. с прилож. факсимиле дела
о Грибоедове. СПб., 1905.
89. Я. А. Котляревский. «Декабристы: кн.
А. Одоевский и А. Бестужев; их жизнь и литера¬
турная деятельность». СПб., 1907.
90. Его же, «Рылеев». СПб., 1907.
91 .Бар. Е. Розен. «Записки декабриста».
СПб., 1906.
92. Я. Е. Щеголев. «Первый декабрист В. Ф.
Раевский». СПб., 1908.
93. «Донесение следственной комиссии для
изыскания о злоумышленных обществах». СПб.,
1826 (печатано по высоч. повелению).
94. «Донесение варшавского следственного
комитета вел. князю Константину Павловичу. Вар¬
шава. 22 декабря 1826 года — 3 января 1827 года.
95. Шильдер. «Имп. Александр I; его жизнь и
царствование». Т. ГУ. (Здесь напечатаны важ¬
нейшие доносы на организаторов и участников
тайных обществ.)
96. Богданович. «Ист. царствования имп.
Александра I». Тома V и VI. СПб., 1871.
97. I.H. Schnitzler. «Histoire intime de la Pussie
sous les erapereurs Alexandre et Nicolas et
particulierement pendant la crize de 1825». 3 тома.
Брюссель, 1847.
98. Ф. Смит (перев. с немецкого). «История
польского восстания и войны 1830—31 гг.». СПб.,
1863. 3 тома. (К царствованию Александра
относится том I.)
99. Szymon Askenazy. «Lukasinski». Lwow,
1908.
100. Его же. «Rossya-Polska». Lwow,
Warszawa, 1907. (To же. «Russia-Poland»
«Cambridge modeme History».)
101. В. Козловский. «Россия и Царство Поль¬
ское в период его автономного быта». «Рус. мысль»
за 1906 г., №4.
Оглавление I части
Предисловие 17
Лекция L Общая характеристика
социально-политического процесса
развития русского народа и государства до
конца ХУШ в.— Борьба за территорию и ее
социально-политические результаты.—
Главные черты нового социально-
политического процесса развития русского
народа и государства, как они сказались в
конце ХУШ в
Лекция П. Положение России накануне
XIX в.— в конце царствования Екатерины
П.— Границы государства.— Значение
территориальных приобретений Ека¬
терины.— Пути сообщения.— Насе¬
ление.— Расовый состав его.—
Сословно-классовый состав населения.—
Положение различных разрядов кресть¬
ян.— Городские сословия.— Духовенст¬
во.— Дворянство.— Интеллигенция и
народные массы.— Развитие просвещения
в России и происхождение русской
интеллигенции.— Идеология народных
масс.— Раскол.— Положение государст¬
венной власти и ее органов.— Финансы в
ХУШ в.— Общие выводы
Список сочинений, относящихся к
истории России в царствование Ека¬
терины И'
Лекция 1П. Царствование Павла I.— Его
место в истории.— Биографические дан¬
ные.— Общий характер правительствен¬
ной деятельности Павла.— Крестьянский
вопрос при Павле.— Отношение Павла к
другим сословиям.— Отношение общества
к Павлу.— Положение финансов в царство¬
вание Павла и его внешняя политика.—
Итоги царствования Павла
Список сочинений, относящихся к
истории России при Павле I
Лекция IV. Царствование Александ¬
ра I.— Деление его царствования на
периоды.— Биографические данные.—
Воспитание Александра.— Его
женитьба.— Положение его при Ека¬
терине и в царствование
Павла
Сочинения, относящиеся к биографии
Александра I до вступления его на престол
Лекция V. Вступление Александра на
престол.— Его настроение и степень подго¬
товленности.— Первые сотрудники Алек¬
сандра и меры, принятые им в первые три
месяца.— Работа негласного комитета.—
Его состав.— План работ.— Обсуждение
политической реформы.— Крестьянский
18 вопрос.— Образование министерств и
преобразование Сената. Итоги работ не¬
гласного комитета
Лекция VI. Настроение общества в нача¬
ле царствования Александра и уровень
политических взглядов русского общества в
это время.— Важнейшие журналы 1802—
1805 гг.— Положение народных масс.—
Закон о вольных хлебопашцах 20 февраля
1803 г.— Крестьянская реформа в Остзей¬
ском крае в 1804 и 1805 гг.— Рост насе¬
ления.— Колонизация южных губерний.—
Еврейский вопрос.— Отношение
правительства к сектантам.— Русские
финансы и финансовая политика в 1801—
1805 гг.— Вопрос о государственных преоб-
24 разованиях в 1803 г.— Просветительская
деятельность правительства в 1802—1805
гг
33 Лекция VII. Второй период царство¬
вания Александра (1805—1807).— Между¬
народное положение России в начале XIX
в.— Разрыв с Наполеоном.— Планы Чар¬
торыйского и отношение Александра к
полякам в 1805 г.— Неудачный исход кам¬
пании 1805 г.— Война 1806—1807 гг.—
Разгром Пруссии.— Чрезвычайные приго¬
товления к войне с Наполеоном в России.—
Зимняя кампания 1807 г.— Истощение бо¬
евых средств России.— Тильзитский
мир.— Союз с Наполеоном. — Острое недо¬
вольство в России, вызванное Тильзитским
миром и его последствиями.— Проявления
и характер оппозиционного настроения в
обществе
Лекция VHL Решение Александра вер¬
нуться к внутренним преобразованиям в
1809 г.— М. М. Сперанский.— Разработка
плана государственного преобразования.—
Приступ к его осуществлению: учреждение
Государственного совета и преобразование
министерств.— Указ об экзаменах на чины
и о придворных званиях.— Отчаянное
положение русских финансов в 1809—1810
гг.— Финансовый план Сперанского.—
Записка Карамзина о древней и новой
России.— Падение Сперанского.— Поло¬
жение дела народного, просвещения.—
Открытие ученых обществ 83
Лекция IX. Ближайшие причины войны
1812 г.— Разрыв с Наполеоном.— Соотно¬
шение сил воюющих сторон и план вой¬
ны.— Общий ход военных действий.—
Настроение армии и народа в России.—
Положение Наполеона до Москвы и в Мос¬
кве.— Изгнание неприятеля из пределов
России.— Торжество Александра.— Пере¬
несение войны в Западную Европу.— Кам¬
пания 1813—1814 гг.—Низложение
Наполеона.— Венский конгресс.— Планы
Александра в отношении Польши и
Пруссии.— Интриги Талейрана и распри
между союзниками.— Решение польского
вопроса.— Положение дел в герцогстве
Варшавском и вопрос о его будущем устрой¬
стве.— Мистическое настроение Александ¬
ра и идея Священного союза 92
Лекция X. Возвращение Александра в
Россию в 1815 г.— Польская конституция
1815 г.— Положение дел в России в 1812—
1815 гг.— Бедствия и материальные жерт¬
вы населения.— Стоимость войны и
размеры опустошения.— Состояние
русских финансов.— Подъем народного ду¬
ха в России.— Состояние промышленности
и торговли в 1812—1815 гг.— Влияние На¬
полеоновских войн на сельское хозяйство и
крепостное право.— Влияние воз¬
вратившихся с войны офицеров на общест¬
во.— Распространение просвещения в
провинции.— Надежды общества на Алек¬
сандра.— Настроение его в 1816 г.— Забо¬
ты о содержании армии в связи с видами
внешней политики.— Идея военных посе¬
лений, ее происхождение и осуществле¬
ние.— Аракчеев.— Его характеристика.—
Ход дел в Комитете министров и открытие
злоупотреблений в 1816 г. — Роль Арак¬
чеева в Комитете министров и в других
учреждениях 100
Лекция XL Роль Государственного сове¬
та во время войн 1812—1815 гг.— Восста¬
новление его значения в 1816 г. с
возвращением в его состав адмирала
Мордвинова.— Деятельность Мордвинова и
финансовые меры 1816—1820 гг.— Тамо¬
женные тарифы 1816—1819 гг. и значение
их для курса бумажных денег и для
фабричной промышленности в России.—
Развитие фабричной промышленности при
Александре I.— Крестьянский вопрос в
1816— 1820 гг.— Освобождение остзейских
крестьян в 1816—1819 гг.— Освобождение
остзейских крестьян в 1816—1819 гг. и
отношение правительства и общества к кре¬
стьянскому вопросу в России.— Развитие
просвещения после 1812 г.— Роль
университетов.— Проникновение мисти¬
ческих течений.— Библейское общество.—
Министерство духовных дел и народного
просвещения.—Кн. А. Н. Голицын и его
сподвижники: Стурдза, Магницкий и
Рунич.— Разгром университетов.— Жур¬
налистика после 1815 г. и положение
печати.— Роль Министерства полиции.—
Настроение Александра в 1818—1820 гг.—
Речь его на польском сейме в 1818 г. . . . 109
Лекция XII. Возникновение тайных
обществ после Наполеоновских войн.—
«Союз спасения».— Устав его.— Пестель и
Мих. Муравьев.— Оппозиция Мих. Му¬
равьева и преобразование «Союза спа¬
сения» в «Союз благоденствия».— Его
устав, его организация и деятельность его
членов по четырем «отраслям».—
Политические вопросы среди членов сою¬
за.— Взрыв негодования против Александ¬
ра в 1817 г.— Вопрос о республике в 1820
г.— Влияние «семеновской истории», вто¬
рого польского сейма и неаполитанской
революции на настроение Александра.—
Закрытие «Союза благоденствия».—
Южное общество.— Деятельность в нем
Пестеля и других его членов.— Васильков¬
ская управа.— Общество соединенных сла¬
вян.— Северное общество.—
«Конституция» Никиты Муравьева и «Рус¬
ская правда» Пестеля . . . 119
Лекция ХШ. Настроение императора
Александра и его деятельность после Ахен¬
ского конгресса.— Согласие его с Мет-
тернихом.— Роль Священного союза в эту
эпоху.— Греческое восстание и отношение
к нему Александра.— Внутренняя
политика Александра в 1820—1825 гг.—
Отказ от преобразований.— Господство
обскурантизма.— Фотий и отставка
Голицына.— Причина нерешительности
политических преследований.— Отно¬
шение Александра к польской
конституции.— Положение финансов и го¬
сударственного хозяйства.— Таможенный
тариф 1812 г. и назначение Канкрина
министром финансов.— Итоги царство¬
вания и общий заключительный взгляд на
эпоху 127
Список сочинений и печатных ма¬
териалов, относящихся к истории России
в царствование Александра I 134
Оглавление 141
ЧАСТЬ II
ЛЕКЦИЯ XIV
Царствование императора Николая I.— Условия, при которых он вступил на престол.— Вопрос о престо¬
лонаследии.— Неопубликованный манифест Александра об отречении Константина.— Замешательство
и междуцарствие после смерти Александра до 14 декабря 1825 г.— Переговоры Николая с Кон¬
стантином.— Вступление на престол Николая.— Восстание 14 декабря 1825 г,— Его подавление.—
Личность императора Николая.— Биографические сведения о нем до его воцарения.— Расследование о
тайных обществах.— Расправа с декабристами и результаты знакомства с ними императора Николая.—
Влияние Карамзина и навеянная им программа царствования.
Ко времени вступления на престол
императора Николая в ходе внутреннего уп¬
равления и вообще в положении дел внутри
России накопилось много тяжелых, небла¬
гоприятных обстоятельств, которые в общем
создавали для правительства положение
чрезвычайно запутанное и даже довольно
грозное.
С начала царствования Александра на¬
копилось, как мы видели, много поднятых и
неразрешенных вопросов, разрешения кото¬
рых нетерпеливо ждала передовая часть
общества, приучившаяся к оппозиционному
отношению к правительству еще со времени
Тильзитского мира и континентальной
системы и успевшая, после близкого
общения с Европой в 1813—1815 гг., выра¬
ботать себе определенные политические иде¬
алы. Идеалы эти шли совершенно вразрез с
реакционным направлением правительства,
выражавшимся к концу царствования Алек¬
сандра в самых обскурантских и нелепых
формах. Все это, как мы видели, привело
мало-помалу не только к острому недоволь¬
ству и брожению среди передовой
интеллигенции, но к образованию в среде ее
прямого заговора, ставившего себе резко
революционные цели.
Это революционное движение за¬
вершилось, в силу случайных обстоятельств,
преждевременным и неподготовленным
взрывом 14 декабря 1825 г.— взрывом,
помогшим правительству Николая быстро
ликвидировать и подавить это движение же¬
стокими репрессивными мерами. В резуль¬
тате страна лишилась лучших и наиболее
живых и самостоятельных представителей
передового мыслящего общества, остальная
часть которого была запугана и терроризо¬
вана мерами правительства, а правительство
оказалось совершенно разобщенным’ в пред¬
стоявшей ему трудной работе с умственными
силами страны на все время царствования
Николая.
Между тем еще важнее и труднее, не¬
жели политические и административные за¬
дачи, стоявшие перед Николаем, были те
социально-экономические задачи, которые
назрели ко времени его царствования под
влиянием развития общего социального про¬
цесса в России, ход которого, как мы видели,
обострился и ускорился под влиянием Напо¬
леоновских войн. Развитие этого процесса
продолжало двигаться и обостряться в те¬
чение всего царствования Николая и приве¬
ло в конце концов к кризису, происшедшему
под влиянием нового внешнего толчка —
неудачной Крымской кампании, выдвинув¬
шей на историческую сцену с роковой необ¬
ходимостью период великих преобразований
50-х и 60-х годов.
Нам предстоит теперь изучить события
и факты, в которых проявлялся ход этого
процесса.
Вступление на престол императора
Николая произошло в исключительных
обстоятельствах, обусловленных неожидан¬
ной смертью императора Александра и весь¬
143
ма странными распоряжениями его по воп¬
росу о престолонаследии.
По закону о престолонаследии 5 апреля
1797 г., изданному императором Павлом,
если у царствующего императора нет сына,
ему должен наследовать следующий за ним
брат. Таким образом, так как у Александра
в момент его смерти не было детей, то
наследовать ему должен бы был следующий
за ним брат Константин Павлович. Но Кон¬
стантин Павлович, во-первых, с самого ма¬
лолетства имел, как он заявлял
неоднократно, такое же отвращение к цар¬
ствованию, какое вначале выражал и сам
Александр; с другой стороны, в его семейной
жизни произошли обстоятельства, которые
формально затрудняли его вступление на
престол: еще в начале царствования Алек¬
сандра Константин разошелся со своей пер¬
вой женой, которая в 1803 г. уехала из
России. Затем они долгое время жили врозь,
и Константин поднял, наконец, вопрос о
расторжении этого брака, добился развода и
женился вторично на польской графине
Жаннете Грудзинской, которая получила
титул светлейшей княгини Лович. Но брак
этот считался морганатическим, и потому не
только их дети лишались права на престол,
но и сам Константин Павлович, вступив в
этот брак, как бы тем самым отказывался от
престола. Все эти обстоятельства поставили
вопрос о переходе прав ггрестолонаследия к
следующему за Константином брату еще в
царствование Александра. Несмотря на это,
Константин Павлович до смерти Александра
продолжал считаться наследником престола
и носить связанный с этим титул цеса¬
ревича. Следующим за ним братом был
Николай. Хотя Николай и говорил потом
неоднократно, что он не ожидал, что ему
придется царствовать, но, в сущности, то
обстоятельство, что он являлся естественным
преемником престола за устранением Кон¬
стантина, было очевидно всем лицам,
знавшим закон о престолонаследии. Сам
Александр делал Николаю еще в 1812 г.
весьма недвусмысленные намеки на то, что
ему придется царствовать, а в 1819 г. уже
прямо заявил ему это, предупредив о воз¬
можности и своего отречения в недалеком
будущем.
В 1823 г. Александр признал необ¬
ходимым сделать на этот счет формальное
распоряжение — не столько на случай своей
смерти, сколько на случай своего собствен¬
ного отречения от престола, о чем он в то
время крепко подумывал.
Переговорив еще в 1822 г. с Кон¬
стантином, Александр получил тогда же от
него письменное отречение от престола; за¬
тем об этом отречении был составлен
манифест, подписанный Александром, в ко¬
тором он отречение Константина признавал
правильным и «назначал» наследником пре¬
стола Николая. Это вполне соответствовало
и тому обстоятельству, что при воцарении
Александра присяга приносилась ему и на¬
следнику, «который назначен будет».
Но этот манифест об отречении Кон¬
стантина и о назначении наследником Нико¬
лая удивительным образом не был
опубликован. Вместо того чтобы опублико¬
вать его, Александр секретно приказал кня¬
зю А. П. Голицыну снять с него три копии,
затем подлинник передан был митрополиту
Филарету для положения на престол Успен¬
ского собора в Москве, где он должен был
храниться в глубокой тайне, а копии были
переданы в Государственный совет, в Сенат
и в Синод для хранения в запечатанных
конвертах с надписью на конверте, передан¬
ном в Государственный совет, рукою Алек¬
сандра: «Хранить в Государственном совете
до моего востребования, а в случае моей
кончины раскрыть, прежде всякого другого
действия, в чрезвычайном собрании». По¬
добные же надписи были и на других двух
конвертах. Все эти копии были переписаны
рукою князя Голицына, и кроме вдовствую¬
щей императрицы Марии Феодоровны и
Константина, который, впрочем, манифеста
не видел (но знал, по-видимому, о его суще¬
ствовании),— самый манифест был изве¬
стен только князю Голицыну и Филарету.
Единственно, что можно придумать в объяс¬
нение этого поведения Александра,— это то,
что Александр делал все это главным обра¬
зом на случай своего отречения, а так как
отречение могло быть актом только
произвольным, то он и думал, конечно, что
все дело остается в его руках.
Когда в Петербург пришло 27 ноября
1825 г. известие о смерти Александра, то
Николай счел невозможным воспользоваться
неопубликованным манифестом и, зная от
Милорадовича, что гвардейские войска в
Петербурге отнюдь не расположены в его
пользу, хотел не прежде вступить на
престол, как добившись от Константина
формального и торжественного отречения в
его пользу. Поэтому он начал с того, что
присягнул Константину как законному
императору и, не слушая Голицына, кото¬
рый настаивал на распечатании пакета с
144
манифестом,хранившегося в Государствен¬
ном совете, приказал тотчас же привести к
присяге Константину войска петербургского
округа; а затем с донесением обо всем этом
и с изъявлением своих вернопод¬
даннических чувств отправил к Кон¬
стантину в Варшаву особого посланца.
Константин ответил через брата
Михаила, гостившего тогда в Варшаве, что
он давно уже отрекся от престола, но ответил
это частным письмом, не дав этому акту
опять никакого официального характера.
Николай считал, что такого письма недоста¬
точно, тем более что петербургский генерал-
губернатор граф Милорадович советовал
ему, ввиду нерасположения к нему гвардии,
действовать как можно осторожнее.
Чтобы избежать недоразумений, Нико¬
лай отправил в Варшаву нового посланца,
прося Константина приехать в Петербург и
подтвердить лично свое отречение. Но Кон¬
стантин лишь вновь подтвердил частным
письмом, что он отрекся еще при жизни
Александра, но лично приехать не может, а
что если на этом будут настаивать, то он
уедет еще дальше.
Тогда Николай решил, что приходится
прекратить эти затянувшиеся на целых две
недели переговоры и объявить самому о сво¬
ем вступлении на престол. Собственно,
манифест об этом был написан им, при
помощи Карамзина и Сперанского, уже 12
декабря, но опубликован он был лишь 14
числа, и на это число была назначена общая
присяга в Петербурге новому императору.
В конце этого необычного между¬
царствия до Николая разными путями стали
доходить тревожные вести о настроении
умов в Петербурге и вообще в России; но
Милорадович хотя и советовал действовать
осторожно, однако отрицал возможность
серьезного возмущения вплоть до самого 14
• декабря.
Между тем члены тайного общества, на¬
ходившиеся в Петербурге, решили восполь¬
зоваться этим небывалым замешательством
в своих видах; им представлялось, что не
может быть более благоприятного случая,
чтобы поднять восстание и потребовать
конституции.
14 декабря, когда был издан манифест о
том, что Константин отрекся и что следует
присягать Николаю, члены Северного обще¬
ства, главным образом гвардейские офицеры
и моряки, собиравшиеся ежедневно у Рыле¬
ева, сделали попытку убедить солдат, что
Константин вовсе не отрекся, что Николай
действует незаконно и что следует поэтому
твердо стоять на своей первой присяге Кон¬
стантину, требуя при этом конституции. За¬
говорщикам удалось, однако ж, взбунтовать
целиком только один Московский гвар¬
дейский полк; его примеру последовали не¬
сколько рот гвардейского флотского экипажа
и отдельные офицеры и нижние чины других
частей войск.
Собравшись на Сенатской площади,
восставшие заявили, что считают законным
императором Константина, отказываются
присягать Николаю и требуют конституции.
Когда весть об этом дошла до Николая,
он счел дело очень серьезным, но все же
хотел принять сперва меры для окончания
его, по возможности, без пролития крови. С
этой целью он сперва отправил увещевать
бунтовщиков Милорадовича, который поль¬
зовался, как известный боевой генерал,
значительным престижем среди войск и осо¬
бенно был любим солдатами. Но когда Мило¬
радович приблизился к взбунтовавшимся
частям войск и заговорил с ними, в него
немедленно выстрелил один из заго¬
ворщиков, Каховский, и Милорадович упал
с лошади, смертельно раненный. Так как к
бунтовщикам в это время присоединились
несколько батарей артиллерии, то увещевать
их вызвался в качестве начальника всей
артиллерии великий князь Михаил Пав¬
лович, но и в него был сделан выстрел
Вильгельмом Кюхельбекером, и Михаил
Павлович, хотя и не был ранен, должен был,
однако ж, отъехать. Затем для увещевания
солдат был послан митрополит Серафим, но
и его они не послушали и кричали ему,
чтобы он удалился. Тогда Николай распо¬
рядился, по совету окружавших его генера¬
лов, атаковать восставшие войска при
помощи конной гвардии, которой командо¬
вал Алексей Федорович Орлов, брат бывшего
члена «Союза благоденствия» Михаила
Орлова. Орлов двинулся было в атаку, но
лошади его не были подкованы как следует,
между тем была гололедица, и они не могли
идти быстрым аллюром, так как ноги у них
разъезжались. Тогда генералы, окружавшие
Николая, стали говорить, что необходимо
положить этому предел, потому что насе¬
ление мало-помалу присоединяется к бун¬
товщикам; действительно, на площади
появились толпы народа и штатские лица.
Тогда Николай распорядился стрелять;
после нескольких выстрелов картечью на
близком расстоянии вся толпа бросилась
бежать, оставив много убитых и раненых. Не
145
ограничиваясь этим, по инерции стреляли
еще и вслед толпе, когда она бросилась
бежать по Исаакиевскому мосту (это был
мост прямо с Сенатской площади к
Васильевскому острову), и тут было еще
убито и ранено довольно много народа.
На этом, в сущности говоря, все вос¬
стание в Петербурге и было прекращено. Все
остальные войска присягнули безропотно, и
инцидент был исчерпан. Николай приказал,
чтобы на другой день никаких трупов и
следов происшедшего не оставалось, а ус¬
лужливый, но неразумный обер-полицей-
мейстер Шульгин приказал бросать трупы
прямо в проруби, отчего потом долго ходили
толки, что при спешности этой уборки вме¬
сте с трупами бросали в прорубь и тяжело¬
раненых. Впоследствии обнаружилось, что
со стороны Васильевского острова целый ряд
трупов примерз ко льду; сделано было даже
распоряжение не брать в ту зиму здесь воды
и не колоть льда, потому что во льду попа¬
дались части человеческого тела1. Таким
мрачным событием ознаменовалось начало
нового царствования.
Затем последовали обыски и аресты по
всему Петербургу. Арестовано было несколь¬
ко сот человек — среди них много не прича¬
стных к делу, но вместе с тем были
арестованы и все главные вожаки.
Николай Павлович еще 10 декабря по¬
лучил первое предупреждение от молодого
поручика Ростовцева о готовящихся в
гвардии беспорядках и в то же почти время
он получил и от Дибича (начальника глав¬
ного штаба его величества, находившегося
при Александре в Таганроге) копии доносов
о заговоре в Южном обществе, где в январе
1826 г. произведена была тоже попытка во¬
оруженного восстания Сергеем Муравьевым
при Белой Церкви. Поэтому следствие нача¬
лось сразу о всех тайных обществах, кото¬
рые в то время существовали в России.
Следствие это наполнило собою первые ме¬
сяцы царствования Николая.
Но прежде чем приступить к изложению
первых шагов царствования императора
Николая/ необходимо дать некоторые све¬
дения о его личности. Николай был третьим
сыном императора Павла и после смерти
отца остался пятилетним ребенком.
Воспитание его взяла на себя целиком его
мать, Мария Феодоровна, Александр же из
ложной деликатности не считал себя вправе
вмешиваться в это дело, хотя, казалось бы,
воспитание возможного наследника престо¬
ла является делом государственным, а не
частным. Впоследствии, впрочем, отдельные
случаи вмешательства Александра в это дело
были, но они были скорее в невыгодную
сторону. Историки царствования Николая,
вернее, его биографы,— потому что история
.этого царствования еще не существует,—
большей частью придерживаются взгляда,
очень распространенного и среди совре¬
менников той эпохи, что Николай воспиты¬
вался будто бы не как будущий император,
а как простой великий князь, предназначен¬
ный к военной службе, и этим объясняют те
недочеты в его образовании, которые впос¬
ледствии чувствовались довольно сильно.
Этот взгляд совершенно неверен, так как для
лиц царской фамилии должно было пред¬
ставляться с самого начала вполне вероят¬
ным, что Николаю придется царствовать. Не
могла в этом сомневаться императрица
Мария Феодоровна, которая знала, что Кон¬
стантин царствовать не желает и что и у
Александра, и у Константина нет детей.
Поэтому нет сомнения, что Николай
воспитывался именно как наследник престо¬
ла, но воспитание его от воспитания Алек¬
сандра тем не менее отличалось чрезвычайно
сильно.
Мария Феодоровна, по-видимому, не
только не хотела сделать из него военного,
но с детских лет старалась его охранить от
увлечения военщиной. Это, однако, не поме¬
шало Николаю приобрести очень рано имен¬
но вкус к военщине. Объясняется это тем,
что самая постановка дела воспитания была
неудачной, так как ей не благоприятство¬
вали ни обстановка двора, ни педагогические
взгляды императрицы. Во главе воспитате¬
лей Николая, вместо Лагарпа, состоявшего
при Александре, был поставлен старый не¬
мецкий рутинер, генерал Ламсдорф, которо¬
го Мария Феодоровна в интимных
разговорах и письмах попросту называла
“papa Lamsdorf“ и который по старинке и
организовал воспитание Николая.
Николай был мальчик грубый,
строптивый, властолюбивый; искоренять эти
недостатки Ламсдорф считал нужным телес¬
ными наказаниями, которые он применял в
значительных дозах. Забавы и игры Николая
и его младшего брата всегда приобретали
именно военный характер, всякая игра
притом грозила кончиться дракой благодаря
своенравному и претенциозному характеру
Николая. В то же время атмосфера, в кото¬
рой он рос, была атмосфера придворная,
причем сама мать его, Мария Феодоровна,
считала важным делом соблюдение придвор¬
146
ного этикета, и это лишало воспитание се¬
мейного характера. Есть сведения о том, что
в раннем возрасте Николай проявлял черты
детской трусости, и Шильдер приводит рас¬
сказ о том, как Николай в пятилетнем воз¬
расте испугался пушечной стрельбы и
куда-то запрятался; но едва ли можно этому
факту, если он имел место, придавать особое
значение, так как в том, что пятилетний
мальчик испугался пушечной пальбы, нет
ничего особенного. Трусом Николай не был
и личную храбрость он впоследствии прояв¬
лял как 14 декабря, так и в других случаях.
Но характер у него с детства был не из
приятных.
Что касается учителей, которые были к
нему приставлены, то поражает чрезвычай¬
но случайный и скудный их выбор.
Например, его гувернер, французский
эмигрант дю Пюже, учил его и французско¬
му языку, и истории, не будучи к этому
достаточно подготовленным. Все это препо¬
давание сводилось к внушению Николаю
ненависти ко всяким революционным и
просто либеральным взглядам. Учился
Николай чрезвычайно плохо; все учителя
жаловались, что он никаких успехов не
оказывает,— исключение представляло
лишь рисование. Позднее он выказывал,
впрочем, большие успехи в военно¬
строительном искусстве и проявлял склон¬
ность к военным наукам вообще.
Когда он вышел из детских лет, то к нему
были приглашены, именно как к будущему
наследнику престола, очень почтенные и
сведущие учителя: так был приглашен до¬
вольно солидный ученый, академик Шторх,
читавший ему политическую экономию и
статистику; профессор Балугианский — тот
самый, который являлся в финансовой науке
учителем Сперанского в 1809 г.,— препода¬
вал Николаю историю и теорию финансов.
Но сам Николай Павлович вспоминал
впоследствии, что он за этими лекциями
зевал и что у него от них ничего не остава¬
лось в голове. Военные науки ему читали
инженерный генерал Опперман и разные
офицеры, приглашенные по рекомендации
Оппермана.
Мария Феодоровна думала было для до¬
вершения образования отправить обоих
своих младших сыновей, Николая и
Михаила, в Лейпцигский университет, но
тут император Александр неожиданно за¬
явил свое veto и предложил вместо того
отдать братьев в проектированный тоща
Царскосельский лицей, но когда этот лицей
был открыт в 1811 г., то вступление туда
великих князей тоже не состоялось, и все их
образование так и ограничилось домашними
занятиями.
В 1812 г. Николай Павлович, которому
исполнилось в это время 16 лет, очень
просил разрешить ему участвовать в Дейст¬
вующей армии, но император Александр
отказал ему в этом и тут-то впервые намек¬
нул ему, что ему предстоит в будущем более
важная роль, которая не дает ему права
подставлять свой лоб под пули врага, а
обязывает приложить больше стараний к
подготовлению себя к своей высокой и труд¬
ной миссии.
В Действующую армию Александр раз¬
решил своим братьям явиться лишь в
1814 г., но они тогда опоздали к военным
действиям и прибыли, когда кампания
1814 г. уже кончилась и войска находились
в Париже. Точно так же опоздал Николай
Павлович и к войне 1815 г., когда Наполеон
бежал с острова Эльбы и когда император
Александр опять позволил своему брату
прибыть к войскам. Таким образом, собст¬
венно во дни своей юности, во время Напо¬
леоновских войн, Николаю не удалось даже
издали видеть настоящее сражение, а уда¬
лось только присутствовать на великолеп¬
ных смотрах и маневрах, которые
последовали по окончании кампаний 1814 и
1815 гг.
Чтобы покончить с характеристикой
воспитания императора Николая, надо упо¬
мянуть еще, что в 1816 г. было предпринято
путешествие его по России для ознаком¬
ления его со страной, а затем ему предостав¬
лено было поездить по европейским дворам
и столицам. Но эти путешествия совер¬
шались, так сказать, на курьерских с голо¬
вокружительной быстротой, и Россию
молодой великий князь мог видеть только
поверхностно, лишь с внешней ее стороны,
и то преимущественно показной. Точно так
же ездил он и по Европе. Только в Англии
он пробыл несколько дольше и видел парла¬
мент, клубы и митинги,— которые, впрочем,
произвели на него отталкивающее впечат¬
ление,— и даже побывал у Овена в Нью-Ла-
нарке и посмотрел его знаменитые
учреждения, причем и сам Овен, и его
попытки улучшить судьбу рабочих
произвели тогда на Николая Павловича бла¬
гоприятное впечатление.
Замечательно, что Мария Феодоровна
опасалась, чтобы молодой великий князь не
приобрел вкуса к английским
147
конституционным учреждениям, и поэтому
для него была написана обстоятельная
записка министром иностранных дел гра¬
фом Несельроде, имевшая целью предох¬
ранить его от возможных увлечений в этом
отношении. Но те впечатления, которые
Николай Павлович вынес из поездки по
Англии, показали, что записка эта была
совершенно излишней: очевидно, он всем
предшествующим воспитанием был застра¬
хован от всякого увлечения так называемым
либерализмом.
Это путешествие по Европе закончилось
сватовством Николая к дочери прусского
короля Фридриха Вильгельма принцессе
Шарлотте, с которой он и вступил в брак в
1817г., причем вместе с православной верой
супруга его приняла наименование великой
княгини Александры Феодоровны. В 1818 г.,
когда Николаю Павловичу было всего 21 год,
он уже сделался отцом семейства: у молодой
четы родился будущий император Алек¬
сандр Николаевич. Весь конец царствования
Александра I протек для Николая отчасти в
радостях семейной жизни, отчасти во фрон¬
товой службе. Очевидцы свидетельствуют,
что Николай был в эти годы хорошим семь¬
янином и хорошо чувствовал себя в своей
семье. Общественная деятельность его за¬
ключалась в эти годы исключительно в во¬
енной службе. Правда, Александр и в это
время неоднократно делал ему намеки на то,
что ожидает его впереди. Так, в 1819 г. он
имел с Николаем, как я уже упоминал, очень
серьезный разговор, причем Александр
определенно предупредил своего младшего
брата и его жену о том, что он чувствует
утомление и думает отречься от престола,
что Константин уже отрекся и что царство¬
вать предстоит Николаю. Затем, в 1820 г.,
Александр вызвал Николая на конгресс в
Лайбах, говоря, что Николай должен зна¬
комиться с ходом иностранных дел и что
представители иностранных держав должны
привыкнуть видеть в нем преемника Алек¬
сандра и продолжателя его политики.
Несмотря, однако же, на все эти разго¬
воры, происходившие всегда с глазу на глаз,
во внешней жизни Николая никаких суще¬
ственных перемен не последовало. Он был
еще в 1817 г. произведен в генералы и затем
почти до конца царствования был ко¬
мандиром гвардейской бригады; правда, на
нем лежало почетное заведование военно¬
инженерным ведомством, но большая часть
его времени уходила именно на командо¬
вание бригадой. Дело это было скучное и
мало поучительное для будущего повелителя
великой страны. В то же время оно было
сопряжено и с неприятностями, так как
главной задачей великого князя было восста¬
новление наружной дисциплины в войсках,
сильно поколебавшееся в них во время за¬
граничных походов, в которых офицеры
привыкли выполнять правила военной
дисциплины только во фронте, а вне его
считали себя свободными гражданами и да¬
же ходили в штатском платье. С этими
привычками они вернулись и в Россию, а
Александр, особенно заботившийся о сохра¬
нении в армии воинского духа и считавший
весьма важным делом наружную
дисциплину, признавал необходимым
сильно подтянуть в особенности офицеров
гвардии. В этом деле «подтягивания»
гвардии одним из самых преданных
миссионеров и явился Николай Павлович,
который подтягивал свою бригаду не за
страх, а за совесть. Сам он в своих записках
жаловался, что делать это было ему довольно
трудно, так как он повсюду встречал глухое
недовольство и даже протест, ибо офицеры
егр бригады принадлежали к высшим кругам
общества и были «заражены» вольно¬
любивыми идеями. В своей деятельности
Николай часто не встречал одобрения и в
своем высшем начальстве, а так как он
педантически настаивал на своем, то скоро
своей строгостью возбудил против себя в
гвардии почти всеобщую ненависть, до¬
ходившую до такой степени, что в момент
междуцарствия 1825 г. Милорадович счел
себя обязанным, как я уже упоминал, пре¬
дупредить его об этом и посоветовать вести
себя как можно осторожнее, не рассчитывая
на общественное сочувствие к себе.
Александр, несмотря на то что для него,
по-видимому, было решенным вопросом, что
Николай будет после него царствовать, вел
себя по отношению к нему очень странно:
он не только не подготовлял его к делам
правления, но даже не ввел его в состав
Государственного совета и других высших
государственных учреждений, так что весь
ход государственных дел шел мимо Николая.
И хотя есть сведения, что после решитель¬
ных предупреждений Александра сам Нико¬
лай Павлович переменил свое прежнее
отношение к наукам и стал исподволь го¬
товиться к управлению государственными
делами, стараясь теоретически позна¬
комиться с ними, но несомненно, что это
мало ему удалось, и он на престол вступил
148
в конце концов не подготовленным — ни
теоретически, ни практически.
Те лица, которые стояли к нему близко,
как, например, В. А. Жуковский, который
сперва был приглашен учителем русского
языка к великой княгине Александре Феодо-
ровне, а потом сделался воспитателем ее
старшего сына и довольно глубоко вошел в
их семейную жизнь, свидетельствуют о том,
что Николай в этот период у себя дома был
совсем не тем суровым и неприятным педан¬
том, каким он являлся в своей бригаде. И
действительно, его домашний антураж был
совершенно другой, чем антураж военный.
Главным его другом по службе был генерал
Паскевич, который был строгим, тщеслав¬
ным и бездушным фронтовиком, игравшим
впоследствии большую роль в деле
организации русской армии в этом именно
направлении. Что же касается семейного
круга Николая, то тут его окружали такие
люди, как В. А. Жуковский, В. А. Пе¬
ровский и другие простые, умные и
симпатичные люди, нечасто встречающиеся
в придворной атмосфере.
Вступив на престол при тех обстоятель¬
ствах, которые я уже охарактеризовал,
Николай Павлович счел первой своей зада¬
чей расследовать до самых сокровенных
глубин все причины и нити «крамолы»,
которая, по его представлению, чуть не
погубила государство 14 декабря 1825 г. Он,
несомненно, преувеличивал, особенно в пер¬
вое время, значение и численность тайных
революционных обществ, любил выражаться
возвышенным слогом относительно этих со¬
бытий и своей собственной роли в них, все
представляя в героическом виде, хотя бунт,
который произошел в Петербурге, на самом
деле по тем материальным силам, какими
располагали заговорщики 14 декабря, был,
в сущности, довольно бессилен и если мог
иметь какой-нибудь успех, то разве благода¬
ря тому феноменальному беспорядку, кото¬
рый царил в это время во дворце. Аресты и
обыски, которые производились широкой
рукой, охватили едва несколько сот человек
во всей России, причем из человек пятисот,
которые были захвачены, большая часть бы¬
ла впоследствии выпущена и освобождена от
преследований. Таким образом, при всей
строгости сыска и при замечательной откро¬
венности большинства обвиняемых в их
показаниях, под суд было отдано в конце
концов всего 120 человек.
Но Николаю этот заговор и по окончании
дела представлялся чудовищным и громад¬
ным, и он был твердо уверен, что 14 декабря
он спас Россию от неминуемой гибели. Так
же смотрели на дело и многие приближен¬
ные. Очень трудно отделить здесь под¬
дакивания и лесть от искреннего
представления об этих событиях. При самой
коронации, когда Николай вступил в Ус¬
пенский собор, московский митрополит
Филарет, имевший тогда репутацию свобо¬
домыслящего архиерея, в своей речи сказал
между прочим: «Нетерпеливость вернопод¬
даннических желаний дерзнула бы вопро¬
шать: почто Ты умедлил? Если бы не знали
мы, что как настоящее торжественное
пришествие Твое нам радость, так и пред¬
шествовавшее умедление Твое было нам бла¬
годеяние. Не спешил Ты явить нам Твою
славу, потому что спешил утвердить нашу
безопасность. Ты грядешь, наконец, яко
царь не только наследственного Твоего, но и
Тобою сохраненного царства...»
Было немало людей, которые именно так
и представляли себе дело. И вот Николай
первые полгода своего царствования,
оставив в стороне все государственные дела
и даже военные, все силы направил на
разыскание корней заговора и на утверж¬
дение личной своей и государственной без¬
опасности. Сам он явился если не прямо
следователем, то ревностным верховным
руководителем всего следствия, которое
производилось над декабристами. Как сле¬
дователь он был часто пристрастен и неурав¬
новешен: проявлял большую вспыльчивость
и очень неровное отношение к лицам подс¬
ледственным. Это отразилось и в мемуарах
декабристов. Некоторые из них — кому
пришлось испытать на себе сравнительно
человечное отношение верховного следовате¬
ля — его хвалят, другие рассказывают, что
он на них набрасывался с необыкновенным
раздражением и несдержанностью.
Отношение изменялось в зависимости от
предвзятых взглядов на некоторых под¬
судимых, от различного отношения к разным
лицам и просто от личного настроения Нико¬
лая. Сам он в одном из писем к Константину
с большою наивностью писал, что учреж¬
дением Верховного уголовного суда над де¬
кабристами он показал чуть ли не пример
конституционного учреждения; с точки
зрения современной юстиции эти слова мо¬
гут показаться только насмешкой. Все дело
свелось к инквизиционному расследованию,
чрезвычайно глубокому и подробному, осо¬
бой следственной комиссией, руководимой
самим Николаем, которая и предрешила
149
весь конец дела. Верховный же суд являлся
простой торжественной комедией. Он
состоял из нескольких десятков лиц: в него
входили сенаторы, члены Государственного
совета, три члена Синода, затем 13 человек
были назначены в число этого верховного
синедриона по повелению императора Нико¬
лая,— но никакого суда, в том смысле, в
каком мы привыкли понимать это слово,
собственно, не было: ни судебного
следствия, ни прений сторон, было только
торжественное заседание такого судилища,
перед которым каждый подсудимый
приводился в отдельности; его допрашивали
чрезвычайно кратко, а некоторым даже толь¬
ко читали сентенцию, так что многие из
подсудимых были уверены, 4to их не
судили, что им только был прочитан приго¬
вор какого-то загадочного инквизиционного
учреждения. Так была обставлена уголовная
сторона этого дела. Николай в конце концов
проявил большую жестокость и беспощад¬
ность к подсудимым, но сам он считал, и,
по-видимому, искренне, что проявляет лишь
полную справедливость и гражданское му¬
жество. И, надо сказать, что как он ни был
пристрастен на следствии, в конце концов
ок всех покарал одинаково беспощадно,—
как Пестеля, которого считал исчадием ада
и в высшей степени зловредным человеком,
так и Рылеева, которого он сам признавал в
высшей степени чистой и возвышенной
личностью и семье которого оказал сущест¬
венную материальную поддержку. По приго¬
вору Верховного уголовного суда пять
человек были присуждены к казни четверто¬
ванием— им император Николай заменил
четвертование повешением; 31 человек были
приговорены к обыкновенной казни — через
расстрел; Николай заменил ее им каторж¬
ными работами — бессрочными и частью на
15—20 лет. Соответственно он понизил на¬
казание и другим; но большая часть все же
была отправлена в Сибирь (некоторые после
многолетнего заключения в крепостях), и
только немногие были отданы в солдаты без
выслуги.
Для последующего хода правления не¬
маловажна была и другая сторона этого
исключительного процесса. Николай, стре¬
мясь обнаружить все корни крамолы, вы¬
яснить все ее причины и пружины, углублял
дело расследования до чрезвычайности. Он
хотел добиться всех причин недовольства,
доискаться скрытых пружин, и благодаря
этому перед ним мало-помалу развернулась
картина тех непорядков русской обществен¬
ной и государственной жизни того времени,
размеров и значения которых он и не подоз¬
ревал раньше. В конце концов Николай
понял, что эти непорядки значительны и что
недовольство многих имело основание, и уже
в первые месяцы царствования он заявлял
многим лицам — в том числе и представите¬
лям иностранных дворов,— что он сознает
необходимость серьезных преобразований в
России. «Я отличал и всегда буду
отличать,— сказал он французскому пос¬
ланнику графу де Сан При,— тех, кто хочет
справедливых преобразований и желает,
чтобы они исходили от законной власти, от
тех, кто сам бы хотел предпринять их и Бог
знает какими средствами».
По приказанию Николая одним из дело¬
производителей следственной комиссии (Бо-
ровковым) была даже составлена особая
записка, в которую были включены сведения
о планах, проектах и указаниях, получен¬
ных от декабристов во время допроса или
сообщенных в записках, составленных не¬
которыми из них по собственному почину,
другими — по желанию Николая.
Таким образом, Николай совершенно
сознательно считал небесполезным и даже
необходимым заимствовать от декабристов,
как людей очень умных и хорошо проду¬
мавших свои планы, все то, что могло ему
пригодиться в качестве материала для госу¬
дарственной деятельности.
Упомянутая записка, составленная Бо-
ровковым, в заключении своем намечала и
определенные выводы, из которых, конечно,
лишь некоторые были навеяны показаниями
декабристов, другие же вытекали из общего
впечатления от выяснившегося перед импе¬
ратором Николаем внутреннего состояния
государства. Боровков так резюмирует эти
выводы о насущных нуждах государственно¬
го управления: «Надобно даровать ясные,
положительные законы; водворить право¬
судие учреждением кратчайшего судоп¬
роизводства; возвысить нравственное
образование духовенства; подкрепить дво¬
рянство, упавшее и совершенно разоренное
займами в кредитных учреждениях; воск¬
ресить торговлю и промышленность незыб¬
лемыми уставами; направить просвещение
юношества сообразно каждому состоянию;
улучшить положение земледельцев;
уничтожить унизительную продажу людей;
воскресить флот; поощрить частных людей
к мореплаванию, словом, исправить
неисчислимые беспорядки и злоупотреб¬
ления». В сущности, отсюда можно было
150
извлечь целую государственную программу,
но Николай принял из нее к сведению лишь
те факты и выводы, которые наиболее его
поразили.
Во всяком случае, среди декабристов он
видел по большей части не неопытных юно¬
шей, которые руководствовались одним юно¬
шеским пылом, а целый ряд лиц, которые
были ранее приобщены к делам высшей и
местной администрации. Таков был
Н. И. Тургенев — статс-секретарь Государ¬
ственного совета и директор одного из депар¬
таментов Министерства финансов, таков
был Краснокутский — обер-прокурор Сена¬
та, Батенков — один из близких сот¬
рудников Сперанского, а одно время и
Аракчеева, барон Штейнгейль — правитель
канцелярии московского генерал-губернато¬
ра. Николай не мог не видеть ума таких
представителей декабристов, как Пестель и
Никита Муравьев, но даже и у второстепен¬
ных членов тайных обществ, таких, как
Батенков или Штейнгейль, он мог черпать
немало полезных указаний.
Когда процесс декабристов был кончен,
в июне 1826 г., и когда пять человек,
считавшихся главными заговорщиками,
были казнены, то в манифесте, изданном по
случаю коронации 13 июля 1826 г., освеща¬
лось и отношение Николая к тайным обще¬
ствам и вместе с тем бросался взгляд на его
собственную будущую деятельность. «Не от
дерзких мечтаний, всегда разрушитель¬
ных,— сказало было, между прочим, в этом
манифесте,— но свыше усовершаются пос¬
тепенно отечественные установления, допол¬
няются недостатки, исправляются
злоупотребления. В сем порядке постепенно¬
го усовершенствования всякое скромное же¬
лание к лучшему, всякая мысль к
утверждению силы законов, к расширению
истинного просвещения и промышленности,
достигая к нам путем законным, для всех
отверстым, всегда приняты будут нами с
благоволением: ибо мы не имеем, не можем
иметь другого желания, как видеть отечество
наше на самой высокой степени счастья и
славы, провидением ему предопределен¬
ной».
Таким образом, манифест,
появившийся тотчас после расправы с де¬
кабристами, обещал ряд преобразований, и
едва ли можно сомневаться, что первые на¬
мерения Николая в начале его царствования
были намерения преобразовательные. На¬
правление и содержание этих преобразо¬
ваний должны были зависеть от общих
воззрений и взглядов молодого самодержца
на существо и задачи государственной
власти в России.
Уяснить и формулировать самому себе
эти общие политические воззрения и взгляды
Николаю Павловичу удалось при самом
вступлении на престол — главным образом
благодаря П. М. Карамзину, который, не¬
сомненно, явился в этот трудный момент
наставником и интимным советником нового
молодого и неопытного властелина России.
Если от декабристов Николаю Павловичу
пришлось получить первые поразившие его
сведения о беспорядках и злоупотреблениях
в делах управления, то Карамзин еще ранее
дал ему, можно сказать, общую программу
царствования, до такой степени пришедшу¬
юся Николаю по вкусу, что он готов был
озолотить этого незаменимого в его глазах
советника, стоявшего уже в то время одною
ногою в гробу2.
Карамзин, как вы знаете, не занимал
при Александре никогда никакого
правительственного поста, но это не мешало
ему выступать иногда сильным и резким
критиком правительственных мероприятий
— как в момент наибольшего расцвета либе¬
ральных предположений, в эпоху Сперан¬
ского, так и в конце царствования, когда
Карамзин резко осуждал политику Алексан¬
дра по польскому вопросу и не скрывал от
него своих отрицательных взглядов и на
военные поселения, и на обскурантскую де¬
ятельность разных Магницких и Руничей в
области народного просвещения и цензуры3.
По вступлении на престол Николая дни
Карамзина были уже сочтены: в самый день
14 декабря он простудился на Дворцовой
площади и хотя потом два месяца перемо¬
гался, однако же слег в конце концов и через
полгода умер, не воспользовавшись фрега¬
том, снаряженным по высочайшему пове¬
лению, чтобы везти больного историографа
в Италию. С первых дней междуцарствия,
начавшегося 27 ноября 1825 г., Карамзин по
собственному побуждению ежедневно являл¬
ся во дворец и там специально проповедовал
Николаю, стараясь передать ему свои воз¬
зрения на роль самодержавного монарха в
России и на государственные задачи данного
момента. Речи Карамзина производили на
Николая Павловича огромное впечатление.
Карамзин, искусно умея сохранить полное
уважение, даже благоговение к личности
только что скончавшегося государя, в то же
время беспощадно критиковал его
правительственную систему — до того бес¬
151
пощадно, что императрица Мария Феодоров¬
на, постоянно присутствовавшая при этих
беседах и, может быть, даже способствовав¬
шая их возникновению, воскликнула однаж¬
ды, когда Карамзин слишком резко
обрушивался на некоторые меры прошлого
царствования: «Пощадите, пощадите сердце
матери, Николай Михайлович!»,— на что
Карамзин отвечал, не смутившись: «Я гово¬
рю не только матери государя, который
скончался, но и матери государя, который
готовится царствовать».
Каковы были взгляды Карамзина на
роль самодержавия в России, вы уже знаете
из содержания записки его «О древней и
новой России», представленной им импера¬
тору Александру в 1811 г.4. Эту записку
Николай Павлович не мог тогда знать, ибо
единственный экземпляр ее был передан
императором Александром Аракчееву и
лишь в 1836 г.— после смерти Аракчеева —
был найден в его бумагах5. Но Карамзин
развил те же взгляды впоследствии (в 1815
г.) во вступлении к своей «Истории государ¬
ства Российского», и это вступление было,
разумеется, известно Николаю. В уме же
Карамзина мысли, выраженные в записках,
поданных им Александру <«0 древней и
новой России» — в 1811 г. и «Мнение рус¬
ского гражданина» — в 1819 г.), несомнен¬
но сохранялись в неизменном виде до конца
его жизни. Карамзин, верный в этом случае
взгляду, заимствованному им у Екатерины
И, считал, что самодержавие необходимо
России, что без него Россия погибнет, и эту
мысль он подкреплял примерами моментов
смуты в истории России, когда самодержав¬
ная власть колебалась.
В то же время на роль самодержавного
монарха он смотрел, как на своего рода
священную миссию, как на постоянное слу¬
жение России, отнюдь не освобождая монар¬
ха от обязанностей и строго осуждая такие
действия государей, которые, не соответст¬
вуя пользам и интересам России, основы¬
вались на личном произволе, капризе или
даже на идеологических мечтаниях (как у
Александра). Роль подданного в самодер¬
жавном государстве рисовалась Карамзину
не в виде бессловесного рабства, а как роль
мужественного гражданина, обязанного без¬
условным повиновением монарху, но в то же
время долженствующего свободно и искрен¬
не заявлять ему свои мнения и взгляды,
касающиеся государственных дел.
Политические взгляды Карамзина были, при
всем их консерватизме, несомненно ут¬
опией, но утопией, не лишенной известного
подъема и искреннего, благородного чувства.
Они стремились придать политическому аб¬
солютизму известную идейность и красоту и
давали возможность самовластию, к которо¬
му Николай был склонен по натуре, опирать¬
ся на возвышенную идеологию. Под
непосредственные и полусознательные
личные стремления Николая они подводили
принцип и давали молодому самодержцу
готовую систему, вполне соответствовавшую
его вкусам и наклонностям. Вместе с тем
практические выводы, которые Карамзин
сделал из своих общих воззрений, были так
элементарны и просты, что не могли не
понравиться и с этой стороны Николаю
Павловичу, свыкшемуся с юных лет с иде¬
ями военной фронтовой службы. Они ка¬
зались ему построенными на мудром и
величественном основании и в то же время
были ему вполне по плечу.
Взгляды, внушенные Карамзиным, не
исключали в то же время возможности и
даже необходимости приняться за исправ¬
ление тех злоупотреблений и неустройств
русской жизни, которые выяснились Нико¬
лаю при его сношениях с декабристами.
Карамзин, при всей консервативности его
взглядов, не был ни реакционером, ни обску¬
рантом. Он решительно осуждал обску¬
рантские меры Министерства духовных дел
и народного просвещения и изуверские
подвиги Магницкого и Рунича, отрицательно
относился к деятельности Аракчеева и к
военным поселениям и строго порицал зло¬
употребления финансового управления при
Гурьеве. После 14 декабря 1825 г. он говорил
одному из близких к нему людей
(Сербиновичу), что он «враг революции», но
признает необходимые мирные эволюции,
которые, по его мнению, «всего удобнее в
правлении монархическом».
Доверие к государственной мудрости
Карамзина было в Николае Павловиче так
сильно, что он собирался, по-видимому, дать
ему. постоянный государственный пост; но
умирающий историограф не мог принять
никакого назначения и вместо себя рекомен¬
довал в сотрудники Николаю более молодых
своих единомышленников из числа членов
бывшего литературного общества «Арза¬
мас»: Блудова и Дашкова, к которым скоро
присоединился и еще один видный «арзама-
сец» — Уваров, давший впоследствии окон¬
чательную формулировку той системе
официальной народности, отцом которой
был Карамзин6.
152
ЛЕКЦИЯ XV
Деление царствования императора Николая на периоды.— Первый период (1825—1831).— Сотрудники
Николая Павловича в первые годы царствования: Кочубей, Сперанский, Канкрин, Бенкендорф, Дибич,
Паскевич.— Комитет 6 декабря 1826 г.; его состав и задача; его деятельность.— Крестьянский вопрос.—
Военные поселения.— Кодификационные работы Сперанского.— Образование III отделения собственной
его величества канцелярии.— Направление Министерства народного просвещения.— Отношение к поль¬
ской конституции.— Международная политика.— Война с Турцией 1828—1829гт.— Конец первого
периода царствования.
Взгляды, заимствованные у Карамзина
и совершенно совпавшие с характером и
вкусами Николая, легди в основу его внут¬
ренней политики. | Николай Павлович
считал, соответственно этим взглядам, что
сам он является первым слугой государства
и что, посвящая всего себя государству, он
имеет право требовать того же и от других,
которые должны при этом служить по его
указаниям. Со своей, военной, точки зрения
он и не мог себе представить иной службы,
кроме службы, регулируемой высшим ав¬
торитетом и направляемой при помощи
строгой дисциплины и служебной иерархии.
Это убеждение и служило обоснованием его
абсолютизму, который развивался crescendo
во все время его царствования, переходя все
более и более в простое самовластие и де¬
спотизм^
(Царствование Николая можно раздели
в этом отношении на три периода: первый
— с 1826 по 1831 г., второй — с 1831 по
1848 г. и, наконец, третий — с 1848 по
1855 г. Эту периодизацию следует, впрочем,
принимать лишь для обозначения тех после¬
довательных изменений, которые
происходили в курсе правительственной де¬
ятельности Николая, и хотя, конечно, эти
изменения весьма резко отражались и на
жизни народа, и на положении общества, но
едва ли было бы справедливо на такие же
периоды разделить историю самого народа и
историю русского общества при Николае. В
этом отношении все царствование Николая
составляет, в сущности, один весьма важный
и цельный этап, в течение которого оконча¬
тельно скопились и обострились движущие
факторы социально-политического процес¬
са, разрешившегося частью в эпоху великих
реформ последующего царствования, час¬
тью не вполне разрешившегося и в наше
время.
Что касается первого периода царство¬
вания Николая, то, как я уже сказал, период
этот может быть охарактеризован как якобы
преобразовательный и, по крайней мере по
внешности, не противный прогрессу.
Но самая личность императора Нико¬
лая, его личные вкусы, характер, самов¬
ластие, которое все более и более
укреплялось в нем, уже тогда являлись су¬
щественной помехой всяким прогрессивным
начинаниям и преобразованиям, хотя бы и
самого умеренного характера. Следует
признать, что император Николай, ясно соз¬
навая в то время необходимость преобразо¬
ваний, боролся с собой, видимо, старался
обуздать свой собственный характер и пойти
навстречу тем нуждам, которые слишком
ярко были перед ним выставляемы, но уда¬
валось это ему по большей части довольно
слабо, и поэтому главнейшей чертой этого
периода являются удивительные противо¬
речия и колебания, которые обус¬
ловливались не нерешительностью
характера грозного повелителя России —
характер у него был очень решительный,—
а вызывались именно противоречием, в ко¬
тором находились его характер и его вкусы
предпринимаемыми начинаниями.
Такие колебания замечаются в это время
как во внутренней, так и во внешней
политике, причем они усиливались еще бла¬
годаря отсутствию определенного плана пре¬
образований.
Большинство, по крайней мере многие,
из биографов Николая I обыкновенно пред¬
ставляют его положение в это время чрезвы¬
чайно трудным, так как он в наследство от
Александра не получил достойных сот¬
рудников. Указывают, что в сущности Алек¬
сандр будто бы завещал ему одного только
Аракчеева. Это, конечно, несправедливо. Во-
первых, Аракчеев, не дожидаясь окончатель¬
ного воцарения Николая, сам решительно
устранился: еще 10 декабря 1825 г. он подал
прошение об освобождении его от докладов
по делам Комитета министров, т.е., в сущ¬
ности, от положения премьер-министра. Он
остался на некоторое время после того лишь
заведовать военными поселениями, но тоже
ненадолго: вскоре он уехал в отпуск за¬
границу, а затем окончательно оставил даже
заведование военными поселениями. По сво¬
153
ему тогдашнему настроению и по взглядам,
заимствованным от Карамзина и отчасти,
может быть, от Жуковского, который входил
с 1817 г. в его интимный семейный круг,
Николай решил твердо отказаться от всякой
связи с реакционерами конца царствования
Александра. Помимо устранения Аракчеева
от государственных дел Николай весьма рез¬
ко отнесся и к тем деятелям Министерства
народного просвещения, которые наиболее
усердствовали в последний обскурантский
период царствования Александра I. Так,
очень скоро пострадал Магницкий: он был
сначала отставлен от должности казанского
попечителя, а когда, спустя некоторое время,
государь узнал, что Магницкий продолжает
вмешиваться в дела и своими интригами
мешает деятельности нового попечителя, он
тотчас велел его арестовать и отвезти в
Ревель. Точно так же был отставлен от дол¬
жности и отдан под суд и попечитель Петер¬
бургского университета Рунич — в связи с
непорядками в материальной отчетности. В
то же время Николай решился унять и сок¬
ратить Фотия, который получил такое зна¬
чение в конце царствования Александра I;
ему было приказано не выезжать из своего
монастыря. Из представителей реакции кон¬
ца Александрова царствования при Николае
в течение некоторого времени продолжал
действовать один лишь Шишков. Но с уст¬
ранением Магницкого и Рунича Шишков
лично являлся сравнительно добродушным
реакционером, и наличность его одного во
главе Министерства народного просвещения
не давала возможности особенно под¬
держивать прежнее реакционное направ¬
ление. Гораздо, может быть, важнее для
будущего было не только сохранение, но и
возвышение одного из самых зловредных
помощников Аракчеева — генерала
Клейнмихеля, человека грубого, жестокого и
лицемерного. Впоследствии он играл важ¬
ную роль в качестве заведующего путями
сообщения и одного из столпов создавшегося
государственного строя.
Но вообще на первых порах гораздо
большую роль в сфере внутренней политики
и деятельности главных частей государст¬
венного управления сыграли представители
более умеренного консерватизма, соответст¬
вовавшего взглядам Карамзина. Из главных
сотрудников императора Александра, про¬
должавших свою деятельность при Николае,
здесь следует упомянуть графа (впос¬
ледствии князя) В. П. Кочубея и Мих. Мих.
(впоследствии графа) Сперанского. Но Ко¬
чубей, бывший одним из членов негласного
комитета в начале царствования Александ¬
ра, значительно устарел и во многом
изменил свои прежние либеральные взгля¬
ды. В сущности, он уже в записке, представ¬
ленной Александру в 1814 г., высказывал
взгляды, недалекие от взглядов Карамзина,
и тогда уже положительно утверждал, что
сохранение самодержавия надолго необ¬
ходимо в России1. Сперанский также во
многом изменил свои взгляды после катаст¬
рофы, постигшей его в 1812 г. Он совершен¬
но перестал быть идеологом политического
либерализма и прочно вступил на путь
политического практицизма и оппор¬
тунизма, посвятив все свои дарования и все
свое трудолюбие на второстепенные
технические усовершенствования существу¬
ющего государственного строя вместо
радикального его изменения. При вступ¬
лении на престол Николая мы видим его уже
не представителем тех политических взгля¬
дов, на которые с такой страстью и резкостью
обрушивался Карамзин в 1811 г., а скром¬
ным сотрудником и соревнователем самого
Карамзина, вкупе и влюбе с которым ему
пришлось теперь составлять, по поручению
Николая, манифест о вступлении его на
престол. Затем доверие Николая к Сперан¬
скому, поддерживаемое теперь Карамзиным,
поколебалось на один момент теми све¬
дениями, которые Николай получил о пла¬
нах Северного общества в случае успеха
революции поставить во главе временного
правительства Сперанского, Мордвинова и
Ермолаева. Вскоре, однако, Николай
убедился, что лица эти сами совершенно не
знали об этих своих кандидатурах и ни в
какое сношение с революционными
организациями не входили . В частности, в
неприкосновенности к этому делу Сперан¬
ского Николай Павлович настолько уверился
после продолжительной личной беседы с
ним, что тогда же написал Дибичу об этом
свидании со Сперанским и искреннем с ним
разговоре, упомянув при этом, что в
прежних своих взглядах Сперанский
«принес раскаяние». Неизвестно, в чем
именно каялся Сперанский, но, во всяком
случае, минутное недоверие к нему Николая
совершенно исчезло, и Сперанскому уже в
январе 1826 г. было, поручено заведование
комиссией законов, которая вскоре была
преобразована во второе отделение собствен¬
ной его величества канцелярии, в котором
Сперанский фактически исполнял обязан¬
ности главноуправляющего.
154
Что касается адмирала Мордвинова, то
его Николай к себе не приблизил. Он понял,
кончено, что подозрения его относительно
участия Мордвинова в делах тайного обще¬
ства были совершенно напрасны, и впос¬
ледствии высказывал ему наружное
уважение и признание его заслуг, но, не
сочувствуя его взглядам и направлению, ко¬
торых Мордвинов не изменил, держал его
вдалеке от активной правительственной де¬
ятельности. Мордвинов в это царствование
лишь изредка выступал со своими всегда
интересными и оригинальными мнениями в
Государственном совете.
Из лиц, унаследованных Николаем от
прежнего царствования, здесь следует еще
упомянуть об оригинальном и почтенном
государственном человеке, на деятельности
которого нам придется впоследствии подроб¬
нее остановиться,— о Егоре Францевиче
Канкрине, занимавшем при вступлении
Николая на престол пост министра фина¬
нсов.
Это был человек твердый, с определен¬
ными принципами; его финансовая система
заключалась главным образом в экономии
народных средств, и он постоянно оказывал
самую резкую оппозицию начинаниям
Николая, которые требовали значительных
денег, так что Николай впоследствии, когда
министром финансов в конце его царство¬
вания был статс-секретарь Брок, человек
очень бездарный и очень податливый, не раз
говорил ему шутя, что приятно иметь такого
покладистого министра финансов, как он,
Брок: «А то, бывало,— вспоминал импера¬
тор,— придет по мне Канкрин в туфлях (он
страдал ревматизмом), греет у камина спину
и на всякое мое слово говорит: нельзя, ваше
величество, никак нельзя...»
К чести императора Николая надо ска¬
зать, что он, несмотря на это, держал
Канкрина в продолжении целых 17 лет на
посту министра финансов,— до тех пор,
пока он сам, как ему казалось, не выучился
достаточно финансовой науке под руковод¬
ством того же самого Канкрина.
В переписке близких к тогдашнему дво¬
ру людей мы встречаем указания на то, что
император Николай, с самого начала выска¬
зав большое трудолюбие и желание всего
себя посвятить на службу государству, вме¬
сте с тем проявил большое неумение в выбо¬
ре людей. Этот недостаток, особенно при
неподготовленности его к делам правления,
составлял немаловажное препятствие к про¬
ведению даже тех скромных преобразо¬
ваний, которые были бы полезны государст¬
ву с его собственной точки зрения.
Кроме лиц, рекомендованных Ка¬
рамзиным, к делам внутреннего управления
самим Николаем, были привлечены те лица,
которые отличились в его глазах в деле
организации процесса декабристов. Первое
место среди них принадлежало генералу
Бенкендорфу, который с 1821 г. употреблял
тщетные усилия привлечь внимание импе¬
ратора Александра к распространению и
росту тайных обществ в России. Наряду с
ним выдвинулись на том же поприще следо¬
ватели по делу декабристов, генералы Чер¬
нышев и Левашев.
В военной сфере особым авторитетом в
глазах молодого государя пользовались гене¬
ралы Дибич и Паскевич. Первый из них был
начальником главного штаба, и в момент
смерти Александра у него в руках сосредо¬
точились все нити заговора Южного общест¬
ва. Он очень энергично принялся за дело
расследования, чем и внушил первоначаль¬
но доверие Николаю. Паскевич был давним
другом и прямым начальником Николая
Павловича еще с 1814 г. Оба они казались
императору Николаю высокоодаренными
полководцами, хотя впоследствии военные
таланты их со стороны военных писателей
подвергались большому сомнению.
Что касается реформ, которые предпо¬
лагалось предпринять в этот первый период
царствования, то для их осуществления или,
вернее, для выработки общего плана преоб¬
разовательной деятельности 6 декабря 1826
г. был учрежден особый комитет под предсе¬
дательством Кочубея. В состав этого комите¬
та входили из прежних министров кроме
Кочубея: Сперанский, кн. А. Н. Голицын и
генералы гр. П. А. Толстой, Дибич и
Ил. В. Васильчиков, а делопроизводителями
его были назначены молодые статс-секре¬
тари Блудов и Дашков. По краткой записке,
которую император Николай вручил Кочу¬
бею при самом открытии этого комитета,
занятия его должны были состоять прежде
всего в пересмотре и разборе бумаг, найден¬
ных в кабинете покойного императора Алек¬
сандра,— очевидно, из них Николай думал
почерпнуть много полезных мыслей и ука¬
заний о необходимых преобразованиях; во-
вторых, в пересмотре основ и уставов
нынешнего государственного управления; в-
третьих, в изложении мнений, что предпо¬
лагалось сделать в прежнее царствование,
что уже есть и что кончить оставалось бы,
наконец, что в существующем порядке
155
хорошо и чего оставить нельзя и чем в таком
случае заменить.
В таких неопределенных чертах было
дано поручение этому секретному государст¬
венному учреждению. Деятельность комите¬
та 6 декабря 1826 г. продолжалась регулярно
до апреля 1830 г., а затем в следующие два
года было несколько отрывочных заседаний,
и хотя комитет официально закрыт не был,
но в 1832 г. деятельность его окончательно
замерла.
Как видите, миссия комитета была очер¬
чена настолько широко, что, по-видимому,
занятия его могли принять такой же харак¬
тер, как и в начале царствования Алексан¬
дра, в знаменитом негласном комитете. Но
на самом деле никакого сходства между
этими двумя учреждениями не было: неглас¬
ный комитет Александра был составлен из
идейных представителей передовых течений
своего времени, а николаевский секретный
комитет 6 декабря 1826 г. состоял из людей
старого поколения, искусившихся и разоча¬
ровавшихся в жизни (как Сперанский, Ко¬
чубей и Голицын), или из молодых
карьеристов и доктринеров (как Блудов и
Дашков), которые никаких новшеств даже и
не предполагали вводить и вся деятельность
которых свелась к пересмотру уставов
высших центральных и губернских учреж¬
дений, а равно также действовавших тогда
«законов о состояниях», причем они про¬
ектировали некоторые изменения в поло¬
жении о дворянстве и средних сословиях, в
положении о дворянских выборах и об уп¬
равлении казенными крестьянами. Мимохо¬
дом они затрагивали крестьянский вопрос,
но нерешительно и вяло, так что сам импе¬
ратор их предположениями по этой части
остался совершенно недоволен3.
В крестьянском вопросе, важность кото¬
рого император Николай почувствовал после
первых крестьянских волнений,
случившихся в его царствование, он оказал¬
ся более прогрессивным и устойчивым, чем
во всех остальных начинаниях его царство¬
вания. При нем до 1848 г. крестьянский
вопрос не сходил с очереди: для обсуждения
с разных сторон этого вопроса при нем было
последовательно образовано целых 10 сек¬
ретных комитетов, и можно признать, что в
царствование Николая по крестьянскому
вопросу было сделано во всяком случае боль¬
ше, чем в царствование либерального Алек¬
сандра I. Главным деятелем по
крестьянскому вопросу при Николае, глав¬
ным начальником его штаба по этой части,
как Николай его называл шутя, явился гене¬
рал П. Д. Киселев. Ход этого дела я нахожу
более удобным рассмотреть при изложении
истории второго периода царствования
Николая, когда вопрос этот привлек к себе
наибольшее внимание правительства.
С самого начала своего царствования
Николай Павлович отнесся очень
скептически к военным поселениям. Со¬
хранились записки разных лиц, представ¬
ленные Николаю, с нападками на это детище
императора Александра. По-видимому, с са¬
мого же начала император Николай решил
от военных поселений отказаться, но
ликвидировать начатое дело оказалось не
так-то легко,— не говоря о том, что Николай
Павлович не был расположен подрывать ав¬
торитет своего покойного брата в деле, кото¬
рое было любимым его занятием в последний
период его жизни,— и военные поселения не
только просуществовали до конца царство¬
вания Николая, но даже были в отдельных
случаях и при нем расширяемы. Оконча¬
тельная ликвидация их затянулась до начала
царствования Александра II.
Особый взгляд на роль и обязанности
самодержавного монарха, с одной стороны,
недоверие и к обществу, и к чиновничеству,
с другой, выразились в самом начале царст¬
вования императора Николая в способе
производства тех дел, которые он считал
почему-либо особенно важными и трудными
и течение которых хотел выделить из общей
бюрократической рутины. Такие дела сосре¬
доточивались как бы в его собственном заве¬
довании и выключались из числа дел,
вверенных обыкновенным министрам. Для
непосредственного заведования такими де¬
лами император Николай стал создавать
особые отделения собственной своей канце¬
лярии. Лиц, заведовавших такими отде¬
лениями, император приравнивал по их
рангу к министрам, и они получали впос¬
ледствии звание главноуправляющих. Пер¬
вое вновь открытое отделение в январе 1826
г. было названо II отделением собственной
его величества канцелярии. В него были
переданы все дела упраздненной тогда
комиссии законов, и руководителем его
фактически сделался, как уже сказано, Спе¬
ранский, который имел по этим делам пос¬
тоянный доклад у государя, хотя формально
во главе делопроизводства поставлен был
статс-секретарь Булагианский.
Кодификационные работы, сосредоточенные
в этом отделении, как мы увидим,
действительно быстро пошли в ход под уме¬
156
лым руководством Сперанского и за¬
вершились в 1832 г. изданием первого пол¬
ного собрания законов и в 1833 г.
составлением и изданием свода действу¬
ющих законов по всем отраслям права и
управления.
Тем же порядком Николай Павлович
пожелал организовать и заведование высшей
(политической) и тайной полицией в госу¬
дарстве. После восстания 14 декабря и обна¬
ружения всей истории образования и роста
тайных обществ при Александре император \ j
Николай считал организацию полицейского \!
надзора в стране одним из важнейших госу¬
дарственных дел. Он решил выделить это •,.
дело из ведения Министерства внутренних ,у
дел, оставив в нем заведование одной лишь
общей наружной полицией, а для надзора за
состоянием и движением умов населения
признал необходимым создать особое учреж- Q
дение. В основу этих предположений поло- ™
жена была записка, поданная государю еще
в январе
1826 г. генералом Бенкендорфом, кото¬
рый и раньше, при Александре, обнаружил
большую склонность заниматься этим де¬
лом, но тогда не имел успеха. Теперь Нико¬
лай Павлович вменил ему в особую заслугу
те доносы и записки по делам об
организации правильного надзора за тай¬
ными обществами, которые Бенкендорф без¬
результатно делал императору Александру.
В записке своей Бенкендорф предлагал
образовать теперь для дел политической
полиции' особе министерство полиции, руко¬
водствуясь опытами наполеоновских учреж¬
дений подобного рода. После обсуждениям
проекта Бенкендорфа с генералами Дибичем
и Толстым и принимая, вероятно, во
внимание неудачный ход дел в вязмитинов-
ском и балашевском министерстве полиции
при Александре, Николай Павлович
решился образовать новое учреждение под
личным своим руководством и непосредст¬
венным заведованием Бенкендорфа.
25 июнМ^г£26 г. (в день рождения госу¬
даря) дан был указ об образовании особого
корпуса жандармов как особого самостоя¬
тельного учреждения с назначением шефом
жандармов генердл-адъютанта Бенкендор¬
фа, а через несколько дней (3 июля 1826 г.)
была упразднена особая канцелярия
министра внутренних дел, в которой ранее
сосредоточивались дела тайной полиции, с
передачей всех этих дел во вновь образован¬
ное III отделение собственной его величества
канцелярии, во главе которого был поставлен
тот же генерал Бенкендорф.
В круг ведомства III отделения, за¬
служившего впоследствии себе такую мрач¬
ную репутацию, входили следующие дела:
1) все распоряжения и известия по всем
вообще случаям высшей полиции; 2) све¬
дения о числе существующих в государстве
разных сект и расколов; 3) известия по
открытиям о фальшивых ассигнациях, мо¬
нетах, документах и проч., коих разыскание
и дальнейшее производство остаются в
зависимости министров: финансов и внут¬
ренних дел; 4) сведения подробные о всех
людях, под надзором полиции состоящих,
равно и все по сему предметы распоря¬
жения; 5) высылка и размещение людей
подозрительных и вредных; 6) заведование
наблюдательное и хозяйственное всеми мес¬
тами заключения, в коих заключаются госу¬
дарственные преступники; 7) все
постановления и распоряжения об иност¬
ранцах; 8) ведомость о всех без исключения
происшествиях; статистические сведения до
полиции относящиеся5.
Важным вопросом государственной
жизни, который привлекал особое внимание
Николая с самого начала царствования, был
вопрос народного просвещения. Внимание,
которое государь уделял этому вопросу, на¬
ходилось в связи со стремлением его подор¬
вать корни крамолы. Для императора
Николая являлось важной задачей так пос¬
тавить народное просвещение, чтобы оно
давало будущим гражданам желательное
правительству направление умов, чтобы оно
воспитывало верных и скромных слуг госу¬
дарству в каждом сословии и, таким обра¬
зом, давало бы устойчивость основам
существующего государственного строя
большую, чем та, какая была до тех пор. Во
главу угла здесь положено было убеждение в
необходимости давать каждому сословию
просвещение в такой мере, чтобы не
развивалось надежд и стремлений воз¬
выситься из одного сословия в другое. Было
предположено прежде всего ограничить
образование крестьянских детей — чтобы и
у них не развить мысли о выходе из того
состояния, в котором они находились. Нико¬
лай Павлович задумал издать в этом смысле
особый законодательный акт еще до образо¬
вания Комитета 6 декабря и хотел пред¬
ложить Государственному совету обсудить
этот вопрос. Этому воспрепятствовал Кочу¬
бей, который заявил, что хотя вопрос этот по
существу очень важен, но что не следует
157
*0
издавать об этом особого закона, так как
опубликование его может повредить новому
правительству во мнении иностранных де¬
ржав, которым следует дорожить; он реко¬
мендовал взамен этого дать просто рескрипт
министру народного просвещения, в котором
предписывалось бы крестьянских детей
принимать только в начальные школы.
Николай с этим согласился и дал такой
рескрипт Шишкову в мае 1827 г. В этом
именно направлении Министерство народ¬
ного просвещения действовало и впредь. В
1828 г. под председательством Шишкова
учрежден был особый комитет для пересмот¬
ра уставов и программ всех низших и
средних училищ, причем в состав этого
комитета вошли и оба будущих министра
народного просвещения: кн. Ливен и
С. С. Уваров.
В декабре 1828 г. новый устав уездных
училищ и гимназий был уже выработан и
получил утверждение. Отличительной чер¬
той этого устава было то, что он отрывал
уездные училища от гимназий. Прежде уез¬
дные училища были, как вы знаете, подго¬
товительной ступенью к гимназиям, отныне
этому был положен предел: уездные и го¬
родские училища были сделаны совершенно
особыми низшими учебными заведениями с
законченным курсом. Гимназиям же были
приданы низшие классы, и переход из уез¬
дного училища в гимназию сделался невоз¬
можным. Гимназии были отныне
предназначены для воспитания детей только
дворян и чиновников. Резкие меры были
приняты и к прекращению воспитания детей
при помощи вольных учителей, так как было
замечено, что многие из числа декабристов
были воспитаны именно такими вольными
учителями-французами.
Чтобы закончить изложение главнейших
обстоятельств и событий первого периода
правления Николая I, следует еще упомянуть
о его отношении к Польше. Здесь Николаю
Павловичу приходилось при действии
конституции 1815 г. являться монархом
конституционным, к чему он вовсе не был
расположен, и, однако же, следует признать,
что он, видимо, старался себя переломить и
корректно исполнять долг конституционного
короля польского в первые годы своего цар¬
ствования. Он отправился в Варшаву в
1829 г., принес там после некоторого коле¬
бания присягу конституции в католическом
костеле, а затем созвал и сейм — как только
ему позволило это прекращение военных
действий в Турции. Можно сказать, что до
восстания 1830 г. Николай в качестве
конституционного монарха, наперекор
своим личным вкусам, был более корректен,
чем Александр — творец польской
конституции 1815 г.
В международных отношениях Николай
I проявлял в первые годы царствования те
же колебания, которые характеризовали и
его внутреннюю политику. Подчиняясь голо¬
су народному, он считал в это время необ¬
ходимым защищать греков от турецких
неистовств, а в письмах к цесаревичу Кон¬
стантину он греков называл гнусными и
наглыми бунтовщиками, которые не за¬
служивают никакого сочувствия и которых
следовало бы заставить подчиниться султа¬
ну. Это вынужденное заступничество за гре¬
ков привело его, однако, к войне с Турцией.
Русский флот вместе с французским и
английским флотом участвовал в уничто¬
жении турецкого флота при Наварине, и
султан считал Россию главной виновницей
этого события. В возникшей войне в Турцией
император Николай в 1828 г. стремился
только заставить ее принять свои требо¬
вания, в то же время стараясь не наносить
ей слишком сильных поражений, не желая,
чтобы турецкая монархия разрушилась.
Благодаря этой нерешительности действий
первый год войны окончился довольно неу¬
дачно, и только в 1829 г., когда Николай,
приняв к сведению то откровенное заяв¬
ление, которое ему было сделано генералом
Васильчиковым, не поехал на войну лично
и предоставил новому главнокомандующему
(Дибичу) свободу действий* кампания
окончилась успешно. Но условия,
предписанные Турции,— опять-таки из тех
же побуждений,— всех изумили своей уме¬
ренностью.
Этот первый период царствования Нико¬
лая окончился после первых дней июльской
революции во Франции. Изгнание из
Франции друга императора Николая Карла
X и последовавшее затем крушение Ниде¬
рландской монархии (где королевой была
сестра Николая Павловича Анна Павловна)
побудили императора Николая резко стать
на сторону легитимных принципов в евро¬
пейской международной политике. В 1830 г.
он уже готовился послать в защиту этих
принципов свою армию на берега Рейна; но
вместо того ему пришлось употребить ее для
усмирения польского восстания. Это вос¬
стание доконало в нем всякую терпимость к
либеральным идеям и послужило причиной
уничтожения после усмирения восстания
польской конституции 1815 г.
Ш
ЛЕКЦИЯ XVI
Второй период царствования Николая.— Охранительные принципы во внешней политике.— Восточный
вопрос.— Мюнхенгрецкое свидание.— Руководящие принципы во внутренней политике.— Законода¬
тельная работа.— Деятельность Сперанского по подготовлению и изданию свода законов.— Значение
этого события.— Крестьянский вопрос.— Положение населения.— Материальные факторы, подго¬
товившие падение крепостного права.— Деятельность правительства.— Секретные комитеты.— Работа
Канкрина и Киселева по устройству казенных крестьян.— Учреждение Министерства государственных
имуществ.— Работы Киселева по устройству крепостных крестьян.— Закон 1842 г. об обязанных кресть¬
янах.— Инвентари в Западном крае.— Закон 26 мая 1846 г. в Польше.
После июльской революции 1830 г. во
Франции и после восстания 1830—1831 гг.
в Польше первый, quasi-реформаторский
период царствования Николая Павловича
кончился. Оставив всякие попытки преобра¬
зования существующих государственных уч¬
реждений, император Николай, можно
сказать, как бы нашел самого себя. Взяв
отныне новый, строго консервативный курс,
он не допускал уже от него никаких укло¬
нений. Главной своей задачей он отныне
признал борьбу с революционными стрем¬
лениями и идеями века и притом борьбу как
в Западной Европе, так и внутри России,
несмотря на то что в России, казалось, не
было к этому оснований, так как тут все было
тихо и смирно после декабрьского восстания
и суровой расправы с членами тайных
обществ.
Новый твердый курс в международных
отношениях обозначился с полной опреде¬
ленностью в 1833 г., после мюнхенгрецкого
свидания с австрийским императором
Францем, причем восстановились вполне те
добрые отношения России с Австрией, в
частности с Меттернихом, отпечаток кото¬
рых впоследствии так тяжело лег на весь ход
европейских дел вплоть до Крымской войны.
Надо сказать, что перед этим, после довольно
неудачно шедшей войны с Турцией 1828—
1829 гг. и после польского восстания, подав¬
ленного не без затруднений, во внешней
политике явился весьма благоприятный для
России момент в ее отношениях на востоке,
когда в Турции смута достигла крайних
пределов и дела султана приняли
критический оборот,— вследствие успешно¬
го восстания египетского паши Мехмета-
Али, сын которого, Ибрагим, разгромил
армию султана. Турецкая империя оказа¬
лась тогда на волосок от гибели.
Падение Турции было предотвращено в
тот момент вмешательством России. Нико¬
лай предложил султану вооруженную
помощь и отправил ему небольшой корпус
генерала Муравьева. Султан предоставил
русским судам войти в Босфор, причем с
Турцией был заключен Ункиар-Иске-
лесский договор, придававший России зна¬
чение опекуна Турции и не без основания
считавшийся одним из самых выдающихся
успехов нашей дипломатии.
Император Николай тогда рассчитал,
что ему выгодно поддержать разлагавшуюся
Турцию, так как выгодно иметь слабого
соседа, принимавшего его покровительство.
Но Австрия относилась к этому чрезвычайно
ревниво и очень неодобрительно пос¬
матривала на ту опеку, которую Россия
наложила на Турцию. Сама она, впрочем,
сделать в то время ничего не могла, так как
находилась в трудном положении: после
июльской революции в монархии Габсбур¬
гов началось сильное брожение среди сос¬
тавлявших ее народностей, которое и
помешало ей вмешаться в восточные дела
вооруженною рукою.
Между тем Николай, опасавшийся
возникновения в Европе всеобщего рево¬
люционного брожения под покровом либе¬
ральной Англии и революционной Франции,
считал важным теснее сблизиться с
Австрией и Пруссией, чтобы противопо¬
ставить этот союз центральных и восточной
великих держав всяким революционным
стремлениям с запада.
Такому настроению императора Нико¬
лая Меттерних тем сильнее обрадовался, чем
бессильнее была сама по себе Австрия.
Положение, занятое тогда Россией в Ев¬
ропе, было метко охарактеризовано впос¬
ледствии Иваном Аксаковым, назвавшим
этот период эпохой нашего «обер-полицей-
мейстерства» в Европе.
Действительно, император Николай,
опираясь на свою миллионную армию, твер¬
до занял тогда положение, угрожавшее вся¬
кому народному движению против
установленного на Венском конгрессе status
quo, и именно благодаря ему прусское и
особенно австрийское правительства и
159
могли проводить свою реакционную
политику до 1848 г.
Что касается внутренних дел в России,
то здесь император Николай после рево¬
люции 1830 г. отказа лея от всяких либераль¬
ных реформ, и лозунгом его внутренней
политики отныне стала охрана самобытного
русского строя, базировавшегося на основе
«православия, самодержавия и народ¬
ности»,— формула, изобретенная тог¬
дашним министром народного просвещения
С. С. Уваровым и вполне согласная с прог¬
раммой, данной Карамзиным.
Николай считал особенно важным
охранить тогдашний русский государствен¬
ный строй от всяких политических соблаз¬
нов, не допуская никакого идейного
сближения с революционным западом,
никаких новшеств.
Однако починка некоторых учреждений,
которые ее настоятельно требовали, продол¬
жалась, но, конечно, без введения каких-
либо коренных преобразований. Поэтому
такое предприятие, как издание свода зако¬
нов, считавшееся очередным в течение цело¬
го столетия, было доведено благополучно до
конца именно в этот период правления
Николая.
Дело это еще в 1826 г. было отдано, как
я уже упоминал, опять в руки Сперанского,
и он принялся за него на этот раз чрезвы¬
чайно практично. В противоположность
прежней своей работе, он повел ее теперь не
столько на основании теоретических требо¬
ваний и принципов иностранных законода¬
тельств, с которыми он прежде оперировал,
сколько на основании изучения и текстуаль¬
ного восстановления русского законодатель¬
ства, начиная с Уложения Алексея
Михайловича.
Он выполнил в течение нескольких лет
колоссальный труд собрания и издания всех
тех законов, которые были издаваемы
русским правительством, начиная с 1649 г.
Этот труд, проделанный с чрезвычайной
тщательностью под его руководством, был
закончен в 1832 г. и дал 47 объемистых томов
первого «Полного собрания законов».
На основании этого полного собрания
законов, после того как было разобрано,
какие из этих законов можно признать дей¬
ствующим, какие взаимно уничтожаются и
какие отменены, после того как все сущест¬
вующие законы были классифицированы
научным образом на отделы, был издан свод
действующих законов в 15 томах в 1833 г.
В этом издании ничего реформаторского
в собственном смысле этого слова, конечно,
не было, но в то же время нет никакого
сомнения, что событие это было чрезвычайно
важно. Отсутствие такого свода законов было
одним из главных источников злоупотреб¬
ления всяких приказных и дореформенных
ходатаев по делам в эпоху, когда и образо¬
валась пословица: «Закон, что дышло: куда
повернешь, туда и вышло».
До издания свода законов никто до¬
подлинно не знал, какие законы на какой
предмет существуют; законы были разброса¬
ны по архивам и ведомствам; их можно было
изыскивать и противопоставлять друг другу;
таким образом, не сходя с формальной за¬
конной почвы, можно было производить
вопиющие злоупотребления. Издание свода
законов в этом отношении расчистило воздух
и дало возможность при желании парализо¬
вать зловредную деятельность всяких крюч¬
котворов.
Другою, еще более важною очередною
задачей, которая, впрочем, не получила
окончательного разрешения как в этот
период царствования, так и во все царство¬
вание Николая, был крестьянский вопрос.
Этот вопрос не сходил с очереди почти во
все продолжение царствования Николая и во
всяком случае до 1848 г. постоянно продол¬
жал занимать правительство.
Первый толчок для возбуждения этого
вопроса в уме Николая дали те крестьянские
волнения, которые произошли в первый же
год его царствования и впоследствии, повто¬
ряясь постоянно, не давали правительству
заснуть, не давали закрыть глаза на те язвы
крепостного права, которые в то время уже
громко кричали о своем существовании.
|~Дело в том, что во внутренней народной
жизни к этому времени сложились ма¬
териальные условия, которые могуществен¬
нее всяких идейных требований
расшатывали крепостной строй и подготов¬
ляли его падение. Прежде всего таким имен¬
но обстоятельством являлось значительное
уплотнение населения, в особенности в не¬
которых центральных черноземных гу¬
берниях, которое делало при
существовавшем здесь барщинном хозяйстве
крепостной труд в значительной мере невы¬
годным для помещиков, так как при
примитивной системе хозяйства некуда бы¬
ло девать крепостные руки, а принудитель¬
ный труд не допускал сколько-нибудь
действенной интенсификации производства
160
и развития прикладных сельскохозяйствен¬
ных производств.^
Особенный'рост крепостного населения
произошел между 1816 и 1835 гг. По пятой
ревизии всего крепостного населения, вме¬
сте с Сибирью и Остзейским краем, было
9800 тыс. душ мужского пола; по седьмой
ревизии — 9 787 ООО, (благодаря значитель¬
ной убыли населения во время Наполео¬
новских войн); а с 1816 по 1835 г.
крепостное население увеличилось до 10 872
тыс., т. е. более чем на миллион душ, не¬
смотря на то что в этот период освобождено
было 413 тыс. душ остзейских крестьян, и,
следовательно, увеличение общего числа
помещичьих крестьян за это время достигало
почти 1 1/г млн. душ. Вот это уплотнение
населения при застое, который был неизбе¬
жен в крепостном хозяйстве, послужило,
несомненно, таким обстоятельством, которое
очень затрудняло помещиков.
Явились лишние в хозяйстве руки и,
главное, лишние рты, которые надо было
кормить, между тем пользы они хозяйству
не приносили.
Конечно, помещики старались вводить
кое-какую интенсификацию в свое хозяйст¬
во, но она заключалась не в изменении
системы хозяйства или севооборота, а в том,
главным образом, что лишние в полевом
хозяйстве люди перечислялись в дворовые и
увеличивали и без того уже огромные
дворни.
Барщинное поместье представляло тогда
не только полевое хозяйство, но и своего рода
крепостную домашнюю мастерскую, заня¬
тую разнообразными мастерствами. Каждый
помещик старался при барщинной системе
по возможности ничего не покупать, а
стремился производить дома все предметы
своего обихода, за исключением железа,
соли и т. п., которые покупались; но эти
покупные предметы сводились до минимума,
и вся одежда, все предметы домашнего
обихода, не говоря уж о пище,
производились дома, трудом крепостных.
Поэтому количество дворни достигало в те
времена неимоверных размеров: до девятой
ревизии из 10 млн. крепостных один
миллион с лишком были дворовыми, т. е.
составляли безземельное население, занятое
или домашней службой или работой в до¬
машних мастерских.
Помещичьи дворни вскоре увеличились
настолько, что помещики стали ими про¬
мышлять, отдавая дворовых взаймы другим
лицам, так что в 1827 г. был издан даже
закон, ограничивший это право помещиков
отдавать своих дворовых тем лицам, которые
не имели сами права владеть крепостными.
Число дворовых увеличилось за этот
период почти в 1 1/г раза — к десятой
ревизии оно достигло 1470 тыс. душ. По¬
мещики поступали с дворовыми самым бес¬
церемонным образом: в голодные годы
многие просто прогоняли их просить мило¬
стыню. Некоторые помещики пробовали эти
лишние руки применить к вотчинным
фабрикам, которые развивались в конце
XVIII в., но на этом пути помещикам
встретилась непреодолимая для них конку¬
ренция развивающихся и прогрессирующих
купеческих фабрик. Вводившиеся на этих
фабриках существенные технические улуч¬
шения были помещикам недоступны, ввиду
отсутствия у них, с одной стороны, капита¬
лов, а с другой стороны, потому, что доволь¬
но трудно было к этим улучшенным
способам производства приспособить подне¬
вольный труд. В среде профессиональных
фабрикантов пришли в это время к убеж¬
дению, что подневольный труд никуда не
годится, и даже владельцы посессионных
фабрик стали отказываться от своих
посессионных крестьян, так что в 1847 г.
последовало, наконец, разрешение таким
фабрикантам отпускать посессионных кре¬
стьян на волю. Немудрено, что вотчинные
фабрики не могли выдерживать эту конку¬
ренцию и в*Г830-х и 1840-х годах стали
неудержимо падать и закрываться.
Между тем вообще положение
помещиков, независимо от уплотнения насе¬
ления и неумения их с этим справиться,
страдало еще и от той огромной задолжен¬
ности, которая тяготела над ними после
1812 г. Вы помните, какие жертвы несло
дворянство — частью вольно, а частью не¬
вольно — на военные издержки того вре¬
мени. Вы помните, как плохо правительство
могло рассчитаться со своими кредиторами,
так что даже те, кто не имел в виду никаких
дальнейших пожертвований, отказывались
от своих претензий и превращали их, тдким
образом, в пожертвования невольные. Если
принять во внимание, что вообще доход с
тогдашнего помещичьего хозяйства никак
нельзя считать, при 10 млн. крепостных,
превышающим 100 млн. руб. в год, и эту
цифру сопоставить с жертвами и потерями
во время отечественной войны, которые
считались сотнями миллионов, то станет
очевидным, что раз значительная часть этих
издержек, жертв и потерь падала на
б Зак. 271
161
помещичье хозяйство, то задолженность его
должна была быть огромная. К 1843 г. она
определилась следующими цифрами: более
54 % всех имений было заложено в так
называемых сохранных казнах, которые тог-
да являлись кредитными учреждениями,
оказывавшими кредит под недвижимую соб¬
ственность. В среднем задолженность
помещиков составляла более 69 руб. с души
крепостных, а средняя стоимость души не
превышала тогда 100 руб., так что большая
часть этих душ, собственно, не принадлежа¬
ла уже помещикам. По этим займам
приходилось платить огромные проценты, к
этому надо прибавить, что помимо этой,
порожденной исключительными
историческими событиями, задолженности у
большинства помещиков существовали еще
значительные частные долги, по которым
платились гораздо большие проценты.
В то же время, после Наполеоновских
войн, после знакомства с жизнью Западной
Европы в помещичьем быту произошли
большие изменения: дворяне перестали до¬
вольствоваться прежними способами жизни,
которые им давало патриархальное нату¬
ральное хозяйство; теперь явилось много
соблазнов, привычек, приобретенных от зна¬
комства с европейской культурой и роскош¬
ной жизнью, которые требовали покупных
средств; это обстоятельство толкало к новым
займам.
Все это вместе взятое приводило к тому,
что, несмотря на то что государственный
бюджет рос не особенно сильно и прямые
налоги почти не увеличивались, помещичьи
бюджеты тем не менее были постоянно за¬
ключаемы с неизменными огромными
дефицитами, и положение помещиков ста¬
новилось все труднее и труднее. Это ухуд¬
шение положения помещиков при
наличности крепостного права отражалось,
конечно, в конце концов на горбе крепост¬
ных и страшно обостряло взаимное отно¬
шение между крестьянами и их господами.
Все эти обстоятельства и создали то, что
в черноземных губерниях дело становилось
почти безвыходным, особенно в тех черно¬
земных губерниях, которые были плотно
населены.
Благодаря этому уже в 40-х годах среди
многих помещиков, особенно в Тульской,
Рязанской, Орловской губерниях, создается
представление, что такое положение не мо¬
жет дольше существовать и что ликвидация
крепостного права, при возможности удер¬
жать за собою землю, будет выгоднее самого
крепостного права. Это выразилось в тех
заявлениях, которые наиболее развитые и
умные помещики этих губерний делали
правительству в 40-х годах. Так, в 1844 г.
тульские помещики предлагали приступить
к освобождению своих крестьян, обязываясь
даже дать им по одной десятине на душу, но
с тем, чтобы при этом крестьяне взяли на
себя большую долю долгов помещиков. По
этому поводу завязалась переписка, был уч¬
режден комитет, ни к каким, впрочем,
практическим результатам не приведший. В
1847 г. тульские помещики опять
собирались и сделали вторичное заявление;
в Туле как раз был тогда сочувствовавший
этой идее молодой губернатор Муравьев
(впоследствии гр. Амурский); но после 1848
г. всякие разговоры об изменении существу¬
ющего строя должны были прекратиться
вследствие реакции, начавшейся в
правительственных сферах.
Такое же предложение исходило в
1847 г. от помещиков Рязанской губернии.
И даже в нечерноземной Смоленской гу¬
бернии было аналогичное движение, которое
привело к свиданию и любопытным перего¬
ворам между депутацией смоленских дворян
и самим императором Николаем в конце
40-х годов.
Вот те обстоятельства, которые, так ска¬
зать, внутренним и органическим путем под¬
тачивали существующий крепостной строй
и, даже с дворянской точки зрения, делали
неизбежной близкую его ликвидацию. С дру¬
гой стороны, крестьяне в это время тоже не
оставались в покое. Волнения начались в
самом начале царствования Николая, и они-
то в значительной мере навели его на мысль
о необходимости что-нибудь сделать в этой
области. Но волнения, усмиренные вначале,
не прекращались. Всего насчитывают за
время царствования Николая не менее 556
крестьянских волнений — это волнения
целых сел и волостей, а не отдельные мелкие
недоразумения. Из них 41 волнение
происходило в течение первого 4-летия его
царствования, следовательно, до 1830 г.;
наибольшее же число волнений относится к
тому промежутку царствования Николая, ко¬
торый я считаю вторым его периодом, имен¬
но к 1830—1849 гг. (378 крестьянских
волнений). Наконец, остальные 137 вол¬
нений выпадают на последние семь лет его
царствования.
Около половины этих волнений
пришлось усмирять не простыми
полицейскими средствами, т. е. не путем
162
выезда полицейского начальства и простой
порки крестьян, а путем вызова воинских
команд, часто с кровопролитием. Это пока¬
зывает, что действительно спокойно на это
смотреть нельзя было даже с точки зрения
государственной безопасности, Поэтому-то
с самого начала в Комитете 6 декабря 1826
г. крестьянский вопрос занял в правитель¬
ственных предположениях не последнее ме¬
сто. Но, собственно, работа этого Комитета
не привела ни к чему существенному, хотя
некоторое значение и она имела.
Так, например, в связи с работами этого
комитета в 1827 г. был издан закон, в силу
которого помещики лишались права обеззе¬
меливать своих крестьян продажею земли
без крепостных душ. Прежде ставился воп¬
рос о воспрещении продажи людей без
земли, а теперь указано было, что необ¬
ходимо, чтобы при имениях оставалось такое
количество земли, при котором приходилось
бы не менее 4 х/г десятины на душу. Этот
закон, конечно, теоретически был довольно
важен, но надо сказать, что выполнение его
было ниже всякой критики, так что сущест¬
венного значения он не имел, хотя в самом
законе была установлена и санкция: было
указано, что если помещик продаст земли
больше, чем полагается по закону, то имение
может быть отобрано в казну.
Другим законом, связанным с работами
Комитета 6 декабря 1826 г., было запре¬
щение отдавать своих крепостных крестьян
в горно-заводские работы. Это запрещение,
конечно, имело тогда большое значение в
виду того, что отдача в горно-заводские рабо¬
ты представлялась одним из самых тяжелых
видов эксплуатации крепостных крестьян.
Вместе с тем была запрещена отдача кресть¬
ян во временное владение тем лицам, кото¬
рые не имели сами права владеть
крепостными.
Собственно, что касается непосредст¬
венного регулирования крепостного права и
его отношений, то этим и исчерпываются
результаты деятельности Комитета 6 декабря
1826 г.
После прекращения деятельности
Комитета 1826 г. наиболее важным факто¬
ром в отношении регулирования положения
крестьян являлось издание свода законов.
Оно было важно в том отношении, что
различные относившиеся сюда указы и
другие постановления правительства, издан¬
ные в разное время, по частным иногда
случаям ограничивавшие в некоторых отно¬
шениях власть помещиков над крестьянами
6*
и направленные против помещичьих зло¬
употреблений, были теперь, путем вклю¬
чения в свод, превращены в общие,
обязательные для всех нормы.
В IX томе свода, в законах о состояниях
были довольно подробно изложены эти пос¬
тановления, вводившие, с одной стороны,
власть помещика над крестьянами в некото¬
рые границы, а с другой — налагавшие на
помещиков известные обязательства. В этом
отношении было важно то запрещение, ко¬
торое я только что приводил,— продавать
землю, принадлежавшую к населенным
имениям, в слишком большом количестве.
Был наряду с этим целый ряд постанов¬
лений, налагавших на помещиков заботу о
продовольствии крепостных крестьян. Это
обстоятельство было тем важнее, что как раз
в царствование Николая происходил целый
ряд неурожаев. Впрочем, неурожай продол¬
жал тяжело отражаться на крестьянах, так
как обычно помещики старались уклониться
от исполнения своих обязанностей по про¬
довольствию крестьян. В свод законов, меж¬
ду прочим, была введена статья, которая
карала помещиков за нищенство их кресть¬
ян (именно, за каждый обнаруженный слу¬
чай нищенства крепостного крестьянина на
его помещика налагался штраф в 1 х/г руб¬
ля). Впрочем, эта статья на практике приме¬
нялась очень плохо. Этими неурожаями
были озабочены и в дореформенное время не
только помещики, но и правительство, так
как они вели в некоторых местах к прямому
голоду, иногда принимавшему благодаря
бездорожью опустошительные размеры. Так,
в 1833 г. прирост населения в некоторых
местностях вследствие пережитого голода
оказался вдвое меньше нормального. В За¬
падном крае как раз в эти годы из-за продо¬
вольственных неурядиц происходил целый
ряд крестьянских волнений.
Правительство выдавало тогда
значительные, иногда миллионные, ссуды
помещикам на оказание крестьянам продо¬
вольственной помощи, но помещики эти
суммы сплошь и рядом растрачивали не на
крестьян, а на свои нужды — на то, чтобы
заткнуть ими в своих хозяйствах ряд дыр,
которые давали себя особенно чувствовать в
голодные годы. Попытка правительства кон¬
тролировать эти суммы ни к чему не
приводила, так как вся власть на местах
находилась в руках дворянами же выбран¬
ных должностных лиц.
После издания свода законов даль¬
нейшим важным актом правительственной
163
деятельности по крестьянскому вопросу
являлось образование секретного комитета
1835 г. В этом комитете вопрос был постав¬
лен довольно категорически: прямо призна¬
валась необходимость рассмотреть вопрос о
ликвидации крепостных отношений. Все за¬
седания этого комитета происходили на¬
столько келейно, что даже сведения о нем
были добыты из архива только в позднейшее
время, когда явилась возможность научной
разработки архивных материалов по кресть¬
янскому делу. Самая постановка вопроса в
этом комитете обращает на себя внимание
своей относительной принципиальностью.
Комитету представлялось удобным весь бу¬
дущий ход разрешения крестьянского вопро¬
са предположительно разделить на три
стадии, без обозначения, впрочем, в какое
время каждая из них должна наступить, за
исключением первой, которая была уже в
наличности. Признавалось, что в этой пер¬
вой стадии крепостное право регулируется
теми положениями, которые введены в свод
законов. Второй период представлялся, по-
видимому, возможным в довольно близком
будущем: эта стадия должна была наступить
с введением в крепостные хозяйства своего
рода «инвентарей», или обязательных для
помещиков правил и норм, которые
регулировали бы не только число дней кре¬
стьянской обязательной работы, но и размер
повинностей и в общем сводили бы дело к
тому положению, которое существовало в
остзейских губерниях с 1804—1805 до
1816—1819 гг., т. е. к созданию, при сохра¬
нении крепостного права, известных га¬
рантий и норм, защищающих положение
крестьян как с экономической стороны, так
и с лично-правовой. Третий период пред¬
ставлялся по этой схеме периодом личного
освобождения крестьян, но без земли.
Эта постановка вопроса характеризова¬
ла настроение правительственных сфер, но
практических результатов работа этого
комитета не имела. В этом комитете впервые
принимает участие Киселев, то\ самый
Киселев, который в бытность свою в 20-х
годах начальником штаба Южной армии
был другом некоторых декабристов — в том
числе Пестеля.— и потому внушал на пер¬
вых порах Николаю Павловичу большое к
себе недоверие. Но вскоре Киселев своей
прямотой и лояльностью своих
политических убеждений, изложенных
императору Николаю при личном свидании,
доказал, что все подозрения против него
несправедливы. После окончания войны
1829 г. он был поставлен во главе временного
управления княжеств Молдавии и Валахии,
занятых тогда русскими войсками (впредь
до уплаты России Турцией условленной
контрибуции). Там как раз в это время стал
на очередь крестьянский вопрос, ибо отно¬
шения между тамошними «боярами» и кре¬
стьянами были доведены до значительной
остроты, и тот способ, который Киселев
принял там к разрешению вопроса — спо¬
соб весьма близкий к положению 1804 г. в
Остзейском крае,— очень понравился Нико¬
лаю. Николай, прочтя отчет Киселева об
управлении этими княжествами, обратил на
него внимание как на человека, могущего
помочь ему в решении крестьянского вопро¬
са в России. Он назначил его в 1834 г.
членом Государственного совета и тогда же
ему сказал, что рассчитывает на его помощь
в крестьянском деле. Он сказал при этом,
что, не надеясь в этом деле на сочувствие
своих министров, он будет вести его сам, а
Киселева приглашает сделаться своим на¬
чальником штаба по крестьянскому делу.
Киселев с удовольствием принялся за
это дело, тем более что вопрос об уничто¬
жении крепостного права его интересовал с
молодых лет, и еще в качестве флигель-адъ-
ютанта при императоре Александре I он
подал ему довольно интересную записку,
защищавшую необходимость разрешения
крестьянского вопроса и предлагавшую
различные к тому меры.
На первых порах Киселеву пришлось,
впрочем, заняться вопросом о положении
казенных крестьян, ибо еще в Комитете 6
декабря 1826 г. была одобрена мысль, выра¬
женная в записке Сперанского, что в деле
улучшения положения крестьян правитель¬
ство должно подавать пример частным
лицам. Казенные крестьяне находились тог¬
да в ведении департамента государственных
имуществ, подчиненного министру фина¬
нсов.
Министром финансов был Канкрин, че¬
ловек, как я уже упоминал, не только обра¬
зованный, но и ученый экономист, к
крестьянам относившийся не менее добро¬
желательно, чем сам Киселев. Хотя Канкрин
не был отнюдь физиократом и в противопо¬
ложность им был убежденным противником
системы «lafssez faire», но, несомненно, в
его герб можно было бы с не меньшим
основанием, нежели в герб Кенэ, включить
известные слова: «pauvre paysan — pauvre
royaume; pauvre royaume — pauvre roi» (т. e.
«беден крестьянин — бедно и государство, а
164
бедно государство — беден и король»).
Канкрин принадлежал к числу тех эко¬
номистов, которые считают, что упорядо¬
чение финансов и прочное обоснование
народного богатства всегда должны ко¬
рениться в народном благосостоянии. Поэто¬
му он всегда был врагом новых налогов и
займов, обременительных для народа, и я
уже говорил вам, что первоначальное улуч¬
шение финансов в 1823—1829 гг. было им
достигнуто путем той строгой экономии, ко¬
торую он всюду старался соблюдать, не
останавливаясь перед столкновениями с
другими ведомствами и даже перед спорами
с самим императором.
, На его важной экономической и куль¬
турной деятельности я еще буду иметь слу¬
чай подробнее остановиться.
В отношении подчиненных ему казен¬
ных крестьян первое, что Канкрин задумал,
это по возможности упорядочить систему
взимания с них налогов и оградить их от
злоупотребления чинов земской полиции,
которая в то время являлась настоящей са¬
ранчой в отношении народа. При существо¬
вавшей системе местного управления
казенные крестьяне являлись объектом гра¬
бежа низших полицейских виновников, и
Канкрин, признавая это, считал важным
освободить их от власти полиции.
В виде опыта он предложил в двух гу¬
берниях — Петербургской и Псковской —
изъять казенных крестьян из общего губер¬
нского управления и устроить особые округа
(как это было у удельных крестьян), кото¬
рыми бы управляли особые лица, назначен¬
ные от министерства финансов и обязанные
блюсти интересы крестьян. Разумеется, эта
«реформа» имела чисто бюрократический и
весьма паллиативный характер: крестьяне
из ведения одних чиновников перешли лишь
в руки других, но несомненно, что Канкрин
желал ближе войти в интересы казенных
крестьян и надеялся улучшить их поло¬
жение. Он изучал вопрос, делал опыты и
собирал данные, не располагая для этого
большими средствами.
В 1834 г. Канкрин хотел распространить
этот порядок еще на 10 губерний. Император
Николай Павлович, который остался недово¬
лен медленным ходом дела и объяснят его
тем, что у Канкрина слишком много других
забот, счел нужным передать эту часть осо¬
бому лицу. Этим лицом и явился П. Д.
Киселев.
Все крестьянские дела были сосредото¬
чены сперва в собственной его величества
канцелярии, а Киселев был назначен на¬
чальником нового, пятого, отделения этой
канцелярии. Приступив к делу, Киселев
произвел прежде всего ревизию на местах,
объездил казенных крестьян в 4 губерниях,
изучил их положение и обнаружил целый
ряд злоупотреблений не только местного на¬
чальства, но и со стороны департамента
государственных имуществ, во главе которо¬
го стоял сенатор Дубенский, отданный тогда
же под суд. Затем, после нескольких столк¬
новений с Канкриным, Киселев заявил, что
ему неудобно заведовать этим делом от лица
государя, пока оно в то же время подведом¬
ственно министру финансов, который, бу¬
дучи занят другими делами, не может
уделять крестьянскому вопросу много вре¬
мени. В результате учреждено было новое
самостоятельное ведомство — Министерство
государственных имуществ, которому пере¬
дано было заведование всеми казенными
имениями, лесами и горными заводами.
Новое министерство было открыто в
1837 г., и во главе его был поставлен Кисе¬
лев. В своих попытках улучшить положение
казенных крестьян Киселев пошел, собст¬
венно, по тому же пути, который был указан
Канкриным: на местах были учреждены осо¬
бые палаты государственных имуществ, а в
уездах — окружные управления. Было допу¬
щено, впрочем, и некоторое самоуправление
казенных крестьян в их общинах и волостях,
но все-таки над ними, с правом, в сущности,
неограниченного вмешательства в их хозяй¬
ственную и домашнюю жизнь, были постав¬
лены окружные начальники, которых
Киселев старался подобрать как можно
лучше. Очень может быть, что на первых
порах среди них и были хорошие люди, но
в конце концов оказалось, что и эта система
опеки только ставила крестьян в еще более
подневольное положение, так как прежние
взяточники становые пристава могли только
изредка посещать казенные имения, но глу¬
боко входить в жизнь крестьян они не имели
возможности, так как у них было много
других обязанностей, а теперь были постав¬
лены чиновники, специальным делом кото¬
рых была именно всесторонняя опека над
крестьянами. В конце концов это управление
не дало особенно хороших результатов.
Хотя Киселеву отдано было собственно
управление казенными крестьянами, но он
не переставал фактически быть на¬
чальником штаба по крестьянской части,
как его называл Николай, и в общем его
165
участие в разработке всего крестьянского
вопроса было весьма значительно.
Комитет 1835 г. не привел ни к чему, но
в 1839 г. был образован новый секретный
комитет, и хотя он более скромно очертил
свою задачу, но в результате его работ
явилось новое «Положение об обязанных
крестьянах» 1842 г. Конечно, это положение
само по себе дало немного, потому что
слишком боялись затронуть интересы и пра¬
ва дворян. По этому положению помещикам,
которые сами пожелали бы выйти из тех
тяжелых условий крепостного хозяйства, ко¬
торые стали довольно ясно обозначаться к
этому времени, предоставлялось заключать
со своими крестьянами добровольные согла¬
шения о прекращении личной крепостной
зависимости и о переводе их в разряд обя¬
занных поселян; за отвод земли, оставшейся
собственностью помещика, который, однако,
заключив договор, не мог ее уже произвольно
отнять, «обязанные» крестьяне должны были
или отбывать определенную барщину, или
уплачивать определенный денежный оброк,
причем размер этих повинностей уже не мог
быть затем изменяем. При этом вводилось
некоторое сельское самоуправление, какое
существовало во многих оброчных имениях
и без того. Крестьяне, устроенные таким
образом, попадали в положение, близкое к
положению крестьян в Остзейском крае в
1804—1805 гг. Все это было само по себе с
виду недурно, но тот факт, что «Положение»
все предоставило добровольному почину
помещиков, неизбежно приводил к тому, что
из этого акта на деле ничего существенного
не могло выйти.
В Государственном совете, где эта
реформа обсуждалась, кн. Д. В. Голицын,
московский генерал-губернатор, сказал
Николаю, что, по его мнению, эта мера будет
иметь смысл лишь в том случае, если пере¬
вод крестьян из крепостных в обязанные
будет обязателен для помещиков. Но Нико¬
лай на это заметил, что хотя он самодержав¬
ный и самовластный, но все-таки такого
насилия над помещиками допустить не
решится. Этот ответ показывает, насколько
далеко могла быть проведена крестьянская
реформа при Николае.
Решительнее Николай действовал в За¬
падном крае, в губерниях, где дворянство
было польского происхождения, а крестьяне
— русского и где он считал после польского
восстания 1831 года себя вправе поступать
гораздо более бесцеремонно по отношению к
дворянской собственности. Здесь эта
политика вполне подходила под принцип:
«Православие, самодержавие и народность».
И вот в 40-х годах по идее Киселева, при
ревностном участии киевского генерал-гу-
бернатора Бибикова, который явился и рев¬
ностным обрусителем, и, по-видимому,
искренно сочувствовал облегчению участи
крепостных крестьян, были здесь составле¬
ны и приведены в действие довольно строгие
по отношению к помещикам «инвентарные
правила». Было определено то количество
земли, которое помещики должны были пре¬
доставить крестьянам, и установлены разме¬
ры крестьянских повинностей.
В 1847 г. эти правила введены были в
Киевской, Волынской и Подольской гу¬
берниях, а затем их стали вводить в Литве
и Белоруссии. В Литве уже ранее существо¬
вали подобные правила, предоставлявшие,
однако, больше простора помещичьему
произволу, а когда решили ввести здесь
бибиковские правила, то многие литовские
дворяне сильно запротестовали, говоря, что
лучше уничтожить совершенно крепостное
право, чем ставить помещиков в такое поло¬
жение, в какое их ставят эти бибиковские
правила. Встретив затруднения, вопрос за¬
тянулся здесь до 50-х годов.
В 1849 г., когда Бибиков был уже
министром внутренних дел и хотел ввести
эти правила насильно, литовские дворяне
нашли себе поддержку в наследнике престо¬
ла (будущем императоре Александре II),
который после революции 1848 г. находился
в весьма реакционном настроении и считал,
что нужно всячески поддерживать «священ¬
ные» права дворян; таким образом, в Литве
и Белоруссии инвентарные правила так и не
были введены до конца царствования Нико¬
лая.
В 1848 г. было введено аналогичное ус¬
тройство крестьян в Царстве Польском.
Здесь крестьяне были признаны лично сво¬
бодными еще наполеоновским декретом
1807 г., но, освобожденные лично, они не
получили никаких земельных прав. По¬
мещики, ввиду тогдашней хозяйственной
конъюнктуры, не согнали их со своих зе¬
мель, и крестьяне продолжали работать на
прежних своих землях за барщину и оброки.
Они владели значительными пространст¬
вами земли, но юридически помещики могли
всегда согнать их и, пользуясь этим преиму¬
ществом, угнетали их не менее крепостных.
Между тем как раз в 1846 г. в соседней
Галиции произошла большая резня
помещиков, которая навела ужас и на
помещиков Царства Польского, и на на¬
166
местника кн. Паскевича, который стоял во
главе администрации края. Была признана
экстренная необходимость упорядочить
положение крестьян. И вот 26 мая 1846 г.
был издан указ, которым введены были.здесь
«престационные» табели, вполне ана¬
логичные инвентарям в Западном крае. При
этом были закреплены земельные отно¬
шения, которые существовали раньше, и
помещики лишены были права произвольно
уменьшать земельные наделы и увеличивать
повинности.
Наконец, в 1847 г. по предложению
барона М. А. Корфа был издан указ, разре¬
шавший крестьянам в России (подобно тому
как это ранее введено было в Грузии) выку¬
паться с землей целыми селениями в случа¬
ях, когда помещичьи имения продавались с
торгов за долги,— за ту цену, которая будет
дана на торгах. Таким образом явилась но¬
вая лазейка, через которую крестьяне могли
выходить из крепостного состояния, тем бо¬
лее что при помещичьей задолженности того
времени имения часто выставлялись к про¬
даже. Но против этого указа поднялись
большие протесты в среде дворянства; губер¬
наторы стали писать, что этот указ волнует
публику. После 1848 г. он был фактически
отменен присоединением к нему целого ряда
оговорок. Вообще после революции 1848 г.
император Николай стал на вполне
реакционную точку зрения и в отношении
крестьянского вопроса, и всякие попытки и
толки об отмене крепостного права были
прекращены: так, когда смоленские
помещики пожелали продолжать начатые об
этом деле переговоры с правительством, то
они получили указание от цесаревича Алек¬
сандра Николаевича, что император Нико¬
лай не считает возможным продолжать это
дело в тогдашних тревожных обстоятельст¬
вах.
Таковы были мероприятия, которые
были приняты по отношению к крестьянско¬
му вопросу во втором периоде царствования
Николая.
ЛЕКЦИЯ XVII
Развитие промышленности при императоре Николае.— Судьба отдельных отраслей обрабатывающей
промышленности.— Конкуренция польской промышленности.— Жалобы купцов.— Деятельность
Канкрина.— Его принципы и его политика.— Протекционизм и его влияние на промышленность и
торговлю.— Сокращение роста военных расходов.— Стоимость войн 1827—1831 it.— Питейная рефор¬
ма. — Денежная реформа 1839—1843 гг. — Роль самого Николая в этом деле. — Заботы Канкрина об
улучшении культурных условий.
Излагая события и обстоятельства вто¬
рого периода царствования Николая, нельзя
не остановиться, наряду с ходом крестьян¬
ского вопроса, также и на развитии про¬
мышленности и торговли в 30-х и 40-х годах
XIX столетия, а равно и на той политике
Министерства финансов, которая была свя¬
зана с этим.
Как я уже упоминал, наиболее сильное
развитие в первой половине XIX в. в России
получила хлопчатобумажная промышлен¬
ность, развитие которой многие ставили в
связь с действовавшим с 1822 г. тарифом,
введшим нашу таможенную политику в по¬
лосу постоянного протекционизма.
Тот исследователь, который вниматель¬
нее других русских исследователей оста¬
навливался на этом вопросе, именно
профессор М. И. Туган-Барановский, пока¬
зал, что в этом отношении имела значение
не столько таможенная система, сколько
изменения в бумагопрядильном производст¬
ве, происходившие в это время в Англии.
Если мы обратим внимание на моменты
наибольшего развития у нас бумаготкацкой
промышленности, то мы увидим, что они
совпали как раз с соответственными коле¬
баниями в бумагопрядильном производстве
в Англии, а не с изменениями тарифной
системы.
Дело в том, что до 40-х годов русское
бумаготкацкое производство жило главным
образом иностранной, английской, пряжей;
правда, во время континентальной системы,
когда все торговые сношения с Англией
нарушились и подвоз пряжи прекратился,
были сделаны русскими фабрикантами
попытки воспользоваться среднеазиатским
хлопком и завести собственное бумагоп¬
рядильное производство. Но все-таки до 40-х
годов главное количество пряжи получалось
в готовом виде в Англии, ибо оборудование
бумагопрядилен было делом очень нелегким.
В этом отношении и таможенные тарифы не
167
мешали, так как пряжа не была высоко
обложена. Между тем ценность пряжи и
бумажных тканей в Англии все падала. Это
падение цен было в тесной связи с
кризисами, которые происходили в Англии.
Можно считать статистически установ¬
ленным, что вслед за каждым кризисом в
Англии следовали технические усовершен¬
ствования, которые, разумеется, тотчас же
давали более или менее сильное понижение
стоимости продукта. Благодаря этому и в
России тоже ценность бумажных материй, в
зависимости от понижения ценности пряжи,
все время падала, и, таким образом, бума¬
готкацкое производство распространялось
все более. Таким образом, колебания в
английской хлопчатобумажной промышлен¬
ности вызывали колебания и у нас ввиду
удешевления продуктов производства и
фабрикатов, ввозимых из-за границы. Эта
конкуренция побуждала русских фабрикан¬
тов также к введению усовершенствований.
Но эти усовершенствования заключались
главным образом во введении дорогих
машин, которые были под силу главным
образом более крупным фабрикантам.
В зависимости от этих особенностей
развития у нас хлопчатобумажной промыш¬
ленности в 40-х годах погибло много
средних и мелких фабрик, и производство
пряжи концентрировалось в руках крупных
фабрикантов.
Важное последствие развития хлопчато¬
бумажной промышленности заключалось в
падении льняной и парусинной промышлен¬
ности. Именно как раз в 40-х годах это
падение стало особенно заметно. Развитие
этих фабрик, которые работали главным
образом для вывоза, удовлетворяя нужды
английского парусного флота, шло следу¬
ющим образом: с середины XVIII в. число
этих фабрик, равнявшееся в 1762 г. 135,
росло и в 1804 г. достигло 275, затем оно
стало усиленно понижаться и к началу цар¬
ствования Александра II число их упало до
100.
Это произошло от удешевления бумаж¬
ного производства и от невозможности вы¬
держивать с ним конкуренцию. Особенно
это заметно отразилось в тех местностях, где
льняное и посконное производство были
сильно распространены: так, в Калужской
губернии число фабрик уменьшилось с 17
до 4, а число кусков выделываемой ткани с
50 тыс. до 2 тыс., между тем Калужская
губерния была одной из самых важных
производительниц льняных и парусиновых
тканей.
Что касается суконного производства, то
оно, после освобождения от тягла
посессионных фабрик, продолжало расти до
40-х годов и уже к 40-м годам стало несколь¬
ко падать вследствие влияния конкуренции
польских фабрик. Дело в том, что именно по
отношению к суконному производству поль¬
ская промышленность стояла тогда в более
выгодных условиях. У поляков было распро¬
странено овцеводство, и к тому же дешевая
шерсть производилась ь соседней Силезии,
так что они имели для своей промышлен¬
ности, при существовании особых польских
тарифов, которые не облагали силезскую
шерсть, дешевое сырье и могли производить
сукно дешевле, чем русские фабриканты.
Затем прусским суконным фабрикантам
удалось выхлопотать временные льготы для
ввоза прусских сукон, а когда эти льготы
прекратились, то многие прусские
фабриканты, желая сбывать свои сукна в
Россию, и в особенности через Россию в
Китай, переселились в Царство Польское со
всеми своими фабриками и, таким образом,
еще более усилили суконное производство в
Польше. Эта конкуренция Польши сыграла,
как мы увидим, большую роль в правитель¬
ственных тарифных мероприятиях.
Что касается развития форм мануфак¬
турной промышленности, то я уже говорил,
что в промышленности бумажной заметна
была концентрация производства с начала
40-х годов, благодаря тому что крупные
фабриканты лучше выдерживали за¬
граничную конкуренцию. Но уже в 40-х
годах стало замечаться обратное явление не
только в хлопчатобумажной промышлен¬
ности, но и во всей обрабатывающей про¬
мышленности. По статистическим данным
видно, что число фабрик продолжало расти,
но рост числа рабочих стал отставать, и если
вы возьмете число рабочих на каждую
фабрику, то окажется, что производство ста¬
ло мельчать. Это обусловливалось развитием
не среднего, а мелкого кустарного производ¬
ства. Я уже говорил, что в начале XIX в.
ввиду большей производительности вольного
труда по сравнению с крепостным и
вследствие некоторых других невыгодных
для помещиков условий вотчинные фабрики
стали падать, но фабрики купеческие не¬
ожиданно сами создали себе другого конку¬
рента в среде сельского населения. Когда
стало расширяться бумаготкацкое
производство, то благодаря простоте некото¬
168
рых его видов, не требовавших особых
приспособлений, фабриканты, желая
расширить свое производство, не довольст¬
вовались тем числом станков и основ, кото¬
рые они приспособили к своим фабричным
заведениям, а стали еще раздавать пряжу
крестьянам на дом. Крестьяне, увидев, что
основу и пряжу легко приобрести самим, в
кредит или за наличные, стали прямо от
поставщиков пряжи покупать готовую пря¬
жу и самостоятельно вести мелкое ткацкое
производство, конкурируя таким образом с
фабрикантами. Их конкуренция была опас¬
на дешевизной условий домашнего
производства. Таким образом, кустари стали
подрывать крупное фабричное производство
(бумаготкацкое).
Этим и объясняется тот факт, что число
фабрик росло в то время, как число рабочих
на них относительно уменьшалось.
Надо сказать, что вообще развитие кус¬
тарного промысла, происхождение которого
коренится, как известно, во временах более
древних, получило особенно быстрый ход в
XIX в. в тех производствах, коюрые допу¬
скают работу без особых приспособлений,
именно в текстильной промышленности — в
бумажном, льняном, шелковом, шерстяном
и других производствах. Кустарное
производство стало отбивать почву у круп¬
ной промышленности, и, собственно, в
XIX в. в России, в противность тому, что
замечается в других странах, наряду с
развитием крупной фабричной промышлен¬
ности, и даже именно благодаря ей, развива¬
лось кустарное производство. Размеры
кустарного производства оказались в 40-х
годах до того значительными, что, например,
во Владимирской губернии, в Шуйском уез¬
де, являвшемся в особенности гнездом этой
промышленности, на фабриках было 1200
станков, в избах же — до 20 тыс., во всей
же Владимирской губернии—18 тыс. на
фабриках и 80 тыс. в деревнях. Это обстоя¬
тельство, разумеется, вызвало большие наре¬
кания и жалобы со стороны фабрикантов, и
когда правительство предложило им выска¬
заться о своих нуждах и пожеланиях, то в
числе этих нужд явилось требование
правительственной борьбы с кустарным
производством. Но правительство, имея
близкие связи с дворянством, которое было
заинтересовано в развитии этого производст¬
ва, так как оно давало хороший заработок
крепостным крестьянам и позволяло обла¬
гать их большим оброком, не особенно было
склонно прислушиваться к этим жалобам
промышленников.
Что касается истории таможенного за¬
конодательства за это время, то главным
деятелем тут явился неоднократно уже
упоминавшийся министр финансов гр. Е.
Ф. Канкрин, занимавший свой ответствен¬
ный пост почти 21 год (с 1823 до 1844 г.)1.
Как раз накануне назначения
министром Канкрина был отменен либе¬
ральный таможенный тариф 1819 г., и
правительство на этот раз надолго воз¬
вратилось к протекционизму. Новый тариф
1822 г. выработан был при содействии
Канкрина. И во все время его управления
министерством протекционная система
оставалась в действии, благодаря чему в
широкой публике установилось прочное
убеждение, что Канкрин был ярым и узким
протекционистом, ненавидевшим свободу
торговли. Но такой упрощенный взгляд на
политику Канкрина вовсе не справедлив.
Канкрин прекрасно понимал преимущества
свободной торговли. В критике того поло¬
жения, которое могла бы дать России систе¬
ма свободной торговли, он исходил из того,
что в данный момент для России было необ¬
ходимо прежде всего иметь в виду развитие
национальной самостоятельности,
национальной независимости; он указывал,
что при системе свободной торговли мало¬
культурной России угрожает опасность в
своей промышленной жизни попасть в пол¬
ную зависимость от иностранных интересов
(в частности, от интересов такой развитой и
деятельной страны, как Англия).
Именно с этой точки зрения он считал
нужным защищать развитие русского народ¬
ного производства. Но он никогда не допу¬
скал создания слишком льготных условий
для отечественных фабрикантов при
помощи высоких таможенных ставок; на¬
против, он полагал, что нужно зорко следить
за тем, чтобы русская промышленность не
могла спать, и считал необходимым посто¬
янно регулировать таможенную систему,
чтобы заставить русских фабрикантов обра¬
щать внимание на всякие улучшения в
производственной технике под угрозой ино¬
странной конкуренции. Поэтому тот условно
покровительственный тариф, который им
был установлен, много раз переделывался
именно с этой точки зрения. В известных
производствах пошлины постоянно
понижались и особенно в те моменты, когда
Канкрин считал необходимым поощрить
169
русскую промышленность с другого конца,
угрожая ей иностранной конкуренцией.
Таким образом, над признать, что в то
время его политика, его протекционная
система была умеренным и разумным про¬
текционизмом, и никак нельзя его обвинять
в бессмысленном увлечении идеей про¬
текционизма.
С другой стороны, в тарифной политике
он руководствовался и фискальными сооб¬
ражениями. Дело в том, что он получил
Министерство финансов в тот момент, когда
русские финансы были в величайшем упад¬
ке. В 1822 г. казна была почти банкротом;
нельзя было совершить никаких займов на
сколько-нибудь сносных условиях, и курс
бумажных денег не повышался, несмотря на
то что за последние годы управления Гурье¬
ва, благодаря принятой им системе пога¬
шения ассигнационного долга, этот долг
уменьшился с 800 до 595 млн. руб. Это
уменьшение было достигнуто ценою заклю¬
чения процентных займов на очень тяжелых
условиях, и, таким образом, беспроцентный
долг ассигнационный превратился в
значительной части в долг с обязательством
постоянной уплаты весьма высоких процен¬
тов. Канкрин считал, что на таких условиях
не стоит погашать ассигнационного долга, а
надо стремиться лишь не делать новых зай¬
мов и не выпускать новых ассигнаций. В
научных трудах своих Канкрин, как я уже
говорил, главным принципом финансовой
политики ставил благосостояние народных
масс. Он неоднократно выражал мысль, что
собственно целью разумной финансовой де¬
ятельности должен быть не рост казенных
доходов, а именно увеличение народного
благосостояния,— причем он понимал под
этим главным образом именно благососто¬
яние народных масс.
Исходя из этой точки зрения, он явился
сторонником самой строгой экономии и
противником не только всяких займов, но и
всякого увеличения налоговой тяжести. По¬
этому в своей практической деятельности,
отказываясь до последней возможности от
увеличения налогов, он стал урезывать все
ведомства и тем, конечно, на каждом шагу
приобретал себе в мире высшей бюрократии
сильных врагов, чем, впрочем, никогда не
смущался.
Я уже упоминал о том, как непокладист
был Канкрин с самим императором Никола¬
ем.
Система экономии, которую Канкрин
так настойчиво проводил, дала заметные
результаты в первые же годы его управления
финансами и создала на европейских де¬
нежных рынках совсем иное отношение к
русскому государственному кредиту, нежели
то, какое существовало при Гурьеве.
Те принципы государственной эко¬
номии, которыми руководствовался Канкрин
вообще в ведении государственного хозяйст¬
ва, он прилагал и к тарифному вопросу.
Он считал, что таможенные налоги мож¬
но допускать лишь постольку, поскольку они
являются налогами на предметы роскоши
или на предметы потребления более
зажиточных слоев населения, и поэтому он
полагал, что с таможни нужно взять как
можно больше государственного дохода.
Благодаря такому пониманию, он при
регулировании тарифа в 1822 г. постоянно
принимал во внимание именно усиление
таможенного дохода. И при нем таможенный
доход возрос в 2 1/г раза — с 11 млн. руб.
до 26 млн. руб. серебром, составив весьма
крупную статью в тогдашнем государствен¬
ном бюджете.
Чтобы покончить с таможенным
тарифом, надо еще остановиться на истории
русско-польских торговых и таможенных
отношений. Дело в том, что для Польши как
страны более культурно развитой, особенно
в отношении фабричной промышленности,
которая могла там более процветать, чем в
России, благодаря уже указанным мною ус¬
ловиям, важен был постоянный' рынок для
сбыта своих фабрикатов, и Польша смотрела
на Россию именно как на очень хороший
рынок для своих товаров. Кроме того, для
нее очень важны были и азиатские рынки,
которые она могла эксплуатировать только
при условии свободного транзита через
Россию. Исходя из таких соображений, еще
в 1826 г. министр финансов Царства Поль¬
ского князь Любецкий специально приезжал
в Петербург, чтобы выхлопотать тарифные
льготы для Польши, причем он доказывал,
не стесняясь существованием конституции
1815 г., что, в сущности, Польша есть часть
России. Конечно, на это Канкрин пред¬
ставил весьма веские возражения. С точки
зрения Канкрина, уже и раньше существо¬
вавшая таможенная система в отношении
Польши была невыгодна для русского насе¬
ления. После образования Царства Польско¬
го, когда впервые возник таможенный
вопрос, было установлено, что сырье обеих
стран ввозится беспошлинно; что же касает¬
ся фабрикатов, то было установлено, что
фабрикаты, выделанные из собственного
сырья, ввозятся за ничтожную пошлину —
не более 1 % стоимости товара, для
170
фабрикатов же из чужого сырья была уста¬
новлена пошлина около 3 % ad valorem, но
при этом для некоторых предметов были
установлены особые таможенные ставки —
так, предметы хлопчатобумажной промыш¬
ленности были обложены в 15 %, сахар —
в 25 %. В результате-получалось, что глав¬
ный предмет польской обрабатывающей
промышленности, сукна, были обложены в
3 %, тогда как русские хлопчатобумажные
изделия были обложены в 15 %.
Московские фабриканты, естественно,
вопили против такого порядка, а Канкрин,
возражая Любецкому, не только не считал
возможным уничтожить внутренние тамо¬
женные пошлины, но требовал усиления ста¬
вок на некоторые товары, конкуренция
которых была особенно опасна русским
фабрикантам. В конце концов решено было
оставить прежнее положение. Затем вопрос
о русско-польских таможенных отношениях
возобновился после восстания 1831 г. Когда
Польша перестала существовать как отдель¬
ное государство и правительство Николая
поставило вопрос о полной инкорпорации
Польши, таможенные пошлины между
Россией и Польшей явились аномалей, и,
естественно, возобновился вопрос об уничто¬
жении пограничной черты. К этому присо¬
единился и вопрос об общем тарифе по
отношению к иностранным державам, так
как Польша до того времени имела для
западной границы свои особые тарифы. Этот
вопрос повлек за собой огромное длительное
обсуждение и кончился только к 50-м годам,
после обсуждения его в особой комиссии,
уже после смерти Канкрина. В этой
комиссии главным деятелем был польский
экономист Тенгоборский, которого, кажется,
рекомендовал русскому правительству Лю-
бецкий и который оказался весьма осведом¬
ленным человеком, обстоятельно изучившим
и русские народнохозяйственные отно¬
шения. В 50-х годах была уничтожена пог¬
раничная черта между Россией и Польшей,
причем по отношению к иностранной тор¬
говле были введены дифференциальные
пошлины, приноровленные к потребностям
обеих стран и различавшиеся смотря по
тому, куда шли ввозимые из-за границы
товары — в Польшу или в Россию.
Важным вопросом финансовой
политики того времени, как и теперь,
являлись расходы на войско. Я указал уже,
что Канкрин достиг значительной экономии
в обыкновенных расходах на армию в пер¬
вые 12 лет своего управления. Но как раз в
этот период, наряду с сокращением обыкно¬
венных расходов на армию, России
пришлось выдержать целый ряд войн, тре¬
бовавших чрезвычайных расходов, которые,
как ни противился этому Канкрин,
пришлось покрывать займами. В эти именно
годы была война с Персией, начавшаяся
почти тотчас после воцарения Николая, за¬
тем, в 1828—1829 гг.,— война с Турцией,
которая поглотила более 120 млн. руб. сереб¬
ром деньгами, наконец, в 1831 г.— чрезвы¬
чайно дорого обошедшаяся девятимесячная
польская кампания. Благодаря этим войнам
уже в первые годы пришлось сделать ряд
займов, размеры которых дошли почти до
400 млн. руб. серебром. Но надо сказать, что
эти займы были лучше прежних выпусков
ассигнаций; хотя они были процентные, но
условия их были довольно выгодные. Вооб¬
ще, как я уже говорил, к 30-м годам репу¬
тация русских финансов под управлением
Канкрина улучшилась настолько, что бу¬
маги русские на заграничных рынках
котировались постоянно альпари, чего ранее
никогда не было.
Как безусловно отрицательная мера
Канкрину почти всеми исследователями
истории русских финансов ставится в
минус та реформа питейных сборов, кото¬
рую он провел в 1826 г.
Вы помните, что при Гурьеве винные
откупа были отменены и введена была систе¬
ма казенной винной монополии. Эта система
продолжала существовать и при Канкрине
до 1826 г. Еще при Гурьеве доходы с питей,
первоначально повысившиеся, затем чрез¬
вычайно уменьшились благодаря беспоряд¬
кам в казенном управлении и особенно
благодаря непомерному воровству, которое
здесь царило.
Становилось очевидным, что вести это
дело невозможно при неимении штата сколь¬
ко-нибудь честных и подготовленных
чиновников. И вот в 1826 г. император
Николай приказал Канкрину составить до¬
клад об упорядочении питейных сборов.
Канкрин составил доклад довольно
объективно. Он изложил те способы эксплу¬
атации винного дохода, которые существо¬
вали тогда в • различных государствах, и
указал, что можно избрать одну из трех
систем: или систему казенного управления,
казенной винной монополии, которая
исключала всякую торговлю вином, кроме
казенной, и которая существовала в России
в тот именно момент, или систему винных
откупов, которая существовала до начала
20-х годов, и заключалась в сдаче с торгов
частным лицам права эксплуатации казен¬
ной винной монополии, или, наконец, систе¬
му свободной торговли винными напитками
при акцизе, который собирается с каждой
бутылки или Другой посуды различными
способами. Канкрин признавал, что, собст¬
венно говоря, вообще система свободной тор¬
говли вином — за которую тогда очень
сильно стоял такой влиятельный человек,
как Мордвинов, всегда исходивший в своих
взглядах из посылок экономической на¬
уки,— что эта система, конечно, в теории
лучше, но она требует известной культуры
и, главным образом, организации
правильного контроля, а при наличности
совершенно негодных чиновников эта систе¬
ма невозможна. Точно так же он признавал
невыгодной и существовавшую тогда систе¬
му непосредственной казенной монополии.
Наконец, он говорил, что можно, пожалуй,
еще предложить четвертую систему — рас¬
пределить питейный доход по губерниям и
вместо него установить прямой налог, пре¬
доставив внутреннюю раскладку и взимание
его местным органам. Но и тут Канкрин,
исходя из недоверия к местным дворянским
органам управления указывал, что если
такие «маркие» дела передать местным орга¬
нам, то дворянство окажется столь же несо¬
стоятельным, как и чиновничество.
Поэтому, признавая, что откупа — зло,
он в то же время доказывал, что они будут
при данных условиях наименьшим злом,
если не отказаться вообще от эксплуатации
винного дохода, который везде составляет
огромную часть государственного бюджета.
И вот, не считая возможным заменить его
другим доходом, особенно ввиду того, что
никакой статистики у нас тогда еще не
существовало, и заменить питейный доход
поземельным обложением или другим
каким-либо налогом нельзя было и думать,
Канкрин решил, что отказаться совершенно
от эксплуатации дохода с вина невозможно,
а раз так, то наиболее удобным способом
являются откупа. Он признавал, что при
откупах все дело будут вести откупщики,
которые и будут накапливать огромные
капиталы на счет народа, но думал, что если
уж кому-либо предоставить такое накоп¬
ление капиталов, то лучше предоставить та¬
кое накопление откупщикам, так как они
будут употреблять эти капиталы на промыш¬
ленность, для народа полезную, тогда как от
воровства чиновников и промышленность
даже не выигрывает.
Вот те соображения, по которым
Канкрин, ввиду безотрадного ведения тог¬
дашнего казенного хозяйства, признавал
возможным восстановить откупа. Тем не
менее восстановление их оказалось, конеч¬
но, большим злом; откупщики не только
сами обогащались, но подкупали и пора¬
ботили всю местную администрацию. Все
тогдашнее губернское чиновничество полу¬
чало от откупщиков второе содержание, не
меньшее, нежели казенное. Немудрено, что
когда интересы откупщиков сталкивались с
чьими-либо интересами, то всегда — как в
административных, так и в судебных местах
— дело решалось в пользу откупщика.
Таким образом, вред откупов был громаден
и не искупался теми соображениями, кото¬
рые Канкрин приводил в своем докладе в
1826 г.
Самым, может быть, значительным из
всех предприятий, осуществленных при
Канкрине, явилась денежная реформа. Ре*-
форма эта привела в конце концов к деваль¬
вации ассигнаций — к выкупу их по
пониженной цене, и в этом нередко видели
весь ее смысл, но в сущности смысл этой
реформы, в тот момент когда она
предпринималась, заключался не в этом.
Реформа была предпринята Канкриным не
в интересах фиска, а в интересах облегчения
всяких торговых сношений, от неустройства
которых сильно терпел народ. Дело в том,
что курс бумажного рубля постоянно коле¬
бался, и существовало даже несколько кур¬
сов: был вексельный курс, который
устанавливался вексельными сделками с
иностранными торговцами, был курс подат¬
ной, казенный, по которому ассигнации
принимались государственными учреж¬
дениями, наконец, был курс простонарод¬
ный, который устанавливался произвольно в
частных сделках. И этот простонародный
курс и был особенно колеблющимся и
произвольным: в одно и то же время он
колебался в разных местах от 350 до 420 коп.
ассигнациями за рубль серебра.
Происходило это благодаря тому, что все
сделки заключались на ассигнации, между
тем ввиду постоянных колебаний курса
неизвестно было, по какому курсу придется
платить, и вот вошло в обыкновение при
заключении условий при покупках и догово¬
рах о поставках, ввиду того что курс
ассигнаций всегда предполагался пада¬
ющим, назначать для момента уплаты за
поставленные продукты курс для
ассигнаций несколько низший, чем сущест¬
вовавший в момент сделки, так что в отдель¬
ных случаях он искусственно понижался до
420 коп. за рубль, (вместо нормального курса
в 350—360 коп.).
Поставщики товаров легко на это шли
(особенно страдали от этого крестьяне), ду¬
мая, что раз сказано так в сделке, то и они
будут по той же цене платить свои расходы,
например, подати, а потом, когда
приходилось вносить подати, оказывалось,
что казенный курс совсем не соответствовал
простонародному. При таком положении в
172
торговом мире скупщиков царила организо¬
ванная система плутовства. Все это порож¬
дало такое недоверие к ассигнациям, что
публика в поисках за более устойчивыми
металлическими деньгами стала принимать
и вводить в оборот иностранную звонкую
монету под названием «лобанчиков» и
«ефимков». Особый род торговцев закупал
ее за границей и доставлял в Россию. Эти
иностранные монеты, в свою очередь, путали
все расчеты и подрывали правильный обо¬
рот. При таких условиях Канкрин пришел к
необходимости издать закон об обязатель¬
ности совершения всех сделок на серебро,
и, чтобы этого достигнуть, он решил дать
ассигнациям обязательный определенный
курс, пр которому они принимались бы пос¬
тоянно казной. После некоторого обмена
взглядов между ним и Сперанским, который
как раз перед своей смертью составил
записку по этому вопросу, Канкрин оста¬
новился на курсе 350 коп. за рубль. И вот в
июне 1839 г. был издан весьма краткий
закон, который устанавливал, что отныне
как во всех расчетах казны с населением,
так и во всех коммерческих сделках счет
должен вестись на серебро. Серебряный
рубль объявлен был главной монетой,
ассигнации хотя и сохранили свое значение
ходячей монеты, но курс их был определен
раз и навсегда в 350 коп. за рубль. Пос¬
ледствия этого закона для коммерческих сде¬
лок были огромные: прекратилась вся
система плутней в сделках с простонарод¬
ным курсом, прекратилась возможность
обмана наиболее простодушных пос¬
тавщиков. Но Канкрин этим не ограничился;
ровно через полгода он предположил, что
удобно будет параллельно с ассигнациями
ввести взамен всех лобанчиков и ефимков
Ъювую русскую бумажную единицу, которая
бы совершенно свободно разменивалась на
звонкую монету и ходила бы как ме¬
таллические деньги. И вот он выпустил так
называемые депозитки, на первый раз не
ниже 25-рублевого достоинства, которые вы¬
давались желающим внести в государствен¬
ное казначейство те металлические деньги,
с которыми неудобно было обращаться, и
слитки золота и серебра, причем объявлено
было, что внесенные за эти депозитки ме¬
таллические деньги и благородные металлы
будут оставаться на хранении полностью и
будут выдаваться при первом требовании
обратно.
На эти депозитки был сразу предъявлен
огромный спрос. Публика бросилась брать
их, и в течение нескольких месяцев до конца
1842 г. было внесено более чем на 25 млн.
руб. звонкой монетой. В следующий год было
внесено еще более 12 млн.. руб. В течение
каких-нибудь двух лет казна имела возмож¬
ность выпустить 40 млн. руб. новых бумаж¬
ных, денег, курс которых был равен курсу
серебра.
Таким образом, в государственной мо¬
нетной системе получили ход три монеты:
звонкая, депозитки и ассигнации, курс ко¬
торых был точно определен в 350 коп. за
рубль. Вскоре Канкрин решил пойти даль¬
ше, именно: выпустить такие кредитные бу¬
маги, которые, как в других государствах,
обеспечивались бы не полностью звонкой
монетой рубль за рубль, а лишь таким фон¬
дом, который требовался по опыту для не¬
прерывного размена.
Было решено ввести такие кредитные
билеты, причем было установлено, что раз¬
мен их обеспечивается металлическим фон¬
дом, равным одной шестой части
выпущенных билетов. И эта операция ока¬
залась удачной: новые кредитные билеты
пошли в ход, и курс их оставался тоже
альпари.
Тогда явилась мысль все ассигнации
заменить одной формой кредитных бумаж¬
ных денег, разменивающихся без помехи на
звонкую монету, а поэтому не понижа¬
ющихся в курсе.
Сам Канкрин, однако, очень опасался,
что если эти бумажные деньги ввести, то со
временем, особенно после его смерти или
отставки, опять соблазнительно будет при
затруднениях выпускать такие кредитные
билеты сверх меры и что в конце концов дело
придет к прежним ассигнациям. Но импера¬
тор Николай, который в начале царство¬
вания являлся вполне несведущим в
финансовых делах, мало-помалу приобрел
от Канкрина же некоторые сведения по
финансовой части и стал считать себя опыт¬
ным финансистом; поэтому, когда Канкрин
заколебался, то император Николай сам вы-
ступил с собственным проектом,—
подлинник которого, переписанный рукой
наследника Александра Николаевича, сох¬
ранился,— проектом, составленным совер¬
шенно толково, в котором он, полемизируя с
Канкриным, защищал возможность замены
всех бумажных денег, в том числе и де-
позиток и ассигнаций, одними кредитными
билетами. При этом он предполагал посте¬
пенно выкупить ассигнации по той цене, на
которой они были зафиксированы законом
1839 г., т. е. по 350 коп. за рубль серебра.
Таким образом, так как общее количество
ассигнаций равнялось 595 млн. руб., необ¬
ходимо было, чтобы их выкупить, собрать
фонд в 170 млн. руб. серебром; для обеспе¬
чения же в одну шестую выпускаемых вза¬
173
мен их кредитных билетов надо было иметь
в наличности в государственной казне пос¬
тоянно лишь около 28 с половиной млн, руб.
звонкой монетой.
Император Николай полагал, что это
можно будет немедленно исполнить; для это¬
го он счщал прежде всего необходимым
прекратить выпуск депозиток; он не считал
возможным уничтожить самые депозитки и
их фонд прямо обратить в обеспечение
кредитных билетов, потому что это являлось
бы злоупотреблением доверием публики, но
решил, по мере того как депозитки будут
поступать в казну, их уничтожать, беря
соответственную часть из депозитного фонда
и на эту именно сумму выпускать новые
кредитные билеты, причем одну шестую ме¬
таллического фонда класть в их обеспе¬
чение, а остальное помещать в резервный
фонд, который давал бы возможность делать
новые выпуски.кредитных билетов.
По расчету императора Николая, можно
было всю эту операцию окончить в пять лет,
и, хотя Канкрин очень долго сопротивлялся,
но, в конце концов, после двух заседаний, в
которых Николая против Канкрина под¬
держивали, конечно, все министры, и после
того, как Николай составил новую, записку,
тоже весьма обстоятельную, принята была
эта окончательная мера, наложившая пос¬
ледний штрих на денежную реформу: реше¬
но было выкупить все ассигнации,
постепенно заменяя их выпуском кредитных
билетов, всего на сумму 170 млн. руб. сереб¬
ром, в обеспечение которых оставался бы
фонд в 28 млн. руб. звонкой монетой.
Вся эта операция прошла вполне удачно,
так что, когда этот фонд — одна шестая
часть всех выпущенных кредитных билетов
— был отчислен в обеспечение выпущенных
«кредиток», то остальная звонкая монета,
оказавшаяся к тому времени в распоря¬
жении правительства, составила гораздо бо¬
лее, чем эта часть: оказалось около 66 млн.
звонкой монетой, которая была торжествен¬
но перевезена в Петропавловскую крепость,
там сосчитана и положена. Таким образом,
в распоряжении правительства оказался
огромный запасный фонд, который и под¬
держивал до восточной войны 1853 г. курс
кредитных билетов.
Следует сказать еще хотя несколько слов
о культурной общественной деятельности
Канкрина, которая тоже была очень
значительна и проявлялась в тех ме¬
роприятиях, которые он предпринимал для
развития технических знаний: так, им <$ыл
учрежден в 1828 г. Технолс^д^^1/й/
институт, им преобразованы и, мбжро ска;
зать, поставлены на ноги Горный й ЛеЬйоЙ
институты. Им же вся местность, именуемая
«лесным корпусом», приведена была в куль¬
турный вид благодаря проведению необ¬
ходимых дорог и разбивке парка.
Он же впервые в России учредил вы¬
ставки промышленности, которые затем
периодически устраивались в Москве, соз¬
дал Сельскохозяйственный горы-горецкий
институт, завел земледельческую газету, ко¬
торую сам же в значительной мере снабжал
статьями.
Одним словом, эта сторона его культур¬
ной деятельности, не говоря уж о ценных
постройках, вроде здания биржи и многих
других зданий й помещений для разных
учреждений и технических учебных заве¬
дений в Петербурге, была несомненной
положительной заслугой Канкрина, следы
деятельности которого Петербург и теперь
еще носит во многих своих частях.
ЛЕКЦИЯ ХУШ
Система народного просвещения при Николае.— Взгляды императора Николая.— Министерство Уваро¬
ва.-— Его принципы.—Уставы 28 декабря 1828 г.—Университетский устав 1835 г.—Московский
университет при Строганове.— Положение и развитие интеллигенции при Николае.— Значение катаст¬
рофы 14 декабря.— Два русла идей: французское и немецкое.— Упадок первого, развитие второго.—
Шеллингианство в России.— «Мнемозина».—■ «Любомудры» и «Московский вестник».— «Московский
телеграф» Полевого.— «Телескоп» Надеждина.— Чаадаев и закрытие «Телескопа».— Идеалисты 30-х
годов.— Кружок Станкевича.—Бакунин и Белинский.—Эволюция Белинского.—«Отечественные
записки» и «Современник».- «Москвитянин» и система «официальной народности».— Славянофилы и
западники в 40-х годах.— Социализм и левое гегельянство. — Провинциальное общество в 40-х годах.
— Раскол и сектантство при Николае.
Теперь нам приходится остановиться на Адмирал Шишков, унаследованный
ходе просвещения в России и на развитии императором Николаем от предыдущей
умственного и политического движения эпохи, оставался во главе Министерства на-
среди интеллигенции в 30-х и 40-х годах. родного просвещения, как я уже говорил, до
174
1828 г.; затем, с 1828 по 1833 г. министер¬
ством управлял пиетист Ливен. С 1833 г.
министром сделался один из наиболее зна¬
менитых министров народного просвещения
— С. С. Уваров, который управлял этим ве¬
домством до начала третьего периода царст¬
вования Николая — до 1849 г. Уваров
главным образом и наложил свою печать на
деятельность Министерства народного прос¬
вещения в Николаевскую эпоху, хотя в сущ¬
ности он являлся главным образом лишь
талантливым исполнителем велений самого
Николая. Роль Уварова в деле народного
просвещения по значительности проведен¬
ных при нем преобразований почти столь же
важна; как роль Канкрина в истории
русских финансов и роль Киселева в
истории крестьянского законодательства.
Мы видели, что Николай Павлович обратил
внимание на вопросы народного просве¬
щения сразу же по вступлении на престол;
он связывал вопрос о направлении народного
образования или, вернее, воспитания с на¬
правлением политической мысли и задавал¬
ся целью так поставить систему народного
воспитания, чтобы она являлась системой,
предотвращающей возможность развития
всяких революционных стремлений. Ввиду
этого император Николай с самого начала
царствования принял ряд своеобразных мер
в сфере народного образования, о которых я
упоминал уже в одной из предыдущих
лекций. Охранительное направление,
принятое с самого же начала царствования
в деле народного просвещения, получает осо¬
бенную выдержанность и силу после 1831 г.
Верным и решительным исполнителем этого
курса и является сменивший в 1833 г. более
слабого кн. Ливена рекомендованный Ка¬
рамзиным Сергей Семенович Уваров. О том,
каков был Уваров до 20-х годов, о его доволь¬
но смелой оппозиции реакционным стрем¬
лениям министерства Голицына в самом
начале его деятельности, я уже говорил в
свое время, но надо сказать, что Уваров той
эпохи и Уваров николаевских времен — это
как бы две различные личности. От Уварова
прежнего времени к 30-м годам осталась
только его солидная научная образован¬
ность, а его политические взгляды
изменились коренным образом, по-видимо¬
му, в соответствии с теми карьерными
стремлениями, которые в это время в нем
возобладали. Вы помните, что в 1818 г. он в
своей речи на акте в главном педагогическом
институте говорил, что свобода есть лучший
дар Бога и что ради нее не следует опасаться
замешательств, сопряженных иногда с
конституционным устройством. В письме к
Штейну от подшучивал над людьми, которые
желают просвещения и в то же время боятся
его результатов; он говорил, что они как бы
желают огня, который не жег бы. Теперь он
свои прежние идеи оставил в стороне и
явился главным образом исполнителем тех
взглядов, которыми руководился сам импе¬
ратор Николай. Прежде всего Уваров усвоил
себе ту идею, что вооружать нацию необ¬
ходимыми знаниями надо лишь в той мере,
в какой это необходимо для технических,
нужд государства, притом строго охраняя
публику от проникновения в умы зловредных
политических идей.
Еще в Комитете 1826 г. с этой именно
точки зрения были пересмотрены уставы
средних и низших училищ, причем соответ¬
ственно взглядам императора Николая на
задачи народного просвещения была разор¬
вана сеть учебных заведений, построенная
когда-то по плану Янковича де-Мириево, и
введены новые уставы и новые программы
гимназий и уездных училищ, утвержденные
28 декабря 1828 г. Эта реакционная мера
прошла еще в тот период царствования
Николая, который я характеризовал как
период, вообще непротивный прогрессу.
Уваров, еще в бытность товарищем
министра при Ливене, получил в 1832 г.
командировку, целью которой было обоз¬
рение Московского университета и других
провинциальных учебных заведений, поста¬
новки в них преподавания и выяснение того,
как приводится в исполнение устав 1828 г.,
а также, наконец, какие преобразования тре¬
буются в организации университетов. Воз¬
вратившись из этой поездки, Уваров
представил характерный письменный отчет,
который был составлен с таким тонким
пониманием взглядов императора Николая,
что непременно должен был провести автора
его на министерский пост. В отчете Уваров
так излагал свои впечатления от ревизии
Московского университета:
«Утверждая, что в общем смысле дух и
расположение умов молодых людей ожидают
только обдуманного направления, дабы обра¬
зовать в большем числе оных полезных й
усердных орудий правительства, что сей дух
готов принять впечатление верноподданиче¬
ской любви к существующему порядку, я не
хочу безусловно утверждать, чтобы легко
было удержать их в сем желаемом равно¬
весии между понятиями, заманчивыми для
умов недозрелых и, к несчастью Европы,
175
овладевшими ею, и теми твердыми нача¬
лами, на коих основано не только настоящее,
но и будущее благосостояние отечества; я не
думаю даже, чтобы правительство имело
полное право судить слишком строго о сде¬
ланных, может быть, ошибках со стороны
тех, kohivj было некогда вверено наблюдение
за сим заведением; но твердо уповаю, что
нам остаются средства сих ошибок не пов¬
торять и постепенно, завладевши умами
юношества, привести оное почти не¬
чувствительно к той точке, где слияться
должны, к разрешению одной из труд¬
нейших задач времени,— образование
правильное, основательное, необходимое в
нашем веке, с глубоким убеждением и теп¬
лой верою в истинно русские охранительные
начала православия, самодержавия и народ¬
ности, составляющие последний якорь на¬
шего спасения и вернейший залог силы и
величия нашего отечества»1.
Император Николай увидел в авторе это¬
го отчета надежную опору для проведения в
умы молодого поколения тех идей, которые
сам он признавал спасительными и необ¬
ходимыми. Уже ставши министром, Уваров
определенно говорил, что он главной задачей
своего управления Министерством народно¬
го просвещения ставит: сдерживать наплыв
новых идей в Россию, хочет продлить ее
юность, и что если ему удастся задержать ее
развитие лет на 50, то он умрет спокойно2.
«В нынешнем положении вещей и умов
нельзя,— писал он в только что цитирован¬
ном отчете своем,— не умножать, где только
можно, число «умственных плотин». «Не все
оныя, может быть, окажутся равно твер¬
дыми, равно способными к борьбе с раз¬
рушительными понятиями; но каждая из
них может иметь свое относительное до¬
стоинство, свой непосредственный успех»3.
Этот отчет и лег в основание всей пос¬
ледующей политики Министерства народно¬
го просвещения. Таким образом, во главе
министерства был поставлен один из обра¬
зованнейших русских людей того времени,
каким был, несомненно, Уваров; и человек
этот ставил себе трудную задачу укреплять
и вводить в умы молодого поколения
«истинное просвещение» и в то же время
охранять их от заноса революционных идей
и настроений. Можно подумать, что он сам
теперь уверовал в существование такого
огня, который не жег бы! В этом направ¬
лении велась и средняя школа, но нельзя не
сказать, что чем дальше, тем больше осво¬
бождалась ее программа от излишних наук
и познаний.
Еще в комитете Шишкова шли большие
споры о том, как построить преподавание в
гимназиях, и было постановлено, что наибо¬
лее желательная программа — классичес¬
кая. При этом возникли разногласия по
вопросу о том, вводить ли один латинский
язык или и греческий. Многие члены комите¬
та стояли за введение наряду с латинским и
греческого языка и придавали этому вве¬
дению обоих языков важное значение. Но
император Николай признал, что греческий
язык лишний, что он будет только обреме¬
нять учащихся. В соответствии с этим гре¬
ческий язык был устранен из обыкновенных
гимназий, так как признавали необходимым
или ввести греческий язык в полном объеме,
или совсем его не вводить. Его решили
ввести лишь в немногих столичных
гимназиях.
При этом, несмотря на то что была
принята классическая система, ни естест¬
вознание, ни логика, ни даже ознакомление
с современным положением страны, которое
должно было даваться статистикой, вначале
не были исключены из курса гимназий. Но
чем дольше испытывалась эта система, чем
дольше Уваров оставался министром, тем
больше убеждались в бесполезности столь
широкой программы, и первоначально
включенные в нее предметы мало-помалу
один за другим из нее выкидывались; так, в
1844 г. была устранена статистика, в
1847 г.— логика, а перед тем, в 1846 г., был
сокращен курс математики, так что в конце
концов программа обучения в средней школе
к концу 40-х годов и к концу управления
Уварова все более и более понижалась.
В это время дворянство стало охотнее
отдавать своих детей в гимназии. Это обус¬
ловливалось, с одной стороны, необходимо¬
стью иметь диплом для службы, а с другой
стороны — тем, что к этому времени иссяк
в значительной мере тот контингент вольных
учителей, который был ранее к услугам
помещиков в виде различных иностранных
эмигрантов. Таким образом, виды
правительства осуществлялись и потреб¬
ность в гимназиях в дворянских кругах все
увеличивалась. Соответственно шел и рост
числа гимназий: в 1826 г. их было 48, а в
30-х годах — 64; число учащихся было в
начале царствования 7 тыс., а к концу — 18
тыс. человек. Увеличилось и число уездных
училищ, но качество преподавания и там
понижалось, а не развивалось. Этому содей¬
176
ствовала и перестройка самого управления
учебным ведомством. По прежнему уставу
1804 г., который ознаменовал собою самый
блестящий период в истории русского прос¬
вещения, во главе управления в провинции
стояли университеты. Теперь, во-первых,
организация самих университетов по уставу
1835 г. была изменена, а затем они были
совершенно устранены от заведования учеб¬
ными делами в среднем и низших
училищах, которое всецело сосредоточилось
теперь в руках попечителей учебных окру¬
гов, причем такими попечителями во многих
местах сделаны были местные генерал-гу¬
бернаторы, а в Сибири — губернаторы.
Большая часть этих попечителей при Нико¬
лае назначалась из военных генералов, ко¬
торые по мере того как настроение
правительства становилось консервативнее,
выбирались все чаще из таких лиц, которые
способны были главным образом обуздывать
и подтягивать.
Университеты также были перестроены
заново по уставу 1835 г. Этот устав совер¬
шенно изменил положение университетов,
значительно ограничив их автономию. Прав¬
да, наружно некоторые следы ее остались:
оставлено было право выбора ректора, пре¬
доставлено было самим профессорам заме¬
щать свободные кафедры; но одновременно
с этим было предоставлено и министру на¬
родного просвещения право не утверждать
избранников совета и назначать своих
кандидатов, а так как министр народного
просвещения широко пользовался своим
правом, то право выбора постепенно на деле
сошло на нет.
Следует, однако же, отметить, что в
университетах сохранилась еще забота о
возможно лучшей подготовке профессоров,
так что в 30-х годах широко практиковались
даже командировки молодых кандидатов за
границу. Эти командировки дали в 40-е годы
блестящие результаты. Благодаря им
явилась целая плеяда молодых русских уче¬
ных, которая дала очень много для следую¬
щего поколения русской интеллигенции:
достаточно вспомнить имена Грановского,
Редкина, Крюкова, Буслаева (в Москве),
Меера (в Казани), Неволина, Куторги (в
Петербурге). В Московским университете
этому в особенности способствовал
попечитель граф. С. Г. Строганов, который,
сам будучи очень образованным человеком,
деятельно заботился об улучшении профес¬
сорского состава, что не помешало ему в то
же время вмешиваться в систему препода¬
вания и даже в программы отдельных про¬
фессоров, подсказывать им желательное на¬
правление и вообще распоряжаться в
университете, как заправскому хозяину.
Таким образом, и тут комбинировалось же¬
лание, с одной стороны, улучшить систему
преподавания, а с другой — определить тон
и направление его. Во всяком случае,
университет потерял свое независимое авто¬
номное устройство, которым он пользовался
по уставу 1804 г. до реакционного министер¬
ства кн. Голицына, при котором
университетская автономия нарушена была
во многих местах фактически.
Что касается числа университетов, то в
этот период был открыт (в 1834 г.) Киевский
университет св. Владимира, но это не был
вполне новый университет, так как он за¬
менил собою Виленский, который был за¬
крыт вскоре после восстания 1831 г.
Такова общая картина народного обра¬
зования во втором периоде царствования
Николая.
Что касается положения интеллигенции
в это время, то после 14 декабря 1825 г.
интеллигентная среда, если под ней разу¬
меть самостоятельно мыслящее общество,
была чрезвычайно ослаблена. После беспо¬
щадной расправы с декабристами она поте¬
ряла почти весь свой цвет, срезанный
суровой рукой победителя и отправленный в
Сибирь. Независимо от ссылки
провинившихся и прикосновенных, стро¬
гость наказания терроризировала и
оставшихся; на время она заглушила всякие
попытки свободного выражения своих .мыс¬
лей и очень затрудняла сколько-нибудь
широкое развитие интеллигенции в близком
будущем.
«Тридцать лет тому назад,— писал Гер¬
цен в конце 50-х годов,— Россия будущего
существовала исключительно между не¬
сколькими мальчиками, только что вы¬
шедшими из детства, а в них было наследие
общечеловеческой науки и чисто народной
Руси. Новая жизнь эта прозябала, как трава,
пытающаяся расти на губах не простывшего
кратера». Когда эти мальчики подросли, то
это молодое поколение оказалось разделен¬
ным на те же два русла, по которым запад¬
ные идеи проникали в Россию и прежде,
начиная с Екатерины. И теперь явились, с
одной стороны, лица, усвоившие себе глав¬
ным образом идеи конца XVIII в., вдеи
французской революции, наследовавшие
вместе с тем идеи декабристов, которые
воспитывались в свое время на той же фран¬
177
цузской идеологии; с другой стороны,
явились и последователи немецкой мысли,
немецкого идеализма и послекантовской ме¬
тафизики, которая проникала все глубже в
русское мыслящее общество 20-х и 30-х
годов. Теперь представители этого второго
течения получили решительное преобла¬
дание над последователями первого. Это
ярко выразилось и в тех университетских
кружках, в которых группировалось молодое
поколение 30-х годов. В конце Александрова
царствования безусловно преобладали пос¬
ледователи французских политических
идей, отразившихся в идеологии и
практических планах и Пестеля, и Никиты
Муравьева. Но и тогда уже наряду с ними
начали формироваться кружки последовате¬
лей немецкой философии — главным обра¬
зом последователей философии Шеллинга.
Шеллингианство начало проникать в
Россию довольно рано. Уже в 1804 г. явился
в Петербурге ревностный проповедник
Шеллинговой философии — профессор
Медицинской академии Велланский. Дело в
том, что учение Шеллинга привлекало к себе
современников с двух разных точек зрения.
Шеллинг был представителем монистичес-
ко-идеалистической философии, и самой
важной частью его учения была теория поз¬
нания, которая стремилась свести к извест¬
ному единству познающий дух и внешнюю
природу. Шеллинг стремился примирить в
своей теории познания объективность суще¬
ствования природы с возможностью
умозрительного ее изучения. Отсюда
произошла его система натурфилософии.
Увлечение натурфилософией повело
Шеллинга настолько далеко, что он, не бу¬
дучи никогда естествоиспытателем и враща¬
ясь всегда в сфере умозрительной
философии, решился, однако, основать
медицинский журнал.
Поэтому натурфилософией Шеллинга, а
затем и вообще его системой стали интере¬
соваться естествоиспытатели и медики, чем
и объясняется тот факт, что и в России
шеллингианство первоначально проникло
через профессора Медицинской академии
Велланского и профессора физики и мине¬
ралогии Московского университета М. Г.
Павлова.
Герцен в своем «Былом и думах»
вспоминает, какое значение имел для тог¬
дашних московских студентов Павлов, кото¬
рый читал свои лекции на первом курсе
физико-математического факультета и сразу
ставил перед студентами вопрос: «Ты
хочешь знать природу, но что такое природа
и что такое знатьЪ Таким образом, прежде
чем читать физику, Павлов и на естествен¬
ном факультете излагал теорию познания
— и излагал ее по Шеллингу. Слушать же
лекции Павлова ходили студенты всех
факультетов.
Таким образом, шеллингианство перво¬
начально стало распространяться в России
через профессоров-естественников; но уже в
20-х и 30-х годах к ним присоединились
проповедники шеллингианства с кафедр
истории философии (Галич), теории лите¬
ратуры и эстетики (Давыдов, Надеждин) и
т. д., и наряду с этим возникла проповедь
шеллингианских идей и в литературе, где
провозвестниками их явился сперва кружок
московских «любомудров» двадцатых годов,
образовавшийся около кн. В. Ф. Одоевского
и Д. В. Веневитинова, которые в 1824 г.
предприняли издание литературного
сборника «Мнемозина» в четырех частях. В
сборнике этом тогда же приняли участие
Вильгельм Кюхельбекер (в качестве соре¬
дактора) и упомянутый только что
профессор М. Г. Павлов. К этому кружку
«любомудров» примыкали и будущие мос¬
ковские славянофилы братья Киреевские и
Хомяков, которые, впрочем, тогда еще не
были славянофилами, и Погодин с Шевыре-
вым, которые в 1826 г. предприняли уже
издание журнала «Московский вестник»со
многими из «любомудров». Через Ве¬
невитинова и Кюхельбекера был привлечен
к некоторому участию в изданиях «любомуд¬
ров» и Пушкин.
«Мнемозина» была главным образом
посвящена борьбе с поверхностными, с
точки зрения «любомудров», идеями фран¬
цузской энциклопедической философии
XVIII в. и стремилась проводить в умы
читателей идеи немецкого идеализма.
Прямым продолжателем «Мнемозины»
явился сперва журнал «Московский
вестник», основанный в 1826 г. Погодиным
и Шевыревым при участии, с одной стороны,
тех же «любомудров» 20-х годов, из которых,
впрочем, наиболее талантливый — Дмитрий
Веневитинов — вскоре умер, а с другой —
при участии Пушкина, вернувшегося из
своей деревенской ссылки в столицы и не¬
довольного журналом Н. А. Полевого «Мос¬
ковский телеграф», в котором он ранее
участвовал по просьбе соиздателя «Телегра¬
фа» кн. Вяземского. Несмотря, однако ж, на
участие таких сил, «Московский вестник»
просуществовал недолго; он не пошел, по-
178
видимому, главным образом вследствие нео¬
пытности и неумелого ведения дела глав¬
ными редакторами этого журнала
Погодиным и Шевыревым — молодыми тог¬
да профессорами Московского университе¬
та.
Вслед за тем с 1831 г. главным органом
шеллингианства в России явился журнал
Н. И. Надеждина «Телескоп». Надеждин
был также профессором Московского
университета и читал в нем курс эстетики,
всецело опиравшийся также на идеи
философии Канта и Шеллинга.
Параллельно с этим органом довольно
выдержанного философского направления
издавался, как мы уже упоминали, в Москве
же основанный еще в 1825 г. очень та¬
лантливым и разносторонним журналистом
Н. А. Полевым — вначале при близком
участии одного из «арзамасцев», — кн. П.
А. Вяземского,— «Московский телеграф»,
журнал «энциклопедический», как харак¬
теризовали его сами издатели. Главным де¬
лом этого журнала являлась в то время
проповедь романтизма и борьба с ложнок¬
лассическими взглядами, под¬
держивавшимися главным образом в старом
«Вестнике Европы», находившемся тогда
под редакцией проф. М. Т. Каченовского.
Хотя романтизм в Германии развивался
в прямой связи с шеллингианством и хотя
сам Полевой был не чужд шеллингианских
идей, но, в сущности, он был профан в
философии и вообще талантливый самоуч¬
ка, за все бравшийся и чрезвычайно разбра¬
сывавшийся в своей писательской и
издательской деятельности. Поэтому ученые
издатели «Московского вестника» и «Теле¬
скопа» считали себя вправе относиться к
нему несколько свысока, что не мешало,
однако же, его журналу пользоваться
большим сочувствием широкой публики.
Собственно, и «Телескоп» Надеждина, и
«Московский телеграф» Полевого были орга¬
нами прогрессивной мысли и оба проводили
в умы своих читателей идеи, господство¬
вавшие тогда в современной Европе; но «Те¬
леграф», как орган эклектический и гораздо
более поверхностный, был в то же время и
гораздо доступнее «Телескопа» для малопод¬
готовленных читателей, «Телескоп» же
являлся органом высшей, группировавшейся
около университетов, интеллигенции. Не¬
мудрено поэтому, что цензурное ведомство,
главным руководителем которого уже с 1832
г. в качестве товарища министра народного
просвещения являлся Уваров, с особенным
недоверием относилось именно к популярно¬
му журналу Полевого, который и был нако¬
нец закрыт по инициативе Уварова в 1833 г.
К «Телескопу» Надеждина начальство
относилось гораздо терпимее именно
вследствие меньшей его доступности, и он
продолжал благополучно издаваться до кон¬
ца 1836 г., когда в нем появилось необычное
по своей дерзкой прямолинейности зна¬
менитое «Философическое письмо» П. Я.
Чаадаева.
Автор этого письма — П. Я. Чаадаев —
был весьма замечательной личностью и
оставил крупный след в истории русской
интеллигенции. Хотя деятельность его
относится к 30-м и 40-м годам XIX в., но по
своему возрасту и в особенности по своему
воспитанию и связям он принадлежал, в
сущности, к предшествовавшему поко¬
лению, сошедшему со сцены после 14 декаб¬
ря 1825 г. Он был — вместе с Пушкиным —
случайно уцелевшим обломком этого поко¬
ления русской интеллигенции. Блестящий
гвардейский офицер, аристократ по
происхождению (он был родной внук
историографа кн. М. М. Щербатова),
воспитанный в тех же идеях конца XVIII в.,
в которых были воспитаны и другие его
товарищи и сверстники, он, однако же, рано
от них отбился и стал особняком в своем
дальнейшем развитии. После известной
истории в Семеновском полку, с донесением
о которой он был послан в Лайбах к импе¬
ратору Александру, Чаадаев вышел в отстав¬
ку, уединился, сосредоточился в себе и весь
ушел в широко распространенный тогда по
всей Европе мистицизм. Увлекаясь идеями
мистицизма, погружаясь в изучение
мистических книг Эккартсгаузена, Юнга-
Штиллинга и т. п., глубоко проникнутых
мистической стороной христианского
учения (в его католической форме), Чаадаев
внимательно и напряженно следил в то же
время и за развитием германской иде¬
алистической философии. Враждебно отно¬
сясь к философской системе Гегеля, которая
не согласовалась с христианским откро¬
вением, он с большою надеждою смотрел на
развитие шеллинговой системы, которая,
как он ясно видел уже в 1825 г., должна была
прийти к попытке согласования выводов иде¬
алистической философии с догматами
христианской веры. И когда Шеллинг
действительно пришел к этому во втором
периоде своей деятельности, Чаадаев сде¬
лался ревностным его последователем, впол¬
не сходясь в этом с одним из главных
179
основателей позднейшей славянофильской
доктрины Ив. Вас. Киреевским. У него была
и другая точка прикосновения с позд¬
нейшими противниками его — славя¬
нофилами. Он, как и они, усматривая
главное направляющее значение в, развитии
различных народностей в религиозной осно¬
ве, находил коренную разницу в развитии
Западной Европы и России. Но эта разница,
по мнению Чаадаева, была отнюдь не в
пользу России. В Западной Европе и именно
в католицизме он видел мощного и верного
хранителя начал христианства и христиан¬
ской цивилизации; положение же и ход
развития России представлялись ему в са¬
мом мрачном свете. Он считал Россию
каким-то межеумком, не примкнувшим ни к
Западу, ни к Востоку, не имеющим ни
великих традиций, ни мощной религиозной
основы в своем развитии. Спасение России
он видел в скорейшем и возможно полном
приобщении ее к религиозно-культурным
началам западного мира и себя считал обя¬
занным проводить эти идеи в сознание пред¬
ставителей современного русского общества.
Кафедрой, с которой он проповедовал это
учение, для него служили московские сало¬
ны 30-х годов; в печати же он не пытался
выступать, не видя возможности ею пользо¬
ваться при тогдашних цензурных условиях.
Его «Философическое письмо», принадле¬
жащее к целой серии писем (теперь напеча¬
танных, за исключением некоторых
пропавших), не предназначалось для печати
и было написано к частному лицу по част¬
ному случаю. Однако он читал эти письма
своим знакомым, и Надеждин, издатель «Те¬
лескопа», выпросил их у него для печати. Но
появление первого же из них произвело впе¬
чатление внезапно разорвавшейся бомбы.
Оно являлось самым резким и смелым
протестом против той системы «официаль¬
ной народности», которая незадолго перед
тем была провозглашена правительством с
легкой руки Уварова. В противоположность
официальному прославлению русских
исторических начал и русской действитель¬
ности, вот как отзывался в напечатанном
письме Чаадаев о нашей истории: «В самом
начале у нас дикое варварство, потом грубое
суеверие, затем жестокое, унизительное вла¬
дычество завоевателей, владычество, следы
которого в нашем образе жизни не
изгладились совсем и доныне. Вот горестная
история нашей юности. Мы совсем не имели
везраста этой безмерной деятельности, этой
поэтической игры нравственных сил народа.
Эпоха нашей общественной жизни, соответ¬
ствующая этому возрасту, наполняется су¬
ществованием темным, бесцветным, без
силы, без энергии.
Нет в памяти чарующих воспоминаний,
нет сильных наставительных примеров в
народных преданиях. Пробегите взором все
века, нами прожитые, все пространство
земли, нами занимаемое,— вы не найдете ни
одного воспоминания, которое бы вас оста¬
новило, ни одного памятника, который бы
высказал вам протекшее живо, сильно,
картинно.
Мы живем в каком-то равнодушии ко
всему, в самом тесном горизонте, без про¬
шедшего и будущего...».
Какая-то странная судьба разобщила
нас от всемирной жизни человечества, и,
чтоб сравниться с другими народами, нам
надо — по Чаадаеву — «переначать для се¬
бя снова все воспитание человеческого рода.
Для этого перед нами — история народов и
плод движения веков...».
Можно себе представить, какое впечат¬
ление могла произвести в то время подобная
статья: «Телескоп» был закрыт, Надеждин
сослан в Вологду, Чаадаев официально
объявлен сумасшедшим.
Какое впечатление произвело это письмо
Чаадаева на избранные умы молодого поко¬
ления, видно из воспоминаний Герцена в
«Былом и думах«; но таких избранных умов
в то время было чрезвычайно немного, и, не
говоря уж о провинции, где тогда находился
Герцен, но и в столицах, особенно в Москве,
письмо просто произвело впечатление скан¬
дала и вызвало всеобщий переполох. Даже
и среди мыслящих людей большинство чув¬
ствовало себя оскорбленным тем тоном глу¬
бокого презрения, каким Чаадаев говорил о
прошлом русской истории. Когда возбуж¬
дение несколько улеглось, начались пылкие
споры в московских салонах, где
противниками Чаадаева выступили его
друзья Киреевский и Хомяков — будущие
славянофилы. Через год Чаадаев написал —
конечно, не для печати — свою «Апологию
сумасшедшего», в которой проводил, в сущ¬
ности, свои прежние взгляды, утверждая,
однако, что никто больше его не любит свою
родину, и доказывая, что глас народа далеко
не всегда — глас Божий. Противники Чаа¬
даева: Хомяков, Киреевский и др., будучи
людьми порядочными, не считали возмож¬
ным выступить против него в печати в тот
момент, когда учение его было столь торже¬
ственно заклеймено властями предер¬
180
жащими и когда свободный обмен взглядов
в этой области сделался вполне невозмож¬
ным. Но этим обстоятельством не смутились
прежние издатели «Московского
вестника»Шевырев и Погодин, которые дав¬
но уже деятельно ухаживали за Уваровым и
были очень не прочь извлечь для себя те
выгоды, которые могли для них проистекать
из совпадения их взглядов с правительствен¬
ной точкой зрения, невзирая на то, что
противник их был обречен на вынужденное
молчание. Особенно была замечательна в
этом отношении статья Шевырева, напеча¬
танная в первой книжке «Москвитянина»
Погодина за 1841 г., под заглавием «Взгляд
русского на образование Европы». В этой
статье резко противопоставляются друг дру¬
гу мир западный и мир русский, причем
впервые обстоятельно и резко изложена
теория гниения и разложения западноевро¬
пейской культуры и Россия определенно
предостерегается от всякого общения с этим
больными организмом, который уподобляет¬
ся человеку, одержимому «злым заразитель¬
ным недугом, окруженным атмосферою
опасного дыхания...». Вполне принимая ува-
ровскую триединую формулу «православие,
самодержавие и народность» как здоровую
основу русской государственной жизни, ав¬
тор статьи открыто становится под знамя
правительства и заканчивает свою статью
следующим возгласом: «Тремя коренными
чувствами крепка наша Русь и верно наше
будущее. Муж царского совета, которому
вверены поколения образующиеся (т. е. Ува¬
ров), давно уже выразил их глубокою мыс¬
лью, и они положены в основу воспитания
народа».
Сам граф Уваров, однако же, не считал
отнюдь свою позицию совершенно прочной
и превосходно сознавал наличность в рус¬
ской интеллигенции живых, готовых на
борьбу сил, теснить и давить которые он и
считал главной своей задачей. В отчете о
десятилетнем управлении своем министер¬
ством он писал (в 1843 г.): «Направление,
данное вашим величеством министерству, и
его тройственная формула должны были вос¬
становить некоторым образом против него
все, что носило еще отпечаток либеральных
и мистических идей: либеральных — ибо
министерство, провозглашая самодержавие,
заявило твердое желание возвращаться пря¬
мым путем к русскому монархическому на¬
чалу во всем его объеме; мистических —
потому что выражение «православие» до¬
вольно ясно обнаружило стремление
министерства ко всему положительному в
отношении к предметам христианского ве¬
рования и удаления от всех мечтательных
призраков, слишком часто помрачавших
чистоту священных преданий церкви. Нако¬
нец, и слово «народность» возбуждало в
недоброжелателях чувство неприязненное за
смелое утверждение, что министерство
считало Россию возмужалою и достойною
идти не позади, а по крайней мере радом с
прочими европейскими национальностями».
И действительно, в русском обществе к это¬
му времени — к началу 40-х годов — вполне
сложилось новое западническое направ¬
ление, которое вполне враждебно относилось
к системе официальной народности, которое
отрицало славянофильскую точку зрения,
окончательно сложившуюся к этому вре¬
мени, и которое вскоре сделалось, несмотря
на стеснения и преследования, властителем
дум молодого поколения. Но это направ¬
ление, в отличие от Чаадаева, исходившего,
как и славянофилы, из теологических осно¬
ваний, основывалось на полном их
отрицании. Чтобы проследить происхож¬
дение и судьбу этого направления, так же
как и противоположного ему славя¬
нофильского направления, нам надо
обратиться к истории тех университетских
кружков 30-х годов, о которых мы уже
упоминали к в которых заключалась тогда,
по верному выражению Герцена, «Россия
будущего».
В начале 30-х годов в Московском
университете мыслящее и стремящееся к
умственному и нравственному развитию
студенчество группировалось около двух
центральных кружков — Станкевича и Гер¬
цена. Кружок Станкевича состоял из лиц,
интересовавшихся главным образом вопро¬
сами этики и философии, и развивался под
влиянием шеллингианских идей, проповедо¬
вавшихся профессорами Павловым, у кото¬
рого Станкевич и жил, и Надеждиным. К
кружку Станкевича принадлежали тогда,
между прочим, Белинский — с одной сторо¬
ны, Константин Аксаков — с другой. Впос¬
ледствии к ним примкнули: Бакунин,
Боткин, Катков, Грановский (за границей),
отчасти (через Аксакова) Юрий Самарин —
все звезды первой величины в последующей
истории русской интеллигенции.
Кружок Герцена состоял из лиц,
стремившихся главным образом к разре¬
шению политических и социальных проб¬
лем. К ним принадлежали Огарев, Сатин,
Кетчер, Пассек и др. Самым блестящим
181
лицом этого кружка был, конечно, сам Гер¬
цен, дружный и вполне единомышленный с
детских лет с Огаревым. Этот кружок считал
себя прямым наследником декабристов и
через них идей французской философии и
французской революции XVIII в. Из совре¬
менных умственных европейских течений
они увлекались в особенности
социалистическими идеями Сен-Симона и
его последователей.
Кружок Герцена рано распался или,
точнее говоря, был раскассирован
правительством. Члены его тотчас же по
окончании курса в университете, после
одной пирушки, на которой пелись рево¬
люционные песни, были арестованы,
просидели по нескольку месяцев под арестом
и затем были разосланы в разные глухие
губернии в ссылку. Сам Герцен время с 1833
по 1839 г. провел сперва в Перми и Вятке,
потом во Владимире. Когда он вернулся в
Москву, он застал в полном расцвете господ¬
ство гегельянской философии в верхних
слоях московской интеллигенции, и ему са¬
мому ничего не оставалось, как приняться
за ее изучение и примкнуть к лицам,
воспитавшимся в кружке Станкевича, кото¬
рый сам в это время умирал за границей
двадцати семи лет от роду.
Критический монистический идеализм
в новейшей западной философии идет от
Канта и через Фихте переходит к Шеллингу;
в России же ознакомление с германским
идеализмом началось, как мы видели, с
Шеллинга; знакомство с Кантом было расп¬
ространено в начале XIX в. довольно мало.
Но, принявшись вплотную за изучение гер¬
манской философии, члены кружка Стан¬
кевича перешли и к Канту, увидев, что с ней
необходимо более основательное знакомство
как с первоисточником новейшей философ¬
ской мысли. В это время как раз к ним
присоединился Бакунин, который получил
свое образование дома, а потом в
артиллерийском училище, но имел от
природы необыкновенные способности к
диалектическому мышлению и к философии
вообще и еще в то время, когда был в
корпусе, получил к ней интерес благодаря
чтению статей Веневитинова и знакомству с
курсом истории и теории словесности Ла¬
гарпа, в последних томах которого изложены
системы Локка и Кондильяка. Ковда Ба¬
кунин познакомился со Станкевичем, оба
они заинтересовались Фихте и Кантом и
принялись за изучение «Критики чистого
разума». Но Кант их не особенно увлекал, и
они гораздо с большим увлечением оста¬
новились на Фихте. Дело в том, что у Фихте
кроме его знаменитой теории познания, со¬
ставлявшей основу его философской систе¬
мы, была другая сторона, более их
привлекавшая. Фихте являлся одним из вож¬
дей германского возрождения; его участие в
этом движении выражалось в том, что он
популяризировал выводы идеалистической
философии и, опираясь на идеи философии,
подходил с ними к разрешению тогдашних
германских мировых этических и
политических вопросов.
Бакунин в особенности заинтересовался
его нравственно-философскими
сочинениями («О назначении человека», «О
назначении ученых» и в особенности
«Anweisung zum seligen Leben») и начал
переводить эти сочинения Фихте на русский
язык. Увлечение Бакунина Фихте переда¬
лось и Белинскому, который начал свое
знакомство с германской философией вме¬
сте со Станкевичем с Шеллинга.
Надо сказать, что Белинский не владел
немецким языком и получил знакомство с
германскими философами в словесной пере¬
даче своих друзей. В 1836 г. он перешел с
Бакуниным от Шеллинга к Фихте. И статьи
Белинского в «Телескопе», напечатанные в
нем в 1836 г., носят отпечаток этого увле¬
чения возвышенным идеализмом Фихте,
ставившим себе главным образом нравствен¬
ные задачи. Но от Фихте Бакунин и другие
товарищи Белинского очень скоро перешли
к Гегелю, и конец 30-х годов как раз явля¬
ется началом проникновения в Россию ге¬
гельянства.
Начала гегельяновской философии
опять-таки были сообщены Белинскому его
друзьями (Бакуниным и Катковым) в виде
кратких выводов, и то обстоятельство, что
Белинский лично не мог с нею знакомиться,
сообщало его сведениям отрывочный и
поверхностный характер. Сам Белинский,
по отзывам всех, знавших его, был человеком
в высшей степени одаренным тонкой фило¬
софской организацией, но, к сожалению, не
владел языками, мог усваивать отвлеченные
положения германской философии только
поверхностно. Это повело к превратному
пониманию Гегеля. Бакунин тоже прош¬
тудировал Гегеля на первый раз довольно
поверхностно, хотя и владел немецким язы¬
ком совершенно свободно.
Очень важное для дальнейшего развития
миросозерцания Белинского обстоятельство
заключалось в неверно понятом положении
182
гегелевой логики*. «Все действительное —
разумно».
В сущности говоря, Бакунин впервые
заимствовал это положение из «Философии
права» Гегеля, растолковав его по-своему; в
логике же Гегеля эта фраза имела лишь то
значение, что все, что существует в
действительности, отражается в человече¬
ском разуме и для нас существует в том виде,
в каком мы все это воспринимаем через свой
разум.
Между тем Белинский и Бакунин сде¬
лали отсюда тот вывод, что раз все
действительное разумно,— значит, все су¬
ществующее знает разумную цель.
Поэтому они — как и в Германии неко¬
торые гегельянцы — стали рассматривать
всю современную действительность с кон¬
сервативной точки зрения, стали стремиться
к оправданию всего существующего. И
Белинский, как человек особенно склонный
к крайним выводам и к быстрому их дове¬
дению до логического конца, прямо вы¬
ступил с апологией существовавшего тогда в
России социального и политического строя.
Поэтому в его статьях конца 30-х годов
(1838—1840) можно видеть изображение
русской действительности, довольно близкое
к тому изображению, какое мы находим у
тогдашних официальных защитников
правительства в их органе «Москвитянин»,
с которым впоследствии Белинский так го¬
рячо полемизировал.
Конечно, для Белинского такое увле¬
чение не могло продолжаться долго, потому
что он был человеком живым, чутким и
благородным; он скоро заметил, в какой
компании оказался он и его друзья и в какой
тупик завело его упрощенное понимание Ге¬
гелевской философии. Тем страстнее и резче
отказался он от этого своего увлечения. Но,
разочаровавшись в тех данных, которые он
получил из гегелевской философии благода¬
ря неправильному ее толкованию, он, вместо
того чтобы лучше ее продумать, с азартом от
нее отказался и ударился в другую край¬
ность, именно: решил, что немецкая иде¬
алистическая философия может только
завести человека в тупик и что поэтому
гораздо лучше обратиться к тем положитель¬
ным социальным учениям, которые давала
французская политическая литература того
времени.
Этому как раз соответствовало его
сближение с возвратившимся из ссылки
Герценом. Это сближение сильно отразилось
на направлении всей Дальнейшей литера¬
турной деятельности Белинского, который
как раз в это время перенес свою деятель¬
ность из Москву в Петербург и основался в
«Отечественных записках» Краевского.
Вскоре он узнал к тому же, что и друг
его, М. А. Бакунин, уехавший в 1840 г. за
границу и перед отъездом с ним
поссорившийся, в Берлине при более глубо¬
ком изучении гегелевской философии не
только освободился от искаженного ее
понимания, но и отказался от правого кон¬
сервативного крыла ее последователей и,
примкнув к левому крылу гегельянцев, сде¬
лался одним из ярких представителей
монистического материализма.
Дальнейшая литературная деятельность
Белинского получила огромное значение в
истории русской интеллигенции: журналы
Белинского «Отечественные записки», а
потом «Современник» сделались наиболее
читаемыми «журналами, и Белинский явился
в 40-х годах настоящим властителем дум
молодого поколения.
В этой его деятельности получили пре¬
обладание уже не идеи германской
философии, а идеи тех социальных и
политических доктрин, которые он при со¬
действии Герцена и самостоятельно усвоил
себе в то время из французской литературы.
Я не буду останавливаться подробно на
деятельности Белинского, так как
большинству из вас, я думаю, она хорошо
известна, но укажу только, что миросозер¬
цание Белинского в то время сделалось еще
более ярко враждебным тогдашней системе
официальной народности, которая выража¬
лась «Москвитянином», издававшимся По¬
годиным при участии Шевырева в Москве.
Однако Белинскому пришлось иметь де¬
ло не только с погодинским «Москви¬
тянином»; в середине 40-х годов выступили
с определенной формулировкой своих взгля¬
дов и московские славянофилы, в числе
которых были представители двух разных
поколений: с одной стороны, примыкавшие
к кружку «любомудров» 20-х годов братья
Киреевские, Хомяков и Кошелев, с другой
стороны — прежние товарищи самого
Белинского, люди, входившие в кружок
Станкевича или к нему примыкавшие, как
Константин Аксаков и Юрий Самарин. Это
веб были люди чистые и вполне порядочные,
выработавшие свою цельную и стройную
систему, свою оригинальную
историософию, которая, так же как чаада-
евская, опиралась на теологические основы
и, так же как чаадаевская, выдвигала на
183
первый план и подчеркивала противоречия
и несогласие в развитии двух разных миров
современного человечества: западного —
германо-романского и восточного —
византийско-славянского, или греко¬
российского. Но, в прямую противополож¬
ность Чаадаеву, они крайне идеализировали
весь ход развития русского славянского
мира и относились совершенно отрицатель¬
но ко всей западноевропейской культуре.
По их представлению, православная ве¬
ра и русский народ сохранили во всей
чистоте начало древнего духовного
христианства, а на Западе оно исказилось
умствованиями католицизма, авторитетом
пап и преобладанием материальной культу¬
ры над духовной. Последовательное развитие
этих начал привело, по их мнению,
логически сперва к протестантизму, а затем
и к новейшему материализму и отрицанию
откровения и истин христианской веры.
Идеализируя ход развития Русского го¬
сударства и общества, славянофилы утвер¬
ждали, что у нас и государство, и общество
развивались будто бы на началах свободы,
на господстве демократических общинных
началах, тогда как на западе государство и
сложившиеся там фсфмы общества
развились на началах насилия, порабо¬
щения одних народов и классов другими,
откуда возникло феодальное, аристократиче¬
ское начало личного феодального землевла¬
дения и обезземеления масс.
В учении славянофилов были, конечно,
точки соприкосновения с учениями школы
официальной народности, но были и корен¬
ные различия, приводившие их к требо¬
ванию полной свободы слова и
вероисповедания и полной независимости от
государства личного, общинного и церковно¬
го быта, что и было формулировано впос¬
ледствии Константином Аксаковым в его
записке императору Александру II, где он
провозгласил известную славянофильскую
политическую формулу: «Сила власти —
царю, сила мнения — народу».
Несмотря на все это, Белинский столь
же резко и страстно обрушивался на славя¬
нофилов, как и на представителей
официальной народности; особенно после
попытки первых (неудачной и кратковре¬
менной) взять под свою редакцию
погодинский «Москвитянин» в 1845 г.
Относясь к славянофилам с полной не¬
терпимостью, Белинский порицал своих
единомышленников — московских за¬
падников Грановского и Герцена — за их
мягкое отношение к славянофилам и в осо¬
бенности за согласие их давать свои статьи
в славянофильские сборники. Сам
Белинский решительно отрицал возмож¬
ность такого соучастия и про себя говорил:
«Я жид по натуре и с филистимлянином за
одним столом есть не могу».
Цензурные условия в то время были
таковы, что свои идеи западникам
приходилось проводить между строк, а сла¬
вянофилы, которые к этому не были склон¬
ны, так и не могли образовать своего
сколько-нибудь постоянного органа в 40-х
годах, так что дебаты, которые они вели, в
значительной мере происходили или в час¬
тных домах, или в сборниках, которые вы¬
ходили спорадически; так, «Московский
сборник» славянофилов вышел в 1846 и
1847 гг. и повторился в 1852 г., но к этому
времени положение печати сделалось тако¬
во, что всякое дальнейшее обсуждение
политических и социальных вопросов сдела¬
лось невозможным. В этом отношении
решительную роль сыграла революция
1848 г.
С воцарением императора Николая ко¬
ренным образом изменилось отношение
правительства к раскольникам и в особен¬
ности к сектантам. Положение некоторых
сект значительно изменилось в небла¬
гоприятную сторону уже в последние годы
царствования Александра под влиянием тех
обскурантских и изуверских течений в
сфере духовного ведомства, выразителями
которых явились в это время юрьевский
архимандрит Фотий и находившийся под его
влиянием петербургский митрополит Се¬
рафим.
Хотя положение самого Фотия с вос¬
шествием на престол Николая изменилось в
неблагоприятную для него сторону и хотя
молодой император не обнаруживал никакой
симпатии к православному изуверству и
обскурантизму, однако же он отнесся с са¬
мого же начала совершенно отрицательно и
к расколу, который, с одной стороны, являл¬
ся в его глазах нарушением установленного
порядка в церкви, а с другой — неизбежно
должен был вызвать против себя
репрессивные меры правительства своим
противоправительственным характером.
Именно с этой последней точки зрения
правительство императора Николая и
оценивало степень зловредности и опасности
отдельных раскольничьих толков и сект. С
первых же лет царствования Николая круто
изменилось к худшему положение тех духов¬
184
ных христиан, духоборцев и молокан, кото¬
рые были поселены в значительном числе
при императоре Александре на «молочных
водах» в Таврической губернии и которые,
несомненно, пользовались защитой и пок¬
ровительством Александра и против сурово¬
го действовавшего закона, и против
нетерпимости окружающего православного
населения, проявлявшейся во многих мес¬
тах. При Николае духоборцы и молокане
(как субботники, так и воскресники) сразу
были отнесены к числу вреднейших сект
вследствие их антигосударственных тен¬
денций. Замечательно, что при первых же
попытках классификации различных толков
и сект (с 1837 г.) духоборцы и молокане
наравне с хлыстами и скопцами были отне¬
сены к числу вреднейших сект и значились
даже в этом разряде на первом месте —
впереди хлыстов и скопцов. Это и понятно,
потому что, с одной стороны, хлысты и
скопцы заслоняли себя от преследований
церкви наружным выполнением всех пра¬
вославных обрядов, с другой стороны, они
не только молились за царя, но и легко
устанавливали дружественные отношения с
агентами царской власти, обладая
значительными материальными средствами
и пользуясь чрезвычайной подкупностью
полиции и представителей духовной власти.
Наоборот, духоборцы и молокане, не шедшие
часто ни на какие компромиссы,
отличавшиеся чистотой и безупречностью
нравственной жизни, принадлежавшие
главным образом к крестьянству и представ¬
лявшие в своих поселениях как бы своего
рода государство в государстве, вызвали в
конце концов против себя ожесточенные
преследования и гонения правительства,
причем немалую роль сыграли и агенты
учрежденного в 1826 г. III отделения собст¬
венной его величества канцелярии. Уже в
1826 г. император Николай высказал весьма
определенный взгляд, что сектантов (по
крайней мере, наиболее упорных и активных
из них) следует вместо мирного поселения
на «молочных водах» отдавать в солдаты на
Кавказ, а неспособных к военной службе —
ссылать в Сибирь на поселение. В первый
колебательный период царствования
правительство не решалось, однако, резко
изменить положение дел, сложившееся при
Александре, какою-либо общею мерою; но
во втором периоде — началу 40-х годов —
пускаются в ход уже и общие меры: в 1839,
1840 и 1841 гг. происходит полное уничто¬
жение поселений духоборцев и молокан на
«молочных водах», и они массами высыла¬
ются в Закавказье, а наиболее активные из
них ссылаются в Сибирь и отдаются в сол¬
даты. 21 мая 1841 г. издан был высочайший
указ, в котором император Николай торже¬
ственно объявил, что он признает одною из
величайших обязанностей своих, наложен¬
ных на него Провидением, охрану «нена-
рушимости прародительские православные
веры»' в своих верноподданных и потому
возвещал целый ряд репрессивных мер
против лиц, отпавших от православие,
причем, между прочим, впервые упомина¬
лось о том, что малолетние дети лиц, сослан¬
ных за религиозные преступления, будут
устраиваться по особым устремлениям вер¬
ховной власти.
Правительство убедилось к этому вре¬
мени, что все частные репрессивные меры,
принимавшиеся в изобилии против рас¬
кольников и сектантов, в конце концов не
достигали цели и что, несмотря на мно¬
гочисленные наружные присоединения к
единоверию и даже прямо к православию
многих раскольников, общее число рас¬
кольников и сектантов отнюдь не уменьша¬
ется и даже, наоборот, во многих местах
растет, причем появляются все новые и но¬
вые секты. Поэтому решено было
предпринять систематическое изучение рас¬
кола и сектантства на местах с целью уста¬
новления затем наиболее рациональных и
радикальных мер борьбы с ним. Изучение
это, хотя и было облачено в самые
конспиративные формы, поставлено было,
однако же, довольно широко и основательно,
причем в числе довольно многочисленного
персонала образованных министерских
чиновников, употребленных в дело, были
такие лица, как Ю. Ф. Самарин (в Риге), И.
С. Аксаков (в Ярославской губернии и на
юге) и др., а в центре всего дела в Петербурге
поставлен был отставной проф. Н. И. На¬
деждин, бывший до 1836 г. редактором «Те¬
лескопа» и после того перенесший ссылку в
Вологду, а затем поступивший на службу в
Министерство внутренних дел (при
министре Л. А. Перовском). Материалы,
собранные этими исследователями на мес¬
тах, имеют, несомненно, большую ценность
— по крайней мере, некоторые из них,— но
к сожалению они мало подверглись обработ¬
ке и еще меньше — опубликованию4. До это¬
го времени правительство довольствовалось
лишь официальными сведениями о числе
раскольников и о числе раскольничьих мо¬
настырей, скитов, различных молелен и
185
т. п., представлявшимися духовными на-
чальствами в Синод, губернаторами — в
Министерство внутренних дел и жан¬
дармскими офицерами — в III отделение, да
более или менее случайными
происшествиями и следственными делами о
раскольниках и сектантах. В конце 40-х
годов оно впервые получило возможность
более или менее основательной проверки
этих данных при помощи материалов, соб¬
ранных на местах специально ко¬
мандированными им лицами. Эти
материалы прежде всего указали на совер¬
шенную неверность цифровых данных
относительно распространенности раскола и
сектантства в народе. Оказалось, что
официальные данные преуменьшают эту
распространенность, по крайней мере, раз в
десять, а в некоторых местах еще гораздо
больше. Так, например, по сведениям,
имевшимся ранее, число раскольников в
Ярославской губернии не превышало 14—15
тыс. душ, а по данным, собранным
специальными исследователями, около
половины населения этой губернии в той или
иной степени было «заражено» расколами и
сектами; в Вологодской губернии, по
прежним официальным данным, число рас¬
кольников считалось около 3 1/г тыс. душ, а
по данным специальных исследователей —
около 1/г жителей (до 200 тыс.) фактически
отпало от православия и не посещало церк¬
вей; в Черниговской губернии оказался це¬
лый ряд городков и посадов, поголовно
принадлежавших к расколу; в г. Новозыбко-
ве, например, из 6300 жит. в расколе ока¬
зались 5451, причем в городе не было даже
православной церкви; в Костромской гу¬
бернии оказалось на 20 тыс. явных рас¬
кольников 27 485 тайных и, кроме того,
57 571 «зараженных расколом». Огромное
распространение молоканства и духовного
христианства обнаружилось в Тамбовской и
Саратовской губерниях — до 200 тыс. в пер¬
вой и несколько десятков тысяч во второй.
Немудрено поэтому, что в то время как
по официальным ведомостям раскольников
и сектантов число их показывалось между
1826 и 1855гг. от 700 тыс. до 800 тыс. душ
и лишь однажды (в 1837 г.) показано было
в 1003 тыс. душ, на самом деле, по утверж¬
дению компетентного статистика, имевшего
доступ к секретным правительственным дан¬
ным,— генерала Н. Н. Обручева,— число
это не могло быть меньше 8 млн. душ5. По
классификации, принятой правительством с
1842 г., раскольники и сектанты делились
на вреднейших, вредных и менее вредных.
Менее вредными считались поповцы, или
приемлющие священство,— их число, по
официальным ведомостям, было более
значительно ввиду того, что они менее скры¬
вались; вредными считались те беспоповцы
(т. е. не приемлющие священства), которые
признавали брак и молились за царя. По
отношению к обеим этим группам
правительство считало своею задачей не
уничтожение их, а только борьбу с их рас¬
пространением. Вреднейшими считались те
беспоповцы, которые отрицали брак и отка¬
зывались молиться за царя и число которых,
несомненно, в десятки и сотни раз превы¬
шало данные, представляемое в ведомостях,
а затем все сектанты, начиная с молокан,
духоборцев, иконоборцев, субботников,
жидовствующих и т. п. и кончая хлыстами
разных категорий и скопцами. Число сек¬
тантов, отмечавшееся в ведомостях по
отдельным губерниям единицами, десят¬
ками, редко сотнями и еще реже немногими
тысячами, на самом деле считалось в неко¬
торых губерниях, как я уже сказал, десят¬
ками и даже сотнями тысяч. В общем,
вероятно, их было в России и в 40-х годах
не менее миллиона душ. В сущности, хотя
правительство в отношении этих «вред¬
нейших», по его терминологии, сект ставило
своей задачей полное их уничтожение, на
самом деле преследования не вели к цели и
число сектантов нимало не уменьшалось, а
настроение их по отношению к правитель¬
ству и агентам власти становилось все более
и более враждебным. И это относится также
и к раскольникам даже и тех толков, которые
считались наименее вредными, и прежде
всего к поповцам. При Екатерине поповцы
получили возможность открыто устраивать и
содержать собственные монастыри и скиты,
в особенности в указанной самим правитель¬
ством местности — по р. Иргизу в Саратов¬
ской губернии. Главным недостатком в своем
быту они считали отсутствие у них собст¬
венных епископов, благодаря чему им
приходилось пользоваться лишь услугами
беглых попов и даже расстриг, т. е. лишен¬
ных сана православных священников, если
эти последние соглашались принять старо¬
обрядчество. Правительство со времен
митрополита Платона, пытавшегося
добиться воссоединения раскольников при
помощи единоверческих церквей,
стремилось именно этим путем привлечь в
лоно православной церкви старообрядцев-
поповцев; но, не желая их раздражать и
186
насиловать, оно смотрело сквозь пальцы и
на беглых попов, которые в начале XIX в.
чрезвычайно размножились. Николай Пав¬
лович не счел, однако же, возможным
мириться со столь явным нарушением уста¬
новленного порядка и стал энергически
преследовать беглых попов. Тогда среди рас¬
кольников усилилось стремление добиться
установления правильного рукоположения
старообрядческих священников, для чего им
необходимо было добыть себе настоящих
старообрядческих архиереев. Сохранилось
предание, что подобный совет (или намек)
они получили от самого шефа жандармов
Бенкендорфа; но когда им удалось наконец,
всякими правдами и неправдами добыть себе
в Константинополе заштатного митрополита
Амвросия и водворить его на кафедру с
разрешения австрийского правительства в
Белой Кринице, в Буковине (1847 г.), то
русское правительство уже через год потре¬
бовало от австрийского (которое в то время
выслушивало все требования императора
Николая с особой почтительностью), чтобы
Амвросий был немедленно устранен и вы¬
слан, причем оно добилось без труда и от
константинопольского патриарха извер¬
жения Амвросия (ранее уже бывшего под
судом) из сана. Однако Амвросий до своего
удаления из Буковины успел посвятить не¬
скольких епископов, которые могли теперь
рукополагать священников для старообряд¬
цев, не жалевших денег на содержание этой
новой иерархий. Русское правительство
ловило и заключало в монастырские тюрьмы
и этих новых иерархов, и поставленных ими
священников наравне с беглыми попами; но
от этого только усиливалось в старообрядцах
враждебное отношение к власти, и парал¬
лельно с фиктивными присоединениями
наиболее слабых из них к единоверию и
даже к православию наиболее упорные эле¬
менты присоединялись, наоборот, к более
вредным, с точки зрения правительства, бес-
поповщинским толкам и сектам. Гонение на
раскольников вызвало даже возникновение
новых непримиримых сект, например секты
«сстранников» которая возводила в принцип
и догмат отказ от паспортов и всякого
повиновения начальству, на которое она
смотрела как на антихристовых слуг. Таким
образом, к концу царствования Николая,
вследствие той упорной борьбы, которую
правительство вело с раскольниками и сек¬
тантами, не только число тех и других
отнюдь не уменьшилось, но и враждебное
отношение их к органам власти и ко всякой
государственности, несомненно, резко
обострилось.
Число судебных дел и суровых судебных
приговоров против раскольников всякого
рода росло из года в год; по официальным
данным, число ежегодно постановляемых су¬
дебных приговоров против раскольников в
1847—1852 гг. было уже свыше 500 в год, а
число лиц* состоявших под судом за принад¬
лежность к расколу в это пятилетие достигло
26 456.
Ттаким образом, пропасть между
правительственной и народной идеологией
росла и расширялась в течение этого царст¬
вования, пожалуй, еще в больших размерах,
нежели пропасть между правительством и
интеллигенцией того времениД
ЛЕКЦИЯ XIX
Революции 1848 г. в Европе и их влияние на настроение императора Николая.— Третий период его
царствования.— Внешняя политика.— Манифест 14 марта 1848 г.— Венгерская кампания.— Внутрен¬
няя политика.-^Крестьянский вопрос.— Меры против печати и университетов.— Другие стеснительные
меры.— Отставка Уварова.— Кн. Ширинский-Шихматов.— Положение интеллигенции после 1848 г.—
История петрашевцев.— Инциденты с Самариным, Аксаковым, Тургеневым.— Запрещение выступать в
печати славянофилам.— Киевские федералисты.— Общее настроение интеллигенции.— Восточная вой¬
на 1853—1856 гг.— Неизбежность кризиса.— Смерть Николая.— Общее заключение о царствовании
Николая.
Мне остается обозреть в кратком по
необходимости очерке события третьего
(последнего) периода правления императора
Николая и затем подвести итоги всему
тридцатилетию, протекшему от вступления
на престол Николая Павловича до конца его
царствования.
Третий период царствования Николая I
наступил после февральской революции
1848 г. во Франции и последовавших вслед
за нею революционных вспышек в других
европейских государствах; он ознаменовал¬
ся в России той системой реакции, которая
обусловлена была этими событиями.
187
Первые известия о провозглашении рес¬
публики во Франции страшно взволновали
императора Николая. Один из совре¬
менников утверждает в своих записках, что
в первую минуту Николай Павлович явился
с полученными депешами во дворец на¬
следника, где происходил в ту минуту бал,
и, став в зале посреди танцующих, громко
провозгласил: «Седлайте коней, господа, во
Франции объявлена республика...». Вместе
с тем, однако, в нем пробудилось и злорад¬
ство по отношению к Людовику-Филиппу,
которого он считал справедливо наказанным
теперь узурпатором. «Поделом ему... прек¬
расно, бесподобно»,— говорил он лицам,
окружившим его в кабинете наследника. Для
предупреждения нападения со стороны
французов на соседние государства и для
обуздания германских коммунистов и
социалистов, которые могли, как опасался
Николай Павлович, предпринять что-нибудь
подобное в Германии или в Австрии, он
хотел сгоряча двинуть на Рейн трехсотты¬
сячную армию. Его воинственное настро¬
ение поддерживалось и Паскевичем,
который был тогда в Петербурге. Однако
другим окружавшим его лицам (Волконско¬
му, Киселеву) было нетрудно доказать ему,
что сделать это не так-то легко и что если бы
даже хватило для этого войска, то не хватило
бы денег. Поэтому на первых порах
воинственное и негодующее настроение
Николая нашло себе исход лишь в странном
манифесте 14 марта 1848 г., который был
наполнен угрозами по отношению к запад¬
ным врагам и крамольникам, хотя, по-
видимому, никто не покушался еще нападать
на Россию, и который заканчивался самона¬
деянным возгласом: «С нами Бог! Разумейте
языци и покоряйтеся, яко с нами Бог!»
Скоро, однако же, события в Австрии,
от которой стремились отложиться одна за
другой области, ее составлявшие, и мольба
о помощи, адресованная юным австрийским
императором Францем Иосифом к импера¬
тору Николаю, вызвали его и к более
активным действиям, спасшим монархию
Габсбургов от неминуемого, как многим ка¬
залось, разложения и гибели. Оказать под¬
держку Францу Иосифу императора
Николая побуждало, впрочем, как уверяют,
не только стремление вообще поддерживать
всякую легальную власть против восста¬
ющих народностей, но и более реальные,
эгоистические соображения, поддержанные
в особенности кн. Паскевичем, который ут¬
верждал, что если венгерское движение не
будет быстро подавлено, то оно неизбежно
перекинется в Царство Польское, а здесь в
таком случае повторятся обстоятельства
1831 г. Кн. Паскевич и Николай Павлович
считали более выгодным предупредить это
быстрым усмирением венгерского вос¬
стания. Венгерское восстание, несмотря на
весьма неискусные действия кн. Паскевича,
значительно поколебавшего в этом походе
прежнюю свою репутацию талантливого
полководца, было довольно быстро подавлено
вследствие огромного численного превосход¬
ства русской армии над силами венгерского
вождя Гергея, которому пришлось положить
оружие.
После усмирения венгерского движения
император Николай делается на время вер¬
ховным распорядителем судеб Восточной и
Центральной Европы. Он заставил слабого,
колеблющегося и непоследовательного прус¬
ского короля Фридриха Вильгельма отка¬
заться от всяких планов о «германском
объединении» и от завладения датскими
провинциями, права на которые австрийско¬
го императора Николай признавал священ¬
ными и неприкосновенными. В то же время
Николай Павлович требовал от Фридриха
Вильгельма более решительной расправы с
революционными элементами в Пруссии и в
особенности в прусской Польше. Своим пос¬
тоянным вмешательством в германские отно¬
шения и своими угрозами всем нарушителям
порядка в Европе Николай Павлович
приобрел себе такую репутацию в это время,
что матери в Германии пугали его именем
маленьких детей.
Революционные потрясения 1848 г. вы¬
звали не только в самом императоре Нико¬
лае, но и во всем его семейном и придворном
кругу чрезвычайно реакционное настроение.
Особенно проникся этим настроением на¬
следник Александр Николаевич. Он не толь¬
ко разделял чувства, выраженные в
манифесте 14 марта 1848 г., но и одобрял
тот тон, в котором манифест был составлен.
Тотчас же по его получении он созвал к себе
командиров всех гвардейских полков и сам
прочитал его вслух, вызвав среди собранных
офицеров восторженные овации. Офицерст¬
во этого времени уже мало походило на то,
какое было в конце Александрова царство¬
вания,— в этом отношении двад¬
цатипятилетние старания Николая
Павловича увенчались полным успехом; но
нельзя не заметить, что искоренение всяких
либеральных идей в военной среде сопро¬
вождалось сильным понижением ее уровня.
188
Механическое вытравливание всякой не¬
зависимой мысли привело в конце концов к
тому печальному положению, что когда рус¬
ской армии пришлось бороться с евро¬
пейскими войсками, то очень резко
почувствовался недостаток в начальниках с
инициативой, в образованных офицерах и в
генералах, способных самостоятельно
мыслить...
Реакционное настроение, создавшееся в
русских правительственных сферах после
1848 г., не замедлило отразиться на направ¬
лении всей внутренней политики. Тотчас же
явилась мысль о необходимости сплочения
консервативных элементов страны для борь¬
бы со всякими разрушительными началами.
Уже 21 марта 1848 г., принимая депутатов
петербургского дворянства, государь им ска¬
зал: «Забудем все неприятности одного к
другому. Подайте между собою руку дружбы,
как братья, как дети родного края, так чтобы
последняя рука дошла до меня, и тогда, под
моею главою будьте уверены, что никакая
сила земная нас не потревожит». В казенных
изданиях появились статьи о незыблемости
крепоятного права, и сам П. Д. Киселев ска¬
зал своему племяннику Милютину, что «воп¬
рос о крестьянах лопнул». То же подтвердил
в категорической форме гофмаршал на¬
следника Олсуфьев одному из представите¬
лей смоленского дворянства.
Совершенно иначе, нежели в высших
правительственных сферах, отразились бур¬
ные события 1848 г. в среде русской
интеллигенции. К этому времени та пропа¬
ганда идей, которую под руководством
Белинского вели в 40-х годах «Отечествен¬
ные записки» Краевского, а затем (с 1847
г.) «Современник» Панаева и Некрасова,
дала значительные плоды. В столицах, в
особенности в Петербурге, а отчасти и в
провинции стали образовываться кружки
передовой молодежи, своеобразные салоны,
открываемые молодыми людьми специально
для обсуждения общественных литератур¬
ных и политических вопросов, за невозмож¬
ностью обсуждать эти вопросы в печати.
Таковы были знаменитые «пятницы» у М. В.
Буташевича-Петрашевского, вечера, уст¬
раивавшиеся у Дурова, Кашкина, Мом-
белли, Плещеева и др. На пятницах
Петрашевского, которые стали устраиваться
с 1845 г., перебывала масса молодежи
столичной и провинциальной, и вечера эти
пользовались в тогдашнем интеллигентном
кругу довольно широкой известностью.
Сам Петрашевский был социалист
(фурьерист), но на вечерах его за¬
трагивались самые разнообразные общест¬
венные и политические темы: чаще всего
крестьянский вопрос, вопросы судоустрой¬
ства и судопроизводства (в частности, суд
присяжных, гласность и независимость су¬
да), о цензуре и свободе печати, одним
словом, те самые вопросы, разрешение кото¬
рых последовало через несколько лет, в эпо¬
ху великих реформ 60-х годов; наряду с этим
сообщались и обсуждались новинки запад¬
ноевропейской литературы и политической
жизни и читались литературные произве¬
дения, которые не могли появиться в печати,
как, например, знаменитое письмо
Белинского к Гоголю по поводу «Избранных
мест переписки с друзьями» последнего.
У Кашкина собирались специально
лица, интересовавшиеся социальными пробг
лемами,— молодые социалисты и ком¬
мунисты, увлекавшиеся идеями
Сен-Симона, Леру, Ламенэ, Луи Блана, Ка-
бэ и в особенности Фурье. У Дурова
собирались люди, настроенные более уме¬
ренно...
Все эти кружки были известны друг
другу и поддерживали между собой
взаимные связи. В провинции тоже сущест¬
вовали зародыши подобных организаций, по
крайней мере, и там старались сходиться и
поддерживать между собою общение передо¬
вые люди, почитатели «Отечественных
записок», «Современника» и вдохновителя
их Белинского. Замечательно, что И. С.
Аксаков, который в течение 40-х годов
изъездил почти всю Россию, участвуя в
разных командировках, ревизиях и исследо¬
ваниях, а частью и служа в провинциальных
судебных установлениях, свидетельствовал в
своих письмах к родным, что на мрачном
фоне тогдашней провинциальной жизни,
среди тогдашнего общества, состоявшего из
разного рода взяточников, мошенников, кре¬
постников, плутов и пошлых невежд разного
рода, единственными светлыми исклю¬
чениями являлись эти последователи
Белинского, эти почитатели и читатели
передовых петербургских журналов. Славя¬
нофилы в провинции были мало известны,
«сборники»их не читались и не имели успе¬
ха. Провинциальные книгопродавцы прямо
заявляли Аксакову, что они этих
«сборников» не выписывают, потому что
«Современник» и «Отечественные записки»
их не особенно хвалят. «Н. Полевой и
Белинский,— свидетельствовал тот же И. С.
189
Аксаков несколько позднее (в 1856 г.),—
имели огромное влияние на общество —
вредное, дурное (конечно, с его славя¬
нофильской точки зрения), но все же гро¬
мадное влияние. Много я ездил по России:
имя Белинского известно каждому сколько-
нибудь мыслящему юноше, всякому жажду¬
щему свежего воздуха среди вонючего болота
провинциальной жизни. Нет ни одного
учителя гимназии в губернских городах, ко¬
торые бы не знали наизусть письма
Белинского к Гоголю; в отдаленных краях
России только теперь еще проникает его
влияние и увеличивает число прозелитов...*
«Мы Белинскому обязаны своим спа¬
сением, говорят мне везде молодые честные
люди в провинциях... И если вам нужно,—
прибавляет Аксаков,— честного человека,
способного сострадать болезням и не-
счастиям угнетенных, честного доктора, че¬
стного следователя, который полез бы на
борьбу, ищите таковых в провинции между
последователями Белинского. О славя¬
нофильстве здесь, в провинции, и слыхом не
слыхать, а если и слыхать, так от людей
враждебных направлению...»
Эти свидетельства дороги особенно пото¬
му, что они исходят от И. С. Аксакова, ко¬
торый хоть и разногласил в то время с
братом своим Константином, но был предан¬
ным членом славянофильской семьи и лично
относился к Белинскому вполне отрицатель¬
но.
Понятно, как это передовое общество
конца 40-х годов, состоявшее главным обра¬
зом из последователей Белинского, заше¬
велилось и заволновалось при первых
известиях о революции 1848 г.
Впрочем, и сам Аксаков признавался,
что 1848 г. совершенно вышиб и его из колеи.
Бакунин и Герцен были в это время за
границей и приняли непосредственное
участие в грозных событиях этого года. Ба¬
кунин играл выдающуюся роль в народном
восстании в Дрездене и в славянском
движении, направленном против империи
Габсбургов.
В петербургских кружках следили за
развертывавшимися в Европе событиями с
лихорадочным возбуждением. В свою оче¬
редь, правительство с большой тревогой
смотрело на это настроение умов передового
русского общества и, несомненно, крайне
преувеличивало его политическое значение
и его возможные последствия. Оно тотчас же
обрушилось на передовую печать. Если бы
Белинский не умер в мае 1848 г., он был бы
арестован, и его, несомненно, ждала не ме¬
нее суровая расправа, чем та, которая
постигла через год петрашевцев. На направ¬
ление «Отечественных записок» и «Совре¬
менника» не замедлили обратить внимание
в высших сферах в самый момент получения
первых тревожных известий с запада. Пер¬
вый кивок на неблагонадежность печати и
университетов был сделан адмиралом кн.
Меньшиковым наследнику Александру
Николаевичу словесно 22 февраля 1848 г., и
27 февраля же был учрежден под председа¬
тельством кн. Меньшикова для обследования
этого дела секретный комитет. Вскоре были
получены более обстоятельные заявления гр.
_ С. Г. Строганова, который был в контрах с
; Уваровым, и барона М. А. Корфа, который
мечтал тогда сам занять место Уварова.
Тогда секретный комитет по надзору за на¬
правлением печати и бдительностью цензу¬
ры был превращен в постоянное учреждение
под председательством отчаянного
реакционера и обскуранта гр. Д. П. Бу¬
турлина в составе бар. Корфа и сенатора
Дегая — учреждение, известное в истории
русской печати и цензуры под именем мрач¬
ной памяти комитета 2 апреля 1848 г. или
«Бутурлинского комитета». Над самим гр.
Уваровым поставлено было, таким образом,
недремлющее око, совершенно терроризо¬
вавшее цензуру. Император Николай сказал
членам этого комитета, что сам он не имеет
времени следить за направлением печати, но
что им вполне верит и поручает прос¬
матривать уже вышедшие в свет после пред¬
варительной цензуры произведения печати и
доносить ему, буде ч"о привлечет их
внимание, «а потом,— прибавил госу¬
дарь,— мое уже будет дело расправляться с
виновными».
Гкомитет этот принялся не шутя за рабо¬
ту, и положение печати сделалось вскоре
вполне невыносимым. Бутурлин до всего
добирался и однажды серьезно доказывал
Блудову, что необходимо вырезать несколько
неуместных стихов из акафиста Покрову
Богородицы, сочиненного св. Дмитрием Ро¬
стовским, где говорилось между прочим:
«Радуйся, незримое укрощение владык жес¬
токих и зверонравных... Советы неправед¬
ных князей разори; зачинающих рати
погуби»и т..д.
ГПоложение Уварова окончательно поко¬
лебалось, когда он счел нужным, хотя и
очень осторожно, выступить в печати, при
помощи инспирированного им профессора
Давыдова, со статьею в защиту университе¬
190
тов,— по поводу распространившихся в
публике слухов о предстоящем их закрытии.
Нечего и говорить, что статья была в высшей
степени скромна и благонамеренна; тем не
менее Уваров получил от «Бутурлинского
комитета» официальный запрос о том, как
могла она быть пропущена цензурой. Ему
пришлось ответить, что она и написана по
его поручению. В октябре 1849 г. Уваров
наконец подал в отставку, убедившись, что
к новому курсу примениться и он не может:
Некоторое время император Николай за¬
труднялся в выборе ему преемника; но в
январе 1850 г. товарищ министра кн.
Ширинский-Шихматов представил госуда¬
рю записку, в которой доказывал, что в
университетах преподавание должно быть
поставлено таким образом, «чтобы впредь
все положения и науки были основаны не на
умствованиях, а на религиозных истинах в
связи с богословием». «Чего же нам искать
еще министра просвещения? — сказал
император Николай по прочтении этой
записки.— Вот он найден». И Ширинский
был назначен министром. Шутники тихонь¬
ко говорили по поводу назначения
Ширинского-Шихматова, что это просве¬
щению не только шах, но и мат.
Университетам, однако же, было не до
шуток. «Есть с чего сойти с ума,— говорил
Грановский в 1850 г.,— благо Белинскому,
умершему вовремя». Действительно, уже в
мае 1849 г., т. е. еще при Уварове, комплект
студентов в каждом университете на всех
факультетах вместе (кроме медицинского и
богословского), был ограничен тремястами
человек. Ширинский-Шихматов, побывав в
университетах, объявил, что «польза
философии не доказана, а вред от нее воз¬
можен». Поэтому кафедры истории
философии и метафизики были закрыты, а
преподавание логики и психологии было
возложено на профессоров богословия.
Цензура свирепствовала беспощадно, но
комитет 2 апреля отыскивал старые грехи
отдельных цензоров, которых бесцеремонно
сажали на гауптвахту невзирая на солидный
возраст, чин и профессорское звание. Так,
профессору Куторге, который даже уже не
был цензором, пришлось высидеть под аре¬
стом за то, что он раньше пропустил какие-
то двусмысленные немецкие стихи... Следы
крамолы находили не только в университе¬
тах, но даже в привилегированных учебных
заведениях — в Училище правоведения и в
Александровском лицее, и воспитанников
этих училищ отдавали в солдаты, исклю¬
чали, подвергали исправительным нака¬
заниям. В эти годы подверглись разным
карам многие писатели. Салтыков был
отправлен в Вятку на службу, Тургенев за
удачную попытку обойти бдительность цен¬
зуры был в 1852 г. посажен под арест в
полицейскую часть. Юрий Самарин за
резкие отзывы о действиях остзейской
администрации был посажен на несколько
дней в крепость, а Иван Аксаков, по поводу
некоторых неосторожных выражений в пе¬
реписке с родными (об аресте Самарина),
арестован при III отделении. Аресты Са¬
марина и Аксакова кончились лично для них
довольно благосклонно: назидательной
личной беседой самого императора Николая
с Самариным и весьма любопытными резо¬
люциями его же на показаниях, отобранных
«по пунктам» у Аксакова, причем резо¬
люции эти заключены 0ыли кратким распо¬
ряжением кн. Орлову: «Призови, прочти,
вразуми и отпусти». Но сравнительно
милостивое окончание этих дел не помешало
правительству после издания вполне
невинного славянофильского сборника 1852
г. лишить Ивана Аксакова права быть редак¬
тором каких бы то ни было изданий, а
участников сборника: Константина Аксако¬
ва, Юрия Самарина, Хомякова, Кошелева и
др.,— права доставлять в печать свои
произведения. Гораздо строже и беспощад¬
нее действовало правительство в это время в
тех случаях, когда оно усматривало
признаки явной крамолы. Это проявилось с
особой резкостью в деле петрашевцев, из
которых 20 человек были присуждены к
каторжным работам, ссылке в Сибирь и
разжалованию в солдаты, причем пред¬
варительно над всеми ими проделаны были,
в видах их устрашения, все приготовления
к смертной казни. А между тем в деле этом,
хотя оно и именовалось заговором, не было
никаких данных для вменения участникам
его каких-либо действий, так что даже барон
Корф, относившийся к петрашевцам чрез¬
вычайно отрицательно, называет их дело
«заговором идей». По процессу петрашевцев
отправлен был в каторжные работы, между
прочим, Ф. М. Достоевский. Столь же строго
покарало правительство членов «Кирилло-
Мефодиевского общества» в Киеве, обна¬
руживших федералистические стремления.
В числе членов этого общества серьезно
пострадали Шевченко, Костомаров, Кулиш,
Белозерский, Маркович и др.1
Независимо от стеснительных и обску¬
рантских мер, принятых по ведомству на¬
191
родного просвещения против печати и
университетов, из реакционных ме¬
роприятий этого периода следует упомянуть
еще запрещение выезда за границу иначе,
как с высочайшего соизволения, которое да¬
валось лишь в самых редких случаях, и
введение в устав о службе гражданской так
называемого 3-го пункта, по которому на¬
чальству предоставлялось увольнять от
службы чиновников, признанных неблаго¬
надежными, без следствия и суда и даже без
объяснения причин, причем не
принимались и жалобы на такое уволь¬
нение...
«Сердце ноет при мысли, чем мы были
прежде и чем стали теперь»,— писал в
1853 г. Грановский Герцену.
Иван Аксаков выразил свое настроение
в 1850 г. в следующих стихах, будто бы
переведенных с санскритского, и, конечно,
не предназначавшихся для печати, а
читавшихся лишь близким друзьям:
Клеймо домашнего позора
Мы носим, славные, извне...
В могучем крае нет отпора,
В пространном царстве нет простора,
В родимой душно стороне...
Бе в своем безумье яром
Гнетут усердные рабы...
А мы глядим, слабеем жаром
И с каждым днем сдаемся даром,
В бесплодность веруя борьбы...
И слово правды ослабело,
И реже шопот смелых дум,
И сердце в нас одебелело;
Порывов нет, в забвеньи дело,
Спугнули мысль, стал праздней ум...
Общественная прострация и сознание
своего полного бессилия перед ужасным гне¬
том реакции были так сильны в тогдашнем
образованном обществе, что даже люди,
вполне патриотически настроенные, как,
например, славянофил Кошелев, призна¬
вались впоследствии, что неудачи, которые
испытывали русские войска в начавшейся в
1853 г. войне с турками, не слишком их
огорчали. Они замечали, напротив, что чем
грознее становились внешние конъюнктуры,
тем яснее чувствовалось ослабление внут¬
реннего гнета. Вот до чего довела общество
эта система обскурантизма и гнета.
Когда началась в 1853 г. война с
Турцией, с самого же начала неудачная и
затем чрезвычайно осложнившаяся вмеша¬
тельством Англии, Франции и, наконец,
Сардинии, при постоянных угрозах небла¬
годарной Австрии, вырученной императором
Николаем за пять лет перед тем; когда обна¬
ружились наша отсталость и неподготовлен¬
ность к этой войне и полное отсутствие
надежных и талантливых полководцев,— то
самонадеянность императора Николая, так
ярко выражавшаяся в 1848 г. в манифесте
14 марта и в речи петербургскому дворянст¬
ву, стала заметно падать, а гордый дух его
не был способен спокойно перенести небы¬
валое унижение.
Внешняя гроза мало-помалу делала
правительство более кротким и терпеливым
внутри России. Хотя до конца царствования
все реакционные меры, принятые после
1848 г., формально оставались в силе, одна¬
ко же люди чуткие уже в 1853 г. почувство¬
вали приближение оттепели. «Казалось,—
вспоминал потом это время в своих записках
А. И. Кошелев,— что из томительной, мрач¬
ной темницы мы как будто выходим, если не
на свет Божий, то по крайней мере в пред¬
дверие к нему, где уже чувствуется освежа¬
ющий воздух».
Щ обществе, и даже в наиболее консер¬
вативных кругах его, пробуждается в это
время обличительное, оппозиционное на¬
строение, и даже Погодин — тот самый По¬
годин, который в 40-годах издавал с
Шевыревым свой «Москвитянин»,— пишет
теперь свои смелые обличительные письма,
адресованные самому императору Николаи^
В начале турецкой войны Хомяков
написал свое известное стихотворение
России:
Тебя призвал на брань святую,
Тебя Господь нащ полюбил...
в котором были следующие, призывавшие к
покаянию строфы:
Но помни: быть орудьем Бога
Земным созданьям тяжело;
Своих рабов Он судит строго —
А на тебя, увы, как много
Грехов ужасных налегло:
В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна...
I* Настроение народных масс было не ме¬
нее тревожно. С одной стороны, в борьбе с
внешним врагом народ выказывал много му¬
жества и даже геройского самоотвержения,
с другой стороны, созванные в ополчение
ратники, считая, что призыв на службу
192
царю и отечеству освобождает их от крепо¬
стного права, тем более что и по рекрутскому
уставу рекрут выключался из сословия кре¬
постных крестьян,— отказывали в повино¬
вении своим помещикам и чинам земской
полиции, волновались и производили беспо¬
рядки.
Для многих делалось очевидным, что час
крепостного права пробил и что вся сущест¬
вующая система неизбежно должна быть
преобразована. Неизвестно, как приступил
бы к этим преобразованиям Николай Пав¬
лович и приступил ли бы он к ним по
окончании несчастной войны 1853—1856 гг.
Он не дожил до ее окончания. Смерть осво¬
бодила его от необходимости самому
ликвидировать свою правительственную
систему, несостоятельность которой обна¬
ружилась ко времени его смерти с достаточ-
ной очевидностью, f
fun- Подводя итоги этому замечательному
I тридцатилетию, мы должны признать, что
I правительственная система императора
® Николая была одной из самых последова¬
тельных попыток осуществления идеи прос-
вещенного абсолютизма. Император
Николай по своим взглядам не походил на
Людовика XIV и никогда не сказал бы, как
тот: «Jetat — c*est moi!»; напротив, он неод¬
нократно высказывал, что почитает себя
первым слугой государства; но воле этого
первого слуги должны были безропотно
подчиняться все остальные. По своим наме¬
рениям Николай гораздо больше подходит к
таким представителям идеи просвещенного
абсолютизма, как Иосиф II и Фридрих
Великий. Он старался осуществить, как мы
видим, ту самую систему, которую русским
государям рекомендовал в своей записке «О
древней и новой России» Карамзин, лично
наставлявший императора Николая в 1825 г.
И если бы Карамзин пережил царствование
Николая, он должен был бы признать, что
опыт осуществления его системы сделан, и
вместе должен был бы убедиться, к чему эта
система неизбежно приводит, притом, имен¬
но, к чему она приводит в такой обширной
малонаселенной и быстро развивающейся
стране, как Россия.
По идее Николая Павловича, каждый
губернатор должен был быть хозяином в
губернии, а он, император, должен был быть
хозяином в империи — таким же хозяином,
каким был Фридрих Великий в своей
относительно маленькой Пруссии, где он мог
7 Зак. 271
знать, как живет и работает почти каждый
крестьянин.
Уже вследствие одной обширности
Российской империи и по относительному
ничтожеству средств, которыми располагало
правительство при Николае, при всей кажу¬
щейся полноте его власти такая задача явля¬
лась несомненной химерой. Блистательной
иллюстрацией бессилия бюрократической
администрации служит знаменитый рассказ
о неисполненном высочайшем повелении по
одному делу, несмотря на 23 подтверждения.
Чем слабее и ненадежнее были средства, тем
грубее были формы проявления власти и тем
разительнее ее злоупотребления. Лучшие
министры николаевского царствования —
Канкрин и Киселев — особенно напомина¬
ют деятелей эпохи просвещенного абсо¬
лютизма; большая часть остальных его
сотрудников, особенно те, с которыми он
работал в последние годы царствования,—
бездарные люди, часто своекорыстные и
лживые холопы, без всяких определенных
убеждений и взглядов.
Между тем эпоха, в которую императору
Николаю пришлось царствовать, была, как
мы видели, одна из важнейших эпох
развития и созревания народной жизни в
России. Быстрое уплотнение населения в
центральных черноземных губерниях, раз¬
рушение прежних основ и устоев
помещичьего крепостного хозяйства после
Наполеоновских войн, обострение анта¬
гонизма между крепостными и их
помещиками, новые требования и нужды
промышленности и торговли в связи с
изменившимися мировыми конъюнктурами
— все это ставило перед правительством ряд
трудных государственных задач, требо¬
вавших для своего разрешения не только
наличности выдающихся государственных
людей, но и широкого участия всей
интеллигенции страны и быстрого и свобод¬
ного роста материальной культуры в стране.
Всему этому препятствовала та
административная система, которая после¬
довательно развивалась crescendo в продол¬
жение всего царствования Николая.
Язвы России, обнаружившиеся во время
Крымской кампании, сделались для всех так
очевидны, что наступление эпохи реформ
стало неизбежным. Осуществление этих
преобразований выпало на долю императора
Александра И.
193
Список сочинений, относящихся к истории России
в царствование Николая I
I. Общие истории царствования,
биографии и характеристики императора
Николая
1. Н. К Шильдер. «ИмператорНиколай Пер¬
вый, его жизнь и царствование». 2 тома (доведено
до 1833 г.). СПб,, 1903. В приложениях много важ¬
ных материалов; во II томе: дневник Бенкендорфа
и статья Я. К. Шильдера о 1848 г.
2. Lacroix. "Histoire de la vie te du regne de
Nicolas I", 1864.5 томов (доведено до 1829 г.). Глав¬
ным образом биографические сведения, жизнь дво¬
ра и войны первых лет царствования.
3. Prof Th Schiemann. "Geschichte Rusclands
unter Kaiser Nikolaus dem I". 2 B. Berlin, 1908 (дове¬
дено до 1831 г.)
4. А. М. Зайончковский. «Восточная война
1853—1856 гг. в связи с современной ей политиче¬
ской обстановкой».Т. I. СПб., 1908. Главы от I—IV
(стр. 1—200) посвящены биографии и общему
очерку истории царствования Николая. В прило¬
жениях (отдельный том) много важных докумен¬
тов.
5. А. А. Кизеветтер. В книге ^-Исторические
очерки» (М., 1912) статья «Внутренняя политика
императора Николая Павловича» дает общую ха¬
рактеристику царствования и личности Николая.
6. М. О. Гершензон. «Эпоха Николая I». М.,
1910. Автор пытается при помощи отрывков, взя¬
тых из разных сочинений, дать общую харак¬
теристику самого императора Николая и России в
его время.
7. Бар. М. А. Корф. «Материалы и черты к
биографии императора Николая I и к истории его
царствования. Рождение и первые 25 лет жизни» В
98 т. «Сборн. имп. Русск. историч. общества».
СПб., 1896. Там же отчеты министерств за двад¬
цатипятилетие царствования имп. Николая.
II. Правительственная деятельность
в царствование Николая
1. Второе полное собрание законов (1825—
1855), т. I—XXX. СПб., 1833—1856.
2. Статс-секретарь барон Корф. «Вос¬
шествие на престол императора Николая I». 3-е
изд. (для публики первое). СПб., 1857.
3. А И, Герцен, «Заговор 1825 г.». М., 1907
(маленькая брошюра). Его же. «14 декабря и имп.
Николай I». Изд. «Полярной звезды». Лондон, 1858
(книга).
4. Th. Schiemann. ’’Die Thronbesteigung
Nicolaus des Г. Berlin, 1902.
5. /. H. Schnitzler: «Histoire intime de la Russie
sous les empereurs Alexandre et Nicolas et
particulibrement pendant la crise de 1825». Bruxelles,
1874. (Особенно 2-й и 3-й тома.)
6. М. М. Попов. «Конец и последствия бунта
14 декабря 1825 года». В ист. сборнике «О минув¬
шем». СПб., 1909.
7. «Донесение следственной комиссии, высо¬
чайшие учрежд. для изысканий о злоумышл. обще¬
ствах». СПб., 1826 (печ. по высоч. пов.).
8. «Донесение Варшавского следствен,
комитета е.и.в. цесарев. и вел. князю Кон¬
стантину Павловичу 27 дек. 1826 г.». Варшава.
9. «Переписка императора Николая Пав¬
ловича с вел. кн. цесаревичем Константином
Павловичем» (1825—1831). «Сборн. имп. Русско¬
го историч. общества». Тома 131 и 132. СПб., 1910
и 1911.
10. Записки и воспоминания декабристов: кн.
С. Г. Волконского, кн. С. Я Трубецкого, И. Д
Якушкина, бар. Розена, М. А Фонвизина, кн. Е.
П. Оболенского и др., указанные в библиогр.
царств. Александра I.
11. Статьи Я. П. Павлова-Сильванского о
Пестеле, Я. Е. Щеголева о Каховском (в «Былом»
за 1906 г.), Г. Балицкого биография Рылеева, В. Я.
Богучарского о Бестужевых и Оболенской, В. И.
Семевского о бар. А. И. Штейнгейле и о
Фонвизине и др., указанные в библиографии цар¬
ствования Александра I.
12. А. А. Кизеветтер. Вышеупомянутый
обзор внутренней политики Николая в «Ис¬
торических очерках» (М., 1912) и там же «Импера¬
тор Николай I, как конституционный монарх».
13. С. М. Середонин. «Исторический обзор
деятельности комитета министров». Т. II (части 1-я
и 2-я). СПб., 1902.
14. Журналы и бумаги секретного комитета 6
декабря 1826 г. в томах 74 и 90 «Сборника имп.
Русск. историч. общества». СПб., 1891 и 1894.
15. Бар. М. А. Корф. «Жизнь графа Сперан¬
ского». Т. И, часть V. СПб., 1861.
16. А. Я. Филиппов. «Сперанский, как
кодификатор». «Русская мысль» за 1892 г., №10.
17. Я. М. Майков. «Второе отделение собств.
его величества канцелярии. 1826—1882». СПб.,
1906.
18. М. К Лемке. «Николаевские жандармы и
литература 1826—1855 гг.» (по подл, делам III отд.
соб. е.и.в. канцелярии). СПб., 1908.
19. Н. Варадинов. «История министерства
внутренних дел» в 8 книгах. СПб., 1856—1863.
20. А. Я. Заблоцкий-Десятовский. «Гр. П. Д.
Киселев и его время». 4 тома. СПб., 1882.
21. «Историческое обозрение пятидесятилет¬
ней деятельности Министерства государствен¬
ных имуществ 1837—1887», в 5 частях. СПб.,
194
1888. (Особенно важна часть II — «Попечительст¬
во.— Поземельное устройство».)
22. «Очерк пятидесятилетней деятельности
Министерства государственных имуществ». СПб.,
1887 (издание малосодержательное).
23. В. И. Семевский. «Крестьянский вопрос в
России в XVIII и первой половине XIX в.». Т. 2-й
— «Крестьянский вопрос в царствование имп.
Николая I». СПб., 1886.
24. «Памятники истории крестьян (вернее
было бы сказать, крестьянского законодательства)
XV—XIX вв>. Под ред. А. Э.Вормса, Ю. В.
Готье, А. А. Кизеветтера, А. И. ЯковлеваМ.,
1910.
25. Барон С. А. Корф. «Дворянство и его сос¬
ловное управление за столетие 1760—-1855 гг.».
СПб., 1906.
26. «История уделов за столетие их существо¬
вания 1797—1897». 3 т. СПб., 1902.
27. «Министерство финансов 1802—1902».
Часть первая. СПб., 1902.
28. И. А. Блиох. «Финансы России в XIX ве¬
ке» Т. I. СПб., 1882.
29. И. Н. Божерянов. «Граф Егор Францевич
Канкрин, его жизнь, литературные труды и двад¬
цатилетняя деятельность управления министерст¬
вом финансов». СПб., 1897.
30. Р .И. Семенковский. «Е. Ф. Канкрин, его
жизнь и госуд. деятельность» (в серии «Жизнь за-
меч. людей» Ф. Ф. Павленкова). СПб., 1893.
Автор этой книжки не имел в виду сведений,
опублик. бар. Корфом в 1896 г. о ходе денежной
реформы 1839—1843 гг. (см. № 31).
31. Бар. М. А. Корф. «Император Николай в
совещательных собраниях», в-«Сборн. имп. Русск.
историч. общества». Т. 98. СПб., 1896. Здесь под¬
робно изложен весь ход обсуждения денежной
реформы 1839—1843 г. Там же отчеты
министерств за 25-летие царствования имп. Нико¬
лая (1826—1851).
32. В. Лодыженский. «История русского та¬
моженного тарифа». СПб., 1886.
33. «Краткий историч. очерк ведомства путей
сообщения за сто лет (1798—1898). СПб., 1898.
34. Исторический очерк деятельности
Министерства юстиции за 100 лет. СПб., 1902.
35. История правит. Сената за двести лет
1711—1911. 5 т. СПб., 1911. Под ред. С. Ф. Пла¬
тонова.
36. С. В. Рождественский, «История
Министерства народного просвещения с 1802—
1902. СПб., 1902.
37. «Сборник постановлений по Министерст¬
ву народного просвещения». Том второй. Царство¬
вание имп.НиколаяI (1826—1855). СПб., 1865.
38. «Десятилетие Министерства народного
просвещения 1833—1843». СПб., 1864.
39. Шевырев. «История имп. Московского
университета»., 1855.
40. Григорьев В. 1?. «Императорский С.-Пе¬
тербургский университет в течение первых пятиде¬
сяти лет его существования». СПб., 1870.
41. М. Ф. Владимирский-Буданов. «История
имп. университета св. Владимира». Т. I (царство¬
вание имп. Николая Павловича). Киев, 1884.
42. Д. Ф. Кобеко. «Императорский Царско¬
сельский лицей. Наставники и питомцы 1811 —
1843». СПб., 1911.
43. М. Лалаев. «Имп. Николай I, зиждитель
русской школы». СПб., 1906.
44. М. К Лемке. «Очерки из истории русской
цензуры и журналистики XIX ст.». СПб., 1904.
45. А. В. Никитенко. «Записки и дневник
(1804—1877.)». Т. I. Изд. 2-е. СПб., 1905.
46. Н. П. Барсуков. «Жизнь и труды М. П.
Погодина». Тома I—XIII. СПб., 1888—1899.
47. В. С. Иконников. «Русские университеты
в связи с ходом общественного образования».
«Вестн. Евр.» за 1876, №11.
48. Записки сенатора Дивова. «Русск. стар.»
за 1897 г.
49. Записки сенатора Фишера. В «Историч.
вест.» за 1910 г.
Lе marquis de Custine. «La Russie en 1839».
Bruxelles. 1843.4 vol. Срав. N. Gretsch. «Examen de
Pouvrage de M.le m. de Custine intitule la Russie en
1843». P., 1844.
50. Записка H. Кутузова, поданная имп.
Николаю 2 апр. 1841 г. «Русская старина» за 1898
г., № 9. Перепечатана в книге М. О. Гершензона
«Эпоха Николая». С. 169.
51. «Я. С. Аксаков в его письмах», тома I—
III. М., 1888.
52. Сочинения М. П. Погодина, т. IV. «Ис¬
торико-политические письма и записки в продол¬
жение Крымской войны». М., 1874.
53. Кн. Щербатов. «Генерал-фельдмаршал
кн. Паскевич, его жизнь и деятельность». 6т. СПб.,
1888—1899.
54. А. Зиссерман. «Двадцать пять лет на Кав¬
казе» (1842—1867). СПб., 1879.
55. Захарьин (Якунин). «Гр. В. А. Перовский
и его зимний поход в Хиву». СПб., 1901.
56. Я. Я. Барсуков. «Гр. Н. Н. Муравьев-
Амурский. Материалы для биографии». 2 т. М.,
1891.
57. Ф. Смит. «История польского восстания
и войны 1830 и 1831 годов». СПб., 1863.3 т. (перев.
с немецкого).
58. Пузыревский. «Польско-русская война
1831 г.». СПб., 1890 (2тома).
59. С. С. Татищев. «Внешняя политика
императора Николая Первого». СПб., 1897.
60. Его же. «Император Николай и иностран¬
ные дворы». СПб., 1889.
61. Барон Ф. И. Брунов. «Aper9u des
principales transactions du cabinet de Russie» —
записка (с собственными приписками имп. Нико¬
лая), составленная для цесаревича Александра
Николаевича в 1837 г. В «Сборн. имп. Русск.
историч. общества». Т. 30-й. СПб., 1880.
62. Нил Попов. «Россия и Сербия. Историч.
очерк, русск. покровительства Сербии с 1806—
1856 гг.». 2 т. М., 1869.
195
63. М. И, Богданович. «Восточная война
1853—1856 годов». 4 тома. СПб., 1876.
64. А. М. Зайончковский, «Восточная война
1853—1856 годов в связи с современ. ей политич.
обстановкой». СПб., 1908. Пока появился лишь 1 -й
том и приложения к нему (в особом томе).
65. «Материалы для истории православной
церкви в царствование имп. Николая I». Под ред.
Я. Ф. Дубровина. Напечатано в т. 113 (в двух
книгах) «Сборника имп. Русск. историч. общест¬
ва».
III. Положение населения в царствование
Николая I
1. С. Г. Hermann. «Recherches statisitques sur
t i i f
la septieme revision», в «Memoires de 1’academie
imperiale des sciences de St.-Petersbourg». Т. VII, p.
449 (Особенно таблица при стр. 456). СПб., 1820.
2. Корреп. «Ueber die Vertheilung der
Bewohner Russlands nach Standen in den
/
verschiedenen Provinzen»B «Mem. de PAcademie»6me
serie, t VH. St.-P., 1843. S 401—429.
3. К. С. Веселовского перевод статьи Я. И.
Кеппена «О густоте населения в губерниях Евро¬
пейской России» в «Сборнике статистич. сведений
о России», изд. Географич. общ. Т. I. СПб., 1851.
4. М. Я. Зябловский. «О числе жителей в
России по состояниям в 1836 г.». В том же
«Сборнике статист, свед. о России». Т. I.
5. Я. И. Кеппен. «Девятая ревизия. Исследо¬
ванием числе жителей в России в 1851 г.» (с приве¬
дением сведений о разделении жителей по
сословиям на основании офиц. данных различных
ведомств). СПб., 1857.
6. А Г. ТройницкиИ «Крепостное население
России по 9-й ревизии» в «Журн. М-ва вн. дел» за
1858 г., № 5. (Перепечатано в «Сельском благоуст¬
ройстве» за 1858 г.) Срав. разбор и изложение дан-
йых Тройницкого у Чернышевского: «Статьи по
крестьянскому вопросу». СПб., 1905.
7. А Г. Тройницкий. «Крепостное население
России по 10-й народной переписи». СПб., 1861.
8. Барон Авг. Гакстгаузен. «Исследования
внутр. отношений народной жизни и в особенности
сельских учреждений России». По-русски — т. I.
Москва, 1870. (Перев. Рагозина); остальные два
тома имеются лишь на немецком и франц. языках.
9. Андросов. «Хозяйственная статистика
России». М., 1827.
10. К И. Арсеньев. «Статистические очерки
России». СПб., 1848.
11. TengoborskL «Etudes sur les forces
productives de Russie». St.-P., 1851.3 v. (Первый том
переведен на русск. яз. И. В. Вернадским в 1857 г.)
Срав. разбор этого сочинения (несколько тен¬
денциозный) Чернышевским в ст. его о книге бар.
Гакстгаузена в «Крест, вопросе».
12. «Я. С. Аксаков в его письмах». Т. I—Ш.
М., 1888.
13. Его же. «Украинские ярмарки». СПб.,
1858. Изд. Географ, об-ва (издано на средства
петерб. купечества).
14. Фундуклей. «Статистическое описание
Киевской губернии» (составл. Д Я. Журавским).
3 части. СПб., 1852.
15. Я. А Соловьев. «Сельскохозяйственная
статистика Смоленской губернии». М., 1855.
16. В. Преображенский. «Описание Тверской
губ. всельскохоз. отношении. СПб., 1854.
17. В. И. Покровский. «Историч. очерк Твер¬
ской губ. (глава о населении Тверской губ. в
XIX в.). Изд. Тверского земства.
18. Кн. Н. С. Волконский. «Условия
помещичьего хозяйства при крепостном праве».
Рязань, 1898.
19. М. И. Семенов. «Руководство к управ¬
лению имением, с. Архангельским, Раненбург.
уезда». М., 1840.
20. А Д. Ловалишин. «Рязанские помещики
и их крепостные». Рязань, 1903.
21. О р. Левицкий. «О положении крестьян
Юго-Западного края во 2-й четверти XIX ст.». В
«Киевск. стар.» за 1906, VII—УШ.
22. В. И. С нежнее ский. «Материалы для ист.
крепост. хозяйства в Нижегородском уезде». В
«Дейст. нижегор. уч. архив к-сии». Н.-Н., 1905.
Т. VI. Его же. «Быковская вотчина Демидовых».
Там же. Т. VII. Н.-Н., 1909. Его же. «Крепостные
крестьяне и помещики нижегород. губ. накануне
реформы 19 февраля и первые годы после нее». Там
же. Т. Ш.
23. А И. Кошелев. «Записки». Берлин, 1884
(особенно приложения).
24. Кн. О. Н. Трубецкая. «Материалы для
биографии кн. В. А. Черкасского». Т. 1-й, ч. 1-я.
М., 1903.
25. «Некоторые данные о кн. С. В. Волкон¬
ском». Рязань, 1905.
26.И. В. Лучицкий. «Из недавнего прошлого», в
«Киевск. стар.» за 1901.
27. С. С. Громека. «Киевские волнения в
1855г.».СПб., 1863.
28. А А Кононов. «Записка о ходе дела в
Смоленской губернии по вопросу об обязанных
крестьянах», в «Чт. Общ. ист. и древн. российских».
М., 1858.
29. А В. Никитенко. «Записки и дневник».
Т. I. СПб., 1904. Изд. 2-е (под ред. М. К. Лемке).
30. И. И. Игнатович. «Помещичьи крестья¬
не накануне освобождения». Изд. 2-е. М., 1910 (у
нее же срав. библиографические указания).
31. Я. Б. Струве. «Основные моменты в
развитии крепостного хозяйства в России в XIX
веке», в «Мире Божьем» за 1899 г. № 10—12.
32. В. И. Семевский. «Крестьянский вопрос в
России в ХУШ и первой половине XIX века». Т.
2-й. СПб., 1888. Срав. его же ст. по тому же пред¬
мету всборнике «Крестьянский строй». СПб., 1905.
196
33. А Я. Заблоцкий-Десятовский. «Гр. П. Д.
Киселев и его время». СПб., 1882 (особенно прило¬
жения в т. IV).
34. Приложения к трудам Редакцией,
комиссий, для составл. полож. о крестьянах, выхо¬
дящих из крепости, зависимости. Сведения о
помещичьих имениях». 6 томов in 4°. СПб., 1860.
35. М. И. Туган-Барановский. «Русская
фабрика в ее настоящем и прошлом». Т. I, изд. 3-е.
СПб., 1909.
36. А Семенов, «Изучение историч. све-
- дений о росс, внешней торговле и промышленности
с половины XVII ст. по 1858 г. СПб., 1859.
37. В. И. Покровский. «Сборник сведений по
истории и статистике внешней торговли России».
Т. I. Изд. д-та тамож. сборов. СПб., 1902.
38. О. Гулишамбаров. «Всемирная торговля в
XIX в. и участие в ней России». СПб., 1898.
39. «Записки сельского священника». «Русск.
стар.» за 1880 г. Т. XXVII.
40. Я. Знаменский, «Приходское духовенство
в России со вр. реформы Петра». Казань, 1873.
41. Я. Ф. Дубровин. «Материалы для истории
православной церкви в царствование имп. Николая
I» (в двух книгах). Том 113-й «Сборника императ.
Русск. исторического общества». СПб., 1901.
42. Я. Варадинов. «История Министерства
внутр. дел», книга VIII (дополнительная); «Ис¬
тория распоряжений по расколу». СПб., 1863.
43. Барон С. А Корф. «Дворянство и его сос¬
ловное управление за столетие 1762—1855 годов».
СПб., 1906.
44. Романович-Славатинский. «Дворянство
в России от начала XVIII в. до отмены крепостного
права». СПб., 1870.
45. И. И. Дитятин. Устройство и управ¬
ление городов в России. Т. П, Ярославль, 1877.
46. Его же. «Наши города за первые три чет¬
верти настоящего столетия» и «Русский дорефор¬
менный город». В книге «Статьи по истории русск.
права». СПб., 1895.
47. «Статистические сведения о С.-Петер-
бурге». (Изд. М.в.д.). СПб., 1836.
IV. Положение и развитие интеллигенции
в связи с историей просвещения
и печати
1. А. Я. Пыпин. «Характеристики литератур¬
ных мнений от двадцатых до пятидесятых годов».
СПб., 1906. Изд. 3-е.
2. Я. Я. Милюков. «Главные течения русской
исторической мысли». Изд. 2-е. 1898.
3. Его же. «Очерки по истории русской куль¬
туры». Части 2-я и 3-я. СПб., 1899—1903.
4. Его же. «Из истории русской
интеллигенции». 2-е изд., 1903.
5. Булич. «Очерки по истории русской лите¬
ратуры и просвещения». Т. 1. СПб., 1902. Т. II.
СПб., 1905.
6. А Я. Веселовский, «Западное влияние в но¬
вой русской литературе». М., 1906. Изд. 3-е.
7. Д. Я. Овсянико-Куликовский. «История
русской интеллигенции» Ч. I.
8. Иванов-Разумник. «История русской
общественной мысли». Т. I.
9. Замотин. «Романтизм двадцатых годов в
русской литературе». Варшава, 1903.
10. Его же. «Романтич. идеализм в русском
обществе и литературе 20—30-х годов XIX
столетия». СПб., 1908.
11. Чернышевский. «Очерки гоголевского
периода русской литературы». Т. П полн. собр. соч.
СПб., 1906 и отдельно: СПб., 1893.
12. Гершензон. «История молодой России».
М., 1908.
13. Филиппов М. М. «Судьбы русской
философии», в «Русск. бог.» за 1894 г., №№ 1,3,4,
8 и 9.
14. Павлов-Сильванский. «Материалисты
двадцатых годов», в «Былом» за 1907 г., № 7.
15. АС. Пушкин. Полные собрания
сочинений: изд. Академии наук (вышло пока 3 то¬
ма) ; под ред. Венгерова (вышло пока 5 томов); под
ред. Я. А Ефремова (суворинское изд.) 8 томов.
СПб., 1903—1905.— Переписка А. С.Пушкина
под ред. Сайтова (изд. Акад. наук) 3 т. СПб.,
1906—1911.
16. В. Зелинский. «Русская критическая
литература о произведениях Пушкина». 7 частей.
М., 1887—1899.
17. В. Силовский. «Пушкинская юбилейная
литература» (1899—1900). Изд. 2-е. СПб., 1902.
18. Я. В. Анненков. «Материалы для
биографии Пушкина». Изд. 2. СПб., 1873.
19. Его же. «Общественные идеалы А. С.
Пушкина» (в III т. «Восп. и критич. очерков»).
20. Я. Лернер. «А. С. Пушкин. Труды и дни».
Изд. 2-е. СПб., 1910.
21. Л. И. Майков. «Биографич. материалы и
историко-критич. очерки». СПб., 1899.
22. В. Е. Якушкин. «О Пушкине». Статьи и
заметки. М., 1899.
23. И. А. Шляпкин. «Из неизданных бумаг
Пушкина». СПб., 1903.
24. Я. Е. Щеголев. «Император Николай I и
Пушкин в 1826 г.». «Русск. мысль» за 1910 г., № 6
и книга «Пушкин». СПб., 1912.
25. «Пушкин и его современники. Материалы
и исследования». Периодич. издание Акад. наук с
1903 г. (до сих пор до 1/11912 г. вышло 16 выпу¬
сков) .
26. Записки В. Я. Зубкова с предисловием
Б. А Модзалевского. СПб., 1906.
27. Д. Ф. Кобеко. «Императорский Царско¬
сельский лицей. Наставники и питомцы». 1811—
1843. СПб., 1911.
28. А Я. Пятковский. «Из истории нашего
литературного и общественного развития». 2 ч.
СПб., 1889.
197
29. С. Весин. -«Очерки истории русск. жур¬
налистики двадцатых и тридцатых годов». СПб.,
1881.
30. «История русской литературы XIX века».
Под ред. Д. Я. Овсянико-Куликовского. М., 1908—
1912.5 томов. Тома I и II.
31. Остафьевский архив князей Вяземских,
тома 3-й, 4-й и 1 -й выпуск 5-го. СПб., 1899 и 1909.
32. «Уткинский сборник». (Письма В. А. Жу¬
ковского и др.) М., 1904.
33. «Письма Жуковского к А. И. Тургеневу».
Изд. «Русск. архива». М., 1895.
34. Полное собрание сочинений В. А. Жуков-
ского под ред. Я. А. Ефремова. СПб., 1901.
35. -Б. Е. Зейдлиц. «Жизнь и поэзия Жуков¬
ского». СПб., 1883.
36. А. Я. Веселовский. «В. А. Жуковский».
СПб., 1904.
37. А.С.Грибоедов. Полное собр. сочинений в
«Академии, библ. русских писателей», вып. 3-й, в
2-х томах. СПб., 1912.
38. И.А.Крылов. «Полное собр. сочинений»
под ред. В. В. Каллаиш в 4 ч. СПб., 1904—1905.
39. Полное собрание сочинений кн. Я. А Вя¬
земского. 12 частей. СПб. (Особенно «Старая
записная книжка», в т. VIII—X.)
40. Архив Раевских под ред. В. Л. Модзалев-
ского. (Вышло 3 тома. СПб., 1908—1911.)
41. Я. Я. Барсуков. «Жизнь и труды М. П.
Погодина». СПб., 1888—1909.21 том и 1 (посмер¬
тный) дополнит, том. СПб., 1910.
42. Его же. «Выписки из писем И. С. Мальце¬
ва к С. А. Соболевскому» СПб., 1904.
43. Его же. «Выписки из нечаевсхого архива».
СПб., 1905.
44. С. Я. Глинка, «Записки» 1774—1847.
СПб., 1895.
45. Я. Я. Греч.«Записки о моей жизни».
СПб., 1886.
46. Ф. В. Булгарин. «Отрывки из виденного,
слышанного и испытанного в жизни». 6 ч. СПб.,
1846—1849.
47. А. О. Смирнова. «Записки» (1824—
1845). СПб., 1895.
48. А. В. Никитенко. «Моя повесть о самом
себе и о том, чему свидетель был. Записки и
дневник. (1804—1877)». СПб., 1905. 2 т. Изд. 2-е
(под ред. М.КЛемке).
49. Я. Козьмич. «Очерки из истории русского
романтизма. Н. А. Полевой, как выразитель лите-
рат. направлений соврем, ему эпохи». СПб., 1903.
50. «Записки Н. А. Полевого». СПб., 1888.
51. С. Т. Аксаков. «Литературные и театр,
воспоминания», вполн. собр. соч. СПб., 1910.
52. И. С. Аксаков. «Ф. И. Тютчев —
биографич. очерк». М., 1874.
53. А. П. Пятковский. «Кн. В. Ф. Одоевский
и Д. В. Веневитинов». Изд. 3-е. СПб., 1901.
54. Д. Вл. Веневитинов. «Сочинения». Изд.
1831 (Смирдина) и 1862 г. (под ред. Пятковского).
55. Кн. Вл. Ф. Одоевский. «Сочинения». 3 т.
СПб., 1844.
56. «Мнемозина». Сборник. М., 1824—1825
(4 части) под ред. кн. В. Ф. Одоевского и В. К.
Кюхельбекера.
57. Я. Колюпанов.. «Биография А. И. Коше¬
лева». 3 т. М., 1889.
58. «Записки А И. Кошелева». Берлин, 1884.
59. Полное собрание сочинений Е.А.Бара-
тынского (и критика). Киев, Харьков, 1894.
Приготовляется к печати новое издание в «Ака-
демич. библиот. русск. писателей» при Акад. наук.
60. Стихотворения Я. М. Языкова. Изд. 4-е в
2 ч. СПб., 1858 (со статьей Перевлеского и со всеми
рецензиями и статьями о стихотв. Языкова).
61. Полное собр. сочинений Я. В. Киреевско¬
го. Изд. 1-е. М., 1861 г. (Кошелева); изд. 2-е (под
ред. Гершензона). М., 1910. Срав. ст. Гершензонао
И. В. Краевском в «Вест. Евр.» за 1908 г., № 8,
перепечат. в книжке его «Исторические записки (о
русском обществе)». М., 1910, а также мою
рецензию в «Русск. мысли» за 1912 г., № 1.
62. Журнал «Европеец» за 1932 г., №№ 1 и 2.
Срав. записку о нем, составленную Чаадаевым от
имени Киреевского и представл. Бенкендорфу (на-
печ. в «Русск. архиве» за 1896 г., № 8).
63. ЛГ. О. Гершензон. «П. Я. Чаадаев. Жизнь
и мышление». В прилож. «Философии, письма»,
«Апология сумасшедшего» и переписка Чаадаева.
М., 1908.
64. А/. К Лемке. «Чаадаев и Надеждин», в
книге «Николаевские жандармы». СПб., 1908.
65. М. Гершензон. «Исторические записки».
М., 1910.
66. Его же. «Образы прошлого» (здесь между
проч. биография Петра Киреевского). М., 1912.
67. Его же. «В. С. Печерин». М., 1910.
68. ЗавитневЫ. «А. С. Хомяков». Т. I. Киев,
1902.
69. А. С. Хомяков. «Собрание сочинений». 8
томов. М., 1900—1901.
70. Стихотворения А. Я. Полежаева под ред.
Арс. Ив. Введенского. СПб., 1892 (сбиограф, очер¬
ком).
71. Полное собрание сочинение М. Ю. Лер-
.манто#*, в 5 томах. СПб., 1910—1912. «Академич.
библиотека русских писателей», вып. 3-й.
72. Сочинения Я. В. Гоголя в 7 томах под ред.
Я. С. ТихонравоваиВ. Я. Шенрока. СПб., 1889—
1896.
73. Письма Я. В. Гоголя под ред. В. Шенро¬
ка. 4 т. СПб., 1902.
74. В.И.Шенрок. «Материалы для биографии
Гоголя». 4 т. М., 1892—1898.
75. Я. С. Тихонравов. Сочинения. Т. III.
76. «Я. В. Станкевич. Переписка его и
биография, составл. Я. В. Анненковым». М., 1857.
77. Сочинения Я. В. Станкевича. М., 1890.
78. Собрания сочинений В. Г. Белинского: а)
Солдатенковское в 12 томах. Изд. 10-е. М., 1861,
б) Венгеровское (первое полное) с обширными
комментариями и справками (всего вышло пока 9
томов из 12). СПб., 1898—1909.
79. А. Я. Цыпин. «Белинский, его жизнь и
переписка». 2 т. СПб., 1876.
198
80. Я. Прозоров. «Белинский и Московский
университет в его время». Из студ. воспом. В «Библ.
для чтения» за 1859 г., № 12.
81. Л. В. Анненков. «Воспоминания и
критические очерки. Отд. III: Замечательное де¬
сятилетие (1838—1848)». СПб., 1881.
82. «Д В. Анненков и его друзья». СПб.,
1892.
83. Я. И. Надеждши «Автобиография» с
предисловием и послесловием Савельева в «Русск.
вест.» за 1856 г., № 5.
84. К С. Аксаков. «Воспоминания студенче¬
ства» (1832—1835 гг.). М., 1911.
85. Первое собрание писем В. Г. Белинского,
изд. Я. Зинченком. СПб., 1901.
86. А. А. Корнилов. «Семейство Бакуниных
(по неизданным материалам)». «Русск. мысль» за
1909 г., N5№ 5,6 и 8, за 1911 и№ 10 и за 1912 №№
2 и 3.
87. Сочинения В. Я. Боткина. СПб., 1891.
88. А. В. Станкевич, «Тимофей Николаевич
Грановский и его переписка». Изд. 2-е в 2-х частях.
М., 1897.
89. Сочинения Т. Н. Грановского. М., 1892.
90. Сочинения А. И. Герцена: а) заграничное
издание в 10 томах. Женева, 1875—79 и отдель¬
но: «Сборник посмертных статей». Ж., 1870; б)
изд. Ф.Ф.Павленкова в 7 томах. СПб., 1905.
91. Искандер (Герцен). «Du developement des
idees revolutionnaires en Russie». Изд. 2-е. Лондон,
1853 (имеется три русских издания: Сытина
«Движ. обществ, мысли в России». М., 1907;
Саблина «К развитию революц. идей в России». М.,
1906 и Павленкова «О разв. революц. идей в
России». Перев. Тверитинова. СПб., 1907.
92. Д. В. Смирнов. «Жизнь и деятельность
А. И. Герцена. СПб., 1897.
93. Ч. Ветринский. Герцен. СПб., 1908. В
прилож. библиография произведений Герцена и
литературы о нем, составл. А. Г. Фоминым.
94. А. Я. Веселовский. Герцен-писатель. М.,
1909.
95. Т. П. Пассек. «Из дальних лет». Части 1 и
2. СПб., 1878—1879.
96. Я. А. Тучкова-Огарева «Воспоминания».
М., 1903.
97. Отрывки из воспоминаний М. К Рейхель
(урожд. Эрн) и письма к ней Герцена. М., 1909.
98. М. Батуринский. «А. И. Герцен, его
друзья и знакомые». Т. I. СПб., 1904.
99. К С. Аксаков. «Полное собр. сочинений».
Зт. М., 1861,1875 и 1880.
100. «Ив. С. Аксаков в его письмах» Т. I—III.
М., 1888.
101. Ю. Ф. Самарин. Сочинения. Т. I—III,
V—X с обширными примечаниями и биографич.
справками издателя Д. Ф. Самарина, М., 1877—
1898.
102. С. Неведенский. «Катков и его время».
СПб., 1888.
103. Сочинения И. С. Тургенева. Особенно
т. I — «Записки охотника», т. IV — «Рудин», т. X
— «Литературные и житейские воспоминания».
СПб., 1884.
104. Полное собрание сочинений Я. В. Коль¬
цова. Вып. 1-й. «Академич. библиот. русск. писате¬
лей». СПб., 1909.
105. Полное собр. сочинений Ф. М. Достоев¬
ского. СПб., 1883. Т. 1. «Биография, письма и за*
метки из записной книжки».
106. Д. Д. Ахишрумов. Из моих вос¬
поминаний (1849--1851). СПб., 1905.
107. В. И. Семевский. Из истории обществен¬
ных идей в России в конце сороковых годов. Рос-
тов-на-Дону, 1905.
108. «По делу Петрашевского». «Р. стар.» за
1905, №2.
109. Я. И. Костомаров. «Литературное на¬
следие. Автобиография». СПб., 1890, Изд. 2-е. Не
напечатанная ранее глава, записанная Я. А. Бело-
зерскою: в «Русск. мысли» за 1885 г., № 5.
110. Т. Г. Шевченко. «Кобзарь», изд. под
редакцией Огановского. В 2-х частях. Львов, 1893.
Русское изданием «Кобзаря» под редакцией г.
Словинского. СПб., 1911.
111. «Записки, або журнал Шевченко».
Львов, 1895.
112. Проф.Н. И. Петров. «Очерки истории
украинской литературы XIX ст.». Киев, 1884.
113. В. И. Семевский, «Кирилло-Ме-
фодиевское общество 1846-1847 гг.» «Русск. бо¬
гат.» за 1911 г., №№5 и 6. В подстрочных
примечаниях указание относящейся сюда литера¬
туры.
ЛЕКЦИЯ хх
Крымская война и ее значение.— Характеристика императора Александра Николаевича.— Его
воспитание и его политические взгляды и вкусы.— Влияние на него Крымской войны.— Первые шаги его
царствования.— Настроение общества и отношение его к Александру в 1855—1856 гг.— Заключение
мира и Манифест 19 марта 1856 г.— Речь дворянству в Москве.— Начало подготовления крестьянской
реформы.— Деятельность Ланского и Левшина.— Отношение дворянства.— Записки, ходившие по
рукам в обществе.— Образование Секретного комитета.— Я. И. Ростовцев.— Ход дел в Секретном
комитете в 1857 г.— Ходатайство литовских дворян и рескрипт 20 ноября 1857 г. генерал-адъютанту
Назимову.— Программа правительства.— Опубликование рескрипта 20 ноября.
Военные неудачи, испытанные Россией лая, явились, как известно, событием, пред-
в Крымской кампании, обнаружившие в гла- сказанным еще в 1847 г. Николаем Тургене-
зах всех несостоятельность политики Нико- вым. Чтобы предсказать это в 1847 г., надо
199
было обладать немалою проницательностью
и глубоким пониманием общего хода дела в
России и Европе. До Крымской войны мо¬
гущество русского правительства представ¬
лялось колоссальным, и даже правильность
его системы представлялась почти непрере¬
каемой не только в глазах самого императора
Николая, но и всех его окружающих, вклю¬
чая в то число и наследника престола Алек¬
сандра Николаевича, будущего
царя-освободителя. После быстрого подав¬
ления венгерского восстания превосходными
силами Паскевича военное могущество
России представлялось громадным и в Ев¬
ропе» и удивительно, как легко рушилось это
могущество при первом же столкновении с
регулярными силами цивилизованных госу¬
дарств, хотя силы эти вовсе не были очень
значительны. Впрочем, наша боевая непод¬
готовленность стала обнаруживаться уже и
тогда, когда мы имели врагом только одну
Турцию. Мы не могли и ее победить сразу.
Неподготовленность наша в серьезной войне
сделалась еще более ясной, когда к Турции
примкнули Англия, Франция, а затем и
Сардиния.
Собственно говоря, несмотря на
видимую внушительность коалиции, со¬
юзники высадили немного войска; тог¬
дашние средства морской перевозки
ограничивали для них возможность высадки
очень большой армии, и союзниками было
высажено всего около 70 тыс. войска. Но
хотя у Николая Павловича вообще армии
было около миллиона человек, мы не могли
справиться с этими семьюдесятью тысячами
— отчасти благодаря хаотическому состо¬
янию военного хозяйства и отсталости наше¬
го вооружения, отчасти благодаря
■* отсутствию удобных путей сообщения,
отчасти благодаря поразительному
отсутствию подготовленных и привыкших к
\ самостоятельному ведению дела военных
вождей и генералов. Снабжение севасто¬
польской армии производилось теми же спо¬
собами и средствами, как снабжение армии
в 1812 г.; количество потребовавшихся под¬
вод, перевозочных средств, количество волов
и лошадей было громадно и несоразмерно
тому количеству запасов, которые достав¬
лялись. Под тяжестью этой повинности
южные наши губернии изнемогали и разо¬
рялись, а армия терпела во всем недостаток.
Беспорядки усиливались страшным воров¬
ством и всякими злоупотреблениями, кото¬
рые сильно увеличивали неизбежные госу¬
дарственные расходы.
Медицинские и санитарные части были
поставлены также неудовлетворительно, и
борьба с особенно развившимися на юге
болезнями велась весьма плохо. Стра¬
тегические наши планы не выдерживали
никакой критики. Тогда самым могущест¬
венным лицом в военных сферах был Пас-
кевич и он испортил весьма много, так как,
опасаясь вторжения со стороны Австрии,
которая в благодарность за помощь, оказан¬
ную ей Николаем в 1849 г., держала свои
войска наготове, чтобы присоединиться к
врагам России, Паскевич тормозил отправ¬
ление вспомогательных военных сил в
Крым. Князь В. И. Васильчиков (бывший
начальник штаба в Севастополе) определен¬
но говорил, что если бы Паскевич не за¬
медлил посылкой помощи, то Севастополь
можно было бы отстоять. Ниже всякой
критики оказались действия и других сухо¬
путных начальников: никакой инициативы,
никакой самостоятельности проявить они не
могли. Только сами войска оказались на
высоте положения в отношении вы¬
носливости и мужества, которые проявились
во всей силе, да немногие представители
флота, воспитанные в школе адмирала Ла¬
зарева, проявили достаточно героизма и
предприимчивости1. Но тем более оттенялась
досадность наших неудач, ибо при
наличности такого хорошего настроения
войск при небольших сравнительно силах
неприятеля мы не могли его одолеть на своей
собственной территории, и слава русского
оружия, которой мы привыкли гордиться со
времен Екатерины, омрачилась необыкно¬
венно быстро. Сам Николай Павлович,
любивший в прежнее время оканчивать свои
манифесты самонадеянными возгласами,
как, например, в 1848 г.: «С нами Бог!
Разумейте языци и покоряйтеся, яко с нами
Бог!»,— вынужден был понять теперь несо¬
стоятельность той системы, которую еще
недавно он считал совершенно правильной,
которой он посвятил все свои силы и благо¬
даря которой склонен был считать себя
великим историческим лицом. Николай
Павлович почувствовал, что оставляет на¬
следство своему сыну в расстроенном виде.
Известно, что, благословляя Александра на
смертном одре, он сказал: «Сдаю тебе ко¬
манду не в добром порядке».
В это время, конечно, раскрылись глаза
на несостоятельность этой системы и у всех
мыслящих людей в России, так как
200
происходившие внушительные события за¬
ставляли давать себе правильную оценку,
которую невозможно было исказить или
отвергнуть.
Что касается Николая Павловича, то
можно сказать, что умер он как раз вовремя,
потому что, если бы после севастопольской
кампании ему пришлось еще царствовать, то
ему пришлось бы отказаться прежде всего от
своей тридцатилетней системы управления,
а отказаться от нее для него было все равно
что отказаться от самого себя. В этом отно¬
шении смерть являлась для него благом. Это
сознавали даже близкие к нему люди...2
Наследник престола Александр Никола¬
евич, однако, также совершенно не был под¬
готовлен к той реформаторской
деятельности, которая ему предстояла. В
русской исторической литературе в этом
отношении существует довольно много лож¬
ных легенд и неверных понятий.
Вообще, личность Александра II, царя-
освободителя благодаря историкам-
панегиристам и наивным мемуаристам-
современникам представляется обыкновенно
как личность идейного реформатора, гуман¬
но настроенного, желавшего, так сказать, в
силу внутренних побуждений и склонностей
провести те реформы, которые ему
пришлось провести. Все это совершенно не¬
верно, и освободить действительный ход со¬
бытий от ложных представлений мне
кажется в этом случае особенно важным, так
как эти представления затемняют истинный
ход того процесса, изучение которого явля¬
ется нашей главной задачей. Воспитателем
Александра Николаевича был, правда, гу¬
манный человек — Жуковский; он весьма
желал внушить Александру свои гуманные
взгляды на задачи правления, но ошибочно
было бы представлять себе Жуковского
каким-то либералом. Он был просто человек
честный и в высшей степени добрый, и ему
хотелось подготовить из Александра доброго
государя, вроде Генриха IV, особенно в тех
чертах, в каких Жуковский мог представ¬
лять себе тогда таких государей, как Генрих
IV. Жуковский действовал в своей сфере
чрезвычайно смело: он не усомнился прямо
заявить родителям Александра, что если они
хотят, чтобы из него вышел не полковой
командир, а просвещенный монарх и чтобы
в отечестве своем он видел не казарму, а
нацию, то нужно отрешить его от той плац-
парадной атмосферы, которая господствова¬
ла при дворе того времени. И, надо сказать,
что мать Александра сочувственно слушала
такие мысли и что даже Николай Павлович
позволял Жуковскому их высказывать и,
по-видимому, терпеливо и снисходительно
их выслушивал. Однако же в конце концов
преодолели идеи самого Николая Павловича,
а он определенно высказывал, что из буду¬
щего императора надо сделать прежде всего
военного человека. Он считал, что это необ¬
ходимо, что без этого Александр «будет поте¬
рян в нынешнем веке...». Правда, Николай
Павлович считал, что и для военного челове¬
ка не годится та военная обстановка, в кото¬
рой когда-воспитывали его самого; он желал,
чтобы его сын был действительно военным
человеком, хорошо понимающим настоящее
военное, а не плац-парадное дело, и с соот¬
ветственным характером, но в этом отно¬
шении он был бессилен воспитать
Александра даже так, и в конце концов
восторжествовали именно плац-парадные
идеалы. Александр с самого детства получил
к этим плац-парадным идеалам большую
склонность; ему чрезвычайно льстило, что
он еще мальчиком десяти лет мог хорошо
гарцевать, мог хорошо произносить команд¬
ные слова и щегольски проехать цере¬
мониальным маршем перед дедом своим,
прусским королем, в Берлине. Впоследствии
эти склонности и чувства глубоко вко¬
ренились в нем, и он сделался не привер¬
женцем идей своего воспитателя
Жуковского, хотя, может быть, он и получил
от него общую склонность к добру, а совер¬
шенным сыном своего отца, и когда в начале
40-х годов он, уже зрелым человеком, был
приобщен к государственному управлению,
то он оказался одним из убежденных почита¬
телей системы Николая Павловича, несмот-г*
ря на то что до него, как до наследника, легче '
доходили сведения об отрицательных
результатах этой системы, нежели до самого
Николая. Он никогда не пытался стать по
отношению к этой системе на критическую
точку зрения. Напротив, по мере того как
Николай Павлович предоставлял ему более
власти в разных государственных делах, он
все более и более заявлял себя сторонником w
отцовской системы. \
Надо даже сказать, что, когда с 1848 г.
начался период резкой реакции, то
реакционное настроение, охватившее Нико¬
лая Павловича, охватило не менее сильно и
Александра. Значительная часть
реакционных мер того времени была прове¬
дена при участии и даже иногда по
инициативе Александра Николаевича. Так,
например, даже знаменитый бутурлинский
201
комитет был организован не без его непос¬
редственного участия3.
Когда Николай Павлович издал зна¬
менитый манифест 14 марта 1848 г, испол¬
ненный странных угроз по отношению к
врагу, который вовсе не наступал тогда на
Россию, то Александр собрал командиров
гвардейских полков и вместе с ними устроил
восторженную овацию по поводу этого
манифеста4.
Надо прибавить, что по отношению к
крестьянскому делу цесаревич Александр
Николаевич был даже правее Николая и во
всех комитетах по крестьянскому делу, в
которых ему пришлось участвовать, он
неизменно поддерживал помещичьи права и
интересы5.
Поэтому когда он вступил на престол, то
люди, близко стоявшие ко двору, думали, что
теперь-то наступит настоящая дворянская
эра. Противники крепостного права выра¬
жали сожаление, что теперь пропадает вся¬
кая надежда на движение в крестьянском
вопросе (что видно.из переписки Николая
Милютина с Кавелиным); наоборот, кре¬
постники готовы были торжествовать: им
было известно, что Александр являлся опре¬
деленным врагом инвентарей, проведенных
в Юго-Западном крае; они знали, что именно
благодаря ему удалось охранить в 1853 г.
литовские губернии от распространения на
них бибиковских инвентарных правил, не¬
смотря на то что Бибиков тогда был
министром внутренних дел и что правила
эти были утверждены императором Никола¬
ем для Литвы еще 22 декабря 1852 г. На этой
именно почве произошла тогда ссора между
Александром и Бибиковым, и когда Алек¬
сандр вступил на престол, то первым
министром, который потерпел крушение,
был именно Бибиков. Бибиков был привер¬
женцем Николаевской системы и большим
самодуром, но в глазах всех он потерял место
не как таковой, а как лицо, стоявшее в
крестьянском вопросе на стороне крестьян в
противность точке зрения самого Александ-
ра‘.
Таким образом, вы видите, что личные
вкусы и личные убеждения и предрассудки
императора Александра как будто не пред¬
вещали ничего особенно хорошего в отно¬
шении назревших преобразований и в
отношении в особенности самого главного из
них — отмены крепостного права. Мне ка¬
жется важным оттенить это обстоятельство
потому, что оно особенно ярко рисует силу,
непререкаемость и неотразимость того хода
вещей, который в это время происходил;
очень важно выяснить, что реформы
произошли в данном случае не в силу стрем¬
ления к ним государя, а почти наперекор его
убеждениям, причем он должен был ус¬
тупить развивающемуся социально-
политическому процессу, так как он увидел,
что если он будет бороться с этим процессом,
как боролся его отец, то это может повести
к развалу всего государства. Поэтому-то я
считаю необходимым подчеркнуть, что все
эти реформы начались вовсе не в силу
гуманных идей, которые вложил в юного
Александра Николаевича Жуковский. Алек¬
сандр сделался сторонником реформ не в
силу своей симпатии к людям,
произносившим в 40-х годах свои аннибало¬
вы клятвы против крепостного права, а в
силу прочно осознанного им в эпоху Крым¬
ской войны убеждения в необходимости ко¬
ренных преобразований — ради сохранения
^усиления мощи Русского государства, ко¬
торая иначе, как уже сделалось ясным из
событий Крымской войны, совершенно под-
точилась бы ходом вещей. Это, конечно,
отнюдь не умаляет его заслуги и делает ее
даже более важной и более ценной, посколь¬
ку он сумел стойко, мужественно и честно
провести это дело, невзирая на все его труд¬
ности и не опираясь на внутренние свои
склонности и симпатии, а стоя
исключительно на точке зрения признанной
им государственной нужды.
Надо сказать, что приступ к реформам
не мог быть начат немедленно. Александр
вступил на престол 19 февраля 1855 г. в
самый разгар войны, и первым делом, кото¬
рое ему пришлось ликвидировать, была
Крымская война. Все силы и помыслы
правительства и общества были направлены
на окончание тяжелой войны и заключение
мира, к чему дали, наконец, возможность
кое-какие успехи русских войск на Кавказе
и в особенности стойкость их в Севастополе.
Это дало возможность, в связи с утомлением
самих союзников, начать мирные перегово¬
ры, не слишком позорные для России. После
взятия Карса эти переговоры были начаты,
и вскоре был заключен мир, не столь для нас
тягостный, как можно было опасаться, по
испытанным нами поражениям.
После заключения мира, в марте
1856 г., явилась возможность обратиться к
исправлению внутренних дел. Во время вой¬
ны в этом отношении Александр мог сделать
лишь некоторые шаги, не требовавшие осо¬
бых усилий, но обрисовывавшие в глазах
202
всех его новое прогрессивное настроение.
Такое значение имели отмена бутурлинского
комитета, разрешение свободной выдачи за¬
граничных паспортов и уничтожение стес¬
нений, введенных в университетах после
1848 г.
Общество в этот момент отнеслось к
этим первым проблескам либеральной
политики совершенно так же, как общество
начала царствования Александра I к его
первым шагам. Настроение было совершен¬
но оптимистическое, необыкновенно розовое
и благодушное. Общество, в течение целого
тридцатилетия испытывавшее страшный
гнет и будучи еще ранее обессилено уничто¬
жением своей лучшей части в лице де¬
кабристов, конечно, было очень принижено
и не привыкло свободно выражать свои
мысли. Господствующим чувством было чув¬
ство освобождения от гнета николаевского
режима и то ожидание более либеральной
политики, которое поддерживалось первыми
мерами Александра.
Поэтому значение этих первых шагов
правительства было такое, что личность
Александра получила сразу ореол искренне¬
го сторонника и друга либеральных преоб¬
разований. Всякая заминка и остановка в
этого рода деятельности правительства,
отнюдь не ставилась в вину молодому монар¬
ху и тотчас же относилась к интригам и
недоброжелательству окружавших его са¬
новников. В то же время в самом обществе
на первых порах очень мало проявлялось
склонности к самодеятельности и *
инициативе. Привыкши всего ждать сверху,
общество и теперь всего ждало от прог¬
рессивного правительства, отнюдь не стре-/
мясь обеспечить за собой какие-нибудь
права на участие в государственных делах.
Замечательно, что те программы, которые от
общества исходили в то время, были совер^
шенно единодушны,— принадлежали mi
они умеренным либералам, каким был!
умерший в октябре 1855 г. Грановский, или\
будущим радикалам, как Чернышевский, ^
или безусловно свободным и искусившимся \
в политике во время европейских бурь 1848 \
г. людям, как Герцен, который жил на пол- |
ной свободе в Лондоне, вне всякого давления j
русских условий. Все эти программы !
стремились, как скромно формулировал это
в 1856 г. Чернышевский, к одному и тому
же: все желали распространения просве- \
щения, увеличения числа учащих и i
учащихся, улучшения цензурных условий (о
полной отмене цензуры не смели и мечтать),
постройки железных дорог — важнейшего
средства к развитию промышленности, на¬
конец, «разумного распределения эко¬
номических сил», под которым
подразумевалось уничтожение крепостного
права, но о чем еще не разрешалось выска¬
зываться открыто7.
В рукописных записках того времени
это выражалось и более прямо: говорили, что
одною из первых нужд является отмена кре¬
постного права, но и здесь это выражалось
чрезвычайно скромно; именно: указывалась
желательность постепенного уничтожения.
крепостного права без потрясения страны,
как выражался Грановский в записке, напе¬
чатанной в 1856 г. Герценом в «Голосах из
России»8.
Сам Герцен выражался гораздо более
ярко и гораздо более прямо, тем вдохновен¬
ным языком, которым он привык писать и
выражаться, не подчиняясь никаким цен¬
зурным стеснениям в Лондоне. Но и его
« программа была очень скромна — он вы¬
разил ее в своем известном письме к Алек¬
сандру II, напечатанном в первой книжке
«Полярной звезды» в 1855 г. Здесь Герцен
говорил, что насущными нуждами России
являются: освобождение крестьян от
помещиков, освобождение податных сос¬
ловий от побоев и освобождение печати от
цензуры. Дальше Герцен не шел — он желал
только облегчения гнета и пока не требовал
даже конституционных гарантий.
Таково было настроение русского обще¬
ства в самом начале царствования Алексан¬
дра И, в 1855—1856 гг.
Как мы видели, император Александр И,
несмотря на то что с 1848 г. он был охвачен
весьма реакционным настроением, несмотря
на то что он был и раньше, по-видимому,
убежденным поклонником системы своего
отца,— в момент Крымской кампании соз¬
нал, что коренные преобразования необ¬
ходимы и что в числе этих преобразований'
самым крупным и первым по времени дол- ,
жна быть, несомненно, отмена крепостного
права. Но пока длилась война, никакая серь¬
езная работа в этом направлении не была
возможна; все внимание и правительства, и
общества сосредоточивалось тогда на судьбе
, Севастополя. На вопросе об исходе войны
сосредоточивалось, пока война продолжа¬
лась, все помыслы и все силы страны. Но
это отнюдь не помешало правительству
издать ряд таких распоряжений, которые
имели отрицательно либеральный характер
и сводились к отмене реакционных указов и
203
постановлений последних годов царство¬
вания Николая Павловича, ибо эти распоря¬
жения не требовали никакой разработки.
Ряд таких распоряжений Александр Нико¬
лаевич сделал в первые же месяцы своего
царствования, и таким образом общество
могло, как мы уже отметили, вынести сразу
же некоторое представление о либеральных
и прогрессивных тенденциях нового импера¬
тора, и те круги общества, которые склонны
были представлять себе его реформатором,
еще более утвердились в своем представ¬
лении и в своих оптимистических чаяниях.
Впрочем, у самого Александра обдуман¬
ной программы реформ в этот момент еще
не было. Собственно, первым программным
заявлением его можно считать те довольно
неопределенного характера заключительные
слова, которые были помещены в манифесте
о мире. Они обратили на себя тогда общее
внимание. Так как Парижский мирный
трактат был заключен после несчастной вой¬
ны и при обнаружившемся внутреннем рас¬
стройстве России, то можно было ожидать
крупных уступок с нашей стороны враждеб¬
ным нам европейским державам. В конце
концов уступки эти не были так велики, как
этого можно было опасаться. Нашей дипло¬
матии удалось отстоять сравнительно почет¬
ные условия мира, пользуясь теми
несогласиями и недоразумениями, которые
возникли между Наполеоном III и Англией.
Наполеон III, который затеял войну для того,
чтобы ослабить могущество России, считал
необходимым поставить этой кампании
определенную практическую цель, и такою
целью он ставил освобождение Польши или
возвращение ее к полунезависимому
конституционному устройству. Он опирался
в этом на Венский конгресс и конституцию
1815 г., причем основательно думал, что
если Польша будет восстановлена волею
европейских держав, предписанною России,
то это явится важным политическим преце¬
дентом очевидного вмешательства евро¬
пейских держав во внутренние дела и
отношения Российской империи, чем, ко- i
нечно, знаменовалось бы ее политическое
ослабление.
Но английское правительство не было
расположено к энергическому вмешательст¬
ву в польский вопрос, и когда Наполеон это
увидел, то он сильно умерил свой прежний
воинственный пыл и довольно легко
склонился к переговорам с Россией, начав
даже закидывать соответствующие удочки
там, где находились влиятельные русские
дипломаты,— желая вызвать таким образом
инициативу в открытии переговоров о мире
с русской стороны. Князь А. М. Горчаков,
тогда еще бывший посланником в Вене,
очень удачно формулировал наше настро¬
ение весьма остроумной фразой, что Россия,
будучи по необходимости нема, не будет,
однако же, глухой, т. е. что хотя формально
начинать мирные переговоры нам, как сто¬
роне, потерпевшей неудачу, неловко, но что
мы отнюдь не будем от них уклоняться
Таким образом, переговоры нечувствительно
начались, и, может быть, при тогдашнем
настроении Наполеона, они бы повели к еще
более благоприятным для нас результатам,
если бы не вмешалась Австрия, которая и в
этот момент, продолжая игнорировать ус¬
луги, оказанные ей Николаем в 1849 г.,
довольно крупно испортила наши междуна¬
родные шансы и значительно понизила
успехи нашей дипломатии; но все-таки в
конце концов Парижский конгресс, соб¬
равшийся в результате этих переговоров в
начале 1856 г., кончился для нас относитель¬
но благополучно. Во всяком случае, из двух
требований русской дипломатии — во-пер¬
вых, чтобы не было назначено контрибуции,
что считалось особенно унизительным для
великой державы, даже независимо от
тяжких финансовых последствий для нас
такой меры, и, во-вторых, чтобы не было
умаления нашей территории,— первое было
достигнуто, а устье Дуная, вопреки второму
требованию, все-таки пришлось уступить
Румынии9.
Объявляя во всеобщее сведение об ус¬
ловиях заключенного мира, Александр в
конце манифеста сказал, что эти уступки не
важны в сравнении с тягостями войны и с
выгодами мира и заключил манифест следу¬
ющими знаменательными словами: «При
помощи Небесного Промысла, всегда благо-
деющего России, да утверждается и совер¬
шенствуется ее внутреннее благоустройство;
правда и милость да царствует в судах ее;
да развивается повсюду и с новой силой
стремление к просвещению и всякой полез¬
ной деятельности, и каждый под сенью за¬
конов, для всех равно справедливых, всем
равно покровительствующих, да наслажда¬
ется в мире плодами трудов невинных...»
Программа внутренних преобразований,
подразумевавшаяся в этих словах, вполне
соответствовала настроению русского обще¬
ства и его стремлениям и надеждам, прос¬
нувшимся с переменой царствования.
204
Последние слова приведенной фразы до¬
вольно ясно намекали на грядущее урав¬
нение в положении различных сословий и
могли, разумеется, толковаться как намек на
уничтожение или ограничение крепостного
права. Эти слова вызвали, естественно,
среди тогдашних крепостников большую
тревогу. Поэтому граф Закревский, мос¬
ковский генерал-губернатор, один из врагов
замышлявшихся преобразований, просил
Александра, в бытность его в Москве, чтобы
он успокоил дворянство относительно тех
тревожных слухов, которые в то время рас¬
пространялись. Александр согласился, но
произнес при этом такую речь, которой
никак не ожидали ни Закревский, ни другие
окружавшие императора лица. Александр
сказал, что он не думает отменить крепост¬
ное право тотчас, так сказать, одним почер¬
ком пера, но что при настоящем положении
оставаться, очевидно, нельзя и что лучше
отменить крепостное право сверху, чем
ждать, пока оно начнет отменяться само
собою снизу, и закончил указанием, что
дворянство должно подумать о том, как бы
исполнить эти слова11.
Эта речь была так неожиданна для всех,
что даже министр внутренних дел Ланской,
когда ему передали о ней, сперва этому не
поверил и уверился только тогда, когда ему
сказал об этом сам Александр, прибавив, что
он не только действительно произнес эту
речь, но что о сказанном и не жалеет.
Тогда началась спешная подготовка в
Министерстве внутренних дел к разработке
крестьянской реформы, после того как Лан¬
ской увидел, что правительством дан уже
пароль, от которого отступить невозможно12.
Ланской начал свою министерскую де¬
ятельность (в 1855 г.) довольно странным
циркуляром предводителям дворянства, где
говорил от имени государя о неприкосновен¬
ности священных прав русского дворянства,
данных ему венценосными предшест¬
венниками царствующего государя импера¬
тора, в чем дворяне, понятно, усматривали
обещание, что крепостное право не будет
затронуто. Но сам Ланской отнюдь не был
крепостником — наоборот, он был в моло¬
дости прикосновенен к либеральному
движению 10-х и 20-х годов, был, вероятно,
членом «Союза благоденствия» и, несомнен¬
но, сочувствовал упразднению крепостного
права, так что, собственно, дать соответст¬
вующее направление работе Министерства
внутренних дел лично ему было приятно. Но
никакого определенного взгляда, как двинуть
это дело впредь, у него не было, и он только
указал Александру, что вопрос этот такого
свойства, что раз дано ему движение, его
остановить будет нельзя, и что надо поэтому
наперед обдумать всю программу и уже
потом от нее не отступать. Чтобы вести это
дело, Ланской взял себе в помощники А. И.
Левшина, который по службе своей в
Министерстве государственных имуществ
почитался ознакомленным с этими вопро¬
сами; он тоже считался человеком вообще
расположенным к реформе, но и он не имел,
по-видимому, определенных взглядов на
способы ведения этого дела и к тому же
отличался чрезвычайной нерешительностью
и робостью в делах такой государственной
важности. Поэтому-то подготовка реформы,
которая происходила в это время под его
наблюдением, главным образом и сводилась
к собиранию материалов и сведений о про¬
ектах по крестьянскому делу, разрабаты¬
вавшихся в прошлое царствование; да,
кроме того, собирались те мнения и
рукописные записки, которые обращались
тогда в обществе. Надо помнить, что в силу
тогдашних цензурных условий всякая речь
о крепостном праве была печати строжайше
запрещена, и вплоть до конца 1857 г. на
изменение крепостного строя даже никаких
намеков не допускалось; так что когда К. С.
Аксаков позволил себе в газете «Молва»
намекнуть о предпочтительности вольного
труда подневольному, говоря об
американских невольниках, то князь П. А.
Вяземский, который стоял тогда во главе
цензурного ведомства в качестве товарища
министра народного просвещения,— сам
писатель, когда-то слывший большим либе¬
ралом,— тотчас же сделал Аксакову друже¬
ское внушение.
Но это не мешало свободному выра¬
жению своих мнений каждому мыслящему
человеку в различных рукописных записках
и проектах, нередко довольно объемистых и
весьма обстоятельных, которые ходили тогда
по рукам с легкой руки Погодина, пустивше¬
го в ход такого рода записки с начала войны.
Теперь я имею в виду главным образом те
записки, которые относились собственно к
крестьянской реформе. Под влиянием изу¬
чения предмета по этим запискам в
Министерстве внутренних дел создавалось
мало-помалу представление, что придется
избрать в этом деле один из трех следующих
исходов: j
или немедленно отменить крепостное |
право одним общим указом, без наделения I
крестьян землею;
205
или отменить крепостное право с сохра¬
нением за крестьянами их земельных наде¬
лов при помощи выкупа их путем
какой-либо общей финансовой операции,
так как сразу было ясно, что сами крестьяне
не могут заплатить единовременно
стоимости своих наделов и вообще убытков
помещикам, а помещики не согласятся рас¬
срочить эти платежи на долгие годы. Этот
путь требовал большой разработки, выяс¬
нения всех экономических обстоятельств,
но, конечно, теоретически был мыслим.
Министерство внутренних дел считало,
однако же, оба эти пути практически едва
ли осуществимыми и во всяком случае соп¬
ряженными с величайшими затруднениями
и опасностями для государства. Оно пред¬
ставляло себе, что безземельное освобож¬
дение крестьян грозит очень важными
последствиями с точки зрения спокойствия
страны; с другой стороны, ему представля¬
лось, что всякая финансовая мера, направ¬
ленная к выкупу крестьян с наделами при
участии в этом деле казны, непременно
грозит при тогдашнем печальном состоянии
наших финансов чуть не банкротством. Вы¬
платить помещикам сразу выкупную сумму,
равную миллиарду рублей или около того, а
затем взыскивать ее в виде рассроченных
платежей с крестьян правительство могло,
только заняв эту сумму на стороне. Между
тем фонды наши после Крымской войны
вследствие неумеренных выпусков бумаж¬
ных денег чрезвычайно упали, и потому
столь крупный заем представлялся тогда
решительно невозможным.
Затем оставался третий исход — в виде
; ряда постепенных подготовительных мер,
! которые переводили бы крестьян сперва в
положение временнообязанных на опреде¬
ленный или неопределенный срок, вроде
положения 1804 г. в остзейских губерниях,
или вроде того, какое провел Киселев в
Молдавии и Валахии, или вроде, наконец,
бибиковских инвентарных правил в Запад¬
ном крае. '
Министерству особенно улыбался этот
третий исход, потому что он вел к
! ликвидации крепостного права без всяких
\ затрат со стороны государства.
Однако, входя в круг вопросов, к разра¬
ботке которых было приступлено еще при
Николае, министерство должно было вы¬
яснить, кроме того, как они отзовутся на
разных губерниях. Уже тогда Левшин, вла¬
девший имениями в разных губерниях,
смутно предвидел, что если крестьяне будут
признаны лично свободными и перейдут на
положение временнообязанных, то те
помещики, которые значительную часть
своих оброков получали не от земли, а от
сторонних заработков крестьян, могут ока¬
заться в очень трудном положении, и что
обязанность крестьян отрабатывать опреде¬
ленную барщину и платить известные
оброки за землю отнюдь не вознаградит этих
помещиков за утрату возможности неог¬
раниченно эксплуатировать сторонние зара¬
ботки и промыслы своих крепостных.
Поэтому, предвидя такие затруднения в про¬
мышленных нечерноземных губерниях,
Левшин уже тогда намечал способы их
избегнуть или, по крайней мере, значитель¬
но смягчить. Министерство внутренних дел
и сам император Александр представляли
себе, что выкуп личности крестьян есть вещь
недопустимая, что заставлять крестьян
платить за личное освобождение невозмож¬
но, так как личность должна быть свободна
без всякого выкупа.
Поэтому Левшину представлялось, что
помещикам промышленных губерний надо
дать известную компенсацию в прикрытом
виде, и таким прикрытым способом ему
представлялось предоставление крестьянам
возможности или даже обязательства вы¬
купить их усадебную оседлость с тем, чтобы
/при этом в оценку крестьянских усадеб
могли быть включены «особые промысловые
выгоды», которые были будто бы соединены
с владением этими усадьбами. Под таким
предлогом можно было в оценку усадеб
включить, в сущности, вознаграждение за
потерю права неограниченной эксплуатации
личности крестьян. Поэтому-то Левшин с
самого начала вводил в свои предположения
вопрос об обязательном выкупе усадеб. Итак,
вот, собственно, к чему тогда сводились
первоначальные предположения Министер¬
ства внутренних дел.
Но император Александр ни на одном из
этих предположений не желал оста¬
навливаться; ему представлялось, что вооб¬
ще очень рискованно принять сверху одно
из этих предположений, не выжидая
инициативы самого дворянства. Он не хотел,
| начинать реформы, не получив соответству-
| ющего заявления со стороны самого дворян¬
ства. На возможность дворянской
инициативы он мог, казалось бы, до некото¬
рой степени надеяться, потому что ему было
небезызвестно то движение среди дворянства
черноземных губерний, которое
происходило еще при Николае на почве
206
назревавшего тогда сознания невыгодности
крепостного права в черноземных густонасе¬
ленных местностях. С другой стороны, он и
из обращавшихся записок видел, что в среде
дворян-помещиков есть какие-то элементы,
которые не прочь двинуть дело. И вот с
помещиками начались переговоры. Они
были приурочены ко времени коронации,
когда предводители дворянства съехались в
Москву.
Ланской, однако, в этих переговорах
потерпел сперва полное фиаско: ни в одной
губернии предводители дворянства, как
официальные его представители, не сог¬
ласились пойти на изъявление какой бы то
ни было инициативы; они говорили, что они
не знают видов правительства, а сами ничего
придумать не умеют,— на самом же деле
они опасались, что правительство ухватится
за их инициативу и затем может повести
дело совершено невыгодным для них путем,
не говоря о том, что в массе дворянства
ограничение крепостного права представля¬
лось мерою, чрезвычайно опасною во всех
отношениях13.
Это, однако, не мешало заявлениям
отдельных мнений со стороны отдельных,
прогрессивно настроенных представителей
дворянства, выражавшихся в ряде
различных записок, о которых я упоминал.
Самой видной из них была записка KfcJ
велина, одного из известных профессоров,
бывшего в то же время и помещиком Самар¬
ской губернии, человека, хорошо знавшего
экономический быт России, историка и
юриста, вообще человека очень компетент¬
ного и осведомленного, склонного притом к
довольно радикальной постановке крестьян-х
ского вопроса. Он стоял за вторую из тех
возможностей, которые я выше очертил; он
стоял за разрешение крестьянского вопроса
при помощи выкупа. Кавелин представлял
себе, что этот выкуп должен вообще покрыть
приблизительно те потери, которые
помещики будут испытывать от ликвидации
крепостных отношений, независимо от того,
произойдут ли эти потери от уступки части
земли крестьянам в собственность или от
лишения возможности эксплуатировать за¬
работки и промыслы крестьян. Он представ¬
лял себе, что если стать на другую точку
зрения, то явится неравномерное отношение
к интересам помещиков в различных гу¬
берниях. ^
В имениях чисто земледельческих
помещики могли бы удовлетвориться выку¬
пом за землю, а в имениях промышленных,
если бы в основание выкупа принята была
оценка одной земли, то помещики потерпели
бы большой убыток, потому что доходность
промышленных имений была больше, чем
доходность непромышленных, и продажная
цена их была выше, несмотря на плохое
качество земли. Поэтому лица, купившие
такие имения, потерпели бы большие убытки
и могли бы жаловаться на неравномерность
в соблюдении интересов помещиков
различных местностей. Поэтому Кавелин
предлагал выкуп, основанный не на оценке
земли, а на оценке покупной стоимости
тогдашних крепостных имений14.
Рядом с этой кавелинской запиской,
которая опиралась и на цифровые данные,
собранные, между прочим, Я. А. Соловье¬
вым для Смоленской губернии при кадастре
этой последней, были представлены и другие
записки. Одна из них принадлежала Юрию
Самарину, известному славянофилу, челове¬
ку, несомненно, искренне стоявшему за кре¬
стьянские интересы 5. Разделяя те опасения
в отношении положения наших финансов,
которые были у Левшина, Самарин ста¬
новился на точку зрения третьего исхода,
примыкая к тому положению, какое занимал
вопрос в николаевское царствование. Са¬
марин хотел, чтобы решительно был
ограничен прежде всего помещичий
произвол над крестьянами, в особенности
была бы до некоторой степени ограждена их
личность, и чтобы при этом за ними непре¬
менно была сохранена земля при помощи
обязательного вознаграждения помещиков в
ближайшем будущем или регулированными
барщинными работами, или определенными
оброками, применяясь к существующим на
местах хозяйственным условиям, Такой же
характер носила записка другого славя-
I нофила, князя Черкасского16. Кроме них в
правительственных кругах получила тогда
большое значение записка, доставленная
одним полтавским помещиком — Позеном,
который составил ее весьма хитро, вставил
в нее много либеральных фраз и даже упо¬
мянул о выкупе, хотя у него этот выкуп
сводился к простому добровольному согла¬
шению помещиков с крестьянами17. Он
представил эту записку непосредственно
Александру, причем был поддержан генера¬
лом Ростовцевым, на которого Позен
производил тогда большое впечатление
своими познаниями в финансовой и эко¬
номической сфере, а сам Ростовцев был
одним из довереннейших приближенных
императора Александра.
207
Также произвела большое впечатление
на Александра записка великой княгини
Елены Павловны, его тетки. Елена Павловна
была очень просвещенной женщиной и сто¬
яла за освобождение крестьян с землей.
Составила она записку при помощи Н. А.
Милютина, в сотрудничестве с Кавелиным.
Эта записка, собственно, являлась проектом
освобождения и устройства крестьян в боль¬
шом имении Елены Павловны, Карловке,
расположенном, как и имение Позена, в
Полтавской губернии18.
Великая княгиня Елена Павловна при
подаче записки государю заявила, что она
хотела бы иметь от правительства опреде¬
ленные указания, на каких началах надо
вести это дело, и испрашивала разрешения
на организацию совещаний с помещиками
соседних с нею имений. Император Алек¬
сандр ответил, что он ожидает инициативы
со стороны самого дворянства, а потому, не
давая никаких указаний великий княгине,
одобрил ее намерение организовать
правильные совещания с помещиками со¬
седних губерний. Вместе с тем для рассмот¬
рения этих записок -решено было образовать
Секретный комитет, в состав которого
вошли, главным образом, министры и са¬
новники предшествующего царствования.
Этот комитет образован был в январе
'1857 г.19.
В этом комитете безусловным сто¬
ронником крестьянской реформы был
министр внутренних дел Ланской. Затем, в
числе лиц, введенных в этот комитет, на¬
ходился также генерал Я. И. Ростовцев,
главный начальник военно-учебных заве¬
дений, который весьма сочувственно отнесся
к вдее крестьянской реформы. Ростовцев
был одним из близких Александру людей,
лично весьма ему преданный, но в кресть¬
янском деле был совершенно неопытен. По¬
этому вначале, когда на него, вместе с двумя
другими членами комитета — бар.
М. А.Корфом и кн. П. П. Гагариным,—
комитет возложил ознакомление со всеми
записками и проектами, обращавшимися в
обществе, он даже пытался от этого ук¬
лониться. С другой стороны, в общественном
мнении Ростовцев представлялся тогда
фигурой не особенно привлекательной: на
нем лежало пятно, которое заключалось в
том, что сохранилось предание, будто бы
Ростовцев явился доносчиком и предателем
в деле декабристов. Предание это рисовало,
однако, его участие в этих событиях в иска¬
женном ввде. В 1825 г. Ростовцев был еще
юным офицером <22 лет); он был лично
близок с влиятельными руководителями за¬
говора 14 декабря, Рылеевым и в особен¬
ности с кн. Оболенским, с которым жил на
одной квартире. Во время известного между¬
царствия 1825 г. до ушей Ростовцева, таким
образом, не только достигали случайно
отдельные фразы, обнаруживавшие наме¬
рения заговорщиков, но, по-видимому, Ры¬
леев и Оболенский сделали и прямую
попытку привлечь Ростовцева к своему делу.
Он же был человеком по своим взглядам
совершенно лояльным и не только не сочув¬
ствовал планам декабристов и вообще тай¬
ных обществ, но и не был расположен к
участию в революционных политических
предприятиях. Во всяком случае, он не толь¬
ко отказался наотрез принять участие в
тайном обществе, но стал даже уговаривать
Рылеева и Оболенского, чтобы и они отка¬
зались от своих планов, и, наконец, предуп¬
редил их, что если они не откажутся от этих
планов, то он сочтет своим долгом предуп¬
редить правительство о грозящей ему опас¬
ности. Видя, что конспирации
продолжаются, Ростовцев и исполнил свою
угрозу, явился к Николаю и сообщил ему,
что против него очень возбуждены, что что-то
готовится, и даже убеждал Николая или
отказаться от престола, или уговорить Кон¬
стантина, чтобы тот сам приехал и отрекся
цублично. При этом Ростовцев не назвал ни
одного имени и после свидания своего с
Николаем (10 декабря 1825 г.) сам сообщил
об этом немедленно Рылееву и Оболенскому.
Из этого уже видно, что того впечатления
гнусности и своекорыстных расчетов, кото¬
рое обыкновенно соединяемся с
политическим доносом, в этом деле не было,
и личность Ростовцева едва ли справедливо
клеймилась названием предателя и до¬
носчика. В настоящее время известно, что и
Рылеев, и Оболенский, знавшие вполне ход
этого дела, сохранили к Ростовцеву ува¬
жение и после визита Ростовцева к Нико¬
лаю, и когда Оболенский вернулся из
ссылки, то он не отказался возобновить дру¬
жеские отношения с Ростовцевым. Но в то
время все это не было точно известно и
ложилось на личность Ростовцева большим
пятном, а Герцен систематически преследо¬
вал его в «Колоколе» до самой его смерти20.
Настоящая роль Ростовцева в крестьян¬
ской реформе, собственно, началась позд¬
нее; его участие в делах Секретного комитета
в это время не было еще так велико и
решительно, как потом.
208
Остальные члены Секретного комитета
или относились к делу более или менее
равнодушно и формально, или втайне ему не
сочувствовали. Тем не менее никто из них
не решался отрицать в своих ответах на
прямо поставленный Александром вопрос,
что дело назрело и что необходимо хотя бы
некоторое ограничение помещичьего
произвола и изменение существующего
положения вещей. Но все-таки настроение
большинства было таково, что работа пошла
чрезвычайно медленно. Единственным
двигателем работы в это время было
Министерство внутренних дел, которое име-*
ло во главе лицо, сочувствовавшее реформе,
и имело средства ее подготовить, так как в
его руках был целый ряд собранных ма¬
териалов, проектов и соображений.
Летом 1857 г. представлен был
Министерством внутренних дел уже доволь¬
но определенный план реформы, составлен¬
ный Левшиным, который заключался в том,
чтобы объявить крестьян через некоторый
срок лично свободными, но крепкими земле,
сохранив за ними на определенное или не¬
определенное время обязанность исполнения
повинностей за отведенные им наделы с
обязательством выкупить в собственность
усадебную оседлость, причем помещикам
нечерноземных губерний предоставлялось
бы в оценку усадеб ввести так называемые
промысловые выгоды.
Так как движение дела в самом комитете
происходило медленно, то император Алек¬
сандр, недовольный комитетом, во главе ко-,
торого стоял кн. Орлов, несочувственно!
относившийся к делу реформы, ввел в его
состав брата своего, великого князя Кон-(
стантина Николаевича, от чего он ожидал
большого ускорения дела, так как Кон¬
стантин обнаруживал большое сочувствие
делу реформ. И действительно, он внес боль¬
шое оживление в общий ход дела, но по
своей неопытности был склонен пойти тогда
на многие компромиссы, вредные для инте¬
ресов крестьян, лишь бы ускорить дело.
Между прочим, он предлагал ввести в ве¬
дение всего дела известную гласность,
публично объявить о намерениях правитель¬
ства хотя бы в общих чертах. 18 августа
состоялось решительное заседание Секрет¬
ного комитета, где обсуждался проект Кон¬
стантина Николаевича. Константин
Николаевич доказывал, что гласность успо¬
коит крестьян и даст возможность обществу
принять более деятельное участие в разра¬
ботке подробностей реформы. Однако
комитет это предложение безусловно отверг;
решено было, что никакого оглашения видов
правительства не должно быть, что дело
реформы надо вести постепенно и продуман¬
но, разделив его на периоды, причем в пер¬
вый период, срок которого даже не
определялся, предполагалось собирать раз¬
ные сведения, записки и т. п. По мнению
лиц осведомленных, например Левшина, де¬
ло клонилось к тому, чтобы реформу затя¬
нуть, в надежде, что мысль о ней, наконец*
уснет.
Но вскоре после этого решения Секрет¬
ного комитета правительству удалось, нако¬
нец, найти ту долгожданную и желанную
инициативу со стороны дворянства, которой
оно не переставало искать. Удалось это в
трех литовских губерниях, где дворянство
чувствовало себя под дамокловым мечом с
тех пор, как у них было отсрочено еще в 1853
г. введение инвентарей, вопрос о которых
теперь опять был поднят в Министерстве
внутренних дел.
Литовское дворянство признавало вве¬
дение этих инвентарей, чрезвычайно
ограничивавших произвол помещиков в их
хозяйственных действиях, весьма для себя
невыгодным, и сам Александр, в бытность
еще наследником, помог литовским
помещикам от них избавиться, настоять на
том, чтобы проект Бибикова был отложен и
чтобы эти правила были еще пересмотрены.
На этой почве виленским генерал-губер-
натором Назимовым было произведено дав¬
ление на дворянство литовских губерний в
форме предложения им обсудить, в каком
виде они предполагают ввести у себя инвен¬
тарные правила. В ответ на это предложение
литовское дворянство представило, что оно
лучше желало бы поднять общий вопрос об \
уничтожении крепостного права при ус- \
ловии сохранения за помещиками прав соб- /
ственности на всю землю. Когда Назимов )
явился в Петербург с этим ходатайством, то
оно вызвало в Секретном комитете большие
споры, которые затянулись на три недели.
Тоща Александр потерял, наконец, терпение
и приказал Ланскому, по соглашению с
министром государственных имуществ Му¬
равьевым (который не был расположен к
реформе, но не решился в этот момент
противодействовать воле государя), в не¬
сколько дней составить проект ответного
рескрипта Назимову. И действительно, че¬
рез несколько дней, 20 ноября 1857 г., Алек-)
сандр подписал этот рескрипт — рескрипт,
которому суждено было произвести большое
209
впечатление и сыграть огромную роль в ходе
всего дела. Правительство предложило в 3
литовских губерниях образовать губернские
комитеты из выборных от дворянства, по
одному человеку от каждого уезда, под пред¬
седательством губернских предводителей, с
тем чтобы комитеты обсудили способы осво¬
бождения крестьян от крепостного права. Но
при этом правительство признало необ¬
ходимым преподавать основные положения,
на которых должна была быть произведена
реформа и которые, в сущности, отнюдь не
соответствовали видам литовских дворян21.
Именно дворянству было указано, что
хотя земля должна и впредь считаться соб¬
ственностью помещиков, но, во-первых, из
этой земли крестьянам должно быть предо¬
ставлено право выкупа усадебной оседлости
в определенный срок, и, независимо от этого,
помещики обязывались отвести крестьянам
все прочие необходимые крестьянам угодья
так, чтобы они обеспечивали потребности
крестьян и отбытие их повинностей, а за это
на крестьян возлагалось бы обязательство
или выполнять барщину на господских
полях в определенных размерах, или
платить оброк.
При этом было присовокуплено, что на
все время этого переходного положения за
помещиками должна быть сохранена
вотчинная полиция. Крестьяне должны были
устраиваться в виде отдельных сельских и
волостных обществ. Комитетам предписыва¬
лось также озаботиться, чтобы правильное
отбывание казенных повинностей и сборов
было при этом вполне обеспечено.
ЛЕКЦИЯ XXI
Отношение дворянства к правительственной программе реформы.— Различие помещичьих интересов в
губерниях земледельческих черноземных и северных промышленных.— Отношение интеллигенции:
статьи Чернышевского и Герцена; банкет в Москве.— Адрес нижегородского дворянства и заминка в
Москве.— Адресы прочих губерний.— Открытие и работа |убернских комитетов.— Точка зрения А.М.
Унковского и Тверского комитета.— Утвержденная (позеновская) программа занятий.— Отношение
печати.— Эволюция взглядов Я.И. Ростовцева.— Открытие земского отдела.— Н.А. Милютин.— Пе¬
ресмотр правительственной программы в Главном комитете и открытие редакционных комиссий.— Со¬
став редакционных комиссий и ход работ в них.— Программа, данная Ростовцевым.— Депутаты
губернских комитетов первого приглашения.— Адресы и настроение дворянства.— Смерть Ростовцева.—
В.Н. Панин. — Депутаты второго приглашения.— Внутренняя борьба в редакционных комиссиях.—
Итоги
В предыдущей лекции изложены те
основания, на которых предложено было
приступить к реформе. Для дальнейшего
хода реформы имели чрезвычайную важ¬
ность не только самые эти основания, отвер¬
гавшие во всяком случае безземельное
освобождение крестьян, но и то обстоятель¬
ство в особенности, что через несколько дней
рескрипт этот разослан был всем губернато¬
рам и губернским предводителям дворянства
на предмет, не пожелают ли дворяне осталь¬
ных губерний со своей стороны принять
аналогичные меры к устройству своих кре¬
стьян. Затем правительство решилось прямо
опубликовать этот рескрипт. Произошло это
не без борьбы. Когда было решено разослать
рескрипт губернаторам, то члены Секретно¬
го комитета спохватились, и председатель
его кн. Орлов убедил было Александра
приостановить рассылку рескрипта. Однако
оказалось, что благодаря энергичным
действиям Министерства внутренних дел
приказ разослать уже был исполнен. Когда
их работ.
это произошло, то решено было уже прямо
напечатать этот рескрипт во всеобщее све¬
дение1.
/ Опубликование рескрипта явилось со¬
бытием величайшей важности; правительст¬
во теперь не могло уже, если бы и пожелало,
повернуть дело назад без риска возбудить
большие волнения. С другой стороны, раз
крестьянам становилось известно о таком
предложении правительства помещикам, то
присоединение каждой губернии к этим
работам стало только вопросом времени, так
как помещики понимали, что им нельзя не
торопиться подавать свои адреса о желании
устройства губернских комитетов под опа¬
сением тех же волнений крестьян.
Некоторое замедление в представлении
таких адресов произошло, однако же, в
большинстве губерний благодаря тому, что
самые основания, преподанные правитель¬
ством, являлись неудобными для помещиков
почти всех губерний. Тут сказалась прежде
всего огромная разница в экономических
210
условиях, которые существовали между
различными губерниями. Хотя правительст¬
во (собственно Левшин) сознавало, как мы
видели, эту разницу, но не достаточно ее
оценивало. Ланской, разослав рескрипт в
копиях, тотчас же запросил местные началь¬
ства, как дворянство разных губерний отнес¬
лось к этому делу, и вскоре получились
ответы, что почти повсеместно содержание
рескрипта ьозбудило серьезную критику.
Все почти признавали своевременность и
неизбежность реформы, но не было гу¬
бернии, где бы дворянство вполне сочувст¬
вовало содержанию рескрипта,— той
правительственной программе, которая в
нем была выражена2. При этом легко сказа¬
лась разница в положении губерний черно¬
земных, чисто земледельческих, с одной
стороны, и губерний нечерноземных, про¬
мышленных, с другой стороны. В первых все
помещичье хозяйство было основано, как я
уже говорил, на доходности земли и земель¬
ных заработков и промыслов крестьян; здесь
была особенно распространена барщина;
помещик имел свою собственную запашку;
обрабатываемая земля в имениях делилась
на две почти равные половины: одна обраба¬
тывалась самим помещиком, другая отдава¬
лась в пользование крестьян, причем на
первой крестьяне отбывали барщину. В
большей части этих губерний никаких про¬
мыслов неземледельческих не было. В
наиболее плотно населенных черноземных
губерниях — Тульской, Курской, Рязанской
и др.— к тому времени даже, как мы видели,
уже в 40-х годах) оказалось довольно много
лишних ртов и рук, и дело дошло до того,
что во многих местностях, например, Туль¬
ской губернии, продавались земли ненасе¬
ленные дороже, чем населенные, что
показывало, насколько крепостное насе¬
ление представляло обузу при высокой цен¬
ности самой земли.
Поэтому, разумеется, в этих местностях
помещикам казалось невыгодным освобож¬
дение крестьян с землей и представлялось
желательнее освобождение хотя бы и безвоз¬
мездное, но без земли, при сохранении
наиболее ценной части имения — земли —
в своих руках3.
Напротив, в губерниях северных, нечер¬
ноземных, положение было совершенно
иное; там помещики обыкновенно не жили в
своих имениях, да и сами крестьяне обык¬
новенно мало занимались землей, а уп¬
лачивали помещику оброк со своих
заработков неземледельческих, т. е. с тор¬
говли и самых разнообразных промыслов,
местных и отхожих. Ведь и теперь мы видим,
например, что на один миллион населения
Петербурга по переписи 1897 г. около ста
тысяч принадлежало к приписному насе¬
лению Ярославской губернии, около ста
тысяч — к уроженцам Тверской губернии и
т.д. Это показывает, насколько население
этих губерний постоянно занимается не зем¬
лей, а различными городскими промыслами,
торговыми и ремесленными. В Петербурге и
Москве очень многие крестьяне и в крепост¬
ное время развивали весьма доходные про¬
мыслы; затем, многие занимались на
проезжих трактах и речных пристанях со¬
держанием постоялых дворов, что в то время
было весьма выгодно при отсутствии желез-*-
ных дорог и постоянной езде обозов.
Итак, здесь доходы основывались не на
земле и не на земледельческих промыслах.
Поэтому, с точки зрения помещиков таких
губерний, представлялось очень желатель¬
ным освобождение крестьян, хотя бы и со
значительными земельными наделами, но с
тем, чтобы выкуп при этом покрывал утрату
доходов помещиков от получавшихся ими
высоких оброков. Эта позиция была, как вы
видите, совершенно отличной от позиции
помещиков черноземных губерний, и здесь
помещики отстаивали еще больше, нежели
там, необходимость изменения программы
рескрипта.4
В конце концов, для помещиков черно¬
земных губерний скорее возможно, как им
казалось, было столковаться с правительст¬
вом, исходя из той программы, которая да¬
валась рескриптами, так как эта программа
давалась лишь на переходное время и вопрос
сводился лишь к тому, чтобы решить, каков
же будет исход из этого временного поло¬
жения, которое могло быть ограничено не¬
большим числом лет, с тем чтобы по
истечении этого периода вся земля возвра¬
щалась в полное распоряжение помещиков
и крестьяне превратились в свободных, но
безземельных пролетариев. Некоторые из
помещиков этих губерний соглашались даже
на то, чтобы крестьяне выкупали усадебную
оседлось, так как это приковывало бы их к
данной местности на будущее время и обес¬
печивало бы помещикам необходимый
контингент дешевых рабочих рук.
Из такой разницы в положении тех и
других губерний создалась и разница двух
наиболее распространенных идеологий в
среде тогдашнего дворянства, одна из кото¬
рых принадлежала наиболее сознательным
211
и прогрессивным помещикам нечернозем¬
ных губерний, а другая — наиболее созна¬
тельным и прогрессивным помещикам
черноземных губерний. Первые стремились
свести дело к быстрой и полной ликвидации
крепостного права, но на основании доста¬
точно высокой оценки стоимости их утрат;
вторые готовы были допустить даже безвоз¬
мездное уничтожение крепостного права, но
при условии сохранения в своем распоря¬
жении всей земли.
Дворянство нечерноземных губерний
становилось, таким образом, на такую
позицию, которая в тот момент представля¬
лась, с точки зрения даже таких располо¬
женных к реформе людей, как Ланской и
Левшин, очень опасной, так как она могла,
по их мнению, поколебать финансовое поло¬
жение страны.
В момент опубликования рескриптов
у передовая интеллигенция страны отнеслась
к этому факту чрезвычайно восторженно.
Это настроение усиливалось тем, что
правительство после опубликования первых
рескриптов предоставило печати право
обсуждать их содержание. И вот в тог¬
дашних передовых журналах, даже в таком
представителе будущего радикализма, как
•«Современник», и в свободном заграничном
•«Колоколе» Герцена появились задушевные
приветственные статьи Александру. Черны¬
шевский, прославляя его подвиг, ставил его
выше Петра Великого, а Герцен посвятил
ему вдохновенную статью с эпиграфом: «Ты
победил, Галилеянин». В то же время пред¬
ставители тогдашней профессуры, литерату¬
ры и высшей интеллигенции обеих столиц
устроили в Москве совершенно по тогдашне*
му времени необычное торжество — общест¬
венный банкет, где произносились речи,
весьма сочувственные Александру, и кото¬
рый окончился горячей овацией перед порт¬
ретом государя. Конечно, этот вполне
лояльный банкет очень не понравился тог¬
дашнему московскому генерал-губернатору
Закревскому и другим крепостникам, но они
не могли уже повернуть назад начавшееся
великое дело.
Тем не менее, несмотря на общественное
сочувствие, программа рескрипта 20 ноября,
неудобная для многих губерний, замедлила,
как я уже сказал, открытие губернских
комитетов. Правительство поспешило
открыть губернский комитет в Петербург¬
ской губернии, сославшись на то, что здесь
дворяне еще раньше возбудили вопрос об
устройстве быта своих крестьян5.
Действительно, они возбуждали этот вопрос
еще при Николае, потом в начале царство¬
вания Александра, но без намерения
отменить крепостное право, а с желанием
лишь преобразовать его на началах феодаль-
но-эмфитевтических (т.е. на началах
приписки крестьян к помещичьим имениям
с правом обязательного вечно наследствен¬
ного пользования определенными землями);
однако рескриптом 5 декабря 1857 г. на имя
петербургского генерал-губернатора Игнать¬
ева был открыт в Петербургской губернии
комитет на тех же основаниях, как и в
литовских губерниях.
Первым дворянством, которое подало ад¬
рес об открытии комитета по примеру
литовских, было нижегородское. В Нижнем
Новгороде губернатором был А.Н. Муравьев,
тот самый, который был основателем «Союза
спасения» в 1817 г., и ему удалось воспла¬
менить дворян к тому, чтобы именно Нижне¬
му Новгороду, с которым связывались
патриотические традиции еще со Смутного
времени, традиции Козьмы Минина-Сухору-
кого, первому присоединиться к осво¬
бодительным видам правительства.
Муравьеву удалось собрать достаточное
количество подписей во время дворянского
собрания и отправить в Петербург депу¬
тацию из дворян с просьбой открыть гу¬
бернский комитет. Против этого, однако,
быстро создалось и противное течение, и,
едва уехала депутация, не сочувствовавшие
ей послали контрдепутацию. Но правитель¬
ство торопилось ковать железо пока горячо,
и до появления этой последней в Петербурге
уже 24 декабря 1857 г. был дан рескрипт
Муравьеву в ответ на адрес нижегородского
дворянства6. Очень долго сравнительно затя¬
нулось дело в Москве, и это объяснялось тем,
что Московская губерния была как раз одной
из промышленных нечерноземных; лишь
когда московскому дворянству было свыше
замечено, что правительство ждет
инициативы от первопрестольной столицы,
то и оно подало адрес об открытии комитета,
однако указав при этом на желательность
изменений в программе работ соответствен¬
но местным особенностям Московской гу¬
бернии. Добиться изменений ему не удалось,
правительство настояло на своей программе,
и в Москве был открыт губернский комитет
на одинаковых с остальными основаниях7.
После этого стали присоединяться и другие
губернии, так что к концу 1858 г. не было
ни одной губернии, где бы не было открыто
губернского дворянского комитета по кресть¬
212
янскому делу. Работа этих губернских
комитетов и составила первое крупное звено
в ходе разработки крестьянской реформы,
давшей в конце концов положительные
результаты8.
В состав губернских комитетов дворян¬
ство каждого уезда выбирало по два члена,
и сверх того правительство назначало в каж¬
дый комитет для защиты крестьянских интеу
ресов по два члена из числа местных
помещиков, известных своим сочувствен¬
ным отношением к освобождению крестьян.
В большей части губернских комитетов
тотчас же по их открытии прежде всего
явились различные попытки так или иначе
внести то или другое изменение, хотя бы при
помощи распространительного толкования,
в программу, которая преподана была
рескриптами. Зависело это от. того, как я уже
говорил, что программа эта не соответство¬
вала экономическим условиям, существо¬
вавшим в различных губерниях, и не
удовлетворила вполне ни одного губернского
комитета.
Всего ярче высказался против програм¬
мы с точки зрения прогрессивных
помещиков промышленных нечерноземных
губерний Тверской губернский комитет.
Председателем Тверского комитета был, как
и в других комитетах, губернский пред¬
водитель дворянства, которым в то время был
только что избран А.М. Унковский. Это был
человек тогдашнего молодого поколения, со¬
чувствовавший искренно освобождению
крестьян и в то же время умевший остроумно
комбинировать эмансипационные планы с
местными помещичьими интересами. Как
представитель дворянства, он считал себя
обязанным добиться того, чтобы дворянство
Тверской губернии не было поставленро при
освобождении крестьян в худшие условия,
нежели дворянство других губерний. В то же
время он признавал себя вправе желать,
чтобы период преобразований не кончился
бы только крестьянской реформой: он думал,
что должен быть переустроен весь русский
быт и облегчено положение всего русского
народа и общества.
В записке, присланной министру внут¬
ренних дел еще до открытия комитета, он
доказывал, стоя на точке зрения прог¬
рессивных помещиков промышленных гу¬
берний, что паллиативы, указанные в
рескриптах, и особенно постепенность уп¬
разднения крепостного права и переходное
«срочнообязанное положение» совсем не
разрешают вопроса, что и крестьяне не
помирятся с такой половинчатой свободой,
и помещики разорятся и что, наконец, даже
и исправное поступление податей, при
отсутствии собственной земли у кресть¬
янина и права свободного распоряжения
собственностью у помещика, не может быть
ничем обеспечено. Единственным верным
средством освободить крестьян «не словом,
а делом», не постепенно, а разом, единовре¬
менно и повсеместно, не нарушив ничьих
интересов, не порождая ни с какой стороны
неудовольствий и не рискуя будущим
России, Унковский считал выкуп крепост¬
ного права, т.е. личности крестьян, с пол¬
ным земельным наделом. При этом он
требовал, чтобы операция эта совершена
была с содействием правительства, чтобы
помещики разом получили всю выкупную
сумму, хоть в виде облигаций, приносящих
определенный доход и реализуемых на де¬
нежном рынке. Вместе с тем он оговаривал¬
ся, что лишь уплата стоимости земли должна**
быть произведена самими крестьянами в
виде рассроченных платежей, а та часть
вознаграждения, которая будет причитаться
за утрату права распоряжения рабочей
силой крестьян, должна быть выплачена не
крестьянами, а государством при участии
всех сословий, так как крепостное право и
установлено было в свое время и отменяется
теперь во имя государственных нужд и со¬
ображений. Свою точку зрения Унковский
сумел внушить многим помещикам Твер¬
ской и некоторых соседних губерний, и
когда начались работы Тверского комитета,
то в нем большинством голосов принят был
план работы, согласный с изложенными
♦взглядами, но противоречивший, конечно,
буквальному смыслу рескриптов и сопро¬
водительных наставлений министра9.
Между тем правительство, вначале
имевшее в виду предоставить губернским
комитетам полную свободу внутреннем
организации их работ и выработки местных
положений в рамках рескриптов, услыхав о
несогласиях и недоразумениях, которые
возникают среди дворянства разных гу¬
берний при толковании смысла рескриптов,
решило дать определенную программу за- |
нятий губернских комитетов и точно уста • I
новленную форму для вырабатываемых ими /
проектов положений. Дело это попало в руки'
ловкого человека, помещика хлебородной и ,
относительно густонаселенной Полтавской
губернии, М.П. Позена, который в то время,
выдавая себя за либерала, пользовался пол¬
ным доверием Ростовцева. Позен выработал
213
программу, которая должна была оконча¬
тельно поставить точки над i и ввести работы
губернских комитетов в очень определенные
рамки. Исходя при этом из интересов
помещиков хлебородных черноземных гу¬
берний, Позен стремился незаметно про¬
вести мысль, что вырабатываемые
положения должны иметь в виду лишь пере¬
ходный «срочнообязанный» период, что
только на это время крестьянам должны быть
определены наделы, которые затем должны
вернуться в полное распоряжение
помещиков, а крестьяне должны получить
полную свободу, но без земли, причем и
выкуп усадеб не ставился в связь с прекра¬
щением «срочнообязанных» отношений, а за
помещиками во всяком случае оставлялась
сильная вотчинная власть в их имениях.
Первоначально большинство Тверского
комитета, согласно с Унковским, думало
обойти эту программу, признав, что под
усадьбой, подлежащей выкупу на основании
рескриптов, следует разуметь весь земель¬
ный надел. Но меньшинство, опираясь на
букву рескриптов и псЬеновской программы,
протестовало против такого распрост¬
ранительного толкования рескриптов, и
Министерство внутренних,дел должно было
признать взгляд меньшинства формально
правильным. Тогда большинство комитета
командировало в Петербург депутацию из 4
членов с Унковским во главе к Ланскому и
Ростовцеву, которым эта депутация
решительно заявила, что если правительство
желает иметь проект ликвидации крепост¬
ных отношений от тверского дворянства, то
такой проект может быть выработан только
на основаниях наделения крестьян землей в^
собственность и полного упразднения крепо¬
стных отношений с вознаграждением
помещиков за материальный ущерб при
помощи выкупа. Если же это не будет дозво¬
лено, то комитет разойдется, а правительство
пусть поручит дело составления положений
чиновникам, которые напишут все, что им
прикажут. Это решительное заявление Твер¬
ского комитета последовало в октябре 1858
г., когда и Ланской и Ростовцев уже
значительно поколебались в своих взглядах
на необходимость «срочнообязанного» поло¬
жения и невозможность выкупа10.
Здесь следует сказать, что на точке
зрения выкупа как единственного
правильного разрешения вопроса стоял не
только Тверской комитет и некоторые другие
губернские комитеты нечерноземной поло¬
сы, но и значительная часть прогрессивной
печати. Так, «Современник», как только
оказалась возможность высказаться по кре¬
стьянскому вопросу, поспешил напечатать
статью Чернышевского, во второй части ко¬
торой был приведен in extenso проект Ка¬
велина и которая, в общем, стояла на той же
точке зрения, что и Тверской комитет. Точно
так же и «Русский вестник» Каткова
объявил, что он единственным правильным
разрешением вопроса считает выкуп, так
как освободить крестьян без земли невоз¬
можно, освободить же с землей можно только
при помощи выкупа, потому что крестьяне
путем вольной покупки приобрести землю не
смогут,, так как не смогут заплатить за нее
разом, помещики же не могут соглашаться
на долговременную рассрочку. На ту же
точку зрения стал сразу и «Колокол» Герце¬
на, в котором помещал все время большие
статьи по крестьянскому вопросу
ближайший друг Герцена Огарев11.
Ростовцев летом 1858 г., отдыхая за
границей и внимательно читая различные
проекты освобождения кростьян, в том числе
и заграничные, между которыми были сос¬
тавленные деловыми людьми — банкирами
(проект Френкеля и Гомберга),— все более
и более убеждался в том, что переходное
«срочнообязанное» положение само по себе
не только не устраняет различных опасно¬
стей и тяжелых недоразумений, но даже
необходимо их обусловливает. Еще и раньше
он смутно предчувствовал, что и крестьяне
в этот переходный период, объявленные
лично свободными, но обязанные в то же
время отбывать барщину и оброки
помещикам, не легко будут подчиняться тре¬
бованиям помещиков и не поймут смысла
изданных положений. Поэтому он про¬
ектировал вместе с государственным секре¬
тарем Бутковым в начале 1858 г. ввести на
это переходное время ряд чрезвычайных
полицейских мер, в виде облеченных особою
властью уездных начальников и временных
генерал-губернаторов. Но эти проекты под¬
верглись сильной критике со стороны
Министерства внутренних дел и многих ча¬
стных лиц, доказывавших, что это будет не
«срочнообязанное», а настоящее «осадное»
положение, которое сделает жизнь в
провинции невыносимой. И Ростовцев понял
основательность этих возражений и отказал¬
ся от своих проектов, несмотря на
энергичную поддержку, которую оказывал
им сам император Александр, в особенности
недовольный резкой критикой их со стороны
Министерства внутренних дел в записке,
214
представленной ему Ланским и составлен¬
ной калужским губернатором Арцимовичем,
но долго приписывавшейся Милютину.
Вникая во время заграничного своего
отдыха глубже в сущность задачи и яснее
представляя себе возможные формы ее раз¬
решения, Ростовцев излагал свои новые
мысли и соображения императору в частных
письмах из Вильдбада и Дрездена, причем
в четвертом (последнем) из этих писем он
уже признавал, что чем больше сократить
переходное «срочнообязанное» положение,
тем для спокойствия страны лучше, что для
того, чтобы при этом на месте не нарушался
порядок и ни на минуту не колебалась
сильная власть, нужно власть эту сосредо¬
точить в крестьянском мире и его избран¬
ных, предоставив помещику иметь дело не с
отдельными крестьянами, а только с миром.
Вместе с тем в этом четвертом письме
Ростовцев вполне уже усвоил идею выкупа
как общей финансовой меры; он не допускал
только обязательности этой меры для обеих
сторон и считал, что выкупные сделки при
содействии правительства должны заклю¬
чаться по добровольным соглашениям между
ними12. — '
В то же время и в Министерстве внут-| у
ренних дел мысль о возможности и осу¬
ществимости выкупной операции деятельно
начала проводиться Н.А. Милютиным и
Я Л. Соловьевым, которые получили непос¬
редственное влияние на направление работ
по крестьянской реформе, с образованием в
составе министерства особого земского
отдела, в котором сосредоточились все под¬
готовительные работы про крестьянскому де¬
лу. Земский отдел открыт был 4 марта 1858
г. под председательством товарища
министра А.И. Левшина; Я.А. Соловьев на¬
значен был непременным членом отдела,
заведовавшим его делами, Н.А. Милютин
состоял членом отдела в качестве директора
хозяйственного департамента. Роль
Левшина с изданием рескрипта оказалась
уже сыгранной; он не сочувствовал быстрым
и энергичным распоряжениям по делу кре¬
стьянской реформы, а издание и в особен¬
ности опубликование рескриптов считал
опасным для государства «salto mortale»13. В
земском отделе как раз в это время началась
лихорадочная работа, и Левшин уступил
здесь центральное место более молодым и
способным деятелям Соловьеву и Милютину,
из которых последний вскоре сменил его и
на посту товарища министра.
Соловьев был превосходным работником
по подготовке и разработке необходимых для
реформы материалов. Роль Милютина была
еще ответственнее и важнее. Ростовцев впос¬
ледствии выразился как-то, что Милютин
был нимфой Эгерией редакционных
комиссий. Ту же роль нимфы Эгерии играл
он и в Министерстве внутренних дел. В это
министерство он вступил еще в 1835 г. не¬
опытным и малоподготовленным к жизни
юношей 17 лет, тотчас по окончании курса
в Московском университетском «благород¬
ном» пансионе. Может быть, в
министерских канцеляриях на него обра¬
щали несколько больше внимания, чем на
остальных мелких чиновников, потому что
он был по матери родным племянником
министра государственных имуществ гр.
Киселева, но, несомненно, больше всего ему
помогли выдвинуться его выдающиеся даро¬
вания, которые обнаружились с первых же
лет его службы. При гр. Перовском, состоя
в должности начальника отделения хозяйст¬
венного департамента и не имея от роду
тридцати лет, он был уже заметной фигурой
в министерстве, и предпринятое в 40-х
годах по его инициативе исследование город¬
ского хозяйства в разных городах
Российской империи — дело, к которому он
сумел привлечь в то время таких пред¬
ставителей своего поколения, как Юрий Са¬
марин и Иван Аксаков,— привело в 1846 г.
к реформе Петербургского общественного
управления на тех же приблизительно нача¬
лах, на которых впоследствии построена
была городовая реформа 1870 г.
В 1856—1857 гг., пользуясь старым
знакомством и дружбой с Ю.Ф. Самариным
и более новым — с К.Д. Кавелиным,
Милютин в общении с ними основательно
приготовился к участию в крестьянской
реформе, познакомившись в то же время и
со старыми архивными материалами. Уже в
том же 1857 г. он имел несколько случаев
проводить свои взгляды на это дело в беседах
с Ланским, с которым он был в частых
сношениях по должности директора хозяй¬
ственного департамента. С другой стороны,
он же инспирировал в это время, как уже
было указано, великую княгиню Елену Пав¬
ловну и вел. кн. Константина Николаевича,
проводя и здесь, с одной стороны, мысль о
необходимости корённой и радикальной
реформы в виде освобождения крестьян с
достаточным земельным наделом, а с другой
стороны, указывая и способы, как восполь¬
зоваться в этом деле дворянской
215
инициативой и в то же время не дать воле
дворянства слишком большой роли в ходе
всего дела, чтобы обострившиеся дворянские
интересы и аппетиты не парализовали бла¬
гого значения предпринятой реформы для
народных масс. Эта деятельность Милютина
была скоро замечена придворными кре¬
постниками и реакционерами, и они по¬
спешили скомпрометировать его имя в
глазах государя, приписывая ему радикаль¬
ные политические воззрения и даже рево¬
люционные намерения, и в этом они успели
в значительной мере. Милютину, благодаря
этим интригам, едва не пришлось выйти в
отставку в 1857 г., и только решительная
защита его Ланским, поддержанным в Сове¬
те министров кн. Горчаковым (министром
иностранных дел), а вне совета — вел. кн.
Еленой Павловной, устранила на этот раз
удаление его от дел. Несмотря, однако же,
на все усилия придворных недоброжелате¬
лей Милютина, успевших восстановить
против него государя, им не удалось поме¬
шать в начале 1859 г., после удаления в
отставку Левшина, назначению Милютина
на пост товарища министра, хотя и со
званием лишь «временно исправляющего»
эту должность, что, впрочем, не помешало
Милютину исправлять ее вплоть до издания
положений 19 февраля 1861 г.14
Здесь следует заметить, что во взглядах
на крестьянскую реформу Милютин разде¬
лял точку зрения Самарина, которую этот
последний подробно обосновал в статьях
своих, напечатанных в «Сельском благоуст¬
ройстве»15. Оба они понимали пред¬
почтительность радикального решения
вопроса при помощи обязательного выкупа,
при условии, конечно, освобождения кресть¬
ян с теми приблизительно наделами, кото¬
рыми они пользовались при крепостном
.праве, но сознавали и те опасности и труд¬
ности, которые сопряжены с таким исходом
дела для государственной казны, истощен¬
ной последней войной и находившейся в то
время в слабых и неискусных руках таких
министров, как Брок, а затем Княжевич16.
Во всяком случае, самой важной стороной
реформы Милютин, вместе с Самариным,
признавал освобождение крестьян с доста¬
точным земельным наделом и очень недо¬
верчиво относился к планам и видам
большинства дворянских губернских
комитетов. Тем не менее в требованиях прог¬
рессивного большинства Тверского губерн¬
ского комитета он не мог не видеть
стремления найти добросовестное и
радикальное решение вопроса с соблю¬
дением выгод я интересов не только
помещиков, но и крестьян.
В конце концов и Ланской, и Ростовыцев
признали необходимым предоставить Твер¬
скому комитету довести свой план до конца,
и ему было разрешено сверх проекта, осно¬
ванного на позеновской программе и имев¬
шего в виду устройство крестьян в
переходном «срочнообязанном» периоде,
выработать и особый выкупной проект,
имевший в виду немедленное и единовремен¬
ное полное освобождение крестьян с землей.
Вскоре такое же , разрешение дано было Ка¬
лужскому комитету и еще 15 другим, не
успевшим к тому времени окончить своих
работ17.
Вместе с тем Ростовцев внес в Главный
комитет по высочайшему повелению извле¬
чение из своих заграничных писем к импе¬
ратору Александру, и это извлечение
обсуждалось в нескольких заседаниях, жур¬
налы которых были утверждены государем
26 октября и 4 декабря 1858 г.18
В этих постановлениях сделаны были
чрезвычайно важные поправки и дополнения
в первоначальной правительственной прог¬
рамме, имевшие огромное значение для пос¬
ледующего хода разработки крестьянской
реформы. Впрочем, на направлении работ
губернских комитетов эти изменения
правительственной программы не могли
отразиться, потому что комитеты к этому
времени уже заканчивали свои работы; зато
они отразились весьма существенно с самого
начала- на направлении работ того учреж¬
дения, которое образовано было под на¬
званием «редакционных комиссий» при
Главном комитете для разработки и сводки
проектов губернских комитетов и для про¬
ектирования затем положений, как общих
для всей России, так и местных — для
различных полос или областей ее19.
Эти комиссии были образованы в марте
1859 г. под председательством, или, как
сказано было в высочайшем повелении, «под
начальством», генерала Ростовцева из пред¬
ставителей разных ведомств, соприка¬
савшихся с крестьянским делом и
кодификационными работами, а также из
«членов-экспертов» — в лице помещиков,
известных своими проектами по крестьян¬
скому делу или обративших на себя
внимание своими работами в разных гу¬
бернских комитетах. Мысль ввести таких
членов-экспертов в состав редакционных
комиссий возникла в тот момент у
216
Милютина, и он выразил ее государю при
своем представлении последнему по случаю
своего назначения к исправлению долж¬
ности товарища министра. Затем он выразил
ту же мысль и Ростовцеву, который и сам
высказывал нечто подобное в одном из писем
своих к государю. Мысль эта была одобрена,
и вообще у Милютина, вопреки его опа¬
сениям, сразу же установились с Ростовце¬
вым очень хорошие отношения. Ростовцев не
только отнесся к нему с полным доверием,
но и просил его участия в деле подбора
личного состава редакционных комиссий, и
Милютин, воспользовавшись этим, ввел туда
нескольких членов, сделавшихся впос¬
ледствии главными двигателями в них всего
дела. Члены эти были: Ю.Ф. Самарин, кн.
В.А. Черкасский (с которым Милютин еще
не был лично знаком в то время), В.В.
Тарновский, Г.П. Галаган, не говоря о Я.А.
Соловьеве, который был назначен в состав
комиссий от Министерства внутренних дел,
конечно, также с ведома Милютина.
Но наряду с этими приверженцами
реформы в комиссию вступило и несколько
лиц, с которыми Милютину и его друзьям
пришлось впоследствии выдержать упорную
и ожесточенную борьбу. Это были пред¬
водители дворянства: Петербургской гу¬
бернии гр. П.П. Шувалов и Орловской —
В.В. Апраксин; генерал-адъютант кн. Пас¬
кевич; упоминавшийся уже полтавский
помещик Позен? редактор «Журнала земле¬
владельцев» А.Д. Желтухин и один из пред¬
ставителей Министерства государственных
имуществ Булыгин, упорно отстаивавший
взгляды своего принципала М.П. Муравье¬
ва. Первоначально было образовано две
редакционные комиссии: одна — для выра¬
ботки общего положения, другая — для вы¬
работки местных; но Ростовцев, пользуясь
предоставленной ему властью, с самого же
начала слил их в одну, подразделив ее затем
на отделения: административное, юридиче¬
ское и хозяйственное, к которым вскоре
присоединена была еще особая финансовая
комиссия для выработки положения о выку¬
пе. Все эти отделения имели значение под¬
комиссий, вырабатывавших доклады для
общего собрания комиссий,— доклады, ко¬
торые и ложились затем в основание
различных отделов положений. В двух важ¬
нейших из этих отделений —. хозяйственном
и финансовом — председательствовал
Милютин. Но его роль этим и ограничива¬
лась. Ростовцев не напрасно назвал его
нимфой Эгерией редакционных комиссий.
Он действительно был центральным лицом
всей работы, руководителем всей внутренней
политики комиссий, а затем и вождем пере¬
довых ее членов в борьбе с теми враждеб¬
ными делу реформы силами, которые
действовали внутри комиссий и за стенами
их заседаний. Ему удалось с самого же
начала создать сплоченную группу убежден¬
ных, достаточно спевшихся между собой и
в высшей степени талантливых и трудоспо¬
собных защитников реформы в лице Са¬
марина, Черкасского и Соловьева, к
которым по большей части спорных вопро¬
сов присоединялись: Тарновский, Галаган,
Петр Семенов и др. Группа эта вполне овла¬
дела доверием Ростовцева, причем
Милютину удалось на первых же порах
вытеснить вредное влияние на Ростовцева
ловкого и хитрого дельца Позена, который в
редакционных комиссиях был совершенно
разоблачен и вынужден был прямо признать
себя сторонником безземельного освобож¬
дения крестьян.
На первых же порах редакционным
комиссиям пришлось выдержать важное со¬
стязание с влиятельными защитниками
феодальных стремлений петербургского дво¬
рянства гр. Шуваловым и кн. Паскевичем,
которые, опираясь на точный смысл
рескриптов, настаивали на сохранении на¬
всегда права собственности на все земли за
помещиками, отриЦали допустимость всех
форм выкупа, кроме отдельных доброволь¬
ных сделок, п в особенности настаивали на
предоставлении помещикам вотчинной
власти и вотчинной юрисдикции на их зем¬
лях в виде неприкосновенного сеньориаль¬
ного права, утверждая, что в противном
случае выкуп становится если и не обяза¬
тельным для помещика формально, то вы¬
нужденным. Борьба эта началась в первых
же заседаниях редакционных комиссий в
связи с теми изменениями в правительствен¬
ной программе, которые сообщены были
комиссиям на основании постановлений
Главного комитета (от 26 октября и 4 декабря
1858 г.), явившихся, как уже сказано, в
свою очередь, последствием видоизменения
взглядов Ростовцева. Новая программа
правительства, предъявленная комиссиям
при самом открытии их занятий, была фор¬
мулирована впоследствии Н.П. Семеновым
(в его «Истории освобождения крестьян в
царствование имп. Александра II» в следу¬
ющих пунктах:
1) Освободить крестьян с землей.
217
2) Конечной развязкой освобождения
считать выкуп крестьянами их наделов у
помещиков в собственность.
3) Оказать содействие делу выкупа пос¬
редничеством» кредитом, гарантиями или
финансовыми операциями правительства.
4) Избегнуть по возможности регламен¬
тации «срочнообязанного» периода или, во
всяком случае, сократить переходное сдо-
тояние.
5) Барщину уничтожить законодатель¬
ным порядком через три года переводом
крестьян на оброк, за исключением только
тех, которые сами того не пожелают.
6) Дать самоуправление освобожден¬
ным крестьянам в их сельском быту.
Эта программа, сочувственно принятая
членами редакционных комиссий, легла в
основу их работ.
Но, приняв эту программу, комиссиям
пришлось стать, конечно, в противоречие с
большею частью проектов губернских
комитетов, которые ее не имели в виду в
своих работах и обязаны были руководство¬
ваться рескриптами и позеновской програм¬
мой, которой новая программа совершенно
противоречила. Редакционные комиссии
решили не считаться с волею дворянства,
выраженною в комитетских проектах, и
считать их лишь за материал для своих
собственных построений. Работы комиссий
печатались, по приказанию Ростовцева, в 3
тыс. экземпляров и широко рассылались по
России. Таким образом, дворянство очень
скоро увидело, что направление дела уходит
из его рук. Между тем государь, объезжая
различные губернии еще летом 1858 г., бе¬
седовал в то время с представлявшимися ему
предводителями дворянства и членами гу¬
бернских комитетов, неоднократно изъявлял
дворянству свою благодарность за велико¬
душный почин и обещал, что при рассмот¬
рении дела в Петербурге от каждого
губернского комитета вызваны будут депута¬
ты для участия в окончательном обсуждении
всего дела. Дворяне поняли эти слова в том
смысле, что депутаты губернских комитетов
будут допущены в Главный комитет и будут
участвовать там в окончательном решении
вопроса. Решительным противником такого
толкования этого обещания государя явился
Милютин, который убедил и Ростовцева, и
Ланского, что допущение дворянских депу¬
татов в Главный комитет, хотя бы с совеща¬
тельным только голосом, может при данном
составе самого Главного комитета
опрокинуть все дело и совершенно исказить
благополучный исход реформы. Решено бы¬
ло поэтому допустить депутатов губернских
комитетов лишь к критике проектов
редакционной комиссии в заседаниях этой
последней, причем и тут решено было им
предоставить лишь изложить свои заме¬
чания и защищать свои проекты, но отнюдь
не допускать их к голосованиям, а следова¬
тельно, и к участию в решении самого дела,
даже и в этой подготовительной, переходной
его стадии.
Работы комиссий, по плану Ростовцева,
разделены были на несколько периодов. -В
первом периоде рассмотрены были проекты
лишь 21 губернского комитета, ранее других
закончившего свои работы, причем по сос¬
тавлении первого наброска проекта поло¬
жений на основании этого материала в
редакционных комиссиях решено было вы¬
звать в Петербург сначала депутатов только
от этого 21 комитета. Затем, по выслушании
их замечаний и по обсуждении остальных
проектов, внести в свои предположения не¬
обходимые исправления и изменения и тогда
вызвать депутатов от остальных комитетов,
после чего составить уже окончательные
проекты, воспользовавшись всем этим ма¬
териалом и критикой депутатов. Этот план
был осуществлен в действительности.
Прибытия депутатов в конце первого периода
работ редакционных комиссий члены этих
последних ожидали не без волнения, ибо
враги реформы и враги того направления,
которое дело это приняло в редакционных
комиссиях, естественно, считали прибытие
депутатов самым удобным моментом для ге¬
нерального сражения, которое могло
привести к полному искажению всего дела.
Главные пункты, в которых воля дворян¬
ства могла считаться особенно резко нару¬
шенною, сводились к самым важным
материальным условиям ликвидации крепо¬
стного строя. Во-первых, отвергнуты были
все те проекты губернских комитетов, кото¬
рые признавали, что с окончанием «срочно¬
обязанного» периода, т.е. через 8—12 лет,
вся земля, за исключением усадеб, возвра¬
щается в распоряжение помещика; затем
резко изменены были нормы земельных на¬
делов, которые комиссии старались
приблизить к нормам существующего поль¬
зования; сильно понижены оценки усадеб и
размеры вычисленных комитетами оброков
за прочие угодья. Наконец, совершенно
изменены все постановления, клонившиеся
к сохранению в том или ином объеме
вотчинной власти помещиков в качестве
218
«начальников» сельских обществ, предполо¬
женных согласно позеновской программе.
Милютин, считая необходимым заранее
противопоставить натиску враждебных
реформе элементов сильное и яркое осве¬
щение своекорыстных цоползновений
большинства губернских комитетов» сос¬
тавил особую записку (представленную го¬
сударю Ланским) с обозрением
деятельности губернских комитетов первой
очереди, причем подверг эту деятельность
сжатому, но резкому разбору и в заключение
указал, что, по мнению Министерства внут¬
ренних дел, не следует допускать депутатов
от губернских комитетов до каких-либо
общих постановлений, а следует лишь пред¬
ложить им представить свои отдельные отзы¬
вы на труды редакционных комиссий в их
заседаниях, специально этому посвящен¬
ных. Эта записка, хранившаяся в то время
в глубокой тайне21, была одобрена императо¬
ром Александром, и соответственно этому
решено было дать инструкции депутатам.
Узнав об этом, депутаты пришли, разумеет¬
ся, в крайнее раздражение. Сперва они
хотели подать государю адрес с сильным
протестом против таких незаконных, по их
мнению, действий ненавистной им бюрок¬
ратии, а когда адрес этот не был принят, то
они составили коллективное письмо на имя
Ростовцева, в котором ходатайствовали о
предоставлении им права собираться и дей¬
ствовать сообща, вырабатывая общие поста¬
новления и представляя их «на суд высшего
правительства». Частные совещания им
были разрешены, но без права делать поста¬
новления, и было обещано от лица государя,
"~что все соображения их дойдут до него через
Главный комитет. На первый раз депутаты
этим как будто удовлетворились и затем в
замечаниях своих, которые в печатном виде
составили два толстых тома, подвергли рабо¬
ты и выводы редакционных комиссий резкой
и беспощадной критике.
Следует, впрочем, заметить, что
большинство депутатов первого пригла¬
шения были настроены в общем весьма либе¬
рально и, за исключением нескольких лиц,
отнюдь не были крепостниками. Они
принадлежали в большинстве к комитетам
промышленных нечерноземных и получер¬
ноземных губерний и определенно высказы¬
вались не только за освобождение крестьян,
но и за наделение их землею. Однако почти
все они высказывались против отвода наде¬
лов крестьянам в бессрочное пользование за
раз и навсегда установленные повинности.
Они опасались, и не без основания, что
исправное отбывание барщины без удер¬
жания прежней помещичьей власти
фактически окажется невозможным, уста¬
новление же оброкбв без права переоброчки
признавали несправедливым нарушением
прав собственности помещиков ввиду посто¬
янного возрастания цен на землю. Большая
часть депутатов требовала обязательного
единовременного выкупа при помощи особой
кредитной операции. Очень немногие пред¬
почитали систему вечнонаследственного
пользования, но с правом периодической
переоброчки, и лишь несколько человек вы¬
разили стремление к удержанию всей земли
в распоряжении помещиков по истечении
«срочнообязанного» периода.
Многие депутаты возражали против вы¬
веденных комиссиями земельных норм,
очень повышенных в сравнении с нормами,
предположенными в губернских комитетах.
В то же время они признавали разоритель¬
ными для помещиков и нормы оброков, ус¬
тановленные комиссиями.
Но с наибольшим единодушием депута¬
ты напали на проект административного
устройства крестьян, причем они не обра¬
щались к прямой защите вотчинной власти
помещиков, но резко нападали на стрем¬
ление комиссий подчинить создаваемые ими
органы крестьянского самоуправления мес¬
тной уездной полиции, чем нарушался, ко¬
нечно, и самый принцип самоуправления. В
этой части своих нападок депутаты стояли
на почве либеральных и даже демок¬
ратических принципов, и потому эта часть
их критики произвела наибольшее впечат¬
ление на многих членов редакционных
комиссий и на всех передовых людей в
России. Лучше всех эти мысли фор¬
мулировал в своих замечаниях тверской де¬
путат Унковский, который не ограничился
при этом критикой административного уст¬
ройства крестьян по проекту комиссий, но
резко раскритиковал и всю существовавшую
в то время систему местного уездного управ¬
ления, а затем противопоставил ей свой
собственный проект, одобренный Тверским
комитетом. Унковский требовал коренной
перестройки всего местного управления на
началах децентрализации и самоуправ¬
ления, наименьшей единицей которого, по
его мнению, следовало сделать всесословную
волость.
В конце своего пребывания в Петербурге
депутаты, однако же ясно увидели, что их
замечания едва ли могут быть прочтены
219
государем даже уже в силу одного своего
слишком значительного объема. Поэтому
перед отъездом они опять решились
обратиться к государю с адресом, в котором
хотели просить допустить их в Главный
комитет при окончательном рассмотрении
всего дела. Но общий адрес не состоялся, и
они разбились при этом на группы. Часть
из них, в числе 18-ти человек, представила
адрес, редактированный в очень умеренных
выражениях, с просьбой лишь допустить их
представить свои замечания в главном
комитете. Симбирский депутат Шидловский
представил особый адрес с требованиями в
олигархическом духе, крайне туманно выра¬
женными. Наконец, пять депутатов с Ун-
ковским во главе, наряду с резкими
нападками на действия бюрократии и на
бюрократический строй и требованием обя¬
зательного выкупа, изложили также свой
взгляд на необходимые преобразования в
судебном и административном строе стра¬
ны.
Одновременно с этими адресами подал
государю записку не принадлежавший к
числу депутатов помещик Петербургской гу¬
бернии, аристократ (племянник кн. Орлова)
и камергер высочайшего двора М.А. Безоб¬
разов, и в ней, крайне резко обрушиваясь на
действия Министерства внутренних дел и
редакционные комиссии, требовал «обуз¬
дания» бюрократии и созыв выборных пред¬
ставителей дворянства, на которых, по его
мнению, и должна опираться в своих
действиях верховная власть в России22.
Гнев Александра, вызванный крайне
резкими выражениями этой записки,
отразился, по-видимому, и на его отношении
к адресам депутатов, хотя последние и были
составлены в тоне весьма лояльном и кор¬
ректном. Депутатам, подписавшим адреса,
объявлен был выговор через губернаторов, а
замечания их оставлены были по большей
части без внимания. В конце концов вся эта
история, послужившая началом к развитию
оппозиционного движения в дворянских
кругах и в части общества, в то время
оказалась, в сущности, на руку
редакционным комиссиям и благополучному
исходу их работ, так как она укрепила
симпатии к ним и к их делу в императоре
Александре23.
После отъезда депутатов первого пригла¬
шения начался второй период редакционных
комиссий, причем редакционные комиссии
пересмотрели свои проекты в связи с заме¬
чаниями, сделанными на них депутатами и
поступившими от остальных губернских
комитетов проектами. Существенных изме¬
нений комиссии не признали необходимым
сделать в первоначальных своих проектах.
Но прежде чем дело это было доведено до
конца, случилось событие; вновь грозившее
— как, по крайней мере, казалось тогда —
кризисом делу реформы.
6 февраля 1860 г., после трехмесячной
тяжелой болезни, развившейся на почве
переутомления и чрезмерного нервного на¬
пряжения, умер Я.И. Ростовцев. Вместо не¬
го на пост председателя редакционных
комиссий назначен был гр. В.Н. Панин,
министр юстиции, завзятый рутинер-бюрок¬
рат и решительный консерватор, заведомо
враждебно относившийся к тому направ¬
лению крестьянской реформы, которое ей
дано было в редакционных комиссиях. Это
назначение вызвало всеобщее недоумение и
негодование. Герцен в «Колоколе» поместил
известие о назначении Панина в траурной
рамке и, с отчаянием объявляя, что тон
царствования изменился, приглашал членов
редакционных комиссий подать в отставку,
если в них есть хоть капля гражданских
чувств. Малютин со своей стороны думал то
же, и только настойчивые убеждения вел.
княгини Елены Павловны помешали ему
осуществить это пагубное для дела реформы
намерение. Когда Елена Павловна выразила
императору свое недоумение по поводу до¬
шедших до нее слухов о назначении Панина,
то Александр Николаевич спокойно ей
ответил: «Вы Панина не знаете; его убеж¬
дения — это точное исполнение моих прика¬
заний». Панину поставлено было государем
условие ничего не изменять в ходе и направ¬
лении дела, установившихся при Ростовце¬
ве. Тем не менее назначение его вызвало
чрезвычайное оживление среди кре¬
постников и врагов редакционных
комиссий. Поэтому и депутаты второго
приглашения, принадлежавшие притом
главным образом к комитетам черноземных
и западных губерний, стоявших за беззе¬
мельное освобождение крестьян, прибыли в
Петербург с намерением опрокинуть проек¬
ты редакционных комиссий при помощи
Панина, на которого они возлагали большие
надежды. В этом они ошиблись: Панин ста¬
рался формально исполнить обещание, дан¬
ное государю, и поэтому не оказал никакой
поддержки депутатам. Сами депутаты
написали на проекты редакционных
комиссий очень резкую критику, причем
всего сильнее обрушились на постановления
220
о наделении крестьян землей и на образо¬
вание независимых от помещичьей власти
крестьянских обществ и волостей. Они не
брезговали при этом никакими аргументами
и всячески старались набросить тень на
работы редакционных комиссий с
охранительной точки зрения, выискивая в
проектах и докладах комиссий рес¬
публиканские, социалистические и даже
коммунистические начала. Критика этих де¬
путатов, таким образом, принципиально со¬
вершенно расходилась с точкой зрения
депутатов первого приглашения24.
Редакционным комиссиям нетрудно бы¬
ло защититься от таких неумеренных и не¬
благонамеренных обвинений. Но с отъездом
депутатов, когда начался третий,
кодификационный, период работ
редакционных комиссий, группе передовых
членов этих комиссий, предводимой
Милютиным, пришлось пережить трудное
время.
Внутри комиссий гр. Панин, хотя и
осторожно, но с необыкновенным упорством,
пытался провести некоторые свои взгляды,
серьезно грозившие исказить дело. К тому
же и некоторые из членов комиссий, тайно
сочувствовавшие своекорыстным
помещичьим поползновениям депутатов вто¬
рого приглашения, возобновили борьбу с
руководившей всеми работами группой
Милютина, Самарина, Черкасского и Со¬
ловьева. Борьба приняла довольно острый
характер, вызвала личные столкновения и
доходила до того, что Панин в одном из
заседаний констатировал открытое недо¬
верие к его словам, выраженное
Милютиным, а с одним из членов комиссий,
Булыгиным, у Милютина дело чуть не дошло
до дуэли. Главное, чего добивался Панин,
заключалось в требовании его уничтожить в
проектах комиссий выражение, что наделы
отводятся крестьянам в «бессрочное» поль¬
зование. Стремясь упразднить это выра¬
жение под предлогом неправильности его с
юридической точки зрения, он хотел,
очевидно, создать почву для осуществления
желаний тех членов губернских комитетов,
которые, с легкой руки Позена, старались
доказать, что наделы, по смыслу рескриптов,
должны быть отведены в пользование кресть¬
ян лишь на время «срочнообязанного»
периода. Панину не удалась его попытка,
несмотря на то что он пускался даже на
фальсификацию прений в журналах, в чем
и был уличен Милютиным. Благодаря стой¬
кой защите этого пункта со стороны
Милютина и его друзей все, чего Панин
достиг, это была замена термина «бессроч¬
ное» пользование термином «постоянное»
пользование, что было в сущности равнозна¬
чаще.
Хотя это нападение Панина было, таким
образом, благополучно отбито, все же в
третьем (а отчасти еще во втором) периоде
занятий редакционных комиссий Милютину
и его друзьям пришлось пойти на некоторые
более или менее существенные уступки, ка¬
савшиеся главным образом материальной
стороны реформы. Эти уступки сводились к
более или менее значительному понижению
норм наделов во многих уездах; к некоторому
повышению нормы оброка в черноземных
губерниях, где он проектирован был перво¬
начально на 1 руб. (с душевого надела)
ниже, чем в губерниях нечерноземных, и,
наконец, к допущению переоброчки через 20
лет, т.е. переоценки повинностей сообразно
изменению хлебных цен в имениях, где
полевая земля будет к тому времени на¬
ходиться в бессрочном пользовании кресть¬
ян, а не на выкупе. Допуская это последнее
изменение, на котором настаивал в частных
разговорах и сам император, Милютин на¬
деялся, что и впоследствии не найдется та¬
кого министра внутренних дел, который
принял бы на себя переоброчку во всех
владельческих имениях империи. И
действительно, как известно, переоброчка
эта в 1881 г. не состоялась, а взамен нее
введен был обязательный выкуп во всех
имениях, где оставались к тому времени
«временнообязанные» крестьяне.
10 октября 1860 г. редакционные
комиссии были закрыты, проработав без
отдыха около 20 месяцев и выработав проек¬
ты 16-ти различных положений с
объяснительными записками, указателями и
проч. Печатные доклады отделений, журна¬
лы общего присутствия комиссий, своды
проектов губернских комитетов и прочие
труды редакционных комиссий составили 18
объемистых томов (в первом издании) и
сверх того 6 томов (in 4°) статистических
сведений о помещичьих имениях выше 100
душ, не считая трех огромных томов заме¬
чаний депутатов губернских комитетов,
изданных также комиссиями.
ЛЕКЦИЯ XXII
Ход работ в Главном комитете и Государственном совете по рассмотрению проектов редакционной
комиссии. — Борьба, там происходившая.— Манифест 19 февраля 1861 г.— Анализ положений 19 фев¬
раля.— Состав этого законодательства и содержание отдельных положений.—Значение реформы 19
февраля в правовом, административном и экономическом отношении для крестьян, для дворянства и для
страны.
Редакционные комиссии были закрыты
в октябре I860 г., и со дня их закрытия
тотчас же началась работа в Главном
комитете. Он работал целых два месяца;
между членами его оказались труд-
непримиримые разногласия, так что
великий князь Константин Николаевич, ко¬
торый вследствие болезни кн. Орлова как раз
в этот момент назначен был председателем
комитета, был поставлен в очень трудное
положение, так как по некоторым вопросам
долго нельзя было образовать большинства.
Членов было немного, всего человек 10, и
они разбились на три-четыре группы,
причем ни у одной не было абсолютного
большинства .
■ Главный вопрос касался способов и
норм наделения крестьян землею. При
1 обсуждении этого вопроса образовалась
упорная группа под предводительством М.Н.
Муравьева, министра государственных иму¬
ществ, к которому по всем вопросам примы-'
кал шеф жандармов кн. В.А. Долгоруков и
по большей части вопросов — министр
финансов А.М. Княжевич, а вначале и
министр двора и уделов гр. В.Ф. Адлерберг,
который потом, впрочем, отстал. Группа эта,
стремившаяся восстановить нормы наделов
и оценки их, выведенные в губернских
комитетах, увидевши, что ей провести свою
точку зрения не удастся, стала пытаться
перенести дело на места, указывая, что
редакционные комиссии слишком сильно
изменили постановления губернских
комитетов без достаточных оснований. Эти
/ члены настойчиво предлагали определить в
^ комитете лишь общие принципы реформы,
\ указав, что крестьянам должны быть предо¬
ставлены земельные наделы, а в каком раз¬
мере и по каким нормам за эти наделы
J должны быть определены повинности,— это
^группа признавала необходимым решать на
местах. Собственно, проект, который они
представили, был написан восходящим тог¬
да светилом дворянской партии, на которое
возлагали свои упования тогдашние «феода¬
лы» и крепостники, ПА. Валуевым, незадол¬
го перед тем перешедшим на службу из
губернаторов в Министерство государствен¬
ных имуществ, а потом, вскоре после
издания Положения 19 февраля, назначен¬
ным министром внутренних дел.
Но эта группа в Главном комитете не
могла собрать большинства, и на стороне
проектов, принятых редакционными
комиссиями, оставалось четыре голоса; но
все-таки большинства абсолютного и здесь
не было, так как кн. П.П. Гагарин, же¬
лавший безземельного освобождения кресть¬
ян, и гр. Панин, оспаривавший многие
решения редакционных комиссий, упорно
оставались при своих мнениях. Чтобы обра¬
зовать как-нибудь большинство, великий
князь Константин Николаевич употребил
чрезвычайные усилия к склонению на свою
сторону графа Панина, который, между
прочим, оспаривал выведенные
редакционными комиссиями нормы наделов
по многим уездам.
В конце концов для убеждения гр.
Панина была даже образована особая част¬
ная согласительная комиссия, куда Кон¬
стантин Николаевич пригласил многих
членов бывших редакционных комиссий и
предоставил им убеждать Панина (в
присутствии великого князя) в точности их
расчетов. В конце концов им пришлось,
однако, сделать Панину некоторые уступки,
уменьшив в целом ряде уездов предположен¬
ные редакционными комиссиями нормы —
где на четверть, где на полдесятины,— после
чего Панин отказался от остальных своих
возражений и согласился примкнуть к
большинству (пять голосов против четырех).
Благодаря этому образовалось, наконец,
абсолютное большинство в Главном
комитете (половина + 1), и спустя два меся¬
ца после начала этих занятий вопрос здесь
был решен относительно благополучно, в том
смысле, что решения редакционных
комиссий не подверглись каким-либо корен¬
ным изменениям.
Й последнем заседании Главного
i комитета присутствовал сам государь, а так
I как тут же были по особому приглашению и
1 все члены Совета министров, не бывшие
Vчлeнaми Главного комитета, то государь,
обратившись к ним и лестно отозвавшись о
222
трудах редакционных комиссий, указал,
что, перенося теперь дело в Государствен¬
ный совет, он не допустит в решении его
никаких проволочек, и тут же назначил
последним сроком окончания его рассмот¬
рения 15 февраля, так чтобы оно могло
пдспеть к началу полевых работ. «Этого,—
сказал император Александр,— я желаю,
требую, повелеваю!»
Когда началось рассмотрение дела в Го¬
сударственном совете, причем на ознаком¬
ление с ним членам совета дано было лишь
десять дней, заседания совета были открыты
самим императором Александром 28 января
1861 г. Здесь в длинной, обстоятельной и
чрезвычайно энергичной речи он изложил
весь ход крестьянского дела — ив прежние
царствования, и особенно с той поры, как
началась разработка крестьянской рефор¬
мы,— подтвердил необходимость быстрого
рассмотрения его в Государственном совете
и сказал между прочим, обращаясь к членам
совета: «Взгляды на представленную работу
могут быть различны. Поэтому все
различные мнения я выслушаю охотно, но я
вправе требовать от вас одного: чтобы вы,
отложив все личные интересы, действовали
не как помещики, а государственные са¬
новники, облеченные моим доверием». При
этом он вновь подтвердил, что требует, чтобы
к середине февраля дело было кончено.
И действительно, члены Государствен¬
ного совета уже к 17 февраля успели за¬
кончить рассмотрение всего дела. Государь
по каждому вопросу немедленно давал свои
резолюции, присоединяясь к мнению
большинства, или меньшинства. При этом
ему нередко приходилось соглашаться с
мнением 8 против 35 голосов, чтобы поддер¬
жать решение редакционных комиссий. В
конце концов он поддержал их по всем
пунктам.
К 17 февраля дело было решено оконча¬
тельно. При этом в Государственном совете
принято было лишь одно новое предложение,
внесенное князем П.П. Гагариным, который
здесь продолжал поддерживать свою
оппозицию решениям редакционных
комиссий, упорно стоя на точке зрения без¬
земельного освобождения крестьян с предо¬
ставлением помещикам права добровольно
разрешать вопрос относительно оставления
у крестьян тех или иных земельных наделов.
В конце концов, потерпев поражение на всех
пунктах, князь предложил, чтобы
помещикам предоставлено было в тех случа¬
ях, когда у них об этом состоится согла¬
шение с крестьянами, отводить им взамен
того надела, которым они пользуются или
который им полагается по утвержденным
нормам, надел, уменьшенный до аД высше¬
го, или указанного, надела, установленного
для данной местности, но зато даром, без
всякого за него вознаграждения. На это Го¬
сударственный совет согласился единоглас¬
но, и государь это утвердил. Отсюда и
получились так называемые четвертные,
или по-народному, «нищенские»,
«сиротские», даровые наделы. Крестьяне ча¬
сто потом соблазнялись возможностью по¬
лучить этот, хотя маленький, но бесплатный
надел, и это, конечно, немало усилило рас¬
пространение малоземелья во многих, осо¬
бенно в степных, губерниях, где земли было
в 1861 г. еще очень много и где крестьяне
поэтому не особенно дорожили отводом ее им
в собственность.
19 февраля 1861 г. подписаны были
государем положения, которые выработаны
были редакционными комиссиями и с не¬
большими сравнительно изменениями
прошли через Главный комитет и Государ¬
ственный совет, а вместе с ними был
подписан и манифест, который составлен
был в весьма торжественных выражениях
московским митрополитом Филаретом. Пер¬
воначально манифест поручено было
написать Ю.Ф. Самарину, но с его проектом
не согласились, и поэтому этот проект был
передан в виде материала Филарету, кото¬
рый и составил окончательный текст. Сам
Филарет был противником освобождения в
том виде, в каком оно осуществлялось, и
взялся за эту работу не очень охотно.
Остановимся теперь на_аналше самих
положений 19 февраля. Состав этого нового
законодательства о крестьянах был очень
громоздок, именно: положений и особых
правил было выработано и издано целых 17.
Во-первых, было издано общее для всех'
губерний положение, которое так и называ- \
лось: «Общее положение о крестьянах, вы¬
шедших из крепостной зависимости». В этом
общем положении, сверх общих вступитель¬
ных статей, определено было правовое поло¬
жение освобожденных от крепостного права
крестьян и их административное устройст¬
во, которое было везде одинаково. Затем
таким же общим положением для всех мес¬
тностей было положение о выкупе, т.е. о
способах и об условиях, на которых отведен¬
ные в постоянное пользование наделы могут
быть выкупаемы. Такое же общее значение
имело положение о дворовых людях, которые
освобождались вполне и безвозмездно, но
ничего не получая, через два года по обна¬
родовании положения. То же общее значение
имело еще положение о местных учреж¬
дениях по крестьянским делам, т.е. поло¬
жение, в котором указывался порядок
223
введения новых законоположений в действие
при помощи тех мировых учреждений» какие
для этого были образованы, т.е. мировых
посредников, их уездных съездов и гу¬
бернских по крестьянским делам
присутствий.
Что касается экономической, хозяйст¬
венной * стороны дела, то было издано не¬
сколько регулирующих ее местных
положений, так как тут дело разнилось, как
вы знаете, по местностям, в зависимости от
местных условий.
Одним из бытовых оснований, по кото¬
рым губернии были разбиты по местным
положениям, была принадлежность кресть¬
ян к великорусскому, малорусскому или бе¬
лорусскому племени, причем собственно
великорусское и белорусское отличались
тем, что у них сохранился общинный быт и
общинное землепользование, тогда как мало¬
россы, литовцы и прочие привыкли к под¬
ворному землепользованию. Для
великоруссов, для белоруссов и для ново¬
российских губерний было издано одно ме¬
стное положение; затем для малорусских
губерний — Полтавской, Черниговской и
части Харьковской — было издано особое
малороссийское положение. Здесь крестьяне
при крепостном праве никакого определен¬
ного надела не имели; земля давалась им на
условиях обработки ее «от снопа» — они
были при крепостном праве на положении
половников своего рода,— и им были отве¬
дены теперь заделы по особым нормам, вновь
созданным.
Особое положение было издано для юго-
западных губерний, которые были долго под
властью Речи Посполитой и где сложились
поэтому особые условия, отчасти закреплен¬
ные впоследствии, при императоре Николае
I бибиковскими инвентарными правилами.
Точно такое же отдельное положение по¬
лучили литовские губернии, именно Вилен¬
ская, Ковенская, Гродненская и Минская,
на основании тех особых местных условий,
которые у них сложились совершенно
отлично от положения великорусских кре¬
стьян.
Наконец, было еще особое положение у
крестьян мелкоцоместных владельцев, кото¬
рым предоставлялось право сдавать свои
имения в казну, если условия освобождения
были для них невыгодны. Особое положение
для крестьян, отбывающих обязательные
работы на помещьих фабриках; особое поло¬
жение было для крестьямчна тарных и соля¬
ных промыслах. Особое местное положение
было в области Войска Донского; такое же
особое местное положение было издано в
Ставропольской губернии о крестьянах и
дворовых — это единственная из губерний
Кавказа, на которую была распространена в
то время реформа. Особое местное поло¬
жение было издано в Бессарабской области;
там личное крепостное право было отменено
еще ранее, до присоединения к России.
Особое, наконец, положение было в Запад¬
ной Сибири; в Восточной Сибири крепост¬
ного права не было вовсе.
Вот, таким образом, состав того законо¬
дательства о крестьянах, которое было изда¬
но 19 февраля. Даже беглый обзор одного
этого состава сам по себе может свидетель¬
ствовать об огромности законодательной и
кодификационной работы, произведенной
редакционными комиссиями, если иметь в
виду, что число статей каждого из этих
положений переваливает за сотню.
Что касается собственно содержания
произведенной реформы, то, конечно, на
первом плане стоит значение ее в правовом
отношении. В этом отношении падение кре¬
постного права было важнейшим событием
во всей новейшей русской истории. Об этом
едва ли нужно теперь перед вами много
распространяться. Свидетели и в особен¬
ности участники крестьянской реформы
любили говорить, что Положением 19 фев¬
раля народ впервые в России выводился на
историческую арену. Во всяком случае,
можно сказать, что весь народный быт с
проведением этой реформы коренным обра¬
зом изменился. Каковы бы ни были ма¬
териальные последствия реформы, громадно
было значение того обстоятельства, что люди
не могли более продавать других людей, не
могли более переводить их с земли во двор,
в личные слуги, т.е. в положение домашних
1 рабов. Крестьяне избавились 19 февраля
1861 г. от того вмешательства, в сущности
говоря, неограниченного, в их домашний и
семейный быт, которое доходило до того, что
по указу помещика они венчались и вы¬
ходили замуж.
Таким образом, с общечеловеческой
точки зрения значение реформы в правовом
отношении было колоссально, но и тут \
приходится все же оговориться, что отмена \
крепостной) права, освободив крестьян от ]
зависимости их от помещиков в личном и j
правовом отношении, в то же время отнюдь (
не уравняла их с помещиками в их граж- /
данских правах, не сделала их равноправ- /
ными гражданами той страны, в которой они /
вместе с помещиками продолжали жить:
реформа перевела их из разряда крепостных '
крестьян не в разряд полноправных граж- ,
дан, а в разряд так называемых податных
сословий. Этот остаток того всеобщего закре¬
пощения сословий, на котором прежде j
224
зиждился весь быт Московского государства,
продолжал еще существовать. Сущность
правового положения этих податных сос¬
ловий заключалась в том, что государство
облагало людей подушным окладом, налагая
прямые налоги не на имущество, а на лица,
облагая их личный труд, и так как обес¬
печить поступление таких податей, взыскать
подати, обеспеченные личным трудом, с
каждого отдельного человека было очень
трудно, то, чтобы достичь этого, установля-
лась круговая порука и люди эти
ограничивались в свободе передвижения при
помощи особой паспортной системы и
прикреплялись каждый к той группе, к ко¬
торой он был приписан. Каждое податное
общество отвечало за всех своих членов, и
поэтому государству пришлось предоставить
таким группам некоторую власть над своими
членами, право насильственно удерживать
их в своей среде и даже не отпускать на
сторону. Эта система клала очень глубокий
след на правовое состояние людей, над ко¬
торыми она тяготела. Поэтому, пока не была
отменена круговая порука, пока существова¬
ла подушная подать, до тех пор, собственно,
не могло быть и речи в России о граждан¬
ской равноправности отдельных сословий, о
действительном равенстве всех жителей
перед законом, не говоря уж о том, что, как
я сказал, лица, подвергшиеся этой податной
системе, ограничивались даже в свободе сво¬
его передвижения и в свободе выбора за¬
нятий, так как для перечисления из одной
податной группы в другую требовалось полу¬
чение увольнительного приговора. Тут одно
ограничение логически вытекало из другого,
и следы такого рода закрепощения еще и до
сих пор остаются в русской жизни. Затем
было установлено в «общем положении» еще
и специальное ограничение, касавшееся
бывших крепостных крестьян,— это то, что
в течение первых девяти лет по издании
положения «временнообязанные» крестьяне ;
не могли даже отказываться от надела; они
обязательно должны были отбывать за него
повинности; этим опять-таки налагались на ,
них определенные стеснения относительно
распоряжения своею личностью, своими ,
силами. Следует вообще иметь в виду, что те
деятели, которые решили крестьянский воп¬
рос в 1861 г., стояли при решении этого
вопроса отнюдь не на точке зрения тех
людей, либералов в широком смысле слова,
которые заимствовали свою идеологию из
Декларации прав человека и гражданина.
На этой почве стояли старые либералы на¬
чала XIX в. или конца XVIII, как Радищев,
которые требовали отмены крепостного пра¬
ва исходя из общечеловеческих прав, из
8 Зак. 271
прав человеческой личности. Члены
редакционных комиссий стояли прежде все¬
го на точке зрения обеспечения благососто¬
яния населения и государственных нужд. У
них, несомненно, была большая доброжела¬
тельность по отношению к крестьянам,
искреннее стремление коренным образом
улучшить их быт, но так как они стояли на
точке зрения благосостояния, а не свободы
личности в собственном смысле слова, то \
понятно, что иногда вопросы благосостояния I
у них брали верх над вопросами личного,
освобождения. Из этого вытекала, между \
прочим, и та благая сторона реформы, что
крестьяне были освобождены с землей, но
это же обстоятельство обусловило и тот эле¬
мент опеки, который было признано необ¬
ходимым на время ввести в дело устройства J
освобожденных крестьян.
В особенности опасение, само по себе
основательное, что освобожденные от крепо¬
стного права крестьяне опять могут попасть
в фактическую зависимость от помещиков и
даже в кабалу, выразилось ярко в том
административном устройстве, которое
было дано крестьянам. Я уже говорил вам о
нем и теперь только кратко повторю сказан¬
ное. Крестьянство было устроено в виде
самоуправляющихся общественных единиц,
в виде сельских обществ. Сельское общество
— самая мелкая общественно-хозяйствен¬
ная единица — составлялось из крестьян,
живших в одном селении и в то же время
принадлежавших одному помещику. Если в
одном и том же селении были крестьяне
разных помещиков, то в том случае, если
каждая группа была не меньше 20 душ,
каждая из таких групп составляла отдельное
сельское общество. Этим сельским общест¬
вам предоставлено было довольно полное
самоуправление в хозяйственном отно¬
шении; им предоставлена была в местностях
с общинным землевладением разверстка тех
наделов, которые были им отведены, между
семьями, сообразно тем обычаям, которые в
данной местности существовали. Затем, со¬
ответственно разверстке земли, члены сель¬
ского общества, опять-таки решением схода,
облагались и податями, т.е. те подати, кото¬
рые приходились на душу, не непосредст¬
венно падали на душу, а разлагались сходом
соответственно тому наделу, который сход
отводил каждой семье или душе. В то же
время сход мог облагать своих членов сбо¬
рами на разные духовные, умственные и
нравственные надобности и вбобще общест¬
венные нужды, которые у них были.
Собственно, первоначально предполага¬
лось, что вся хозяйственная сторона кресть-
янского быта именно должна быть
предоставлена этим сельским обществам, а
для нужд государственных, для нужд мелкой
местной администрации предполагалось
организовать другую единицу, которая не
была бы связана иерархически с этой первой
хозяйственной единицей и называлась бы
волостью; но в конце концов эта волость,
составленная из нескольких сельских
обществ, оказалась второй инстанцией над
сельским обществом по многим
административным делам.
Так как волости учреждались для нужд
административно-полицейских, то предпо¬
лагалось, что у них никаких хозяйственных
нужд и не будет, но затем приняты были
статьи, возложившие на волости разрешение
хозяйственных вопросов. Сельские выбор¬
ные должностные лица, старосты, по делам
полицейским, которыми они были обремене¬
ны в значительной мере, подчинялись воло¬
стным старшинам и волостным
правлениям и вместе с ними были подчине¬
ны различным уездным полицейским и
административным властям, приказания ко¬
торых они обязывались исполнять беспре¬
кословно. под страхом дисциплинарных
взысканий, которые на них мог налагать
мировой посредник и по своему почину, и
по жалобам разных чиновников. В конце
концов лица, выбранные сельским самоуп¬
равлением, оказались в положении низших
агентов уездной полиции; будучи
\ избранниками сельских обществ и волостей,
'^ответственность они несли не перед своими
избирателями, а перед «начальством», в рас¬
поряжении которого находились. Это обсто¬
ятельство подрывало принцип
самоуправления в корне, и при таких ус¬
ловиях, конечно, невозможно было признать
эти крестьянские волости и общества
действительно самоуправляющимися едини¬
цами.
На эти крупные пороки администра¬
тивного устройства крестьян в свое время
решительно и дельно нападали, как мы
видели, депутаты губернских комитетов пер¬
вого приглашения; они подчеркивали ненор¬
мальность этих условий, которые вытекали
в значительной мере из того, что члены
редакционных комиссий боялись связать
крестьянские общины и волости с будущим
земским самоуправлением, которое уже тог¬
да предполагалось учредить на том пустом
месте, которое должно было получиться в
уезде после отмены крепостного права. Опа¬
саясь помещичьей ферулы над крестьянами, j
реакционные комиссии не хотели сделать ,
волость единицей всесловной и вместе с тем \
независимой от уездных административных
властей.
Благодаря этим опасениям члены
редакционных комиссий попали в другую
крайность и подчинили эти крестьянские
общества в конце концов бюрократическому
произволу, на что совершенно справедливо
нападали депутаты первого приглашения.
Таково было содержание положений 19
февраля в правовом и административном
отношениях.
В отношении хозяйственном
редакционные комиссии, как мы видели,
значительно отступили от тех постанов¬
лений, которые были сделаны в губернских
комитетах. Главным образом эти отступ¬
ления касались нормы надела, но в
значительной мере они касались также и
нормы повинностей, которые крестьяне дол¬
жны были отбывать за наделы,— не говоря
о том, что ввиду изменения правительствен¬
ной программы в редакционных комиссиях
впервые был признан необходимым и нор¬
мальным исходом из «срочнообязанного»
положения выкуп.
Согласно положениям, выработанным в
редакционных комиссиях, крестьяне уст¬
раивались в отношении хозяйственном так:
они должны были сохранить приблизитель¬
но те наделы, которыми они владели в
крепостном состоянии, в бессрочном своем
пользовании, но при этом комиссии приняли
в расчет, что в некоторых имениях
помещики давали наделы большие, чем это
требовалось нуждами самих крестьян,
просто потому, что в губерниях нечернозем¬
ных, промышленных земля тогда совсем не
ценилась и потому, что сами помещики в
этих губерниях часто совсем не имели соб¬
ственного полевого хозяйства.
В других местностях, наоборот,
помещики до такой степени обрезывали кре¬
стьянские наделы, что крестьяне на них
совершенно не могли ни существовать
лично, ни вырабатывать тех оброков, кото¬
рыми они в пользу помещиков должны были
быть обложены.
Ввиду этого редакционными
комиссиями выработаны были особые нормы
для введения соответственных поправок по
отношению к существовавшему положению.
Принято было, что для каждой местности
должна быть установлена максимальная вы¬
сшая норма в тех видах, что если в каком-
либо имении крестьяне имели земли больше,
чем по этой норме полагалось, то от воли
помещика зависело, оставить ли при вве¬
дении нового положения всю эту землю кре¬
стьянам без особой доплаты, или
^потребовать отрезки излишнего против нор¬
мы количества, или предложить крестьянам
226
за ее оставление отбывать лишние
повинности или оброки.
С другой стороны, были установлены
нормы минимальные. Вначале предполага¬
лось их установить в размере 2/$ максималь¬
ных, а затем , пришли к заключению, что
достаточно установить их в размере всего 2/з
максимальных. Эти минимальные нормы
установились в тех видах, чтобы, если в
каком-либо имении земли, находившейся в
пользовании крестьян, оказывалось меньше
этой минимальной нормы, то помещик обя¬
зательно должен был дорезать земли кресть¬
янам до минимальной нормы, и крестьяне
могли этой нарезки прямо потребовать.
Что касается максимальных норм, раз¬
мер которых определял, таким образом, и
минимальные нормы, то в этом отношении
Россия была разделена на три полосы,
именно: нечерноземную, черноземную и
степную. В полосе нечерноземной установ,-
лено было целых семь разрядов, к которым
каждую часть уезда можно было
причислить. В этих разрядах нормы коле¬
бались, по первоначальному предполо- •
жению редакционных комиссий, от 3 1/а
десятины до 8 десятин, так что могли быть
высшие наделы; в 3 а/4, 3 V2, 4, 5, 6, 7 и 8
десятин. В черноземной полосе было уста¬
новлено пять разрядов норм: 3, 3 х/4, 3 V2,
4 и 41 /г десятины; наконец, в степной
полосе было установлено четыре нормы,
именно: 6 V2» 8 V2, 10 V2 и 12 десятин.
При установлении этих норм редакционные
комиссии отступили, как я сказал,
сильнейшим образом от постановлений гу¬
бернских комитетов в благоприятную для
крестьян сторону: в общем эти нормы
приблизительно в два раза превышали нор¬
мы, установленные губернскими комите¬
тами, ибо редакционные комиссии
признали, что постановление губернских
комитетов совершенно не соответствуют
действительности, действительному земле¬
пользованию крестьян, и на основании
статистических данных, собранных в гу¬
бернских же комитетах и проверенных
такими знатоками дела, как Самарин, Со¬
ловьев, П. Семенов и др., и были выработаны
первоначальные нормы редакционных
комиссий, которые приблизительно соответ¬
ствовали положению в нормальных имениях
у непритеснявших крестьян помещиков.
По , мере того как редакционные
комиссии встречались с соображениями и
возражениями депутатов губернских
комитетов и затем с возражениями своих
собственных членов, эти предположенные
нормы подвергались переработке, причем
многие разряды были понижены на Д, /2
десятины и даже на целую десятину.
Затем в Главном комитете, вследствие
того торга, который был произведен между
великим князем Константином Никола¬
евичем и графом Паниным, эти нормы оп¬
ять-таки подверглись урезке, и в результате
в некоторых уездах первоначально предпо¬
ложенные нормы были значительно сокра¬
щены. В конце концов, недостаточность
крестьянских наделбв произошла, однако,
не столько от урезки первоначально предпо¬
ложенных редакционными комиссиями
норм (в отдельных случаях эти урезки, мо¬
жет быть, были даже и правильно логически
обоснованы), сколько от того, что крестья¬
нам вообще отводились в лучшем случае
лишь те наделы, какие у них были при
крепостном праве, а эти наделы поглощали
лишь половину их наличных рабочих сил и
потому не могли обеспечивать их содер¬
жания и исполнения всех тех повинностей,
какие на них лежали.
Установление надельных норм приведе¬
но было в известное соотношение с теми
повинностями, которые за эти нормы были
установлены. При установлении размера
повинностей редакционные комиссии раз¬
делили опять-таки всю Россию на полосы;
но это были не совсем те полосы, на которые
была разделена Россия для установления
норм земельных наделов. Там, как я указал,
было принято три полосы: нечерноземная,
черноземная и степная, а здесь Россия была
разделена на четыре полосы: нечернозем¬
ную промышленную, т.е. оброчную, нечер¬
ноземную барщинную, затем черноземную
{которая вся признавалась барщинной) и,
наконец, степную. Таким образом, здесь
нечерноземная полоса разделена была на
оброчную и барщинную. Разумеется, в са¬
мых невыгодных условиях была нечернозем¬
ная барщинная полоса: земля в ней была
плохая, а заработков и промыслов неземле¬
дельческих не было, так что на плохой земле
велось чисто земледельческое хозяйство.
Исходя из этого деления, максимальный
или полный оброк, соответствовавший вы¬
сшей норме надела, установлен был так: для
полосы нечерноземной промышленной был
принят оброк в 9 руб. с души, за исклю¬
чением местностей, находящихся в особо
выгодных условиях, как подстоличные мес¬
тности и Ярославская губерния, где был
установлен оброк в 10 руб. Затем, в осталь¬
227
ных местностях, именно в нечерноземной
барщинной, черноземной и степной поло¬
сах, норма оброка первоначально была ус¬
тановлена везде в 8 руб. с души, ввиду того
что по тогдашним хозяйственным условиям
в черноземной полосе, несмотря на плодо¬
родную почву, вырабатывать деньги было
особенно трудно, а нормы наделов про¬
ектированы были там особенно скупо.
Но впоследствии на этих первых своих
постановлениях редакционные комиссии в
этом вопросе не удержались; вследствие воз¬
ражений со стороны депутатов губернских
комитетов и некоторых своих членов во вто¬
ром и в особенности в третьем периоде
деятельности редакционных комиссий было
признано необходимым повысить оброк в
черноземной полосе, так как качества почвы
в ней были весьма высоки; пришлось ус¬
тупить натиску помещичьей партии, и оброк
был здесь повышен до 9 руб. В полосах
нечерноземной барщинной и степной он был
оставлен равным 8 руб.
Как уже сказано, эти нормы полного
оброка приурочивались к высшему наделу
каждой данной местности: можно было в
каждом данном имении назначить полный
оброк только в том случае, если крестьяне
получали в нем высшую норму надела; если
же реформа их заставала с наделом
меньшим, то должны были соответственно
уменьшаться и нормы оброка. Но при этом,
однако, уменьшение оброка не происходило
пропорционально уменьшению количества
десятин в наделе, а рассчитывалось соответ¬
ственно особой системе градации, которая
была принята для оценки различных де¬
сятин надела. Эта система была изобретена
в Тверской губернии, где особенно полно и
своевременно был обсужен, как мы видели,
вопрос о том, как примирить интересы
помещиков промышленных губерний, кото¬
рые заключались в вознаграждении за отме¬
ну самого крепостного права, а не за потерю
земли, с тем, чтобы крестьянам были отве¬
дены достаточные наделы и чтобы вознаг¬
раждение формально приурочивалось к их
оценке. Здесь помещики воспользовались
той идеей, которая впервые явилась у
Левшина, когда он рекомендовал предо¬
ставить помещикам право оценивать усадь¬
бы крестьян по повышенным нормам, если
владение имй соединялось с предполагае¬
мыми особыми выгодами. Это, в сущности
говоря, и сводилось к тому, чтобы помещики
получили в прикрытом виде вознаграждение
за, потерю права на эксплуатацию личного
труда крестьянина, т.е. за отмену самого
крепостного права. В тверском проекте это
было переведено с усадеб на первые де¬
сятины надела, в которые включены были и
усадьбы. Поэтому первые десятины оценены
были непропорционально высоко; так,
например, при 3 /г десятины надела первая
десятина облагалась не 9 :3 V2, т.е. не 2
руб. 57 коп., а 4 руб., т.е. почти половиной
всей суммы оброка. Вторая десятина в тех
местностях, где существовало унавожение,
ценилась меньше первой, но несколько выше
остальных, а там, где унавожения не
производилось, все остальные десятины,
кроме первой, ценились поровну.
Таким образом, в местностях нечерно¬
земных, где было унавожение, при 3 1 /г
десятины надела и 9 руб. оброка за полный
надел на первую десятину падало 4 руб. на
вторую — 2 руб. 50 коп., на третью — 1 руб.
66 коп. и на половину четвертой — 83 коп.
Там же, где унавожения не было, на первую
десятину падало 4 руб., на вторую и третью
— по 2 руб. и на половину четвертой — 1
руб. При 8 десятинах надела первая де¬
сятина ценилась в 4 руб., вторая — в 1 руб.
60 коп., а все остальные — по 562/2 коп.
Таким образом, если, положим, в местно¬
стях, где полагалась 8-десятинная норма, у
крестьян в каком-либо имении оказывалось
в действительности не 8 десятин, а 7, то
вычиталась не V2 часть 9-рублевого оброка,
а всего 56 2/з коп.
Следовательно, уменьшение оброка бла¬
годаря этой системе градации не соответст¬
вовало пропорционально понижению
надела; благодаря этому обстоятельству при
низких наделах в тех местностях, где кре¬
стьяне были помещиками обездолены, где
при крепостном праве наделы были ниже
минимальной нормы, т.е. ниже г/з нормы
максимальной, то хотя здесь крестьяне
имели право требовать дорезки до этой
минимальной нормы, но им приходилось за
такую дорезку платить чрезвычайно дорого,
и это зависело от того, сколько вообще де¬
сятин в данной местности приходилось на
нормальный надел. Если, например, это был
6-десятинный район, где за полный надел
крестьяне платили 9 руб., и если здесь
помещик у них обрезал надел при крепост¬
ном праве так, что он был менее 2 десятин,
т.е. меньше чем */з максимального надела,
то крестьяне могли требовать, чтобы им было
дорезано земли до 2 десятин, и тогда, полу¬
чая надел, равный одной трети высшего
надела, платили они за него не 1/ъ высшего
оброка, не 3 руб., а б руб., т.е. 2/з нормаль¬
ного оброка, который был установлен за
высший надел.
Таким образом, понятно, что в особен¬
ности в таких имениях, где крестьянам
приходилось выбирать между низшими на¬
делами и четвертными — нищенскими,—
им было выгоднее получить нищенский на¬
дел бесплатно, чем за третной надел
платить 2/з высшего оброка. Этим главным
образом и объясняется то, что крестьяне во
многих местностях требовали, чтобы им
были отведены эти даровые четвертные на¬
делы, а помещики на это не соглашались,
отчего и возникла потом значительная часть
волнений, сопровождавших введение устав¬
ных грамот.
Из изложенного вы видите, какие наде¬
лы получили крестьяне при ликвидации кре¬
постного права и какие платежи им
приходилось нести за эти наделы. В местно¬
стях, землею обеспеченных, они получили
землю, которая вообще приблизительно рав¬
нялась половине того количества, которое
целиком могло поглотить их наличные
рабочие силы, потому что они получили
maximum ту часть земли, которую они имели
при крепостном праве, а обработка этой
земли, как вы знаете, поглощала только три
дня в неделю — остальное, иногда и больше,
шло на барщину. Благодаря тому что полу¬
ченные крестьянами наделы соответствовали
только половине тех рабочих сил, которые
они имели, если крестьяне пожелали бы
сполна утилизировать свои рабочие силы в
сельском хозяйстве, им приходилось уже
тогда остальную половину земли или
нанимать у помещиков, или самим
наниматься, или искать заработка на сторо- j
не на уплату податей и оброков и на покупку
тех предметов, которые им были необ¬
ходимы, но которых они не могли вырабаты¬
вать в своих хозяйствах. С уплотнением
населения стеснение в этом отношении ста¬
новилось все более и более чувствительным.
От этого, разумеется, в местностях земле¬
дельческих росли арендные цены, порождая
сильное обеднение крестьянства, благодаря
чему именно в самой богатой по природе
части России у крестьян замечается в
- настоящее время наибольшая нужда. Имен¬
но крестьяне черноземных местностей, осо¬
бенно благодатных по природе, как Тульская
или Тамбовская губернии, живут гораздо
беднее, нежели крестьяне Тверской или
Ярославской губерний, где земля дает мало,
но где крестьяне получают заработки не от
земли, а от тех промыслов, к которым они
привыкли.
Свои наделы крестьяне получили, по
Положению 19 февраля, в «бессрочное»,
или, как настоял Панин, в «постоянное»
пользование, что в сущности одно и то же.
Затем им предоставлялось уже по доброволь¬
ным условиям с помещиками выкупать
повинности, положенные за отведенную им
землю, после чего земля становилась их
собственностью. Выкупалась* не земля, а !
именно повинность. При этом обязатель¬
ность выкупа для помещиков была отверг- j
нута: и Александр II, и Ростовцев признали '
возможным согласиться только на выкуп
факультативный, добровольный с обеих
сторон. Однако же оказалось, как это можно
было предвидеть и с самого начала, огромное
большинство помещиков фактически долж¬
но было пойти на выкуп. В губерниях нечер¬
ноземных они сами этого желали; в
губерниях черноземных, особенно в
барщинных имениях, положение их вскоре
сделалось для них фактически невы¬
носимым. Здесь крестьяне платили не оброк
в той форме, как я вам описывал, а должны
были в первые два года обязательно отбывать
барщинные работы. Барщина при этом была
сокращена, и у помещиков отнято было пра¬
во непосредственной домашней расправы с
барщинными крестьянами, к которой они
привыкли и без которой крестьянам удобно
было уклоняться от тех урочных положений,
которые были составлены; а помещикам
представлялось невыносимым унижением
жаловаться в таки* случаях на своих вче¬
рашних крепостных посредникам и ста¬
новиться с ними перед лицом посредника в
роли равноправной стороны. Крестьяне во
многих местностях до такой степени усвоили
себе выгоды этого нового положения, что
отказывались по истечении двухлетнего сро¬
ка переходить с барщины на оброк, а хозяй¬
ство помещичье в таких имениях,
естественно, падало; поэтому очень скоро и
в черноземных губерниях помещики стали
стремиться к выкупу как к единственному
средству развязаться со своими крепост¬
ными. Благодаря этому обстоятельству, бла¬
годаря трудности для помещиков в
земледельческих местностях получать соот¬
ветственные плоды от барщины, выкупная
операция пошла и здесь так быстро, как
никто не ожидал, так что если не
исполнилось требование тверского дворянст¬
ва относительно обязательного выкупа, то, во
всяком случае, этот факультативный выкуп
229
совершался достаточно быстро и часто за¬
держивался лишь по нежеланию самих кре¬
стьян идти навстречу помещичьим
предложениям.
Такова была экономическая сторона
реформы 19 февраля для крестьян и для
помещиков. Собственно, на дворянстве
ликвидация крепостного права отозвалась не
одинаково в различных местностях. В чер¬
ноземных губерниях, хотя помещики и
пережили довольно трудное время благодаря
трудным для них условиям барщинного
периода, в конце концов они остались хозя¬
евами своих имений. Большая часть земли
осталась у них, свободных рабочих рук было
достаточно, цена на эти рабочие руки уста¬
новилась, благодаря населенности этой пол¬
осы России и отсутствию заработков
неземледельческих, небольшая, и хозяйство
было вести нетрудно. Да они еще получили
выкуп и могли этот выкуп или употребить на
улучшение хозяйства или на уплату своих
долгов, что было для них особенно важно.
Можно было, наконец, и не вести своего
хозяйства, а сдавать землю в аренду, причем
арендные цены росли чрезвычайно быстро
вследствие недостаточности крестьянских
наделов.
Но в полосе нечерноземной, промыш¬
ленной помещики, раз лишившись крепост¬
ного права и получив выкуп, мало-помалу в
большинстве случаев совершенно
ликвидировали свои связи с данной местно¬
стью; очень немногие удержались на земле
и стали или заводить хозяйства там, где их
не было» или поддерживать прежние хозяй¬
ства. Обрабатывать свои земли здесь было
трудно, так как промышленное население
нелегко было нанять на земледельческие
работы, ибо оно легко находило заработок на
стороне и очень мало было заинтересовано в
найме на сельскохозяйственные работы.
Таким образом, большая часть помещиков
этих губерний принуждена была здесь
ликвидировать свое помещичье хозяйство и
употребить полученные капиталы, если они
не были просто прожиты, на какие-нибудь
промышленные цели. Благодаря этому
обстоятельству отмена крепостного права
повлияла и в этом отношении благотворно на
развитие промышленности, так как явились
новые свободные капиталы, которые могли
быть употреблены на промышленные цели.
"В заключение скажем еще раз, что глав¬
ное значение отмены крепостного права за¬
ключалось, конечно, не только в тех
экономических последствиях, которые она
имела для крестьянства, дворянства и про¬
мышленности страны, хотя эти последствия
были огромны. Еще громаднее было зна¬
чение того коренного изменения в правовом
положении страны, которое произошло от
, падения крепостного права. Только после
отмены крепостного права возможны сде¬
лались все те великие преобразования, кото-
> рые были проведены в эпоху 60-х годов.
Прежде всего это нужно сказать относитель¬
но суда; только после того, как отменой
крепостного права был расчищен путь для
судебной реформы, она могла состояться.
Весь административный строй также
покоился при крепостном праве на сослов¬
ном начале с преобладанием дворянства, и
уже само по себе то обстоятельство, что
j крестьянская реформа упразднила прежний
I крепостнический административный строй,
\ на местах вызвало необходимость
произвести новые административные рефор¬
мы, так как возникал определенно неотлож¬
ный вопрос: кто же, собственно, будет
заботиться о благосостоянии местного насе¬
ления, о его лечении, школах, проведении
дорог, об удовлетворении общекультурных
нужд? В крепостное время все это лежало
исключительно на помещике; у себя в
имении помещик был вполне господином, а
центральная власть спокойно полагалась на
его полицеймейстерство, на котором держал¬
ся весь полицейский строй дореформенной
России. Теперь явилось пустое место, и его
можно было Заполнить или проведением
сверху донизу бюрократического начала, что
было, конечно, совершенно немыслимо
просто уже потому, что у бюрократии не
хватило бы на это наличных сил, или вве¬
дением самоуправления на местах. И поэто¬
му, естественно, совокупность всех
создавшихся с отменой крепостного права
условий необходимо требовала проведения в
том или ином виде системы местного само¬
управления. И притом, раз крепостное право
было отменено, явилась возможность го¬
ворить о самоуправлении всесословном; цен¬
тральной власти оно представлялось даже в
тот момент безопаснее аристократического
дворянского, так как олигархические притя¬
зания, громко раздававшиеся в то время,
смущали центральную власть сильнее, не¬
жели демократические начала.
Таковы былй последствия падения кре¬
постного права для страны.
230
ЛЕКЦИЯ XXIII
Влияние разработки крестьянской реформы на общество и печать. — Положение печати в 1855 г. —
Исключительное положение Герцена, его пророчество в 1853 г. и профамма его в 1855 — 1858 гг. —
Отношение к нему либералов. Роль и значение «Колокола» в деле реформы и в развитии общественного
мнения в России. — Дифференциация направлений в обществе и в печати после 1858 г. — Позиции
различных органов печати. — Радикализация «Современника» и отношение к нему Герцена в 1859 —
1860 гг. — «Русский вестник» и другие либеральные органы. — Позиция и роль славянофилов в эту эпоху.
— Общественные требования, наметившиеся в 1859 — 1861 гг. — Сравнение их с видами правительства
в этот момент.
В предшествующих лекциях я успел
изложить более или менее подробно весь ход
крестьянской реформы, а в последней
лекции остановился на анализе самих поло¬
жений 19 февраля, теперь я постараюсь
осветить влияние выработки этих положений
на развитие общественной мысли и на рост
настроения в различных общественных кру¬
гах. Вместе с тем я постараюсь проследить
и ту дифференциацию политических взгля¬
дов и направлений, которая произошла на
этой почве в печати, и выяснить попутно
влияние печати на ход крестьянской рефор¬
мы и отношение к печати правительственной
власти. Наконец, я имею в виду очертить ту
программу преобразований различных сто¬
рон государственной жизни, которая окон¬
чательно сложилась к этому времени в
правительственных кругах, а также те обще¬
ственные требования, которые были фор¬
мулированы в 1861 г. или к 1861 г. в
передовой печати й заявлениях различных
общественных учреждений. Я уже мельком
касался положения печати в 1855 г. Вы
видели, что это положение было чрезвычайно
затруднительное в цензурном отношении. В
сущности говоря, тогда общественные
политические / вопросы для печати были
почти неприкосновенны, и вместе с тем надо
сказать, что после того гнета, который рус¬
ское общество испытало в продолжение всего
царствования Николая Павловича и в осо¬
бенности в последние семь лет этого царст¬
вования, его деятельность и его мысль были
до такой степени подавлены, что оно мало
было и подготовлено к действительному
участию в той работе, которая предстояла
стране. \
Несмотря на общее единодушное соз-^
нание необходимости коренных преобразо- ;
ваний, общество очень робко и чрезвычайно
неопределенно намечало те пути, по кото- ;
рым, по его мнению, эти преобразования
должны были двинуться.
В сущности говоря, при полном едино¬
душии в настроении общества, по крайней
мере наиболее образованной и прог¬
рессивной его части, в нем замечалось такое
же отсутствие всякого определенного и про¬
думанного плана практических преобразо¬
ваний, какое наблюдалось и в
правительственных кругах при самом
приступе к реформам. Общество, как вы
видели, было настроено чрезвычайно
оптимистически по отношению к новому
государю, и этот оптимизм почти граничил
с апатией. Все очень розово смотрели на
настроение Александра и все попечения
свои возлагали на правительственную дея¬
тельность, не проявляя со своей стороны
почти никакой инициативы. Это состояние,
конечно, еще усиливалось тем тяжелым
положением, в котором находилась печать в
цензурном отношении, полной невозможно¬
стью громко высказать с некоторой свободой
свои взгляды и мнения по политическим и
социальным вопросам — даже для тех не¬
многих людей, которые их имели. Впрочем,
и в тех рукописных проектах и записках,
которые, как я уже упоминал, тогда ходили
в значительном числе по рукам и достав¬
лялись и самому правительству и которые
ведь никакой цензуре не подвергались, на¬
строение было чрезвычайно скромное, и те
программы, которые вы можете вычитать из
этих произведений, в сущности говоря, впол¬
не сходились с той скромной программой
Чернышевского 1855 г., о которой я вам
говорил.
Совершенно исключительным было, ко¬
нечно, положение Герцена, который в это
время владел собственным печатным стан¬
ком в Лондоне и мог, не подвергаясь
никаким цензурным стеснениям, совершен¬
но свободно высказывать свои мнения. И
надо сказать, что не только его положение
было совершенно исключительным в цензур¬
ном отношении, но и он сам являлся
исключительным по своей подготовке знато¬
ком современной ему России и благодаря
этому мог являться в отношении некоторых
вопросов почти что пророком. Так, еще в
231
1853 г., когда еще царствовал Николай I,
когда еще не начался тот кризис николаев¬
ской системы, который создался во время
Крымской войны и который на многое
открыл глаза людям заурядным, Герцен со¬
вершенно определенно предсказывал, что
падение крепостного права «необходимо,
неминуемо, неотразимо» и что оно последует
в ближайшем будущем. Уже тогда Герцен
провозгласил свою радикальную программу
решения крестьянского вопроса и требовал
не только полного освобождения крестьян,
но и освобождения их со всей землей, кото¬
рою они пользовались при крепостном хо¬
зяйстве. Когда Александр II вступил на
престол, Герцен тотчас же почувствовал пот¬
ребность и даже обязанность завести свой
руководящий орган для выражения свобод¬
ной мысли по поводу очередных неотложных
вопросов русской государственной и обще¬
ственной жизни. В 1855 г. он начал выпу¬
скать свои книжки «Полярной звезды», а в
1857 г., когда был образован негласный
комитет по крестьянскому делу, Герцен
предпринял издание -газеты, которая вы¬
ходила сперва раз в две недели, а потом и
раз в неделю, под названием «Колокол».
Этот «Колокол» приобрел огромное зна¬
чение, и, например, Катков, посетив Герце¬
на в 1858 г. в Лондоне, говорил ему, смеясь,
что его «Колокол» лежал на столе у Ростов¬
цева для справок по крестьянскому вопросу.
Надо сказать, что «Колокол», как орган, в
котором с непривычной резкостью раскры¬
вались все язвы современной русской госу¬
дарственной и общественной жизни и
беспощадно обличались злоупотребления и
некрасивые поступки отдельных должност¬
ных лиц, являлся вместе и постоянной гро¬
зой для лиц, стоящих во главе управления,
и таким учреждением, которое постоянно
толкало правительство и общество вперед и
не давало остановиться. Герцену некоторые
современники, в особенности Чичерин в
статье, которую он потребовал напечатать в
«Колоколе», ставили в упрек ту нервность,
страстность, порывистость и неровность
суждений, которые у него постоянно прояв¬
лялись в «Колоколе», те постоянные перехо¬
ды от признания заслуг правительства к
громким и резким его порицаниям, к безна¬
дежным статьям о его деятельности; одним
словом, Герцена упрекали в некоторой не¬
стойкости, именно благодаря той страст¬
ности, с которой он вел свою линию. Герцен
на это отвечал чаще всего, что линия его, в
сущности, всегда одна, что он всегда с тем,
кто освобождает, и пока он освобождает. В
значительной мере эти резкие скачки от
признания заслуг к порицаниям объяс¬
нялись непоследовательностью самого
правительства, которое точно так же — за
исключением разве крестьянской реформы,
и то только тогда, когда мнение его вы¬
яснилось, — во всех остальных вопросах,
например, по отношению к печати, rto отно¬
шению к университетам, постоянно колеба¬
лось и то двигалось вперед, то отступало
назад, так что само давало повод к тем
противоречивым суждениям, которые с пол¬
ной свободной и, разумеется, без недоступ¬
ной ему точной проверки Герцен печатал в
«Колоколе».
Как бы там ни было, до 1858 г. «Коло¬
кол» был единственным органом, где свобод¬
но могли высказываться суждения русских
передовых людей, могло выражаться не¬
зависимое общественное мнение, и этом
отношении он, несомненно, имеет огромные
заслуги и по своему толкавшему и постоянно
двигавшему вперед влиянию на правитель¬
ство, и по своему влиятельному участию в
сформировании общественного мнения
страны и в направлении его в более прог¬
рессивную и трезвую сторону.
Что касается журналов, выходивших в
это время в России, то указанное мною
непосредственное и слишком оптимистиче¬
ское настроение, которое было общо им всем
в первые годы царствования Александра II,
— настроение, при котором исчезли даже
ранее существовавшие различия в направ¬
лении западников и славянофилов, — стало
заметно дифференцироваться и индивиду¬
ализироваться в более определенные и
различные между собой направления и те¬
чения общественной мысли лишь с 1858 г.
— с того момента, когда печати было впер¬
вые дозволено обсуждать крестьянский воп¬
рос, когда в то же время во всех губерниях
постепенно стали открываться губернские
комитеты, которые хотя и были учреж¬
дениями закрытыми, но, тем не менее, не
делали особого секрета для публики из своих
работ. Многие из них печатали даже свои
журналы, и деятельность их, несомненно,
поощряла и создавала огромную работу
мысли во всех слоях тогдашнего грамотного
населения России — как провинциального,
так и столичного. С этого момента, и в
особенности когда правительство вскоре
попыталось ограничить только что дарован¬
ное право свободно высказывать суждения и
взгляды частных лиц на способы решения
232
крестьянского вопроса, лишь только обна¬
ружилось существенное различие во взгля¬
дах на этот вопрос Главного комитета и
прогрессивных представителей общества,
когда, с другой стороны, стали известны те
корыстные взгляды и поползновения, кото¬
рые проявились во многих дворянских гу¬
бернских комитетах, то процесс выделения
из общего хода тогдашней прогрессивной
печати особых более или менее радикальных
направлений проявился с необыкновенной
силой и быстротой.
Прежде и ярче стал выделяться из обще¬
го хода налево «Современник», руко¬
водимый тогда Чернышевским и
Добролюбовым. «Современник» издавался в
это время, как и при Николае I, когда еще в
нем проповедовал до 1848 г. Белинский,
Панаевым и Некрасовым. Но они сами не
являлись влиятельными руководителями
этого органа. После смерти Белинского, в
эпоху глухой реакции, в этом журнале
объединились все главные литературные
силы того времени — так называемые писа¬
тели 40-х годов, которые в своих обществен¬
ных взглядах шли более или менее за
Белинским, именно за Белинским последне¬
го времени его жизни. Эти писатели, кото¬
рые выражали стремления лучшей части
русского общества 40-х годов, являлись
определенными либералами, но не радика¬
лами. Однако наряду с лими уже появились
в том же «Современнике» представители
нового поколения, сперва в лице Чернышев¬
ского, который, будучи несколько старше
Добролюбова, Писарева и других людей
60-х годов, вступил в «Современник» еще в
начале 50-х годов, а затем и в лице совер¬
шенно юного Добролюбова, который вы¬
ступил на литературную арену с 1857 г.
двадцатилетним юношей и сразу же проявил
необычайные дарования и необыкновенную
самостоятельность взглядов. В 1858 г., когда
определенно стал на очередь крестьянский
вопрос, Чернышевский специализировался
на экономических вопросах и на крестьян¬
ском деле, а Добролюбову предоставил ту
позицию литературного критика, которая в
тогдашних журналах имела такую огромную
важность ввиду того, что тогдашняя критика
в толстых журналах заменяла собою и всю
публицистику, благодаря чему задачи ее
были гораздо шире ее формальных рамок.
Поэтому лицо, заведовавшее отделом
критики в тогдашнем журнале, имело то же
значение, которое имеет запевала в хоре или
первая скрипка в оркестре. Это положение
и занял в «Современнике» юный Добролю¬
бов, который очень недолго был под руковод¬
ством Чернышевского и быстро сделался его
самостоятельным соратником и другом. Но
по своим взглядам он явился не только
наследником заветов ♦ Белинского, заветов
радикальной критики 40-х годов, но и его
продолжателем и первым последовательным
провозвестником в русской критике на¬
роднических принципов и идеалов1.
Этй молодые руководители «Совре¬
менника» очень скоро столкнулись внутри
редакции с представителями старшего поко¬
ления: Тургеневым, Григоровичем, Гончаро¬
вым и другими беллетристами 40-х годов, к
которым примкнул и только что вошедший в
«Современник» Толстой.
Добролюбов очень быстро почувствовал
неудовлетворенность общим развитием и на¬
правлением русского прогресса и чрезвы¬
чайно страстно стал выражать свое
нетерпение и недовольство. Добролюбову
представлялось, что этот умеренный и
робкий прогресс есть топтание на одном
месте; он выражал недовольство теми ук¬
лончивыми и робкими обличениями неправ¬
ды и язв русской жизни, которые
допускались в печати. С другой стороны, и
на Чернышевского и на Добролюбова чрез¬
вычайно резко подействовал условный дво¬
рянский эгоизм, обнаружившийся в
деятельности губернских комитетов, и Чер¬
нышевский, который еще в феврале 1858 г.
славословил Александра II и в апреле писал
комплименты либеральным помещикам, к
концу этого года заговорил уже совсем
другим языком. Как раз в это время в обсуж¬
дении печатью крестьянского вопроса
произошел некоторый перерыв. Когда в ап¬
реле 1858 г. в «Современнике» было напеча¬
тано продолжение статьи «О новых условиях
сельского быта», где Чернышевский
поместил в больших выдержках тот проект
Кавелина о решении крестьянского вопроса,
который с 1856 г. ходил по рукам и очень
хорошо был известен правительству, то
статья эта, как я уже говорил, показалась
тогда крайне опасной правительству тем, что
в ней настойчиво проводилась мысль о не¬
обходимости передачи земли в собствен¬
ность крестьян при помощи выкупа, что
совершенно не соответствовало тогдашним
видам правительства. На напечатание этого
проекта в журнале в правительственном кру¬
гу смотрели как на величайшую дерзость, и
по требованию Главного комитета тотчас же
издан был циркуляр, запрещавший при
213
обсуждении крестьянской реформы касать¬
ся вопроса о выкупе и об отмене вотчинной
власти, что делало, конечно, невозможным
дальнейшее сколько-нибудь свободное
обсуждение крестьянского вопроса. Этот
циркуляр и неприятности, лично постигшие
тогда Кавелина, произвели гнетущее впечат¬
ление не только на «Современник», но и на
других представителей передовой печати.
Катков (тогда либерал) с этого момента де¬
монстративно прекратил только что откры¬
тый отдел по крестьянскому вопросу в
«Русском вестнике», а «Сельское благоуст¬
ройство», открытое славянофилами на
деньги главным образом Кошелева, издатели
его даже собирались совсем прекратить.
Продолжалось это недолго. Взгляды
правительства на выкуп, как вы знаете,
скоро переменились; оно увидело выгодные
стороны решения вопроса именно этим
путем, увидело опасности, которыми грозило
«срочнообязанное» положение, и тогда жур¬
налам было предоставлено (с осени 1858 г.)
опять более или менее свободно обсуждать
крестьянский вопрос, и они вернулись к
этому обсуждению, но уже в совершенно
ином настроении. И вот с конца 1858 г. и в
особенности в начале 1859 г. Чернышевский
начинает печатать по крестьянскому вопро¬
су чрезвычайно резкие статьи с громким
обличением помещичьего эгоизма, корыст¬
ных поползновений и чрезмерных ап¬
петитов, которые он усматривал в работах
многих губернских комитетов. Со своей сто¬
роны он предлагает теперь такие радикаль¬
ные пути для решения крестьянского
вопроса, которые представляются совершен¬
но неприемлемыми для правительства и
разорительными для помещиков.
В то же время Добролюбов доходит до
апогея в своих нападках на неустойчивость
и неопределенность дворянского либе¬
рализма и на трусость и невыдержанность
русского прогресса. Такое именно значение
имели его статьи о «Губернских очерках»
Щедрина и по поводу «Обломова»Гончарова.
Герцен, прочитав известную статью «Что
такое обломовщина?», нашел, что «Совре¬
менник» пошел слишком далеко налево, и
почувствовал необходимость его сдержать. В
1859 — 1860 гг. в заграничном «Колоколе»
появились статьи, остерегавшие «Совре¬
менник». Такова статья «Very dangerous» и
напечатанная год спустя знаменитая статья
Герцена «Лишние люди и «желчевики», где
он защищал дворянский либерализм от
слишком резких нападок Чернышевского и
Добролюбова. Таким образом, «Совре¬
менник» в 1858 — 18.60 гг. занял позицию
более левую, чем даже заграничный «Коло¬
кол» Герцена.
Главным представителем либерального
течения, притом либерально-демократичес¬
кого характера, примыкавшим по крестьян¬
скому вопросу к точке зрения Унковского и
тверских либералов, был в это время
«Русский вестник» Каткова. Катков являлся
тогда, быть может, наиболее последователь¬
ным и стойким сторонником либерализма и
врагом всякой правительственной ферулы.
До некоторой степени этому направлению
следовали «Отечественные записки» Крае-
вского, но они были в это время в упадке и
издавались под редакцией Дудышкина, че¬
ловека робкого и не пользовавшегося
никаким влиянием. Наконец, петербургский
толстый журнал «Библиотека для чтения»,
приобретенный в это время Дружининым,
стремился сделаться органом, так сказать,
английского конституционного торизма, т. е.
он, собственно, мечтал о создании в России
партии просвещенных консерваторов, кото¬
рые не отвергали бы необходимости свобод¬
ной политической жизни, но считали бы
необходимым, проведя определенные либе¬
ральные реформы, затем остановиться и
свести задачи ближайшего дня к укреп¬
лению занятых позиций, а не к непрерывно¬
му движению вперед. Надо сказать, что и
этому журналу недоставало талантов; хотя
туда и обещали статьи некоторые из старых
сотрудников «Современника», но давали ма¬
ло, и «Библиотека для чтения»не сыграла
той роли, которую собиралась сыграть.
Представителем славянофильских
взглядов являлся основанный в 1856 г. жур¬
нал «Русская, беседа»; это, собственно, не
был настоящий журнал, а скорее сборник;
выходил он сперва четыре раза в год, потом
шесть раз и не имел постоянного политиче¬
ского обозрения, а поэтому лишен был воз¬
можности достаточно живо отзываться на
злобы дня. Но, тем не менее, здесь славя¬
нофильские взгляды имели возможность вы¬
ражаться достаточно ярко и полно. Наряду
с этим у славянофилов были попытки за¬
вести и свою газету. Так, в течение 1857 г.
издавалась газета «Молва», но в тот момент
чрезвычайно были еще плохи цензурные
условия, нельзя было ничего говорить о кре¬
стьянском вопросе; газета была прекращена
в конце 1857 г. Затем в 1859 г. Иван Аксаков,
которому с 1852 г. было запрещено высту¬
пать редактором и даже печатать свои
234
статьи, наконец выхлопотал себе разре¬
шение издавать газету и начал было издание
«Паруса», но он повел его настолько резко,
что правительство на втором номере его
закрыло.
Надо сказать,что вообще славянофилы
занимали совершенно особую позицию. С
одной стороны, они являлись как будто кон¬
серваторами par exellence и даже реакционе¬
рами; они в некоторых отношениях хотели
бы повернуть дело к допетровскому времени.
Они признавали, что петровские реформы,
приобщившие Россию к западной
цивилизации, вообще являются искажением
природных свойств России, и требовали воз¬
вращения к такой глубокой стране, которое
было даже немыслимо. Славянофилы иде¬
ализировали эту старину; они считали, что
будто бы отличительной чертой этой старины
являлась свобода общества от всякого вме¬
шательства правительственной власти в
общественную, общинную и частную жизнь,
и они, стоя, с одной стороны, за сохранение
самодержавной власти, признавая, что и
православие, и самодержавие являются
исконными необходимыми устоями русской
жизни, в то же время под православием
разумели свободную от всякого внешнего
воздействия, свободную от всякой службы
государству церковь и отрицали то казенное
православие, которое существовала в совре¬
менной им жизни; по отношению же к са¬
модержавию признавали, что вообще, как
сказано было в записке, представленной в
самом начале царствования Александру II
Константином Аксаковым, сила власти дол-
жна принадлежать царю, но сила мнения
народу, и в этом отношении взгляды их были
достаточно радикальны: они желали,
например, не облегчения положения печати,
а полной свободы слова, и точно так же и в
религиозных вопросах они требовали полной
неограниченной свободы совести и ве-
роисповедования2. Они не допускали в час¬
тной жизни и в общинном быте никакого
регулирования или вмешательства государ¬
ственной власти. Знаменитый вопрос о рус¬
ском платье, права носить которое они
добивались еще при Николае, отнюдь не
сводился для них к полицейскому распоря¬
жению переодеть всех в русское платье;
такое распоряжение власти они сочли бы за
новое недопустимое вмешательство
правительства во внутренний быт общества.
В этом отношении они были последователь¬
ными и правоверными либералами и требо¬
вания свои выражали достаточно резко и
радикально. Поэтому свои идеи им не уда¬
валось проводить в печати; только одна
попытка удалась и сыграла большую роль —
это издание Кошелевым при большом
участии Самарина и Черкасского журнала
«Сельское блaroycfpoйcтвo». Этот журнал
существовал только один год, выходя ежеме¬
сячно при «Русской беседе», и в нем печа¬
тались исключительно статьи по
крестьянскому вопросу, большую часть ко¬
торых писали члены губернских комитетов,
принадлежавшие к прогрессивному
меньшинству. И в среде губернских комите¬
тов статьи эти сыграли большую роль. В
общем статьи эти были все, конечно, прог¬
рессивного характера; но слишком опреде¬
ленного направления относительно способа
решения крестьянского вопроса журнал не
придерживался, в нем были статьи и за
немедленный выкуп, и против него, хотя
преобладающее значение имели статьи
таких деятелей реформы, как Ю. Самарин,
Черкасский и сам Кошелев. Чернышевский
и Добролюбов и в 1860 г. признавали что из
всех журналов, кроме «Современника»,
«Сельское благоустройство» единственный
вполне честный журнал, который честно и
добросовестно относится к крестьянскому
делу. Добролюбов называл его даже «ум¬
нейшим и дельнейшим» журналом по кре¬
стьянскому вопросу, хотя и полемизировал
с ним по многим пунктам.В Москве издавал¬
ся и другой журнал, посвященный
специально крестьянскому вопросу, — это
был «Журнал земледельцев» Желтухина,
который получил славу органа крепостниче¬
ского, что было, однако же, не вполне спра¬
ведливо. Определенной программы этот
журнал, в сущности говоря, не имел, хотя
здесь писали главным образом пред¬
ставители черноземных губерний, и поэтому
в большей части статей журнал стоял на
стороне безземельного освобождения кресть¬
ян. Но были статьи, вполне добросовестно
отстаивавшие точку зрения рескрипта 20
ноября 1857 г. и даже стоявшие за сохра¬
нение крестьянам земли, и в этом журнале.
Принципиально за интересы крупного зем¬
левладения и за водворение в России фер¬
мерского хозяйства, на манер английского,
стоял другой орган, именно «Экономический
указатель»профессора И. В. Вернадского.
Это был орган чистого манчестерства, весь¬
ма прямолинейно проводивший свои взгля¬
ды, но это было, в сущности, вполне
академическое издание, а не живой
практический орган, как «Сельское благо¬
235
устройство» и «Журнал землевладельцев».
Поэтому и роль его была менее значительна.
Широкая публика знала о нем больше по
острой полемике* которую вел с ним Черны¬
шевский.
В этот период с 1859 по 1861 г., в период,
когда определилась та дифференциация на¬
правлений в печати, о которой я вам только
что говорил, несмотря на то, что цензурный
устав оставался прежний и что время от
времени появлялись даже разные циркуля¬
ры, которые по тому или иному вопросу
воспрещали печати иметь свободное суж¬
дение, — несмотря на эти досадные тормо¬
зы, свобода печати все более и более
усиливалась, газеты и журналы, следуя
росту общественного настроения, все более
и более осмеливались, все более и более
расширяли область фактически дозволен¬
ных к обсуждению вопросов и, собственно,
к концу этого периода, именно к 1861 г.,
печать-таки захватила в область своего
обсуждения почти все те вопросы политиче¬
ской и социальной жизни, которые в то
время стояли на очереди. Надо сказать, что
сами эти вопросы все более и более разра¬
стались. С того момента, как при вступ¬
лении на престол Александра II начался
более или менее свободный рост обществен¬
ного сознания, сознание это сделало много
шагов вперед, и от той неопределенности
взглядов и того отсутствия инициативы, ко¬
торые наблюдались в начале царствования,
через пять лет не оставалось и следа. На¬
против, после того как по целому ряду воп¬
росов, связанных так или иначе с
крестьянской реформой, высказались гу¬
бернские комитеты, как, например, по воп¬
росу о реорганизации местного управления
на началах самоуправления или по вопросу
о судебной реформе и о введении суда
присяжных; после того как затем вопросы
эти уже в виде определенных требований
были формулированы в адресах, поданных
депутатами губернских комитетов; после то¬
го как требования эти еще раз резко обоз¬
начились в речах и адресах, которые после
этих речей проходили в губернских соб¬
раниях 1860 г., отголоски всего этого в
передовой печати дали довольно закончен¬
ную программу преобразований, связанных
более или менее с крестьянской реформой,
в том смысле, что крестьянская реформа или
очищала для них путь, или прямо, так ска¬
зать, делала неизбежным проведение их в
жизнь для заполнения тех пустых мест,
которые образовались после падения крепо¬
стного права. К числу таких преобразований
прежде всего, конечно, нужно отнести имен¬
но вопрос об организации местного самоуп¬
равления, вопросы судебной реформы —
преобразования судоустройства и судоп¬
роизводства в России, затем требование пол¬
ной гласности и свободы печати и целый ряд
более или менее важных вопросов культуры
и просвещения и удовлетворения хозяйст¬
венных и промышленных нужд про¬
будившейся к новой жизни страны.
В тех «Голосах из России», в которых
Герцен продолжал параллельно с изданием
«Колокола» печатать присылавшиеся ему
записки и проекты, которые не могли быть
напечатаны в России и при этих
улучшившихся условиях цензуры, мы мо¬
жем видеть в самом чистом виде рост этого
настроения и развитие этих преобразова¬
тельных планов. В самом конце этого
периода, уже перед изданием положений 19
февраля, в конце 1860 г. вышла последняя
девятая книжка этих «Голосов из России»,
и в ней, вместе с так называемым
«Политическим завещанием» Ростовцева,
которое он составил перед смертью для
Александра II, была напечатана и особая,
никем не подписанная записка о желатель¬
ном направлении крестьянской реформы.
Издатели «Колокола» определенно указы¬
вали, что если бы редакционные комиссии
последовали советам автора этой записки, то
в России было бы истинное, а не мнимое
освобождение крестьян, и что, собственно,
если они добросовестно взглянут на дело, то
они должны будут этим указаниям последо¬
вать. Однако указаниям этим редакционные
комиссии не могли уже потому последовать,
что в этот момент они уже были закрыты.
Надо, впрочем, сказать, что хотя они и не
последовали этим советам, но все же их
работой «Колокол» оставался в конце концов
как будто более или менее удовлетворен, и,
печатая тут «Политическое завещание» Ро¬
стовцева, он теперь, вместо постоянных на¬
падок и глумления, которыми он осыпал
Ростовцева при жизни, наконец отдал ему
справедливость после его смерти, указав, что
если у него и у руководимых им комиссий
было много отступлений и колебаний в на¬
меченном им пути, то все-таки нельзя не
признать его определенной огромной за¬
слуги, а именно того, что Ростовцев отстоял
освобождение крестьян с землею, и эта за¬
слуга в глазах «Колокола»являлась такой, за
которую ему можно было отпустить все его
прегрешения — действительные и мнимые.
«Пусть же, — сказано было в этой книжке,
— имя, записанное в истории русской сво¬
боды по черному и по белому, добром помя-
нется в великодушной памяти народной».
В записке же, которая была тут же
напечатана и которую я по некоторым сооб¬
236
ражениям склонен приписать Н.А. Серно-
Соловьевичу, была (в заключительной ее
части) формулирована та программа необ¬
ходимых преобразований, к которой пришло
в то время мнение передовых общественных
групп в России. «В заключение, — пишет
автор, — перечислим главнейшие требо¬
вания общественного мнения, требования не
только вполне законные, но и крайне уме¬
ренные, потому что ими давно уже пользу¬
ются все сколько-нибудь образованные
государства:
1. Освобождение крестьян с землей.
2. Равенство всех перед судом и законом.
3. Совершенное отделение судебной
власти от административной; суд присяж¬
ных.
4. Преобразование полицейского управ¬
ления.
5. Ответственность всех органов управ¬
ления, начиная с министров.
6. Право поверки над собиранием и
расходованием платимых народом в казну
денег.
7. Право контроля над изданием новых
законов.
8. Свобода совести и вероисповедания.
9. Свобода печати.
10. Отмена откупной монополии и изме¬
нение законов, стесняющих торговлю, про¬
мышленность и народный труд.
11. Отмена гражданских чинов.
12. Полная амнистия всех, страдающих
за политические убеждения.
Одиннадцать последних пунктов —
естественное следствие первого — отмены
крепостного права. Говоря иностранными
словами, это конституция; по-нашему это —
правильное государственное устройство...»3
В сущности говоря, здесь конституции
нет; собственно, ни о представительном
правлении, ни о каких бы то ни было закон¬
ных гарантиях здесь не говорится, но,
действительно, предлагается довольно
широкий план либерального, а в некоторых
чертах, можно сказать, даже радикального
переустройства государственной жизни
России.
Из этого плана, который несомненно,
выражал мнение тогдашней передовой части
общества, вы видите, насколько уже общест¬
венное мнение переросло те правительствен¬
ные программы преобразований, которые в
это время имелись и, как вы знаете, в общем
прогрессировали, а никак не отступали от
ранее принятых предположений4.
Таковы были desiderata передовых обще¬
ственных групп в России к моменту падения
крепостного права. То обстоятельство, что
требования эти очевидно переросли предпо¬
ложения правительства, порождало совер¬
шенно иные отношения между
представителями общества и правительст¬
вом Александра II, чем какие существовали
при вступлении его на престол. Теперь уже
далеко не было полного и единодушного
доверия к правительству, какое чувствова¬
лось тогда; напротив, деятельность
правительства вызывала скептицизм и недо¬
верие, и в обществе стала резко проявляться
склонность к обличению всей тогдашней
правительственной деятельности, несмотря
на ее прогрессивное направление и желание
поставить общественную инициативу вперед
правительственной. Поэтому, собственно, в
момент объявления воли уже, можно сказать,
совершенно исчезла та «entente cordiale»,
которая существовала еще при начале выра¬
ботки крестьянской реформы между
правительством и обществом. Между тем
объявление воли, последовавшее в марте
1861 г., не удовлетворило не только пред¬
ставителей радикальных кругов общества,
но прежде всего не удовлетворило самих
крестьян.
ЛЕКЦИЯ XXIV
Отношение крестьян к реформе 19 февраля 1861 г. — Волнения и беспорядки, сопровождавшие введение
Положения 19 февраля. — Бездненская катастрофа. — Впечатление этих фактов на общество. — Ре¬
акция в правительственных сферах в 1861 г. — Валуевская политика. — Отношение общества к
правительству. — Первые проявления «нигилизма» в 1861 г. — «Русское слово». — Оппозиционное на¬
строение дворянства. — Его два крыла. — Тверская история 1862 Р. — Конституционное движение и
различное настроение в дворянских кругах. — Настроение торгово-промышленных сфер. Эволюция в
этой среде после Крымской кампании и причины образования в ней оппозиционного настроения.
Крестьяне, пока разрабатывалась времени, когда враги крестьянской реформы
реформа, с необыкновенным терпением в старались запугать Александра II и указы-
течение четырех лет выжидали решения вали ему на якобы готовящиеся волнения,
своей участи. Неоднократно в течение этого Александр говорил, что он этому не вериг,
237
потому что со всех сторон до него доходят
сведения о полном спокойствии крестьян. И
действительно, до момента объявления воли
наружное спокойствие среди крестьян было
необычайное. Но когда Положение было
объявлено, а оно объявлялось торжественно
на местах, причем манифест прочитывался
в церквах, а Положение давалось каждому
помещику и каждому сельскому обществу,
— то немедленно среди крестьян началось
то брожение, которым давно уже пугали
правительство враги реформы.
В большей части уездов никаких мер к
тому, чтобы крестьяне правильно поняли
Положение, принято не было, и только в
очень немногих местностях, где губернато¬
рами были люди более разумные, как,
например, в Калужской губернии, где был
тогда губернатором Арцимович, были приня¬
ты меры, чтобы крестьяне могли
ориентироваться в Положении, и им были
сразу указаны те статьи закона, которые
наиболее ярко давали понять, в чем сущ¬
ность произведенной реформы. Но надо ска¬
зать, что не только в тех местах, где не было
этого сделано, но даже в Калужской гу¬
бернии, где дело было поставлено лучше, чем
где-нибудь, все-таки при объявлении воли и
помещикам, и крестьянам пришлось
пережить целый ряд недоразумений. Оказа¬
лось, что крестьяне так спокойно и
терпеливо вели себя эти четыре года,
ожидая, что им будет предоставлена «полная
воля», а это значило в их глазах, что тотчас
же падет всякая власть помещиков и что они
получат в собственность без всякого выкупа
не только всю ту землю, которою они поль¬
зовались при крепостном праве, но даже и
помещичью землю, за которую уже царь
помещикам будет платить «жалованье». Ра¬
зумеется, когда им было предъявлено Поло¬
жение 19 февраля и когда они из него
увидели, что на неопределенное время сох¬
ранятся повинности — или барщина, или
оброк, — и что им предстоит еще, может
быть, отрезка земли, когда они увидели, что
с помещиками они остаются связанными
впредь до выкупа, а выкуп может последо¬
вать только по добровольному соглашению
обеих сторон, то они убедились, что это вовсе
не та воля, которую они ожидали; они
решили, что царь не мог дать такую волю,
что настоящую волю помещики скрыли, а
объявленная воля есть воля подложная. И вот
на этой почве возник целый ряд волнений и
беспорядков. Правительство, предвидя воз¬
можность этих волнений, во все губернии
командировало особых лиц, которые, не
имея звания генерал-губернаторов, имели,
однако, почти те же полномочия, которые
обыкновенно даются генерал-губернаторам в
чрезвычайных обстоятельствах. Это были ге-
нерал-адъютанты, свитские генералы и
флигель-адъютанты императора; при малей¬
шем волнении или беспорядках они имели
право усмирять крестьян всеми мерами,
включая распоряжение военными коман¬
дами и право стрелять в народ и т. д. И вот,
когда крестьяне, признавая объявленную во¬
лю подложной, а иногда вычитывая из само¬
го Положения 19 февраля небывалые статьи,
соответствующие их ожиданиям, отказы¬
вались выходить на барщину и платить на¬
ложенные на них оброки и повинности
помещикам, то эти генералы, по своему
произволу и взгляду, принимали те или
другие меры. В некоторых местностях, где
это были более доброжелательные или
просто более разумные и терпеливые люди
или где крестьяне были менее резко настро¬
ены, им удавалось одними убеждениями
привести крестьян к спокойствию, а в неко¬
торых местностях дело дошло до кровавых
усмирений: так, в селе Бездна Пензенской
губернии произошел кровавый инцидент,
при котором — благодаря тому что крестья¬
не были бурно настроены и предводительст¬
вуемы фанатиком тогдашней народной
идеологии, своим односельчаником Антоном
Петровым, — в конце концов генерал
Апраксин, заведовавший их усмирением,
приказал стрелять, причем было убито, по
преуменьшенным официальным данным, 55
человек и около 70 ранено (на самом деле
гораздо больше), а остальные смирились.
Это происшествие в связи с другими, где
была тоже стрельба или массовые расправы
с телесным наказанием, подействовало
очень угнетающим образом на все общество.
После бездненской катастрофы в Казани
студенты во главе с молодым профессором
Шаповым отслужили демонстративную
панихиду. Когда весть от этом пришла в
Петербург, то император Александр
положил собственноручную резолюцию,
чтобы монахов, которые служили эту
панихиду, сослать в Соловки, а Шапова
выслать в Петербург. Это было первым,
решительным проявлением общественного
недовольства в демократических слоях
общества и соответствующих правительст¬
венных репрессий6.
Надо сказать, что в высших сферах в это
время произошла значительная перемена —
238
как раз в том ведомстве» которому предсто¬
яло проводить реформу. Именно: в виде как
бы уступки помещикам, крторые были заде¬
ты крестьянской реформой, министр внут¬
ренних дел Ланской и его ближайший
помощник Милютин были уволены от своих
должностей, хотя и в милостивой форме.
Ланской был возведен в графское до¬
стоинство, а Милютин был сделан сенатором
с правом уехать за границу. Министром
внутренних дед был назначен Валуев, кото¬
рый являлся заведомым противником Поло¬
жения 19 февраля и того направления дела,
какое оно получило в редакционных
комиссиях. Во время прохождения дела че¬
рез Главный комитет Валуев помогал
противникам проекта редакционных
комиссий, министру государственных иму-
ществ Муравьеву и шефу жандармов Долго¬
рукову, которые пользовались его
соображениями, изложенными им в особой
записке, для решительного сопротивления
тому исходу реформы, который был про¬
ектирован редакционными комиссиями.
Теперь Валуев объявил, что он ставит
себе задачей «строгое и точное введение в
действие положений 19 февраля, но в
примирительном духе». На самом деле, как
скоро выяснилось, он имел в виду, несом¬
ненно, — насколько это допускалось зако¬
ном, а иногда даже и насилуя или
перетолковывая закон, — повернуть дело в
пользу помещиков. Это обнаружилось тотчас
же, как только он приступил к практическим
действиям. Введение реформы лежало на
мировых посредниках, их уездных съездах
и на губернских по крестьянским делам
присутствиях. Ланской перед своей отстав¬
кой успел разослать обстоятельный и очень
важный циркуляр, где давал указания губер¬
наторам, из каких лиц должны быть назна¬
чены мировые посредники6. Он указывал,
что так как мировые посредники назначают¬
ся губернаторами из дворян по спискам,
составленным дворянами же, то необходимо
очень осторожно их выбирать, допуская к
этой должности таких только лиц, которые
известны своей справедливостью и доброже¬
лательным отношением к интересам кресть¬
ян и относительно которых можно сказать,
что они будут пользоваться доверием кресть¬
ян. И действительно, наиболее благонаме¬
ренные из губернаторов, общий состав
которых Ланской значительно улучшил за
время своего управления министерством,
подобрали мировых посредников довольно
удачно. Вообще, надо сказать, что мировые
посредники первого призыва оставили по
себе очень хорошую память как люди спра¬
ведливые, преданные тому делу, которому
они были призваны служить, и положившие
все свои силы на проведение реформы7. Так
как положение их было довольно самостоя¬
тельное — уволить их можно было только
предав суду по распоряжению Сената, кото¬
рым они утверждались в должности, — то
они были достаточно независимы от властей
предержащих — как губернских, так и цен¬
тральных — и потому могли следовать зако¬
ну и по совести решать дела. Поэтому когда
во многих местностях им пришлось столк¬
нуться с интересами крупных и влиятель¬
ных помещиков и те начали жаловаться
Валуеву, а Валуев всячески стал эти
помещичьи интересы поддерживать, то ему
пришлось потерпеть на этом пути решитель¬
ную неудачу. Мировые посредники очень
энергично дали отпор попыткам правитель¬
ственного давления. Раздраженный неуда¬
чей, Валуев повел против мировых
посредников специальную кампанию, пыта¬
ясь через губернские присутствия привести
их в субординацию. В конце концов,
убедившись в невозможности подчинить их
своему влиянию или просто увольнять, Ва¬
луев стал через губернские присутствия
пытаться под предлогом экономии сократить
число должностей мировых посредников в
разных уездах, с оставлением за штатом,
конечно, наиболее строптивых посредников.
Но мировые посредники пошли тогда на
пожертвование своими материальными
интересами и заявили, что если дело каса¬
ется экономии, то они согласны уменьшить
свое жалованье наполовину или на треть, с
тем чтобы их сохранили в прежнем составе,
так как иначе они не смогут привести дело
в исполнение в течение тех двух лет, которые
им были на это даны. Таким образом, и эта
уловка Валуева не привела к цели. Валуев
мог гораздо сильнее давить на губернаторов,
так как они гораздо больше от него зависели,
и действительно, те губернаторы, которые
честно отстаивали Положение 19 февраля и
строго стояли на почве закона, или были
уволены в отставку, или попали против воли
в Сенат. В конце концов, однако же, несмот¬
ря на все эти ухищрения, благодаря стой¬
кости мировых посредников Положение 19
февраля все-таки было проведено в большей
части местностей в жизнь в том виде, в
каком оно было издано, и закон, за исклю¬
чением немногих нарушений, был на этот
239
раз приведен в исполнение удовлетворитель¬
но.
Несмотря на это, уже те перемены на
верхах, которые имели смысл явной для всех
уступки реакции,- — замена Ланского Валу¬
евым, вся валуевская политика, которая
сильно чувствовалась обществом, а также
кровавые события и подавления беспоряд¬
ков, которые произошли весною 1861 г., —
все это послужило к чрезвычайному возму¬
щению передовой интеллигенции, что
отразилось весьма резко и на настроении
журналов того времени.
В этот момент к числу наиболее
радикально настроенных органов наряду с
«Современником» присоединился еще жур¬
нал «Русское слово», который был основан
в 1859 г. графом Кушелевым, но первые два
года не имел определенного направления. С
1861 г. душой «Русского слова» сделался
представитель юного поколения — новый
двадцатилетний публицист Писарев,
вступивший на литературное поприще с
таким же бцеском и силой, как и его непос¬
редственный предшественник Добролюбов,
скончавшийся в ноябре 1861 г. двадцати
пяти лет от роду, но сумевший прочно
вписать свое имя в историю русской лите¬
ратуры.
Впрочем, направление «Русского сло¬
ва», в сущности, значительно отличалось от
направления «Современника». «Совре¬
менник» был органом преимущественно
политическим и социальным, и в этих воп¬
росах он являлся представителем самых ле¬
вых общественных групп того времени.
«Русское слово» было органом
«нигилистическим», употребляя термин,
около этого времени введенный Тургеневым
(в его романе «Отцы и дети»).
Один из представителей того же поко¬
ления, доживший до наших дней, известный
эмигрант князь П.А. Кропоткин харак¬
теризует это явление в других терминах. Он
говорит, что это была «борьба за индивиду¬
альность»; во главу угла здесь ставилось
освобождение личности, освобождение ее
прежде всего от вековых бытовых условий и
предрассудков, которые держали человече¬
скую личность в своих путах. Главной зада¬
чей младшего поколения людей 60-х годов и
сделалось освобождение личности от этих
семейных, общественных, бытовых и
религиозных пут. Одним из главных спосо¬
бов, ведущих к этой цели, Писарев считал
распространение естествознания, попу¬
ляризацию выводов естественных наук,
полагая, не без основания, что это —
наилучшее оружие в борьбе с теми предрас¬
судками и верованиями, которые проникали
в старинный уклад русской жизни. Он не
щадил никаких авторитетов, яростно на них
нападал, и таким образом, несмотря на то
что вопросам политическим он уделял мало
внимания, считая, что освобождение
личности должно быть само по себе пана¬
цеей против всех неустройств жизни, все же
его разрушительные тенденции и страстная
борьба с авторитетами всякого рода казались
власти ее более опасными, чем
социалистические тенденции «Совре¬
менника». Пропаганда «Современника» и
«Русского слова», еще не полемизировавших
тогда между собой, начинала вызывать опа¬
сения не только со стороны правительства,
но и со стороны многих умеренных сто¬
ронников прогресса в среде тогдашних
общественных деятелей7.
Что касается настроения дворянства, то
оно, как и раньше, делилось на два крыла.
Одно крыло представляло течение
олигархически-крепостническое, которое
теперь, по упразднении крепостного права,
главным образом было занято вопросом о
компенсации, которую дворянство могло по¬
лучить от правительства, чтобы сохранить
свое преобладающее значение в стране. Та¬
кую компенсацию представители этого те¬
чения видели в расширении политических
прав одного дворянства по возможности без
соответственного расширения прав других
сословий, почему и можно назвать это те¬
чение олигархическим.
Другое крыло оппозиционно настроен¬
ного дворянства представляло течение либе¬
рально-демократическое. Это крыло
заимствовало свою идеологию главным обра¬
зом от той группы прогрессивно настроен¬
ных дворян, которые больше всего проявили
себя в Тверской губернии, именно в Твер¬
ском губернском комитете и в тех заяв¬
лениях, которые они делали и в дворянских
собраниях 1859 г., и в редакционных
комиссиях устами своих депутатов.
Идеи этой части дворянства распрост¬
ранились в то время среди довольно
широких слоев дворян-помещиков главным
образом промышленных нечерноземных гу¬
берний. Впоследствии Н.К. Михайловский
присвоил им характерное наименование
«кающихся дворян».
Течение олигархическое встретило
значительную поддержку в самом
Министерстве внутренних дел, руководимом
240
Валуевым, который готов был дать дворянст¬
ву некоторую компенсацию. Действуя в этом
именно направлении, он, с одной стороны,
пытался изменить те предложения, которые
были уже раньше намечены в Министерстве
внутренних дел относительно введения зем¬
ского самоуправления, в том смысле, чтобы
организовать это самоуправление на более
аристократических началах, а затем, не¬
сколько позже, в 1863 г., высказывался даже
за предоставление дворянству некоторого
участия и в верховном управлении если не
законодательного, то законосовещательного
характера. Во время польского восстания он
представил императору Александру доклад,
в котором заявлял, что ввиду вернопод¬
данических и патриотических стремлений
русского дворянства важно дать ему, так
сказать, шаг вперед перед хлопотавшим тог¬
да о восстановлении конституции 1815 г.
польским дворянством.8
Вскоре взгляды либерально-демок-
ратической части дворянства получили
яркое выражение в известной тверской
истории, разыгравшейся в. самом начале
1862 г.
Оппозиционное течение либерально-де¬
мократического характера проявилось в
1861 г., как и прежде, с самого начала
развития крестьянской реформы, резче всего
в Тверской губернии. Там находились
наиболее сознательные и определенные
представители этого течения, и это обстоя¬
тельство не замедлило сказаться, когда вслед
за объявлением воли предложено было во
время ближайших дворянских собраний
обсудить вопрос об организации земельного
кредита для помещиков. Тверское дворянст¬
во нашло, что, собственно говоря, вопрос
этот дутый и что является он лишь
вследствие того, что крестьянская реформа
не разрешена путем обязательного выкупа с
выдачей дворянам немедленно выкупной
суммы, которая совершенно удовлетворила
бы нужду помещичьих хозяйств в денежном
капитале для найма рабочих и на разумные
улучшения. Если же считать
мелиоративный кредит необходимым, то он
необходим не только дворянству, а и всем
вообще земледельцам, без различия сос¬
ловий, в том числе и для крестьян.Этот
вопрос тверское дворянство находило воз¬
можным рассматривать лишь по совокуп¬
ности со всеми прочими нуждами данного
момента, которые вытекают из вопросов,
поставленных, но не разрешенных кресть¬
янской реформой. В частности, для установ¬
ления правильного и хорошо организованно¬
го частного кредита собрание признавало
необходимыми следующие реформы: 1 > пре¬
образование финансовой системы управ¬
ления в том смысле, чтобы оно зависело от
народа, а не от произвола; 2) учреждение
независимого и гласного суда; 3) введение
полной гласности во все отрасли управ¬
ления, без чего не может быть никакого
доверия к правительству, а следовательно, и
к прочности существующего Государствен¬
ного порядка; 4) уничтожение антагонизма
между сословиями. Когда эти реформы будут
осуществлены, тогда, в сущности говоря,
вопрос о кредите, по мысли тверского дво¬
рянства, мог бы разрешиться сам собою, без
вмешательства государства и без помощи
государственного казначейства. Затем в пос¬
тановлении тверского дворянства было ска¬
зано: «Дворянство, будучи глубоко
проникнуто сознанием необходимости
выйти из этого (междусословного) анта¬
гонизма и желая уничтожить всякую воз¬
можность упрека в том, что оно составляет
преграду на пути общего блага, объявляет
перед лицом всей России, что оно отказыва¬
ется от всех своих сословных привилегий...
и не считает нарушением своих прав обяза¬
тельное предоставление крестьянам земли в
собственность с вознаграждением
помещиков при содействии государства»
(таким образом, здесь было повторено опять
требование о разрешении крестьянского воп¬
роса на основании обязательного выкупа,
которое тверские дворяне уже заявляли не¬
однократно).
Особенно знаменателен был за¬
ключительный пункт этого постановления,
который совершенно совпадал с мыслями
наиболее радикальных групп
интеллигенции, выразителем которых
явился Чернышевский в своих «Письмах без
адреса», написанных им через несколько
недель после тверского собрания, но напеча¬
танных только в 1874 г. в газете «Вперед»,
издававшейся за границей Лавровым.
«Осуществление этих реформ, — сказа¬
но было в постановлении тверского дворян¬
ства, — невозможно путем
правительственных мерУ которыми до сих
пор двигалась общественная жизнь. Предпо¬
лагая даже полную готовность правительства
провести реформы, дворянство глубоко
проникнуто тем убеждением, что
правительство не в состоянии их со¬
вершить. Свободные учреждения, к кото¬
241
рым ведут эти реформы, могут выйти
только из самого народа, а иначе будут
" одною только мертвою буквою и поставят
общество в еще более натянутое поло¬
жение. Посему дворянство не обращается к
правительству с просьбой о совершении
этих реформ, но, признавая его несостоя¬
тельность в этом деле, ограничивается ука¬
занием того пути, на который оно должно
вступить для спасения себя и общества.
Этот путь есть собрание выборных от
всего народа без различия сословий
Вот на какую радикальную почву стало
теперь дворянство; оно требовало участия в
представительстве не для себя только, не для
дворянства, а для всех классов народа без
различия сословий. В соответствии с этими
постановлениями редактирован был адрес
императору Александру, который решено
было ему представить. В нем также го¬
ворилось о необходимости обязательного вы¬
купа, а затем, переходя к вопросу о
сословных дворянских привилегиях, дворя¬
не писали: «Дворяне, в силу сословных
преимуществ, избавлялись до сих пор от
исполнения важнейших общественных
повинностей. Государь, мы считаем кров¬
ным грехом жить и пользоваться благами
общественного порядка на счет других сос¬
ловий. Неправеден тот порядок вещей, при
котором бедный платит рубль, а богатый не
платит и копейки. Это могло быть терпимо
только, при крепостном праве, но теперь
ставит нас в положение тунеядцев, совер¬
шенно бесполезных своей родине. Мы не
желаем пользоваться таким позорным
преимуществом и дальнейшее существо¬
вание его не принимаем на свою ответствен¬
ность. Мы всеподданнейшие просим Ваше
Императорское Величество разрешить нам
принять на себя часть государственных
податей и повинностей соответственно сос¬
тоянию каждого».
«Кроме имущественных привилегий мы
пользуемся исключительным правом постав¬
лять людей для управления народа; в насто¬
ящее время мы считаем беззаконием
исключительность этого права и просим рас¬
пространить его на все сословия».
Указав затем на отсутствие взаимного
понимания между обществом и правительст¬
вом, представители общества так заключили
свои пожелания:
«Этот всеобщий разлад служит лучшим
доказательством, что преобразования, требу¬
ющиеся ныне крайней необходимостью, не
могут быть совершены бюрократическим
порядком. Мы сами не беремся говорить за
весь народ, несмотря на то что стоим к
нему ближе, и твердо уверены, что недоста¬
точно одной благонамеренности не только
для удовлетворения, но и для указания на¬
родных потребностей; мы уверены, что все
преобразования остаются безуспешными
потому, что принимаются без спроса и без
ведома народа».
Созвание выборных от всей земли рус¬
ской представляет единственное средство к
удовлетворительному разрешению вопросов,
возбужденных, но не разрешенных Поло^
жением 19 февраля».
Вот каким языком заговорило тогда твер¬
ское дворянство. Если вы сравните эти пос¬
тановления и тот язык, которым дворянство
их заявляло, с теми пунктами ходатайства,
которые включены были в адрес Унковского,
или даже с постановлением того тверского
собрания (1859 г.), которое протестовало
против запрещения дворянству обсуждать
крестьянский вопрос во время работы
редакционных комиссий, то вы увидите, на¬
сколько это дворянство подалось влево за
истекшие полтора года и насколько резко в
его требованиях звучали теперь ярко-демок¬
ратические ноты. Они напирали на то, что
вопрос не столько в проведении либераль¬
ных преобразований и улучшений в системе
существующего административного строя,
сколько в том, каким путем это будет прове¬
дено и насколько при проведении этих
реформ будет дано участие не общественным
даже, а именно народным представителям,
т. е. самому народу.
Когда состоялось это постановление дво¬
рянского собрания и послан был адрес, то
Валуев, который высказывался постоянно за
охрану всяких дворянских привилегий и
прав, не решился возбудить даже вопроса о
правильности этого постановления. Оно
формально и не выходило из предела даро¬
ванных дворянству прав и преимуществ,
так как дворянству предоставлялось заяв¬
лять о своих нуждах, и хотя это заявление
касалось коренного изменения государст¬
венного строя, оно по своему построению
исходило из обсуждения положения и нужд
дворянства. Но имелось в наличности обсто¬
ятельство, которое дало возможность Валуе¬
ву применить и карательные меры, если не
к тверскому дворянству вообще, то к некото¬
рым его представителям. Именно этими
представителями оказались наиболее прог¬
рессивные мировые посредники, которые в
242
Тверской губернии как раз были выбраны
дворянами и утверждены губернатором и
Сенатом из числа лиц, наиболее прог¬
рессивно настроенных и наиболее предан¬
ных делу реформы. В сущности говоря, и в
дворянском собрании эти мировые пос¬
редники являлись инициаторами всего
происшедшего, а затем, когда адрес был
принят и отправлен в Петербург, то они
собрались на непредусмотренный законом
частный губернский съезд мировых пос¬
редников (законом предусматривались лишь
уездные съезды, являвшиеся определенной
инстанцией, а губернские съезды практико¬
вались фактически, как частное учреж¬
дение, в некоторых губерниях, и на них
посредники съезжались просто для обмена
мнениями и большего или меньшего
объединения своей деятельности). На этом
губернском съезде мировых посредников,
состоявшемся в Твери тотчас по закрытии
дворянского собрания, было постановлено,
что так как дворянство формулировало свои
взгляды, то отныне собравшиеся на съезд
посредники в своей деятельности будут руко¬
водствоваться не правительственными рас¬
поряжениями, а взглядами общества. В этом,
конечно, можно уже было усмотреть нару¬
шение порядка и долга службы. Валуев и
воспользовался этим обстоятельством и под¬
нял дело против мировых посредников, ко¬
торые подписали это постановление. Их
было тринадцать человек. Они были аресто¬
ваны, отвезены в Петербург и посажены в
Петропавловскую крепость. Здесь они
просидели пять месяцев, затем были под¬
вергнуты суду Сената, и Сенат приговорил
их к заключению на два года в смиритель¬
ном доме с лишением некоторых прав и
преимуществ. Этого наказания, однако, им
не пришлось отбывать, так как тогдашний
петербурский генерал-губернатор князь Су¬
воров ходатайствовал за них перед госуда¬
рем, и дело ограничилось предварительным
заключением и лишением некоторых слу¬
жебных прав тех из них, которые не хлопо¬
тали впоследствии об отмене этого
ограничения9.
Движение, так резко проявившееся в
тверском дворянским собрании, получило
более или менее широкие отклики и в других
местах. Вообще, среди дворянства и среди
тогдашнего интеллигентного общества мысль
о необходимости конституционных гарантий
и о необходимости представительства, пре¬
доставления самому народу возможности
разработки реформ получила широкое рас¬
пространение. Эту же мысль стал под¬
держивать «Колокол» и в статьях, которые
печатались там, и в особом проекте адреса,
составленном Огаревым. Надо сказать, что
этот адрес, в виду того что Огарев желал
объединить на подписании его различные
слои дворянства, в том числе даже и ту его
часть, которая была настроена скорее
олигархически, чем демократически, был
далеко не так демократичен в своих требо¬
ваниях, как адрес тверского дворянства. По¬
этому, например, И.С. Тургенев, который
был лично близок с издателями «Колокола»,
отрицательно отнесся к проекту Огарева,
указав, что напрасно редакторы «Колокола»
так резко относятся к Положению 19 февра¬
ля, так как земля, т. е. крестьянство, приня¬
ла Положение и будет связывать вопрос о
Положении с вопросом о своей свободе и
врагов Положения 19 февраля склонна будет
считать своими врагами. Поэтому он отрица¬
тельно относился и к содержанию адреса, и
к своевременности его подачи и рекомендо¬
вал лучше выработать соответствующий ад¬
рес к тому моменту, когда будут
опубликованы главные основания земского
самоуправления, ибо к этому времени уже
обнаружилось, что Валуев в значительной
мере испортит те предположения о введении
земского самоуправления, которые были вы¬
работаны милютинской комиссией10.
Точно так же враждебно к идее подоб¬
ного конституционного адреса относились и
некоторые другие лица либерально-демок-
ратического лагеря; так, например, Кавелин
указывал, что в тот момент в стране не было
еще подготовлено нужных элементов для
осуществления конституционного строя и
что конституция может быть только на бу¬
маге или же может принять у нас аристок¬
ратическую окраску, тем более что и дело
ставится на почву возмещения дворянству
убытков от крестьянской реформы. Главное,
что Кавелин утверждал, это то, что в тогдаш¬
нем обществе, в тогдашней русской жизни,
по его мнению, вовсе не было тех элементов,
которые необходимы для правильного суще¬
ствования конституционного режима. Он
видел для того момента правильный путь и
желательный выход в хорошо устроенном
местном самоуправлении, в котором могли
бы себе найти место лучшие общественные
243
элементы и все вообще лица, желающие
служить на пользу народу.
На земские учреждения Кавелин смот¬
рел тогда, как на необходимую школу, кото¬
рая должна выработать будущих деятелей
представительного правления. Этот взгляд
на земство как на школу политической
жизни был тогда очень распространен как в
обществе, так и в правительственных сфе¬
рах11.
На такой же приблизительно позиции
стоял и Самарин, который, когда распрост¬
ранились эти попытки составления
конституционных адресов и собрания под
ними подписей, вообще протестовал против
всего этого движения в особом письме,
написанном на имя издателя «Дня» И.С.
Аксакова, который тогда, однако, его не
напечатал, так как думал, что этим письмом
Самарин нажил бы себе лишних недоброже¬
лателей в обществе. Между тем Аксаков
предугадывал, что и без того эти адреса не
будут иметь успеха. Замечательно, однако
же, что Самарин в этом своем письме стоял
не на обычной славянофильской точке
зрения отрицания всякой конституции, а
утверждал лишь, подобно Кавелину, что в
данный момент он считает народ несоз¬
ревшим для конституции, что «народной
конституции у нас пока еще быть не может,
а конституция не народная, т.е. господство
меньшинства, действующего без доверен¬
ности от имени большинства, есть ложь и
обман». Он доказывал, что при такой
конституции разовьется централизация и
Петербург задавит Россию. По его мнению,
в тот момент для России были нужны
различные освободительные реформы, осво¬
бождение общества от произвола
администрации, независимый суд, полная
веротерпимость, свобода печати, преобразо¬
вание налогов в сторону, благоприятную
для народа, развитие просвещения,
ограничение непроизводительных расходов
казны и двора, и все это он полагал возмож¬
ным осуществить тогда без. ограничения са¬
модержавия12.
Мы видели, каково было в 1861 г. на¬
строение крестьян, дворянства и
интеллигенции. Я хочу теперь остановиться
несколько на характеристике тогдашней
торгово-промышленной среды. Тогдашнее
купечество, тогдашний торгово-промышлен¬
ный мир представлял в массе, как известно,
то темное царство, которое сильными и
мрачными штрихами обрисовал Островский
в своих комедиях, давших повод и Добролю¬
бову написать его известную критическую
статью «Темное царство». Но в этой среде
уже появились в тот момент значительные
проблески прогрессивной мысли и стрем¬
ление найти исход из той тьмы, в которой
это сословие тогда находилось.
Еще во время Крымской кампании в
торгово-промышленных сферах наступило
чрезвычайное оживление. Война, которая
сама по себе явилась, конечно, событием
весьма разорительным для народа, в то же
время для представителей коммерческого
класса представляла известные выгоды и во
всяком случае явилась в их среде движущим
началом: явилась масса поставок, подрядов;
была выпущена на рынок масса ассигнаций,
появление которых искусственно оживляло
в течение известного времени торговые
сделки, а так как это совпадало с переменой
царствования, с либеральными перс¬
пективами, то все это вместе сильно
повлияло на оживление торгово-промышлен¬
ных сфер, и уже во время Крымской войны
и тотчас после ее окончания появилась мас¬
са различных предприятий, торговых то¬
вариществ, акционерных компаний, к
которым правительство относилось очень
либерально, с точки зрения принципа laissez
faire, в противоположность стеснениям
минувшего царствования. Это движение
проявилось особенно широко, как я уже
сказал, ввиду того, что выпущено было на
рынок казной много денег; к тому же, по
странной финансовой комбинации,
правительство решило как раз в этот момент
уменьшить процент по вкладам в правитель¬
ственных кредитных учреждениях. Разуме¬
ется, это содействовало тому, что эти вклады
стали выниматься и, чтобы поместить эти
капиталы куда бы то ни было, владельцы их
старались муссировать новые предприятия.
Еще большее оживление дел в коммерческом
мире предвиделось с постройкой новых же¬
лезных дорог и окончанием тех, которые
были уже начаты.
Таким образом, коммерческая й про¬
мышленная деятельность развилась вдруг
чрезвычайно сильно — сильнее, чем это
отвечало потребностям и реальным возмож¬
ностям данного момента. Такое чрезвычай¬
ное развитие коммерческой и
промышленной деятельности в стране, кото¬
рая на самом деле была совершенно истоще¬
на войной, которая претерпела в
244
экономическом смысле огромное кровопу¬
скание, было явлением, в сущности говоря,
совершенно ненормальным и потому продол¬
жаться долго не могло. И действительно,
непрочность и эфемерность этого развития
и видимого подъема сказалась очень скоро:
через какие-нибудь три года после окон¬
чания войны явился целый ряд крахов.
Многие предприятия, привлекшие давно на¬
копленные и хранившиеся долгие годы в
сундуках или на вкладах капиталы, теперь
лопались, так как создавались они без точ¬
ного соответствия с реальными потребно¬
стями страны.
Этим крахам содействовало то обстоя¬
тельство, что в 1857 — 1858 гг. в промыш¬
ленности всего мира был общий
промышленный кризис, зависевший от
различных изменений в условиях производ¬
ства. Последствия этого кризиса отразились
и в России. Все вновь открытые предприятия
оказались без надлежащей почвы у себя и
попали в невыгодную конъюнктуру мирового
рынка.
Постройка железных дорог, которая мог¬
ла служить самым выгодным помещением
накопленных капиталов, хотя и началась в
это время, но правительство решило отдать
это дело иностранным капиталистам. Это,
разумеется, еще более подкузьмило русских
капиталистов, которые должны были теперь
вкладывать свои деньги в более или менее
эфемерные предприятия.
Понято, что уже один факт предостав¬
ления такого колоссального предприятия,
как постройка железных дорог, в руки ино¬
странцев, вызвал в среде промышленных
кругов недовольство и оппозиционное на¬
строение, а под влиянием кризиса, под
влиянием усилившегося падения курса бу¬
мажных денег это раздражение еще более
увеличивалось. Отсюда понятна та связь,
которая стала проявляться в годы кризиса
между оппозиционно настроенными коммер¬
сантами и радикальной и оппозиционно
мыслящей интеллигенцией страны; понятно
и то сочувствие, которое впервые в России
проявлялось со стороны торгово-промыш¬
ленных сфер к различным органам прог¬
рессивной печати.
Крестьянской реформе большинство
сознательных людей торгово-промышлей¬
ных кругов, разумеется, искренне сочувст¬
вовало и потому, что они всегда были в
антагонизме с дворянством, и потому, что
капиталистические предприятия не могли
существовать без достаточного контингента
свободных рабочих рук, а отмена крепостно¬
го права, несомненно, сулила в будущем
значительное число этих свободных рук.
Отмена крепостного права, соединяясь с
постройкой новых путей сообщения, созда¬
вала в будущем выгодную конъюнктуру для
русского капитализма. Поэтому понятно, что
наиболее сознательные представители про¬
мышленного мира являлись прогрессивно
настроенными и сочувствовали первым
прогрессивным шагам правительства, в ко¬
тором они стали разочаровываться лишь
убедившись, что многие надежды, возла¬
гавшиеся на правительство, вовсе не оправ¬
далась и что многие действия правительства
шли вразрез с их интересами.
С конца 50-х годов в русской жизни
стали появляться отдельные представители
торгово-промышленного мира, поражавшие
современников неожиданною самостоятель¬
ностью и предприимчивостью в делах не
только торговых, но и общественных. Так,
например, Кокорев, известный богач-
откупщик, проявивший большую
инициативу и сообразительность в крестьян¬
ском вопросе, деятельно вмешался в вопрос
о выкупе и указал первый на те средства,
которые могут быть собраны в помощь
правительству, если оно признает возмож¬
ность пойти на путь обязательного выкупа.
Этот же Кокорев старался тогда завязывать
связи со всеми прогрессивными и либераль¬
ными представителями тогдашнего общества
и печати и пользовался большим престижем
в московских либеральных кругах; его вся¬
чески выдвигали Катков и Погодин, и даже
в «Колоколе» Герцена в 1858 г. о нем
писались лестные для него отзывы; а во
время первых цензурных репрессий, кото¬
рые начались в 1858 г., когда были запре¬
щены в печати всякие толки о выкупе и затем
был уволен в отставку либеральный мос¬
ковский цензор Н.Ф. Крузе, то московские
литераторы собрали около 50 тыс. руб., что¬
бы тотчас же этого Крузе обеспечить, при
несомненном содействии Кокорева и других
московских капиталистов. Прогрессивно на¬
строенная часть купечества даже в
провинции охотно жертвовала в то время
деньги на различные просветительные уч¬
реждения, например на женские гимназии,
и вообще всячески старалась подчеркнуть
свое сочувствие просвещению и прогрессу.
245
ЛЕКЦИЯ XXV
Развитие всеобщего оппозиционного настроения и первые проявления революционного духа. — Прокла¬
мация 1861 — 1862 гг. — «Молодая Россия» и пожары в 1862 г. — Аресты и ссылки писателей радикаль¬
ного направления.Герцен на стороне последних. — Впечатление от этих смут в Европе. —- Циркуляр
Горчакова. —Польское движение. — Политика маркиза Велепольского и ее неудача. — Вооруженное
восстание 1863 г. — Впечатление его на русское общество. —Значение вмешательства иностранных
держав. — Вызванный им взрыв патриотизма в России. — Падение «Колокола». — Торжество Каткова и
реакция в обществе. — Продолжение реформ. — Финансовые реформы Татаринова. — Акцизная
реформа. — Отсрочка податной реформы.— Университетское движение и устав 1863 г.—Другие
реформы в Министерстве народного просвещения. — Средняя школа,женское образование, начальные
школы. — Положение о начальных училищах 1864 г.
Правительство, конечно, с большой тре¬
вогой следило за развитием всеобщего
оппозиционного настроения и радикального
духа. Особенно тревожили правительство те
революционные прокламации, которые
стали появляться в 1861 г., причем оказа¬
лось, что часть из них печаталась за
границей,’а некоторые даже и внутри стра¬
ны. Надо сказать, что в этих прокламациях
дух революционного настроения рос чрезвы¬
чайно быстро. В 1861 г. был выпущен пер¬
вый, получивший довольно широкое
распространение листок «Великорусе», в
составлении которого участвовали, по-
видимому, и Чернышевский, и Серно-Со-
ловьевич, и другие лица, близко стоявшие к
«Современнику». «Великорусе», в сущ¬
ности, стоял еще на почве либерально-де-
мократической. Его содержание было менее
ярко, нежели то постановление тверского
дворянства, с которым я вас познакомил. Но
уже осенью 1861 г. появилась прокламация
«К молодому поколению», приписанная
известному поэту М.Л. Михайлову, которая
наряду с чрезвычайно наивными
политическими требованиями, как,
например, уничтожения всякой полиции,
как тайной, так и явной, высказывала опре¬
деленные угрозы династии, заявляя, что если
династия не проведет требуемых реформ, то
встанет вопрос об ее устранении, причем
выражалась мысль, что России, в сущности
говоря, нужен не монарх, а выборный
старшина на жалованьи, который бы служил
народу, так что тут же проявлялся и рес¬
публиканский дух, хотя установление рес¬
публики и не ставилось практической
задачей ближайшего будущего.
В 1862 г. появилась произведшая на
многих ошеломляющее впечатление прокла¬
мация «Молодая Россия», призывавшая уже
прямо к кровавой революции, не только
политической, но и социальной, и состав¬
ленная в необыкновенно азартном и даже
кровожадном, маратовском тоне. В ней вся
тогдашняя Россия разделялась на две части:
партию народную и партию императорскую,
и так как все, не сочувствовавшие рево¬
люции, причислялись к партии император¬
ской, то указывалось, что их надо бить и
убивать где придется, и с энтузиазмом про¬
поведовались топор и пожар. Автором этой
прокламации был молодой студент
Заичневский, который тогда арестован не
был, но попался вскоре в распространении
«Золотой грамоты» в имении своего отца
(генерала) и был сослан на поселение в
Сибирь. Эта прокламация произвела на
многих гнетущее впечатление, хотя, в сущ¬
ности, дело было вовсе не так грозно, так как
оно исходило всего от двух молодых людей,
за которыми никакой партии не было даже
среди молодежи. Преувеличенное значение
придало ей и правительство, тем более что
как раз в это время в Петербурге разразились
известные пожары, которые приводили в
панику столичное население. Они
происходили, несомненно, от поджогов, ко¬
торые оповещались заранее и производили
значительные опустошения в целых кварта¬
лах; сгорел, между прочим, Апраксин двор.
Население охватила страшная паника. Не¬
которые говорили, что это поджигают сту¬
денты, другие, — что это поляки, и
замечательно, что ни одного поджигателя не
было поймано, хотя были явные следы под¬
жогов. Чтобы это поджигали революционеры
из молодежи, — трудно поверить; что
поджигали польские эмиссары, — многим
впоследствии казалось более вероятным,
когда в 1863 г. обнаружена была циничная
программа польского генерала Мерославско-
го, в которой рекомендовались подобные
крайние средства для усиления смуты в
России, причем смута признавалась важ¬
ным подспорьем для успеха польского вос¬
стания. Однако же никогда — ни тогда, ни
впоследствии — никаких положительных
246
указаний, подтверждающих это, найдено не
было. Между прочим, сохранилось указание
князя П. А. Кропоткина в его вос¬
поминаниях, что пожары во многих местно¬
стях, а тогда был сожжен Симбирск и целый
ряд других поволжских городов, были делом
реакционной партии, так что, говоря совре¬
менным языком, здесь заподозревалась про¬
вокация справа. Если она имела место, то
надо признать, что она была задумана чрез¬
вычайно ловко, так как вина в пожарах в
глазах всех в конце концов возводилась не¬
пременно на революционеров русского или
польского происхождения, и понятно, какой
раскол порождало это обстоятельство в прог¬
рессивных рядах тогдашнего общества. Оно
послужило, несомненно, первой причиной
того, что значительная часть русского обще¬
ства, отшатнулась от прогрессивных стрем¬
лений, испуганная такими устрашающими
революционными проявлениями1.
На эти события правительство со своей
стороны реагировало чрезвычайно резко. Во-
первых, оно стало арестовывать тех лиц,
которые распространяли прокламации, и до¬
вольно скоро добралось и до некоторых из
предполагаемых их составителей. Как я уже
говорил, в качестве автора прокламации «К
молодому поколению» был арестован МЛ.
Михайлов. Правительство, которое раньше
либерально смотрело на путешествия за
границу и даже на визиты к Герцену (а
делали такие визиты даже лица, близкие к
придворным сферам), теперь стало смотреть
на это чрезвычайно строго. И вот вскоре, как
только были обнаружены документально
сношения с Герценом некоторых лиц в 1861
— 1862 гг., лица, обвиненные в этих сно¬
шениях, были немедленно арестованы.
Среди них были арестованы многие из руко¬
водителей передовой печати: были арестова¬
ны и Чернышевский, и Серно-Соловьевич, а
вскоре и Писарев (за составление одной
резкой статьи для подпольного издания). Все
они не только были арестованы, но и преда¬
ны вскоре суду Сената. Надо сказать, что
Сенат поступил с ними не только сурово и
беспощадно, но даже не всегда соблюдая
закон и осуждая иногда без достаточных
юридических данных, а по одному только
внутреннему убеждению, что в особенности
не допускалось правилами тогдашнего уго¬
ловного процесса и являлось и нравственно
недопустимым ввиду суровости уголовных
кар. Так, Чернышевский был осужден на 14
лет в каторжные работы главным образом за
прокламацию «К барским крестьянам», ко¬
торая приписывалась ему на основании
показания одного шпиона и отчасти на осно¬
вании сличения почерка одной записки с
другими его рукописями, причем сличение
это было произведено самым несовершен¬
ным образом, и Чернышевский доказывал,
что по крайней мере половина букв этой
записки не соответствовала его почерку. Тем
не менее он был присужден к каторжным
работам. Точно так же был сослан на каторгу
Серно-Соловьевич, а Писарев был осужден
на 2,5 года крепости, причем он просидел в
действительности 4,5 года, так как пред¬
варительный арест не был зачтен ему в
наказание2.
Не ограничиваясь этими арестами, про¬
цессами и ссылками, правительство
обрушилось и на те органы печати, в кото¬
рых в особенности проявилось это рево¬
люционное настроение или в которых был
скомпрометирован личный состав их
редакций. Именно, на восемь месяцев были
приостановлены «Современник» и «Русское
слово». Вместе с ними был приостановлен и
аксаковский «День», конечно, уже только за
резкость тона, так как Аксаков никакого
участия в революционном движении не
принимал и не только не имел с ним
никаких связей, но даже был настроен враж¬
дебно по отношению к революционным, в
особенности нигилистическим проявлениям.
В конце концов «День» Аксакова был через
четыре месяца восстановлен под ответствен¬
ной редакцией Самарина, а за^м с нового
года его разрешено было опять
редактировать самому Ивану Аксакову, и ни
в направлении, ни в сотрудниках этой газе¬
ты не произошло изменений; но приостанов¬
ка «Современника» и «Русского слова» и
устранение их руководителей повлияли на
их дальнейшую судьбу самым решительным
образом.
Главнейшим последствием этих событий
явился раскол в рядах самого прогрессивно
настроенного общества. Настроение публики
во время петербургских пожаров ярко вьь
разилось в словах, обращенных к И.С. Тур¬
геневу кем-то из его знакомых, встреченных
им на Невском проспекте. «Посмотрите, —
сказал ему этот знакомый, — что делают
ваши нигилисты: они жгут Петербург».
«Ваши» нигилисты было сказано, очевидно,
потому, что Тургенев первый пустил в ход
это название. Такое настроение, говорившее,
что «нигилисты» являются угрозой и опас¬
ностью не только правительству, но и само¬
му обществу, несомненно, образовалось во
247
многих умах. Это настроение нашло себе
выражение прежде всего в той резкой
полемике, которая возникла между таким
ярким тогда представителем либерального
направления, как «Русский вестник», и
представителями радикального
нигилистического направления, как «Совре¬
менник» и «Русское слово», причем
«Русский вестник» свою полемику на¬
правил, однако, не столько против
действительно органа нигилистического на¬
правления — «Русского слова», сколько
против радикального «Современника», кото¬
рый он считал, впрочем, также и пред¬
ставителем нигилизма. Вместе с тем после
того, как Герцен обрушился на Каткова за
одну его статью «К какой мы принадлежим
партии?», где Катков высмеивал все суще¬
ствовавшие партии и самую возможность их
существования в России, после того, как
Герцен обрушился за это на Каткова, тот
стал нападать самым несдержанным и бес¬
пощадным образом на «Колокол» Герцена,
игнорируя и те заслуги, которые за ним
числились по отношению, к крестьянской
реформе, и свое прежнее к Герцену отно¬
шение. Герцен, конечно, не оставался в
долгу. Эта полемика в особенности
усилилась, когда Герцен в 1861 г., отчасти
под влиянием Огарева и еще Бакунина,
который в это время бежал из Сибири и
явился в Лондон, стал близко сходиться с
представителями польской эмиграции и во¬
жаками лольского движения. Он вел с ними
определенные переговоры и взялся на изве¬
стных условиях поддерживать польское
движение против русского правительства,
что в глазах Каткова и его читателей явля¬
лось прямой государственной изменой, тем
более что в жару этой полемики и похода
против репрессий, которыми правительство
ответило на первые революционные прояв¬
ления в Польше, Герцен печатал статьи,
поощрявшие офицеров и солдат русских
войск переходить на сторону поляков и даже
сражаться с правительственными войсками
за польское дело.
Все очерченные явления смуты
производили чрезвычайно сильное впечат¬
ление за границей, особенно в тех сферах,
которые были связаны с Россией денежными
интересами, и сферах, которые имели в
своих руках бумаги русских займов и в
настроении которых -было, в свою очередь,
заинтересовано русское правительство. Эти
заграничные толки и слухи о близящейся в
России революции, которые грозили поколе¬
бать наше тогдашнее финансовое поло¬
жение, произвели и на правительство боль¬
шое впечатление; оно даже сочло
необходимым издать особый документ, осо¬
бый циркуляр ко всем русским послам, в
котором министр иностранных дел кн. Гор¬
чаков истолковывал происходившие со¬
бытия, чтобы тем успокоить, насколько
возможно, встревоженное настроение евро¬
пейских биржевых сфер. Живописно, по
обыкновению, выражаясь, Горчаков писал:
«Морская ширь, как говорит Расин, никогда
не бывает спокойна. Так и у нас. Но равно¬
весие восстановляется. Когда волны вздыма¬
ются, как теперь повсюду, было бы
наивностью утверждать, что море тотчас
утихнет. Главная задача — поставить
плотины там, где общественному тпо-
койствию или интересу, а в особенности
существу власти угрожает опасность. Об
этом и заботятся у нас, не отступая от
пути, который наш августейший государь
предначертал себе со дня вступления на
престол. Наш девиз: ни слабости, ни
реакции. Его начинают понимать в России.
Нужно больше времени, чтобы
акклиматизировать его и в Европе, но я
надеюсь, что очевидность убедит, наконец,
самые предубежденные умы...
Эта нота, конечно, направлена была
именно на то, чтобы успокоить в Европе те
заинтересованные в русских делах круги, от
которых зависели наши финансовые конъ¬
юнктуры, и успокоить их в том смысле, что
во-первых, нет еще вовсе революции, а во-
вторых, что не наступит реакция, а будут
проведены те реформы, при которых только
и возможно благополучное продолжение
общественной и экономической жизни
России.
Между тем польское движение развива¬
лось в это время crescendo, и в январе 1863
г. в Варшаве разразилось настоящее воору¬
женное восстание.
В это время в Польше проводилась
политика маркиза Велепольского, одного из
выдающихся государственных людей, не
пользовавшегося, однако, сочувствием гос¬
подствовавших в стране политических
партий. Маркиз Велепольский явился вы¬
разителем той политики, которая рекомендо¬
вана была в 1858 г. в записке другого
польского государственного деятеля, статс-
секретаря Эноха, получившей тогда одоб¬
рение и русских правительственных сфер.
Энох, быть может, инспирированный самим
Велепольским, утверждал, что русское
248
правительство, если оно желает умирот¬
ворить Польшу и водворить в ней спо¬
койствие» должно опираться на
какие-нибудь группы населения, и рекомен¬
довал опереться на среднее сословие, кото¬
рое, будучи связано с Россией своими
экономическими интересами, заявляет
наиболее умеренные политические требо¬
вания.
Взявшись осуществить эту идею, Веле-
польский предлагал целый ряд реформ, бо¬
лее или менее либеральных, главным
образом клонившихся к воссозданию
национальной независимости в пределах
Царства Польского, к восстановлению в нем
таких учреждений, которые были бы состав¬
лены исключительно из местных людей;
причем в результате укрепления в польском
обществе лояльного настроения в конце кон¬
цов предполагалось восстановление
конституции 1815 г.
Русское правительство одобрило эту
политику, но она не удовлетворила ни одну
из двух активных революционно настроен¬
ных партий, господствовавших в стране.
Одна из этих партий — белая, дворянская
— стремилась в политическом отношении
дальше Велепольского — к восстановлению
Польши в границах 1772 г., а в социальном
— не сочувствовала тем буржуазно-демок-
ратическим чертам, которыми окрашены
были реформы, предположенные Веле-
польским. Другая — красная, демократиче¬
ская — действовала демагогическими
путями, стремилась к более радикальным
реформам, нежели обещанные Веле-
польским, и также провозглашала восста¬
новление Польши в границах 1772 г.
Велепольский, занимая пост министра
внутренних дел в Польше, имел целый ряд
столкновений и с русскими наместниками,
которые в течение двух лет (1861 — 1862)
сменялись четыре раза. В конце концов
летом 1862 г. туда был послан (по собствен¬
ному вызову) великий князь Константин
Николаевич, при котором Велепольский на¬
значен был начальником гражданского уп¬
равления, т. е. своего рода
премьер-министром. Однако к этому вре¬
мени сам Велепольский был уже сильно
дискредитирован в глазах населения той
борьбой, которую ему пришлось вести и с
дворянской, и с демократической партиями.
Борясь с этими своими внутренними
врагами, Велепольский закрыл «Земледель¬
ческое общество», которое являлось средо¬
точием активных польских дворянских
организаций, а с другой стороны, желая
умерить или как-нибудь предотвратить рево¬
люционные действия со стороны рево¬
лю ционеров-демократов, он придумал
особую меру, которая заключалась в том, что
при помощи рекрутского набора, объявлен¬
ного исключительно в городах, он хотел
захватить всех молодых людей низшего го¬
родского класса, которые составляли глав¬
ный контингент для поддержания смуты и
организации революционных уличных бес¬
порядков в городах. Но именно попытка
осуществить эту меру в Варшаве послужила
сигналом к открытому восстанию.
Первым актом этого восстания явилось
истребление спящих безоружных русских
солдат в казармах, и это именно обстоятель¬
ство подняло много голосов в России против
поляков, в том числе голос Аксакова и в
особенности Каткова, который до тех пор
стоял на точке зрения возможности удовлет¬
ворения тех требований, которые выставлял
Велепольский, — предоставления Польше
известной самостоятельности в границах
«конгресувки», т. е. нынешних 10 польских
губерний. Аксаков же считал до этого со¬
бытия возможным и даже наиболее сов¬
местимым с честью России вывести из
Польши все русские войска и предоставить
поляков самим себе. Теперь во многих орга¬
нах русской печати появились негодующие
статьи против предательского избиения
русских солдат4.
Но еще большее возбуждение против
польского дела явилось тогда, когда на¬
чались попытки со стороны европейских
держав вступиться в это дело с угрозой даже
вооруженным вмешательством. За¬
стрельщиком при этом явился, как и перед
Крымской войной, Наполеон III, деятельно
поддерживавший связи с польскими
эмигрантами. Эти угрозы иностранного вме¬
шательства вызвали в России такой взрыв
патриотизма, которого было даже трудно
тогда ожидать. Посыпалась масса
патриотических адресов от имени дворянст¬
ва, купечества, различных крестьянских и
городских обществ, даже от старообрядцев,
которым адрес составил Катков, поместив в
нем, между прочим, известную фразу: «в
новизнах твоего царствования старина наша
слышится...».
Эти адресы чрезвычайно ободрили
правительство и помогли ему с честью
отразить дипломатическую атаку иностран¬
ных держав, произведя известное впечат¬
ление и за границею. Но в то же время это
249
патриотическое движение, слившись с
антинигилистическим течением и враждеб¬
ным отношением к тем революционным про¬
явлениям, которые происходили в 1862 г. в
Петербурге, не только расширило и углубило
раскол в рядах интеллигенции, начавшийся
в 1862 г., но и произвело значительную
передвижку всех общественных элементов
направо, причем радикалы оказались
изолированными и окончательно ослаблен¬
ными. Триумфатором и героем дня явился
Катков, который сам сильно уклонился
направо от позиций, занимавшихся им в
1861 г.
Поколебавшийся престиж правительст¬
ва Александра II был восстановлен, и ему
уже не страшна стала та либеральная и
радикальная оппозиция, которая теперь со¬
вершенно упала. Перелом общественного на¬
строения выразился, между прочим, и в
чрезвычайном падении влияния «Колокола»:
«Колокол» до 1862 г. расходился в 2 г/г—
3 тыс. экз., а тут тираж его резко упал до
500 экз., и хотя он продолжал издаваться
еще в течение пяти лет, нб тираж его ни разу
не превышал после этого цифры 500. Суще¬
ствование его стало едва заметным.
Ввиду сложившихся в 1862 — 1863 гг.
условий легко могло возникнуть предполо¬
жение, что торжествующая реакция прек¬
ратит осуществление предположенных
преобразований. Этого, однако же, не
случилось. В проведении реформ правитель¬
ство оставалось по-прежнему непосредст¬
венно заинтересованным. Без некоторых из
них оно технически не могло бы управлять
страной, другие были необходимы для под¬
держания и развития культурной и эко¬
номической жизни страны. В этом
отношении урок, данный Крымской войной,
не потерял еще своего значения. Наконец,
перед финансовыми сферами Западной Ев¬
ропы правительство не могло не выполнить
программы, данной в приведенном циркуля¬
ре Горчакова. Правительству предстояло
показать верность своему лозунгу: «Ни сла¬
бости, ни реакции», и оно действительно не
только тотчас по усмирении польского вос¬
стания, но еще и раньше, в самый его разгар,
— тотчас после расправы с рево¬
люционными проявлениями в Петербурге,
— принимается за продолжение реформа¬
торской деятельности.
Но теперь из-под этих реформ в
значительной мере было вынуто то широкое
демократическое основание, на котором
сходились в 1861 г. и тверское дворянство,
и «Современник», и Ив. Аксаков в своем
«Дне».
Правительство тогдашние реформы раз¬
рабатывало уже чисто бюрократическим
путем: в недрах своих канцелярий, особых
комитетов и комиссий. Правда, вырабаты¬
вавшиеся и этим путем проекты нередко
печатались и довольно широко рассылались
для отзыва компетентным лицам, а также
подвергались открытому обсуждению в жур¬
налах, но все это совершалось уже далеко не
с тем настроением, с каким проходила кре¬
стьянская реформа. Из последующих
реформ первой по времени была финансо¬
вая. Преобразования, предпринятые в этой
области, были немаловажны и по своему
содержанию напоминали тот финансовый
план, который еще в 1809 г. был составлен
Сперанским. Дело и теперь коснулось в
конце концов не переложения податного бре¬
мени с одних плеч на другие, не прямого
облегчения положения податных классов и
не привлечения к несению прямых налогов
достаточных классов — хотя, впрочем, в
этом смысле задумывались, отчасти в связи
с крестьянской реформой, кое-какие преоб¬
разования, и в 1859 г. была образована даже
особая податная комиссия, которая разраба¬
тывала вопрос об управлении и упорядо¬
чении системы прямых налогов, но она
работала чрезвычайно медленно, и результа¬
ты ее работ обнаружились только в 70-х
годах, да и то неудачно.
Финансовые реформы, проведенные в
1862— 1866 гг. главным образом В.А. Та-
тариновым, касались больше всего упорядо¬
чения того государственного аппарата,
которым действовало государственное хозяй¬
ство. В этом смысле достигнуты были до¬
вольно значительные результаты. В. А.
Татаринов, который был одним из чест¬
нейших и способнейших сотрудников Алек¬
сандра II, еще сравнительно молодым
человеком был в 1856 г. командирован за
границу для ознакомления с формами и
способами ведения финансового хозяйства в
других грсударствах. Тщательно изучив это
дело, он и явился главным реформатором
нашего финансового управления. Вырабо¬
танные им меры были направлены прежде
всего на прекращение тех злоупотреблений,
которые процветали в отношении казенных
средств в отдельных ведомствах, и на
ограничение и даже на уничтожение того
хозяйственного произвола, которым пользо¬
валось каждое министерство, ибо в руках
почти каждого министерства сосредо¬
250
точивались тогда весьма крупные суммы в
виде остатков от прежних ассигнований, а
также в виде ассигнований, которые де¬
лались на одно, а расходовались на другое,
причем благодаря существовавшему порядку
отчетности эти суммы нельзя было даже
учесть, и они никем, в сущности, и не
проверялись. Понятно, какую возможность
всяких злоупотреблений представляло это
положение вещей. Чтобы избавиться от этих
порядков, Татаринов прежде всего пред¬
ложил систематически проведенную цент¬
рализацию государственного хозяйства. Все
распоряжение средствами казны должно бы¬
ло быть сосредоточено в руках министра
финансов. Ответственным распорядителем
всех государственных средств, всех доходов
и расходов отныне являлось не каждое
министерство в отдельности, а министр
финансов, все действия которого подлежали
учету и контролю Государственного контро¬
ля, а все сметные предположения о расходах
и доходах каждого года должны были, в виде
государственной росписи, проходить еже¬
годно через Государственный совет. Ранее
бывшая секретной, эта роспить с 1862 г.
начала публиковаться во всеобщее сведение,
что составило, конечно, в отношении поддер¬
жания нашего кредита довольно решитель¬
ный шаг.
Затем наряду с этим было создано так
называемое единство кассы, т. е. уничтоже¬
ны были все самостоятельные кассы и каз¬
начейства отдельных ведомств и каждая
казенная копейка должна была быть с тех
пор проводима через кассу Министерства
финансов, от которой только и могли идти
ассигнования на нужды отдельных ведомств,
ассигнования, которые должны были соот¬
ветствовать государственной росписи, про¬
шедшей через рассмотрение
Государственного совета, причем испол¬
нение этих ассигнований контролировалось
Государственным контролем.
Государственный контроль решено было
преобразовать, причем сам Татаринов был
поставлен во главе этого ведомства, и оно
было преобразовано не только в смысле луч¬
шего контроля за исполнением государст¬
венной росписи, но и в смысле
контролирования всего счетоводства и всех
казенных расходов как в центре, так и на
местах. Для учета на местах были образова¬
ны особые контрольные палаты, которым
была дана полная независимость от общей
администрации, т. е. от губернаторов в гу¬
берниях и от начальников отдельных ве¬
домств, и которые могли, таким образом,
совершенно свободно и независимо осущест¬
влять действительный контроль и докумен¬
тальный учет всех расходов казны на
местах.
Наряду с этими реформами, улучшив¬
шими коренным образом существовавший
аппарат финансового управления, была
принята еще и другая важная финансовая
мера — это учреждение Государственного
банка, который, с одной стороны, заменил
собой дореформенные . кредитные учреж¬
дения, чересчур неповоротливые для новой,
развивающейся экономической жизни, и ко¬
торому, с другой стороны, была предана
особая функция — способствовать развитию
кредита торгово-промышленных пред¬
приятий. Банк этот являлся учреждением,
финансирующим торгово-промышленные
предприятия.
Наконец, уничтожены были с 1863 г.
винные откупа, чем изменена была корен¬
ным образом одна из самых важных статей
государственной эксплуатации народного
потребления, т. е. косвенного обложения
спиртных напитков. Доходы от продажи
питей всегда составляли львиную долю в
нашем бюджете; но правительство до того
времени колебалось только между двумя
системами их эксплуатации. Одной из них
являлась система непосредственной моно¬
полии производства и продажи питей при
помощи казенных учреждений, причем, как
мы видели, процветали феноменальные зло¬
употребления, которые и заставили в свое
время Канкрина возвратиться к системе
откупов, упраздненной перед тем Гурьевым.
Но система откупов действовала не менее
развращающим образом на всю местную
администрацию. Откупщики систе¬
матически подкупали все местное
чиновничество.
Этот подкуп делался почти открыто, он
не имел характера специальных взяток, это
было просто назначение дополнительного
жалованья из кармана откупщика в виде
прибавки к тому жалованью, которое полу¬
чали чиновники от правительства, так что
каждый чиновник получал два жалованья —
одно от казны, другое от откупщика, причем
размер второго иногда превышал размер
первого. Ясное дело, что эти чиновники не
могли не относиться снисходительно и лю¬
бовно ко всем действиям откупщиков, како¬
вы бы они ни были, и, таким образом, на
откупе было не только винное хозяйство, но
и вся местная бюрократияравительство
251
имело слабость терпеть эту растлевающую
систему, потому что оно сознавало недоста¬
точность оклада чиновников и при скудости
своих средств не. могло существенно их
увеличить. Таково было казенное дорефор¬
менное хозяйство.
В 1863 г. система откупов была отмене¬
на, причем она не была заменена казенной
монополией, как при Гурьеве, а была вместо
нее введена вольная продажа питей каждым
желающим, причем только каждая посудина
с вином или водкой и каждый питейный дом,
равно и каждый винный склад, были обло¬
жены: первая — особым акцизом, а вторые
— особым патентным сбором. Сборы эти
собирались и учитывались на местах осо¬
быми учреждениями — акцизными управ¬
лениями, служебный персонал которых
хорошо оплачивался и набирался, по воз¬
можности, из людей образованных.
Чтобы закончить отдел финансовых пре¬
образований 60-х годов, я скажу еще, что
параллельно с проведением этих реформ
были введены некоторые улучшения и в
личном составе высшего финансового управ¬
ления. Ибо правительству удалось наконец
прежних непригодных министров, какие
были в начале царствования Александра,
как Брок и Княжевич, заменить более моло¬
дым и способным человеком М.Х. Рейтер-
ном, который возбудил при своем
назначении в обществе большие надежды.
Этим надеждам он, правда, далеко не удов¬
летворил, как оказалось впоследствии, но
все же при нем финансовое управление
пошло несколько лучше. Во главе нового
акцизного управления поставлен был чест¬
ный, талантливый и энергичный
администратор К.К. Грот5.
Вслед за финансовыми преобразо¬
ваниями 1862 — 1863 гг. первая по времени
опубликования была университетская
реформа 1863 г.
Хотя в университетской жизни тотчас
же по вступлении на престол императора
Александра последовали весьма заметные
облегчения, — ибо тотчас же были уничто¬
жены все те стеснения, которые введены
были при Ширинском-Шихматове в пос¬
ледние годы Николаевского царствования,
— однако же университеты до такой степени
были забиты предшествовашим режимом,
что сколько-нибудь заметное оживление на¬
ступило в них далеко не сразу. В первые
годы нового царствования и в них преобла¬
дало то оптимистическое и радостное, но
совершенно спокойное и скромное настро¬
ение, которое соответствовало настроению и
всего русского общества в эти годы. Первые
студенческие/ волнения или беспорядки,
происходившие в Москве в 1858 г., вовсе не
имели политического или антиправительст¬
венного характера и вызваны были про¬
стыми столкновениями с полицией,
обусловленными ее бестактностью, причем
и сам государь признал полицию кругом
виноватою, а студентов по существу совер¬
шенно правыми. Но к началу 60-х годов и в
университетах стало резко сказываться то
возбуждение и то боевое оппозиционное на¬
строение, которое развилось к тому времени
в обществе6. К этому моменту внутренняя
жизнь университетов заметно переменилась.
Хотя продолжал еще действовать старый
устав 1835 г., отнюдь не дававший большого
простора и самостоятельности студенчеству
даже и после отмены стеснений, введенных
в конце Николаевского царствования, однако
же фактически молодежь пользовалась в
стенах университета большою свободою. Все
николаевские попечители были заменены
людьми гуманными и сочувствовавшими
просвещению и прогрессу, и в университе¬
тах допущены были всякие студенческие
организации, сходки по студенческим де¬
лам, издание собственных газет и журналов,
выходивших без всякой цензуры;
университеты свободно посещались людьми
посторонними, и на лекции наряду со сту¬
дентами допускались различные сторонние
вольнослушатели и даже женщины. Про¬
будившееся к новой жизни общество, не бо¬
гатое умственными силами и
образованными общественными деятелями,
естественно, возлагало на университетскую
молодежь большие надежды, и положение
студентов в обществе того времени было
чрезвычайно почетное. Молодежь быстро
привыкала к этому новому своему поло¬
жению, для нее столь лестному и приятному.
У нее проявились стремления участвовать
деятельно в общественной жизни, и такому
участию ее в некоторых общественных
предприятиях способствовали
развивавшиеся и усиливавшиеся потреб¬
ности общества, такие, как, например,
воскресные школы, народные библиотеки и
т. п. новые просветительные учреждения
только что пробудившегося общества7.
В 1860 г. уже появляется в литературе
новый пророк молодого поколения Писарев,
который прямо уже требует, чтобы юноше¬
ству было предоставлено публично говорить,
писать и печатать и «встряхивать своим
252
самородным скептицизмом те залежавшиеся
вещи, ту обветшалую рухлядь», которые на¬
зываются «общими авторитетами». «Вот за¬
ключительное слово нашего юного лагеря, —
писал Писарев, — что можно разбить, то и
нужно разбить: что выдержит удар, то
годится; что разлетится вдребезги, то хлам;
во всяком случае, бей направо и налево, от
этого вреда не будет и не может быть»8.
Дух критики, сомнения и молодого за¬
дора на замедлил проявиться и в отношении
к профессорам. Вошли в обычай в
аудиториях рукоплескания, свистки и
шиканье. К профессорам стали предъяв¬
ляться различные требования... В 1861 г.
одна из первых революционных прокла¬
маций, составленная Михайловым, прямо
обращается «к молодому поколению». В Ка¬
зани после бездненской катастрофы студен¬
ты с молодым профессором Шаповым во
главе служат, как я уже говорил, демонст¬
ративную панихиду по крестьянам, убитым
содцатами... В Петербурге студенты уст¬
раивают скандал на акте 8 февраля 1861 г.,
когда предложенная речь Костомарова об
умершем перед тем Константине Аксакове
отменяется по распоряжению министра.
Одним словом, университет, как верный ба¬
рометр, по остроумному выражению Пирого¬
ва, показывает то бурное настроение,
которое накопилось к тому времени в обще¬
стве.
Встревоженное правительство пытается
остановить это движение мерами строгости.
Слабый гуманный министр Ковалевский вы¬
ходит в отставку, и его заменяет мрачный
обскурант адмирал Путятин, рекомендован¬
ный гр. Строгановым, — тем самым Строга¬
новым, который с таким блеском
попечительствовал в Москве в 40-х годах, а
теперь был главою реакции в высших
правительственных сферах. Особой
комиссией под председательством Строгано¬
ва вырабатываются временные правила, ут¬
вержденные государем 31 мая 1861 г.
Правилами этими уничтожаются все заро¬
дыши корпоративного устройства студентов,
даже форменное платье. Ими же отменяются
свидетельства о бедности, освобождение сту¬
дентов и вольнослушателей недостаточного
состояния от платы и запрещаются всякие
сходки без разрешения начальства.
Попечитель Делянов, бывший в то время
либералом и пытавшийся при помощи'Ка¬
велина и других популярных профессоров
выработать, на основании совещания с де¬
путатами студентов, целесообразные и
применимые правила, также выходит в
отставку вслед за Ковалевским, и на его
место назначается генерал Филипсон,
бывший атаман казачьего войска. Осенью,
когда новые правила должны были получить
применение, произошли грандиозные сту¬
денческие беспорядки, кончившиеся массо¬
выми исключениями студентов из
университета, процессией их через весь го¬
род к попечителю Филипсону на Колоколь¬
ную улицу, затем столкновением на улице
около университета с войсками и арестам
300 студентов в крепости. В Москве в это
время произошли такие же беспорядки и
также с выходом студентов на улицу. Но там
полиция натравила на студентов простона¬
родье, распустив слух, что это бунтуют гос¬
пода, требующие будто бы восстановления
крепостного права. Студенты были жестоко
избиты, а затем многие арестованы и потом
исключены из университета. Император
Александр был в это время в Крыму с
больной императрицей. Он очень встре¬
вожился всеми этими происшествиями, по¬
спешил вернуться в Петербург и остался
очень недоволен распоряжениями как графа
Путятина, так и петербурского генерал-гу¬
бернатора Игнатьева. Оба они вышли в
отставку и были заменены: первый — А.В.
Головниным, рекомендованным великим
князем Константином Николаевичем и ока¬
завшимся одним из самых просвещенных и
доброжелательных министров народного
просвещения в России,, второй — гуманным
и добродушным кн. А А. Суворовым, впос¬
ледствии чрезвычайно отзывчиво и ласково
относившимся к молодежи. Головин спешно
принялся за выработку нового устава. Проф.
Кавелин, незадолго перед тем вышедший в
отставку с четырьмя другими профессо¬
рами, протестовавшими против ме¬
роприятий Путятина, был командирован за
границу для изучения порядков, существу¬
ющих в университетах различных стран. В
выработке устава приняли участие выда¬
ющиеся ученые, профессора и администра¬
торы.
Проект, ранее выработанный в
министерстве, был напечатан и разослан к
различным сведущим лицам в России и за
границей (на разных языках). Печать
приняла деятельное участие в обсуждении
вопроса. Мнение Строганова, желавшего
превратить университеты в закрытые
аристократические учебные заведения, было
всеми отвергнуто. Толоса разделились в
правительственных кругах и в обществе
253
между двумя либеральным системами.
Представителем одной из них в печати
явился главным образом историк Н.И. Кос¬
томаров, и в правительственном кругу —
барон М.А. Корф, защитниками другой —
ученики и друзья покойного Грановского Б.
Н. Чичерин, К. Д. Кавелин, М. Н. Катков и
другие профессора-либералы. Первая систе¬
ма исходила из различения задач
воспитания и образования. «Воспитание, —
писал Костомаров в «Петербургских ведомо¬
стях», — принадлежит детским и отро¬
ческим летам и оканчивается со
вступлением в зрелый возраст; образование
есть достояние всяких возрастов и не прек¬
ращается до старости. Воспитание должно
даваться дома и в школе; университеты же
должны давать исключительно средства к
образованию людям всех возрастов без
различия пола». Барон Корф видел в корпо¬
ративном устройстве университетов что-то
средневековое и указывал в своей записке,
что в средние века корпоративное устройство
нужно было для защиты от насилий, почти
повсеместных в века мрака и невежества.
Теперь же оно делает без всякой надобности
университет чем-то вроде государства в го¬
сударстве.
Против этих мнений резко восстал
Чичерин в «Московских ведомостях». «Тут
все есть, — писал он, — что может пленить
русского либерала: и радикальные преобра¬
зования, и современные потребности, и
открытые настежь двери, и контроль обще¬
ственного мнения. Нет только студентов и
университетов; одни преданы забвению,
другие преданы погибели...» Утверждая, что
университет должен и может иметь не одно
только образовательное, но и великое
воспитательное значение для юношества,
выяснив необходимость существования в
университете особой умственной атмосфе¬
ры, научных традиций, важность товарище¬
ства в научных занятиях и проч., Чичерин
возражал в то же время против допустимости
свободного доступа в университет посто¬
ронних людей. Именно наплыву в
университет посторонних стихий он
приписывал университетские беспорядки.
Поэтому он допускал вольнослушателей
лишь в ограниченных размерах и считал,
что студенчество в органической связи с
профессорами должно составлять главный
основной элемент. Кавелин привез из-за
границы единогласное удостоверение всех
заграничных авторитетов в пользу корпо¬
ративного устройства университетов. На
этих основах и был выработан новый проект
университетского устава, поступивший
предварительно представления его в Госу¬
дарственный совет в новую комиссию, обра¬
зованную опять под председательством гр.
Строганова. Здесь прогрессивные начала,
положенные в основание проекта, под¬
верглись значительным урезкам и допол¬
нениям, после чего устав прошел через
Государственный совет и был утвержден
императором 18 июня 1863 г.
В этом уставе была восстановлена авто¬
номия университетов, сведенная почти к
нулю по уставу 1835 г., в прежних размерах
устава 1804 г., хотя, впрочем, сохранены и
некоторые параграфы устава 1835 г., сосре-
дочивавшие значительную дискреционную
власть в руках попечителя. В то же время
устав резко стеснил доступ в университет
посторонних слушателей. Наконец, создав
корпорацию профессоров и дав им авто¬
номию в виде самоуправления совета и
факультетов, устав лишал студентов всякой
легальной возможности организовать свою
собственную общественную и товарищескую
жизнь. По проекту Головнина, советам пре¬
доставлялось легализировать те формы про¬
явления студенческой корпоративной
жизни, какие советы нашли бы возможным
допустить; но все это было исключено из
проекта в строгановской комиссии.
С такими урезками и добавками в
реакционную сторону'вступил этот устав в
жизнь. В первые годы после его введения в
университетах в них водворилось, однако,
некоторое спокойствие, благодаря в
значительной мере либеральному отно¬
шению самого Министерства народного
просвещения, пока во главе его стоял Го¬
ловнин.
Реформаторская деятельность
министерства коснулась в это время и сред¬
ней школы. Реформа средней школы разра¬
батывалась тем же порядком, как и
университетская: проекты нового устава так¬
же были напечатаны на разных языках и
разосланы на обсуждение русским и иност¬
ранным педагогам. Гимназии решено было
разделить на классические и реальные. В
первых сверх латинского вводился и гре¬
ческий язык. Классические гимназии долж¬
ны были подготовлять своих воспитанников
главным образом к университету, реальные
— в высшие технические школы; те и другие
должны были давать и законченное среднее
образование. Устав был утвержден 19 ноября
1864 г., но введение его в действие оста¬
254
навливалось из-за недостатка денежных
средств и учителей греческого языка.
Говоря о реформе средней школы, здесь
следует сказать и о постановке среднего
женского образования. Во времена дорефор¬
менные, до вступления на престол Алексан¬
дра II, в России для девушек вовсе не было
открытых казенных школ. Девушки из до¬
статочных семейств воспитывались или до¬
ма, или в закрытых учебных заведениях —
институтах, которых было очень немного и
которые были организованы по типу, приня¬
тому еще при Екатерине. Когда на почве
освободительного движения началась та
борьба за индивидуальность, о которой я уже
упоминал, то одним из важнейших прояв¬
лений этой борьбы и этого движения явился
женский вопрос, вопрос об эмансипации
женщин от того зависимого и угнетенного
положения, в котором они находились в
русской семье, — впрочем, так и в
большинстве других стран Европы. Понят¬
но, что при первом же возникновении этого
движения стал на очередь вопрос об их
просвещении. И в конце 50-х годов вы най¬
дете в тогдашних журналах много статей,
посвященных этому вопросу, и обсуждение
его сильно захватывало и волновало все
мало-мальски интеллигентные семьи в то
время как в столицах, как и в провинции. В
момент общественного подъема, вызванного
работой губернских комитетов по крестьян¬
скому делу, во всех провинциальных гу¬
бернских городах, не говоря о столицах и
крупных университетских центрах, повсюду
мы видим не только оживленные толки на
эту тему, но и деятельный сбор пожертво¬
ваний на открытие женских училищ. В 1859
г. приступлено было к их открытию во всех
городах, где собраны были в тот момент
сколько-нибудь достаточные средства —
обыкновенно несколько десятков тысяч руб¬
лей. Эти женские училища, или гимназии,
сперва четырехклассные, потом шестиклас¬
сные, взяла под свое покровительство импе¬
ратрица Мария Александровна, и
заведование ими сосредоточилось, таким
образом, не в Министерстве народного прос¬
вещения. а в ведомстве учреждений импе¬
ратрицы Марии (образованном после смерти
Марии Феодоровны, вдовы императора Пав¬
ла, сыном ее, императором Николаем I).
Главным деятелем, в руках которого сосре¬
доточивалось центральное заведование и
руководство открытыми женскими
гимназиями, был просвещенный и незауряд¬
ный педагог того времени И.А. Вышнег¬
радский. По программе, выработанной для
этих гимназий, курс их соответствовал в
несколько сокращенном виде курсу реаль¬
ных училищ.
С освобождением крестьян явилась на¬
стоятельная потребность в организации и
начального образования, которое во времена
дореформенные существовало лишь в не¬
многих отдельных имениях богатых и прос¬
вещенных, филантропически настроенных
помещиков, где оно велось на их средства,
да отчасти в ведомствах, управляющих
удельными и казенными крестьянами, где
эти последние могли сами дать необходимые
на содержание школы средства. Хотя наряду
с этим в некоторых местах существовали
будто бы также церковно-приходские шко¬
лы, но они в огромном большинстве случаев
существовали лишь на бумаге и результаты
их деятельности были ничтожны.
С конца 50-х годов, по мере
приближения исхода работ по крестьянской
реформе, в среде интеллигенции все дея¬
тельнее и настойчивее обсуждался вопрос о
необходимости энергичного содействия уч¬
реждению народных школ. Это почин не
остался бесплодным. С одной стороны, с
легкой руки киевского профессора П.В. Пав¬
лова с 1859 г. в Киеве, а затем и в других
городах открывается масса воскресных
школ, в которых деятельно участвуют и
учащаяся молодежь, и прогрессивно настро¬
енные офицеры, женщины и девушки из
богатых семей и т. д. В годы развития
бурного оппозиционного настроения, в 1861
— 1862 гг., кое-где отдельные воскресные
школы сделались ареной по большей части
весьма наивной политической пропаганды,
тем не менее обратившей на себя внимание
политических властей, благодаря чему в
1862 г. состоялось общее распоряжение о
закрытии всех воскресных школ впредь до
издания особых о них правил.
Наряду с этим в 1860 — 1861 гг. в обще¬
стве настойчиво обращалась мысль о жела¬
тельности и необходимости образовывания
особых обществ попечения о распростра¬
нении грамотности в народе. Один из про¬
ектов, привлекавших к себе тогда общее
внимание, принадлежал И.С. Тургеневу. И
действительно, при вольно-экономическом
обществе в Петербурге был открыт, а при
московском сельскохозяйственном обществе
возобновлен особый комитет грамотности.
Комитеты эти в то время и впоследствии
цринесли немало пользы делу распростра¬
нения просвещения в народе и сбором денег
255
на школы, и изданием и рассылкой попу¬
лярных книг.
Со вступлением Головнина на пост
министра и в Министерстве народного прос¬
вещения началась довольно деятельная рабо¬
та по выработке. устава начального
образования, какового раньше не существо¬
вало, ибо устав о низших училищах 1828 г.
имел в виду лишь городские и уездные
училища низшего типа, а не элементарные
народные школы. Устав о начальных народ¬
ных училищах был выработан теперь в двух
различных проектах, из которых один сос¬
редоточивал в руках Министерства народно¬
го просвещения и его местных агентов как
педагогическую, так и хозяйственную сторо¬
ну начальных училищ, а другой — для заве¬
дования училищами предполагал создать в
уездах и в губерниях особые комитеты из
представителей разных ведомств, в хозяйст¬
венном же отношении подчинить училища
тем обществам или лицам, на средства ко¬
торых они будут содержаться. При обсуж¬
дении этого вопроса в Государственном
совете принято было во внимание замечание
главноуправляющего II отделения собствен¬
ной его величества канцелярии барона М.А..
Корфа, который предлагал передать попе¬
чение о начальных училищах в ведение
проектированных тогда земских учреж¬
дений. В конце-концов для заведования
училищами были установлены особые уезд¬
ные и губернские училищные советы, но в
состав их введены были представители от
земства.
Положение о начальных училищах было
утверждено 14 июня 1864 г., т. е. уже после
издания Положения о губернских и уездных
земных учреждениях9.
ЛЕКЦИЯ XXVI
Земская реформа. — Ее связь с крестьянской реформой. — Разработка земской реформы и ее содер¬
жание. — Отношение к земской реформе печати и общества. — Условия, при которых пришлось работать
земским учреждениям. — Судебная реформа. Ее разработка. Значение и содержание судебной реформы.
Условия, в которых начались первые шаги новых судов. — Законодательство о печати. Колебания
правительства в этой сфере. — Пересмотр законов о печати. Две комиссии кн. Д.А. Оболенского.
Политика Головнина и Валуева. Временные правила 1865 г. — Настроение дворянства в 1865 г. Адрес
московского дворянства. —Положение радикальной печати и радикальных кругов. Покушение Карако¬
зова. — Конец эпохи реформ и общее за,ключение о ней.
Отмена крепостного права, как я уже
говорил, образовывала сама по себе много
пустых мест в существовавшей ранее систе¬
ме местного управления, так как эта послед¬
няя связана была теснейшим образом с
крепостным правом и в нем имела свою
опору, ибо при крепостном праве каждый
помещик в своем имении был первым и
притом почти неограниченным представите¬
лем административной власти. В то же вре¬
мя и в местном уездном и губернском
управлении большая часть должностей, са¬
мых влиятельных в повседневной жизни,
замещалась по выбору дворянства и из числа
его представителей. Это касалось как
полицейских, так и судебных должностей и,
конечно, создавало такое положение, при
котором невозможно было ожидать для лиц
непривилегированных сословий ни право¬
судия, ни защиты их интересов при столк¬
новении этих последних с интересами
представителей привилегированного класса.
Понятно, что подобный порядок мог быть
терпим лишь при крепостном праве, пока
это последнее считалось неизбежным и
неприкосновенным устоем русской государ¬
ственной и общественной жизни. С другой
стороны, перед правительством с момента
обнаружившихся в эпоху Крымской войны
язв существовавшего строя стояла опреде¬
ленная задача преобразовать этот строй
таким образом, чтобы привлечь к участию в
оздоровлении и развитии государственной и
общественной жизни страны все жизнеспо¬
собные и работоспособные силы народа и
общества. Поэтому при самом начале работ
в этой комиссии, которая была образована в
Министерстве внутренних дел под пред¬
ставительством Милютина для разработки
проекта реформы местного управления,
были установлены принципы, соответству¬
ющие только что очерченной общей задаче.
Эти принципы были выражены Н.А.
Милютиным в особой записке и были одоб¬
рены государем в качестве руководящих
принципов реформы. Принципы эти выра¬
жались в формуле: дать местному самоуп¬
равлению возможно больше доверия,
256
возможно больше самостоятельности и
возможно больше единства. К этому вре¬
мени весьма удачно подоспели и те заяв¬
ления отдельных губернских комитетов или
проектов, составленных в них представите¬
лями прогрессивно настроенного
меньшинства — особенно из среды дворян¬
ства нечерноземных промышленных гу¬
берний, — которые были затем еще резче
подчеркнуты и подробнее развиты депута¬
тами первого приглашения в редакционных
комиссиях и которые указывали на необ¬
ходимость построить это самоуправление на
всесословных началах, соответствующих но¬
вому гражданскому строю страны, освобож¬
денной от крепостного права. На этих
началах и был построен первый очерк
земских учреждений, составленный в
комиссии Милютина,
На этой же комиссии лежала, сверх
того, разработка общей полицейской рефор¬
мы, организации отдельной от полиции след¬
ственной власти и новых мировых
учреждений, на которые возложено было
введение крестьянской реформы. Работы ее
далеко не были закончены, когда последо¬
вали отставка Ланского и Милютина и на¬
значение на пост министра внутренних дел
Валуева, который принял лично на себя
председательство в этой важной комиссии.
Валуев, как вы знаете, не сочувствовал
принципу всесословности и всячески
стремился в то время поддержать и укрепить
престиж и преобладание дворянского сос¬
ловия, поколебленные отменой крепостного
права. Однако отказаться вполне от
принципа всесословности он в это время уже
не решился, а попытался лишь дать преоб¬
ладание дворянству в земских учреждениях
— при помощи некоторого понижения ценза
для лиц дворянского сословия в сравнении
с землевладельцами прочих сословий и
усиления числа гласных от частных земле¬
владельцев в земских собраниях в срав¬
нении с числом гласных от крестьянских
обществ. Но эти его поправки были устране¬
ны критикой главноуправляющего II отде¬
лением собственной его величества
канцелярии барона Корфа, который, доказав
их логическую несостоятельность, указывая
в то же время, что они вызовут большое
недовольство и раздражение в обществе, —
настолько уже к этому времени в обществе
укрепилось либерально-демократические
принципы, развившиеся во время разра¬
ботки крестьянской реформы и настолько
стали с ними свыкаться и представители
9 Зак. 271
высших бюрократических сфер. Государст¬
венный совет также оказался не на стороне
Валуева, и таким образом в конце концов
представительство в земстве отдельных
групп населения, хотя и построенное на
куриальной системе, было, однако же, уста¬
новлено более справедливо и сообразно
принципу всесословности, нежели желал
Валуев. Валуев хотел дать право участия в
избирательных собраниях дворянам, владе¬
ющим землей в размере 50 крестьянских
высших наделов, установленных для данной
местности Положением 19 февраля, а для
землевладельцев недворянского сословия —
установить ценз в 100 таких же наделов.
Государственный совет признал спра¬
ведливым уравнять тех и других и определил
для обеих категорий земельный ценз, рав¬
ный 100 наделам.
Избиратели земских гласных были раз¬
делены на три курии: 1) курию частных
землевладельцев, 2) курию сельских
обществ и 3) курию городских избирателей,
причем для последних право на участие в
выборах давалось владением недвижимым
имуществом в городе, оцененным не ниже
известной суммы (в 3 тыс. и в 6 тыс. руб.)
или принадлежностью к купеческим
гильдиям, или владением торгово-промыш¬
ленными заведениями с оборотом не ниже 6
тыс. руб. При распределении между этими
куриями числа гласных, которых каждая из
них могла выбирать в уездное земское соб¬
рание, Валуев хотел установить преимуще¬
ство в пользу курии частных
землевладельцев, проектируя, что для
сельских обществ один избираемый ими
гласный должен приходиться на каждые 4
тыс. наделов, тогда как для частных земле¬
владельцев — один гласный на пространст¬
во земли,равное лишь 2 тыс. полных
крестьянских наделов. Но Государственный
совет уравнял и в этом отношении все курии,
признав, что и для сельских обществ, и для
землевладельцев один гласный должен
приходиться на каждые 3 тыс. наделов, а в
городской курии — на равноценную этой
земле сумму имуществ. При этом еще было
установлено, что общее число гласных,
выбираемых одной курией, не может быть
больше, нежели общее число гласных,
выбираемых двумя другими куриями, вместе
взятыми1.
Структура земских учреждений была
предположена в следующем виде. Как в
губернии, так и в уезде органы, заведующие
земским хозяйством, разделены были на
257
распорядительные и исполнительные. Пер¬
вые установлялись в виде земских собраний,
образуемых из гласных, избираемых упомя¬
нутыми куриями, причем число гласных,
входящих в состав уездного земского соб¬
рания, колебалось, в зависимости от разме¬
ров уезда, от 14 до ста с лишним. Губернское
собрание составлялось из губернских глас¬
ных, выбираемых уездными собраниями.
Председателями уездных собраний сделаны
были уездные предводители дворянства,
председателями губернских собраний — гу¬
бернские предводители. Уездные собрания
должны были заведовать земским хозяйст¬
вом уезда, губернские — теми хозяйственно¬
распорядительными делами, которые
касались целой губернии. Но при этом уез¬
дные собрания были признаны вполне не¬
зависимыми от губернских. Те и другие
должны были собираться раз в год для уста¬
новления общего плана ведения хозяйства,
для утверждения сметы доходов и расходов
с правом обложения всех входящих в район
их деятельности недвижимых имуществ и
торгово-промышленных предприятий и, на¬
конец, для выбора исполнительных органов,
заведующих постоянным ведением всего де¬
ла, и для рассмотрения и утверждения еже¬
годно представляемых им этими органами
отчетов. Этими исполнительными органами
должны были быть земские управы — гу¬
бернские и уездные, — состоящие из пред¬
седателя и нескольких членов каждая.
Гласные должны были выбираться на три
года, и на тот же срок земские собрания
должны были избирать и управы.
Что касается компетенции земских уч¬
реждений, то Милютин, не пытаясь особенно
расширить круг порученных им дел, на¬
стаивал лишь на том, чтобы в своей сфере
они пользовались полной самостоятельно¬
стью и независимостью от местных
административных властей, подчиняясь
лишь одному Сенату, и что губернаторам
при этом предоставлено было лишь право
надзора за законностью их действий. Перво¬
начально в заведование земских учреждений
предполагалось передать те дела, которые во
времена дореформенные велись местным на¬
чальством на средства губернского земского
сбора, из которых важнейшими были уст¬
ройство и содержание местных путей сооб¬
щения, а также отбытие повинностей
подводной и постойной, затем дела, подве¬
домственные приказам общественного
призрения, т. е. больницы и богадельни, и ,
наконец, дела продовольственные, частью
подведомственные губернским и уездным
учерждениям, частью — помещикам и
окружным управлениям государственных
имуществ и удельного ведомства. Затем, по
инициативе барона Корфа, решено было
расширить компетенцию земских учреж¬
дений и передать на их попечение дело
распространения на местах народного обра¬
зования, постройки церквей и устройства
мест заключения, а также попечение о
развитии медицинской и ветеринарной
помощи в уездах и губерниях и вообще
заботы о всех пользах и нуждах местного
населения, сельского хозяйства, торговли и
промыслов.
Такова была в общих чертах структура
и компетенция вновь созданных по поло¬
жению 1 января 1864 г. всесословных орга¬
нов местного самоуправления.
Они были распространены первоначаль¬
но лишь на 33 губернии и в этих губерниях
открывались постепенно, начиная с 1865 г.
К 1 января 1866 г. они были открыты в 19
губерниях, к 1 января 1867 г. — еще в 9
губерниях, а всего в 28; затем, в течение 1867
г. — еще в 2 и после 1 января 1868 г. — еще
в 4, причем в число земских губерний вклю¬
чена была и Бессарабская область2.
Общество и печать при самом опублико¬
вании земского положения возлагали на зем¬
ское самоуправление большие, а многие —
даже преувеличенные надежды, хотя к само¬
му положению и относились критически.
Наиболее пессимистический отзыв о нем
принадлежал И.С. Аксакову, который отка¬
зывался видеть в нем настоящее самоуправ¬
ление и признавал его за одну из форм
призыва выборных земских людей на госу¬
дарственную службу3. Он приветствовал
лишь последовательное проведение в зем¬
ском положении начала всесословности.
Наиболее оптимистический взгляд на эту
реформу выражен был в статьях К.Д. Ка¬
велина, появившихся в 1864 г. в «Петер¬
бургских ведомостях» Корша. Кавелин
видел в земских учреждениях необходимую
и превосходную школу для приготовления
русских людей всех классов к участию в
государственных делах при будущем пред¬
ставительном строе. Он горячо звал всех
передовых и просвещенных людей принять
в них участие и, разбирая подробно самый
закон, относился к нему чрезвычайно бла¬
гоприятно4.
Однако земским учреждениям пришлось
начать свою работу при крайне небла¬
гоприятных условиях, когда с 1866 г. в
258
России уже повсюду восторжествовала
реакция. Они встретили крайне враждебное
отношение к себе всех правительственных
органов — центральных и местных и, при
чрезвычайно трудных финансовых обстоя¬
тельствах, скоро были ограничены в праве
обложения торговых и промышленных
предприятий, а затем была ограничена
публичность и гласность земских собраний
и стеснена в них свобода прений, благодаря
чему вскоре многие весьма ценные и достой¬
ные деятели земства охладели к этому делу
и вышли и из состава земских управ и
собраний.
Следующая по времени капитальная
реформа 60-х годов была судебная, которая
выражалась в издании новых судебных ус¬
тавов 20 ноября 1864 г.
Чтобы ясно представить себе всю огром¬
ную важность этой реформы, надо
вспомнить, что такое был старый суд и
каковы были судебные порядки в дорефор¬
менное время. «Черча в судах неправдой
черной...»,— так заклеймил дореформенную
Россию с ее судебными порядками накануне
Крымской войны поэт-патриот славя¬
нофильского лагеря А.С. Хомяков. «Старый
суд! — писал в 80-х годах И.С. Аксаков,
который сам когда-то служил в разных до¬
реформенных судебных местах. — При
одном воспоминании о нем волосы встают
дыбом, мороз дерет по коже!...»5
Судебные места существовали со вре¬
мени Екатерины без всякого существенного
изменения, хотя необходимость коренной их
реформы сознавалась уже при Александре
I и в течение двух царствований составляла
предмет забот, обдумываний и проектов, в
составлении которых неоднократно
принимали участие тогдашние государст¬
венные люди и правительственные деятели,
как Сперанский, Николай Тургенев, Даш¬
ков, Блудов и др. Поколебать установившу¬
юся прочно систему «правосудия» им,
однако же, не удалось, пока процветало
крепостное право и всестороннее преобла¬
дание дворянства и дворянских интересов на
всех степенях государственной службы и во
всех высших государственных учреждениях,
центральных и местных. Даже и при Алек¬
сандре II начатые с начала царствования
работы по преобразованию судоустройства и
судопроизводства не имели успеха, пока не
совершилось падение крепостного права.
Лишь после 1861 г. разработка судебной
реформы пошла быстрым темпом, когда
решено было отказаться от всякой историче¬
ской связи с прежним судебным устройст¬
вом и повести дело на основании совершенно
новых начал, установленных наукой и
практикой цивилизованных стран. Главные
пороки старого судебного устройства заклю¬
чались в раздроблении судебных мест по
сословиям и по роду дел, в сословной их
организации, во множестве инстанций, в
полном подчинении суда администрации, в
сохранении старого следственного
инквизиционного процесса по уголовным де¬
лам, причем предварительные следствия
производились полицией канцелярским
порядком по раз навсегда установленным
обрядам, а уездный суд, являвшийся первой
инстанцией по общим уголовным делам,
решал их исходя из этих следствий, по
докладам своей канцелярии, в закрытых за¬
седаниях, причем подсудимому не всегда
сообщались даже все основания, на которых
основывалось выставленное против него
обвинение; приговор постановлялся без
прений сторон, без участия адвокатов, на
основании допотопной системы формальных
доказательств, а не по внутреннему убеж¬
дению судей. Если не хватало улик, под¬
судимый мог быть оставлен — и чаще всего
оставлялся — «в подозрении», что
ограничивало его в правах. При разногласии
судей дело без жалобы подсудимого пере¬
носилось в ревизионном порядке в высшие
инстанции, котЪрых было несколько и кото¬
рые рассматривали его тем же канце¬
лярским порядком. При этом судьи были не
только без юридического образования, но
часто и без всякого, и жалованье получали
ничтожное, даже по тому времени. Губерна¬
тор мог остановить всякое судебное дело и
возвратить его для решения. Понятно, что
при таких условиях в судах под покрытием
канцелярской тайны, при полном невежест¬
ве судей, не обеспеченных жалованьем, при
произволе губернаторской власти, при
отсутствии адвокатуры и при множестве
инстанций царило страшное взяточничество
и безусловное господство силы над правом и
правдой. Это была истинная «мерзость за¬
пустения на месте святе»6.
Когда, наконец, после отмены крепост¬
ного права и замены гр. Панина на месте
министра юстиции Замятниным, решено
было приступить категорически к коренному
изменению этой системы, то дело разработки
основных начал судебной формы поручено
было особой комиссии из просвещенных и
даровитых юристов? в которой душою всего
дела сделался в высшей степени упорный и
9*
259
преданный своему делу человек — статс-
секретарь Государственного совета С.И. За-
рудный. В 1862 г. были выработаны и
утверждены государем основные начала су¬
дебной реформы и тогда же спешно было
приступлено к составлению судебных уста¬
вов на рациональных принципах юридиче¬
ской науки. В основу нового судебного
устройства положены были принципы бес¬
сословности суда, равенства всех граждан
перед законом, полной независимости суда
от администрации, что гарантировалось не¬
сменяемостью судей, причем им давалось
достаточное материальное обеспечение, и
судебный персонал должен был набираться
из людей просвещенных и юридически обра¬
зованных.
Суд был установлен открытый и глг сный
с активным участием сторон, причем не
только по исковым гражданским делам, но
и по уголовным введен был состязательный
лроцесс, в котором обвинение формулирова¬
лось, подкреплялось и поддерживалось бы
прокурором, а интересы подсудимого
защищались бы адвокатом из числа присяж¬
ных юристов. По гражданским делам уста¬
новлено было две инстанции: окружной суд
и судебная палата; по общим уголовным
делам — одна инстанция: окружный суд с
присяжными заседателями. Суд присяж¬
ных, назначаемых по очереди, по спискам,
из числа полноправных обывателей,
достигших известного возраста, должен был
решать вопрос факта, т. е. по совести, на
основании данных судебного следствия и
прений сторон ответить на вопрос,
резюмированный председателем: виновен ли
подсудимый в приписываемом ему деянии,
и если виновен, то не заслуживает ли он
снисхождения? На основании вердиката
присяжных коронный суд, тут же присутст¬
вующий в составе председателя и двух чле¬
нов, должен уже только сделать
постановление или о применении к данному
деянию той или другой карательной статьи
уголовного кодекса (улож. о наказ.), или о
немедленном освобождении оправданного
присяжных подсудимого. Лишь при нару-
щении существенных форм и обрядов судоп¬
роизводства и при неправильном
применении судом закона стороны могли,
Лодав кассационную жалобу, перенести дело
(гражданское — из судебной палаты, уго¬
ловное — из окружного суда) в Сенат, кото¬
рый, в случае действительно допущенных в
деле неправильностей (например, невыслу-
шания судом стороны, невызова свидетелей
и т. д.), не разбирая дела по существу,
передает его в другой суд или в тот же суд,
но в другом составе, для пересмотра с пол¬
ным соблюдением закона.
Из компетенции суда присяжных были,
к сожалению, с самого же начала изъяты
дела о государственных преступлениях и о
некоторых служебных преступлениях, а так¬
же дела о печати. Этим, конечно, умалялось
общегражданское и политическое значение
суда присяжных.
Независимость судей отчасти умалялась
лишь тем, что они, будучи изъяты от началь¬
ственного произвола тем, что установлена
была их несменяемость, не были изъяты от
системы начальнических поощрений при
помощи представления их к чинам и орде¬
нам, чем сохранялась все же некоторая воз¬
можность воздействия администрации
(министра юстиции) на наиболее
податливых из них. Однако эта возможность
впоследствии, в эпоху реакции, признана
была совершенно недостаточной, и
правительство постоянно стремилось,
начиная с 1866 г., поколебать именно
принцип судейской несменяемости и
расширить вместе с тем категории дел, изъя¬
тых из ведения суда присяжных.
Наряду с этой общей судебной рефор¬
мой, которая действительно стремилась га¬
рантировать русским гражданам суд
«скорый, правый и милостивый», по делам
маловажным, т. е. по мелким гражданским
искам и по мелким правонарушениям и
проступкам, выделенным их числа общих
гражданских и уголовных дел, учрежден был
особый мировой суд в двух инстанциях,
состоявших из выборных (по выбору земств
и городских дум) мировых судей и их съез¬
дов (вторая инстанция). Облегчив, таким
образом, общие суды освобождением их от
массы мелочных дел, закон установил вме¬
сте с тем для всех этих дел особый упрощен¬
ный порядок судопроизводства, главной
чертой которого являлся разбор этих дел в
примирительном порядке, а при нежелании
сторон кончить дело примирением судье
предоставлялся значительный простор в на¬
значении наказаний — в зависимости не от
каких-нибудь внешних формальных дан¬
ных, а от внутреннего его убеждения.
Можно без колебания признать,* что, не¬
смотря на некоторые ограничения первона¬
чально установленных принципов, судебная
реформа была наиболее радикальною и
принципиально наиболее выдержанною из
всех великих реформ 60-х годов.
260
К сожалению, начало практики новых
судов, также как и открытие земских учреж¬
дений, совпало с началом длительной
реакции, наступившей с 1866 г. и внесшей
много искажений и порчи в судебные уставы
императора Александра II в виде так назы¬
ваемых «новелл», т. е. частичных изменений
и дополнений их, проведенных в законода¬
тельном порядке в течение последующего
сорокалетия.
Последнею из крупных реформ 60-х
годов было новое законодательство о
печати, изданное в виде «временных
правил» в 1865 г.
Следует сказать, что ни в одной отрасли
управления в эпоху наибольшего правитель¬
ственного либерализма, в первые 10 лет
царствования Александра II, так не колеба¬
лось настроение правительства и самого
императора, как в отношении цензурных
распоряжений и относительного облегчения
или стеснения печати. Во всяком случае,
освобождение печати от цензуры постоянно
представлялось правительству самой опас¬
ной из реформ, необходимость которых оно
сознавало. Еще в 1855 г. П.А. Валуев, впос¬
ледствии один из самых настойчивых и
вместе лукавых притеснителей печати, в
своей известной записке, получившей тогда
широкое распространение под названием
«Дума русского», утверждал, что прежде
всяких других реформ необходимо даровать
известную свободу печати. И действительно,
в самом начале царствования был упразднен
пресловутый бутурлинский комитет, а один
из его учредителей и руководителей барон
Модест Корф сделался в это время даже
одним из самых последовательных либера¬
лов в правительственном кругу. Наряду с
упразднением этого страшилища цензуры
проявилось заметное облегчение в поло¬
жении печати. Были дозволены новые жур¬
налы с расширенной программой и
соответственно изменена и программа ранее
существовавших. Русские журналы по¬
лучили возможность высказываться по воп¬
росам внутренней и внешней политики и
сделались политическими и обществен¬
ными, а не только литературными обоз¬
рениями. С изданием рескрипта 20 ноября
1857 г. они получили возможность обсуж¬
дать крестьянский вопрос и говорить об
отмене крепостного права. Скоро, однако,
как вы знаете, произошла заминка, и на¬
строение правительства резко обострилось,
но эта заминка через несколько месяцев
благополучно минотала. В 1859 г. император
Александр говорит академику и цензору
Никитенко, что не желает никаких стес¬
нений печати, но что вместе с тем не следует
допускать «дурного направления»...
Фактически свобода печати развивалась
и укоренялась все более вплоть до 1861 г.,
когда в радикальных ее представителях ста¬
ло проявляться уже прямо революционное
настроение.
Прогресс в развитии общественной
мысли за шесть лет — с 1855 по 1861 г. —
был совершен неимоверный. В это время на
посту министра народного просвещения ту¬
пого гонителя свободы науки и мысли
Путятина сменил либеральный и просве¬
щенный Головнин. Он стал деятельно подго¬
товлять реформу цензурного устава и в то же
время старался дипломатически влиять на
редакторов повременных изданий. Но в
правительственных сферах в это время на¬
чалась уже реакция, и новый министр внут¬
ренних дел Валуев на каждом шагу ставил
Головнину препятствия и делал ему
неприятности из-за недостаточной деятель¬
ности и строгости цензуры. Инициатива
репрессий и карательных мер против печати
передана была Валуеву, а у Головнина оста¬
вались общее заведование цензурой и разра¬
ботка реформы, которая сосредоточивалась
в комиссии кн. Д.А. Оболенского. Тем вре¬
менем произошли пожары и другие бурные
проявления 1862 г., и для обуздания
периодической печати выработаны были но¬
вые временные меры в виде правил 1862 г.
о предостережениях и приостановках
периодических изданий. Они тотчас же
были применены к радикальным петер¬
бургским журналам и к не радикальному, но
чересчур резкому аксаковскому «Дню».
Затем, по ходатайству Головнина, весь
цензурный вопрос передан был в Министер¬
ство внутренних дел, где образовалась для
его разрешения новая комиссия под предсе¬
дательством того же Оболенского. Эта
комиссия вместо нового цензурного устава,
издание которого признано было несвоевре¬
менным и опасным, выработала лишь проект
временных правил, которые были изданы в
виде опыта в 1865 г, но затем просущество¬
вали без значительных изменений сорок лёт.
По правилам этим, решено было уст¬
ранить предварительную цензуру для книг
оригинальных, которые объемом были н№
меньше 10 листов, а для переводных — не
меньше 20 листов; для изданий же
периодических такое освобождение от пред¬
варительной цензуры было поставлено
261
зависимость от усмотрения министра внут¬
ренних дел, и на первых порах его решились
распространить лишь на органы столичной
московской и петербурской печати.
Открытие новых органов печати поставлено
было также в зависимость от усмотрения
министра внутренних дел, и притом наряду
с карательными мерами, налагаемыми су¬
дебным путем, были удержаны также и те
меры административного воздействия^ кото¬
рые были введены правилами 1862 г.
Такова была та в высшей степени уме¬
ренная свобода печати, которая дана была
реформой 1865 г. Из реформ 60-х годов это
была, несомненно, наиболее скупая и осто¬
рожная. Тем не менее, выходя, впервые без
предварительной цензуры, 1 сентября
1865 г., органы передовой повременной
печати выразили свою радость в красно¬
речивых и прочувствованных статьях . Ско¬
ро, однако же, для них наступило после
1866 г. горькое разочарование.
Тот упадок духа, та прострация и даже
отчасти реакционное настроение, в которое
впали некоторые круги образованного обще¬
ства после революционных проявлений
1862 г. и польского восстания, начали в это
время понемногу сглаживаться и проходить
отчасти под влиянием восстановившейся
прогрессивной работы правительства. В дво¬
рянских кругах опять стали проявляться
конституционные стремления, хотя в гораздо
более сдержанной форме, нежели в 1862 г.,
и отнюдь не в том демократическом направ¬
лении, которым отличались тверские заяв¬
ления 1862 г. Эти стремления, в которых
больше участвовали дворяне аристократиче¬
ского толка, близкие к крепостническо-
олигархической газете «Весть»,
издававшейся с 1863 г. Скарятиным, вы¬
разились особенно ярко на московском дво¬
рянском собрании 1865 г., первом, которое
происходило после издания земского поло¬
жения. Собрание это огромным
большинством голосов приняло адрес,
редактированный, по поручению вожаков
движения, Катковым. В адресе этом москов¬
ское дворянство просило государя «увенчать
здание реформ» созванием представителей
от земли русской, под которыми, впрочем,
разумелись теперь главным образом пред¬
ставители дворянства.
Александр II отнесся, однако же, к этому
адресу неблагосклонно и в рескрипте Валу¬
еву, указал, что право почина в государст¬
венных преобразованниях принадлежит в
России одному государю и что подобные
заявления со стороны дворянства могут лишь
помешать ему идти по тому пути реформ, по
которому он шел до тех пор.
Радикальная часть общества и
радикальная печать были в это время, как
мы видели, в полном расстройстве; однако
же, отчасти под влиянием практических
идеалов, указанных в известном романе Чер¬
нышевского «Что делать», среди молодежи
стали возникать различные кружки и ар¬
тели, ставившие себе задачей осуществление
идей, указанных в этом романе. Один более
предприимчивый московский кружок
Ишутина стал даже готовиться к более или
менее широкой и определенной пропаганде
коммунистических идеалов, но прежде чем
он успел приступить к осуществлению своих
планов, один из его членов, двоюродный брат
Ишутина Каракозов, человек неуравнове¬
шенный и, по-видимому, даже ненормаль¬
ный, решился, вопреки убеждениям своих
товарищей, произвести покушение на жизнь
Александра II. Для осуществления своего
намерения он отправился в Петербург и
выстрелил в императора Александра из
пистолета в то время, когда государь после
прогулки с дочерью по Летнему саду садился
в экипаж. Выстрел не попал в цель, так как
Каракозова ударил по руке случайно сто¬
явший с ним рядом мещанин Комиссаров.
Однако же это событие и на общество, и
на самого Александра произвело
неизгладимое впечатление. Этим впечат¬
лением воспользовались очень ловко
реационеры и враги демократических пре¬
образований.
Эпоха реформ кончилась, прежде чем
были осуществлены некоторые из задуман¬
ных преобразований, исполненных
значительно позднее, как городовое поло¬
жение 1870 г. или реформа воинской
повинности 1874 г. С апреля 1866 г. на¬
ступила упорная и длительная реакция, про¬
державшаяся с небольшими перерывами
почти вплоть до 1905 г. Только что прове¬
денные реформы потерпели во время этой
реакции более или менее существенные
искажения; не только радикалы, но и либе¬
рально настроенные группы общества
терпели всякие преследования и стеснения.
Все это не устранило, однако же, ни
великого исторического значения проведен¬
ных преобразований, ни подготовления и
внутреннего развития дальнейшего хода того
социально-политического процесса, кото¬
рый составил содержание русской истории
в XIX в. и не завершился еще окончательно
262
и в настоящее время. Значение великих
преобразований эпохи реформ было таково,
что черта, проведенная ими в русской жизни
между дореформенной и пореформенной
эпохи, стала непереходима и неизгладима;
никакая реакция в правительственных и
даже в некоторых общественных кругах не
могла уже вернуть Россию к ее прежнему,
дореформенному положению. Реакция, на¬
ступившая в 1866 г., сделала нашей стране
много зла: она нарушила мирный ход
развития общества и народа; забив в под¬
полье всякую оппозицию, она вызвала под¬
польное революционное движение, которое
принимало все более и более непримиримый
и террористический характер, но возвратить
Россию к прежнему быту она была
бессильна, ибо быт этот был с отменой
крепостного права и с развитием в обществе
демократических начал разрушен безвозрат-
но; короче говоря, она могла исказить и
искалечить новый строй, но не могла вер¬
нуть старый.
Демократические основы нового всесос¬
ловного строя нашли благоприятную для
себя почву в русском народе, в короткое
время они укоренились так прочно, что ока¬
зались в силах вынести и ту полувековую
ломку, которая последовала тотчас же за их
провозглашением. Страна скорее может
погибнуть и великое государство распасться
от внутренних распрей и длительной разла¬
гающей борьбы, нежели отступиться от этих
начал, и мы видим, что как только реакция
в последующее полустолетие под влиянием
различных внутренних или внешних
причин ослабевала, так внутренний ход раз
начавшегося социально-политического про¬
цесса немедленно же вступал в свои права
и развивался с умноженною силою по пути,
намеченному в эпоху великих реформ 60-х
годов.
Конец второй части.
Оглавление II части
Лекция XIV. Царствование императора
Николая I. — Условия, при которых он
вступил на престол. — Вопрос о престоло¬
наследии. — Неопубликованный манифест
Александра об отречении Констатина. —
Замешательство и междуцарствие после
смерти Александра до 14 декабря 1825 г. —
Переговоры Николая с Константином. —
Вступление на престол Николая. — Вос¬
стание 14 декабря 1825 г. — Его подав¬
ление. — Личность императора Николая.
— Биографические сведения о нем до его
воцарения. — Расследование о тайных
обществах. — Расправа с декабристами и
результаты знакомства с ними императора
Николая. — Влияние Карамзина и навеян¬
ная им программа царствования 143
Лекция XV* Деление царствования
императора Николая на периоды. — Пер¬
вый период (1825 — 1831). — Сотрудники
Николая Павловича в первые годы царство¬
вания: Кочубей, Сперанский, Канкрин,
Бенкендорф, Дибич, Паскевич. — Комитет
6 декабря 1826 г.; его состав и задача; его
деятельность. — Крестьянский вопрос. —
Военные поселения. — Кодификационные
работы Сперанского. — Образование Ш
отделения собственной его величества кан¬
целярии. — Направление Министерства
народного просвещения. — Отношение к
польской конституции. — Международная
политика. — Война с Турцией 1828 —
1829 гг. — Конец первого периода царство¬
вания 153
Лекция XVL Второй период царство¬
вания Николая. — Охранительные
принципы во внешней политике. — Вос¬
точный вопрос. — Мюнхенгрецкое
свидание. — Руководящие принципы во
внутренней политике. — Законодательная
работа. — Деятельность Сперанского по
подготовлению и изданию свода законов. —
Значение этого события. — Крестьянский
вопрос. — Положение населения. — Ма¬
териальные факторы, подготовившие
падение крепостного права. — Деятель¬
ность правительства. — Секретные
комитеты. — Работа Канкрина и Киселева
по устройству казенных крестьян. — Уч¬
реждение Министерства государственных
имуществ. — Работы Киселева по устрой¬
ству крепостных крестьян. — Закон 1842 г.
об обязанных крестьянах. — Инвентари в
Западном крае. — Закон 26 мая 1846 г. в
Польше 159
Лекция XVII. Развитие промышлен¬
ности при императоре Николае. — Судьба
отдельных отраслей обрабатывающей про¬
мышленности. — Конкуренция польской
промышленности. — Жалобы купцов. —
Деятельность Канкрина. — Его принципы
и его политика. — Протекционизм и его
влияние на промышленность и торговлю. —
Сокращение роста военных расходов. —
Стоимость войн 1827 — 1831 гг. — Питей¬
ная реформа. — Денежная реформа 1839
— 1843 гг. — Роль самого Николая в этом
деле. — Заботы Канкрина об улучшении
культурных условий 167
Лекция XVUI. Система народного прос¬
вещения при Николае. — Взгляды импера¬
тора Николая. — Министерство Уварова.
— Его принципы. — Уставы 28-го декабря
1828 г. — Университетский устав 1835 г. —
Московский университет при Строганове.
— Положение и развитие интеллигенции
при Николае. -—Значение катастрофы 14
декабря. — Два русла идей: французское и
немецкое. — Упадок первого, развитие вто¬
рого. — Шеллингианство в России. —
«Мнемозина». — «Любомудры» и «Мос¬
ковский вестник». — «Московский телег¬
раф» Полевого. — «Телескоп» Надеждина.
— Чаадаев и закрытие «Телескопа».—
Идеалисты 30-х годов. — Кружок Стан¬
кевича. — Бакунин и Белинский. — Эво¬
люция Белинского. — «Отечественные
записки» и «Современник». —
«Мосвитянин» и система «официальной на¬
родности». — Славянофилы и западники в
40-х годах. — Социализм и левое гегельян¬
ство. — Провинциальное общество в 40-х
годах. — Раскол и сектантство при Нико¬
лае .... 174
Лекция XIX* Революции 1848 г. в Евро¬
пе и их влияние на настроение императора
264
Николая. — Третий период его царство¬
вания. — Внешняя политика. — Манифест
14 марта 1848 г. — Венгерская кампания.
— Внутренняя политика. — Крестьянский
вопрос. — Меры против печати и
университетов. — Другие стеснительные
меры. — Отставка Уварова. — Кн.
Ширинский-Шихматов. — Положение
интеллигенции после 1848 г.—История
петрашевцев. — Инциденты с Самариным,
Аксаковым, Тургеневым. — Запрещение
выступать в печати славянофилам. —
Киевские федералисты. — Общее настро¬
ение интеллигенции. — Восточная война
1853 — 1856 гг. — Неизбежность Кризиса.
— Смерть Николая. — Общее заключение
о царствовании Николая 187
Список сочинений, относящихся к
истории России в царствование Николая I 194
Лекция XX. Крымская война и ее зна¬
чение. — Характеристика императора
Александра Николаевича. — Его
воспитание и его политические взгляды и
вкусы. — Влияние на него Крымской вой¬
ны. — Первые шаги его царствования. —
Настроение общества и отношение его к
Александру в 1855 — 1856 гг. — Заклю¬
чение мира и Манифест 19 марта 1856 г. —
Речь дворянству в Москве. — Начало подго¬
товления крестьянской реформы. — Дея¬
тельность Ланского и Левшина. —
Отношение дворянства. — Записки,
ходившие по рукам в обществе.— Образо¬
вание Секретного комитета.— Я.И. Ростов¬
цев.— Ход дел в Секретном комитете в 1857
г.— Ходатайство литовских дворян и
рескрипт 20 ноября 1857 г. генерал-адъю¬
танту Назимову.— Программа правитель¬
ства. — Опубликование рескрипта 20
ноября 199
Лекция XXI. Отношение дворянства к
правительственной программе реформы. —
Различие помещичьих интересов в гу¬
берниях земледельческих черноземных и
северных промышленных. — Отношение
интеллигенции: статьи Чернышевского и
Герцена; банкет в Москве. — Адрес ниже¬
городского дворянства и заминка в Москве.
— Адресы прочих губерний. — Открытие и
работа губернских комитетов. — Точка
зрения А.М. Унковского и Тверского
комитета. — Утвержденная (позеновская)
программа занятий. — Отношение печати.
— Эволюция взглядов Я.И. Ростовцева. —
Открытие земского отдела. — Н.А.
Милютин. — Пересмотр правительствен¬
ной программы в Главном комитете и
открытие редакционных комиссий. — Со¬
став редакционных комиссий и ход работ в
них. — Программа, данная Ростевцевым.
— Депутаты губернских комитетов первого
приглашения. — Адресы и настроение дво¬
рянства. — Смерть Ростовцева. — В.Н.
Панин. — Депутаты второго приглашения.
— Внутренняя борьба в редакционных
комиссиях. — Итоги их работ 210
Лекция XXII. Ход работ в Главном
комитете и Государсвенном совете по расс¬
мотрению проектов редакционной
комиссии. — Борьба, там происходившая.
— Манифест 19 февраля 1861 г. — Анализ
положений 19 февраля. — Состав этого за¬
конодательства и содержание отдельных
положений. — Значение реформы 19 фев¬
раля в правовом, административном и эко¬
номическом отношении для крестьян, для
дворянства и для страны 222
Лекция ХХП1. Влияние разработки кре¬
стьянской реформы на общество и печать.
— Положение печати в 1855 г. — Иск¬
лючительное положение Герцена, его про¬
рочество в 1853 г. и программа его в
1855-1858 гг. — Отношение к нему либера¬
лов. Роль и значение «Колокола» в деле
реформы и в развитии общественного
мнения в России. — Дифференциация на¬
правлений в обществе и в печати после
1858 г. — Позиция различных органов
печати. — Радикализация «Совре¬
менника» и отношение к нему Герцена в
1859-1860 гг. — «Русский вестник» и
другие либеральные органы. — Позиция и
роль славянофилов в эту эпоху. — Обще¬
ственные требования, наметившиеся в
1859-1861 гг. — Сравнение их с видами
правительства в этот момент 231
Лекция ХХГУ. Отношение крестьян к
реформе 19 февраля 1861 г. — Волнения и
беспорядки, сопровождавшие введение По- ,
ложения 19 февраля. — Бездненская ката¬
строфа. — Впечатление этих фактов на
общество. — Реакция в правительственных
сферах в 1861 г. — Валуевская политика.
— Отношение общества к правительству.
— Первые проявления «нигилизма» в
1861 г. — «Русское слово». —
Оппозиционное настроение дворянства. —
Его два крыла. — Тверская история 1862 г.
— Конституционное движение и различное
настроение в дворянских кругах. — На¬
строение торгово-промышленных сфер.
Эволюция в этой среде после Крымской
кампании и причины образования в ней
оппозиционного настроения 237
Лекция XXV. Развитие всеобщего
оппозиционного настроения и первые про¬
явления революционного духа. — Прокла¬
мации 1861-1862 гг. — «Молодая Россия» и
пожары в 1862 г. — Аресты и ссылки писа¬
телей радикального направления. — Гер¬
цен на стороне последних. — Впечатление
от этих смут в Европе. — Циркуляр Горча¬
кова. — Польское движение. — Политика г
маркиза Велепольского и ее неудача. — Во¬
оруженное восстание 1863 г. — Впечат¬
ление его на русское общество. — Значение
265
вмешательства иностранных держав. —
Вызванный им взрыв патриотизма в России.
— Падение «Колокола». — Торжество
Каткова и реакция в обществе. — Продол¬
жение реформ. — Финансовые реформы
Татаринова. — Акцизная реформа. —
Отсрочка податной реформы. —
Университетское движение и устав 1863 г.
— Другие реформы в Министерстве народ¬
ного просвещения. — Средняя школа, жен¬
ское образование, начальные школы. —
Положение о начальных училищах 1864 г. 246
Лекция XXVI. Земская реформа. — Ее
связь с крестьянской реформой. — Разра¬
ботка земской реформы и ее содержание. —
Отношение к земской реформе печати и
общества. — Условия, при которых
пришлось работать земским учреждениям.
— Судебная реформа. Ее разработка. Зна¬
чение и содержание судебной реформы. Ус¬
ловия, в которых начались первые шаги
новых судов. — Законодательство о печати.
Колебания правительства в этой сфере. —
Пересмотр законов о печати. Две комиссии
кн. Д.А. Оболенского. Политика Головнина
и Валуева. Временные правила 1865 г. —
Настроение дворянства в 1865 г. Адрес мос¬
ковского дворянства. — Положение
радикальной печати и радикальных кругов.
— Покушение Каракозова. — Конец эпохи
реформ и общее заключение о ней .... 256
Оглавление 264
Предисловие
В предисловии к I части моего «Курса
истории России XIX века» я заявил, что в
состав III части этого курса войдет внутрен¬
няя история России за последние 35 лет
XIX в. Однако, как только я приступил к
построению этой части курса, придержива¬
ясь в общем той программы, которую я
установил для первых его частей, я
убедился, что внутренняя история России за
последние 35 лет XIX в. не может быть
уложена в рамки одной части того же объе¬
ма, в каком составлены две первые части
моего курса. Этого не допускает обилие того
материала, который пришлось ввести в эту
часть. Между тем решительный поворот в
настроении общества, происшедший в
России после голода 1891—1892 гг., а также
ряд новых факторов и обстоятельств, вы¬
яснившихся к этому моменту в экономичен
кой и социальной жизни страны и
обусловивших, в свою очередь, новые те¬
чения и стремления в государственной
жизни и правительственной деятельности
(например, Сибирская железная дорога и
дальневосточная политика),— все это
служит само по себе достаточным осно¬
ванием к выделению последних восьми лет
XIX в. вместе с первыми годами XX в. в
особый период, составляющий уже прямую
прелюдию к великим событиям, разыг¬
равшимся в 1904—1906 гг. на наших глазах.
Составит ли этот период предмет особой
серии лекций и явится ли он содержанием
еще одной — четвертой — части моего кур¬
са, я в настоящее время с уверенностью
сказать не могу. Но для меня, во всяком
случае, ясно, что построение такой четвер¬
той заключительной части этого курса
логически вполне возможно.
Издаваемая в свет в настоящее время
третья часть курса дает изложение
реакционного периода нашей новейшей
внутренней истории, наступившего в 1866 г.
и продолжавшегося с небольшим лишь прос¬
ветом в 1880—1881 гг., до голода 1891 —
1892 гг. Эпоха эта до настоящего времени
мало подвергалась систематическому обсле¬
дованию. Поэтому построение этой части
курса являлось для меня задачей более труд¬
ной и более ответственной, нежели постро¬
ение двух первых его частей. Я вперед
уверен поэтому, что она вызовет много
критических замечаний и указаний несом¬
ненно имеющихся в ней промахов. Но я
потому и решаюсь теперь же выпустить ее в
свет, что считаю в высшей степени плодот¬
ворной и полезной для скорейшего и наибо¬
лее полного выяснения основных черт
изучаемой эпохи ту авторитетную и
беспристрастную критику предлагаемой
книги, на которую я позволяю себе надеяться
по примеру двух ранее выпущенных частей
моих лекций.
А Корнилов
Петербург. 2 апреля 1914 г.
267
ЛЕКЦИЯ XXVII
Покушение Каракозова.—Наступившая после этого реакция.—В чем она выразилась? — Развитие
внутренней жизни России после реформ 60-х годов, несмотря на реакцию.— Продолжение некоторых
преобразований.— Завершение крестьянской реформы распространением ее на крестьян удельных и
государственных. — Общая картина землевладения различных групп населения России после реформ
1861,1863 и 1866 гг.— Степень обеспеченности крестьян разных наименований земельными наделами.
Покушение 4 апреля 1866 г. на жизнь
императора Александра II, совершенное Ка¬
ракозовым, произвело потрясающее впечат¬
ление и на самого императора Александра,
и на общество. Не хотели верить, чтобы его
мог задумать и совершить по своему
произволу один человек и потому приписы¬
вали его какой-нибудь могущественной адс¬
кой организации, какому-нибудь
неведомому тайному обществу. И хотя на¬
значенный во главу особой комиссии для
расследования этого преступления, прос¬
лавившийся своей жестокостью и упорством
при усмирении недавнего восстания в Литве
генерал М. Муравьев употребил все усилия
для раскрытия предполагаемого заговора,
причем он ничем не стеснялся в своих
действиях и распоряжениях, которыми он
терроризовал широкие круги мирных обыва¬
телей, учащуюся молодежь и в особенности
литераторов, казавшихся ему крамольными
по своему направлению,— тем не менее
никакого заговора на жизнь государя обна¬
ружено не было, а было раскрыто лишь
существование ничтожного по своим средст¬
вам и силам кружка молодежи в Москве под
главенством двоюродного брата Каракозова
Ишутина1. Кружок этот состоял из очень
молодых людей и не только не стремился к
цареубийству, но даже те из членов его,
которым стал известен замысел Каракозова,
сами считали его сумасбродным и пагубным
и употребили довольно значительные
усилия, чтобы не допустить Каракозова, ко¬
торый был, по-видимому, человеком ненор¬
мальным, до совершения задуманного2.
‘ Сами они стремились к организации
' широкой коммунистической пропаганды; но
все их планы были крайне непродуманны,
непрактичны и, в сущности, несерьезны.
Несмотря на ничтожество и несерьезность
* этого кружка, один факт его существования
и принадлежность к нему Каракозова бро¬
сали в глазах императора и высших
придворных и административных сфер
* большую тень на направление учащейся мо-
< лодежи, на положение дел в университетах
и на направление самого Министерства на¬
родного просвещения, находившегося тоща
под управлением просвященного и либе¬
рального человека, А. В. Головнина.
Придворные реакционеры не упустили
случая воспользоваться впечатлениями,
произведенными этими событиями на импе¬
ратора Александра, и торжествующая
реакция прежде всего направила свои удары
именно на Министерство народного просве¬
щения, даже не дожидаясь результатов
производившегося Муравьевым расследо¬
вания.
4 апреля Каракозов стрелял в государя,
а 5 апреля в Комитете .министров уже сде¬
лано было определенное и резкое нападение
на министра народного просвещения со сто¬
роны обер-прокурора Синода гр. Д. А. То¬
лстого. И хотя это нападение началось с
критики политики Головнина в Северо-За¬
падном крае, где Толстой настаивал на не¬
обходимости более определенного
русификаторского направления,— однако
оно вскоре перешло в нападение на направ¬
ление Министерства народного просвещения
вообще и кончилось тем, что Головнин,
убедившись в утрате доверия к нему госуда¬
ря, должен был выйти в отставку и уступить
свое место гр. Толстому.
Толстой в это время являлся человеком
уже вполне определенной репутации. Еще в
1859 г. он выступил с резкой крепостничес¬
кой критикой работ редакционных комиссий
по крестьянскому делу, и когда критика эта
стала известна императору Александру, то
он положил на ней резолюцию, в которой
выразил, что автор ее ничего не понимает в
крестьянском деле или представляется чело¬
веком явно злонамеренным .
Но это не помешало Толстому в 1864 г.
занять пост обер-прокурора Синода, а в
апреле 1866 г. быть назначенным на пост
министра народного просвещения с опреде¬
ленными реакционными задачами, вполне
гармонировавшими с его собственными
реакционными стремлениями. Если Муравь¬
еву не удалось тогда открыть никакого заго¬
вора на жизнь государя, то ему и
поддерживавшим его придворным
реакционерам вполне удалось связать
открытое следствием брожение умов в моло¬
268
дежи и части интеллигенции— ярким
симптомом которого был выставлен ком¬
мунистический кружок Ишутина,— с
политикой Министерства народного просве¬
щения и с направлением радикальной
печати» главными представителями которой
были журналы «Современник» и «Русское
слово». Оба эти журнала были немедленно
закрыты навсегда; что же касается настро¬
ения правительства в отношении молодежи,
то памятником тогдашних взглядов
правительства в этом отношении явился
рескрипт, данный 13 мая 1866 г. на имя
председателя Комитета министров кн. П. П.
Гагарина. «Провидению,— сказано было,
между прочим, в этом рескрипте,— угодно
было раскрыть перед глазами России, каких
последствий надлежит ожидать от стрем¬
лений и умствований, дерзновенно посяга¬
ющих на все для нее исконно священное, на
религиозные верования, на основы семейной
жизни, на право собственности, на покор¬
ность закону и на уважение к установлен¬
ным властям. Мое внимание уже обращено
на воспитание юношества. Мною даны ука¬
зания на тот конец, чтобы оно было направ¬
ляемо в духе истин религии» уважения к
правам собственности и соблюдения корен¬
ных начал общественного порядка и чтобы в
учебных заведениях всех ведомств не было
допущено ни явное, ни тайное проповедо¬
вание тех разрушительных понятий, кото¬
рые одинаково враждебны всем условиям'
нравственного и материального благососто¬
яния народа»... Главы семейств призы¬
вались в этом отношении на помощь
правительству.
В том же рескрипте указано было и на
необходимость охраны устоев существующе¬
го гражданского строя против всяких раз¬
рушительных попыток, наличность которых
усматривалась в тех превратных толках и
взглядах, которые проповедовались и отдель¬
ными лицами (даже состоявшими, как ука¬
зывалось в рескрипте, на государственной
службе), и некоторыми органами печати,
признанными зловредными. «Надлежит,—
сказано было в конце рескрипта,— прек¬
ратить повторяющиеся попытки к возбуж¬
дению вражды между разными сословиями
и в особенности к возбуждению вражды
против дворянства и вообще против земле¬
владельцев, в которых враги общественного
порядка, естественно, усматривают своих
прямых противников»4.
Реакция, установившаяся в 1866 г., кос¬
нулась, однако, не только Министерства на¬
родного просвещения. Вслед за отставкою
Головнина последовали отставки и других
высших правительственных лиц. Уволен
был, между прочим, шеф жандармов кн.
В. А. Долгоруков, которого никак нельзя бы¬
ло упрекнуть в либерализме, но который,
после события 4 апреля, сам признал себя
устаревшим для занимавшейся им долж¬
ности. Он был заменен молодым придвор¬
ным генералом гр. Н. А. Шуваловым,
который вскоре сделался душой реакции в
правящих сферах и к которому в Комитете
министров тесно примкнули министры:
внутренних дел П. А. Валуев и государст¬
венных имуществ генерал Зеленой. Эти лица
составили очень влиятельный в то время
триумвират. Уволен был также гуманный и
деликатный генерал-губернатор Петербурга
кн. А. А. Суворов, которого заменил генерал
Трепов, назначенный обер-полицеймейсте-
ром столицы и уже ранее проявивший свои
полицейские способности на посту генерал-
полицеймейстера Царства Польского.
Шувалов, Валуев и Зеленой вскоре пред¬
ставили государю проект об усилении губер¬
наторской власти, и хотя проект этот
коренным образом противоречил только что
проведенным либеральным преобразо¬
ваниям и хотя против него в Комитете
министров энергично возражали министр
юстиции Д. Н. Замятнин и министр фина¬
нсов М. X. Рейтерн, тем не менее ийператор
Александр, которого Шувалов систе¬
матически смущал постоянными доносами о
повсеместном брожении умов в провинции,
признал осуществление этой меры необ¬
ходимым. И хотя мера эта по своему харак¬
теру требовала законодательной санкции,
однако же ее провели в порядке
административном — в виде высочайше ут¬
вержденного положения Комитета
министров. Лицам судейского звания в
провинции, которых независимость только
что была установлена судебными уставами,
предложено было тогда же особым циркуля¬
ром являться к губернатору по первому его
требованию и вообще смотреть на него как
на представителя монаршей власти в гу¬
бернии. Отныне один чиновник, хотя бы и
служащий по вольному найму, не мог занять
своего места без согласия губернатора; этому
правилу подчинены были и вновь учрежден¬
ные контрольные палаты, и даже земские
учреждения, хотя последние признавались
по закону учреждениями «общественными»,
а не правительственными.. .5
269
Таковы были первые симптомы
реакции, установившейся в 1866 г.
Здесь следует заметить, что событие 4
апреля 1866 г. и последовавший за ним
белый террор в столице, руководимый М. Н.
Муравьевым, потрясли необыкновенно
сильно не только правительственные круги,
но и общественные. Некоторые журналисты,
вроде Каткова, который тогда решительно
стал на сторону реакции, с бешенством
нападали на «нигилистов» и крамольных
поляков, по отношению к которым Катков
склонен был признать слишком слабыми
даже муравьевские меры. Другие, вроде Не¬
красова, до того перепугались, что готовы
были на всякие неблаговидные заискивания
перед свирепствовавшим Муравьевым, что,
впрочем, отнюдь не спасло издававшийся
Некрасовым журнал от закрытия. Наконец,
третьи, вроде Достоевского, не только
искренно приходили в ужас от совершивше¬
гося события, но делали за него ответствен¬
ным само общество6. В общем
господствовала чрезвычайная смута в умах,
которая была, разумеется, на руку развивав¬
шейся реакции. При таких неблагоприятных
условиях пришлось начать свою деятель¬
ность новым судам и земским учреждениям,
о чем будет речь впереди.
Однако необходимо тут же заметить, что
как ни сильна была эта реакция, как ни
способствовали ее укоренению и развитию в
правительственных сферах тот страх и то
смятение, которые наблюдались в широких
слоях общества после выстрела Каракозова,
все-таки и эта реакция в конце концов была
бессильна вернуть Россию к прежнему, до¬
реформенному состоянию. Не говоря уж о
невозможности восстановления прежнего
крепостного строя, правительство не могло
взять целиком назад только что произведен¬
ных преобразований в сфере судебной и
местного самоуправления; даже
университетский устав 1863 г. не был тотчас
же отменен, а был лишь осложнен и искажен
изданием новых правил для студентов.
Этого мало: правительству, несмотря на
то что оно было исполнено с 1866 г.
реакционных стремлений и обуреваемо
реакционными опасениями, не только
пришлось допустить и даже взять на себя
введение в жизнь только что изданных пре¬
образований, которые оно пыталось лишь
исказить впоследствии частичными изме¬
нениями, но ему пришлось заканчивать да¬
же и в этот реакционный период дело
реформ, задуманных в предшествующие го¬
ды в различных областях народной жизни и
администрации. Ему пришлось прежде все¬
го закончить устройство крестьян распрост¬
ранением Положения 19 февраля на
крестьян государственных (б. казенных),
распространить принципы самоуправления
на города и, наконец, совершить великое в
полном смысле этого слова преобразование
в деле отбывания населением воинской
повинности и ряд преобразований в строе
самой армии. Наряду с этим ему пришлось,
в стремлении к развитию экономических
сил и средств страны и государства, идти по
пути прогрессивной финансовой и эко¬
номической политики, как ни плохо сообра¬
зовалась эта политика с его новым
реакционным курсом в делах внутренней
администрации и просвещения.
Ввиду всего этого наряду с отставкой
Головнина и заменой его Толстым, наряду с
образованием в среде Комитета министров
реакционного триумвирата Шувалова, Валу¬
ева и Зеленого императору Александру II
пришлось удержать на некоторых
министерских постах и таких сторонников
прогресса, как Дм. А. Милютин в военном
министерстве, как великий князь Кон¬
стантин Николаевич во флоте и во главе
Государственного совета, как В. А. Та-
таринов на посту Государственного контро¬
лера и как М. X. Рейтерн на посту министра
финансов. Одним словом, жизнь в России
не только не остановилась и не пошла вспять
в эту тяжелую пору правительственной и
отчасти общественной реакции, но она про¬
должала, как увидим, в сущности развивать¬
ся и идти вперед, хотя, под давлением
реакции и репрессий, развитие это и
принимало чаще всего болезненные и иска¬
женные формы.
Противникам прогресса и сторонникам
реакции перед лицом этого неудержимого
процесса внутреннего роста и развития на¬
родного организма оставалось только встав¬
лять ему пажи в колеса и стараться
всячески затруднять и искажать его свобод¬
ный ход. И они делали это,— как мы
увидим, иногда с азартом, иногда
рутинно,— неизменно сообщая этому
процессу болезненный ход и ненормальные
формы, принося стране и народу массу зла,
но отнюдь нё останавливая самого хода ее
развития.
В 1866 г. завершилась прежде всего в
общих чертах законодательная разработка
крестьянской реформы — распростра¬
нением основных начал Положения 19 фев¬
270
раля 1861 г. на многочисленные категории
государственных крестьян. А еще раньше —
в 1863 г.— те же начала и даже без некото¬
рых из тех компромиссов, к которым
прибегли при уничтожении крепостного
права в помещичьих имениях, были распро¬
странены на удельных крестьян. О значении
реформы 19 февраля для бывших
помещичьих крестьян я говорил уже в свое
время. Посмотрим теперь, каковы были
результаты преобразования 1863—1866 гг.
для бывших удельных и государственных
крестьян разных наименований, а затем
остановимся несколько и на общих итогах
крестьянской реформы для всей массы на¬
рода и для страны вообще.
Что касается удельных крестьян, то вы
помните, быть может, или, во всяком случае,
прочтете в начале моего печатного курса, что
эти удельные крестьяне получили свое
наименование с момента издания положения
об императорской фамилии в 1797 г., при
императоре Павле Петровиче. Но они суще¬
ствовали и раньше под именем крестьян
дворцовых и государевых; назначение их
заключалось в том, чтобы работать в так
называемых дворцовых (удельных)
имениях, имениях, назначенных на содер¬
жание царской фамилии или принадле¬
жащих отдельным ее членам. Этих крестьян
ко времени начала крестьянской реформы
было около 850 тыс. душ мужского пола.
Когда началась крестьянская реформа, то
Министерство двора, в ведении которого
были удельные крестьяне, не ожидая осво¬
бождения помещичьих крестьян, тотчас же
приступило к выяснению вопроса, как ему
быть с этими удельными крестьянами, и мы
видим, что уже в 1858 г., по желанию
императора Александра, издан был особый
указ, который этих удельных крестьян урав¬
нял в личных правах и административном
устройстве с крестьянами государствен¬
ными. Это сразу, до освобождения от крепо¬
стного права крестьян помещичьих,
уничтожило личное крепостное лраво в
удельных имениях. Что касается вопроса о
поземельном устройстве этих крестьян, то он
был отложен тогда до разрешения этого воп¬
роса у помещичьих крестьян. Когда было
издано Положение 19 февраля об устройстве
помещичьих крестьян, то 5 марта 1861 г. был
издан указ о том, чтобы Главный комитет для
устройства сельского населения занялся
теперь распространением принципов издан¬
ного положения на крестьян удельных и
казенных.
Что касается удельных крестьян, то тог¬
да же в Министерстве двора была образована
для обсуждения их поземельного устройства
комиссия, и в результате двухлетних работ
этой комиссии, после некоторых колебаний,
выработано было положение, которое уст¬
раивало быт удельных крестьян в эко¬
номическом отношении значительно лучше,
чем был устроен быт крестьян помещичьих.
В начале, когда приступили к обсуждению
этого вопроса, думали только распрост¬
ранить на удельных крестьян то положение,
которое было издано для помещичьих кре¬
стьян, причем указывалось, что следует и
этим крестьянам сохранить наделы и за них
назначить повинности, которые бы соответ¬
ствовали высшим нормам наделов и
повинностей, установленных по местным
положениям 19 февраля для крестьян
помещичьих. Но затем, когда глубже вникли
в вопрос, то увидели, что в дореформенное
время удельные крестьяне были наделены
значительно лучше помещичьих и что поэто¬
му, если бы к ним применены были даже
высшие нормы поземельного устройства
помещичьих крестьян, то, несомненно, их
положение ухудшилось бы. Удельные кре¬
стьяне в дореформенное время имели, во-
первых, довольно щедро установленные
основные (тягловые) наделы и, кроме того,
еще пользовались различными дополнитель¬
ными прирезками из так называемых земель
удельного ведомства.
Первоначально Министерству двора ка¬
залось, что во всяком случае эти запасные
земли должны быть от них отняты, если
только они в своих основных наделах имеют
земельное обеспечение, не меньшее, чем
полагавшееся согласно максимальным нор¬
мам по местным положениям 19 февраля, и
поэтому первоначальный план был таков,
чтобы эти лишние земли оставить у удель¬
ных крестьян лишь временно на пять лет.
Но министр двора, гр. Адлерберг, внима¬
тельно ознакомившись с делом, должен был
признать, что крестьяне будут этим постав¬
лены в неблагоприятные условия
сравнительно с прежним своим поло¬
жением; поэтому он полагал, что следует эти
запасные земли оставить за крестьянами по
меньшей мере на 20 лет и вообще стараться
сохранить за ними то положение, в котором
они были до реформы. Главный комитет,
однако, нашел, что сохранить эти земли за
крестьянами на 20 лет будет едва ли целе¬
сообразно, потому что тогда их отобрать
будет еще труднее, нежели теперь, а вместе
271
с тем Главному комитету казалось, что
основные наделы удельных крестьян на¬
столько удовлетворительны в сравнении с
наделами помещичьих крестьян, что их
одних будет достаточно. Тем не менее, по
докладе этого дела государю, Адлербергу
предоставлена была выработка проекта
положения с возможным соблюдением
всяких льгот для удельных крестьян. В конце
концов по проекту выработанного им поло¬
жения, сделавшемуся 26 июня 1863 г. зако¬
ном, было положено, что не только эти
запасные земли вообще должны быть остав¬
лены за удельными крестьянами, но в неко¬
торых местностях, где размер их выделения
был ниже норм, установленных для крестьян
помещичьих, оно было доведено по крайней
мере до этих норм. Таким образом,
максимальные нормы наделов помещичьих
крестьян были приняты как бы за минималь¬
ные нормы для удельных.
Вместе с тем размеры повинностей были
оставлены прежние, причем выкуп земель
сразу же сделан был обязательным и
прежние оброчные платежи, не превы¬
шавшие максимальных оброков помещичьих
крестьян, прямо обращены были в выкуп¬
ные, которые должны были прекратиться
совершенно через 49 лет; крестьяне же сразу
признавались собственниками отведенных
им наделов.
В 1861 г. признано было, как я уже
сказал, необходимым распространить Поло¬
жение 19 февраля и на государственных
крестьян — на те многочисленные кате¬
гории их, которые перечислены в первой
части моего курса. Их также положено было
устроить на основании выработанных для
помещичьих крестьян положений. Чтобы
уяснить себе материальную сторону быта
государственных крестьян, надо иметь в
виду то положение, в каком они были пос¬
тавлены деятельностью графа Киселева, ко¬
торый на них именно мог сравнительно
свободно испробовать те принципы кресть¬
янского устройства, которые он выставил,
будучи министром государственных иму¬
ществ при Николае I. До образования
Министерства государственных имуществ
при огромном обилии казенных земель зем¬
лепользование казенных крестьян в
значительной мере носило захватный харак¬
тер, и, регулированное лишь или случаем,
или произволом чиновников, это землеполь¬
зование было вообще чрезвычайно неравно¬
мерно. В некоторых местностях на душу
приходилось такое количество земли, кото¬
рое крестьяне фактически не могли обрабо¬
тать,— когда они захватывали, как это было
еще недавно в Сибири, сотни десятин на
душу, а иногда их землевладение выража¬
лось в полудесятине на душу, т. е. было
совершенно неудовлетворительно. Ввиду то¬
го что часто в ближайших к их поселениям
местностям земли казны были все разобраны
или обращены в казенные доходные статьи,
таким крестьянам приходилось арендовать
различные угодья у соседних помещиков или
даже у крестьян других наименований и
существовать в весьма трудных условиях.
Поэтому Киселев и решил в свое время
урегулировать землевладение государствен¬
ных крестьян, и по его идее были образованы
еще в 40-х годах кадастровые поземельные
комиссии, которых задачей было по возмож¬
ности уравнять это землевладение казенных
крестьян во всех местностях, где они посе¬
лены, и, в случае, если окажется невозможно
в некоторых местностях отвести им доста¬
точно земли по соседству, переселять их,
обращая в их наделы свободные земли и те
оброчные статьи, которыми располагало
Министерство государственных имуществ.
Вторая задача этих комиссий заключа¬
лась в том, чтобы, соответственно земельным
и промысловым выгодам крестьян, обложить
их уравнительно справедливым оброком
вместо той одинаковой и совершенно нерав¬
номерно ложившейся на них подати, которая
существовала до того времени.
После почти двадцатилетней работы
этих комиссий в большинстве губерний Ев¬
ропейской России казенные крестьяне
действительно получили более уре¬
гулированное и равномерное поземельное
устройство, причем в губерниях малоземель¬
ных их старались привести к 8 дес. надела
на душу, что в сравнении с землепользо¬
ванием помещичьих крестьян представляло
весьма значительное обеспечение их быта, а
в губерниях многоземельных им давалось до
15 дес. на душу. Таким образом, уже при
Киселеве <1837—1856) государственные
крестьяне получили сравнительно с
помещичьими весьма значительное земель¬
ное обеспечение. Затем, что касается пода¬
тей, то кадастровыми комиссиями подати
эти были исчислены не только соразмерно с
пространством отведенной крестьянам
земли, но и по соображению с теми промыс¬
ловыми доходами, которые крестьяне имели,
потому что оказалось, что и казенные кре¬
стьяне, так же как и помещичьи, во многих
губерниях иногда значительную часть своих
272
доходов получали от различных промыслов,
нередко даже отхожих — особенно в гу¬
берниях нечерноземных. И вот Министерст¬
во государственных имуществ приняло это в
расчет, так что в состав земельной подати,
вообще говоря, очень умеренной по срав¬
нению с данными крестьянам землями,
входили платежи как за землю, соответст¬
венно ее доходности, так и по соразмерности
с теми доходами, которые эти крестьяне
получали от различных своих промысловых
выгод. Надо сказать, что это в значительной
мере разнообразило и самый размер податей
и очень разнообразило в составе этих пода¬
тей ту часть, которая налагалась за промыс¬
лы, и ту, которая налагалась за землю; так,
были губернии, в которых до 40% оброчной
подати считались составляющими промыс¬
ловой налог. В конце концов размеры
вычисленных таким образом оброчных пода¬
тей не только на десятину, но и на душу были
значительно меньше, чем те оброки, которые
существовали в помещичьих имениях в до¬
реформенное время.
Когда началась разработка крестьян¬
ской реформы, Киселев уже оставил свой
пост и был заменен сначала Шереметьевым,
а затем, спустя короткое время ( в 1857 г.),
М. Н. Муравьевым, который являлся тогда
самым умным и самым злостным кре¬
постником среди министров императора
Александра, как рто вы могли видеть по его
поведению в Главном комитете по устройст¬
ву помещичьих крестьян.
Муравьев, не столько в интересах казны,
сколько именно исходя из своих кре¬
постнических побуждений и опасений, раз¬
делявшихся тогда многими крепостниками,
боялся, чтобы слишком хорошее устройство
государственных крестьян не повело бы к
более льготному устройству помещичьих, и
сознательно стремясь к ухудшению поло¬
жения казенных крестьян, предпринял в
1859 г. переоценку оброчных окладов,
падавших на государственных крестьян.
При этом им было установлено, что земли,
отведенные государственным крестьянам,
являются государственной собственностью,
а не крестьянскою и что крестьяне должны
платить за эти земли не оброчные подати*
а оброчную плату, которая, однако, должна,
как и прежде, соразмеряться не только с
доходом от земли, но и с доходом от промыс¬
лов — под видом платы за промысловые вы¬
годы усадеб. При оценке этих выгод был
допущен значительный произвол, и обло¬
жение крестьян в результате повысилось
вообще более чем на 50%, а кое-где и на
80%. После издания Положения 19 февраля,
когда указом 5 марта 1861 г. повелено было
распространить принципы реформы и на
государственных крестьян, Муравьев сос¬
тавил первоначально очень невыгодный для
этих крестьян проект их окончательного ус¬
тройства, но, к счастью для них, в составе
Главного комитета нашлись защитники их
интересов, и, в конце концов дело выработки
оснований их поземельного устройства
попало в руки Н. А. Милютина. Благодаря
участию Милютина все замыслы Муравьева
были уничтожены и в конце концов устрой¬
ство государственных крестьян свелось к
тому, что они признаны были повсеместно
наследственными владельцами тех наделов,
которые им отводились в результате работ
кадастровых комиссий. Эти наделы, как вы
видели, были своими размерами более бла¬
гоприятны, чем даже наделы, полученные
удельными крестьянами, не говоря уж о
помещичьих; что же касается повинностей,
то, несмотря на то что благодаря стараниям
Муравьева оброчная подать была значитель¬
но повышена по инструкции 1859 г., все-
таки размер этой подати был значительно
меньше оброков, установленных для
помещичьих крестьян.
Таким образом, устройство и удельных,
и в особенности государственных крестьян в
экономическом отношении оказалось гораз¬
до более благоприятным, нежели устройство
помещичьих крестьян.
Что касается правовой и администра¬
тивной стороны дела, то как удельные, так
и государственные крестьяне — последние
по указу 18 января 1866 г.,— были устроены
в административном отношении на тех са¬
мых началах, на которых были устроены и
помещичьи крестьяне; причем после того
как на государственных крестьян было рас¬
пространено общее Положение 1861 г., ока¬
залось возможным соединение их в одной
волости с соседними помещичьими кресть¬
янами, там, где это оказалось удобным, и
опять-таки это было, в отношении размеров
волостных сборов и в отношении содер¬
жания крестьянской администрации, для
них существенным облегчением.
Таким образом, мы видим, что после
указов 18 января 1866 г. об
административном устройстве казенных
крестьян и 24 ноября 1866 г. об их поземель¬
ном устройстве, все категории крестьянского
населения в Россйи должны были получить
одинаковое административное устройство,
273
одинаковые гражданские права, и вместе с
тем значительные категории крестьян полу¬
чали поземельное устройство гораздо более
выгодное чем то, которое по Положению 1861
г. выпало на долю бывших помещичьих
крестьян.
Впрочем, что касается окончательного
устройства казенных крестьян, то здесь сле¬
дует отметить, что фактически наделение
землей и обложение различных поселений
казенных крестьян подробно разрабатыва¬
лось и пересматривалось еще в течение не¬
скольких лет после издания основного указа
1866 г. о земельном и экономическом их
устройстве, ввиду того что кадастровые
комиссии не везде кончили к тому времени
свои работы. Те губернии, в которых жили
казенные крестьяне, были разделены на
известные группы и устраивались особыми
поземельно-устроительными партиями
чиновников, на основании особых
инструкций, каждая из которых подверга¬
лась особому высочайшему утверждению.
Инструкции эти для разных губерний были
окончательно выработаны и утверждены
между 1867 и 1872 гг. Таким образом, позе¬
мельное устройство удельных и помещичьих
крестьян было закончено значительно рань¬
ше, нежели у крестьян бывших казенных,
причем земли этих последних не были
признаны сразу их собственностью, и впос¬
ледствии им пришлось еще их выкупать, ^ак
вы увидите, по значительно повышенным
нормам.
Картина, которую на основании всех
состоявшихся преобразований представляло
собой землевладение в России в 70-х годах
XIX столетия, по данным Центрального
статистического комитета, представляется в
следующем виде.
Данные Центрального статистического
комитета, изданные в 1878 г., относятся к 49
губерниям Европейской России, без
Финляндии, Царства Польского и Кавказа.
Всей земли в этих 49 губерниях исчислено
было 391 мнл. дес.— в круглых цифрах.
Затем, в составе этих 391 млн. дес. земель
казенных, т. е. не наделенных крестьянам,
а оставшихся непосредственно в распоря¬
жении казны, в этот момент было 150 млн.
дес., что составляло 38,5% общего простран¬
ства этих губерний. Затем, земель, которые
оставались в непосредственном владении
уделов, опять-таки после наделения удель¬
ных крестьян, было 7,4 млн. дес., т. е. 2,2%
общего количества; в частной собствен¬
ности помещиков и других землевладельцев
было 93 млн. дес., т. е. 23,78%, если же
различать состав дворянского и недворян¬
ского землевладения, то собственно дво¬
рянских земель к концу 70-х годов
оставалось только 73 млн. дес., а земель,
принадлежавших владельцам недворянских
сословий, разночинцам, в числе которых
были и богатые крестьяне, покупавшие
земли отдельно от своих обществ,— было 20
млн. дес. Размеры землевладения церквей,
городов, монастырей и других учреждений
достигали 8,5 млн. дес. Наконец, надельных
земель крестьян — помещичьих, государст¬
венных и удельных вместе — было 130 млн.
дес., так что, собственно, земли крестьян, не
считая купчих их земель, хотя бы куплен¬
ных обществами, каковых было тогда всего
около 762 тыс. дес.,— составляли 33,4%
всего земельного пространства этих 49 гу¬
берний и таким образом значительно превы¬
шали частное землевладение.
Профессор Ходский в 80-х годах издал
книгу, посвященную выяснению положения
крестьян на основании произведенной
реформы, где старался выяснить
приблизительную материальную обеспечен¬
ность каждого разряда крестьян. Раньше, в
1876 г., эту задачу брал на себя профессор
Янсон, который на основании весьма недо¬
статочных цифр пытался исчислить наделы
и повинности крестьян. Впоследствии нам
придется еще остановиться на его
исчислениях и выводах, но теперь для вы¬
яснения общей картины землевладения в
России я приведу вам цифры профессора
Ходского, так как они основаны на данных
Центрального статистического комитета,
опубликованных в 1878 г. Л. В. Ходский
высчитал, что из 10 670 тыс. крестьян муж¬
ского пола, бывших государственных и
удельных, 5400 тыс. душ, или 50%, были
наделены щедро; затем 3800 тыс. душ, или
35%, были наделены достаточно и 1455 тыс.
душ, или 13,7%, были наделены недостаточ¬
но. Но что такое «щедро», «достаточно» и
«недостаточно» по терминологии профессо¬
ра Ходского? Эти термины имеют у него
следующий условный смысл: ввиду того что
правительство не располагало никакими ка¬
дастровыми данными, которые давали бы
возможность точно исчислить достаточно
или недостаточно землевладение крестьян по
потребительной норме, т. е. по тому, на¬
сколько достаточно получающихся от обра¬
ботки надела средств для пропитания
крестьянской семьи, или по рабочей норме,
т. е. по тому, насколько данное землевла¬
274
дение поглощает рабочие силы крестьянской
семьи, профессор Ходский предложил до¬
вольно грубый прием оценки крестьянского
обеспечения землей; он предложил исходить
из бытовых условий, которые исторически
сложились в дореформенное еще время, ког¬
да сама жизнь определяла достаточность или
недостаточность земельных норм, с точки
зрения наличных экономических условий.
Он справделиво указывал, что у помещичьих
крестьян в дореформенное время (в сущ¬
ности, впрочем, лишь у тех, которые рабо¬
тали на барщине) нормы наделов
определялись возможностью обработать эти
наделы в течение тех трех дней в неделю,
которые крестьяне употребляли на себя.
Таким образом, это, в сущности говоря,
составляло при максимальном наделе
половину того количества земли, которое бы
крестьяне могли обработать, работая целую
неделю для себя и не отправляя барщины. В
то же время этот надел давал возможность
крестьянам удовлетворять, конечно, более
или менее в обрез, свои элементарные про¬
довольственные нужды. Именно эта норма и
соответствовала максимальному наделу
помещичьих крестьян. Что касается кресть¬
ян государственных, то там, благодаря до¬
вольно достоверным расчетам, сделанным
кадастровыми комиссиями и благодаря
отсутствию барщины, можно было принять,
что крестьяне все <?вое время употребляли на
свою запашку, вследствие чего Ходский
считал, что средние нормы землевладения
казенных крестьян выражают тот размер
надела, который, с одной стороны, вполне
достаточен для безнуждного существования,
т. е. для удовлетворения всех, а не одних
только продовольственных, нужд, а с другой
стороны, поглощает все рабочие силы семьи,
поэтому г. Ходский думал, что там, где
крестьяне получили выше этих норм,— там
наделение можно считать щедрым . Исходя
из этих соображений, он и признавал, что
среди крестьян государственных и удельных
50% было наделено щедро, а 35% считал
наделенными достаточно. Достаточными
наделами Ходский не совсем последователь¬
но признавал те, которые приходились меж¬
ду максимальным наделом помещичьих
крестьян и этой средней нормой наделения
государственных крестьян. Надо сказать,
что этот второй разряд получился у него,
таким образом, довольно неоднородным,
потому что те крестьяне, которых наделение
приближалось к максимальной норме наде¬
ла помещичьих крестьян, получили, как мы
видели, только половину того количества
земли, которое они могли бы обработать, а
те, владения которых приближались к сред¬
ней норме владения государственных кре¬
стьян, получили действительно более или
менее достаточный надел. И поэтому мы
видим, что, например, в Самарской гу¬
бернии Ходский считал наделенными щедро
тех, которые получили больше 10 дес., а в
разряд наделенных достаточно он зачислял
получивших от 3 до 10 дес., и это одно уже
указывает на большую разнородность всей
этой категории. Как бы то ни было, те,
которые получили меньше этого, получили
наделы, уже явно недостаточные, а лиц
такого разряда из числа казенных и удель¬
ных крестьян, Ходский насчитал все-таки
13%.
Что касается до крестьян бывших
помещичьих, число которых приблизитель¬
но равнялось числу крестьян государствен¬
ных вместе с удельными (государственных
было около 10 млн. душ, а удельных — около
850 тыс. душ, так что вместе их было около
10 600 тыс. душ, а крестьян помещичьих
было также около 10 600 тыс. душ), то из
них Л. В. Ходский считал щедро наделен¬
ными, т. е. по норме, превышавшей сред¬
нюю норму владения крестьян
государственных, только 13%. Затем 4625
тыс. душ, или 43,5%, было наделено, по его
терминологии, достаточно и наконец, 42 %
— 4460 тыс. душ — получили явно недо¬
статочные наделы. Если же объединить все
категории крестьян вместе и вычислить про¬
центное отношение каждого из трех разрядов
ко всей массе крестьян, то получаются такие
цифры: всего было душ мужского пола во
всех этих категориях 21 278 тыс. Из них
6900 тыс., главным образом казенные и
удельные крестьяне, были, по расчетам Ход-
ского, наделены щедро — они составляли
32%, т. е. менее одной трети всей массы.
Затем, 8430 тыс., или около 40%, были
наделены достаточно — с теми оговорками,
которые я уже сделал относительно
понимания этого термина,— и, наконец
5900 тыс., или около 28%, т. е. несколько
более одной четверти, были наделены не¬
достаточно.
Наделение крестьян в общем было все
же довольно широко, если сопоставить
общие размеры крестьянского землевла¬
дения лишь с теми размерами частного зем-
левладения, которые в то время
существовали, и не брать в расчет огромной
доли казенного землевладения, которое по
275
большей части состояло из земель весьма
удаленных и неудобных для обработки, так
что только 4 млн. дес. из этих земель
утилизировалось в качестве оброчных ста¬
тей, а остальные 146 млн. дес. были распо¬
ложены главным образом в северных
губерниях и представляли собою леса, воды
и болота, которые очень увеличивали общую
цифру казенного землевладения, но в состав
действительно годного к немедленной
утилизации земельного фонда по своим
климатическим и почвенным условиям
войти не могли.
Вот, следовательно, в самых общих чер¬
тах, та картина землевладения крестьянства
и обеспеченности его землею, которая пред¬
ставлялась вскоре по выполнении на
практике крестьянской реформы во всем ее
объеме. Как эта обеспеченность впос¬
ледствии изменилась и какие сказались не¬
дочеты в проведенном устройстве крестьян,
мне придется рассмотреть в одной из следу¬
ющих лекций.
ЛЕКЦИЯ XXVIII
Ближайшие результаты крестьянской реформы.— Рост населения в России до и после реформы.—
Критика имеющихся в литературе взглядов и мнений по этому предмету.— Расселение населения в
России до и после реформы.— Рост городского населения до и после реформы.— Экономическое поло¬
жение России после эпохи реформ.— Промышленный кризис и его причины.
Теперь я хочу остановиться на
ближайших результатах крестьянской
реформы, экономических и социальных, ко¬
торыми до последнего времени определялось
то движение общей русской жизни, о кото¬
ром я говорил вам в прошлой лекции.
Те из историков русской жизни, которые
этим вопросом занимались, как, например,
профессор Милюков, который его касался
попутно в своей известной книге «Очерки по
истории русской культуры», и те, которые
недавно, уже в последнее время, разрабаты¬
вали связанные с этим вопросом данные,
как, например, г. Огановский, который
издал в 1911 г. книгу «Очерки по истории
земельных отношений в России»,— все эти
историки указывают довольно согласно на
то, что первым тотчас же сказавшимся после
крестьянской реформы, и притом особенно
ярким, ее последствием был неимоверно
усилившийся рост населения1. П. Н. Милю¬
ков подходит к этому выводу очень издалека,
указывая вполне справедливо, что в России
и особенно в ее центральной области, рост
населения очень долго задерживался и даже
одно время, именно в начале XVIII столетия,
в период бурной петровской деятельности, в
период его войн и дорого обходившихся
населению реформ и сооружений, насе¬
ление здесь сильно убыло абсолютно. Точно
то же мы, с вероятностью, должны предпо¬
ложить и для Смутного времени конца XVI
и начала XVII столетий, хотя для этого нет
точных данных. Поэтому Милюков полагает,
что в России, начиная, может быть, с XVI-
XVII вв. вплоть до второй четверти XVIII
столетия, прироста населения почти совсем
не было, потому что весь прирост поглощал¬
ся теми огромными жертвами, которые на¬
селению приходилось нести на создание
Русского государства и на борьбу за
территорию. Милюков, далее, указывает, что
для центральных губерний, т. е. для петров¬
ской Московской губернии, которая захва¬
тывала позднейшие Калужскую, Тульскую,
часть Рязанской, часть Нижегородской, Ко¬
стромскую, Владимирскую и часть Твер¬
ской, можно дать такие цифры: в 1678 г. там
было 39 человек на квадратную версту, а в
1724 г. приходилось без малого 29 человек и
только в 1858 г., т. е. перед самой кресть¬
янской реформой, опять плотность насе¬
ления сравнялась с той, которая была в
середине XVII в., именно стала 39,4 челове¬
ка на версту. По переписи же 1897 г., т. е.
в конце XIX столетия, здесь было уже 52,9
человека на версту. Таким образом,
действительно, на первый взгляд, тут в росте
населения за последние 40 лет XIX в. полу¬
чается большой скачок. В петровской
Киевской губернии Милюков считал в 1678
г. 11,4 человека на кв. версту а в 1724 г.—
11,2. Но тут уже в 1858 г., во время послед¬
ней ревизии, плотность населения возросла
до 40 человек на кв. версту, а в 1897 г. она
достигла 57 человек на кв. версту, так* что
мы тут видим весьма значительный рост
населения и в пореформенное время, но
также весьма значительный и до реформы.
Аналогичные цифры П. Н. Милюков
приводит и для других областей Европей¬
ской России, и уже из его цифр видно, что,
276
в сущности, по всем областям России рост
населения после Петра шел довольно быст¬
ро. Но все же из его расследования можно
заключить, что после реформы рост насе¬
ления шел гораздо быстрее. Этот вывод
склонны без дальнейшего* анализа данных
принимать и позднейшие исследователи, ко¬
торые обыкновенно считают, что именно
после крестьянской реформы в России на¬
блюдается чрезвычайно сильный рост насе¬
ления . Тот новейший писатель, о котором я
только что упомянул, г. Огановский, напеча¬
тавший в 1911 г. свои «Очерки по истории
поземельных отношений в России», указы¬
вает неоднократно, основываясь на данных
П. Н. Милюкова, какое в пореформенное
время огромное значение имел, по его
мнению, этот усиленный рост населения.
Если, однако, мы примем в расчет дан¬
ные всех ревизий, бывших в XIX в. в
России3, то мы увидим, что, собственно
говоря, рост населения в XIX в. изменялся
не совсем так, как это представляет себе г.
Огановский. Именно, если мы проследим,
начиная с пятой ревизии, произведенной в
самом конце XVIII в., изменение количества
населения в России до народной переписи
1897 г., т. е. как раз за сто лет XIX в., то
мы увидим, что в России по пятой ревизии
числилось населения около 36 млн. душ
обоего пола, причем в состав этих 36 млн.
причислено (приблизительно) и население
присоединенных при Екатерине областей; а
если брать только области, входившие в
состав России до Екатерины, в них было по
пятой ревизии только 29 млн. душ. Затем,
следующая ревизия, шестая, происходила
как раз накануне Отечественной войны, в
1811 г., и обнаружила значительный рост
населения: именно, за 14 лет, оно
увеличилось с 36 млн. до 41 млн. душ. Далее,
по седьмой ревизии, произведенной непос¬
редственно после Отечественной войны, на¬
селение, в общем для всей Российской
империи, еще увеличилось — почти до 45
млн. душ. Но надо сказать, что в состав
последней цифры включено и население
новых территориальных приобретений —
именно Царства Польского, где было тогда
около 3 млн. населения, Бессарабской
области (около 300 тыс. душ) и великого
княжества Финляндского (более 1 млн.
душ), не упоминая уже о кавказских вла¬
дениях, где население в то время было
сосчитать довольно трудно. Таким образом,
мы должны сказать, что если мы и видим
общее увеличение населения в период между
шестой и седьмой ревизиями, то только бла¬
годаря этим территориальным приобре¬
тениям. Если же мы исключим эти
территориальные приобретения, то получим,
по исчислениям академика Германа, сде¬
ланным в 20-х годах XIX в.4, что в тогдашней
России, без Царства Польского, Финляндии
и Бессарабии, но с частью Какваза и с
сибирскими губерниями, в 1811 г. населения
мужского пола было 18 800 тыс. душ. в
круглых цифрах, а через четыре года оно
уменьшилось почти на миллион душ и рав¬
нялось лишь 17 900 тыс. душ. Если мы
примем в расчет, что ежегодный прирост
населения в предшествующие годы состав¬
лял больше 1 %, как оно и было в
действительности, то мы должны были бфы
ожидать увеличения его за четыре года
приблизительно на 750 или 800 тыс. душ, а
вместо того мы имеем убыль почти в 1 млн.
душ, т. е. в общем должны констатировать,
что вся убыль (вследствие Наполеоновский
войн) былы более 1 г/г млн. душ одного
только мужского пола. Наполеоновские вой¬
ны, таким образом, не только поглотили весь
нормальный прирост населения, но прямо
произвели его абсолютную убыль. Затем,
когда Наполеоновские войны кончились, то
население стало вновь быстро возрастать
несмотря на существование крепостного
права, и это нисколько не противоречит и
наблюдениям в других странах, ибо нигде
рабство не вело, в сущности, к уменьшению
населения; оно доводило население до весь¬
ма тягостного состояния, но известно, что и
тогда население в странах, где естественные
условия дают к этому возможность, продол¬
жает нередко размножаться. И действитель¬
но, в 30—40-х годах в России население
росло весьма сильно, и если вы возьмете
данные девятой ревизии, то увидите
значительный прирост населения, потому
что, по ревизии 1815 г., во всей Российской
империи, со всеми территориальными
приобретениями Александра I, было менее
45млн. душ обоего пола, а в 1851 г. размеры
населения (по Кеппену) дошли в ней до 68
млн. душ обоего пола. Итак, вы видите, что
за этот небольшой промежуток времени —
за 36 лет — население увеличилось больше
чем в полтора раза, несмотря на то, что в это’
время уже никаких территориальных
приобретений не было, причем в число этих
36 лет входили 1848-й холерный год, когда
население, благодаря тогдашнему неумению
бороться с холерой, убыло почти на 1 млн.
душ, и ряд бедственных, неурожайных лет
277
(1820—1821, 1833, 1839—1840, 1843—
1846, 1848). Затем между девятой и деся¬
той ревизиями за краткий промежуток в
семь лет — десятая ревизия была произве¬
дена перед крестьянской реформой в 1858
г.— мы видим, что население опять
значитёльно выросло и общее его количеотво
дошло до 74 млн. душ. Следовательно, в
общем, рост был и в это время велик, не¬
смотря на то, что тут опять были бедствен¬
ные годы, когда рост населения сильно
задерживался,— именно, Крымская война,
которая дала уменьшение в росте населения,
по крайней мере, на пол миллиона душ.
Таким образом, мы видим, что и в кре¬
постное время, если брать все население
России, то оно росло весьма заметно. Сле¬
дует, однако, отметить, что в это время число
собственно крепостных крестьян не только
не прибывало между восьмой и девятой и
между девятой и десятой ревизиями (до
этого времени и оно прибывало весьма
значительно), а даже слегка уменьшалось;
но это опять-такие не свидетельствует о
прекращении его роста, а только о том, что
и во время крепостного права значительное
количество крепостных крестьян уходило из
своего состояния — во-первых, путем отпу¬
ска на волю отдельных селений: хотя мы и
знаем, что отдельные случаи освобождения
крепостных имений не давали больших
цифр, но все-таки они составили за это
в!ремя десятки тысяч, вообще же начиная с
1804 г. дали больше ста тысяч душ мужского
населения5. Затем, значительная часть кре¬
постных дворовых людей и крестьян откупа¬
лась одиночками и отдельными семьями, и
для этой категории никакой статистики не
существовало, а несомненно все-таки, что в
сумме и они составляли некоторый процент.
Затем, при Киселеве казна специально поку¬
пала у помещиков имения, и в составе таких
имений было куплено около 54 тыс. душ; это
опять-таки дало известную убыль в числе
крепостных крестьян. Затем, самочинно
путем бегства уходило из крепостной
зависимости также значительное число лю¬
дей, и немалое число их ежегодно ссылалось
в Сибирь и по судебным приговорам, и по
требованию помещиков. Но самая
значительная убыль происходила путем рек¬
рутских наборов, которые назначались для
каждой губернии через год, а иногда ежегод¬
но и брали от 5—10 человек с тысячи
мужских душ. В общем они уменьшили
численность крепостного населения между
восьмой и десятой ревизиями не менее чем
на 1 Уг млн. душ6. Таким образом, мы можем,
как мне кажется, прийти к довольно обосно¬
ванному выводу, что численность крепостно¬
го населения не увеличивалась между
восьмой и девятой ревизиями и даже не¬
сколько уменьшилась между девятой и деся¬
той ревизиями вовсе не потому, что в это
время уменьшился естественный прирост
населения, а просто потому, что значитель¬
ная часть крепостных людей перечислена
была в это время в другие разряды насе¬
ления.
Все это я привожу для того, чтобы
ограничить те оптимистические выводы, ко¬
торые напрашиваются при виде значитель¬
ного роста бывшего крепостного населения
после отмены крепостного права,
сравнительно с тем, какой будто бы был при
крепостном праве. Если взять всю первую
половину XIX столетия, то рост населения в
эту эпоху был действительно несколько
меньше, чем во вторую его половину,—
виною этому был ряд войн и такие бедствия,
как холера; но после Наполеоновских войн,
несмотря на наличность в это время двух
холерных и целого ряда неурожайных годов,
рост населения был относительно почти так
же велик, как после освобождения крестьян.
Я должен вам напомнить, что вообще
рост населения во время, следовавшее за
Наполеоновскими войнами, явился, как я
думаю и как я говорил вам и раньше, одной
из самых главных причин, подготовивших
падение крепостного права, вместе с целым
рядом других экономических условий, раз¬
рушавших помещичье хозяйство того вре¬
мени7.
Априорные соображения наводят иссле¬
дователей пореформенной эпохи еще и на
другую мысль, что после такого события, как
освобождение крестьян от крепостного пра¬
ва, должно было чрезвычайно усилиться рас¬
селение населения, которое должно было
двинуться, с одной стороны, в местности
малонаселенные с удобными для культуры
землями, а с другой стороны — в города, это-
последнее тем более, что с упразднением
крепостного права получили возможность
свободно проявляться и действовать такие
условия, которые создают во всех странах
правильное развитие капиталистического
хозяйства (умножение на рынке свободных
рабочих рук и переход от натурального хо¬
зяйства к денежному в больших размерах).
Таковы априорные соображения, и
историки, которые склонны им следовать,
так нередко и заключали, и к этим сообра¬
278
жениям приурочивали и соответствующие
цифры, какие можно извлечь из имеющихся
у нас статистических данных.
Но если мы будем исходить именно из
всего наличного статистического материала,
который дается ревизиями, переписями и
теми статистическими данными, которые
собраны. были Центральным
статистическим комитетом в разное время,
то мы увидим, что априорные соображения
и в данном случае опять-таки не совсем
оправдываются.
Если мы изучим детально увеличение
роста населения по отдельным губерниям,
что и дает нам картину расселения по
России, то мы увидим, что в тех местностях,
куда переселялись крестьяне, как в дорефор¬
менное время, так и в пореформенное, т. е.
в губерниях, где население особенно сильно
возросло в течение XIX в., значительная
часть этого возрастания, а по многим гу¬
берниям главная, относится все же ко вре¬
мени дореформенному.
Если мы сравним рост населения в XIX
в. с 1797 по 1897 г. в окраинных юго-вос-
точных и южных губерниях с ростом его за
то же время в центральных, особенно цент¬
ральных нечерноземных губерниях, то
увидим колоссальную разницу между теми
и другими. Тогда как в Ярославской гу¬
бернии население увеличилось за все
столетие лишь на 17%, во Владимирской и
Калужской — на 30%, в Костромской,
Тверской, Смоленской, Псковской и даже
черноземной Тульской губернии — едва на
50—60%,— в губернии Астраханской оно
прибыло на 1750%, в губернии Уфимской
— на 1200 %, в губернии Самарской и в
Области Войска Донского —на 1000 %, в
губернии Херсонской — на 700 %, в Бесса¬
рабии — на 800 или 900%, в Таврической
губернии — на 400%, в Екатеринославской
— на 350% и т. д. Это указывает на
значительный отлив населения из центра к
периферии. Среди же центральных и север¬
ных нечерноземных губерний усиленным
ростом населения выделяются лишь
столичные губернии — Московская и в осо¬
бенности Петербургская, где за это время
население возросло: в Московской на 150%
и в Петербургской на целых 500%. Здесь
этот рост населения объясняется всецело
ростом городского столичного населения.
Если мы, однако же, посмотрим, когда
же именно произошел этот огромный отлив
населения от центра к периферии, то
убедимся, что в значительной, а иногда и в
большей своей части отлив этот совершился
во время дореформенное. Это наглядно видно
из приводимой мной в приложении таблицы
тех губерний, по которым можно проследить
рост населения за все столетие, и из состав¬
ленных по этим же данным картограммам.
Почти то же приходится сказать
относительно роста городского населения в
России. П. Н. Милюков в своей книге
«Очерки по истории русской культуры»
приводит весьма интересные цифры
относительно роста городского населения у
нас за целые 2Vi века. Первая цифра, кото¬
рая у него имеется, относится к первой
половине XVII в.,— к 1630 г. Он указывает,
что тогда городское население России рав¬
нялось 292 тыс. и составляло 2,4% ко всему
населению. Через сто лет почти население
городов увеличилось лишь до 328 тыс., т. е.,
в сущности, очень ничтожно, но так как в
этот период и рост всего населения вообще
задерживался петровскими войнами и
реформами — при Петре население, как вы
знаете, даже уменьшилось, а вообще
увеличилось и во все это время очень немно¬
го,— то эти 328 тыс. все-таки дают 2Уг % ко
всему населению, т. е. почти то же, что и в
1630 г. Затем, по данным четвертой ревизии,
в 1782 г. мы имеем уже 802 тыс. городского
населения,.или 3,1% к общей цифре насе¬
ления России. К 1796 г., т. е. к пятой
ревизии, которая для нас составляет исход¬
ный пункт при определении движения насе¬
ления в XIX в., мы имеем, по Милюкову,
1301 тыс. городского населения, что состав¬
ляло 4,1% всего тогдашнего населения. За¬
тем для шестой ревизии П. Н. Милюков дает
цифру в 1600 тыс., или 4,4 %; Далее по
восьмой ревизии —3025 тыс., что составляет
5,8%; затем по девятой ревизии 1851 г. он
указывает цифру 3482 тыс. городского насе¬
ления, и это составляет едва 5 % . Затем для
1858 г. он дает цифру в 6 млн. человек, что
составляет ко всему населению 9,2%. Далее
П. Н. Милюков сразу берет перепись 1897
г. и приводит цифру в 16 289 тыс. городского
населения, что составляет к весьма возрос¬
шей к этому времени общей величине насе¬
ления почти 13%.
Общий вывод, который можно отсюда
сделать, тот, что городское население в поре¬
форменное время возросло довольно
значительно не только абсолютно, но также
и относительно, хотя, впрочем, сам г. Милю¬
ков находит и существующее теперь отно¬
шение городского населения ко всему
населению очень невыгодным по сравнению
279
с другими, более культурными, странами.
На самом деле, однако, цифры, приведенные
П. Н. Милюковым, требуют значительных
поправок. Дело в том, что приведенные у
него цифры, относящиеся к дореформенно¬
му времени (кроме, по-видимому, цифры
1858 г.) означают, собственно, численность
так называемых городских сословий, т. е.
численность мещан и купцов, вместе взятых,
и их отношение ко всему населению. Между
тем, по переписи 1897 г. берутся все го¬
родские жители, а не только мещане и
купцы. Если же мы возьмем те данные,
которые разрабатывались еще в 40-х годах
хозяйственным департаментом, то мы
увидим, что в 1847 г. городское население
всей России равнялось 4700 тыс. душ. В
составе этого населения числилось 2300 тыс.
мещан, что давало около 50%; затем около
414 % составляли купцы, около 514 % было
дворян и других привилегированных, около
114 % составляло духовенство. Все эти кате¬
гории вместе составляли, таким образом,
6114 % общего числа городских жителей, а
все остальные 38 14 % отнесены в категорию
«прочих». Профессор Дитятин, который
исследовал специально историю городов
России в XIX в., занимался выяснением
вопроса, кто же эти «прочие», и выяснил,
что это «фабричные, чернорабочие,
извозчики, ямщики и тому подобные кате¬
гории рабочего населения, которвхе по
происхождению своему и по приписке
принадлежали почти все к крестьянскому
сословию».
И действительно, выводы эти совершен¬
но правдоподобны, потому что мы видим и
теперь, что в составе населения Москвы и
Петербурга громадная доля приходится на
крестьян, которые, не переписываясь в ме¬
щане, годами и десятками лет живут в горо¬
де, ведут торговлю, занимаются различными
промыслами и продолжают числиться в со¬
ставе крестьянского сословия. Мы видим,
например, что в Петербурге в конце 40-х
годов из городского населения 9 % было
мещане и 5 % купцов, а остальные 86 %
были сословия не городские9.
Отсюда очевидно, что цифра городских
сословий и цифра городского населения,—
это вещи несравнимые; и если у П. Н.
Милюкова первые цифры, за время дорефор¬
менное, дают величину населения, принад¬
лежавшего к городским сословиям (кроме,
по-видимому, цифры 1858 г.), то их нельзя
сравнивать с цифрами городского населения
вообще, по переписи 1897 г., ибо эти пос¬
ледние охватывают и разночинцев, и дворян,
и крестьян, живших в городах в это время.
Если же мы положим в основание рас¬
чета тот состав городского населения, кото¬
рый я вам привел по данным хозяйственного
департамента в 40-х годах, данным, впервые
приведенным и освещенным профессором
Дитятиным,— то мы увидим, что
приводимые П. Н. Милюковым цифры10 го¬
родского населения за дореформенный
период надо увеличить приблизительно раза
в 1 Уг , если не больше, а тогда картина роста
населения получится значительно иная, чем
в табличке, им приводимой.
Мы увидим тогда, что рост городского
населения шел последовательно, постепен¬
но, очень тихо и, в сущности говоря, в
пореформенное время очень мало усилился
в сравнении с тем, каков он был до реформы.
Надо сказать, что в пореформенное время
росло гораздо больше, как, впрочем, и в
дореформенное, население столиц и не¬
многих больших промышленных центров.
Здесь население росло, действительно, в
гораздо большем размере, чем в остальных
городах. Целый же ряд других городских
поселений оставался в сравнительно не¬
подвижном состоянии и в первые годы после
реформы.
Таким образом, из всего, мною изложен¬
ного, вы видите, что априорные соображения
относительно действия крестьянской рефор¬
мы на рост населения, на его расселение по
России, на рост городов и вообще на подго¬
товку капиталистического строя не вполне
оправдываются и что к ним нужно
относиться с большой осторожностью. При
более подробном исследовании цифр и отно¬
шений мы видим, что в пореформенное вре¬
мя эта трансформация хозяйственного быта
совершалась с гораздо большей медленно¬
стью и постепенностью, чем можно было
ожидать a priori.
Какие же можно указать для этого
причины? Очень простые. В первые годы
после реформы Россия находилась в весьма
угнетенном экономическом положении. Дело
в том, что такой переворот, как крестьянская
реформа, выдержать хозяйству помещиков,
да и крестьян, которые были обременены
непосильными для них платежами, было
нелегко. Мы видим, что помещичье хозяйст¬
во в первые десятилетия после реформы не
только не улучшается, но падает. Во время
подготовки реформы были большие толки,
особенно среди прогрессивных помещиков,
относительно того, что хотя. переворот и
280
будет им труден, но они с ним сладят, что
они перейдут к капиталистическому хозяй¬
ству фермерского типа и что дело пойдет,
после некоторой заминки, еще лучше, чем
раньше. Но оказалось, что заминка была
довольно сильна и продолжительна, потому
что для того, чтобы перейти к фермерскому
хозяйству, т. е. чтобы вести хозяйство с
наемными рабочими, со своим инвентарем,
не говоря уж о различных усовершенство¬
ваниях, о которых помещики мечтали перед
реформой и которые должны были улучшить
и укрепить их хозяйства,— для всего этого
надо было иметь капитал. Но мы увидим, что
ресурсы помещиков были чрезвычайно сла¬
бы. Для того чтобы вести хозяйство с
помощью наемных рабочих, нужно было
иметь некоторый свободный'денежный фонд
и затем еще целый ряд условий: свой инвен¬
тарь, т. е. свои орудия и свой рабочий скот.
Ни того ли другого у помещиков в огромном
большинстве случаев не было — даже у тех,
которые вели барщинное хозяйство (в чер¬
ноземных губерниях),— потому что при
крепостном праве крестьяне обрабатывали
барскую землю сплошь и рядом своими
орудиями и своим скотом, и, следовательно,
после освобождения скот этот и орудия
остались у крестьян, а помещикам
приходилось все заводить вновь. Вследствие
неимения собственного инвентаря помещики
черноземных губерний нередко вынуждены
были сдавать большую часть оставшихся у
них за наделом земель в краткосрочную
аренду крестьянам.
В губерниях нечерноземных, промыш¬
ленных положение помещиков в этом отно¬
шении было еще хуже. Здесь помещики во
многих местностях своей запашки не имели
и, следовательно, инвентаря тем более, а так
как они были чрезвычайно задолжены, то до
тех пор, пока у них не явилось некоторых
капиталов от выкупных сумм, у них не было
совершенно ни денег, ни кредита. Мы видим
поэтому, что помещичье хозяйство падает
повсеместно, за исключением лишь некото¬
рых, единичных владений. При этом в се¬
верных губерниях помещики тотчас же
начинают распродавать свои земли, а так
как крестьяне не обладали покупными сред¬
ствами, хотя земля и была им нужна, то
покупщиками являются купцы и отдельные
богатеи из крестьян, которые относятся к
земле самым хищническим образом, выру¬
бают лес и даже сады, опустошают имения
— и уже истощенные земли перепродают
тем же крестьянам.
Очевидно, что такая картина хищниче¬
ского отношения к прежним помещичьим
имениям не может дать, отнюдь, впечат¬
ления процветания помещичьего хозяйства.
Таково было положение в сельскохозяй¬
ственной области. Если мы возьмем область
фабрично-заводской промышленности, то
мы увидим, к удивлению многих, может
быть, что и тут, немедленно после освобож¬
дения от крепостного права, никакого
расширения производства, никакого
увеличения количества фабрик и заводов не
произошло. Это, на первый взгляд, особенно
странно. Вы знаете, что купцы и промыш-
ленники-недворяне, владевшие фабриками
и заводами, особенно ждали крестьянской
реформы, и совершенно основательно, пото¬
му что для процветания их дел, для развития
вообще фабричного дела в России нужны
были свободные, выброшенные на рынок
рабочие руки. Реформа 19 февраля, каза¬
лось бы* давала эти руки, так как крестьяне,
с одной стороны, освобождались от крепост¬
ной зависимости, а с другой стороны, их
наделили не так хорошо, чтобы они все
могли держаться за землю. Оказалось, одна¬
ко, что и тут дело обстояло на первых порах
не так благоприятно для промышленников и
фабрикантов, как можно было ожидать. Во-
первых, значительное число фабрик и заво¬
дов находилось еще на посессионном праве,
т. е., следовательно, работу свою
производило рабочими не наемными, а
прикрепленными к этим заводам. В таком
положении находились особенно железоде¬
лательные заводы и многие суконные
фабрики. Как только эти рабочие получили
свободу, так сразу тяжелые материальные
условия, в которых они находились до тех
пор, и долго накоплявшееся недовольство и
справедливая ненависть к своему подневоль¬
ному быту заставили их толпами бросать
работу и уходить с заводов. Поэтому во
многих* случаях заводам в первое время
после реформы приходилось или оста¬
навливаться, или сокращать свое производ¬
ство.
В книге М. И. Туган-Барановского
«Русская фабрика» приводятся весьма лю¬
бопытные данные, например, относительно
Кувшинского завода. Этот завод в 1857 г.
выплавил 479 тыс. пудов чугуна; в 1862
г.—313 тыс. пудов и даже в 1868 г., спустя
семь лет после реформы, когда, казалось бы,
уже можно было ориентироваться в новом
положении, его производство достигло толь¬
ко 353 тыс. пудов. Такое положение было
общим для Урала. Мы видим, что все
уральские заводы давали в 1860 г. 14 500
281
тыс. пудов; в 1861 г.— только 14 200 тыс.
пудов; в 1862 г.— лишь 10 400 тыс. пудов;
в 1863 г. выплавка стала несколько повы¬
шаться, но не достигла уровня 1860 г. и была
равна 11 400 ты с. пудов; в 1867 г. она была
все-таки только 12 400 тыс. пудов и лишь к
1870 г. стала приходить к прежней норме, а
затем и перерастать ее.
Лишь в 70-х годах мы видим рост
производства на железных заводах
значительно больший, чем в дореформенное
время, и последовательно увеличивающийся
затем до наших дней. Значит, потребовалось
целых десять лет железоделательным заво¬
дам, чтобы освоиться с новым положением,
сулившим им такие выгоды11.
То же самое мы видим и в деле сукон¬
ного производства, потому что, как вы
помните, и эти фабрики в значительной мере
были посессионными. Поэтому и здесь пот¬
ребовалось хотя и не такое большое количе¬
ство лет, но все же лет пять-шесть, чтобы
производство начало действительно
увеличиваться.
К удивлению, мы это же видим даже и
относительно фабрик бумаготкацких, кото¬
рые и в дореформенное время были на воль¬
ном труде, вследствие чего их положение,
казалось бы, должно было немедленно же
после реформы улучшиться. Дело в том, что
тогда значительная часть наших бумагот¬
кацких фабрик все еще работала на
английской пряже и это время как раз сов¬
пало с тяжелым торгово-промышленным
кризисом в Англии, отчасти подорвавшим
возможность получения пряжи по прежним
ценам. Поэтому мы и здесь видим некоторое
ухудшение в первые годы после реформы.
Эти обстоятельства, зависевшие от пот¬
рясения, произведенного крестьянской
реформой, или совпавшие с ним, отразились
и на внутренней торговле в России. Очень
ярким показателем этого является цифра
оборотов Нижегородской ярмарки. Ярмарки
вообще имели гораздо бблыпее значение, чем
в последующее время, когда они начали
уступать место более современным способам
оптовой торговли. В 1860 г. обороты Ниже¬
городской ярмарки равнялись 105 млн. руб.,
а в 1861 г. они составили только 98 млн.
руб., в 1862 г.—103 млн. руб., в 1863 г.—
103 млн. руб. и только в 1864 г. они пре¬
высили цифру оборотов 1860 г., достигнув
111 млн. руб, а затем стали значительно
возрастать и дальше12.
Вот та картина пореформенных хозяй¬
ственных отношений России, которую мож¬
но выразить в цифрах. Вы видите, что
положение промышленности, как сельскохо¬
зяйственной, так и всякой другой, в это
время было далеко не льготным и что до
расцвета капиталистического хозяйства в
это время было еще весьма далеко.
ЛЕКЦИЯ XXIX
Финансовое положение в России в эпоху реформ и в последующие годы.— Задачи финансовой политики
при М. X. Рейтерне.— Деятельность Рейтерна.— Стремление к поднятию общей производительности
страны и в особенности вывозной торговли.— Вопрос о постройке железных дорог.— Ход этого дела в
России до середины 70-х годов.— Заботы об организации коммерческого кредита.— Открытие частных
банков.— Борьба с дефицитом в государственном бюджете.— Вопрос о продолжении внутренних преоб¬
разований и доклад Рейтерна в 1866 г.
Очерченное в конце предыдущей лекции
тяжелое угнетенное экономическое поло¬
жение тесным образом связывалось с таким
же положением государственного хозяйства.
После Крымской войны, в течение всей
эпохи реформ, а затем и в пореформенное
время правительство было в чрезвычайно
трудных условиях. Тут первую роль сыгра¬
ло, конечно* падение курса тогдашнего
кредитного рубля. До Крымской войны,
после денежной реформы 1843 г., в этом
отношении положение наших финансов бы¬
ло довольно хорошее. После реформы
Канкрина количество обращавшихся
кредитных денег было весьма умеренно: в
1854 г. их было всего 311 млн. руб., и при
этом был в наличности металлический фонд
в 123 млн. руб., который мог достаточно
обеспечивать безостановочный их размен,
так что курс их егоял a} pari. Когда началась
восточная война, то оказалось, что вести ее
пришлось на новые выпуски бумажных де¬
нег. После войны 1858 г. кредитных рублей
обращалось уже 780 млн, руб., а ме¬
таллический запас понизился до 119 млн.
руб., так что был уже ниже той /6, которую
282
считал необходимой для поддержания без¬
остановочного размена Канкрин, и поэтому
пришлось отказывать в размене. Понятно,
что курс таких неразменных денег должен
был падать и он падал в течение всех
ближайших лет после Крымской войны.
Надо сказать, что при этом правитель¬
ство, озаботясь, по-видимому, тем, чтобы
развивался частный кредит и частные
капиталистические предприятия, необ¬
ходимость чего оно сознало в это время,
уменьшило процент по вкладам,
хранившимся в казенных кредитных учреж¬
дениях. Оно сделало это, чтобы способство¬
вать перенесению вкладов в частные
предприятия. Вклады стали быстро утекать
из сохранных казен и в течение 10 лет дошли
до 200 млн. руб. вместо ранее хранившегося
миллиарда с лишним. Между тем правитель¬
ство в дореформенное время свободно поль¬
зовалось этим фондом и делало из него
позаимствования на свои нужды, так что в
конце концов оказалось, что долг правитель¬
ства сохранным казнам превышал 500 млн.
руб. Поэтому, когда вклады стали выбирать
быстрее, чем можно было рассчитывать,
правительство оказалось в затруднительном
положении. Чтобы пополнить свою растра¬
ту, ему пришлось совершать займы на тяже¬
лых условиях. Но эти займы в конце концов
дали возможность пополнить только часть
растраты, а 160 млн. руб. правительство так
и осталось должным этим кредитным учреж¬
дениям.
Разумеется, такое положение не
облегчило государственных финансов и еще
более пошатнуло курс кредитного рубля.
Если уже от одного чрезмерного выпуска
кредитных денег и уменьшения металличес¬
кого фонда курс этих денег должен был
сильно падать, то его падение еще усилива¬
лось чрезвычайно невыгодным торговым ба¬
лансом, который мы имели, потому что тогда
нечего было вывозить, а ввоз после войны
первое время был довольно значителен. Не¬
выгодность нашего баланса в особенности
усиливалась тем обстоятельством, что после
почти полного запрещения выезда русских
подданных за границу в царствование Нико¬
лая Павловича, с 1856 г., когда эти
ограничения были отменены, выезд за
границу стал настолько значителен и на¬
столько велики были вывозимые путешест¬
венниками за границу суммы денег, что это
также весьма заметно отражалось на ухуд¬
шении нашего баланса и понижении век¬
сельного курса.
Таким образом, приток металлических
денег был ничтожен, а отток их огромен и в
общем положение становилось очень
похожим на то, которое мы видели после
Тильзитского мира и континентальной
системы в начале XIX в. При таких обстоя¬
тельствах в 1862 г., когда положение особен¬
но обострилось, был назначен на пост
министра финансов талантливый и молодой
сравнительно человек, М. X. Рейтерн,—
после двух совершенно бездарных
министров: Брока л Княжевича.
Положение Рейтерна, когда он вступил
на пост министра финансов, было, понятно,
не из легких. Сам Рейтерн был подготовлен
к занятию этого поста уже тем, что он был
одним из деятельных членов финансовой
комиссии, которая образована была при
редакционной комиссии и выработала план
выкупной операции. Рейтерн тогда же заре¬
комендовал себя как один из самых та¬
лантливых ее членов.
Вступив на пост министра финансов, на
первых порах он, конечно, должен был пос¬
тавить себе главной задачей именно борьбу
с падением курса бумажного рубля, которое,
разумеется, отражалось тогда на всей жизни
страны и являлось чрезвычайно невыгодным
условием и для правительства, и для целого
ряда категорий населения. Рейтерн на этом
и сосредоточился, и весь его финансовый
план и сводился именно к борьбе с этим
падением курса, а как дальний идеал он
ставил себе переход к постоянной ме¬
таллической валюте. Рейтерн пробыл
министром финансов целых 16 лет и был,
таким образом, одним из важнейших сот¬
рудников императора Александра II. Но на¬
до сказать, что независимо от того, как
оценивать вообще план экономической
политики министра финансов, который
сводится исключительно только к этой одной
задаче, независимо от этого надо сказать, что
и при исполнении этого плана Рейтерн на¬
чал, по крайней мере, с крупной ошибки. Он
просто, выражаясь вульгарно, несколько
погорячился: для того чтобы повысить курс
бумажных денег, он сделал попытку их раз¬
мена и для этой цели сделал заем в 15 млн.
фунтов стерлингов, т. е. около 150 млн.руб.
металлических, что сразу очень увеличило
металлический запас и позволило объявить,
что казна начинает разменивать кредитные
бумажки. Но при этом Рейтерн сделал чрез¬
вычайно наивную, даже с первого взгляда,
ошибку: он опубликовал, что до такого-то
срока кредитные рубли будут размениваться
283
по такому-то курсу, спустя некоторое время
— по более высокому, потом — по еще вы¬
сшему и т. д., рассчитывая, что курс рубля
будет благодаря размену повышаться. Но он
не учел того, что этим сейчас же воспользу¬
ются все спекулянты, которые, действитель¬
но, сразу поспешили захватить как можно
более кредиток вначале, пока они раз¬
менивались по сравнительно дешевой цене,
а затем предъявили их к размену тогда, когда
было обещано за них платить дороже. Это
создало такую бешеную спекуляцию, кото¬
рая совершенно парализовала возможный
успех этой меры, а к этому присоединилось
еще польское восстание и ожидание
правительством вмешательства иностран¬
ных держав, что повело, в свою очередь, к
растрате на военные цели части накоплен¬
ного металлического фонда, почему Рейтерн
вскоре оказался не в состоянии продолжать
свою операцию, а падение курса оказалось
большим, чем то, какое было до этого. Хотя
число обращавшихся кредитных рублей не¬
сколько и уменьшилось — с 780 до 700 млн.
руб., но и металлический фонд опустился со
119 до 55 млн. руб., что составило уже около
V12 части всего количества кредитных денег
и было слишком в два раза меньше, чем тот
умеренный фонд, который считал необ¬
ходимым Канкрин.
Таким образом, Рейтерн начал, как вы
видите, с большого промаха, но так как этот
промах был несколько маскирован польским
восстанием и Рейтерн мог ссылаться на
военные приготовления, поглотившие много
денег, то этот промах не подорвал его репу¬
тации, и он пробыл министром финансов,
как я уже сказал, целых 16 лет. В дальней¬
шем он направил свою деятельность к подъ¬
ему производительных сил в стране. Это
понятно: раз основною его целью было бо¬
роться с падением курса бумажного рубля и
раз он увидел, что героическими мерами тут
не помочь, то он и направил, естественно,
свои усилия в эту сторону. Он ясно видел,
конечно, что для усиления вывоза главного
предмета нашей заграничной торговли, рус¬
ского хлеба,— чем и можно было скорее
всего поднять баланс — существенно необ¬
ходимой является постройка железных до¬
рог, уже повсюду распространенных в
Европе; и на это он и направил свои главные
усилия. А так как он пользовался большим
доверием императора Александра II, то, не¬
смотря на частые несогласия с министрами
путей сообщения, он и явился главным хо¬
зяином в этом важном деле.
История постройки железных дорог
является одной из самых кардинальных ча¬
стей истории развития капитализма в
России, и потому ее изучение имеет боль¬
шую важность для правильного уяснения
себе всего хода трансформации нашего
социального быта после отмены крепостного
права.
Вы видели, насколько тяжело было поло¬
жение зарождавшегося капиталистического
хозяйства непосредственно после освобож¬
дения крестьян, и вы знаете, что развитие
железнодорожной сети составляет самый мо¬
гущественный нерв его развития в каждой
стране. Позвольте же теперь остановить ва¬
ше внимание на истории железнодорожного
строительства в России.
Первой'дорогой в России была Царско¬
сельская, построенная еще в 1837 г., всего
на 25 верст протяжением. Была она постро¬
ена частными лицами, причем правительст¬
во не дало никаких субсидий или гарантий,
и единственно важным для предпринимате¬
лей льготным условием было то, что дорога
была оставлена в их пользовании на бес¬
срочное время. Постройка продолжалась два
года и обошлась сравнительно дешево —
всего в 42 тыс. руб. на версту пути, считая
в том числе и все гражданские сооружения
(вокзалы, сторожевые будки и проч.). Затем,
несколько лет спустя после постройки этой
дороги, когда эксплуатация ее показала во¬
очию правительству возможность этого дела
в России, решено было приступить к пост¬
ройке железной дороги между Петербургом
и Москвою, названной впоследствии Нико¬
лаевской. Решено было строить ее казенным
способом, причем во главе этого дела стоял
министр путей сообщения Клейнмихель,
один из аракчеевских генералов, и хотя есть
такие свидетельства, что будто бы он сам
формально был честный человек, но пост¬
ройка дороги велась очевидно с большими
злоупотреблениями. Можно, правда, ска¬
зать, что дорога была построена довольно
прочно, и, действительно, все гражданские
сооружения, мосты, вокзалы и проч. были
капитальны, но зато и на версту пришлось
165 тыс. руб., тогда как Царскосельская
дорога стоила 42 тыс. руб. с версты и вообще
165 тыс, руб.— цифра, прямо невероятная
па своей величине... Строилась Николаев^
ская дорога девять лет, и так как это было
еще в крепостное время, то на постройку
284
массами сгоняли население, причем рабочие
гибли такжЬ в огромных размерах.
К концу царствоваия Николая Пав¬
ловича только эти две дороги и были выстро¬
ены. Правда, в 1851 г. было повелено
приступить, опять-таки казенным же спосо¬
бом, несмотря на данный урок, к постройке
Варшавской дороги, но хотя изыскания были
закончены и постройка началась, однако до
1853 г. построили только незначительную
часть этой дороги и затратили на нее всего
18 млн. руб. Затем началась война, построй¬
ка прекратилась, так как средств совершен¬
но не было. Когда же Крымская война
кончилась, то уже правительство Александ¬
ра II, только что испытавшее воочию все
ужасы отсутствия дорог, благодаря которому
на войну в Севастополь снаряды пере¬
возились на лошадях, а войска подходили на
свих ногах, после того, как правительство
увидело, насколько пагубна некультурность
и насколько необходима постройка дорог,
оно решило, что одной из его первых задач
будет сооружение новых путей сообщения.
Но, наученное горьким опытом казенной
постройки и притом согласно с общими
принципами своей новой экономической
политики, правительство решило тогда, что
нужно это дело предоставить частным ком¬
паниям, взяв на себя лишь инициативу дела,
да всяческое содействие частным
предпринимателям. Затем сюда присо¬
единились еще соображения, что можно при
этом увеличить количество капиталов и звон¬
кой монеты в России, привлекши к этому
делу иностранные капиталы, вследствие чего
и учредителями нового строительного обще¬
ства сделаны были иностранцы. Хотя в
числе учредителей сформированного «Глав¬
ного общества постройки железных дорог в
России» и был один русский банкир,
Штиглиц, но главными деятелями в нем с
самого начала были иностранцы: братья Пе¬
рейра, Колиньон и целый рад других инос¬
транных банкиров. Даже правление этого
общества было устроено не в Петербурге, а
в Париже. Таким образом, возникло
акционерное «Главное общество российских
железных дорог», и ему разрешено было
выпустить акционерный капитал при
правительственной гарантии 5% дохода на
этот капитал, при ряде еще других льгот,
например, что дороги остаются собственно¬
стью общества на 99 лет, причем и к выкупу
их правительство не может приступить
ранее 20 лет. Тем не менее, когда акционер¬
ный капитал был собран, оказалось, что
почти сейчас же этого капитала в
наличности не нашлось: учредители
расписали этот капитал на себя, а денег не
внесли, и денег при самом начале постройки
новых дорог не оказалось в наличности;
пришлось выпустить облигации, и уже на
них стали строить эти дороги. Таким обра¬
зом, благодаря растрате учредителями
значительной части акционерного капитала,
постройка этих дорог тоже обошлась в конце
концов довольно дорого, около 100 тыс. на
версту, и притом шла с большими затруд¬
нениями.
«Главному обществу» было предоставле¬
но выстроить прежде всего до конца Варшав¬
скую дорогу, затем линию «Динабург —
Рига, затем железную дорогу между Москвой
и Нижним Новгородом и, наконец, линию
Москва — Севастополь, т. е. линию, со¬
единявшую Черное море с центром России.
Таким образом, если бы эти линии были
выстроены, то хлебородные приволжские гу¬
бернии, часть Новороссийского края и цен¬
тральных черноземных губерний были бы
соединены через Москву с портом
Балтийского моря, а Москва соединялась бы,
в свою очередь, с Черным морем. Из этих
линий, однако, «Главное общество» вы¬
строило только Варшавскую дорогу и линию
на Нижний Новогород, а Риго-Динабургской
в назначенный срок не достроило и к пост¬
ройке дороги Москва — Севастополь даже
не приступило. Собрало оно свои капиталы
только отчасти за границей, а большую часть
акций и облигаций потом распродало и
реализовало в России, так что в результате
правительственные надежды на приток ино¬
странных капиталов также отнюдь не оправ¬
дались; в действительности оказалось
совсем обратное, и предприятие это во всех
отношениях оказалось неудачным и притом
прямо хищнически веденным.
После этой неудачи и в особенности
после того, как оказалось, что благодаря
дорогой постройке доходность выстроенных
дорог была очень сомнительная, тем более
что и движение грузов по Варшавской линии
не было особенно велико, то и расчеты
акционеров на дивиденды не оправдались, а
правительству пришлось приплачивать
крупные суммы по данной им гарантии, так
что во всех отношениях первый блин оказал¬
ся здесь комом. Все это не только произвело
разочарование в публике, но и правительст¬
во тоже пришло почти в отчаяние и в
1861 г. ликвидировало свой первый договор
с «Главным обществом», настояв, чтобы
285
главное управление общества было переве¬
дено из Парижа в Петербург и чтобы в состав
его было введено четыре члена по назна¬
чению правительства, причем правительст¬
во, в свою очередь, согласилось освободить
общество от обязательства постройки осталь¬
ных двух дорог.
После этой неудачи произошла, конеч¬
но, в деле строительства заминка, но Рей¬
терн и новый министр путей сообщения
Мельников решили, что дело надо продол¬
жать, ибо постройка железных дорог, по
мнению Рейтерна, являлась безусловно не¬
обходимой для его основной задачи —
развития производительных сил страны во¬
обще и подъема курса наших денег в част¬
ности при помощи усиления русского
хлебного экспорта. Мельников составил
план дальнейшего развития сети, план до¬
вольно целесообразный; именно, решено бы¬
ло построить дороги: от Москвы на
Севастополь, затем линии Одесса — Киев и
Киев — Москва, затем достроить дорогу
Динабург — Рига и выстроить дорогу Рига
— Либава, а с другой стороны провести
соединение этой дороги с Орлом, т. е. цен¬
тральным пунктом, который мог давать вы¬
возные, главным образом
сельскохозяйственные, товары, причем Орел
решено было соединить с Тамбовом и Сара¬
товом. С другой стороны было предположено
провести железнодорожную линию от Киева
или от одного из пунктов линии Одесса —■
Киев к австрийской границе в видах стра¬
тегических, и затем от Екатеринослава в
Донскую область, к Грушевским каменноу¬
гольным копям, чтобы обеспечить все пост¬
роенные дороги минеральным топливом,
если не хватит для топлива лесов на их
протяжении.
Таким образом, план был составлен,
по-видимому, правильно, но приступить к
его осуществлению было очень трудно. Рей¬
терн находил по-прежнему, что нужно пре¬
доставить это дело частным капиталистам;
он ожидал, что, с одной стороны, таким
путем будут привлечены русские и иност¬
ранные капиталы, а с другой, указывал, что
так как значительную часть построек приде¬
тся все же делать при помощи займов в
пособие строителям, то важно, чтобы займы
эти были частным делом, хотя бы и при
правительственной гарантии, дабы их за¬
ключением не подрывался государственный
кредит. Мельников думал, наоборот, что при
условии уже скомпрометированного частно¬
го предпринимательства лучше строить ка¬
зенным сплособом, всемерно усилив надзор,
чтобы не допустить воровства, которое было
в прежнее время. Мельникову, однако,
пришлось уступить, и вот начались поиски
частных концессионеров. Но оказалось, что
члены и заправилы «Главного общества»,
сами поживившиеся русскими деньгами,
распространили за границей слухи о чрез¬
вычайной трудности работ в России по пос¬
тройке железных дорог и, кроме того,
утверждали, что это вещь совершенно в
России бездоходная, и вот благодаря этому
на континенте Европы средств для пост¬
ройки новых линий найти не удалось. В
Англии, по-видимому, легче было найти
капиталистов, готовых идти на это
предприятие, и правительство шло на всякие
жертвы для их привлечения: оно соглаша¬
лось даже на такой контракт с английскими
капиталистами, которым не только га¬
рантировало им обладание проведенными
ими дорогами на 99 лет, не только давало
гарантию и на весь акционерный капитал в
5% дохода и в 1/г % погашения, но предпо¬
лагало даром отводить места под станции в
Севастополе, Москве и ряде других мест и
соглашалось даже объявить Севастополь
porto-franco, т. е. шло на меры, которые, в
сущности, могли подорвать его собственную
финансовую политику.
На этот раз, к счастью, англичане про¬
медлили и пропустили срок, данный
правительством; только благодаря этому
промедлению концессия, к благополучию
казны и России, не состоялась. Когда же,
таким образом, оказалось, что концессионе¬
ров привлечь нельзя, то Мельников пред¬
ложил, чтобы, хотя временно, начать
постройку некоторых из намеченных линий
средствами казны. Начали строить Киево-
Балтскую дорогу, и оказалось, что постройка
эта, веденная довольно осмотрительно и до¬
бросовестно,—ибо и сам Мельников оказал¬
ся человеком честным,— обошлась всего в
50 тыс. руб. с чем-то на версту.
Затем сыграла большую роль в истории
постройки наших железных дорог кон¬
цессия, данная русскому предпринимателю
Дервизу. Он взялся построить в 1866 г.
дорогу Рязань — Козлов, которая соединяла
через Рязань Москву, а через нее и Петер¬
бург, с самым плодородным районом, и пото¬
му оказалась с самого же начала весьма
доходной. Правительство дало концессионе¬
ру самые выгодные условия, дало пятипро¬
центную гарантию, и в данном случае это не
заставило казну поплатиться, так как дорога
286
уже в первый год дала дивиденд в 8%, а со
следующего года этот дивиденд еще
увеличился; кроме того, постройка этой до¬
роги совершенно изменила положение
линии Москва — Рязань, на которой стал
получаться дивиденд в 12%. Эти обстоятель¬
ства, обнаружившиеся после 1866 г., разла¬
комили аппетит русских предпринимателей
и поправили шансы русского железнодорож¬
ного строительства и за границей. Искате¬
лями концессий стали являться даже
высокопоставленные лица, или имеющие
связи среди них, и даже многие земства.
Предположения Рейтерна в это время
были проверены в Особом комитете под
председательством члена Государственного
совета Чевкина, между прочим, при участии
Н. А. Милютина, причем решено было, что
дальнейшая постройка железных дорог есть
жизненный вопрос для России. Милютин
указывал, что в ближайшие десять лет
(1865—1875) нужно построить не меньше
пяти тысяч верст железных дорог. На деле
оказалось, что этот расчет Милютина, ка¬
завшийся многим в 1865 г.
оптимистическим, был далеко превзойден,
потому что после начавшейся кон¬
цессионной горячки в виду выгодности Ря-
зано-Козловской линии, после того, как все
бросились на сооружение железных дорог,
между 1865 и 1875 гг. было построено не 5
тыс. верст, а больше 12 тыс. верст, и к 1875
г. в России оказалась железнодорожная сеть
протяжением около 17 тыс. верст — сеть,
которая соединила наиболее плодородные
местности с портами, с районом добычи
каменного угля в Донской области и давала
возможность широкого экспорта внутренних
произведений страны за границу.
Таким образом, можно сказать, что пла¬
ны железнодорожного строительства в конце
концов широко реализовались, но если бы
обратиться к вопросу о том, во что это
обошлось казне и стране и насколько это
дело было сделано сколько-нибудь со¬
вестливо, то в этом отношении надо сказать,
что не только стоимость сооружения дорог в
общем была чрезмерно велика и огромные
капиталы были положены в карманы «грюн-
деров», но было много и других вопиющих
злоупотреблений, причем замешанными в
них оказались многие высокопоставленные
лица.
Особенно странным является эпизод с
продажей Николаевской железной дороги
«Главному обществу». Из моего рассказа вы
видели, что такое представляло из себя это
«Главное общество», как оно вело свои де¬
ла,— и оно-то явилось покупщиком Никола¬
евской железной дороги у казны. Дело в том,
что когда Рейтерн еще считал особенно важ¬
ным поощрять частное строительство и когда
оказалось, что по многим дорогам пришлось
приплачивать в силу данной казною га¬
рантии, когда правительству приходилось
искать для этого денег, то Рейтерн решил,
что делать это невыгодно при помощи зай¬
мов, что лучше образовать особый железно¬
дорожный фонд, из которого уже и
уплачивать все такие расходы. Этот фонд
начал составляться при помощи внутренних
займов, но затем Рейтерн стал говорить, что,
в сущности, очень бессмыслен такой поря¬
док, когда, с одной стороны, мы будем де¬
ржать бездоходные или малодоходные
государственные имущества,— каковым
оказалась, вследствие своей чрезмерной
стоимости, Николаевская дорога,— а с дру¬
гой, делать займы для развития железнодо¬
рожной сети, что гораздо лучше продать
такие имущества (т. е. Николаевскую доро¬
гу) и образовать на эти деньги нужный
железнодорожный фонд. Это, так сказать,
еще понятные соображения, но затем дело
пошло совершенно непонятным путем. Же¬
лающим купить Николаевскую железную
дорогу явилось весьма солидное общество
московских капиталистов, представителем
котрррго был А. И. Кошелев, известный тог¬
да правительству как солидный человек, на
которого можно, казалось бы, было
положиться, и тем не менее, несмотря на то
что и условия этого общества были очень
сравнительно выгодны, дорога была продана
«Главному обществу», которое начало свою
карьеру с мошенничеств, затем заставило
поплатиться казну уплатой огромной га¬
рантии, вела свои дела плохо и имело гро¬
мадный долг правительству же. По
объяснению некоторых лиц, в данном случае
— независимо от злоупотреблений, которые
тут могли быть,— продажа дороги именно
«Главному обществу» мотивировалась имен¬
но тем, что правительство желало ему
помочь расплатиться со своими кредито¬
рами, т. е. прежде всего с казною же.
Правительство будто бы этим путем да¬
вало возможность своему же должнику с
собой расплатиться •— расчет, во всяком
случае, довольно исключительный!
Таким образом, совершилась постройка
железнодорожной сети, которая явилась мо¬
гущественным фактором будущего развития
капиталистического строя в России.
287
Что касается в остальном финансовой
политики и планов Рейтерна, то наряду с
постройкой железных дорог он много усилий
положил на создание и расширение частного
кредита. Надо сказать, что в дореформенное
время и в первые годы пореформенного
периода в России организованного частного
кредита почти не было. Многие из тех опе¬
раций, которые производятся теперь повсед¬
невно частными и государственным
банками, чрезвычайно облегчая торговый
внутренний и международный обмен, тогда
почти не производились или осуществлялись
с большим трудом — вплоть До того момен¬
та, когда Государственный банк получил в
1860 г. возможность производить некоторые
коммерческие операции. Рейтерн, не доволь¬
ствуясь реформой Государственного банка,
произведенной до вступления его в долж¬
ность министра, решил, что надо поощрять
учреждение частных банков. Вопрос этот
сильно занимал в то время и периодическую
печать и ученые общества; был выработан
ряд уставов; нашлись подходящие
предприниматели-капиталисты и при
бильном содействии Министерства фина¬
нсов вскоре был образован целый ряд
обществ для разнообразного частного
кредита. Рейтерн заботился и о банках дол¬
госрочного кредита, интересовался также
вопросом и об общем поземельном кредите,
но здесь он действовал гораздо более робко,
так как ему не без основания казалось, что
ввиду постоянного колебания цен на землю
это дело при слабости правительственного
надзора будет чревато различными злоупот¬
реблениями.
Непосредственной задачей Рейтерна в
области государственного хозяйства, в узком
смысле этого слова, являлось все это время
борьба с дефицитами и упорядочение госу¬
дарственного бюджета. Бюджет наш рос в
это время гораздо меньше, чем можно было
ожвдать согласно перспективам, рисо¬
вавшимся во время эпохи реформ. В начале
управления Рейтерна он был равен лишь 350
мЛн.руб., и к концу его управления, к 1878
г., т. е. через 15 лет, он возрос только до 600
млн. руб. (кредитных). И надо сказать, что,
несмотря на такой умеренный рост бюджета,
несмотря на постоянную экономию в расхо¬
дах отдельных ведомств, которая чрезвычай¬
но задерживала даже реорганизацию армии,
признанную совершенно необходимо# после
Крымской войны, все-таки каждый год за¬
ключался с дефицитом, и Рейтерну
приходилось вести постоянную борьбу с
отдельными министрами, чтобы уменьшить
эти дефициты.
Только к 1873—1874 гг. удалось Рейтер¬
ну этот дефицит сперва свести к нулю, а
затем в 1875 г. добиться и превышения
доходов над расходами и начать накопление
свободной наличности государственного каз¬
начейства, которое он считал необходимым
для перехода к металлическому обращению.
В конце концов мечты его, однако же, не
реализовались, гак как этому помешала на¬
чавшаяся в 1877 г. война, как раз в тот
момент, когда он подготовил, казалось ему,
возможность перехода к металлическому
обращению.
Те же могущественные побуждения, ко¬
торые заставляли правительство — не толь¬
ко в эпоху реформ, но и в последующие годы
— идти навстречу назревшему капитализму,
подготовлять и поощрять его развитие и
процветание, заставили правительство со¬
вершить, в этот реакционный по существу
период, несколько новых преобразований,
связанных по внутреннему своему значению
с эпохой реформ.
В этом отношении очень поучительно,
что министр финансов Рейтерн, с деятель¬
ностью которого я только что вас позна¬
комил, министр, вовсе, разумеется, не
разделявший многих идейных стремлений
прогрессивной части русского общества и
особенно его передовых представителей, вы¬
нужден был, однако, уже в 1866 г., в том же
самом году, когда Каракозов стрелял в импе¬
ратора Александра, вступить в упорную
борьбу с наиболее реакционными своими
коллегами в Комитете министров и прежде
всего с шефом жандармов графом Шувало¬
вым, причем борьба эта едва не стоила ему
места... В одной из своих посмертных
записок, изданных его наследниками лишь
в 1910 г. в виде приложений к его
биографии, составленной А. Н. Ку-
ломзиным, Рейтерн прямо говорит следую¬
щее: «В 1866 г., после каракозовского
покушения, вступления графа Шувалова в
министерство, удаления Головнина от
Министерства народного просвещения, на
меня началась травля то с той, то с другой
стороны, но все по наущению Шувалова. С
ним тогда сблизился Валуев, и они повели
кампанию псевдолиберализма, т. е. желали
произвести на публику впечатление либе¬
рализма, не уступая нисколько без¬
граничной власти. Прилагаемая записка
положила конец нападкам на меня...»
288
Едва ли можно согласиться с таким
названием политики Шувалова — Валуева
«псевдолиберализмом» — на самом деле это
была несомненная реакционная политика,
лишь чуть-чуть прикрывавшаяся иногда
либеральными фразами, но дело не в этом,
а в самой задтиске, которая была представ¬
лена Рейтерном на этот счет государю (16
сентября 1866 г.) и о которой автор ее
говорит, что она положила конец нападкам
на него,— настолько убедительно она подей¬
ствовала своим содержанием на императора
Александра. Поэтому записка эта имеет
весьма значительную для нас важность для
характеристики тогдашнего настроения
правительства и для понимания того обсто¬
ятельства, что при крайне реакционном на¬
строении возможно было и почти
немедленное продолжение некоторых преоб¬
разований, которые не успели осу¬
ществиться в эпоху реформ. В записке этой
Рейтерн писал:
«Ваше Императорское Величество воз¬
ложили на меня обязанность представить на
Ваше усмотрение о настоящих финансовых
затруднениях и о тех мерах, которые должны
быть приняты к улучшению финансового и
экономического положения государства».
«Финансовое и экономическое поло¬
жение государства есть факт сложный:
корни его кроются не в одних мерах
фискальных и условиях чисто эко¬
номических, но и в явлениях общего госу¬
дарственного и народного развития. Если, с
одной стороны, несомненно, что недостаток
бережливости, дурная администрация и не¬
верно рассчитанные и стеснительные
фискальные меры должны расстроить фина¬
нсы и затем экономическое положение госу¬
дарства, то, с другой стороны, верно и то,
что в известные эпохи государственного
развития финансовые затруднения являются
неизбежным последствием обстоятельств,
как бы симптомом процесса, происходящего
внутри социального организма».
Дальше Рейтерн анализировал поло¬
жение, в котором Россия оказалась в начале
царствования императора Александра,
после Крымской войны,— это опять-таки
весьма характерно именно в записке, писан¬
ной министром финансов в то время.
«Из Крымской войны,— писал Рей¬
терн,— Россия вышла утомленной
исполинскою борьбою, с истощенными
финансами и денежным обращением, глав¬
ное основание которого нарушено выпуском
400 млн. кредитных билетов. Нравственный
10 Зак. 271
авторитет цравительства поколебался; война
выказала многие недостатки нашей
администрации, как военной, так и граж¬
данской; она поколебала то первенствующее
положение, которое Россия занимала в Ев¬
ропе со времени венских трактатов; пос¬
ледствием этого было за границею —
уменьшение нашего авторитета, а внутри
империи — недоверие к силе и способности
правительства».
Вы видите, с хакой определенностью
Рейтерн формулирует свое мнение:
«Если бы,— продолжает он далее,—
правительство после Крымской войны и
пожелало бы возвратиться к традициям пос¬
ледних сорока лет, т. е. к неуклонному
противодействию стремлениям новейших
времен, оно встретило бы непреодолимые
препятствия если не в открытом, то, по
крайней мере, в пассивном противо¬
действии, которое со временем могло бы
даже поколебать преданность народа,—
широкое основание, на котором зиждется в
России монархическое начало. Ваше Импе¬
раторское Величество, для счастья России,
избрали другой путь. История всех народов
доказывает, что революции могут быть пре¬
дупреждены только благовременными
реформами, дарующими народу мирным
путем то, чего он сам ищет в революциях,
т. е. устранение обветшалых форм и уко¬
ренившихся злоупотреблений. Реформы, ко¬
торые обессмертят царствование Вашего
Императорского Величества, не коснулись
одной только поверхности общественного ус¬
тройства, как большая часть реформ,
принимаемых самими правительствами.
Смело и последовательно обратились к кор¬
ню зла, и положено правильное основание
здания гражданского устройства. Миллионы
народа призваны к гражданственности, не
отрывая их от земли; официально терпимая
и даже поощряемая система подкупности
администрации пала с откупами, и теперь
только дана возможность честной
администрации; великий принцип отде¬
ления суда от администрации строго прове¬
ден в началах судебного преобразования,—
без него не может развиться в подданных
чувство законности. И, наконец, в области
местных земских хозяйственных интересов
положено начало самоуправления».
«Эти реформы и многие другие уже в
настоящее время, т. е. в самом, так сказать,
начале своего существования, глубоко
изменили Россию и, смею думать, к лучше¬
му, но они еще не успели вполне приняться
и вызвали или, по крайней мере, обна¬
ружили в умах направления крайние и
прискорбные... Одним словом, реформы так
обширны, так сильно коснулись глубины
нашего государственного устройства и обще¬
ственной жизни, что много еще времени,
много трудов, много жертв потребуется,
прежде чем Россия выйдет из переходного
состояния и твердо установится на новых,
разумных основаниях. Тогда только эко¬
номическое развитие найдет себе прочное
основание, восстановится доверие и кредит
и будет найдена надежная почва для фина¬
нсов, которой теперь не существует...»
Таковы были определенные положения
министра финансов, который прямо связы¬
вал все преобразования — только что совер¬
шенные и те, которых не успели еще
произвести,— с финансовым благополучием
государства. Разумеется, это были наиболее
существенные аргументы в защиту дела
реформ, которые в ту минуту могли подей¬
ствовать на императора Александра.
В самом конце этой своей обширной
записки, после изложения главных осно¬
ваний своей собственной финансовой
политики и тех своих финансовых планов,
о которых я говорил только что, Рейтерн
писал:
«При таком образе действий можно на¬
деяться, что в течение немногих лет эко¬
номические силы России окрепнут;
преобразования, составляющие славу царст¬
вования Вашего Императорского Величест¬
ва, не будут в развитии своем остановлены
по недостатку средств, а, напротив, дадут
обильные плоды, и, наконец, Россия из пере¬
ходного и тревожного времени, естественно
и неизбежно следующего за переворотами в
гражданском и хозяйственном устройстве,
выйдет более сильною и богатою, чем когда-
либо».
Эта записка, несмотря на реакционное
настроение самого Александра, сильно под¬
держивавшееся в нем Шуваловым и другими
окружавшими его в это время реакционе¬
рами, принята была им благосклонно и не
только, как пишет Рейтерн в позднейшем
примечании к ней, положила конец напад¬
кам реакционеров лично на него, но и дала
ему возможность развивать ту, в сущности,
прогрессивную для того момента финансо¬
вую политику, которая так не соответствова¬
ла всему реакционному настроению
правительства.
Из тех же побуждений были приняты и
приведены в исполнение и некоторые такие
преобразования, которые не успели осу¬
ществиться в эпоху реформ. Это были: го¬
родская реформа, начало которой связано с
некоторыми преобразованиями, затеянными
в Министерстве внутренних дел еще в 40-х
годах, а затем целый ряд весьма крупных
преобразований в сфере военного ведомства,
необходимость которых особенно ярко дока¬
зывалась неудачной Крымской войной и ко¬
торые задержаны были в своем
осуществлении главным образом плохим со¬
стоянием финансов, потому что эти преоб¬
разования в военном ведомстве, в
особенности реорганизация армии, требо¬
вали прежде всего довольно значительных
средств, которых как раз не было.
ЛЕКЦИЯ XXX
Выработка нового городового положения.— Прежнее устройство наших городов по закону и на деле.—
Работы 40-х годов.— Ход работ по составлению Положения 1870 г.— Содержание и критика этого
Положения.— Вопрос о реорганизации армии.— Реформы Д. А. Милютина.— Отмена рекрутчины и
Устав о всеобщей воинской повинности 1874 г.— Общекультурное и просветительное значение преобра-
* зований в военном ведомстве Д. А. Милютина.
В своем курсе (двух первых его частях)
я о городской реформе и вообще о развитии
городов в дореформенное время до сих пор
ничего не говорил, потому что, в сущности
говоря, и сказать было нечего. Дело в том,
что городская жизнь, состояние городского
хозяйства, экономическое положение горо¬
дов в течение не только первой половины
XIX в., но, в сущности, до 60-х годов
включительно оставались, можно сказать,
почти без изменения, так что и то устройство
городского самоуправления, которое было
дано Екатериной, не только не развивалось,
но,' как вы сейчас увидите, в сущности
говоря, замерло и пришло в значительный
упадок. Чтобы вам ясно представить картину
городов и городской жизни в начале XIX в.,
я приведу несколько статистических дан¬
ных, собранных по официальным
источникам в одной из статей лучшего зна-
290
тока дореформенного и пореформенного го¬
родского хозяйства профессора Дитятина.
Эти статистические данные собирались в
течение XIX в. три раза: именно, Министер¬
ство внутренних дел собирало их в 1825 г.,
потом они были собраны в 1852 г. и, нако¬
нец, в 1867 г. И замечательно, что во все эти
три срока данные эти давали почти ту же,
без перемены, картину затхлой, не¬
подвижной и как бы остановившейся в своем
развитии городской жизни.
По статистическим таблицам, состав¬
ленным в 1825 г., оказывается, что из 42
губернских городов,— в том числе и городов,
бывших отдельными единицами, равными в
административном отношении губерниям,
как Одесса,— только в двух, Одессе и
Вильне (и надо заметить, что оба эти города
были окраинными, почти нерусскими), ка¬
менные постройки преобладали над деревян¬
ными — в Одессе, собственно, потому, что
камень там гораздо дешевле дерева. В Петер¬
бурге в это время деревянных построек было
в два раза, а в Москве в два с половиной раза
больше, чем каменных. В остальных гу¬
бернских городах отношение было гораздо
хуже: один к пяти — в одном городе, один к
семи — в двух, к восьми — в трех, к десяти
— в двух, и, наконец, в Самаре на одну
каменную постройку приходилось 784 дере¬
вянных! Вот каково было положение в этом
отношении.
Почти через тридцать лет, в 1852 г.,
когда появились новые статистические дан¬
ные, они давали ту же картину, и почти ту
же картину повторяют в этом отношении и
данные 1867 г. И в законодательстве остался
резкий след этого положения именно в XII
томе свода законов, где помещен строитель¬
ный устав, указано, что в целом ряде городов
допускается, в виде исключения, крыть дома
соломой с раствором глины и навоза, и это
настолько являлось потребностью, что целый
ряд губернских начальств хлопотал о расп¬
ространении этого разрешения и на их горо¬
да!
Вот какова была бедность и некультур¬
ность городских поселений в это время.
Однако городам в России, как вы знаете,
Екатериной еще в 1785 г. было даровано
самоуправление, и самоуправление как буд¬
то даже довольно широкое. Все городские
сословия, которых тогда считалось шесть,
были допущены к выборам; они выбирали
общую думу и затем эта общая дума должна
была выбирать свой исполнительный орган
— шестигласную думу, где опять-таки было
О*
представлено каждое из сословий. Эта
шестигласная дума и должна была заведо¬
вать городским хозяйством. Таково было
положение дел по закону. На деле, как вы
увидите, оказалось иное.
Вы помните, что Павел Петрович зро
положение Екатерины отменил прежде, чем
оно успело войти в жизнь; он находил,г—
независимо от того, что он все отменял, что
делала его мать,— что эта грамота городам,
говорящая о вольностях и правах городских
жителей, особенно противоречит самодер¬
жавному строю, руководителем которого он
желал быть. Правда, как только миновало
бурное и нелепое правление Павла Пет¬
ровича, Александр I восстановил полностью
жалованную грамоту Екатерины. Таким
образом, по закону, самоуправление восста¬
новилось с самого же начала XIX в., но
отсюда было бы ошибочно сделать заклю¬
чение, что оно восстановилось или когда-
либо существовало на самом деле. Из
исследований Министерства внутренних дел
мы видим, что не только в захолустных
городах, где и по своду законов полагалось
упрощенное управление, но даже и в гу¬
бернских городах, даже в столицах го¬
родские учреждения существовали только на
бумаге. Мы видим, что и в Петербурге, и в
Москве не существовало некоторых учреж¬
дений, указанных в законе, как, например,
городского депутатского собрания, которое
должно было вести особые книги учета горо¬
жан, пользовавшихся избирательными пра¬
вами, и которое могло бы регулировать
правильное участие избирателей в выбо¬
рах,— этих депутатских собраний не было
и никаких книг не велось, так что даже
трудно представить себе, как производились
выборы, и можно думать, что когда они
бывали,— а они бывали, во всяком случае,
для избрания городского головы, который
избирался теми же избирателями, которые
должны были выбирать и общую думу,—
можно думать, что они производились совер¬
шенно произвольно, случайно приходящими
лицами, прав которых никто не проверят.
Затем, есть довольно определенные све¬
дения, что из избирателей, которые должны
были пользоваться своими избирательными
правами, участвовала максимум /ю, а чаще
/20 часть. По сословиям процент участво¬
вавших в выборах разнился, и профессор
Дитятин указывает, что в Москве в 40-х
годах в выборах городского головы из мевдан-
избирателей обычно участвовало от г/г % до
Ую %,— настолько слабо было исполн>зо-
291
вание ими своих прав. Но этим дело не
ограничивалось. Ревизия городского самоуп¬
равления, которая была предпринята
Министерством внутренних дел в 40-х годах,
показала, что не только так плохо были
поставлены выборы городских голов, но что,
в сущности говоря, с общими думами дело
обстояло еще хуже: они на практике почти
нигде не существовали, а часто и совсем не
выбирались; так, например, даже в Москве
с начала XIX в. общая дума фактически не
существовала.
Таким образом, можно думать, что го¬
родские обыватели сами отказались от поль¬
зования теми правами, которые им были
предоставлены по закону. Наряду с этим, так
как кое-какое городское хозяйство все же
существовало, хотя и при невероятно плохом
ее ведении, то взамен учреждений, установ¬
ленных законом, возникали, как открыла
ревизия, самочинные учреждения, которые
существовали годами, которым
администрация, вовсе .с ними не цере¬
монившаяся, а пользовавшаяся ими как
своими канцеляриями и своими второсте¬
пенными органами, нисколько не препятст¬
вовала существовать. Учреждения же эти
должны были не облагать жителей налогами,
а выпрашивать подаяние на поддержание
убргого благоустройства у богатых людей.
Эти самочинные учреждения возникали в
самых разнообразных видах; так, например,
ревизовавшие чиновники в городе Крестцах
открыли в 40-х годах особое «городских дел
учреждение». В самой Москве существовал
какой-то непредусмотренный законами «дом
московского городского общества» — не
просто дом, а учреждение, заменявшее
общую думу, неведомо как составлявшееся и
являвшееся самой захудалой заурядной кан¬
целярией, в совершенно покорном повино¬
вении у московской полиции, при которой
оно могло заменять то якобы самоуправ¬
ление, которое должно было существовать по
закону!
Вот до какой степени расходилась
действительность с теми громкими фразами,
которые входили в екатерининское законо¬
дательство, долженствовавшее обеспечивать
свободу и права горожан, а в действитель¬
ности сводившееся к полному запустению.
Объяснение этому, я думаю, можно
прежде всего найти в том, что общий строй
отношений власти к подданным и вобще
строй всего государства был таков, что та
всемогущая опека, которая проявлялась со
стороны представителей власти, т. е.
полиции, совершенно уничтожила охоту
принимать участие в мнимом самоуправ¬
лении у людей сколько-нибудь самостоя¬
тельных. Еще большее значение имело то
обстоятельство, что по екатерининскому за¬
конодательству этому самоуправлению не
было предоставлено никакого права самооб¬
ложения, а, разумеется, без него какое же
может быть самоуправление? Было сказано,
что эти учреждения должны будут за¬
ботиться о собирании средств, но это
значило только, что они могут собирать
пожертвования и на них мостить улицы и
ставить фонари, если денег хватит. Понятно,
что к этому никакого вкуса у наиболее
развитых обывателей не было, и поэтому это
самоуправление и должно было захиреть и
заглохнуть.
И вот, когда в 40-х годах, еще при
крепостном строе, появились некоторые
симптомы развития экономической жизни в
России и когда правительство начало до
некоторой степени поощрять развитие
капиталистического хозяйства и производст¬
ва, то оно несколько встревожилось таким
плачевным состоянием городов, и в составе
Министерства внутренних дел, во главе ко¬
торого стоял довольно просвещенный чело¬
век — Л. А. Перовский, нашелся тогда
очень молодой и талантливый человек,
служивший начальником отделения хозяй¬
ственного департамента, человек, о котором
я уже много раз упоминал,— Н. А.
Милютин. Он отыскал «дело» о положении
городов, начатое в 1825 г., и благодаря его
энергии, а также его личным связям в тог¬
дашнем интеллигентном обществе к этому
делу были привлечены такие незаурядные
люди, как Ю. Самарин, Ив. Аксаков и др.;
они поехали по разным городам России
прежде всего для того, чтобы собрать све¬
дения о положении городского хозяйства и
его потребностях в разных местностях и тем
дать материал министерству для разработки
нового городового положения. Энергия
Милютина пошла так далеко, что если и не
было выработано нового городового поло¬
жения для всех городов русских, то ему
удалось все же выработать новое городовое
положение для Петербурга, что уже было
фактом весьма исключительным, так как вы
помните, что 40-е годы в царствование Нико¬
лая Павловича были ведь совершенно
реакционной эпохой. Но именно благодаря
тому, что со стороны несчастного городского
представительства правительство не привы¬
кло и не могло опасаться никаких волнений
292
и беспокойств, сам Николай Павлович поз¬
волил Министерству внутренних дел довести
это дело до конца, и вот для Петербурга было
выработано совершенно необычное поло¬
жение, которое прошло через Государствен¬
ный совет и было утверждено императором.
По этому положению восстановлена бы¬
ла несуществовавшая в действительности
общая городская дума. Милютин, будучи в
это время человеком совершенно неопыт¬
ным, не имея никаких образцов самоуправ¬
ления в действительной русской жизни, но
искренно желая его обновить, объяснял себе
запущенность городских дел некультурно¬
стью тех слоев населения, которым это дело
было вверено, и поэтому он поставил на
первый план задачу влить в состав городско¬
го самоуправления наиболее культурные и
просвещенные силы страны; и так как таким
наиболее культурным слоем тогда было дво¬
рянское сословие, то он и захотел привлечь
к этому делу тех из дворян, которые жили в
городах. Поэтому он вместо прежнего де¬
ления на шесть весьма схоластически
сформированных сословий установил новое
деление на пять городских сословий, причем
первым из этих сословий были потомствен¬
ные дворяне, имевшие в городах какое-
нибудь недвижимое имущество или
чем-либо прикосновенные к хозяйственной
городской жизни; затем шло второе сословие
— личные дворяне и разночинцы, т. е. глав¬
ным образом чиновники, затем — сословие
купцов, сословие мещан и сословие цеховых
ремесленников, не принадлежащих к меща¬
нам. Представителей этих пяти сословий
Милютин ввел в состав городского общества,
надеясь особенно на дворян. Сословия эти
должны были выбирать всесословную думу,
причем замечательны размеры этой думы:
было предоставлено каждому сословию пра¬
во выбирать от 100 до 150 представителей;
таким образом, общие размеры этой думы
были довольно величественны (более 500
человек), и всего удивительнее, что именно
в таких размерах Николай Павлович до¬
пустил это городское представительство.
Эта дума должна была выбирать особую
«распорядительную», в сущности,
исполнительную, думу, которая должна бы¬
ла на практике вести все хозяйство. Во главе
думы по-прежнему поставлен был городской
голова, который опять-таки избирался всеми
сословиями. В сущности говоря, вы видите,
что фактически это новое положение не
представляло собой ничего особенно нового
в сравнении с екатерининским законода¬
тельством, а скорее это была доброжелатель¬
ная, но неудачная попытка восстановить или
установить на деле то, что ранее было дано
по закону, и хотя, конечно, из дворян,
живших в столице, можно было бы привлечь
и довольно просвещенных лиц, в общем они
оказались достаточно равнодушными к это¬
му делу; дума, правда, собиралась теперь,
выбирала распорядительную думу, но, не
имея должной самостоятельности и, в осо¬
бенности не пользуясь правом самообло¬
жения, которое не было дано и на этот раз,
это городское самоуправление было обречено
на полный неуспех. Тем не менее мы видим,
что когда наступают новые веяния, когда
стало чувствоваться движение вперед,
правительство начинает пугаться и этого
самоуправления. Именно петербургского ге¬
нерал-губернатора Игнатьева уже при Алек¬
сандре И, в конце 50-х годов, пугают
размеры думы, которые установил Милютин
в 1846 г. Эти размеры наталкивали власти в
конце 50-х годов на тревожные мысли и на
воспоминания о 48 годе, когда почти везде в
больших европейских центрах общественное
движение исходило от больших городских
дум. Сходство, конечно, здесь было только
внешнее, но оно настолько встревожило
правительство, что состав и порядок выборов
в городскую думу были пересмотрены в Го¬
сударственном совете; размеры думы были
уменьшены до 250 человек, и затем самый
порядок избрания гласных был установлен
двухстепенный, а не прямой, при помощи
особых собраний выборщиков, даваемых
сословными куриями.
В таком положении было дело, когда
остальные города Российской империи,
движимые общим либеральным движением,
общим сознанием всего русского общества
необходимости проявления известной само¬
стоятельности, желая вырваться из
административной опеки после Крымской
войны, стали в конце 50-х и начале 60-х
годов просить о распространении на них
петербургского положения, которое они, ко¬
нечно, довольно плохо знали и понимали, но
которое казалось им многообещающим.
Правительство и распространило это поло¬
жение в 1863 г. на Москву и Одессу. Сверх
того, когда правительство увидело, что такие
ходатайства продолжают поступать, притом
не только со стороны городов, но даже и от
многих дворянских провинциальных
обществ, то это на него подействовало, ибо в
то время в правительстве преобладало еще
прогрессивное настроение, и тоща же реше-
293
но было выработать новое городское поло¬
жение: 20 июля 1862 г. последовало высо¬
чайшее повеление о том, чтобы
безотлагательно приступить к выработке но¬
вого городового положения для всех городов
в России.
Министр внутренних дел, которым тогда
уже был Валуев, тотчас же издал циркуляр
губернаторам, которым предлагал учредить
особые комиссии для обсуждения и выяс¬
нения этого вопроса. Таким образом,
правительство предоставило в этом случае
самим представителям общества довольно
широкое участие в первоначальном обсуж¬
дении этого дела, и мы видим, что таких
местных комиссий было образовано целых
509; все они представили свои соображения,
свои пожелания, которые, в сущности гово¬
ря, не основывались ни на каком опыте,
свидетельствовали в большинстве случаев о
плохом представлении членов этих
комиссий относительно возможных форм го¬
родского самоуправления, но были одушев¬
лены либеральными стремлениями, причем
в них правильно указывалось на связь суще¬
ствующего строя и его всепроникающего
административного попечения $ тогдашним
печальным положением городского хозяйст¬
ва; однако дальше общих мест эти поло¬
жения не шли и в них не было даже
определенного требования, чтобы прежде
всего городское самоуправление пользова¬
лось правом самообложения, без которого на
деле ничего не могло выйти.
Когда Министерство внутренних дел по¬
лучило все эти работы, оно сделало из них
сводку и на основании этой сводки и общих
теоретических данных и сведений об устрой¬
стве городского самоуправления на западе
выработало общий проект, который был го¬
тов в 1864 г. Этот проект поступил на заклю¬
чение барона Корфа, тогдашнего
главноуправляющего кодификационным
отделом, который сообщил на него несколько
более или менее дельных замечаний, с кото¬
рыми проект этот и был внесен в Государст-
f* венный совет ЗЙ гма^|1866 г. Но через
несколько дней —4 апреля — последовал
выстрел Каракозова, который, как мы
вцдели, внес в умы необыкновенное сму¬
щение и дал опору реакции, утвердившейся
в это время. Государственный совет, сму¬
щенный новым правительственным настро¬
ением, оставил дело без рассмотрения, и оно
пролежало так вплоть до 1868 г., т. е. целых
два года, а затем, когда оно было наконец
поставлено на обсуждение Совета, то
министром внутренних дел был уже Тима-
шев, настроенный более реакционно, чем
Валуев. Государственный совет вернул ему
для ознакомления проект его предшест¬
венника. Тимашев продержал у себя этот
проект около года, и в 1869 г. внес его опять
в Государственный совет без существенных
изменений. Тогда Государственный совет,
приступив к его рассмотрению по существу,
нашел, что этот проект был составлен в
Министерстве внутренних дел без участия
представителей городских обществ, и,
придравшись к этому, постановил, что
Министерство внутренних дел должно
пригласить к его обсуждению представите¬
лей этих обществ. Были приглашены шесть
провинциальных городских голов и два
столичных, и при их участии проект был
снова рассмотрен. Можно думать, однако,
что едва ли это участие представителей
общества поправило в данном случае проект
к лучшему, ибо именно в этой комиссии
было заявлено о том, что опасно без оговорок
вводить всесословное, хотя бы и цензовое,
избирательное право, и так как по министер¬
скому проекту предполагалось ввести в сос¬
тав избирателей всех плательщиков каких
бы то ни было городских налогов, то в этой
комиссии было указано, что, может быть,
этот мелкий демократический элемент своею
численностью подавит более зажиточные
слои, и тут-то было введено чрезвычайно
вредное новшество, заимствованное из
Пруссии, которое, несомненно, испортило
проект и исказило городское самоуправ¬
ление. Это была так называемая прусская
классовая система, которая заключалась в
том, что предложено было всех пла¬
тельщиков налога разделить на три класса,
из которых каждый должен был составить
особую курию. Разделение это должно было
быть сделано соответственно размеру
платимых избирателями податей: должны
были составляться в нисходящем порядке
списки всех плательщиков городских нало¬
гов, причем по этим спискам сперва должны
были отсчитываться лица, платящие высшие
налоги, пока, таким образом, не составля¬
лась одна треть суммы всех налогов; эти
лица и составляли первую курию. Эту пер¬
вую треть налогов уплачивали в городах
очень немногие крупные плательщики, и
первая курия должна была, таким образом,
составляться из нескольких десятков лиц.
Затем плательщики, платившие следующую
треть городских налогов, составляли вторую
курию — их могло быть несколько сотен, и,
294
наконец, все остальные плательщики, уп¬
лачивавшие последнюю треть,— а их,
очевидно, были в значительных городах уже
тысячи,— составляли третью курию, и каж¬
дая курия должна была выбирать равное
число гласных. Таким образом, одна треть
состава городской думы ставилась в
зависимость от выбора нескольких десятков
богатых людей, другая — от выбора некото¬
рой группы лиц среднесостоятельных и
только одна треть отдавалась на долю мно¬
голюдной городской цензовой мелкоты.
Вот на каких в конце концов основаниях
был выработан новый проект, который был
затем внесен в Государственный совет, здесь
был обсужден, опять-таки при участии двух
столичных городских голов, и наконец 18
июня 1870 г. получил силу закона.
Один существенный недостаток Поло¬
жения 1870 г. заключался, таким образом,
именно в том, что искажено было начало
всесословного участия населения в выборах
в городскую думу. Другим принципиально
не менее важным требованием, которое вы¬
ставлялось с самого начала участниками
реформы наряду с принципом всесослов-
ностЫу было требование самостоятельности
городского самоуправления. Действительно,
ведь без самостоятельности всякое самоуп¬
равление превращается в фикцию; всякое
самоуправление, подчиненное полицейской
власти, является, в сущности, системой вы¬
борных должностных лиц, как бы поставля¬
емых населением на службу
администрации. Надо сказать, что в данном
случае составители городового положения
стремились к тому, чтобы сделать городские
думы самостоятельными; они не были
подчинены местной администрации, а пря¬
мо Сенату, губернаторам же предоставлено
было по закону только смотреть за законно¬
стью постановлений городских дум, так что
с этой формальной точки зрения как будто
бы эти новые городские учреждения были
самостоятельными. Но несомненно, что
действительная самостоятельность органов
самоуправления всегда тесно связана еще с
правом самообложения, последствия
отсутствия которого мы и видели на истории
нашего городского екатерининского самоуп¬
равления.
По Положению 1870 г., городские думы
формально были наделены правом самооб¬
ложения, но надо сказать, что именно в этой
сфере права их были чрезвычайно ограниче¬
ны. Именно, им предоставлены были не все
источники городского обложения в их рас¬
поряжение, а только определенные, весьма
строго нормированные источники, в самом
законе перечисленные. Этими источниками
являлись прежде всего недвижимые имуще¬
ства, дома, которые могли облагаться по
закону не выше 1% со стоимости?—
стоимости, определяемой самими же глас¬
ными думы, из которых большинство, несом¬
ненно, являлось заинтересованными в том,
чтобы преуменьшить эту стоимость, особен¬
но крупных зданий, так как они сами же и
были часто их владельцами. Затем, другой
источник городских доходов составляла тор¬
говля и промышленность, т. е. те торговые
свидетельства, те патенты на торговлю и те
торговые документы, которые облагались
определенным сбором в казну, причем сго-
родские думы могли облагать эти свидетель¬
ства и торговые документы опять-таки не
свыше известного процента того обложения,
которое налагалось на них казной.
Таким образом, независимо от скудости
средств, которые давались в распоряжение
городского управления, это отражалось и на
самостоятельности его, потому что какое
же это право самообложения, если оно так
строго нормировано законом и не дает воз¬
можности сообразоваться с нуждами город¬
ского хозяйства и благоустройства. Но еще
большие стеснения заключались в этом
отношении в том, что все расходы городского
самоуправления на собственные нужды
были чрезвычайно ограничены тем, что на
него был наложен ряд обязанностей, удов¬
летворение которых, в сущности, весьма ма¬
ло относилось к нуждам местного населения,
а представляло казенную повинность, как,
например, содержание в некоторой доле ме¬
стного гражданского управления, содер¬
жание городской полиции и т. п. За
удовлетворением этих обязанностей, глав¬
ным образом важных не для населения, а
для правительства, в конце концов при
ограниченности источников доходов в кассе
городского самоуправления оставались весь¬
ма небольшие суммы на удовлетворение всех
прочих культурных нужд городского хозяй¬
ства и благоустройства, в особенности на¬
родного просвещения и медицины. Эти
ограничения были проведены по аналогии с
положением земства ио закону 21 ноября
1866 г., но тут стеснения были еще гораздо
более значительны, чем там.
Наконец, городскому самоуправлению
предоставлено было право издания обяза¬
тельных для жителей постановлений, но,
во-первых, их область была чрезвычайно
295
сужена; постановления эти могли касаться
только вопросов гигиены и благоустройства
в тесном смысле. Затем, самое исполнение
этих постановлений поставлено было в ус¬
ловия довольно проблематичные, ибо город¬
ское самоуправление не имело для
настояния на исполнении населением этих
постановлений никаких средств. Хотя оно и
платило значительные суммы на полицию,
но эта полиция, в сущности говоря, совсем
не считала себя обязанной наблюдать за
исполнением обязательных постановлений
городского самоуправления, так что в конце
концов они оставались обыкновенно мертвой
буквой, пока по новому Положению (1892)
не были поставлены в иные условия, когда
они сделались обязательными постанов¬
лениями не городского самоуправления, а
стали издаваться местными губернаторами
лишь по инициативе городского самоуправ¬
ления,— тогда за их исполнением стала на¬
блюдать подчиненная губернатору полиция.
Таким образом, вы видите, что и самостоя¬
тельность этому городскому самоуправ¬
лению была дана лишь в чрезвычайно
ограниченном размере.
Во главе городского самоуправления по-
прежнему остался городской голова, кото¬
рый явился, с одной стороны, главой
исполнительного органа, управы, где он
председательствовал, а с другой стороны, он
же председательствовал и в думе, и при этом
власть ему была дана столь же обширная,
как и председателям земских собраний, ко¬
торыми были предводители дворянства. В то
же время в отношении поддержания порядка
в заседаниях думы голова не только получил
большую власть по отношению к гласным,
но и сам был поставлен в большую
зависимость и подлежал большой ответст¬
венности перед правительством. Таким
образом, благодаря соединению и
исполнительных функций, и председатель¬
ствования в городской думе в лице головы, в
значительной степени умалялась возмож¬
ность свободного обсуждения и решения дел
в самой городской думе.
Вот те главные недостатки, которые
были допущены в самом законе; как это
самоуправление развилось на практике,
какие оно впоследствии встретило пре¬
пятствия в жизни, мне придется говорить,
когда я поведу свое изложение дальше.
Теперь я обращусь к тем чрезвычайно
важным реформам в военном министерстве,
о которых я уже упоминал.
Вопрос о реорганизации армии, вопрос
о радикальном преобразовании всех средств
обороны страны поставлен был чрезвычайно
серьезно и даже, можно сказать, грозно
после Крымской войны, которая воочию
показала, до какой степени мы в этом отно¬
шении отстали и технически, и во всех
других отношениях от всех цивилизованных
государств и до какой степени, несмотря на
численное могущество империи, слабо пос-°*
тавлено было дело ее обороны. Но те недо¬
статки, которые сказались в Крымской
кампании и которые в первую голову заклю¬
чались в чрезвычайно отсталом и плохом
вооружении, а также в совершенном
отсутствии дорог, которое, в свою очередь,
делало невозможным быстрый и своевремен¬
ный подвоз провианта, военных и боевых
припасов и самих людей,— хотя и были
очевидны, но их исправление требовало
огромных средств, а так как после Крымской
войны наши финансы были как раз чрезвы¬
чайно подорваны, то дело реформы и затя¬
нулось, тем более что военное ведомство
сперва было занято вопросом приведения
армии в мирный состав. Дело в том, что к
1856 г. мы успели вызвать под ружье целых
2200 тыс. человек, на содержание которых
тратились, конечно, огромные суммы. И вот
первой задачей военного ведомства было рас¬
пустить значительную часть этой огромной
махины, и на это ушли первые два года после
войны. Прежде всего было распущено опол¬
чение, причем роспуск его сопряжен был с
массой волнений и затруднений среди опол¬
ченцев, а затем стали приступать и к роспу¬
ску (в виде временного и бессрочного
отпуска) значительной части взятых по на¬
бору нижних чинов; их было распущено до
400 тыс., и в конце концов армия была
сведена к 1 х/г млн. людей. Предполагалось
дальнейшее ее уменьшение, но как раз в
1859 г. в Европе вспыхнули различные меж¬
дународные осложнения, а эти осложнения
задержали роспуск вооруженных сил. Нако¬
нец, в 1862—1863 гг. польское восстание
опять грозило возможностью вмешательства
иностранных держав, и это потребовало да¬
же дополнительной мобилизации войск —
на западной границе было поставлено на
военную ногу целых пять корпусов.
Ко всем этим обстоятельствам, затруд¬
нявшим работу военного министерства и
вместе с тем поглощавшим средства, кото¬
рые могли быть употреблены на самую реор¬
ганизацию армии, присоединилось еще то,
что во главе военного министерства стоял
296
весьма заурядный николаевский генерал Су-
хозанет — человек твердый, но совершенно
негодный для разработки и проведения пре¬
образований. Только в 1861 г. его заменил
Д. А. Милютин, брат Н. А. Милютина, в
лице которого императору Александру нако¬
нец удалось найти среди тогдашних военных
человека, пригодного для проведения рефор¬
мы. Д. А. Милютин был ранее профессором
академии генерального штаба, а затем на¬
чальником штаба кавказской армии, и по¬
лучил, таким образом, и теоретическую и
боевую подготовку, а кроме того, обладал
выдающимися личными дарованиями.
Начал Милютин с того, что прежде всего
старался облегчить службу солдата —
улучшить его положение и, по возможности,
сократить тот срок службы, который тогда
существовал и который делал воинскую
повинность почти пожизненной: срок этот
был 25-летний, причем лица, взятые в сол¬
даты, считались изъятыми из гражданского
состояния до такой степени, что они исклю¬
чались из списков своего состояния, и когда
доживали до отставки, то составляли особое
сословие отставных солдат и должны были
или «избрать род жизни», т. е. записаться
в какое-нибудь податное сословие, или быть
поселенными на каком-нибудь клочке казен¬
ной земли, буде такая находилась в той
местности, где селился отставной нижний
чин, а в случае дряхлости или неспособ¬
ности к труду получали ничтожную пенсию
в 36 руб. в год. Разумеется, такая
организация военной службы составляла
страшное бремя, лежавшее всецело на пле¬
чах податных сословий, потому что неподат¬
ные сословия, а также и купцы были
освобождены от нее. Затем, при тяжести
тогдашней солдатской службы, которая сос¬
тавляла настоящую каторгу, всеобщее соз¬
нание было таково, что быть сданным в
солдаты или, как тогда выражались, «быть
забритым» или «попасть под красную шап¬
ку», считалось самым тяжелым видом уго¬
ловного наказания даже для крепостных
крестьян, и сдачи в солдаты все боялись как
огня. Это обстоятельство, не говоря уж о
самой тяжести солдатской службы, делало
положение солдата и чрезвычайно
приниженным, так как он приравнивался в
общем сознании почти что к каторжнику, к
уголовному преступнику. Это чрезвычайно
должно было отражаться и на духе войска,
на его развитии и, несомненно, понижало,
независимо от плохого вооружения, боевую
способность армии.
Милютин задался целью, с одной сторо¬
ны, технически перестроить армию,
привести ее в такое положение, в котором
она более соответствовала бы потребностям
времени, а с другой стороны, всемерно
облегчить участь солдата. Он прежде всего
добился сокращения срока службы до 16 лет.
Были отменены затем всякие телесные нака¬
зания, которые раньше применялись в очень
тяжелой форме, начиная с кнута, плетей,
кошек, шпицрутенов и до розог, которые
считались тогда самым легким наказанием.
Все это было отменено в первые же годы
министерства Милютина. Далее он
стремился к перемене отношения офицеров
к солдатам, которое раньше было совершен¬
ное негуманное,— вообще он старался воз¬
высить положение солдата до почетного
положения защитника своей родины из того
бесправного положения, в котором он был
раньше. Затем он решил реорганизовать и
самое управление военным министерством:
отчасти в целях экономии, а отчасти и в
целях более разумного административного
устройства он предложил уничтожить суще¬
ствовавшие тогда в мирное время штабы
отдельных армий, указывая, что деление
войска на армии вовсе не нужно для мирного
времени, так как в военное время отдельные
части все равно приходится перетасовывать
и они выходят из того командования, в
котором они были до войны. Он уничтожил
и деление на корпуса, находя, что это
слишком большие единицы для мирного вре¬
мени, так что наибольшей военной единицей
в мирное время стали дивизии <в четыре
полка каждая). Это же дало возможность
устроить целесообразнее и саму военную
администрацию. Большая власть была дана
военному министру, с одной стороны, а с
другой стороны, допущена была в
административном отношении и некоторая
децентрализация — в виде военных округов,
командующие которыми в мирное время
являлись довольно самостоятельными орга¬
нами, соединяя в своем лице права корпус¬
ных командиров и права военных
генерал-губернаторов по отношению к вой¬
скам.
Затем важную реформу составило пол¬
ное преобразование военных судов. В связи
с уничтожением позорных и тяжких нака¬
заний был переработан военно-уголовный
кодекс, и самое судопроизводство было осно¬
вано на новых воззрениях и гуманных нача¬
лах, на которых б^ши устроены гражданские
суды после реформы 1Й64 г.,— и именно
297
благодаря тому, что все это находилось под
охраной Милютина, пользовавшегося
большим доверием Александра, этим рефор*
мам в военной юстиции не пришлось под¬
вергнуться и в реакционное время тем
искажениям-, какие пришлось претерпеть в
смутные годй реакции гражданским .судеб¬
ным местам. .
Наряду с этим надо поставить и ту
реформу военно-учебных заведений, кото¬
рую предпринял Милютин и которая заклю¬
чалась в том, что специальные военные
корпуса, подготовлявшие офицеров как чле¬
нов особой касты и воспитывавшие их в
военной обстановке и военном духе с самого1
малолетства, были преобразованы в военные
гимназии, которые совершенно изменили
свой вид и сделались весьма близкими к
общей средней школе; в них был повышен
образовательный уровень и из них была
изгнана излишняя военщина; а для
специальной военной подготовки были пред¬
назначены высшие юнкерские училища, ко¬
торые или подготовляли военных
специалистов, как Инженерное и
Артиллерийское училища, или образован¬
ных пехотных и кавалерийских офицеров,
ка*к Павловское, Александровское, Кон-
стантиновское и Николаевское училища. Это
преобразование имело весьма серьезное зна¬
чение, так как оно, с одной стороны, усилило
образованность офицерского состава, а с
другой — вело к смягчению военных нравов,
необходимому для того, чтобы уничтожить те
ужасные отношения, которые раньше суще¬
ствовали между офицерами и солдатами.
Все эти реформы, как они ни были
важны и существенны для самого техничес¬
кого устройства армии, имели все-таки более
или менее второстепенное значение. Главная
реформа, к которой предстояло обратиться
Мрлютину, состояла в коренном изменении
самой системы воинской повинности, в пол¬
ном уничтожении тогдашней рекрутчины,
коуорая так тяжело ложилась на плечи на¬
рода, и, разумеется, эта задача из всех
мцлютинских реформ являлась важнейшей
с .точки зрения общенародных интересов,
иф она вносила в русскую жизнь демок¬
ратизирующее начало огромного значения.
С другой стороны, эта же самая реформа
воинской повинности была и технически
необходима для организации наиболее
сильной армии при наименьшей затрате
народных средств, организации, которая
отвечала бы больше устройству армии всех
остальных цивилизованых стран. Дело в
том, что во всей Европе в это время рек¬
рутчина, или вербовка, и другие ар¬
хаические системы комплектования армий
были заменены системой всеобщей воинской
повинности, причем эта система важна была
не только теми условиями равноправия* ко¬
торые она вводила и которые соответство¬
вали новому строю общества, повсеместно
введенному в XIX в., но и в техническом,
военном и экономическом отношениях она
представлялась гораздо более выгодной.^
Прототипом этой системы послужила та
реорганизация армии, которая была вырабо¬
тана после Тильзитского мира для Пруссии
талантливым прусским генералом Шарнгор-
стом. Задача, которая стала тогда перед
прусскими военными законодателями и
администраторами, заключалась в следую¬
щем: им надо было, придерживаясь договора
с Наполеоном, не увеличивать состава
войск, состоящих на действительной служ¬
бе, свыше 42 тыс. и в то же время надо было
создать возможность, когда наступит минута
реванша, сразу выставить против Наполеона
хорошо обученное и вооруженное войско, в
несколько раз превышающее по числен¬
ности то, которое они могли содержать в
мирное время по договору. И вот Шарнгорсту
пришла в голову остроумная мысль
достигнуть этого заменой прежней долго¬
срочной повинности краткосрочною трех¬
летнею повинностью, причем каждый солдат
по окончании службы зачислялся в запас,
из которого лишь призывался иногда на
короткие сроки в учебные сборы. Таким
образом открывалась возможность провести
через армию в сравнительно короткое время
значительную часть населения, которая
всегда могла быть затем быстро призвана под
ружье, благодаря чему сорокатысячная
армия мирного состава легко могла быть
увеличиваема в военное время в несколько
раз. Применение этой мысли давало в то же
время возможность сделать большие сбере¬
жения и серьезно облегчить службу солдата,
так как каждый солдат не отрывался, таким
образом, на всю жизнь от семьи и возвра¬
щался домой после короткой трехлетней
службы.
Эта идея и легла в основу всеобщей
воинской повинности, принятой в первой
половине XIX в. в большей части евро¬
пейских держав. Однако в начале века
система эта не везде могла быть применена.
Для Пруссии эта система была хороша уже
и тогда, ибо мобилизация запаса здесь была
весьма облегчена небольшими размерами го¬
298
сударства и хорошими путями сообщения, а
также и сравнительно высокой культурно¬
стью населения. Применение этой системы
к Росии, пока у нас не было хороших дорог,
при громадности нашего отечества было со¬
вершенно невозможным. Это именно и за¬
ставило, как вы знаете, императора
Александра I, когда он думал о предостав¬
лении и солдату лучшей жизни и облегчении
для государства содержания большой армии,
обратиться к несчастной идее военных посе¬
лений. Поэтому же мы и при Николае I
держали миллионную армию, хотя насе¬
ление было тогда в три раза меньше нынеш¬
него, и это, конечно, ложилось на него
непосильным бременем.
Вопрос о реорганизации русской армии
по очерченному образцу связывался, таким
образом, прежде всего с постройкой желез¬
ных дорог, и когда в начале 70-х годов наша
железнодорожная сеть получила значитель¬
ное развитие, то явилась и возможность
приступить к реорганизации армии. И вот
Милютин в 1870 г. представил доклад импе¬
ратору Александру о необходимости соответ¬
ствующего преобразования армии, получил
его одобрение и, разработав на этом осно¬
вании новый устав о воинской повинности,
удачно провел его через Государственный
совет, после чего он сделался законом 1
января 1874 г.
По этому уставу рекрутчина была отме¬
нена и заменялась всеобщей воинской
повинностью, одинаковой для всех классов
и сословий народа, причем являлась воз¬
можность значительного облегчения этой
повинности. Если в прежнее время в набор
вообще призывались лица от 20 до 34-летне¬
го возраста, и, следовательно, нередко попа¬
дали в войска отцы семейств, которых семьи
лишались, в сущности, навсегда, то теперь
ежегодно должны были призываться лишь
молодые люди 20-летнего возраста всех сос¬
ловий, причем срок службы для них назна¬
чался не свыше шести лет, после чего они
зачислялись на девять лет в запас и затем
до 40 лет от роду должны были числиться в
ополчении. При этом допускались для всех
сословий одинаковые льготы. Прежде всего
льготы давались по семейному положению.
Исходя из потребностей трудовых масс,
Милютин предоставил льготу первого разря¬
да единственному сыну у родителей или
единственному внуку у бабки и деда, и
единственному брату-кормильцу при мало¬
летних сиротах — братьях и сестрах. Льгота
второго разряда предоставлялась тем, у кого
были лишь братья, не достигшие 18-летнего
возраста. Затем, льгота третьего разряда
предоставлялась лицам, непосредственно
следующим за братом, уже взятым в военную
службу, хотя бы в семье были и другие
способные к труду братья. •
Все, не . пользовавшиеся льготой, .
признанные здоровыми и годными в войска,
должны были по жребию зачисляться в
число новобранцев в порядке вынутых номе¬
ров жребия, пока они не давали известного
количества ежегодно установляемого по
статистическим данным для каждого округа.
Если одних безльготных не хватало для
пополнения назначенного контингента, то
призывались, опять-таки в порядке вытяну¬
того жребия, имевшие льготу третьего разря¬
да, а затем даже и второго разряда; но
имевшие льготу первого разряда могли быть
призваны в войска по особому высочайшему
повелению.
Были установлены льготы относительно
срока отбывания повинности и по образо¬
ванию. Нормальный срок, как я сказал, был
установлен шестилетний. Но для лиц, по¬
лучивших высшее образование, срок этот
сокращался до полугода; для лиц, по¬
лучивших среднее образование,— до двух
лет, а для кончивших городское училище
или уездное училище, или четырехклассную
прогимназию срок службы назначен был
трехлетний. Наконец, все кончившие на¬
чальные училища должны были служить
четыре года. Для лиц, получивших среднее
и высшее образование, допускалось еще
отбывание воинской повинности в качестве
вольноопределяющихся, причем срок сокра¬
щался еще вдвое, так что для получивших
высшее образование он доводился всего до
трех месяцев.
Вот основные черты главной реформы
Милютина, явившейся одним из важнейших
факторов той демократизации русского
общества, которая связана была с рефор¬
мами 60-х годов вообще, и вместе с тем
бывшей одной из наиболее гуманных реформ
царствования Александра II, ибо она,
уничтожив раз и навсегда прежний бесчело¬
вечный способ пополнения армии при
помощи рекрутских наборов, уничтожила, в
сущности, военное рабство.
С 1875 г. Милютин ввел новые правила
обучения солдат, взятых на действительную
службу, причем это обучение касалось не
только военных предметов и фронтовой вы¬
правки, но начиналось с грамоты. В отно¬
шении гармотности состав армии, конечно,
299
улучшился уже тем, что в нее введены были
лица высших сословий; в нашу армию до
реформы 1874 г. грамотных поступало не
более 13%, а в 1874 г. этот процент сразу
повысился до 20. Затем, благодаря правилам
1875 г., благодаря систематическому и все
улучшавшемуся обучению в полках почти
каждый взятый в военную службу человек
возвращался домой через несколько лет обу¬
ченным грамоте, и, таким образом, армия в
руках Милютина сделалась весьма
значительным суррогатом школ, которых
как раз не хватало в России. Армия сдела¬
лась для населения своего рода школой.
Замечательно, что при проведении этой
реформы в Государственном совете
противниками льгот по образованию и
других либеральных статей этой реформы
явились те министры, которые, казалось бы,
должны были занимать обратную позицию.
Именно граф Толстой, министр народного
просвещения, отрицал желательность осо¬
бых льгот для лиц, получивших высшее
образование, а министр юстиции граф Па¬
лен явился противником подчинения вопро¬
сов об уклонении от воинской повинности
суду присяжных, Так что Милютину — во¬
енному генералу и военному министру
приходилось настаивать на неприкосновен¬
ности либеральных принципов против напа¬
док тех лиц, которые, казалось бы, должны
были взять на себя отстаивание этих
принципов. Тем не менее Милютин, пользу¬
ясь большим престижем у императора Алек¬
сандра, отстоял свою реформу вполне и не
только провел ее в Государственном совете,
но, в противоположность всем остальным
министрам-реформаторам царствования
Александра II, получил возможность лично
ввести ее в жизнь, так как он не был уволен
подобно Ланскому и своему брату Николаю
в отставку, а продолжал оставаться военным
министром до конца царствования Алексан¬
дра II.
ЛЕКЦИЯ XXXI
Деятельность Министерства народного просвещения после 1866 г.— Гр. Д. А. Толстой и Д. А. Милютин
как выразители двух противоположных сторон царствования Александра П.— Взгляды Толстого. Толстой
и Катков.— Вопрос о реформе средней школы.— Борьба за введение классицизма.— Сущность и зна¬
чение реформы 1871 г.— Планы Толстого относительно университетов и принятые им меры.— Развитие
женского образования в период 1866—1878 it.— Начальное образование. Уставы 1864 и 1874гг.— Борьба
Министерства народного просвещения с земством.— История земской шкалы в 1866—1880 it.
В прошлой своей лекции я охарак¬
теризовал демократизирующее и прос¬
ветительное значение деятельности бывшего
военного министра генерала Д. А.
Милютина в сфере военного министерства
— деятельности, которая вполне сохранила,
как вы видели, этот свой характер и в эпоху
реакции 70-х годов.
Совершенно обратное значение и совер¬
шенно противоположный характер имела
ярко реакционная и специально направлен¬
ная якобы на борьбу с нигилизмом, а в
сущности — на борьбу с распространением
либеральных и демократических идей вооб¬
ще деятельность тогдашнего министра на¬
родного просвещения графа Д. А. Толстого.
Это была как раз та сторона правительствен¬
ной деятельности того времени, которая в
особенности соответствовала реакционному
настроению, охватившему правительство
Александра П после выстрела Каракозова.
Вообще, надо сказать, что граф Толстой
и Милютин — это два таких лица, которые
чрезвычайно ярко характеризовали две
противоположные стороны, две противопо¬
ложные, даже как бы взаимно исключающие
друг друга тенденции царствования импера¬
тора Александра II. Можно даже изумляться
тому, что в течение целых пятнадцати лет
после 1866 г. эти два крупных политических
деятеля неизменно пребывали оба в числе
сотрудников Александра II и оба, по-
видимому, пользовались его полным до¬
верием. Объяснить это можно тем, что в
самом императоре Александре были — в
сущности, в течение всего его царствования
— в непрестанной борьбе между собою
именно эти два противоположных начала: с
одной стороны, он чувствовал и признавал
совершенно сознательно полную необ¬
ходимость проведения весьма прог¬
рессивных и резко меняющих прежний
общественный строй реформ, а с другой
стороны, он был под постоянным гнетом и
страхом развивающегося революционного
движения и в постоянном сознании необ¬
300
ходимости деятельной борьбы с этим рево¬
люционным движением. Вы видели, что
после того, как реакционное настроение
правительства определилось, все-таки сама
жизнь, складывавшаяся определенным обра¬
зом, экономические и технические потреб¬
ности государства властно требовали
продолжения реформ. Вы видели, что и
после 1866 г. проведены были такие рефор¬
мы, как городовое положение и в особен¬
ности как истинно либеральная и
демократическая реформа воинской
повинности.
Граф Толстой непрерывно и постоянно
с 1866 г. являлся представителем
реакционных настроений и требований, под
натиском которых все время пребывал импе¬
ратор Александр II. Толстой, если угодно, не
был врагом просвещения по существу. Если
его сравнить с другими министрами народ¬
ного просвещения, бывшими в XIX в. в
России,— а вы знаете, что многие из них
были несомненными реакционерами и иног¬
да даже обскурантами,— то сравнив Толсто¬
го, например, с Голицыным, можно сказать,
что Толстой никогда не был ни таким
мистиком или даже таким клерикалом,
каким был в свое время Голицын; если мы
будем сравнивать Толстого с самыми заяд¬
лыми и дикими реакционерами и обскуран¬
тами, каким был, например, князь
Ширинский-Шихматов в конце царство¬
вания Николая Павловича, то мы увидим,
что Толстой опять-таки не был таким диким
и отчаянным обскурантом. В сущности гово¬
ря, по своему направлению и личным вку¬
сам, по своей приверженности к
классицизму Толстой внешним образом на¬
поминал, скорее, из числа министров нико¬
лаевского времени графа Уварова, которому,
несмотря на его отрицательные стороны,
Россия многим обязана, потому что просве¬
щение он все-таки двинул, а не задержал,
хотя и хвалился задержать общее развитие
России на 50 лет. Но Толстой, несомненно,
был гораздо менее умным и просвещенным
человеком, чем Уваров, и в то же время
отличался от него по цельности и резкости
своего характера и был гораздо более твер¬
дым защитником и проводником своих идей,
нежели граф Уваров, который был, собст¬
венно говоря, человеком компромисса и
карьеры прежде всего.
Уваров даже среди своих принципиаль¬
ных противников, как я только что сказал,
оставил по себе такую память, что никто не
станет отрицать, что его деятельность кое в
чем можно помянуть и добром; наоборс^,
Толстой оставил память о себе как о гасителе
и враге просвещения. Между тем, как я уже
сказал, врагом просвещения он, собственно,
не был, но он был зато постоянным, после¬
довательным и злостным врагом народа и,
будучи министром, постоянно, настойчиво и
упорно попирал самые священные права и
интересы народа во имя интересов и преро¬
гатив того правящего класса, к которому он
сам принадлежал. Именно поэтому он был
самым ярким защитником того государст¬
венного и общественного строя, с которым
эти прерогативы были связаны. Мы видим,
поэтому, что среди всех министров Алексан¬
дра II, если мы возьмем и самый
реакционный период его царствования, не
было другого такого завзятого и
принципиального сторонника реакции,
каким был Толстой. Вы видели, что Рейтера,
который сам себя считал принадлежащим к
числу сторонников прогрессивных реформ,
указывал, что Шувалов и Валуев вели
политику «псевдолиберальную», как он вы¬
разился, а на самом деле реакционную. В
отношении Толстого этого никто не мог ска¬
зать; он всегда вел политику открыто и ярко
реакционную и один среди министров Алек¬
сандра II открыто был врагом преобразо¬
ваний 60-х годов. Ему не приходилось
поэтому вступать с самим собою в какие-
нибудь компромиссы, изменять своей точке
зрения, как Валуеву, который в либеральную
эпоху старался казаться либералом, а в
реакционную — реакционером. Нет, То¬
лстой был всегда убежденным реакционе¬
ром; когда проводилась крестьянская
реформа, он резко протестовал против нее,
подавал записку, вызвавшую весьма резкую
резолюцию императора Александра, и, в
сущности, был призван на пост министра
народного просвещения как признанный
реакционер именно тогда, когда такой
реакционер, по мнению императора Алек¬
сандра, потребовался на этом посту.
Сам Толстой в своей деятельности
опирался на теоретические основания, кото¬
рые ему давали весьма видные тогдашние
публицисты М. Н. Катков и П. М. Леонтьев
— редакторы-издатели «Русского вестника»
и «Московских ведомостей». Катков явился
тогда, как вы знаете, самым завзятым врагом
того нигилистического направления, которое
развилось и в значительной степени продол¬
жало действовать в конце 60-х годов1.
Будучи врагом нигилизма, с одной сто¬
роны, с другой стороны — тех сепа¬
ратистских или окраинных стремлений,
301
которые тогда проявлялись в некоторых ча¬
стях Русского государства, в особенности в
западных провинциях, Катков после поль¬
ского восстания « в особенности после ка-
ракозовского покушения стал резко
склоняться направо. Ведь вы знаете, что в
начале эпохи реформ он еще считался, и
довольно основательно, в числе либералбв
английского пошиба. Англоманство долею
осталось у него и дальше, но его политичес¬
кое направление становилось все более и
более консервативным и даже реакционным.
Толстой относительно системы просве¬
щения, какая, по его мнению, была необ¬
ходима России, также исходил, по
внешности, по крайней мере, из английских
или англоманских представлений, и поэтому
о Толстом также говорилось, что он желает
насадить в России систему английского
просвещения. Связывалось это с тем, что
английское просвещение — а в особенности
в . прошлом — имело ярко аристок¬
ратический характер и что именно эта сто¬
рона прельщала и привлекала Толстого.
Это, однако, можно принять разве с
большими оговорками, потому что
английская система, несомненно аристок¬
ратическая, в то же время согласовалась с
совершенно определенным английским
политическим строем, где этот аристок¬
ратизм являлся х<?тя и консервативным, но
в то же время конституционным началом, где
аристократия, завоевавшая себе преоблада¬
ющее политическое положение и особые пре¬
рогативы, всегда являлась вместе с тем
оберегательницей признанных народных
прав й свобод против королевского самодер¬
жавия, с которым она боролась и которое
поборола. В России аристократизм, который
хотели создать Толстой и Катков, являлся
совершенно другим. Аристократия, которую
представлял Толстой, сама стремилась
подавлять интересы народа под крылышком
самодержавной власти. Это различие между
аристократией в Англии и России очень
хорошо было отмечено и указано именно по
поводу толстовской системы народного прос¬
вещения князем А, И. Васильчиковым в его
записке, которую он напечатал после вве¬
дения в России классической системы, в
1875 г. в Берлине2. Вообще, надо сказать, что
хотя несомненно, что толстовская система
имела аристократические тенденции в са¬
мом непривлекательном смысле этого слова,
но»все-таки главная и самая существенная
ее идея заключалась не в этом, а. в борьбе с
нигилизмом, с тем миросозерцанием, кото¬
рое тогда быстро развивалось в русском
обществе и которому приписывалось такое
важное революционизирующее значение.
Именно с этой стороны подходил и Катков
к критике существовавшей раньше системы
народного просвещения.
Под нигилизмом, с которым и Катков и
Толстой боролись, подразумевалось тогда
распространение материалистического
миросозерцания, которое было, в свою оче¬
редь, связываемо с ознакомлением широких
кругов интеллигенции и учащейся молодежи
с последними выводами естествознания, о
чем особенно хлопотал Писарев и другие
публицисты «Русского слова», являвшегося
главным органом тогдашнего нигилизма.
Толстой полагал, что это миросозер¬
цание всего легче прививается к молодежи,
воспитавшейся на усвоении выводов естест¬
вознания и привыкшей, как он утверждал, к
скороспелым и поспешным заключениям.
Именно с этой стороны и Катков нападал на
головнинский устав 1864 г.; он нападал даже
на увеличение числа часов, посвященных
преподаванию истории и русской словес¬
ности в гимназиях, причем называл в своих
статьях преподавание этих предметов
«сущим злом», указывая, что здесь ученики
приучаются к бессмысленному верхоглядст¬
ву и к толчению воды. Вообще он восставал
против таких предметов, которые способст¬
вовали легкому и быстрому развитию само¬
стоятельного образа мыслей, требуя взамен
этого таких знаний, которые одни, как он
выражался, способны подготовить ум и чув¬
ства к правильной работе и вместе с тем
предохранить от легкого усвоения
нигилистических мыслей и ма¬
териалистических учений, которые легче
всего проникали, по его мнению, в умы,
привыкшие к поверхностному умствованию,
в особенности развивавшемуся либераль¬
ными учителями словесности.
Соответственно с этим основное требо¬
вание Каткова заключалось в том, чтобы в
средней школе проведена была такая систе¬
ма, которая бы приучала ум учащихся
исключительно к усвоению этих знаний и
точных понятий и не давала бы простора для
разных умствований. Отсюда ясно, что впол-
це отвечающей этим требованиям системой
являлась бы такая, которая сокращала бы
число часов тех предметов, которые посвя¬
щались общему умственному развитию
учащихся, и специально давала бы только
точные и определенные знания. В качестве
важнейших предметов выдвигались поэтому
302
древние языки, а затем математика, потому
что она опять-таки давала лишь точные
знания. Вот это и было положено в основу
той системы русского классицизма, которую
обосновал в своих тогдашних писаниях Кат¬
ков и которую взялся проводить Толстой.
С самого вступления в министерство
Толстой был сторонником этой системы, но
провести ее ему было нелегко, так как преж¬
де всего у него не было достаточных средств,
не было достаточного контингента учителей
латинского и особенно греческого языков,
которые бы могли сразу взять на себя пре¬
подавание в измененных гимназиях. С дру¬
гой стороны, и материальные средства,
которые при тогдашнем финансовом поло¬
жении ему можно было отпустить, были
довольно скудны; а, главное, Толстой, конеч¬
но, чувствовал, что не только в широких
слоях общества, но даже и на верхах его, в
той высшей бюрократической среде, где ему
приходилось проводить свои идеи, он
встретит несочувствие и противодействие,—
даже в среде тогдашнего Государственного
совета, который был настроен либерально в
значительной мере потому, что Государст¬
венный совет был пополняем главным обра¬
зом отставными министрами, а так как в это
время, следовавшее за эпохой реформ,
бывшие министры часто бывали и
сравнительно либеральными людьми, то в
Государственном ,совете тогд^ складывалось
настроение в защиту вообще эпохи реформ
и в частности идей Головнина, противником
которых явился Толстой;
Поэтому Толстой взялся за дело испод¬
воль; сперва он сделал циркулярный запрос
попечителям округов о том, какие у них
имеются наблюдения относительно недо¬
статков существующей системы препода¬
вания. Ясно, что попечители, зная взгляды
и идеи Толстого, должны были отыскать
соответственные недостатки в системе Го¬
ловнина. Затем Толстой образовал новое вы¬
сшее учебное заведение, Филологический
институт, который должен был давать
хорошо подготовленных учителей древних
языков. Впоследствии он преобразовал и
Нежинский лицей, основанный Безбородко,
по тому же плану; в то же время он завел
деятельные сношения с заграничными учеб¬
ными сферами, стараясь организовать
приглашение в Россию учителей из-за
границы, в особенности из Австрии, где
было много филологов из славян, которые
легко могли изучить русский язык и стать
преподавателями древних языков в России.
Вскоре этих учителей наехало в Россию
довольно много из Чехии и Галиции.
В то же время в министерстве стал
разрабатываться проект нового устава, и вот
в 1871 г., через пять лет по вступлении своем
на пост министра, Толстой решился это дело
двинуть вперед. Он сделал обстоятельный
доклад императору Александру II, указав на
значение классического образования ка$
средства борьбы с тем нигилистическим на¬
строением молодежи, которое являлось в
глазах Александра таким опасным злом и на
которое сам император указывал уже в
рескрипте своем 1866 г. на имя кн. Га¬
гарина, опубликованном после каракозов-
ского покушения.
Александр поэтому сочувственно отнеси
ся к общим тенденциям доклада Толстого,
но так как он сам отнюдь не был классиком
— его древним языкам почти и не обу¬
чали,— то и повелел это дело обсудить зна¬
токам. Была составлена особая комиссия,
куда вошли Валуев, Тройницкий, сам То¬
лстой, несколько специалистов из его
министерства и граф С. Г. Строганов. Сам
Толстой почувствовал тоже необходимость
подготовиться в этом отношении как можно
основательнее и даже стал брать уроки гре¬
ческого языка у директора 3-й петербургской
гимназии Лемониуса.
Эта комиссия довольно быстро вырабо¬
тала подробный проект нового устава, кото¬
рый и поступил на рассмотрение
Государственного совета, причем он был на¬
правлен не в один из его департаментов, как
полагалось, а в специально образованное для
этой цели особое присутствие Государствен¬
ного совета под председательством графа
Строганова из 15 лиц, в числе которых были
все министры, заведующие учебными заве¬
дениями,— среди них несколько либерале»
с Д. А. Милютиным во главе. С другой сто¬
роны, туда вошли и бывшие министры на¬
родного просвещения Ковалевский и
Головнин, а также граф Панин, бывший
министр юстиции, и целый рад других лиц.
В этом присутствии, которое расс¬
матривало вопрос на правах департамента
Государственного совета, голоса раз¬
делились; девять человек было на стороне
Толстого, некоторые, быть может, потому,
что сам император Александр наперед
относился к этому проекту одобрительно,
другие — потому что проект соответствовал
их собственным реакционным стремлениям.
Но шесть человек, в числе которых самым
выдающимся был Д. А. Милютин, затем
303
граф Литке, просвященный адмирал,
бывший воспитатель великого князя Кон¬
стантина Николаевича, бывший министр
народного просвещения А. В. Головнин,
академик Я. К. Грот и, к удивлению всех,
граф В. Н. Панин, который, конечно, более
по недоразумению оказался на этот раз в
числе либералов,— оказали проекту Толсто¬
го энергическое сопротивление.
Милютин и Головнин резко нападали на
Толстого и указывали, что и в самой Англии,
и в Пруссии, на которые Толстой ссылался
как на страны с классической системой
образования, где процветала якобы эта реко¬
мендуемая им система, в сущности уже
классицизм стал считаться системой
отживающей и что в последнее время и там
открывают реальные гимназии на равных
правах с классическими, причем выбор той
или другой школы предоставляется родите¬
лям, и как из тех, так и из других открыва¬
ется доступ в университет. При этом
Милютин доказывал, что неверен и тот
взгляд, который приписывает именно реаль¬
ной системе обучения связь с ма¬
териализмом и нигилизмом, а в
классической системе видит против них
противоядие. Милютин указывал, что все
деятели Великой французской революции,
все материалисты конца XVIII в., которые
так резко действовали в свое время во
Франции, как раз воспитывались на
классицизме, который тоща царил во
Франции; а с другой стороны, он утверждал,
что и реальная система образования может
быть поставлена так серьезно, что отнюдь
нельзя будет ее аттестовать как специально
воспитывающую то легкомыслие, на которое
жаловался Толстой. В особом присутствии,
однако же, победил Толстой.
Но в общем собрании Государственного
совета, где обычно дела рассматривались
только для проформы, так как обыкновенно
общее собрание присоединялось к заклю¬
чению департамента или соединенного
присутствия, в данном случае получилось
нечто иное. В общем собрании члены Госу¬
дарственного совета, движимые, как остро¬
умно заметил Васильчиков, одним из
наиболее сильных человеческих чувств —
чувством родительской любви, отвергли
большинством 29 голосов против 19 предло¬
жение Толстого. Но Александр присо-г
единился к мнению меньшинства, и проект
Толстого 15 мая 1871 г. получил силу зако¬
на3.
Произведенная в 1871 г. Толстым
реформа среднего школьного образования
сводилась к введению нового типа
классических гимназий, в которых, с одной
стороны, введены были латинский и гре¬
ческий языки в огромном объеме, а с другой
стороны, вовсе исключено естествознание и
произведены в преподавании русского языка
и в самой программе этого предмета
значительные изменения. Вместе с тем
уничтожены были реальные гимназии и на
место их — или даже, скорее, не на место
их, а только в связи с их уничтожением —
введены были реальные училища, которые,
как вы увидите, получили совершенно другое
значение.
В классических гимназиях нового типа
древние языки заняли такое место, что для
латинского языка было отдано 49 час. в
неделю, а для греческого — 36 час. в неделю
во всех классах, так что латинский язык при
восьмиклассной системе (так как был введен
восьмой класс) не только преподавался
ежедневно во всех классах, но в первом
классе даже 8 час. в неделю; греческий же
язык начинался с третьего класса и, следо¬
вательно преподавался шесть лет. Вместе с
этим сама система преподавания ^тих язы¬
ков состояла главным образом в изучении
грамматики, в изучении различных грам¬
матических и синтаксических тонкостей,
ученики должны были доходить до такого
знания этих тонкостей, чтобы быть в состо¬
янии под диктовку по-русски бегло пере¬
водить письменно на латинский или
греческий язык диктуемое, причем в эти
диктанты должны были подбираться именно
такие обороты речи, правильный перевод
которых доказывал бы знание всех грам¬
матических особенностей и тонкостей этих
языков,— это были знаменитые так называ¬
емые extemporalia.
Затем сильно увеличен был курс мате¬
матики, а вместе с тем, чтобы дать место
этому расширенному преподаванию древних
языков и математики, согласно с теми на¬
падками, которые Катков делал на словес¬
ность и историю, сильно сокращено было
число часов русского языка и в особенности
истории словесности в старших классах;
был введен еще церковнославянский язык в
счет часов и без того сокращенного русского
языка. Далее, было уменьшено число часов
истории, географии и новых языков, причем
последние были объявлены предметами вто¬
ростепенными, так что обучение двум новым
языкам даже стало необязательным.
304
Наряду с этим изменилась и самая
воспитательная система в гимназиях.
Ученики должны были дрессироваться
таким образом, чтобы из них специально
выходили ультрадисциплинированные
люди, которые приучались бы главным обра¬
зом. к беспрекословному повиновению,
причем от них в то же время требовалось
«особое доверие»и «откровенность» с учите¬
лями, что, конечно, было недостижимо при
таком режиме и вырождалось в форму поощ¬
рения шпионства и наушничества.
Самое положение педагогических сове¬
тов совершенно изменилось; они потеряли
свои руководящие права, и эти права и вся
распорядительная власть перешли
единолично к директорам. Затем, как только
оказался достаточный подбор учителей
древних языков, то из них стали назначаться
как директора, так и инспектора, и число их
из учителей древних языков достигло вскоре
70—80% общего числа этих начальству¬
ющих лиц.
Наряду со всем этим реальные
гимназии, как я уже сказал, были уничто¬
жены; вместо них были введены реальные
училища, курс которых был понижен до
шестилетнего и назначение которых было не
подготовлять к высшей школе, а давать
специальное, техническое или промышлен¬
ное, образование, которое, как казалось Кат¬
кову и Толстому, удовлетворяло бы
потребностям воспитания детей высших
промышленных классов, т. е. купцов и бо¬
гатых мещан. При этом замечательно, что не
только из классических гимназий, но и из
реальных училищ старательно вы¬
травливались все общеобразовательные эле¬
менты или элементы, дававшие общее
развитие. Так как в реальных училищах
нельзя было ввести древние языков, то было
введено огромное количество черчения —
более 40 час. в неделю. Затем вводился
значительный курс математики и в очень
умеренной дозе оставлено было естествоз¬
нание, причем в объяснительной записке к
программе было указано, что оно должно
было преподаваться не научно, а «техно¬
логически»,— трудно даже представить се¬
бе, что это должно было значить. Таким
образом, совершенно открыто главной зада¬
чей производимого преобразования вовсе не
ставилось повышение уровня знания и прос¬
вещения. Дело шло главным образом о том,
чтобы заменить всякие общеобразовательные
предметы такими, которые, по мнению авто¬
ров этой системы, хорошо дисциплинируют
ум,— именно это и было главной задачей
всего преобразования.
Разумеется, уже в самый момент его
обсуждения поднялись большие нападки на
него в печати в передовых органах и даже
не особенно левых — самые левые, как «Со¬
временник» и «Русское слово», были тогда
уже закрыты,— а в таких, как «Вестник
Европы», «С.-Петербургские ведомости»,
«Голос»; все они печатали резкие статьи,
поскольку это было возможно, направленные
г?ротив этой системы. Но Толстой, как толь¬
ко его проект был доведен до конца и внесен
в Государственный совет, исхлопотал высо¬
чайшее повеление, чтобы печати было восп¬
рещено обсуждать или, как было там
сказано, «порицать» планы правительства,
и, разумеется, таким образом печати был
закрыт рот4. Как вы видели, большинство в
Государственном совете высказалось против
толстовской системы, что не мешало, одна¬
ко, проведению ее в жизнь.
В соответственном духе Толстой, конеч¬
но, желал преобразовать и высшие школы в
России, и с самого начала у него явилось,
разумеется, стремление изменить устав
1863 г. Но так как этот устав был только что
проведен, причем он прошел через Государ¬
ственный совет в «очищенном» в комиссии
гр. Строганова виде, то поколебать этот устав
было не так легко и за него была большая
партия не только в обществе, но и среди
Государственного совета. Поэтому Толстой
сразу не решился поднять вопрос о полном
изменении устава, а начал вводить только
новые, добавочные правила. Так, в 1867 г.
введены были правила, о которых я уже
упоминал, для студентов; при этом, собст¬
венно, хотели достичь бдительного надзора
за студентами как в университете, так и вне
его; этот надзор был точно регламентирован,
причем сужена была компетенция и не¬
зависимость университетских советов.
Однако несмотря на строгость введен¬
ных правил* студенческие волнения
вспыхивали при Толстом несколько раз и
принимали весьма значительные размеры: в
особенности в 1869 г., а также в 1874 г. и
1878 г. И вот в борьбе с этими студенческими
волнениями, постоянно обвиняя в послаб¬
лениях или даже в пособничестве и поп¬
устительстве профессоров, Толстой
тщательно подготовлял полную реформу
университетского устава и настраивал в этом
отношении императора Александра. Однако
Толстому до конца его пребывания
министром народного просвещения достичь
305
этого не удалось, несмотря на деятельную
поддержку Каткова в печати. В конце своего
пребывания министром в 1879 г. Толстому
удалось лишь провести довольно важные
частичные изменения в уставе 1863 г.—
именно восполнение, а отчасти и замену тех
профессорских ррганов по отношению к
надзору за студентами, которые существо¬
вали, по уставу, в лице ректора, проректора
и особого университетского суда, новым уч¬
реждением, инспекцией, которая явилась
для университета учреждением посторонним
и введение которой сопровождалось новыми
студенческими волнениями5.
Те элементы нового устава, которые под¬
готовлял Толстой во все время своего
министерства, впоследствии получили ход и
практическое осуществление уже при его
преемнике, Делянове, в 1884 г., когда для
этого созрела подходящая конъюнктура, но
об этом речь впереди.
Наряду со всеми этими преобразо¬
ваниями мужских учебных заведений То¬
лстой часто вмешивался и в дело
заведования женскими учебными заве¬
дениями, которые тогда ему были, в сущ¬
ности, неподведомственны: только что
открытые тогда женские училища были
подчинены ведомству императрицы Марии.
Впрочем, вскоре в составе Министерства
народного просвещения тоже были открыты
женские училища первого и второгд разряда,
которые и были затем преобразованы То¬
лстым в гимназии, так что, на первый
взглад, в этом отношении им предпринят
был даже как будто бы прогрессивный шаг,
так как курс этих женских гимназий был
несколько приближен к курсу мужских
учебных заведений. Однако в отношении
программы, введенной в преподавание в
женских училищах, Толстой даже в ведом¬
стве императрицы Марии производил такое
давление в сторону сокращения программы
естествознания, что лицо, заведовавшее
этими заведениями,— весьма выдающийся
педагог Н. А. Вышнеградский, должно было
в конце концов покинуть свой пост. Затем,
отрицательное отношение к женскому обра¬
зованию, в особенности высшему, резко про¬
явилось у Толстого, как только возник
вопрос о дальнейшем развитии женского
образования и о допущении в какой-нибудь
форме высшего образования для женщин.
Такие попытки приобщения женщин к вы¬
сшему образованию, в сущности, начались
еще в начале 60-х годов самочинно.
Женщины, хотя и в небольшом числе, са¬
мочинно проникли тогда в университеты, и
вплоть до утверждения устава 1863 г.
фактически в столичных, по крайней мере,
университетах мы видим женщин-вольно-
слушательниц. Затем по проекту устава 1863
г. предположено было, в примечании к
параграфу 100-му, допускать женщин, вы¬
державших особые испытания, наравне с
мужчинами, в университеты. Но в комиссии,
рассматривавшей этот устав, примечание
это было отвергнуто. Поэтому даже Милютин
не решился допустить женщин в подчине¬
нную ему Военно-медицинскую академию.
Тогда группа передовых женщин с
Трубниковой, Стасовой и Философовой во
главе предприняла ряд ходатайств об
организации высшего образования для
женщин. Сперва они подали просьбу ректо¬
ру Петербургского университета об
организации для них лекций профессорами
университета в свободное от
университетских занятий время. Ректор дол¬
жен был обратиться за разрешением к
министру, и Толстой тогда решительно отка¬
зал, указав, что для настоящего времени он
не находит возможным допустить даже
организацию частных лекций
университетскими профессорами, и после
долгих переговоров согласился на то, чтобы
эти профессора стали читать публичные
лекции для лиц обоего пола. В сущности, и
на это он согласился лишь потому, что, ввиду
невозможности получать университетское
образование в России, в начале 70-х годов
многие женщины стали для этого ездить в
Швейцарию, где они легко подпадали, к
неудовольствию правительства, под
действие социалистической и анархической
пропаганды. Поэтому именно с охранитель¬
ной точки зрения представлялось желатель¬
ным дать им хоть некоторую возможность
получать высшее или специальное образо¬
вание дома. Таким образом и возникли после
многих хлопот Аларчинские курсы, главный
контингент слушателей которых составляли
все-таки женщины. С этих пор началось в
Петербурге приобщение женщин к высшему
образованию.
В Москве в 1870 г. уже были образованы
такие же курсы специально для женщин,
потому что здесь ректору Московского
университета удалось этого добиться при
содействии московского генерал-губернато-
ра. Эти первые московские курсы, под на¬
званием Лубянских, получили характер
естественного факультета. В 1871 г. по
инициативе профессора Герье были образо¬
306
ваны здесь и другие курсы, имевшие харак¬
тер историко-филологического факультета.
В Петербурге лишь в 1878 г. профессору
Бестужеву-Рюмину удалось наконец
устроить частные курсы для женщин с
физико-математическим и историко-фило-
логическим отделениями; эти курсы стали
функционировать с зимы 1878—1879 гг.,
причем с большим трудом допущено было
тогда же и образование особого общества для
доставления средств этим курсам. Благодаря
энергии этого общества и лиц, стоявших во
главе дела, эти курсы развились в Высшие
женские курсы, существующие в настоящее
время6.
Особую судьбу имело женское
медицинское образование. Толстой не сог¬
ласился разрешить открыть медицинские
курсы для женщин в своем ведомстве, но тут
на помощь этому делу пришел опять-таки
военный министр Д. А. Милютин, и при его
содействии, в специальном помещении,
отведенном им при Николаевском госпитале,
в 1872 г. открыты были высшие женские
медицинские курсы. В 1881 г. военный
министр Ванновский нашел, однако, их су¬
ществование при военном госпитале неуме¬
стным, они были тогда закрыты, и только
через несколько лет, в 1897 г., им удалось
возобновиться в форме и ныне существую¬
щего Женского медицинского института.
Таковы были судьбы средней и высшей
школы при графе Толстом. Следует
отметить, что в параллель с этим как раз те
военные гимназии в ведомстве военного
министерства, в’ которые преобразовал
Милютин прежние кадетские корпуса,
являлись тогда, в сущности, единственным
у нас типом средних учебных заведений
общеобразовательного характера, ибо тогда
как Толстой отнял общеобразовательный ха¬
рактер у всех типов подчиненной ему сред¬
ней школы, Милютин стремился, наоборот,
придать именно характер общеобразователь¬
ной школы подчиненным ему военным
гимназиям.
Что касается начального образования,
то в этом отношении деятельность Толстого
была так же резка й энергична и имела тот
же отрицательный характер, как и в отно¬
шении средней и высшей школы. Начальное
образование было тогда, как вы знаете, делом
новым, начавшим развиваться лишь после
крестьянской реформы. По Головнинскому
уставу 1864 г., Министерство народного
просвещения не взяло на себя организации
этих школ, а предоставило учреждение их
частной инициативе — инициативе частных
лиц, обществ, городов, земств и различных
других установлений. На себя же Министер¬
ство народного просвещения приняло только
надзор за правильной постановкой учения в
открываемых школах, причем, однако, в
распоряжение министерства должны были
быть отпущены от казны и некоторые сред¬
ства, именно 100 тыс. руб. в первый год,
200— во второй и 300 тыс. руб.— в третий
— на пособия делу распространения на¬
чальных школ. Впрочем, только первый из
этих отпусков денежных сумм был
действительно сделан в 1864 г.; а в последу¬
ющие годы деньги на школы отпускались
лишь на западную окраину, специально для
борьбы с полонизмом, и эти отпуски имели,
таким образом, особую, чисто политическую
цель. Ассигнованные для русских губерний
100 тыс. руб. должны были быть распреде¬
лены между губернскими училищными со¬
ветами, которые и являлись главными
органами надзора за образованием в низшей
школе.
Так как этих советов было в земских
губерниях 34, то приходилось всего по 3 тыс.
руб. н£ каждый из них; но и этих сумм они,
в сущности, не получили, так как Толстой,
взяв деньги в свои руки, дал им другое
назначение и частью пустил на организацию
кое-где образцовых министерских училищ;
а отчасти — на учреждение учительски
институтов или семинарий для учителей
низших школ.
Фактически главную роль в открытии
училищ сыграли земства, хотя, по поло¬
жению 1864 г., такая их деятельность, в
сущности, вовсе не предусматривалась, ибо
в земском положении была одна лишь
статья, включенная в него по инициативе
петербургского и нижегородского дворянст¬
ва, поддержанной графом М. А. Корфом, по
которой земствам предоставлялось за¬
ботиться лишь о доставлении материальных
средств для развития начального образо¬
вания в земских губерниях и уездах. Но
земства с самого начала распространитель¬
но толковали эту статью и считали одною из
важнейших своих обязанностей всесторон¬
нее попечение о распространении народного
образования в России. Однако так как они
обладали на первых порах весьма скудными
средствами, то, конечно, первое время тут
применялись иногда и не совсем удачные
способы. Между прочим, по инициативе
князя Васильчикова, большую роль в. этом
деле сыграла так называемая поощрительная
307
система, состоявшая в том, что земства сами
не давали полного содержания на школы, а
давали лишь субсидии тем сельским обще¬
ствам, которые у себя соглашались откры¬
вать школы. Но уже скоро земства
убедились, что, по своему экономическому
положению и малокультурному состоянию,
крестьяне не могут и не хотят отпускать
средств на школы и что максимум, что они
могли делать, это приглашать для обучения
своих детей отставных унтеров и пономарей,
т. е. учреждать весьма плохо поставленные
так называемые школы грамоты. Земства
поэтому пришли очень скоро к убеждению,
что им приходится дело начального просве¬
щения народа взять целиком в свои руки.
Так как во главе этого дела, по уставу
1864 г., были поставлены училищные сове¬
ты, то, конечно, от состава их и отношения
к земству многое зависело. Училищные со¬
веты были губернские и уездные. Губернские
советы были органами, чрезвычайно неудач¬
но устроенными. При проектировании их
Головнину приходилось бороться с теми
покушениями, которые делало, при первона¬
чальном обсуждении этого дела в 1861 г.,
духовное ведомство, которое тогда требовало,
чтобы в его руки было совершенно передано
все дело начального народного образования,
причем на стороне духовенства был, между
прочим, и консервативно настроенный пред¬
шественник Головнина граф Путятин. Что¬
бы избежать этого, Головнин пошел тогда на
компромисс и согласился, чтобы председа¬
телями губернских советов были архиереи,
а членами их были губернатор, два пред¬
ставителя Министерства народного просве¬
щения и два члена от земства, но чтобы зато
самые советы состояли в ведомстве
Министерства народного просвещения. Эти
советы были, конечно, весьма непово¬
ротливыми и, в сущности, мертвыми учреж¬
дениями, так как и архиерей, и губернатор
были поглощены своими прямыми делами.
Уездные училищные советы составлены
были из представителя Министерства народ¬
ного просвещения, обыкновенно заведующе¬
го местным уездным училищем,
представителями Министерства внутренних
дел, которого рекомендовалось избирать из
местного дворянства, и двух членов от зем¬
ства. Председателей своих уездные советы
выбирали сами, и обычно это и был один из
члене» от земства. Эти советы склонны были
действовать pyj^ об руку с земством, и это
упрочивало с самого же начала позицию
последнего в деле школьной политики и
борьбы.
Когда в 1866 г. Толстой вступил на пост
министра народного просвещения, он под¬
верг это положение дел резкой критике и
немедленно составил проект учреждения в
каждой губернии должности особого
министерского инспектора, который должен
был бы смотреть за тем, чтобы дело не
попадало в «злоумышленные» руки. Эти
инспекторы были учреждены в 1869 г.,
причем Толстой через год во всеподданней¬
шем отчете о состоянии учебного дела уже
позволил себе утверждать, что деятельность
училищных советов и земства никуда не
годится, а одни только инспекторы исполня¬
ют свое дело прекрасно. Но, конечно, самого
поверхностного взгляда достаточно, чтобы
понять, что один инспектор на губернию не
мог даже фактически ознакомиться с этим
делом и, в сущности, являлся бессильным
даже и в смысле надзора за школами.
Толстой, стремясь, однако, отобрать у
советов дело начального образования, скоро
выхлопотал другое высочайшее повеление,
утвердившее особую инструкцию о деятель¬
ности этих инспекторов, при составлении
которой уже значительно вышел из рамок
существовавшего устава. По уставу,
училищные советы были поставлены доволь¬
но независимо. На губернские советы жало¬
бы могли подаваться только в Сенат, и даже
попечители учебных округов могли
сноситься с ними только как с посто¬
ронними, не подчиненными им учреж¬
дениями и не могли им давать предложений,
и, в свою очередь, советы не обязаны были
представлять попечителям отчетов в своих
действиях.
Несмотря на это независимое, по уставу,
положение советов, Толстой стремился при
помощи своих агентов, инспекторов,
прибрать дела советов к рукам. Для этого в
инструкции инспекторам он стремился в их
руки передать не только надзор, но и заве¬
дование учебной частью, а отчасти и назна¬
чение учителей, которое, по уставу 1864 р.,
всецело зависело от содержателей школ,
причем их право самостоятельного выбора
учителей, по уставу, ограничивалось лишь
тем, что они должны были выбирать их из
числа лиц, получивших право быть учителем
от этих уездных ЛЕКЦИЯных советов. Но,
конечно, все кончившие какое-либо учебное
заведение лица такое право легко получали,
и выбор, таким образом, был довольно
широк.
308
После издания инструкции 1871 г.
инспекторы стали вмешиваться в дело на¬
значения учителей, а в тех случаях, когда
земства или учредители школ с ними не
соглашались, стали писать доносы. Но То¬
лстой этим не удовольствовался и вскоре
вознамерился предпринять более коренную
реформу всего дела, как только убедился, что
вмешательство инспекторов лишь обостряло
борьбу между земством и министерством. Он
понял, что при недостаточном числе инспек¬
торов и при существовавшем уставе инспек¬
торы эти не могут фактически захватить
начальной школы с свои руки. Поэтому в
1873 г. Толстой выступил с проектом нового
устава. По новому уставу, предполагалось во
главе губернских ЛЕКЦИЯных советов пос¬
тавить директора народных училищ, а во
главе уездных советов — инспекторов,
причем должности этих последних образо¬
вать в каждом уезде; По отношению к
попечителям округов реформированные со¬
веты должны были занять подчиненное поло¬
жение.
Однако это преобразование, хотя оно и
было вперед одобрено императором Алексан¬
дром, встретило в Государственном совете
большое сопротивление. Толстой, неожидан¬
но для себя, столкнулся с дворянским те¬
чением, которое возмутилось против его
стремления отобрать народную школу в руки
бюрократии. Это течение нашло доступ и к
императору Александру, и Толстой, по-
видимому неожиданно, получил 25 декабря
1873 г. высочайший рескрипт, где ему ука¬
зывалось, что надзор за школами прежде
всего должен быть вверен на местах первен¬
ствующему сословию — дворянству. В соот¬
ветствии с этим рескриптом Толстому
пришлось переделать свой проект и за¬
менить в губернском училищном совете
архиерея не директором училищ, а гу¬
бернским предводителем дворянства, а в
уездном совете прежнего выборного предсе¬
дателя — не инспектором училищ, а уезд¬
ным предводителем дворянства. А так как
этот предводитель дворянства имел ближай¬
шее отношение к земству, то во многих
местах председатели советов оказались и
теперь на стороне земства.
Что касается до числа инспекторов, то
Толстому удалось увеличить это число толь¬
ко до двух инспекторов на губернию ввиду
финансовых затруднений.
Поэтому Министерству народного прос¬
вещения пришлось уже при Делянове в 80-х
годах продолжать ту борьбу, которую начал
Толстой. При Толстом борьба эта велась в
очень резких формах; земства иногда высту¬
пали по необходимости из границ скромной
власти, предоставленной им по уставу 1864
г. Столкновения происходили и должны
были, естественно, происходить; земства в
лице своих представителей входили, конеч¬
но, не только в обсуждение хозяйственной
стороны дела, но и в вопросы преподавания,
тем более что вопросы эти ставились часто
довольно остро, так как инспекторы вся¬
чески стремились ограничивать и урезывать
образование, получаемое крестьянскими
детьми в школах, и в этом отношении очень
портили установившиеся традиции. Между
тем в училищных советах те члены от зем¬
ства, которые по новому закону (1874 г.) как
будто не имели никаких прав и были пос¬
тавлены на второстепенное место по срав¬
нению с инспекторами народных училищ,
фактически получили неожиданно большое
значение благодаря изданию закона о всеоб¬
щей воинской повинности, потому что лиц,
желающих получить по этому закону льготу
четвертого разряда по образованию,
приходилось экзаменовать в начальных
школах, и так как школ было много, то,
очевидно, должны были на этих экзаменах
присутствовать все члены уездных
училищных советов по очереди. Таким обра¬
зом, и членов по выбору от земства
приходилось допустить к этой роли, и они,
являясь экзаменаторами, не могли уже быть
совершенно устранены от обсуждения пос¬
тановки учебной части в школах и могли
поэтому деятельно проявлять оппозицию
политике Министерства народного просве¬
щения в этом отношении.
В конце концов распря между земством
и агентами Министерства народного просве¬
щения обострялась иногда так сильно, что в
губерниях, где представители Министерства
народного просвещения особенно резко
стремились оттеснить земство от управления
школами, земства иногда отказывали в
ассигновании средств на содержание уже
открытых школ, а в 1879 г. в тверском
земстве состоялось даже постановление о
прекращении всякого отпуска денег на дело
народного образования. Неизвестно, чем бы
это кончилось, если бы не подошла эпоха
«диктатуры сердца» и если бы Лорис-
Меликову не удалось выхлопотать в 1880 г.
отставки графа Толстого. Только после этого
земству пришлось вздохнуть несколько сво¬
боднее, при более либеральных министрах
А. А. Сабурове и бароне Николаи, которые,
впрочем, продержались на своих постах
очень недолго (Сабуров с конца 1880 до
весны 1881 г., барон Николаи — с мая 1881
до мая 1882 г.)7.
309
ЛЕКЦИЯ XXXII
Развитие земских учреждений с 1866 по 1878 г.— Область деятельности земств. Их задачи и средства.—
Земские сборы и повинности во времена дореформенные-— Бюджеты земств.— Стремление к обложению
торговли и промышленности и столкновение на этом пути с правительством.— Расходы земств и рост этих
расходов.— Классовые интересы в земствах.— Вопрос о натуральных повинностях и раскладка земских
сборов.— Вопрос о податной реформе и проекты земств в этой области.— Борьба правительства с земством
и ограничение его деятельности:.
Я уже говорил, правда, в самых общих
чертах, при каких условиях пришлось
развиваться земскому самоуправлению, вве¬
дение которого в большей части так называ¬
емых земских губерний совпало с резкой
реакцией в правительственных сферах; я
упомянул мимоходом и о том, что реакция
эта очень сильно отразилась на положении
земства и выразилась в разного рода законо¬
дательных ограничениях, стеснизших дея¬
тельность земства, а затем вообще во
враждебных отношениях между земством и
правительственными административными
учреждениями, как центральными, так и
местными.
Теперь я намерен подробнее позна¬
комить вас с жизнью и деятельностью само¬
го земства, начиная с первых шагов. Для
этого необходимо, конечно, прежде всего
напомнить вам, хотя бы в самых общих
чертах, в чем заключалась самая сфера
деятельности земских учреждений, каковы
были те средства, которыми земство распо¬
лагало, и какова была та доля правительст¬
венной власти, которая земским
учреждениям была дана по закону, и затем
в какой мере они располагали этой властью
в действительности.
Органы земского самоуправления были
введены для заведования местным хозяйст¬
вом, губернским и уездным, для самостоя¬
тельного удовлетворения местных
общеземских нужд, при помощи средств,
которые были им даны, и пользуясь извест¬
ной долей правительственной власти, кото¬
рая была им предоставлена по закону. Вся
область деятельности земств указана во 2-й
статье земского положения 1864 г. Сюда
относятся прежде всего различные так назы¬
ваемые земские повинности: дорожная, под¬
водная, постойная, т. е. обязанность
содержать дороги в исправности, проводить
новые дороги в случае надобности, содер¬
жать так называемую земскую почтовую
гоньбу, т. е. земских почтовых лощадей и
станции для внутреннего сообщения в уез¬
дах, и затем отводить помещения для
чиновников, командируемых на места, и для
проходящих войск. К числу земских дел
отнесено и продовольственное дело, т. е.
забота о народном продовольствии; сюда же
отнесено и «общественное призрение»в
широком смысле слова — попечение о кале¬
ках, неимущих людях и вообще о лицах,
нуждающихся в общественной помощи, а
также и содержание соответствующих обще¬
ственно-филантропических учреждений.
Сюда же включено и попечение о развитии
торговли, промышленности и в особенности
сельского хозяйства на местах, а также стра¬
хование имуществ. Сюда же отнесено было
и попечение о народном здравии, т. е.
санитарно-медицинская часть на местах, и,
наконец, попечение о народном образовании
в губерниях и уездах, о постройке церквей
и содержании мест заключения.
Вот те задачи, которые очерчены 2-й
статьей земского положения. Надо сказать,
что почти все эти задачи не созданы вновь,
а существовали и раньше и, по крайней мере
в принципе, признавались и дореформен¬
ным законодательством. Те земские
повинности, о которых я упомянул, удовлет¬
ворялись и в дореформенное время при
помощи различных местных полицейско-
бюрократических и сословных учреждений,
которые пользовались для этого определен¬
ными земскими сборами, а затем имели в
своем распоряжении и весьма существенные
натуральные повинности, которые насе¬
ление отбывало по назначению губернских
и уездных властей для удовлетворения этих
нужд. Затем продовольственное дело на¬
ходилось опять-таки в заведовании целого
ряда отчасти бюрократических, отчасти сос¬
ловных учреждений, начиная от Комитета
министров вверху и вплоть до помещичьей
власти внизу. Что касается до попечения об
общественном призрении, то оно было сос¬
редоточено в ведомстве специальных бюрок¬
ратических установлений, учрежденных
еще Екатериной, именно губернских прика¬
зов общественного призрения, которые
обладали особыми капиталами, главным
образом образовавшимися из частных
пожертвований. На эти капиталы содер¬
жались так называемые благотворительные
310
учреждения в очень широком смысле слова,
потому что в то время благотворительными
учреждениями считались больницы и сумас¬
шедшие дома, а также и такие учреждения,
как рабочие и смирительные дома, т. е., в
сущности говоря; тюрьмы; в Которых содер-
жались известного рода преступники и
порочные элементы населения.
Что касается народного просвещения, то
первоначально, при Екатерине» предполага¬
лось, что им будут заведовать на местах те
же приказы общественного призрения, а
низшее образование, как вы знаете, ни в
чьем заведовании тогда не состояло, а
развивалось, как Бог послал, в самых
ничтожных размерах.
Какими же средствами и способами
должны были земства удовлетворять все эти
насущные нужды и исполнять все эти не¬
легкие повинности? До реформы земские
повинности, по закону 1851 г., по «Уставу о
земских повинностях», разделены были на
государственные и губернские, и соответст¬
венно этому и тот земский сбор, который шел
на удовлетворение этих повинностей,
делился на государственный и губернский
земский сбор. К числу первых повинностей,
государственных, отнесено было, во-первых,
содержание почтовых станций на больших
трактах, затем постройка и содержание
главных шоссейных дорог, магистральных
линий, затем содержание земской полиции,
содержание главнейших этапов и та особая
воинская повинность, которая называлась
рекрутчиной, т. е. содержание помещений
для призывавшихся рекрутов и доставка взя¬
тых рекрутов в те части, куда они были
назначены.
К числу вторых, т. е. повинностей, со¬
держимых на губернский земский сбор, бы¬
ло отнесено содержание так называемых
губернских дорог, второразрядных и третье¬
го разряда, содержание почтовой гоньбы,
квартирная повинность, содержание тех
чиновников разных местных казенных уч¬
реждений, которые заведовали перепиской
по делам о земских повинностях, расходы по
полюбовному межеванию, расходы на ос¬
попрививание и, наконец, выписка се¬
натских ведомостей, где публиковались
законы и правительственные распоряжения.
Вот те относительно немногочисленные ,
повинности, которые были отнесены на со¬
держание губернского земского сбора. Раз¬
меры земского сбора в 1814 г., когда впервые
была опубликована земская смета и когда
сбор этот не был разделен на государствен¬
ный и губернский, достигали 4 млн. 450 тыс.
руб., а через 50 лет выражались уже в цифре
23 млн. 900 тыс. руб. Из этой последней
цифры 19 млн. было отнесено на государст¬
венный сбор и только 4 млн. 800 тыс.— на
губернский сбор. При периодическом — раз
в три года — определении-тех сумм, которые
ассигновались, на государственные и гу¬
бернские земские повинности, составлялась
особая смета; составлялась. она Особым
комитетом о земских повинностях, где были
и общественные (конечно, сословные) пред-1
ставители, но который функционировал как
учреждение чисто бюрократическое. Дея¬
тельность его по составлению сметы была,
конечно, не широка; сметы должны были
составляться сообразно строго определен¬
ным штатам, никаких новых нужд без нового
законодательного определения в них вклю¬
чать было нельзя; затем сметы, составляемые
таким образом на местах, утверждались
каждый раз на три года законодательным же
порядком, а затем уже обращались к испол¬
нению на места. Исполнительными орга¬
нами по исполнению повинностей являлись
частью сословные, частью бюрократические
учреждения. Существовал и известного рода
общественный контроль, но существовал, в
сущности, лишь на бумаге, т. е. допущено
было в законе контролирование отчетности
со стороны представителей дворянства и
городских сословий, но на самом деле этот
контроль почти не практиковался и являлся
чистой фикцией.
При учреждении земств весь государст¬
венный земский сбор был удержан в распо¬
ряжении центральных органов
правительства, а на него, как мы видели,
приходилось больше трех четвертей всего
дореформенного земского сбора, и как раз
он весь целиком был удержан на те надоб¬
ности, на которые! он расходовался и раньше
и которые были изъяты из круга ведомства
земских учреждений. Взамен губернского
земского сбора в казну, который, конечно,
должен был прекратиться там, где были
введены земские учреждения, земства по¬
лучили право самообложения, т. е. право
налагать на местное население определен¬
ные налоги. Налоги эти, делившиеся на
губернский и уездный земский сбор, в
зависимости от того, какими учреждениями,
губернскими или уездными, она налагались,
по закону могли быть налагаемы как на
землю, так и на торгово-промышленные за¬
ведения; кроме того, целиком перешли в
руки земства и все те натуральные
311
повинности, которыми пользовались доре¬
форменные учреждения.
Вместе с этим переданы были земствам
из приказов общественного призрения вме¬
сте с состоявшими в их заведовании учреж¬
дениями и те капиталы на содержание
главным образом больниц, богаделен,
рабочих и смирительных домов и всех
остальных учреждений, которыми приказы
общественного призрения распоряжались.
Надо заметить, что, несмотря на то что
приказы общественного призрения не имели
никаких определенных доходов, взимаемых
с населения, все-таки капиталы, бывшие в
их распоряжении, и пожертвования, кото¬
рые они собирали, давали им возможность
содержать довольно значительное число ус¬
тановлений, в особенности если судить по
тогдашнему дореформенному масштабу.
Оказалось, что таких установлений, пере¬
шедших к земствам, было 785, причем из
числа их главнейшими были больницы, ко¬
торых было 519 с пятью отделениями и с 17
с лишним тыс. кроватей. Затем было около
1500 кроватей гв сумасшедших домах, кото¬
рых было всего 29. Внутреннее состояние
всех этих учреждений было, правда, ужас¬
ное. Всех капиталов приказов общественного
призрения, переданных земствам,
числилось около 9 млн. рублей; следователь¬
но, на все 33 губернии, где были тогда
введены земства, приходилось ежегодно до¬
хода на содержание всех этих учреждений
до 400 с небольшим тыс. руб., т. е. в сред¬
нем тысяч по 12—13 на губернию.
Что касается до продовольственного де¬
ла, то оно финансировалось и осуществля¬
лось при помощи разного рода складов и
капиталов, собиравшихся с населения в
виде, во-первых, натуральных запасов зерна
в общественные магазины, а затем и в виде
денежных капиталов, образовавшихся из
продажи части зерновых запасов и от
специального постоянного денежного сбора
( с 1842 г.). Эти капиталы, в размере тоже
около 9 млн. руб., были переданы земствам,
кроме сумм, отчисленных в общий продо¬
вольственный капитал, который остался в
распоряжении правительства и составлял
тогда около миллиона рублей в наличности
и 20 млн.— в долгах и недоимках за насе¬
лением.
Губернский земский сбор, который
собирался в губерниях, получивших самоуп¬
равление, исчислен был к 1 января 1864 г.
в 2,2 млн. руб. (из числа 4,8 млн. руб.,
приходившихся на все губернии, как
земские, так и неземские).
Земства открывались, как вы знаете, не
одновременно во всех 33 губерниях, где их
предназначено было открыть по положению
1864 г.1 Открытие их зависело от министра
внутренних дел, который должен был сооб¬
ражаться с имеющимися у него сведениями
о ходе в этих губерниях подготовительных
распоряжений. Поэтому, собственно, в
1865 г., т. е. в течение второго года после
опубликования закона о земском самоуправ¬
лении, земства были открыты лишь в 19
губерниях, в течение 1866 г.— еще в 9 гу¬
берниях, так что к 1 января 1867 г. земства
были открыты в 28 губерниях, к 1 января
1868 г.— в 30, к 1871— в 33 и, наконец, в
Уфимской губернии — после ее выделе.:"!
из Оренбургской — земство начало действо¬
вать в 1876 г.
Что касается бюджета этих земств, то,
разумеется, те средства, которые были в
дореформенное время расходуемы на мест¬
ные нужды, сразу оказались совершенно
недостаточными, так что мы видим, что в
1865 г., когда открыты были первые земства
в 19 губерниях, то уже тогда расходный
земский бюджет в этих губерниях достигал
5 млн. 600 тыс. руб. Затем, в 1867 г., когда
земства были открыты уже в 28 губерниях,
этот бюджет возрос до 10 млн. 309 тыс., а в
1868 г., при существовании земства в 30
губерниях, земский бюджет был уже 14,5
млн. руб., в 1871 г. он равнялся 21,5 млн.
руб., в 1876—30,5 млн. руб. и к 80-м годам,
несмотря на то что перед этим как раз была
пережита русско-турецкая война, которая в
значительной мере расстроила опять и
финансовое, и общее экономическое поло¬
жение России, земские сборы достигли 36
млн. руб. Таким образом, в 1880 г., т. е.
через 16 лет после опубликования земского
положения, земские сборы увеличились бо¬
лее нежели в 16 раз по сравнению с доре¬
форменным земским сбором на губернские
надобности; но несмотря на такой рост
земских сборов, если мы сравним их с теми
потребностями, которые предъявлялись к
удовлетворению самой жизнью, то увидим,
что и эти размеры роста земского бюджета
оказывались на практике совершенно недо¬
статочными.
Надо сказать, что земства с самого на¬
чала своей деятельности попали в очень
тяжелые условия. Независимо от реакции,
которая в это время распространилась в
стране и в особенности в правительственных
312
сферах и которая мешала в
административном и политическом отно¬
шении развитию деятельности земств, не
менее, если не более серьезным пре¬
пятствием являлись те вообще плохие фина¬
нсовые и экономические условия, в которых
тогда была Россия и о которой я вам расска¬
зывал, когда характеризовал деятельность и
планы тогдашнего министра финансов Рей¬
терна.
Ввиду этого земства с самого начала
встретили большие препятствия в развитии
своей деятельности. Вы помните, что состо¬
яние как крестьянского, так и помещичьего
хозяйства после крестьянской реформы
представляло настолько глубокий кризис,
что всякое увеличение обложения земли,
помещичьей или крестьянской, разумеется,
представлялось делом весьма трудным. И мы
видим, что в самом начале земской работы
один из самых преданных земскому делу
людей и, несомненно, один из лучших*
земских работников, князь А. И.
Васильчиков, так характеризовал тогдашние
русские условия:
«Русская земля,— писал он,— бедна,
потому что она, т. е. земля, почва, в букваль¬
ном смысле слова, платит сверх сил, сверх
того, что производит; потому что она
оплачивает высшие государственные пользы
сборами с низших разрядов плательщиков,
всего менее участвующих в выгодах государ¬
ственного устроения; потому что тягло част¬
ное, земское и казенное испокон веку лежало
и продолжало лежать в России на земле¬
делии, угнетая труд, и преимущественно
труд хлебопашества, т. е. ту самую ветвь
народной производительности, которая
наиболее требуется для возделывания и
оплодотворения необъятной площади Рус¬
ской империи.
Слияние сословий, улучшение повинно¬
стей, поощрение сельского хозяйства,— все
эти высокопарные заглавия, которые
подписываются на всех современных рефор¬
мах, сводятся окончательно к тому, чтобы
найти кроме земли и земледелия другие
источники доходности и распределить тя¬
гость сообразно этой доходности.
Этот труд, это раскрытие, может быть
произведено только посредством земских и
общественных учреждений, действующих на
полных правах местного самоуправления».
И вот что касается прежде всего исполь¬
зования права самообложения, то в самом
начале своей деятельности с этой точки
зрения земства были поставлены в невоз¬
можность взять с земли, именно при таком
тяжелом ее положении, сколько-нибудь
значительные доходы. Понятно, что первые
земские деятели, пользуясь в особенности
тем, что в их среде преобладали пред¬
ставители земледелия, а не представители
промышленности, попробовали эксплу¬
атировать в значительной меде промышлен¬
ность и торговлю. На первйх шагах своей
деятельности земства, несомненно, с чрез¬
мерным увлечением начали облагать торгов¬
лю и промышленность. Пользуясь тем, что в
законе на этот счет было сказано довольно
глухо и им предоставлялись довольно
обширные права, они начинают облагать в
некоторых местах гильдейские свидетельст¬
ва в 2 х/2 раза высшими сборами, нежели
сборы, взимаемые с них казной. В других
местах они начинают так сильно облагать
лесопромышленников, что те иногда сокра¬
щают свою деятельность и даже, по утверж¬
дению Министерства финансов,
разоряются.
Затем, в отношении фабрик и заводов
перед земствами возникает вопрос, на что
они могут налагать свои налоги: только ли
на доходность фабричных и заводских
зданий и на другую недвижимую собствен¬
ность или же и на те обороты, которые
совершают в этих заведениях промышлен¬
ные капиталы? И вот, истолковав свои права
в этом последнем смысле, земства начинают
весьма значительно облагать фабрики и за¬
воды.
Но, разумеется, уже в 1866 г., как только
земства обнаружили такие тенденции,
Министерство финансов, во главе которого
стоял тогда Рейтерн, всячески старавшийся
поощрять и оберегать крупную промышлен¬
ность, увидело в таких стремлениях земств
угрозу всем своим планам, не говоря уж о
прямом подрыве возможности обложения
этих же заведений и промышленного
капитала со стороны казны, которая, как вы
знаете, была в это время в очень трудном
положении. Поэтому Рейтерн с самого нача¬
ла поднял шум против такой деятельности
земств, и вот 21 ноября 1866 г. по
инициативе Рейтерна внезапно издан был
новый закон, который совершенно
уничтожил всякий произвол земств в этой
области. Именно, было установлено, что зем¬
ства, во-первых, могут облагать только
недвижимую собственность фабрик и заво¬
дов, совершенно в той же мере, в какой
облагается всякая другая недвижимая собст¬
венность в данном районе, совершенно не
313
касаясь торговых и промышленных капита¬
лов, имеющих в данных заведениях оборот
и обусловливающих высокую доходность
этих заведений. Что же касается торговых и
промысловых капиталов и предприятий во¬
обще, то земствам предоставлялось право
облагать только торговые и промысловые
свидетельства и документы, но не выше
10—25% того обложения, которое берет с
них казна. Таким образом, вместо того чтобы
получать в иных случаях в 2 1/2 раза боль¬
ше, чем казна, земствам была предоставлена
максймум четверть того обложения, которое
могло взиматься с этих заведений казною, а
с некоторых документов не более 10% ка¬
зенного обложения.
Это, разумеется, сразу поставило зем¬
ства в финансовом отношении в чрезвычай¬
но трудное положение, потому что оказалось,
что во многих местах у них была урезана
возможность расширять свой бюджет, так
как, хотя землю они могли облагать беспре¬
дельно, но, будучи сами представителями
земли, они знали, что много с нее взять
нельзя, а та сфера, где они думали взять
львиную долю, была для них закрыта зако¬
ном.
Земства чрезвычайно раздражительно
отнеслись к этому закону и увидели здесь
один из симптомов враждебного отношения
к своим задачам и деятельности со стороны
правительства, но едва ли были в этом даже
правы, потому что мы видели, что
инициатива в издании этого закона принад¬
лежала тому министру, который не был, в
сущности, реакционером и который, на¬
против того, был сторонником земского са¬
моуправления, но наложил свою руку на
самостоятельность земских учреждений в
данном случае просто из боязни, что они
подорвут возможность выполнения его обще¬
государственных финансовых планов.
На этой почве развилось много столкно¬
вений между земствами и правительством, и
здесь уже, конечно, достаточно ярко вы¬
разилось в дальнейшем и то реакционное
настроение правительства, которое вообще
так резко тогда проявлялось, так что,
например, в Петербургской губернии, где
земство особенно упрямо и резко протесто¬
вало против закона 21 ноября .1866 г., и
попробовало даже уклониться от его испол¬
нения, была принята по отношению к зем¬
ству максимальная кара: там на некоторое
время земство было закрыто и все его дело
передано в руки дореформенных учреж¬
дений. Это стеснение земских прав и
отнятие у земства важного источника
земских средств весьма разочаровало
многих и в значительной степени повлияло
на^упадок земской деятельности.
В это время, в сущности, главнейшие
задачи земств сводились, как вы уже видели
из только что мною перечисленного, прежде
всего к народному образованию, потребность
в котором сознавалась тогда так остро, затем
к улучшению попечения о народном
здравии, которое в дореформенное время
выражалось только в городских учреж¬
дениях (и то главным образом в больницах),
тогда как в сельских местностях отсутство¬
вала всякая медицинская помощь, а меры
предупредительные и защитные выражались
в оДном оспопрививании. Затем шли вопро¬
сы общественного призрения — вопрос о
призрении нищих в некоторых земствах ста¬
новился тогда особенно остро благодаря в
значительной степени тому, что как раз
после крестьянской реформы было выкинуто
на улицу много беспомощных людей в лице
бывших дворовых, освобожденных от крепо¬
стного права, но в то же время лишенных и
всякого имущественного обеспечения. Поэ¬
тому перед многими земствами этот вопрос
встал чрезвычайно серьезно в первые же
годы их деятельности2.
Но особенно серьезно и неотложно встал
перед земствами финансовый вопрос, воп¬
рос о том, как при, необходимости увеличить
свои доходы, в то же время не подорвать сил
тех плательщиков, которые эти доходы уп¬
лачивают. Земства очень хорошо сознавали,
что главная масса податной тяжести — в
действительности почти вся — лежала на
податных классах. Мы видели, какова была
раскладка сборов в момент введения земских
учреждений. Князь Васильчиков попытался
дать приблизительный расчет тех тягостей,
которые население несло до
реформирования земских повинностей. Для
этого он перевел на деньги существовавшие
натуральные повинности — по весьма, веро¬
ятно, преуменьшенной оценке,— и у него
вышло, что накануне введения земских ус¬
тановлений на удовлетворение земских
повинностей, земских нужд страна тратила
всего 35 млн. 598 тыс. руб. Как же распре¬
делялось взимание этих средств с насе¬
ления? Оказалось, что из этой суммы на 109
млн. дес. крестьянской земли лежало 35
млн. руб., на 70 млн. дес. помещичьей земли
лежало всего лишь 500 тыс. руб., а на 113
млн. дес. казенной земли лежало только 36
тыс. руб. Таким образом, казенная земля в
314
это время уплачивала земских сборов в
тысячу раз меньше, а помещичья — в 70 раз
меньше на десятину, чем крестьянская зем¬
ля. Вот до какой степени достигала неравно¬
мерность в этом распределении налоговой
тяжести между категориями плательщиков.
Ясное дело, что перед земствами сразу встал
вопрос, как урегулировать эти платежи, ко¬
торые им приходилось налагать на насе¬
ление, таким образом, чтобы освободить от
них наиболее бедное крестьянское население
— освободить его от той несообразно нерав¬
номерной тяжести, которая на него налага¬
лась, и в то же время освободить крестьян и
мещан и от тех натуральных повинностей,
которые, по закону, отбывали только подат¬
ные классы и которые закон не дозволял
налагать на сословия привилегированные.
Очевидно, что последнее место можно было
исправить по воле земства, только переведя
эти натуральные повинности в денежные,
т. е. установив вместо отбытия их натурой
соответственные денежные сборы. Вот этим
делом земствам и пришлось заняться в пер¬
вую голову после их открытия.
Но чтрбы представить себе вполне ясно
то положение, в котором находились земства
в финансовом отношении, надо еще
вспомнить те правила, которым они
подчинялись в отношении составления сво¬
его бюджета и в отношении именно бюджета
расходного. Все расходы земств разделялись
— и до сих пор разделяются — на обяза¬
тельные и необязательные. Обязательные
расходы — это прежде всего удовлетворение
тех, так называемых земских, повинностей,
которые перешли к земствам от дореформен¬
ного времени. Затем еще к этим повинностям
присоединились после реформы расходы на
содержание крестьянских учреждений
(мировых съездов и присутствий по кресть¬
янским делам) и расходы на содержание
мировой юстиции. Эти два расхода были
настолько значительны, что составляли
почти половину всех тогдашних обязатель¬
ных расходов. Что же касается того, какое
место все эти обязательные расходы
занимали в общей сумме расходных бюдже¬
тов земств, то это видно из цифр, которые я
вам сейчас сообщу. Из сметы 1868 г., когда
земства были открыты в 30 губерниях, на
обязательные расходы приходилось 63,6%.
Затем, по мере того как бюджеты земств
росли, конечно, процентное отношение обя¬
зательных расходов по всему расходному
бюджету становилось несколько более бла¬
гоприятным, т. е. обязательные расходы,
оставаясь абсолютно такими же, поглощали
несколько меньшую часть всего бюджета.
Так, в 1871 г. обязательные расходы сос¬
тавили уже 57%, в 1872 г.—55%, в 1873
г.—51%, в 1877—44,8%, в 1878 г. обяза¬
тельные расходы увеличились вследствие
войны, потому что приходилось содержать
турецких пленных, содержать своих ране¬
ных и т. д..— они поднялись до 46,5%, а в
1880 г. опять упали до 43%.
Все-таки вы видите, что и через 15 лет
после введения земских учреждений эти обя¬
зательные расходы составляют почти
половину всех земских расходов. К этому
надо прибавить, что земские учреждения
должны были с самого начала тратить весь¬
ма значительные средства на содержание
своих административных органов — на со¬
держание управ. Тут было жалованье членам
управ и их председателям — надо сказать,
вначале очень умеренное: председателям —
иногда 600 руб. в год, членам уездных управ
во многих местах —500—600 руб. в год,—
но ввиду незначительности первых земских
бюджетов и этот расход при всей умерен¬
ности окладов все-таки составлял вместе с
канцелярскими расходами около 19 % всей
сметы; так что если вы для 1868 г. к тем 63,6
%, которые тратились на обязательные рас¬
ходы, присоедините эти 19,2 %, то вы
увидите, что 82,8 % земских бюджетов рас¬
ходовалось на такие вещи, которые, собст¬
венно, отнюдь не. являлись удовлетворением
самых главных культурных нужд насе¬
ления,— тут нет расходов на народное
здравие, народное образование, агрономию
и вообще улучшение условий сельского хо¬
зяйства, промышленности и торговли. На
все эти, как и на остальные культурные
нужды, земства, таким образом, имели воз¬
можность тратить только 17 % своего бюдже¬
та. Поэтому на медицину им приходилось
тратить в 1868 г. 8%, на народное образо¬
вание — 5 %. Понятно отсюда, что земствам
приходилось в сфере народного образо¬
вания, например, изобретать такие системы,
как поощрительную, на которую потом очень
нападали и которая, действительно, оказа¬
лась очень неудачной,— она заключалась,
как вы видели, в том, что земства ассигно¬
вали средства на открытие школ не в полной
мере, а только в добавление к уже ассигну¬
емым, хотя бы и небольшим, суммам, со
стороны сельских обществ или волостей. Но
при тогдашнем положении крестьянства,
весьма плохом в финансовом и вообще эко¬
номическом отношении, при тогдашней его
315
некультурности трудно было ожидать, чтобы
крестьяне в какой-нибудь доле могли делать
эти ассигнования, так что земствам скоро
пришлось прийти к убеждению, что кресть¬
яне, может быть, и будут заводить свои
школы грамотности с пономарями и унте¬
рами вместо учителей, но что настоящие
школы земствам придется взять на себя
целиком. Но одно дело сознавать это, а
другое дело иметь средства на выполнение
этой задачи...
Точно то же по отношению к медицине.
Земства, как вы видели, получили от доре¬
форменного времени целый ряд больниц,
губернских в особенности, и немного уезд¬
ных. Никакой земской медицины не было,
не было не только никаких приемных покоев
и сельских больниц, но даже и амбулатор¬
ных помещений; не было возможности
принимать больных даже при помощи разъ¬
ездов. А в добавление к полученным, капита¬
лам и, следовательно, на развитие всей этой
необходимой помощи земствам приходилось
тратить только свои ничтожные крохи.
Отсюда понятно, что земства именно в эти
первые годы их деятельности и в
медицинском деле доходили до того, что
пробовали брать дополнительные доходы в
виде платы за рецепты и за отпускаемые
лекарства. Но, конечно, и это все было очень
скоро оставлено, и все эти приемы, конечно,
неумелые, отнюдь не свидетельствуют о том,
чтобы земства в той или иной степени не
осознавали тогда необходимости более
решительно приходить на помощь народу;
если они не могли развить так скоро этой
деятельности, то именно прежде всего бла¬
годаря своей нищете. Поэтому мне, во всяком
случае, представляются неправильными те
нарекания, которые в настоящее время дела¬
ются по адресу первых шагов тогдашних
земств в литературе, в особенности в
сочинении Б. Б. Веселовского, самом боль¬
шом и полном по истории земства, автор
которого утверждает, что на первых порах
деятельности земства в ней будто бы особен¬
но ярко сказывались классовые интересы,
отражавшие крепостнически-барские взгля¬
ды, которые тогдашние деятели земства
развивали и в крестьянском вопросе. Этот
упрек мне кажется в данном случае неспра¬
ведливым, потому что самыми влиятельными
деятелями в большей части первых земских
учреждений явились люди более или менее
идейные, которые руководились не своими
классовыми интересами, а теми стрем¬
лениями принести известную пользу народу,
которые в тот момент были довольно сильно
распространены в передовых слоях русского
общества. И мы видим в действительности
довольно много таких весьма идейно настро¬
енных и в то же время имевших значитель¬
ный запас жизненного опыта и необходимых
знаний людей, которые отдавали себя
целиком земской деятельности, отказываясь
для нее от всякой государственной службы
и вообще более блестящей, а иногда и более
широкой деятельности.
Если же существовали в то время и
классовые интересы в земской среде, то,
конечно, этому удивляться отнюдь нельзя:
ведь, конечно, земская среда была средой, в
которой по составу земских собраний, по
составу гласных землевладельческие классо¬
вые интересы могли и должны были прояв¬
ляться довольно ярко; и мы видели, до какой
степени ярко и сильно незадолго перед тем
эти интересы проявлялись в губернских
комитетах по крестьянскому делу, когда
помещичьи интересы затрагивались, по су¬
ществу, весьма резко. Однако в губернских
комитетах были затронуты не только кар¬
манные интересы помещиков, но и самое
существование помещичьего класса, и тогда
эти интересы проявились с особенной ярко¬
стью и силою. В сфере же деятельности
земских учреждений, конечно, и классовые
интересы имели свое значение, но они были
гораздо ничтожнее, чем в сфере вопросов,
рассматривавшихся в губернских комитетах
по крестьянскому делу, и поэтому про¬
явились здесь гораздо слабее.
Кроме того, надо сказать, что положение
тех земских деятелей, которые в то время
были во главе земств, в значительной сте¬
пени определялось еще тем, что с первых же
шагов им приходилось вести борьбу с
правительственной реакцией, с бюрок¬
ратией — центральной и местной — и не¬
сомненно, что те из них, которые были
наиболее сознательны по своей подготовке и
взглядам, хорошо понимали, что результат
этой борьбы, самая возможность ее ведения
и самый объем этой борьбы зависят от тех
отношений между народом и земством, от
того участия, которое примут или не примут
в этой борьбе сами народные массы, что,
между прочим, в свою очередь, зависит от
отношений между этими массами и зем¬
ством. Поэтому деятели эти хорошо
понимали, как важно освободить, даже с
этой боевой точки зрения данного момента,
массы от той тяжести, под которой они
находились. Им очевидно было, что вопрос
316
повышения культурного уровня масс насе¬
ления являлся вопросом, стоявшим вообще
на очереди в русской жизни, и что от его
разрешения зависела вообще возможность
правильного поступательного развития и
всяческого прогресса, и, в частности, прог¬
ресса политического, так что Het никакого
сомнения, что прогрессивные деятели, на¬
ходившиеся во главе значительной части
тогдашних земств, очень ясно и хорошо
понимали связь этих явлений и необ¬
ходимость действовать в земстве демок¬
ратически, в духе народных масс, потому
что иначе они должны были повиснуть в
воздухе и не смогли бы вести и своей тяжбы
с правящей бюрократией.
Вот почему эти классовые интересы,
особенно если разуметь под ними простые
карманные интересы (притом не бог весть
какого размера), не могли иметь особого
значения. Но, конечно, в состав земств, в
число земских гласных попадали разные
элементы, попадали и довольно заядлые кре¬
постники, и довольно малокультурные люди,
для которых вся эта сторона дела была
неясна и неинтересна, а иногда и прямо
антипатична и которым были ближе простые
карманные интересы и сохранение тех
привилегий, которые сохранить представля¬
лось еще возможным после уничтожения
главной, основной привилегии, после
падения крепостного права. Эти элементы,
конечно, боролись против всякого прог¬
рессивного движения в земской среде, и
когда, например, перед ними встал вопрос
об уничтожении натуральных повинностей,
о переводе их в денежные, т. е. о перело¬
жении главной тяжести — подводной и до¬
рожной повинностей — на все классы
населения, то против этого, разумеется, ока¬
зались лица, которые готовы были выдер¬
жать довольно значительную борьбу, и тут,
в действительности, происходила борьба
классовых интересов.
В этом отношении наиболее корыстно и
именно в защиту помещичьих интересов на¬
строенные гласные имели на своей стороне
то законодательство, которое тогда сущест¬
вовало и на которое они могли опираться.
При введении земских учреждений никаких,
собственно, новых правил о составлении
земских бюджетов прямо издано не было, а
в «Правилах о введении земских учреж¬
дений» была 108-я статья, которая содержа¬
ла ссылку на старый устав о земских
повинностях, а этот устав, изданный в кре¬
постное время, весьма значительную долю
отводил натуральным повинностям и стоял
на той, весьма определенней? fочке зрения,
что натуральные повинности могут отбывать
только низшие классы населения, податные
сословия, для классов же привилегирован¬
ных это представлялось в крепостное время
несовместным с их достоинством.
Поэтому, ссылаясь на эту статью «Вре¬
менных правил», некоторые наиболее косно
настроенные гласные заявляли, что прог¬
рессивные гласные желают лишить их неко¬
торых прав состояния, и с большим азартом
они отстаивали эти «права состояния», т. е.
свои привилегии.
Но надо сказать, что с самого начала
настроение в земстве создалось такое, что
побеждать начали во многих местах люди
прогрессивно настроенные, и мы видим, что,
несмотря на то что к 1868 г. из тех земств,
которые тогда были открыты, многие суще¬
ствовали только по нескольку месяцев, тем
не менее уже в этом году Vs часть тогдашних
земских уездов сделала постановление о пол¬
ном прекращении применения натуральных
повинностей, по крайней мере — дорожной,
и о замене их денежными сборами. Затем
это дело, идя иногда путем довольно упорной
борьбы, развивалось мало-помалу и в других
земствах,— конечно, в различных земствах
с разным успехом, но, как бы то ни было, к
середине 80-х годов в двух третях всех уездов
земских губерний все натуральные
повинности были заменены денежными сбо¬
рами, а из остальных уездов во многих
местах некоторые натуральные повинности
были заменены денежными, некоторые же
земства давали более или менее значитель¬
ные ассигнования на помощь населению в
отбывании сохранившихся натуральных
повинностей3.
Не менее важную и интересную иллю¬
страцию к этому вопросу представляет новая
раскладка земских денежных налогов, кото¬
рая была принята земствами. Я уже указы¬
вал, какова была правительственная
раскладка земских платежей и повинностей
в самый момент введения земских учреж¬
дений, когда десятина казенной земли обла¬
галась в тысячу раз меньше, а десятина
помещичьей — в семьдесят раз меньше, не¬
жели десятина крестьянской земли. Теперь
в этом отношении дело изменилось чрезвы¬
чайно резко. Именно, если вы возьмете
земские сметы 1868 г. в 14 млн. 570 тыс.
руб. и исключите отсюда доходы земств от
разных своих капиталов, то получится, что
все остальные сборы, составляющие, так
317
сказать, прямые (окладные) подати в зем¬
стве, составляли 12 млн. 840 тыс. руб. Из
них около 9 млн. 700 тыс. руб., или 75%,
ложилось на землю, остальные сборы расп¬
ределялись: в виде налогов на недвижимые
имущества в городах —3,4%, в виде сборов
с торговых и промышленных помещений,
фабрик и заводов — 8,3% и сбора с торго¬
во-промышленных документов—12,7%. Те
9 млн. 700 тыс., которые падали на землю,
распределялись так: с 75 млн. дес.
помещичьей, казенной и удельной земли
было взято 4 млн. 800 тыс. руб. и с 70 млн.
дес. крестьянской земли почти столько же4.
Ясно, что раскладка была совершенно
иная, чем прежняя, и распределявшаяся
несравненно равномернее. Поэтому прав был
князь Васильчиков, когда из этого заключал
(1871 г.), что «земские учреждения честно
исполнили свой долг». Действительно, о
сметах 1868 г. это вполне можно сказать.
Впоследствии критики земских бюджетов
указывали, что и тогда и в дальнейшем была,
однако, некоторая неравномерность в обло¬
жении помещичьей и крестьянской земли,
заключавшаяся в том, что если взять все
крестьянские и все помещичьи земли, то
окажется, что крестьянские облагались все
же несколько выше. Но* если несколько
внимательнее к этому отнестись, то будет
ясно, что сравнивается здесь не одно и то
же. Крестьянские земли — это почти все
обрабатываемые земли, а в числе
помещичьих земель было много бездоходных
тогда лесов и пустырей, которые не обраба¬
тывались; понятно, что эти категории земли
не могли выдержать одинакового обложения
с обрабатываемой землей, а если мы будем
сравнивать обложение одних обрабатывае¬
мых земель, то оно окажется довольно рав¬
номерным. Были даже такие уезды, как,
например, Новоторжский, в котором земство
прямо постановило, что крестьянские земли
вообще хуже помещичьих, а потому их надо
облагать меньше. Но это уже было, конечно,
благородное исключение; вообще же обло¬
жение крестьянских и помещичьих земель
было довольно равномерно, лишь в том гру¬
бом смысле, в каком это можно было
признать без правильного кадастра земель,
до которого было еще тогда далеко/
Затем, если мы сравним те способы
обложения или раскладки налогов, которые
мы встречаем в земствах, с теми способами
обложения, которые практиковались в то
время казной, то тут уже разница окажется
прямо, разумеется, в пользу земства. Не¬
смотря на то что во главе Министерства
финансов стоял с 1861 г. человек с довольно
прогрессивными взглядами, мы видим, что,
несмотря на это и не смотря на то, что перед
правительством еще со времени проведения
крестьянской реформы ставился ярко воп¬
рос о необходимости коренной податной
реформы, о невозможности поддержания
прежнего распределения налогов, всецело
складывавшего все прямые налоги на кре¬
стьян и мещан, что, несмотря на ясность
необходимости реформы в этом отношении,
Министерство финансов медлило с какой бы
то ни было реформой в этом направлении.
Податная комиссия, которая была уч¬
реждена еще в 1859 г., в течение целых 11
лет не давала никаких результатов своей
работы, и, мало этого, мы видим, что в том
самом докладе министра финансов в
1866 г., на который я уже ссылался, Рейтерн
говорит о крайней необходимости усилить
налоги и, указывая, что поземельный сбор
нельзя в этом случае усилить, потому что
помещичье хозяйство переживает кризис,
указывая, что чрезвычайно осторожно надо
обходиться и с повышением налогов на про¬
мышленные и торговые капиталы и заве¬
дения, приходит к изумительному
заключению, что из числа прямых налогов
единственный, который можно повысить, это
подушный сбор,—это несмотря на то, что он
ясно понимал всю неравномерность и не¬
справедливость этого сбора. Вместо того что¬
бы поставить вопрос об уничтожении этого
сбора, Рейтерн, таким образом, еще в
1866 г. ставит вопрос о развитии его, о
повышении его на 10 млн. руб. в год, а между
тем из его же мотивировки мы видим, как
этот сбор был тяжел для населения. Он
указывает в докладе, что если сравнить пос¬
тупление податей, наложенных на крестьян¬
ство, за пять лет, следующих
непосредственно после Крымской войны, с
поступлением их за пятилетие 1861—1866
гг., то оказывается, что в это второе
пятилетие, несмотря на повышение земского
государственного сбора на 22 копейки с
души, поступление податей не сделалось
хуже, а в некоторой степени сделалось даже
лучше, чем в предыдущее пятилетие, и это
уже дает ему цовод заключить, что если
наложить еще по 50 копеек с души, то,
может быть, население выдержит и это... а
раз можно, то и надо наложить эти 50
318
копеек! Вот результаты, к которым приходит
министр финансов в 1866 г.
Вся работа податной комиссии привела
также к весьма неожиданному результату;
именно, сознавая невозможность сохра¬
нения подушной подати, Министерство
финансов предложило ее заменить подвор¬
ной податью, которая лежала бы опять-таки
на том же податном населении. Но проект
этот поступил в 1870 г. на рассмотрение
земских собраний, и вот тут сказалась
разница между ними и бюрократией, хотя
бы и «просвященной». Почти все существо¬
вавшие тогда земские собрания с одушев¬
лением принялись за рассмотрение этого
проекта, и, несмотря на полную неосведом¬
ленность многих гласных относительно
теоретической постановки дела в сфере
финансовой науки, несмотря на полную не¬
подготовленность, тем не менее, подавляю¬
щее большинство земств пришло к тому, что
проект Министерства финансов подвергло
справедливому забракованию и выразило
единодушное заключение, что подушная
подать должна быть заменена повсеместно
подоходным налогом. Разумеется, этот подо¬
ходный налог проектировался иногда до¬
вольно неудачно или фантастически; очень
многие земства не доставили необходимых
сведений для его установления, и само
Министерство финансов довольно
правильно сослалось на то, что серьезное
обоснование подоходного налога может быть
сделано только тогда, когда будет произведен
кадастр всех имуществ и доходов, а
произвести это было тогда делом чрезвычай¬
но трудным и почти неисполнимым, так что
за этой невозможностью произвести кадастр
Министерство финансов довольно удачно
могло укрываться.
Земства составили свои проекты иногда
наивно, иногда малоисполнимо, но, во вся¬
ком случае, самая идея замены подушной
подати подоходным налогом была идеей
правильной. Поэтому я опять-таки считаю
очень неправильной ту критику, которой тот
же г. Веселовский подвергает работу земских
собраний в этом направлении. Он, с одной
стороны, упрекает земства за то, что они не
требовали замены подоходным налогом не
одной только подушной подати, а и всех
косвенных налогов. Для тех из вас, кто
слушал финансовое право и представляет
себе практическую возможность такой пере¬
мены, как замена всех прямых и косвенных
налогов одним подоходным, ясно будет, что
в 60-х годах разве самые наивные из земцев
могли выдвигать такой план. Ясна и доста¬
точна была идея замены подушной подати
подоходным налогом. В конце концов и этого
земствам провести не удалось, а выставлять
такую идею, как замена всех косвенных
налогов подоходным, можно было только без
всякой надежды на ее осуществление и во¬
обще на какие-нибудь практические пос¬
ледствия.
С другой стороны, г. Веселовский упре¬
кает все земские проекты замены подушной
подати подоходным налогом в том, что вре
они произвольно или непроизвольно
исходили из известных классовых интере¬
сов, которыми будто бы они диктовались. Он
это усматривает из того, что этот налог
сильнее всего лег бы на торгово-промышлен¬
ные капиталы,— во всяком случае, в боль¬
шей степени, чем на помещичьи имения.
Однако из этого не следует, чтобы все-таки
помещики, если они стояли на классовых
интересах, рады были на свои имения нала¬
гать, в какой бы то ни было степени, сборы
в замену налога, который до тех пор платили
не они, а крестьяне. Ясно, что земские
гласные в данном случае, независимо от
классовых интересов, а исходя из одной
только точки зрения благоразумной спра¬
ведливости и государственного такта,
ставили правильно вопрос о замене подуш¬
ной подати подоходным налогом. Здесь нет
никакого доказательства господства классо¬
вых интересов; можно только одно признать,
что классовые интересы здесь не были
чересчур резко задеты и не помешали глас¬
ным помещикам правильно решить данный
вопрос,— а решение его, во всяком случае,
было в общем правильно. К сожалению, надо
сказать, что, несмотря на единодушие
земских собраний, несмотря на то, что воп¬
рос у них был поставлен, казалось бы, твер¬
до, эта замена подушной подати подоходным
налогом совершена не была. Проекты земств
в министерстве были положены под сукно,
и вопрос остался без движения вплоть до
80-х годов, когда он был решен гораздо менее
удовлетворительно, чем предполагали
земские собрания в 1870 г.
Таковы были первые шаги земской дея¬
тельности в сфере финансовой. Что касается
отношений земств с правительством, то надо
сказать, что самые первые шаги земств
развивались, в сущности, без особых помех,
и до 1866 г., до выстрела Каракозова,
правительство, хотя подчас и довольно косо
смотрело на земства и в особенности на
319
попытки некоторых собраний расширить
сферу деятельности и придать ей политиче¬
ское значение,— тем не менее, до 4 апреля
1866 г. оно даже такие ходатайства земств,
как ходатайства об «увенчании здания» и о
созыве «всероссийского земства», встреча¬
ло, правда, отрицательно, с определенным
отпором, но все же довольно мягко, и, за
исключением Херсонской губернии, где бЬш
неуживчивый губернатор, и некоторых
других, где были кое-какие трения между
земствами и администрацией, в общем отно¬
шения между правительством и земством
были довольно гладкие.
Но после 1866 г. и в особенности после
той борьбы, которая развязалась между
правительством и земствами на почве закона
21 ноября 1866 г., сейчас же отношения
земства и правительства начали, и притом
быстро, портиться, и мы видим, что уже в
1867 г. издан был несомненно направленный
против земства весьма определенный закон
об усилении, с одной стороны, председатель¬
ской власти в земских собраниях, причем
председатели собраний (предводители дво¬
рянства) были облечены не только усилен¬
ной властью, но на них налагалась и
определенная ответственность перед
правительством в деле устранения таких
вопросов, которые не подлежали ведению
земств с точки зрения правительства. С
другой стороны, была ограничена гласность
земских собраний, стеснено печатание всех
земских отчетов и земских докладов. Они
допускались с этих пор к печатанию только
после губернаторской цензуры, причем это
даже было распространено и на печатание
их в общей прессе. Все земские доклады и
отчеты о земских собраниях кроме общей
цензуры должны были подвергаться цензуре
губернатора. Это вызвано было тем, что на
первых порах, в особенности в своих пред¬
положениях, земства, естественно, критико¬
вали дореформенное земское хозяйство и
губернаторские действия, а к такой критике
губернаторы не привыкли и стали утверж¬
дать, что при таких условиях им невозможно
поддерживать спокойствие и порядок в гу¬
берниях... Эти губернаторские вопли, при
тогдашнем настроении правительства, легко
были услышаны и привели к изданию вы¬
шеупомянутого закона 13 июня 1867 г.
Благодаря этим ограничениям, которые
в 1868—1869 гг. еще усилились различными
частными стеснениями и нарочитым систе¬
матическим пренебрежением Министерства
внутренних дел к земским ходатайствам и
заявлениям, самдя привлекательность зем¬
ской деятельности сразу понизилась и из
земств ушли многие очень полезные
работники, разочаровавшись в возможности
сколько-нибудь полезной и продуктивной
работы в земских собраниях.
Самый состав земских гласных под
влиянием этих обстоятельств заметно
понизился, и между ними действительно
стали давать себя чувствовать не только
классовые интересы, но иногда и более
низменные стремления. В это же время на¬
чалась та железнодорожная горячка, то
грюндерство, о котором я упоминал в своем
месте, когда излагал вам историю постройки
железных дорог. Изменился состав лиц,
шедших на земские выборные должности, в
председатели и члены управ; появились
«партии» — не в смысле идейных
политических партий, а в смысле подбора
лиц, стремившихся проводить тех или иных
кандидатов к «общественному пирогу».
Именно в это тяжелое время реакции и
пошел в ход этот термин, показывавший, что
на общественное дело деятели известного
пошиба стали смотреть именно как на до¬
ступ к лакомому пирогу, причем в лучшем
случае аппетит их удовлетворялся повышен¬
ными окладами, а в худших доходило и до
злоупотреблений. Даже то обстоятельство,
что от земских собраний зависело заме¬
щение значительного числа довольно хорошо
оплачиваемых и доставлявших известный
общественный вес и почет должностей (кро¬
ме членов и председателей управ земские
собрания избирали мировых судей в уездах,
а с 1874 г. — и непременных членов
присутствий по крестьянским делам),— да¬
же это обстоятельство в ту тяжелую эпоху
русской общественной жизни способствова¬
ло в глазах многих все большему усилению
взгляда на земство как на весьма соб¬
лазнительный «общественный пирог». По¬
нятно, что лишь исключительные единичные
люди могли в этой атмосфере продолжать
идейную борьбу и, несмотря ни на что,
посвящать себя невидной, но плодотворной
культурной работе, всячески затруднявшей¬
ся притом различными полицейскими тор¬
мозами. При таких обстоятельствах
прогрессивное направление могло удержать¬
ся, конечно, лишь в немногих губернских и
уездных земствах.
320
ЛЕКЦИЯ XXXIII
Открытие новых судебных учреждений и первые их шаги.— Борьба с ними Валуева.— Реакционная
деятельность гр. Палена.— Начало искажения судебных уставов.— Положение и направление прокура¬
туры.— Особый порядок возбуждения и решения дел по государственным преступлениям.— Изменение
в положении адвокатуры и вопрос об изъятии различных дел из компетенции суда присяжных.— Поло¬
жение печати в пореформенное время.— Главные органы печати и литературные направления после
1866 г.— Настроение общества.
В прошлый раз я говорил вам о первых
шагах и дальнейшем развитии в конце 60-х
и в 70-х годах земских учреждений в
России. Сегодня я остановлю ваше внимание
на истории новых судов и освобожденной от
предварительной цензуры печати на первых
порах их деятельности, в конце 60-х годов и
первой половине 70-х годов.
Собственно судебные уставы, как вы
помните, были утверждены 20 ноября
1864 г. Но это еще далеко не означало
немедленного введения судебной реформы.
Вопрос о введении новых судов подвергнут
был довольно длительному первоначальному
обсуждению сперва в Комитете министров,
потом в особой комиссии и затем в Государ¬
ственном совете, и только после этого уже
было издано особое повеление о введении их
в действие.
Еще с 1862 г., когда соединенные депар¬
таменты Государственного совета обсуждали
основные положения судебной реформы, они
ясно себе представляли, что введение новых
судов потребует значительных расходов. То¬
гда расходы эти намечались единовременно
в количестве 9 млн. руб., и департаменты
Государственного совета при этом не сомне¬
вались, что как не велика эта сумма, но она
будет дана, так как расход этот был в их
глазах не только необходим, но и про¬
дуктивен, даже с точки зрения финансовой
политики, потому что только при улучшен¬
ном судопроизводстве, при правильном
обеспечении правосудия возможно развитие
того кредита, государственного и частного,
которое составляло предмет попечений
финансового ведомства. Но, тем не менее,
когда явилась необходимость вводить судеб¬
ные учреждения, положение казны было на¬
столько трудным, что со стороны
Министерства финансов встретились за¬
труднения не только в ассигновании 9 млн.,
но даже и более скромной суммы, которая
потребовалась бы на введение судебных ус¬
тавов лишь в нескольких округах. Кроме
недостатка денег совершенно правильно был
констатирован и недостаток подготовленных
11 Зак. 271
людей для введения всей реформы, потому
что ввиду особенно несменяемости, которая
предоставлялась по закону новым судебным
деятелем, разумеется, и назначение их дол¬
жно было быть сделано с особой
осмотрительностью и являлось особенно
ответственным.
Вот те несомненно серьезные основания,
которые заставляли правительство затруд¬
няться с немедленным осуществлением
реформы. Здесь нельзя подозревать каких-
нибудь побочных соображений, которые бы
просто с реакционной точки зрения делали
нежелательным для правительства введение
только что утвержденной реформы: слишком
серьезны были потребности, выдвинувшие
судебную реформу. Поэтому ясно было, что
при введении ее потребуется копромисс, и,
можно сказать, что из этой неизбежности
компромисса правительство вышло довольно
удачно, потому что наиболее вредный комп¬
ромисс, на который оно могло бы пойти, был
в данном случае избегнут. Этим вредным
компромиссом, представлявшимся, однако,
в тогдашних условиях возможным, было вы¬
сказанное предложение ввиду отсутствия
уверенности, что вновь назначенные лица
окажутся на высоте положения, не лучше ли
на первое время отменить несменяемость
судей. Разумеется, такая отмена несменяе¬
мости судей в самый момент введения судеб¬
ной реформы была бы самым существенным
для нее ударом и сразу скомпрометировала
бы дело, тем более что неминуемо были бы
в таком случае понижены и сами требования
осмотрительности и тщательности при выбо¬
ре новых судебных деятелей, так как было
бы известно, что назначенный персонал мо¬
жет быть сменен. Поэтому нужно приветст¬
вовать со всех точек зрения то решение не
изменять общих принципов судебной рефор¬
мы, на котором правительство тогда оста¬
новилось.
Что касается финансовых затруднений,
то было высказано два мнения — одно кн.
Гагарина, председателя Комитета
министров, другое министра юстиции За¬
мятина. Гагарин предлагал ввести новые
321
суды во всех судебных округах империи, но,
ввиду недостатка средств, ограничить их
состав. Это представлялось бы тоже довольно
опасным, потому что суды тогда проявляли
бы недостаточную энергию, прежде всего
быстрота решений была бы поколеблена, а
он,а являлась, конечно, одной из важных
черт судебной реформы,— обещан был суд
скорый, правый и милостивый.
Другое мнение — мнение Замятнина —*
было при данных условиях более практично,
а именно: он предлагал ввести без всякого
сокращения судебные уставы, но пока лишь
в двух округах — Петербургском и Москов¬
ском. Это требовало затраты вместо девяти
лишь трех миллионов рублей, и в конце
концов на это Министерство финансов дол¬
жно было дать свое согласие. Государь
приказал, впрочем, предварительно
обсудить оба мнения в особой комиссии, в
которую вошли многие из участников разра¬
ботки судебной реформы. Здесь, по
большинству голосов, было принято мнение
Замятнина, хотя в комиссии было и
меньшинство наиболее пламенных сто¬
ронников реформы во главе с сенатором
Зарудным, который был одним из самых
главных создателей этой реформы. Это
меньшинство полагало, что необходимо
именно единовременное, повсеместное вве¬
дение новых судебных учреждений, и если
уж нет достаточных средств, то лучше
отсрочить все введение судебной реформы.
Теперь надо сказать, что слава Богу, что
мнение этого меньшинства, людей, несом¬
ненно преданных делу, не получило торже¬
ства, потому что при той реакции, которая
тогда началась, Бог знает, в каком виде были
бы введены впоследствии судебные уставы,
если бы не были они введены в 1866 г.
В конце концов Государственный совет
тоже присоединился к мнению большин¬
ства, т. е. к мнению министра юстиции
Замятнина, и было постановлено, что 17
апреля 1866 г. новые учреждения будут вве¬
дены в обоих столичных округах.
Оказалось, что эти полтора года были
сроком весьма кратким и для выбора лично¬
го персонала, и даже для подыскания новых
помещений для новых судов. Ведь новые
суды, в которые вводили гласное
разбирательство, требовали и таких поме¬
щений, которые бы могли вмещать хоть
некоторое количество публики; требовались
залы, которых не было в прежних судах,
которые были и не нужны в них ввиду их
канцелярского способа разбирательства. В
конце концов в Петербурге и в этом случае
помог делу постоянный сторонник всех пре¬
образований военный министр Д. А.
Милютин, который уступил для нового суда
один из арсеналов у Литейного моста, где и
теперь помещаются, как вы знаете, судебные
учреждения столицы. Помещение это
пришлось тогда переделывать, и только в
начале 1866 г. оно могло быть открыто для
действия и заседания судебных установ¬
лений.
В Москве нашли помещение в Кремле,
выстроенное в конце XVIII в. архитектором
М. Ф. Казаковым, где имелся прекрасный
зал-ротонда, который был, однако, отдан
впоследствии под провиантский склад, а
затем под архив и который поэтому
пришлось тоже в значительной степени
ремонтировать1.
Между тем, прежде чем введены были
судебные учреждения, 4 апреля последовал
выстрел Каракозова, и, пользуясь паникой,
охватившей высшие сферы, реакционеры
сейчас же стали выражать мнение, что нуж¬
но отсрочить введение судебных учреж¬
дений. Но, к счастью, император Александр
устоял на своем принятом раньше решении,
и 17 апреля судебные учреждения в Петер¬
бургском и Московском округах были откры¬
ты.
Надо сказать, что весь личный состав
новых учреждений, за который так опа¬
сались, был подобран чрезвычайно удачно.
Для этих двух округов приходилось на¬
значить около 400 лиц, начиная с судебных
следователей и до сенаторов кассационных
департаментов включительно. Замятнин с
толком употребил оставшееся время; он, пос¬
тоянно ревизуя старые суды, обращал
внимание на всех выдающихся и интересу¬
ющихся делом лиц, в особенности среди
молодых и второстепенных чиновников ста¬
рого суда, и, действительно, сумел подобрать
блестящий состав, так что когда были откры¬
ты эти первые суды, которые сразу начали
применять принципы состязательного про¬
цесса, то оказалось, что, несмотря на
новизну дела, несмотря на знакомую новым
судьям лишь теоретически постановку ново¬
го процесса, никаких существенных ошибок
сделано не было, и, наоборот, процессы с
самого начала пошли с необыкновенным
блеском.
Надо сказать, что и в публике отношение
к новым судам было очень повышенное;
публика проявляла к ним чрезвычайный
интерес, который можно сравнить разве с
322
тем интересом, который вызывали в наше
время первые заседания первой Государст¬
венной думы. Публика массой посещала эти
новые судебные установления, и, несмотря
на полное сочувствие этому новому делу,
несмотря на хорошее отношение ее к этим
новым учреждениям, председателям было
весьма трудно поддерживать должный поря¬
док, потому что новые формы судопроизвод¬
ства, никогда неслыханные дотоле
блестящие речи, которые публике
приходилось выслушивать, делали то, что
она, вопреки правилам судебных учреж¬
дений, шумно выражала свое одобрение, так
что председателям приходилось постоянно
умерять ее пыл.
Очень горячо отнеслась к первым шагам
новых судов и печать. Интересно отметить,
как приветствовал эти новые суды один из
самых талантливых тогдашних
публицистов, который впоследствии сделал¬
ся их наибольшим гонителем. Я говорю о
Каткове, который тогда, хотя и подавшись
довольно сильно направо, еще не сделался
полным реакционером. Катков тогда был
сторонником новых судов, он писал:
«С этим преобразованием входит в нашу
жизнь совершенно новое начало, которое
положит явственную грань между про¬
шедшим и грядущим, которое не замедлит
отозваться во всем... Действие его не
ограничится только сферой собственно су¬
дебных установлений; как тонкая стихия,
оно разольется повсюду и всему даст новое
значение, новую силу. Суд, отправляемый
публично и при участии присяжных, будет
живою общественною силою. Суд не¬
зависимый и самостоятельный, не подлег
жащий административному контролю,
возвысит и облагородит общественную
среду, ибо через него этот характер не¬
зависимости сообщится и всем проявлениям
Ьбщественной жизни. Только благодаря но¬
вовведению то, что называется законною
свободою и обеспечением права, будет уже
не словами, а делом... Вот какому великому
делу полагается теперь основание, вот до
чего суждено было дожить нам, вот что
предоставляется живущему ныне поколению
утвердить и ввести в силу»2.
И в другой статье, в 1867 г., уже после
того, как суды проявили свою полную под¬
готовленность в проведении этих принципов,
тот же Катков писал:
«Поистине, едва верится, чтобы в столь
короткое время,— он писал это 27 марта
1867 г.,— так крепок и так успешно приня¬
11*
лось дело столь важное и столь мало похожее
на прежние наши порядки, начиная с основ¬
ной мысли и до мельчайших подробностей.
История не забудет ни одного имени, свя¬
занного с этим великим делом гражданского
обновления России»3.
Так заканчивал он эту статью; теперь
едва верится, что это слова Каткова, который
впоследствии не находил выражений, чтобы
обрушиваться на эти новые суды и чтобы
охарактеризовать достаточно ярко то их
участие в общей крамоле, которое они потом,
по его мнению, в ней приняли... Но тогда
это был, как выразился один из историков
судебной реформы, медовый месяц этой
реформы4, и все деятели ее, как выразился
один из членов новой магистратуры, извест¬
ный теперь А. Ф. Кони, вкладывали в эту
деятельность свою первую любовь, первую
любовь к той сфере общественной деятель¬
ности, которая в это время была наиболее
свободна5. Это была несомненная идиллия,
которая, конечно, и не могла в тот момент,
в условиях разыгравшейся реакции, долго
продолжаться. И мы видим, что довольно
скоро в этом медовом месяце появляются уже
различные недоразумения и шероховатости,
которые и должны были положить ему конец.
Прежде всего явилось резкое недоволь¬
ство правительства, в особенности министра
внутренних дел Валуева, теми приговорами
судебных учреждений, которые последовали
по делам о нарушении цензурного устава.
Такие дела возникли уже в 1866 г. Первое
из них, в котором судился А. С. Суворин,
тогда тоже бывший либералом, за книгу
«Всякие», прошло сравнительно благополуч¬
но для новых судов: автор был присужден к
легкому наказанию, а книга изъята из обра¬
щения. Но уже следующий процесс, против
редактора «Современника» А. Н. Пыпина и
автора статьи «Дело молодого поколения»
Ю. Г. Жуковского, кончился неблагополуч¬
но. Дело разбиралось без присяжных, но и
коронный состав нового суда признал, что
здесь не было никакого преступления, и
вынес оправдательный приговор. Валуев был
совершенно взбешен и, признавая подобный
приговор недопустимым, утверждал, что
председателя суда, Мотовилова, надо
уволить в отставку, несмотря на принцип
несменяемости.
Императору Александру помогло удер¬
жаться на этот раз на почве закона, может
быть, то обстоятельство, что Мотовилов был
в отпуску и приговор суда был вынесен в его
отсутствие. Поэтому кончилось дело только
323
тем, что прокурор подал апелляционный
отзыв и дело перешло в судебную палату, а
здесь Пыпин и Жуковский были приговоре¬
ны к недельному аресту; вопрос же об
уничтожении самой книги журнала не имел
уже значения, так как в это время «Совре¬
менник» был, независимо от этой статьи,
навсегда закрыт по высочайшему пове¬
лению.
Затем нашумело дело некоего Протопо¬
пова, мелкого чиновника, который обвинял¬
ся в оскорблении действием одного из своих
начальников, вице-директора департамента.
И вот, к ужасу Валуева, суд присяжных
после экспертизы врачей признал Протопо¬
пова невменяемым, действовавшим в
припадке умоисступления, и потому вынес
ему оправдательный приговор. Это оконча¬
тельно взбесило Валуева, а тогдашняя
реакционная печать, в частности особенно
резко газета «Весть», стала выдвигать на вид
«революционность» новых судов. Дело еще
более омрачилось, когда та же газета «Весть»
систематически стала подбирать частые
оправдательные приговоры и частое нало¬
жение легких взысканий мировым судьям по
делам об оскорблениях городовых. В этом
тоже были усмотрены революционные
симптомы.
Наконец, в начале 1867 г., когда в петер¬
бургском земстве происходили публичные
прения по поводу нового закона, сузившего
права земства в отношении обложения, когда
произносились в земском собрании горячие
речи, причем одну из таких речей произнес
сенатор кассационного департамента Сената
М. Н. Любощинский, участвовавший в соб¬
рании в качестве гласного, то император
Александр, по докладу Валуева, в пылу не¬
годования решил уволить этого сенатора от
службы. Министр юстиции Замятнин стал,
однако, доказывать императору Александру,
что он не сможет сделать этого без прямого
нарушения закона, и Александр с неудо¬
вольствием, может быть, в первый раз в
жизни, убедился, что и его власть имеет
предел и, по-видимому, действительно
ограничена как будто законом. Сенатор
> остался на своем посту, но министру
юстиции, который не пользовался несменя¬
емостью, пришлось подать в отставку. За¬
мятнин и его товарищ Стояновский были
уволены от должностей столь же внезапно,
как в 1861 г. были уволены Ланской и
Милютин после издания крестьянской
реформы. Теперь особенно важен был выбор
заместителя министра юстиции. Следуя со¬
ветам графа Шувалова, шефа жандармов,
который явился тогда душою реакции, Алек¬
сандр избрал министром юстиции человека,
совершенно чуждого юстиции и имевшего
опыт в совершенно другой сфере,— графа
К. И. Палена, который в то время был
псковским губернатором, а раньше вице¬
директором департамента полиции и оказал¬
ся до такой степени неосведомлен в сфере
вверенного ему министерства, что временно
исполнение его обязанностей, за
отсутствием и товарища министра, было
возложено на князя Урусова, заведовавшего
тогда II отделением собственной его величе¬
ства канцелярии, а Пален должен был не¬
сколько месяцев подготовляться.
Однако скоро уже он выступил очень
самоуверенно и сразу взялся критиковать те
судебные уставы, которые были отданы под
его охрану и которых применением он дол¬
жен был заняться. Еще не вступив в долж¬
ность министра юстиции, он в Москве имел
совещание с тамошней прокуратурой, ища в
ее среде поддержки тем реакционным
мнениям, которые он собирался проводить.
В виде пробного шара он высказал тут, что,
по его мнению, чрезвычайно неосторожно
предоставлять несменяемость молодым лю¬
дям, назначаемым судебными следовате¬
лями, что здесь может быть допущена масса
ошибок, а между тем несменяемость их не
дает возможности поправить эти ошибки6.
Однако Пален не нашел при этом никакого
сочувствия в среде тогдашней московской
прокуратуры, и все ее члены, напротив,
удостоверили, что персонал судебных следо¬
вателей действует великолепно и что
никаких ошибок не замечается.
Тем не менее, Пален настоял на своем
и так как все же признано было неудобным
тогда прямо приступить к отмене одного из
основных принципов судебной реформы,
именно начала несменяемости судебных
следователей, то министр пошел обходным
путем и выхлопотал высочайшее повеление,
которым ему предоставлялось право не на¬
значать судебных следователей, а только
исправляющих их должность чиновников,
которые, как таковые, несменяемостью, ко¬
нечно, не пользуются. Таким путем судеб¬
ные следователи с самого начала и
лишились фактически своей несменяе¬
мости, и этот обходной путь впоследствии
очень твердо установился в практике
Министерства юстиции, и вплоть до нашего
почти,времени принято было не назначать
судебных следователей, а назначать испол¬
324
няющих их должность, причем некоторые из
них пребывали в качестве «исправляющих
должность» в течение двадцати лет и более.
Представителем правительственной
власти в судебном процессе, по уставам 20
ноября, является прокуратура, непосредст¬
венно подчиненная министру юстиции (он
же генерал-прокурор) и не пользующаяся
правом несменяемости. Но так как та же
прокуратура является и вообще специаль¬
ным стражем законности и охранителем за¬
конных прав и законной свободы и
неприкосновенности частных лиц от всяких
незаконных посягательств администра¬
тивной власти, то очевидно, что для того,
чтобы достойным образом выполнять эту
свою роль, прокуратура должна быть
проникнута сознанием своей независимости
от местной административной власти. Это
сознание могло бы в ней тем прочнее
воспитываться, что рекрутироваться она
должна была в лице младших своих членов
— товарищей прокурора окружного суда —
из младшего персонала судейского звания,
пользовавшегося по закону правом несменя¬
емости,— из судебных следователей. Понят¬
но поэтому, насколько могло отразиться и на
составе прокуратуры фактическое отнятие у
судебных следователей их прерогативы не¬
сменяемости. Ведь судебные уставы
являлись своего рода Habeas corpus act от;
они впервые в России устанавливали, что
никто не может быть наказан без суда, что,
как было сказано в первой статье общих
правил уголовного судопроизводства (в
«Основных положениях»), «никто не может
быть наказан за преступление или просту¬
пок, подлежащие ведомству судебных мест,
не быв присужден к наказанию приговором
подлежащего суда, вошедшим в законную
силу». Но тут же было определено, что
административные власти принимают меры
в установленном законом порядке к предуп¬
реждению и пресечению преступлений. Ког¬
да эти статьи обсуждались в комиссии,
вырабатывавшей судебные уставы, то один
из самых ревностных сторонников реформы
— А. М. Унковский, бывший тверской
предводитель дворянства, в напечатанной
им тогда статье указывал, что статьи эти по
неопределенности своей редакции дают
повод сомневаться, не будут ли они не¬
правильно истолкованы. Он писал, что ука¬
зание на «подлежащие ведомству судебных
мест» преступления и проступки может
подать мысль, что существуют какие-то пре¬
ступления и проступки, их ведомству не
подлежащие7. Он говорил далее, что
принятие административной властью мер
к предупреждению и пресечению преступ¬
лений может привести к нарушению
чиновниками интересов частных лиц, а ведь
чиновники у нас, в сущности, неответствен¬
ны, так как даже привлечение их к суду
может быть сделано исключительно по пос¬
тановлению их начальства. Поэтому Ун¬
ковский тогда же указывал, между прочим,
что необходимо было бы для поддержания
всего значения гражданских гарантий, дава¬
емых судебными уставами, установить
ответственность должностных лиц перед ча¬
стными лицами, потерпевшими от их пре¬
ступлений по должности. Это, однако, не
было принято.
Охрана прав частных лиц в первую
голову предоставлялась прокурорскому над¬
зору; на страже личных прав граждан явля¬
лась, таким образом, как я уже сказал,
прокуратура, от которой и зависела большая
и меньшая обеспеченность гражданских
прав отдельных лиц. Ввиду этого чрезвычай¬
но важным обстоятельством являлся самый
подбор прокурорских властей и установ¬
ление среди них традиций сознания своей
самостоятельности и независимости от
администрации.
Пален, наоборот, старался все время,
пока он был министром юстиции, именно
воспитывать прокурорские власти в самом
чиновничьем духе, духе уловления шедших
свыше веяний и следования тем внушениям,
которые вдут оттуда, и это отражалось, ко¬
нечно, и на отношениях, которые созда¬
вались между прокурорами и
губернаторами, потому что при введении
новых независимых судов прокуроры, кото¬
рым была вверена охрана прав частных лиц,
постоянно должны были сталкиваться и с
губернаторской властью, и с ее агентами, и
мы видим, действительно, что эти столкно¬
вения проходят красной нитью через все
70-е и 80-е годы.
И вот министерство юстиции в лице
графа Палена всегда внушало прокурорам,
что они не должны идти на противодействие
губернаторской власти и, наоборот, должны
действовать в полном соответствии ее видам.
Разумеется, все это отражалось очень суще¬
ственно на применении судебных уставов и
на укоренении самого духа их в местной
жизни. Мы видим, что наряду с деятельно¬
стью судов развивается в это время — воп¬
реки прямому смыслу судебных уставов —
огромная карательная деятельность со сто¬
325
роны административных властей и учреж¬
дений. В особенности это ярко заметно в
отношении крестьянства, где продолжала
процветать порка и всякие
административные расправы именно в каче¬
стве тех мер предупреждения и пресечения,
которые так неопределенно были фор¬
мулированы в упомянутой выше статье
основных положений. И в этом случае под¬
бор лиц прокурорского надзора был чрезвы¬
чайно важен, потому что от них главным
образом зависело прекращение этих зло¬
употреблений и произвола полиции и
администрации, которые сперва имели мес¬
то при усмирении крестьянских волнений,
а потом стали обычными и при простом
поддержании «общественной тишины и спо¬
койствия». Это же отражалось и на деле
освобождения неправильно заключенных
полицией лиц и вообще на восстановлении
прав тех лиц, которых права нарушались
административным произволом.
Несомненно, что именно при Палене
благодаря настойчивому проведению его
политики в этой сфере самый состав проку¬
рорских властей систематически портился,
а ведь из прокуроров, в свою очередь,
набирались и судьи, потому что дальнейшая
карьера лиц прокурорского надзора заклю¬
чалась в переходе в судебную палату и
Сенат, и, следоваельно, личный состав всех
этих учреждений и всей магистратуры
зависел в значительной мере от состава про¬
курорских властей. И мы, действительно,
видим, что общий состав магистратуры не¬
уклонно, хотя и постепенно, понижался при
Палене и при последующих продолжателях
его политики.
Кроме этого, по отношению к судебным
установлениям при Палене пошел в ход
целый ряд так называемых новелл, т. е., в
сущности, добавлений и изменений закона,
которые являлись в принципиальном отно¬
шении несомненными его искажениями. Из¬
дание таких новелл началось еще с 1866 г.
уже после процесса Пыпина и Жуковского.
Валуев настоял, чтобы дела о* литературных
преступлениях и проступках судились не
окружными судами, а судебными палатами
в первой инстанции. Это еще была довольно
невинная по своему значению новелла, но
при Палене дело пошло гораздо дальше;
именно в 1871 г., когда уже проявились
первые симптомы распространения под¬
польного революционного движения, после
нечаевского процесса по инициативе Палена
и шефа жандармов Шувалова состоялось
коренное изменение и порядка расследо¬
вания, и дальнейшего прохождения всех дел
о государственных преступлениях; именно
установлено было, что все дела о государст¬
венных преступлениях расследуются в пер¬
воначальной стадии процесса взамен
предварительного следствия, жандармами, а
не судебными следователями, лишь при
участии прокурорских властей. Расследо¬
вания, сделанные жандармскими офице¬
рами, через прокурора судебной палаты и
министра юстиции поступают, по этому за¬
кону, прямо на высочайшее разрешение,
причем каждое такое дело может быть на¬
правлено одним из трех путей: или по высо¬
чайшему повелению оно может быть
передано в судебные установления и тогда
должно начинаться вновь с предварительно¬
го следствия, но такого направления эти дела
почти никогда не получали, исключая разве
тех, в которых неизбежность сурового
обвинительного приговора была несомненна,
или государь мог повелеть окончательно
прекратить дело, или, наконец* третий путь,
к которому и прибегали на деле наиболее
часто, был путь административного разре¬
шения дела — при помощи администра¬
тивной ссылки в места более или менее
отдаленные. Этот административный путь
мотивировался чрезвычайно лицемерными
соображениями; указывалось, что
правительство должно принимать его пото¬
му, что по нашему уголовному кодексу нака¬
зания за государственные преступления так
сильны, что для преступников, из которых
многие юностью своею вызывают к себе
снисхождение, единственной возможностью
оказать такое снисхождение и являлось
решение дела административным путем,
причем вместо каторги и ссылки на посе¬
ление лица эти могут попадать во временную
административную ссылку без ограничения
в правах. Лицемерность этих соображений
обнаружилась уже вскоре, когда был поднят
вопрос не о смягчении, а об усилении не¬
сколькими степенями положенных в законе
наказаний за принадлежность к рево¬
люционным сообществам, что и было осуще¬
ствлено законом 1874 г.
Самый порядок обсуждения тех дел о
государственных преступлениях, которые
были передаваемы судебным установлениям,
в свою очередь, постоянно изменялся в отно¬
шении подведомственности их той или дру¬
гой инстанции. Сперва они должны были
рассматриваться судебными палатами, за¬
тем они были переданы на рассмотрение
326
особого присутствия Сената, а по новелле
1878 г., когда правительство обеспечило себе
долголетним подбором лиц возможность
большого влияния на членов судебных
палат, эти дела опять были переданы в
судебные палаты. Затем в том же 1878 г., эти
дела были переданы военным судам с тем
чтобы при их разбирательстве применялась
статья 279 военно-судного устава, которая
почти по всем случаям требовала смертной
казни, причем в 1887 г. был издан еще
особый циркуляр, где военным судам прямо
запрещалось применять другие меры нака¬
зания, кроме смертной казни, а если они
находили основания для смягчения пригово¬
ра, то это могло достигаться лишь ходатай¬
ствами их о смягчении приговора при
конфирмации.
При той реакции, которая в это время
овладела правительством, и при той сильной
борьбе, которая развивалась рево¬
люционным движением, можно удивляться,
что правительство там поздно обратилось к
военным судам. Но это объясняется тем, что
военные суды были преобразованы Д. А.
Милютиным, и в течение 70-х годов, пока
Милютин был министром, их состав был
таков, что правительство опасалось, что оно
менее сильно может влиять на эти суды, чем
на общие, при том составе гражданских
судей, который в это время был подобран и
воспитан Паленом. Уже это одно свидетель¬
ствует о той порче судебных установлений,
которая Паленом была достигнута.
В числе тех изменений, которые в это
реакционное время были предприняты в су¬
дебных уставах, видное место занимает
поход против адвокатуры, против того нового
сословия присяжных поверенных, которое
было совершенно неизвестно в дореформен¬
ное время и которое теперь сразу было пос¬
тавлено в весьма самостоятельное положение
по судебным уставам. Не говоря уже о той
важной и вполне самостоятельной роли, ко¬
торая предоставляется адвокатуре в самом
процессе при состязательной его форме, в
самой организации сословия присяжных
поверенных был проведен довольно полно
принцип самоуправления. По судебным ус¬
тавам дела дисциплинарного характера, де¬
ла о простуйках, совершенных в своей
профессиональной деятельности теми или
другими адвокатами, подлежали рассмот¬
рению советов присяжных поверенных, а не
общих судебных установлений, если только
прямо не было оснований для привлечения
того или другого адвоката к суду за какое-
нибудь уголовное преступление. Точно так
же принятие в сословие зависело от самих
советов при соблюдении известных, законом
определенных условий, как в отношении
юридической подготовки кандидата, так и в
отношении выполнения известного стажа, в
качестве помощника присяжного поверенно¬
го.
Адвокатское сословие, независимые со¬
веты присяжных поверенных, независимое
поведение адвокатов в суде сразу вызвали
нарекания, в особенности со стороны
Министерства внутренних дел. И граф Па¬
лен со своей стороны не преминул начать
старания к «обузданию» адвокатов, и вот мы
видим, что прежде всего первые нападки
делаются на их самоуправление, и при вве¬
дении судебной реформы в новых округах, в
провинции, уже сословие присяжной адво¬
катуры подчиняется, согласно изъятиям, ус¬
тановленным в 1874 г., окружным судам и
судебным палатам, а не особым советам.
Затем, в 1877 г., вырабатывается даже Па¬
леном проект о предоставлении министру
юстиции права исключения из сословия.
Этот проект, однако, не прошел тогда в
Государственном совете.
Наконец, стали собираться в это время
тучи и над важнейшей стороной новых ус¬
тановлений — над судом присяжных. Со¬
бран был значительный материал в
Министерств^ юстиции о сравнительно
большом будто бы числе оправдательных
приговоров суда присяжных по делам, тре¬
бовавшим несомненного обвинения, и вот
стала настойчиво проводиться мысль о том,
чтобы не только изъять целый ряд дел из
ведения суда присяжных, что уже было сде¬
лано в значительной мере и раньше, но
прямо об уничтожении суда присяжных во¬
обще, и в 1878 г. только, может быть,
записка, составленная по этому поводу
А. Ф. Кони, который долго был председате¬
лем Петербургского окружного суда, собрал
по этому вопросу большой материал
относительно деятельности суда присяжных
и обладал, таким образом, и прямыми
статистическими данными, и подавляющей
массой личных наблюдений, заставила гр.
Палена усомниться в верности ходячего
мнения о суде присяжных, распространен¬
ного как в публике, так и в Министерстве
юстиции. Подача этой записки, во всяком
случае, заставила Палена поколебаться.
Таким образом, мы видим, что поход сперва
не увенчался успехом, он возобновился с
327
большой силою в 80~х годах, но об этом речь
впереди.
Обращаясь к положению печати в этот
реакционный период, я прежде всего хочу
сообщить вам несколько данных о первых
шагах освобожденной от предварительной
цензуры печати. 1 сентября 1865 г., когда в
первый раз, столичные по крайней мере,
органы печати вышли без предварительной
цензуры, это вызвало с их стороны востор¬
женные статьи, несмотря на то что они
нимало не скрывали от себя трудности сво¬
его положения по новому уставу и нимало не
думали сомневаться в тех чрезвычайно не¬
радостных и очень серьезных угрозах, кото¬
рые новый закон содержал по отношению к
освобожденной будто бы печати.
Мы видим все-таки, что 1 сентября 1865
г. в передовых статьях тогдашних газет гос¬
подствующей нотой была нота радости и
облегчения, и И. С. Аксаков, например, ко¬
торый немало терпел от прежней пред¬
варительной цензуры, вымарывавшей ему
постоянно целый ряд мыслей и выражений
из его статей, напечатал прямо гимн облег¬
чения по поводу выхода его «Дня» без пред¬
варительной цензуры.
«...Наконец-то,— писал он,— сегод¬
няшний номер выходит без предварительной
цензуры. Сегодня, принимаясь за передовую
статью, мы знаем, что прочтем ее в печати
в том самом виде, в каком мы ее напишем;
сегодня мы не обязаны сообразоваться со
вкусом, доблестью и миросозерцанием «гос¬
под, команду на заставах и шлагбаумах
имеющих»... Сегодня кошмар, в образе цен¬
зора, не станет мешать нашей работе,
спирать дух, давить ум и задерживать перо,
и мы получаем неслыханное и невиданное
право: не лгать* не кривить словом, го¬
ворить не фистулой, а своим собственным
природным голосом.. .»8.
Но радость была непродолжительная.
Очень скоро пришлось убедиться, что и при
новом законе далеко до освобождения даже
от административного произвола. Во-пер¬
вых, что означало освобождение от пред¬
варительной цензуры? По Временным
правилам 1865 г., ежемесячный журнал,
выходивший «без предварительной цензу¬
ры», должен был все-таки за два дня до
своего выхода иметься в полном виде у
цензора, так, чтобы цензор или цензурный
комитет могли задержать его до выхода в свет
или вырезать из него ту или другую статью
или страницу; провинциальные же журналы
и газеты очень долго оставались под цензу¬
рой, и только в Киеве «Киевлянин» был от
нее освобожден.
Затем, печать, якобы освобожденная от
предварительной цензуры, отнюдь не осво¬
бождалась от административных воз¬
действий. Обыкновенно ведь печать,
освобожденная от предварительной цензуры
и подчиненная цензуре карательной, подвер¬
гается преследованиям в форме уже судеб¬
ной, и в данном случае предполагалось, что
за нарушение временных правил журналы и
газеты главным образом будут привлекаться
к суду. Но после нескольких неудачных
процессов правительство это! путь оставило
и воспользовалось целым рядом
административных кар, которые ему по
правилам предоставлялись. Прежде всего
это были так называемые «предостере¬
жения». Слово это звучит очень мягко, но по
правилам 1865 г. журнал или газета, по¬
лучившие два предостережения и за¬
служившие третье, должны были быть
приостанавливаемы на время от двух до
восьми месяцев, что было уже очень тяжелой
карой. Кроме того, предостережениям велся
счет до приостановки газеты или до какого-
нибудь всемилостивейшего манифеста, а не
начинался каждый год сначала, так что,
например, журнал, получивший предостере¬
жение в 1866 г. и затем, скажем, в 1870 г.
второе, имел уже над собой дамоклов меч,
который мог «спирать дух» его редактора
или издателя в течение иногда нескольких
лет.
Затем, в руках цензурного ведомства
была еще иная возможность бить издание по
карману. Оно имело право лишать газеты
печатания частных объявлений, и это, ко¬
нечно, было равнозначно самому крупному
денежному штрафу, который притом, опять-
таки, налагался в порядке административно¬
го усмотрения.
Наконец, когда Валуева заменил в
1868 г. Тимашев, который пробыл
министром целых десять лет, то при нем
положение печати сделалось еще более труд¬
ным. Тимашеву показалось, что та власть,
которая предоставлялась по правилам 1865
г. администрации, еще недостаточна; поэто¬
му и по отношению к законодательству о
печати был издан целый ряд новелл. Так, 14
июня 1868 г. было в незаконном порядке
—через Комитет министров, а не через Го¬
сударственный совет — проведено правило,
по которому за вредное направление журнал
мог быть лишен права розничной продажи,
а ведь для газет это условие, без которого они
существовать не могут, так как многие газе¬
ты больше расходятся в розничной продаже,
чем путем абонементной подписки. Нако¬
нец, в 1871 г. было установлено увеличение
срока, за который «бесцензурные» журналы
328
должны были представляться на просмотр,
а именно не за два дня, как было по
правилам 1865 г., а за четыре; точно так же
и книги, которые печатались без пред¬
варительной цензуры, должны были за неде¬
лю представляться в цензурный комитет, и,
таким образом, цензор мог подробно разоб¬
рать их содержание и потребовать тех или
других изменений или совсем не допустить
выхода книги в свет. В 1873 г. было установ¬
лено еще новое ограничение печати: было
предоставлено министру внутренних дел за¬
прещать печати касаться любого вопроса
внутренней или внешней политики. Так как
в это время очень страстно и резко обсуж¬
дался вопрос о реформе средней школы, то
журналы и получили запрещение говорить
что бы то ни было о предположениях
правительства в этой сфере. Запрещения эти
могли налагаться совершенно произвольно,
причем если журнал, получивший такое за¬
прещение, нарушал его, то он мог быть
совершенно без всякого предостережения
приостановлен на время до трех месяцев.
Вот те новеллы 70-х годов, которые
сильно изменили к худшему положение
печати. При этом надо сказать, что когда
издавались временные правила 1865 г., то
они названы были временными ввиду того,
что новые суды тогда еще не были введены,
и правительство опасалось, что при старых
судах трудно будет правильно осуществлять
судебные преследования против печати, и
для окончательной переработки временных
правил в постоянный закон оно хотело по¬
лучить некоторый опыт от применения су¬
дебной репрессии к печати. Опыт наступил
очень скоро, и правительство убедилось, что
при судебном порядке ему нелегко будет по
своему произволу удерживать печать от
неприятных ему суждений. Поэтому оно ста¬
ло избегать возбуждения дел о печати в
судах; а вопрос об издании постоянного
закона о печати долго оставался без
движения. Правда, в 1869 г. была образована
особая комиссия под председательством кня¬
зя Урусова, которая должна была выработать
новый окончательный закон о печати. Про¬
работав два года, эта комиссия выработала
целый ряд новых постановлений, мало
отличавшихся, впрочем, от Временных
правил 1865 г., но так как все же она
полагала несколько облегчить положение
печати, то работы этой комиссии не удовлет¬
ворили правительство и не были даже вне¬
сены в Государственный совет, а временные
правила так и остались действующим зако¬
ном в течение сорока лет. В течение целых
сорока лет печати приходилось руководство¬
ваться этими правилами, дополненными
притом рядом стеснительных постанов¬
лений, проведенных при Тимашеве, и позд¬
нее — в 80-х годах — при Толстом!
В составе и направлении самой печати
за это время произошли следующие глав¬
нейшие перемены. Славянофилы, несмотря
на свои верноподданнические убеждения,
несмотря на то, что они признавали основ¬
ные устои старого русского государственного
строя: самодержавие, православие и народ¬
ность,— тем не менее постоянно терпели
препятствия в распространении своих
мнений и идей. Один из ярких представите¬
лей этого направления Юрий Самарин дол¬
жен был за границей в 1867 г. издать
сочинения наиболее правоверного славя¬
нофила Хомякова и тогда же стал там же
печатать свое издание «Окраины России».
Когда появился первый том этого сборника,
то Самарин получил высочайший выговор.
Что касается Ивана Аксакова, который
наиболее ярко выражал славянофильское
направление в периодической печати, то его
постигла в конце 60-х годов не менее тяже¬
лая участь. Газету «День» после ряда
приключений он еще довел до естественной
смерти сам, закрыв ее в 1866 г. ввиду ощу¬
щавшейся им потребности во временном
отдыхе; но когда в 1867 г. он попробовал
издавать новый журнал «Москву», то на него
посыпались частые и разнообразные кары.
В течение одного года журнал этот был
приостановлен после ряда предостережений
— три раза —, и в конце концов, по пред¬
ставлению Тимащева, решено было в
Комитете министров его совершенно за¬
крыть. Правда, Сенат предоставил тоща
Аксакову защищаться против министерско¬
го постановления тяжебным путем, и он
даже выиграл свое дело в Сенате, но решение
Сената не было единогласным, и поэтому,
так как дело производилось в старых депар¬
таментах Сената, оно было перенесено в
Государственный совет, и здесь в конце
концов было все-таки постановлено журнал
«Москву» прекратить. Не ожидая конца это¬
го дела, Аксаков стал издавать новую газету
«Москвич», но на нее посыпалось такое
количество кар, что он должен был закрыть
и ее к концу года. С 1868 г., таким образом,
фактически прекращается для славя¬
нофилов всякая возможность иметь свой
печатный орган. Правда, впоследствии Ко¬
шелев основал в 1872 г. журнал «Беседу»,
но это был только уже отчасти славя¬
нофильский орган, здесь участвовали и
люди других направлений. Впрочем, и этот
журнал после конфискации и сожжения
двух книжек тоже прекратил свое существо¬
вание через гбд.
329
Точно так же лишь отчасти примыкал к
славянофильству журнал «Заря», изда¬
вавшийся Н. Н. Страховым в 1870 г. и вы¬
ражавший в сущности, мнения
«почвенников»; он приостановился в 1871 г.
Что касается журналистики радикаль¬
ного направления, то, как вы видели, в
1866 г. и «Современник», и «Русское слово»
были закрыты особым высочайшим пове¬
лением навсегда,и в течение целых полутора
лет никто не решался возобновить их
традиции. Только к концу 1867 г. нашелся
охотник продолжать традиции «Русского
слова», Благосветлов, которым и был осно¬
ван новый журнал «Дело», где стали высту¬
пать вновь Писарев, Шелгунов, Зайцев и
другие сотрудники «Русского слова». Но
Писарев скоро поссорился с Благосветло-
вым, а затем, в 1868 г., утонул, купаясь в
море, и с ним исчезла главная сила этого
направления; Зайцев эмигрировал вскоре за
границу, и выразителем писаревского на¬
правления остался только Шелгунов, кото¬
рый, в сущности, далеко не был полным
представителем нигилистических взглядов.
Что касается «Современника», то его
традиции были восстановлены в 1868 г.
«Отечественными записками», которые
были арендованы у Краевского Некрасовым,
и с 1868 г. под общей редакцией Некрасова,
Елисеева и Салтыкова должны были воск¬
ресить направление «Современника». Впро¬
чем, из состава прежней редакции
«Современника» в этот журнал не
вошли А. Н. Пыпин, Ю. Г. Жуковский и
М. А. Антонович. В «Отечественных
записках» (под новой редакцией) особенно
ярко стали проявляться народнические
идеи. Это направление сделалось здесь гос¬
подствующим и в 70-х годах достигло такой
односторонности, что журнал этот, стоя на
почве народнической доктрины, отказывался
от всяких политических идеалов в ближай¬
шем будущем и, не обинуясь, принавал меч¬
ты о конституционном устройстве своего
рода барской затеей, из-за которой не стоит
ломать копья, утверждая, что настоящим
вопросом времени является лишь улучшение
положения народных масс.
В 1866 г. появилась, как я уже
упоминал, новая еженедельная газета «Не¬
деля» под редакцией доктора Конради,
причем фактически редактором была его
жена Е. И. Конради, несомненно, одна из
самых выдающихся тощашних женщин-
писательниц. Хотя «Неделя» для отвода глаз
правительству объявила, что не придержива¬
ется взглядов ни одной из крайних партий,
но несомненно, что она проводила также
идеи народничества, причем самым выда¬
ющимся сотрудником ее был П. Л. Лавров,
который скоро стал одним из главных осно¬
воположников народничества и о котором
нам придется еще не раз упоминать.
Что касается либералов-конституцио-
налистов, то, конечно, в настоящем смысле
этого слова вопросы о конституции прямо не
могли в то время обсуждаться; по настро¬
ению же своему органом наиболее, так ска¬
зать, сочувствующим этому направлению,
явился возникший в 1866 г. «Вестник Евро¬
пы» Стаеюлевича. В первые два года своего
издания это был, впрочем, не политический
журнал, а специальный исторический
сборник, выходивший раз в три месяца со
статьями только исторического содержания;
но уже в 1868 г. он сделался политическим
и литературным журналом.
1 «Русский вестник» Каткова, который
раньше занимал позицию «Вестника Евро¬
пы», т. е. позицию органа идей европейско¬
го либерализма, склонялся в это время все
больше и больше направо вместе с «Мос¬
ковскими ведомостями», которые издавались
Катковым и Леонтьевым. Правда, Катков в
это время еще не достиг того безусловного
реакционного образа мыслей, который им
развивался позднее, в 80-х годах; в это время
он особенно резко нападал на нигилистов,
сепаратистов и на всяких инородцев — на
поляков в особенности — ив окраинных
вопросах защищал ультрапатриотические,
шовинистические и обрусительные
принципы. Резко выступая против
нигилистического и революционного на¬
правления, к числу крайних революционе¬
ров он относил теперь и Герцена, и еще с
1862 г. всячески старался облит^ его ядом и
грязью. Но, как вы видели, по отношению к
великим реформам 60-х годов Катков
занимал в конце 60-х и в начале 70-х годов
еще либеральную позицию, отстаивая и не¬
зависимость судов, и самостоятельность ме¬
стного самоуправления против притеснений
Министерства внутренних дел.
Наконец, что касается крепостнического
и в то же время олигархического направ¬
ления, которое выражалось газетой «Весть»,
то эта газета За отсутствием платных
подписчиков, с одной стороны, и с другой
стороны, введу притеснений, которые и она
'# своей деятельности встречала со стороны
правительства, так как она была все же
органом олигархически-конституционным, в
1869 г. решила закрыться, и только спустя
несколько лет взял на себя продолжение
части ее задач «Гражданин» князя Мещер¬
ского, который существует и до сих пор и
является и теперь выразителем дворянских
вожделений и ярь*м врагом того демок¬
330
ратического строя, который явился резуль¬
татом преобразований 60-х годов.
Что касается ежедневных газет, то в 60-х
годах и в начале 70-х первое место занимали
«Московские ведомости» Каткова. Пока они
не склонились окончательно к крайнему
реакционному направлению, они являлись
наиболее влиятельным и имевшим наиболь¬
шее число подписчиков ежедневным орга¬
ном. Но мало-помалу уже в это время наряду
с ними начинает пробиваться влияние
петербургского «Голоса» Краевского, кото¬
рый был основан в 1863 г. при содействии
Головнина и являлся сперва субсидируемой
правительством либеральной газетой, поче¬
му и не пользовался особым успехом, так как
связь его с правительством была своевремен¬
но разоблачена Катковым. Но после выхода
Головнина в отставку и после того, как
«Голос» занял оппозиционную позицию по
отношению к Толстому, особенно когда его
редактором сделался с 1871 г. известный
историк Бильбасов, «Голос» все более и
более становился главенствующим либе¬
ральным органом печати, окрашенным,
впрочем, иногда легким славянофильским
налетом, особенно в статьях А. Д. Градо-
вского и кн. А. И. Васильчикова.
Важное место до середины 70-х годов
занимали и «С.— Петербургские ведо¬
мости», издававшиеся при Академии наук,
но арендованные и редактировавшиеся
В. Ф. Коршем. Благодаря упорным своим
нападкам на Толстого, они вызвали против
себя чрезвычайные преследования, и в
1875 г. Академия, по требованию Толстого,
отобрала право аренды у Корша и передала
его в более сговорчивые руки. Силы,
группировавшиеся около Корша, в числе
которых был тогда еще молодой А. С. Су¬
ворин, очень яркий и резкий тогда либерал,
разделились между двумя изданиями: между
«Биржевыми ведомостями» Полетики, с те¬
перешними «Биржевыми ведомостями»
ничего общего не имевшими и просущество¬
вавшими до конца 70-х годов, и «Новым
временем», которое основал в 1876 г. Су¬
ворин; но последнее недолго поддерживало
традиции либерализма, которому Суворин
служил в «Петербургских ведомостях»Кор-
ша, а скоро стало сворачивать направо и
колебаться в разные .стороны.
В Москве большую силу приобрела во
второй половине 70-х годов газета «Русские
ведомости», которая образовалась в 1868 г.
из «Нашего времени» Н. Ф. Павлова, но
после смерти Павлова в 1865 г. перешла к
сотруднику его Скворцову и стала с 1873 г.
органом выдержанного либерально-демок¬
ратического направления, после того как в
состав ее редакции вступили молодые про¬
фессора-экономисты, придерживавшиеся
либерально-демократического направления
во главе с А. И. Чупровым и А. С. Поснико-
вым9.
Вот и все наиболее выдающиеся органы
печати, существовавшие тогда. Что касается
настроения общества в это время, то надо
сказать, что оно было с 1866 г. чрезвычайно
угнетенным. Только один раз, именно в
1870 г., появились кое-какие симптомы
оживления, и связаны они были с
различными событиями. С одной стороны,
в этом году была проведена городовая рефор¬
ма и в это же время была предрешена и
объявлена реформа воинской повинности на
новых всесословных началах. Эти реформы
как будто бы давали повод думать о возвра¬
щении правительства на путь реформ. С
другой стороны, в это же время, как вы уже
видели, передан был земствам на обсуж¬
дение чрезвычайно важный вопрос о подат¬
ной реформе, и это оживило и отчасти даже
окрылило надеждами на перемену курса
земскую среду. Наконец, в это же время
русская дипломатия сделала удачный шаг,
добившись устранения ограничений, уста¬
новленных по Парижскому трактату 1856 г.
в отношении прав России на Черном море.
Совокупность всех этих обстоятельств
вызвала некоторый подъем в среде общества,
и этот подъем выразился даже в форме
подачи особого адреса государю от имени
московской городской думы. Адрес этот был
редактирован московскими славянофилами:
он сочувственно приветствовал возвращение
правительства к реформам и выражал
ожидание дальнейших либеральных
начинаний в отношении освобождения
печати, установления свободы совести и цер¬
ковной свободы. Разумеется, написан он был
весьма лояльно. Ввиду того что он харак¬
теризует тогдашнее настроение общества, я
приведу его вам почти целиком. Вслед за
выражением патриотической радости по
поводу отмены стеснений наших прав на
Черном море в нем было сказано:
«Какие бы испытания ни грозили нам
ныне, они — мы уверены — не застанут
Россию неприготовленною, они, несомнен¬
но, найдут Россию тесно сомкнутою вокруг
Вашего престола.
Но с большею верою, чем в прежние
времена, глядит ныне Россия на свое буду¬
щее, слыша в себе непрестанно духовное
обновление. Каждое из Ваших великих пре¬
образований, совершенных, совершаемых и
чаемых, служит для нее, а вместе с тем и
для Вашего Величества, источником новой
крепости. Никто не стяжал таких прав на
331
благодарность народа, как Вы, Государь, и
никому не платит народ такою горячею
признательностью. От Вас принял он дар и
в Вас же самих продолжает он видеть на¬
дежнейшего стража усвоенных ему вольно¬
стей, ставших для него отныне хлебом
насущным. От Вас одних ожидает он и
довершения Ваших благих начинаний и пер-
вее всего — простора, мнению и печатному
слову, без которого никнет дух народный и
нет места искренности и правде в его отно¬
шениях к власти; свободы церковной, без
которой недейственна и самая проповедь;
наконец, свободы верующей совести — этого
драгоценнейшего из сокровищ для души че¬
ловеческой.
Государь! Дела внутренние и внешние
связуются неразрывно. Залог успехов в
области внешней лежит в той силе народного
самосознания и самоуважения, которую
вносит государство во все отправления своей
жизни. Только неуклонным служением на¬
чалу народности укрепляется государствен¬
ный организм, сплачиваются с ним его
окраины и созидается то единство, которое
было неизменным историческим заветом
Ваших и наших предков и постоянным зна¬
менем Москвы от начала ее существования.
Под этим знаменем, Государь, по первому
Вашему зову, все сословия народные собе¬
рутся и ныне, и уже без различия звания,
дружною ратью, в непоколебимой надежде
на милость Божью, на правоту дела и на Вас.
Доверие со стороны Царя к своему народу,
разумное самообладание в свободе и чест¬
ность в покорности со стороны народа,
взаимная неразрывная связь Царя и народа,
основанная на общении народного духа, на
согласии стремлений и верований,— вот на¬
ша сила, вот историческое призвание. Да,
Государь, «Вашей воле» — скажем мы в за¬
ключение словами наших предков в ответе
их первоначальному предку Вашему в 1642
году,— Вашей воле готовы мы служить и
достоянием нашим, и кровью, а наша мысль
такова».
По тону и содержанию этого адреса
можно было подумать, что его писал сам
Константин Аксаков; его, в самом деле,
редактировали И. Аксаков, кн. Черкасский
и Ю. Самарин. Но славянофилам и на этот
раз пришлось убедиться, что правительство
желало не честной покорности, а рабского
повиновения. Министр внутренних дел
признал, что этот адрес редактирован в
таких недопустимых выражениях, что он не
может быть представлен государю...
П^сле этого последние признаки обще¬
ственного движения совершенно потухли, и
мы видим, что общество, утомленное борьбой
и разочаровавшееся в своих попытках,
начинает коснеть в какой-то прострации,
которая продолжается до второй половины
70-х годов.
ЛЕКЦИЯ XXXIV
Положение народных масс и сельского хозяйства в 60-х и 70-х годах.-— Ход выкупной операции.—
Нищенские наделы.— Отрезки.— Аренды в северных и южных губерниях.— Рост арендных цен.— За¬
долженность помещиков.— Усиленная распашка земель ввиду усиливающегося хлебного экспорта и роста
хлебных цен.— Количество скота у помещиков и крестьян.— Размеры помещичьей запашки.— Выводы
о помещичьем хозяйстве на севере и на юге.— Продажа земель.— Покупщики.— Легко ли далось кре¬
стьянам расширение их хозяйства за счет помещичьего? — Положение крестьянского хозяйства.—Недо¬
статочность наделов.— Обременение налогами и платежами.— Неравномерность обложения.— Голод
1868 г.— Исследования земств.— Недоимки.— Положение крестьянского хозяйства в черноземных гу¬
берниях.— Самарский голод 1872—1873 гг. — Продовольственные ссуды.— Выводы Янсона и кн.
Васильчикова о положении крестьянского хозяйства в 70-х годах.
В последней своей лекции я изложил,
как применялись и в то же время иска¬
жались в пореформенное время положения
о земских учреждениях, о новых судах, а
также каково было в конце 60-х и в 70-х
годах положение печати и вообще положение
общества. Теперь я хочу перейти к поло¬
жению народных масс в это время, а также
обрисовать вам и положение сельского хо¬
зяйства в эту эпоху.
В одной из первых лекций этой части
моего курса, я уже нарисовал вам ту картину
распределения землевладения, которая обра¬
зовалась после распространения крестьян¬
ской реформы на государственных крестьян
в 1866 г., но, разумеется, эта картина, чисто,
так сказать, статистического характера, дает
только общие рамки, в которых пришлось
развиваться крестьянскому хозяйству и
складываться в пореформенное время тому
новому быту сельского населения России,
который был обусловлен преобразованиями
60-х годов.
332
Теперь я хочу остановиться на содер¬
жании того внутреннего процесса, исход
которого зависел от массы материальных и
нематериальных факторов, из которых, на¬
ряду с размерами наделения крестьян зем¬
лей, особенно важное значение- в
крестьянском хозяйстве имели платежи и
повинности, которыми крестьянская земля
была обременена, а также весьма большое
значение имели и такие экономические фак¬
торы, как положение мирового хлебного
рынка и проведение железных дорог в
России.
По Положению 19 февраля, как вы
помните, выкуп крестьянских наделов пос¬
тавлен был при нормальных условиях в
зависимость от соглашения между
помещиками и крестьянами. Правда,
помещикам было предоставлено и против
желания крестьян требовать выкупа, но тог¬
да они получали не полную выкупную ссуду,
какова она должна была быть по
капитализации причитавшегося им оброка
из 6%, а лишь 80% полного размера ее в
случае полного наделения и 75% причитав¬
шегося по расчету размера при неполном
наделении крестьян. Притом, по Положению
19 февраля, на выкуп могли выходить только
оброчные имения, а барщинные должны
были сперва переходить на оброк, и лишь
потом помещики могли требовать их перехо¬
да на выкуп, исчислявшийся при помощи
капитализации этого оброка.
Между тем, как я уже говорил вам,
крестьяне в пореформенное время очень бы¬
стро сообразили, что помещикам, собствен¬
но говоря, очень трудно настоять на
сколько-нибудь правильном и добросовест¬
ном выполнении барщинных работ, потому
что власть помещиков очень сильно сок¬
ратилась; и, сообразив это, крестьяне в тех
местах, где они были на барщине, часто не
только не думали заявлять о своем желании
перейти на оброк, но не соглашались и на
предложения помещиков. И вот мы видим,
что в 1862 г. появляется целый ряд заявлений
со стороны дворянства о необходимости вве¬
дения обязательного выкупа, которого рань¬
ше, как вы помните, особенно домогались
помещики нечерноземных губерний. Не го¬
воря уже о резких заявлениях тверского
дворянства, которые имели политический
характер1, мы видим, что поступали хода¬
тайства и чисто делового характера, как,
например, ходатайство дворянства Казан¬
ской губернии, где большинство крестьян
было йа барщине и где помещики чувство¬
вали себя в особенно беспомощном поло¬
жении и очень быстро стали приходить к
убеждению, что единственный выход из него
— это как можно скорее перевести своих
крестьян на выкуп.
Казанскому дворянству, как и всем
другим, было отказано в 1862 г. в пересмотре
Положения 1861 г., но само правительство
тогда же увидело, что, действительно,
помещики находятся вс многих местах в
безвыходном положении, и поэтому в 1863 г.
издан был дополнительный закон, по кото¬
рому разрешалось и барщинные имения
переводить прямо на выкуп, по требованию
помещиков, причем помещики" опять-таки
могли получить от выкупного учреждения
лишь 80 и 75% исчисленной выкупной сум¬
мы. Между тем крестьяне во многих местах,
в особенности в юго-восточных степных и
южных новороссийских губерниях, прямо в
это время бежали от выкупа, бросая наделы,
несмотря на то что переход на выкуп для них
был выгоден, как казалось правительству,
особенно по требованию помещиков, когда
крестьянам не приходилось делать никаких
доплат и долг их по выкупной ссуде выра¬
жался в размере лишь /а или /5 общей
суммы капитализированного оброка. Кре¬
стьяне отказывались от перехода на выкуп в
этих местностях ввиду отсутствия там зара¬
ботков и трудности для них перехода к
денежным платежам.
Тогда правительству пришлось ух¬
ватиться за ту дополнительную 123-ю
статью великоросс, положения, введенную
по предложению князя Гагарина, о так на¬
зываемых «четвертных», «даровых» или
«нищенских» наделах, о которой я говорил
вам в свое время. Сознавая, что крестьяне во
многих местах будут не в состоянии уп¬
лачивать платежи в денежном виде,
правительство, издавая закон о разрешении
помещикам требовать перехода и
барщинных крестьян на выкуп, в то же
время обусловило это право одностороннего
требования перевода крестьян на выкуп тем,
что в случае если крестьяне откажутся
перейти на выкуп, предложенный им
помещикам, и предпочтут получение бес¬
платного четвертного надела, то помещик не
имеет права отказать им в этом. Это и
послужило причиной, почему в самых мно¬
гоземельных местностях именно по требо¬
ванию крестьян явилось такое огромное
распространение этих нищенских, даровых
наделов. Мы видим, что весь юго-восток
России и часть восточных губерний, как
333
Уфимская, южная часть Пермской, часть
Воронежской, вся Тамбовская, Самарская и
отчасти Саратовская явились районом
наибольшего распространения этих
нищенских, «сиротских» наделов.
С другой стороны, при таком ходе вы¬
купной операции, ввиду того что в
значительном большинстве случаев выкуп
происходил в первые годы после реформы
по требованию помещиков,— вообще более
65% выкупных сделок было совершено по
требованию помещиков,— и так как благо¬
даря этому помещики получали только не¬
полное вознаграждение и крестьяне не
обязывались никакими доплатами к выдан¬
ной казной ссуде, то и помещики, в свою
очередь, воспользовались в полном размере
своим правом отрезок от крестьянских зе¬
мельных наделов, вплоть до максимальных
норм, установленных положением. Я уже
говорил вам, что эти отрезки получили боль¬
шое распространение везде, даже и там, где
не было или почти не было нищенских
наделов, а где давались и полные
(максимальные) наделы. Эти отрезки во
многих местностях не столько имели то
значение, что они количественно уменьшали
наделение крестьян, сколько то, что они
качественно чрезвычайно ухудшали его и
даже ставили крестьян иногда прямо в без¬
выходное положение, в полную экономичес¬
кую зависимость от помещиков, потому что
при таких отрезках помещики намеренно
старались отрезывать различные необ¬
ходимые крестьянам угодья (например,
почти весь луг, или весь выгон) и дать
крестьянам только одну пашню. А так как
крестьяне, в особенности в местностях не¬
черноземных, где требовалось удобрение на¬
делов, не могли существовать без
скотоводства и не могли вести скотоводство
без лугов и выгонов, то этим самым они
ставились в полную необходимость арендо¬
вать по любым, каким будет угодно
помещикам, ценам эти отрезки, так как без
них они обойтись совершенно не могли.
Это положение, которое образовалось в
первые годы пореформенного времени, соз¬
дало чрезвычайно неблагоприятные общие
условия развития сельского хозяйства. Мы
ввдим, с одной стороны, что крестьяне, осво¬
бодившись от крепостного права, от прямой
власти помещиков над ними, попадали во
многих местах, благодаря отрезкам, вновь в
полную экономическую зависимость от
помещиков. С другой стороны, и помещики
находились обычно в большой зависимости
от крестьян, так как им приходилось вести
хозяйство на оставшихся у них землях при
помощи вольнонаемных рабочих. И хотя
благодаря открывшейся большой свободе
передвижения во многих многоземельных
местностях и явились приходящие рабочие,
но помещики предпочитали иметь дело с
прежними своими крестьянами, оседлыми,
которые гораздо более добросовестно обраба¬
тывали землю. С другой стороны, в нечер¬
ноземных губерниях сильно были развиты
промыслы, и здесь, как и раньше,
помещичьих запашек почти не существовало
или существовало очень мало. Помещикам
вновь заводить хозяйство на оставшихся у
них за наделом землях, да еще с вольнона¬
емными рабочими, оказывалось очень труд¬
ным делом, и здесь единственным для них
выходом было воспользоваться тем
зависимым положением крестьян, которое
образовалось вследствие отрезок важных в
крестьянском быту угодий.
По свидетельству А. Н. Энгельгардта,
князя А. И. Васильчикова и других север¬
ных хозяев, во многих нечерноземных гу¬
берниях крестьяне ни за какие цены не
соглашались брать в обработку помещичьи
запашки «на круг» и соглашались только
тогда, когда помещики взамен сдавали им в
аренду недостающие им важные угодья —
обыкновенно луга и выгоны. Итак, для
помещиков единственную возможность
вести здесь хозяйство представляло за¬
манивание крестьян арендой отрезков, во
многих же местностях северных губерний
ведение хозяйства и прямо сделалось невоз¬
можным. Мы поэтому видим, что наступает
огромная распродажа помещичьих имений
и земель в нечерноземных губерниях.
В губерниях черноземных хозяйствен¬
ная конъюнктура оказывается совершенно
иной. Здесь крестьяне, как вы знаете, по¬
лучили сравнительно очень небольшие наде¬
лы, а вместе с тем они в большинстве этих
губерний лишены были всяких сторонних,
неземледельческих заработков. В близких
местностях таких заработков обыкновенно
не бывало, и, получив недостаточные наде¬
лы, крестьяне здесь должны были или
наниматься в рабочие к помещикам, или,
что им представлялось более соблазнитель¬
ным, хотя, по существу, это далеко не всегда
было более выгодным, брать у помещиков
землю в аренду.
Надо сказать, что как раз в это время в
черноземных губерниях явился бла¬
гоприятный момент для увеличенйя разме¬
334
ров хлебопашества — чрезвычайное повы¬
шение хлебных цен, зависевшее прежде все¬
го от условий мирового рынка. Уже с конца
40-х годов, после отмены запретительных
хлебных законов в Англии и под влиянием
все большего сосредоточения населения За¬
падной Европы в городах, получилось боль¬
шое требование на русский хлеб, и, так как
вывоз увеличивался, то увеличивалась и за¬
пашка, становилось выгодным производить
хлеб как товар, идущий на внешний рынок.
В пореформенное время к этому присоединя¬
ется постройка железнодорожной сети, кото¬
рая именно так и была рассчитана, чтобы
облегчить вывоз хлеба к портам из самых
хлебородных губерний2.
Мы видим, что под этим влиянием за¬
пашка в хлебородных губерниях, в особен¬
ности в пореформенное -время, растет очень
быстро. Если мы возьмем общие данные по
России, то мы увидим, что в 60-х годах
площадь всей пашни в Европейской России
равнялась 88 млн. 800 тыс. дес.; через 20
лет пашни считалось уже 106 млн. 800 тыс.
дес., а в 1887 г.— 117 млн. дес.3. Следова¬
тельно, рост площади посевов идет чрезвы¬
чайно быстро, даже если брать общие
данные по всей площади Европейской
России. Но мы ведь должны принять в рас¬
чет, что это изменение площади запашки
было чрезвычайно неравномерно для разных
местностей России. Я только что говорил
вам, что в нечерноземных губерниях
помещики во многих местах прекращали
свое хозяйство и, во всяком случае, нового
не заводили, и мы видим, что в этих нечер¬
ноземных губерниях запашка в эти годы
прямо уменьшалась, и довольно значитель¬
но. Площадь запашки кое-где сокращается и
в Северо-Западном крае, где вводится пло¬
досменное хозяйство и интенсифицируется
земледелие, и при новых формах хозяйства
является уже не под силу сохранять прежние
размеры вспашки.
Но в местностях черноземных в эти годы
распахивается, наоборот, все, что возможно:
в губерниях центральных черноземных за¬
пашка увеличивается всего на 5%, ибо здесь
уже и до реформы было распахано почти все.
В среднеприволжских губерниях в двадцать
лет, следующие за реформой, площадь
пашни возрастает на 35%; в мало-
российских губерниях — на 13%; в местно¬
стях же многоземельных запашка растет в
огромных размерах; так, в Новороссии она
увеличивается на 98%; в Южном Заволжье
— даже на 365%.
Таким образом, рост площади пашни
констатируется здесь огромный, но он
отнюдь не знаменует собой увеличения или
улучшения помещичьего сельского хозяйст¬
ва в этих местностях. Помещики, несмотря
на то, что они получили такой козырь в свои
руки, как необыкновенный рост хлебных
цен, возросших за эти двадцать лет в портах
на 50—80%, несмотря на то, что они по¬
лучили большие капиталы в виде крупных
ссуд, и несмотря на то, что в 80-х годах
открылся целый ряд земельных банков, где
они могли закладывать и действительно за¬
кладывали свои имения,— они все эти де¬
нежные доходы и реализованные капиталы
в большинстве случаев не положили на улуч¬
шение сельского хозяйства, а так или иначе
прожили и предпочли, вместо улучшения
своего хозяйства, воспользоваться тем чрез¬
вычайным стремлением крестьян брать
земли в аренду, о котором я говорил, пред¬
почли воспользоваться ростом арендных
цен, который происходил в этих местностях,
и стали огульно отдавать земли в аренду
крестьянам, так что, хотя нельзя не
признать, что в этих южных и юго-восточ-
ных губерниях помещичье землевладение
оказывается более устойчивым, нежели на
севере, по помещичье хозяйство и здесь
сокращается, если под хозяйством подразу¬
мевать собственную помещичью запашку.
Объяснялось это тем, что помещики в
момент освобождения крестьян в
большинстве случаев не имели своего инвен¬
таря, привыкнув вести хозяйство при
помощи крестьянского инвентаря, и, не¬
смотря на получение огромных сумм в свои
руки по выкупу крестьянских земель и по
закладу своей земли в различные банки, они
не завели этого инвентаря и в пореформен¬
ное время. Мы видим, что и в пореформенное
время задолженность помещичьего земле¬
владения растет в огромных размерах. Еще
до реформы помещики всех губерний из 10
млн. крепостных душ успели заложить до 7
млн. душ в тогдашних кредитных учреж¬
дениях, именно в сохранных казнах4. При
выдаче помещикам выкупных ссуд этот долг
удерживался, и мы видим, что из тех 588
млн. руб., которые им пришлось получить в
виде выкупных ссуд в первое десятилетие
после реформы, помещики получили, собст¬
венно говоря, гораздо меньше, потому что
около 262 млн. руб. было удержано на пок¬
рытие долга этим сохранным казнам, а
остальные 326 млн. руб были им выданы
процентными бумагами, курс которых был
335
весьма невысок, и, благодаря потере на кур¬
се, в действительности им пришлось по¬
лучить всего 230 млн. руб.5 Как бы то ни
было, в первые десять лет после реформы, в
которые на выкуп перешло до 70% всех
помещичьих имений, старый долг был пога¬
шен, но уже к середине 60-х годов начинает
образовываться новый долг во вновь создан¬
ных земельных банках, и мы вцдим, что этот
долг растет чрезвычайно быстро, так что к
концу 60-х годов уже образовывается новый
долг в 230 млн. руб, к началу 80-х годов он
достигает уже 400 млн. руб., т. е. почти той
же цифры, которой достигали помещичьи
долги, погашенные выкупом, а к концу 80-х
годов этот долг переходит уже за 600 млн.
руб. Но, несмотря на такие огромные
позаимствования, помещичье хозяйство и в
черноземных губерниях улучшалось и
расширялось очень мало, а все огромное
расширение запашки в этих губерниях
приходилось на крестьянское хозяйство
вследствие широкого развития аренды
помещичьих земель. Таким образом, если
мы возьмем первые двадцать лет после
издания Положения 19 февраля, то мы мо¬
жем констатировать такой процесс6:
На севере помещичье хозяйство падает;
многие из плательщиков, которые в дорефор¬
менное время вели здесь свое собственное
хозяйство, его прекращают, новых хозяйств
не заводят л цродают свои земли. Те не¬
многие хозяйства, которые здесь удержива¬
ются, совершенно преобразовываются,
чрезвычайно интенсифицируются, т. е. за¬
водят не только свой инвентарь, но перехо¬
дят к высшим системам полеводства и
только если могут выдерживать конку¬
ренцию южных хозяйств, если они, нет
зависимо от полевого хозяйства, которое им
становится весьма невыгодным, особенно
после проведения железных дорог в плодо¬
родные местности, когда хлеб по дешевым
провозным тарифам поступает из мест, где
производить его гораздо выгоднее, если они
как единственно доступную им форму хо¬
зяйства устраивают при своих экономиях
заводы для переработки сельскохозяйствен¬
ных продуктов, винокуренные, крахмкпьные
и др. или же если развивают специальные
производства льна и пеньки частью для
сбыта за границу, частью для внутреннего
потребления. Эти подсобные производства и
являются единственным выходом* дающим
им возможность существования.
В южных губерниях помещичье земле¬
владение оказалось гораздо более ус¬
тойчивым, но помещичье хозяйство здесь
чаще всего прямо сокращалось путем пере¬
дачи земли в аренду крестьянам при сох¬
ранившемся лишь владении помещиков. До
какой степени возросла здесь в это время
крестьянская аренда, можно судить по тем
цифрам, • которые представлены
статистическими исследованиями за это
время. По некоторым статистическим
вычислениям, вообще размеры крестьянской
аренды достигали к 80-м годам XIX в. в
пределах Европейской России огромной
цифры —50 млн. дес.7. Но если мы даже
исключим наиболее гадательные предполо¬
жения, то и по самым скромным расчетам
размеры крестьянской аренды достигают, во
всяком случае, 25 млн. дес.8, а вы знаете,
что размеры всего пространства надельных
земель, полученных бывшими помещичьими
крестьянами, не превышали 33 млн. дес.,
следовательно, крестьянам приходилось
почти удваивать с помощью аренды прост¬
ранства своего хозяйства, причем большая
часть арендованных пространств на¬
ходилась в черноземных хлебородных гу¬
берниях.
В северных губерниях крестьяне арен¬
довали главным образом те угодья, которые
необходимы им для хозяйства и которых их
лишила отрезка при выкупе, в особенности
луга и выгоны; в южных губерниях они
главным образом арендовали пашню, и этой
арендованной пашни мы видим здесь у кре¬
стьян не менее 12 млн. дес. в это время9.
Вообще, если мы возьмем размеры запашки
и размеры посевов на крестьянских и
помещичьих землях в это время, вычислив
их хотя бы по приблизительным данным,—
прямых данных в этом отношении вообще
недостаточно,— то увидим, что в 80-х годах
в Европейской России, за исключением
Польши, Финляндии и Кавказа, было 68
млн. дес. посевов, из них 47 млнх 300 тыс.
дес. было на крестьянских надельных зем¬
лях, затем около 12 млн. дес.— на землях,
арендованных крестьянами у помещиков и
только 8 млн. 700 тыс. дес. посевов
приходилось на частновладельческие хозяй¬
ства. Таким образом, мы видим, что 87%
всех посевов принадлежало в это время кре¬
стьянам и только 12,8% — частноземлевла¬
дельческим хозяйствам. Эти расчеты более
или менее верны; они основываются на учете
скота, который имелся в это время у
помещиков и крестьян. Мы видим, именно,
что по первой военно-конской переписи,
произведенной в 1882 г. и давшей довольно
336
точные статистические данные* в 48 гу¬
берниях Европейской России у крестьян
было 12 млн. 134 тыс. рабочих лошадей* а у
частных владельцев было всего 1 Уг млн.
рабочих лошадей. Очевидно, что уже эта
цифра —1 Уг млн. рабочих лошадей —
показывает, что, по самым льготным расче¬
там, помещики с помощью этого количества
лошадей' могли обработать максимум 38%
своей земли, а остальное, значит,
разбиралось крестьянами в аренду10.
Таким образом, относительно чернозем¬
ных губерний окончательный вывод, к кото¬
рому приходят новейшие исследователи на
основании этих данных для двадцатилетия,
следовавшего за крестьянской реформой,
тот, что хотя землю помещики здесь и
удержали за собой, но хозяйство их не
улучшалось и не расширялось, а между тем
задолженность имений росла весьма
сильно, и поэтому, хотя земли своей
помещики в эти годы еще не потеряли, но
эта потеря была уже тогда подготовлена,
и в 90-х годах при помощи крестьянского и
дворянского банков начнет происходить
чрезвычайная ликвидация помещичьих зе¬
мель и здесь11.
Что касается вообще продажи
помещичьих земель в пореформенный
период, то в настоящее время имеются сле¬
дующие статистические данные относитель¬
но того, куда переходили продаваемые
помещиками земли. Мы видим, что средняя
убыль помещичьего землевладения
происходит в таких размерах: в 1859—1875
гг. в среднем продается по 517 тыс. дес.
ежегодно; в 1875—1879 гг.— по 741 тыс. дес.
в год; в начале 90-х годов — по 785 тыс. дес.
в год. Ежегодные продажи все увеличивают¬
ся и впоследствии и доходят к началу ны¬
нешнего века до 1 млн. дес. в год, а в
1906 г., правда, под влиянием особых обсто¬
ятельств этого момента, на продажу было
выставлено более 7 Уг млн. дес. помещичьей
земли.
Распределение земли по сословиям за
это время изменялось следующим образом: в
1877 г., если мы возьмем средние величины
по 49 губерниям, для одного только частного
землевладения, не считая ни казенных, ни
надельных земель, в руках дворян было
77,8% всей площади частного землевла¬
дения, у купцов —12,2 %, у мещан —2%, у
крестьян —7% и у чспрочих»частных вла¬
дельцев—1%. По данным 1887 г., т. е.
через десять лет, картина будет такова: у
дворян—68%, у купцов—13%, у мещан
—2,9%, у крестьян—12% и у прочих —
2,3%. Следовательно, главная часть прода¬
ющейся земли переходит все-таки к
крестьянам, но при этом следует иметь в
виду, что не все покупщики этой земли,
особенно купцы, а отчасти даже и крестьяне,
покупают ее для сельскохозяйственных це¬
лей. Мы видим здесь разделение только по
сословиям, а из того, что лицо принадлежит
к -крестьянскому сословию, еще не следует,
что оно ведет крестьянское хозяйство; ремли
приобретались и отдельными крестьянами в
это время чаще всего для спекуляции. По
статистическим данным мы видим, что из
каждых ста десятин, купленных у
помещиков купцами, они перепродают в
первые пять лет 12,5% дес., к 1869 г.—25
дес., к 1875—1880 гг.—42 дес., к 1881—
1886 гг.—55 дес.12 Купцы покупают дво¬
рянские земли, в особенности в северных
губерниях, для устройства фабрик и заводов,
а не для земледельческого хозяйства. Но под
фабрики и заводы идет лишь небольшая
часть имений, а все остальные купцы,
истощив обыкновенно землю вырубкой леса,
иногда вырубали даже и сады, продают кре¬
стьянам.
Крестьянские же покупки в этот период
производились не обществами и товарищес¬
твами крестьян, как это было в следующий
период, когда покупаемые земли шли на
расширение крестьянского трудового земле¬
владения, а главным образом отдельными
крестьянами, так что, хотя мы видим, что в
60-х годах крестьянские покупки составля¬
ют ежегодно 91 тыс. дес., в 70-х —203 тыс.
дес., в 80-х —438 тыс. дес., следовательно,
рост покупок развивается чрезвычайно быс¬
тро, но в то же время следует отметить, что
очень многие отдельные крестьяне, в сущ¬
ности, являются такого же рода
покупщиками, как и купцы, и в значитель¬
ной степени покупают землю для спекулян¬
тов. Так, крестьяне из купленной ими земли
продают в первое пятилетие 1863—
1868 гг.—21%, в 1869—1874 гг.—22,8%, в
1875—1880 it.—37,9%. В 80-х годах этот
процент достигает 45 и повышается и далее
у крестьян, покупающих землю в одиночку;
но в это время рильно увеличивается та часть
крестьянских покупок, которая приходится
на долю товариществ и обществ, в особен¬
ности с началом деятельности Крестьянско-
^ 13
го банка .
Вот, таким образом, те последствия для
сельского и в особенности помещичьего хо¬
зяйства, которые произошли в первые де¬
337
сятилетия после крестьянской реформы. Мы
видим, что крестьяне как будто, если взять
не само хозяйство крестьян, а только цифры
размера площади крестьянского землевла¬
дения и хозяйства, торжествуют по всей
линии; их хозяйство расширяется, они поку¬
пают земли, увеличивают размеры аренды
помещичьих земель до громадных цифр и на
помещичьей земле ведут свое хозяйство.
Но лепсо ли им это досталось и каково*
вообще было при этом расширении кресть¬
янского хозяйства положение и эко¬
номический быт крестьян, вы это сейчас
увидите, и увидите, что эти обстоятельства
были не так выгодны, как можно было бы
рассчитывать по приведенным цифрам...
Итак, легко ли крестьянам досталось это
расширение их землевладения и их хозяй¬
ства, в особенности в черноземных местно¬
стях, каково было их собственное
экономическое положение в этот порефор¬
менный период? На этот вопрос приходится
вообще дать ответ малоутешительный. Кре¬
стьяне, действительно, увеличили свое зем¬
лепользование в самых широких размерах,
но стремились свое землепользование в са¬
мых широких размерах, но стремились они
так настойчиво к аренде этих помещичьих
земель в черноземных губерниях, конечно,
потому, что иного выхода им не было, имен¬
но благодаря той земельной тесноте, которая
существовала у них, благодаря той
ограниченности наделения, которая была
достигнута после многих изменений и пере¬
работок норм их надела при выработке По¬
ложения 19 февраля.
Именно в черноземной полосе крестьян¬
ское малоземелье в первые же годы после
реформы сказалось особенно резко. Я уже
говорил, что хозяйственная конъюнктура для
черноземной полосы в этот момент была
выгодна. Действительно, мы видим, что
хлебные цены на заграничном рынке вы¬
росли настолько, что увеличились в некото¬
рых случаях на 100 %. В то же время и
заработная плата повысилась на 100—80 %,
так что, в сущности говоря, заработки сде¬
лались как будто выгоднее, но ввиду того, что
при заработках вообще рабочим приходится
самим покупать хлеб, это повышение хлеб¬
ных цен для лиц, живущих'заработками,
хотя бы и земледельческими, явилось не
особенно выгодным обстоятельством. И вот
мы видим, что крестьяне стремятся в поре¬
форменное время в черноземных губерниях
расширить свою собственную запашку не
только на своих, но и на помещичьих зем¬
лях, и помещики со своей стороны пред¬
почитают этот путь увеличения своих дохо¬
дов расширению своего, собственного
хозяйства путем увеличения собственных
посевов, потому что арендные цены возросли
в это время в гораздо большей степени, чем
цены на хлеб. По исчислениям знатока хлеб¬
ной торговли этого времени Чаславского,
вместе с тем хорошего статистика, мы
видим, что тогда как заработная плата и
хлебные цены растут не больше чем на
100%, арендные цены растут в некоторых
местах на 300% и даже на 400%, т. е.
увеличиваются в 4—5 раз14. Это объясняется
отчасти тем обстоятельством, что, не¬
зависимо от роста хлебных цен на мировом
рынке, растут хлебные цены на местах еще
в большей прогрессии вследствие прове¬
дения железных дорог, именно, благодаря
проведению железных дорог в такие места,
как Козлов, Моршанск, Саратов, Пенза,
Курск, Орел, Харьков, Новороссийский
край и т. д. Появился сбыт хлеба на рынок
в таких местностях, где раньше его совсем
не было, прямо по дальности их расстояния
от тех центров, где хлеб продавался, и бла¬
годаря возможности подвоза только на лоша¬
дях, который был слишком дорог. Теперь
около этих железнодорожных пунктов, на
расстоянии иногда 100—200 верст, чрезвы¬
чайно оживляется продажа хлеба, производ¬
ство хлеба как товара делается выгодным и
для крестьян, которые этим путем впервые
получают здесь возможность вырабатывать в
своем хозяйстве деньги. Это является чрез¬
вычайно для них соблазнительным, но, разу¬
меется, выдержать такое увеличение
арендных цен, как на 300—400%, крестья¬
не могут в большинстве случаев только це¬
ною собственного разорения, и мы видим,
что в последующее время крестьяне здесь
действительно разоряются и разорение
происходит, в конце концов, не только у
крестьян, но и у помещиков, потому что
безудержная распашка земли ведет не столь¬
ко к истощению чернозема, который здесь
так толст, что его трудно истощить, сколько
к тому, что распаханная степь дает постоян¬
ные трещины, из которых образуются
овраги, служащие к стоку влаги, поэтому
усиливаются засухи, учащаются неурожаи
и подготовляется тот крах южного сельского ш
хозяйства, который мы увидим в начале 90-х
годов15.
Таким образом, мы видим, что эта
усиливающаяся распашка и аренда земель
обошлась крестьянам недешево: она во
338
многих случаях подготовила их разорение.
Не лучше было экономическое положение
крестьян и на их собственных надельных
землях, потому что они были чрезвычайно
переобременены всякого рода платежами.
Мы можем это сказать не только по отно¬
шению к выкупным платежам, которые во
многих местах являлись до того не¬
посильными, что крестьяне предпочитали
брать в некоторых местностях нищенские
наделы, нежели переходить с барщины на
выкуп, но и по отношению к целому ряду
других платежей, которые не меньше, не¬
жели выкупные, отягощали эти кресть¬
янские наделы. В 1872 г., после неурожаев
и голода в Смоленской, а потом и Самарской
губерниях, когда министром государствен¬
ных имуществ назначен был Валуев, тот
самый, который был в 1861—1868 гг.
министром внутренних дел и в 1868 г.
потерял свое место именно ввиду голода в
Смоленской губернии, после того, как обна¬
ружилось, что он не принял достаточных
мер для обеспечения продовольствием насе¬
ления, этот самый Валуев теперь, в качестве
министра государственных имуществ, захо¬
тел показать свою распорядительность и
просвещенность и устроил довольно
широкую анкету о положении сельского хо¬
зяйства на манер анкет парламентских
комиссий в Англии. К этой анкете он
привлек как представителей помещиков-
землевладельцев "разных мест России, так
даже и представителей крестьянского земле¬
владения— в виде отдельных волостных
старшин, а также некоторых провинциаль¬
ных чиновников, служивших по кресть¬
янским делам; были приглашены и
некоторые губернаторы. И, несмотря на то
что самое предприятие было задумано до¬
вольно легкомысленно и официальные выво¬
ды, к которым пришло совещание, тоже
были довольно легковесны, материал был
собран довольно серьезный, который в руках
независимых исследователей, как
профессор Янсон или как кн. Васильчикрв,
был использован достаточно продуктивно и
поучительно.
Из собранных той анкетой данных мы,
между прочим, видим, что картина податно¬
го обременения крестьянских земель была
следующая. Сумма всех прямых налогов и
платежей, лежавших на сельском насе¬
лении, исчислялась в 1872 г. в 208 млн. руб.,
причем из них.только 13 млн. руб. падало
на земли частных владельцев. Вся остальная
часть, около 200 млн. руб*, падала на кре¬
стьянские земли. К этим повинностям, во-
первых, относились взимаемые непосредст¬
венно с земли, и среди этих последних
прежде всего государственный земский
сбор, который в это время, в виде уступки
голосу общественного мнений, был перело¬
жен в некоторой части с душ на землю;
именно, 8 млн. руб. платилось с земли, а 13
млн. руб. оставалось на душах. Впрочем, и
из этих 8 млн. руб. половину платили кре¬
стьяне со своих земель. Затем шли местные
земские сборы, которые налагались вновь
учрежденными земствами; они налагались
главным образом на землю и на другие
недвижимые имущества, и потому около
половины их платили помещики, казна и
удел и около половины — крестьяне; этих
земских сборов было около 13 млн. руб.
Затем помещики платили 1900 тыс. руб. на
частные дворянские нужды, и этим
ограничивались все их платежи, хотя
помещики владели почти таким же количе¬
ством земли, как и крестьяне. Далее шли
разного рода платежи, которые крестьяне
отбывали за отведенные им земли; из них
выкупных платежей было 38 млн. руб., и
кроме того, надо сюда прибавить для тех
крестьян, которые в это время еще не
перешли на выкуп, 16 млн. руб. оброчных
платежей, итого 54 млн. руб. Кроме того,
выкупные платежи бывших удельных кре¬
стьян составляли 3 млн. руб. и оброчная
подать бывших государственных крестьян
36 млн. руб., причем к ней надо прибавить
1200 тыс. руб лесного налога. Всех позе¬
мельных сборов, которые взимались непос¬
редственно с крестьян, было, таким образом,
95 млн. руб.
Далее шли повинности, которые уже
подушно были разложены на сельское подат¬
ное население. Прежде всего подушная
подать составляла 42 млн. руб. и платилась
исключительно крестьянами. Затем общест¬
венный сбор с государственных крестьян в
сумме 3400 тыс. руб. Затем государственный
земский сбор в части, разложенной на души,
составлял 13 млн. 700 тыс. руб., кроме того,
мирских и общественных расходов до 30
млн. руб.— в общем 90 млн. руб.
Надо сказать, что сюда еще не включены
натуральные повинности, которые отбывали
одни крестьяне и для оценки которых у нас
нет точных данных, но которые должны быть
оценены, во всяком случае, в несколько
десятков миллионов рублей.
Итак, не считая этих натуральных
повинностей, на 191/г миллиона душ подат¬
ного крестьянского населения лежало около
339
200 млн. платежей, т. е. на семью среднего
размера — около 30 руб. Такие платежи для
обыкновенного крестьянского бюджета
являлись безусловно непосильными .
При этом надо сказать, что и между
различными разрядами крестьян эти
подати распределялись чрезвычайно нерав¬
номерно. Так, например, платежи за отве¬
денные наделы ложились так: за свои 33 /2
млн. дес. помещичьи крестьяне платили 54
млн. руб., а государственные крестьяне за
75 млн. дес. платили лишь 37 млн. руб.
Следовательно, неравномерность распреде¬
ления этой податной тяжести между отдель¬
ными категориями самого крестьянского
населения была опять-таки чрезвычайно
значительна. Если же мы рассмотрим, как
распределялась податная тяжесть внутри
категории бывших помещичьих крестьян, то
увидим, что здесь она ложилась еще более
неравномерно, потому что, как вы помните,
при установлении выкупных платежей для
их определения существовала известная
система градации, которая заключалась в
том, что первая десятина была оцениваема
одна в ту же сумму, как все остальные,
вместе взятые, а в местностях нечернозем¬
ных и вторая десятина составляла четверть
всей оценки, и поэтому относительно боль¬
шая тяжесть платежей падала на тех, кото¬
рые получали самые небольшие наделы. Кто
получал Уз максимального надела, тот
платил Уз максимального размера выкупно¬
го платежа. Особенно сильно чувствовалась
неравномерность этой системы в чернозем¬
ных губерниях, потому что в нечерноземных
неравномерность обложения все же не без
основания мотивировалась тем, что собст¬
венно выкупные платежи или прежние
оброки вычислялись сообразно не доходам
от земли, а сторонним заработкам, которые
крестьяне в этих губерниях действительно
имели, и величина надела здесь
действительно не играла такой роли, как в
черноземных губерниях. Но систему гра¬
дации редакционные комиссий из нечерно¬
земных губерний, по странной
бюрократической тенденции к единооб¬
разию, перенесли и в черноземные мест¬
ности, хотя здесь она ничем не могла быть
оправдана и потому была особенно
чувствительна, так как все доходы здесь
получались от земли, и, следовательно, не¬
равномерность обложения была особенно тя¬
жела малоземельным крестьянским дворам,
по которым как раз и ударяла эта система
градации17.
Вот, таким образом, общая картина той
тяжести и неравномерности обложения, ко¬
торая была обнаружена уже в первые же
годы после проведения крестьянской рефор¬
мы. Результаты такого положения вещей
сказались очень быстро и были ясны для
многих еще и до анкеты Валуева. Именно,
уже в 1867 г., когда явился первый серьез¬
ный неурожай в Смоленской губернии и за
ним последовал полный голод, то Валуев,
бывши тогда министром внутренних дел,
сперва отрицал наличность голода и утвер¬
ждал, что имеются для покрытия нужд кре¬
стьян достаточные продовольственные
запасы, но когда на места голода поехали
назначенные для расследования лица и ког¬
да они обнаружили, что запасов не хватит и
что крестьяне не только едят различные
примеси и суррогаты хлеба: древесную кору,
глину и проч., но и прямо умирают с голода,
то само правительство всполошилось, был
даже назначен особый комитет под предсе¬
дательством наследника (будущего импера¬
тора Александра III), и этот момент при
помощи общественной благотворительности
собрал значительные суммы, которые, впро¬
чем, по большей части задним числом, и
пришли к голодавшим крестьянам.
Затем через три года последовал другой
неурожай, коснувшийся главным образом
юго-восточных губерний, которые считались
житницей всей России и даже Европы;
именно в Самарской губернии длился под¬
ряд три года неурожай и затем голод в
огромных размерах, и тут правительство
было особенно смущено, что именно в этом
благодатном и обильном землею крае тоже
наступил голод.
И вот после того, как явился этот голод
в Самарской губернии, и для правительства
сделалось ясным, что необходимо будет ког¬
да-нибудь положить конец переобременен-
ности крестьян платежами, с одной стороны,
а с другой стороны,— их относительному
малоземелью в черноземных местностях,
вновь явился вопрос, на этот раз довольно
резко поставленный, относительно неизбеж¬
ности серьезной податной реформы.
Тем не менее правительство по-прежне-
му действовало с чрезвычайной медлитель¬
ностью. Оно крайне неохотно поднимало
этот вопрос. Мы уже видели, что министр
финансов, который в это время специально
культивировал развитие крупной промыш¬
ленности, шел года за два до смоленского
голода с легким сердцем на новое обложение
крестьянского хозяйства, как только явилась
340
к этому малейшая, по его данным, возмож¬
ность. Мы видели, как вопрос об уничто¬
жении подушной подати и замена ее
подоходным налогом, проектированным зем¬
ствами, провалился в правительственных
сферах. Между тем печальные обстоятельст¬
ва в крестьянском хозяйстве сказывались не
только в виде голода, который наступил
сперва в Смоленской, а затем в Самарской
губерниях, они сказывались и в постепенном
падении крестьянского хозяйства в годы со¬
вершенно обыкновенные — в особенности в
значительном уменьшении скотоводства.
Мы видим, что скотоводство в эти годы
падает не только на помещичьих землях, как
оно падало в черноземной полосе, потому что
помещики прямо находили здесь более вы¬
годным для себя сдавать свои земли в арен¬
ду, но падает и у крестьян в довольно
значительных размерах, так что этот
признак уже является достаточно серьез¬
ным. Он, однако, замечен был далеко не
сразу: оскудение крестьянского хозяйства
совершалось с некоторой постепенностью, и
мы видим, что еще в 70-х годах были мест¬
ные администраторы, которые пытались да¬
же самарский голод объяснить тем, что
народ, мол, пьянствует й пропивает свои
большие доходы, а потом, в годы неурожая,
и наступают поэтому голодовки. Именно,
самарский губернатор Климов высказал
такие соображения в 1873 г. в Комитете
министров; но даже здесь он получил долж¬
ный отпор: государственный контролер А.
А. Абаза ему указал, что все сведения, пред¬
ставленные им, губернатором, который дол¬
жен был бы знать свою губернию, очевидно
неверны и не соответствуют действительно¬
му положению вещей. Абаза с цифрами в
руках доказал, что Самарская губерния
платила податей больше 3% общей их сум¬
мы, собиравшейся со всей России, а
акцизных сборов из нее поступило лишь
1 /г % общей их суммы, так что он имел
возможность определенно показать самар¬
скому губернатору, что Самарская губерния
— одна из самых трезвых в России и что его,
губернатора, данные никуда не годятся.
Министр внутренних дел Тимашев, как
только положение в споре, возникшем в
Комитете министров, сделалось таким неу¬
добным для Министерства внутренних дел,
прекратил разговор и сказал, что он пред¬
ставит более точные сведения, но что, во
всяком случае, ясно (?), что Самарская
губерния не может быть отнесена к гу¬
берниям истощенным. Однако, истощен¬
ность черноземной полосы России в 90-х
годах уже не подлежала никакому сом¬
нению. Мне самому лично приходилось в
годы неурожая, в 1892—1893 пг., собирать
статистические данные относительно голо¬
дающих крестьян, и я лично видел целый
ряд таких селений в центральных чернозем¬
ных губерниях, как, например, Тульская,
где 75% изб в 90-х годах топились «по-чер-
ному», т. е. крестьяне, топя дровами или
соломой, строили, ради экономии в топливе,
свои печи без труб, потолки в таких избах
были совершенно черные от сажи и бле¬
стящие, как хорошо вычищенный сапог, а в
мокрую погоду с них капала черная грязь.
Целый ряд изб в таких деревнях был раск¬
рыт; на крыше оставались одни только
стропила, а вся солома была снята и скор¬
млена скоту. По статистическим данным,
мною самим собранным, выходило, что в
иных деревнях уже до 50% крестьян были
к началу 90-х годов безлошадны, а из других
50% более 40% и даже 45% были одноло¬
шадными и только 5—6% было таких хозя¬
ев, которые обладали двумя и более
лошадьми. В некоторых деревнях иногда
бывало два-три двора и с пятью-шестью
лошадьми каждый, но они совершенно то¬
нули в общей массе разоренного и беспо¬
мощного крестьянства...
Вот общая картина того оскудения, к
которому пришло крестьянство в чернозем¬
ных губерниях через 20 лет после реформы
19 февраля. Таким образом, несомненно, что
те недостаточные земельные наделы, кото¬
рые получили крестьяне в черноземной
полосе, и то переобременение их платежами,
которое существовало в местностях нечерно¬
земных, а в значительной степени также и
в черноземных сказались весьма серьезно, и
если правительство и в эти годы считало
возможным оттягивать необходимые рефор¬
мы и мероприятия, которые бы служили хотя
бы частичному улучшению положения кре¬
стьян в России, то в обществе уже в 70-х
годах люди сведущие не сомневались, что
положение крестьянства в пореформенное
время идет к довольно грозному упадку. В
числе писателей, которые воспользовались
статистическими данными, собранными
правительственными комиссиями, исследо¬
вавшими тогда положение крестьян,—
именнб податной комиссией, которая рабо¬
тала в течение целых 15 лет, и затем той
анкетной валуевской комиссией, о которой
я только что упоминал,—были два выда¬
ющихся писателя, о которых я уже го¬
341
ворил,— Ю. Э. Янсон и кн. А. И.
Васильчиков. Из них профессор Янсон
определенно и резко изложил те выводы, к
которым он в этом отношении пришел» в
своей книге «Опыт статистического иссле¬
дования о крестьянских наделах и плате¬
жах» — наделах и платежах по Положению
1861 г. Исследовав на основании данных
упомянутых двух правительственных
комиссий положение массы нашего кресть¬
янства во всех областях Европейской
России, профессор Янсон нашел в нем пов¬
семестно «слабую обеспеченность хозяйст¬
венного быта, особенно в той части, которая
великим актом 1861 года призвана к благо¬
денствию и процветанию свободного труда.
Где нет экономической обеспеченности,—
писал почтенный профессор,— там почти
излишне дополнять картину состояния наро¬
да изображением явлений, от нее
зависящих, и отсутствием — ее объясня¬
ющихся. Плохое питание, дурные
физические и моральные условия жизни,
большая болезненность и сильная смерт¬
ность— все это имеет свою ближайшую
причину в бедности населения, а бедность
сама, если и проистекает от слабости нрав¬
ственных сил и недостатка трудовой
энергии, то не от них она пошла и не ими
она стоит на русской земле. Ведет она свое
начало не с последних времен; ее создало
вековое крестьянское состояние; но под¬
держивает ее там скудная почва, к которой
фактически привязано население; здесь
ничтожный надел, с которого нельзя сойти,
там безземелье, здесь отсутствие* всяких за¬
работков и происходящее от того и другого
низкое вознаграждение труда; наконец, тя¬
жесть общих государственных, земских и
мирских податей и сборов, лежащих не на
имуществе и его доходе, а на личном труде,
и высокая плата за землю, которая одна
кормит того, кто ее обрабатывает».
«Податная система и аграрное законода¬
тельство наше,— заключал Янсон,— не мо¬
гут долее оставаться в настоящем виде без
серьезной опасности для благоденствия и
настоящего и будущего поколений...»
Но изменение поземельных отношений
представлялось ему «гораздо более настоя¬
тельным и существенным вопросом настоя¬
щего, чем какая бы то ни было реформа в
финансовом хозяйстве государства: без сом¬
нения, устраняющего коренные недостатки
этих отношений, несбыточно*— по его
мнению,— мечтать о благих результатах са¬
мой правильной податной системы».
Не видя, однако, возможности думать о
полном искоренении недостатков податной
системы и при этом принимая во внимание,
что поземельный вопрос был уже решен в
самой реформе 1861 г., Янсон предлагал
поэтому, идя навстречу крестьянским зе¬
мельным нуждам, лишь ряд более или менее
серьезных паллиативов. Он констатировал,
что «есть достаточно поводов к понижению
поземельных платежей для уравнения их со
средствами крестьян и теми хозяйствен¬
ными отношениями, какие определились 20-
летним опытом; вопрос о переселениях и
направлении их ждет разрешения, сообраз¬
ного с потребностями народа и выгодами
государства; предоставление дешевого
кредита для приобретения тех земель, кото¬
рые в будущем придется снимать за дорогую
цену, исходное с выкупною операцией; са¬
мый пересмотр выкупной операции в видах
возможного понижения выкупных платежей;
наконец, столь желанное и давно ожидаемое
преобразование податной системы: вот те
громадной важности задачи, на которых не
могут не остановить своего внимания и
правительство и общество».
Действительно, в начале 80-х годов
явился, как вы увидите из последующих
лекций, целый ряд мероприятий, которые
были направлены в сторону удовлетворения
этих нужд и к принятию как раз тех
паллиативных мер, которые еще в 1876 г.
рекомендовал профессор Янсон.
Несколько другого мнения был другой из
двух упомянутых авторов, кн. А. И.
Васильчиков, о котором я не раз уже говорил
в своих лекциях. Разница между ним и
Ю. Э. Янсоном заключается в том, что
Васильчиков не считал главнейшей
причиной печального положения наших кре¬
стьян недостаточность их земельных наде¬
лов, а видел ее главным образом в той
отчаянной податной системе, которая
парализовала благие результаты реформы 19
февраля. Приведя эпиграф, примененный
Тэном к характеристике положения кресть¬
ян во Франции перед самой революцией
1789 г., кн. Васильчиков находит в этом
отношении полную аналогию в положении
тогдашних французских и современных ему
русских крестьян. Указав, что крестьяне во
Франции накануне великой революции
усиленно скупали землю и в то же время
разорялись тяжестью непомерных налогов,
обременявших именно крестьянскую собст¬
венность, и подметив то же самое явление и
у нас в 70-х годах, кн. Васильчиков замеча¬
ет, что «положение русских крестьян, в
342
настоящее время совершенно схожее с
картиною, нарисованной Тэном, может
служить для нас серьезным предостере¬
жением; податная система может подавить
все благое действие свободы и равноправ¬
ности и довести мелких владельцев против
крупных до того же изуверства, какое про¬
явилось во Франции в конце прошлого
столетия».
Та разница, которую вы видите в выво¬
дах этих двух выдающихся исследователей
тогдашнего положения вещей,, отчасти
объясняется тем, что кн. Васильчиков имел
в виду главным образом положение крестьян
в нечерноземной полосе, где не столь остро
сказывался земельный вопрос, сколько
именно податной, тогда как Янсон обратил
главное свое внимание на наиболее хлебо¬
родные местности, где действительно сказы¬
вался гораздо острее вопрос именно
земельный.
Эти мнения кн. Васильчикова и профес¬
сора Янсона в значительной степени разде¬
лялись массой тогдашних писателей,
исследователей крестьянского положения, и,
в сущности, надо сказать, что насколько
нечутко к этому относилось правительство в
60-х и 70-х годах, настолько же чутко к
этому вопросу было отношение печати и
общества. Его можно назвать не только
чутким, но даже и пророческим, потому что
уже во время разработки крестьянской
реформы, в самом конце 50-х и начале 60-х
годов Чернышевский, а потом Н. А. Серно-
Соловьевич и другие совершенно определен¬
но предрекали такие отрицательные
результаты реформы.
В 60-х годах в среде передовой русской
интеллигенции составилось уже довольно
определенное и довольно упорное мнение о
недостатках того экономического устройст¬
ва, которое дано было крестьянам крестьян¬
ской реформой, и распространенность этого
мнения породила очень скоро широкое на¬
родническое течение в литературе, а потом
и народническое движение, которое и будет
предметом моей следующей лекции.
ЛЕКЦИЯ ХХХУ
Отношение правительства и общества к положению народных масс.— Народническое направление в
литературе.— Студенческие беспорядки 1869 г.— Нечаев и нечаевщина.— Чайковцы в Петербурге; их
идеи и планы.—Бакунин и Лавров за границей.— Лавристы и бакунисты.— «Вперед».— Начало хож¬
дения в народ.— Аресты.— Записка Палена.— Общество «Земля и воля».— Развитие народнических
идей в легальной литературе.
Прошлый раз я вам выяснил то поло¬
жение, в котором находились народные мас¬
сы в конце 60-х и в 70-х годах, после
окончательного применения к ним Поло¬
жения 19 февраля и законов 1863 и
1866 it., окончательно, так сказать, за¬
вершивших крестьянскую реформу. Я вам
выяснил также и то отношение, которое
обнаруживало к этому тяжелому положению
народных масс правительство: отношение
это особенно характеризовалось отсутствием
чуткости и какой бы то ни было предус¬
мотрительности.
Гораздо более чутко отнеслась к поло¬
жению народных масс наша интеллигенция,
общество вообще. Вы видели, какие выводы
из правительственных анкет и исследований
сделали представители тогдашней эко¬
номической науки и знатоки сельского хо¬
зяйства из общества, такие люди, как
профессор Янсон и кн. А. И. Васильчиков.
И надо сказать, что выводы, к которым они
пришли, в сущности говоря, для пред¬
ставителей интеллигенции вовсе не являлись
неожиданными. Когда я излагал вам
историю эпохи реформ 60-х годов, в част¬
ности историю разработки крестьянского
Положения, вы видели, с какою проница¬
тельностью обсуждали это положение такие
представители тогдашней публицистики,
как Герцен, Чернышевский, Добролюбов и
тотчас же после опубликования Положения
19 февраля — Серно-Соловьевич. Можно
сказать, что те пессимистические взгляды на
реформу, которые выработались под
влиянием их критики и недоверия, в
значительной степени усвоены были и всем
радикально настроенным общественным
мнением страны. Все передовое русское
общество, тяготевшее к «Современнику» или
«Колоколу» Герцена, смотрело очень
пессимистически на будущность освобож¬
денных крестьян. С самого начала 60-х годов
или даже, можно сказать, параллельно раз¬
работке крестьянской реформы стала уже
складываться и так называемая народниче¬
343
ская школа в русской литературе. Уже в
1860—1861 гг. появляются первые произве¬
дения таких народников-беллетристов, как
Николай Успенский, Наумов, Левитов, Ре¬
шетников и целый ряд других, которые
яркими красками описывали то тяжелое
положение народа, в каком он выходил из
крепостного права. Сделать это названным
писателям было тем легче, что сами они по
своему происхождению были близки к наро¬
ду. Это были писатели-разночинцы, которые
вошли тогда в русскую литературу, до тех
пор созидавшуюся главным образом в среде
людей дворянского происхождения. Недаром
Чернышевский в статье «Не начало ли пере¬
мены?», посвященной Николаю Успенско¬
му, указывал на это явление.
Эти народники-беллетристы в своей го¬
ремычной жизни сами немало хлебнули того
горя, что тяготело над народом. Они не
только яркими чертами описали обществу
истинное положение народных масс, но в
значительной степени подействовали и на
совесть общества, на совесть наиболее
чутких умов и душ, в особенности молодого
поколения. Благодаря им в значительной
мере встал вопрос о долге интеллигенции
перед народом, потому что для наиболее
чутких умов ясно стало, что всякая
интеллигенция получает возможность
приобщиться к благам культуры — в особен¬
ности в такой некультурной стране, как
Россия,— лишь на народный счет. Отсюда
явился вопрос об уплате народу того долга,
который лежал на интеллигенции в этом
отношении. Это начинали сознавать, впро¬
чем, не только представители разночинной
интеллигенции, которые сами вышли из на¬
рода, как только что названные народники-
беллетристы, но и многие представители
дворянского сословия, которых немного лет
спустя Н. К. Михайловский окрестил име¬
нем «кающихся дворян»,— они также
ставили теперь перед собой нередко этот
вопрос об уплате долга народу.
Когда произошли в 1861 г. студенческие
волнения, которые были связаны в
значительной мере с вопросами,
возникшими на почве освобождения кресть¬
ян, когда Путятин и Игнатьев раздули это
событие и бестактно разгромили Петер¬
бургский университет и когда целые сотни
молодых людей были исключены из
университета и попали в казематы крепости
и кронштадтские казармы, то Герцен в конце
1861 г. писал в «Колоколе», обращаясь к
этим исключенным студентам, такие слова:
«Ну куда же вам деться, юноши, от
которых заперли науку? Сказать вам: куда?
— Прислушайтесь,— благо тьма не мешает
слушать,— со всех сторон огромной родины
нашей: с Дона и Урала, с Волги и Днепра
растет стон, поднимается ропот,— это на¬
чальный рев морской волны, которая
закипает, чреватая бурями, после страшно
утомительного штиля. В народ! к народу! —
вот ваше место изгнанники науки, покажите
этим Бистромам1, что из вас выйдут не
подъячие, а воины, но не безродные на¬
емники, а воины народа русского!»
Этот клич (в народ! к народу!), брошен¬
ный тогда Герценом по частному случаю,
был подхвачен народнической литературой
и очень сильно отозвался в умах молодс:*гт*
Правда, в последующие затем годы под
влиянием разгрома передовой
интеллигенции, происшедшего в 1862 г.,
после знаменитых петербургских пожаров,
под влиянием польского восстания, которое
вызвало реакционное настроение, и всего
более под влиянием того течения, которое
под предводительством Писарева получило
название нигилизма и которое ставило себе
более эгоистические вопросы борьбы за
индивидуальность, т. е. за освобождение
своей собственной интеллигентской
личности от тех религиозных, бытовых и
других пут и предрассудков, которые опуты¬
вали общество, под влиянием этого течения
и всех указанных обстоятельств только что
разгромленная русская интеллигенция не¬
сколько уклонилась от народнических
стремлений и от направления, начавшего
было развиваться среди нее и в передовой
литературе под влиянием крестьянской
реформы.
Но мы видим, что во второй половине
60-х годов опять на сцену является именно
это народническое направление. В
значительной степени тут сыграло роль но¬
вое обстоятельство. После издания
университетских правил новым министром
Толстым в мае 1867 г., стеснивших чрезвы¬
чайно университетскую жизнь, молодежь,
очень этим придавленная, оскорбленная и
сбитая с того почетного места, на которое ее
поставили Добролюбов, Писарев и другие
литературные вожди молодого поколения,
чувствовала себя чрезвычайно стесненной и
раздраженной, и перед нею, вместо задач
внутренней борьбы за индивидуальность и
освобождение своей личности, невольно
возникал вопрос о завоевании прежде всего
более сносных внешних условий, и мысль ее
344
направлялась опять к общественным зада¬
чам, общественным целям...
Вместе с тем, как вы видели, в 1868 г.
перед русским обществом впервые резко
встал вопрос о крестьянской нужде при виде
того голода, который после двухлетнего неу¬
рожая разразился в особенности в Смолен¬
ской губернии. Картины народного бедствия
произвели большое впечатление на моло¬
дежь, переживавшую университетский
кризис, и вот мы видим, что с осени 1868 г.
и всю зиму 1868—1869 гг. происходит
усиленное брожение в университетской сре¬
де, особенно среди студентов Медико¬
хирургической академии, так как онк как
раз переживала тогда ломку ранее уста¬
новившейся в ней системы.
Все это создавало такое положение, что
беспорядки неизбежно должны были вспых¬
нуть. Профессорам удалось, правда, с осени
сдержать студентов и уговорить не портить
предстоящего 8 февраля 1869 г. 50-летнего
юбилея Петербургского университета. Но с
весны 1869 г. начались уже непрерывные
сходки, выступления против начальства и
министерства в резких формах, и вскоре
разразились обыкновенные студенческие
беспорядки, кончившиеся и на этот раз весь¬
ма суровыми мерами, массовыми исклю¬
чениями из университета и
Медико-хирургической академии студентов,
которые при этом высылались на родину.
Будучи таким образом рассеяна по всей
России, эта возбужденная масса молодежи
направилась если не сразу в народ, то в
публику, в общество, ще эти исключенные
студенты начали немедленно пропаганду тех
самых идей и вопросов, которые они сами
переживали в последнее время.
1869 г. и следовавшие за ним первые
'0-е годы как раз являются годами зарож¬
дения новых, уже революционных и
р адикально-народнических настроений в
молодой части русского общества.
Как раз навстречу этим новым настро¬
ениям, которые охватили тогда молодежь,
шилась и в печати удачная формулировка
$ дач, которые ставились новою жизнью
ifH 5ред русским обществом и перед русской
молодежью,— формулировка, сделанная
тогда П. А. Лавровым в новом журнале «Не¬
деля», издававшемся с 1866 г. д-ром Кон¬
ради. Тогда Лавров, который в начале 60-х
годов являлся очень умеренным по своим
шглядам провозвестником новых фило¬
софских идей,— так что против него вое¬
вали радикальные «Современник» и
«Русское слово», в особенности Писарев,—
шагнул уже значительно влево. Несмотря на
свои весьма зрелые годы,— он был в это
время отставным сороколетним пол¬
ковником, ранее состоявшим профессором
артиллерийской академии,— Лрров вообще
очень был склонен к эволюционированию и
постоянно двигался налево, стремясь сох¬
ранить связь с молодым поколением и теми
задачами, которые его волновали. И вот в
1868 г. в статьях, которые Лавров писал из
ссылки под довольно прозрачным псев¬
донимом Миртова, он формулировал те
общие задачи, которые, по его мнению,
ставились перед русской интеллигенцией,
причем очень удачно связал внутренние за¬
дачи борьбы за индивидуальность и осво¬
бождение своей собственной личности с
задачами общественными. Он писал:
«Развитие личности в физическом, умст¬
венном и нравственном отношении, вопло¬
щение в общественных формах истины и
справедливости — вот краткая формула,
обнимающая все, что можно считать прог¬
рессом».
Это как раз и шло навстречу тем настро¬
ениям, которые в это время владели моло¬
дежью. В ряде своих статей под общим
заглавием «Исторические письма» исходя
из этой формулы Миртов указывал и ус¬
ловия, при которых все это может быть
достигнуто, и отсюда выводил и обществен¬
ные обязанности каждой «критически мыс¬
лящей личности», как он выражался. На
роль такой личности он смотрел как на
обязательную для нее уплату цены прогрес¬
са.
«Всякое цивилизованное
меньшинство,— писал он,— которое не
хотело стать цивилизующим в самом
обширном смысле этого слова, несет ответ¬
ственность за все страдания современников,
которые оно могло бы устранить, если бы не
ограничилось ролью представителя и
хранителя цивилизации, а взяло бы на себя
и роль ее двигателя».
«Воплощение в общественных формах
истины и справедливости» как цель челове¬
ческой деятельности и обязательность
стремления к достижению этой цели давали
молодежи то обоснование ее поведения, ко¬
торое в тот момент было нужно и которого
Писарев как раз не давал.
Позднее социологическое учение Михай¬
ловского осуществило и развило задачу, пос¬
тавленную Лавровым, гораздо более сильно
и ярко, но, во всяком случае, первым
345
русским мыслителем, поставившим ее перед
русским обществом, был именно Лавров; и
надо сказать, что до такой степени его фор¬
мула шла к комитет, что даже хранитель
прежних враждебных к Лаврову писаре-
вских традиций, Шелгунов, который являлся
тогда главою благосветловского «Дела»,— и
он, когда эти статьи Лаврова вышли отдель¬
ною книгою, поместил в «Деле» особую
статью, где кое в чем, правда, не соглашаясь
с Лавровым, горячо рекомендовал публике
его книгу, указывая на нее как на выдающе¬
еся явление, какого давно не было в нашей
литературе.
Конечно, общая постановка вопроса, ко¬
торую дал Миртов в своей формуле, была
достаточно широка, и она была подхвачена
молодежью, находившейся в самых разнооб¬
разных настроениях. Ведь «воплощение в
общественных формах истины и спра¬
ведливости» могло достигаться разными
путями, и поэтому к этой формуле могли
присоединиться как революционно настро¬
енные люди, так и мирно народнически и
демократически настроенные круги моло¬
дежи, которые могли под эту формулу под¬
ставлять работу на поприще простого
культурного развития страны и в особен¬
ности деревни.
Гораздо более определенную формулу в
политическом отношении, хотя и совершен¬
но аналогичную лавровской по существу, в
это время выставил за границей самый вы¬
дающийся представитель тогдашней рус¬
ской эмиграции М. А Бакунин. В 1868 г. в
Женеве был основан русский журнал «На¬
родное дело» под редакцией Н. И. Жуков¬
ского, и в первом же номере этого журнала
Бакунин выставил перед передовой русской
молодежью задачи, которые, по его мнению,
ставились тогдашним моментом, причем
первый пункт его программы совершенно
соответствовал формуле Лаврова, с той толь¬
ко разницей, что здесь были поставлены
точки над i.
В первом пункте ставилась задача осво¬
бождения личности от всяких пут, но при
этом совершенно определенно указывалось,
что освобожденной может считаться только
та личность, которая освободилась и от
религиозных верований, в которых она
воспитывалась, и стала атеистической, так
что атеизм ставился во главу угла личного
развития. Что касается второго пункта прог¬
раммы, то здесь, как и у Лаврова, ставилась
задача «воплощения в общественных фор¬
мах истины и справедливости», но при этом
раскрывались скобки и определенно указы¬
валось, что под истиной и справедливостью
подразумевается определенный обществен¬
ный строй, в котором не только должно быть
достигнуто социальное и экономическое
освобождение народа, выражающееся в уп¬
разднении всякой наследственной собствен¬
ности, в передаче земли общинам
земледельцев, а фабрик, капиталов и прочих
орудий производства — рабочим ас¬
социациям, в уравнении прав женщин с
мужчинами, упразднении брака и семьи и,
наконец, в общественном воспитании де¬
тей,— этого мало: все это представлялось
Бакунину достижимым только в том случае,
если дело будет начато с полного разру¬
шения государства. Именно типической чер¬
той бакунинской программы являлся
анархизм. Бакунин доказывал, что пока че¬
ловечество будет жить и развиваться в госу¬
дарственных формах, до тех пор
действительное экономическое и социальное
освобождение является невозможным, пото¬
му что, как говорил он, каковы бы ни были
государственные формы, будь это
ограниченная конституционная монархия
или даже демократическая республика, во
всяком случае сам по себе государственный
организм всегда основан на принуждении и
потому неминуемо ведет к неравенству и
господству одной социальной группы или
класса над другими.
Поэтому, по мнению Бакунина, без раз¬
рушения государства недостижим никакой
действительный прогресс и в сфере социаль¬
но-экономической. Вы видите, таким обра¬
зом, что Бакунин ставил дело чрезвычайно
резко и непримиримо революционно, а при
том обостренном настроении, которое в это
время охватывало молодежь, самая эта рез¬
кость и непримиримость особенно
нравились, и формула его представлялось
для многих гораздо более подходящей, чем
неопределенная и отвлеченная формула Лав¬
рова, которая на первых порах производила
такое благоприятное впечатление.
Уже в зиму 1868—1869 г. программа,
выставленная Бакуниным, деятельно обсуж¬
далась между студентами2. Мы видим, что
тут определенно идут споры о том, стоит ли
при существующих условиях даже учиться;
указывается, опять-таки со слов Бакунина,
что всякое учение, всякая наука в данное
время есть только трата народных средств,
что собственно передача знаний и культуры
народу невозможна до тех пор, пока народ
не будет освобожден, в бакунинском смысле
346
слова, а пока этого нет, до тех пор не стоит
и учиться. Поэтому Бакунин рекомендовал
бросать университеты и идти в народ и
подымать его, не в смысле сообщения ему
знаний и идей, а прямо в смысле бунта
против существующего порядка вещей, пото¬
му что пока этот порядок не будет опрокинут
и сброшен, до тех пор, по его мнению,
невозможно никакое правильное обществен¬
ное развитие.
Вскоре в среде самой молодежи является
новый, свой собственный провозвестник
революционных идей, который, несмотря на
всю крайность постановки вопросов Ба¬
куниным, пошел еще дальше. Это был Неча¬
еву который в это время был юношей 23 лет.
Он был учителем народной школы и в то же
время вольнослушателем университета. Он
очень быстро овладел умами окружавшей его
молодежи, так как был человеком такой
чрезвычайной энергии, что она покоряла ему
даже людей и вполне зрелого возраста. Так,
например, в числе его последователей был
сорокалетний писатель Прыжов, который
прямо говорил, что такого покоряющего себе
людей человека, как Нечаев, ему никогда не
приходилось встречать. Нечаев вскоре бе¬
жал за границу и там произвел на Бакунина
такое впечатление, что тот сам готов был во
многом ему подчиниться и пытался также
расположить и Герцена, но Герцен резко от
этого уклонился. Бакунину удалось, однако,
подчинить влиянию Нечаева Огарева и на
время детей Герцена и убедить их после
смерти Герцена, который умер как раз в это
время (в январе 1870 г.), передать Нечаеву
хранившиеся у них общественные деньги.
Лишь спустя несколько месяцев Бакунин
решительно разочаровался в Нечаеве.
На молодежь Нечаев производил чрезвы¬
чайное впечатление, прямо гипнотизируя ее,
а благодаря своему чрезвычайному власто¬
любию он желал вполне захватить в свои
руки все движение, и так как настоящих
идейных данных у него для этого не было,
то он попробовал сделать это внешними
средствами, пустив в ход мистификации и
целый ряд самых бессовестных обманов,
которые в значительной степени ему уда¬
вались. Так, чтобы создать себе большой
ореол, он распустил слух, что был арестован
и бежал самым романтическим образом из
крепости. Но на самом деле ничего подобно¬
го не было; он просто уехал из Петербурга
за границу. Здесь, сблизившись с Ба¬
куниным и Огаревым, он требовал от них,
чтобы они его афишировали, и, как я сказал,
они оба временно вполне подпали под его
влияние.
В основу системы, которую развивал
Нечаев, был положен принцип крайнего
политического иезуитизма. Нечаев считал,
что революционер имеет право для своих
целей наплевать на все нравственные
принципы, имеет право всех обманывать,
убивать и обворовывать, что ему не заказаны
никакие пути, лишь бы они вели к его цели;
при этом он считал выгодным и желатель¬
ным в интересах прочности своей
«организации» обеспечить себе возможность
во всякое время компрометировать близких,
окружающих его лиц. С этой целью он
считал возможным выкрадывать их письма,
записки, компрометирующие их документы
в особенности, чтобы держать в руках даже
таких лиц, которые в нем разочаровались.
Совершенно соответствовал этому и
строй его организации, • который он
заимствовал у Бабефа и бабувистов. Это
строй замкнутых «пятерок», которые обра¬
зовывались таким образом, что каждая
пятерка знала одно лицо, стоявшее выше ее;
эти высшие лица опять должны были
принадлежать к какой-нибудь высшей
«пятерке», которая построена была по тому
же принципу, и таким образом организация
восходила до верху, а вверху был таинствен¬
ный «комитет», которого на самом деле не
существовало, но которому, т. е. в сущности
Нечаеву, «пятерки» должны были беспре¬
кословно повиноваться. И вот, образовав в
Москве такую «пятерку» из пяти молодых
людей: Успенского, Прыжова, Николаева,
Кузнецова и Иванова,— Нечаев заметил, что
один из членов этой «пятерки», студент
Иванов, начинает критически к нему
относиться. Тогда он, не колеблясь, прика¬
зал остальным членам «пятерки» немедлен¬
но убить Иванова как якобы шпиона,
совершенно сознательно рассчитывая, что,
раз совершенное, преступление это
подчинит ему в полное рабство всех его
участников. И Нечаев добился своего: сту¬
дент Иванов был убит. Но дело вскоре рас¬
крылось, и процесс этой «пятерки» явился
процессом «нечаевщины» вообще,
привлекшим 87 человек на скамью под¬
судимых, причем 33 человека было присуж¬
дено к разным наказаниям, а остальные хотя
и оправданы, но многие из них попали затем
в ссылку административным порядком.
Когда личность Нечаева и его система
достаточно уяснились Бакунину, то он ста¬
рался от него всячески отгородиться и разоб¬
347
лачить его в глазах других лиц и
организаций. Но дело было сделано: Нечаев
успел достаточно резко проявить себя и свою
политику в основанном им обществе «Народ¬
ной расправы» и надо сказать, что в этот
эпизод русского революционного движения
чрезвычайно пагубно отразился на репу¬
тации и развитии революционных идей во¬
обще, и мы видим, что уже в 1872 г., через
год после процесса «нечаевцев», великий
русский писатель, сам бывший рево¬
люционер,— Достоевский,— написал це¬
лый роман «Бесы», в основу которого
положена была история «нечаевщины». Но
при этом Достоевский обобщил это
уродливое явление на всех революционеров
и на современное ему революционное
движение вообще и поэтому, конечно, вызвал
против своего романа большое негодование в
радикальных сферах, выразителем которого
явился молодой публицист «Отечественных
записок» Н. К. Михайловский, о котором я
уже упоминал. Михайловский, соглашаясь,
что, конечно, ни одной минуты нельзя
защищать Нечаева и его системы, резко
протестовал в то же время против попытки
Достоевского обобщить эти принципы на все
начинавшееся тогда новое революцирнное
движение.
Как раз в это же время, в начале 70-х
годов, в противовес нечаевскому направ¬
лению в молодежи возникло совершенно
иное течение, выражавшееся сообществом
молодых людей, составивших кружок вокруг
одного только что кончившего университет
молодого человека — Н. В. Чайковского,
кружок, который и получил по его имени
название кружка «чайковцев».
Вот как описывает кн. П. А. Кропоткин
в своих «Записках революционера»
возникновение этого кружка, а вместе с тем
и других подобных кружков того времени:
«Во всех городах, во всех концах Петер¬
бурга возникали кружки саморазвития.
Здесь тщательно изучались труды филосо¬
фов, экономистов и молодой школы русских
историков. Чтение сопровождалось беско¬
нечными спорами. Целью всех этих чтений
и споров было — разрешить великий воп¬
рос, стоявший перед молодежью: каким
путем она может быть наиболее полезна
народу? И постепенно она приходила к вы¬
воду, что существует лишь один путь: нужно
идти в народ и жить его жизнью. Молодые
люди отправлялись поэтому в деревню как
врачи, фельдшера, народные учителя, воло¬
стные писаря. Чтобы еще ближе соприкос¬
нуться с народом, многие пошли в чернора¬
бочие, кузнецы, дровосеки. Девушки сда¬
вали экзамен на народных учительниц,
фельдшериц, акушерок и сотнями шли в
деревню, где беззаветно посвящали себя слу¬
жению беднейшей части народа. У всех их
не было никакой еще мысли о революции, о
насильственном переустройстве общества по
определенному плану. Они просто желали
обучить народ грамоте, просветить его,
помочь ему каким-нибудь образом выбрать¬
ся из тьмы и нищеты и в то же время узнать
у самого народа, каков его идеал лучшей
социальной жизни».
Эти воспоминания писаны были через
несколько десятилетий после той эпохи, и
поэтому многое в них, так сказать, хроно¬
логически соединилось; явилась, может
быть, некоторая хронологическая абер¬
рация; поэтому можно сделать некоторые
оговорки к тому, что здесь говорит Кро¬
поткин; можно указать, что некоторые из
членов таких кружков были уже рево¬
люционерами с самого начала: мы видим,
например, из «Записок» другого видного
чайковца, Л. Э. Шишко, что он еще юнке¬
ром был приобщен к революционным идеям.
Точно так же и некоторые другие приходили
в эти кружки уже с определенными рево¬
люционными идеями. Но, во всяком случае,
даже процессы конца 70-х годов подтверж¬
дают, что очень многие из народников,
шедших в середине 70-х годов в народ, шли
туда с вполне мирными намерениями. Вот
что говорила одна из привлеченных к про¬
цессу 50-ти, разбиравшемуся в 1876 г.,
С. И. Бардина, на суде:
«Я, господа, принадлежу к разряду тех
людей, которые между молодежью известны
под именем мирных пропагандистов. Задача
их — внести в сознание народа идеалы луч¬
шего, справедливейшего общественного
строя или же уяснить ему те идеалы, которые
уже коренятся в нем бессознательно; указать
ему недостатки настоящего строя, дабы в
будущем не было тех же ошибок; но когда
наступит это будущее, мы не определяем и
не можем определить, ибо конечное его осу¬
ществление от нас не зависит. Я полагаю,
что от такого рода пропаганды до подстрека¬
тельства к бунту еще весьма далеко...
Обвинение называет нас,— говорила она
же,— политическими революционерами; но
если бы мы стремились произвести
политический coup d'etat, то мы не так бы
стали действовать; мы не пошли бы в народ,
который еще нужно подготовлять да
348
развивать, а стали бы искать и сплачивать
недовольные элементы между образован¬
ными классами. Это было бы целесообраз¬
нее, но дело-то именно в том, что мы к
такому coup d etat вовсе не стремимся.. .»
Во всяком случае, мы видим, что в
начале 70-х годов чайковцы еще совсем не
стремятся ни к революции, ни к бунтам во
что бы то ни стало, а стремятся, скорее всего,
к культурной народнической пропаганде.
Поэтому их первыми задачами являются, с
одной стороны, общение с народом,— поче¬
му они и переодеваются в крестьянское
платье, стараются опроститься,— с другой
стороны, распространение среди народных
масс как можно больших знаний и в особен¬
ности своих собственных социальных идей.
В первые годы существования кружка их
деятельность заключается главным образом
в распространении среди народа и
интеллигенции, так как они старались
расширить и свой собственный круг, соот¬
ветствующей литературы. Очевидно, что эти
их задачи, по существу, были аполитичны и
не предполагали каких-либо резких
действий. Мы видим в это время среди
чайковцев людей очень разнообразных
политических взглядов: между прочим, и
конституционалистов, а наряду с ними и
людей, совершенно не интересующихся
политическими задачами и все сводящих к
экономической и . социальной стороне
жизни, к задачам улучшения положения
народных масс, Последние взгляды стано¬
вятся мало-помалу в их кругу господству¬
ющими.
Среди сочинений, которые они распро¬
страняли, мы видим прежде всего
«Капитал» Маркса, первый том которого был
в это время переведен на русский язык
(1872), статьи Чернышевского, Добролюбо¬
ва, «Исторические письма» Миртова, «По¬
ложение рабочего класса» Флеровского и,
наконец, якобы для народа составленную
«Азбуку социальных наук» того же автора,
которая, однако, для народа, несомненно, не
годилась, так как была изложена весьма
тяжелым и запутанным языком. Эти книги
вскоре же были изъяты, запрещены и неко¬
торые даже сожжены цензурным комитетом;
тогда чайковцы начали сходить с легальной
почвы и стали печатать маленькие, то¬
ненькие брошюрки подпольным путем. Для
этого они завели типографию при помощи
одного правительственного стенографа в Мо¬
скве, Ипполита Мышкина.
Значительное место в ранней деятель¬
ности чайковцев занимала пропаганда
социалистических или, точнее говоря,
анархистских идей среди петербургских
рабочих. В этом отношении главным лицом
являлся кн. П. А. Кропоткин, бывший паж,
аристократ по происхождению, прекрасно
образованный офицер, служивший с самого
начала не в гвардии, а в отдаленной Сибири,
куда привлекла его любознательность и
стремление к исследованию малоизвестного
края. Вернувшись оттуда и ставши видным
членом географического общества, Кро¬
поткин в то же время сильно заинтересовал¬
ся новыми для него социальными
вопросами, волновавшими молодежь. В
1871 г. он был за границей и очень много
посещал там рабочие кружки и рабочие
организации в Германии. Этот момент как
раз явился на Западе апогеем развития Ин¬
тернационального союза рабочих, где
возникли тогда ожесточенные распри между
двумя течениями, во главе одного из которых
стоял Карл Маркс, а во главе другого — наш
соотечественник Бакунин. Эти два человека
были совершенно противоположны друг дру¬
гу и, можно сказать, исключали друг друга
по вопросам тактики и даже программы.
Идеи Маркса сводились, как вы знаете, к
тому, чтобы достичь в отдаленном будущем
водворения правильного социального строя
путем социализации средств производства и
осуществления социалистических идей при
помощи государства, причем перед проле¬
тариатом, перед рабочими как классом
ставилась определенная задача завоевания
государственной власти, может быть, даже в
форме диктатуры пролетариата, о которой
впоследствии мечтали некоторые из после¬
дователей Маркса, диктатуры, установлен¬
ной при помощи вооруженного восстания
или же путем длительной парламентской
борьбы,— этот вопрос мог разрешиться
различно, но важно было именно завоевание
государственной власти для осуществления
того идеала социального устройства, к кото¬
рому стремилась вся организация, во главе
которой стоял сам Маркс.
При этом Маркс, отправляясь в свой
весьма длительный путь, считал, что для
всякой страны неизбежно пережить, пройти
период капиталистического развития, и
полагал даже, что капиталистический строй
является для рабочих в данное время прек¬
расной школой, дисциплинирующей и под¬
готовляющей их к общественному ведению
производства и к самой борьбе за свои клас¬
349
совые интересы. Такова была точка рения
Маркса. Бакунин держался совершенно
противоположной точки зрения; он, как вы
видели, совершенно отрицал прежде всего
государство; он считал, что всякая личность
и всякий круг личностей, которые желают
достичь экономического улучшения поло¬
жения народных масс и возможности
правильного экономического и социального
развития, прежде всего должны признать
главным врагом государство, каково бы оно
ни было, будет ли оно самой благоустроен¬
ной конституционной монархией или даже
демократической республикой.
Таким образом, Бакунин и Маркс
неизбежно взаимно исключали друг друга, и
между ними действительно вспыхнула оже¬
сточенная борьба в недрах Интернационала
не на жизнь, а на смерть. Когда Бакунин
был исключен из Интернационала, то за него
встал целый рад секций, в особенности в
романских странах Западной Европы, и
кончилось дело, как известно, гибелью само¬
го Интернационала в этой междоусобной
борьбе. Попав в самую гущу этих споров и
раздоров в социалистическом движении За¬
падной Европы, Кропоткин решительно стал
на сторону Бакунина, признав, что
действительно основным вопросом ближай¬
шего будущего является вопрос полного уп¬
разднения существующего государственного
строя. Он считал, как и Бакунин, что только
тогда может быть действительно достигнуто
освобождение народных масс и освобож¬
дение труда в коммунистических или
социалистических формах, когда будет
уничтожено современное государство и на
его месте возникнут различные феде¬
ративные союзы, которые будут построены
снизу вверх, в виде свободной федерации
мельчайших, социалистических или ком¬
мунистических, общин.
Принеся с собою эти идеи в кружок
чайковцев, Кропоткин стал деятельно их
развивать, как в своем кружке, так и в
других образовавшихся в это время кружках
революционно настроенной молодежи. Мы
видим, что те студенты, которые были под¬
вергнуты исключению из высших учебных
заведений, в особенности в 1869 г., во многих
местах подготовили в провинции среди
воспитанников старших классов гимназий,
среди своих младших братьев и сестер,
среди семинаристов и другой зеленой моло¬
дежи значительные кадры будущего рево¬
люционного движения, и вот параллельно с
кружком чайковцев развивается ряд других
организаций, целый ряд таких рево¬
люционных очагов. Мы видим и лиц более
зрелых поколений, которые захватываются
общим настроением молодежи и чрезвычай¬
но энергично содействуют этому движению.
Так, председатель Мглинского мирового
съезда Ковалик бросает свою судейскую де¬
ятельность и сосредоточивается на
организации таких кружков в провинции; в
короткое время он объехал несколько гу¬
берний и образовал в них более десяти
революционных очагов. Другим таким
лицом, с которыми Ковалик вступил в тес¬
ные сношения, был пензенский помещик
Войнаральский, пожертвовавший на дело
революционной пропаганды все свое состо¬
яние — около 40 тыс. руб.— и сам во¬
шедший в дело организации таких кружков.
Наконец, я уже упомянул о третьем таком
лице, Ипполите Мышкине, который, пользу¬
ясь положением правительственного стеног¬
рафа, устроил у себя нелегальную
типографию в Москве для изданий чайков¬
цев.
Наряду с этим мы видим, что и за
границей подготовляются значительные кад¬
ры революционно настроенной молодежи.
Часть тех студентов, которая была выкинута
из русских учебных заведений, отправилась
туда. За границу же массами отправлялись
в то время молодые девушки искать образо¬
вания, потому что вы видели, как трудно
развивались формы женского образования в
России, а потребность в нем являлась уже
чрезвычайно сильной, и вот мы видим, что
с начала 70-х годов в особенности в Цюрих
стекается масса интеллигентных русских
девушек и даже замужних женщин, чаще
всего «фиктивно» обвенчанных. Надо ска¬
зать, что многие родители тогда относились
к получению высшего образования их до¬
черьми отрицательно, и поэтому среди мо¬
лодежи были распространены фиктивные
браки, специально с целью освобождения
женской молодежи от ферулы и власти
родителей. Многие из этих молодых женщин
происходили из довольно зажиточных дво¬
рянских и буржуазных семей. Иные из них
привезли с собою кое-какие средства, и мы
видим, что у цюрихской колонии молодежи
даже появляется свой дом, купленный за 80
тыс. франков, где устраивается кухмистер¬
ская и происходят каждый день рефераты,
доклады, чтения и т. п.
Одним из постоянных лекторов в этой
колонии является П. Л. Лавров, который
вскоре после напечатания своих «Ис¬
350
торических писем» эмигрировал за границу.
Он в это время совершил уже в значительной
мере дальнейшую эволюцию налево.
Подчиняясь настроению той самой рево¬
люционной молодежи, в среде которой он в
это время вращался, он берется теперь за
издание тут же за границей русского рево¬
люционного журнала. Сперва его программа
не удовлетворяет окружающих; ее находят
слишком правой. Лавров пишет другую, бо¬
лее левую; она тоже бракуется; наконец, он
пишет третью, еще более левую программу,
и она принимается.
Собственно, Лавров, с точки зрения на¬
стоящих революционеров, являлся неудач¬
ным редактором этого журнала, потому что
у него не было того внутреннего рево¬
люционного огня, который для ведения тако¬
го издания требовался, но зато у него был
огромный запас эрудиции, большая
вдумчивость и большая готовность
подчиняться потребностям минуты и идти
навстречу возникающим запросам. Итак,
возникает журнал «Вперед». В это время
Лавров в некотором смысле принял ба¬
кунинскую программу, т. е. признал то
положение, что никакое социальное
развитие, никакое серьезное улучшение эко¬
номического положения народных масс не¬
возможно при наличности государства.
Поэтому он признал, что иедальным строем
в будущем является строй федерально¬
анархический, но относительно близости
этого строя и методов его осуществления и
завоевания он, в сущности, коренным обра¬
зом расходился с Бакуниным. Лавров утвер¬
ждал, что между этим отдаленным идеалом
и между настоящим безобразным поло¬
жением России, да и всей Европы, сущест¬
вует целый ряд промежуточных форм,
которые неизбежны и которых избежать при
помощи одного натиска невозможно. Поэто¬
му он считал, что путь для проведения
социальной революции есть путь все-таки
постепенный; он считал, что для данного
момента, для человека, обрекшего себя на
служение этому политическому и социаль¬
ному идеалу будущего, нужно прежде всего
и самому многому научиться и самого себя
преобразовать, а с другой стороны, по отно¬
шению к народным массам являться прежде
всего воспитателем и пропагандистом. Поэ¬
тому Лавров рисовал перед молодежью столь
же длительный путь, заключавшийся в про¬
паганде и мирной подготовке народных масс
к будущему восстанию и перевороту, как и
путь Маркса, с которым он расходился,
однако, в самом идеале будущего обществен¬
ного строя.
Бакунин, конечно, со своей точки
зрения пылкого и непримиримого рево-
люционера-анархиста считал, что таким
путем достичь ничего нельзя, что нужно
начинать дело теперь же с организации
бунтов,что эти бунты, даже самые мелкие,
сами по себе являются лучшей пропагандой,
и поэтому провозглашал «propagande par le
fait»,— откуда пошло и название его после¬
дователей «парлефетистами». Это последнее
течение имело на первых порах более успе¬
ха, нежели новое лавровское, и «бакунистов-
парлефетистов» было гораздо больше среди
тогдашней революционной молодежи, не¬
жели «впередовцев-лавристов»
Как бы то ни было, в 1873 г. и
«лавристы», и «бакунисты» весьма
интенсивно чувствовали необходимость
приступить к какой бы то ни было практиче¬
ской деятельности. Правительство, со своей
стороны, ускорило их выступление. До
правительства тогда дошли слухи, что в
Цюрихе, где скопились описанные элементы
молодежи, эта молодежь под влиянием зло¬
намеренных пропагандистов быстро теряет
всякую преданность не только существую¬
щему государственному строю, но и строю
общественному, причем, между ' прочим,
пущены были в ход и различные инсинуации
на счет свободы и распущенности половых
отношений среди цюрихской молодежи и
т. п.
Правительство решилось тогда потребо¬
вать, чтобы слушание лекций в Цюрихском
университете этой молодежью было прекра¬
щено и чтобы к 1 января 1874 г. эта молодежь
вернулась домой, причем правительство уг¬
рожало, что вернувшиеся позже этого срока
лишатся всякой возможности устроиться в
России, получить какой-нибудь заработок и
т. д. С другой стороны, правительство ука¬
зывало, что само оно имеет намерение
организовать высшее женское образование в
России, и можно думать действительно, что
в значительной степени этими обстоятельст¬
вами, может быть, объясняется то
сравнительно снисходительное отношение
реакционного министра народного просве¬
щения Толстого, которое он проявил тогда,
после первых решительных отказов, к новым
попыткам различных общественных
351
организаций устроить так или иначе высшие
женские и смешанные курсы в России.
Именно ввиду угрозы, что молодежь найдет
себе выход в учебных заведениях за
границей, тогдашнее правительство решило,
по-видимому, допустить лучше высшее жен¬
ское образование, которому оно нимало не
сочувствовало, в России как «меньшее зло»,
благодаря чему и явились те первые курсы
в Москве и Петербурге, о которых я
упоминал в одной из предшествовавших
лекций.
Как бы то ни было, молодежь, получив
правительственное предупреждение, решила
к нему отнестись очень своеобразно; она
решила, что в иной форме против этого
нарушения своих прав протестовать не
стоит, и так как все ее идеи сводились в
конце концов к служению народным нуж¬
дам, то цюрихские студенты и студентки
признали, что настал именно момент, когда
протестовать надо, идя в народ и, именно,
не для завоевания себе права получать вы¬
сшее образование, а для улучшения судьбы
народа. Одним словом, молодежь сочла,
таким образом, что этими правительствен¬
ными распоряжениями ей дан сигнал
двинуться в народ, и, действительно, мы
видим, что весной 1874 г. спешно соверша¬
ется общее движение в народ молодежи, как
по команде, хотя и разрозненными груп¬
пами.
К этому времени подготовились, как я
уже сказал, и в России значительные кадры
более или менее революционно настроенной
молодежи, желавшей начать новую жизнь в
народе, где одни мечтали делать свою про¬
паганду при помощи бунтов, другие просто
проводить пропаганду социальных идей, ко¬
торые, по их мнению, вполне соответство¬
вали коренным взглядам и запросам самого
народа, причем эти последние следовало
лишь лучше выяснить и вызвать наружу.
Большинство, впрочем, стало действовать на
первых порах довольно мирно, что обус¬
ловливалось прежде всего и тою неподготов¬
ленностью народа к восприятию их идей,
которую они неожиданно для себя
встретили. Между тем двинулись в народ
они, можно сказать, самым наивным обра¬
зом, без принятия каких бы то ни было
предохранительных мер против обнару¬
жения их движения полицией, как бы
игнорируя существование полиции в
России. Хотя они почти все переоделись в
крестьянское платье, а некоторые и за¬
паслись фальшивыми паспортами, но дей¬
ствовали при этом так неумело и наивно, что
обращали на себя общее внимание в первую
же минуту своего появления в деревне.
Через два-три месяца после начала
движения уже начато было то следствие
против этих пропагандистов, которое дало
повод и материал графу Палену составить
обширную записку, откуда мы видим, что
кадры молодежи, двинувшейся в народ,
были довольно обширны. Очень немногие
двинулись в качестве фельдшериц, акуше¬
рок и волостных писарей и могли более или
менее прикрыться этими формами от немед¬
ленного вмешательства полицейской власти,
большинство же двинулось в качестве бро¬
дячих чернорабочих, причем, конечно, они
очень мало походили на действительных
чернорабочих, и, разумеется, народ это чув¬
ствовал и видел; отсюда иногда возникали
смехотворные сцены, впоследствии описан¬
ные Степняком-Кравчинским.
Благодаря полной неподготовленности и
неприкрытости этого движения от взоров
полиции в мае месяце уже многие из них
сидели по тюрьмам. Некоторые, правда,
были довольно быстро выпущены, но неко¬
торые просвдели два-три-четыре года, и эти
аресты дали основание в конце концов боль¬
шому процессу 193-х, который разбирался
лишь в 1877 г.
По записке графа Палена можно судить
приблизительно о размерах движения: в те¬
чение двух-трех месяцев к делу было привле¬
чено в 37 губерниях 770 человек, из них 612
мужчин и 158 женщин. 215 человек были
заключены в тюрьму и просидели большею
частью по несколько лет, а остальные были
оставлены на свободе; конечно, некоторые и
вовсе ускользнули, так что число
двинувшихся в народ надо считать больше,
чем по официальному следствию.
Тут были привлечены главные организа¬
торы движения: Ковалик, Войнаральский,
целый ряд девушек из дворянских семейств,
как Софья Перовская, В. Н. Батюшкова,
Н. А. Армфельд, Софья Лешерн фон Герц-
фельд. Были купеческие дочери, как три
сестры Корниловы, и целый ряд других лиц
разных состояний и званий — от кн. Кро¬
поткина до простых рабочих включительно.
Пален с ужасом констатировал, что
общество не только не оказывало отпора
этому движению, что не только многие
352
солидные отцы и матери семейств оказывали
революционерам гостеприимство, но иногда
сами денежно им помогали. Палена в вы¬
сшей степени изумляло это положение ве¬
щей; он не понимал, что общество не могло
сочувствовать укоренившейся в России
реакции, от которой оно терпело всяческие
стеснения, и что поэтому целый ряд лиц,
даже солидного возраста и положения,
радушно и гостеприимно относились к про¬
пагандистам, даже нисколько не разделяя их
взглядов.
Однако же для народников весь этот
поход в народ кончился неудачей, и притом
не столько благодаря тому, что их сейчас же
арестовали, сколько потому, что с народом
они не вошли в соприкосновение.Крестьяне
во многих местах их просто-напросто чуж¬
дались, в некоторых местах даже выдавали,
а кое-где проявили и резко враждебное к ним
отношение. Поэтому, когда этот первый
поход так несчастливо ликвидировался,
причем все же значительные кадры на¬
родников остались на свободе, одни под
надзором, а некоторые и совсем незамечен¬
ные полицией, то между революционерами
начались разговоры о том, как же быть
дальше, и мало-помалу они пришли к мысли
о необходимости более прочной
организации. Мы видим уже в 1876 г. две
попытки такой организации. Одна попытка
была осуществлена в Москве; она была
результатом многолетнего сотрудничества и
содружества кружка, составившегося из не¬
скольких воспитывавшихся за границей мо¬
лодых девушек, которые сблизились там с
кружком кавказцев-студентов, во главе кото¬
рого стоял студент Джабадари; они-то и
составили группу мирных народников-про-
пагандистов, которая фигурировала в
1877 г. в так называемом «процессе 50-ти».
В эту группу входили, между прочим,
Л. Н. Фигнер, В. И. Александрова-Натан¬
сон, Джабадари и несколько московских
рабочих, в частности Петр Алексеев, кото¬
рый сказал на суде пламенную и произвед¬
шую большое впечатление речь.
Но эта попытка организации не имела
большого значения; гораздо большее зна¬
чение имела другая попытка — в Петербур¬
ге, где было положено начало образованию
уже совершенно оформленного сообщества
народников-революционеров, впоследствии
получившего наименование, под которым
оно и известно в истории,— «Земля и воля».
12 Зак. 271
Во главе этого общества стояли Марк
Натансон, жена его Ольга Натансон, Алек¬
сандр Михайлов, и в него же входили
остатки кружка чайковцев и другие на¬
родники, уцелевшие от арестов. Это общест¬
во получило довольно детально
разработанную организацию. Исходным
пунктом принятой им программы было поло¬
жение, что только экономическая революция
снизу при посредстве самого народа может
привести к окончательной и полной замене
современного строя более справедливой и
согласной с народными идеалами общест¬
венной организацией.
Поэтому операционным базисом своей
деятельности народники-революционеры,
объединившиеся в обществе «Земля и воля»,
считали обязательно народную массу. Дея¬
тельность в народе сводилась к следующим
видам: 1) организационная деятельность,
имевшая в виду создание в народе такой
сознательно и планомерно действующей бо¬
евой дружины, которая, концентрируя в себе
все материальные и духовные орудия борь¬
бы, могла бы в благоприятный момент или
сама вызвать всеобщее восстание, или же, в
случае самопроизвольного его возникно¬
вения, утилизировать его для народных це¬
лей.
Но так как для этого требовался целый
ряд подготовительных работ, к признанию
чего склонился перед смертью (в 1876 г.) и
сам Бакунин, то предполагались: 2)
агитационная деятельность, которая на¬
правлялась бы к образованию необходимой
обстановки. Агитация при этом предполага¬
лась двоякая: пассивная (подача прошений,
посылка ходоков, забастовки, отказ от пла¬
тежа податей и проч.) и активная (бунты и
восстания), которая, однако, применена бы¬
ла только в одном месте и то при помощи
подложных манифестов, именно — в
Чигирине (известное дело Стефановича и
Дейча).
3) Установление правильных сношений
с имеющимися уже готовыми
организациями в народе (раскольничьими и
сектантскими). 4) Пропаганда идей рево¬
люционного народничества в среде общест¬
ва, молодежи и городских рабочих, с целью
увеличить число «критически мыслящих» и
сознательно действующих поборников наро¬
да. Этими четырьмя пунктами исчерпыва¬
лась — по словам О. В. Аптекмана —
353
сущность тактической землевольской прог¬
раммы.
Затем наряду с этой программой выра¬
ботан был и определенный устав, причем в
основу организации положена была та
основная группа, которая составила этот
устав в Петербурге, а затем, по рекомен¬
дации ее членов, в общество могли попадать
посторонние элементы; из этой основной
группы должна была рекрутироваться вся
администрация общества, которая так и на¬
зывалась «администрацией» и которая веда¬
ла все дела общества; при ней была особая
«небесная канцелярия» для изготовления
фальшивых паспортов; затем были особые
группы для пропаганды среди молодежи и
рабочих и, кроме того, особая «дезорганиза¬
торская» группа, задачей которой являлось
вследствие участившихся столкновений с
правительством, а также для борьбы с пре¬
дателями и провокаторами применение воо¬
руженной силы. Наконец, для
непосредственной пропаганды и
организации в народе была основана особая,
наиболее важная и многолюдная группа, так
называемые «деревенщики».
«Дезорганизаторская» группа мало-
помалу расширяется, и она создаст, как вы
увидите, основание для уже совершенно
террористической партии «Народная воля»,
о которой мне еще придется говорить вам.
Первым проявлением организации
«Земля и воля» было устройство довольно
грандиозной по замыслу демонстрации, ко¬
торая, однако, свелась на деле к очень
скромным размерам. Это была демонст¬
рация 6 декабря 1876 г., устроенная у Ка¬
занского собора, причем предполагалось,
что в ней будут участвовать тысячи рабочих.
Нашелся и оратор, тогда молодой человек и
ныне здравствующий известный теперь
предводитель русских социал-демократов Г.
В. Плеханов; было выкинуто знамя с
надписью «Земля и воля» — лозунг, как ка¬
залось манифестантам, понятный и близкий
народу, но в действительности столичным
народом совсем не понятый. Полиция, поль¬
зуясь малочисленностью демонстрации
(собралось не более 200—300 человек), на¬
правила на нее дворников и сидельцев ме¬
лочных лавок, и демонстрация была легко
рассеяна. 20 человек были схвачены и по
процессу, который происходил всего через
полтора месяца, были наказаны самыми су¬
ровыми карами; некоторые были сосланы в
каторгу на 5—10 лет, и минимумом нака¬
зания была ссылка на поселение.
Таково было первое публичное выступ¬
ление группы революционеров-народников,
за которыми вскоре укрепилось наимено¬
вание общества «ЗемЛи и воли». Самая мно¬
гочисленная группа этого общества — так
называемые «деревенщики» — упорно про¬
должала делать попытки водвориться с.реди
народа и завязать в народе более прочные и
постоянные связи. Наученные горьким опы¬
том 1874 г., они переменили значительную
тактику: стали действовать гораздо осторож¬
нее и осмотрительнее, являлись в деревню
не в качестве бродячих чернорабочих, кото¬
рым крестьяне всюду оказывали такое недо¬
верие, а пытались завести в разных местах
более постоянные и солидные поселения под
видом мелких промышленных предприятий
или же селились в деревне в качестве воло¬
стных писарей, фельдшеров, акушерок,
иногда учителей, причем заводили с кресть¬
янами на этой почве связи исподволь, не
позволяя себе резко обнаруживать свои
истинные тенденции и взгляды и не присту¬
пая слишком стремительно к пропаганде. Но
и такие приемы хотя и предохраняли их от
слишком быстрых крушений и провалов,
очень мало подвигали их к цели, в конце
концов заставляли все яснее и безнадежнее
убеждаться в полной неподготовлейности на¬
рода к восприятию их цдей и в невозмож¬
ности достигнуть успеха своего дела при
данном уровне народного развития. Остава¬
лось, следовательно: или, отложив в сторону
всякие революционные планы и помыслы,
обратиться чуть не на всю жизнь в мирных
культуртрегеров, или уходить из деревни,
махнув на нее рукой, и приниматься за дело
«с другого конца». Трудности, которые
приходилось им переживать, грубые пресле¬
дования и гонения, которым подвергало их
правительство, и растущее раздражение
против этих репрессий и ничем не стесняе¬
мого произвола полицейских и
административных властей,— все это
неизбежно должно было склонить их ко
второму выходу, причем перед ними все
яснее ставилась задача — прежде чем вести
бесплодную, при данных условиях, пропа¬
ганду в деревне, завоевать себе те элементар¬
ные условия общественной жизни, при
которых свободное общение с народом, сво¬
бодная и широкая пропаганда в нем своих
354
идей сделается для них возможной и плодот¬
ворной. Обстоятельства складывались таким
образом, что среди народников-рево-
люционеров «Земли и воли» все более и
бблее должны были редеть ряды «дере¬
венщиков», все сильнее должна была, нао¬
борот, расти и развиваться деятельность
«дезорганизаторской» группы, которая ма¬
ло-помалу из «охранительного отряда»прев¬
ращается в конце 70-х годов в знаменитый
«исполнительный комитет», возникший пер¬
воначально среди киевских революционе¬
ров, но затем вскоре привлекший к себе все
самые активные силы революционеров и
сделавший террористическую борьбу с
правительством главною их задачею,
оттеснившею на задний план народнические
мечты и идеалы.
ЛЕКЦИЯ XXXVI
Политика правительства на окраинах.— Притеснения в Малороссии и Польше.— Внешняя политика
правительства.— Восточный вопрос.— Соперничество русских и английских интересов в Азии.— Завое¬
вание Кавказа и среднеазиатских ханств.— Смуты в Турции.— Движение балканских славян.— Серб¬
ская война и болгарская резня.— Переговоры великих держав.— Русско-турецкая война 1877—1878 гг.
Ее ход и исход.— Берлинский конгресс.— Экономические и финансовые результаты войны.— Отставка
Рейтерна.— Впечатление войны и конгресса на русское общество.— Славянофилы.— Земское
движение.— Революционное движение. — Обращение правительства к обществу. — Выступления
земств.— Образование партии «Народная воля».
В прошлый раз я познакомил вас с
возникновением и развитием народнических
идей и народнического революционного
движения в 70-х годах. Наряду с этим рево¬
люционным движением, наряду с давним
ростом недовольства в земских либеральных
кругах в этот же пореформенный период
русской новейшей истории накапливались
элементы недовольства и раздражения в раз¬
ных краях обширной Российской империи
на другой почве, на почве оскорбления и
преследования чувств различных
национальностей, входящих в состав Рус¬
ского государства. Везде на окраинах под
влиянием русификаторской политики, осу¬
ществлявшейся притом в грубых формах,
возникали и развивались болезненно обост¬
ренные национальные интересы и чувства.
* В Малороссии именно в это время
развилось так называемое украйнофильство,
усилившееся и обострившееся под влиянием
преследований малороссийского языка,
преследований, которые начаты были еще
при Николае и которые возобновились имен¬
но в конце 60-х и 70-х годах в связи с
шовинистическим направлением, возобла¬
давшим в правящих сферах и части обще¬
ства и печати после подавления польского
восстания. В это время как раз Катков,
который, как вы помните, именно после
польского восстания сделался ярым
патриотом и шовинистом, стал писать фор¬
менные доносы на различные национальные
движения и различные проявления стрем-
12*
ления негосударственных национальностей
к культурному самоопределению. Эти доно¬
сы, клонившиеся главным образом к
обвинению таких национальностей в стрем¬
лениях к политическому сепаратизму, дей¬
ствовали довольно сильно на правящие
круги.
Так, например, в 1875 г., когда Катков
специально стал преследовать в печати ук-
райнофилов, находя, что в Киеве начинается
именно такое сепаратистское движение, то
правительство на эти изветы Каткова
обратило настолько серьезное внимание, что
назначена была даже особая правительст¬
венная комиссия в составе министра народ¬
ного просвещения графа Толстого, министра
внутренних дел Тимашева, шефа жандармов
Потапова и одного из киевских шовинистов
Юзефовича, давно выдвинувшегося в этом
отношении. Эта комиссия обследовала, меж¬
ду прочим, деятельность юго-западного отде¬
ления Русского географического общества,
которое сосредоточилось в то время на изу¬
чении малороссийской поэзии и языка. В
результате признано было, что деятельность
эта имеет связь с сепаратистским «хохло¬
манским», т. е. украйнофильским,
движением, и поэтому постановлено было в
1875 г. закрыть это так хорошо начавшее'
развиваться отделение географического
общества. Наряду с этим усилились гонения
на малороссийский язык: всякое издание
литературных произведений, а также спек¬
такли и концерты на малорусском языке
355
были запрещены, так что этот язык именно
в Малороссии подвергался последовательно¬
му остракизму.
В связи с этим профессора М. П. Дра-
гаманов (филолог-историк) и Н. И. Зибер
(экономист) были уволены из Киевского
университета, причем им сперва пред¬
ложили подать прошение об отставке, а
когда они отказались это сделать, то были
уволены «по 3-ему пункту», что лишило их
права когда бы то ни было поступить опять
на государственную службу. Затем из Киева
был выслан выдающийся этнограф
Чубинский, а Драгоманов и Зибер пред¬
почли эмигрировать за границу1. Таким
образом, произошел погром, который, собст¬
венно говоря, ничем не вызывался.
Не менее сильно обострился в это время
и польский вопрос. В Польше в начале 60-х
годов, перед восстанием русская политика,
как вы помните, базировалась сперва на
основаниях, предлагавшихся маркизом Ве-
лепольским, и опиралась затем на идеи
Н. А. Милютина и Ю. Ф. Самарина, кото¬
рые разделяли вопросы русской государст¬
венности в самом Царстве Польском от
вопросов и интересов русской государствен¬
ности и культуры в Северо-Западном и Юго-
Западном крае, где уже ставился вопрос о
борьбе с «полонизмом», т. е. о борьбе с
ополячением этих областей, признаваемых
или коренными русскими, или литовскими,
но во всяком случае не польскими. Напротив
того, Царство Польское признано было с
самого начала коренной польской страной,
где должен быть господствующим польский
язык и предоставлена полная возможность
культурного развития польской националь¬
ности. Но разделенная вначале таким обра¬
зом политика очень быстро изменилась, и,
когда Милютин, пораженный в 1866 г. апоп¬
лексическим ударом, сошел со сцены, во
главе руководства русской политикой в
Польше явился один из его ближайших сот¬
рудников, князь В. А. Черкасский, и имен¬
но он, в значительной степени благодаря
своему тяжелому характеру, своей резкости,
очень обострил отношения с различными
слоями варшавского и вообще польского
общества, и с этого времени русская
политика в Царстве Польском стала неза¬
метно переходить на те основания, которые
были поставлены для нее в Западном крае.
\ Сперва в средних учебных заведениях
стали требовать повсеместного введения пре¬
подавания на русском языке, затем это тре¬
бование переходит и на низшие школы, так
что ставится в чрезвычайно трудное поло¬
жение вопрос о развитии элементарного
образования народа, так как, естественно,
поляки не хотят давать денег на русские
школы и отдавать туда своих детей, раз им
воспрещается обучение на их родном языке.
В 70-х и 80-х годах (при попечителе учеб¬
ного округа Апухтине) эти стеснения дохо¬
дят до того, что запрещается даже
преподавание закона божия на польском
языке, благодаря чему его преподавание в
большинстве школ вовсе прекращается в это
время.
В самой Варшаве ставился серьезно воп¬
рос о вывесках на магазинах. Требовалось,
чтобы вывески эти были на русском языке
или, по крайней мере, имели перевод на
русский язык. Одним словом, те принципы,
которые даже с консервативной, так сказать,
точки зрения правйльно были установлены
Самариным и Милютиным относительно
разницы в политических требованиях в Цар¬
стве Польском и Западном крае, тут совер¬
шенно изменились, и русификаторская
политика в Царстве Польском пошла почти
так же, как в Северо-Западном и Юго-За¬
падном крае.
В 70-х годах к этому присоединился
вопрос о том самом Холмском крае, который
на наших глазах был разрешен окончательно
третьей Государственной думой. Этот вопрос
встал тогда со своей религиозной стороны,
именно обратили внимание на то, что в
составе самого Царства Польского есть на¬
селение, которое является русинским, т. е.
малорусским, а не польским, и что оно
когда-то принадлежало к православному ве¬
роисповеданию; что затем под верховенст¬
вом Польши это вероисповедание
подверглось модификации, именно: были
сохранены православные обряды, но было
признано главенство папы, и таким образом
возникло униатское вероисповедание. И вот
в 70-х годах возник вопрос о воссоединении
этих униатов с православною церковью,
подобно тому как это было сделано в Севе-
ро-Западном крае еще при Николае. Но при
этом административные власти, в руки ко¬
торых это дело попало,— седлецкий губер¬
натор, который хотел отличиться, униатский
архиерей Попел, который хотел сделать на
этом карьеру,— излишне поторопились,
действовали опрометчиво и насильственно,
и это очень обострило дело, между тем как,
в сущности говоря, население там (в части
Люблинской и Седлецкой губерний)
действительно было малорусское по своему
356
происхождению и языку и, может быть,
мало-помалу само вернулось бы к правос¬
лавию; но так как пущены были в ход
энергичные формы административного воз¬
действия, то произошел ряд возмутительных
событий, волнений и усмирений; ко¬
мандированы были содействовать «добро-
вольному»обращению в православие гусары
и казаки, и, таким образом, вопрос о воссо¬
единении этих униатов приобрел характер
настоящего скандала.
Понятно, что такая политика на
окраинах и даже в Малороссии, уже давно
входившей в состав Российской империи, не
могла вызвать в населении, и особенно в
наиболее сознательной его части, благоже¬
лательных чувств по отношению к
правительству; она, без сомнения, обостряла
то общее оппозиционное настроение, которое
существовало повсеместно в России под
влиянием экономических причин и общей
усиливавшейся с каждым годом реакции.
Это всеобщее, хотя и сдавленное недо¬
вольство, вследствие упорной реакции и без¬
рассудных репрессий развившееся внутри
России и на ее окраинах, осложнилось в
70-х годах еще обострением внешней
политики. К этому времени как раз назрел
и чрезвычайно обострился довольно уже ста¬
рый восточный вопрос.
В течение двадцати лет, следовавших
непосредственно &а крымской кампанией,
наши военные власти, особенно начальники
пограничных войск, были постоянно обуре¬
ваемы стремлением так или иначе восста¬
новить нарушенный престиж нашей армии
и русского военного могущества, подточен¬
ного в Крымской войне, и вот они начинают
деятельно стремиться восстановить попран¬
ную честь нашего оружия хоть в Азии, если
это не удалось в Европе. Мы видим, что уже
через два года после окончания Крымской
войны начинаются значительные
приращения нашей территории по всей во¬
сточно-азиатской границе. Началось это с
самой отдаленной восточной окраины. Уже
в 1858 г. генерал-губернатор Восточной
Сибири Муравьев поднял вопрос о присо¬
единении к России не только всего левого
берега Амура, но и расположенного к югу от
устья Амура обширного Уссурийского края
вплоть до Владивостока. Муравьев достиг
этого почти без употребления военной силы,
при помощи нескольких сотен солдат, с
которыми он объехал границу и, пользуясь
крайней анархией и беспомощностью
китайских властей, установил новые
границы тех местностей, которые он считал
принадлежащими России, опираясь на то,
что будто бы в XVII в. все эти местности
завоеваны были казаками, построившими
даже на Амуре г. Албазин, потом разрушен¬
ный китайцами. Китайские власти, уступая
одним только слухам о российском военном
могуществе, слабо противились этому, так
что Муравьеву удалось в конце концов овла¬
деть описанной выше территорией и присо¬
единить ее к России, оставив везде по
занятой таким образом границе небольшие
военные посты.
Эти действия Муравьева закреплены
были затем в 1860 г. форменным договором,
заключенным графом Н. П. Игнатьевым,
тогда еще молодым человеком, посланным
специально для этого в Пекин.
Одновременно с этим совершилось окон¬
чательное завоевание Кавказа под видом
«замирения» непокорных горцев. Решитель¬
ный удар их независимости нанесен был в
1859 г., когда взят был аул Гуниб, в котором
скрывался духовный глава и вождь этих
горцев Шамиль. Взятие Шамиля положило
начало окончательному торжеству русских
на Кавказе; очень небольшая область оста¬
валась еще незанятой, и окончательное поко¬
рение ее завершено было в 1864 г. Таким
образом, в 1865 г. уже Кавказ и все Закав¬
казье вплоть до тощашней границы с
Турцией и Персией могли быть объявлены
вполне подчиненными русскому владычест¬
ву частями Российской империи.
Наряду с этим в течение всех 60-х годов
продолжалось постоянное поступательное
отодвигание нашей границы в глубь Средней
Азии и по отношению к независимым тогда
среднеазиатским ханствам. Надо сказать,
что у нас издавна были с этими ханствами
торговые отношения, но население этих
ханств, состоявшее из диких степных
хищников, постоянно совершало на русской
границе ряд грабежей, которые кончались
иногда уводом целыми партиями не только
скота, но и русских людей: мужчин и детей
—- в рабство, а молодых женщин — в гаре¬
мы. Понятно, что такие происшествия издав¬
на беспокоили русское правительство, но
очень долго эти среднеазиатские ханства,
несмотря на то что они представлялись как
будто — при могуществе России —
величиной ничтожной, на самом деле до¬
вольно недосягаемы для нас. Попытки наши
положить на них руку кончались всегда
неудачей, начиная еще с Петра. При Петре
Великом впервые туда * довольно далеко
357
зашли русские войска под начальством кня¬
зя Черкасского-Бековича, и конец этой экс¬
педиции был очень печальный: вся она
погибла после временного успеха. Затем
оренбургский генерал-губернатор В. А. Пе¬
ровский, уже при Николае I, решил
положить конец постоянным грабежам и
уводам русских в плен и за свой страх
предпринял зимнюю экспедицию в Хиву в
1839 г. Поход в Хиву во время летней жары
представлялся почти неосуществимым, и
поэтому Перовский избрал зимнее время. Но
оказалось, что и это сопряжено с не
меньшими трудностями, так как в этих
степях свирепствовали сильные морозы и
снежные бураны, и вся экспедиция 1839 г.
чуть не погибла. Наконец, уже в 1853 г.
удалось тому же Перовскому продвинуть
русские военные аванпосты к берегам Сыр¬
дарьи, и здесь основан был довольно
значительный форт, который впоследствии
и был назван фортом Перовского.
В то же время на юге наших сибирских
владений и степных областей наша граница
тоже стала понемногу подвигаться все далее
на юг. Еще в 1854 г. граница эта была
установлена по реке Чу от города Верного до
форта Перовского, причем она была укреп¬
лена целым рядом небольших военных пос¬
тов, в общем, впрочем, довольно слабых.
Дикие отряды бухарцев и кокандцев очень
часто пытались прорывать эту линию, но
каждый такой грабеж вызывал возмездие,
причем военные начальники, обуреваемые
жаждой и лично отличиться, и поднять
престиж русского оружия, деятельно ста¬
рались оттеснить этих бухарцев и кокандцев
в глубь их страны. Кончилось это большим
столкновением в 1864 г., причем полковнику
Черняеву удалось завоевать крупный ко-
кандский город Ташкент.
Когда русское правительство получило
об этом донесение, то оно одобрило со¬
вершившийся факт, и ташкентский район
присоединен был к русской территории, а
через два года здесь было образовано новое
Туркестанское генерал-губернаторство. Это
повело к дальнейшим столкновениям, и мы
продолжали оттеснять кокандцев и бухарцев
— опять-таки без всякого официального
приказа свыше. Разумеется, Англия
встретила такое поступательное движение
русских в Азии к югу с большой тревогой, и
помня еще со времени Наполеона о тог¬
дашних фантастических замыслах русских
проникнуть через азиатские степи и горы в
Индию, английское правительство тотчас же
запросило русского канцлера о том, где на¬
мерено русское правительство остановиться,
на что князь Горчаков ответил, что государь
император вовсе не имеет в виду увеличение
русской территории, а только укрепление и
исправление границы.
В конце концов началась, однако, фор¬
менная война с кокандцами и бухарцами,
которая кончилась их полным разгромом,
причем нам удалось завоевать (в 1868 г.)
город Самарканд, где покоится прах Тамер¬
лана, священное место, относительно кото¬
рого существует здесь убеждение, что кто
владеет Самаркандом, тот владеет и всей
Средней Азией. Правда, бухарцы, восполь¬
зовавшись тем, что туркестанский генерал-
губернатор, энергичный генерал Кауфман,
отправил большую часть войск на юг, поп¬
робовали было в следующем же году отобрать
назад Самарканд, и это им временно уда¬
лось, но Кауфман, вернувшись, жестоко на¬
казал и временных победителей, и все
население Самарканда, причем употреблен¬
ный им варварский способ водворения рус¬
ского владычества произвел такое
впечатление на полудикие восточные народ¬
ности, что после этого они уже не пытались
захватить назад занятый русскими священ¬
ный город.
Между тем Кауфман, воспользовавшись
восстанием кокандцев, которые пытались
вернуть часть отнятой у них территории,
отправил туда значительный отряд под ко¬
мандой Скобелева, который окончательно за¬
воевал Кокандское ханство, после чего оно
было присоединено к России и превращено
в Ферганскую область. Мало-помалу Кауф¬
ман стал думать и о том, как обуздать и
привести в покорное положение и главное
хищническое гнездо в Средней Азии —
Хиву, где по слухам, было несколько сот
русских невольников и куда так неудачно до
тех пор отправлялись русские экспедиции.
На этот раз, близко подойдя к Хиве и
имея возможность с четырех сторон со¬
вершить одновременное вторжение в нее,
Кауфман поставил сперва ультиматум
хивинскому хану, которым потребовал от
него передачи значительной части
территории и полного уничтожения рабства.
Хан в этом отказал, и тогда Кауфман со¬
вершил свой знаменитый поход 1873 г. в
Хиву. Вся Хива была завоевана на этот раз
весьма быстро, и хан принужден был отдать
уже не только то, что ему предлагал Кауф¬
ман, а больше половины своих владений,
принужден был освободить от рабства всех
358
невольников и сделаться таким же
зависимым, вассальным по отношению к
России правителем, каким раньше уже сде¬
лался его ближайший сосед — бухарский
эмир.
Таким образом, совершилось завоевание
всей Средней Азии, к великому негодованию
и весьма понятным опасениям англичан,
которые увидели, что русские войска доволь¬
но близко подошли к Индии и отделялись от
нее только землями туркмен и Афганиста¬
ном, так что поход русских войск в Индию
в данное время далеко уже не имел того
фантастического вида, каким он представ¬
лялся, когда вопрос о нем возбуждался в
начале XIX в. Наполеоном.
В это же время, когда опасения англичан
достигли своего апогея и когда они остро
почувствовали назревающую «русскую
опасность» в Азии, положение дел чрезвы¬
чайно обострилось и на Ближнем Востоке. В
1874 г. на Балканском полуострове вспых¬
нуло восстание герцеговинцев и босняков
против Турции. Они восстали главным обра¬
зом вследствие неимоверного гнета и притес¬
нений со стороны турок, на почве
экономической, частью в поземельном, а в
особенности в податном отношениях; ибо в
Турции действовала чрезвычайно тяжелая
податная система, заключавшаяся в том, что
все, даже прямые, государственные подати
и налоги были отдаваемы на откуп частным
лицам, которые взыскивали их в усиленном
размере, чтобы покрыть этим и государст¬
венные нужды и насытить и свою собствен¬
ную алчность. Угнетенные этим положением
славянские, да и другие национальности
Балканского полуострова продолжали посто¬
янно волноваться, и после создания полуне¬
зависимых государств Сербии, Черногории
и Румынии и благодаря этому обстоятельству
восточный вопрос постоянно грозил
обостриться.
Когда в 1875 г. в августе месяце нача¬
лось герцеговинское восстание, то, разуме¬
ется, этим прежде всего встревожилась
Австрия. Дело в том, что Босния и Герце¬
говина издавна представлялись в глазах
австрийского правительства лакомым кус¬
ком, который оно не прочь было присо¬
единить к Австрии. Теперь Австрия
опасалась, что в результате вспыхнувшего
восстания, может быть, босняки и герце¬
говинцы присоединятся к Сербии при
помощи России, успевшей отправиться
после крымского поражения. Поэтому, как
только вспыхнуло это восстание, граф
Андраши, тогдашний руководитель
австрийской внешней политики, тотчас же
предложил разрешить это дело путем кол¬
лективного европейского вмешательства. И
вот в январе 1876 г. после некоторых возра¬
жений со стороны Англии, которая боялась,
как бы Россия именно при таком вмешатель¬
стве не выиграла кое-чего для себя, в конце
концов удалось достигнуть полного согласия
держав, и от имени шести великих евро¬
пейских держав султану было предъявлено
требование, чтобы он немедленно заключил
с герцеговинцами перемирие и обязался ко¬
ренным образом изменить в восставших
провинциях податную систему и земельные
отношения, причем и христианам было бы
предоставлено право владеть там землей;
чтобы здесь были произведены, кроме того,
и другие административные реформы и,
между прочим, чтобы турецкие войска со¬
держались только в шести крепостях и не
имели права стоять постоем в сельских ме¬
стностях.
Султан очень быстро согласился на эти
условия, но тут герцеговинцы заявили, что
они не положат оружия до тех пор, пока им
не дадут достаточных гарантий того, что
султан исполнит свои обещания, а эти га¬
рантии они видели в назначении евро¬
пейскими правительствами особой
комиссии, которая и осуществила бы обе¬
щанные реформы. Вместе с тем они потре;
бовали, чтобы одна треть всех земель
области была передана христианскому насе¬
лению вместо неопределенного обещания
урегулирования поземельных отношений. На
это турки не согласились, и вообще в это
время в Турции под влиянием начавшегося
восстания христиан вспыхнуло сильное
религиозное движение и среди мусульман,
охватившее все классы турецкого общества,
причем уступчивость султана иноземному
давлению вызывала фантастическое негодо¬
вание. Султан вскоре принужден был
пустить в Европейскую Турцию для
усмирения восстания славян орды диких
наездников —башибузуков, которые
произвели в Болгарии массовую резню
мирных жителей.
Между прочим, в мирном городе Са¬
лониках были убиты французский и не¬
мецкий консулы, а в Болгарии резня, по
расследованию, произведенному
английским дипломатом, достигла огромных
размеров и выразилась не менее как в 12
тыс. убитых болгар обоего пола и разного
возраста. Эти ужасы произвели огромное
359
впечатление не только среди русского обще¬
ства и народа и вообще на континенте Евро¬
пы, но даже и в той самой Англии,
правительство которой все время старалось
покровительствовать Турции ввиду своих
подозрений относительно России.
Полунезависимые балканские государ¬
ства Сербия и Черногория объявили Турции
войну, причем из России в ряды их войск
отправились массы добровольцев.
Хотя во главе сербских войск встал
русский генерал Черняев, тот самый, кото¬
рый завоевал Ташкент, тем не менее они
оказались неподготовленными к борьбе с
турками, они оказались очень плохо воору¬
женными, необученными, и поэтому турки
быстро одержали над ними ряд побед.
Россия, видя, что Сербия находится на краю
пропасти и что ей грозит резня, подобная
болгарской, потребовала от турок немедлен¬
ного приостановления военных действий и
заключения перемирия. Это требование бы¬
ло поддержано и остальными европейскими
державами, хотя Австрия некоторое время
колебалась; ей хотелось, чтобы Сербия,
усиления которой она побаивалась, была
разгромлена до конца турками. Но очень
скоро и Австрия увидела Необходимость
присоединения к общему мнению евро¬
пейских держав.
В 1876 г. в Берлине издан был особый
меморандум, которым все державы потребо¬
вали от султана немедленного введения обе¬
щанных ранее реформ в населенных
христианами частях Турции, увеличения
территории Сербии и Черногории и назна¬
чения в Болгарии, Боснии и Герцеговине
христианских генерал-губернаторов с утвер¬
ждением их советом европейских держав.
Однако Англия отказалась участвовать в
поддержке этого меморандума и так
ободрила этим Турцию, что и та отказалась
удовлетворить требования держав, а когда
европейские державы послали свой флот для
военной демонстрации в Салоники, то
Англия, напротив, послала свой в
Безикскую бухту для поддержки Турции.
Ободренные этим турецкие патриоты за¬
ставили султана Абдул-Азиса сперва пере¬
менить визиря, причем впервые великим
визирем сделался младотурок, т. е. сто¬
ронник прогрессивных внутренних преобра¬
зований, Митхад-паша, а вскоре затем
произвели дворцовый переворот, причем
султан Абдул-Азис был сперва лишен пре¬
стола, а затем и задушен в тюрьме. На его
место был посажен Мурад V, который ока¬
зался, однако, слабоумным, так что
пришлось сменить и его и посадить Абдул-
Гамида, который оставался потом султаном
вплоть до революции 1908 г. При Абдул-
Гамиде, который удержал у власти Митха-
да-пашу, политическое положение Турции
по отношению к державам чрезвычайно
обострилось, и Англия для ликвидации этого
положения предложила тогда составить в
Лондоне особую конференцию, на которой
предполагалось мирно разрешить все вопро¬
сы после того, как турки согласились за¬
ключить перемирие с Сербией и
Черногорией сперва на неделю, а потом на
шесть недель. Конференция собралась в
Лондоне, но тут турки, думая, что Россия не
решится начать войну, раз Англия будет
твердо стоять за Турцию, позволили себе, в
сущности говоря, посмеяться над евро¬
пейскими державами. Как только открылись
заседания этой лондонской конференции,
турецкие уполномоченные заявили, что сул¬
тан решил дать своей стране конституцию,
а когда затем приступлено было к обсуж¬
дению условий мира, уполномоченные
Турции заявили, что так как у них теперь
конституция, то без парламента никаких
уступок сделано быть не может. Такое заяв¬
ление, явно лицемерное, по мнению соб¬
равшихся дипломатов, так как ни о какой
действительной конституции в Турции в то
время, по мнению их, речи не могло быть,
возмутило против турок даже английских
дипломатов, и тут Турции был предъявлен
новый ультиматум со стороны России, кото¬
рым турецкому правительству предлагалось
немедленно принять тот проект реформ, ко¬
торый был выработан европейскими держа¬
вами, а в случае его неприятия Россия
грозила объявить войну. Англия старалась
убедить Россию и другие правительства
отсрочить дело на один год, но Россия на это
не пошла, и когда на наш ультиматум турки
ответили отказом, то император Александр
объявил Турции войну в апреле 1877 г. Таков
был внешний ход событий и отношений в
обострившемся восточном вопросе.
Александр II объявил войну далеко не с
легким сердцем; он прекрасно сознавал всю
важность этого шага, сознавал чрезвычай¬
ную затруднительность войны для России с
финансовой стороны и ясно понимал с са¬
мого начала, что, в сущности говоря, война
эта весьма легко может превратиться в обще¬
европейскую войну и, может быть, что пред¬
ставлялось ему еще более опасным, в войну
360
России против Австрии, Англии и Турции
при нейтралитете остальных держав.
Таким образом, обстоятельства склады¬
вались чрезвычайно серьезно. Стоявший во
главе русской дипломатии князь Горчаков к
этому времени чрезвычайно устарел, ему
было уж под восемьдесят лет, по-видимому,
он даже не давал себе отчета в целом ряде
обстоятельств, и политика его была чрезвы¬
чайно колеблющейся. Сам император Алек¬
сандр колебался также очень сильно;
вообще, он вовсе не желал войны, и
принудило его к принятию решительных мер
главным образом то настроение, которое
овладело русским обществом вообще и теми
сферами, влияние которых имело доступ и
в придворные круги, в частности. Александр
Николаевич с неудовольствием видел, что
благодаря той агитации, которая по этому
вопросу поднята была славянофилами и ко¬
торая весьма сильно влияла тогда на обще¬
ственное мнение страны и очень чутко
воспринималась и за границей, но как будто
представлялся обойденным и опереженным
этим общественным мнением страны и уже
не являлся, таким образом, в глазах Европы,
истинным представителем и вождем своего
народа. Это обстоятельство чрезвычайно воз¬
будило и придворные круги, которые, осо¬
бенно осенью 1876 г., во время пребывания
двора в Крыму, выказывали большой воен¬
ный пыл, то отразилось и на настроении
самого императора Александра, который
увидел себя в значительной мере вынужден¬
ным, в видах сохранения положения
истинного вождя нации в глазах всего мира,
более решительно действовать в защиту сла¬
вян.
Тщетно пытался бороться с этим настро¬
ением императора Александра министр
финансов Рейтерн, который вполне ясно
видел, что при тогдашних наших финансо¬
вых и экономических отношениях ведение
этой войны может привести нас к чрезвы¬
чайному финансовому краху. Рейтерну
только что удалось в 1875 г. достигнуть
такого состояния бюджета, что не только он
мог, наконец, заключаться без дефицита, но
и являлась возможность накопления ме¬
таллического фонда, который в это время
достиг уже 160 йлн. руб., так что Рейтерн
мечтал приступить, наконец, в близком бу¬
дущем к осуществлению своей главной идеи
— к обращению кредитных неразменных де¬
нег в разменные; и вот, как раз в этот самый
момент обстоятельства — даже еще до войны
— снова стали складываться так, что все
расчеты Рейтерна поколебались. В 1875 г.
был значительный неурожай, в то же время
вследствие засухи явилось мелководье на
внутренних водных путях, которые тогда еще
имели такое огромное значение в России в
отношении хлебной торговли — в отно¬
шении подвоза хлеба к портам, и, таким
образом, вывоз русского хлеба за границу
уменьшился. К тому времени, как вы
помните, развитие русского железнодорож¬
ного строительства достигло больших разме¬
ров. Мы обладали уже целой сетью в 17 тыс.
верст, но многие из этих железных дорог не
давали достаточного дохода для того, чтобы
покрыть издержки содержания и давать вы¬
говоренную по гарантии прибыль; поэтому
правительству приходилось уплачивать по
принятой на казну гарантии и на это или
тратить свой золотой фонд, который был
скоплен с таким трудом, или заключать
займы, которые в конце концов требовали
уплаты значительных процентов и, в сущ¬
ности говоря, воли также в результате к
растрате скопленного металлического фон¬
да.
Таким образом, еще до войны вновь
началось значительное падение курса рубля
под влиянием невыгодного торгового баланса
(вследствие уменьшения отпуска хлеба за
границу) и благодаря необходимости для
правительства тратить много денег за
границей на оплату железнодорожных га¬
рантий. В то же время целый ряд иностран¬
ных капиталов, ввиду тревожных
международных обстоятельств, начал уплы¬
вать за границу; тут же явились и еще
случайные внутренние обстоятельства, дей¬
ствовавшие в ту же неблагоприятную сторо¬
ну, как, например, банкротство одного из
крупных банков в Москве вследствие круп¬
ного мошенничества Струсберга. Все это
вызвало биржевую панику, банковский
кризис и еще большее усиление отлива ино¬
странных капиталов. Таким образом, планы
Рейтерна начали и до войны колебаться, а
война, конечно, грозила им полным кру¬
жением. Уже для выполнения одной
частичной мобилизации, которую осенью
1876 г. предписано было произвести для
угрозы Турции, пришлось заключить
стомиллионный заем, и Рейтерн резко за¬
явил государю, что если будет война, то
возможно ожидать государственного банк¬
ротства.
Но несмотря на все эти серьезнейшие
предостережения Рейтерна, под влиянием
славянофильской агитации, под влиянием
361
общественного мнения, которое сильно было
настроено в пользу войны после болгарских
ужасов, император Александр все-таки
решился воевать.
Когда уже война началась, то оказалось,
что независимо от того, что приходилось
делать массовые выпуски бумажных денег,
которые, конечно, совершено погубили все
расчеты Рейтерна на восстановление курса
бумажного рубля, независимо от этого ока¬
залось, что мы не готовы к войне и в других
отношениях. Оказалось, что преобразования
Милютина (особенно замена рекрутчины
всеобщей воинской повинностью, произве¬
денная лишь в 1874 г., т. е. всего за два года
до мобилизации 1876 г.), были настолько
новы и настолько перевернули все прежнее
устройство войска, что выполнить
мобилизацию армии в этих условиях оказа¬
лось далеко не легким, причем те
административные власти, от которых в
значительной мере зависела правильность и
быстрота действий при мобилизации, ока¬
зались ниже всякой критики, и вышло
поэтому, что мы в течение шести месяцев
могли доставить к турецким границам лишь
недостаточное количество войска.
Тут отчасти виноват был и граф Игнать¬
ев, русский посол в Константинополе, кото¬
рый утверждал, что мы очень легко победим
турок, что Турция разлагается и что нужны
весьма небольшие силы, чтобы нанести ей
решительный удар.
На самом деле оказалось, что у нас было
не только мало войска, но и чрезвычайно
дурно был выбран штаб армии. Главноко¬
мандующим был сделан брат императора
Александра, великий князь Николай Нико¬
лаевич, человек совершенно не имевший
необходимых стратегических талантов. На¬
чальником штаба он выбрал генерала Непо-
койчицкого, который в молодости, может
быть, и был способным человеком, особенно
как писатель по военным вопросам, но
теперь совершенно устарел, отличался' пол¬
ной нераспорядительностью и не имел ника¬
кого плана кампании.
Таким образом, оказалось, что непос¬
редственно после блестяще выполненной
переправы наших войск через Дунай тотчас
же получился новый разброд. Начальники
отдельных отрядов, ввиду отсутствия общего
плана, стали предпринимать на своей страх
весьма рискованные действия, и вот, весьма
предприимчивый и храбрый генерал Гурко
устремился прямо за Балканы и, не встречая
на своем пути значительных препятствий,
увлекся чуть не до Адрианополя. А в это
время Осман-паша, командовавший не¬
сколькими десятками тысяч турецкого вой¬
ска, занял неприступную позицию при
Плевне в тылу наших войск, переп¬
равившихся за Балканы. Штурм Плевны
был отбит, и скоро оказалось, что это такое
неприступное место, из которого выбить
Осман-пашу было нельзя, и приходилось
думать о долговременной осаде, причем у
нас не было достаточно войска, чтобы
обложить Плевну со всех сторон. Положение
наше оказалось печальным, и если бы ко¬
мандовавший южной турецкой армией и в
то время находившийся по ту сторону Бал¬
кан Сулейман-паша немедленно перешел,
как ему было приказано, через Балканы и
соединился с Османом, то Гурко и другие
наши передовые отряды были бы отрезаны
от остальной армии и неминуемо погибли
бы. Единственно только благодаря тому, что
этот Сулейман-паша, по-видимому, со¬
перничая с Османом, вместо того, чтобы, как
было ему приказано, пойти через один из
своих проходов, пошел выбивать русских из
Шипкинского прохода, который был занят
Радецким,—единственно благодаря этой
ошибке или преступлению Сулеймана-паши
передовые отряды наши были спасены.
Шипку нам удалось удержать, Сулейман-
паша был отбит Радецким, Гурко успел бла¬
гополучно отсутпить, а вместе с тем успели
подойти новые наши войска. Однако Плевну
пришлось осаждать в течение нескольких
месяцев; первая наша попытка овладеть
плевнинскими высотами была в июле
1877 г., а удалось принудить Османа-пашу
к сдаче только в декабре, и то только благо¬
даря тому, что из Петербурга была вытребо¬
вана вся гвардия, которая могла быстро
мобилизоваться и быть доставлена на театр
войны.
Кроме того, пришлось обратиться за
помощью к князю Карлу румынскому, кото¬
рый согласился дать свою, хотя небольшую,
но хорошо обученную и вооруженную
тридцатипятитысячную армию только под
условием, чтобы сам он был назначен коман¬
дующим всем осадным корпусом. Лишь с
прибытием, вызванного из Петербурга инже¬
нер-генерала Тотлебена осада Плевны пош¬
ла правильно, и Осман-паша должен был,
наконец, положить оружие после неудачной
попытки пробиться.
Таким образом, кампания растянулась
на весь 1877 и часть 1878 г. После взятия
Плевны нам удалось перейти вновь Балканы,
362
занять Адрианополь, который тогда не был
крепостью, и подойти к Константинополю в
январе 1878 г. В это время император Алек¬
сандр получил от королевы Виктории телег¬
рамму, которой она его просила
остановиться и заключить перемирие. Хотя
император Александр еще до начала войны
обещал Англии, что не будет стремиться
занять Константинополь, тем не менее лорд
Биконсфильд в подкрепление этой телеграм¬
мы успел уже исходатайствовать у парла¬
мента 6 млн. фунтов стерлингов на военные
цели, и война с Англией, казалось, была
почти неизбежна. Но Турция, которая была
совершенно истощена, принуждена была
просить мира, не дожидаясь английской
поддержки, и в середине января (по новому
стилю) 1878 г. было заключено Адриано-
польское перемирие, в основу которого было
положено обещание султана удовлетворить
требования великих держав и дать
правильное устройство — частью в виде
полусамостоятельных княжеств, частью в
виде территорий с христианскими генерал-
губернаторами — всем христианским
провинциям Европейской Турции. Вскоре
же после перемирия открылись дипло¬
матические переговоры в Сан-Стефано, ве¬
денные с нашей стороны Игнатьевым с
полным успехом. В марте уже был подписан
мирный договор, по которому все требования
России были удовлетворены. При этом было
выговорено не только расширение Сербиии
Черногории, но и Болгария становилась
полунезависимым княжеством с
территорией, доходившей до Эгейского моря.
Вместе с этим, так как на Кавказе мы
вели войну гораздо успешнее, чем на Бал¬
канском полуострове, и успели взять Карс,
Эрзерум и Батум, то по мирному договору
было установлено, что взамен части выгово¬
ренной военной контрибуции, которую
Турция должна была уплатить России в
размере 1400 млн. рублей, она предоставит
России в районе Азиатской Турции из сос¬
тава занятой нами территории Карс и Батум
с их округами. Вместе с тем необходимым
условием мира император Александр пос¬
тавил возвращение России того клочка Бес¬
сарабии, который был в 1856 г:'отделен от
России и отдан Румынии, и так как Ру¬
мыния, которая воевала в союзе с Россией,
была очень этим обижена, то ей в виде
компенсации была предоставлена Добруд-
жа.
Однако как только в Англии узнали об
этих условиях мира, то немедленно лорд
Биконсфильд протестовал против всяких
изменений территории Турции без участия
великих держав, принимавших участие в
Конгрессе 1856 г. в Париже. Поэтому импе¬
ратор Александр должен был в конце концов
под угрозой тяжелой войны с Англией и
Австрией согласиться на Конгресс пред¬
ставителей великих держав в Берлине под
председательством Бисмарка. На этом конг¬
рессе условия мира были существенно изме¬
нены: урезаны были приобретения Сербии,
Черногории и особенно Болгарии. От пос¬
ледней отделена была на юге от Бажан
целая область, Восточная Румелия, которая
осталась турецкой провинцией с
христианским генерал-губернатором.
Против территориальных приобретений -
России Биконсфильд также протестовал, и
хотя ему не удалось их уничтожить, но
удалось все же настоять на том, чтобы Батум
из военного порта, каким был до тех пор,
был превращен в мирную гавань, доступную
всем государствам.
Таким образом, условия мира были
изменены не в пользу России. Это обстоя¬
тельство в связи с тем способом ведения
войны, который обусловил ряд неудач, а
также и воровством, которое обнаружилось
и на этот раз при поставке припасов и для
расследования которого была назначена осо¬
бая комиссия,—бее это создало чрезвычай¬
ное негодование и обострение настроения в
широких кругах русского общества. Надо
сказать, что негодовали тогда не только
радикально и революционно настроенные
слои, но даже самые лояльные круги обще¬
ства со славянофилами во главе. Когда
слухи об уступках, сделанных на
Берлинском конгрессе, достигли Москвы, то
Иван Аксаков выступил на публичном засе¬
дании «Славянского общества» с громовой
речью, где говорил:
«Ужели хоть долю правды должны мы
признать во всех этих корреспонденциях и
телеграммах, которые ежедневно, ежечасно,
на всех языках, во все концы света разносят
теперь из Берлина позорные вести о наших
уступках и, передаваясь в ведение всего
народа, ни разу не опровергнутые русскою
властью, то жгут его стыдом и жалят совесть,
то давят недоумением...»
Затем в ярких и резких словах описав
унизительное поведение наших дипломатов
и изобразив значение этих уступок для
неприкосновенности и свободы южной части
Болгарии, для независимости остальных
славянских народностей на Балканском
363
полуострове, для политического преобла¬
дания ненавистной ему Австрии и для упад¬
ка нашего престижа среди славянского
мира, Аксаков несколько раз повторил, что
он отказывается верить, чтобы эти действия
нашей дипломатии были одобрены и призна¬
ны «высшей властью», и кончил свою заме¬
чательную речь следующими словами:
«Волнуется, ропщет, негодует народ,
смущаемый ежедневными сообщениями о
Берлинском конгрессе, и ждет, как благой
вести, решения свыше. Ждет и надеется. Не
солжет его надежда, потому что не пре¬
ломится Царское слово: «Святое дело будет
доведено до конца». Долг верноподданных
велит всем нам надеяться и верить,— долг
же верноподданных велит нам и не безмол-
ствовать в эти дни беззакония и неправды,
воздвигающих средостение между царем и
землею, между царскою мыслью и народною
думой. Ужели и в самом деле может раз¬
даться нам сверху в ответ внушительное
слово: «.Молчите, честные уста! Гласите
лишь вы, лесть да кривда/»
Когда император Александр узнал об
этой речи, то он до такой степени рас¬
сердился, что, несмотря на положение Акса¬
кова в обществе и его годы, он велел его
выслать из Москвы административным
порядком.
Еще более было возбуждение среди
либеральных земцев и в революционных
кругах русского общества, которые усиленно
волновались в это время, в особенности на
юге России. Юг России непосредственно
был ближе к театру военных действий, ярче
ввдел злоупотребления и беспорядки при
поставках в армию и был тем отзывчивее на
эти обстоятельства, что уже и ранее там
развивалось окрашенное украйнофильством
довольно широкое общественное движение.
В Киеве в особенности резко начинает в
довольно широких кругах общества утверж¬
даться в это время сознание необходимости
установления конституционного строя в
России. Это сознание, не чуждое части рус¬
ского общества еще в 60-х годах, теперь еще
более усиливается ввиду того факта, что в
Болгарии, которая только что тогда из угне¬
тенной, дикой и некультурной страны сде¬
лалась самостоятельным княжеством, сразу
было введено конституционное устройство.
Этот факт, который не мог, конечно, иметь
места без согласия на него императора Алек¬
сандра, чрезвычайно ободрил надежды
русских патриотов и либералов. За¬
родившись на юге, по всей России в это
время начинает распространяться довольно
яркое конституционное движение.
В Киеве и потом в Харькове происходят
съезды земцев, которые в это время как раз
совпадают с резким развитием и рево¬
люционного движения. Последнее, в свою
очередь, к тому времени изменяет свою окра¬
ску: вы видели, что до войны 1877—1878 гг.
революционное народническое движение со-
вершенно устраняло от себя всякие
политические интересы, считало, что вопро¬
сы политического устройства имеют
ничтожную ценность, и как идеал впереди
выставляло анархическое федералистское
устройство общества в виде свободного союза
независимых общин. Поэтому главные
усилия революционного движения до этих
пор были направлены на непосредственное
достижение известных социальных улуч¬
шений в судьбах народа. В это же время,
ввиду тех притеснений, которые народники
успели испытать со стороны правительства,
ввиду тех процессов, которые начались в
конце 70-х годов, ввиду тех неудач, которые
встретили попытки их вести непосредствен¬
ную социальную пропаганду среди народа,
после выстрела Веры Засулич, произведен¬
ного в ответ на возмутительное приказание
Трепова высечь политического арестанта,
после всего этого революционное движение
быстро начинает принимать новые формы
резкой политической борьбы. Среди рево¬
люционеров начинает преобладать мысль,
что в данных политических условиях невоз¬
можно вести какую бы то ни было социаль¬
ную пропаганду, тем более что и народные
массы, как вы видели, не встретили этой
пропаганды сколько-нибудь сочувственно.
Среди народников появляется сознание не¬
обходимости добиваться лучших
политических условий. После вооруженного
сопротивления в Одессе и казни Ковальского
Степняк-Кравчинский убивает среди дня на
улице Петербурга шефа жандармов Мезен¬
цева и сам успевает скрыться.
Правительство начинает сознавать необ¬
ходимость призвать общество к содействию
в его борьбе с революционерами и опублико¬
вывает в «Правительственном вестнике»
после соответствующей речи самого госуда¬
ря в Москве особое сообщение, в котором,
указывая на развитие крамолы, оно требует
от общества поддержки себе в борьбе с
революцией. В этот момент земцы не¬
скольких южных губерний сплотились меж¬
ду собой и с либеральными элементами
общества на нескольких съездах, устроен¬
ных в Киеве и Харькове. Они сделали попыт¬
ку войти хотя бы во временное соглашение
и с революционерами-террористами, кото¬
рых они хотели убедить прекратить
террористические акты, чтобы тем самым
364
I
дать либералам возможность испытать
мирные средства воздействия на правитель¬
ство. Попытка эта оказалась безуспешной.
Тем не менее земцы решились указать и
правительству, что пока правительство в
борьбе своей с революционерами пускает в
ход такие меры, которые нарушают корен¬
ным образом права и интересы всего обще¬
ства, а не одних революционеров, пока оно
игнорирует справедливые желания общества
и пренебрегает неприкосновенностью и эле¬
ментарными правами мирных обывателей,
до тех пор представители общества лишены
всякой возможности оказать этому
правительству какую бы то ни было поддер¬
жку.
С соответствующими заявлениями дол¬
жны были выступить участники земских
совещаний в разных земских собраниях и
предложить им принять соответствующие
адреса правительству. Наиболее яркой
попыткой выполнить эту программу была
речь, произнесенная вопреки запрещению
председателя в черниговском земском соб¬
рании губернским гласным И. И. Петрун-
кевичем, причем в помещение, где заседали
черниговские гласные, для разгона этого соб¬
рания введены были жандармы. В этой речи
Петрункевич, между прочим, сказал:
, «...Думать, что идеи, в том числе и
анархические, можно остановить мерами
строгости, значит игнорировать историю
развития и распространения идей...
...Чтобы сознательно идти к своей зада¬
че и чтобы уяснить, что может сделать зем¬
ство, т. е. сам русский народ, для
извлечения опасного недуга, необходимо
обратиться к анализу причин, его
породивших. Таких главных причин, наряду
с другими, менее важными, по мнению зем¬
ства, три:
1. Организация средних и высших учеб¬
ных заведений.
2. Отсутствие свободы слова и печати.
3. Отсутствие среди русского общества
чувства законности.
...Борьба с разрушительными идеями
была бы возможна лишь в том случае, когда
бы общество располагало соответственными
орудиями. Эти орудия: слово, печать, свобо¬
да мнений и свободная наука. В то время
когда анархические идеи распространяются
и тайною печатью, и устною пропагандой,
общество лишено средств откровенно выра¬
жать свои мнения. Общественного мнения
не существует, ибо нет органа для его выра¬
жения, нет печати, которая, не руководясь
страхом административных взысканий, гро¬
зящих ей, а имея в виду интерес общества,
его мирное развитие, его насущные потреб¬
ности и возможные опасности, пробуждала
бы чувство самостоятельности, чувство са¬
мосохранения и поддержания основ, на ко¬
торых зиждется государственный строй».
Охарактеризовав затем те искажения,
которые введены были в реформы 60-х годов,
то положение, которое создалось в настоящее
время, и с особенной подробностью оста¬
новившись на условиях, в которых
приходится, благодаря толстовской
классической системе, воспитываться и
развиваться нашим молодым поколениям,
Петрункевич так заканчивал свою речь:
«Таково положение русского общества.
Не обладая чувством, заставляющим
подчиняться закону, не имея общественно¬
го мнения, обуздывающего всякие личные,
несогласные с общественными интересами
стремления, лишенное свободы критики
возникающих среди него идей,— русское
общество представляет разобщенную, ине¬
ртную массу, способную поглощать все, но
неспособную к борьбе2. Поэтому земство
Черниговской губернии с невыразимым
огорчением констатирует свое полное
бессилие принять какие-либо практические
меры в борьбе со злом и считает своим
гражданским долгом довести об этом до све¬
дения правительства».
Правительство поспешило запретить
обсуждение в земских собраниях подобных
вопросов, несмотря на то что оно само как
раз и призвало общество к поддержке и,
таким образом, несомненно само дало повод
к обсуждению этих вопросов со стороны
земств. Лишь немногие земские собрания
успели высказать свои аналогичные сообра¬
жения. Так, в собрании тверского губернско¬
го земства был принят следующий
знаменательный адрес:
«Государь Император в своих заботах о
благе освобожденного от турецкого ига бол¬
гарского народа,— писали тверитяне,—
признал необходимым даровать ему
истинное самоуправление, неприкосновен¬
ность прав личности, независимость суда,
свободу печати. Земство Тверской губернии
смеет надеяться, что русский народ с такою
полною готовностью, с такою беззаветною
любовью к своему царю-освободителю
несший все тяжести войны, воспользуется
теми же благами, которые одни могут дать
ему возможность выйти, по слову государе¬
ву, на путь постепенного, мирного и закон¬
ного развития».
Эти заявления тут же были прекращены,
как я уже сказал, циркуляром министра,
который указывал предводителям дворянст¬
ва, что он будет привлекать их к ответствен¬
ности согласно закону 13 июня 1867 г., если
365
они не будут останавливать подобных заяв¬
лений.
Однако возникшее в земских кругах
движение не успокоилось, а развивалось и
дальше. В 1879—1880 гг. был созван целый
ряд земских конспиративных съездов, из
которых самый многолюдный происходил в
начале 1879 г. в Москве. На земства и земцев
посыпались кары. Петрункевич в апреле
1879 г. был арестован и выслан в Костром¬
скую губернию. Арестованы были также и
некоторые другие участники того же
движения.
Между тем в это же время, как я уже
говорил, все резче и резче обостряется на¬
строение социалистов-революционеров. Вы
видели, что в 1878 г. начался уже ряд
террористических покушений, вызванных
репрессиями правительства и чрезвычай¬
ным произволом полицейских властей. В
среде революционеров все настойчивее
развивается мысль о необходимости для
получения возможности бороться за осуще¬
ствление своего социального идеала отвое¬
вать прежде всего, по крайней мере,
элементарные условия политической свобо¬
ды.
Однако, несмотря на признание насущ¬
ности одинаковых ближайших задач с
земскими конституционалистами, рево¬
люционеры не могли сойтись с ними, потому
что методы борьбы у них и у либералов были
совершенно различные. В 1879 г. в среде
народнического общества «Земля и воля»
решено было созвать для обсуждения новых
вдей и пересмотра своей программы особый
конспиративный съезд в Воронеже. При
этом та часть революционеров, которая осо¬
бенно была на стороне изменения
ближайших задач революционной
организации — а вместе с тем и самих спо¬
собов борьбы — и среди которой выделился
особенно одесский революционер Желябов,
устроила особый предварительный съезд в
Липецке, на котором было решено во всяком
случае образовать особый «исполнительный
комитет» для террористической борьбы с
правительством. Это постановление было
принято и большинством участников на со¬
стоявшемся затем общем съезде в Воронеже,
правда, там отделилась небольшая группа
народников, во главе которой стал Плеханов,
настаивавшая на сохранении прежней на¬
роднической программы и соответствующей
ей тактики, ставившая на первый план
социальную пропаганду, а не политическую
борьбу. Тем не менее по возвращении съез¬
жавшихся революционеров в Петербург ока¬
залось, что сохранить единство между двумя
образовавшимися в их среде группами не¬
возможно, и организация «Земля и воля»
разбилась на две: на большую сравнительно
организацию «Народной воли», которая сох¬
ранила, правда, в своей программе на¬
роднические идеалы, но в то же время
признала и необходимость систематической
борьбы на политической почве и главные
силы свои в ближайшее время решила на¬
править поэтому на террористическую борь¬
бу с правительством, и другую группу,
гораздо менее численную и менее влиятель¬
ную, принявшую наименование партии
«Черный передел», которая продолжала
отстаивать старые народнические взгляды в
полном объеме.
Поле действий осталось, однако же, за
«Народной волей», которая и произвела в
ближайшие два года целый ряд крупных
террористических актов, потрясших ту
правительственную организацию, которая
тогда существовала. Об этих актах, их зна¬
чении и последствиях я расскажу вам в
следующий раз.
ЛЕКЦИЯ XXXVII
Организация революционерами ряда покушений на жизнь императора Александра II.— Растерянность и
колебания в высших сферах.— Взрыв в Зимнем дворце и учреждение верховной распорядительной
комиссии с Лорис-Меликовым во главе.— Программа Лорис-Меликова и ее осуществление.— Отношение
к нему либералов и революционеров.— Отставка Толстого.— Реформы Лорис-Меликова.— Сенаторские
ревизии и крестьянский вопрос.— Конституционное движение.— Доклад Лорис-Меликова об учреж¬
дении особой подготовительной комиссии.— Катастрофа 1 марта 1881 г.
В прошлый раз я излагал вам обстоя- которые повлекла за собою война во внут-
тельства внешней политики и внешних отно- ренних отношениях и настроениях
шений, которые привели к обострению различных групп общества. Эти внутренние
восточного вопроса и кончились русско-ту- отношения в то время чрезвычайно
рецкой войной 1877—1878 гг. Я указал вам обострились. Обострение это развивалось на
вкратце и те непосредственные последствия, почве всеобщего разлада в экономической и
366
финансовой сфере народной и государствен¬
ной жизни, о чем особенно резко представ¬
лял императору Александру министр
финансов Рейтерн, который был против вой¬
ны и тотчас же после нее вышел в отставку,
не считая для себя возможным принять
ликвидацию того ухудшения финансовых
отношений, которое вызвано было войной. С
другой стороны, быстро росло обострение
розни между правительством и обществом,
обострение, ознаменовавшееся сильным
развитием земского оппозиционного
движения и обращением народников-рево-
люционеров на путь активной рево¬
люционной деятельности, которая,
развиваясь crescendo, привела их на путь
ожесточенной террористической борьбы.
После преобразования пропа¬
гандистской социально-революционной
организации «Земля и воля» в боевую
террористическую организацию «Народная
воля», окончательно сформировавшуюся
после липецкого и воронежского съездов,
террористические покушения направились
главным образом на личность царя. Против
императора Александра II предпринята бы¬
ла малочисленной, но необыкновенно
энергичной организацией революционеров-
террористов, можно сказать, систематичес¬
кая осада и целая сеть подкопов, засад и
т. д., причем в этой борьбе, дошедшей до
крайнего азарта, революционеры не оста¬
навливались перед организацией подкопов,
взрывов мостов, поездов и домов в городах,
несмотря на то что осуществление этих поку¬
шений грозило отнятием жизни у многих
десятков людей; это не останавливало рево¬
люционеров, жертвовавших и собственной
жизнью без малейшего колебания.
С одной стороны, революционеры, убеж¬
денные в своем ослеплении, что удачное
покушение на жизнь царя послужит сигна¬
лом для народной революции, которая ко¬
ренным образом изменит все условия
политической и социальной жизни в
России,— причем выбить их из этого ослеп¬
ления было совершенно невозможно
никакими доводами рассудка, а с другой
стороны, растерявшееся правительство, не
сумевшее найти для себя какой-либо точки
опоры в населении, с нуждами и правами
которого оно не привыкло считаться, судо¬
рожно принимавшее различные
репрессивные меры, которые только обост¬
ряли борьбу не на жизнь, а на смерть с
революционерами и ставили в то же время
в нестерпимое положение жизнь мирных
обывателей, испытывавших на себе всю тя¬
жесть осадного положения и произвола гру¬
бых и бесцеремонных сатрапов и
полицейских агентов,— таково было не¬
завидное положение России и русского
общества в эти поистине трудные годы.
После покушения Соловьева з 1879 г. на
жизнь императора Александра и после ряда
других покушений, когда всем ясно ста¬
новилось, что правительство одними
репрессивными мерами не может вести ус¬
пешной борьбы С революционерами и не
может водворить мир и порядок в стране, и
в то же время, когда правительство
убедилось, что его самонадеянное обращение
к обществу за содействием совершенно не
может привести к успеху, раз с интересами
и правами этого общества правительство не
склонно считаться, появились наконец и у
некоторых из членов правительства сом¬
нения в правильности той внутренней
политики, которая осуществлялась в течение
последних лет.
В конце 1879 г. в придворных и в
высших административных сферах начина¬
ют все яснее сознавать, что борьба с «кра¬
молой», ведущаяся одними репрессивными
мерами, не может привести к успеху. Один
из временных генерал-губернаторов, назна¬
ченных после покушения Соловьева на
жизнь царя, именно харьковский генерал-
губернатор Лорис-Меликов, сделал в это вре¬
мя опыт применения во вверенном его
управлению крае несколько видоизмененной
политики по собственному почину; он попы¬
тался смирить произвол подчиненной ему
администрации и постарался добиться
симпатий и уважения со стороны местного
населения заботливым охранением его инте¬
ресов, не переставая в то же время энергично
преследовать революционеров, которые в
Харькове особенно резко тогда выступали.
Параллельно с этим и в высших
придворных сферах граф Валуев, бывший в
то время председателем Комитета
министров, начал осторожно внушать импе¬
ратору мысль о необходимости примирения
правительства с обществом, причем он ука¬
зывал на своевременность возвращения к
тем проектам об участии представителей
общества в государственных делах, которые
были в ходу в 60-х годах и могли, по его
мнению, в настоящих обстоятельствах
произвести на общество благоприятное впе¬
чатление. При этом Валуев извлек из архива
свой собственный проект, составленный еще
в 1863 г., о котором я упоминал вам, когда
читал историю эпохи реформ. Со своей
367
стороны великий князь Константин Никола¬
евич, который был в это время председателем
Государственного совета, напомнил и свой
проект, составленный по его поручению в
1866 г. князем Урусовым и клонившийся
также к созданию некоторого зародыша
представительного учреждения совещатель¬
ного характера.
В то время как эти проекты обсуждались
в ближайших к императору Александру кру¬
гах, а в стране, среди жестоких расправ и
казней попадавших в руки администрации
революционеров продолжал царить и
развиваться дикий произвол, вызывавший
всеобщее раздражение и ропот» организован
был революционерами взрыв в самом
жилище императора Александра в Зимнем
дворце. Взрыв произошел в тот момент, когда
вся царская фамилия в полном составе го¬
товилась принять участие в парадном обеде,
устроенном в честь прибытия в Петербург
болгарского князя Александра Баттенберг-
ского. Это событие поразило все население
и самого императора Александра чрезвычай¬
но; произошло это 4 февраля 1880 г., причем
взрыв не достиг своей цели только благодаря
некоторым совершенно случайным обстоя-
тельтвам. Революционеры сумели внести в
Зимний дворец достаточное количество
динамита, который они в течение ряда ме¬
сяцев складывали в подвальном этаже,
внутри печи, которая находилась как раз под
императорской столовой, что было установ¬
лено революционерами по плану дворца,
своевременно ими добытому. При этом
единственно, чего они не могли усмотреть по
тому плану, который у них был, это, что
между подвальным этажом и помещением
столовой была антресольная камера, где в
момент взрыва находились караульные сол¬
даты, которые и сделались его жертвой в
числе нескольких десятков человек. Таким
образом, взрыв не достиг пола столовой с
достаточной силой, хотя пол этот все же
опустился после него значительно. Кроме
того, царская фамилия еще не успела сесть
за стол, потому что случайно опоздал поезд,
привезший Александра Баттенбергского, и
обед должен был произойти на полчаса поз¬
же назначенного времени. Только благодаря
этим случайным обстоятельствам покушение
не удалось; а если бы оно удалось, то жерт¬
вой его стал бы не только император Алек¬
сандр, но и вся царская фамилия, и
получилось бы такое положение, что уничто¬
жены были бы вместе с императором и все
законные наследники государя, и, таким
образом, в сущности говоря, по произволу
кучки людей мог бы возникнуть вопрос,
совершенно неожиданно для всей страны,
или об избрании новой династии, или, как
мечтали революционеры, о полной перемене
формы правления.
Одним словом, действительно, событие
это могло вызвать чрезвычайные пос¬
ледствия, каких, казалось, нельзя было бы и
предвидеть. Следствие, произведенное по
поводу этого события, обнаружило, что рево¬
люционеры не случайно только, так сказать,
на одну минуту взрыва проникли в Зимний
дворец; оказалось, что они ухитрились там
свить себе прочное гнездо. Виновник этого
взрыва, молодой рабочий Халтурин, имел
помещение во дворце в качестве истопника
и в течение шести месяцев жил там, вносил
туда динамит, который ему передавал Же¬
лябов, и спокойно выжидал подходящего
случая, несколько раз отсрочивая момент
взрыва, пока у него не была в руках вполне
точных данных, что он достигнет поставлен¬
ной себе цели во всей ее полноте. Одним
словом, то стороны революционеров дело
было поставлено прочно и предусмотритель¬
но подготовлено, и как бы для того, чтобы с
особенной яркостью подчеркнуть несостоя¬
тельность полицейской охраны, оказалось,
что за несколько недель перед взрывом при
обыске у одного революционера был найден
план Зимнего дворца, на котором крестиком
было обозначено место взрыва, и несмотря
на это полиция, которая не давала спокойно
жить в Петербурге мирным обывателям, ко¬
торая не задумываясь принимала такие ме¬
ры, как наложение обязательных дежурств
дворников, без всякого законодательного ут¬
верждения, что обходилось населению Пе¬
тербурга до миллиона рублей в год,—
несмотря на все это, такой простой факт, как
находка плана Зимнего дворца с определен¬
ными знаками в бумагах революционеров,
не обратил на себя достаточного внимания
полицейских властей.
Это было, конечно, полное фиаско той
системы охраны, которая существовала,
фиаско, которое обнаружило всю невозмож¬
ность и крайнюю опасность этого поло¬
жения, и прежде всего обнаружило это в
глазах самого императора Александра. И вот
мы видим, что в высших сферах совершает¬
ся в этот момент окончательный поворот во
взглядах на задачи внутренней политики.
Я вам сказал, что уже перед этим Валуев
приблизительно за месяц до взрыва в
Зимнем дворце определенно указывал импе¬
368
ратору Александру на необходимость
примириться с обществом и изменить в этом
отношении установившийся реакционный
курс. За неделю до взрыва император Алек¬
сандр устроил у себя для обсуждения про¬
екта Валуева совещание из нескольких
человек министров, пользовавшихся его
наибольшим доверием, при участии це¬
саревича Александра Александровича. Це¬
саревич оказался, однако, в этом случае
вовсе не на стороне Валуева, а наоборот, тут
именно в первый раз с очевидностью обна¬
ружил те свои политические взгляды, кото¬
рые потом он исповедовал в течение всего
своего царствования. Он высказался тут с
полной определенностью против всяких
конституционных планов, которые предла¬
гались Валуевым и Константином Никола¬
евичем.
Когда же уже после совершения взрыва
император Александр вновь собрал сове¬
щание —8 февраля 1880 г.— из тех же лиц,
то наследник Александр Александрович вы¬
ступил сам с определенным планом мер,
которые нужно было, по его мнению,
принять; он предложил учредить верховную
следственную комиссию — по образцу тех
комиссий, которые были учреждены в
1862 г. после известных пожаров и в 1866 г.
после каракозовского покушения. При этом
цесаревич указывал, что теперь такая
комиссия должна получить более широкие
полномочия и распространить свою деятель¬
ность на всю Россию.
Император Александр вначале отнесся
к этому предложению отрицательно и не
выказал никакого расположения ему следо¬
вать, но так как наследник настаивал и
развивал свои мысли, по-видимому, не толь¬
ко в этом совещании, а и после его закрытия,
то Александр Николаевич, обдумав в течение
ближайшей ночи еще раз это предложение и
собрав на другой день опять то же сове¬
щание, причем в его состав были приглаше¬
ны и некоторые случайно находившиеся в
Петербурге генерал-губернаторы — в том
числе и Лорис-Меликов,— уже определенно
заявил, что у него в связи с предложением
наследника составился новый план, что он
считает в данный момент неизбежным
принять вполне исключительные меры и для
этого решается создать особое временное
диктаториальное учреждение с передачей
ему некоторых прав верховной власти. Это
чрезвычайное учреждение должно было по¬
лучить наименование «Верховной распо¬
рядительной комиссии» и должно было
иметь чрезвычайные полномочия, главным
образом для борьбы с крамолой; но вместе с
тем этой комиссии предоставлялось
обсудить создавшееся в России нестерпимое
положение и найти способ из него выйти.
Во главе этой комиссии император Алек¬
сандр решил поставить генерала Лорис-
Меликова, того самого единственного из
генерал-губернаторов, который обнаружил
вместе с значительной энергией в борьбе с
революционерами умение привлечь на свою
сторону симпатии обывателей, благодаря за¬
ботливой охране их прав и интересов от
произвола администрации.
По-видимому, выбор Лорис-Меликова
был, таким образом, далеко не случаен. В
самом указе о назначении этой распо¬
рядительной комиссии было объявлено, что
она назначается под начальством генерал-
адъютанта Лорис-Меликова и в состав ее
будут введены лица, назначенные императо¬
ром, по его, Лорис-Меликова, представ¬
лению, что комиссии этой даются особые
полномочия и что ей должны подчиняться
все административные власти, даже
министры, не исключая и военного, который
перед тем был прямым начальником Лорис-
Меликова.
До тех пор широкой публике Лорис-
Меликов был известен как выдающийся кав¬
казский генЬрал, прославившийся в войну
1877—1878 it. взятием Карса, и затем как
энергичный распорядитель по охране
России от чумы, когда она появилась после
войны в Астраханской губернии. Как харь¬
ковского генерал-губернатора его знали
только на юге.
Тотчас же по вступлении в должность
14 февраля 1880 г. Лорис-Меликов
опубликовал прокламацию к жителям Пе¬
тербурга, в которой писал, что, с твердостью
стремясь к искоренению преступников,
пытающихся поколебать государственный
строй, он в то же время желает успокоить и
оградить законные интересы благомыслящей
части общества.
«На поддержку общества,— писал он,—
смотрю как на главную силу, могущую со¬
действовать власти к возобновлению
правильного течения государственной
жизни, от перерыва которого наиболее стра¬
дают интересы самого общества».
О личности самого Лорис-Меликова сох¬
ранилось несколько свидетельств лиц, более
или менее близко его знавших и притом
достаточно беспристрастных и лично не
заинтересованных в его реабилитации. Со¬
369
хранились, например, воспоминания о нем
доктора Белоголового, который хорошо знал
его и имел с ним много разговоров уже после
того, как Лорис-Меликов сошел со сцены.
Такое же значение имеют сведения о нем и
о его взглядах в записках Кошелева, который
познакомился с Лорис-Меликовым задолго
до призыва его на высший государственный
пост, а затем поддерживал с ним отношения
и во время его правительственной деятель¬
ности, и после ее прекращения1. Все эти
лица отзываются о Лорис-Меликове как о
человеке искренно либеральном, вполне че¬
стном, склонном пойти навстречу лояльному
общественному движению и удовлетворить
справедливые требования как земств, так и
вообще либерально настроенных людей,
вплоть до предоставления обществу некото¬
рого участия в государственных делах.
Не подлежит, однако, сомнению, что
основные задачи миссий Лорис-Меликова в
данном случае были прежде всего
репрессивные; эта чрезвычайная комиссия
была установлена прежде всего для борьбы
с революционерами, и Лорис-Меликов на
этой борьбе готовился, конечно, сосредо¬
точить все свои силы; он понимал, что его
задачи в сущности, прежде всего
полицейские, хотя в то же время смотрел на
эти полицейские задачи с необычайной для
русского администратора широтой. Совер¬
шенно несправедливо установилось о нем
представление как о конституционалисте,
как о лице, стремившемся ввести какую-
нибудь конституцию или хотя бы зародыш
ее по западному образцу. Он, напротив, не
только совершенно определенно и резко
отрицал возможность перенесения в Россию
тех конституционных форм, которые
сложились на Западе, утверждая, что они
для России по оригинальности ее условий не
годятся, но признавал совершенно несвоев¬
ременным подымать вопрос и об учреждении
какого-нибудь законосовещательного соб¬
рания в духе славянофилов, какого-нибудь
земского собора по образцу старинных
русских земских соборов XVI и XVII вв. Он
не скрывал, а совершенно определенно фор¬
мулировал это свое мнение и в докладах
царю, и в беседах с представителями обще¬
ства. Он опасался, как говорил он царю, что
собранные в какое бы то ни было государст¬
венное собрание народные представители
принесут с собой массу жалоб, упреков и
справедливой критики, на которые в данный
момент правительству очень трудно будет
представить удовлетворительные объяс¬
нения. Поэтому он считал необходимым
прежде всего упорядочить положение дел в
России путем ряда законодательных и
административных мер, восстановить при
этом нарушенное реакцией течение дел в тех
учреждениях, которые были созданы рефор¬
мами 60-х годов, и затем уже, приступив к
улучшению и исправлению того положения,
которое произведено было реакцией, он ду¬
мал допустить в той или иной форме неко¬
торое участие представителей населения в
обсуждении государственных дел: Его фор¬
мулировка объема и форм этого участия
совершенно непохожа была на введение
каких бы то ни было конституционных
форм, как вы дальше увидите.
Обращаясь прежде всего к своей
ближайшей задаче, задаче репрессивной,
Лорис-Меликов поставил дело весьма
решительно; он прежде всего признал необ¬
ходимым усилить и сосредоточить
репрессивную власть и придать ее
действиям большую целесообразность.
Именно из этих соображений он начал свою
деятельность уничтожением или, вернее,
реорганизацией того III отделения, которое
было учреждено Николаем I при содействии
Бенкендорфа и к которому с такой не¬
навистью относились в России все сколько-
нибудь живые люди.
III отделение собственной его величества
канцелярии было, по его докладу, уничтоже¬
но, как самостоятельное учреждение и
присоединено к Министерству внутренних
дел, причем сам министр внутренних дел
был сделан шефом жандармов. Таким обра¬
зом, это не была либеральная реформа или
уступка обществу, а было планомерное сос¬
редоточение репресивной власти. Он
признавал, что разделение полиции,
полицейской власти между жандармским
ведомством и Министерством внутренних
дел прежде всего вредит именно целесооб¬
разности полицейских действий и сосредо¬
точенности репрессивной силы; таким
образом, в этой его реформе никакого либе¬
рализма не было.
Ради той же цели он считал необ¬
ходимым близко связать с департаментом
полиции и с государственной полицией во¬
обще также и прокуратуру, которую он и
поставил в известную определенную связь с
департаментом полиции, и , таким образом,
в этом деле он шел, в сущности, против
принципов судебной реформы 1864 г.,
усилив зависимость прокуратуры от
административной власти; он в этом отно¬
370
шении проводил и продолжал ту линию
поведения, которую до него принял Пален,
только с гораздо большим искусством, чем
этот последний. И даже во главе департамен¬
та полиции он поставил бывшего прокурора
судебной палаты — В. К. Плеве, на долю
которого и выпала задача реорганизовать это
учреждение.
При этом новый диктатору как его
звали, распространил репрессивные
действия или, по крайней мере, некоторое
их отражение также и на тех представителей
либерального или радикального течения, ко¬
торые в своей деятельности выходили из
законных рамок и вступали в непосредст¬
венную связь с революционерами. Так,
например, при Лорис-Меликове, как раз в
начале его «диктатуры сердца», поплатился
известный русский писатель, статистик и
публицист недавно скончавшийся Н. Ф.
Анненский, который был выслан тогда в
Западную Сибирь. В это же время, когда
борзненские земские гласные возбудили хо¬
датайство о возвращении И. И. Петрун-
кевича в Черниговскую губернию, то им в
этом было отказано, а Петрункечиву разре¬
шено лишь переехать, по его выбору, из
Костромской губернии в Смоленскую.
Таким образом, мы видим, что
репрессивная деятельность Лорис-Меликова
была довольно сильна и касалась не только
преследования революционеров-
террористов, но и вообще всех активно бо¬
ровшихся с правительством лиц. Но в то же
время свой идеи о ненарушимости граж¬
данских прав и гражданской свободы
мирных обывателей Лорис-Меликов про¬
водил довольно последовательно. Во главу
угла своей внутренней политики он поставил
в ближайшую очередь такой план: во-пер-
вых, восстановить в полной мере земское
положение 1 января 1864 г., уничтожив все
те стеснения и искажения, которые последо¬
вали в нем в реакционную эпоху; во-вторых,
точно так же восстановить в полном объеме
действие судебных уставов. Вместе с тем,
довольно чутко прислушиваясь к голосу
общественного мнения, Лорис-Меликов не¬
медленно приступил к смене состава вы¬
сшей администрации в некоторых
ведомствах. Прежде всего он настоял на
увольнении в отставку графа Толстого,
министра народного просвещения, и, конеч¬
но, это было одной из важнейших заслуг его
перед обществом, благодаря которой он сра¬
зу приобрел в глазах многих значительные
симпатии и доверие. Вместо Толстого был
назначен министром народного просве¬
щения сознательный и искренний либерал
А. А. Сабуров, который за короткое время
своего заведования министерством опреде¬
ленно стремился вернуться к идеям Го¬
ловнина.
Затем был устранен министр финансов
генерал Грейг, который обнаружил и боль¬
шую бездарность как министр финансов, и
в то же время являлся одним из столпов
реакции в Комитете министров. Грейг был
заменен либеральным бюрократом А. А.
Абазой, который был в 60-х годах одним из
друзей Н. А. Милютина и одним из людей,
близких к великой княгине Елене Павловне.
Эта перемена довольно быстро дала о себе
знать уничтожением тяжелого для народа
налога на соль и приступом к разработке
других либеральных финансовых мер,
отчасти осуществленных в последующую
эпоху. Тогда же был поставлен на очередь
вопрос об изменении всей податной систе¬
мы, но, конечно, такой вопрос требовал изве¬
стного промежутка времени для своей
разработки.
Что касается положения печати и отно¬
шения к ней Лорис-Меликова, то надо ска¬
зать, что он признавал необходимость
облегчить ее положение и облегчил его до¬
вольно существенно. При нем получил воз¬
можность существования целый ряд новых
органов печати, которые раньше не могли
открыться: так, стали выходить газеты
«Страна» Л. А. Полонского, «Порядок»
М. М. Стасюлевича, журнал «Русская
мысль» в Москве под редакцией Юрьева,
друга Кошелева. Наконец, получили возмож¬
ность опять поднять свой голос и славя¬
нофилы; Аксаков стал выпускать новый, по
счету, кажется, двенадцатый, славя¬
нофильский журнал «Русь», который просу¬
ществовал затем несколько лет.
Тогда же и земцы получили возможность
завести своей собственный печатный орган,
основанный на средства Кошелева в Москве
под редакцией Скалона и под заглавием
«Земство» издававшийся затем в течение
двух лет в духе либеральном и даже, пожа¬
луй, радикальном.
Что касается пределов свободы печати,
то ей дозволялось обсуждать вопросы
политики и вести критику правительствен¬
ных мероприятий; но в одном весьма суще¬
ственном отношении Лорис-Меликов
стремился ее ограничить — это в том, чтобы
печать не говорила о конституции и, главное,
не приписывала ему самому
371
конституционных планов. При этом
ограничения такого рода делались им не
" обычным циркулярным порядком и не при
помощи разных репрессивных мер, а при
помощи собеседований с редакторами, кото¬
рых он приглашал к себе и указывал те
границы, которые в данный момент можно
предоставить печати.
Привожу по выпуску V «Статей и речей»
С. А. Муромцева содержание одного такого
собеседования:
«6 сентября 1880-го года министр внут¬
ренних дел, граф Лорис-Меликов,
пригласил к себе нескольких редакторов
большой прессы со специальною целью
разъяснить им, чтоб они не волновали на¬
прасно общественных умов, настаивая на
необходимости привлечения общества к
участию в законодательстве и управлении —
в виде ли представительных собраний на
манер европейских, в виде ли наших
бывших земских соборов,— что ничего
подобного в виду не имеется и что ему,
министру, подобные мечтательные разгла¬
гольствования прессы тем более неприятны,
что напрасно возбуждаемые ими надежды в
обществе связываются с его именем, хотя он,
министр, никаких полномочий не получал
на это и сам лично в виду ничего подобного
не имеет, будучи твердо убежден, что в
настоящее время самое необходимое, чем
надобно заняться,и на что он обратил все
свое внимание иг труд,— это дать должную ,
силу новым учреждениям, уже существу¬
ющим, а так^се привести в сообразность и
гармонию с йоследними учреждения старого
порядка, видоизменив их, насколько потре¬
буется, для этой цели».
Под новыми учреждениями в данном
случае разумелись учреждения, введенные
или образованные в эпоху реформ 60-х го¬
дов.
«Поэтому ближайшей его программой,
исполнение которой потребует, может быть,
от 5 до 7 лет времени, будет: 1) Дать земству
и другим общественным и сословным учреж¬
дениям возможность вполне пользоваться
теми правами, которые дарованы им зако¬
ном, стараясь при этом облегчить их дея¬
тельность в тех случаях, когда на опыте в
том или другом отделе предоставленной им
законом деятельности, окажется недостаток
полномочий, необходимых для правильного
ведения дела и экономического улучшения
местностей; 2) Привести к единообразию
полицию и поставить ее в гармонию с но¬
выми учреждениями, чтобы в ней не было
более возможности проявляться разным ук¬
лонениям от закона, существовавшем досе¬
ле; 3) Дать провинциальным учреждениям
большую самостоятельность для разрешения
подведомых им дел, чтобы они не имели
нужды с каждым, иногда совсем не¬
значительным, вопросом обращаться в Пе¬
тербург и ждать разрешения оттуда; 4)
Дознать желания, нужды и состояние насе¬
ления разных губерний, для чего, по хода¬
тайству Министерства внутренних дел,
высочайше назначены сенаторские ревизии
нескольких губерний, и на основании того,
что будет добыто означенными ревизиями,
по возможности удовлетворить желания и
нужды населения, обратив при этом
внимание и на его экономическое поло¬
жение; 5) Дать печати возможность обсуж¬
дать различные мероприятия,
постановления и распоряжения правитель¬
ства, с тем только условием, чтобы она не
смущала и не волновала напрасно общест¬
венные умы своими помянутыми мечтатель¬
ными иллюзиями».
Надо сказать, что эта программа обсуж¬
далась и критиковалась довольно свободно и
довольно резко в тогдашней печати, а впос¬
ледствии, когда кончился этот режим
«диктатуры сердца», то большая часть прог¬
рессивных газет и журналов все-таки с бла¬
годарностью вспоминала о тех облегчениях,
которыми они пользовались в этот короткий
промежуток относительной свободы.
Верховная распорядительная комиссия
была закрыта через шесть месяцев после
своего учреждения по докладу самого гр.
Лорис-Меликова, который признал, что для
дальнейшей борьбы с крамолой нет более
нужды в чрезвычайных полномочиях. Тогда
он был назначен просто министром внут¬
ренних дел и уже в этом положении продол¬
жал развивать свою деятельность,
придерживаясь раз принятого курса.
Переход Лорис-Меликова в министры
внутренних дел, таким образом, очень мало
изменил что-либо в ходе его политики. Сам
он неизменно продолжал пользоваться при
этом полным доверием императора Алексан¬
дра и, не будучи настоящим премьером,
будучи только министром внутренних дел,
он на самом деле играл роль, в сущности
говоря, настоящего премьер-министра2.
Имея в виду создать тесную связь между
правительством и представителями страны
или, точнее говоря, представителями обще¬
ственного мнения в стране, Лорис-Меликов
все больше склонялся подойти к тем прог¬
372
рессивно и более или менее демократически
настроенным кругам земцев, которые опять
в это время оживились и деятельность кото¬
рых в значительной мере являлась продол¬
жением тех идей и тех мыслей, которые
высказывались в земских собраниях в самом
начале существования земств в конце 60-х
годов.
Приняв во внимание те заявления, кото¬
рые он получал от различных деятелей и
земств, с которыми он имел непосредствен¬
ное общение, заявления как устные, так и
письменные,— особенно здесь следует упо¬
мянуть о записке, составленной пред¬
ставителями московского общества
(редактированной Муромцевым и Чупро-
вым) и поданной ему тотчас же по вступ¬
лении его в должность председателя
Верховной распорядительной комиссии,—
Лорис-Меликов многое из этих заявлений
пытался так или иначе удовлетворить. В тех
начинаниях, которые были им предприняты,
можно без труда различить пожелания этой
любопытной записки3.
Хорошо ознакомившись* из этих заяв¬
лений земств и представителей печати с тем
положением, в каком находилось тогда кре¬
стьянское население, в зависимости от
обстоятельств, о которых я вам подробно
рассказывал в одной из предыдущих лекций,
Лорис-Меликов понимал, что для удовлетво¬
рения этих нужд необходимы коренные ме¬
роприятия, которые бы послужили прямым
продолжением крестьянской реформы и
поставленных ею на очередь вопросов. Он
признавал как необходимость ряда корен¬
ных экономических реформ, в том числе,
как я уже упоминал, коренного пересмотра
податной системы, так и скорейшего преоб¬
разования правового и административного
устройства крестьян, направленного к осво¬
бождению крестьянства от той чрезвычай¬
ной опеки, которой оно было подчинено, по
идее редакционных комиссий, в сущности,
лишь на время — впредь до окончательного
выхода крестьян из того положения, в кото¬
ром они должны были находиться лишь до
прекращения «временнообязанного»
периода, а конец этого последнего
приближался и мог быть ускорен правитель¬
ством при помощи введения обязательного
выкупа для имений, еще не перешедших на
выкуп4.
Вопрос об административной крестьян¬
ской реформе Лорис-Меликов признал воз¬
можным передать на предварительное
обсуждение земствам. Циркуляром 22 декаб¬
ря 1880 г. он поручил всем губернаторам
предоставить уездным и губернским
земским собраниям обсуждение крестьян¬
ского вопроса в довольно широком виде.
Распоряжение это, разумеется, послужило
поводом к значительному оживлению зем¬
ской работы. В то же время это органически
связало работу земств между собою и с
работой правительства, и, таким образом,
этим распоряжением впервые серьезно пос¬
тавлен был вопрос о связных действиях
правительства и земства. Больше надежды
возлагались в то время и на сенаторские
ревизии, о которых Лорис-Меликов упомя¬
нул в своем вышеприведенном собеседо¬
вании с редакторами газет и журналов и
которые, действительно, были осуществлены
единовременно в ряде губерний. Материалы,
добытые этими сенаторскими ревизиями,
должны были поступить затем на обсуж¬
дение правительства, причем оно предпола¬
гало к этому обсуждению привлечь и
представителей общества.
Такая политика культивирования связи
правительства с представителями страны и
общественного мнения имела несомненный
успех, и мы видим, что даже такие радикаль¬
но настроенные земства, как тверское,
относились к этим мерам и вообще ко всему
направлению Лорис-Меликова с полным
одобрением. Тверское земское собрание
1880 г. отправило гр. Лорис-Меликову адрес,
в котором, между прочим, было сказано:
«В короткое время, ваше сиятельство,
сумели оправдать и доверие государя, и
многие из надежд общества. Вы внесли пря¬
моту и доброжелательность в отношения
между властью и народом. Вы мудро
признали законные нужды и желания обще¬
ства».
В заключение тверское земство выража¬
ло уверенность, что «прискорбное прошлое
не воротится, а для дорогого нам всем отече¬
ства открывается счастливое будущее».
С тех пор, как существуют земские уч¬
реждения, руководители высшей государст¬
венной политики ни разу не удостаивались
общественного одобрения в таких искренних
выражениях ни раньше, ни после Лорис-
Меликова.
Но со стороны революционеров деятель¬
ность Лорис-Меликова не только не вызыва¬
ла никакого одобрения, но, напротив,
порождала крайнее озлобление и, можно
сказать, крайнюю тревогу в революционных
кругах. Революционные круги в это время
вообще находились в некотором расстройст¬
373
ве вследствие одного крайне небла¬
гоприятного для них обстоятельства. Дело в
том, что в Харькове был арестован весьма
видный член исполнительного комитета
Гольденберг, убивший в 1879 г. харьковского
губернатора кн. Кропоткина, и этот Гольден-
б^рг. был приведен ловкой тактикой жан¬
дармских следователей не только к полному
раскаянию, но и к выдаче почти всех своих
товарищей. Таким образом, правительство в
это время не только получило полный список
членов исполнительного комитета, но и мог¬
ло часть их арестовать, а другие должны
были бежать, принимать разные меры пре¬
досторожности и всячески укрываться. По¬
нятно, что это обстоятельство внесло в
деятельность революционеров значительное
расстройство.
В сущности говоря, главным образом
этим и объясняется тот перерыв в
террористических актах и покушениях, ко¬
торый в это время был налицо. Между тем
это обстоятельство в значительной мере вве¬
ло в заблуждение и самого Лорис-Меликова,
которому казалось, что этот перерыв означа¬
ет не только ослабление энергии рево¬
люционеров, но знаменует решение их
отказаться от той террористической борьбы,
которая так напряженно до сих пор ими
велась. В этом отношении Лорис-Меликов,
несомненно, ошибался: чем более расстро¬
енными чувствовали, себя оставшиеся на
свободе революционеры, тем более призна¬
вали они необходимым теснее сплотиться и
энергичнее повести атаку, предвидя, что
вскоре может последовать и дальнейший
развал в их кругах.
Несомненно, их чрезвычайно тревожила
и в высшей степени озлобляла самая
политика Лорис-Меликова, которая
клонилась именно к тому, чтобы
изолировать революционеров, и они естест¬
венно, могли опасаться скоро увидеть себя
обойденными и отрезанными от общества
ловкой и рационально направленной
политикой «диктатуры сердца». Поэтому
если в 1880 г. действительно не было новых
террористических актов, за исключением
покушения на самого Лорис-Меликова,
произведенного Млодецким, относительно
которого исполнительный комитет выпустил
объявление, что это не его дело, а личный
акт Млодецкого,— за исключением этого
покушения других покушений не было,— то
зато в подпольной прессе чрезвычайно резко
порицалась вся политика Лорис-Меликова,
делались попытки подорвать к нему всякое
доверие, причем его политика характеризо¬
валась как политика «лисьего хвоста», на¬
правленная к тому, чтобы обмануть общество
и просто сделать карьеру.
Вы видели уже из предыдущего, что эта
квалификация не может быть признана
правильной: Лорис-Меликов едва ли может
быть обвинен с двоедушной политике и в
лукавстве. Политика его, напротив, отлича¬
лась, в сущности, значительной прямотой, и
если он не симпатизировал введению в то
время конституционных учреждений в
России, то он не только этого не скрывал, он
сам, как вы видели, объявлял об этом редак¬
торам газет и журналов, с которыми имел
собеседования.
В то же время он понимал, однако, что
сохранить и развить ту связь с представите¬
лями общества и земства, которую ему уда¬
лось установить, возможно только в том
случае, если он даст в той или иной форме
исход ярко проявившимся в этих передовых
кругах общества стремлениям принять
участие в государственной деятельности.
Эти стремления достаточно ярко выра¬
жались и в поданных ему записках, и в тех
словесных собеседованиях, которые он вел.
И вот, в конце концов оставаясь при своем
мнении о невозможности ввести в России
конституционные учреждения на западноев¬
ропейский образец и о несвоевременности
созыва даже и земского собора, Лорис-
Меликов все-таки изобрел план известной
формы общения между представителями
власти и общества.
В докладе, который был им представлен
императору Александру 28 января 1881 г.,
указав на невозможность распространения в
России конституционных учреждений и со¬
зыва земского собора, он настаивал в то же
время на том, что необходимо все-таки удов¬
летворить те стремления передовых пред¬
ставителей общества к участию в
государственной жизни, который он со своей
стороны находил совершенно понятными и
законными, раз они выражались в лояльных
формах. Он предлагал такой план для удов¬
летворения этих стремлений: по его мнению,
следовало вернуться к тому способу привле¬
чения общественных сил на государствен¬
ную рабрту, который практиковался в эпоху
разработки крестьянской реформы; именно,
он и в данном случае представлял, что самое
лучшее будет детально разработать целый
ряд тех довольно существенных преобразо¬
ваний, которые он замышлял провести, в
особых редакционных комиссиях, которые
374
должны быть составлены частью из наиболее
способных чиновников высших государст¬
венных установлений, частью же из лиц,
призванных из состава общества: земских
деятелей, профессоров, публицистов и т.
п.,— одним словом, из лиц, более или менее
компетентных в рассматриваемых вопросах.
Он предлагал в первое время таких подго¬
товительных комиссий составить в Петер¬
бурге две. Одну из них, названную им
административно-хозяйственной, он пред¬
назначал для общих административных пре¬
образований, причем на эту комиссию он
предполагал возложить такие слова:
«а) преобразование местного губернско¬
го управления —в видах точного опреде¬
ления объема прав и обязанностей оного, и
приведение административных учреждений
в надлежащее соответствие с учреждениями
судебными и общественными и потребно¬
стями управления;
б) дополнение, по указаниям опыта,
положений 19 февраля 1861 г. и последу¬
ющих по крестьянскому делу узаконений
соответственно выяснившимся потребно¬
стям крестьянского населения;
в) изыскание способов: 1) к скорейшему
прекращению существующих доныне обяза¬
тельных отношений бывших крепостных
крестьян к своим помещикам (т. е. вопрос
об обязательном выкупе — А К.) и 2) к
облегчению выкупных крестьянских плате¬
жей в тех местностях, где опыт указал на
крайнюю их обременительность;
г) пересмотр положений земского и го¬
родового — в видах пополнения и исправ¬
ления их по указаниям прошедшего
времени;
д) организация продовольственных за¬
пасов и вообще системы народного продо¬
вольствия (так как обнаружилась полная
недостаточность ранее существовавших ус¬
тановлений в случае тех голодовок, которые
только что были пережиты в России.—
А К.);
е) меры к охранению скотоводства».
Предметом занятий другой комиссии,
которую Лорис-Меликов называл финансо¬
вой, должны были служить вопросы подат¬
ной, паспортный и т. п., согласно указанию
государя по докладу министров финансов и
внутренних дел.
Вы уже видели, что для разработки этих
преобразований Лорис-Меликов настоял на
перемене лица, стоявшего во главе финансо¬
вого управления, причем вместо Грейга на¬
значен был прогрессивно настроенный А. А.
Абаза.
Затем составленные этими подго¬
товительными комиссиями законопроекты
должны были поступать на обсуждение
общей комиссии, которая должна была быть
образована, во-первых, из полного состава
подготовительных комиссий, а затем из лиц,
призываемых с мест в качестве экспертов.
Эти эксперты соответствовали бы тем депу¬
татам губернских комитетов, которые
явились, как вы помните, критиками работ
редакционных комиссий в 1859 г. Лорис-
Меликов, однако, полагал, что в данное вре¬
мя эти представители местного общества
должны быть выбираемы земскими учреж¬
дениями, по крайней мере там, где эти
учреждения уже существовали. Он предла¬
гал предоставить каждому земству выбрать
двух представителей; точно так же он пола¬
гал предоставить и значительным городам
выбирать двух представителей каждому, а
затем, от тех местностей, где не были введе¬
ны учреждения земского или городского са¬
моуправления, предполагалось уже по
выбору власти приглашать двух пред¬
ставителей местного общества. Земствам
Лорис-Меликов предполагал предоставить
право выбирать своих выборных не только
из среды местных гласных, но и вообще из
местных людей, знакомых с положением и
обстоятельствами обсуждаемых дел; поэтому
допускалось по его проекту и участие мест¬
ной интеллигенции, что, конечно, имело бы
довольно существенную важность в этом де¬
ле.
Затем все разработанные этой общей
комиссией законопроекты должны были
обычным путем поступать в Государствен¬
ный совет, причем в его состав приглаша¬
лось бы 10—15 выборных лиц, которые
должны были играть и тут роль представите¬
лей общественного мнения.
Вы видите, таким образом, что в этом
проекте ничего общего с каким бы то ни было
конституционным устройством не было, и
поэтому проект этот совершенно не¬
правильно называется в литературе
конституцией Лорис-Меликова. Сам Лорис-
Меликов, как вы видели, очень старательно
опровергал все слухи о том, что он стремится
к конституционному устройству, и высказы¬
вал прямо противоположные взгляды. Его
проект был чрезвычайно скромен по своему
характеру; но нельзя отрицать, что все-таки
375
попытка установить правильный обмен мыс¬
лей между обществом и правительством,
которая, может быть, повела бы к образо¬
ванию в конце концов известного пред¬
ставительного учреждения,
представительных форм, которые бы, может
быть, и дали в результате мирным путем
конституционное устройство России, чего
она добилась лишь в последние годы уже на
наших глазах, и добилась, как вы знаете,
только путем революционным, без возмож¬
ного органического подготовления к этому
самого населения.
Таким образом, можно сказать, что
политика Лорис-Меликова проводилась не
без удачи; но то обстоятельство, что он
несколько оптимистически взглянул на
результаты своей системы по отношению к
подавлению революционных организаций,
сыграло в этом деле весьма трагическую
роль...
Революционеры, как я вам уже сказал,
вовсе не склонны были вследствие либераль¬
ных выступлений Лорис-Меликова прек¬
ратить свою террористическую
деятельность; напротив, озлобленные этой,
как вы видели, весьма действенной попыт¬
кой отделить их от передовых слоев русского
общества, революционеры именно в этот мо¬
мент напрягли все оставшиеся у них силы,
чтобы нанести правительству решительный
удар. И вот не на личность Лорис-Меликова,
которого они старались третировать как че¬
ловека ничтожного, а на личность самого
императора Александра II революционерами
задумывается целый ряд новых
террористических покушений, делается це¬
лый ряд подкопов. Петербург, можно ска¬
зать, в ряде мест был минирован: был сделан
подкоп на Малой Садовой (теперь Ека¬
терининской улице), из сырной лавки Кобо¬
зевых; взрыв здесь должен был быть так
силен, что, по мнению экспертов, от него
должна была бы среди улицы образоваться
воронка в две сажени в диаметре, причем не
только погиб бы император, но вылетели бы
рамы и разрушились бы печи во всех
близстоящих домах и, конечно, пострадало
бы множество посторонних людей...
Затем под Красным мостом на Горохо¬
вой улице был сделан другой подкоп, и,
наконец, убедившись, что подкопы очень
часто не достигают своей цели, частью пото¬
му, что трудно установить путь и момент
проезда императора, частью потому, что их
ведение слишком продолжительно и
полиция может их легко открывать, рево¬
люционеры решили пустить в ход поку¬
шение с метательными снарядами. За
неделю до 1 марта Желябов «кликнул клич»,
как это тогда называлось в террористической
организации «Народная воля», т. е. просто
вызвал желающих молодых людей из числа
революционеров выйти на улицу с этими
снарядами. Снаряды были изготовлены та¬
лантливым техником Кибальчичем. Все эти
приготовления шли чрезвычайно спешно,
когда же в конце февраля были арестованы
Желябов и Тригони, то оставшаяся на сво¬
боде Софья Перовская (принадлежавшая
когда-то к кружку чайковцев и сделавшаяся
к этому времени решительной террористкой)
сочла необходимым не только не прекра^гь
этой попытки, но возможно скорее довести
ее до конца, предвидя, что с арестом Желя¬
бова и Тригони грозит разрушение и всей
наличной революционной организации. И,
тогда 1 марта Александр, не послушав уве¬
щаний Лорис-Меликова, который указывал
ему, что что-то готовится, и уже два раза
успел удержать Александра от воскресного
выезда, когда на этот раз император его не
послушал и поехал на развод войск и после
этого развода отправился в Михайловский
дворец (где теперь музей Александра III) к
великой княгине Екатерине Михайловне, а
оттуда должен был поехать в Зимний дворец,
то революционеры с Софьей Перовской во
главе проявили на этот раз такую энергию,
что, не зная точно, каким путем поедет
император, маневрировали со своими сна¬
рядами по улицам, и Перовская несколько
раз переставляла лиц с бомбами, чтобы они
непременно пришлись на пути следования
государя. Обстоятельства катастрофы всем
более или менее известны, и я не буду ее
здесь описывать.
Катастрофа эта явилась роковым исхо¬
дом для всей той системы мер, которые
проектировались Лорис-Меликовым...
Взошедший на престол после Александ¬
ра II император Александр III, как вы могли
уже заключить по тем мнениям, которые он
высказывал на совещании, предшествовав¬
шем взрыву в Зимнем дворце, не обещал
быть государем либерального направления.
Так оно впоследствии и оказалось; но первые
шаги его царствования подвергнуты были
большим колебаниям, и тот курс, который
при нем окончательно установился в 80-х
годах, установился далеко не сразу.
376
Список сочинений и печатных материалов,
относящихся к истории России в царствование
Александра II
L Биографии и характеристики императора
Александра И
1. Русский биографический словарь, изд. имп.
Русск. историч. обществом, т.1, статья С. С.
Татищева «Александр И, император все¬
российский». СПб., 1896.
2. С. С. Татищев. «Император Александр II;
его жизнь и царствование». 2 тома. СПб., 1903.2-е
изд. 1911. Критический разбор этой книги в статьях
А. А. Корнилова «Новый труд по истории импера¬
тора Александра II» в «Русском богатстве» за 1903
г., кн. Ш, стр. 34—48 и кн. VI, стр. 16—21.
3. «Годы учения е. и. в. наследника цесаревича
Александра Николаевича, ныне благополучно цар¬
ствующего государя императора». 2 т. В «Сборнике
имп. Русск. историческ. общества», тома XXX и
XXXI. СПб., 1880.
\ * *
4. VictorLaferte. «Alexandre П. Details inedits sur
4 t f
sa vie et sa morte. Deuxieme edition revue et augmentee.
P., 1882.
5. А. А. Корнилов. «Общественное движение
при Александре 11(1855—1881). Исторические
очерки». М., 1909.
6. Новый энциклопедический словарь Брокга¬
уза и Ефрона, т.1. СПб., 1910. Ст. А. А. Корнилова
«Александр II, император всероссийский», стр.
937—967.
П. Развитие государственной жизни
и правительственная деятельность
при Александре П
А. Восточная война
1. М. Я. Богданович. «Восточная война
1853—1856 гг.» 4 тома. СПб., 1876.
2. А М. Заиончковский. «Восточная война
1853—1856 гг. в связи с современной ей политиче¬
ской обстановкой», т.1 и приложения к нему (в
особом томе). СПб., 1908; т.П. СПб., 1912.
3. А Жандр. «Материалы для истории оборо¬
ны Севастополя и для биографии В. А. Корнило¬
ва». СПб., 1885.
4. Я. К Шилъдер. «Граф Эдуард Иванович
Тотлебен. Его жизнь и деятельность». T.I. СПб.,
1885.
5. Кн. В. И. Васильчиков. «Воспоминание об
очищении Севастополя» («Руст» за 1880 г., № 2).
6. Л. Я. Толстой. «Севастопольские расска¬
зы». Сочинения, т.П.
7. Я. Я. Бирюков. «Биография Л. Н. Толсто¬
го». T.I, М., 1908.
8. «Я. С. Аксаков в его письмах». Т.Ш. М.
1888.
9. «Дневник Веры Сергеевны Аксаковой*-. Ре¬
дакция и примечания кн. Я. В, Голицына и Я. Е.
Щеголева. СПб., 1913.
10.Я. И. Игнатович. «Волнения помещи¬
чьих крестьян от 1854 по 1683 г.» («Минувшие го¬
ды» за 1908., № 5—6).
11. С. С. Громека. «Киевские волнения в 1855
г.». СПб., 1863.
12. М. Я. Погодин. «Историко-политические
письма и записки в продолжение Крымской вой¬
ны». (Сочинения, т. IV.) М., 1874.
13. Я. Я. Барсуков. «Жизнь и труды М. П.
Погодина», части ХШ и XIV. СПб., 1899 и 1900.
14. А Я. Герцен. Сборник «Полярная звезда»
ч. I. Лондон, 1855.
15. «Голоса из России», чЛ. Лондон. 1856.
16. А Я. Кошелев. «Записки». Берлин, 1884.
17. А В. Никитенко. «Дневник и записки».
4.1, изд. 2-е. СПб., 1904.
18. Я. А. Валуев. «Дума русского». «Русская
старина» за 1891 г., №5.
19 С. С. Татищев. наз. соч. т.1, стр. 139—
173. Здесь на стр. 173 указаны важнейшие
сочинения на русском и иностранных языках,
относящиеся к Крымской войне.
Б.Внутренняя политика Александра П
I. Крестьянская реформа и ее осуществление
1. «Материалы для истории упразднения кре¬
постного состояния помещичьих крестьян в России
в царствование императора Александра II». Тома
I—Ш. Берлин, 1861.
2. Сочинения Ю. Ф. Самарина. Тома П—IV.
М., 1880—1911.
3. Сочинения К Д. Кавелина. Т. П. СПб.,
1904.
4. А Я. Кошелев. «Записки» (в особенности
приложения к ним). Берлин, 1884.
5. Кн. О. Я. Трубецкая. «Материалы для
биографии кн. В. А. Черкасского». T.I, части 1 и 2.
М., 1903 и 1904.
377
6* «И. С. Аксаков в его письмах. Т. III. М.,
1888.
7. Я. П. Барсуков. «Жизнь и труды М. П. По¬
година». Части XIV—XIX. СПб., 1900—1905.
8. Г. А Джаншиев. «А. М. Унковский». М.,
1894.
9. Его же. «Роль тверского дворянства в кресть¬
янской реформе» в «Эпохе великих реформ». 10-е
изд. СПб., 1908.
10. А. И. Левшин. «Достопамятные минуты
моей жизни». «Русский архив» за 1885 г., № 8.
11. Я. А. Соловьев. «Записки». «Русская
старина» за 1880—1883 гг.
12. A. Leroy-Beaulieu. «XJn homme d'ztat russe
(N, Milutine)». P., 1884.
13. А Попельнщкий. «Секретный комитет в
деле освобождения крестьян от крепостной
зависимости» («Вестн. Евр.» за 1911 г., №№ 2 и 3.
14. Лященко. «Последний секретный комитет
по крестьянскому делу». СПб. 1911.
15. «Сборник постановлений по устройству
быта помещичьих крестьян», вып. I—IV (с 2Q нояб.
1857 по 1 янв. 1860г.). СПб., 1858—1860.
16. «Колокол», листок, изд. А. И. Герценом и
Я. Я. Огаревым. Лондон 1857—1861.
17. «Голоса из России». Части I—IX. Лондон,
1856-1860-
18. А И. Скребицкий. «Крестьянское дело в
царствование императора Александра П. Ма¬
териалы для истории освобождения крестьян. Гу¬
бернские комитеты, их депутаты и редакционные
комиссии в крестьянском деле». Т. I—IV (второй
том в двух книгах). Бонн-на-Рейне, 1862—1868.
19. Я. Я. Иванюков. «Падение крепостного
права в России». 2-е изд. СПб., 1903.
20. А А Корнилов. «Губернские комитеты по
крестьянскому делу в 1858—1859 it.» в «Очерках
по истории обществ, движения и крестьянок, дела
в России». СПб., 1905.
21 .Его же. «Крестьянская реформа в Калуж¬
ской iy6. при В. А. Арцимовиче» в сборнике «В. А.
Арцимович. Воспоминания — характеристики»
СПб., 1904 и в отд. оттиске.
22. Его же. «Общественное движение при
Александре П (1855—1881 ). Исторические
очерки». 1-е изд. Париж, 1905. 2-е изд. М., 1909
(дополненное).
23. Его же. Крестьянская реформа (в серии
«Великие реформы в их прошлом и настоящем»).
СПб., 1905.
24. Его же. «Основные течения правительст¬
венной и общественной мысли во время разработки
крестьянской реформы»в сборнике «Освобождение
крестьян. Деятели реформы». Изд. «Научного сло¬
ва». М., 1911.
25. В. Я. Снежневский. «Крепостные кресть¬
яне и помещики Нижегородской губернии накану¬
не реформы 19 февраля и первые годы после нее» в
«Действиях Нижегородск. арх. учен, к-сии». Т. Ш.
26. А Д. Повалишин. «Рязанские помещики
и их крепостные». Рязань, 1903. Глава XII
«Участие рязанского дворянства в крестьянской
реформе» (стр. 304—386).
27. «Некоторые данные о кн. С. В. Волкон¬
ском и его отношении к крестьянской реформе».
«Труды Ряз. арх. ком-сии» за 1905 г. Вып. 2-й.
28.«Бумаги М. Л. Позе на». Дрезден, 1865.
(Полтав. к-т.).
29. В. Н. Ширяев. «Ярославский губернский
комитет 1858—1859гг.»в «ТрудЯросл. арх. к-сии»
кн. 6, вып. 2. Ярославль, 1912.
30. Я. Я. Кречетович. «Крестьянская рефор¬
ма в Оренбургском крае» (по архивным данным).
T.I. Подготовка реформы. М., 1911.
31. Я. Я. Семенов-7ян-Шанский. «Начало
эпохи освобождения крестьян от крепостной
зависимости». («Вестн. Евр.»за 1911 г., №№ 2 и 3).
Отд. более полное издание на правах рукописи.
32. Кн. Д. А Оболенский. «Мои вос¬
поминания о вел. княгине Елене Павловне» СПб.,
1909.
33. Биографии главных участников крестьян¬
ской реформы в сборнике «Освобождение кресть¬
ян. Деятели реформ». Изд. «Научного слова». М.,
1911.
34. «Материалы редакционных комиссий для
составления положений о крестьянах, выходящих
из крепостной зависимости». 18 частей (1-е изд.).
СПб., 1859—1860. (Доклады отделений и краткие
журналы комиссий).
35. То же. Второе издание в 3-х томах. В нем
отдельно свод проектов губ комитетов, (т.1, кн. П).
36. «Приложения к трудам редакционных
комиссий. Сведения о помещичьих имениях». Т.
I—IV. СПб., 1860.
37. «Приложения к трудам редакционных
комиссий. Отдельные мнения членов редакц.,
комиссий». СПб., 1860.
38. «Приложения к трудам редакционных
комиссий. Отзывы членов губернских комитетов
(депутатов 1 и 2-го приглашения). 3 тома. СПб.,
1860.
39. Я. Я. Семенов. «Освобождение крестьян в
царствование императора Александра П». 3 тома
(3-й том в двух книгах). СПб., 1889—1891.
40. А Попельницкий. «Письмо депутата пер¬
вого призыва с отметками имп. Александра II».
СПб., 1911.
41. Его же. «Дело освобождения крестьян в
государственном совете». («Русск. мысль» за 1911
г.,№2).
42. «Положение крестьян, вышедших и крепо¬
стной зависимости». СПб. 1861.
43. А А Мануйлов. «Происхождение
нищенского надела» (в «Русск. вед.» от 19 февр.
1911г.).
44. Я. Г. Чернышевский. «Статьи по кресть¬
янскому вопросу». СПб., 1903.
45. Его же. «Письма без адреса» в 10-м томе его
сочинений.
46. Я. А Серно-Соловьевич. «Окончательное
решение крестьянского вопроса». Берлин, 1861.
47. А Попельницкий. «Как принято было
положение 19 февраля 1861 г. освобожденными
крестьянами?» (в «Совр. мире» за 191*1 г., №2).
378
48. Г. А Джанишев. «Объявление воли» в
«Эпохе великих реформ».
49. «В. А. Арцимович. Характеристики —
воспоминания» (статьи Я. Я. Обнинского и Я. В.
Сахарова).
50. Кн. О.Н. Трубецкая. «Материалы для
биографии кн. В. А,. Черкасского». T.I, часть 2.
51. Ю. Ф. Самарин Сочинения, t.IV, 1911.
52. Д. Ф. Самарин. «Собрание статей, речей
и докладов». T.I. «Крестьянское дело». М.. 1903.
53. С. Я. Носович. «Крестьянская реформа в
Новгородской губернии». СПб., 1899. Под ред. В.
Я. Семевского.
54. Я. Я. Барсуков. «Жизнь и труды М.П.По-
година». Часть XVIII: СПб., 1904.
55. Описание безднинской катастрофы, най¬
денное в бумагах К В. Чевкина в «Русск. ст.» за
1904 г., №5, стр. 452.
56. Я. Я. Игнатович. «Волнение
помещичьих крестьян от 1854 по 1863 г.» в «Минув,
годах» за 1908 г., № 7—11.
57. Сборник «Великая реформа 19 февраля»,
под ред. гг. Джевелегова, Мельгунова и Пичета.
Изд. Сытина. М., 1911. T.V — статьи: Я. Я. Игна¬
тович, А. 3. Попельницкого, С. П. Мельгунова,
А А Корнилова и Ч. Ветринского и т. VI—
статьи: А Э. Вормса «Положение 19 февраля», В.
И. Анисимова «Наделы», кн. -Д. Я. Шаховского
«Выкупные платежи» и А А Корнилова «Кресть¬
янское самоуправление по Положению 19 февра¬
ля».
58. «Дневник» Я. А Валуева в «Русск. стар.»
за 1891 г., №№ 5 и 6: там же его записка «Дума
русского».
59. Сборник «Крестьянский строй». Том I
(часть историческая). СПб., 1905. Статьи А А
Корнилова и И. М .Страховского».
60. Я. Я. Мигулин». «.Выкупные платежи».
Харьков, 1904.
Я. Финансовая реформа
1. А А. Головачев. «Десять лет реформ.
1861—1871». СПб., 1872. Отд.1. Финансовая
реформа.
2. Его же. «Вопросы государственного хозяй¬
ства». СПб., 1873.
3. Его же. «История железнодорожного дела в
России». СПб., 1881.
4. Л. Н. Яснопольский. «Очерки русского
бюджетного права». Ч. I. СПб., 1913. (Историч.
очерк составления росписей и реформа Татарино-
ва).
5. В. Сакович. «Государственный контроль в
России, его история и современное устройство».-
СПб., 1898.2 т.
6. Блиох. «Финансы России XIX ст.». Т.П—IV.
СПБ., 1882.
7. «Министерство финансов 1802—1902 г.».
Юбилейное издание. СПб., 1902. Часть I.
8. А. Я. Куломзин и гр. В. Г. Рейтерн-Ноль-
кен. «М. X. Рейтерн. Биографический очерк». С
прилож. всеподд. записок М. X. Рейтерна. СПб.,
1910.
61. А Е. Лосицкий. «Выкупные платежи».
СПб., 1903.
62. Кованько. «Освобождение крестьян и обя¬
зательный выкуп» («Русск. мысль» за 1912 г., № 6).
63. А А. Корнилов. «Вопрос об
административном устройстве крестьян во время
разработки крестьянской реформы» в сборнике
«Очерки по истории общест. движ. и крест, дела в
России». СПб., 1905.
64. «История уделов за столетие их существо¬
вания». СПб., 1903. Т.П, стр. 525 и след. (история
реформы у удельных крестьян).
65. «Историческое обозрение пятидесятилет¬
ней деятельности Министерства государственных
имуществ». СПб., 1888. Ч.П, отд. П (история
реформы у государств, крестьян).
66. А Я. Заблоцкий-Десятовский. «Гр. П.
Д. Киселев и его время». СПб., 1882. Тома 2 и 4
(приложения).
67. Л. В. Ходский. «Земля и земледелец». Т.П.
СПб., 1891.
(Результаты крестьянской реформы 1861,
1863 и 1866 годов.)
68. Н.Цылов. «Сборник распоряжений гр.
М.Н.Муравьева по усмирению польского мятежа в
северо-западных губерниях 1863—1864». Вильна,
1866 (циркуляры по устройству крестьян в этих
губерниях).
69. А А Корнилов. «Судьба крестьянской
реформы в Царстве Польском» в сборнике «Очерки
по истории общ. движения и крестьян, дела в
России». СПб., 1905.
70. Его же. «Реформа 19 февраля 1864 г. в
Царстве Польском» в сборнике «Великая рефор¬
ма». T.V. М., 1911.
71. «История России в XIX веке» под ред. М.
И. Покровского, изд. Гранат.М., 1907—1910. Т.
Ш.
72. С. Л. Авалиани. «Крестьянский вопрос в
Закавказье». Т. I. Одесса, 1912.
i финансовая политика
9. С. С. Татищев. «Император Александр П».
Т.П. Глава XXIV «Финансы и народное хозяйство
1855—1881». Стр. 162—222.
10. Я. А. Каслинский (под ред. А Н.Ку-
ломзина). «Наша железнодорожная политика по
документам архива Комитета министров». 2
тома. СПб., 1902.
11 С. М. Середонин. «Исторический обзор де¬
ятельности Комитета министров». Т. 3-й, ч. П. гл.
VI. Государственное хозяйство. Стр. 94—158.
12. «История России в XIX в.» под ред М. Я.
Покровского. T,VI, гл. IX «Государственное хозяй¬
ство в России с 60-х до начала 90-х годов».
13. П. Мигулин. «Русский государственный
кредит». Харьков, 1899—1902. Т. П.
14. Гурьев. «Денежное обращение в России в
XIX столетии». СПб., 1901.
15. Бржеский. «Государственные долги
России. Историко-статистическое исследование».
СПб., 1884.
379
III. Земская реформа и ее осуществление
1. «Материалы по земскому общественному
устройству» (изд. хоз. д-та М-ва вн. дел). СПб.,
1885.2 тома.
2. «Историческая записка о ходе работ по сос¬
тавлению и применению Положения 1 января 1864
г.», составленная в Кохановской комиссии. СПб.,
1883.
3. А А Головачев. «Десять лет реформ.»
СПб., 1872. Отд. II. «Административная реформа.
4. Кн. А. И. Васильчиков. «О самоуправ¬
лении.» 3 тома. СПб., 1869—1871.
5. А. Д. Градовский. «Начала русского госу¬
дарственного права. Т. Ш. «Установления по мест¬
ному хозяйству и благосостоянию.» СПб., 1881.
6. Его же. «Системы местного управления на
Западе Европы и в России.» в «Сборн. госуд.
знаний» В. П. Безобразова, т.У и VI. СПб., 1878.
7. В. Ю. Скалон. «Земские учреждения.»
Энциклоп. словарь Брокгауза — Ефрона. Т. XII
(старое издание). ^
8. Г. А. Джаншиев, «Земское Положение 1
января 1864 г.» в «Эпохе великих реформ».
9. С. Ю. Витте. «Самодержавие и земство»,
конфиденциальная записка, изданная с
предисловием П. Б. Струве в Штутгарте в 1903 г.
и переизданная затем в Петербурге г. Череваниным
в 1907 г. Глава «Условия, при которых возникло
Положение о земских учреждениях 1864 г. (стр. 63
и след, заграничн. издания). Записка переиздана в
1914 г. самим автором с особым предисловием и
некоторыми приложениями.
10. А А Корнилов. «Из истории вопроса об
избирательном праве в земстве.» СПб., 1906.
11. Его же. «Сущность и значение земской
реформы 1 января 1864г.» в «Праве» за 1914 г., №1.
12. Я. С. Аксаков. Сочинения, t.V. М., 1887.
13. Неведенский. «Катков и его время». СПб.,
1888.
14. А Я. Кошелев. «Записки.» Берлин, 1884.
15. Его же. «Голос из земства.» М., 1869.
16. Кн. О. Я. Трубецкая. Материалы для
биографии кн. В. А. Черкасского. T.I, ч.П. М.,
1904.
17. К Д. Кавелин. Сочинения, т.П. Статья
«По поводу губернских и уездных земских учреж¬
дений», стр. 735—778.
18. «История России в XIX в.» под ред М. Я.
Покровского, т. Ш, «Земская реформа», ст.
г.Цейтлина.
19. Б. Б. Веселовский. «История земства за 40
лет.» 4 тома. СПб., 1908 и 1910. См. подробный
разбор этого труда (с фактическими поправками к
нему) в статье А А Корнилова, напечатанной в
«Известиях Политехнического института Петра
Великого» за 1910 г., вып. XIV.
20. С. М. Середонин. «Исторический обзор
деятельности Комитета министров» т.Ш. ч.П, гл. V
«Центральное и местное управление» («Обсуж¬
дение земской реформы в Совете министров», стр.
70 и след.)
21. D. Mackenzie Wallace. «La Russie. La pays.
Les institutions. Les moeurs». Trad, de I’anglais. T.
1-er. P., 1877. Chap. XIV. «Le nouveau self-
gouvemement local», p. 297—317.
i2. A.Leroy-Beaulieu. «Vempire des tsars et les
russes», t. 2-e. P., 1882. Iivre III. «Le Self-
gouvemement local. Etats provinciaux et
municipalites urbaines», p. 164—277.
23. Кн. А. И. Васильчиков. «Русский
администратор новейшей школы. Записка псков¬
ского губернатора Б. Обухова и ответ на нее».
Берлин, 1868.
24. А. Голубев. Кн. А.И.Васильчиков. СПб.,
1882.
25. Статьи Я. Я. Колюпанова и Я. Ф. фон
Крузе о ходе земского дела в «Вест. Евр.» за 1866—
1868 гг.
26. Д. Мордовцев «Десятилетие русского зем¬
ства». СПб., 1875.
27. В. Ю. Скалон. «Земские вопросы».
Сборник статей. 2-е изд. СПб., 1905.
28. Его же. «Земские взгляды на реформу ме¬
стного управления». М., 1874.
29. В. П. Безобразов. «Земские учреж¬
дения и самоуправление». М., 1874.
30. К Головин. «Наше местное управление и
местное представительство». СПб., 1884.
31. Я. В. Абрамов. «Что сделало земство и что
оно делает?» СПб., 1889.
32. П. А Голубев. «Вятское земство среди
других земств России. С приложением историко-
статистич. таблиц земских бюджетов за 1868—
1900 гг.». Вятка, 1901.
33.Я. Я. Белоконский. «Земское движение.»
Изд. 2-е М., 1914.
34. К Л. Берманьский. «Конституционные
проекты царствования Александра П» (Валуевский
проект 1863 г. «Съезд государственных гласных») в
«Вест, права» за 1905 г., № 11.
35. «Юбилейный земский сборник. 1864—
1914 г.», под ред. Б. Б. Веселовского к 3. Г. Френ¬
келя. СПб., 1914.
36.3. Г. Френкель. «Очерки земского врачеб¬
но-санитарного дела (по данным работ, произве¬
денных для дрезденской и всероссийской гигиенич.
выставок»). С множеством диаграмм. СПб., 1913.
37. Подробные библиографические указания
об изданиях, содержащих в себе статистические
сведения о доходах и расходах земств см. в указан¬
ном отзыве А А Корнилова.
38. Подробная библиография по развитию
всех стран земского хозяйства и деятельности
земств у Б. Б. Веселовского в его «Истории земства
за 40 лет», в т.1 и IV (в приложениях).
IV. Польское восстание 1863 г.
и польский вопрос
1. Я. В. Берг. «Записки о польских заговорах 2. Его же. «Записки о польском восстании 1863
и восстаниях». «Рус. стар.» за 1870—1873 гг. г.»
380
3. Л. Павлищев. «Седьмицы польского мяте¬
жа.
4. Я. П. Барсуков. «Жизнь и труды М. П. По¬
година». Часть XVIII—XX.
5. Ю. Ф. Самарин. Сочинения, т.1. М., 1877.
6. И. С. Аксаков. Сочинения, т.111. М., 1887.
I. М. Н. Катков. «1863 год. Собрание статей
по польскому вопросу». 2 выпуска. М., 1887.
8. Неведенский. «Катков и его время». М.,
1888.
9. Anatol Leroy-Beaulieu. «Un homme d’etat
russe» (Nicolas Milutine). P., 1884.
10. Гр. С. У русский. «Крестьянское дело». 2
части. СПб., 1859.
II. В. Д. Спасович. «Жизнь и деятельность
маркиза Велепольского». СПб., 1882.
12. H.Lisickl «Alexander Wielopolski». Krakow,
1878—79. 4 тома.
13. Umanowskl «Historya powstania narodu
polskiego 1863—1865». Lwow, 1909.
14. Сочинения Голъфердинга, т.П.
15. Д. Г. Анучин. «Воспоминания». «Русск.
стар.» за 1893 г.
16. «В. А. Арцимович. Характеристики — вос¬
поминания». (Статья Спасовича.) СПб., 1904.
17. «Исследования в Царстве Польском, по вы¬
сочайшему повелению произведенные под руко¬
водством сенатора статс-секретаря Милютина
1863—1864 гг.». 6 томов'(in folio). СПб., 1864.
18. «Постановления учредительного комитета
в Царстве Польском».
19. «Записки» М. Н. Муравьева в «Русск.
стар.»за 1882г. (т. XXXVIII). Л
20. «Письма М. Н. Муравьева к А. А. Зеле¬
ному» с предисловием и примечаниями В. И. Се-
мевского в «Голосе минувшего» за 1913 г., №№ 9,
10 и 12.
21. Цылов. «Сборник распоряжений гр. М. Н.
Муравьева.» Вильна, 1865.
22. Л. Ф. Пантелеев. «Дела давно ^инувших
дней» в «Былом» за 1907 г., № 2.
23. Его же. «Воспоминания». СПб., 1908.
24. St. Kozmian. «Rzecz о roku 1863». 3 m.
25. Б. Познанский. «Воспоминания о польском
повстаньи в Украине 1863 г.». «Киевская стар.» за
1885 г.
26. «Колокол» Герцена и Огарева за 1861—
1864 гг.
27. М. П. Драгоманов. «Историческая Поль¬
ша и великорусская демократия». Женева, 1888.
28. Его же. «Письма М. А. Бакунина к А. И.
Герцену и Н. П. Огареву». Женева, 1892.
29. А. А Корнилов. «Судьба крестьянской
реформы в Царстве Польском» в сборнике «Очерки
по истории крест, дела и обществ, движения в
России». СПб., 1905.
30. Его же. «Реформа 19 февраля 1864 г. в
Царстве Польском» в юб. изд. «Великая реформа»,
т. V. М., 1911.
31. В. Г. Короленко. «История моего совре¬
менника». 2-е изд. СПб., 1911.
32. Вл. Дебагорий-Мокриевич. «Вос¬
поминания. I. Гимназия». Статья, напечатанная во
2-й книжке «Освобождение», изд. под ред. П. Б.
Струве. Р., 1904.
1. С. В. Рождественский. «Исто*&я Мини¬
стерства народного просвещения с 180$*по 1902
год». СПб., 1902.
2. «Сборник постановлений по Министерству
народного просвещения». Царствование императо¬
ра Александра II (1855—1881). Тома Ш—VH.
СПб., 1865—1885.
3. В. С. Иконников. «Русские университеты в
связи сходом общественного образования». «Вести.
Европы» за 1876 г.
4. В. В. Григорьев. «Императорский Петер¬
бургский университет в течение первых пятидесяти
лет его существования». СПб., 1870.
5. Я. П. Загоскин. «История императорского
Казанского университета за первые сто лет его су¬
ществования». 3 тома. Казань, 1909.
6. Владимирский-Буданов. «История импера¬
торского Университета св. Владимира». Киев.,
1884.
7. Е. Петухов. «Императорский Юрьевский,
бывший Дерптский, университет за сто лет его су¬
ществования (1802—1902)». Исторический очерк.
Юрьев, 1902.
8. «Материалы по истории, студенческого
движения в России». Вып. I. «Извлечение из книги
А И. Георгиевского «Краткий очерк правительст¬
венных мер и предначертаний против студен¬
ческих беспорядков». Изд. Я. Б. Струве в
Штутгарте 1903 г. Переиздано в СПб., в 1906.
9. «С.-Петербургские высшие женские курсы
за 25 лет». СПб., 1903. (Исторический очерк А Я.
Анненской.)
V. Реформы в сфере народного просвещения
10. В. В. Стасов. «Надежда Васильевна Ста¬
сова». СПб., 1899. ^
11. Я. Я. Милюков. «Очерки по истории рус¬
ской культуры». Часть П.
12. Сборник статей М. Н. Каткова «Наша
учебная реформа», с предислов. и примеч. Л. И.
Поливанова. М., 1891.
13. В. Модестов. «Школьный вопрос». СПб.,
1880.
14. Библиография по вопросу о введении
классицизма в России в «Материалах для истории
просвещения в России» В. И. Межова. T.I. СПб.,
1873.
15. А В. Никитенко. «Записки и дневник». Т.
П. (изд. 2-е). СПб., 1904.
16. Ген. Лалаев.«Исторический очерк военно-
учеб. заведений». СПб., 1880.
17. Пятидесятилетие XV отделения собств.
е.и.в. канцелярии по учреждениям императрицы
Марии, Юбилейное издание. СПб., 1878.
18.JCW.A И. Васильчиков. «Письмо министру
народного просвещения гр. Толстому от князя А.
Васильчикова». Берлин, 1875.
19. «М.М.Стасюлевич и его современники в их
переписке», под ред. М. К. Лемке. Т. П. СПб.,
1912.
20. А Я. Абрамов. «Что сделало земство?»
СПб., 1889.
21. Б. Б. Веселовский. «История земства за 40
лет». T.I. СПб.,. 1908. «Цародное образование»
(главы XXVHI—XL). Критическая оценка этого
381
труда в моем отзыве, составленном при содействии
Ф. Ф. Ольденбурга и напечатанном в XIV вып.
«Известий СПб. политехнического института Пет¬
ра I» за 1910 г.
22 Ф. Ф. Ольденбург. «Народные школы Ев¬
ропейской России в 1892—1893 годах». СПб.,
1896. В этом очерке имеются указания на
статистическую литературу о школах в царство¬
вание Александра II.
23. «Положение 1874 года о начальных народ¬
ных училищах в связи с инструкцией инспекторам
1871 г., проектом наказа училищным советам и
некоторыми другими законоположениями». СПб.,
1901.
24. «История России в XIX веке», под ред. М.
Н. Покровского, изд. Гранат. Т. VII, гл. XVIII
(статья В. И. Чарнолуского) «Начальное образо¬
вание во второй половине XIX стол.» (при ней боль¬
шая библиография); гл. XIX (статья М. Н.
Коваленского) «Средняя школа» (при ней также
библиография); т. IV, гл. XI (статья П. Н. Бо¬
роздина) «Университеты в России в эпоху 60-х го¬
дов» (при ней подробная библиография).
25. С. С. Татищев. «Император Александр
II», т. II. гл. XXV «Церковь, просвещение, благо¬
творительность», стр. 222—291.
26. Я. Я. Пирогов. «Вопросы жизни». Одесса,
1858.
27. «Извлечение из письма Н. И. Пирогова из
Гейдельберга». СПб., 1863.
28. «Извлечение из письма профессора Ка¬
велина от 25 марта —6 апреля 1863 года из
Тюбингена». СПб., 1863.
29. К, Д. Кавелин, «Записка -об
университетских беспорядках» во И томе его
сочинений.
30. Статья Я. Я. Костомарова «Об
университетской реформе в «С.-Петербург, ведо¬
мостях» за 1861 г., № 207.
31. Б. Я. Чичерин. «Что нужно для русских
университетов?» в сборнике «Несколько современ¬
ных вопросов». М., 1862.
VL Судебная реформа
1. «Основные положения преобразования су¬
дебной части в России, высочайше утвержденные
государем императором 20 сентября 1862 г.». М.,
1863.
2. «Судебное уставы 20 ноября 1864 года с
изложением рассуждений, на коих они основаны».
Изд. госуд. канцелярии. СПб., 1867. Пять томов.
3. «Судебно-статистические сведения и со¬
ображения о введении в действие судебных уставов
20 ноября 1864 г> (по 32 губерниям). 3 части. СПб.,
1866.
4. И. Я. Фойницкий. «Курс уголовного судоп¬
роизводства». Т. I. СПб., 1884.
5. М. Филиппов. «Судебная реформа в
России». 2 тома. СПб., 1871—1875.
6. Г. А Джанишев. «С. И. Зарудный и судеб¬
ная реформа. Историко-биографмческий эскиз».
М., 1889.
7. Г. А Джанишев. «Судебная реформ»а в
«Эпохе великих реформ». Отд. IV, стр. 405—537
(7-е изд.). М., 1898.
8. Я. В. Гессен. «Судебная реформа» в серии
«Великие реформы 60-х годов в их прошлом и на¬
стоящем». СПб., 1905.
9. «История России в XIX в.» под ред. М. Я.
Покровского, т. Ш, гл. IV. «Судебная реформа» М.
П. Чубинского, стр. 231—268.
10. Я. С. Аксаков. «Сочинения». Т. IV.
11. Неведенский. «Катков и его время». СПб.,
1888.
12. Записка кн. Я. А. Орлова об отмене телес¬
ных наказаний. 1862.
13. A Leroy-Beaulieu. «L’empire des Tsars et les
russes», v. 2-e. p. 277—458.
14. А Ф. Кони. «На жизненном пути». 2 тома
СПб., 1912.
15. Я. В. Давыдов. «Из прошлого». М., 1913.
16. А А Головачев. «Десять лет реформ».
СПб., 1872. (Отд. Ш Судебная реформа.)
17. А В. Никитенко. «Воспоминания и
дневник». Т. П (2-еизд.). СПб., 1904.
VII. Законодательство о печати
1.« Сборник постановлений и распоряжений
по цензуре с 1720 по 1862 год». Напеч. по распо-
ряж. М-ва народн. просвещ. СПб., 1862.
2. «Сборник распоряжений по делам печати (с
1863 по 1865 г.)». СПб., 1865.
3. «Журналы высочайше учрежденной
комиссии для рассмотрения проекта устава о
книгопечатании». СПб., 1863.
4. «Материалы, собранные особой комиссией,
высочайше учрежденной 2 ноября 1869 г., для
пересмотра действующих постановлений о цензуре
и печати». 5 частей. СПб., 1870.
5. А В. Никитенко. «Воспоминания и
дневник». Т. П. (2-е изд. 1904).
6. Я. С. Аксаков. Сочинения. Т. IV.
7. Джанишев. «Цензурная реформа». В «Эпохе
великих реформ» (стр. 357—405, 7-е изд. М.,
1898).
8. К К Арсеньев. «Законодательство о
печати» в серии «Великие реформы в их прошлом
и настоящем». СПб., 1903.
9. «М. М. Стасюлевич и его современники в
их переписке», под ред. М. К Лемке, особ, тома 1
и 2. СПб., 1911 и 1912.
10. М. К Лемке. «Эпоха цензурных реформ
1859—1865 годов». СПб., 1904.
И. В. Я. Яковлев-Богучарский. «Очерки из
истории русской журналистики XIX века» в книге
«Из прошлого русского общества» (стр. 281—406).
СПб., 1904.
12. А М. Скабичевский, «Очерки по истории
русской цензуры».
382
VIII. Городская реформа
1.«Материалы, относящиеся до нового обще¬
ственного устройства в городах империи». Изд. хоз.
д-та Мин. вн. дел. СПб., 1878—1888. 3 тома.
2.«Экономическое состояние городских посе¬
лений Европейской России в 1861—1862 гг.». 2 то¬
ма. Изд. хоз. д-та Мин. вн. дел. СПб., 1863.
3. «Материалы высочайше учрежденной осо¬
бой комиссии для составления проектов местного
управления под председательством статс-секрета¬
ря Коханова».
4. Я. Я. Дитятин. «Устройство и управление
городов в России». Т. И. Ярославль, 1877.
5. Его же. «Статьи по истории русского права»
(«Наши города за первые три четверти настоящего
столетия» и «К истории городового положения 1870
года»). СПб., 1895.
6.М. Я. Щепкин. «Общественное хозяйство
города Москвы в 1863—1887 гг. Историко¬
статистическое описание». М., 1888.
7. Г. А Джанишев. «Городское самоуправ¬
ление» в «Эпохе великих реформ» (стр. 563—604
7-го издания), 1898.
8. «История России в XIX веке», под ред. М.
Я. Покровского, изд. Гранат, т. ГУ, гл. VI (статья Г.
И. Шрейдера).
9. Д. М. Щепкин. «Митрофан Павлович
Щепкин». М., 1910. (Здесь библиогр. статей М. П.
Щепкина по городскому делу).
IX. Реформа воинской повинности
и реформы в военном ведомстве и во флоте
1. Богданович, Максимовский, Шильдер и Хо-
рошхин. «Исторический очерк деятельности воен¬
ного управления в России в первое двадцатилетие
царствования императора Александра Никола¬
евича (1855—1880)». 6 томов. СПб., 1879—1880.
2. «Обзор деятельности морского управления в
России с 1855 по 1880 год». 2 тома. СПб., 1880.
3. С. С. Татищев. «Император Александр П»,
т. П, глава XXIII «Преобразование армии и флота».
СПб., 1903.
4. «Военно-статистический сборник, вып. IV.
Россия». Отд. 2-й «Армия» и «Прибавления»; «П. О
новых основаниях воинской повинности». СПб.,
1871.
5. Г. А Джанишев. «Общая воинская
повинность» в «Эпохе великих реформ», отд. VII
(стр. 537—562,7-го издания. М., 1898).
6. А А Корнилов. «Граф Дмитрий Алексе¬
евич Милютин (1816—1912)», в газете «Речь» от 11
февр. 1912 г., № 40.
В. Внешняя политика и войны
I. Общее направление внешней политики
1. С. С. Татищев. «Император Александр П».
Т. I, главы VII—XII, XV—ХУЛ; том П, главы XX—
XXII, XXVI—XXXI.
2. Пфлуг-Гартунг. «Всемирная история. Т.
VI. От Венского конгресса до наших дней». Перев.
под ред. Я. Я. Кареева и С. Г. Лозинского. Изд.
Брокгауз — Ефрон. СПб., 1910.
3. Г. А Файф. «История Европы XIX века».
Перев. под ред. проф. Я. В. Лучицкога. М., 1889.
2-е изд. СПб., 1904. Том 3-й с 1848 по 1878 г.
4. «История России в XIX веке», под ред. М.
Я. Покровского, Т. VI, гл. УШ (от Парижского
мира до Берлинского конгресса. 1856—1878). В
начале этой главы общая характеристика внешней
политики Александра П.
II. Покорение Кавказа
1. Я. Н. Муравьев (Карсский). «Война за
Кавказом в 1855 г.». 2 части. СПб., 1877.
2. Его же. «Записки» в «Русском архиве» с
1866 по 1895 г.
3. Зиссерман. «Фельдмаршал кн. А Я. Ба¬
рятинский». 3 тома. (Там же весьма важная пер¬
еписка Барятинского.) М., 1889—1891.
4. Татищев. «Император Александр II». Т. I,
стр. 278—295.
5. М. Я. Покровский. «Завоевание Кавказа» в
«Истории России в XIX в.», изд. Гранат, под ред.
Покровского, т. V, гл. УП. (там же и библиография
сочинений, относящихся к кавказской войне до
Александра П).
6. Подробная библиография у А. Гизети
«Библиографич. указатель к сочинениям и статьям
о действиях русских войск на Кавказе». Изд. Воен.-
учен, к-та Главн. штаба. СПб., 1901.
111. Приобретение Амура и среднеазиатские
походы
1.Татищев. «Император Александр П». Т. I,
стр. 274 и след.; т. П, стр. 114—130.
2. Пфлунг-Гартунг. «Всемирная история от
Венского конгресса до наших дней» (т. VI, часть П,
стр. 394 и след.).
383
3. И. П. Барсуков. «Гр. Н. Н. Муравьев-
Амурский». 2 тома. М., 1891.
4. Я. И. Гродеков. «Хивинский поход 1873 г.».
СПб., 1888.
5. Его же. «Война в Туркмении. Поход Скобе¬
лева в 1880—1881 г.». 3 тома.
6. Ф. И. Лобысевич. «Описание Хивинского
похода 1873 года». СПб., 1898.
7. Кн. В. И. Масальский. «Туркестанский
край» (том XIX «Россия», изд. Девриеном). СПб.,
1913.
IV. Восточный вопрос и война 1877—1878 гг.
1. С. С. Татищев. «Император Александр II»,
книга VI («Освобождение балканских христиан»),
главы XXVI—XXXI составлены в значительной
мере по архивным источникам и содержат в себе
важные документы.
2. Пфлуг-Гартунг. «Всемирная история». Т.
VI, часть И, стр. 397—416.
3. «Описание русско-турецкой войны 1877—
1878 гг.». Издание Военно-историч. к-сии Главн.
штаба. 4 тома. СПб., 1901.
4. И. С. Аксаков. Сочинения, т. I. М., 1887.
5. С. П. Боткин. «Письма из Болгарии»
СПб., 1893.
6. Газенкампф. «Дневник». СПб., 1908.
7. Мартынов. «Блокада Плевны». СПб., 1900.
8. Пузыревский. «Десять лет назад» СПб.,
1887.
9. Т. W. von Trotha. «Der Kampf urn Plevna».
Berlin, 1896.
10. М. П. Драгоманов. «Собрание
политических сочинений». Париж. Издание
1905—1906.2 тома.
11. «Исторический очерк деятельности воен¬
ного управления в России (1855—1880)». Сост.
Богдановичем, Максимовым и Хорошкиным. 6 то¬
мов. СПб., 1880.
12. Д. Г. Анучин. «Берлинский конгресс 1878
года» СПб., 1912. Изд. А. С. Анучиной.
Г.Обзор деятельности
высших правительственных учреждений
1. «Государственный совет 1801—1901». Со-
ставл. Госуд. канцелярией (in folio). СПб., 1901.
2. «История Правит. Сената за двести лет
1711—1911». Т. 3 и 4-й. Под ред. проф. С. Ф.
Платонова. СПб., 1911.
3. «Исторический обзор деятельности Комите¬
та министров» 1802—1902. Том. 3-й. 2 части (сос-
тавл. С. М. Середониным). СПб., 1902.
4. «История М-ва иностр. дел». Юбил. изд.
СПб., 1902.
5. «Исторический очерк деятельности военно¬
го управления в России в первое двад¬
цатипятилетие благополуч. цар-ния Г. И.
Александра Николаевича (1855^—1880)». 6 томов.
Составл. Богдановичем, Максимовским
Шильдероми Хорошхшшм. СПб., 1880.
6. «Обзор деятельности морского управления в
России с 1855—1880 гг.». 2 тома. СПб., 1880.
7. «Краткий отчет Министерства внутренних
дел за 1885—1880 гг.». СПб., 1880.
8. «Историч. очерк М-ва внутр. дел 1802—
1902». Юбил. изд. 1904.
9. «Историческое обозрение пятидесятилет¬
ней деятельности Министерства государственных
имуществ. 1837—1887 гг.». 5 частей. СПб., 1887.
Д.Борьба правитель
и диктатура Л
1. Татищев. «Император Александр П», т. 2-й,
книга 7-я «Конец царствования» главы XXXII,
XXXIHhXXXIV.
2. «История России в XIX в.», изд. Гранат, под
ред. М. Я. Покровского, т. V, гл. I «Общая
политика правительства 1866—1892».
3. С. М. Середонин. «Историческ. обзор
Комитета министров», т. III, часть I, гл. I, II; часть
II, гл. V и гл. Vm (отд. 2-й).
10. «История уделов за сто лет их существо¬
вания. 1797—1897». 3 тома. СПб., 1897.
11. «Министерство финансов 1802—1902 гг.».
Часть I. СПб., 1902.
12. И. А. Блиох. «Финансы России в XIX в.».
4 тома. СПб., 1882.
13. В. Лодыженский. «История русского тамо¬
женного тарифа». СПб., 1886.
14. «Краткий исторический очерк ведомства
путей сообщения за сто лет (1798—1898). СПб.,
1898.
15. П. М. Майков. «Второе отделение собств.
е. в. канцелярии. 1826—1882 гг.». СПб., 1906.
16. «Исторический очерк деятельности
Министерства юстиции за 100 лет». СПб., 1902.
17. С. В. Рождественский. «История
Министерства народного просвещения с 1802—
1902 г.». СПб., 1902.
18. «Сборник постановлений по Министерству
народного просвещения». Тома III—VIII. СПб.,
1865—1887.
19. Второе полное собрание законов. Т.
XXX—LV. СПб., 1857—1885 и 4 тома указателя к
ним. СПб., 1885.
ства с революцией
ори с-М е л и к о в а
4. А. А. Корнилов. «Общественное движение
при Александре II». М., 1909.
5. Неведенский. «Катков и его время». СПб.,
1888.
6. А. В. Никитенко. «Дневник и записки».
Часть П. СПб., 1904 (изд. 2-е).
7. «Дневники» гр. П. А. Валуева за 1880 г. в
«Вестнике Европы» за 1907 г., №№ 1—3.
384
8. П. Е. Щеголев. «Из истории
конституционных веяний 1879—1881 гг.» в «Бы¬
лом» за 1906 г., № 12.
9. К, Л. Берманьский. «Конституционные
проекты царствования Александра II» в «Вестнике
права» за 1905 г., № 11.
10. «Конституция гр. Лорис-Меликова». Лон¬
дон, 1893.
t / /
11. V. Laferte. «Alexandre II. Details inedits sur
sa vie intime etsa mort». P., 1882. Критика этой книги
в брошюре «d'un russe du grand monde» «Quelgues
mots sur la brochure de M. Victor Laferte». P., 1882.
12. A.Leroy-Beaulieu. «L’empire des tsars et les
russes». Tome II. P., 1882.
13. В. Ю. Скалон. «В переходное время».
(Сборник статей.) СПб., 1905.
14. А. И. Кошелев. «Записки». Берлин, 1884.
15. Я. А. Белоголовый. «Воспоминания» (стр.
182—224—«Граф М. Т. Лорис-Меликов»). 2-е
изд. М., 1898.
16.. А. Муромцев. «Сборник статей и речей».
Вып. V. СПб., 1910.
17. А. Ф. Кони. «Граф М. Т. Лорис-
Меликов» в «Голосе минувшего» за 1914 г., № 1.
Об отношении печати, общества и рево¬
люционеров к режиму Лорис-Меликова и об
участии литературы и общества в борьбе реакции
с революцией см. ниже, в отд. IV' «Развитие
интеллигенции (общественное и литературное
движение в России при Александре II)».
III. Положение населения и развитие народного хозяйства в России при Александре II
А.Данные о движении населения с конца
50-х годов до на
1. В. Э. Ден. «Население России по V
ревизии»Т. I. М.., 1902.
2. А Г. Тройницкий. «Крепостное население в
России по 10-й народной переписи». СПб., 1861.
3. «Военно-статистический сборник», вып. IV
«Россия», под ред Н. Н. Обручева. СПб., 1871.
4. Ю. Э. Янсон «Сравнительная статистика
России и западноевроп. государств». Т. I. СПб.,
1878.
5. Я. Я. Милюков. «Очерки по истории рус¬
ской культуры». Часть I (6-еизд.). СПб., 1909.
Б. Развитие
торг
1. Гулишамбаров. «Всемирная торговля в XIX
веке и участие в ней России». СПб., 1898.
2. В. Я. Покровский. «Сборник сведений по
истории и статистике внешней торговли в России».
В.Положение сель
и земледельче
чала 80-х годов
6. А Ф, Фортунатов. «Сельскохозяйствен¬
ная статистика России». М., 1893.
7. В. И. Покровский. В сборнике «Влияние
урожаев и хлебных цен на некоторые стороны рус¬
ского народного хозяйства» (СПб., 1897). Т. II: в
статье «Влияние урожая и хлебн. цен на естествен¬
ное движение населения» на стр. 181—194— «Ес¬
тественное движение населения России до 1870 г.»
и на стр. 194—213— «Естеств. движение насе¬
ления России с 1870 по 1894 год».
внешней
> в л и
Т. I (in folio). Изд. д-та таможен, сборов. СПб.,
1902.
с к о г о хозяйства
с к и х классов
1. Я. Вильсон. «Хозяйственно-статистический
атлас Европейской России» «Объяснения» к нему.
СПб., 1869.
2. Я. Л. (Павел Лилиенфельд)1. «Земля и во¬
ля». СПб., 1868.
3. Демерт. «Новая воля» в «Отечест. зап.»за
1869 г.
4. А Я. Энгельгардт. «Из деревни. 11 писем
1872—1882 г.». СПб., 1885.
5. «Доклад высочайше утвержденной
комиссии для исследования нынешнего (1872 г.)
положения сельского хозяйства и сельской
производительности в России» и «Приложения» к
нему. СПб., 1873.5томов (in folio).
6. Труды податной комиссии («комис. высоч.
учрежд. для пересмотра системы податей и сбо¬
ров»). 24 тома.
1. В. И. Чаславский. «Хлебная торговля в цен¬
тральном районе России». СПб., 1873. Ч. I (Торгов¬
ля в примосковск. районе), ч. II (Торговля в Риге).
8. Его же. «Земледельческие отхожие промыс¬
лы, в связи с переселением крестьян ( с картою)»,
в «Сборнике государств, знаний». В. П. Безобразо¬
ва. Т. 2-й. СПб., 1875.
9. Докучаев. «Овраги и их значение». СПб.,
1876.
10. Его же. «Наши степи прежде и теперь».
СПб,. 1892.
11. Э. Ю. Янсон. «Опыт статистического
исследования о крестьянских наделах и платежах»,
изд. 2-е. СПб., 1881. С прилож. статьи «Очерк
правительственных мер по переселению кресть¬
ян после издания Положения 19 февраля 1861
года».
12. Дм Ф. Самарин. «Теория о недостаточ¬
ности крестьянских наделов по учению проф. Э.
Ю. Янсона», в собрании статей, речей и докладов
Д. Ф. Самарина. Т. I. М.., 1903.
13. Кн А. И. Васильчиков. «Землевладение и
земледелие в России и других европейских госу¬
13 Зак. 271
385
дарствах» СПб., 1881. Изд. 2-е (исправленное
после критики проф. Чичерина и Герье в статье их
«Дилетантизм в науке»).
14. А С. Посников. «Общинное землевла¬
дение». 2 выпуска. Изд. 2-е. Одесса. 1878.
15. Ю. Э. Янсон. «Сравнительная статистика
России и западноевропейских государств» Т. 2-й.
«Промышленность и торговля». Отд. I. Статистика
сельского хозяйства.
16. Николай —- он. «Очерки нашего порефор¬
менного общественного хозяйства» СПб., 1893.
Особенно: «Предисловие» и «Первый отдел.
Капитализация земледельческих доходов», стр.
1 —78 (первоначально было напечатано в журнале
«Слово»за 1879 г.).
17. «Итоги экономического исследования
России по данным земской статистики» Т. I.
«Общий обзор статистики крестьянского хозяйст¬
ва» А. Ф. Фортунатова и «Крестьянская
община» В. В. М.., 1892. Т. И. Я. А Карышева
«Крестьянские вненадельные аренды». М.., 1893.
18. А. А. Мануйлов. «Аренда земли в России в
экономич. отношении», в сборнике «Очерки по
крестьянскому вопросу» Вып. 2-й. М.., 1905.
19. Л. В. Ходский. «Земля и земледелец». Т. II
«Земля и земледелец в России». М., 1899.
Г.Развитие капитали
рабочего к л а
1. «М. X. Рейтерн. Биографический очерк»,
составл. А. Я. Куломзиным и гр. В. Г. Рейтерн-
Нолькен. С приложением нескольких всеподдан¬
нейших записок М. X. Рейтерна. СПб., 1910.
2. А. А. Головачев. «История железнодорож¬
ного дела в России». СПб., 1881.
3. В. В. (В. П. Воронцов). «Судьбы
капитализма в России». СПб., 1875.
4. В. П. Безобразов. «Народное хозяйство
России», ч. I. СПб., 1882. Часть II и приложения к
ней. СПб., 1885.
5. Николай — он. «Очерки нашего порефор¬
менного общественного хозяйства». СПб., 1893.
6. Я. Б. Струве. «Критические заметки к воп¬
росу об экономическом развитии России». СПб.,
1894.
7. A. Leroy-Beaulieu. «L’empire des tsars et Ies
russes». Т. I. «Le pays et les habitants». P., 1893.
8. Г. фон Шулъце-Геверниц. «Очерки общест¬
венного хозяйства и экономической политики
России», с предисловием Я. Б. Струве. СПб.,
1901.
9. М. И. Туган-Баранювский. «Русская
фабрика в прошлом и настоящем». Т. I «Историче--
ское развитие русской фабрики в XIX в.» 2-е изд.
СПб., 1900.
20. Я. А. Каблуков. «Об условиях развития
крестьянского хозяйства в России» М.., 1899.
21. С. Н.Терпигорев (Сергий Отава).
«Оскудение. Очерки помещичьего разорения»
СПб., 1881.
22. Проф. Мигулин. «Выкупные платежи».
Харьков, 1904.
23. А. Е. Лосщкий. «Выкупная операция».
СПб., 1906.
24. Кн. Дм. И. Шаховский. «Выкупные пла¬
тежи», в т. V юбил. изд. «Великая реформа». М.,
1911.
25. Кованько. «Освобождение крестьян и обя¬
зательный выкуп». «Русск. мысль»за 1912г., кн. VI.
26. М. Я. Милюков. Статья «Крестьяне» в
старом энциклоп. словаре Брокгауза и Ефрона.
27. Огановский. «Очерки по истории земель¬
ных отношений в России». М., 1911.
28. »Влияние урожаев и хлебных цен на рус¬
ское народное хозяйство». Сборник под ред. проф.
А. И. Чупрова и А. С. Посникова. 2 тома. СПб.,
1897.
29. В. Е. Постников. «Южнорусское кресть¬
янское хозяйство». М., 1891.
зма и формирование
сса в России
10. В. Ильин. «Развитие капитализма в
России. Процесс образования внутреннего рынка
для крупной промышленности». СПб., 1899.
11. «Историко-статистическое обозрение про¬
мышленности в России». СПб., 1882.
12. И. И. Янжуль. «Фабричный быт москов¬
ской губернии в 1884 г.» М., 1886.
13. Святловский. «Фабричный рабочий».
Варшава, 1889.
14. «Исследование кустарной промышлен¬
ности в России» (изд. М. Г. И. 5 томов. СПб., 1892—
1898).
15. «История России в XIX веке», т. V, гл. I
«Общая политика правительства 1866— 1892», отд.
И «Социальные предпосылки». СПб., 1907.
16. «Общественное движение в России в нача¬
ле XX века», под ред. Л. Мартова, Я. Маслова и А.
Потресова (а том I и под ред. Г. В. Плеханова). Т.
I «Предвестники и основные причины движения».
СПб., 1909.
17. «Материалы к характеристике нашего хо¬
зяйственного развития». Сборник статей. СПб.,
1895.
18. И. И. Янжуль. «Воспоминания. О
пережитом» 2 выпуска. СПб., 1910—1911.
IV. Развитие интеллигенции в России
при Александре II
(общественное и литературное движение)
А.Развитие литературы, искусств и науки
1. «История русской литературы XIX века», «Мир». М.., 1909—1912. Тома III—V. Там же под-
под ред Д. Я. Овсянико-Куликовского, изд. т-ва робные библиографические указатели.
386
2. «История России в XIX в.», изд. Гранат, под
ред. М. Н. Покровского. В особенности гл. 12 тома
IV и глава 16 тома VII. В томе IX подробная
библиография, составленная П. Н. Сакулиным
при участии А. Г. Фомина.
К библиографическ. указателям двух назван¬
ных изданий мы и отсылаем читателя по
истории литературыг
3. «История России в XIX в.», изд. Гранат, том
VII, гл. XX «Пластические искусства», ст. В. М.
Фриче и библиография к ней; гл. XXI «Музыка в
России после 60-х годов» — ст. Ю. Д. Энгеля и
библиография к ней.
4. «История России в XIX в.», изд. Гранат, т.
VI, гл. XIV «Научное движение в России в первой
половине XIX века», статья А А. Тарасевича, и т.
VII, гл. XV «Пробуждение естествознания в третьей
четверти века», ст. К А. Тимирязева. В т. VII
библиографич. указания в этим статьям, а также к
статье «Развитие естествознания в России в послед¬
ней четверти века» в гл. V, т. IX.
5. П. П. Семенов (Тян-Шанский). «История
полувековой деятельности имп. Русского гео¬
графического общества 1845—1895». СПб., 1896.3
тома. Особенно отд. И и III части I-й и часть IV-я.
6. «История имп. Вольного экономического
общества с 1765 по 1865 г.», сост. А. И. Ходневым.
СПб., 1865.
7. «Исторический очерк двадцатипятилетней
деятельности имп. вольного экономическ. общест¬
ва с 1865 по 1890 год», составл. А. Я. Бекетовым.
СПб., 1890.
8. «Деятельность археографической комиссии
в царствование императора Александра II (19 февр.
Б. Общественн
1. С. С. Татищев. «Император Александр И»,
т. И, книга 7-я, гл. ХХХП «Крамола. 1861—1880
гг.», гл. XXXIII и XXXIV (история «диктатуры сер¬
дца»).
2. А. А. Корнилов. «Общественное движение
при Александре II. Исторические очерки. 1855—
1880». М., 1909.
3. Его же. «Основные течения правительствен¬
ной и общественной мысли во время разработки
крестьянской реформы» в сборнике «Научного сло¬
ва», «Освобождение крестьян. Деятели реформы».
М., 1911.
4. А. В. Никитенко. «Записки и дневник
(1804—1877)». Изд. 2-е. СПб., 1904. Тома I и И.
5. Я. П. Барсуков. «Жизнь и труды М. П. По¬
година» Части XIII—XXII. СПб., 1899—1908.
6. «И. С. Аксаков в его письмах» Т. III и IV. М.
и СПб., 1887.
7. Записка К С. Аксакова, представленная им
Александру И в 1855 г., напечатана в газете «Русь»
за 1881 г., №№26—28.
8. А. И. Кошелев. «Записки». Берлин, 1884.
9. А. В. Станкевич. «Т. Н. Грановский и его
переписка» 2-е изд. 2 тома. М., 1897.
10. А. Я. Герцен. «Полярная звезда» 7 книг.
Лондон. 1855—1867.
11. А Я. Герцен. «Голоса из России». 9 час¬
тей. Лондон. 1856—1860.
12. А Я. Герцен и Н. П. Огарев. «Колокол».
Лондон и Женева, 1857—1867 гг.
1855—19 февра. 1880 г.) Историч. записка, пред¬
ставлен. Е.И.В.». СПб., 1880.
9. Ламбины П. и Б. «Русская историческая
библиография. 1855—1864гт.». СПб., 1861 —1887.
10 томов.
10. В. И. Межов. «Русская историческая
библиография с 1865 по 1876 г. включительно».
СПб., 1862—1890. 8 томов.
11. В. Межов. «Материалы для истории народ¬
ного просвещения в России. Литература русской
педагогики, дидактики и методики за 1859—1872
гг.». 3 т. СПб., 1862—1874.
12. В. И. Межов. «Литература русской гео¬
графии, этнографии и статистики с 1859—1880
гг.». 9 томов. СПб., 1861—1883.
13. В. Межов и Я. Собко. «Библиография, на¬
печатан. в России в 1865— 1876 гг. книг и статей по
части искусств и археологии». СПб., 1884.
14. В. Межов. «Библиографический указатель
книг и статей по части правоведения, вышедших в
России в 1859—1866 гг.». 3 вып. СПб., 1866—1868
гг.
15. Александр Введенский, «Судьбы
философии в России» М., 1898.
16. В книге Фалькенберга. «История новой
философии», пер. на русский язык под ред. А. И.
Введенского, подробный перечень русских оригин.
и перевод сочинений по истории новой
философии.
17. Ибервег-Гейнце. «История новой
философии в сжатом очерке». Перев. Я. Я. Колу-
бовского, с приложен, очерка философии у славян
(и в России). СПб., 1890.
ое движение
13. А Я. Герцен. «Сочинения» 10 томов. Же¬
нева, 1875—1879. (В это собрание сочинений
почти не вошли статьи из «Колокола»).
14. Его же. «Сборник посмертных статей» Же¬
нева, 1870.
15. Его же. «Сочинения и переписка с Н. А.
Захарьиной (Герцен)». Изд. Ф. Ф. Павленкова.
СПб., 1905.
16. Его ж. «Статьи о Польше из «Колокола».
СПб., 1907. (Была конфискована).
17. Письма Я. С. Тургенева иК. Д. Кавелина
к А Я. Герцену. Женева, 1891. (С объяснитель¬
ными примечаниями М. П. Драгоманова.)
18. «Письма М. А. Бакунина к А Я. Герцену
и Н. П. Огареву». Женева, 1892. (С биогр. очер¬
ком М. А. Бакунина, сост. Драгомановым.)
19. Ответные письма А. И. Герцена. В журна¬
ле «Современник» за 1913 г.
20. М. .Я. Драгоманов. «Историческая Поль¬
ша и великорусская демократия». Женева, 1889.
21. Ч. Ветринский, «Герцен». СПб., 1908. К
этой книге приложена добросовестно составленная
«библиография произведений Герцена и литерату¬
ры о нем» А. Г. Фомина.
22. Я. Г. Чернышевский. Сочинения. 11 то¬
мов. СПб., 1906.
23. Г. В. Плеханов. «Н. Г. Чернышевский».
СПб., 1909.
24. А. А. Корнилов. «Чернышевский и кресть¬
янская реформа». «Русскаямысль»за 1910 г., № 1.
13*
387
25. Я. А. Добролюбов. «Первое полное соб¬
рание сочинений в четырех томах», под ред. и с
подр. примечаниями А/. К. Лемке. Изд. Па-
нафидиной. СПб., 1912.
26. Первое собрание писем И. С. Тургенева.
СПб., 1883.
27. Б. Н. Чичерин. «Несколько современных
вопросов». М., 1862.
28. К. Д. Кавелин. Сочинения, том II. Изд.
Глаголева. СПб., 1904.
29. Ю. Ф. Самарин. Сочинения, тома I—X.
М., 1877—1911.
30. Кн. О. Н. Трубецкая. «Материалы для
биографии кн. В. А. Черкасского», т. I, части 1 -я и
2-я. М.., 1903—1904.
31. Кн. Дм. А. Оболенский. «Мои вос¬
поминания о вел. кн. Елене Павловне». СПб., 1909.
32. А. Я. Пыпин. «Воспоминания» «Вест.
Евр.» за 1903 г., № 11.
33. Г. А. Джаншиев. «А. М. Унковский». М..,
1894.
34. Л. Ф. Пантелеев. «Из воспоминаний
прошлого». 2 части. СПб., 1908—1909.
35. Бурцев. «За сто лет». Париж, 2 части.
36. М. К Лемке. «Очерки освободительного
движения шестидесятых годов». СПб., 1908.
37. В. Я. Богучарский. «Революционная жур¬
налистика 60-х годов». СПб., 1906. Здесь даны тек¬
сты прокламаций и подпольных листков
1861—1863 гг.
38. Le prince Pierre Dolgoroukow. «Des reformes
enRussie*. P., 1862.
39. «Эпизод из истории общественных
движений в России» (описание известной «твер¬
ской истории», кончившейся заключением в кре¬
пость 13-ти мировых посредников (в первой книге
«Освобождения» (под ред. П. Б. Струве). Stuttgart,
1903.
40. Я. Г. Чернышевский. «Письма без адре¬
са», в X томе его сочинений.
41. А. И. Кошелев. «Конституция, самодер¬
жавие и земская дума». Лейпциг, 1862.
42. Ю. Ф. Самарин. «По поводу толков о
конституции (1862)» в газете «Русь» за 1861 г.,
№29.
43. К Д. Кавелин. «Дворянство и освобож¬
дение крестьян (1862)», в собрании сочинений
(изд. Глаголева. СПб., 1904), т. II (стр. 106—142).
44. В. М. Батуринский. «А. И. Герцен, его
знакомые и друзья» СПб., 1903.
45. Я. И. Иорданский. «Конституционное
движение 60-х годов». СПб., 1906.
46. Д. И. Писарев. Собрание сочинений, изд.
Ф. Ф. Павленкова, 6 частей (СПб., 1894) и «до¬
полнительный к шести томам выпуск» (СПб,
1907).
47. Е. А. Соловьев. «Д. И. Писарев. Его
жизнь и литературная деятельность». СПб., 1893.
48. Р. В. Иванов-Разумник. «История рус¬
ской общественной мысли».
49. М. К Лемке. «Политические процессы
Михайлова, Чернышевского и Писарева». СПБ.,
1907.
50. Переписка Я. Г. Чернышевского с Н. И.
Костомаровым и И. Е. Андреевским в «Былом»
за 1906 г., кн. III, стр. 233—235.
51. Я. И. Костомаров. «Автобиография».
СПб., 1890.
52. Я. И. Пирогов. «Вопросы жизни». 2 тома.
СПб., 1888.
53. «Воспоминания» Я. Б. Шелгунова в его
сочинениях, т. II, стр. 723 и след.
54. Кн. Я. А. Кропоткин. «Записки рево¬
люционера. Историческая библиотека. Выпуск I».
Лондон, 1902. То же авторизованное издание в Пе¬
тербурге, в изд. «Знание» СПб., 1907.
55. И. С. Тургенев. Сочинения. Т. X «Литера¬
турные воспоминания» и романы: «Дворянское
гнездо», «Рудин», «Накануне», «Дым» и в особен¬
ности «Отцы и дети».
56. М. А. Антонович. «Асмодей наших
дней», в «Современ.» за 1862 г. №3.
57. Его же. «Воспоминания» в «Журнале для
всех» за 1903 г.
58. В. А. Обручев. «Воспоминания»в «Вестн.
Евр>за 1908 г.
59. Н Г. Чернышевский. «Что делать» в «Со¬
времен.» за 1863 г.; отд. изд. СПб., 1905 г. и в
собрании сочинений.
60. Я. Я. Страхов. (Косица). «Из истории
литературного нигилизма. 1861—1865». СПб.,
1890.
61. Его же. «Борьба с западом в нашей литера¬
туре». Книжка вторая. СПб., 1883.
62. М. А. Бакунин. «Романов, Пугачев или
Пестель?» в собрании его сочинений. СПб., 1906.
Изд. Балашова, стр. 217.
63. Его же. «Русским, польским и всем сла¬
вянским друзьям» в прилож. к «Колоколу» за 1862
г. и отдельно в Женеве в 1888 г. (изд. Эльпидина).
64. «Письмо А. И. Герцена к русскому послу
в Лондоне с ответом и некоторыми примечаниями
Д. К. Шедо-Ферроти»(бар. Фиркса). Berlin, 1862.
(Было тогда же допущено к продаже в России.)
65. Я. Елагин. «Искандер-Герцен». Берлин,
1859.
66. М. Я. Драгоманов. «Герцен, Бакунин,
Чернышевский и польский вопрос». Казань, 1906.
67. Его же. «Великорусский интернационал и
польско-украинский вопрос». Казань, 1907.
68. Неведенский (псевдоним). «Катков и его
время». СПб., 1888.
69. Полное собрание сочинений Ф. М. Досто¬
евского. Т. I «Биография, письма и заметки из
записной книжки». СПб., 1883.
70. А. Ф. Головачева-Панаева. «Вос¬
поминания». СПб., 1890.
71. Я. А. Огарева-Тучкова. «Воспоминания»
(1848—1870). М., 1903.
72. Л. И. Шелгунова. «Из далекого прошло¬
го». Тут же «Переписка Н. В. Шелгунова с же¬
ной». СПб., 1901.
73. Для эпохи 1855—1866. Газеты: «Молва»
за 1857 г., «Парус» (1859), «День» (1861—1866),
«Московские ведомости» (1855—1862, под ред. В.
Корша, с 1883 г. под ред. Каткова); «Голос» (с 1863
388
г.) и «Весть» (с 1861 г.). Журналы: «Современник»
(с 1855—1866 г.), «Русский вестник» (с 1856 г.).
«Русская беседа» (1856—1861 г.), «Русскоеслово»
(1859—1866 г.), «Отечеств, записки» ( с 1855 г.),
«Библиотека для чтения»(1858—1865 г.), «Ате-
ней» (1858 г.), «Время» (1861 —1864 г.) и «Эпоха»
(1864 г.).
74. П. И. Вейнберг. «4 апреля 1866 года ( из
моих воспоминаний)», в «Былом» за 1906 г., № 4.
75. Я. К. Михайловский. «Литературные вос¬
поминания и современная смута». Т. I.
76. Д В. Стасов. «Каракозовский процесс», в
«Былом» за 1906 г., №4.
77. В. В. Стасов. «Надежда Васильевна Ста¬
сова». СПб., 1899.
78. Е. И. Конради, Сочинения. 2 тома. СПб.,
1899. В 1-м томе биографический очерк.
79. С. В. Ковалевская. «Воспоминания де¬
тства», в «Литературных сочинениях». СПб., 1893.
80. А. К Леффлер, герцогиня ди Койанелло.
«Софья Ковалевская», перев. М. Лучицкой. СПб.,
1893.
81. Е. Ф. Литвинова. «С. В. Ковалевская. Ее
жизнь и ученая деятельность». СПб., 1894.
82. Я. Л. Лавров. (Миртов). «Исторические
письма». СПб., 1905.
83. Я. В. Шелгунов. «Историческая сила
критической личности», в сочинениях, т. 2-й, стр.
331—352. Там же ( в томе I) вступительная статья
Я. К Михайловского «Н. В. Шелгунов».
84. В. Кельсиев. «Пережитое и передуман¬
ное». СПб., 1868.
85. «Материалы для характеристики соврем,
русск. литературы» М. А. Антоновича и Ю. Г.
Жуковского. СПб., 1869.
86. Я. Флеровский (В. Ф. Берви). «По¬
ложение рабочего класса в России». СПб.,
1869.
87. Его же. «Азбука социальных наук. В трех
частях». СПб., 1871.
88. С. Г. Сватиков. «Студенческое движение
1869 года (Бакунин и Нечаев)», в «Историческом
сборнике «Наша страна». СПб., 1907.
89. Его же. «Общественное движение в России
(1700—1895)». Ростов-на-Дону, 1905. Часть 2-я.
90. А. Тун. «История революционных
движений в России». Два русских перевода: 1)
сделанный с.-д-тами с Г. В. Плехановым и В. И.
Засулич во главе; 2) сделанный с.-р-ами, под ред. и
с примечаниями^. Э. Шишко. СПб., 1906.
91. Ф. М. Достоевский. «Бесы».
92. Я. К Михайловский. «Из литературных и
журнальных заметок 1873 г.» в «Сочинениях», т. II,
стр. 271 и след.
93. Я. Л. Лавров (Миртов). «Народники-
пропагандисты 1873—1878 годов». СПб., 1907.
94. Степняк (С. М. Кравчинский). «Под¬
польная Россия». Изд. фонда вольн. русск. прессы.
Лондон, 1893.
95. Л. UIuuiko. «Сергий Михайлович
Кравчинский и кружок чайковцев» СПб., 1906.
96. Я. А. Кропоткин, «Мои воспоминания о
Петербурге». СПб., 1906.
97. В л Дебогорий-Мокриевич. «Вос¬
поминания». Stuttgart, 1903.
98. С. Л. Чудновский. «Воспоминания», в
«Минувших годах» за 1908 г. и в историческ.
сборнике «Наша страна». СПб., 1908.
99. Вл Г. Короленко. «Чудная». Берлин, 1903.
Позже напечатано и в России.
100. С. М. Кравчинский, «Роман из эпохи
70-х годов (Андрей Кожухов)». М., 1906 и в
«Сочинениях» С. М. Кравчинского (Степняка).
101. Я. С. Тургенев. «Новь».
102. Я. А. Слепцов. Трудное время».
103. Е. Серебряков. «Очерк по истории
«Земли и воли». Изд. «Своб. труда». СПб., 1906.
104. О. В. Аптекман. «Земля и воля 70-х гг.»
СПб., 1907.
105. «Переписка Ю. Ф. Самарина с баронес¬
сою Э. Ф. Раден». М., 1893.
106. «Записка» министра юстиции гр. К Я.
Палена в «Былом» за 1907 г., №9, стр. 268—276.
107. Я. К Михайловский. Собрание
сочинений. 10 томов.
108. Заграничный журнал «Вперед» за 1875 г.
109. В. Я. Богучарский. «Революционная
журналистика семидесятых годов». Ростов-на-До¬
ну, 1907.
110. В. Я. Богучарский (В. Базилевский).
«Государственные преступления в России в XIX
веке». Париж, 1905.
111. Его же. «Литература партии Народной
Воли». Два выпуска. Ростов-на-Дону, 1907.
112. Его же. «Активное народничество семиде¬
сятых годов» М., 1912.
113. «Процесс Веры Засулич. (Суд и после
суда)». СПб., 19Ю6.
114. «Процесс 193-х». С предисловием В. В.
Каллаша. М., 1906.
115. «Процесс 50-ти». С предисловием В. В.
Каллаша.. Изд. В. М. Саблина. М., 1906.
116. «Процесс 16-ти террористов (1880)», под
ред. В. Бурцева.
117. «Дело 1 марта 1881 года». Изд.
«Правительственного вестника». СПб., 1881.
118. «Процес: 20-ти народовольцев в 1882 г.».
С предисл. и пргсмеч. В. Я. Богучарского. Ростов-
на-Дону, 1906.
119. Лев Тихомиров. «Начала и концы. Либе¬
ралы и террористы». М., 1890.
120. Его же. «Конституционалисты в эпоху
1881 года» М., 1895.
121. Его же. «Демократия либеральная и
социальная» М., 1896.
122. В. Я. Богучарский, «Из истории
политической борьбы с 70-х и 80-х годах XIX века.
Партия «Народной воли», ее происхождение, судь¬
бы и гибель». М., 1912.
123. Б. А. Кистяковский. «Страницы прош¬
лого». М., 1912.
124. В. Я. Богучарский, «Земский союз и свя¬
щенная дружина», в «Русской мысли» за 1912 г., №
7.
389
125. Б. А Кистяковский. «Орган земского
союза «Вольное слово» и легенда о нем»в «Русской
мысли» за 1912 г., №11.
126. А А. Корнилов. «К истории
конституционного движения конца 70-х и начала
80-х годов» в «Русск. мысли» за 1913 г., №7.
127. А. И. Кошелев. «Наше положение».
Berlin, 1875.
128. «Памяти В. А. Гольцова». Под ред А. А.
Кизеветтера. Воспоминания и статьи. М., 1910.
129. «Сергей Андреевич Муромцев». Сборник
статей под ред. /сн. Д. Я. Шаховского. М., 1911.
130. Сергей Муромцев. «Статьи и речи». Вы¬
пуск V «В области политики и публицистики»
(1880—1910) .М., 1910.
131. А Д. Градовский. «Трудные годы.
1876—1880. Очерки и опыты». СПб., 1880.
132. «Сборник политических и эко¬
номических статей Н. Я. Данилевского» Изд. Я.
Я. Страхова». СПб., 1890.
133. М. П. Драгоманов. «Политические
сочинения». Париж, 1904.2 тома. В России вышел
только том I (с биографией Драгоманова, составл.
Б. А Кистяковским), подредакц. Я. М.Гревсаи
Б. А Кистяковского. СПб., 1908.
134. «М. М. Стасюлевич и его современники»
Под ред. М.' К. Лемке. Вышло до 1914 г. всего 5
томов. СПб., 1911—913.
135. Я. И. Бирюков. «Биография Л. Н. То¬
лстого» 2 тома. М., 1908.
136. Журналы «Былое» sa 1906 и 1907 гг.;
«Минувшие годы» за 1908 г.; сборники: «Наша
В. Национал
1. А Д Градовский. «Национальный вопрос в
истории и в литературе» СПб., 1873.
2. В. С. Соловьев. «Национальный вопрос в
России». Изд. 2-е. СПб., 1888.
3. Ю. Ф. Самария Сочинения, т. VI
(Иезуиты и статьи богословско-философского со¬
держания) ; тома VIII, IX и X («Окраины России».)
М., 1887-1896.
4. И. С. Аксаков. Сочинения, т. III
(«Польский вопрос и западнорусское дело. Ев¬
рейский вопрос. 1860—1886»). Изд. 2-е. СПб.,
1900. Т. VI («Прибалтийский вопрос»).
5. Я. Я. Данилевский. «Россия и Европа». 4-е
изд. СПб., 1889.
6. Его же. «Сборник политических и эко¬
номических статей». (Изд.П. Н. Страхова).СПб.,
1890.
7. М. П. Драгоманов. «Центр и окраины»
Изд. Сытина. М., 1908.
8. Его же. «Историческая Польша и велико¬
русская демократия». Женева, 1888.
9. Его же. «Политические сочинения».
Париж, 1906.2 тома.
10. Я. И. Костомаров. «По поводу ст. Де-
Пуле об Украинофильстве». «Вестн. Европы»за
1882 г., №5.
страна» (1908 г.) и Ю минувшем» (1909 г.) содер¬
жат в себе массу воспоминаний и документов о
движении 60-х, 70-х и 80-х годов.
137. Журналы и газеты «Московские ведо¬
мости», «С.-Петербургские ведомости» (до 1875 г.),
«Весть», «Отечественный записки», «Голос»,
«Вестник Европы», «Русь», «Земство», «Порядок»
и «Страна» — сами являются документами обще¬
ственного движения того времени. Также за¬
граничные издания «Общее дело» (1877—1890) и
«Вольное слово» (1881—1883).
138. Юбилейный сборник «Русских ведомо¬
стей». М., 1913.
139. Юбилейный сборник литературного фон¬
да (1859—1909). СПб., 1909. В нем и история лите¬
ратурного фонда за 50 лет (составл. А. А.
Корниловым).
140. История комитета грамотности при имп.
вольном экономическом обществе. 1861—1895.
Составл. Д. Д. Протопоповым. СПб., 1896. (Была
конфискована и уничтожена).
141. «Юбилейный земский сборник (1864—
1914)» Под ред. Б. В. Веселовского и 3. Г. Френ¬
келя. СПб., 1914. В нем к освещению
общественного движения при Александре II слу¬
жат статьи: Я. Я. Петрункевича «Ближайшие за¬
дачи земства» (брошюрка, составленная им для
заграничной печати в 1879 г.), кн. Д. И. Шахов¬
ского «Политические течения в русском земстве» В.
Я. Вогучарского «Земский союз конца 70-х и нача¬
ла 80-х годов XIX века».
ный вопрос
11. А . Н. Пьтин. «К спорам об ук¬
раинофильстве». «Вестн. Евр.» за 1882 г., № 5.
12. Его же. «Малорусская этнография за пос¬
ледние 25 лет» в «Вестн. Евр.* за 1886 г., №1. Там
же «Спор между южанами и северянами» №4.
13. Его же. «История русской этнографии». 4
тома. СПб., 1890—1892.
14. Проф. М. С. Грушевский. «Ил¬
люстрированная история Украины». СПб., 1913.
15. Его же. «Украинство в России, его запросы
и нужды» СПб., 1906.
16. «История России в XIX в.», изд. Гранат,
под ред. М. Н. Покровского, т. VI, гл. XIII. 3.
Ленский. «Польский вопрос (1863—1892)»; т. VII,
гл. XV, С. Ф.Руссова «Украинская литература
(1862-1900)».
/
17. Райе Milioukov. «La crise msse». P., 1907.
(Особенно Chap. II «L’idee nationaliste»? p. 19—45.
To же по английски «The Russia and its crisis».
18. «Die Lettische Revolution». Berlin, 1908.2-te
Ausgabe. (Особенно т. I и 1 -я глава тома 11-го).
19. Юлий Гессен. «История евреев в России».
СПб., 1914. В сборнике «Russen Jiber Russland» (под
ред. И. Мельника). Frankfurt am Main, 1906.
Статьи: М. Virtus «Die Luden», A Niemojewski «Das
konigreich Polen», Prof. M. Gruschewski «Die
kleinrussen», R. Berberow «Die Armenier».
390
Г.Религиозный вопрос
и вероисповедная борьба
1. Я. Я. Милюков. «Очерки по истории рус¬
ской культуры». Часть И, 2-е изд. СПб., 1899
(«Церковь и школа». Очерки I—VI, стр. 8—231).
2. Его же. «La crise russe». P., 1907 (особенно
Chap. III. «La tradition religieuse»).
3. И. Преображенский. «Отечественная цер¬
ковь по статистическим данным с 1840—1841 по
1890—1891 гг.». СПб., 1897.
4. Проф. .П. Знаменский. «Приходское духо¬
венство в России со времен реформы Петра». Ка¬
зань, 1873.
5. Его же. «Учебник по истории русской
церкви». Казань,' 1888. Изд. 5-е.
6. К. К. Арсеньев. «Свобода совести и веро¬
терпимость». СПб., 1905.
7. А. С. Пругавин. «Раскол — сектантство.
Библиография старообрядчества и его разветв¬
лений» 2 вып. М., 1887.
8. Н. Субботин. «Современные движения в
расколе». 3 вып. М., 1863—1866.
9. Его же. «Современные летописи раскола».
М., 1869—1870.
10. Его же. «Летопись происходящих в расколе
событий». М., 1872.
11. Реутский. «Люди божии и скопцы»М.,
1872.
12. Ливанов. «Раскольники и острожники»
I—IV.
13. Юзов. «Русские диссиденты. Староверы и
духовные христиане». 2 ч. СПб., 1881.
14. А. Рождественский. «Хлыстовщина и
скопчество в России». Чтения за 1882 г. (I).
15. Его же. «Южнорусский штундизм» СПб.,
1889.
16. Гр. Терлецкий. «Семья пашковцев». СПб.,
1891.
17. Пругавин. «Религиозные отщепенцы.
Очерки современного сектантства». М., 1900. 2
вып.
18. A. Leroy Beaulieu. L’empire des Tsars et les
Russes». V. III. (La religion). P., 1889.
19. В. Андерсон. «Старообрядчество и сектан¬
тство». Историч. очерк русского религиозного раз¬
номыслия. СПб, 1908—1910.
20. В. Бонч-Бруевич. «Материалы к истории и
изучению русского сектантства и раскола». Вып.
I—III. СПб., 1908—1910.
21. «История России в XIX в.» под ред. М. Я.
Покровского, изд. Гранат, т. V. гл. VI, статья М. Я.
Никольского «Раскол и сектантство во 2-й
половине XIX века».
ЛЕКЦИЯ XXXVIII
Император Александр П1. — Отношение к нему общества до вступления его на престол. — Его
действительные взгляды. — Первые шаги императора Александра III. — Борьба двух направлений в
высших правящих сферах. — Совещание 8 марта 1881 г. — Колебания. — Катков и Аксаков.—
Агитация Победоносцева. — Манифест 29 апреля 1881 г. — Отставка Лорис-Меликова и некоторых
других министров. — Министерство Н.П. Игнатьева. — Его программа. — Меры к улучшению эко¬
номического положения народа. — Обязательный выкуп. — Дворянская агитация. — Сведущие люди*
— Понижение выкупных платежей. — Политика Бунге. — Отмена подушной подати. — Введение
податной инспекции.
Император Александр III был, как изве¬
стно, вторым сыном императора Александра
II. Старшим его сыном был цесаревич Нико¬
лай Александрович, который умер от ча¬
хотки в 1865 г., уже будучи взрослым
молодым человеком. Александр Александ¬
рович поэтому не предназначался к царст¬
вованию и воспитывался как обыкновенный
великий князь, которому предстоит главным
образом военная карьера. Поэтому до 1865 г.
никаких мер к тому, чтобы подготовить его
к делу правления великой страной,
принимаемо не было, и только когда умер
старший его брат, стали заботиться о том,
чтобы расширить полученное им до тех пор
образование. Был приглашен более или ме¬
нее удовлетворительный состав профессо¬
ров, среди которых одно из важных мест
занимал известный наш историк С.М. Со¬
ловьев, а еще раньше приглашен был и тот
К.П. Победоносцев, который впоследствии,
в царствование Александра III, сыграл та¬
кую видную реакционную роль. Тогда Побе¬
доносцев не считался реакционером; он,
напротив, принимал в свое время ближай¬
шее участие в разработке судебной рефор¬
мы, и, несомненно, был одним из самых
блестящих русских профессоров-
цивилистов; его курс гражданского права
очень долго признавался — да признается и
до сих пор — одним из классических
пособий этого рода. Были приглашены и
другие профессора более или менее прог¬
рессивного направления, но, тем не менее,
никакого либерального настроения, либе¬
ральных заветов и принципов от этого пре¬
подавания у молодого цесаревича не
сложилось. По своему личному и семейному
быту он представлялся довольно оригиналь¬
ным лицом в придворных сферах. Женился
391
он очень рано на невесте своего покойного
брата, датской принцессе Дагмаре, и,
женившись, повел жизнь частного человека;
очень скоро он приобрел репутацию хороше¬
го семьянина, скромного и нелюбящего
пышной придворной обстановки человека;
занимался на досуге в своем тесном кругу
музыкой и русской историей. Русскую
историю он любил особенно, и,' между
прочим, ему обязано своим возникновением
нынешнее императорское Русское историче¬
ское общество, которого он был первым пред¬
седателем.
Отчасти благодаря такой обстановке
жизни цесаревича Александра и еще более
благодаря тому, что общество очень мало
имело о нем сведений, создалась легенда о
нем как о весьма либеральном человеке.
Но, как мы уже видели, за несколько
месяцев до своего воцарения цесаревич
Александр Александрович, наоборот, про¬
явил себя определенным консерватором и не
обещал никакого сочувствия каким бы то ни
было преобразованиям в либеральном духе.
С таким настроением он и вступил на
престол.
2 марта 1881 г., принимая членов Госу¬
дарственного совета и высших чинов двора,
приносивших присягу, император Алек¬
сандр III заявил, однако, что, вступая в
трудный момент на престол своего отца, он
надеется следовать во всем его заветам и
политике. Таким образом, этот первый шаг
обещал как будто либеральное и гуманное
царствование. Затем в циркулярной депеше
от 4 марта, разосланной представителям
России при иностранных державах, было
объявлено, что государь император, вступая
в столь трудное время на прародительский
престол, желает сохранить мир со всеми
державами и особенно свое внимание сосре¬
доточить на внутренних делах и на тех
социально-экономических задачах, которые
выдвигаются новым временем. И эта депеша
также производила на общество бла¬
гоприятное впечатление.
Между тем возник вопрос, как быть с
докладом относительно предложенных
реформ, которые должны были быть начаты
открытием проектированных Лорис-
Меликовым комиссий. Доклад этот был одоб¬
рен покойным императором Александра II
утром 1 марта, в тот самый день, когда он
был убит. Императору Александру III было
известно, что покойный государь приказал
на 4 марта собрать в Зимнем дворце особое
совещание с тем, чтобы обсудить, опублико¬
вывать ли правительственное сообщение об
открытии комиссий или не опубликовывать,
причем самый вопрос об открытии комиссий
считался во всяком случае уже решенным.
Лорис-Меликов в своем докладе, естест¬
венно, представил новому государю этот воп¬
рос как своего рода завещание, оставшееся
от покойного императора, и император Алек¬
сандр III в первую минуту так на это и
посмотрел, принимая состоявшееся ранее
решение о созыве комиссий как завещание
отца, и притом завещание, кладущее, несом¬
ненно, последнюю черту на общий характер
его царствования, царствования, в котором
были произведены самые важные преобразо¬
вания новейшего времени, коснувшиеся бы¬
та всех сословий России и всего ее
социального и гражданского строя.
Однако по вопросу о том, публиковать
или нет об этом решении в особом
правительственном сообщении, император
Александр III решил созвать специальное
совещание, собственно, заседание Совета
министров, дополненного только графом
С.Г. Строгановым, который сделался уже
давно признанным главой придворной кон¬
сервативной партии. 8 марта совещание это
состоялось в Зимнем дворце, и тотчас же на
нем обнаружилась борьба двух противопо¬
ложных, враждебных, исключающих друг
друга направлений — одного прогрессивно¬
го, во главе которого стоял Лорис-Меликов и
к которому принадлежали из числа
министров министр финансов А.А. Абаза и
в особенности военный министр Д.А.
Милютин, а также и великий князь Кон¬
стантин Николаевич, в то время глава мор¬
ского ведомства и председатель
Государственного .совета. Противоположное
направление — направление ярко
реакционное — представлялось прежде все¬
го К.П. Победоносцевым, бывшим еще неза¬
долго перед этим членом той верховной
распорядительной комиссии, которая руко¬
водима была Лорис-Меликовым в 1880 г. По
представлению же Лорис-Меликова Победо¬
носцев был назначен и обер-прокурором
Святейшего Синода вместо гр. Д.А. Толстого
в апреле того же 1880 г. Победоносцев,
читавший ранее лекции Александру Алек¬
сандровичу и его старшему брату, пользо¬
вался его особым доверием. До вступления
на престол императора Александра III он не
считался, однако, как уже сказано, пред¬
ставителем ярко реакционного течения,
Потому что являлся одним из составителей
Судебных Уставов Александра II. Тем не
менее в 1881 г. именно он явился главой
реакционного направления в описываемом
совещании, и по его предложению был туда
приглашен и граф Строганов, который в
392
этом случае и явился главной ему поддерж¬
кой.
К этим двум лицам присоединился
бывший министр внутренних дел Маков,
совершенно ничтожный человек, а промежу¬
точную позицию заняли двое остальных
великих князей, участвовавших в сове¬
щании, Владимир Александрович и Михаил
Николаевич, и из министров — министр
юстиции Д.Н. Набоков, который склонен
был к либеральному курсу, но нерешительно
поддерживал Лорис-Меликова, и наконец,
председатель Комитета министров, граф Ва¬
луев, который сам, как вы видели, выступал
с guasi-конституционными предложениями
в 1880 г., но из ненависти к великому князю
Констатину Николаевичу и Лорис-Меликову
и так как теперь обсуждался проект не его,
Валуева, а Лорис-Меликова, то он под¬
держивал его весьма слабо.
В этом совещании вновь обнаружилось,
в сущности говоря, довольно ясно, что импе¬
ратор Александр III совершенно сочувствует
тем речам реакционеров, которые тут были
произнесены, и очень несочувственно
относится к тем заявлениям, которые были
сделаны со стороны либеральной части со¬
вещания, особенно ярко это сказалось по
поводу заявления, сделанного Д.А.
Милютиным, который очень сильно под¬
держивал выступление Лорис-Меликова, на¬
стаивая на необходимости пойти навстречу
общественному мнению страны, указывая на
то, что опубликование предложенного
правительственного сообщения даст сразу
симпатичный для общества тон прог¬
рессивности новому царствованию, и в то же
время доказывая, что в обсуждаемом докладе
Лорис-Меликова не содержится никаких
элементов конституции и ограничения само¬
державия, а на этом именно пункте и сосре¬
доточились, главным образом, нападки
представителей противоположного направ¬
ления, реакционеров, которые старались до¬
казать, что вся эта мера направлена к
конституции, пагубной для России. Строга¬
нов уверял, что при введении подобного
строя, подобного «парламента», пойдут в ход
«шалопаи», которые захватят в свои руки
власть, а Победоносцев говорил, что это
будет окончательным завершением режима
тех «говорилен», как он выражался, которые
уже проведены в жизнь в предшествующее
царствование в виде земских учреждений,
новых судов и органов разнузданной печати,
которые, по его мнению, ничего не стоили,
предлагаемая же Лорис-Меликовым
комиссия будет «верховной говорильней»,
которая подготовит гибель России. Свою
речь Победоносцев и начал крайне возбуж¬
денным тоном, утверждая, что как поляки
кричали в свое время finis Poloniae, так и тут
надо сказать finis Russiae. Император Алек¬
сандр III тут же, между прочим, сослался на
определенные советы императора Вильгель¬
ма I, с которыми тот обращался по этому
поводу к его покойному отцу, и заявил, что
Вильгельм указывал на опасность
конституционного режима в России, потому
что до него дошли смутные слухи о том, что
что-то готовится, и что, если есть еще воз¬
можность, то советовал отступить, а если
этой возможности уже нет, то конституцию
дать по возможности урезанную. Кроме того,
император Александр III ссылался и на
датских министров, которые указывали ему
на дурное влияние конституционных учреж¬
дений в Данни.
Однако как ни очевидно проявлялись
здесь вновь ультраконсервативные взгляды
Александра и склонность прислушиваться к
советам русских и иностранных реакционе¬
ров, тем не менее здесь не было постановлено
определенного решения по существу дела,
как не было постановлено и опубликовать
обсуждавшееся сообщение, и оно так и не
было опубликовано, хотя мысль о нем и не
была еще формально отвергнута1.
Колебания продолжались и дальше. С
одной стороны, они зависели от того, что
императора Александра III смущала та
мысль, что тут замешано как бы завещание
его покойного отца, его предсмертная воля,
которой император не решался прямо
противодействовать; с другой стороны, его
смущали те слухи, которые до него доходили
о настроении общества и даже народа. Ему
передавали приближенные к нему лица, что
простой народ смущен толками о том, что
после смерти Царя-Освободителя может
быть восстановлено крепостное право; ему
говорили придворные либералы, такие, как
флигель-адьютант граф П.П. Шувалов,
стремившийся направить дело в сторону
конституции, что общественное мнение в
стране чрезвычайно приподнято и что
единственной мерой для успокоения возбуж¬
денного общества является объявление но¬
вым правительством либерального курса2.
Несмотря на свои собственные консер¬
вативные убеждения, император Александр
III был настолько смущен этим заявлением,
что продолжал колебаться и даже как будто
обнаруживал иногда склонность последовать
этим либеральным советам. Победоносцев со
своей стороны старался всячески разуверить
императора Александра в наличности и силе
того прогрессивного настроения общества,
на которое ему указывали либералы
придворных кругов.
393
В этом отношении Победоносцев нашел
опору в московских публицистах, Каткове и
отчасти Аксакове, на которых он мог указать
царю как на весьма влиятельных пред¬
ставителей общественного мнения страны,
небезызвестных и самому императору Алек¬
сандру. Катков в это время был уже вполне
определенным представителем крайней
реакции и писал тогда в своих «Московских
ведомостях», что революционное движение
несомненно идет не извне и не изнутри
страны, а что оно «свило себе гнездо в
преддверии власти», метя в бюрок¬
ратические сферы — в гр. Лорис-Меликова
и других представителей либерального на¬
правления в правительстве и при дворе.
Ив. Аксаков в это время, не будучи в
сущности, реакционером, был однако чрез¬
вычайно потрясен самим актом 1 марта.
Вскоре после этого события он явился в
Петербург и произнес громовую речь в Сла¬
вянском обществе не только против рево¬
люционеров, но и вообще против всякого
западного либерализма, в духе не только
славянофильском, но иг в значительной мере
реакционном. При таком его настроении он
тоже явился хорошей опорой для Победонос¬
цева, который спешил указать императору
Александру, что вот главные представители
московской печати являвшиеся в глазах го¬
сударя выразителями общественного мнения
страны, показывают, что никакого стрем¬
ления к конституционному строю у благо¬
мыслящей, по крайней мере, части общества
вовсе нет. Этим Победоносцев тем легче
попадал в цель, что император Александр III
и сам был очень склонен к такому заклю¬
чению, так как оно совпадало с его собст¬
венными симпатиями.
В результате Победоносцев успел по¬
лучить от императора поручение составить
в соответственном духе манифест, по секре¬
ту от остальных министров,и государь
решился 28 апреля его подписать. Таким
образом, 29 апреля 1881 г. совершенным
сюрпризом для Лорис-Меликова и других
министров явился этот знаменательный акт,
долженствовавший положить предел продол¬
жавшимся до того времени колебаниям.
В манифесте этом было, между прочим,
сказано:
«Посреди великой нашей скорби глас
Божий повелевает нам стать бодро на дело
правления, в уповании на Божественный
Промысел, с верою в силу и истину самодер¬
жавной власти, которую мы призваны ут¬
верждать и охранять для блага народного
от всяких на нее поползновений».
Эти слова в манифесте 29 апреля 1881
г., естественно, рассматривались как опре¬
деленное указание свыше на то, что ни о
какой конституции думать не следует и что
принцип самодержавия ставится на будущее
время определенно во главу угла правитель¬
ственного режима.
Как только этот манифест стал известен,
перед самым его опубликованием, Лорис-
Меликову, то он сейчас же решил подать в
отставку, а вместе с Лорис-Меликовым
подали в отставку министр финансов А.А.
Абаза и военный министр Д.А. Милютин,
который играл такую выдающуюся роль в
правительственных сферах при покойном
императоре Александре II. Когда император
Александр III спросил Милютина, что же он
теперь намерен делать, то Милютин, как
говорили в то время, будто бы ответил, что
из Петербурга уедет и будет писать историю
своего государя...
Из очередного хода всех этих обстоя¬
тельств можно заключить, что к 29 апреля
решительную победу одержало реакционное
направление над прогрессивным. Однако же
на самом деле это было не вполне еще так:
хотя представители прогрессивного направ¬
ления и потерпели несомненное поражение,
но, в сущности говоря, власть не перешла
еще в руки реакционеров. Это можно видеть
из того выбора, который был сделан госуда¬
рем для замены ушедших министров, и из
той программы, которая была намечена в
манифесте непосредственно после только
что приведенной мною фразы.
На места ушедших министров были на¬
значены не реакционеры: министром внут¬
ренних дел был назначен Н.П. Игнатьев,
заявлявший себя в то время поборником
славянофильских идей и вместе с И.С.
Аксаковым мечтавший, как он это потом
довольно определенно и выразил, о созыве
земского собора, совещательного, конечно,
характера. Затем, на пост министра фина¬
нсов вместо Абазы был назначен его товарищ
Н.Х. Бунге, который являлся человеком хотя,
в общем смысле слова, пожалуй, и консер¬
вативного образа мыслей, но вместе с тем
бывший искренним сторонником и
участником реформ 60-х годов, заявивший
себя человеком с определенными демок¬
ратическими взглядами, стремившимся, во
всяком случае, к возможному облегчению
участи народных масс, так что в общем он
также далеко не мог считаться реакционе¬
ром.
Наконец, вместо министра народного
просвещения А.А. Сабурова, который подал
в отставку несколько раньше в св5. . с тем
скандалом, который был ему устроен рево¬
люционерами на университетском акте 8
февраля, был назначен вовсе не реакционно
394
настроенный человек, барон Николаи, кото¬
рый стал тотчас же весьма определенно
проводить головнинскую политику, возоб¬
новленную его предшественником Сабуро¬
вым, и деятельно боролся с Победоносцевым.
В манифесте 29 апреля наряду с фразой
о неограниченном самодержавии было опре¬
деленно выражено полное уважение к
великим реформам минувшего царство¬
вания и сказано было, что эти реформы не
только будут укрепляемы и поддерживаемы,
но и развиваемы дальше. Следовательно, в
общем манифест этот опять-таки не означал
еще безусловно реакционного направления.
И это еще ярче было подчеркнуто циркуля¬
ром нового министра внутренних дел в са¬
мый день его назначения — 6 мая 1881 г.
Здесь Игнатьев указывал, что правительство
примет меры к установлению живого
общения правительства со страной, живого
участия местных деятелей в государствен¬
ных делах в исполнение высочайших пред¬
начертаний. Это опять-таки знаменовало
намерение найти известную, правда, очень
скромную, форму участия представителей
общества в центральной государственной де¬
ятельности, т.е. приблизительно то же самое,
что хотел в этом отношении сделать и Лорис-
Меликов.
Затем в циркуляре указывалось, что
права земских и городских учреждений
останутся неприкосновенными и будут даже
восстановлены в прежнем объеме, на осно¬
вах Положения 1864 г. Наконец, указыва¬
лось, что крестьянство, которое
предостерегалось здесь, кстати, от
прислушивания ко всяким ложным толкам,
будет предметом особого внимания со сторо¬
ны правительства, причем крестьянам будут
не только гарантированы все ранее дарован¬
ные права и свободы, но и приняты будут
меры к облегчению тех тяжестей, которые на
крестьянах лежали, главным образом подат¬
ных, к удовлетворению их нужд, земельных
в особенности, и к улучшению сельского
общественного устройства и управления.
Таким образом, вы видите, что в этом
циркуляре Игнатьева как будто
воспринимались и намечались к испол¬
нению все намерения Лорис-Меликова, все
те меры улучшения экономического поло¬
жения народа, которые тот обещал провести.
Вместе с тем те сенаторы, которые были
отправлены ревизовать губернии, теперь
ожидались с тем, чтобы результаты их
ревизий положить в основу предполагаемых
преобразований. Мы, действительно, видим,
что очень скоро, именно через месяц после
издания этого циркуляра, граф Игнатьев как
будто и начал осуществлять обещанное им
живое участие представителей местного
общества в правительственных делах, пото¬
му что в июне 1881 г. была уже созвана
первая сессия так названных тогда «сведу-
ющих людей» с мест, причем хотя эти све¬
дущие люди и не были избраны земствами,
а приглашены самим правительством, но
надо сказать, что они были избраны им из
среды прогрессивных элементов земства, и
многие выдающиеся земцы, вроде кн.
Васильчикова, Колюпанова и других, были
приглашены в состав этой сессии. Им были
предложены на обсуждение не какие-нибудь
пустые вопросы, а вопросы, которые
действительно ставились тогдашнею
жизнью на очередь и имели весьма серьезное
значение для широких народных масс. Так,
первой сессии сведущих людей был предло¬
жен вопрос о понижении выкупных плате¬
жей; второй сессии был предложен вопрос
об урегулировании переселений, которые
являлись одним из главных паллиативных
средств для поправления положения кресть¬
ян в малоземельных местностях, и, кроме
того, питейный вопрос, который являлся так¬
же очень важным, так как, во-первых, пред¬
ставлялся воросом о сокращении пьянства,
а с другой стороны, это был существенный
вопрос государственного бюджета, так как
от питейного дела казна получала огромную
часть своих доходов.
Вместе с тем получили движение и даль¬
нейшую разработку в самих правительст¬
венных местах и вообще вопросы об
улучшении положения народных масс,
выдвинутые печатью в 70-х годах и признан¬
ные подлежащими неотложному разре¬
шению в эпоху «диктатуры сердца». Среди
них в первую очередь стал вопрос об обяза¬
тельном выкупе, т.е. вопрос о замене еще
существовавших до тех пор оброков «вре¬
меннообязанных» крестьян обязательным
для помещиков выкупом. Тогда /7 всех
имений были уже на выкупе, а /7, которая
выражалась в 1 400 тыс. душ крестьян,
платила помещикам оброки, и их уплата
могла продолжаться без срока. В самом
Положении 19 февраля, как вы помните,
была статья, которая указывала, что через
20 лет может быть пересмотрен вопрос
о размерах оброков «временнообязанных»
крестьян и, разумеется, не в смысле
их сокращения, так как предполога-
лось, что оброки зависят от доход¬
ности земли, которая должна была с
течением времени повышаться. Между тем
правительство, которому уже известна была
395
после исследований 70-х годов несоразмер¬
ность этих оброков с доходами и чрезвычай¬
ное обременение народных масс всякого
рода податями, решилось, наконец, про¬
вести некоторые облегчения крестьян в этом
отношении.
При Лорис-Меликове вопрос об обяза¬
тельном выкупе быстро пошел в ход; в янва¬
ре 1881 г. состоялось заседание
Государственного совета, в котором вопрос
этот был принципиально решен в
положительном смысле; именно, сперва в
соединенных департаментах экономии и за¬
конов решено было установить обязательный
выкуп крестьянских оброков в тех имениях,
которые не приступили еще к выкупу добро¬
вольному, а затем и в общем собрании Госу¬
дарственного совета тот же вопрос был
решен положительно.
Здесь необходимо отметить, что именно
по этому вопросу впервые в начале 80-х
годов мы сталкиваемся с начавшейся
реакционной дворянской агитацией, кото¬
рая, как только были затронуты существен¬
ные материальные „ интересы дворянства,
немедленно пробудилась. Первым голосом со
стороны этой реакции, раздавшимся в
общем собрании Государственного совета,
был голос бывшего министра внутренних дел
Тимашева, который являлся еще и в эпоху
крестьянской реформы ярым крепостником
и который здесь выступил с заявлением, что
в этом обязательном выкупе он усматривает
нарушение священных прав собственности,
тем более что помещикам предполагалось
выдавать выкупную ссуду в размере лишь
80% той суммы, которая должна была бы
выдаваться, если бы выкуп совершался по
добровольному соглашению. Тимашев
кончил свою речь такими словами:
«Да не будет упрека впоследствии в том,
что в Государственном совете не нашлось ни
единого голоса в защиту собственности, в
защиту права, которое защищено ныне дей¬
ствующим Положением 19 февраля и кото¬
рое предполагаемой министром финансов
мерой будет поколеблено!»
На эту выходку, однако, ему тогда же
очень удачно ответил министр финансов
Абаза, указав, что генерал-адьютант Тима¬
шев, вероятно, забыл свою прежнюю
позицию, когда двадцать лет тому назад он
являлся врагом Положения 19 февраля, пока
оно не сделалось законом, и когда он именно
был в числе тех, которые усматривали в
самом Положении 19 февраля меру, колеб¬
лющую собственность. Теперь же он, Тима¬
шев, очевидно, отказавшись от прежнего
своего заблуждения, указывает, что это По¬
ложение защищает интересы собственности;
очевидно, он и теперь делает такую же
ошибку, когда уверяет, что престиж собст¬
венности будет поколеблен введением обяза¬
тельного выкупа.
И, действительно, когда происходило го¬
лосование, то Тимашев сказал, что он не
будет делать разногласия, и в общем соб¬
рании Государственного совета вопрос об
обязательном выкупе прошел, таким обра¬
зом, единогласно.
Но, несмотря на единогласное решение
Государственного совета, конечно, утверж¬
денное и императором Александра III, все-
таки дворянская агитация началась, и очень
скоро она выразилась в постановлениях не¬
которых дворянских собраний (тамбовского,
московского и др.), которые указывали на
несправедливость по отношению к
помещикам этой меры. Они утверждали, что
у помещиков как бы Vs часть той выкупной
суммы, которая должна бы им причитаться
по капитализации крестьянских оброчных
платежей, будет отнята совершенно
произвольно. Эти заявления дворянства
подействовали на императора Александра
III, и хотя Игнатьев очень стойко под¬
держивал в этом случае решение Государст¬
венного совета, доказывая, что, собственно
говоря, нет никакой рациональности в том,
что дворянство заявляет, и что те помещики,
которые уже перевели своих крестьян на
выкуп почти повсеместно без добровольных
сделок с крестьянами, а по одностороннему
требованию владельцев и, следовательно,
также без крестьянских доплат, тоже
потеряли пятую часть причитавшейся им
выкупной суммы; те же помещики, которые
до сих пор не вошли в добровольную сделку
с крестьянами, как раз дольше других поль¬
зовались высокими оброками и, следователь¬
но, меньше других заслуживают поддержки
со стороны правительства, но император
Александр III, согласившийся на издание
закона, который и вышел 28 декабря 1881
г., тем не менее продолжал и после издания
его прислушиваться к жалобам, разда¬
вавшимся в среде реакционного дворянства.
Между прочим, ему было доставлено прост¬
ранное письмо графа А.А. Бобринского, гу¬
бернского предводителя петербургского
дворянства, который прямо утверждал, что
дворянство, в сущности, ограблено и что
правительство, если желает восстановить
справедливость, должно из государственных
средств не только выдать дворянству удер¬
жанную по закону 28 декабря 1881 г. пятую
часть выкупной суммы, которая, кстати ска¬
зать, по расчету Рейтерна, представляла
около 44 млн. руб., но что оно должно выдать
вознаграждение также и тем помещикам,
396
которые еще раньше перевели своих кресть¬
ян на вык^п по собственному желанию с
лишением /s или /4 выкупного вознаграж¬
дения. Однако после нового рассмотрения
вопроса это письмо осталось без пос¬
ледствий, и та дворянская агитация, которая
в это время только еще начиналась, на этот
раз не привела к цели3.
Таким образом, уже при новых
министрах Игнатьеве и Бунге вопрос этот
был разрешен довольно благополучно. Затем
началась целая серия новых законополо¬
жений, которые в литературе известны под
именем реформ Бунге, хотя значительная
часть их была подготовлена еще в эпоху
«диктатуры сердца».
На первом плане стоял вопрос об облег¬
чении положения тех крестьян, которые уже
раньше перешли на выкуп, т. е. вопрос о
понижении выкупных платежей. Этот воп¬
рос, как уже сказано, отдан был на решение
тем «сведущим людям», которые собрались
впервые в июне 1881 г. Надо сказать, что
правительство представило по этому вопросу
собранию «сведущих людей» детально раз¬
работанный проект: оно полагало жертвовать
ежегодно 9 млн. руб. из общей суммы вы¬
купных платежей; причем это общее
понижение в 9 млн. руб. оно полагало раз¬
делить между отдельными губерниями таким
образом, что на первый план поставлены
были наиболее обремененные 23 губернии,
из числа которых особенно большая сумма
назначалась на губернии нечерноземные и в
то же время непромышленные, где крестьяне
были в особенно тяжелом положении, так
как там и земля была плоха, и заработков не
было. Наибольшую сумму предполагалось,
совершенно справедливо, ассигновать на
Смоленскую губернию. В общем из этих 9
млн. руб. на указанные 23 губернии намече¬
но было отделить около 7 /2 млн. руб., а
остальные 1V2 млн. руб. предполагалось
распределить между остальными гу¬
берниями.
«Сведущие люди» все отнеслись к этому
предложению сочувственно; большинство,
однако же, не вполне согласилось с
правительством, признав представленные
правительством статистические данные не¬
достаточно точными; указывая на необ¬
ходимость общего понижения платежей во
всей России, совещание предлагало все вы¬
купные платежи повсеместно понизить на 1
руб. с каждого надела, а затем уже сверх того
произвести специальное понижение плате¬
жей в тех местностях, которые особенно
были переобременены ими, и на это
специальное понижение ассигновать сумму
в 5 млн. руб., считая, таким образом, общую
сумму понижения выкупных платежей не в
9 млн., а в 12 млн. руб.
Правительство согласилось с этим
мнением, и в вышеупомянутый закон 28
декабря 1881 г. на основании именно этого
заключения «сведущих людей» было вклю¬
чено также и постановление о понижении
всех выкупных платежей на 1 рубль повсе¬
местно, а затем ассигновано еще 5 млн. руб.
на дополнительное специальное понижение
в тех губерниях, которые заслуживали осо¬
бого внимания, причем предварительное
обсуждение вопроса о самом распределении
этих 5 млн. руб. между отдельными гу¬
берниями было предоставлено земствам.
При этом надо заметить, что в некоторых
губерниях, очень немногочисленных, впро¬
чем, опять раздались реакционные голоса со
стороны дворянства, хотя понижение выкуп¬
ных платежей делалось не за его счет, а за
счет казны или, точнее говоря, за счет вы¬
купной операции за прошлые годы, ибо
вычислено было, что выкупная операция в
общем шла для казны так удачно, что
скопились большие прибыли, и в главном
выкупном учреждении оказалось до 14 млн.
руб. излишков еще на 1 января 1885 г., за
покрытием всех расходов по операции. Из
этих-то излишков и оказалось возможным
осуществить признанное необходимым
понижение выкупных платежей. Несмотря
на это, ь симбирском губернском земском
собрании тогда впервые раздался голос одно¬
го (впоследствии сыгравшего крупную роль
в истории русской реакции) дворянина —
А.П. Пазухина, который пытался тогда
убедить симбирское земское собрание ска¬
зать, что симбирское крестьянство ни в ка¬
ком понижении платежей не нуждается.
Однако все же и здесь было признано, что и
для Симбирской губернии следует принять
специальное (ничтожное) понижение, кото¬
рое было предположено правительством.
Следующей реформой, которая была
проведена при Бунге, была отмена подушной
подати. Вы помните, какую важность этот
вопрос имел, по общему признанию, еще
начиная с 1870 г., когда он впервые был
поставлен перед земствами, был ими обсуж¬
ден и так или иначе разрешен, но не получил
никакого дальнейшего движения в
правительственных сферах.
Теперь, когда во главе Министерства
финансов стал Бунге, он решился в 1882 г.
окончательно приняться за разрешение этого
вопроса. Надо сказать, что Бунге являлся в
сфере финансовой политики в тесном смыс¬
ле продолжателем Рейтерна; а именно, он
являлся его продолжателем в стремлении
поднять курс нашего рубля и утвердить рав-
397
новееие бюджета прежде всего. Отсюда, ко¬
нечно, у него важное значение получили и
протекционизм в таможенной политике, и
экономия в расходах отдельных ведомств;
впрочем, в отношении этой последней надо
признать, что удавалась она ему плохо, пото¬
му что он не был настолько влиятелен, чтобы
обуздывать аппетиты других министерств, и
кроме того, ему приходилось вести государ¬
ственное хозяйство в тяжелые годы, на¬
ступившие после войны, когда результаты ее
вконец расстроили то, что было сделано
Рейтерном для поддержания курса
кредитного рубля.
Несмотря на это и уже в прямую
противоположность Рейтерну Бунге старал¬
ся идти навстречу народным нуждам даже
тогда,когда это было сопряжено с некото¬
рыми пожертвованиями для казны. В этом
отношении он продолжал политику Лорис-
Меликова и Абазы, изворачиваясь с
большим или меньшим искусством в своем,
несомненно, весьма трудном положении и
принимая иногда поневоле и противоречевые
меры. Так, при отмене подушной подати ему
пришлось встретиться с большими трудно¬
стями именно по вопросу о равновесии бюд¬
жета в то время. Ведь подушная подать
давала бюджету около 40 млн. руб. ежегодно,
следовательно, поступиться такой суммой
при общих еще скромных размерах тогдаш¬
него бюджета было довольно затруднитель¬
но, а между тем Бунге хорошо понимал и
несправедливость этой подати, и все те тя¬
желые правовые последствия для населения,
которые из нее возникли. Ведь вы помните,
что вследствие именно существования
подушной подати существовала круговая
порука, потому что иначе нельзя было обес¬
печить подать, наложенную на отдельных
лиц, а эта круговая порука влекла за собой
и ограничение свободы передвижения кре¬
стьянства, и фактическое ограничение кре¬
стьян в праве выбора занятий.
Поэтому вопрос об отмене подушной
подати был вопросом большой важности и в
отношении правового положения народа.
Бунге это прекрасно понимал и деятельно
стремился непременно так или иначе раз¬
решить этот вопрос; когда же перед ним
встала задача, чем же заменить подушную
подать, как покрыть ежегодный убыток в
доходах в 40 млн. руб., то он решился часть
этого, убытка покрыть усилением налога на
спирт, т. е. налога, который, в сущности
говоря, падал на наиболее пьющие слои того
же податного населения, остальную же часть
убытка ему приходилось взять уже прямо с
того же податного населения, только раз¬
ложив ее на слои крестьянства, более обес¬
печенные и менее обремененные податями.
Бунге так откровенно и хотел поставить
дело, увеличив оброчную подать государст¬
венных крестьян, но в Государственном со¬
вете высказаны были опасения, что это
может вызвать неблагоприятное впечатление
в народе и что лучше поэтому прикрыть
как-нибудь сущность дела. В качестве
прикрытия был изобретен способ, который
едва ли можно признать удачным; а именно,
было внезапно признано необходимым пере¬
вести государственных крестьян с оброка на
обязательный выкуп, т. е. заставит выкупать
свою землю тех крестьян, которые, в сущ¬
ности, платили под названием оброчной
подати простую поземельную подать. В этом
случае Государственный совет внезапно стал
на ту точку зрения, что надо сделать их
«полными собственниками» своих наделов,
какими они, в сущности говоря, не стали и
после выкупа; но под этим «благовидным»
предлогом признано было возможным
повысить их подати за землю, и они были
повышены в общем на 45%, и это повышение
пошло на покрытие убытка от уничтожения
подушной подати, что, конечно, явилось
большим минусом в деле осуществления
податной реформы. Надо сказать еще, что
эта реформа была проведена с некоторой
рассрочкой: именно в два срока — с 1 янва¬
ря 1883 и 1 января 1884 г. подушная подать
была сложена только с наиболее переобре¬
мененных крестьян, а с крестьян остальных
местностей она была сложена только с 1
января 1886 г.
Наряду с этим следует упомянуть серь¬
езную попытку Бунге произвести значитель¬
ное упорядочение в самом взимании
податей, которое до тех пор производилось
полицией с применением тяжелых и безоб¬
разных форм взыскания, причем часто рас¬
продавалось самое необходимое в
крестьянском быту имущество и нередко
крестьянам приходилось до получения ново¬
го урожая продавать для внесения податей
хлеб на корню. Таким образом, самая уплата
податей разоряла то население, от которого
зависело и благосостояние государства. Бун¬
ге как ученый финансист и экономист
хорошо понимал бессмысленность этого
порядка и поэтому настоял, чтобы были
введены податные инспекторы, на которых
и возложено как взыскание податей, так и
собирание сведений о зажиточности и пла¬
тежеспособности населения в целях даль¬
нейшего урегулирования податной системы.
398
ЛЕКЦИЯ XXXIX
Меры, принятые в начале царствования Александра Ш к облегчению земельной тесноты крестьян.—
Крестьянский банк и его первые шаги при Бунге.— Облегчение аренды казенных земель крестьянами.—
Упорядочение крестьянских переселений.—Правила 1881 г.—Закон 13 июля 1889 г.—Введение
фабричной инспекции и закон о защите малолетних и женщин на фабриках.— Налоги на наследства и на
процентные бумаги.— Вопрос об административной крестьянской реформе.— Кохановская комиссия. Ее
состав и ликвидация ее работ.— Крушение игнатьевского режима.
В прошлой лекции я рассказывал вам
довольно подробно первые шаги царство¬
вания императора Александра III и оста¬
новился в конце ее на тех податных
реформах, которые были проведены при
Абазе и Бунге.
В это же время разработан и проведен
был ряд мер, направленных к борьбе с
крестьянским малоземельем. В этом отно¬
шении следует указать три главные меры:
во-первых, учреждение Крестьянского бан¬
ка, при помощи которого крестьяне могли бы
иметь дешевый кредит для покупки земель;
во-вторых, облечение аренды казенных зе¬
мель и оброчных статей, которые отдавались
или могли отдаваться в аренду, и, наконец,
в-третьих, урегулирование переселений.
Все эти задачи были совершенно опре¬
деленно намечены еще в эпоху «диктатуры
сердца» и были переданы в наследство но¬
вому правительству.
Что касается до проекта учреждения
Крестьянского'банка, составленного Бунге и
внесенного Бунге, Игнатьевым и
Островским в Государственный совет за
общей их подписью, то в представлении об
этом указывалось, что ввиду ограниченности
тех средств, которые казна может на это дело
дать, необходимо наблюдать, чтобы эти сред¬
ства шли на помощь лишь наиболее малозе¬
мельным крестьянам и чтобы ссуды
давались не в произвольном размере, а толь¬
ко в том, который нужен для приобретения
земли, необходимой для того, чтобы владение
каждого получившего ссуду крестьянина
достигало лишь максимальной нормы, уста¬
новленной по Положению 1861 г., когда дело
касалось крестьян-общинников; если же де¬
ло шло о приобретении отдельными кресть¬
янами подворных участков, то чтобы весь
покупаемый или округляемый при со¬
действии банка надел доводился до
максимального размера подворного участка,
определяемого в законе или по обычаю для
каждой местности.
Государственный совет не согласился с
такой постановкой вопроса главным образом
ввиду того весьма сильно действовавшего
тогда жупела, что будто бы в народе
циркулируют толки о «черном переделе» и
что народ будто бы ждет, что правительство
само даст к этому сигнал. Государственный
совет счел нужным бороться с этими тол¬
ками и в постановке вопроса о Крестьянском
банке. Поэтому было постановлено, что Кре¬
стьянский банк должен вообще помогать
крестьянам независимо от того, какие кре¬
стьяне и в каком размере покупают землю.
Бунге пришлось с этим помириться ввиду
тех политических условий, которые тогда
были учтены Государственным советом, и,
таким образом, явилась такая постановка
дела, которая, в сущности говоря, должна
была значительно исказить самый характер
нового учреждения.
Надо, впрочем, сказать, что, несмотря
на то что правительство в первое время могло
ассигновывать на Крестьянский банк не бо¬
лее чем по 5 млн. руб. ежегодно, тем не менее
в первые три года, пока Бунге был
министром и пока действовал первый состав
администрации Крестьянского банка,
подобранный самим Бунге, деятельность
банка регулировалась теми соображениями,
которые были выражены Бунге в его перво¬
начальном проекте, и ссуды банка выда¬
вались действительно наиболее
нуждающимся в земле крестьянам. Но через
три года направление деятельности банка
изменилось; правительство испугалось на¬
копившихся недоимок и в результате стало
усердно продавать земли крестьян, ока¬
завшихся неисправными плательщиками,
так что в конце концов вся деятельность
банка в конце 80-х годов свелась к весьма
ограниченным, ничтожным оборотам и слу¬
чайной весьма нерациональной покупке зе¬
мель зажиточными крестьянами. В
результате после десяти лет существования
Крестьянского банка было вычислено, что
размеры крестьянского землевладения бла¬
годаря банку увеличились лишь на 1,2 %, т.
е. едва на 0,12 % в год, между тем как при
содействии частных кредитных учреждений
и без их содействия в предшествующее вре¬
399
мя крестьянское землевладение увеличива¬
лось ежегодно в среднем на 0,3 %.
Что касается вопроса об аренде земель,
то в этом отношении уже в то время в общем
сознании пробивалась мысль, что ввиду не¬
обычайного роста арендных цен следовало
бы, по возможности, регулировать не только
аренду казенных земель, но и аренду земель
частновладельческих. Такое течение отра¬
жается в тогдашней прогрессивной печати.
Так, например, в программе, опубликован¬
ной в «Вестнике Европы» в это время, на
первый план ставилась борьба с малоземель¬
ем и стремлением к передаче в руки кресть¬
ян, по возможности, необходимого
количества земли1.
С другой стороны, и правительственным
сферам не чужда была мысль о том, что
следует как-нибудь урегулировать как казен¬
ную, так и частную аренду земли крестья¬
нами. Так, в одной из правительственных
комиссий, обсуждавших поземельный воп¬
рос в 1881 г., а именно в комиссии, состо¬
явшей под председательством П. П.
Семенова, был возбужден вопрос о том, что¬
бы крестьяне, арендующие у частных вла¬
дельцев землю, арендовали бы ее по
условиям, заключенным не меньше чем на
девять лет, и чтобы им представлено было
право выкупать эти земли по цене, представ¬
ляющей капитализацию средней арендной
платы за эти девять лет2.
На такой же приблизительно позиции
стояли и «сведущие люди» второй сессии,
которые также сочли необходимым уре¬
гулировать частновладельческие арендные
цены и сами условия найма земель. Но
Государственный совет и здесь стал на почву
различных опасений, и все эти предполо¬
жения остались без движения. Уре¬
гулирование условий аренды коснулось
одних только казенных имуществ; но, конеч¬
но, и в этом случае оно имело все-таки
некоторое значение, потому что таких казен¬
ных имуществ было несколько миллионов
десятин. До 1881 г. огромная часть этих
угодий арендовалась частными лицами,
различными предпринимателями и кула¬
ками, а вовсе не сельскими обществами и не
крестьянами, нуждавшимися в земле. И вот
впервые в апреле 1881 г., по инициативе
Игнатьева, который был еще тогда — при
Лорис-Меликове — министром государст¬
венных имуществ, было установлено, что
казенные земли в аренду отдаются прежде
всего окружным крестьянам, на каком бы
расстоянии от них они ни владели своей
землей. Это сразу значительно изменило
положение, ибо вместо 23 % крестьянской
аренды на казенных оброчных статьях до
1881 г. теперь стало арендоваться кресть¬
янскими обществами 66 % всех казеннооб¬
рочных статей.
В 1881 г. правила об аренде казенных
земель были несколько изменены; а именно,
по закону 1881 г. земли отдавались в 24-лет-
нюю аренду, а тут срок аренды был сокра¬
щен до 12 лет и притом без торгов внредь
могли их брать только те крестьяне, которые
живут не далее 12 верст от арендуемой
оброчной статьи. Таким образом, действие
этой скромной, но благожелательной меры
1881 г. в 1884 г. было несколько ограничено.
Что касается до переселенческого вопро¬
са, который стал в это время заявлять о себе
в довольно острых формах, то следует за¬
метить, что, вообще, переселенческое
движение являлось делом не новым. При
крепостном праве переселения могли совер¬
шаться лишь в двух формах: путем вывода
крестьян помещиками на купленные ими
пустопорожние земли или в форме само¬
вольного бегства крестьян. Надо сказать, что
эта вторая форма вовсе не была
исключительной при крепостном праве; так,
например, по отрывочным сведениям, кото¬
рые имеются в литературе предмета, в
1838—1840 гг. из Тамбовской губернии вы¬
селилось самовольно около 8 тыс. душ
помещичьих крестьян; затем с 40-х годах из
Полтавской губернии выселилось тоже само¬
вольно около 3 тыс. душ. Таким образом, мы
видим, что значительное количество душ
крестьян при крепостном праве переселяло¬
сь самовольно на свободные места, и
правительство, в значительной части случа¬
ев не имея возможности их возвращать,
смотрело на это сквозь пальцы, приписывало
их к ближайшим к месту их водворения
обществам и вводило в казенный оклад.
Казенные крестьяне переселялись на более
правильных условиях еще со времен Кисе¬
лева, который деятельно занимался, как вы
помните, еще с 40-х годов вопросом рассе¬
ления казенных крестьян. Здесь дело шло
гораздо правильнее: законом предус¬
матривались различные, частью даже де¬
нежные, пособия, которые, впрочем, редко
выдавались в полном объеме ввиду
отсутствия средств. Между 1831 и 1866 гт.
казенных крестьян переселялось примерно
по 9 тыс. душ в год, а были годы, когда
размеры этого переселения достигали 28
тыс. душ.
400
С уничтожением крепостного права
движение переселенцев» конечно, не прек¬
ратилось. Хотя в Положении 1861 г. было
указано, что в первые девять лет крестьяне
не имеют права оставлять наделы без сог¬
ласия помещиков, тем не менее самовольные
переселения достигли значительных разме¬
ров. При этом, несмотря на то что новые
переселения в Амурский и Уссурийский
края были обставлены вскоре после приобре¬
тения этих территорий большими льготами,
крестьяне предпочитали действовать на свой
страх и переселялись в менее отдаленные
местности Сибири, а отчасти и на окраины
Европейской России без разрешения и без
содействия правительства.
К концу 70-х годов размеры такого са¬
мовольного переселенческого движения под¬
ходят к 40 тыс. душ в год. Правительство
признало наконец своевременным обсудить
этот вопрос, и на основании соглашения
между министрами внутренних дел, госу¬
дарственных имуществ и финансов были
выработаны особые Правила 10 июня 1881
г., которые, впрочем, не были объявлены во
всеобщее сведение, а были лишь предназна¬
чены для руководства местных начальств.
Было признано желательным допускать
переселения крестьян только с разрешения
правительства, причем такие разрешения
должны были выдаваться по соглашению
министров внутренних дел и государствен¬
ных имуществ. Разумеется, это опять-таки
создавало огромную процедуру и волокиту,
которой крестьяне не желали подчиниться.
Поэтому и после принятия этой меры по-
прежнему шли самовольные переселения
крестьян.
Когда Игнатьев созвал вторую сессию
«сведущих людей» (в сентябре 1881 г.), то
работой, предложенной им на обсуждение,
был именно переселенческий вопрос. Эта
комиссия «сведущих людей» сильно
раскритиковала Правила 10 июня 1881 г. и
признала, что переселенческое движение не
должно подвергаться никакой регламен¬
тации, что вообще переселения должны
признаваться целесообразными и до¬
пустимыми в том объеме, в каком они
происходят, и что правительством должны
быть принимаемы только меры по отно¬
шению к водворению переселенцев, но что
при этом отнюдь не следует стеснять их в
выборе места переселения; что им должны
быть при этом даваемы известные льготы,
именно воспособления на первое время, если
возможно,— денежные и натуральные
пособия, последние, например, в форме вы¬
дачи леса на постройку.
В конце концов, хотя этот план «све¬
дущих людей» не получил утверждения, а
продолжали «действовать» или, точнее ска¬
зать, бездействовать Правила 10 июня 1881
г., тем не менее переселенческое движение
продолжало по-прежнему совершаться в
форме самовольных переселений. Но
правительство и в эти годы вынуждено было
мириться с этим фактом, и эти самовольные
переселенцы, вопреки закону, не только не
возвращались назад, а их и формально в
конце концов «устраивали»на местах, иног¬
да даже давая им (в виде исключения)
известные льготы и ссуды. В конце концов в
80-х годах, уже при полном разгаре
реакции, при графе Д. А. Толстом, который
сделался министром внутренних дел в 1882
г. и, как известно, вовсе не был склонен
содействовать облегчению каких бы то ни
было народных нужд, тем не менее
правительство не могло бороться с этим
переселенческим движением и мало-помалу
должно было, в сущности, принять почти все
меры, которые рекомендовались «све¬
дущими людьми»; и вот в 1889 г.— в эпоху
полной реакции — был проведен через Госу¬
дарственный совет первый опубликованный
закон о переселениях 13 июля 1889 г., кото¬
рым разрешение переселений несколько бы¬
ло облегчено, именно: оно зависело по этому
закону уже не от соглашения двух
министров, а только от министра внут¬
ренних дел, и при этом сами переселения
обставлялись очень значительными льго¬
тами — на три года переселенцы освобож¬
дались от всяких податей и воинской
повинности, а на следующие три года подати
взимались с них в половинном размере.
Были оказываемы и различные денежные и
натуральные воспособления, первые, впро¬
чем, до середины 90-х годов в очень ничтож¬
ных размерах.
Чтобы покончить с политикой Бунге по
отношению к народным массам, следует
упомянуть о тех законах по рабочему вопро¬
су, которые были изданы впервые при Бунге,
начиная с 1882 г. Впервые русское
правительство стало с этого времени на путь
защиты — если не всех рабочих, тр, по
крайней мере, малолетних и женщин — от
произвола фабрикантов. Законом 1882 г.
впервые ограничена была продолжитель¬
ность рабочего времени малолетних и
женщин и более или менее поставлены под
контроль правительственных властей ус¬
401
ловия их работы, а для надзора за испол¬
нением этих постановлений были учрежде¬
ны первые должности фабричных
инспекторов. Рядом последующих узако¬
нений 1884—1-886 гг. закон о фабричной
инспекции был еще несколько развит.
Затем следует еще упомянуть о попыт¬
ках, которые были сделаны при Бунге, к
привлечению более имущих классов к не¬
сению доли податного бремени. Первой та¬
кой попыткой был закон о налоге на
наследства, изданный 15 июня 1882 г., а
затем и другой закон — о налоге на процен¬
тные бумаги — 20 мая 1885 г.
Таковы были эти, все-таки немаловаж¬
ные в общем счете, хотя, конечно, и вполне
паллиативные, мероприятия правительства
начала, или даже первой половины 80-х
годов, направлявшиеся к улучшению эко¬
номического положения народных масс.
Что касается вопроса об упорядочении
крестьянского общественного устройства и
управления, то этот вопрос, как я вам го¬
ворил раньше, был передан циркуляром
Лорис-Меликова от 22 декабря 1880 г. на
обсуждение земствам, и земства очень охот¬
но воспользовались тогда этим пригла¬
шением правительства. При обсуждении
этого важного вопроса многие земства его
значительно расширили и некоторые из них
поставили даже вопрос об изменении всего
местного управления в стране. Наиболее
передовые земства при этом, естественно,
стали на точку зрения необходимости уста¬
новления связи между крестьянским само¬
управлением и земством, признав в то же
время безусловно необходимым освободить
крестьянское самоуправление от тех элемен¬
тов административно-полицейской опеки,
которая была установлена над ним законо¬
дательством 19 февраля 1861 г.
Вместе с этим в некоторых земствах
вновь возникает и вопрос о всесословной
волости. Земства признавали довольно
единодушно, что прежде всего крестьян надо
избавить от той сословной исключитель¬
ности, которая ставила их под особую
полицейско-административную опеку, а за¬
тем объединить крестьян с другими
сельскими жителями или сословиями,
причем первой единицей самоуправления
некоторые из земств предполагали сделать
всесословную волость.
Но надо сказать, что и в самих земских
кругах эта постановка вопроса вызвала тогда
возражения, притом с двух противополож¬
ных сторон: некоторые наиболее на¬
роднически настроенные земцы боялись ус¬
тановления всесословной волости в том отно¬
шении, что в ней помещики получат большое
преобладание над крестьянами в силу своего
большего развития, а крестьяне будут
повиноваться барину ввиду тех бытовых ус¬
ловий и навыков, которые еще остались от
крепостного права; с другой стороны, неко¬
торые представители земства, даже довольно
прогрессивные,— как, например, князь С.
В. Волконский и А. И. Кошелев в рязанском
земстве,— полагали, что в такой всесослов¬
ной волости крестьянская масса задавит
интеллигентных представителей и что может
случиться так, что даже прогрессивные
начинания,— как, например, вопрос об
ассигновании денег на земскую школу,—
погибнут от преобладания невежественной
массы в первой инстанции всесословного
земства.
Таким образом, и в земствах вопрос этот
не получил единодушного разрешения в то
время.
В разрешении вопроса о преобразовании
крестьянского общественного управления и
всего местного самоуправления большое зна¬
чение имели сенаторские ревизии, которые
собрали по этому предмету довольно боль¬
шой материал. Когда же осенью 1881 г.
сенаторы вернулись из своих объездов, то,
во всеподданнейшему докладу Игнатьева,
решено было учредить особую вневедомст¬
венную комиссию под председательством
статс-секретаря Коханова, бывшего то¬
варища министра при Лорис-Меликове,
комиссию, которая потом так и называлась
по имени своего председателя Кохановской.
В ее состав были назначены кроме ревизо¬
вавших различные губернии сенаторов неко¬
торые из лиц, принимавших участие в
предварительной разработке вопроса о
реформе местного управления, затем, в ка¬
честве членов-экспертов, разные земские де¬
ятели в очень небольшом числе, причем
Коханову было предоставлено право их
число впоследствии увеличить.
Эта комиссия, созданная, таким обра¬
зом, как бы для осуществления некоторых
идей эпохи «диктатуры сердца», начала свои
работы с осени или, вернее, даже с зимы
1881 г. и в трех первых своих заседаниях
установила общий план своих работ, кото¬
рый представлен был на высочайшее утвер¬
ждение, а затем выделила из своего состава
особую подкомиссию, названную почему-то
«совещанием», во главе с тем же Кохановым,
причем в нее были включены и рев изо-
402
вавшие сенаторы. На эту подкомиссию и
была возложена подробная разработка
реформы. Совещание это работало в течение
2 /2 лет и проектировало целый ряд весьма
важных преобразований. Оно разработало
реформу не только крестьянского общест¬
венного устройства, но и всего местного
управления. При этом оно стало на всесос¬
ловную или, вернее, даже на бессословную
точку зрения и во главу угла своих работ
положило мысль, что крестьяне должны
быть освобождены наравне с другими сос¬
ловиями от всякой административной опеки
и что сельские общества должны включать в
свой состав всех сельских обывателей дан¬
ного околотка без различия сословия,
причем все они должны на равных правах
принимать участие в сельском самоуправ¬
лении. Характер чисто крестьянской
единицы должен был быть сохранен лишь за
крестьянской поземельной общиной, кото¬
рая являлась бы единицей чисто хозяйствен¬
ной без всяких полицейских обязанностей.
Такие общины могли, однако, существовать
лишь там, где сохранилось общинное земле¬
владение. Наоборот, бессословные сельские
общества, учрежденные для целей общест¬
венно-административных, должны были су¬
ществовать повсюду.
Эти бессословные сельские общества
являлись бы, таким образом, первой и
низшей единицей самоуправления и непос¬
редственно должны были быть связаны с
уездным земством. Волость совершенно
исключалась из числа самоуправляющихся
единиц и, по идее кохановской комиссии,
должна была получить значение лишь
территориального подразделения уезда для
земских административно-хозяйственных
целей, причем во главе каждой волости дол¬
жен был быть поставлен особый земский
приказчик — «волостель», который и
избирался бы из местных жителей уездными
земскими собраниями.
В таком виде был разработан проект
изменения земского и крестьянского самоуп¬
равления к концу работ «совещания» коха¬
новской комиссии; но конец работ этого
«совещания» (конец 1884 г.) совпал с пол¬
ной победой реакции в правительственных
сферах, когда министром внутренних дел
был уже Толстой и когда он уже успел
вполне ориентироваться во вверенном ему
министерстве. Толстой решил так или иначе
ликвидировать всю ту работу кохановской
комиссии, которая была произведена, а для
того, чтобы эта ликвидация прошла до неко¬
торой степени в благовидной форме, как
будто бы в согласии с мнением большинства
местных сведущих людей, то решено было
вызвать в состав кохановской комиссии
таких «сведущих лиц», которые могли бы
безусловно отвергнуть все выводы «сове¬
щания». Выбор их был произведен, разуме¬
ется, помимо Коханова: в состав их были
приглашены некоторые губернаторы и ряд
известных представителей реакционного
дворянства, и они-то и подвергли все работы
кохановской комиссии своей реакционной
критике.
Собственно, крах игнатьевского режима
произошел еще в мае 1882 г.— ровно через
год после того, как Игнатьев сделался
министром внутренних дел. Крушение Н. П.
Игнатьева содействовал главным образом
все тот же Е. П. Победоносцев, который вы¬
звал за год перед тем падение гр. Лорис-
Меликова. Воспользовался для этого
Победоносцев моментом, когда Игнатьев
решился, под влиянием своих московских
единомышленников славянофилов, пред¬
ложить созыв во время коронации земского
собора в Москве. В состав этого собора
должны были быть призваны лица разных
сословий в числе более 3 тыс. человек.
Очевидно, это было бы довольно нелепое
собрание, отнюдь не похожее на законода¬
тельные или даже законосовещательные уч¬
реждения цивилизованных государств. Про
такой собор Катков мог, конечно, вы¬
разиться, как он это сделал в одной из статей
того времени, что это было бы просто такое
же «ура», «какое недавно раздавалось в
Кремлевском дворце на слова государя, воз¬
вещавшего войну».
В недавнее время опубликована пе¬
реписка г-жи Голохвастовой с И. С. Аксако¬
вым, которая рисует весь ход этого дела .
Проект, разработанный одним московским
славянофилом, Голохвастовым, и представ¬
ленный государю Игнатьевым, по-видимому,
уже получил одобрение императора Алек¬
сандра, когда в это дело вмешался Победо¬
носцев, который действовал против
Игнатьева опять-таки путем закулисных
интриг и устроил ему своего рода d etat.
Когда Игнатьев узнал, что Победоносцев едет
с докладом по этому вопросу в Гатчину, он
просил Победоносцева назначить ему нака¬
нуне доклада свидание, но Победоносцев
ответил, что он поздно встает, а доклад
начинается рано, и уехал, нарочно не
повидавшись с Игнатьевым, а тот получил
уже непосредственно от императора Алек¬
403
сандра, которого Победоносцев успел-таки
убедить разорвать окончательно со всеми
системами уступок общественному мнению,
уведомление, что его проект неприемлем.
Игнатьеву оставалось подать в отставку.
На его место был призван граф Д. А. То¬
лстой, тот самый, который в 1880 г. был
уволен от поста министра народного просве¬
щения по инициативе Лорис-Меликова к
ликованию всей мыслящей России.
Лишь с этого момента стал явственно
определяться правительственный курс, кото¬
рого император Александр III придерживал¬
ся уже до конца жизни и который сообщил
ярко реакционную окраску всему его царст¬
вованию.
ЛЕКЦИЯ XL
Решительный поворот к реакции.— Роль Победоносцева.— Гр. Д.А. Толстой.— Реакция в Министерст¬
ве народного просвещения.— Дворянская реакционная политика во внутренних делах.— Юбилей жало¬
ванной дворянской грамоты в 1885 г. и связанное с ним дворянское реакционное движение.— Программа
Пазухина.— Ликвидация вопроса о преобразовании крестьянских учреждений после закрытия коханов¬
ской комиссии.— Закон 12 июля 1889 г. о земских начальниках.— Положение о земских учреждениях
12 июня 1890 г.— Судебные новеллы.— Новый закон о печати 1882 г. и ее положение.— Преследование
иноверцев и инородцев.— Еврейский вопрос.— Новые порядки в армии и в военно-учебных заведениях.
В двух прошлых своих лекциях я оха¬
рактеризовал вам два первых, весьма крат¬
ковременных, но в то же время и весьма
знаменательных, периода царствования
Александра III, имевших, в сущности, оба
вступительный, переходный, и в
зависимости от этого весьма колебательный
характер.
С крушением министерства Игнатьева и
переходом власти в руки графа Толстого в
мае 1882 г. начинается окончательный
резкий поворот к реакции — поворот,
опиравшийся на определившуюся к тому
времени вполне уже реакцию в части рус¬
ского общества. С момента этого поворота,
можно сказать, началась истинная эпоха
императора Александра III, окрашенная в
свой настоящий цвет. Наряду с упразд¬
нением славянофильского министерства Иг¬
натьева были упразднены очень скоро вслед
за тем и те придворные тайные организации
«Священная дружина» и «Добровольная
охрана», в недрах которых обнаружились
тоже своеобразные конституционные те¬
чения и попытки, организованные молодым
графом Шуваловым при некотором участии
тогдашнего министра двора гр. Воронцова-
Дашкова. Относительно этих попыток
теперь дает очень много нового вышедшая в
минувшем году книга В.Я. Богучарского,
которая вызвала значительную полемику,
главным образом со стороны критиковавше¬
го ее Б.А. Кистяковского, полемику весьма
плодотворную, причем вся эта эпоха была в
значительной мере заново выяснена1.
После коронации, благополучно отпраз¬
днованной в мае 1883 г., правительству уда¬
лось захватить остатки революционной
организации «Народная воля» при со¬
действии предателя революционера Дегаева
и при помощи того внутреннего разлада,
который в тот момент наступил в рево¬
люционной среде, и затем Толстому была
отдана в руки «вся полнота власти», выра¬
жаясь современным нам языком.
Впрочем, и Толстому пришлось пот¬
ратить немало усилий и времени на оконча¬
тельную ликвидацию наследия «диктатуры
сердца»: при нем в течение трех лет, как вы
могли заметить, продолжал свою деятель¬
ность Н.Х. Бунге; при нем в течение двух
лет работала еще кохановская комиссия, и
для работ этой комиссии правительству
пришлось в конце концов приготовить осо¬
бые похороны по первому разряду,
пригласив предварительно в помощь к себе
для полного аннулирования ее предначер¬
таний особых экспертов из «общества», ко¬
торые были подобраны из числа наиболее
реакционно настроенных дворян, громко о
себе заявлявших в то время в разных мест¬
ностях России, да из местных администра¬
торов «крепкой руки», вроде черниговского
губернатора Анастасьева. На все это, повто¬
ряю, пришлось Толстому затратить не менее
двух-трех лет.
Ранее всего Толстому удалось восста¬
новить реакционное течение дел в старом
своем ведомстве, в Министерстве народного
просвещения, которым он заведовал в те¬
чение 16 лет в царствование Александра II
и где в это время, именно в мае 1882 г.,
либерального министра барона Николаи
сменил также считавшийся либералом, но
404
теперь рабски покорный Толстому и Побе¬
доносцеву И.И. Делянов. Здесь уже в 1884
г. оказалось возможным провести новый
университетский устав, изготовленный по
идеям Каткова, Леонтьева и Любимова, так
что Катков мог, наконец, ликуя, провозг¬
ласить свой знаменитый торжествующий
окрик: «Встаньте, господа, правительство
идет, правительство возвращается».
По новому уставу, университетские со¬
веты были лишены всех остатков автономии,,
и министерство получило возможность по-
своему составить программу юридического и
филологического факультетов, так что
университетам пришлось вспомнить време¬
на Ширинского-Шихматова. Студентов
решено было взять, так сказать, в ежовые
рукавицы, уничтожив в их среде всякие
зачатки корпоративных организаций, а при
малейших попытках к протесту отдавать их
в солдаты. И несколько случаев применения
этой суровой меры действительно было в
царствование императора Александра III.
Таков был новый режим в высшей шко¬
ле; о средней школе можно сказать, что
относительно ее явилось стремление вернуть
ее в положение николаевской сословной
гимназии, сохранив при этом все черты
толстовской ^классической системы. Харак¬
тернейшим документом деляновской систе¬
мы именно по отношению к средней школе
является известный циркуляр о «ку¬
харкиных детях», как его называли сокра¬
щенно в публике, относившийся вообще к
детям низших сословий, которые должны
были безусловно быть устранены из
гимназий, причем, чтобы это облегчить,
предположено было уничтожить приго¬
товительные классы, дабы тем самым за¬
труднить возможность для людей
малосостоятельных подготовлять детей в
первый класс. Тут с^ова была воскрешена
идея, провозглашенная императором Нико¬
лаем еще в 1827 г. в его известном
рескрипте Шишкову.
Низшие школы предположено было
окончательно передать в духовное ведомство,
согласно домогательствам Победоносцева, и
если de facto в 90-х годах этого не случилось,
то в значительной мере, может быть, благо¬
даря дворянской оппозиции, которая, даже
и будучи реакционной, не желала, однако,
выпустить дело начального образования из
своих рук; главным же образом не удалось
это потому, что у правительства не было
необходимых денежных средств. Ведь зем¬
ства в огромном большинстве не согла¬
шались передавать свои земские школы ду¬
ховному ведомству; эти школы можно было,
конечно, отнять у земства, но тогда надо
было бы ассигновать на них казенные сред¬
ства, а именно средств-то и не хватало; и,
таким образом, благодаря этому — и благо¬
даря тому, что огромное большинство земств
не согласилось на предложение графа То¬
лстого передать добровольно школы в духов¬
ное ведомство,— школы эти остались и
дальше в руках земства.
Но надо сказать, что самый низший тип
народных школ, а именно так называемые
школы грамоты, школы, которые уст¬
раивались часто самими крестьянами и для
которых не требовалось даже учителей, по¬
лучивших специальные учительские пра¬
ва,— эти школы, по закону 13 июня 1884 г.,
проведенному Победоносцевым при поддер¬
жке Делянова, были переданы целиком в
ведомство Святейшего Синода. Это послед¬
нее обстоятельство, впрочем, оказалось в
конце концов не особенно вредным в деле
развития начального народного образования,
так как этот тип школ чрезвычайно плох сам
по себе, и земства склонялись к нему только
в тех случаях, когда у них не было средств
на сколько-нибудь правильно устроенные
школы, а то обстоятельство, что школы гра¬
моты были переданы в духовное ведомство,
оттолкнуло от них земства и тем самым
принудило их давать иногда большие
ассигновки на народное образование и осно¬
вывать новые школы более высокого типа.
Таково было положение народного образо¬
вания в эту реакционную эпоху.
Новое дворянское реакционное направ¬
ление, которое проводилось правительством
при графе Толстом во внутренних делах,
всего яснее отразилось на судьбе крестьян¬
ского вопроса и на реформе земского управ¬
ления. И то и другое имело ближайшую
связь с работами кохановской комиссии.
Первые проявления дворянской
реакционной агитации, как вы уже видели в
прошлый раз, обнаружились еще в 1881 г.,
при обсуждении вопросов об обязательном
выкупе и понижении выкупных платежей.
Как только задеты были серьезно материаль¬
ные интересы дворянства, тотчас же дворян¬
ской реакционной агитацией пущены были
в ход слухи о весьма тревожном настроении
крестьян и о проникновении в крестьянскую
среду крамольных идей, которые получили
там развитие в форме толков о близком
полном или так называемом «черном» пере¬
деле земли. И вот эти слухи, имевшие, может
405
быть, некоторое основание, но, несомненно,
чрезвычайно раздутые, произвели весьма
сильное впечатление на императора Алек¬
сандра III. Уже в речи государя, которую он
произнес в 1883 г. на коронации волостным
старшинам, прозвучало первое резкое пре¬
достережение крестьянам — не слушать
крамольных толков и во всем подчиняться,
как выразился государь, «своим» пред¬
водителям дворянства. На первый взгляд, это
кажется простою обмолвкою — казалось бы,
предводители дворянства и были пред¬
водителями только дворянства, но импера¬
тору Александру представлялось, что
предводитель дворянства есть глава всякой
власти и общества в уезде.
Дальнейшее сближение правительства с
реакционными видами дворянства про¬
явилось в способе ликвидации работ земств,
которым поручено было обсуждать кресть¬
янский вопрос еще Лорис-Меликовым, и
работ кохановской комиссии, а также в ряде
весьма значительных актов, связанных со
столетним юбилеем дворянской жалованной
грамоты в 1885 г.
По этому именно случаю в 1885 г. был
открыт особый Дворянский банк, специаль¬
ной задачей которого было поддержание ссу¬
дами на льготных условиях дворянского
землевладения. В манифесте, изданном по
этому случаю, было выражено пожелание,
чтобы впредь «дворяне российские сохра¬
няли первенствующее место в пред¬
водительстве ратном, в делах местного
управления и суда, в распространении
примером своим правил веры и верности и
здравых начал народного образования».
В благодарственных адресах дворян, ко¬
торые последовали в ответ на этот манифест,
именно со стороны наиболее реакционно
настроенного дворянства некоторых гу¬
берний, особенно в адресе дворянства
Симбирской губернии, где во главе этого
течения стал алатырский предводитель дво¬
рянства Пазухин, было указано, что дворян¬
ство возлагает свои надежды на
правительство, именно на крепкую
правительственную власть, усиление кото¬
рой позволило бы дворянству спокойно жить
в деревнях. На эти заявления дворянства
правительство отвечало, что в этом духе и
будет направляться законодательная работа.
Это было чрезвычайно показательно и совер¬
шенно кончало со всеми демократическими
и либеральными идеями, которые находили
себе еще некоторую поддержку в министер¬
стве Игнатьева и Бунге; над всем этим окон¬
чательно был поставлен крест. И мы видим,
что, действительно, ликвидация тех работ и
проектов, которые были приготовлены коха¬
новской комиссией, возложена была именно
на Пазухина, являвшегося наиболее ярким
и последовательным представителем этого
дворянского реакционного течения. Пазухин
изложил довольно ярко свои идеи в 1885 г.
в статье, напечатанной им в «Русском
вестнике», а потом появившейся в виде
отдельной брошюры под заглавием «Совре¬
менное состояние России и сословный воп¬
рос». Здесь Пазухин открыто объявлял
причиной всех язв современной России тот
бессословный строй, который создан был
реформами 60-х годов, из которых он осо¬
бенно ненавистными считал реформы зем¬
скую и судебную.
«Социальная нивелировка, начавшая¬
ся,— по мнению Пазухина,— не с кресть¬
янской, а с земской реформы, лишила
дворянство всех служилых прав как по ме¬
стному, так и по государственному управ¬
лению. Утрата служебных привилегий
имела последствием ослабление связи дво¬
рянства с правительством, распадение дво¬
рянства как корпорации и постепенное
падение его авторитета среди населения. Это
ненормальное политическое положение отоз¬
валось неблагоприятно на дворянской собст¬
венности».
Те же условия расшатали, по мнению
Пазухина, и другие сословия. Одновременно
с постепенным разрушением сословий на¬
рождается и разрастается «бессословное
общество, недавно получившее название
интеллигенции». В это понятие, по Па-
зухину, «входит все то, что находится вне
сословного быта. Это есть то бесформенное
общество, которое наполняет собою все
щели, образовавшиеся в народном организме
в эпоху реформ, и которое лежит теперь
довольно толстым пластом вверху России».
Антипатия Пазухина к этому слою без¬
гранична. Отличительная черта его — бес¬
почвенность, отчужденность от народа.
«Утрачивая все сословно-бытовые осо¬
бенности, русский человек утрачивает и все
национальные черты».
Пазухин огульно обвиняет всю
интеллигенцию в своекорыстном стрем¬
лении к потрясению основ. Установив,
таким образом, диагноз болезни, причине¬
нной России реформами Александра II Па¬
зухин указывал в своей статье и путь к
исцелению.
406
«Если,— писал он,— в реформах прош¬
лого царствования мы усматриваем великое
зло в том, что они разрушили сословную
организацию, то задача настоящего должна
состоять в восстановлении нарушенного».
Немудрено, что при таком настроении
дворянства, довольно резко проявившемся в
провинции, в то время и между крестьянами
распространялись слухи о близящемся вос¬
становлении крепостного права.
Эти идеи Пазухина пришлись чрезвы¬
чайно по вкусу министру внутренних дел гр.
Толстому, и он, пригласив Пазухина в
правители своей канцелярии, поручил ему
выработать проект возможной реставрации
утраченного. Результатом этой работы
явились впоследствии, правда, в значитель¬
но измененном виде, Положение о земских
начальниках 12 июля 1889 г. и Положение
о земских учреждениях 12 июня 1890 г.
Руководящей мыслью в обоих этих Поло¬
жениях явилось, с одной стороны, стрем¬
ление создать на местах «крепкую и
близкую к народу власть»,— как тогда опре¬
деленно выражались в правительственных
кругах,— власть, которая была бы в состо¬
янии осуществлять всемогущую
административную опеку, а с другой сторо¬
ны, признание необходимости обеспечить и
помещикам-дворянам возможность не толь¬
ко выгодно вести свое хозяйство, но и
занимать в местной жизни почетное и
влиятельное положение. И этому,
действительно, соответствовало Положение о
земских начальниках, которые были облече¬
ны сильной властью и имели право опеки
над отдельными крестьянами и над орга¬
нами крестьянского самоуправления и суда.
Эта власть сосредоточивалась, действитель¬
но, в руках поместного дворянства, так как
эти земские начальники должны были на¬
значаться именно из его среды; в то же время
они являлись агентами, подчиненными гу¬
бернской администрации. Вскоре была
уничтожена и та степень самостоятельности
и независимости от правительственной
власти земских учреждений, которая им
обеспечивалась по Положению 1864 г. По
Положению 1890 г., земское управление
введено было в систему общегосударствен¬
ных установлений. В этом случае Толстой
очень ловко воспользовался господствующей
в государственном праве теорией, по которой
органы земского самоуправления должны
быть признаваемы органами государствен¬
ной власти и земское самоуправление осу¬
ществляет не какие-нибудь - чисто
общественные права и обязанности, а имен¬
но часть государственной власти; и вот,
положив эту идею в основу своего проекта и
придав ей, конечно, соответственную своему
настроению окраску, правительство Толсто¬
го из этого положения сделало такой вывод,
что раз земства суть органы государственной
власти, то, следовательно, прежде всего их
надо одеть в мундир Министерства внут¬
ренних дел и подчинить вышестоящим орга¬
нам этого ведомства. Поэтому управы
должны были быть подчинены губернатор¬
ской власти, председатели управ должны
были быть по назначению правительства и
все решения земских собраний должны
были быть поставлены не только под конт¬
роль губернаторской власти, но и должны
были получать силу только после утверж¬
дения их губернатором. Эта сторона дела
удовлетворяла Толстого. По идеям же Па¬
зухина, который являлся главным творцом
этих проектов, сделавшихся, с некоторыми
изменениями, Положениями в 1889 и 1890
гг., главной задачей являлось именно
уничтожение бессословного или всесослов¬
ного строя, введенного земским Положением
1864 г., и замена его чисто сословным стро¬
ем с тем, чтобы при этом дан был полный
перевес дворянству. Соответственно этому
изменена была избирательная система в зем¬
ствах и изменено было распределение числа
земских главных теми куриями, которые
были теперь перестроены на сословный лад.
Больше всего избирательная система изме¬
нена была по отношению к крестьянству.
Крестьяне составили особую курию, как и в
Положении 1864 г., но, во-первых, они
лишены были права избирать лиц, не
принадлежащих к их курии, чем была
усилена сословность курий; затем, так как
число гласных от крестьян было чрезвычай¬
но уменьшено и везде было значительно
меньше числа волостей в каждом уезде, а
выбор гласных предоставлялся именно воло¬
стям, то поэтому было положено, что волости
должны будут избирать только кандидатов
в гласные, а из них уже губернатор должен
будет определять, кто должен быть гласным.
Таким образом, в конце концов гласные из
крестьян являлись гласными по назначению
губернатора и, разумеется по рекомендации
земского начальника.
Число гласных от дворян было чрезвы¬
чайно увеличено во всех уездах при абсо¬
лютном уменьшении общего числа гласных,
и, таким образом, по Положению 1890 г.
земские уездные собрания сделались, в сущ¬
407
ности говоря, почти дворянскими соб¬
раниями, потому что представители дворян¬
ства здесь были почти во всех уездах в
подавляющем большинстве. Надо сказать,
однако, что собственно проект Толстого
Министерству внутренних дел не удалось
провести вполне. Граф Толстой скончался
раньше доведения этого дела до конца, и хотя
на его место был назначен И.Н. Дурново,
бывший при нем товарищем министра и
считавшийся воодушевленным теми же
принципами, но, не обладая ни его талан¬
тами, ни его характером, ни его влиянием в
особенности, он не мог отстоять в Государ¬
ственном совете проектированного Толстым
Положения в полном виде. Таким путем
часть этого Положения, касавшаяся обра¬
щения органов земского самоуправления в
совершенно подчиненные губернаторам
присутственные места, не была проведена в
полной мере. Государственный совет во мно¬
гом изменил проект, и то Положение, кото¬
рое вышло из Государственного совета, не
являлось в такой степени уничтожающим
всякое самоуправление, как можно было бы
ожидать, судя по первоначальному проекту
Толстого.
Тем не менее, это было совершенное
искажение Положения 1864 г., особенно по
отношению к крестьянству. Ограничение
крестьян, которое выразилось в том, что в
конце концов гласные от крестьян назна¬
чались губернатором, отменено только в
1906 г. по закону 5 октября, о чем вы знаете
из курса крестьянского права. Я не буду
подробно по этой же причине вам харак¬
теризовать и Положение 12 июля 1889 г. о
земских начальниках; скажу только, что
введению в действие этого Положения пред¬
шествовала еще разработка некоторых
других законов, совершенно также
стремившихся к установлению
административной опеки над крестьянами в
интересах поместного дворянства и к
регулированию таким путем положения кре¬
стьянства. Тут следует назвать два закона,
выработанных при содействии того же Па¬
зухина, именно Закон о найме на сельско¬
хозяйственные работы крестьян, который
был редактирован совершенно в интересах
помещйков, и затем Закон о крестьянских
семейных разделах, который явился одним
из типичнейших образцов применения идеи
опеки к крестьянскому законодательству.
Разумеется, в это реакционное время
продолжались в усиленном виде и те иска¬
жения судебных уставов, которые начались,
как вы видели, еще в предыдущее царство¬
вание. Эти искажения касались, конечно,
прежде всего все большего и большего су¬
жения роли суда присяжных. Но и помимо
того, именно Законом 12 июля 1889 г.,
сильно нарушен был один из коренных
принципов судебных уставов: именно
принцип разделения судебной и
административной властей. Нарушен он был
по отношению к делам, правда, второстепен¬
ного значения — по отношению к менее
важным преступлениям и менее ценным
гражданским искам,— но зато и более часто
встречающимся в жизни. Я говорю об
уничтожении мировой юстиции. В самый
момент обсуждения в Государственном сове¬
те Закона о земских начальниках император
Александр — в связи с тем, что в Госу^яо-
ственном совете была высказана бывшим
министром финансов А.А. Абазой мысль за¬
менить земских начальников мировыми
судьями на английский образец, — решил,
что параллельное существование этих вла¬
стей, действительно, потребует у нас
слишком больших расходов и, может быть,
будет мерой, противоречащей идее сильной
и близкой к народу власти, а потому указал,
что мировые судьи должны быть вовсе
уничтожены, а та судебная власть, которая
им по закону вверена, должна быть разделе¬
на: частью — по некоторым более важным
делам — она должна быть передана окруж¬
ным судам, а по более маловажным проступ¬
кам — земским начальникам в сельских
местностях, для городов же должны быть
учреждены особые городские судьи с более
упрощенными формами судоговорения и ме¬
нее стоящие, причем второй инстанцией и
по отношению к ним должен быть съезд
земских начальников. Это смешение
административной и судебной властей и
было проведено в Положении о земских
начальниках.
Затем, разумеется, в это реакционное
время и даже раньше, чем последовали все
эти изменения реформ 60-х годов, чрезвы¬
чайно, конечно, ухудшилось и без того тя¬
желое положение печати. В этом отношении,
как только Толстой вступил в должность,
уже в 1882 г. он озаботился изданием новых
дополнительных Временных правил 27 авгу¬
ста 1882 г., которые прибавляли целый ряд
в высшей степени стеснительных по отно¬
шению к печати мер к тем мерам, которые
были установлены Временными правилами
1865 г. и тимашевскими к ним добав¬
лениями. По этим новым Правилам, во-пер¬
408
вых, вводилось такое положение, что те орга¬
ны печати, которые были временно приоста¬
новлены после трех предостережений, могли
вновь начать выходить исключительно толь¬
ко под особого рода предварительной цензу¬
рой, именно: для газет устанавливалось, что
каждая подвергшаяся этой каре газета вновь
может выходить только с таким условием,
чтобы каждый ее номер накануне выхода в
свет, не позже 11 часов вечера, представлял¬
ся в цензуру. Это, разумеется, было почти
совершенно неосуществимо для ежедневных
газет, потому что, как вы знаете, газеты, на
обязанности которых лежит именно сооб¬
щать самые последние новости, печатаются
ночью, вплоть до самого момента рассылки,
и, таким образом, не могут быть готовы к 11
часам вечера накануне или же должны пос¬
тупаться новизной сведений. Поэтому, как
только это правило было применено к «Го¬
лосу» Краевского и «Стране» Полонского,
которые выходили в Петербурге и являлись
тогда наиболее резкими либеральными газе¬
тами, то этим газетам пришлось прекратить
свое существование. Вторым правилом, ко¬
торое было вновь введено, являлось учреж¬
дение особого ареопага из четырех
министров: министра народного просве¬
щения, министра внутренних дел, министра
юстиции и обер-прокурора Святейшего
Синода, которым предоставлялось право в
случае обнаружения вредного направления
какого-нибудь журнала или газеты навсегда
прекращать это издание, причем они могли
вместе с тем и совершенно лишать права
также навсегда редактора этой газеты или
журнала издавать какие бы то ни было
органы печати.
С особенной строгостью применялись к
журналам и газетам, в особенности в первые
годы толстовского режима, все те драко¬
новские меры, которые устанавливались и
новым и прежним законодательством о
печати. Так, на органы печати сыпались
такие кары, как лишение права печатать
объявления, как многочисленные предосте¬
режения, которые вели в конце концов к
приостановке и затем, по новому закону, к
отдаче под предварительную цензуру, как
лишение права розничной продажи, что
больно било газеты в экономическом отно¬
шении. Очень скоро применен был и новый
способ окончательного прекращения журна¬
ла по решению четырех министров: именно
таким образом были прекращены «Отечест¬
венные записки» с января 1884 г. и некото¬
рые другие либеральные органы печати того
времени.
В конце толстовского режима, именно в
80-х годах, в последние два-три года жизни
Толстого число таких кар значительно
уменьшилось, и можно было, как замечает
К.К. Арсеньев, даже подумать, что это явля¬
лось симптомом смягчения режима; но такое
уменьшение числа кар на деле, как объяс¬
няет тот же историк цензуры, зависело от
того, что не на кого и не за что было их
налагать, так как значительное число либе¬
ральных независимых органов печати было
или совершенно прекращено, или поставле¬
но в такое положение, что они не смели
пикнуть, и в случаях сомнения сами редак¬
торы наперед объяснялись с цензорами и
выторговывали себе ту небольшую область
свободы, которая им представлялась самою
цензурою. В таких обстоятельствах выжили
в этот трудный момент лишь немногие из
либеральных органов печати, как,
например, «Вестник Европы», «Русская
мысль» и «Русские ведомости», которые,
впрочем, постоянно чувствовали над собой
дамоклов меч, и их существование висело
также все это время на ниточке.
Особенно тяжело в эту мрачную эпоху
русской жизни, как вы сейчас увидите, было
положение различных иноверцев, инородцев
и вообще населения окраин России.
Правда, что касается вопросов веро¬
терпимости, то в начале царствования импе¬
ратора Александра III, 3 мая 1883 г., был
издан закон, как будто обеспечивающий не¬
которую веротерпимость, по крайней мере
по отношению к раскольникам и сектантам.
Но уже в ближайшее затем время возбужден¬
ные этим законом надежды должны были
быть совершенно оставлены; именно по
отношению к сектантам правительство,
руководимое в этом случае Победоносцевым,
проявляло особую суровость, а подчас даже,
можно сказать, и свирепость, преследуя сек¬
тантов наиболее чистых и нравственных по
своему характеру сект, как, например, паш-
ковцев, толстовцев, духоборцев, штундистов.
Эти секты преследовались не потому,
чтобы в них, как в сектах скопцов или
хлыстов, развивались какие-нибудь вредные
и в нравственном отношении нетерпимые
учения, а просто потому, что секты эти
признавались наиболее опасными для гос¬
подствующего вероисповедания. Преследо¬
вались в особенности штундисты и
духоборцы, и правительство доходило при
этом иногда даже до отнятия детей у родите¬
409
лей, так что дальше идти уже было некуда.
В 1894 г., в самом конце царствования
императора Александра III, штундистам
были даже вовсе запрещены молитвенные
собрания. _
С этим вполне гармонировали и меры
против униатов в Западном крае и Царстве
Польском, а в отдельных случаях, и против
лютеран в Остзейском крае. В это время
вообще все более и более расцветал
воинствующий национализм в России, и на
окраинах он достиг своего апогея. Более
всего преследовались в это время евреи и
поляки-католики, последние в Западном
крае и даже в самом Царстве Польском.
Подвергались преследованиям и ламаиты,
калмыки и буряты — им запрещалось
строить храмы, отправлять богослужения,
причем иные из них испытывали особенные
гонения в тех случаях, когда они официаль¬
но числились обращенными в православие,
а затем в действительности оказывалось, что
они продолжают исповедовать прежнее ве¬
роисповедание.
Евреи в особенности подверглись разно¬
го рода ограничениям. Так, временными
правилами 3 мая 1882 г. у евреев отнято
было право селиться в пределах даже самой
черты оседлости вне городов и местечек; им
запрещено было приобретать недвижимое
имущество в сельских местностях. В 1887 г.
Ростов-на-Дону и Таганрог с уездом были
изъяты из черты оседлости; таким образом,
и та черта оседлости, в которой евреи издав¬
на обладали правом жить, была сокращена.
В 1891 г. было запрещено селиться в Москве
евреям-ремесленникам, которые имели это
право по закону 1865 г., дозволявшему
селиться вне черты оседлости евреям, по¬
лучившим высшее образование и ремес¬
ленникам. И вот вследствие воспрещения
ремесленникам селиться в Москве и в Мос¬
ковской губернии в 1891 г. был произведен
ряд выселений, причем эти выселения не¬
редко производились в самых возмутитель¬
ных формах: всего было выселено около 17
тыс. евреев, и выселялись они куда попало,
с полным разорением, так как это были
наименее обеспеченные слои еврейского на¬
селения.
В 1887 г. была введена для еврейских
детей процентная норма в учебных заве¬
дениях, последствия которой всем хорошо
известны. В 1889 г. фактически был
приостановлен прием евреев в присяжные
поверенные, и без всякого законного осно¬
вания они стали оставляться помощниками
присяжных поверенных до конца жизни. В
этом отношении некоторое изменение на¬
ступило только в последние годы.
Поляки были сильно ограничены в пра¬
вах государственной службы в Царстве
Польском и Западном крае, но в остальных
местностях России они особенных стес¬
нений не испытывали.
Реакционный дух, который повсеместно
и многообразно давал себя в это время чув¬
ствовать, отразился и на порядках в армии.
Здесь те гуманные принципы, которые
стремился ввести и укрепить Д.А. Милютин
в течение своего двадцатилетнего управ¬
ления военным министерством, мало-помалу
исчезали. Правительство, которое во многих
отношениях старалось улучшить материаль¬
ный быт офицерства, которое устанавливало
для офицеров льготные условия получения
билетов в театры и т.п., в то же время
стремилось воспитать офицерство в духе
определенно кастовом, так, чтобы оно чувст¬
вовало себя совершенно отделенным от
остального населения. Чтобы сильнее
развить в офицерстве этот дух, для него
издаваемы были даже особые законодатель¬
ные нормы. Так, специально для офицеров
отменено было действительное для всего на¬
селения запрещение уголовным законом ду¬
элей. Вообще участие в дуэли у нас
наказывается довольно существенной карой;
между тем для офицеров дуэли в известном
порядке не только были разрешены между
собой, но по новому закону им разрешалось
прибегать к дуэлям даже в их столкновениях
с лицами гражданского звания; в известных
случаях кодекс чести, установленный в это
время для офицеров, даже требует вызова на
дуэль.
Стремясь воспитывать в кастовом духе
лиц, предназначенных их родителями к
офицерской карьере с малолетства, военное
министерство вновь перестроило и те воен¬
но-учебные заведения, которые были преоб¬
разованы при Милютине в духе гуманности
и разумных педагогических приемов: при
Ванновском, новом военном министре, они
были вновь преобразованы из военных
гимназий в кадетские корпуса и начальство
старалось вновь восстановить в них тот
режим закрытых военно-учебных заведений,
который царил в них при императоре Нико¬
лае I.
410
ЛЕКЦИЯ XLI
Финансовая политика во вторую половину царствования императора Александра III.— И. А. Вышнег¬
радский и его система.— Крайнее развитие протекционизма в таможенной политике и в железнодорож¬
ном тарифном законодательстве.— Результаты этой системы.— Внешняя политика императора
Александра III.— Завоевание Туркмении.— Русско-английские отношения в Средней Азии.— Бал¬
канские дела. — Болгарские замешательства. — Франко-русский союз и его значение.— Сибирская
железная дорога и начало новой политики на Дальнем Востоке.
В прошлой лекции я охарактеризовал
развитие той реакционной политики, кото¬
рая во второй половине царствования импе¬
ратора Александра III последовательно
распространилась на все отрасли
правительственной деятельности и резко да¬
ла себя чувствовать во всех областях народ¬
ной и общественной жизни.
Единственные послабления реакционно¬
го курса, которые мы видели еще в середине
80-х годов, как я вам уже говорил, чувство¬
вались в Министерстве финансов, где до 1
января 1887 г. во главе ведомства стоял если
не безусловный либерал, то, во всяком слу¬
чае, гуманный, честный и демократически
настроенный человек — Н. X. Бунге. Но его
до такой степени в это время травили
всякими интригами и инсинуациями в
придворных сферах и в реакционной
печати, что он, будучи к тому же уже в
преклонном возрасте, решил, наконец,
оставить пост министра финансов и с 1
января 1887 г. был уволен в отставку и
заменен новым министром, И. А. Вышнег¬
радским. И. А. Вышнеградский был челове¬
ком, несомненно, отчасти подготовленным к
этой должности, но совершенно иного типа,
нежели Бунге. Он также был ученым про¬
фессором, но не теоретиком-экономистом, а
ученым технологом и практиком, несомнен¬
но весьма даровитым, проявившим свои та¬
ланты как в некоторых изобретениях
военно-технического характера, так и в весь¬
ма хорошо поставленных академических
курсах, которые он, будучи профессором,
читал студентам в Петербургском техно¬
логическом институте и в Михайловской
артиллерийской академии. В частности,
прикосновенность его через артиллерийскую
академию к военным сферам создала ему
важное для министра финансов преимуще¬
ство: он успел познакомиться хорошо с во¬
енным хозяйством и военным бюджетом,
который является у нас такой важной сос¬
тавной частью общего государственного
бюджета.
Таким образом, Вышнеградский явился
на посту министра финансов человеком,
несомненно, отчасти подготовленным и осве¬
домленным— в этом ему нельзя отказать. К
тому же, рано успев составить себе некото¬
рое состояние благодаря своим техническим
изобретениям, он участвовал затем очень
удачно в различных биржевых спекуляциях
и биржевых делах, и эта сфера, таким обра¬
зом, была ему также хорошо знакома. Но,
вместе с тем, нельзя не признать, что в своем
заведовании Министерством финансов и в
особенности в своей финансово-экономиче¬
ской политике Вышнеградский обнаружил
полное отсутствие сколько-нибудь широких
взглядов и дальновидности; для него важней¬
шей и даже единственной, по-видимому,
задачей являлось видимое улучшение
русских финансов в ближайшее время. В
своей финансовой политике он поставил
себе ту же самую цель, которую когда-то
ставил себе Рейтерн,— именно цель восста¬
новить курс кредитного рубля, т. е. цель,
которую в значительной мере, как вы знаете,
должны были преследовать все министры
финансов в России XIX в. Но не все они
преследовали ее одинаковыми мерами и не
все считали ее своей единственной задачей.
Как бы там ни было, курс Министерства
финансов с заменой Бунге Вышнеградским
изменился достаточно резко. Главной и не¬
посредственной задачей министерства сде¬
лалось при Вышнеградском скопление
больших денежных запасов в кассах госу¬
дарственного казначейства и широкое
участие при помощи этих запасов в за¬
граничных биржевых операциях с целью
оказывать давление на иностранный денеж¬
ный рынок и этим путем поднять наш курс.
Вместе с этим и в таможенной политике
русское правительство стало с новой
энергией двигаться по пути протекционизма,
достигшего при Вышнеградском своего апо¬
гея. В 1891 г. был издан новый таможенный
тариф, в котором эта система была доведена
до крайности. В то же время, считая для
успеха своих мер весьма важным делом
усиление русской обрабатывающей про¬
мышленности, Министерство финансов
начинает с чрезвычайным вниманием
411
прислушиваться ко всяким жалобам и поже¬
ланиям представителей крупной фабричной
промышленности и предпринимает по их
инициативе пересмотр того, в сущности, еще
весьма мало развитого фабричного законо¬
дательства, которое выработано было в инте¬
ресах рабочих при Бунге. При
Вышнеградском права учрежденных при
Бунге фабричных инспекторов чрезвычайно
умаляются не столько новыми законодатель¬
ными нормами, сколько при помощи цирку¬
лярных разъяснений, которые очень скоро
отражаются и на составе фабричной
инспекции, потому что в этих условиях
наиболее преданные делу и независимые
представители этой инспекции, видя совер¬
шенную невозможность действовать сооб¬
разно со своею совестью и даже сообразно с
точным смыслом закона, уходят в отставку.
Таким образЬм, институт фабричной
инспекции сильно изменяется к худшему.
Российская крупная промышленность бла¬
годаря ряду протекционных мер — ив осо¬
бенности заботливому отношению
Министерства финансов к вопросу о выгод¬
ном для отечественной обрабатывающей
промышленности направлении железнодо¬
рожных линий и о таких железнодорожных
тарифах, которые строго соответствовали бы
интересам крупной промышленности, в осо¬
бенности центрального, московского района,
становится в это время в особенно бла¬
гоприятные условия. Можно сказать, искус¬
ственно для нее создаются эти
благоприятные условия; она становится
излюбленным детищем Министерства фина¬
нсов, нередко вопреки интересам прочих
слоев населения и в особенности вопреки
интересам всего сельского хозяйства, на со¬
стоянии которого особенно невыгодно отра¬
жался протекционный таможенный тариф
1891 г., чрезвычайно удороживший такие
важные в сельскохозяйственном быту пред¬
меты, как, например, железо и сельскохо¬
зяйственные ма&шны.
Между тем в это время мы не видим не
только улучшения положения народных
масс, несмотря на все паллиативные меры,
принятые при Бунге, но, напротив, наблю¬
даем все продолжающееся разорение кресть¬
янства, которое я характеризовал вам в
одной из прошлых лекций. В конце концов,
однако же, тем самым подрываются условия
внутреннего сбыта продуктов обрабатываю¬
щей промышленности, удовлетворяющей
потребность широких народных масс,
например, условия для сбыта произведений
бумаготкацкой промышленности. Оску¬
девший внутренний рынок скоро становится
для нее тесным. До некоторой степени ком¬
пенсацией является для нее внешний рынок
на восток, приобретенный завоеваниями в
Средней Азии, но вскоре оказывается, что и
этого недостаточно, и вот мы видим, что к
концу царствования императора Александра
III создается мало-помалу новая идея —
продвинуть сбыт продуктов нашей промыш¬
ленности как можно дальше на восток. В
связи с этим является идея постройки
Сибирской железной дороги — идея, кото¬
рая развивается весьма широко; является
вопрос о выходе к Восточному морю, о
приобретении незамерзающего порта на
Дальнем Востоке, и в конце концов вся эта
политика, уже на наших глазах, приводит к
зарождению и развитию тех предприятий на
Дальнем Востоке, которые уже в министер¬
ство С. Ю. Витте в самом начале XX в.
привели к японской войне и к тому краху,
который за ними последовал.
Чтобы покончить с финансовыми и эко¬
номическими отношениями в рассматривае¬
мый период, я скажу еще два слова о
расширении нашей железнодорожной сети,
которое сыграло здесь чрезвычайно важную
роль. К концу царствования Александра II
железнодорожная сеть не превышала 22 \/г
тыс. верст, а за тринадцатилетний период
царствования Александра III она развилась
уже до 36 662 верст, причем из них 34 600
было ширококолейных. В деле постройки
железных дорог старая политика Рейтерна
поддерживалась в том отношении, что эти
железные дороги по-прежнему направ¬
лялись так, чтобы, с одной стороны, способ¬
ствовать подвозу сырья к портам и таким
образом именно усилением вывоза создавать
благоприятный момент для нашего торгового
баланса и для улучшения денежного курса,
а с другой стороны, как я упомянул,
министерство стремилось при помощи уста¬
новления железнодорожных диффе¬
ренциальных тарифов создать наиболее
льготные условия провоза для продуктов
фабричной промышленности центральных
губерний. Для этого в составе Министерства
финансов было создано даже особое учреж¬
дение — тарифный департамент, во главе
которого был поставлен С. Ю. Витте, тогда
еще молодой человек, которому уже на
наших глазах пришлось сыграть выдающу¬
юся роль, сперва в качестве министра фина¬
нсов, а затем и на более широкой арене, в
412
разрешении общих политических проблем
нашего времени.
Другой чертой новой железнодорожной
политики, чертой, противоположной
политике Рейтерна, была постройка дорог
казной и выкуп в казну старых частных
железнодорожных линий. В царствование
императора Александра III протяжение ка¬
зенных железных дорог увеличилось на 22
тыс. верст, тогда как протяжение частных
дорог, несмотря на постройку новых част¬
ных линий, благодаря выкупу старых линий
в казну уменьшилось на 7600 верст.
Вот общие черты финансовой политики,
которой, несомненно, подготовлялось и уг¬
лублялось новое обострение русских
социально-экономических уеловий в начале
XX в. Эти условия развивались рука об руку
с тем кризисом, который русскому насе¬
лению пришлось пережить после неурожая
1891—1892 гг;, вызвавшего чрезвычайную
нужду и даже голод в целых двадцати, по
преимуществу черноземных, губерниях.
Этот кризис составил, так сказать, пос¬
ледний штрих в той общей картине России,
которую мы видим в конце царствования
императора Александра III, и явился вместе
с тем могучим фактором тех изменений в
последующие годы, которые уже составят,
быть может, когда-нибудь предмет следую¬
щей части моего курса о заключительном
периоде истории России XIX в.
Теперь я остановлюсь несколько на
внешней политике императора Александра
III. Надо сказать, что в этом отношении
император Александр III был или, по край¬
ней мере, считал и показывал себя наиболее
самостоятельным и независимым от всяких
влияний своих сотрудников; здесь он, во
всяком случае, стремился проводить свои
личные взгляды. В 1882 г. как раз умер
старый руководитель нашей иностранной
политики, почти уже впавший в детство от
старости, сверстник и сотоварищ Пушкина
светлейший князь А. М. Горчаков, и на его
место назначен был не какой-нибудь новый
выдающийся государственный человек, а
скромный и весьма исполнительный
чиновник статс-секретарь Гире, который и
являлся, в сущности, не столько министром,
сколько личным секретарем императора
Александра III в сфере иностранной
политики. Это обстоятельство не мешало,
однако, в тех случаях, когда распоряжения
по иностранному ведомству не соответство¬
вали взглядам наиболее нетерпимых
патриотов и националистов, во главе кото¬
рых по-прежнему стоял М. Н. Катков,
обрушивать на Гирса всевозможные на¬
падки, которые должны бы были, собственно
говоря, падать на политику самого импера¬
тора Александра.
Но император Александр III последова¬
тельно вел ту линию, которую он себе ус¬
воил. В первую половину его царствования
иностранные конъюнктуры складывались не
особенно благоприятно для России; ей пос¬
тоянно грозила война — то со стороны
Англии, то со стороны Австрии — и посто¬
янно являлись частью общемировые, частью
специально русские обострения в междуна¬
родных отношениях: целый ряд обострений,
в особенности на востоке. Во-первых, при
императоре Александре завершилось то
стремление захватить в наши руки всю
Среднюю Азию, которое началось в 70-х
годах и которое я излагал вам в одной из
прошлых лекций. Здесь еще в царствование
Александра II в связи с недовольством, ко¬
торое вызывала наша политика в Англии, и
с теми неудачами, которые наша дипломатия
испытала на Берлинском конгрессе, подго¬
товлен был некоторый реванш в отношении
Англии, при помощи доведения наших вла¬
дений в Средней Азии до такого положения,
чтобы мы серьезно могли угрожать
индийским владениям Великобритании.
По плану генерала Скобелева, им самим
в значительной мере осуществленному, было
решено еще в 1879 г. уничтожить последний
оплот полукочевых племен в Туркмении,
Геок-Тепе, который еще не входил в наши
владения, чтобы продвинуть нашу границу
до Афганистана и даже в одном пункте до
северных границ английских владений в
Индии.
Первая попытка завоевать этих туркме¬
нов окончилась при императоре Александре
II неудачей, но в самые последние месяцы
царствования Александра II Скобелев весь¬
ма обстоятельно подготовил новый поход,
причем стянуты были сравнительно большие
военные силы, проложена даже на некото¬
ром расстоянии железная дорога за
Каспийским морем для подвоза войск и
припасов, и в результате всех этих приго¬
товлений Скобелев действительно успел
осадить и после упорного и кровопролитного
сопротивления взять главный опорный
пункт непокорных текинцев, Геок-Тепе.
После этого племена эти потеряли всякую
возможность противиться русской воору¬
женной силе,, и в первую половину царство¬
вания Александра III дело пошло не только
413
N
к окончательному подчинению этих
текинцев, но и к отодвиганию русской
границы до самого Афганистана. Тут наши
войска уже столкнулись с афганцами, до тех
пор дружественно к нам расположенными,
и в 1885 г., после довольно кровопролитного
сражения с афганскими войсками при р.
Кушке, завоевали последний клочок этой
части Средней Азии — г. Мерв. С присо¬
единением Мерва наша граница вплотную
подошла к границе Афганистана и в одном
пункте — к границе северной Индии,
причем весь пограничный вопрос раз¬
решился на весьма выгодных для нас ус¬
ловиях. Это, разумеется, вызвало большую
тревогу в Англии, но император Александр
III, вовсе не желавший воевать с Англией,
довольно удачно давал ответы на постоянные
запросы английских дипломатов и благопо¬
лучно успел избежать вооруженного столк¬
новения с Англией — в значительной мере,
конечно, благодаря тому, что в Англии в это
время проводилась миролюбивая политика
либерального министерства, во главе которо¬
го стоял Гладстон.
Другой опасностью, грозившей нам тог¬
да, была война с Австрией, и, может быть,
даже с Германией. Надо сказать, что втянуть
нас в войну с Австрией и занять этим наше
внимание особенно старался тогда Бисмарк,
которому очень хотелось приобрести себе
этим путем свободу действий в отношении
Франции. Однако личные связи императора
Александра III с германским императором,
старым Вильгельмом I, несмотря на то что
сам Александр не был расположен к не¬
мцам, связи, унаследованные им от отца и
деда, помешали Бисмарку втянуть нас в эту
войну. Император Александр и здесь удачно
уклонился от тех осложнений, которые же¬
лал навязать ему Бисмарк, несмотря на то
что на Балканах обстоятельства становились
очень неблагоприятными. Румыния и
Сербия, не получив того, чего они домо¬
гались в 1878 г., и приписывая свою неудачу
России, были настроены враждебно по отно¬
шению к России. Болгария, которая создана
была Россией в веде независимого княжест¬
ва и в которой, согласно желаниям русского
правительства, был избран князем Алек¬
сандр Баттенбергский, родственник русско¬
го императора по Гессенскому дому,
переживала в это время большие внутренние
неурядицы. Она получила в 1879 г. очень
демократическую конституцию, и когда при
действии этой конституции Александр Бат¬
тенбергский попробовал довольно самостоя¬
тельно править страной, то оказалось, что
это ему давалось не особенно легко; ему
приходилось иметь дело с ответственным
перед парламентом министерством, которое
очень часто не разделяло ни его взглядов, ни
тех, которые при помощи специально пос¬
тавляемых из России военных министров
старалось ему внушить русское правитель¬
ство.
Поставленный в такое положение Алек¬
сандр Баттенбергский попробовал в начале
1882 г. произвести государственный перево¬
рот. Тырновская конституция была им
уничтожена и введена новая укороченная
конституция, причем Александр Баттен¬
бергский на семь лет обеспечил себе возмож¬
ность диктаторского управления страной.
Однако на деле это привело к сильным
внутренним потрясениям, которые
кончились тем, что Александру Баттенберг-
скому пришлось совершенно расстроить
свои отношения со страной, причем в то же
время он не умел или не хотел удовлетворить
и тем требованиям, которые ему предъяв¬
лялись русской дипломатией. В 1885 г.,
желая поправить свои обстоятельства, он,
вопреки желанию русского правительства,
или не получив, по крайней мере, от него на
то полномочий, воспользовался беспоряд¬
ками в южной Болгарии, в которой управлял
генерал-губернатор, назначаемый с одоб¬
рения великих держав Портой, и присо¬
единил эту провинцию к Болгарскому
княжеству. Впрочем, несмотря на то что
Россия не признала этого акта, присо¬
единение это было условно признанно самой
Портой, по крайней мере, в виде личной
унии: Порта признала Баттенберга как бы
генерал-губернатором, ею назначенным в
южную Болгарию. Событие это привело Бол¬
гарию прежде всего к войне с Сербией, а
затем обстоятельства так сложились в самой
Болгарии, что Александр Баттенбергский не
только должен был прекратить свой дикта¬
торский режим, но даже должен был бежать
из Болгарии. Здесь образовалось временное
правительство во главе с Каравеловым, и в
конце концов это временное правительство
решило на известных условиях вновь пред¬
ложить болгарский трон тому же» самому
Баттенбергу; но когда Баттенберг, видя, что
без поддержки России ему в Болгарии не
удержаться, запросил, сочувствует ли рус¬
ское правительство его возвращению, то
император Александр в резкой форме дал
отрицательный ответ.
414
Таким образом, и с Болгарией отно¬
шения России сделались резко обострен¬
ными. Тем не менее Бисмарку все-таки не
удалось натолкнуть Россию на более дея¬
тельное вмешательство в балканские дела,
что и вызвало бы войну России с Австрией,
а может быть, и окончательную порчу наших
отношений со всей Европой. Император
Александр III правильно это понял и поэтому
предоставил Болгарии управляться собст¬
венными своими средствами, отозвав оттуда
русских офицеров, служивших инструкто¬
рами в болгарских войсках, и вычеркнув
Александра Баттенбергского из списков рус¬
ской армии; но на прямое вмешательство в
болгарские дела не пошел.
Положение императора Александра в
Европе было в это время совершенно уедине¬
нным; но Александр III, видя это, высказал,
что русскому правительству и нет надоб¬
ности искать чьего бы то ни было союза и
незачем мешаться в дела Европы. Однажды
он демонстративно выразил это, подняв тост
за здоровье князя Черногорского, которого
назвал единственным своим другом в Евро¬
пе.
Во вторую половину царствования импе¬
ратора Александра III, начиная с 1887 г.,
открылась, однако, возможность более вы¬
годно устроить международные отношения
России благодаря тем обстоятельствам, ко¬
торые произвело обострение отношений
между Францией и Германией. В 1887 г.
едва не вспыхнула новая война между этими
государствами, причем Бисмарку, несом¬
ненно, этого и хотелось; но тогда императору
Александру III удалось оказать Франции
существенную услугу: личным обращением
к германскому императору Вильгельму I ему
удалось удержать Германию от объявления
войны, к которой Франция не была готова.
Это и послужило началом сближения
России с Францией. Это сближение в 1889
г. завершилось заключением союза; союз
этот до поры до времени оставался неглас¬
ным, но когда новый германский император
Вильгельм II, вступивший на престол после
кратковременного царствования своего отца
Фридриха Ш, торжественно объявил о суще¬
ствовании союза Германии, Австрии и
Италии, направленного, в сущности, против
России, то император Александр III решил
объявить во всеуслышание и о своем союзе
с Францией. Это вызвало во Франции рад
изъявлений восторга, целый ряд манифес¬
таций, посылку французского флота в Крон¬
штадт и затем ответную посылку русского
флота в Тулон.
Это русско-французское сближение
явилось важными фактом международной
политики конца XIX в. Именно этим путем
положен был конец стремлениям Бисмарка
нанести окончательный удар Франции, так
что, несомненно, за императором Александ¬
ром III в этом отношении правильно призна¬
ется немаловажная заслуга, заключающаяся
в том, что он дипломатическим путем, путем
заключения прочного союза с Францией,
успел установить такую форму международ¬
ных отношений, которая на сравнительно
долгий промежуток времени утвердила евро¬
пейский мир.
Именно благодаря этому после смерти
императора Александра III, да еще и при
жизни его, в России и даже в Европе неко¬
торые историки и публицисты называли его
царем-миротворцем.
В самые последние годы царствования
Александра III развивается, как я уже упо¬
мянул, все большее и большее стремление
нашей дипломатии к влиянию на Дальнем
Востоке, и это стремление, в связи с пост¬
ройкой Сибирской железной дороги и в осо¬
бенности с попыткой приобрести
незамерзающий порт на Тихом океане,
привело впоследствии к тому столкновению,
которое разыгралось уже в нынешнее царст¬
вование. Но развитие этой новейшей
политики уже выходит за пределы этой
части моего «Курса».
Список сочинений и печатных материалов,
относящихся к истории России
в царствование Александра III
I. Библиографии и характеристики
императора Александра III
Научно разработанной биографии императо¬
ра Александра III в русской исторической литера¬
туре еще не имеется. Нет его биографии и в
«Русском биографическом словаре». В «Новом
энциклопедическом словаре»Брокгауза и Ефрона
(т. I) имеется статья А А. Корнилова «Александр
III, император всероссийский». Затем можно ука¬
зать следующие популярные биографии, общие
характеристики и воспоминания, относящиеся к
личности императора Александра III.
1. Кн. В. Мещерский. «Император Александр
III». СПб., 1895. Сборник статей и заметок,
появившихся после смерти императора Александ¬
ра в русской и иностранной печати.
2. Свящ К Корольков. «Жизнь и царство¬
вание императора Александра III (1881—1894)».
Киев, 1901.
3. Берг. «Воспоминания об имп. Александре
III» («Старина и новизна», т. III).
4. Гр. С. Д. Шереметев. «Письма из Рущук-
ского отряда» («Старина и новизна», т. И).
П. Положение населения
и развитие народного хозяйства
Кроме сочинений, указанных в отд. Ш, под
литерами А, Б, В и Г библиографического указате¬
ля к царствованию Александра II (см. стр. 384—386
этой части «Курса»), необходимо указать следу¬
ющие издания:
1. Всеобщая перепись населения Российской
империи 1897 г.: вып. 4 «Окончат, установленное
наличное население по уездам», вып. 5 «Окончат,
установл. наличное население городов», вып. 6 то
же по вероисповеданиям и сословиям, вып. 7 — то
же по языкам, вып. 8 — то же по занятиям. СПб.,
1905.
2. А В. Погожее. «Учет численности и соста¬
ва рабочих в России*. Изд. Академии наук. СПб.,
1906.
3. Сборник «Производительные силы
России». Изд. М-ва финансов (к нижегородской
выставке 1896 г.). СПб., 1896.
4. «Влияние урожаев и хлебных цен на неко¬
торые стороны русского народного хозяйства», под.
ред. А. И. Чупрова и А. С. Постникова. Изд. М. ф.
СПб., 1897.2 тома.
5. А. С. Ермолов. «Неурожай и народное
бедствие». СПб., 1893.
6. В. Р. Короленко. «В голодный год» СПб.,
1893.
I. А. А. Корнилов. «Семь месяцев среди голо¬
дающих крестьян». М., 1893.
8. А А Кауфман. «Переселение и ко¬
лонизация». СПб., 1905.
9. В.В. «Прогрессивные течения в крестьян¬
ском хозяйстве». СПб., 1892.
10. Кн. Н. В. Шаховской. «Сельскохозяй¬
ственные отхожие промыслы».
II. Варб (.Браве). «Наемные сельскохозяйст¬
венные рабочие». М., 1899.
12. Роза Люксембург. «Промышленное
развитие Польши».
13. «Нужды деревни», сборник, изд. Н. Н.
Львовым и А А Страховичем. СПб., 1904 (2 то¬
ма).
14.«Аграрный вопрос». Сборник, изд. кн. П.
Д. Долгоруковым и И. И. Петрункевичем. 2 тома.
М. и СПб., 1905—1907.
II. Развитие государственной жизни
и правительственная деятельность
при императоре Александре 1П
1. Полное собрание законов. Третье собрание
(1881—1894). Тома I—XIV.
2. Отчеты по Государственному совету за
1881—1894 гг.
3. «Исторический обзор деятельности
Комитета министров», т. IV (состав. Тхор-
•жевским). СПб., 1902.
4. «История Правит. Сената за двести лет,
1711—1911«. Том 5-й. Под ред. проф. С. Ф. Пла¬
тонова. СПб., 1^11.
5. «Историч. очерк М-ва внутр. дел. 1802—
1902». Юбилейн.^зд., 1904.
6. Сборник «Крестьянский строй», изд. кн. П.
Д. Долгорукова и гр. С. Л. Толстого, т. I (часть
историческая). СПб., 1905. (Статья И.М.Стра¬
ховского «Крестьянский вопрос в законодательстве
и в законосовещательных комиссиях после 1861
г.»)
7. И.М. Страховский. «Крестьянские права и
учреждения». СПб., 1904.
8. А. А Корнилов. «Крестьянская реформа» в
серии «Великие реформы в их прошлом и настоя¬
щем». СПб., 1905.
9. Его же. «Из истории вопроса о земской
избирательной системе». СПб., 1906.
10. Б. Б. Веселовский. «История земства за 40
лет», т. III. СПб., 1910.
11. «Юбилейный земский сборник», под ред.
Б. Б. Веселовского и 3. Г. Френкеля. СПб., 1914.
Срав. критический отзыв об этом сборнике .А. А.
Корнилова в «Голосе минувшего» за 1914 г., № 4.
12. С. Ю. Витте. «О непреложности законов
государственной жизни». СПб., 1914 (авторизо¬
ванное издание записки С. Ю. Витте «Самодер¬
жавие и земство», ранее изд. в Штутгарте А. Б.
Струве в 1903 г.) с приложениями.
13. Его же. «Записка по крестьянскому делу».
СПб., 1905.
14. «Журналы высочайше учрежденной осо¬
бой (под председ. ст. секр. М. С. Коханова)
комиссии для составления проектов местного уп¬
равления», напечатанные ею «материалы» и выра¬
ботанные ею «проекты». (Издание, не поступившее
в продажу, но имеющееся в больших библиотеках
Петербурга и Москвы.) СПб., 1882—1885.
15. В. П. Безобразов. «Земские учреждения и
самоуправление». М., 1874.
16. А. Д. Пазухин. «Современное состояние
России и сословный вопрос». М., 1886.
17. «Отчет по Государ. совету» за 1887, 1889
и 1890 гг.
18. Ст. Я. Й. Цейтлина. «Земское самоуп¬
равление и реформа 1890 г.» в «Истории России в
XIX в.», изд. Гранат, т. V, гл. II. Там же в томе IV
обстоятельные библиографические указания к
этой статье, в крторых указаны и важнейшие напе¬
чатанные материалы по земской реформе 1890 г.
19. К К Арсеньев. «Законодательство о
печати» в серии «Великие реформы в их прошлом
и настоящем». СПб., 1903.
20. «Министерство финансов 1802—1902».
часть 2-я. СПб., 1902.
21. «Историческая справка по вопросу о вве¬
дении подоходного налога» (офиц. изд.).
22. Табурно. «Эскизный обзор финансово-
экономического положения России за последние
20 лет (1882—1901)». СПб., 1904.
23. М. Соболев. «История таможенной
политики России». СПб., 1911.
24. Ковалько. «Главнейшие реформы, прове¬
денные Н. X. Бунге в финансовой системе
России». Киев, 1901.
25. С* Загорский. «Бунге Н.Х. (1813—
1895) »в Новом энциклоп. словаре Брокгауза и Еф¬
рона, т. 8-й.
26. С. Ю. Витте. «Конспект лекций по
политической экономии», читан, им вел. кн. на¬
следнику Михаилу Александровичу. СПб., 1912.
27. М. Кашкаров. «Главнейшие результаты
госуд. денежного хозяйства за 1885—1894 гг.»
СПб., 1895.
28. П. Шванебах. «Денежное преобразование
и народное хозяйство». СПб., 1901.
14 Зак. 271
29. Мигулин. «Русский государственный
кредит», т. I и II. Харьков, 1899.
30. С. Загорский. «Вышнеградский И. А.»
(1830— 1898) в Новом энциклоп. словаре Брокгау¬
за и Ефрона, т. 12-й.
31. Я. Я. Кутлер. «Витте С. Ю.». В Новом
энциклоп. словаре Брокгауза и Ефрона, т. 10-й.
32. «Историч. обозрение пятидесятилетней
деятельности Министерства госуд. имуществ,
1837—1887 гг.». 5 частей. СПб., 1888.
33. «История уделов за сто лет их существо¬
вания, 1797-—1897». 3 тома. СПб., 1897.
34. «Краткий исторический очерк ведомства
путей сообщения за сто лет (1798—1898)». СПб.,
1898.
35. «Наша железнодорожная политика по до¬
кументам архива Комитета министров». Изд. канц.
К-та м-ров. СПб., 1902.
36. В. Г. Михайловский. «Развитие русской
железнодорожной сети» в «Трудах имп. вольного
эконом, об-ва» за 1898 г., П.
37. Я. М. Майков. «Второе отделение собств.
е.в. канцелярии, 1826—1882». СПб., 1906.
38. «Историч. очерк деятельности Министер¬
ства юстиции за 100 лет». СПб., 1902.
39. И. В. Гессен. «Судебная реформа». (В
серии «Великие реформы в их прошлом и настоя¬
щем».) СПб., 1905.
40. С. В. Рождественский, «История
Министерства народного просвещения с 1802—
1902г.». СПб., 1902.
41. «Сборник постановлений по Министерст¬
ву народного просвещения». Т. VIII и след.
42. Ф. Ф. Ольденбург. «Народные школы Ев¬
ропейской России в 1892—1983 годах». СПб.,
1896.
43. Его же. «В поисках за достоверными
цифрами» в журн. «Образование» за 1897 г., № 12.
44. А. Я. Страннолюбский. «Что говорит
последняя статистика народных школ?«(по поводу
вышеназв. брошюры Ф. Ф. Ольденбурга) в «Обра¬
зовании» за 1897 г., №№ 2 и 9.
45. «История России в XIX в.», изд. Гранта,
под ред. М. Я. Покровского; в т. VII статьи В. И.
Чарнолуского «Начальное образование во второй
половине XIX столетия» и М. Я. Коваленского
«Средняя школа» (там же и обстоят,
библиография); в т. IX ст. В. М. Фриче «Высшая
школа в конце века» (и библиография к ней).
46. «Обзор деятельности ведомства правос¬
лавного вероисповедания за время царствования
императора Александра Ш». СПб., 1901.
47. К. К Арсеньев. «Свобода совести и веро¬
терпимость». СПб., 1905.
48. И. Преображенский. «Отечественная цер¬
ковь по статистическим данным с 1840—1841 по
1890—1891 гг.» СПб., 1897.
49. «Столетие военного министерства».
Юбилейное издание. СПб., 1901—1907.
50. М. Лалаев. «Исторический очерк военно¬
учебных заведений». СПб., 1880—1892.
417
IV. Политическая борьба и общественное
движение в 1881—1894 гг.
1. «Конституция гр. Лорис-Меликова». Лон¬
дон, 1893.
2. П. В, Щеголев. «Из истории
конституционных веяний 1879—1881 гг.» в «Бы¬
лом» за 1906 г., № 12.
3. «Дневник» гр. Я. А Валуева за 1881—1884
гг. в «Минув, годах», в сборнике «О минувшем»
(СПб., 1908) и в «Современнике» за 1913 г.
4. Неведенский. «Катков и его время». СПб.,
1888.
5. И. С. Аксаков. «Сочинения», т. I—VII. М. и
СПб., 1887—1898.
6. А. И. Кошелев. «Записки». Берлин, 1884.
7. A. Leroy-Beaulieu. «L’empire des Tsars et les
Russes», t. II. P., 1882.
8. Газета «Русь» за 1880—1885 гг.
9. Газета «Русь» за 1880—1885 гг.
10. Газета «Порядок» за 1881—1882 гг.
11. «Внутренние обозрения» (ККАрсеньева)
в «Вестнике Европы» за 1881—1894 гг.
12. «М. М. Стасюлевич и его современники»,
t.I—V. СПб., 1912—1914.
13. Газета «Вольное слово» (изд. в Женеве) за
1881—1883 гг.
14. Газета «Общее дело» (изд. в Женеве) за
1881—1891 гг.
15. Воспоминания и статьи разных лиц о со¬
бытии 1 марта 1881 г. в журнале «Былое» за 1906
г., № 3.
16. Белоголовый Н. А. «Воспоминания» (стр.
182—224 —«Гр. М. Т. Лорис-Меликов»). Изд.
2-е. СПб., 1-898.
17. А. Ф. Кони. «Граф М. Т. Лорис-Меликов»
в «Голосе минувшего» за 1914 г., № 1.
18; Его же. «На жизненном пути». 2 тома.
СПб., 1913.
19. В. Ю. Скалон. «По земским вопросам. В
переходное время». (Сборник статей.) СПб., 1905.
20. Переписка г-жи Голохвастовой с И. С.
Аксаковым в «Русском архиве» за 1913 г., №№ 1 и
2.
21. С. А Муромцев. «Сборник статей и
речей», вып. V. СПб., 1910.
22. Сборник «С. А. Муромцев», под ред. кн.
Д. И. Шаховского. М., 1910.
23. Сборник «Памяти В. А. Гольцева». М.,
1910.
24. Кеннан. «Последнее заявление русских
либералов». СПб., 1906.
25. «Записки» гр. Н. П. Игнатьева в «Рус¬
ской старине» и «Историч. вестнике» за 1914 г.
26. М. Я. Драгоманов. «Либерализм и зем¬
ство». Ж., 1888. Перепечатано в СПб., в 1906 г.
27. Его же. «Политические сочинения». 2 т.
Париж, 1906.
28. Л. Тихомиров. «Почему я перестал быть
революционером?» М., 1896.
29. Его же. «Конституционалисты 1881 г.»
30. «Воспоминания» кн. В. П. Мещерского, т.
1П.
31. В. Я. Богучарский. «Из истории
политической борьбы в 1870-х и 1880-х гг. XIX в.».
М., 1912.
32. Его же. «Земский союз или священная
дружина?» «Русская мысль» за 1912 г., № IX.
33. Его же. «Конституционный проект гр. П.
П. Шувалова». «Современник» за 1913 г., № 3.
34. Его же. «Земский союз конца 1870-х и
начала 1880-х г. XIX века» в «Земском юбилейном
сборнике». СПб., 1914.
35. Б. А. Кистяковский, «Страницы прошло¬
го». М., 1912.
36. Его же. «Орган земского союза «Вольное
слово» и легенда о нем». «Русская мысль» за 1912
г., №11.
37. И. Д. Шишманов. Записка гр. П. П. Шу¬
валова в «Вестн. Евр.» за 1913 г., № 8.
38. Его же. «Письма гр. П. П. Шувалова».
«Вест. Европы» за 1914 г., №№ 2 и 3.
39. Кн. Л. А. Кропоткин. «Священная
дружина». Письмо в редакцию «Русск. ведомо¬
стей» № 251, 31 окт. 1912 г.
40. Его же. «Записки революционера». СПб.,
1907.
41. В. А. Розенберг. «Священная дружина»
(из переписки М. Е. Салтыкова и Н. А. Белоголо¬
вого) . «Русск. вед.» 6 окт. 1912.
42. С. А. Сватиков. «Проекты народного
представительства в России в 1882 г.». «Голос
минувшего» за 1913 г., № 3.
43. А. А. Корнилов. «Из истории
конституционного движения конца 1870-х и нача¬
ла 1880-х гг.». «Русск. мысль». 1913 г. № 7.
44. Лев Дейч. «У начала легенды». «Совре¬
менный мир» за 1913 г., № 11.
45. А. С. Изгоев. «Земское конституционное
движение». «Речь». 1913. № 206.
46. «Материалы по пересмотру установлен¬
ных для охраны госуд. порядка исключительных
положений»
47. В. М. Гессен, «Исключительное поло¬
жение». СПб., 1908.
48. И. П. Белоконский.«3емское движение».
Изд. 2-е. М., 1914.
49. А. Тун. «История революционных
движений в России». Перевод В. И, Засулич и др. с
предисловием Г. В. Плеханова, ст. Д. Кольцова
«Восьмидесятые годы», Г. В. Плеханова «О
социальной демократии в России» и примеч. Я.
Лаврова. СПб., 1906.
50. То же. Перевод под ред. и с примеч. Л. Э.
Шишко. СПб., 1906.
.51. В. Акимов (Махновец). «Очерк развития
социал-демократии в России». Изд-воО. Н. Попо¬
вой. 2-е изд. СПб., 1906.
52. С. С. Арнольди (П. Л. Лавров). «I. Кому
принадлежит будущее? II. Из рукописей 1890-х
годов». М., 1905.
53. «Письмо М. К. Цебриковой к императору
Александру III». СПб., 1907.
418
54. Бурцев. «За сто лет». 2 части. Париж,
190i.
55. Дж. Кеннан. «Сибирь», перев. с английск.
СПб., 1906. 2 части.
56. Я. Я. Бирюков. «Биография Льва Нико¬
лаевича Толстого». Т. 2-й. М., 1908.
57ч Полное собрание сочинений Л. Н. То¬
лстого, т. XII и следующие тома.
58. Сочинения М. Е. Салтыкова Щедрина)
«Современная идиллия» (т. VII изд. 1890 г.), «За
рубежом» (т. VI), «Сказки» (т. VIII), «Письма к
тетеньке» (т. VI, а также вышедшее отд. изд. за
границей), «Пошехонские рассказы» (т. VII),
«Пестрые письма» (т. VIII) и «Мелочи жизни» (т.
VIII), а также материалы для его биографии, собр.
«К. К. Арсеньевым (в т. IX 1-гоизд.).
59. «Общественное движение в России в на¬
чале XX века». Под ред. Г. В. Плеханова, Л. Мар¬
товеи Я. Маслова и А. Потресова Т. I.
«Предвестники и основные причины движения».
СПб., 1909.
60. Л. Мартов. «Развитие крупной промыш¬
ленности и рабочее движение до 1892 года», в «Ис¬
тории России в XIX в.» под ред. М. Я. Покровского,
т. VI, гл. X.
61. Там же, гл. XI. Л.Шишш «Крестьянское
и народническое движение».
62. Там же библиография к обеим этим стать¬
ям, в т. VII.
К названным здесь сочинениям следует присо¬
единить из сочинений перечисленных в отд. IV
библиографического указателя к царствованию
императора Александра II под литерой В
(Национальный вопрос) № 2, 4,5, 6, 9,12,13,14,
15, 16, 17, 18 и 19 и поя литерой Г (Религиозный
вопрос и вероисповедная борьба) №№ 1, 3, 7, 15,
16,17,18,19, 20 и 21.
V. Развитие литературы, искусств
и науки при Александре III
См. отд. IV лит. А библиографического указа¬
теля к царствованию импер. Александра П (стр.
258—259 этой части «Курса»).
VI. Внешняя политика
императора Александра III
1. История Министерства иностранных дел.
Юбилейн. изд. СПб., 1902.
2. Пфлуг-Гартунг. «Всемирная история», т.
VI. «От венского конгресса до наших дней» Перев.
под ред. Я. Т. Кареева и С. Я. Лозинского. Изд.
Брокгауза и Ефрона. СПб., 1910.
3. «История России в XIX в.»под ред. М. Я.
Покровского, т. IX, гл. VII «Внешняя политика
России в конце XIX в.» (М. Я. Покровского). Там
же библиография.
4. С. С. Татищев. «Сборник статей из прош¬
лого русской дипломатии». СПб., 1890.
5. Я. Я. Гродеков. «Война в Туркмении. По¬
ход Скобелева в 1880—1881 гг.». 3 тома.
6. Kuropatkin. «Geschichte des Feldzuges
Skobelew» Muhlheim a. P., 1904.
7. Я. А. Матвеев. «Болгария после
Берлинского конгресса. Историч. очерк, с прилож.
Тырновской конституции». СПб., 1887.
8. Я. Я. Милюков. «Болгарская
конституция» Ст. в сборн. «Политич. строй совре¬
менных государств», изд. «Права». СПб., 1905, т. I.
9. А. ЛПогодин, «История Болгарии». СПб.,
1910 (сподробн. библиографией).
10. Его же. «История Сербии». СПб., 1910.
11. Л. Я. Соболев. «К новейшей истории Бол¬
гарии», в «Русск. старине» за 1886 г., № 9.
12. В. В. Водовозов. «Болгария. Эпоха
национального возрождения. Третье болгарское
государство. Болгарское княжество при Фердина¬
нде I», в «Новом энциклопедическом словаре Брок¬
гауза и Ефрона», т. 7-й. Там же библиография.
13. Erneste Daudet. «Histoire diplomatique de
ГаШапсе franco-russe (1873—1893)». P., 1894.
14. E. de Cyotu «Les finances russes et l’epargne
francaise». P., 1895.
15. Hansen. «L’alliancefranco-russe». P., 1897.
16. A. Leroy-Beaulieu. «La France, la Russie et
ГЕигоре». P., 1888.
17. «Сибирь и Сибирская железная дорога».
СПб.; 1903.
18. Cordier. «Histoire des relations de la Chine
aves les puissances occidentales». P., 1903. 3 v-s.
19. Vladimir. «Russia on the Pacific». L., 1899.
20. Описание путешествия на восток на-
следника-цесаревича Николая Александровича в
1891 г., изд. кн, Э. Э. Ухтомским.
21. Кн. Э. Э. Ухтомский, «К событиям в
Китае. Об отношении Запада и России к Востоку».
СПб., 1900.
Оглавление III части
Предисловие 267
Лекция XXVII. Покушение Каракозо¬
ва.— Наступившая после этого реакция.—
В чем она выразилась?— Развитие внутрен¬
ней жизни России после реформ 60-х годов,
несмотря на реакцию.— Продолжение не¬
которых преобразований.— Завершение
крестьянской реформы распространением
ее на крестьян удельных и государствен¬
ных.— Общая картина землевладение
различных групп населения России посл$
реформ 1861, 1863 и 1866 гг.Степень обес¬
печенности крестьян разных наименований
земельными наделами 263
Лекция ХХУШ. Ближайшие результа¬
ты крестьянской реформы.— Рост насе¬
ления в России до и после реформы.—
Критика имеющихся в литературе взглядов
и мнений по этому предмету.^- Расселение
населения в России до и после реформ*!.1—
Рост городского населения до и после
реформы.— Экономическое положение
России после эпохи реформ.—Промыш¬
ленный кризис и его причины 276
Лекция XXIX. Финансовое положение в
России в эпоху реформ и в последующие
годы.— Задачи финансовой политики при
М. X. Рейтерне.— Деятельность Рейтер¬
на.— Стремление к поднятию общей
производительности страны и в особенности
вывозной торговли.— Вопрос о постройке
железных дорог.— Ход этого дела в России
до середины. 70-х годов.—Заботы об
организации коммерческого кредита.—
Открытие частных банков.— Борьба ' с
дефицитом в государственном бюджете.—
Вопрос о продолжении внутренних преоб¬
разований и доклад Рейтерна в 1866 г. . . 282
Лекция ХХХ.Выработка нового городо¬
вого положения,— Прежнее устройство
наших городов по закону и на деле.— Рабо¬
ты 40-х годов.— Ход работ по составлению
Положения 1870 г.— Содержание и
критика этого Положения.— Вопрос о
реорганизации армии.— Реформы Д. А.
Милютина.— Отмена рекрутчины и Устав о
всеобщей воинской повинности 1874 г.—
Общекультурное и просветительное зна¬
чение преобразований в военном ведомстве
Д. А. Милютина 290
Лекция XXXI. Деятельность Министер¬
ства народного просвещения после 1866 г.—
Гр. Д. А. Толстой и Д. А. Милютин как вы¬
разители двух противоположных сторон
царствования Александра П.— Взгляды То¬
лстого.— Толстой и Катков.— Вопрос о
реформе средней школы.— Борьба за вве¬
дение классицизма.— Сущность и зна¬
чение реформы 1871 г.— Планы Толстого
относительно университетов и принятые им
меры.— Развитие женского образования в
период 1866—1878 гг.— Начальное образо¬
вание. Уставы 1864 и 1874 гг.— Борьба
Министерства народного просвещения с
земством.— История земской школы в
1866—1880 гг 300
Лекция XXXII. Развитие земских уч¬
реждений с 1866 по 1878 г.— Область дея¬
тельности земств. Их задачи и средства.—
Земские сборы и повинности во времена до¬
реформенные.— Бюджеты земств.—
Стремление к обложению торговли и про¬
мышленности и столкновение на этом пути
с правительством.— Расходы земств и рост
этих расходов.— Классовые интересы в
земствах.— Вопрос о натуральных
повинностях и раскладка земских сборов.—
Вопрос о податной реформе и проекты
земств в этой области.— Борьба правитель¬
ства с земством и ограничение его деятель¬
ности 310
Лекция ХХХШ.Открытие новых судеб¬
ных учреждений и первые его шаги.—
Борьба с ними Валуева.— Реакционная де¬
ятельность гр. Палена.— Начало иска¬
жения судебных уставов.— Положение и
направление прокуратуры.— Особый
порядок возбуждения и решения дел по го¬
сударственным преступлениям.— Изме¬
нение в положении адвокатуры и вопрос об
изъятии различных дел из компетенции су¬
да присяжных.— Положение печати в
пореформенное время.— Главные органы
печати и литературные направления после
1866 г. Настроение общества 321
420
Лекция XXXIV. Положение народных
масс и сельского хозяйства в 60-х и 70-х
годах.— Ход выкупной операции.—
Нищенские наделы.— Отрезки.— Аренды
в северных и южных губерниях.— Рост
арендных цен.— Задолженность
помещиков.— Усиленная распашка земель
ввиду усиливающегося хлебного экспорта и
роста хлебных цен.— Количество скота у
помещиков и крестьян.— Размеры
помещичьей запашки.— Выводы о
помещичьем хозяйстве на севере и на юге.—
Продажа земель.— Покупщики.— Легко
ли далось крестьянам расширение их хозяй¬
ства на счет помещичьего? — Положение
крестьянского хозяйства.— Недостаточ¬
ность наделов.— Обременение налогами и
платежами.— Неравномерность обло¬
жения.— Голод 1868 г.— Исследования
земств.— Недоимки.— Положение кресть¬
янского хозяйства в черноземных гу¬
берниях.— Самарский голод 1872—1873 гг.
Продовольственные ссуды.— Выводы
Янсона и кн. Васильчикова о положении
крестьянского хозяйства в 70-х годах . . . 332
Лекция XXXV. Отношение правитель¬
ства и общества к положению народных
масс.— Народническое направление в
литературе.— Студенческие беспорядки
1869 г.— Нечаев и нечаевщина.— Чайков-
цы в Петербурге; их идеи и планы.— Ба¬
кунин и Лавров за границей.— Лавристы и
бакунисты.— «Вперед».— Начало хож¬
дения в народ.— Аресты.— Записка Пале¬
на.— Общество «Земля и воля».—
Развитие народнических идей в легальной
литературе 343
Лекция ХХХУ1.Политика правительст¬
ва на окраинах.— Притеснения в Мало¬
россии и Польше.— Внешняя политика
правительства.— Восточный вопрос.— Со¬
перничество русских и английских интере¬
сов в Азии.— Завоевание Кавказа и
среднеазиатских ханств.— Смуты в
Турции.— Движение балканских сла¬
вян.— Сербская война и болгарская рез¬
ня.— Переговоры великих держав.—
Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Ее
ход и исход.— Берлинский конгресс.—
Экономические и финансовые результаты
войны.— Отставка Рейтерна.— Впечат¬
ление войны и конгресса на русское общест¬
во.— Славянофилы.— Земское движение
.— Революционное движение.— Обра¬
щение правительства к обществу.— Вы¬
ступления земств. Образование партии
«Народная воля» 355
Лекция XXXVII. Организация рево¬
люционерами ряда покушений на жизнь
императора Александра П.— Растерян¬
ность и колебания в высших сферах.—
Взрыв в Зимнем дворце и учреждение вер¬
ховной распорядительной комиссии с
Лорис-Меликовым во главе.— Программа
Лорис-Меликова и ее осуществление.—
Отношение к нему либералов и рево¬
люционеров.- Отставка Толстого.— Ре¬
формы Лорис-Меликова.— Сенаторские
ревизии и крестьянский вопрос.—
Конституционное движение.— Доклад
Лорис-Меликова об учреждении особой
подготовительной комиссии.— Катастрофа
1 марта 1881 г 366
Список сочинений и печатных ма¬
териалов, относящихся к истории России
в царствование Александра II 377
Лекция XXXVIII. Император Александр
III.— Его воспитание.— Отношение к нему
общества до вступления его на престол.—
Его действительные взгляды.— Первые
шаги императора Александра III.— Борьба
двух направлений в высших правящих сфе¬
рах.—Совещание 8 марта 1881 г. Коле¬
бания.— Катков и Аксаков.— Агитация
Победоносцева.— Манифест 29 апреля
1881 г.— Отставка Лорис-Меликова и неко¬
торых других министров.— Министерство
Н. П. Игнатьева.— Его программа.— Ме¬
ры к улучшению экономического поло¬
жения народа.— Обязательный выкуп.—
Дворянская агитация.— Сведущие
люди.— Понижение выкупных плате¬
жей.— Политика Бунге.— Отмена подуш¬
ной прдати. — Введение податной
инспекции 391
Лекция XXXIX. Меры, принятые в на¬
чале царствования Александра Ш к облег¬
чению земельной тесноты крестьян.—
Крестьянский банк и его первые шаги при
Бунге.— Облегчение аренды казенных зе¬
мель крестьянам.— Упорядочение кресть¬
янских переселений.— Правила 1881 г.—
Закон 13 июля 1889 г.—Введение
фабричной инспекции и закон о защите ма¬
лолетних и женщин на фабриках.— Налоги
на наследства и на процентные бумаги.—
Вопрос об административной крестьянской
реформе.— Кохановская комиссия. Ее сос¬
тав и ликвидация ее работ.—Крушение
игнатьевского режима 399
Лекция XL. Решительный поворот к
реакции.— Роль Победоносцева.— Гр. Д.
А. Толстой.— Реакция в Министерстве на¬
родного просвещения.— Дворянская
реакционная политика во внутренних де¬
лах.— Юбилей жалованной дворянской
грамоты в 1885 г. и связанное с ним дворян¬
ское реакционное движение.— Программа
Пазухина.— Ликвидация вопроса о преоб¬
разовании крестьянских учреждений после
закрытия кохановской комиссии.— Закон
12 июля 1889 г. о земских начальниках.—
Положение о земских учреждениях 12
июня 1890 г.— Судебные новеллы.— Но¬
вый закон о печати 1882 г. и ее поло¬
жение.— Преследование иноверцев и
421
инородцев.— Еврейский вопрос. Новые
порядки в армии и в военно-учебных заве¬
дениях 404
Лекция ХЫ.Финансовая политика во
вторую половину царствования императора
Александра III.—И. А. Вышнеградский и
его система.— Крайнее развитие про¬
текционизма в таможенной политике и в
железнодорожном тарифном законодатель¬
стве.— Результаты этой системы.— Внеш¬
няя политика императора Александра III.—
Завоевание Туркмении.— Русско-
английские отношения в Средней Азии.—
Балканские дела.— Болгарские замеша¬
тельства.— Франко-русский союз и его
значение.— Сибирская железная дорога и
начало новой политики на Дальнем Восто- 411
ке
Список сочинений и печатных ма¬
териалов, относящихся к истории России
в царствование Александра III 416
Оглавление 420
ПРИМЕЧАНИЯ
К статье: Последний общий курс рус¬
ской истории и его автор
1Адмирал В. А. Корнилов, герой оборо¬
ны Севастополя, приходился двоюродным
братом деду историка.
2Весьма любопытные воспоминания, ко¬
торые А. А. Корнилов в конце жизни
надиктовал своей супруге, находятся в
архиве Академии наук в фонде В. И. Вер¬
надского (ф. 518, оп. 5, д. 68).
Здесь в основном учились дети русских
чиновников.
4Сын вышеупомянутого директора пер¬
вой варшавской гимназии С. Е. Крыжа-
новский — единственный член кружка,
который предпочел впоследствии обществен¬
ной и научной работе служебную карьеру:
ему суждено было стать последним государ¬
ственным секретарем Российской империи.
5Подробнее о кружке и зарождении
«братства» смотри нашу статью в сборнике
«Проблемы истории СССР» (М., 1977). Там
же на с. 181 приведен список основной
литературы о кружке.
Студенческие работы сохранились в бо¬
гатейшем архиве А. А. Корнилова: ЦГАОР,
ф. 5102, on. 1, д. 64, 68.
7ЦГАОР, ф. 5102, on. 1, д. 64, л. 37.
8Супруга А. А. Корнилова — Н. А. Фе-
дорова, уроженка г. Иркутска, учившаяся на
Бестужевских курсах, получала стипендию
от Иркутской городской думы и должна была
затем некоторое время отработать в школе у
себя на родине.
90 Корнилове — исследователе кресть¬
янской реформы см. подробнее: Леван-
довский А А. Из истории кризиса русской
буржуазной либеральной историографии. А.
А. Корнилов. М. 1982.
10ЦГАОР, ф. 5102, on. 1, д. 547, л. 20.
“Архив АН СССР, ф. 518, оп. 5, д. 68,
л. 160.
12ЦГАОР, ф. 5102, on. 1, д. 86, л. 2.
Во втором издании «Курса» Корнилов
значительно сократил свой обзор русской
истории, начав его практически с XVIII в.
4Особенный интерес в этом отношении
представляют «вставные» очерки Корнилова
по русской истории в переводном издании
4-го тома немецкой «Всемирной истории»
<под редакцией Пфлуг-Гартунга, СПб.,
1910).
%ГАОР, ф. 5102, on. 1, д. 50, л. 3.
См.: Исторический вестник. 1912. №
9' 17
Русское богатство. 1912. № 11.
18Речь. № 154. 9 июня 1912 г.
19См.: Русские ведомости. № 113, 18 мая
1912 г.
*°ЦГАОР, ф. 5102, on. 1, д. 51, л. 5.
21См.: Кизеветтер А А История
России XIX века. М., 1911. С. 69—96.
“ЦГАОР, ф. 5102, on. 1, д. 1209, л.
3—21.
^После смерти своей перврй жены, На¬
тальи Антиповны, урожденной Федоровой,
Корнилов женился на ее сестре.
^ЦГАОР, ф. 5102, on. 1, д. 648, л. 9—11.
К лекции I
!Лицам, желающим составить себе
правильное представление об общем ходе
развития русского народа и государства,
можно рекомендовать два пособия:
1) «Курс русской истории» проф. В. О.
Ключевского, изданный в четырех частях и
доведенный до вступления на престол Ека¬
терины II (в литографированных изданиях
этого курса изложен и позднейший период
русской истории), 2) «Очерки по истории
русской культуры» Я. Я. Милюкова в трех
частях (3-я часть в 2-х выпусках). Оба эти
сочинения прекрасно дополняют одно другое
и прочитанное одно вслед за другим (сперва
«курс» Ключевского, потом «очерки» Милю¬
кова) дают достаточно ясное и верное пред¬
ставление и об общем ходе
423
социально-политического процесса в
России, и об общем движении и направ¬
лении в ней умственного развития. Важно
прочесть непременно оба эти произведения,
потому что В. О. Ключевский, дающий пос¬
ледовательное изложение всего хода
социально-политического развития России,
устранил из своего курса историю развития
идей, считая их исключительно плодами
личного творчества, произведением -«одиноч¬
ной деятельности индивидуальных умов и
совестей». Наоборот, история идеологии
русского народа и общества составляет глав¬
ное содержание, к сожалению, также не
вполне законченных до настоящего времени
«Очерков»#. Я. Милюкова — в особенности
2-й и 3-й частей их.
2По свидетельству английского пос¬
ланника XVI в. Флетчера (О государстве
русском), рать эта составляла до 65 тысяч
человек. Эту цифру приводит в своем курсе
и проф. Ключевский (II, стр. 26$). П.И.
Милюков для XVII в. приводит цифры
южной армии, значительно м^ныцие, не¬
жели Флетчер («Государственное хозяйство
России в первой четверти XVIII столетия»,
стр. 32 и след.); но, во всяком случае, факт
ежегодной мобилизации многотысячной
армии на охрану южной границы государ¬
ства от татар в XVI и XVII вв. этими
документально и погодно установленными
цифрами лишь еще более подтверждается.
Для изучения истории цоместной
системы и крепостного права в Рросир мож¬
но рекомендовать следующие сочинения: 1)
И. Энгельман. «История крепостного права
в России», перевод с немец, под ред. А А
Кизеветтера. М., 1900. В этой небольшой
книжечке резюмированы результаты всех
старых работ по истории крепостндгр права:
Погодина, Беляева, Костомарова, Чичерина
и др.; 2) В. О, Ключевского ^Боярская дума
древней Руси»; 3) Его же. «Происхождение
крепостного права в России» («Русская
Мысль», 1885. № 8 и 10) — чрезвычайно
важные статьи, установившие норые точки
зрения на происхождение крепостного права
(особенно о роли экономич. факторов); 4)
Его же. «Подушная подать и отмена холоп¬
ства в России» («Русская Мысль». 1886.
№№ 5, 7, 9 и 10); 5) М. А Цьяконош
«Очерки из истории сельского населения в
Московском государстве XVI—XVII вв.».
СПб., 1898; 6) Я. А Рожкова «Сельское хо¬
зяйство Моск. Руси в XVI в.». М.* 1899; 7)
И. Я, Миклашевского «К истории здз. быта
Моск. государства». М., 1894; 8) С. Д Рож¬
дественского «Служилое землевладение в
Моск. госуд. XVI в.»СПб., 1897; 9) ОФ.
Платонова «Очерки по истории смуты в
Моск. государстве». СПб., 1899; 10) Я. Я.
Павлова-Сильванского «Государевы
служилые люди» и «Феодализм в древней
Руси», тома I и III его сочинений. СПб., 1910
и 1911; 11) Я. Я. Милюкова «Феодализм в
России», в т. 70 эн цикл. слов. Брокгауза и
Ефрона; 12) Его же ст. «Крестьяне»в т. 32
того же словаря; 13) К. П. Победоносце-
ва«Историч. исследов. и статьи (Историч.
очерки крепости, права в России)». СПб.,
1875; 14) Я. А Благовещенского «Четвертое
право». М., 1899; 15) А Я. Ефименко «Кре¬
стьянское землевладение на крайнем севе¬
ре» (в «Очерках исслед. народн. жизни»).
М., 1884; 16) Акад. А С. JIanno-Данилевско¬
го ст. «Очерк ист. образования главнейших
разрядов крестьянского населения в России
(до XVIII в.)» в сборнике «Крестьянский
строй». СПб., 1905; 17) Проф. Д. И. Бага-
лея «Очерки из ист. колонизации и быта
степной окраины Московского государства».
М., 1887; 18) Готье. «Замосковный край в
XVII веке». М., 1906; 19) Перетятковича
«Поволжье в XVI и XVII вв.». М., 1887; 20)
Его же. «Поволжье в XVII в. и нач. XVIII
в.». Одесса, 1882; 21) Статьи М. К. Любав-
ского, Ю. В. Готье и М. М. Богословского
в т. 1 шеститомного изд. «Великая реформа».
М., 1911. Сравн. Библиографич. указания по
ист. крестьян в России у В. И. Семевского
«Крестьяне при Екатерине», т. 1, изд. 2-е.
СПб., 1903, стр. 626 и в книге «Великая
реформа 19 февраля 1861 г.», т. 1. СПб.,
1911.
4Для изучения русской финансовой
системы XVI—XVIII вв. можно рекомендо¬
вать следующие основные пособия: 1) А С.
Лаппо-Данилевского «Организация прямого
обложения в Московском государстве со вре¬
мен смуты до эпохи преобразований». СПб.,
1890; 2) Я. Я. Милюкова «Государственное
хозяйство России в первой четверти XVIII
столетия и реформа Петра Великого». Изд.
2-е. СПб., 1905; 3) Его же. «Спорные воп¬
росы финансовой истории Московского го¬
сударства» (Отчет о 33-м присуждении
наград гр. Уварова, изд. акад. наук). СПб.,
18192; 4) С. Б. Веселовского «Сошное
письмо». 2 тома. М., 1915 и 1916.
Я. Я. Милюков. «Госуд. хоз-во России
при Петре Великом», изд. 2-е, стр. 546.
О числе и размерах рекрутских наборов
в России со времен Петра Великого до 1855
г. см. в «Военно-статистич. сборнике», сос¬
тавл. офицерами генер. штаба под
редакцией Н. Н. Обручева, вып. IV (СПб.,
1871 г.), отд. 2-й, стр. 2.
424
К лекции II
*В нашей исторической литературе нет
сочинения, которое давало бы удовлет¬
ворительное и полное изложение истории
царствования Екатерины II. Для лиц, жела¬
ющих изучать историю этой важной эпохи
по изданным сочинениям, мы приводим в
конце этой лекции список важнейших отно¬
сящихся сюда книг и статей (не включая в
него» однако, сочинений вполне устарелых).
Лаппо-Данилевскши «Очерк внутрен¬
ней политики имп. Екатерины II», стр. 19.
Как развивалась наша хлебная торговля в
зависимости от колонизации юга и
культивирования южных степей, особенно
ярко видно из цифр, приведенных в
«Сборнике сведений по истории и
статистике внешней торговли», изд. под
редакцией В. Я. Покровского департамен¬
том тамож. сборов в 1902 г. Из приведенных
там данных видно, что за трехлетие 1758—
1760 гг. хлеба за границу отпускалось в год
средним числом по 70 тыс. четвертей на
сумму 114 тыс. руб. В трехлетие же 1778—
1780 средний годовой отпуск хлеба достиг
400 тыс. четвертей на сумму 1 млн. руб.
После второй турецкой войны и неурожаев,
ее сопровождавших, в трехлетие 1790—1792
гг. отпуск хлеба временно понизился до 233
тыс. четв. в год на сумму 822 тыс. руб.; но
как только эти неблагоприятные обстоятель¬
ства прекратились, он стал снова расти
чрезвычайно быстро и в первых годах XIX
в. достиг уже 2218 тыс. четвертей в год на
сумму около 12 млн. руб.
3Более или менее планомерное развитие
дела проведения и улучшения водных путей
сообщения начинается с 1782 г., когда в
составе главного управления водными
путями, по мысли Сиверса, учрежден был
особый корпус гидравликов. Сравн.
«Краткий историч. очерк развития и дея-
1698—1710 — 149
1711—1720 — 248
1721—1725— 182
1726—1730 — 33
1731—1740 — 140
1741—1750— 149
1751—1760 — 233
1761—1770— 1050
1771—1775 — 633*1
1776—1780 — 833/
1781—1785 — 986
1786—1790 —1699J
1791—1795— 1494 ?
1796—1800 — 1166 J
тельности ведомства путей сообщения за сто
лет его существования (1798—1898)». Изд.
М-ва пут. сообщ. СПб., 1898 г. стр 5—7.
4При ревизиях до середины XIX в,
считалось лишь население мужского пола,
так как правительство было заинтересовано
лишь в счете окладного населения. Поэтому
о числе всего населения можно судить лишь
приблизительно — помножая цифры, уста¬
новленный ревизией, на 2.
5Сра*. В. Я. Семевского «Крестьяне в
царствование императрицы Екатерины И».
Т. I этого капитального труда посвящен
помещичьим крепостным и «посессионным»
крестьянам; т. II — различным разрядам го¬
сударственных крестьян. Здесь следует ого¬
вориться, что приведенные в тексте цифры,
взятые у В. И. Семевского, относятся только
к центральным, северным и восточным гу¬
берниям, почему сумма их и не соответству¬
ет общему числу казенных крестьян,
приводийому у Шторха, не говоря о том, что
и rto BpeifleHfo почти все эти цифры относятся
к н&чайу царствования Екатерины (т. е. к
третьей ревйзии), тогда как цифры Шторха
относятся к Четвертой ревизии (1783 г.).
*Данни6 П. Н. Милюкова взяты из жур¬
налов верховного тайного совета за 1726 г.,
опубликованных в LVI т. «Сборника русско¬
го исГорйч. общества» (стр. 321). Он при
этом не упомянул о детях лиц разных неоп¬
ределенных званий, распределенных в
отчетной ведомости, напечатанной в
сборнике п6 tpeM, графам, в сложности да¬
ющих более 10 %.
См., найример, «Записки Державина»,
стр. 9 и 10*
8Я. Я. Милюков («Очерки», ч. III, стр.
336), заимствовавший приведенные цифры
у &. В, Сиповского, приводит их распреде¬
ленными по следующим десятилетиям (и,
«где нужно», по пятилетиям):
(книг);
в год по 12
(книг)
»
» 25
» 36
215
* 7
* 14
*
» 15
»
* 23
»
» . 105
1466
♦ 126
» 166
»
2685
* 197
*
» 366
2660
» 299
* 233
*
425
В число 9513 книг не включены церков¬
но-служебные книги, газеты, журналы.
9Сравни «Записки Андрея Тимофеевича
Болотова» (1738—1795), тома I и II passim;
особенно т. II, стр. 453 (изд. 3-е).
10Попытка составления и издания
«Описания внутреннего правления
Российской империи», предпринятая после
закрытия общей и частных комиссий уло¬
жения, имела, по-видимому, более педа¬
гогическое значение, нежели практическое.
Это было скорее собрание материалов для
учебников по «законоискусству» нежели на¬
стоящий свод действующих законов. Срав.
А. С. Лаппо-Данилевского «Собрание и свод
законов Российской империи, составленное
в царствование Екатерины И». Журн. Мин.
Нар. Проев, за 1897 г. №№ 1, 3, 5 и 12 и
отдельно.
пПри расчете и сравнении финансовых
бюджетов XVII и XVIII вв. необходимо иметь
в виду изменение в покупательной силе на¬
шего серебряного рубля, а затем и тех сур¬
рогатов (медных денег при Петре,
ассигнаций с Екатерины II), которые
правительство наше стало вводить в XVIII в.
С начала XVI в. до нашего времени цена
рубля почти беспрерывно падает под
влиянием двоякой причины: падения цены
серебра, которая упала в 15—18 раз, и
уменьшения веса монеты (в 7 раз). Серебр.
рубль XV в. равнялся нашим 100—130 руб.,
к концу XVI в. он упал до 24—25 нынешних
рублей; в начале XVII в.— до 12; затем, к
концу XVII в., он повысился до 17, а при
Петре упал до 9 нынешних рублей и, нако¬
нец, к концу царствования Екатерины — до
5-ти. Независимо от этого, в свою очередь,
колебался курс медных денег и ассигнаций
в зависимости от размеров их выпусков и
общих торговых конъюнктур.
Ср. «Русский серебряный рубль в XVI—
XVIII вв.» В. О. Ключевского и данные об
изменении ценности рубля, приведенные у
Милюкова «Очерки по ист. русск. культу¬
ры», ч. I, стр. 120 (6-го изд.), с поправками,
заимствованными в ст. А Черепнина (в
«Труд. ряз. архив, к-сии») и в книге Я. А
Рожкова «Сельское хоз. Моск. Руси в XVI
в.» (М., 1899).
12Н. Д. Чечулин в книге своей «Очерки
по истории русских финансов в царство¬
вание Екатерины И» высказывает иной
взгляд. Он утверждает (стр. 378 и 379), что
податное обременение населения при Ека¬
терине было не меньше, чем при Петре. Этот
вывод у него получается оттого, что он
сравнивает номинальные цифры Пет¬
ровских бюджетов с Екатерининскими, че¬
го, без сомнения, нельзя делать, так как
ценность рубля изменилась за это время
более чем в три раза (ср. Ключевского
«Русский серебряный рубль XVI—XVIII
вв.»). Да и вообще в царствование Ека¬
терины мы отнюдь не можем указать таких
разительных симптомов разорения насе¬
ления, как убыль пятой части дворов при
Петре. При Екатерине, несмотря на не¬
правильность ее финансовой системы, стра¬
на, несомненно, быстро развивалась
промышленно и богатела благодаря выгодно¬
му экономическому значению ее
территориальных приобретений.
К лекции III
Список сочинений, относящихся к
истории царствования Павла, мы приводим
в конце этой главы.
2См. записку Павла об этом, найденную
в 1826 г. в бумагах имп. Александра. Она
напечатана в т. 90. «Сбор. Рус. ист. общ.»
стр. 1—4. В настоящее время правительст¬
венная деятельность Павла подвергнута но¬
вому изучению и пересмотру в книге проф.
В. М. Клочкова, отнесшегося к ней весьма
благоприятно. Несмотря на собранный г.
Клочковым значительный материал в подт¬
верждение его апологетического отношения
к этой деятельности, я не могу признать его
выводы убедительными и в общем остаюсь
при своем прежнем взгляде на царствование
Павла. Свое мнение о работе г. Клочкова я
изложил в особой рецензии, напечатанной в
«Русской мысли» за 1917 г., № 2.
З3десь следует, впрочем, упомянуть, что
в числе отмен принятых Екатериной мер
были и добрые дела. Сюда относятся: осво¬
бождение Новикова из Шлиссельбурга, воз¬
вращение Радищева из ссылки в Илимск и
торжественное освобождение из плена с осо¬
быми почестями Костюшки и других содер¬
жавшихся в Петербурге пленных поляков.
4Положение казенных крестьян Павел
действительно стремился урегулировать и
улучшить, как это видно из исследования г.
Клочкова, но все относящиеся к этому пред¬
положения оставались, в сущности, лишь на
бумаге вплоть до образования ппи имп.
Николае министерства государственных
имуществ с гр. Киселевым во главе.
5Срав. В. И. Семевского «Крестьянский
вопрос» etc, т. 1, стр. 227, 228.
426
6Проф. Клочков. «Очерки правит, дея¬
тельности времени Павла I», стр. 278.
7Первый том соч. Шторха «Gemalde des
Russischen Reichs» вышел в 1797 г. в Риге,
остальные тома печатались за границей; но
Шторх был persona grata при дворе Павла:
он был личным чтецом имп. Марии Феодо¬
ровны и книгу свою (1-й том) посвятил
Павлу.
гПыпин. «Общ. движ. при Александре
I», стр. 74 (изд. 2-е).
9«Русский архив» за 1870 г., стр. 2267—
2268. Есть отдельное издание под ред. г.
Сиповского. СПб., 1913.
К лекции IV
1Н. К. Шилъдер в своей биографии
Александра насчитывает их только три, но
у Шильдера деление царствования Алексан¬
дра на три периода совершенно удовлет¬
ворительно мотивируется поворотами в
личном развитии а настроении самого Алек¬
сандра, ибо перед Шильдером стояла не та
задача, которая стоит перед нами. Его задача
была: дать биографию императора Алексан¬
дра; наша задача — йроследить развитие
исторического процесса внутренней жизни
русского народа и государства.
2Лишь некоторые из этих переводов
были, по-видимому, напечатаны в самом
начале царствования Павла в «Петербург¬
ском журнале». (Срав. Я. Я. Колюпанов,
«Биография А. И. Кошелева», 1, 132; Я. И.
Греч. «Записки»; А А Кизеветтер. «Ис¬
торич. очерки». М., 1912, стр. 72 и след.
3Панин, по-видимому, и сам искренно
так думал.
К лекции V
*Срав. письмо Александра к Екатерине
Павловне от 18 сентября 1812 г. в «пер¬
еписке» их, изд. вел кн. Николаем Михай¬
ловичем. СПб., 1910, стр. 87.
2Оба эти деятеля были люди, одаренные
природным умом и в общем смысле слова
честные, но не особенно образованные; они
не были людьми идейными, принципиаль¬
ными, и в государственных делах руко¬
водились главным образом рутиной да
«здравым смыслом». К тому же они были в
контрах между собой и ссорились очень
часто даже в присутствии Александра
(Шильдер, II, 30).
3Об отношениях Александра к Палену и
Панину иначе рассказано в записках де¬
кабриста М. А. Фонвизина (племянника
известного писателя). В своих «Записках»
Фонвизин — со слов гр. П. А. Толстого,
бывшего военным губернатором Петербурга
после Палена,— рассказывает, будто бы
Александру при самом его вступлении на
престол именно Паниным и Паленом было
поставлено определенное условие, чтобы он
дал торжественное обещание немедленно по
воцарении даровать конституцию, но что
будто бы генерал Талызин, который коман¬
довал гвардейским гарнизоном в столице,
вовремя предупредил Александра об этом,
уговорил его не соглашаться на эти условия
и обещал в случае нужды поддержку всех
гвардейских войск, которые находились в
Петербурге. Александр, по рассказу
Фонвизина, послушался Талызина и отверг
предложение Палена и Панина, после чего
Пален, взбешенный вмешательством Та¬
лызина, приказал, будто бы, отравить его
(надо заметить, что Талызин действительно
скоропостижно скончался как раз в это вре¬
мя). Легенда утверждает, что эти обстоятель¬
ства и были причиной удаления в отставку
графов Палена и Панина. Эта легенда долго
пользовалась доверием многих; но теперь
нельзя сомневаться в ее неверности.
Панин не был в это время даже в Петер¬
бурге и приехал в столицу лишь через не¬
сколько недель. Притом, если бы все это
было правдой, то Александр отставил бы
Палена немедленно и не назначил бы
Панина, между тем оба они получили
отставку только тогда, когда миновала в них
необходимость,— спустя несколько меся¬
цев. Обстоятельства отставки Палена изве¬
стны. Он был отставлен по требованию
императрицы Марии Феодоровны, с которой
у него произошло в июне 1801 г. резкое
столкновение из-за икон, поднесенных ей
старообрядцами и выставленных по ее
приказанию в часовне, причем на одной из
этих икон оказалась надпись, в которой
Пален увидел намек на желательность суро¬
вой расправы с убийцами Павла. Пален
позволил себе приказать убрать икону, вы¬
ставленную по распоряжению импе¬
ратрицы, и, сверх того, обратился с жалобой
на нее к Александру, а императрица, в свою
очередь, потребовала его отставки, и Алек¬
сандр не только уволил его, приняв сторону
матери, но и приказал ему выехать из Пе¬
тербурга. Все это произошло лишь в июне
1801 г.
Панин же управлял иностранными де¬
лами с апреля до сентября 1801 г. Теперь
427
вполне определенно выяснены обстоятельст¬
ва, по которым и ему пришлось оставить
свою деятельность: он совершенно не
сходился с Александром во взглядах на
внешнюю политику и старался провести
свою линию, несогласную со взглядами и
волей Александра, которые оказались опре¬
деленнее и тверже, нежели Панин рассчиты¬
вал. Нет ничего удивительного в том, что
необычное вступление на престол Алексан¬
дра, так долго окруженное тайной, породило
различные легенды: ведь многие важные ма¬
териалы, освещающие это событие,
опубликованы только теперь. (Особенно
«Архив кн. Воронцова», кн. 11, 14, 18, 29 и
др. и «Материалы для жизнеописания гр. Н.
П. Панина» под ред. А Г. Брикнера, т. VI.)
4Сверх цензурных дел совет ведал при
Павле дела высшего финансового управ¬
ления и некоторые случайно вносившиеся в
него по особым высочайшим повелениям
дела высшей полиции. (См. новое исследо¬
вание г. Клочкова, стр. 165 и след.)
5Скажем здесь несколько слов и о самом
П. А. Строганове и других молодых
приятелях Александра, вызванных им из-за
границы. Строганов был единственным сы¬
ном самого богатого из екатерининских вель¬
мож, графа А. С. Строганова. Как и
Александр, он был воспитан французом-
республиканцем. Этот француз, довольно
известный в срое время математик Ромм, в
своей дальнейшей судьбе был менее
счастлив, чем Лагарп: он был впоследствии
членом и даже одно время председателем
Конвента 1793 г., а затем кончил жизнь на
эшафоте. Это был более суровый и непрек¬
лонный республиканец, чем Лагарп. В 1790
г. он путешествовал вместе с молодым Стро¬
гановым по Европе и, попав в Париж в
разгар революции, вступил в якобинский
клуб вместе со своим юным питомцем, кото¬
рый вскоре сделался даже библиотекарем
этого клуба, сойдясь при этом с известной
революционеркой Теруань де Мерикур.
Когда Екатерина узнала об этом, она
воспретила Ромму въезд в Россию и, немед¬
ленно вытребовав юного Строганова в Петер¬
бург, сослала его в деревню, где жила тогда
его мать.
Вскоре, однако, молодой Строганов был
возвращен ко двору. Тут он подружился с
Александром (через Чарторыйского) и ма¬
ло-помалу освоился с русскими условиями.
От его былого радикализма и якобинства у
него оставались, однако, большая пря¬
молинейность в характере и склонность к
осуществлению даже либеральных реформ
якобинским путем. По взглядам же своим он
был довольно умеренный либерал, хотя и с
заметным демократическим сттеш’.ом. От
воспитателя своего Ромма он заимствовал
прежде всего замечательную точность мысли
и привычку с полной определенностью фор¬
мулировать свои настроения и взгляды.
Среди молодых советников Александра
Строганов был если не наиболее одаренным,
то наиболее стойким, с определенным пла¬
ном действий в голове; все остальные в этом,
несомненно, далеко уступали ему. Строганов
был старше Александра на пять лет и считал
императора человеком с благими наме¬
рениями, но слабохарактерным и ленивым
и первой своей задачей,— или, вернее, не
своей, а задачей того кружка, к которому он
принадлежал и относительно которого ду¬
мал, что этому кружку предстоит преобразо¬
вать Россию,— он считал подчинить
Александра, чтобы иметь возможность
систематически направлять его деятельность
к добру. Так как Строганов предвидел, что
и целый ряд других лиц совсем иного на¬
правления, и чаще всего в личных видах
будет стремиться к той же цели, то он
считал, что кружку нужно спешить, ибо
тогда, когда Александр окажется в
подчинении у кого-нибудь другого, будет уже
труднее воздействовать на него. Меры, кото¬
рыми он полагал достигнуть этой цели,
были, впрочем, совершенно честные, да¬
лекие от обмана, насилия над совестью
Александра и т. п. Строганов полагал
подчинить Александра своему кружку, ста¬
раясь сделаться для него необходимым при
разработке всех тех вопросов, которые
занимали самого Александра, но для разра¬
ботки которых у Александра не хватало, по
мнению Строганова, ни характера, ни спо¬
собности к упорному труду. (Харак¬
теристику Строганова см. в биографии его,
составленной вел. князем Николаем Михай¬
ловичем в 1903 г., т. I.)
Другой член этого кружка — Н. Н. Но¬
восильцев — был двоюродным братом Стро¬
ганова. Он был или казался значительно
тоньше его умом и имел большие способ¬
ности вполне литературно, блестящим сло¬
гом, излагать свои мысли. Новосильцев был
несколько старше Строганова и, значит,
значительно старше Александра, менее
пылок, более осторожен, зато не обладал
такою точностью мысли и сознательностью
намерений, как Строганов. (Там же.)
428
Третьим членом кружка был кн. Адам
Чарторыйский, человек выдающегося ума и
дарований, пылкий патриот своей родины
Польши, тонкий политик, трезвый наблюда¬
тель, сумевший значительно глубже других
понять сущность характера Александра. Он
тоже в свое время увлекался идеями рево¬
люционной Франции 1789 г., но все его
заветные помышления были направлены к
восстановлению Польши в виде сильного,
независимого государства. Описывая всех
членов кружка в своих мемуарах, Чарто¬
рыйский сам назвал себя наиболее бескоры¬
стным, так как он участвовал, собственно, в
чужом для него деле. К чести Чарторыйского
надо сказать, что он никогда не скрывал от
Александра своих истинных побуждений и
намерений и впоследствии, в 1802 г., прежде
чем принять место товарища министра ино¬
странных дел, предложенное ему императо¬
ром, предупредил Александра, что, как
поляк и польский патриот, он, в случае
столкновения интересов русских и
польских, станет всегда на сторону этих
последних («Memoires du primce Adum
Czartoryski». P. 1887).
Четвертым лицом, ранее не принадле¬
жавшим к этому триумвирату и присоедине¬
нным к нему самим Александром, был гр.
Виктор Павлович Кочубей. Это был выда¬
ющийся молодой дипломат, племянник Без¬
бородко, блестяще начавший свою карьеру
еще при Екатерине,— 24 лет он был уже
послом в Константинополе и умело под¬
держивал престиж и интересы России. По
взглядам своим это был искренний либерал,
впрочем, гораздо более умеренный, чем
Строганов и чем сам Александр. Он был
очень образованный человек, но, воспитан¬
ный в Англии, он знал ее, как уверяли
современники, лучше, чем Россию.
Однако Кочубей стремился принять
участие именно во внутренних преобразо¬
ваниях России, и охотно отказался ради
этого от своей блестящей дипломатической
карьеры (он был при Павлё уже вице-канц¬
лером).
63аписка, представленная Александру
гр. А. Р. Воронцовым, напечатана в книге 29
«Архива кн. Воронцова».
70 Мордвинове см. историч. моно¬
графию проф. В. С. Иконникова «Граф Н.
С. Мордвинов». СПб., 1873.
8Все приведенные недостатки первого
учреждения министерств вскоре отчетливо
осознаны были В. П. Кочубеем, что видно из
записки его, представленной императору
Александру 28 марта 1806 г. Записка эта
напечатана в т. ХС «Сборника Русск.
историч. общ.» в числе бумаг, найденных в
кабинете Александра после его смерти (стр.
199).
К лекций VI
1 Великий князь Николай Михайлович.
«Императрица Елизавета Алексеевна», т. 1,
стр. 270—276. СПб., 1908.
23аписки Ф. Ф. ригеля, изд. П. П. Бар-
теневый, ч. I, стр. П7.
3Пи£ьмо Каразина полностью перепеча¬
тало в прилож. к II т. книги Шильдера
«ЙмПер. Александр I», стр. 324—330. Срав.
статью Герцена «Имп. Александр I и В. Н.
Каразин» в VI т. его сочинений петербург¬
ской и$ц,, 1905, стр. 405.
4Срвв. отношение к деятельности имп.
Александра в первые годы его царствования
знаменитого геттингенского историка Авг.
Шлецерй,ъ «Архиве бр. Тургеневых», т. I и
II (СПб., 1911 г.) passim; тоже в ст. акад.
Истрина в «Журнале Мин. нар. проев.» за
1910 г.? № 7. Срав. также речь дерптск.
проф. Паррота, произнесенную в 1802 г., в
приложении ко II т. сочин. Шильдера «Имп.
Александр I», стр. 348.
5ТогдЛшнего военного министра из-за
доклада которого о службе дворян в нижних
чинах вся история и произошла.
*0 «Вестнике Европы» Карамзина см.
«Очерки русской журналистики» Пятков-
ского в книге его «Йз ист. нашего литера¬
турного и обществ, развития», т. II, стр. 127
и след., а также Колюпанова «Биография А.
И. КошёЛеЬа», т. I, стр. 195—199; так же и
о последующей судьбе «Вест. Европы» при
Александре I.
7Обэор издававшихся тогда журналов
см. в цитированных работах Пятковского и
Колюпанова. О Пнине см. также у А. А.
Кизеветтера f книге его: «Исторические
очеркй». М., 1912, стр. 57—90.
* 8Срв*. письма Ростопчина к Цицианову
и к Воронцову в «Девятнадцатом веке» Бар-
Шенёва и в «Архиве Воронцовых».
^Зравн. В. И. Семевского «Крестьян,
вопрос», т. 1, стр. 291 и след. Срав. также
A von GemeL «Geschichte und System .des
bSueflichea Agrarrechts im Estland». Reval,
1901. *Й£Гория крестьян, сословий в присо¬
единенных к России прибалтийских гу¬
берниях». Рига, 1860. А Тобин.
«Лифляндское аграрное законодательство в
XIX ст.», т. 1, Рига, 1900.
429
10Срав.: Клаус. «Наши колонии». СПб.,
1869 г., а также Середонин. «Исторический
обзор деятельности Комитета министров», т.
1, стр. 198 и след.
«Записки Державина (1743—1812),
изд. «Русск. беседы». М., 1860, стр. 409 и
след.
^Полное собр. законов № 21 547, срав.
А Д. Градовский. «Начала русск. госуд.
права». СПб., 1875. Т. 1, стр. 412 и след.
13Об этом см. книгу В. Н.
Никитина «Евреи земледельцы». Истор. за-
конодат., административное и бытовое поло¬
жение колоний со времени их возникновения
до наших дней 1807—1887. СПб., 1887.
14Срав. «Духоборы в начале XIX
столетия. Записка 1805 г.». Москва, 1907,
изд. Посредника; Середонин. «Историч.
обзор деят. К-та министров», т. I, стр. 591;
В. Андерсон. «Старообрядчество и сектант¬
ство». СПб., 1910, стр. 371; Anatole Leroy
Beaulieu. „L'empire des Tsars et les Russes»,
III, 496 и след.; Записки И. В. Лопухина в
«Рус. архиве» за 1884 г. №1 и отдельно.
**К 1805 г. был открыт для навигации
Березинский канал, соединявший Днепр с
Западной Двиной; в 1804 г. открыт
Огинский канал для соединения р. Шары и
Яцольды; в том же году окончен Сиверсов
канал для обхода о. Ильменя, посредством
соединения р. Меты с Волховом; усилены
работы по прорытию Мариинского канала
между pp. Ковжей и Вытегрой, причем
значительные средства на это дело были
пожертвованы имп. Марией Феодоровной,
почему канал, открытый в 1810 г., получил
ее имя. Одновременно закончены работы и
по прорытию Свирского и Сясского каналов
для обхода Ладожского озера. К этого же
рода работам наряду с постройкой других
второстепенных каналов и расчисткой фар¬
ватеров судоходных рек следует отнести пос¬
тройку Мытищинского водопровода в
Москве, имевшего и имеющего до настояще¬
го времени огромное значение для оздоров¬
ления первопрестольной столицы.
Водопровод был доведен до Кузнецкого Мос¬
та, (центра Москвы) в 1805 г., и стоимость
его работ определилась в 1164 тыс. руб.
(срав. «Краткий истор. очерк развития и
деят. ведомства путей сообщения», стр. 16—
21.)
1бСрав. приложенную к «Плану госуд.
преобразования гр. М. М. Сперанского»
(Ивд. «Русской мысли». М. 1905 г.)
«Записку оГ устройстве судебных и
правительственных учреждений в России
(1803 г.)» стр. 187 и следующие.
К лекции VII
1Шильдер. «Александр I», т. II, стр. 117.
2«Неистовый враг мира и благословен-
ныя тишины,— так начинается воззвание
Синода,— Наполеон Бонапарт, самовластно
присвоивший себе царственный венец
Франции и силою оружия, а более коварст¬
вом распространивший власть свою на
многие соседетвенные с нею государства,
опустошивший мечом и пламенем их грады
и села, дерзает, в исступлении злобы своей,
угрожать свыше покровительствуемой
России вторжением в ее пределы, разру¬
шением благоустройства, коим ныне она
единая в мире наслаждается под кротким
скипетром Богом благословенного и всеми
возлюбленного благочестивейшего государя
нашего Александра Первого, и потрясением
православныя греко-российския церкви, во
всей частоте ее и святости в Империи сей
процветающия..»
После обращения к обязанностям пасты¬
рей церкви Синод продолжает:
«Всему миру известны богопротивные
его замыслы и деяния, коими он попрал
закон и правду».
«Еще во времена народного возмущения,
свирепствовавшего во Франции во время
богопротивныя революции, бедственныя для
человечества и навлекшей небесное прок¬
лятие на виновников ея, отложился он от
христианской веры, на сходбищах народ¬
ных торжествовал учрежденныя лжеумству¬
ющими богоотступниками
идолопоклоннические празднества и в сонме
нечестивых сообщников своих воздавал пок¬
лонение, единому Всевышнему божеству
подобающее, истуканам, человеческим тва¬
рям и блудницам, идольским изображением
для них служившим».
«В Египте приобщался он к гонителям
церкви Христовой, проповедовал алкоран
Магометов, объявил себя защитником испо¬
ведания суеверных последователей сего
лжепророка мусульман и торжественно
показывал презрение свое к пастырям свя¬
той церкви Христовой».
„Наконец к вящшему посрамлению
оной, созвал во Франции иудейския сина¬
гоги, повелел явно воздавать раввинам их
почести и* установил новый великий
сангидрин еврейский, сей самый бого¬
противный собор, который некогда дерзнул
430
осудить на распятие Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа — и теперь
помышляет соединить иудеев, гневом
Божием рассыпанных по всему лицу земли,
и устремить их на испровержение церкви
Христовой и (о дерзость ужасная, превосхо¬
дящая меру всех злодеяний!) — на провозг¬
лашение лжемессии в лице Наполеона...»
В конце воззвания, после разных гроз¬
ных проклятий и угроз, заимствованных из
«Второзакония», еще раз повторено то же
самое:
«...Отринув мысли о правосудии
Божием, он (т. е. Наполеон) мечтает в буй¬
стве своем, с помощью ненавистников имени
христианского и способников его нечестия,
иудеев, похитить (о чем каждому человеку и
помыслить ужасно!) священное имя Мессии:
покажите ему, что он — тварь, совестью
сожженная и достойная презрения...» В та¬
ком же роде воззвание было разослано и
католическим могилевским митрополитом
Сестренцевичем католическим свя¬
щенникам Западного края (Шильдер, назв.
соч., И, стр. 354 — в приложениях к тек¬
сту). В то же время местные начальства
Западного края получили предписание на¬
блюдать за евреями и предостерегать их от
сношений с парижскими общееврейскими
учреждениями, образованными Наполеоном,
причем евреям внушалось, что парижское
собрание (синедрион) стремится изменить
их веру (Цирк. 20 февр. 1807 г., см. Евр.
Энцикл., т. XI* стр. 516). Замечательно, что
евреи в Западном крае в 1812 г., вопреки
всем опасениям, сохранили повсеместно
верность России. (Срав. «Акты, докум. и
материалы для политич. и бытовой истории
1812 г.», под ред. К. Военского, в «Сбор,
русск. ист. общ>, тома CXXVIII и CXXXIII.
СПб., 1910 и 1911, и его же ст. «Наполеон
и борисовские евреи в 1812 г.», в Воен. сбор,
за 1906 г., № 9).
3Срав. Богданович, назв. соч. II, стр.
177. Начальники дивизий получили прямо
от фельдмаршала приказание: «при отступ¬
лении к русским границам идти крат¬
чайшим путем к Вильно и явиться к
старшему» (!). Гр. Буксгевдену, которому он
сдал команду, Каменский предписал бро¬
сать на дороге батарейную артиллерию, если
она будет затруднять движение войск, и
заботиться единственно о спасении людей.
(Там же.) — Все это до встречи с неприяте¬
лем.
АБогданович сообщает, что по недостатку
ружей только пятая часть ополчения могла
иметь их; прочих же ратников предполагали
вооружить пиками (Ист. царствования имп.
Александра I, т. II, стр. 165). После сра¬
жения при Пултусске Александр приказал
уменьшить размеры ополчения до 252 тыс.
(Шиман. «Александр I», стр. 17 русск. пере¬
вода и у Богдановича, ibidem, т. III, стр. 1).
Альберт Вандаль («Наполеон и Александр
I», т. I, стр. 49 русск. перевода) приводит из
мемуаров Рустама, опубликованных в
«Revue retrospective», № 8—9, следующий
факт: когда русская армия бежала после
Фридландского поражения, потеряв способ¬
ность к сопротивлению, то французы,
достигнув Немана у Тильзита, увидели
странное зрелище: «орда варваров с
азиатскими лицами, калмыки и сибиряки
(?) без ружей, пуская тучи стрел, кружились
по равнине и тщетно пугали нас. Это была
резервная армия, о которой объявляла во
всеобщее сведение Россия и которую привел
кн. Лобанов».
5Срав. письмо Наполеона к Александру
от 2 февраля 1808 г. Текст его приведен у
Вандаля (т. 1, стр. 249, рус. перев.) и у
Соловьева^«Имп. Александр I», стр. 165),
причем оба историка придают этому письму
совершено неодинаковое значение.
Поклонник Наполеона Вандаль так вы¬
ражается об этом предмете: «Не намереваясь
поставить жертву тройного раздела в поло¬
жение прочного государства, он хочет соз¬
дать в Европе — я не скажу польскую
нацию,— но польскую армию, ибо он
признает в проектируемом государстве толь¬
ко крупную военную силу, стоящую на стра¬
же Франции» (! — на берегах Вислы), назв.
соч., т. I, стр. 90 русского перевода.
Срав. доклад Наполеону Дюрока, кото¬
рый удалось, вероятно при помощи подкупа,
достать из министерства иностр. дел Напо¬
леона русскому послу кн. Куракину в 1809 ,
г. Текст этого любопытного документа приве¬
ден в выписках у Богдановича», т. III, стр.
85 и след.
8Срав. у Шильдера (II, 211) толки по
этому поводу в обществе и простонародье.
колониальные товары, получавшиеся
до тех пор из Англии, так вздорожали, что
например, пуд сахара в 1808 г. стоил в
Петербурге 100 рублей.
^екст этих указов и инструкций см. у
Шильдера, т. II, стр. 362—367 — в прило¬
жениях. Там, между прочим, имеется весьма
любопытный перечень предметов компе¬
тенции этих секретных комитетов, причем
431
видно, как компетенция эта расширилась с
5 сентября 1805 г. до 13 января 1807 г.
пСрав. у Вандаля, назв. соч. стр. 111 и
след, русского перевода, целую пикантную
главу под заглавием «Дипломатическая раз¬
ведка». Любопытно, что и другие иностран¬
ные дипломаты в Петербурге (например,
бар. Стединг) и Каннинг в Лондоне (что
видно из его разговора с русским послом
Алопеусом) сообщают такие же тревожные
(но, несомненно, неосновательные) слухи о
готовящихся будто бы в Петербурге загово¬
рах и переворотах. Очень возможно, что это
были следы интриг и выдумок Савари. Срав.
Шиман, назв. соч. стр. 18 русск. перевода.
12В 1807 г. и петербургская газета
«Гений времен» отзывалась о Наполеоне
также с большой резкостью. После 1808 г.,
когда правительство стало запрещать подоб¬
ные отзывы, в том же «Гении времен» Я. Я.
Греч писал уже хвалебные статьи о Наполе¬
оне, что не мешало ему впоследствии (в 1812
г.) опять ругать его без пощады в «Сыне
Отечества». Но публика в 1808—1811 гг. к
подобным «казенным» похвалам и
порицаниям уже относилась с презрением.
13В 1809 г. после Эрфурта Александр,
убедясь в невозможности удержать
австрийцев от опасной для них войны с
Наполеоном, в которой сам он формально
обязался помогать Наполеону, в порыве
откровенности сказал австрийскому послу
кн. Шварценбергу: «...Мое положение так
странно, что хотя мы с вами стоим на
противоположных линиях, однако я не могу
не желать вам успеха!..» (Соловьев, стр.
190). Публика же русская в 1809 г. прямо
радовалась всякому успеху наших «врагов»
австрийцев и всякой неудаче нашего «со¬
юзника» Наполеона (Вигель, Записки).
иВигель. Записки, срав. у Шильдера, т.
II, стр. 242.
К лекции VIII
1Богданович(\II, стр. 69), следуя невер¬
ным сведениям Шевырева, приведенным в
его «Истории Московского университета»,
утверждает, будто общество это не
состоялось. Но утверждение это противо¬
речит более точным сведениям, приведен¬
ным в биографии М. Н. Муравьева,
составленной Кропотовым по архивным
данным и по рассказам брата Михаила Му¬
равьева, Сергея Николаевича. См. Кропо-
шов у стр. 52 и след.
К лекции IX
1 Доклад Дюрока от 23 февраля 1809 г.—
приведен у Богдановича, т. III, стр. 76 и
след, (копия этого доклада в арх. Мин. иг
дел).
Какое впечатление произвела сдача Мо
сквы на широкую публику, известно по мно¬
гочисленным мемуарам того времени,
частью отразившимся и в позднейших бел¬
летристических произведениях, из которых
«Война и мир» Толстого передает события и
положение дел той эпохи с наибольшей ху¬
дожественной правдой. Теперь издана любо¬
пытная переписка императора Александра с
его любимой сестрой Екатериной Павловной
(вел. кн. Николаем Михайловичем. СПб.,
1910), в которой ярко освещается общее
негодование, охватившее публику при пер¬
вом известии о сдаче Москвы Наполеону. 6
сентября 1812 г. вел. кн. Екатерина Павлов¬
на, вращавшаяся тогда среди патриотов рас-
топчинского и карамзинского типа, писала
брату из Ярославля: «Занятие Москвы фран¬
цузами переполнило меру отчаяния в умах,
недовольство распространено в высшей сте¬
пени и вас самих (т. е. государя) отнюдь не
щадят в порицаниях... Вас обвиняют громко
в несчастиях вашей империи, в разорении
общем и частном, словом, в утрате чести
страны и вашей собственной». Она на¬
поминала при этом Александру его решение
не заключать мира, хотя бы пришлось отсту¬
пать до Казани.
Александр, задетый за живое этим
резким письмом, отвечал через несколько
дней в первую же свободную минуту
объемистым посланием, в котором выразил
весьма трезвый и твердый взгляд на поло¬
жение и свое, и России в тот момент, и свое
мнение о лицах, в руках которых находилась
тогда в значительной мере судьба армии и
России. Письмо это является важным доку¬
ментом и для понимания тогдашних обстоя¬
тельств, и для характеристики самого
Александра.
3Желающих составить себе ясное пред¬
ставление о ходе военных и политических
событий в тогдашней Европе и о роли в этих
событиях Александра и России я отсылаю к
IV тому «Истории царствования имп. Алек¬
сандра I и России в его время» М. Я. Бог¬
дановича, или к двум последним томам (VII
и VIII) известного сочинения А Сореля «Ев¬
ропа и французская революция», теперь
имеющегося в русском переводе (изд. Л. Ф.
Пантелеева. СПб. 1908 г.), или к объективно
432
написанной истории «Европы XIX века»
А Файфа (конец 1-го тома) — русский
перевод под ред. проф. И. В. Лучицкого (2-е
изд.).
Сопротивление Англии, Франции и
Австрии дошло до того, что они заключили
даже между собой, по предложению Талей-
рана, тайный оборонительный и наступа¬
тельный союз против Александра и
Фридриха Вильгельма, и к этому союзу тогда
же примкнули второстепенные немецкие го¬
сударства: Ганновер, Бавария и Гессен-Кас-
сель.
5В актах конгресса было указано, что
Царство Польское «бесповоротно присо¬
единено к России своей конституцией» и что
«Е.И.В. предоставлял себе дать этому госу¬
дарству, пользующемуся отдельной
администрацией, такое внешнее протя¬
жение, какое он найдет удобным. Е.И.В. при
этом присоединит к прочим своим титулам
титул Царя Польского». Там же было указа¬
но, что «поляки, подданные договарива¬
ющихся высоких сторон, получат
представительство и национальные учреж¬
дения, установленные сообразно по роду
политического существования, какой каждое
из правительств, которым они будут принад¬
лежать, признает полезным и удобным им
предоставить». (Договор 3 мая 1815 г. между
Россией, Австрией и Пруссией и «финансо¬
вый акт»Венского конгресса 9 июня 1915
г.— Срав. мою книжку: «Русская пс&штика
в Польше со времени разделов до начала XX
века». (С тремя картами.) Петроград, 1915
г.)
*В упоминавшейся выше недавно издан¬
ной в. кн. Николаем Михайловичем пе¬
реписке Александра с сестрой имеется
несколько писем, в которых ярко отражается
религиозное настроение Александра до на¬
чала войны 1812 г. (например, в письме от
22 февр. 1812 г. на стр. 65), и даже особый
список мистических сочинений, отправлен¬
ный Екатерине Павловне имп. Александром
еще при жизни ее первого мужа, принца
Георга Ольденбургского (что видно из
приписки: «Mille choses a Georges»), и, сле¬
довательно, не позднее 1812 г. Тем страннее
утверждение в. кн. Николая Михайловича (в
предисловии к переписке, стр. XII—XXII,
где он полемизирует по этому предмету с
биографом Александра Я. К. Шильдером)>
что Александр впал в мистическое настро¬
ение лишь в 1815 г. главным образом благо¬
даря баронессе Ю. Крюденер. В настоящее
время в новом труде в. кн. Николая Михай¬
ловича «Император Александр I», опублико¬
ваны весьма ценные материалы (переписка
Александра с кн. А. Н. Голицыным и Р. А.
Кошелевым), дающие возможность подробно
проследить развитие мистического настро¬
ения у Александра и до войны 1812 г.
К лекции X
!«Memoires de Michel Oginski sur la
Pologne et les Polonais». Paris et Geneve. 1827,
т. IV, стр. 228 и след. В мемуарах этих
изложен, разговор Александра с автором ме¬
муаров в Варшаве в 1815 г. и прием депу¬
тации трех литовских губерний: Виленской,
Гродненской и Минской. В разговоре с
Огинским Александр ясно намекнул на свое
намерение присоединить эти губернии к
Царству Польскому, считая, что тем самым
они теснее свяжутся с Российской
империей, ибо исчезнет у жителей всякий
повод к недовольству. Но в то же время он
запретил самим депутатам просить его об
этом, опасаясь, что этим может обостриться
отношение к вопросу русского общественно¬
го мнения. Каково было это последнее, видно
всего яснее из записки Карамзина под на¬
званием «Мнение русского гражданина»,
представленной Александру в 1819 г., и из
заметки его «Для потомства» (Неизд.
сочинения и переписка Н. М. Карамзина»,
ч. I. СПб., 1862), а также из записок И. Д.
Якушшна, где ярко изображено, как
относилась к польскому вопросу в 1817—
1818 гг. передовая либерально настроенная
часть тогдашней военной молодежи, уже
вступившая в это время в «Союз спасения»
(стр. 14—15).
Совершенно такие же данные, извле¬
ченные из военно-ученого архива, напечата¬
ны относительно губерний Западного края в
«Актах, документах и материалах для
политич. и быт. истории 1812 г.», собр. и
изд. по поруч. вел. кн. Михаила Александ¬
ровича, под ред. г. К. Военского, т. I. Сборн.
Имп. Русск. истор. общества, т. CXXVIII.
СПб., 1909. Сравни у С. М. Горяйнова и
1812. Документы государ. и СПб. глав,
архивов 1912, II, стр. 98.
3Срав. Богдановича, IV, 570, а также
В. И. Покровского «Историко-статистич,
описание Тверской губернии», т. I, ч. 1, стр.
153.
^Громадность убыли населения в России
за три года последних Наполеоновских войн
(1812—1815) ввдна из сличения переписей
1811 и 1815 гг. По переписи, произведенной
433
в 1811 г., население мужского пола в России
равнялась 18 740 тыс. душ. При нормальных
условиях (принимая в расчет тогдашний
нормальный ежегодный прирост) оно долж¬
но было бы увеличиться за четыре года на
1—1 млн. душ. Вместо этого по пе¬
реписи, произведенной в 1815 г., оно оказа¬
лось равным 18 880 тыс. душ мужского пола,
т. е. за четыре года уменьшилось на 860 тыс.
душ мужского пола. Отсюда можно вывести
заключение, что действительная убыль лю¬
дей от войны и связанных с нею бедствий и
эпидемий была около 2 млн. душ одного
только мужского пола. (Цифры населения
по переписям 1811 и 1815 гг. взяты мной из
таблицы, составленной академиком Герман¬
ном, по исправлении допущенных в ней
многочисленных опечаток, в «Memoires de
/
I'accad. imp. des sciences de st. Petersbourg».
Т. VII, 1820. «Recherches statistiques sur la
septieme revision» par C.T. Hermann). Еже¬
годный прирост населения (обоего пола) за
это время выведен у Я. Я. Обручева в «Во-
енно-статистическом сборнике». Вып. IV,
«Россия», стр. 51.
sCepedoHm, т. I, стр. 233—256.
63десь следует, впрочем, отметить, что
патриотизм населения, в особенности вы¬
сшего дворянского сословия, высказался в
отношении материальной помощи государ¬
ству в эти трудные годы далеко не сразу, а
затем, после удаления французов в конце
1812 г., быстро иссяк. Это видно и по тому
недоброжелательству, с которым встречен
был манифест 11 февраля 1812 г. (последняя
финансовая мера Сперанского), установ-
лявший прогрессивно-подоходный налог с
дворянских имений (в размере от 1 до 10 %
с годового дохода, показанного самими
помещиками «по совести и чести»), и по тем
заведомо неточным и недобросовестным
показаниям о размерах своих доходов, на
которые пускались такие всеми уважаемые
помещики, как гр. В. Г. Орлов-Давыдов или
как отец известного мемуариста Д. Н. Свер-
беева (об этом см. «Записки Дм. Ник. Свер-
беева», т. I, стр. 243 и след. «Сборник Рус.
истор. общ-ва» том 45-й, а также статью А
И. Васильева «Прогрессивно-подоходный
налог 1812 г. и падение Сперанского»в «Го¬
лосе минувшего» за 1915 г., № 7—8, стр.
332).
Замечательно, что на 1813 г. поступ¬
ление этого прогрессивно-подоходного нало¬
га ожидалось в размере 5 млн. руб., а затем
оно падает до 3,3 млн. и даже до 2 млн. и,
наконец, в 1810 г. налог пришлось отменить
(Васильев, стр. 339).
7Некоторые части, принадлежавшие к
оккупационному корпусу Воронцова, про¬
были, как известно, во Франции и 1816—
1818 гт. (до Ахенского конгресса).
8Слова барона Ганстгаузена, путешест¬
вовавшего по России в 1840-х годах.
9См. С. М. Середонина «Исторический
обзор Комитета министров», т. I, Срав.
статью В. И. Семевского в сборнике «Кре¬
стьянский строй».
10См. его книгу «Крепостное хозяйство»,
стр. 137.
^Впрочем, один из участников первых
преобразовательных реформ Александра, гр.
В. П. Кочубей, бывший и в негласном
комитете представителем довольно умерен¬
ных взглядов, теперь выражал еще осторож¬
нее свои desiderata. В записке, составленной
в самом конце 1814 г., Кочубей писал между
прочим: «Империя Российская составляет
самодержавное государство, и если взгля¬
нуть на пространство земли, если обратить
внимание на географическое оного поло¬
жение, на степень его просвещения и на
многие другие обстоятельства, то должно
сознаться что форма этого правления есть
единая, которая на долгое время свойственна
России быть может; но форма сия не может
препятствовать государю избрать все воз¬
можны* способы для наилучшего управ¬
ления и, как доказано, что государь, как бы
ни был он дальновиден, не может один
обнять всех частей правления, то и обязан
он искать прочных государственных уста¬
новлений, которые бы, сближая империю его
с другими наилучше устроенными государ¬
ствами, представили подданным его выгоды
правительства справедливого, кроткого и
просвещенного...»
Записка эта найдена была среди бумаг
Александра после его смерти и напечатана
в «Сборнике Имп. Русского исторического
общества» (т. ХС, стр. 5—27).
12Сравн. интересные статьи А А Кизе¬
веттера «Император Александр I и Арак¬
чеев» в «Русской мысли» за 1910 г., №№ 11
и 12 и за 1911 г., № 2. Там же указана и
литература об Аракчееве.
Очень пристрастное и некритическое
отношение к Аракчееву у биографа Алексан¬
дра Я. К. Шильдера.
вСравн. «Граф Аракчеев и военные
поселения 1809—1831 гт». Изд. Русской
Старины. СПб., 1871. Много данных о во¬
434
енных поселениях приведено в трудах
Шильдера и Богдановича.
14Середонин,Л, стр. 18—40.
К лекции XI
Сперанский был в это время также
вновь принят на службу и назначен губер¬
натором в Пензу.
Эта записка Мордвинова замечательна
своим прямым и смелым языком. Утверж¬
дая, что исправление финансов в конце
концов зависит от твердой и неизменной
воли правительства, и требуя безусловной
бережливости и осмотрительности в расхо¬
дах государственных средств, Мордвинов
писал, между прочим, что в настоящем поло¬
жении дел в стране «все излишества, всякая
временная прихоть и вообще всякая издер¬
жка, произведенная без строгой необ¬
ходимости, должны быть признаваемы
преступлением против государственного и
народного блага, как, напротив того, всякий
сбереженный от расходов и к истреблению
(т. е. к погашению) назначенный рубль
почитаем был бы самым драгоценным и
одолжительным как служащий к возвы¬
шению достоинства всех остающихся по нем
в обращении рублей (ассигнаций), делая
через то государственный доход превосход¬
нейшим, с возведением и частных имуществ
в высшую степень цены...» Эти сентенции
сопровождались очень подробными и
убедительными цифровыми выкладками.
Только поправив финансы погашением дол¬
гов, правительство в состоянии будет
обратить свое внимание на действительно
полезные дела. «Тогда,— по словам
Мордвинова,— благословенный ныне за
великие военные подвиги Александр I возмо¬
жет покрыть себя действительно неувяда¬
емой во веки славой отечества...»
«...Томление России уже велико,—
писал он там же,— и все состояния страда¬
ют... Ропот этот распростерся уже по всем
пределам государства: в каждом городе, в
каждом семействе, при каждой встрече, пос¬
реди беседы о чем ныне разглагольствуют?
Чем речь каждого растворяется и умы и
сердца горестно наполняет? — Жалобою на
дороговизну, на ущерб капиталов, на ума¬
ление имущества для удовлетворения необ¬
ходимо нужным издержкам. Богатый
жалуется, что сделался бедным, избыточный
— недостаточным, довольный — нужда¬
ющимся, и голос многочисленного народа
громок и убедителен! Такое томительное со¬
стояние убеждает торжественно к безотлож¬
ному принятию мер, не временных и под¬
верженных изменениям, но постоянных и
действительных...»
Бедственное положение финансов осо¬
бенно резко отражалось на дворянстве и
чиновничестве, среди которых Мордвинову
и приходилось главным образом слышать тот
ропот, о котором он писал в этой записке.
См. Иконникова «Граф Н. С. Мордвинов»*,
стр. 175 и след. СПб., 1873.
3Сравн. В. И. Семевского «Кресть¬
янский вопрос и т.д.», т. I. Много новых
важных подробностей по крестьянскому
вопросу в эту эпоху приведено также в ст.
В. И. Семевского, напечатанной в сборнике
«Крестьянский, строй» (т, I. СПб., 1905) и в
его же книге «Политич. и обществ, идеи
декабристов» (СПб., 1909).
4Сравн. воспоминания А В. Никитенко
об Острогожском библейском обществ^ в
десятых годах XIX в. («Записки и дневник
А. В. Никитенко», т. I, стр. 113 и след., изд.
2-е).
5В манифесте 24 октября 1817 г. об
учреждении нового министерства было ска¬
зано: «Желая, дабы христианское благо¬
честие было всегда основанием истинного
просвещения, признали Мы полезным со¬
единить дела по Министерству народного
просвещения с делами всех вероиспове¬
даний в составе одного управления под на¬
званием Министерства духовных дел и
просвещения (М. И. Сухомлинов. «Исследо¬
вания и статьи по русской литературе и
просвещению», т. I, стр. 193).
6В сущности, первые попытки со сторо¬
ны реакционеров в России повернуть дела в
Министерстве народного просвещения в сто¬
рону реакции и обскурантизма относятся
еще ко времени министерства гр. А. К. Ра¬
зумовского. Известный реакционер и ка¬
толический клерикал гр. Жозеф де Местр (б.
сардинский посланник, живший в Петер¬
бурге как частное лицо) делал в 1810—181*1
гг. большие усилия повлиять в этом направ¬
лении и на Разумовского, и на Голицына
(тогда еще обер-прокурора Синода). В духе
реакции, хотя менее умно и менее смело,
действовал тогда и московский попечитель
П. И. Голенищев-Кутузов (1810—1813). В
этом отношении значительный интерес
представляют документы, напечатанные во
II томе монографии г. Васильчикова «Се¬
мейство Разумовских». См. в особенности
письма де Местра и Кутузова к Разумовско¬
му (стр. 248—443), записку В. Н. Каразина
435
о состоянии Харьковского университета
(стр. 530—532) и записку Голицына от
1/XI.1811 о преобразовании иезуитской
коллегии в академию (стр. 532—534).
7Срав. в труде вел. кн. Николая Михай¬
ловича «Александр I», т. I, стр. 225—226.
К лекции XII
Материалом для составления этой
лекции, кроме «донесения следственной
комиссии» по делу декабристов и мемуаров
Якушина, Волконского, Свистунова, Розена,
Фонвизина, Николая Тургенева («La Russie
et les Russes») и др., послужили изданные в
последнее время книги: В. И. Семевского
«Политические и общественные идеи де¬
кабристов». СПб., 1909; Я. Я. Павлова-
Силъванского «Пестель перед верхов, уголов.
судом», СПб., 1906; его же. «Материалисты
двадцатых годов»в «Былом» за 1906 г., № 7;
П. И. Пестель. «Русская Правда». Изд. Ще¬
голева. СПб., 1906; Довнар-Запольско-
го «Тайное общество декабристов». М.,
1906; его же. «Мемуары декабристов». Киев,
1906; его же. «Идеалы декабристов». М.,
1907; А К. Бороздина «Критика соврем, со¬
стояния России и планы будущ. устройства.
Из писем и показаний декабристов». СПб.,
1906; мои работы: «Семейство Бакуниных»
в «Русск. мысл.» за 1909 г., кн. V (в отд.
издании 1915 г. «Молодые годы Михаила
Бакунина») и «Н. И. Тургенев и “Союз бла-
годенствия“»в «Очерках по ист. обществ,
движ. и крест, дел в России». СПб., 1905;
Я. К. Шильдера «Имп. Александр I», т. IV.
СПб., 1904; его же. «Импер. Николай I», т.
I. СПб., 1903; Сборник ст. В. И. Семевского,
В. Я. Богучарского и П. Е. Щеголева
«Обществ, движения в России в первую
половину XIX в.» Т. I. СПб., 1904. Из старых
книг не утратили своего значения: А Я.
Пышна «Общ. движение при Александре I»;
Кропотова «Жизнь гр. М. Н. Муравьева».
СПб., 1874; А Я. Заблоцкого-Десятовского
«Гр. Киселев и его время», СПб., 1882; М.
И. Богдановича «История царствования
имп. Александра I», т. V и VI. СПб., 1871.
2Законоположение «Союза Благо¬
денствия» напечатано полностью в книге А
Я. Пыпина*Общественное движение при
императоре Александре I», стр. 505 (2-е
издание).
30 Н. И. Тургеневе см. мою работу в
книге моей «Очерки по истории обществ,
движ. и крестьянского дела в России», а
также ст. В. И. Семевского в Энциклопедич.
словаре Брокгауза и Ефрона и в книге его
«Политич. и обществен, идеи декабристов».
ЧАСТЬ II
К лекции XIV
Наиболее подробное описание конца
дня 14 декабря 1825 г. см. в ст. М. М.
Попова (извести, учителя Белинского,
служившего потом в III отделении) в ст.
сбор. «О минувшем». СПб., 1909, стр. ПО—
121.
2Незадолго до смерти Карамзина ему
назначена была пенсия в 50 тыс. руб. в год
с тем, что после смерти пенсия эта переда¬
валась его семье (Срав. Погодин. «Н. М.
Карамзин», т. II, с. 495, где приведен и
самый указ об этом министру финансов от
13 мая 1826 г.).
3Срав. «Неизданные сочинения и пе¬
реписка Н. М. Карамзина», т. I. СПб., 1862,
с. 3 и 11.
43аписка эта напечатана в «Русском
архиве» за 1870 г., С 2230 и след. Сравн.
лекцию VIII наст. «Курса», вып. I, с. 173.
5Срав. «Мнение гр. Блудова о двух
записках Карамзина», напечатанное в книге
Ег. П. Ковалевского «Гр. Блудов и его вре¬
мя». СПб., 1875 г., с. 245.
*Из числа бывших «арзамасцев» был
допущен из деревни в столицы и Пушкин,
который принес полное покаяние в 1826 г.
Он был вызван из деревни в Москву во время
коронации, причем было приказано
отправить его из Псковской губернии, хотя
и с фельдъегерем, но в собственном экипаже
— не как арестанта. Император Николай его
принял лично, и Пушкин своим откровен¬
ным и прямым разговором произвел на него
хорошее впечатление. Несомненно, что в
Пушкине имп. Николай прежде всего видел
большую умственную силу и хотел эту силу
«пристроить к делу» и утилизировать на
службу государству. Поэтому первым пред¬
ложением, которое он Пушкину сделал, было
деловое предложение — составить записку о
мерах для поднятия народного просвещения.
Пушкин принялся за дело очень неохотно,
лишь после повторения этого поручения че¬
рез Бенкендорфа. Дело это было для поэта
непривычно; однако записку он написал и в
ней провел мысль, что просвещение очень
полезно даже и для установления благона¬
дежного направления умов, но что
развиваться оно может только при некоторой
свободе. По-видимому, это не очень пон¬
равилось имп. Николаю, как это видно из
436
следующей отметки, сообщенной Пушкину
Бенкендорфом: «Нравственность, прилеж¬
ное служение, усердие — предпочесть дол¬
жно просвещению неопытному,
безнравственному и бесполезному. На сих-
то началах должно быть основано благонап¬
равленное воспитание...» Срав. Шильдера
«Имп. Николай Первый, его жизнь и царст¬
вование», т. II, с. 14 и след.
К лекции XV
^Сборник Имп. русск. историч. обще¬
ства», том ХС, С. 5.
Впрочем, относительно Ермолова у
Николая навсегда осталось враждебное чув¬
ство. В этом отношении гораздо важнее пред¬
полагаемого участия Ермолова во временном
правительстве, которое прочили ему члены
тайного общества, было одно взятое при
обысках письмо кн. С. Г. Волконского к
Пестелю — письмо, в котором Волконский
сообщал свое впечатление о настроении умов
в посещенном им кавказском корпусе, кото¬
рым командовал тогда Ермолов. Волконский
в этом письме утверждал, что там будто бы
распространено такое настроение, которое
дает основание надеяться на восстание всего
кавказского корпуса. Это сообщение потом
фигурировало при следствии, и Николай
Павлович серьезно опасался, что кавказский
корпус откажется ему присягать. Это доволь¬
но легкомысленное свидетельство Волкон¬
ского бросало большую тень на Ермолова в
глазах Николая, и несмотря на то что прися¬
га ему принесена была на Кавказе без за¬
труднений и, по тщательном расследовании,
ничего подобного тому, что говорилось у
Волконского, там не оказалось, все-таки у
государя навсегда осталось неприязненное
отношение к Ермолову.
3Бумаги и журналы этого комитета изда¬
ны в 74 и 90 томах «Сборника имп. Русск.
историч. общества». Обстоятельный разбор
деятельности этого комитета у А Л Кизе-
веттера в книге «Исторические очерки».
М., 1912, с. 427 и след, (в ст. «Внутр.
политика в царствование имп. Николая Пав¬
ловича»).
4Сравн. книгу генерала Зайончковского
«Восточная война 1853—1856 гг., в связи с
современн. ей политической обстановкой».
Т. I и приложения к нему. СПб., 1908.
5Сравн. М. К. Лемке. «Николаевские
жандармы и литература 1826—1855 гг. (по
подлинным делам III отделения собственной
е. в. канцелярии»). СПб., 1908.
Здесь стоит отметить, как представлял
себе Бенкендорф, а с ним вместе и импера¬
тор Николай, состав и задачи этого учреж¬
дения; вот дающая об этом полное
представление выписка центрального места
записки Бенкендорфа, приведенной
целиком у г. Лемке: «Для того чтобы
полиция была хороша и обнимала все пун¬
кты империи, необходимо, чтобы она
подчинялась системе строгой цент¬
рализации, чтобы ее боялись и уважали и
чтобы уважение это было внушено нравст¬
венными качествами ее главного на¬
чальника.
Он должен бы носить звание министра
полиции и инспектора корпуса жандармов в
столице и в провинции. Одно это звание
(замененное имп. Николаем званием шефа
жандармов) дало бы ему возможность поль¬
зоваться мнениями честных людей, которые
пожелали бы предупредить правительство о
каком-нибудь заговоре или сообщить ему
какие-нибудь интересные новости. Злодеи,
интриганы и люди недалекие, раскаявшись
в своих ошибках или стараясь искупить
свою вину доносом, будут по крайней мере
знать, куда им обратиться.
К этому начальнику стекались бы све¬
дения от всех жандармских офицеров, рас¬
сеянных во всех городах России и во всех
частях войска: это дало бы возможность
заместить эти места людьми честными и
способными, которые часто брезгуют ролью
тайных шпионов, но, нося мундир как
чиновники правительства, считают долгом
ревностно исполнять эту обязанность.
Чины, кресты, благодарность служат
для офицера лучшим поощрением, нежели
денежные награды, но для тайных агентов
не имеют такого значения, и они нередко
служат шпионами за и против правительст¬
ва.
Министру полиции придется путешест¬
вовать ежегодно, бывать время от времени на
больших ярмарках, при заключении контр¬
актов, где ему легче приобрести нужные
связи и склонить на свою сторону людей,
стремящихся к наживе.
Его проницательность подскажет ему,
что не следует особенно доверять кому бы то
ни было. Даже правитель канцелярии его не
должен знать всех служащих у него и аген¬
тов... »Генерал Бенкендорф (впоследствии
граф) до самой смерти своей пользовался
неизменным доверием и расположением
императора Николая.
437
К лекции XVII
канкрин был человек чрезвычайно
оригинальный и выдающегося ума. Родом он
был немец, но еще при Екатерине был вы¬
зван в Россию его отец для заведования
соляным делом. Молодой Канкрин воспиты¬
вался, однако, в Германии и, получив
хорошее образование в одном из германских
университетов, только в самом конце XVIII
в. явился в Россию. Первое время — и до¬
вольно долго — ему пришлось перебиваться,
занимая разные мелкие должности: был он
бухгалтером у одного откупщика, брал раз¬
ные частные занятия, и, вообще, не брезгал
никакой работой. Во время Наполеоновских
войн он выдвинулся, перейдя на службу в
интендантское ведомство, где он стал совер¬
шенно небывалым явлением, так как был в
этой среде чуть ли не единственным честным
и образованным человеком. С одной сторо¬
ны, разумеется, он вызвал на себя большие
и злостные нападки, но с другой — обратил
на себя внимание высшего начальства и
самого Александра.
Александр довольно скоро оценил
Канкрина, так как он проявил себя све¬
дущим человеком не только в продо¬
вольствии армии, но и в военной
администрации вообще. В 1812 г. Канкрин
был сперва генерал-провиантмейстером
одной из двух Действующих армий, а потом
даже и всей Действующей армии в России,
В этой должности он проявил свои обширные
познания, хозяйственные таланты и разно¬
сторонний ум. Оказалось, что он не только
в состоянии был хорошо организовать про¬
довольствие армии, но мог с успехом участ¬
вовать в обсуждении и специальных
тактических задач. Так, когда обсуждался
план войны 1812 г., то Канкрин очень влиял
на ученого автора «скифского» плана войны,
генерала Пфуля. Впоследствии Канкрин
издал сочинение по теории войны, которое
вновь обратило на него внимание императо¬
ра Александра.
Когда театр военных действий был пере¬
несен в Германию и потом во Францию, то
и тут Канкрин оказался на высоте поло¬
жения: оказалось, что и в союзной армии
среди лиц, заведующих продовольствием
войск, у него не было соперника, так что во
всех затруднительных случаях всегда обра¬
щались к Канкрину, и ему удавалось не раз
выводить союзников из больших затруд¬
нений. Таким образом, во время Наполео¬
новских войн Канкрин, можно сказать,
приобрел европейскую известность самого
компетентного человека в области военного
хозяйства.
Когда в России открылись большие зло¬
употребления в военном ведомстве и отдан
был под суд военный министр кн. Горчаков,
то многие думали, что его место займет
Канкрин, который за свои заслуги во время
Наполеоновских войн был из действитель¬
ных статских советников переименован в
генерал-майоры, а затем произведен в гене¬
рал-лейтенанты; но Александр как будто
забыл в это время о Канкрине и почему-то
не давал ему движения. Однако в 1818 г.
Канкрин снова напомнил ему о себе, подав
ему весьма дельную записку об освобож¬
дении крепостных крестьян,— записку, ко¬
торая, по мнению некоторых, послужила
главным толчком, заставившим Александра
поручить Аракчееву в 1818 г. составить план
постепенного освобождения крестьян.
В 1822 г. Александр убедился наконец в
невозможности больше держать министром
финансов Гурьева, секрет влияния которого
заключался в том, что он умел склонить на
свою сторону всех сильных мира сего путем
раздачи крупных денежных сумм под бла¬
говидными предлогами, благодаря чему и
пробыл министром целых 11 лет. В 1822 г.
в Белоруссии был голод; Гурьев, значительно
урезав суммы, ассигнованные на голода¬
ющих крестьян, в то же время решил от¬
пустить 700 тыс. руб. на покупку имения у
одного важного помещика, который нуждал¬
ся в деньгах. Когда это открылось, то Гурьев
потерял свой пост, который Александр, по
совету Аракчеева, и предложил Канкрину.
Еще раньше Аракчеева Канкрина
оценил Сперанский, который во время своей
ссылки в Пермь говорил еще в 1813 г., что
единственным человеком, способным заведо¬
вать русскими финансами, является, по его
мнению, Канкрин.
К лекции XVIII
Цитирую по Барсукову «Жизнь и труды
М. П. Погодина», IV, 82, 83.
2«3аписки и дневник» А В. Никитенко,
т. I. С. 267 (изд. 2-е).
3Барсуков, н. с. IV, 85.
4Следы их имеются в VIII томе «Истории
Министерства внутр. дел» Я. Варадинова
(СПб., 1863) и в известном исследовании Н.
И. Надеждина о скопцах, представляющем
большую библиографич. редкость. Срав.
438
также «Я. С. Аксаков в его письмах», т. II.
М., 1888 (письма 1848—1851 гг.).
«Военно-статистич. сборник, вып. IV.
Россия». Под ред. Я. Я. Обручева. СПб.,
1871. С. 116.
К лекции XIX
*В №№ 5 и 6 «Русского богатства» за
1911 г. помещены весьма интересные статьи
В. И. Семевского об этом «Кирилло-Ме-
фодиевском обществе».
К лекции XX
*Bce изложенные обстоятельства доволь¬
но хорошо выяснены в сочинениях военных
историков: генерала М. Я. Богдановича «Во¬
сточная война 1853—1856 гг.». СПб., 1877
(особенно тома II—IV) и генерала А М.
Зайончковского «Восточная война 1853—
1856 гг. в современной политической обста¬
новке», т. I, в котором выяснено состояние
русской армии к началу этой цойны.
2По-видимому, даже императрица Алек¬
сандра Феодоровна. Срав. у Барсукова све¬
дения, полученные от близких к царской
фамилии сфер: «Жизнь и труды М. П. По¬
година». Т. XIII. С. 392. Сведения эти я
приводил в книге своей «Общественное
движение при Александре II (1855—1881)».
М., 1909. С. 14.
3Срав. Я. К. Шильдера «Император
Николай I в 1848 и 1849 годах» прилож. ко
II тому его книги «Имп. Николай I, его жизнь
и царствование», стр. 632 и след,
Срав. также переписку Александра
Николаевича с его бывшим воспитателем В.
A. Жуковским, напечатанную в «Русск.
архиве» за 1885 г., кн. I—VIII.
V Шильдера, там же.
5Подробнее см. в моих книгах: «Кресть¬
янская реформа». СПб., 1905 г. и «Обществ,
движ. при имп. Александре II». М., 1909, а
также в книге «Освобождение крестьян. Де¬
ятели реформы» изд. «Научного Слова». М.,
1911, стр. 12 и след.
6Срав. «Материалы для биографии кн.
B. А. Черкасского», изд. кн. О. Я. Трубец¬
кой. Т. I, стр. 57. М., 1901; Барсуков, наз.
соч., т. XIV, стр. 122 и след.
7Современник за 1856 г., № 6 («Заметки
о журналах»).
Голоса из России;ч. I (Лондон, 1856):
«Мысли вслух об истекшем тридцатилетии
России», стр. 130, 2-е изд., 1858.
9Эти переговоры подробно изложены в
книге Татищева «Император Александр II,
его жизнь и царствование». СПб., 1903, т. I,
стр. 174—206.
10Высочайший манифест 19 марта 1856
г.
пТекст этой речи см. в записках Я. А
Соловьева в «Русск. старине»за 1881 г., т.
XXVII, стр. 228—229.
12А И. Левшин. «Достопамятные мину¬
ты моей жизни», «Русск архив» за 1885 г.,
№ 8, стр. 480 и след.
13Сочинения /О. Ф. Самарина, т. И, стр.
137. Записка, представленная Самариным
вел. княгине Елене Павловне по ее просьбе
в 1857 г.
14Отрывки из этой записки были напе¬
чатаны впервые в «Современнике» за 1858 г.
(№ 4) в статье Чернышевского «О новых
условиях сельского быта», из-за чего вышел
тогда большой шум; затем записка эта была
напечатана полностью с рукописи, достав¬
ленной самим К. Д. Кавелиным, в «Русск.
старине» за 1886 г., №№ 1, 2 и 5, и потом
перепечатана оттуда во II т. второго соб¬
рания сочинений К. Д. Кавелина (СПб.,
1898).
^Сочинения Ю. Ф. Самарина, т. II, стр.
15—146.
16В изданных кн. О. Я. Трубецкой «Ма¬
териалах для биографии кн. В. А. Черкас¬
ского», т. I, приложения, стр. 7—67.
17«Бумаги по крестьянскому делу» М. 77.
Позена. Дрезден, 1864, срав. Никитенко
«Записки и дневник», т. II, стр. 55 (1-е
изд.).
“Ход составления и содержание этой
записки изложены в интересной статье об
Елене Павловне г. С. Бахрушина в сборнике
«Освобождение крестьян. Деятели рефор¬
мы», изд. «Научного слова». М., 1911, стр.
138 и след.
19Вполне достоверные данные о работах
этого комитета до последнего времени
имелись лишь в двух указанных выше стать¬
ях: «Достопамятные минуты моей жизни» А
И. Левшина и «Записки» Я. А Соловьева,
отчасти восполнявшиеся составленными Д.
П. Хрущевым и напечатанными за границей
«Материалами по истории упразднения кре¬
постного права», Берлин, 1860—1862, три
тома. Теперь история работ Секретного
комитета изложена на основании изучения
его архива г. А. Попельницким в «Вест. Ев¬
ропы» за 1911 г., № 2, стр. 48. Исследование
это, впрочем, лишь подтвердило верность
439
сведений, сообщавшихся в записках
Левшина и Соловьева.
20О Ростовцеве важные документы напе¬
чатаны в «Русском архиве» за 1873 г., № 1,
стр. 510 и след. См. также о нем у Барсукова
(«Жизнь Погодина»), т. XIV, стр. 465 и
passim и у А В. Никитенко в разных местах
его «Записок из дневника». Срав. также
последний отзыв о Ростовцеве после его
смерти издателей «Колокола» Герцена и
Огарева в «Голосах из России», кн. VIII,
стр. 8.
21Рескрипт этот и все последующие рас¬
поряжения по крестьянской реформе до 19
февраля 1861 г. печатались, начиная с 1858
г., в «Сборнике постановлений по устройст¬
ву быта помещичьих крестьян», который
выходил выпусками от 1 до 2 раз в год.
Рескрипт 20 ноября 1857 г. вместе с сопро¬
вождавшими его распоряжениями министра
внутренних дел напечатан полностью у
Скребицкого «Крестьянское дело в царство¬
вание императора Александра II», т. I, стр.
1. Срав. также в моей книге «Очерки по
истории общественного движения и кресть¬
янского дела в России». СПб., 1905, стр. 170
и у И. И. Иванюкова «Падение крепостного
права в России», изд. 2-е. СПб., 1903, стр.
22.
К лекции XXI
1 «Материалы для истории упразднения
крепостного состояния». Берлин, 1859, т. I,
стр. 156. Срав. Anatole Leroy-Beaulieu «Un
homme d'etat Russe (Nicolas Milutin). P.,
1884, p. 15 и Я. А Соловьева «Записки»,
«Русская стар.», 1881, IV, стр. 737 и след.
гЯ. А Соловьев. Ibidem.
3Срав. А И. Кошелев «Записки».
Берлин, 1884, стр. 125; Барсуков. «Жизнь и
труды Погодина», т. XV, стр. 488—490 (дан¬
ные В. А. Кокорева); Ю. Ф. Самарин.
Сочинения, т. II, стр. 175; «Материалы для
биографии кн. В. А. Черкасского», т. I, ч. I,
стр. 149; данные Н. В. Берга по Тамбовской
губ. у Барсукова, н.с., т. XVI, стр. 47—55.
Г. А Джанишев. «А. М. Унковский и
освобождение крестьян». М., 1894. Срав.
«Письмо» А А Головачева в «Русск.
вестн.» за 1858 г., № 4. Срав. выяснение
этих обстоятельств в моей статье «Основные
течения правительственной и общественной
мысли во время разработки крестьянской
реформы» в сборнике «Освобождение кре¬
стьян. Деятели реформы». М., 1911.
5Срав. записки Я. А Соловьева: «Русск.
стар.» за 1881 г., № 2, стр. 245; Сборник
постановлений, вып. I (1858 г.), стр. 4 и 34.
6Статья В. Н. Снежневского, основанная
на подлинном «деле» Нижегородского губер¬
нского комитета, напечатана в «Действиях
нижегородской ученой архивной комиссии»,
т. III, стр. 59 и след.
7«Материалы для истории упразднения
крепостного состояния в России», I, 278.
8Левшин. «Достопамятные минуты».
«Русск. архив» за 1885 г., № 8, стр. 537;
Скребицкий. «Крестьянское дело», т. I, стр.
XXIV и XXV; моя работа «Губернские
комитеты по крестьянскому делу в 1858—
1859 гг.» в «Очерках по истории обществ,
движ. и крестьян, дела в России». СПб.,
1905, стр. 194 и след.
9Джаншиев. «А. М. Унковский». М.,
1894. Срав. мою работу «Крестьянская
реформа в Калужской губернии при В. А.
Арцимовиче» в книге «Виктор Антонович
Арцимович. Воспоминания-харак¬
теристики». СПб., 1904, стр. 129—404.
10Джанишев «А. Унковский», стр. 91 и
след.
пСм. вышеуказанную статью мою
«Основные течения правительственной и
общественной мысли» в сборнике «Освобож¬
дение крестьян», стр. 27—38.
^Заграничные письма Ростовцева к го¬
сударю напечатаны у Скребицкого, т. I, стр.
908 и след. Срав. вышеназв.. статью мою
«Основные течения правительственной и
общественной мысли», стр. 38 и след.
13
«Достопамятные минуты», стр. 524.
140 Н. А. Милютине и его роли в кресть¬
янской реформе, кроме известной книги
Leroy-Beaulieu «Un homme d'etat Russe». P.,
1884, см. очерк «Н. А. Милютин» A A
Кизеветтера в сборнике «Освобождение
крестьян». М., 1911, стр. 233—266.
15Статьи эти перепечатаны в III томе
сочинений Ю. Ф. Самарина, стр. 19—56.
16Срав. сочинения Ю. Ф. Самарина, И,
стр. 137, где прямо указывается, что для
того, чтобы решиться на выкупную опе¬
рацию, нужно прежде всего, «чтобы во главе
финансов стоял министр с головой и поль¬
зующийся полной доверенностью государя,
а не безгласный государев казначей».
17Сборник постановлений, выпуск И,
стр. 17 и выпуск III, стр. 25.
18Срав. П. П. Семенов. «Освобождение
крестьян в России», т. I, стр. 79 и след.; А
Попельницкий «Секретный комитет в деле
освобождения крестьян от крепостной
440
зависимости» в «Вест. Европы» за 1911 г.,
№№ 2 и 3.
Для изучения работ редакционных
комиссий следует иметь в виду два главных
источника: 1) «Материалы редакционных
комиссий», изд. в 18 томах в 1859—1860 гг.
с приложениями (6 томов «Статистических
описаний помещичьих имений» in 4° и 3
тома «Отзывов членов, вызванных из губерн.
комитетов»). Сверх того в 1860 г. было
выпущено 2-е (систематизированное)
издание «Материалов редакционных
комиссий» в 3-х томах; 2) Н. И Семенова
«Освобождение крестьян в царствование
императора Александра И» (хроника или
летопись заседаний редакционных
комиссий) в 3-х томах (т. 3-й в 2-х частях).
Отчасти «Материалы редакционных
комиссий»были переработаны и изданы за
границей А Я. Скребицким в 4-х томах (т.
2-й в 2-х частях). Сверх того очень важно
иметь в виду: «Записки А. И. Кошелева»,
изд. в Берлине (особенно приложения к
ним); сочинения Ю. Ф. Самарина, т. III;
«Бумаги М. П. Позена». Дрезден, 1864; «Ма¬
териалы для биографии кн. В. Л Черкасско¬
го», изд. кн. О. Я. Трубецкой, т. I, ч. 2-я, М.,
1903; книгу A. Leroy-Beaulieu «Un homme
d'etat Russe (Nikolas Milutine)». P., 1884;
записку К. С. Аксакова «Замечания на новое
административное устройство крестьян в
России». Лейпциг, 1861; VIII и IX книжки
«Голосов из России». Лондон, 1860.
^ом I, стр. 99.
21Теперь она напечатана полностью у Я.
Я. Семенова: «Освобождение крестьян в
царств, имп. Александра II», т. I, стр. 827.
^Записка Мих. Безобразова со всеми
высочайшими отметками на ней напечатана
у Я. Я. Семенова в н.е., т. II, стр. 940.
^Адресы депутатов губернских комите¬
тов напечатаны у Семенова, т. I, стр. 615 и
след., а весь ход и исход их борьбы подробно
рассказан и правильно освещен одним из ее
участников, А Я. Кошелевым, в за¬
граничной брошюре «Депутаты и
редакционные комиссии по крестьянскому
делу». Берлин, 1860, затем перепечатанной
в Приложениях к «Запискам А. И. Кошеле¬
ва». Берлин, 1884. Срав. книгу мою «Обще¬
ственное движение при императоре
Александре И». М., 1909, стр. 53 и след.,
также у Я. Я. Иванюкова: «Падение крепо¬
стного права в России». Срав. также заме¬
чательное письмо Кошелева к Самарину от
1 февраля 1860 г. во 2-й книге I тома
«Материалов для биографии кн. В. А. Чер¬
касского», стр. 140 и след, и тут же (стр.
143) выписку из письма Самарина к Чер¬
касскому.
24Много выписок из заявлений депутатов
первого и второго приглашений помещено у
Скребицкого. См. между проч. у него в т. I
на стр. 822 и след, любопытную, оценку
взглядов депутатов первого и второго пригла¬
шений, сделанную редакционными
комиссиями.
К лекции XXII
!Ход работ в Главном комитете и в Го¬
сударственном совете по рассмотрению про¬
ектов положений, выработанных
редакционными комиссиями, изложен в
статье г. А ПопельЯицкого в «Русской
мысли» за 1911 г., № 2. Сравн. также
сведения об этом в III т. заграничных «Ма¬
териалов» Д. Я. Хрущева, перепечатанные
отчасти у Я. Я. Иванюкова («Падение кре¬
пости. права», стр. 390 и след.); сведения,
приведенные в III томе (часть 2-я) книги Я.
Я. Семенова «Освобождение крестьян при
имп. Александре II», стр. 749 и след, и в
«Материалах для биографии кн. В. А Чер¬
касского», т. I, ч. 2-я. М., 1903, стр. 214 и
след., а также в записках гр. П. А Валуева.
К лекции XXIII
1Для ясного представления тогдашней
роли Добролюбова в русской литературе и
жизни весьма много дает новое полное соб¬
рание его сочинений под ред. М. К. Лемке
(изд. Панафидина). СПб., 1911. Срав. мою
заметку о Добролюбове (по поводу его
юбилея) в «Русск. мысли» за 1911 г., N5 11.
23аписка К. С. Аксакова напечатана
полностью в «Руси» за 1881 г. № № 26—28
(от 9, 16 и 23 мая 1881 г.). Краткое ее
изложение в моей книге «Обществ,
движение при Александре И». М., 1909, стр.
29.
3«Голоса из России». Лондон, 1860, кн.
VIII, стр. 132.
4Более подробное изложение обществен¬
ного движения и развития общественной
мысли того времени см. в моей книге «Обще¬
ственное движение при императоре Алек¬
сандре И». М., 1909 и в статье «Основные
течения правительственной и общественной
мысли во время разработки крестьянской
реформы» в книге «Освобождение кресть¬
ян», изд. «Научным словом». М., 1911.
441
К лекции XXIV
Отношение крестьян к реформе 19 фев¬
раля очерчено в моих книгах «Крестьянская
реформа». СПб., 1905, стр. 166 и след, и
«Обществ, движение при Александре II»,
стр. 108 и след. Там же указана и литера¬
тура этого предмета в подстрочных приме¬
чаниях. Сравн. И. И. Игнатович.
«Волнения помещичьих крестьян от 1854 до
1863 г>в «Минувших годах» за 1908 г. №№
V—XI.
2«Волнения помещичьих крестьян от
1854 по 1863 гг.» в «Минувших годах» за
1908 г., V—XI (особенно VII—XI). Статьи
эти основаны на подробном изучении
опубликованных материалов. Сравн. также
ст. А 3: Попельницкого «Первые шаги кре¬
стьянской реформы» в т. V «Великой рефор¬
мы» (изд. Сытина). М., 1911, стр. 179,
основ, на донесениях самих командирован¬
ных флигель-адъютантов и генералов.
3Циркуляр министра внутр. дел от 22
марта 1861 г. Сравн. в книге моей «Кресть¬
янская реформа», стр. 171.
4Срав. мою статью «Деятельность
мировых посредников» в т. V сборника
«Великая реформа» (изд. Сытина). М., 1911,
стр. 237.
5Срав. Никитенко «Записки и
дневник», II, 250 (1-е изд.), а также в моей
книге «Обществ, движение при Александре
II», стр. 136 и след., стр. 155 и след.
6Сравн. мою книгу «Обществ, движение
при Александре II», стр. 164 и след. «Все-
подданейшая записка» статс-секретаря Ва¬
луева 1863 г. напечатана г. Берманским в
«Вестнике права» за 1905 г., № 9, стр. 229.
Любопытная записочка Валуева к гр. Д. Н.
Толстому в «Русск. архиве» за 1896 г., №12,
стр. 640.
7Вся тверская история 1862 г. с приве¬
дением текста постановлений и адреса изло¬
жена в 1-й книге «Освобождения», изд. в
1903 г. в Штутгарте Я. Б. Струве. Сравн.
также изложение этих событий в моей книге
«Обществ, движение при Александре II»,
стр. 114 и след.
8См. «Переписку Я. С. Тургенева и К. Д.
Кавелина с А. И. Герценом», изд. в 1892 г.
в Женеве Драгомановым.
9Сочинения К. Д. Кавелина, II, стр. 105,
ст. «Дворянство и освобождение крестьян».
Записка Ю. Ф. Самарина напечатана
впоследствии И. С. Аксаковым в «Руси» за
1881 г., № 29.
К лекции XXV
Ч^равн. мою книгу «Обществ, движ. при
Александре И», стр. 143 и след., а также Л.
Ф. Пантелеева «Из воспоминаний прошло¬
го», т. I, стр. 249—340 и II, стр. 1—148.
2Эти процессы наследованы по
подлинным архивным данным и описаны в
статьях М. К. Лемке в «Былом», а затем все
эти статьи изданы вместе в книге его
«Очерки освободительного движения 60-х
годов». СПб., 1908.
гТатищев. «Император Александр II,
его жизнь и царствование», т. I, стр. 402.
4Сравн. Я. Usicki. «Alexander
Wielopolski». Krakow, 1878—1879. 4 тома; В.
Д. Спасович. «Жизнь и политика маркиза
Велепольского». СПб., 1882; моя работа
«Судьба крестьянской реформы в Царстве
Польском», в сборнике «Очерки по ист.
обществ, движ. и крест, дела в России».
СПб., 1905; A Leroy-Beaulieu «Un homme
d'etat Russe». P., 1884; Ю. Ф. Самарин.
Сочинения, т. I; И. С. Аксаков. Сочинения,
т. III; Неведенский «Катков и его время».
СПб., 1888; М. Н. Катков. «1863 г. Со¬
брание статей по польскому вопросу». М.,
1887; Барсуков. «Жизнь и труды Погодина»,
XVIII, стр. 105—143; М. П. Драгоманов.
«Историческая Польша и великорусская де¬
мократия». Женева, 1883.
50 финансовых реформах см. Головаче¬
ва «Десять лет реформ». СПб., 1903;
Татищева «Император Александр II, его
жизнь и царствование», т. II, стр. 162 и след;
Блиох. «Финансы России в XIX в.», т. II;
«Министерство финансов 1802—1902», т. I.
СПб., 1902; «Записки А. И. Кошелева».
Берлин, 1884.
*Как накапливались элементы этого на¬
строения, например, в петербургском сту¬
денчестве, видно, между прочим, из
любопытных данных, приведенных в ма¬
териалах для биографии Добролюбова М. К.
Лемке в новом полном собрании сочинений
Н. А. Добролюбова (изд. Панафидина. СПб.,
1911).
7Сравн. мою книгу «Обществ, движ. при
Александре II», стр. 121 и след.; «Из вос¬
поминаний прошлого» Л. Ф. Пантелеева,
стр. 204—222; М. К. Лемке. «Очерки из
истории освободит, движения 60-х годов».
СПб., 1908.
8Д. И. Писарев. Сочинения изд. 1894 г.,
т. I, ст. «Схоластика XIX века», стр. 374—
375.
442
9
С. В. Рождественский. «Историч. обзор
деятельности Мин. нар. проев. 1802—1902».
СПб., 1902; «Сборник постановлений по
Министерству народн. просвещ.». СПб.,
18165, т. III и IV; С. М. Середонин. «Ис¬
торич. обзор деятельности Комитета
министров», т. III, часть 2-я, стр. 177 и
след.; «Записки и дневник», А В. Никитен¬
ко, т. I, изд. 2-е (passim); К. Д. Кавелин.
Сочинения. Изд. 2-е, т. II, стр. 1191 и след.;
Барсуков. «Жизнь и труды Погодина» т.
XVIII, стр. 272 и след; Джаншиев. «Эпоха
великих реформ» (изд. 7-е), стр. 282 и след;
«Воспоминания Н. В. Шелгунова».
Сочинения, II, стр. 723 и след; М. К. Лемке.
«Очерки из ист. освободительного движения
60-х годов». СПб., 1908.
К лекции XXVI
Сравн. мою работу «Из истории вопро¬
са об избирательном праве в земстве» СПб.,
1906.
2Подробные сведения указаны в моем
разборе двух первых томов сочинения Б. Б.
Веселовского «История земства за сорок
лет» в «Известиях СПб. политехнич.
института»за 1910 г., т. XIV, отд. оттиск,
стр. 15.
Сочинения И. С. Аксакова, т. V, стр.
253—261.
Сочинения К. Д. Кавелина, т. II, стр.
765. Сравн. его письмо к Корсакову от 20
марта 1865 г. в «Вестн. Европы» за 1886 г.,
№ 10, стр. 757.
Из передов, статьи в газете «Русь» от
15 февр. 1884 г. (Сочинения, т. IV, стр. 525.)
Сравн. Сочинения Я. С. Аксакова, т. IV
passim, а также в прилож. к III переписки
И. С. Аксакова: «Отрывок из книги: самые
достоверные записки чиновника-очевидца.
Присутственный день уголовной палаты (су¬
дебные сцены) 1853», стр. 17—91;
Джаншиев. «С. И. Зарудный и судебная
реформа». М., 1888; И. В. Гессен. «Судебная
реформа». СПб., 1905.
1Кш К. Арсеньев. «Законодательство о
печати в его прошлом и настоящем». СПб.,
1903; М. К. Лемке. «Эпоха цензурных
реформ 1859—1865». СПб., 1904; Неве-
Ьенский. «Катков и его время». СПб. 1888.
8М. К. Лемке.Иазъ. соч., стр. 417 и след;
И. Аксаков, IV, 340 и 346.
ЧАСТЬ III
К лекции XXVII
См.: «Курс истории России XIX века»,
часть II, стр. 266.
Срав. ст. Д. В. Стасова «Карако-
зовский процесс» в журнале «Былое» за
1906 г., № 4.
3«Материалы для истории упразднения
крепостного состояния». Берлин, 1860, т. III,
стр. 141—143.
См. текст рескрипта у Татищева, II,
стр. 8.
См. «Историч. обзор комитета
министров Середонина», т. III, ч. I, стр. 130.
Срав. статью Я. Я. Вейнберга «4-е ап¬
реля 1866 года (из моих воспоминаний)».
«Былое» за 1906 г., № 4, стр. 299; Я. К.
Михайловского «Литературные вос¬
поминания и современная смута», т. I, стр.
18; А В. Никитенко. «Дневник», т. II, стр.
282 и след.
7В сущности говоря, в отдельных мест¬
ностях, например в Полтавской губ., и госу¬
дарственные крестьяне владели далеко не
щедрым и даже не вполне достаточным на¬
делом. Срав. книгу проф. В. А Косинского
«К аграрному вопросу». Одесса, 1906, стр.
220 и след.
8Я. Я. Милюков. «Очерки по * истории
русской культуры», часть I, стр. 24 и след.
(6-е издание); Я. Огановский. «Очерки по
истории земельных отношений в России»,
СПб., 1911, стр. 399 и след.
кажется, чуть ли не первым исследова¬
телем крестьянского быта, выразившим в
самой категоричной форме заключение о
том, что крестьянское население стало расти
после 1861 г. «с неимоверной» быстротой,
был Я. Я. Семенов в своем предисл. к дан¬
ным конской переписи 1882 г. (стр. XXVI).
В значительной мере его вывод принял и П.
Б. Струве в своей известной юношеской
работе «Критич. заметки к вопросу об эко¬
номическом развитии России». СПб., 1894
г., стр. 198 и след.
В настоящее время в только что вышед¬
шей книге «Крепостное хозяйство. Исследо¬
вания по экономической истории России в
XVIII и XIX вв.»СПб. 1913, где собран ряд
старых работ Я. Б. Струве в значительно
переработанном виде, он от прежней своей
точки зрения отказывается. См. стр. 143 и
след.
10Над ними работает В. Э. Дон, который,
впрочем, пока свои исследования еще не
закончил.
иПринимая данные Германа, я
исправил те значительные опечатки, кото¬
рые заключались в его таблице напечатан¬
ной в «Memoires de l Academie des Siences de
St.P. b VII. St.P., 1820, p. 456.
443
12Срав. В. И. Вешнякова «Крестьяне-
собственники в России». СПб.* 1858 г.
13Срав. А Г. Тройницкого «Крепостное
население в России по 10-й народной пе¬
реписи». СПб., 1861 г., стр. 54 и след. Срав.
также «Военно-стат. сборник» Я. Я. Обру¬
чева, т. IV, ч. II, стр. 2. С 1834 г. набор
производился ежегодно в одной из двух
половин, на которые в этом отношении раз¬
делена была Россия,— от 5 до 10 человек с
каждой тысячи душ мужского пола. В вос¬
точную войну 1853—1856 гг. взято было 70
человек с тысячи, что составило с 10 млн.
крепостного населения не менее 700 тыс.
При этом следует иметь в виду, что в набор
шли люди от 20 до 35-летнего возраста, т. е.
самые плодовитые производители насе¬
ления, что отражалось на числе рождений в
следующие за набором годы.
Мой «Курс» часть 2-я, стр. 41 и след.
Срав. мою статью «Эпоха Отечественной
войны и ее значение в новейшей истории
России». «Русская мысль»» за 1912 г., XI
кн., стр. 149 и след.
lsy Милюкова тут % указан ошибочно
7,8.
16Я. Я. Дитятин. «Устройство и управ¬
ление городов в России». Т. II. «Городское
самоуправление в настоящем (XIX)
столетии». Ярославль, 1877, стр. 323 и след.
17Кроме цифры городского населения в
1858 г., которую я не знаю откуда П. Н.
Милюков взял, но которая, по-видимому,
выражает приблизительно все городское на¬
селение, а не одни лишь городские сословия.
18Л/. Я. Туган-Барановский. «Русская
фабрика», 2-е изд., стр. 307 и след.
9Туган-Барановский. Назв. соч.
К лекции XXXI
хСрав. мой «Курс», ч. И, стр. 234 и
след.; мою книгу «Общест. движение при
Александре II», стр. 163—164 и 175; а также
Неведенского «Катков и его время», стр. 497
и след.
2«Письмо министру народного просве¬
щения графу Толстому от князя А
Васильчикова*. Берлин, 1875.
3С. В. Рождественский, н. с.; С. С.
Татищев. «Император Александр II, его
жизнь и царствование», т. И, стр. 265 и след.
*К. К. Арсеньев. «Законодательство о
печати». СПб., 1903, стр. 92 и 99. Срав. «М.
М. Стасюлевич и его современники», т. II и
особенно стр. 145 и 205.
DC. В. Рождественский. «История
Министерства народ, просвещения с 1802—
1902». СПб., 1902. Срав. «Сборник поста¬
новлений по М-ву н. пр.», т. IV.
6Срав. «С.-Петербургские высшие кур¬
сы за 25 лет». СПб., 1904; особенно «Ис¬
торический очерк», составленный А. Н.
Анненской.
7При изложении политики Толстого по
отношению к начальной школе и истории
борьбы его с земством я воспользовался в
значительной мере данными, сообщенными
мне известным земским деятелем и педаго¬
гом Ф. Ф. Ольденбургом. Сравн. неофиц.
издание «Положения 1874 года о начальных
народных училищах в связи с инструкцией
инспекторам 1871 г., проектом наказа
училищным советам и некоторыми другими
законоположениями». СПб., 1901; а также
С. В. Рождественского н. с.
К лекции XXXII
*См. мой«Курс», т. II, стр. 257.
2Срав. «Современник» за 1866 г., т.
CXII, «Провинциальное обозрение», стр. 54
и след. («Доклад одесской земской управы
по вопросу о нищенстве»).
3Б. Б. Веселовский. «История земства за
40 лет», т. I, стр. 182. Срав. мой отзыв о его
книге в «Известиях СПб. политехнич.
института» за 1910 г. Отд. оттиск стр. 46 и
след.
^Кн. А И. Васильчиков. «О самоуправ¬
лении», т. III, стр. 235.
К лекции XXXIII
Существовала легенда, что в этом имен¬
но здании заседала екатерининская
«Комиссия Уложения» в 1767 г. По точной
справке, приведенной у Джаншиева («Эпоха
великих реформ», 7-е изд., стр. 462), здание
это было построено лишь в 1787 г., и, так.
обр., легенда о помещении в нем комиссии
1767 г. оказалась неверной.
2Цитировано у Джаншиева, н. соч., 7-е
изд., стр. 458.
3Там же, стр. 478.
4Я. В. Гессен. «Судебная реформа» в
серии «Великие реформы в их прошлом и
настоящем». СПб., 1905, стр. 130 и след.
5Там же, стр. 130. Срав. А Ф. Кони.
«На жизненном пути», т. II, passim и Я. В.
Давыдова «Из прошлого». М., 1913.
6По закону, судебные следователи назна¬
чаются из лиц, прошедших четырехлетний
444
стаж в кандидатах на судебные должности
при одном из судебных установлений.
1 Г, А Джаншиев, «А. М. Унковский и
освобождение крестьян». М., 1894, стр. 175.
8/f. С, Аксаков, Полное собрание
сочинений, т. IV.
9В минувшем (1913) году по случаю
50-летнего юбилея этого издания нынешней
редакцией ее выпущен юбилейный сборник,
в котором помещен весьма интересный
исторический очерк, составленный В. Л.
Розенбергом.
К лекции XXXIV
*См. II часть этого «Курса».
2Мы ввдим, что вывоз хлеба из России,
очень колебавшийся в первую половину XIX
в., но ни разу не достигавший до 1845 г. даже
30 млн. пуд., в пятилетие 1846—1850 гг.
достиг сразу 51 млн. пуд., в следующее
пятилетие 1850—1855 гг. он, правда,
понизился (вследствие войны) до 45 млн.
пуд.; но затем, в 1856—1860 гг., составлял
уже 69 млн. пуд. в год, в 1861—1865 гг.—
76 млн., в 1876—1880 гг.— 257 млн. пуд. в
год и т. д. (Срав. В, И, Покровский,
«Сборник сведений по истории и статистике
внешней торговли России», т. I, стр. 4—5.
СПб., 1902.)
3Эти и нижеприведенные сведения взяты
из книги г. Огановского «Очерки по истории
земельных отношений в России».'М., 1911.
4Срав. в сборнике «Влияние урожаев и
хлебных цен на некоторые стороны русского
народного хозяйства». СПб, 1897, т. I,
статью Д. И. Рихтера «Задолженность час¬
тного землевладения», стр. 379 и след.
5Срав. статью кн. Д, И, Шаховского
«Выкупные платежи в издании «Великая
реформа». М., 1911, т. VI, стр. 106 и след.
6Срав. назв. сочин. г, Огановского, стр.
445 и след.
7Цифра, вычисленная проф, Н, А Ка-
рышевым («Вненадельные аренды»). Срав.
А А Мануйлова «Аренда земли в России в
экономическом отношении» в сборнике
«Очерки по крестьянскому вопросу», вып.
II. М., 1905, стр. 74.
®no расчетам земских статистиков, для
183 уездов — 10 млн. десятин. Срав*. проф.
Мануйлов п. с., стр. 168.
Огановский, н. с., стр. 445—451.
10Огановский, н. с., с. 450—451.
пОгановский, н. с., с. 446.
12Все эти данные взяты из той же работы
г, Огановского,
13Огановский, стр. 436—437.
14Срав. Чаславского «Хлебная торговля
в центральном районе России», ч. I и II.
СПб., 1873, а также у Янсона («О крестьян,
наделах и платежах») те сведения, которые
ему предоставил Чаславский, стр. 95 (2-го
изд. 1881 г.). В 1865—1867 гг. в Чернигов¬
ской губернии были еще местности, где
четверть овса стоила 40 коп., а пуд ржи 5
коп. Цены эти невероятно возросли после
проведения железных дорог.
15Это объяснение происхождения засухи
и неурожаев в черноземной полосе встреча¬
ет, впрочем, со стороны некоторых почвове¬
дов весьма серьезные возражения. Срав.
проф, Докучаева «Овраги и их значение».
СПб., 1876, и «Наши степи прежде и
теперь». СПб., 1892.
6«Доклад высочайше учрежд. комиссии
для исследования нынешнего (1872 г.) поло¬
жения сельского хозяйства и сельской
производительности в России». СПб., 1873,
стр. 35—36.
17Срав. часть II этого «Курса».
К лекции XXXV
1Бистром был генерал, командовавший
солдатами, оцепившими в 1861 г.
университет во время студенческих беспо¬
рядков, и говоривший солдатам, что это
бунтуют «подьячие», недовольные освобож¬
дением крестьян.
2Сравн. статью г, Сватикова в «Ис¬
торическом сборнике» «Наша страна»
(СПб., 1907 г.): «Студенческое движение
1869 г. (Бакунин и Нечаев)» стр. 165 и след.
К лекции XXXVI
Говорят, что Драгоманову так пос¬
тупить советовал сам киевский генерал-гу¬
бернатор кн. А.М. Дундуков-Корсаков,
дружественно к нему расположенный.
2Курсив мой.— А К,
К лекции XXXVII
1Недавно появились в январской книжке
«Голос минувшего» за нынешний 1914 г.
интересные воспоминания о гр. М. Т.
Лорис-Меликове А. Ф. Кони, который также
изображает личность Лориса в весьма бла¬
гоприятном для него свете и особенно под¬
черкивает его прямоту и честность. (Срав.
«Голос минувшего» за 1914 г., № 1, стр.
1«1—202.)
445
2Завидовавший его положению Валуев
называл его в шутку в своем дневнике
«ближним боярином».
З3аписка эта напечатана в настоящее
время в У выпуске «Статей и речей« С. А.
Муромцева» стр. 47 и 48. Ее имел в виду
известный американец Кеннан в брошюре
своей «Последнее заявление русских либе¬
ралов».
4Таких имений оставалось в то время, по
числу приписанных к ним крестьян, не
более Vs части.
К лекции XXXVIII
1Отчет об этом совещании, записанный
очень подробно одним из его участников,
был напечатан в журнале «Былое» за 1906
г., в № 1, стр. 189—194, затем перепечатан
полностью в книге В. Я. Богучарского «Из
истории политической борьбы». М., 1912,
стр. 259 и след.
20 роли гр. Шувалова и других его
единомышленников в это время см. в той же
книге г. Богучарского и в целом ряде статей,
вызванных появлением этой книги, перечень
которых мы приводим в библиографии цар¬
ствований Александра III, напечатанной в
конце этой части «Курса».
3Вся эта история подробно рассказана
по документам в интересной статье г. Ко-
ванько «Освобождение крестьян и обязатель¬
ный выкуп» в июньской книжке «Русской
мысли» за 1912 г.
К лекции XXXIX
Программа эта была формулирована в
апрельской книжке «Вестника Европы» за
1882 г. Она цитирована у Б. Б. Веселовского
«История земства за 40 лет», т. III, стр. 286.
2Сведения о предположениях комиссии
П. П. Семенова, работавшей в 1881 г., име¬
ются в «Обзоре законоположений по пересе¬
ленческому вопросу», составленном
канцелярией Комитета министров. Выписки
из этого «Обзора» приведены мною в книге
моей «Крестьянская реформа» (СПб.,
1905), стр. 230.
3В «Русском архиве» за 1913 г., №N5 1
и 2.
К лекции XL
Литература этого вопроса указана ниже
в библиографии царствования императора
Александра III.
Учебное издание
Корнилов Александр Александрович
КУРС ИСТОРИИ РОССИИ XIX ВЕКА
Редактор С. А. Юшина
Младший редактор М. В. Колосова
Художник 1?. Я. Коренев
Художественный редактор Е. Д. Косырева
Технические редакторы Г. А. Виноградова, О. В. Дружкова
Корректор Г. И. Балашова
Операторы В. Б. Васина, Г. А. Шестакова
ИБ № 9853
ЛР №010146 от 25.12.91. Изд. № РИФ-56. Сдано в набор 26.10.92. Подл, в печать 26.04.93. Формат
70x100/16. Бум. офс. № 2. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Объем 36,40 уел. печ. л. + фор¬
зац 0,33 уел. печ. л. 37,05 уел. кр.-отт. 49,54 уч.-изд. л. + форзац 0,49 уч.-изд. л. Тираж 40 000 экз.
Зак. №271.
Издательство «Высшая школа», 101430, Москва, ГСП-4, Неглинная ул., д. 29/14.
Набрано на персональном компьютере издательства.
Отпечатано в московской типографии № 4 Министерства печати и информации РФ. 129041, Москва,
р.Переяславская ул., д. 46.