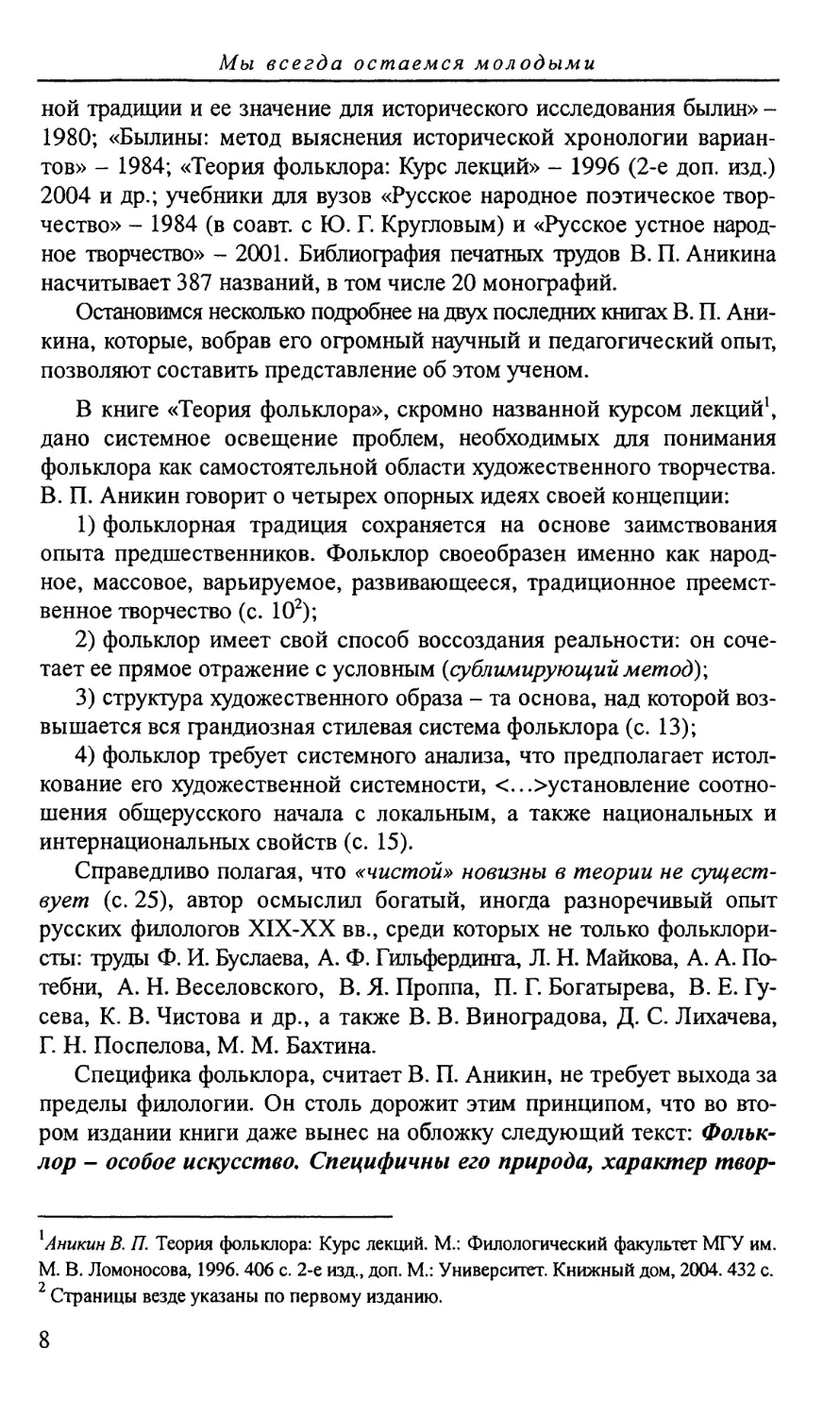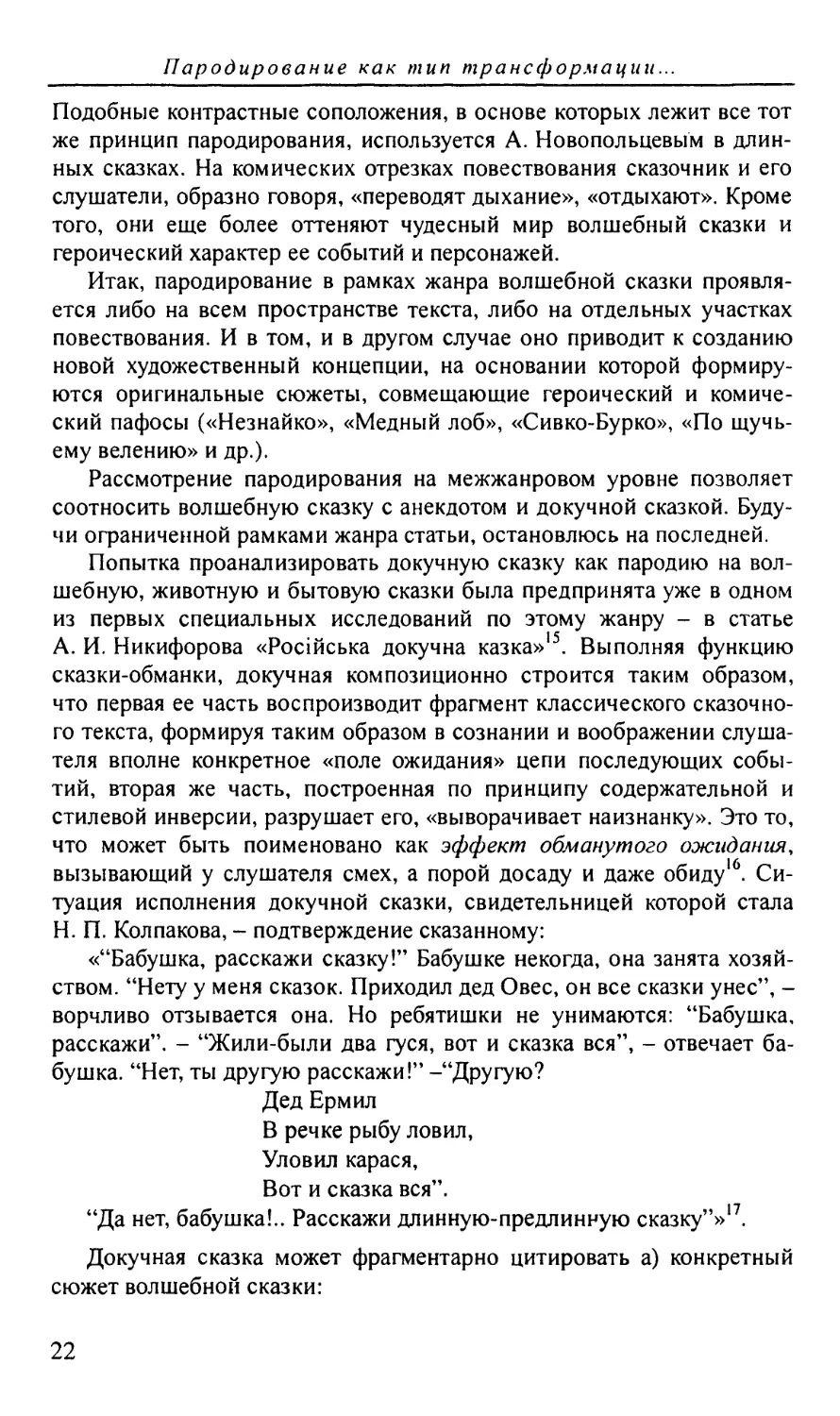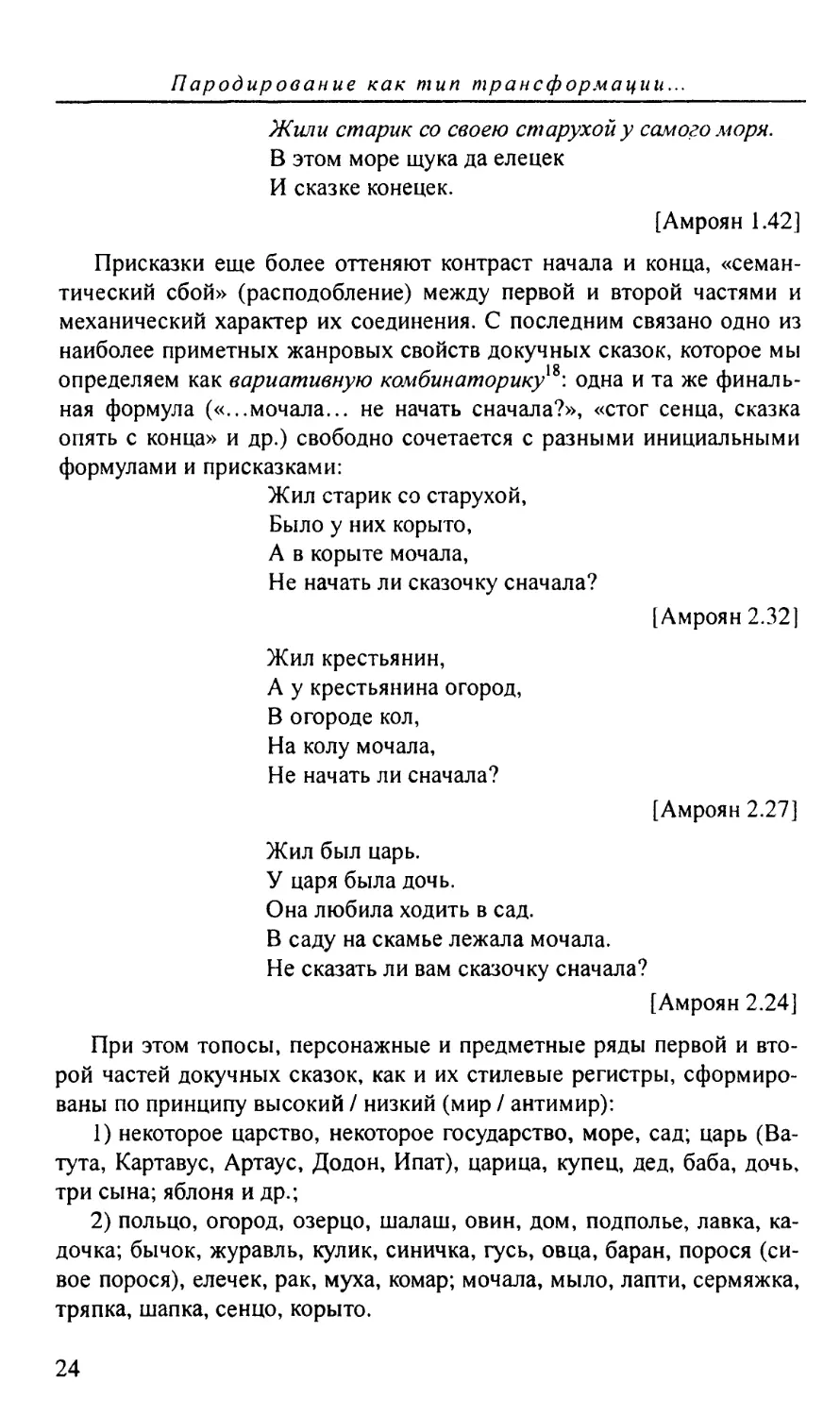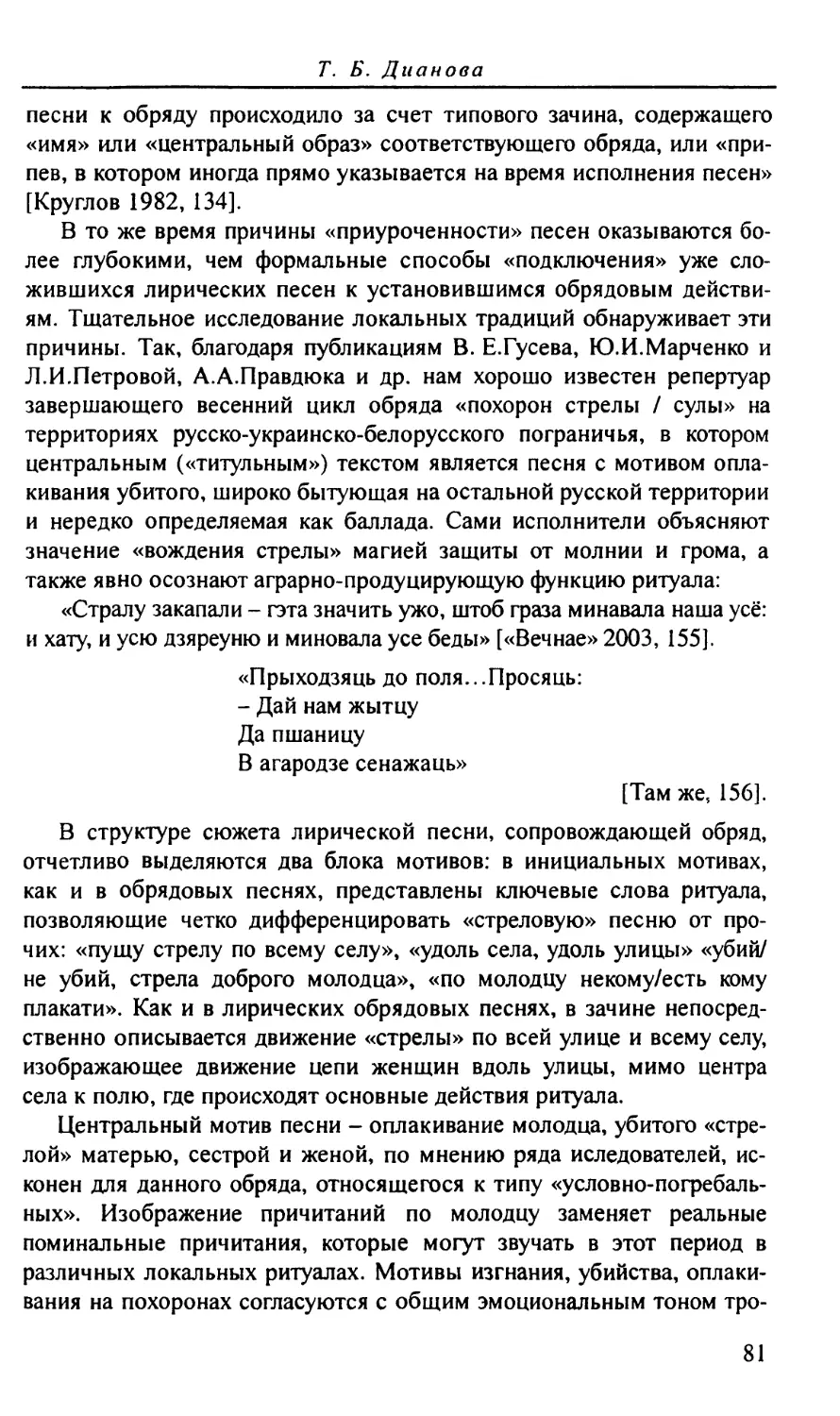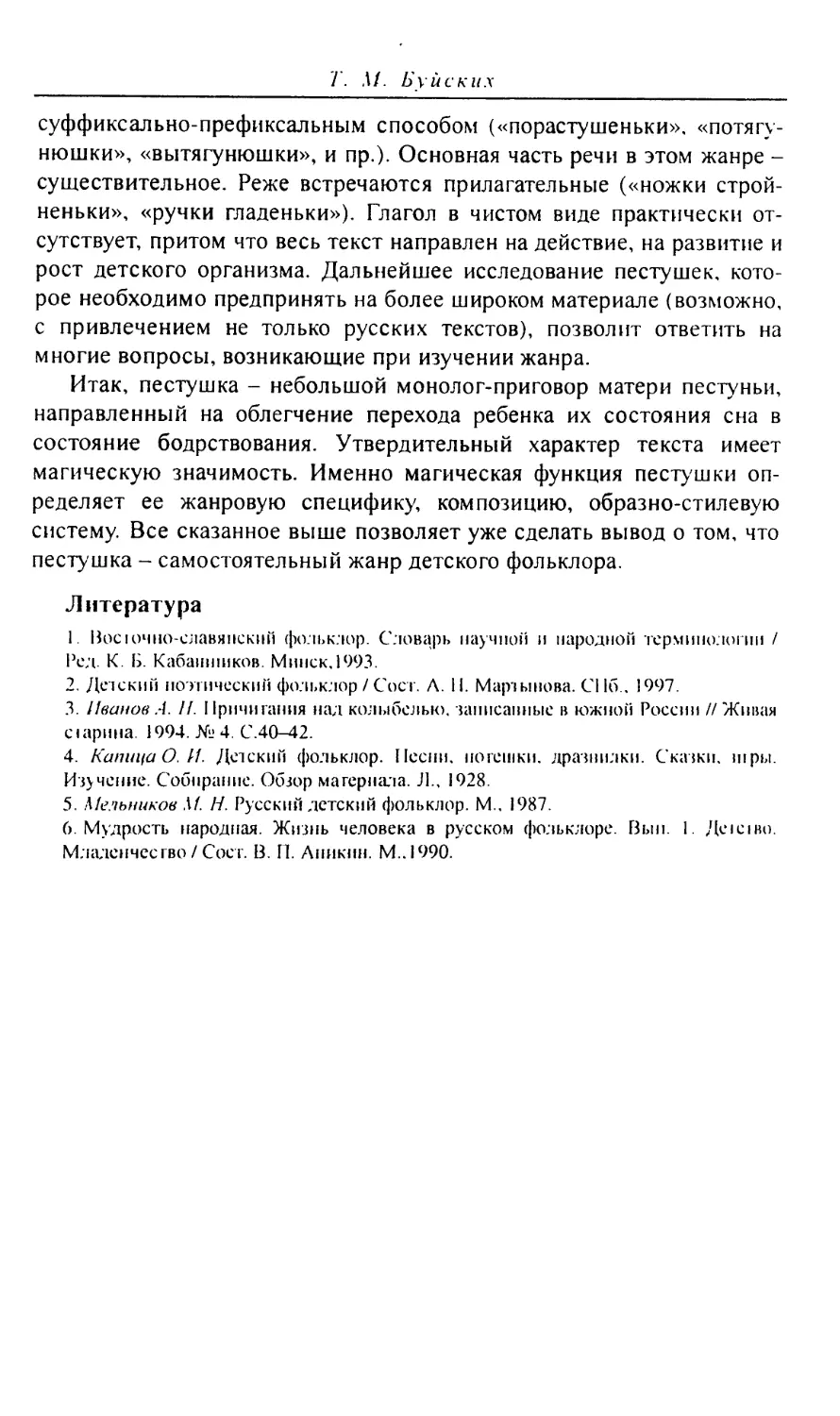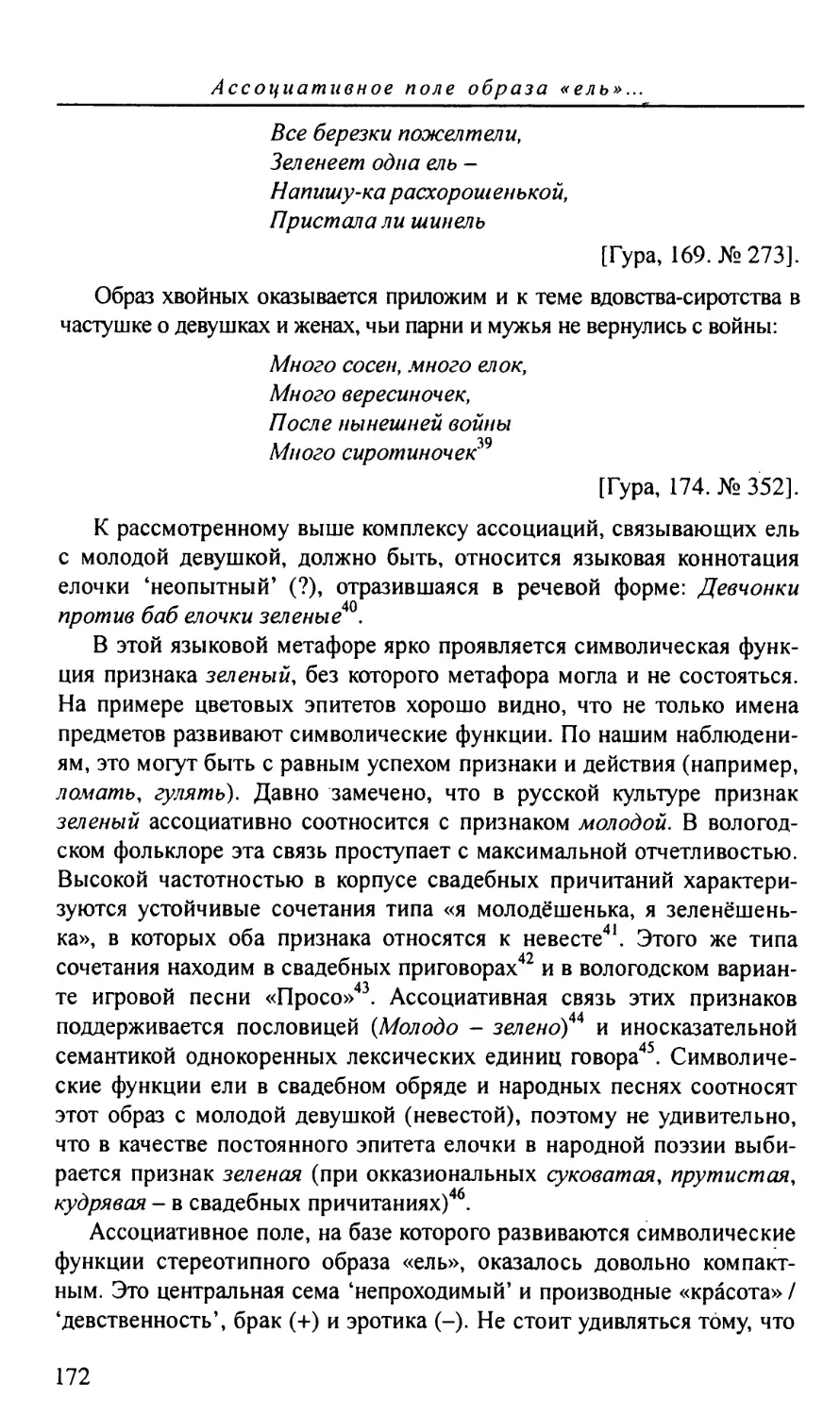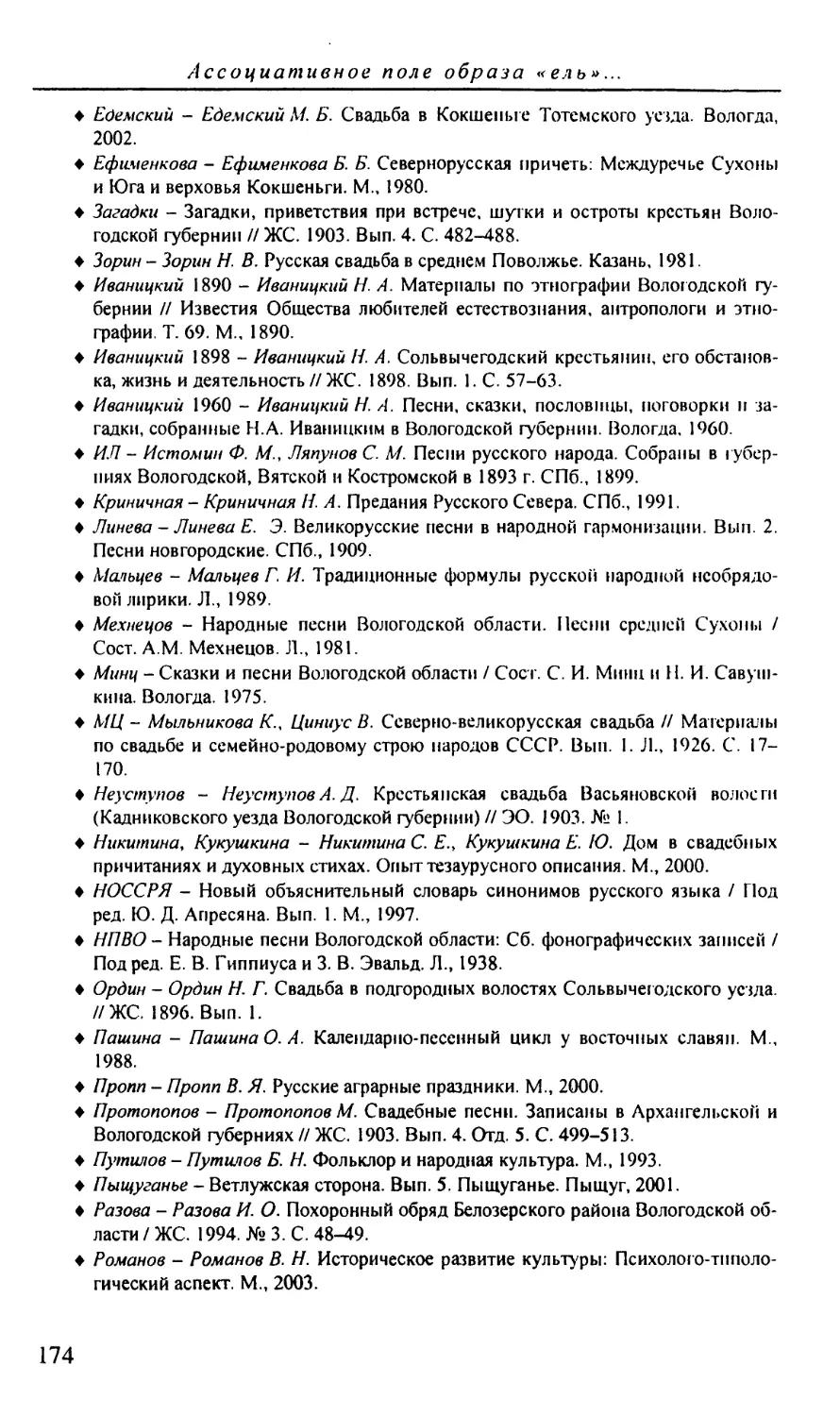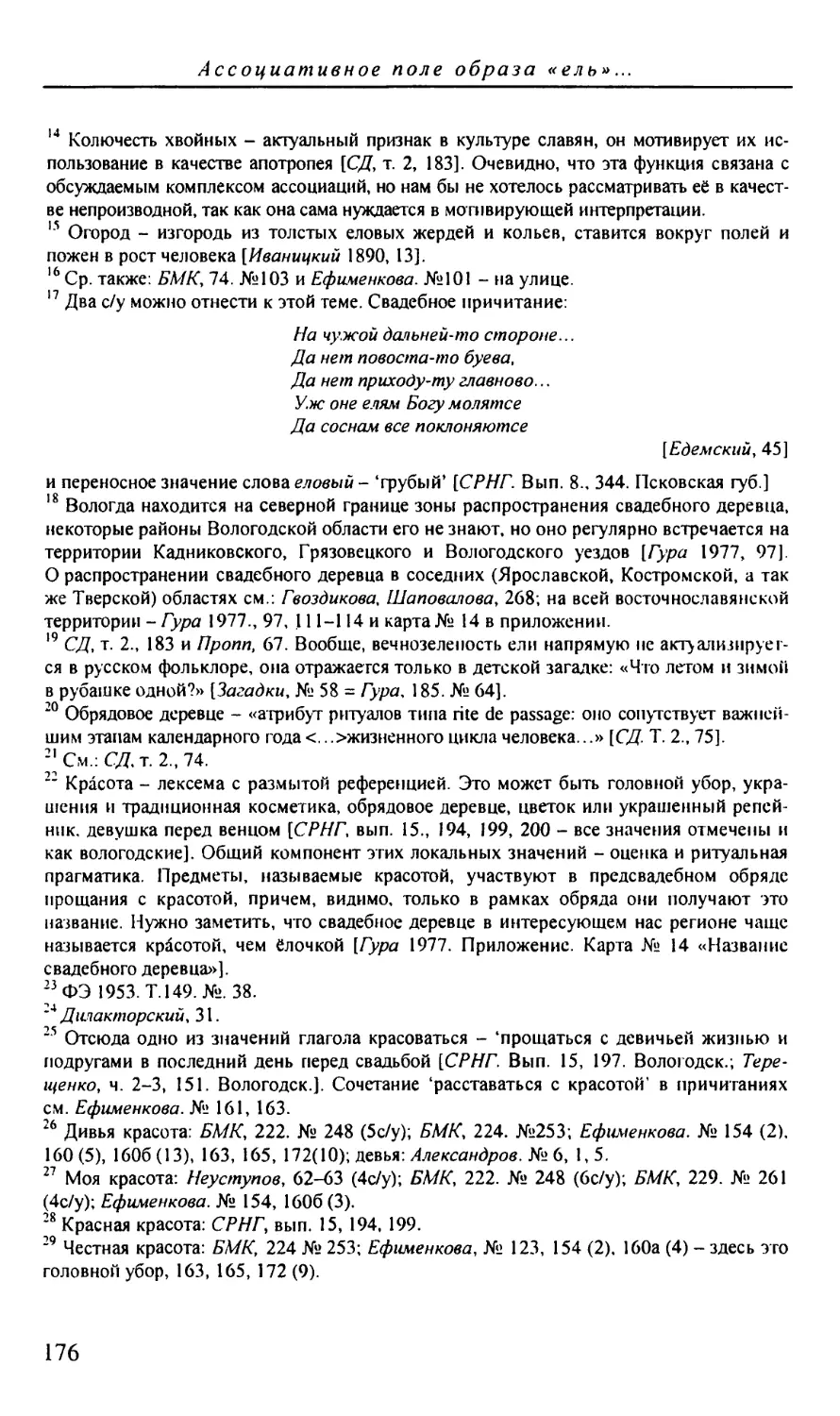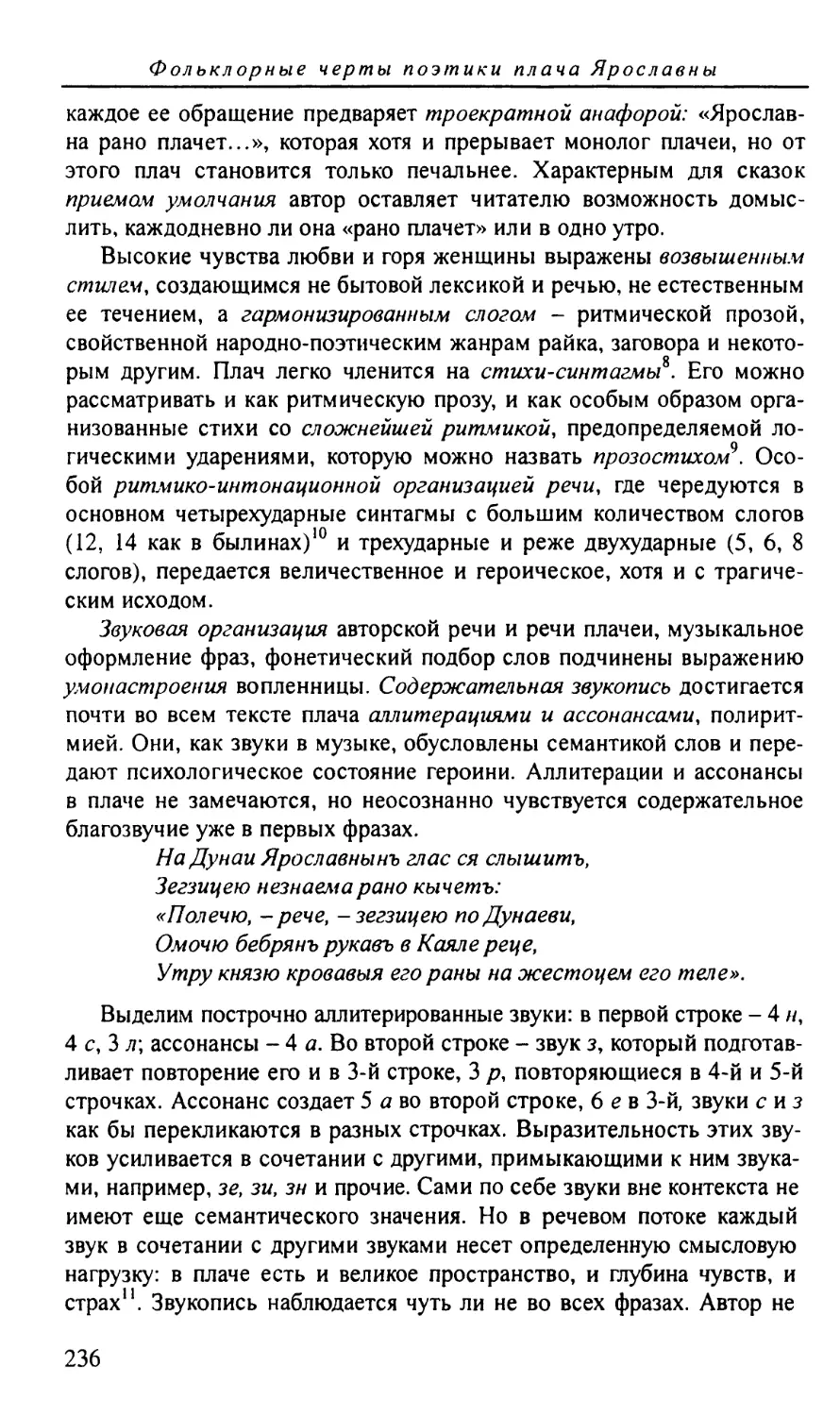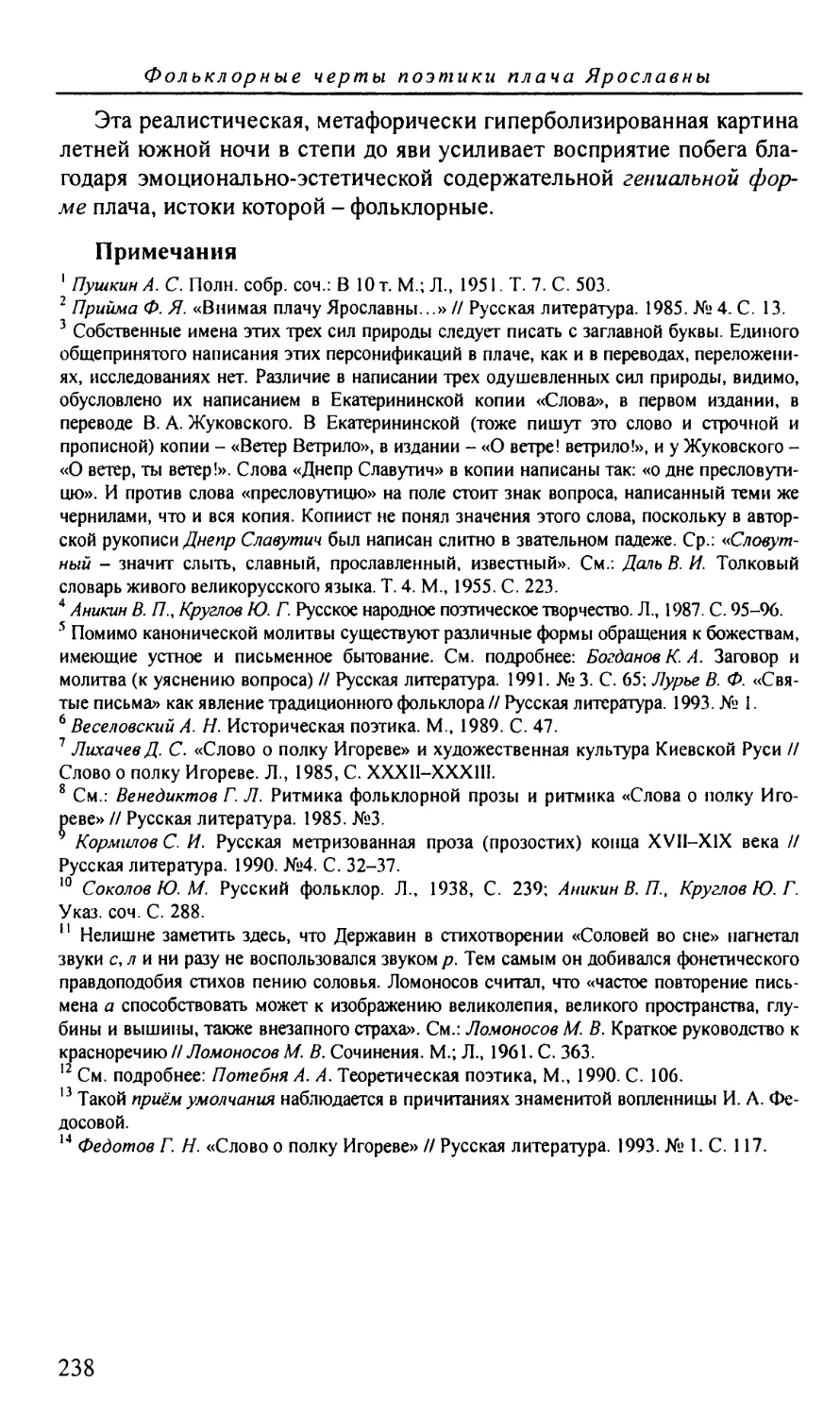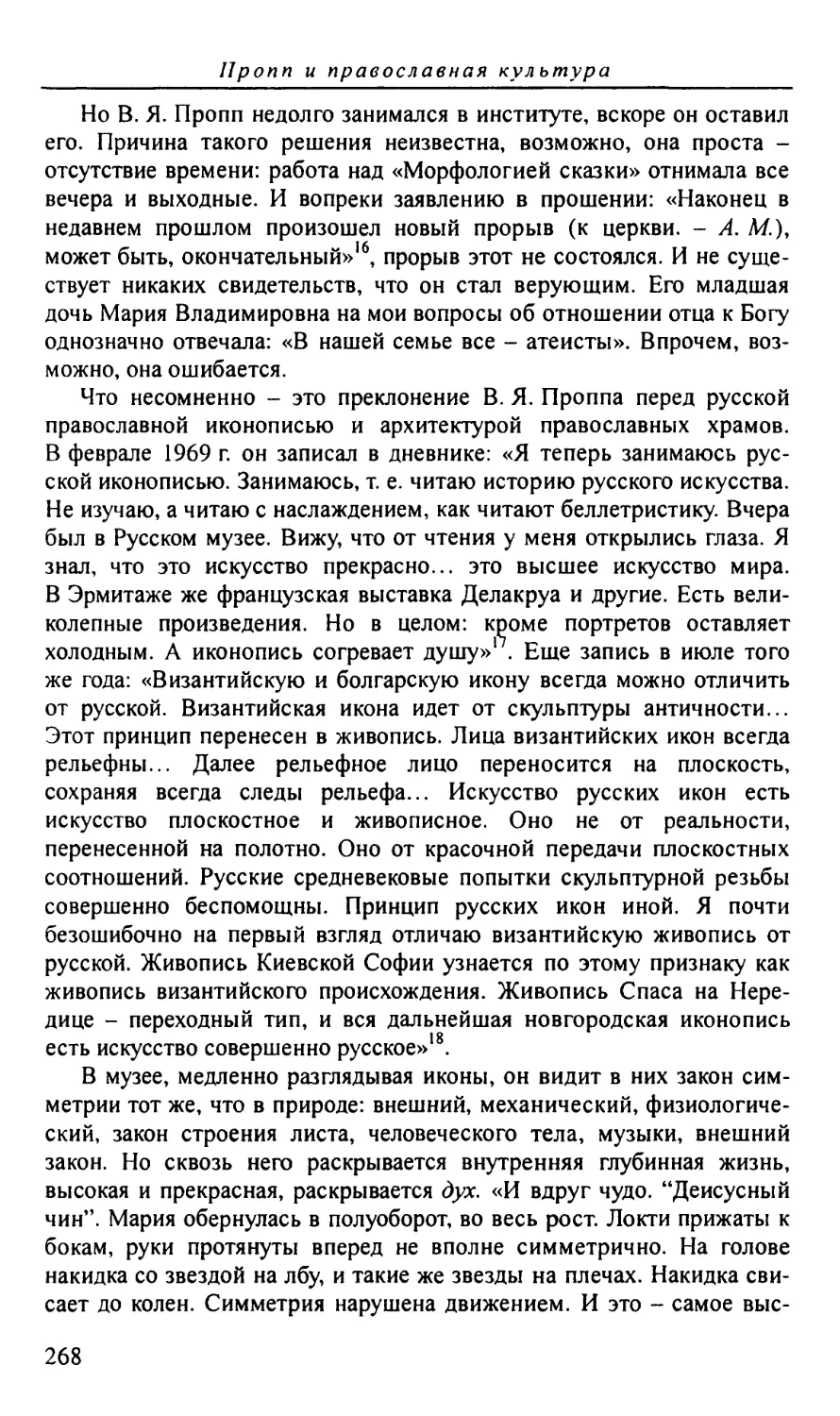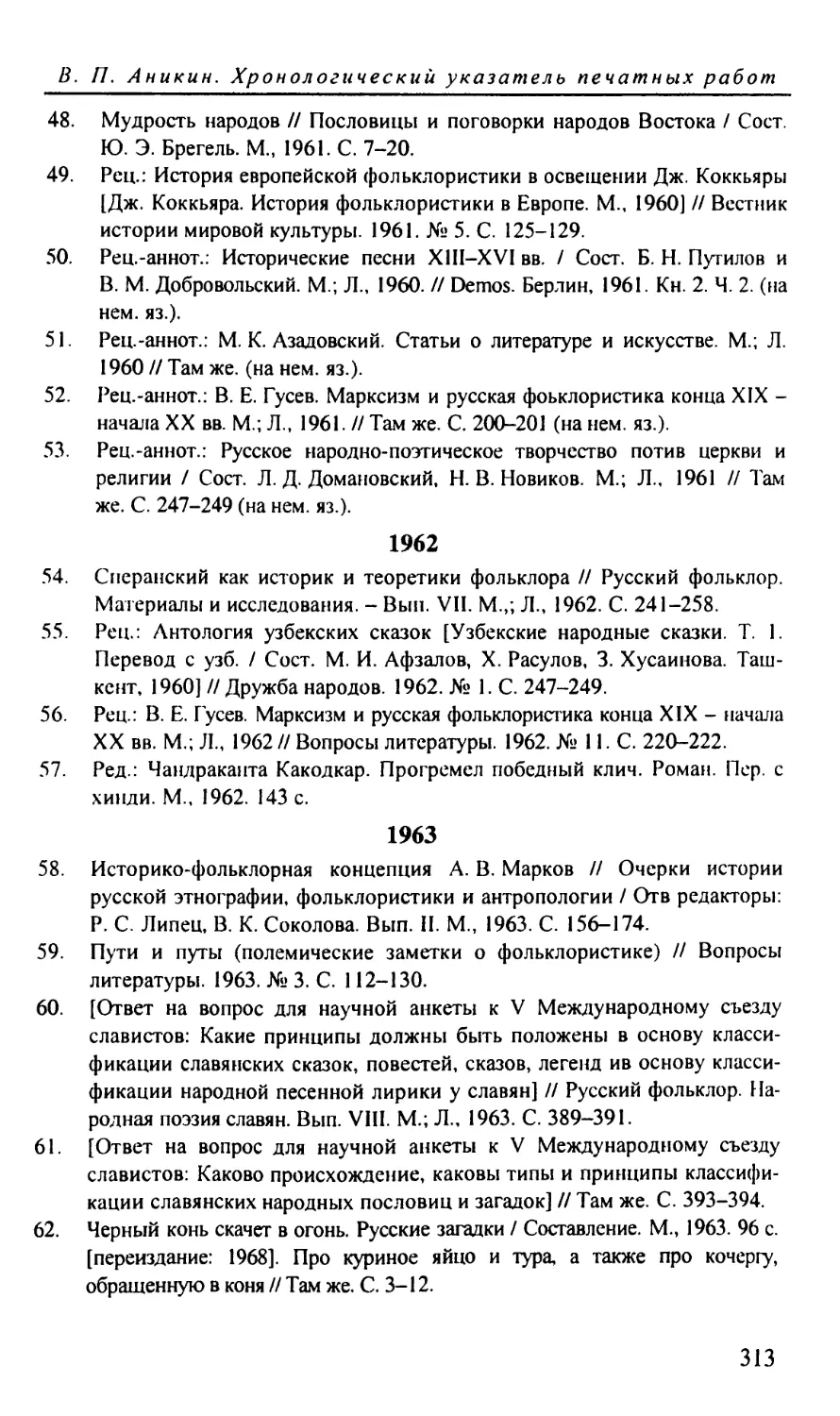Author: Алпанов С.В. Злобина Н.Ф.
Tags: стихосложение: размер, ритм, рифма и стихотворные модели первобытное искусство примитивное (народное) искусство (старинное и современное) фольклор фольклорист литература
ISBN: 5-211-05112-2
Year: 2005
Text
I
Поэтика
фольклора
Сборник в честь 80-летия В. П. Аникина
К 250-летию Московского университета
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА
Филологический факультет
Кафедра русского устного народного творчества
ПОЭТИКА ФОЛЬКЛОРА
Сборник статей
К 80-летнему юбилею профессора
ВЛАДИМИРА ПРОКОПЬЕВИЧА АНИКИНА
Издательство Московского университета
2005
УДК 801.6:7.031
ББК 82.3 (2 Рос=Рус)
П67
Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета
филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
Составители:
кандидат филологических наук С. В. Алпатов
кандидат филологических наук Н. Ф. Злобина
Рецензент:
доктор филологических наук А. А. Илюшин
П 67 ПОЭТИКА ФОЛЬКЛОРА: Сборник статей: К 80-летнему
юбилею профессора Владимира Прокопьевича Аникина /
Сост. С. В. Алпатов, Н. Ф. Злобина. - М.: Изд-во Моск, ун-
та, 2005. - 336 с.
ISBN 5-211-05112-2
Сборник посвящен 80-летнему юбилею заслуженного профессора МГУ
им. М. В. Ломоносова, доктора филологических наук, профессора кафедры
русского устного народного творчества филологического факультета В. П. Ани-
кина. Сборник включает работы, посвященные проблемам поэтики жанров
фольклора, региональной специфики, литературно-фольклорных связей,
историографии и методологии изучения устного народного творчества, а
также список научных трудов В. П. Аникина.
Фольклорная поэтика рассматривается на уровне художественных тро-
пов, композиции, сюжета, жанра, анализируется пародирование как способ
создания нового жанра. Влияние литературы на фольклор, фольклора на
литературу, массовой культуры на поэтику современного фольклора пред-
ставлено на примере рассмотрения жанров лубочной сказки, устной прозы,
детского фольклора, литературной повести. Этнические особенности пока-
заны на примере удмуртской волшебной и чешской цепевидной сказок,
проблемы региональное™ - часть разбора специфики фольклорных тради-
ций Русского Севера, Верхнего Поволжья, Вологодчины. Историографиче-
ские работы посвящены Ф. И. Буслаеву, А. А. Котляревскому, О. Ф. Мил-
леру, А. В. Маркову, В. Я. Проппу.
Для фольклористов, этнографов, историков, литературоведов.
УДК 801.6:7.031
ББК 82.3 (2 Рос=Рус)
ISBN 5-211-05112-2
© Филологически
2005148802
юсова, 2005.
Содержание
Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан. «Мы всегда остаёмся молодыми» Владимиру
Прокопьевичу Аникину - 80 лет..................................7
А. А. Иванова (Москва). Пародирование как тип трансформации сказочной
традиции.........................................................16
Л. В. Фадеева (Москва). Рукоделие в заговорах на кровь: особенности
варьирования сюжетной темы....................................27
К А. Балобанова (Москва). Образная система заговоров от тоски. К вопросу
о вариативности фольклорной традиции..........................39
А. С. Сашыренко (Москва). Образ хлеба в поэтической системе подблюдного
гадания.......................................................48
В. В. Бондаренко (Москва). Композиция свадебных лирических песен.56
П. Т. Громов (Балашов). Композиция и жанровые трансформации песенного
сюжета «Стукнуло, грянуло в лесе».............................64
Т. Б. Дианова (Москва). Обрядовая и необрядовая лирика в контексте
ритуала: типология и функции..................................73
М. С. Симакова (Москва). Специфика предметной символики в частушках... 89
А. В. Кулагина (Москва). К вопросу о поэтике трагического
и комического: тема смерти в частушках..........................101
П. А. Бородин (Москва). К вопросу о взаимодействии анекдота
с другими жанрами фольклора..................................115
Т. М. Буйских (Кыргызстан). О жанровой специфике пестушек.......124
В. Е. Добровольская (Москва). Роль предметных реалий
в идентификации сюжетных типов русской волшебной сказки..........130
А. В. Коробова (Москва). Духовные стихи о Страшном Суде:
поэтика и композиционные типы...................................140
С. Н. Азбелев (Санкт-Петербург). К изучению поэтики
региональных традиций........................................147
Г. Н. Шушакова (Удмуртия). Специфика удмуртской волшебной сказки. 154
В. В. Пазынин (Москва). Ассоциативное поле стереотипного
образа «ель» в вологодской традиционной культуре................161
А. А. Родионова (Москва). Обрядовая семантика
средокрестных песен Верхнего Поволжья........................178
И. Ф. Амроян (Тольятти). О национальном своеобразии
чешских цепевидных сказок....................................186
5
И. Н. Райкова (Москва). Влияние литературы и массовой культуры
на поэтику современного фольклора детей и подростков..........198
Н. Е. Котельникова (Москва). «Двоемирие» в повести А. Погорельского
«Лафертовская маковница» и фольклорной несказочной прозе......209
И. В. Сабитова (Москва). Особенности построения лубочной сказки
о Портупее-прапорщике.........................................216
С. В. Алпатов (Москва). «Народная Библия»: текст и контекст.........223
И. А. Шерстюк (Кыргызстан). Фольклорные черты поэтики
плача Ярославны...............................................234
Н. Ф. Злобина (Москва). Теоретические искания русских мифологов
в области поэтики фольклора...................................239
Т. Г. Иванова (Санкт-Петербург). Заметки к биографии А. В. Маркова.... 251
А. Н. Мартынова (Санкт-Петербург). Пропп и православная культура.... 259
А. А. Петрова (Москва). К проблеме народного стиха. Фразовый ритм,
или ритмика без метрики.......................................274
Н. Н. Велецкая (Москва). О формах и сущности трансформации
языческой символики в фольклорной традиции христианской эпохи.279
В. А. Ковпик (Москва). Пародийные тексты в составе свадебного обряда.299
Владимир Прокопьевич Аникин. Хронологический указатель печатных работ
..............................................................310
«Мы всегда остаемся молодыми».
Владимиру Прокопьевичу Аникину - 80 лет
Отечественная фольклористика второй половины XX в. во многом
развивалась под влиянием идей крупного ученого - доктора филоло-
гических наук, профессора, заведующего кафедрой фольклора МГУ
им. М. В. Ломоносова Владимира Прокопьевича Аникина. Он отно-
сится к тому уникальному поколению филологов, которые пришли
студентами в вузовские аудитории с фронтов Великой Отечественной
войны, опаленные и израненные ее огнем, сразу же после Победы. Но
это были счастливые, влюбленные в жизнь люди, и учились они с ог-
ромным желанием и трудолюбием. Во время войны В. П. Аникин слу-
жил в батальоне аэродромного обслуживания 4-й воздушной армии
Северокавказского фронта, за участие в боевых действиях 1943-1944 гг.
награжден Орденом Отечественной войны П степени и медалями.
Филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова В. П. Ани-
кин окончил в 1950 г., а в 1954 г. под руководством известного фольк-
лориста В. И. Чичерова (ученика Ю. М. Соколова, который в свою
очередь был учеником В. Ф. Миллера) защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Значение народной поэзии в творческом развитии
Алексея Николаевича Толстого». Впоследствии в память о своем учи-
теле Владимир Прокопьевич стал инициатором и редактором издания
ценной книги В. И. Чичерова «Школы сказителей Заонежья» (М.:
Наука, 1982). Как ученый В. П. Аникин во многом формировался в
традициях исторической школы, которую характеризует конкретно-
исторический и искусствоведческий подход к словесной поэтической
культуре народа. Не случайно предметом особого интереса Владими-
ра Прокопьевича стал эпос: в 1974 г. он защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Теория фольклорной традиции и ее значение для
исторического исследования былин».
В. П. Аникин внес крупный вклад в изучение былин, сказок, обря-
дового фольклора, малых жанров народной поэзии. Фундаментальные
труды этого исследователя целенаправленно раскрывают специфику
устного народного творчества, его историю и теорию, типологию
взаимосвязей фольклора и литературы. В. П. Аникин обогатил мето-
дологию фольклористического анализа. Широко известны его книги
«Русская народная сказка» - 1959 (переизд. 1977) «Русский богатыр-
ский эпос» - 1964; «Фольклор как коллективное творчество народа» -
1969; «Календарная и свадебная поэзия» - 1970; «Теория фольклор-
7
Мы всегда остаемся молодыми
ной традиции и ее значение для исторического исследования былин» -
1980; «Былины: метод выяснения исторической хронологии вариан-
тов» - 1984; «Теория фольклора: Курс лекций» - 1996 (2-е доп. изд.)
2004 и др.; учебники для вузов «Русское народное поэтическое твор-
чество» - 1984 (в соавт. с Ю. Г. Кругловым) и «Русское устное народ-
ное творчество» - 2001. Библиография печатных трудов В. П. Аникина
насчитывает 387 названий, в том числе 20 монографий.
Остановимся несколько подробнее на двух последних книгах В. П. Ани-
кина, которые, вобрав его огромный научный и педагогический опыт,
позволяют составить представление об этом ученом.
В книге «Теория фольклора», скромно названной курсом лекций1,
дано системное освещение проблем, необходимых для понимания
фольклора как самостоятельной области художественного творчества.
В. П. Аникин говорит о четырех опорных идеях своей концепции:
1) фольклорная традиция сохраняется на основе заимствования
опыта предшественников. Фольклор своеобразен именно как народ-
ное, массовое, варьируемое, развивающееся, традиционное преемст-
венное творчество (с. 102);
2) фольклор имеет свой способ воссоздания реальности: он соче-
тает ее прямое отражение с условным {сублимирующий методу,
3) структура художественного образа - та основа, над которой воз-
вышается вся грандиозная стилевая система фольклора (с. 13);
4) фольклор требует системного анализа, что предполагает истол-
кование его художественной системности, <... установление соотно-
шения общерусского начала с локальным, а также национальных и
интернациональных свойств (с. 15).
Справедливо полагая, что «чистой» новизны в теории не сущест-
вует (с. 25), автор осмыслил богатый, иногда разноречивый опыт
русских филологов XIX-XX вв., среди которых не только фольклори-
сты: труды Ф. И. Буслаева, А. Ф. Гильфердинга, Л. Н. Майкова, А. А. По-
тебни, А. Н. Веселовского, В. Я. Проппа, П. Г. Богатырева, В. Е. Гу-
сева, К. В. Чистова и др., а также В. В. Виноградова, Д. С. Лихачева,
Г. Н. Поспелова, М. М. Бахтина.
Специфика фольклора, считает В. П. Аникин, не требует выхода за
пределы филологии. Он столь дорожит этим принципом, что во вто-
ром издании книги даже вынес на обложку следующий текст: Фольк-
лор - особое искусство. Специфичны его природа, характер твор-
1 Аникин В. П. Теория фольклора: Курс лекций. М.: Филологический факультет МГУ им.
М. В. Ломоносова, 1996. 406 с. 2-е изд., доп. М.: Университет. Книжный дом, 2004.432 с.
2 Страницы везде указаны по первому изданию.
8
Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан
ческих процессов в нем, специфичны его образно-стилевые свойст-
ва и особенности. Предполагает ли изучение специфики фолькло-
ра как особого искусства выход за пределы филологии? Нет! Дан-
ное утверждение представляется исследователю особенно важным
потому, что в настоящее время <...>на науку о фольклоре предъявля-
ют права литературоведение, лингвистика в структуралистической
разновидности, культурология и другие науки. В особенности сильны
притязания этнографии (с. 15). Конечно, фольклорист обязан счи-
таться с бытовым контекстом, однако фольклор по своим признакам
богаче, чем обычное бытовое явление: фольклористике принадлежит
обширный круг проблем, которые не входят в ведение никакой другой
научной дисциплины.
Оригинальная композиция книги - одна из творческих удач
В. П. Аникина. Не повторяя ни плана, ни содержания курсов теории
литературы, автор предельно ясно раскрыл специфические понятия
фольклорной теории и одновременно смог выразить целостное пред-
ставление о предмете. По мысли В. П. Аникина, композиция книги
образует своего рода последовательные круги с единым центром.
Начиная с простого, ученый шаг за шагом вводит читателя в область
сложнейших проблем. В книгу необходимо вчитываться, вновь и
вновь возвращаться к ее идеям. Книга требует размышлений. Главы
книги (лекции курса) группируются вокруг общих тем, которые
сформулированы так:
1. Фольклорный процесс.
2. Жанрообразование, функциональность фольклора, характер ху-
дожественных обобщений. (Во втором издании эта часть дополнена
главой «Циклизация»).
3. Стилеобразование, структура и фольклорный стиль.
4. Системность, общерусское и локальное, типология.
Каждая новая тема связана со всеми предыдущими и расширяет
объем освещения материала. Обосновывая разделы последней темы,
автор пишет: <...>мы начинали изучать творческий процесс в фольк-
лоре с отдельной записи устного произведения, затем перешли к
анализу совокупности его вариантов и установили наличие версий.
Версии уже давали представление о многоликой жизни произведения.
После этого мы перешли к уяснению понятия жанра и отношения
фольклора к другим видам народного искусства, обрядам и пр., со-
ставили представление о методе, образности и стиле фольклора,
его традиционной поэтике в ее системных чертах и свойствах.
И теперь можно ставить вопрос, касающийся отношения общерус-
ских свойств фольклора к их местным (локальным и региональным)
9
Мы всегда остаемся молодыми
видоизменениям, а также вопрос о соотношении национального и
интернационального начал в фольклоре (с. 343.)
В. П. Аникин подробно пишет о вариативности. Он не приемлет
определения «инвариант», поскольку этот термин предполагает отвле-
чение от конкретности. Личные акты в фольклоре, ведущие к возник-
новению вариантов, объединяют не схемы, а единство в конкретно-
стях содержания и формы, (с. 39.)
Основной единицей изучения, как принято в традиционной фольк-
лористике, выбран жанр. Именно он - законодатель устного творче-
ского процесса, регулирующий динамику и статику произведений.
Соединяя содержательные и формальные признаки, жанр превращается
в типовую структурную модель, которая реализует какую-либо целевую
жизненную установку. Последнее является особенно важным. Напри-
мер, колыбельные и трудовые песни имеют общий формальный показа-
тель - утилизацию ритмического начала, но при этом у них разные
жизненные установки. Глава о жанре - одна из наиболее ярких в книге.
Творческий метод фольклора В. П. Аникин рассматривает как
особый мировоззренческий принцип типизации жизненных явлений.
Метод - это способ установить соотношение между реальной дейст-
вительностью и ее изображением в искусстве. Фольклорному методу
свойственны метафоричность, ассоциативность, мышление по анало-
гиям, философская наполненность, охват всей полноты жизни. Этот
метод, обладающий очень высоким уровнем типизации, автор предла-
гает называть сублимирующим и разъясняет: <...> Между прямым,
адекватным отражением реальных явлений и поэтическим обобще-
нием существует некоторое пространство, как бы пустота, и кон-
кретные жизненные факты переходят на ступень широкого обоб-
щения минуя стадию отражения реальности в формах правдо-
подобия. Это и есть то, что мы называем сублимирующей работой
художественного сознания, (с. 12; подробнее на с. 160-182.)
Характеризуя фольклорный творческий процесс, В. П. Аникин
подчеркивает, что в нем воспроизведение преобладает над созданием
новизны. Рассматриваются вопросы авторства, синкретизма и синте-
за, импровизации и канона, контаминации.
Исследователь иллюстрирует свои рассуждения хорошо подобран-
ным и тщательно проанализированным фактическим материалом. Он
обращается едва ли не ко всем фольклорным жанрам. Анализируются
заговоры, песни (трудовые, обрядовые и внеобрядовые), причитания,
сказки, былины, духовные стихи, пословицы, загадки, частушки, про-
изведения детского фольклора и проч. Положения, которые отстаива-
10
Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан
ет В. П. Аникин, всегда доказываются. Это важно еще и потому, что в
книге ведется корректная полемика: о праве фольклористики на само-
определение, о методе фольклористических исследований, об оши-
бочности преувеличения индивидуального и регионального факторов
в фольклорном творчестве. В целом полемика необходима и неизбеж-
на, поскольку многое в фольклористике еще пребывает в стадии пер-
воначального осмысления. Наука о фольклоре даже не разработала в
полной мере свой понятийный аппарат.
В книге глубоко освещены вопросы образности и стиля фольклора
как словесного искусства. Художественный образ синтезирует три
основных структурных компонента: ощущение, представление и по-
нятие. Синтез осуществляется по-разному: возможно преобладание
одного из компонентов или их равноправие. Преобладание ощущения
порождает эмоционально-экспрессивный художественный стиль, пред-
ставления - картинно-изобразительный, понятия - иносказательный.
Равноправие трех составляющих художественного образа создает гар-
монический (полиэкспрессивный) стиль творчества. Все это имеет
место в фольклоре. К примеру, гармонический стиль присущ былине и
волшебной сказке. С точки зрения стилеобразования проанализированы
время и пространство, охарактеризованы композиция и сюжет.
Обширная область фольклорного стиля не могла быть представлена
полностью. В. П. Аникин избрал проблемы, связанные с характеристи-
кой образно-речевой стереотипии, и рассмотрел ее функциональную
природу. Фольклор богат проявлением образного универсализма, обла-
дает стилистическими канонами. Они необъяснимы вне исторического
подхода к фольклорной поэтике, а последний неизменно приводит к
исследованию фольклора как единой художественной системы.
В. П. Аникин показал разные виды перемещения тропов с уровня рече-
вого стиля на более высокий уровень образной структуры. К примеру,
сюжет былины о Соловье Будимировиче вобрал в себя обычную сва-
дебную иносказательность, но при этом резко изменил масштаб ее при-
менения: перевел в новый, более высокий регистр образы приплывших
кораблей, зеленого сада, чудесного терема и проч. Подобные факты
убеждают в том, что фольклор обладает системностью.
Здесь подчеркнем важное достоинство книги: поэтика фольклора
рассматривается как развивающаяся во времени. Исследователь вы-
нужден обращаться к тем историческим состояниям фольклора, кото-
рые в нем спрессовались. В. П. Аникин полагает, что мы еще не до
конца поняли направление самого исследовательского поиска в об-
ласти исторического изучения фольклора. Фольклористы и ныне по
большей части только стоят у порога такого изучения - в дом мы
11
Мы всегда остаемся молодыми
еще не вошли (с. 94.) С позиций исторической поэтики рассматрива-
ются художественный метод, жанрообразование, синкретизм, компо-
зиция фольклорного произведения; говорится о разных исторических
состояниях волшебной сказки, частушки и других жанров.
Наконец, в книге освещены такие проблемы, как общерусское и
локальное в фольклоре, его межэтнические связи, типология. Типоло-
гия блестяще раскрыта на примере пословиц: привлечены их русские
варианты и эквиваленты других народов мира, показана восточносла-
вянская общность.
Ученый сформулировал ряд проблем, которые еще не освещены
достаточно полно. В их числе: вопросы теории фольклора в науке
XIX-XX вв., системный анализ, историческое исследование фольк-
лорной поэтики, проблема импровизации, художественный метод
фольклора, вопросы классификации.
В. П. Аникину свойственно диалектичное понимание процесса на-
учного познания. Он подчеркивает, что собирание фактов, их класси-
фикация и теоретическое осмысление всегда сосуществуют. При нор-
мальном развитии эти три начала согласованы между собой, однако в
тот или иной период наука может развиваться однобоко. Никакие
теории, утверждает В. П. Аникин, не должны становиться догмами -
это может привести к подгонке материала под теорию. Теория имеет
силу лишь тогда, когда применима к предметному анализу.
Недавняя книга В. П. Аникина - учебник для государственных уни-
верситетов3 - предназначена студентам филологических факультетов
университетов, однако по объему и охвату материала может быть по-
лезна магистрантам, аспирантам, начинающим научным работникам.
Порядок и очередность освещения в ней материала диктуется ха-
рактером отношения поэтического творчества народа к его практиче-
ской жизни и обрядам. Первая часть учебника («Бытовой обрядовый
фольклор») посвящена произведениям, отмеченным печатью обрядо-
вого синкретизма. В этой части рассмотрены трудовые песни, загово-
ры, календарный и свадебный фольклор, причитания. Вторая часть
(«Общемировоззренческий необрядовый фольклор») освещает паре-
мии всех видов, несказочную прозу, песенный эпос (былины, истори-
ческие песни, воинские песни, духовные стихи). По мысли автора,
этот материал соответствует новому историческому состоянию син-
кретизма, которое характеризуется непрямой связью с обрядовой
практикой. Наконец, В. П. Аникин выделяет последнее историческое
состояние фольклора, соответствующее его современной художест-
3 Аникин В. П. Русское устное народное творчество. М., 2001.726 с.
12
Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан
венной природе (третья часть: «Художественный фольклор»). Он
считает, что синкретизм двух предыдущих состояний оказался исто-
рически вытесненным синтезом разных форм поэтического осмысле-
ния реальности. Здесь рассматриваются сказки всех типов, загадки,
песни старинной формации (балладные и лирические), детский
фольклор, зрелища и театр, ярмарочный фольклор, песни новой фор-
мации (романсы и частушки), анекдоты. Расположение в учебнике
материала по главам соединено с исторической периодизацией жан-
ров, их разновидностей. Материал излагается систематично, что при-
дает учебнику стройность и позволяет охватить предмет в целом.
Вводные главы учебника содержат обоснование предлагаемой
трактовки курса. Всюду В. П. Аникин исходит из положения о тради-
ционной природе фольклора в связи с его непрофессиональной твор-
ческой основой. Анализ устных поэтических традиций сделан учебно-
методическим принципом всей книги, что позволяет объективно оце-
нить фольклор как творчество многих поколений русского народа. За
каждым жанром, будь это песня, сказка или пословица, автором про-
сматривается движение устного поэтического творчества из глубины
времен к поздним эпохам, когда стало возможным усвоение фолькло-
ром литературных произведений и литературной поэтики (для некото-
рых видов старинного творчества установлены и более древние связи
фольклора и литературы).
Авторитетное мнение В. П. Аникина востребовано в широких на-
учных кругах. Им ведется большая работа в специализированных
советах по защите диссертаций МГУ им. М. В. Ломоносова и ИМЛИ
им. А. М. Горького РАН, в составе редакционных советов ряда науч-
ных периодических изданий: «Вестник Моск, ун-та. Сер. 9. Филоло-
гия», «Филологические науки», «Древняя Русь: Вопросы медиевисти-
ки». Возглавляемая В. П. Аникиным кафедра русского фольклора
МГУ им. М. В. Ломоносова на протяжении многих лет проводит кон-
ференции «Фольклористика года», осуществляет коллективную рабо-
ту над изданием своего уникального архива (проект «Русский фольк-
лор в новейших записях», открывшийся томом «Русские заговоры и
заклинания» - 1998). Под руководством В. П. Аникина подготовлен
целый отряд специалистов высшей квалификации: 30 кандидатов и 10
докторов наук. Многие из тех, кто работает сейчас в ведущих научных
центрах и вузах России, считают своим учителем В. П. Аникина. Вы-
пускники МГУ сохранили лучшие воспоминания о его лекциях, в
которых впечатляет не только блестящее знание предмета и логичная
композиция, но и мастерское красноречие, составляющее единое це-
лое с тщательно подобранными примерами народного «живого слова».
13
Мы всегда остаемся молодыми
В. П. Аникин уже несколько десятилетий читает студентам филологиче-
ского факультета курсы лекций по русскому устному народному творчест-
ву и по теории фольклора. Выпускникам кафедры фольклора МГУ
посчастливилось слушать у него специальные курсы по историографии
фольклористики, поэтике фольклора, календарному и свадебному фольк-
лору, народной и литературной сказке и др. Новые лекционные курсы
создаются Владимиром Прокопьевичем и по сей день: в 2001 г. им подго-
товлен курс «Сравнительная фольклористика», начат цикл лекций «Исто-
рия отечественной фольклористики».
В течение последних десятилетий многомиллионной армии чита-
телей нашей страны, целым ее поколениям, прививали вкус к фольк-
лору подготовленные В. П. Аникиным научно-популярные издания
(более 100). Он активно сотрудничал с издательством «Детская лите-
ратура», отбирая для детей былины, сказки, произведения малых жан-
ров, песни - в том числе для таких известных серий, как «Школьная
библиотека», «Библиотека мировой литературы для детей», «Сказки
народов мира». В издательстве «Художественная литература» много-
тысячными тиражами выходили умело составленные В. П. Аникиным
и сопровожденные его вступительными статьями как фольклорные
антологии, так и сборники произведений русских классиков - Н. А. Не-
красова, А. В. Кольцова, С. Г. Писахова. Специалисты и читатели
высоко оценили созданную по замыслу В. П. Аникина новую серию
«Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре», пред-
ставляющую устную поэзию русского человека в его традиционном
жизненном круге.
Первая публикация В. П. Аникина - статья о научной студенческой
экспедиции - появилась 20 июля 1951 г. в газете Новодевиченского
района Куйбышевской области, называвшейся «Колхозный путь». А в
1960 г. его заметил и высоко оценил проницательный К. И. Чуковс-
кий, который писал: «Я не знаком с В. П. Аникиным, но привык из-
давна восхищаться его работами по русскому фольклору. Изо всех
книг, посвященных в последние годы поговоркам, загадкам и детско-
му фольклору, несомненно выше всех и по методу, и по материалу
книга Аникина “Русские народные пословицы” и т. д., изданная Уч-
педгизом в 1957 году. Его статьи о детском фольклоре - свежи, само-
бытны, богаты мыслями. Его книга “Русская народная сказка”, хотя и
является всего лишь “пособием для учителей”, как значится на за-
главном листе, гораздо шире своего заглавия. Это плод огромного
многолетнего труда, чрезвычайно серьезный, вдумчивый, основанный
на большой эрудиции. Его газетно-журнальные статьи - о Бажове,
А. Н. Толстом, Виталии Бианки - удачно сочетают строгий научный ме-
14
Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан
тод с блестящей литературной талантливостью изложения. Выше всего я
ценю теоретическую часть его работы, ибо в настоящее время он является
одним из способнейших теоретиков народного творчества»4.
Труды В. П. Аникина характеризуют не только выраженная теоре-
тическая направленность, связь с классической филологией, блестя-
щее владение языком отечественной науки, но и свойственный этому
исследователю молодой задор. Обычно он не может обойтись без
полемики, в которой убежденно и последовательно отстаивает свои
принципы. А в жизни мы знаем Владимира Прокопьевича скромным,
обаятельным, интеллигентным человеком - в чем, вероятно, сказалась
традиция семейного воспитания: его отец Прокопий Антонович Ани-
кин был главным инженером Управления полярной авиации и даже
лауреатом Сталинской премии.
Не так давно на юбилее друга Владимир Прокопьевич вспомнил их
студенческие годы - послевоенные, тяжелые и голодные, однако неза-
бываемые. Им было тогда по 20 с небольшим лет, и их курсы (1 и 2
курсы филфака МГУ) все сплошь состояли из фронтовиков. Владимир
Прокопьевич говорил: «Это было особое, замечательное поколение
людей, оно и в литературе отмечено. Это были остатки той молодежи,
которая полегла на фронтах Великой Отечественной войны. Из ста
человек этого поколения, моего поколения, уцелело только двое. И мы
ценили жизнь». И еще он говорил о своей профессии преподавателя
вуза: «Университет - это тяжелейшая работа, но и радостная, потому
что мы всегда остаемся молодыми, общаемся с замечательной молоде-
жью нашей. Она была и остается молодой и прекрасной. И часть радо-
сти жизненной, которая из нее пышет просто, перешла и к нам».
6 августа 2004 г. Владимиру Прокопьевичу исполнилось 80 лет.
Пожелаем ему оставаться таким же неутомимым исследователем,
вдохновенным преподавателем, влюбленным в жизнь человеком!
Т В. Зуева, Б. П. Кирдан
4 Цит. по: Владимир Прокопьевич Аникин: Библиография печатных трудов. М., 1994. С. 5.
15
Пародирование как тип трансформации
сказочной традиции
А. А. Иванова (Москва)
Одна из актуальнейших проблем современной фольклористики -
реконструкция исторической типологии жанровой системы. При всех
различиях в представлениях о конкретных этапах, формах складыва-
ния и эволюции последней1 большинство исследователей сходится во
мнении о генеральной линии этого процесса: первоначальный син-
кретизм (дожанровый период) -> постепенное самоопределение жан-
ров и выстраивание их взаимоотношений как системных -> эволюция
жанровой системы путем внутрижанровых изменений -> перерыв в
постепенности развития отдельных жанров и их качественные транс-
формации в новые жанровые формы -> переорганизация жанровой
системы с учетом новых жанровых «реалий». При этом новые жанро-
вые формы, придя на смену старым, либо вытесняют последние, либо
сосуществуют с ними, обрекая их на постепенное вымирание (именно
так выстраивались взаимоотношения былины и исторической песни).
Сказанное означает, что в «жизни» каждого жанра можно выде-
лить несколько временных циклов:
- «рождение - детство - юность» (самоопределение путем скла-
дывания жанро-стилевого канона - определенного типа образно-
структурной и композиционно-поэтической организации);
- «зрелость» (активное формирование репертуара в рамках сло-
жившегося жанро-стилевого канона);
- «старение - смерть» (пассивное воспроизведение в устной тради-
ции ранее созданных сюжетов и постепенное сужение их репертуара).
Обрести «второе дыхание» утрачивающий свои позиции жанр мог
только в том случае, если его поэтическая система и художественный
мир позволяли вносить корректировки, соответствующие новому
времени и изменившимся этико-эстетическим нормам и установкам.
Одним из наиболее частотно используемых в фольклорной традиции
способов жанровой и сюжетной трансформации было пародирова-
ние2, приводившее к созданию жанровых и сюжетных «смеховых
двойников». Таким образом, пародирование продлевало жизнь тради-
ции, но уже в новом качестве - в рамках смеховой культуры. Со вре-
менем в жанровой системе фольклора сформировались две взаимо-
скоррелированные подсистемы - «серьезная» и «смеховая» (пароди-
руемая и пародирующая): былина / скоморошина; волшебная,
16
А. А. Иванова
животная, бытовая сказки / докучная сказка, анекдот; величальная /
корильная песни; быличка/ антибыличка; страшилка / антистрашилка
и др. Пародийного двойника могли получить даже такие a priori вне-
положенные к смеховой культуре тексты, как заклинания, см. пародии
на заговоры от зубной боли и от кровотечения: «Антипа святой, ис-
целитель зубной! Исцели мои зубы, оставь одни губы», «Девка шла -
устилась, женка шла - усралась, у рабы Божьей Марины кровь уня-
лась» [ЛАИ. Архангельская обл., Пинежский р-н, д. Большое Кротово.
М. А. Козьмина,1936 г.р.].
В определении сущности пародирования крайне важно разводить
понятия принципы и приемы пародирования. К первым могут быть
отнесены принцип проекции и принцип переворачивания:
- чтобы новый текст получил статус пародии, он должен быть
спроецирован на первоисточник; более того, в пародию обязательно
включаются наиболее приметные, стереотипные (знаковые) элементы
прототекста: это означает, что пародийный текст фрагментарно «ци-
тирует» текст пародируемый;
- приципом переворачивания определяется характер означенного
выше «цитирования» («Для того, чтобы понять пародию, нужно хо-
рошо знать или текст пародируемого произведения или “формуляр”
жанра. <...> Пародируемый текст искажается. Это как бы “фальши-
вое” воспроизведение пародируемого памятника <...>, воспроизведе-
ние с ошибками»3).
Неизбежным следствием двух означенных принципов следует при-
знать возникновение «эхотекстов» (или «антитекстов»), в которых художе-
ственный мир сконструирован как мир абсурдных, перевернутых отно-
шений: предметы и явления реального мира наделены в нем несвойст-
венными, прямо противоположными смыслами и функциями: «Еще
билися невестки да со золовками/Да боевыма палками они - мутовками,
/Еще ярыма луками - да коромыслами, /Да калеными стрелами - да все
веретенами»*. В результате пародия «открывает в одном другое - не со-
ответствующее, в высоком - низкое, в духовном - материальное, в торже-
ственном - будничное <.. .>. Смех делит мир надвое, создает бесконечное
количество двойников, создает смеховую “тень” действительности»5.
К основным художественным приемам, с помощью которых достигается
подобный эффект «расподобления» содержания и формы, могут быть
отнесены оксюморон, метатеза, антитеза.
Перечисленные принципы и приемы пародирования не зависят от
жанровых и сюжетных контекстов и одинаково проявляют себя на
всех уровнях организации художественного текста - сюжетно-
композиционном, образном и стилевом. Рассмотрим это на примере
волшебных сказок.
17
Пародирование как тип трансформации...
Художественный мир архаических волшебных сказок, до сих пор
составляющих ядро «классического» сюжетного репертуара6, форми-
ровался на основе мифологической картины мира7. Он отличается, во-
первых, фантастичностью, т. е. внеположенностью историческому
хронотопу, неопределенностью временной и пространственной рет-
роспекции [«В некотором царстве, в некотором государстве» Афа-
насьев 121, 129; «Не далеко, не близко, не высоко, не низко» Афанась-
ев 296; «В стары годы, в старопрежни» Афанасьев 267], и во-
вторых, «замкнутостью»8, т. е. ограниченностью рамками сказочного
повествования: начинается сказка - возникает сказочный мир, закан-
чивается повествование - он исчезает: «Начинается сказка от Сивки
от Бурки, от вещей каурки <...> Сказке конец, а кто слушал, моло-
дец». В этом мире действуют персонажи, от рождения наделенные
волшебными свойствами (не случайно их поступки могут быть соот-
несены с деяниями культурных героев древних мифов). Так, героев
архаических змееборческих сюжетов «Бой на калиновом мосту» и
«Три подземных царства» из среды других сказочных персонажей
выделяет чудесное рождение от волшебных предметов или от союза
женщины с животным, чудесный рост и богатырские забавы: «Стали
ребятки расти не по дням, а по часам, как хорошее тесто на опаре
поднимается, так и они вверх тянутся <...> Царь приказал своим
кузнецам сковать железную палку в пятьдесят пудов; те принялись
за работу и в неделю сковали. Никто палки за один край приподнять
не может, а Иван-царевич, да Кухаркин сын, да Иван Быкович между
пачьцами ее повертывают, словно перо гусиное» [Афанасьев 1957,
137]. Подстать героям и богатырские кони, на которых они отправля-
ются искать похищенное змеями солнце (матушку, др.), а также харак-
тер поединка с противником: «Подошел к камню да как двинет его
ногою - камень ажно загудел <...>. Под тем камнем подвал открыл-
ся, в подвале стоят три коня богатырские, по стенам висит сбруя
ратная: есть на чем добрым молодцам разгуляться! <...> Вот со-
шлись они - поравнялись, так жестоко ударились, что кругом земля
простонала» [Афанасьев 1957, 137].
В ходе эволюции волшебная сказка постепенно ушла от мифоло-
гической проблематики к социально-бытовой9. При этом расширение
сказочного репертуара шло не только путем создания новых ориги-
нальных сюжетов, но и посредством внутренней «переорганизации»
ранее созданных, в том числе за счет их внутрисюжетного пародиро-
вания. В результате образовались сюжетные пары, «высказывающиеся
на одну тему» в героической и смеховой формах («Бой на калиновом
мосту», «Три царства» / «Незнайко» СУС 532, «Медный лоб» СУС
502). Означенный процесс привел к значительным трансформациям в
структуре сюжета, в характере главного героя, в стилистической об-
18
А. А. Иванова
рядности, что дает основание рассматривать сказки типа «Незнайко»
и «Медный лоб» как сказки «переходного» типа, совмещающие онто-
логические свойства волшебных и социально-бытовых.
Сказанное может быть распространено и на другие сюжеты, в ко-
торых герой одновременно предстает в двух статусах - высоком и
низком, героическом и комическом (как правило, их нарочитое несо-
ответствие и придает повествованию авантюрный характер). Герой по
собственной инициативе «раздваивается» путем переодевания или
превращения, чем и мистифицирует окружающих его персонажей.
В глазах последних он предстает как дурак и неудачник: «Иван со-
брался и говорит невестке: “Дайте мне, - говорит, - корзину, я пой-
ду за грибами, принесу, хоть грибков наварю ”. Невестки ему корзину
дачи <...>. Взял корзину, набрал каких-нибудь грибов, <...> пришел
дамой. И говорит: “Нате, невестки грибы!” А невестки посмотрели -
грибы никуда не годны. Давай на него ругаться: “Ты, - говорят, - не
грибов, а червей награбил одних только!”» [Никифоров 1961, 111].
На самом деле Иван-дурак волшебных сказок оказывается самым
умным и удачливым из своих братьев: дурачество, глупость - лишь
маска, которую он добровольно надевает на себя, чтобы до поры
скрыть от окружающих свою истинную героическую сущность.
Именно поэтому его поступки, которые в рамках конкретного сюжета
осознаются как «знаковые», обычно предстают в двух прямо противо-
положных ипостасях - комической и героической, ср., например,
поездки Ивана-дурака в сказке «С и в ко-Бур ко»: «Дач ему царь шелуди-
вую лошаденку; он сеч на нее верхом, к лошадиной голове задом, к
лошадиному заду передом, взял хвост в зубы, погоняет ладонями по
бедрам: “Но, но, собачье мясо!" Выехач в чистое поле <...>. Бежит
сивка-бурка, вещая каурка, изо рту полямя пышет, из ушей дым
столбом валит; стал конь перед ним, как лист перед травой. Дурак в
левое ушко влез - напился-наелся, в правое вылез - в цветно платье
нарядился: сделался такой молодец, что ни вздумать, ни взгадать,
ни пером написать. Сел верхом, рукой махнул, ногой толкнул и понес-
ся; его конь бежит, земля дрожит; горы, долы хвостом застилает,
пни, колоды промеж ног пускает» [Афанасьев 1957, 182]. Комическая
поездка нарочито описывается как антитеза, перевертыш героиче-
ской: это подчеркивается в именовании лошадей (лошаденка / конь), в
их внешности (шелудивый / сивый, каурый, бурый), беге (еле бредет/
летит), и, в особенности, в буквальном переворачивании героя задом-
наперед. Подобное внутрисюжетное пародирование позволяло нара-
щивать «пространство» текста, усложняло сюжет и придавало ему
авантюрный характер.
Сходные процессы происходили и со стилистической обрядностью
волшебных сказок, поскольку речевые стереотипы (в особенности,
19
Пародирование как тип трансформации...
инициальные и финальные пространственно-временные формулы)
относятся к наиболее приметным (знаковым) особенностям поэтики
волшебных сказок (Д. С. Лихачев называл их «формуляром жанра»).
Главное назначение обрамляющих формул в повествовании состоит в
подчеркивании невероятности сказочных событий, их принципиаль-
ной несовместимости с реальным миром, в котором живут сказочник
и его слушатели. Именно поэтому при создании комической версии
пространственно-временной формулы используется оксюморон - в
неопределенные хронотопные формулы вводятся приметы реального
мира, в результате чего создаются нелепые, запутанные, фальшивые
«адреса»10: «В некотором царстве, в некотором государстве, именно
в том, в котором мы живем, в городе Москве на голой доске, в городе
Париже, к Красноярску поближе, жили-были два брата» [Красноже-
нова 1937, 39]; «В некотором царстве, в некотором государстве, а
именно в том, в котором мы живем, в городе Барыже, к Степанихе
поближе, под номером седьмым, где мы на лавке сидим, жил-был
Иван - охотник» [Василенко 2].
Апелляция сказочника к реальной географии, по сути, дела пре-
вращает пространственный континуум инициальных присказок в
антимир, контрастный миру волшебной сказки. Осознавая это несоот-
ветствие, при переходе к изложению собственно сказочных событий
рассказчики используют формулы типа «Это не сказка, а присказка,
сказка будет впереди». По этой же причине органичным продолжени-
ем финальной формулы «Устроили пир на весь мир. И я там был,
мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало» можно считать воз-
вращение сказочника со свадебного пира, на котором он получил
«мнимые» подарки. Рассказ этот представляет собой небылицу, кото-
рая на правах самостоятельного фрагмента может включаться и в
другие фольклорные жанры11: «<...> и задал пир на весь мир. Я на-
рочно за тысячу верст туда пришла; пиво-мед пила, по усам текло, а
в рот не попало! Там дали мне ледяную лошадку, репеное седельце,
гороховую уздечку, на плечики - синь кафтан, на голову - шит кол-
пак. Поехала я оттуда во всем наряде, остановилась отдохнуть;
седельце, уздечку поснимала, лошадку к деревцу привязала, сама легла
на травке. Откуда ни возьмись - набежали свиньи, съели репеное
седельце; налетели куры, склевали гороховую уздечку; взошло сол-
нышко, растопило ледяную лошадку. Пошлая с горем пешочком: иду-
по дороге прыгает сорока и кричит: “Синь кафтан! Синь кафтан!”,
а мне послышачось: "Скинь кафтан!” Я скинула да бросила. К чему
же, подумала я, остачся на .мне шит колпак? Схватила его да оземь,
и, как видите теперь, осталась ни с чем» [Афанасьев 1957, 147]. Дары
сказочнику - ледяная лошадка, репеное седельце, гороховая уздечка и
т. п. - принадлежат иллюзорному миру: они сделаны из небывалых, на-
20
Л. А. Иванова
рочито недолговечных материалов. Их исчезновение ставит логиче-
скую точку в окончании сказки.
Особый вопрос в рамках обсуждаемой проблемы - контрастное
смешение стилевых регистров при изложении волшебной сказки од-
ним исполнителем. Среди всех разновидностей сказок волшебную
отличает специфический стиль, наиболее приметными особенностями
которого являются устойчивые речевые стереотипы (формульные и
неформульные словесные клише, посредством коих передаются зна-
ковые приметы волшебного художественного мира). В совокупности
они составляют то, что исследователями определяется как «стилисти-
ческая обрядность» сказки, «сказочный стиль»12. Возникнув на основе
разговорной речи13, сказочные формулы обыкновенно строятся с ис-
пользованием ритмико-рифмических конструкций14, благодаря чему
они заметно выделяются на фоне основного текста волшебной сказки,
ср.: «<...> Вдруг прилетают двенадцать голубиц, ударились о сыру
землю и обернулись красными девицами, все до единой красоты не-
сказанный: ни вздумать, ни взгадать, ни пером написать! Поскидали
платья и пустились в озеро: играют, плещутся, смеются, песни по-
ют» [Афанасьев 222]; «В некотором царстве, в некотором государст-
ве, именно в том, в котором мы живем, жил один купиец, богатый-
пребогатый; у него не было ни сыновей, ни дочерей. Они ходили с же-
ной в церковь, молили бога, чтобы кто-нибудь да у них родился, жалко
было так оставлять свое богатство» [Красноженова 1937, 3].
При формальной выделенности в тексте сказочные формулы в се-
мантичеком отношении не воспринимаются как контрастные инвер-
сии. Иное дело, когда смена стиля сопровождается сменой содержа-
ния и пафоса повествования, чему мы находим немало примеров в
сказках Абрама Новопольцева. Небылицы, «вмонтированные» им в
повествование волшебных сказок создают эффект разрыва в цепи
событий. Эта иллюзия усиливается А. Новопольцевым путем исполь-
зования при них инициальных присказок (своеобразных сигналов
начала сказки): «“А вот что, - говорит Иван-царевич, - за триде-
вять земель, в тридесятом царстве есть Марья-краса, черная коса,
мне хочется ее достать и за себя взамуж взять”. Карка-богатырь и
говорит: “Мудрено ее взять, а надо один раз умирать, тело и кости
по дикой степи раскидать” - “Ох, брат любезный, Карка-богатырь,
убытку не принять, так в торговом деле и барыша не видать, а если
нам, богатырям по вольному свету не полыгать да хорошей суженой
не поискать - это нам не честь, не хвала, чтобы мы по вольному
свету не лыгали, чтобы нужды себе не видали”. - “Ну, - говорит
Карка, - эту сказку, Иван-царевич, бросим, а еще нову начнем”. Тут
началась сказка, началась побаска от сивки и от бурки, и от курицы
иноходки, от зимняка поросенка наступчатого...» [Садовников 1884, 4].
21
Пародирование как тип трансформации...
Подобные контрастные соположения, в основе которых лежит все тот
же принцип пародирования, используется А. Новопольцевым в длин-
ных сказках. На комических отрезках повествования сказочник и его
слушатели, образно говоря, «переводят дыхание», «отдыхают». Кроме
того, они еще более оттеняют чудесный мир волшебный сказки и
героический характер ее событий и персонажей.
Итак, пародирование в рамках жанра волшебной сказки проявля-
ется либо на всем пространстве текста, либо на отдельных участках
повествования. И в том, и в другом случае оно приводит к созданию
новой художественный концепции, на основании которой формиру-
ются оригинальные сюжеты, совмещающие героический и комиче-
ский пафосы («Незнайко», «Медный лоб», «Сивко-Бурко», «По щучь-
ему велению» и др.).
Рассмотрение пародирования на межжанровом уровне позволяет
соотносить волшебную сказку с анекдотом и докучной сказкой. Буду-
чи ограниченной рамками жанра статьи, остановлюсь на последней.
Попытка проанализировать докучную сказку как пародию на вол-
шебную, животную и бытовую сказки была предпринята уже в одном
из первых специальных исследований по этому жанру - в статье
А. И. Никифорова «Росшська докучна казка»15. Выполняя функцию
сказки-обманки, докучная композиционно строится таким образом,
что первая ее часть воспроизводит фрагмент классического сказочно-
го текста, формируя таким образом в сознании и воображении слуша-
теля вполне конкретное «поле ожидания» цепи последующих собы-
тий, вторая же часть, построенная по принципу содержательной и
стилевой инверсии, разрушает его, «выворачивает наизнанку». Это то,
что может быть поименовано как эффект обманутого ожидания,
вызывающий у слушателя смех, а порой досаду и даже обиду16. Си-
туация исполнения докучной сказки, свидетельницей которой стала
Н. П. Колпакова, - подтверждение сказанному:
«“Бабушка, расскажи сказку!” Бабушке некогда, она занята хозяй-
ством. “Нету у меня сказок. Приходил дед Овес, он все сказки унес”, -
ворчливо отзывается она. Но ребятишки не унимаются: “Бабушка,
расскажи”. - “Жили-были два гуся, вот и сказка вся”, - отвечает ба-
бушка. “Нет, ты другую расскажи!” -“Другую?
Дед Ермил
В речке рыбу ловил,
Уловил карася,
Вот и сказка вся”.
“Да нет, бабушка!.. Расскажи длинную-предлинную сказку”»17.
Докучная сказка может фрагментарно цитировать а) конкретный
сюжет волшебной сказки:
22
А. А. Иванова
Жил царь,
У него есть сад,
В саду была яблоня,
На яблоне яблоки.
Я полез за яблоками,
А там мочала, мочала -
И опять сначала.
[Амроян 2.23, ср. сюжет «Молодильные яблоки»]
Жил-был старик со старухой.
Захотела старуха рыбы.
Старик пошел, вершу загрузил,
Попала щучка да елечек
Да и сказке конечек.
[Амроян 1.23, ср. сюжет «Золотая рыбка]
б) ее универсальный «жанровый формуляр»:
В некотором царстве,
В некотором государстве
Жил-был царь бо-га-а-а-тый.
У него был двор,
На дворе стоит кол,
На колу-то висели мочала,
Не начать ли сначала.
[Амроян 2.20]
Для придания большего сходства с волшебной сказкой в докучную
могут вводиться ее типичные инициальные формулы-присказки:
В некотором царстве,
В некотором государстве,
Именно в том,
В котором мы живем,
На ровном месте,
Как на бороне.
И борона-то на клоче,
Лежит два кольца,
Одно заржавело,
Другое в грезе,
Которое из-любя тебе,
А другое мене.
Это не сказка, а присказка,
Сказка вся впереде.
23
Пародирование как тип трансформации...
Жили старик со своею старухой у самого моря.
В этом море щука да елецек
И сказке конецек.
[Амроян 1.42]
Присказки еще более оттеняют контраст начала и конца, «семан-
тический сбой» (расподобление) между первой и второй частями и
механический характер их соединения. С последним связано одно из
наиболее приметных жанровых свойств докучных сказок, которое мы
определяем как вариативную комбинаторику13: одна и та же финаль-
ная формула («...мочала... не начать сначала?», «стог сенца, сказка
опять с конца» и др.) свободно сочетается с разными инициальными
формулами и присказками:
Жил старик со старухой,
Было у них корыто,
А в корыте мочала,
Не начать ли сказочку сначала?
[Амроян 2.32]
Жил крестьянин,
А у крестьянина огород,
В огороде кол,
На колу мочала,
Не начать ли сначала?
[Амроян 2.27]
Жил был царь.
У царя была дочь.
Она любила ходить в сад.
В саду на скамье лежала мочала.
Не сказать ли вам сказочку сначала?
[Амроян 2.24]
При этом топосы, персонажные и предметные ряды первой и вто-
рой частей докучных сказок, как и их стилевые регистры, сформиро-
ваны по принципу высокий / низкий (мир / антимир):
1) некоторое царство, некоторое государство, море, сад; царь (Ва-
тута, Картавус, Артаус, Додон, Ипат), царица, купец, дед, баба, дочь,
три сына; яблоня и др.;
2) польцо, огород, озерцо, шалаш, овин, дом, подполье, лавка, ка-
дочка; бычок, журавль, кулик, синичка, гусь, овца, баран, порося (си-
вое порося), елечек, рак, муха, комар; мочала, мыло, лапти, сермяжка,
тряпка, шапка, сенцо, корыто.
24
А. А. Иванова
Из сказанного следует, что в докучных сказках используются те же
принципы и приемы пародирования, что были выявлены нами на при-
мере волшебных сказок. Это дает основание рассматривать их как уни-
версальные для фольклорной традиции в целом механизмы порождения
«смеховых» сюжетных и жанровых дублеров, а само пародирование как
особый тип фольклорной трансформации, проявляющийся на опреде-
ленном этапе развития сюжета, жанра, жанровой системы.
Литература
♦ АКФ - Архив кафедры русского устного народного творчества филологическо-
го факультета МГУ.
♦ Амроян - Русские докучные сказки / Под ред. И. Ф. Амроян. М., 1996.
♦ Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. Т. 1-3. М., 1957.
♦ Василенко - Сказки, пословицы, загадки. Сборник устного народного творчест-
ва Омской области / Под ред. В. А. Василенко. Омск, 1955.
♦ Красноженова - Сказки Красноярского края. Сб. М. В. Красноженовой / Под
ред. М. К. Азадовского и Н. П. Андреева. Л., 1937.
♦ ЛАИ - Личный архив А. А. Ивановой.
♦ Никифоров - Севернорусские сказки в записях А. И. Никифорова. Под ред.
В. Я. I Iponna. М.; Л.. 1961.
♦ Садовников - Сказки и предания Самарского края. Собраны и записаны
Д. Н. Садовниковым И Записки РГО по отд. этнографии. Т. 12. 1884.
♦ СОВК - Семейные обряды Вятского края / Под ред. А. А. Ивановой. М., 2003.
Примечания
1 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940; Путилов Б. Н. О процессе жанро-
образования // Актуальные проблемы современной фольклористики. Л., 1980. С. 197-
199; Аникин В. П. Жанрообразование // Он же. Теория фольклора. М., 1996. С. 92-114;
Левинтон Г. А. Замечания о жанровом пространстве русского фольклора // Судьбы
традиционной культуры. СПб., 1998. С. 56-71.
2 Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. М., 1976; ЛихачевД. С. Смех как мировоз-
зрение И Он же. Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение.
СПб., 1997; Путилов Б. И. Пародирование как тип эпической трансформации И Он
же. Фольклор и народная культура. СПб., 1993. С. 215-225; Пушкарева О. В. Пароди-
рование как способ организации современного анекдота. Дипл. раб. М., 1995.
5 Лихачев Д. С. Указ. соч. С. 347.
4 Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым / Изд. подгот.
А. П. Евгеньева и Б. Н. Путилов. М., 1977. С. 141.
5 Лихачев Д. С. Указ. соч. С. 370.
6 См. сюжеты о чудеснорожденных богатырях («Бой на калиновом мосту» СУС 300А.
«Три подземных царства» СУС 301 А,В) и героях / героинях, вступивших в брачные
отношения с партнерами, олицетворяющими природные стихии и явления («Чудесное
бегство» СУС 313А,В,С, «Царевна-лягушка» СУС 402).
7 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946; Тудоровская Е. А.
О классификации волшебных сказок // Советская этнография. 1965. № 2. С. 5-66;
Бахтина В. А. Пространственные представления в волшебных сказках // Фольклор
народов РСФСР. Вып. I. Уфа., 1974. С. 81-91.
8 Термин Д. С. Лихачева - см.: ЛихачевД. С. Указ. соч. С. 20-23.
25
77ародирование как тип трансф ормации...
9 Тудоровская Е. А. Указ, соч.; Пропп В. Я. Русская сказка. Л., 1984; Новиков Н. В. Обра-
зы восточнославянской волшебной сказки. М.-Л., 1974; Добровольская В. Е. Герой
волшебной сказки. К проблеме генезиса и эволюции образа // Художественный мир
традиционной культуры. М., 2001. С. 37-67.
10 Аналогичное явление Д. С. Лихачев отмечал и в средневековой смеховой литературе.
" Ср. с корильной свадебной песней, адресованной свахе:
Да лошадка-то ледяная, (2)
Да седелышко репное (2)
Да ногайка гороховая. (2)
Она села, поехала, (2)
На березу наехала, (2)
Сарафанчик-от изодрала. (2)
Сарафанчик и тот не свой. (2)
Она ехала, ехала, (2)
Да в болото заехала, (2)
Тут и солнышко выглянуло - (2)
Да лошадка растаяла, (2)
Да седелышко свиньи сбили, (2)
И ногайка расклесталася, (2)
Тут и свашка осталася. (СОВК. С. 186-187).
12 Адлейба Д. Я. Устные стилевые основы сказки (Опыт экспериментального исследо-
вания на абхазском материале). Сухуми, 1991; Разумова И. А. Стилистическая обряд-
ность русской волшебной сказки. Петрозаводск, 1991.
13 Подробнее об этом см.: Разумова И. А. Указ соч.
14 Многие исследователи считали это аргументом в пользу их возникновения в скомо-
рошьей среде: Бродский Н. Л. Следы профессиональных сказочников в русских сказках //
Этнографическое обозрение. 1904. № 2. С. 1-18; Волков Р. М. Русская сказка. К вопросу о
роли сказочника в создании сказочной обрядности // Научн. зап. Одесского пед. институ-
та. Одесса, 1941. Т. 6.; Власова 3. И. Скоморохи и фольклор. СПб., 2001.
15 Етнограф1чний вкник. Кив, 1932. Кн. 10.
16 Замечу, что подобным же образом строится большинство анекдотов.
17 Цит. по: Русские докучные сказки / Сост., вст. ст., комм. И. Ф. Амроян. Тольятти,
1996. С.5-6.
18 Напомню, что сказка как особый тип нарративного повествования отличается более-
менее жестко фиксированной последовательностью событий (см. об этом «Морфоло-
гию сказки» В. Я. Проппа).
Рукоделие в заговорах на кровь: особенности
варьирования сюжетной темы
Л. В. Фадеева (Москва)
Многие традиционные женские занятия - например, выпекание
хлеба и рукоделие (прядение нити, ткачество, шитье, вышивание) -
имеют в народной культуре дополнительное символическое значение.
Они соотносятся с женским началом, с природной способностью к
рождению новой жизни, воплощая идею творения (ср. «хлеб тво-
рить» в значении ‘ставить тесто’).
С рукоделием связаны многие чрезвычайно важные магические
запреты, а предметы и атрибуты рукоделия воспринимаются как ма-
гические [Славянская мифология 2002, 71, 195-196, 394-395, 459-
461]. Не случайно тема рукоделия ярко и разнообразно представлена в
заговорах. Это не просто смысловое клише, подставляемое в текст.
Появление ее в заговоре всегда сопряжено с определенной функцио-
нальной задачей, на решение которой этот заговор направлен.
Е. Н. Елеонская, анализируя роль нити в колдовской практике
(1929 г.), отмечала, что «в заговорах на прекращение кровотечения
(на кровь) на основном представлении завязывания раны выработа-
лась картина прядения нитей, нужных для завязывания (зашивания)
ран; изображает она где-то на море-океане, на острове-буяне, на не-
обыкновенном стуле девушку (иногда трех), прядущую необыкновен-
ную нить <...>. Наряду с картиной прядущей женщины в заговорах
появляется картина шьющей девушки, зашивает она и рану или дает
нить для зашивания <...>. Установившаяся в заговоре картина пряду-
щей нити девушки запечатлела воззрение на нить как на средство,
несущее помощь; и в то время, как в магических действиях употреб-
ляются простые, постоянно имеющиеся под рукою в жизни нитки
льняные, шерстяные и шелковые, в заговоре в силу закона преувели-
чивания, приукрашения кудель и нити часто изображаются золотыми»
[Елеонская 1994, 176]. В более ранней работе о сборнике заговоров
XVII века (1917 г.) она же писала: «Очень многочисленные заговоры
от крови покоятся на формуле зашивания. Словесное выражение
рисует картину, всю построенную на понятии зашивать: здесь упоми-
нается и игла и нить и лицо, которое шьет, главным образом девица.
<...> Картина шитья в заговоре на кровь изменяется и вследствие
того еще, что представление нити лежит в основе картины прядения;
27
Рукоделие в заговорах на кровь...
<...> такая смена произошла, очевидно, от влияния одного представ-
ления на другое» [Елеонская 1994, 123-124].
Соглашаясь в целом с суждениями Е. Н. Елеонской о том, что
«формула зашивания логически ведет к предположению, что был если
не магический, то лечебный обряд, заключавшийся в зашивании ра-
ны» [Елеонская 1994, 124], нельзя не заметить, что ее размышления
нуждаются в некотором уточнении. Исследовательница, пытаясь уяс-
нить логику развития заговорной темы, в разное время оценивает ее
по-разному. В настоящей статье, которая не является историческим
очерком, делается попытка систематизировать возможные пути отра-
жения темы рукоделия1 в заговорах на кровь.
Символика рукоделия в заговорах на кровь многозначна, что объ-
ясняется наличием в традиции нескольких точек зрения на недуг,
против которого они направлены. С одной стороны, внимание может
быть сосредоточено на кровавой ране, воспринимаемой как нечто
разъятое, разорванное. При этом человеческое тело оказывается упо-
доблено ткани (ср. соответствующий термин в анатомии). С другой
стороны, акцент может быть сделан на крови, текущей из раны и на-
поминающей длинную тянущуюся нить.
В первом случае целеустановка заговора реализуется с помощью
мотивов зашивания и затыкания раны. Мотив зашивания более
частотный, поскольку именно он наиболее точно передает мысль о
восстановлении целого, соединении разорванного. Об этом свидетель-
ствуют и уточнения, которые нередко представляет сам текст загово-
ра, поясняя, какие части тела необходимо сшить: «... Есть в чистом
поле славный океан-море. В том славном океан-море стоит белый
остров, на том белом острове стоит золот стол, на том золотом
столе сидит стара матера жена. На правой руке держит золотую
иголочку с восковой ниточкой, зашивает у меня, раба Божьего
(имя) кровавые железные раны, укладные раны. Тело к телу, мясо к
мясу, жила к жиле, кость к кости, сустав к суставу, сердце к
сердцу, печень к печени...» [ФА МГУ 1995л VI, 250. Архангельская
обл., Пинежский р-н, д. Нюхча. Хромцова М. Ф., 1913 г.р.]; «... На
этом каменю сидит девица и зашивает кровавые раны - мясо с
мясом, кожу с кожей...» [РЗЗ 1998, № 1654; Смирнов, Ильинская
1992, № 25]; «... На синем камне сидит девица, моется, умывается,
шелковым полотенцем утирается. У ней в руках булатная иголка,
шелковая нитка. Кожу с кожей, жилу с жилой сшивает, кровь из
рабы божьей Настасьи постановляет...» [Смирнов, Ильинская 1992,
№ 110]; «... На этом дубу сидит птица цёрный ворон и держит в
когтях шелковую нитоцку, булатнюю иголоцку; зашиваё, затяги-
ваё кожу с кожей, жилу с жилой и став с суставом...» [Смирнов,
Ильинская 1992, № 17]; «... На этой сушине сидит черный ворон,
28
Л. В. Фадеева
булатной иголкой и шелковой ниткой кость с костью складыва-
ет, мясо с мясом, кожу с кожей зашивает и затягивает, щипоту,
ломоту уговаривает...» [Смирнов, Ильинская 1992, № 104]; «... На
дубу сидит черный ворон с булатной иголкой, с шелковой ниткой.
Кости вместе сшиваю, рану зашиваю, кровь останавливаю...» [РЗЗ
1998, № 1659].
Основными атрибутами, при помощи которых становится возмож-
ным исцеление недуга, являются игла и нить2. Именно обладание ими
дает возможность персонажу-помощнику исцелить пациента: «...На
камне сидит Матушка - Владычица Пресвятая Богородица. В руках
держит иглу булатную, в игле нитка шелковая, и хочет она заши-
вать у рабы (имя) кровавую рану. Промеж земли и неба летит ворон,
в когтях держит несет иглу булатную. В игле нитка шелковая,
летит он зашивать у рабы (имя) кровавую рану...» [Булушева 1994,
50]. Лишь изредка функция иглы и нити переходит к другим предме-
там: «... В едину жилу шла сама Пресвятая Богородица, шла по
золотому блюду, несла золотое перо, тем золотым пером помажет,
рану зашивает, кровь постановляет, щипоту-ломоту отнимает у
раба Божьего (имярек)...» [Курец 2000, № 246]. Причем не исключе-
но, что в данном случае мы имеем дело с пропуском основных атри-
бутов (иглы и нити) и вынесением на первый план вспомогательного
атрибута (золотого пера).
Подобные заговоры нередко ограничиваются упоминанием заши-
вания - главного действия, непосредственно направленного на исце-
ление раны: «... На столбе сидит девица, (как-то) шьет-зашивает
шелковой иголкой рану, чтобы не болело, чтобы не шипело» [Курец
2000, № 229]; «... Сидит красная девица на золотом стуле, зашива-
ет у раба у Божьего свежую рану маленькой иголкой, цистым
шелком, и не текет у раба Божьего ни руда, ни кровь...» [Курец
2000, № 244]; «... На златом камени - красна дивитя, иголотька
золотая, нитотька шелковая: кровь ту зашиват...» [Курец 2000,
№ 252]; «...В чистом поле сидит красная девица - золотая пила в
руке, серебряная игла в щипцах, сидит, зашивает свежую рану,
чтобы у этой раны не было щипоты, ни ломоты. Кровь, уймись,
щипота, утолись...» [Бекетова, Колмогорцев 2001, № 53]; «... В чис-
том поле сидит девушка на золотом стуле в шелковом платье. У ней
в руках золотая игла, у ней в игле шелковая нитка, и она шьет-
зашивает всякие раны: топорные, ножевые и щели» [РЗЗ 1998, №
1656]; «На острови, на Буяни сидит дева Марея, на золотым стуле,
золотой иголкой, со шолковой ниткой, шьют ы зашивают крове-
ную рану у раба Божьего (имё ему) и кроф горячу» [Азадовский 1914,
№ 5]; «... На етом камне сидит Пресвятая Богородица. Сидит и
29
Рукоделие в заговорах на кровь...
зашивает золотой иголочкой, шелковой ниточкой ножовые поре-
зы, топорные посеки...» [РЗЗ 1998, № 1645].
Однако персонаж в заговорах с мотивом зашивания может выпол-
нять несколько действий. Иногда только одно из них - зашивание -
связано с темой рукоделия и направлено на исцеление. Остальные же
либо (1) предваряют зашивание, свидетельствуя о готовности персо-
нажа-помощника остановить кровь: «... Ишла Пречиста: одна з
Kieea, друга с Чернигова, третья з Нижина, несли сребну голочку,
шовкову ниточку, рану зашивали, кровь замовляли...» [Ефименко
1874, № 41]; «... iuuii три сестры, усе триродны. Адна нясла злата,
другая срэбра, а трэцця 1голку i ттку шоуку - загуварывал1 eonyxi,
ядрась, i зашывал! рану, i замуулял1 кроу» [Барташэв1ч 1992, № 471];
«... Через тую огненную реку едет Дарья и Марья на сцоловой кобы-
лы и на золотой кореты. Везут они золотую булавку и тянут шел-
ковую нитку, и зашивают у р<аба> Б<ожьего> (имя) посечную,
досаженую рану...» [Курец 2000, № 227]; «Шла девица Поневека,
нашла иглу золотую. Вложила нитку шелковую, стала раны за-
шивать, малеванного (имя)...» [Бекетова, Колмогорцев 2001, № 54]
«... На господнем престоле сидят две девицы, родные сестрицы.
Берут булат, шелковую нитку, зашивают кровавую рану...» [Про-
ценко 1998, № 156]; «.. .Под этой белой березой лежат три красных
девицы. Вставайте, красные девицы, от сна поскорее. Берите иглы
булатные, вдевайте нитки шелковые, зашивайте раны кровавые.. .»
[Булушева 1994, 48-49]; «Заря-зарница, красная дявица, сидить на
белам камушки, залечиваить рану рабе (имя), булатную иулу дер-
жыть в руках, шолкавую нитку вздиваить, рану зашываить, кра-
вицу унимаить рабе (имя)» [Проценко 1998, № 150]; «... На этом
камне сидит красна девица, держит в руках иглу булатную, вдева-
ет нитку шелковую, зашивает раны кровавые...» [Курец 2000, №
253]; «На острове Буяне сидит птица-девица, швея-мастерица,
держит в руках иглу булатную, вдеват нитку шелковую, зашиват
раны кровавые...» [Востриков 2000, 79]; «...На каменной уаре стаить
Мать Божйя, держыть залитую иуолку, вдивая толковую нитку,
закрываить3 кровавую рану» [Проценко 1998, № 155]; «... На камне
Алатыри стоит Матушка Пресвятая Богородица, держит иглицу
в руках, зашивает раны семьдесят семь жил и семьдесят жил сус-
тавов...» [РЗЗ 1998, № 1643]; «... На этом Евангели сидит Дева Ма-
рия, держит она иглу золотую, вдевает нитку шелковую и заши-
вает рану кровавую...» [РЗЗ 1998, № 1644]; «... На рытом бархате,
на серебряном стуле сидит Мати Божья Богородица, нитки шел-
ковые, иглы медные обтирает, у раба Божия Ивана раны зашива-
ет, кровь унимает» [ЗП 1994, № 102], - либо (2) дублируют и уточ-
няют характер ожидаемого воздействия: «... В океан-море серый
30
Л. В. Фадеева
камень, на пюм камне сидит девица. Нитка шелкова, иголка булат-
на. Рану зашиваё, замываё рану у раба божия (имярек), чтобы не
болело, не тоснуло, не скобнуло, кровь не текла у раба божия (имя-
рек) во веки вечные,..» [Смирнов, Ильинская 1992, № 108]; «... На
златом камне сидит две девицы, две маврици; у них по золотой
иголки, по шелковой нитки. Плюют и дуют, ecu раны зашивают;
щипоту, опухель отнимают, кровь остановляют...» [Курец 2000,
№ 245]; «... В чистом поле есть булатный белый камень. На том
камне вся небесная сила, Пресвята Мати Божья воля Богородица.
В одной руке огненна сила, в другой шелкова нитка, зашивает и
затягивает, растирает и разглаживает ударну и уразну рану у
раба Ивана...» [ЗП 1994, № 101; РЗЗ 1998, № 1642]. В некоторых
текстах присутствуют как предваряющие (1), так и дублирующие (2)
действия персонажа-помощника: «... На этом камени - Изоп-птица.
Из Изоп-птицы выходит красная девица, выносит шелковую нит-
ку, булавчатую иглу: у раба Божьего Митрофана рану зашивает,
щипоту унимает, чтобы кровь не текла, щипота не брала» [Курец
2000, № 254]; «.. .В чистом поле идет три девицы, три Марии, несут
шелковую нитку; зашивают, замывают у раба Божьего досадную
рану, щипоту наводят, леготу выводят, щипоту выводят, леготу
наводят...» [Курец 2000, № 228]; «... По этой реке Волге едет вла-
дычица, Пресвятая Богородица. Держит в руках золотую иголку,
шелковую нитку, зашивает живую рану, останавливает живую
кровь у рабу (имя)...» [Курец 2000, № 248].
Действие, предваряющее зашивание, может быть тем или иным
видом рукоделия (прядением, вышиванием). И тогда перед нами
уже более сложный пример развертывания сюжетной темы, состоя-
щей из нескольких эпизодов. Ср.: «Стану я, раба Божья, благосло-
вясь, пойду, перекрестясь, из избы в двери, из ворот в ворота, в вос-
ток, в востошну сторону; в востошной стороне есть синее море
Окиян, на Окияне море святой Божий остров; на том острове ле-
жит бел Латырь камень, на там камне стоит златой престол, на
том золотом престоле сидит Матерь Божия с двумя сестрицами,
прядёт и сучит шёлковую кудельку. Я ей, раб Божий, покорюся и
помолюся: “Мати Божия, Пресвятая Дева Мария и с двумя сестри-
цами, бери ты шелковую нитку и булатную иголку, зашей и запри,
и уйми, и зажми порезную и посечную рану! ”. Как нет из Латыря
камня воды ни капли, также бы у раба Божия не было руды и краски.
Как во граде Ерусалиме лежат святые мощи на правом крылосе, не
знают они никакой болезни; како жидовья Исуса Христа распяли, и
он не знал боли, тако же бы раб Божий не знал никакой боли, ни щи-
поты, ни ломоты, ни опуху, ни отягу. Будьте, мои слова, крепки и
лепки, крепче булату, крепче плотней укладу. Шолк не рвется, булат
31
Рукоделие в заговорах на кровь...
не гнется, уклад не ломается, камень не распадается, земля - замок,
ключ - небо» [Майков 1994, № 150].
В приведенном тексте тема рукоделия представлена двумя эпизо-
дами. В первом персонажи-помощники готовят шелковую нить {«Ма-
терь Божия с двумя сестрицами, прядёт и сучит шёлковую кудель-
ку»), причем это действие никак не ограничено во времени и поэтому
воспринимается как выполняемое постоянно. Второй эпизод указыва-
ет на конкретный способ исцеления недуга - зашивание шелковой
нитью кровавой раны - и мыслится в будущем времени, так как вы-
ражен формулой-просьбой {«Мати Божия, Пресвятая Дева Мария и
с двумя сестрицами, бери ты шелковую нитку и булатную иголку,
зашей и запри, и уйми, и зажми порезную и пасечную рану!»). Оче-
видно, что прядение в данном случае является подготовительным
этапом, предваряющим зашивание-исцеление.
Готовность персонажа-помощника к зашиванию кровавой раны мо-
жет быть передана с помощью эпизода вышивания. Ср.: «... На этом
камне сидит девушка: пялышка точеные, иголка золоченая, сидит,
вышивает, свежи раны зашивает, щипоту вынимает и кровь останав-
ливает» [Курец 2000, № 249]; «На море, на Кияне, на острове на Буяне
сидят три девицы; оне шьют-вышивают, кровавые раны (имярек)
зашивают» [Коровашко 1997, № 90]. Заговор слабо дифференцирует
вышивание и зашивание. Нередко эта разница становится заметна толь-
ко благодаря введению соответствующих атрибутов, например пялец:
«... Сидит девица душа красная, Пресвятая Богородица, в трои золо-
тыя пяла шьет: шелкова нитка, золота иголка. Зашей у меня, раба
Божия (имярек), кровавую рану, чтобы не щипела и не болела...»
[Майков 1994, № 140; Ефименко 1877-1878, № 68].
Факультативный, слабо выраженный в традиции мотив затыка-
ния раны, обычно использует тему рукоделия для оформления подго-
товительного эпизода. Здесь традиция предлагает редкий пример
упоминания в заговоре на кровь ткачества, подбирая вид рукоделия
по принципу сходства и созвучия слов {ткать - затыкать). Ср.: «...
Стоит престол опчерчен крестом, на етом престоле сидит Мать
Пресвятая Богородица. Перед ней стоят три красные девицы,
ткут-потыкают у хлопчатую бумагу, у рабы Божьей раны затыка-
ют, оне шьют-пошивают, у раба Божео (имярек) раны зашива-
ют...» [Азадовский 1914, № 38]. Недостаточность мотива затыкания
раны восполняется в заговоре присоединением мотива зашивания.
Таким образом тема рукоделия в заговоре обретает законченность.
Если в основу заговора на кровь положено представление о крови-
нити, в нем возникают мотивы обрывания или завязывания нити,
поскольку именно эти действия на образно-символическом уровне
передают идею прекращения, остановки кровотечения. Они состав-
32
Л. В. Фадеева
ляют главный, смысловой эпизод заговора и могут использоваться
самостоятельно. Ср.: «Нитка порвалась - кровь унялась» [РЗЗ 1998,
№ 1549]; «... Нитка рвется - кровь печется» [РЗЗ 1998, № 1600];
«Кровь красна девица в узелок завязала, никому не показала» [ФА
МГУ 1995л, IV, 170. Архангельская обл. Пинежский р-н, д. Сура,
Н. Д. Филин, 1929 г.р.].
Для полноценной реализации темы рукоделия в этой группе заго-
воров необходимо наращивание эпизодов, предваряющих главное
(мотивообразующее) действие. Для их конструирования нередко ис-
пользуются прядение, шитье, вышивание.
Прядение можно назвать одним из излюбленных способов пере-
дачи реальной картины течения крови из раны: «... Под восточной
стороной лежит камень белатырь. На том белатыре камне сидит Мать
Пресвятая Богородица. У ней пряшенька золотая и веретешечко.
Сидит, прядет, мотает. У меня, раба Божия Егора, кровь вынима-
ет...» [Коровашко 1997, № 92]. В этом случае нить, тянущаяся в руках
пряхи, символизирует кровь: «Ниточка, тянися, кровь, утянися» [РЗЗ
1998, № 1550]4. Следовательно, прядение передает картину самого
недуга, а не его исцеления, образуя подготовительный эпизод, своего
рода экспозицию. За ней должно последовать действие, направленное
на реализацию целеустановки заговора. Это, как уже было сказано,
завязывание кровавой нити: «Прэсвятая Маць Буга род зща на зала-
тую праслщу прала, штку атарвала, кроу завязала» [Барташэв1ч
1992, № 468] - или ее обрыв: «На море на окиане лежит Латырь-
камень, на том камне сидит девица, золотой гребешок, шелковый
узелок. Прядёт тонко-натонко, навивает туго-натуго. Когда ни-
точка порвётся, то и кровь уймется» [ФА МГУ 1995з, V, 181. Архан-
гельская обл. Пинежский р-н, д. Шотова гора. Е. А. Попова,
1927 г.р.]э; «На Великом океане, на острове Буяне стоит камень Ала-
тырь. На нем сидят две девицы, они родные сестрицы. Они прядут
пряжу. Пряжа-от, рвися, а кровь-от толися» [РЗЗ 1998, № 1658];
«Шла матушка Мария из города Асия, от города Иерусалима. Шла,
шла она приустала, села приотдохнула. Пряла лен шелковый, шел-
ковина оборвалась, у раба (имя) руда унялась» [Булушева 1994, 52].
В заговорах, передающих реальную картину течения крови-нити с
помощью прядения, формула «нитка порвалась - кровь унялась»
иногда преобразуется в созвучную по рифме и ритму, но противопо-
ложную по смыслу формулу «нитка не рвись - кровь уймись»'. «На
море, на окияне, на востром буяне, на горючем камне, сидят 77 де-
виц, прядут травку-живичку. Травка-живичка не рвись, руда-кровь
уймись...» [Булушева 1994, 51—52]; «...На столах сидят девицы -
белые царицы. Вы, девицы, бечые царицы, берите иглы золотые,
33
Рукоделие в заговорах на кровь...
вдевайте нитки шелковые, зашивайте раны кровавые. Как шелк
не рвется, так кровь не льется» [Булушева 1994, 50-51].
Шитье / зашивание также может выполнять в заговоре служеб-
ную роль, предваряя эпизод обрыва нити: «Цякець рэчка крававая На
тэй рэчцы белой камшь, На ём тры дзявщы. Яны шыюць красною
ттачкаю, Нггачка парвалась - Кроу увырвалась» [Барташэв1ч
1992, № 467] ; «Шла девица Поневека, нашла иглу золотую. Вложи-
ла нитку шелковую, стала раны зашивать, малеванного (имя).
Нитка порвалась, чтоб у крещеного кровь унялась» [Бекетова,
Колмогорцев 2001, № 54]; «...На той березе Мать Пресвятая Бого-
родица шёлковый нитки мотает, кровавые раны зашивает: нит-
ка оторвалась, руда унялась...» [Майков 1994, № 149]; «Матушка
Пресвятая Богородица шьет косыночку шелковой ниточкой. Ни-
точка оборвалась - кровь унялась» [РЗЗ 1998, № 1647]: «На Сажен-
ской горе стоит Мать Пресвятая Богородица, подходят к ней три
девицы, сродны сестрицы: "Что, мать, делаешь?” - “Попу ризу
шью”. Шелкова ниточка прорывается, кровь рабы божьей (имя)
прерывается» [Бекетова, Колмогорцев 2001, № 56]. Нить здесь - и
атрибут магического действия, и текущая кровь. Следовательно, ши-
тье / зашивание в данном контексте не предполагает исцеления раны,
как это было в ранее рассмотренных текстах. Оно олицетворяет собой
недуг, то есть оказывается синонимично прядению.
Мотив зашивания и мотив обрывания нити нередко интерпре-
тируются в заговоре как равнозначные. Обычно это относится к слу-
чаям, когда обрыв нити не является непосредственным продолжением
действия персонажа-помощника и не образует с ним единого сюжета,
а переносится в будущее: «... На том камне сидит красна девица,
Мать Пресвятая Богородица, шьет красной ниткой, шьёт-поши-
вает, раны зашивает. Нитка, не рвись, кровь, унимись!..» [ФА
МГУ 1986з, XV, 69. Калужская обл. Куйбышевский р-н, д. Козловка
Т. А. Владимировой, 1901 г.р.].
Поскольку в заговоре чрезвычайно важен принцип аналогии, об-
рыв нити может дополняться еще и выпадением из рук: «... На йетай
бярёзи сидела дева Анна, д я ржал а иулу буловую, застяуала нитку
шалковую, зашывала рану крававую. Пула вырывалась - крофь
унималась» [Проценко 1998, № 148], либо поломкой: «По морю-
моречку, по мосту-мосточку молодой человек на плотике плыл, зо-
лотой иголочкой шил, шелковой ниточкой зашивал. Золотая иго-
лочка сломалась, шелкова ниточка порвалась, у рабы божией
Дарьей кровь запеклась» [ФА МГУ 1995л, IX, 289а. Архангельская
обл. Пинежский р-н, д. Остров. Н. В. Хазова, 1917 г.р.]; «На море, на
острове, на буяновой земли красная девица шила-пошивала шел-
ковой ниткой, золотой иглой. Золотая игла переломись, у раба
34
Л. В. Фадеева
Божьего (имярек) кровь запекись» [ФА МГУ 1995л XII 67. Архан-
гельская обл. Пинежский р-н, д. Шуломень А. Д. Данилов, 1905 г.р.]
иглы6. Обе эти символические картины означают остановку крови.
Известны и примеры более радикального изменения формулы
«нитка порвалась - кровь унялась», вплоть до ее замены близкими по
смыслу рифмованными формулами, также передающими идею пре-
кращения, остановки крови «шелку не стало - кровь перестала»’. «На
мори-на окияни, на острови-на обояни стоит церковь, а в той церкви
стоит престол, за престолом сыдыт Пречистая Дива Мария, шые
вона шовком криваву рану: шовку не стало и кровь перестала»
[Иващенко 1878, 249]; «... Три девочки шьют-пошивают тонко-
бело полотно, у них ниток не достало, чтобы кровь бежать пере-
стала...» [Бекетова, Колмогорцев 2001, № 55].
В подготовительном эпизоде заговора с мотивами обрывания и завя-
зывания нити может использоваться и вышивание: «На море на Океане,
на острове на Буяне сидит девица. Она шьет, пошивает, золотые ков-
ры вышивает не ниткою, шелком. Шелковинка оборвется, и кровь
уймется» [Майков 1994, № 146]; «Сидят две-три девицы и три певицы,
шьют-вышивают шелковой ниточкой, шелковая ниточка порвись,
кровь в носу остановись» [Бекетова, Колмогорцев 2001, № 51]; «На
море, на океане, на острове Буяне, шьет девка золотой ковер; у де-
вушки золотая ниточка порвися, а у раба божия (имярек), кровь
бежать уймися» [Коровашко 1997, № 88]; «... На сем столе сидит
красна девица. Не девица сие есть, а Мать Пресвятая Богородица.
Шьет она, вышивает золотой иглой, ниткой шелковою. Нитка,
оборвись, кровь, запекись, чтоб крови не хаживати, а тебе, телу, не
баливати...» [Майков 1994, № 144]; «На море-акияне, на острам Буя-
не - там сидить жар-птица, красная дивица. Шолкам шыла, шел-
кам рашшывала. Шолку ни стала - у раба божыва крофь итить
пиристала...» [Проценко 1998, № 152].
Заговорная традиция допускает использование в тексте темы руко-
делия только для оформления подготовительного эпизода. Даже такого
упоминания шитья - зашивания - вышивания нередко бывает достаточ-
но, чтобы указать на способность центрального персонажа исцелить
кровавую рану: «На острове Буяне лежит камень Латра, на Латре
три девицы шили-пошивали кровавые платья. Стихни кровь, стихни
кровь. Кровь ушла, крови нет» [РЗЗ 1998, № 1657]. Изображение сим-
волической картины зашивания предполагает перенесение действия на
пациента. Следовательно, потенциально зашивание, затягивание раны
присутствует в тексте заговора, однако на вербальном уровне способ
устранения недуга обозначается с помощью других магических формул
или через указание на другие действия персонажей-помощников, на-
пример, заговаривание: «... На этом камне сидит девица, шьё и вы-
35
Рукоделие в заговорах на кровь...
шивае всякими шелками, у раба божьего (имярек) кровь заговарива-
ет...» [Смирнов, Ильинская 1992, № 33]; «За тридевять землями, за
тридевять морями сидят три девицы, шьют-вышивают, кровь заго-
варивают...» [Проценко 1998, № 157].
Иногда свертывание темы рукоделия до подготовительного эпизо-
да свидетельствует о порче текста, его частичном забвении. Как пра-
вило, подобные утраты происходят в контаминированных текстах, в
которых исцеление не связано с действиями прядущего или шьющего
персонажа. В этом случае в центре оказывается какая-либо другая
сюжетная тема, реализующая целеустановку заговора: «Сидела Ма-
тушка Пресвятая Богородица на море, на океане, на белом камне,
сидела и пряла ушалую кудель. Идет Никола Святитель: “Бог по-
мочь, Матушка Пресвятая Богородица” - “Бог спасет, Никола Свя-
титель. А ты куда пошел?” - “А я пошел к рабе (имярек) кровь заго-
ворити, боль остановити, чтобы не было ни сыпоты, ни ломоты, ни
опуху, ни отёку, ни телесного, ни сердечного..." [Коровашко 1997, №
93]; "На реке Сиони, на острове Буяне там лежал горюч камень. На
этом камне сидела сама Пресвятая Богородица, держала в руках
блюдечко серебряное, перебирала иглы золотые, воздевала питки
шелковые. Едет старец, за ним идут три девицы Дарьи и три деви-
цы Марьи. Мясо резать - мяса не стало, кровь перестала. Во имя
отца и сына и святого духа, ноне и присную во веке веков. Аминь,
аминь, аминь"» [Коровашко 1997, № 104].
Таким образом, тема рукоделия реализуется в заговоре на кровь
благодаря введению в него одного или двух (реже - трех) эпизодов, в
основу которых положено изображение различных видов (этапов)
работы с нитью. Как правило, это прядение, ткачество, шитье и
вышивание, выполняемые персонажем-помощником заговора. При
этом целеустановка заговора реализуется с помощью мотивов заши-
вания, затыкания раны, а также обрывания и завязывания нити,
образующих функциональное ядро сюжетной темы7. Отражая разные
стадии женского рукоделия - от создания нити до украшения полотна
ярким узорочьем - и образно переосмысливая их, выявленные эпизо-
ды обретают в структуре заговора свою смысловую нагрузку8.
Литература
♦ Адоньева 1996 - Адоньева С. Б. Иконография Благовещения: атрибут - сюжет -
миф// Имя - сюжет - миф. СПб., 1996. С. 22-35.
♦ Бернштам 1999 - Бернштам Т. А. «Хитро-мудро рукодельице» (вышивание -
шитье в символизме девичьего совершеннолетия у восточных славян) И Жен-
щина и вещественный мир культуры у народов России и Европы. Сб. МАЭ;
Т. 57. СПб., 1999. С. 191-249.
♦ Елеонская 1994 - Елеонская Е. И. Сказка, заговор и колдовство в России. М., 1994.
♦ Славянская мифология 2002 - Славянская мифология: Энциклопедический сло-
варь. М., 2002.
36
Л. В. Фадеева
♦ Фадеева 1997 - Фадеева Л. В. Заговоры с мотивом целительного рукоделия:
традиционные образы и их книжно-религиозные параллели // Славянская тра-
диционная культура и современным мир. Вып. 1. М., 1997. С. 37-50, 151-153.
Источники
♦ Азадовский 1914 - Азадовский М. К. Заговоры амурских казаков // Живая ста-
рина. СПб., 1914. В. 3-4. С. 05-015.
♦ Барташэв1ч 1992 - Замовы / Уклад. Г. А. Барташэв1ч. Мшск, 1992.
♦ Бекетова, Колмогорцев 2001 - Замкну замки замками: Заговорно-
заклинательная поэзия Шадринского края / Сост. В. Н. Бекетова,
М. А. Колмогорцев. Шадринск, 2001.
♦ Булушева 1994 - Саратовский вестник. Вып. 4: Заговоры / Сост. Е. Булушева.
Саратов, 1994.
♦ Востриков 2000 - Востриков О. В. Традиционная культура Урала: Этноидео-
графический словарь русских говоров Свердловской области. Вып. 5: Магия и
знахарство. Народная мифология. Екатеринбург, 2000.
♦ Ефименко 1974 - Ефименко П. С. Сборник малороссийских заклинаний // Чте-
ния в имп. Обществе истории и древностей российских при Московском уни-
верситете. М., 1874. Кн. I. С. 1-69.
♦ Ефименко 1877-1878 - Материалы по этнографии русского населения Архан-
гельской губернии, собранные П. С. Ефименко. Ч. II: Обереги человека от неду-
гов, волшебства и внешней силы И Известия этногр. отдела Об-ва любителей ес-
тествознания, антропологии и этнографии при имп. Московском университете.
М„ 1877-1878. Т. 30. Кн. V. В. 1-П.
♦ ЗП 1994 - Заговоры и заклинания Пинежья. / Сост. А. А. Иванова. Карпогоры, 1994.
♦ Записки 1962 - Записки Юрьевского Сельскохозяйственного Общества за
1862 г. Вып. 2. М„ 1862.
♦ Иващенко 1878 - Иващенко П. Шептания // Труды 3-его археологического съез-
да в России - в Киеве 1874 г. Т. I. Киев, 1878.
♦ Коровашко 1997 - Нижегородские заговоры / Сост. А. В. Коровашко. Нижний
Новгород, 1997.
♦ Курец 2000 - Русские заговоры Карелии / Сост. Т. С. Курец. Петрозаводск, 2000.
♦ Майков 1994 - Великорусские заклинания: Сборник Л. Н. Майкова. СПб., 1994.
♦ Проценко 1998 - Проценко Б. Н. Духовная культура донских казаков: Заговоры,
обереги, народная медицина, поверья, приметы. Ростов-на-Дону, 1998.
♦ РЗЗ 1998 - Русские заговоры и заклинания: Материалы фольклорных экспеди-
ций 1953-1993 гг./Подред. проф. В. П. Аникина. М., 1998.
♦ Смирнов, Ильинская 1992 - Встану я благословясь... Лечебные и любовные за-
говоры, записанные в части Архангельской обл. / Сост. Ю. Н. Смирнов,
В. Н. Ильинская. М., 1992.
♦ ФА МГУ - Архив кафедры русского устного народного творчества Московско-
го государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Примечания
1 Рукоделие понимается здесь широко как любые манипуляции с нитью: прядение,
завязывание, обрывание нити; ткачество, шитье (зашивание), вышивание и пр.
2 Важно отметить, что нить в заговорах на кровь воспринимается двояко: как текущая
кровь и как средство зашивания, затягивания раны. Таким образом нить становится и
символом недуга, и символом исцеления. Очевидно, что оба значения возникли на
37
Рукоделие в заговорах на кровь...
основе наблюдения за реальной действительностью: первое воспроизводит вид самой
кровавой раны, второе - обрядовое действие, направленное на ее лечение.
3 В значении ‘зашивает, затягивает’.
4 Нить в заговорах на кровь, как правило, наделяется эпитетом красный. Ср.: «...
Красна нитка, урвись - кровь, уймись. Красна нитка урвалась, кровь унялась. . .» [РЗЗ
1998, № 1599] и др.
5 Идентичный текст зап. Е. Васильцовой и Н. Мельниковой от Нины Андреевны Ку-
валдиной, 1930 г.р., в д. Нюхча Пинежского р-на Архангельской обл. [ФАМГУ 1995л,
VI, 258].
6 Нельзя не отметить единственный пример заговора на кровь, в котором в качестве
предмета-символа выступает крепкая булатная игла, которая не гнется и не ломается, -
образ скорее присущий заговорам от нестоихи (мужского бессилия) или костных,
суставных болезней. Ср.: «....Под дубом сидят три девицы, колют камку иглами
булатными. Вы, девицы красные, гнётся ли ваш булат? Нет! Наш булат не гнётся.
Ты, кровь, уймись, остановись, прекратись...» [Бекетова, Колмогорцев 2001, № 52].
7 В заговорах от других недугов, использующих тему рукоделия, она выстраивается
аналогично: «Пресвятая Владычице Богородица, Всему Миру Помощница Троеручи-
ца, двоерушница, тонкопрядица, рукодельница. Сидела Богородица на лавочке возле
речушки. Куделёк был шелковый, прялка серебряная, веретёнце позолоченное.
Пряла она тонко-натонко, ниточку крутила круто-накруто, узелок завязывала
туго-натуго. Завязывала, отговаривала у рабы грыжу угоманивала, запирала эту
грыжу семьюдесятью семью замками на семьдесят семь ключей. Ключики медные,
замки железные и будь здоров» [ФА МГУ 1997л V 181. Кировская обл., Уржумский р-
н, с. Шурма. А. А. Седая, 1933 г.р.]. Здесь рукоделие подготавливает основное дейст-
вие персонажа - завязание узелка на нити, что соответствует общей картине недуга
(грыжа). В заговоре от уроков рукоделие Богородицы направлено на изготовление
покрова, оберегающего от сглаза: «... В океанском море красная девица Мать Пре-
святая Богородица Богу молилась - за нас грешных трудилась, шелкову нитку
вынимала, ковер вышивала, раба (имярек) укрывала от великого врага, от всякого
глаза, - от тёмного, от чёрного, от жёлтого и от красного, от зелёного и от серо-
го...» [Записки 1862,40].
8 В связи с проблемой варьирования должен рассматриваться также вопрос о системе
персонажей заговоров с темой рукоделия. Однако поскольку за последние несколько
лет он неоднократно освещался исследователями, касавшимися проблем влияния
христианства на образно-сюжетный строй заговора [Адоньева 1996; Фадеева 1997;
Бернштам 1999], автор счел возможным не останавливаться на нем специально в
настоящей статье.
Образная система заговоров от тоски.
К вопросу о вариативности фольклорной
традиции
К. А. Балобанова (Москва)
I. Постановка вопроса
Вариативность фольклорного текста (и в лингвистическом, и в
семиотическом смысле термина) является его сущностной характери-
стикой, нормой его бытования в традиционной культуре как культуре
устной. Вместе с тем сама постановка вопроса о вариативности
предполагает существование механизмов, ограничивающих вариатив-
ность и тем самым обеспечивающих сохранение и воспроизведение
традиции, ее целостность. Настоящая работа представляет собой
попытку реконструировать и описать действие механизмов, связанных
с уровнем семантики. В качестве материала описания была выбрана
образная система группы заговоров узкой функциональной направ-
ленности - от тоски.
II. Функционально-семантическая
характеристика образной системы
Образная системы этой группы заговоров разделяется на два ряда
образов (под «образным рядом» понимается определенное количество
единиц образной системы, подчиненных образной доминанте), реали-
зующих разные представления о тоске: с одной стороны, тоска пред-
стает как болезнь, по природе близкая к порче, сглазу, с другой - как
любовная тоска. Вместе с тем оба ряда существуют в одном семанти-
ко-обрядовом поле, так как в отдельных текстах образ одного ряда
оказывается в другом, а акциональное пространство обеих групп, т. е.
действия, сопровождающие произносимый заговор, однородно.
II. а. Тоска - порча
Образная доминанта первой группы (тоски-сглаза) - вода. Вода и тос-
ка связаны отношениями «объект - способ борьбы с ним»: водой смыва-
ют тоску или обращаются к ней с просьбой смыть тоску (ср. смывание,
выливание сглаза, порчи). Вода предстает в двух разных качествах:
- в текстах, реализующих формулу сравнения как...так, описы-
вающих совершаемые действия, она обозначается как «вода» - сугубо
функциональная номинация, не актуализирующая дополнительных
39
Образная система заговоров от тоски...
сем, текст короткий, акцент делается на акциональном коде, воспро-
изводимом в тексте, и на магии самой формулы;
- в императивных же текстах, где сила произносимой вокативной
формулы должна заставить адресата обращения выполнить требуе-
мое, номинации пространны и вариативны: «вода-матушка», «вода-
царица», «вода-водица». Вода, к которой заговаривающий обращается
за помощью, одушевлена, и отдельные тексты позволяют с уверенно-
стью реконструировать эту ее характеристику. Как рудимент архаиче-
ских гилозоистических представлений о водной стихии предстают
обращения к мифологическому персонажу, заменяющие обращения к
самой воде: «вода-водица, морская царица», «Чарь Донской, зверь
морской, дедушка Водяной», или обращения, отождествляющие ее с
рыбой’, «вода-водица, рыба-рыбица».
Вокативные формулы разворачиваются в номинативные синони-
мические ряды, в которые вводятся и другие образы, связанные с
водным рядом: ручей, река и море. Такие ряды выстраиваются по
принципу расширения: «Тоска-тоскица, ручья-ручьица, река-рекица,
вода-водица». Но каждый из элементов этого ряда может выступать и
в качестве самостоятельного субститута, объединяющего их всех, об-
раза воды, сохраняющего при этом свои особенности. Так номинации
реки могут реализовываться либо в виде обобщенного обращения
«река-рекица», либо как конкретное географическое название: «ма-
тушка Мезень, быстрая река», «река в Каму».
При рассмотрении образа реки выявляется двойственная функция
водной стихии: она помогает освободиться от тоски, уносит ее, и
одновременно она репрезентирует то место, куда тоску нужно унести,
пространство нейтрализации ее вредного воздействия, противопос-
тавленное миру заговаривающего (в этой связи см. ниже об образе
земли): «Вода-водица, сама царица, сойми тоску-кручинушку с рабы
Божьей. Разнеси по чистому полю, по широкому Дунаю. Там жить
баско, там хорошо, не воротишься назад» [РЗИЗ. № 2246]. Море вы-
являет эту двойственность с еще большей определенностью - обозна-
чение антилокуса [Юдин 1997, с. 201] является основной семантикой
этого образа в заговорах от тоски: «Тоска-тоскица, ручья-ручьица,
река-рекица, вода-водица, снимите с меня всю тоску, сухоту и кручи-
ну - и унесите на синее море, на серый камень» [РЗИЗ. № 2234]. Если
исходить из последовательности единиц в синонимических рядах, то
море также обладает особым статусом: оно включается в один ряд не
с ручьем и рекой, а с основными стихиями мироздания: «Вода-водица,
земля-землица, морская пучина».
Водоемы существуют в текстах неразрывно с их природным «кон-
текстом»: море соотносится с «серым камнем», река - с «кряжами»,
«крутыми берегами, желтыми песками», «пеньями, кореньями».
40
К. А. Балобанова
Акциональный код предполагает, что природный «контекст» стано-
вится контекстом обрядовым: «Меня учили: принести с берега песку,
пити с этого песка и тылами ладоней умываться и говорить» - песок
получает особый статус, но очевидно, что только определенная се-
мантика может позволить ему проникнуть в пространство текста
(действует механизм ритуализации [Толстой 1995]). В рассмотренном
примере песок является одной из реализаций образа берега, регулярно
встречающегося в текстах. В качестве других регулярных реализаций
этого образа выступают «пенья», «коренья», «кряжи», «камень». Наша
задача - выявить функциональную семантику образа берега, объеди-
няющую все его реализации.
Как и водное пространство, пространство берега может выполнять
двоякую функцию: с одной стороны, эти образы используются как
«инструменты» изгнания тоски - в функции «то, чему уподобляется»:
«Вода ты, вода, ключевая вода, смываешь ты, вода, крутые берега,
пенья и коренья. Так смывай тоску-кручинушку с белого лица, с рети-
вого сердца» [ОПП. №189]; с другой стороны, они маркируют «чу-
жой», отличный от «нашего» локус, куда изгоняется тоска: «...Река-
рекица, вода-водица, снимите с меня всю тоску, сухоту и кручину - и
унесите на синее море, на серый камень» [РЗИЗ. № 2234].
Возможно, семантическая мотивировка появления образа берега в
текстах заговоров от тоски связана не только с тем, что берег - при-
родный контекст доминантного образа воды, но и с тем, что берег
содержит сему «крутой», - актуализирующая ее номинация «крутые
берега» встречается часто. Эта сема нейтрализуется с подобной семой
образа тоски - ср. номинации «тоска-кручинушка», «тоска-крушица».
Механизм действия этой нейтрализации виден, например, в приве-
денном выше тексте: «Вода ты, вода, ключевая вода, <как> смываешь
крутые берега... Так смывай тоску-кручинушку» [РЗИЗ. № 2237]. На
семантическом уровне тесное взаимодействие образов берега и тоски,
характеристика и того и другого как «крушащегося» и одновременно
«сокрушенного» (следующее звено цепи этих сем - «сокрушающий-
ся» человек) усиливает эффективность произносимого заговора: чем
ближе объекты уподобления - берег и тоска, тем действеннее магиче-
ская формула уподобления, так как изменение одного из них - смыва-
ние берега - повлечет за собой изменение второго - смывание тоски
(закон партиципации [Леви-Брюль 1930]).
Взаимоотношения «вода - берег» формально оказываются не эк-
виполентной оппозицией, а оппозицией градуальной. В нее входит
третий, гораздо более слабый и уже представленный, член - земля.
Так же, как «вода» и «берег», земля может быть активной силой,
помогающей изгнать тоску, и местом ее изгнания. И так же, как и
образы воды и берега, образ земли может быть представлен другими
Образная система заговоров от тоски...
образами («чисто поле», «земна богатырица»), ср. «разнеси тоску-
кручинушку по чисту полю, по широкому Дунаю. Там жить баско,
там хорошо, не воротишься назад» [РЗИЗ. № 2246] (первое и основ-
ное значение образа «земли» как стихии земли было, по-видимому,
менее важно для исполнителя, чем сема «широта», на нейтрализации
которой и построено это объединение «поля» и «Дона», но резкая
противопоставленность того пространства нашему очевидна) - в
данном примере земля выступает как место изгнания тоски.
Образ земли-стихии, к которой заклинатель обращается за помо-
щью, часто подчинен образу воды-стихии: в обращении «вода-водица,
земна богатырица» вода доминирует, но принадлежность сразу к двум
стихиям - и воде, и земле - как бы повышает ее статус по сравнению
с «вода-водица, земля-землица». Номинация «богатырица», появляю-
щаяся, что достаточно естественно, только в связи с образом земли, -
это один из тех гилозоистических рефлексов, о которых говорилось
выше (ср. также номинацию «Земля-Царица, Вода Ирица»).
Тем не менее земля-стихия, не включенная в «водный» синонимиче-
ский ряд, функционально тождественна воде и может занимать ее ме-
сто: «Как земля-мати не тоскует, не горюет, так же р.б. не тоскуй, не
горюй» [РЗИЗ. №2248] (ср. «Как водица-царица бежит, ни о чем не
тоскует, так бы и р. б. ни о чем никогда не тосковала» [РЗИЗ. № 2224]).
К образному ряду, подчиненному образной доминанте «вода»,
примыкает группа образов птиц, встречающихся исключительно в
качестве второй части («то, с чем сравнивается») текстов-сравнений:
«<Как> на утке, на гусю вода не держалася, так же на р.б. ни тоска, ни
кручинушка не держалася» [РЗИЗ. № 2243]. Образ птицы может быть
представлен конкретными реализациями: гусь, гуси-лебеди, утка,
гоголь, - но говорить о семантике этих образов, о том, какие глубин-
ные различия определяют появление того или иного варианта, невоз-
можно без исследования этих образов в общефольклорном контексте.
В целом же, появление этой группы образов обусловлено тем, что они -
часть природного, а следовательно, обрядового контекста, ритуаль-
ный статус которого в обряде повышается через акциональный код, за
счет чего они попадают в текст (см. выше об образе берега). Функ-
циональная мотивировка использования этих образов в тексте сле-
дующая: текст актуализирует то естественное свойство водоплавающих
птиц, что вода скатывается с их перьев, пропитанных жирным веще-
ством: «Как на утке, на гоголю не держится ни вода, ни беда, так бы
на р.б. ни тоска, ни кручинушка не держалась» [РЗИЗ. № 2210].
П.Ь. Любовная тоска
Вторая группа заговоров, использующая ряд образов, относящихся
к человеческому быту, видимо, «этимологически» связана прежде
42
К. Л. Балобанова
всего с любовной тоской. Эта группа уступает первой по количеству
текстов, т. е. в семантическом поле, представляющем концепт тоски
(объединяющем и «телесную», и душевную тоску), этот ряд образов и
связанная с ним функциональная семантика находится, по сравнению
с образами первой группы, на периферии и явно не входит в набор
образных приоритетов рассматриваемой тематической группы. Он
имеет характер заимствования, которое осваивается в соответствии с
уже существующими нормами, но встречается реже и варьируется,
несомненно, в более узких пределах. Все сказанное не значит, что эта
группа образов диахронически позже пришла в заговоры от тоски.
Это характеристика распределения приоритетов на синхронном уров-
не - несмотря на то, что один и тот же образ может встречаться в
разных жанрах, для каждого жанра, а в рамках жанра - для тематиче-
ской группы есть достаточно очевидные семантически предпочтимые
образные приоритеты, что и позволяет говорить здесь о «заимствова-
нии». Образ любовной тоски часто встречается, например, и в жанре
лирической песни, но в другом смысловом и представленческом кон-
тексте, реализуя другую функционально-семантическую синтагму.
Доминанта данной функционально-семантической синтагмы (т. е.
анализируемого образного ряда) - огонь (доминанта образной систе-
мы любовных заговоров).
Так, если в заговорах от тоски-порчи номинативный ряд выглядит
почти всегда как «тоска, крушица», «тоска-кручина» или как ряд си-
нонимов: «думы и тоска», «тоска-беда», «тоска и печаль», то номина-
ции в заговорах от тоски коррелируют прежде всего с огнем. «Тоска,
сухота», «тоска тоскующая, сухота сухотующая» (хотя и здесь встре-
чается «тоска-кручина», а в заговорах от тоски есть один пример
«тоска, сухота») - возможно, именно вода может излечить от тоски
потому, что актуализируется сема «нечто высушенное, иссушенное».
Действие огня нейтрализуется действием воды: текст типа «умываю
тоску тоскующую, заливаю сухоту сухотующую» эксплицитно (на
лексическом уровне) реализовывал бы это противопоставление двух
стихий. В этом отношении интересен также следующий текст: «Вста-
ну я, раба божья, помолясь, выйду из дверей в двери, из ворот в воро-
та, в чистое поле. В чистом поле лежат три дороги. Пойду я по средней,
третьей. Идут мне навстречу три патриарха. Несут они на головах сосу-
ды, в тех сосудах три тоски тоскующих, три тоски неминующих. На-
пускаю я тоску на р.б....» [ВФ. №232]. Как видно из присушки, тоску
переносят в сосудах, как воду - видимо, связь тоски и воды архаична и
принадлежит глубокому семантическому пласту [Еремина 1984].
43
Образная система заговоров от тоски...
Собственно образ огня в этой группе текстов не встречается. Ви-
димо, это связано с тем, что семантически он является доминантой не
всего комплекса текстов, а только обособленной периферийной груп-
пы. Эксплицитно же образная система тяготеет к противоположному
образу воды - как к доминанте всей группы заговоров от тоски. Кроме
рассмотренных номинаций (тоска-сухота), семантика огня представ-
лена образом печи, реализующим и другие семы.
«Печь противопоставляется красному углу», она реализует са-
кральность не божественную, а иного типа, сакральность «пищевую»,
сакральность «утробной жизни человека» [Славянская мифология,
212]. Верования связывают печь с миром умерших, образ печи связан
с семантикой центра и границы (между «этим» и «тем» мирами). Сле-
дующие тексты присушки и заговора от тоски обрисовывают функ-
циональную семантику этого образа в паре с образом хлеба: «Не дро-
ва в печь укладываю, а укладываю тоску-печаль о такой-то» [ВФ.
№236]; «Как хлеб в печи забыла, так об ем, р.б., и думать забыла»
[ВФ. № 485]. Существует поверье: вынимая хлеб из печи, нужно по-
ложить туда одно, два или три полена, чтобы по ним на том свете
перейти через пекло или огненную реку. Таким образом, в данном
контексте хлеб и полено, возможно, функционально тождественны -
раз они взаимозаменяемы в подобных контекстах. Печь же выступает
своего рода проводником: через нее можно «доставить тоску по на-
значению» или оставить свою тоску вместе с хлебом внутри нее, т. е.
- семантически - в мире умерших. Как и море в образном ряду, свя-
занном с водой, печь маркирует вход в потусторонний мир.
Возможна другая версия: дрова вместо хлеба кладутся в печь, что-
бы хлеб не переводился, то есть как своего рода жертва. Семантиче-
ский механизм обоих текстов может быть представлен следующим
образом: в обоих случаях печи что-то жертвуется: либо дрова, либо
хлеб, после чего следует просьба - либо передать тоску, либо изба-
вить от нее: «Печка-матушка, возьми с рабы божьей тоску и кручи-
нушку, чтобы она не тосковала и не горевала о рабе божьем» [Вино-
градов 1923, 42]. Второй вариант менее убедителен; скорее всего, на
семантическом уровне они сосуществуют. Возможно также, что вто-
рой вариант поверья отражает более древний семантический пласт, а
потому в текстах его реализация представлена в более разрушенном,
рудиментарном состоянии.
Итак, хлеб теснейшим образом связан с печью как с местом своего
рождения, а значит, и «с миром умерших, которые почти осязаемо
участвуют в выпечке хлеба и получают от него свою долю... Хлеб,
забытый в печи, наделялся особыми свойствами; его давали человеку,
44
К. А. Балобанова
который тосковал по умершему или по любимой особе, чтобы он
забыл их, использовали как лечебное средство» [Славянская мифоло-
гия, 245]. Вместе с тем, «хлеб символизирует отношения между
людьми... Буханка хлеба и каждый его кусок (особенно первый) или
крошка воплощали собой долю человека; считалось, что от обраще-
ния с ними зависят его сила, здоровье и удача» [Славянская мифоло-
гия, 245]. Архетипическая семантика 'хлеб - человек (доля человека,
отношения между людьми)' делает понятным семантический меха-
низм действия, например, следующей отсушки: «Как хлеб с лопаты
слетает, так бы и р.б. Витя отлетал от Гали» [ВФ. № 280].
Семантика образа соли, следующего в рассматриваемом образном
ряду, в ее конкретных дотекстовых реализациях в любовных загово-
рах близка к архетипической: соль актуализирует сему «расставание»,
«разъединение». Она сохраняет ее и в заговорах от тоски: «Как соль к
ссоре, так бы р.б. ссорился бы с рабой божьей, чужемужней женой»
[ВФ. №281]; «Как хлеб, соль ни о чем не тоскует, так бы и р.б. не
тосковала о раба божьем» [ВФ. № 485].
Дым в любовных заговорах функционально параллелен реке в за-
говорах от тоски, смывающей тоску, способной переносить ее: «Мать-
река, ключева вода! Омой-ополощи печаль и тоску с ясных очей, со
кровавых печеней, из ретивого сердца, из буйной головы!» [РЗИЗ.
№ 2226] и «Дым! Иди на небеса, понеси тоску-кручину на телеса, на
широкие плечи, на могучую грудь, на ретивое сердце, на подколенные
жилы» [ВФ. № 236]. Он сохраняет эту функцию переносчика и в заго-
ворах от тоски: «Как на ноже дым не держится, так на рабе Божьей
(имя) не держися тоска» [РЗИЗ. № 2219]. При этом произносимый
текст, где используется периферийная бытовая образность, определяет
акциональный ряд: «Аля, соседка, опять меня учила: печь затопляю
большую, русскую, и ставь ножишко в чело и эдак держи. Дым идет, а
ты приговаривай». Но и текст, использующий водный ряд, может
совмещаться с бытовым пространством, естественным для рассмат-
риваемой группы: «Воду наговаривают, дымят ее над каменкой - тос-
ку снимают: Я мыла-полоскала: вода-водица, Морская Царица, смой,
сполощи трава шелкова луга зеленого...» [РЗИЗ. № 2238] - функцио-
нальная семантика дыма, выражающаяся через акциональный код,
параллельна выраженной через вербальный код семантике воды.
Еще одним звеном бытового образного ряда является нож\ «Как
на ножовом вострые вода (в вышеприведенном примере - дым) не
держится, так на р.б. тоска не держится» [РЗИЗ. №2213]. С ножом
связано представление о его обережной силе: ножи надо втыкать в
окно и дверь, чтобы в дом не смогли войти злые силы (в том числе
45
Образная система заговоров от тоски...
ведьмы, колдуны). Для нашей темы интересно южнославянское пове-
рье - чтобы очистить воду, нужно пролить ее между острыми орудия-
ми (ср. «как на ноже вода не держится»). Нож, как и дым, актуализи-
рует пришедшее из любовных заговоров представление о той тоске,
которая сродни злой силе, вихрю (в любовных заговорах эти образы
параллельны: заговаривающий в присушке может выпускать вихрь
или тоску), от которой нож служит оберегом.
III. Концепт тоски
Итак, выделяются два основных семантических поля, пересечение
которых дает возможность реконструировать концепт тоски: с одной
стороны, тоска, более близкая к любовному чувству, с другой - тоска,
близкая к порче и сглазу.
Семантический анализ делает очевидным внутреннюю структуру
образного ряда, одинаковую для обоих рядов образов (ср. выше о
пересечении функций между «водным» и «бытовым» рядами), а через
нее - структуру концепта тоски. Тоска связана с потусторонним ми-
ром - именно туда ее можно унести, отделив от человека, болеющего
ею, и там-то она обезвреживается. На уровне образной системы «то»
пространство репрезентируется образами моря и печи. Связь между
«нашим» и «не нашим» мирами осуществляется с помощью реки,
являющейся продолжением моря, в одной группе образов - и с помо-
щью дыма, являющегося «продолжением» печи, - в другой. И та и
другая выполняют функцию переносчиков тоски.
Концепт, включающий в нашем случае как необходимые элементы
два пространства существования тоски (здесь и в том мире), опреде-
ляет программу словесного действия: тоска нейтрализуется в «дру-
гом» пространстве, и цель текста - отправить ее туда. Текст, имеющий
другие цели (не излечить от тоски, а наоборот наслать ее) будет дей-
ствовать по-другому, но работать с теми же мирами: тоску можно
переслать другому человеку, «достав» из пространства нейтрализа-
ции. Ср. присушка: «Затопляю печку, выпускаю дым, выпускаю тоску
и печаль на раба божьего» [ВФ. № 237].
Иначе говоря, программа словесного действия, работающая на
уровне концептов, отбирает варианты построения текста, предоставляя
шаблон, где заговаривающий должен заполнить пустые «валентности».
На нашем материале такими валентностями будут тоска в том или
ином качестве, объект, иначе говоря то, с чем сравнивается (хлеб =
человек, берег = кручина), потустороннее пространство и обычно,
что-либо, могущее обеспечить связь с ним, переносчик. Валентности
же в свою очередь заполняются теми образными единицами, семанти-
ка которых соответствует «условиям». При этом могут различаться не
46
К. А. Балобанова
только образы, заполняющие валентности, но и способы реализации.
Так, заговаривающий, если он считает себя достаточно сильным,
может и не прибегать к помощи переносчика, ср. следующий текст,
дающий в чистом виде схему действия: «Отошлю тоску тоскливую,
кручинушку тяжелую за темные леса, за синие моря, за высокие горы,
за тянучие болота, за вязучие грязи. И сейчас пойдите, живите, мои
слова, за темными лесами, за синими морями, за высокими горами, за
тянучими болотами, за вязучими грязями» [РЗИЗ. №2221]. Интерес-
но, что отсутствие переносчика компенсируется, по-видимому, рас-
ширением синонимических рядов, маркирующих потусторонний мир.
Итак, анализируемый механизм ограничения вариативности подверга-
ет сегменты текста (здесь - образы) проверке на семантическую совмес-
тимость, т. е. на их адекватность заполняемым валентностям концепта.
Подобное описание действия механизма, ограничивающего вариа-
тивность традиции, дает возможность сделать следующий общий
вывод: система фольклорных текстов (здесь в семиотическом смысле
слова), представляет собой гипертекст, в котором пласт глубинной
семантики сложным образом соотнесен с внешним пластом - кон-
кретными реализациями в конкретном жанре или тексте. Это «поле
значений» [Байбурин 1983, 5], и именно потому становится возмож-
ной контаминация: все жанровые объединения, выделяемые исследо-
вателем, на семантическом уровне представляют собой синкретичное
пространство. Очевидно, этот глубинный пласт не дан исследователю
непосредственно, но сравнение реализаций дает возможность вычле-
нить их инвариант, реконструируя картину мира.
Литература
♦ Байбурин 1983 - Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточ-
ных славян. Л., 1983.
♦ Виноградов 1923 - Виноградов Г. С. Смерть и загробная жизнь в воззрениях
русского старожилого населения Сибири. Иркутск, 1923.
♦ ВФ - Вятский фольклор. Заговорное искусство. Котельнич, 1994.
♦ Еремина 1984 - Еремина В. И. Историко-этнографические истоки мотива «вода-
горе» // Фольклор и этнография: у этнографических истоков фольклорных сю-
жетов и образов. Л., 1984.
♦ Леви-Брюль 1930 - Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1930.
♦ ОПП - Обрядовая поэзия Пинежья. М., 1980.
♦ РЗИЗ - Русские заговоры и заклинания. М., 1998.
♦ Славянская мифология 1995 - Славянская мифология. Энциклопедический сло-
варь. М., 1995.
♦ Толстой 1995 - Толстой Н. И. Вторичная функция обрядового символа // Язык
и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М.,
1995. С. 167-185.
♦ Юдин 1997 - Юдин А. В. Ономастикой русских заговоров. Имена собственные в
русском магическом фольклоре. М., 1997.
47
Образ хлеба в поэтической системе
подблюдного гадания
А. С. Сатыренко (Москва)
Среди обрядовых песен зимнего календарного цикла внимание
фольклористов обычно привлекали колядные песни. К числу менее
изученных форм зимнего календаря относятся песни-гадания, извест-
ные как подблюдные песни. На необходимость систематизации под-
блюдных песен и углубленного анализа их поэтики указывалось неод-
нократно: «Внешне простенькие, незамысловатые подблюдные песенки
представляют в действительности серьезную научную проблему, до
сих пор по-настоящему не изученную. Их связи с календарными и
свадебными заклинательными песнями, с заговорами, гаданиями и
загадками достаточно сложны и многосторонни»1.
Подблюдная песня - это своеобразная коммуникативная структу-
ра2, в которой заключен целый комплекс отношений между человеком
и окружающим его миром. Назначение любого гадательного обряда
можно определить как «разговор о судьбе». Диалог человека с поту-
сторонним миром представляет собой вопросно-ответную структуру.
Человек задает сверхъестественным силам вопрос о себе, своей судь-
бе, причем вопрос этот всегда конкретный, актуальный для гадающе-
го на момент гадания. Очень часто традиционное гадание сравнивают
с загадкой (не случайно оба эти жанра используют в своих названиях
один и тот же корень). Особо это относится к песенным предсказани-
ям, которые сами исполнители часто именуют песнями-загадками.
Важнейшим свойством гадания является истолкование, разгадывание,
интерпретация: «Основная часть гаданий связана с толкованием зву-
ков, словесных образов, предметов и их признаков»3.
В основе гадания лежит особая семантически значимая единица,
разгадав которую, человек получает информацию о будущем или не-
известном. Ответ на интересующий вопрос гадающий получает в виде
знака судьбы, или символа. Понятие символа наиболее точно и полно
характеризует основу гадательного обряда: «Гадальщик - это рацио-
нально мыслящая личность. Однако посылки, из которых он выводит
следствия, могут быть вовсе не рациональными. Он отнюдь не стре-
мится выйти за пределы своих верований в сверхъестественные суще-
ства и силы. Вот почему гадательные предметы лучше классифициро-
48
А. С. Сатыренко
вать как символы, чем как знаки, хотя они и обладают некоторыми
свойствами последних»4.
Основой образной структуры подблюдных гаданий следует при-
знать так называемые «точные» символы, функционирующие в обря-
дово-магическом контексте и обладающие действенной силой закли-
наний, заговоров и оберегов5. В общерусском подблюдном гадании
можно выделить пять основных символов:
- хлеб/пища,
- золото/богатство,
- дом/жилище,
- дорога/встреча,
- дерево/растение.
При характеристике символики гадательного обряда следует пом-
нить о ее вторичном характере. В гадательном обряде мы сталкиваем-
ся с прямым цитированием отдельных обрядов, картин, а иногда и
целых текстов из свадебного, похоронного и некоторых окказиональ-
ных обрядов. Такого рода цитаты - «общие места», отражающие
древние представления человека и характеризующими ранние формы
поэтического мышления: «Многие поэтические общие места разных
фольклорных жанров обнаруживают поразительную стойкость в от-
ражении общих индоевропейских верований, связанных, в частности,
и с представлениями о смерти, о загробном существовании: таковы,
например, представления о кругообороте жизненных форм, о беско-
~ 6
нечности перевоплощении, о дальней дороге в новый мир» .
Формулы, которые используют различные жанры фольклора, об-
легчают понимание предсказания, включая образные картины под-
блюдных песен в круг привычных ассоциаций крестьянина. В этом
отношении песни-гадания служат своеобразным каталогом значимых
символических единиц с устойчивым значением богатства, брака,
смерти, прибыли и т. д.
Основные образы-символы подблюдных песен отличаются универ-
сальным характером. Это связано не только с тем, что они имеют самое
непосредственное отношение к «общим местам» фольклора, но и их
функционированием внутри гадательного обряда: «Естественное проте-
кание человеческой жизни оказывается предопределенным заранее и
заключенным в жесткую пространственно-временную рамку: он дол-
жен пройти через определенные точки в определенные моменты, вы-
полняя задачи по крайней мере двух уровней. Первый из них - более
высокий - полное осуществление программы мифо-ритуального сцена-
рия (рождение - инициация - брак - смерть), соответствующего этапам
творения мира... Второй уровень, более низкий, представляет собой
действия человека в периоды между пунктами сценария и может рас-
49
Образ хлеба в поэтической системе подблюдного гадания
сматриваться как своего рода подготовка к прохождению этих пунк-
тов»'. Поэтому каждое предсказание подблюдных песен нужно воспри-
нимать в его отношении к основным этапам жизни человека.
Гадательные предсказания акцентируются вокруг двух основных
полюсов - брака и смерти в их ритуальном осуществлении - свадьбе
и похоронах. Разделение песенных предсказаний на два типа - нега-
тивный и позитивный - соответствует этим двум крайним точкам.
Универсализм и амбивалентность основных образов-символов под-
блюдных песен заключается в способности предсказать как хорошее,
так и плохое. Один и тот же символ может быть цитатой как из сва-
дебного обряда, так и из похоронного. При этом конкретное его тол-
кование оказывается чрезвычайно широко и зависит в первую очередь
от половозрастной принадлежности гадающего.
Другая, не менее важная особенность символов подблюдного га-
дания - это их синонимичность друг другу. Внешняя синонимич-
ность, то есть способность предсказывать одно и то же, сопровожда-
ется дублированием внутри отдельной песни-предсказания. Таким
образом создается эффект усиления значения подблюдной песни, в
которой толкованию подвергается уже не просто и не только образ-
символ, но целая символическая ситуация или картина8.
Проиллюстрируем изложенное на примере образа хлеба, одного из
самых популярных символов обрядовой поэзии славян: «Нет ни одно-
го крупного праздника, ни одного выдающегося семейного или обще-
ственного торжества, когда хлебные песни не выдвигались бы, не
заявляли о своем существовании, и чем крупнее и архаичнее празд-
ник, тем большую они играют роль в его отправлении»9. Символ хле-
ба занимает центральное место и в подблюдных гаданиях. Обрядовый
хлеб освящает гадание в самом его начале («Слава хлебу») и замыкает
гадательный вечер, став атрибутом других видов гадания (в том числе
гадания с «вещим сном»). Хлеб - это ведущий образ обряда, который
охватывает практически весь комплекс возможных предсказаний.
Песни с хлебной символикой составляют примерно четвертую часть
всех традиционных текстов подблюдных песен.
В песнях-предсказаниях переплетаются заклинательная и предска-
зательная функции символа. Наличие хлеба в доме ассоциируется с
достатком и материальным благополучием семьи. На этой ассоциации
построены многие подблюдные, сулящие богатство, большой урожай
и удачный год гадающему. Песни-гадания с таким толкованием тяго-
теют к началу обряда:
Нивки реденьки,
Снопы частеньки... 10
50
А. С. Сатыренко
Одна из самых популярных песен в традиционном обряде под-
блюдных гаданий связана с именем Ильи-пророка. Ею часто открыва-
ется обряд, а в ряде случаев она даже заменяет славу хлебу:
Ходит Илья-пророк
По полюшку
Считает суслончики:
Что на первой-то полосыньке - сто суслоннов,
На второй-то полосыньке - тысяча,
Что на третьей полосочке - сметы нет.
Еще смета-то была у царя в Москве,
У царя в Москве, да в золотой казне11.
Образ Ильи-пророка усиливает хлебную символику этой песни, по-
скольку сам Илья считается повелителем грома и дождя, от которого за-
висит плодородие и урожай. Достаточно вспомнить образы колядок: «Хо-
дит Илья на Василья, Носит пугу дротяную... Сюда махне, туда махне -
Жито расте», волочебных песен: «Илья-пророк по межам ходить, Рожь
заклинает, Ярь наливает», а также жнивные песни: «Ах и дай, Боже, Два
Илюшки в году... Илюшка и накормил, И накормил, и напоил.. .»12.
Хлеб как сакральная пища имел непосредственное отношение и к
потустороннему миру. Хлебом кормили не только живых, но и мерт-
вых. Обрядовому хлебу принадлежит важное место в похоронно-
поминальной обрядности: его было принято класть в гроб вместе с
покойным, крошить на могилу в поминальные дни для птиц, вопло-
щающих души умерших13. Особо следует сказать в этой связи о бли-
нах, образ которых часто фигурирует в традиционных подблюдных
песнях, предсказывающих как свадьбу, так и смерть. Объяснение
этому мы находим в обрядовом употреблении блинов. Тесная связь
блинов с похоронными и поминальными обрядами, с представления-
ми о смерти, о царстве мертвых, объясняет обрядовое использование
блинов на свадьбе в моменты, когда девушка-невеста прощалась со
своими подругами, выходя из их возрастной группы или когда мать
молодой угощала зятя блинами. Угощение блинами, таким образом,
символизирует «похороны» невесты. Эти представления нашли пря-
мое отражение в подблюдных песнях:
Идет смерть по улице,
Несет блин на блюдце...14
На полке блины,
На столе сулеи.
Не хочу, мати, блина,
Хочу чарку вина,
(молодым - к свадьбе, пожилым - к покойнику)15
51
Образ хлеба в поэтической системе подблюдного гадания
Хлеб воспринимался не только как сакральная обрядовая пища, но
служил также своеобразным воплощением «доли», судьбы человека:
«архаичным является представление о том, что Бог наделяет хлебом
человека, причем вместе с куском хлеба, человек получает и свою
“долю”, вместе с “частью” хлеба - и свое “счастье”»16.
Песня-слава Хлебу в начале обряда - это не просто хвала хлебу, а
слава самой доле и Богу, который наделяет этой судьбой. Гадающий
сначала получает свою «долю» в виде освященного обрядом хлеба, а
затем следует предсказание, облеченное в форму песни. Среди песен-
предсказаний, отразивших значения «хлеба-доли», следует назвать
песни с упоминанием Иисуса Христа и святых, образы которых имели
значение плодородия и достатка:
Ходит Илья-пророк по полю
Считает Илья-пророк суслончики:
В первом суслончике - хлеб пекчи.
Во втором суслончике - пиво варить,
А из третьего суслончика - вино курить17.
Ходит Кузьма-Демьян по полю,
Считает Кузьма-Демьян
Копешечки...18
Образ-символ «хлеб/пища» следует рассматривать в качестве знака
плодородия в самом широком смысле слова. Песни, использующие
образ хлеба в этом значении, перекликаются с приметами, поверьями
и толкованиями снов:
Как ваш Иваш
В снегу завяз,
А наш Иваш
С возом на дворе...
(«Много снега - много хлеба»)19.
«Зерно» в песнях-предсказаниях символизирует не только урожай
и богатую жизнь:
Сыне отцом
Сеяли рожь с овсом20.
но и предвещают гадающему здоровье, долголетие, стойкость:
Зернышко-непогибелко:
В снег упадет -
Оно вытает,
В грязь упадет - вырастет21.
52
А. С. Сатыренко
Плодородие как свойство земли, которая приносит урожай, в кото-
рую сажают семя, в народных представлениях прямо ассоциируется с
плодовитостью женщины-матери. Именно поэтому прибыль и плодо-
родие, представленные в подблюдных песнях образами квашни (де-
жи)22 и теста, предсказывают богатую и сытую жизнь, и те же самые
сюжеты могут стать предсказаниями свадьбы, а в некоторых случаях
предвещать рождение ребенка:
Растворила в квашонке
Малешенько,
Оказалось в квашонке -
Полнешенько.
(это прибыль, беременной женщине - к родам)23.
Растворила в квашонке
Малехонько -
Сделалось в квашонке
Полнехонько,
Располным-полна,
Со краем ровна,
(молодым - к свадьбе, пожилым - к поминкам)24.
Расплылась квашонка
По всей середи,
Растащили ребенки
По всей избе.
(к семейной жизни, много детей будет)25.
Сам процесс приготовления хлеба, превращения сырого теста в
выпеченный коровай ассоциируется с превращением девушки в жен-
щину. Образ коровая присутствует и в подблюдных песнях, но не
содержит отголосков коровайного (свадебного) обряда. Коровай вы-
ступает в песнях-предсказаниях знаком достатка и сытости, богатого
житья: «Мышь пищит, Коровай тащит...»26
Образы коровы, и шире - домашней скотины, попадают в под-
блюдных гаданиях в орбиту образа-символа «хлеб/пища». В связи с
этим уместно вспомнить, что слова корова и коровай этимологически
связаны: «Если принять эту этимологию коровая и сравнение коровая
с мировым древом, то образ коровы можно интерпретировать через
соотнесением с рогатым животным (олень, лось, антилопа и т. д.),
которое выступает на изображениях мирового древа в евразийских
памятниках и других подобных традициях»27. Общее значение хлеб-
ной символики распространяется на образы коровы, быка, оленя,
которые встречаются в традиционных подблюдных песнях. Не слу-
чайно песни, в которых фигурирует корова - буренка - белянка, соот-
53
Образ хлеба в поэтической системе подблюдного гадания
носятся с песнями, использующими в качестве сюжетообразующего
мотив поднимающегося в квашне теста: и в тех, и в других особо
значимым оказывается описание «полноты».
Идет корова из поля
Полным-полна:
С теленочком
И с ребеночком,
(к приплоду)28.
Пошла наша коровушка
В лес по дрова.
Думали, коровушка
Дров принесет,
Пришла наша коровушка
С приполоном, со теленочком29.
Все традиционные подблюдные песни распределяются между пятью
родовыми символами - хлеб, золото, дам, дорога, дерево - по преоблада-
нию того или иного образа в каждом из предсказаний. Вместе с тем каждый
из этих символов чрезвычайно многозначен и сам по себе не является пред-
сказанием, поскольку содержит сразу несколько тем: «основное различие
между темами и символами состоит в том, что темы - это постулаты или
идеи, которые выводятся наблюдателем из фактов данной культуры, в то
время как ритуальные символы - это один из видов таких фактов. Ритуаль-
ные символы многозначны, то есть каждый символ выражает не одну, а
сразу много тем посредством одного и того же осязаемого объекта или
деятельности»30. Конкретное значение песни как индивидуального
предсказания возникает непосредственно в ходе гадательного обряда.
Решающим в формировании предсказания оказывается обрядовый контекст.
Именно поэтому в комментариях исполнителей мы часто встречаемся с
неоднозначными толкованиями одного и того же текста - «как заветишь».
Основным организующим началом поэтической системы подблюд-
ных песен следует признать принцип ассоциаций в самом широком
смысле этого понятия. Подблюдное гадание поддерживает широкие
межжанровые ассоциации, в результате в песнях-предсказаниях воз-
никают поэтические образы и формулы загадок, примет, детского
фольклора, календаря, свадьбы и похорон. В раскрытии этих ассоциа-
тивных связей и состоит перспективная задача исследователя, стре-
мящегося адекватно и полно описать поэтику жанра.
Примечания
1 Земцовский И. И. Поэзия крестьянских праздников. Л., 1970. С. 17.
2 О понятии «коммуникативная структура» см. Новик Е. С. Глубинная структура обря-
дового текста и ее интерпретации И Фольклор. Проблемы сохранения, изучения, про-
паганды. М.,1988. С. 169.
54
А. С. Сатыренко
3 Виноградова Л. Н. Гадание//Славянская мифология. М., 1995. С.128.
4 Тэрнер В. Символ и ритуал. М.,1983. С. 63-64.
5 Еремина В. И. Символика. Символ // Народные знания. Фольклор. Народное искус-
ство. М.,1991. С.111.
6 Еремина В. М. Ритуал и фольклор. Л., 1991. С. 19.
7 Цивьян Т. В. К семантике пространственных и временных показателей в фольклоре И
Сборник статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973. С. 15.
8 «Символика имеет два основных средства передачи: образ-символ и символическую
ситуацию, которая чаще выступает в форме паралеллизма. В некоторых случаях образ-
символ и символическая ситуация соединяются в символической картине» — Ас-
тафьева Л. А. Символика// Восточно-славянский фольклор. Словарь. С.306.
9 Сумцов Н. Ф. Хлеб в обрядах и песнях. Харьков, 1885. С.89.
10 Земцовский, №111.
11 Архив кафедры фольклора МГУ. 1991. Кировская обл., Котельнический р-н,
с. Вишкиль. Т.1,№ 192.
12 Агапкина Т. А. Илья // Славянская мифология. М.,1995. С. 206.
13 См. подробнее: Страхов А. Б. Терминология и семиотика славянского бытового и
обрядового печенья. Дисс. к.ф.н. М., 1986; Лаврентьева Л. С. Символические функ-
ции еды в обрядах // Фольклор и этнография. Проблема реконструкции фактов тради-
ционной культуры. Л., 1990. С.38-44.
14 Земцовский, № 300.
15 Архив МГУ. 1991. Кировская обл., Котельнический р-н, с. Окатьево. Т. 2. № 153.
16 Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета. Л.,1990. С. 141.
17 Архив МГУ. 1991. Кировская обл., Котельнический р-н, с. Курино. Т. 16. № 190.
18 Архив МГУ. 1993. Кировская обл., Даровской р-н, с. Красное. Т. 4. № 148.
19 Земцовский, № 155.
20 Архив МГУ. 1991. Кировская обл., Котельнический р-н, с. Окатьево. Т. 2. № 293.
21 Там же, с. Спасское. Т. 16. № 185.
22 Топорков А. Л. Дежа // Этнолингвистический словарь славянских древностей: Про-
ект словника. М., 1984. С. 115-123.
23 Архив МГУ. 1993. Кировская обл., Даровской р-н, с. Кобра. Т. 5. № 6.
24 Там же, д. Кривец. Т. 12. № 292.
25 Там же, № 227.
26 Земцовский. № 127.
21 Иванов В. В., Топоров В. Н. К семиотической интерпретации коровайных обрядов у
белоруссов // Труды по знаковым системам. Тарту, 1967. Вып.З. С.70.
28 Архив МГУ. 1991. Кировская обл., Котельнический р-н, д. Скурихинская. Т. 15. № 215.
29 Земцовский. № 143.
30 Тэрнер В. Указ. соч. С. 34-35.
Композиция свадебных лирических песен
В. В. Бондаренко (Москва)
Изучению композиции свадебных песен уделялось гораздо меньше
внимания, чем этнографической стороне свадьбы, жанровой класси-
фикации свадебного фольклора, символике свадебных песен. В плане
композиции свадебные песни, как правило, подверстывают к необря-
довым лирическим1. В действительности, композиционное сходство
между этими типами лирики прослеживается лишь по формам изло-
жения. Однако композиция включает в себя не только внешнюю, но и
внутреннюю организацию материала. Цель нашей работы рассмот-
реть композицию свадебных лирических песен как многоплановую
систему, состоящую из множества «слоев», формируемых содержани-
ем песни и конкретной обрядовой ситуацией.
Свадьба - это драматическое действие, имеющее свой внутренний
конфликт, свою кульминацию, завязку и развязку. Борьба трагическо-
го и оптимистического, драматическая напряженность переходного
периода лежат в основе конфликта свадебного действия, этот кон-
фликт разрешается в ходе свадьбы переходом молодых людей в новое
качество - из жениха и невесты в мужа и жену2. Обряд требовал вы-
ражения эмоциональной оценки исполняемым обрядовым действиям.
Это и стало задачей лирических песен.
1.
А я не знала, не ведала,
А ко мне сваха приехала.
Что такая спесивая,
Молодая, ломливая,
Что не пьет пива пьяного,
Зелена вина в рот не берет,
Сладкой водки не сведает,
Восхваляет чужу сторону:
«Что чужая сторонушка -
Как родимая матушка.
Она сахаром усеянная,
Виноградом горожена,
Черносливом покрывная,
Что сытою поливная!»
- Уж ты сваха-докучница,
Вековая разлучница,
56
В. В. Бондаренко
Не хвали чужу сторону.
Что чужая сторонушка -
Не родимая матушка.
Она горем усеянная,
Что печалью горожена,
Что слезами поливная!
А наша сваха усердилася,
Что пошла, дверьми хлопнула,
За дверьми слово молвила:
«Собирайся ты, дитятко,
Собирайся ты, милое,
Вспоенно-вскормленное,
Что во путь, во дороженьку,
Во матушку во божью церкву,
Под батюшку под злат венец».
- Под венцом тяжело-то стоять,
Белы руки опушаются,
Резвы ноги подкочаются,
С плеч головушка катится!3
Песня исполняется в кульминационный момент свадебного - об-
ряда утром перед венцом, когда приезжает свадебный поезд и сваха
выводит невесту из чулана.
Развертывание внутреннего противопоставления является главным
организующим элементом композиции песни на ее сюжетном уровне.
Вначале - экспозиция, описание конкретного события, приезда свахи.
Причем здесь реализуется одно из противопоставлений, присущих
свадебным лирическим песням: сама невеста, ее состояние до и после
изображаемого события. До - идеальное состояние равновесия, кото-
рое нарушается приездом свахи. Затем в косвенной форме идет обмен
репликами между свахой и невестой. В этом диалоге - завязка дейст-
вия. После завязки следует развитие конфликта: А наша сваха усерди-
лася, / Что пошла, дверьми хлопнула, / За дверьми слово молвила.
После этих строк - кульминационный момент песни: сваха велит
девушке собираться к венцу, драматическая напряженность состояния
перехода из одного качества в другое достигает апогея. Далее - раз-
вязка: Под венцом тяжело-то стоять. Здесь - интересный момент:
несоответствие конкретной формы и содержания. По форме это дей-
ствительно развязка: перед нами как реальное событие предстает
факт венчания, но по содержанию развязки как таковой нет, поскольку
конфликт не разрешен. Песня завершена, но не завершено событие,
один из этапов которого она сопровождает, комментирует. Незавер-
шенность события вызывает указанное несоответствие.
57
Композиция свадебных лирических песен
По форме изложения песня представляет собой монолог свадебно-
го хора. Это не раздумье, а связное повествование о происходящем
как бы на его глазах.
Вначале повествование ведется от лица невесты, с ее точки зрения,
дается оценка поступков и речей свахи, то есть происходит отождест-
вление исполнителя с героем лирической песни. Диалог между свахой
и невестой в следующей части песни - это, скорее, передача высказы-
ваний в монологе хора, здесь уже свадебный хор выступает в роли
стороннего наблюдателя. Затем, начиная со слов «А наша сваха усер-
дилася», происходит объективация мыслей и речей невесты в выска-
зывании хора. Действия свахи изображаются объективно, они не пре-
ломляются в сознании невесты. С объективной точкой зрения связана
и объективация речи свахи. Обращаясь к невесте, сваха называет ее
«милым дитяткой». Если учесть, что перед этим в песне говорилось о
гневе свахи, то становится понятно, что здесь речь свахи подчинена
видению хора. Хор заканчивает песню некой вневременной сентенци-
ей, где объективация точки зрения достигает наивысшего уровня, то
есть происходящее действие наблюдается как бы со стороны: «Под
венцом тяжело-то стоять». Мы видим в этой песне эволюцию взгляда
на одно и то же событие, вначале дается оценка как бы изнутри (не-
веста), затем - взгляд со стороны (участники и наблюдатели обряда)
и, наконец, объективная картина происходящих событий, взгляд с
большой высоты, охватывающий несколько временных и пространст-
венных планов: настоящее и будущее, родной дом и церковь.
2.
Из-за лесу, лесу темного,
Из-за садика зеленого,
Вылетало стадо лебединое,
А другое стадо гусиное;
Отставала лебедушка
Что от стада лебединого,
Приставала лебедушка
Что ко стаду, ко серым гусям.
Не умела лебедушка
По-гусиному кричати,
Ее стали гуси щипати.
- Не щиплите меня, гуси серые,
Не сама я к вам залетела,
Занесло меня погодою осенею!
Из-за лесу, лесу темного,
Из-за садика зеленого,
Выходила толпа девушек,
А другая шла молодушек.
Отставала Марья-душа
58
В. В. Бондаренко
Ко толпе ли да молодушек.
Не умела Марья-душа
На головушке оправити,
Ее стали люди хаяти.
- Вы не хайте меня, люди добрые,
Не сама я к вам заехала,
Завезли меня кони добрые,
Что Василия Афанасьича!4
Песня «Из-за лесу, лесу темного» исполнялась либо во время отъ-
езда молодых к венцу, либо по их прибытии в дом жениха. В основе
ее лежит обрядовая ситуация приема невесты в «клан» замужних
женщин, перехода из родительской семьи в семью мужа. Основное
противоречие снято, так как конфликт между прошлым и будущим
разрешен в пользу будущего. Однако нельзя говорить и об отсутствии
противопоставлений в этой песне: переход в новое состояние завер-
шился, но само это состояние еще не уравновешено, непривычно.
Невеста оказалась в новой семье не по своей воле, но в то же время
она осознает, что возврат к старому невозможен. Основной конфликт
разрешен, но не исчезли различные конфликтные ситуации, одна из
которых - нежелание невесты находиться в «толпе ли да молодушек».
Песня «Из-за лесу, лесу темного» представляет собой высказыва-
ние от лица стороннего наблюдателя о происходящем как бы на его
глазах. С самого начала дается объективная картина мира. Завершает-
ся песня монологом невесты. Происходит процесс, обратный процес-
су в предыдущей песне, - от более общего к частному, от объективно-
го к субъективному.
По форме изложения песня представляет собой тип «повествова-
тельная часть + монолог». В ней две части - символическая и реальная.
Каждая из частей состоит в свою очередь из повествования и монолога.
Психологический параллелизм, представленный в этой песне, «развива-
ется в последовательное двойственное членение»5 и представляет со-
бой, по В. М. Жирмунскому, амебейную композицию, то есть особый
вид анафорического построения. Реальная картина, содержащаяся во
второй части песни, повторяет эмоционально-психологическое содер-
жание символической и этим усиливает его воздействие.
3.
Заря ли, моя зорюшка,
Вечернее солнушко!
Далеко восходило,
Высоко светило:
Через лес, через поле,
Через сине через море...
Лежала досточка,
59
Композиция свадебных лирических песен
Лежала еловенькая,
Переход дубовый;
Как по той по досточке
Никто не хаживал,
Никого не важивал,
По той-то досточке
Перешел Иван Сергеевич,
Он с собой перевел
Младую боярыню
Авдотью Михайловну;
Переведши - целовал,
Целовавши - миловал,
Еще другом называл:
«Друг ты мой, Авдотья,
Сердце мое, Михайловна!
Любишь ли ты пер/е/ходити,
Любишь ли мед-пиво пити?
«Я люблю пер/е/ходити,
Люблю мед-пиво пити,
Я люблю постелю слать,
Зголовье класть
И на ручке спать»6.
Песня исполнялась вечером, в день свадьбы, в доме жениха. В ос-
нове песни - символический рассказ о заключении брака (переход
через воду). В ней представлен весь ход развития свадебного кон-
фликта вплоть до победы жениховой стороны7. Ко времени исполне-
ния этой песни от драматической напряженности «довенчальной»
поры не осталось и следа. Однако в песне говорится и об основном, и
о неосновном конфликтах. Здесь неустойчивое, переходное состояние
выражено в самых первых строках: Заря ли, моя зорюшка, / Вечернее
солнушко! Если внимательно присмотреться, здесь присутствует и
временное противопоставление. Заря вечерняя - это конец, умирание.
После нее должна быть заря утренняя, откуда начинается новая
жизнь. И действительно, в следующих строках песни дается разреше-
ние конфликтной ситуации, описывается возрождение, начало новой
жизни: Далеко восходило, / Высоко светило.
Ночь - символ перехода в иной мир. Ночь преодолена, прошла,
начинается новый день, новая жизнь. Символика и конкретная обря-
довая ситуация подсказывают такое толкование. Далее в песне опять
говорится о состоянии переходности, снова символически: Лежала
досточка, /Досточка еловенькая, / Переход дубовый.
Море, река, вообще водное пространство, как и ночь - символы
перехода в иной мир. «Чужая сторона», которая представляет собой в
60
В. В. Бондаренко
каком-то смысле «иной мир», должна быть отделена в пространстве
от стороны родной. Молодой человек переходит границу, тем самым
возвращаясь в устойчивое состояние. Невеста переходит на «ту сто-
рону» не сама, ее переводит жених, что сразу вызывает в памяти
строки из предыдущей песни: «не сама я к вам заехала...».
Характерно, что момент перехода в иное состояние представлен как
радостное событие. Причем об этом говорит и сама невеста: Я люблю
пер/е/ходити. В этой песне нет собственного внутреннего конфликта,
так как его нет в изображаемой обрядовой ситуации. Здесь присутствует
лишь упоминание о предшествующих конфликтах. Переход через реку,
море в перспективе - нечто страшное. Теперь он - свершившееся. Кон-
фликт разрешен, о чем объективно повествуется в песне. Конфликта,
как он представлялся невесте, как будто и не было. Но это - точка зре-
ния в другом времени, в другом пространстве, другого коллектива, в
который перешла невеста. К той сложной системе противопоставлений
и противостояний добавляется еще одно: все те более ранние противо-
поставления оказываются напрасными, беспочвенными. Только теперь
человек родился для настоящей (по ритуалу) жизни.
По форме изложения песня представляет собой тип «повествова-
тельная часть + диалог». В повествовательной части используется
прием ступенчатого сужения образа, что соответствует сужению угла
зрения повествователя. Мир предстает перед нами вначале с большой
высоты. Взгляд повествователя охватывает сразу и лес, и поле, и мо-
ре. Он видит и заходящее, и восходящее солнце. Далее точка зрения
меняется, сужается угол зрения, происходит конкретизация места
действия: На том синем море /Лежала досточка. Теперь хор высту-
пает в роли наблюдателя, присутствующего при изображаемых собы-
тиях. И, наконец, взгляд сужается до личного восприятия ситуации
героями лирической - в диалоге жениха и невесты.
В рассмотренных выше песнях нашла отражение трагическая
оценка свадьбы невестой и победа жениховой стороны. Однако сва-
дебное действие не всегда оценивается невестой отрицательно.
В песнях «смягченной формации» (по определению О. Ф. Миллера8)
невеста высказывает положительное отношению к браку, сама прояв-
ляет инициативу:
4.
Черная конка по бережку ходила,
Ходила, гуляла
Она черного соболя будила:
- А встань же ты, черный соболик, не лежи,
Переведи ж ты мине
С этого бору в свой бор.
Мине этот бор надоел,
61
Композиция свадебных лирических песен
Мине ягодка-смородинка приелася,
Болотная водица припилася.
Маринушка до по терему ходила,
Молодого Иванушку будила:
- Устань же ты, Иванушка, не лежи,
Переведи ж ты мине
С этого двора в свой двор.
Мине етай двор надоел,
Мине у батюшки работушка постыла,
Мине у свекрушки работушка поспела9.
Песня исполнялась во время предсвадебного цикла обрядовых
действий. Несмотря на драматизм обрядовой ситуации, в ней вполне
определенно выражается положительное отношение невесты к браку
и ее активное стремление к новой жизни, ей надоел ее «старый бор»10.
По форме изложения песня представляет собой тип «повествова-
тельная часть + монолог». Сужение угла зрения от объективного по-
вествования стороннего наблюдателя до личных впечатлений участ-
ников обрядовой ситуации совпадает с переходом от повествователь-
ной части к монологу невесты.
В рассматриваемой песне мы имеем двойной ряд символических
значений - скрытый и открытый. Открытый поясняется во второй
части песни: «черная конка» - «Маринушка» (невеста), «черный со-
болик» - «Иванушка» (жених). В скрытом ряду символических значе-
ний нашли отражение языческие представления древних славян о
связи шерсти, мохнатости с плодородием, размножением, богатством.
Свадебные песни отражают ход развития конфликта свадебного
действия с момента завязки вплоть до конца свадьбы. В прямой зави-
симости от обрядовой приуроченности песни находится организация
в ней внутреннего противопоставления, ход развития которого явля-
ется главным организующим элементом композиции песни в плане
содержания. В песнях предсвадебного цикла развязка по форме не
совпадает с развязкой по содержанию, так как конфликтная ситуация
не нашла своего разрешения и не завершено обрядовое действие,
которое она сопровождает. В песнях, исполнявшихся после венца, во
время свадебного пира, представлена непосредственно развязка, так
как переход молодых людей в новое состояние завершился, достигну-
то полное благополучие и удовлетворенность. В песнях же, испол-
нявшихся либо при отъезде молодых к венцу, либо сразу же после
венца, основной конфликт разрешается, однако появляется дополни-
тельная конфликтная ситуация, в развязке чувствуется некоторая не-
договоренность. В песнях «конфликтных» мы легко можем вычленить
элементы композиции «сюжета»: завязку, кульминацию и т. д. В пес-
нях же бесконфликтных это сделать практически невозможно. Обыч-
но такие песни представляют собой развернутую развязку.
62
В. В. Бондаренко
Свадебные лирические песни являются частью целостного обря-
дового комплекса, они включены в обряд, сопровождают определен-
ные обрядовые действия, ситуации. Такое «обрамление» свадебных
песен обусловливает их «открытость» в незавершенную обрядовую
действительность, в динамичный обрядовый мир. Свадебные песни
не нуждаются в особых зачинах, так как зачином для них является
обрядовая ситуация, вызывающая ту или иную песню. Так же не нуж-
ны и концовки, песня «открыта» в обе стороны. Свадебные лириче-
ские песни - это органическое продолжение условной обрядовой
действительности и продолжаются они в ней же.
Типы композиции в свадебных лирических песнях разнообразнее
за счет многочастных песен, которые необрядовой лирике свойствен-
ны мало, зато популярны среди хороводных песен. Широкое исполь-
зование многочастного построения в свадебных лирических песнях,
как и в хороводных, объясняется их принадлежностью к лиро-
драматическому роду: их главное назначение - изображать, переда-
вать действие. Слово в свадебной песне - это не только слово, но и
отзыв на действие, которое в данный момент совершается. Завершен-
ность свадебных лирических песен относительна, поскольку они
включены в общий «сюжет» свадебного обряда. Одни песни могут
быть только «началом» ритуального события, другие - его «середи-
ной», третьи - «концом». Противоречие завершенность / незавершен-
ность события - одна из основных особенностей композиции свадеб-
ных лирических песен.
Примечания
1 Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня. М.;Л., 1963. (глава «Песни лири-
ческие»); Кравцов Н. И. Поэтика русских народных лирических песен. Ч. I. Компози-
ция. М., 1974; Лазутин С. Г. Поэтика русского фольклора. М., 1981. С. 60, 72.
2 Круглов Ю. Г. Русские свадебные песни. М., 1978. С. 76.
3 Архив кафедры фольклора МГУ; 1982 Тат. АССР, Чистопольский р-н, сл. Черемухо-
вая. Т.VII, № 38.
4 Шейн П. В. Великорусе в своих песнях, обрядах, обычаях... Вып. 11. СПб., 1900. № 1712.
5 Жирмунский В. М. Композиция лирических стихотворений / Он же Теория стиха. Л.,
1977. С. 475.
6 Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия. Вып. I. Песни обрядовые. М., 1911.
№ 530.
7 Акимова Т. М. О поэтической природе народной лирической песни. Саратов, 1966. С.69.
8 Миллер О. Ф. Нечто о русских свадебных песнях // Филологические записки, 1872.
Вып. IV. С.23.
9 Старинная севская свадьба. М., 1978. № 1911.
10 Ср. обратный пример: Батюшка мой родимый, / Возьми ты меня / Опять и к себе:
/Я у тебя была - / Как роза цвела, / А нынче стала - / Как снег бела! - Старинная
севская свадьба, № 250.
63
Композиция и жанровые трансформации
песенного сюжета «Стукнуло, грянуло в лесе»
П. Т. Громов (Балашов)
Песня «Стукнуло, грянуло в лесе» широко известна в украинских,
белорусских и русских записях, причем географическое ее распро-
странение шло преимущественно по среднерусской полосе - с Запада
на Восток вплоть до самого Тихого океана, обычно минуя русский
Север. Примерно так шли переселенческие волны с территории се-
верной Украины и прилегающего к ней русско-белорусского пограни-
чья, начиная с середины XIX в. и до конца ЗО-х годов XX в. Варианты
песни будут рассмотрены в хронологии их записи и публикаций, а
затем их последовательность будет скорректирована динамикой сю-
жета во времени.
Самый ранний вариант песни «Стукнуло, грянуло в лесе» опубли-
кован в «Письмовнике» Курганова в 1769 году:
Стукнуло, грянуло в лесе,
Комар с дубу свалился.
Упал он на коренище,
Сбил он до гола плечище.
Слетались мухи-горюхи,
Славные громотухи.
Стали они возглашати,
О комаре вспоминати:
«Ах ты, наш милый комаре,
Жаль нам тебя невмале!
Как будешь ты умирати,
Где нам тебя погребати?»
«Похороните меня в поле,
При зеленой дуброве.
Там-то казаки бывают,
Часто горелку испивают,
Туду и сюду обзирают,
Про комара вспоминают:
«Тут-де лежит комарище,
Славный донской казачище!»
Текст песни, отсылающей нас к казачьей среде {комарище - дон-
ской казачище), дословно повторяется в Песеннике 1780 года (Ч. VI.
С. 104) и воспроизводится в VII томе «Великорусских народных пе-
64
П. Т. Громов
сен» А. И. Соболевского (с. 385). В сборнике М. Д. Чулкова «Собра-
ние разных песен» добавлены лишь два последних стиха: Лежит
тут брату комару / Сей дубровы господарю. Наиболее полный вари-
ант помещен в I части Песенника 1780 года (перепечатан в VII томе
песен Соболевского, с. 386-387). Композиционно песня расширена: в
нее введены новые мотивы - осуждение мухи-невесты, не способной
прясть и ткать. Да и сама гибель комара осложняется подробностями,
создающими дополнительные психологические нюансы, мотивирую-
щие причину гибели - так подействовала на него хула слепней в адрес
мухи. Изменение структуры привело к тому, что в песне оказалась
расширенной символика:
Далече, далече в чистом поле,
Стояли тут два садочка,
В них воспевали два щеглочка,
Что будет-де свадьба веселая,
Веселая, матерая:
Комар с мухой сговорится
И будет на ней жениться...
«Похороните меня в поле,
При зеленой дуброве!
Там-то казаки бывают...
Про комара вспоминают:
Тут-де лежит комарище,
Славный донской казачище;
Лежит тут брат комару,
Сей дубровы господарю!»
В начале XIX в. в записях Зориана Доленги-Ходаковского (Адама
Черноцкого) появляется песня «Ой грохнуло в буйним л!сЬ>, записан-
ная латиницей. В украинской версии подчеркнуто сочувственное от-
ношение к комару-покойнику: Поховайте мне в чорним nici, / На той
гор1 лисой, / айте на мене полосньку - / Зеленую шальв1еньку. / Хто
прийде шальвно рвати, / Буде мене споминати , однако снято упоми-
нание о принадлежности комара к казачьему сословию, вероятно,
потому, что версия записана в Западной Украине, куда политическая
подоплека аллегории могла и не дойти, или утратилась со временем.
Дополненная версия обнародована столетием позже в сборнике
П. В. Шейна «Народные песни» (М., 1870. Ч. I. С. 181-182). В ней
впервые появляется мотив женитьбы комара на мухе, которая «ни
ткать, ни прясть не горазда». Однако только в белорусской версии,
опубликованной тем же собирателем в сборнике «Материалы для
изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края»
(Т. I. Ч. I. СПб., 1887) пять вариантов из шести (№632 А, 633 Б, 634 В,
635 Г, 636 Д) вводят мотив женитьбы комара на мухе, который и ста-
65
Композиция и жанровые трансформации...
ловится доминантой песни2. Варианты в совокупности детальнее и
острее изображают «нездатность» невесты-белоручки, не способной к
труду, не знающей особенностей крестьянской работы. Только «три
дельца умеет мушенька»: С полычки на полычку питать, / С краюшку
сметанышку збирать (634 В) и Мужа-комарищоу годуваци (635 Г).
Именно это обстоятельство оказывается гибельно: С тэй тоски сы
кручины / Пылятев кы.марочик ны дубочик...
Обычна контаминация мотивов двух песен «Стукнуло, грянуло в
лесе» (в песне говорится о гибели комара, но не о женитьбе) и «Заду-
мал комарик жениться» (с обозначением в конце принадлежности
комара к казачьему сословию, или без такового обозначения). Однако
в варианте Шейна, записанном в Курской губернии3, перед нами явно
испорченный текст. К законченной версии4 механически присоединя-
ется почти аналогичный ей вариант, представляющий собой краткую
сюжетную схему песни, которая, естественно, ничего нового не вно-
сит в разработку сюжета.
В 1951 г. на Дону в хуторе Лебяжьем от А. Я. Калининой5 нами за-
писан один из вариантов этой сатирической песни. Существенной
трансформации в ней подверглась концовка:
Комар к мухе убирался,
В зелену рубашку наряжался,
Полетел наш комар во зеленый лужочек,
Сел, сел наш комар на зеленый дубочек.
Ниотколь взялся ветерочек,
Раскачал, расшатал зелен дубочек.
Упал наш комар на сырую землю,
Разбил себе губы-зубы.
Ниотколь взялись сильны мухи,
Поднимали комара под белы руки,
Понесли комара в море обмывати,
В зеленую рубаху одевати,
Ой, стали его в землю зарывати.
Едет-едет какой-то прохожий:
«Да кого-то хоронят-зарывают,
Не то пан, не то князь, не то помещик?»
«Да не пан, да не князь, не помещик,
Это старой мухи полюбовник»6.
Определенный интерес представляет запись 1948 г. «Что задумал
наш комаричек жениться», сделанная в селе Курьи Сухоложского рай-
она Свердловской области7. Комар в ней не донской казак, а «По одёже-
то похожий сын попович, / По окладистой бородке сын торговый».
Оценка, судя по всему, выражала только мнение тех, кто ее дал: «Туто
шли-прошли два прохожих - / Один-то поп, другой да разбойник».
66
П. Т. Громов
Рассмотрим варианты, записанные в 1969 г. на Дальнем Востоке: «У
нас завтра свадьба будэ» (М. С. Рацко), «Комар той на мусе оженився»
(Д. Д. Семенковой), «Летел комар да-й убился» (Н. Д. Дихтярь). Запи-
саны они в расположенных рядом районах: Уссурийском, Михайлов-
ском, Шкотовском. Исполнены женщинами, переехавшими на Дальний
Восток с Украины. Наиболее полный вариант принадлежит Марфе
Сергеевне Рацко, 1905 г. рождения, украинке, приехавшей в Приморье в
1910 г., неграмотной. Песни она переняла от матери, которая была хо-
рошей песенницей. Довольно обширен и разнообразен репертуар и
самой Марфы Сергеевны. Нас привлекла подробность: вначале Рацко
исполнила полный вариант песни «У нас завтра свадьба будэ», а затем -
отрывок из другой версии - «Стукнуло, грянуло в лесе».
У нас завтра свадьба будэ,
Комар муху сватать будэ.
Кажуть люди, шо рабоча -
Шиты-прясты охоча.
А еще к тому и полытюга:
По погребам полетае,
Сыр и масло добывае,
Комарика году ваты.
Полытив же комар в чисто поле,
Та-й сив комар на дубочку,
Звисив свои ноженьки к корешочку.
Дэсь-то взялась шуря-буря,
Она ж того комарика с дуба сдула.
От упав комар на помости,
Побыв, поломав уси кости.
Ой, давайте, браты, становиться,
На покойника все дывыться:
«Чи князь, чи майор, чи полковник?»
- «То не князь, не майор, не полковник -
Старой мушеньки полюбовник».
В приведенном варианте хорошо сохранен сюжет. Правда, некото-
рые детали уже переосмысляются: нет прямых инвектив в адрес мухи,
характеристики неопределенны и противоречивы: «Кажуть люди, шо
рабоча - / Шиты-прясты охоча». Это можно принять и за одобрение
(хотя такая характеристика не достоверна - это только молва), тем
более, что дальнейшая информация, которая обычно в ранних вариан-
тах служит антитезой, усиливающей недостатки мухи, в варианте
Рацко приобретает совершенно противоположное положительное
значение - «А еще к тому и полытюга: / По погребам полетае, / Сыр и
масло добывае - / Комарика годуваты». В варианте Рацко ослаблен
сатирический акцент. И думается, не случайно. В песне ощущается
67
Композиция и жанровые трансформации...
потеря историко-бытовых реалий. Она уже воспринимается исполни-
тельницей только как намек на какие-то давние события. Внутренний
подтекст почти не осознается. В связи с этим меняется бытовая функ-
ция песни. Происходит «обратная» жанровая трансформация - песня
возвращается к исходной ипостаси, становится вновь шуточно-
плясовой. Именно на такой ее функции и настаивала Рацко. Вместе с
тем песня еще сохраняет сатирический элемент концовки: «То не
князь, не майор, не полковник-/ Старой мушеньки полюбовник».
Следом за этой песней Рацко исполнила как самостоятельную пес-
ню отрывок из версии «Стукнуло, грянуло в лесе»:
Ой, что ж там за шум учынився,
Той комар на мусе ожынився
Та-й взяв соби жинку-невеличку,
Шо не може шыты, прясты, ни робыты,
С комариком-комаром добре жыты.
Хорошее художественное чутье не позволило исполнительнице
объединить песни (хотя аналогичная контаминация, как мы видели, не
исключается).
Заслуживает внимания вариант, записанный в селе Домашлино
Шкотовского района от Нины Дмитриевны Дихтярь, 1910 г. рожде-
ния, украинки. В ее репертуаре несколько интересных шуточных,
сатирических песен: «Заводила баба хлебы», «Как была у Петра рас-
хорошая жена», «Хоп», «У Маруси руки заболели» и др. В репертуаре
свободно уживаются и собственно украинские, и русские. Дихтярь
исполнила совершенно новую, оригинальную версию, не совсем по-
хожую на все остальные:
Летел комар да-й убился.
Прилетела муха-мать, муха-мать,
Комарика спасать.
Села - думала, думала, думала,
Как комарика рятувать:
«Ты ж комарик родный мой,
Где ж мне тебя поховать?»
Села - думала, думала, думала,
Где б комарика поховать.
«Поховаю в край долины,
Чтоб по тебе волки выли -
Села - думала, думала, думала, -
Чтоб по тебе волки выли,
И вороны каркали,
И собачки гавкали.»
Села - думала, думала, думала -
«И собачки гавкали!»
68
П. Т. Громов
В 1969 г. в селе Николаевка Михайловского района Приморского
края от Дарьи Денисовны Семенцовой, русской, родом с Чернигов-
щины (в Приморье переехала в начале 900-х годов) был записан вари-
ант песни, представляющий собой контаминацию песен: «Собирался
комарик жениться» и «Стукнуло, грянуло в лесе»:
Комар на той мухе оженився
Полетел той комар во чисто поле,
Сел на дубочек,
Свесил ноги с листочка.
Откуль взялся ветерочек,
Сдуло, сдуло комарочка
С того ли дубочка.
Ручки-ножки обломил.
Откуль взялись стары мухи,
И стали того комара хоронити.
«Что ж это стоит за холмочек?»
- «Это старой мушечки полюбовник!»
Сопоставление всех приведенных вариантов дает основание пола-
гать, что донскую версию песни, опубликованную в «Письмовнике»
Курганова, можно считать исходной, а остальные - результатом ми-
грации песни.
Все песенные мотивы: и характеристика мухи-невесты, и самого
комара, которому воздаются почести как майору, полковнику и даже
князю («Черным аксамитом накрывали, / Золотую труну выбивали») -
сцеплены в одном сюжетном узле - аллегории с недвусмысленным
намеком на исторические подробности взаимоотношений Елизаветы
Петровны и Алексея Григорьевича Разумовского, в прошлом сына
простого казака из села Лемеши (Киевского полка, располагавшегося
недалеко от г. Козельца8).
Действительно осенью 1742 г. в подмосковном селе Перово Елиза-
вета Петровна «сочеталась тайным браком» с Алексеем Разумовским.
Фаворит царицы стал графом и фельдмаршалом. Молва не поспевала за
очередным повышением. Может, потому и - «При тым вялики сенатове,
/ Пыталися, што за цела: / Чи князь, чи маюр, чи полкоуник?» этот са-
мый «Казаченька старого полку»9. Характерна и такая подробность:
смерть комара случилась во вторник - явный намек на смерть Алексея
Разумовского, умершего во вторник 6-го июля 1771 г.10
Соображения социального порядка требовали внесения в песню
конкретно-исторических деталей, преимущественно сюжетно-ассоци-
ативных, которые бы способствовали дешифровке этих мотивов в
широком народном восприятии. Складывается впечатление, что песня
в процессе трансформации постепенно утрачивала элементы компо-
зиции, свойственные именно лирике. Исчезали лирические паралле-
69
Композиция и жанровые трансформации...
ли-символы, заменяясь иносказанием, развивалась сюжетная повест-
вовательность, средства эмоционального выражения заменялись из-
ложением жизненных фактов и ситуаций в их объективных связях и
отношениях. Постепенно они конкретизировались, фокусируя собы-
тия на тех ассоциациях, которые позволяли реально предположить не
абстрактных образ или явление, а вполне реальное лицо и конкретные
явления. Срабатывал прием выделения, направленный отнюдь не на
чувство, а на действие, характеризующее образ: муха - непряха, комар -
полюбовник, карьерист. Композиционный прием выделения при всех
трансформациях песни устойчиво сохраняется, а в вариантах остроса-
тирического характера даже усиливается. Проекциями в бытовые и
исторические реалии песня разрушает традиционный антропоморфизм.
Между тем весь смысл и характер трансформаций в песне клонит-
ся к тому, что перед нами несомненно социальная аллегория: усиле-
ние обличительных тенденций, которые сопутствовали всей истории
бытования песни, постепенно создавало тот критический предел,
который трансформировал и жанр, превращаю песню из шуточно-
плясовой в сатирическую.
Смоделируем теперь в целом динамику сюжета. Есть все основа-
ния думать о сугубо бестиальном содержании сюжета песни, первона-
чальные варианты которой приобретали преимущественно шуточно-
плясовую функцию. И только позже, в процессе бытования, песня
включала элементы сатиры, вначале, вероятно, чисто бытового харак-
тера, когда инвективы в адрес мухи, не умеющей выполнять обычную
хозяйскую работу, акцентировались в крестьянской среде. Затем, по-
падая в иные социальные среды, например, казачью, песня усиливала
обличение разгула и пьянства и других бытовых грехов. По крайней
мере, в записях XVIII и первой половины XIX века она еще не приоб-
рела характера политической сатиры. В послевоенных записях на
Дону, в Сибири, на Дальнем Востоке песня все чаще трансформирует
сюжет в социальную сатиру.
«Стукнуло, грянуло в лесе» - своеобразная интродукция ко всей
песне. С точки зрения поэтики - это гротескный прием, сразу же на-
страивающий слушателя на восприятие необычных, грандиозных
явлений, а свалился с дерева всего-навсего комар. Этой особенности
композиции подчинена и синтаксическая конструкция строфы с пре-
обладанием глаголов действия, что создает напряженную экспрессию
повествования.
Песня не сохраняет принцип тройственности, редки в ней анафо-
ра, повторы, строфические перехваты. Однако трехчленность компо-
зиции все же прослеживается. В любом более-менее цельном вариан-
те мы обнаруживаем три композиционных звена: 1) стукнуло в лесе -
комар свалился (первая исходная ситуация); 2) мухи хоронят комара
70
П. Т. Громов
(эпизод обычно сопровождаемый диалогом); 3) взгляд-оценка со сто-
роны - характеристика покойника, констатация отношения к нему.
Такая композиция создает целостное восприятие, которое разрушает-
ся тогда, когда в песне исчезают в результате забывчивости исполни-
теля отдельные фрагменты или наоборот, когда исполнители
механически контаминируют версии.
Со временем сатира усиливалась. Показателем может служить лю-
бопытная концовка песни, записанной Е. Томилиным в Курганской
губернии от одного крестьянина:
Ох что ж это ляжить во гробочку?
Что не наш ли царь, не наш ли полковник?
Что не тот ли комарочек-покойник,
Что помер-то да во вторник?
В середу панихидушки служити,
Всем по рюмочке винца подносити,
И попам, и дьякам, и поповым батракам -
И серебряникам.
Ешше пару колес, чтоб до дому не довез,
Чтоб до дому не довез, ешше шпильку в нос11.
Если вдуматься в ситуацию, песня трагична в своей основе. Этот
трагизм не исчезает в процессе ее бытования, несмотря на усиление
сатирического аспекта, поскольку сатира превращает трагическую
ситуацию в трагикомическую. И в этом особая заданность песенной
транформации. В самом деле, осмысливая песенный конфликт и не-
вольно проецируя его на аналогичную житейскую ситуацию, всякий
размышляющий человек задумается над исторической судьбой фаво-
ритизма. Каждый новый вариант песни - это, так сказать, и новый
индивидуальный почин, «отмеченный чутким отношением к тому
новому, что несет с собой время»12. Любопытно, что жанровая транс-
формация песни почти не меняла ее ритмику. Во всех случаях песня
оставалась «частой».
Таким образом уникальная песенная сатира «Стукнуло, грянуло в
лесе», впервые зафиксированная в XVIII веке, подверглась в процессе
бытования существенным изменениям в разных восточнославянских
версиях. Сопоставительное изучение ее вариантов позволило устано-
вить изменения двоякого характера: мнемонические, приводившие к
художественным потерям, и творческие, создававшие новые мотивы,
детали и характеристики. Адресуясь историческим событиям, песня
приобретала все большую сатирическую заостренность. Это приво-
дило соответственно и к жанровым трансформациям от шуточно-
плясовой песни - к политической сатире.
71
Композиция и жанровые трансформации...
Примечания
1 УкраГнськ! народы nicHi в записах 3opiana Доленги-Ходаковського. Кшв, 1974.
С. 589, в разделе «FIicHi-байки та алегорн».
2 Особняком стоит вариант №637. Он исключает мотив женитьбы комара, хотя другие
варианты, записанные в той же Минской губернии, не только содержат его, но и дела-
ют этот мотив одним из главных.
3 Шейн П. В. Великорусе в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках,
легендах и т. п. Т. I. Ч. I. № 998-1000.
4 Шейн П. В. Народные песни. М., 1870. Ч. I. №37. Записана в Тульской губернии. См.
также замечание Г. Н. Потанина на с. 292: «В песне ощутимы черты пародии, высмеи-
вающей псевдогероическую балладу».
5 Народное творчество Дона / Под ред. П. Т. Громова. Ростов-на-Дону, 1952. С. 154.
6 Сходный вариант записан М. Н. Мельниковым в 1976 г. в Новосибирской области от
И.Е. Степанец, 1906 г.р.:
Муха-муха - полетуха,
Шить да прясти охотуха.
Я не шила и не пряла,
Сыр да масло собирала
Да комарика годувала.
Да рассердився комар на муху
Да-й ударив муху в уха.
Да-й рассерди всь на муху.
Да-й поднявсь выше леса,
Да-й сел комар на дубочку,
Да-й схилив свою головочку.
Ой, поднявся ветер-буря,
Да-й комарика с дуба сдула.
Да-й упав комар на лесочке,
Да-й разбив свои кости.
Да-я собрали те кости,
Схоронили край дорожки.
И хто же не иде - остановится,
На покойника дивится:
- Ой, шо то за покойник?
-Старой мухи полюбовник!
7 Уральский фольклор / Под ред. М. Г. Китайника. Свердловск, 1949. № 69.
8 Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. М., 1868.
9 Шейн П. В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-
Западного края. Т. I. Ч. I. СПб., 1887. С. 513-514.
10 На адресованность песни взаимоотношениям Елизаветы Петровны и А. Разумовско-
го в своё время намекал и В. И. Чичеров в своём учебнике «Русское народное творче-
ство» (МГУ, 1958).
” Шейн П. В. Великорусе... Т. I. Ч. I. № 998.
12 Аникин В. П. Коллективность как сущность творческого процесса в фольклоре И
Русский фольклор. Т. V. М., 1959. С. 19.
72
Обрядовая и необрядовая лирика
в контексте ритуала:
типология и функции
Т Б. Дианова (Москва)
Исследование тесных связей необрядовой лирики с обрядом -
давний предмет интереса фольклористов. Уже в XIX веке не стави-
лось под сомнение обрядовое происхождение многих образов, форм,
элементов поэтического стиля необрядовой лирики: фундаменталь-
ные труды А. Н. Веселовского и А. А. Потебни сделали изучение об-
рядового генезиса песен своеобразным «центром» в разработке фило-
логической проблематики, сопряженной с народной лирикой. В фоль-
клористике XX века взаимоотношения песенной лирики и обряда
решались в основном в рамках изучения жанровой типологии и по
преимуществу в синхронных исследованиях поэтики лирики (В. Я. Пропп,
Н. П. Колпакова, С. Г. Лазутин, Т. М. Акимова, В. П. Аникин, Ю. Г. Круг-
лов), одним из немногочисленных исключений стало исследование
В. И. Ереминой «Ритуал и фольклор».
В работах В. П. Аникина представлена искусствоведческая интер-
претация типологии календарного и свадебного фольклора (Аникин
1970). Проблемам генезиса необрядовой лирики посвящена отдельная
статья, в которой ученый устанавливает прямую генетическую связь
между поэтическими приемами баллад, причитаний, обрядовых пе-
сен, с одной стороны, и художественными особенностями необрядо-
вой лирики - с другой. Необрядовые песни тем самым помещаются
исследователем в контекст близкородственных жанров, а генезис ли-
рики мыслится им как «синтез предшествующих исторических форм
песенного творчества на основе приспособления и подчинения преж-
них традиций выражению более сложного содержания, внесенного в
искусство общим процессом народного художественного сознания»
[Аникин 1971, 24].
Ю. Г. Круглов детально систематизировал обрядовую поэзию, в
том числе большое внимание уделил особенностям лирических обря-
довых песен. Принципиальное различие между собственно обрядо-
выми жанрами (ритуальными, заклинательными, величальными, ко-
рильными и игровыми песнями) и обрядовой лирикой лежит, по его
мнению, в сфере непосредственной функциональности песен: первые
73
Обрядовая ii необрядовая лирика в контексте ритуала ...
«по своему значению ничем не отличались от»обрядов, выполняя те
же функции» [Круглов 1982, 12], они заменяют собой обрядовые дей-
ствия, «стремятся воздействовать на окружающий мир непосредст-
венно» [там же, 10], вторые - «изображали внутренний мир персона-
жей (участников ритуала), а благодаря этому - и их обрядовое
отношение к совершавшимся событиям» [там же, 12]. По мнению
исследователя, обрядовые лирические песни не обязательно имеют
строго определенное место в обряде и не всегда комментируют обряд,
они, «воспроизводя обряды, могли создавать необходимый обрядово-
эмоциональный колорит» [там же, 132].
В исследованиях последних десятилетий, основанных на материа-
ле комплексных фольклорно-этнографических данных, просматрива-
ется интенсивный поиск методологии, адекватной живому, текучему
песенному материалу. Неизменными принципами работы современ-
ных фольклористов стали детальное описание локальных традиций,
непременный учет фольклорно-этнографического контекста, призна-
ние сложной функциональной природы фольклорных произведений.
Теоретические изыскания в области славянских ритуалов (Н. И. и
С. М. Толстые, Л. Н. Виноградова, Т. А. Агапкина и др.) позволяют
рассматривать обряды как сложные культурные тексты, структура
которых образована сочетанием вербального, акционального и реаль-
ного (предметного) содержательных слоев. Это важное методологи-
ческое положение дает основания к постановке вопроса о месте пе-
сенно-лирического текста в этой структуре. Решение этой проблемы
должно быть взаимоувязано с тщательным анализом функциональной
стороны песни в обряде, т. к., по справедливому утверждению
П. Г. Богатырева, «функции песни вместе образуют, как и функции
других социальных фактов, целую структуру. Помимо эстетической
функции, песня обладает другими функциями: магической, функцией
знака, указывающего на местность распространения песни, функцией,
заключающейся в регулировании ритма работы, функцией указания
возраста исполнителя и того, кем песня должна исполняться (мужчи-
нами, женщинами) и т. д.» [Богатырев, 200].
В работах исследователей музыкального обрядового фольклора
отчетливо выявлены вербальные обряды, в которых звучащее слово -
основа всех ритуальных составляющих. Об одном из них так пишет
Т. А. Агапкина: «...своим содержанием заклички мало связаны с об-
рядом, в рамках которого исполняются, а те их мотивы, которые такие
связи все же обнаруживают (например, упоминание о масленичной и
пасхальной пище) имеют обычно узколокальный или даже окказио-
нальный характер и поэтому, вероятно, достаточно поздние. В этом
74
Т. Б. Дианова
можно усмотреть еще одно доказательство того, что “закликание вес-
ны”, как мы уже говорили, вербальный обряд, поскольку именно кли-
канье, зов весны и составляет его существо. Все же остальные компо-
ненты обряда в некотором смысле носят подчиненный характер и
лишь способствуют ритуализации самого исполнения закличек»
[Агапкина 2002, 277]. Итак, в этом случае слово организует обряд и
является его центральной частью.
Второй тип соотношения фольклорного текста и ритуала предпо-
лагает «при полной сюжетной (содержательной) самостоятельности
от ритуала... максимальную зависимость от его функции и структу-
ры» [Агапкина 2002, 278]. Таковы словесные поединки, в песенной
форме широко распространенные в восточнославянской календарно-
обрядовой и свадебной традиции, диалогическая композиция которых
воспроизводит формальные элементы ритуалов (перекличку сел, ри-
туальную вражду и перебранку противоположных полов деревенской
молодежи, двуключевые хороводы и песенный антифон. Представля-
ется, что словесные поединки по типу близки вербальным ритуалам,
но содержание их является универсальным1 и потому не может быть
отнесено к конкретному обряду.
Третий тип связи обряда и песни складывается, когда песенный
текст, являясь непеременным атрибутом ритуала, подчинен ему. «Как
обязательный компонент обряда текст занимает в нем определенное
место, подчиняясь строгим правилам развития обрядовых действий»
[Виноградова, 23], как, например, в западно-восточнославянском
колядовании. Ю. Г. Круглов назвал такие песни ритуальными [Круг-
лов 1982, 39], они, как правило, содержат перечень обрядовых дейст-
вий, называют участников ритуала, предметы и объекты, которыми он
обставлен, в качестве обязательных компонентов текста. Наряду с
другими элементами обряда (действиями, использованием символи-
ческих предметов и т. п.) ритуальные тексты являются одним из его
обязательных элементов. Обрядовые причитания, величания, корения
также являются одним из элементов обряда, обязательным «высказы-
ванием» в структуре его текста.
Четвертый тип представлен лирическими обрядовыми песнями,
возникшими непосредственно в обряде, в которых он изображен, с
точки зрения одного из его участников или с «внешней точки зрения».
Как правило, такого рода тексты активно бытуют только или преиму-
щественно в обряде, не имея в нем четкого прикрепления, хотя в от-
дельных локальных традициях и тяготеют к определенному моменту
действия. Атрибуция таких песен несложна, даже если они исполня-
ются вне обрядового контекста, который легко восстанавливается из
75
Обрядовая и необрядовая лирика в контексте ритуала ...
содержания песни. Так, широкоизвестная на русской территории сва-
дебная песня «Цветет-растет черемушка в зеленом саду...» в донской
свадьбе могла звучать во время «пьяниц» (пропоя невесты), в момент
«как невесту выводят к жениху», в послевенечный период. Известная
универсальность подобных свадебных песен объясняется их следова-
нием за обрядом «на короткой дистанции», обобщением, «стяжением»
в один текст песни упоминаний о нескольких микроритуалах свадьбы.
...Нельзя, нельзя черемушку незрелую рвать
Неспелую, незрелую, невызревшую.
Нельзя, нельзя девчоночку несватану брать
Несватану, невенчену, незаручену.
Ведут младца с того крыльца с красавицею.
Один ведет за рученьку, другой за другу
Третий стоит, сердце болит -
Любил, да не взял...
- Девчоночка-красоточка, оглянься назад!
- Мальчишечка-бедняжечка, глаза не глядят!
- Девчоночка-красоточка, платочком махни!
- Мальчишечка-бедняжечка, платок короток!
(АКФ МГУ 1995 Волгоградск. обл., хут. Морской).
В приведенном нами фрагменте упоминаются сватовство, венча-
ние и запоручивание, вывод невесты (после выкупа или венца?), во-
ображаемый диалог молодца и невесты, сентенции (мораль) и «внут-
ренняя речь» молодца. Такого рода тексты непосредственно описывают
(«изображают») отдельные ритуальные действия, «цитируют» обрядо-
вые высказывания участников свадьбы: причитания невесты, риту-
альные диалоги и проч. В отличие от ритуальных песен, они «расши-
ряют» круг персонажей и типичных речевых формул, выходя за рамки
непосредственно предписанного обрядом. Если характеризовать эти
тексты применительно к многообразию типов составляющих их фор-
мул, они являются «полисоставными», в отличие от ранее перечис-
ленных, что влечет усложненность композиции и прерывистую, «не-
монотонную» структуру повествования.
В работах современных исследователей все более настойчиво зву-
чит мысль о том, что лирика в обряде детально описывает обрядовый
процесс, а не только «выражает отношения... исполнителя, его чувст-
ва и настроение» [Круглов 1982, 129], только описание это не развер-
нутое, а в соответствии с лирическим каноном, сжатое. Емкие лири-
ческие формулы позволяют «стяженно» представить все многообра-
зие обрядовых действий, как, например, в варианте духовской песни
Смоленщины, сопровождавшей одно из многочисленных ритуальных
76
Т. Б. Дианова
шествий (к месту завивания венков, к реке, на поля во время их обря-
довых обходов), совершавшихся на Троицу:
Святой Духа Троица, святоя Взнесення,
Ой ли... ой лёли, святоя Взнясе...
Святоя Взнясення, позволь пагуляти
Позволь пагуляти, вянки завювати
Завью я вяночек на круглой гадочик.
Кругла наша поля, кругла еравоя.
Кругла еравоя, на ём ягад много.
На ём ягад много, я ж ягады брала.
Я ж ягоды брала, брала-выбирала.
[Смоленский сборник 2003, 374]
В приведенном примере среди основных композиционных формул
представлены «имя праздника» в характерной форме призыва, обра-
щения, просьба разрешить «погулять», упоминание о центральном
ритуале - завивании венков, указание на причину завивания венков -
гадания «на круглай гадочик», символическое описание обилия ярово-
го поля «на ём ягад многа», «я... брала-выбирала», возможное испол-
нение песни в хороводе «кругла наша поля», рефрен «лели», восходя-
щий к мелодическим формам ран не-фольклорного интонирования.
Коммуникативная структура текста песни сложная: в ней сочетаются
зов, просьба, повествование; изложение ведется от лица типичной
участницы женских троицких обрядов. Как во многих обрядовых
лирических песнях, данный сюжет может «расширяться»2 за счет
вовлечения мотивов, благодаря которым статус лирической героини
песни еще более проясняется - это «молодка», образ которой тесно
ассоциирован в песенной лирике с рядом структурообразующих оп-
позиций (своё/чужое, молодое/старое), проявленных в противопо-
ставлении своей семьи чужому роду и самой молодки старому свекру:
...Наем ягыд многа. На ем ягыд многа
И зрелых и спелых, и зрелых и спелых.
Зрелки на тарелки, зрелки на тарелки,
Зеляпушки в хвартушки, зеляпушки в хвартушки.
Зрелки родному батьки, зрелки родному батьки,
Зеляпушки все свекру, зеляпушки все свекру.
Свекар ев бы пыдавился, свекар ев бы пыдавился,
На мине, младу, не бранился, на мине, младу, не
бранился.
[Смоленский сборник 2003,440]
77
Обрядовая и необрядовая лирика в контексте ритуала ...
Характеризуя такого рода песни как главные песенные тексты ри-
туала, в том числе и по причине их мелодического доминирования,
Л. М. Винарчик пишет: «Он (текст песни, - Т. Д.) относится к типу
словесных текстов, описывающих обрядовый процесс. В нем сгруп-
пированы и названы основные его элементы: локативы, исполнители,
обрядовые объекты и действия, упомянуты основные временные ори-
ентиры ритуала. Он может также включать мотивировки и толкования
отдельных обрядовых действий. Ключевой элемент текста, находя-
щийся в его инципите: это глаголы движения (идти, ходить, гулять),
часто в побудительном наклонении. В ряде случаев (преимуществен-
но во время обхода полей) основной текст дополняется стереотипной
формулой “богатого урожая”, обнажающей продуцирующий смысл
ритуала» [Винарчик 2003, 360]. Подчеркнем, что микроформулы,
отмеченные нами в тексте песни, являются «ключевыми словами»
обряда, непосредственным обозначением его этапов и действий самими
носителями фольклора. Обрядовые лирические песни оказываются
открытой структурой, которая позволяет зафиксировать в тексте основ-
ные правила развертывания обряда. Это свойство наряду с «субьектив-
но-личной» ориентацией части текста делает их функциональность слож-
нее, а содержание многообразнее, нежели чем в ритуальных песнях.
Поэтический текст в контексте обряда выполняет функции «текста
памяти» и интерпретанта, который выявляет наиболее существенные
значения ритуала как в семантическом, так и в структурно-компози-
ционном плане. Время и место совершения обряда, его «имя», статус
участников, названия ритуальных предметов и реалий, типовые дей-
ствия и коммуникативный статус входящих в него текстов, эмоцио-
нальный тон и свойственный обряду «определенный тип отражения
действительности (эпический, лирический, гротескный)» [Грица 1983,
33], - все это те элементы, которые «застывают» в стилистических
формулах, образуя словесную ткань песни. Традицией же они осоз-
наются столь же значимыми, как замещенные ими обрядовые элемен-
ты. Песня не только сопровождает действия или использование пред-
метов в обряде, она компенсирует их отсутствие. Например, «такой
типичный персонаж троицкой обрядности, как кукушка, совершенно
не задействован в качестве ритуального предмета смоленской духов-
ской обрядности. Вместе с тем образ кукушки постоянно возникает в
духовских обрядовых песнях, восполняя тем самым список смолен-
ских троицких мотивов» [Винарчик, 353]. Одновременно перечислен-
ные элементы обряда являются своеобразными «точками роста», из
которых возможно «произрастание» не только отдельных формул, но
и целых песенных сюжетов, в соответствии с описанной А. Н. Весе-
ловским инерцией «пластической силы» словесного творчества [Ве-
селовский 1938, 9].
78
Т. Б. Дианова
Наконец, последний из интересующих нас типов соотношения пе-
сенного текста с обрядом, возникает в случае вовлечения в обряд
необрядовой лирики. Разграничение обрядовой лирики и необрядовой
более последовательно проведено это музыковедами, нежели фольк-
лористами-словесниками. Необрядовые лирические песни восприни-
маются носителями фольклорной традиции как явления более высо-
кого порядка, нежели чем обрядовая лирика. «Собственно песнями
народные певцы называют только лирические. Их исполнение счита-
ется привилегией лишь состоящих в браке членов общины, более
женщин, но и мужчин, чей зрелый возраст свидетельствует о том, что
они уже достигли нужного мастерства во владении собственным го-
лосом для того, чтобы петь эти песни, исполнительски достаточно
сложные» [Пашина 1998, 267]. Все остальные песни не поют, а «гу-
кают», «кликают», «голосят», с ними «ходят в жито» и т. п.
В отличие от обрядовых, лирические песни не обладают магиче-
скими свойствами, что проявляется в относительной свободе их вос-
произведения в системе обряда, на них не распространяются запреты
на исполнение в то время, когда обрядовые песни петь категорически
запрещено. Наконец, напевы необрядовых лирических песен являют-
ся «политекстовыми», они не позволяют идентифицировать тот или
иной песенный сюжет: «если в обрядовых песнях центр тяжести па-
дает на напев, который имеет знаковую природу, то в приуроченных
лирических песнях определяющим началом выступает содержание
конкретного поэтического текста» [Пашина 1998, 55].
В исследованиях музыковедов песни, о которых идет речь, назы-
ваются «сезонными», «приуроченными», «календарно-приуроченны-
ми», они занимают особое место в ряду необрядовой лирики прежде
всего в связи с особенностями их мелодической структуры, в ряде
параметров сближающейся с обрядовыми напевами.
Среди причин появления в обряде более «зрелых», развитых в му-
зыкальном и словесно-поэтическом отношении, нежели чем обрядо-
вые, текстов первое место занимает непосредственная эволюция ли-
рических песен из других обрядовых форм. В этом случае вновь
возникшие песни, как правило, функционально замещают в обряде
жанровую форму-предшественницу.
Так, из одного источника с обрядовыми голошениями («лелека-
ниями»), направленными на «окликание предков», или непосредст-
венно из них возникли «ранние формы “девьей лирики”, протяжные
(“долгие”) песни-жалобы, которые звучали на улице и в поле, были
приурочены к определенным календарным праздникам (Масленица,
Пасха, Егорьев день) ...При том, что тексты лирических песен во
79
Обрядовая и необрядовая лирика в контексте ритуала ...
многом опираются на причетный фонд формульных поэтических
оборотов и сюжетов и функционально протяжные формы нередко
замещают голошения (курсив мой. - Т. Д.), можно говорить о типоло-
гическом родстве этих двух жанровых групп» [Лобкова 2000, 152].
В числе основных сюжетообразующих мотивов ранних песен-жалоб -
печаль о невозможности возвращения в родительский дом (в том
числе в образе «дочки-пташки»), жалобы на утраченную волюшку и
тяжелое положение в новой семье (побои мужа, неприязнь новых
родственников). Наряду с общей печальной, нередко трагической
эмоциональной тональностью, идущей от ритуала и переосмысленной
в лирических песнях, некоторые варианты сохраняют содержательные
«маркеры» текста-предшественника: мелодические формулы, восхо-
дящие к зовам-окликаниям, распетые возгласы в начале песенной
строфы («Э-ой!», «Ай!», «Рано!»), а также специфические гуканье
(уканье) в конце строфы и распеваемое «припевное слово» - «лели»,
«лелим» (ср. народный термин «лелекать» для обозначения плачей-
голошений в ряде районов Псковской области) [там же, 52].
Систематизируя песенные жанры жатвенных песен Смоленщины,
этномузыковеды отмечают, что в ряде локальных традиций, примы-
кающих к Белоруссии, существуют собственно жатвенные песни,
более на русской территории не встречающиеся, а в восточной зоне
региона «собственно жатвенные обрядовые песни ... не известны (что
характерно для русской традиции), а их место занимают приурочен-
ные лирические песни» (Смоленский сборник. С. 526). Содержатель-
ные элементы календарного обряда могут быть непосредственно на-
званы в тексте песен, как, например, указание на тяжелую работу на
ниве в смоленской лирической приуроченной «обжиночной» песне:
... Ти жалить меня свёкор, ти жалить мня свёкор, одну на работе
Одну на работе, одну на работе, на долгой на ниве.
На долгой на ниве, на долгой на ниве, на шурокей постати.
На шурокей постати, на шурокей постати, некому пристати.
Некому пристати, некому пристати, постать подогнати.
[Смоленский сборник 2003, 572]
В то же время таких непосредственных «указаний» на время при-
урочения песни в тексте могло и не быть. Ряд исследователей указы-
вает на характерную слогоритмическую структуру, позволяющую
текстам приуроченных песен объединиться, слиться с «зовными напе-
вами-формулами» [Земцовский 1975, Агапкина 2000]. В ряде случаев
причиной вхождения необрядовой песни в календарный цикл стано-
вился на первый взгляд весьма формальный прием: «подключение»
80
Т. Б. Дианова
песни к обряду происходило за счет типового зачина, содержащего
«имя» или «центральный образ» соответствующего обряда, или «при-
пев, в котором иногда прямо указывается на время исполнения песен»
[Круглов 1982, 134].
В то же время причины «приуроченности» песен оказываются бо-
лее глубокими, чем формальные способы «подключения» уже сло-
жившихся лирических песен к установившимся обрядовым действи-
ям. Тщательное исследование локальных традиций обнаруживает эти
причины. Так, благодаря публикациям В. Е.Гусева, Ю.И.Марченко и
Л.И.Петровой, А.А.Правдюка и др. нам хорошо известен репертуар
завершающего весенний цикл обряда «похорон стрелы / сулы» на
территориях русско-украинско-белорусского пограничья, в котором
центральным («титульным») текстом является песня с мотивом опла-
кивания убитого, широко бытующая на остальной русской территории
и нередко определяемая как баллада. Сами исполнители объясняют
значение «вождения стрелы» магией защиты от молнии и грома, а
также явно осознают аграрно-продуцирующую функцию ритуала:
«Стралу закапали - гэта значить ужо, штоб граза минавала наша усё:
и хату, и усю дзяреуню и миновала усе беды» [«Вечнае» 2003, 155].
«Прыходзяць до поля...Просяць:
- Дай нам жытцу
Да пшаницу
В агародзе сенажаць»
[Там же, 156].
В структуре сюжета лирической песни, сопровождающей обряд,
отчетливо выделяются два блока мотивов: в инициальных мотивах,
как и в обрядовых песнях, представлены ключевые слова ритуала,
позволяющие четко дифференцировать «стреловую» песню от про-
чих: «пущу стрелу по всему селу», «удоль села, удоль улицы» «убий/
не убий, стрела доброго молодца», «по молодцу некому/есть кому
плакати». Как и в лирических обрядовых песнях, в зачине непосред-
ственно описывается движение «стрелы» по всей улице и всему селу,
изображающее движение цепи женщин вдоль улицы, мимо центра
села к полю, где происходят основные действия ритуала.
Центральный мотив песни - оплакивание молодца, убитого «стре-
лой» матерью, сестрой и женой, по мнению ряда иследователей, ис-
конен для данного обряда, относящегося к типу «условно-погребаль-
ных». Изображение причитаний по молодцу заменяет реальные
поминальные причитания, которые могут звучать в этот период в
различных локальных ритуалах. Мотивы изгнания, убийства, оплаки-
вания на похоронах согласуются с общим эмоциональным тоном тро-
81
Обрядовая и необрядовая лирика в контексте ритуала ...
ицкой обрядности. В аналогичном по типу обряде «похорон русалки»
из того же региона «суровое содержание песни в заключительной
части нередко переходит в причет матери, что согласуется с
“поминальным” наполнением полесских “русальных” обрядов» [Мар-
ченко, Петрова, 189]. По мнению Т. А. Агапкиной, «... мотив
“убийства” лежит в основе этого обряда, оформляющего границу
календарных сезонов в терминах смерти человека, птицы или
хтонического животного» [Агапкина 2002, 649], именно поэтому
«вождение стрелы» завершало сезон исполнения весенних песен.
Однако календарно приуроченное окказиональное оплакивание,
символическое погребение и ряд других ритуальных действий у ко-
лодцев и в полях широко известны в славянской традиции и как сред-
ство вызывания дождя [Толстые Н. И. и С. М. 2003, 75-252; Славян-
ские древности, 109; Агапкина 2002, 318-338]. В многочисленных
локальных вариантах этой традиции оплакивается утопленник (Поле-
сье), антропоморфная кукла под различными именами, лягушка и т. п.
По мнению Н. И. Толстого, «“голошение по утопленнику” представ-
ляет собой символическую сцену погребения и оплакивания, соче-
тающую в себе элемент чисто магического вызывания дождя (слезы-
дождь)... и прием, актуализирующий мифологическую связь между
утопленником и дождем» [Толстые Н. И. и С. М. 2003, 105].
В обряде «похорон стрелы» содержание центрального мотива пес-
ни и состав обрядовых действий не совпадают. На уровне акциональ-
ного и предметного рядов действительно воспроизводится ряд предо-
хранительных магических действий для защиты от молнии: чтобы
отвести грозу от деревни, в поле «захоранивают» (зарывают в землю)
металлические предметы (монеты, колечки, сережки) или колоски,
символизирующие «стрелу». Действия могут сопровождаться приго-
вором: «Ляжы, мая страла, да на лецейка, пакуль я прыду» [«Вечнае»,
162]. В то же время содержание ритуала оказывается сложнее: песня
символически возмещает некоторые его недостающие элементы и
позволяет иначе оценить его значение.
Центральный мотив песни - оплакивание молодца и изображение
интенсивности потоков слез, проливаемых родными, через сравнение
с разной силы водными потоками, - дает основание видеть как в са-
мом ритуале «похорон стрелы», так и в манифестирующем его тексте
«двойное» назначение - вызывание дождя, сопряженное с идеей пло-
дородия, и одновременно защиту от грозы, выраженные как в ком-
ментариях исполнителей и ритуальных действиях, так и в самом пе-
сенном тексте.
82
Т. Б. Дианова
В числе персонажей, оплакивающих молодца, названы его мать, се-
стра, дети, причем персонажи представлены в цепочке сравнений по
возрасту: «матка старенька», «сестра маленька», «детки дробненькие,
все ровненькие» «жена молода» - этот состав (за исключением детей)
соответствует половозрастной структуре реальных участников ритуала.
В полесских (русских, украинских и белорусских) песнях цен-
тральные мотивы довольно устойчивы по вариантам, в них сопостав-
ляется интенсивность плача женщин через сравнение с разными вод-
ными источниками:
А па моладцу е каму плакать,
Ви сады мае, ви зелёны(е)!
Де матка плачыть - там рэка течэ,
...Де сестричэчка - там крыничэчка
...Де жена плачыть - сухавей вее,
... Сухавей вее, сухий дощ иде.
[Марченко, Петрова, 140]
Исключения, как правило, составляют заключительные фрагмен-
ты, в которых варьирует ряд сравнений плача жены: «там расы нема»,
«там пажары гарать,журавли кричать», «там пасохла трава». В этих
образах не только осуждается малая скорбь жены по мужу, но явно
прослеживаются верования о последствиях недостаточно истового
ритуального плача по убитому «стрелой», ведущих к отсутствию дож-
дя, засухе, жаре. В работе «Вызывание дождя у колодца» Н. И. и
С. М. Толстые приводят полесское поверье о непосредственной зави-
симости интенсивности и продолжительности дождя от ритуального
оплакивания: «На вопрос о том, сколько надо “голосить по Макару’’,
информант ответила, что, видно, на этот раз она слишком долго голо-
сила, потому дождь долго идет» [Толстые Н. И. и С. М. 2003, 80].
При амплификации сюжета возникает параллельная цепочка срав-
нений: текст песни нарастает за счет сопоставления продолжительно-
сти оплакивания молодца: «матка - до смертачки», «сестра - до заму-
жейка», «детки - до вырасцейка», «жена - до абедзяйка». Такая
детальная «проработка» мотива оплакивания (в трех каскадах сравне-
ний) позволяет сделать вывод о первичности его по отношению к
локальному обряду похорон стрелы и вовлечении его в обряд в соот-
ветствии с его поминальной и плювиальной семантикой. В другом
регионе, Смоленской области, исследуемая песня бытует в обрядах
периода Великого поста, ранневесеннего (по определению О. А. Па-
шиной) цикла, атрибутируемая исполнителями как «весенняя» с зачи-
ном «Не стреляй, стрела, выше города». В календарном репертуаре
Ветковского района Белоруссии развернутый мотив оплакивания
83
Обрядовая и необрядовая лирика в контексте ритуала ...
тремя женщинами «вмершего миленького» встречается в лирических
песнях, исполняемых на Великдень (Пасху).
Однако, в смоленском обрядовом репертуаре наряду с ранее рас-
смотренным есть близкий вариант с иным зачином, которым «весну
гукают на Благовещенье», «когда разливалась вода, пели ее на куче
хвороста. Сядешь и голоснешь», «весну гукают в пост» [Смоленский
сборник2003, 158-160, комментарии к№ 83-85, 102-103].
Устойчив зачин песни «Ой да ли калодезя, ли глубокава», во всех
вариантах в рефренах стабильно повторение «лели, люди». Принци-
пиальное отличие от полесских вариантов возникает в центральных
мотивах: к белому телу молодца прилетают три ласточки (ластовки,
касаточки), это его мать, сестра и жена, они садятся соответственно у
сердца, головы и ног молодца, затем следуют знакомые нам цепочки
сравнений: плач женщин сопоставляется по интенсивности и продол-
жительности в сравнении с водными потоками. «Метафорическая»
версия песенного сюжета основана на комплексе поверий и поэтиче-
ских условных трансформаций, связанных с ласточками (и шире -
птицами) у славян. «В сербских и хорватских песнях ласточка, кукуш-
ка и иногда змея символизируют плачущих, горюющих, безутешно
скорбящих людей» [Гура 1997, 619]. Перевоплощение женщины в
птицу и наоборот широко представлено в поэтических формулах песен-
ного фольклора и средневековой письменности, причем почти всегда
тесно ассоциировано с плачем - жалобами - гореваньем [обзор формул
см. Еремина 1991, 102-120]. Наконец, появление образа ласточек в весен-
ней обрядности мотивировано до сих пор актуальным восприятием как
вестниц весны, поверьями о зимовке ласточек в воде (реках, прудах, колод-
цах) и появлении их весной оттуда «воскресшими» [Гура 1997,627-629].
Существование песенного сюжета в двух версиях, одна и из которых
метафорическая, обусловлено усложнением обрядовой функционально-
сти песни. Семантика поминального мотива соответствует эмоциональ-
ному наполнению великопостного периода, на протяжении которого,
как правило, исполнялись только обрядовые песни и духовные стихи,
так и уже упомянутой нами плювиальной магии. Существенно важно,
что зачин песни не оставляет сомнений в том, что в ее сюжете воспро-
изведено именно ритуальное оплакивание у колодца, значение которого
известно нам из многочисленных поверий.
К центральным мотивам смоленских песен можно отнести метафору
«три женщины - три ласточки», сравнение интенсивности плача женщин
по молодцу с различными водными источниками (рекой, ручьями, колод-
цем-криницей, росой), контрастирующее с мотивом «жара», «сухоты» -
сухой травы, суховея, пожара, солнца, высушивающего слезы жены, фи-
84
Т. Б. Дианова
нальный мотив гулянья молодой жены, увязанные с центральной темой в
единый связный «повествовательного типа» сюжет.
Окказиональный обряд вызывания дождя актуален на протяжении
весеннего и летнего времени (до наступления косьбы и уборки хле-
бов), поэтому он вполне «вписывается» в систему обрядовых дейст-
вий, совершаемых в соответствующие периоды календаря. В то же
время в ранневесенний период вызывание дождя входит в более ши-
рокий круг ритуальных действий, направленных на пробуждение вод,
как небесных, так и над- и подземных. В западнорусских областях у
колодца «гукают весну»:
Вир3, вир, калодесь, вир, вир, глубокей
Ой ли, ой лели, вир, глубокей
Чаго тебе, калодесь, вады нетути?
Када будешь весна, тада будешь вода.
[Смоленский сборник 2003, 42]
На Сретенье ветковцы звали весну и дождь:
Ва у сих старонках дажджы идуць у...
Дажджы идуць, а у нашем сяле не бывау...
Не бывала, толъки кладачки пазмыв(ала)у...
[«Вечнае» 2003, 116]
Вясна наша вясёлая -гу!
Развесялила зямлю, ваду - гу!
Зямлю, ваду, мяне, маладу -гу!
[Веснавыя песн! 1970, 149]
Исполнение на берегу рек, прудов, на проталинах песен, призываю-
щих к разливу вод, широко распространено; на поздних этапах развития
традиции в круг сюжетов закликания весны могут входить необрядовые
песни с мотивами разлива рек [см. например, «Вечнае» 2003, 115].
На основании этого мы полагаем, что мотив ритуального оплаки-
вания с целью вызывания дождя в сюжете песни «Три ласточки» ока-
зывается совершенно оправданным с точки зрения семантики ранне-
весенних ритуалов. В то же время и другие мотивы ранневесенней
обрядности (прилет птиц, наступление тепла, начало гуляний на от-
крытом воздухе) так или иначе оказываются реализованными в тексте
песни. Если учесть «микроформульный» уровень, то окажется, что
все указанные мотивы являются стержневыми для множества риту-
альных и обрядовых лирических песен, исполнение которых принято
в соответствующий период календаря. В подборке из коллекции РАМ
им. Гнесиных, опубликованной в Смоленском музыкально-этнографи-
85
Обрядовая и не обрядовая лирика в контексте ритуала ...
ческом сборнике, более 200 текстов, относящихся к ранневесеннему
периоду календаря, на который в данной локальной традиции выпада-
ет исполнение этой песни, которой «кликали весну». В большинстве
этих текстов представлены названные мотивы. Назовем лишь те, ко-
торые обнаруживаются в зачинах песен, что подтверждает их особую
значимость для ритуала:
разлив воды Вир, вир, калодесь^ вир, вир глубокей... Па блонню вада разливаеца... По лугу вода разливается... Разлилась Угра ровно с бережком... Ой, волна, волна, с берегом ровна... Пыганю каров на расу...
прилет птиц Раным-рана касаточка летала... Вчера наша ласточка по застрешыо летала...
приход тепла На двари весна разгараитца... Соника жаркая, согрей ты мяне!.. Солнышка жаркоя, пригрей ты, пригрей Когда не пригреешь, Бог с тобою!..
гулянья Ай, в лужках деуки гуляли... Ходили-гуляли две невестушки [Смоленский сборник 2003, 41-153]
Установление ассоцииации этих мотивов с содержанием лириче-
ской песни позволяет говорить о том, что она выступает в качестве
центрального текста для целого ряда окказиональных обрядов весен-
него цикла и ее интертекстуальные связи свидетельствуют о наличии
в составе обряда вербального гипертекста (см. Дианова 2002), в кото-
ром составляющие связаны нелинейными отношениями. Множест-
венность связей образов необрядовой песни непосредственно выра-
женными в поэтическом слове, песенных устойчивых формулах с
глубинными значениями обрядовых текстов обеспечивает цельность и
единство культурного пространства традиции.
В чем же отличие лирической приуроченной песни от непосредст-
венно обрядовой лирики, если так очевидны генетические и функцио-
нальные ее связи с обрядом? Как и обрядовая лирическая песня, она
описывает ритуальные действия и «цитирует» обрядовые высказыва-
ния, являясь интерпретантом обряда, но использует для этого поэти-
ческий язык иносказаний. В силу этого она способна не только сопут-
ствовать обряду или замещать собой обрядовый песенный текст-
предшественник, но и полностью замещать собой ритуал или его
часть. Текст исследованной лирической песни оказывается централь-
86
Т. Б. Дианова
ным, наиболее полно объединяющим в себе большинство значимых
образов, формул, мотивов, для ряда весенних ритуалов данной ло-
кальной традиции. Несмотря на то что песня не комментирует непо-
средственно производимые ритуальные действия, она концентрирует
все наиболее актуальные обрядовые смыслы. Наряду с этим содержа-
ние песни позволяет ей быть сопряженной с иными, важными для
этноса темами, вплоть до исторических. Так, песня «Три ласточки»
известна как «воинская протяжная песня, встречается в песенниках с
конца XVIII в., упомянута Карамзиным в “Истории государства Рос-
сийского”» [Киреевский, 286], а ее бытование вне обряда имеет свою
богатую историю.
Эволюционно более зрелые необрядовые лирические песни заме-
щают собой жанры-предшественники, становясь своего рода их
функциональными диахронными вариантами. В отдельных традициях
они сосуществуют с более раннними формами, в других вытесняют
их. При иллюзии формального «подключения» к ритуалу, в необрядо-
вых приуроченных песнях происходит обобщение и верификация его
семантики: они сохраняют те содержательные и эмоциональные
смыслы обряда, которые фрагментарно представлены в мозаике соб-
ственно обрядовых ритуальных текстов и в силу этого становятся
своеобразным «смысловым ядром», центром обряда, способным за-
местить его в период становления зрелой фольклорной традиции.
Литература
♦ Агапкина Т. А. Этнографические связи календарных песен: Встреча весны в об-
рядах и фольклоре восточных славян.М., 2001.
♦ Агапкина Т. А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Ве-
сенне-летний цикл. М., 2002.
♦ Аникин В. П. Календарная и свадебная поэзия. М.,1970.
♦ Аникин В. П. Генезис необрядовой лирики // Из истории русской народной по-
эзии. Русский фольклор. Вып.ХП. Л., 1971.
♦ Богатырев П. Г. Народная песня с точки зрения ее функций// Вопросы литера-
туры и фольклора. Воронеж,1973.
♦ Веселовский А. Н. Заметки и сомнения о сравнительном изучении средневеково-
го эпоса// Веселовский А. Н. Собрание сочинений. Т.16. М.;Л.,1938.
♦ Веснавыя песнь Мн., 1970.
♦ «Вечное»-. Фальклорна-этнаграф|чная спадчына Веткаускага раёна / Аут. Уклад:
I. Ф. Штейнер, В. С. Новак. Гомель, 2003.
♦ ВинарчикЛ. М. Типологическая систематика духовских и купальских песен //
Смоленский музыкально-этнографический сборник. Т. 1. Календарные обряды
и песни. М., 2003.
♦ Грица С. И. Парадигматическая природа фольклора и принципы идентифика-
ции вариантов // Народная песня. Проблемы изучения: Сборник научных тру-
дов. Л.,1983.
87
Обрядовая и необрядовая лирика в контексте ритуала ...
♦ Гусев В. Е., Марченко Ю. И. «Стрела» в русско-белорусско-украинском погра-
ничье (к проблеме изучения локальных песенных традиций) // Этнографические
истоки фольклорных явлений. Русский фольклор. Вып. XXIV. Л., 1987.
♦ Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.
♦ Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1-4. М., 1981.
♦ Дианова Т. Б. Гипертекстовые единства в живой фольклорной традиции // Акту-
альные проблемы полевой фольклористики. М., 2002.
♦ Еремина В. И. Ритуал и фольклор. Л., 1991.
♦ Земцовский И. И. Мелодика календарных песен. Л., 1975.
♦ Киреевский - Собрание народных песен П. В. Киреевского. Записи Языковых в
Симбирской и Оренбургской губерних. Т. 1. Л., 1977.
♦ Круглов Ю. Г. Русские обрядовые песни: Учебное пособие. М.,1982.
♦ Лобкова Г В. Древности Псковской земли. Жатвенная обрядность: образы, ри-
туалы, художественная система. СПб., 2000.
♦ Марченко Ю. И., Петрова Л. И. Балладные сюжеты в песенной культуре рус-
ско-белорусско-украинского пограничья // Русский фольклор. Вып. XXVII-
XXIX. СПб., 1993, 1995,1996.
♦ Пашина О. А. Календарно-песенный цикл у восточных славян. М.,1998.
♦ Смоленский сборник - Смоленский музыкально-этнографический сборник. Т.1.
Календарные обряды и песни. М., 2003.
♦ Толстой Н. И. Очерки славянского язычества. М., 2003.
Примечания
1 Учитывая общую семантику ряда ритуалов, входящих в многие календарные и се-
мейные обряды, в том числе семантику смены сезонов, состязательности родов, сосед-
ствующих деревень, возможны универсальные композиционные и функциональные
песенные формы для этих ритуалов, каковыми и являются словесные поединки.
2 Говоря о сюжетной динамике лирики, мы придерживаемся мнения о функциональ-
ном и содержательном равноправии вариантов, не расценивая наиболее «протяжен-
ный» и многомотивный текст песни как изначальный и/или наиболее полный. Если
признать вариативность не только фактором развития фольклора во времени, но и его
онтологическим свойством, вопрос о потенциальной полноте/неполноте или «ущерб-
ности», равно как и о контаминации песенных текстов, должен решаться с позиций
признания за каждым естественным исполнительским актом статуса полноценного,
даже в том случае, если в результате не воссоздается наиболее «полный, развернутый»
из имеющихся в данной традиции текст.
3 «Вир - зпнд. омут и водоворот, ямина под водой с родниками или с коловоротом
быстрого теченья» (Даль.Т.1. С.206). Возможно, исходя из контекста, вир - звукопод-
ражательный призыв к заполнению колодца?
Специфика предметной символики в частушках
М. С. Симакова (Москва)
В частушках находим устойчивую систему иносказаний, вклю-
чающую в себя множество образов-символов, однако мы обратимся
только к тем предметам, которые дарят друг другу парень и девушка,
когда между ними возникает любовь. Среди этих небольших подарков
встречаются кольца, перчатки, рукавицы, платки, пояс, помады баноч-
ка, зеркальце и прочие предметы. Остановимся на кольце и платке.
Милый мой, у нас с тобой
Любовь платочкам связана.
Из-за тебя, мой дорогой,
Семерым отказано.
[Ч № 2772]
Дролечка, любовь-то наша
В золотом колечушке!
Милый, долго ли пробудешь
Намоем сердечушке?
[В. и Г. № 1078]
С кольцом и платком в народной культуре связан определенный круг
представлений, обусловливающий систему иносказаний частушки.
Платок «связывает», то есть соединяет одно с другим,1 а при завя-
зывании образуется узел - «место, где туго соединены, связаны кон-
цы»2 платка. Слово «узел» этимологически родственно слову «уза»3 -
«все, что привязывает или связывает нравственно».4 В свадебных
обрядах платок также имеет значение связывания, при котором на
жениха и невесту накладываются прочные брачные узы. «Полотенцем
(платком, кушаком, поясом) туго связывали жениха и невесту, что
служило символом их дальнейшей согласной жизни»5. В Псковской
губернии на рукобитии «в конце ужина невеста подносит жениху и
родне его подарки, состоящие из платков: первому - дороже (рубле-
вый), второй дешевле (в 15-20 копеек)».6 А при помолвке жених и
невеста «держат за концы специально для этого предназначенный
платок, а дружко жениха или же дядя невесты берется за середину
этого платка и ведет их на почетное место, где расстелена меховая
шуба».7 Таким образом, платок выполняет функцию соединения, свя-
зывания друг с другом молодых уже на начальном этапе свадебных
обрядов и эту же функцию сохраняет и в частушках.
89
Специфика предметной символики в частушках
Значение кольца также имеет традиционную основу. В словаре
В. И. Даля читаем: кольцо - «обод, обруч, круг с проемом, дырой»8.
Понятие кольца основано на семантике круга, вбирающего в себя
представление о замкнутости, отгороженности определенного про-
странства, предельной связанности. Смысловой доминантой оказыва-
ется идея замыкающей линии.
Кольцо - изделие из металла. В частушках, как правило, речь идет
о золотых и серебряных кольцах, причем предпочтение отдается явно
золоту. «Золото - первый из драгоценных металлов; в фольклорных и
ритуальных контекстах золото сочетается и/или чередуется с сереб-
ром и медью»9. Еще мифологи обратили внимание на исключительное
значение золота и серебра в народных представлениях. Так, А. Н. Афа-
насьев подробно рассматривает «связи света с золотом, серебром и
медью»10. Со светом традиционно связываются представления красо-
ты, веселья и любви. Не случайно в частушках символом счастливой
любви является сияющее кольцо.
В свадебной обрядности золотое кольцо является символом любви и
соединения молодых. На свадьбе дружка про молодых говорит: «.. .золото
с золотом свивалось»11, и по сей день жених и невеста обмениваются
золотыми кольцами. «Кольцо - самое верное ручательство брачного сою-
за»12. Таким образом, кольцо так же, как и платок, выполняет функцию
соединения молодых, и это же свойство сохраняет в частушках.
Однако между платком и кольцом в частушках проводится сущест-
венное различие.
Я не так платок жалею,
Как колечко берегу...
[Симаков Ч-ки, 67]
Это обусловлено традиционным восприятием означенных предме-
тов. Значение соединения, стоящее за платком и кольцом в частушках,
оказывается неравноценным по своей сути. Для платка оказывается
доминирующей идея связывания. Для кольца же преобладает идея
завершенности: «любовь - кольцо, а у кольца нет конца»13. В свадеб-
ной обрядности одаривание платками укрепляет брачные узы, а обмен
кольцами становится символическим воплощением брака. Не случай-
но именно кольцо, а не платок, является символом брачного соедине-
ния . И в частушках с кольцом устойчиво ассоциируется замужество.
Что к колечку приценяться,
Все равно мне не купить,
Что за миленьким гоняться -
За ним замужем не быть.
[Е № 5699]
90
М. С. Симакова
В то время как «для любови купленный» (Е № 3299) платок является
средством завязать любовные взаимоотношения с понравившимся парнем.
Сходство символического значения платка и кольца обусловливает
и одинаковые способы их функционирования в частушках. Участие
кольца и платка в любви милых в целом можно свести к ограничен-
ному числу типовых ситуаций, которые в общих чертах определяют
их главные функции как символических предметов.
- Завязывание любовных взаимоотношений (приобретение, выши-
вание платка; приобретение кольца, отливание кольца из металла и
ДР-),
- Проявление особенных свойств символического предмета и об-
ращение с ним при развитии любовных взаимоотношений (платок
горит, тонет, гадание с платком, утираться платком; кольцо сияет,
линяет, золотить кольцо, кольцо катится и др.),
- Конец любовных взаимоотношений (возвращение и разрывание
платка, платок брошен; возвращение кольца, кольцо распаялось и
ДР-)-
Симметричное построение двух иносказательных систем, сходство
символического значения обусловливает возникновение символиче-
ских ситуаций, в которых платок и кольцо являются взаимозаменяе-
мыми предметами.
Говорят, платки - разлука.
Я платок нарочно дам.
Не платки нас разлучили,
А подружки между нам.
[Н.ч. № 779]
Говорят, кольцо к разлуке.
Я нарочно два отдам.
Не кольцо нас разлучает,
А злодейка между нам.
[Ф № 628]
По этим же причинам получили распространение частушки, где
единичные проявления символики платка и кольца могут оказаться
тождественными:
На окошке бела кошка -
Белолапенький коток;
Отдала с руки колечко,
Белый вышитый платок.
[Е№237]
или синонимичными друг другу:
91
Специфика предметной символики в частушках
Ой, мамаша, открой двери,
Меня миленький прогнал.
Снял колечко, бросил в речку,
А платочек разорвал.
[Л. и К. С.271]
В частушках связанные с данными предметами системы иносказа-
ний не являются чем-то замкнутым, напротив, они открыты для взаи-
мопроникновения и взаимодействия. Так создаются новые, не встре-
чающиеся в народной лирике символические ситуации, достигается
оригинальность выражения традиционных смыслов:
С неба звездочка упала
На сарайчик тесовой.
Променяй, милка, колечко
На платочек носовой15.
Частушка основывается на символической иерархии, которую об-
разуют платок и кольцо. Поэтому можно говорить не просто о нали-
чии определенного набора предметов-символов в частушках, а о
предметном мире, в границах которого каждой вещи придается соот-
ветствующее иносказательное значение и отводится определенное
место, обусловленное ее функционированием в народной культуре.
В центре связанных с платком и кольцом системах иносказаний
находится ситуация обмена подарками. Все остальные единичные
проявления символики кольца и платка оказываются так или иначе с
ней связанными.
Подарила я платочек
Белей снегу белого.
Я дарила, говорила,
Чтоб измены не было.
[См. С.85]
Подарил милый колечко
Червонного золотца
На колечке три словечка:
Люби меня, молодца.
[Е№ 1686]
В обоих случаях одаривание призвано укрепить любовь, что обу-
словлено символическими свойствами отдаваемых предметов. Состо-
явшийся обмен кольцом и платком означает, что в отношениях между
милыми царят любовь и согласие.
У милого крыша нова,
Крашено крылечко.
92
М. С. Симакова
Милый носит мой платок,
Я - его колечко.
[Т.ч. № 896]
Символика обмена платком и кольцом связана с их традиционным
обрядовым употреблением. Так, А. А. Потебня пишет, что «сущность
обручения у славян состояла, по-видимому, в размене подарков между
женихом и невестою. На род этих подарков указывают слова: обру-
чить, млр. заручить и обруч, пол. obqczka, перстень... Этому соот-
ветствует московское выражение платки давать, вслед за сговором, в
уверение, что родители невесты не отопрутся от своего слова, посы-
лать жениху подарок, а родне его подарки»16. Собственно, в частушке
получили отражение определенные моменты свадебного обряда. В гра-
ницах ее символики они не только сохраняют свое обрядовое значе-
ние, но и становятся иносказательным выражением счастливого лю-
бовного переживания.
Купи, мама, мне платочек
По моей головушке.
Выйду замуж мясоедом,
Подарю золовушке.
[Е№2021]
Скоро, скоро я дождуся:
Стоять буду под венцом,
В руках свечи загорятся,
Обручать будут кольцом.
[Симаков № 1900]
Выхваченные частушками обрядовые моменты органически свя-
заны с бытующей в них системой иносказаний и имеют целью пере-
дать восприятие ритуала лирическими героями.
В обрядовых действиях кольцу и платку придается магическое
значение. В свадебных обрядах: «жених по пути в церковь выбрасы-
вал ... предметы, полученные им от других, отвергнутых им девушек,
из опасения, что он будет заворожен ими посредством этих предме-
тов»17. В частушках кольцо и платок также воспринимаются как маги-
ческий предмет. Так, например, девушки считают, что отдаваемым
платком можно воздействовать на милого.
Девка парня присушила,
Туес меду налила.
На платок наговорила,
Утереться подала.
[Ч№ 1675]
93
Специфика предметной символики в частушках
И в заговорах, желая присушить парня, нужно наговорить на поло-
тенце, которым он утирается , или же наговорить на носовой платок
и утереться самой19.
Кольцо также воспринимается как магический предмет:
Дай колечка поноситца,
Можа любовь согласитца.
[Е № 4289]
В заговоре на любовь говорится, «что одно кольцо - два ко-
лечушка, что по нем бегут - не скончаются, не скончаются, не разлу-
чаются...»20. Поэтому в частушках обмен платком и кольцом имеет
свойство скреплять любовные взаимоотношения парня и девушки.
Таким образом, платок и кольцо сочетают в себе свойства не толь-
ко ассоциативно-психологического, но и магического, ритуального
символа. Образуемая каждым из них система иносказаний связана не
только с песенной лирикой, но и с обрядовыми действиями, реализуя
как те, так и другие свойства символических предметов.
Частушка восприимчива к явлениям действительности, однако в
ней обнаруживается довольно сложное взаимодействие художествен-
ной реальности и жизненных условий. Так, в частушках носовой пла-
ток имеет двоякую интерпретацию. С одной стороны, с ним обраща-
ются как с простым куском ткани:
Я пришел, она стирает
Свой батистовый платок...
[В. и Г. № 365]
С другой стороны, девушка дарит вышитый платок парню, и в
этом случае он является символическим воплощением их любви.
Проходите, молодцы,
Передний уголочек.
Посидите вечерок,
Получите платочек.
[Симаков № 85]
Что же касается кольца, то нам не встретилось ни одной частушки,
где драгоценное кольцо было бы свободно от символического значения.
С одной стороны, кольцо сохраняет все признаки ювелирного изделия, а
с другой, приобретает не принадлежащее ему как предмету значение и,
соответственно, получает дополнительные свойства, мотивирующиеся
уже стоящим за ним смыслом. Это определяет особенности его функ-
ционирования в частушках, как, собственно, и любого другого симво-
лического предмета. Так, например, кольцо может распаяться: Распая-
94
М. С. Симакова
лося колечко,/Теперь некому спаять... [И. С.398], или же полинять:
Полиняло мое кольчико -/ Пойду позолочу... [В. иГ№ 4867].
Естественные свойства кольца также приобретают иносказатель-
ное значение. Так, например, не подходящее по размеру кольцо сим-
волизирует любовную неудачу
Подарил милый колечко,
Мне колечко велико.
Он зазнобил мое сердечко,
Сам уехал далеко.
[В. и Г. №7728]
А наличие на кольце пробы акцентирует внимание на ценности
кольца и в поэтическом мире частушки. Проба на кольце имеет значе-
ние счастливой любви.
У меня колечушко -
Золотая проба;
Люблю своего милова
До сырого гроба.
[Е№5388]
Связанные с платком и кольцом системы иносказаний также име-
ют свои особенности в соотношении с явлениями действительности.
Платок - символический предмет, поэтому даже его обыденное при-
менение в частушках приобретает иносказательное значение.
Не стой, забава, у порога,
Поди сядь ко мне рядком;
Если будет тебе жарко,
Оботрись моим платком.
[Кн. С. 41]
Фиксация непосредственного жизненного явления в частушках
становится выразителем символического значения:
Дождик мочит на платок,
Я в избушку не иду.
Не на то ли милый сердится,
Что я в городе живу.
[Белоз. № 808]
Одним из характерных свойств жанра частушки является его спо-
собность отражать современные тенденции и настроения. Живо реа-
гируя на все жизненные изменения в народных массах, частушка вво-
дит понятие моды. Это позволяет ей включать в свой поэтический
мир новые веяния в крестьянской культуре: Теперь мода на плат-
96
Специфика предметной символики в частушках
ки/На затылочке цветки [Симаков № 1232]. Понятие моды в частуш-
ках приобретает иносказательное значение.
Голубой платок не в моде,
Вся середка выгорит.
По тебе, моя статейка,
Все сердечко выболит.
[Симаков № 593]
Заимствованные из жизни символические ситуации дают новые
возможности для выражения эмоциональных переживаний лириче-
ских героев, делая частушку способной соответствовать любому дви-
жению души. Частушка становится созвучной реальной действитель-
ности, поэтому она всегда актуальна для своих исполнителей.
В частушке намечается тенденция к переосмыслению роли платка
в любви милых, что ведет в ряде случаев к утрате им символического
значения: Платок возьмешь и разорвешь - /Любовь ничем не разо-
рвешь [Симаков № 610]. Данная интерпретация платка находится в
русле общего стремления частушки к реалистическому изображе-
нию21, стоящему в тесной связи с меняющимся народным сознанием.
Но все же платок по-прежнему мыслится в тесной связи с любовью
парня и девушки. Символическое значение, стоящее за платком, в
частушке оспаривается именно потому, что в сознании еще не отдели-
лось совсем от совершаемого с платком действия.
Изменения в частушечной системе иносказаний обусловлены и
тенденциями, доминирующими в определенную эпоху. Так, например,
если в дореволюционной частушке красный платок на голове девушки
означает ее готовность любить и быть любимой:
Не страдайте понапрасну,
А наденьте платки красны.
[Сид. №214, 52],
то частушки советского периода придают красному цвету уже иное
значение, что обусловлено ломкой всех жизненных устоев, последо-
вавшей вслед за революцией.
Девки, девки ясные,
Зачем платочки красные?
Потому таки надели,
Что свободы захотели!
[Кн. Совр. ч-ка № 5]
Теперь красный цвет - указатель политического статуса человека
новой формации. Тем не менее традиционное восприятие красного
платка ассимилирует и вошедшие в частушечный текст новые тенден-
ции. Платок «пролетарского» цвета символизирует любовь парня и
девушки советской эпохи.
96
М. С. Симакова
Я надену платье бело,
А платочек красненький,
Чтобы знали, что любима
Комсомольцем Васенькой.
[Сид. № 29, 10]
В эту эпоху одаривание платком также получает новую интерпретацию:
Не за то платок дарила,
Что ты белый да хорош.
А за то тебе дарила:
Хорошо трактор ведешь.
[Л. и К., 108]
Внесение в частушку новой тематики обозначило двухсторонний
процесс эволюции символической образности. С одной стороны, час-
тушка по-прежнему идет по пути сближения новых реалий с традици-
онной иносказательностью и тем самым демонстрирует устойчивость
существующих в ней традиций, а с другой стороны, частушка корректи-
рует существующую в ней систему иносказаний. И в последнем случае
частушка не создает принципиально новых текстов, а продолжает ис-
пользовать старые поэтические приемы, заново приноравливая их к
явлениям действительности. Таким образом, новаторство частушки
оказывается основано на традиционном восприятии действительности.
Так как кольцо, в отличие от платка, устойчиво сохраняет свое
символическое значение в любви милых, то и связанная с ним система
иносказаний будет демонстрировать иные способы взаимодействия с
реальной действительностью.
Так, например, стоящее за пробой на кольце символическое значе-
ние для исполнителей частушек является настолько актуальным, что
появляется ряд текстов, где иносказательное выражение любовного
переживания основывается исключительно на семантике золотой
пробы. Происходит отрыв от кольца как вещи в ее бытовом определе-
нии и переход в сферу стоящего за ней смысла. Если не учитывать
символическое значение кольца с пробой, частушка будет звучать
парадоксом. Так, например, крепкую любовь с милым будет символи-
зировать кольцо с двумя пробами: У меня колечушко/Под двумя под
пробами... [Марков № 90], тайную любовь символизирует «зашифро-
ванная» проба на кольце: На моем колечке проба,/Никому не прочи-
тать [Кн., 42], а невозможность отыскать на кольце пробу - символ
любовного препятствия:
На серебряном колечке
Проба есть, а не найти,
97
Специфика предметной символики в частушках
По милам болит сердечко,
А стыжуся подойти.
[В. иГ.№3126]
Народная мысль движется в соответствии с требованиями поэти-
ческого канона. Связанная с кольцом система иносказаний разветвля-
ется уже не путем привнесения в частушечный текст новых реалий, а
за счет варьирования способа выражения символического значения.
Это означает, что частушка обладает гибкой системой иносказаний,
позволяющей выразить сложность душевного переживания.
Если интерпретация платка как символа или просто вещи зависит
от контекста, в котором он встречается, то статус кольца в таких слу-
чаях четко маркируется по признаку драгоценное/недрагоценное.
Кольца из недрагоценных металлов в частушках не имеют символиче-
ского значения, указывая лишь на имущественный статус своего вла-
дельца: Накупил он медных колец,/Думает богатый [Марков № 143].
Многообразие текстов, где встречается подобная оппозиция, дают
представление о том, как бытовое различие между кольцами включа-
ется в художественную ткань и приобретает иносказательное значе-
ние. Прежде всего, такие кольца резко отличаются в цене.
Что в колечке торговаться,
Золотого не купить...
[Марков № 63]
Кольца драгоценные и недрагоценные противопоставляются по
признаку дороже/дешевле. В системе иносказаний дорогостоящее
интерпретируется как ценное. Именно на этом основании оно начина-
ет противопоставляться кольцу недрагоценному.
Золотого у меня нет,
Буду медное носить;
Я на то, верно, родилась -
Пустяки переносить.
[Симаков № 1076]
Оппозиция по признаку дороже/дешевле трансформируется в оп-
позицию по признаку ценное/не имеющее ценности. Медное кольцо
становится иносказательным выражением горестного душевного
состояния. Это значение удерживается за ним, как, впрочем, и любым
другим простым кольцом, только в пределах данной оппозиции.
Эстетическое преобразование рассматриваемой оппозиции ведет и
к переоценке статуса двух колец. В этом отношении интересны час-
тушки, где оппозиция рассматривается по признаку лучше / хуже.
Золото мое колечко
Хуже оловянного;
98
М. С. Симакова
Полюбила я мальчишку -
Хуже окаянного.
[Е № 5705]
Покупала золотое,
А на вид - что медное;
Богачи со мной гуляют,
Не глядят, что бедная.
[Кн.,48]
Частушка концентрирует в себе семантику, вносимую двумя коль-
цами, и соответственно любовь милых включена в социальный кон-
текст. Кольцо из меди приобретает статус драгоценного кольца, и это
дает возможность лирической героине выразить победное чувство
любви вопреки сложившимся обстоятельствам.
Рассмотренные нами особенности функционирования платка и
кольца позволяют утверждать, что частушка заимствовала традицион-
ный подход к предметной символике. Одновременно функционирова-
ние предметов-символов отличает ряд особенностей, обусловленных
спецификой жанра частушки.
Платок и кольцо сочетают в себе свойства не только ассоциативно-
психологического, но и магического, ритуального символа. Связанная
с каждым из них система иносказаний реализует как те, так и другие
свойства символических предметов.
Образуемая предметными символами система иносказаний харак-
теризуется высокой степенью гибкости и подвижности. С одной сто-
роны, частушка по-прежнему идет по пути сближения новых реалий с
традиционной иносказательностью и тем самым демонстрирует ус-
тойчивость существующих в ней традиций, а с другой стороны, кор-
ректирует уже существующую в ней систему иносказаний.
Частушка как жанр сформировалась относительно недавно, и ее
появление знаменует собой новый этап развития народного поэтиче-
ского творчества, которое идет по пути создания новых форм, новых
принципов художественного отражения действительности, отвечаю-
щих меняющимся историческим условиям и соответствующих их
новым запросам. Старые фольклорные жанры отмирают, переставая
соотноситься с явлениями народной жизни, и возникает потребность
в новых, которые были бы способны включить в себя обширный
спектр жизненных явлений. Возникновение жанра частушки явилось
реакцией на данный запрос. Стремясь отразить в себе все жизненное
многообразие, затронуть все стороны народной жизни, частушка по-
этому оказывается созвучна практически всем явлениям народной
культуры. Она смело заимствует все, что уже накоплено в сокровищ-
нице народной культуры и придает этому новое, своеобразное и, глав-
99
Специфика предметной символики в частушках
ное, актуальное звучание. В этом заключается ее принципиальная
новизна и на этом основывается ее соответствие традиционным
принципам восприятия действительности.
Литература
♦ Белоз. - Соколов Б. Соколов Ю. Сказки и песни Белозерского края. М.. 1915.
♦ В. и Г. - Частушки в записях советского времени. Изд. подг. 3. И. Власова,
А. А. Горелов. М.; Л., 1965.
♦ Е - Сборник великорусских частушек. Под ред. Е. Н. Елеонской. М., 1914.
♦ И - «Ох! Любовь, ты любовь!» Частушки Западной Сибири. Сост. Иванов Г. М.
Томск, 2002.
♦ Кн. - Князев В. В. Жизнь молодой деревни. Частушки-коротушки. СПб., 1913.
♦ Кн. Соер, ч-ка - Князев В. В. Современные частушки 1917-1922 гг. М., 1924.
♦ Л. и К. - Частушки Черноземья.Под ред. С. Г. Лазутина и А. И. Кретова. Воро-
неж, 1970.
♦ Н.ч. - Нерехтские частушки. Сост. А. В. Кулагиной. Нерехта, 1993.
♦ Сид. - Русская частушка. Под ред. В. М. Сидельникова. М.,1941.
♦ Симаков - Симаков В. И. Сборник деревенских частушек. Ярославль, 1913.
♦ Симаков Ч-ки - Симаков В. И. Частушки про войну, немцев, австрийцев, Виль-
гельма, казаков, монополию, рекрутчину, любовные и т. д. Пг.,1915.
♦ См. - Смоленские припевки. Сост. В. М. Сидельников. Смоленск, 1962.
♦ Т.ч. - Тверские частушки. М., 1990.
♦ Ф - Флоренский П. А. Собрание частушек Костромской губернии Нерехтского
уезда. Кострома, 1909.
♦ Ч- Частушки. Сост. Ф. М. Селиванов М., 1990
♦ Ч.с.к. - Частушки северного края. Архангельск, 1983.
Примечания
1 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М„ 1988. С.575.
2 Там же С. 676.
3 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1987. Т.4. С. 152, 154.
4 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998. Т.4. С.478.
5 Маслова Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и
обрядах XIX - начала XX в. М., 1984. С.79.
6 Быстров Н. Свадебные обычаи, обряды и песни в Елинском приходе (юго-западной
части) Островского уезда Псковской губ. Этнографический очерк. Псков, 1899. С.6.
7 Там же.
8 Даль В. И. Толковый словарь.... Т.2 С. 145.
9 Славянские древности. Этнолингвистический словарь. М., 1999. Т.2. С.353.
10 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: в 3 т. М., 1995. Т. 1. С. 100.
11 Даль В. И. Пословицы русского народа. М., 1993. Т. 3. С. 252.
12 Сумцов Н. Ф. Символика славянских обрядов. М., 1996. С. 67.
Даль В. И. Пословицы ... Т. 3. С. 192.
14 Сумцов Н. Ф. Указ. соч. С. 67.
15 ФЭ МГУ 01: 0273 Владимирская обл., Вязнинский р-н., пос. Метяро. Николаев П.М.
16 Потебня А. А. Символ и миф в народной культуре. М., 2000. С.75.
17 Маслова Г. С. Указ. соч. С.79.
18 Русские заговоры и заклинания. М., 1998. № 699. С. 138.
19 Там же. № 654. С. 132.
20 Там же. №705. С. 139.
21 См. об этом Лазутин С. Г. Русская частушка. Воронеж, 1960. С. 119.
100
К вопросу о поэтике трагического и комического:
тема смерти в частушках
А. В. Кулагина (Москва)
Тема смерти известна всем жанрам устного народного творчества
(включая детский фольклор), и у каждого из них свой угол зрения на
этот неизбежный этап человеческого бытия. В календарных обрядах и
сопровождающей их поэзии это реализация идеи умирающего и вос-
кресающего божества растительности (похоронные святочные игры;
сжигание и разбрасывание чучела Масленицы; уничтожение семицко-
троицкой березки, которую бросали в поле или топили в воде; прово-
ды русалок, иногда принимавшие форму обрядовых похорон; похоро-
ны Купалы, Костромы, Ярилы, кукушки и др.). В семейной обрядовой
поэзии тема смерти звучит в свадебных песнях, в похоронных, сва-
дебных и рекрутских причитаниях, а сами семейные обряды строятся
на ритуалах «отделения», «включения», причем в каждом случае
(рождение, брак, уход из жизни) происходит «смерть» в одном
состоянии и «возрождение» - в другом1.
В сказках с их «установкой на вымысел» воплощена идея бессмер-
тия (Кощей бессмертный) или оживления при помощи живой и мертвой
воды. Успешна борьба героя с противниками, персонифицирующими
смерть, - Бабой Ягой или самой Смертью. В былинах, как и в сказках,
погибают враги, а богатыри бессмертны (обречен лишь Василий Бусла-
ев, пьяница и дебошир, впустую растративший богатырскую силу).
Наиболее глубоко и трагично тема смерти раскрывается в причи-
таниях, духовных стихах и балладах. В причитаниях смерть предстает
в образе птицы (черного ворона, галки, голубя) или в антропоморф-
ном облике беспощадной силы, являющейся за человеком. С темой
смерти в духовных стихах связаны самые важные вопросы христиан-
ского сознания: о смысле человеческой жизни, бессмертии души,
загробной жизни. Искусство трагического в балладах состоит в их
способности вызывать сострадание к гибнущим, страх за их судьбу,
приводящие к духовному очищению и просветлению. Как тонко отме-
тил сущность возвышенного в трагическом немецкий философ
Н. Гартман: «Не гибель добра как таковая является возвышенной, а
само добро в своей гибели озарено возвышенным. И чем яснее отра-
жается гибель в страдании и поражении борющегося, тем больше
усиливается обаяние трагического»2.
101
К вопросу о поэтике трагического и комического...
Специфика частушек как жанра - «грусть в маске веселья» - осо-
бенно ярко проявляется в частушках о жизни и смерти и укладывается
в формулу: «Пить будем, / Гулять будем, / А смерть придет - / Поми-
рать будем» [Н. № 60]. Эта формула вписывается в общефольклорную
оппозицию плач - смех. С одной стороны, в частушке слышны отго-
лоски «магии смеха», звучавшего в похоронных святочных играх, при
сжигании чучела Масленицы, во время обрядовых похорон Купали,
Костромы, Ярилы3. С другой стороны, в ней отражен и более поздний
вид смеха, так называемый «разгульный», который Пропп охарактери-
зовал как «смех народных праздников и увеселений», «громкий, здо-
ровый, безудержный, смех удовлетворения», выражающий «анимали-
стическую радость своего физиологического бытия»4. Смерть неиз-
бежна, но жить надо весело, без уныния и грусти:
Шибче топайте, ботиночки,
Когда пойду плясать.
Когда помру, тогда и будете
На полочке лежать.
[Н. № 476]
Вакхические мотивы радости жизни и философское осознание ко-
нечности бытия продолжает другая, не менее популярная частушка:
Ах, смерть пришла
Да меня дома не нашла -
Нашла в кабаке,
Да и бутылочка в руке5!
Эта частушка иногда бытует в соединении с одной из цитирован-
ных нами выше:
А мы пить будем и гулять будем,
А смерть придет - помирать будем.
Смерть пришла - дома не застала,
А застала в кабаке да с бутылочкой в руке6.
В этом варианте Н. В. Дранникова совершенно справедливо видит
«интересный пример взаимодействия и сращения двух видов смеха:
ритуального и средневекового. С последним связано использование в
тексте образа кабака». Истоки этих и подобных частушек исследова-
тельница находит в скоморошинах7.
В записях Елеонской начала века, когда еще окончательно не за-
крепилась четырехстрочная частушечная форма, есть вариант, вклю-
чающий «праформу» (совокупность трех частушек в одной песенке):
102
А. В. Кулагина
Кума, жарь гусака,
Клади на тарелку.
Старика своего
Пошлем у посылку.
Мы пить будем и гулять будем,
А смерть приде - помирать будем.
Смерть пришла от самого Бога,
Не хочется помирать - гуляла немного.
[Е № 4400]
Как легко убедиться, последняя часть (приход нежеланной, но неизбеж-
ной смерти) в наши дни бытует в юмористически осмысленном варианте.
Вместе с тем существует ряд тематических групп частушек с мо-
тивом смерти сугубо трагического звучания (сиротские, рекрутские и
о войне). В вариантах этих частушек отсутствуют юмористические
параллели в разработке темы смерти. Как убедительно показала
Н. В. Дранникова, на формирование жанра частушки в ряду прочих
несомненное влияние оказали причитания, и прежде всего - похорон-
ные. Исследовательница выделила формулы, характерные как для
причитаний, так и для частушек: обращение к покойнику, матери
сырой земле, а также образы серого камня как эквивалента горя и
одиночества, воды, буйных ветров, закатившегося солнца8.
В сиротских частушках обычно используются восходящие к похо-
ронным причитаниям метафорические формулы смерть - непробуд-
ный сон: «Все папаши в поле пашут, / У меня папаши нет: / Под се-
ребряным крестом / Спит папаша крепким сном» [Р. № 1029]; зака-
тившееся солнце (погасшая свеча): «Маменька родимая, / Свеча
неугасимая, / Горела да растаяла, / Любила да оставила» [Р. № 1031];
обращение к покойному с просьбой пробудиться. Похоронное причи-
тание строится на многократных обращениях: «Расступися, мать сыра
земля, / Приоткройся, гробова доска, / Распахнися, саван вышитый, /
Моей правою рукою выбранный, / Вылетай, мил, ясным соколом, /
Пой-воспой-ко соловеюшком...» [Шейн № 1512]. В частушках же
обращение с просьбой пробудиться укладывается в малую форму:
«Растворись, земля сырая, / Выйди, маменька моя, / Расскажу тебе,
родная, / Как живется без тебя» [Р. № 1037].
В частушках о войне самое большое место занимает тема смерти
любимого. Множество схожих по содержанию частушек создают мно-
гоголосый трагический хор женщин, потерявших единственного: «Се-
роглазого убили / Из винтовки боевой» [Сел. № 1183], «Ягодиночка в
Германии / На мину наступил» [Сел. № 1166], «Дроля в семь часов утра/
Скончался в лазаретике» [Сел. № 1171], «...убит под Севастополем»
103
К вопросу о поэтике трагического и комического...
[Сел. № 1177], «... погиб в городе Калинине» [Сел. № 1174], «На Ук-
раине он лежит / У кустика у ивова» [Р. № 470], «На Карельском пере-
шейке вырыта могилушка» [Сел. № 1187], «Убили, не поставили кре-
ста» [Р. № 465], «...лежит под тополиночкой» [Р. № 474], «...под
смородиной» [Р. № 457], «... его общая могила - человек четыреста»
[Сел. № 897], «.. .его братская могила травою заросла» [Р. № 465], «Я не
знаю, где, родимый, / Твои косточки лежат» [Сел. № 1191].
В частушках, как и в лирических песнях (генетически тоже свя-
занных с причитаниями), символами смерти являются заход солнца,
падение звезды, а также горы, степь, поле, камень, песок, разрушен-
ное жилище9 в соответствующем контексте: «Сидела на камушке, /
Плакала по мамушке. / Мне сказали камушки: / “Привыкай без ма-
мушки”» [Р. № 1033]. Как отмечает Н. П. Колпакова, в противополож-
ность причитаниям лирическая «песня не изображает смерть ни жес-
токой, ни хищной, ни пугающей. Здесь смутные очертания ее облика
гораздо мягче и поэтичнее. Так как в традиционной песенной лирике
умирает обычно воин на поле битвы, то смерть его изображается как
второй брак»10. В частушках метафора смерть - брак чаще связана с
образом девушки, против воли понуждаемой родителями к замужест-
ву: «Выйду, выйду нынче замуж, / Выбрала семеюшку: / Новый гроб,
сырую землю - / Мягкую постелюшку» [Сел. № 435].
В частушках, в отличие от обрядовых жанров, тема смерти может
звучать в подтексте: «Ой, война, война, война, / Война меня обидела, /
Война заставила любить, / Кого я ненавидела». [Н. № 229]
Частушки - молодежный жанр, поэтому центральное место в них
занимает любовь: от зарождения этого чувства до невозможности
жить без любимого (любимой). Любовь, с одной стороны, - это бла-
женство и счастье, а с другой - наваждение, страдания, доводящие до
болезни и смерти. Не случайно гениальный А. Платонов отмечал:
«Смерть, любовь, душа - понятия тождественные». Любящее сердце
болит, ноет, замирает: «Замрет ретивое сердечушко - / Не залить бу-
дет водой» [С. № 517]. Во фразеологии частушек любовь и смертель-
ная болезнь, смерть часто нераздельны: «Долюбила до того, / В ча-
хотку пала от него» [Е. № 717]; «Он влюбился - врезался, / Без ножа
зарезался» [Е. № 306]; «Я насмерть того люблю...» [Е. № 90]. Мотивы
роковой, доводящей до гроба страсти звучат во многих частушках:
«... я тебя, бедовая, до гроба доведу» [Н. № 1404]; «Чернобровая за-
зноба / Довела меня до гроба» [Е. № 5134, ср. Е. № 940; Г. № 306,
1252, 6354]. Словесные клише - «довести до гроба», «... до сырой
земли-могилки», «забуду, когда в гробе лежать буду», «любить до
крышки гробовой», «чуть-чуть не померла», «для погибели моей»,
104
А. В. Кулагина
«расставанье хуже смерти», «пора помереть» характерны для часту-
шек с тематикой любовь - смерть.
В некоторых частушках речь идет о судьбе, складывающейся та-
ким образом, что молодые люди (чаще девушки) начинают думать о
самоубийстве. Отношение народа к самоубийству резко отрицатель-
ное: лишение себя жизни - грех. Не случайно самоубийц хоронили за
пределами кладбища, иногда даже далеко от села, в лесу. Самоубийцы
лишались обычного христианского поминовения, так как считалось,
что душа самоубийцы погибла навсегда11. Е. Н. Куницына полагает,
что негативное отношение народа к самоубийству связано не только с
христианским мировоззрением, но и «с представлением о нарушении
законов рода, поскольку человек пытается сократить отпущенный ему
срок, отказаться от отмеренной ему доли»12.
В фольклоре тема самоубийства встречается редко (преимуществен-
но в социально-бытовых былинах и балладах). Богатыри кончают с
собой, отстаивая воинскую честь или не желая братоубийственного
столкновения (Сухмантий, Данила Ловчанин). Былинный богатырь
Дунай и балладный князь Михайло убивают себя от безысходного горя
после гибели жены и нерожденного младенца (Дунай сам убивает жену,
которая «избесчестила» его, победив в состязании по стрельбе, а потом
узнает, что тем самым потерял и сына). Князь Михайло топится в море,
так как не может отомстить убийце беременной жены - своей матери.
В балладах дороже жизни ценится девичья честь: кончает с собой Дом-
на, чтобы не стать женой нелюбимого («Дмитрий и Домна»); в истори-
ческой балладе «Гибель полонянки» девушка топится, чтобы не дос-
таться врагу. В новых балладах девушка кончает с собой, уже будучи
опозоренной («В лес девицы за грибами...», «Потеряла я колечко...»,
«Шумел камыш...» и др.). В некоторых балладах любовь ценится доро-
же жизни: кончает с собой королевна, узнав о смерти любимого («Мо-
лодец и королевна»), убивает себя княгиня Волконская после казни
Ванюши («Князь Волконский и Ваня-ключник»).
В частушках причины самоубийства ясны далеко не всегда: «Пой-
ду на ручей на бегучий / Свою душеньку губить: / Распобедненькой,
несчастненькой / Не стоит больше жить!» [С. № 1629]. Иногда о са-
моубийстве речь идет в сослагательном наклонении: «Как бы было
близко море, / Я упала бы на дно...» [Е. № 2635]; «Кабы знала - в
речку пала» [В. и Г. № 5942]. Причина (в тех случаях, когда она назы-
вается) состоит в том, что милый может разлюбить или разлюбил, у
него нет совести, изменил, женится на другой, предстоит разлука,
солдатская служба.
105
К вопросу о поэтике трагического и комического...
В системе жизненных ценностей самоубийство в частушке пред-
ставляется предпочтительным по сравнению с замужеством с нелю-
бимым (в этом перекличка с балладами): «Не ходи, подружка, замуж /
За не милого дружка! / Лучше в речке утопиться / Со крутого береж-
ка!» [С. № 1986, ср. вар. В. и Г. № 1832, 2964]. Способы воображае-
мого самоубийства самые разнообразные, но чаще всего девушка
хочет утопиться (в море или реке, пруде, колодце) или просит раздо-
быть ей яду или сонных капель (здесь можно усмотреть влияние жес-
токих романсов и новых баллад): «Дайте яду - отравиться / Сердцу
зараженному!» [В. и Г. № 6870]. Реже она просит родителей живьем
похоронить ее: «Тятька с мамкой, вырой ямку, / Зарой девушку, меня»
[Сел. 1098; вар. Е. 2086] или милого - застрелить ее: «Возьми-ко,
милый, револьверчик, / Прострели-ко грудь мою. / Я и тем буду до-
вольна, / Что прикончишь жизнь мою» [Сел. № 2510]. Иногда лишь
косвенно намекается: «Из окошечка в окошечко / Веревочка вилась. /
Если дролечка изменит - / Я на свете нажилась» [В. и Г. № 947].
Наряду с темой самоубийства звучат мотивы:
- сожаления о появлении на белый свет: «Пошто, мамонька, роди-
ла? / Лучше не рожала бы» [В. и Г. № 2621];
- желания во младенчестве быть в корзиночке унесенной на море
[С. № 2126] или родиться бесчувственным камушком, который будет
утоплен в море [В. и Г. № 3888];
- желания быть хрустальной и разбиться [С. № 1605, Р. № 32];
- мысленного создания ситуации, при которой были бы невозмож-
на встреча и роковая любовь: «Миленький, кудрявенький, / Помер бы
ты маленький: / Я бы не родилася, / В тебя бы не влюбилася» [Е. №
2579, вар. Е. № 598].
Все частушки о любви - смерти укладываются в несколько тема-
тических групп: девушка (парень) - о смерти парня (девушки); о соб-
ственной смерти; о совместной смерти; угрозы сопернице (соперни-
ку); угрозы убить соперника (соперницу); угрозы убить милого
(милую); пожелания смерти милому (милой).
Девушка о милом: опасение, что милый умрет молодым [В. и Г.
№ 3590]; милый умирает [С. № 2227], тонет [Е. 808, 1155, 1656,
1793,1826, 4661, 5996, 6006; В. и Г. № 969, 3757, 6149]; нежелание
поверить, что милый будет лежать в гробу [С. № 2828; В. и Г. №
1300]; желание заказать гроб, поставить покойному крест и посадить
две березки [Е. №194; В. и Г. № 1765, 1853]; поставить памятник [С.
2233]; упреки, что роют могилу милому, не известив ее [С. № 2230; Е.
№ 1072]; перед церковью могила с крестом, где лежит милый [С. №
2225]; могила милого (иносказательно) - «...счастьице в саду под
106
А. В. Кулагина
камушек положено» [С. № 2222]; «за оградой вся отрада» [В. и Г. №
3661], милый лежит в сырой земле [С. № 223, 2224, 2226]; «...на кре-
сте моя отрада, под крестом моя любовь» [Е. № 2320]; хочет рассечь
гроб милого [В. и Г. № 252].
Парень о милой: скорбь об утонувшей и осознание одиночества
[Е. № 5890]; ненаглядная умерла от любви и лежит в гробу [С. №
2244]; не могла перенести измены и ее несут в гробу [В. и Г. № 441];
зарыта в земле [Е. № 3557]; на ее могиле написано: «от любови по-
мерла» [Е. № 5124]; «улетела на тот свет» [Е. № 5235]; «зачем помер-
ла такая молодая?» [С. № 2245].
Девушка о собственной смерти: желание перед смертью увидеть
милого [С. № 2239]; «завещание» (что делать, когда она умрет). В ва-
риантах подробнейшим образом излагается, какими должны быть
гроб («не красьте»; белый; стеклянный, синенький; тесовый, новый;
новый черный; новенький; «украсьте всяким разныем цветам»); обла-
чение (кумашный сарафан; «повалите на батист на голубой»; «покрой-
те тонким белым полотном», «положьте на зеленый на ковер»). На
гробу должно быть написано'. «Померла через любовь», а в гробу
сделана рамочка, чтобы видеть любимого, когда он придет простить-
ся. Гроб надо поставить в передний уголок, где милый должен наре-
веться «у моих холодных ног». Нужно приоткрыть крышку гроба и
открыть личико; панихиду следует отслужить под окном у милого.
Могилу надо вырыть у милого на дворе; ее должен выкопать «тот, кто
до этого довел» (то есть милый - один или с друзьями). Из гроба (или
из могилы) девушка должна «забавочке все тайности сказать», лю-
боваться им, видеть, как и с кем гуляет миленький, кому он достанет-
ся. Все эти мотивы в разных сочетаниях варьируют во множестве
частушек, построенных по модели «Я умру...»: «Я помру, сладьте во
гробе / Золотую рамочку, / Я, померши, глядеть буду / На свою заба-
вочку» [Е. № 799, ср. вар.: С. № 2234-2238, 2242, 2243; Е. № 53, 105,
106, 799, 1652, 1705, 3237, 4311, 4627, 5591, 5748; В. и Г. № 1133,
3806, 4328, 5802, 6868, 7514, 7564, 7565, 7799; Р. № 1333]. На своей
могиле девушка просит также поставить белый памятник и посадить
две сосенки по бокам или положить ее под березу белую. Есть также
немногочисленные варианты, где девушка представляет себя уже
умершей и в ожидании, пока выкопают могилу, просит привести ми-
лого на последнее свидание. Иногда она сообщает: «У меня могилка в
речке, памятник на берегу» или признается из реки, что ее угробили
любовь и измена [С. № 2239; Е. № 5665; В. и Г. № 1936, 7155].
Парень о собственной смерти. Подобных частушек гораздо
меньше, чем от имени девушки, и строятся они по той же модели «Я
107
К вопросу о поэтике трагического и комического...
умру...»: «Я умру, меня положат / Во сосновый новый гроб; / Придет
милая поплачет / У моих остывших ног» [С. № 2240, вар. С. № 2241].
О совместном погребении обнаружены частушки только от имени
парня: «Эх, милашка моя, милка, / Нам с тобой одна могилка, / Тебе
крестик золотой, / А мне памятник литой» [Е. №3556, вар. Е. 3536,
4570, 5524, 5706]. Возможно, в основе подобных частушек лежит архе-
типическая модель захоронения у славян жены с умершим мужем.
В ряде частушек неясно, от чьего имени идет речь: «Утопаю се-
редь моря / Не от радости, от горя» [Е. № 3958, вар. Е. № 4106, 3453].
Соперник (соперница) готовят убийство милого (милой): «Шел я
лесом, краюшком, / Меня кидали камушком. / Хотели камушком убить, /
Мою милашку полюбить» [Е. № 1328, вар. Е. 1540,4636; Н. № 780].
Угрозы девушки сопернице и парня сопернику в ряде случаев
идентичны: «Кто мово милова любит, / Тот попробует ножа» [Е. №
3514] - «Кто милашечку полюбит, / Тот попробует ножа» [Е. № 2593];
«Кто миленочку полюбит, / Тот трех дней не проживет» [Е. № 1341] -
«Кто милашечку полюбит, / Мы на острый нож пойдем» [Е. № 5429].
Угроз девушки расправиться с соперницей гораздо больше, чем пар-
ня по отношению к соперникам: «ухлопаю», «изотру в муку», «суну в
омут с головой», «суну в жернов головой», зарою в яму, застрелю и пр.
Девушка, обиженная на парня, предпочитает утопить его [С. №
1633; Е. № 5399], а парень - хочет зарезать милку [Е. № 1517, 3134,
4598] или просит товарищей убить ее из ружья [Е. № 2890, 3326].
Рассмотренный нами материал позволяет судить о несомненной
близости частушек на тему любовь - смерть с городскими балладами
и романсами. О влиянии романсов и литературных песен на формиро-
вание частушечного жанра писала 3. И. Власова13, хотя темы смерти
она практически не затронула. Этой темы в городских пенях касается
А. В. Чеканова14, которой удалось показать влияние литературной
традиции на городские романсы. Отмеченные А. В. Чекановой обра-
зы, связанные с разработкой темы смерти, - кладбище, церковь, мо-
гила, крест, как видим, характерны и для частушек с темой любовь -
смерть. Сближаются и мотивы предвидения будущей смерти, описа-
ния могилы, способов самоубийства, наличие провидческих моноло-
гов с обрисовкой будущей могилы и просьбой определенным образом
ее обустроить. Сходно и стремление увековечить память о трагиче-
ской страсти умерших надписями на крестах в городских романсах
(«Из-за Шуры помер я» или «Умерла через любовь») или на гробу в
частушках («Умираю за любовь», «Померла через любовь»). Сближа-
ются и устойчивые поэтические формулы описания могилы, ее лока-
лизации: «высокая гора» [В. и Г. № 2338], «зеленый сад» [В. и Г №
108
А. В. Кулагина
7765], и то, что в частушках, как и в городских романсах, могила
обычно воображаемая.
Как легко убедиться, в каждой из выделенных групп частушек есть
излюбленная, наиболее частотная модель, отражающая глубинные
истоки традиции. Прежде всего, это выделенная Г. И. Мальцевым в
лирических песнях формула «девушка у реки», семантика которой
связана с горем15. Поэтому не случайно в подавляющем большинстве
вариантов девушка в воображаемом самоубийстве предпочитает реку
[С. № 1628, 2508; Е. № 2874, 3453; В. и Г. № 2939] или море [С. №
2176, 2501; Е. 3958; В. и Г. № 1303, 3888; Р. № 1455]. Другая большая
группа частушек (смерть милого с точки зрения девушки) - милый
тонет (в реке или море), причем девушка наблюдает за происходящим
и даже иногда делится увиденным с матерью: «Погляди, мама, в
окошко, / Милой тонет во реке, / На нем беленька рубашка / И талья-
ночка в руке» [Е. № 1656, вар. Е. № 808, 1793, 5996, 6006; С. № 2227;
В. и Г. №969, 3751,6149].
В ряде вариантов раскрывается отношение девушки к утопающе-
му, и это привносит в частушку оттенок комического: «Ягодиночка на
льдиночке / Кричит: “Тону! Тону!” / Я обрадовалась, девушка: / Не
мне и никому» [В. и Г. № 1155] или «Милый мой на Волге плавал, /
Утонул, паршивый дьявол, / Пускай тонет, сатана, не хай он девушку
меня» [Е. № 1826, вар. Е. № 4661].
В вариантах частушек, в отличие от городских песен, возможна
трактовка темы любовь - смерть в рамках эстетики комического. Этому
способствует жанровая специфика частушки («грусть в маске веселья»).
На эту особенность частушек еще в начале XX века указал П. А. Фло-
ренский: «... шутливое в глубоком и глубокое в шутливом придают
частушке дразнящую и задорную прелесть, постоянно напоминающую
гейневскую музу. Как и у Гейне, в глубине частушки порою нетрудно
разглядеть слезы и боль разбитого сердца; однако, как и у поэта, так и у
народа, эти слезы и эта боль показаны более легкими, нежели они суть
на деле»16. Сквозь призму смеха может рассматриваться несостоявшее-
ся самоубийство из-за обилия поклонников: «У меня миленков три-
дцать, / Побегу от них топиться. / Прибегаю на реку - / Все сидят на
берегу» [Н. № 944]. Иногда самоубийству препятствуют лента, платье:
«Подходила к быстрой речке, / Утопиться не могла: / Моя лента голубая
/ Застилала берега» [В. и Г. № 3759, вар. Р. № 1405].
Комические варианты избавления от смерти разнообразны: «Под-
бежала я ко речке, / В речке плавает карась. / И сказала эта рыбка: /
“Не топись, девка, напрась!”» [С. № 1634, вар. Н. 1363]. Модель час-
тушки «Не ходите, девки, замуж / Не за милого дружка, / Лучше в
109
К вопросу о поэтике трагического и комического...
речке утопиться / Со крутого бережка» [В. и Г. № 2964] по-разному
варьируется в комическом осмыслении формулы «утопиться...»:
«Лучше пьяному напиться, / Чем тверезому ходить, / Лучше в море
утопиться, / Чем корявую любить» [Е. № 2309]; вариант 4-й строчки:
«Чем корявому ходить» [Е. № 921]; вариант 3-4-й строчки: «Лучше
пулей застрелиться, / Чем изменницу любить» [Е. № 2889].
Формула «Говорят, миленок помер, / А я не поверила (не поверю)»
может трактоваться как в трагическом, так и в комическом аспектах.
Говорят: забава помер, -
Не поверю никому:
Неужели такой вербонька
Лежать будет в гробу?
[С. № 2228, вар.: «така ягодка» В. и Г. № 1300].
Мне сказали: милый помер, -
Я и не поверила:
Неужели положили
В гроб такого мерина17?
Оттенок комического частушке может придать глагол: «Я страда-
ла, страданула, / С моста в речку сиганула» [Е. № 4463] или необыч-
ная форма глагола: «Я страдала, страданула - / Середь Волги потону-
ла» [Е. № 3159].
Комический эффект вызывает сожаление девушки по поводу не-
удачного самоубийства милого: «Мой залетка от измены / Захотел
повеситься. / Елки-палки, елки-палки, / Изломалась лестница» [Н. №
1412] или «Как повесился милой / На веревочке гнилой» [Е. № 3813].
Абсурдность самоубийства из-за несчастной любви или невозмож-
ности жениться высмеивается в небылицах и нескладухах: «Меня
милый изменяет, - / Я в корыте утоплюсь, / Не в корыте, так в чулане /
Из ухвата застрелюсь» [С. № 4756, вар. Н. № 692]; или «Я пойду и
потону / На сухом на берегу. / Ну кому какое дело, / Что жениться не
могу» [В. и Г. № 4949].
Модель завещания «Я умру...» тоже может быть переосмыслена в
комическом плане благодаря картежной лексике: «Ой, убьют - похо-
роните, / Дорогая, не забудь! / Разукрась мою могилу, - / Черви, буби,
сечку в зубы, - / Хоть цветочкам как-нибудь!» [В. и Г. № 7343].
Практически все выделенные нами тематические группы могут
трактоваться не только трагически, но и комически, вплоть до сожа-
ления об усопшем: «Со святыми упокой! / Человек-от был какой: /Ис
руками, и с ногами, /Ис плешивой головой» [Е. № 2668, текст восхо-
дит к скоморошьему]. Заметим, что в частушках с пожеланиями смер-
110
А. В. Кулагина
ти милому или милой, а также с угрозами сопернице обычно преобла-
дают комические ноты: «Мой муж водовоз / Поехал на речку, / Дай
Бог, чтоб умёр, / Поставила б свечку» [Е. № 3824, вар. Е. 3825 («чтоб
издох»), 3908, 4214 («утоп»), 5792 («утонул»); В. и Г. № 1968].
Шутливой иронией проникнута частушка о смерти милого: «Слава
богу, милый умер, / Слава богу, околел. / Он, покойная голов(уш)ка, /
Целоваться не умел» [В. и Г. № 4904]. В некоторых частушках звучит
горький юмор, как, например, в желании девушки вырыть из могилы
прежнего милого и уложить туда нового, «негожего» [В. и Г. № 5285],
или в злорадстве по поводу того, что милый свалился с парохода:
«Так и надо вертуна, / Лети до самова до дна» [Е. 3142], или в жела-
нии отомстить за то, что «завлек молоденьку»: сунуть милого «в боло-
то с головой» [В. и Г. № 1729], потопить [Е. № 67, 5399; С. № 1633];
схоронить живого [В. и Г. № 1869].
В комических пожеланиях или констатациях смерти гроб обычно
готовят «на ножках»: «Помер, помер наш Олешка, / Сколотили гроб
на ножках» [В. и Г № 196].
Парень чаще желает смерти своей милой: «Умирай скорей, Мат-
решка, / Куплю гроб тебе на ножках, / Обобью я гроб глазетом, / Про-
печатаю в газетах, / Что Матрешка спомерла / И мне волюшку дала»
[С. № 2247, вар. «Ты умри, умри, Анюшка...» С. № 2248]; «Помирай,
моя Наташа, / Я тебя похороню, / Крест осиновый поставлю / На мо-
гилу на твою ...» [Е. № 1324, вар. Е. № 544, 1159].
Язвительным юмором проникнуты пожелания смерти милашке
(забаве, красотке) и обещание отслужить «панафиду», положить за
пропащу (грешну) душу копейку (три) в церковь [С. № 2246, 2249,
2250, 2251 и др.].
Парень шутливо требует «орудие» убийства: «Дайте ножик, дайте
вилку, / Я зарежу свою милку, / Дайте ножик поострей, я зарежу по-
скорей» [Е. № 3134, вар. Е. 1517, 4598]. Другая модель: «Про свою
про милушку / Вырою могилушку. / Вырою глубокую, / Зарою
толстобокую» [Е. № 930, вар.: «кособокую» Е. № 3394].
Из разных вариантов воображаемой расправы преобладает угроза:
«Я свою соперницу / Отвезу на мельницу, / Изотру ее в муку / И ле-
пешек напеку» [Н. № 804]; «...Суну в жернов головой, / Тогда милый
будет мой» [Н. № 803]; «... Не ходи на перебой, / Суну в омут голо-
вой» [Н. № 801]; «...все равно залетка мой» [Н. № 802].
Модель закапывания в яму используется и в частушке о соперни-
це: «Супостатку ненавижу; / В поле яму вырою, / Широкую, глубо-
кую, - / Зарою толстобокую» [В. и Г. № 5029].
111
К вопросу о поэтике трагического и комического...
Комическое в частушках возникает и тогда, когда мелодраматизм
«зашкаливает» за пределы возможного: «Ой, разрежьте грудь мою, /
Положьте черную змею. / Она выпьет мою кровь, / Тогда забуду про
любовь» [В. и Г. № 1196]; «Привяжите меня к дубу / И убейте - лю-
бить буду! / Привяжите к елочке - / Ну, не отстать от кровочки!» [В. и
Г. № 6761]; «Отрубите мою голову / На стуле топором - / Не отстану я
от милого / Ни лихом, ни добром» [В. и Г. № 6762].
Наиболее тесно с городскими балладами и романсами сближаются
частушки типа «Семеновна», которые появились в 20-е годы XX века.
Они более, нежели частушки других типов, тяготеют к циклизации,
соединению двустиший в развернутое повествование. На мотив «Се-
меновны» создано множество трагических песен (о героической
смерти Зои Космодемьянской; об убийстве дочери отцом; о гибели
девушки от руки парня, которому она не отвечала взаимностью). По
нашим наблюдениям, иногда (в Калужской, Костромской, Нижегород-
ской областях) подобные песни сопровождаются веселой пляской,
создающей особый контраст между трагическим и комическим. По-
добный «смех при смерти», или «сардонический», издавна интересо-
вал ученых. В своей работе о ритуальном смехе В. Я. Пропп называет
таких авторов специальных работ о смехе, как Узенер, Ферле, Манн-
гардт, Норден, Фрейденберг, которые исследовали в основном антич-
ный материал18. Пытаясь разобраться в сущности ритуального смеха,
Пропп опирается на труды этих ученых и размышляет о природе
«сардонического смеха»: «У древнейшего населения Сардинии, кото-
рые назывались Sardi или Sardoni, существовал обычай убивания
стариков. Убивая стариков, громко смеялись. В этом и состоит пре-
словутый “сардонический” смех»19. Факт смеха при смерти Пропп
рассматривает как «создающий новое рождение», тем самым «этот
смех есть акт благочестия, превращающий смерть в новое рожде-
ние»20. Приводя примеры «смеха при смерти», Пропп упоминает еги-
петских кочевников, которые хоронили мертвецов под непрерывный
смех; финикийцев, смеявшихся при умерщвлении своих детей; фра-
кийцев, веселившихся, когда кто-нибудь из них был при смерти. При
этом он указывает и на более поздние случаи смеха при похоронах,
которые имели место на Украине21. Поэтому в трагической «Семенов-
не» веселое вступление и пляска, сопровождающие повествование об
убийстве ребенка, вполне могут являться отголосками архетипической
модели сардонического смеха. Подобные «отголоски» звучат и в соб-
ственно частушках: «Девки-ой, бабы-ой! / Милый умирает. / Я хотела
горевать, / Смех одолевает» [Е. № 5310]; «Милые подруженьки! /
Милый умираёт. / Я хотела пореветь - / Смех одолеваёт» [Е. № 3139,
112
А. В. Кулагина
вар. Е. № 3140; Н. № 715]; «Моя милка белье мыла, / А я любовался; /
Моя милка утопилась, / А я засмеялся» [Е. № 1488].
Особый интерес также может вызвать мотив «экстатической пля-
ски», встречающийся в частушках: «... Мужа с лавки волокут, / Мине
слезы не берут. / Ат гроба отошла, / Танцавать пошла» [Е. № 4399].
Вопросы отголосков в частушках следов захоронения жены с му-
жем, сардонического смеха, экстатической пляски «которую антропо-
логи с такой устрашающей закономерностью обнаруживают в пора-
женных коллективным стрессом человеческих сообществах»22,
требуют дальнейшего изучения.
Подводя итоги нашего исследования, нужно отметить, что матери-
ал для анализа был отобран из 30 тысяч частушек, включая сборники
Симакова, Елеонской, Власовой и Горелова, «Нерехтские частушки»,
«Русская частушка» и хранящиеся в архиве МГУ, поэтому наблюдения
опираются на достаточно основательную базу. Тема смерти встреча-
ется примерно в 1% частушек, то есть она является периферийной для
жанра и вместе с тем достаточно многообразной и связанной с раз-
личными нюансами частушечной эстетики (от трагических и мело-
драматических до комических аспектов). Сиротские частушки (жало-
бы невесты или рекрута у могилы родителей) и частушки о войне
(скорбь по убитому воину его девушки) восходят к похоронным при-
читаниям и используют их символику и ряд поэтических формул.
Помимо этого, они испытали влияние и необрядовой лирики (в свою
очередь связанной с обрядовой), например, использование метафоры
«смерть - брак» и символики народной лирики. Трагические или ме-
лодраматические частушки об убийстве или (чаще) самоубийстве
восходят к балладам (традиционным и новым) и жестоким романсам.
Комические частушки опираются на скоморошью стилистику (ало-
гизмы, иронию, пародирование, балагурство и др.) и соотносятся, как
правило, с воображаемыми убийством или самоубийством.
Основная масса частушек о смерти связана с ведущей темой жанра -
любовью. В них «слезы и боль разбитого сердца» грациозно и пла-
стично переходят в улыбку и смех над пригрезившейся необходимо-
стью самоубийства как избавления от душевных страданий. А гранью
такого перехода, как показали наши наблюдения, может служить одна
строка, слово или даже суффикс.
Литература
♦ В. и Г. - Частушки в записях советского времени / Под ред. 3. И. Власова,
А. А. Горелов. М.; Л., 1965.
♦ Е. - Сборник великорусских частушек / Под ред. Е. И. Елеонской. М., 1914.
♦ Н. - Нерехтские частушки / Под ред. А. В. Кулагиной. Нерехта, 1993.
113
К вопросу о поэтике трагического и комического...
♦ Р. - Русская частушка / Под ред А. В. Кулагиной. М., 1993.
♦ С. - Симаков В. И. Сборник деревенских частушек. Ярославль, 1913.
♦ Сел. - Частушки / Под ред. Ф. М. Селиванова. М., 1990.
♦ Шейн - Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях и т. п. СПб.,
1898-1900. Вып. 1-11.
Примечания
1 Ван Геннеп А. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. М., 1999.
2 Гартман Н. Эстетика. М., 1958. С. 559.
3 Пропп В. Я. Ритуальный смех в фольклоре (по поводу сказки о Несмеяне) / Он же
Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре. М., 1999. С. 220-256. Дрон-
никова Н. В. Формирование жанра частушки как один из основных этапов развития
народной поэзии (на материале Архангельской области): Дисс. канд.филол. наук. М.,
1994. С. 58.
4 Пропп В. Я. Ритуальный смех... С. 165-166.
5 ФЭ МГУ 2002 г. Т. 1. № 238. Нижегородская обл., Варнавинский р-н. Исп. Антонова
А.И.. 1909 г.р.
6Дронникова Н. В. Формирование жанра частушки... С. 67.
7 Там же. С. 57-79.
8 Там же. С. 83-91.
9 Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня. М.; Л., 1962. С. 232.
10 Там же. С. 159.
11 Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии: Умершие неестественною смертью и
русалки. М., 1995. С. 41-43.
12 Куницына Е. Н. Феномен самоубийства в народном сознании И Вторые Лазаревские
чтения. Материалы Всероссийской научной конференции 21-23 февраля 2003 года.
Челябинск, 2003. С. 27.
13 Власова 3. И. Частушка и песня (к вопросу о сходстве и различии) И Из истории
русской народной поэзии. Русский фольклор. Т. XII. Л., 1971. С. 109-110.
14 Чеканова А. Образ могилы в городских песнях // Актуальные проблемы филологи-
ческой науки: взгляд нового поколения. Вып. 1. М., 2002. С. 229-234.
15 Мальцев Г. И. Традиционные формулы русской народной необрядовой лирики. Л..
1989. С. 94.
16 Флоренский П. А. Собрание частушек Костромской губернии Нерехтского уезда.
Кострома. 1909. С. 12-13.
17 ФЭ МГУ 8962-8963. 1993 г. Костромская обл., Чухломской р-н, с. Судай, исп.
Лазарева Е. Н., 1931 г.р.
18 Пропп В. Я. Ритуальный смех... С. 220-256.
19 Там же. С. 237.
20 Там же.
21 Там же. С. 238.
22 Мяло К. Оборванная нить И Новый мир. № 8. М. 1989. С. 245.
К вопросу о взаимодействии анекдота
с другими жанрами фольклора
П. А. Бородин (Москва)
Поэтика современного народного анекдота в значительной степени
определяется взаимодействием анекдота с другими фольклорными
жанрами, прежде всего со сказкой и паремией, близкими анекдоту в
типологическом плане и родственными ему генетически. Анекдот ак-
тивно взаимодействует и с другими жанрами фольклора (например,
быличкой и некоторыми жанрами детского фольклора). Однако эти
взаимодействия в значительной степени могут быть сведены к назван-
ным связям анекдота и сказки, а также анекдота и паремийных жанров.
Для задач данного сопоставительного исследования существенны
следующие аспекты:
- уровень взаимодействия (сюжетно-композиционное строение,
система персонажей и т. д.);
- способ взаимодействия (заимствование мотивов, образов, реалий);
- результат взаимодействия (как заимствование расширило изо-
бразительные возможности жанра).
Анализируя трансформации сказочных сюжетов и персонажных
ролей в художественной системе анекдота, укажем прежде всего на
тот принципиальный факт, что объем текста в анекдоте значительно
меньше, чем в сказке. Это затрудняет заимствование и обыгрывание в
анекдоте целых сказочных сюжетов. В анекдоте, как правило, исполь-
зуются один или несколько сказочных мотивов. Используя старый
сюжет для воплощения новой идеи, привлекая сюжетную ситуацию
или сюжетообразующий мотив, анекдот также заимствует принцип
контрастного объединения сказочных персонажей или реалий. Как
уже говорилось ранее, роль собственно сюжета в анекдоте ограниче-
на. По этому признаку он противопоставлен другим прозаическим
жанрам фольклора, в которых композиция подчинена сюжету как
линейной последовательности событий. Кроме того, в этих жанрах, и
прежде всего в сказке, сюжет должен быть задан как последователь-
ность действий, ведущих к разрешению конфликта, лежащего в осно-
ве произведения, и к установлению гармонии между персонажами и
ситуацией: герой, гонимый изначально, в финале сказки может лик-
видировать угрозу, повысить свой статус, обрести богатство.
115
К вопросу о взаимодействии анекдота с другими жанрами...
В эпических фольклорных жанрах следствие всегда соответствует
заранее известной причине. Не только характер, но и будущие по-
ступки героя задаются уже в экспозиции и соответственным образом
мотивируются (например, чудесным рождением). Для сказочного
образа характерна изначальная заданность качеств. Действие, посту-
пок сказочного героя первичны не только по отношению к психоло-
гии, но и к самому персонажу, его совершающему. Сам персонаж в
значительной степени определяется своей функцией в сюжете. Имен-
но это положение послужило отправной точкой для фундаментальных
исследований В. Я. Проппа и других ученых в области сюжетно-
композиционного строения сказки. На поступке, событии, на их сцеп-
лении концентрируется внимание слушателей. Так, бедный крестья-
нин последовательно обманывает попа, купца и барина примерно
одним и тем же образом. Его действия мотивируются его бедностью,
а также богатством обманутых. Мотивировка известна изначально,
она предваряет действие. Само событие, действие находится в центре
повествования и в центре внимания слушателей. Важна не столько
причина действия, сколько его результат. Поэтому финал сказки все-
гда результативен: изначально заданные качества героя либо награж-
даются, либо наказываются.
Пародирование фольклорной сюжетики предполагает инверсиро-
вание качеств персонажей, смену мотивировок поступков героев;
разрушение обусловленности персонажей характеристиками жанра
разрушает их исконную функциональность. Сюжет как основа содер-
жания теряет свою значимость. Мотив и сюжет чаще всего использу-
ются как основные объекты пародирования.
Переход персонажей из других жанров в анекдот влечет за собой ут-
рату либо инвертирование многих качеств, которые присущи им в изна-
чальном жанровом поле сказки. Распространенным мотивом, обыгры-
ваемым в анекдотах и заимствованным из сказок, является мотив
чудесной помощи и соответствующие персонажи - чудесный помощник
и даритель. В конечном, доведенном до абсурда, пародийном варианте
эти персонажи становятся жертвами того, кому они помогли.
В сказках Змей Горыныч, Кощей Бессмертный и Баба Яга не могут
контактировать друг с другом, так как они выполняют одну и ту же
функцию, являются антагонистами главного героя сказки. В анекдо-
тах они тесно взаимодействуют друг с другом. Персонаж-протагонист
в таких анекдотах - Баба Яга, остальные упомянутые персонажи под-
страиваются под ее поведение: Змей Горыныч - муж, Кощей Бес-
смертный - жених, Иван Царевич - жених или любовник Яги.
116
П. А. Бородин
Одно из основных качеств Бабы Яги, ее тератоморфность, крайняя
физическая непривлекательность, в анекдотах инвертирована: баба
Яга приписывает себе молодость, притягательность, сексуальность.
На самом деле, то есть в глазах других персонажей, она по-прежнему
стара, уродлива и отвратительна. Этот особый тип инверсии качеств
персонажа. В анекдотах такого типа Баба Яга ведет себя провокаци-
онно (ходит нагишом), симулирует сексуальное насилие и, наконец, из
потенциального объекта домогательства может стать его субъектом.
Очевидно, что здесь сказочный образ используется для воплощения
типично анекдотических идей и тем, а открытость финала анекдота,
которому принадлежит данная функция, приводит к разрушению ска-
зочной модальности между словом и событием1.
Очень часто обыгрывается и пародируется в анекдотах традицион-
ный сказочный мотив змееборства. В центре подобных анекдотов все-
гда находится несостоятельность главного сказочного героя-богатыря:
«Повадился Змей летать, разорять царство, а напоследок царевну
себе потребовал в жены: “А не то, говорит, все царство разорю”.
Царь кликнул клич по всей стране: «Кто победит Змея, тому отдам в
жены царевну». Вызвался Иван-дурак. Взял бутыль самогона и пошел к
Змею. Приходит и говорит: «Змей, я тебе выпить принес». Змей на-
жрался. Иван-дурак вырвал у него зубы, принес их царю, высыпал на
стол и говорит: «Вот! Отдавай царевну мне в жены». Делать нечего.
Сыграли свадьбу. Первая ночь. Вдруг удары в дверь. Иван спрашивает:
- Кто там?
- Сицяс узнаис: кто присол, зацем присол... Стоматолог, блин!»
Внешне текст оформлен по модели традиционной волшебной
сказки. Змей требует на съедение царевну, царь бросает клич по всей
стране, обещая отдать царевну в жены победителю Змея. Но боя не
происходит. Вместо этого Иван Дурак использует против Змея бутыль
с самогоном (профанация волшебного средства-зелья или оружия) и
выдергивает у опьяневшего ящера зубы (ложные доказательства своей
победы над противником). Подобное использование хитрости и при-
чинение физического ущерба свойственно не протагонисту, а персо-
нажам-«вредителям» либо «ложным героям»2.
Кульминационная часть анекдота в сказке абсолютно непредста-
вима: Змей приходит расправиться с обманщиком и вредителем. Этим
ходом исчерпывается все: и образ Ивана-Дурака (становится ясно, что
он действительно глупец, то есть мнимый хитрец), и исход всего сю-
жета: в закадровом финале Змей, очевидно, должен расправиться с
противником и заполучить в свое распоряжение царевну. Комизм
кульминационной сцены усиливается тем, что, во-первых, Змей при-
117
К вопросу о взаимодействии анекдота с другими жанрами...
ходит в первую брачную ночь Ивана с царевной; во-вторых, он не
показан и не назван - из-за двери звучит шепелявый голос.
В этом тексте разрушается смысл сказочного сюжета, пафос ска-
зочного эпоса. В отличие от сказки анекдот «по ту сторону морали».
Сказочные мотивы, образы, персонажи используются для воплощения
новых, типичных для анекдота идей и тем, создания новых образов
через разрушение традиционных образов и инверсию их качеств.
Если в сказке женитьба - конец действия, то в анекдоте - его начало:
«Вышла Василиса Премудрая замуж за Ивана Дурака. И стала Ва-
силиса Дурак».
Переосмысление прозвищ персонажей как фамилий приводит к
типичной для анекдота инверсии: если в сказке Иван Дурак повышает
свой статус, становясь мужем Василисы Премудрой, то в анекдоте
Василиса утрачивает свою «премудрость», становясь женой дурака.
Образы богатырей могут использоваться в анекдоте по-разному.
Илья Муромец может выступать как своеобразный заместитель
фольклорного «русского», находящего нетрадиционный, парадок-
сальный, а иногда и абсурдный выход из кризисной ситуации:
«Три мушкетера сидят в кабачке на улице Феру. Туда вваливаются
три богатыря и начинают над ними насмехаться, что они одеты как
бабы, все в кружевах. Наконец Д’ Артаньян не выдерживает, подбега-
ет к Илье Муромцу и ставит ему на груди на латах мелом крестик.
Илья Муромец спрашивает:
- Что это еще за фигня?!
- А сюда, сударь, я вас проколю своей шпагой.
Илья Муромец берет огромную палицу и говорит:
- Добрыня, посыпь его мелом».
Встреча в этом тексте литературных и фольклорных персонажей,
модель поведения, которую реализует Д'Артаньян, само появление
богатырей в кабачке на улице Феру говорят, на наш взгляд, о кинема-
тографичности этого анекдота. Четко прослеживаются многие при-
знаки, которые характеризуют этот текст как анекдот: принципы про-
ницаемости локусов, контрастного объединения персонажей,
абсурдное несоответствие в их поведении (то, что делает Илья, можно
охарактеризовать именно как антиповедение, причем весьма конст-
руктивное), «обрыв» текста на кульминации, н°ожиданной для слуша-
телей и «закадровая» развязка. Кроме того, всячески подчеркивается,
что Илья - «герой из сказки»: об этом говорят его имя, речь и атрибу-
ты (латы и палица).
118
П. А. Бородин
В анекдотах часто пародируются некоторые мотивы и сюжетные си-
туации, а также используются герои, характерные для волшебных ска-
зок о трудных задачах. Чаще всего обыгрываются три мотива:
- испытание героя;
- обращение к чудесному помощнику;
- добывание и использование волшебного предмета.
Мотив «испытания героя», который можно возвести к сказкам-
квестам, особенно популярен в анекдотах. Сама идея испытания в
анекдоте непременно профанируется. Герою может быть предложено:
просидеть под водой дольше всех (он зацепился штанами за корягу и
неделю не мог вынырнуть), провести ночь в хлеву с козлом, которого
весь день кормили горохом:
«Задал царь трудную задачу русскому, немцу и поляку. Сказал:
- Кто просидит ночь в хлеву с козлом, тому дам мешок золота.
А козла кормили горохом. Пошел немец. Через час выбегает:
- Противогаз! Противогаз!
Пошел поляк. Через два часа выбегает:
- Противогаз! Противогаз!
Русский наелся горохового супа и пошел. Через полчаса козел выбегает:
- Противогаз! Противогаз!»
Основная идея анекдотов об испытании заключается, на наш
взгляд, в том, что ни в одном из них герой не проходит испытания так,
как должно (то есть как это подразумевают «условия игры»), однако
парадоксальным образом находит выход из кризисной ситуации, что
характерно именно для персонажа анекдота.
Мотив обращения к чудесному помощнику чаще всего обыгрыва-
ется в анекдотах, где в качестве одного из персонажей действует золо-
тая рыбка. Подобно другим волшебным помощникам, золотая рыбка
либо не может выполнить желание героя, либо становится его жерт-
вой. Если же не происходит ни того, ни другого, то все равно и сам
персонаж-помощник, и добывание и использование волшебного
предмета подаются и интерпретируются абсурдным образом: помощ-
ник (золотая рыбка, черт и т. п.) традиционно выполняют три жела-
ния, но поскольку помощник пытается выполнить желания трех пер-
сонажей, а они противоречат друг другу, результат оказывается
абсурдным или, по крайней мере, неожиданным.
Значительное число анекдотов на тему супружеской неверности
восходит к архетипическим фольклорным и литературным сюжетам.
Современный анекдот интерпретирует эту тему специфически, опи-
раясь на исконные представления и активно используя архаические
детали, такие как:
119
К вопросу о взаимодействии анекдота с другими жанрами...
- прятанье и «перевоплощение» любовника;
- мнимая смерть (пребывание любовника в шкафу и т. п.);
- фантастическая глупость персонажей.
Распространенный мотив укрывания любовника может выглядеть
двояко: заключение в тесное, замкнутое, темное пространство, симво-
лизирующее погребение и могилу. Также характерно «перевоплоще-
ние» его в парашютиста, которого ветром занесло на балкон, в геоло-
га, ищущего нефть в туалете, в статую, в моль. Глупость мужа
мотивируется архаической логикой, отсутствием у него способности к
рациональному абстрактному мышлению.
Можно сказать, что приложение архетипического мотива к совре-
менной житейской ситуации пародийно изменяет этот мотив, позво-
ляя ярче высветить замысел анекдота. Пародирование традиционных
мотивов приводит к созданию новых, специфических вариантов «веч-
ных сюжетов».
Обращаясь к обсуждению вопросов межжанровых взаимодействий
анекдота и паремий, отметим особо тот факт, что у анекдота и таких
клишированных форм, как пословица, поговорка, загадка, обнаружи-
вается несомненное структурное сходство, что достаточно подробно и
аргументированно изложено в исследованиях Г. Л. Пермякова3. Анек-
дот и пословица тесно связаны и по форме (среди общих признаков
особенно очевиден малый объем текста), и в бытовании: анекдот на-
ходится «на стыке паремии и нарратива»4. Однако в отличие от паре-
мий, анекдот несомненно несентенциозен, в нем нет «морали».
Одним из весьма распространенных вариантов взаимодействия
анекдота и паремий является специфическое использование в анекдо-
те формы загадки. В анекдоте, как и в загадке, работает механизм
представления одного через другое, когда одна ситуация заменяет
другую. Таким образом формируется эпистемический сюжет, соз-
дающий в анекдоте комическую путаницу при восприятии. Оба жанра
содержат явное и скрытое, одно выдается за другое. Две части текста
контрастны друг другу. Отношение текста загадки (завязки анекдота)
к разгадке (кульминации) сознательно зашифровано. То, что процесс
восприятия анекдота сродни отгадыванию загадки, подтверждается
тем, что целью обоих процессов является восстановление истинной и
целостной ситуации, установление адекватности восприятия и вос-
принимаемого, снятие «эффекта остранения».
Однако имеется ряд принципиальных различий. Два смысловых
ряда в загадке обозначают одно и то же. В анекдоте же одно пред-
ставление о ситуации, данное в завязке, в развязке полностью дискре-
дитируется и заменяется другим.
120
11. А. Бородин
- Угадай, что такое: на стене висит зеленое и пищит?
- Не знаю.
- Селедка.
- А почему на стене висит?
- Моя селедка. Куда хочу, туда и вешаю.
- А почему зеленая?
- Моя селедка. Как хочу, так и крашу.
- А почему пищит?
- Тебя бы так-то!
- Как засунуть слона в холодильник в три приема?
- Не знаю.
- Открыть холодильник, засунуть слона, закрыть холодильник. А
как засунуть жирафа в холодильник в четыре приема?
- Не знаю.
- Открыть холодильник, вынуть слона, засунуть жирафа, закрыть
холодильник.
Концовки таких шуток непредсказуемы, это своеобразные «загад-
ки без отгадок». Парадокс такой загадки-шутки заключается в подве-
дении под предметно-бытийный аспект новой семантики. Классиче-
ские загадки используются в анекдоте как отправная точка.
Существуют тексты, в которых паремия используется как подготови-
тельная, вводная часть, после которой (и на фоне ее) следует парадок-
сальная комическая загадка.
Некоторые анекдоты полностью используют структурно-семанти-
ческое строение загадки, выделяя самые яркие черты субъектов, по
которым их можно установить безошибочно.
Основная особенность загадок-шуток в том, что в них связь знака и
денотата перевернута. Это свидетельствует о том, что такие загадки и
не подлежат отгадыванию. У этих своеобразных «анекдотических па-
ремий» иная функциональность. Загадывается не предмет или явление,
а представление об том предмете или явлении в массовом сознании.
Привычные понятия переосмысляются через активизацию метатексто-
вых коннотаций и т. п. Например, через сужение семантики:
- Кто такой пессимист?
- Хорошо информированный оптимист.
- А кто такой оптимист?
- Хорошо проинструктированный пессимист.
В загадках-шутках специфически соотносятся общее и конкретное: с
одной стороны, в «условии» нет никаких подсказок, облегчающих отга-
дывание, с другой стороны, в них существует только один-единственный
121
К вопросу о взаимодействии анекдота с другими жанрами...
верный ответ. Сама возможность отгадывания, по сути дела, устранена,
поскольку одно смысловое поле неожиданно сменяется другим.
Нередко к этому же классу анекдотических текстов относят «анек-
доты» про «Армянское радио». Тексты этого цикла строятся по одной
и той же схеме: это диалог, начинающийся с вполне невинного или,
наоборот, мудреного вопроса, например: Армянское радио спраши-
вают: «Что такое муж?». Ответ должен удовлетворять трем основным
требованиям: он должен быть кратким, афористичным и парадок-
сальным. Взятые в совокупности, эти признаки делают все высказы-
вание остроумным. Однако эти тексты бессюжетны. Именно поэтому
они очень легко могут быть свернуты до афоризмов типа: «Муж - это
заместитель любовника по хозяйственной части». При такой форме
бытования «Армянское радио» не упоминается, а сами исполнители
не называют такие тексты анекдотами. На наш взгляд, тексты такого
типа, даже в развернутом виде, нельзя считать анекдотами в полном
смысле слова, так как вся поэтика жанра строится на его сюжетности:
кульминационном моменте и специфической развязке. Кроме того,
герой анекдота должен быть выразителен, обладать ярким обликом и
речью. Едва ли «Армянское радио» можно считать типичным персо-
нажем анекдота. По отношению к жанру анекдота в целом тексты,
подобные приведенному выше, маргинальны. Их можно назвать
«шутливыми афоризмами» или «новыми поговорками», то есть отне-
сти, скорее, к паремиям, чем к анекдотам.
Сюда же можно отнести так называемые «самые короткие анекдоты».
Такие тексты обладают сюжетностью, но сюжетностью минимальной:
Буратино утонул.
Негр загорает.
Шел ежик, забыл, как дышать - и помер. Вспомнил - и дальше пошел.
В них есть глагольная форма, описывающая действие или процесс, а
также присутствует несоответствие между субъектом и предикатом, кото-
рое характерно именно для анекдота. Но минимизация нарративного
«количества» дает новое качество: до предела ослабленная сюжетность,
сверхмалый объем текста не позволяют рассматривать такие тексты в
русле классических анекдотов. Это пародии на жанр, при помощи кото-
рых носители рефлексируют-преодолевают жанровые штампы.
Важным вопросом, который едва ли можно обойти молчанием, го-
воря о жанровом взаимодействии анекдота и паремии, является быто-
вание ключевых (кульминационных) фраз из анекдотов в виде свое-
образных афоризмов. В этих случаях рассказчики дают в виде поясне-
ния краткий пересказ анекдота, что необходимо, поскольку незнание
исходного анекдота делает невозможным адекватное понимание ком-
122
П. А. Бородин
муникативной установки высказывания. Достаточно широкое бытова-
ние в обществе подобных афоризмов говорит о том, что смысл этих
своеобразных «шифровок» понятен большинству носителей. Они
могут, таким образом, выполнять функции поговорок: обобщать си-
туацию через яркое, образное сравнение. Сам же анекдот остается за
кадром, в подтексте и самого высказывания, и всей ситуации, в кото-
рой это высказывание прозвучало.
Очевидно, что анекдот наиболее активно взаимодействует с
фольклорными жанрами, которые родственны ему генетически, а
также имеют типологически сходные черты. Результатом взаимодей-
ствия сказки и анекдота на сегодняшний день является своеобразная
вторая жизнь сказочных мотивов и персонажей в анекдотах. В свою
очередь подобные заимствования значительно обогащают повество-
вательные возможности анекдота, его сюжетику и персонажную сис-
тему. Вопрос о том, происходит ли взаимодействие анекдота со сказ-
кой непосредственно или посредством литературы и кинематографа,
остается открытым, хотя «кинематографические» анекдоты весьма
распространены.
Из всех паремий к анекдоту, на наш взгляд, ближе всего загадка.
Их сближает краткость и парадоксальность. В основе и анекдота, и
загадки лежат контраст и сдвиг восприятия. Анекдот использует в
своих целях композицию загадки, причем такое использование часто
бывает непародийным, что приводит к формированию текстов, по
отношению к анекдоту являющихся пограничными, но на основе
существенных признаков паремий. Пародирование анекдотом самого
себя, собственной краткости может в свою очередь приводить к появ-
лению пограничных текстов, которые также, скорее, является паре-
миями, чем анекдотами.
Подытоживая сказанное, отметим что рассмотренные взаимодей-
ствия анекдота и сказки, анекдота и малых форм фольклора вновь
подтверждают теоретический тезис о том, что «традиция в фольклоре -
проявление динамики и статики, при которых динамика постоянна, а
статика относительна. Но эту мысль можно выразить и по-другому:
динамика относительна, а статика неизменна»5.
Примечания
1 См. подробнее: Чиркова О. А. Поэтика современного народного анекдота: Дисс. канд.
филол. наук. Волгоград, 1997. С. 166.
2 Пропп В. Я. Морфология сказки. М., 1969. С. 37, 68.
3 Пермяков Г. Л. От поговорки до сказки. М., 1970.
4 Чиркова О. А. Указ. соч. С. 183.
5 Аникин В. П. Теория фольклора. Курс лекций. М., 1996. С. 37.
123
О жанровой специфике пестушек
Т. М. Буйских (Кыргызстан)
К вопросу о жанровой самостоятельности пестушек фольклористы
относятся по-разному. Большинство исследователей русской поэзии
пестования, в том числе О. И. Капица, В. П. Аникин, М. Н. Мель-
ников, М. Ю. Новицкая - признают их специфичность [4; 5; 6]. Дру-
гие же, как например, белорусский фольклорист Г. А. Барташевич и
украинский Г. В. Довженок, считают, что нет необходимости отделять
пестушки от другого детского жанра - потешек [1: 267]. Есть еще и
третье мнение: В. П. Аникин считает, что «пестушки незаметно пере-
ходят в потешки» [6].
В работах 90-х гг. наметилась тенденция пестушки и потешки практи-
чески не разграничивать. Так, в словаре «Восточнославянский фольклор»
пестушки приравнены к потешкам и даны в одной статье «Потешки» [ 1:
267]. В диссертационном исследовании И. Ивановой, посвященной
фольклору русских, проживающих в Казахстане, термин «пестушки»
вообще исключен. Пестушки рассматриваются в разделе о потешках.
Следует также отметить, что в сборниках детского фольклора соста-
вители, дифференцирующие пестушки и потешки, одни и те же тексты
относят то к пестушкам, то к потешкам. Например, произведение «Дыб-
дыбок» О. И. Капица [4: 54] и М. Н. Мельников [5: 40] причисляют к
пестушкам, а В. П. Аникин - к потешкам [6: 10]. Текст с зачином «Тра-
та-та, вышла кошка за кота» В. П. Аникин относит к потешкам [6: 10], а
О. И. Капица [4: 54], М. Н. Мельников [5: 40], А. Н. Мартынова [2: 15] -
к пестушкам. В антологии А. Н. Мартыновой «Детский поэтический
фольклор» [2], как и в первом выпуске серии «Мудрость народная» под
редакцией В. П. Аникина [6], пестушки и потешки даны в одном разде-
ле. Сказанное позволяет утверждать, что вопрос о специфике пестушек
до сих пор остается открытым.
Проблема дифференциации потешек и пестушек важна не сама по
себе, а связана с более глубоким пониманием природы детского фольк-
лора, сопровождающего особый младенческий период в жизни ребенка.
Прежде всего важно определить возраст, в котором предлагается
малышу каждый из жанров. Как справедливо отмечает В. П. Аникин,
пестушки используют уже в первые месяцы жизни ребенка [6: 2].
Однако Мельников [5: 38] и Мартынова [2: 15] относят знакомство с
пестушками ко второму году, что, на наш взгляд, не соответствует
124
Т. М. Буйских
действительности. Наблюдения над бытованием пестушек и потешек
позволяют утверждать, что в первые месяцы, и даже дни, малышу
исполняются пестушки и колыбельные песни, к которым постепенно
присоединяются и потешки. Потешки появляются с того момента,
когда ребенок уже может держать головку (3-4 мес.), сидеть (5-6
мес.), и бытуют совместно с пестушками.
Вопрос о времени появления пестушек в исполнительском репер-
туаре матери очень важен для понимания их функции. Фольклористы
верно считают, что тексты пестушек сопровождают и регламентируют
физическое упражнения после сна ребенка, знакомят малыша с час-
тями его тела и их назначением, способствуют запоминанию последо-
вательности проделываемых матерью физических упражнений.
Потягунюшки,
Порастунюшки,
Роток- говорунюшки,
Руки- хватунюшки,.
Ноги-ходу нюшки.
Если пестушка исполняется в основном сразу же после сна, то по-
тешка - во время бодрствования, когда ребенок уже и накормлен.
В потешке важен игровой момент. В некоторых потешках игра связа-
на с физическими упражнениями. Например, разводя и сводя ребенку
ручки, приговаривают: «Лунь плывет, лунь плывет», или, делая вид,
что догоняют ребенка, спрашивают: «Ножки, ножки, куда вы бежи-
те?» и пр. Кроме игровой функции потешка выполняет и дидактиче-
скую, например, игра «Сорока» (кто не трудится, тому нечего и есть).
То, что потешка часто бывает связана с физическими действиями
ребенка, явилось причиной путаницы в жанровом определении неко-
торых текстов. В пестушке, имеющей практическое, бытовое назначе-
ние, отсутствуют игровые и назидательные элементы.
По времени появления в жизни ребенка и функционально пестушка
связана больше с колыбельной песней, чем с потешкой. Колыбельная
песня должна помочь ребенку безболезненно перейти из состояния
бодрствования в состояние сна, а пестушка, наоборот, - после сна-
в состояние бодрствования.
Сон является переходным состоянием в жизни младенца. Сон (забы-
тье) находится в ряду других переходных моментов жизни человека:
небытие (смерть), инобытие (свадьба для женщин - пространственно-
временной переход из дома «в чужие люди» и переход от девичества к
замужеству). Все переходные формы, как справедливо утверждает
А. Н. Иванов, «близки между собой по оформлению», а потому «опла-
кивались не только умершие люди и невесты, но в некоторых очагах
125
О жанровой специфике пестушек
русской традиционной духовной культуры и младенцы» (здесь же ис-
следователь приводит примеры колыбельных причитаний) [3: 40].
Следует отметить, что свадебные и похоронные причитания отно-
сятся к соответствующим обрядовым комплексам. Думается, и колы-
бельные причитания некогда входили в определенную обрядовую
систему, связанную с младенческим периодом жизни ребенка. Для нее
были характерны своеобразные действия матери-пестуньи, сопровож-
дающиеся необходимыми произведениями разных жанров.
Такими жанрами, вероятно, были в материнской поэзии пестушки,
выводящие из состояния сна, а также детские заговоры («Как с гуся
вода, так с Сашеньки худоба»), связанные с очистительной магией.
Все они направлены на здоровье ребенка. Причем, главными элемен-
тами в них, как и во многих других жанрах семейной обрядовой по-
эзии, являются магические (заклинательные) слова и действа.
Вероятнее всего пестушка связана и с магией. Действительно, же-
лание матери помочь своему любимому крохотному младенцу в от-
ветственные моменты его бытия (сон и купание) вполне естественно.
Не только архаическое представление о сне как о «мифопоэтической
апробации ухода человека в инобытие» [3: 43], но и практическое
знание того, что сон для ребенка важен для его здоровья вообще (в
прошлом младенческая смертность была очень высока), заставляли
мать серьезно относиться к пестушке.
Пестунья выражает свои пожелания в форме императивного при-
говора-монолога минимального по объему. Предмет изображения -
ребенок и его основные, жизненно важные части тела. Традиционно
пестушка состоит из двух частей:
1. Зачин, где представлены причинно-следственные действия, свя-
занные с ростом ребенка: потягушеньки - порастушеньки\
2. Основной текст, в котором сообщается о частях тела и их тради-
ционном предназначении: ножки - топотушки, рученьки - хватушки,
роток - говорунюшки, ноги - ходунюшки. Или: А в ноженьках - ходу-
нок, а в рученьках - хватунок, а в роток - говорок, а в головку - разу-
мок. В утвердительной форме передается желаемое: ведь трудно пока
говорить и о физических, и об умственных способностях младенца.
В некоторых текстах основная часть построена, как и заговор, на
сравнении: Расти, доченька, здоровая, как яблонька садовая! или:
Потягушеньки-потягушеньки, / На Ниночку - порастушеньки! /Расти
да дягни, Как пшенично тестичко! Текст, скорее, напоминает магиче-
ское заклинание матери, чем развлекательную игру при выполнении
физических упражнений.
126
Т. М. Буйских
Мысль о магической функции пестушек подтверждают материалы,
обнаруженные у русского (и не только) населения Кыргызстана. В 1996 г.
уроженка Саратовской области М. С. Скреминская, 1925 г. р., давно
проживающая в с. Октябрьское Аламединского района Чуйской об-
ласти, сообщила, что после сна поглаживала тельце детей и внучат,
приговаривая: Косточки на росточки натягиваем и Косточки на
мосточки натягиваем. В заговорах, «выгоняющих» болезнь из чело-
века, часто употребляется словосочетание из всех костей, из всех
мостей. Бывшая уроженка Украины (с. Александровка) С. Г. Алексан-
дровская, по словам ее сына Л. А. Шеймана, тоже пользовала подоб-
ный текст, адаптируя его: Костыню - ростыню, Лейбен зостыню.
Еврейско-русский вариант пестушки также имеет элементы магии, так как
в первой части использованы словосочетания заговора, а во второй ут-
верждается (в переводе с идиш): «жить (быть живым) должны».
Интересная информация была записана в 1997 г. от украинки
М. Е. Соломахи, проживающей в с. Михайловка Тюпского района Ис-
сык-Кульской области. Во время купания младенца приговаривают:
Купы, купы,
Купушенъки.
В ручки, в ножки -
Толстушенъки.
Исполнительница пояснила: «Ну, чтобы, значит, ручки, ножки тол-
стенькие были. Будет толстенькая - будет здоровенькая». После купа-
ния ребенка окатывают три раза водой, слизывают воду со спинки и
три раза плюют через левое плечо. М. Е. Соломаха утверждала: «И
бабушка моя, и мама так делали».
Другой вариант, записанный от М. Е. Соломахи, выполняет функцию
заговора «Как с гуся вода», но по содержанию он близок к пестушке:
Потягушечки,
Порастушечки!
Поперек толстушечки!
Руки-хватушечки,
Ноги-бегушечки.
Этот михайловский вариант, думается, свидетельствует о том, что
в народе магическую значимость имел не только заговор, но и пес-
тушка. Причем, в пестушке желаемый результат, который выражен
вербально (указывает будущую функцию частей тела и великолепное
здоровье ребенка), достигается, как и в заговорах, при помощи про-
дуцирования магических действий. Если в заговорах говорится «как с
гуся вода» и льется вода на ребенка (или загрызается грыжа - имити-
127
О жанровой специфике пестушек
руется процесс), то в пестушках поглаживаются те места и части тела,
про которые мать говорит (руки, ноги, голова). Прикосновение к на-
званным частям тела усиливает воздействие слов.
Интересно, что М. Н. Мельников, не рассматривая детские загово-
ры как самостоятельный жанр, считает его «примыкающим» к пес-
тушкам (5: 41). Вероятно, исследователь интуитивно почувствовал
близость этих жанров, которая основана прежде всего на их магиче-
ской функциональности. Кроме того, фольклорист называет его «шу-
точным» (5: 42). Однако это в корне неверно. Как показали наблюде-
ния, почти все взрослые и дети относятся к детскому заговору
довольно серьезно. Известны еще два типа детских заговоров:
1. У кошки заболи, у собаки заболи, а у Саши заживи. Здесь про-
тивопоставление и продуцирование, как во взрослом заговоре. В пес-
тушках также встречаются тексты, в которых наблюдается перенесе-
ние некоторых действий ребенка на животное. Например: «На кота
потягушечки, На дитя порастушечки»;
2. Мышка, мышка, на тебе зуб... В киргизском фольклоре дети
обращаются к собаке и тоже просят заменить зуб. Все известные дет-
ские заговоры направлены на здоровье детей. Следует все-таки, учи-
тывая особую специфику детских заговоров, рассматривать их от-
дельно. Более серьезное отношение к ним позволит целенаправленно
собирать и изучать этот оригинальный жанр.
Если пестушка направлена на здоровье ребенка, то потешка больше
всего развлекает и назидает. Это проявляется в содержании текстов.
Части тела ребенка, как и их функции, не называются прямо в потешке:
не ребенок машет руками, а «лунь плывет», не пальчики ребенка, а Со-
рокины детки. В тексте потешек появляются образы птиц, различный
животных, которые каким-либо образом действуют. Отличительной
чертой потешек является наличие сюжетной ситуации. В пестушках
основную роль выполняла мать (поглаживая, вытягивая), что и отрази-
лось на содержании текста. В потешках ребенок уже сам начинает дей-
ствовать (загибать пальчики, перечисляя детей сороки, поднимать го-
ловку ручки, изображая полет птиц «Шу, полетели» и пр.).
Отличается пестушка от потешки (как, впрочем, и от всех осталь-
ных жанров детского фольклора) и своей необыкновенной лексикой,
характерной только для нее, изобилующей уменьшительно-ласкатель-
ными суффиксами. Это прежде всего отглагольные существительные,
которыми обозначаются части детского тела: ноги - «ходунюшки», о
руках - «хватунок». Исполнения действий, с которыми связывают
жизненно необходимый процесс роста ребенка, сопровождаются не-
обычными словами-существительными, образованными от глагола
128
Т. М. Бу иск и.х
суффиксально-префиксальным способом («порастушеньки», «потягу-
нюшки», «вытягунюшки», и пр.). Основная часть речи в этом жанре -
существительное. Реже встречаются прилагательные («ножки строй-
неньки», «ручки гладеньки»). Глагол в чистом виде практически от-
сутствует, притом что весь текст направлен на действие, на развитие и
рост детского организма. Дальнейшее исследование пестушек, кото-
рое необходимо предпринять на более широком материале (возможно,
с привлечением не только русских текстов), позволит ответить на
многие вопросы, возникающие при изучении жанра.
Итак, пестушка - небольшой монолог-приговор матери пестуньи,
направленный на облегчение перехода ребенка их состояния сна в
состояние бодрствования. Утвердительный характер текста имеет
магическую значимость. Именно магическая функция пестушки оп-
ределяет ее жанровую специфику, композицию, образно-стилевую
систему. Все сказанное выше позволяет уже сделать вывод о том, что
пестушка - самостоятельный жанр детского фольклора.
Литература
1. Вос।очно-славянский фольклор. Словарь научной и народной терминологии /
Рид. К. Б. Кабаии1иков. Минск, 1993.
2. Детский поэтический фольклор / Сост. А. II. Мартынова. СПб., 1997.
3. Иванов А. Н. Причитания над колыбелью, записанные в южной России //Живая
с ।арина. 1994. № 4. С.40-42.
4. Капица О. И. Детский фольклор. Песни, потешки, дразнилки. Сказки, шры.
Изучение. Собирание. Обзор материала. Л., 1928.
5. Мельников М. Н. Русский детский фольклор. М., 1987.
6. Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. Вып. 1. /(eiciBo.
Младенчество/Сост. В. П. Аникин. M..I990.
Роль предметных реалий в идентификации
сюжетных типов русской волшебной сказки
В. Е. Добровольская (Москва)
Данная статья посвящена роли предметных реалий в формирова-
нии сюжета русской волшебной сказки. Поскольку сюжет представля-
ет собой не однородное монолитное явление, а цепочку отдельных
мотивов и эпизодов, мы будем рассматривать функцию той или иной
реалии в формировании сюжета, анализируя ее отдельные звенья1.
Мотив в сказке может быть центральным или второстепенным. Со-
ответственно существуют предметные реалии, с помощью которых
формируется центральный мотив, а следовательно и весь сюжетный
тип, и реалии, задействованные в дополнительных мотивах. В первом
случае мы будем говорить о сюжетообразующих, а во втором - о моти-
вообразующих реалиях.
Сюжетообразующие реалии
В разных типах сказок роль предметных реалий в формировании
центрального мотива не одинакова. Мы отмечаем определенную кор-
реляцию между типом сказочного сюжета и видом предметной реалии
(а также их общим числом в той или иной сказке).
В сказочных сюжетах, посвященных поиску чудесных диковинок,
сюжетообразующими являются те самые предметные реалии, которые
ищет герой. Их поиск - это цель всего сказочного действия, задающая
все поступки героя. Действительно, обратимся к наиболее распро-
страненным типам сказок с мотивом поиска. Это прежде всего СУС-
530А («Свинка золотая щетинка»), СУС-531 («Конек-горбунок»),
СУС-550 («Царевич и серый волк») и СУС-551 («Молодильные ябло-
ки»). В СУС-530А и СУС-551 в самом начале сказочного повествова-
ния появляется упоминание о предметной реалии, которая и стано-
вится предметом поиска: «Этот чарь зделался болен; посылает
старшова сына за живой водой и молодыми яблочками» [ЗВ, 47],
«Вот ты, отеч, живешь слепой, дай мне коня доброго, сто рублей
денег и благословленье, я поеду в иностранные земли искать глазную
воду и живую воду, и мёртвую воду» [Онч., 8], «Хто бы, робятушки,
съездил за тридеветь земечь, в десятое ipipceo, к девке Синеглазке.
Привез бы от этой девки Синеглазки живые воды молодые, кухши-
нець о двенадцати рылець» [Сок., 139]; «Царь и приказывает им
130
В. Е. Добровольская
достать жар-ппшцу» [Худ., 50], «...вот я слыхал: есь в заповедных
лугах сивко-бурко вечной коурко, и жар-птичя, и кобыла - сорок
пежин с пежиной, и свинка золотые шшетинки; хто ето доста-
нет, дак тому и все hocydapcmeo отдам!» [ЗВ., 114].
В сюжетном типе СУС-531 герой находит перо жар-птицы, то есть
часть от целого, и соответственно, все сказочное действие строится на
том, чтобы добыть чудесную птицу, спровоцировав тем самым анта-
гонистов на рассказы о других диковинках, а героя на новые поиски:
«Снёс царю в подарках, а царь его пожаловал его чипом, барином
выбрал над кресьянмы... Ну, вот этым кресьянам не захотелось ему
покорятьця, надо им его сказнить.... он хотел достать кобылицю
златыницю, с тридцяти лети жеребьцямы...» [Онч.- 126].
Наконец, в сюжетном типе СУС-550 Иван-царевич сам добывает
перо чудесной птицы, увидев которое царь отправляет сыновей за
самой птицей: «Царю так понравилось перо, и он сказал: “Во что ни
станет нужно достать нам эту Жар-Птицю". И тогда он призы-
вает всех трех сыновей и говорит: “Вот милые мои дети, я вам даю
приказ разыскать эту Жар-Птицю, которая у нас крала золотые
яблоки"» (Ков.-4).
Таким образом, в сказках рассматриваемых сюжетных типов
предметная реалия либо появляется в самом начале сюжета, как на-
пример, перо или птица в СУС-550 и СУС-531, и тогда ее появление
провоцирует дальнейшие поиски диковинок, либо, как в сюжетных
типах СУС-530А и СУС-551 о ней лишь упоминается в начале ска-
зочного повествования, и она сама становится предметом поиска. И в
том, и в другом случае предметная реалия, безусловно, организует
основной мотив всех приведенных сюжетных типов и таким образом
становится важным сюжетообразующим фактором.
В сказках, где центральным является мотив боя, предметные реа-
лии задействованы слабо и формируют, по преимуществу, фон для
места поединка (берег реки, мост, кузница и т. п.). Речь идет о сказках
типа СУС-ЗОО1 «Победитель змея», СУС-300А «Бой на калиновом
мосту», СУС-502 «Медный лоб», СУС-532 «Незнайка». Такую же или
сходную картину мы наблюдаем в сказочных текстах, действие кото-
рых связано с нарушением героем-ребенком запрета: СУС-327В
«Мальчик с пальчик у ведьмы», СУС-327С,Р «Мальчик и ведьма» - а
также в сказках о герое-лентяе СУС-675 «По щучьему велению».
Этот перечень можно было бы продолжить, но уже из приведенно-
го списка видно, что распределение предметных реалий в различных
сюжетных типах неодинаково.
131
Роль предметных ре алий...
Отметим, что в центральных мотивах большинства сказочных ти-
пов задействовано чрезвычайно мало предметных реалий. Они появ-
ляются лишь тогда, когда действие без них невозможно. Таким обра-
зом, предметные реалии образуют основной мотив только в сказках с
элементами поиска. Действительно, герой сказок СУС-530А, СУС-
531, СУС-550, СУС-551 и т. д. без знания о той или иной чудесной
диковинке просто не отправится на поиски, и соответственно сказоч-
ное действие не будет иметь материала для развития.
Мотивообразующие реалии
Большинство предметных реалий задействовано в создании до-
полнительных сказочных мотивов.
Так, мотив получения героем помощи в каждом типе сказочного
сюжета маркируется своим определенным набором реалий. Напри-
мер, в сказках СУС-313А,В,С и СУС-313Н* - это клубочек (или дру-
гой указатель пути), рубашка (платье) и берег реки (моря): «Вдруг эта
тросточка воткнулась в землю край моря в кустиках. И повырывал
тросточку Иван Васильевич, и не мог ее вырвать. Поглядел на выш-
нюю высоту и летит на море 12 лебедей, и сё лебедь к лебеди.
И смотрит Иван Васильевич из-за кустика, што это за лебеди.
Одиннадцёть лебедей кладёт платье вместе, а двенадцатый кладет
врозь. Эти лебеди долитили до моря, колынулися о землю, и стаю
двенадцать девич: одиннадцёть вместе, а двенадцатая врозь. Он
стач по за кустикам пробираться, да по колен ноги посмотреть (до
пупа). Сё II лебедей выкупались, стряхнулись и полетели, а двена-
дцатая потеряла платье, а Иван Васильевич украч. “Хто, говорит,
мое платьё украч? - говорит девича....А из молодых - пускай мой
муж. Буду служить ему сей душой праведной!” А он вышеч из-за
кустика, выносит ей платьё. “Здравствуй, моя девича! Я твой муж
молодой”». [Сок., 66] или «Вот приблизились эти одиннадцать уток
к ракитовым кустам, вылезли на берег, отряслися, ударились об пол,
и стали одинадцать девиц....Разделись все, бросились оне опрометью
в воду... вдруг показывается двенадцатая уточка - плывет одна....
Также она вылезла из воды, тряхнулась об пол и сделалась девицей.
Разделась, спустилась в воду и стача купаться... В это время Иван-
заклятый сын прокрачся, схватил сорочку и платья и спрятачся
опять в кусты. Вот она искупачася, вылезла из воды, хватилась со-
рочки и платья и в испуге тревочно кричала: “...ежечи в мою пору
кавалер молодой, то будь мне нареченный супруг!”» [АК, 36].
В сказках СУС-530 мотив помощи формируется за счет других
реалий: кладбища и могилы, поля и различных знаков вызова (кре-
мень и огниво, волос, уздечка): «Пришел на могилу, спит. В полночь
132
В. Е. Добровольская
вышел из.могилы отец, спрашивает: “Кто здесь?” Ванька проснулся,
узнал отца. “Я, говорит, твой .меныаои сын”. - “Ну, - говорит ста-
рик, - когда старший сын пехоте.! прийти, то ничего и не получит”.
Свистнул он: “Сивка-бурка, вещая каурка!”. Тут явился конь бога-
тырский, из роту пламя пышет, из ноздрей искры сыплються, из...
головешки летят. “Служи .моему сыну верой и правдой, как .мне слу-
жи!!”... Ванька выехал в чистое ноле... А сам свистнул: “Сивка-
бурка, вещая каурка!” Конь сейчас к нему явится» [Красноярск, 54]
или «И дает ему три конских волоска. Дурак выше! в заповедные
луга, прижег-припатил три волоса и прикрикнул зычны.м голосом:
“Сивка-бурка, вещая каурка!” Бежит Сивка-бурка» [Аф, 182].
Мотив оказания помощи герою идентифицируется преимущест-
венно, пространственными реалиями и дарами помощника, которые
могут быть техническими средствами (топор, шапка-невидимка,
шашка-саморуб - «Эта шашка не простая, а шашка-саморуб. Ей как
.махнешь, так и поразишь или срубишь лесу на двадцать верст, а
если встретишь неприятеля тоже поразишь одним взмахам на два-
дцать верст» [Ков., 32], указателями пути (клубок - «... “я вот
спушшу клубок, ты ступай за ним, по клубочку дойдешь!” Она клу-
бочик спустила, он побежал за клубочком с етим мечем» - [ЗП, 19],
различными диковинными предметами (золотая курочка и серебря-
ные цыплята). Мотив непроизвольной помощи часто задействует
предметные реалии, содержащие в себе что-либо (полотенце, салфет-
ка, платок, создающие мост): «Доехал до той реки, махнул три раза
платком в правую сторону - и вдруг, откуда ни взялся, повис через
реку высокий, славный мост» [Аф., 159].
Обратимся к другому, популярному для русской сказочной тради-
ции мотиву - «бегство с помощью бросания чудесных предметов» -
который может формироваться предметными реалиями, связанными с
трансформацией пространства: «Тогда бросили они щетку, и стала
чаща; Яга-баба запуталась и долго ездила тут; выбралась из чащи,
опять поехала и стала их достигать; тогда они бросили огниво и
стала огнена река; она пока обходила, они и убежали... А те бросили
кремень, и стала пред Ягой-бабой высокая гора» [Онч., 71].
Довольно часто в сказке используется мотив, с помощью которого
формируется представление слушателя о длительности пути. В основе
его лежит художественный прием, связанный с пространственно-
временным единством, присущим сказке. И время, и пространство в
данном случае характеризуются через предметные реалии: путь такой
длинный, что необходимы сверхпрочные вещи, а времени на дорогу
уходит так много, что за него изнашивается то, что не подвержено
133
Роль предметных реалий...
износу. Этот мотив комплектуется преимущественно реалиями, отно-
сящимися к типу «технических средств» (особая обувь и еда - желез-
ные башмаки, чугунные сухари): «... только тогда меня увидишь и
найдешь, когда сольешь чугунные калоши и скуешь железную
трость. Когда калоши износишь, а трость изотретца но самую
рукоятку, и тогда только меня найдешь и увидишь» [Ков., 131.
Герой или героиня многих сказок имеют чудесный облик. Внеш-
няя нестандартность персонажа связана, с одной стороны, с предмет-
ными реалиями данными от рождения: это звезды, месяц или солнце
на лбу и по бокам и т. п., - «Скоро родила двух близнецов, волосы у
них жемчугом перенизаны, в голове у них ясный месяц, в темечке
ясное солнышко; на правых-mo руках у них стрелы каленые, на ле-
вых-то руках копья долгомерные» [Кор., 70-77]; с другой - с приоб-
ретенными, например, знаком нестандартности становится одежда
(или некая ее замена), выступающая в качестве средства маскировки:
лохмотья, кожа, пузырь - «Выведи быка семигодовачова...Ваня ус-
мотрел, што оне не могут ево удержать, приходит к им: “Братцы,
шпю вы делаете? Али быка охота заколоть?” - "Да, заколоть; да мы
его никак не можем свалить. ” - "Отдайте мне требушину и кишки, я
вам пособлю за ето”... Тогда выбрал требушину, взял кишки, вымыл
как следует, надел на голову - образовалась шляпа у него, а кишками
руки оммотач свои, штобы не видно было серебро имя.» [ЗП., 2].
Зачастую реалия формирует мотив, который выполняет роль соеди-
нения двух и более сюжетных типов. Самым показательным примером
является традиционная контаминация сюжетных типов СУС-402 «Ца-
ревна-лягушка» и СУС-4001 «Муж ищет исчезнувшую или похищенную
жену». С помощью предметной реалии, сожженной нетерпеливым ца-
ревичем лягушачьей кожи (иногда в этой роли выступает перстень,
выброшенный в море), на стыке двух сюжетных типов формируется
мотив, провоцирующий дальнейшее развитие сюжета: «Старушка
когда снимала с себя перстень да за печурок клала, делалась молодая.
Тогда он усмотрел, Иван-царевич; как приснула она крепко, ставал с
постели, нашол етот перстень, унёс ево - в море бросил. А етот пер-
стень, только как он бросил, то нечистой дух схватил ево и унёс далё-
ко, в тридевятое государство. Поутру хватились - в печурке перстня
нет. Старуха Ивану-царевичу объяснила: "Скоро бы мне молодой
быть времё; теперь, Иван-царевич, прошшай! ты от роду меня не
увидишь!”... То она вышла на паратное крыльцо, ударилась, сделалась
голубихой и полетела...Иван-царевич взял денег с собой на дорогу и
отправился иёразыскивать» [ЗП, 19].
134
В. Е. Л об рое оль с кая
Как видно из приведенного примера, реалия, способствующая
трансформации облика героини, формирует мотив, который завершает
первую часть сказки (собственно повествование о царевне-лягушке) и
начинает вторую часть (рассказ о поисках исчезнувшей супруги).
Анализ сказочных текстов позволяет выявить важную закономер-
ность: каждому мотиву соответствует свой тип реалии, причем в силу
строения сказки один и тот же мотив может встречаться в различных
типах сюжетов (мотив длительного пути - СУС-402 и СУС-432), но
предметные реалии его формирующие характерны только для него.
Несмотря на общую или синонимически сходную номинацию реалий
при рассмотрении сказочных текстов мы отмечаем их различные
сущностные характеристики, зависящие от мотива. Так, например, в
различных типах сказочных сюжетов при общей номинации «поло-
тенце» перед нами выступают четыре различных функциональных
типа предметных реалий. В сказках типа СУС-465А,В в мотиве
встречи героя с помощником полотенце выполняет роль опознава-
тельного знака: «Жена вышила ему три полошена с узорами и утром
его отправила, дала ему клубочек. Этот клубочек покатится; зака-
тится в теремочек: лежит старуха агроматная... Стала его кор-
мить. Стал он руки вытирать, взял свой рукотерчик. “А! зятюшко-
батюшко!”» [ЗП, 42]. В сказках СУС-3022 или СУС-315 в мотиве
преодоления преград полотенце создает мост, то есть выполняет роль
содержащего предмета: «Вот подъезжает он к реке, река широка, а
броду нет. Он полотенцем взамхнул и стат мост каменный. Он по
мосту этому и переехат» [ЛАА - Прохорова]. В сказках с мотивом
бегства при помощи бросания чудесных предметов полотенце транс-
формирует пространство: «Вот бросичися они бежать. Бегут зна-
чит, а Морской царь их и догоняет. Бросичи они полотенце - стат а
за спиной у них река широкая» [ЛАА - Ивашева]. Наконец, в сказках
типа СУС-300А полотенце встречается как средство информирующее
персонажей об угрозе жизни герою: «Вот пошеч он на третью ночь к
мосту, а братьев за стол посадил и полотенце над столом повесит.
Повесит и говорит: “Смотрите, как с полотенца кровь капать нач-
нет - бегите к мосту на подмогу”» [ЛАА - Заполни].
Рассмотрим другой пример. В сказках СУС-315 молоко встречает-
ся в следующем мотиве: антагонист героя придумывает задание, в
котором молоко выступает в роли, пусть и ложного, но предмета по-
иска: «Стач этот змей уговаривать девицу извести брата; та не
соглашатась... Пошли, - говорит змей, - за волчьим молоком, там
они его съедят, а сама притворись больной» [Красноярск, 1-52].
В сказках же СУС-531 в мотиве испытания женихов молоко выполня-
135
Роль предметных реалии...
ет функцию средства, изменяющего внешность героя: «“Вот, - гово-
рит, - прыгни в кипяще молоко, тогда замуж за тебя пойду”. Царь
Ваньке велел первым прыгнуть - тот прыг! И вылазит красавцем
писаным. Царь бултых! и сварился» [Л ДА - Кружил ин].
Приведем еще один пример. Русская волшебная сказка знает не-
сколько типов камня. В мотиве испытания богатырской силы, харак-
терном для сказок СУС-301, СУС-312D и СУС-51 ЗА,В камень служит
маркером силы: «Вот камень лежит - его двадцать человек поднять
не могут, а Иван подошел и одной рукой поднял» [ЛАА - Савенкова].
В мотивах, связанных с выбором пути, характерных для сказок СУС-
303, СУС-550 и СУС-551 камень выполняет роль носителя информа-
ции о пути: «Ехали, ехали, лежит сыр-горюч-камень на растанях, на
камню надпись подписана и подрезь подрезана: “По одной дороге
ехать - с красными девушками гулять, по другой дороге ехать -
живому не быть”» [Онч, 4]. В мотиве нарушения запрета о разгла-
шение тайны и, связанном с ним, превращении героя в камень, по-
следний является формой существования персонажа: «Как сказал эти
слова, так в миг в камень и превратился» [ЛАА - Руковишнева].
Наконец, в сказках с мотивами идентификации действия и выявлени-
ем истинного героя, камень является местом хранения и знаком со-
вершения подвига (см. СУС-3001): «Одной рукой плиту на пятьде-
сят пудов взял, и плита перелетела, и там все головы лежат»
[РНССоБ, 15].
Анализируя сказочные тексты, мы можем выявить группы пред-
метных реалий, характерных для того или иного сюжетного типа.
Рассмотрим несколько примеров, причем для анализа возьмем сказки,
связанные с поиском исчезнувшей или похищенной жены. Чаще всего
это традиционная контаминация сюжетных типов СУС-400]+554+
302] или СУС-402 +554+302]: Герой получает чудесную жену, не-
вольно нарушает запрет и жена исчезает; муж вынужден отправиться
на поиск жены (СУС-400] или 402) - группа I; в дороге он помогает
различным животным и те, дарят ему перо, клочок шерсти, чешую и
т. д.(СУС-554) - группа II; исчезнувшая жена находится во власти
Кощея, с помощью хитрости ей удается узнать, где находится смерть
противника, и герой отправляется на ее поиски, добыв помощь благо-
дарных животных, спасает свою нареченную (СУС-3021) - группа III.
Перечислим реалии, соответствующие каждой из групп.
I группа - царство, дворец, (поле, шатер, комната, ключи, вода,
цепи) или (крыльцо, стрела, болото, ночь, крыльцо, ковер, хлеб, кости
и вино - озеро и лебеди, кожа - печь) - дорога - башмаки, колпак,
сухари - избушка на курьих ножках - клубочек - дорога.
136
В. Е. Добровольская
II группа - дорога - шерсть, чешуя, волос и т. п. - дорога.
III группа - дорога - дворец Кощея - веник, ограда - дорога -
море- остров - сундук - шерсть, чешуя, волос - яйцо и иголка.
Легко заметить, что каждой группе соответствует свой набор
предметных реалий, и только в местах соединения блоков мы наблю-
даем идентичность предметных реалий. Данное явление можно рас-
сматривать как доказательство контаминации, а не механического
соединения разобранных типов в единый сказочный сюжет. Для под-
тверждения этого тезиса обратимся к еще одному типу традиционной
контаминации. Для этого проанализируем сюжетный тип СУС-530А,
представляющий собой традиционное продолжение сказки СУС-530.
СУС-530 - изба- печь- /ночь-кладбище/ х 3- кремень и огниво, во-
лос, уздечка - поле - дворец - окно - /печать = звезда - тряпица -
печать-звезда/
СУС-530А /печать^ звезда -тряпица - печать=звезда/ - дорога -
луга- свинка золотая щетинка - дорога - луга - палец=ремень из спины.
Как видим, и здесь в месте контаминации фигурирует пучок пред-
метных реалий печать=звезда - тряпица - печать=звезда, помогаю-
щий включению дополнительной группы мотивов. В случае механи-
ческого соединения идентичность набора реалий в конце одной
группы мотивов и начале другой отсутствует. Как пример, такого
механического соединения приведу фрагмент текста представляюще-
го собой соединение СУС-530 и СУС-4001:
(СУС-530) «Иван ударил Сивку-Бурку по крутым бокам. Конь
взвился и допрыгнул до окошка царевны. Она возьми да и стукни его
перстнем в лоб. На лбу печать у него. Он домой возвернулся, лоб
тряпицей замотал, чтоб печать не видно было. Стали искать его.
Входят в избу: “Почему лоб обернут? Сымай тряпицу”. Он снял и все
увидали печать. Привезли его в царский дворец. (СУС-4001) А пока
его искали - цареву дочку змей унес. И он пошел искать свою сужен-
ную». [ЛАА, Маркова].
Нам представляется возможным говорить о пучках реалий, соот-
ветствующих каждой группе традиционно соединенных в сюжетный
тип мотивов.
Необходимо также отметить, что в сказках, сюжет которых связан
с поиском или выполнением трудных задач, количество предметных
реалий больше, чем в сказках с активным действием помощника или
противника. Сравним два типа сказочных сюжетов: СУС-403А,В и
СУС-465В. В первом случае, сказки связаны с активными действиями
противницы героини, во втором - с поисками чудесной диковинки.
СУС-403А,В: источник - одежда - мертвая рука - береза.
137
Роль предметных реалий...
У источника происходит превращение девушки в уточку, и пере-
одевание ведьмы в ее одежду; дальнейшее действие связано с кознями
ведьмы и противодействием им мужу героини. Предметных реалий в
данном сюжетном типе мало и появляются они лишь в конце сюжета,
так как необходимы для возвращения героине ее исходного облика.
СУС-465В: лес - изба - дворец - ковер - дворец- дорога - олень
золотые рога - дворец- изба - полотенце (или цветок), клубочек- из-
бушка - гусли- дорога - дворец- изба.
Если в первом примере предметные реалии сконцентрированы в
начале и конце сюжета, а их число невелико, то во втором случае они
равномерно распределены по всему сказочному сюжету.
Даже в тех случаях, когда количество предметных реалий невели-
ко, они все равно могут служить идентифицирующими признаками
мотивов, а следовательно, и сюжетных типов. Рассмотрим сходные
сюжетные типы СУС-403А,В, СУС-409 и СУС-450, которые связаны с
мотивом подмены.
СУС-403А,В: источник - одежда - мертвая рука - (веретено - береза)
СУС-409: дворец-поле- одежда- поле или лес - кожа - веретено - береза2
СУС-450: дорога - лужа - вода из копытца - дворец - водный ис-
точник (преимущественно пруд) - костры, котлы, ножи - сети.
Как видим, сказки с мотивом подмены девушки чрезвычайно раз-
нятся по набору предметных реалий. Главным параметром разграни-
чения сюжетных типов служат различия в комплекте тех предметных
реалий, которые в них задействованы.
Таким образом, предметные реалии можно рассматривать не толь-
ко как мотивообразующие категории, но и как сюжеторазличительные
элементы, которые можно положить в основу классификации ядра
сказочных сюжетов.
Итак, предметные реалии играют огромную роль в формировании
сюжета волшебной сказки и являются в значительной степени диффи-
ринцирующими признаками для определения того или иного мотива,
эпизода и сказочного сюжета в целом.
Список сокращений
АК- Русская сказка. Избранные мастера/?. 1-2. Л., 1931.
Аф. - Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. Т. 1-3. М., 1957.
ЗВ -Зеленин Д. К. Великорусские сказки Вятской губернии. СПб., 2002.
ЗП -Зеленин Д. К. Великорусские сказки Пермской губернии. СПб., 1914.
Ков. - Сказки И. Ф. Ковалева. М., 1941.
Кор. - Сказки А. Н. Корольковой. М., 1969.
Красноярск - Русские сказки и песни в Сибири. СПб., 2000.
ЛАА - Личный архив автора:
Заполин Григорий Федорович, 1914 г.р., д. Морево, Рузский р-н Московская обл.
138
В. Е. Добровольская
Ивашева Екатерина Михайловка, 1921 г.р.. Архангельская обл., Котласский
р-н, д. Пергола.
Кружилин Иван Петрович, 1918 г.р.. Московская обл., Рузский р-н, д. Дубки.
Маркова Мария Ивановна, 1925 г.р., Архангельская область, г. Коряжма.
Прохорова Софья Андреевна, 1928 г.р, Вологодская обл., г. Грязовец.
Руковишнева Елена Константиновна, 1919 г.р., Вологодская обл., г. Никольск.
Савенкова Серафима Прохоровна, 1908 г.р., Ярославская обл., г. Пошехонье.
Онч. - Ончуков Н. Е. Северные сказки. СПб., 1998.
Сок-Соколовы Б. и Ю. Сказки и песни Белозерского края. Т.1-2. СПб., 1999.
РНССоБ- Русские народные сказки Сибири о богатырях. Новосибирск, 1979.
Худ. - Худяков И. А. Великорусские сказки. Великорусские загадки. СПб., 2001.
Примечания
1 В определении мотива и эпизода мы придерживаемся позиции Н. П. Андреева: «Под
мотивами я понимаю отдельные факты, имеющие динамическое значение, т. е. про-
двигающие вперед движение рассказа... основанием для деления на эпизоды служит
перемена места или времени действия, введение новых действующих лиц (и особенно
перенесение центра внимания на новых лиц, как носителей действия), новая авантюра
(разрешение новой задачи, новое столкновение и т. п., если они даются не в плане
простого повторения)». - Андреев Н. П. Проблема тождества сюжета И Фольклор.
Проблемы историзма. М., 1988. С.233-234.
2 Заметим, что появление двух одинаковых по функциям предметных реалий в двух
разных сюжетных типах указывает на использование одного мотива двумя разными
сказками. В данном случае появление веретена и березы в сюжетных типах СУС-403 и
СУС-409 объясняется использованием этими сказками общей формулы возвращения
героине исходного облика. Однако такое сходство наблюдается далеко не во всех
вариантах. Так, для сюжета СУС-409 мотив разламывания веретена и превращения его
половинок в березу и девушку весьма типичен, а для сюжета СУС-403 более традици-
онным является другой способ превращения - уточка садится на руку князя и превра-
щается в молодую княгиню.
Духовные стихи о Страшном Суде:
поэтика и композиционные типы
А. В. Коробова (Москва)
Пространством духовных стихов обнимает весь христианский
мир, земной и небесный. Топонимика земного пространства - это
места, связанные с жизнью Спасителя, реже - христианских святых,
иногда - Святая Русь. Доминирующую роль в пространстве духовных
стихов играют оппозиции верха и низа, востока и запада, где каждая
из категорий имеет свое духовное значение.
Время духовных стихов имеет свой особый хронотоп, позволяю-
щий легко объединять исторические эпохи. Оно вбирает в себя под-
линные исторические события, но не подчиняется им, допускает од-
новременное действие персонажей из разных веков земной истории.
Время в духовных стихах преемственно в главном: начало времени в
сотворении мира, преломление - на Страшном Суде.
Основной корпус русских духовных стихов о Страшном Суде воз-
ник не ранее XVII века и, вероятнее всего, не позднее середины XVIII
века1. Большинство стихов рассматривают тему конца света и Страш-
ного Суда в эпическом, то есть повествовательном ключе. Язык и
стиль их неоднороден - часть стихов изобилует церковнославянизма-
ми в лексике и синтаксисе, в других церковнославянской лексики нет
вовсе, но активно используются общефольклорные эпитеты и поэти-
ческие формулы.
Большинство мотивов духовных стихов о Страшном Суде имеет ис-
точники в средневековой книжности2 или иконописи. Так, можно выде-
лить три категории источников. Во-первых, источники книжные’, сочи-
нения отцов церкви, переводные или оригинальные слова церковных
проповедников, агиографические и аскетические тексты. Во-вторых,
источники богослужебные, восходящие к церковным службам, в первую
очередь к всенощному бдению в Неделю мясопустную и последованию
погребения, чье чинопоследование входит в состав богослужебных книг
Триоди Постной и Требника соответственно. И, в-третьих, источники
иконографический (иконы, фрески, прориси, лубок).
Среди эпических духовных стихов о Страшном Суде можно выде-
лить пять сюжетно-композиционных типов4, в каждом из которых на
первый план выносится свой аспект темы Страшного Суда.
140
А. В. Коробова
Сюжетно-композиционный тип «Чудная Царица Богородица»
является наиболее «книжным» по своей стилистике и соотношению с
источниками - словами Ефрема Сирина, в особенности «К слову о
суете жизни и покаянии» и «О почивших во Христе».
Все стихи этого типа начинаются с молитвенного обращения к Бо-
городице. В зачине присутствуют постоянные для церковной практики
эпитеты и молитвенные формулы, которые, однако, не являются точны-
ми цитатами из последования богослужения или церковных текстов:
Чудная Царице Богородице!
Услыши молитву раб своих,
Приими наши слезы горячие,
Не лиши нас Царства Небесного,
Избави нас от муки вечныя5.
Общий пафос стихов этого типа - предостережение-пророчество о
конце света и последних временах. Стих делится на две части: в пер-
вой говорится о малой эсхатологии - неизбежности смерти и расста-
вании души с телом, а во второй содержатся пророчества о пришест-
вии антихриста и об убиении пророков в последние времена, дается
обетование о возгорании земли от пророческой крови.
О пришествии антихриста в последние дни мира и о битве проро-
ков с ним говорится в Откровении Иоанна Богослова [Откр. И; 3-12].
В то же время в большинстве стихов, как и в Церковном Предании,
дается «уточнение» к Священному Писанию - говорится, что одним
из явившихся будет Илия, а другим - Енох (Онох, Онофор).
Последнее время описывается в стихе как время быстротекущее:
Тридцать лет Господь обратит яко в три года,
Три года Гэсподи обратит яко в три месяца,
Три месяца Господи обратит яко в три часа,
Три часа Господи обратит яко оком мигнуть6.
Эти образы восходят к святоотеческой традиции. Мысли о подобном
изменении времени в царствование антихриста содержатся в «Вопросах
Иоанна Богослова к Господу на Фаворской горе» (три лета в 3 месяца,
три месяца в 3 недели, три недели в 3 дня, три дня в 3 часа, три часа в 3
черты). В третьей, неканонической книге, Ездры (3 Езд., 6; 21) также
сказано, что время перед концом света будет течь быстрее.
В одном из вариантов духовный стих пророчествует, что после
сошествия антихриста и убиения пророков произойдет возгорание и
очищение земли -
От той-то от святой-то крови
Загорится матушка сыра земля...
И выгорят горы со раздольями,
141
Духовные стихи о Страшном Суде...
И выгорят лесы темные.
И сошлет Господи потопив...
И вымоет матушку сыру землю,
Аки харатью белую,
Аки скорлупу яичную,
Аки девицу непорочную,
Аки вдовицу благочестивую1.
Духовные стихи стремятся объяснить еще небывшее с помощью
известного, понятного. Поэтому чистота земли после огненного и
водного очищения сравнивается с белизной бумаги и скорлупы, с
непорочностью девы и благочестием вдовы.
Сюжетно-композиционный тип «Плачем мы и ужасаем», пред-
ставленный двумя стилистическими разновидностями - «книжной» и
«народной» - появился под влиянием богослужения, точнее стихир на
«Господи воззвах» на всенощном бдении в Неделю мясопустную и мо-
литвословий из последования погребения. Помимо литургических тек-
стов источником для стихов этого типа могли послужить и книжные
сочинения, использующие схожие образы, например, слова Палладия
Мниха или Ефрема Сирина, а также изображение Страшного Суда на
иконах и фресках западной стены храма. Вероятно, на сложение стихов
этого типа повлияло действо Страшного Суда, совершаемое в Неделю
мясопустную вне храма (оно существовало до 1697 года)8.
Стихи этого типа последовательно описывают события, предшест-
вующие Страшному Суду, подготавливающие к нему. Это картина
земных катаклизмов, зов архангельской трубы, восстание мертвых,
поставление престола и сошествие Господа с небес на Суд. Сам
Страшный Суд описан через страх грешных предстать пред лицом
Господа и диалог Господа и людей об адских муках и грешной жизни.
Не всем мотивам в содержании стиха можно найти книжные соот-
ветствия. Так, большинство грехов, в которых обличаются грешные,
не восходят к Евангелию или другому источнику, но связаны с пере-
осмыслением понятия греха в традиции духовных стихов. В этом
перечне грехов, выделяются четыре стержневых мотива:
Никогда ко Мне не прихождали,
Вы воли Господней не творили,
Всю заповедь Божию преступили,
За крест за молитву не стояли9.
Каждый из приведенных мотивов свидетельствует о нарушении
главной заповеди - любви к Богу.
Стихи сюжетно-композиционного типа «Михаил-архангел -
неподкупный Судия» не имеют непосредственного источника и су-
142
А. В. Коробова
ществуют только в «народной» стилистической разновидности.
В вариантах этого типа Михаил-архангел берет на себя функции Су-
дии, оглашающего приговор, «запечатывающего» то, что было пред-
решено. Это единственный тип стихов о Страшном Суде, где Господь
не является действующим лицом. Но перенос функции Судии с Гос-
пода на Михаила-архангела нельзя назвать механическим. Мысль о
Михаиле как об «ангеле предстояния», который вместе с Гавриилом
стоит перед престолом Божиим, как об «ангеле-писце», заносящем
имена праведников в книгу жизни, как о посреднике между Богом и
людьми четко выражена в апокрифической книге Еноха10. Вместе с
тем, по мнению А. Н. Афанасьева, на Михаила-архангела, как на
«воеводу небесных сил» были перенесены некоторые верования, со-
единявшиеся в дохристианскую эпоху с именем воинственного Перу-
на11. Это произошло под влиянием XII главы Апокалипсиса, где гово-
рится о битве Михаила со змеем-дьяволом.
Переносу представления о Господе как о Судии, вершителе судеб,
на Михаила-архангела способствовала и композиция стиха «Плачем
мы и ужасаем»: за эпизодами, где действуют трубящие ангелы-
архангелы, следует кульминация - диалог Господа и грешных, приго-
вор идти в муку. Вероятно, в ряде вариантов речь Господа могла пе-
рейти непосредственно к Михаилу, которому и так уже дана власть
пробуждать мертвых.
Стихи, принадлежащие к типу «Михаил-архангел - неподкупный
Судия», отличаются лаконичностью содержания и объемностью изо-
бражения, которая создается при помощи кратких пространственных
указаний в описании или диалоге: сообщение о Михаиле-архангеле,
что он «поднялся» или «спустился»', приказ душам встать определен-
ным образом - «Уж вы вставайте, праведные души, вставайте ли-
цами к востоку». Все служит высвечиванию основного ядра повест-
вования - приговора грешным идти в муку.
Сюжепгно-композиционный тип «Шествие праведных и грешных»
отличается от других типов красочным описанием поведения греш-
ных, идущих на суд, а также подробным изображением их мук.
На описание шествия на Суд, несомненно, повлияли изображения
Страшного Суда на иконах, иконографических подлинниках и лубоч-
ных картинках, где вереницы праведников идут с восточной стороны,
а грешных - с западной, а также написано, кто (блудник, разбойник и
т. д.) идет в муку и какие мучения им уготованы. Кроме иконографи-
ческих источников необходимо указать и книжное сочинение «Слово
в Неделю Мясопустную, о Страшном Суде и будущей муке» Палладия
Мниха, в котором также есть фрагмент о воздаянии по грехам.
143
Духовные стихи о Страшном Суде...
В некоторых духовных стихах шествие восставших для Страшного
Суда, связано с образом огненной реки, переход через которую невоз-
можен для грешных и доступен для праведных, идущих ровно по суху
и ровно по мосту. В богослужебном тексте сравнение яко по суху
пешешествовав Израиль относится к ветхозаветному еврейскому
народу, перед которым расступилось море [Исх. 15; 1-20], в духовном
же стихе чудесный образ перехода воды относится к праведным.
В речи Господа ко грешным в стихах сюжетно-ком позиционного
типа «Шествие праведных и грешных на Страшный Суд» основное
внимание уделяется характеристике мук:
Иным будет грешникам,
Клеветникам и язычникам -
Язык в темя вытянут
И за языки повешаны наудах зелезных:
То им мука вечная,
Житие бесконечное'2.
Описание того, что ожидает грешников, своим стилем повторяет
скупой, отстраненный, «комментирующий» язык иконографического
подлинника или лубочной картинки. Подобные надписи нередко по-
мещались и на самой иконе Страшного Суда, что создавало визуаль-
ную опору тем исполнителям, которые владели книжной грамотой.
Важным сюжетным звеном в стихах также является характеристи-
ка стенания, плача грешных, не принятых в рай. Большинство моти-
вов в монологе грешных - плод творчества слагателей стиха.
Уж как грешны идут - слезно плачут,
Перед собой оне пути ведь не видят,
Отцей, матерей проклинают:
«Уж и лучше бы отец не засеял,
Уж лучше бы мать меня не родила,
Сорока бы недель в утробы не носила.
На родимом бы месте растоптала,
На белой-от свет не попустила»13.
В ряде вариантов грешные припадают к матери сырой земле; бро-
саются о землю; бросают на землю одежду, просят землю расступить-
ся и поглотить их.
Варианты, составляющие пятый сюжетно-композиционный тип
«Михаил-архангел - перевозчик через огненную реку» объединяет
наличие двух образов - огненной реки, отделяющей грешных от рая и
Михаила-архангела, перевозчика через нее.
Источники образа огненной реки в духовных стихах до конца не вы-
яснены. И. Я. Порфирьев полагал, что огненная река возникла в стихах
144
А. В. Коробова
из народных сказаний (т. е. былин или сказок)14, В. А. Сахаров выводил
образ из слов Ефрема Сирина и других литературных источников15.
В мифологии священная река всегда есть некая граница, рубеж, за-
става, отделяющая мир живых от царства мертвых, одно состояние от
другого. Эту реку нельзя преодолеть самостоятельно, но нужно обра-
щаться к перевозчику, который за плату осуществит желанный переход.
Огненная река в Библии [Дан., 7; 10], богослужебных текстах, свя-
тоотеческой и апокрифической традиции - это прежде всего реалия
апокалипсиса, присутствие которой обязательно в картине Страшного
Суда: огненная река течет перед престолом Господа (об этом сказано у
пророка Даниила, Ефрема Сирина и Палладия Мниха, в мясопустных
песнопениях). В апокрифическом «Видении апостола Павла» воды
огненной реки являются не только символом конца света, но и несут в
себе значение всепоглощающего огня, от действий которого земля,
утяжеленная грехами и беззакониями, делается чистой и непорочной.
Эсхатология духовных стихов вбирает в себя оба этих представления.
Огненная река в них - это и знамение последних дней мира, признак
Страшного Суда, и грань добра и зла, вечной жизни и вечной смерти.
Перевозчиком через огненную реку выступает архангел Михаил, он
неподкупен богатствам мира сего, для перевоза он просит иного, велит
иметь чем душу спасти - пост, молитву и милостыню в земнрй жизни.
Когда Михаил-архангел отделяет среди идущих на Суд Божий «овец от
козлищ», он фактически вершит приговор. И огненная река сама оказы-
вается наказанием для грешных: ведь праведные способны перейти ее
словно по мосту, и лишь грешных палит и влечет река в свое лоно.
Огненная река в духовных стихах больше, чем только свидетельство
апокалипсиса или граница миров праведных и грешных, она сама явля-
ется карой для грешников, поскольку они влекомы рекой и хотят перей-
ти через нее, обретая себе бесконечную смерть, неусыпную муку.
В духовных стихах этого типа отмечается большое количество не-
книжных мотивов. Среди них - мотив посула золота за перевоз, свя-
занный с обличением неправедных земных судов:
Вы зачем ко мне здесь приближаетесь,
Своей золотой казной спосуляетесь?
Я и здесь судья - неподкупная душа,
Я и здесь судья с Богом праведным.
Не берем мы ни злата, ни серебра,
А берем мы душевное спасение.
Суд мы судим по праведному,
По праведному судим, по Божественному™.
145
Духовные стихи о Страшном Суде...
Казна в стихах уподобляется червям, в которых она превратится в
вечной жизни; а неправый земной суд противопоставляется справед-
ливому Божьему Суду.
В народной эсхатологии Страшный Суд изображается с такой под-
робностью, словно, он уже свершился, и певец поет об увиденном,
повествует об услышанном. На Суде том нет взвешивания грехов или
рассуждения о путях души. Страшный Суд - это приговор, оглашае-
мый Господом или Михаилом Архангелом, или его следствия - лико-
вание праведных, с ангельским пением идущих в рай и стенание
грешных, с воплем бредущих в муку.
Примечания
1 Подобный вывод основывается на совпадении текстов источников (например, служб
Постной Триоди, впоследствии претерпевших справу) и вариантов стихов. На этот
временной диапазон указывают и исторические реалии, связанные с реформами Петра
Первого и Екатерины Второй, расколом в церкви, «магией» трех шестерок (1666 год).
2 Часть из них рассматривается в исследованиях: Сахаров В. А. Эсхатологические
сочинения и сказания в древнерусской письменности и влияние их на народные ду-
ховные стихи. Тула, 1879; Порфирьев И. Я. Произведения народной словесности,
образовавшиеся под влиянием книжной. Духовные стихи И Он же История русской
словесности. Ч. 1. Казань, 1876. С. 290-335; Батюшков Ф. Д. Спор души с телом в
памятниках средневековой литературы. СПб., 1891. С. 125-155; Вилинский С. Г. Жи-
тие Василия Нового в литературе. Одесса. Ч. 1. 1911.; 1913. Ч. 2.
3 Иконографические источники выделены в отдельную от литургических источников
группу, так как они используют другие средства выражения содержания. Об иконографии
Страшного Суда см.: Цодикович В. К. Семантика иконографии Страшного Суда в рус-
ском искусстве XV-XVI веков. Ульяновск, 1995; Покровский Н. Б. Страшный Суд в
памятниках византийского и русского искусства И Труды VI Археологического съезда в
Одессе (1884). Одесса, 1887. Т. 3.; Буслаев Ф. И. Изображения Страшного Суда по рус-
ским подлинникам // Исторические очерки русской народной словесности. Т. II. 1861.
4 Под сюжетно-композиционным типом понимается совокупность вариантов, объеди-
ненных наличием одинаковых стержневых эпизодов, восходящих к одной группе
источников.
5 Варенцов В. Сборник духовных стихов. СПб., 1860. С. 151.
6 Бессонов П. А. Калики перехожие. В. 1-6. М., 1861-1864. № 482.
7 Там же, № 477.
8 Никольский К. Н. Чин действа Страшного Суда // Он же. О службах русской церкви,
бывших в прежних богослужебных книгах. СПб., 1885. С. 217.
9 Бессонов П. А. Калики перехожие. № 448.
10 Михаил И Мифологический словарь. М., 1991. С. 370.
11 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1994. Т. I. С. 576; Т.
II . С. 464, 593.
12 Бессонов П. А. Калики перехожие. № 497.
13 Материалы, собранные в Архангельской губернии летом 1901 г. А. В. Марковым,
А. Л. Масловым и Б. А. Богословским. (М., 1906. Т. 2 № 17).
14 Порфирьев И. Я. Указ. соч. С. 308.
15 Сахаров В. А. Указ. соч. С. 150.
16 Голубиная книга: Русские народные духовные стихи XI-XIX веков. М., 1991. С. 265.
146
К изучению поэтики региональных традиций
С. Н. Азбелев (Санкт-Петербург)
При рассмотрении устной традиции регионов, долгое время изо-
лированных в иноэтническом окружении, обнаруживаются частные
особенности и даже закономерности, несколько отличные от законо-
мерностей, характерных для устно-поэтической метрополии. В этом
отношении интересен, например, фольклор казаков-некрасовцев,
изоляция которых от этнической метрополии была особенно ради-
кальна, хотя и не очень длительна. Как пример более долгого, но ме-
нее жесткого отграничения от метрополии может рассматриваться
Закарпатская область, отсеченная от Украины рубежами не столько
природными, сколько государственными в течение пяти столетий.
В подобных случаях обнаруживается как бы более контрастная, чем
в метрополии, эволюция устной традиции. Одни ее явления в условиях
относительной изоляции быстрее деградируют, другие, напротив, про-
являют здесь большую устойчивость и даже жизнеспособность.
Особую ценность как объект изучения региональной традиции
представляет фольклор Русского Устья. Было бы, конечно, ошибкой
объяснять отличия в поэзии русскоустьинцев исключительно их дол-
гой изолированностью. Весьма существенную роль играли природ-
ные, климатические условия и как следствие их - специфика хозяйст-
ва и быта. Отсутствие земледельческих работ привело к исчезнове-
нию связанного с ними календарного фольклора, а продолжитель-
ность полярной ночи способствовала расцвету сказочного творчества.
Неупотребительность предметов, о которых здесь бытовали общерус-
ские загадки, порой приводила не к исчезновению загадок, а к изме-
нениям их отгадок. Так, загадка про серп получила отгадку: палка для
управления собаками; загадка о посеве озимого хлеба стала отгады-
ваться как ожидание гостей на праздник и т. п.
Жизнь в чрезвычайно суровых условиях Заполярья, постоянная
борьба с природой, - порой на грани физического выживания - не
давала условий для полноценного бытования полноценных семейных
обрядов, поэтому свадебный фольклор уже первые собиратели заста-
ли здесь упрощённым. С этим связана и весьма характерная для
здешних мест особенность, обязанная в значительной мере стремле-
нию хоть как-то сохранить устную традицию, а именно - сокращён-
ные контаминации, которые составляют значительную часть осущест-
147
К изучению поэтики региональных традиций
влённых здесь записей. Контаминировались в сокращённых вариан-
тах не только произведения, принадлежавшие одному жанру, но и
чем-либо близкие тематически или образно фрагменты, относившие-
ся к разным жанрам. Например, лирические свадебные песни не толь-
ко соединялись с остатками свадебных причитаний и приговоров, но
даже включали иногда обрывки исчезнувших из бытования похорон-
ных причитаний и календарно-обрядовых песен.
Но несравненно интереснее то, что русскоустьинцы сохранили
лучше, нежели обитатели метрополии. Говоря о песенном эпосе нет
необходимости повторять всё напечатанное в сборнике «Фольклор
Русского Устья», но стоит напомнить, что там в этой связи конкретно
речь пока шла, в сущности, только о былинах и обосновывался сле-
дующий вывод: «Хотя записей былин в Русском Устье было сравни-
тельно немного, причём протяжённость текстов уступает, например,
вариантам Кирши Данилова, а имена и реалии нередко искажены,
значение этих записей очень велико. Они не только сопоставимы по
фольклористической ценности с текстами Кирши Данилова, но в ряде
случаев отражают более древнее состояние эпической традиции. Это-
му способствовало весьма бережное отношение к былинам исполни-
телей, что доказывается текстуальным сходством вариантов, записан-
ных от разных людей с интервалом в несколько десятков лет»1.
Сборник Кирши Данилова брался как эталон потому, что в нём - са-
мые старшие записи середины XVIII в., при этом - нередко лучшие вари-
анты (а не вследствие весьма относительной географической близости
Урала и Индигирки, хотя она и должна приниматься во внимание).
Цитированный вывод можно распространить на историческую
песню о подвигах Михаила Скопина-Шуйского. Она в Русском устье
записана неоднократно, варианты от разных исполнителей текстуаль-
но весьма близки, будучи разделены таким же хронологическим ин-
тервалом. Есть эта песня и в сборнике Кирши Данилова. Здесь она
представлена гораздо полнее, но в более поздней редакции, чем та,
какую передают записи Русского Устья.
В Русском Устье собиратели записали и исторические песни XVI и
XVII столетий, нигде более не зафиксированные. Уникальный вариант
песни о походе Ивана Грозного (№120) сохранил её плохо, только в
начальной части, поэтому соотнесение произведения с определённым
историческим фактом проблематично. Лучшей сохранности зафикси-
рованная только здесь, но дважды, с интервалом в 80 лет, песня об
осаде Смоленска. Один из её вариантов, записанный Н. А. Габыше-
вым в 1946 г. (№123), содержит три строки, представляющие собой
перенесение из песни о подвигах Михаила Скопина. При этом - из
148
С. Н. Азбелев
той части её, которая в Русском Устье не сохранилась, но есть в сбор-
нике Кирши Данилова. По-видимому, некогда в Русском Устье песня о
подвигах Скопина бытовала в не менее полном виде, чем текст, со-
хранившийся у Кирши Данилова и являющийся самым подробным по
своему фактическому содержанию из всех записанных вариантов.
Существуют, как известно, две песни о Михаиле Скопине: кроме
песни о его подвигах, есть песня о гибели Скопина. Согласно данным
летописи и письменным свидетельствам современников, Михаил
Скопин-Шуйский был отравлен завистниками в 1610 г. Посвящённая
этому песня была распространена не только на севере Европейской
России, но и в Центре, и на Волге, среди казаков Терека и на Колыме.
На Колыме бытование её было особенно долгим, здесь она преврати-
лась в обрядовую песню; её фиксировали тут несколько раз - вплоть
до недавнего времени. Но на Индигирке эта песня за сто с лишним
лет собирательской работы ни разу не была записана, несмотря на
несомненное общение населения этих соседних регионов и на значи-
тельное сходство их фольклорного репертуара. Зато на Колыме вовсе
не записана песня о Скопине, бытовавшая на Индигирке. По-
видимому, каждая из двух песен принадлежала к исконному репертуа-
ру одной из прибывших на северо-восток Сибири групп переселенцев
и эта группа дорожила именно своей песней о народном герое. Кон-
таминация двух песен есть только в сборнике Кирши Данилова, где
текстуальный шов не успел сгладиться; как можно думать, соединение
двух песен принадлежало самому составителю сборника. Естествен-
но, что оно не имеет отношения ни к русскоустьинской, ни к колым-
ской устной традиции.
Вероятно, тем, кто принёс на нижнюю Индигирку песню о подвигах
Михаила Скопина, не была известна песня о его гибели. Вообще же
песня о подвигах Скопина является очень редкой; немногочисленные
записи её были сделаны, кроме Русского Устья, только в Прионежье и
на средней Волге. В этих двух регионах была записана и песня о гибели
Скопина. Таким образом, в Европейской России обе песни о Скопине
бытовали в одних и тех же местах. Но ареал бытования песни о гибели
Скопина был здесь гораздо шире, а записей её в пять раз больше.
Чтобы объяснить такую неравномерность, надо обратиться к
идейному смыслу обоих песен, учитывая их историческую основу.
Во главе русского войска, собранного на севере России (и вместе с
союзными шведскими полками), Михаил Скопин очистил от интер-
вентов, сторонников Лжедимитрия II и других отрядов значительную
территорию, освободив несколько крупных городов и сняв блокаду с
Москвы. Популярность Скопина и в народе, и в войсках была исклю-
149
К изучению поэтики региональных традиций
чительно велика - в противоположность ненависти к Василию Шуй-
скому. Часть враждебных царю отрядов прислала депутацию к Ско-
пину, предлагая содействие в захвате власти. Эти предложения были
Скопиным категорически отвергнуты. Но у Василия Шуйского появи-
лись подозрения относительно целей Скопина; против него интриго-
вали завистники, в особенности брат царя Дмитрий Шуйский, быв-
ший воеводой до назначения Скопина и потерпевший неудачу. Хотя
Скопину надо было продолжать поход, чтобы завершить разгром вра-
жеских сил, царь вызывает его в Москву - для воздания почестей.
Близкие убеждали Скопина не ехать, сознавая опасность; однако отказ
прибыть по царскому вызову был бы, конечно, истолкован врагами
Скопина как подтверждение домыслов о его намерении отнять пре-
стол у Василия Шуйского. Скопин приехал в Москву, в его честь были
устроены официальные торжества. Затем князь И. М. Воротынский
пригласил его быть крёстным отцом своего сына. Крёстная мать -
жена Дмитрия Шуйского (дочь Малюты Скуратова) на пиру по слу-
чаю крестин поднесла Скопину кубок, выпив который он почувство-
вал себя плохо; попросил отвезти его домой, где через некоторое вре-
мя в мучениях скончался2. Русские письменные источники того
времени единодушны в восторженных оценках М. В. Скопина. Эти
оценки разделли даже его военные противники-иностранцы3.
Песня о гибели Михаила Скопина, насколько можно судить по
наиболее полному тексту Кирши Данилова, оканчивалась упоминани-
ем о пении славы во время чествования в Москве. Как резонно заме-
чал В. Ф. Миллер, «вероятно Скопину фактически пели славу при
этом случае»4. Судя по содержанию, песня была сложена в войске
Скопина. А основу его войска составляли жители Новгородского Се-
вера, т. е. региона Европейской России, из которого, согласно данным
языка, происходили, в основном, предки досюльных индигирщиков
(пользуюсь их самоназванием).
После гибели Скопина его войско распалось, а его прежние союз-
ники шведы захватили Новгород и стали вести себя здесь как жесто-
кие завоеватели. Новгородские летописи того времени полны извес-
тий о шведском разорении, о запустении не только в Новгороде, но и
окрестных земель. Весьма вероятно, что именно в это время отправи-
лась в водный путь на северо-восток та группа первонасельников
нижней Индигирки, которая принесла сюда в своём устном репертуа-
ре столь редкую песню о военных подвигах Михаила Скопина.
В принципе песня могла попасть в Русское Устье и позже. Но сте-
пень вероятности этого ничтожна - именно потому, что несравненно
более распространённая песня о гибели Скопина в Русское устье не
150
С. Н. Азбелев
попала. Пожалуй, дело даже не столько в степени общей распростра-
нённости второй песни, сколько в причине этого.
Михаил Скопин стал народным героем не потому, что он одержал
победы, важные для освобождения России от интервентов. Военные
победы такого же масштаба были одержаны и другими героями
Смутного времени - уже после гибели Скопина, и именно их успехи
сыграли в войне решающую роль. Но об их подвигах песен почти не
сохранилось - за исключением одного текста, принадлежность кото-
рого к фольклору даже оспаривалась5. Думается, что значение
М. В. Скопина народ понял вернее, чем некоторые профессиональные
историки: нравственный подвиг оказался ценнее подвигов воинских.
Скопин собрал своё войско на Новгородской земле и из Новгорода
начал свой победоносный поход. Память о полководце сохранялась
дольше и полнее среди потомков тех, кто составлял основу его армии.
По свидетельствам современников, как раз в ней его прочили на пре-
стол вместо Василия Шуйского, но сам Скопин не разделял этих на-
строений, заботясь только о выполнении своего воинского долга.
Современники и их потомки понимали, что исключительность Ми-
хаила Скопина проявилась в его нежелании противозаконно захватить
власть (хотя он имел к тому реальную возможность), в его готовности
рискнуть жизнью ради доказательства этого нежелания - вопреки
клевете своих врагов, - и в смерти во имя нравственной над ними
победы. В народном сознании постепенно утрачивались детали исто-
рической ситуации, но надолго закрепилось общее понимание её
сущности: победитель, защитник Родины доказал свою высокую пра-
воту, приняв смерть от заслуживающих презрения недоброжелателей.
Появление песни об отравлении освободителя Москвы точно датиро-
вать, конечно, невозможно. Но пересказ ее есть уже в некоторых списках
Русского хронографа редакции 1617 года6. В этих рукописях текст исто-
рических известий продолжен только до середины XVII века. Стиль нахо-
дящегося здесь повествования о гибели Скопина не оставляет сомнений,
что в основу положен пересказ народной песни - той самой, которая за-
писана, в частности, на Колыме. Следовательно, ко времени оформления
названных рукописей, песня приобрела столь большую популярность, что
ее пересказ включили в письменное историческое повествование (а такие
случаи были чрезвычайно редки вообще).
Это позволяет отнести сложение песни и начало ее распространения
к значительно более раннему времени, чем дата завершения историче-
ских известий в рукописи, послужившей общим протографом упомяну-
тых списков хронографа. Значит, песня о гибели Скопина была сложена
вскоре после 1610 года, в котором это событие произошло.
151
К изучению поэтики региональных традиций
Как уже говорилось, она бытовала там же, где песня о его подви-
гах; существует даже соединение этих двух песен в одном тексте. Это
позволяет сделать вывод, что прибывшие в Русское Устье мореходы,
которые принесли сюда только песню о подвигах Михаила Скопина,
отправились в путь из Европейской России до распространения песни
о его гибели, т. е. немногом позднее 1610 года7.
Русское поселение на Колыме появилось, очевидно, независимо от
поселения на нижней Индигирке. В пользу этого говорит тот же
фольклорный материал. Поскольку песня о гибели Скопина прочно
вошла в колымский репертуар, а более ранняя песня о его подвигах
здесь отсутствует, естественно полагать, что на Колыму попали носи-
тели фольклора из тех мест, где старшая песня не была известна или
успела забыться. Вообще же нижняя Колыма в своем фольклоре име-
ет немало общего с устьем Индигирки. Сходные географические ус-
ловия, во многом сходные обстоятельства появления здесь русских
поселенцев и, наконец, длительное взаимообщение русских старожи-
лов Колымы и Индигирки - обусловили значительные совпадения. Но
колымский фольклор имеет свои особенности отнюдь не только в тех
песнях, о которых шла речь.
Как справедливо писал В. П. Аникин, «в условиях повышенного
внимания к локальным особенностям эпоса (Русский Север, Сибирь и
проч.) остро встает вопрос о недопустимости гипертрофии региональ-
ного подхода», ибо «сомнительны приблизительные и тем более произ-
вольные региональные членения без предварительного обоснования
историко-социологическими, географическими и филологическими
разысканиями»8. Смысл моей заметки как раз и состоял в демонстрации
важности таких обоснований при рассмотрении особенностей поэтики
устного эпоса в более или менее изолированных анклавах.
Примечания
1 Фольклор Русского Устья / Изд. подготовили: С. Н. Азбелев, Г. Л. Венедиктов,
Н. А. Габышев, М. Ф. Дружинина, Ю. Н. Дьяконова, В. И. Жекулина, Р. В. Каменец-
кая, В. В. Митрофанова, М. А. Никифорова, А. Н. Розов, А. Г. ЧикачСв. Л., 1986. С. 29.
2 См.: Иконников В. С. Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский И Чтения в Исто-
рическом обществе Нестора-летописца. Киев, 1879. Кн. I. С. 102-173.
3 Польский гетман Жолкевский, участник интервенции против Русского государства,
описывая ход военных действий и упомянув об одном из успехов М. В. Скопина,
замечает: «Сей Шуйский-Скопин, хотя был молод, ибо ему было не более двадцати
двух лет, но, как говорят люди, которые его знали, был наделен отличными дарова-
ниями души и тела, великим разумом не по летам, не имел недостатка в мужественном
духе, и был прекрасной наружности». Конрад Буссов, немецкий наемник, служивший
в войске Лжедимитрия II, назвав воевавшего против него Михаила Скопина «отваж-
ным героем», который «не жалел своей жизни», пишет, что царь Василий Шуйский
«приказал поднести ему яд и отравить его» из-за того, что «множество самих москови-
152
С. Н. Азбелев
тов (т. е. русских) уважали его за мудрость и храбрость больше, чем Шуйского», и
добавляет: «о его смерти скорбела вся Москва». (См. Муханов П. А. Записки гетмана
Жолкевского о Московской войне. 2-е изд. СПб., 1871. С. 25; Буссов Конрад. Москов-
ская хроника, 1584-1613/Отв. ред. И. И. Смирнов. М.; Л., 1989. С. 166.)
4 Миллер В. Ф. Исторические песни из Сибири // Известия ОРЯС Имп. АН. СПб., 1904.
Т. 2. Кн. I. С. 31.
5 Ср.: Криничная Н. А. Народные исторические песни начала XVII века. Л., 1974. С. 131-145.
6 Имею в виду рукописи РНБ в Петербурге, собр. М. П. Погодина, № 1451, Библиотеки
РАН, собр. Архангельское, № 132 и РГБ в Москве, Румянцевское собр., № 462. Ср.
Моисеева Г. Н. Новый список исторической песни о Михаиле Скопине-Шуйском //
Русский фольклор. Л., 1978. Т. 18. С. 204-209.
7 Разумеется, это не влечёт за собой вывода, что именно они были первыми, кто достиг
на своих кочах устья Индигирки. Предания о бегстве сюда ещё во времена царя Ивана
Васильевича тоже могут иметь под собой историческую основу. Если точны сведения
об обнаружении американскими учёными остатков русского поселения на Аляске,
датируемого XVI веком (и согласующиеся с ними данные некоторых письменных
источников XVIII века), то это, конечно, доказывает, что Северный морской путь к
тому времени русскими мореходами был пройден. Пройти его, не имея опорной базы
на северо-востоке Сибири, в то время вряд ли было возможно. Согласно письму из
Америки русского миссионера, посланного туда Валаамским монастырём в XVIII веке,
среди аборигенов Аляски живут новгородцы, которые «во время царя Ивана Василье-
вича ушли в Сибирь»; поскольку в то время один из шести кочей, вышедших в море,
на пути от Колымы до Анадыря «девался без вести», полагали, что «то судно принесло
в Америку и живут тут, где ныне слышим». Письмо опубликовано впервые 165 лет
назад. (См.: Пассек В. Очерки России. М., 1840. Кн. 3. С. 230-231.) О результатах раско-
пок американских археологов в 1937 г. на Аляске и об исторической интерпретации этих
результатов в связи с цитированным письмом и другими данными см.: Ефимов А. В. Из
истории великих русских географических открытий. М., 1971. С. 207-214.
8 Аникин В. П. Классическое наследство в эпосоведении и его значение для современ-
ной науки // Русский фольклор. СПб., 1995. Т. 28. С. 9.
Специфика удмуртской волшебной сказки
Г. Н. Шушакова (Удмуртия)
В репертуаре удмуртских волшебных сказок имеются как между-
народные, так и специфические, национально-самобытные сюжеты.
Наиболее популярны сюжеты: СУС 300, 301, 313, 325, 327, 400, 402,
625, 670, 677. Удмуртские варианты представляют собой менее слож-
ные сюжетные образования: они компактны и лаконичны, в них часто
имеется только один конфликт, только одно испытание героя, эпизоды
с предварительными и финальными испытаниями героя получают раз-
витие редко. Наиболее сложными образованиями являются сказки на
сюжет СУС 300, 301, 650, 400. В них имеет место переплетение обще-
известных международных мотивов с национально-самобытными.
Сюжеты, не имеющие соответствий в СУС, своеобразны по со-
держанию. В их основе - повествование о столкновениях героя с
мифологическими существами: вумуртом (водяным), нюлэсмуртом
(лесным человеком), Обидой (мифологическое существо типа Бабы-
Яги). В одних сказках мифологические существа являются противни-
ками героя, от которых приходится спасаться любыми путями, в дру-
гих же - они оказывают человеку помощь. Функциональная двойст-
венность этих героев позволяет рассматривать одни сказки в
тематическом разделе «Чудесный противник», другие - в рубрике
«Чудесный помощник». Однако роль помощника в этих сказках иная,
чем в сказках с развитым сюжетом. В данном случае чудесный по-
мощник не способствует решению трудных задач или преодолению
препятствий для выполнения главной цели героя, а оказывает услугу в
приобретении какого-то материального благополучия. Подобные од-
ноэпизодные сказки обнаруживают близость к мифологическим бы-
личкам и легендам.
Анализ системы персонажей и повествовательного стиля дает воз-
можность выявить характерные особенности каждого сюжетного типа.
Образ героя-богатыря встречается в сюжетах типа СУС 300, 650.
Богатырь побеждает чудесного противника-змея в поединке, освобо-
ждает царевну, белый свет, светила. Нередко герой-богатырь оказыва-
ется чудесно рожденным: его находят на гороховом поле, иногда его
отцом является медведь. Герой наделен богатырской силой с рожде-
ния или приобретает ее от выпитой из озера воды. Для героя-
богатыря, сына медведя, характерным является его поединок с отцом-
154
Г. Н. Шушакова
медведем и победа над ним. В образе сочетаются героические и сати-
рико-юмористические черты: герой бесстрашен, ловок и хитер, из
любых сложных ситуаций выходит целым и невредимым (например,
меряется силой с чертенком, одурачивает его и т. п.)
Сказочные персонажи падчерица, третий сын представляют со-
циально-обездоленный тип сказочных героев. С образом падчерицы
связан международный сюжет типа СУС 480. Падчерица является в
удмуртских сказках воплощением высоких нравственных качеств
человека: ее доброта, приветливость и скромность, «вежливость»
(знание норм поведения и владение магическими навыками) заслу-
женно вознаграждаются. Так, она спасается на печке от страшной
старухи; знает, как надо себя вести во время святок, оказавшись среди
вожо (божества страха и привидений). В известных международных
сюжетах типа СУС 530, 566, 750 младший (третий) сын становится
обладателем волшебных предметов, с помощью которых выполняет
трудные задания царя, сам становится государем, женится на царевне.
Для удмуртской сказочной традиции характерна слабая социальная
дифференциация героев. Ввиду этого в сюжетах типа СУС 300, 301,
400, 402 могут отсутствовать фигуры царя, царевен, бояр, царевича, а
главный герой, как и другие персонажи, заменяются безымянными
социально-неопределенными номинациями «одиг адями, одиг мурт-
лэн пиез» (один человек), «куанер муртлзн пиез» (сын бедного челове-
ка). Кроме того, иногда тип героя Ивана-царевича бывает заменен
типом иронического удачника (сюжет «Царевна-лягушка»).
Популярным персонажем в сказках СУС 301,307,326,330,465 является
солдат. Он подкарауливает ведьму-людоедку и разоблачает ее, освобождает
от людоеда исчезнувшую царевну и женится на ней. Иногда выполнить
трудные задания царя солдату помогают чудесные помощники.
Функции антагонистов героя в удмуртских сказках выполняют
следующие персонажи: мифологические существа, змей, мать, сест-
ра и братья героя, царь, купец. Пытаясь уничтожить героя, антаго-
нист посылает его за молоком львицы, за лаптями к домовым или к
змеям; заставляет пригнать быков (медведей) и баранов (волков).
Нюлэсмурт пытается убить героя, спящего у костра; вумурт и человек
состязаются в силе; Кукри-баба пытается угостить коростой, застав-
ляет девушек перепрыгивать через ступу. Медведь, вожо испытывают
нравственные качества героя награждают за доброту, скромность,
знание общепринятых норм поведения, а жадного наказывают.
Самое значительное место среди антагонистов занимают мифоло-
гические персонажи: вумурт (водяной), нюлэсмурт (леший), кузьпи-
немурт (длиннозубое существо), палэсмурт (половинчатое сущест-
155
Специфика удмуртской волшебной сказки
во), вожо (божество страха и привидений), Обыда, Кукри-баба, кал-
мык кышно (баба-калмычка), другие страшные существа женского
рода. Эти персонажи чаще встречаются в архаических сюжетах, но
фигурируют и в сказках позднего происхождения. Встреча главного
героя с этими представителями иного мира происходит под водой, в
подземном мире, в темном лесу, заброшенном доме. Каждое существо
имеет специфические свойства и качества.
Наиболее популярным является образ вумурта (водяного). В уд-
муртских сказках подводный и подземный мир часто отождествляют-
ся, и вумурт предстает властелином всего подземного мира. Вумурт
может вступать в родственные отношения с человеком: дочь вумурта
выходит замуж за земного человека, или его сын женится на земной
девушке. Вумурт выступает в роли антагониста и в некоторых змее-
борческих сказках, а также наказывает человека за непочтительное
отношение к себе.
Нюлэсмурт (леший) предстает в сказках как хозяин леса, зверей и
птиц. В таком качестве выступает этот персонаж в фольклоре и мифо-
логии и других финно-угорских народов. Как хозяин леса нюлэсмурт
может дать или отнять удачу в охоте на медведя. Нюлэсмурт так же,
как и вумурт, может наказать человека за неуважительное отношение
к себе (он губит лес на его участке, разрушает дом). Между вумурта-
ми и нюлэсмуртами происходят столкновения, участником которых
является и человек, помогая то одному, то другому.
Мифологический персонаж вожо обитает в заброшенных домах и в
бане. Вожо пугают людей и убивают (сюжет «Мачеха и падчерица»), пре-
вращают человека в свой облик [Вихм. П, № 35]. Герой спасается от злой
силы вожо, забравшись на печку, перекрестившись, принеся им жертву.
Близкими друг другу являются такие персонажи сказок, как Оби-
да, баба-калмычка, одноглазое существо, длиннозубое существо и
Кукри-баба. Обычно подчеркивается их безобразный, страшный вид.
Всем им присуще людоедство. Герой справляется с ними, как прави-
ло, благодаря хитрости и обману: обещая вставить недостающий глаз
или зуб, убивает кузьпинемурта или палэсмурта, сжигает в печи Обы-
ду, иногда убегает от них под видом козы, обернувшись шкурой. Оби-
да, Кукри-баба, баба-калмычка, а иногда и длиннозубое существо -
существа женского рода. Подобные образы с качествами людоедства
или хранительницы леса широко известны финно-угорским народам,
тюркам, а также восточным славянам.
В качестве социальных антагонистов в удмуртских сказках встре-
чаются царь, жена, мать, сестра, братья героя, а также купец, разбой-
ники. Пытаясь убить героя, они дают ему различные трудные задания,
156
Г. Н. Шушакова
с которыми герой справляется иногда благодаря своей чудесной силе,
или с помощью чудесных помощников и предметов, а также посред-
ством хитрости и обмана. Герой всегда оказывается на высоте по
сравнению со своими братьями, а также царем или купцом. Женские
персонажи обычно выступают в сговоре с такими существами, как
вумурт или пери, и вместе с ним пытаются уничтожить героя.
Дарителями и помощниками в удмуртской волшебной сказке вы-
ступают самые разнообразные герои и предметы. По генезису, по
характеру участия в развитии сюжетного действия их можно разде-
лить на четыре группы.
Первую группу составляют персонажи, находящиеся в родствен-
ных отношениях с главным героем - невеста, жена, сестра, мать ге-
роя. Эти образы встречаются в сказках на известные международные
сюжеты типа СУС 400, СУС 402, СУС 465. Героини не называются
собственными именами. Они помогают герою советом, решают труд-
ные задачи, дарят чудесные предметы. Героиня сама становится ак-
тивной участницей сказочных событий. Победа, одерживаемая в кон-
це сказок над противоборствующими силами, является их общей
победой. Однако не во всех сюжетах сказок образы помощников этой
группы являются одинаковыми. В сказках на сюжет «Невеста - дочь
водяного» героиня не совершает чудесных поступков как в сказках на
известные международные сюжеты. В этих сказках мотивы трудной
задачи вообще отсутствуют. Помощь невесты герою в данном случае
носит иной характер: благодаря невесте герой приобретает богатство,
материальное благополучие. Данный сюжет относится к архаическим
сюжетам, поэтому функции помощников в нем ограничены и имеют
иное содержание по сравнению со сказками на известные сюжеты.
Вторая группа помощников представлена следующими героями:
обыда, калмык кышно, вумурт, нюлэсмурт, Кукри-баба, встречные
богатыри. В сказках с этими персонажами особенно ярко чувствуется
зависимость характера образа от особенностей сюжета. Так, от реак-
ции героя на испытание дарителем зависит дальнейшее развитие сю-
жета и, естественно, судьба героя. Общим качеством данных персо-
нажей является их двойственное отношение к герою. В одних
сюжетах они выступают в роли помощников, в других - в роли анта-
гониста. В генетическом отношении все эти герои разнородны. Такие
персонажи, как Кукри-баба, калмык кышно, Обыда, имеют, по-
видимому, более древнее происхождение, чем встречные богатыри, и
обнаруживаются они в сюжетах архаических, национально-самобыт-
ных. Мифологические существа, вумурты (водяные), нюлэсмурты
(лешие), выступая в роли добродетелей, оказывают человеку помощь
157
Специфика удмуртской волшебной сказки
в хозяйственных делах: дают советы в разведении пчел, удачу в охоте
на медведей, одаривают человека деньгами.
Герои-помощники, встречные богатыри и сводные братья, названные в
сказках Утрович, Вечерович, Полутрович, Усы ня, Иван Березкин, Иван
Дубовкин перешли, по-видимому, в удмуртский фольклор из русских
сказок. Герои эти встречаются в известных международных сюжетах.
Третья группа помощников предстает в образах седых стариков и
старушек. В сказках они называются «одиг пурысь-там пересь», «одиг
пересь», «одиг-туж пересь мурт» (один очень старый человек). В сказ-
ках не дается подробного описания их внешнего вида, а также места
их проживания. От других людей их отличает то, что их дом находит-
ся где-то в стороне, в лесу или у дороги. Они помогают герою чаще
всего за доброту, внимательное отношение к ним. Персонажи эти
являются обладателями неких знаний, предметов, и поэтому встреча с
ними предполагает резкий поворот в развитии сюжетного действия.
Четвертую группу помощников героя составляют волшебные
предметы, животные, звери и птицы. В одном случае они сами высту-
пают как дарители, в другом - герой получает их в дар от других пер-
сонажей. В удмуртских сказках чаще встречаются лошадь, собака,
кошка, медведь, змея, разные насекомые и птицы. Если при встрече с
дарителями предыдущих трех групп герой может получить волшебное
средство посредством принуждения, хитрости, то звери и животные
оказывают помощь только за проявление высоких нравственных ка-
честв характера.
Архаические особенности удмуртской волшебной сказки прояв-
ляются и в стилевом оформлении. Известно, что волшебная сказка
выработала свой специфический стиль, выражающийся прежде всего
в традиционной формульности, а также неформульной стереотипии.
Функциональная роль начальных и конечных формул выражается
в соотнесении сказочного действия и реальной жизни. Вводная фор-
мула обычно определяет сказочное время и место, отделяя их от ре-
ального пространства и времени. В удмуртских сказках начальные
формулы отличаются предельной краткостью и лаконичностью. В них
отмечается в первую очередь факт наличия героя («Улам-вылэм одиг
мурт» - жил-был один человек), может быть указано неопределенное
место его проживания («одиг гуртын» - в одной деревне). Отмечается
факт наличия или отсутствия детей («Одиг муртлэн пина-лыз вылым-
тэ» - у одного человека не было детей). Иногда сразу в зачине указы-
вается социальное происхождение героя, факт какой-нибудь недоста-
чи и здесь же фиксируется отлучка героя из дома. Неопределенное
158
Г. Н. Шушакова
время может иногда выражаться прибавлением словосочетания «ке-
малась-кемалась» (давным-давно), «туж кемалась» (очень давно).
Конечные формулы волшебной сказки, подводя итог рассказанно-
му, возвращают слушателей к реальной жизни. В них очень часто
отмечается дальнейшая судьба героя, выражается оценка рассказчика
к сказочным событиям.
Функции этих медиальных формул разнообразнее, чем начальных
или финальных. Они выражают действия героя, рисуют его портрет,
фиксируют начало и конец эпизода. При описании красоты героя в
удмуртской сказке наиболее часто употребляется формула: «Туж че-
бер пи», «Туж чебер ныл» (очень красивая девушка,... парень). Тради-
ционными являются описания внешнего облика противников героя.
Вумурт характеризуется как «пурысьтам, тольы дисен пересь, паллян
созулыз котмемын» (седой старик в белой одежде, левая пола мок-
рая)', нюлэсмурт - «туж кузь мурт» (очень длинный человек, очень
высокий человек). Наиболее употребительной формулой изображения
антагонистов-духов, мифологических существ является: «Туж кошке-
мыт маке потэм» (появилось очень страшное существо).
Выражения с использованием наречия очень описывают внешний
облик героев, их силу, красоту «туж чебер», и наоборот - внешнее
безобразие «туж кошкемыт», быстрого роста героя «туж жог будэм»,
характеристики материальной обеспеченности «туж узыр луэм» и,
наоборот, бедности «туж куанер улэм». Такая же форма превосходной
степени наречия используется при описании иного мира: «туж бадзым
нюке вуэм» (попал в очень глубокий лог), «туж чебер корка адзем»
(увидел очень красивый дом) или «туж бадзым чебер корка» (очень
большой красивый дом), герой попадает иногда очень глубоко под
землю «туж мур гуэ васькем».
В медиальных формулах времени выражается неопределенность
во времени и расстоянии двойным повторением основных значимых
слов: «Мынэм-мынэм но шурлэн пумаз вуэм» (шел-шел и до конца
речки дошел). Иногда отмечается длительность продолжения време-
ни: «Туж кема мынэм беразы, соос васькем пась доразы вуиллям»
(после того, как очень долго шли, они пришли к норе, по которой
спустились - [РФИ, 268: 96-101]).
Следует отметить также стремление сказочника украсить свой
рассказ введением нетипичных для удмуртской сказки выражений.
Так, иногда употребляются русские выражения в калькированном
виде: сын спрашивает у матери: «Кыче, бен, нэнэ, со медо? Майн сое
сие?» (Кто такой батрак? С чем его едят?). Используются иногда
финальные формулы балагурного содержания из русских сказок:
159
Специфика удмуртской волшебной сказки
«Мон но отын вал, монэ но сектазы. Туше котмиз, нош ымдурам оз
нуы» (Я там был, меня тоже угощали. Борода смочилась, а в рот не
попало - [РФИ, 443: 309-321]).
В стилистической канве волшебных сказок находит отражение и
национальная специфика быта. Сказка создает картины деревенской
жизни с мельницами, банями, хлевом для скота, кузницей. Во всем
этом наглядно предстают повседневные заботы крестьянина-удмурта.
Кроме того, героями сказок часто являются рыбак и охотник. Сказоч-
ное действие часто происходит у реки, в лесу. Так наиболее древний
род занятия людей также находит отражение в древнем жанре сказки.
Однако, сохраняя наиболее древние формы повествования, удмурт-
ские сказки содержат и более поздние стилевые пласты. Удмуртская
волшебная сказка реагировала и на социальные изменения, происходя-
щие в обществе. В более позднее время, естественно, появились новые
социальные типы героев, такие как эксэй (царь), солдат, купец, поп.
Наблюдается также проникновение идей христианского вероучения.
Список сокращений
Вихм. II- Wichmann Y. WotjakischeSprachproben И// JSFOu. XIX. Helsingissa, 1904.
РФИ - Рукописный фонд библиотеки Удмуртского ИИЯЛ УрО РАН.
СУС - Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка. Л.. 1979.
Ассоциативное поле стереотипного образа «ель»
в вологодской традиционной культуре
В. В. Пазынин (Москва)
Проблема интерпретации фольклорного текста не теряет своей ак-
туальности. Активизация междисциплинарных связей фольклористи-
ки с этнографией, этномузыкологией и лингвистикой позволяет про-
двигаться к искомым смыслам традиции по двум направлениям, с
одной стороны, выходя за пределы словесной формы и обращаясь к
функциональным и контекстным связям фольклорного произведения1,
с другой стороны - углубляясь в словесную ткань произведения и
исследуя специфическую семантику фольклорного слова. Аналитиче-
ские работы первого направления предлагают Т. А. Агапкина, О. А. Па-
шина; второе направление представлено работами С. Е. Никитиной,
Е. Б. Артеменко и группы А. Т. Хроленко.
В настоящей статье разрабатывается метод интерпретации текста
традиционной культуры через исследование ассоциативных связей
фольклорного слова, определяющих особенности порождения и вос-
приятия текста в пределах традиции. Для описания ассоциативных
связей фольклорного слова мы предлагаем понятие ассоциативного
поля, соотносимого с содержанием образа-стереотипа. Ассоциативное
поле - это целостный комплекс предсказуемых ассоциаций, сформи-
рованных вокруг определенного концепта или стереотипного образа.
Оно составляет содержание и специфику национальной культуры
(локальной традиции, субкультуры). Нас будет интересовать та часть
ассоциативного поля, которая связана с символическими функциями.
Ассоциативное поле единиц языка русского фольклора специфич-
но для традиционной культуры и почти не воспроизводится в русском
литературном языке, так как оно поддерживается не только фольк-
лорным дискурсом, но и сферой традиционного крестьянского быта и
ритуальной практикой. Устойчивые формы крестьянского быта, обря-
довые циклы и фольклорные тексты выступают в качестве когнитив-
ной базы носителей традиционной культуры, поэтому лексема говора,
даже если ее денотативное наполнение, на первый взгляд, совпадает с
семантикой соответствующего слова литературного языка, обладает
иным комплексом ассоциативных связей. Если учесть, что на основе
этих ассоциативных связей строится поэтический текст лирических
жанров, то станет понятно, почему русская народная песня нередко
161
Ассоциативное поле образа «ель»...
выглядит для нас набором мало связанных между собой штампов, а ее
символика современным городским человеком почти не прочитывается.
Символические функции реалии / слова (то есть способность отсылать
к культурно значимым феноменам, напрямую не связанным с самой реа-
лией / лексическим значением слова) теснейшим образом связаны с соот-
ветствующим ассоциативным полем. Замысел настоящей работы состоит
в попытке не только эксплицировать ассоциативное поле, но и установить,
на каких основаниях из него развиваются символические функции слова /
реалии в традиционной культуре, чтобы представить их как целостный
феномен языка фольклора, имеющий межжанровую природу.
Ассоциация выделяется как общая сема серии контекстов, прояв-
ляющаяся на стыке бытовых, обрядовых, коннотативных и поэтиче-
ских функций. Если задаться целью последовательно выстроить все
связи фольклорного слова с практической реальностью, то, естест-
венно, будут обнаруживаться не только такие связи, которые имеют
отношение к символическим функциям, но и более непосредствен-
ные, хотя и не менее важные с точки зрения текстообразования. Так,
известно, что еловый лес, хотя и уступает сосновому, но все же ис-
пользуется на части территории Вологодской области в качестве
строительного материала2, наряду с сосновым [Иваницкий 1890, 12]3.
Вообще же на Русском Севере по возможности стараются строить из
сосны. Так, по преданию, на строительство Кижской Преображенской
церкви отбирали только сосну [Криничная, № 51]. Свойства древеси-
ны и связанные с ними предпочтения становятся основанием для вы-
бора ели в качестве лексического наполнения образа бедности жениха
в вологодских свадебных причитаниях:
У чужого чуженина хоромы хорошие -
В лисе ели нерублены [БМК., 126-127. №158, 160, 161].
Любопытно, что вологодские пословицы с противоположной (апо-
логетической) оценкой бедности также используют «еловую» или
«хвойную» тематику:
Как хлеба край - так и под елью рай; как хлеба ни куска - так
возьмет и в горнице тоска [Гура, 191. № 24; Викулов, 195]4.
На хвойке, да на своей вольке [Викулов, 191].
Здесь также взаимодействуют признаки бедный и бездомный.
Впрочем, лексическое наполнение этих пословиц не связано с исполь-
зованием ели для строительства. Главную роль здесь играет, видимо,
ассоциация ель - лес (шалаш?).
Вероятно, тема бедности лежит в основе пословицы Изба елова,
да сердце здорово [Даль, т. 1., 519]. Противительные отношения (едва
162
В. В. Пазынин
ли тут да = и} указывают на пресуппозицию отрицательной оценки в
первой части пословицы.
При положительной оценке постройки в фольклорном тексте она,
естественно, будет сосновой. См. игровую песню:
Круг я киляки хожу,
Вкруг я новенькой,
Вкруг сосновенькой
[ФЭ 1953 Т.143. №124; ср.: Иваницкий 1960, №394].
В северных материалах просматривается устойчивая связь ель -
дрова. По сообщению Иваницкого, в Вологодской губернии на дрова,
как правило, идет ель, сосна и береза [Иваницкий 1890, 14], что отра-
жается в материале разных фольклорных жанров. Опыт работы с
древесиной этих пород для использования на дрова вылился в посло-
вичную форму: Сосенку коли в сучок, березку в конечок, а елку в щелку
[Фадеева, 22]. Дрова из этих пород находим в свадебных причитани-
ях5, относящихся к ритуальной бане6. Представление о нормативном
использовании ели и березы в качестве дров в северной части России
получает художественное преломление в пословице: Ельник, березник -
чем не дрова; хрен да капуста - чем не еда [СППП, 130]. Похожую
формулу находим в вологодской свадебной величальной песне:
Ельник, березник - то ли не дрова,
У Иванушки Марья - то ли не жона1.
Символические функции лексем в этом параллелизме не проявля-
ются, содержательной связи жена - дрова или подобной здесь нет.
Тем не менее образ не остается в рамках формально-синтаксического
параллелизма: он состоялся на основе семантической параллели, на
базе общей семы ‘хороший’, ‘подходящий’.
Если обратиться к обрядовой практике, то можно заметить, что
наиболее широко распространены и прозрачны ритуальные функции
ели в похоронном ритуале. Действия с еловым лапником на похоронах -
живой фрагмент русской культуры8, бросание еловых лап по пути
похоронной процессии можно увидеть и в городах, а надгробные вен-
ки до сих пор повсеместно, если не пластиковые, то еловые.
Мотивация этих действий носителями традиционной культуры
противоречива. Говорят, что таким образом указывают покойнику
дорогу, чтобы ходил домой [Череповец, 61], поскольку живо пред-
ставление о том, что душа покойного до сорокового дня не покидает
этого мира и находится среди живых. Впрочем, мотивация «чтоб хо-
дил» плохо увязывается с ритуальным контекстом и не объясняет,
163
Ассоциативное поле образа «ель»...
почему дорога отмечается таким странным материалом. Обряды по-
хорон в своей массе указывают на то, что все делается как раз для того,
чтобы покойник не приходил: тело несут вперед ногами, а после «ходят
по дому, как будто ищут: “Ух, был - да и нету, был - и нету”», втыкают
над дверьми ветки рябины - покойник ее боится9. По дороге от дома до
могилы впереди гроба кидают зернышки, сзади кидают еловые лапы, на
сороковой день, когда ставят крест, могилу обкладывают опять же ело-
выми лапами10. Эти действия символически подкрепляют ритуальное
движение от дома на кладбище и ясно указывают на желательность
именно этого направления. Поэтому не удивительно, что в Череповец-
ком районе, когда опускали гроб в могилу, причитали: «Лесом-те зарос-
ла дорожка, и путинки-то на белом свете нет.. ,»п.
Понятно, какие мифологические представления о покойнике и его
социальной опасности стоят за этими обрядами, но не ясно, какие
мифологические представления12 о еловых лапках мотивируют их
преобладание в этой ритуальной функции13. Известные, пусть и по
другим регионам, мифологические рассказы, связанные с елью, не
объясняют этого. Зато ясно, что ель-денотат отличают от других деревь-
ев такие признаки, на базе которых могут развиваться символические
функции, связанные с семой ‘не ходить’ (‘непроходимый’). Во-первых,
это дерево хвойное, а следовательно, колючее14. Во-вторых, ветви ели
устроены так, что даже внизу затрудняют доступ к стволу и вообще
проход в ельнике: Эвона ельёкако, не пройти [СРГНП, 199].
Ассоциативная сема ‘не ходить’ (‘непроходимый’) коррелирует и с
бытовыми формами. Так, огороды в Вологодской губернии делаются из
еловых жердей15. Видимо, еловые жерди удобны для этих целей потому,
что они всегда прямые и в них нет недостатка на исследуемой террито-
рии (ср. «угороды еловые» в свадебном причитании [Едемский, 44]).
Ассоциация ‘не ходить’ (‘непроходимый’) поддерживается также
игрой «Заинька», в которой водящему не дают выскочить из круга.
Игра сопровождается песней, в которой заиньке предлагают пути
побега, а он аргументирует невозможность ими воспользоваться.
В вологодских вариантах есть, в частности, такие слова:
«Ты бы, заинько, под елку,
Ты бы, беленькой, под елку». -
«Ой, на елке иголки,
Ой, боюсь - уколюсь»
[Соколовы, № 379].
Дальнейшее направление анализа определяется попыткой проин-
терпретировать фольклорный материал с лексическим / предметным
164
В. В. Пазынин
наполнением ель / ельник / еловый и т. п. в семантической связи с ис-
ходной ассоциативной семой ‘не ходить’ (‘непроходимый’). Причем,
как будет видно, эту сему можно рассматривать в качестве доминант-
ной: она мотивирует другие ассоциации и символические функции, и
она же связывает ассоциативное поле фольклорного образа ели с не-
фольклорной действительностью.
Очевидна связь этой семы с формулой вологодских свадебных
причитаний «зарастай, путь-дороженька, ельничком, березничком,
частым мелким осинничком/ракитничком/орешничком». Причеть с
этой формулой может относиться к разным эпизодам свадебного ри-
туального комплекса: либо к выходу на угор на предсвадебной неделе
[ВФ, 135], либо к моменту отъезда к венцу [БМК, 258, № 286]16. Эти
причитания строятся на теме необратимости предстоящего обрядово-
го перехода, формула предполагает однотипное развитие темы:
Заростай, путь-дороженька,
Ельничком да березничком,
Частым мелким осинничком,
Больше не бывать да не хаживать
Мне красной девицей,
Хоть бывать да и хаживать
Молодой молодицею
Да злой лихой бабицей
[ВФ, 135].
Для других вологодских свадебных причитаний с лексемой ельник тоже
несомненно актуальна ассоциативная сема ‘не ходить’ (‘непроходимый’):
Вырастайте, подруженьки,
Вы ельником да березником,
Стеной белокаменной
Кругом меня молодешенькой,
Кругом стола белодубова,
Вы не пущайте, подруженьки,
Вы тароватого друженьку,
Добра дородного молодца
[Гура, 36. № 69].
Отдаешь меня, батюшко,
Ой, на цюжую сторонушку,
Ой, за болота зыбуцие,
Ой, да за ельники дремуцие
[ИЛ, 58-59].
165
Ассоциативное поле образа «ель»...
На базе этой семы возникает эпитет дремучие, приближающийся к
коннотации и претендующий на статус постоянного. В последних двух
примерах возникает новая ассоциация: прятать(ся), скрывать(ся). Для
ели (в отличие от ракитова куста) она периферийна, тем не менее, ель в
вологодском фольклоре окказионально вытесняет ракитов куст в бал-
ладных сюжетах «жена мужа зарезала» [УП, №35, 36] и «убитый сол-
дат» [Иваницкий 1890, 229, № 56 = Иваницкий 1960. № 117 = Гура, 98,
№ 14 = Соб. I. № 378]. Этот последний сюжет нашел отражение и в
частушке, где опять появляется образ елочки:
Ягодиночка убит,
Шинель под елочкой лежит,
Пилотка в травке зеленой,
Убит навек мой дорогой
[ВФ, 191].
При переносе ассоциации дремучий на социальную сферу может
возникать коннотация ‘дикий’. К сожалению, языковых данных на
этот счет у нас недостаточно и те единичные примеры, которыми мы
располагаем, не убеждают в том, что в вологодской традиции это
- 17
действительно происходит .
Вернемся теперь к обрядовой практике и попробуем установить
семантическую связь рассмотренного фрагмента ассоциативного поля
образа «ель» и ритуальной функции ели в свадебном обряде. На зна-
чительной территории средней России18 еловые ветви или небольшая
елочка выполняют функции обрядового деревца (обряд иногда так и
называется - «елочка»). Предпочтительность ели в этой роли нужда-
ется в интерпретации. Одно из возможных объяснений этого предпоч-
тения - природные свойства ели как вечнозеленого растения19, что
существенно, если учесть, что свадьбы играются преимущественно в
зимний или осенний мясоед [Воронов, 200-201]. В. Я. Пропп полага-
ет, что использование ели в цикле зимних обрядов мотивировано тем,
что она «хранит зеленую окраску даже зимой и, следовательно, обла-
дает какой-то особой способностью не поддаваться зимней смерти»
[Пропп, 67]. Эта способность может быть по-разному воспринята: то,
что хвоя не участвует в годовом цикле, не умирает и не оживает вновь
весной, свидетельствует, с одной стороны, о ее бессмертии, с другой
же стороны - о ее безжизненности.
Восприятие хвои как сухой, лишенной жизни и соотнесение ели с
представлениями о смерти оказывается для русской да и вообще сла-
вянской культуры актуально в большей мере, чем соотнесение ее с
вечной жизнью, которая традиционно мыслится все-таки как цикли-
166
В. В. Пазынин
ческое возрождение. Хвойные, по замечанию Н. И. Толстого, «высту-
пают как “дерево смерти”, в то время как лиственные... относятся к
“древам живота”» [Толстой, 19]. Поскольку тема смерти имеет пря-
мое отношение к ритуалам перехода (в рамках которых и функциони-
рует обрядовое деревце)20, не стоит удивляться и тому, что в этом
качестве чаще всего выступает хвойное дерево21. Такое объяснение,
впрочем, не исчерпывает актуальных связей «елочки» с обрядовым
контекстом свадьбы и ассоциативной семантикой фольклорного об-
раза ели, по крайней мере, в вологодской традиции.
Рассмотрим связи свадебной елочки в языковом и обрядовом кон-
тексте. Интересная языковая особенность интересующего нас фраг-
мента традиционной культуры состоит в том, что обрядовое деревце
именуется не только елочкой, но и (дивьей) красотой22.
Девичник. Невеста сидит за столом. Входят девушки, несут красоту
невесты (это маленькая елочка, украшенная бантиками, цветами, ярки-
ми ленточками) и ставят на середину стола (Пришекснинский район)23.
Перед невестой ставится девицами «дивья красота». Это на тарел-
ке стоит бутылка, а в ее горлышко укреплена небольшая елочка, вся
украшенная лентами и искусственными цветами (Тотемский уезд)24.
Эти этнографическая и языковая подробности, кстати, проясняют,
почему в свадебных приговорах красота представляется предметом с
ветками и комлем:
Раздайся, народ,
Дивя красота идет.
Не сама она идет -
Ее девица несет...
У нашей дивьей красоты
Каждый сучочек
Стоит пятачочек,
Комелёчек - четверточек,
Вершинка - рублик.
Наша дивья красота
Не в лесу росла,
А близ большой дороги.
Ехали сватовья,
Ее покупали,
А мы ее не продавали.
Тебя, молодой князь, всё ждали
[ФЭ 1953. Т. 152. №411= Минц. № 109].
167
Ассоциативное поле образа «ель»...
Концепт красоты в вологодской фольклорной картине мира замет-
но отличается от соответствующего слова литературного языка. В во-
логодских свадебных причитаниях, где этот концепт подробно раз-
рабатывается, красота - это то, с чем девушка, выходя замуж, должна
расстаться25. Ее нужно отдать подругам/сестре или отнести в лес (на
дерево) или в церковь. Признаки красоты: дивья (от дева)26, моя27,
красная28, честная29, соблюжоная30. Признаковый ряд концепта красо-
ты отчетливо соотносит его с представлениями о девственности31,
которую необходимо сберечь до дня свадьбы. Сема ‘сберечь’ регуляр-
но актуализируется в приговорах выносящих елочку девушек, даже
если елочка в локальной традиции не названа красотой:
Ехали бояре, ее торговали, мы не продавали,
Все для вас сберегали
[ВФ, 62; близко - ВФ, 60;
см. также предыдущий пример].
Предлагаемая интерпретация елочки хорошо соотносится с широ-
ко распространенными поверьями о том, почему нельзя сажать ель
возле дома: девочки останутся вековухами (брянск.), «мужики не
будут жить» (каргопольск.), «нэ будэ вэстыся мужьски пол» (закар-
патск.)32 [СД, т. 2., 184]. Те же ассоциации легли в основу текста от-
сушки, записанной в Пыщугском района Костромской области (часть
бывш. Никольского уезда Вологодской губернии): «Как эту елку (или
пень) обходят да объезжают, так бы и ее (имя) обходили бы да объез-
жали». К сожалению, осталось невыясненным, какими ритуальными
действиями должен сопровождаться заговор, но очевидно, что для его
выполнения нужно найти пень или елку на дороге [Пыщуганье, 120].
Из Саратовской губернии есть сообщение о том, что «если после
брачного акта в ответ на вопрос “Ель аль сосна?” говорили ель, это
означало невинность невесты. Если же отвечали сосна, значит невеста
не была девственной» [Гура 1977, 43]. По мнению А. В. Гуры, автора
статьи «Деревце свадебное» в словаре СД, ломание свадебного деревца
символически соотносится с актом дефлорации [СД, т. 2., 84]. Хотя это
указание и не подкреплено в этнолингвистическом словаре какой-либо
аргументацией, его можно счесть не лишенным оснований, если исхо-
дить из ассоциативной семантики свадебного деревца и глагола ломать.
Если мы находим убедительной связь елочка - красота - девствен-
ность, то очевидна и мотивированность этой символической функции
ассоциативной семой ели ‘не ходить’ (‘непроходимый’), особенно
если учесть, что ассоциативное поле группы дорога / тропинка / хо-
дить / торить, а также гулять имеет ярко выраженную эротическую
составляющую.
168
В. В. Пазынин
Если выйти за пределы Вологодской области, то нужно заметить,
что в обрядовой функции «свадебное деревце» ель может заменяться
другим хвойным, сохраняющим название елочки или красоты (со-
сной, можжевельником, пихтой) или другими вечнозелеными расте-
ниями33; иногда репейником34 (при нашем понимании символических
функций этого элемента обряда можно предположить, что мотивация
останется той же, если репейник развивает коннотацию ‘колючий’, а
не только ‘приставучий’). На юге России, где ель не растет, использу-
ются ветки сосны [см.: Гура 1977, 101]. Если же обрядовое деревце
представляет собой березу, то мотивация, очевидно, совсем другая.
В вологодском материале береза в этой функции зафиксирована толь-
ко в Череповецком районе (бывшая Новгородская губерния)35; в Твер-
ской, Ярославской и Костромской областях береза фигурирует наряду
„ 36
с елкой, причем их ареалы не противопоставлены .
Оставшаяся часть фольклорного материала может быть рассмот-
рена под знаком функций, производных от ритуала свадебной елочки.
Так, в прямую связь с ним можно поставить зафиксированный в Во-
логодской и Нижегородской областях обычай отмечать усадьбу невес-
ты украшенной елочкой:
Просватанной девушке «в отводу поставят ёлоцьку, всяких лентоу
на ие навяжут, это уж и знают, што [здесь невеста]»37.
Установление елочки вблизи дома невесты может быть интерпре-
тировано исходя из первичной ассоциативной семы ‘не ходить’ (‘не-
проходимый’) как действие апотропеического характера. Но, к сожа-
лению, апотропеические функции ели, известные по многим источни-
кам [СД, т. 2., 183], плохо представлены в вологодских материалах.
Положительной ассоциацией ели со свадьбой можно объяснить
символические функции слова ель в иносказательном языке участни-
ков свадебного ритуала:
Возвратившуюся со сватанья сваху спрашивают: «Ель или сосна?».
Ель значит согласна (невеста), сосна - дело расстроилось (Устюж. Волог,
а также Тверск., Калужск и Свердл. [СРНГ, вып. 8., 352; Даль, т. 1., 519]).
Не исключено, что положительнвый ответ «ель» связан с диалек-
тологической особенностью некоторых говоров, в которых ель (пре-
дик.) значит также ‘есть’, ‘имеется’, ‘да’ [СРНГ, вып. 8., 352, зафик-
сировано в Тверской и Калужской областях].
Итак, ассоциативная семантика ели в свадебном обряде трансфор-
мируется в семы ‘девственность’ («красота») и ‘брак’ (свадьба). В это
ассоциативное пространство органично вписывается вологодский
вариант песни «Туман яром» (зафиксирован как свадебная песня):
169
Ассоциативное поле образа «ель»...
За туманом ничего не видно,
Только видно елочку зелену.
Под той елкой кадочка стояла,
В той кадушке девка ключеву воду брала.
Опустила зелено ведерко:
- Кто мое ведерочко достанет,
Тот со мною под венец и станет.
Отозвался молодой парнишка:
Я твое ведерочко достану,
Я с тобою под венец и встану
[ВФ, 149].
Песни отличаются тем, что в них символические функции видны
не так отчетливо, как в ритуале, но тем не менее они присутствуют и
играют существенную роль в текстообразовании. Зачастую песня
эксплуатирует ассоциативный потенциал символического ряда, кото-
рый помещается в первых строках. Если не учитывать особенностей
ассоциативного поля слов символического ряда, то зачин, который
должен по идее играть роль самой сильной позиции в тексте, может
показаться клишированным бессодержательным довеском.
Стоит елочка на гороцьке,
На самой высоте...
Да дай же ты, Боже, помоложе,
По моей по красоте...
Да затем бить целом Андрию
Со припевоцькой...
Да с Лисаветой-то со душой
Да со Ивановной...
[БМК, 259-260. №10].
Очевидно, что текст этого свадебного величания не просто связан
с символическими функциями елочки, но даже не пытается выйти за
пределы ее компактного ассоциативного поля: «красота», свадьба.
Эти ассоциации скрепляют внешне разрозненные компоненты, связь
между которыми, действительно, как замечает Г. И. Мальцев, нахо-
дится за пределами текста, на уровне традиции [Мальцев, 67].
Ассоциативный комплекс «ель» - ‘непроходимый' - «красота»/
‘девственность' развивается также и в другом направлении. В тех
случаях, когда контекст не дает положительной отсылки к свадебному
обряду, но эротическая или брачная тема актуальна, ель связывается с
этой темой отрицательно.
170
В. В. Пазынин
По приезде сватов домой девицы «воздают похвалу» жениху, т. е.
ставят шест с красной тряпкой. Если сватовство неудачно, девицы в
насмешку кладут ночью сухую березу или ель38 - «тогды ему конфуз
большой» [Соколовы, 152].
Содержание насмешки может быть ясно только из семантического
анализа символических функций ели и березы. Ассоциативное поле
образа березы завязано на эротические мотивы, что особенно ярко про-
является в песнях купальско-троицкого периода [см.: Агапкина 1995].
В нашем примере сухая береза выбирается в качестве иронического
антонима просто березе («Что, не получилось, засохла твоя береза?»).
Синонимия сухой березы с елью указывает на отрицательное взаимо-
действие ассоциативного поля «ель» с эротическими мотивами, что
неплохо увязывается с рассмотренной выше семантикой красоты и
представлено в нескольких поэтических формулах и сюжетах.
Кукушка скоковала на еле -
На чужой милой на стороне
[Иваницкий 1960. № 145].
Ель здесь прекрасно сочетается с кукушкой, вводя тему разлуки.
Драматическое развитие темы «разлука с милым» находим в песне с
символическим образом «В темном лесе на еле громко свищет соло-
вей» [Соколовы. № НО].
Необрядовый вариант уже знакомой нам по свадебным причита-
ниям формулы «заростай / заросла, дороженька / тропиночка / поло-
сонька ельничком, березничком, молодым горьким осинничком» играет
роль символического соответствия несостоявшейся любви, препятст-
виям или разрыву отношений и появляется в разных тематических
группах лирических песен [Иваницкий 1960. № 145; Соколовы. № 623 -
тюремная; Иваницкий 1960. № 79; Гура, 102 № 17; Линева. № 5,6,7;
ИЛ, 209-210 - любовная.] Ту же тему развивают и некоторые частуш-
ки с образом ель / елка / елочка:
Под окошко посажу
Я березку, елочку.
Расти, березка, елочка,
Пока в солдатах дролечка
[Гура, 169. №289].
В частушках, даже если они разрабатывают традиционное ассо-
циативное поле образа ель/елка/елочка, наблюдается большое разно-
образие тем, в которых он оказывается востребован. Так возникает
образ верности в частушке:
171
Ассоциативное поле образа «ель»...
Все березки пожелтели,
Зеленеет одна ель -
Напишу-ка расхорошенькой,
Пристала ли шинель
[Гура, 169. №273].
Образ хвойных оказывается приложим и к теме вдовства-сиротства в
частушке о девушках и женах, чьи парни и мужья не вернулись с войны:
Много сосен, много елок,
Много вересиночек,
После нынешней войны
Много сиротиночек9
[Гура, 174. № 352].
К рассмотренному выше комплексу ассоциаций, связывающих ель
с молодой девушкой, должно быть, относится языковая коннотация
елочки ‘неопытный’ (?), отразившаяся в речевой форме: Девчонки
против баб елочки зеленые40.
В этой языковой метафоре ярко проявляется символическая функ-
ция признака зеленый, без которого метафора могла и не состояться.
На примере цветовых эпитетов хорошо видно, что не только имена
предметов развивают символические функции. По нашим наблюдени-
ям, это могут быть с равным успехом признаки и действия (например,
ломать, гулять). Давно замечено, что в русской культуре признак
зеленый ассоциативно соотносится с признаком молодой. В вологод-
ском фольклоре эта связь проступает с максимальной отчетливостью.
Высокой частотностью в корпусе свадебных причитаний характери-
зуются устойчивые сочетания типа «я молодёшенька, я зеленёшень-
ка», в которых оба признака относятся к невесте41. Этого же типа
сочетания находим в свадебных приговорах42 и в вологодском вариан-
те игровой песни «Просо»43. Ассоциативная связь этих признаков
поддерживается пословицей {Молодо - зелено)44 и иносказательной
семантикой однокоренных лексических единиц говора45. Символиче-
ские функции ели в свадебном обряде и народных песнях соотносят
этот образ с молодой девушкой (невестой), поэтому не удивительно,
что в качестве постоянного эпитета елочки в народной поэзии выби-
рается признак зеленая (при окказиональных суковатая, прутистая,
кудрявая - в свадебных причитаниях)46.
Ассоциативное поле, на базе которого развиваются символические
функции стереотипного образа «ель», оказалось довольно компакт-
ным. Это центральная сема ‘непроходимый’ и производные «красота» /
‘девственность’, брак (+) и эротика (-). Не стоит удивляться тому, что
172
В. В. Пазынин
брачные и эротические ассоциации идут с противоположным знаком,
ведь в картине мира большинства жанров русского фольклора брак и
любовь - вещи несовместимые.
Из нашего анализа явствует, что тот фрагмент ассоциативного по-
ля, который связан с символическими функциями и который мы ре-
конструируем по фольклорным, этнографическим и диалектологиче-
ским источникам, надстраивается над естественным языком и
обладает меньшей, чем национальный язык, жизнеспособностью. При
изменении условий быта и ритуальных форм ассоциативное поле
лишается своей основы и символические функции разрушаются или
деформируются. Эти наблюдения соотносятся с мыслью Б. Н. Пути-
лова о том, что фольклорная культура жизнеспособна лишь как со-
ставная часть всей традиционной этнической культуры и сама немало
на нее воздействует.
Литература
♦ Агапкина 1995 - Агапкина Т. А. Эротический аспект троицко-купальской обряд-
ности И Русский эротический фольклор. М., 1995. С. 245-257.
♦ Агапкина 2000 - Агапкина Т. А. Этнографические связи календарных песен. М.,
2000.
♦ Агапкина 2002 - Агапкина Т. А. Мифопоэтические основы славянского народно-
го календаря. Весенне-летний цикл. М., 2002.
♦ Александров - Александров В. А. Вологодская свадьба И Библиотека для чтения.
СПб., 1863. № 5. Приложение. С. 1-44; № 6. Приложение. С. 1-45.
♦ Арсеньев - Арсеньев Ф. А. Крестьянские игры и свадьбы в Янсогоре. Бытовой
этюд// Вологодский сборник. Т. 1. Вологда, 1879.
♦ Артеменко - Артеменко Е. Б. Язык русского фольклора и традиционная народ-
ная культура // Славянская традиционная культура и современный мир. Вып. 5.
М., 2003. С. 7-21.
♦ Балов - Балов А. О свадебных обычаях в с. Корбанке Кадниковского уезда Во-
логодской губернии //ЖС. 1894. Вып. 1. Отд. 2. С. 98-99.
♦ БМК - БалашовД. М., Марченко Ю. И., Калмыкова Н. И. Русская свадьба: Сва-
дебный обряд на верхней и средней Кокшеньге и на Уфтюге. М., 1985.
♦ Викулов - Вологодские частушки, пословицы и поговорки / Сост. Викулов С. В.
Вологда, 1957.
♦ Воронов Г. А. Крестьянские свадьбы в Устюженском уезде Новгородской гу-
бернии И Устужна. Краеведческий альманах. Вып. 3. Вологда, 1995. С. 199-222.
♦ ВФ - Вологодский фольклор. Народное творчество Сокольского района / Сост.
И. В. Ефремов. Вологда, 1975.
♦ Гура - Сказки. Песни. Частушки. Под ред. В. В. Гура. [Вологда], 1965.
♦ Гура 1977 - Гура А. В. Терминология севернорусского свадебного обряда (на
общеславянском фоне). Дис. канд. филол. наук. М., 1977.
♦ Даль - Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1-4. М.,
2000.
♦ Дилакторский - Дилакторский П. Свадебные обычаи и песни в Тотемском уез-
де Вологодской губернии // ЭО. 1899. № 3. С. 160-165.
173
Ассоциативное поле образа «ель»...
♦ Едемский - Едем ский Л/. Б. Свадьба в Кокшеиьге Тотемского уезда. Вологда,
2002.
♦ Ефименкова - Ефименкова Б. Б. Севернорусская причеты Междуречье Сухоны
и Юга и верховья Кокшеньги. М., 1980.
♦ Загадки - Загадки, приветствия при встрече, шугки и остроты крестьян Воло-
годской губернии // ЖС. 1903. Вып. 4. С. 482-488.
♦ Зорин - Зорин Н. В. Русская свадьба в среднем Поволжье. Казань, 1981.
♦ Иваницкий 1890 - Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии Вологодской гу-
бернии // Известия Общества любителей естествознания, антропологи и этно-
графии. Т. 69. М., 1890.
♦ Иваницкий 1898 - Иваницкий Н. А. Сольвычегодский крестьянин, его обстанов-
ка, жизнь и деятельность//ЖС. 1898. Вып. 1. С. 57-63.
♦ Иваницкий 1960 - Иваницкий Н. А. Песни, сказки, пословицы, поговорки п за-
гадки, собранные Н.А. Иваницким в Вологодской губернии. Вологда, I960.
♦ ИЛ - Истомин Ф. М., Ляпунов С. М. Песни русского народа. Собраны в губер-
ниях Вологодской, Вятской и Костромской в 1893 г. СПб., 1899.
♦ Криничная - Криничная Н. А. Предания Русского Севера. СПб., 1991.
♦ Линева - Линева Е. Э. Великорусские песни в народной гармонизации. Вып. 2.
Песни новгородские. СПб., 1909.
♦ Мальцев - Мальцев Г. И. Традиционные формулы русской народной нсобрядо-
вой лирики. Л„ 1989.
♦ Мехнецов - Народные песни Вологодской области. Песни средней Сухоны /
Сост. А.М. Мехнецов. Л., 1981.
♦ Минц - Сказки и песни Вологодской области / Сост. С. И. Минц и И. И. Савуш-
кина. Вологда. 1975.
♦ МЦ - Мыльникова К., Циниус В. Северно-великорусская свадьба // Материалы
по свадьбе и семейно-родовому строю народов СССР. Вып. 1. Л„ 1926. С. 17-
170.
♦ Неуступов - Неуступов А. Д. Крестьянская свадьба Васьяновской волос ги
(Кадниковского уезда Вологодской губернии) // ЭО. 1903. № 1.
♦ Никитина, Кукушкина - Никитина С. Е., Кукушкина Е. Ю. Дом в свадебных
причитаниях и духовных стихах. Опыт тезаурусного описания. М., 2000.
♦ НОССРЯ - Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под
ред. Ю. Д. Апресяна. Вып. 1. М., 1997.
♦ НПВО - Народные песни Вологодской области: Сб. фонографических записей /
Под ред. Е. В. Гиппиуса и 3. В. Эвальд. Л., 1938.
♦ Ордин - Ордин Н. Г. Свадьба в подгородных волостях Сольвычегодского уезда.
//ЖС. 1896. Вып. 1.
♦ Пашина - Пашина О. А. Календарно-песенный цикл у восточных славян. М.,
1988.
♦ Пропп - Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. М., 2000.
♦ Протопопов - Протопопов М. Свадебные песни. Записаны в Архангельской и
Вологодской губерниях // ЖС. 1903. Вып. 4. Отд. 5. С. 499-513.
♦ Путилов - Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура. М., 1993.
♦ Пыщуганье - Ветлужская сторона. Вып. 5. Пыщуганье. Пыщуг, 2001.
♦ Разова - Розова И. О. Похоронный обряд Белозерского района Вологодской об-
ласти / ЖС. 1994. № 3. С. 48-49.
♦ Романов - Романов В. Н. Историческое развитие культуры: Психолого-типоло-
гический аспект. М., 2003.
174
В. В. Пазынин
♦ РТК - По заветам старины: Материалы традиционной народной культуры Во-
жегодского края // Русская традиционная культура. 1997. № 2.
♦ СД- Славянские древности. Т. 1-3. М., 1995-2004.
♦ Соб. - Соболевский Т. 1-7. СПб., 1895-1902.
♦ Соколовы - Соколовы Б. и Ю. Сказки и песни Белозерского края. Кн. 1-2. СПб.,
1999.
♦ СППП - Словарь псковских пословиц и поговорок. СПб., 2001.
♦ СРГНП - Словарь русских говороов низовой Печоры. Т.1. СПб., 2003.
♦ СРНГ- Словарь русских народных говоров. Вып. 1-28. Л., 1965-1994.
♦ Терещенко - Терещенко А. Быт русского народа. Ч. 1. М., 1997; ч. 2-3, 4-5, 6-7.
М., 1999.
♦ Толстой - Толстой Н. И. Мифологическое в славянской народной поэзии: 1.
Между двумя соснами (елями) И ЖС. 1994. № 2. С. 18-19.
♦ УП - Устьянские песни / Сост. А. Мехнецов, Ю. Марченко, Е. Мельник. Л..
1983. Вып. 1.
♦ Фадеева - Фадеева Л. В. Крестное дерево в народной традиции И Сохранение п
возрождение художественных традиций: Художественная обработка дерева.
Вып. 12. М„ 2003. С. 22-32.
♦ ФЛ-Фольклорная лексикография. Вып. 1-19. Курск, 1994-2001.
♦ ФЭ - Архив фольклорных экспедиций кафедры РУНТ филологического факуль-
тета МГУ.
♦ Хроленко - Хроленко А. Т. Семантика фольклорного слова. Воронеж, 1992.
♦ Череповец - Праздники и обряды Череповецкого района в записях 1999 года.
Вологда, 2000.
♦ Шейн - Шейн П. В. Великорус в своих песнях, обрядах, верованиях, сказках,
легендах и т. п. Т1. вып. 1-2. СПб., 1898-1900.
Примечания
1 См.; Путилов. С. 61-68, 106-177; Агапкина 2000. С. 11-14.
2 Упоминание о запретах использовать ель для строительства (без указания места
записи) см.: СД. Т. 2. С. 185.
3 Тот же автор сообщает, что в Сольвычегодском уезде из ели не строят (Иваницкий.
1898. С. 11).
4 Ср. вариант из Казанской губ.: СРНГ. Вып. 8. С. 339 (елейка).
5 Дрова в вологодских свадебных причитаниях перед обрядом бани - еловые см.: Балов.
С. 99; БМК. С. 160; сосновые см.: Гура. С. 26 № 41; Балов. С. 99; берёзовые см.: Куклин.
С. 93, 96; Дилакторский. С. 48, а также в других свадебных причитаниях см.: Шейн
№ 1533; ВФ. С. 36.
6 О запретах использовать ель для топки бани см.: СД. Т. 2. С. 185 (без указания места).
7 РТК. № 24; Иваницкий. 1960. № 476; Соколовы. № 322; Минц. №118; Неуступов. С. 68.
8 О повсеместном характере этого обычая у русских см.: СД, Т. 2. С. 185.
9 Розова. С. 48.
10 Череповец. С. 62, 68; Толстой. С. 19.
11 Там же.
12 Впрочем, у украинцев есть поверье, что ель (как и сосна) не позволяет покойному
«ходить», чем может мотивироваться их использование в качестве материала для
гроба. См.: СД, Т. 2.С. 185.
13 О случаях замены ели на пихту и сосну сообщает: СД. Т. 2. С. 185 (без указания места).
175
Ассоциативное поле образа «ель»...
14 Колючесть хвойных - актуальный признак в культуре славян, он мотивирует их ис-
пользование в качестве апотропея [СД, т. 2, 183]. Очевидно, что эта функция связана с
обсуждаемым комплексом ассоциаций, но нам бы не хотелось рассматривать её в качест-
ве непроизводной, так как она сама нуждается в мотивирующей интерпретации.
15 Огород - изгородь из толстых еловых жердей и кольев, ставится вокруг полей и
пожен в рост человека [Иваницкий 1890, 13].
16 Ср. также: БМК, 74. №103 и Ефименкова. №101 - на улице.
17 Два с/у можно отнести к этой теме. Свадебное причитание:
На чужой дальней-mo стороне...
Да нет повоста-то буева,
Да нет приходу-ту главново...
Уж оне елям Богу молятсе
Да соснам все поклоняютсе
[Едемский, 45]
и переносное значение слова еловый - ‘грубый’ [СРНГ. Вып. 8., 344. Псковская губ.]
18 Вологда находится на северной границе зоны распространения свадебного деревца,
некоторые районы Вологодской области его не знают, но оно регулярно встречается на
территории Кадниковского, Грязовецкого и Вологодского уездов [Гура 1977, 97].
О распространении свадебного деревца в соседних (Ярославской, Костромской, а так
же Тверской) областях см.: Гвоздикова, Шаповалова, 268; на всей восточнославянской
территории - Гура 1977., 97, 111-114 и карта № 14 в приложении.
19 СД, т. 2., 183 и Пропп, 67. Вообще, вечнозелепость ели напрямую не актуализирует-
ся в русском фольклоре, она отражается только в детской загадке: «Что летом и зимой
в рубашке одной?» [Загадки, № 58 = Гура, 185. № 64].
20 Обрядовое деревце - «атрибут ритуалов типа rite de passage: оно сопутствует важней-
шим этапам календарного года <. ..>жизненного цикла человека...» [СД. Т. 2., 75].
2’ См.:СД.т. 2., 74.
22 Красота - лексема с размытой референцией. Это может быть головной убор, укра-
шения и традиционная косметика, обрядовое деревце, цветок или украшенный репей-
ник, девушка перед венцом [СРНГ, вып. 15., 194, 199, 200 - все значения отмечены и
как вологодские]. Общий компонент этих локальных значений - оценка и ритуальная
прагматика. Предметы, называемые красотой, участвуют в предсвадебном обряде
прощания с красотой, причем, видимо, только в рамках обряда они получают это
название. Нужно заметить, что свадебное деревце в интересующем нас регионе чаше
называется красотой, чем ёлочкой [Гура 1977. Приложение. Карта № 14 «Название
свадебного деревца»].
23 ФЭ 1953. Т. 149. №. 38.
*4 Дилакторский, 31.
25 Отсюда одно из значений глагола красоваться - ‘прощаться с девичьей жизнью и
подругами в последний день перед свадьбой [СРНГ. Вып. 15, 197. Вологодск.; Тере-
щенко, ч. 2-3, 151. Вологодск.]. Сочетание ‘расставаться с красотой’ в причитаниях
см. Ефименкова. № 161, 163.
26 Дивья красота: БМК, 222. № 248 (5с/у); БМК, 224. №253; Ефименкова. № 154 (2),
160(5), 1606(13), 163, 165, 172(10); девья: Александров. №6, 1,5.
27 Моя красота: Неуступов, 62-63 (4с/у); БМК, 222. № 248 (бс/у); БМК, 229. № 261
(4с/у); Ефименкова. № 154, 1606 (3).
28 Красная красота: СРНГ, вып. 15, 194, 199.
29 Честная красота: БМК, 224 № 253; Ефименкова, № 123, 154 (2), 160а (4) - здесь это
головной убор, 163, 165, 172 (9).
176
В. В. Пазынин
30 Ефименкова. № 123.
31 «Обрядовому термину красота свойственно выражать символику девичества» [Гура
1977, 125]. «Свадебное деревце служит символом девичества» [СД, т. 2, 84].
32 Поверья эти, видимо, задействуют также ассоциацию ели с похоронным ритуалом.
33 См.: Гура 1977, 101.
34 См.: Зорин, 142-143. Украшенный репей тоже называется красотой. См. также Гура
1977, 98, 110 (Ярославская, Ростовская, Московская области и Башкирская АССР).
*Гура 1977,98.
36 На карте ёлка и берёза идут чересполосно. См.: Гвоздикова, Шаповалова, 268.
37 РТК, 45. Нижегородск. Ср.: СД, т. 2, 84.
38 Свидетельство двусмысленно в самом для нас интересном месте: не понятно, просто
ель или сухая ель. Впрочем, на наш взгляд, это не имеет значения, поскольку ель в
любом случае должна восприниматься как дерево безжизненное и сухое.
39 Слово сиротиночка в языке вологодских частушек прилагается обычно к девушке,
не имеющей ухажера.
40 ФЭ 1954, т. 152. № 162.
41 См. Гура, 11. № 6, 39 № 45; Дилакторский, 162, 164; Минц. № 100, 101, 113; Ордин,
78; Мехнецов. № 37; Александров. № 5. 30, 31. 32, 33, 36; № 6, 2, 3, 13, 14. 22, 23, 32;
Арсеньев, 23; ИЛ, 59.
4 - См.: МЦ, 142.
43 См.: Соколовы. № 377; Гура, 6. №31.
44 См.: Гура, 193. №224.
45 СРНГ, вып. 11,246, 247.
46 Эпигет суковатая см.: ВФ, 13, 36. Прутистая - БМК, 211. № 226. Кудрявая - БМК.
222. № 248; Протопопов. 511. № 1.
Обрядовая семантика средокрестных песен
Верхнего Поволжья
А. А. Родионова (Москва)
Настоящая статья посвящена изучению жанровой специфики сре-
докрестных песен1. Они являются частью обрядовой системы обхода
дворов, включающей также колядные, вьюнишные, волочебные и
егорьевские обходные песни. Распространенные на ограниченной
территории, средокрестные песни до сих пор находились вне круга
серьезного научного исследования.
Как правило, границы распространения обряда и сопровождаю-
щих его песен совпадают. Но в случае со средокрестными песнями
этого не происходит: обряд распространен значительно шире, чем
песни. Печение крестов в среду, на четвертой неделе Великого поста,
бытует практически повсеместно2, а средокрестные песни встречают-
ся лишь на территории Костромской области, в Нижегородском За-
волжье и на юго-востоке Вологодской области3. Впрочем, песнями
данный жанр можно назвать лишь условно. Самими исполнителями
употребляется определение кричать кресты:
«Середи Говинья кресты пекли на Крестовую Середу, вот кресты
кричали мы:
Середа, Середа,
Крестье пекут,
Половина-та Говинья переломится,
Кадца молока опрокинется,
Христов-от день подвинется.
Крест воскрёст,
Подавай наш крест,
Вы не режьте, не ломайте -
Всё по целому давайте.
Кто не даст креста -
Заболит рука»\
Ход средокрестного обряда повторяет общую структуру обходных
обрядов - святочных, волочебных, вьюнишных, егорьевских:
- приготовление обрядового угощения хозяевами;
- обход дворов участниками обряда, сопровождающийся песнями;
- совместное поедание даров обходниками.
Кресты пекли как для одаривания обходников, так и для своей се-
мьи. Изготовленный из теста крест становился магическим предме-
178
А. А. Родионова
том, призванным обеспечить благополучие и урожай, способным
предсказать судьбу. По крестам, приготовленным для своей семьи,
гадали о будущем: «В один крест запекали копейку. И делали их на
один больше, чем было человек в семье. Например, если 5 человек в
семье, то пекли 6 крестов. Кому попадет крест с копейкой - тому,
считалось, в году счастье будет. А последний крест, лишний, который,
дедушка брал с собой, когда шел в августе засевать рожь. Когда пер-
вую рожь бросал в поле, то и этот крест бросал»5.
Название обходных песен в большинстве случаев совпадает с на-
званием обрядового угощения: «коляда» - в колядных песнях, «воло-
чебное» - в волочебных, «кресты» - в средокрестных. Приготовление
обрядового угощения хозяевами - один из важнейших этапов средо-
крестного обряда. Печением крестов отмечалась определенная веха
календаря - середина / половина Великого поста, что и отразилось в
обходных песнях:
«Середа, середа, крестье пекут»6;
«Середа, середа, крестья, / Сито, сито, решето, / Половиновое»'.
Кресты пекли, как правило, из пресного теста (но могли и из ки-
слого) пожилые женщины - стряпаницы. Мука на кресты шла обык-
новенно ржаная, ситная (сеяная в сито) или пшеничная. Выносили
крестики в блюде, чаще - в решете: «Хозяйка выходит из кухни с
шабачой [решетом] и каждого оделяет. Протягаешь свою котомочку -
и тебе бросят крест»*. Мука, служащая основным материалом для
изготовления средокрестного печенья, - традиционный жертвенный
материал. «Гости», получив от хозяев в дар муку или изделия из нее,
приносили в дом достаток и благополучие.
Рассматривать муку в качестве жертвы, передаваемой предкам,
нам позволяет особый статус обходников - они считаются посредни-
ками между миром живых и миром мертвых. Посреднический статус
участников средокрестного обряда подчеркивается половозрастной
принадлежностью: в Средокрестье обходили дворы дети-школьники
(от 8 до 14 лет). Тогда как в святочных, волочебных, въюнишных и
егорьевских обходах в качестве «гостей» выступали как дети, так и
взрослые. Дети-обходники могут играть роль не только посредников,
но даже и представителей потустороннего мира, так как они «еще не
вполне люди и сохраняют контакт с “тем” светом, откуда пришли»9.
Значимым элементом является и то, что дети-обходники ходили соби-
рать кресты с мешочками-котомками, специально сшитыми по этому
случаю матерями:
Крестички, жавороночки,
Полетайте к нам в котомочки,
Для Великого поста
Подавайте два крест а16!
179
Обрядовая семантика средокрестных песен...
Как известно, роль «заместителя предков» на земле, свойственна
не только детям, но также и нищим: шитье котомок акцентирует наше
внимание на теме пути, немаловажной для раскрытия семантики
средокрестных песен: «путь», преодолеваемый за время Великого
поста от Масленицы до Пасхи, путь внутреннего преодоления, духов-
ного обновления.
Средокрестный обход проводился в середине Великого поста, в
середине недели, которая в церкви называлась Крестопоклонной, а в
народной традиции Средокрестной или Крестовой. Народное назва-
ние заостряет внимание на понятии «середина» - люди радовались,
что половина трудного пути уже позади, до светлого Христова Вос-
кресения осталось только «три недельки с половиною». По церков-
ным традициям, накануне третьего воскресенья Великого поста, на
всенощной, из алтаря на середину храма выносится крест и соверша-
ется поклонение. Крест стоит в середине храма всю четвертую неде-
лю поста. Закономерно, что образ креста стал стержневым в средо-
крестных песнях.
Образ креста включен в просительные формулы средокрестных пе-
сен, занимающие центральное место в композиции: «Крест воскрёст /
Подавай наш крест / Вы не режьте, не ломайте / Всё по целому да-
вайте»11. С требованием угощения, как правило, сочетается специфи-
ческая формула средокрестных песен - требование «обливать водой»:
« Крест-воскрест,
Подавай нам крёст!
Гуслицы-кислицы,
Воды студеницы,
Чем хошь поливай,
Нам по крестику давай.
Кто не даст креста -
Заболит рука.
Как пропоем, тут нас оделяют: кто водой сбрызнет, кто крест подает»12.
Строку «гуслицы-кислицы», вероятно, следует понимать как иска-
женное гущицы-кислицы, то есть речь идет о квасной гуще, отсылаю-
щей нас к детским закликаниям дождя: «Дождик-дождик пуще, дам
тебе гущи...»13. Данное истолкование подтверждается свидетельства-
ми информантов: «обливали нас водой. На потолок залезет хозяин и
обливает»14; «Ошшо водой окатят сквозь решето, пацанов и девочек,
штёбы лён был белой»15.
Объединение в рамках обряда и в текстах песен-закличек риту-
ального обливания водой, обрядового печенья и образа креста едва ли
можно воспринимать как контаминацию.
180
А. А. Родионова
Прежде всего с образом креста Христова Священное Писание и
церковное Предание соединяют идею искупления, очищения-омовения
грехов, размыкания оков смерти, отверзания врат Царствия небесного:
«Приступите, почерните неистощаемых вод, / креста благодатию
проливаемых. / се предлежащее видяще древо святое, / дарований
источник, / напоеное кровию и водою Владыки всех, / на том волею
вознесшагося, / и земныя воздвигшаго»16.
«Благодать твою всемощную подажь нам, Господи, да последуем
Тебе, Владыце нашему, взямше крест наш, не гвоздьми пригвождаю-
щеся тому, но трудами, воздержанием и смирением, да тако причастни-
цы будем страданий Твоих, от нихже истекают потоцы Жизни Вечныя,
напояющая вся правоверныя, благочестно поющия Ти: Аллилуиа»17.
«Радуйся, яко от тебе, яко от неизсякаемого источника, христо-
именитии людие обилие благ вечных почерпают»'*.
«Радуйся, яко умерый на тебе Жизнодавец Кровь и воду источи,
19
ими же грехи наши омываются» .
Вместе с тем, среда четвертой недели «Великого Говинья» явля-
лась важнейшей природной вехой для народного сознания: «Посреди
Великого поста пекут кресты, и с этими крестами сажают кого-либо
на ночь на печь, чтобы он подслушивал, как перейдет половина поста.
Когда что-нибудь треснет в переднем углу избы, тогда означает, что
пост перешел свою середину»20.
«Гэвиньё переломилось,
Под угор покатилось... 21
Крест воскрёст,
Подавай наш крёст!
Половина-у овина,
А другая - у двора...
Половина поста далеко, овин-то в самом конце двора был, а поло-
вина - уже тут, у двора»22.
Именно в Средокрестье Великий пост трещал, ломался, перела-
мывался пополам, катился под гору - неисчерпаемая кладовая обра-
зов-метафор основана на внимательном наблюдении за окружающим
миром. В середине поста начинала вступать в свои права весна, и,
хотя дети бегали «по кресты» в лаптях по снегу, на реке уже начинал
трещать лед: «Река, река, тресни / Нынче Средокрестье» ,- кричали
они, собирая крестики. А, ломая обрядовое печенье, приговаривали:
«Крест треснет - и Говинье треснет»24.
Образ вскрывающихся рек, грядущего половодья25, вероятно, обу-
словил указанную выше символическую деталь средокрестного обря-
да: поливают гущей - водой мутной, полой26:
181
Обрядовая семантика средокрестных песен...
Крестички-жавороночки,
Трещит да ломится,
Под гору катится.
Скоро ли, скоро ли
Гэвенье переломится?
Говенье переломилося,
Овеяна краюшка
Растворил ася.
Кресты пекут, нам дают.
Пироги мажут,
Нам не кажут.
Пепел болтают,
Нас обливают21.
Образ половодья и идея середины-половины Поста повлияли и на
народное истолкование церковного термина преполовенье2*. По неко-
торым данным чин богослужения и смысл церковного праздника
Преполовения Пятидесятницы мог ассоциироваться в народной сре-
де и со Средокрестьем (Преполовением Четыредесятницы)-.
«Если на Преполовение мелководье, то разлива не будет; в Препо-
ловение Богородица Волгу переплыла; в Преполовение крестный ход
и молебствие на полях»29.
«А мы вот с Манькой-то ходили, как только Пропловение, мы бе-
рем иконки и с ней кругам сеча ходим. Это уж от пожара. Это, вот
праздник Пропловения - половина весны проплыло. У нас весны восемь
недель. Вот на четвертой-то неделе бывает Пропловение - это в
среду. В эту среду мы вот ходим кругам села с иконой и поем “Христос
воскрес”. Идем кругом села - это мы огораживаем от пожара. А весна
начинается с Пасхи. Пасха - когда придет. Вот от Пасхи начинается
8 недель весна, и на 4-й неделе бывает Пропловение»30.
Прообразом праздника Преполовения Пятидесятницы стала про-
поведь Иисуса во время еврейского праздника Кущей: «Абие же в
Преполовение праздника, взыде Иисус во церковь и учаше... “аще кто
жаждет, да приидет, ко мне и пиет: веруяй в мя, якоже рече писание,
реки от чрева его истекут воды живы”» [Ин. 7: 14-36].
«Обряд восьмого дня праздника Кущей состоял в торжественном
возлиянии воды. Первосвященник выходил из храма Соломонова к
источнику Силоамскому у подошвы Сиона, золотою чашею черпал
свежую и чистую воду; при звуке труб возвращался во храм; смеши-
вал воду с вином и возливал на жертвенник. Народ во время этого
обряда неумолкно пел великое аллилуйя [Пс. 112-117]... Ветхий об-
ряд возлияния воды на жертвенник Церковь заменила своим крест-
ным хождением на реки и кладези п малым водоосвящением»3'.
182
А. А. Родионова
Обозначенные многоплановые смысловые ассоциации спаситель-
ной жертвы креста Христова, духовного обновления человека в под-
виге Великого поста, весеннего возрождения природного мира, а так-
же формальные схождения в структуре церковного богослужения и
традиционной обрядности Средокрестья получают дополнительную
поддержку в обрядовой стороне и семантике других значимых точек
календарного цикла, в частности Крещения32.
Для понимания обрядовой семантики средокрестных песен также
важно учитывать, что в медиальных формулах средокрестных песен
христианский образ креста может быть сопряжен с типичным для
рассматриваемого периода календаря мифологическим образом жа-
воронков: «Крестики, жавороночки, / Идите к нам в котомочки, /
Крестики пекут и нам дают»33.
Печенье «жаворонки» - атрибут жавороночного обхода дворов, бы-
тующего в некоторых районах Верхнего Поволжья наряду со средокрест-
ным34. Жавороночный обход, как и средокрестный, совершался детьми:
«Уж после Крестов жавората бывают, жаворонки пекли, птичек
таких: возьмут тесто, раскатают и жгут этот узлом завяжут, с одной
стороны клювик и глазки сделают, а с другой - хвостик, и получится,
как птичка. Вот не помню, какого числа это... Тут мы тоже бегали,
собирали, и тоже пели:
Жаворонок, жаворонок,
На окошке сидит,
Хвостом шевелит,
Пошевеливает.
Взяли по котомке,
Пошли по жаворонка»35.
В средокрестных песнях «крестики, жавороночки» могут и сидеть
на окошке, и лежать на залавочке:
Кресты, кресты,
Жавороночки,
На окошке сидят,
Хвостам шевелят,
Пошевеливают36.
Крестики, жаворонки,
На залавочке лежат
И хвостиками шевелят31.
Возможно, здесь мы имеем дело с метафоризацией образа креста.
В поэтической лексике средокрестных песен широко применяется
олицетворение:
183
Обрядовая семантика средокрестных песен...
«Кресты-пророки,/ Побежали по дороге,/ Увидали Христа,/ Заи-
грали в три листа!» ;
«Кресты-вересты,/По дорожке шли,/ В часовню зашли»39',
«Кресты-пророки, / Полетели по дороге, / Увидели часовню...»40.
Встречается и овеществление:
«Говенье ломается,/ из печи выняется,/ в окошко подается,/ В
карман кладется»41;
«Говенье, говенье ломается, / Из окошка выдавается»42.
При всем многообразии метафорических образов, составляющих
основу средокрестных песен можно обозначить следующие образные
и смысловые доминанты художественного мира рассматриваемого
жанра: середа-половина, переход-перелом, обливание-половодье, кре-
сты -жаворонки.
Несмотря на стереотипность обрядовых формул, средокрестные
песни достаточно сильно отличаются от других песен обхода дворов
образным наполнением. Традиционные формулы включают в себя хри-
стианские образы - крест, Иисус Христос, Христов день (Пасха), Ве-
ликий пост, метафорическое осмысление которых позволило вместить
в традиционную форму песен обхода дворов новое содержание.
Суммируя изложенное, можно предположить, что средокрестный
обряд восходит к архаическим ритуалам встречи весны - начала ново-
го года43, имеющим целью заклинание плодородия. Эту догадку под-
тверждает и факт формальной общности средокрестных песен с дру-
гими песнями обхода дворов. Средокрестная песня, по своей сути, -
новый жанр, построенный по традиционным образцам.
Примечания
1 Основу статьи составили более 200 записей 1990-2001 гг. из фольклорных архивов
МГУ и Нижегородского университета.
2 По имеющимся у нас сведениям, ареал выпекания крестов охватывает юг и запад
Европейской части России (Курская, Калужская обл.); Верхнее и Среднее Поволжье,
Поочье, Волго-Окское междуречье (Тверская, Ярославская, Московская, Рязанская,
Костромская, Нижегородская, Саратовская обл.); северо-восток России (Вологодская,
Костромская обл.); распространен этот обычай также на территории Украины и Бело-
руссии.
3 Распространение средокрестных песен в данных областях шло по бассейнам рек:
Волги и ее притоков - Унжи и Ветлуги. См.: Корепова К. Е. Средокрестные обряды в
Нижегородском Поволжье // Живая Старина. 1998. № 2.
4 Ветлужская сторона. Вып.2. Кострома, 1996. № 275.
5 Фольклорный архив МГУ (далее - ФА МГУ) 1993 г. Костромская обл., Чухломский
район, с. Георгий. Зарубин П. И., 1920 г. р.
6 Ветлужская сторона Вып. 2. № 272, 273, 274, 275.
7 Там же. №271.
8 Там же. № 278.
184
А. А. Родионова
9 Пагиина О. А. Календарно-песенный цикл у восточных славян. М., 1998. С. 26.
10 Ветлужская сторона. Вып. 2. № 284.
11 Там же. № 275.
12 Там же. № 263.
13 Детский поэтический фольклор / Сост. А. Н. Мартынова. СПб., 1997. № 748-771.
14 ФА МГУ 1998 г., Костромская обл., Вохомский район, с. Никола. Ульянова А. И..
1918 г.р.
15 Там же. Ульянова А. Р., 1924 г.р.
16 Стихира на «Хвалитех» Крестопоклонного воскресения // Православный богослу-
жебный сборник. М., 1991. С. 263.
17 Акафист Честному и Животворящему Кресту Господню. Кондак 12.
18 Там же. Икос 9.
19 Там же. Икос 2.
20 Терещенко А.В. Быт русского народа. СПб., 1848. T.VI. С. 19-20.
21 Ветлужская сторона. Вып.2. № 280.
22 Там же. № 265.
23 Фольклорный архив Нижегородского университета ('далее - ФА ИНГУ). 41-48-3.
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, д. Маргуша.
24 ФА ННГУ, 41-63-4; Нижегородская обл., Семеновский р-н, д. Богоявленье.
‘5 «Река пола, гола, вскрылась, отсюда половодье». Даль В. И. Толковый словарь живо-
го великорусского языка. Т. 3. М., 1982. С. 266.
26 Ср. также «Половой, белесовато-соломенного цвета как полова. Половеть, вянуть,
блекнуть, желтеть». Даль В.И. Словарь. Т. 3. С. 263.
27 Ветлужская сторона. Вып. 5. Пыщуг. 2001. №281.
28 «Преполовлять, разделить пополам, достигать середины, пройти половину». Даль В. И.
Словарь. Т. 3. С. 395.
29 Там же.
30 Смирнов Д. В. Весенняя обрядность в Нижегородской области // ЖС. 1998, № 2. С. 14.
31 \Дюг. Дебол ьский Г. С. Дни богослужения православной Церкви. М., 1996. Т. 2. С. 229-232.
32 Ср.: крещенская вода-, купание в Иордани - проруби {полынье - Даль В. И. Словарь.
Т. 3. С. 266) в форме креста; «Когда Иордань полна воды, разлив будет большой» (Там
же. С. 506); в Вохомском районе Костромской области кресты выпекали не на Средо-
крестье, а на Крещение и т. д.
33 ФА ННГУ, 23-41-14 Нижегородская обл., Ветлужский р-н, д. Федоровское.
34 Дата жавороночного обхода плохо сохранилась в памяти исполнителей. По одним
сведениям, он совершался на пятой неделе Великого поста, по другим - на Алексеев
день (30 марта, по новому стилю); по третьим - после Благовещения (7 апреля, по
новому стилю). Вообще говоря, данные сведения не противоречат друг другу, так как
и Благовещение, и Алексеев день могли попасть на пятую неделю поста.
35 Benny же кая сторона. Вып. 2. № 250-251.
36 Benny ж с кая сторона. Вып. 5. № 286а.
37 Там же. № 287.
38 Традиционные обряды и обрядовый фольклор русских Поволжья / Сост. Г. Г. Шапо-
валова. Л., 1985. № 230.
39 Костромские песни и наигрыши. Вып. 1 / Сост. Т. В. Кирюшина. Кострома, 1993. № 22.
40 Там же. № 24.
41 Архив ННГУ 43-2-245 Нижегородская обл.. Семеновский р-н, д. Шалдсж.
42 Там же 41-63-11.
43 См. подробнее: Агапкина Т. А. Мифопоэтические основы славянского народного
календаря. М., 2000. С. 30, 41.
185
О национальном своеобразии чешских
цепевидных сказок
И. Ф. Амроян (Тольятти)
В начале XX в. немецким ученым Й. Больте и чешским ученым
Г Поливкой в результате исследования огромного материала европей-
ских народов (включая славян) были выделены сказки и прибаутки,
имевшие специфическую композицию, основанную на повторе и по-
лучившую название кумулятивной (англ, accumulative story), или це-
певидной (нем. Kettenmarchen)1. Многие иследователи пытались раз-
граничить данные термины2. Наиболее удачные решения предложены
А. Кретовым в небольшой, но содержательной работе «Сказки рекур-
сивной структуры»3 и автором данной статьи в монографии «Типоло-
гия цепевидных структур».
Для А. Кретова кумуляция, как и цепевидность, понятия видовые,
а для родового понятия он предлагает использовать термин «рекур-
сивные сказки», то есть повествования, порождаемые повторением
сюжетных морфем. С нашей точки зрения, этот термин не совсем
корректен, так как воспроизводиться могут не только отдельные сю-
жетные морфемы (повтор на сюжетно-композиционном уровне), но и
более крупные, и более мелкие элементы (повтор на других уровнях
организации текста). Важно то, что в результате повтора формируется
структура, состоящая из семантически целостных сегментов текста,
которые были названы нами звеньями.
Каждое звено включает в себя три элемента: субъект, акцию, кото-
рую он совершает и объект, на который она направлена. Все звенья
связаны между собой отношениями последовательности. Особенно
важно то, что воспроизводятся два из трех элементов звена, то есть
они-то и являются стержнем, который объединяет звенья в цепь. Вос-
производиться могут все три элемента (например, в докучных сказ-
ках), но в этом случае в текст вводятся специальные формально-
смысловые маркеры перехода, при помощи которых осуществляется
связь отдельных звеньев в цепь.
Как нам удалось установить, цепевидная структура формируется
на основе пяти типов структурообразующего повтора: нанизывания,
кумуляции, декумуляции, маятникового и кольцевого повтора4. Под-
черкнем, что прием декумуляции5 был встречен нами только в рус-
ской и болгарской традициях.
Нанизывание - наиболее распространенный прием формирова-
ния цепевидной структуры в чешских сказках. Этот прием встречает-
186
И. Ф. Амроян
ся на всех уровнях организации текста, от смыслового до словесного.
Принцип чисто структурного нанизывания широко представлен в
сказах о дурацких поступках (сюжеты АТ 1681 Дурак делает покупки,
АТ 1696 Набитой дурак, АТ1643 Дурак и береза). В одно произведение
они объединяются одновременной реализацией двух моделей: парал-
лелистической модели, которая разворачивает концепт «дурацкие
поступки» в конкретных действиях героя, и модели со сквозной темой -
один персонаж последовательно совершает ряд глупостей:
Т —> R'
г
Т —> R"
г
Т -> R'",
где элемент «тема» связан с персонажем, дурнем (он является
стержнем цепи), а «рема» - с дурацкими поступками, которые он
совершает. Причем на уровне глубинной семантики, рема также вос-
производится, а на уровне конкретной реализации в тексте происхо-
дит расподобление.
Цепь обычно состоит из трех-пяти звеньев. В их границы входят
эпизоды, рассказывающие об очередном дурацком поступке персона-
жа. Так, в варианте, записанном И. Ш. Кубином (№172), цепь состоит
из пяти звеньев, два первых из которых реализуют сюжет АТ 1681А
«Дурак делает покупки», а два заключительных - АТ 1653 «Дурак и
береза» (в данном случае - статуя). В первом звене-эпизоде говорится
о том, что дурак кормит лягушек творогом. Во втором, как он мажет
трещины на тропинке маслом, чтобы они не болели. В четвертом -
заматывает статую святого Яна полотном, чтобы не замерзла во сне.
В пятом - отбивает голову у статуи в наказание, что она не отдает
деньги, и находит клад.
На основе модели тема-рематической прогрессии в чешских и
русских сказках:
Т —> R
JL
Т' (= R) -> R'
Т"(= R') —> R" и т. д.
строятся тексты на сюжет АТ 1696 «Набитой дурак». В результате
образуется цепь, состоящая из звеньев-эпизодов, в основе которых
лежит мотив дурак действует невпопад'.
«//Honza ph'de do jedny vesnice, a potkal knSze..., ale Honza sei svou
cestou, ani si ich nev§im. Kostelnik se na n6j usap... A par mu jich
strdil...Za chvfli de kolem nejaka babiCka... “To hloupej, dyz пёсо
takovyho uvidiS, musis kleknout a bit se prsa”.H
187
О национальном своеобразии чешских цепевидных сказок
No sei dal..., a potka reznfka, ved prase. Milej Honza hned klek, depic
pod pazdi, a bustse slauiiostne do prsouch... Ten... si myslf, cak ty si ze тё,
vosn‘apko nerudnej, budes dSlat kaSpary nebo co, a parkrat ho pretah pFes
rbet... «Inu jo, to musis po druhy рёкпё smeknout a Fikat “Zdrau to jelito
sn£d”. // Honza se pomalu sebral, a klape dal...» [Пришел Гонза в одну
деревню и встретил местного священника... но шел Гонза своей доро-
гой, даже его не заметил. Церковный сторож налетел на него с кулака-
ми... Через некоторое время проходит мимо него старушка. «Глупыш,
если ты снова встретишь священника, то встань на колени и бей себя в
грудь». И Пошел Гонза дальше..., и встретил мясника со свиньей. Ми-
лый Гонза бух на колени, шапку за пазуху и бьет себя торжественно в
грудь... А тот... думает: «Ах ты, болван неотесанный, ты еще будешь
надо мной издеваться?» И огрел его пару раз кнутом по спине... «Ну да,
в другой раз ты должен ему сказать: «Приятного тебе аппетита». И Гонза
повздыхал и побрел дальше...] [Kubfn, № 172].
Курсивом выделена рема первого звена, которая становится темой
второго. Одновременно данный элемент выполняет роль репризы,
поскольку воспроизводится без изменений, чем подчеркивает цепе-
видность структуры текста.
Цепи такого типа, как в рассмотренных нами вариантах сказки о
дурне, являются открытыми и могут быть легко продолжены. Осо-
бенностью чешской традиции также является то, что данный сюжет
не встречается как самостоятельная сказка, а входит в цепи сказок о
дурацких поступках на правах отдельного звена-эпизода.
Как в чешских, так и в русских сказках, прием тема-рематической
прогрессии используется сюжетом АТ 550 «Жар-птица и серый волк»
(в чешском варианте: жар-птица и лиса Рыжуха) в той части, где гово-
рится о пути героя и о заданиях, которые он должен выполнить.
В заключительной части каждого эпизода-звена появляется новое
требование принести следующий объект (рема), добыванию которого
и будет посвящен очередной эпизод (рема превратится в тему). Царе-
вич нарушает запрет помощника и берет золотую клетку или узду,
причем в чешских сказках на его решение влияют чисто эстетические
причины: «Kterak se to k sobS hodi: tak krasny ptak a tak chatrna klec?»
[Да разве подходят друг другу такая красавица-птица и такая грубая
клетка?] [Zavada, 1958, Ptak Ohnivak a liSka RySka, 69], а в русских -
практические: «Что я взял жар-птицу без клетки, куда я ее посажу?»
[Афанасьев № 168, 333]. Его хватает проснувшаяся стража и ведет к
хозяину желаемого объекта, который требует в знак возмещения
ущерба добыть следующий объект.
Цепь чисто структурного нанизывания объединяет сюжеты ATI
«Лиса крадет рыбу с воза», АТ2 «Ловля рыбы хвостом» и АТ4 «Битый
небитого везет» как в чешских, так и русских сказках о хитрости ли-
188
И. Ф. Амроян
сы. В чешских сказках лиса обманывает медведя, а не волка, предла-
гает украсть с воза не рыбу, а птицу, которую везут крестьяне на ба-
зар; затем лиса заставляет медведя выпить воду из пруда, чтобы доб-
раться до сыра (отражения луны в воде). Далее следует сюжет о том,
как лиса и медведь ходили в корчму на танцы, причем внутренняя
структура этого эпизода также представляет собой цепь, состоящую
из трех звеньев: трижды лиса предлагает танцующим показать им кое-
что смешное, если ее угостят вкусненьким. Заключительным всегда
бывает сюжет АТ4 «Битый небитого везет». В русских сказках в цепь
всегда входит сюжет АТЗ «Лиса мажет голову тестом». Кроме того, в
цепь могут войти и эпизоды на сюжеты АТ43 «Лубяная и ледяная
хатка», АТЗО «Волк в яме», АТ170 «За скалочку гусочку» и АТ 61А
«Лиса исповедница». Сюжетно-композиционное нанизывание реали-
зуется на основе двух моделей: тема-рематической прогрессии и мо-
дели со сквозной темой.
Принцип сюжетно-композиционного нанизывания представлен в
изученных нами текстах в двух разновидностях - линейной и выдели-
тельной. Цепевидную структуру, основанную на принципе линейного
нанизывания мотива, имеют тексты на сюжет АТ 212 «Коза-дереза»:
«Sedlak mSI kozu... //Jednoho dne ji vedla selka na pastvu. Kdyz prisla
domu, ptal se sedlak kozy: “Nu kozidko, jak jsi se napasla?”
“Ba napasla, nic jsem se nenapasla, selka sedSla se mnou na suche
mezi, a ja nic nedostala. Mam hlad”.
Sedlak sei na selku a notnS ji zmrskal, ze kozu nenapasla.
// Druhy den sla s nf dcera...» [У крестьянина была коза... Однажды
его жена отправилась ее пасти. Когда она вернулась домой, крестьянин
спросил у козы: «Ну как, козонька, наелась ли ты?» «Как же, наелась,
твоя жена седела со мной на меже сухой, ничего мне не досталось. Я
есть хочу!» Крестьянин поругался с женой и избил ее. На следующий
день пошла козу пасти дочка...] [Kramafik 1956, 60-61].
Количество обманутых может быть различным. Так, в одном из
чешских вариантов сюжета (запись, сделанная Й. Ш. Бааром) козу,
кроме хозяина, пасут три его дочери, а в другом - дочь, сын и жена.
Можно говорить о том, что прием линейного нанизывания усиливает
основную идею сказки: ложь порождает зло, расплата за которое не-
избежна (педагогическая функция), а также служит для нагнетения
атмосферы напряженного ожидания драматической развязки (эстети-
ческая функция)6.
Данный прием иногда используется чешской волшебной сказкой.
Так, сказка «Dlouhy, Siroky a bystrozraky» [Длинный, широкий и зор-
кий] [Erben 1955, 21—29] использует данный прием для организации
той части текста, где говорится об испытании героя. Ему и его по-
мощникам поручают сторожить царевну. Они засыпают, но герой
189
О национальном своеобразии чешских цепевидных сказок
будит их на рассвете, и они, пользуясь своими волшебными свойства-
ми, находят ее и возвращают в комнату до прихода чародея.
Среди чешских сказок нами была обнаружена одна - «Vo chytrejm
Honzovi» [Умный Гонза] (запись Й. Ш. Баара, с. 303-307), содержа-
щая в своей центральной части остатки цепи нанизывания мотива.
Цепь изначально должна была содержать шесть звеньев, потому что
именно шесть дней должен был Гонза пасти свиней, и шесть раз он
должен был убивать волков, которые под угрозой смерти требовали
выделить им одного поросенка. Однако за счет того, что в чешских
сказках к моменту их записи на рубеже XIX-XX веков наметилась
тенденция к детальному описанию, объем отдельных звеньев, прежде
всего первого, значительно возрос. Поэтому второй эпизод сильно
сокращен, вместо третьего, четвертого и пятого дается простая кон-
статация факта, и лишь последний эпизод снова значительно разрас-
тается за счет подробного описания деталей.
В славянском сказочном фольклоре наряду с приемом нанизывания
мотива часто используется и прием нанизывания акции. В текстовом
плане это означает, что воспроизводящимся является сегмент текста, в
основе которого лежит незавершенное действие (акция) персонажа, что
и отличает его от эпизода, в основе которого лежит либо мотив (завер-
шенное действие), либо несколько акций плюс завершенное действие,
которые в совокупности составляют мотив. Существуют две разновид-
ности приема: субъектное и объектное нанизывание. В первом случае
постоянными элементами являются субъект и совершаемая им акция
(сказки типа АТ 2021 А, АА 2411 «Смерть пезушка», АТ 2028, АА 333 *В
«Глиняный парень», АТ 43 «Козу (лису) выгоняют из избушки»), а во
втором - акция и объект, на который она направлена (например, АТ 130
«Зимовье зверей» или AT 20А «Звери в яме»).
Прием субъектного нанизывания использован в чешских и рус-
ских сказках на сюжет АТ 61В. В русской традиции это сказки «Кот,
петух и лиса», а в чешской - «Budulfnek» или «Smoh'dek» [Сиротка].
Соответственно в русских вариантах сюжета главным персонажем
будет петух, а в чешских - маленький мальчик-сиротка. Петух (маль-
чик) остается дома один и получает запрет открывать дверь. Следует
цепь, состоящая из трех звеньев и образованная способом субъектно-
го нанизывания акции: один персонаж (лиса, лесные девы) совершают
одну и ту же акцию (выманивают из дома), но результат в каждом
звене различен. В первом из них персонаж не поддается на уговоры.
Во втором - поддается, но его успевают спасти. В третьем - поддает-
ся и его уносят в нору или в лесной дом дев. Цепевидность структуры
поддерживает реприза. В русских вариантах это реприза песенка ли-
сы: «Кикереку-петушок, / Золотой гребешок! / Выгляни в окошко, /
Дам тебе горошку» [Афанасьев, № 37], а в чешских - реприза-блок
190
И. Ф. Амроян
предложений: «Kdyz рак odeSli do lesa, pfiSla liska, zaklepala a volala:
“Budulfnku, otevfi!” Budulfnek odpovSdel: “Neotevhi!” LiSka vojala:
“Otevfi, budu tS vozit na ocdsku!”» [Когда они снова ушли в лес, при-
шла лиса и постучала: «Будулинок, открой!» Будулинок ответил: «Не
открою!» Лиса снова стучит: «Открой, я тебя покатаю на хвостике!»]
[Mensik a dr., 23-24].
Вторая часть сказки также представляет собой цепь субъектного
нанизывания акции: один персонаж совершает одну и ту же акцию
(выманивает из норы) по отношению к различным объектам (вымани-
ваются поочереди сначала лисята, а потом и сама лиса), причем в
чешском варианте эта часть состоит из четырех звеньев, а в русской
могла бы состоять из семи, поскольку в песенке сообщается, что у
лисы шесть дочерей, но в наличии лишь первое звено, далее идет
констатация: «Так всех лисиных дочерей и забрали».
На основе линейного субъектного нанизывания построен заключи-
тельный эпизод чешской сказки «О pernikove chaloupce» [Пряничный
домик] [Zavada, 11-14]. Его особенностью является то, что расподобле-
ние в звеньях идет не по линии изменения объекта (персонаж обраща-
ется с одним и тем же вопросом к одному и тому же объекту), а за счет
постоянного изменения ответа, который дает его собеседник. Так, на
повторяющийся вопрос деда, преследующего ребятишек: «Osobo,
nevidSla jste tudy jit dSti?» [Гражданочка, вы не видели, дети тут прохо-
дили?], крестьянка рассказывает ему очередной этап производства льна.
Прием субъектного нанизывания акции используется и в волшеб-
ных сказках на сюжет АТ 480 о том, как героиня вынуждена идти к
Бабе-Яге [например, «Гуси-лебеди» Афанасьев. Т.1. № 103, 113; Ни-
кифоров. № 558]. Персонаж по дороге к цели своего перемещения
совершает одну и ту же акцию по отношению к целому ряду объектов.
Объектный способ нанизывания - одну и ту же акцию по отношению
к одному объекту поочередно совершают разные персонажи - организует
русскую сказку АТ 780 «Волшебная дудочка». В чешском варианте сюже-
та пасынок, которого убивает мачеха, превращается в птичку и поет пе-
сенку о своей судьбе, то есть текст построен на принципе субъектного
нанизывания, но разновидность приема та же - линейная.
Подобно русским сказкам АТ 130 «Зимовье зверей» и AT 20 А «Зве-
ри в яме», в чешской сказке «Vo soudnych prantech» [О судебных разбор-
ках] [Baar, 296-300] используется расширительная объектная модель:
Т —> R
Т' (+ R) -> R'
Т"(+ R + R') —> R".
191
О национальном своеобразии чешских цепевидных сказок
Лиса и пес в борьбе за охотничьи угодья набирают сторонников:
«“Cak to, sousede, ze des celyj ve dva konce vohnutyj? Cak se stalo?’’
“To si ty, sousfdku?” zastavil se hned pes ha rozpovfdal se: “Pane! Мпё
se stalo! LiSka nas nechce pustit do leviTu. Chee mit se mnou vojnu. Nez
slunce zapadne, muSim se s nf bit na zakopu”.
“To nesmim vopustit”, skoCil hned kocour s pavladky, pfidal se к
Cikanovi ha tomu se Slo hned vo poznani veselejS. // Dyz pfiSli na navsi к
rymnfCku, koupal se tarn Janouc husman... “Kakaka! Kampa dem? Kampa
tak po ranu?” Cikan zase vylozil, co ho ёека v lese na ph'kopu, ha husman
hned prohlasil: “Mortete! Estli chcete, puru s vama.” H » [«Ты что, сосед,
голову повесил? Что стряслось?» - «А, это ты, сосед? - остановился
сразу пес и разговорился. - Ты знаешь, лиса не хочет пускать нас
охотиться на холме. Хочет с нами воевать. До захода солнца я должен
с ней биться у канавы». - «Я пойду с тобой», - кот сразу же спрыгнул
с крыльца и пошел вместе с Цыганом. Тому, конечно, сразу стало
веселее. Подошли они к пруду, а там плавал Янов гусь. «Га-га-га, куда
собрались? Куда это с утра пораньше?» Цыган снова рассказал что и
как, что его ждет в лесу у канавы на холме, и гусь сразу заявил: «Черт
побери! Ну, если хотите, пойду с вами»] [Baar. №21].
Однако в отличие от приема выделительного нанизывания персона-
жей в русской традиции, реприза в чешской линейной цепи отсутствует.
Принципу нанизывания по возрастающей подчиняется набор жи-
вотных-помощников как в русских, так и в чешских волшебных сказ-
ках: герой, отправившийся на поиски счастья, встречает волка, потом
медведя и, наконец, льва. Звенья полученной цепи дополнительно
скреплены репризой-блоком предложений:
«Kdyz tak ti'm lesem Sei prvnf den, vybShl proti n£mu vlk. Myslivec
natahne ludistd a chce vlka zastfelit. Ale vlk povidd: “Nestrilej, vein nine
rads s sebou, budes nine nekdy potrebovat”. - “Tak pojd”, a vzal ho s
sebou» [Шел он по лесу первый день - навстречу ему волк. Охотник
натянул тетиву и прицелилися. А волк ему и говорит: «Не стреляй,
лучше возьми меня с сбобой, когда-нибудь я тебе пригожусь». - «Ну
что же, пошли», - и взял его с собой] [Erben, sv.3, 42-47].
На словесно-текстовом уровне нанизывание осуществляется на
основе модели тема-рематической прогрессии, что было отмечено
впервые К. В. Чистовым при анализе русской сказки-прибаутки «Ко-
за» (АТ 2015): «...Плеть идет кузнеца бить,/ Кузнец идет лам варить, /
Лом идет камень дробить,/ Камень идет топор точить...» [Афанасьев.
Т.1. № 61], где курсивом мы выделили чередующиеся темы и ремы.
Подобным же образом организован текст внутри последнего звена в
русских и чешских сказках на сюжет АТ 2021, А А 241 I «Смерть пе-
тушка»: «Vepr dal St&iny, / St£tiny dala Sevci, I Svec dal strevfee, / strevfee
dala selce, / selka dala mlfka...» [Кабан дал щетину, щетину она отнесла
192
И. Ф. Амроян
сапожнику, сапожник дал туфли, туфли она отнесла крестьянке, кре-
стьянка дала молока] [Narodni pohadky, 31-32].
Нанизывание по убывающей в русском фольклоре встречается в
формуле местонахождения смерти Кащея в волшебных сказках: «Там
стоит дуб, / Под дубом - ящик,/ В ящике - заяц, / В зайце - утка, /
В утке - яйцо, / В яйце - моя смерть» [Афанасьев, т.1. № 156], а в
чешском - в эпизодах, где говорится о месте нахождения заколдо-
ванной царевны, которая каждую ночь исчезает из запертой комнаты:
«Sto mil odtud je les, uprostred lesa stary dub, a na tom dub6 na vrsku
zalud - a ten zalud je ona... Dvg st£ mil odtud je hora, a v te hoFe skala, a
v te skale drahy kamen, a ten kamen je ona... Th sta mil odtud je ёегпё
more, a prostfed toho moFe na dn£ lezi skoFepina, a v te skorepinS zlaty
prsten, a ten prsten je опа» [Сто миль отсюда стоит лес, посреди леса -
старый дуб, на том дубе, на макушке, - желудь, а тот желудь и есть
она... Двести миль отсюда стоит гора, на той горе - глыба, в той глы-
бе - драгоценный камень, а тот камень и есть она... Триста миль от-
сюда есть черное море, посреди этого моря, на дне, - раковина, в той
раковине - золотое кольцо, а то кольцо и есть она] [Erben, 21-29].
Следующей ступенью развития рассмотренной модели можно счи-
тать такое усложнение ее словесного выражения, когда звено как бы
распадается на две части, одна из которых содержит информацию об
известном, а другая сообщает новое: «...Куды тоби с лодкою? /- Рыба
ловить. / - Куды с рыбой? / - Робят кормить. / - Куды с робятама? / -
Овец пасти...» [Ончуков. № 106].
В подобных структурах между отдельными звеньями устанавливается
логическая связь различного вида, который определяется повторяющими-
ся в начале каждого звена вопросительными лексемами. Лексемы объе-
диняют звенья в цепь по вертикали, создавая своеобразные логические
ряды. На материале русского фольклора можно выделить целевые («Ку-
ды?», «Для чего?») ряды, как в приведенном выше примере, причинные
(«Отчего?») и обстоятельственные («Как?», «При каких обстоятельст-
вах?») ряды, а также логические ряды места («Где?» - наиболее длинные
цепи в русских вариантах сюжета АТ 2016 «Векушка-горожаночка»). В
чешской традиции удалось выделить целевой ряд («NaC?» - «Для чего?»)
и логический ряд места («Kde?» - «Где?»). Особый интерес представляет
текст, в котором дается чередование логического ряда места и субъектно-
го ряда, которое сменяет чистый ряд места: «...Kde jsou ti vlci? I Myslivci
je postnleli. I Kde jsou ti myslivci? I ZemFeli. / Kdo je zakopal? I D&i. I Kde
jsou ti ddti? / ZemFeli. I Kdo je pochoval?...» [Где волки? - Охотники пере-
стреляли. - Где эти охотники? - Умерли. - Кто их закопал? - Дети. - Где
эти дети? - Умерли. - Кто их похоронил?] [Narodni pohadky..., 29].
Кумуляция наряду с нанизыванием - ведущий принцип структу-
рообразующего повтора, в результате использования которого образу-
ется цепевидная композиция. Кумуляцией нужно считать такой тип
193
О национальном своеобразии чешских цепевидных сказок
повтора, когда присоединение нового звена происходит при обяза-
тельном повторении всех предыдущих звеньев цепи. В отличие от
нанизывания, охватывающего разные уровни организации текста,
кумуляция представляет собой явление более высокого порядка: она
может быть зафиксирована только на уровне текста в целом.
Композицию русских и чешских вариантов сюжета АТ 1415 «Ме-
на» организуют сюжетно-композиционное и словесно-текстовое нани-
зывание, с одной стороны, и кумуляция, с другой стороны, причем
последняя оформлена в виде диалога и пронизывает все звенья цепи.
О начале звена в цепи нанизывания сигнализирует инициальная ре-
приза «Попадается навстречу ему х» («Jde staHk a naproti пёти...»), а
звено кумулятивной цепи всегда начинается с вопроса: «Где, стари-
чок, был?» («Vftej, stafedku, odkud tS buh vede?»). Заключительная
реплика диалога - «Променяй х на у» («VymSn mi х za у») - относится
уже не к кумулятивной цепи, а к цепи-нанизыванию, что подтвержда-
ют варианты, где кумуляция опущена [Афанасьев. Т. 3, № 408; Ники-
форова. № 122; MenSik, 65-66, 87-88].
В основе кумуляции может также лежать прием нагромождения
(термин В. Я. Проппа), когда цепь строится на последовательном
присоединении субъектов, а предикат отсутствует: «Пришла мышка-
тютюрюшечка... “Я, муха-горюха, я, вошь-поползуха, я, блоха-попры-
гуха, я, комар долгоногий”.// Пришла ящерка-шерошерочка... “Я,
муха-горюха, я, вошь-поползуха, я, блоха-попрыгуха, я, комар долго-
ногий, я мышка-тютюрюшечка”.// Пришел заюшко...» [«Теремок»
Афанасьев. №82].
В чешской сказке «Zurdalek па vandru» на сюжет «Бременских музы-
кантов» набор персонажей осуществляется приемом нанизывания, од-
нако в рамки каждого звена включена кумулятивная цепь: «Za chvili
potkame kocoura. I ‘‘A kam, prej, kamarddi?” I “I na vandr”. I “No to bych
moh s vami”./ “Ale mozes!” / No tak deme, napred jd, za mnou vul, pak
beran, potom rak, a naposled tnilej kocour. // A netrvalo ani dlouho, potkame
kohouta...» [Долго ли, коротко ли, встречаем кота. «Куда вы, друзья?» -
«Странствовать» - «И я бы пошел с вами» - «Пошли!» Вот идем: снача-
ла я, за мной вол, потом баран, ротом рак и, наконец, кот. И Долго ли,
коротко ли, встречаем петуха] [Kubfn, 27-28. № 5]. Цепь кумуляции мы
выделили курсивом, в ее основе лежит прием нагромождения.
Рассмотренные примеры кумуляции, когда все звенья цепи повто-
ряются, начиная с первого, М. Хаавио относил к простейшим7. Дан-
ный прием «прямой» кумуляции использует чешский сюжет о том, как
Гонза учил немецкий язык. Выучив очередное якобы немецкое слово,
он повторяет все предыдущие, радостно добавляя к ним новое (прием
нагромождения): «OpoddI stdl kluk a kfidel na ostatm: I “Zvidum rancum
bacum”. / Honza div nezavejsk radosti a opakoval si: I “Pilykus latikus,
malomydli, perbfle, kolokdruminulo, rohancum Sfouchancum,
zidumrancumbacum”» [Невдалеке стоял мальчишка и кричал другим:
194
И. Ф. Амроян
«Жиду котомка бух!» Гонза от радости чуть не закричал и сразу же
повторил про себя: «Пилыкусок доскикусок, маломыль стирайбело,
колесотелегимимо, рогачамплетьми, жидукотомкабух»] [Baar. №33].
Но в славянском фольклоре не менее часто встречается и «обрат-
ная» кумуляция. В этом случае новое звено всегда ставится в начало
цепи, а первое оказывается последним. Это сюжеты «Петушок пода-
вился» (АА 241 I, АТ 2021 А), «Коза с орехами» (АТ 2015, АА 212),
«Глиняный парень» (АА 333* В, АТ 2028).
«...Девка, ты, девка, / Дай мне-ка нитку, / Нитка-та липе, / Липа
даст листу, / Лист - от морю, / Море даст водицы, / Водица-та петуш-
ку, / Петушок подавился зернятком» [Никифоров. № 44],
или в чешском варианте:
«...Panno, panno, dej mi satek, / satek dam Нрё, / lipa da Ifstek, / Ifstek
dam studance, / studanka dd vody, / vodu dam svemu kohoutkovi, / on tam
lezf tise, / ani nedyse, uvazla mu skorapidka v briSe» [Девица, девица, дай
мне платочек, платочек дам липе, липа даст листочек, листочек дам
колодцу, колодец даст водицы, водицу дам своему петушку, он лежит
там тихонько, не дышит, застряла у него скорлупка в брюшке]
[Narodni pohddky, 31-32].
Существует два варианта развязки этого сюжета: либо петушок уми-
рает, так и не дождавшись помощи, либо его удается спасти. В первом
случае идейный замысел сказки ясен, его можно выразить даже в виде
пословицы - «Дорого яичко да к красному дню», то есть помощь необ-
ходимо оказывать вовремя. Эта мысль в чешском варианте, например,
непосредственно высказана в конце сказки: «Rychla pomoc, dvojnasobna
ротос» [Быстрая помощь, двукратная помощь] [Narodni pohadky, 32].
Во втором случае на первый план выдвигается другая идея - для спасе-
ния друга нужно преодолеть любые трудности. Прием линейного нани-
зывания акции подчеркивает трудность задачи и настойчивость персо-
нажа, а прием кумуляции замедляя ход сказки, усиливает напряженное
ожидание положительного разрешения конфликта.
В сюжете АТ 2044 «Репка» звенья кумулятивной цепи построены
на приеме нанизывания персонажей: пространство сказки представля-
ет собой сцену, на которую, словно выходят из-за кулис, появляются
персонажи и подключаются к однотипному действию, совершающе-
муся на сцене вновь и вновь. Благодаря приему кумуляции структура
сказок приобретает четкий ритм, значительно усиливается эффект
«запечатления» («Einpragungsmittl» по М. Хаавио), который, по мне-
нию финского ученого, и лежал у истоков этого приема.
В отличие от возрастающих возможностей персонажей русской
«Репки» в чешских сказках нанизывание персонажей осуществляется
линейно, они фактически равны друг другу по силе: дед, бабка, тетка,
кума, невеста, жених, и, наконец, еще одна бабка [Mensik, 93. № 34].
Однако набор именно этих персонажей имеет свое значение: когда со-
195
О национальном своеобразии чешских цепевидных сказок
вместными усилиями чудо-репа была вытянута, все персонажи пород-
нились: жених и невеста обручились, бабка у нее принимала роды, кума
крестила ребенка, тетка пировала, а дед с бабкой колыбель качали.
В записях К. Я. Эрбена нами был обнаружен еще более оригинальный
вариант. Персонажи сказки не просто равны друг другу по силе, они
принципиально обезличены: «Dvojmo §1о, / chytilo se jednera, I jednero
babky, babka npky: / trhaly, trhaly, / ale nic nemohly vytrhnout» [Второе
пришло, схватилось за первое, первое - за бабку, бабка - за репку. Тяну-
ли-тянули, ничего не смогли вытянуть] [Erben, 139-141].
Изначально сказка состояла из десяти звеньев, поскольку осуще-
ствляется набор десяти персонажей. Однако к моменту записи инте-
рес к структуре, столь замедляющий ход сказки, был утерян, и хотя
смысл сказки состоит в резком противопоставлении медленного на-
бора, длительности совместного действия и внезапности и быстроте
разрешения ситуации - все падают друг на друга, в цепи осталось
лишь четыре звена - два первых и два последних. Эффект комизма
тем не менее сохранился.
Принцип кольцевого повтора в чешской традиции встречается
крайне редко, поскольку докучные сказки там либо не получили рас-
пространения, либо собирателями не фиксировались. В русской же
традиции докучные сказки широко распространены. Среди них выде-
ляются сказки «неоправданно» короткие и бесконечные, причем в
состав последних на рубеже XIX-XX веков вошли и произведения,
включавшие наряду с игрой формальными средствами игру со-
держательную. Среди последних особой популярностью пользовалась
песенка «У попа была собака». Автору известен чешский ее вариант,
хотя ни в одном сборнике ни данный текст, ни другие, имеющие
подобную форму, обнаружены не были.
В отличие от русских докучных, новеллистических сказок (АТ2014
«Хорошо, да худо») и сказок о животных (АТ *2441 «Журавль и цап-
ля») прием маятникового повтора в чешской традиции не является
продуктивным. Лишь в заключительном эпизоде чешской новелли-
стической сказки «Портной и черт» последовательно и подробно опи-
сываются посмертные мытарства души портного между адом и раем.
Таким образом, можно констатировать, что в чешской сказочной
традиции цепевидные структуры образуются на основе нанизывания,
кумуляции, маятникового и кольцевого повтора (прием декумуляции в
чешских сказках не обнаружен). Однако если в русской традиции
продуктивны все четыре приема структурообразующего повтора, то в
чешской продуктивными можно считать только нанизывание и куму-
ляцию. Существует целый блок сюжетов, для которых в рамках обеих
традиций характерна цепевидная композиция (АТ 20, АТ 43, АТ 780,
АТ 1415, АТ 1696, АТ 2016, АТ 2028 и др.). Вместе с тем в составе
каждой из них есть специфические сюжеты. Если же один сюжет
196
И. Ф. Амроян
реализуется в обеих традициях, то различия проявляются, как прави-
ло, не на формальном, а на содержательном уровне.
Литература
♦ Афанасьев - Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. Т.1-3. М., 1936-1940.
♦ Никифоров - Севернорусские сказки в записях А. И. Никифорова. М.; Л., 1961.
♦ Ончуков - Ончуков Е. Н. Северные сказки. СПб., 1908.
♦ Baar - Baar J. S. Chodsk£ pi'snS a povidky. Praha, 1975.
♦ Erben -Erben K. J. C~eske narodni pohddky. Praha, 1955.
♦ Kramafik - Kramafik J. Chodske pohadky a povfcsti, Praha, 1956.
♦ Kubin - Kladske povidky. Z list lidu zapsal J. S'". Kubfn. Praha, 1958.
♦ Mensi'k a dr. - Moravsk£ narodni pohadky a povSsti. Ze sbirek J. S. MenSfka,
J. Pleskade, K. Orla, J. Soukopa a V. S'vedy. Praha, 1983.
♦ Narodni" pohddky - Narodni" pohadky, pi'snfi, hry a obydeje. Praha, 1873.
♦ Zdvada - Zavada J. C~eske narodni' pohadky a pi'snfi. Praha, 1958.
Примечания
1 Bolte J., Polivka G. Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmarchen der Bruder Grimm.
Leipzig, 1915.
2 Аникин В. П. Русская народная сказка. M., 1984; Ведерникова Н. М. Русская народная
сказка. М., 1975; Капица О. И. Детский фольклор. Л., 1928; КрукИ. И. Восточносла-
вянские сказки о животных. Образы. Композиция. Минск, 1989; Никифоров А. И.
Народная детская сказка драматического жанра И Сказочная комиссия в 1927 г. Л.,
1928. С. 49-63; Пропп В. Я. Кумулятивная сказка И Фольклор и действительность. М.,
1976. С. 241-257; HaavioM. Kettenmarchenstudien. Helsinki, 1929. FFC №88; Taylor A.
Formelmarchen // Handworterbuch des deuches Marchens. Berlin; Leipzig, 1934.
3 Кретов А. Сказки рекурсивной структуры // Труды по русской и славянской филоло-
гии. Литературоведение. 1. Тарту, 1994. С. 204-214.
4 См. подробнее: Амроян И. Ф. Типология цепевидных структур. Тольятти, 2000. С. 21-74.
5 Декумуляцией мы назвали такой прием структурообразующего повтора, когда в
каждом звене при обязательном повторном воспроизведении всех предыдущих звеньев
одним членом становится меньше: [(a+b+c+...+х) - у] + [(a+b+с) - х] + [(а+b) - с].
6 Аникин В. П. Искусство психологического изображения в сказках о животных //
Фольклор как искусство слова. М., 1967. Вып.2. С. 36-56.
7 Haavio М. Kettenmarchenstudien...
Влияние литературы и массовой культуры
на поэтику современного фольклора
детей и подростков
И. Н. Райкова (Москва)
По мысли В. П. Аникина, внимательно и глубоко изучавшего дет-
ский фольклор, он представляет собой хорошо организованную, хотя
и стихийно сложившуюся систему, которая «соединила в себе тради-
ции и новизну поздних времен»1. Анализ материала2 позволяет гово-
рить о нескольких способах влияния литературы и массовой культуры
на поэтику современного фольклора детей и подростков.
Прежде всего это использование одного конкретного текста в ка-
честве источника произведения детского фольклора.
Было бы неправомерно говорить об этом явлении как о сугубо со-
временном: фольклор и профессиональная культура, книжность, тра-
диции взрослая и детская идут рука об руку и «подпитывают» друг
друга очень давно. Так, классический фонд считалок включает в себя
тексты литературного происхождения, уже прочно освоенные детской
традицией. Приведу лишь три примера, на которые указывает иссле-
довавшая их М. Ю. Новицкая3. Всем известная считалка-числовка
«Раз, два, три, четыре, пять, / Вышел зайчик погулять...» восходит к
стихотворной подписи к картинке, написанной педагогом и поэтом
XIX века Ф. Б. Миллером. Водевильная песенка «В этой свадебной
корзинке / Есть помада и косынки...», возможно, стала источником
близкого мотива, который обычно входит в состав считалки «Дора-
дора-помидора...»:
В этой маленькой корзинке
Есть помада и духи,
Ленты, кружева, ботинки -
Все, что надо для души.
Драматический сюжет считалки «Ехала карета по мосту...», оче-
видно, восходит к балладе поэта XIX века Д. П. Ознобишина «Чудная
бандура», которая сама возникла на основе народных баллад и давно
вошла в народный репертуар как известная песня «По Дону гуляет
казак молодой...». Дети, сделав ее считалкой, сильно сократили, оста-
вив ядро сюжета.
198
И. Н. Райкова
Обратимся к другим жанрам. Подавляющее большинство совре-
менных детских песен и стишков, не связанных с обрядом и игрой,
носят пародийный характер и имеют шутливую, ироническую направ-
ленность. Почти все они ориентированы на тот или иной источник:
литературный, литературно-музыкальный, музыкальный (текстовки
известных мелодий), учебный (пародируются правила, законы), реже
фольклорный. Источники литературные или пришедшие из массовой
культуры - это поэтические произведения школьной программы (Пуш-
кина, Крылова, Тютчева, Некрасова, Маяковского и др.), некоторые
официально признанные, «образцовые» или просто очень популярные,
тиражируемые кино и ТВ взрослые и детские песни советского периода
(«Катюша», «Где-то на белом свете...», «Погоня», «Елочка» и др.), а в
последнее время - и эстрадные песни. Подобные переделки исследовал
М. Л. Лурье. Опираясь на труды М. М. Бахтина и Д. С. Лихачева, он
справедливо соотносит их «типологически, а отчасти и генетически» не
с современной литературной пародией, а с пародией («профанной по-
эзией») античности и средневековья, когда «на первый план выходит не
шаржирование жанрово-стилистических особенностей оригинала, а
снижение “высокого образца’’»4.
В наших материалах есть изящная пародия, которая перемежает
строки из произведений Пушкина и Некрасова, не меняя при этом поч-
ти ни одного слова. Это остроумная игра с двумя источниками, осно-
ванная на общности стихотворного размера и способа повествования:
Однажды в студеную зимнюю пору
Сижу за решеткой в темнице сырой.
Гляжу: поднимается медленно в гору
Вскормленный в неволе орел молодой.
И шествуя важно, в спокойствии чинном
Мой верный товарищ, махая крылом,
В больших сапогах, в полушубке овчинном
Кровавую пищу клюет под окнам.
И макаронический «перевод» начала сказки Пушкина на «псевдо-
английский» язык:
Три герлицы под виндом
В преф играли ивнингом.
Спичет ферстая герлица:
«Кабы я была кингица,
Я б для фатера-кинга
Суперрайфл соткала».
Спичет ейная сестрица:
«Кабы я была кингица,
199
Влияние литературы и массовой культуры на поэтику...
Я б для фатера-кинга
Суперсейшн собрала».
Третья спикнула герлица:
«Кабы я была кингица,
Я б для фатера-кинга
Супермена родила!».
Есть в детско-подростковом репертуаре и другого рода перелицов-
ки известных произведений - пародические (Ю. Тынянов) песни, не
имеющие целью снизить оригинал, но использующие его для переда-
чи иного, актуального для исполнителей, содержания, например свя-
занного со школьной жизнью, летним отдыхом. В этом случае от тек-
ста литературного источника почти ничего не остается, кроме первой
строки как знака, маркирующего всем известный источник. В созда-
нии новой песни используются лишь ритмика, мелодия и отдельные
рифмы старой. Не будучи пародией, эти произведения нередко все же
имеют ироническую, а то и эпатирующую направленность, но объек-
том осмеяния выступает уже не «высокий образец», а сама действи-
тельность, принятые нормы поведения. Цитирую один из многих
вариантов песни «Ничего на свете лучше нету...» (переделка песни
Г. Гладкова и Ю. Энтина из м/ф «Бременские музыканты»):
За каникулы задачи все забудем
И домашку мы учить не будем.
Нам училки выставят по «двойке» -
Мы журналы выкинем в помойку
И училок всех зашлем на стройку!
Интересно, что пародическое использование литературных источ-
ников широко распространено и в фольклоре современных солдат
срочной службы, вчерашних школьников5, и в таком современном
жанровом образовании, как «фанатские кричалки» (пример передел-
ки того же источника):
Мы свое призванье не забудем,
За «Спартак» всегда болеть мы будем.
Нам ни водка, ни чужие жены
Не заменят сектор стадиона!
Не заменят сектор стадиона!
Второй способ - усвоение авторской структурной и содержатель-
ной модели жанра детской традицией.
Так называемый черный юмор уже давно стал достоянием взрос-
лой и подростковой устной традиции, однако лишь недавно (в конце
70-х годов XX в.) рождается жанр детской иронической поэзии, цели-
ком основанный на его специфической эстетике. Это «жестокие»
200
И. Н. Райкова
(«садистские») стишки. Черный юмор психологически закономерен
для детей среднего и старшего школьного возраста, так как означает
окончательную победу над детскими страхами, а заодно и над взрос-
лым излишним запугиванием. «Страшное» и смешное в таких произ-
ведениях причудливо совмещаются, и смех дискредитирует, уничто-
жает все ужасы. Лишь в последнее десятилетие XX в. стишки начали
издавать, а также появилось несколько интересных исследований,
однако в целом жанр еще очень мало изучен6.
«Жестокие» куплеты литературны по происхождению, первые об-
разцы этого жанра - еще с различной ритмикой и предназначенные
для пения под гитару (часто также на мотивы известных, официально
признанных песен) - были сочинены поэтами: О. Григорьевым,
И. Мальским и, вероятно, другими (см. об этом подробнее в публика-
циях А. Ф. Белоусова). Однако очень быстро они вошли в фольклор-
ный обиход, по авторской структурно-содержательной модели стали
создаваться новые тексты. Они «спустились» от студентов к детям,
стали декламироваться, выработали устойчивую строфику и ритмику
(двустишие и четверостишие, 4-х-стопный дактиль) и прижились.
Сейчас известно более чем 200 сюжетов и множество вариантов
стишков, они широко распространены в различных регионах. Вот
примеры вариантов одного сюжета:
Мальчик в деревне на вишню полез,
Дедушка вынул свой старый обрез.
Выстрел раздался и сдавленный крик.
«Сорок шестой!» - улыбнулся старик.
Маленький мальчик на вишню залез,
Сторож Игнатий вскинул обрез.
Выстрел раздался, взметнулись вверх ручки -
Будет обед у некормленой Жучки.
Мальчик в деревне на вишню полез,
Дедушка вынул свой старый обрез.
Выстрел ночную тишь разорвал:
Мальчик свой браунинг раньше достал.
Мальчик за сливами в садик полез.
Сторож Лаврентий вскинул обрез.
Выстрел раздался, сторож упал:
Мальчика сзади отец прикрывал.
Совсем недавно традиция выработала новый жанр, являющийся
пародией уже на жестокий стишок, - это так называемая добрилка
(«хэппиэндовка»). По происхождению жанр также литературен (автор
первых образцов - юморист Вадим Томин, см. также публикации
201
Влияние литературы и массовой культуры на поэтику...
А. Ф. Белоусова), но органичен для детского фольклора. Соотношение
«жестоких» стишков и «добрилок» аналогично соотношению страши-
лок и пародий на них. «Страшное» здесь еще более явно и подчеркну-
то уничтожается смешным:
Какой-то мужчина с большим топором
К мальчишке подкрался: «А ну-ка, идем!»
Стуки и крики слышны со двора:
Папа с сынишкою колют дрова.
Гадюка нацелилась на ногу дяде.
А тот говорит ей: «Чего это ради?»
В великам смущенье застыла змея,
Подумав: «А правда, чего это я?»
По нашему мнению, на фоне всех жестокостей появление таких «па-
родий на пародию» - закономерный и психологически отрадный фактор.
В наши дни стали частью устной детской традиции и так называе-
мые вредные советы, тоже литературные по происхождению стишки,
восходящие к одноименному широко известному стихотворному
сборнику детского писателя-юмориста Григория Остера. В лаконич-
ных стихотворных (рифмованных и нерифмованных) формулах раз-
ворачивается картина того, что произойдет, если не следовать прави-
лам и предписаниям взрослых, например:
Если папа сел обедать,
Незаметно для него
Подпилите ножки стула.
То-то будет все веселье!
Пейте воду вы из лужи!
Это очень вкусно даже!
Там микробов и бактерий
Хватит, чтобы заболеть!
И тогда не надо утром
В семь часов вставать вам рано,
Просто спите, сколько нужно,
Потаму что вы больной.
Смеховой же эффект достигается тем, что эта картина дается в ви-
де совета.
Думается, результатом первого и второго способов влияния лите-
ратуры и массовой культуры на фольклор становится появление ог-
ромного множества новых произведений, и они очень быстро осваи-
ваются детской устной традицией и становятся неотъемлемой
принадлежностью этой области традиционной культуры, подчиняясь
202
И. Н. Райкова
ее законам. Так, на наш взгляд, в сфере юмористического детского
фольклора (а она в широком смысле почти не знает границ) срабаты-
вает общий для многих жанровых образований прием - эффект об-
манутого ожидания. Вслед за обещающим нечто определенное нача-
лом происходит подмена, идет новый, порой парадоксальный
поворот, некий перевод в иную плоскость, снижающий, дискредити-
рующий изначально данное. Слушатель неожиданно попадает в ло-
вушку. Несоответствие того, что вдруг «предлагают», тому, что перво-
начально «было заявлено», комично.
В этом отношении мы совершенно согласны с мнением М. П. Че-
редниковой. Она, говоря о жанровой диффузии детского фольклора,
предлагает считать так называемую «заманку», основанную на логике
парадокса, интеллектуальной и словесной игровой формой, сближа-
ющей по функции разные жанры (поддевку, анекдот, загадку, в том
числе рисованную). Проигравший в этой игре, по мнению ученого, на
самом деле побеждает, так как ему открывается «новое знание» вза-
мен уничтоженного парадоксом. Его «смех, направленный на себя, -
источник рождающейся мысли»7.
И, как нам представляется, наличие/отсутствие литературного ис-
точника текста или авторской модели жанра в этом принципиальной
роли не играет. Приведем ряд примеров:
В докучной сказке-коротушке слушатель ожидает настоящую сказ-
ку - получает «дырку от бублика» (констатацию того, что сказка, едва
начавшись, уже закончилась):
Хочешь сказку про лису?
Она в лесу.
В метафорической загадке - описание, скажем, диковинного жи-
вотного, а в отгадке - реалия общественной жизни:
Длинный хвост, а шерсти нету. Говорят, скоро будет.
(Очередь в магазине за шерстью.)
В загадке, основанной на игре слов, слушатель уже начинает в уме
решать простую арифметическую задачу - отгадка же показывает, что
загадку следовало понимать как логический вопрос:
Три слона на суше,
Три слона в воде.
Сколько будет?
(Один: сколько ни три, слонов не прибавится.)
В поддевке естественного диалога собеседнику задают бытовой,
не предполагающий никакого подвоха вопрос - и вдруг смеются над
его непосредственной реакцией:
- Твой жетон?
(Собеседник наклоняется.)
203
Влияние литературы и массовой культуры на поэтику...
- Спасибо за поклон!
В школьном сатирическом куплете нейтральное, даже по видимости
серьезное начало взрывается парадоксальной последней фразой:
Я спросил сегодня Васю:
Чем ты, Вася, занят в классе?
Он задумался слегка
И ответил: «Жду звонка!»
«Антистрашилка» не предвещает своим началом ничего хорошего,
сулит самый «ужасный ужас» в кульминации, между тем следует при-
земленная, трогательная, разрушающая страхи смехом концовка:
На черной-черной планете, на черном-черном континенте, в чер-
ной-черной стране, в черном-черном городе скучно. На черной-черной
улице, в черном-черном дворе сидели два черных-черных человека и
говорили. И один из них сказал: «Эх, Петька, и зачем мы с тобой
резину жгли?!»
Стишок-пародия: мы начинаем слушать дивное стихотворение
Ф. Тютчева, а заканчиваем - грубую подделку, впрочем, логично
сплетенную с оригиналом:
Люблю грозу в начале мая:
Как гроханет - и нет сарая!
Пародия на рекламу: мы думаем, что нам в очередной раз предла-
гают рекламу, но концовка содержит снижающую, вскрывающую
привычную рекламную ложь подмену:
Дока-пицца - нельзя не подавиться! (Вариант: ... отравиться!)
Наконец, третий способ влияния - включение отдельных образов и
мотивов литературы и массовой культуры в фольклорные произве-
дения. Заметим, что мы не можем согласиться с пафосом статьи
А. Б. Афанасьевой о «вульгарном влиянии западной массовой культу-
ры» на детей, несущей «дьявольскую эстетику», о притуплении у
детей вследствие этого «ощущения недозволенности насилия»8. Ду-
мается, образы литературы, кинофильмов, мультфильмов, а в послед-
нее время и телерекламы - уже обычные приметы сегодняшнего мас-
сового сознания. Они принципиально не меняют ни духа, ни эстетики
детского творчества, органично вписываясь в существующие чрезвы-
чайно гибкие жанровые модели.
Для современных (и не только городских, но и деревенских) детей
диснеевские герои точно так же, как традиционные «царь, царевич,
король, королевич», - не зарубежная экзотика, а свои, освоенные,
понятные образы. Они, может быть, и неосознанно для самих творцов
204
И. Н. Райкова
традиции «присели» на «золотое крыльцо» известной считалки, но
прижились и остались на нем:
На золотом крыльце сидели:
Мишки Гамми, Там и Джерри,
Дядя Скрудж и три утенка,
А водящим будет Понка.
Считалка с диснеевскими героями известна уже в нескольких ва-
риантах (варьируются нерифмующиеся имена, например: Микки Ма-
ус, Том и Джерри, Скрудж МакДак и три утенка и т. п.), так что мы
имеем дело действительно с фольклорными текстами, с формирую-
щейся на наших глазах традицией.
Герои народных сказок о животных, мультфильмов, боевиков и фан-
тастических кинофильмов, телерекламы обретают «вторую жизнь» и
уживаются все вместе в анекдотах, попадая в новые для себя, причем
исключительно комические ситуации. Они такие же обыкновенные для
ребенка и часто взаимозаменяемые персонажи, как Вовочка с учитель-
ницей Мариванной и родителями, бабушка и ее безымянный внук и т. п.
Бывает и так, что один сюжет объединяет героев разножанровых и раз-
новременных источников. Так, добрый старый Чебурашка примеряет на
себя маску нового, более модного героя:
Приходит Чебурашка к Гене и говорит:
- Гена, дай мне денег на билет в кинотеатр, я на фильм «Терми-
натор» пойду
Приходит из кинотеатра и говорит:
- Всем стоять: я - Чебуратор!
Тем самым маленький острослов показывает, что он уже дорос до
«взрослой», как ему кажется, эстетики боевиков, фантастических и детек-
тивных фильмов, даже триллеров («ужастиков», как их называют дети).
В детских страшилках, как известно, синтезированы и трансфор-
мированы мировоззренческая основа и поэтические черты таких тра-
диционных жанров фольклора, как заговор, волшебная сказка, былин-
ка. С другой стороны, здесь очевидно влияние массовой культуры:
фантастической и детективной литературы, фильмов - боевиков и
триллеров, газетной хроники происшествий и т. п. В последнее время
появляется и новая тенденция: в мир вещей - носителей зла, способ-
ных не просто наносить ущерб людям, но вызывать смерть, включа-
ются образы современных информационных технологий, современ-
ной индустрии компьютерных игр. Они органично заступают место
грампластинки, пианино, радио, телевизора, устойчиво представляв-
ших источник зла в детских страшилках в 60-80-е годы XX века. Вот
характерный пример:
205
Влияние литературы и массовой культуры на поэтику...
Один мальчик очень любил играть в компьютерные игры. Один
раз он купил на черном рынке у черного продавца новую игру на чер-
ном диске за 6 рублей 66 копеек. Пришел дамой и начал играть. А
там надо было убивать из пистолета разных монстров. Мальчик
убил одного, и второго, и третьего, а в четвертого, с длинными-
длинными руками, промахнулся. Через час мать мальчика зашла в
комнату и увидела, что его кто-то задушил.
На следующий день мальчика похоронили, а диск забрал его луч-
ший друг. Убил он и четвертого, и пятого, и шестого, а в седьмого, с
громадным трезубцем, промахнулся. Через час мать мальчика зашла
и увидела, что его кто-то заколол. Этого мальчика тоже похорони-
ли, а диск забрала себе его двоюродная сестра... через некоторое
время ее тоже похоронили, а диск взяла ее подруга... На сегодняшний
день от этого диска погибло 48 мальчиков и 27 девочек, и он до сих
пор переходит из рук в руки. Гэворят, тот, кто пройдет эту игру до
конца, станет властелином мира или чемпионам по стрельбе.
Мотивы неоконченной смертельно опасной игры, зловещего пере-
хода эпизодов игры и ее жутких персонажей из мира виртуального в
реальный также навеяны сегодняшним кинематографом («Сканирова-
ние мозга», «Джуманджи», «Дети шпионов - 3» и другие фильмы).
Что касается приведенного текста, привлекают внимание обильные
повторы с нарастанием, создающие образ смерти, распространяю-
щейся, как снежный ком, охватывающей все большее пространство.
Интересно «оживление» эпитета черный в устойчивом выражении
черный рынок, его функционирование как сквозного.
Ту же цель испытать коллективное чувство страха и победить его,
породившую страшные рассказы, преследуют дети и в магически-
игровых «вызываниях» персонажей детского мифотворчества - Пико-
вой дамы, Ведьмы, гномиков, Жвачного Короля, Чертика, Белоснеж-
ки, Большой Бабочки и др.9 Большинство вызываемых персонажей -
герои книг, фильмов и мультфильмов, лишь некоторые восходят к
народной демонологии. В «вызываниях» выразилась извечная тяга
древнего и детского сознания к тайне, чуду. Цель ритуала «вызыва-
ния» - в самом факте появления сверхъестественного существа или
обнаружения последствий его прихода. Участников привлекает именно
проникновение чудесного в обыденное течение жизни, попытка пре-
одоления страха перед неизвестной опасностью. Загадывание же «доб-
рого» или «злого» желания, скорее, только предлог для «вызывания».
Хотелось бы обратить внимание на встречающиеся здесь образы: в
одном ряду вызываемых персонажей вместе с названными стоят и
следующие лица. Фредди Крюгер, фантастический персонаж знаме-
нитого американского триллера «Кошмар на улице Вязов» (реж.
206
И. Н. Райкова
У. Крейвен). Он, кроме того, вошел в устную традицию в качестве
героя считалки, переведенной с английского, но типологически близ-
кой русской и интернациональной модели считалок-числовок {«Раз,
два, Фредди заберет тебя...»}. Пушкин как вообще знаковая и мифо-
логизированная в отечественной культуре фигура, освоенная не толь-
ко детским, но и взрослым фольклором и обыденным коллективным
сознанием. Абрам Терц в своих «Прогулках с Пушкиным» очень точ-
но подмечает это: «Останутся вертлявость и какая-то всепроникае-
мость Пушкина, умение испаряться и возникать внезапно, застегива-
ясь на ходу, принимая на себя роль получателя и раздавателя пинков-
экспромтов, миссию козла отпущения, всеобщего ходатая и доброхо-
та, всюду сующего нос, неуловимого и вездесущего, универсального
человека Никто, которого каждый знает, который все стерпит, за всех
расквитается».
- Кто заплатит? - Пушкин.
Что я вам - Пушкин - за все отвечать?»10.
«Вызывание» Пушкина уникально тем, что дети ничего не просят
у поэта, напротив, невзирая на якобы смертельный риск, добровольно
устраивают себе с помощью него экзамен - настолько сильна в них
тяга прикоснуться к чуду его прихода, вступить с ним не в фигураль-
ный, а в прямой диалог сейчас, здесь, в своей комнате:
А на Пушкина - это такое. В общем, говоришь 13 раз: «Пушкин, поя-
вись!» Вначале, когда появляется, он говорит: «Кто посмел меня разбу-
дить?» Он задает 12 вопросов, и если на несколько вопросов не отве-
тить, он тебя задушит, а если ответить на все вопросы, то он уйдет.
Третья фигура в имеющемся в моем распоряжении материале -
эстрадный певец Андрей Губин.
«Моя сестра вызывала один раз в Новом году... Была ночь... 12
часов. Катька говорит: "Давай вызовем Губина". У нее на двери
плакат... И у него ни с того ни с сего блестки, ну, как объяснить...
типа сияние, где глаза. Мы сразу под диван!»
Очевидно, что такой тип вызываемого персонажа, как «звезда» эс-
трады, кино, телевидения, закономерен и симптоматичен в наши дни,
но так же очевидно, что выбор именно А. Губина, а не кого-то другого
случаен (его просто было сподручнее вызывать, так как висел плакат).
Так любая наша запись, строго говоря, случайна, это лишь один из
возможных «моментальных снимков». Уже данный материал показы-
вает, что вызываемые персонажи взаимозаменяемы, но только до
определенной степени: не случайно, например, что Пушкин задает
207
Влияние литературы и массовой культуры на поэтику...
вопросы и ждет от детей ответов, а Губин только «блестит», как и
положено «звезде».
Итак, закономерное, мощное, многообразно проявляющееся и не
обязательно негативное по своим последствиям влияние профессио-
нальной литературы и массовой культуры на современное фольклор-
ное творчество детей и подростков нельзя не учитывать, чтобы соста-
вить представление о разнообразии жанровых форм детского
фольклора, межжанровой диффузии, динамике развития детской куль-
туры, соотношении в ней традиционного и нового, взаимодействии ее
с культурой взрослых. Уже накопленный в публикациях и архивах
богатейший материал детского фольклора требует дальнейшего
тщательного изучения, и под данным углом зрения в частности.
Примечания
1 Аникин В. П. Начало всех начал И Мудрость народная. Жизнь человека в русском
фольклоре. Вып. 1. Младенчество. Детство. М., 1991. С. 17.
2 Анализируемый и цитируемый материал почерпнут главным образом из архива
Московского городского педагогического университета (записи студентов от москов-
ских школьников в конце XX - начале XXI века) и личного архива автора.
3 Новицкая М., Райкова И. Детский фольклор и мир детства И Детский фольклор /
Сост. М. Ю. Новицкая и И. Н. Райкова. М., 2002. С. 32-33.
4 Лурье М. Л. Пародийная поэзия школьников И Русский школьный фольклор. От «вызыва-
ний» Пиковой дамы до семейных рассказов / Сост. А. Ф. Белоусов. М., 1998. С. 430-518.
5 См. подробнее: Райкова И. И. Фольклор современных солдат: идейно-художествен-
ное своеобразие и отношение к детскому фольклору И Мир детства и традиционная
культура / Сост. С. Г. Айвазян. М., 1995. С. 73-102.
6 См.: «Мальчик в овраге нашел пулемет...»-. «Страшилки» - антология черного юмора /
Собр. и сост. А. Р. Ярось и А. И. Наумов. Минск. 1992; Новицкая М. Ю. Формы иро-
нической поэзии в современной детской фольклорной традиции И Школьный быт и
фольклор / Сост. А. Ф. Белоусов. Ч. 1. Таллинн. 1992. С. 100-123; Немирович-Данчен-
ко К. К. Наблюдения над структурой «садистских стишков» // Там же. С. 124-137;
Неёлов Е. М. Черный юмор «садистских стишков»: детский бунт кромешного мира И
Мир детства и традиционная культура. Вып. 2 / Сост. И. Е. Герасимова. М. 1996.
С. 100-105; Белоусов А. Ф. «Садистские стишки» И Русский школьный фольклор. С. 15-
56; Чередникова М. П. Приключения «маленького мальчика» И Чередникова М. П.
«Голос детства из дальней дали...» (Игра, магия, миф в детской культуре). М., 2002.
С. 199-209; Райкова И. Н. Герой-ребенок в современном фольклоре детей и подрост-
ков И Традиционная культура. Научный альманах. 2002. № 4. С. 38-46.
7 Чередникова М. П. О парадоксальной логике детского фольклора И Череднико-
ва М. П. «Голос детства из дальней дали...». С. 32.
8 Афанасьева А. Б. О влиянии массовой культуры на детский фольклор // Сохранение
и возрождение фольклорных традиций. Вып. 9. М., 1999. С. 219-222.
9 Детский фольклор. С. 385-395.
10 Терц Абрам. Прогулки с Пушкиным И Пушкин: Суждения и споры. М., 1997. С. 296-297.
208
«Двоемирие» в повести А. Погорельского
«Лафертовская маковница»
и фольклорной несказочной прозе
Н. Е. Котельникова (Москва)
В середине 20-х и в 30-е годы XIX века в русской литературе проза
начинает преобладать над поэзией. При этом самым распространенным
и читаемым из прозаических жанров становится повесть, в том числе и
фантастическая. Интерес к потустороннему, неясному и таинственному,
желание выразить нечто, скрытое за эмпирическим образом мира побу-
ждало многих писателей обращаться к фантастике. Начало повестей в
«фантастическом роде» относится к тому времени, когда в литературе
сложилось новое, романтическое направление. «Немецкие романтики
Э. Т. А. Гофман, Л. Тик, А. Шамиссо и другие придали фантастической
повести те содержательно-композиционные особенности, которые ус-
воили, а затем и преобразовали русские писатели»1. Растет интерес к
народности вообще и к народной словесности в частности. Родная ста-
рина, патриархальный быт, фольклор и народная этика являлись одним
из основных источников творчества романтиков.
Русскую фантастическую повесть характеризует то, что в ней
«обязательно связываются два мира - реальный и сверхъестествен-
ный; проявления сверхъестественного мира нарушают привычный
ход действительной жизни, сопровождаются возникновением таинст-
венных обстоятельств, запутывающих сознание и волю человека,
создают напряженность и остроту происходящего»2. Другими слова-
ми, ключевой темой романтической фантастики можно назвать
«двоемирие». Эта же тема лежит в основе фольклорной несказочной
прозы различных жанров.3
Рассмотрим подробно произведение, которое открывает в русской
прозе жанр повести в «фантастическом роде». Это - «Лафертовская ма-
ковница» Антония Погорельского, опубликованная в 1825 году. Внимание
сегодняшних литературоведов обращается к ней преимущественно по той
причине, что А. С. Пушкин, еще не зная, кому принадлежит повесть,
сразу же угадал ее автора и высоко оценил блестящую выдумку. Для нас
же эта повесть представляет особый интерес, поскольку она является
образцом обращения писателя не только к традициям романтической
фантастики и свойственным ей фольклорным штампам, но и первым
глубоким освоением народной несказочной прозы.
209
«Двоемирие» в повести А. Погорельского...
Прежде всего это касается всего сюжета в целом: главная героиня
повести, Маша, отказывается от богатства и жениха, предлагаемого
«нечистым», поборов искушение, возвращается к правильному хри-
стианскому поведению. За что и вознаграждается и желанным сужен-
ным, и нечаянным богатством. Внутренняя сущность этого сюжета
соотносится с легендой о двух братьях, которая фиксировалась в раз-
личных жанровых версиях (ближе к сказке или к былинке):
«Жили два брата. Один богатый, другой бедный. Богатому приви-
делся сон, что в одном месте клад зарыли. И так три раза. Пошел он к
бедному звать рыть клад вместе. Сидит этот у окна и говорит: “Нет, не
пойду. Мне и так Бог в окно подаст”. Рассердился богатый, пошел
один. Рыл, рыл он и вырыл дохлую собаку. Так ему горестно стало,
пошел опять к брату: “Что, - говорит, - не шел копать? Я вырыл: на,
вот, тебе!” Взял да и бросил собаку в окно да прямо на стол. Обеда-
ли... Все со стола полетело, а собака рассыпалась чистым золото.
“Вот, - говорит бедный, - мне Бог подал в окно”. Запамятовала де-
ревню, где это было»4.
Мотивы, раскрывающие сущность клада в качестве богатства «от
нечистого», актуальны как для элитарной, так и для народной культу-
ры того времени, и нашли свое наиболее полное отражение в роман-
тической повести и в фольклорной прозе. «Фантастическая повесть
романтиков подвергла сомнению новый для России, но уже соблазни-
тельный буржуазный идеал, символом которого являются деньги.
Золото, по понятиям романтиков, стало олицетворением ада челове-
ческих страданий и загубленных возможностей. В борьбе за богатство -
идол нового мира - расцветают эгоистические и низкие страсти.
Творческий труд и разнообразные способности человека теряют свой
смысл и значение, если они отданы только одному - жадной погоне за
деньгами. Мало того, жажда приобретательства, накопительства спо-
собна изжить любые другие желания, направить всю жизнь по лож-
ному, бездуховному пути, уничтожить талант, разрушить личность.
Вот эту проблему - проблему сущности и влияния золота - русские
писатели исследовали зорко и остро»5. В качестве примеров можно
привести такие известные повести, как «Пиковая дама» А. С. Пушки-
на и «Портрет» Н. В. Гоголя.
Необходимость для человека сохранения истинной иерархии цен-
ностей, внутреннего соответствия нравственным нормам в любых
жизненных ситуациях можно найти в рассказах о кладах, по жанро-
вым признакам относящихся к легендам (например, «Грех и покая-
ние»6) и быличкам, включающим мотив искушения богатством:
«...А в это время подходит сосед к воротам, постучался и говорит:
“Эй, сват, пойдем к завтрене?” - с вечера еще они уговорились вместе
идти в церковь. Пожадничал тот: нет, говорит, не пойду. Нешто мне не
210
Н. Е. Котельникова
здоровится нонче. Клад - у-у-у! В землю и ушел. Побежал старик за
соседом за другими кликать: “Клад, - говорит, - у меня на дворе сей-
час был!”. Стали рыть - ничего не нашли. Не впрок пошло богатство
им, скоро померли. А дочь у них была, так с ума сошла, на цепи сиде-
ла, все деньги тогда и перетаскали у нее. И место, где был дом теперь
быльем да крапивой поросло»7.
Но вернемся к рассмотрению «Лафертовской маковницы» и выде-
лим те мотивы, детали и приемы повествования, которые находят
явные параллели в фольклорной прозе. Начинается повесть, как и
многие былички, с описания места и времени действия описываемых
событий. Далее следует характеристика деятельности Лафертовской
Маковницы - сначала официальной, видимой всем, а затем и скрытой,
основанной на ее принадлежности сразу к двум мирам. Затем можно
выделить эпизод, реализующий два типичных для быличек о колдунах
мотива: 1) месть колдуна/колдуньи; 2) прекращение нанесения вреда в
обмен на оплату или подарки:
«Правда, что завистливые соседи называли ее за глаза колдуньею и
ведьмою; но зато в глаза ей низко кланялись, умильно улыбались и
величали бабушкою. Такое к ней уважение отчасти произошло от
того, что когда-то один из соседей вздумал донести полиции, будто бы
Лафертовская Маковница занимается непозволительным гаданием в
карты и на кофе и даже знается с подозрительными людьми!.. Каза-
лось, что сама судьба вступилась за бедную Маковницу; ибо скоро
после того сын доносчика, резвый мальчик, бегая по двору, упал на
гвоздь и выколол себе глаз; потом жена его нечаянно поскользнулась
и вывихнула ногу; наконец, в довершение всех несчастий, лучшая
корова их, не будучи прежде ничем больна, вдруг пала. Отчаянный
сосед насилу умилостивил старушку слезами и подарками, - и с того
времени все соседство обходилось с нею с должным уважением»8.
В быличках колдунья также мстит путем нанесения вреда людям и
животным. Пример задаривания колдуньи с целью избавления от ее
чар находим, например, в следующей быличке:
«Вот и в войну было. Плохо жили, не было ничего. А у меня коро-
ва была, картошка была. А про хлеб и речи не было. Женщина жила
на той улице, вот и придумала идти до меня. Думает: “Пойду, на нее
нашлю, все равно мне подарит”. Я с работы иду, у меня лицо зазуди-
лось, загорелось. Огнем горит лицо! От как около костра стоишь - нет
возможности стоять. Прихожу домой. Василий покрывало и одеяло дал.
Легла на полу. Сил нет. Лежу. Уже ночь, она приходит и открывает
дверь. А она по ветру пустила, и до меня пришло. Я знала, то она воро-
жа. Она говорит: “Ты че лежишь?”. Я говорю: “Сгорела. Горьмя горю”.
Она говорит: “Васька, тащи еды. Постой, я тебе счас натру”. Ей смета-
ны принесли, молока из сенец. Потом она на меня дунула. Ветер дует, а
211
«Двоемирие» в повести А. Погорельского...
мне аж легче делается. Ну, посидела, посидела, опять давай ладить. Три
раза поладила: “Сидай, ужинай и ночуй у нас”. А сама уснула, как умер-
ла. Утром встала - нет ничего. Мы ей тогда молока налили, сметаны
дали. Она говорит: ‘‘Я же не унесу”. А мы ей: ‘‘Ну ладно, другим разом
придешь”. Она ж по ветру пустила и сама же пришла»9.
В следующем эпизоде Антоний Погорельский описывает ситуа-
цию, хорошо знакомую каждому фольклористу: о сверхъестественных
свойствах колдуньи рассказывают только те, кто не боятся ее чар:
«Те, которые, переменяя квартиру, переселялись далеко от Лафер-
товской части - на Пресненские пруды, в Хамовники или на Пятниц-
кую - те только осмеливались громко называть Маковницу ведьмою.
Они уверяли, что в сами видели, как в темные ночи налетал на дом
старухи большой ворон с яркими, как раскаленный уголь, глазами;
иные даже божились, что любимый черный кот, каждое утро прово-
жающий старуху до ворот и каждый вечер ее встречающий, не кто
иной, как сам нечистый дух»10.
Включение в ткань повествования семантически нагруженных де-
талей, не только помогает раскрыть колдовскую сущность Маковни-
цы, но и подготавливает читателя к тому, что предстоит встреча с
активным проявлением потустороннего мира. Это - образы ворона и
кота. С одной стороны, в этих образах чувствуется литературная тра-
диция, с другой - в народных представлениях сохраняется мнение о
том, что ворон - птица проклятая, дьявольская, связанная с миром
мертвых. Так, согласно примете ворон - предсказатель’. «Если ворон
сядет на купол или в колокольню храма, в той церкви будет отпеваться
покойник, тоже и в том доме, кто либо умрет, на кровле которого ся-
дет и прокаркает ворон»11. Ворон, как и волк, может быть связан в
фольклорной традиции с обротничеством (СУС 451 - братья обраща-
ются в волков или в воронов).
Образ кота постепенно занимает в повести все более важное ме-
сто. Сначала этот персонаж предстает перед читателем в виде черного
кота, затем появляется уже в виде Машиного жениха с того света -
господина титулярного советника Аристарха Фалалеича Мурлыкина:
«После того он несколько раз им поклонился с приятностью выги-
бая круглую свою спину, и вышел вон. Маша смотрела из окна и ви-
дела, как Аристарх Фалелеич сошел с лестницы и, тихо передвигая
ноги, удалился; но дошед до конца дома, он вдруг повернул за угол и
пустился бежать как стрела. Большая соседская собака с громким
лаем во всю прыть кинулась за ним, однако не могла его догнать»12.
Кот в народных представлениях наделяется двойственной символи-
кой и различными демоническими функциями. Кошка ассоциируется с
домовым, в черного кота, как правило, оборачивается нечистая сила -
колдун или черт. В виде кошки часто выступает клад или его охранник:
212
Н. Е. Котел ъникова
«Недалеко от Чераклов есть дуб, под ним лежит клад. Вот раз по-
шли мужики его рыть, ружье на всякий случай взяли. Пришли, видят -
около дуба (с полуночи) ходят черные кошки кругом. Стали они смот-
реть, глаз отвести не могут. Закружилась у них голова и попадали
мужики наземь. Очнулись, хотели рыть, а кошки опять хороводиться
пошли, то влево, то вправо. Так и бросили, страшно стало»13.
Герой повести, Мурлыкин, также выступает не только как жених с
того света, но и в какой-то степени является хранителем теткина кла-
да: «Мне не позволено сказать тебе, где спрятаны деньги; но как скоро
ты выйдешь замуж, все тебе откроется!»14.
Примечательно с точки зрения фольклориста художественное ре-
шение эпизода, в котором Маша приходит к тетке ночью для получе-
ния ключа от будущего богатства:
«Наконец пришла она к домйку и трепещущею рукою дотронулась
до калитки... Вдали, на колокольне Никиты Мученика, ударило две-
надцать часов. Звуки колокола в тишине черной ночи дрожащим гу-
лом расстилались по воздуху и доходили до ее слуха. Внутри домика
кот громко промяукал двенадцать раз... Она сильно вздрогнула и
хотела бежать... но вдруг раздался громкий лай цепной собаки, за-
скрипела калитка - и длинные пальцы старухи схватили ее за руку.
Маша не помнила, как взошла на крылечко и как очутилась в бабуш-
киной комнате...»15.
Автор использует для создания атмосферы страха прием наращи-
вания числа деталей, которые в народных представлениях наделены
особым смыслом. Во-первых, это сакральное время, 12 часов, время
ослабления границ между двумя мирами. Во-вторых, прохождение
через калитку - пересечение пространственной границы, где человек
также уязвим для потусторонних сил. Усиливает эффект напряженно-
сти гул колоколов. Согласно традиционным верованиям колокольный
звон несет большую семантическую нагрузку: «Присматриваясь к
некоторым славянским обычаям и поверьям, так или иначе связанны-
ми с колоколами, без труда замечаешь, что колокольный звон появля-
ется там и тогда, где и когда человек нарушает правила христианского
благочестия и бытового поведения, причем независимо от того, идет
ли речь о проступке или посягательстве на человеческую жизнь»16.
Для создания ощущения пущего ужаса и создания не только зримой,
но и слышимой картины происходящего, помимо колокольного гула,
добавляются еще мяуканье кота и лай собаки. И затем ситуация взры-
вается наречием «вдруг». Этот прием является одним из характер-
нейших художественных средств, свойственных быличкам.
Следующий эпизод, решенный автором в традициях фольклорной
прозы, - смерть Лафертовской маковницы: шум, свист в доме, гроб,
213
«Двоемирие » в повести А. Погорельского...
который вдруг потяжелел - для всех этих необычайных явлений мож-
но найти явные параллели в былинках о смерти колдунов.
Большие неприятности ожидали семью почтальона Онуфрича, пере-
ехавшего в дом колдуньи после ее смерти: «Радость Ивановны, однако,
в тот же вечер гораздо поуменьшилась: лишь только настал вечер, как
пронзительный свист раздался по комнатам и ставни застучали»17. Сре-
ди резких, нарушающих покой и размеренность жизни звуков особое
место занимает свист - «явление, неизменно связываемое в народных
представлениях с призывом зла, лиха. Беды, нечистой силы»18. Сходную
семантику имеет в народных представлениях и ветер.
Затем покойница стала мерещиться и заглядывать в окна. Мотив
приходящего к живым покойника также широко распространен в
фольклорной прозе. Избавление от него возможно прежде всего бла-
годаря молитве: «Ивановна легла, но покойница все представлялась ее
глазам в том же сердитом виде. Онуфрич, спокойно раздевшись,
громко начал молиться, и Ивановна заметила, что по мере того как
она вслушивалась в молитвы, вид покойницы становился бледнее,
бледнее - и наконец совсем исчез»19.
Наконец Маша решила избавиться от своей связи с потусторонним
миром и окончательно отказаться от неправедного богатства. Благо-
даря крестному знамению и твердости духа, ей это удалось: «Лишь
только смерклось, Маша тихонько сошла с лестницы и направила
шаги прямо к колодезю. Едва вступила она на двор, как вдруг вихрь
поднялся вокруг нее, и казалось будто земля колеблется под ее нога-
ми... Толстая жаба с отвратительным криком бросилась прямо ей
навстречу; но Маша перекрестилась и с твердостью пошла вперед»20.
В этом фрагменте появляется такой весьма многозначный образ,
как жаба. Это не просто неприятное животное, но и представитель
потустороннего мира. Жаба в традиционных верованиях наделяется
демоническими свойствами и, в частности, может выступать в роли
сторожа клада. Так, в быличке о Каревском кладе говорится: одному
мужику приснился сон о том, что надо взять с собой рыть клад троих
бедных братьев. Он не взял, увидев клад, набил карманы, ушел за
лошадью. Вернувшись, обнаружил, что клад охраняет «страшнейшая
лягушка с корову». Дома же «в карманах вместо золота оказались
черепки и гнилушки»2 .
Счастливый конец повести вполне согласуется с традициями
фольклорной прозы: Маша с честью выдержала испытания и получи-
ла любимого мужа и нечаянное уже богатство, но, главное: смогла
избежать гибели от вторжения другого мира в ее жизнь.
Проблема «двоемирия» активно разрабатывалась в последующих
фантастических произведениях середины XIX века. Помимо наиболее
известных фольклорных повестей Н. В. Гоголя, это повести М. Н. За-
госкина «Нежданные гости» и «Ночной поезд», использующие сюже-
214
Н. Е. Котельникова
ты и эстетику бывалыцин о встрече и ужине с бесами. В «Сказке о
том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу
Отношенью не удалося в Светлое Воскресенье поздравить своих на-
чальников с праздником» В. Ф. Одоевского можно проследить мотив
народной легенды о наказании за работу в церковные праздники. За-
мечательна смесь русских народных верований, итальянских впечат-
лений и влияний западной литературы в повести племянника
Погорельского А. К. Толстого «Упырь».
Очевидно, что характерные для фольклорной картины мира пред-
ставления о сосуществовании двух миров, красочная и многоплановая
эстетика фольклорной прозы, воплощающая народные представления
о «двоемирии», имели принципиально важное значение для становле-
ния традиции русской фантастической литературы.
Примечания
1 Коровин В. И. Увлекательный жанр И Нежданные гости: Русская фантастическая
проза эпохи романтизма. М.,1994. С. 5.
2 Там же. С. 7.
3 Для сопоставления привлекались записи разных лет, в том числе и последнего деся-
тилетия, поскольку «современные тексты могут как две капли воды походить на запи-
си столетний давности, в чем мы имели возможность убедиться, сравнивая забайкаль-
ские былички с произведениями из сборника П. Н. Рыбникова или А. Е. Бурцева» -
Зиновьев В. П. Быличка как жанр фольклора и ее современные судьбы // Мифологиче-
ские рассказы русского населения Восточной Сибири. Новосибирск, 1987. С. 393.
Материалы других регионов также подтверждают положение о том, основные черты
образного строя и художественных приемов быличек двести лет назад были теми же,
что и сейчас.
4 Смирнов В. Клады, паны, разбойники // Труды Костромского научного общества по
изучению местного края. Вып. XXIV. Кострома, 1921. С.15-16.
5 Коровин В. И. Указ. соч. С. 17.
6 Афанасьев А. Н. Народные русские легенды. Новосибирск, 1990. № 28.
7 Смирнов В. Указ. соч. С. 16.
8 Погорельский А. Лафертовская Маковница // Нежданные гости. С. 24.
9 Зиновьев В. П. Мифологические рассказы... № 192. С. 134-135.
10 Погорельский А. С. 24.
11 Забылин М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. М.,
1990. С.262.
12 Погорельский А. Указ. соч. С. 39.
13 Садовников Д. Н. Сказки и предания Самарского края. Спб., 2003. С. 352.
14 Погорельский А. Указ. соч. С. 30.
15 Там же. С. 29.
16 Агапкина Т. А. Вещь, образ, символ: колокола и колокольный звон в традиционной
культуре славян // Мир звучащий и молчащий: Семиотика звука и речи в традицион-
ной культуре славян. М., 1999. С. 238.
17 Погорельский А. Указ. соч. С. 36.
18 Плотникова А. А. О символике свиста // Мир звучащий... С.295.
19 Погорельский А. Указ. соч. С. 37.
20 Погорельский А. Указ. соч. С. 41.
21 Смирнов В. Указ. соч. С. 17.
215
Особенности построения лубочной сказки
о Портупее-прапорщике
И. В. Сабитова (Москва)
Изучение лубочной сказки представляет большой интерес, так как
она органично сочетает в себе элементы литературной и устной тра-
диций, в свою очередь оказывая сильное влияние на ряд устных ска-
зок. Лубочным сказкам присуща своя неповторимая специфика, про-
являющаяся, в частности, в композиции. Для анализа в качестве
материала привлечены все известные редакции лубочной сказки о
Портупее-прапорщике1. Для выявления особенностей построения лу-
бочной сказки проводится сравнение с ее литературным источником
«Гисторией о российском матросе Василии Кариотском и о прекрас-
ной королевне Ираклии Флоренской земли» и с устными традицион-
ными сказками, волшебными и социально-бытовыми.
Если в литературных произведениях отмечается большое разнооб-
разие видов композиции, то устным традиционным сказкам присущи
устойчивые способы композиции. При этом особенность композиции
конкретной устной сказки зависит от ее принадлежности к опреде-
ленной жанровой разновидности. Так, если большинство композиций
бытовых сказок «строится на последовательном сцеплении однотем-
ных мотивов»2, то в волшебной сказке «действие строится по принци-
пу нарастания: каждый предшествующий мотив поясняет последую-
щий, подготавливая события основного, кульминационного, который
передает наиболее драматический момент сюжетного действия»3.
Коротко рассмотрим особенности построения повести «Гистория
о российском матросе Василии» - основном источнике лубочных
сказок о Портупее-прапорщике. В основе повести лежит как жизнен-
ный материал Петровской эпохи, так и художественный материал
переводных любовно-рыцарских романов и традиционных русских
устных сказок. Исследовательница повести Г. Н. Моисеева выявила
сходство ряда эпизодов повести со сказками: «Освобождение царской
дочери», «Служил солдат 25 лет», «Иван Туртыгин», «Солдат спасает
царскую дочь от змея»4.
Разнородность материала обусловила разделение всего текста по-
вести на две основные части. В первую часть вошли описания поезд-
ки российского матроса Василия в Голландию. Вторая часть - при-
ключение Василия на неизвестном острове. По словам Моисеевой,
216
И. В. Сабитова
«переход от бытовой повести о путешествии матроса Василия в Запад-
ную Европу, полной реалий петровского времени, к сказочной сделан в
“Гистории” с помощью описания бури и кораблекрушения, типичного
мотива авантюрных “гисторий” конца 17-18 веков. Но приключения,
которые переживает матрос, попавший, на остров, описаны по схеме,
обычной для целого ряда русских народных сказок»5.
Во второй части повести действие, связанное с образом главного
героя, прерывается рассказом героини о своем прошлом, о похище-
нии ее разбойниками во время морской прогулки. Произошел разрыв
в последовательности развития действия, нарушена хронология. Мо-
нолог героини построен в форме рассказа в рассказе. Налицо услож-
ненная композиция, характерная для письменной литературы.
Рассмотрим построение лубочной сказки о Портупее-прапорщике.
Для удобства анализа выделена общая для всех редакций сказки схема6:
(-)Царь с царицей скорбят из-за отсутствия наследника.
(-)У царицы рождается дочь.
(-)Царь созывает мудрецов, чтобы узнать судьбу дочери.
(-)Мудрецы предсказывают девушке несчастную судьбу из-за ее
красоты.
(-)Царь изолирует дочь от людей.
(-)Девушка обучается грамоте.
(-)Царь принимает решение переселить дочь во дворец.
(+)Девушка гуляет в саду, видит оттуда корабль.
(+)Слуги запрещают девушке заходить на корабль.
(+)Девушка вопреки запрету заходит на корабль.
(+)Погода резко меняется, корабль неожиданно уплывает.
(-)Царь ищет желающего отправиться на поиски девушки.
(-)На поиски вызывается ехать солдат.
(-)Солдат обговаривает с царем условия поиска.
(-)Царь снаряжает корабль, жалует солдату чин портупея-
прапорщика.
(-)Солдат устраивает гулянку.
(+)Солдат приплывает к неизвестному острову.
(+)Солдат обследует остров.
(+)Солдат находит жилище колдуна.
(+)Солдат встречается с колдуном.
(+)Солдат с помощью хитрости усыпляет бдительность колдуна.
(-ь)Солдат убивает колдуна.
(+)Солдат находит ключи от потайных комнат.
(+)Солдат в потайных комнатах находит девушку и влюбляется в нее.
(-ь)Девушка пугается, увидев незнакомого человека.
(+)Девушка жалуется на жизнь у волшебника.
217
Особенности построения лубочной сказки...
(+)Солдат рассказывает девушки о цели своего пребывания.
(-)Солдат показывает труп колдуна и доказывает, что он послан ее
отцом.
(+) Девушка предлагает солдату обручиться.
(+)Солдат и девушка забирают драгоценности.
(-)Солдат забывает на острове перстень, вспоминает об этом на корабле,
возвращается на остров.
(-)Капитан корабля угрозой заставляет девушку назвать его спасителем,
уплывает без солдата.
(-)Солдат в лодке отправляется в погоню за кораблем.
(+)Буря разбивает лодку.
(+)Солдата вторично выбрасывает на неизвестный остров.
(-)Солдат попадает к генералу-волшебнику, выполняет работу,
связанную с запретами, нарушает запреты, получает прощение и дары,
возвращается на родину.
(+)Солдат попадает в свое государство.
(+)Солдат находит себе временное жилище, узнает о последних
событиях
(+)В государство приплывает капитан с девушкой.
(+)Царь по обещанию выдает девушку замуж за капитана корабля.
(+)Девушка на свадебном пиру по перстню узнает своего возлюб-
ленного.
(+)Девушка рассказывает всем правду.
(+)Капитана корабля казнят.
(+)Солдат женится на девушке.
(-)Жена солдата вступает в сговор с другим парнем, царь объявляет
солдату войну, солдат побеждает царя с помощью чудесных предметов,
жена узнает секрет побед мужа, царь побеждает солдата, солдат
вторично попадает к волшебнику, солдат получает чудесные предметы,
солдат возвращается в свое царство и превращается в коня, дерево,
птицу, солдата пытается погубить его жена, солдата спасает служанка,
солдат наказывает жену и царя, солдат женится на служанке.
Композиция большинства редакций лубочной сказки о Портупее-
прапорщике относится к прямолинейным, т. е. действие в них разви-
вается от исходной точки (ожидание и рождение наследницы) до за-
ключительного эпизода (благополучной женитьбы героя). Развитие
событий последовательно во времени, не прерывается. Действие раз-
вивается по одной сюжетной линии с главным героем в центре.
Обрамляют текст сказочные формулы - инициальные («Давно то-
му назад, за тридевять земель, в тридесятом царстве, в славном Де-
вичьем государстве, жили в любви и согласии царь с царицей», «много
лет тому назад, за высокими горами, за широкими морями, находилось
218
И. В. Сабитова
обширное государство, в котором царствовал славный царь Зензе-
вей...») и финальные («Тут пир пошел еще веселее, вскоре сыграли и
свадьбу. И стали они жить-поживать, богатства наживать. А они и так не
бедны были», «жил девяносто лет. Давно уже умер, но до сих пор пом-
нят его в стране той, о нем поют песни, сказки рассказывают»).
Текст лубочной сказки о Портупее-прапорщике по характеру раз-
вития действия распадается на 3 самостоятельные части. Непосредст-
венно к повести о российском матросе Василии Кариотском восходит
первая часть. Сравнение лубочной сказки о Портупее-прапорщике с
повестью о российском матросе Василии показывает, что авторы-
лубочники в своем творчестве опирались не только на текст повести,
но и на текст традиционных устных сказок, сказок литературных.
В целом последовательность развития событий в первой части лубоч-
ной сказки соответствует последовательности развития событий во
второй части повести, наиболее близкой по построению произведени-
ям устного народного творчества.
Следует отметить лишь некоторые изменения в композиционном
строении сказки. Так, в повести история похищения героини передана
в форме монолога и помещена в середину повествования. Налицо
отступление в прошлое, нарушена хронология событий. Вскрывая
предысторию, рассказ героини усложняет композицию.
Авторы лубочной сказки о Портупее-прапорщике переносят опи-
сание похищения девушки в начало. Эти эпизоды, соединенные с
эпизодами, типичными для ряда волшебных сказок (ожидание на-
следника, рождение и воспитание героини), составляют экспозицию
произведения. Изменение в композиционном строении первой части
лубочной сказки вызвано влиянием устных традиционных сказок,
действие в которых всегда развивается прямолинейно.
Важное место в лубочной сказке занимают эпизоды, в которых да-
ется описание неизвестного острова и событий на нем. Эти эпизоды в
сказке - центральные. В описании неизвестного острова авторы ис-
пользуют принцип ступенчатого сужения. Сначала действие происхо-
дит в «дремучем столетнем темном лесе». Затем герой «вдруг увидел
колодезь, а к этому колодезю протоптана тропинка». Тропинка приво-
дит героев к избушке, в которой обитает противник. Внутри избушки
внимание героя привлекает вмазанный в пол огромный котел. Таким
образом авторы за счет перехода от общих описаний к мелким значи-
мым деталям достигают нарастания напряжения, подводят читателя
(слушателя) к главному месту в повествовании.
Основное действо в дальнейшем разворачивается вокруг этого ог-
ромного котла. Трижды противник старается завладеть его содержи-
мым. Дважды происходит столкновение противника со спутниками
героя, которые подводят к встрече героя с противником.
219
Особенности построения лубочной сказки...
Эпизоды, в которых описываются взаимоотношения противника и
главного героя сказки - кульминационные. Лубочная сказка о Порту-
пее-прапорщике в центральных эпизодах частично сохранила содер-
жательную сторону повести, последовательность действий (герой
попадает на неизвестный остров, находит в лесу жилище разбойни-
ков, встречается с ними, с помощью хитрости выходит из ситуации).
Однако в лубочной сказке изменился способ композиционного строе-
ния. Авторы прибегают в построении эпизодов к приему троичности.
Важные эпизоды повторяются в сказке трижды, расположены по
принципу нарастания. За счет такого построения авторам удается
полнее раскрыть образ главного героя, показать трудность ситуации.
Таким образом, центральные эпизоды лубочной сказки строят по
аналогии с устными традиционными сказками, в которых кульмина-
ционные моменты представлены повторяющимися эпизодами.
К эпизодам, заимствованным из повести о российском матросе Ва-
силии, и составившим основу первой части лубочной сказки присоеди-
нены эпизоды, типичные для устных народных сказок. Так, во всех
редакциях лубочной сказки о Портупее присутствует описание изоля-
ции царской дочери (заключают в темную горенку, в отдельную комна-
ту, в уединенный дворец, туда куда не мог достигнуть даже глаз челове-
ческий. «Не показывают ей света до совершенного возраста, так, чтобы
никого она не видела, никто ее не видел... И стала она расти, не видя
света, кроме лампы, и людей, кроме своей горничной»). Здесь налицо
эпизод, в основе которого лежит древний мотив изоляции царских на-
следников, часто встречающийся в традиционных сказках.
Эпизод прогулки царевны в саду присутствует в устной сказке на сю-
жет «Три царства». Аналогию с эпизодами из устных волшебных сказок
имеют также заключительные эпизоды из первой части лубочной сказки
(узнавание истинного спасителя по перстню на свадебном пиру и т. д.).
При анализе построения лубочной сказки о Портупее-прапорщике
следует учитывать, что авторы творили в рамках лубочной традиции
XIX века. Этим объясняется появление таких эпизодов, как обучение
девушки грамоте, описание морских бурь.
Композиция лубочной сказки по сравнению с повестью о матросе
усложнилась за счет включения двух относительно самостоятельных
частей. В повести герой, вторично оказавшись на острове после преда-
тельства адмирала, попадает в свое государство в «три дня» с помощью
случайного рыбака. Портупей-прапощик попадает к доброму генерал-
волшебнику. Комплекс эпизодов, в котором описывается жизнь героя у
генерал-волшебника, составляет вторую часть лубочной сказки.
Исходной ситуацией в этой части сказки является появление запрета.
Герой должен проработать у волшебника определенный срок, не нару-
220
И. В. Сабитова
шая запрета. Характер запрета во всех редакциях однотипен: «Дает
заповедь не заходить в пустой сарай», «Не заходи в верхний этаж моего
замка и вот в тот пустой сарай». Запрет всегда немотивирован. Герой по
разным причинам (от скуки, от любопытства) нарушает запрет.
Ситуация повторяется дважды. Замедляя действие, авторы сказки
фиксируют внимание читателей на таких качествах героя, как его
любознательность, смелость, отмечают глубину его тоски по похи-
щенной девушке.
Заключает вторую часть запрет генерал-волшебника рассказывать
о встрече с ним и о волшебной силе предметов: «Будешь жить хорошо -
живи, только всю правду никому не говори, хотя бы и самому лучше-
му и верному другу; ну а если же не исполнишь моего наказа и с то-
бой случится несчастье».
Вторая часть как бы вклинивается в действие первой части, разры-
вает ее. Вместе с тем конечные эпизоды второй части сказки фактиче-
ски являются экспозицией третьей части.
Третья часть, как и вторая, построена по образцу устных сказок. Но
если принципы построения второй части близки сказкам волшебным, то
композиция третьей части ближе к композиции бытовых сказок.
В основе третьей части лежат эпизоды, типичные для сюжета уст-
ной сказки «Неверная жена». Толчком к развитию основного действия
лежит нарушение героем запрета говорить правду. До момента нару-
шения запрета герой неуязвим. Ряд эпизодов третьей части является
сокращенным повторением эпизодов части второй: герой вновь попа-
дает на остров к генерал-волшебнику, получает прощение за наруше-
ние запрета, становится обладателем новых чудесных предметов.
В построении третьей части использованы приемы удвоения и ут-
роения сюжетного действия. Дважды герой выходит сражаться с вой-
ском Артуса, трижды меняет свой облик (превращается в красивого
коня, в яблоню, в селезня), прежде чем одерживает победу над врагом.
Таким образом, для лубочной сказки о Портупее-прапорщике ха-
рактерна усложненная композиция. Комплекс эпизодов, заимствован-
ных из второй части повести, разросся за счет включения как отдель-
ных эпизодов (типичных для устных сказок и лубка), так и за счет
целых комплексов эпизодов - частей из традиционных сказок.
Вместе с тем авторы ряда редакций, стремясь приблизить свои по-
вествования к устным сказкам, перемещают эпизоды, нарушающие
хронологическую последовательность событий. Композиция лубоч-
ной сказки становится прямолинейной. Действие заключено в рамку:
инициальные и финальные формулы открывают действие и заканчи-
вают его. Авторы часто используют такие способы композиционного
строения, как повторы, троичность, ступенчатое сужение. Все части
221
Особенности построения лубочной сказки...
сказки и эпизоды внутри частей связаны образом главного героя, иг-
рающим организующую роль.
Следует отметить также те особенности в построении отдельных
редакций, которые не повлияли на устные варианты данного сюжета,
но которые характерны для лубочной литературы в целом.
Так, композиция в редакциях № 1 и 3 усложнилась за счет присое-
динения текста литературной сказки «О волшебном замке, называе-
мом Замком Смерти», которая представляет собой рассказ в рассказе:
слуга генерала Селим (племянник генерала Ванюшка) рассказывает
главному герою историю жизни генерала-волшебника Бей-Булата,
которая в свою очередь содержит рассказ сестры генерала о том, как
ее похитил злой волшебник7.
Редакция № 4 также отличается сложностью своего строения.
Действие в этой редакции сказки развивается по четырем сюжетным
линиям, которые постоянно пересекаются. Автор этой редакции то
заглядывает далеко в будущее, то возвращается в прошлое. Один эпи-
зод прерывает другой.
Таким образом, по своему строению лубочные сказки о Портупее-
прапорщике - типичный образец лубочной продукции XIX века. Все
редакции отличаются в большей или меньшей степени усложненной
композицией. Одновременно структура лубочной сказки о Портупее-
прапорщике обнаруживает принципиальное сходство с устными на-
родными сказками в использовании традиционных способов компо-
зиционного строения.
Примечания
1 1а. Сказка о храбром воине-прапорщике Протупее. В 3 сочинениях И. Кассирова.
Изд. Губанова. М., 1884.; 16. Сказка о храбром воине прапорщике Протупее И Соч.
И. Кассирова. Изд. Сытина. М., 1892 г.; 1в. Сказка о храбром воине прапорщике
Протупее И Соч. И Кассирова. Изд. Сытина. М., 1895 г.; 2. Сказка о сильном и храб-
ром рыцаре Протупее-прапорщике и королевне Маргарите. Изд Губанова. М., 1889 г.
3. Сказка о храбром и неустрашимом богатыре Протупей-прапорщике. М., 1895 г.
4. К. К. Голохвастов. Старинная и необычная история приключения храброго и неустра-
шимого портупея прапорщика и персидского принца. Изд Холмушиных. СПб., 1908 г.,
изд. 3 Каждая из редакций неоднократно переиздавалась.
2 Ведерникова Н. М. Русская народная сказка. М., 1975. С. 94.
3 Там же. С. 36.
4 Моисеева Г. Н. Русские повести первой трети 18 века. М.; Л., 1965. С. 46.
5 Там же. С. 45.
6 В скобках знаком «+» отмечены эпизоды, имеющие аналогию с эпизодами повести о
российском матросе Василии.
7 Сказка о волшебном замке, называемом Замок Смерти // Собрание русских народных
сказок. Изд. Кузнецова. М., 1820 г.
222
«Народная Библия»: текст и контекст
С. В. Алпатов (Москва)
«Народная Библия» в узком терминологическом смысле - совокуп-
ность пересказов и истолкований текстов Ветхого и Нового Заветов, а
также паремийных апелляций к прецедентным образам, сюжетам, эпи-
зодам библейского повествования1, воспринимаемая в народной среде
как своего рода священное предание, манифестом которого могут по-
служить слова псалмопевца Давида Евсеевича из стиха о Голубиной
книге: «по памяти как по грамоте». В широком смысле «народная Биб-
лия» - система традиционных религиозных ценностей, «ядро» народно-
го православия, относительно которого иерархически выстраиваются
сферы народной агиологии, этики, христианской бытовой обрядности
(календарной, семейной, окказиональной)2.
Функционирующий в рамках фольклорной традиции библейский
текст должен рассматриваться одновременно и как самостоятельный
словесный фрагмент-«цитата» Священного Писания, и как коммуни-
кативно ориентированное высказывание (поучение, мотивация по-
ступка, запрета и т. д.), и как смыслопорождающая структура, актуа-
лизирующая в зависимости от контекста разноплановые ассоциатив-
ные связи библейских образов, мотивов, речевых клише.
В свою очередь контекстом того или иного фрагмента народной
Библии будет, во-первых, исходный текст Священного Писания, во-
вторых, традиции церковной книжности и околоцерковной бытовой
письменности, в-третьих, весь чин соборного богослужения, и, нако-
нец - с «противоположной» стороны - полиморфный фольклорный
дискурс. Таким образом, анализ и интерпретация произведений на-
родной Библии должна быть одновременно и текстологической, и
коммуникативно-функциональной, и семиотической.
Проследить трансформации библейского текста в коммуникативно
«серьезных» жанрах духовного стиха, народной молитвы3, этиологи-
ческой или эсхатологической легенды достаточно непросто: для на-
родного богослова, равно как и для его аудитории не существует чет-
кой границы между первоисточником и его интерпретацией. Иное
дело жанры со сдвинутой функциональной шкалой: легендарная сказ-
ка, легендарное предание, бывальщина или, наоборот, небылица и
народный анекдот4. Эстетизация, вторичная «историзация», пароди-
рование, любые другие приемы остранения цитируемого библейского
223
Н ар одная Библия»: текст и контекст
фрагмента, обнажают механизмы взаимодействия исходного текста с
тем фольклорным контекстом, в который он помещается.
Рассмотрим в качестве референтного следующий текст:
«Один приход без священника все жил. Крестьяне и выбрали му-
жичка пойти искать попа. Попался ему навстречу старичок: “Как тебя
зовут, старичок?’’ - “Меня зовут Пахом”. - “Так будь у нас попом!” Ну
он и согласился. Надо обедня служить: народу собралось много слу-
шать нового попа. Ну он обедню так служил: взял большую книгу,
кверху поднял. “Знаете ли, миряне, эту книгу?” - “Не знаем”. - “Не
знаете, так нечего и сказывать”. Второй раз и говорят: “Скажем, что
знаем”. Опять взял большую книгу кверху поднял: “Знаете ли, миря-
не, эту книгу?” - “Знаем”. - “Ну а знаете, так нечего и сказывать”. На
третью обедню стал служить. Поднял решето кверху и зачал роспе-
вать: “Тут дыра и тут дыра! Тут дыра и тут дыра! Тут дыра и тут ды-
ра!”... Ну прихожане и уговорились, что надо прошенье подать ар-
хиерею, что поп худо служит. Архиерей приехал с певчими и
протодиаконом... Начал обедню служить: “Преосвященнейший вла-
дыко!” - возглас первый. “Служаху при сей церкви 12 лет и составил
капитал 12 тысящ. Вам жертвую 6 тысящ и протодикону 500 рублей,
певчим 300 рублей. Поехал мужик на мельницу, навалиша большой
воз, и смутишася кони ево и бысть глас с небесе пруу”. Певчие и под-
хватили: “Слава тебе, Господи, слава тебе!” Архиерей вышел и гово-
рит: “Миряне! Поп-от ничево служит!” - “Это при вас хорошо, а без
вас плохо”. - “Нет, пусть служит. Нельзя хаять!”»5.
Сюжетным пиком процитированного анекдота, безусловно, явля-
ется стилизация рассказчиком словесной ткани евангельской притчи.
Этот эффект достигается несколькими приемами. Прежде всего, по-
вествование ведется с использованием «книжных» форм имперфекта
и аориста (причем наиболее ярких из них - 3-го лица множественного
числа, свободно помещаемых в заведомо неверные позиции6). Во-
вторых, типизирующая жанровая природа притчи подчеркнута круг-
лыми цифрами: 12000, 6000, 500, 300. Кроме того, рассказчик вы-
страивает два аллитерационных ряда: служаху, сей церкви, жертвую
шесть тысящ, пять сот, мужик, смутишася, бысть vs лет, соста-
вил, капитал, поехал, мельницу, навалиша, большой, глас1. Наконец,
сюжет «притчи» развертывается в соответствии со стандартной струк-
турой церковных паремий с зачином «во время оно...», «во дни
оны...» и финальным повышением голоса, соответствующим смысло-
вой кульминации чтения («бысть глас с небесе пруу»). Стилизованную
паремию обрамляют возглас священнослужителя и отзыв клироса.
224
С. В. Алпатов
Тот факт, что рассказчик избирает чтение Евангелия в качестве
критерия профессиональной пригодности священника, а также в ка-
честве богослужебной доминанты (каковой, кстати, оно и является
для литургии оглашенных) - заставляет нас видеть в данном анекдоте
не атеистическую сатиру на духовное сословие, а специфическую
форму народной герменевтики церковного канона. Перед нами паро-
дия не на содержание библейского текста, а на обрядовую форму его
существования в контексте богослужения. Это подтверждает вариант
рассматриваемого сюжета, где отсутствует какая бы то ни было сти-
лизация библейского языка и текста, но сохранено обрамление в виде
возгласа и отзыва, а само «паремийное» чтение маркировано особой
манерой произнесения (нараспев):
«Приходит мужицек в одно селенье и видит - толпа, и спрашивает:
“Что это у вас за толпа?” - “А нет, говорят, у нас в приходе попа. Был
отец Пахом, да унесло прахом”. - “Дак я, говорит, братци, Пахом”. -
“Коли ты Пахом, так будь у нас попом”. Принели в свяшшенники.
Служил 15 лет у них. Он был неграмотный... Архиерей в объезд при-
ежжает в приход, заставляет ево обедню служить. Начинает: “Благо-
словен Бог наш...”. Доходит дело до Евангелия, он нароспев и станет:
“Шел я мимо этово места, и увидел я народу толпа, и спросил: “Что
же, братци, у вас за толпа?” - “А вот у нас толпа, нет у нас в приходе
попа. Был отець Пахом, да унесло прахом”. - “Так я, братци, Пахом”. -
“Если ты Пахом, так будь же у нас попом””. Служил у них 15 лет, ну и
накопил денег три тыщи рублей. Первая тыща архиерею, вторая тыща
мне, а третья тыща певчим. А певчие: “Слава тебе, Господи, слава
тебе!” Евангелие кончено»8.
Замечательно, что мнимая богослужебная цитата из Священного
Писания маркируется сугубо фольклорным приемом кумулятивного
повтора, цитирующего предшествующее сюжетное звено9. Если в ана-
лизируемом тексте кумулятивная матрешка состоит всего из двух эле-
ментов (minimum minimorum докучной сказки, поддевки-покупки и
т. п.), то в других вариантах сюжета прием «сказки про белого бычка»
используется многократно (ср. выше троекратный повтор «Знаете ли,
миряне, эту книгу?», затем трижды «тут дыра и туг дыра», а также вари-
анты, где поп велит запирать церковь - «будем три недели служить»10).
Таким образом, сюжет «Поп Пахом» является пародийной стилиза-
цией внешней обрядовой стороны богослужения. Вместе с тем подчерк-
нутое всеми вариантами абсолютное непонимание паствой содержа-
ния богослужебных текстов11 заставляет думать о своеобразной фигуре
умолчания и предполагать, что то, что заключено внутри кавычек биб-
лейских паремий, небезразлично и небезызвестно аудитории:
225
«Народная Библия»: текст и контекст
Поп говорит: «Какое счастье! Такой жизни и в мире нет, как кова-
лю. Пять минут так-так - отдай рубелек».
Кузнец отвечает: «Ваша лучшая профессия как моя. Придешь в
церковь, тара-ра-ра-а-а\ Кошка брует, кот бормочет, жениться
хочет. Тара-ра-ра-а-а - вот те и полтора»12.
Характерно, что коваль не просто пародирует церковное пение-
чтение тара-ра-ра-а-а! (подобно попу, имитирующему труд кузнеца
так-так}, но и передает содержание обряда венчания, заменяя сим-
волические образы церковных текстов иносказаниями подблюдной
песни (ср. «Кисы, кисы, кисурка, в конурку спать»13) или свадебной
обрядовой песни с рифмой гогочет -хочет14.
Возможность содержательной интерпретации элементов пародии
на церковные обряды и богослужебные тексты побуждает нас внима-
тельнее присмотреться к детали референтного текста (Соколовы. №
83), казавшейся прежде незначимой: «На третью обедню стал слу-
жить. Поднял решето кверху и зачал роспевать: “Тут дыра и тут дыра!
Тут дыра и тут дыра! Тут дыра и тут дыра!”»
Почему в качестве предмета, имитирующего богослужебную ут-
варь использовано решето? Возможной ритуальной параллелью к
данному эпизоду оказывается проанализированная А. А. Панченко
сектантская «литургия подрешетников»:
«и оная девка изыдет из того подполия, сиречь из голбца, на главе
носящи решето: в нем же суть ягоды, изюм глаголемыя, и покрыто
суще каковым покровцем. И глаголет к собравшемся сообщником
якоже наши пресвитери на святом великом входе: “Всех вас да помя-
нет Господь...” Они же рекут: “аминь”. И сице, подобящеся священ-
ником, глаголет трижды. И потом дает богохульное то приношение
вместо причастия»15.
Тем же исследователем в ряду наиболее частых обвинений, предъ-
являемых сектантам, указывается свальный грех как финал радений16.
Правомерность соотнесения анализируемого эпизода анекдота
«Отец Пахом» с элементами сектанских обрядов подтверждают сле-
дующие контексты:
Девицу отдавали взамуж, вся родня и собралась, и по очереди ре-
шетила над ровесницей. А на полатях солдат прохожий лежал. Один
из родни и говорит: «Надо и солдату дать, пусть порешетит». Солдат
слез с полатей, начал решетить, не вытерпел да и залез на невесту.
Родня кричит: «Что ты, что ты, солдат, разве так...» Одна тетка и
говорит: «Не троньте его, кто как умет»17.
«...Сел на печку, смотрит: гуляют, пляшут. Народ поразошелся.
Осталися свои. Ну, стали ужинать... Ну, бабка и говорит:
226
С. В. Алпатов
- Детушки, вот у вас тут крестная и крестный. Пускай вас благо-
словят, чтоб вы жили счастливые и все это.
Ведь раньше благословить как? Подушку кладут. На коленках, значит,
кланяются. Хлеб о головы, значит, тебе обводят хлебом и приговаривают:
- Чтоб жили богато, да скотина была и да чтоб детушки у вас были!
Ладно. Это помянули. Бабка подходит:
- Солдатик, миленький, возьми и ты благослови молодых-то.
- Можно, можно, бабушка: богу-то, говорит, веруем, только у нас
не такая вера.
- Ну так ведь что. Ведь какая есть.
- Давай, говорит, бабка, решето!.. А вы, говорит, молодая, лягте
поперек животом.
Ну, он что надо, справил свой интерес и по решету-то пальцем об-
водит: “Решетиха решетись, ты, говорит, от этого не вертись!”»18.
В приведенных текстах анекдотическая коллизия построена на ин-
версии базовых фольклорных стереотипов: обрядовое благословение
жениха и невесты перед венцом, особая значимость благословения
прохожего19, символические ассоциации решето - дыры - физиче-
ская сторона бракосочетания. Вместе с тем в нашем контексте осо-
бое звучание получает реплика солдата «только у нас вера не та»,
отсылающая к анализируемому нами сектантскому контексту.
Таким образом, в основе народного анекдота «Отец Пахом» лежат
не только бесконечно воспроизводимые (подобно докучной сказке)
обрядовые слова и действия20. Стилизация церковнославянского язы-
ка, церковной манеры чтения и пения, а также специфической пред-
метной символики, апеллирующей к сектантскому контексту, позволя-
ет нам говорить не столько о сатире на безграмотного священника и
якобы «темный» для паствы язык богослужения, но о пародии на не-
каноническое совершение богослужения Тем самым, коллизия негра-
мотный поп и неграмотная деревня21 получает специфический разво-
рот: неграмотность не означает полного скотского «бессловесия», но
именно неканоничность, неадекватность нормам, которые сами по
себе участникам сюжета (как и аудитории анекдота) известны:
«Деревня была безграмотна: поп безграмотной, дьякон безграмот-
ной, да и дьячок безграмотной, а церковь была, приход, служили.
Приехал архиерей... поп и побежал к дьякону: “Как служить станем?” -
“Как-небудь сваракосим”.
Поп скажо: “Ты тоё пой, што я буду!”
Дьячок скажо: “Мне уж надо свое петь на крылосы, не с вам”.
Поп скажо: “Што знашь, то и валяй”.
Обедню зазвонили, поп и запоходил к обедне:
227
«Народная Библия»: текст и контекст
- Владыко, благослови!
- Бог тебя благословит, поди. Служи.
Поп одел ризу... и запел - голос громкой:
- О-о-о! Из-за Кельястрова
Выбегала лотоцька осиновая,
Нос-корма роскрашонная
На серёдке гребци-молодци.
Тура-мара и пара22.
Дьякон тоже запел:
- О-о-о! Из-за Кельястрова
Выбегала лотоцька осиновая (и проч.)
А дьяцёк на крылосе:
- Вдоль по травке, вдоль по муравке,
По лазуревым цветоцькам.
Архиерей вышол да рукой махнул: “Служите, как служили!”»23.
Характерно, что герои анекдотического сюжета не просто «свара-
косили» нечто, но следовали известному им канону, согласно которо-
му каждому должно петь свой текст и своим распевом. Из текста не-
ясно, последовательно или параллельно должно было звучать это
«свое» пение? С точки зрения современного церковного канона -
последовательно, тогда как с точки зрения дониконианской традиции
XVII столетия допустимо было одновременное чтение и пение разных
частей службы в целях сокращения ее продолжительности, так что по
свидетельству современника «клирицы бо пояху на обоих странах
Псалтырь и иные стихи церковныя, не ожидающе конца лик от лика,
но купно вси кричаху, псаломник же прочитаваше стихи не внимая
поемым, начинаше иныя, и невозможно бяше слушающему разумети
24
поемого и чтомого» .
Тем самым, историческое «многогласие» могло ассоциироваться в
новых условиях с неканоническим, «безграмотным», сектантским бо-
гослужением (ср. выше «вера у нас не та»).
Вместе с тем с точки зрения фольклорной обрядовой системы по-
добное «многогласие» могло ассоциироваться не с рядовым чином
службы, а с ритуальным бесчинием, практикуемым в ситуациях соци-
альных и природных катастроф: «Собираетца человек сто девок,
хлопцов и пяють песни усякие в барану: один пяе свадьбу, один пяе
жниво, один пяеть восень, один - вясну, хто чаво...»25. Тем самым воз-
никал новый контекстный фактор для пародийного изображения не-
сусветного богослужения.
Если в предыдущем варианте выбор народных лирических песен,
замещающих «цитаты» из богослужебных текстов, мотивирован, со-
228
С. В. Алпатов
гласно примечанию собирателя, соответствием фольклорных напевов
и церковных гласов26, то следующие примеры возвращают нас к
приему передачи содержания богослужебных текстов сходным по
тематике фольклорным материалом:
«Стал муж помирать и завещал: “не ходи замуж, пока не помянешь
меня сто раз”. Когда он помер, ей нашелся помысленный жених. Вот
она села и записала мужа в поминальник сто раз, а его звали Титом, и
подала его за всю обедню. Когда дьякон добрался до этого поминаль-
ника и начал поминать, начал сначала пореже: “Тита, Тита”, потом
почаще “Тита, Тита, ти та та”, а поп слушал, слушал и подумал: разве
пособить? и начал: “Я посеял лебеду на берегу”. Дьячок слышит дья-
кон поет и поп поет, и начал помогать: “Я по бережку похаживаю,
чернобровую траву заламываю”. И вот кончилось это чтение, и она
вышла замуж спокойно»27.
Примечательно, что плясовая песня любовной тематики обращает
содержание панихиды и прямо соотвествует намерениям героини (см.
об этом ниже).
В следующем сюжете «прохожай зашол на полати, самому не
спитця, пошол по грядке, нашол книгу. Книгу взял цитать, а сам не-
грамотной, не знат, што и цитат. Поп услыхал - читал вслых:
- Не можете ли вместо причетника службу сослужить у нас?..
Пришли в церковь: “Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Цитай,
Какофей”. Молцит. “Што же, Какофей, нашего приходу стыдисся? А
нет, дак пой”. Тот и запел: “Солнце на лети, / На запади, на закати”»28.
Песенная фраза Солнце на лети, / На запади, на закати, с одной
стороны, стилизует стихиру из чина вечерни «Свете Тихий»: «При-
шедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и
Святаго Духа, Бога», а с другой стороны, цитирует формулы похорон-
ных и свадебных причитаний, отчасти лирических песен:
«День ко вечеру да коротается... Красно солнышко ко западу дви-
29
глется» ;
«Не красное солнышко на закат всходит / А я горькая сажусь за
дубовый стол»30;
«Вечерочек вечерится, / Красно солнце закатается»31.
Стих 140 псалма «Да исправится молитва яко кадило пред Тобою»,
звучащий на вечерне при каждении храма, использован в сюжете
«Поп-музыкант». Парень уговаривается со священником «сто рублей
тебе заплачу, только в любой момент дня и ночи ты меня учи», затем
приходит на службу:
«- Батюшка, я забыл колено.
- Какое колено-то забыл?
229
«Народная Библия»: текст и контекст
- Да комаринскую.
Дьякон вышел с кадилом, ждет покуда батюшка даст благослове-
ние. Поп и правит комаринскую на молитву:
- Да, да, да исправится молитовка моя!
А дьякон услыхал да и подскакивает:
- Рас кадил ася кадильница моя!»32.
Если в приведенных выше случаях пародийные «цитаты» правят
молитву на плясовую песню, то в следующем анекдоте насмешка на
соседями строится на обращении последования ектиньи в структуру
заговорного текста:
«Когда пустозеры подтягивают невод с семгой к берегу, то тихим
голосом твердят: “Сократи, Господи! Сократи, Господи! Сократи,
Господи!..’’. Когда невод притянут и матица быстро вытаскивается на
песок, то пустозеры громким голосом и быстро говорят: “Подай Гос-
поди! Подай Господи! На сто, на тысечу, на челой милеон!”»33.
В том же ряду оказывается пародийное использование молитв ве-
ликопостного повечерия, совершаемых старухой перед явившимся в
чулане «распятием»: «Боже, милостив буди мне грешной!», «Боже,
очисти мя грешную!» .
Характерно, что сюжетным центром каждого из рассмотренных
выше текстов оказывается воспроизведение стилизованной богослу-
жебной или пародирующей ее бытовой (обрядовой) мизансцены. Тем
самым театрально-игровые формы фольклора становятся закономер-
ным итогом пародийных трансформаций богослужебных текстов в
контексте народной традиции. Ограничимся одним хорошо извест-
ным примером - «досюльной игрой-комедией Пахомушка» - и вос-
произведем ключевой эпизод действа:
«Пахомушка с Пахомихой на сковороднике едут в церковь (ко пню,
где находится поп), слезают со сковородника, становясь рядом на
подостланную тряпку лицами в разные стороны. Поп надевает на
венчающихся “корцы’’ (шайки для молока), в руки дает тлеющие лу-
чинки. Пахомушка и Пахомиха, кланяясь, оборачиваются вокруг соб-
ственной оси, оказываясь все время лицами в разные стороны. Поп с
“кадилом” (спичечным коробком), подражая церковному пению:
Поп Макарей ехал на кобыле карей,
Кобыла его сбесишеся,
И попа Макария на землю сверзишися...
Кончив про Макария, поп обводит брачующихся трижды вокруг
аналоя при этом каждый раз поет:
Заварила теща квас
В недобрый час...
230
С. В. Алпатов
Исайя, ликуй,
Пахом Пахомихи не бракуй.
Затем начинается обедня.
Поп
Баба ты баба, дура деревенская,
Сено в зубах, палка в руках,
Куда ты пошла-то?
Хор
На поминки, батюшка, на поминки...»35.
Укажем прежде всего на имена главных героев анекдотических и
игровых сюжетов (Пахом - Макар)36, отметим знаковую природу за-
мен церковной утвари на реалии святочных игр (престол / пень, венцы /
корцы37), обращение венчания в разновидность поцелуйной игры
«столбушки». Кроме того, на вербальном уровне игрового действа
фиксируются уже знакомые нам приемы стилизации церковнославян-
ской речи (сбесишеся - сверзишися), подмены молитвословия паро-
дийным вариантом заговора «на кровь»38. Наконец, существенным
видится отмеченный ранее [Зимин. № 81] прием стилизации формы
(обедня) при инверсии содержания (отпевание) - механизм, имею-
щий, безусловно, знаковую функцию (созидание святочного антими-
ра). Тем самым в рамках игрового фольклора синтез храмового дей-
ства последовательно заменяется синтезом театрального искусства.
Проведенный анализ пародийных трансформаций библейского
текста в рамках фольклорной традиции выявил не случайный, на-
правленный характер замен, стилизаций и функциональных обраще-
ний протографа. Пародийно-игровые формы фольклора оказываются
частью народной герменевтики библейских, богослужебных и иных
текстов книжно-церковной культуры. Очерченное проблемное поле
искушает перспективами, в свете которых базовые культурные уста-
новления оборачиваются фарсом39, а заведомо периферийные ценно-
40
сти получают неожиданно высокое значение .
Примечания
1 См. МорозА. Б., КаспинаМ. М. Библия в устной традиции И Актуальные проблемы
полевой фольклористики. Вып.1. М., 2002; Мороз А. Б О фольклорности нефольклор-
ного (евангельские события в восприятии современного крестьянина) // Там же.
О народной герменевтике см. подробнее вторую главу монографии: Никитина С. Е.
Устная народная культура и языковое сознание. М., 1993.
2 Из недавних исследований, рассматривающих народное христианство в этом ключе
см.: Православная вера и традиции благочестия у русских в XVI1I-XX веках. М., 2002,
а также: Бернштам Т. А. Молодость в символизме переходных обрядов восточных
славян. Учение и опыт Церкви в народном христианстве. СПб., 2000.
231
Народная Библия»: текст и контекст
3 Ср. опубликованные в настоящем сборнике статьи: Коробова А. В. «Духовные стихи
о Страшном Суде: поэтика и композиционные типы» и Л. В. Фадеевой «Рукоделие в
заговорах на кровь: особенности варьирования сюжетной темы».
4 См. подробнее: Алпатов С. В. Периферийные явления в идеологической фольклорной
прозе // Славянская традиционная культура и современный мир. Вып. 2. М., 1997. С. 89-92.
5 Соколовы Б. М. и Ю. М. Сказки и песни Белозерского края. СПб., 1999. № 83. С. 393-394.
6 Прием сам по себе еще не пародийный, ибо и в гибридных церковнославянских
текстах «целью оказывается не максимальное сближение языка новых сочинений с
языком корпуса основных текстов, а условное тождество этих текстов по ряду фор-
мальных показателей... Поскольку эти признаки выступают прежде всего как индика-
торы книжного характера текста, они могут употребляться непоследовательно и даже
окказионально». Живов В. М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996. С. 32.
7 Аналогичный прием использован в следующем анекдоте: «...Приезжает князь из
Москвы. Нужно отслужить обедню получше. Поп и говорит: «Вот, отец дьякон, завтра
будем служить обедню и тянуть «Господи, помилуй!» и тянуть «с»... Поп начинает:
«Господи, помилуй-с-с-с». Дьячок ему отвечает: «Аминь-с-с-с». Князь посылает своего
швейцара: «Вели, чтоб служили попросту!». Поп не расслышал и начинает: «Как по
мосту, мосту моему, по тому мосту по калиновому!» И оба с дьячком пошли по церкви
плясать». Фольклор Саратовской области. Саратов, 1946. № 336. С. 335.
8 Соколовы Б. М. и Ю. М. Указ. соч. № 166. С. 554-555.
9 Ср.: «Встал со сна, вижу - сосна, лег под сосну, дай думаю сосну. Встал со сна...» -
Амроян И. Ф. Русские докучные сказки. Тольятти, 1996. С. 66.
10 Ср.: Севернорусские сказки в записях А. И. Никифорова. М.; Л., 1961. № 29. С. 71.
11 Ср.: сюжет СУС 1831 «Церковная служба», а также его версию «Воровская обедня»:
«Поп служил в селе, а псаломщиком у него сын. Поп собрался вечерню служить -
овцы убегли. Сын сел на жеребца пошел нагонять, жеребец сбросил его. Не стало ни
овец, ни жеребца. Приходит в церковь на крылос. Поп спрашивает [пение на церков-
ный лад]: «Сыне, моё сыне, где нашел тряхом-бряхом?» А сын отвечает: «Папе, моё
папе, не нашел я тряхом-бряхом, потерял я тпру-иго-го». Неизданные сказки из собра-
ния Н. Е. Ончукова. СПб., 2000. №8. С. 283.
«Пропала у старушки телушка. Пришла к батюшке, чтоб помолился, может, где най-
дется. Батюшка взял пять рублей и молится: “Старушка, старушка, пропала твоя
телушка”. А дьячок не в духе был, с батюшкой поссорившись, подпевает: “А попов-
ские сыны дерут кожу коло стены”. Поп: “Дьячок, ты дьячок, ты ж вечный дурачок.
Возьми пять рублей деньгами, а мясо пополам!” - “Аминь!”». Русский фольклор в
Литве. Вильнюс, 1975. № 140. С. 317.
12 Русский фольклор в Литве. Вильнюс, 1975. № 139. С. 316.
13 Вятский фольклор. Народный календарь. Котельнич, 1995. С. 34-35.
14 Шейн П. В. Великорус в своих песнях, обрядах, верованиях, сказках, легендах и т. п.
Т.1, вып. 1-2. СПб., 1898-1900. №2100. С. 626.
15 Панченко А. А. Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная культура
русских мистических сект. М., 2002. С. 107-115.
6 Там же. С. 153.
17 Неизданные сказки из собрания Н. Е. Ончукова. (СПб., 2000. № 17. С. 287). Ср.:
примечание собирателя: «Решетить над девственницей - крутить решетом над невес-
той перед венцом. Будто бы такой обряд существовал». Там же. С. 352.
18 Традиционный фольклор Новгородской области. Вып. II. Сказки, легенды, предания,
былички, заговоры (по записям 1963-1999 г.). СПб., 2001. №108. С. 176.
19 Ср. смежные мотивы волшебных и легендарных сказок, быличек, гаданий: случай-
ный прохожий (нищий, солдат, гость, Христос, святой, ангел, Смерть) просится ноче-
вать - дает / отнимает благословение (совет, искомые сведения), идет в крестные. Ср.
232
С. В. Алпатов
тут же в сюжете «Отец Пахом» выбор в попы первого встречного - посланного судь-
бой, сюда же созвучие имен «Пахом - так будь у нас попом».
20 Ср. вариант сюжета «Отец Пахом» с акцентом не на словесной, а на акциональной
стороне богослужения: «Ну, миряна! За што поп, за то и приход!» Взял поп кадило и
начал махать, уголье каленое выскочило да прямо в голенощо. Ногам поп пошел
стучать, и миряна все топчут ногам. Уголь дальше забирается. Он хлоп назем и ноги
кверху, и все миряна хлопнулись на пол и залягались... Один вышел из церквы, а
другой спрашивает: «Али уж отошла служба?» - «Нет. Не отошла! Топанье-то отошло,
а теперь - ляганье!». Соколовы Б. М. и Ю. М. Указ. соч. № 12. С. 174.
21 О судьбах приходского духовенства см.: Стефанович П. С. Приход и приходское
духовенство в России в XVI-XVII веках. М., 2002; Розов А. И. Священник в духовной
жизни русской деревни. СПб., 2003.
22 «Слова попа и дьякона поются протяжно, на церковный лад; слова дьячка на .мотив
веселой плясовой песни» - примечание собирателя.
23 Ончуков Н. Е. Северные сказки. СПб., 1998. № 63. С. 238-239.
24 Цит. по: Бычков В. В. Русская средневековая эстетика XI-XV1I века. М., 1992.
С. 565. Ср. также Владышевская Т. Ф. Церковная музыка на пороге Нового времени //
Вагнер Г. К., Владышевская Т. Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993. С. 214-231.
25 Пашина О. А. «Борона» И Мир звучащий и молчащий. Семиотика звука и речи в
традиционной культуре славян. М., 1999. С. 323.
26 Ср. герменевтические интерпретации мелодики духовных стихов старообрядцами:
«исполнители отмечали сходство мелодий отдельных стихов старого пласта с полев-
ками тех или иных гласов». См.: Чернышева М. Б. Музыкальная культура русского
населения Верхокамья И Русские устные и письменные традиции и духовная культура.
М., 1982. С. 144.
27 Зимин М. М. Коверпский край. Кострома. 1920. № 81. С. 59.
28 Ончуков Н. Е. Указ. соч. № 43. С. 180.
29 Барсов Е. В. Причитанья Северного края. Т. 1. СПб., 1997. С. 31, 109.
30 Фольклор Саратовской области. № 23. С. 145.
31 Русские сказки и песни в Сибири. СПб., 2000. № 21. С. 188.
32 Русское народное творчество Башкирии. Уфа, 1957. № 36. С. 132.
33 Ончуков Н. Е. Указ. соч. № 24. С. 136-137. Ср.: там же № 262. С. 228.
34 Зимин М М. Указ. соч. № 94. С.65; вар. Ончуков Н. Е. Указ. соч. № 263.
35 Фольклорный театр / Сост. А. Ф. Некрылова, Н. И. Савушкина. М., 1988. С. 44-47.
Ср.: близкий вариант игры в венчание. См.: Бернштам. С. 283-284.
36 Об именах протагонистов пародийно-игровых сюжетов см. также: Морозов И. А.
Женитьба добра молодца. М., 1998. С. 217-232.
37 В том же ряду ризы / рогожки, аналой / ступа, венцы / соломенные венки. См.:
Бернштам. С. 283.
38 «Едет мужик старый на кобыле карей. Везет орову на нитке суровой. Нитка оборва-
лась и кровь унялась. Аминь». См.: Русские заговоры и заклинания. М., 1998. №? 1579.
39 Ср.: самочинные венчания «вкруг ракитова куста» раскольников-беспоповцев:
«молодых обводили вокруг стола трижды посолонь, после чего они уже считались
мужем и женой». См.: Чернышева М. Б. Указ. соч. С. 133.
40 См. сюжеты народных легенд «В миру спастись легче» СУС 827***, «Святой ско-
морох» СУС 845А*.
233
Фольклорные черты поэтики плача Ярославны
И. А. Шерстюк (Кыргызстан)
«Слово о полку Игореве» написано, как известно, под большим
влиянием фольклора. С исключительной силой оно проявилось в
самой художественной, по замечанию Пушкина1, части произведения -
причитаниях Ярославны.
Признавая некоторую обособленность плача в архитектонике
«Слова», необходимо прежде всего выяснить его жанровую сущ-
ность, которая неодномерна. В плаче нет безысходного горя, свойст-
венного фольклорным причитаниям по умершему. Ярославна оплаки-
вает раненого мужа. Символическое сравнение плачеи с чайкой (не
кукушкой)2, причитания с печальным голосом этой птицы усиливает
эмоциональное восприятие читателем одиночества и скорби молодой
жены князя. Мысленно она готова облететь просторы русской и поло-
вецкой земли - от Путивля до Дуная и Днепра, от Днепра до Каялы-
реки, чтобы найти в поле безводном, посреди земли половецкой сво-
его ладу, «омочить шелковый рукав в Каяле-реке и обтереть князю
кровавые его раны». Но, сознавая тщетность своих помыслов, она
обращается за помощью к самым могущественным и благодатным
силам природы, ветру, воде, солнцу, которым издревле поклонялись и
которых славили в обрядах и песнях за то, что они обеспечивали уро-
жай, достаток, изобилие, жизнь. Эти верования во многом предопре-
делили формирование изобразительно-выразительных средств жан-
ров обрядовой поэзии, в частности заговоров, причитаний.
Цель фольклорного причитания - оплакивание, восхваление
умершего, обычно гиперболическое славословие. В нем нет надежды
на осуществление выраженного желания. Ярославна же в своем плаче
«заклинает благополучие», надеясь достичь желаемого - вернуть Иго-
ря из плена с помощью Ветра Ветрила, Днепра Славутича, тресветло-
го Солнца. Эти природные силы персонифицированы3, поэтому плач
Ярославны еще и заговор-заклинание*. Она хвалой старается распо-
ложить к себе три вышеназванные силы, вызвать их жалость, чтобы
они помогли ей, ее милому и его воинам. Плач - это заговор и одно-
временно мольба, у которых, бесспорно, есть функциональная типо-
логическая общность5.
Плач - синтетический жанр. По определению академика Веселов-
ского, это произведение - «превосходный лирический плач о судьбах
православной Руси»6. Д. С. Лихачев считает, что «Слово» - плач и
234
И. А. Шерстюк
слава7. Оно - ораторское произведение, оно и песнь историческая,
подобно фольклорной, оформившейся как жанр в XIII веке, оно и
поэма с лиро-эпическим широким охватом событий: из Путивля «на
Дунае Ярославны голос слышится», и как отклик на него - «девицы
поют на Дунае, вьются их голоса через море до Киева».
Магическим в плаче является и число три. Ярославна трижды обра-
щается к ветру, Днепру, солнцу. В эпитете «тресветлое» три выражает
высшую степень качества существа, на которого возлагаются наиболь-
шие надежды. Судя по данным фольклорной традиции, плач, как и все
«Слово», предназначался для прослушивания. Подобно ретардацион-
ным повестовательным приемам былин и сказок, троекратность дей-
ствия, обращений позволяла лучше воспринять повествуемое.
В обращениях Ярославны заметна градация, наращение действия,
усиление эффекта. Сначала она намеревается без чьей-либо помощи
долететь зегзицею до своего лады, затем она с упреком-просьбой
обращается за помощью к ближайшей силе - ветру, потом к Днепру и,
наконец, к самой могущественной силе - солнцу. Мольба Ярославны
усиливается единоначатием (анафорой) фраз:
Зачем, господин, веешь ты навстречу?
Зачем мечешь хиновские стрелочки...
Зачем, господин, мое веселие по ковылю развеял?
Анафора - эмоциональное выражение укора ветру ветриле. Но од-
новременно Ярославна и смягчает эти укоры уменьшительно-ласка-
тельными суффиксами в лестных для ветра словах: стрелкы, крылцю.
Градация в обращении к Днепру Славутичу в том, что прежде
просьбы своей Ярославна уже дважды напоминает ему о его силе и
достаточной его заслуге: «Ты пробил каменные горы сквозь землю
половецкую, ты лелеял на себе Святославовы насады до стана Кобя-
кова». И только после такой лексической и синтаксической анафоры,
психологической подготовки Славутича выражена ее просьба корот-
ко, просто и ясно, автологической речью-. «Прилелей же, господин,
моего милого ко мне, чтобы не слала я к нему слез не море рано».
Еще эмоциональнее Ярославна обращается к солнцу, и просьба ее
важней: уже обо всем войске Игоря. Емким по смыслу метафориче-
ским вопросом заканчивается плач Ярославны. Психологическая анти-
теза упреков и хвалы ветру и солнцу нормализует и тон убедительной
просьбы, позволяющей Ярославне выразить свое горестное отношение
к событиям и вместе с тем покорно и требовательно звать на помощь.
Просьбы, упреки, желания Ярославны мотивированы также эпи-
ческой экспозицией, в которой назван главный герой (Ярославна),
место действия (Путивль) и основное событие (поражение войска
мужа). Чтобы слушатели глубже прониклись горем Ярославны, автор
235
Фольклорные черты поэтики плача Ярославны
каждое ее обращение предваряет троекратной анафорой: «Ярослав-
на рано плачет...», которая хотя и прерывает монолог плачеи, но от
этого плач становится только печальнее. Характерным для сказок
приемам умолчания автор оставляет читателю возможность домыс-
лить, каждодневно ли она «рано плачет» или в одно утро.
Высокие чувства любви и горя женщины выражены возвышенным
стилем, создающимся не бытовой лексикой и речью, не естественным
ее течением, а гармонизированным слогом - ритмической прозой,
свойственной народно-поэтическим жанрам райка, заговора и некото-
рым другим. Плач легко членится на стихи-синтагмы*. Его можно
рассматривать и как ритмическую прозу, и как особым образом орга-
низованные стихи со сложнейшей ритмикой, предопределяемой ло-
гическими ударениями, которую можно назвать прозостихом*. Осо-
бой ритмико-интонационной организацией речи, где чередуются в
основном четырехударные синтагмы с большим количеством слогов
(12, 14 как в былинах)10 и трехударные и реже двухударные (5, 6, 8
слогов), передается величественное и героическое, хотя и с трагиче-
ским исходом.
Звуковая организация авторской речи и речи плачеи, музыкальное
оформление фраз, фонетический подбор слов подчинены выражению
умонастроения вопленницы. Содержательная звукопись достигается
почти во всем тексте плача аллитерациями и ассонансами, полирит-
мией. Они, как звуки в музыке, обусловлены семантикой слов и пере-
дают психологическое состояние героини. Аллитерации и ассонансы
в плаче не замечаются, но неосознанно чувствуется содержательное
благозвучие уже в первых фразах.
На Дунай Ярославнынъ глас ся слышитъ,
Зегзицею незнаема рано кычетъ:
«Полечю, - рече, - зегзицею по Дунаеви,
Омочю бебрянъ рукавъ в Каяле реце,
Утру князю кровавыя его раны на жестоцем его теле».
Выделим построчно аллитерированные звуки: в первой строке - 4 н,
4 с, 3 л; ассонансы - 4 а. Во второй строке - звук з, который подготав-
ливает повторение его и в 3-й строке, 3 р, повторяющиеся в 4-й и 5-й
строчках. Ассонанс создает 5 а во второй строке, 6 е в 3-й, звуки сиз
как бы перекликаются в разных строчках. Выразительность этих зву-
ков усиливается в сочетании с другими, примыкающими к ним звука-
ми, например, зе, зи, зн и прочие. Сами по себе звуки вне контекста не
имеют еще семантического значения. Но в речевом потоке каждый
звук в сочетании с другими звуками несет определенную смысловую
нагрузку: в плаче есть и великое пространство, и глубина чувств, и
страх11. Звукопись наблюдается чуть ли не во всех фразах. Автор не
236
И. А. Шерстюк
раз повторяет в плаче благозвучное любимое им слово лелеять в раз-
личных формах. Слова аркучи, кычет, лада выделяются как само-
стоятельные образы, как отдельные поэтические произведения12. Ка-
кова же была сила этих музыкальных фраз в устах таких певцов, как
Боян, под рокотание «живых струн»!
Для выражения глубокого чувства Ярославны автор воспользовался
широко известными тогда традиционными фольклорными средствами
поэтики, но так творчески переработал их, что они стали литературны-
ми, новаторскими, закладывавшими основы дальнейшего развития
литературы. Чтобы раскрыть высшие человеческие чувства любви и
горя, автор не описывает их, а изображает внешний мир, являющийся
первопричиной умонастроения героини, и через посредство образов
внешнего мира глубоко раскрывает ее внутренний мир, ее душевное
состояние. Автора не интересовал портрет Ярославны. Он в плаче и
неуместен13. Предмет изображения в плаче - высокая духовность, горе
любящей верной жены князя. Поэтому вполне обоснованно плач Яро-
славны считают второй кульминационной вершиной в «Слове»14.
В плаче природа - объект, на который направлены действия пла-
чеи. В эпизоде побега Игоря из плена, композиционно и всем содер-
жанием связанным с плачем, природа - уже действующий субъект.
Плач настолько эмоционально возвышен, настолько эстетически убе-
дителен, что был услышан не только теми, к кому обращалась Яро-
славна, но как бы вся природа и Бог внимали ей. И словно по ее ги-
перболическому зову Игорь бежит из плена, и вся природа помогает
ему. Природа, как в сказке, оберегает его, указывает ему путь.
Прыснуло море в полуночи, идут смерчи тучами.
Игорю-князю Бог путь указывает из земли Половецкой в землю Русскую...
Кликнула, стукнула земля, зашумела трава...
Сам Игорь перевоплощается: то он поскакал горностаем к трост-
нику, то белым гоголем на воду, то он бежит серым волком, то соко-
лом под облаками летит. Донец лелеял князя на волнах, стлал ему
зеленую траву на своих серебряных берегах, одевал его теплыми ту-
манами под сенью зеленого дерева, стерег его гоголем на воде, чай-
ками на струях. Игорь и Донец разговаривают.
Ярославна наделила всю природу на Игоревом пути силой своего
слова и чувства, «вразумила» ее слезами, заклятием, молитвой. В кар-
тине побега все оживлено, динамично, сознательно поступает. Когда
по следу Игоря пошли преследователи - ханы Гза и Кончак, тогда
«вороны не граяли, галки приумолкли», сороки перестали стрекотать,
чтобы не выдать Игоря, лишь дятлы стуком путь указывали Игорю к
реке да соловьи веселыми песнями рассвет возвещали, радуясь удав-
шемуся побегу князя.
237
Фольклорные черты поэтики плача Ярославны
Эта реалистическая, метафорически гиперболизированная картина
летней южной ночи в степи до яви усиливает восприятие побега бла-
годаря эмоционально-эстетической содержательной гениальной фор-
ме плача, истоки которой - фольклорные.
Примечания
1 Пушкин А. С. Поля. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1951. Т. 7. С. 503.
2 Прийма Ф. Я. «Внимая плачу Ярославны...» // Русская литература. 1985. № 4. С. 13.
3 Собственные имена этих трех сил природы следует писать с заглавной буквы. Единого
общепринятого написания этих персонификаций в плаче, как и в переводах, переложени-
ях, исследованиях нет. Различие в написании трех одушевленных сил природы, видимо,
обусловлено их написанием в Екатерининской копии «Слова», в первом издании, в
переводе В. А. Жуковского. В Екатерининской (тоже пишут это слово и строчной и
прописной) копии - «Ветер Ветрило», в издании - «О ветре! ветрило!», и у Жуковского -
«О ветер, ты ветер!». Слова «Днепр Славутич» в копии написаны так: «о дне пресловути-
цю». И против слова «пресловутицю» на поле стоит знак вопроса, написанный теми же
чернилами, что и вся копия. Копиист не понял значения этого слова, поскольку в автор-
ской рукописи Днепр Славутич был написан слитно в звательном падеже. Ср.: «Словут-
ный - значит слыть, славный, прославленный, известный». См.: Даль В. И. Толковый
словарь живого великорусского языка. Т. 4. М., 1955. С. 223.
4 Аникин В. П., Круглов Ю. Г. Русское народное поэтическое творчество. Л., 1987. С. 95-96.
5 Помимо канонической молитвы существуют различные формы обращения к божествам,
имеющие устное и письменное бытование. См. подробнее: Богданов К А. Заговор и
молитва (к уяснению вопроса) // Русская литература. 1991. № 3. С. 65; Лурье В. Ф. «Свя-
тые письма» как явление традиционного фольклора // Русская литература. 1993. № 1.
6 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М., 1989. С. 47.
7 Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и художественная культура Киевской Руси И
Слово о полку Игореве. Л„ 1985, С. ХХХП-ХХХШ.
8 См.: Венедиктов Г. Л. Ритмика фольклорной прозы и ритмика «Слова о полку Иго-
реве» // Русская литература. 1985. №3.
9 Кормилов С. И. Русская метризованная проза (прозостих) конца XV11-X1X века //
Русская литература. 1990. №4. С. 32-37.
10 Соколов Ю. М. Русский фольклор. Л., 1938, С. 239; Аникин В. П, Круглов Ю. Г.
Указ. соч. С. 288.
11 Нелишне заметить здесь, что Державин в стихотворении «Соловей во сне» нагнетал
звуки с, л и ни разу не воспользовался звуком р. Тем самым он добивался фонетического
правдоподобия стихов пению соловья. Ломоносов считал, что «частое повторение пись-
мена а способствовать может к изображению великолепия, великого пространства, глу-
бины и вышины, также внезапного страха». См.: Ломоносов М. В. Краткое руководство к
красноречию И Ломоносов М. В. Сочинения. М.; Л., 1961. С. 363.
12 См. подробнее: Потебня А. А. Теоретическая поэтика, М., 1990. С. 106.
13 Такой приём умолчания наблюдается в причитаниях знаменитой вопленницы И. А. Фе-
досовой.
14 Федотов Г. Н. «Слово о полку Игореве» // Русская литература. 1993. № 1. С. 117.
238
Теоретические искания русских мифологов
в области поэтики фольклора
Н. Ф. Злобина (Москва)
Мифологическая школа - это первое научное направление в фольк-
лористике, которое возникло в 40-е годы XIX века. Ученые устанавли-
вали родовые мифологические верования, относящиеся к славянским
народам, указывали характер этих верований, доказывали их тождество
с верованиями других индоевропейских народов, пытались определить
целостный комплекс праславянской и праиндоевропейской мифологии,
доказывая единый корень всех индоевропейских народов.
Цель статьи - выявление, описание и характеристика научных ис-
каний представителей мифологической школы, которые нашли отра-
жение в решении проблемы происхождения мифа, характеристике
мифологического мышления, определения сущности метафоры и
времени ее появления, понимания взаимосвязи мысли, слова, мифа и
поэзии, объема понятий «мифология», «эпос», «местный», «общена-
родный», происхождения сказки, духовного стиха и некоторых других
вопросов. В данной статье предполагается рассмотреть только часть
научных исканий ученых-мифологов в области поэтики фольклора.
Спектр их широк: выводы, методические приемы, с помощью кото-
рых к ним приходили, целостность концепций ученых и другие мо-
менты - все вызывало многочисленные дискуссии.
Сами сторонники мифологической теории обращали внимание на ее
неоднородность. Европейский ученый М. Мюллер говорил об «этимоло-
гическом» и «аналогическом» направлениях внутри этого учения. А. А. Кот-
ляревский выделил «поэтико-историческую (бытовую)» и «физико-психо-
логическую»1 разновидности мифологической концепции.
Обе вышеуказанные характеристики мифологической школы оп-
равданы. А. А. Котляревский подчеркивал, что достижения «поэтико-
исторической» разновидности мифологического учения происходят
благодаря полному использованию исследователями исторического
принципа, недостатки же «физико-психологической» ветви мифоло-
гического учения - есть следствие небрежительного отношения к
историческому подходу.
Позже А. Н. Веселовский2 хотя и обращал внимание на существо-
вание мифологов «классического закала» и ученых «новой» школы,
счел это разграничение несущественным. Напротив, А. А. Потебня3 и
239
Теоретические искания русских мифологов...
Е. Г. Кагаров4 подчеркивали самостоятельность лингвистического или
психологического подхода к изучению мифа.
На факт неоднородности мифологической школы обращали вни-
мание и советские ученые. В первую очередь отмечалась неоднород-
ность общественных установок ученых мифологического направле-
ния и на этом основании делалась попытка определить особенности
мифологической концепции каждого из них. Разность научных взгля-
дов исследователей также связывалась со сменой поколений ученых:
выделяли школу «старших» и «младших» мифологов5. В. Е. Гусев6
возобновил позиции, предложенные еще М. Мюллером.
Наблюдения показывают, что ученые, придерживающиеся разных
мифологических ориентаций, расходились в определении содержания
и объема понятия «мифология». Опираясь на терминологию А. Котля-
ревского, обратим внимание, что мифологи «поэтико-исторического»
направления рассматривали мифологию как элемент, присущий лишь
древним временам. Изучение мифологии для них - это воссоздание
древнейших образов и представлений посредством приведения в сис-
тему выводов и заключений, сделанных на основе разных наук (древ-
ней истории, археологии, этнографии, устной и письменной словес-
ности, языка и т. д.). Ученые «физико-психологического» направления
исходили из того, что мифологичность - это постоянное и неизменное
качество человеческой психики, которое отражено, в том числе и в
современном языке, поэтому они сочли возможным исследовать
древние мифологические образы на основе материала только лин-
гвистического и психологического.
Разным было и определение понятия «эпос». По Буслаеву, были-
ны, местные предания, «позднейшие летописные сказки...только по
частям воссоздают то целое, которое мы называем русским народным
эпосом»7. В более ранних работах Ф. И. Буслаева эпос был равнозна-
чен всей народной поэзии. Для О. Ф. Миллера эпос лишь былины (и
сюжетно-образно соответствующие им произведения устного творче-
ства других народов), утратившие первоначальное единство8.
А. А. Котляревский употреблял данный термин как в широком, так
и в узком его значениях. Под народным эпосом он подразумевал и
миф, и былину, и сказку, и историческую песню. В узком смысле тер-
мин «эпическое произведение» в его работах синонимичен понятиям
«русская народная былина», «сказания», «богатырская песня», «эпи-
ческое сказание», «сказания о богатырях».
В развитии героического сказания мифологи выделяли три этапа.
Первый и второй этапы они характеризовали одинаково. Третий период
в истории былины мифологи склонны рассматривать по-разному, в
зависимости от того, какой круг произведений относить к жанру былин.
240
Н. Ф. Злобина
При выделении и характеристике этапов в истории фольклора
Ф. И. Буслаев за основу брал нравственное развитие от мифологии и
язычества к национальному типу эпоса, вобравшего в себя христиан-
ские элементы. Первый этап в развитии эпоса ученый традиционно
связывал с мифологической эпохой, второй - с периодом двоеверия -
«двоеверный», третий называл «христианский» , подчеркивая при-
оритет христианских ценностей в народной культуре.
О. Ф. Миллер говорил о трех стадиях нравственности, отраженных
в былинах. Первую - ученый относил к «временам родовым», т. е.
происхождением своим она обязана «мифологической почве», вторую -
«к эпохе Киевской Руси», третью - «к поре поздней, уже Москов-
ской»10. Этапы развития эпоса ученый соотносил со ступенями разви-
тия народной словесности. «Известно, что народная словесность про-
ходит через следующие ступени развития: мифологическую, бога-
тырскую, историческую и частно-бытовую»11. В своей классификации
О. Ф. Миллер за основу брал движение собственно эпического жанра,
однако не делал различия между былиной и исторической песней,
поэтому последний этап в существовании героического эпоса ученый
связал с эпохой расцвета исторической песни.
А. А. Котляревский первым из ученых-мифологов сформулировал
отличие героического сказания от исторической песни. Традиционно
говоря о первом и втором периодах в жизни былины, А. А. Котлярев-
ский третий период склонен рассматривать как период упадка жанра и
связывает его начало с эпохой татаро-монгольского ига, полагая, что
новые исторические начала останавливали развитие богатырских
песен, так как силой традиции в нее принималось то, что «гармониро-
вало со старинными эпическими представлениями».
Характеристика этапа местного приурочения мифов также реша-
лась учеными в разном объеме. А. Котляревский отдавал Ф. И. Бус-
лаеву приоритет в утверждении положения об этапе местного приуро-
чения и с сожалением отмечал, что в научных изысканиях подобный
подход не нашел должной поддержки: «Важные замечания его в этом
отношении встретили в учебной литературе довольно слабый отклик,
может быть, потому что были высказаны в несколько исключитель-
ной, аподиктической форме общего принципа, распространяющегося
на всю сферу словесных произведений Руси, тогда как далеко не все
они отмечены резким областным характером»12.
Придавая важную роль изучению этапа местного приурочения
мифов, Ф. И. Буслаев критиковал работу О. Ф. Миллера «Илья Муро-
мец и богатырство киевское» за невнимание к этому периоду сущест-
вования мифов. В исследовании Ф. И. Буслаев увидел «капитальное
упущение», которое произошло в результате того, что автор труда
«наложил множество позднейших бытовых слоев не на твердую осно-
241
Теоретические искания русских мифологов...
ву, а на тот первобытный хаос элементов, который взял напрокат из
мифологии природы»13. Твердой основой местной (русской) мифоло-
гии Буслаев считал ее приурочение к календарю, быту и месту прожи-
вания не праиндоевропейского периода, а этапу выделения славян из
праиндоевропейской группы. Нужно же было изучать, по твердому
убеждению Ф. И. Буслаева, этап местного приурочения мифов, т. е.
специфического славянского русского времени жизни мифов. Это
упущение привело, по мнению Ф. И. Буслаева, к разработке только
«самого низшего, древнейшего», общеславянского и общеиндоевро-
пейского слоя в русском эпосе, а также конструированию мифологи-
ческих схем в ущерб национальному (местному) содержанию мифо-
логических сказаний. Оценка исследования О. Ф. Миллера как
«мифологического» с негативным оттенком стала традиционной.
Только в последнее время данный взгляд пересматривается14.
Духовный стих также был предметом рассмотрения мифологов. От-
носительно времени формирования духовного стиха как самостоятель-
ного жанра мифологи расходились во мнении. А. Н. Афанасьев настаи-
вал на арийском периоде создания духовного стиха, а А. А. Котляревский
говорил о XVI-XVII веках как о времени формирования этого жанра.
А. Н. Афанасьев относил происхождение Голубиной книги исключи-
тельно к арийскому периоду. Котляревский считал, что имеет смысл
использовать мифологические древности как источник Голубиной кни-
ги, но он был категорически «против того только, чтоб “Стиху” припи-
сывать исключительно народное происхождение»
Народная сказка - эпический жанр и как таковой рассматривалась
мифологами с целью установления древних мифологических элементов.
Относительно путей проникновения мифологического элемента в
сказку у мифологов тоже не было одинакового мнения. Ф. И. Буслаев
склонялся к мысли, что мифологический элемент в сказке появляется
опосредованно через былины. А. Н. Афанасьева интересовал сам мифо-
логический слой, который он пытался реставрировать. Вопросу о том,
как, посредством чего мифологические элементы сохраняются в совре-
менных записях сказок, он уделил значительно меньшее внимание.
А. А. Котляревский считал, что мифологический элемент мог вли-
ваться в сказку не только прямым путем непосредственно из мифа,
(«мифы...сбрасывают все народное, все, что делало их мифологией
известного народа и удерживают только общечеловеческие черты,
общечеловеческую форму воззрения: они становятся сказкой»15), но и
опосредованно, через былины (сказки представляют «во многих слу-
чаях позднейший вид наших богатырских былин»16). Сказка появляет-
ся одновременно с героическим сказанием и независимо от него,
возможно, даже из одного и того же мифа. («Мифы или... переходят
...в героическое сказание... является сказка.»17). Сказка возникает
242
Н. Ф. Злобина
позже героического сказания как его пересказ («в некоторых случаях
сказка есть не что иное, как прозаический перифраз былины»)18.
Время формирования сказки как самостоятельного жанра мифоло-
ги связывают с периодом кризиса древней мифологии. Вопрос, что
древнее: былина или сказка мифологи решали по-разному. Общепри-
нятым мнением считалось, что сказка современнее былины. Однако
Котляревский доказал, что по характеру фантазии сказки древнее
былины. Он пытался проследить происхождение сказки, ориентиру-
ясь на особый род фантазии и своеобразные формы достоверности,
историзма, запечатленного ей. Он дифференцировал характер фанта-
зии в мифе, былине и сказке. В мифе фантазия отличается огромным
творческим потенциалом, она творит сами мифические образы, от-
ношения между ними, поступки персонажей, события. В былине фан-
тазия теряет свой всеобъемлющий, многогранный характер, установка
на достоверность ограничивает фантазию в былине. В сказке же
вновь возрождается былой полет древней фантазии. Таким образом,
по характеру фантазии ученый считал сказку более древней, чем бы-
лина. Эта позиция ученого отличается от мнения других ученых ми-
фологов. Анализ сказки с точки зрения персонажей привел ученого к
выводу, что сказка уступает былине в древности.
В среде ученых-мифологов XIX века определилось, по крайней ме-
ре, два мнения относительно метафоры.
Предметы, явления, действия называются по своему основному
признаку. Эти же явление, предмет, действие могли называться по
другим, не основным признакам. Так появлялись слова синонимы,
называющие один предмет по разным признакам. Разные предметы,
явления, действия могли иметь близкие и даже одинаковые признаки,
по которым они получали одинаковые названия. Поддерживая это
мнение А. Н. Афанасьев писал: «Здесь-то именно кроется тот богатый
родник метафорических выражений, чувствительных к самым тонким
оттенкам физических явлении» .
Положение А. Н. Афанасьева о том, что поэтические метафоры
превращаются в непереносные выражения, поддерживало теорию
М. Мюллера, по которой «болезнь» или «порча языка» становилась
причиной появления новых мифов, то есть утверждалась лингвисти-
ческая и психологическая, а не природная и не историческая основы
вторичных мифов.
Такая позиция вызвала критику А. А. Котляревского и до сих пор
не является бесспорной в науке. А. А. Котляревский пояснял, что если
бы миф появлялся в результате «порчи языка», то есть из поэтической
метафоры, то любая метафора давала бы повод к созданию мифа.
«Сколько существует в языке метафор и синонимов, которые не вы-
зывают смешения и не дают повода к созданию мифов! Почему, на-
243
Теоретические искания русских мифологов...
пример, называя словом “движджа” дважды рожденного и яйцо, и
брахмана, болезнь языка не произвела мифа о рождении брахмана из
яйца? Почему метафорические выражения: слепой орех, живой или
мертвый лес не выродились и не разрослись в мифы?» А. А. Потебня
в сборнике де Губернатиса обнаружил мифологический рассказ о
птицах брахманах и, поправляя позицию А. А. Котляревского, писал:
«Утверждать, что нет подобных мифов мы можем лишь со скромною
оговоркою»20. Ученый-славист Н. И. Толстой также приводит приме-
ры этимологической магии, подтверждающие мнение, что слово мо-
жет провоцировать обряд, но и в конце XX века он делает это весьма
осторожно: «Славянская филология только приступает к накоплению
примеров слов, из которых развивались, “разворачивались” ритуаль-
ные действия и целые обряды»21.
А. А. Котляревский критически осмыслил основанный на идее
«порчи» языка ход мысли А. Н. Афанасьева относительно эволюции
метафорического восприятия. Если предположить, что порча и пре-
вращения языка явились источником мифа, то прежде должна поя-
виться поэтическая метафора, и лишь вслед за этим рождается миф.
Следовательно, по логике М. Мюллера и А. Н. Афанасьева, поэтиче-
ская метафора перерастает в мифологическое представление. С этим
А. А. Котляревский категорически не соглашался, подчеркивая, что
прежде чем раздробиться мифу, ему перед этим «необходимо образо-
ваться, сложиться из предшествующих и новых элементов»22.
Эту позицию А. А. Котляревского по отношению к исследованиям
А. Н. Афанасьева позднее поддержал А. А. Потебня, который был
согласен с тем, что «возвышенное состояние мысли и последующее ее
падение являются немотивированными и противоречащими теории
постепенного развития мысли»23.
Такой подход Котляревского нашел подтверждение в современных
изысканиях различных направлений науки. Образованием метафоры
занималась лаборатория физиологии высшей нервной деятельности.
Один из выводов этих изучений показал несостоятельность понима-
ния метафоры как сознательного переноса значений. Восприятие
метафоры представляет собой «акт непосредственного переосмысле-
ния прямого значения метафорического слова в его соотнесении к
предмету выражения»24. Современные психологи доказали, что мета-
фора рождается одномоментно и воспринимается непосредственно.
Работы психологов подводят к заключению, что переносный смысл
присущ только готовой поэтической метафоре, переноса смысла как
действия, процесса создания нового значения слова нет. Современная
теория мгновенности рождения метафоры определенно доказывает,
что метафора не может рассматриваться как источник мифов. В язы-
ковых метафорах переносное значение условно, так как семантиче-
244
Н. Ф. Злобина
ская природа прямого и «переносного» значений в языковой метафоре
ничем не отличаются друг от друга. Нет в ней также и противопо-
ставления нового переносного значения прямому смыслу слова, как
это всегда бывает в поэтической метафоре.
Современные исследования о поэтической метафоре подтвержда-
ют мнение А. А. Котляревского. В. И. Еремина25 выделяет три уровня
мышления: мифологическое, поэтическое и языковое. Метафора по-
является в тот момент, когда человек начинает выделять себя из
природного мира и появляется необходимость сопоставления. На
уровне мифологического мышления существует тождество человека и
природы: ни сопоставление, ни аналогия не подразумеваются.
Русские мифологи не принимали и теорию Макса Мюллера.
А. А. Котляревский категорически отвергал также мысль М. Мюллера
о том, что поэтическая метафора, любое сравнение появляется в ре-
зультате лексической бедности языка. Это положение также нашло
отражение и дальнейшее развитие в теоретических построениях
А. А. Потебни, хотя он подходил к решению этого вопроса по-своему.
Ученый утверждал, что язык всегда беден по отношению к той мыс-
ли, которую он фиксирует: «Впрочем, совершенно верно, что язык...
направляющий последующую деятельность мысли, не только в начале
беден по отношению к требованиям этой мысли». Исследователь
пояснял: «Эта бедность, выступающая, как каждый из случаев позд-
нейшей метафоричности, так и создание мифов, есть собственно не
бедность, а возможность дальнейшего развития»26. А. А. Потебня,
развивая свои мысли в этом направлении, уточнял, что «то, что назы-
27
вают... порчею в языке, есть лишь новое сочетание элементов» .
А. А. Потебня дополнил перечень несоответствий в рассуждениях
М. Мюллера. Ученый подчеркивал противоречивость мысли европей-
ского исследователя, который, с одной стороны, утверждал, что суще-
ствует первоначальная конкретность языка, что в свою очередь ведет
к богатому лексическому запасу, с другой стороны, чтобы аргументи-
ровать свою теорию происхождения мифа, говорил о лексической
бедности языка. Проведя анализ, А. А. Потебня также не нашел «бо-
лезни языка ни в образовании грамматической формы, ни в образова-
нии мифа»28. Таким образом, мысль А. А. Котляревского о невозмож-
ности принять положение М. Мюллера о «болезни» или «порче
языка» как причине мифа была подхвачена и развита Потебней.
А. А. Котляревский не разделял мнения А. Н. Афанасьева по пово-
ду происхождения мифа, по-другому определял время появления по-
этической метафоры, но был согласен с ним, что «метафора произош-
ла вследствие сближения с предметами, сходными по произвольному
впечатлению»29, которое создавалось свободно и черпалось из богато-
го языкового источника.
245
Теоретические искания русских мифологов...
А. А. Котляревский доказывал, что метафора в природном мифе не
осознается таковой, это исконное свойство языка. Ученый пояснял
свою мысль так: «Когда светила он называл очами неба, молнию ог-
ненным змеем и т. д., он не только называл, но и осознавал их тако-
выми, он искони употреблял эти имена не в переносном, поэтическом
смысле, в смысле реальной действительности».30
Не только А. А. Котляревский, но и другие русские ученые под-
черкивали этот момент. «По крайней мере, очень многие поэтические
сравнения и образные обороты, - писал О. Миллер, - первоначально
были не сравнениями и оборотами, а действительными мифически
понимаемыми явлениями». В сравнении: «Волх говорит, как гром
гремит» - слово «как», «может быть только позднейшая вставка, пер-
воначально же... Волх говорил, т. е. гром гремел»31.
Потебня по-своему осмысливал идею А. А. Котляревского о ми-
фических представлениях. Он говорил о первичном слове-мифе, без
опоры на которое не может быть дальнейшего мифологического про-
цесса. Свои взгляды с позицией Котляревского Потебня соотносил
следующим образом: «Под мифом в общем смысле мы понимаем как
простейшую мифологическую формулу (...) (мифическое представле-
ние - Котляревский), так и дальнейшее ее развитие (мифическое ска-
зание - Котляревский). Здесь речь о первом, которое относится ко
второму, как слово к развитому поэтическому произведению» .
Важно замечание Котляревского о том, что «каждое древнейшее
мифическое представление образовывалось из взаимного действия
двух начал, внешнего, которым были непонятные для человека явле-
ния физической природы, и внутреннего, или начала мысли и чувства
человека»33. Выделив объект и субъект познания в мифологических
представлениях, Котляревский подчеркивал их нерасчлененность, и
это позволило ему занять правильную позицию о характере метафо-
ричности в мифологии.
Эту же мысль развивал Потебня. Соотнеся понятие «мифологиче-
ское представление» Котляревского с понятием «слово» в своей кон-
цепции, ученый также говорил, что в древнейшие мифологические
времена, мысль человека, выраженная в слове, не умела «разграни-
чить субъективное познание от объективных его источников».34
Ученый, выделив миф первичный и миф вторичный, полностью
отрицал возможность происхождения природного мифа посредством
«порчи» языка. «Язык, как сила действующая, остался совершенно
чужд первоначальному происхождению мифических представлений;
он оказал сильное влияние на мифы, так сказать вторичного образо-
вания»35. Свою мысль о том, что древние мифические представления
наполняются новыми понятиями и осмысляются по-новому в после-
дующие времена в мифах исторического периода, Котляревский вы-
246
Н. Ф. Злобина
разил недостаточно точно, что дало повод А. А. Потебне заметить:
«А. А. Котляревский (...) справедливо отвергая порчу языка как ис-
точник первоначальных мифов, заходит слишком далеко, говоря, что
“язык как сила действующая (что это? недействующая сила не суще-
ствует), остался совершенно чужд первоначального происхождения
мифических представлений”»36.
Котляревский пытался определить причины мифической произво-
дительности народа. У него эта проблема сформулирована в виде
вопроса со скептическим оттенком: «Быть может, то же психическое
настроение, какое господствовало в период младенческой жизни на-
рода, продолжалось и далее в эпоху историческую, так что народ и
среди изменившихся жизненных обстоятельств, оставался при воз-
зрениях ребенка и, не внимая урокам опыта, постоянно создавал при-
родные мифы»37.
Потебня в отличие от Котляревского и Веселовского развивал
мысль о постоянном мифотворчестве («Создание мифа не есть при-
надлежность какого-либо одного времени»38) на основе положения о
формальности мифологического мышления. «Мифологическое мыш-
ление на известной степени развития - единственно возможное, необ-
ходимое, разумное. Оно свойственно не одному какому-либо времени,
а людям всех времен, стоящих на известной степени развития мысли;
оно формально, т. е. не исключает никакого содержания: ни религиоз-
ного, ни философского и научного»39. Мышление современного чело-
века может соответствовать уровню древнего мифологического мыш-
ления, поэтому и в настоящее время человек способен к мифотвор-
честву. Ученый утверждал: «Множество примеров мифологического
мышления можно найти и не у дикарей, у людей, близко стоящих к
нам на степени развития»40. По традиции в мифологическом сознании
сохраняются остатки мифологических понятий и представлений, по-
этому они и воспроизводятся в народном творчестве постоянно и в
наши дни тоже.
Потебня выдвинул понятие о «детских мифах». Ученый обосновы-
вал это положение на выводе о том, что уровень мышления в детском
возрасте соответствует тому восприятию реальности, которое было
характерно для человека древних мифологических времен. Он пояс-
нял, что «миф же несомненно может скрываться и в узкой сфере лич-
ности. Кому не известны мифы, создаваемые нашими детьми, под
влиянием того же языка, которым говорим мы»41.
Котляревский считал, что существенное отличие вторичных или
исторических мифов состоит в том, что они не имеют природного
первоисточника: «Существенное отличие этих мифов нового порядка
от старых заключается в том, что они совершенно чужды той природ-
ной основы, на которой выросли мифы первичные, и если в них до-
247
Теоретические искания русских мифологов...
вольно часто входят и старые элементы природного чудесного, то это
потому, что народная фантазия привыкла к этим поэтическим формам
и не имеет нужды творить новые... со стороны исследователя будет
большой ошибкой доискиваться природного значения новых мифов
или посредством его объяснять их возникновение»42. Как мы уже
отмечали, неразличение природных и исторических мифов привело
А. Н. Афанасьева к крупным просчетам и неверным выводам о том,
что миф может появляться в результате «порчи» языка. Котляревский
по отношению к первичным мифам совершенно не допускал мысли о
их возможном появлении в результате изменений в языке. Что же
касается мифов вторичных, то одну из причин их появления и разви-
тия ученый связывал с неправильным толкованием старых слов и
выражений, происходивших от забвения первоначального их значе-
ния. Исследователь писал: «Одной из главных причин возникновения
новых мифов бывают недоразумения и смешения в употреблении,
понимании и толковании слов»43.
В отличие от Котляревского Потебня отвергал эту причину появ-
ления новых мифов. Проведя различие между априорностью и при-
митивностью мышления, ученый пришел к выводу: «Если это по-
строение [выше указанное различие. - Н. 3.] верно, то оно одинаково
уничтожает как мысль о появлении некогда болезни языка, а вместе с
нею и мифов, так и мнение очень сходное с этим, что только вторич-
ные мифы возникли под влиянием языка. Ибо, чем ближе к началу
истории, тем меньшим капиталом мысли обладают люди»44.
Итак, научные искания были характерны для ученых мифологиче-
ской школы XX века. Разногласия касаются содержания и объема
понятий «эпос», «метафора», «мифологическая производительность»,
характеристики жанров. В вопросах периодизации фольклора и вре-
мени появления того или иного жанра также существовали разные,
взаимодополняющие и взаимоисключающие, мнения. Третий этап
развития эпоса мифологи характеризовали по-разному в зависимости
от того, какие эпические жанры выделяли. Так, А. А. Котляревский,
отделив жанр исторической песни от былины, третий период в жизни
эпоса характеризовал как время упадка былинного жанра. Разная роль
отдавалась изучению этапа «местного приурочения» мифов Ф. И. Бус-
лаевым и О. Ф. Миллером. Буслаев считал, что главная цель и задача
русского ученого изучать «национальную» редакцию мифологии, то
есть этап ее «местного приурочения». О. Ф. Миллер в реконструкции
шел к упрощенной праиндоевропейской схеме, чем и заслужил кри-
тику со стороны Буслаева.
Ученые по-разному определяли время формирования духовного
стиха и народной сказки. Афанасьев настаивал на праиндоевропейском
периоде как времени появления духовного стиха, а Котляревский - на
248
Н. Ф. Злобина
периоде XVI-XVII века. Истоки народной сказки интерпретировались
учеными по-разному. Ф. И. Буслаев считал, что в сказку мифологиче-
ские элементы попадают опосредованно через былины, т. е. сказка со-
временнее былины. А. А. Котляревский полагал, что мифологический
элемент проникает в сказку непосредственно из мифа. У ученых разная,
но взаимодополняющая методика определения мифологичности жанра.
Методика А. А. Котляревского, основанная на анализе характера фанта-
зии в разных эпических жанрах и мифе, позволила сделать ему вывод,
что по характеру фантазии сказка древнее былин.
Поиски характеризуются не только определенными разногласия-
ми, но и перекличками мысли, дополнениями, развертыванием близ-
ких позиций. Например, во взглядах, А. А. Котляревского, А. Н. По-
тебни, А. Н. Веселовского о первичных и вторичных мифах есть
много взаиморазвивающих мыслей. Взаимодополняющими являются
мнения А. А. Котляревского и А. Н. Потебни об ошибочности теории
«болезни языка» как причине происхождения природного мифа.
А. А. Котляревский, О. Ф. Миллер, А. Н. Потебня подчеркивали не-
расчлененность объекта и субъекта познания в мифологической
действительности и потому заняли одинаковую позицию по вопросу о
характере метафоричности и сущности метафоры в первичном мифе.
Это не полный перечень исканий ученых-мифологов.
Итак, мифологическое учение не было застывшим, оно развива-
лось, преодолевая свои внутренние противоречия. Это мощное науч-
ное направление, которое сформулировало важные теоретические
положения науки, привело к пересмотру многих взглядов? существо-
вавших в науке о словесности XIX века, хотя в терминологии и аргу-
ментации исследователей единства еще не было.
Примечания
1 Котляревский А. А. Старина и народность за 1861 год. Библиографическое обозре-
ние. // Сочинения. СПб., 1889. Т. 1. С. 532-533. Он же История русской жизни с
древнейших времен // Сочинение И. Е. Забелина. Рецензия. // Он же. Т. 2. С. 504-505.
2 Веселовский А. Н. Поэтика сюжетов. //Собр. соч. СПб., 1913. Т. 2. Вып. 1. С. 13.
3 Потебня А. А. Теоретическая поэтика. М., 1990. С. 310.
4 Кагаров Е. Г. Современные теории происхождения религии и мифов. Одесса, 1902. С. 2.
5 Баландин А. И. Мифологическая школа в русской фольклористике. М., 1988. С. 7.
6 Гусев В. Е. Школа мифологическая // Восточно-славянский фольклор. Словарь науч-
ной и народной терминологии. Минск, 1993. С. 451.
7 Буслаев Ф. И. Русский богатырский эпос // Народная поэзия. Исторические очерки. И
Сборник Отделения русского языка и словесности. СПб., 1887. Т. XLII. С. 284.
8 Селиванов Ф. М. О. Ф. Миллер как исследователь русского эпоса // Русский фольк-
лор. Вып. 30. СПб., 1999.
9 Буслаев Ф. И. Русский богатырский эпос. СПб., 1887. С. 20.
10 Миллер О. Ф. Илья Муромец... С. 649.
"Там же. С. XI.
249
Теоретические искания русских мифологов...
12 Котляревский А. А. Древняя русская письменность. Опыт библиологического изло-
жения истории ее изучения //Сочинения. СПб., 1895. Т. 4. С. 292.
13 Буслаев Ф. И. Бытовые слои... С. 251.
14 Аникин В. П. Былины. Метод выяснения исторической хронологии вариантов. М.»
1984, С. 164-165.
15 Котляревский А. А. Русская народная сказка//Сочинения. СПб., 1889. Т. 2. С. 34.
16 Котляревский А. А. Сказания о русских богатырях // Сочинения. СПб., 1889. Т. 1. С.
101.
17 Котляревский А. А. Старина и народность... С. 572.
18 Котляревский А. А. Русская народная литература//Сочинения. СПб., 1889. Т.1. С. 444.
19 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1994. С. 7-8.
20 Потебня А. А. Теоретическая поэтика... С. 313.
21 Толстой Н. И. Общие вопросы этнолингвистики // Язык и народная культура М., 1995, С. 24.
22 Котляревский А. А. Разбор сочинения А. Афанасьева «Поэтические воззрения сла-
вян на природу» // Сочинения. СПб., 1889. Т. 2. С. 277.
23 Потебня А. А. Теоретическая поэтика С. 298.
24 Никифорова О. И. Восприятие метафоры // Уч. зап. 1-го МГПИ иностр, яз. М., 1954.
Т. 8. С. 304.
25 Еремина В. И. Поэтический строй русской народной лирики. Л., 1978.
26 Потебня А. А. Теоретическая поэтика С. 305-306.
27 Там же. С. 312.
28 Там же. С. 313.
29 Котляревский А. А. Разбор сочинения А. Афанасьева С. 272.
30 Там же. С. 273.
31 Миллер О. Ф. Илья Муромец... С. 192.
32 Потебня А. А. Теоретическая поэтика. С. 302.
33 Котляревский А. А. Основной элемент русской богатырской былины // Сочинения.
СПб., 1889. Т. 2. С. 248-256.
34 Потебня А. А. Теоретическая поэтика. С. 314.
35 Котляревский А. А. Разбор сочинения А. Афанасьева. С. 276.
36 Потебня А. А. Теоретическая поэтика. С. 311.
37 Котляревский А. А. Разбор сочинения А. Афанасьева. С. 269.
38 Потебня А. А. Теоретическая поэтика. С. 306.
39 Там же. С. 303.
40 Там же.
41 Там же. С. 313
42 Котляревский А. А. Разбор сочинения А. Афанасьева С. 316.
43 Там же. С. 318.
44 Потебня А. А. Теоретическая поэтика. С. 313.
Заметки к биографии А. В. Маркова
Т Г Иванова (Санкт-Петербург)
Впервые весомо и аналитически выверенно научная биография
известного собирателя фольклора, былиноведа, представителя «исто-
рической школы» Алексея Владимировича Маркова (1877-1917) была
представлена в статье В. П. Аникина в 1963 г.1, во многом основанной
на материалах личного фонда фольклориста, хранящегося в Отделе
рукописей Российской государственной библиотеки. После В. П. Ани-
кина в печати появился ряд публикаций собранных А. В. Марковым
былин и исследования, ему посвященные2. Наконец, в 2002 г.
С. Н. Азбелев и Ю. И. Марченко подготовили фундаментальное изда-
ние «Беломорские старины и духовные стихи: Собрание А. В. Мар-
кова». Особо подчеркнем, что С. Н. Азбелеву удалось связаться с
потомками ученого и благодаря их информации ввести в фольклори-
стику новые документы - посмертные отзывы о трудах А. В. Маркова,
написанные М. Н. Сперанским, Ю. М. Соколовым и А. Н. Максимо-
вым, а также фотографии из семейного архива3.
Тем не менее, не все еще источники, касающиеся биографии
А. В. Маркова, осмыслены фольклористами. В частности, мы имеем в
виду воспоминания Андрея Белого (наст, имя и фамилия: Борис Ни-
колаевич Бугаев; 1880-1934) и Сергея Михайловича Соловьева (внука
историка, поэта-символиста, переводчика, впоследствии ставшего
сначала православным, а затем - католическим священником; 1885-
1942), в детстве друживших с Николаем Владимировичем Марковым
(1884-1966), братом фольклориста. Сам А. В. Марков в их мемуарах
почти не появляется. Будучи старшим по возрасту, он в середине
1890-х гг., к которым относятся воспоминания, уже заканчивал гимна-
зию (1887-1896), а затем учился в Московском университете (1896-
1900). Однако мемуары его младших знакомцев позволяют восстано-
вить атмосферу, в которой формировался будущий ученый.
Отец А. В. Маркова, Владимир Семенович Марков (? - 1918), был
священником Троицкой церкви на Арбате. Андрей Белый вспоминал:
«Тут и Троице-Арбатская церковь, с церковным двором, даже с садиком,
вытянутым дорожкою в Денежный, там - и ворота; в воротах - крылатый
Спаситель; колодезь и домики: домик дьячковский, поповский и дьякон-
ский»4. В «поповском» домике и вырос А. В. Марков. В советские време-
на, в годы воинственного атеизма, церковь была снесена.
251
Заметки к биографии А. В. Маркова
Приход отца Владимира был одним из самых богатых в Москве:
Арбат был районом аристократическим. И хотя в обыденной жизни
глава семейства придерживался строгой экономии, в доме любили
принимать гостей. «Но все изменялось в доме батюшки, когда прихо-
дили гости, - пишет С. М. Соловьев. - Появлялись целые корзины с
бутылками пива, ящики с колбасами и сырами. Матушка любила жить
широко, и зимою в окруженном сугробами доме были шумные и ве-
селые вечера. Множество родных с разных приходов Москвы съезжа-
лись к отцу Василию»5. Следует сказать, что в первом варианте вос-
поминаний С. М. Соловьева многие лица из его окружения и названия
топографических пунктов имели вымышленные имена (вместо Бори
Бугаева - Глеб Караваев; вместо Льва Кобылинского - Яков Жилин-
ский и т. д.). Во втором (опубликованном) варианте большинство
персонажей получили подлинные имена, но отец Владимир Марков
остался отцом Василием, а А. В. Марков назван Ваней6. «Сам отец
Василий, - продолжает мемуарист, - происходил из бедного сельского
духовенства, а родных у него в Москве совсем не было. Зато матушка
принадлежала к церковной аристократии, и родня ее образовывала
сеть приходов в лучшей части города. Бесконечные кузены и кузины,
гимназисты и студенты съезжались в гости; кругом этого центра было
множество товарищей и подруг Колиных братьев и сестер7. Мы с
Колей, как младшие, только издали созерцали это великолепие. Коли-
ны сестры были барышни на выданье, матушка устраивала для них
танцы и спектакль за спектаклем <...> Отец Василий жил среди этого
совершенным отшельником и редко выходил к гостям»8.
Отец и мать - два человека, которые не могли не оказать влияния
на А. В. Маркова. Взгляды матери, Марии Ипполитовны, урожденной
Богословской-Платоновой, дочери священника, после смерти которо-
го В. С. Марков принял приход9, оказались решающими в формиро-
вании общественно-политических убеждений своих сыновей.
М. И. Маркова, помимо веселого нрава, кажется, была склонна к
безобидному либерализму. Она позволяла собираться в своем доме
университетским товарищам А. В. Маркова и, хотя с оглядкой на му-
жа, охотно слушала их вольнодумные речи.
Андрей Белый вспоминал: «У “матушки” и у дочек собиралась ра-
дикально настроенная молодежь (“батюшки” не было видно на этих
собраниях); с легкой руки Струве10 и Туган-Барановского11 во многих
московских квартирах вдруг зачитали рефераты о Марксе, о социа-
лизме, об экономике12. В семье Марковых молодежь составила кру-
жок для изучения “Капитала”, и главой его стал студент-юрист
Л. Л. Кобылинский, родственник Соловьевых»13.
252
Т. Г. Иванова
С. М. Соловьев, уже в детстве склонный к обостренной религиозно-
сти, в свою очередь, рисует следующую картину: «Старший Колин брат
Ваня (то есть А. В. Марков. - Т И.) только что поступил на филологи-
ческий факультет и устроил у себя в доме научное общество. Хотя я
умирал от скуки, но я считал нужным высиживать вечера, слушая изло-
жения Бокля14. Прежние веселые собрания в доме батюшки, с танцами
и шарадами, сменились серой скукой. Студенты играли в профессоров.
Ваня читал лекции о том, что Адама и Евы не было и что первые люди
надели одежду не из стыда и не для тепла, а чтобы украситься, на что
матушка, перемывавшая чашки, отзывалась из столовой:
- Смотри, Ваня, папаша не за горами!
- Я не боюсь папаши! - запальчиво крикнул Ваня. - Мое дело правое!
Бедный Ваня очень страдал, его вера разрушалась, а вместе с ве-
рой уходило из дома и прежнее непосредственное веселье»15.
Очевидно, что радикальные взгляды А. В. Маркова-студента, на-
влекшие на него подозрительное внимание властей, и не позволили
ему в дальнейшем претендовать на оставление при кафедре для под-
готовки к профессорскому званию. Известно, что В. Ф. Миллер, лю-
бимейшим учеником которого он был, хлопотал о профессуре, но
получил отказ16. Радикальность общественно-политических взглядов
А. В. Маркова засвидетельствована его письмами, на что обратил
внимание В. П. Аникин. В 1908 г. в Историческом музее в своем вы-
ступлении «Художественное наследие Великого Новгорода» фолькло-
рист позволил себе политические высказывания с аллюзиями на рево-
люцию 1905 г.: «Несколько лет тому назад многие готовы были
поставить могильный крест над похороненной навсегда стариной;
лучезарное солнце, казалось, загоралось над нашей страной и своими
лучами пронизывало тьму будущего... Новая Россия, едва народив-
шись, ушла вновь, пропала в “темной дали”, и, стоя на развалинах
кратковременной эпохи, мы можем с горечью повторять слова Пуш-
кина: “Одних уж нет, а те далече”»17.
Увлечение марксизмом в определенной мере скажется на научных
трудах А. В. Маркова. Из черновой записи ученого, опубликованной в
свое время В. П. Аникиным18, ясно, что он ратовал за историко-
социологическое изучение былин. Марксистская фразеология («классо-
вые взгляды», «классовая психология») весьма характерна для его бы-
линоведческих работ. В статье 1907 г. «К вопросу о методе исследова-
ния былин» он высказывался за то, чтобы изучать «те черты характера
былин, которые указывают на классовые взгляды и интересы». «Я ду-
маю, - писал ученый, - что на первой очереди стоит теперь исследова-
ние идейной стороны былин с точки зрения классовой психологии»19.
253
Заметки к биографии А. В. Маркова
Однако несмотря на бунтарские выпады, А. В. Маркова против от-
ца-священника, тот, мы думаем, оказал на своего сына не меньшее,
чем мать, если не большее влияние. В. С. Марков родом был из Мос-
ковской губернии. С 1864 по 1868 г. он учился в Московской духовной
академии, которую закончил магистром богословия восьмым в спи-
ске20. В. С. Марков владел словом и проповедями сделал свою цер-
ковь популярной в Москве. Андрей Белый, оставивший в своих вос-
поминаниях немало иронически-язвительных характеристик людей из
своего окружения, не пощадил и В. С. Маркова: «Марков <...> “гре-
мел” среди старых святош нашего прихода, но отнюдь не талантами, -
мягкими манерами, благообразием, чином ведения церковных служб
и приятным, бархатным тембром церковных возгласов; “декоратив-
ный батюшка” стяжал популярность; и барыни шушукали: “либераль-
ный” батюшка, “образованный” батюшка, “умница” батюшка; в чем
либерализм - никто не знал; в чем образованность - никто не знал;
никто не слыхал от него умного слова»21.
Совсем иной образ В. С. Маркова предстает в некрологе, написан-
ном С. М. Соловьевым: «В. С. умел создать в своем храме подлинное
молитвенное настроение. Пройдет его величавая фигура, со снежно-
серебряными волосами, как-то пахнет благодатью, благостью, добро-
той, - и все как-то подтянулось, облагообразилось <...> Много лет
привлекал В. С. в свой храм богомольцев и, когда переведен был про-
топресвитером в Московский Успенский собор, все у Троицы на Ар-
бате как-то потускнело и пришло в упадок»22.
В. С. Марков был человеком, пишущим и печатающимся. Перио-
дически его статьи появлялись в журналах «Душеполезное чтение»,
«Богословский вестник» и др. Многие из работ были отпечатаны так-
же отдельными брошюрами. Мы выявили более двадцати трудов
В. С. Маркова. Первый из них был опубликован в 1873 г. - «О Еванге-
лии от Матфея. Разбор и опровержение возражений против него от-
рицательной критики Баура. Сочинение священника Московской Тро-
ицкой, на Арбате, церкви магистра Владимира Маркова» (М.,1873).
Перу его принадлежит ряд работ, касающихся образования23. Публи-
ковал В. С. Марков и свои речи по усопшим24. Основные же труды
посвящены Церкви, месту Церкви в русской истории, описаниям от-
дельных храмов.25
В 1900 г. В. С. Марков был поставлен настоятелем Московского
Большого Успенского собора. Как известно, этот храм занимает осо-
бое место в истории России: его основание связано с перенесением
митрополитом Петром в 1326 г. кафедрального престола из Владими-
ра в Москву. Когда первое здание собора обветшало, на его месте
254
Т. Г. Иванова
Аристотелем Фиораванти был построен нынешний храм, в котором
короновались на царство русские цари, поставлялись все архиереи
Церкви, хоронились митрополиты. Настоятели Успенского собора со
времен Павла I получили преимущественное наименование «прото-
пресвитер», то есть старший из священнослужителей, а во время бо-
гослужения им предписывалось, как и архиереям, надевать митру.
Высокое назначение дало В. С. Маркову импульс к новым темам,
связанным с собором26. Впоследствии В. С. Марков стал кафедраль-
ным протоиереем храма Христа Спасителя, историю создания которо-
27
го также дал в одном из своих трудов.
Интересовался В. С. Марков и историей раскола. Одна из его ра-
бот в этой области - «К истории раскола-старообрядчества второй
половины XIX столетия. Переписка проф. Н.И. Субботина, преиму-
щественно неизданная, как материал для истории раскола и отноше-
ний к нему правительства (1865-1904 г.)» (М., 1914) - получила резо-
28
нанс в печати и сохраняет свое научное значение до наших дней.
В том же 1914 г. на протяжении нескольких номеров в журнале «Брат-
ское слово» В. С. Марков публиковал письма игумена Филарета к
Н. И. Субботину. Последним трудом В. С. Маркова стала подготовка к
печати собрания резолюций митрополита Московского Филарета29.
Уважение к умственному труду, царившее в семье Марковых, без
сомнения, стало решающим фактором в жизненном определении
А. В. Маркова. Погруженность уже с детства в христианскую состав-
ляющую русской истории сказалась впоследствии и на научных интере-
сах фольклориста, сколь бы он не сопротивлялся идеалам своего отца.
Так, готовя в 1911 г. к печати фольклорные материалы, собранные
им и его товарищами А. Л. Масловым и Б. А. Богословским летом
1901 г. на Терском берегу Белого моря, он счел нужным в предисло-
вии подробно рассказать об истории села Кандалакша, тесно связан-
ной с существовавшим там некогда Коковым монастырем, о селе
Варзуге и ее церквях и иконах и т. д.30 Церковь всегда была духовным
центром русской деревни, и невозможно понять дух того или иного
края, не познакомившись с церковной жизнью. Экспедиционер
А. В. Марков, с детства прекрасно знавший все тонкости приходского
быта, в обязательном порядке знакомился с церковью в каждом новом
для него месте.
Предметом внимания А. В. Маркова были и народные тетрадки, в
которые крестьяне записывали неканонические молитвы. К 1912 г. от-
носится публикация материалов, извлеченных фольклористом из архива
Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии31.
255
Заметки к биографии А. В. Маркова
В историю фольклористики А. В. Марков вошел прежде всего как
былиновед. Именно этот жанр является центральным и в его публика-
циях, и в исследовательских трудах. Однако архивные разыскания
С. Н. Азбелева показывают, что не меньший интерес фольклорист
проявлял к духовным стихам. Им самим в разных экспедициях было
записано, согласно изданию 2002 г., 86 текстов: 20 стихов на Зимнем
берегу Белого моря; 26 - на Терском берегу; 40 - на Поморском бере-
гу. В личном архивном фонде собирателя сохранилась заготовка
большого сборника духовных стихов, представленных его собствен-
ными записями и материалами других лиц.
Духовные стихи стали предметом статьи А. В. Маркова, опублико-
ванной в «Богословском вестнике» в 1910 г.32 Здесь исследователь
один из первых в нашей науке поставил вопрос о хронологии русских
духовных стихов. Критерием хронологического приурочения того или
иного стиха к определенной эпохе фольклорист считал связь настрое-
ний и верований, отраженных в этом жанре, с исторической действи-
тельностью. Так, стихи о Егории Храбром он относит к наиболее
древним, так как для них актуальна проповедь новой религии; стих о
непрощаемом грехе автор связывает с распространением в XIV в.
ереси стригольников, которые заменяли церковную исповедь покая-
нием матери сырой земле; лирические же духовные стихи типа «Тебя
я ради, Господи» возникают в XVIII в. и т. д.
Без сомнения, специальный интерес к духовным стихам формиро-
вался у А. В. Маркова под влиянием разных обстоятельств: и экспе-
диционной действительностью Русского Севера, и общим вниманием
науки того времени к народному православию. Однако немаловажным
фактором были, на наш взгляд, и семейные впечатления фольклори-
ста, позволявшие ему видеть многие нюансы духовных стихов, ус-
кользающие от человека, не погруженного в православную культуру.
Семейный фактор, столь важный в жизни любого человека, опреде-
ленным образом сказывается и в формировании ученого, что и дока-
зывается в очередной раз биографией А. В. Маркова.
Примечания
1 Аникин В. П. Историко-фольклорная концепция Л. В. Маркова И Очерки истории
русской этнографии, фольклористики и антропологии. М., 1963. Вып. 2. С. 156-174.
2 Смирнов Ю. И. Эпические песни Карельского берега Белого моря по записям А. В. Мар-
кова // Русский фольклор: Историческая жизнь народной поэзии. Л., 1976. Т. 16. С. 115-
134; Астафьева Л. А. Записи А. В. Маркова на Терском берегу Белого моря И Фольк-
лор Севера: Региональная специфика и динамика развития жанров. Архангельск, 1998.
С. 26-39; Иванова Т. Г. Русская фольклористика начала XX века в биографических
256
Т. Г. Иванова
очерках: Е. В. Аничков. А. В. Марков. Б. М. и IO. М. Соколовы. А. Л. Григорьев.
В. Н. Андерсон. Д. К. Зеленин. Н. Е. Ончуков. О. Э. Озаровская. СПб., 1993. С.36-59.
3 Беломорские былины и духовные стихи: Собрание А. В. Маркова / Изд. подготовили
С. Н. Азбелев и Ю. И. Марченко. СПб., 2002. С. 1041-1048.
4 Белый Андрей. Начало века / Подгот. текста и коммент. А. В. Лаврова. М., 1990.
С. 114-115.
5 Соловьев С. М. Воспоминания. М., 2003. С. 169.
6 См., например, эпизод с приездом Сергея Соловьева в Пушкино, где находилась дача
отца Василия (то есть Марковых): «Ваня рассказывал о своем путешествии в Архан-
гельскую губернию, предпринятом с этнографическими целями» / (Соловьев С. М.
Воспоминания. С. 245).
7 Из этого поколения Марковых, кроме Алексея Владимировича, нам известны только
Николай, Зинаида и Нина.
8 Соловьев С. М. Воспоминания. С. 169.
9 См. о нем: Марков В. С. Памяти протоиерея Троицкой, на Арбате, в Москве церкви
Ипполита Михайловича Богословского-Платонова. М., 1898. Отец Ипполит, закон-
чивший в 1844 г. Московскую духовную академию, скончался 15 декабря 1870 г. Речь
В. С. Маркова была произнесена в день 25-летия со дня его смерти в 1895 г.
И. М. Богословский-Платонов был выпускником четырнадцатого курса (1840-1844)
Московской духовной академии. См.: Списки студентов, окончивших полный курс
императорской Московской духовной академии за первое столетие ее существования
(1814-1914 гг.). Сергиев Посад, 1915. С. 28.
10 Струве Петр Бернгардович (1870-1944) - экономист, историк, публицист, теоргик
«легального марксизма».
11 Туган-Барановский Михаил Иванович (1865-1919) - экономист, историк, теоретик
«легального марксизма».
12 Белый Андрей. Начало века. С. 41.
13 Кобылинский Лев Львович (Эллис) (1879-1947) - поэт, переводчик, критик; увле-
кался марксизмом.
14 Бокль Генри Томас (1821-1862) - английский историк.
15 Соловьев С. М. Воспоминания. С. 226.
16 См.: Российская государственная библиотека, Отделение рукописей, ф. 160 (А. В. Мар-
ков), п. 4, № 164 (письмо В.Ф.Миллера А.В.Маркову от 2 октября 1900 г.).
17 Аникин В. П. Историко-фольклорная концепция А. В. Маркова. С. 171.
18 Там же. С. 163.
19 Марков А. В. К вопросу о методе исследования былин // Этногр. обозрение. 1907.
№ 1/2. С. 36-38.
2 0Списки студентов... С. 50.
21 Белый Андрей. Начало века. С. 40.
22 Соловьев С. М. Памяти протопресвитера В. С. Маркова // Богословский вестник. 1918.
Июнь-сентябрь. С. 247.
23 Марков В. С.: 1) Слово надень празднования Московского Мариино-Ермоловского
женского училища. Произнесено 5 марта сего 1876 г. в Веденской церкви Мариинско-
го училища законоучителем, священником Владимиром Марковым. М., 1876; 2) Основы
правильного воспитания. М., 1898; 3) Историческое значение церковно-приходских
школ для православной России. Речь, произнесенная 14 февраля 1899 года на годич-
ном общем собрании членов Московского училищного Кирилло-Мефодиевского
братства. М., 1899.
24 Марков В. С.: 1) Речь над гробом Марии Ивановны Марковой, урожденной Морозо-
вой, скончавшейся 12 апреля 1880 г. на южном берегу Крыма в Ялте, произнесенная
257
Заметки к биографии А. В. Маркова
на панихиде в Московской Спасской в Наливках церкви священником Троицкой, на
Арбате, церкви 24 апреля 1880 года. М., 1880; 2) Памяти Ф. А. Багряцова, регента
Чудовского хора певчих. М., 1899.
25 Марков В. С.: 1) Жизнь и апостольски-подвижнические труды св.Кирилла и Мефо-
дия. СПб., 1885; 2) Замечательнейшие христианские древние храмы православного
Востока: Храм Воскресения Господня в Иерусалиме. М., 1897; 3) Храм святой Софии
в Константинополе. М., 1897; 4) Храм святой Софии в Константинополе. М., 1897;
5 ) Противомусульманские сочинения Константинопольского патриарха Геннадия
Схолария. М., 1898; 6) Чему и как учили первые наши русские пастыри церкви? М.,
1900; 7) Что спасло Россию в Смутное время самозванцев? М., 1901; 8) Тяжелое испы-
тание: Исторический очерк времени татарского ига. М., 1903 и др.
26 Марков В. С.: 1) Из Московской старины: На память о Московском Большом Успен-
ском соборе. М., 1902. Вып. 1-3; 2) Настоятели Московского Большого Успенского
собора (со времени учреждения Святейшего Синода). Сергиев Посад, 1912.
27 Марков В. С. Кафедральный во имя Христа Спасителя собор в Москве. М., 1914.
28 См. отклики: Смирнов П. С. [Рец.] И Христианское чтение. 1914. № 11. С.1423-1432;
Цветков В. Новая книга по истории раскола // Братское слово. 1914. № 1 (Сентябрь).
С. 645-646; Белоликов В. [Рец.] // Труды императорской Киевской духовной акаде-
мии. 1915. № 3. С. 433-448; Никанор (Кудрявцев Н. П.). «Кому услугу он сделал?» По
поводу книги «К истории раскола-старообрядчества второй половины XIX столетия»
В. С. Маркова. Пг„ 1915.
29 Полное собрание резолюций Филарета, митрополита Московского / Под ред. В. С. Мар-
кова И Богословский вестник. 1917. № 1. С. 1-16; № 2/3. С. 17-32; № 6/7. С. 33-48;
№ 8/9. С. 49-64; 1918. № 1/2. С. 65-96; № 3/5. С. 97-128.
30 Материалы, собранные в Архангельской губернии летом 1901 года А. В. Марковым,
А. Л. Масловым м Б. А. Богословским. 4.2: Терский берег Белого моря // Труды Музы-
кально-этнографической комиссии, состоящей при Этнографическом отделе импера-
торского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. М., 1911.
Т. 2. С. 3-16.
31 Марков А. В. Несколько народных молитв // Этнографическое обозрение. 1912.
№ 1/2. С. 213-218.
32 Марков А. В. Определение хронологии русских духовных стихов в связи с вопросом
об их присхождении И Богословский вестник. 1910. № 6. С. 357-367; № 7/8. С. 415-
425; № 10. С. 314-323.
Пропп и православная культура
А. Н. Мартынова (Санкт-Петербург)
Тема, заявленная в названии статьи, сложна и многогранна, и в не-
большой работе возможно коснуться лишь некоторых ее аспектов. Но
прежде всего немного об отношении В. Я. Проппа к религии вообще
и к православию в частности.
В одной из записных книжек Владимира Яковлевича есть запись о
том, что его мать дала всем детям правильное религиозное воспитание,
она учила его молиться, что по воскресеньям собирала всех детей в
зале, где все читали молитвы и пели хоралы. Младшая сестра будущего
ученого вспоминает, что их заставляли ходить в лютеранскую церковь
на Кирочной... «Мы ужасно это не любили, и только после конфирма-
ции нас освободили от этого»1. Удар по религиозности детей был нане-
сен первой гувернанткой, которая оказалась религиозной фанатичкой,
молясь, она на глазах у детей впадала в истерику, выкрикивая слова о
грехе, очищении, раскаянии, о Спасителе, о детях агнцах божиих, кото-
рых она спасет от геены огненной. Крик переходил в плач, плач - в
хохот, затем гувернантка падала на пол, как сноп. Перепуганные дети
разбегались и прятались где могли2. Конечно, «рыжую», как дети назы-
вали гувернантку, уволили, но, весьма вероятно, что именно она посея-
ла отвращение к молитвам в детских душах.
Так или иначе в семье Якова Проппа подрастали атеисты. О своем
отношении к религии в школьные годы Владимир Яковлевич напишет
позднее: «В школе никаких интересов к религии еще не проявлял.
Сильно увлекался немецким романтизмом. В связи с этим явился
крайний индивидуализм и утверждение в себе. Однако смутная тоска
и искание выхода из плена своей души служили выходом для будущих
прорывов. К тому же и религиозный элемент романтизма и интерес к
идеалистической философии XIX в. оказали свое влияние. Я вышел
из школы с предрасположением к мистике с...»>3. Прорыв к вере, по
выражению В. Я. Проппа, к религии произошел в 1914-1916 годах,
когда Владимир Пропп учился в университете. Шла Первая мировая
война. Владимира Проппа не мобилизовали - он имел льготу: был
сыном Потомственного Почетного гражданина. И тогда, пройдя шес-
тинедельные курсы подания первой помощи и ухода за больными и
ранеными при Петроградской Фельдшерской школе, с 28 октября
1914 г. Владимир Пропп стал работать в санитарном лазарете 2-го
Петроградского Общества Взаимного кредита имени князя Олега
259
Пропп и православная культура
Константиновича. И произошло следующее: «Общение с некоторыми
солдатами, в связи с внутренними потрясениями и сознанием безыс-
ходности моего душевного состояния привели меня к церкви»4.
В. Я. Пропп пишет, что к этому он подготовлен чтением произведений
Соловьева5, а книга П. Флоренского6 «Столп и утверждение истины.
Опыт православной феодицеи в двенадцати письмах» (СПб.; М., 1914)
произвела на него «почти одурманивающее действие»7, а чтение По-
сланий Иоанна и Его же Евангелия навсегда перевернули его жизнь,
что он читал поучения преподобного Серафима Саровского8, а иконо-
пись стала для него откровением: в ней он увидел внутреннюю ду-
шевную форму, которая нужна ему. Именно в это время Владимир
Яковлевич покупает Библию (СПб., 1912). Книгу в твердом коричне-
вом, слегка потрепанном переплете мне предоставил внук Владимира
Яковлевича - Андрей Михайлович. На титульном листе рукой Влади-
мира Яковлевича написано: «Влад. Пропп. 1916». Следует думать, что
1916 г. - дата приобретения книги.
И эта покупка не случайна. Именно в 1916 г. В. Я. Пропп, лютера-
нин, крещенный в младенчестве пастором Евангелистско-лютеранс-
кого прихода св. Анны, воспитанный родителями в этой вере, решает
перейти в православие. Об этом свидетельствуют воспоминания его
младшей сестры Альмы Яковлевны и дочери Марии Владимировны.
Мария Владимировна сообщила также, что решению Владимира
Яковлевича перейти в православие в категорической форме воспроти-
вилась его мать, Анна Фридриховна.
Глубинные причины такого решения нам неведомы, можно только
предположить, что его лютеранская вера не была очень глубокой. На
решение студента Владимира Проппа перейти в православие могли
повлиять два близких ему человека: любимая девушка Ксения Нови-
кова и друг Дмитрий Михайлов.
В девятнадцать лет, учась в Университете и одновременно работая
в военном лазарете, студент Пропп влюбляется в юную медсестру,
русскую девушку Ксению Новикову. Это была возвышенная романти-
ческая любовь, хотя влюбленный не мог не понимать, что предмет его
любви - девушка земная, ее развитие, культурные интересы иного,
более низкого уровня. Но романтическое, поэтическое отношение к
предмету своей любви преображает в глазах влюбленного вполне
земную девушку чуть ли не в святую.
В своих воспоминаниях младшая сестра Владимира Яковлевича
написала, что в 1915-1916 году ее брат привел в дом Ксению Новико-
ву, чтобы познакомить ее с семьей. Альма Яковлевна заметила, что
брат очень влюблен в нее, а во внешности Ксении нашла смесь одухо-
творенности и «чего-то очень простого», «деревенского». Позже она
спросила брата, кто эта девушка. И он ответил, что это дочь компози-
260
A. H. Мартынова
тора Э. Ф. Направника и его кухарки. Действительно, среди слуг се-
мьи Э. Ф. Направника была Домна Новикова, у которой была дочь
Ксения9, и ей дочь Направника помогла получить медицинское обра-
зование, но была ли Ксения дочерью композитора, неизвестно. Но
известно, что Ксения Новикова была глубоко верующей. Спустя сорок
пять лет Владимир Яковлевич записал в дневнике: «Она была редко-
стная девушка. С большими голубыми глазами. И с певучим голосом.
Она была вся пронизана светом той религиозности, которая составля-
ла все содержание ее жизни»10.
Русская девушка привела на Пасху студента Владимира Проппа в
православную церковь, вложила ему в руку горящую свечу - и это бу-
дущий ученый запомнил на всю жизнь: «22.III.1918 года был для меня
одним из лучших в моей жизни. Была Пасха. Самая ранняя, какая может
быть. Я смотрел на огни Исакия с 7-го этажа лазарета в Новой Деревне.
Тогда я любил Ксению Н. Она ходила за ранеными. Было воскресенье в
природе, и моя душа воскресла от признания только своего “я”. Где
другой - там любовь. И она была другая, совсем другая, чем я. Я сквозь
войну и любовь стал русским, понял Россию»11. Юношеская любовь
студента Проппа возникла и протекала на фоне его возвышенного ду-
ховного состояния, в пору богоискательства.
Другой человек, оказавший влияние на Владимира Проппа в юно-
сти, был Дмитрий Михайлов. Их знакомство произошло, когда они
учились в выпускных классах своих школ: Владимир - в Анненшуле,
Дмитрий - в реформатской. Познакомил их учитель немецкого языка,
преподававший в обеих школах. Это был Роман Романович Вальтер.
Работая в Анненшуле, учитель выделил одного, не похожего на дру-
гих гимназиста, понял также, что Владимир Пропп одинок и не имеет
друга, с которым он мог бы делиться своими мыслями и чувствами.
И он знакомит своего ученика с юношей, учеником немецкой рефор-
матской школы, который оказался близок В. Я. Проппу по интересам.
Это был высокий, стройный юноша с красивыми темными глазами,
очень способный и умный. Так появился у В. Проппа друг Дмитрий
Михайлов.12 Дмитрий Михайлов был православный, глубоко верующий
человек. Он оказал большое влияние на В. Я. Проппа. Не исключено,
что это сказалось и на появлении у него тяготения к православию.
В старости, прочитав книгу о художнике Нестерове, Владимир
Яковлевич вспоминает свою юность - время просветленной религи-
озности: «Я помню, какое глубокое счастье в юности возбуждали его
картины: “Юность преподобного Сергия”, “Великий постриг”. Это
просветленная религиозность, какой жил я в годы юности. Долго
стоялось, долго смотрелось, впитывалось, как дыхание. “Пустынник”
принадлежит к лучшим не только русским, но и мировым картинам:
он понял и увидел чутьем в России такое, что до него не видел никто.
261
Пропп и православная культура
И в том же роде: “Видение отроку Варфаломею” и опять другое:
“Труды преподобного Сергия”. Сергей зимой тихо шествует по улице
скита или деревни. Теперь это никто нутром не поймет. Это была
полоса некоторой части интеллигенции тех лет. Но и сейчас не могут
запретить и заклеймить - такова сила обаяния»13.
Но вернемся к Библии.
В 1916 году, приобретая книгу, Владимир Пропп не просто читает,
он внимательно изучает тексты, о чем свидетельствуют многочислен-
ные пометы карандашом на страницах книги. Пометы эти разного вида:
подчеркнуты строки или их номера или номера глав, иногда эти номера
заключены в квадраты или кружки, реже вдоль текста проведена черта.
В начало книги вложен листок, содержащий запись задач, которые
поставил себе владелец книги, приступая к чтению, вернее, к ее изу-
чению: «К руководству при чтении Евангелия».
1. Управление церковью.
2. Борьба с ересями.
3. Конфликт между св. Павлом и другими апостолами. Отношение
к иудейству и Ветхому Завету.
4. Понятие о церкви, конкретное и метафизическое.
Даже при беглом просмотре книги легко заметить, что в тексте
Ветхого Завета очень мало помет, большая часть их сделана на тексте
Нового Завета. В Ветхом Завете отмечены некоторые стихи в текстах
Книг пророков Иезекииля и Иеремии.
По таинственности и труднойитаемости иудеи причисляли Книгу про-
рока Иезекииля к сокровенным, и не позволяли читать до достижения 30
лет. Главы I-XXIV книги содержат пророчества, высказанные до разру-
шения Иерусалима, главы XXV-XLVIII - пророчества после разрушения.
Содержание этой книги очень разнообразно: видения, символические
действия, подобия, присловья, притчи, аллегории, пророчества.
В первой и второй главах Книги пророка Иезекиля внимание Вла-
димира Яковлевича привлекло видение пророка: описание странных
священных животных, подле которых были колеса с ободьями, пол-
ными глаз и «дух животных был в колесах». Подчеркнуто также опи-
сание возвышения над головами их: «подобие престола по виду как
бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие
человека вверху на нем» (гл. 1, ст. 18, 20, 26). В главе 2 подчеркнуты
стихи о том, что из славы Господней, с высоты престола раздался
пророку глас, приказывающий ему идти к «...сынам Израилевым»,
которые «с огрубелым лицом и с жестоким сердцем», чтобы пророк
говорил им слово Бога (ст. 3, 4). В главе 3 подчеркнуты стихи, содер-
жащие угрозы пророку, если он не будет вразумлять «беззаконника»:
«беззаконник тот умрет в беззаконии его, и я взыщу кровь его от рук
262
A. H. Мартынова
твоих» (ст. 18). В главе 11 отмечены стихи, содержащие угрозы «дому
Израилеву» за «отступление» и за то, что они «поступали по уставам
народов», окружающих их, а не по заповедям Бога (ст. 12). Останови-
ли внимание Владимира Яковлевича стихи, содержащие обещание
Бога вернуть Его расположение народу Израилеву, дать им сердце
единое и вложить в них дух новый: «...и возьму из плоти их сердце
каменное, и дам им сердце плотяное» (ст. 19). Несколькими линиями
подчеркнута глава 16. В ней заключены угрозы Господа Израилю за
разврат и беззаконие и обещание простить, если народ Израилев будет
вести себя непорочно.
В книге пророка Иеремии в главе 31 внимание Владимира Яковле-
вича привлекли стихи 31-34. В них заключено намерение Господа
заключить с домами Израиля и Иуды новый завет, потому что преж-
ний, заключенный с их отцами, чтобы вывести их из земли Египет-
ской, они нарушили. «И когда все будут знать Меня, Я прощу беззако-
ния их и грехов их уже не воспомяну более».
Но как об этом сказано раньше, более всего помет в текстах Нового
Завета. Это относится к Евангелиям от Матфея, Марка и Иоанна (Поме-
ты в Евангелии от Луки отсутствуют). В текстах Евангелий от Матфея и
от Иоанна пометы в основном касаются описания издевательств над
Иисусом после его ареста, его казни, погребения и воскресения.
В Евангелие от Марка есть лишь одна помета: обращение Иисуса к
слепому, которого он излечил: «И послал его домой, сказав: не заходи в
селение, и не рассказывай никому в селении» (гл. 8, ст. 26).
Больше всего помет в Евангелии от Иоанна. Они касаются стихов о
предательстве Иуды, аресте, казни, погребении и воскресении Иисуса,
особо выделен фрагмент в гл. 20 (ст. 30) о том, что Иисус совершил много
чудес, «о которых не написано в книге сей». Возможно, В. Я. Пропп вы-
делил этот стих, сопоставляя тексты всех четырех Евангелий.
Внимание Проппа привлекли соборные послания святых апостолов.
В послании апостола Иакова, отличающемся изяществом и красотой
стиля, послании, обращенном к христианам из иудеев, жившим вне Иеру-
салима, послании, проникнутом высоким, догматически-нравственным
характером, Владимир Яковлевич отмечает стихи, в которых апостол
призывает отбросить сомнения при обращении с просьбой к Богу, пере-
носить искушения, быть исполнителем дела (гл. 1, ст. 10, 12, 16, 25) и
приводит в пример подвиг во имя веры патриарха Авраама, возложивше-
го на жертвенник Исаака, сына своего (гл. 2, ст. 21).
В двух посланиях апостола Петра, в которых он умоляет твердо
придерживаться веры, жить жизнью святой, а также излагает правила
христианского поведения для мужей, жен, слуг, пастырей. В первом
соборном послании Петра отмечены стихи: «...сами, как живые камни,
устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить
263
Пропп и православная культура
духовные жертвы, благоприятные Богу» (гл. 2, ст. 5). Отмечены также
стихи об Иисусе Христе: «Который восшед на небо, пребывает одесную
Бога, и Которому покорились Ангелы и власти и силы» (гл. 3, ст. 22).
Более всего помет к текстам соборных посланий святого апостола
Павла, которые всегда признавались церковью за источник истинного
христианского учения. Может быть, поэтому тексты посланий вызы-
вали пристальное внимание Владимира Яковлевича: на 90 страницах
текста им сделано более 30 помет.
Послание к римлянам написано Св. апостолом Павлом по поводу
разногласий между римскими христианами из иудеев и язычниками,
разногласий об оправдании себя перед Богом; спасти их может только
вера в Иисуса Христа. В послании он также раскрывает свойства
веры христианской и излагает обязанности, требуемые верой. В гл. 1
послания апостол упрекает эллинов за то, что они «...славу нетленно-
го Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и
четвероногим пресмыкающимся, - то и предал же их Бог в похотях
сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Выделе-
ны тексты особо: «Они заменили истину Божию ложью, и поклоня-
лись и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки,
аминь» (гл. 1, ст. 23, 24, 25).
В главе 3 подчеркнуты утверждения апостола: «...делами закона
не оправдается перед Ним никакая плоть: ибо законом познается грех.
Но ныне, независимо от закона явилась правда Божия, о которой сви-
детельствуют закон и пророки» (ст. 20-21). «Правда Божия через веру
в Иисуса Христа во всех и на всех верующих; ибо нет различия, по-
тому что все согрешили и лишены славы Божией» (ст. 22).
В главе 8 подчеркнуты стихи, выражающие одно из основных по-
ложений послания: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые
во Христе живут не по плоти, но по духу» (ст. 1).
Первое и второе послание апостола Павла к коринфянам направ-
лены против беспорядков, возникших в обществе верующих (появле-
ние сект, идоложертвование, нарушение приличий женами в одежде,
неверие в будущее воскресение мертвых), а также посвящены защите
Христианской веры и апостольского достоинства. В текстах посланий
много помет к стихам: гл. 1, ст. 18; гл. 2, ст. 7, 8.
Внимание Владимира Яковлевича привлекли строки о духовном и
душевном:
«Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, пото-
му что он почитает это безумием, а не может разуметь, потому что о
сем надобно судить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем
судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить
его? А мы имеем ум Христов» (гл. 2, 14, ст. 15, 16).
264
A. H. Мартынова
В главе 6 подчеркнут стих о блуде: «Или не знаете, что совокуп-
ляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано: два
будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Гос-
подом. Бегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне
тела, а блудник грешит против собственного тела» (ст. 16-18).
Во втором послании отмечена полностью 14 глава, посвященная
пророчеству и церкви. В ней же особо подчеркнуты строки: «Потому
что Бог есть не Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церк-
вах у святых» (ст. 33). В главе 15 отмечены стихи о вечной жизни, о
воскресении из мертвых: «Сеется тело душевное, восстает тело ду-
ховное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и при воскре-
сении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении».
Послание апостола Павла к галатам направлено против иудейст-
вующих лжеучителей и в защиту христианской свободы от ига закона.
Здесь Владимир Яковлевич помечает стихи о любви и свободе (гл. 5,
ст. 13). Эти же догматы развиты и в 4 главе: «...один Бог, одна вера,
одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми и через
всех, и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара
Христова» (ст. 5-6).
Больше всего помет в главе 5, в которой излагаются частные хри-
стианские обязанности людей: «Жены, повинуйтесь своим мужьям,
как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос глава
Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу,
так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как
Христос возлюбил Церковь... Посему оставит человек отца своего и
мать и прилепиться к жене своей и будут двое одна плоть. Тайна сия
велика: я говорю по отношению к Христу и к Церкви. Так каждый из
вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего
мужа» (ст. 22-33). Следует отметить, что эти стихи помечены иначе,
чем все другие, привлекшие внимание Владимира Яковлевича: все
они отмечены общей чертой на полях, а указанные номера стихов
перечеркнуты косыми линиями.
В послании к колоссянам апостол Павел утверждает истину христи-
анского учения, описывает величие Иисуса Христа и его заслуг и вну-
шает, что, кроме чистого учения Христа, верующие не должны искать
источников премудрости ни в какой философии и ни в каких преданиях
человеческих. И здесь подчеркнуты стихи: гл. 1, ст. 18-20; гл. 3, ст. 1.
Послание апостола Павла к фессалоникийцам написано по поводу
гонений на них со стороны врагов, а также касательно их великой
скорби по их умершим и сомнений относительно второго пришествия
Христа на землю. Апостол убеждает верующих, что праведно умер-
шие восстанут из гробов своих для наслаждения вечной жизнью, по-
265
Пропп и православная культура
этому следует вести праведный образ жизни. В этом послании под-
черкнуты стихи: гл. 2, ст. 5, 6.
Во втором послании, говоря о втором пришествии Христа на зем-
лю, апостол пишет о пришествии прежде Антихриста: «...в храме
Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». «...Откроется безза-
конник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит
явлением пришествия своего» (гл. 2, ст. 4, 8).
Судя по пометам, Владимир Яковлевич внимательно изучал по-
слание святого апостола Павла к своему ученику, епископу Тимофею.
Апостол наставляет Тимофея, как проходить пастырское служение.
Пометы нанесены к следующим текстам: гл. 1, ст. 5-8; гл. 2, ст. 15;
гл. 3, ст. 15, 16. Чертой на полях в главе 4 отмечены наставления епи-
скопу о том, как он должен себя вести: «Никто да не пренебрегает
юностью твоею: но будь образцом для верных в слове, в житии, в
любви, в духе, в вере, в чистоте» (ст. 12-16).
Во втором послании к Тимофею Владимир Яковлевич отмечает
предупреждение против лжеучителей: «...имеющие вид благочестия,
силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся ... всегда учащихся и не
могущих дойти до истины» (гл. 3, ст. 5, 7).
Обратил свое внимание Владимир Яковлевич на послание апостола
к евреям. Послание написано по поводу гонений, которые претерпела
Палестинская христианская церковь от иудеев, а также изветов ревни-
телей Моисеева закона на христианскую веру. Иудеи утверждали, что
закон Моисеев дан при посредстве ангелов, что Моисей выше Иисуса и
богослужение Моисеево достойно Божества, а у христиан нет ни храма,
ни священства, ни жертв. Апостол пишет, что Иисус несравненно выше
и пророков, и Моисея, и ангелов, и всех ветхозаветных первосвященни-
ков, что страдания и смерть Иисуса Христа доставили нам неизмеримо
высшие блага, чем все левитские богослужения (гл. 3, ст. 7, 8; гл. 4,
ст. 12). В главе 6 подчеркнуты стихи, направленные против тех, кто
отпал от веры Христовой (гл. 6, ст. 4-8).
В Откровении Иоанна Богослова помечены римскими цифрами
обращения к семи церквам Малоазийским, пятью арабскими цифрами
на полях помечены стихи, подчеркнутые карандашом. Некоторые из
них: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою
... покайся и твори прежние дела» (гл. 2, ст. 4, 5). «...побеждающему
дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия» (гл. 2, ст. 7).
«Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: по-
беждающий не потерпит вреда от второй смерти» (гл. 2, ст. 11).
«...Знаю твои дела, ты ни холоден, ни горяч, о если бы ты был холо-
ден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то низвергну
тебя из уст моих» (гл. 3, ст. 16).
266
A. H. Мартынова
В главе 9 от стиха 3 вниз к следующим стихам изображена стрел-
ка, указывающая, видимо, на картины Апокалипсиса: «И из дыма
вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные
скорпионы» (гл. 9, ст. 3).
Я не берусь толковать фрагменты Библии, выделенные В. Я. Проп-
пом. Но не обратить на них внимание посчитала невозможным. Мо-
жет быть, этим заинтересуются его последующие биографы.
Но «прорыв» к церкви (и к вере?) в юности не произошел: «По
окончании университета (1918. - А. М.) жизнь стала слагаться пе-
чально, и я все глубже погружался в серую безысходность, усиленную
сознанием невозможности отвратить народные бедствия (курсив
мой. - А. М.). Были и другие причины отчаяния (свое происхождение,
отсутствие русских корней)»14.
Последняя, вероятно, попытка В. Я. Проппа сближения с право-
славной церковью произошла в начале 1920-х годов. 2 апреля 1921
года Владимир Яковлевич подает прошение о зачислении на первый
курс Петроградского богословского института, который был открыт в
1920 г., после прекращения деятельности Петроградской Духовной
академии. Институт просуществовал всего три года и сделал лишь
один выпуск. Он был призван не только готовить убежденных церков-
ных деятелей и пастырей, но и выполнять широкие просветительские
задачи: устраивать общедоступные богословские лекции, руководить
религиозными кружками и курсами, разрабатывать богословские и
церковно-практические вопросы. Занятия проходили по вечерам,
чтобы лекции могли посещать и те, кто днем занят на работе. Влади-
мир Яковлевич в это время преподавал русский язык и историю рус-
ской и зарубежной литературы в XI трудовой школе. Указав в проше-
нии личные, субъективные причины желания учиться в институте, он
указывает и объективные: «Но я и вообще осознал необходимость
новой духовной и церковной культуры и хотел стать участником в
строительстве ее. Я вывел необходимость из наблюдений как над
современной жизнью, так и над ходом европейской истории. Римская
государственная традиция положила печать на нашу внешнюю куль-
туру. Ей же подчинялась церковь католическая. Внутренняя же жизнь
европейской интеллигенции есть продолжение традиции греческой, с
поклонением эросу, тогда как подлинный путь ведет через огонь очи-
щения и приводит к совершенству трезвости. Изжить эти античные
традиции - призвана церковь. Это ее задача в аспекте историческом, по
отношению же к индивидууму она - устроение всех форм его жизни.
Что же она по отношению к Христу, этого я еще не знаю, но чувствую:
недостаточно поняли это и наши светские богословы (Хомяков, Со-
ловьев, отчасти церковный Флоренский) и ничего не поняли протестан-
ты... И я думаю, что только сама церковь может дать на это ответ»15.
267
Пропп и православная культура
Но В. Я. Пропп недолго занимался в институте, вскоре он оставил
его. Причина такого решения неизвестна, возможно, она проста -
отсутствие времени: работа над «Морфологией сказки» отнимала все
вечера и выходные. И вопреки заявлению в прошении: «Наконец в
недавнем прошлом произошел новый прорыв (к церкви. - А. М.),
может быть, окончательный»16, прорыв этот не состоялся. И не суще-
ствует никаких свидетельств, что он стал верующим. Его младшая
дочь Мария Владимировна на мои вопросы об отношении отца к Богу
однозначно отвечала: «В нашей семье все - атеисты». Впрочем, воз-
можно, она ошибается.
Что несомненно - это преклонение В. Я. Проппа перед русской
православной иконописью и архитектурой православных храмов.
В феврале 1969 г. он записал в дневнике: «Я теперь занимаюсь рус-
ской иконописью. Занимаюсь, т. е. читаю историю русского искусства.
Не изучаю, а читаю с наслаждением, как читают беллетристику. Вчера
был в Русском музее. Вижу, что от чтения у меня открылись глаза. Я
знал, что это искусство прекрасно... это высшее искусство мира.
В Эрмитаже же французская выставка Делакруа и другие. Есть вели-
колепные произведения. Но в целом: кроме портретов оставляет
холодным. А иконопись согревает душу»17. Еще запись в июле того
же года: «Византийскую и болгарскую икону всегда можно отличить
от русской. Византийская икона идет от скульптуры античности...
Этот принцип перенесен в живопись. Лица византийских икон всегда
рельефны... Далее рельефное лицо переносится на плоскость,
сохраняя всегда следы рельефа... Искусство русских икон есть
искусство плоскостное и живописное. Оно не от реальности,
перенесенной на полотно. Оно от красочной передачи плоскостных
соотношений. Русские средневековые попытки скульптурной резьбы
совершенно беспомощны. Принцип русских икон иной. Я почти
безошибочно на первый взгляд отличаю византийскую живопись от
русской. Живопись Киевской Софии узнается по этому признаку как
живопись византийского происхождения. Живопись Спаса на Нере-
дице - переходный тип, и вся дальнейшая новгородская иконопись
есть искусство совершенно русское»18.
В музее, медленно разглядывая иконы, он видит в них закон сим-
метрии тот же, что в природе: внешний, механический, физиологиче-
ский, закон строения листа, человеческого тела, музыки, внешний
закон. Но сквозь него раскрывается внутренняя глубинная жизнь,
высокая и прекрасная, раскрывается дух. «И вдруг чудо. “Деисусный
чин”. Мария обернулась в полуоборот, во весь рост. Локти прижаты к
бокам, руки протянуты вперед не вполне симметрично. На голове
накидка со звездой на лбу, и такие же звезды на плечах. Накидка сви-
сает до колен. Симметрия нарушена движением. И это - самое выс-
268
J. H. Мартынова
шее, самое совершенное. Так раскрывается душа, так раскрывается
19
жизнь в самом высоком и самом прекрасном» .
Владимир Яковлевич не только любовался иконами, он их изучал,
пользуясь методикой, проверенной на фольклоре: составлял опись
сюжетов, сопоставлял варианты: «Никола в житии XVIII века, она
исполнена XVIII веке, но создана много ранее. Впервые всматриваюсь
и вживаюсь в клейма. Сюжеты древнерусской живописи трех родов:
фрески, иконы и клейма. Каждый из них имеет свою сюжетику. Фре-
ски - наиболее совершенный во всех отношениях вид древнерусского
искусства. Но я прохожу мимо них, не изучаю. Их надо видеть в ори-
гинале, на стенах, только так они созданы и только так воспринима-
ются. Я посвятил себя иконам. И тут применяю то, что знаю по
фольклору. Иконопись изучают по эпохам - так во всех пособиях. Но
ее надо изучать по вариантам. Я составил опись сюжетов русских
икон. По имеющимся у меня источникам я пока набрал около 130
сюжетов (кроме парсуны и сюжетов уникальных). Историческая сю-
жетология - вот задача ближайшего будущего. Но вот на выставке я
впервые стал всматриваться в клейма, и мне, прочитавшему ряд посо-
бий по иконописи, открылся новый мир. Опять совсем другие сюже-
ты, не изображаемые на иконах. Это, так сказать, интимные эпичес-
кие сюжеты. Вот великолепная торжественная и суровая икона
Николы. И вот клейма. Рождение: роженица на ложе, за ней держат
ребенка. А ниже его купают. Клейма должны изображать событие во
времени; и следующие друг за другом события наивно и прелестно
изображаются рядом, на одной плоскости. Это общий закон. Купание
ребенка, очень реалистически верное - не предмет для иконы. Но в
клеймах иконописи изображается жизнь»20.
Особенно его заинтересовала икона, изображающая Георгия-змееборца.
15 апреля 1970 года в Институте этнографии и антропологии Вла-
димир Яковлевич прочитал доклад «Змееборство Георгия в свете
фольклора»21. При исследовании иконы автор применил совершенно
новый метод. До В. Я. Проппа иконы Георгия-змееборца изучались
безотносительно к письменным или словесным материалам. И наобо-
рот - житие Георгия изучалось безотносительно как к фольклору, так
и к иконам. Между тем сюжет борьбы Георгия со змеем всемирно
распространен и составляет содержание сказок, легенд, духовных
стихов, житий. Особенно широко распространен он в сказках. В анг-
лийском издании Томпсона названы варианты на 30 европейских язы-
ках и частично на языках других континентов. Русских вариантов
известно более 100. А поскольку волшебные сказки имеют доистори-
ческую давность, ясно, что сюжет змееборства не был создан иконо-
писцами, он был ими унаследован.
269
Пропп и православная культура
Работа посвящена изображениям змееборства на русских иконах,
при изучении икон Владимир Яковлевич как вспомогательный мате-
риал привлекает духовный стих об Егории Храбром и Елизавете Пре-
красной. Исследуя иконы, В. Я. Пропп установил, что есть два типа
икон, изображающих Георгия: либо портретное, либо иконы, иллюст-
рирующие борьбу Георгия со змеем. Автор приходит к выводу, что
героический образ Георгия не соответствовал интересам церкви,
именно поэтому иконы с Георгием на коне, побеждающим змея, от-
сутствовали в храмах Кремля и Троице-Сергиевой лавры - храмах
государственного культа, иначе говоря, официальное богословие не
признавало культ Георгия-змееборца, не прославлявшего долготерпе-
ние, смирение и послушание. Автор утверждает, что существуют пря-
мые данные о запрещении культа Георгия церковными властями. Ав-
тор статьи опровергает также предположение о том, что Георгий-
змееборец представляет собой историческое лицо (князь Владимир,
Дмитрий Донской, Александр Невский и др.), он считает, что этот
образ тянется из глубокой древности, что подвиг его фантастичен и в
этом отношении совершенно иной, чем облик перечисленных деяте-
лей, возведенных в сан.
С юности В. Я. Пропп увлекался архитектурой православных хра-
мов. В старости он намеревался написать научную работу, посвящен-
ную этой проблеме. В его коллекции хранились тысячи изображений
(фотографий, репродукций) икон, соборов, церквей, часовен. Свою
работу он намерен был начать с систематизации форм православных
храмов. Об этом есть запись в его дневнике: «А теперь я увлечен древ-
нерусским искусством. И опять я вижу единство форм русских храмов,
вижу варианты, нарушения, чуждые привнесения. Эта форма проста до
чрезвычайности Но почему она так волнует, так трогает, так делает
счастливым? Смотрел по разным источникам готические храмы. Какое
великолепие! Но нутро мое молчит, восхищается только глаз»22.
Владимир Яковлевич много лет мечтал поехать в Новгород, Яро-
славль и другие города, чтоб воочию увидеть великолепные храмы.
Но удалось ему съездить лишь в Карелию. Первую поездку в Кижи он
совершил в 1962 году на экскурсионном пароходе. Глядя на кижский
храм с борта парохода, В. Я. Пропп был восхищен. Он записал в
дневнике: «Он лучше, чем все, что можно было о нем думать по
снимкам. Я думал, что он перегружен, упадочен, барочен. Но он, пре-
жде всего, удивительно строен. Главки не выпячиваются, а смотрятся
на фоне всего сооружения. Можно плакать от счастья Только люди на
земле могли создать такое. Ни один город это не может»23.
Второй раз на острове Кижи В. Я. Пропп побывал по приглаше-
нию своей студентки, теперь доктора филологических наук,
Н. А. Криничной. Он гостил в семье Н. Криничной несколько дней,
270
A. H. Мартынова
выезжая с ней на лодке в окрестные деревеньки, фотографируя часо-
венки и церквушки. Побывал он и в Кондопоге, чтоб увидеть знаме-
нитую шатровую церковь. 11 июля 1962 года о своих впечатлениях он
пишет другу В. Шабунину: «Пишу тебе с острова Кижи в состоянии
экстаза. Я счастлив, что мои старые глаза видели это». Вечером того
же дня Владимир Яковлевич продолжил письмо: «...Вот кончился
кижский день... Собственно, передать то, что я видел - невозможно.
Для меня это не “архитектурный ансамбль”, а выражение самой сущ-
ности России, той сущности, которая когда-то привела меня к ней.
Это выросло из земли. Это - от земли. Город не мог бы создать тако-
го. Полная гармония и совершенство форм, созданных совершенно
бессознательно, без чертежей, расчетов и планов - гениальность в
каждом углу, в каждом бревне. Именно так»24.
А. Ф. Некрылова, ученица В. Я. Проппа, в бытность свою студент-
кой, в конце 1960-х годов записала некоторые рассуждения учителя о
храмах: «Владимир Яковлевич убежден, что все русские церкви про-
сты по своим формам, и эта простейшая форма полна благородства.
Тайна пропорций древних русских храмов очаровывает всякого, но
пока что никто не объяснил, не раскрыл эту тайну. К великому сожа-
лению, многие из культовых сооружений обезображены поздними
пристройками. “Гениальные зодчие создают совершенные по формам
произведения”, но проходит какое-то время и к храмам начинают
пристраивать “всякие полезные помещения, которые надо мысленно
убрать, а при реставрации - уничтожить”.
В. Я. спрашивал, много ли я видела деревянных церквей на Севе-
ре. Его они очень интересуют, т. к., видимо, могут объяснить проис-
хождение особого типа древних русских храмов, где вместо куба с
покрытием и главой (главами), когда все осознается как составные
части сооружения, имеем цельное, устремленное вверх, взлетающее
ввысь здание - шатровые церкви. А ведь действительно, именно они -
истинные храмы Вознесения. Владимир Яковлевич считает, что шат-
ровые церкви вызывают иные религиозные чувства, чем традицион-
ные приземленные православные храмы...
Недавно Владимир Яковлевич сказал, что не понимает звонниц и
хочет для себя выяснить, когда появились на Руси колокола. Оказыва-
ется (об этом я никогда не задумывалась), первые храмы не имели
колоколов и службы проходили без колокольного звона»25.
«...Почему Киевская София имеет 5 апсид, а Новгородская - три?
Владимир Яковлевич говорит, что, к своему удивлению, нигде не смог
об этом прочитать. Видимо, только по отношению к алтарной апсиде
следует говорить как об имеющей сугубо религиозный смысл. Все
боковые апсиды вызваны художественными соображениями, имеют,
как сказал Владимир Яковлевич, «архитектурный смысл».
271
Пропп и православная культура
...Был интересный разговор о смысле и значении молчания, пауз,
остановок <...> Древнерусские зодчие тоже знали силу и мощное
воздействие молчания и «гармонического спокойствия». Такой видит-
ся Владимиру Яковлевичу гениальная церковь Покрова Богородицы
на Нерли. В ней есть некая интимность, это не государственный храм,
он рассчитан не на граждан, а на обычных людей, здесь надо молить-
ся молча, ибо главное воздействие - «воздействие красотой».
Рассуждение Владимира Яковлевича о Новгородской Софии:
«Всякое нарушение симметрии испытывается как нарушение истин-
ной художественности, Шестой купол на Софии пристроен позже и
нарушает ее гармонию. Ради него изменена крыша. Левая сторона
сохраняет исконную форму: два полукружия. Мне кажется, что при-
строены еще две части с покатой прямой кровлей, в которых нет ни-
чего художественного. Если мысленно убрать эти казенные пристрой-
ки, храм воссияет в своей первозданной гениальной простоте и
пропорциональности. Это не интимный храм молитвы, это символ
новгородской независимой и гордой государственности <...> Тип
иной, чем черниговская Пятница на Торгу. Тот устремлен ввысь от
земли, этот - покрывает землю. Там один купол - взлетающий вверх,
здесь их пять, представляющих собой земное покрытие».
О Дмитриевском соборе во Владимире: «Уже выработавшийся
прекрасный тип одноглавой церкви. Великолепно сохранился. Все
исконно. Полностью симметричен. Скульптурные украшения портят
храм. Любая скульптура древнерусского искусства есть неоригиналь-
ная, чуждая ему составная часть. Скульптура передаст вещи (людей) в
реальном пространстве. Икона мысленно не переносима ни в какое
пространство, она оттиск душевного пространства верующих. Поэто-
му всякая телесность, всякое внесение реального пространства или
перспективы в иконах есть признак не прогресса, а деградации. Рель-
ефные украшения стенам русских храмов не нужны»26.
29 июня 1963 года Владимир Яковлевич написал другу: «Я побы-
вал в Загорске. Не могу тебе сказать, какое это на меня произвело
впечатление. Я уже давно начал переживать архитектуру. А русская
средневековая архитектура есть необычайное чудо по талантливости
и проникновенности. Никакие картины (Юон) и никакие фотографии
не передают этого чуда. Здесь все в красках. Удивительный ансамбль.
В XVII веке начинается медленное падение, хотя еще создается много
прекрасного, и хотя я не специалист, сразу отличаю настоящее от
наносного (трапезная)... Эта лавра была русской святыней, и это до
сих пор пробирает всех, что там бывает, а народу в ней великое мно-
жество. Меня поразило благолепие всего, что там делается. Во всех
церквах идет служба, пение прямо ангельское»27.
272
A. H. Мартынова
В. Я. Проппа древнерусское искусство покорило не столь гармонич-
ной красотой, изяществом, сколь возвышенным внутренним содержа-
нием: «Поражает древнерусское умение жить в высоком, что вовсе не
исключает житейского, а придает ему особый склад и ритм, который
отличает старую русскую жизнь. Это не значит, что она должна вер-
нуться, но было в этом нечто, чего нам глубоко не хватает»28.
Примечания
1 РО ИРЛИ. Ф. 721. On. 1. №472. Л. 20.
2 См. об этом в автобиографической повести: Пропп В. Я. «Древо жизни» // Неизвест-
ный В. Я. Пропп / Предисл., сост. А. Н. Мартыновой. СПб., 2002. С. 36-37.
3 Цит. по: Бовкало А. А. В. Я. Пропп и Петроградский богословский институт// Кунст-
камера. Этнографические тетради. Вып. 8-9. СПб., 1995. С. 174.
4 Там же.
5 Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1937) - философ, богослов, поэт, критик,
публицист.
6 Флоренский Павел Александрович (1882-1937) - богослов, философ, искусствовед,
математик, поэт.
7 Бовкало А. А. Указ. соч.
8 Серафим Саровский (скончался в 1833 г.) - преподобный иеромонах Саровской
Успенской Пустыни. Прославился как чудотворец. Один из самых популярных право-
славных святых.
9 Направник В. Э. Эдуард Францевич Направник и его современники. Л., 1991. С. 48.
10 Пропп В. Я. Дневник старости. 1962-196... // Неизвестный В. Я. Пропп. С. 289.
11 Там же. С. 289.
12 Михайлов Дмитрий Дмитриевич (1895-1942) - филолог, канд. филол. наук, препо-
давал в 1941 г. немецкий язык в ЛГУ. Умер в блокаду от голода.
13 Пропп В. Я. Дневник. С. 323.
" Бовкало А. А. С. 175.
15 Цит. по изд.: Бовкало А. А. В. Я. Пропп и Петроградский богословский институт//
Кунсткамера. Этнографические тетради. Вып. 8-9. СПб., 1995. С. 173 и след.
16 Там же.
17 Пропп В. Я. Дневник. С. 329.
18 Там же. С. 327.
19 Там же. С. 324.
20 Там же. С. 329-330.
21 Статья «Змееборство Георгия в свете фольклора» опубликована после кончины
автора в книге «Фольклор и этнография Русского Севера». Л., 1973. С. 190-208.
22 Пропп В. Я. Дневник. С. 327.
23 Там же. С. 290.
24 Переписка с В. С. Шабуниным // Неизвестный В. Я. Пропп. С. 215.
25 Некрылова А. Ф. Разговоры о смысле молчания // Неизвестный В. Я. Пропп. С. 456 и
следующие.
26 Там же. С. 457-458.
27 Переписка с В. С. Шабуниным. С. 225-226.
28 Там же. С. 225.
273
К проблеме народного стиха.
Фразовый ритм, или ритмика без метрики
А. А. Петрова (Москва)
Данная статья - попытка типологического осмысления двух явлений,
традиционно считающихся исключительно поэтическими, - ритма и
метра, и их постановки в несколько нетрадиционный аналитический кон-
текст. Опорными тезисами нам послужат определения этих понятий
А. X. Востоковым (1812, 1817) и С. В. Кодзасовым (2003). История сти-
ховедения, самого, казалось бы, прогрессивного (в смысле поступатель-
ности развития) направления в литературоведении порой преподносит
неожиданные сюрпризы. Полузабытые трактаты оказываются иногда
превосходящими по силе мысли и интуиции самые последние достиже-
ния филологических наук.
1.0. Предыстория понятий метра и ритма достаточно увлекательна:
ритм понимался как система отклонений от метра (А. Белый), как
конкретная реализация метрического задания (Б. В. Томашевский,
В. М. Жирмунский); соотношение метра и ритма определялось по
аналогии с отношением langue vs parole или code vs message
(К. Тарановски). В работах М. Л. Гаспарова и П. А. Руднева эта оппо-
зиция расстраивается: так, выделяется ритм как явление строки, метр
как явление стихотворения или отрывка и, наконец, Ритм (с большой
буквы) как явление поэтической речи в целом. У М. И. Шапира, при-
нявшего с некоторыми уточнениями* эту троичность, «метр и ритм
противостоят друг другу как различные способы осуществления од-
ного и того же - единого - Ритма» (Шапир 2000:101). Впервые опи-
санные Шапиром процессы «метризации ритма» и «ритмизации мет-
ра» понимаются им не столько синхронно-типологически, сколько
диахронно-исторически: сначала ритмы метризуются, а «метризовав-
шись» вновь (с целью деавтоматизации) ритмизуются.
Надо сказать, что все эти определения, сколь бы удачны и остро-
умны они не были, замыкают явления метра и ритма в поэтическом
контексте (пусть даже с некоторыми лингво-семиотическими отсыл-
ками у Якобсона и Тарановского).
2.0. Трактат Александра Христофоровича Востокова «Опыт о рус-
ском стихосложении», начала XIX века, в типолого-аналитическом
плане выходит за рамки литературной поэтики. После обстоятельного
274
А. А. Петрова
обзора (античной) метрики и силлабики (первые две части трактата),
Востоков анализирует так называемый «Русский размер» народного
тонического стихосложения («размер старинных только народных пе-
сен»). Основу песенного стиха Востоков ищет не столько в музыке
(считая, что мелодия и просодия, пение и чтение, суть две разные, неза-
висимо сосуществующие меры), сколько в физиологии и лингвистике.
Востоков вводит понятие «прозодического периода» (явления лин-
гвистического и поэтического), некоторого фразового единства с од-
ним главным фразовым (не словесным!) ударением. Ударение Восто-
ков определяет с биологически детерминистских позиций: «Ударение
или сила (1’accent, der ton) есть повышение голоса в каждом слове на
одном или нескольких слогах, рождающееся необходимо от перево-
димого дыхания при произнесении слова и способствующее между
тем внятности или явственному разделению слов в произношении»
(Востоков 1817:95). Такое словесное ударение может усиливаться или
ослабляться в целом предложении или периоде, который «изображает
одну нераздельную купу мыслей, приемлется как бы за одно большое
сложное слово, коего составные части должны, по законам единства
просодического, подчиниться одной главнейшей: а сие не иначе про-
изойти может, как с отнятием у них ударений, - признака их отдель-
ности или независимости» (Востоков 1817:99).
Пойдешь ли ты со мною?
Со мною ли ты пойдешь?
Ты ли со мною пойдешь?
Поэтическая выразительность, таким образом, по Востокову, берет
начало в выразительности речевой: ударение в периоде выделяет сло-
во и в разговоре, и в декламации, и в стихе.
Длина самого просодического периода объясняется Востоковым
также с физиологической точки зрения: этот последний «имеет свои
естественные границы: при одном слоге повышаемом или с ударени-
ем, можно произнести не более слогов понижаемых или без ударения,
как сколько вынесет грудь человеческая, не переводя дыхания» (Вос-
токов 1817:100).
Стих старинных русских песен, по Востокову, состоит из просоди-
ческих периодов - число которых, чаще всего, равно двум или трем:
«в сем размере слышны только два либо три долгие слога» (Востоков
1817:106), а самый большой стих русский о трех ударениях имеет
редко более 13 слогов. Востоков выделяет песни длиной в
1) 1 просодический период от 5 до 6 слогов:
Ты воспой, воспой, / Млад жавороночек / Сидючи весной / На
проталинке
275
К проблеме народного стиха...
2) 1,5 просодический период от 7 до 9 слогов:
А мы просо сеяли / Ой Дид и Ладо сеяли
3) 2 период от 5 до 11 слогов
Во всю ноченьку не спала молода / Мне комарики мешали младой спать
4) 3 период от 6 до 13 слогов
Во поле береза стояла / Во поле кудрявая стояла
3.0. Сандро Васильевич Кодзасов в статье «Просодический космос
русского стиха» в последнем сборнике серии «Логический анализ
языка» предпринимает очень похожую на востоковскую (впрочем без
ссылок на последнего, что даже интересно) попытку исследования
ритма. Предметом его анализа становятся «выделительные» акценты,
и в целом «фразовая акцентуация как компонент ритмики стиха».
Ссылаясь на работы И. И. Ковтуновой, Кодзасов перечисляет
стандартные законы бинарных составляющих: «в сочетании предика-
та и актанта акцент получает актант (читать * книгу), в сочетании
предиката и адверба акцент получает адверб (читать с ^удовольствием),
в сочетании атрибута и имени акцент получает имя (новая *книга)»
(Кодзасов 2003:539).
Однако «синтаксические законы расстановки акцентов - по при-
знанию самого же Кодзасова, - занимают подчиненную позицию по
отношению к законам семантическим» (Кодзасов 2003:539). Иными
словами нейтральность языка уступает место выразительности речи:
Его ^прежние книги я читал с ^удовольствием. А вот *новая книга
мне не ^понравилась, о чем собственно и писал Востоков.
Далее Кодзасов переходит к разбору так называемого эвфоническо-
го, «напевного» стиха, выделенного еще Б. Эйхенбаумом2. Этот литера-
турный тип стиха имеет, по Кодзасову, «два регулярных ритма: первич-
ный ритм (метр), основанный на словесных ударениях, и вторичный
ритм, основанный на фразовых ударениях» (Кодзасов 2003:540).
Впрочем, помечая звездочками ударно-фразовые слова, Кодзасов
иногда отступает с лингвистических позиций: так, в примере из Гуми-
лева на стр. 544 акценты расставлены так:
О, *пожелтевшие *листы
В стенах *вечерних *библиотек,
Когда *раздумья так *чисты,
А пыль *пьянее, чем *наркотик!
В первых двух строках в сочетании атрибута и имени акцент по-
чему-то получают оба из них. Таким ообразом, как нам кажется, вы-
делительные акценты обязаны своим существованием не столько
языковым законам, сколько речевой выразительности.
276
А. А. Петрова
Этот вторичный, по Кодзасову, ритм имеет стандартные схемы
выражения (Шапир сказал бы метризовался) в истории литературного
стиха. Так, двусложные размеры, что называется, пэонизируются:
4 Ямб: хххХхххХ(х) (двустопный пэон 4)
4 Хорей: ххХхххХ(х) (двустопный пэон 3)
5 Ямб: хххХхХхххХ(х) или хХхххХхххХ(х)
Этот ритмический феномен (т. е. пропуск ударения на икте через
стопу), не раз становившийся предметом изучения стиховедов, описы-
вался как «закон восходящего начала», «закон регрессивной акцентной
диссимиляции» и как «альтернирующий ритм». Такая пэонизация ямба
и хорея, возможно, является не столько законом, сколько стиховой тен-
денцией, по выражению А. Белого, стиховедческой условностью, так
как «если нет ни одной строки ямба, где встретила бы нас равноудар-
ность всех стоп, то с другой стороны нет и строк с пэонической фор-
мою в собственном смысле» (Белый 1981:141). Иначе говоря, такая
пэонизация если и является законом, то законом ритма, а не метра.
4.0. Самым интересным в статье Кодзасова является тот факт, что
этот фразовый ритм, назовем его так, никоим образом не противоре-
чит так называемому «Русскому размеру» Востокова: 4 или 5-стопный
хорей и ямб, а также трехсложные размеры, имеют 2 или 3 главных
фразовых ударения и длина его редко достигает 13 слогов.
Таким образом, Востоков выделял размер русских песен по трем
признакам: количеству слогов, количеству ударений и типу окончания
(дактилическому, хореическому или трибрахическому). Ритм, описы-
ваемый Кодзасовым, включает только число ударений. На наш взгляд,
такой фразовый ритм определяется только количеством слогов и уда-
рений (окончания в народном стихе, так же как рифма в литературном
суть явления несколько иного порядка, маркирующие конец строки).
Кодзасов не прав еще и в том, что называет такой фразовый ритм
вторичным, принимая за первичный (вслед за Гаспаровым) метр. Под
вторичным (словесным) ритмом обычно понимают пропуск именно
метрических ударений во всех словах, независимо от фразового ак-
цента. Таким образом, фразовый ритм - в этой терминологии - дол-
жен был определяться как «третичный». Так, в строке пушкинского
«Предчувствия» ^Угрожает снова *мне выделяем:
Первичный ритм, или метр, или размер (4 Хорей): ХхХхХхХ(х)
Вторичный ритм, или словесный ритм строки: ХхххХхХ
Третичный, или фразовый ритм: ХхххххХ
Но явление этого фразового ритма, на наш взгляд, представляет со-
бой универсальный речевой феномен, проявляющийся в поэтике рус-
277
К проблеме народного стиха...
ского литературного и народного стиха (в последнем он реализуется без
метра (первичного ритма) и словесного ритма (вторичного ритма)).
Встреча в стихе литературном этих трех ритмов - так сказать, исто-
рически окказиональна. Эволюция народной песни, что не без сожале-
ния и констатирует Востоков, шла от тоники к стопосложению, тогда
как эволюция литературного стиха осуществлялась в прямо противопо-
ложном направлении: от полноударного стиха Ломоносова к трехуров-
невому ритму стиха, установившемуся в первой трети XIX века.
Стих народной русской песни - факт, позволяющий говорить о не-
скольких истоках фразового ритма: физиологическом (дыхания), лин-
гвистическом (выразительность речевых акцентов) и поэтическом
(напевный тип стиха). В каком соотношении между собой находятся
эти истоки, является ли фразовый ритм «автоматическим результатом
физиологических тенденций» или «осуществлением художественных
намерений» (Харлап 1966:102), или явлением речевой соразмерности
еще предстоит установить.
Литература
♦ Белый А. Ритм и смысл И Учен. зап. Тартуского гос. Ун-та. вып. 515. Тарту,
1981.
♦ Востоков А. Опыт о русском стихосложении. СПб., 1817.
♦ Кодзасов С. В. Просодический космос русского стиха II Логический анализ язы-
ка. Космос и хаос: Концептуальные поля порядка и беспорядка. М., 2003.
♦ Харлап М. Г. О стихе. М., 1966.
♦ Шапир М. И. Metrum et rhytmus sub specie semioticae // Шапир М.И. Universum
versus: Язык - стих - смысл в рус. Поэзии XVIII-XX веков. М., 2000.
♦ Эйхенбаум Б. М. Мелодика русского лирического стиха И Эйхенбаум Б. М.
О поэзии. Л., 1969.
Примечания
1 ритм (с маленькой буквы) определяется им как факт; метр как закон; Ритм (с
большой буквы) как принцип.
2 Эйхенбаум, видевший оригинальность такого стиха в системе интонирования, также
обращал внимание не столько на строку, сколько на фразу (Эйхенбаум 1969: 328-329).
Н. Н. Белецкая
О формах и сущности трансформации языческой
символики в фольклорной традиции
христианской эпохи
Н. Н. Белецкая (Москва)
Отражение благотворного воздействия христианского религиозно-
нравственного начала проявляется в фольклорной традиции в многооб-
разных, разнородных и разностадиальных формах. Соотношение хри-
стианских и языческих явлений на протяжении истории христианской
эпохи претерпевало существенные изменения. Рудиментарные формы
языческих ритуалов различались как степенью сохранности архаики,
переосмысления и трансформации ритуальных действ, так и локальны-
ми особенностями. При этом не следует забывать, что неравномерность
дошедших до нас письменных и изобразительных средневековых ис-
точников не дает возможности с полной достоверностью установить
картину переходного состояния от язычества к христианству как в це-
лом, так и в отдельных местностях: положению о медленном и посте-
пенном процессе христианизации Руси, длительном существовании
приверженцев прежней веры1 противостоит утверждение о стремитель-
ном и взрывном характере процесса христианизации2.
Для понимания сущности синтеза христианских и языческих воз-
зрений, соотношения церковных установлений с языческими элемен-
тами в традиционном ритуальном комплексе существенно преодоле-
ние смещения акцентов на идеализацию язычества, романтическую
поэтизацию ритуалов его, перенесения на языческие культы и риту-
альные действа, с ними связанные, известных из фольклорной тради-
ции поздних, пережиточных, переосмысленных под воздействием
гуманных христианских нравственных норм и трансформированных
форм. Не следует забывать, что накануне принятия христианства ми-
ровоззрение приблизилось к монотеизму, к отходу от наиболее вар-
варских ритуальных действ. Ведь восприятие культурных явлений
обусловлено подготовленностью почвы для заимствования более вы-
соких норм. Такой смысл вкладывался в Евангельское изречение о
необходимости подготовленной почвы для прорастания брошенного в
нее семени и созревания достойных плодов.
Воздействие высокой византийской культуры в славянской среде,
вступившей на путь приобщения к христианству и создания самобыт-
279
О формах и сущности трансформации языческой символики ...
ной культуры, было решающим фактором процесса формирования и
развития славянской христианской культуры. Переход к ней от языче-
ства связан с разложением древних явлений и хрупкостью, шаткостью
новых связей и структур. Зарождение и взаимосохранение нового и
прежнего сопровождается столкновением разнородных импульсов и
влияний, исходящих из различной среды. Противоречия возникают не
только во временном измерении, но и синхронно. В этот период о
существовании целостной, органичной культуры говорить не прихо-
дится: к стабильному состоянию она лишь устремляется. В характере
приспособления элементов византийской культуры, восприятия хри-
стианских импульсов, взаимодействия отдельных элементов, их роли
и значимости, а также функциональной сущности, выделяется два
этапа: восприятие определенных элементов и трансформация их на
протяжении истории славянской традиции3.
С христианством в народном сознании утверждаются нравствен-
ные устои - совесть, осознание греха, несправедливости, любовь к
ближнему. С недосягаемой глубиной и лаконизмом Евангелия выра-
жены они в Нагорной проповеди: «Будьте совершенны, как совершен
Отец ваш небесный» [Мф. V: 48]. Благотворное воздействие христи-
анского вероучения на языческие сообщества, достигшие в своем
развитии культурного уровня для восприятия духовных ценностей
его, проявляется особенно выразительно относительно одной из са-
мых основных библейских заповедей: «Не убий!»
К убедительному подтверждению этого положения приводит рас-
смотрение трансформации форм культа предков в процессе преобра-
зования языческого ритуала проводов легатов в Священный Космос4 в
знаковые и символические разновидности на протяжении христиан-
ской эпохи.
Ранневизантийский автор Евсевий Памфил, говоря о благотворном
влиянии христианского вероучения на обращенных в христианство
язычников, особо выделяет гуманистическую миссию христианства:
«Очевидный показатель пользы, проистекавшей из Его [т. е. Спасите-
ля нашего - И. В.] слов... - обычаи всех народов, даже те, которые
были прежде дикими и варварскими, облагорожены не когда-либо
прежде... а только из Его слов и распространившегося по всей все-
ленной учения Его... Скифы не едят людей благодаря дошедшему до
них слову Христа, ни другие варварские племена... не выбрасывают
умерших родственников собакам и хищным птицам, ... не предают
стариков повешению, как прежде, не едят мяса самых дорогих покой-
ников по старинному обычаю..., не режут самых близких под предло-
гом благочестия. Такие и бесчисленные подобные им обычаи осквер-
280
Н. Н. Велецкая
няли прежде человеческую жизнь: говорят, что массагеты и дербики
считали самыми несчастными родственников, умерших естественной
смертью, и в предупреждение этого резали их и угощались состарив-
шимися близкими; тибарены сбрасывали со скал живыми состарив-
шихся ближайших родственников»5.
Христианское понимание Мессии как Божественного Спасителя
мира сочетается у Евсевия с представлениями о душе как доме и хра-
ме Божием, более высоком и совершенном, чем храм материальный, о
Сыне Божием как строителе общества людей как живого храма ду-
ховных существ, славящих Творца6. Экскурс Евсевия «О Евангель-
ском приуготовлении», посвященный спасительному воздействию
христианства на языческие сообщества, заключается весьма вырази-
тельно: «Если на Родосе, на Саламине и других островах, ... у фра-
кийцев и скифов доказано существование в древние времена вдохно-
венного демонами человекоубийства, продолжавшегося до времен
Спасителя нашего, ... прекращение столь великих зол в жизни совер-
шилось не раньше, чем воссияло учение нашего Спасителя, ибо глас
истории свидетельствует, что это продолжалось до времен Адриана и
прекратилось при нем; а это было именно то время, в которое спаси-
тельное учение укоренилось»7.
Миссия Константина Философа в христианизации славянского на-
селения Византийской империи стала одним из проявлений тяготения
его к идеалам античного христианства, которое он высоко ценил и
хорошо знал. Гуманистическая направленность деятельности его по
созданию славянского литургического языка для отправления церков-
ного Богослужения непосредственно связана с идеей просвещения
ради избавления от варварского наследия в жизненном укладе. Гума-
нистические устремления образно выражены в «Прогласе» - поэтич-
ном вступлении к переводу Евангелия, - провозглашением каждого
человека и каждого народа как равного.
Убежденностью в высшем предназначении своей миссии прониза-
но «Слово Кирила Философа како увери булгаре»:
«В ]един ден стах в Цркви великой патриархии Александрии и
бысть глас к мне из олтара глаголе: “Кириле, Кириле, иди в земл]у
пространу и в ]езики словинские, се рекше Българе. Тебе бо рече
Господ уверити их и закон дати им...”
...И паки снидох в Крит и ту мне рекша: “Сниди в Солун град”. И
я снидох и jaenx се митрополиту Иоану и jeraa поведах jeMy, он пору-
га се мне велико и рече: “О, старче безумии, Бл'гаре сут чловекоадци
и тебе хотет извести”. Изидох на трг и чух Бл'гар говорешть]е и уст-
раши се срдце Moje в мне и бих jaKO в аде и тме... Аз написах им 32
281
О формах и сущности трансформации языческой символики ...
слове. Аз их мало учах, а они сами много преобретаху. Те бо, рече
Господ, православну веру и христианство Богу предадут»8.
Сущность приведенных свидетельств сводится к тому, что под воз-
действием христианского вероучения язычники отступаются от самого
варварского с точки зрения гуманистических воззрений установлений
обычного права, утратившего мировоззренческое основание.
С утверждением христианства в античном мире происходит
трансформация языческого ритуала в знаковые формы. О преломлен-
ном восприятии этой трансформации в мифологической традиции
свидетельствует Флакк: «Некогда шестидесятилетних стариков сбра-
сывали с моста... Перестали с приходом Геркулеса, но из уважения к
древнему обычаю решили по-прежнему бросать в Тибр тростниковые
изображения людей»9.
Для путей и способов трансформации ритуала характерна разно-
родность форм знакового выражения как символического следования
ему, так и отхода от него. Весьма показательны в этом смысле проти-
воречивые действия Юлиана Отступника. Возврат к языческому обы-
чаю ознаменовался отправлением перед важным военным походом
«тавроболии» над самим собой. «Обряд этот ...заключался в том, что
человека помещали в глубокую яму, а сверху через деревянную ре-
шетку на него лили кровь жертвенного животного - быка или бара-
на»10. Здесь налицо как замена человека животным в процессе транс-
формации ритуала в знаковую форму, так и символика функци-
ональной направленности ритуального действия на заклятие общест-
венного благополучия. На первый взгляд все это кажется особенно
удивительным на фоне философских рассуждений слабеющего импе-
ратора, возвращающегося к христианским идеалам воли Божьей и
Святого Духа: «Не горюю я и не скорблю..., потому что проникнут
общим убеждением философов, что дух много выше тела..., всякое
стремление лучшего элемента от худшего должно давать радость, а не
скорбь. Я верю в то, что Боги небесные даровали смерть некоторым
благочестивым людям как высшую награду»11.
Итак, с принятием христианства варварское ритуальное действо,
утратившее к тому времени мировоззренческую основу, трансформи-
руется в пережиточные, знаковые и символические разновидные
формы, сохраняя при этом основную функциональную направлен-
ность - почитание священных предков, стремление, заручившись их
помощью и покровительством, поддерживать установленный ими
миропорядок ради общественного благополучия.
Пути трансформации протославянского ритуала на протяжении
длительнейшей истории его проходили по различным линиям. При
282
Н. Н. Белецкая
вариативности в формах и приемах преобразования его на протяже-
нии истории традиции разных этнических и локальных образований
наблюдается общность основной тенденции: по мере утраты первона-
чальной идейной сущности, переосмысления ее и трансформации явле-
ния в знаковые и символические формы возрастает роль драматизиро-
ванно-игровых действ, по сравнению с сугубо-ритуальным началом.
Показательно сопоставление «тавроболии» (или «криоболии») с
западнославянским игрищем «бить петуха», входившим в состав кар-
навальных, дожиночных и свадебных ритуальных действ. В старину
сущность его состояла в том, чтобы с завязанными глазами шестом
сшибить голову у зарытого по шею в землю петуха. Впоследствии
игрище преображается в форму, стадиально аналогичную «тавробо-
лии»: на решетку над ямой с петухом ставился горшок, и на него об-
ращался удар, вдребезги разбивавший его так, что черепки летели в
разные стороны.
Игрище это вызывает ассоциации с зулусским действом вызыва-
ния дождя: матери зарывали в землю по шею своих детей, и с первы-
ми каплями дождя уносили их домой, также поступали в том случае,
если дальнейшее пребывание на припеке становилось опасным для
детей. Зулусское действо типологически аналогично южнославянско-
му зарыванию в землю собаки ради прекращения затянувшихся про-
ливных дождей, а также более архаичному восточнославянскому бро-
санию в водоем старухи при чересчур затянувшейся засухе. Итак,
стадиально различные формы аналогичных действ, генетически свя-
занных общим источником, встречаются у различных этносов в раз-
личные хронологические периоды; стадиальная ступень трансформа-
ции форм в значительной степени зависит от сохранности архаики в
народной культуре.
Традиционный ритуальный комплекс пронизан стадиально и хро-
нологически разнородными обрядовыми действами знаковой сущно-
сти, символика которых красноречиво свидетельствует о претворении
варварского ритуала под воздействием христианских морально-
нравственных норм. Весьма показателен в этом смысле балканский
ритуал «Герман», основное действо которого - отправление по теку-
чим водам увитой цветами антропоморфной глиняной куклы, укреп-
ленной на кресте. Вопрос о том, как причисленный к лику святых
цареградский патриарх Герман (715-730 гг.) в балканской традиции
приобрел образ заступника от стихийных бедствий, и как христиан-
ский святой входит в круг языческой обрядности, связанной с культом
предков и направленной на благоприятную медиацию сил природы,
еще нуждается в специальном исследовании12.
283
О формах и сущности трансформации языческой символики ...
Более архаические элементы этой обрядности известны из восточ-
но-романской традиции под названием Калоян. Здесь, по всей види-
мости, следует искать связи с полумифическим царем Калояном. Для
понимания генетических корней обрядности это тем более важно, что
ритуал вызывает ассоциации с древним обычаем отправления царя на
пороге старости в Священный Космос, с одной стороны, и с реминис-
ценциями его в заключение карнавала, с другой.
«Похороны Калояна» существенны для понимания космической
направленности действа. Идея извечного кругооборота перевоплоще-
ний, лежащая в основе языческого миропонимания в целом, и культа
предков, в частности, органически взаимосвязана с астральными
представлениями, с идеей взаимосвязанности миров, вознесения духа
умерших праведников на звезды, и наконец, с представлениями о
вечном возвращении на землю в различных обликах (в зависимости
от земной жизни). Представления эти претерпели в традиции дли-
тельнейшую трансформацию и сохранились в деградировавших, сме-
щенных и слившихся с христианскими воззрениями формах. И тем не
менее, рудиментарные и переосмысленные формы их, фигурирующие
как устно-поэтические формулы, сопровождающие ритуал, выражают
функциональную направленность действа. Так, в заклинательных
формулах, сопровождающих оплакивание Калояна, отразилась идея
перевоплощения, фигурирующая, однако, в синтезированном и
смещенном виде:
Брат, брат Калоян,
Мы тебя хороним
Не для того, чтобы ты гнил,
А для того, чтобы ты зазеленел...13
Характерный для поздней традиции синтез переосмысленных и
трансформировавшихся представлений о благодетельном воздействии
посланников в Священный Космос, приобщающихся к сонму священ-
ных предков, о непрекращающемся кругообороте от жизни к смерти и
от смерти к жизни, об определяющей роли в извечном кругообороте
метаморфоз Священного Космоса проявляется в заключительном
напутствии Калояна - Германа, посланника в Космос, которого он
символизирует14:
Калоане, ене
Иди на небото и поискай
Да се отворят порти,
Да се пуснат дъждове,
Да текат като реки
Дене и ноще,
Да пораснат храните...15
284
Н. Н. Велецкая
При этом невольно приходит на память украинское поверье, будто
бы умерщвленное существо может передать поручение на «тот свет»16.
Знаки направленности в Космос несут элементы оформления Ка-
лояна: плот в виде креста, розетка в форме звезды и солнечного знака
между головой и поперечной перекладиной креста; не лишнее напом-
нить древнее представление о том, что текучие, проточные воды свя-
заны с Космосом.
Из аналогичных ритуальных действ, но по знаковому оформлению в
более поздней форме, следует выделить кавказские куклы из веток, в
убранстве, имитирующем крестьянский наряд, которых спускали по реке.
Ближе всего по форме и структуре ритуальных действ к Герману -
Калояну пеперуда - додола. Как о происхождении их, так и этимоло-
гии названия, существуют различные гипотезы. В наименованиях
наблюдается еще большая вариативность, чем в ритуалах с Германом.
Сама развитая вариативность свидетельствует о длительности транс-
формации и распространенности этих ритуалов. Для понимания сущ-
ности их важно принять во внимание древнее восприятие дождя как
посылаемого с небес животворящего начала, несущего оплодотво-
ряющие и стимулирующие рост силы. Дождь воспринимался как один
из элементов, при посредстве которого космические силы поддержи-
вают на Земле вечное перевоплощение.
Существенны соображения В. В. Иванова и В. Н. Топорова отно-
сительно связей основного действующего лица ритуала - пеперуды -
с Перуном, языческим владыкой молний-грома-дождя, не сразу став-
шим, по мнению Р. Якобсона, верховным языческим божеством17.
«Оно представляет собой разные типы редупликации того корня, ко-
торым у славян обозначается Громовержец, то есть Перун. ...Разнооб-
разие этих наименований, относимых к одному и тому же ритуально-
му персонажу, не должно вызывать удивления, поскольку и у других
славян известны весьма разнообразные трансформации имени Перу-
на, ср. ... Перушице, Перушан болгарских фольклорных текстов, Пе-
реплут старых русских текстов, Pripegala латинских источников,
относящихся к северо-западным славянам и т. п. ...Такие трансформа-
ции объясняются разными причинами - перенесением имени мифоло-
гического персонажа высшего уровня на персонажей более низких
уровней, производных от Перуна, ... функционированием персонажей
ритуала вызывания дождя в обстановке, близкой к карнавальной, когда
само имя или его части превращаются в междометийный припев, к кото-
рому присоединяются другие звуковые комплексы, образующие с ним
рифму... .В формах типа пеперуна ... четко выявляется имя Перуна»18.
285
О формах и сущности трансформации языческой символики ...
Форма ритуальных действ выразительно показывает сущность их
и направленность посредством построения ритуального танца и пе-
сенного сопровождения. Танцу пеперуды (додолы) характерны под-
скоки, направленные вверх движения, выражающие как бы парение к
небесам. Мотив летящей, парящей пеперуды характерен и для риту-
альных песен:
Пеперуда лята,
По небе се мята,
Богу свещи пали
И се Богу моли:
Я дай ми, Боже, дъждец,
Да си роди жито...
...Да ти сита година!
Отлетела пеперуга...
Да заросит ситна роса,
Ситна роса берекетна...
Да се родит съ берикет,
Съ берикет вино, жито.
Пеперугу ругу
Летна пролетешна...
Та се Богу молиш?
Боже ли Господю
И свети Илие.
Додолица Бога моли:
Да ми, Боже, ситну росу...
Од ]едан грозда товар вино, ...
Од]едан класа чабар жито, ...
Од две шливе шван раки]а19.
Такие образы, как:
Пипируда злата
Пред Перуна лята ...
И Богу се моли20
вполне соответствуют идейной основе ритуала. Золото - символиче-
ское выражение принадлежности к космическому миру богов. Знак
этот, идущий из глубочайшей древности, оказался весьма устойчивым
в изобразительной традиции; взять хотя бы линию: золотая маска
мумии фараона - нимб из золотых лучей христианских святых. В пес-
не в образно-художественной форме выражена идея приобщения по-
сланца Земли к сонму священных предков, находящихся подле богов,
286
II. Н. Велецкая
и передающего божеству-владыке грозового неба мольбу о ниспосла-
нии божественной влаги - жизненной силы сущего на земле.
Как сам ритуал пеперуды - додолы, так и связанные с ним песен-
ные формулы претерпели длительную трансформацию на протяжении
истории фольклорной традиции. Идея посмертных превращений так-
же претерпела процесс трансформации и деградации, снизившись до
более примитивных представлений и образов. Но и отражение самой
идеи метаморфозы, и процесса снижения ее до более примитивных
форм проявляется и в ритуальных действах, и в словесных формулах,
их сопровождающих. Убедительны наблюдения В. В. Иванова и В. Н. То-
порова над лексикой, связанной с этой обрядностью: «В додольских
песнях, включенных в ритуал вызывания дождя, мифологическая роль
пеперуды выступает более рельефно, чем в самом ритуале. Ср. мотив
летания пеперуды (новогреч. летаХобаа бабочка как воплощение ду-
ши умершего ...; рум. p^paiuda козодой - название птицы, и т. д.; учи-
тывая per - летать, дуть, отраженное в таких словах, как парить, пер-
натый, словен. perot, perut, чеш. perut, болг. преперица и под., можно
думать о связи с хеттск. parai и хеттским названием крыла partayar),
мотив ее обращения к Богу, иногда к Илье, конкретные просьбы о
плодородии, которые могут быть текстуально связаны с текстами
русских веснянок, и т. п.»21.
К сказанному о лексическом анализе названия ритуала следует до-
бавить, что М. Гавацци, исходя из общего корня названия ритуала у
разных балканских народов, а также наименования возглавляющего
действо - прпац (называвшегося также старешина или колово^а -
возглавляющий ритуальный танец), возводил его к древнему балкан-
скому идиому. Ш. Кулишич, П. Петрович и Н. Пантелич склоняются к
заключению том, что этимологически прпоруша исходит из «умерше-
го преждевременной или противоестественной смертью»22.
Для понимания генезиса ритуала и трансформации его на протя-
жении истории традиции весьма существенна архаическая форма его,
известная в Далмации на острове Котар: отправление его было преро-
гативой мужчин. До сравнительно недавнего времени в случае засухи,
в период от Юрьева до Петрова дня группа парней обходила селение
от дома к дому. Прпаца полагалось увивать определенного вида зеле-
нью - павитином и терном. Последнее представляется особенно зна-
менательным, если принять во внимание связи терновника с символи-
кой предназначенности к переходу в «мир иной» (перешедший и в
христианство - ср. терновый венец Христа).
Для понимания генетической основы и функциональной сущности
ритуала пеперуда - додола существенны элементы убранства. В нем
287
О формах и сущности трансформации языческой символики ...
следует выделить увивание сочной, лохматой зеленью и цветами по-
верх одежды; «главна додола» подвергалась ритуальному раздеванию
и увиванию зеленью на голое тело. Особо следует выделить венки на
голове. При этом, в некоторых местностях известно употребление
особых, определенных растений (например, кроме вышеуказанных,
бъзанака - разновидности пышного бурьяна - у болгар); сербские
додолы надевали венки из трав, хлебных колосьев, виноградной лозы
и веток фруктовых деревьев.
Длительная трансформация ритуала в народной традиции привела
к тому, что отправление его стало уделом преимущественно молодых
девушек и девочек, редко - женщин. Парни - редкий архаизм, свиде-
тельствующий о том, что в старину ритуал был прерогативой мужчин,
как и все основные ритуальные действа, и лишь со временем пере-
местился на молодежную среду подобно многим языческим ритуаль-
ным действам, претерпевшим переосмысление и преобразование в
истории фольклорной традиции.
Основные действа заключаются в обходе села и полей, ритуальном
танце, функциональную направленность которого выражают движе-
ния, имитирующие подскоки и парение. К сказанному выше о песен-
ном сопровождении следует добавить о важном для понимания сущ-
ности действа элементе: додольская песня Лесковацкой Моравы
содержит оттенок наказа при совершаемом действии:
«Лет, лети, пеперуга!»23
Один из основных элементов структуры обрядности - вода - име-
ет разные проявления. В поздних формах характерным действием
додолы-пеперуды является опрыскивание пучком травы и цветов ок-
ружающего - полей, людей и т. п. Распространена и другая разновид-
ность - обливание водой додолы (пеперуды), имеющее разные формы -
с ног до головы через сито или с деревянного круга, на котором са-
жают хлебы в печь; или же окатывают голову и ноги - словом, основ-
ное значение имеет символика самого действа, а не форма его, гово-
рящая о разных ступенях трансформации. Фигурирующие при этом
предметы говорят о прошлой функциональной предназначенности
действа - круг для сажания хлеба в печь и сито; круг вызывает ассо-
циации с черногорской формой отравления к праотцам, при которой
голову накрывали округлым караваем хлеба.
Известен и обычай купания додол в реке по завершении положен-
ных им обрядовых действ. Характерно бросание в текучие воды пуч-
ков травы и цветов, которыми додола обрызгивала окружающих, а
также жабы. Всё это - поздние, пережиточные формы.
288
Н. Н. Велецкая
Более архаическое действо, выражающее функциональную на-
правленность ритуала, - бросание в реку или иной проточный водоем
креста с заброшенной, неизвестно чьей, могилы; в некоторых местно-
стях восточной Сербии ритуальные действа начинались с похода на
кладбище, вынимания креста из всеми забытой могилы и потопления
его24. Действо это аналогично крещенскому бросанию креста в про-
рубь: и здесь, и там крест служит знаковой заменой человека, симво-
лом посланника к праотцам. Идентично оно также и сталкиванию в
воду додолы и ее окружения. Все эти действа вокруг воды являются
разными формами трансформации ритуала проводов к праотцам в
знаковые и символические разновидности, более поздними в сравне-
нии с архаической формой, существовавшей у восточных славян -
потоплением в засуху старухи в сельском водоеме. Более же поздней
формой является вкапывание деревянного креста у сельского колодца
или источника при засухе в Полесье, что вызывает ассоциации со
вкапыванием фигуры Германа; наряду с этим в Полесье практикова-
лось и закапывание ритуального печенья в виде креста, специально
для этого приготовляемого взамен установления креста деревянного25,
что аналогично зарыванию в землю небольшой фигуры Германа.
Антропоморфная кукла фигурирует в додольских действах. Для
понимания путей трансформации ритуала представляет интерес бол-
гарский вариант: пеперуду воплощает антропоморфное чучело, укра-
шенное цветами, собранными со всего села, и девочки, на которых
перешло отправление обрядности, оставляют по одному цветку в
каждом доме26. Символика этой формы додольской обрядности слож-
на и красноречива. Она содержит конкретное проявление замены
живого человека знаком его - чучелом. Убранство чучела цветами,
собранными со всего села, свидетельствует об общественной значи-
мости ритуального действа. Оставление же в каждом доме цветка
символизирует оставление прежних посланцев дома, в селении, и
замену их символом; действо это по сути символики аналогично та-
ким формам трансформации ритуала как скрещение сабель над боль-
ным при обходе домов в новогодних русалиях27, или внесению в дом
последнего снопа или венка28. Знаковая же сущность сбора цветов со
всего селения как символизация социального характера действа, на-
правленного на общее благо, аналогична сбору со всего селения раз-
нообразного горючего для масленичных или белтейнских костров.
Для понимания путей и форм трансформации ритуальных действ
существенны албанские варианты. Действия дордолецы (дождоле,
пеперуны) в общем-то аналогичны обрядности других балканских
народов. Важно свидетельство: «...Позже дордолецу вместо живой
289
О формах и сущности трансформации языческой символики ...
девочки изображало чучело (полену придавали форму человеческой
фигуры, закутывали его в тряпки)»29. Следует заметить, что здесь нет
смещений в действиях с водой: водой обливали дордолецу. Различные
формы символизации потопления обливанием, брызганьем, пускани-
ем по воде какого либо атрибута убранства или отправления ритуаль-
ного действа распространены у различных народов Европы, Кавказа и
др.30 Важнее наглядное проявление антропоморфной символики чуче-
ла, сделанного из полена. Оно ведет к рождественскому полену ан-
тропоморфного облика у кельтских народов Британии под названием
«Рождественская старуха», которое, в свою очередь, восходит к бел-
тейнским кострам31.
В круг ритуальных действ додола - пеперуда - Герман входит еще
один элемент - гадания о предстоящем урожае и годе, сытом или
голодном. Обращают на себя внимание космической символикой
гадания по положению сита, подбрасывавшегося вверх или скаты-
вавшегося с возвышенных мест. Символика подбрасывания вверх,
подобно высоким подскокам, выражает направленность в Космос и
вызывает ассоциации с периодическим отправлением легата к свя-
щенному космическому предку в Космос путем подбрасывания из-
бранного по жребию на высоко поднятые копья у гетов . Здесь нали-
цо характерное для фольклорной традиции проявление символики -
замены человека знаком его в виде атрибута ритуального действа,
выражающим сущность его. Что касается скатывающегося сита, симво-
лика действа представляется аналогичной солнечной символике обер-
нутого соломой горящего колеса, скатывавшегося с гор или высоких
берегов рек в Иванов день, празднество которого связано с днем летне-
го солнцестояния, предвещавшего урожай, если будет гореть, пока не
скатится33. Связь ритуала с солнечной символикой разъясняет Хокинс:
«В Норижде (Англия) в день летнего солнцестояния вниз с холма ска-
тывали горящее колесо, которое изображало солнечный диск»34.
Сравнительный анализ ритуалов додола - пеперуда - Герман приво-
дит к заключению о том, что восходят они к одному источнику, являясь
вариациями трансформации и деградации языческого ритуала на про-
тяжении истории традиции. Протекала она в целом в русле общего
направления трансформации ритуалов, отправлявшихся через извест-
ные отрезки времени, определявшиеся солнцестоянием или тем или
иным склонением солнца, указывающим наступление переломного
календарного периода35, лишь с небольшими отклонениями в связи с
приурочением к христианским святцам; при этом ритуал приобретал
разновидности, где одни элементы второстепенной значимости отпада-
ли, другие же приобретали более или менее развитую драматизацию.
290
Н. Н. Белецкая
Трансформация символики от древнейших форм до известных в
поздней фольклорной традиции прослеживается в образе змея-
дракона36. Соединение его с образом предка исходит из представле-
ний о змее - мифическом предке-покровителе, наделяемом качества-
ми культурного героя. Рудименты представлений о нем как регуляторе
небесных стихий на пользу людям явственно прослеживаются в
фольклорной традиции южных славян. Она сохранила архаические
представления, в которых проявляются связи змея с Космическим
миром Священных предков. Он предстает в образе крылатых антро-
поморфных существ, извергающих огонь, могущих превращаться в
человека. Из сверхъестественных качеств его следует выделить: бес-
смертие, невидимость, золотые крылья; из мест обитания: пребыва-
ние на «змеиной звезде» (ср. польское наименование его «planetnik»),
а на Земле - высокогорные леса, пещеры, водоемы. В локальных ва-
риантах северо-восточной Сербии змей предстает в качестве чистых
сил, приближенных к Богу и святым. Так, змей предстает добрым
демоническим существом, вместе со св. Ильей и Георгием Победо-
носцем побеждающим злых демонов стихийных бедствий, драконо-
образных мифических существ («ал»)37. При этом обращает на себя
внимание мотив изгнания дракона, а также нейтрализации губитель-
ных последствий его вредоносных действий: рассеивание градовых
туч над хлебными полями и т. п. В балканской фольклорной традиции
змей, подобно предкам-покровителям, обладает способностью обра-
щать небесные стихии и земные водоемы на пользу людям. Основная
функция змея заключается в защите покровительствуемой им общины
от стихийных бедствий, охране посевов и ниспослании на них живо-
творной влаги. Кроме того, змей выступает и как хранитель постоян-
ного продолжения здорового, крепкого, чистого духом, нравственно
устойчивого потомства. Этот образ змея вызывает ассоциации с обра-
зом «Медного змея» - спасителя от всенародного бедствия раннехри-
стианской иконописной традиции38, предшествующим образу змея,
поверженного Георгием Победоносцем. Здесь возникает вопрос о
противоречии образа змеи как всесильного апотропеического знака с
христианским образом змея как вредоносного начала. Следует напом-
нить что образ «змееборца, меняясь, тянется из глубокой доисториче-
ской древности»39. Симбиоз противоречивых языческих и христиан-
ских мотивов в образе змея имеет в народной традиции
многообразные проявления. Особенно выразительно оно в обычае
ритуального отлова змей, отрезании головы золотой монетой и ее
возложении в колокольчике на 40 литургий в церковь. Таким образом
превращалась она в амулет, который носили на груди подобно кресту,
291
О формах и сущности трансформации языческой символики ...
40 т-,
медальону и т. п. В таком синкретизме явственно проявляется слия-
ние языческих мотивов с раннехристианскими. Восприятие змеи как
священного существа, эманации предков-покровителей, предшество-
вало мотиву змееборчества.
Синкретизм языческих и христианских мотивов проявляется и в
орнаментации рождественского каравая. У саракачан верхняя корка
его представляет собой схематическое изображение кочевого стана, в
центре которого находится загон для скота со знаками животных,
обозначающими состав стада, сторожевых собак и т. п. Самый край,
как и модель загона, опоясывается двойным змеиным орнаментом -
символом защиты и благоденствия, приумножения и процветания41.
На свадебном каравае двойной змееобразный орнамент входит в
круг центральной - космической символики, выраженной знаками
месяца и креста42. Он несет в себе знаковое выражение посредничест-
ва сакральной змеи между Землей и Космосом, из которого ниспосы-
лается благословение брака, счастье молодым, нескончаемое семей-
ное благополучие, благосостояние, продолжение рода.
Как в мифологической традиции Евразии образ змея-дракона пре-
терпевает самые различные переосмысления и напластования, из
космического божества, мифического предка, культурного героя, ме-
диатора небесных стихий на благо обитателям Земли превращаясь в
различные мифические и сказочные персонажи, преломленные через
свойственную той или иной среде окружающую действительность и
фольклорную образность43, так и в художественно-изобразительной
традиции различные формы и пути трансформации изображения
змея-дракона ведут к карнавальным воздушным змеям - символиче-
ским посредникам между семьей и общиной и ее космическими по-
кровителями. В карнавале налицо синтез трансформированных форм
языческих ритуальных действ и образов их атрибутов. Рассмотрение
таких действ, как избрание «короля», сожжение «демона» - «ведьмы» -
Морены, «palenie dida», «pohrebefi», «казнь петуха», «похороны кра-
пивника» и т. п., а также бросание мальчика в море (выплывающего в
укромном месте) и др., приводит к заключению о том, что они явля-
ются разнообразными, разностадиальными формами трансформиро-
44
вавшегося на протяжении истории традиции языческого ритуала .
Карнавальные образы животных и птиц при рассмотрении их как
заместителей человека в трансформированных формах языческого
45
ритуала раскрывает сущность и генетические корни совершающихся
вокруг них действ. Особый интерес в этом смысле представляет образ
быка. В святочном игрище «бык» образ его оформлялся так: «Парень
с горшком на ухвате накидывал полог». Действие игрища разворачи-
292
Н. Н. Белецкая
валось вокруг покупки быка. «Введут в избу, помычит..., махая голо-
вой». Торг завершался ударом по горшку, разлетавшемуся в черепки,
приведшие же «быка» парни вынимали соломенные жгуты и хлеста-
ли ими девок со словами: «С кем быка ела?» Завершалось игрище
уходом «покупателя» со словами: «Надо хоть шкуру взять да идти
домой - быка съели», прихватив при этом полог и ухват46. Не входя в
рассмотрение соотношений поздней формы игрища с лежащими в
основе его архаическими мотивами, сосредоточимся на знаковой
сущности приемов оформления образа главного персонажа. Горшок -
имитация головы, удар по нему, расшибающий вдребезги - символи-
ческое заклание. Сущность языческой основы его, как и «съедение»
всем миром, в драматизированно-игровом действе вызывает ассоциа-
ции с заключительным актом архаических форм ритуала проводов
легатов к праотцам. Как священное животное бык имеет глубокие
корни в истории ритуальных действ. Представления о связи его с
божеством известны с древнейших времен, нить от которых тянется к
античным мифам о быке-Зевсе, у славян же он связан с Велесом -
«наследием глубочайшей древности»47. Разбивание же горшка, ими-
тирующего голову, вызывает ассоциации с «плясками глиняных го-
лов»48 и ритуальными масками из глины (и других материалов), кото-
рые имитировали головы и срубались в заключение ритуальных
действ49. Для понимания линий и форм трансформации языческой
символики в традиции европейских народов, и, в частности, форми-
рования карнавальных образов и буфонных карнавальных действ
существенный интерес вызывают древнегреческие «буфонии» - «за-
клание быка», ежегодно отправлявшиеся в Афинах. Убийство быка в
древней Греции считалось тягчайшим преступлением. В ритуальном
же действе: «Быка подводили к алтарю Зевса. Специальные девы-
водоносицы приносили воды, в которую жрец окунал и точил топор;
другой передавал его буфону-«быкоубийце», который наносил быку
удар и пускался бежать. Третий жрец приканчивал быка ножом. Мясо
делили между присутствующими и поедали. Затем начинался суд над
всеми участниками обряда. Девушки-водоносицы обвиняли того, кто
точил топор; тот обвинял взявшего топор из рук, а тот в свою очередь -
нанесшего удар; буфон называл убийцей того, кто вслед за ним при-
кончил быка ножом; последний заявлял, что в таком случае истинным
убийцей быка является сам нож. Нож подвергался допросу и ничего
не мог сказать в свое оправдание; он признавался виновным, и его
приговаривали к смертной казни: отправляли в процессии на высокую
скалу и бросали в море»50. Финал буфоний - допрос, осуждение, от-
правление процессии на высокую скалу и бросание в моря ножа как
293
О формах и сущности трансформации языческой символики ...
виновника происшедшего идентичен по существу карнавальной «казни
петуха» - по форме стадиально более позднему действу, отличающему-
ся построением самого действия: сначала происходит суд с допросами,
петуха признают виновным в жуирстве и приговаривают к казни, в
поздней традиции приобретающей символический вид. Сами же буфо-
нии вызывают ассоциации с такими стадиально более ранними форма-
ми трансформации ритуала, как ежегодное сбрасывание с высокой ска-
лы козла взамен юноши в древнем Вавилоне51, со сбрасыванием чучела
козла с колокольни в заключение карнавала; они соотносятся со «скалой
стариков» древней Абхазии, с которой сбрасывали их в море.
Различные пути трансформации ритуальных действ в драматизи-
рованно-игровые символические формы наглядно проявляются в
превращении календарных и свадебных действий с петухом в драма-
тизированные игрища, завершающие карнавал.
«В большинстве традиций петух связан с божествами утренней за-
ри и солнца, небесного огня... Но петух не только связан с солнцем,
подобен ему: он сам земной образ, зооморфная трансформация не-
бесного огня - солнца. С петухом связывается и символика воскресе-
ния из мертвых, вечного возрождения жизни... Некоторые данные
позволяют соотнести жертвоприношение петуха ... с его солнечной,
огненной природой. В древнерусском “Слове некоего христолюбца’’
(окончательная редакция) осуждаются существовавшие уже после
введения христианства языческие обряды, когда “... коуры рЪжуть и
огневи молять же ся, зовущие его сварожичьмь”... Тема петуха воз-
никает и в связи с образом огневой птицы (с чертами дракона)...
Причастность петуха и к царству жизни, света, и к царству смерти,
тьмы делает этот образ способным к моделированию всего комплекса
жизнь - смерть - новое рождение»52.
Сопоставление свидетельств XVIII в. с данными поздней фольк-
лорной традиции позволяет проследить процесс трансформации
действ «zabijanie kohouta» в карнавальное драматизированно-игровое
«stinanie kohouta». «Zabijanie kohouta» воспринималось как заклятие
благополучия новой семьи и отправлялось на другой день свадьбы.
Петуха со связанными ногами ставили в горшок посреди поляны.
Молодому мужу с завязанными глазами вручали шест, обводили во-
круг горшка, отводили на расстояние шеста и ставили лицом к петуху.
Если сразить его не удавалось с первого раза, разрешалась еще дву-
кратная попытка. При удачном свершении действия раздавался об-
щий торжествующий возглас и шествие торжественно возвращалось.
Неудача же жениха считалась предвестием несчастливой женитьбы53.
Таким образом, от зарытого по шею в землю петуха тянется линия
к петуху в яме, закрытой решеткой и горшком - знаком его (и языче-
294
И. Н. Белецкая
ского легата), - к карнавальной «казни петуха», где маскированные
персонажи - ксендз, судья, палач - разыгрывают суд, приговор и сим-
волическую «казнь».
Другая линия трансформации - превращение ритуального действа в
игровые состязания, когда удачливому игроку полагалась награда -
кольцо, платок, венок и т. п. И лишь отзвуки отжившего обычая улавли-
ваются в свадебном «kohouti tanec» (петушиный танец), а также в назва-
нии парней, явившихся к жениху на второй день свадьбы - «kohutari».
Что касается горшка как знака живого существа, то действа вокруг
него помогают понять истоки типологического явления - разбивания
горшков в календарной и семейной обрядности. Невольно возникают
ассоциации с известной с глубокой древности символикой сосуда как
символа человека - вместилища души. Еще в Древнем Египте с риту-
альным разбиванием сосуда были связаны магические действа, в ос-
нове которых лежали представления о том, что разбивание ритуально-
го сосуда ведет к умерщвлению тела и высвобождению души54.
Длительнейшая трансформация этого явления приводит к обычаю
битья горшков на счастье.
Анализ линий и форм трансформации языческой символики в
фольклорной традиции позволяет проследить процесс превращения
образов священных предков - покровителей в карнавальные персона-
жи. В результате выявляется последовательность форм трансформа-
ции мотивов и образов как в горизонтальном плане (аналогии у раз-
ных народов), так и по вертикали (в соответствии с закономерностями
календарной, похоронной и свадебной обрядности). Все это способ-
ствует пониманию как генезиса, так и разнообразия форм карнаваль-
ных образов и буфонных карнавальных действ.
Драматизовано-игровое начало возрастало по мере утраты риту-
альной значимости языческих действ, основанных на понимании
мироздания как нескончаемого кругооборота перевоплощений от
жизни к смерти и от смерти к жизни.
Анализ архаических антропоморфных, зооморфных и орнитоид-
ных образов карнавала приводит к заключению: в основе их лежат
трансформированные формы культа предков55. Анализ генезиса и
функциональной сущности архаических карнавальных образов, а
также закономерностей трансформации семантики их, приводит к
положениям, вносящим коррективы в прежние теории (Дж. Фрезера,
М. Бахтина и др.). В основе карнавала лежит не просто «смеховая
культура», а генетически сложнейшая семантическая структура, вос-
ходящая к архаичнейшим древнеиндоевропейским и праисториче-
ским ритуалам. Сопоставление архаических элементов карнавала
заставляет воспринимать его в значительной мере как трансформиро-
295
О формах и сущности трансформации языческой символики ...
ванную и переиначенную форму языческих ритуалов, высмеивающих
варварство их, с одной стороны, и выражающую торжество избавле-
ния от них, с другой.
Итак, традиционный ритуальный комплекс пронизан стадиально и
хронологически разнородными обрядовыми действами знаковой сущ-
ности, символика которых красноречиво свидетельствует о претворе-
нии варварского ритуала под воздействием христианских морально-
нравственных норм. Свойственное Церкви приурочение христианских
празднеств к привычным языческим ритуалам сыграло решающую
роль в преобразовании варварских обрядовых действ в знаковые фор-
мы их. Особенно явственное выражение нашло это в Крещение у
южных славян. Кульминацию праздника составляло собрание всем
селением на берегу моря (или возле проруби). Мужчины бросались в
воду вслед за заброшенным священником крестом, и выловивший
крест «герой дня» возглавлял торжественное шествие к церкви.
Апогеем преобразования языческих костров56 предстает рождест-
венская елка с зажженными свечами57 со звездой на верхушке, на
крестообразной подставке.
Разнообразные формы изображения креста в народной традиции
вызывают ассоциации с «Эпистулой» Фотия, заложенными в ней ос-
новами христианской догматики, этики и морали, где подчеркивается
значение Креста как наиуниверсальнейшего христианского символа,
роль его в народной среде как наиболее доступного зримо проявления
христианства58.
Усвоение христианского вероучения приводит к утверждению в
моральных устоях общества заповеди «чти отца своего и мать свою»,
а в обрядовой традиции - к превращению жертв языческого ритуала в
знаковые атрибуты драматизированных действ.
Значимость «христианского мифа»59 выражена во всеобъемлющей
сущности изречения Христа: «Милости хочу, а не жертвы» [Мф. IX:
13, и XII: 7; Ос. VI: 6].
Примечания
1 Из недавних публикаций см.: Русанова И. П., Тимощук Б. А. Религиозное «двоеве-
рие» на Руси. Культура славян и Русь. М.» «Наука», 1998, с. 144-162; ФрояновИ. Я.
Об историческом значении «крещения Руси». Генезис и развитие феодализма в Рос-
сии. Л., 1987. С. 55 и др.
2 Беляев Л. А., Чернецов А. В. Русские церковные древности. М., 1996.
3 Avenarius A. Byzatskd kultura v slovanskom prostredi v VI-X1I storott. Bratislava. 1992.
4 Белецкая H. H. Языческая символика славянских архаических ритуалов. М., «Наука, 1978.
5 Латышев В. В. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и
Кавказе. Т. 1. СПб., 1890. С. 663 -664.
296
Н. И. Велецкая
6 Бычков В. Смысл искусства и византийская культура. М., 1991. С. 22.
7 Латышев В. В. Указ. соч.
8 Страници од средневековната книжевност. Избор, редакци]а, предговор и забелешки
В. Антик и X. Поленаковик. Скогуе. 1978. С. 125-126.
9 Цит. по: Каллаш В. Положение неспособных к труду стариков в первобытном обще-
стве//Этнографическое обозрение. 1889. Кн. 1. С. 126-137.
10 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Кн. 1. М., 1988. С. 399-404.
11 Там же.
12 Арнаудов М. Студии върху българските обреди и легенди. Т. 1. София. 1971. С. 204
и след.; S. Zedevid. German: Coutume printanier pour invoquer la pluie // Македонски
фолклор. 1973. Бр. 12. С. 155-157 (далее М. Ф.).
13 Цит. по: Зеленчук В. С., Попович Ю. В. Антропоморфные образы в обрядах плодоро-
дия у восточнороманских народов: XIX - начало XX в. // Балканские исследования:
Проблемы истории и культуры. М. 1976. С. 197.
14 О Германе - Калояне в трансформированной форме ритуала проводов в Космос см.:
Белецкая Н. Н. Рудименты индоевропейских и древнебалканских ритуалов в славяно-
балканской обрядности медиации сил природы: Додола - Пеперуда - Герман // Мате-
риали од IV Мегународен симпозиум за балканскиот фолклор. М. Ф. Бр. 23. Скоп|е.
1979. С. 87-100.
15 Цит. по: Арнаудов М. Указ. соч. С. 210.
16 Сосенко К. Культурночсторична постать староукрашських св’ят Р1здва i Щедрого
Вечера. Льв1в. 1928.
17 Якобсон Р. О. Вопросы сравнительной индоевропейской мифологии в свете славян-
ских показаний // VI Международный съезд славистов. Акты съезда. Прага, 1970. Т. 2.
С. 630-633.
18 Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М.,
1974. С. 111-112.
19 КулишиЬ Ш., Ilempoeuh П. Ж., ПантелиЬ Н. Српски митолошки речник. Београд.
1970 (далее - Српски митолошки речник). С. 108.
20 Раковский Г. С. Показалец. 1859. С. 168.
2^ ИвановВ. В., Топоров В. Н. Указ. соч. С. 103.
22 Српски митолошки речник. С. 249.
23 Српски митолошки речник. С. 108.
24 Српски митолошки речник. С. 108.
25 Толстой Н. И, Толстая С. М. К реконструкции древнеславянской духовной культу-
ры // Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Доклады совет-
ской делегации. М., 1978. С. 37.
26 Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: Летне-осенние празд-
ники. М., 1978. С. 224.
27 Белецкая Н. Н. О новогодних русалиях // Славяне и Русь. М., 1968. С. 394-400.
28 Белецкая Н. Н. Языческая символика..., раздел о календарной обрядности.
29 Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: Летне-осенние празд-
ники. М„ 1978. С. 265.
30 О славяно-кавказских соответствиях, особенно касающихся южных славян, и зна-
чимости кавказских данных для реконструктивных изысканий в области истории
славянской культуры см.: Марр Н. Я. Книжные легенды об основании Куара в Арме-
нии и Киева на Руси // МГАИМК. 111. 1924.
31 Белецкая Н. Н. Языческая символика..., раздел о новогодней обрядности.
32 Там же. С. 98, 135.
33 Хокинс Дж. Кроме Стоунхенджа. М., 1977. С. 231.
34 Там же.
35 Там же.
297
О формах и сущности трансформации языческой символики ...
36 «Если в архаических мифологиях роль Змея.соединяющего небо и землю, чаще
всего двойственна (он одновременно и благодетелен, и опасен), то в развитых мифоло-
гических системах (где Змей часто носит черты дракона, внешне отличающегося от
обычной змеи) нередко обнаруживается прежде всего его отрицательная роль как
воплощения нижнего (водного, подземного или потустороннего) мира» (Мифы наро-
дов мира. М., 1980. Т. 1. С. 470).
37 ЗечевиИ С. Митска биЬа српских предан»а. Београд, 1981. С. 62-67.
38 Мифы народов мира. Т. 2. М., 1982. С. 131-132.
39 Пропп В. Я. Змееборство Георгия в свете фольклора // Фольклор и этнография Рус-
ского Севера. Л., 1983. С. 190-208.
40 AHtnoHujeeuh Д. Обрели и обича)и балканских сточара. Београд, 1982. Ср.: представления о
золоте как космическом знаке, о змеях - хранителях сокровищ, приносящих их людям.
41 Антониевич Д. Указ. соч.
42 Там же.
43 Велецкая Н. Н. Языческая символика антропоморфной ритуальной скульптуры //
Культура и искусство средневекового города. М., 1984. С. 83-85.
44 Велецкая Н. Н. Языческая символика архаических антропоморфных и зооморфных
образов славянских карнавальных действ // Материали од IX Мегународен симпозиум
за балканскиот фолклор. М. Ф. Бр. 38. Cxonje, 1986. С. 191-201.
45 Велецкая Н. Н. Языческая символика антропоморфной ритуальной скульптуры //
Культура и искусство средневекового города. М., 1984. С. 83-85.
46 Завойко Г. К. В костромских лесах по Ветлуге-реке // Труды Костромского научного
общества по изучению местного края. Вып. 8. Кострома, 1917. С. 24.
47 Якобсон Р. О. Вопросы сравнительной индоевропейской мифологии в свете славян-
ских показаний // Akta sjezdu VI Международного съезда славистов. Т. 2. Praha,
«Akademia», 1970. С. 630-633.
48 Надевавшимися поверх головы танцующими ритуальный танец: Липе Ю. История
вещей. М., 1954. С. 289.
49 Авдеев А. Д. Происхождение театра. М.; Л., 1959. Раздел о связях антропоморфных
масок с культом предков.
50 Арановская О. Р. О фольклорных истоках понятия катарсис // Фольклор и этногра-
фия. Л.. 1974. С. 62.
1 Евреинов Н. Азазел и Дионис. Л. 1924. С. 39 и след.; ср.: свидетельство Павсания о
замене козлами отроков, приносившихся в жертву Дионису.
52 Топоров В. Н. Петух // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1982. С. 310.
53 Horvatova Е. Fragment slovenskej svadby v Bratislave XVIII stor. // Slovensky narodopis.
Bratislava, 1985. № 1. Str. 247 и след. Ср.: представления о петухе как о вещей птице,
широко распространенные предсказания, гадания, с ним связанные.
54 Зечевик С. Култ мртвих код Срба. Београд. С. 52.
55 Велецкая Н. Н. Языческая символика архаических антропоморфных и зооморфных
образов славянских карнавальных действ // Материали од IX Мегународен симпозиум
за балканскиот фолклор. М. Ф. Бр. 38. Cxonje, 1986. С. 191-201.
56 Ср.: свидетельство Густинской летописи, одного из важнейших источников для пони-
мания функциональной сущности языческих костров: «емшеся за руцЬ около обращают-
ся окресть оного огня, поюще своя пЬсни, преплетающе Купаломъ; потомъ презъ оный
огнь прескакують, оному бЬсу жертву себе приносяще». Цит. по: Гальковский Н. М.
Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Т. 2. Древнерусские слова и
поучения, направленные против остатков язычества в народе. М. 1913. С. 297, 299.
57 Хокинс Дж. Указ. соч. С. 231-232.
58 Авенариус А. Указ. соч. С. 143.
59 Термин С. С. Аверинцева.
298
Пародийные тексты в составе свадебного обряда
В. А. Ковпик (Москва)
Вовлеченность в ход свадебного действа двух родов - невесты и
жениха - или даже двух общин, к которым принадлежат молодые (чем
более раннее состояние обряда предполагается, тем больше основа-
ний для сближения понятий рода и местной общины), разделяет уча-
стников обряда на две стороны, представители первой из которых
печалятся и оплакивают потерю, а второй - радуются и празднуют
приобретение молодой работницы и матери будущих новых членов
рода. С этим связано и различие эмоционального тона двух половин
обряда - первой, протекающей в доме невесты среди ее подруг, и
второй, когда ведущая роль в ходе событий принадлежит уже пред-
ставителям рода жениха. Исследователи уже неоднократно касались и
эмоциональной неоднородности свадебного действа, и сложности
переплетения в обряде многих факторов, обусловливающих его воз-
никновение и функционирование, - социально-экономических, миро-
воззренческих, психологических и др. Например, О. Э. Озаровская в
своем весьма художественном сообщении о северной свадьбе отмеча-
ла, что свадьба в «крестьянском быту - это общественное утвержде-
ние некой хозяйственной сделки двух домов в виде брака, подкреп-
ленное длительным обрядом в эстетической форме. Именно форма,
выработанная веками, соединившая и языческий и христианский
культы, составляет для деревни притягательное и вместе поучитель-
ное зрелище. На него смотрят, не отрывая глаз, и старые и малые, его
“переживают”, как античный зритель переживал трагедию, как сред-
невековый - мистерию. Идея брака выявляется в обряде двумя своими
сторонами: и трагической и фарсовой. Самое название брачущихся,
одинаковое и для жениха и для невесты, “сужено-ряжено”, говорит и
о роке, судьбе и о хозяйственной, практической выгоде для договари-
вающихся (рядящихся) сторон. Пара брачущихся являет глазам сва-
дебников загадку рока или судьбы при своем соединении (поворот в
жизни каждого). Поэтому зритель испытывает величайшее сочувствие
той, которая в слезах прощается с вольной девичьей жизнью, в страхе
оплакивая трудности предстоящей, и с весельем присоединяется к
торжеству победителя-жениха, взявшего свое “ряжено”. Поэтому
обряд разделяется на две части: печаль и страх в первой, торжество и
радость в другой; обе части пронизаны “запуками” или заклятиями
299
Пародийные тексты в составе свадебного обряда
судьбы и песнями, где блестит опоэтизированная пышность той мате-
риальной культуры, что окружает “ряженых”» [Озаровская, с. 96].
Мнение Озаровской о том, что две половины свадебного обряда
могут быть определены как «трагическая» и «фарсовая», нуждается в
уточнении: радость и веселье в доме жениха встречаются не только в
«фарсовых» формах - а прежде всего в торжественных величаниях,
сохраняющих в значительной степени и древнюю заклинательную
функцию. В то же время и в первой - печальной - части обряда обна-
руживаются тексты, которые можно определить как «фарсовые» (та-
ковы, например, корильные песни подруг невесты в адрес жениха, его
рода и деревни). И хотя интересующие нас пародийные тексты дейст-
вительно в большей степени тяготеют к послевенчальной части обря-
да (и особенно ко второму дню свадьбы), появлением их еще в доме
невесты нельзя пренебрегать, и более правильно было бы определять
«фарсовые» элементы свадебного обряда и фольклора как особую
форму функционирования обряда, которую он может приобретать и в
первую - печальную (даже «трагическую», как считала Озаровская), -
и во вторую - радостную - половины свадебного действа.
Сам традиционный славянский свадебный обряд на определенных
своих этапах предполагал включение смеховой сферы традиционной
народной культуры; в корильных песнях, шуточных свадебных указах,
приговорах дружки и в фольклоре и обрядах второго дня свадьбы и
послесвадебного периода создавались комические, пародийные обра-
зы как отдельных участников свадьбы, так и всего хода свадебного
обряда. Кроме того, свадебный обряд в игровой форме воспроизво-
дился в различных молодежных играх и увеселениях (подробнее см.
Морозов), восходящих к архаическим формам брачной обрядности.
Пародийные (или «фарсовые») черты хорошо заметны в фольклорных
текстах - причем как в тех, что до недавних пор еще сопровождали
сам свадебный обряд, так и в тех, что в засвидетельствованный
фольклористами период бытовали уже отдельно от свадебного дейст-
ва, однако обнаруживают генетическую связь с древними формами
брака и обрядами, их сопровождавшими (таково, по мнению ученых,
большинство текстов необрядовой лирики: «В основе любовных пе-
сен лежит <...> известная условность, унаследованная от обрядовых
действ и обрядовых положений, среди которых народилась песня.
В народной поэзии непосредственная лирика занимает лишь очень
незначительное место» - Аничков, с. 209).
Интересно рассмотреть соотношение поэтических средств и обра-
зов фольклорных текстов, принадлежащих к двум разным половинам
свадебного обрядового действа, предполагающего последование и
300
В. А. Ковпик
таким образом вольное или невольное противопоставление ритуаль-
ных плача и веселья. Е. В. Аничков полагал, что «различное поэтиче-
ское освещение брака <...>, одно мрачное, а другое, напротив, свет-
лое» происходит «при помощи почти что одних и тех же символов»
(Аничков, с. 208). Однако следует заметить, что в силу возможности
совмещения и наслоения в одном образе нескольких символических
значений эти «одни и те же» образы получают различное иносказа-
тельное толкование, что и показывают нижеприведенные примеры.
Одна из «перекличек» текстов свадебного фольклора, относящихся
к довенчальному и послевенчальному периодам свадьбы, связана с
баней, в которой моется невеста / молодая (для невесты - это баня, в
которой она последний раз мылась в родном доме вместе со своими
подругами, «смывая» девью красоту, сохранившаяся во многих мест-
ных изводах свадебного обряда, причем значение этой бани было
столь велико, что подчас даже в местах, бани не знавших - например,
в Белгородской области, - все равно удерживалась песня «Растопля-
лася банюшка» на девичнике; для молодой - это или умывание моло-
дых, проводившееся на второй день, обычно с ряженьем и смехом,
или являющийся зеркальным отражением невестиной бани обряд так
называемой «шутовой байны»1, известной на Русском Севере, при
котором настоящего мытья часто не бывало, а были шутки и игры;
возможно также, что в некоторых случаях появление образа бани в
текстах послесвадебного периода связано с тем, что в иных местах
первую брачную ночь молодые проводили в бане или отправлялись
туда сразу после брачной ночи - напр., Олеарий, с. 1432).
Изображение бани, истопить которую невеста просит подруг,
идеализировано, однако в нем часто сквозит, а иногда и преобладает,
печаль по беззаботному девичьему житью:
А мы истопили твою жарку баенку
А уж мы без дыму да без кудрявого,
А уж как без чаду да без едучего.
А мы наносили да, белы лебеди,
А мы ключевой ле воды холодной.
А уж мы нагрели да, белы лебеди,
А мы щёлоков-то тебе цененых.
А уж мы напарили да, красны девицы,
А мы веничков-то тебе шелковых.
[Русская свадьба, т. 1, с. 450]
Вы бегйтё, белы лебеди,
Вы подружки мои милые,
Истопйтё баню парную,
301
Пародийные тексты в составе свадебного обряда
Баню парную неугарную,
Уж мне смыть да дивью красоту,
Украшеньё мое дёвичьё.
[Нижегородская свадьба, с. 107]
К сожалению, мне не удалось доискаться каких-либо специфиче-
ских текстов, сопровождавших «шутову байну», но в фольклорных
записях из мест, где этого обряда не было, тем не менее встретились
пародийные соответствия печально-прекрасной невестиной бане.
Молодая-«гордёна» в песне из Чердынского уезда Пермской губернии,
подобно невесте, также требует, чтобы ей истопили баню:
Ой наша гордёна
Ломлива, гордлива:
«Истопите мне баню,
Нагрейте мне шёлок,
Принесите мне веник,
Принесите мне мыло,
Что в...уплыло.
Подымите на полочок,
Расчешите хохолочёк!
На полочке тепленько,
У меня в...горяченько,
У меня в печка,
У тебя же .... чечка:
Чечка да встала,
В печку попала!
[Чесноков, с. 79-80]
Другое упоминание - в свадебном приговоре дружки с северо-
востока Нижегородской области, который говорился, когда жениха и
невесту уводили на первую брачную ночь: «Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй нас! Вставайте, отец, мать, благословляйте
князя молодого и княгиню молодую на подклет вести, за хохол тря-
сти! <...> Вот вам подушочки-шоптушочки, войлочок-пехальничок,
одеялочко подъ..альноё, а вы просите у мамоньки крыночку обзда-
вальную!» [Нижегородская свадьба, с. 202]. Последняя предметная
реалия этого приговора опять оказывается связанной с банной темой,
в то же время в контексте соседствующих образов и происходящих в
это время в рамках свадебного обряда событий легко может быть
прочитана как метафорическая замена женского органа невесты (это
символическое значение бани проявляется и в следующей загадке с
непристойною отгадкой, записанной недалеко от места, где бытовал
только что приведенный приговор: «Моховая баня, волосяные двери,
302
В. А. Ковпик
один в бане парится, два по прибаннику шарятся» - ФЭ МГУ, лето 2002
г., д. Антониха Антонихинской с/а Варнавинского р-на Нижегородской
обл.; исп. Николай Васильевич Белов, 1947 г. р.; соб. В. А. Ковпик,
А. В. Кулагина).
Еще один пример отражения серьезных и торжественных моментов
свадебного обряда в его фарсовой части связан с обычаем величания
молодой женой своего мужа и его родных (как правило, на послевен-
чальном пиру или - реже - на второй день свадьбы). Мужа она называ-
ла по имени и отчеству, а свёкра и свекровь - батюшкой и матушкой.
Этот обычай считался весьма важным (и теперь наши нынешние пожи-
лые исполнительницы с большим волнением рассказывают о нем), и
многочисленные зрители, в особенности женщины, с замиранием серд-
ца ждали услышать, как молодая назовет чужую мать матушкой.
«Репетиция» этого обряда содержится уже в фольклоре молодеж-
ных игрищ и беседок, где часто бывали игры в свадьбу. В разнообраз-
ных припевках и календарно приуроченных величальных песнях опе-
вали молодых людей и девушек в качестве женихов и невест; девушки
должны были после спетой припевки величать припеваемого им мо-
лодого человека:
«Это ходили, женихов припевали - из деревни в деревню. Ой, дак
соберемся ведь все дак: “Пошли по женихов на другую беседку!” -
“Пошли”. Пошли по женихов. Вот садимся - по женихов пришли, и
всем припевали (у нас, кому не хватало, дедушка нашего припевали,
Семена Ондреича). Вот поют:
Петр Васильевич умён,
И розумен, и умён:
Где ни пьет, где ни ест -
Домой едёт ночевать:
“Уж ты, Шуронька, розуй,
Доць Ивановна, розуй!” -
“Недосуг, сударь, розуть:
Уж я сына-то качаю,
Перемены себе чаю,
Перемены немалой -
Себе сношки молодой”.
“Шуринька, величай: Петр Васильевич”. И встаешь, говоришь:
“Петр Васильевич”. И парня-то не знаешь - припоют, и не знаешь,
парень или старик» (ФЭ МГУ, зима 2003 г., пос. Варнавино Варна-
винского р-на Нижегородской обл.; исп. Александра Ивановна Анто-
нова, 1909 г. р.; соб. В. А. Ковпик, А. В. Кулагина; песня - один из
типичных для Поветлужья случаев, когда в качестве припевок на мо-
303
Пародийные тексты в составе свадебного обряда
лодежных беседках и игрищах и в качестве величаний на свадьбе
могли функционировать одни и те же тексты - такие, как это свадеб-
ное величание женатому гостю).
Переживания невесты, размышляющей, как ей величать будущего
мужа и его родных, отражены и в собственно свадебном фольклоре.
В причитаниях, исполнявшихся до венчания, невеста отказывалась вели-
чать или именовать родных жениха, т. к. она пока была не в их власти:
«Как я в сговорёнках сидела, приходила ко мне родная его, жени-
ха-то, сношельница [жена брата мужа] в гости, а я причитала к ёй.
Вот она пришла, я села к ёй, ручку на руку положила:
Только свет чужая тётушка,
Я не знаю, как тебя назвать -
Только знаю хоть я ведаю,
А назвать тебя не хочется
До поры да мне до времечка,
Ретиво сердце не воротится.. .»3
[Ветлужская сторона, с. 84]
Да погляжу-то я, посмотрю
Да я по всёй пировой избе,
По белой мытой новой горнице -
Да я узрела, усмотрила
Да я чужова чужёнина.
Да я не знаю, как его назвать,
Да я не знаю, как его звеличёть -
Не назвать бы цюжим именём,
Не звелицёть бы цюжим отцём.
Дак назову я ясным соколом,
А звелицяю сизым голубём.
Да ты приди-ко, чужой чуженин,
Да ты ко мне на час на малёшенек
Да на единую минуточку -
А я не для-ради сдарьеця,
Я для-ради свиданьеця.
(ФЭ МГУ, лето 1998 г. Д. Марково Заветлужского с/с Вохомского
р-на Костромской обл. Исп. Мария Федоровна Попова, 1908 г. р. Соб.
А. Ю. Нешина. Этим причитанием на рукобитье невеста призывает к
себе кого-либо из «рукобитников» - мужчин из числа родных и близ-
ких жениха, приехавших вместе с его родителями, - чтобы получить
от него подарок.)
304
В. А. Ковпик
После венца, когда невесту встречали у дома жениха, ей напоми-
нали о необходимости признать совершившуюся с ней перемену:
Сине море на волнах стоит,
Наша Катя в воздухах стоит.
Она стоит, стоит повыше всех,
Думу думает покрепче всех:
Как назвать ей свекра батюшком
И свекровку родной матушкой,
Деверьев всех братьями родными
И золовок сестрами родными?
[ЛРС, № 280, с. 143-144]
«Молодую ведь закрытую привозили, с закрытым лицом. За стол
посодют, а тут: “Открыть надо, может, слепая, может, косая?” Жених
поднимает платок и целует ее. Уся родня смотрит: привезли хорошую
или дурную? Подзывают к столу родителев, тетку, можа, еще родачей,
бабку. Наливают, невеста подносит. И каждого называет: “папаша”,
“мамаша”, “сестричка”, “братец”» (Русская свадьба, т. 1, с. 90).
В следующем характерном примере (из обрядов второго дня) вид-
но, как настойчиво в обряде предписывалось величание молодою
женой своего мужа, своего рода «позиционирование» ее в новом роде,
закреплявшее ее место в структуре семьи:
«Молодые мужики кладут молодого во дворе на землю, сами свер-
ху ложатся один на другого. Выходят бабы, каждая своего мужа под-
нимает: “Иван, Иван! Встань, не поломайся!” Муж встает, жена кла-
няется ему в ноги, после чего целуются. Наконец, подходит молодая:
“Милый друг Иван Васильевич, встань, не поломайся!” Он ломается,
не встает. Так зовет она его до 3-х раз. Наконец он поднимается, а она
дает ему кнут и кланяется в ноги со словами: “Бей свою жену, чтобы
она чужих барашков не любила, а любила бы, знала бы одного своего
мужа!”» (Елеонская, с. 208; видно, сколь настойчиво требовалось
величание мужа от молодой по сравнению с уже обжившимися в сво-
их семьях «бабами»).
Наконец, из свадебных величаний, звучавших на пиру, когда не-
веста уже передана во власть своей новой семьи, видно, что женатый
имел полное право требовать от жены величать себя:
Как по погребу бочоночек катается,
Тут-то лёли, тут-то лёли, ищё лёлюшки мои4.
Ён катается, рассыпается,
Из бочоночка винцо разливается,
Как Иван над женою он чванится,
305
Пародийные тексты в составе свадебного обряда
Он чванится да церемонится:
«Валентинушка, разуй, Петреевна, разобуй». -
«Я бы рада разобула, да не знаю, как назвать.
Одну ножуньку разула - я Иваном назвала,
А другую разобула - я Ивановичем...»
[Русская свадьба, т. 2, № 499, с. 252]
Соединение в этой песне величания мужа с разуванием его - одним
из древнейших засвидетельствованных компонентов и одновременно
символов брачного обряда (достаточно вспомнить, в какой форме Рог-
неда отказала князю Владимиру: «не хочю розути робичича» - ПСРЛ 1,
с. 76) - показывает важность этого момента в ходе свадьбы. Его упоми-
нания в свадебных песнях и причитаниях не случайны; однако оно на-
шло отражение и в «фарсовых» составляющих свадьбы. Ближе всего к
только что приведенному тексту вологодская корильная песня жениху,
исполнявшаяся подругами невесты «на смотрах»:
Шуба да пьян[а], да рукав да не пьян.
Стал же рукав напиваться,
Стал же Петро над Симушкой ломаться:
«Симушка, разуй, да Митрофановна, разуй!» -
«Рада, рада бы разуть, да не знаю, как зовут.
Еще так назову, как и люди зовут:
Толстопятый шадрун, долгопятый шадрун!
У тя шея-то колом да голова-то ко полом,
Рожа - пряницею, нос - подойницею,
Задница - хлебницей, брюшина - сильницею!»
[Русская свадьба, т. 2, № 450]
И наконец в составе фарсовой части свадебного обряда иносказа-
тельное («ясным соколом», «сизым голубем») или прямое величание
уступало место непристойным шуткам вроде подобных:
Не знала невестка, не знала невестка,
Как свекра звать, как свекра звать:
Свекоринушко, свекоринушко,
Хер да херинушко, хер да херинушко.
Не знала невестка, не знала невестка,
Как свекровку звать, как свекровку звать:
П...а-п...юшечка, п...а-п...юшечка.
Не знала невестка, не знала невестка,
Как деверя звать, как деверя звать:
Деверчок-херчок
Да острый кончок.
[РЭФ, с. 167 - Пинега]
306
В. А. Кое пик
Пермский вариант этой песни исполнялся, когда вели «молодых в
клеть спать»:
Наша-то невестка не вежливая,
Не вежливая да не учесливая,
Не умеет она Николаем назвать:
Николай..й, да Н и кол ай., й!
Наша-то невестка невежливая,
Не умеет она батюшку назвать:
Батюш..й да батюш..й!
Не умеет она да золовку назвать:
Золов..й, да золов-.й!
[Чесноков, с. 96]
Приведенные примеры показывают, что пародийные тексты, появ-
лявшиеся в «фарсовой» части свадьбы, были связаны с фольклорны-
ми произведениями, сопровождавшими «узловые» моменты обрядо-
вого действа, и использовали их образы и мотивы.
Стиль и образность пародийных текстов, входящих в состав «фар-
совых» элементов свадебного обряда возникают как вторичная «над-
стройка» стилистики и образности «серьезных» жанров обрядового
фольклора (причитаний, величаний, заклинательных песен), полу-
чающих пародийные параллели в текстах, образующих отдельную
общность среди свадебного фольклора, возникающую за счет паро-
дийного искажения не только целых текстов и мотивов, но и стили-
стики «первичных» по отношению к пародиям жанров. Таким обра-
зом идеальная картина художественного мира, создаваемая большин-
ством жанров свадебного фольклора, подчеркнуто остраняется и
разрушается - возникает шутовской антимир фольклора, служащий
пародией на идеал5. Материалом для создания такой пародии служат
зачастую устойчивые места и стилистические средства «серьезных»
фольклорных жанров, внутри текстов которых и начинается этот про-
цесс комического остранения реальности.
Литература
♦ Аничков - Аничков Е. В. Песня // Народная словесность. Под ред. Е. В. Аничко-
ва, А. К. Бороздина, А. Н. Овсянико-Куликовского. М., 2002. С. 171-218.
♦ Ветлужская сторона - Ветлужская сторона: Фольклорный сборник. Вып. 2.
Вступительная статья, составление, примечания и общая редакция А. В. Кулаги-
ной. Котировка песен Т. В. Кирюшиной. Шарья. 1996.
♦ Елеонская - Елеонская Е. Н. Сказка, заговор и колдовство в России: Сборник
трудов. М., 1994.
♦ КД - Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. Из-
дание подготовили А. П. Евгеньева, Б. Н. Путилов. М., 1977.
♦ ЛРС - Лирика русской свадьбы. Издание подготовила Н. П. Колпакова. Л., 1973.
307
Пародийные тексты в составе свадебного обряда
♦ Морозов - Морозов И. А. «Женитьба добра молодца»: Происхождение и типоло-
гия традиционных молодежных развлечений с символикой «свадьбы» / «же-
нитьбы». М., 1998.
♦ Нижегородская свадьба - Нижегородская свадьба: Пушкинские места, Ниже-
городское Поволжье, Ветлужский край. Обряды, причитания, песни, приговоры.
Изд. подг. М. А. Лобанов, К. Е. Корепова, А. Ф. Некрылова. СПб., 1998.
♦ Озаровская - Озаровская О. Э. Северная свадьба // Художественный фольклор.
Вып. 2-3. М., 1927. С. 96-102.
♦ Олеарий - Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в
Персию и обратно [отрывки] // «А се грехи злые, смертные»: Любовь, эротика и
сексуальная этика в доиндустриальной России. Издание подготовила Н. Л. Пуш-
карева. М., 1999. С. 139-146.
♦ ПСРЛ 1 - Полное собрание русских летописей. Т. 1: Лаврентьевская летопись.
М„ 1997.
♦ Русская свадьба - Русская свадьба: В 2-х тт. Сост. А. В. Кулагина, А. Н. Ива-
нов. Т. 1.М. 2000; Т. 2. М. 2001.
♦ РЭФ - Русский эротический фольклор. Составление и научное редактирование
А. Л. Топоркова. М. 1995.
♦ Чесноков - Чесноков А. Свадебные обряды и песни «кержаков» // «Живая ста-
рина». 1911.№ 1.С. 57-96.
Примечания
1 Довольно подробное описание ее я слышал в докладе А. Мухиной (Архангельск)
«Локальные варианты свадебной обрядности на Русском Севере» на заседании VI
Международной школы молодого фольклориста «Комплексное собирание, системати-
ка и экспериментальная текстология фольклора» (Архангельск, 22-24 ноября 2003 г.).
Упоминает об этом обряде и Озаровская [Озаровская, с. 100].
2 Характерно, что в одном из вариантов сказки о набитом дураке мать Маланья, по-
учая сына, что говорить встреченной свадьбе, выдает формулу, указывающую на то,
что молодые отправлялись именно в баню:
Дай вам Господи
Парна баенка.
Шелков веник,
Мыльной щёлок,
Мягка перина,
Сход да совет.
(ФЭ МГУ, лето 1963 г., д. Харёво Печниковского с/с Каргопольского р-на Архангель-
ской обл. Исп. Ульяна Петровна Харёва, 78 лет. Соб. Т. А. Арестова. ФЭ 04: 8780.)
В баню же (которая в этом случае выступает как смеховой антипод церкви) отправля-
ется и Лжедмитрий с Мариной Мнишек:
На вешней праздник, Николин день,
В четверг у Расстриги свадьба была,
А в пятницу праздник Николин день,
Князи и бояра пошли к заутрени,
А Гришка Расстрига он в баню с женой;
На Гришке рубашка кисейная,
На Маринке соян хрущетбй камки.
А час-другой поизойдучи,
Уже князи и бояра от заутрени,
А Гришка Расстрига из бани с женой.
[КД, с. 63]
308
В. А. Ковпик
3 Важное значение, какое в обряде придается наречению человека тем или иным име-
нем. связано с уходящими своими корнями в мифологическое мировоззрение пред-
ставлениями о тождестве вещи или явления и имени - и, как следствие, о действенно-
сти произносимого слова и его власти вызвать к жизни то, что поименовано. Вообще
слово - наиболее верное и сильное средство воздействия на окружающий мир наших
далеких предков, в силу неразвитости цивилизации весьма ограниченных в выборе
иных способов влияния на природу.
Невеста, величая свекра отцом, а свекровь - матерью, именно тогда и занимала отве-
денное ей место среди членов рода жениха и сама признавала их власть над нею.
Напротив, то, что в нижеследующем похоронном причитании ни одно из именований
к покойной не подходит, означает, что покойная уже неподвластна плачущим родст-
венникам и повлиять на нее и заставить вернуться возможности нет:
«А это опускают на кладбище или из избы несут:
Только свет, моя желанная.
Ты родная моя тётушка,
Ой, дак я не знаю, как тебя назвать:
Назову да свечой местною -
Свеча местная растопится,
Назову да золотой казной -
Золота казна россыплется.
Ой, дак видно, нам с тобой росстанюшки!»
[Ветлужская сторона, с. 142-143]
4 Припев после каждого стиха далее не приводится.
5 Тем самым, кстати говоря, сам идеал только укрепляется, становясь более резко
очерченным и осознанным за счет противопоставления со своим комическим «двой-
ником». Скомороший антимир хранит в себе память о мире идеальном.
Хронологический указатель изданных работ
Владимира Прокопьевича Аникина
1951
1. Научная студенческая экспедиция // Колхозный путь. Орган Новодеви-
ченского райсовета депутатов трудящихся Куйбышевской области.
1951, 20 июля. С. 2.
2. Научная экспедиция // Сталинец. Орган Шигонского райсовета депута-
тов трудящихся Куйбышевской области. 1951, 3 авг. С. 2.
3. Фольклорная экспедиция студентов МГУ // Московский Университет.
1951, 29 сент. С. 4.
1952
4. Большое искусство сказки И Литературная газета. 1952,26 янв. С. 3.
1953
5. Об изданиях народной поэзии И Литературная газета. 1953, 14 мая. С. 3.
6. Лев Николаевич Толстой. К 125-летию со дня рождения И В путь. Ор-
ган вагоноремонтного завода «Памяти революции 1905 года». М., 1953,
9 сент. С. 2.
7. О специфических особенностях народного творчества // Сов. этногра-
фия. 1953. №4. С. 80-87.
8. Значение народной поэзии в творческом развитии Алексея Николаевича
Толстого. Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1953. 16 с.
1954
9. Обсуждение вопросов советского народно-поэтического творчества в
Московском государственном университете (обзор) // Сов. этногра-
фия. 1954. № 1. С. 161-164.
10. Писатель земли советской. О собрании сочинений А. Н. Толстого //
Литературная газета. 1954, 3 июля. С. 2.
11. Рец.: Новое исследование о Бажове [М. А. Батин. Творчество П. П. Бажова.
Свердловск. 1953] // Новый мир. 1954. № 9. С. 259-261.
12. [Раздел:] Литература и народное творчество И Программа по русскому
народному творчеству (для филологических факультетов государствен-
ных университетов) / Отв. ред. проф. В. И. Чичеров. М., С. 18-19. [пе-
реиздания: 1955, 1956, 1957, 1958, 1960].
1955
13. Рец.: О новой хрестоматии по фольклору [Устное поэтическое творче-
ство русского народа / Сост. С. И. Василенок, В. М. Сидельников. М.,
1954] И Новый мир. 1955. № 4. С. 257-260.
310
В. П. Аникин. Хронологический указатель печатных работ
14. Рец.: Новое учебное пособие [А. В. Алпатов. Алексей Николаевич Тол-
стой. Лекции по истории русской советской литературы. Кн. 4. М.,
1955] И Московский университет. 1955, 26 окт. С. 4.
1956
15. Рец.: Обаяние непосредственности [Б. А. Можаев. Удэгейские сказки.
Владивосток. 1955] //Литературная газета. 1956, 31 июля. С.З.
16. Рец.: Законы жанра [А. Г. Бочаров. Советская массовая песня. М. 1956] И
Литературная газета. 1956, 20 окт. С. 3.
17. Выступление на Всесоюзном совещании, посвященном вопросам изу-
чения русского народного поэтического творчества, ноябрь 1953, Ле-
нинград. Пушкинский дом] // Русский фольклор. Материалы и исследо-
вания. Вып. I. М.; Л., 1956. С. 252 [Хроника].
18. Писатель-гуманист Н. Г. Гарин - Михайловский // Совинформбюро.
1956, Сент, (на исп. яз.).
19. Колхозные очерки Валентина Овечкина // Совинформбюро. 1956, нояб.
(на исп. яз.).
20. Народная поэзия современности И Совинформбюро. Индия. 1956, дек.
1957
21. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. Посо-
бие для учителя. М., 1957.240 с.
22. [Выступление на совещании фольклористов по проспекту «Свод рус-
ского фольклора» и полемика. Май 1956. Ленинград. Пушкинский дом] И
Русский фольклор. Материалы и исследования. Вып. II. М.; Л., 1957.
С. 319, 320, 321, 324 [Хроника].
23. Рец.: Искусство и анализ [А. Саранцев. Павел Петрович Бажов. Жизнь и твор-
чество. Челябинск. 1957] И Вопросы литературы. 1957. № 9. С. 214-216.
24. А. Н. Толстой и русская сказка // Творчество А. Н. Толстого. Сборник ста-
тей. Под редакцией А. В. Алпатова и Л. М. Поляк. М., 1957. С. 155-182.
25. Вечное искусство [о народных сказках] // Совинформбюро. - Январь
1957 (на исп. яз.).
26. Чукотская сага [о творчестве IO. С. Рытхеу] // Знания (Аргентина).
1957, 26 фев. (на исп. яз.).
27. Писатель и родина [о творчестве А. Н. Толстого] И Резерв (Аргентина).
1957, 5 марта, (на исп. яз.).
28. Юрий Смолич И Газета «Знания» (Аргентина). 1957, 12 марта, (на исп.
яз.).
29. Писатель и время [о творчестве К. И. Чуковского] // Новости Советско-
го Союза (Аргентина, Буэнос-Айрес). 1957, 17-27 апр. № 134. С. 14.
30. Детские стихи Маршака // Новости Советского Союза (Аргентина,
Буэнос-Айрес). 1957, 24 апр. (на исп. яз.).
31. Вместе с народом [о творчестве Василия Гроссмана] // Совинформбю-
ро. 1957, июнь (на исп. яз.).
311
Хронологический указатель изданных работ В. П. Аникина
32. Романтика любви и обновления [о творчестве Р. И. Фраермана] // Со-
винформбюро. 1957, июль (на исп. яз.).
1958
33. Сказки В. Бианки и фольклор // Русский фольклор. Материалы и иссле-
дования. Вып. III. М.; Л., 1958. С. 243-259.
34. Рец.: От фактов к теории [Русский фольклор. Материалы и исследования.
Вып. II. М.; Л., 1957] // Вопросы литературы. 1958. № 12. С. 215-219.
35. Былины в пересказе Л. Н. Толстого // Л. Н. Толстой. Былины. М., 1958.
С. 3-4 (а также примечания к тексту), [переиздание: 1984].
1959
36. Выступление на Всесоюзном совещании, посвященном вопросам изуче-
ния и публикации эпоса народов СССР, ноябрь 1958 И Вопросы изучения
эпоса народов СССР (Ак. наук СССР. Институт мировой литературы им.
А. М. Горького) М., 1959 С. 40-41 (на правах рукописи).
37. Амурские сказки (К 50-летию Д. Д. Нагишкина) И Дальний Восток.
Хабаровск. 1959. № 5. С. 174-181.
38. Героическая быль и поэтичная сказка (Творческий портрет Д. Д. На-
гишкина) // Литература и жизнь. 1959, 30 окт. С. 3.
39. Сказки русского народа / Составление, вступит, статья и примечания
В. П. Аникина. М., 1959. 240 с. О том, как сказки попали в кишу И Там
же. С. 3-20.
40. Ред.: Загадки русского народа // Сборник загадок, вопросов, притч и
задач / Сост. Д. Н. Садовников. М., 1959. 336 с. [Переиздание: 1960].
Вступит, статья: Д. Н. Садовников и его сборник загадок// Там же. С. 3-
30. Примечания И Там же. С. 262-334. Переиздание: М., 1996. 335 с.
41. Русская народная сказка: Пособие для учителей. М., 1959. 256 с.
42. Виды современного массового народного творчества И Вопросы лите-
ратуры. 1959. № 12. С. 158-165.
43. Ред.: И. А. Серебряный. Шолом-Алейхем и народное творчество. М.,
1959.219 с.
1960
44. Коллективность как сущность творческого процесса в фольклоре // Рус-
ский фольклор. Материалы и исследования. Вып. V. М.; Л., 1960. С. 7-24.
45. Об историческом приурочении пословиц, поговорок и загадок И Сов.
этнография. 1960. № 4. С. 44-52.
46. Рец.: Друг народной песни [Друг народной песни. Калинин, 1959] И
Новый мир. 1960. № 1. С. 266-267 [О В. И. Симакове]. 1961
1961
47. Об антиисторизме в изучении традиционного фольклора // Русский
фольклор. Материалы и исследования. Вып. VI. М.; Л., 1961. С. 34-62.
312
В. П. Аникин. Хронологический указатель печатных работ
48. Мудрость народов // Пословицы и поговорки народов Востока / Сост.
Ю. Э. Брегель. М., 1961. С. 7-20.
49. Рец.: История европейской фольклористики в освещении Дж. Коккьяры
[Дж. Коккьяра. История фольклористики в Европе. М., I960] И Вестник
истории мировой культуры. 1961. № 5. С. 125-129.
50. Рец.-аннот.: Исторические песни X1II-XVI вв. / Сост. Б. Н. Путилов и
В. М. Добровольский. М.; Л., I960. // Demos. Берлин, 1961. Кн. 2. Ч. 2. (на
нем. яз.).
51. Рец.-аннот.: М. К. Азадовский. Статьи о литературе и искусстве. М.; Л.
I960 И Там же. (на нем. яз.).
52. Рец.-аннот.: В. Е. Гусев. Марксизм и русская фоьклористика конца XIX -
начала XX вв. М.; Л., 1961. // Там же. С. 200-201 (на нем. яз.).
53. Рец.-аннот.: Русское народно-поэтическое творчество потив церкви и
религии / Сост. Л. Д. Домановский, Н. В. Новиков. М.; Л., 1961 И Там
же. С. 247-249 (на нем. яз.).
1962
54. Сперанский как историк и теоретики фольклора И Русский фольклор.
Материалы и исследования. - Вып. VII. М.,; Л., 1962. С. 241-258.
55. Рец.: Антология узбекских сказок [Узбекские народные сказки. Т. 1.
Перевод с узб. / Сост. М. И. Афзалов, X. Расулов, 3. Хусаинова. Таш-
кент, 1960] // Дружба народов. 1962. № 1. С. 247-249.
56. Рец.: В. Е. Гусев. Марксизм и русская фольклористика конца XIX - начала
XX вв. М.; Л., 1962// Вопросы литературы. 1962. № 11. С. 220-222.
57. Ред.: Чандраканта Какодкар. Прогремел победный клич. Роман. Пер. с
хинди. М., 1962. 143 с.
1963
58. Историко-фольклорная концепция А. В. Марков И Очерки истории
русской этнографии, фольклористики и антропологии / Отв редакторы:
Р. С. Липец, В. К. Соколова. Вып. II. М., 1963. С. 156-174.
59. Пути и путы (полемические заметки о фольклористике) // Вопросы
литературы. 1963. № 3. С. 112-130.
60. [Ответ на вопрос для научной анкеты к V Международному съезду
славистов: Какие принципы должны быть положены в основу класси-
фикации славянских сказок, повестей, сказов, легенд ив основу класси-
фикации народной песенной лирики у славян] И Русский фольклор. На-
родная поэзия славян. Вып. VIII. М.; Л., 1963. С. 389-391.
61. [Ответ на вопрос для научной анкеты к V Международному съезду
славистов: Каково происхождение, каковы типы и принципы классифи-
кации славянских народных пословиц и загадок] // Там же. С. 393-394.
62. Черный конь скачет в огонь. Русские загадки / Составление. М., 1963. 96 с.
[переиздание: 1968]. Про куриное яйцо и тура, а также про кочергу,
обращенную в коня // Там же. С. 3-12.
313
Хронологический указатель изданных работ В. II. Аникина
63. Программа по курсу «Русское устное народное творчество» для фило-
логических факультетов государственных университетов / Отв. ред.
Н. И. Кравцов. М., 1963. 20 с. [в соавторстве - программа составлена
кафедрой русского народного творчества МГУ].
1964
64. Русский богатырский эпос. Пособие для учителя. М., 1964. 192 с.
65. Как распутать путы // Вопросы литературы. 1964. № 6. С. 128-131.
66. Традиции жанра как критерий фольклорности в современном творчестве
(частушки и пословицы) // Проблемы современного народного творчества.
Русский фольклор. Вып. IX. М.; Л., 1964. С. 82-96.
67. Устно-поэтическое произведение, его варианты и версии в свете кол-
лективности фольклора И Этнография [Будапешт, изд-во Венгерской
Ак. наук]. 1964. № 3. С. 350-361 (на венг. яз.).
68. Загадка // Краткая литературная энциклопедия. Т. 2. М., 1964. Стлб.
970-971. [Повторение: Литературный энциклопедический словарь / Под
общ. ред. В. М. Кожевникова и П. А. Николаева. М., 1987. С. 109].
1965
69. Об интернациональном и национальном изучении пословиц (тезисы) И
Информационный бюллетень «Proverbium» [Финляндия. Хельсинки]. Изд.
Общества финской литературы. № 2. 1965. С. 27-30. [Резюме - на нем. яз.
Там же. С. 31].
70. П. П. Ершов и судьба его «Конька-Горбунка» (К 150-летию со дня рож-
дения писателя) И Литература в школе. 1965. № 1. С. 95-96.
71. О сказке «Конек-Горбунок», ее героях и авторе И П. П. Ершов. Конек-
Горбунок. М., 1965. (Народная библиотека). С. 5-16 [Переиздание: 1974].
72. Выдумка и правда сказок И Русские народные сказки. В обработке
А. Н. Толстого. М., 1965. С. 3-8.
73. Рец.: Русский фольклор Великой Отечественной войны / Отв. ред. В. Е. Гусев.
М.; Л, 1964 И Новый мир. 1965. № 6. С. 279.
74. «По разряду важнейшей тематики» [Н. Ф. Бабушкин. О марксистско-
ленинских основах теории народно-поэтического творчества. Томск,
1963] И Вопросы литературы. 1965. № 7. С. 207-213.
1966
75. Возникновение жанров в фольклоре (К определению понятия жанра и
его признаков) И Специфика фольклорных жанров. Русский фольклор.
Вып. X. М.;Л., 1966. С. 28-42.
76. Волшебная сказка «Царевна-лягушка» // Сб. статей: Фольклор как ис-
кусство слова / Отв. ред. Н. И. Кравцов. Вып. 1. М., 1966. С. 19-49.
77. Рец.: Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропо-
логии. Вып. III / Отв. ред. Р. С. Липец и В. К. Соколова. М., 1965 И Сов.
этнография. 1966. № 5. С. 170-172.
314
В. П. Аникин. Хронологический указатель печатных работ
78. Поэтическое наследство Кольцова И Кольцов А. В. Сочинения. М.,
1966. С. 3-22. [Примечания и указатели к письмам и стихотворениям
А. В. Кольцова] И Там же.
79. Кун, Франц Феликс Адальберт И Краткая литературная энциклопедия. -
Т. 3. М„ 1966. Стлб. 899.
80. [Вступительная статья] // Словарь русских пословиц и поговорок / Сост.
В. П. Жуков. М., 1966. С. 3-6. [переиздания: 1967, 1989, 1991 и др.].
1967
81. Лиро-эпический жанр // Краткая литературная энциклопедия. Т. 4. М.,
1967. Стлб. 215.
82. Лобода Андрей Митрофанович // Там же. Стлб. 403.
83. Марков Алексей Владимирович И Там же. Стлб. 624-625.
84. Местный колорит И Там же. Стлб. 789-790.
85. Миграционная теория // Там же. С. 821-822. [Повторение: Литератур-
ный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В. М. Кожевникова и
П. А. Николаева. М., 1987. С. 220-221].
1968
86. Примечания И Русские народные песни [из учебных книг К. Д. Ушин-
ского]. М., 1968. С. 30-31 [переиздания: 1971, 1977, 1978].
87. Юбилей П. Г. Koiягырева И Вест. Моск, ун-та. Филология. 1968. № 4. С. 93-95.
88. Предание И Краткая литературная энциклопедия. Т. 5. М., 1968. Стлб.
956-957. [Повторение: Литературный энциклопедический словарь / Нод
общ. ред. В. М. Кожевникова и П. А. Николаева. М., 1987. С. 303].
1969
89. Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». М., 1969. 112 с.
(Массовая историко-литературная библиотека) [Изд. 2-е, испр. и до-
поли. 1973. 104 с.].
90. Русские сказки в обработке писателей. Вступительная статья, составление
и подг. текста. М., 1969. 384 с. [Переиздание: 1970]. Писатели и народная
сказка // Там же. С. 3-25.
91. Фольклор как коллективное творчество народа: Учебное пособие по
спецкурсу для студентов-заочников филологических факультетов госу-
дарственных университетов. М., 1969. 80 с.
92. [О социальной утопии в русской волшебной сказке] // Идеи социализма в
русской классической литературе / Под ред. Н. И. Пруцкова. Л., 1969.
С. 55-61 (гл. 1. параграф 6) <оишбка в указании инициалов автора>.
93. Научная конференция по итогам фольклорной экспедиции Московского
университета в Архангельскую область // Сов. этнография. 1969. №3.
С. 152-156 <в соавторстве с Н. И. Савушкиной>.
94. Искусство психологического изображения в сказках о животных // Фоль-
клор как искусство слова. Психологическое изображение в русском на-
315
Хронологический указатель изданных работ В. П. Аникина
родном поэтическом творчестве / Под ред. Н. И. Кравцова. Вып. 2. М.,
1969. С. 36-56.
95. Пометки В. И. Ленина в сборнике Е. В. Барсова (опыт выяснения их
методологического значения для фольклористики) И Вест. Моск, ун-та.
Филология. 1969. № 6. С. 3-15.
96. [Выступления на VII Международном конгрессе антропологических и
этнографических наук. Москва. 3-10 августа 1964] И VII Международный
конгресс антропологических и этнографических наук. Москва. 3-10 августа
1964. Т. VI. М., 1969. С. 227,387,410-412.
1970
97. Календарная и свадебная поэзия: Учебное пособие по курсу «Русское
устное народное творчество» для студентов-заочников филологических
факультетов государственных университетов. М., 1970. 124 с.
98. О чем говорят народные сказки сстатья первая> И Литература в школе.
1970. №3. С. 4—13.
99. Вечнозеленая ветвь. О поэтических источниках писательской сказки,
сстатья вторая> И Литература в школе. 1970. № 4. С. 2-9.
100. О книге и знаниях. Пословицы и поговорки русского народа. Составле-
ние и примечания. М., 1970. 32 с. [Переиздание: 1979 (сувенирное из-
дание). 108 с.].
1971
101. Генезис необрядовой лирики // Из истории русской народной поэзии.
Русский фольклор. Вып. XII. Л., 1971. С. 3-24.
102. Присказка И Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. М. 1971. Стлб. 17.
[Повторение, фрагмент, сбез подп.>: Литературный энциклопедический сло-
варь/ Под общ. ред. В. М. Кожевникова и П. А. Николаева. М., 1987. С. 305].
103. Садовников Дмитрий Николаевич // Там же. Стлб. 597.
104. Самозарождения сюжетов теория И Там же. Стлб. 637.
105. Сказание И Там же. Стлб. 877. [Повторение: Литературный энциклопеди-
ческий словарь / Под общ. ред. В. М. Кожевникова и П. А. Николаева. М.,
1987. С. 383].
106. Народность Некрасова // Литература в школе. 1971. № 6. С. 2-9.
107. [Разделы: Пословицы и поговорки (с. 60-74), Сказки о животных (с. 90-96),
Волшебные сказки (с. 97-124), Бытовые новеллистические сказки (с. 125-
133), Предания (с. 134-140), Сказы (с. 141-143), Былички (с. 144-146), Бал-
лады (с. 258-273), Детский фольклор (с. 354-362)] И Русское народное по-
этическое творчество. Хрестоматия для филологических факультетов педа-
гогических институтов. Под ред. Н. И. Кравцова. М., 1971.
108. Пословицы и поговорки И Русское народное поэтическое творчество.
Учебное пособие / Под ред. Н. И. Кравцова. М., 1971. С. 75-90.
109. Прозаические жанры (сказки, предания, сказы, былички, легенды) И
Там же. С. 98-142.
316
В. 11. Аникин. Хронологический указатель печатных работ
110. Балладные песни И Там же. С. 190-204.
111. Фольклор и литература // Там же. С. 370-383.
112. Старинные исторические песни. О царе Иване Васильевиче Грозном,
Кузьме Минине, атамане Степане Разине, Емельяне Пугачеве, генера-
лиссимусе Александре Суворове и других героях истории российской /
Вступит, статья и составление. М., 1971. 63 с. (Школьная библиотека).
1972
113. Русские народные песни / Вступит, статья и составление. М., 1972.
126 с. (Школьная библиотека).
114. Добрыня и Змей. Десять былин / Составление, подготовка текстов и
вступительная статья. М., 1972. 112 с. [Переиздание: 1976, 1982, 1987].
115. Художественное творчество в жанрах несказочной прозы (к общей
постановке проблемы) И Русская народная проза. Русский фольклор.
Вып. XIII. Л., 1972. С. 6-19.
116. [Разделы: Пословицы и поговорки. Прозаические жанры: сказки, пре-
дания, сказы, былички, легенды. Балладные песни. Детский фольклор.
Фольклор и литература] И Программа курса «Русское устное народное
творчество». Для филологических факультетов государственных уни-
верситетов / Отв. ред. Н. И. Кравцов. М., 1972. 16 с. [в соавторстве -
программа составлена кафедрой русского народного творчества МГУ].
1973
117. Теория фольклорной традиции и ее значение для исторического иссле-
дования былин. Автореф. дис. док. филол. наук. М., 1973. 36 с.
118. Заседание кафедры русского устного народного творчества МГУ, посвя-
щенное памяти П. Г. Богатырева // Изв. Ак. наук СССР. Сер. лит. и яз.
1973. Вып. 5. Т. XXXII. С. 475-476 [в соавторстве с О. М. Воейковой].
119. Рец.: Для маленьмх людзей [Дз1цячы фальклор. Складальшк Г. А. Бар-
ташэв!ч. Mihck, 1972] // Настаунщкая газета. 1973, 3 марта. С. 4.
120. [Интервью по вопросам творческой истории русской сказки «Конек-
Горбунок»] // Детская литература. Токио, 1973. № 6. С. 10 (на яп. яз.).
1974
121. Былины // Словарь литературоведческих терминов / Ред.-составигели: Л. И. Ти-
мофеев, С. В. Тураев. М., 1974. С. 34-35.
122. Былинный стих И Там же. С. 36.
123. Загадка // Там же. С. 85-86.
124. Пословица // Там же. С. 276-277.
125. Поговорка И Там же. С. 272-273.
126. Сказание И Там же. С. 355.
127. Сказитель И Там же. С. 355-356.
128. Поэтика сказок о животных (о содержательности приемов иносказания) И
Прозаические жанры фольклора народов СССР. Тезисы докладов на Все-
союзной научной конференции, 21-23 мая 1974, Минск, 1974. С. 167-168.
317
Хронологический указатель изданных работ В. 11. Аникина
129. А. П. Скафтымов - критик «исторической школы» и его теория эпоса в
книге «Поэтика и генезис былин» И Очерки истории русской этнографии,
фольклористики и антропологии / Отв. ред. Р. С. Липец. Вып. VI. М.,
1974. С. 96-116.
130. Марков, Алексей Владимирович И Большая советская энциклопедия. 3
изд. Т. 15. М., 1974. С. 379.
131. Миграционная теория // Там же. Т. 16. М., 1974. С. 210.
132. Миллер Всеволод Федорович // Там же. С. 259-260 [в соавторстве с
Р. А. Агеевой].
133. Изменение и устойчивость традиционного языкового стиля и образности
в былинах // Проблемы художественной формы. Русский фольклор. Вып.
XIV. Л., 1974. С. 3-33.
134. Послесловие И Шаров А. Волшебники приходят к людям. М., 1974.
С. 301-302.
135. Рец.: Лишь плод фантазии?.. [Шаров А. Волшебники приходят к людям.
М., 1974] // Книжное Обозрение. 1974, 6 дек. С. 10.
136. Иван - крестьянский сын. Русские народные сказки / Составление и пре-
дисловие. М., 1974. 128с. [Переиздание: 1975, 1986]. Смысл сказок// Там
же. С. 3-4.
1975
137. Творческая природа традиций и вопрос о своеобразии художественного мето-
да в фольклоре // Проблемы фольклора (Ак. наук СССР. Огд. лит. и языка. На-
учный совет по фольклору). М. 1975. С. 30-40.
138. Гипербола в волшебных сказках // Фольклор как искусство слова. Худо-
жественные средства русского народного поэтического творчества / Под
ред. Н. И. Кравцова. Вып. 3, М., 1975. С. 22-36.
139. Чичеров, Владимир Иванович // Краткая литературная энциклопедия.
Т. 8. М., 1975. Стлб. 533-534.
140. Щеголенок, Василий Петрович И Там же. Стлб. 819.
141. Щедривка // Там же. Стлб. 820.
142. Эпические песни //Там же. Стлб. 924-925.
143. Якушев, Григорий Алексеевич // Там же. Стлб. 1077.
144. Рец.: «Народная книга» в истории освободительного движения [В. Г. Ба-
занов. От фольклора к народной книге. Л., 1973] // Вопросы литературы.
1975. №2. С. 268-272.
145. [Выступление за «круглым столом» на тему: Специфика формирования
фольклора и народной культуры в странах Латинской Америки. Фольк-
лор Латинской Америки в свете иных типов фольклора] // Латинская
Америка. М., 1975. № 3. С. 168-169.
146. Живая вода // Русские народные песени, сказки, пословицы, загадки /
Составление и примечания. М., 1975. 367 с. [Переиздание: 1977, 1987.
464 с.]. Устное творчество русского народа // Там же. С. 3-18.
318
В. П. Аникин. Хронологический указатель печатных работ
147. Поговорка// Большая сов. энциклопедия. 3-е изд. Т. 20. М., 1975. С. 87
<без подписи>.
148. Пословица//Там же. С. 412.
149. Предание//Там же. С. 501.
150. Рыбников, Павел Николаевич И Большая сов. энциклопедия. 3-е изд.
Т. 22. М., 1975. С. 440.
151. Рябинины//Там же. С. 460.
152. Садовников Дмитрий Николаевич И Там же. С. 490 <без подписи>.
153. О сказке «Конек-Горбунок» // Ершов П.П. Конек-Гобунок. Акварели
В. А. Милашевского. М., 1975. С. 130-137 [Переиздание: 1976, 1980
(М„ 1986].
154. [О сказке П. П. Ершова « Конек-Гобунок»] // Книжное Обозрение. 1975,
4 июля. С. 9.
155. [Послесловие:] Для любознательных читателей <0 В. Ф. Одоевском и
Антонии Погорельском> И Две сказки. Сказки русских писателей. (Кни-
га за книгой). М., 1975. С. 60-62.
156. Богатырская застава. Девять былин. Составление, пояснения и послесло-
вие. Художник И. Д. Архипов. М., 1975. 128 с. Послесловие И Там же.
С. 124-126.
1976
157. О «логико-семиотической» классификации пословиц и поговорок // Исто-
рическая жизнь народной поэзии. Русский фольклор. Вып. XVI. Л., 1976.
С. 263-278.
158. Особенности стиля, мотивов и сюжета народной сказки как явления
коллективного творчества И Литературные направления и стили И Сбор-
ник статей, посвященный 75-летию профессора Г. Н. Поспелова. М.,
1976. С. 168-181.
159. Психодрама или драма? сполемика - о статье Вальтера Шерфа «Семей-
ные конфликты и эмансипация в сказке»> И Детская литература. 1976.
№ 4. С. 39-42.
160. Народные русские сказки. Из сборника А. Н. Афанасьева. К 150-летию со
дня рождения А. Н. Афанасьева / Составление и словарь малоупотребитель-
ных и областных слов. М., 1976. 576 с. [Переиздание: 1982]. Александр Ни-
колаевич Афанасьев и его фольклорные сборники И Там же. С. 5-19.
161. Сказание // Большая сов. энциклопедия. 3 изд. Т. 23. М., 1976. С. 488.
162. Русские народные сказки. Составление и вступительная статья. М., 1976.
543 с. [Переиздание: 1978, 1985, 1985, 1986, 1987, 1987 <без вступитель-
ной статьи>), 1987, 1990, 1992. Чудо чудное, диво дивное (вариант назва-
ния: Бесстрашная сила) // Там же. С. 3-16.
163. Общее понятие об устном народном творчестве // Детская литература.
Сост. Е. Е. Зубарева, 3. П. Пахомова. М., 1976. С. 11-14 [2-е изд., пере-
раб., доп. И Под ред. Е. Е. Зубаревой. 1985, 3-е изд., дораб. Под ред.
Е. Е. Зубаревой. 1989]
319
Хронологический указатель изданных работ В. П. Аникина
164. Детский фольклор И Там же. С. 14-26 [3-е изд.: под названием: Устное
народное творчество (С. 11-54)]
165. Фольклор в детском чтении (Малые фольклорные жанры. Песни. Были-
ны. Сказки: русские народные сказки, сказки народов СССР, сказки на-
родов зарубежных стран) И Там же. С. 26-51 [3-е изд.: под названием:
Устное народное творчество (С. 11-54)]
166. В. А. Жуковский // Там же. С. 82-86.
167. Сказка П. П. Ершова «Конек-Горбунок» // Там же. С. 100-105.
168. К. Д. Ушинский как детский писатель // Там же. С. 105-110.
169. Стихи Н. А. Некрасова для детей // Там же. С. 110-116.
170. Русская природа в творчестве поэтов второй половины XIX века И Там
же. С. 117-122 [3-е изд. С. 135-140: исключая раздел «А. А. Фет»
(с. 136)]. Устное народное творчество // Там же. 3 изд. С. 11-54.
1977
171. Русская народная сказка. Пособие для учителей. М., 1977. 208 с.
172. Народные русские сказки. Из сборника А. Н. Афанасьева / Составление
и вступит, статья. Худож. Т. А. Маврина. М., 1977. 348 с. [Переиздание:
1979, 1982, 1983, 1989, 1990-272 с. (Для семейного чтения)].
173. К зависимости стиля от образности (общетеоретические аспекты) И Фоль-
клор. Поэтическая система / Отв. ред. А. И. Баландин и В. М. Гацак. М.,
1977. С. 144-160.
174. Заманчивая простота: кому и как издавать фольклор // В мире книг.
1977. №3. С. 11-13.
175. Александр Николаевич Афанасьев, царская цензура и сказка о выбитом
курином глазе И Русская речь. 1977. № 4. С. 44-50.
176. [О живом и чуждом в народном слове] // В мире книг. 1977. № 8. С. 16.
177. Лиро-эпическая структура поэмы «Руслан и Людмила» и фольклор И
Вопросы поэтики литературы и фольклора. Воронеж, 1977. С. 34-46.
1978
178. Теоретические проблемы историзма былин в науке советского времени:
Учебное пособие для студентов-заочников филологических факультетов го-
сударственных университетов. Вып. 1. М., 1978.96 с.
179. Теоретические проблемы историзма былин в науке советского времени:
Учебное пособие для студентов-заочников филологических факультетов го-
сударственных университетов. Вып. 2. М., 1978. 96 с.
180. Образность как стилеобразующий фактор (К вопросу о типологии
фольклорного стиля) И История, культура, этнография и фольклор сла-
вянских народов. VIII Международный съезд славистов. Загреб; Люб-
ляна, 1978, сент. Доклады советской делегации. М., 1978. С. 328-344.
181. Исторический метод изучения былин (работа А. И. Никифорова
«Фольклор Киевского периода») И Очерки истории русской этногра-
фии, фоьклористики и антропологии. Труды института этнографии им.
320
В. П. Аникин. Хронологический указатель печатных работ
Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия. Т. 107 / Отв. ред Р. С. Липец.
Вып. 8. М., 1978. С. 72-92.
182. Рец.: Лирика Некрасова [М. Бойко. Лирика Некрасова. М., 1977. (Мас-
совая историко-литературная библиотека)] // Литература в школе. 1978.
№ 1. С. 74-76.
183. Ред.: Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 8. Детский
фольклор / Сост., подстрочи, перевод, предислов, и комментарии Э. Н. Та-
ракина. Саранск. 1978 <В соредакторстве с Л. С. Кавтаськиным>
184. Былина И Краткий словарь литературоведческих терминов: Пособие для
учащихся средней школы / Ред.-составители: Л. И. Тимофеев, С. В. Тураев.
М., 1978. С. 19-20 [2-е изд., доп. 1985. 3-е изд. 1988 - в составе кн.: Литера-
гура. Справочные материалы. С. 5-232].
185. Загадка // Там же. С. 44.
186. Заговор // Там же. С. 44-45.
187. Зачин // Там же. С. 45.
188. Лубочная литература // Там же. С. 83.
189. Обрядовая поэзия И Там же. С. 106-107.
190. Песня//Там же. С. 118.
191. Плачи//Там же. С. 11.
192. Плясовые песни И Там же. С. 119.
193. Поговорка // Там же. С. 120.
194. Пословица//Там же. С. 124.
195. Постоянный эпитет//Там же. С. 129.
196. Прибаутка И Там же. С. 131.
197. Сказитель // Там же. С. 166.
198. Сказка//Там же. С. 166-167.
199. Фольклор//Там же. С. 193-195.
200. Частушка // Там же. С. 204.
201. Эпитет//Там же. С. 213.
202. Эпос//Там же. С. 214-215.
203. Чичеров, Владимир Иванович // Большая сов. энциклопедия. 3-е изд.
М., 1978. Т. 29. С. 226 <без подписи>.
204. Щеголенок Василий Петрович // Там же. С. 530.
205. Программа курса «Русское устное народное творчество» для филологи-
ческих факультетов гос. ун-тов. Программа подгот. кафедрой русск.
устн. народн. творчества Моск, ун-та. Авторы: В. П. Аникин, Н. И. Крав-
цов, В. М. Потявин, Н. И. Савушкина, Ф. М. Селиванов. М., 1978. 24 с.
1979
206. Советская историческая школа в былиноведении (40-60-е годы) и Все-
волод Миллер И Вопросы теории фольклора. Русский фольклор. Вып.
XIX. Л., 1979. С. 84—112.
321
Хронологический указатель изданных работ В. П. Аникина
207. Рец.: [Э. Кокаре. Интернациональное и национальное в латышских
народных пословицах. Рига. 1978] // Циня. Рига, 1979, 2 мая. С. 3 (на
латыш, яз.).
208. Былины. - Русские народные сказки. - Древнерусские повести / Вступит,
статьи и составление В. П. Аникина, Д. С. Лихачева и Т. Н. Михельсон.
Илл. И. Д. Архипова. М., 1979. 638 с. (Библиотека мировой литературы
для детей. Т.1) [Разделы: Былины (С. 41-126), Русские народные сказки
(С. 127-358), комментарии (С. 533-553), словарь старинных и местных
слов (С. 622-633)]. [Переиздание: вне серии: Библиотека мировой литера-
туры для детей - 1986]. Мир былин и сказок // Там же. С. 3-18.
1980
209. Теория фольклорной традиции и ее значение для исторического изуче-
ния былин. М., 1980. 331 с.
210. Теоретические проблемы историзма былин в науке советского времени:
Учебное пособие для студентов-заочников филологических факультетов го-
сударственных университетов. Вып. 3. М., 1980. 120 с.
211. Садко. Новгородские былины. Подготовка текста и послесловие. Худож.
из Палеха Калерия и Борис Кукулиевы. М., 1980. 80 с. Былинная поэзия
Господина Великого Новгорода И Там же. С. 75-79.
212. Эпитет в загадках И Эпитет в русском народном творчестве. Фольклор
как искусство слова / Ред. коллегия: В. П. Аникин, Н. И. Кравцов, Ф. М. Се-
ливанов. Вып. 4. М., 1980. С. 104-119.
213. Рец.: Новое в исследовании древнейших ритуалов [Н.Н. Велецкая. Язы-
ческая символика славянских архаических ритуалов. М., 1978] // Сов.
этнография. 1980. №4. С. 166-168.
214. Сказки русских писателей. Вступит, статья и составление. Илл. А. И. Ар-
хиповой. М., 1980. 687 с. (Библиотека мировой литературы для детей.
Т. 7) [Текст (С. 23-664), комментарии (С. 665-684)]. [Переиздание: 1982,
1983, 1984, 1986, 1988 (вне серии: Библиотека мировой литературы для
детей); 1985 (М. Изд-во «Правда»), 1985 (повторение)]; 1994 (Библиотека
мировой литературы для детей. Выпуск второй). Русские писатели и сказ-
ка // Там же. С. 3-22.
1981
215. Некоторые актуальные проблемы современной фольклористики И Фи-
лологические науки. 1981. № 2. С. 16-23.
216. Метафора в загадках // Художественные средства русского народного
поэтического творчества. Символ, метафора, параллелизм. Фольклор как
искусство слова. Редколлегия: В. П. Аникин, Н. И. Кравцов, Ф. М. Сели-
ванов. Вып. 5. М., 1981. С. 53-66.
217. Русское устное народное творчество (фольклор): Методические указа-
ния для студентов-заочников филологических факультетов государст-
венных университетов. М., 1981.96 с. [Переиздание: 1987 - дополн.].
322
В. II. Аникин. Хронологический указатель печатных работ
218. Ред.: Василиса Премудрая. Русские волшебные сказки. Ред.-сост.
Э. П. Маципуло. Худ. Л. Корчемкин. Владивосток, 1981. 319 с.
219. [Сказки: Чернушка, Козел. В обработке В. П. Аникина] // Русские на-
родные сказки. Мурманское кн. изд-во. 1981. С. 122-123, 126-128.
1982
220. Проблемы фольклора в трудах Ореста Миллера // Очерки истории рус-
ской этнографии, фольклористики и антропологии. Труды института
этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия. Т. 110 / Отв. ред.
Р. С. Липец. Вып. IX. М., 1982. С. 63-72.
221. К мудрости ступенька: о русских песнях, сказках, пословицах, загадках,
народном языке: Очерки. Худ. А. Бисти. М., 1982. 96 с. [Переиздание:
1988 (дополн. и измен.) - 176 с.].
222. Кольцов А. В. Стихотворения. Составление, вступительная статья и приме-
чания. М., 1982. 223 с. (Классики и современники. Поэтическая библиотека)
[Переиздание: 1986]. Слово о Кольцове // Там же. С. 3-22. Примечания //
Там же. С. 199-219.
223. Ред.: В. И. Чичсров. Школы сказителей Заонежья (Ак. наук СССР. Отд.
лит. и яз. Научи. Совет по фольклору. Институт мировой литературы
им. А. М. Горького). М., 1982. 197 с. В. И. Чичеров - исследователь пе-
сенно-эпических традиций русского Севера// Там же. С. 185-196.
1983
224. Реконструкция фольклора Киевской Руси как научная проблема (К IX Между-
народному съезду славистов. Киев, 1983) 1983.43 с.
225. Le ргоЫете scientifique de la reconstruction du folklore de la Russie kievienne
(aspect typologique) // Резюме докладов и письменных сообщений. IX Ме-
ждународный съезд славистов. Киев. 1983. (Ак. наук СССР. Международ-
ный Комитет славистов. Сов. комитет славистов). М., 1983. С. 469-470.
226. Историческое толкование эпоса Киевской Руси в трудах Всеволода
Миллера (социологическая теория и метод) И Вест. Моск, ун-та. Сер. 9.
Филология. 1983. № 4. С. 54-61.
227. [Предисловие] // Дочь-семилетка. Русская народная сказка из сборника
А. Н. Афанасьева. М., 1983. С. 3-4.
228. Об А. Н. Нечаеве - писателе-фольклористе // Чудесные ягоды. Былины
и сказки. В пересказе и обработке А. Н. Нечаева (Школьная библиоте-
ка). М. 1983. С. 3-6.
229. Чивы, чивы, чивычок... Русские сказки. (Школьная библиотека). Со-
ставление, вступительная статья и примечания. М., 1983. 191 с. [пере-
издание: 1985, 1987,1993]. Народный смех//Там же. С. 3-10.
230. Русское народное поэтическое творчество: Учебное пособие для сту-
дентов педагогических институтов. Л., 1983.416 с. <совмесгно с Ю. Г. Круг-
ловым: разделы «Обрядовая поэзия», «Песни», «Драма», «Частушки»,
323
Хронологический указатель изданных работ В. П. Аникина
«Рабочий фольклор» написаны Ю. Г. Кругловым, остальные -
В. П. Аникиным>. [Переиздание: 2-е изд., доработанное, 1987. 480 с.].
231. Старинные русские пословицы и поговорки / Составление, предисловие.
М., 1983. 32 с. (Школьная библиотека) [Переиздание: 2-е доп. 1984].
Россыпи русской бытовой поэзии // Там же. 2-е изд. С. 5-12.
1984
232. Былины. Метод выяснения исторической хронологии вариантов. М„
1984. 288 с.
233. Русская народная сказка. М., 1984. 176 с. (Массовая историко-литератур-
ная библиотека).
234. Об историческом изучении былин И Русская литература. 1984. № 1.
С. 107-119.
235. [Вступительная статья, приложение и комментарии] // Кольцов А. В.
Сочинения / Сост. Т. Н. Бедняковой. М., 1984. С. 5-18, 426-504, 357-425
сприложение: Русские народные песни, записанные А. В. Кольцовым,
Русские народные пословицы и поговорки, собранные А. В. Кольцовыми
236. [Примечания к письмам] // Кольцов А. В. Стихотворения. Письма к
В. Г. Белинскому / Вступит, статья и составление О. Г. Ласунского. Во-
ронеж, 1984.
237. [Вступительная статья] И Народные русские сказки А. Н. Афанасьева.
Воронеж, 1984. 430 с.
238. Об историко-социологическом изучении народной песенной лирики //
Филологические науки. 1984. № 6. С. 9-14.
239. Фольклористика как филологическая дисциплина // Вест. Моск, ун-та. -
Сер. 9. Филология. 1984. № 6. С. 10-19.
240. Владимир Иванович Даль и его сборник пословиц // Даль В. И. Посло-
вицы русского народа: В 2-х т. М., 1984. Т. 2. С. 386-395. [Переизда-
ние: Пословицы и поговорки русского народа. Из сборника В. И. Даля /
Под общей ред. Б. П. Кирдана. М., 1987. С. 637-648; 1989].
241. [Раздел: Проблемы славянского фольклора на славянском конгрессе]
К итогам IX Международного съезда славистов. Литературоведческая
проблематика на съезде И Вест. Моск, ун-та. Сер. 9. Филология. 1984.
№ 2. С. 14-16 [в соавторстве].
242. С. Г. Писахов. Сказки. Составление. М., 1984. 64 с. Архангельский писа-
тель-сказочник И Там же. С. 3-6.
243. Петр Ершов и его сказка // П. П. Ершов. Конек-Горбунок. М., 1984. С.
5-6 (Школьная библиотека).
244. Традиции изучения песенного фольклора (вопросы методологии) //
Народное песенное наследство и современность. Научная конференция,
посвященная 150-летию со дня рождения Кришьяниса Барона, 30-31
октября 1984 (Ак. наук Латвийской ССР, Институт языка и литературы
им. А. У пита, Министерство культуры Латвийской ССР, Союз писате-
лей Латвийской ССР). № 2. Рига, 1984. С. 26-38.
324
В. П. Аникин. Хронологический указатель печатных работ
245. Ред.: Программа курса «Русское устное народное творчество». Для
государственных ун-тов. Подг. кафедрой русск. уст. народного творче-
ства. М., 1984. 25 с.
1985
246. Принципы жанрово-тематической классификации и архивной системати-
зации сказок И Полевые исследования. Русский фольклор / Отв. ред.
П. С. Выходцев. Вып. XXIII. Л., 1985. С. 181-188.
247. Новая книга о Дале // В. И. Порудоминский. Жизнь и слово. Повество-
вание. М., 1985. С. 220-221.
248. [Подготовка текста и комментарии] // Толстой А. Н. Собрание соч. в 10 т.
Т. 8. Стихотворения и сказки. Произведения для детей. Русские народ-
ные сказки. М., 1985. 479 с. комментарии С. 431-474>
249. Русский фольклор. Песни, сказки, былины, прибаутки, загадки, игры, гадания,
сценки, причитания, пословицы и присловья / Составление, примечания. М..
1985. 367 с. (Классики и современники). [Переиздание: 1986; 1991 - под назв.:
От прибаутки до былины. Русский фольклор. 398 с. (Для семейного чтения)].
250. Кот Баюн. Русские волшебные сказки. Составление, вступительная статья.
М., 1985. 208 с. Героика русских волшебных сказок // Там же. С. 3-12.
251. Сказки народов мира. Тысяча и одна ночь / Сост. В. П. Аникина, Н. И. Ни-
кулина, Б. Н. Путилова, Р. А. Кушнеровича. Илл. Б. А. Дехтерева. М., 1985.
736 с. (Библиотека мировой литературы для детей. Т. 32). [переиздание:
Сказки народов мира. Илл. Г. Спирина. М., 1995. Вып. 2. 736 с.].
1986
252. Ред.: Традиции русского фольклора. М., 1986. 205 с. Традиции русского
фольклора // Там же. С. 4-24.
253. Высшей школе - современные требования И Филологические науки.
1986. №3. С. 3-4.
254. Фольклор как коллективное творчество <в выдержках> // Русское на-
родное поэтическое творчество. Хрестоматия по фольклористике /
Сост. Ю. Г. Круглов. М., 1986. С. 90-95.
255. Волшебная сказка «Царевна-лягушка»<в выцержках> //Там же. С. 250-261.
256. Русская фольклористика последних лет (Некоторые методологические
тенденции и задачи) // Современное состояние и задачи советской фолькло-
ристики (Москва, 2-4 сентября 1986, ИМЛИ). [М.] 1986. С. 59-83.
257. Былинный эпос // Былины. М., 1986. С. 286-291 (Классики и современ-
ники. Поэтическая библиотека).
258. Ред.: Русские детские сказки. Из сборника А. Н. Афанасьева. М., 1986. 239 с.
<повторено>. Александр Николаевич Афанасьев и его сказки // Там же. С.5-
8. Примечания И Там же.
259. Рабочий фольклор и современные проблемы фольклористики И Фольк-
лор в духовной культуре современного рабочего класса. Фольклор Ура-
325
Хронологический указатель изданных работ В. П. Аникина
ла И Сборник научных трудов. Отв. ред. В. П. Кругляшова. Свердловск.
1986. С. 5-12.
260. [О теоретическом понятии «функция» («функциональность») в совре-
менной фольклористике] И А. А. Иванова. Фольклористика в 1984 году.
[Хроника] Вест. Моск, ун-та. Сер. 9. Филология. 1986. № 2. С. 88-89.
261. Сказки народов СССР: В 2 т. / Составление, вступительная статья. М.,
1986. Т.1. 575 с.; Т. 2. 591 с. [Переиздание: Душанбе, 1989]. Разнообразие
и единство // Там же. Т. I. С. 5-10.
1987
262. Русский фольклор: Учебное пособие для вузов. М., 1987. 286 с.
263. К итогам дискуссии об историзме русского эпоса И Филологические
науки. 1987. № 1. С. 10-16.
264. Ред. и сост.: Методологические проблемы филологических наук. Сб.
научных трудов. Отв. ред. И. Ф. Волков. М., 1987. 264 с.
265. Фольклористика как филологическая дисциплина // Там же. С. 107-135.
266. Становление советской фольклористики и историческая концепция
Н. П. Андреева// Вест. Моск, ун-та. Сер. 9. Филология. 1987. № 5. С. 31-37.
267. [Выступления на IX Международном съезде славистов. Киев, сентябрь
1983] // IX Международный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983. Ма-
териалы дискуссии. Фольклористика. Историческая проблематика.
Круглые столы. Киев, 1987. С. 8,17,20,42.
268. Русские сказки. Из сборника А. Н. Афанасьева / Составление, послесловие
и словарь малоупотребительных и областных слов. М., 1987. 383 с. (Клас-
сики и современники. Русская классическая литература). Александр Ни-
колаевич Афанасьев и его сборник сказок //Там же. С. 364-372.
269. Сказки народов мира, в 10 т. Русские народные сказки. Научн. рук. изда-
ния, составитель тома, автор вступительных статей и примечаний. Т. I. М.,
1987. 720 с. Всемирная сказка // Там же. С. 3-8. Русская фольклорная
сказка//Там же. С. 11-18.
270. [Сказки: Притворная болезнь. Чернушка. Козел. Иван-Царевич и Белый
Полянин. Королевич и его дядька. Булат-молодец. Во льбу солнце, на
затылке месяц, по бокам звезды. Скорый гонец. Царевна-змея. Вещий
мальчик. Соль. Лиса-странница. Хитрый козел. Как волк стал птичкой.
Волк, перепелка и деркун. Бабка и медведь. Царь, старик и бояре. Муд-
рая дева. Как Иван-дурак дверь стерег. Мужик и барин. Ночь на Ивана
Купалу. Щука с хреном. Плотник и клин. Старухина молитва. Попов-
ские увертки. Архиерей. Поп на празднике. Два вора. Солдат и сало.
Привычки. Не любо - не слушай. Лгало и Подлыгало. Мена. Вещий
дуб. Куда, миленький, снаряжаешься? Рыбацкая и охотничья байка. В
обработке В. П. Аникина] // Там же.
271. Примечания // А. Погорельский. Черная курица, или Подземные жите-
ли. М., 1987.
326
В. П. Аникин. Хронологический указатель печатных работ
272. Былины // Литературный энциклопедический словарь / Под общей ред.
В. М. Кожевникова и П. А. Николаева. М. 1987. С. 59-60.
273. Загадка // Там же. С. 109.
274. Миграционная теория // Там же. С. 220-221.
275. Сказание//Там же. С. 383.
1988
276. Семейно-брачная мифология древних славян (опыт исторической ре-
конструкции на основе волшебных сказок) <Тезисы> // X Междунаро-
ден Конгрес на славистите. София, 14-22 септември 1988. Резюмета на
докладите. София, 1988. С. 577.
277. Поэзия Кольцова и народная песня // А. В. Кольцов и русская литература/
Отв. ред Н. В. Осьмаков. М., 1988. С. 3-14.
278. Из-за леса, из-за гор. Старинные русские прибаутки / Составление и обра-
ботка. М., 1988. 32 с. (Для дошкольного возраста).
279. Ред: Русские пословицы и поговорки / Составители: Ф. М. Селиванов,
Б. П. Кирдан, В. П. Аникин. М., 1988. 431 с. [составление: с. 297-336;
приложение: с.337-430]. Долгий век пословицы // Там же. С. 3-12.
280. [Краткое изложение доклада: Фольклористический и этнографический
подходы к изучению народного творчества (к вопросу о различении ис-
следовательских принципов)] И Т. А. Золотова, В. И. Харитонова. Кон-
ференция «Фольклористика в 1986 году» // Вести. Моск, ун-та. Сер. 9.
Филология. 1988. № 5. С. 76.
1989
281. Афанасьев Александр Николаевич // Русские писатели, 1800-1917. Био-
графический словарь / Гл. ред. П. А. Николаев. Т. 1. М., 1989. С. 123-125
(Русские писатели 11-20 вв. Серия биографических словарей).
282. Общерусское и локальное творчество в фольклоре (к общей постановке
проблемы) И Фольклор народов Поволжья: проблемы регионального
изучения. Межвузовский сборник / Отв. ред. А. А. Иванова (Мин-во
высш, и средн, спец, образования РСФСР. Марийский гос. ун-т). -
Йошкар-Ола, 1989. С. 3-24 [Переиздание: Фольклорные традиции со-
временного села (по материалам фольклорных экспедиций МГУ 1981-
1987 гг. в русские села Татарской АССР / Отв. ред. Н. И. Савушкина.
М., 1990. С. 11-27].
283. Чистые родники фольклора [Беседа со студ. ф-ка журналистики Моск, ун-та] И
Московский Университет. 1989,1 сент. С. 7.
284. Folklore as traditional writing Art [тезисы] // International Simposium on
«Folklore in Slavonic, Finno-Ugrian and Indian Literatures». New Delhi.,
27-31 March, 1989. P. 47.
285. [Краткое изложение доклада: Терминологические понятия фольклористики
в современных справочных изданиях] // А. А. Иванова. Фольклористика в
1989 г. // Вести. Моск, ун-та. Сер. 9. Филология. 1991. № 3. С. 78.
327
Хронологический указатель изданных работ В. П. Аникина
286. А. В. Кольцов. Стихотворения. Вступительная статья и подготовка текста.
М., 1989. 304 с. (Серия: Русская муза). Песни стихи Алексея Кольцова //
Там же. С. 5-14.
287. Сказки народов мира, в 10 т. Сказки русских писателей. Науч. рук. изда-
ния, составитель тома, автор вступительной статьи и примечаний. Т. VII.
М., 1989. 720 с. Русские писатели-классики и сказка//Там же. С. 3-18.
288. Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым. Вступительная
статья, подготовка текста// М. 1989. 398 с. (Серия: Забытая книга) [Пере-
издание: 1990]. Жизнь, взгляды и труды И. П. Сахарова//Там же. С. 5-20.
289. Ерш Ершович. Русские сатирические сказки. Составление, послесловие, сло-
варь. Худ. М. Карпенко. М., 1989. 168 с. Послесловие//Там же. С. 161-163.
290. Золотой пояс [Вступительная статья] // Сказки народов СССР. Книга для
чтения с комментарием и смловарем на английск. яз. Сост., адаптация,
комментарий А. В. Митаева. М., 1989. С. 7-15.
291. [Предуведомление] // Кот и лиса М., 1989. С. 2. [то же: Сивка-Бурка Русская
народная сказка М., 1989; Верлиока Русская народная сказка М., 1990; Баба-
Яга М., 1991].
292. Ред.: Программа дисциплины «Русское устное народное творчество». Для
филологических факультетов гос. ун-тов. Сост. кафедрой русск. устп. на-
роди. творчества филологического факультета Моск, ун-та. М., 1989. 30 с.
1990
293. О нерешенных вопросах в истории русского фольклора И Вест. Моск,
ун-та. Сер. 9. Филология. 1990. № 3. С. 19-25.
294. Культурные «переживания» в детском фольклоре [тезисы] И Мир детства
и традиционная культура. Материалы III чтений памяти Г. С. Виноградова
(Виноградовские чтения) / Составители: В. М. Григорьев, М. А. Му-
хлынин. М., 1990. С. 45-46.
295. [Краткое изложение доклада: Теоретические проблемы в фольклористических
работах 1987-1988 гг.] И А. А. Иванова. Конференция «Фольклористика в
1987-1988 гт.». Вест. Моск, ун-та Сер. 9. Филология. 1990. № 2. С. 95.
1991
296. Идеалы прекрасного в русском фольклоре (некоторые вопросы теории) И
Этико-эстетические основы русского фольклора. Тезисы докладов и со-
общений республиканской научной конференции (Гос. комитет РСФСР
по делам науки и высш, школы. Уральский гос. ун-т. Институт мировой
лит-ры Ак. наук СССР). Свердловск, 1991. С. 3-4.
297. Искусство слова в пословицах и поговорках // Жуков В. П. Словарь
русских пословиц и поговорок. 4-е изд., исправл. и дополненное. М.,
1991. С.6-8.
298. Послесловие // Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на
Руси. М., 1991. С. 236-238 (Серия: Забытая книга).
299. Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. - Вып. I.
Младенчество. Детство / Составление, подготовка текстов, вступитель-
328
В. П. Аникин. Хронологический указатель печатных работ
ная статья и комментарии. М., 1991. 589 с. Начало всех начал И Там же.
С. 5-18. [Комментарии] //Там же. С. 501-586.
300. Баю-баю, баиньки. Русские народные колыбельные песни. Обработка.
М., 1991.20 с.
301. [Сказки народов России, в обработке) // Перо Жар-птицы. Сказки народов
России / Сост. Р. Г. Гузаирова. М., 1991, С. 84-86, 98-99, 163-164, 171-173,
178-180,202-203,346-350.
1992
302. О научной полемике и фольклоре как искусстве И Сказка и несказочная
проза. Межвузовский сборник научных трудов / Отв. ред. Н. И. Прокофь-
ев, отв. секр. Т. В. Зуева. М., 1992. С. 117-124.
303. Краткое изложение доклада: Научные основы и состав нового курса
«Теория фольклора»] И Т. Н. Белова. «Ломоносовские чтения» 1992 г.
Вест. Моск, ун-та. Сер. 9. Филология. 1992. № 6. С. 75.
1993
304. Теоретические проблемы фольклора в трудах М. В. Ломоносова // Фи-
лологические науки. 1993. № 1. С. 10-19.
305. Национальная специфика жанра в свете сравнительной поэтики //Доклады
по проблемам фольклора. К XI Международному съезду славистов в Брати-
славе. М., 1993. С. 3-16. То же: Научные доклады филологического факуль-
тета МГУ (Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Филологический фак.) -
Вып. 1.М., 1996. С. 240-250.
306. Национальная специфика жанра в свете сравнительной поэтики (не-
сколько теоретических замечаний) И XI Международный съезд слави-
стов. Сборник резюме. Братислава, 1993. С. 362-363.
307. Поэтическая основа культуры // Народное творчество. 1993. № 1. С. 6-7.
308. Династия исполнителей // Восточно-славянский фольклор. Словарь
научной и народной терминологии. Минск, 1993. С. 60.
309. Коллективность И Там же. С. 117 <в соавторстве с К. П. Кабашниковым>.
310. Память фольклорная // Там же. С. 174-175 <в соавторстве с К. Н. Ка-
башниковым>.
311. Система фольклорных жанров // Там же. С. 308-309.
312. Стиль фольклорный // Там же. С. 337 <в соавторстве с Ф. М. Селивановым:».
313. Творчество народное поэтическое И Там же. С. 351.
314. Т ворчество народное устное //Там же. С.351 -352.
315. Теории в фольклористике И Там же. С. 358.
316. Теория аристократического происхождения фольклора // Там же. С. 358.
317. Теория заимствования // Там же. С. 359.
318. Теория фольклора//Там же. С. 361.
319. Традиции «островные» // Там же. С. 365.
320. Традиционность И Там же. С. 365-366.
321. Традиция фольклорная И Там же. С. 366-367.
322. Устность // Там же. С. 372.
323. Фольклор позднетрадиционный И Там же. С. 393-394.
329
Хронол огическии указатель изданных работ В. П. Аникина
324. Фольклор раннетрадиционный // Там же. С. 396.
325. Фольклор русский И Там же. С. 397-398.
326. Фольклористика русская // Там же. С. 417—419.
327. Гуси-лебеди. Русские народные сказки / Составление. М., 1993. 96 с. Хит-
рый козел. Из сборника В. Н. Серебренникова, в обработке В. П. Аникина
//Там же. С. 61-63.
1994
328. Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. - Вып. 2.
Детство. Отрочество / Составление, подготовка текстов, вступительная
статья и комментарии. М., 1994. 525 с. Художественное слово//Там же.
С. 5-18. [Комментарии] //Там же. С. 465-521.
329. О докладах по фольклористике <на XI Международном съезде слави-
стов> // Вести. Моск, ун-та. Сер. 9. Филология. 1994. № 2. С. 73-75.
Сказки народов мира, в Ют.
330. Сказки русских писателей. Науч. рук. издания,составитель тома, автор
вступительной статьи и примечаний. Т. II. М., 1994. 736 с. Сказка и вре-
мя //Там же. С. 3-16. Примечания // Там же. С. 718-731.
1995
331. Долгий век пословицы // Крылатая мудрость. Пословицы и поговорки из
собрания В. И. Даля / Составитель В. С. Модестов. М., 1995. С. 233-236
сповторение, в выдержках>.
332. Системный анализ литературного и фольклорного стиля // Филологиче-
ские науки. 1995. № 4. С. 3-12.
333. Фольклорные экспедиции Московского университета в послевоенные
годы // Материалы международной конференции «Фольклор и современ-
ность», посвященной памяти профессора Н-И. Савушкиной (20-22 октяб-
ря 1994 года). (Московский городской Дворец творчества детей и юноше-
ства. Отдел туристско-краеведческой работы). М., 1995. С. 3-6.
334. Les Bylines // Patrimoine litterature europeen. T.5. Premieres mutations de
Petrarque a Choucer, 1304-1400. Antologie en langue fran^aise sous direc-
tion de Jean-Claude Polet. Pr£face de Claude Pichois. Avant-propos de Dar-
nel Poirion. Bruxelles, s. a. <1995> p. 14-23. [состав: Авдотья-рязаночка,
Василий Буслаев, Илья Муромец; составление, вступительная статья,
пояснительные статьи к текстам, примечания].
335. Классическое наследство в эпосоведении и его значение для современной
науки // Русский фольклор. Эпические традиции. Материалы и исследова-
ния. Вып. XXVIII. СПб., 1995. С. 5-9.
1996
336. Национальная специфика жанра в свете сравнительной поэтики // Научные
доклады филологического факультета Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносо-
ва, филологического факультета. Вып. 1. 1996. С. 240-250.
330
В. П. Аникин. Хронологический указатель печатных работ
337. Народная игра как художественный феномен // Филологические науки.
1996. №3. С. 14-24.
338. Теория фольклора. Курс лекций (Московский гос. ун-т им. М. В. Ломо-
носова. Филологический факультет). М., 1996. 408 с.
339. Отзыв о диссертации Шамсудина Хаджасфаровича Хута на тему «Неска-
зочная проза адыгов», представленной на соискание ученой степени док-
тора филологических наук // Шамсудин Хуг (к 60-летию со дня рожде-
ния). Автор очерка и сотавитель Мамий Р. Г.. Майкоп, 1996. С.33-36.
1997
340. К читателям. Вступит, статья И Калинский И. П. Церковно-народный
месяцеслов. М., 1997. С. 3-6.
341. «Не постфольклор», а фольклор (к постановке вопроса о его современ-
ных традициях) // Славянская традиционная культура и современный
мир. Сборник материалов научно-практической конференции. Вып. 2.
(Министерство культуры российской Федерации. Государственный
республиканский центр русского фольклора). М. 1997 С. 223-240.
1998
342. Э-шолингвистика в ее отношении к фольклористике и другим смежным
наукам (по поводу опорных идей книги Н. И. Толстого) // Научные докла-
ды филологического факультета МГУ. Вып. 2 (Московский гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова. Филологический факультет) М., 1998. С. 219-228.
343. Типологические схождения как процесс в славянском фольклоре И Научные
доклады филологического факультета МГУ. Вып. 3 (Московский гос. уп-т им.
М. В. Ломоносова Филологический факультет). М., 1998. С. 204-222.
344. Типологические схождения как процесс в фольклоре восточных славян И
Streszczenia referatow i komunikatow. Literaturoznawstwo, folklorystyka,
nauka о kukurze. Opracowanie Lucjan Suchanek, Lidia Macheta. XII Mi?dzy-
narododowy kongres slawistow. Krakdw, 27 VII-2 IX 1998 (Mi^dzynarodo-
dowy Komitet Slawistow- Polski Komitet Slawistow). Wydawnictwo Energia.
Warszwa, 1998. S. 173-174.
345. <Материалы дискуссии>. Zaznamy z diskusie k prednesenym referatom
(Slovensky komitet slavistov. Slavislicky Kabinet SAV. XI MedzinArodny
zjazd slavistov. Bratislava, 30 augusta - 8 septembra 1993) Vedecky redaktor a
editor Univ, prof, PhDr- Jan Bond’a, DrSc. Slovensky komil£t slavistov. Sivis-
ticky Kabinet SAV. Bratislava, 1998. S. 92-94 <o докл. Jx de Proyart>; S. 301
<o докладе К. В. Чистова>; S. 389 <о выступлении Г. Д. Вервеса по пово-
ду докл. В. П. Аникина>; S. 578 <о докладе М. Nladmk>.
346. Пути и путы фольклористики в XX веке И Литературоведение па пороге
XXI века. Материалы международной научной конференции (МГУ, май
1997). Ред. коллегия: П. А. Николаев (отв. ред.), Е.З. Цыбенко, Л. В. Чернец,
М., 1998. С. 242-249. Вариант: Филологические науки. 1998, № 2. С. 3-13.
347. Русские заговоры и заклинания- Материалы фольклорных экспедиций
1958-1993 гг. / Под ред. проф. В. П. Аникина (Русский фольклор в но-
вых записях. Материалы фольклорных экспедиций Моск. Гос. ун-та)
(Московский госуд. ун-т им. М. В. Ломоносова. Филологический фак.
331
Хронологический указатель изданных работ В. П. Аникина
Каф. русского устного народного творчества. М., 1998. 480 с. (Состави-
тели: С. В. Алпатов, В. П. Аникин, Т. Б. Дианова, Н. Ф. Злобина, А. А. Ива-
нова, А. В. Кулагина. Подг. текста, классификация, вступит, статья,
предметно-именной указатель и пояснения В. П. Аникина; вступит, ста-
тья «Магия и поэзия». С. 5-36; примем, и пояснения: с. 386-414; пред-
метно-имен. указатель: с. 415-435.
348. Фольклор и искусство // Наука о фольклоре сегодня: междисциплинар-
ные взаимодействия. К 70-летнему юбилею Федора Мартыновича Се-
ливанова. Международная научная конференция (Москва, 29-31 октяб-
ря 1997) (Московский госуд. ун-т им. М. В. Ломоносова, Филологичес-
кий фак.). М., 1998. С. 30-37.
349. Былины // Энциклопедия литературных произведений / Под ред. С. В. Ста-
хорского. М., 1998. С. 61-63.
350. <0 докладах по фольклористике на ХП Международном конгрессе
славистов. Краков. 27 августа - 2 сентября 1998> И Вести. Моск, ун-та.
Сер. 9. Филология. 1998. № 6. С. 168-170, [в составе хроники: Цыбен-
ко Е. 3., Комлев Н. Г., Аникин В. П. XII Международный конгресс сла-
вистов в Кракове, Основные научные направления в проблематике док-
ладов. Там же. С. 161-170].
1999
351. Фольклор в лирике А. С. Пушкина (методологические заметки) И Филологиче-
ские науки, 1999, № 3. С. 15-24 (Вариант: Фольклор как стилеобразующий
фактор в лирике Пушкина // Университетский Пушкинский сборник / Редкол-
легия: В. П. Аникин, С. И. Кормилов, А. А. Смирнов, Н. А. Соловьева, Е. 3.
Цыбенко / Отв. ред. В. Б. Катаев. Московский государственный ун-т имени
М. В. Ломоносова. Филологический факультет. М., 1999. С.50-58).
352. Международная научная конференция «А. С. Пушкин и мировая культура»
// Вестн. Моск, ун-та. Сер. 9. Филология. 1999, № 3. С. 142-152 (Хроника).
Авторы: Д. П. Ивинский, С. И. Кормилов, Г. Н. Ионин, Н. А. Соловьева,
Е. 3. Цыбенко, В. П. Аникин, Е. IO. Зубарева (мой материал: с. 149-151).
353. Рец.: Новые учебные книги по курсу «Русский фольклор» [Т. В. Зуева,
В. П. Кирдан. Русский фольклор: Программа. М., 1998. Русский фольклор:
Учебник. М., 1998, Русский фольклор: Хрестоматия. М., 1998. Русский фольк-
лор: Хрестоматия исследований,] И 1999. № 6. С. 116-119.
354. Русские народные сказки. Из сборника А. Н. Афанасьева / Научное редак-
тирование текста, послесловие и примечания. М., 1999. 336 с. [Послесло-
вие: Народные сказки в сборнике Александра Николаевича Афанасьева.
С. 303-332. Примечания: там же].
355. Циклы и циклизация в русском фольклоре // Русский фольклор. Материалы
и исследования. Вып. XXX. Л., 1999. С. 3-14.
356. Хитрый козел. (Русская народная сказка в обработке В. П. Аникина) // Боль-
шая книга сказок для самых маленьких. М., 1999. С. 189-192.
2000
357. Фольклор как часть древнерусской культуры (некоторые первоочеред-
ные задачи изучения) // Журн. Древняя Русь. Вопросы медиевистики.
№ 1.М., 2000. С. 51-60.
332
В. П. Аникин. Хронологический указатель печатных работ
358. Бажов Павел Петрович // Русские писатели 20 века. Биографический
словарь. М„ 2000. С.62-63.
359. Бианки Виталий Валентинович // Русские писатели 20 века. Биографи-
ческий словарь. М., 2000. С. 91-92.
360. Кафедра русского устного народного творчества // Филологический
факультет Московского университета. Очерки истории. Ч. I. Под общей
ред доктора филологических наук, профессора М. Л. Ремневой. М.,
2000. С. 220-232. См. №361.
361. Лев Толстой и Леонид Леонов. И Москва 2000. № 11. С. 163-191.
362. Свет Древней Руси. Рец.: «Древняя Русь. Вопросы медиевистики». 2000.
№ 1. //Москва. 2000. № 12. С. 189-191.
2001
363. Ред.: В. П. Аникина, В. Е. Гусев, Н. И. Толстой. Мудрость народная.
Жизнь человека в русском фольклоре. Вып. 4. Свадьба. От сватовства
до княжего стола / Составление, подготовка текстов, вступительная ста-
тья и комментарии Ю. Г. Круглова. М., 2001. 530 с.
364. Ред.: Рахимова Э. Г От «калевальских» изустных рун к неоромантиче-
ской мифо-поэтике Эйно Лейно. М., 2001. 215 с. Отв. ред. В. П. Ани-
кин, В. М. Гацак.
365. Сравнительно-историческое изучение фольклора. Кафедра русского уст-
ного народного творчества / Сост. В. П. Аникин. // Программы основных
лекционных курсов по специализации «Сравнительное литературоведе-
ние». М., 2001. С. 26-29. Отв. ред. П. А. Николаев, Л. В. Чернец.
366. [Обработка народных сказок] Булат-молодец (русск.) (С. 111), Медведь и
бурундук (авенск.) (С. 487), Старик и три сына (эвенск.) (С. 488), Почему
звери друг от друга отличаются (нанайск.) (С. 519)„ Волк и ягненок (ар-
мянск.) (С. 641), Лиса, черепаха и муравей (таджике.) (С. 698) // Большая
хрестоматия любимых сказок / Сост. П. К. Федоренко. М., 2001.
367. Кафедра русского устного народного творчества И Филологический
факультет Московского университета. Очерки истории / Под общ. ред.
М. Л. Ремневой. М., 2001. С. 221-233.
368. Русское устное народное творчество: Учебник. М., 2001. 726 С.
2002
369. Петр Григорьевич Богатырев - исследователь «Збойницкого цикла» И
Петр Григорьевич Богатырев. Воспоминания. Документы. Статьи / Со-
ставитель и отв. редактор Л. П. Солнцева. СПб., 2002. С. 172-186.
370. Историческая периодизация русского фольклора в свете комплексного
анализа его традиций И Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 1(7) М.,
2002. С. 9-17.
371. Речь старой Москвы как фольклористическая проблема И Страницы исто-
рии русской литературы. Сборник статей. К семидесятилетию профессора
Валентина Ивановича Коровина (Московский педагогический государст-
венный университет). М., 2002. С. 15-21.
333
Хронологический указатель изданных работ В. П. Аникина
372. Русские народные сказки (Школьная библиотека). М., 2002. 205 с. Сос-
тавление, примечания: малоупотребительные и местные слова (с. 196—
200), вступительная статья «Русская фольклорная сказка» (с. 5-10).
373. О сказке «Конек-Горбунок» Вступительная статья к кн.: П. П. Ершов
«Конек-Горбунок» (Школьная библиотека). М., 2002. С. 5-16.
374. Традиционная преемственность творческих актов в фольклоре в их
отличии от литературных // Литература, культура и фольклор славян-
ских народов. ХШ Между-народный съезд славистов (Любляна, август
2003). Доклады российской делегации. Отв ред. доктор филологических
наук Л. И. Сазонова. (Российская академия наук. Отделение историко-
филологических наук. Национальный комитет славистов Российской
Федерации). М., 2002. С. 375-384. (вышло из печати в 2003 году)
2003
375. Духовные стихи как объект комплексного изучения. // Древняя Русь. Вопро-
сы медиевистики. № 4 (14). М., 2003. С. 8-9. (Тезисы П-й Международной
конференции «Комплексный подход в изучении Древней Руси»).
376. Переиздание: Ред.: Загадки русского народа. Сборник загадок, вопро-
сов, притч и задач / Сост. Д. Н. Садовников. М., 1959. 336 с. Вступит,
статья: Д. Н. Садовников и его сборник загадок Там же. С. 3-30. При-
мечания. Там же. С. 262-334. И М., 2003.
2004
377. О двух лингвистических направлениях в фольклористике // Филологи-
ческие науки. 2004. № 1. С. 5-15.
378. Табу и его следы в языке русского фольклора. // Русский язык: исторические
судьбы и современность. II Международный конресс исследователей рус-
ского языка. Труды и материалы / Составители: М. Л. Ремнева, О. В. Дедова,
А. А. Поликарпов (Московский гос. университет им. М. В. Ломоносова. Фи-
лологический факультет). М., 2004. С. 566-567.
379. Теория фольклора. Курс лекций. 2-е изд., доп. М., 2004. 432 с.
380. Русское устное народное творчество: Учебник. 2-е изд. исправленное и
дополненное. М., 2004. 736 с.
381. О двух лингвистических направлениях в фольклористике. // Филологи-
ческие науки. 2004. № 1. С. 5-15.
382. Табу и его следы в языке русского фольклора. // Русский язык: исторические
судьбы и современность. II Международный конресс исследователей рус-
ского языка. Труды и материалы / Составители: М. Л. Ремнева, О. В. Дедова,
А. А. Поликарпов (Московский гос. университет им. М. В. Ломоносова. Фи-
лологический факультет). М., 2004. С. 566-567.
383. Теория фольклора: Курс лекций. 2-е изд., доп. М., 2004. 432 с.
384. Отношение фольклористики к смежным дисциплинам // Сб. Этнопоэти-
ка и традиция. К 70-летию чл.-корр. РАН Виктора Михайловича Гацака
(Российская академия наук. Институт мировой литературы им.
А. М. Горького). М., 2004. С. 52-57.
334
В. П. Аникин. Хронологический указатель печатных работ
385. «Свод» или областные сборники? // Древняя Русь. Вопросы медиевисти-
ки. № 3 (17). М., 2004. С. 110-119.
386. Кафедра русского устного народного творчества Московского государ-
ственного университета: история и современность // Научный альманах
Традиционная культура. (Госуд. республиканский центр русского
фольклора Министерства культуры Российской Федерации). М., 2004,
№ 1(13). С. 60-65.
387. Разделы: «Предмет курса»; «Деление фольклора на роды и жанры»;
«Историческое развитие русского фольклора и проблемы периодиза-
ции»; «Происхождение русского фольклора и его ранние формы в эпоху
восточнославянской общности»; «Фольклор русского средневековья
(IX-XVII вв.) и нового времени»; «Обрядовая поэзия» (<? соавторстве с
А. А. Ивановой)-, «Сказки»; «Былины»; «Исторические песни»; «Загад-
ки»; «Паремии»; «Детский фольклор»; «Фольклор в современную эпоху
и его новые традиции (XX в.)» // Программа общих и специальных кур-
сов кафедры русского устного народного творчества. Для студентов и
аспирантов русск. и славян, отделений филологического факультета
МГУ. Редколлегия: Отв. ред. В. П. Аникин, Т. Б. Дианова. М., 2004;
Программа курса «Теория фольклора» И Там же. С.50-53; раздел «Ли-
тература» в «Программе кандидатского минимума по специальности
“Фольклористика”» // Там же. С. 59-74; История русской фольклори-
стики И Там же. С. 84-85.
Научное издание
ПОЭТИКА ФОЛЬКЛОРА
Сборник статей
К 80-летнему юбилею
профессора Владимира Прокопьевича Аникина
Издание осуществлено за счет средств
филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
Зав. редакционно-издательским отделом
филологического факультета Е. Г. Домогацкая
edit@philol.msu.ru
Редактор-корректор И. В. Краснослободцева
Компьютерная верстка; А. М. Егоров
Обложка: Ю. Н. Симоненко
Подписано в печать 21.04.05.
Формат 60 х 90 /16. Гарнитура «Таймс».
Бумага офс. №1. Офсетная печать.
Усл. печ. л. 21,0. Тираж 500 экз.
Заказ 1092.
Ордена «Знак Почета» издательство Московского университета.
125009, Москва, ул. Б. Никитская, 5/7.
Изд. лиц. № 040414 от 18.04.97.
ООО «МАКС Пресс».
107066, Москва, Елоховский пр., д. 3, стр. 2.
Изд. лиц. № 00510 от 01.12.99.