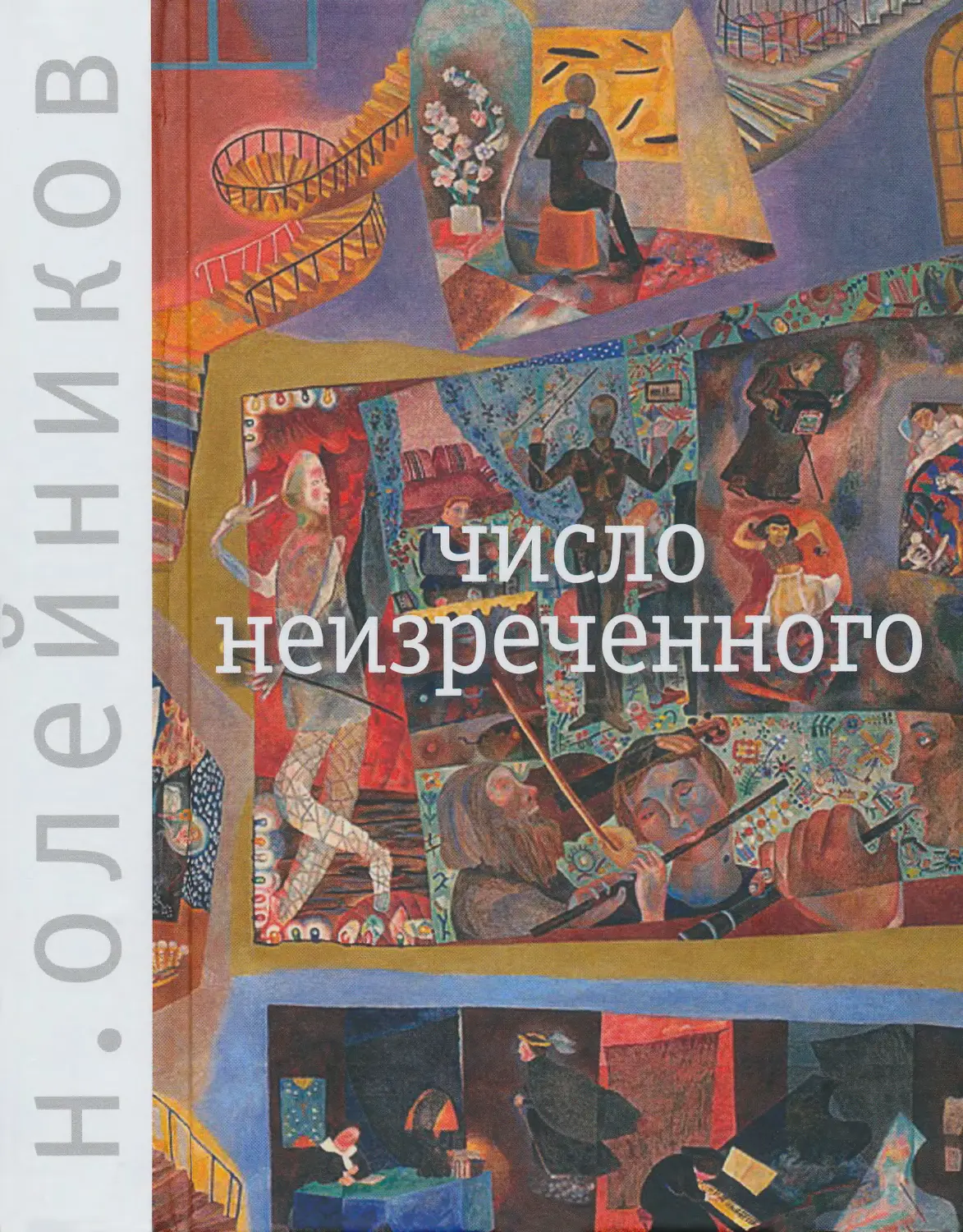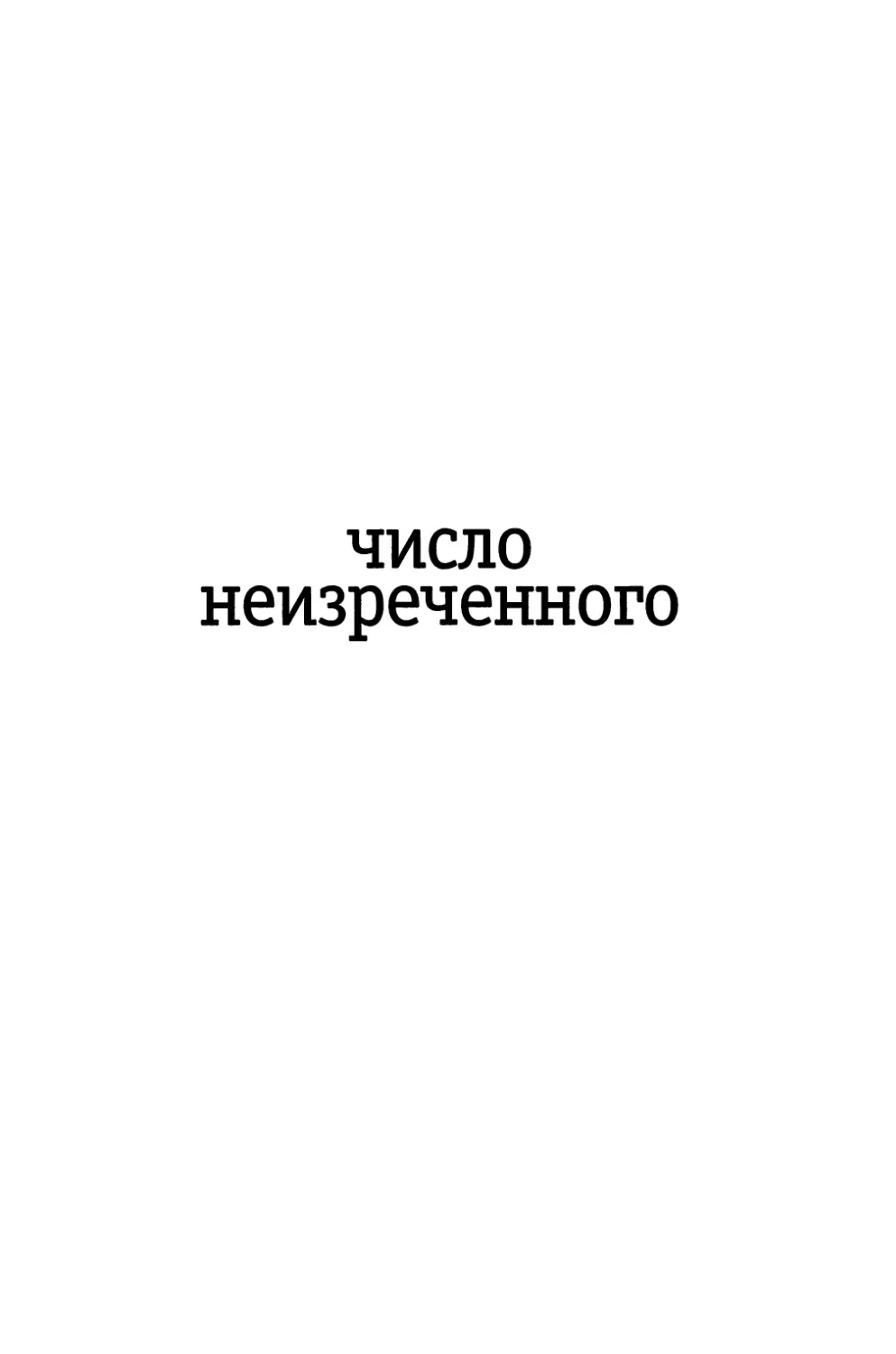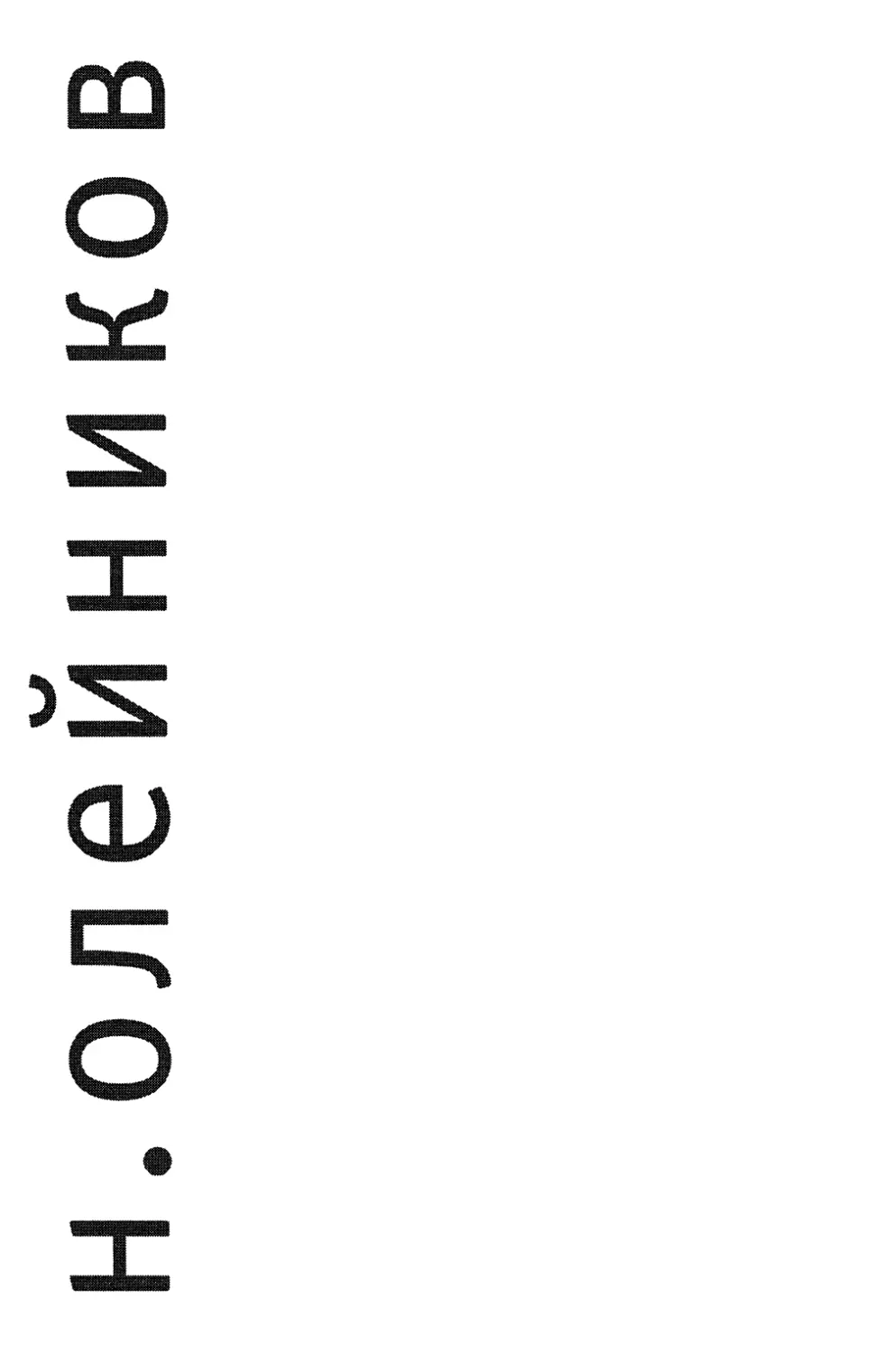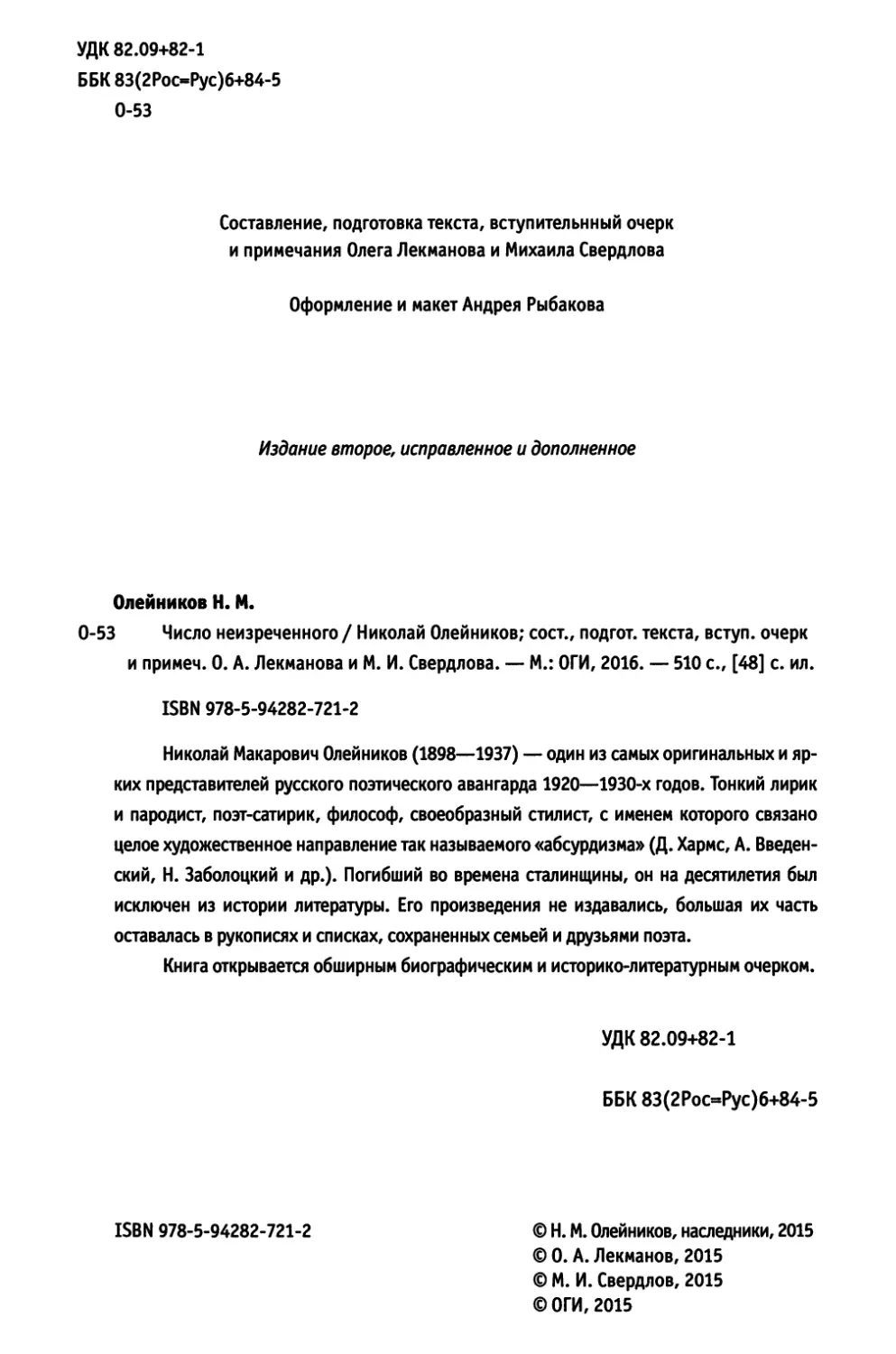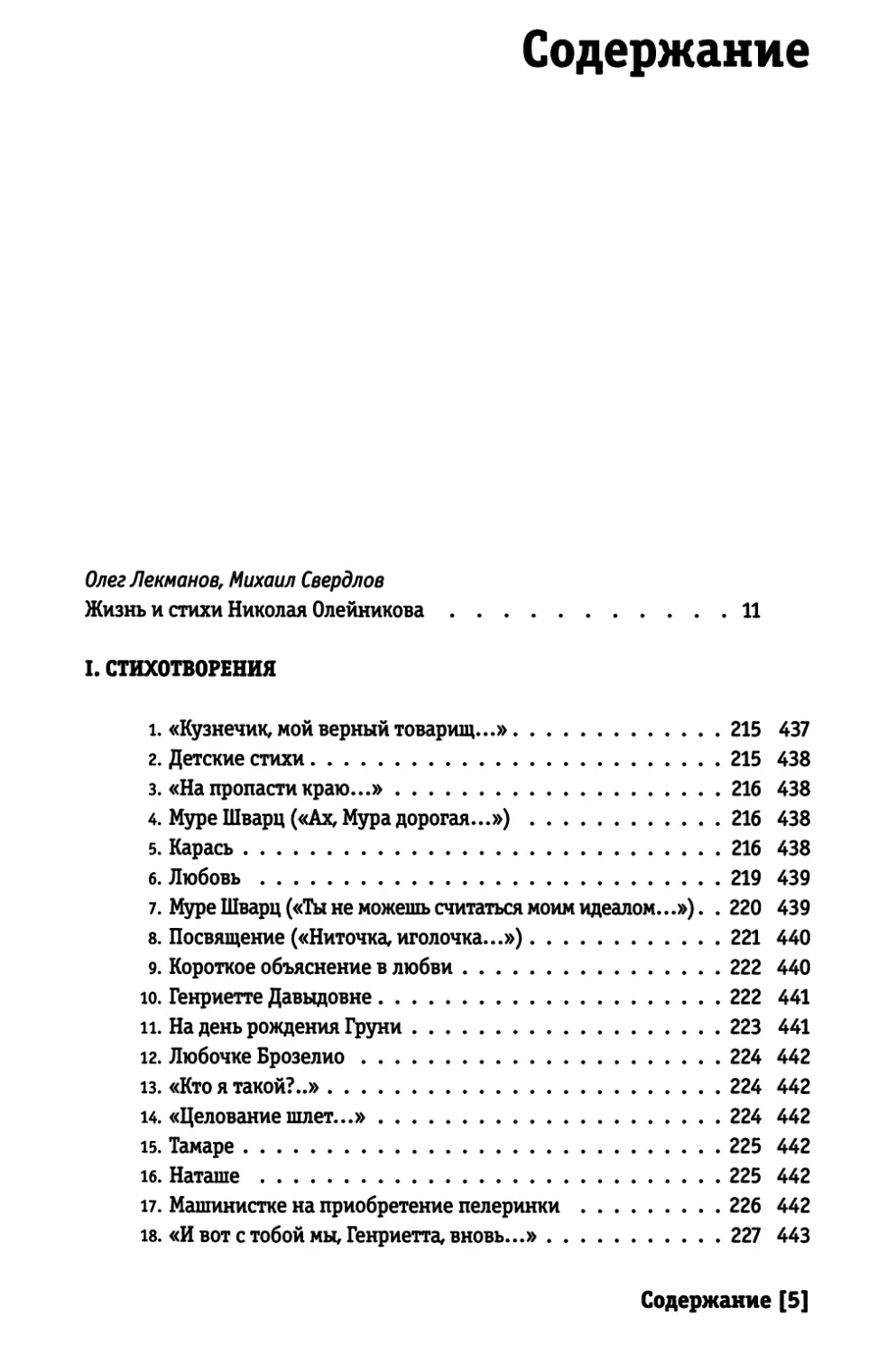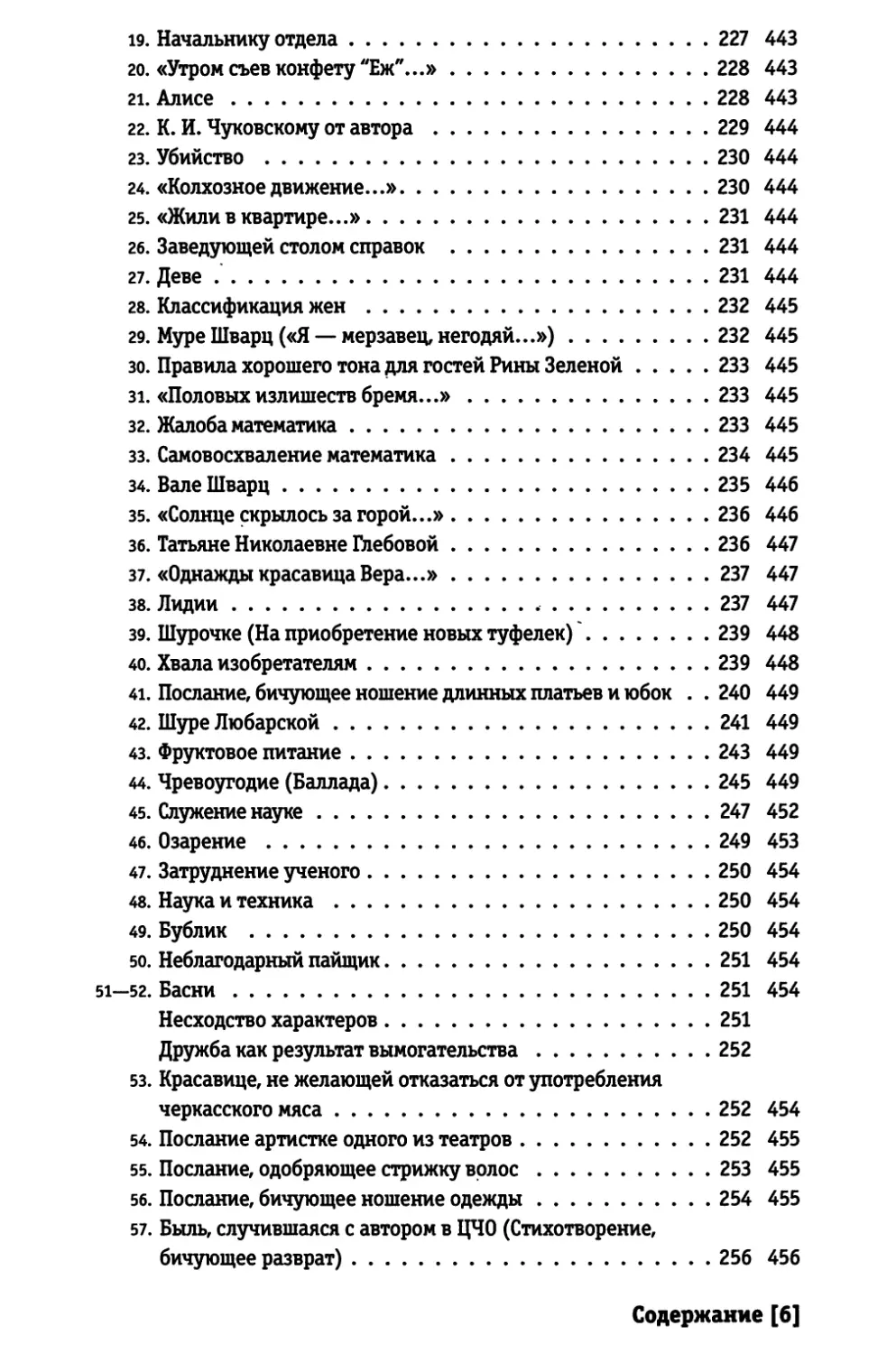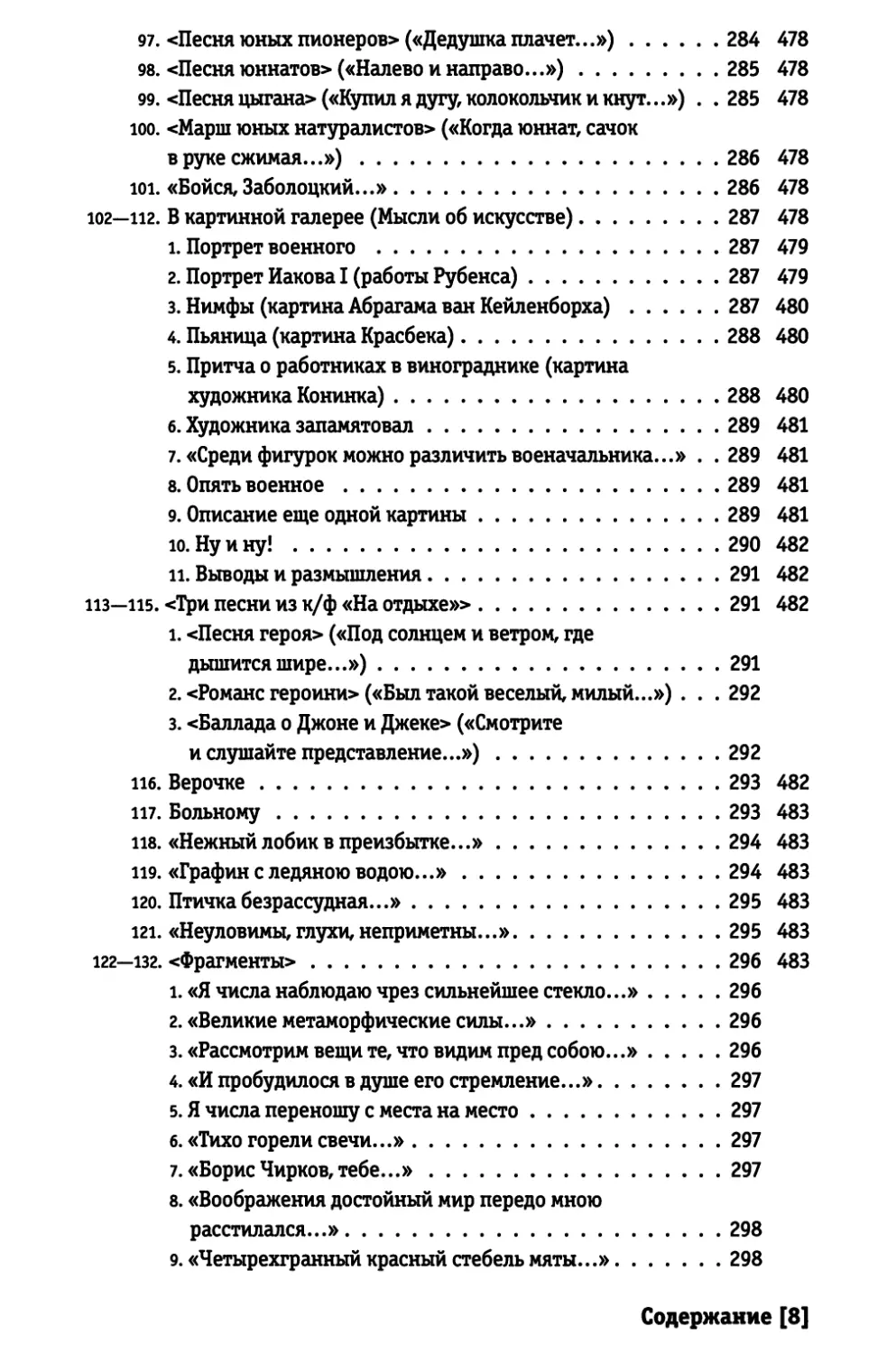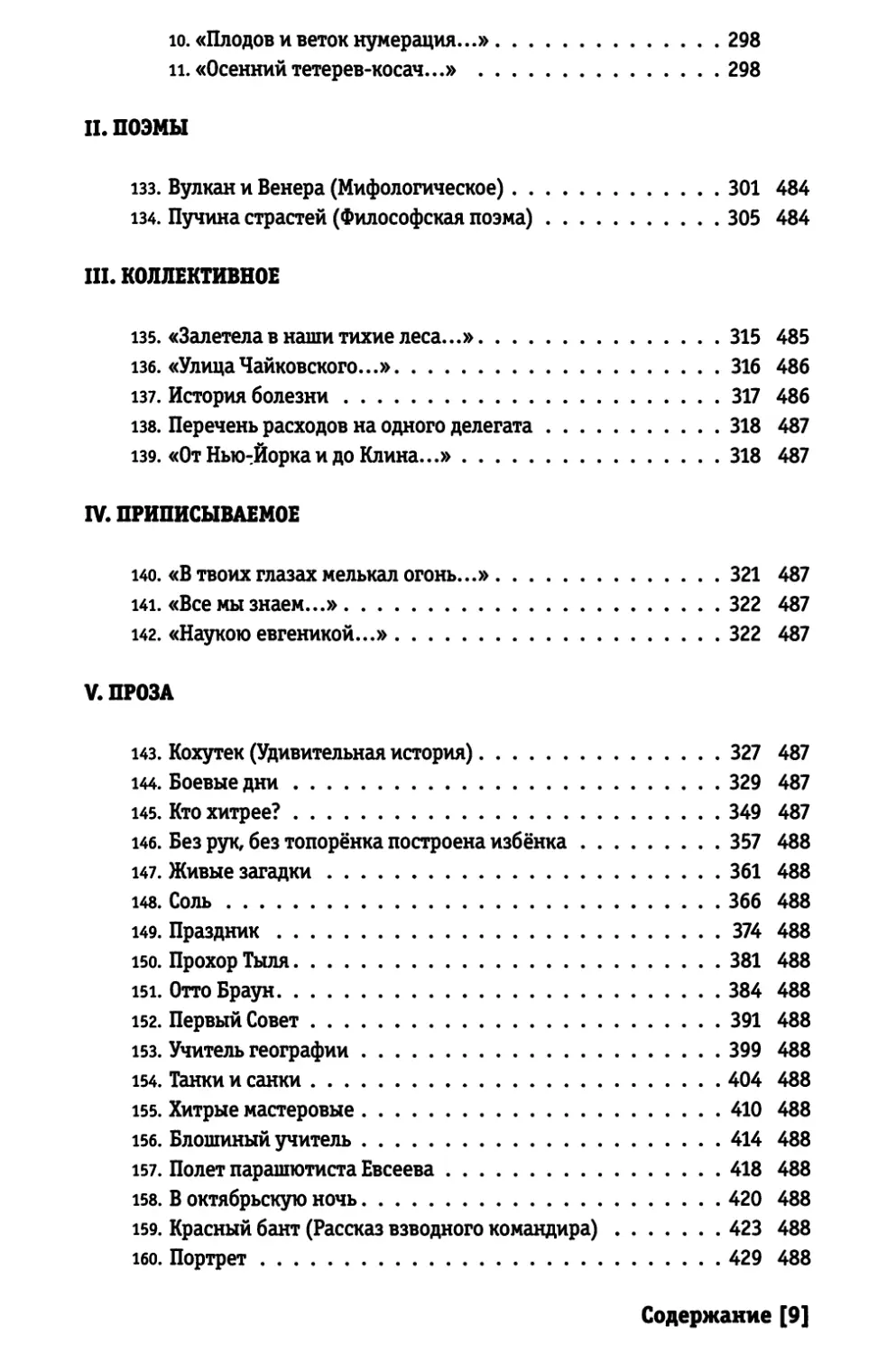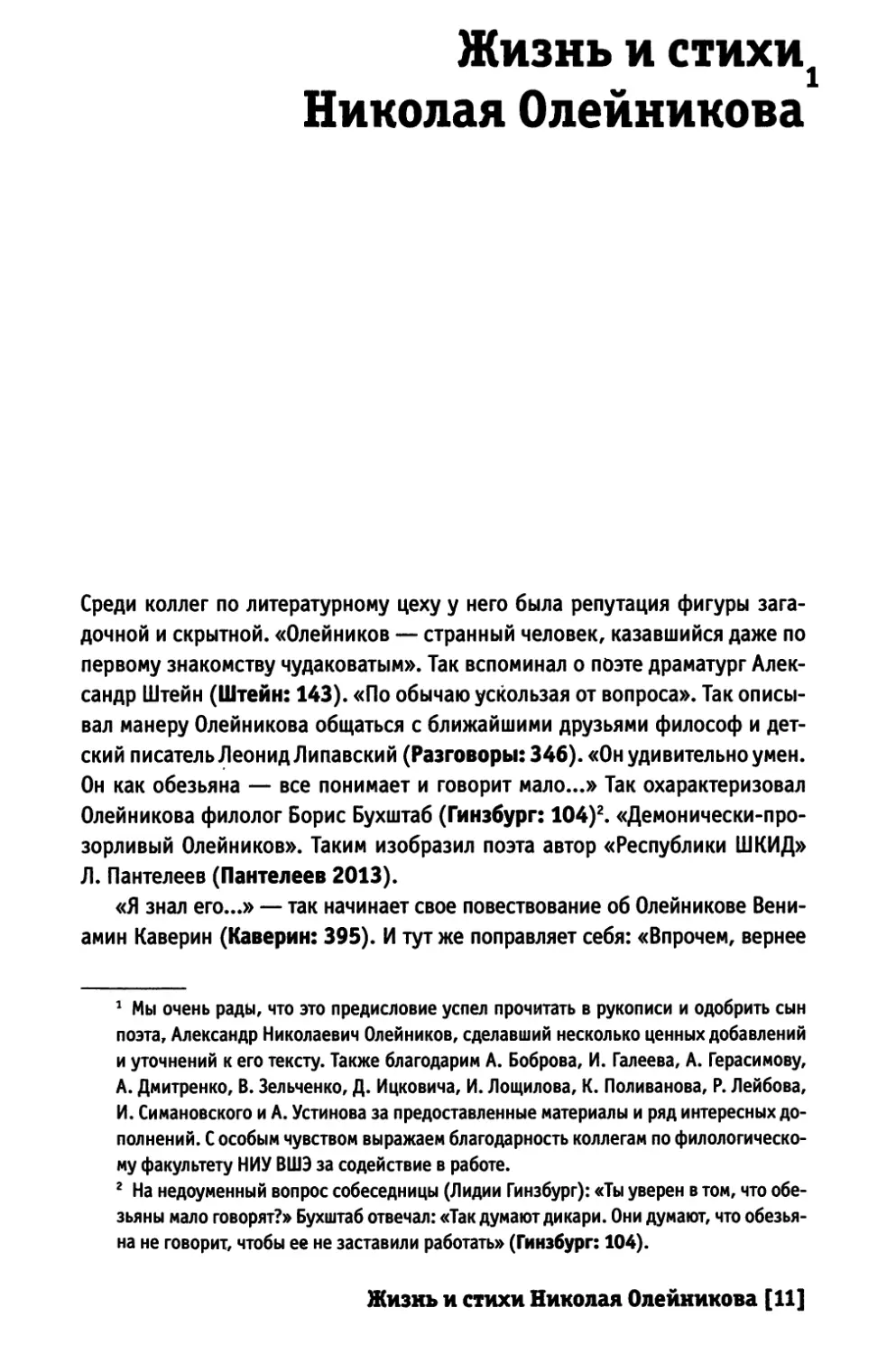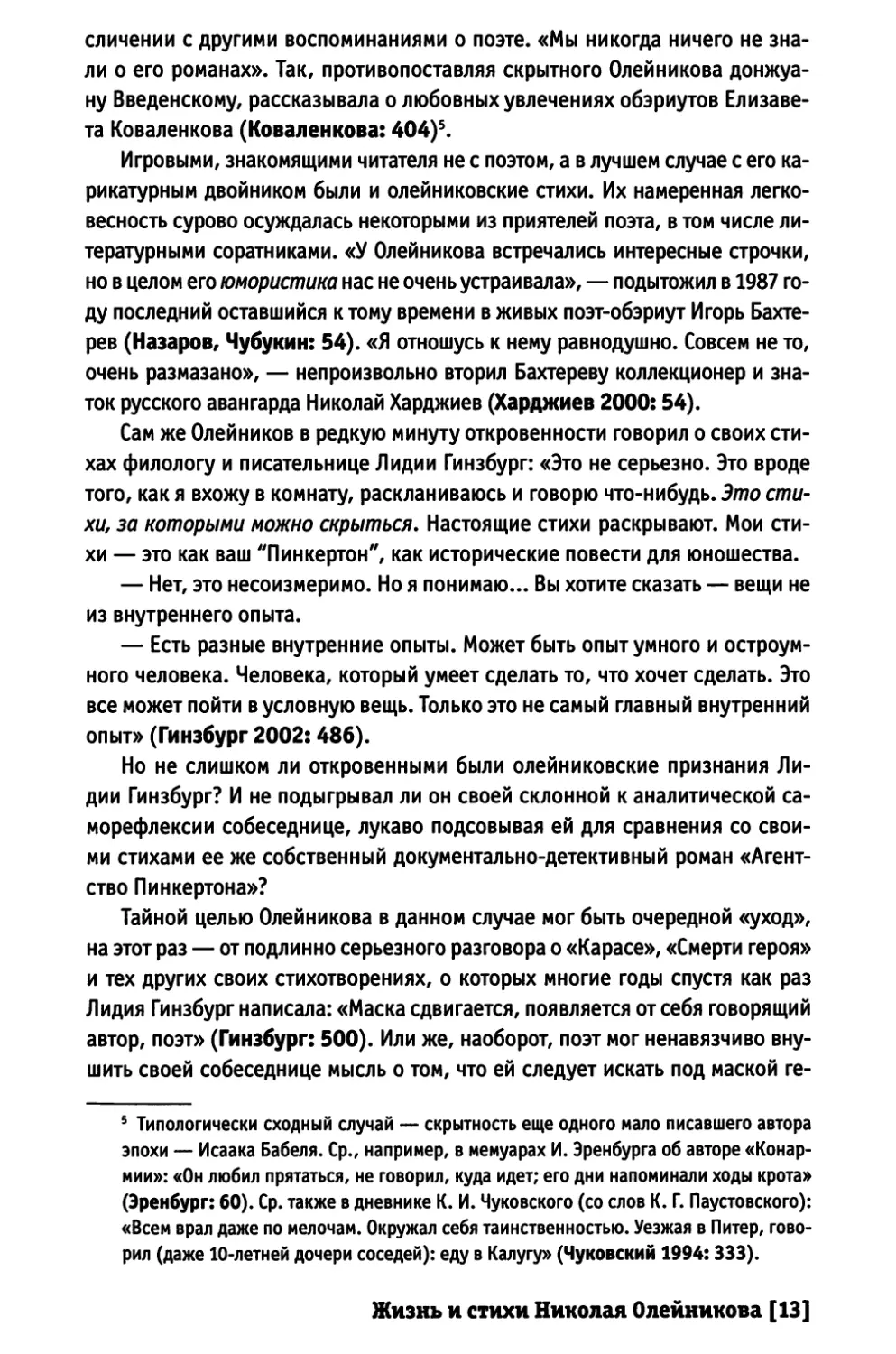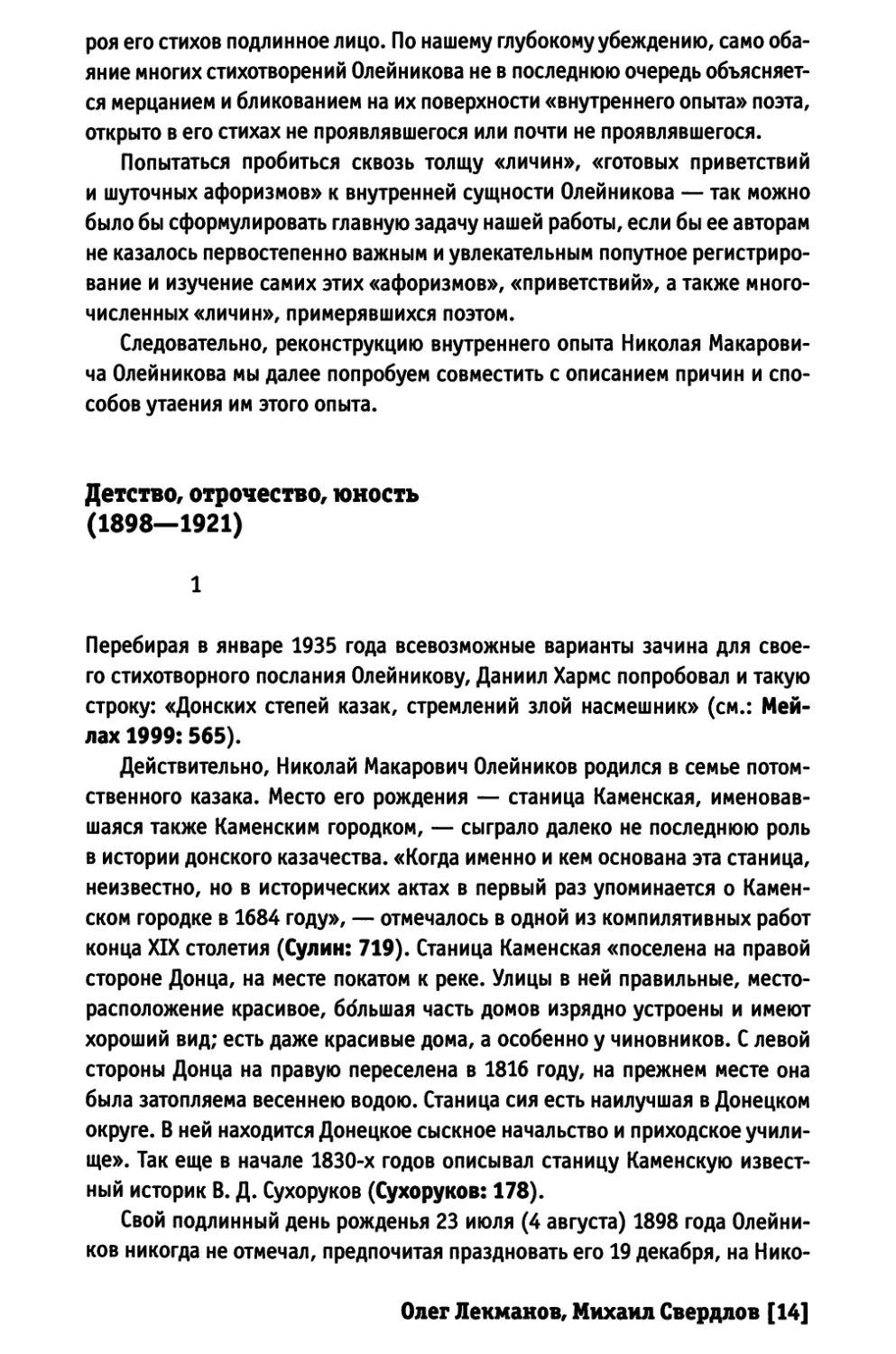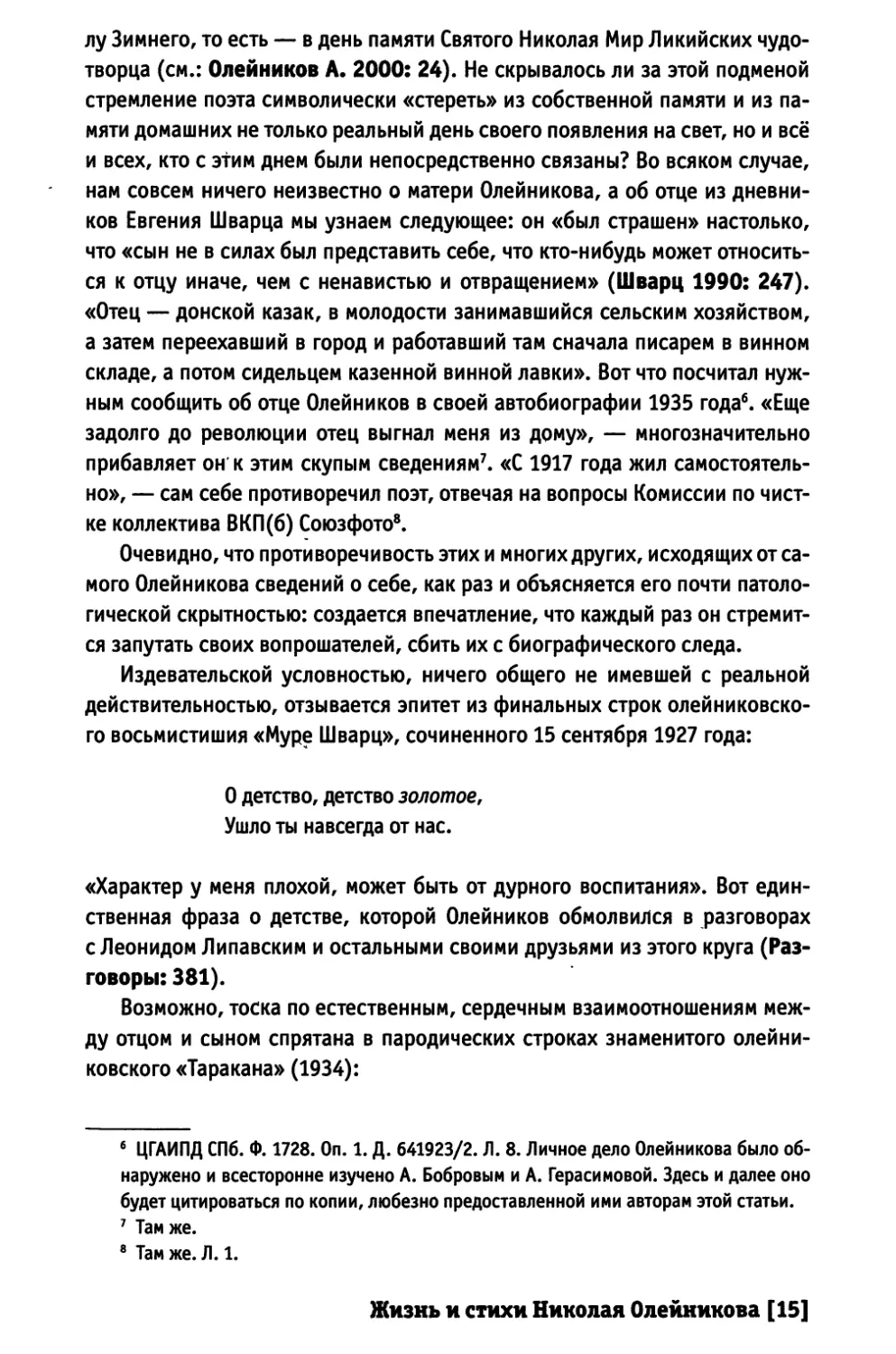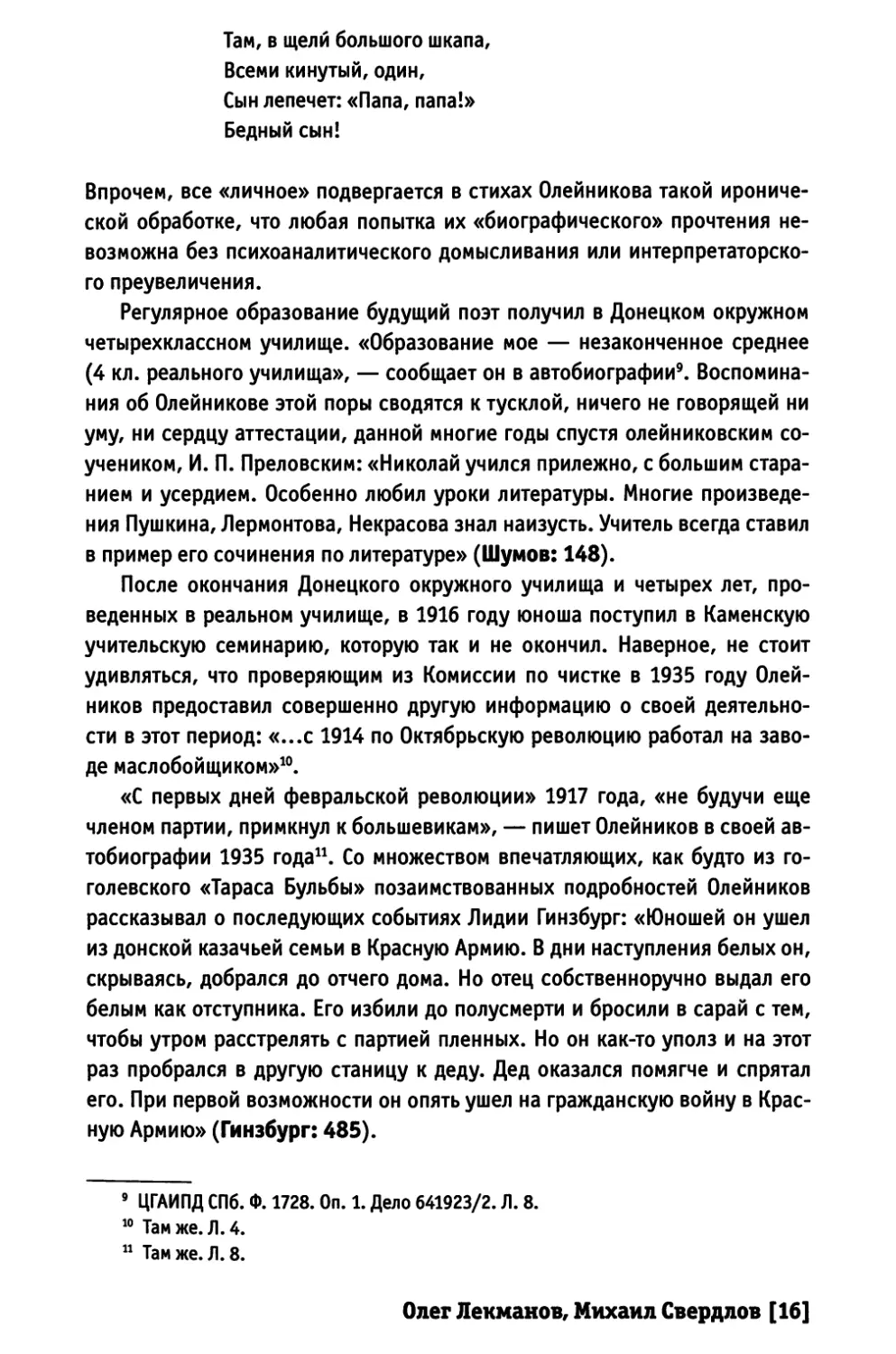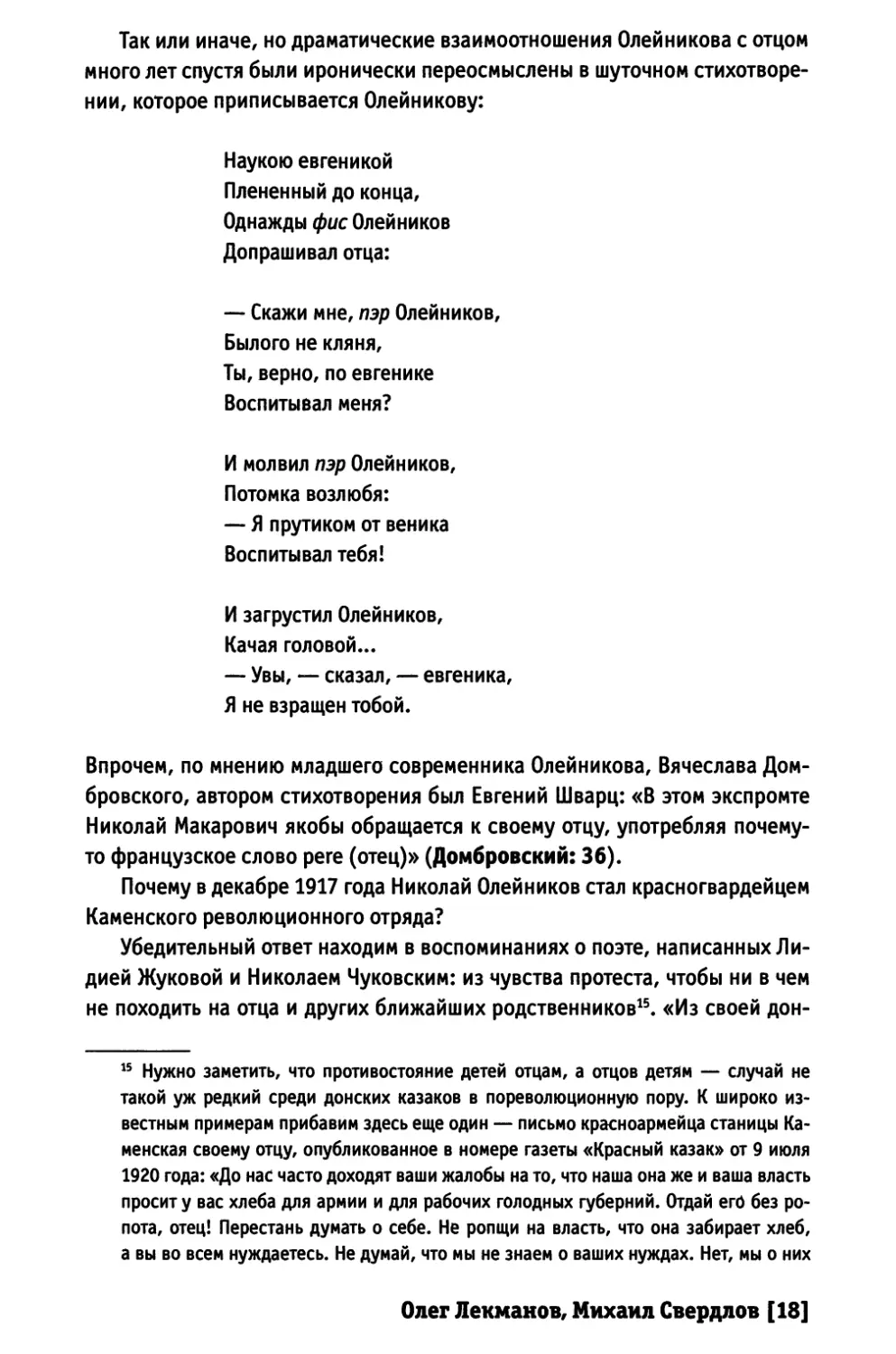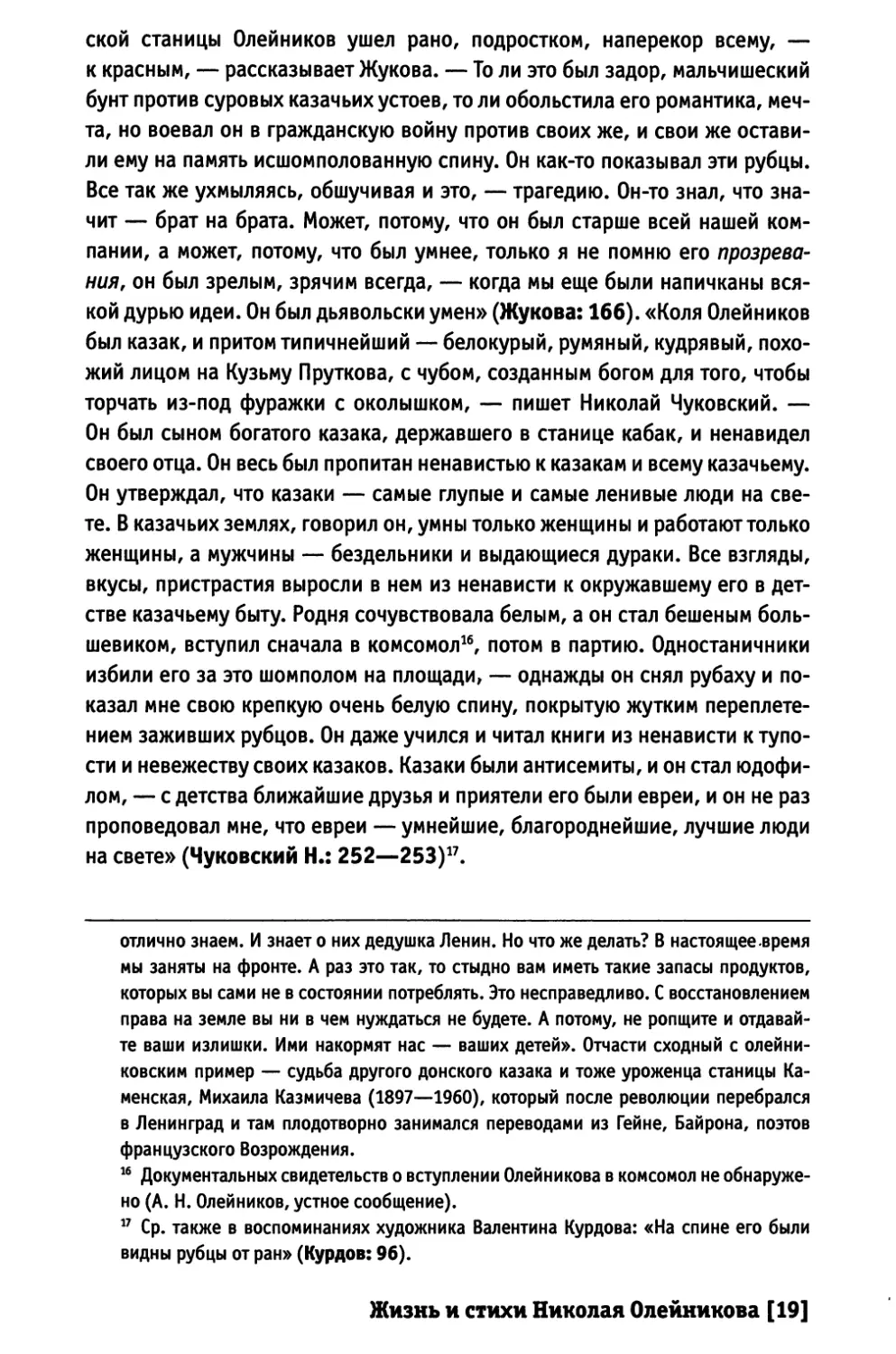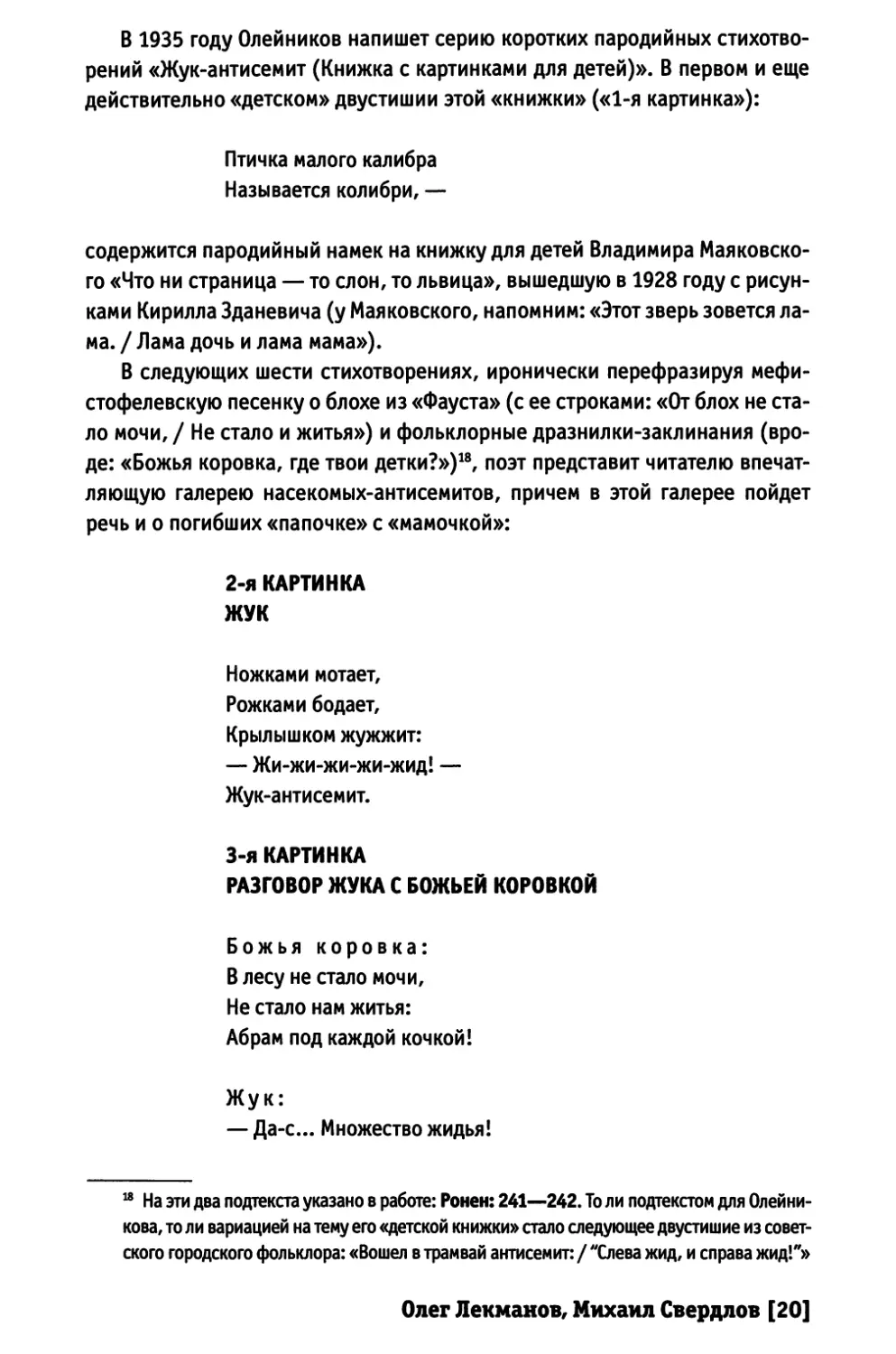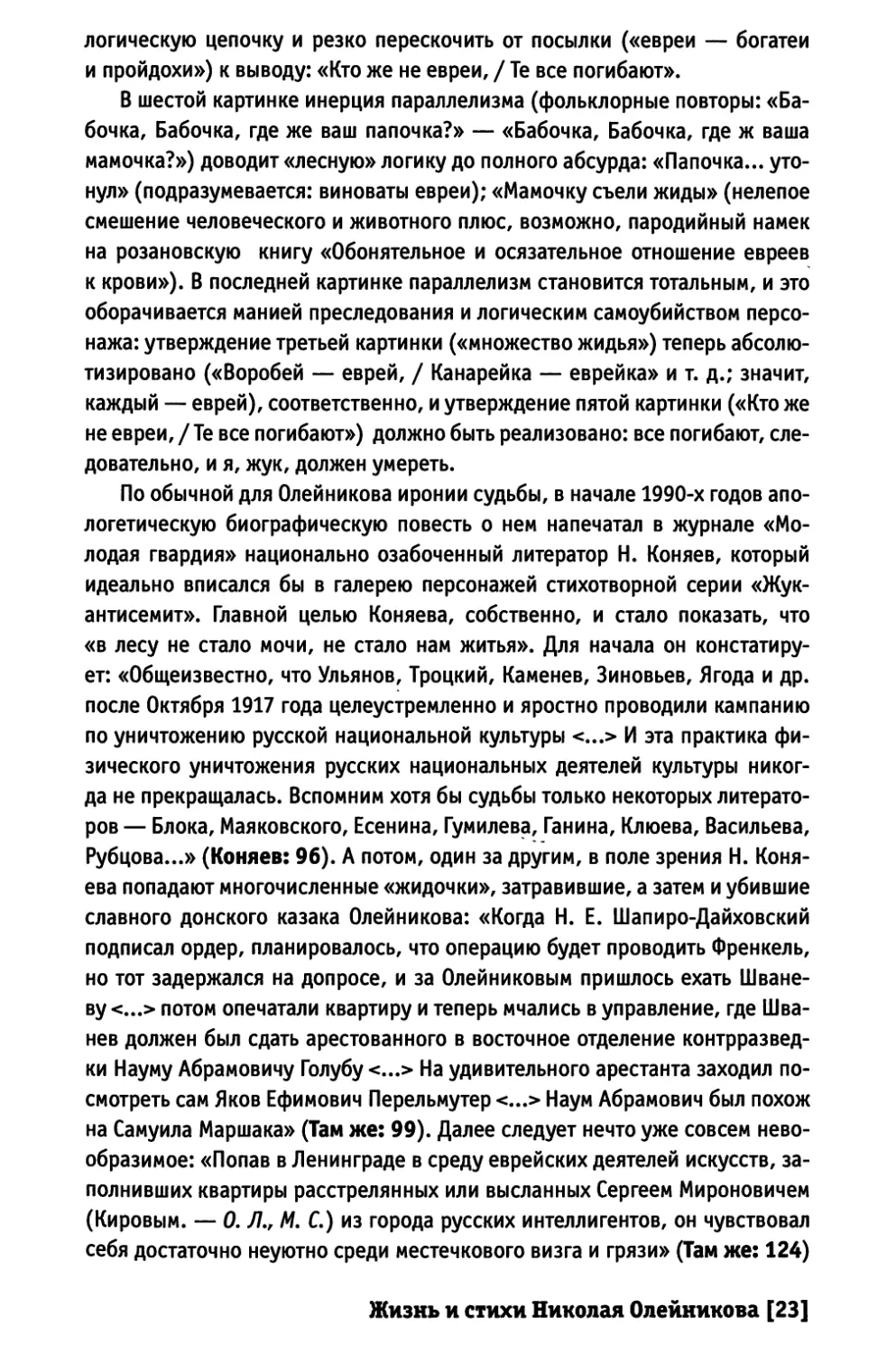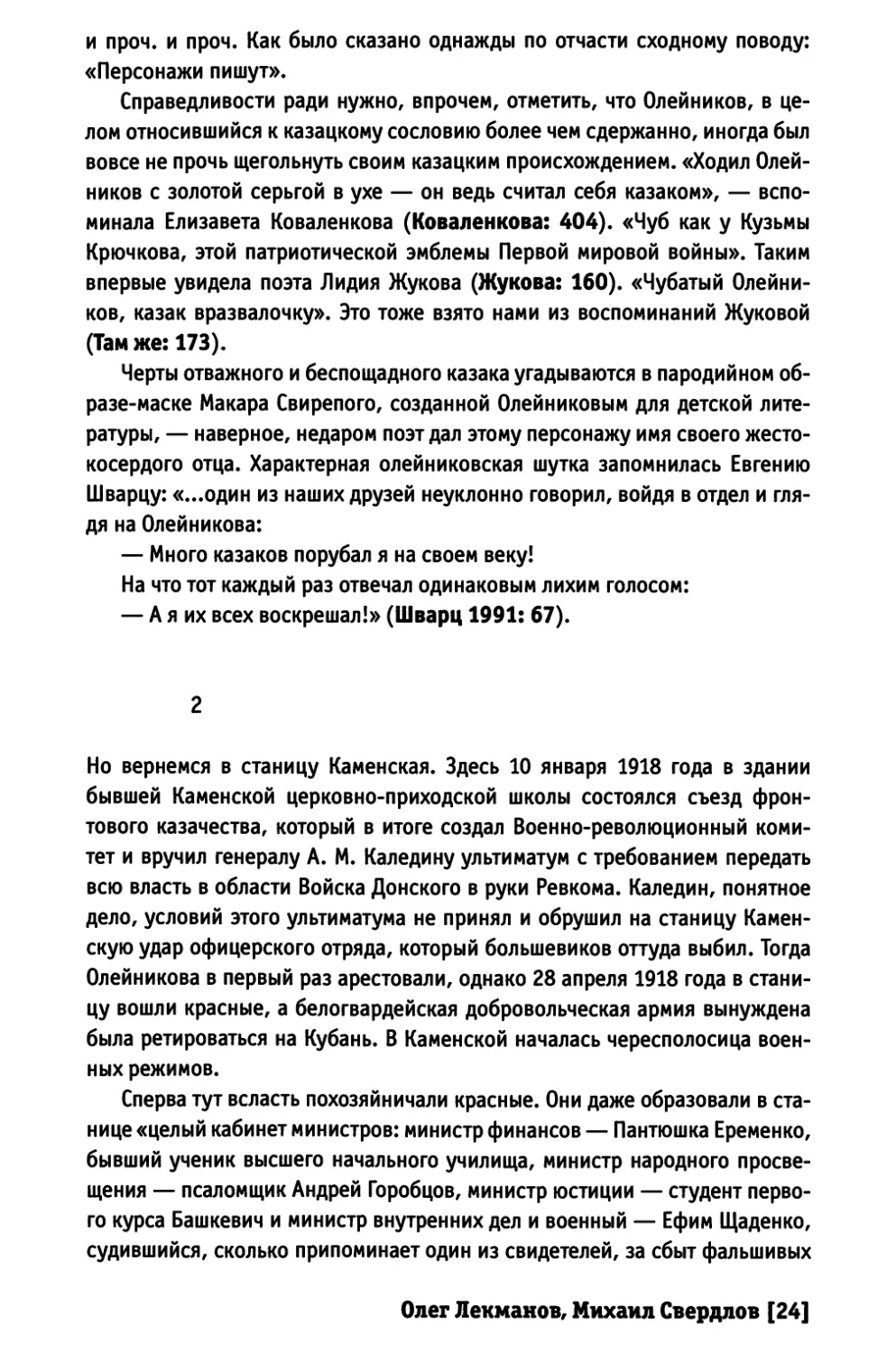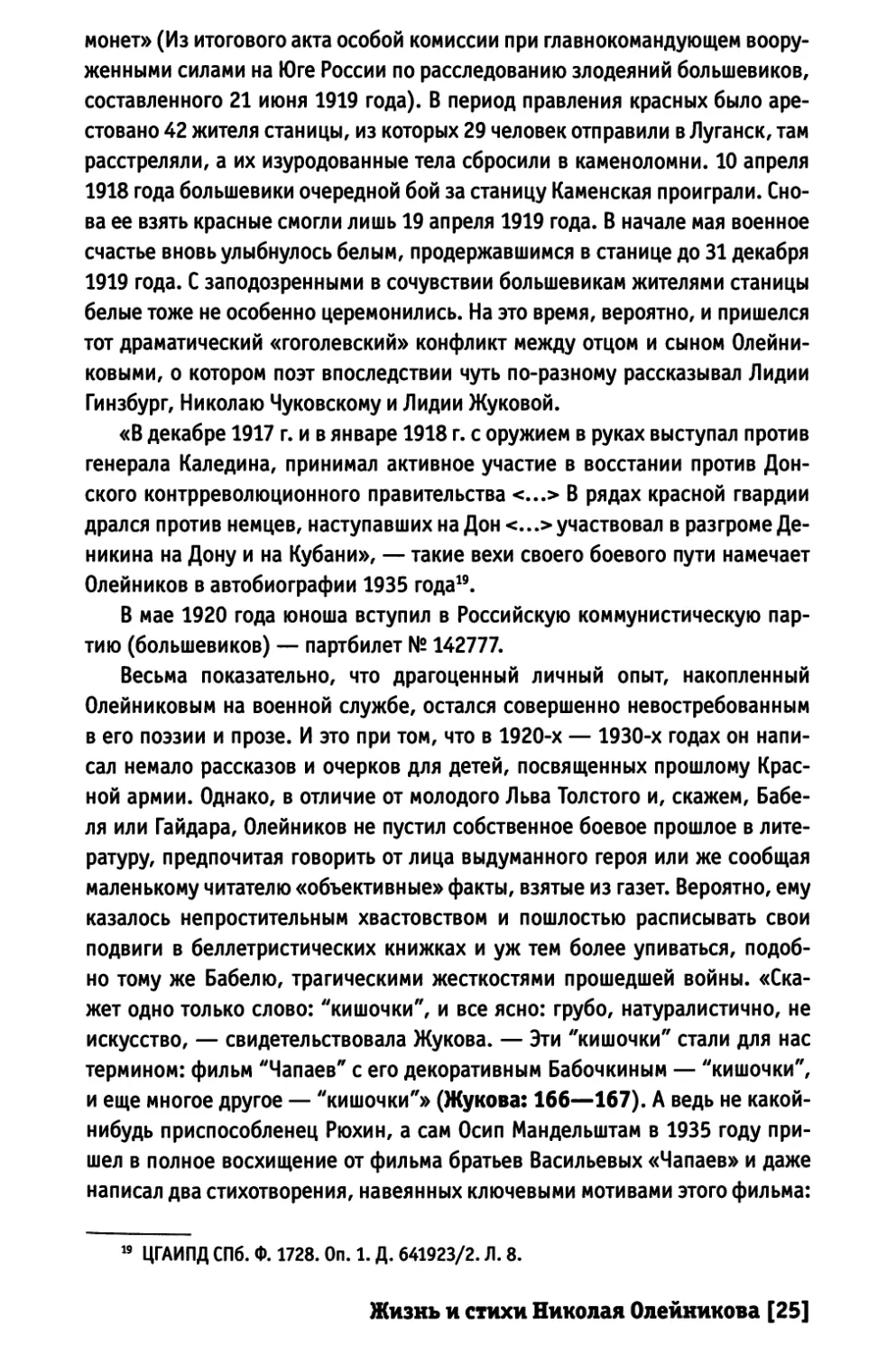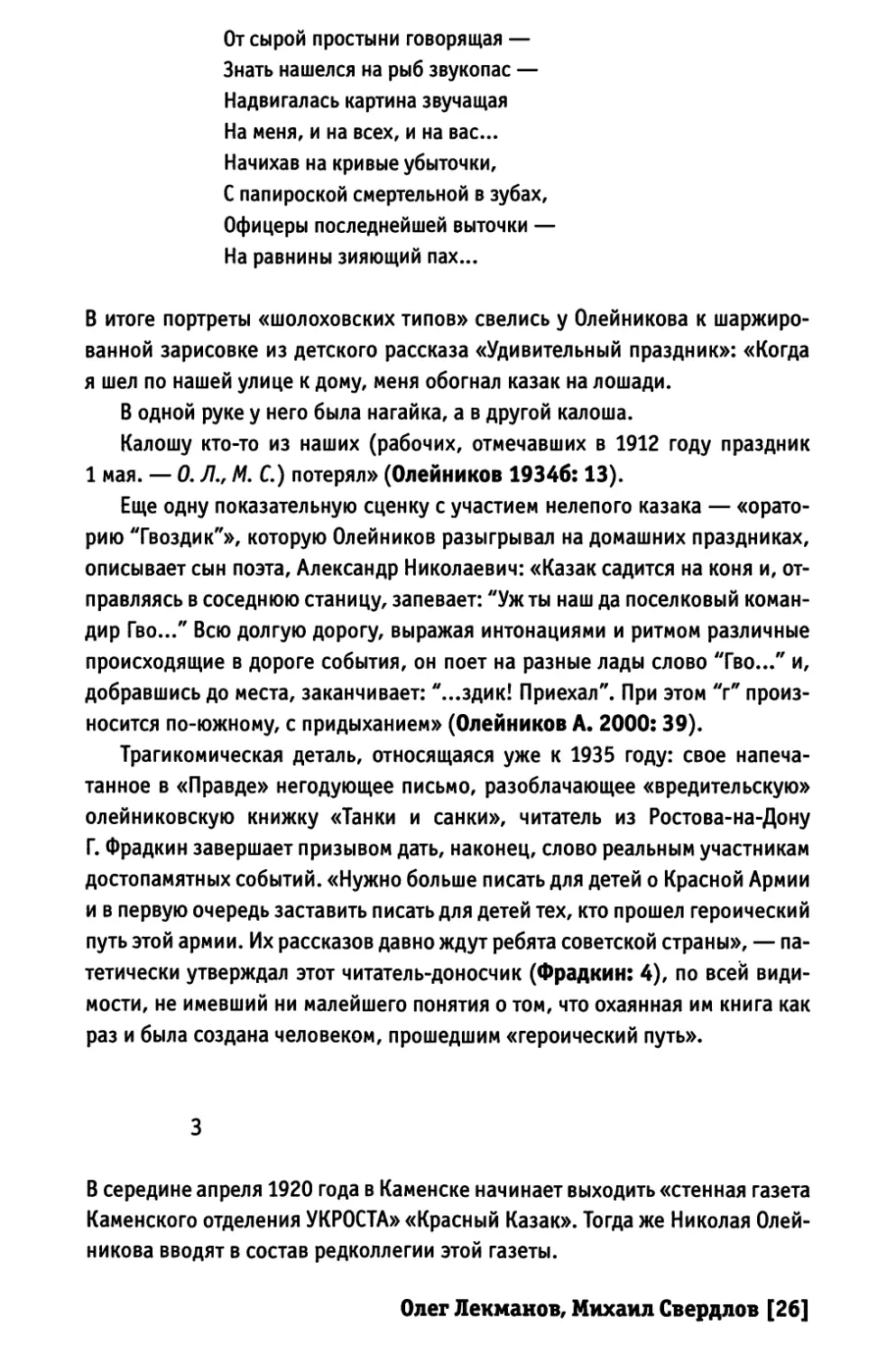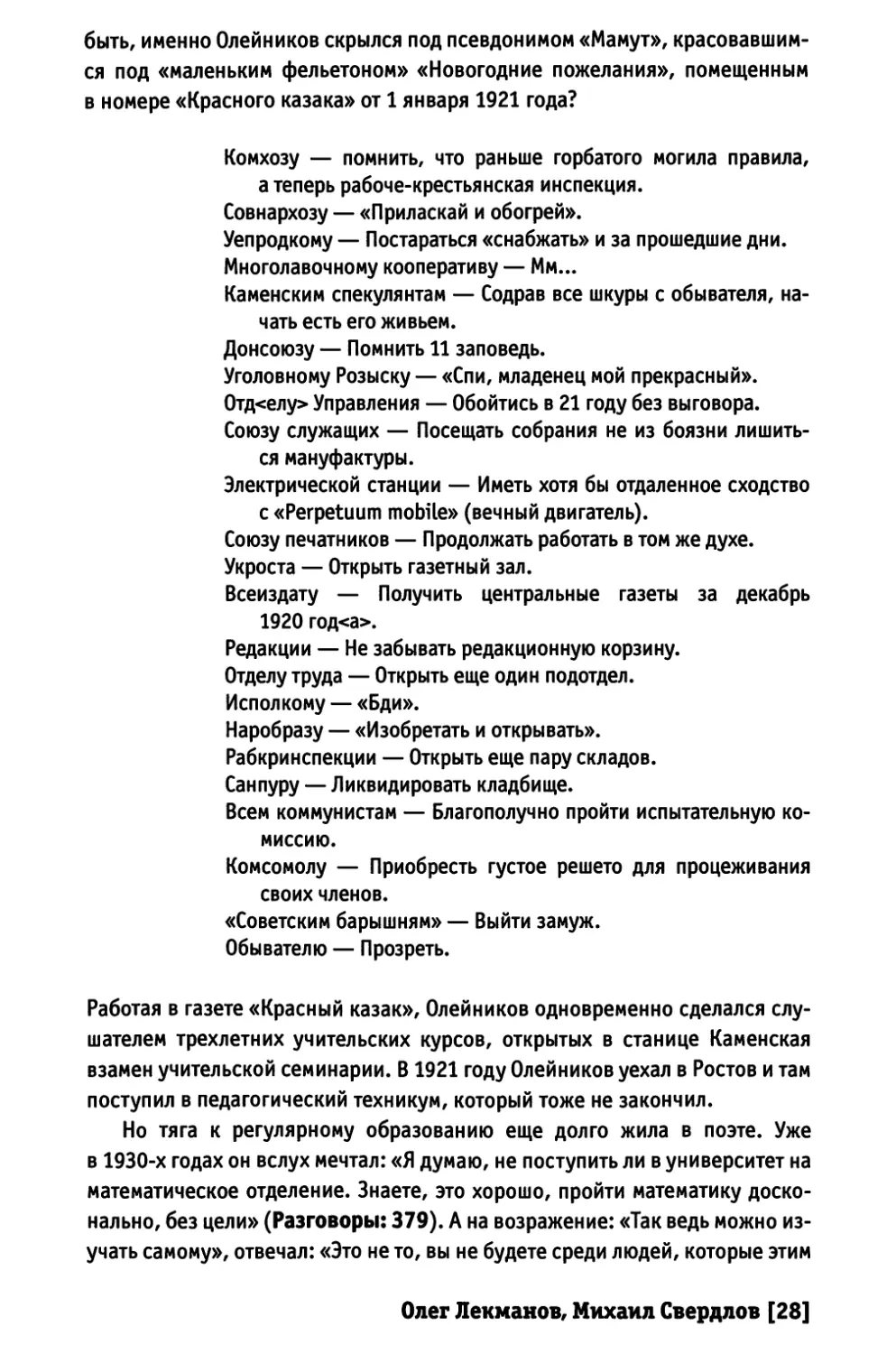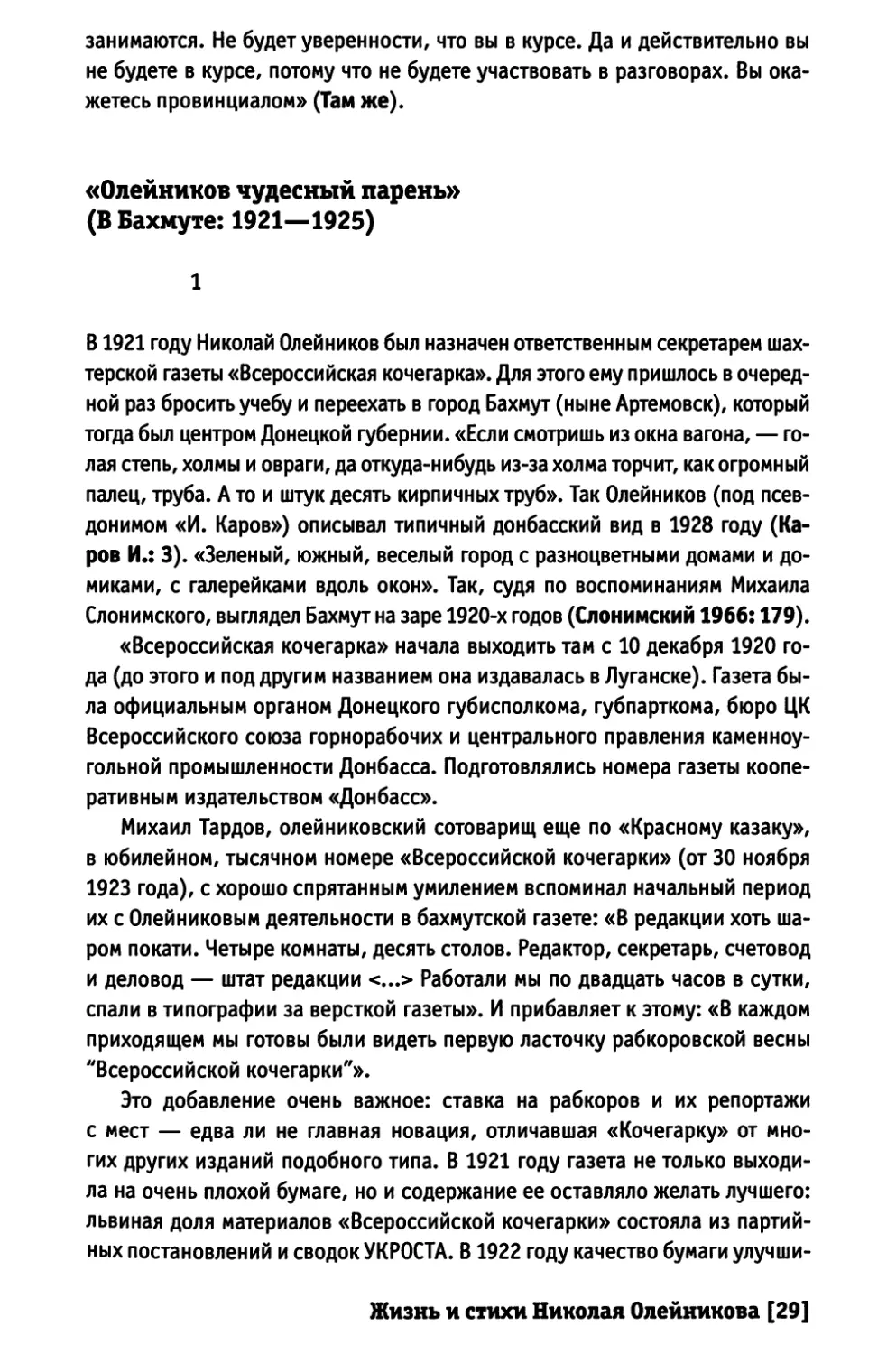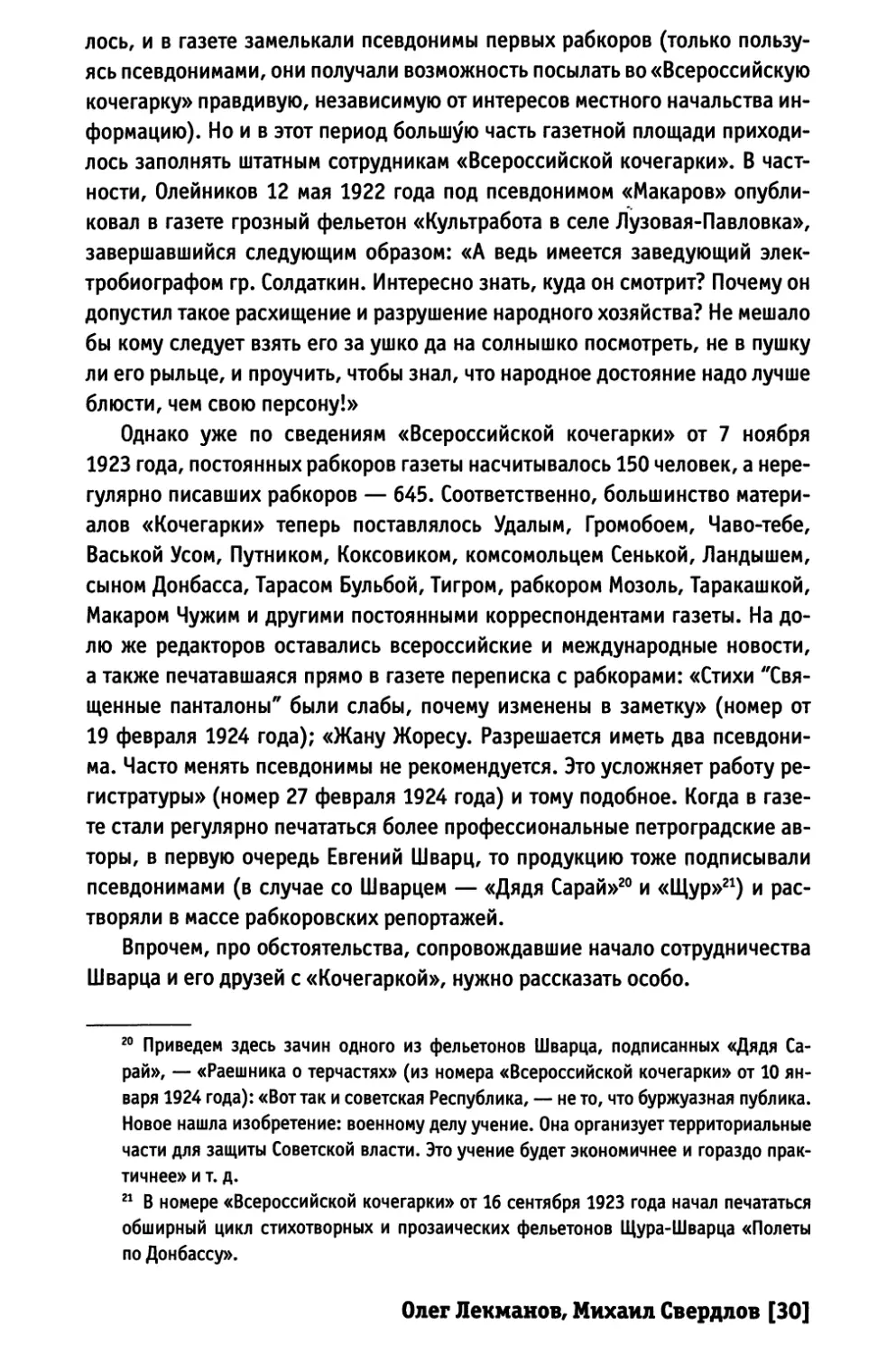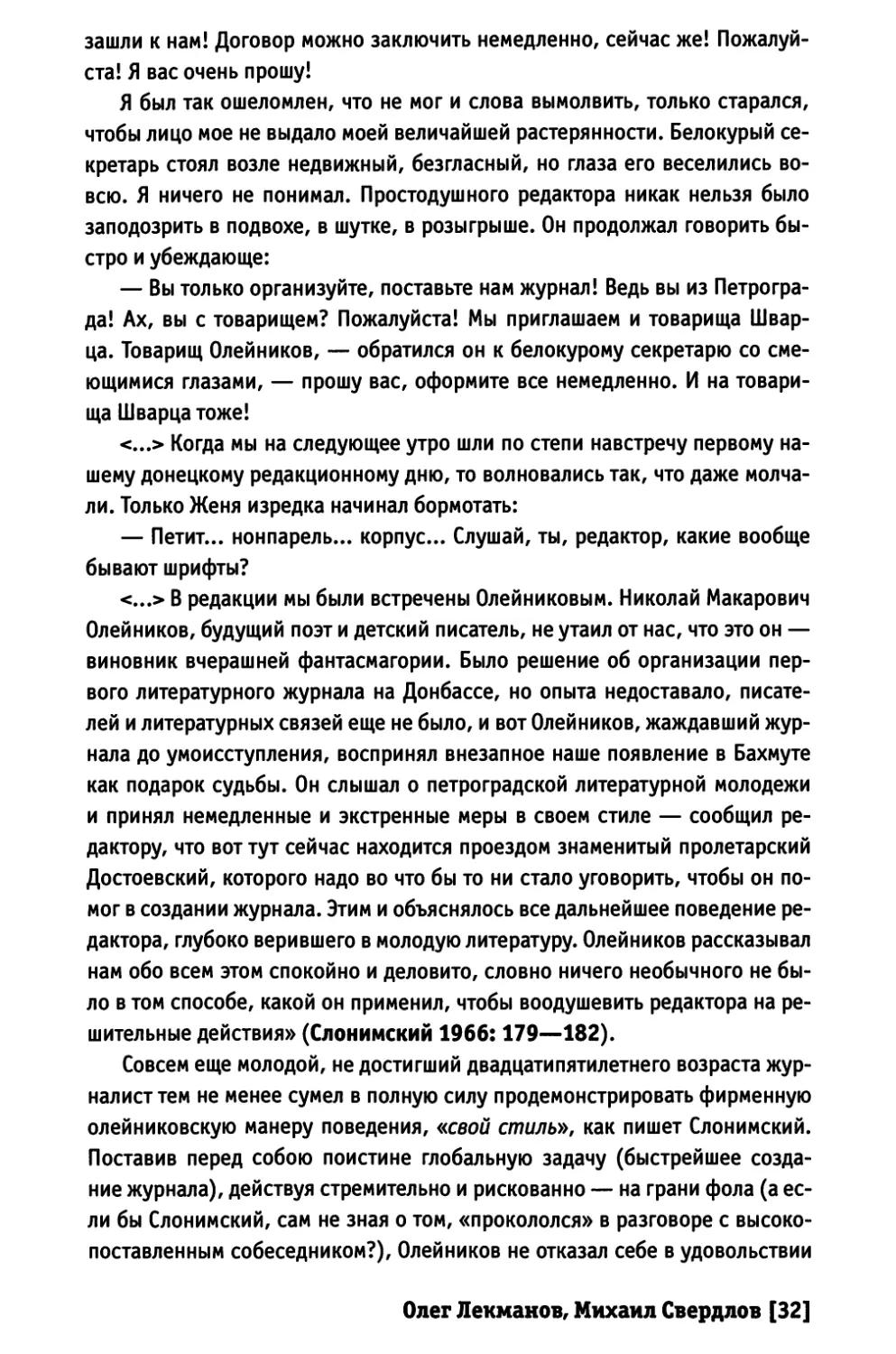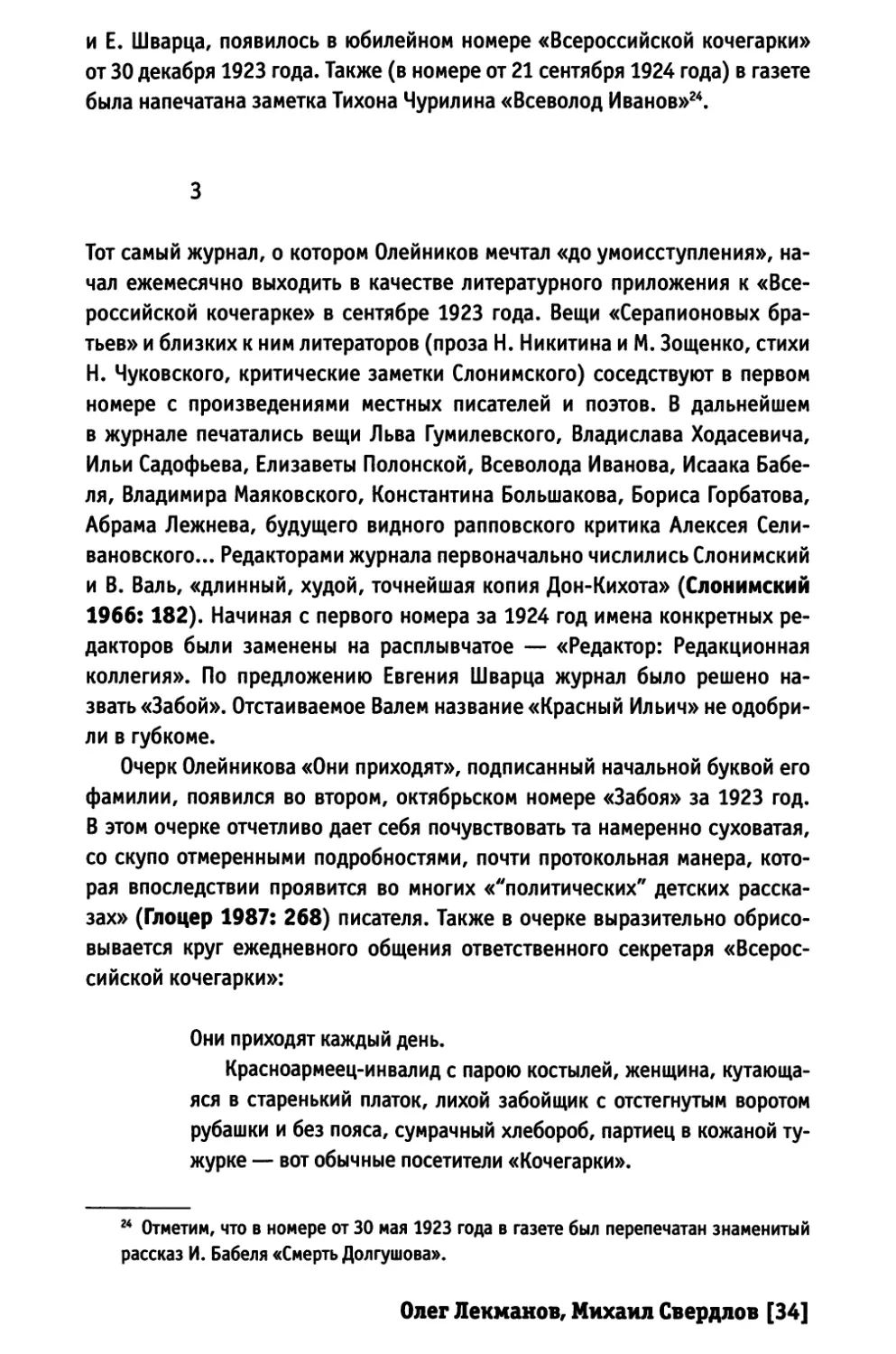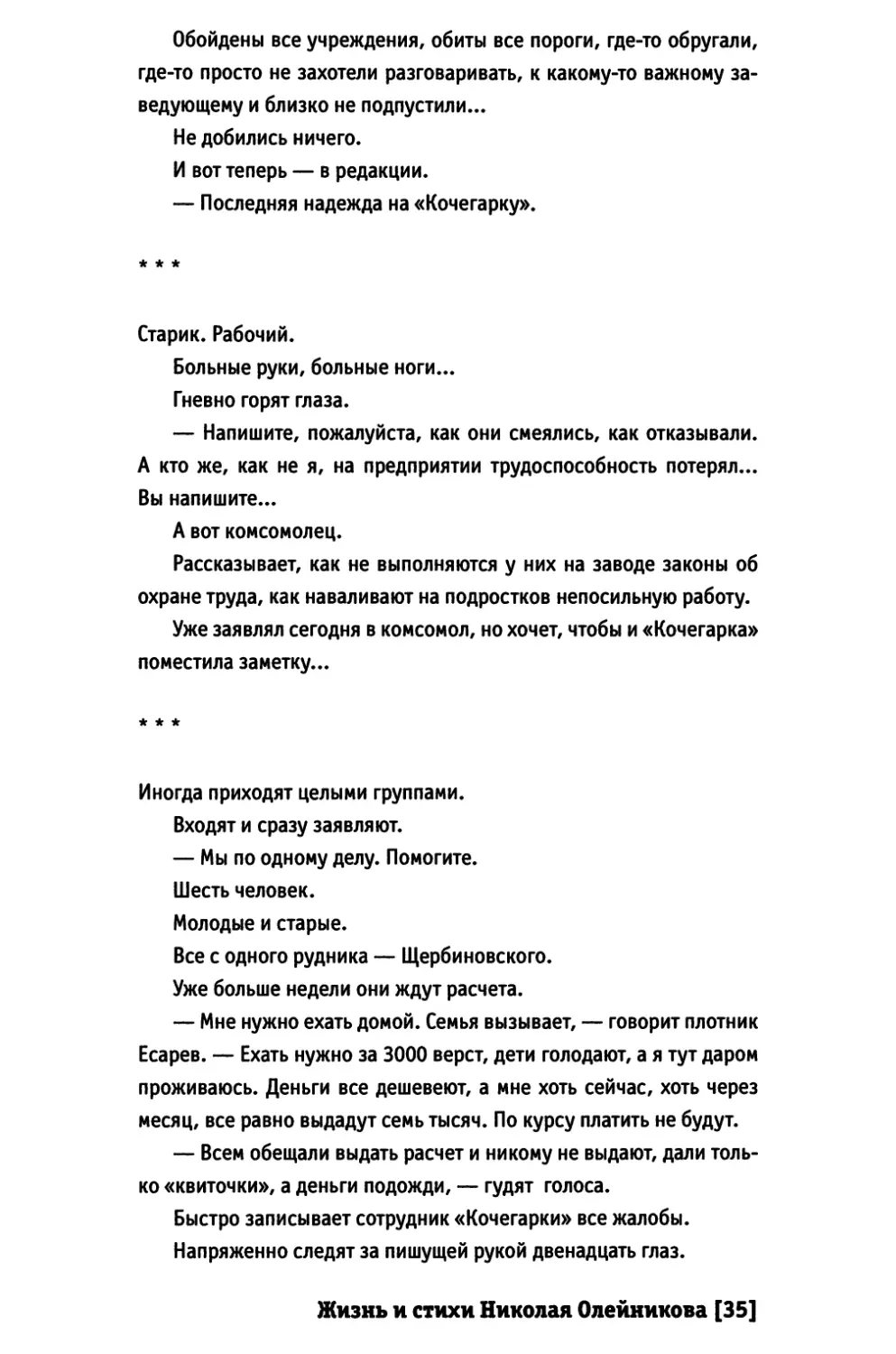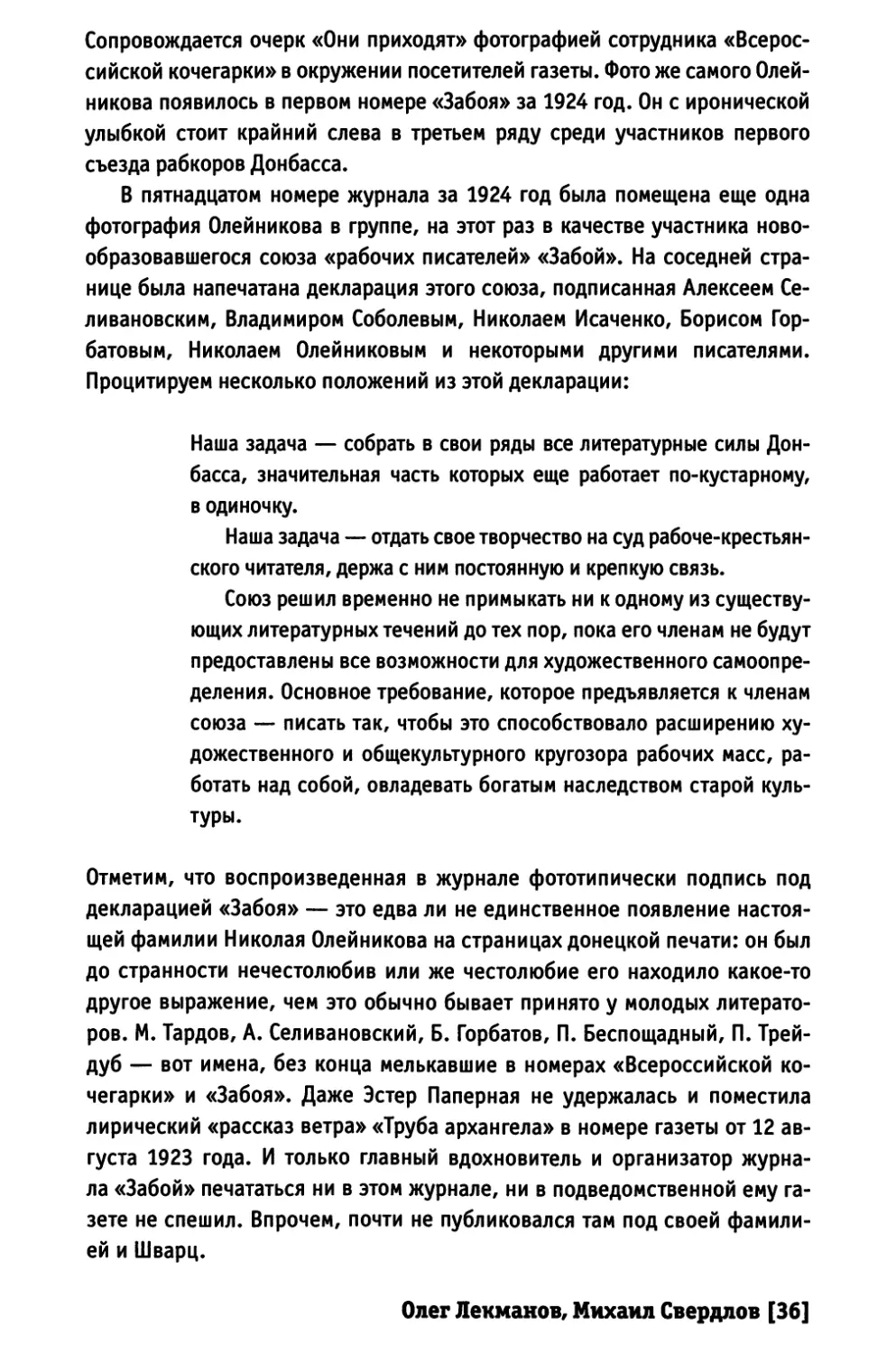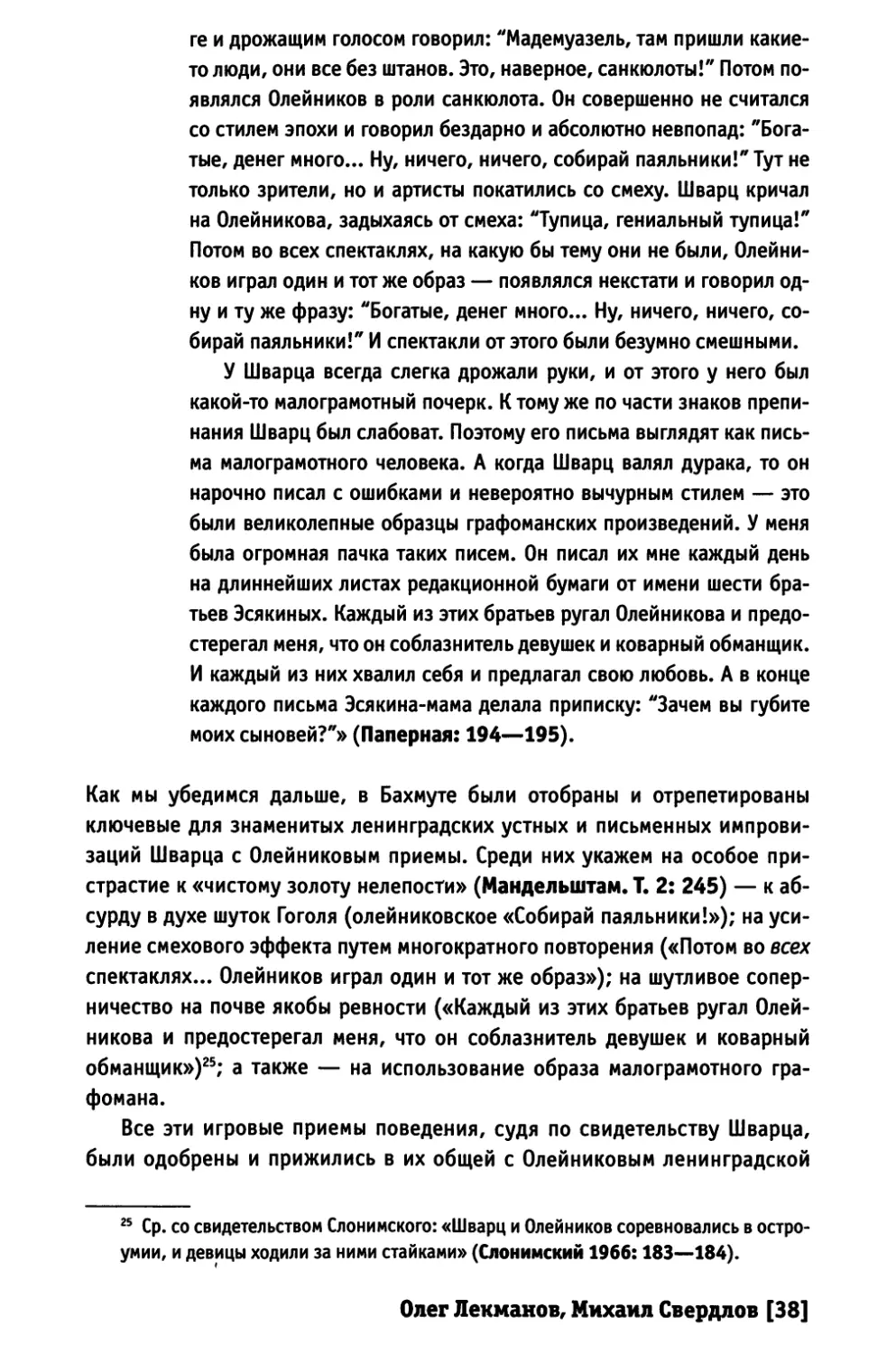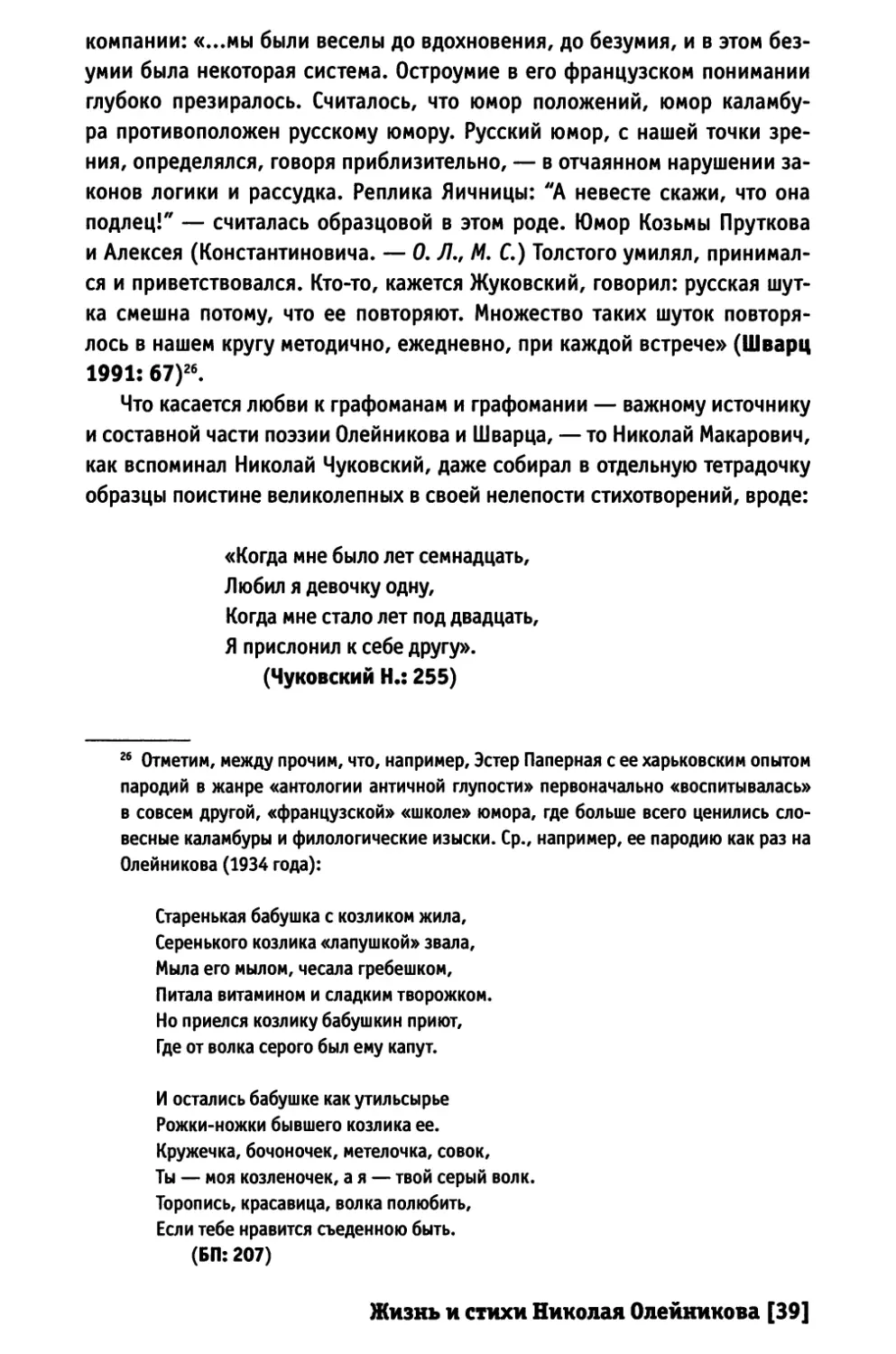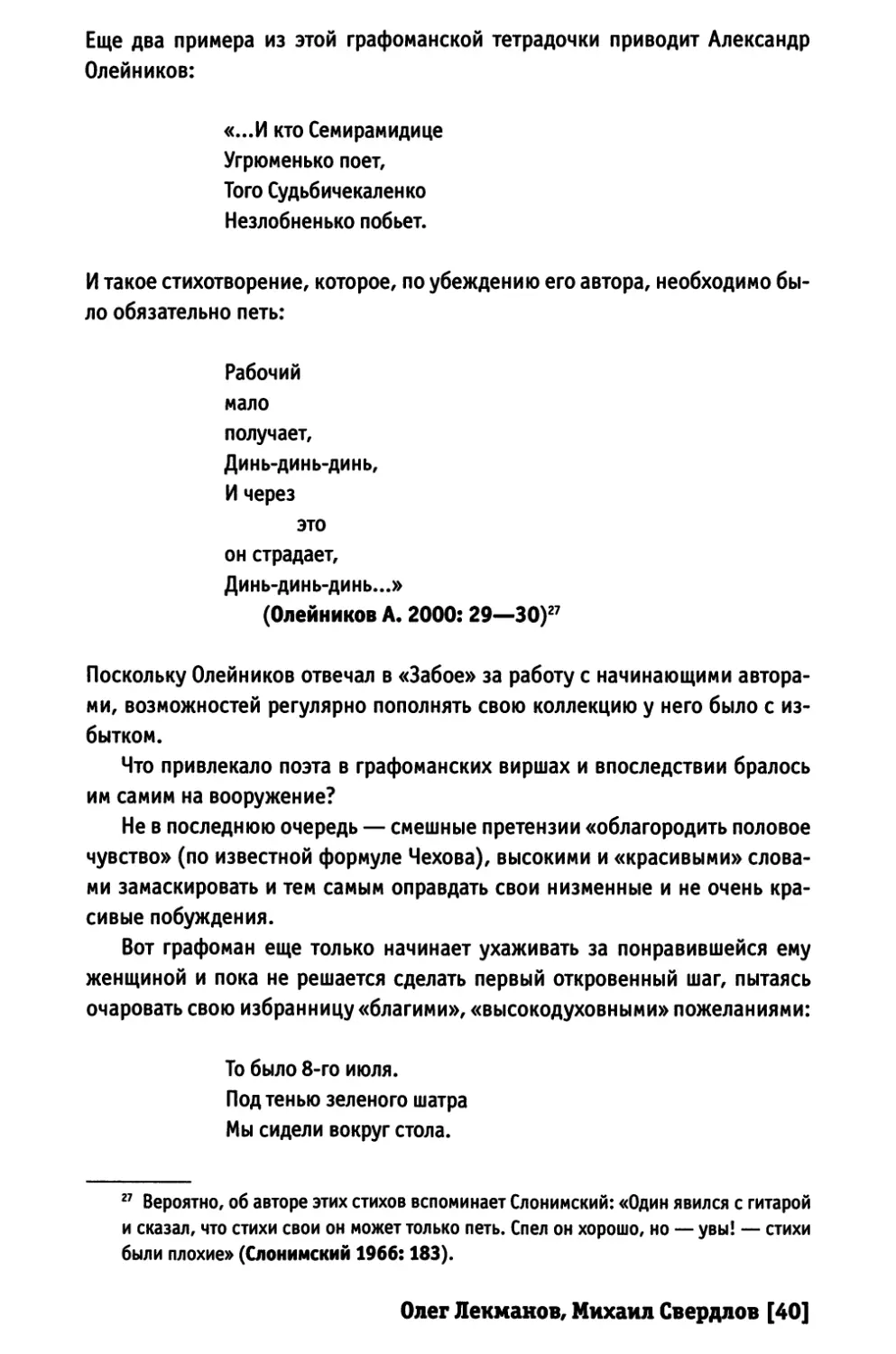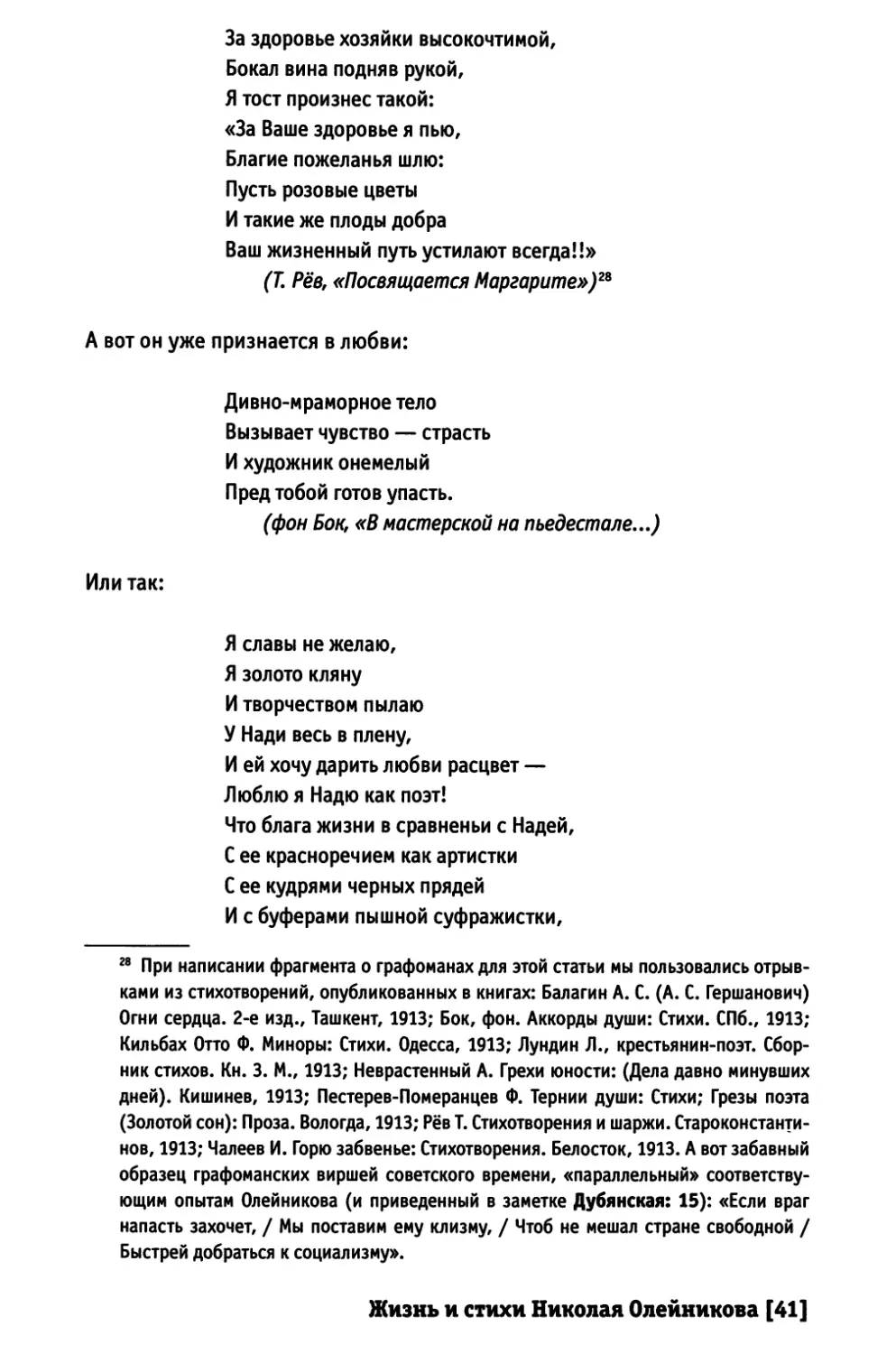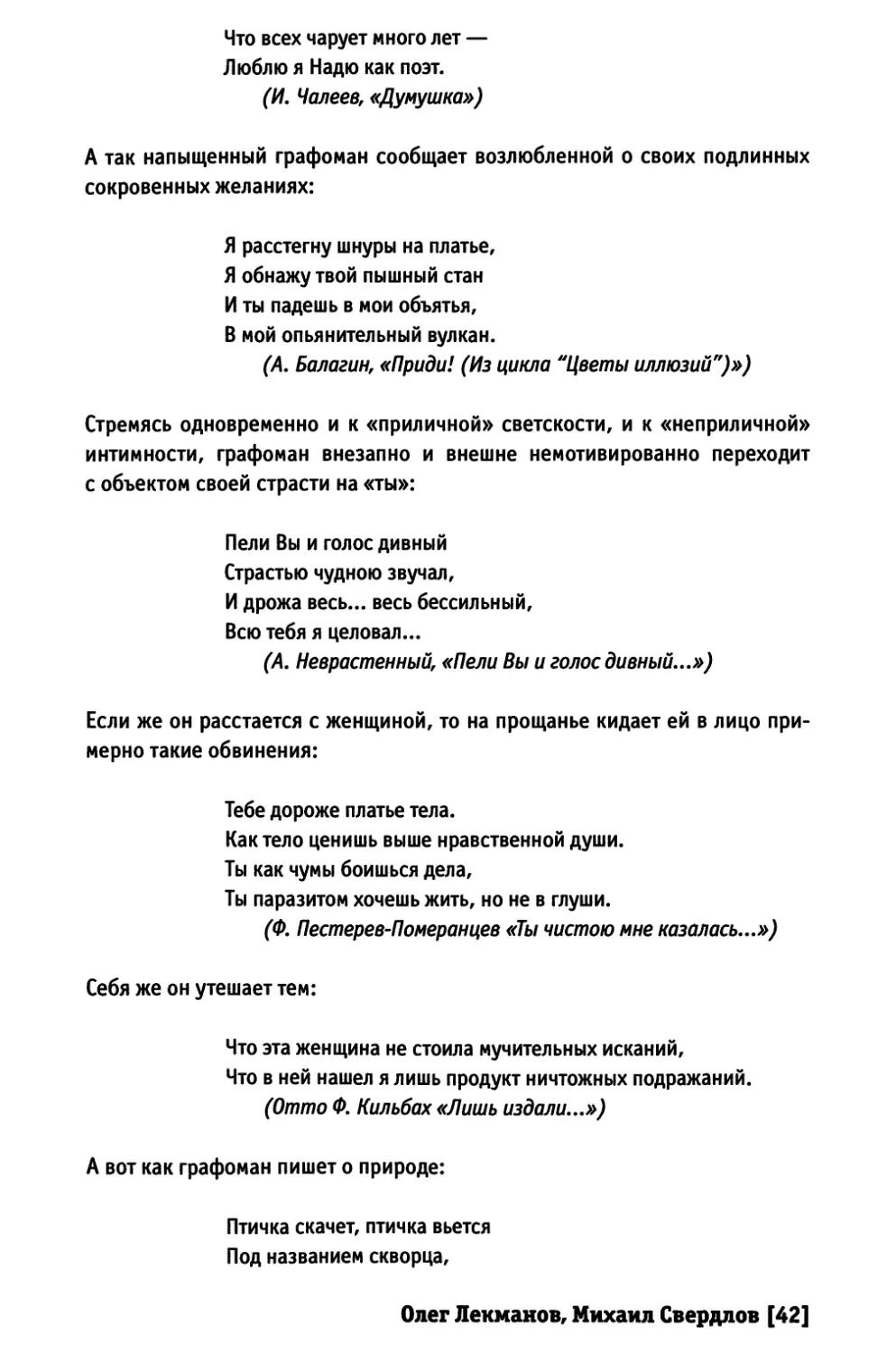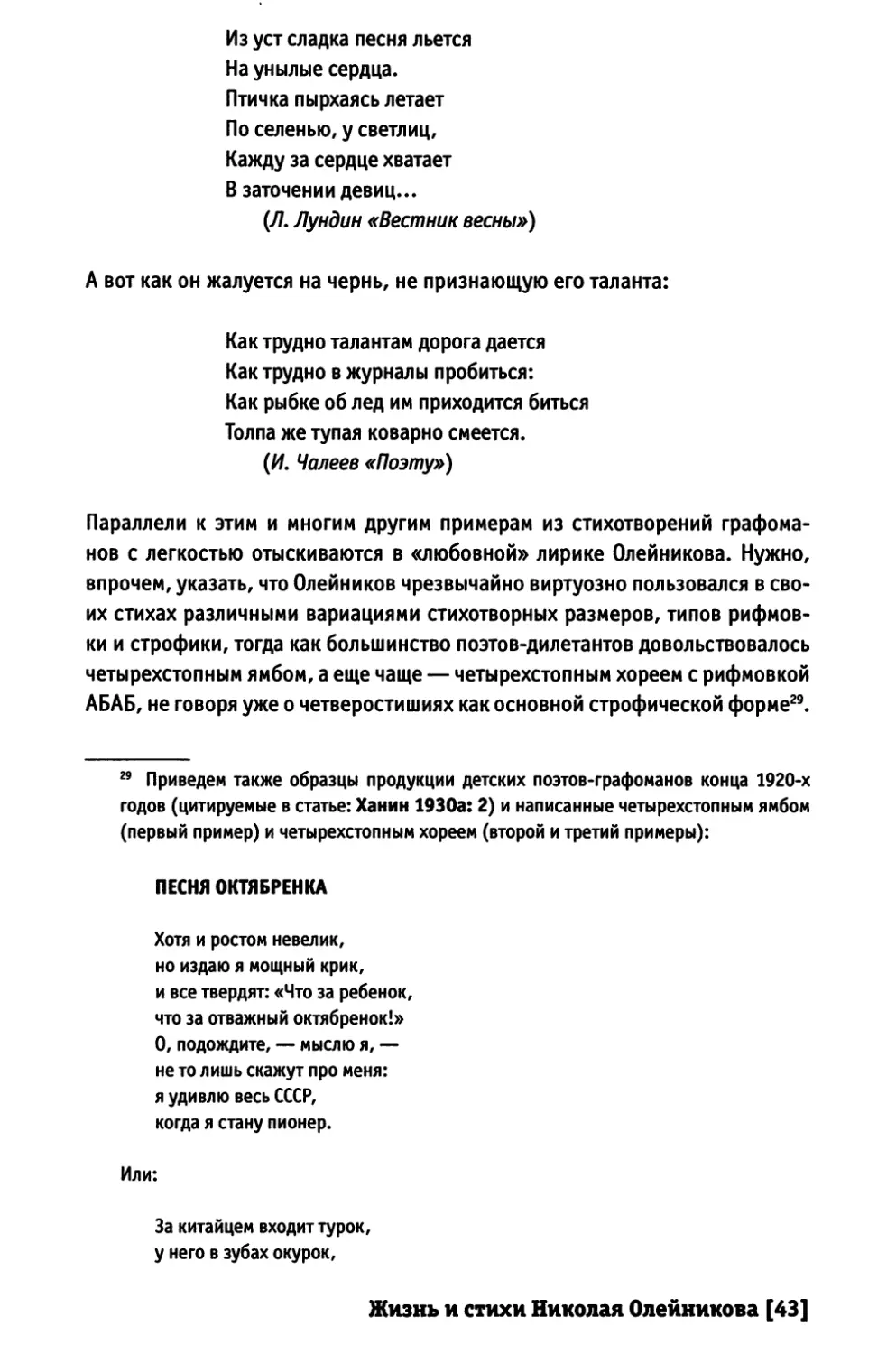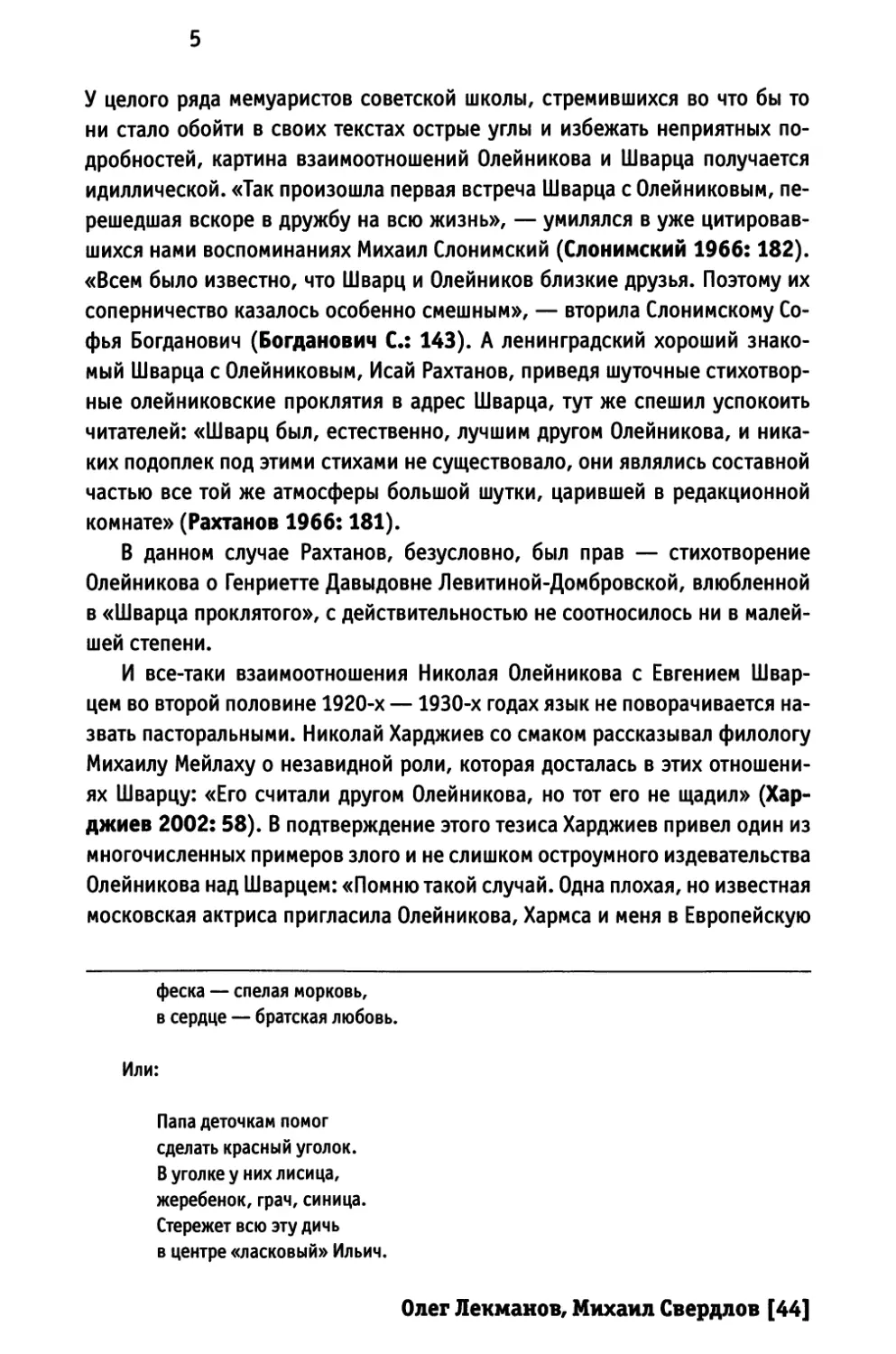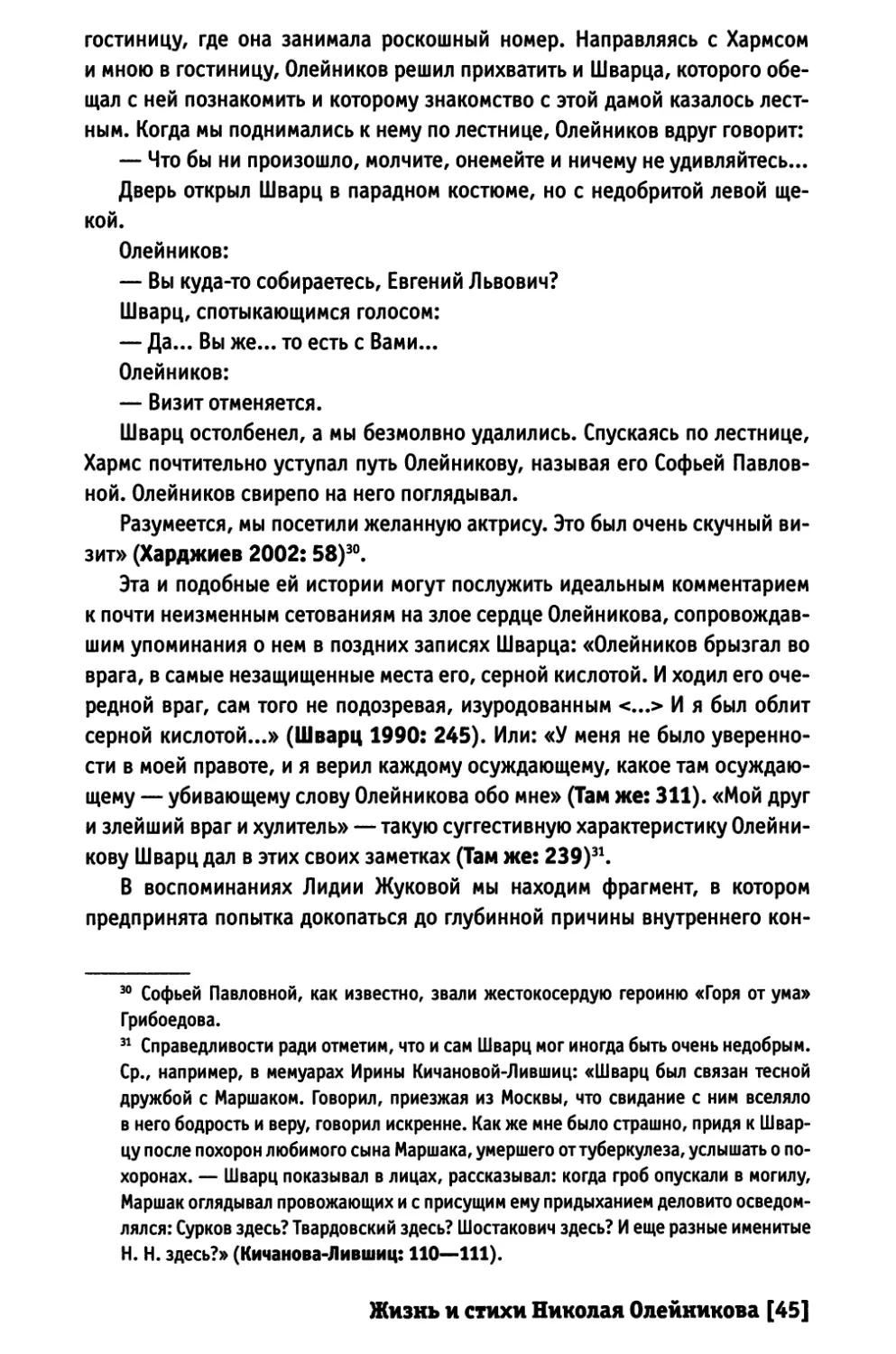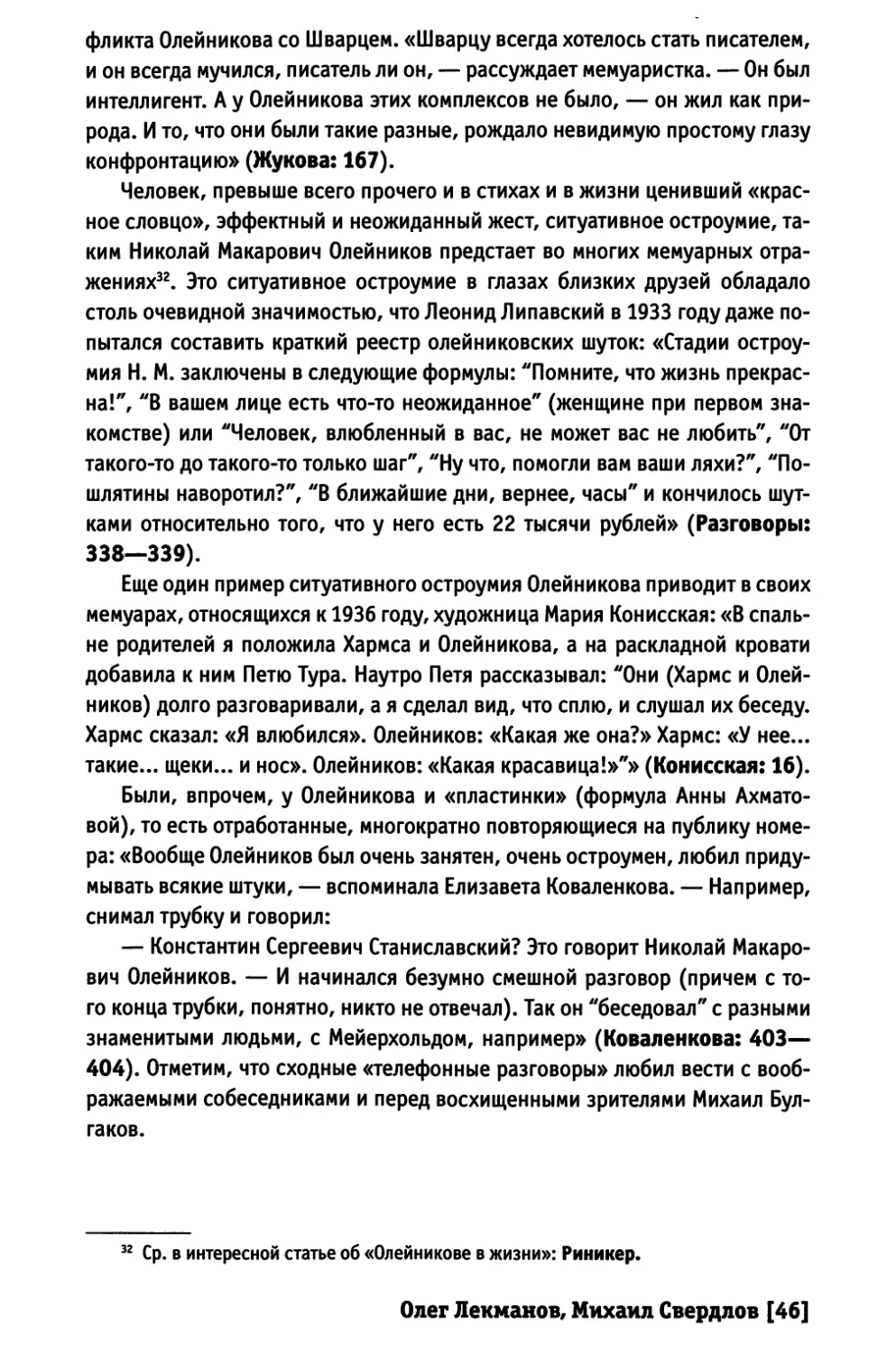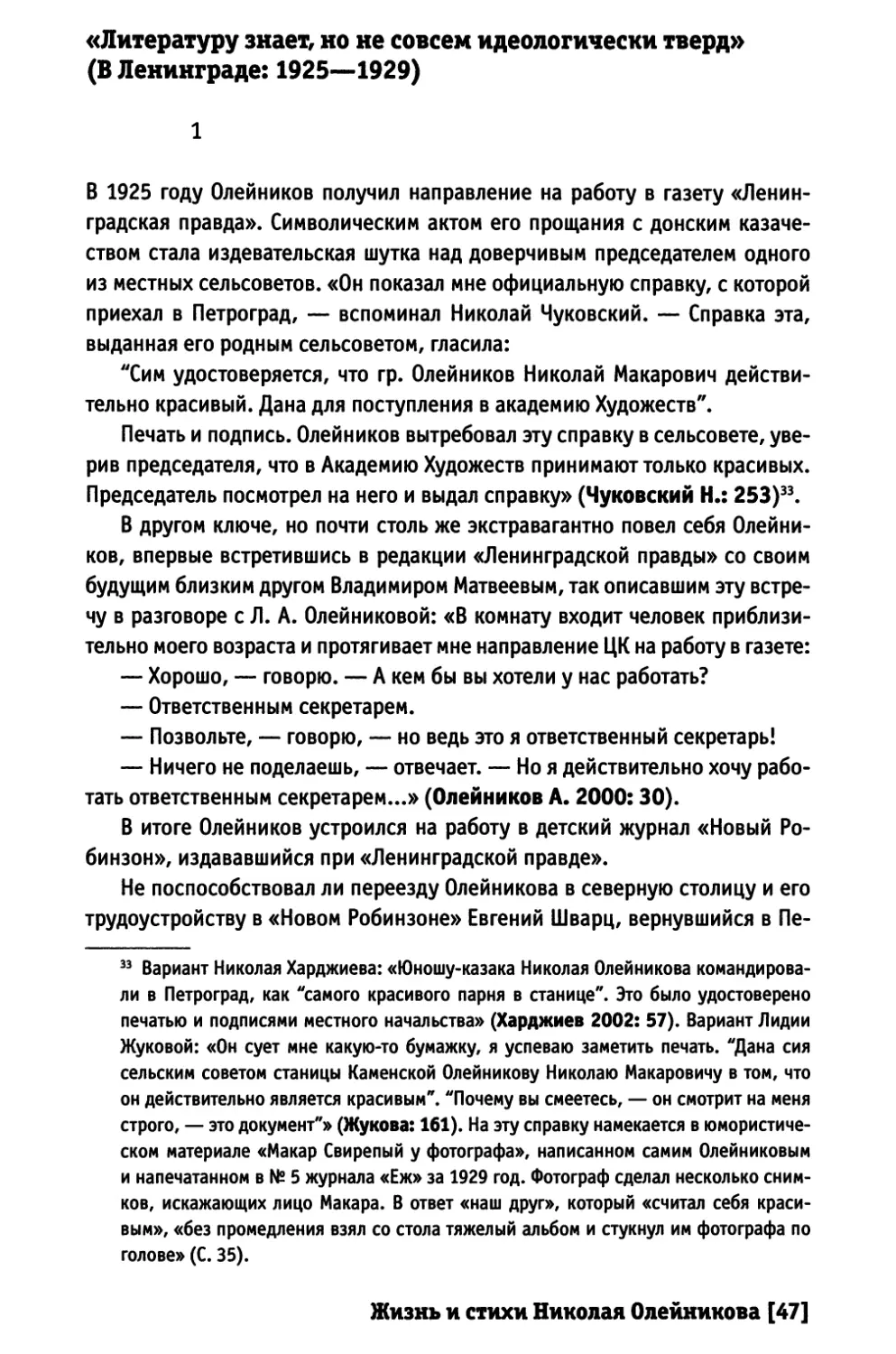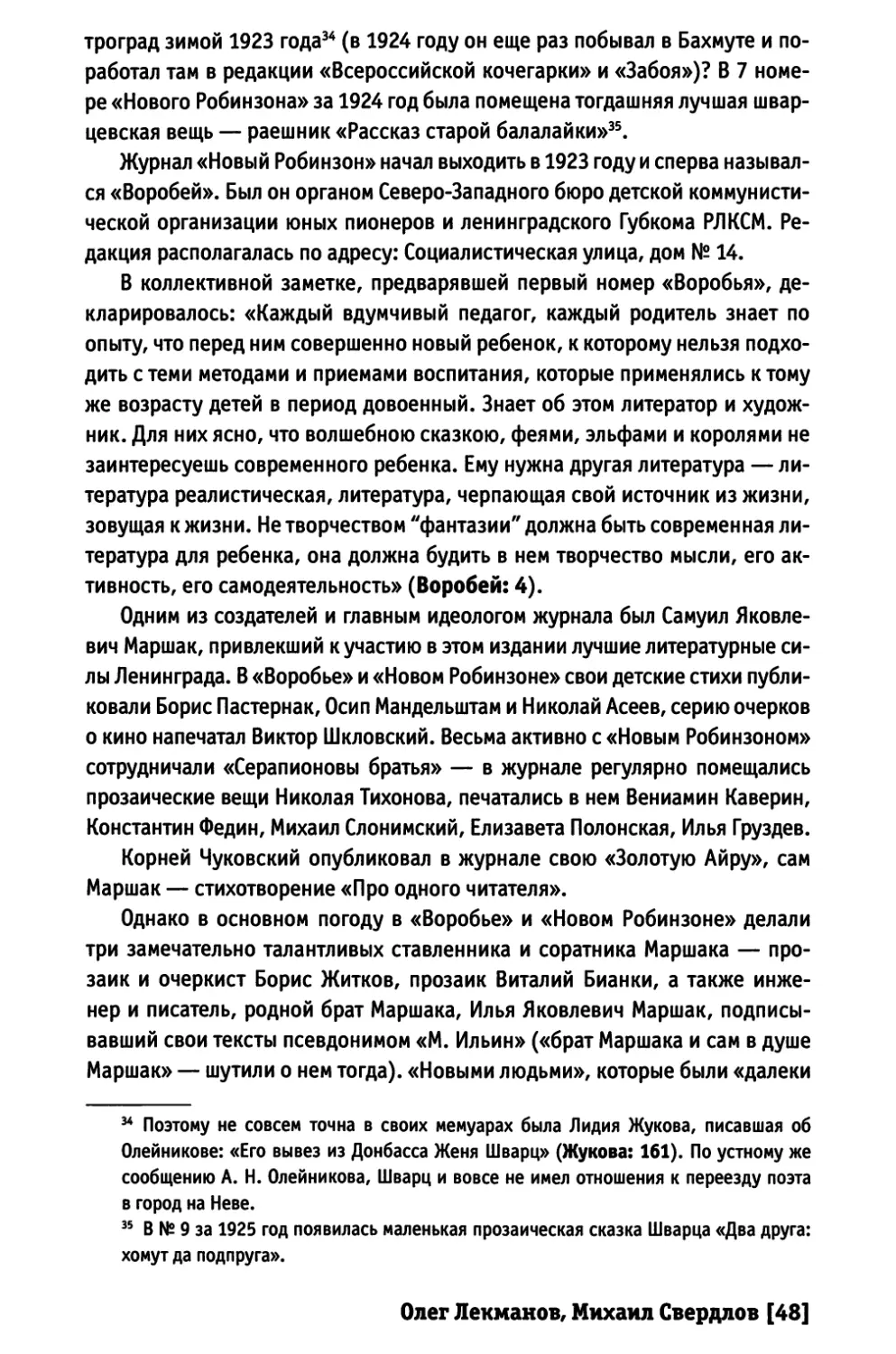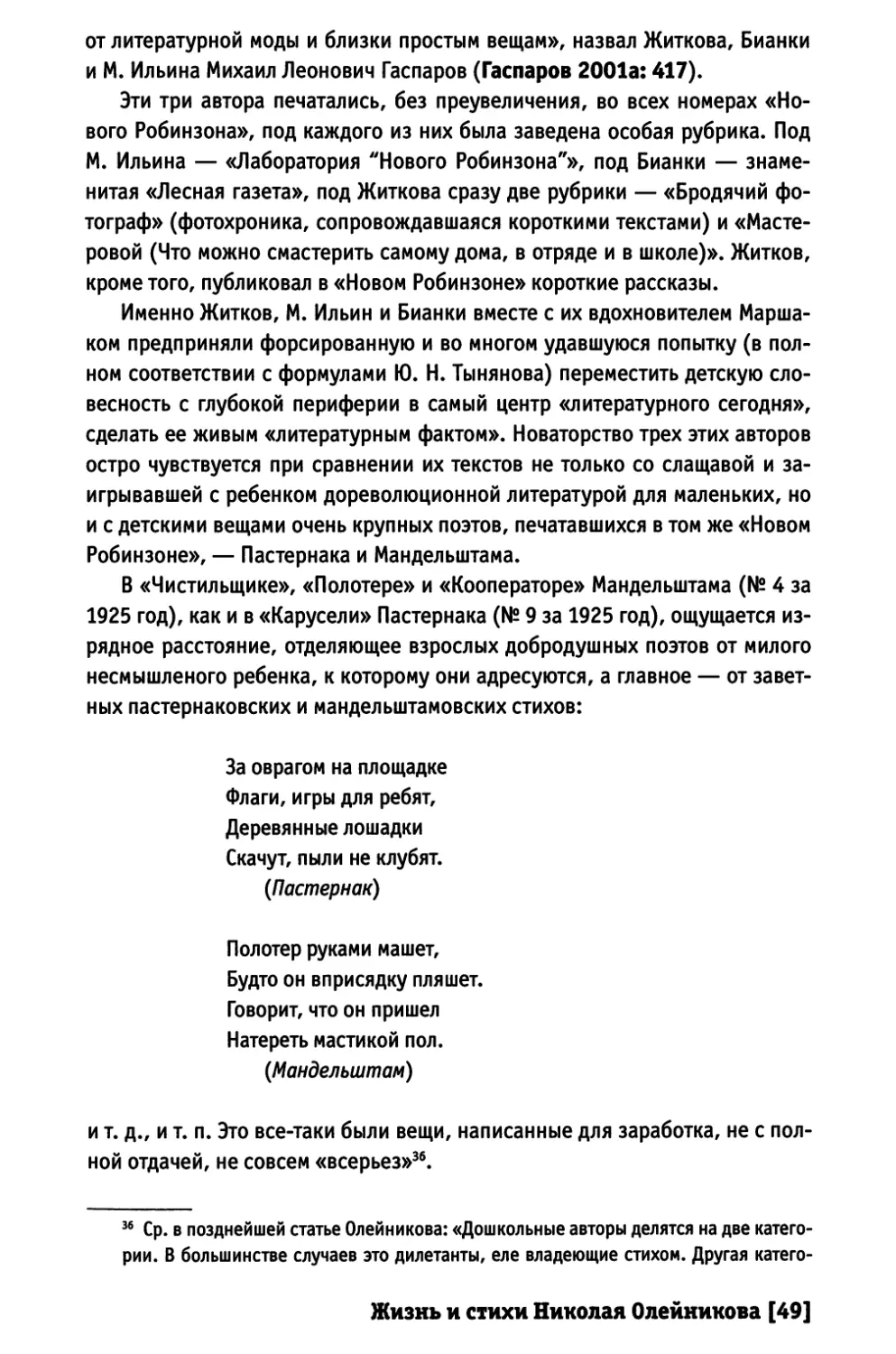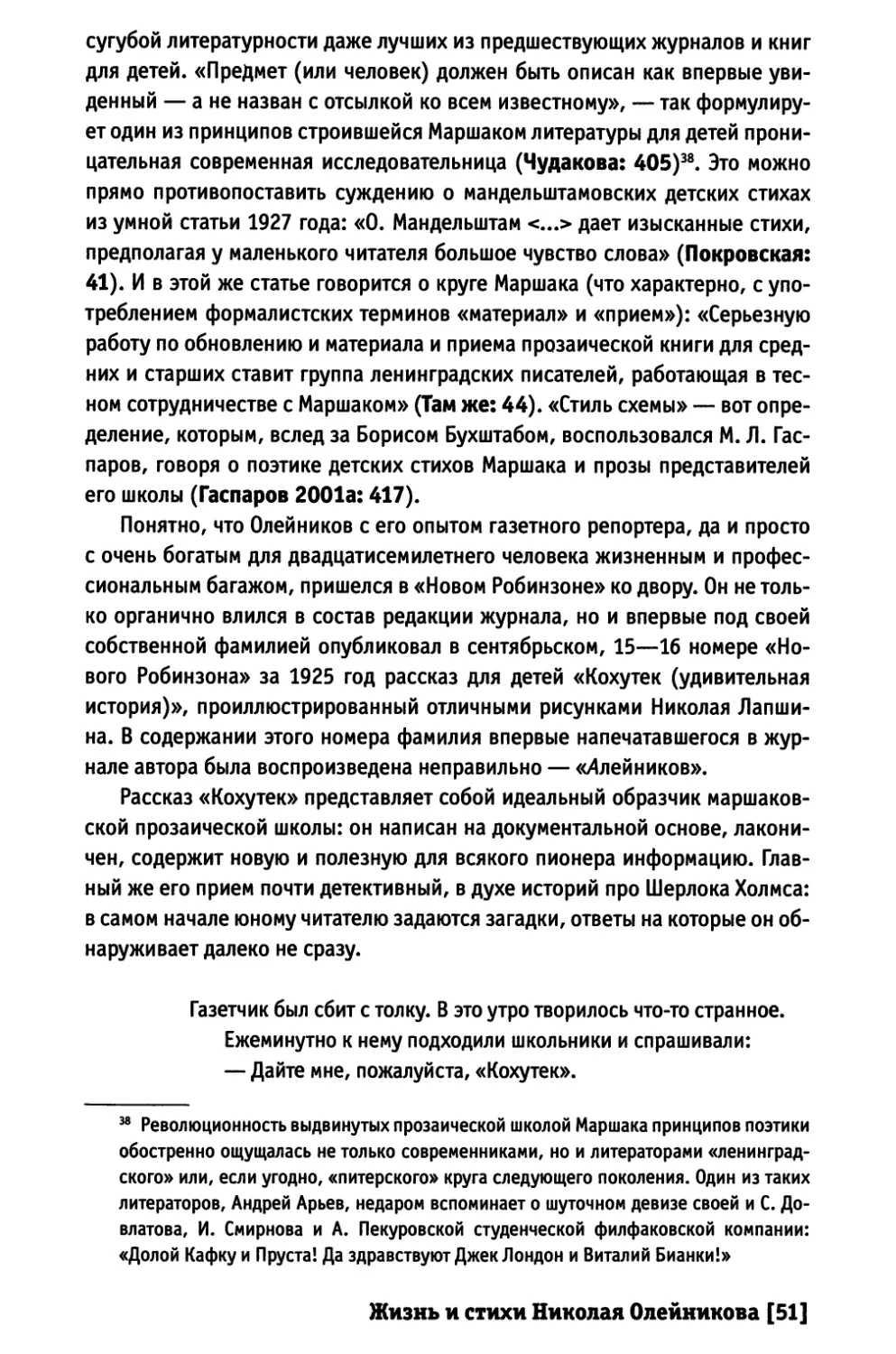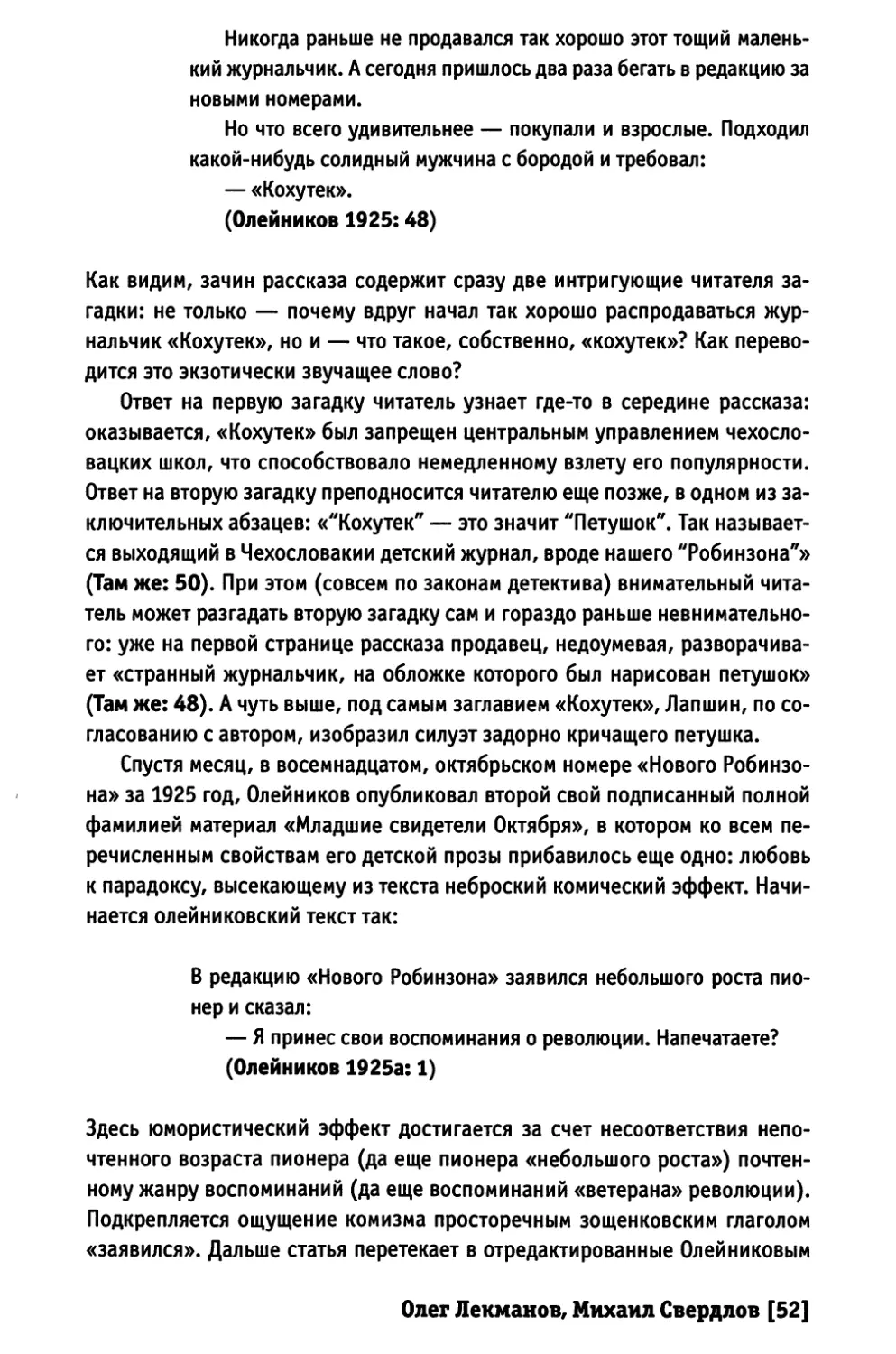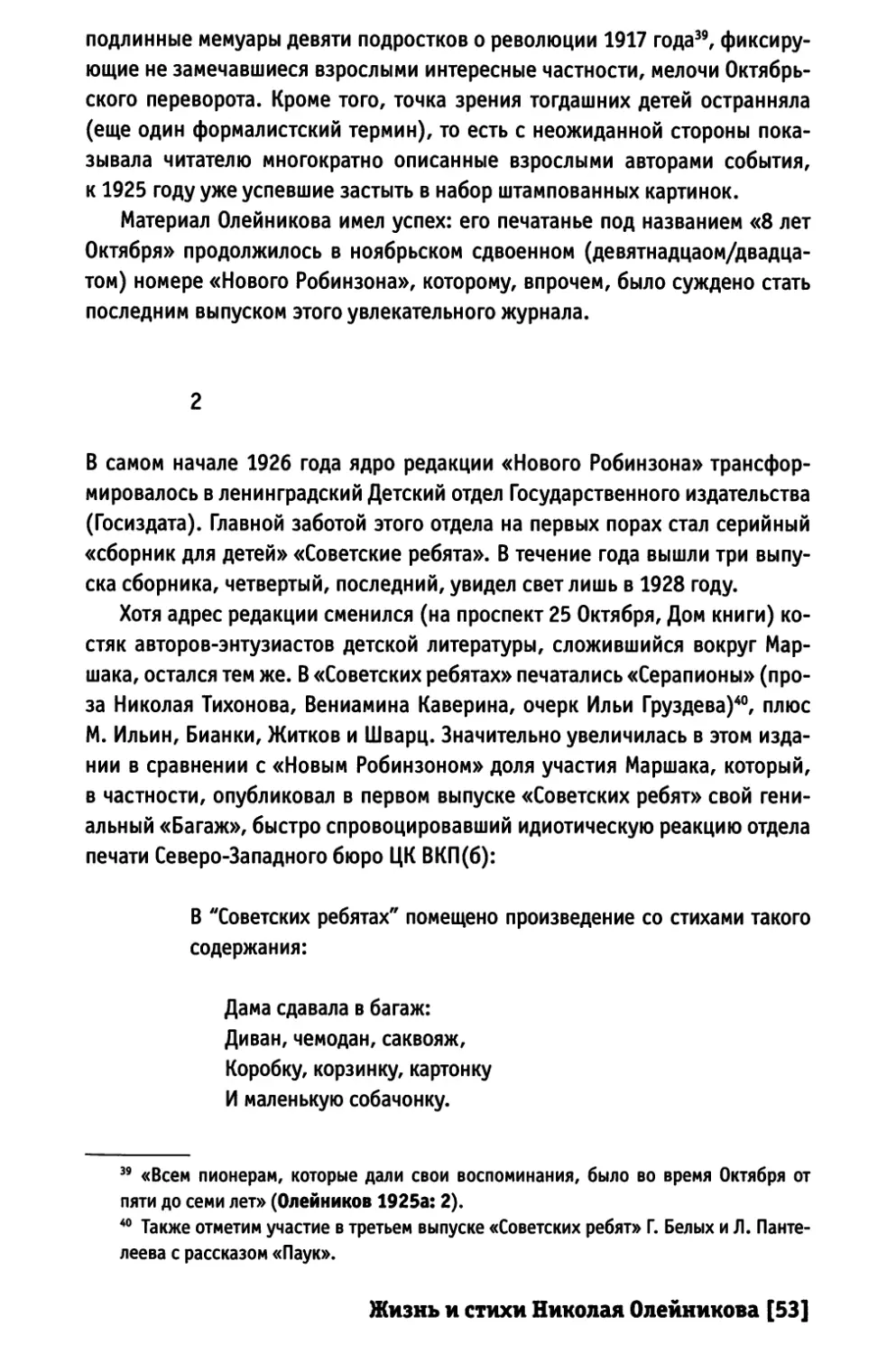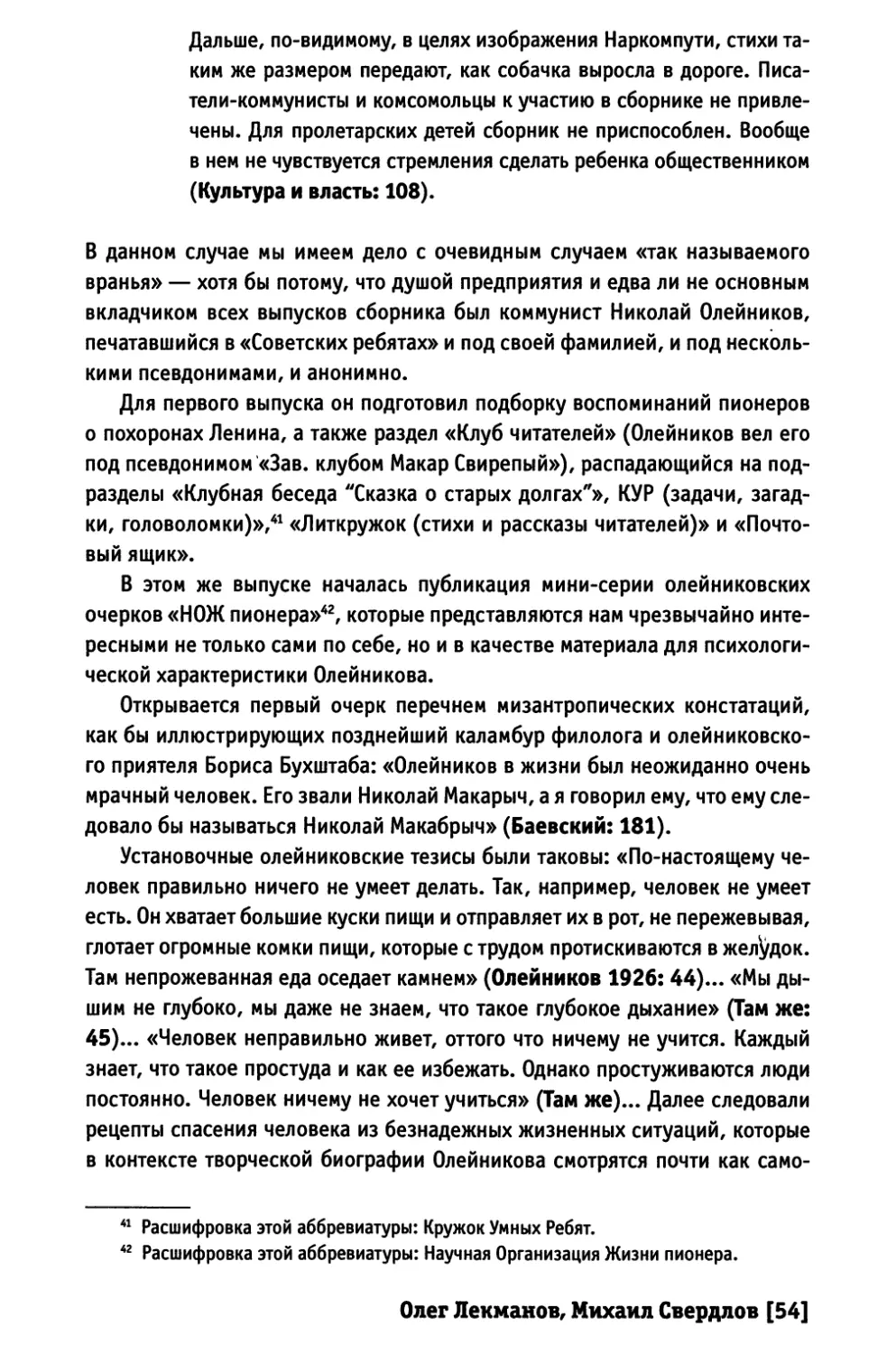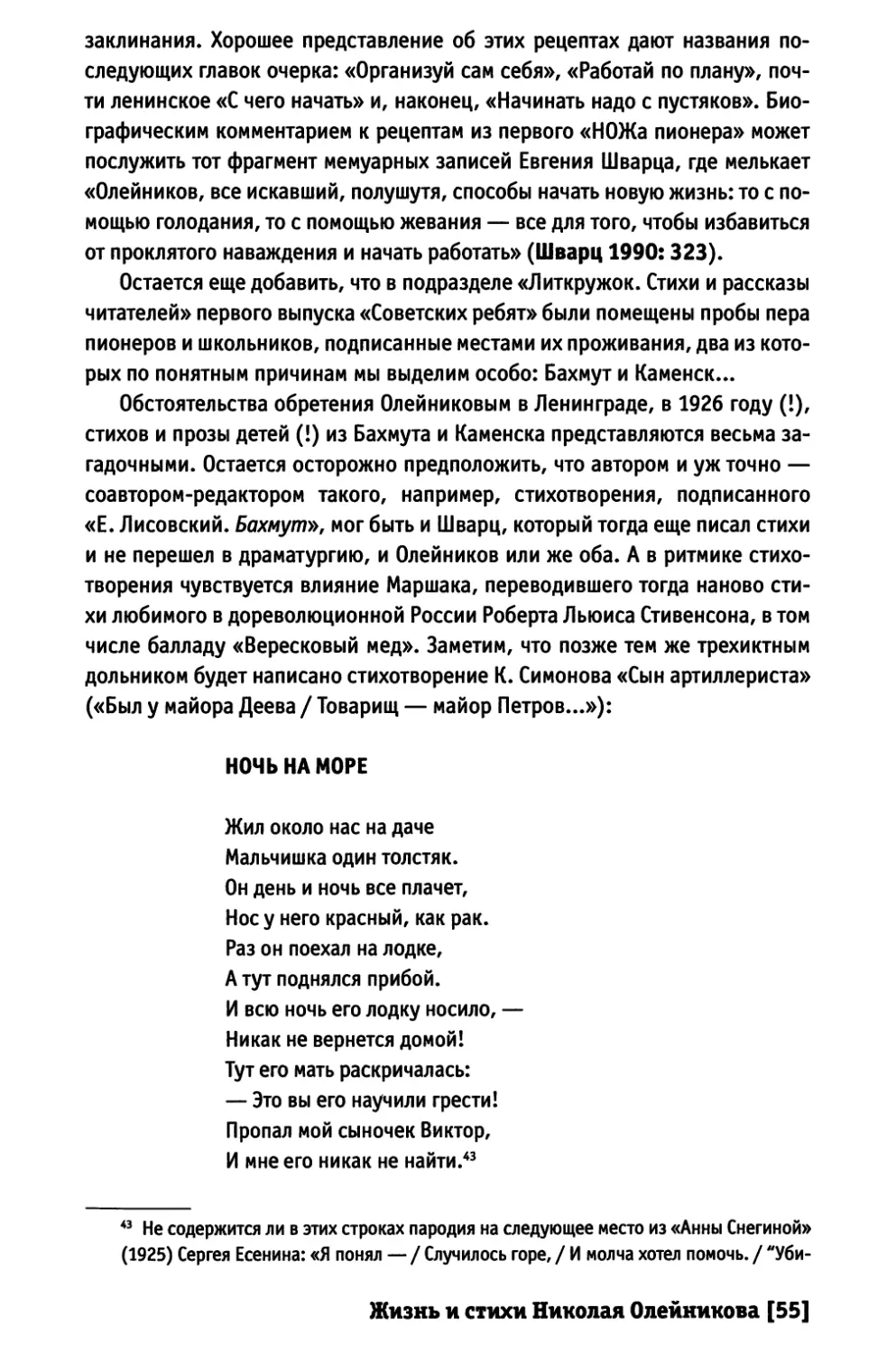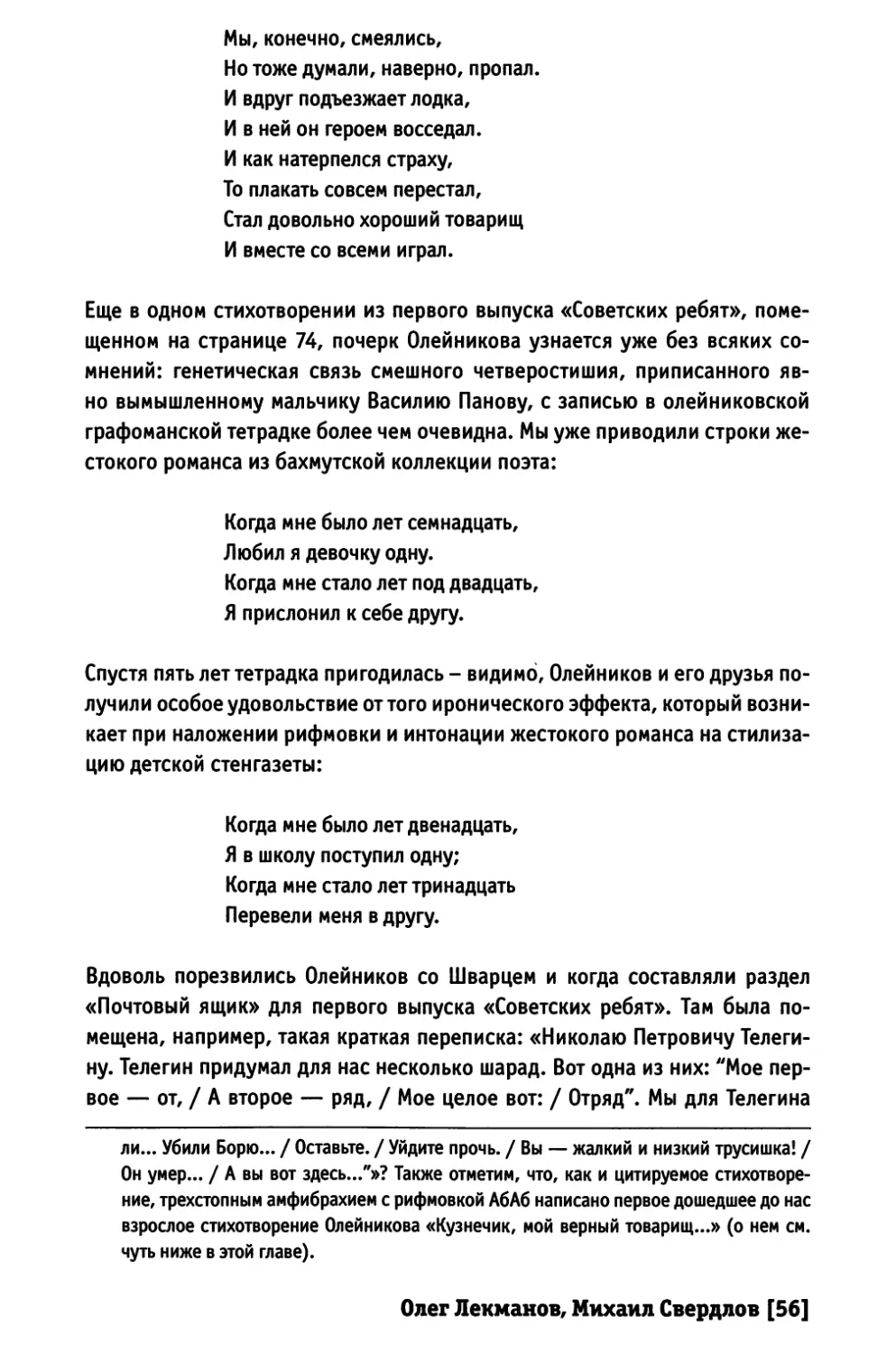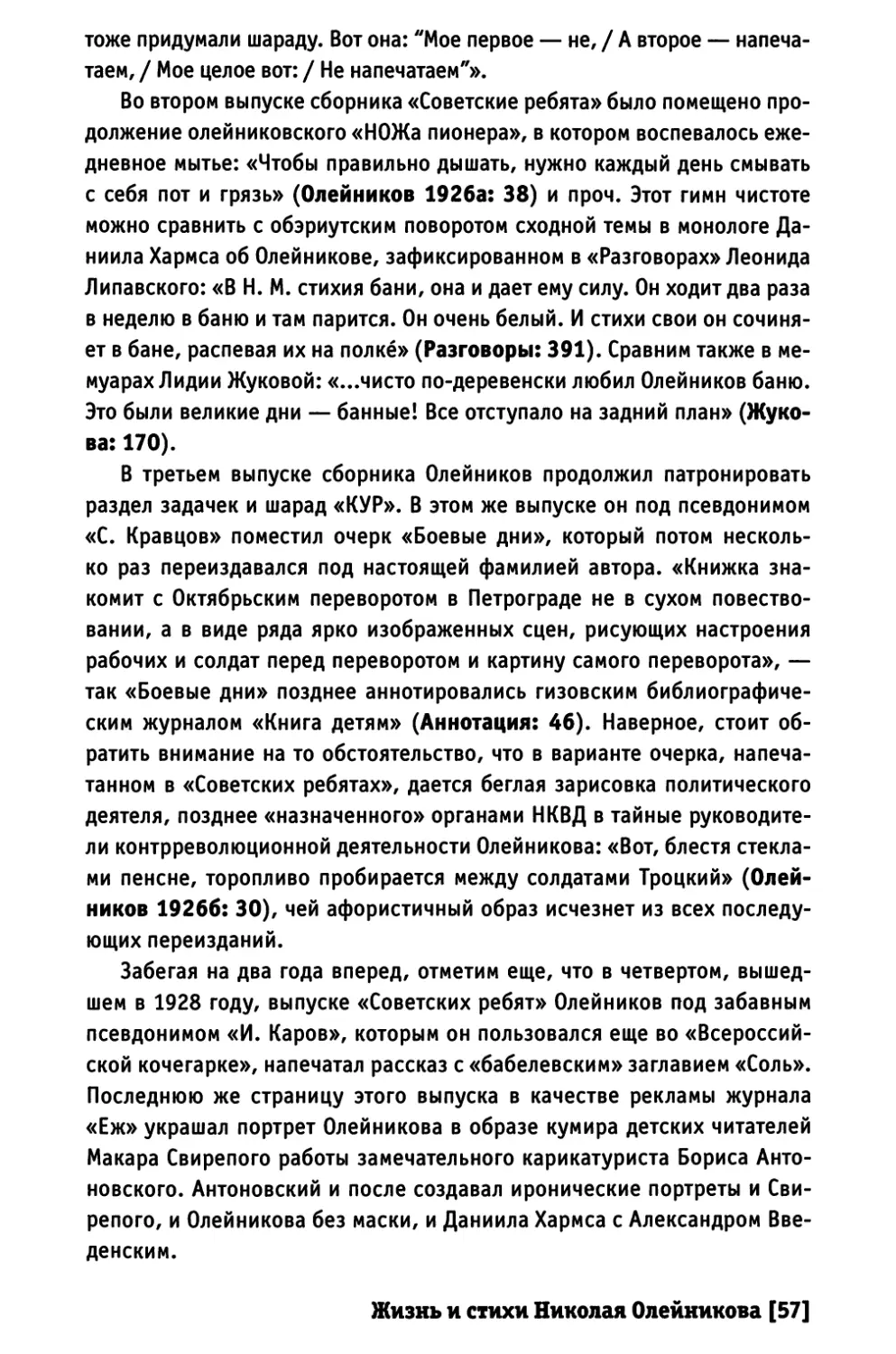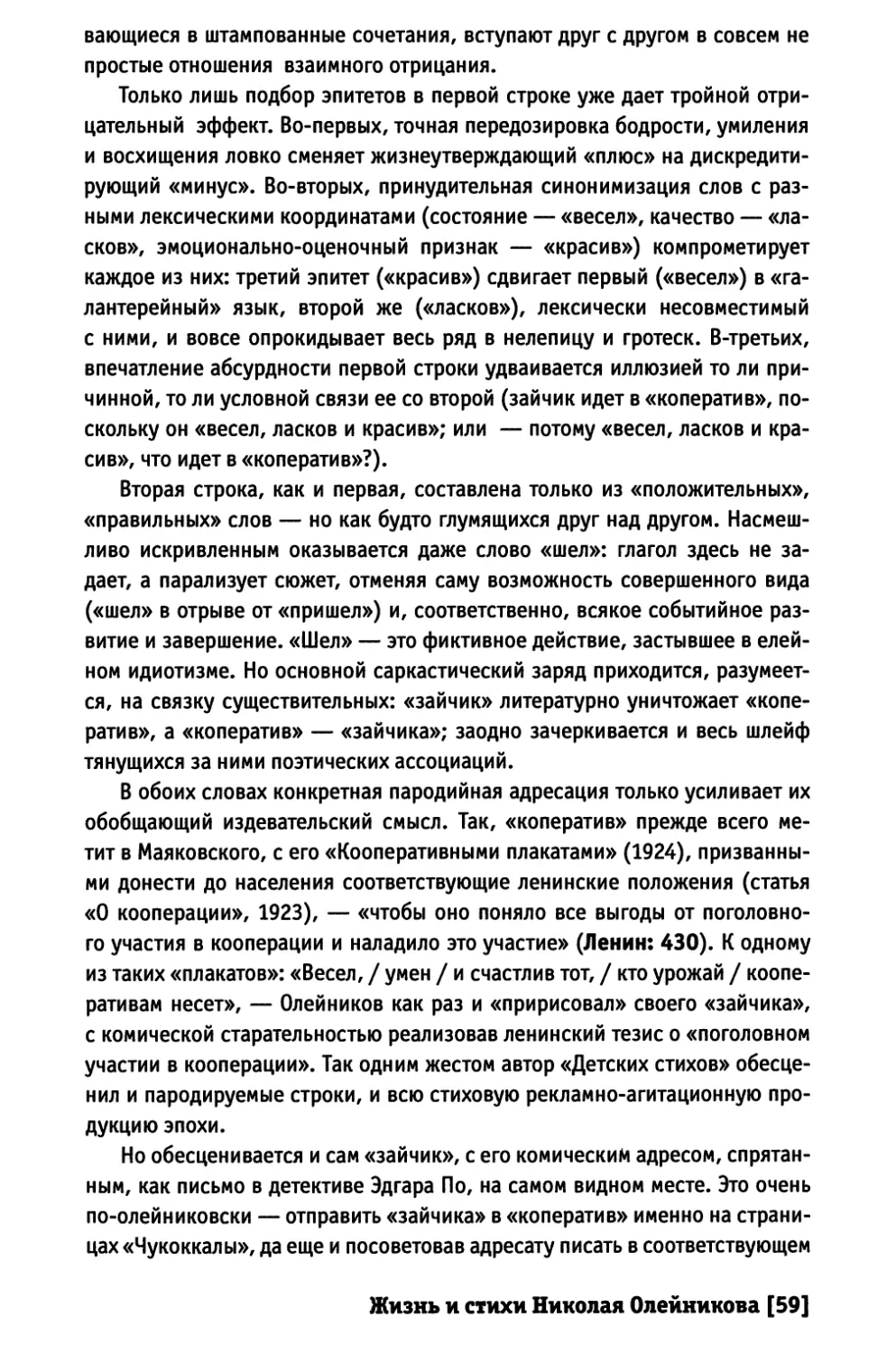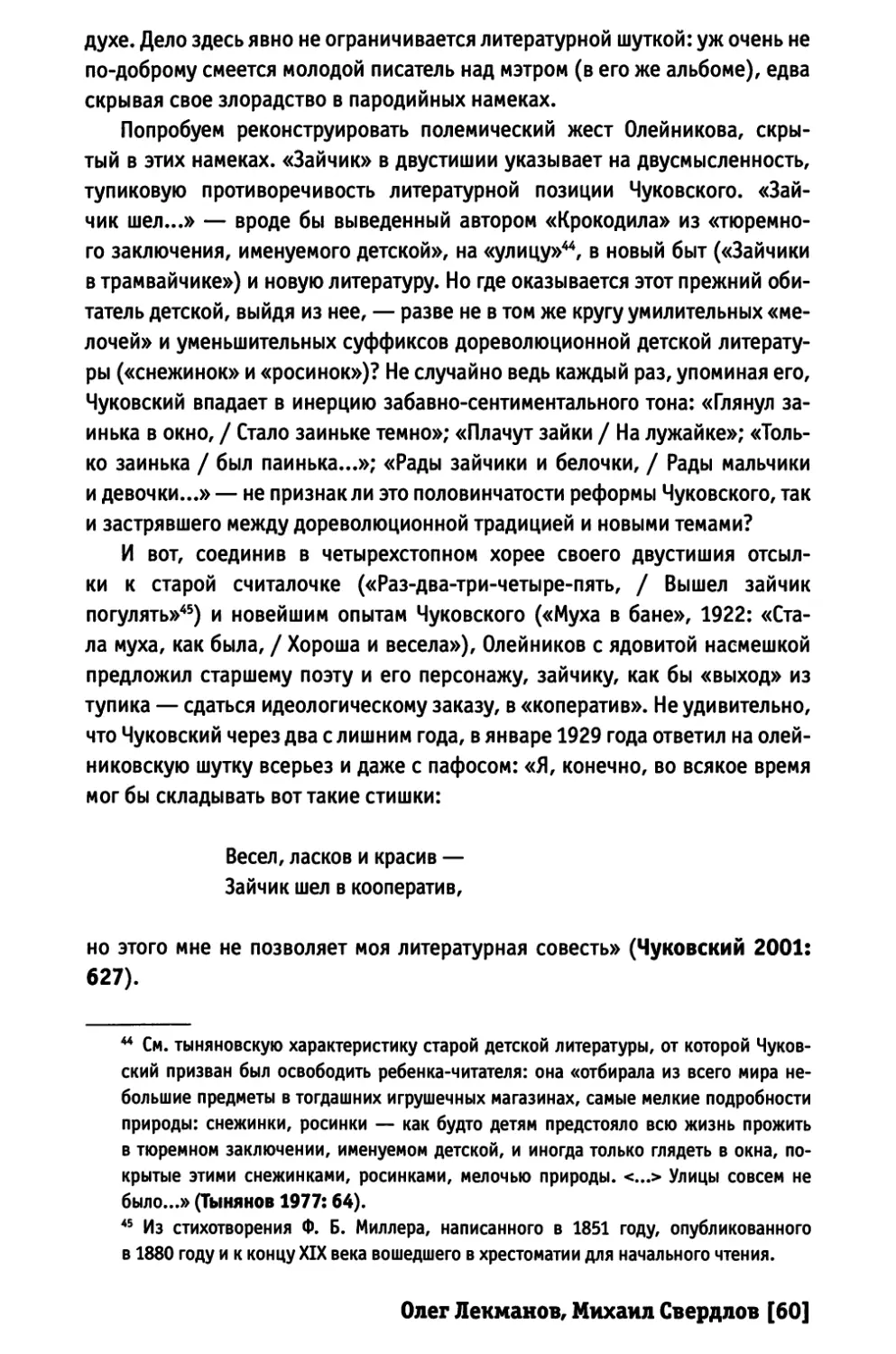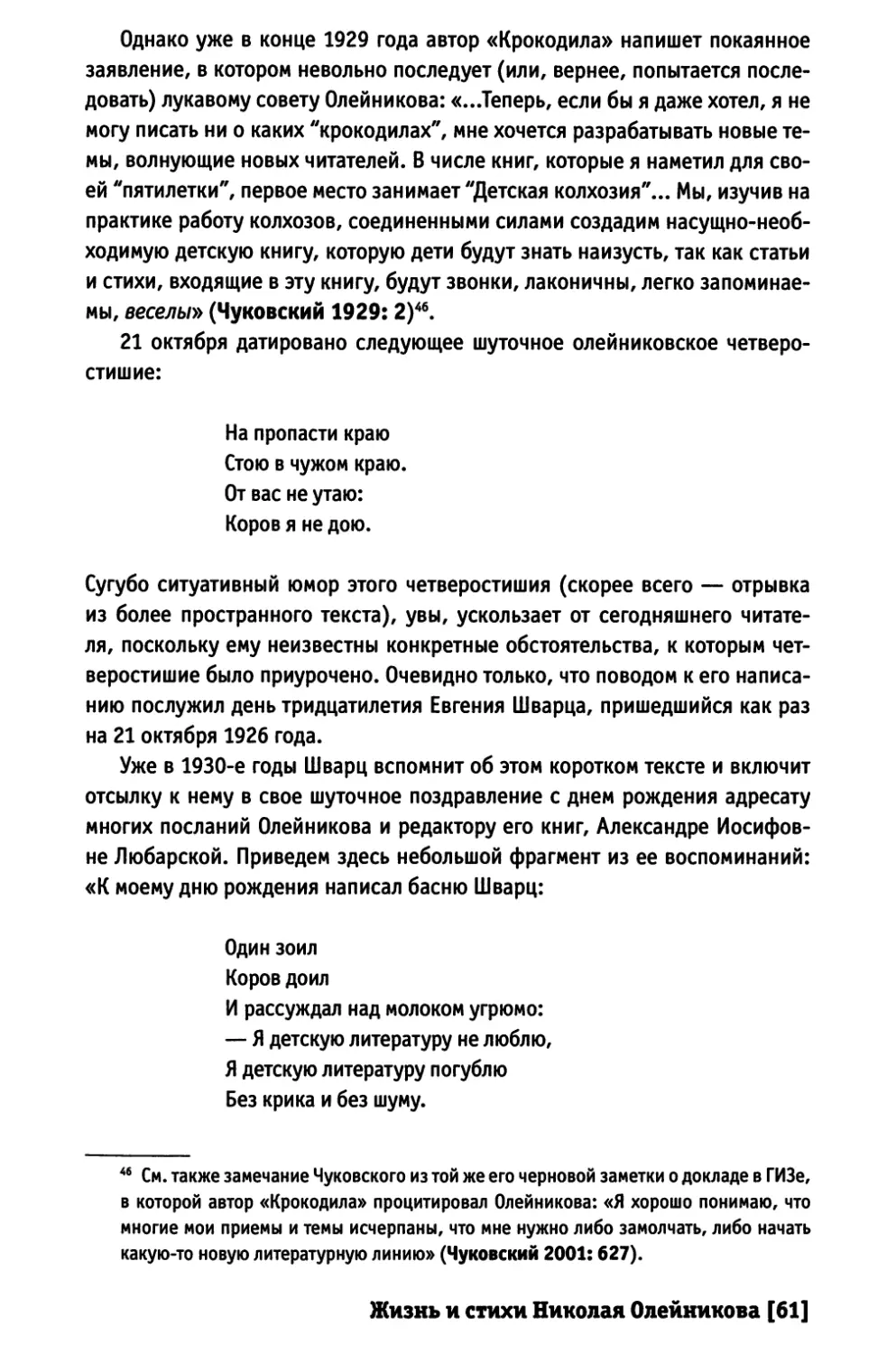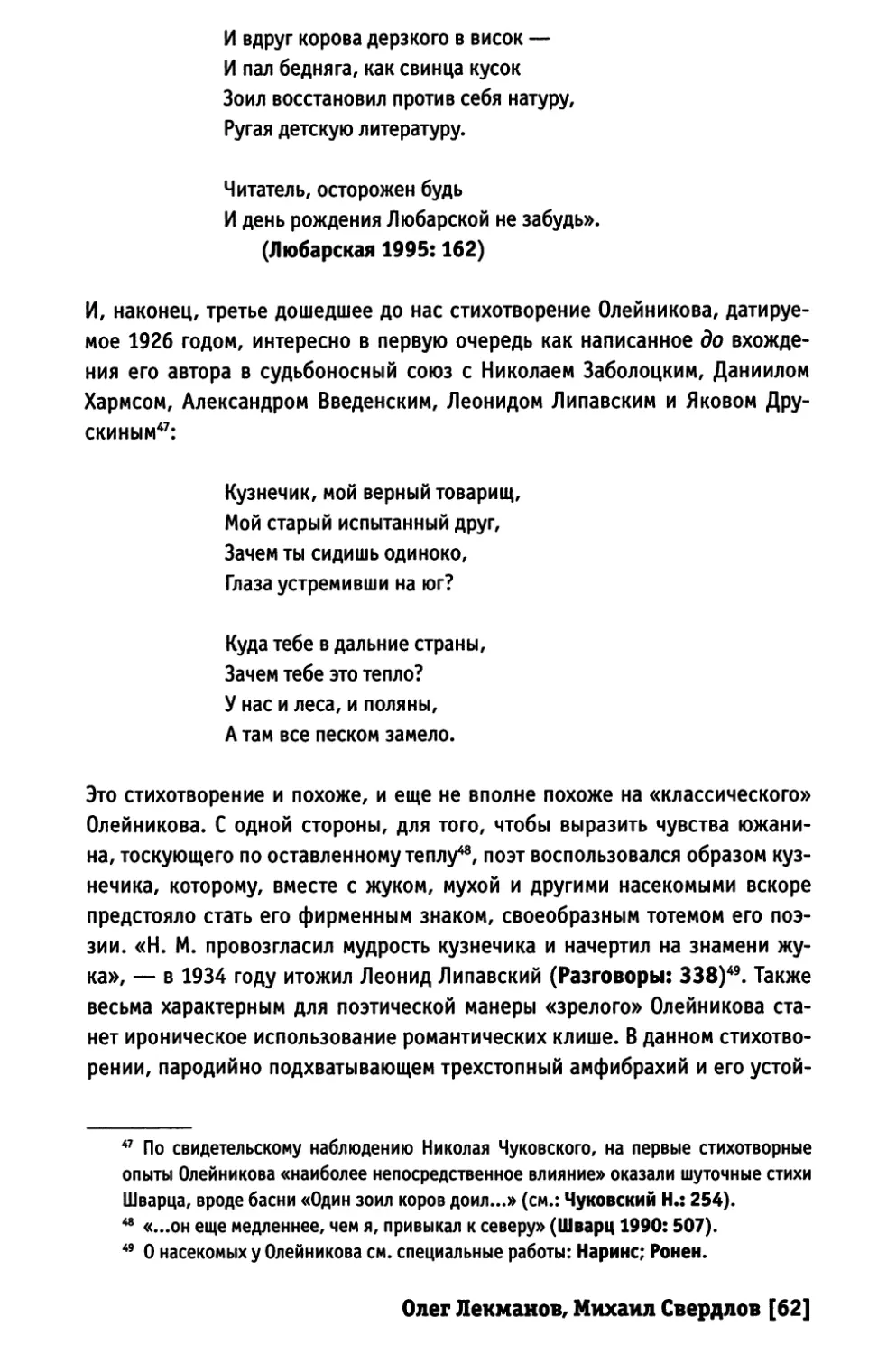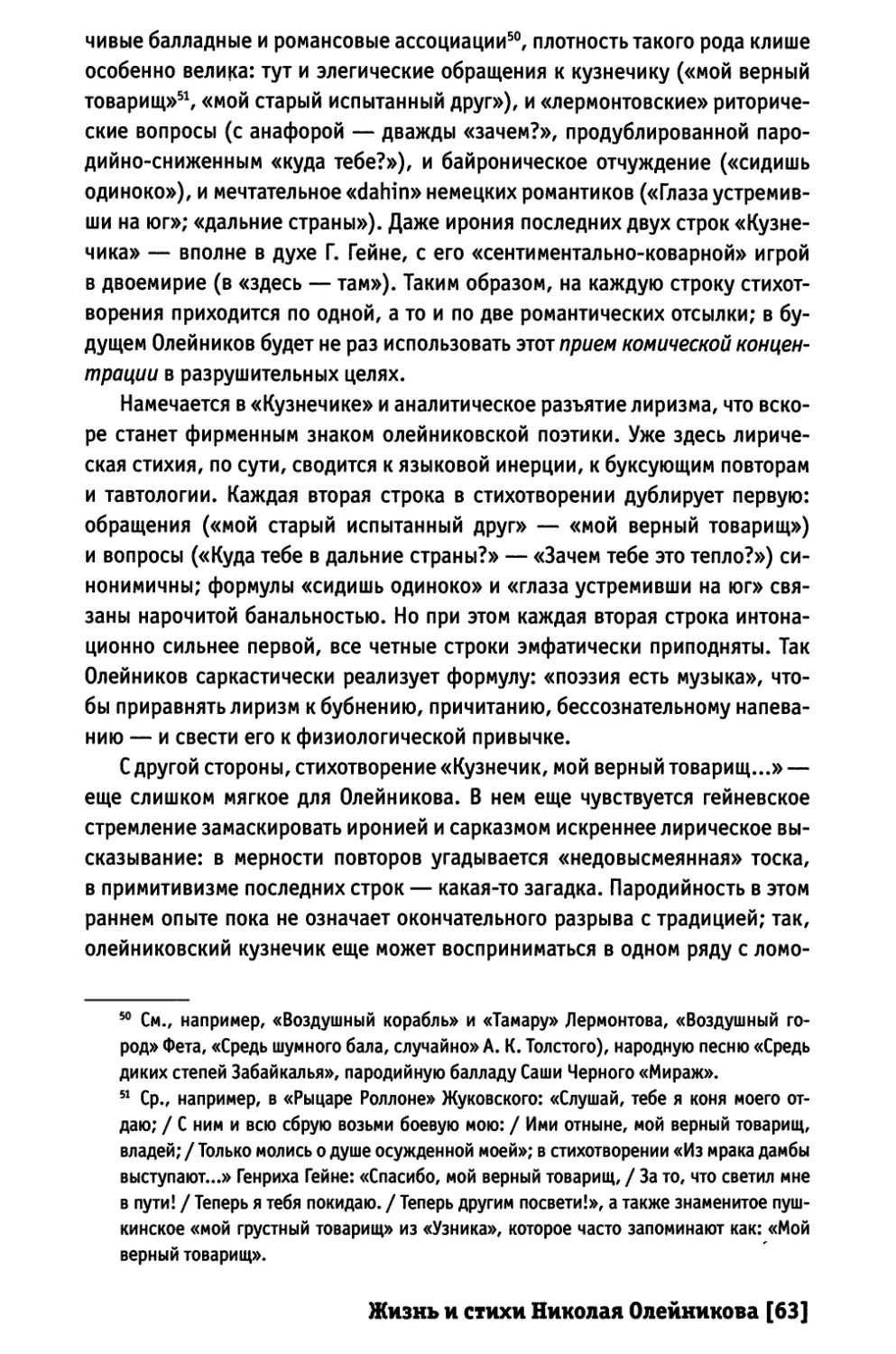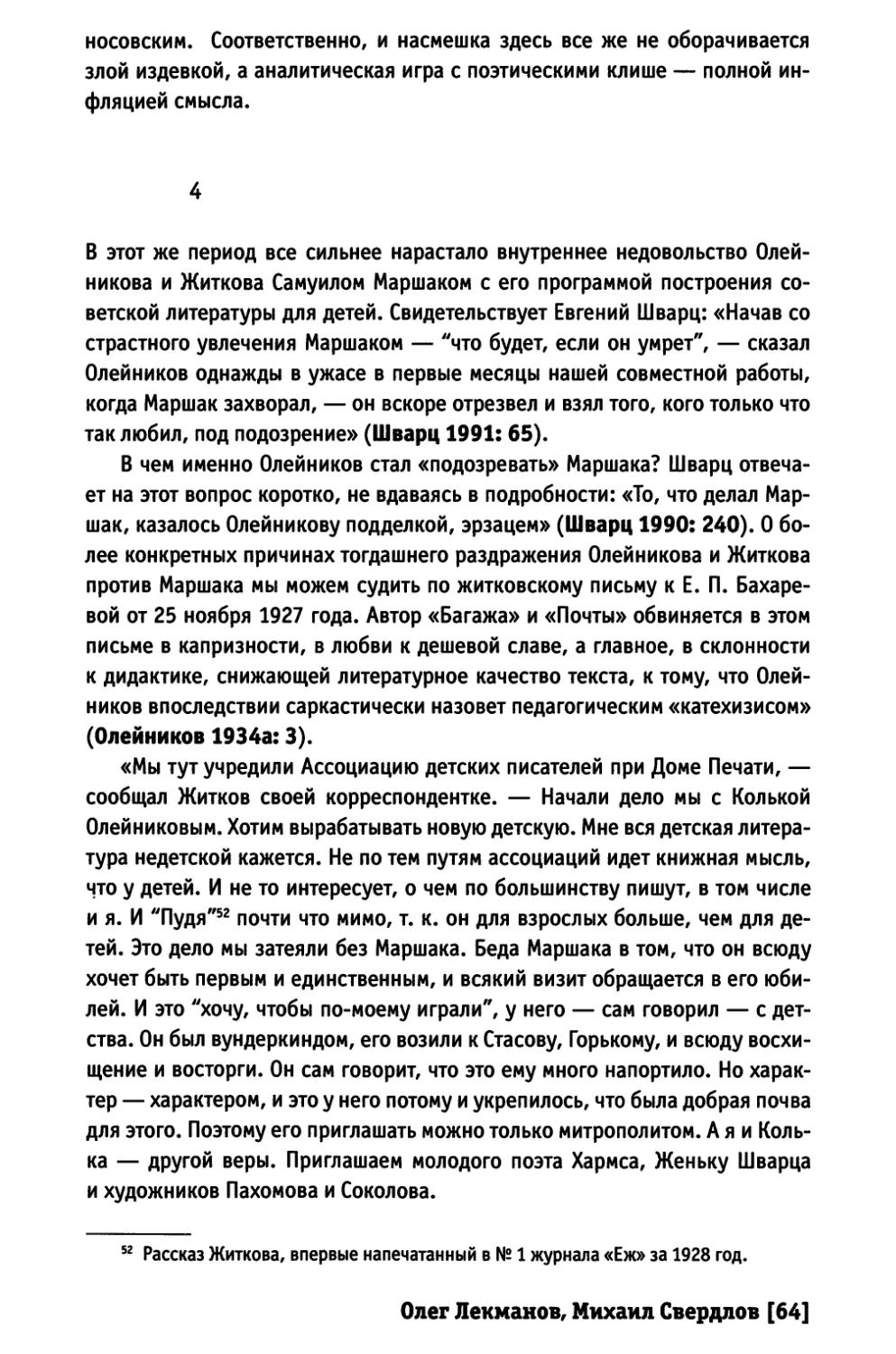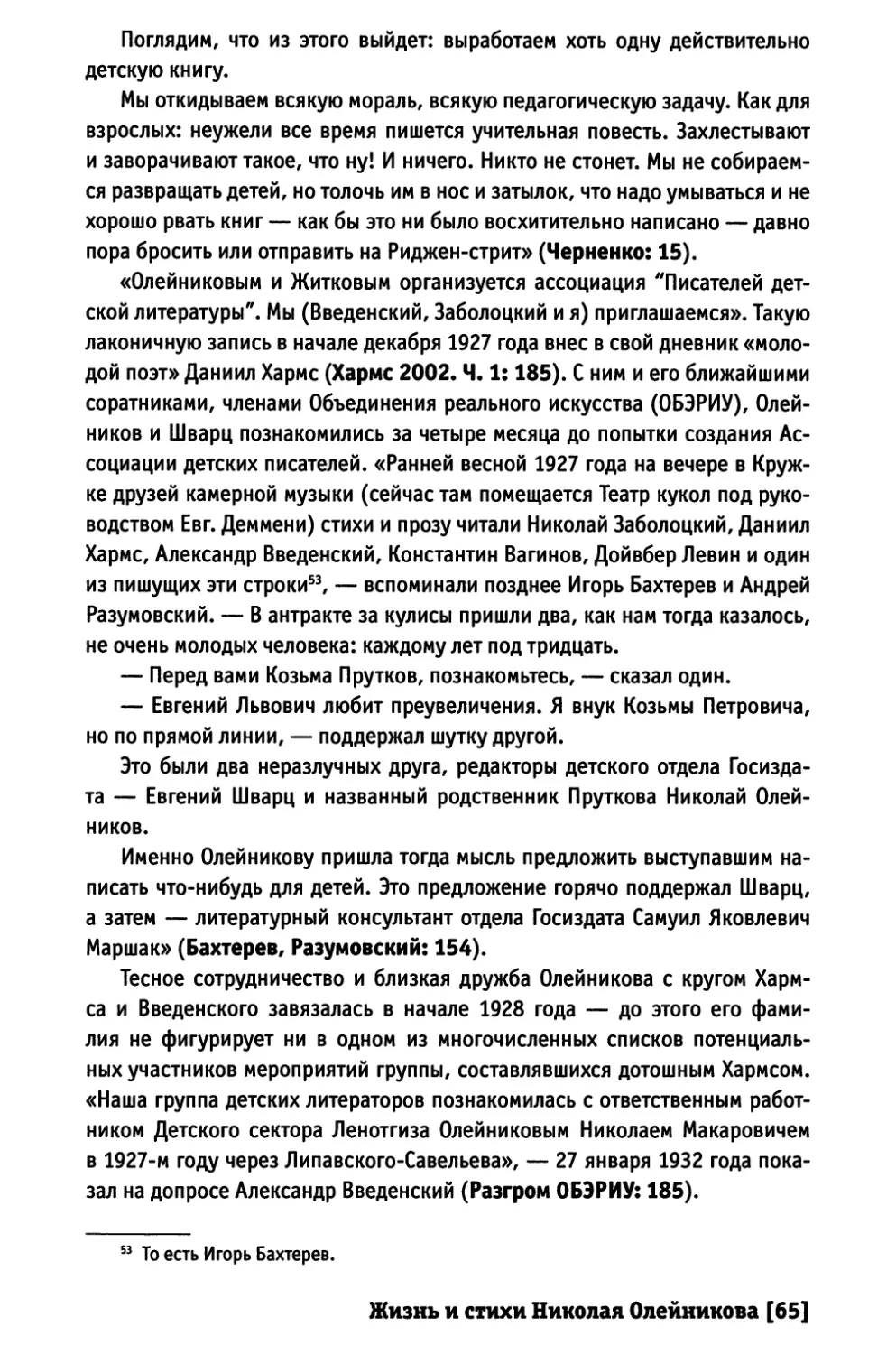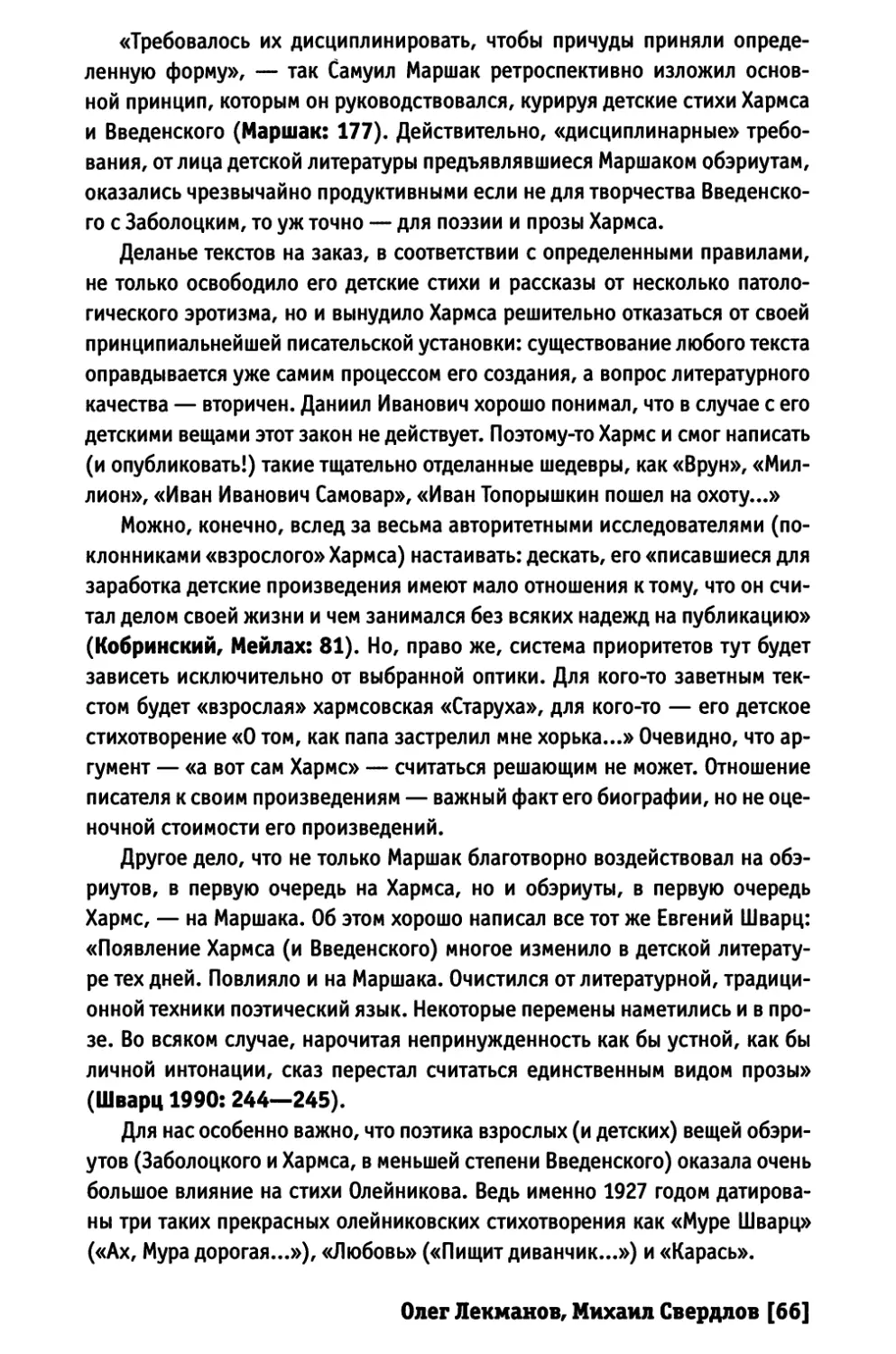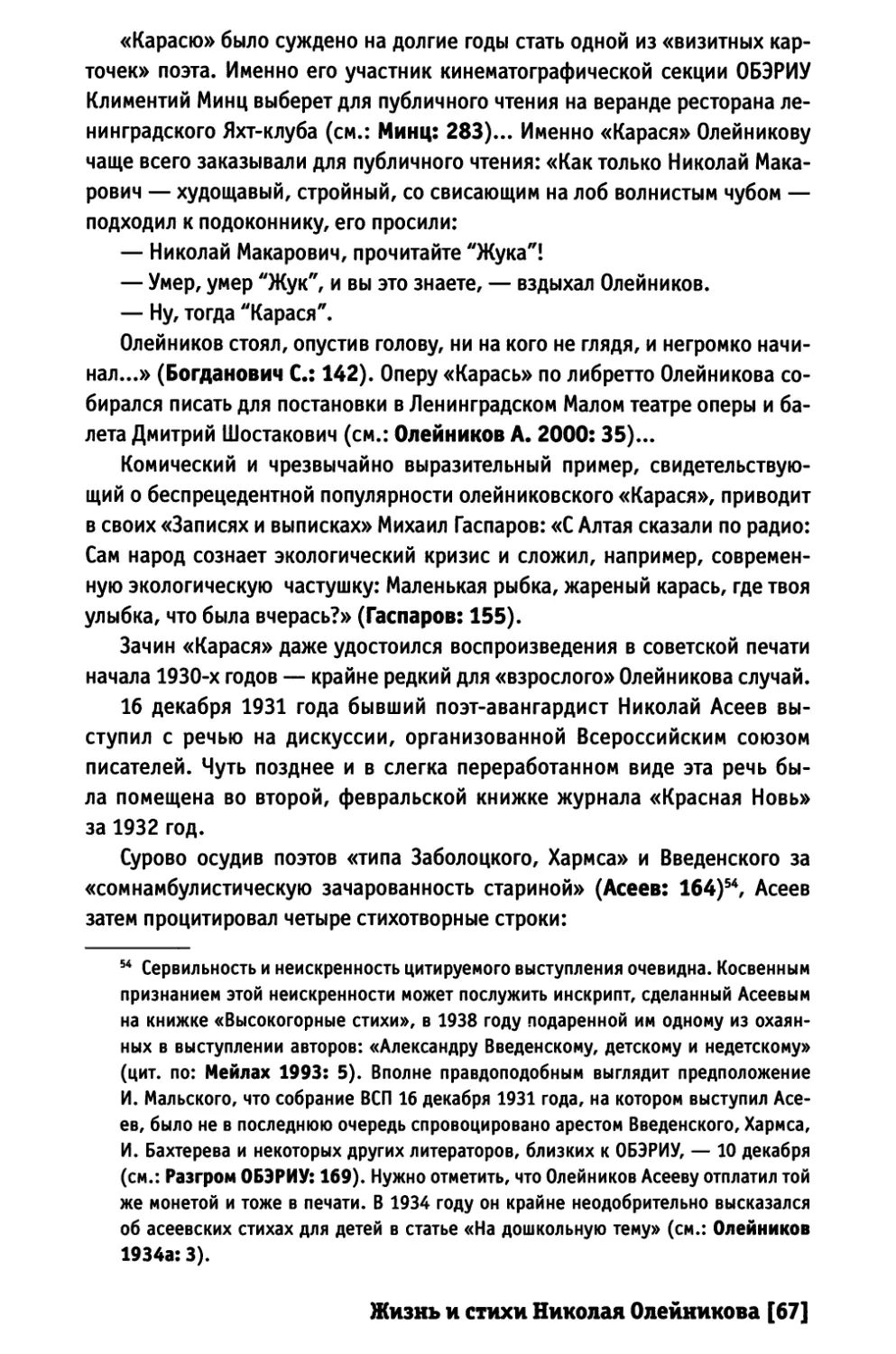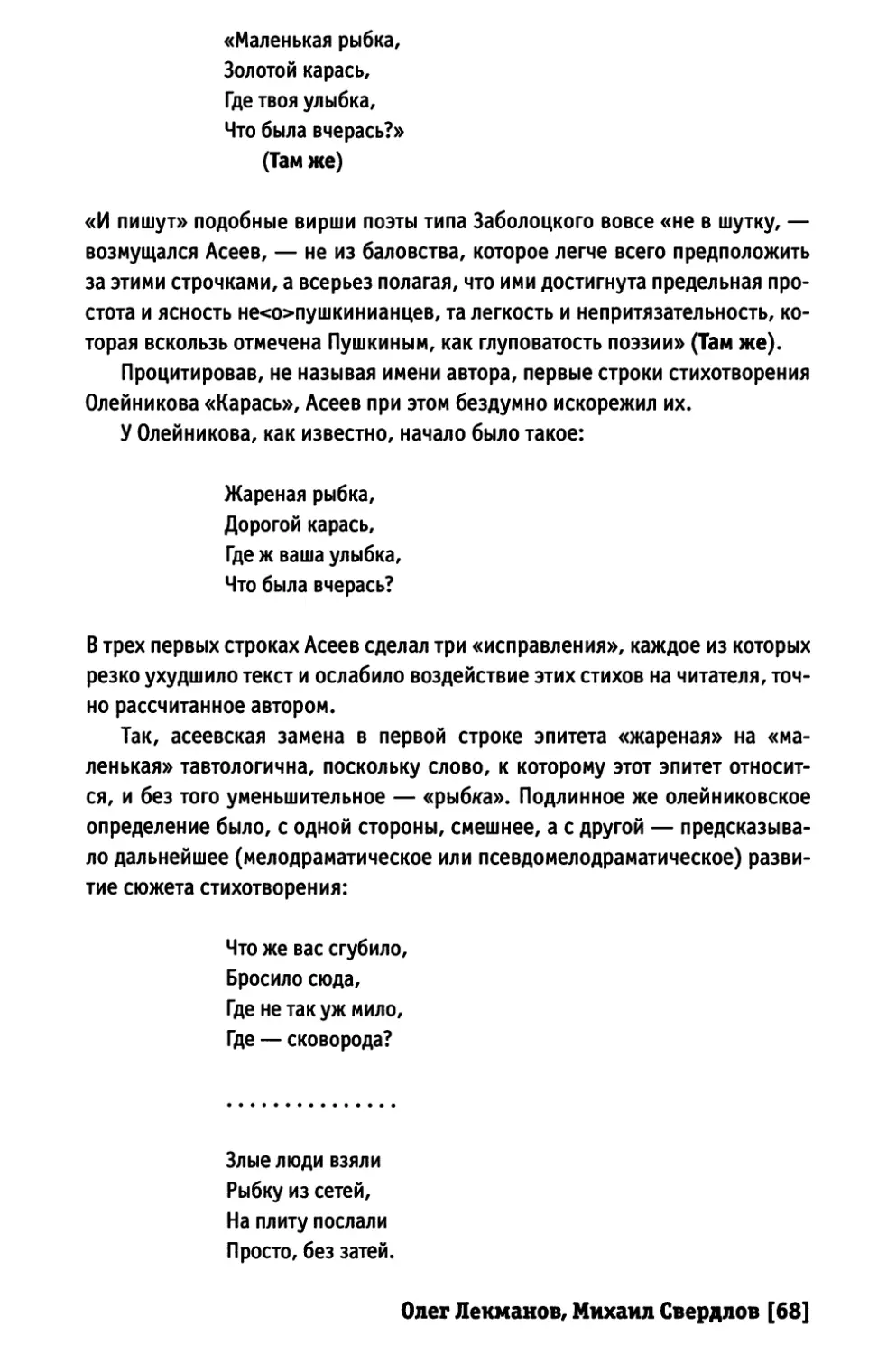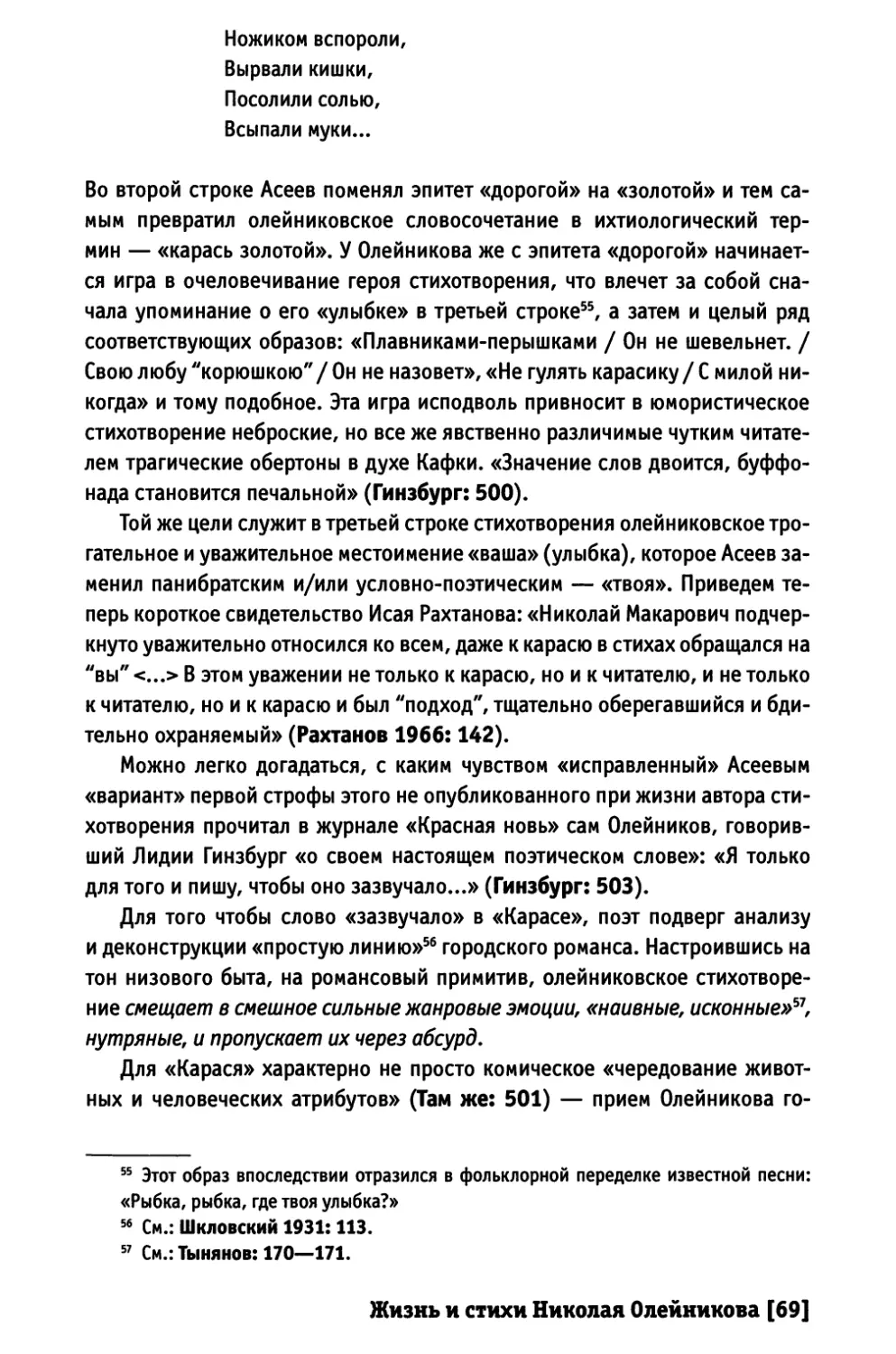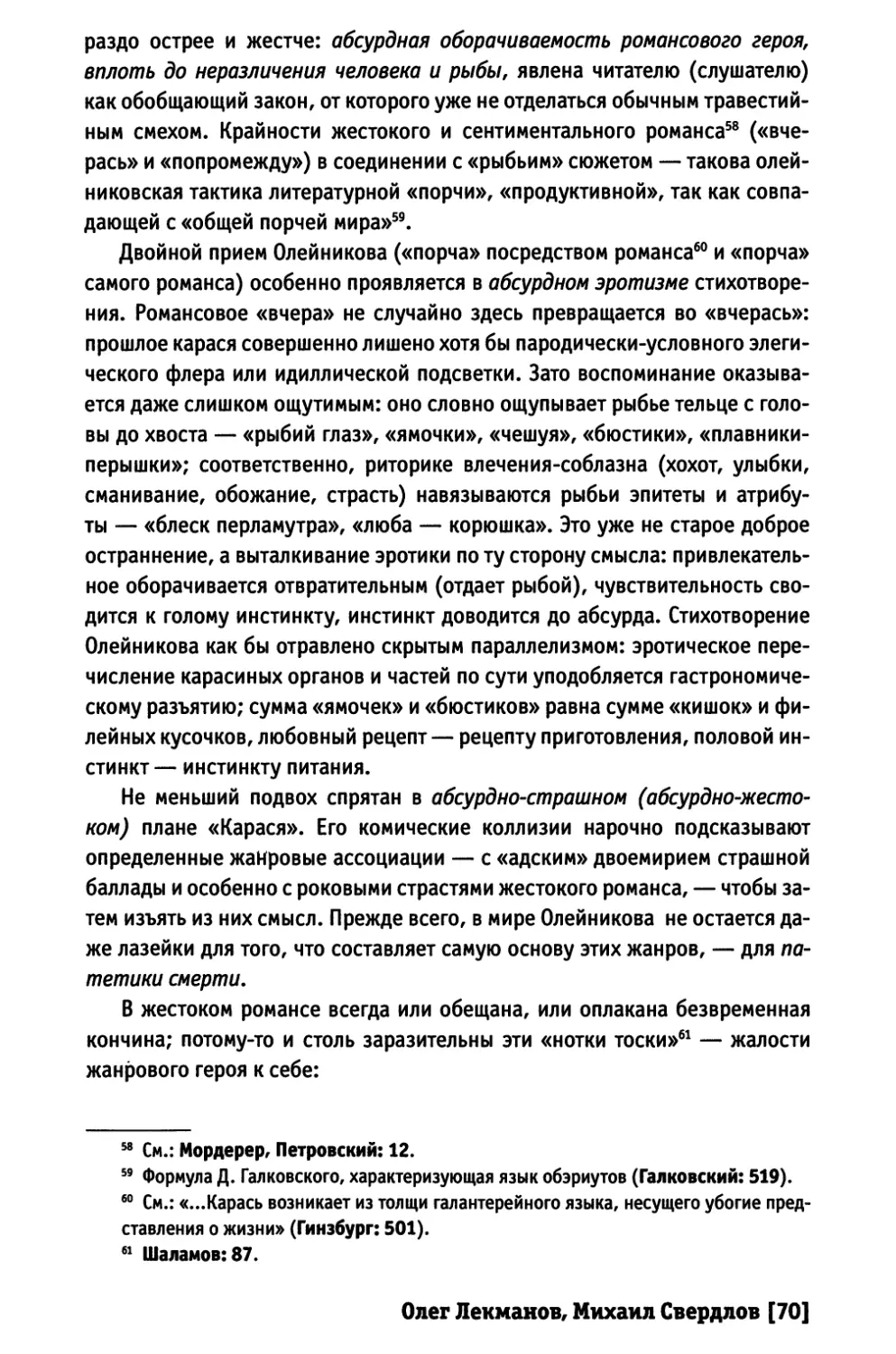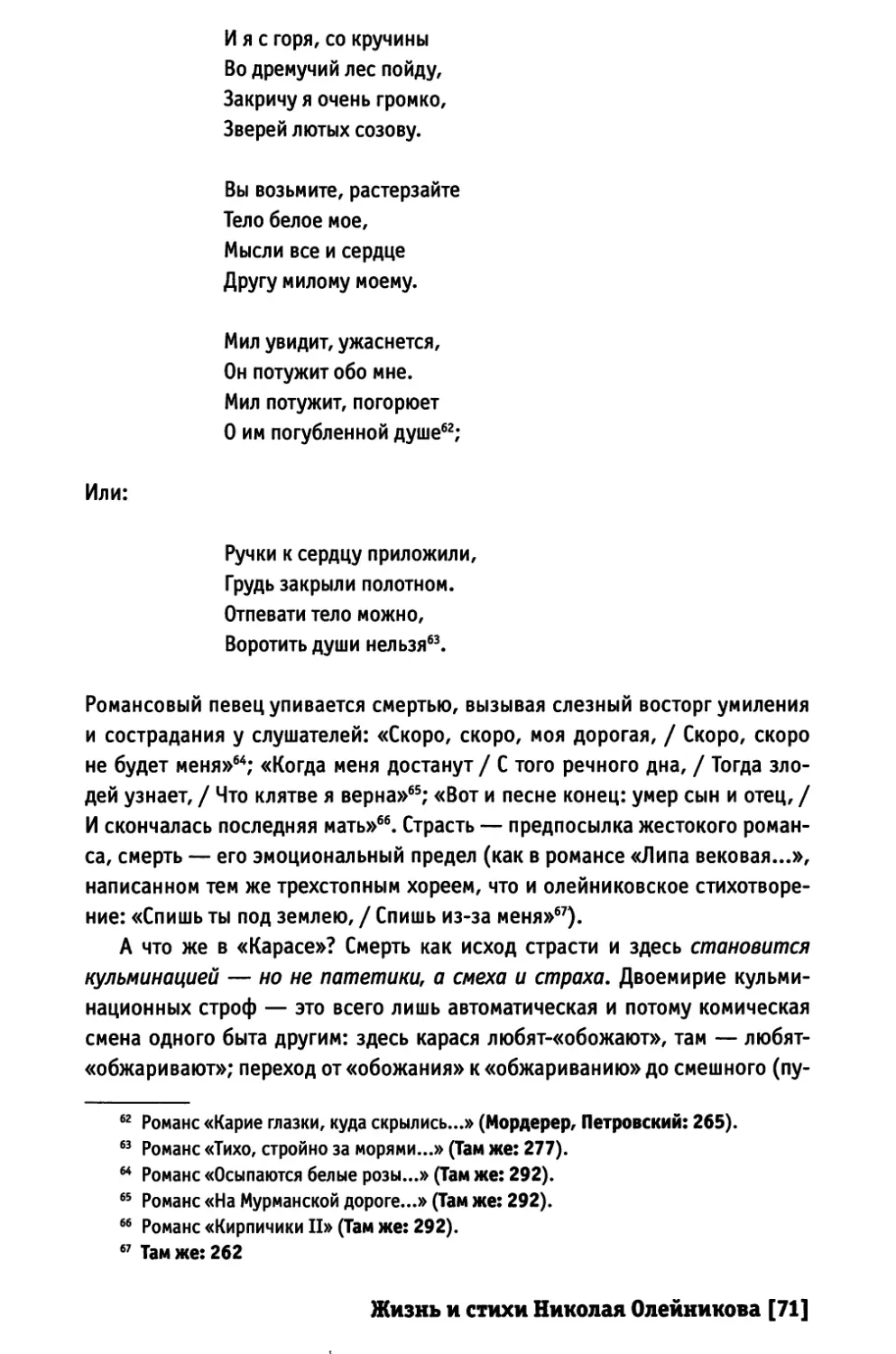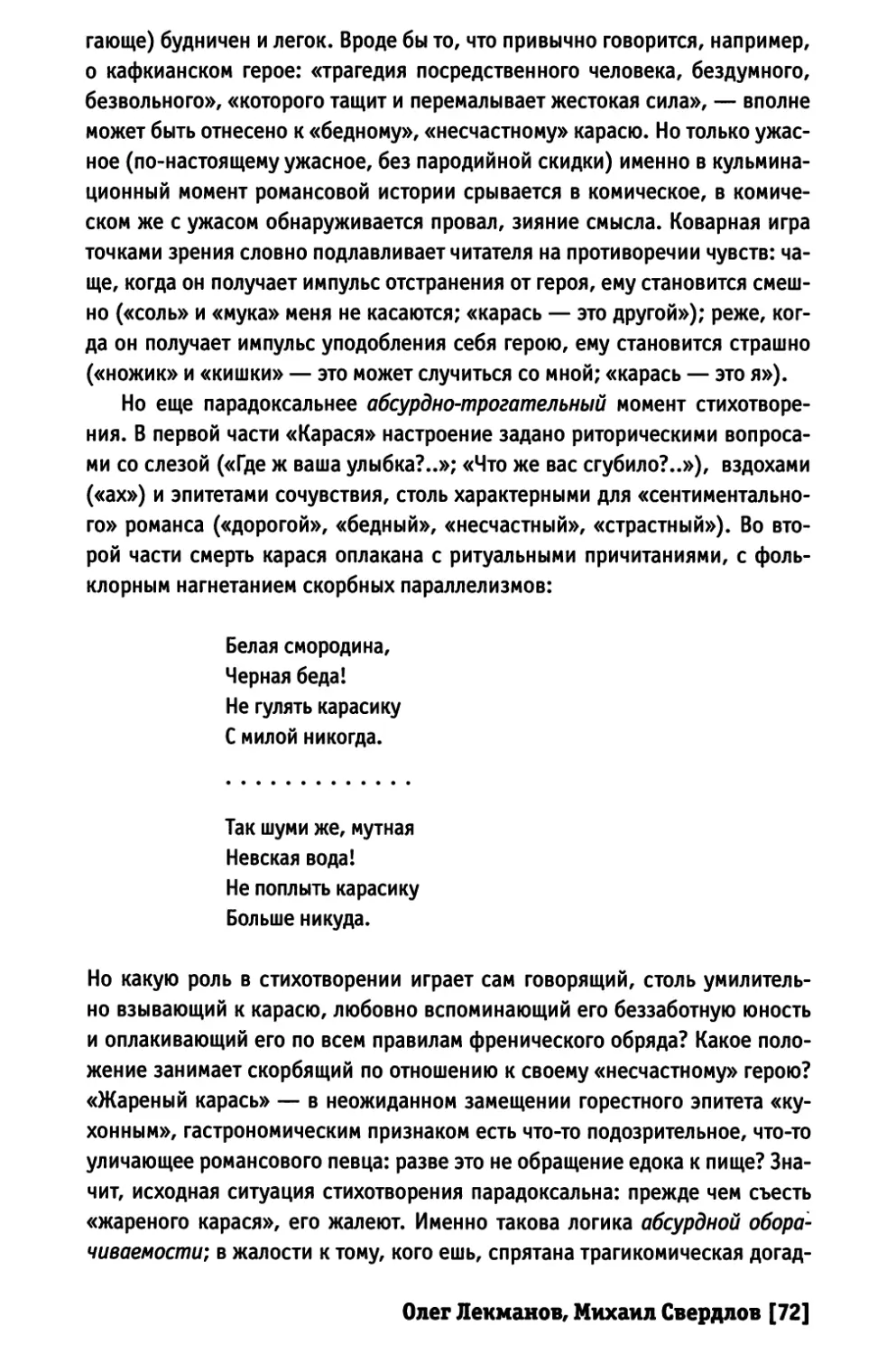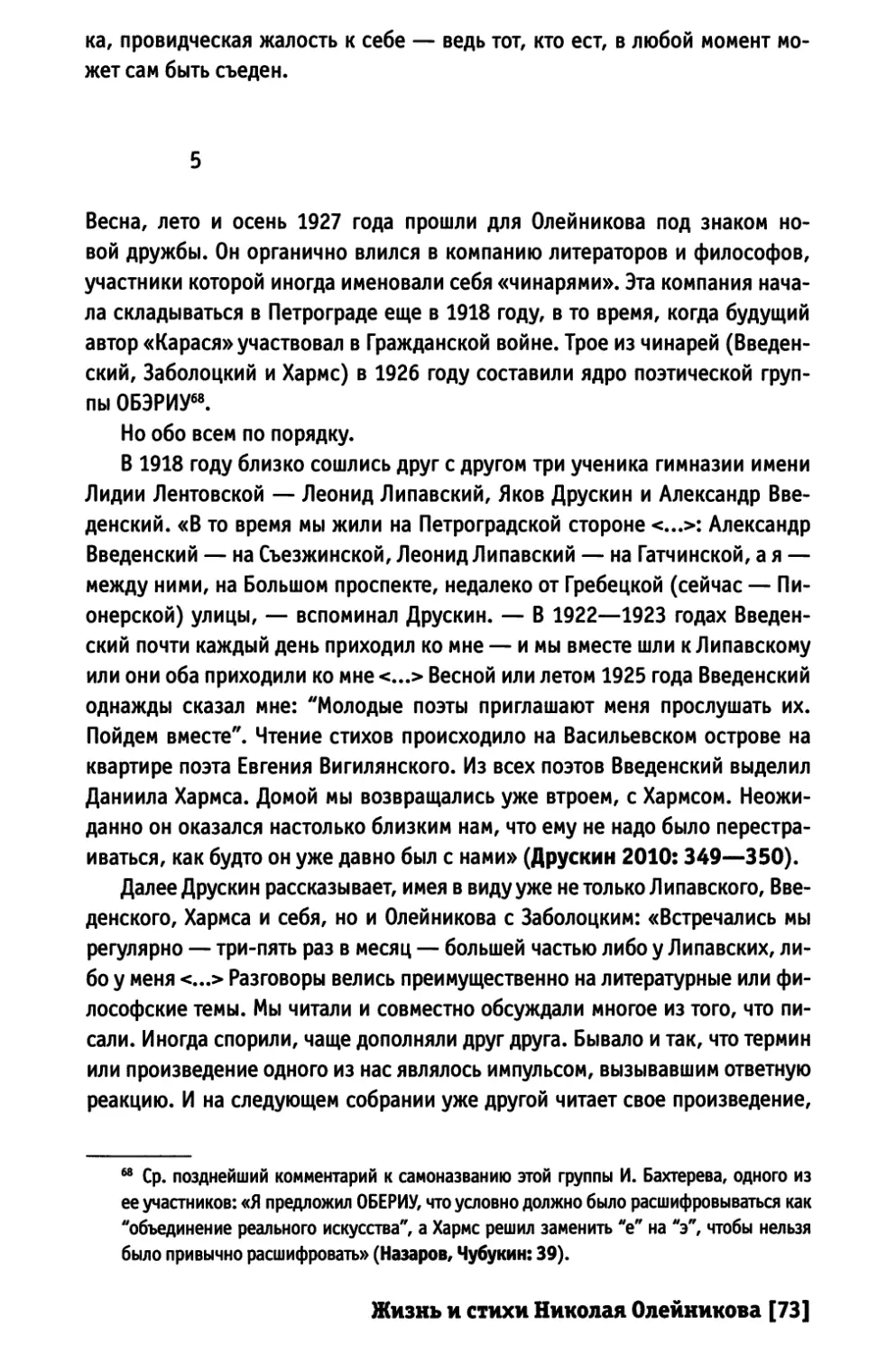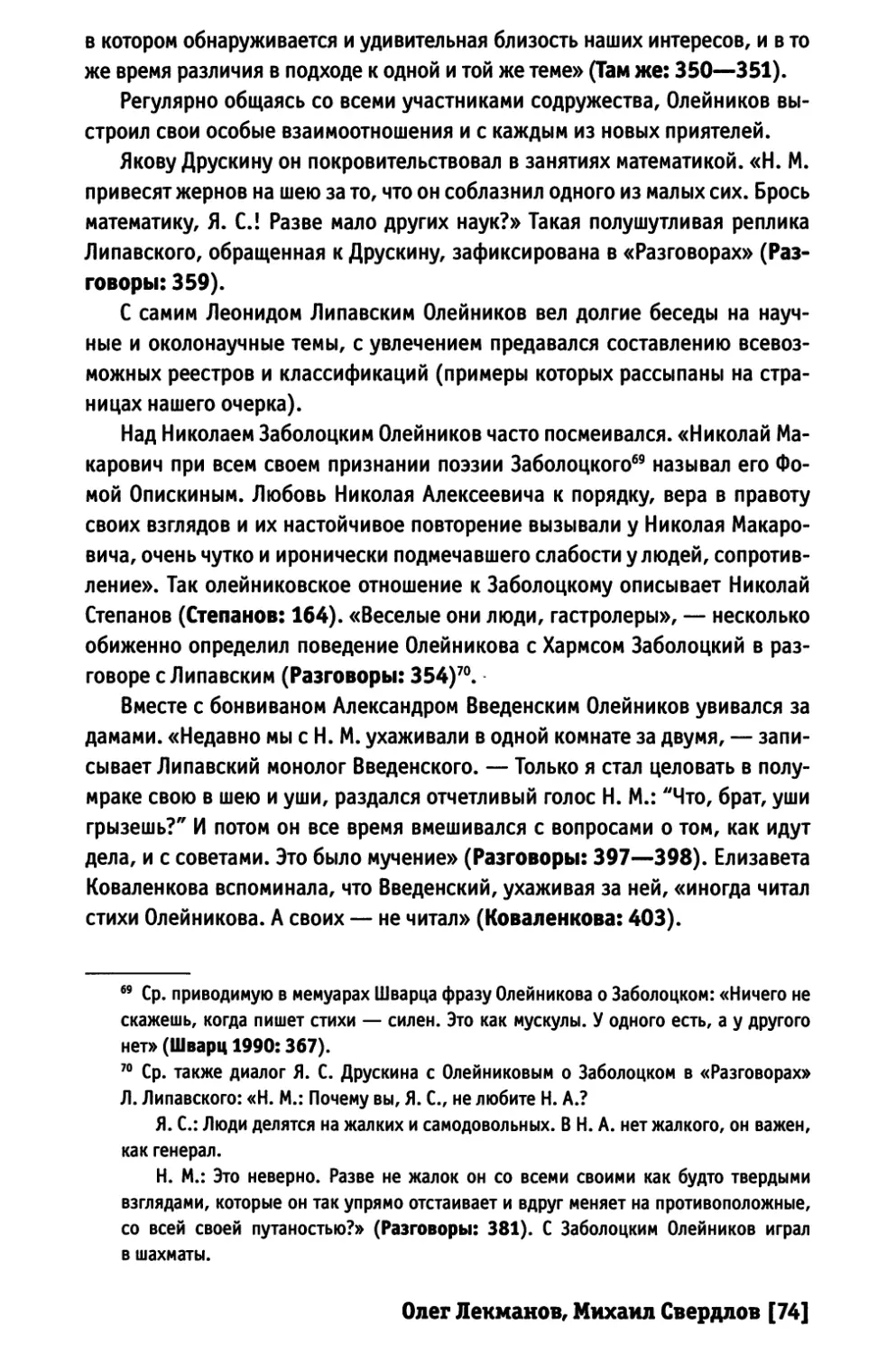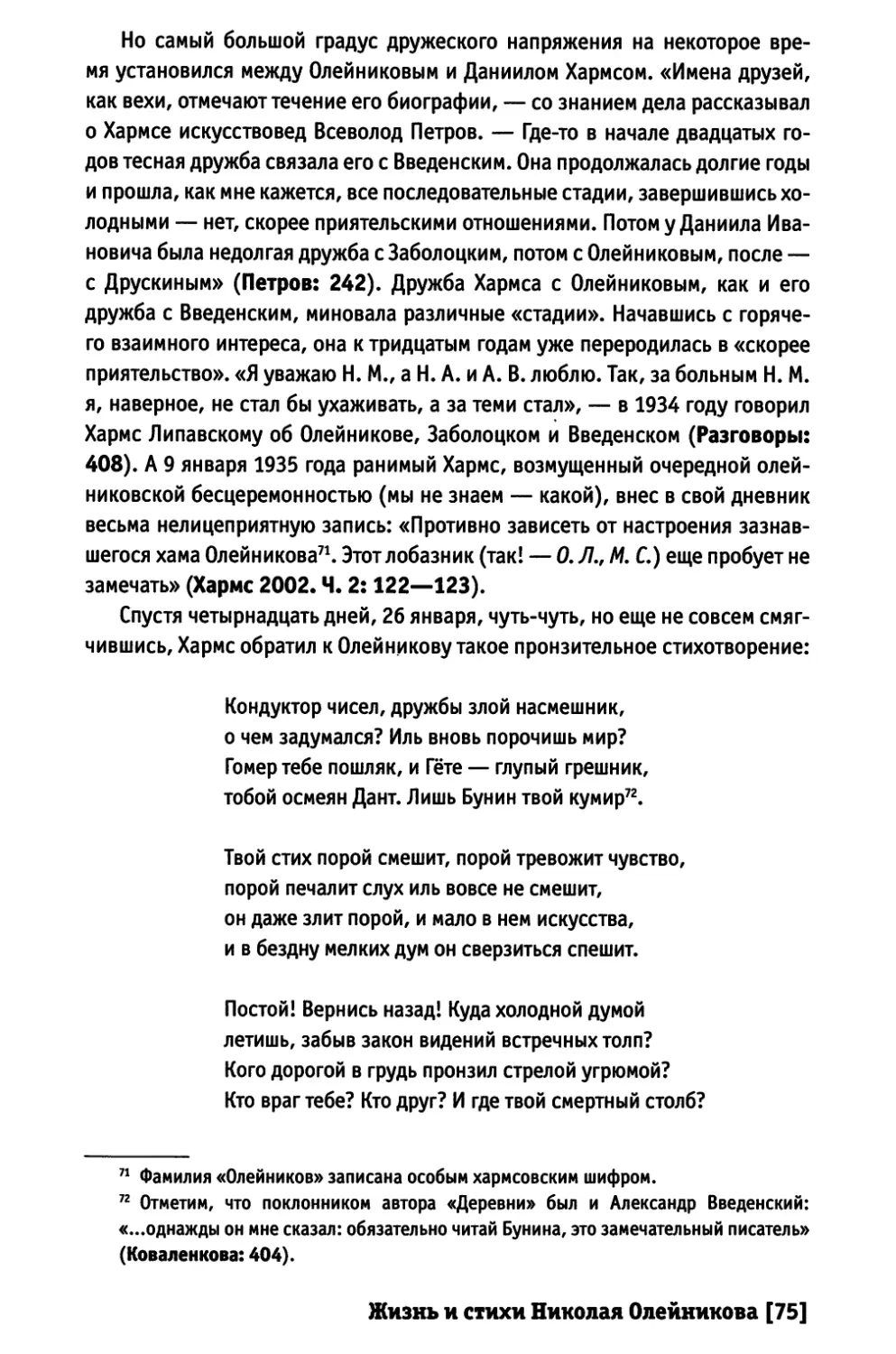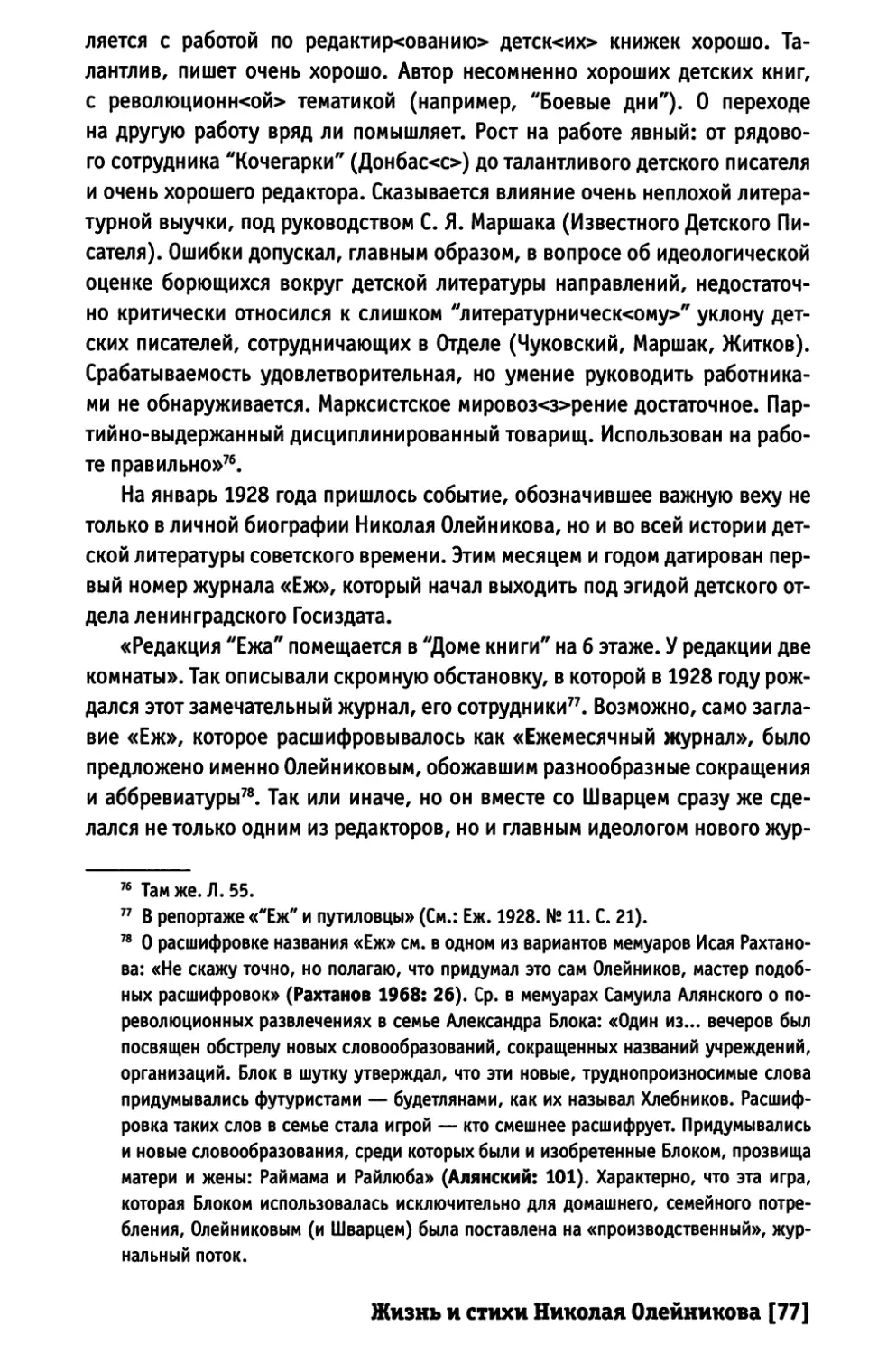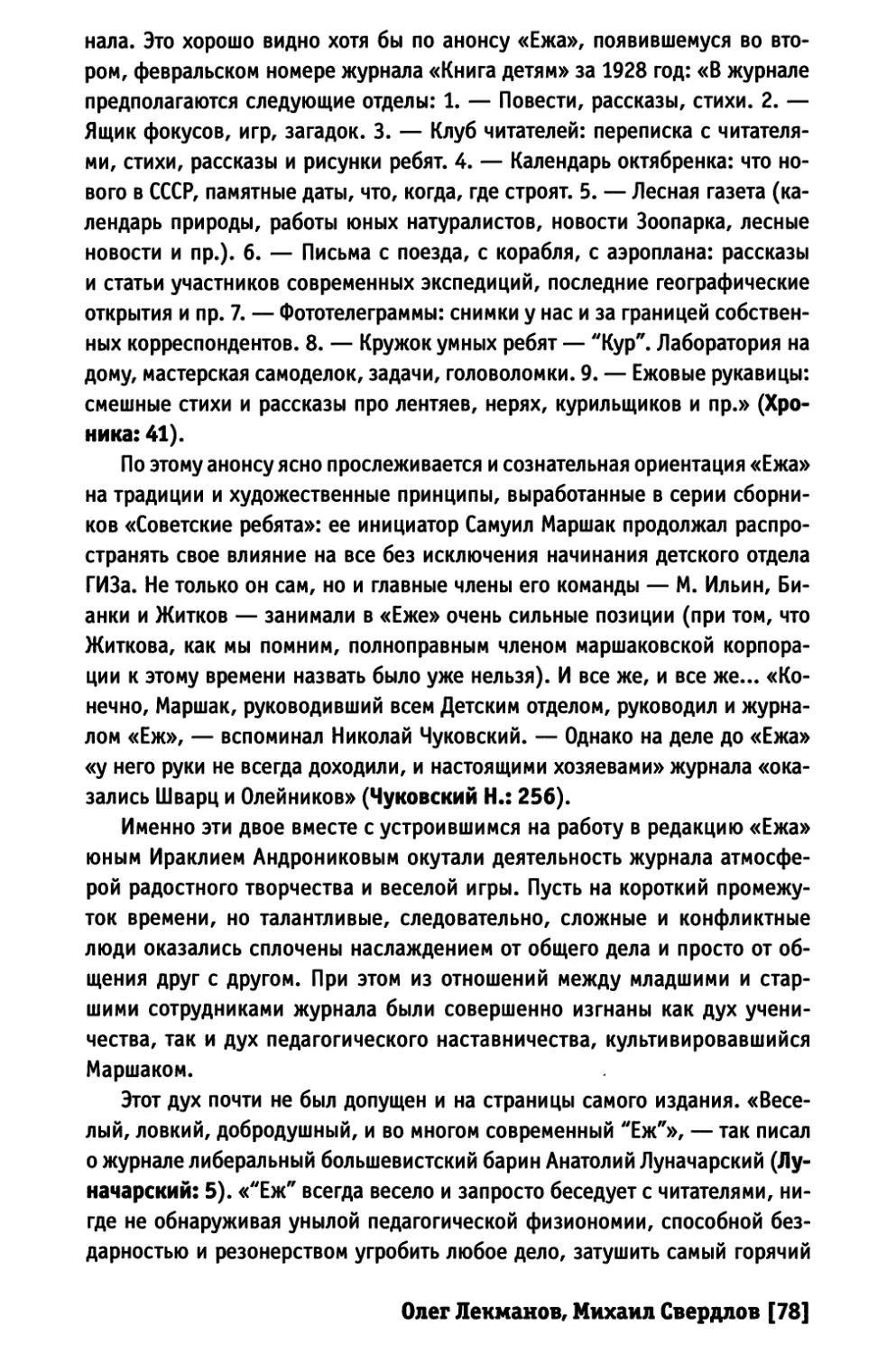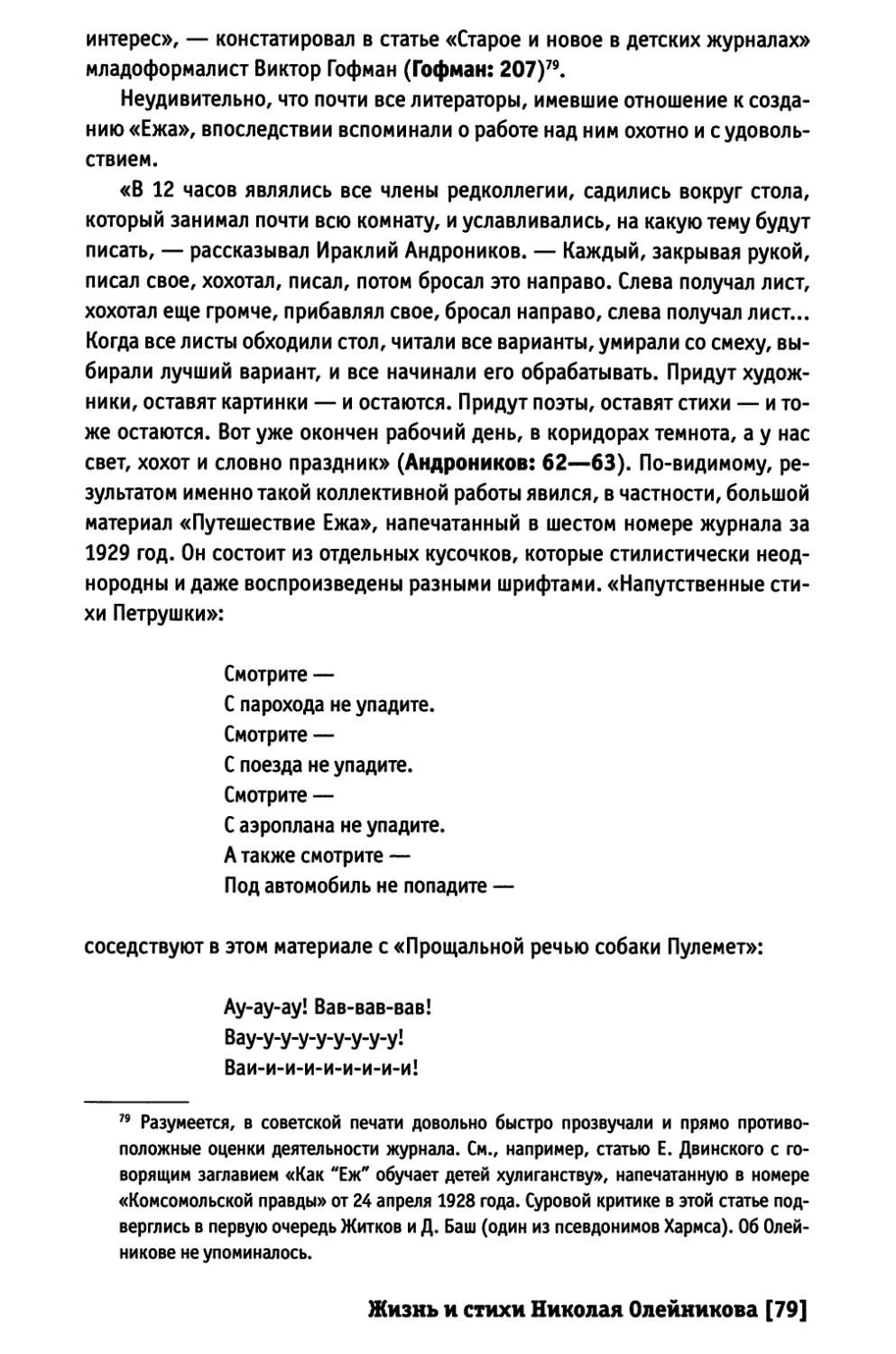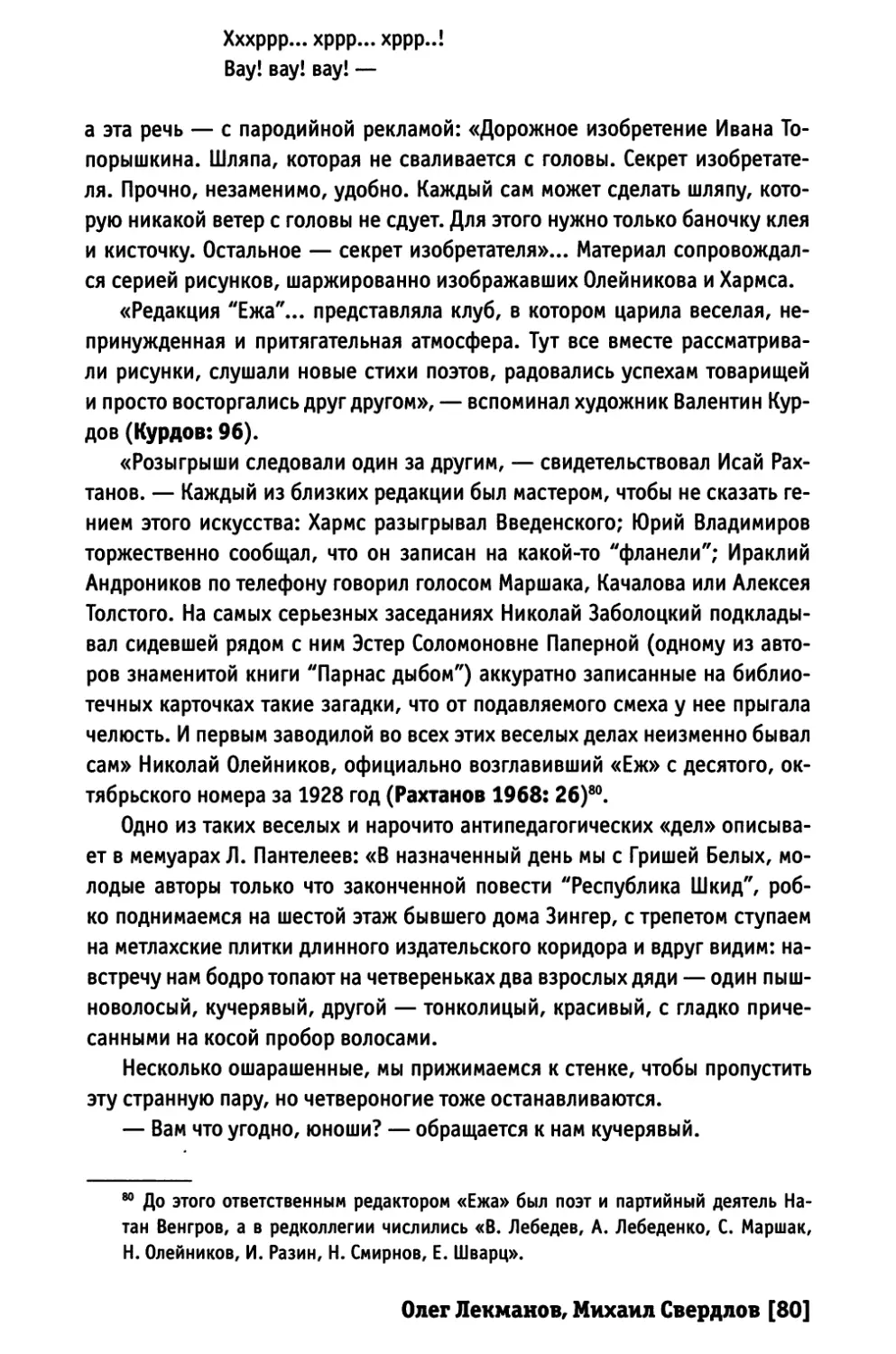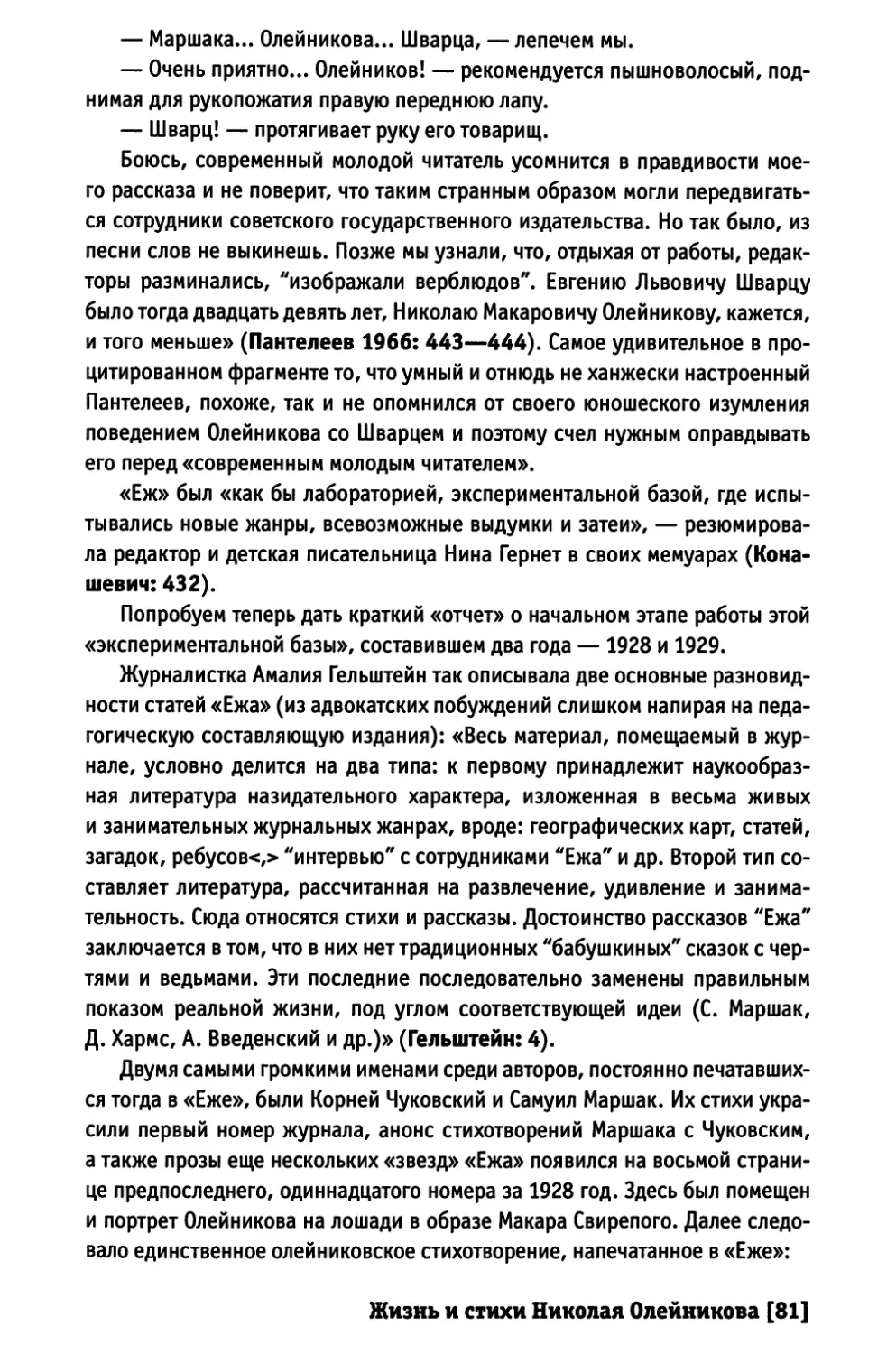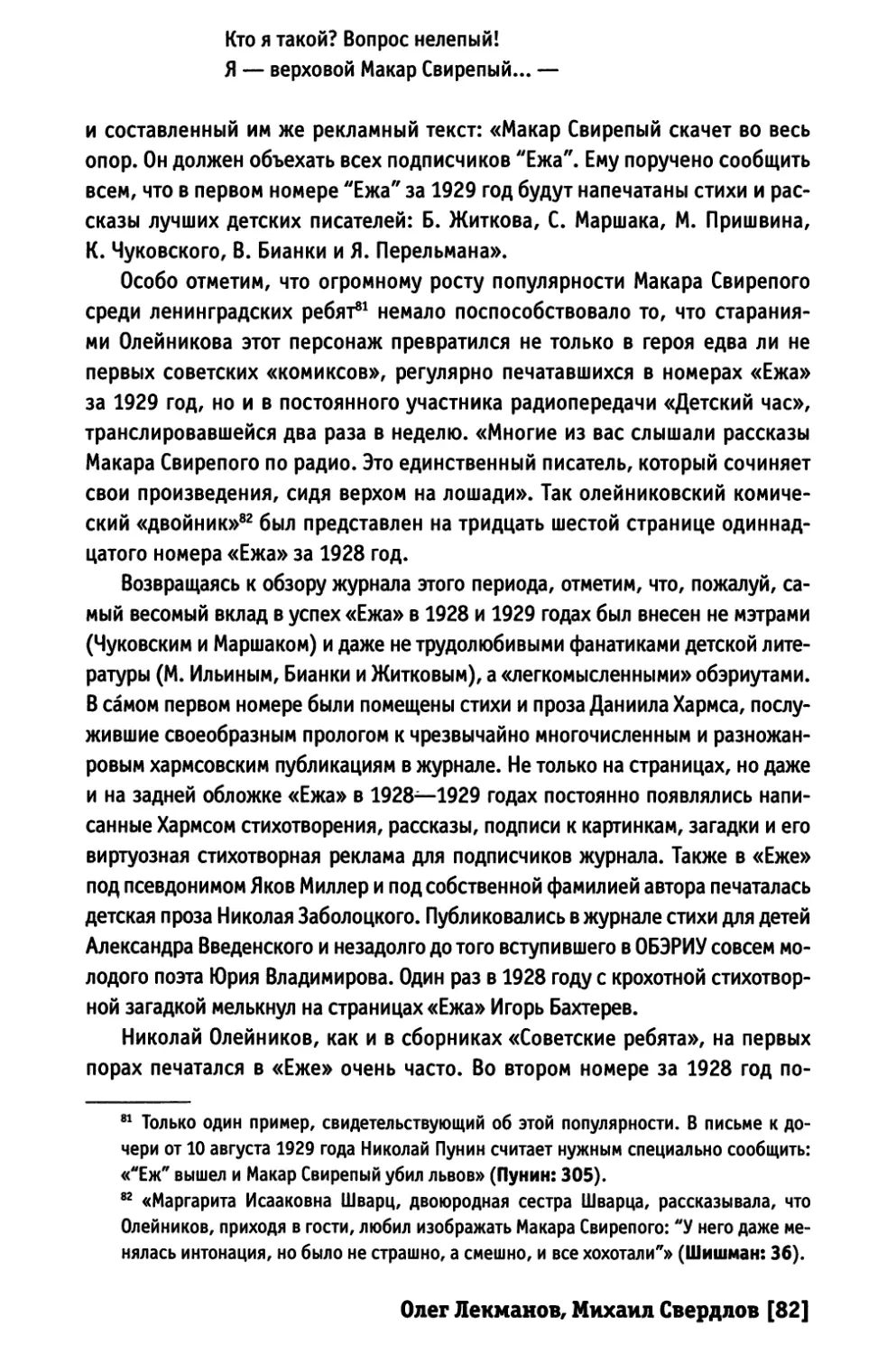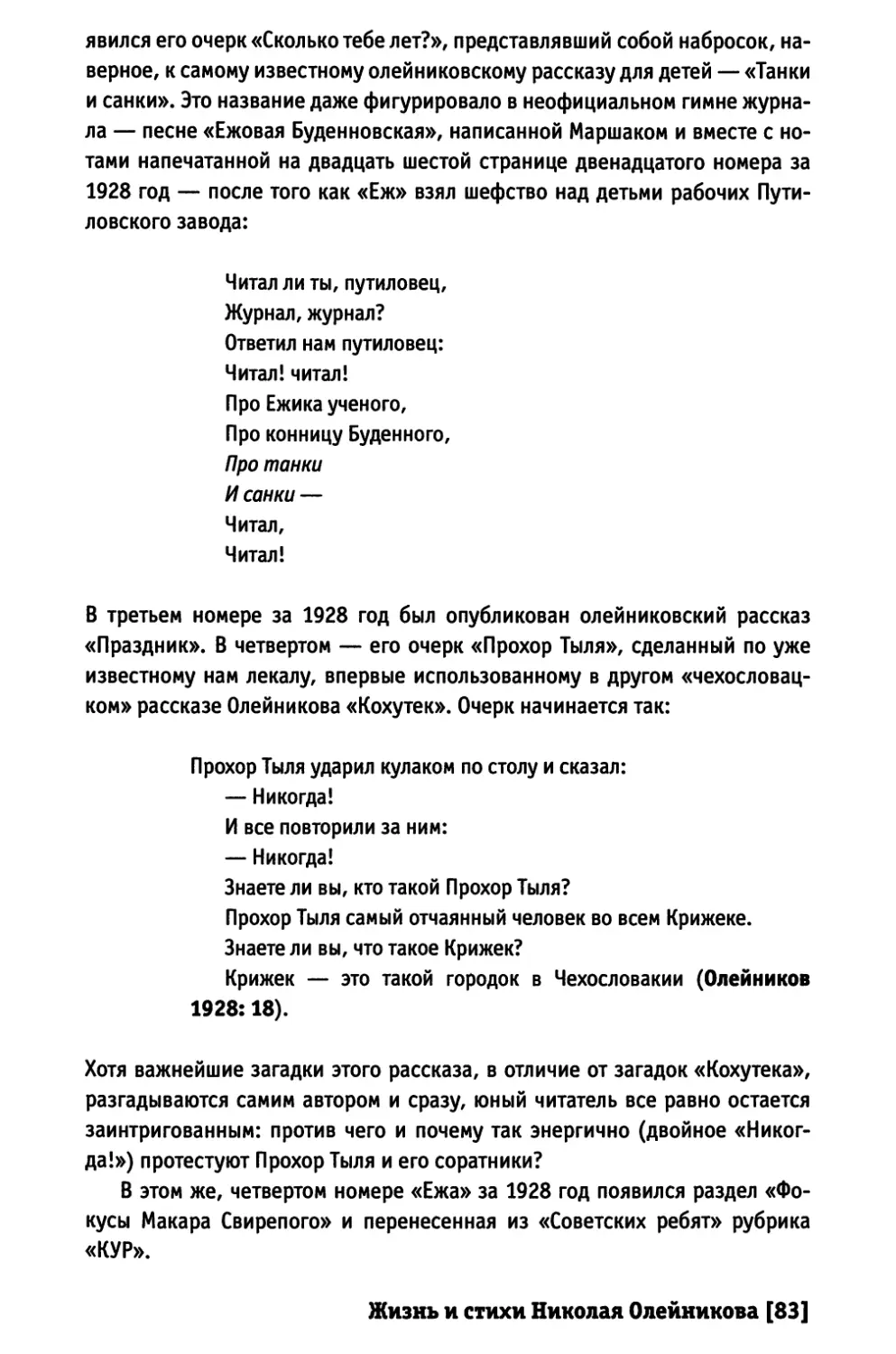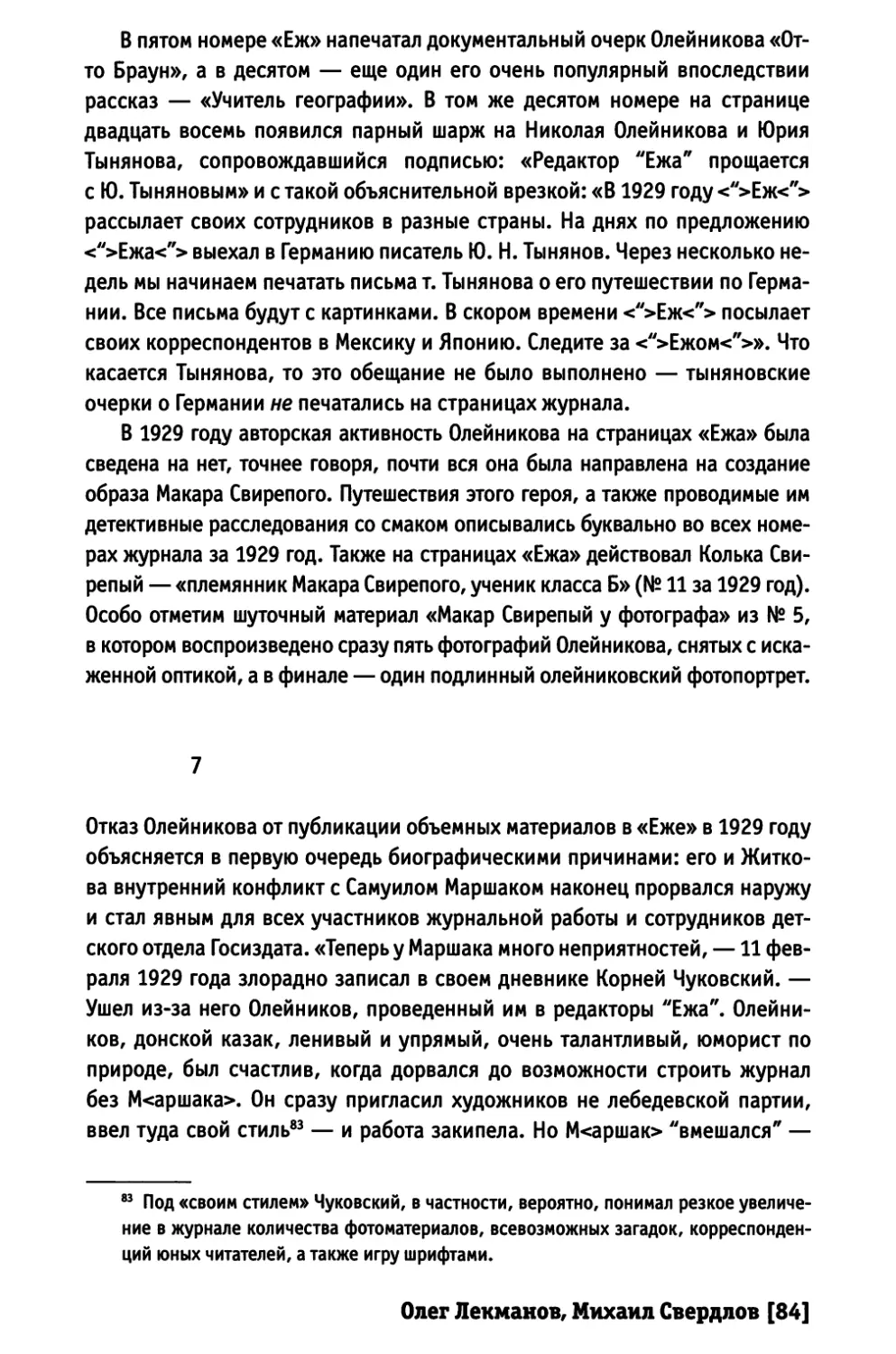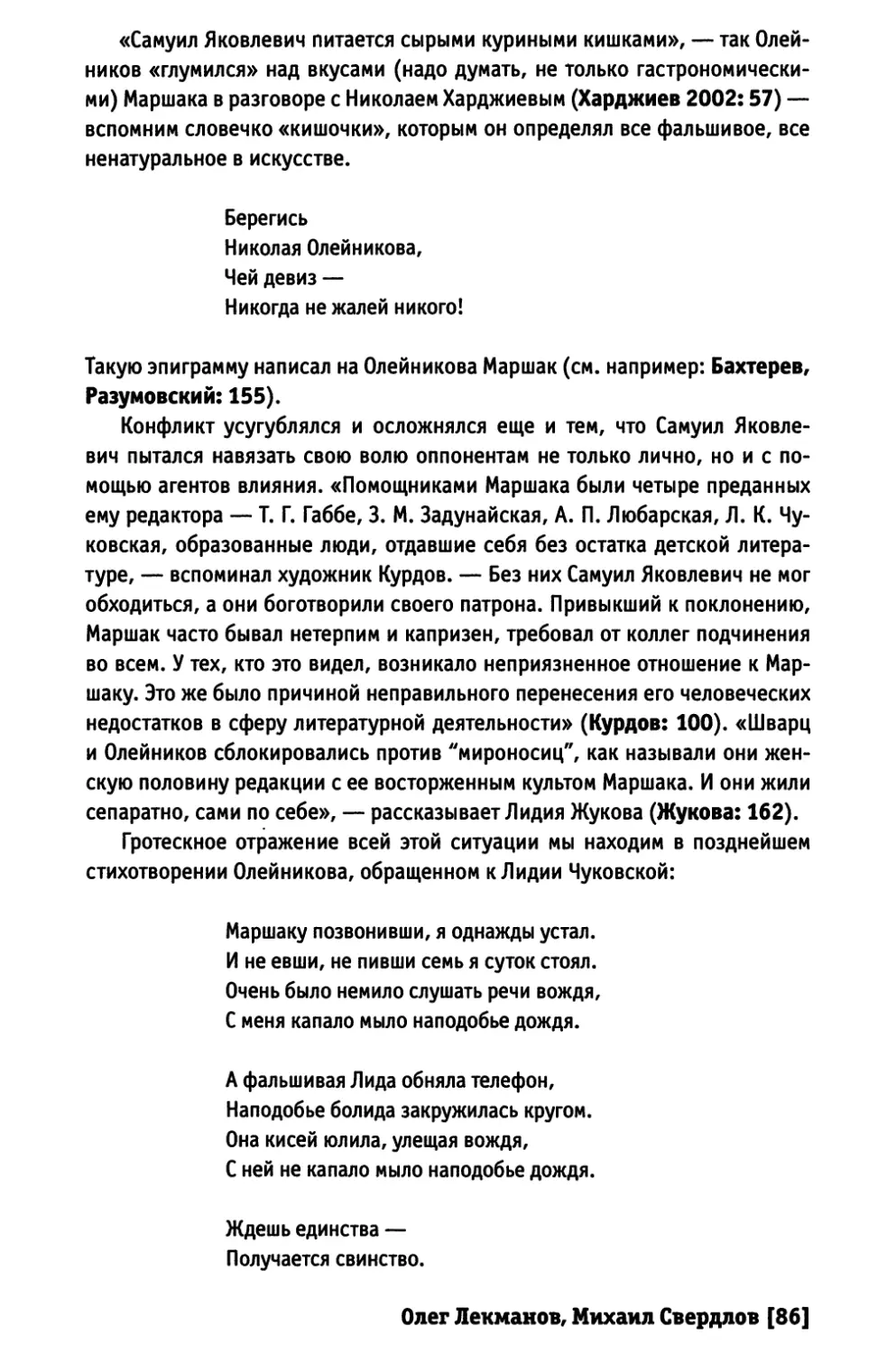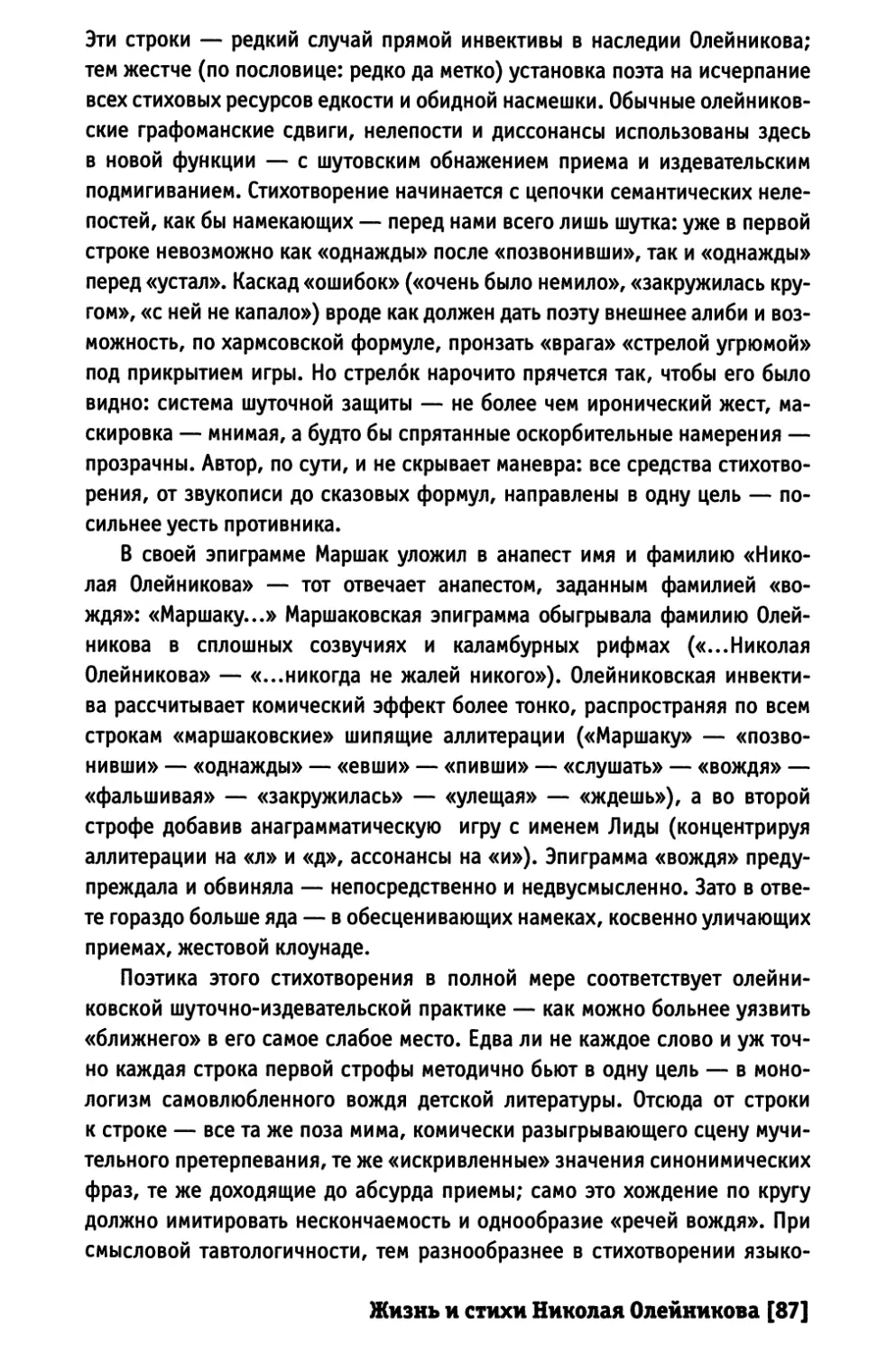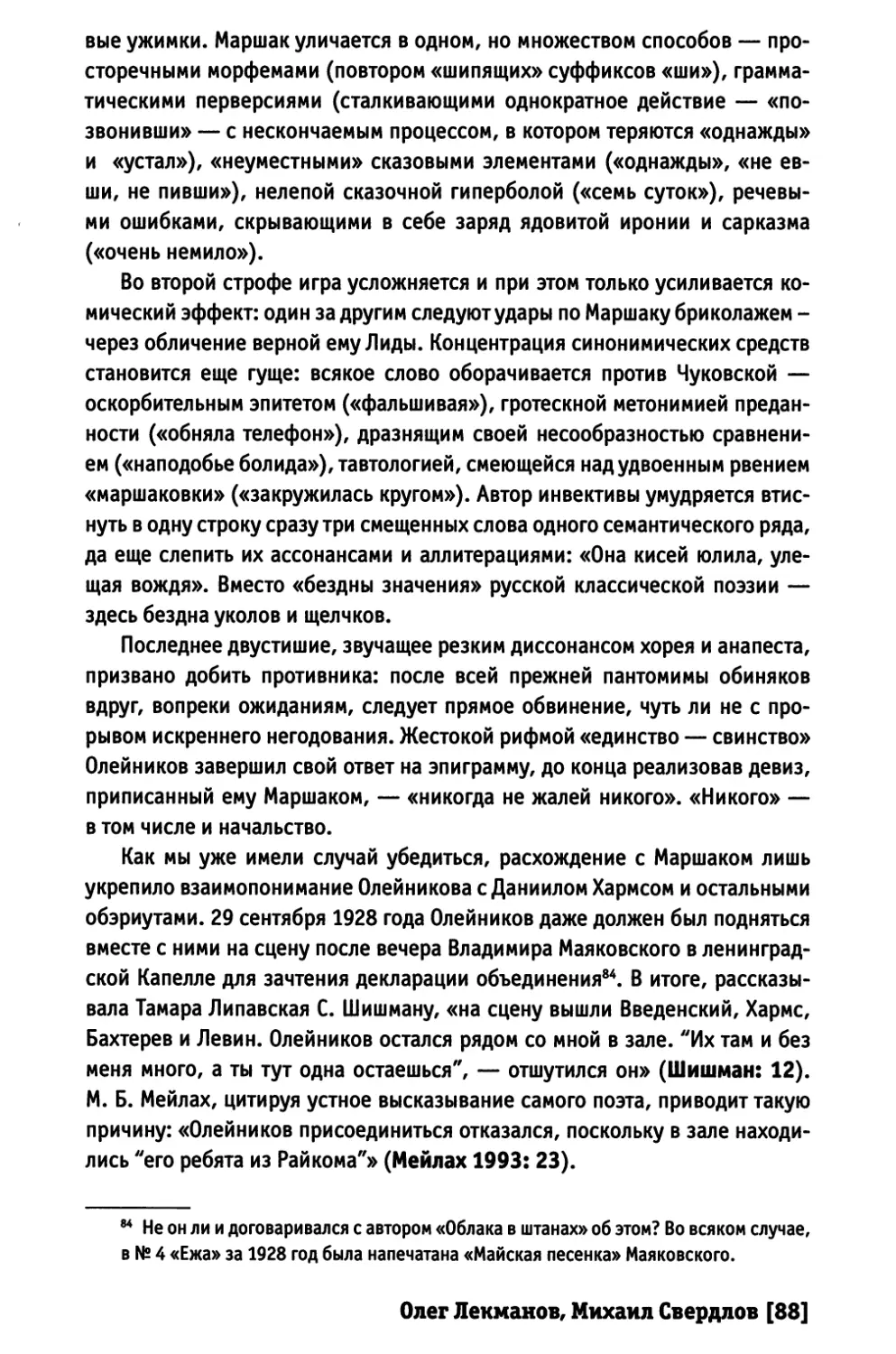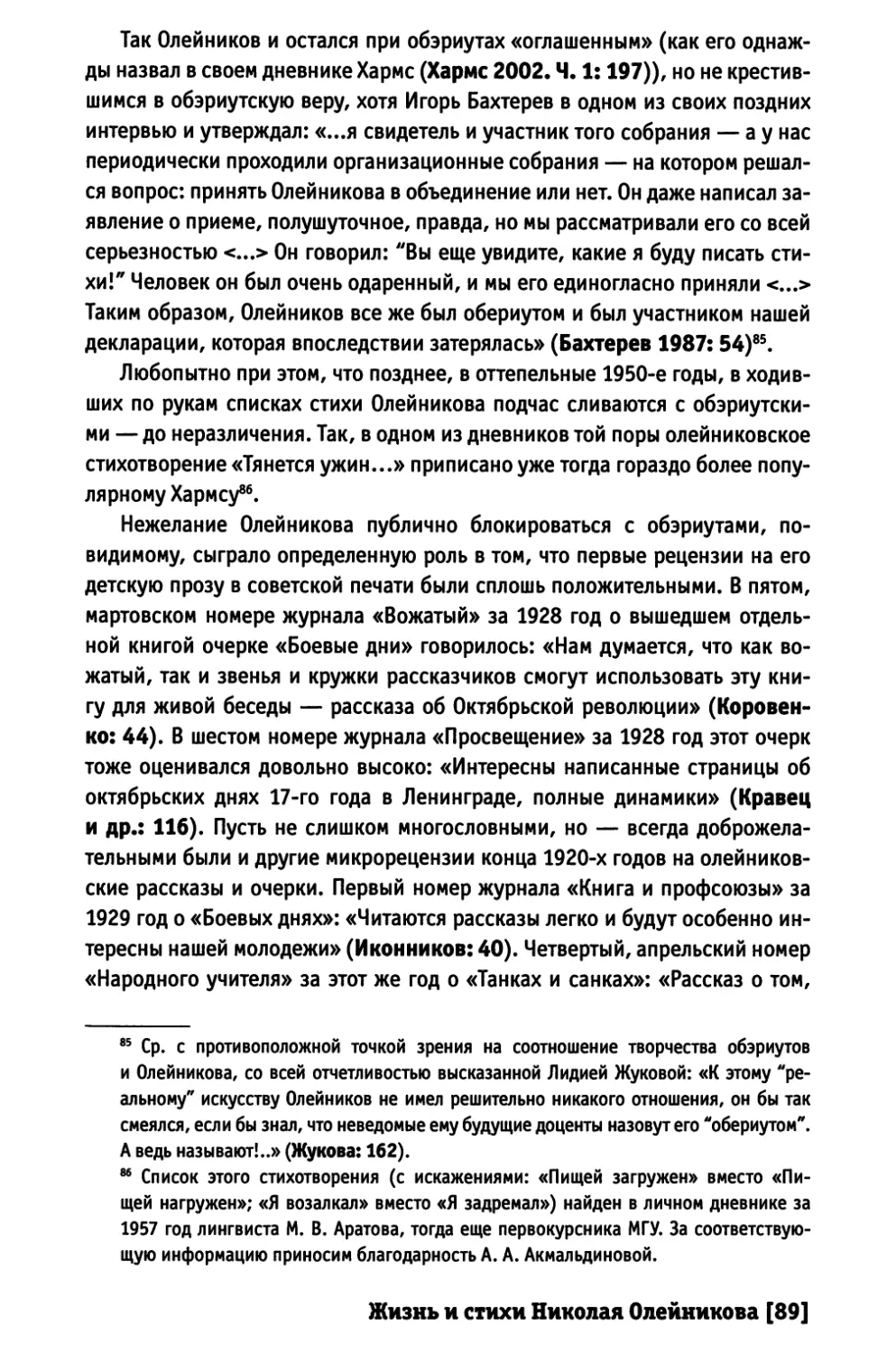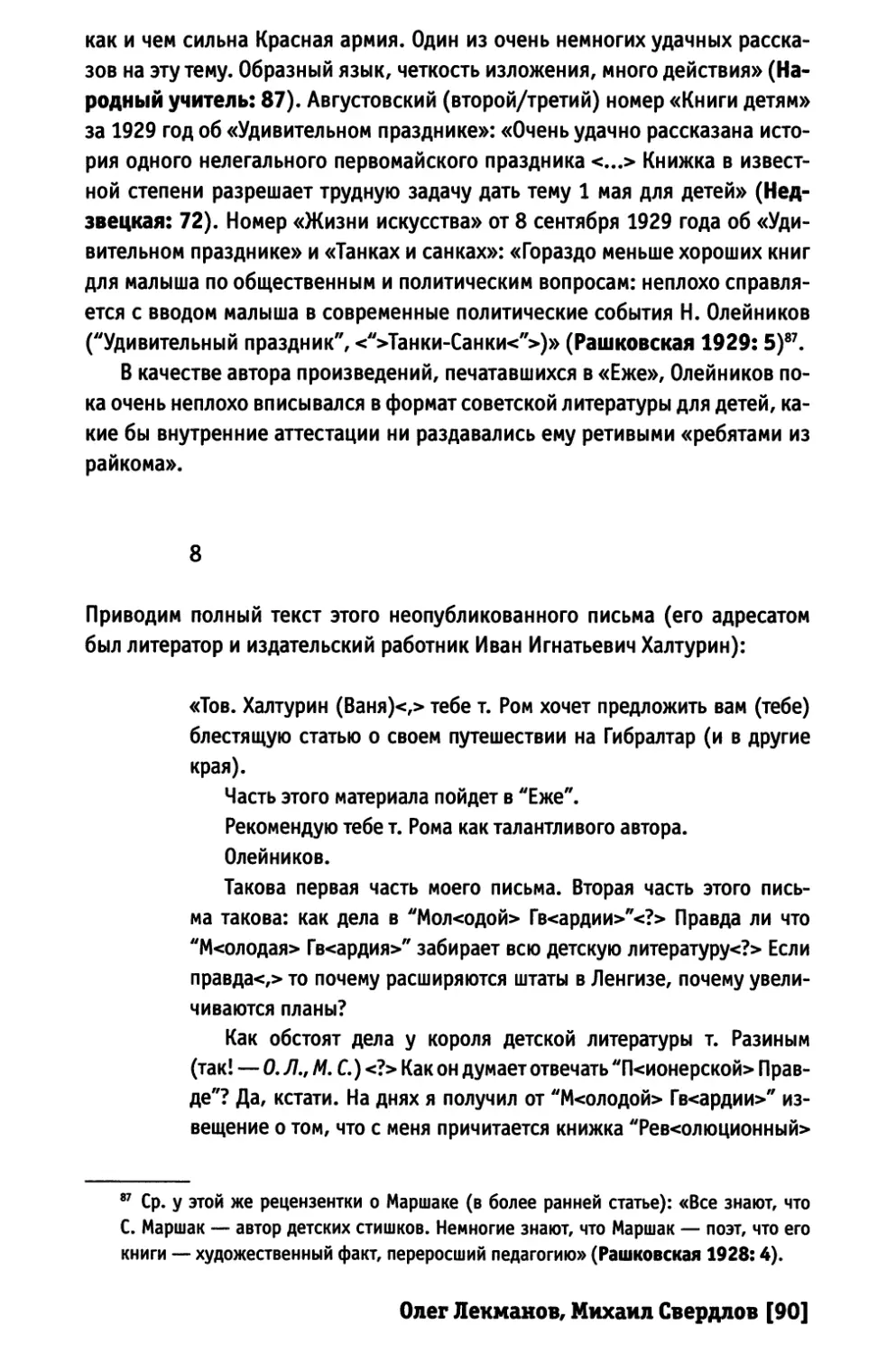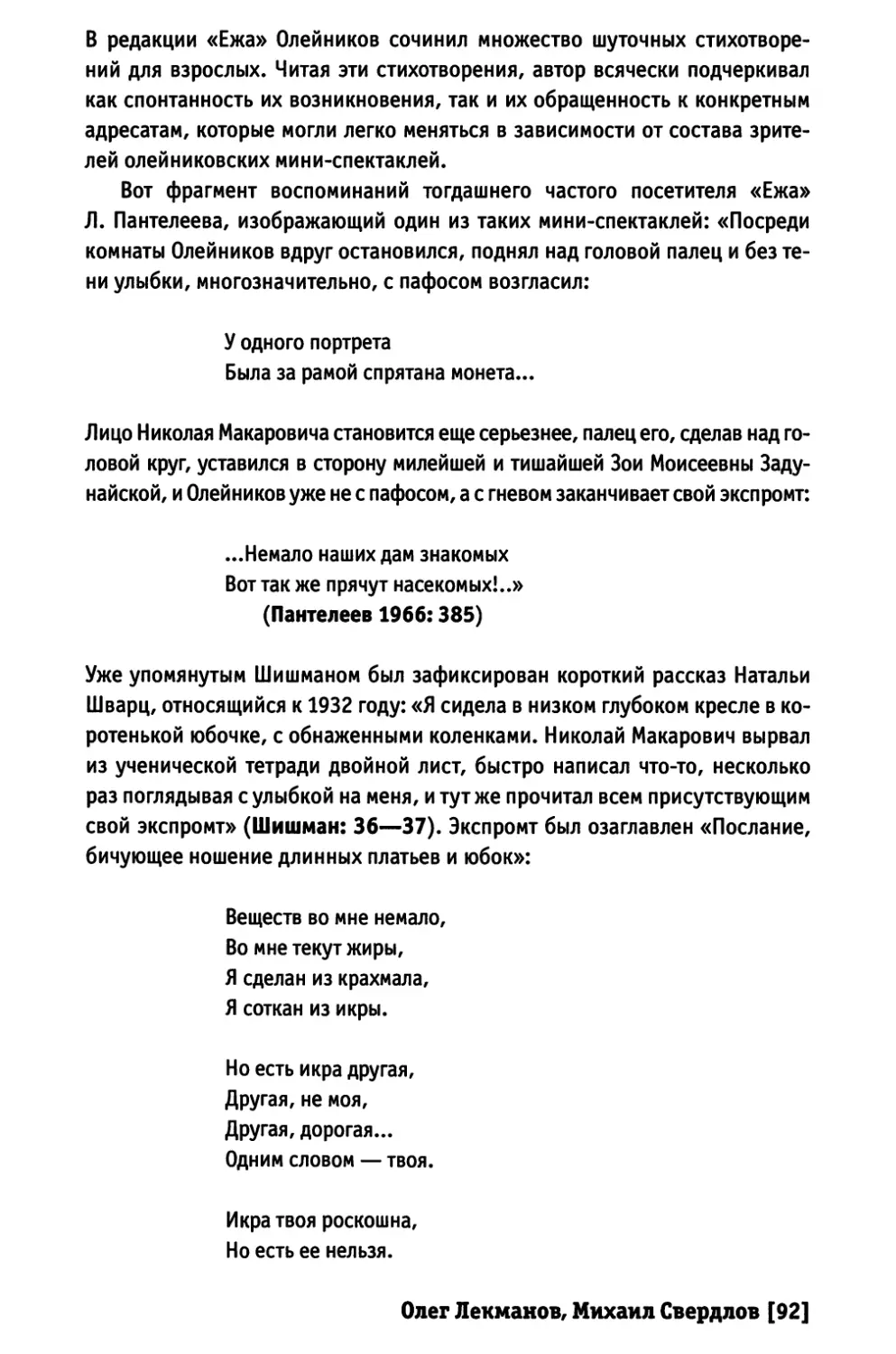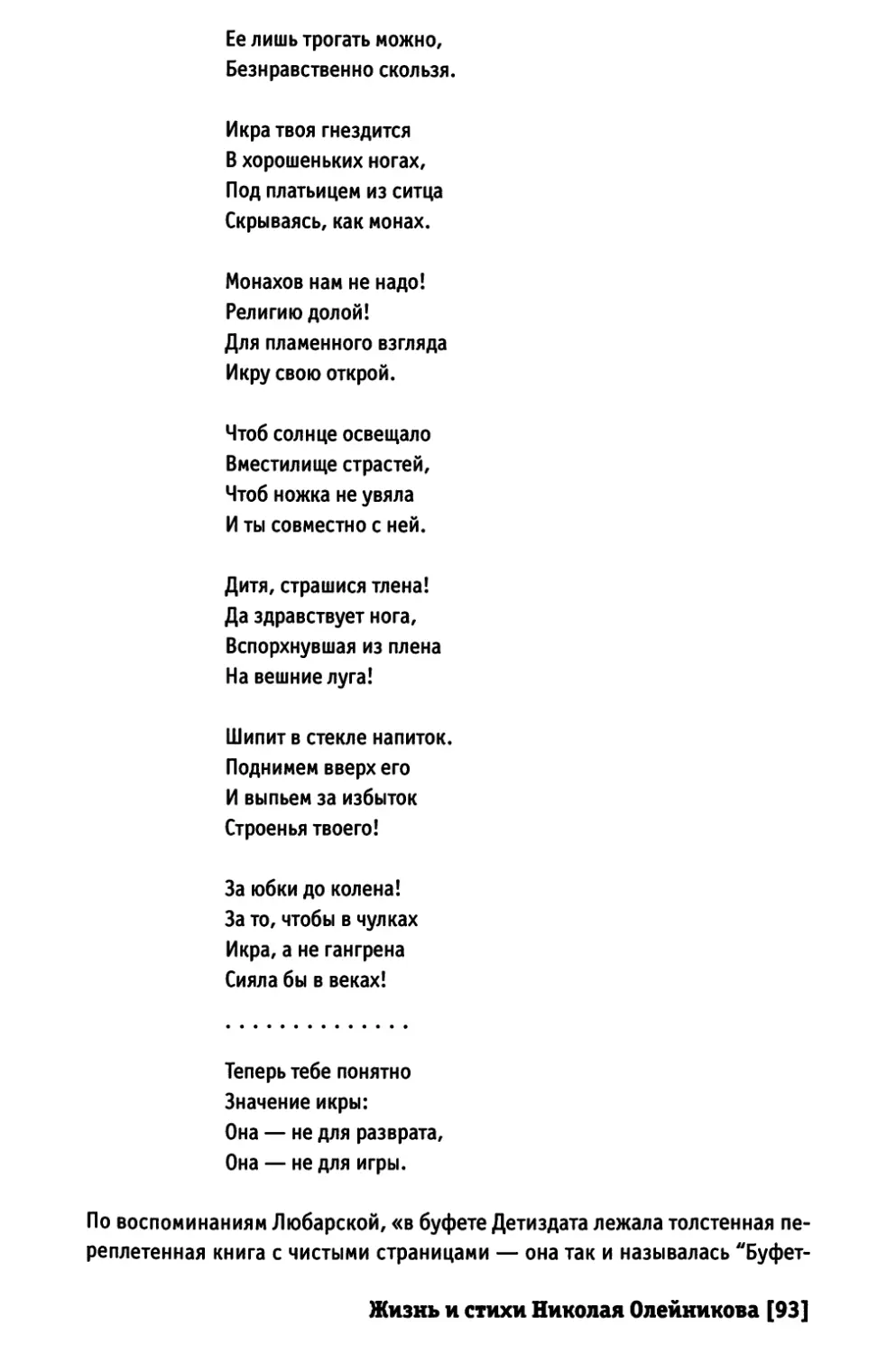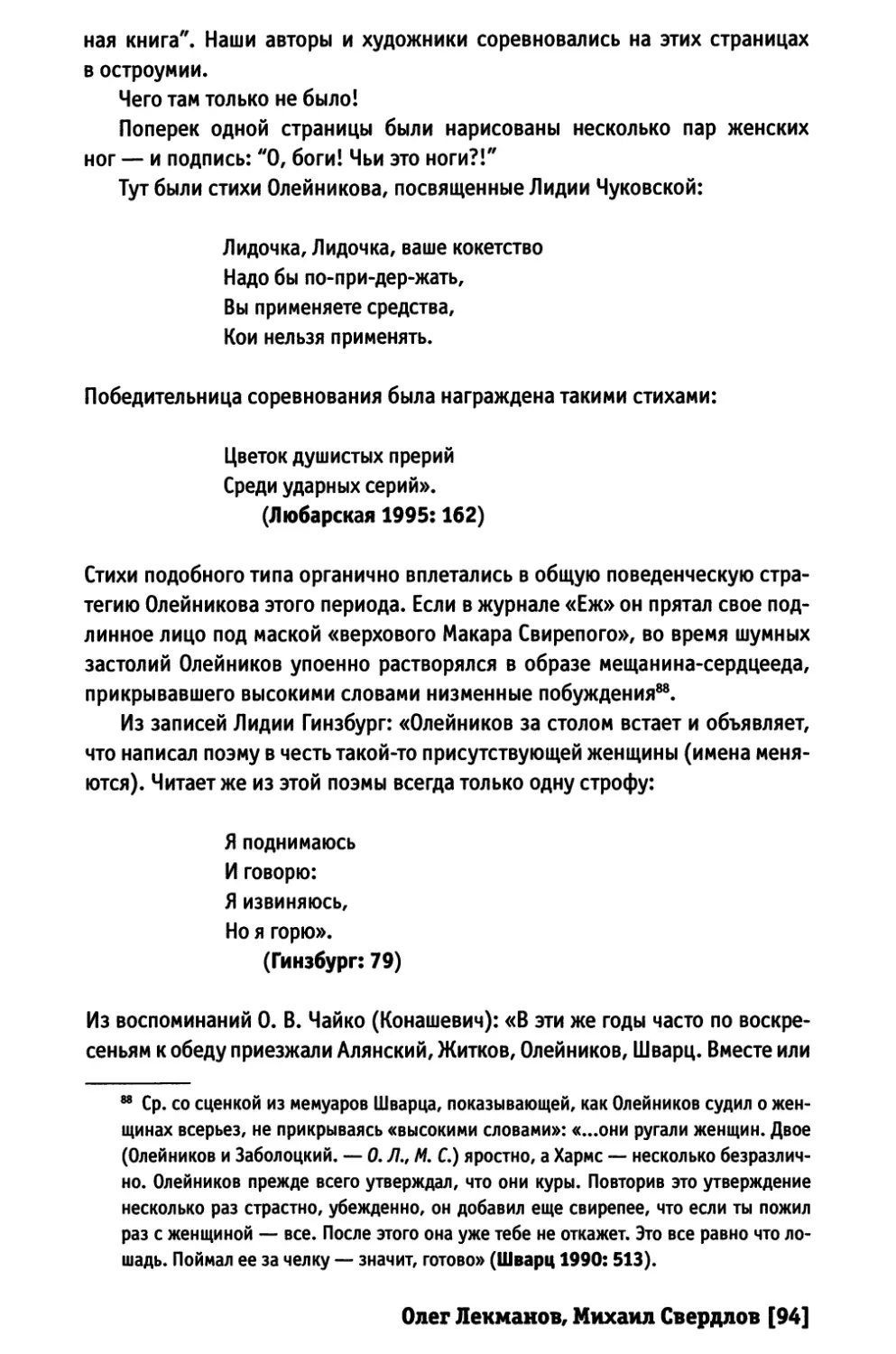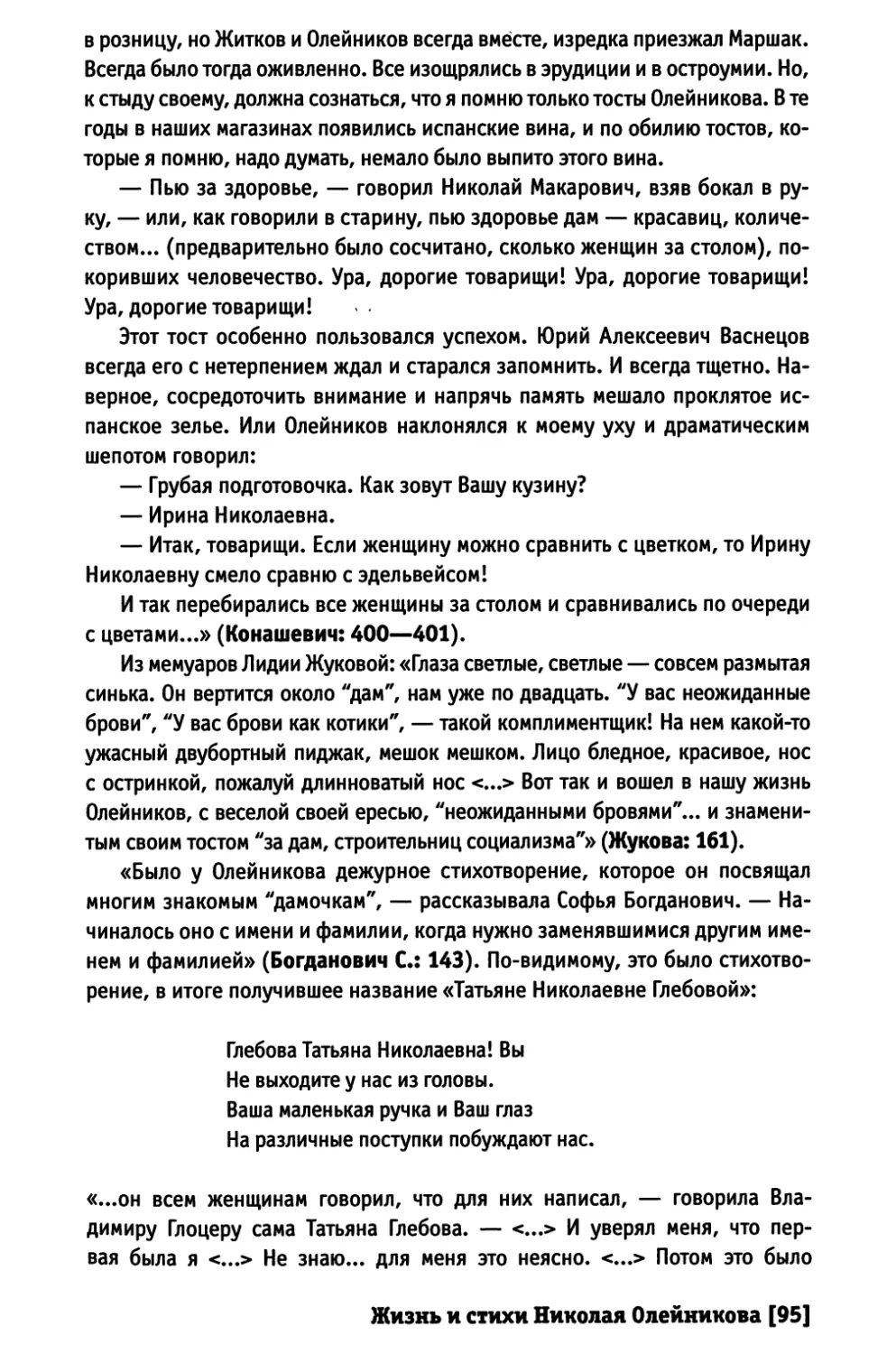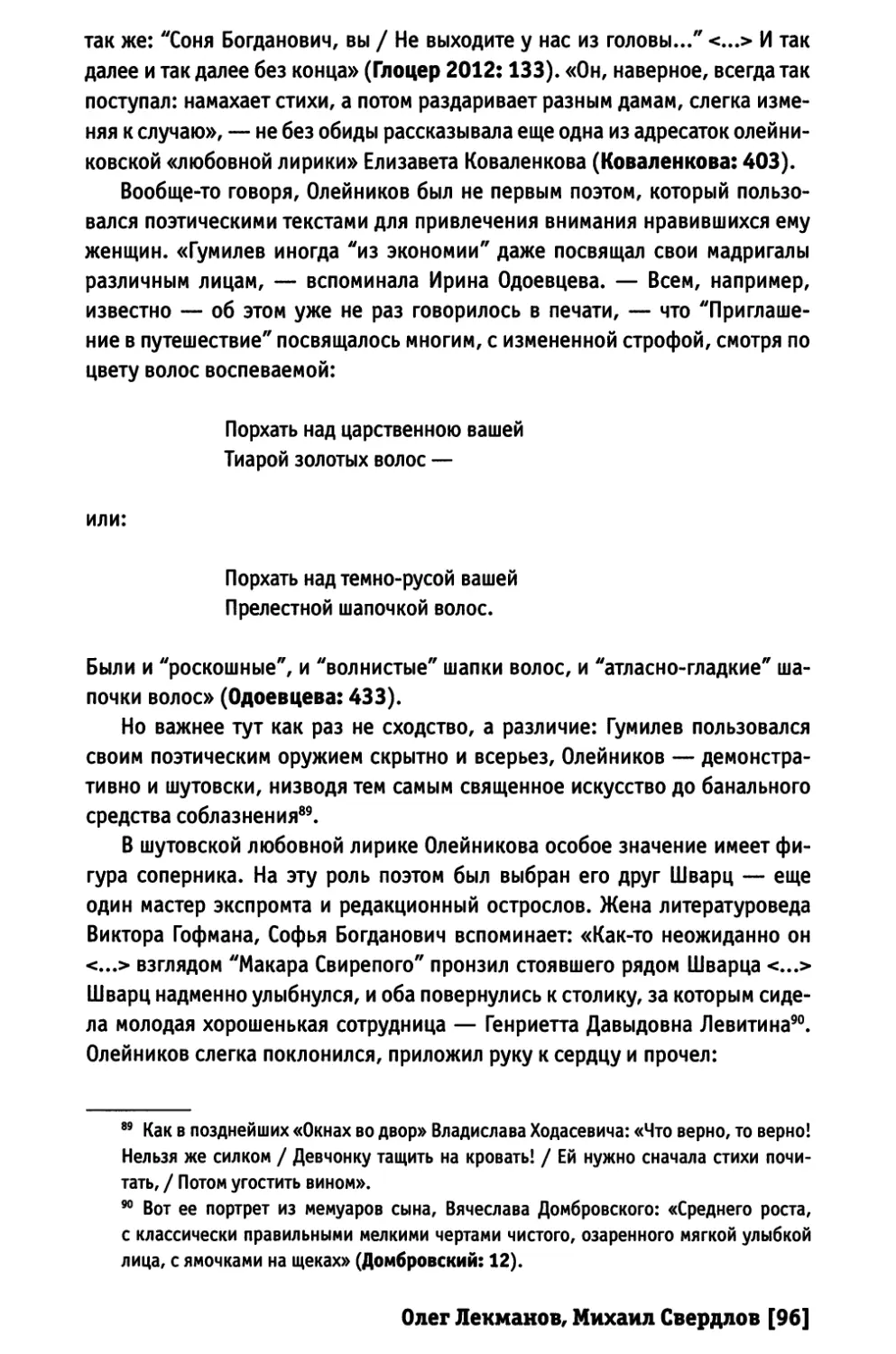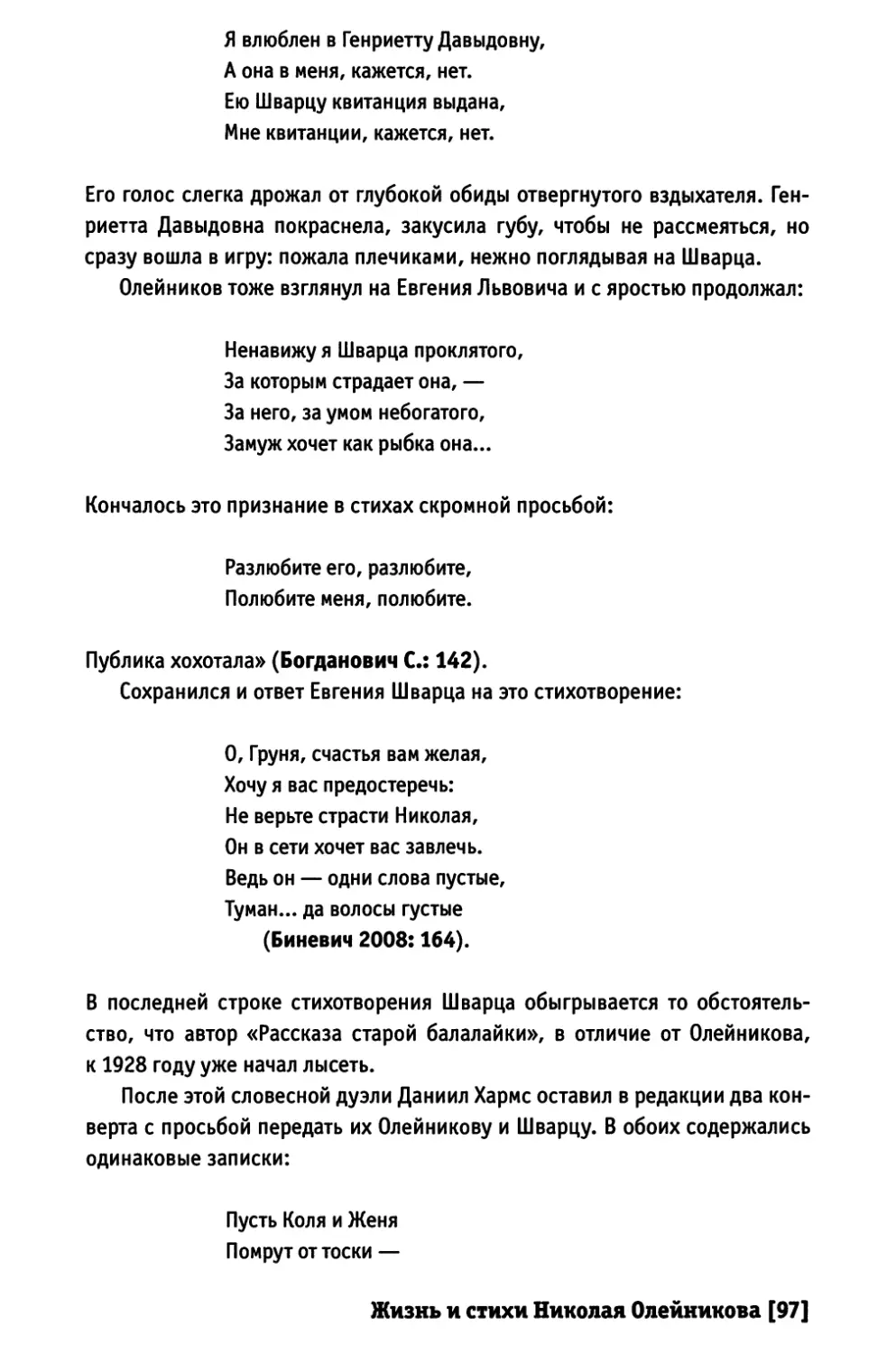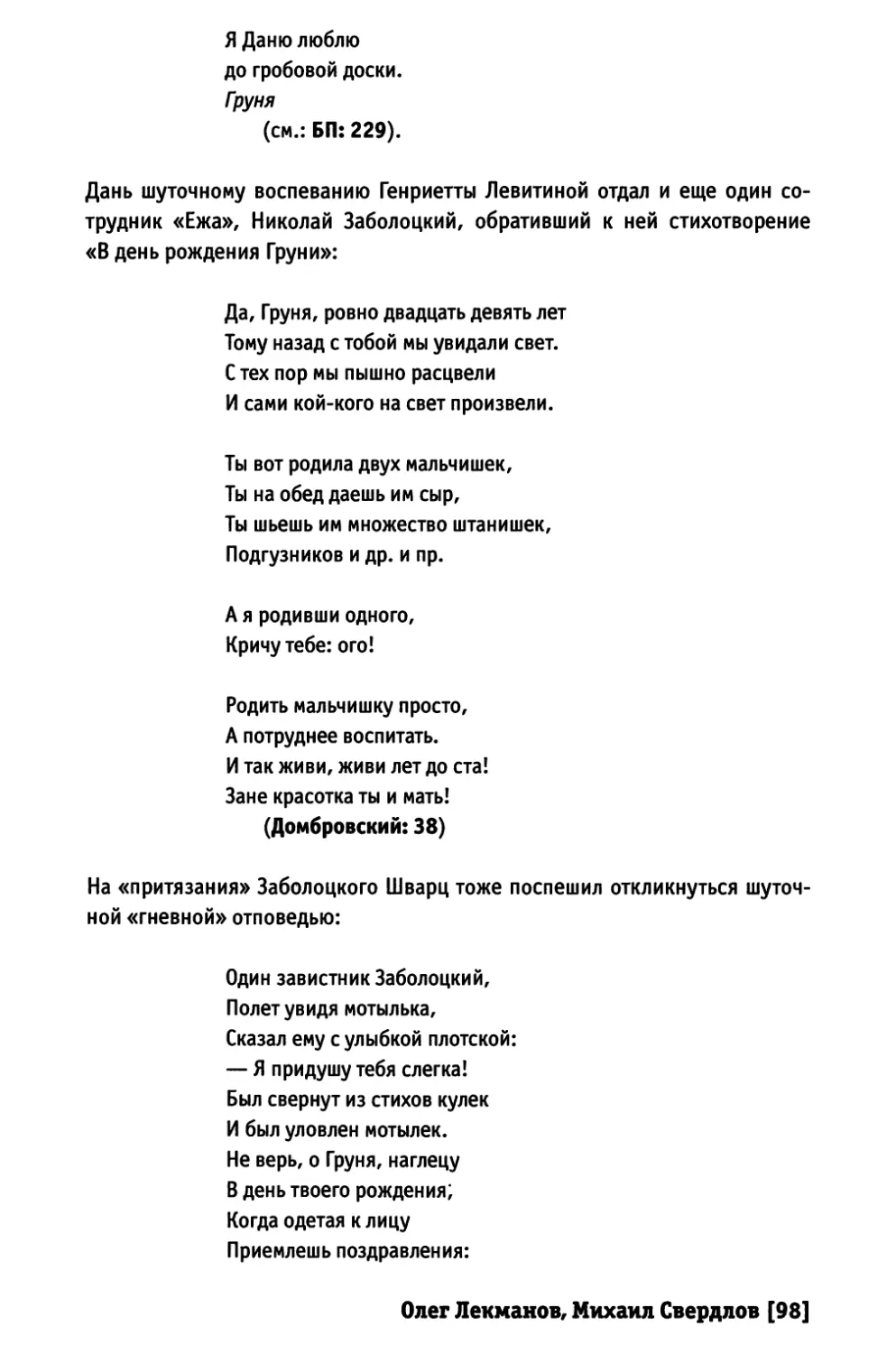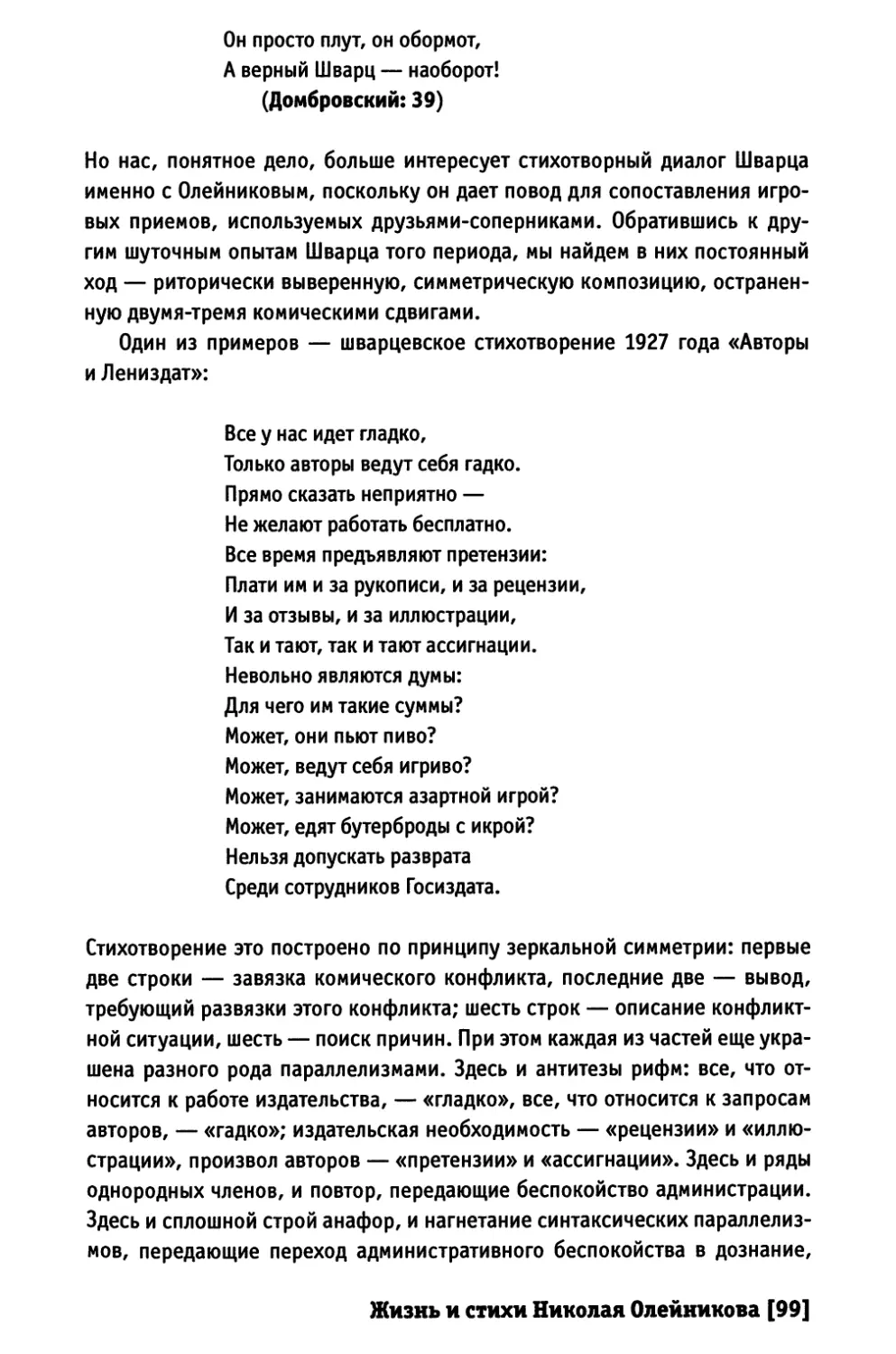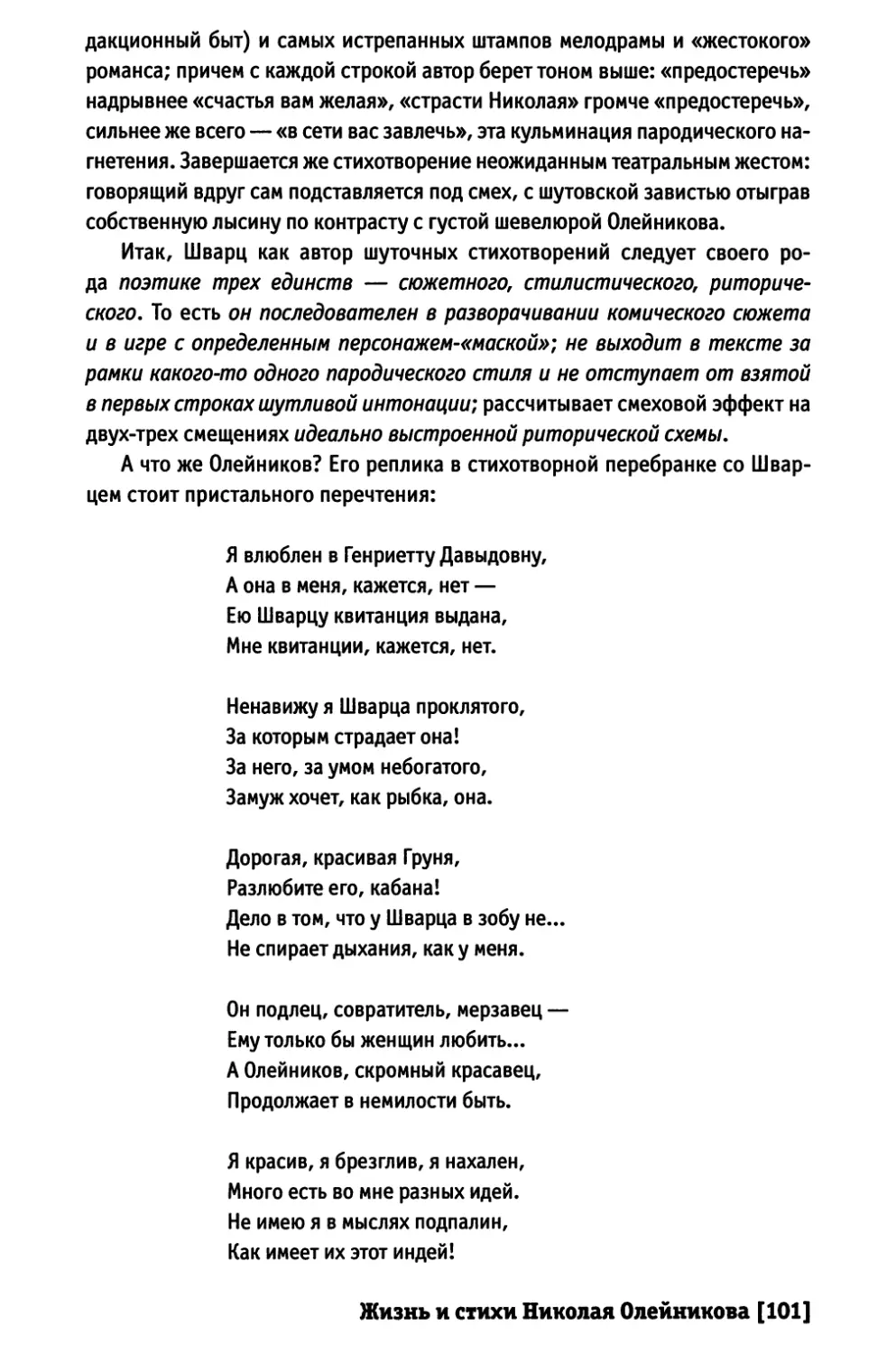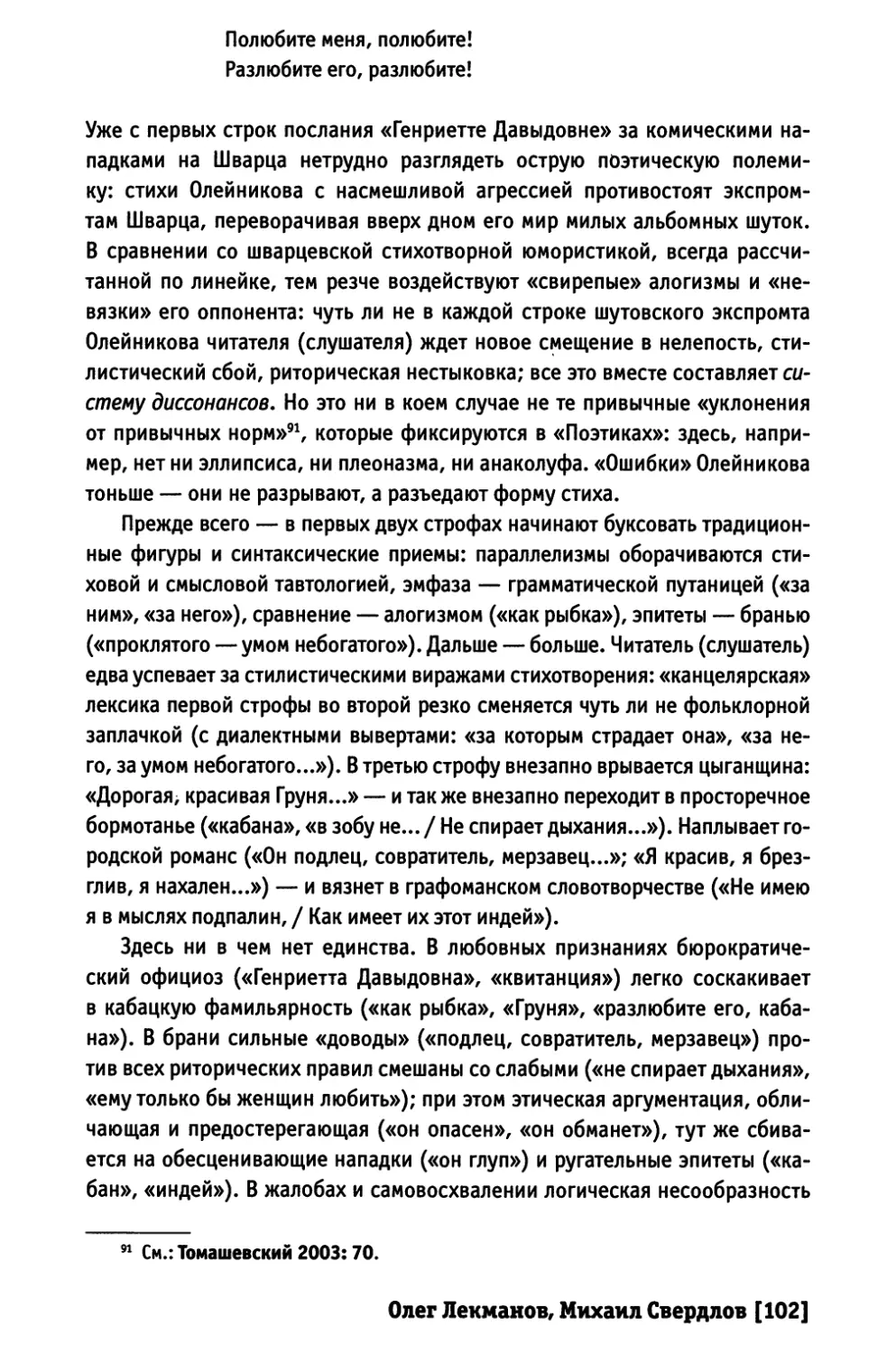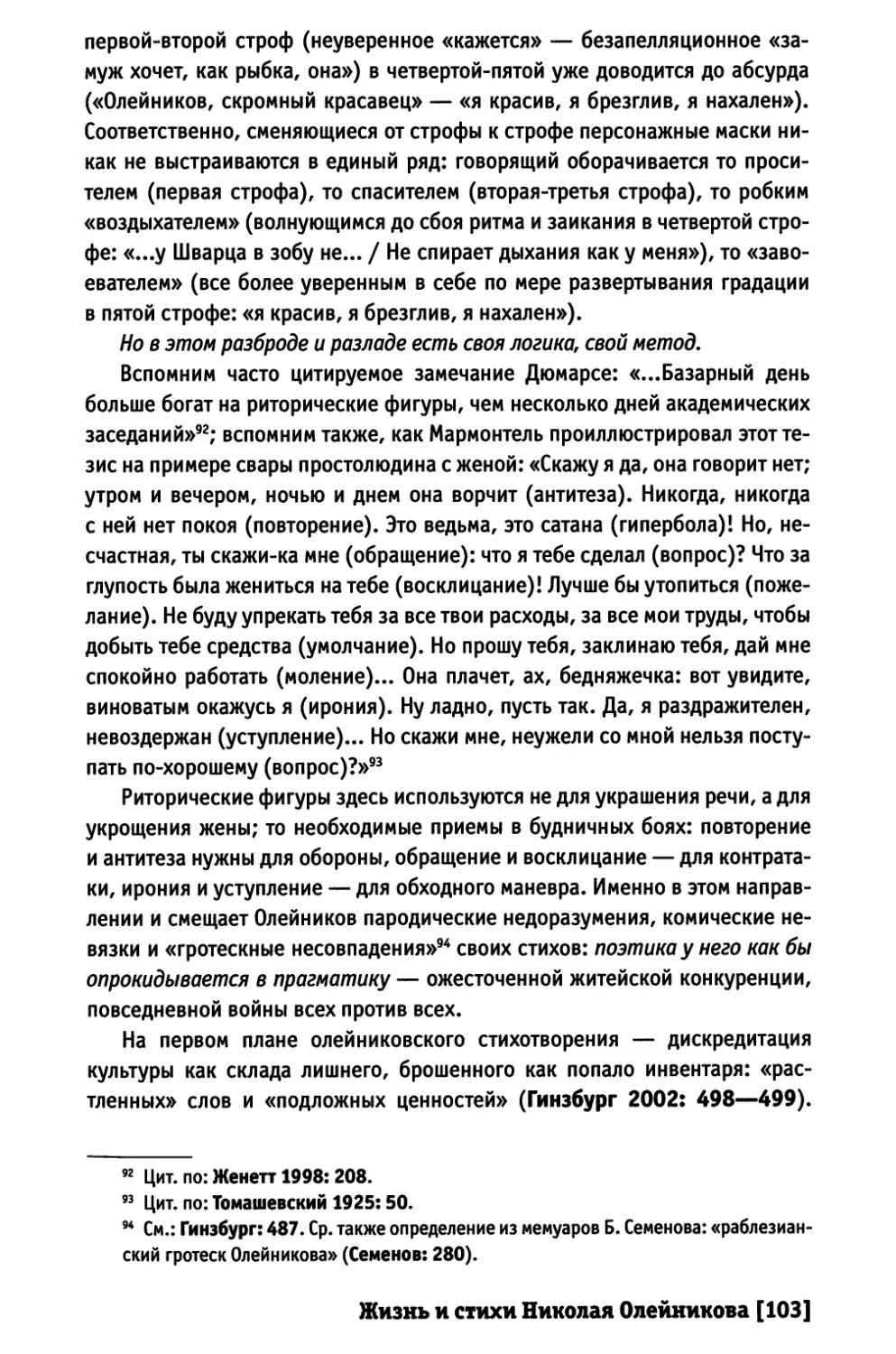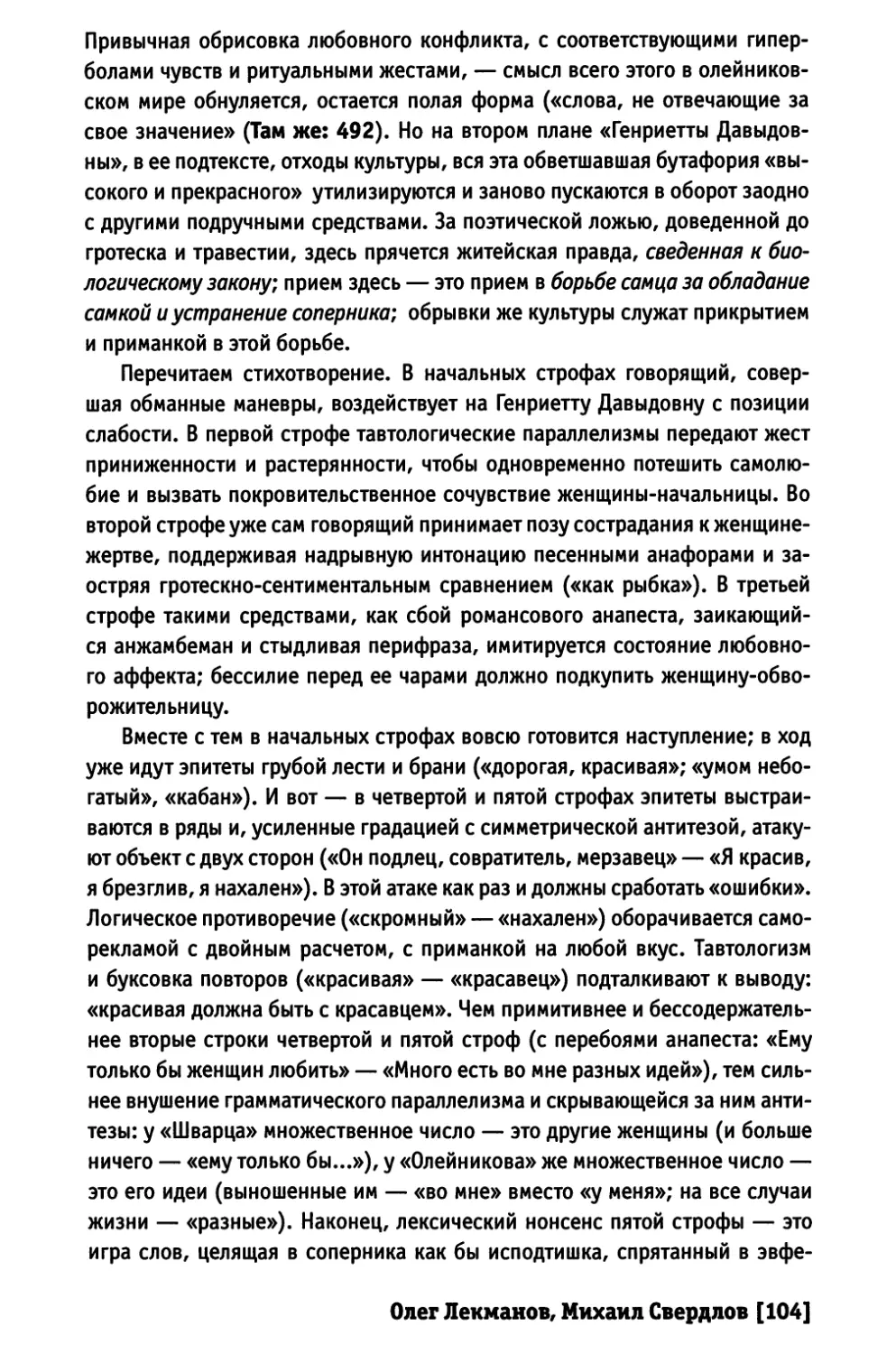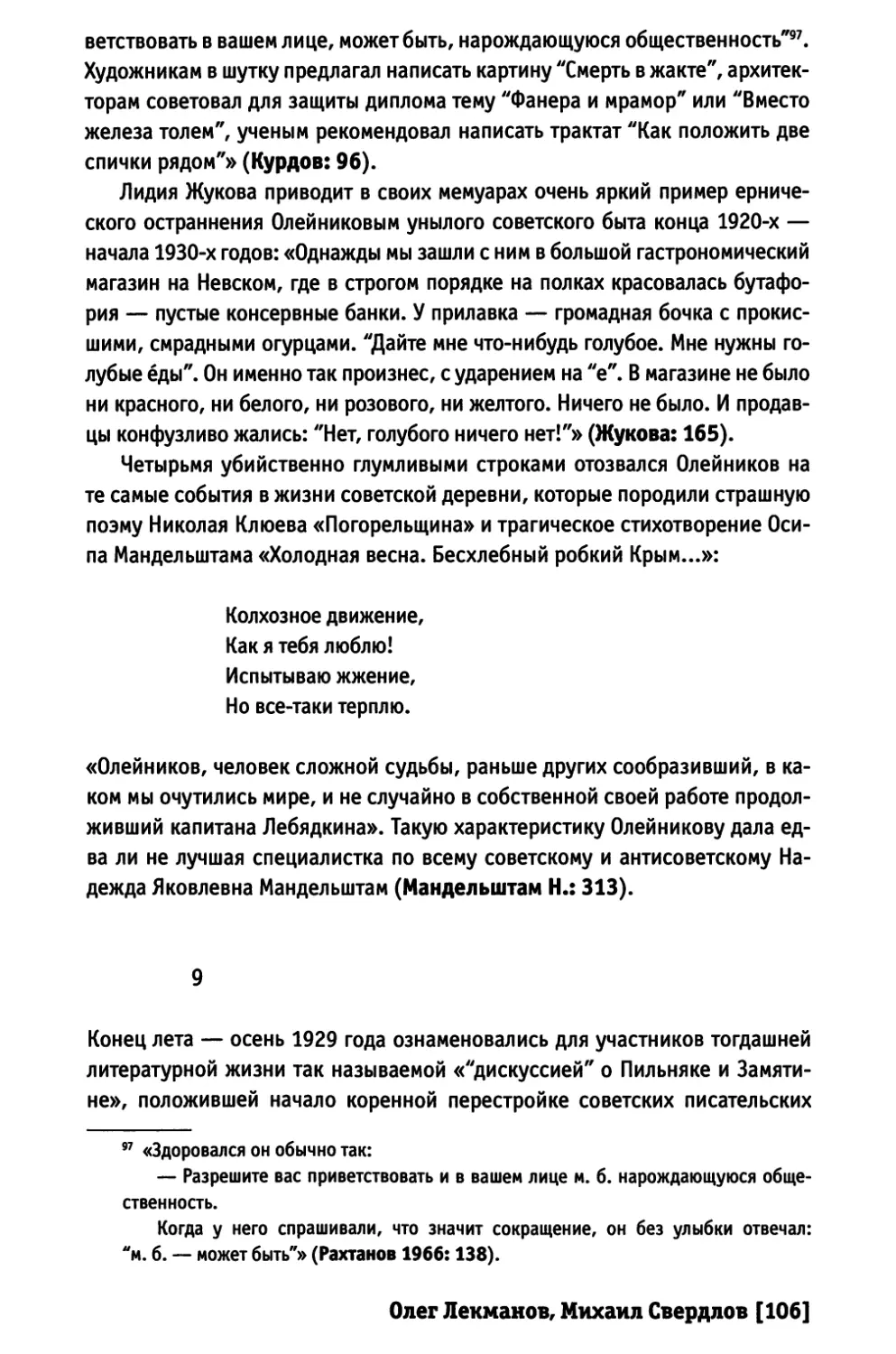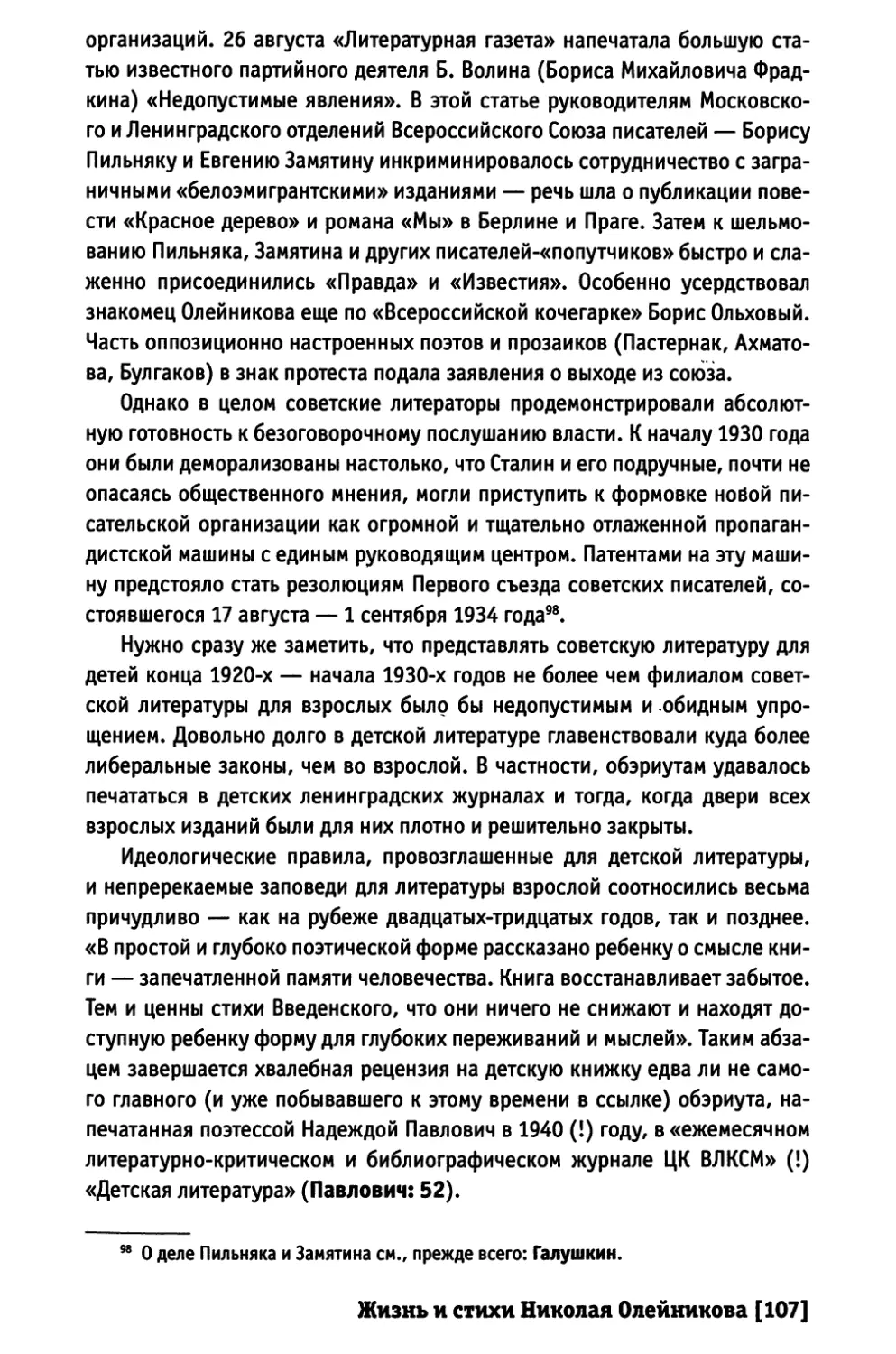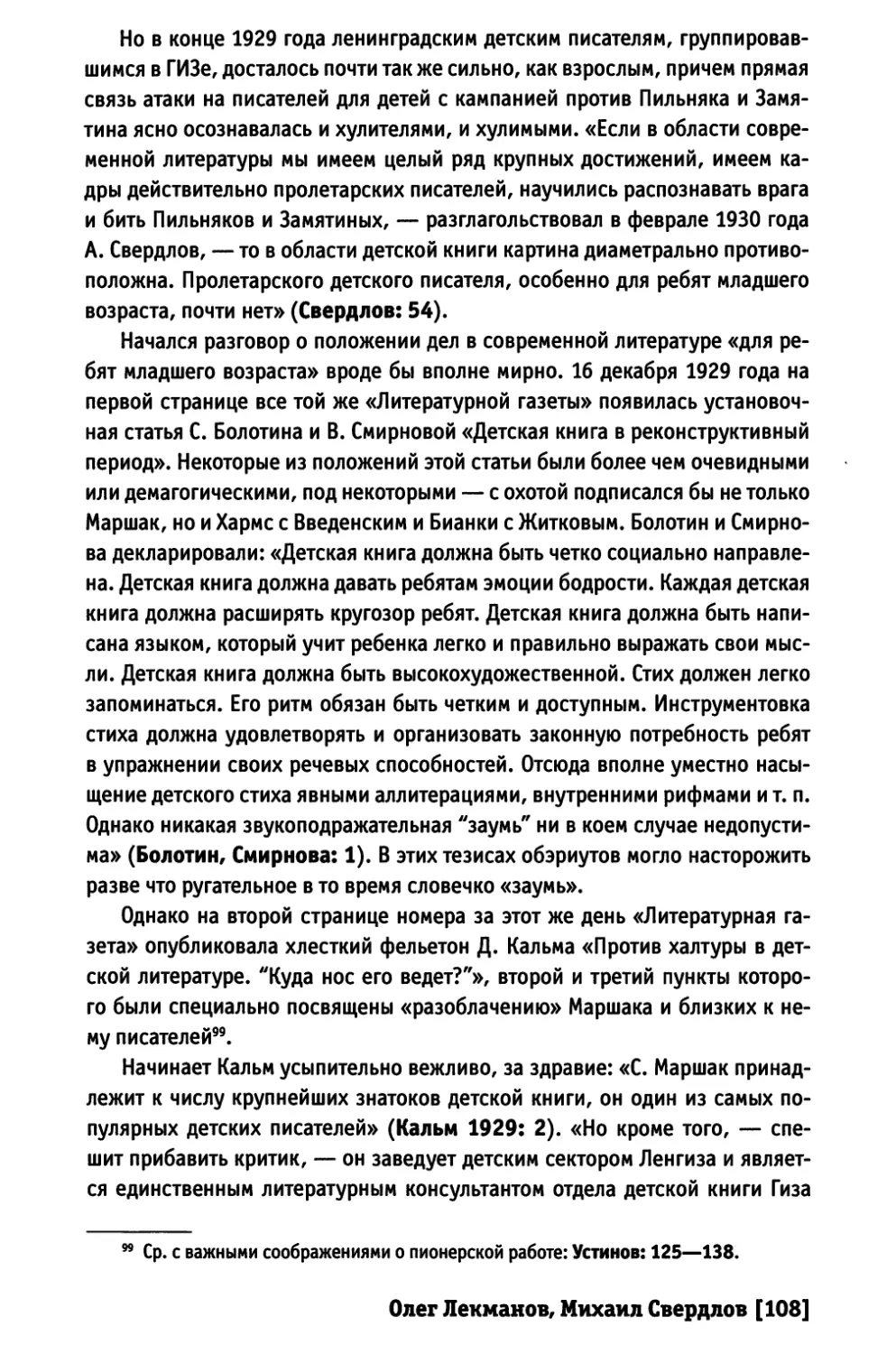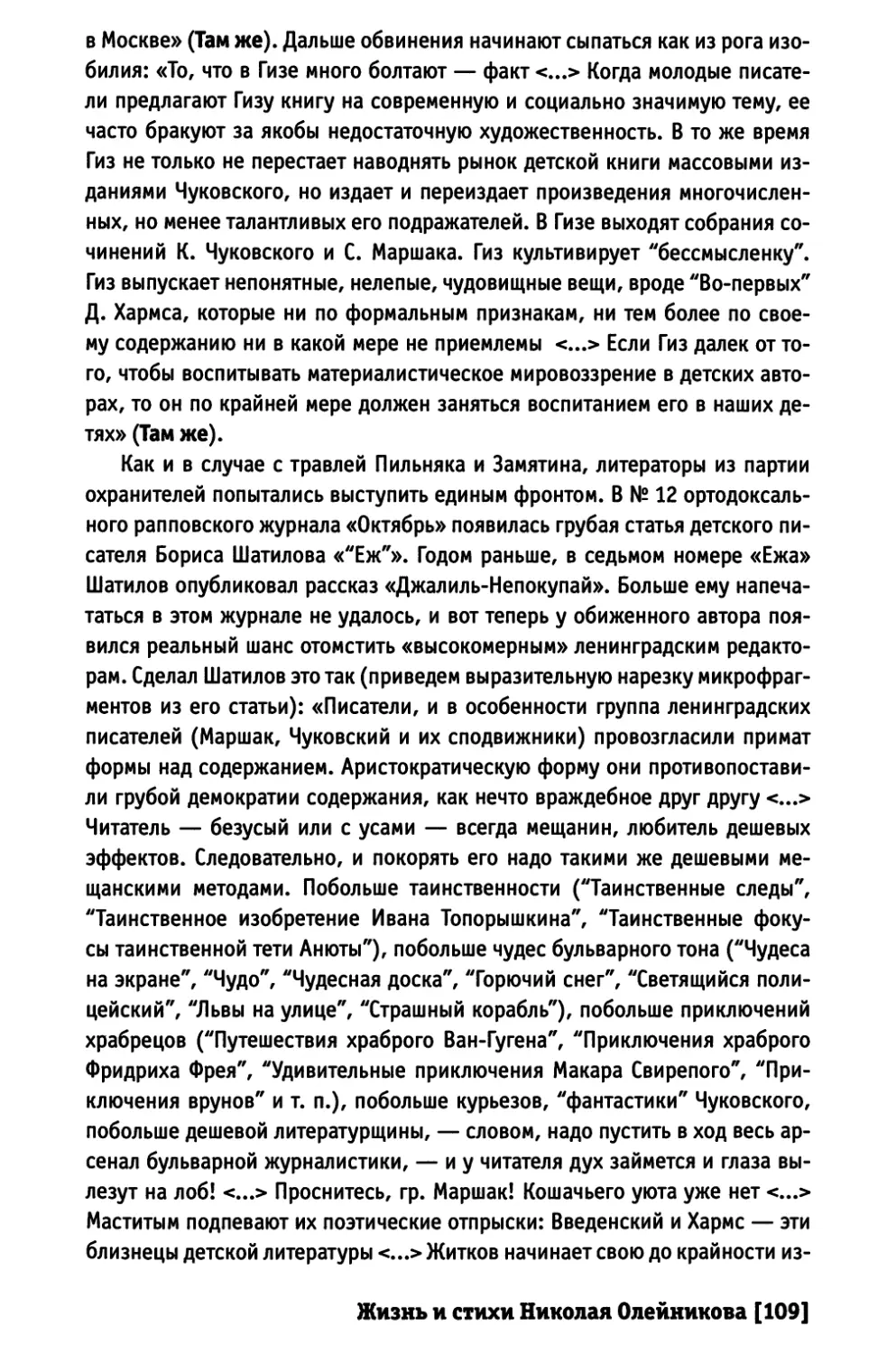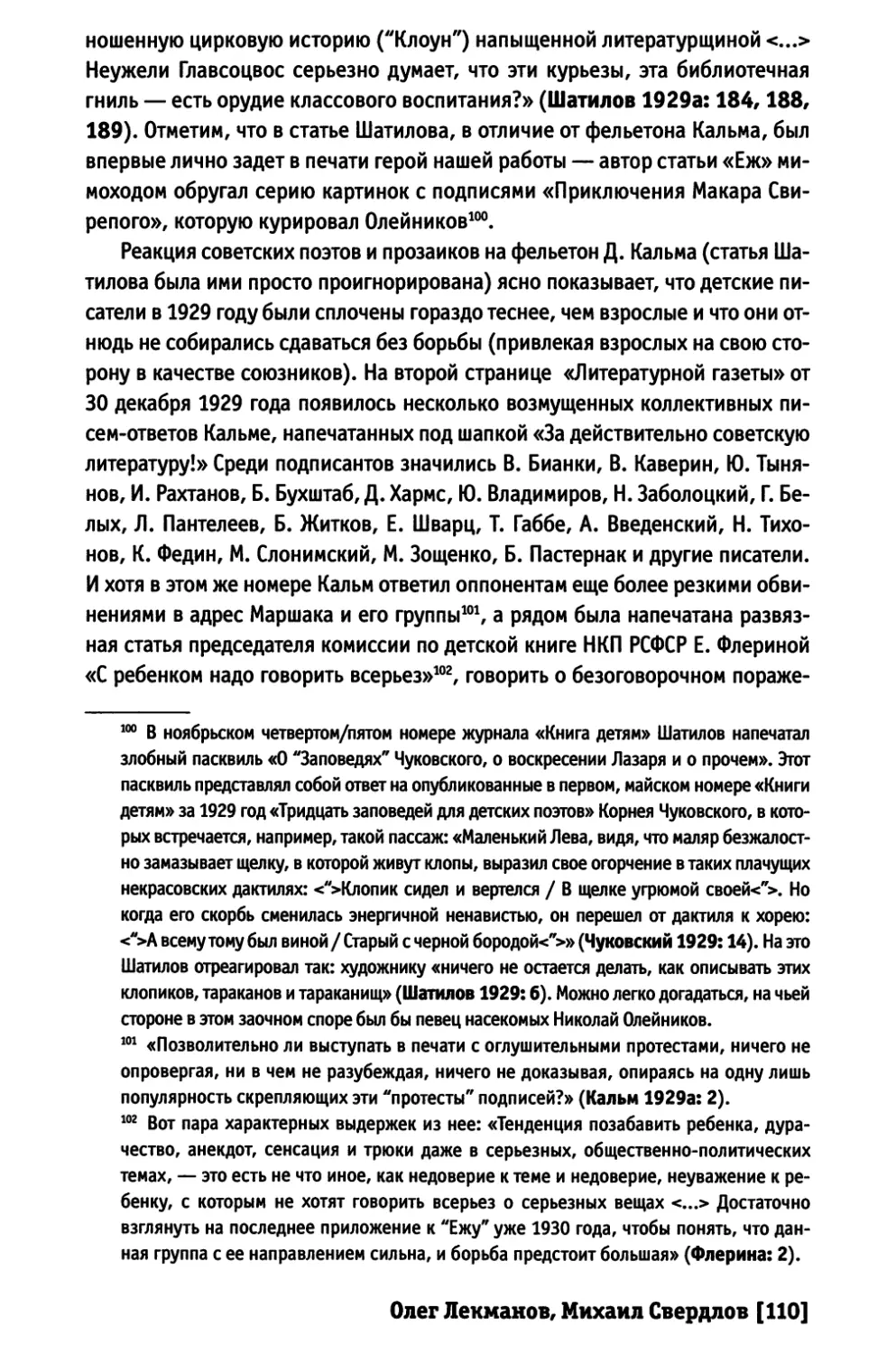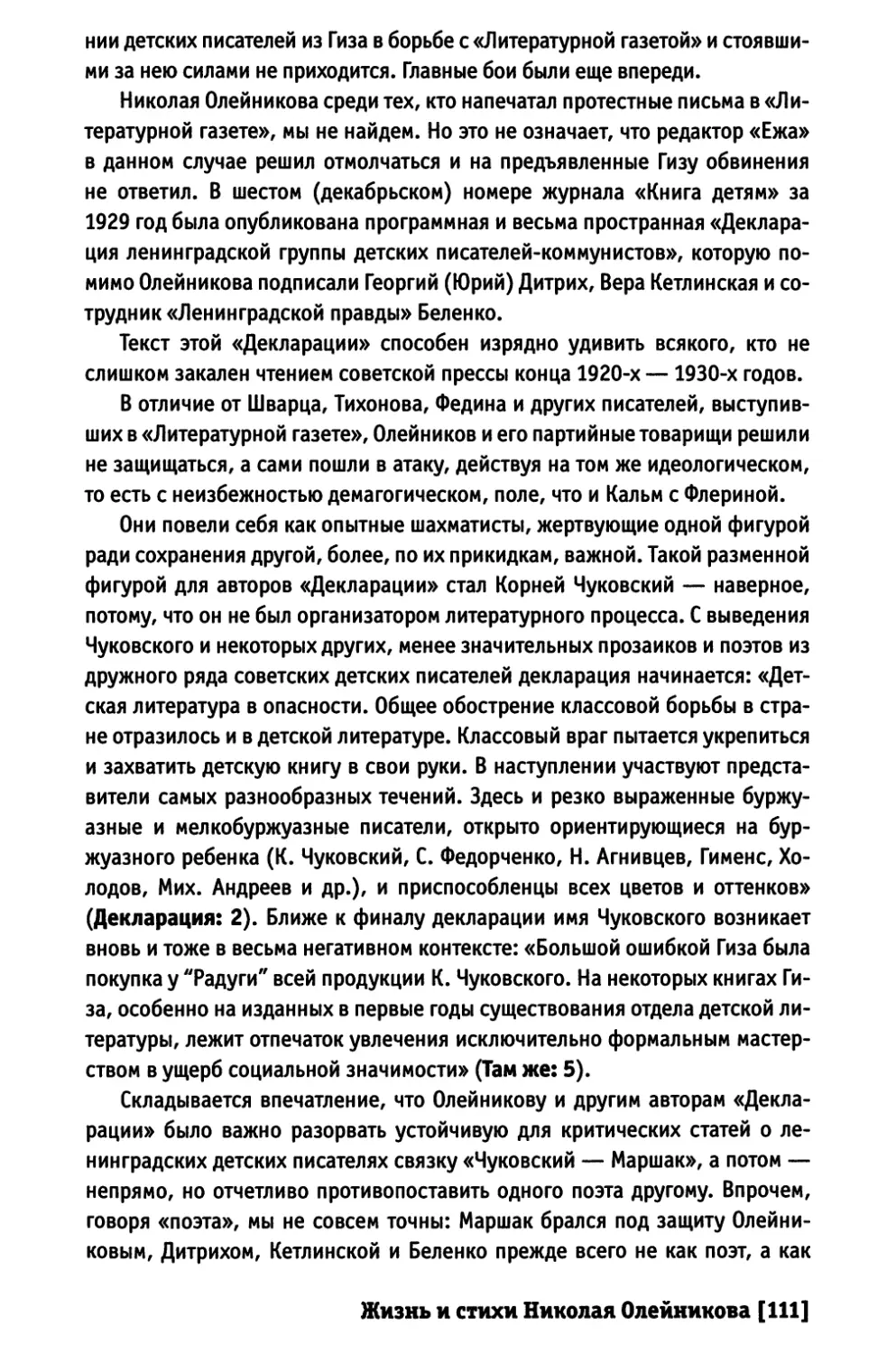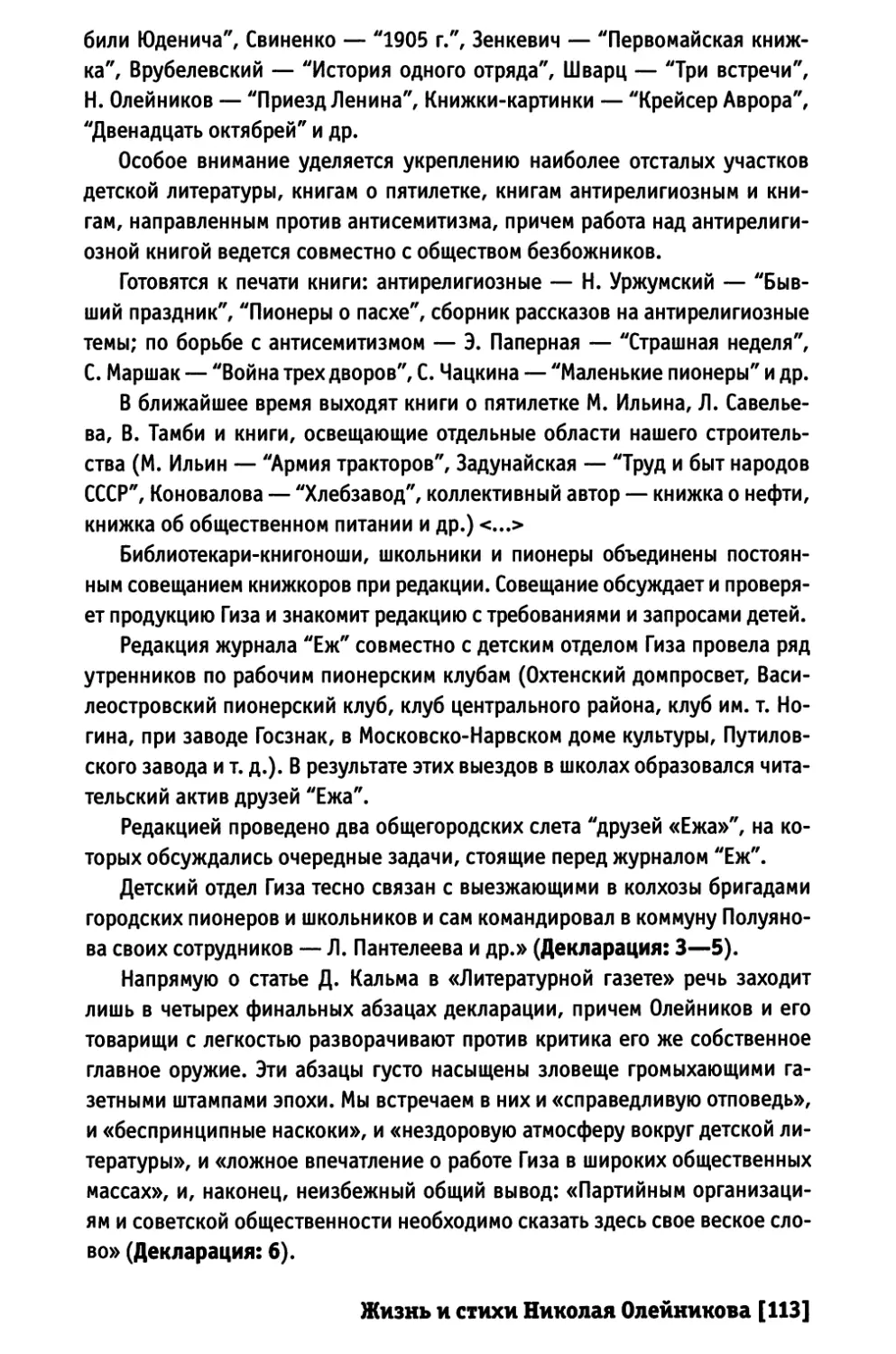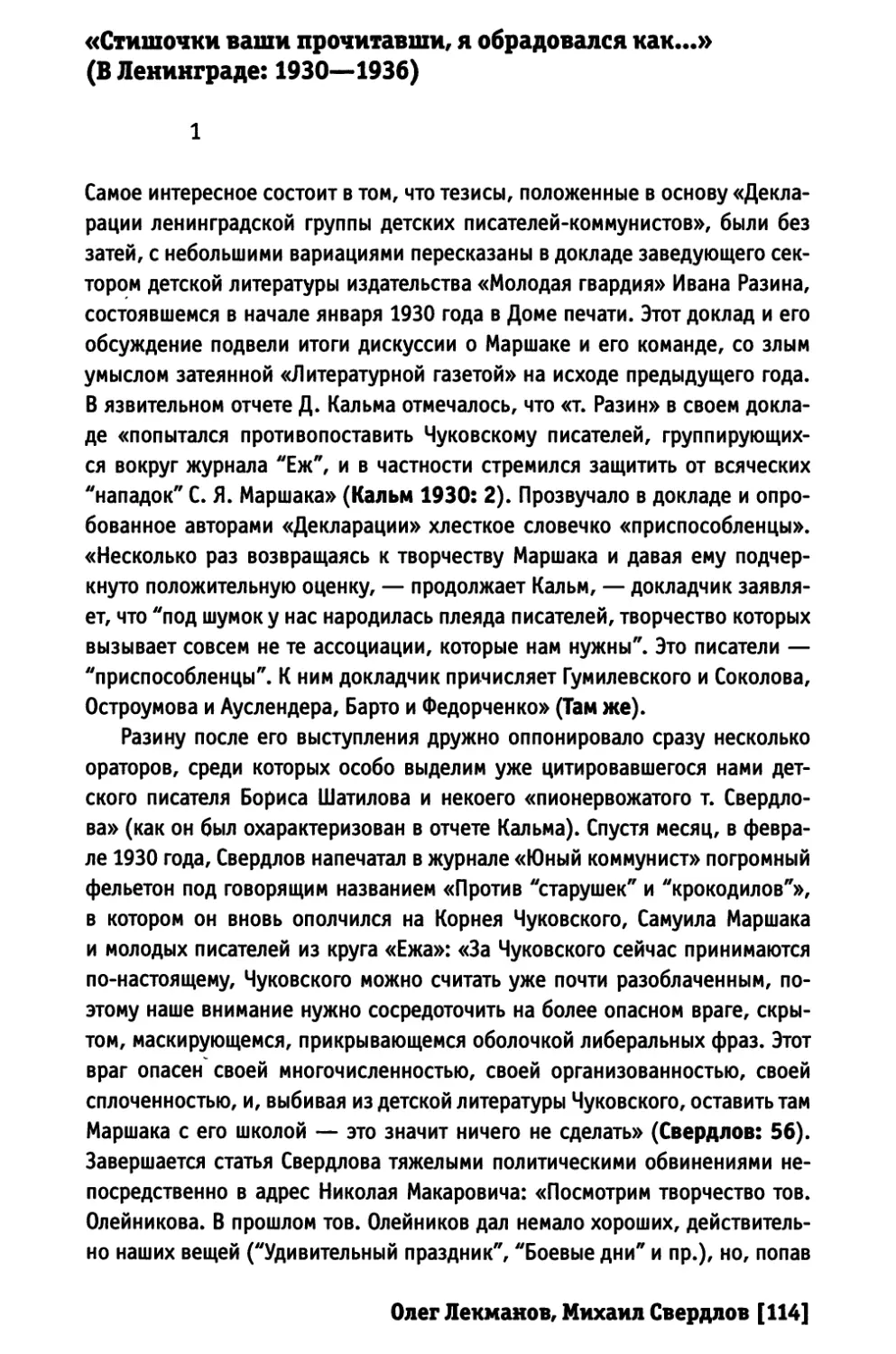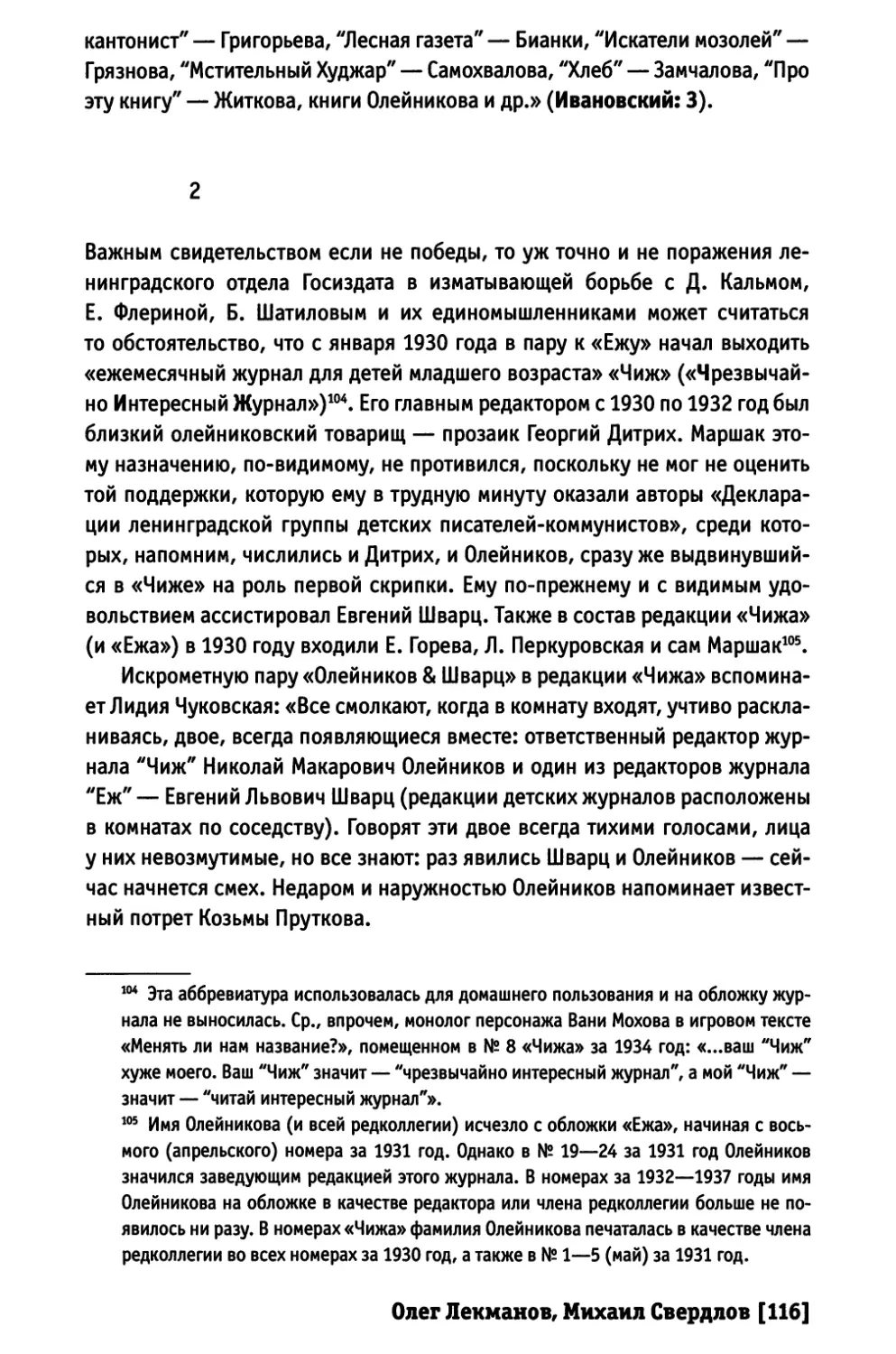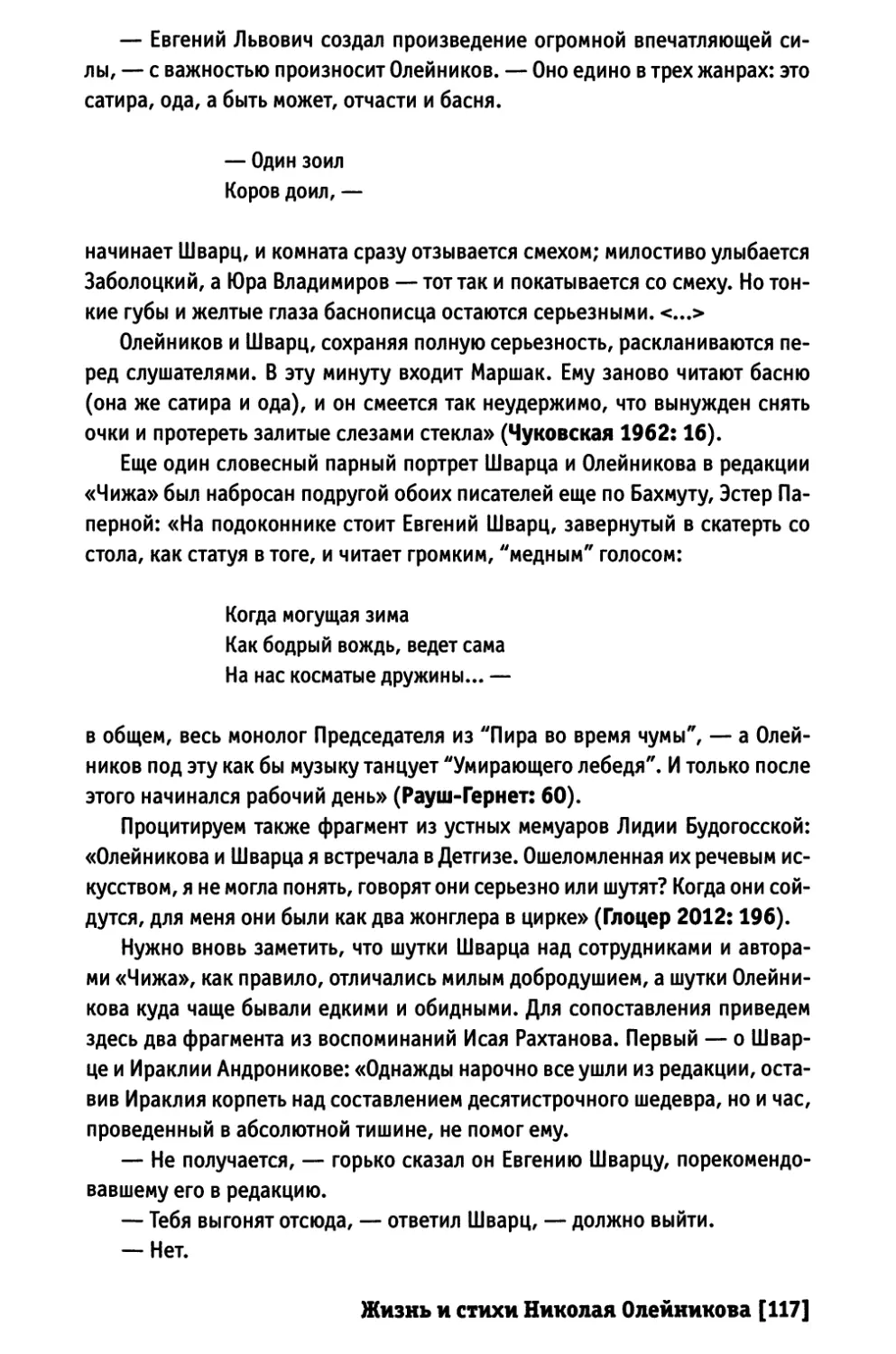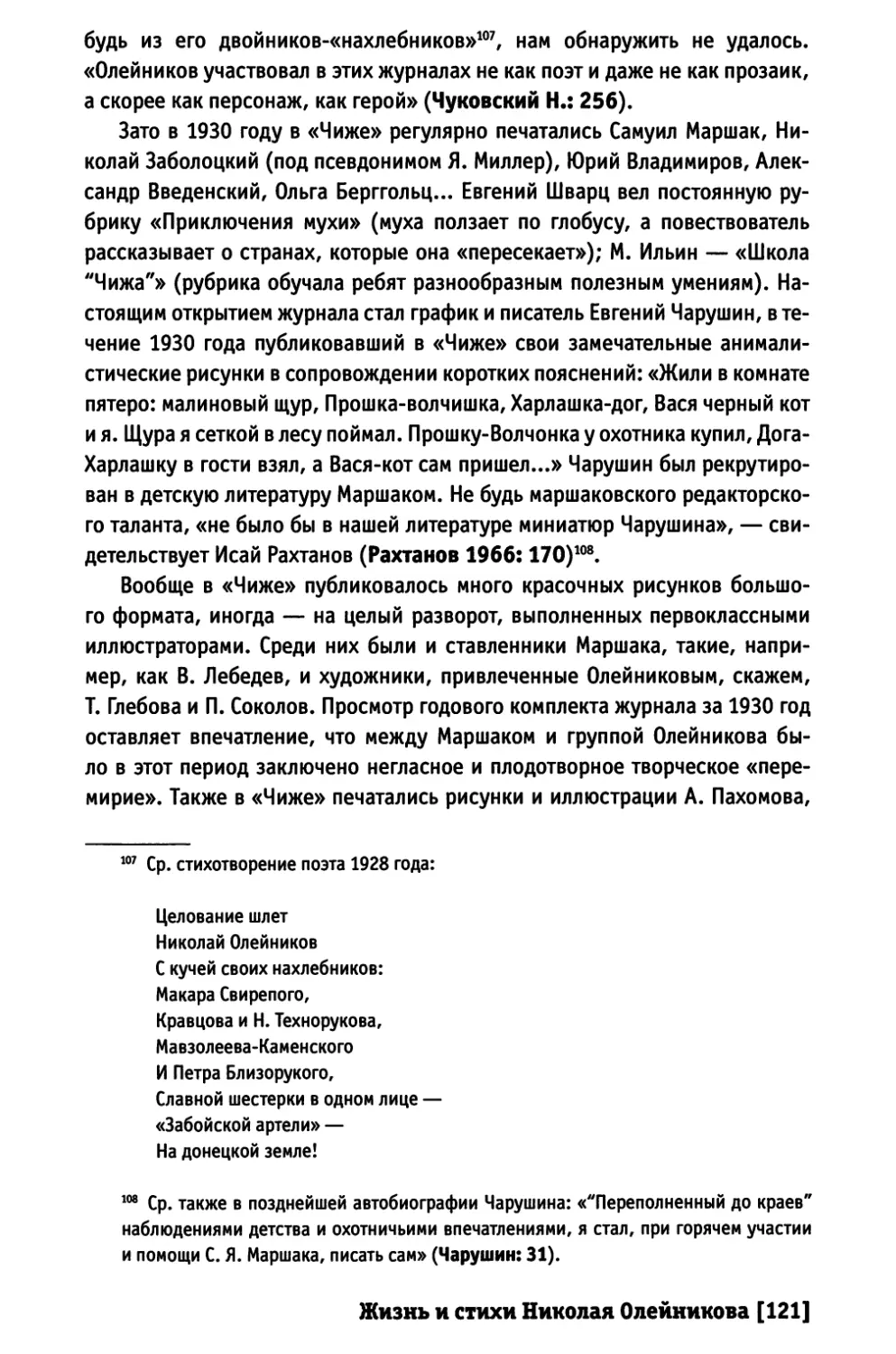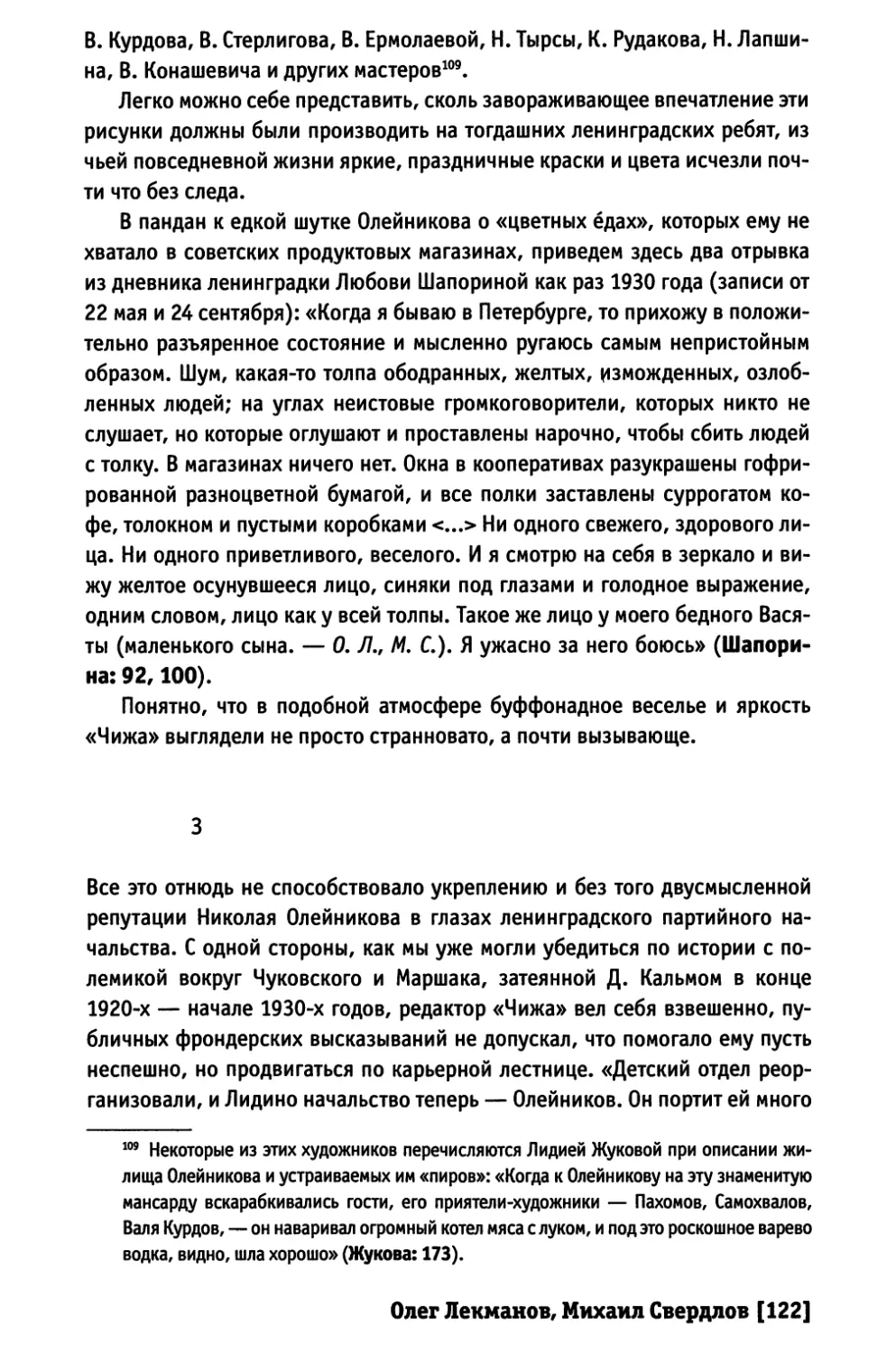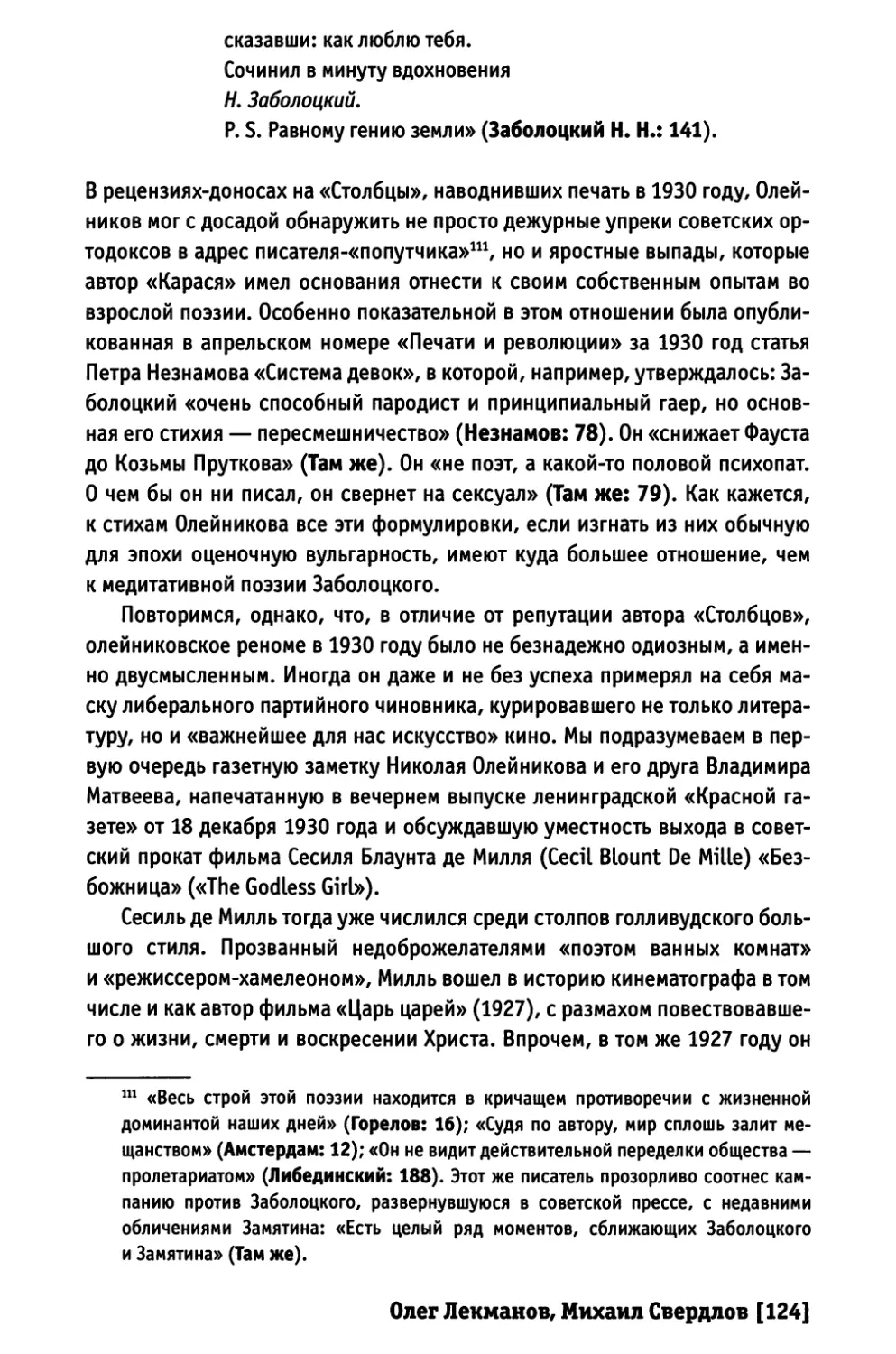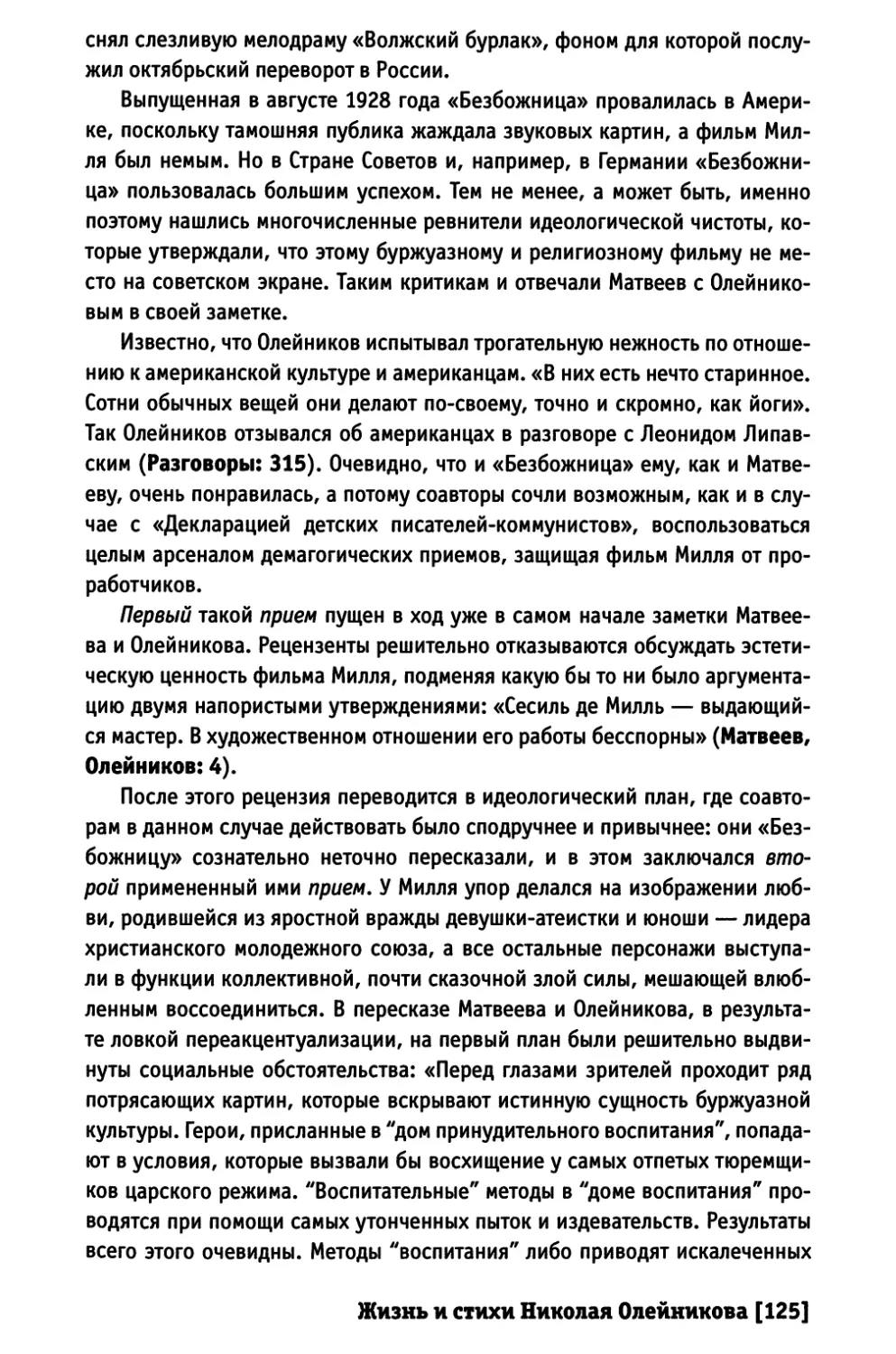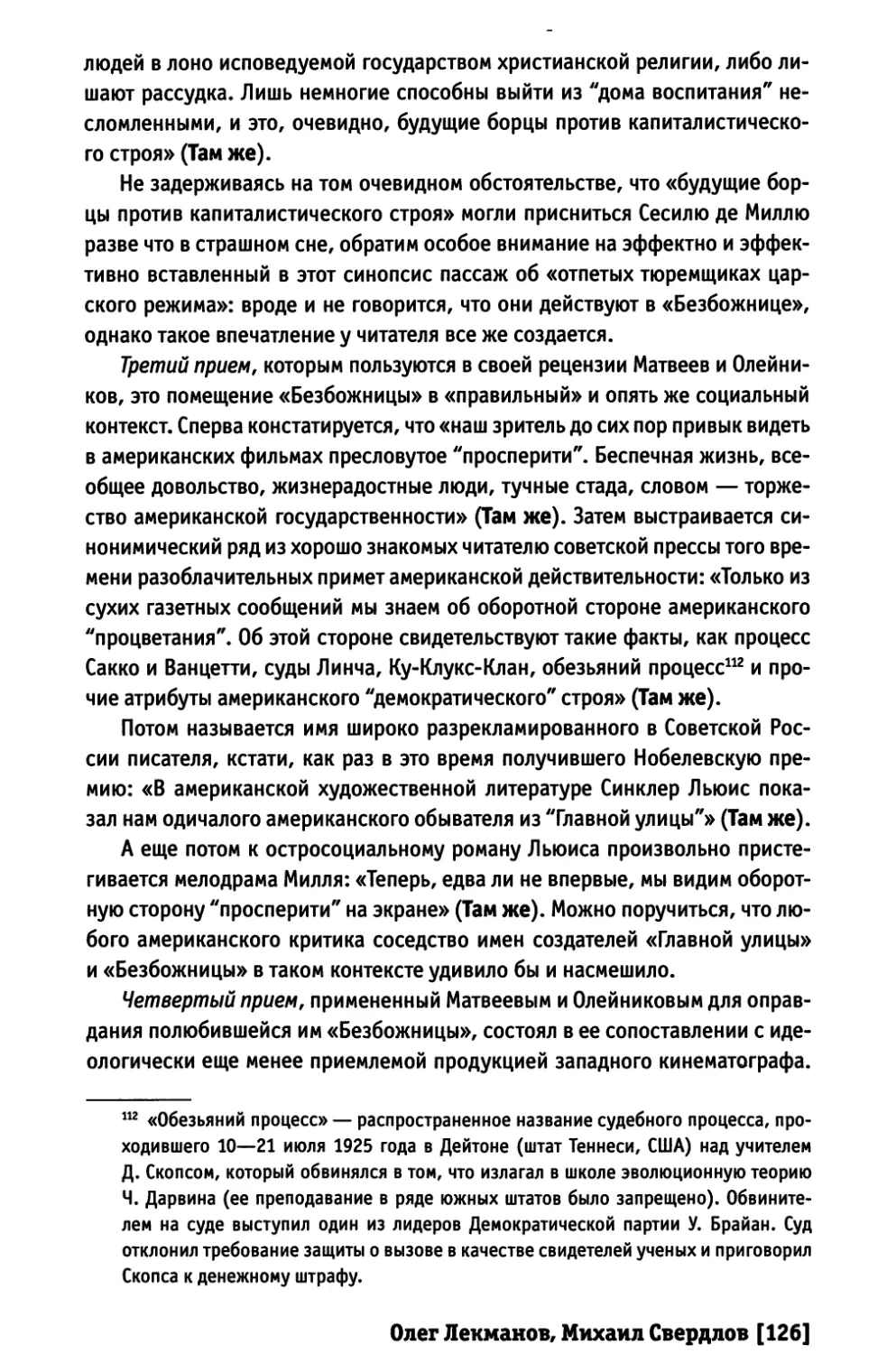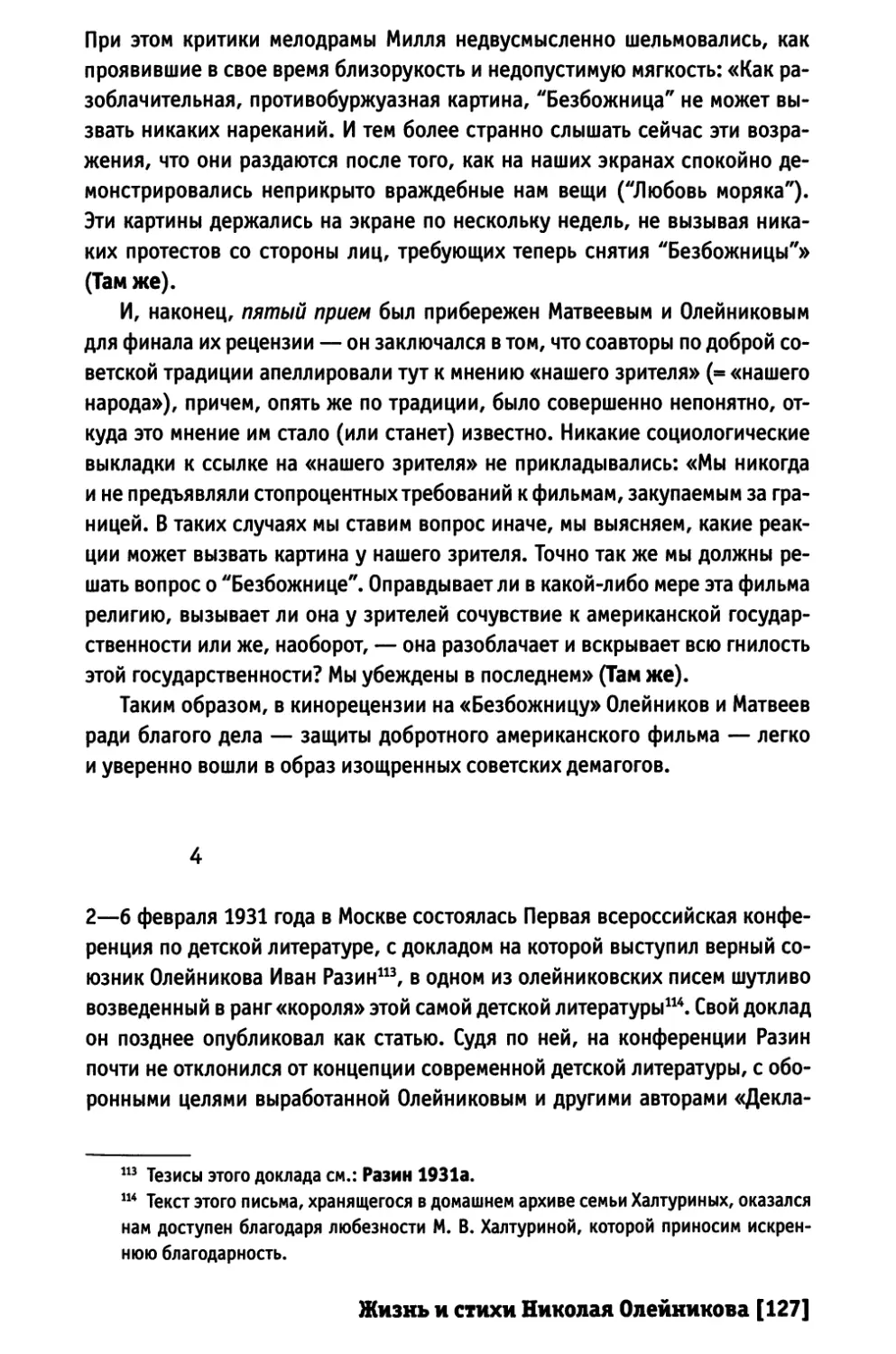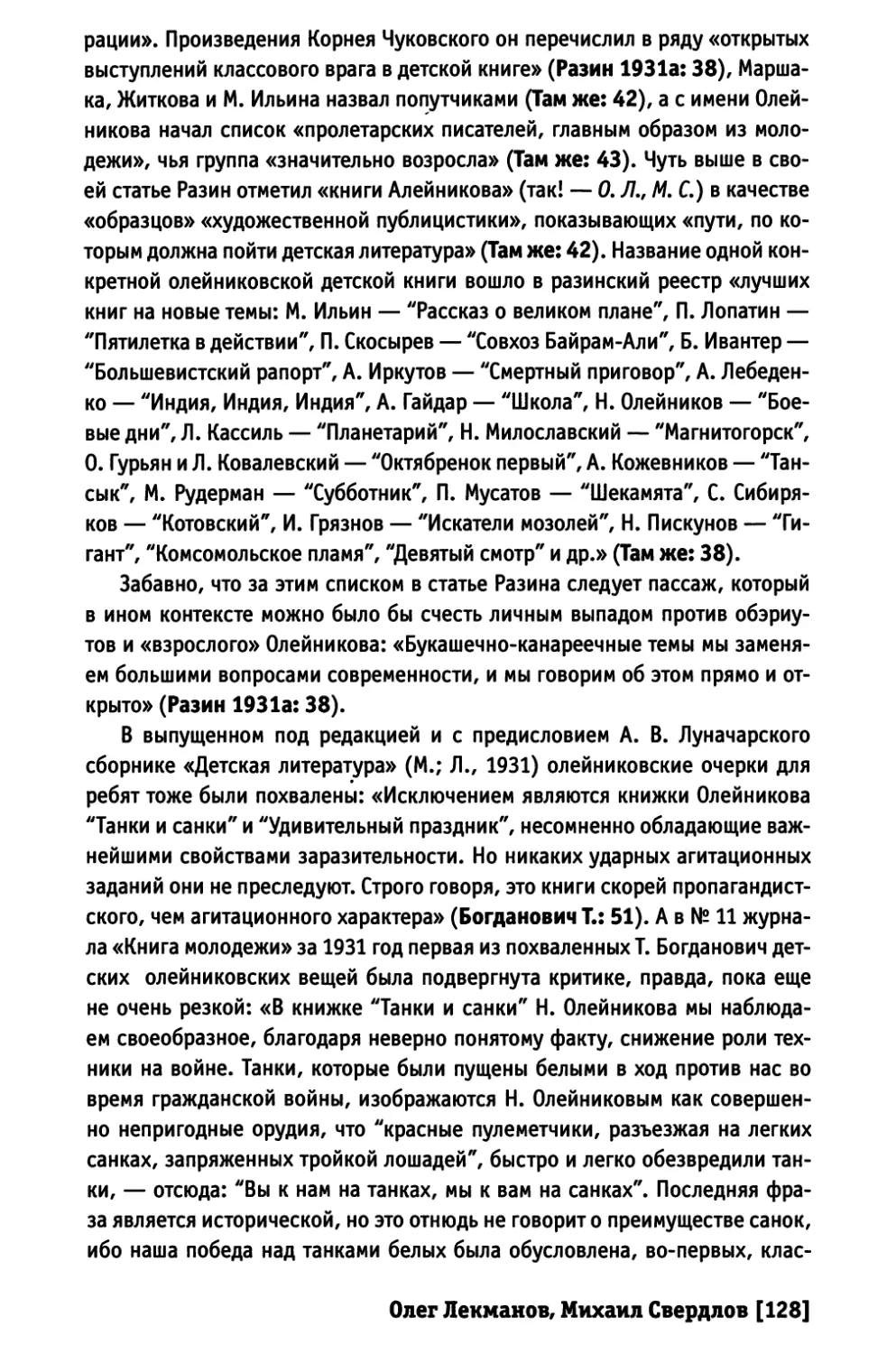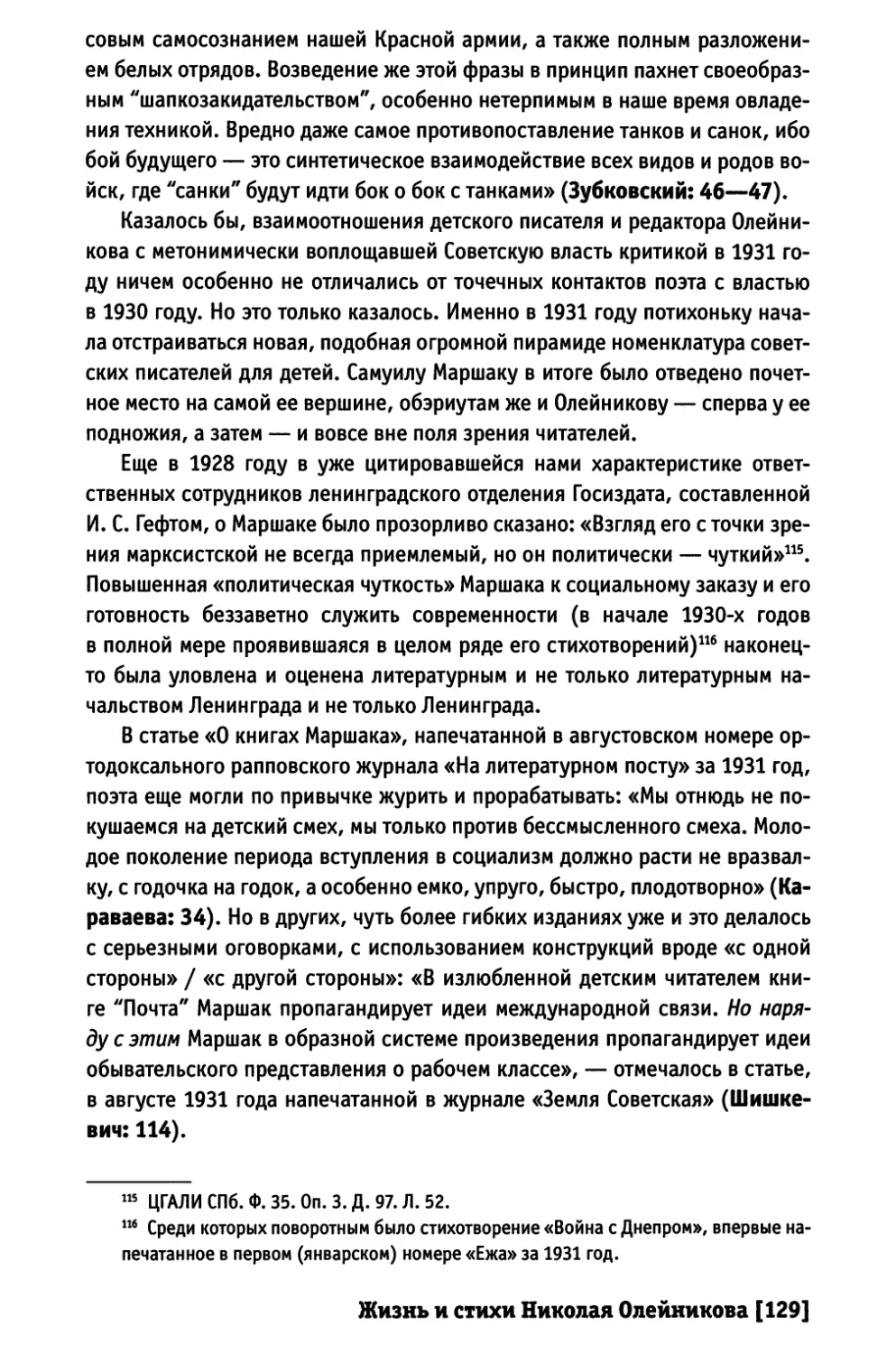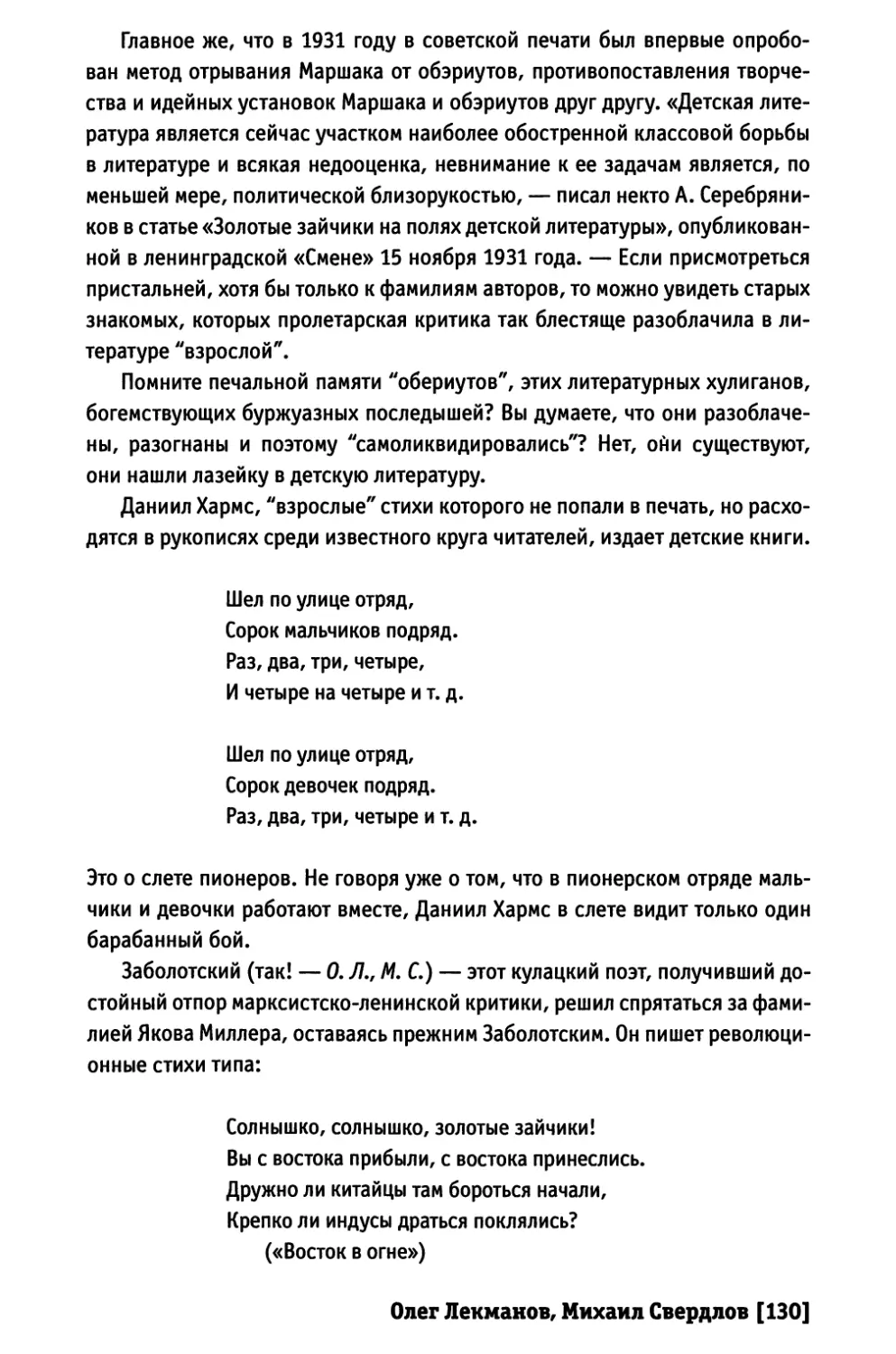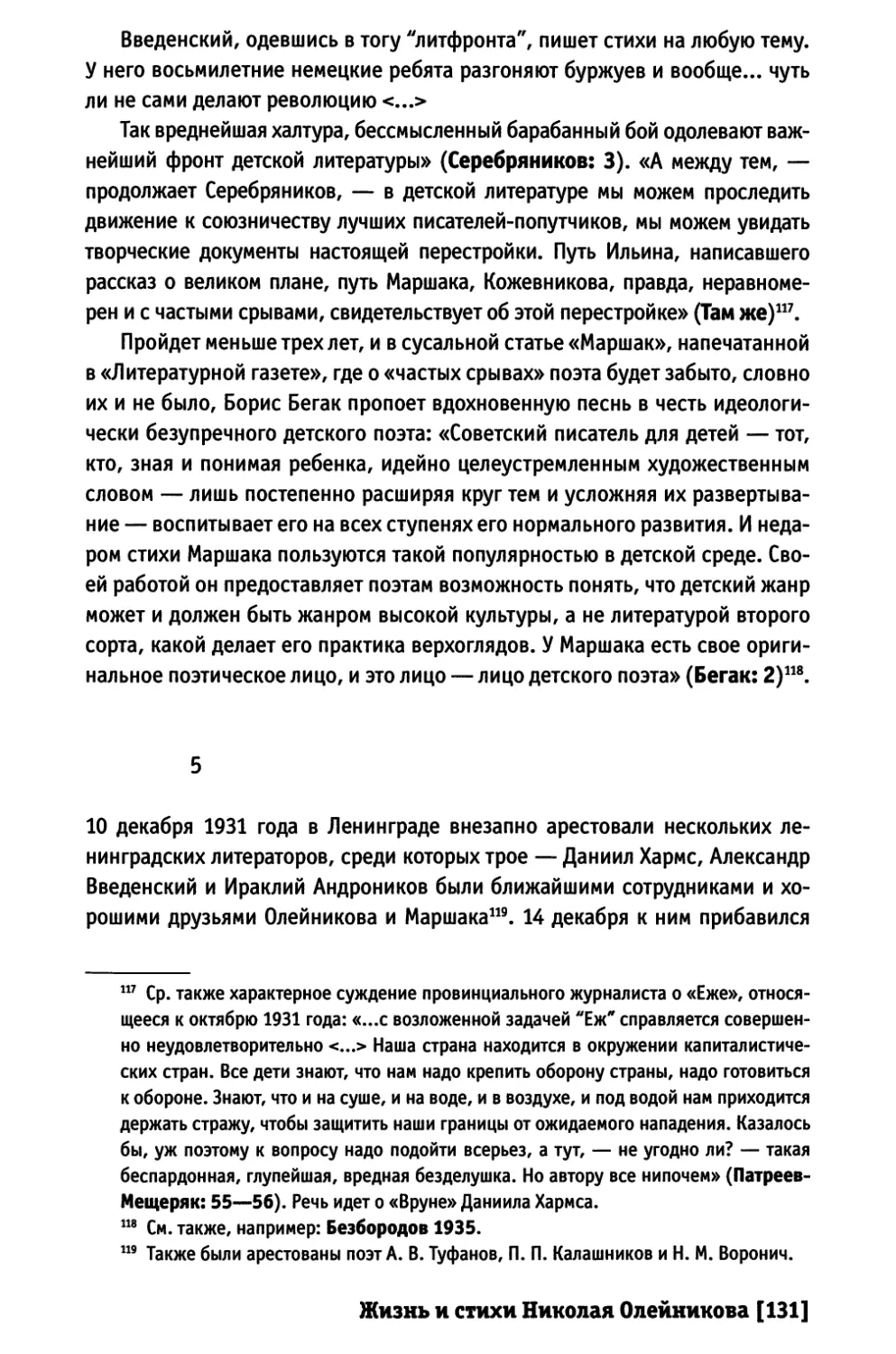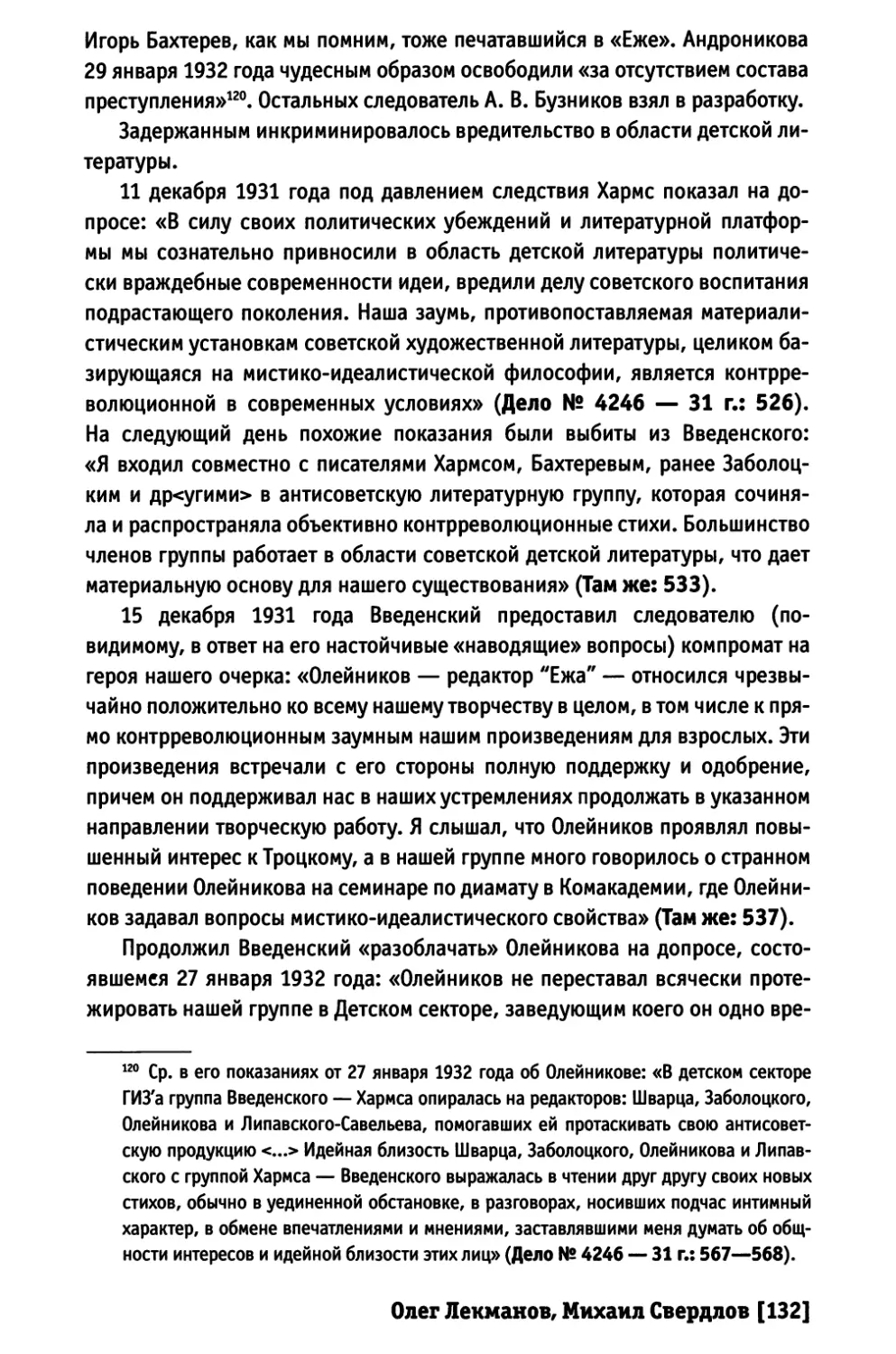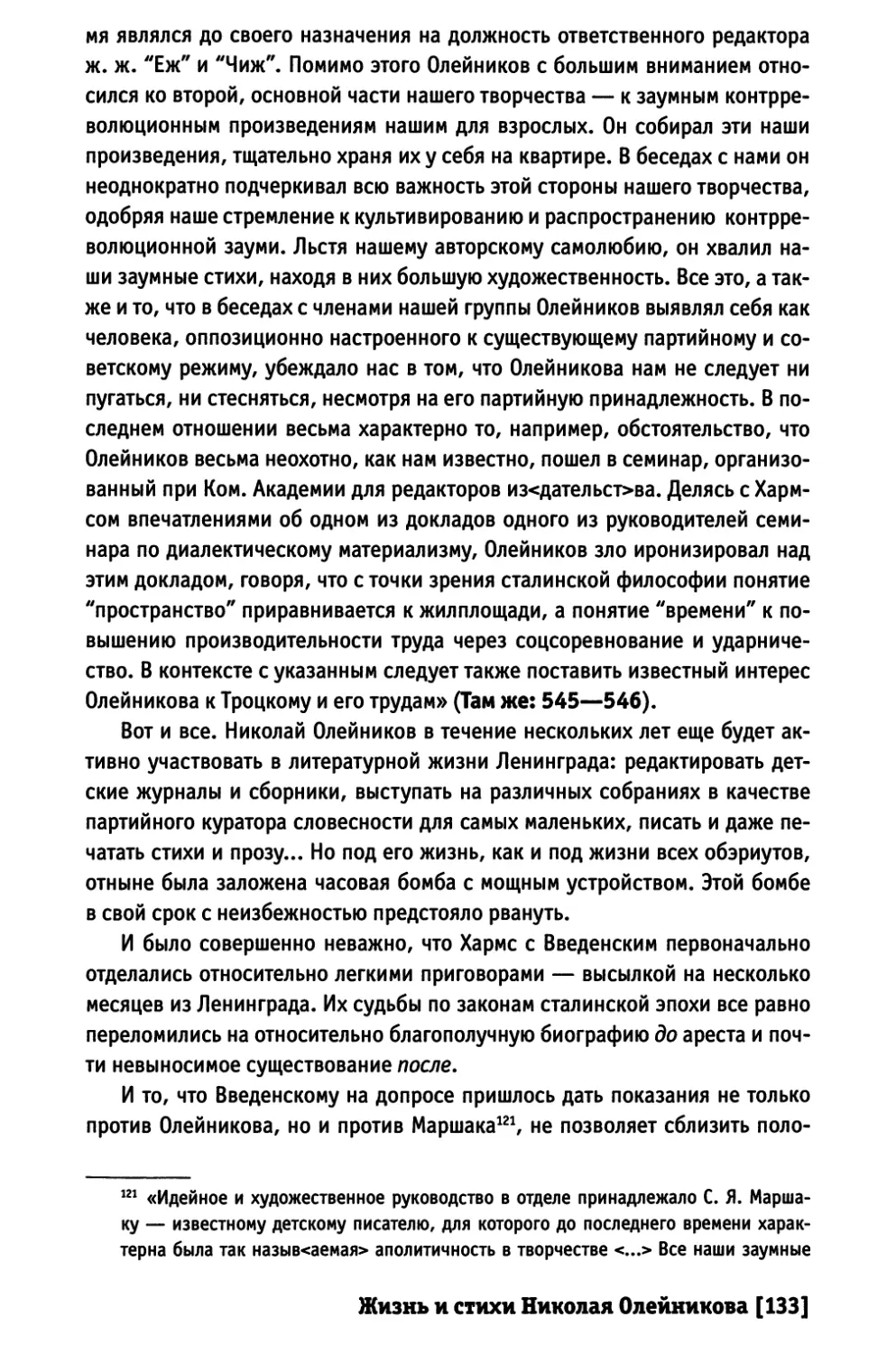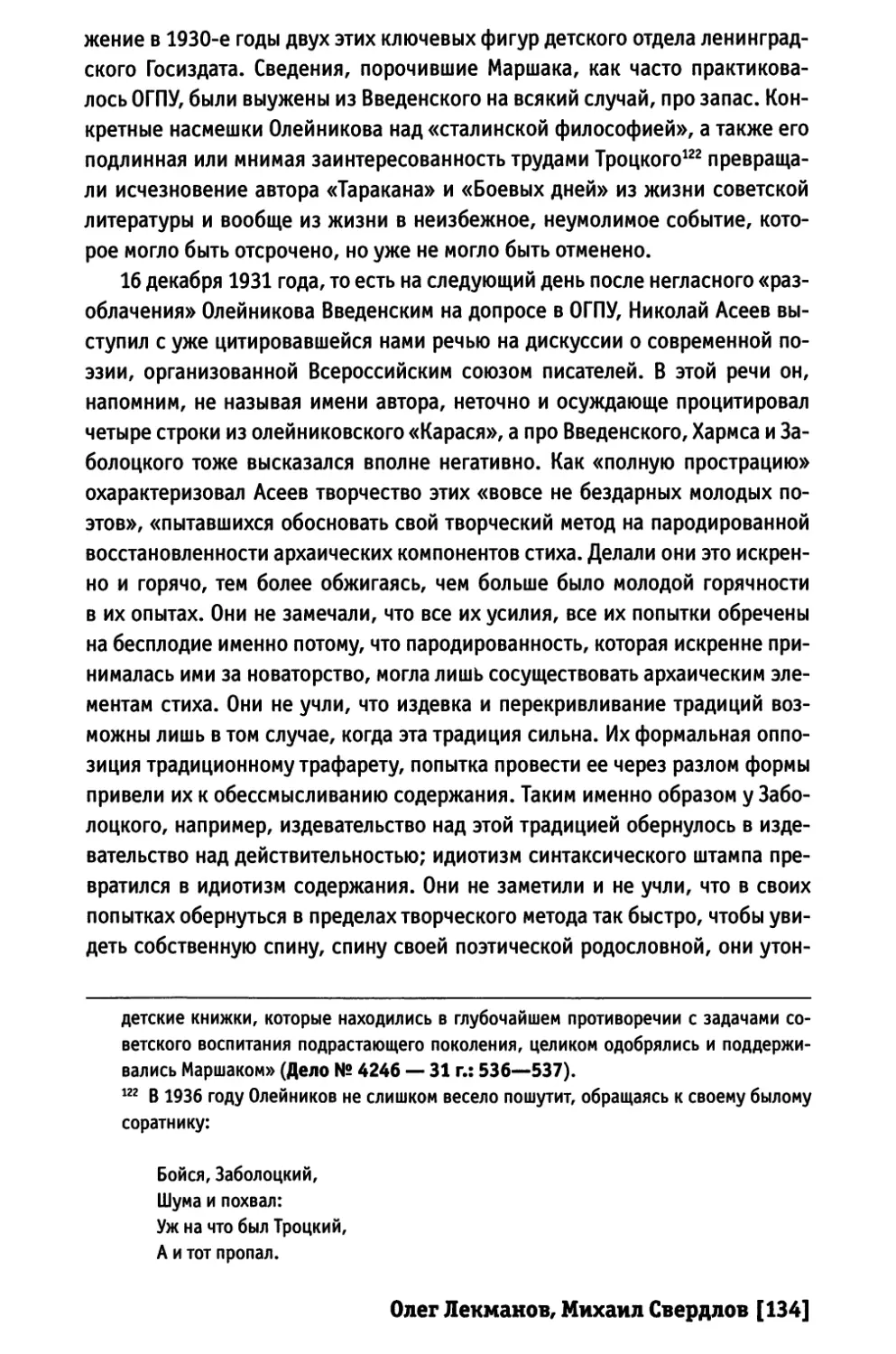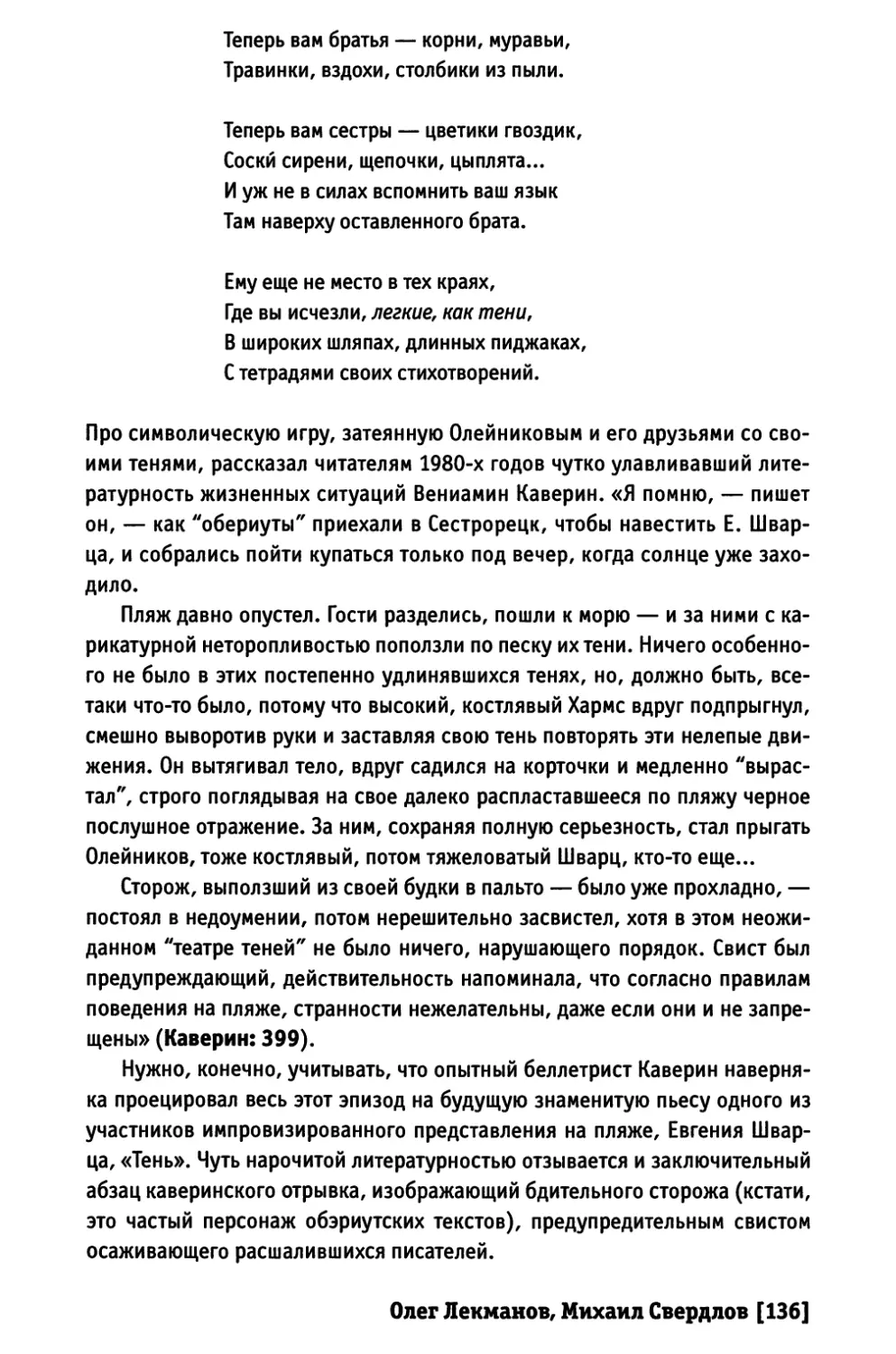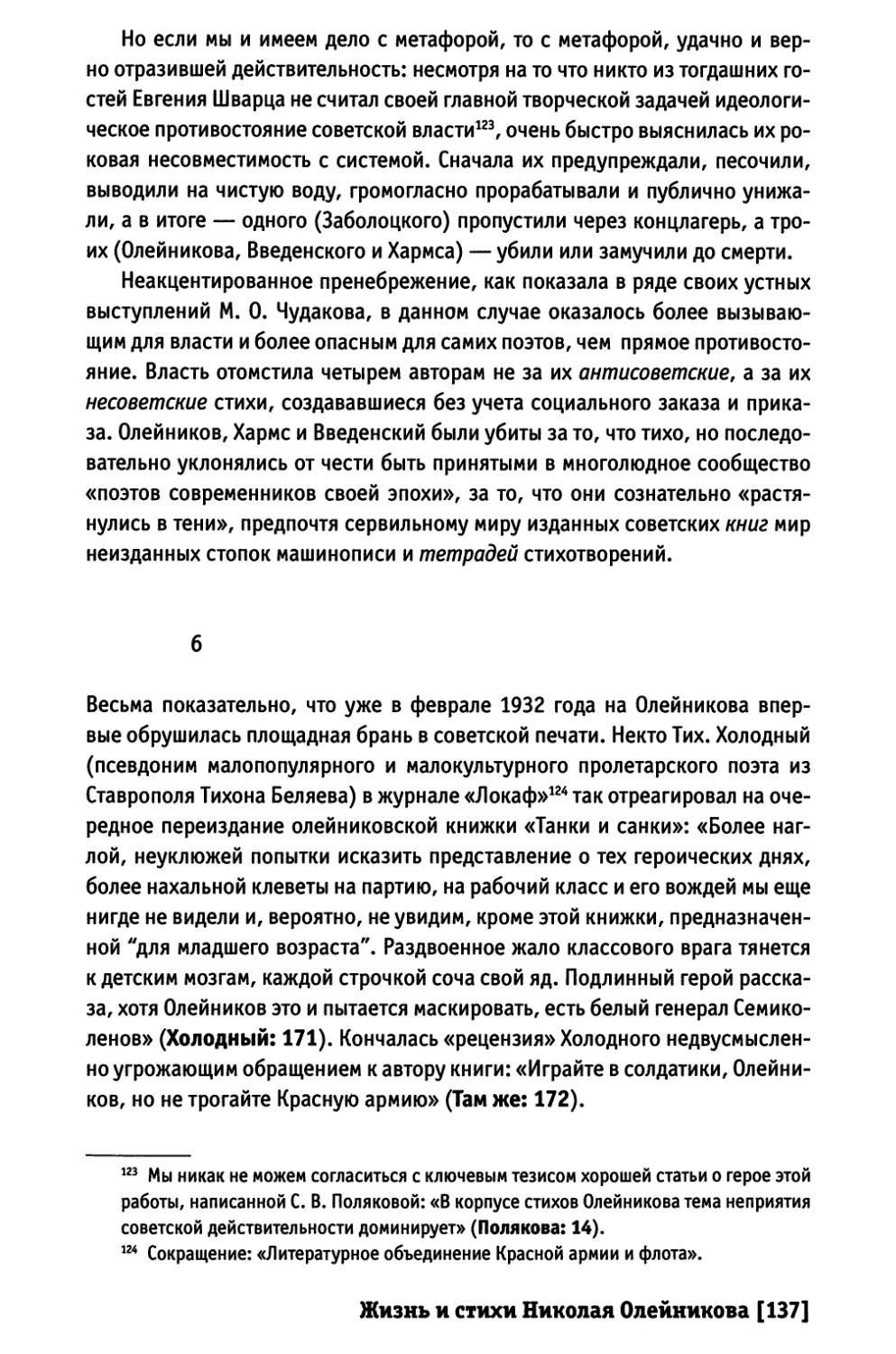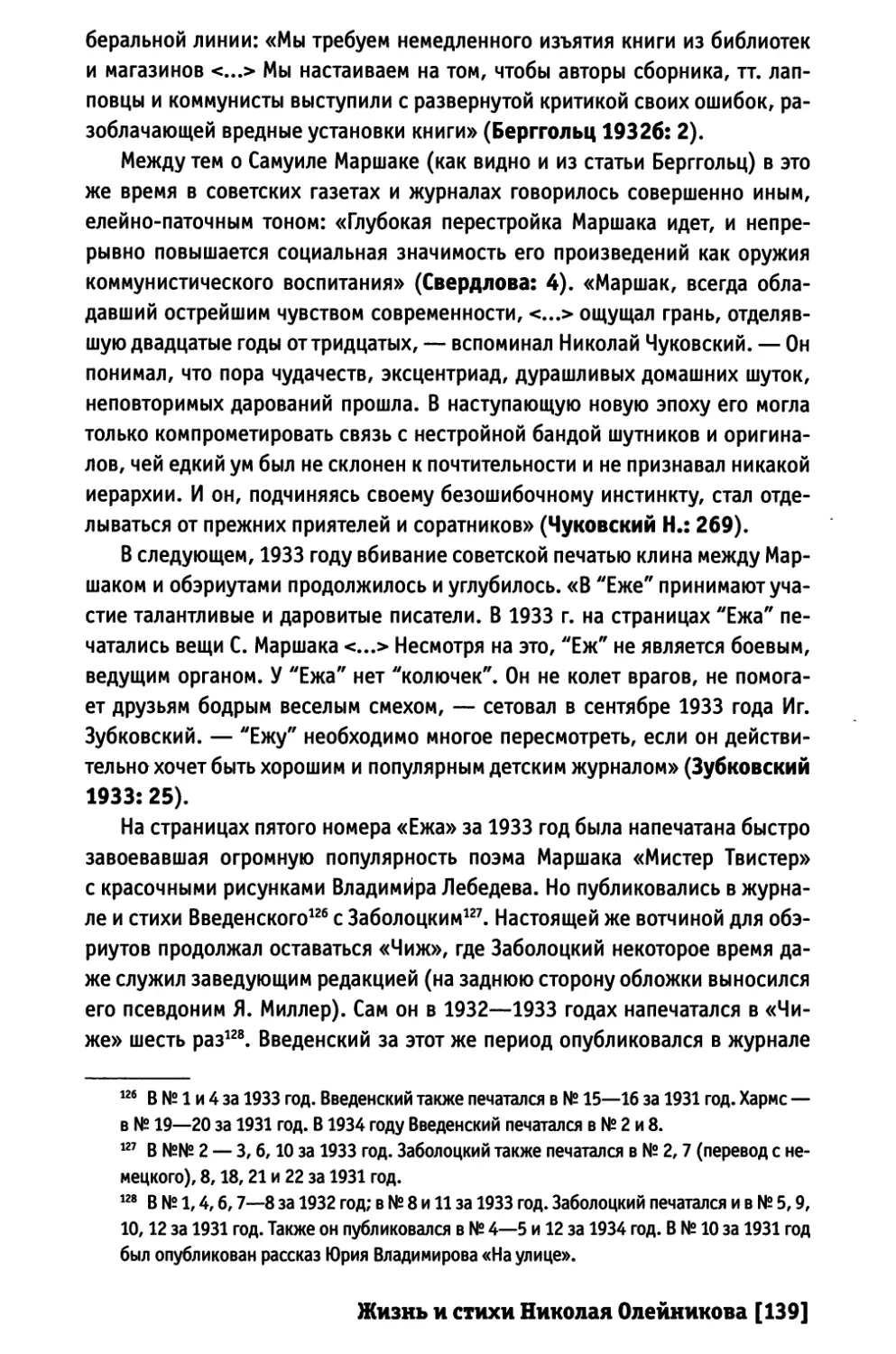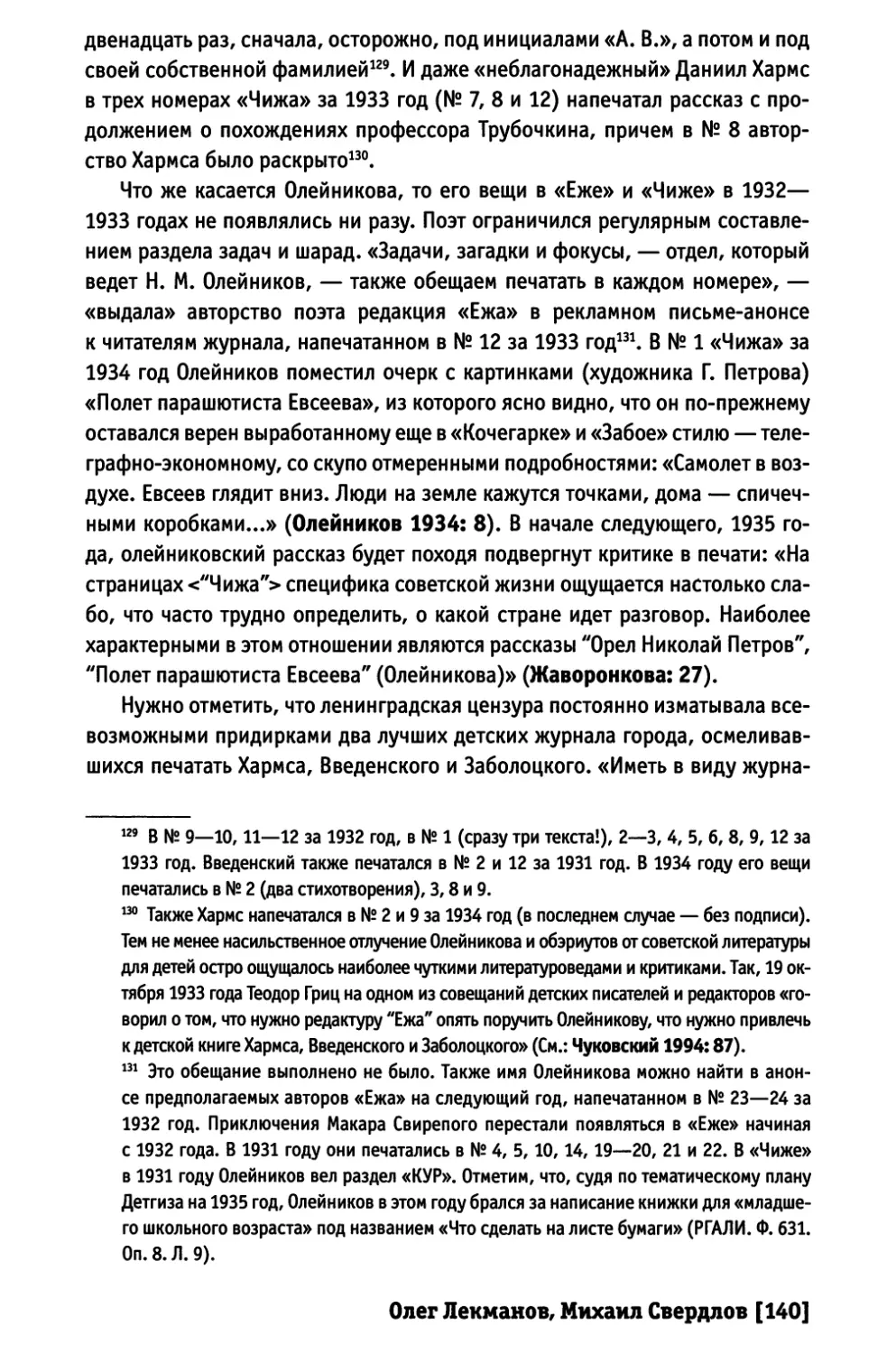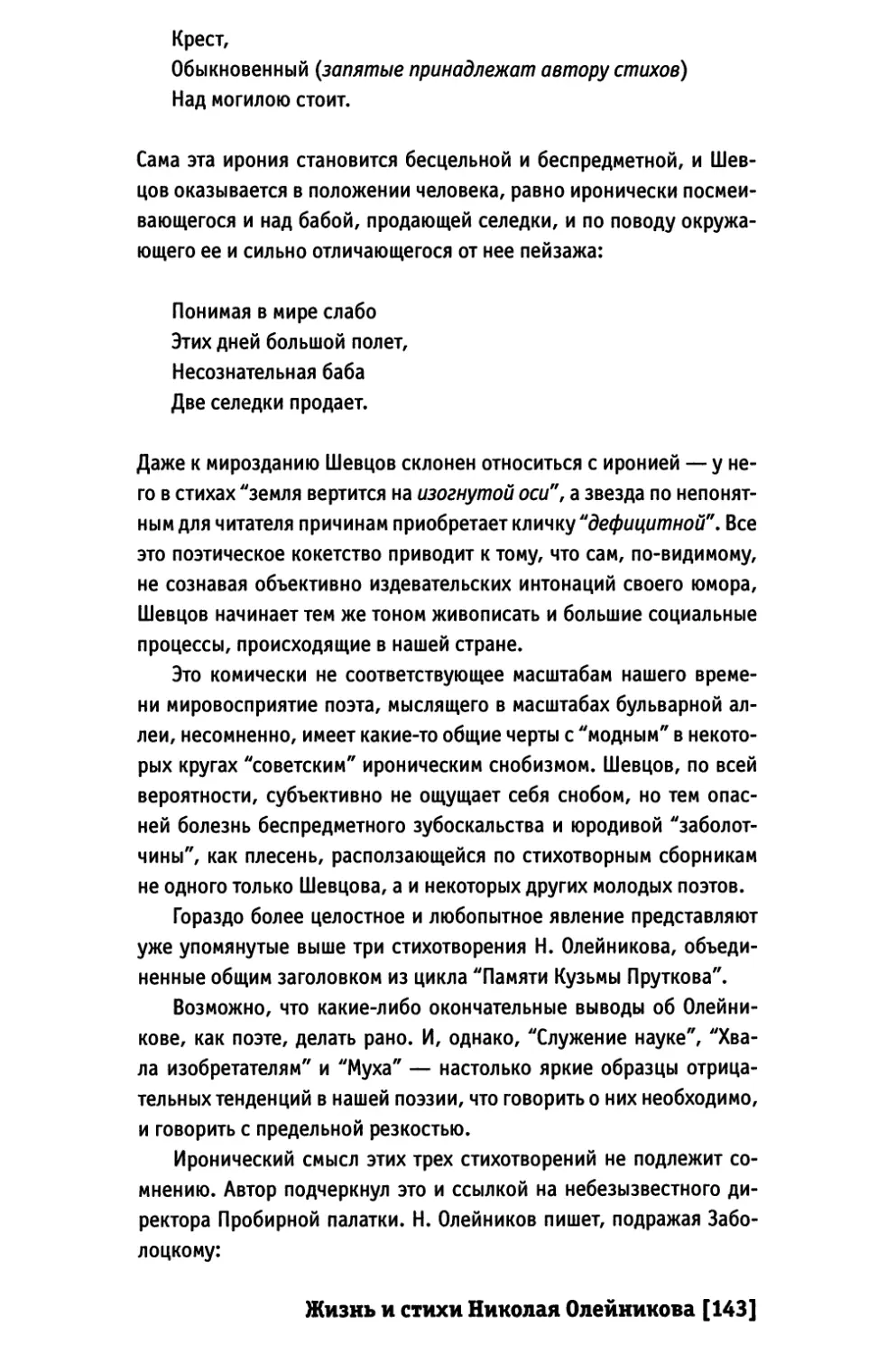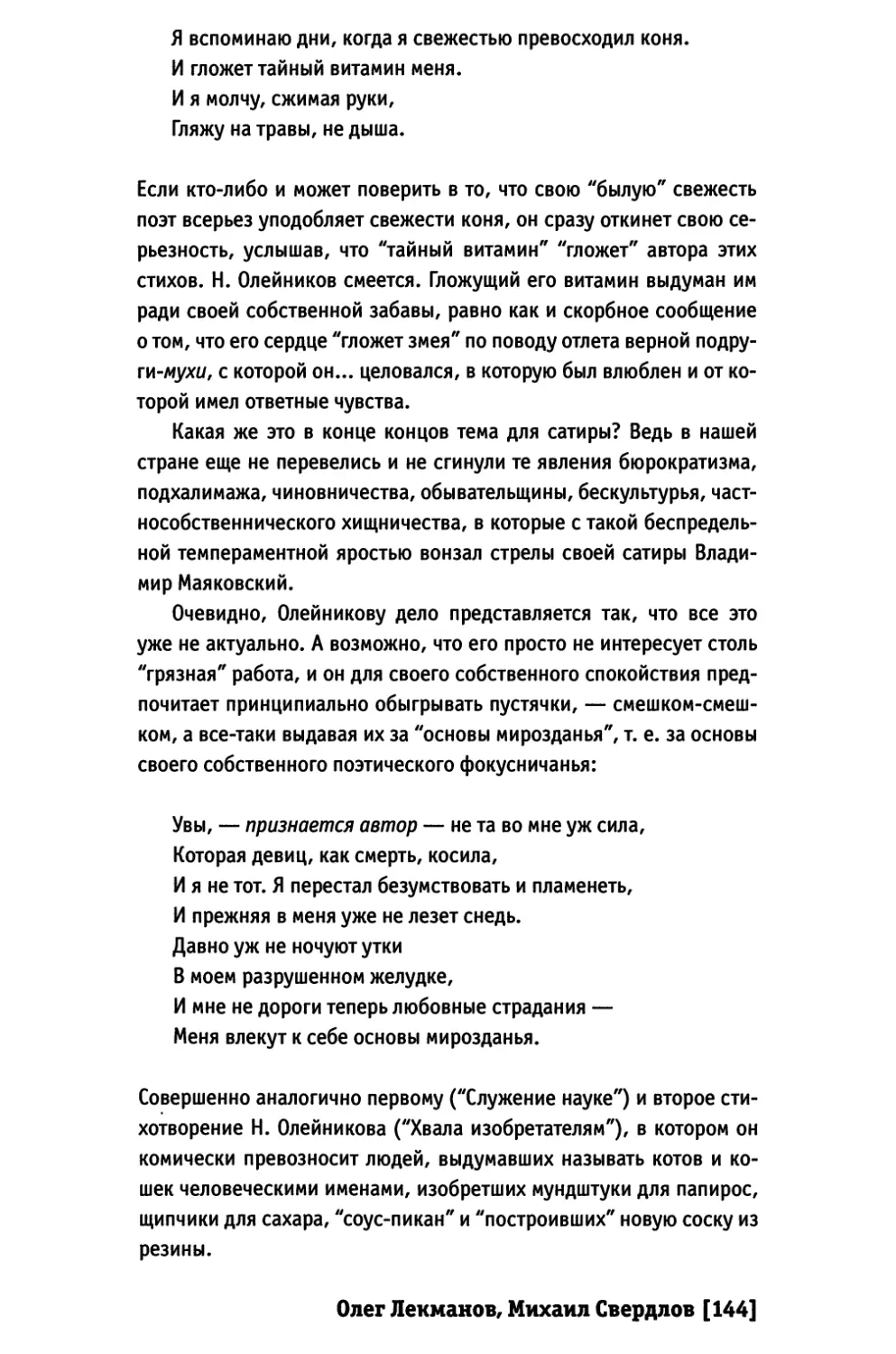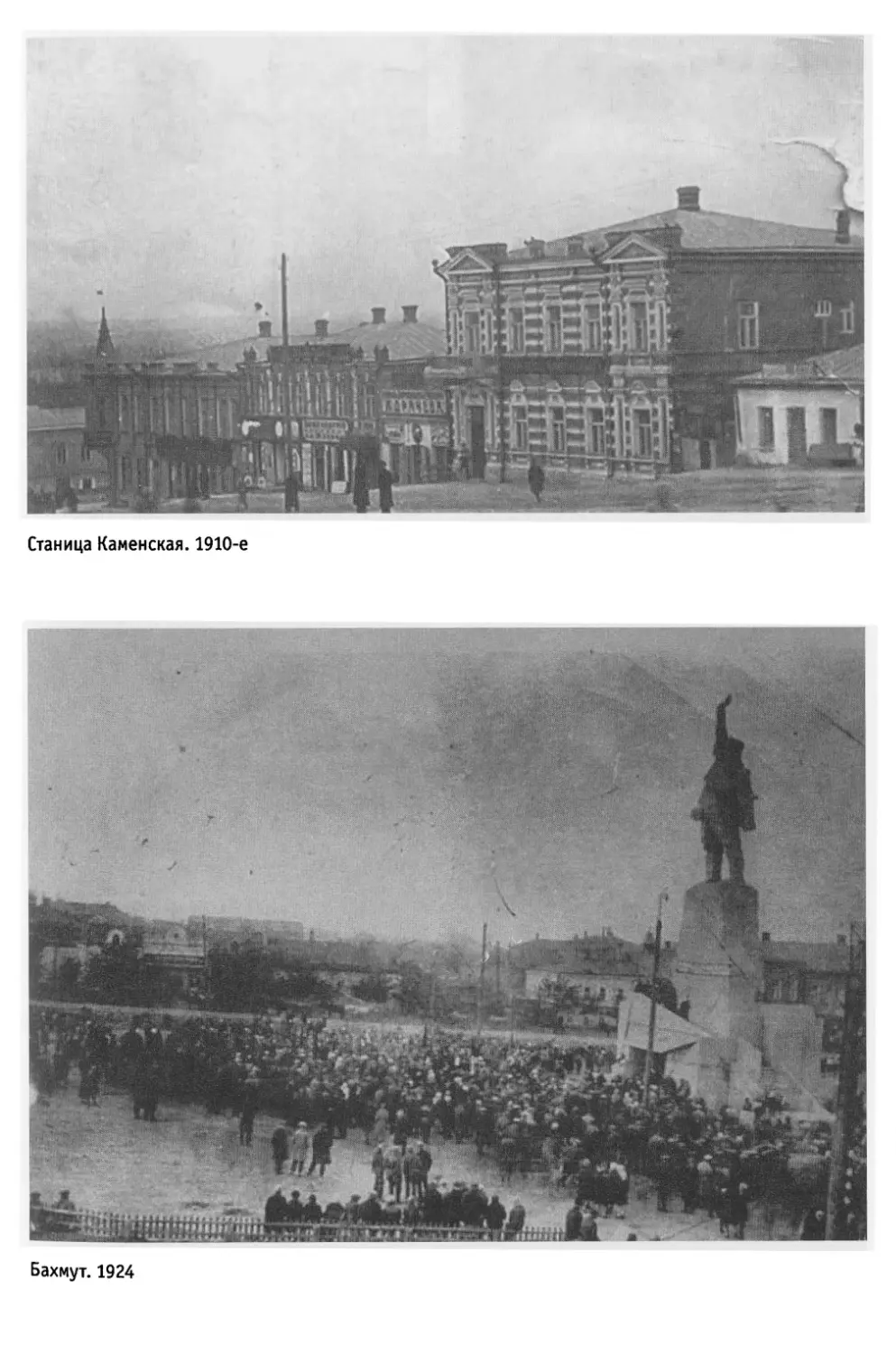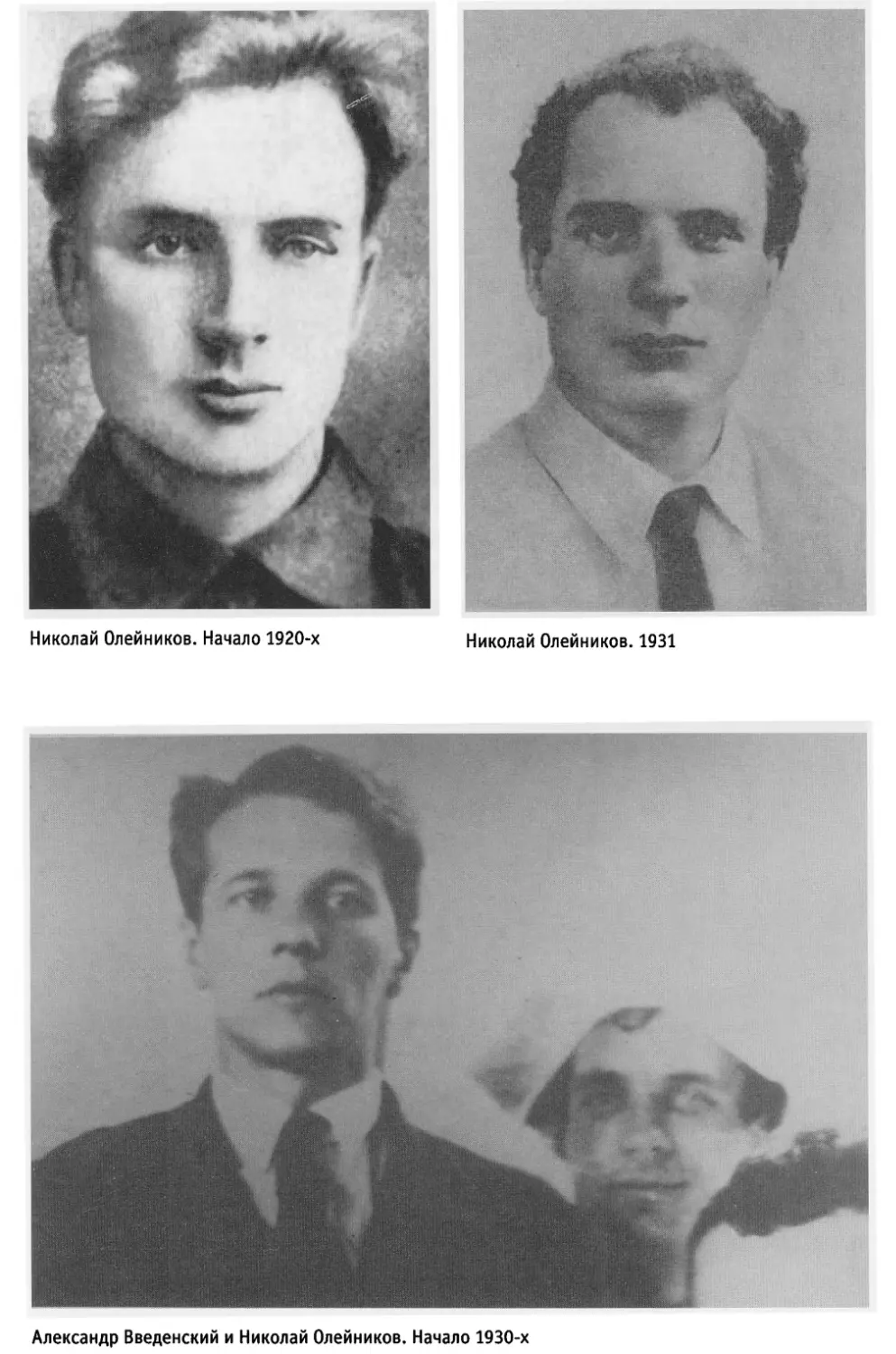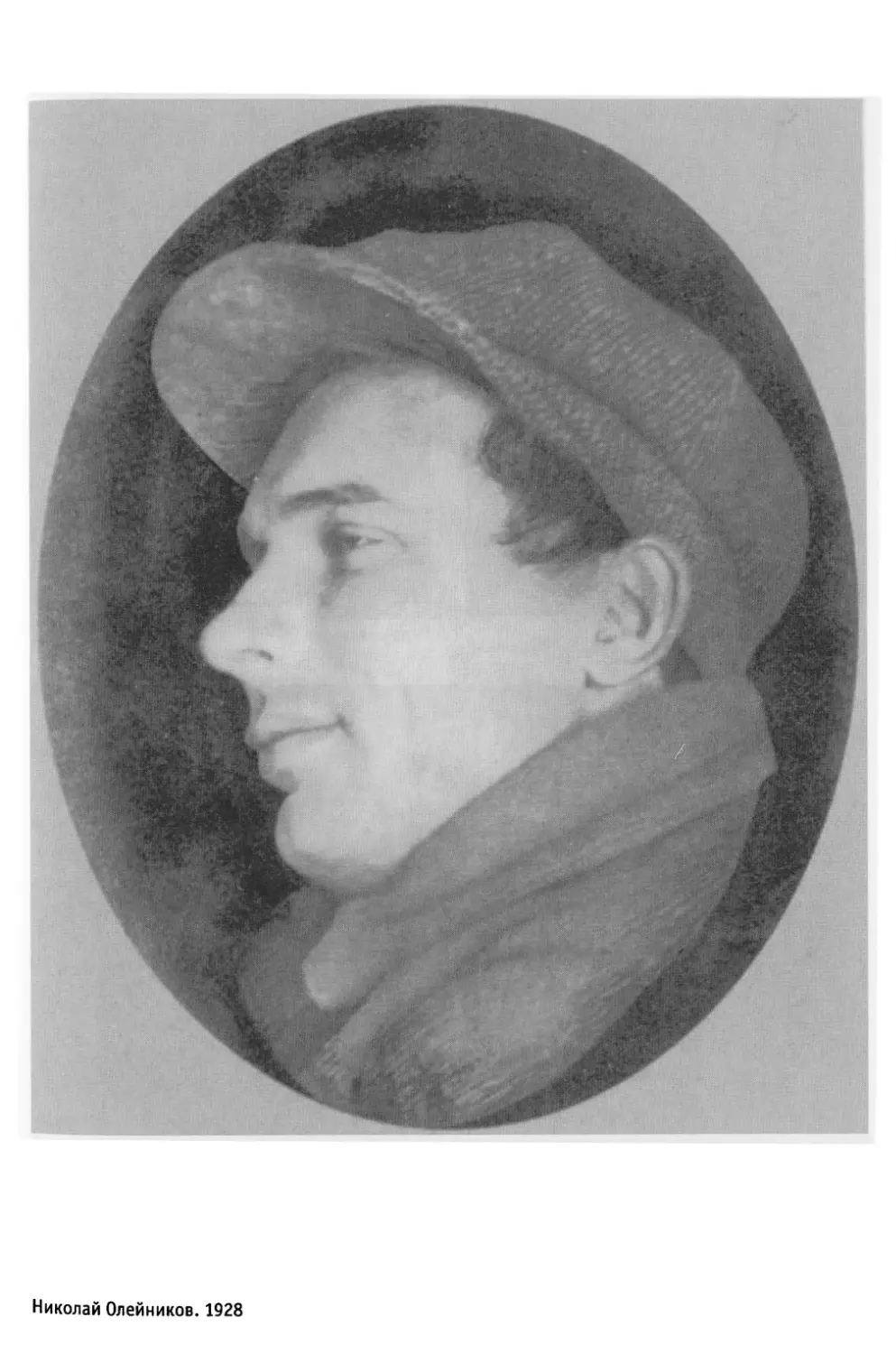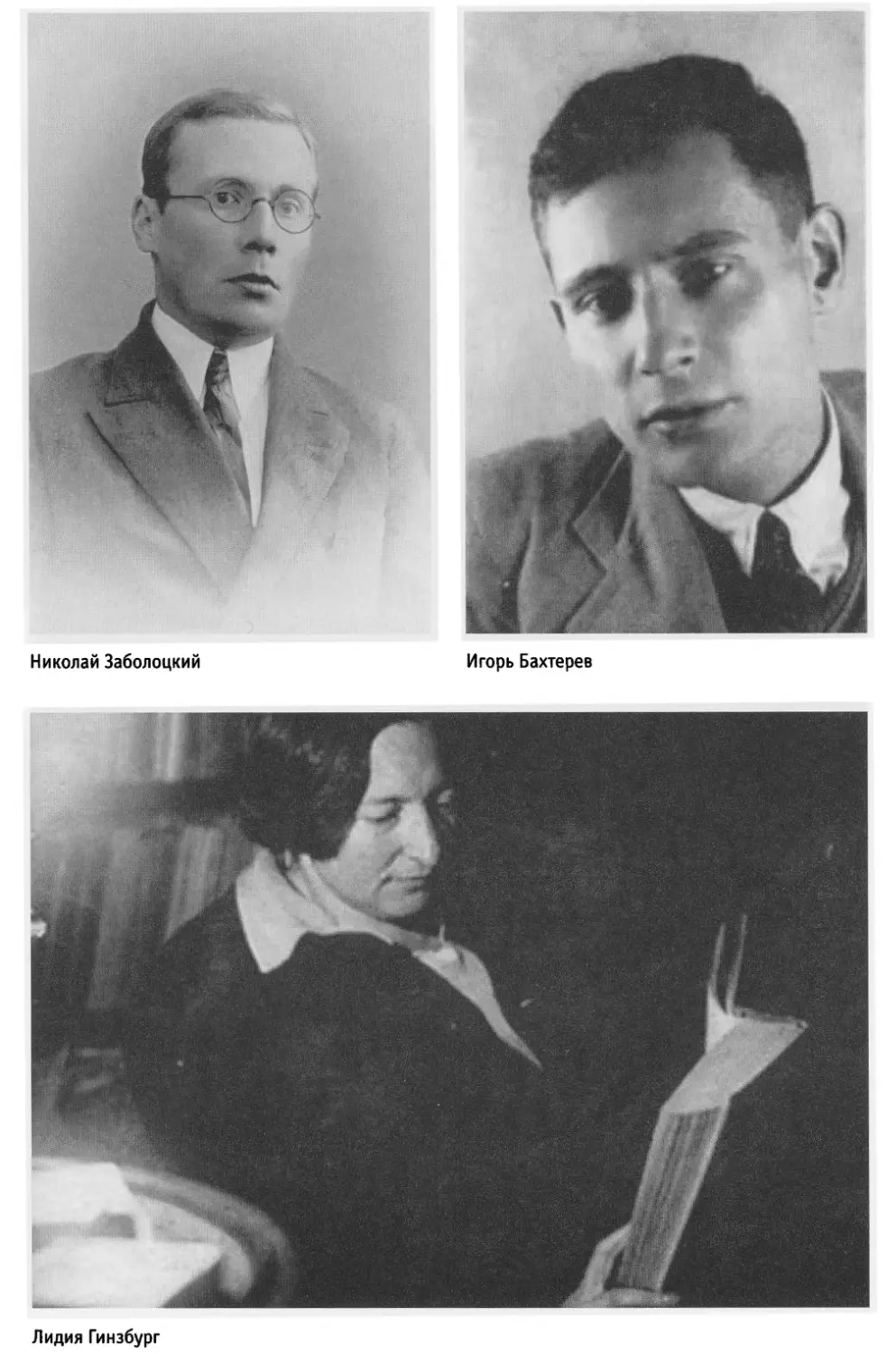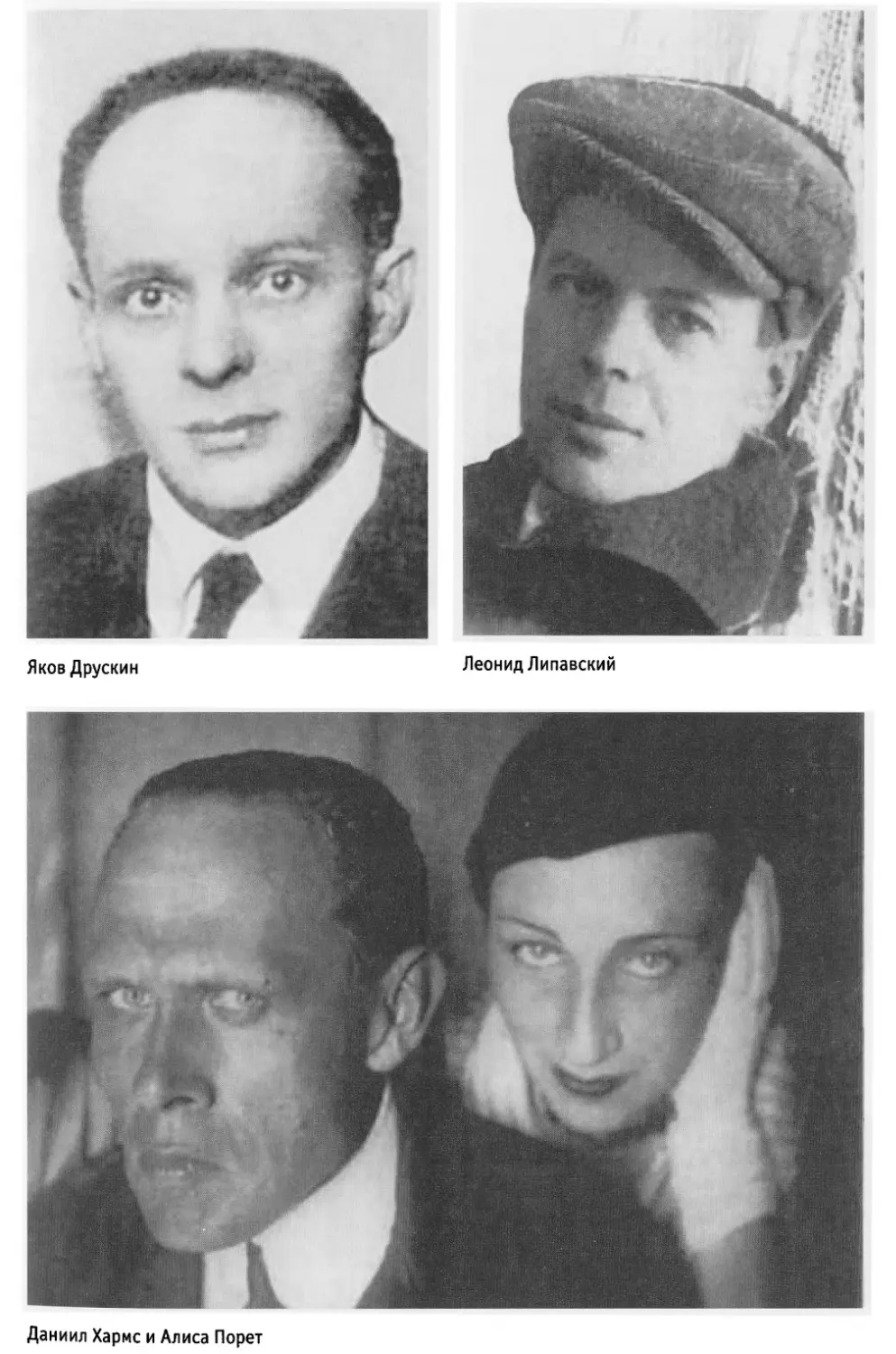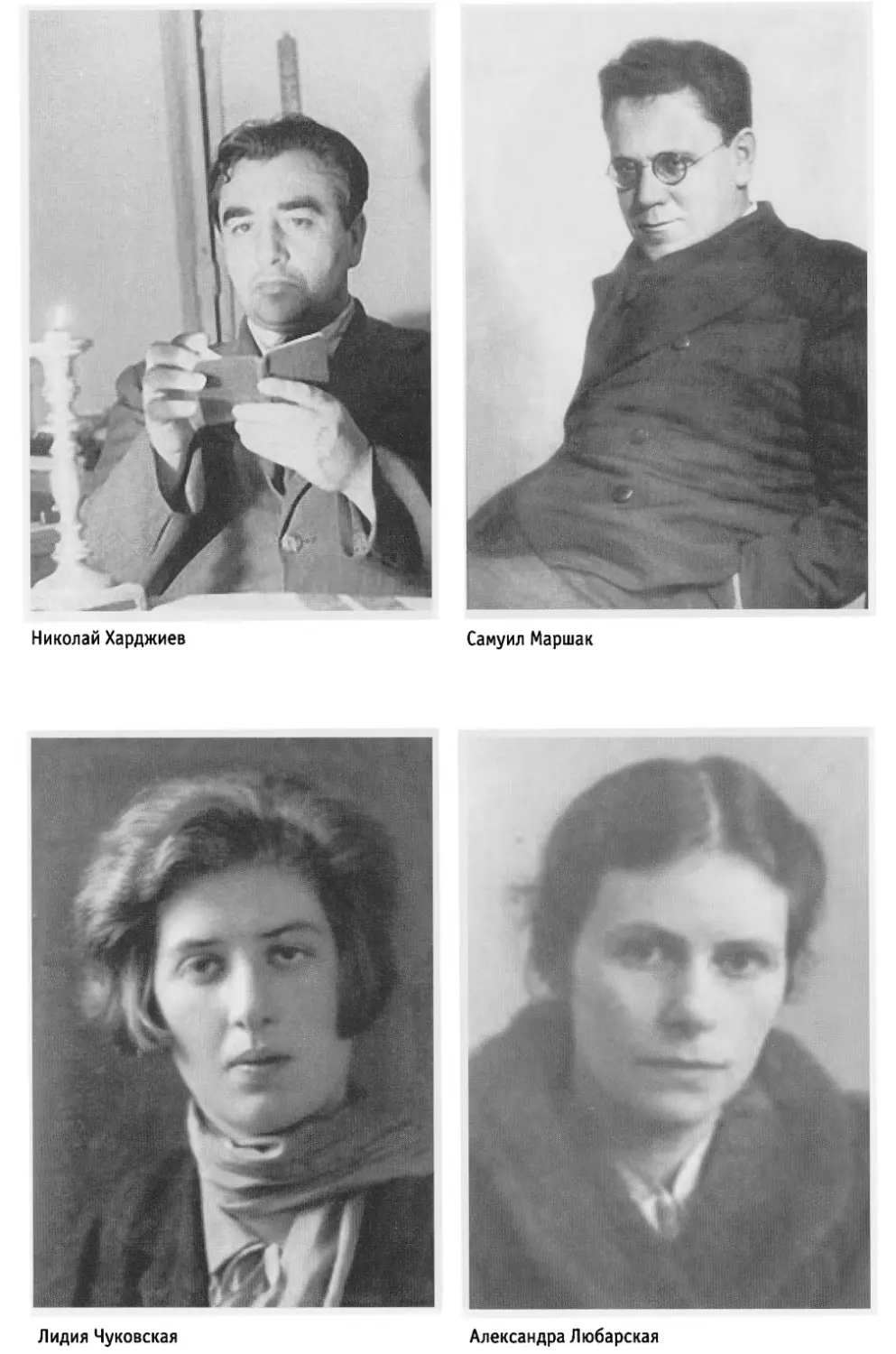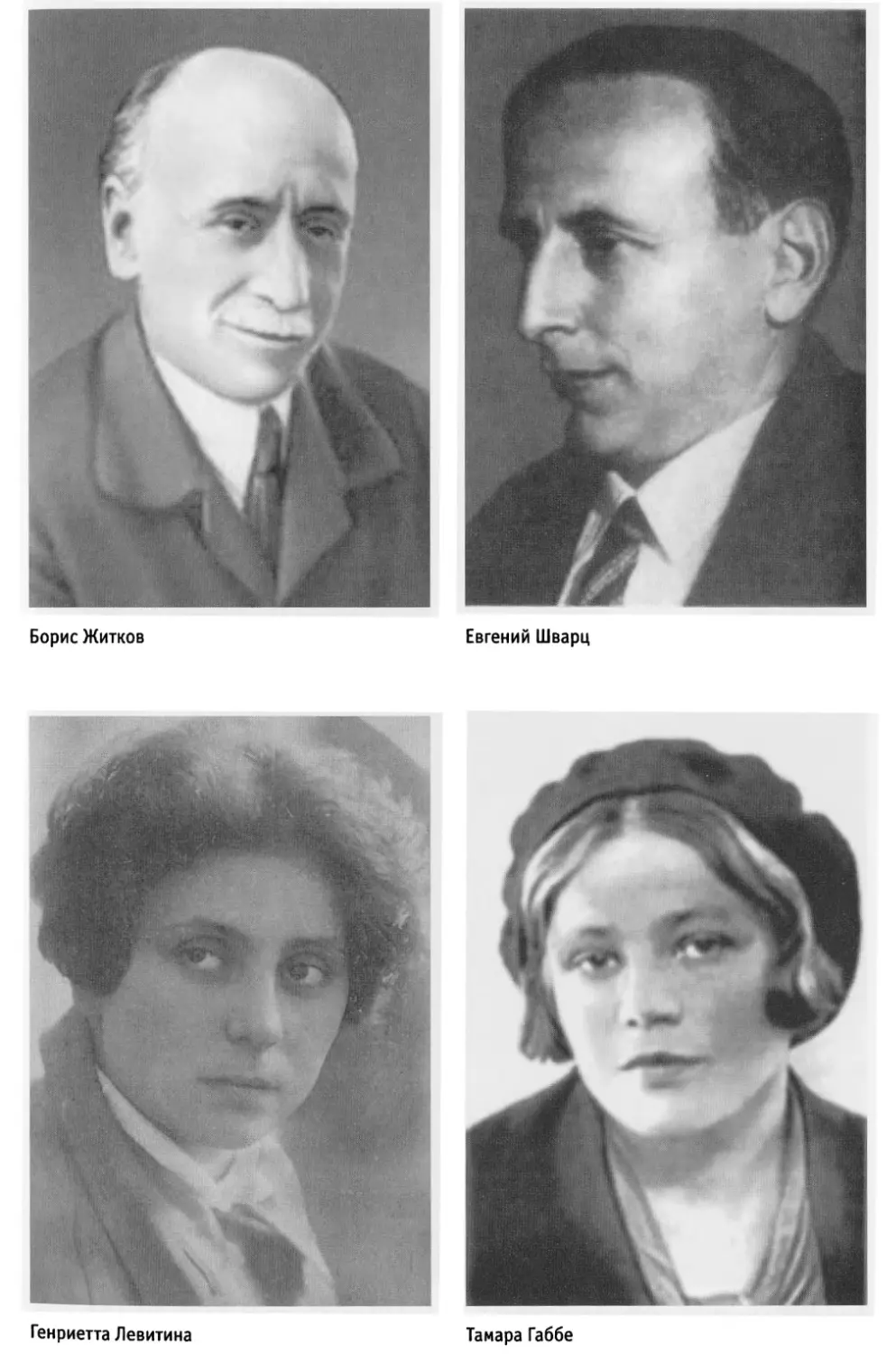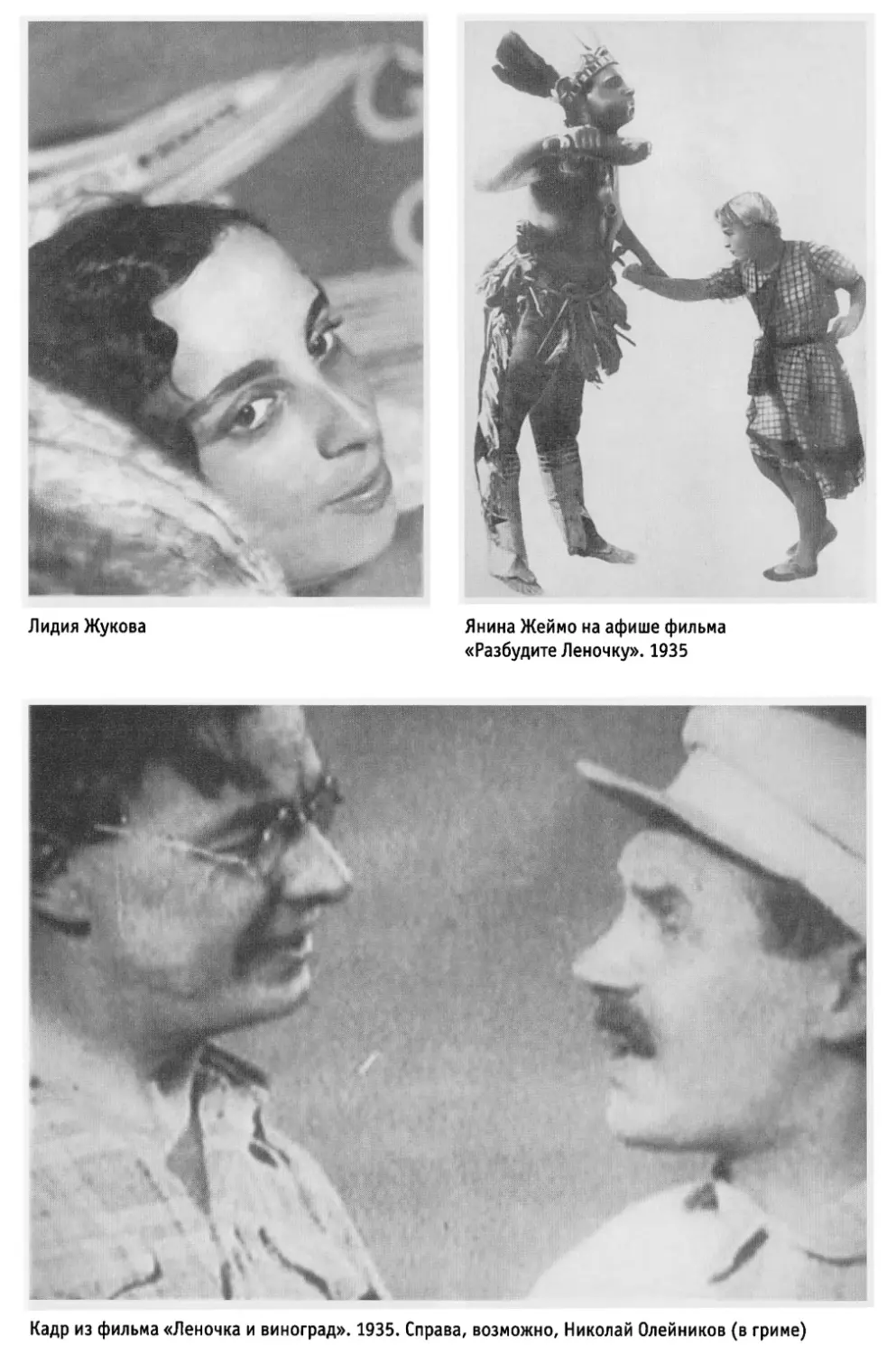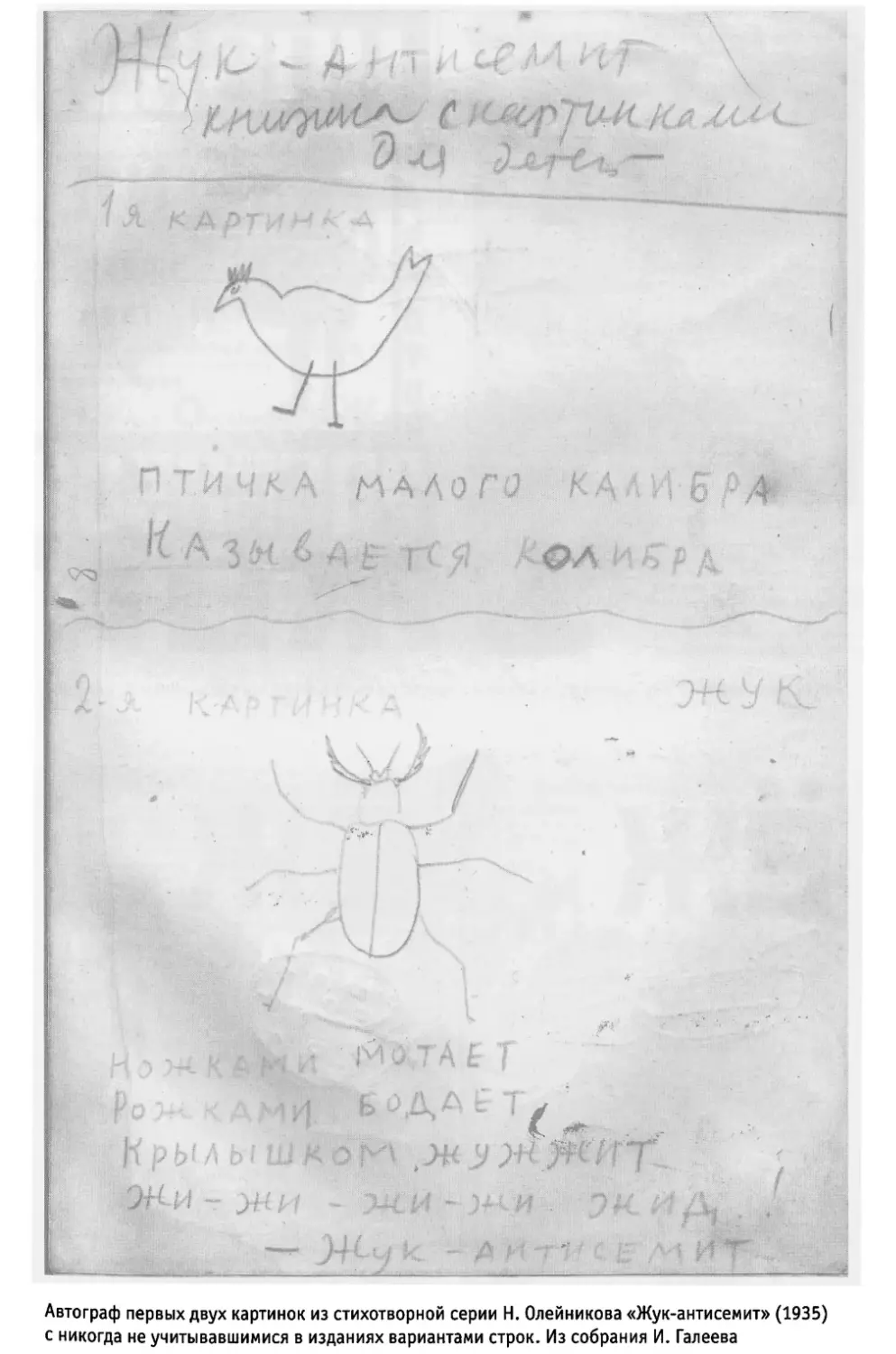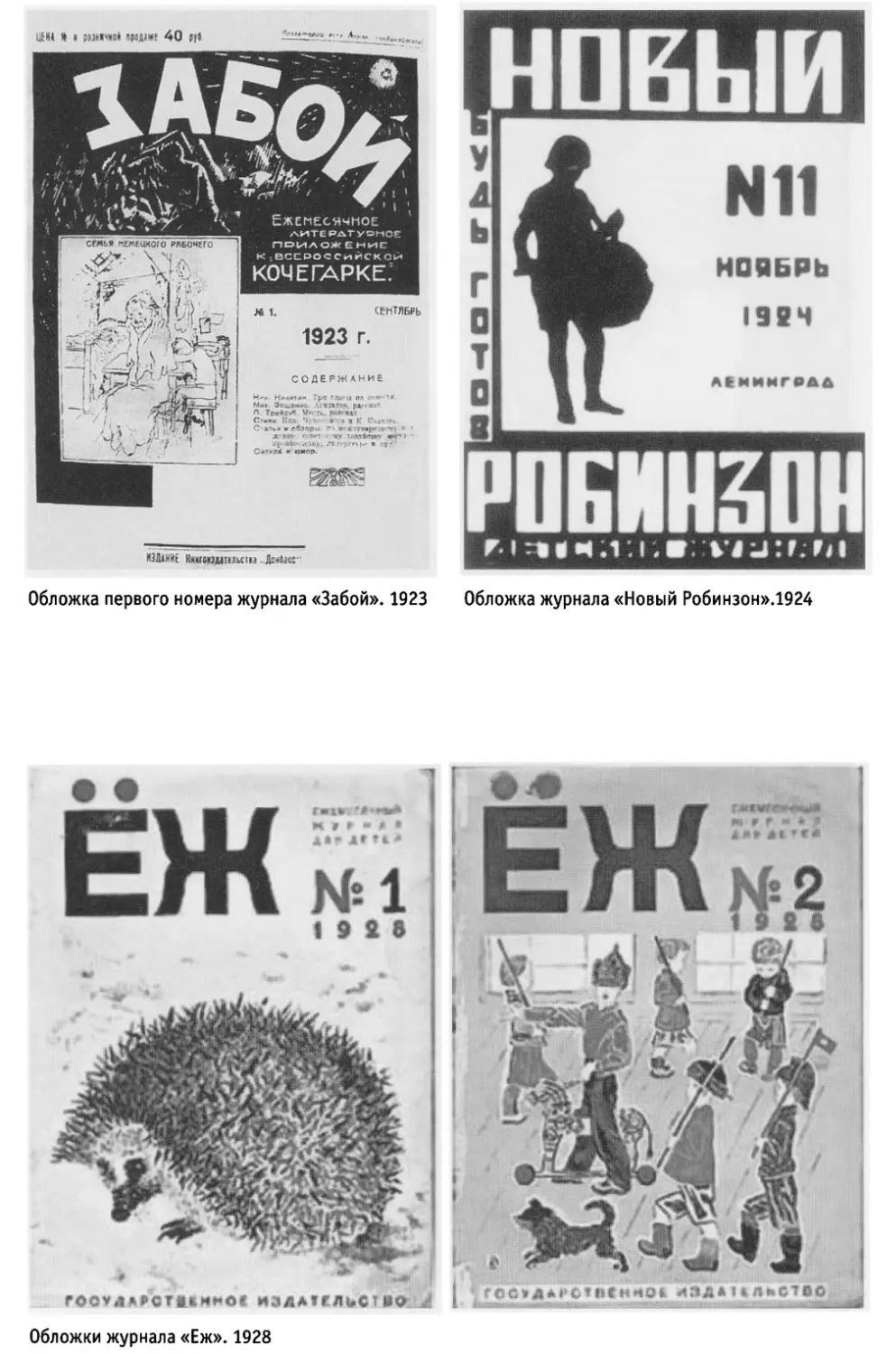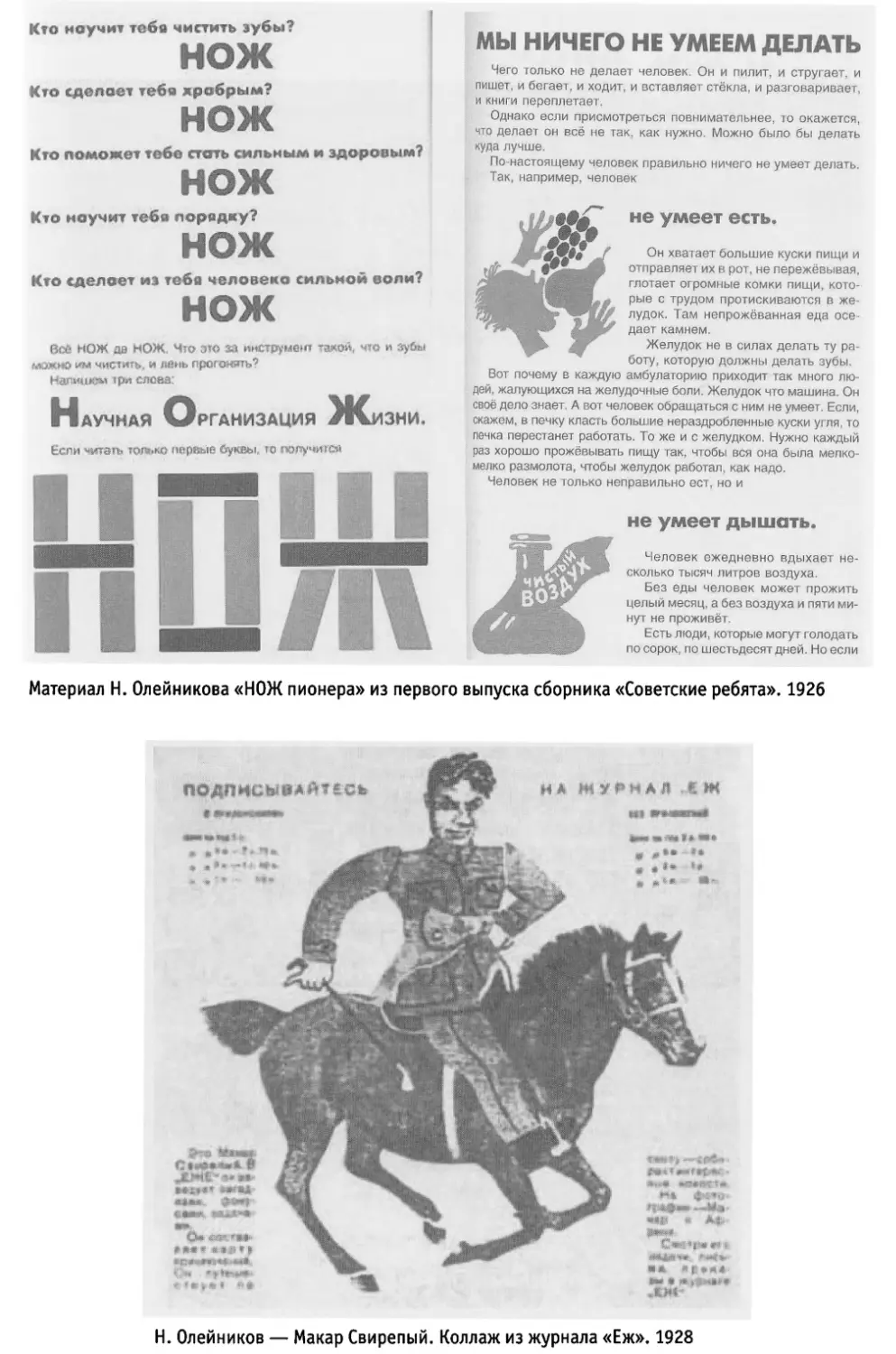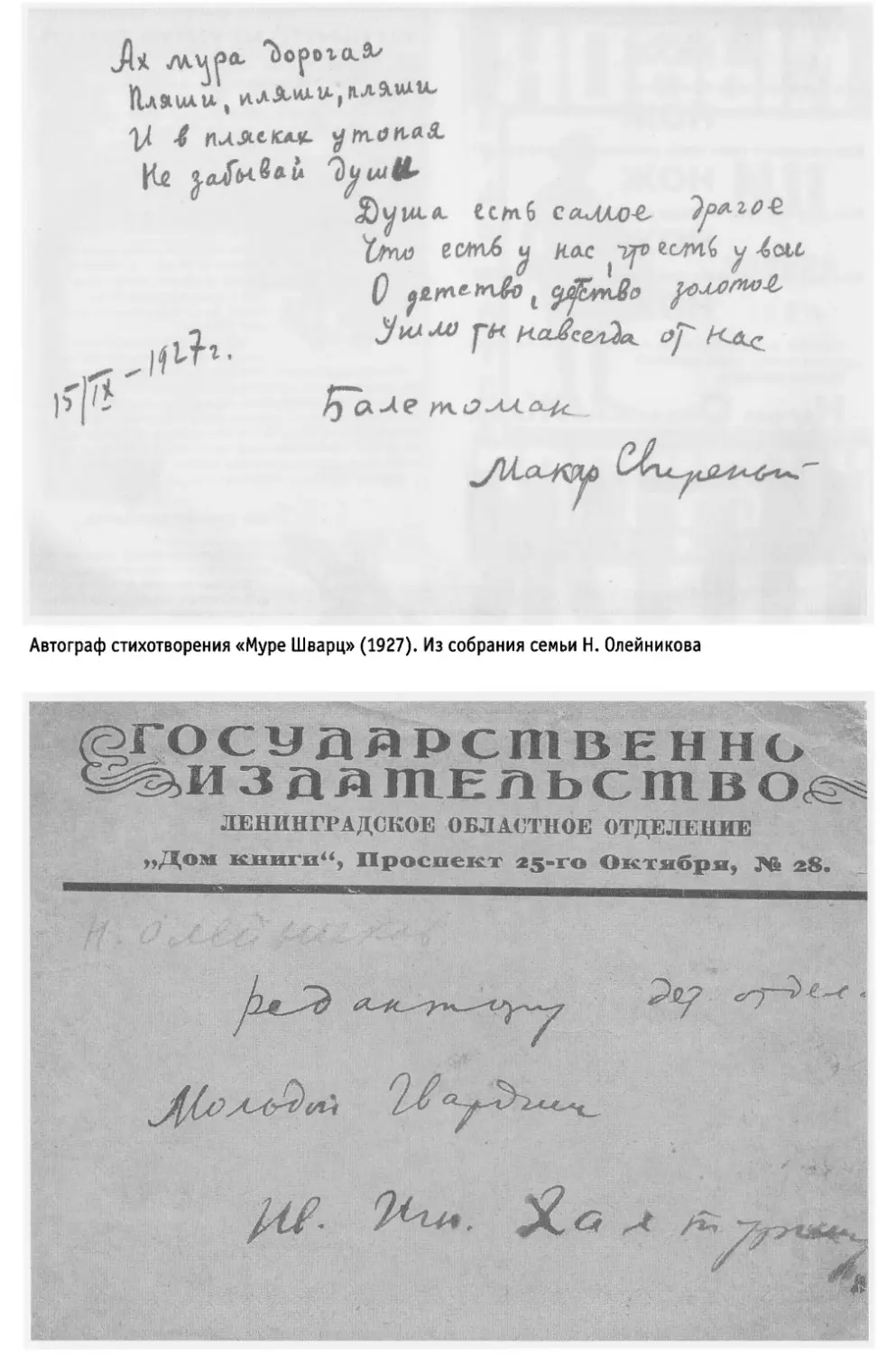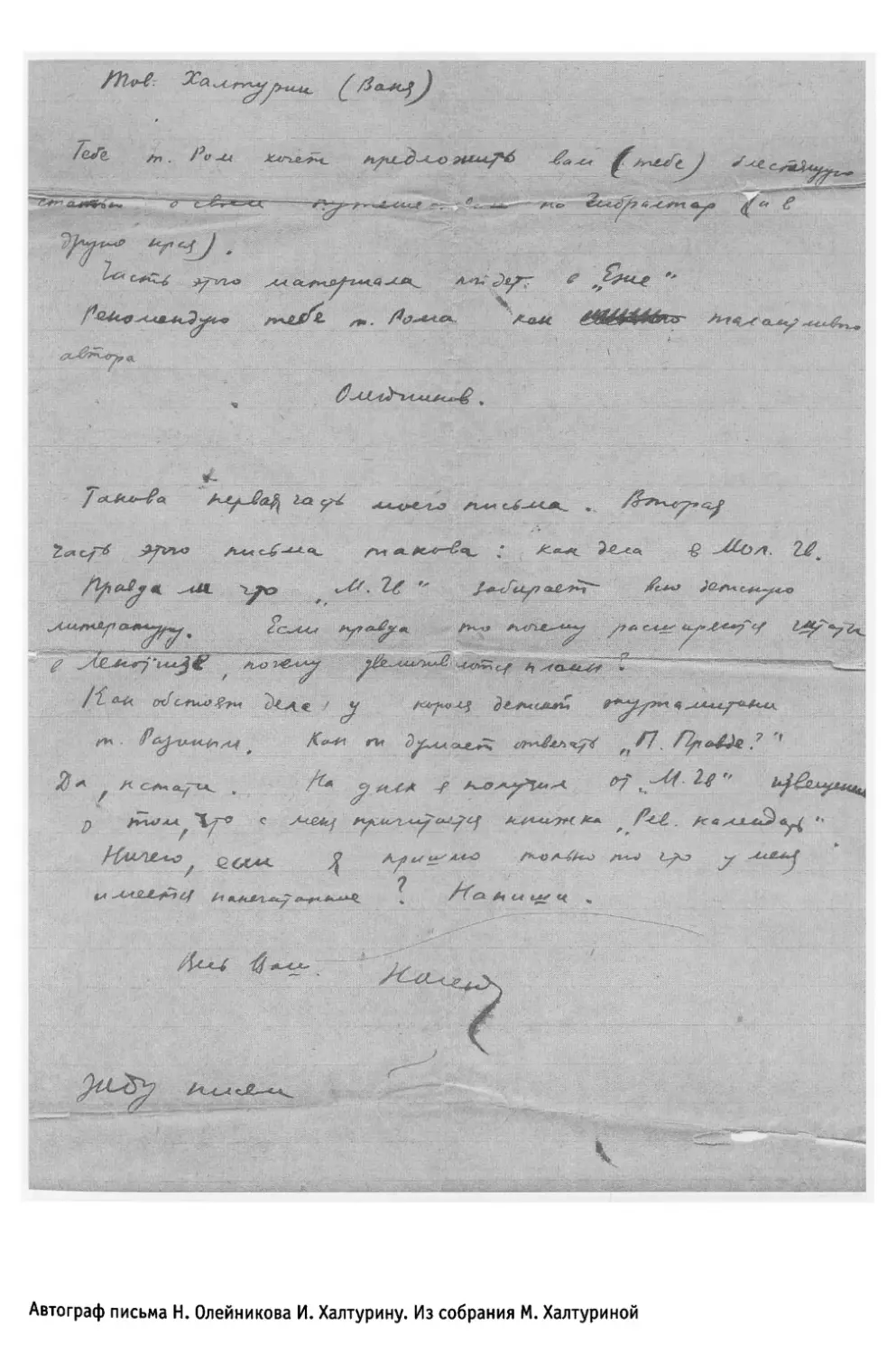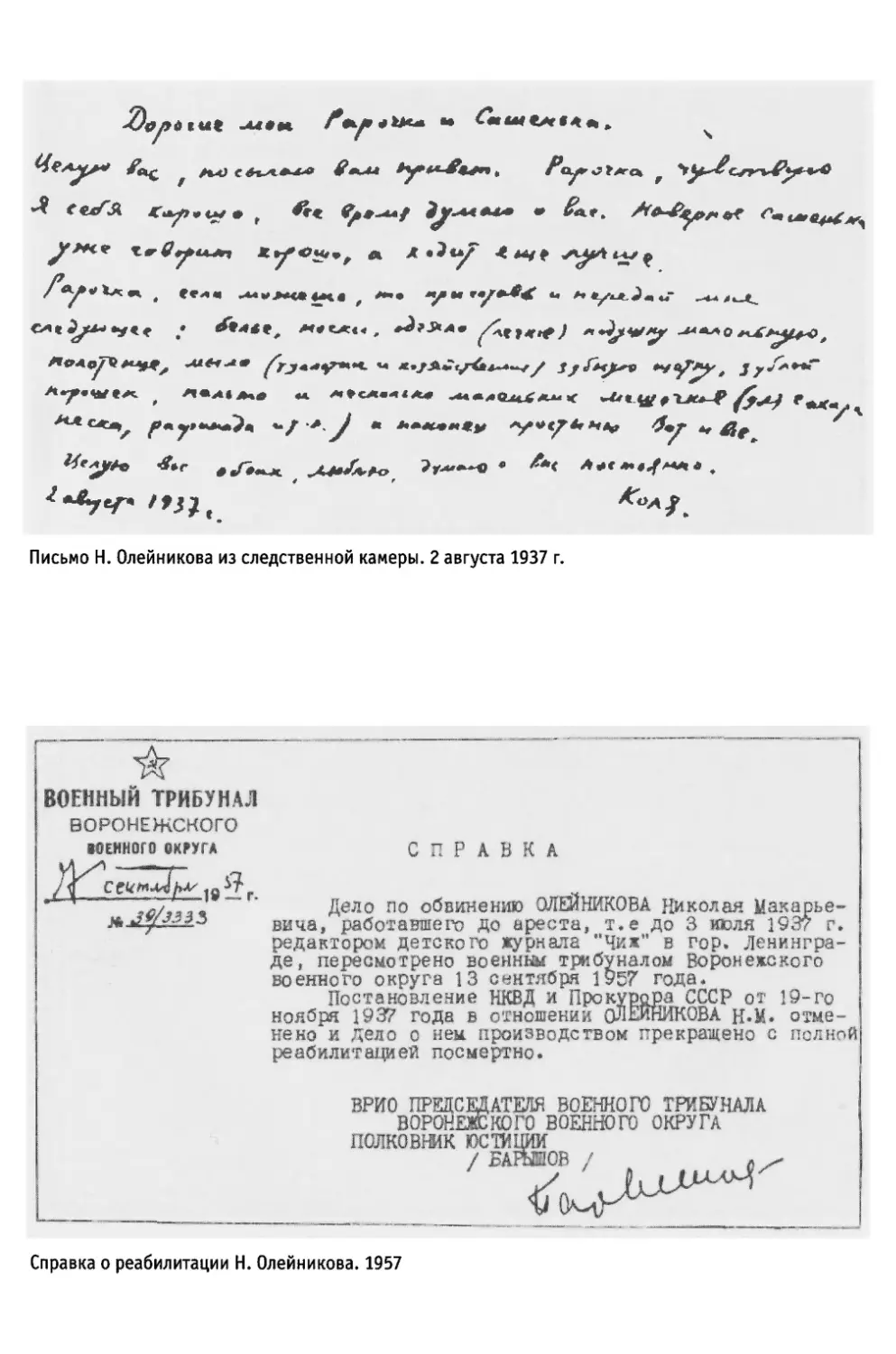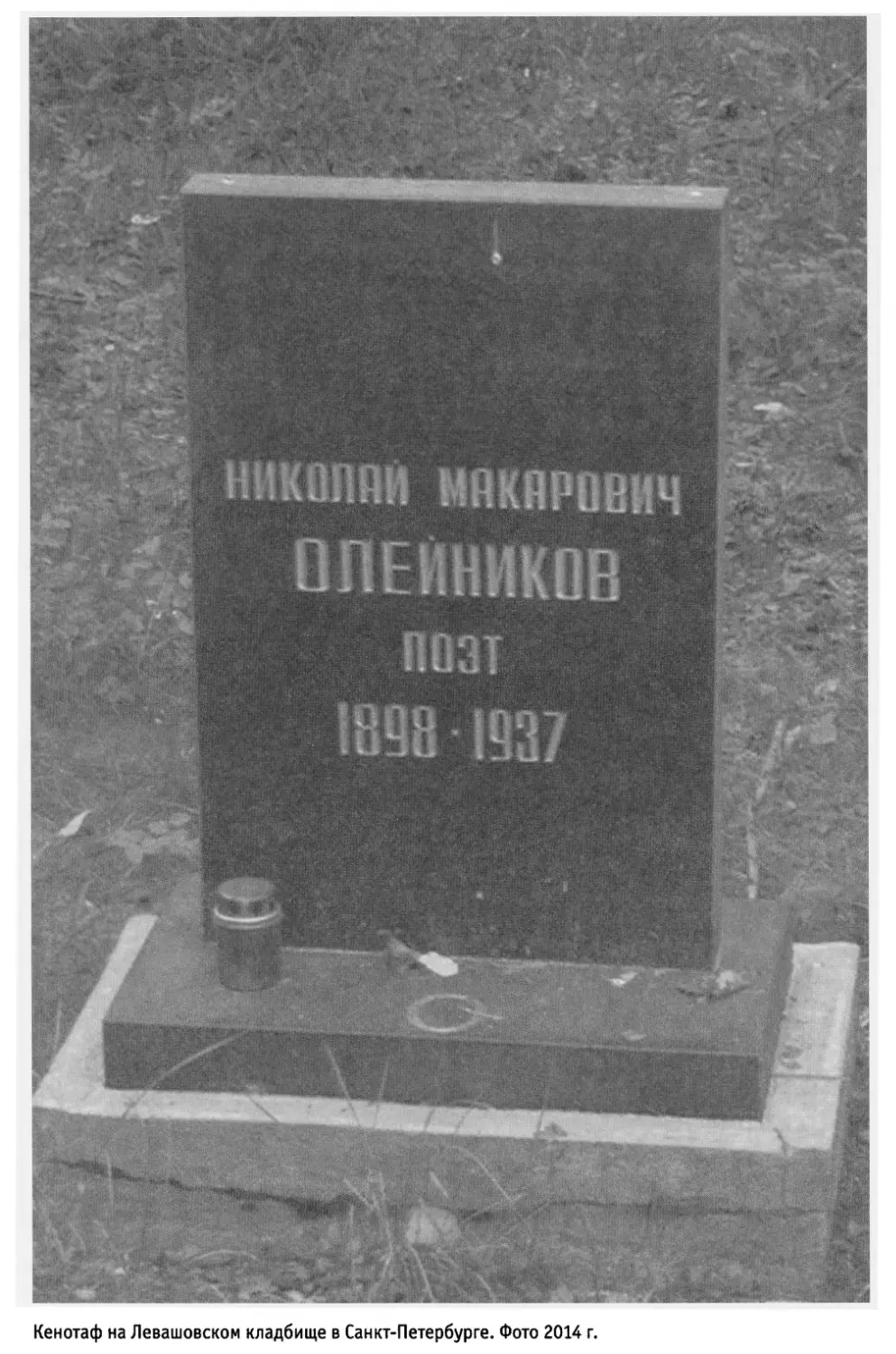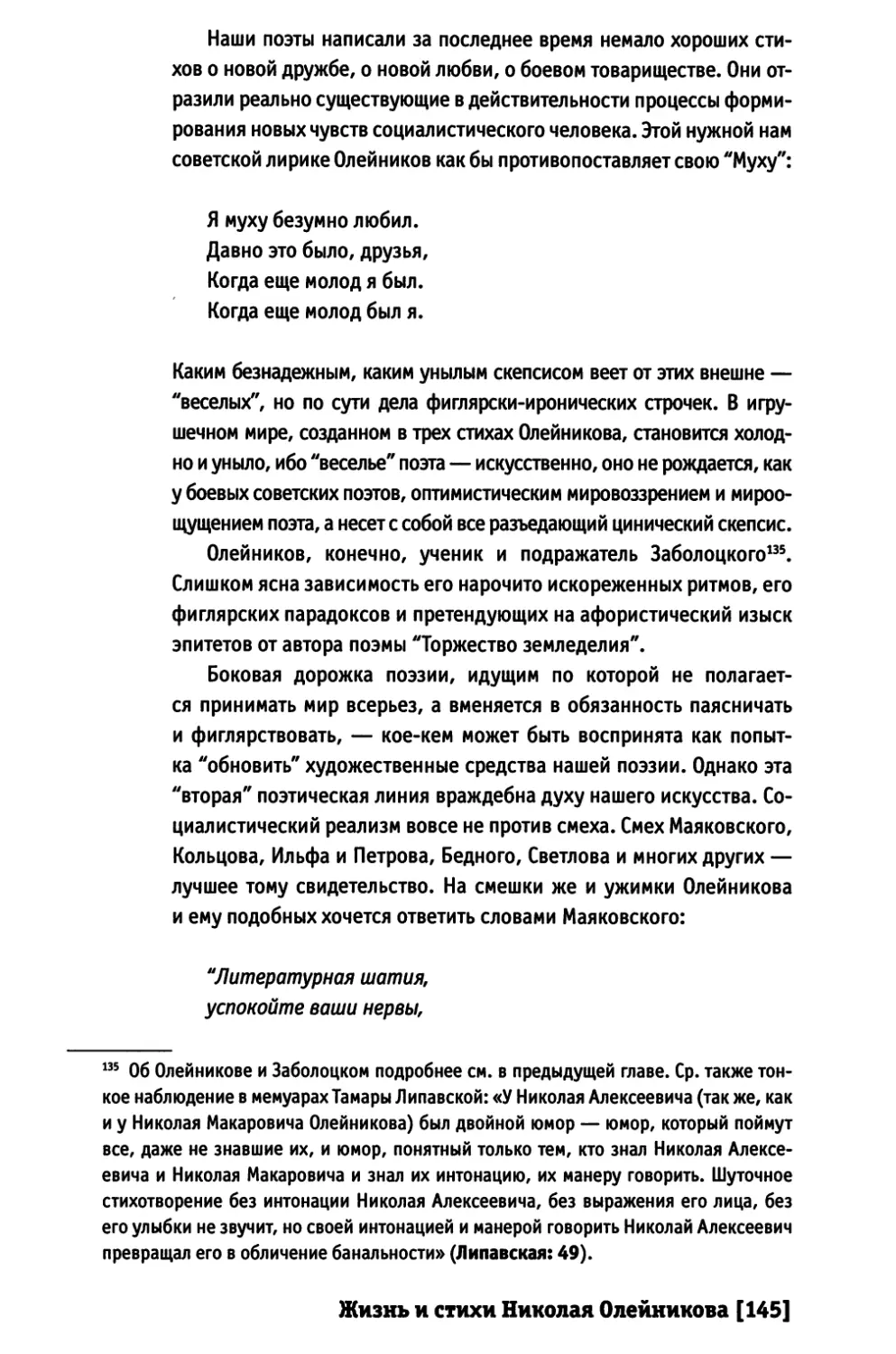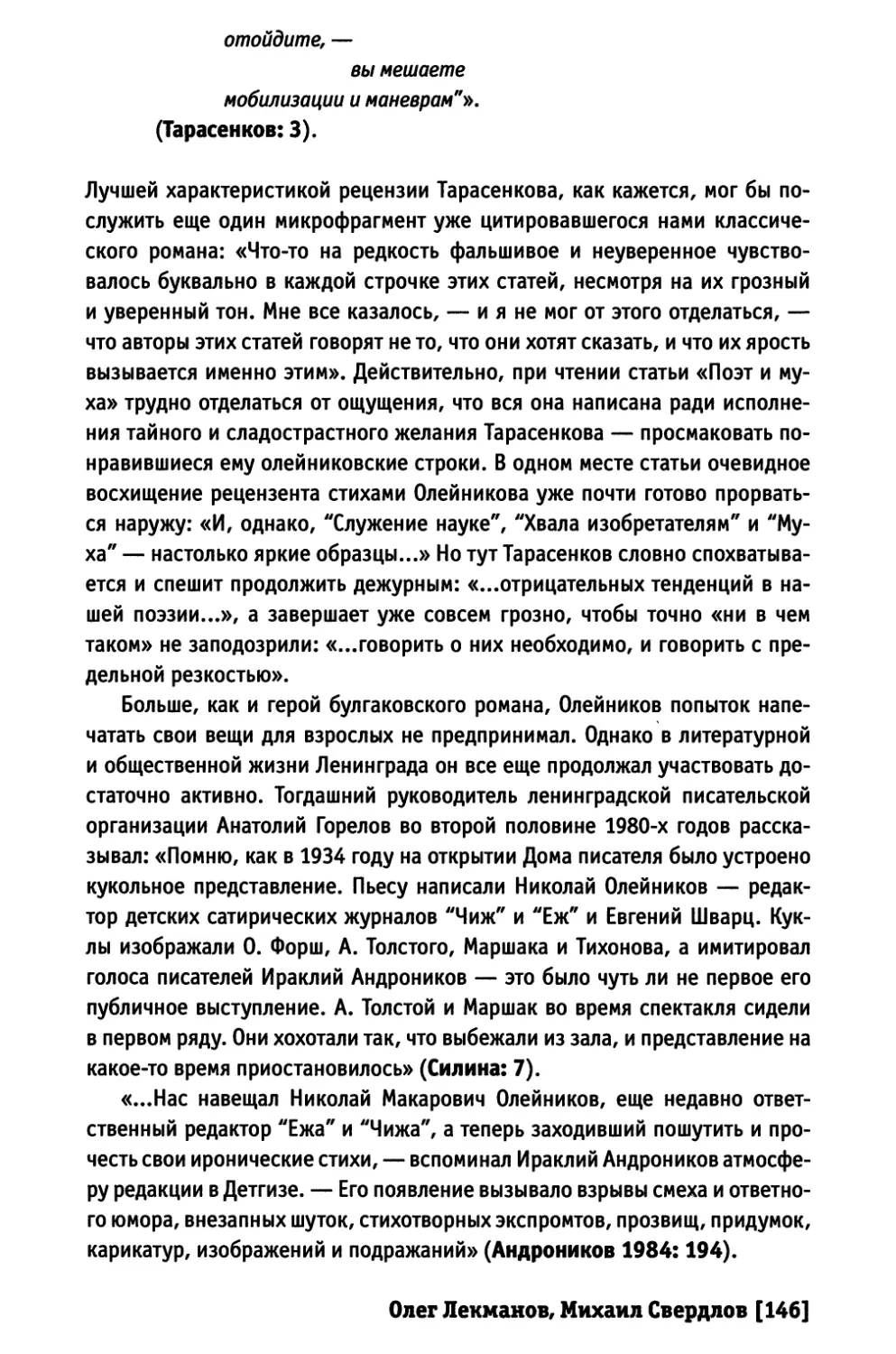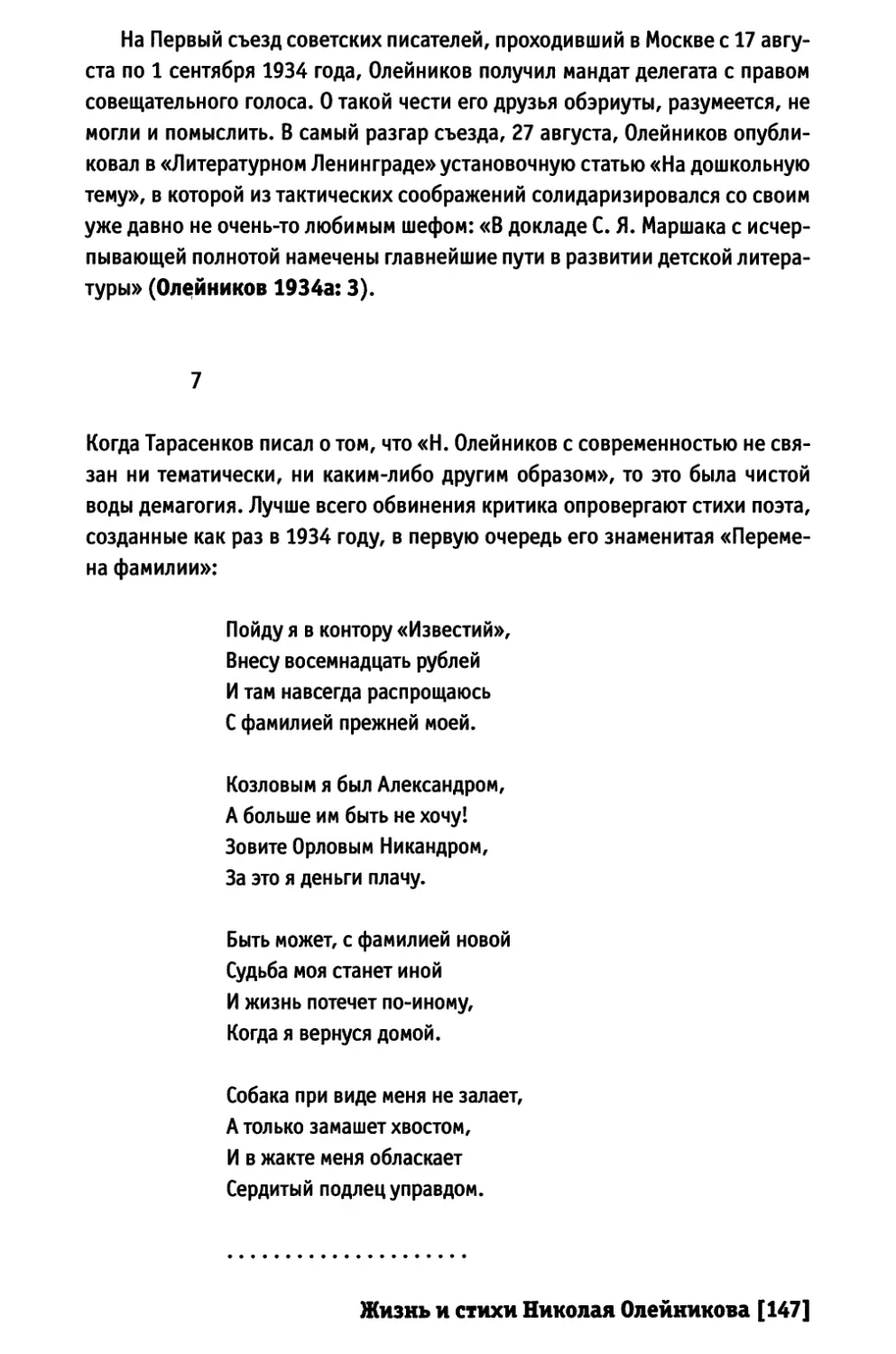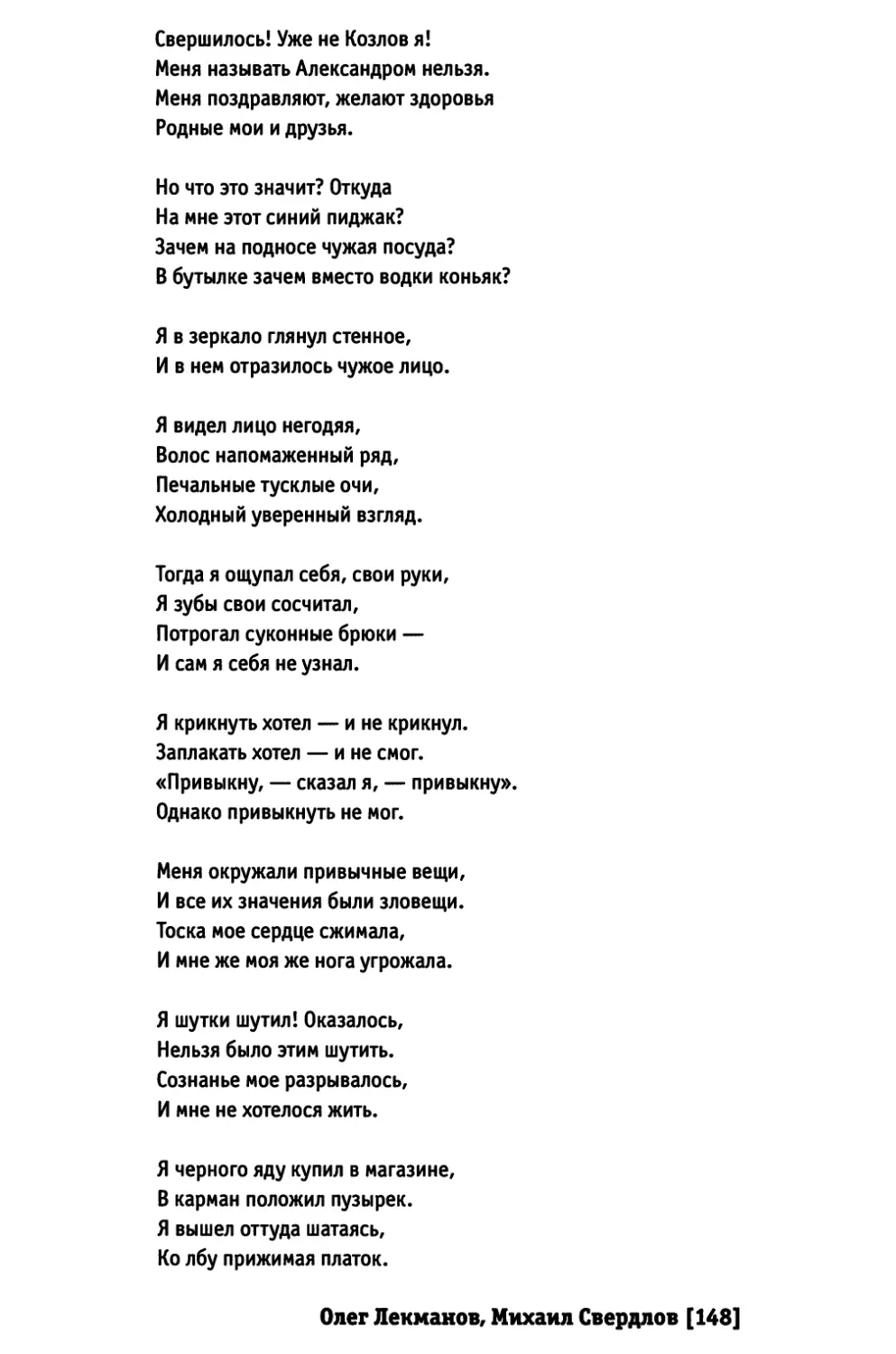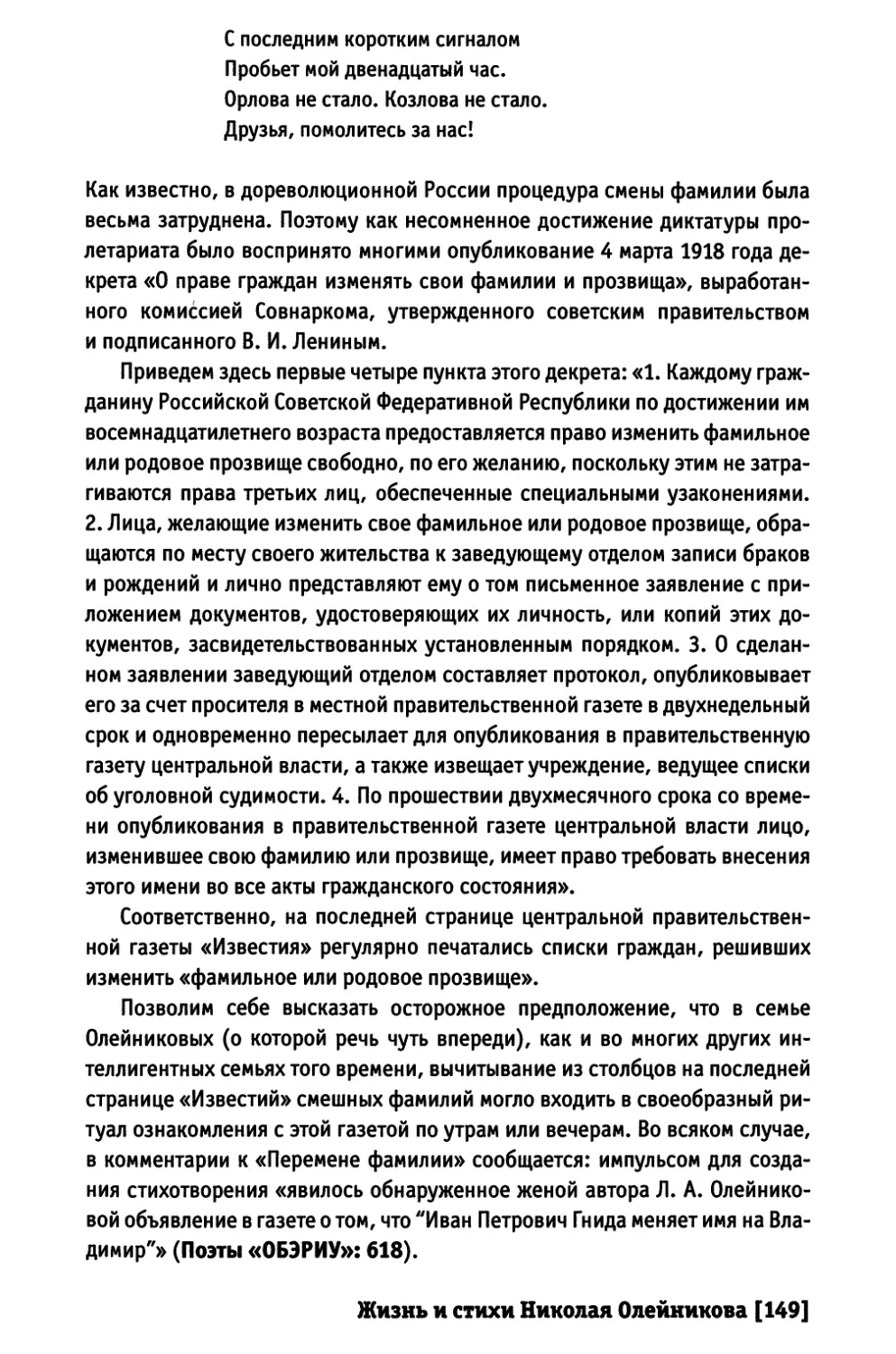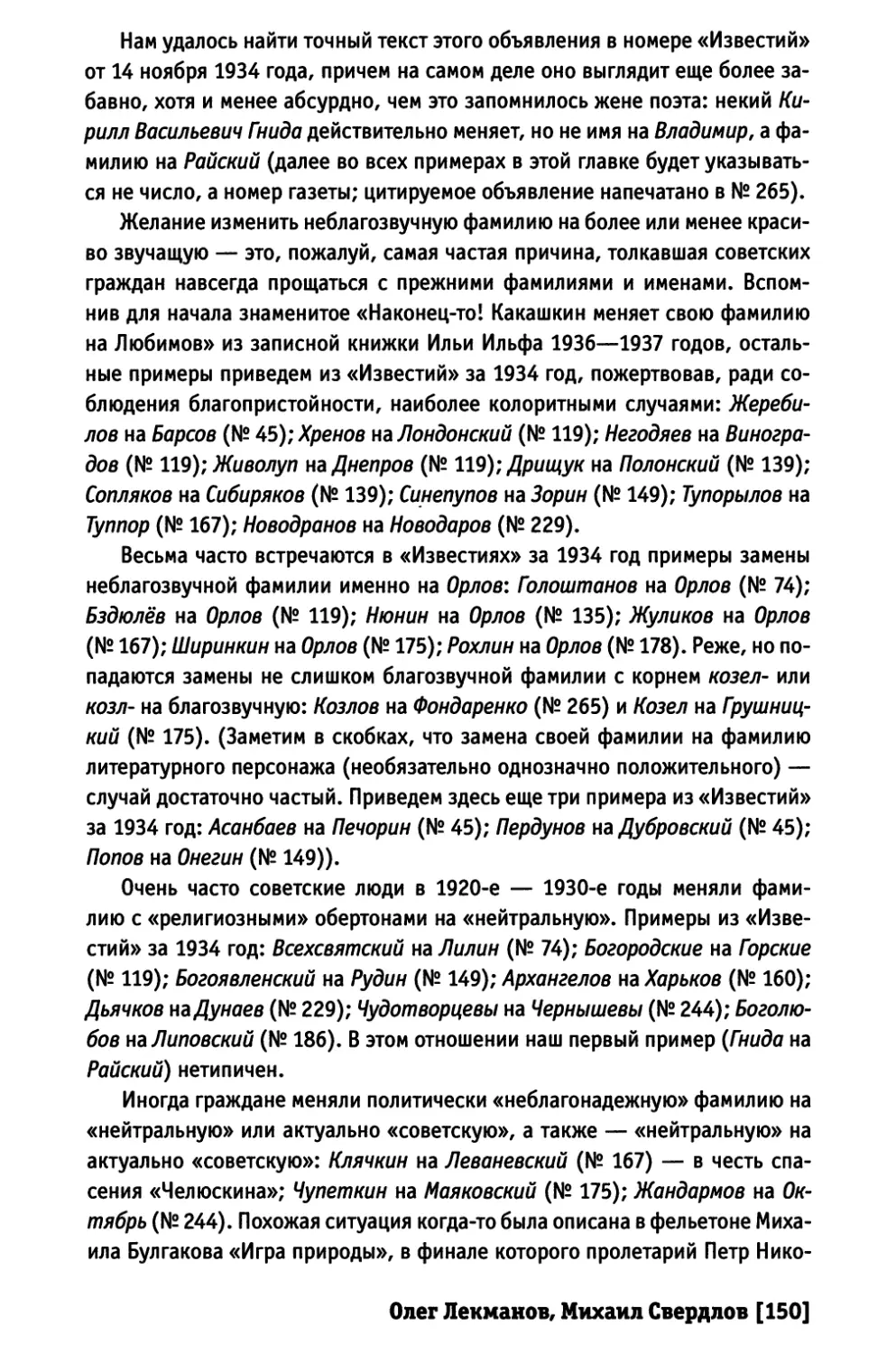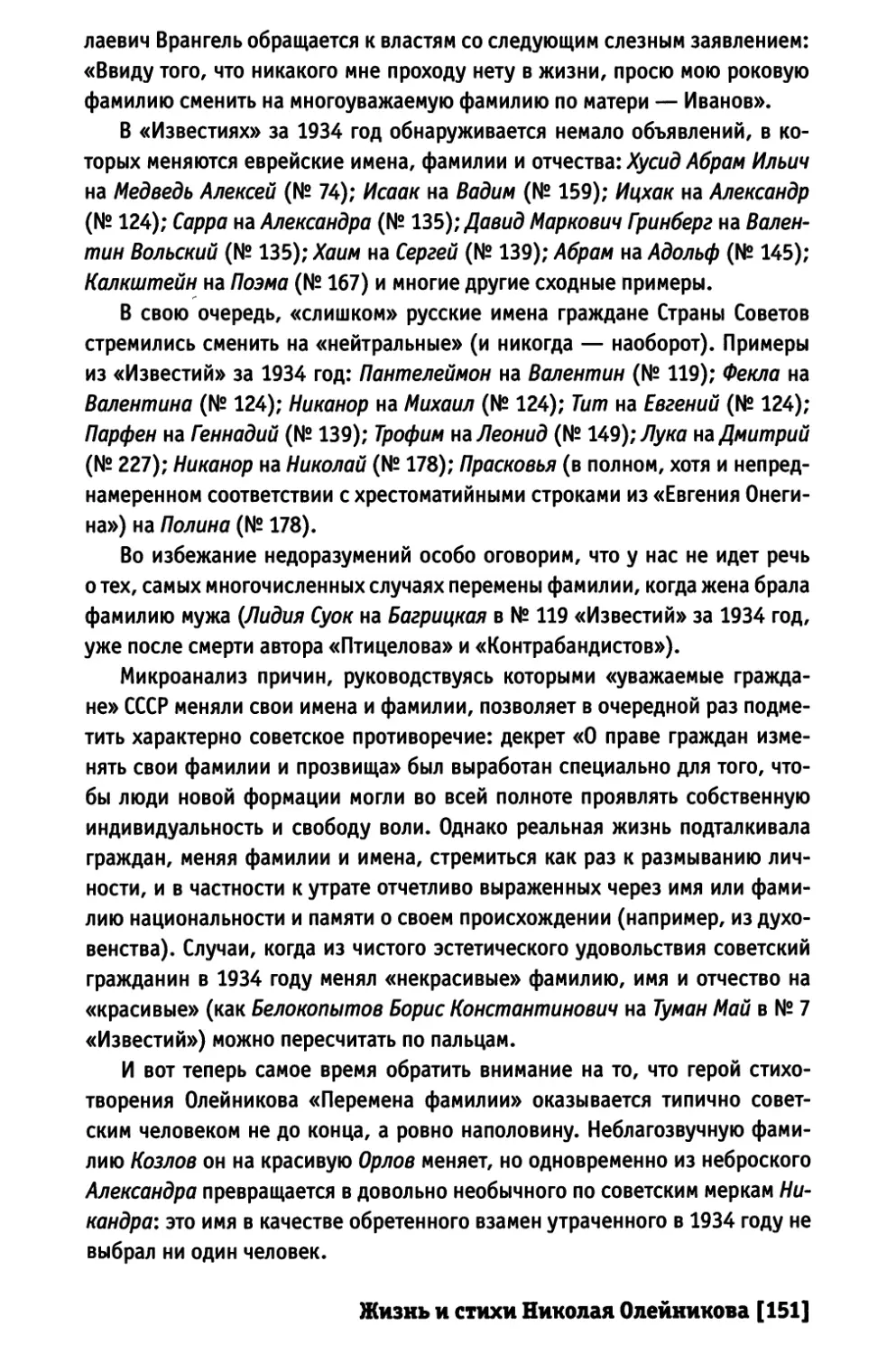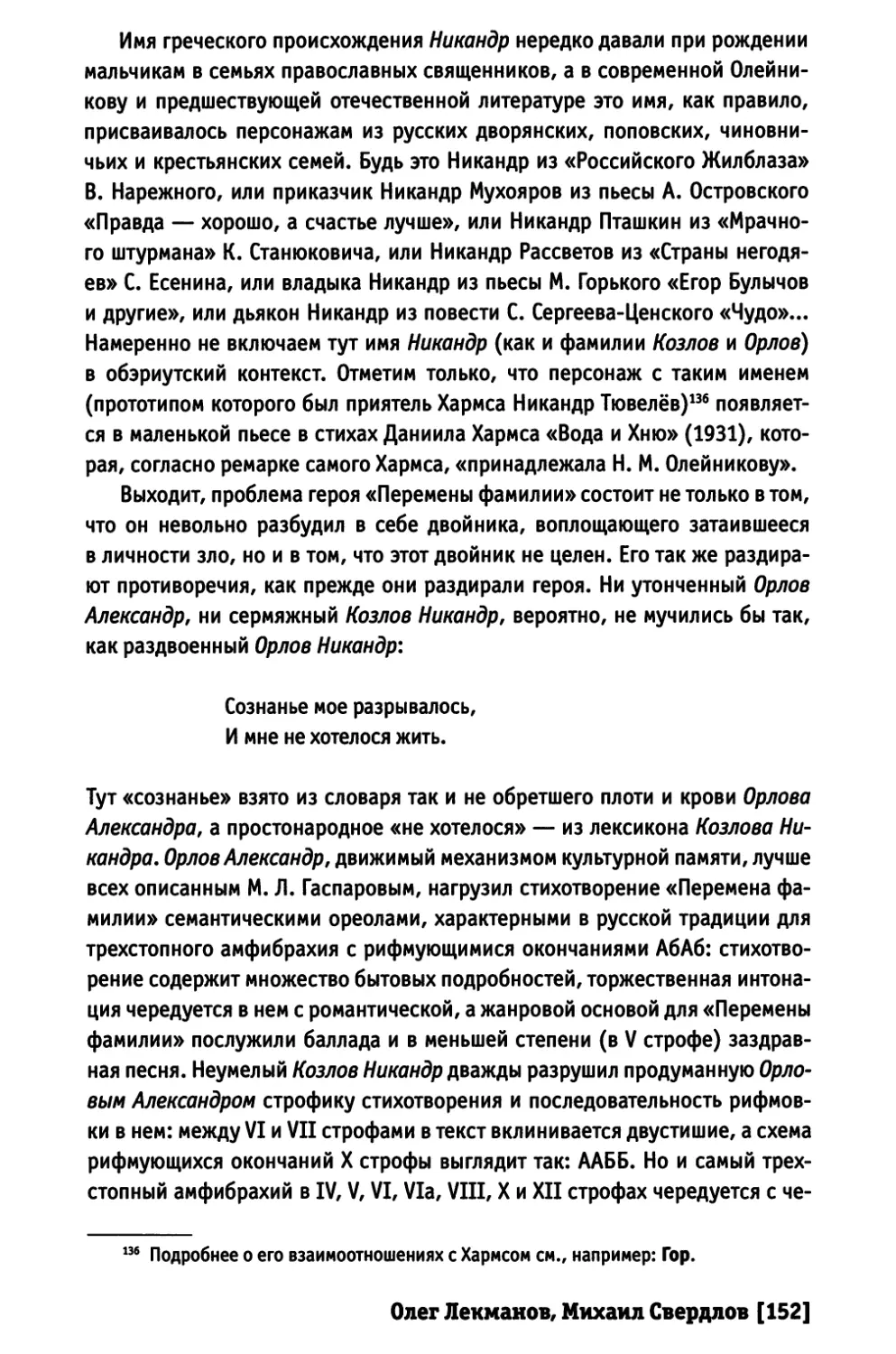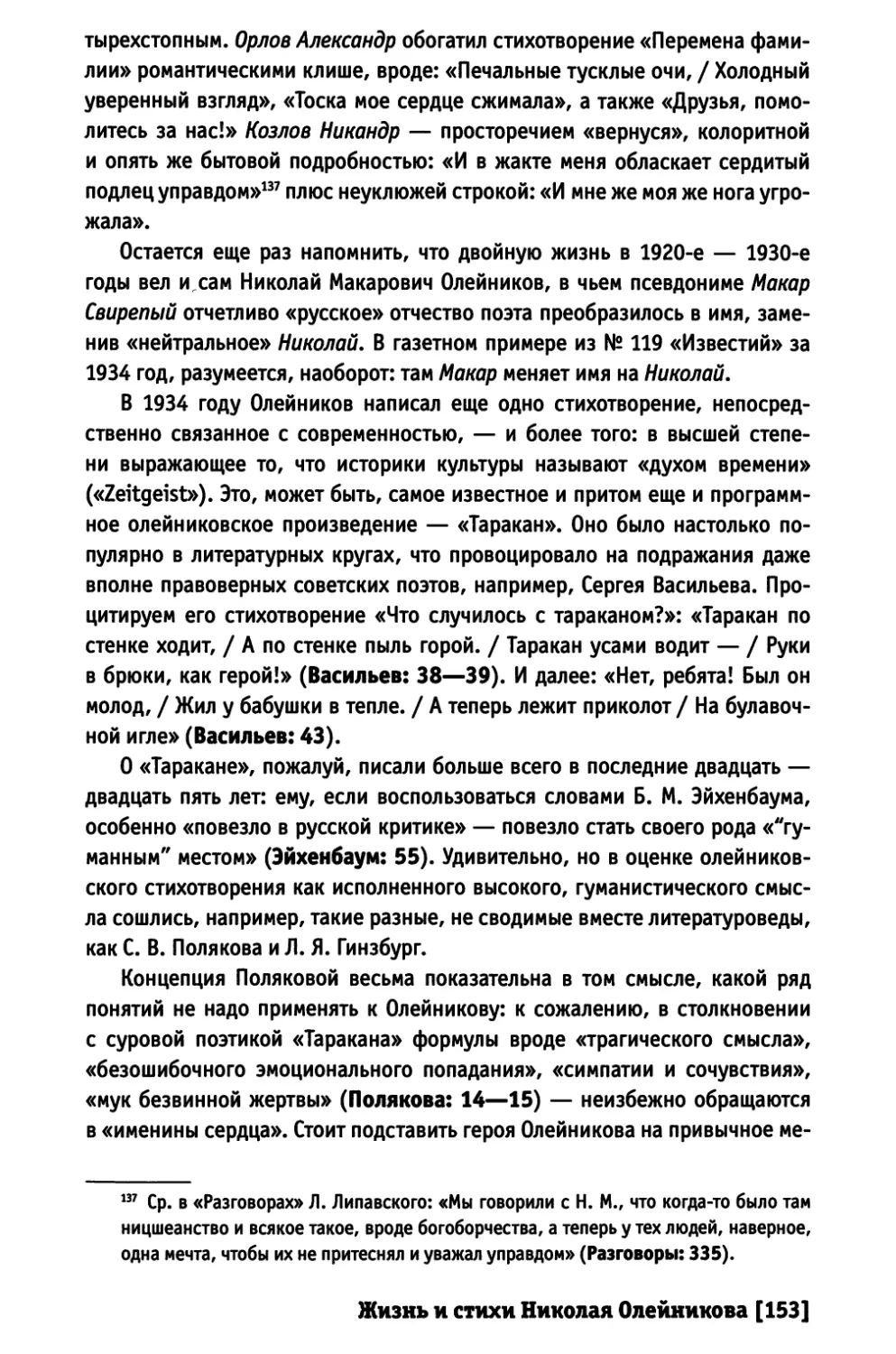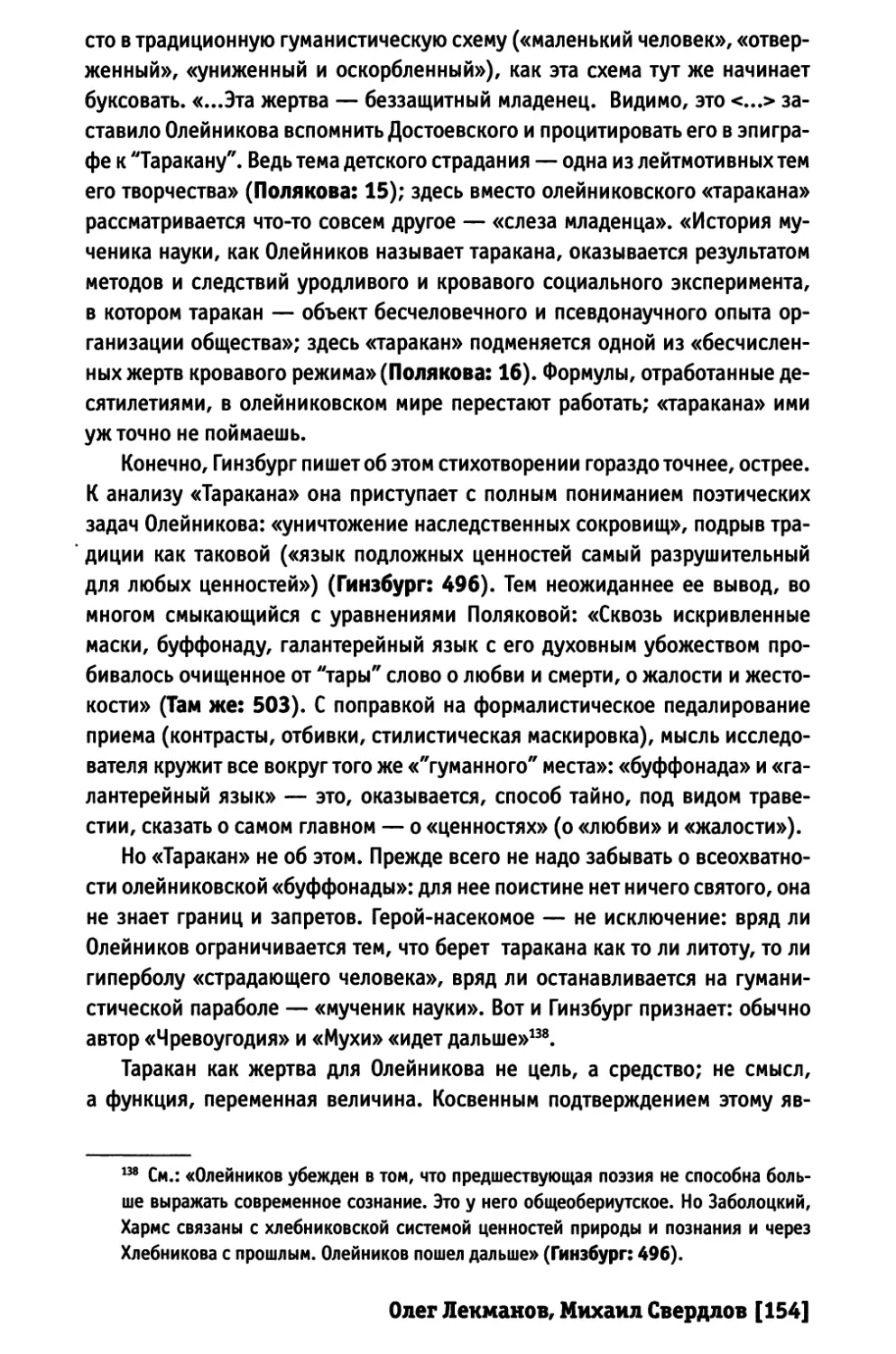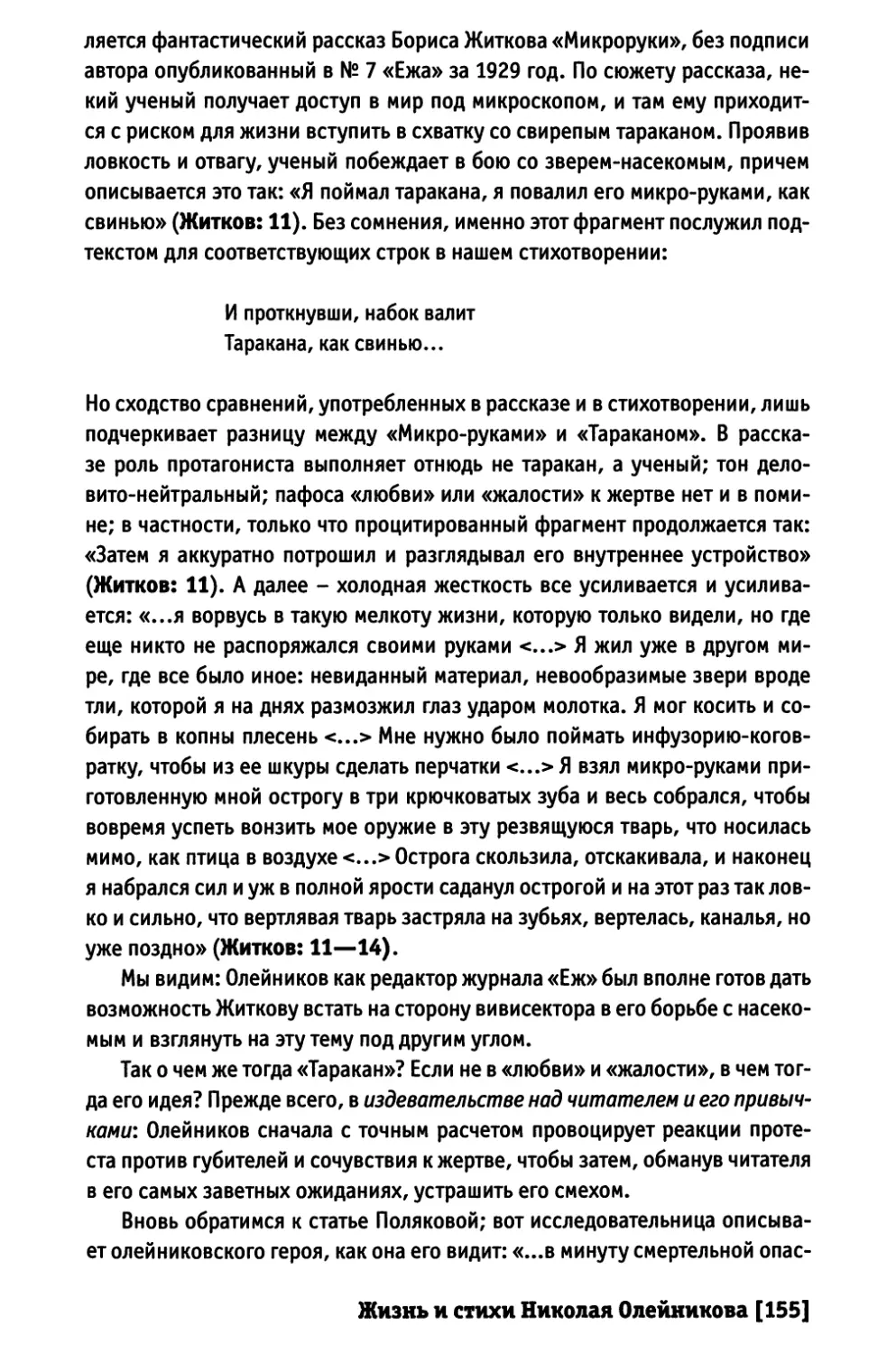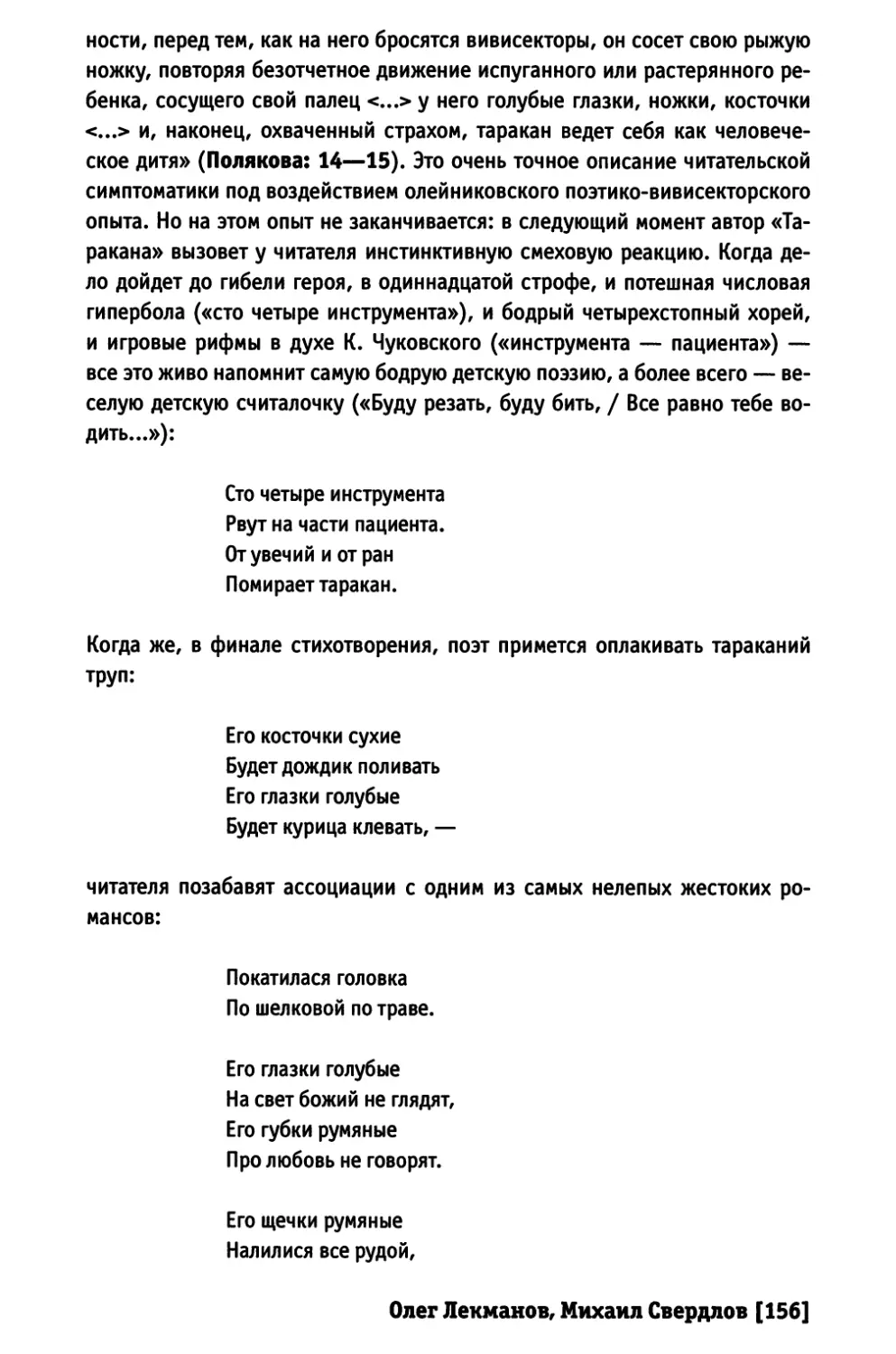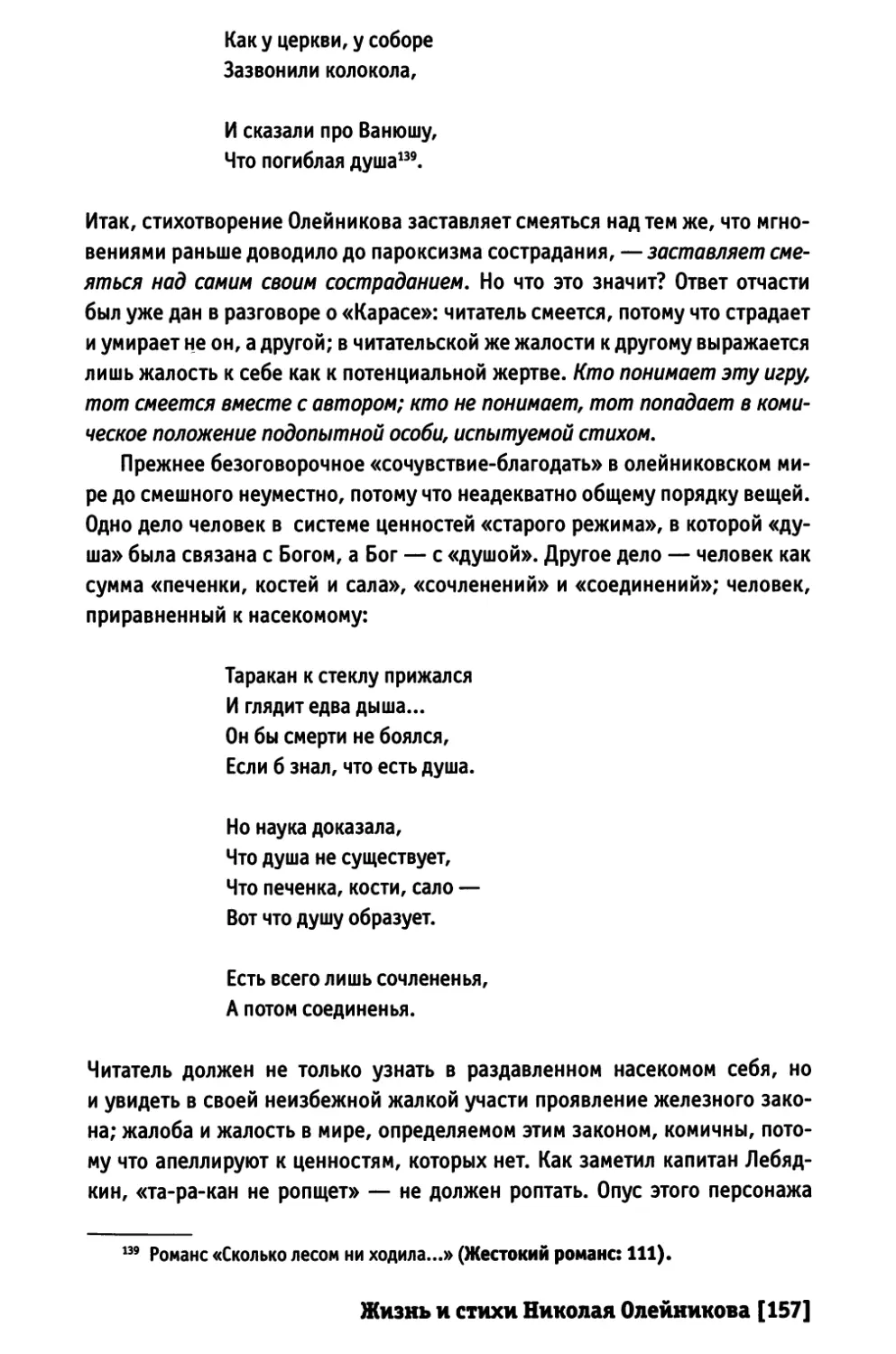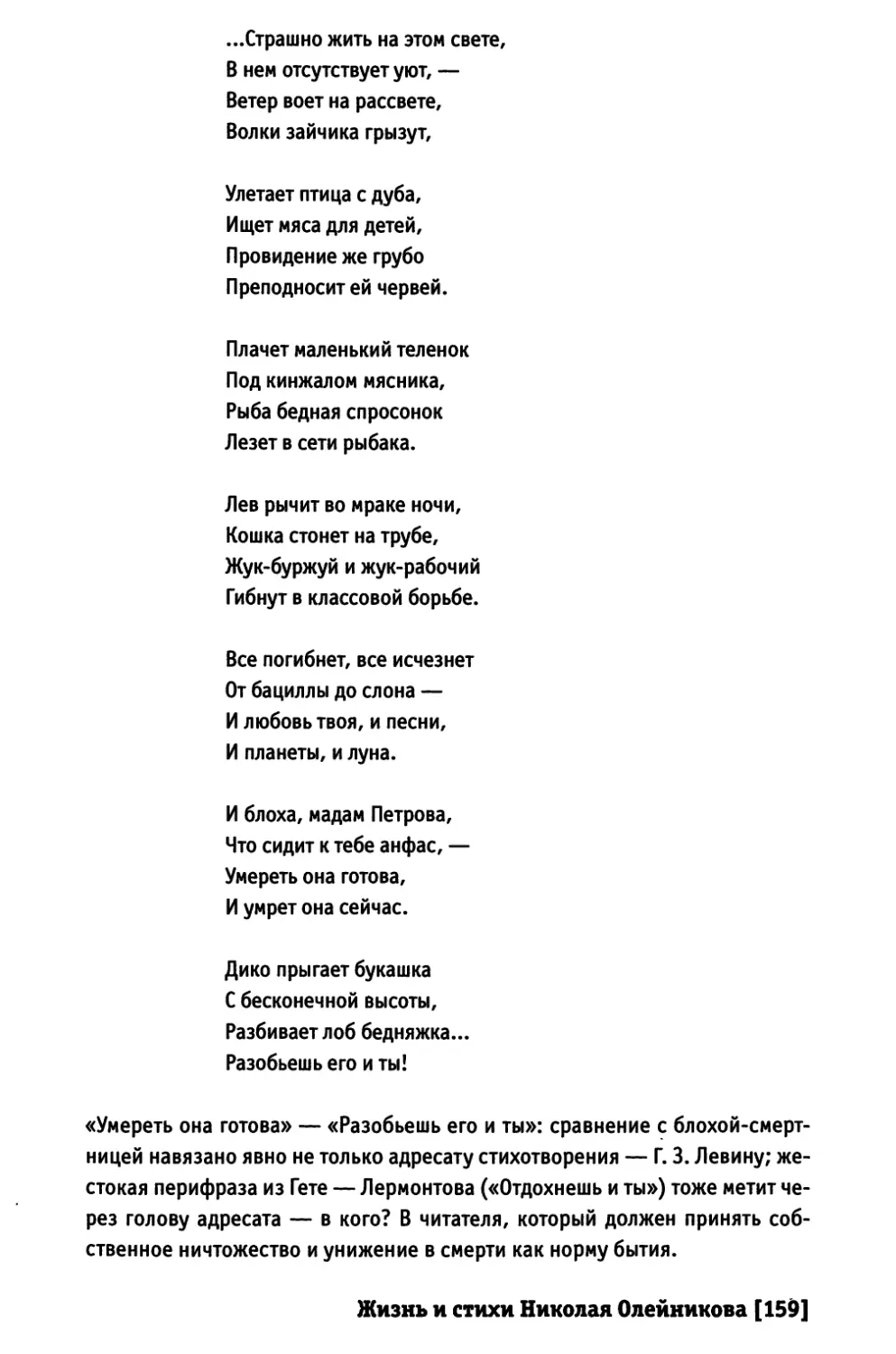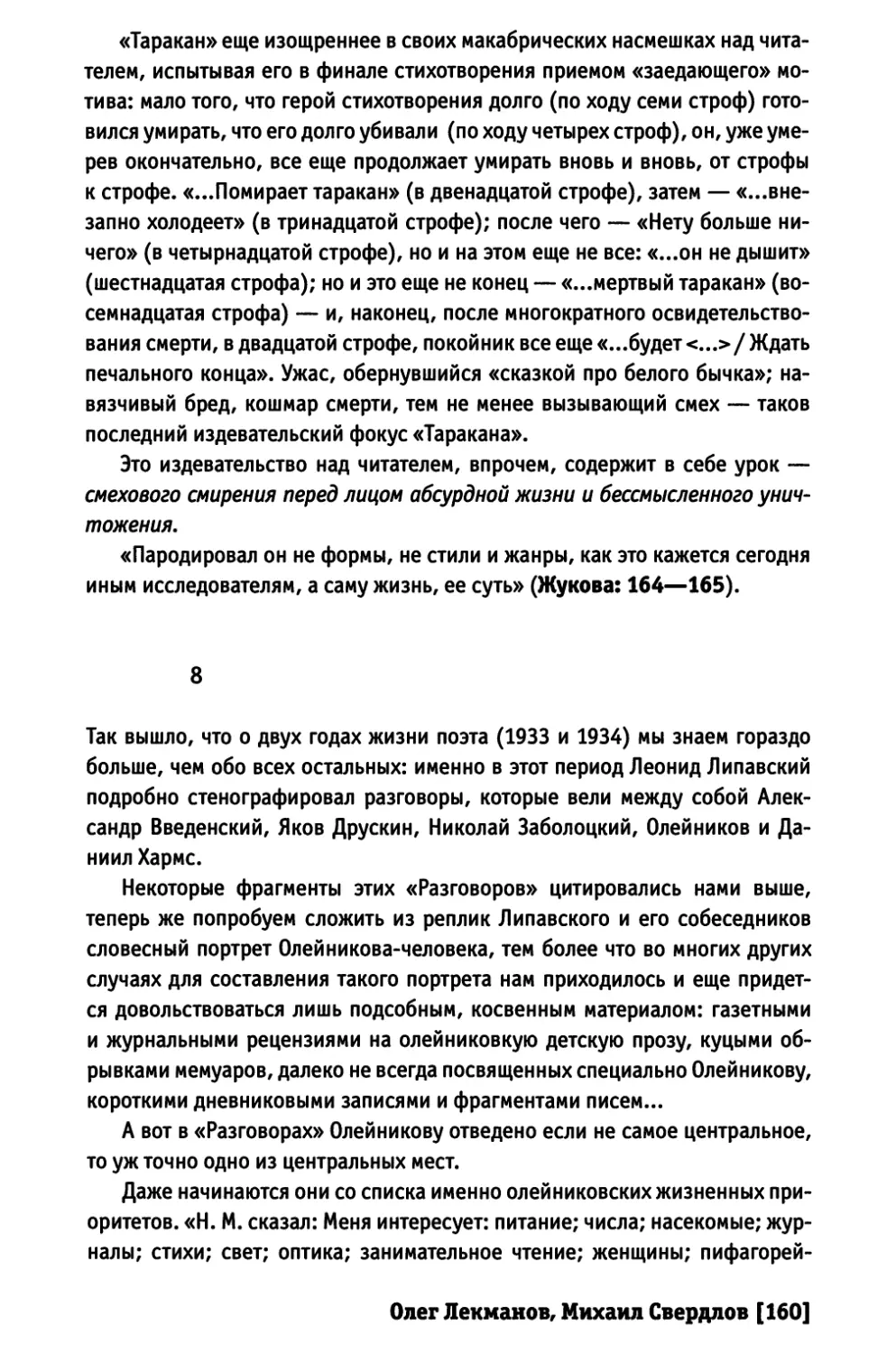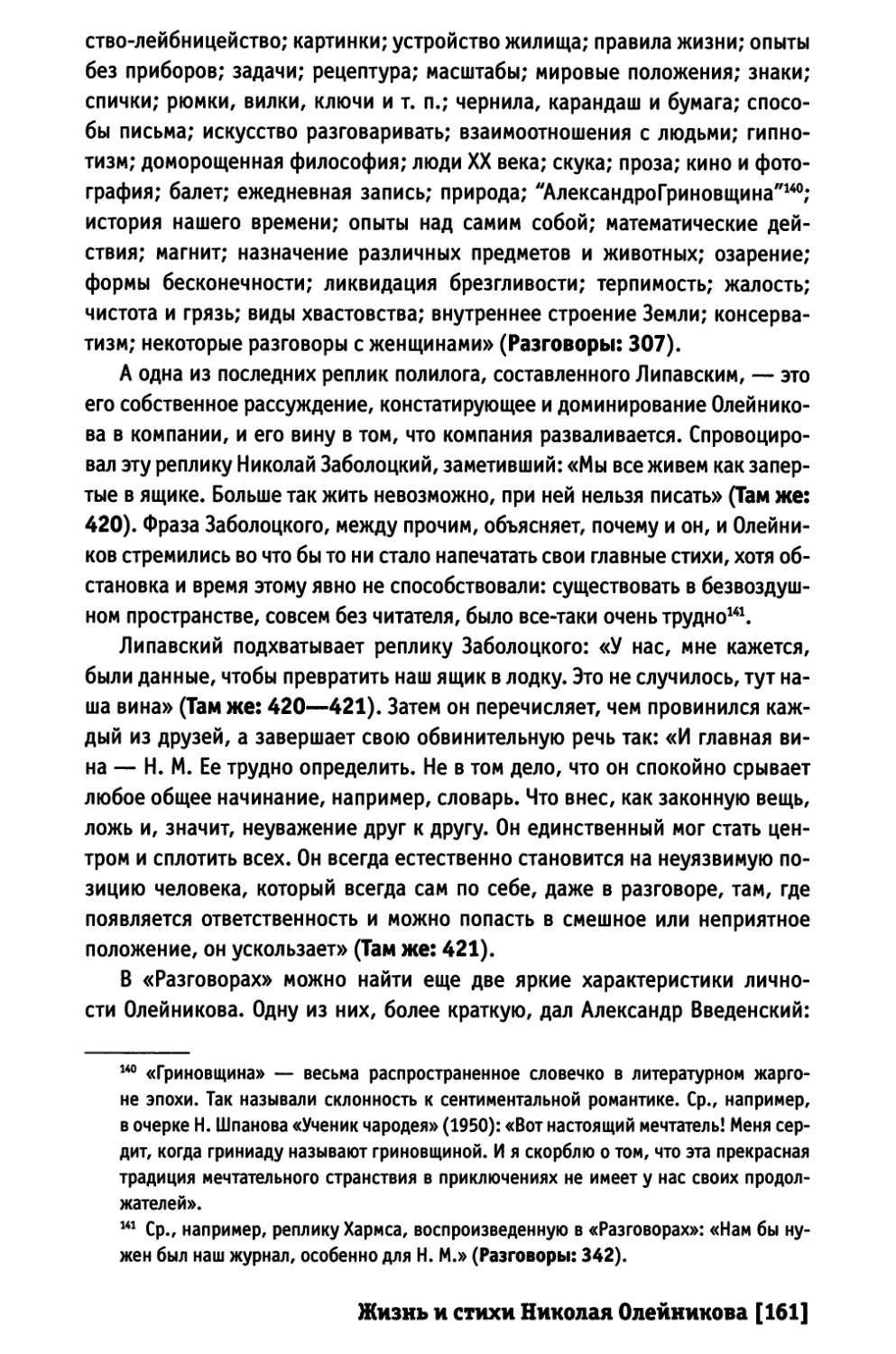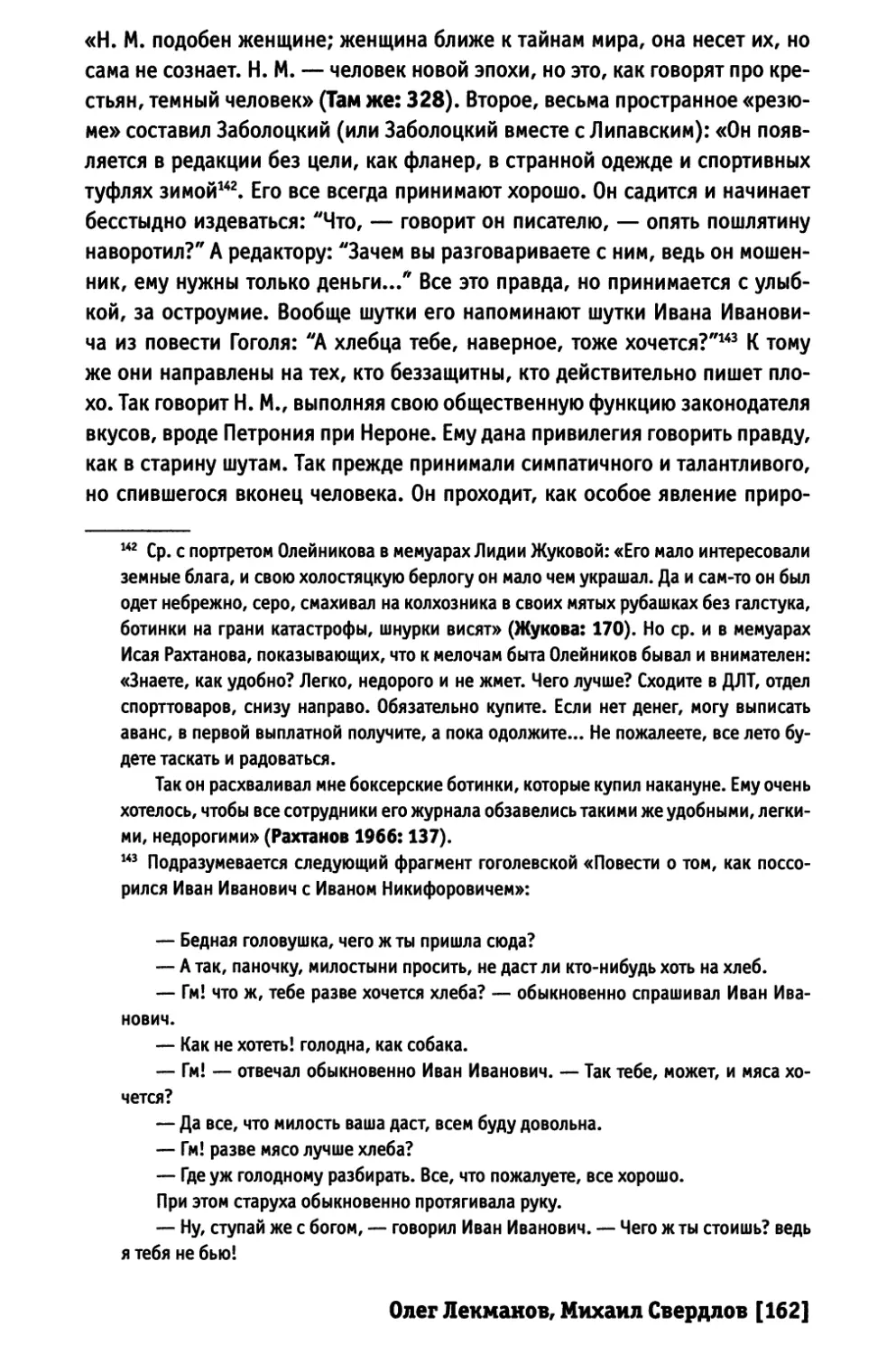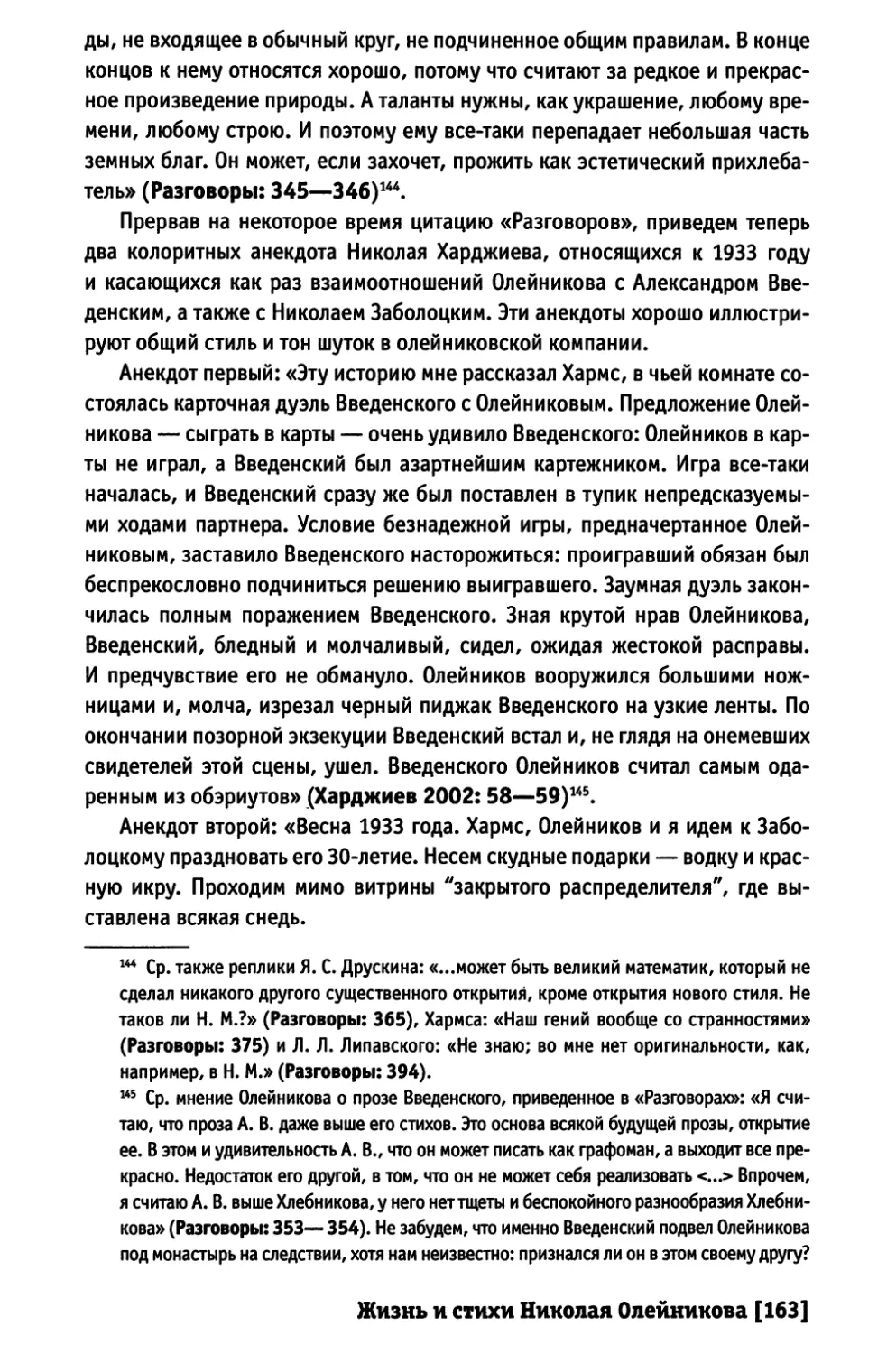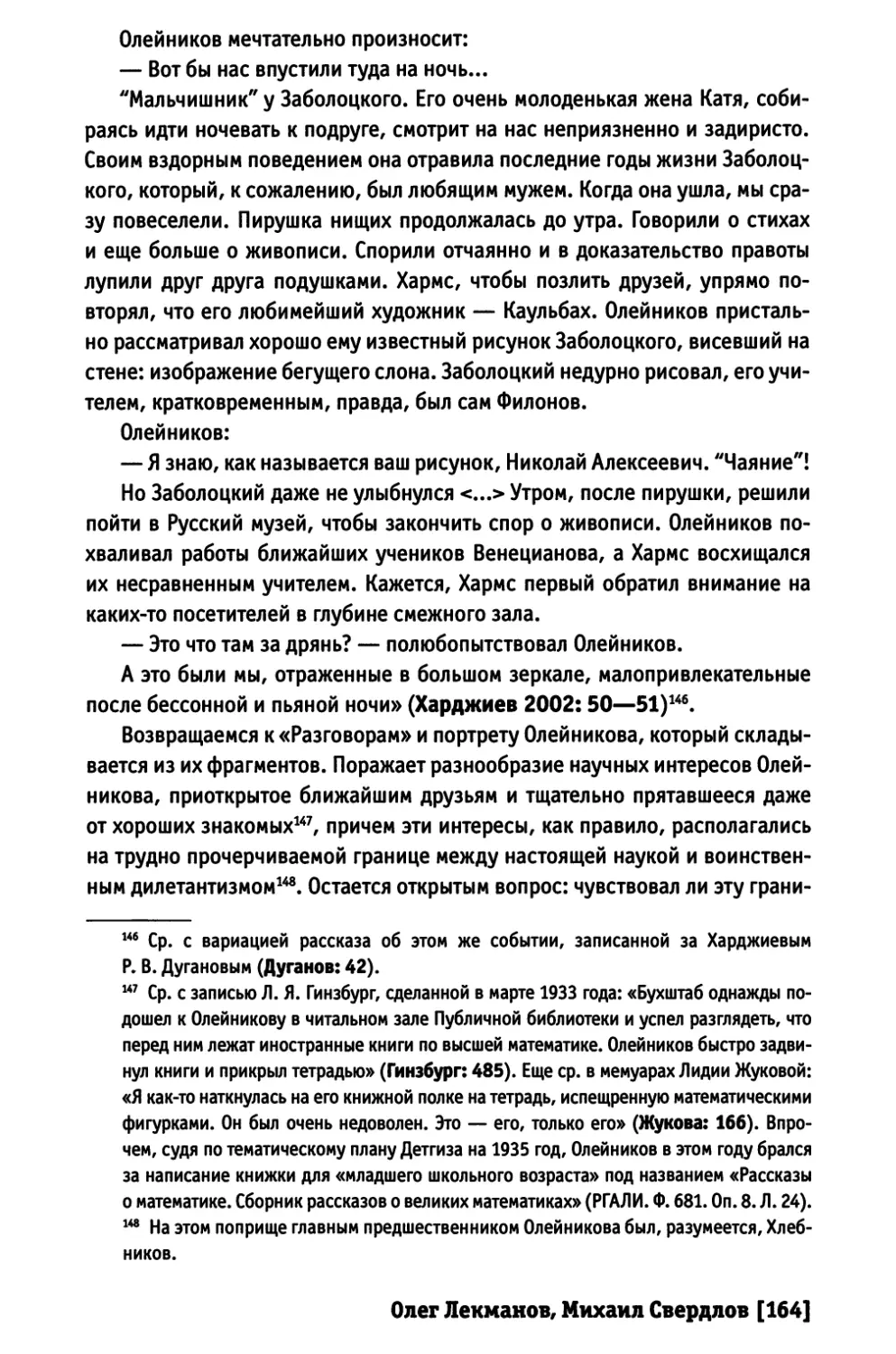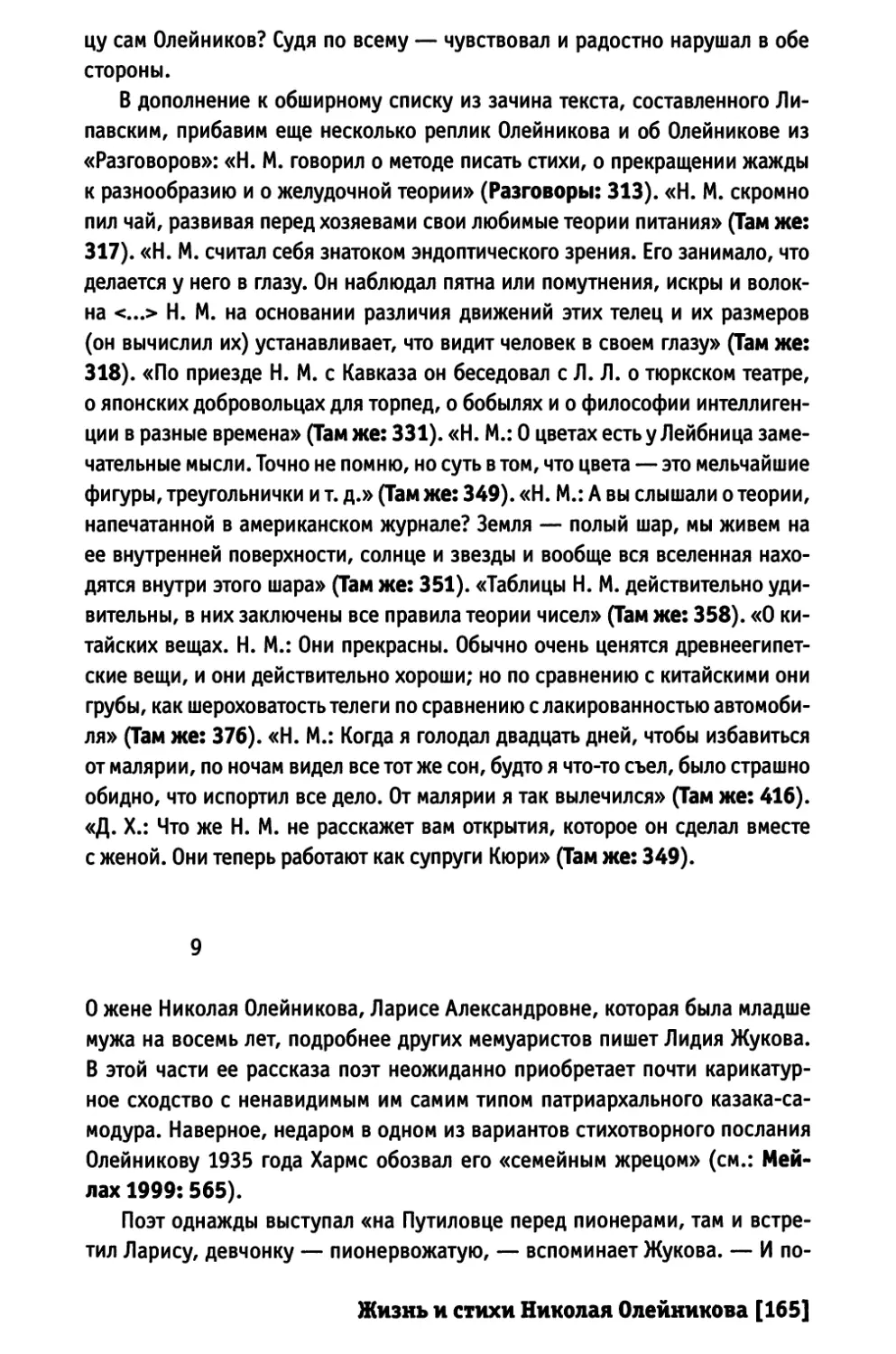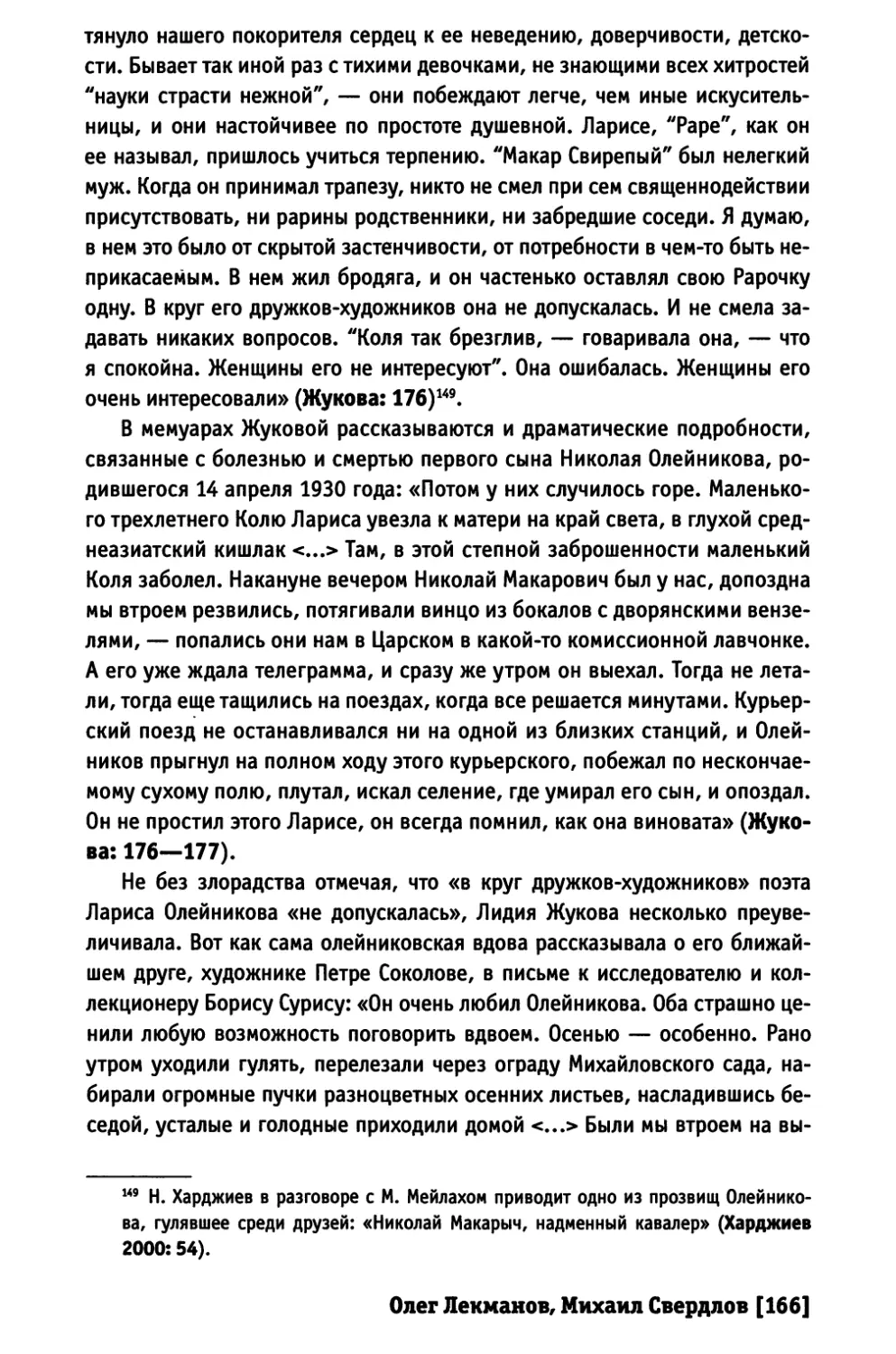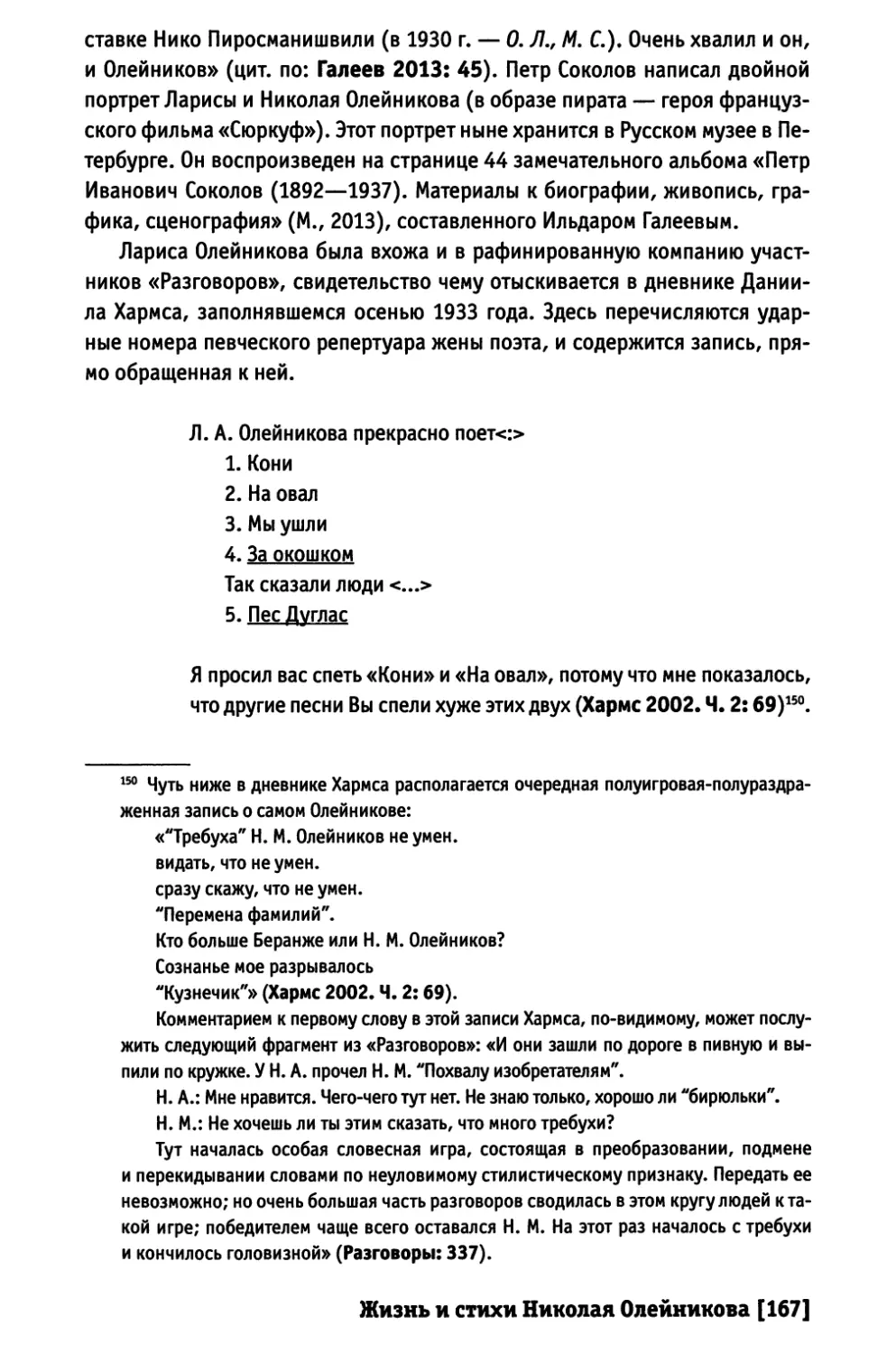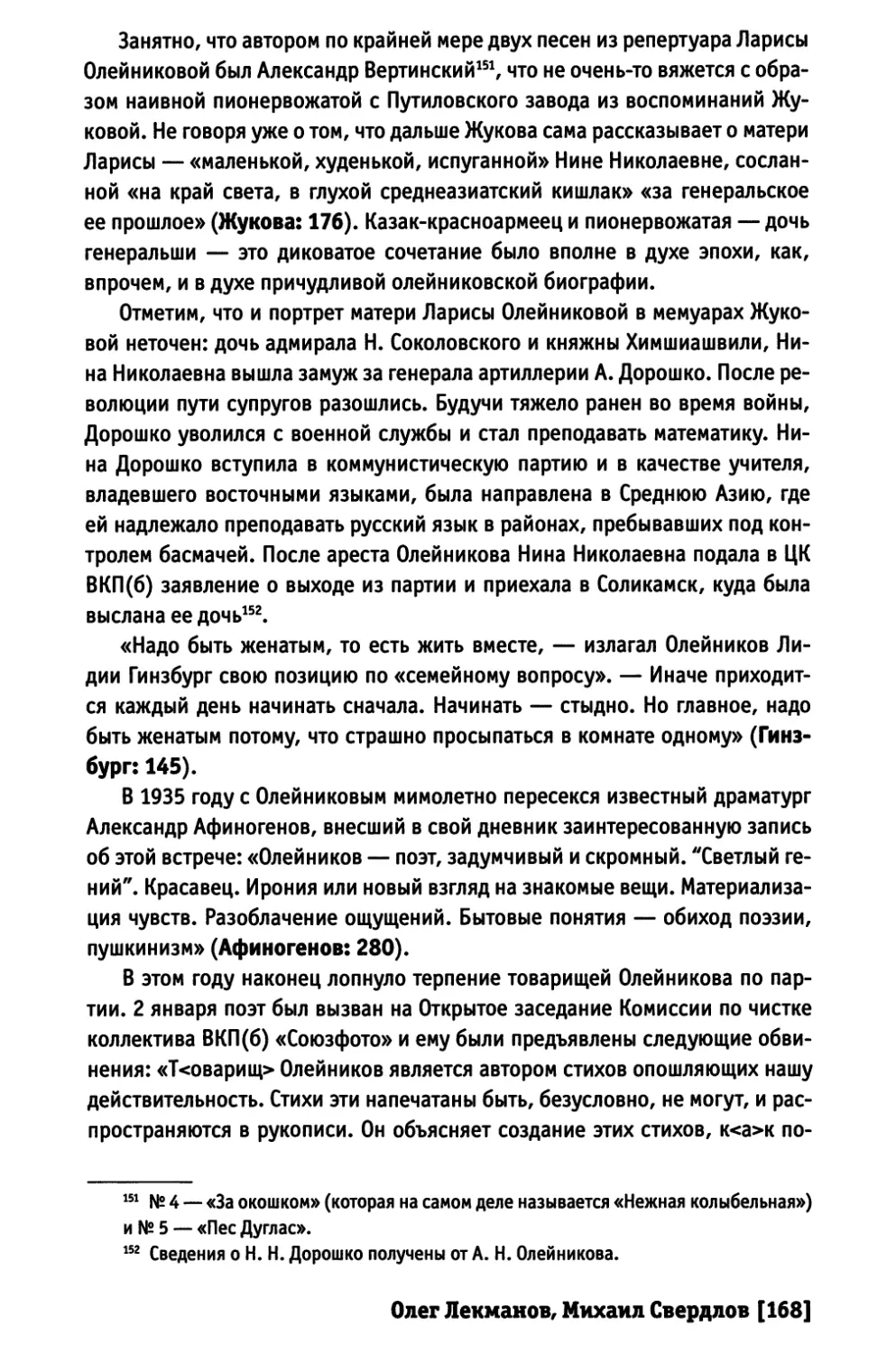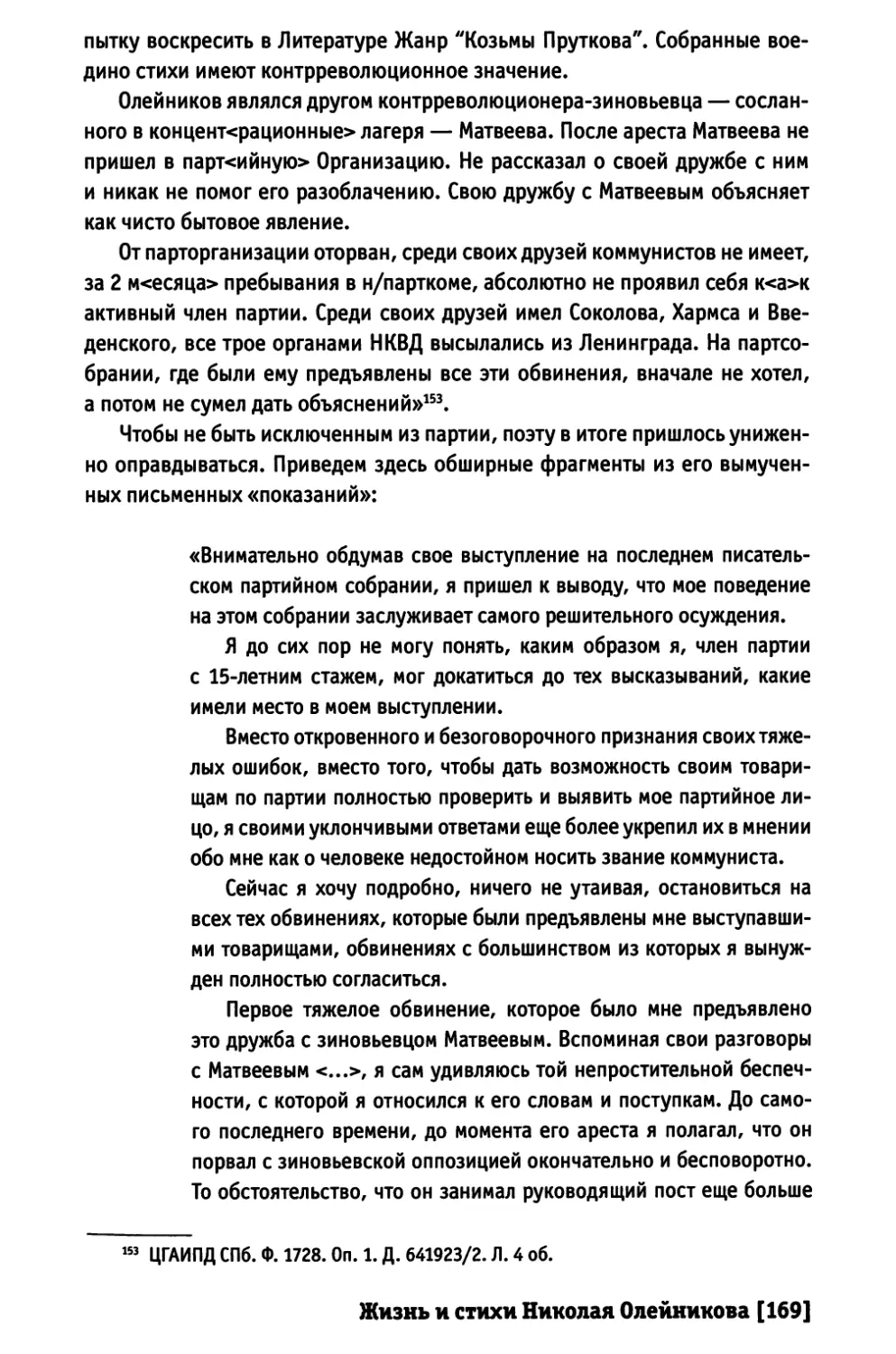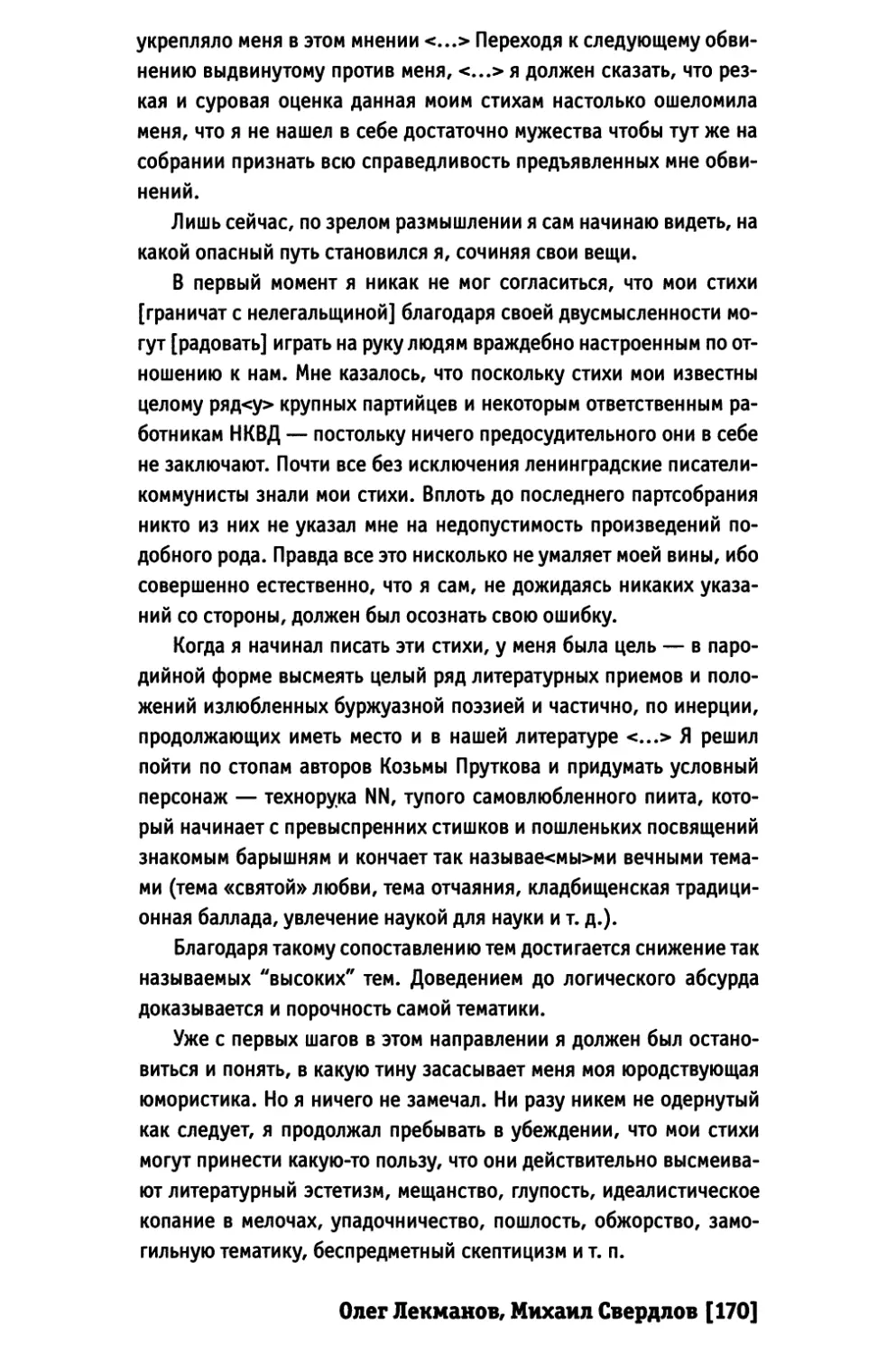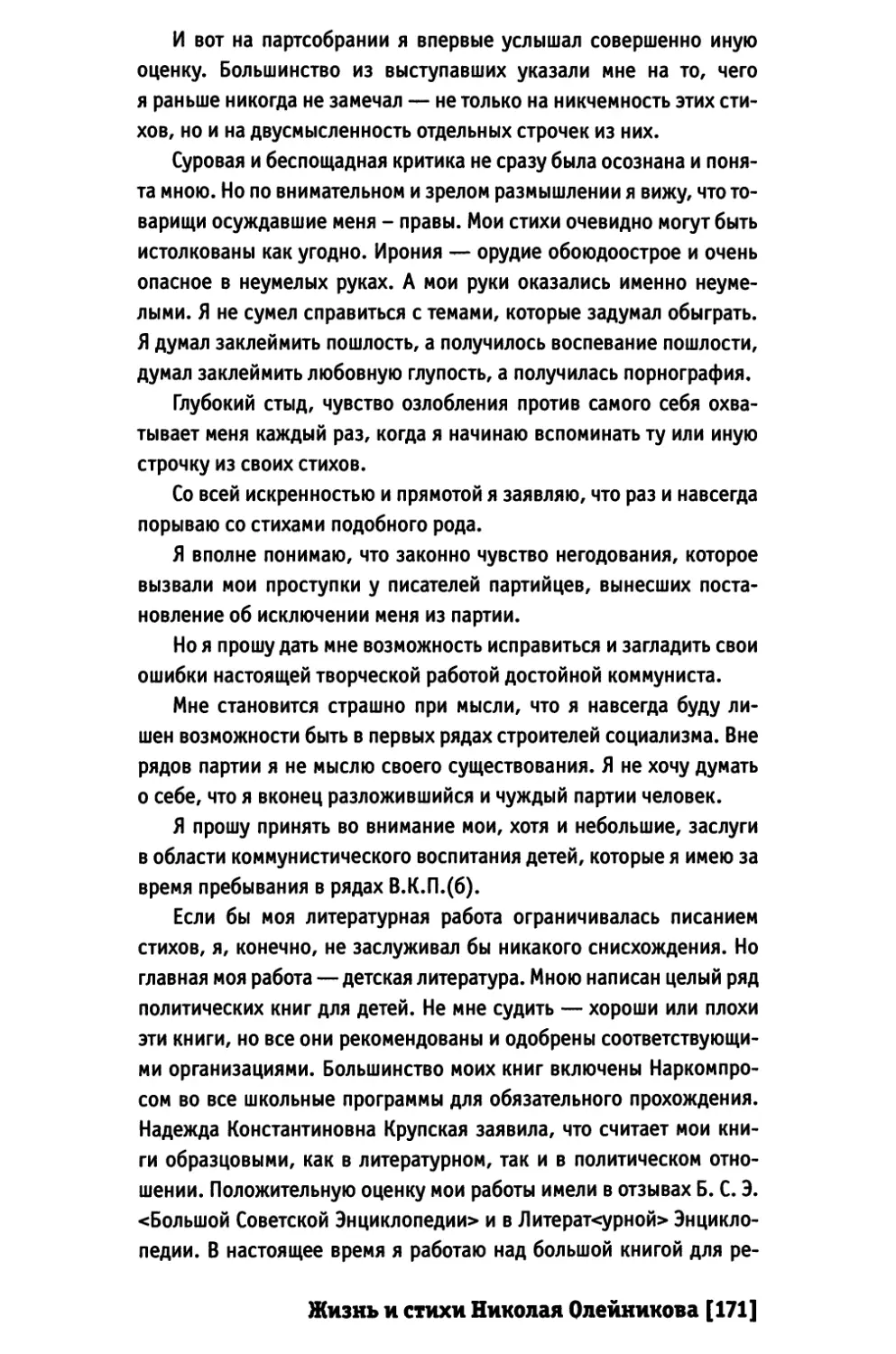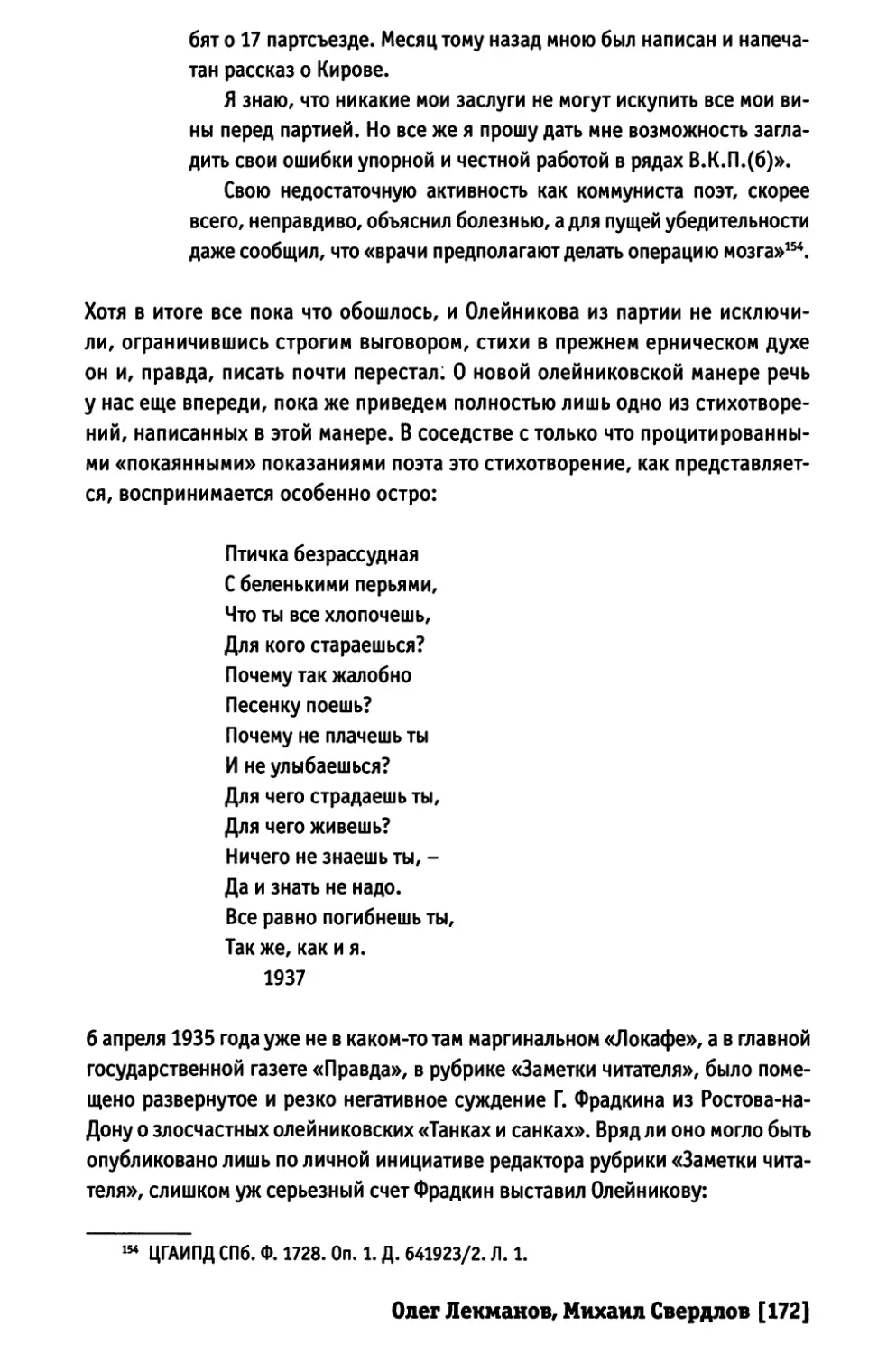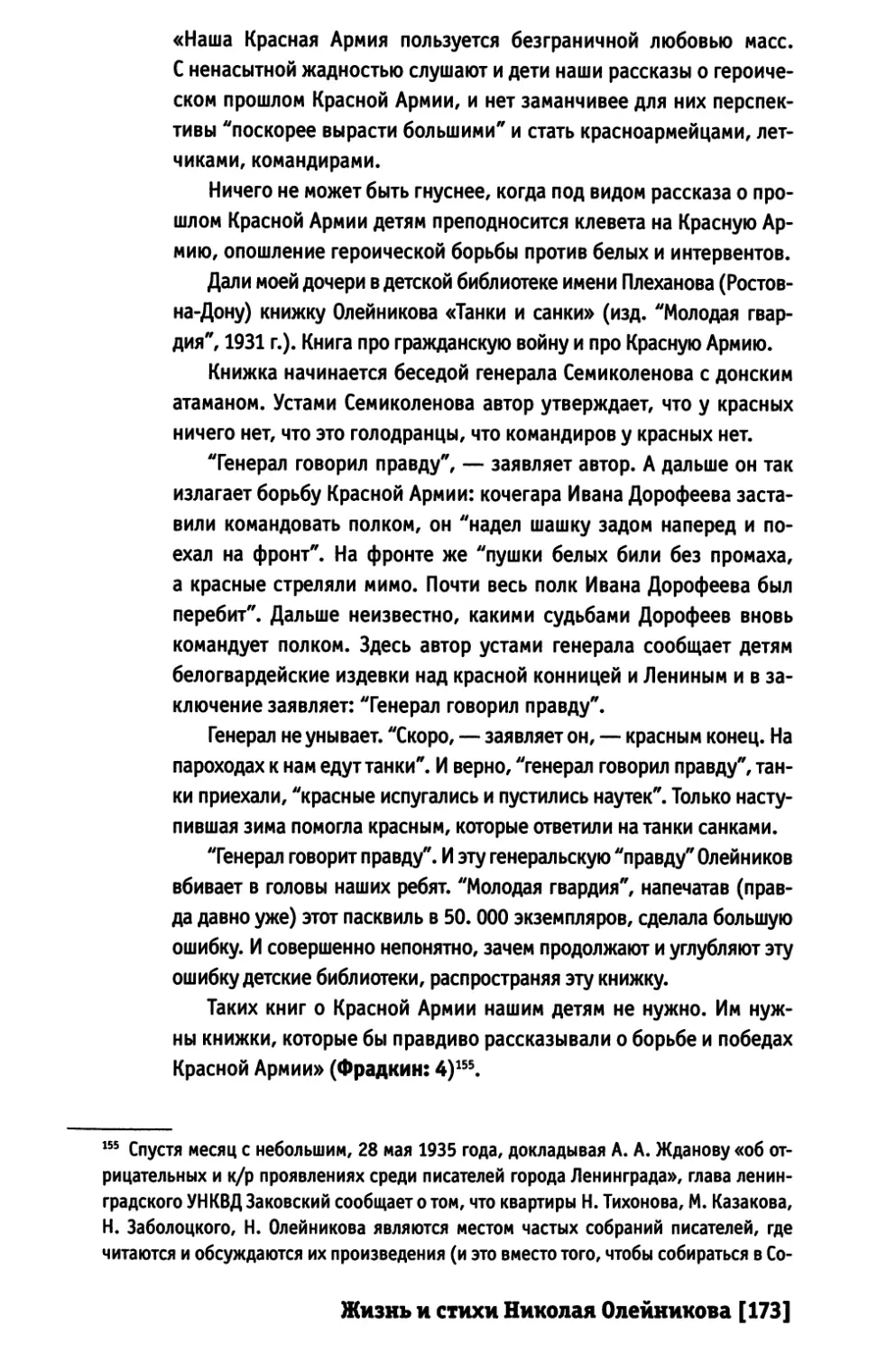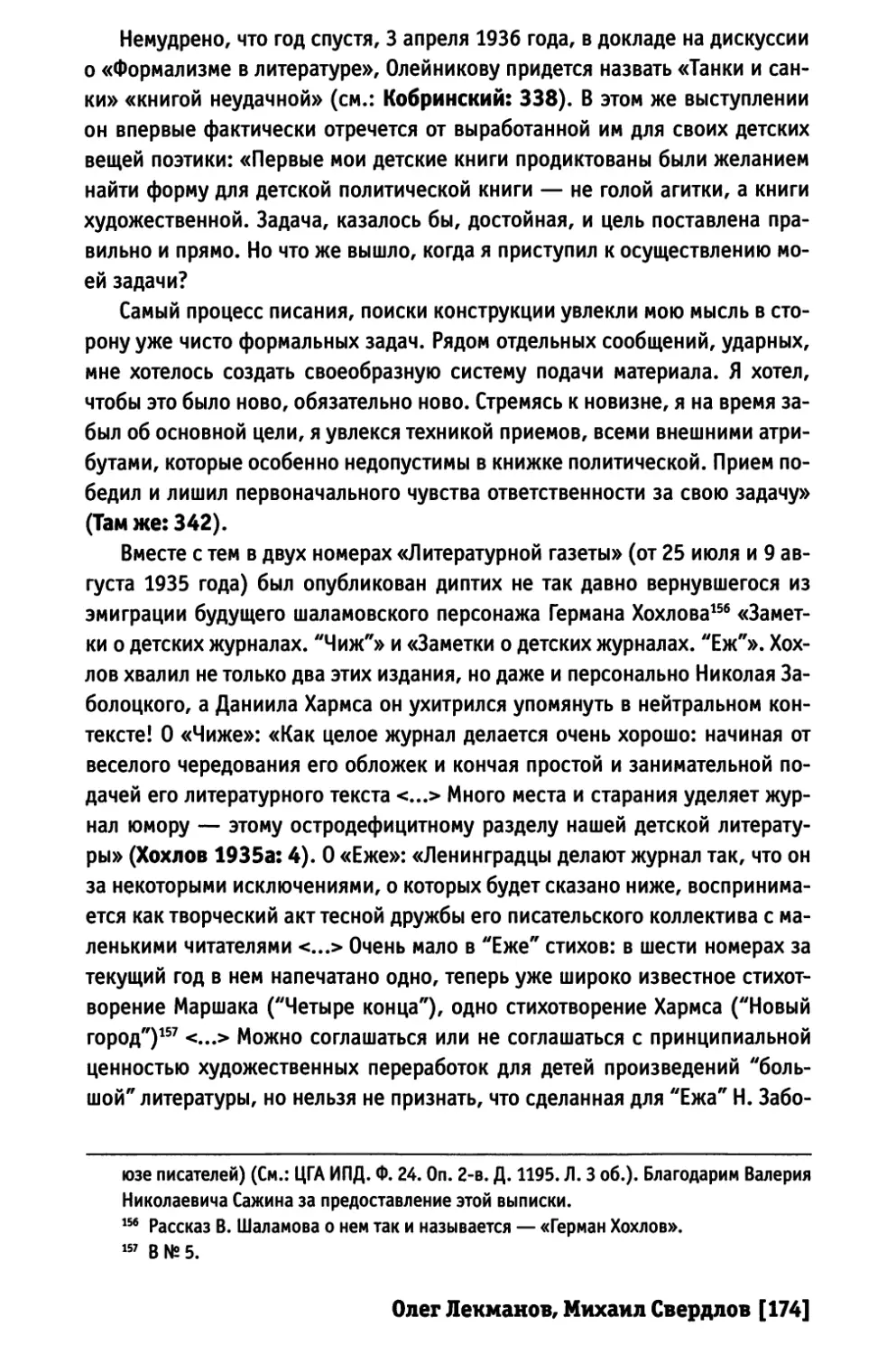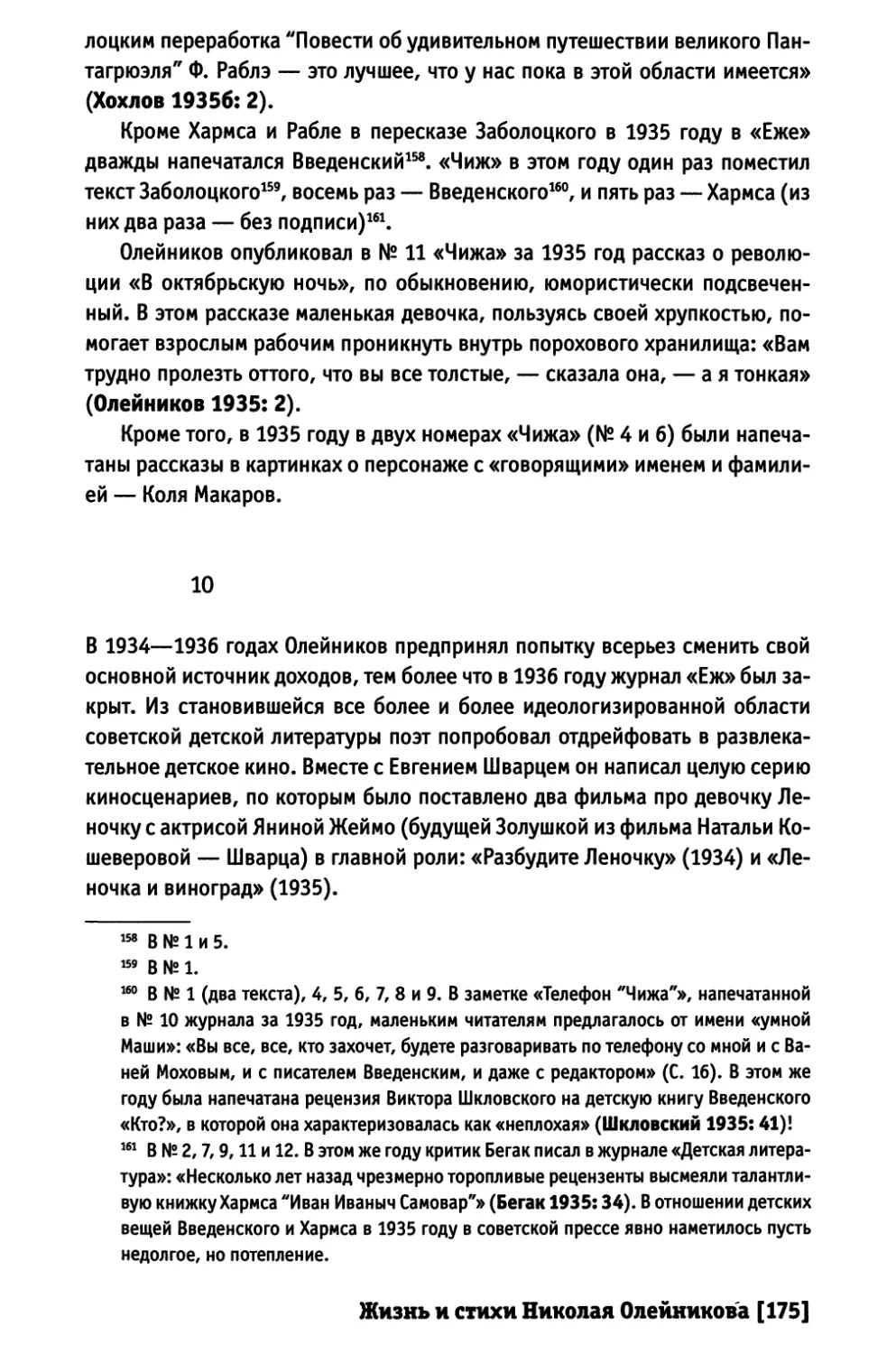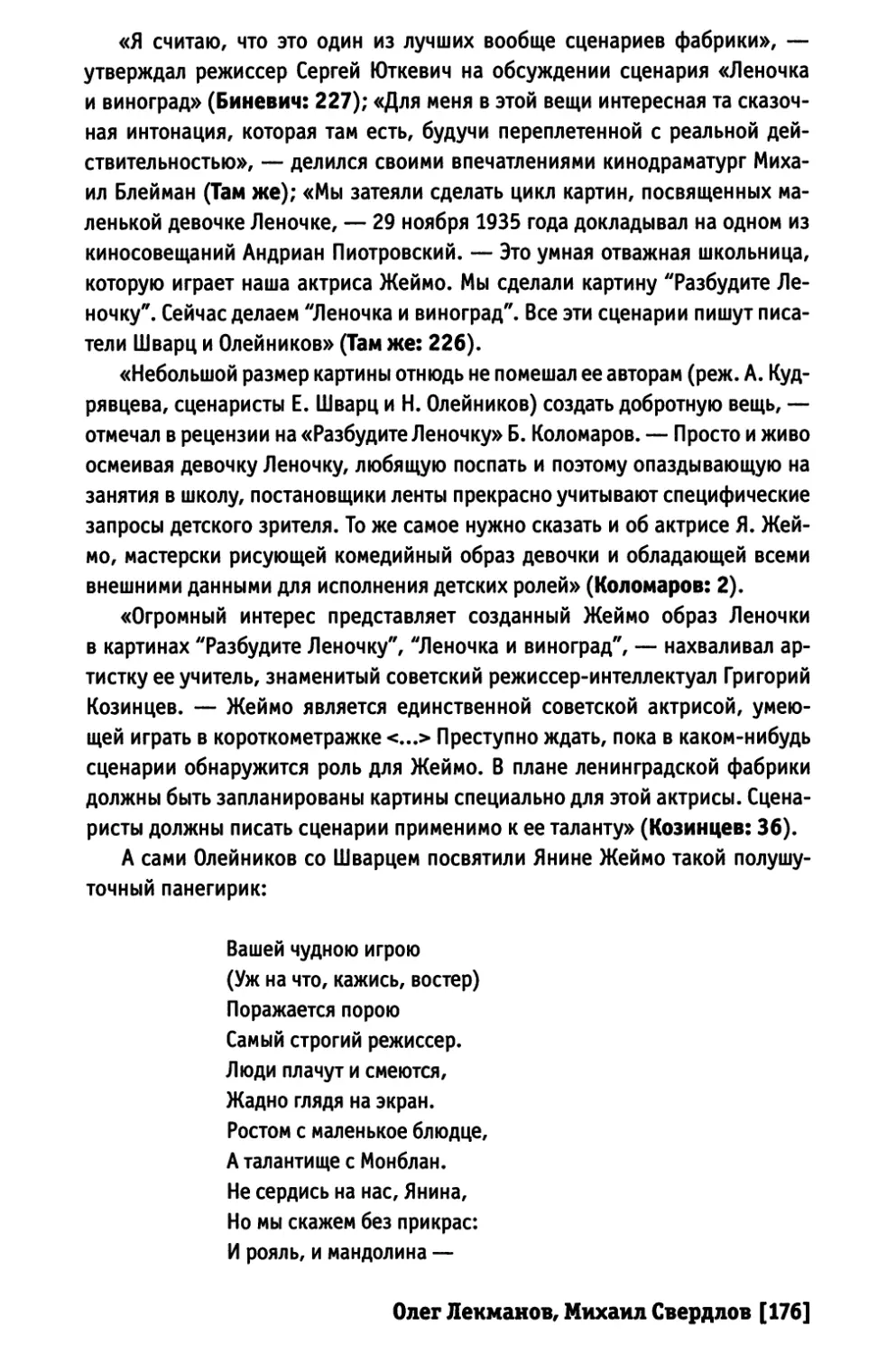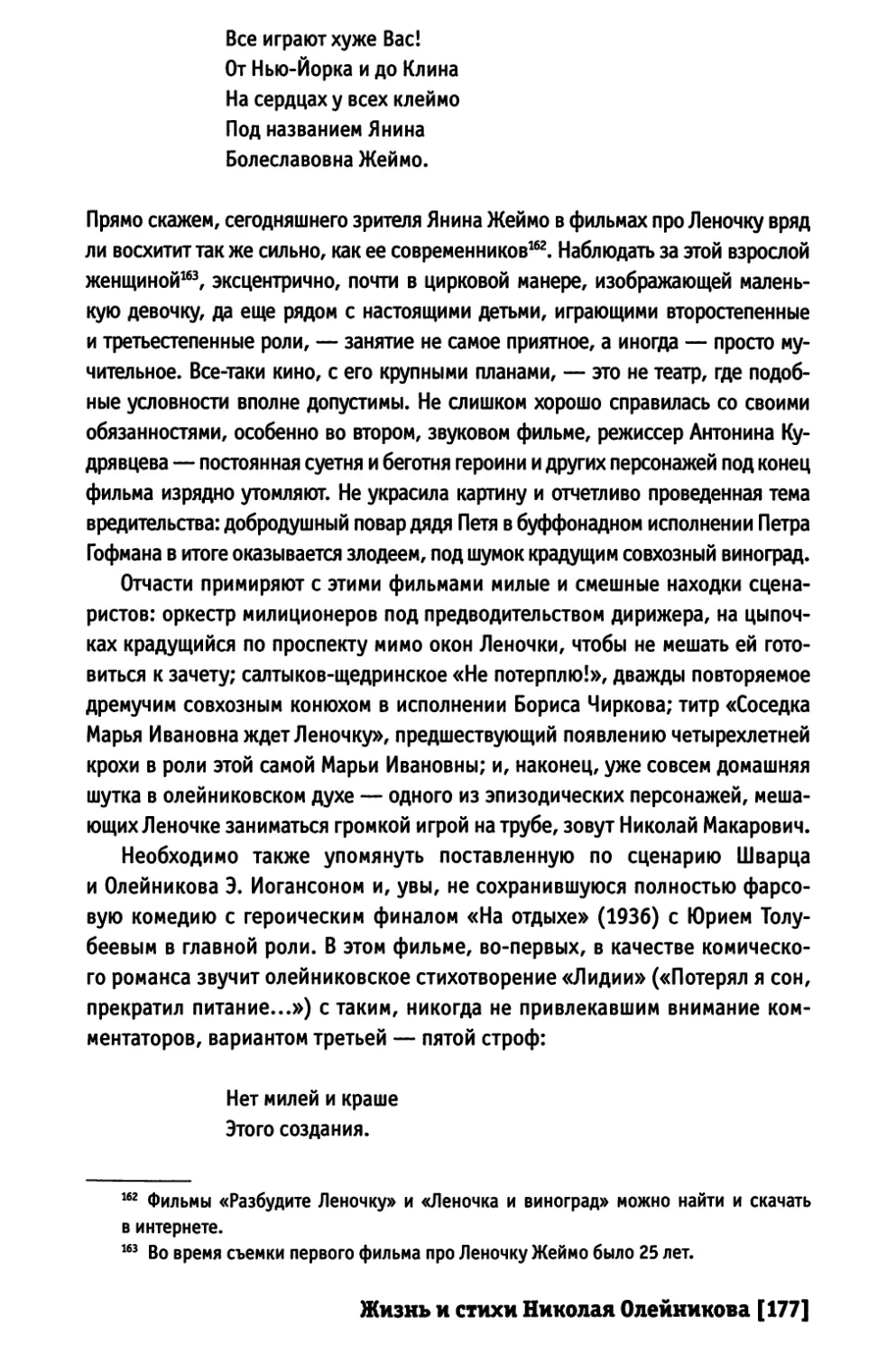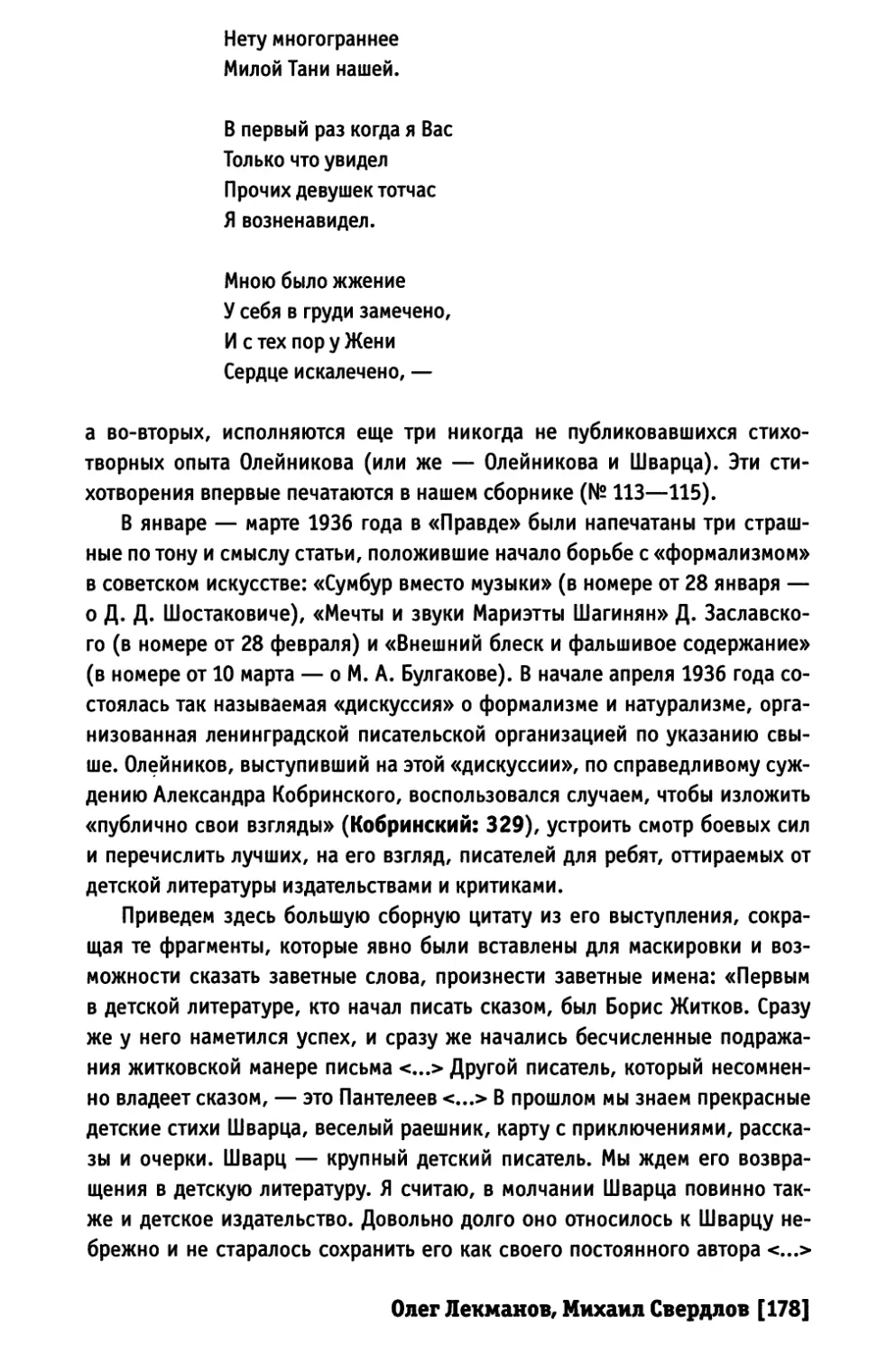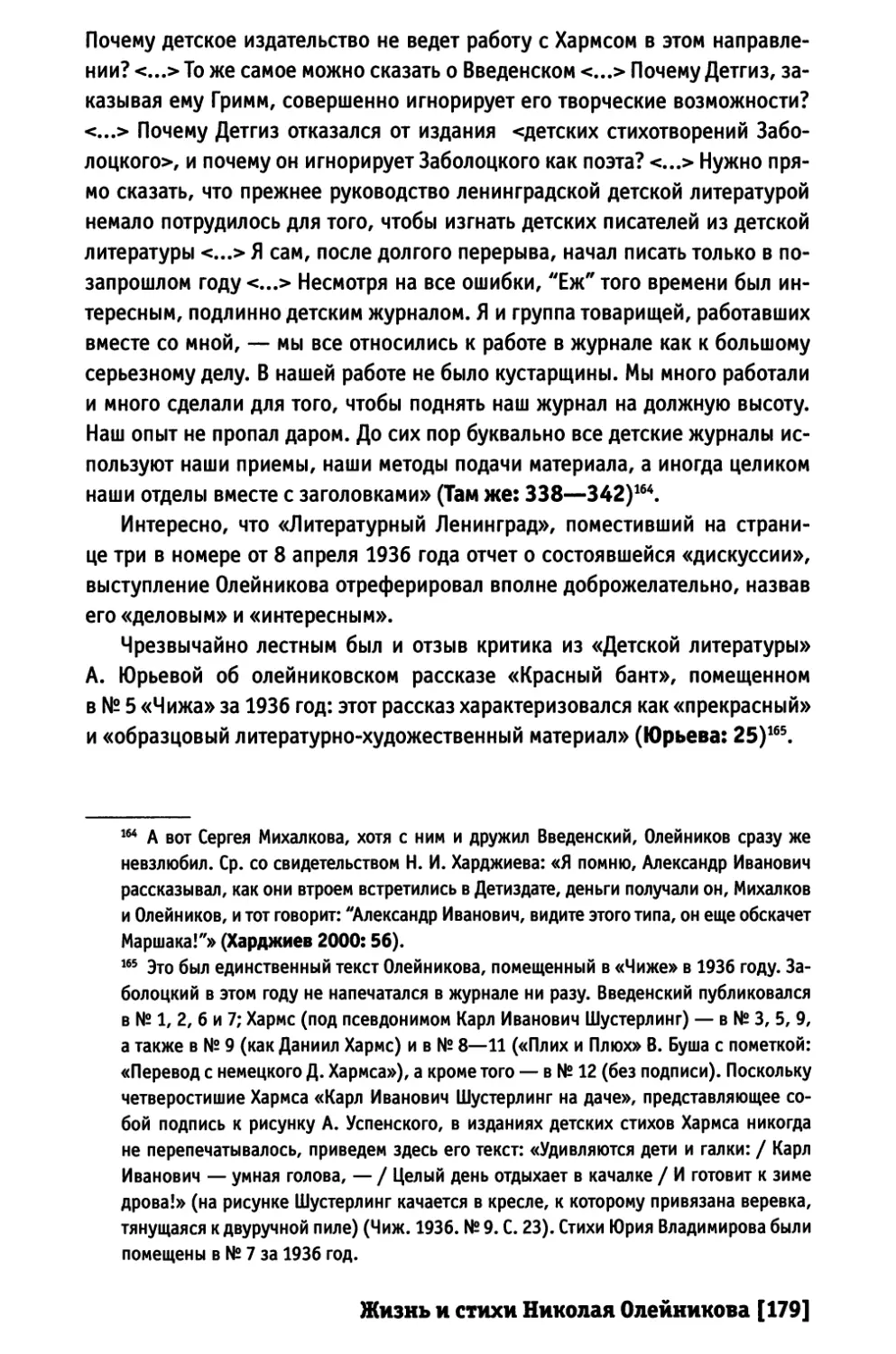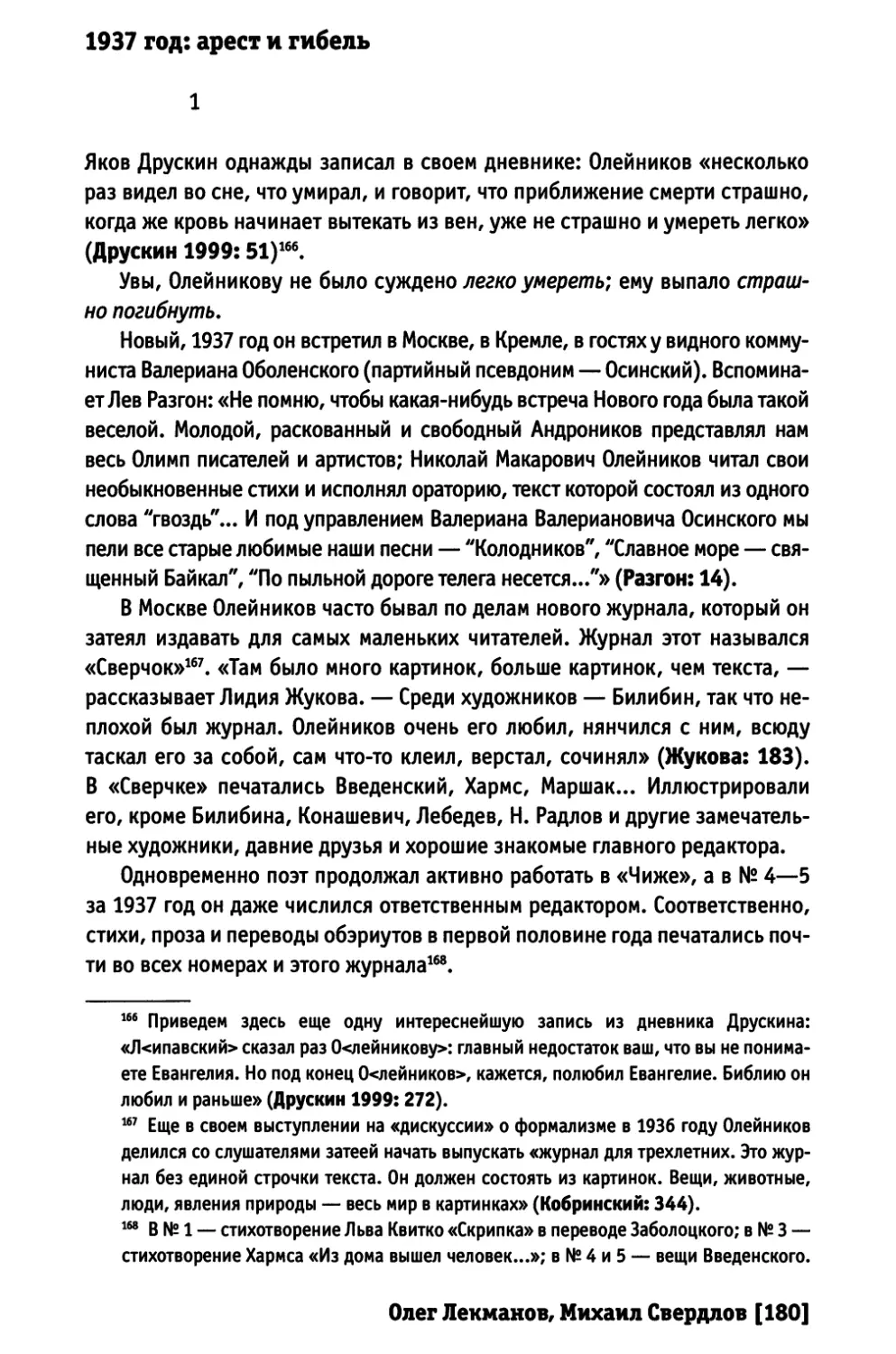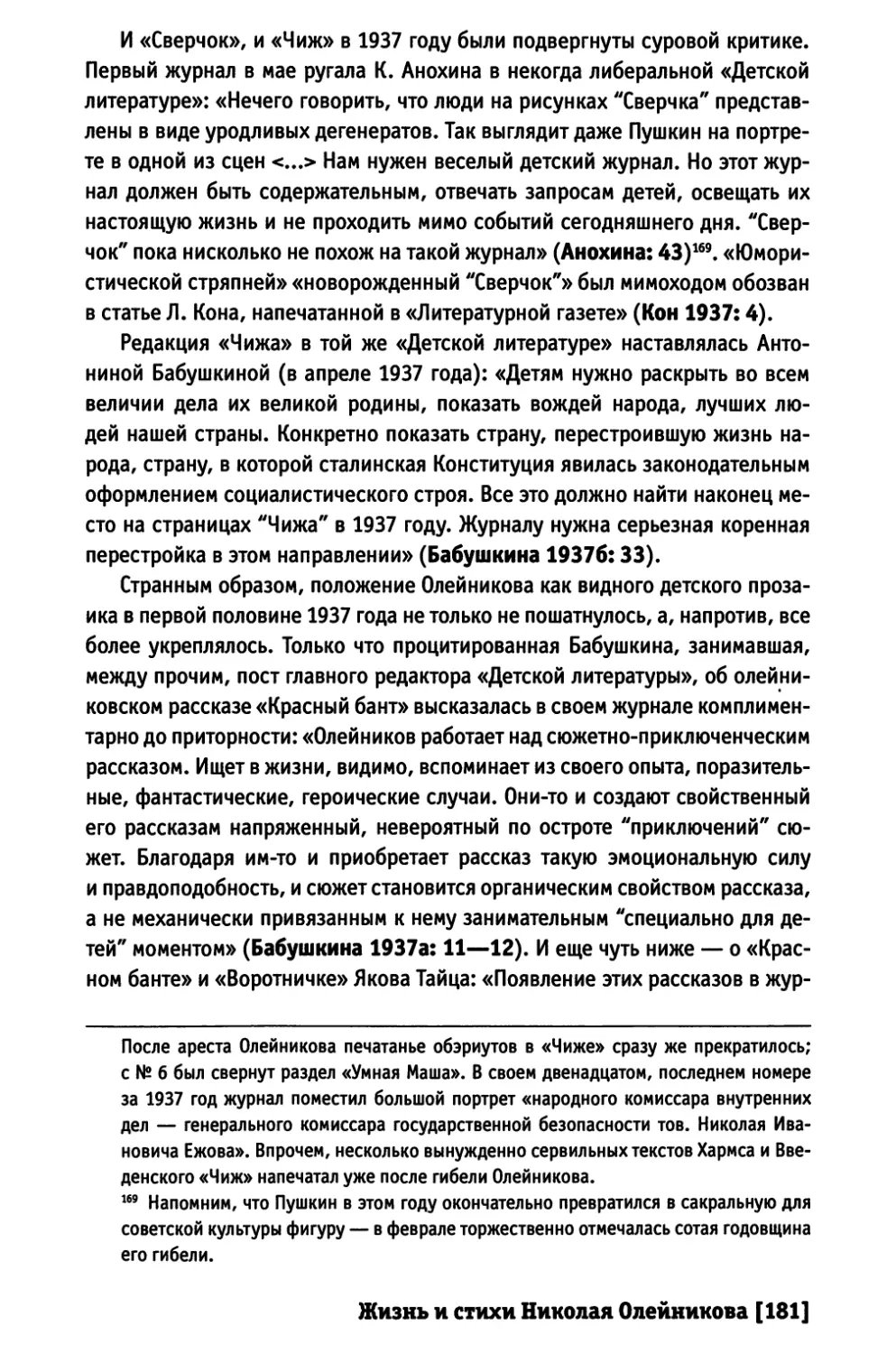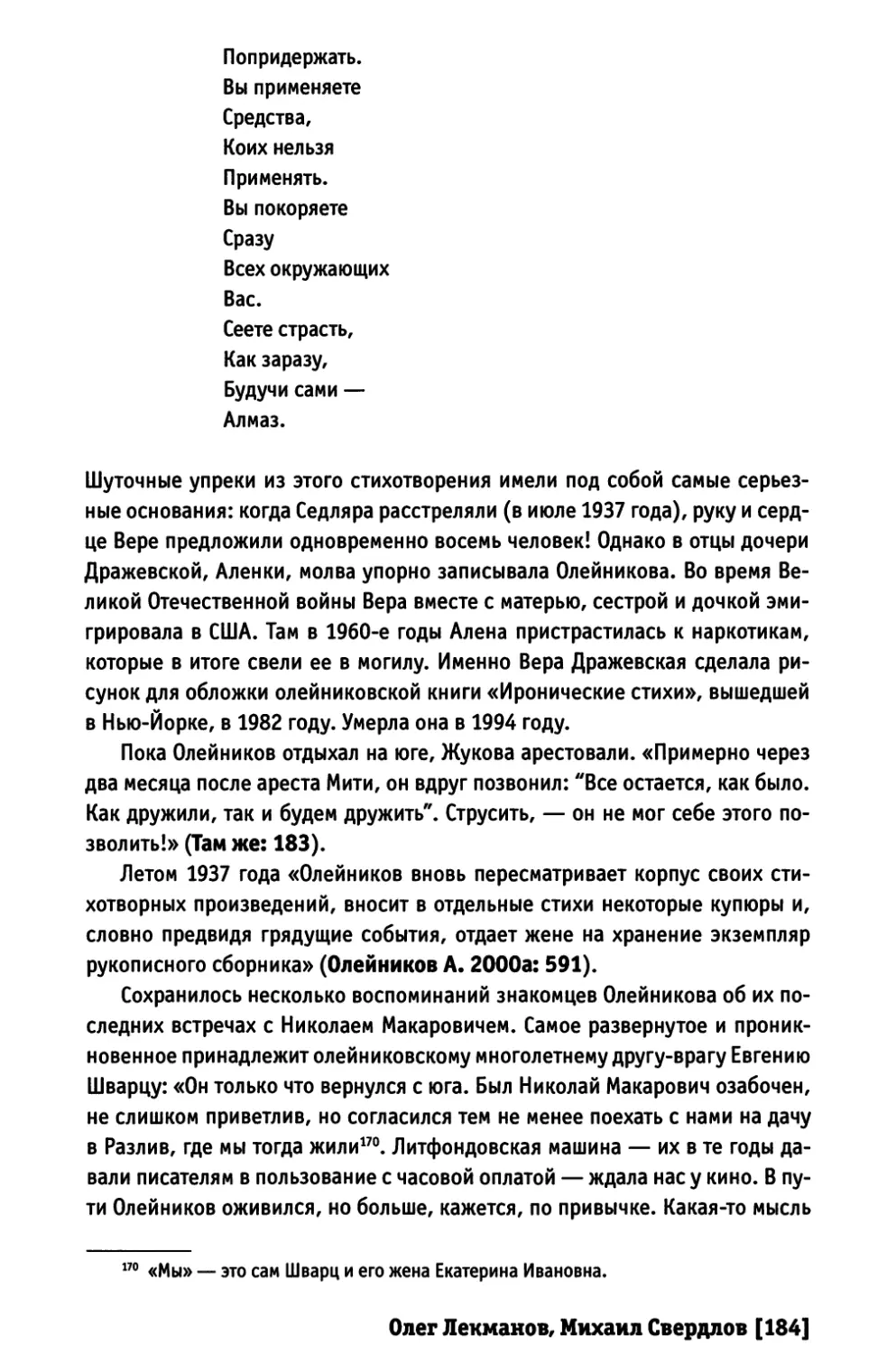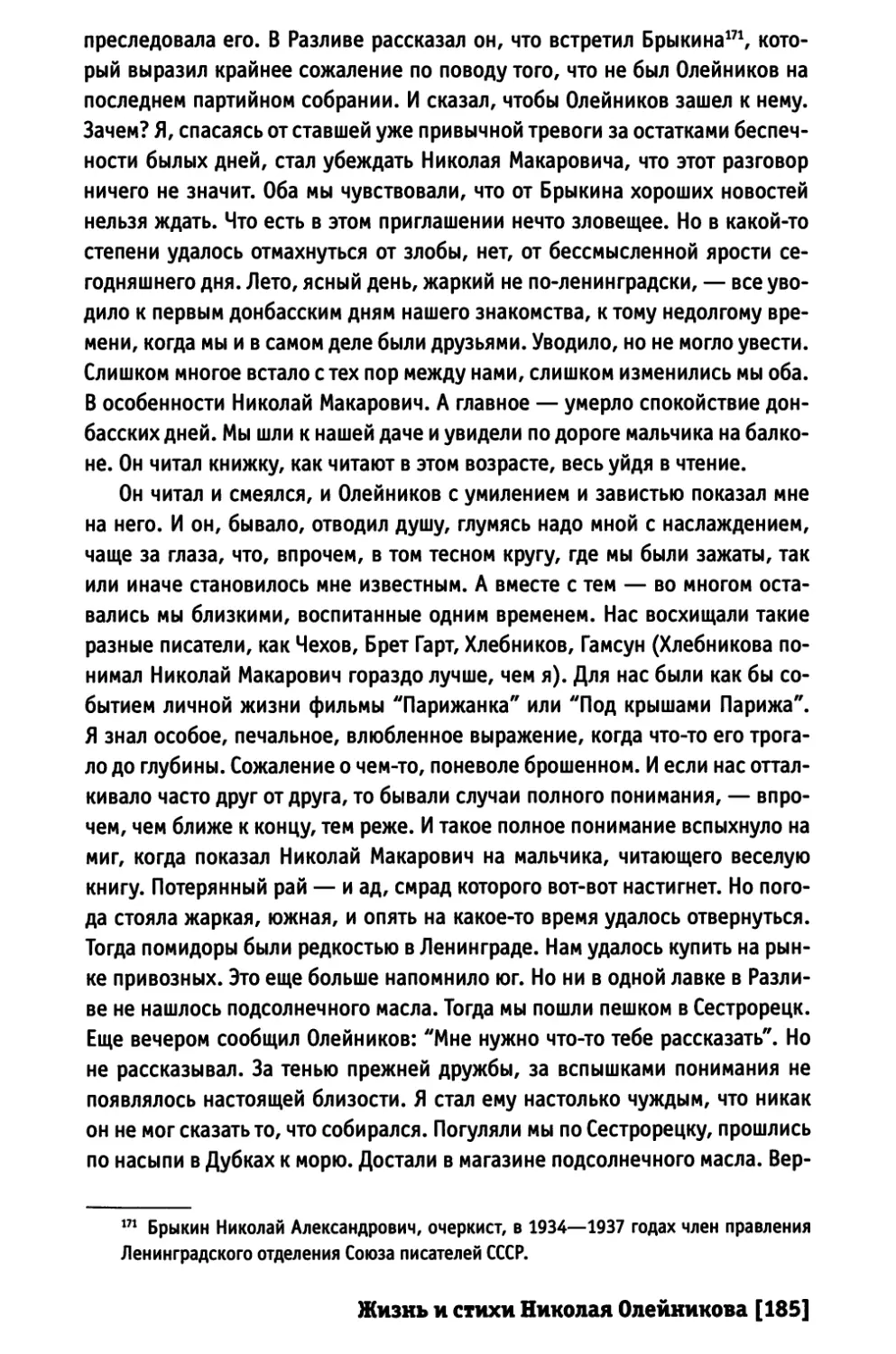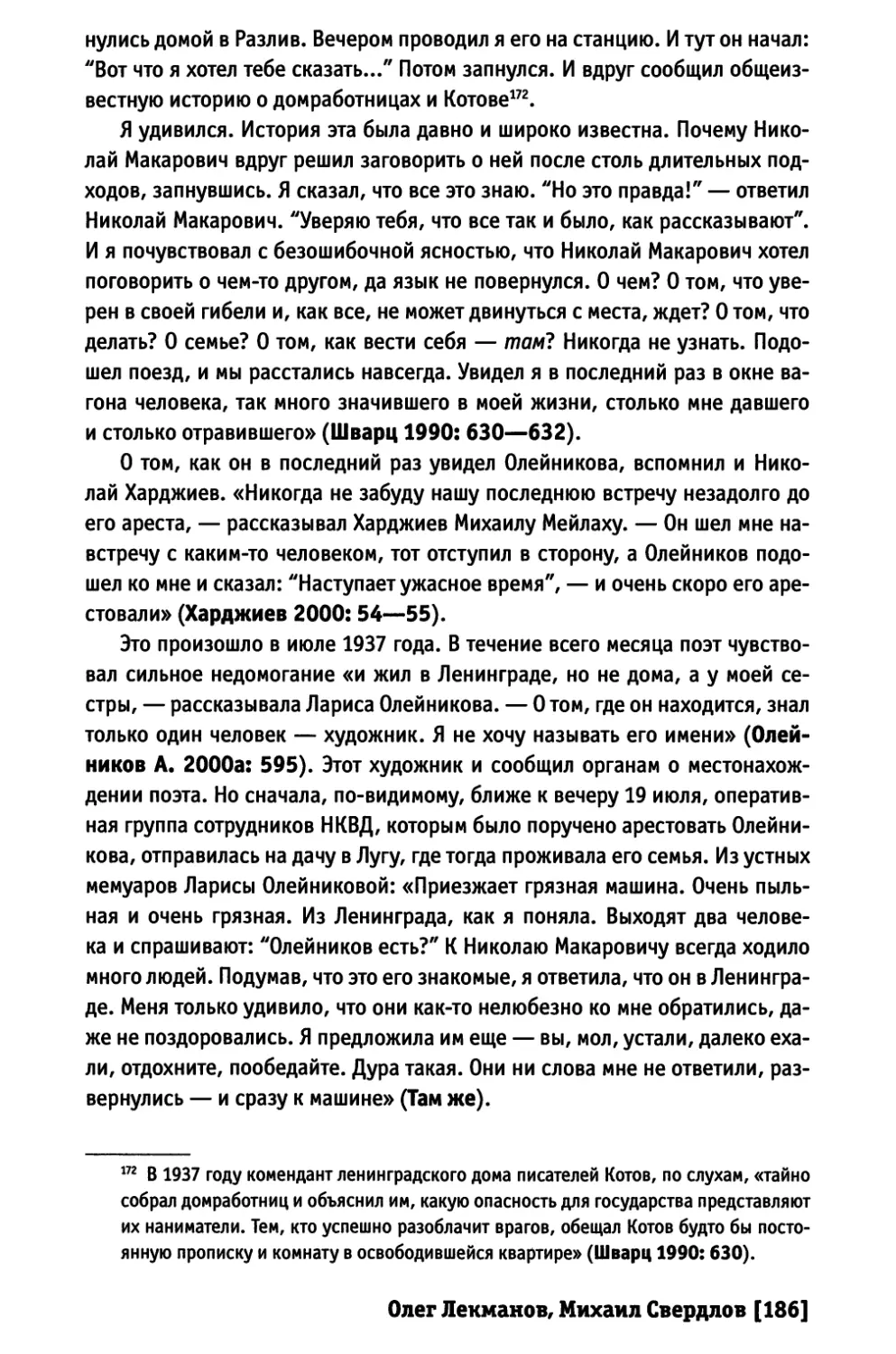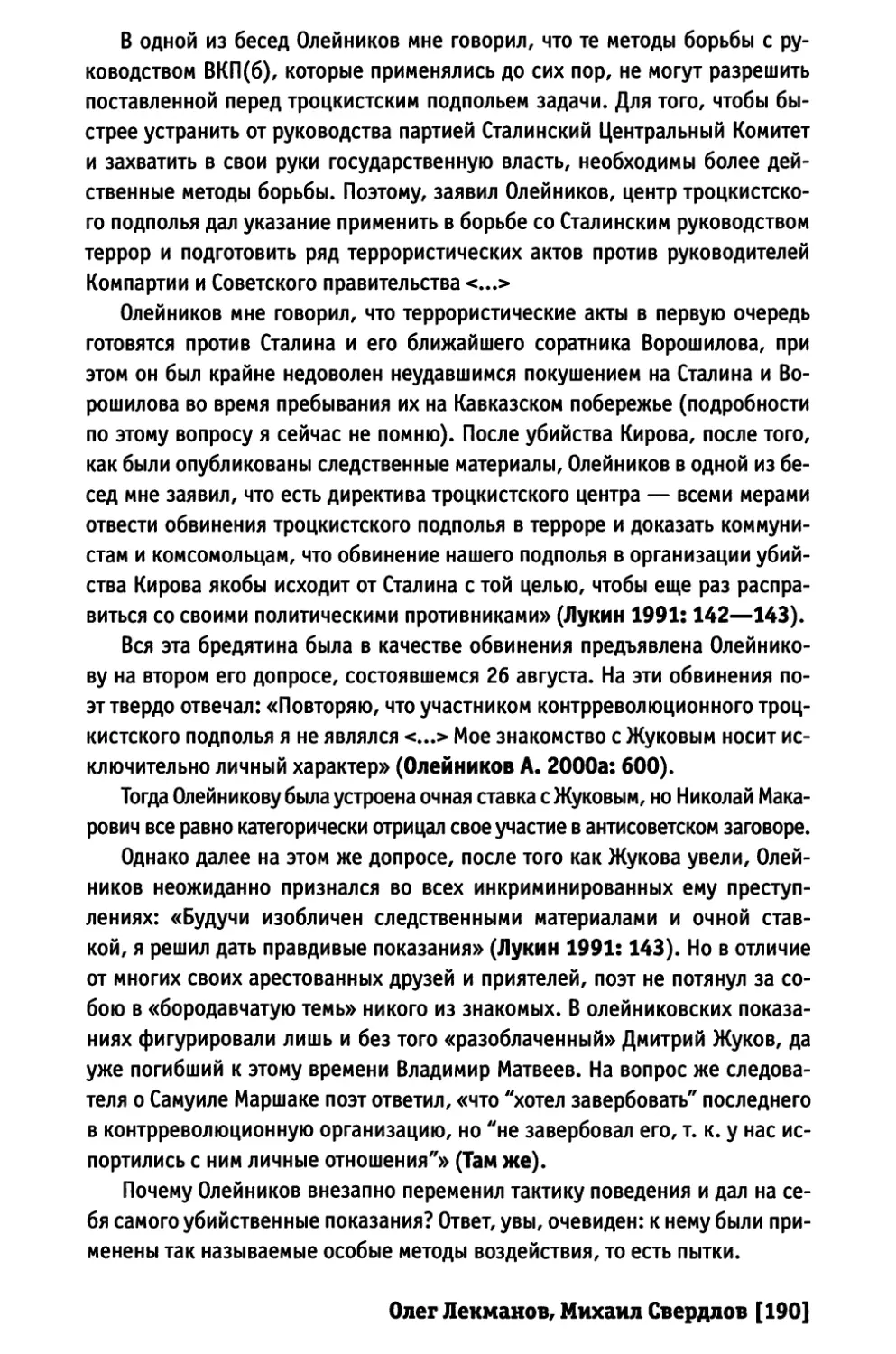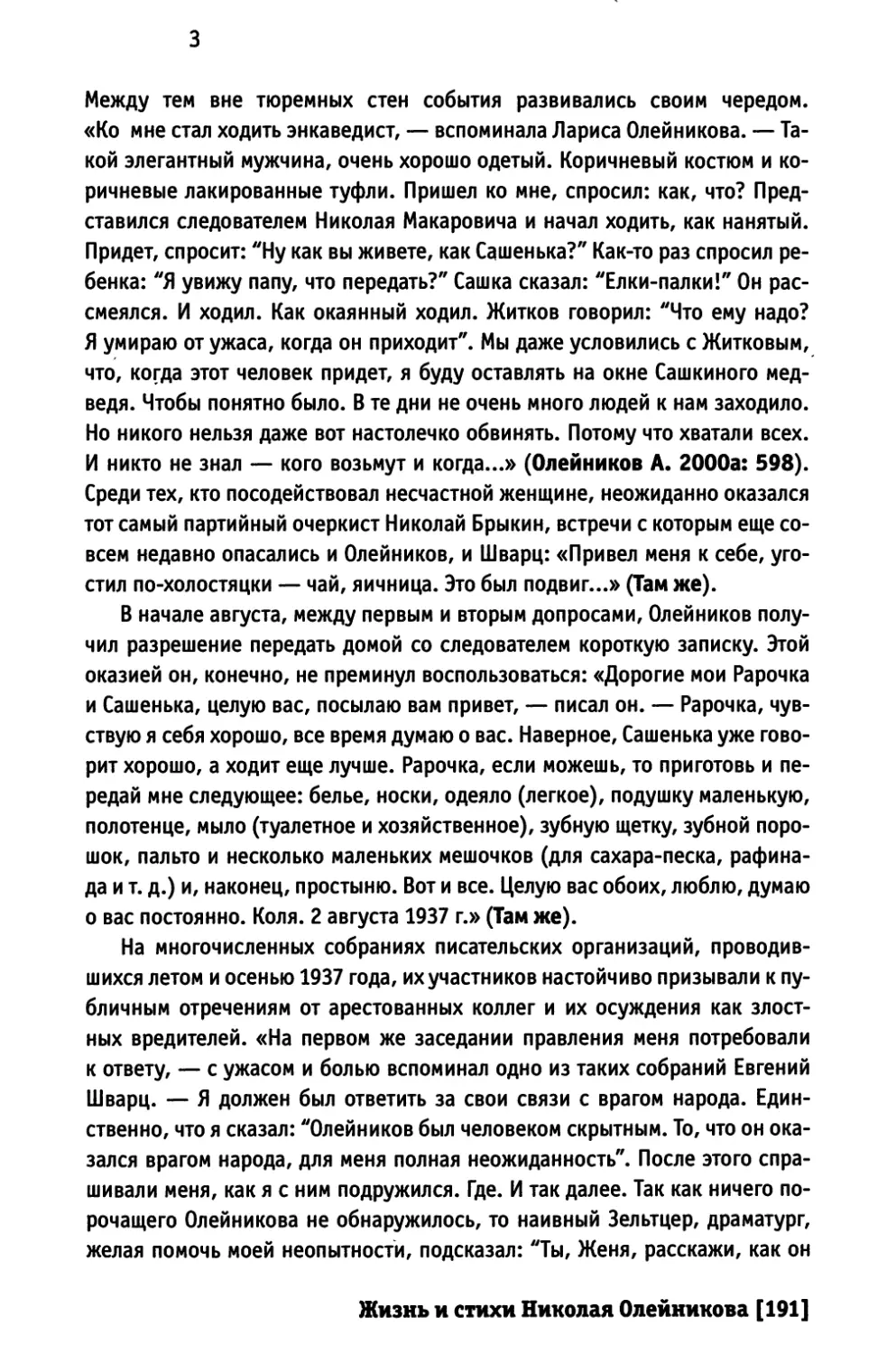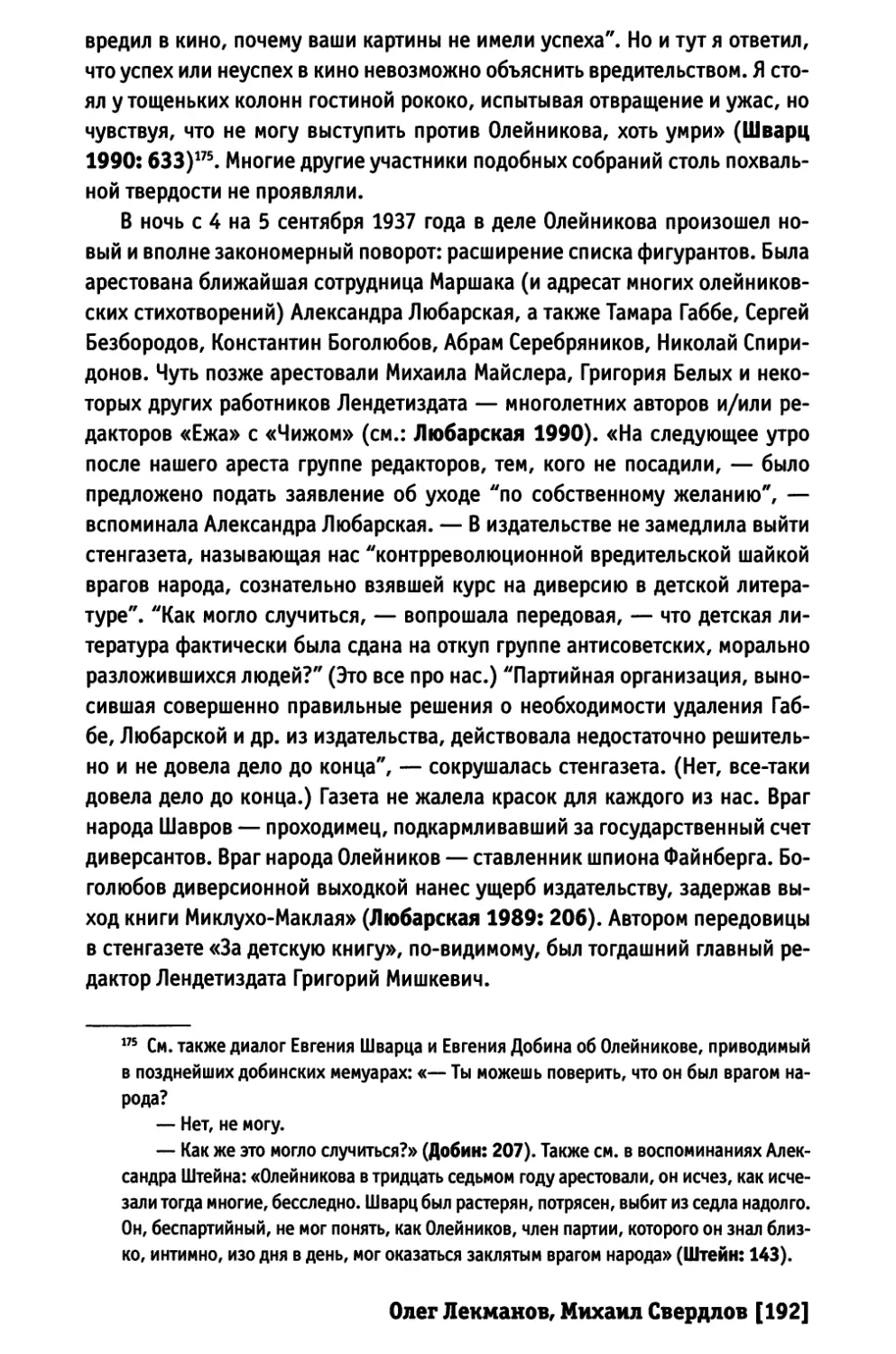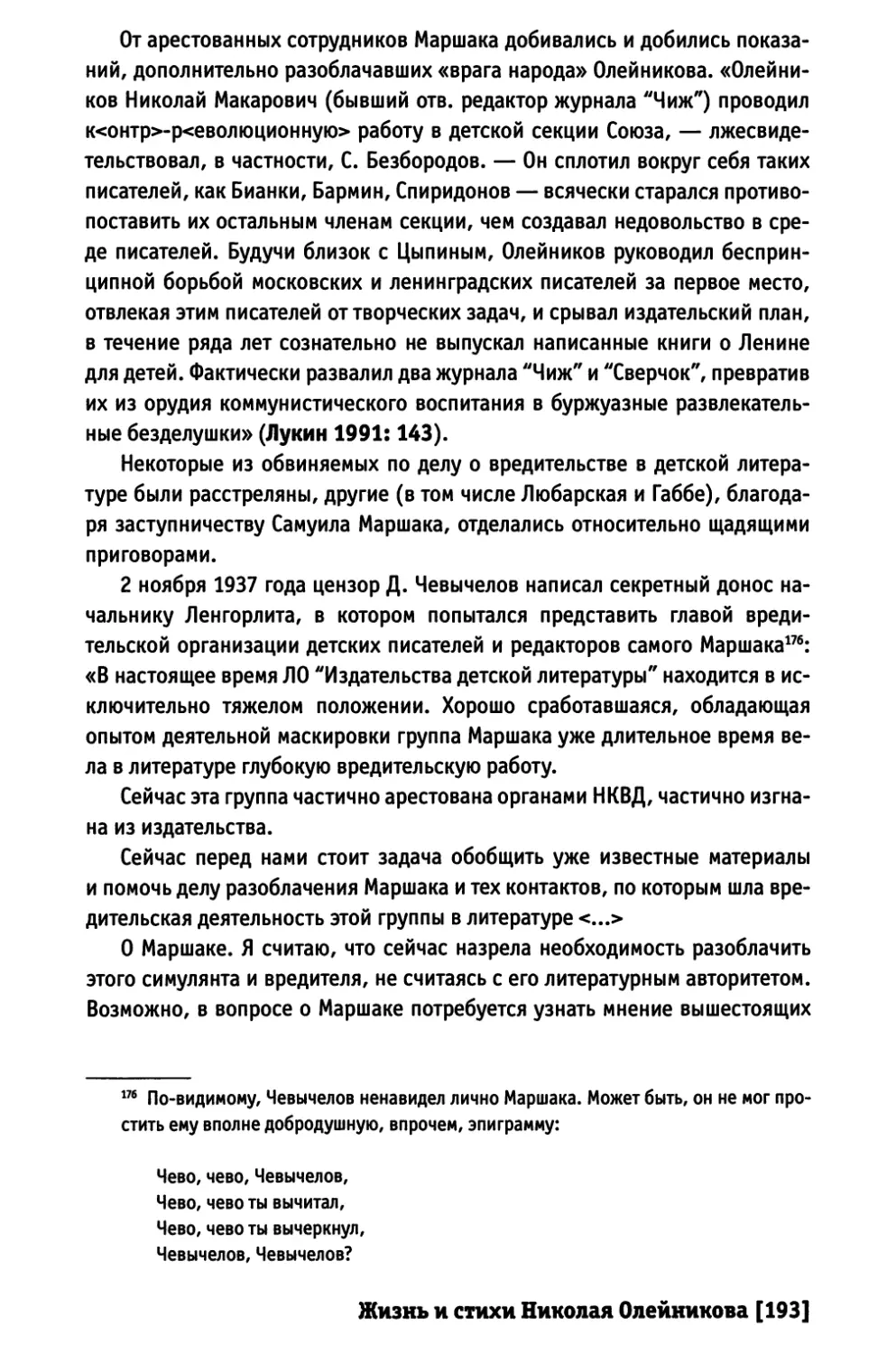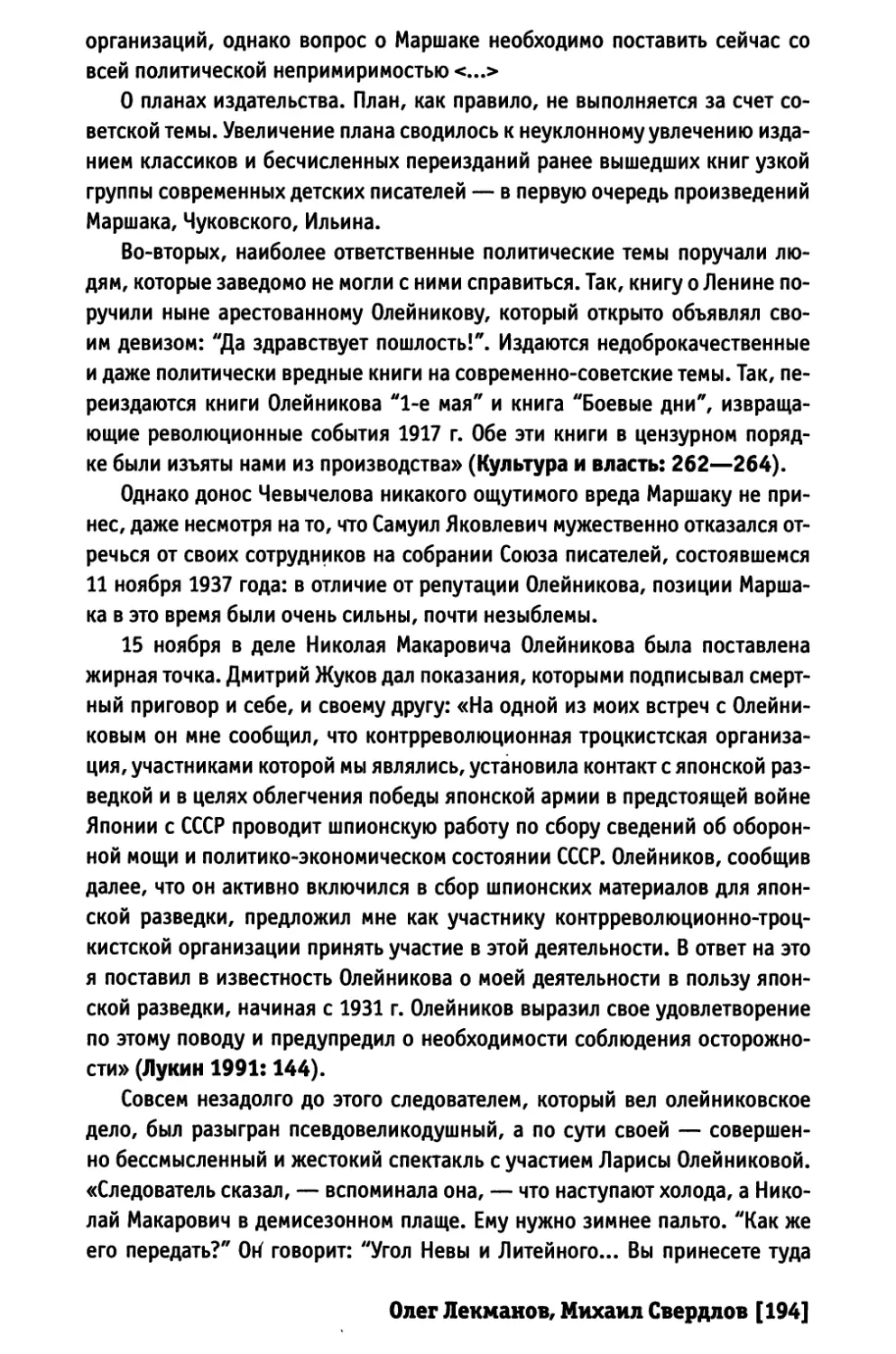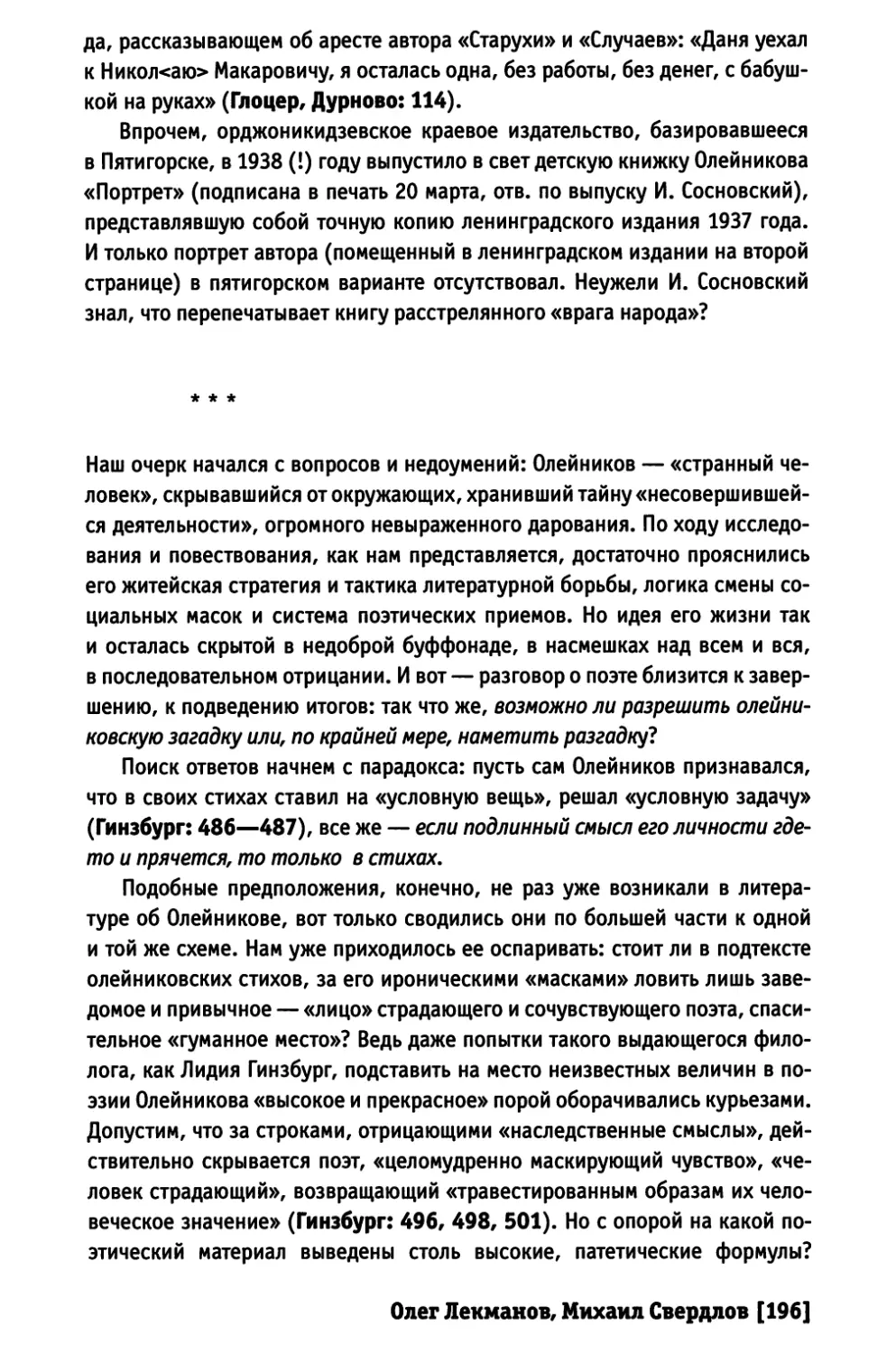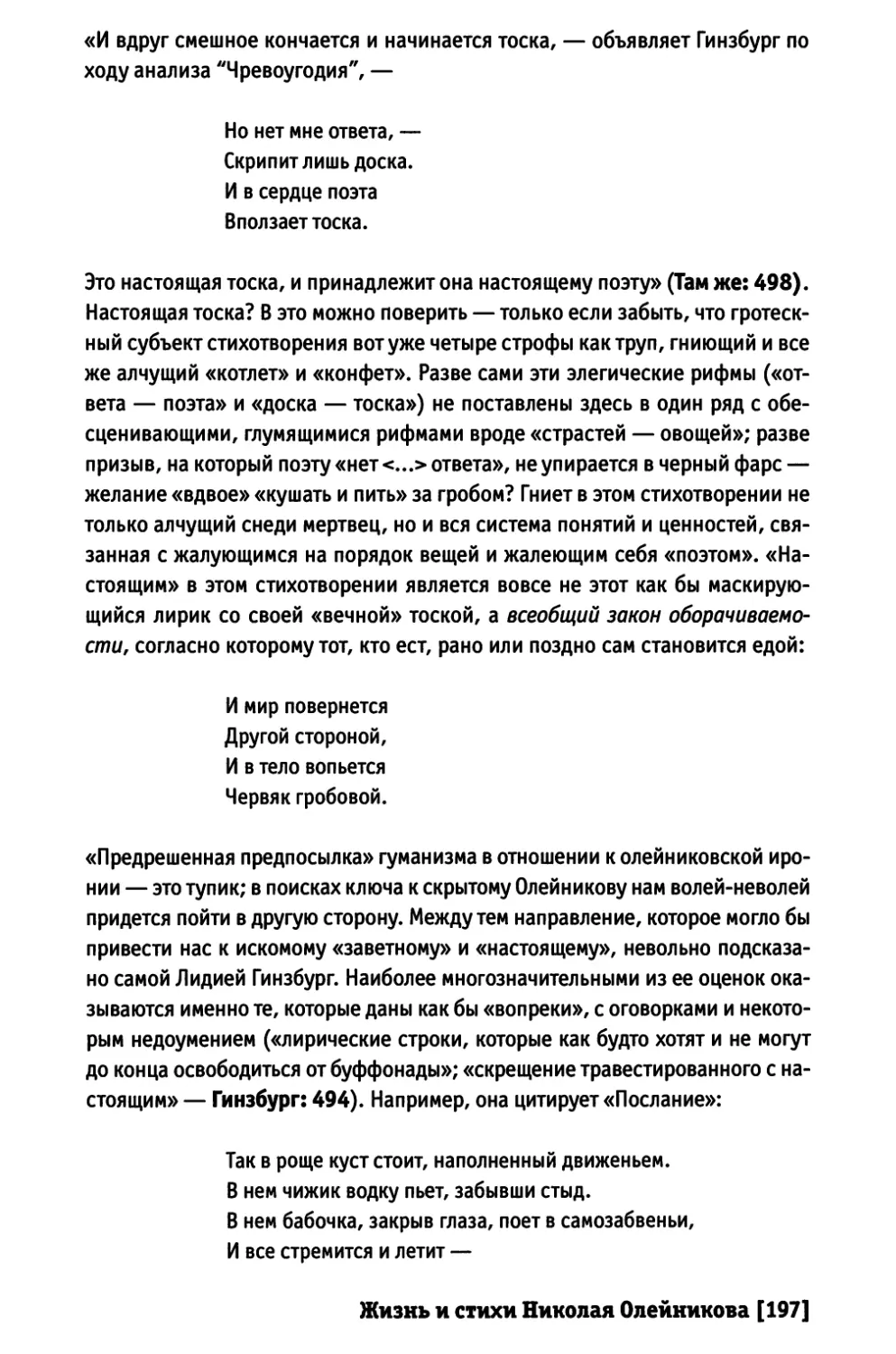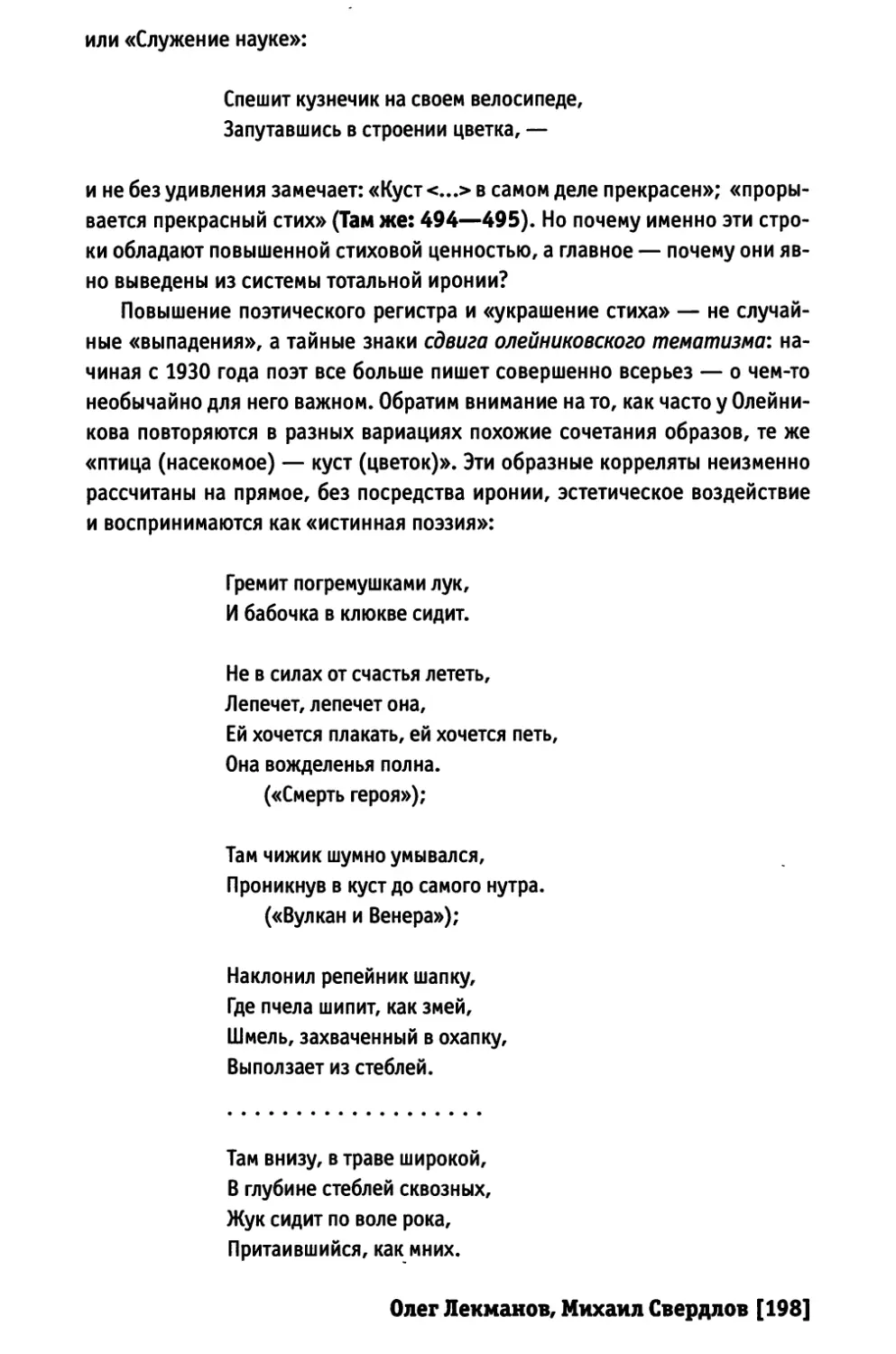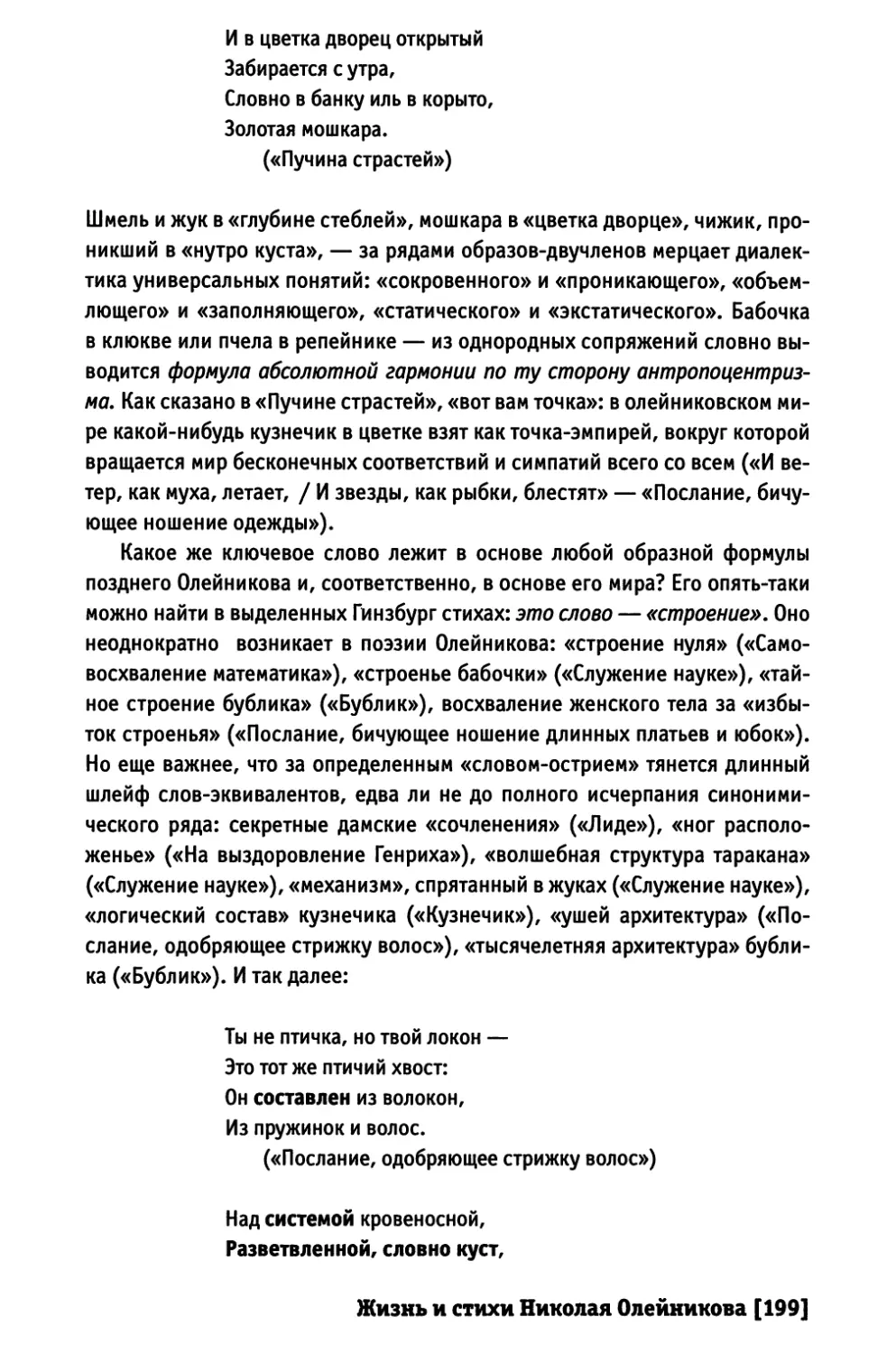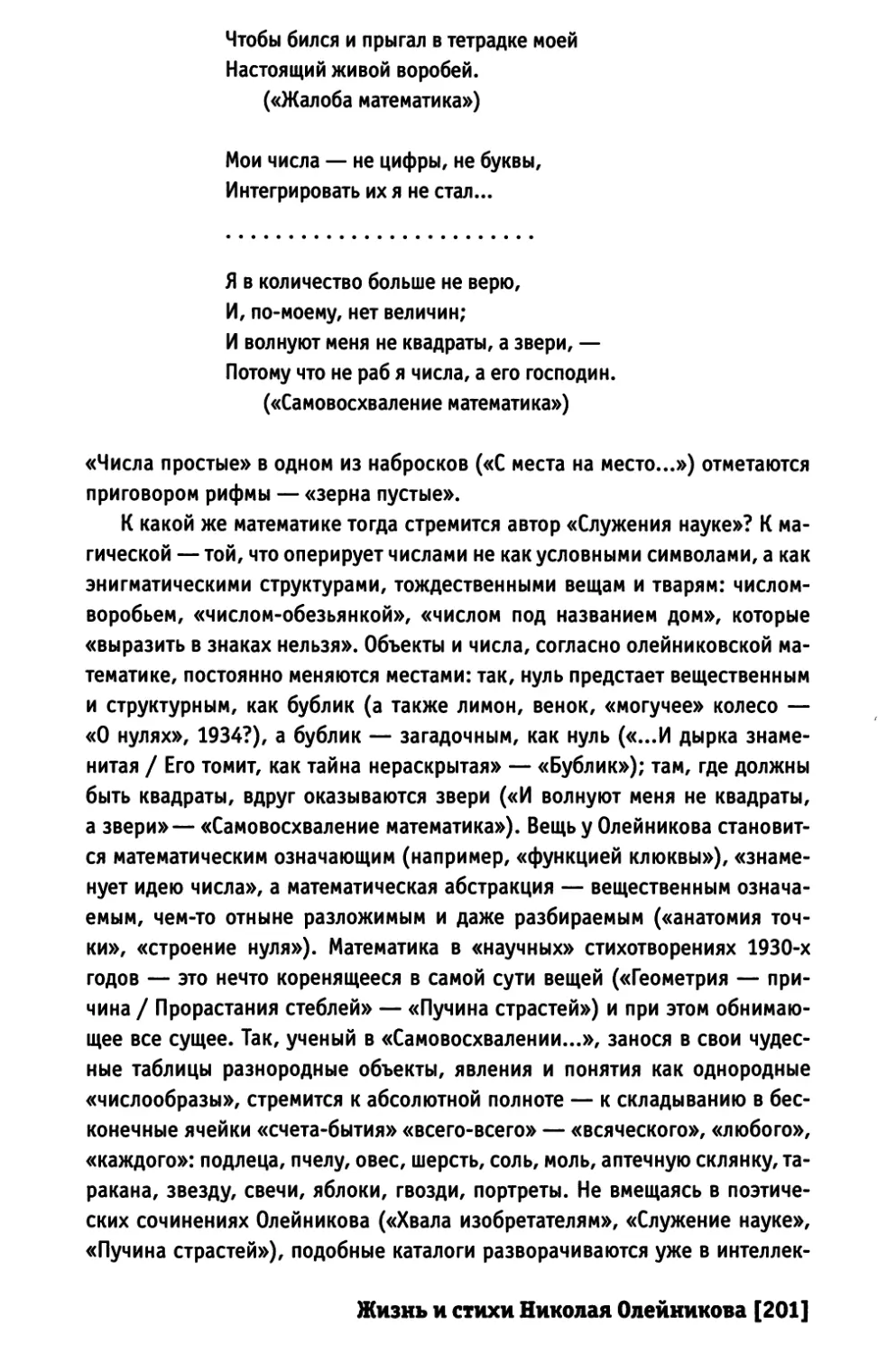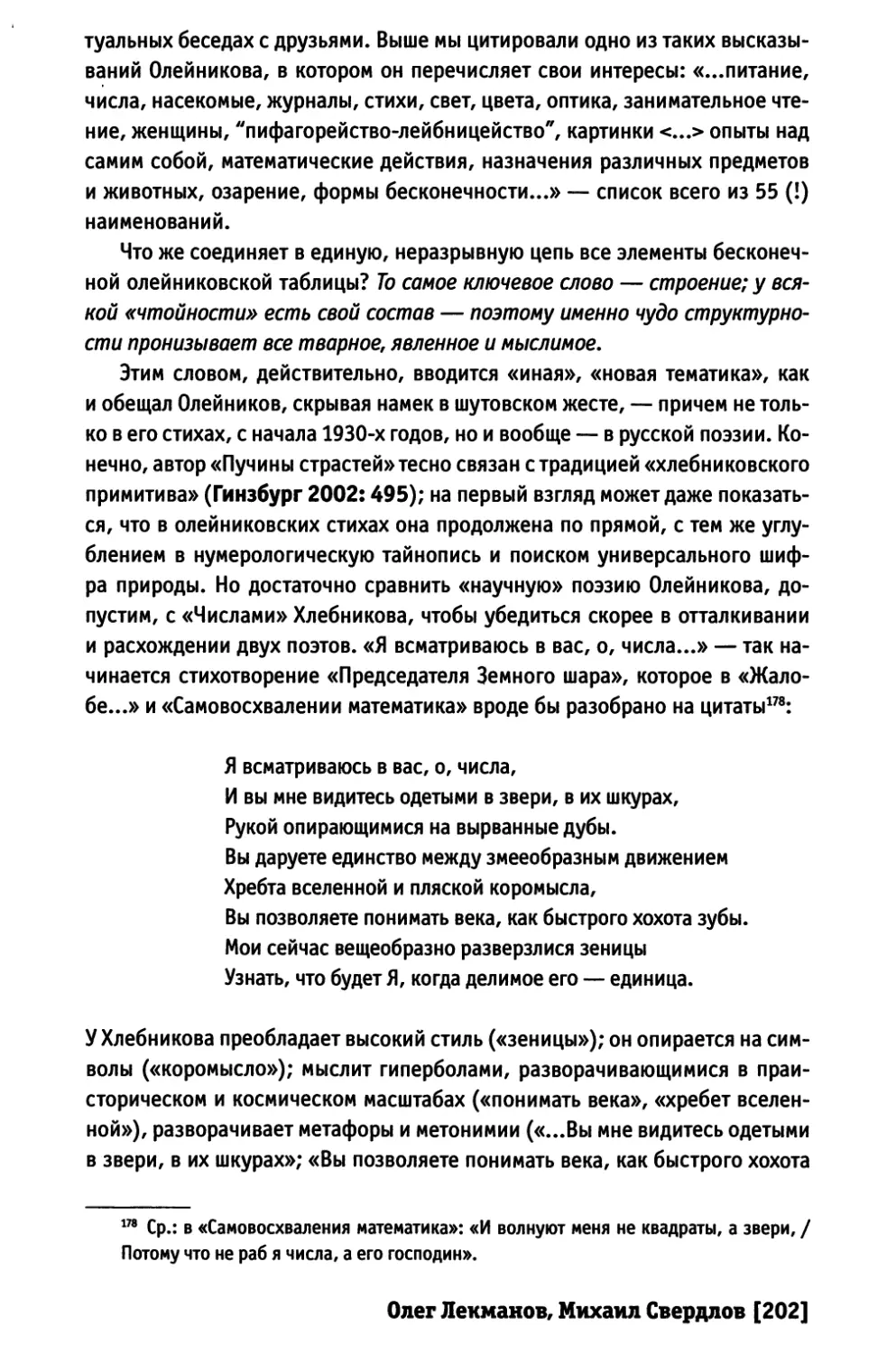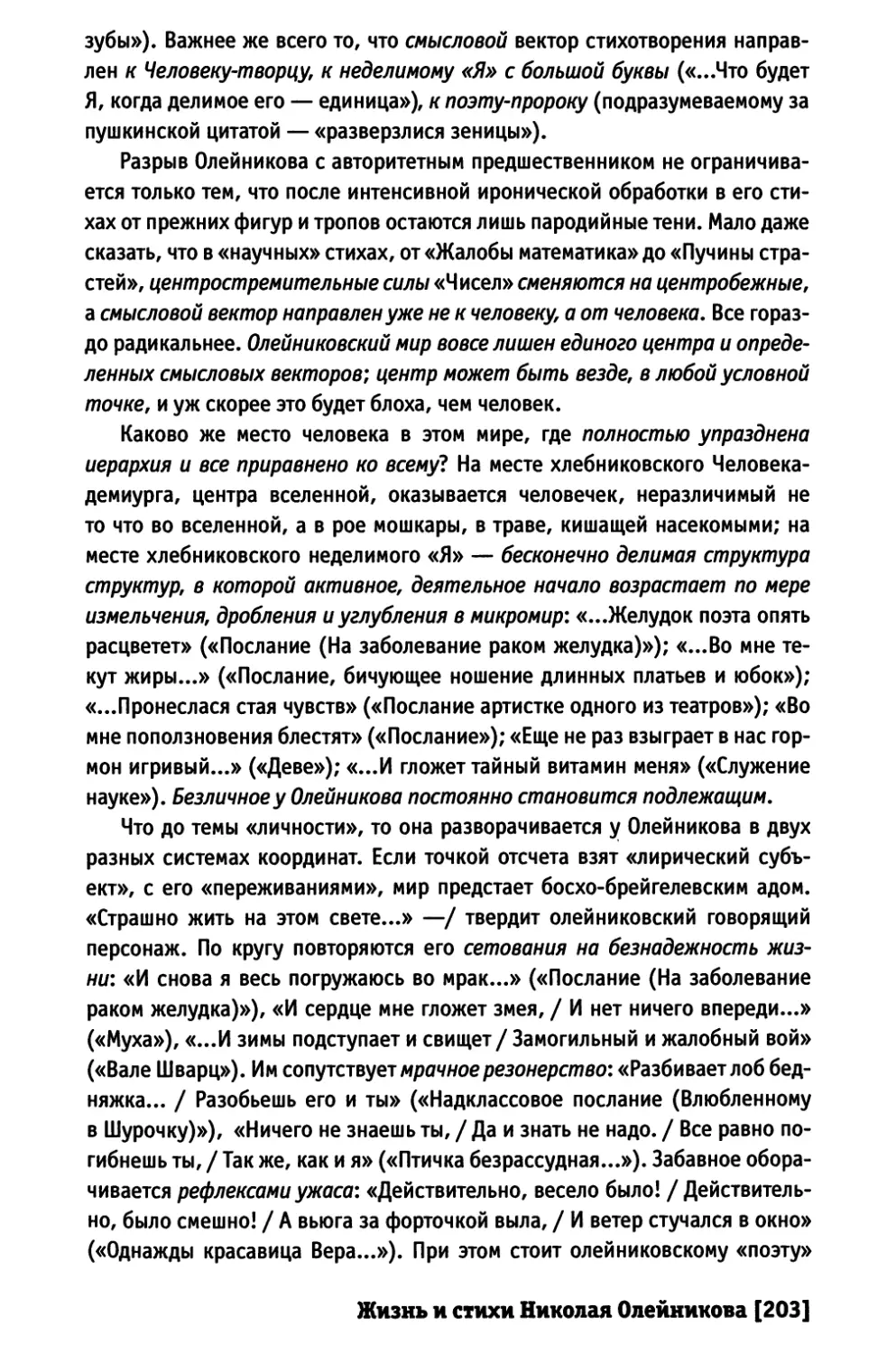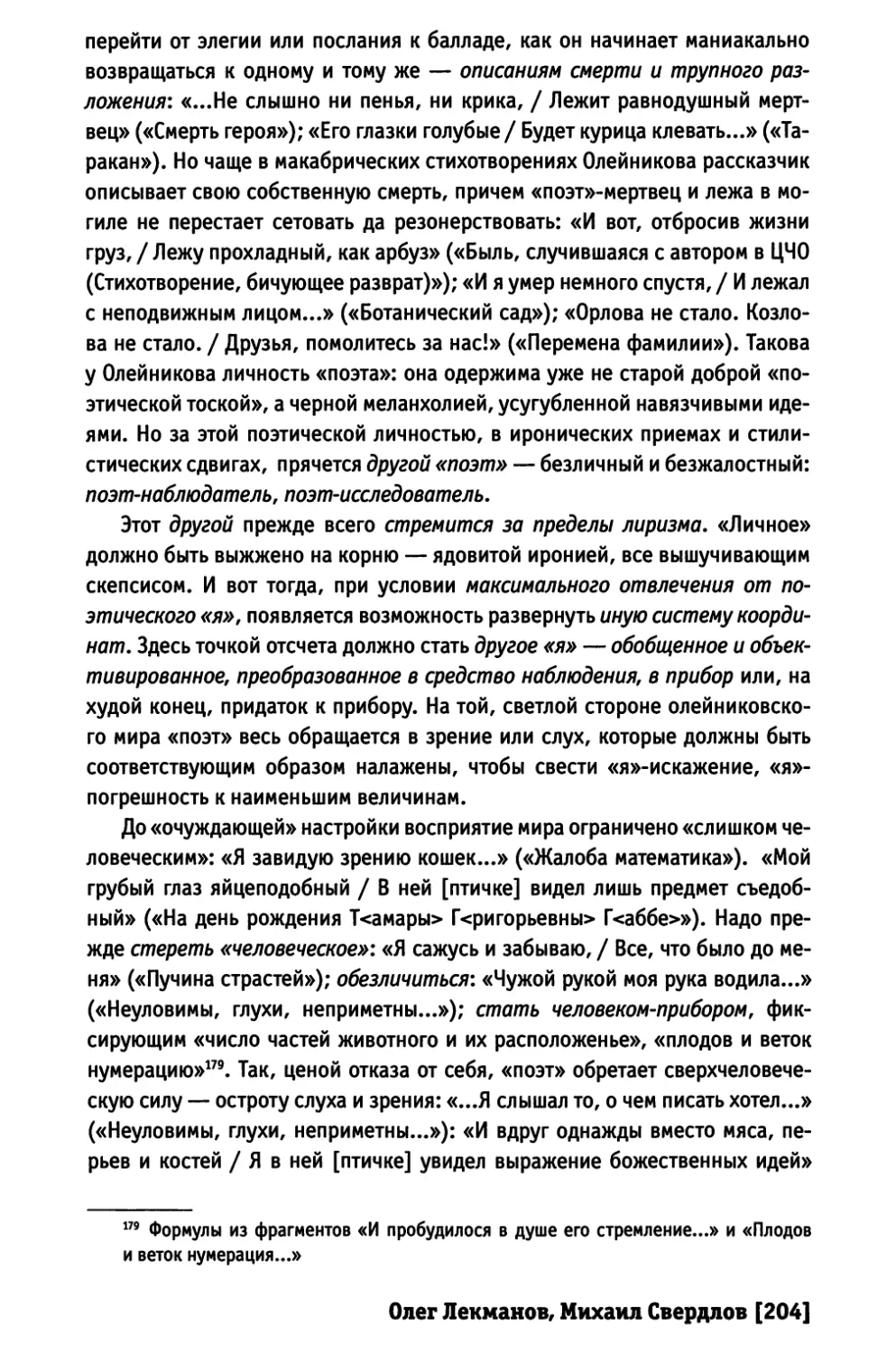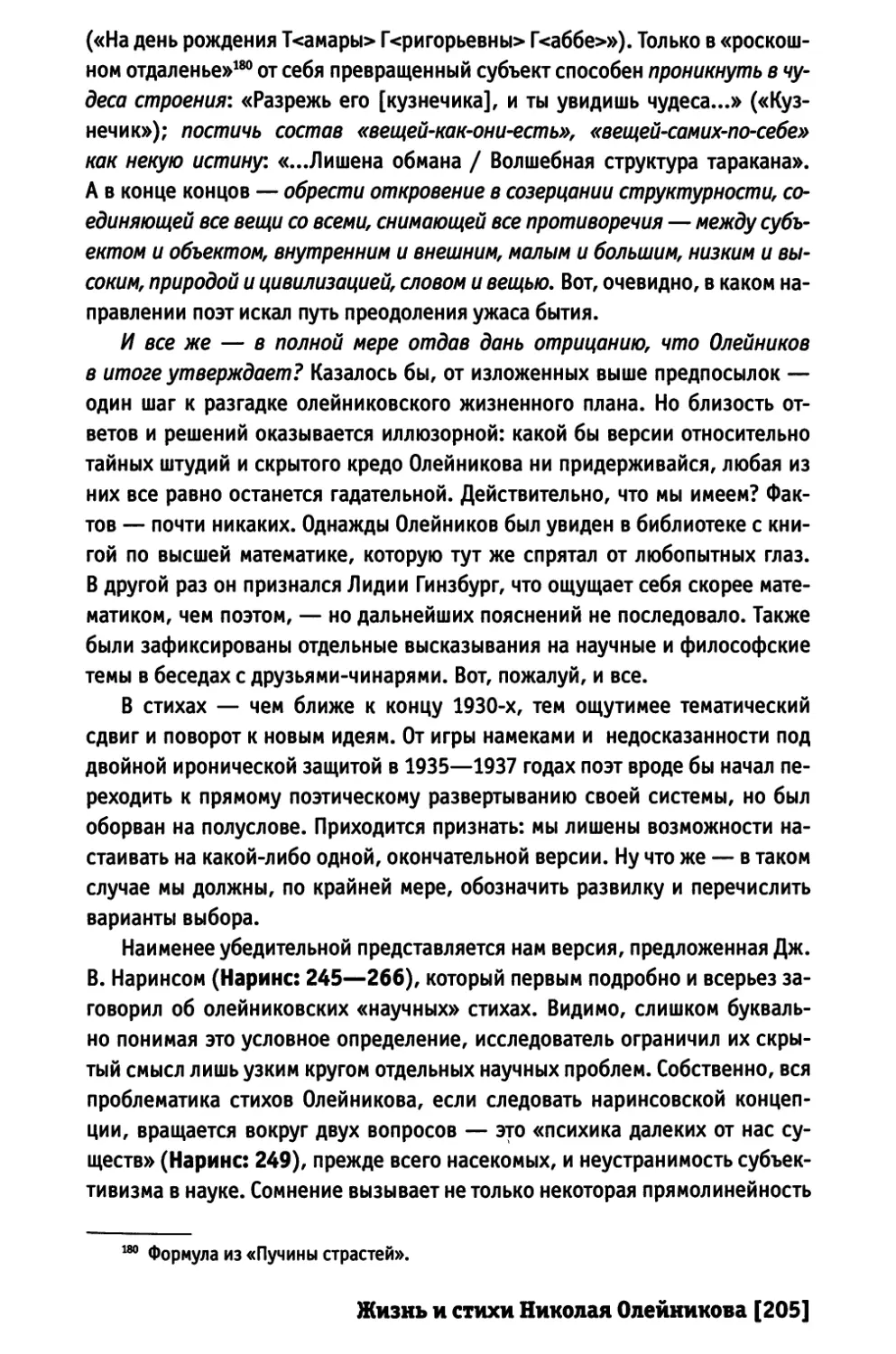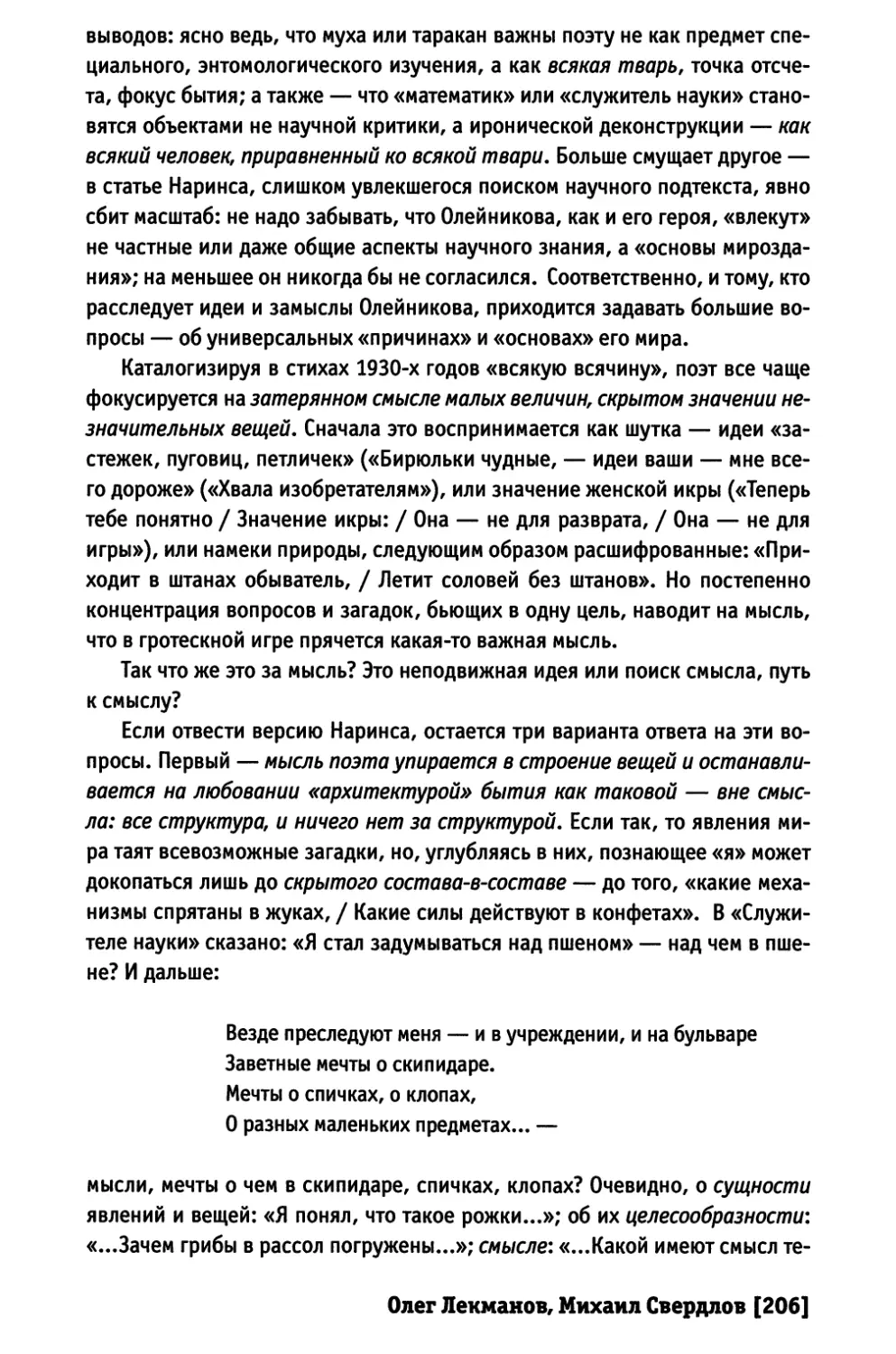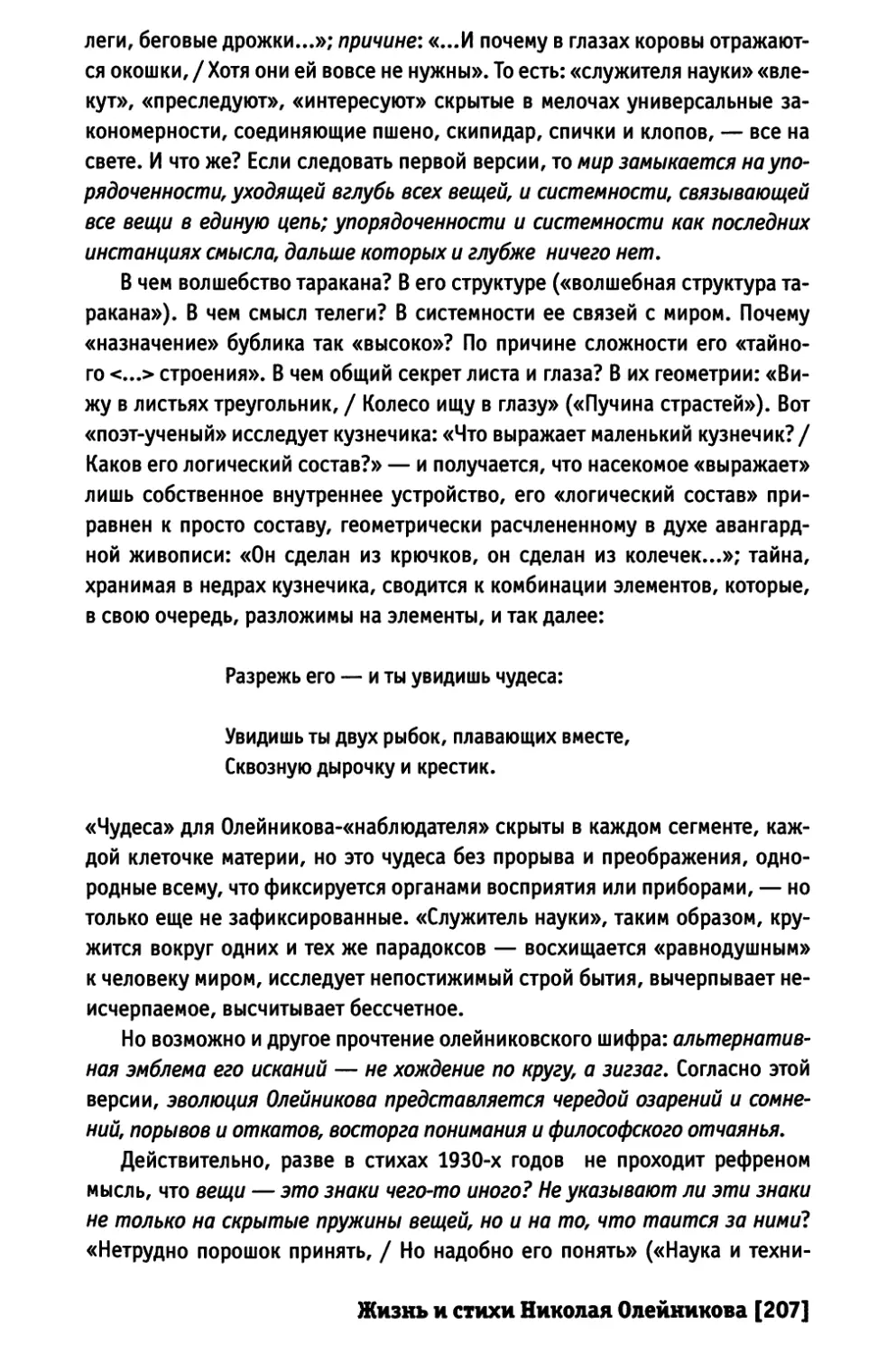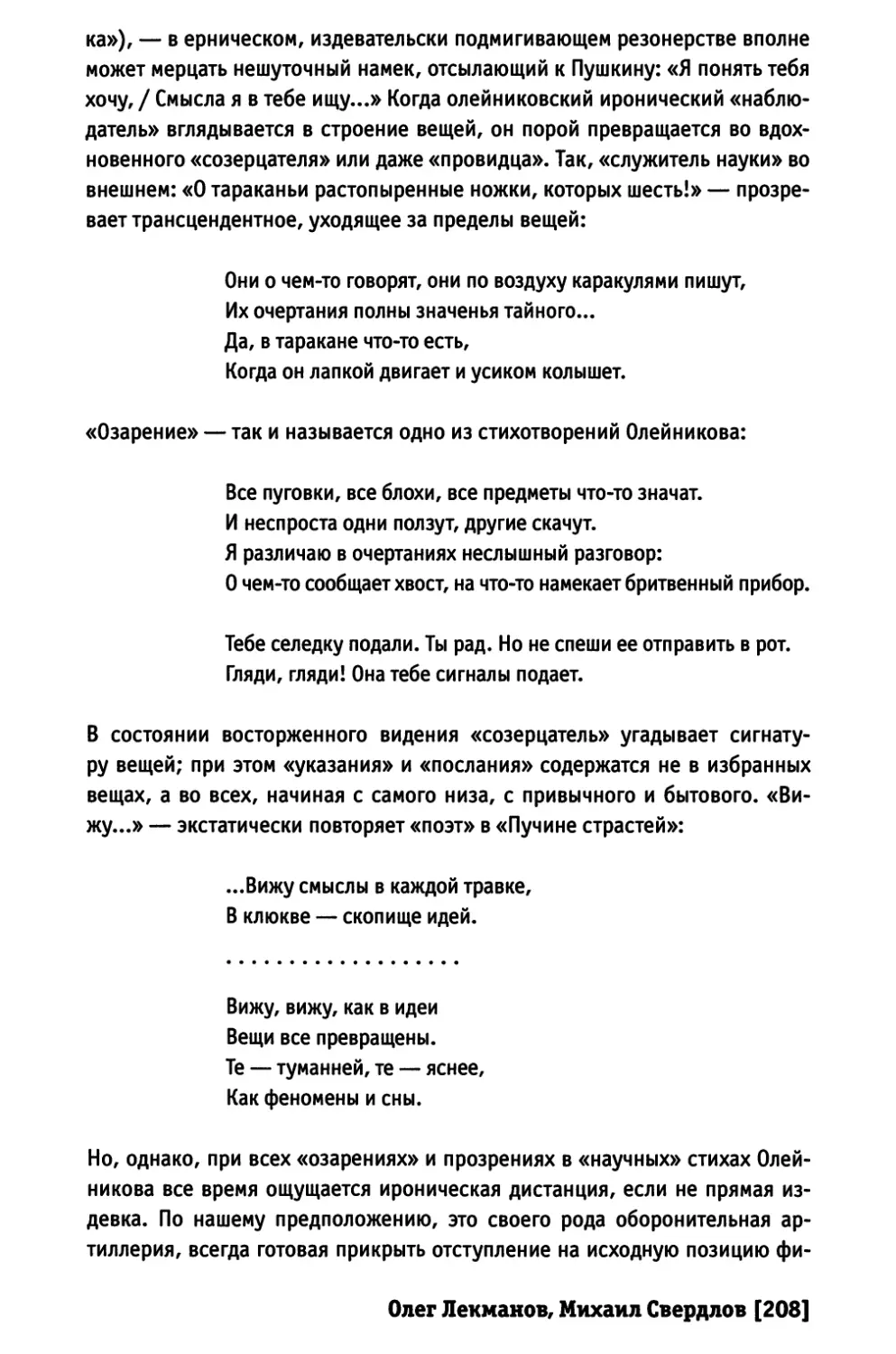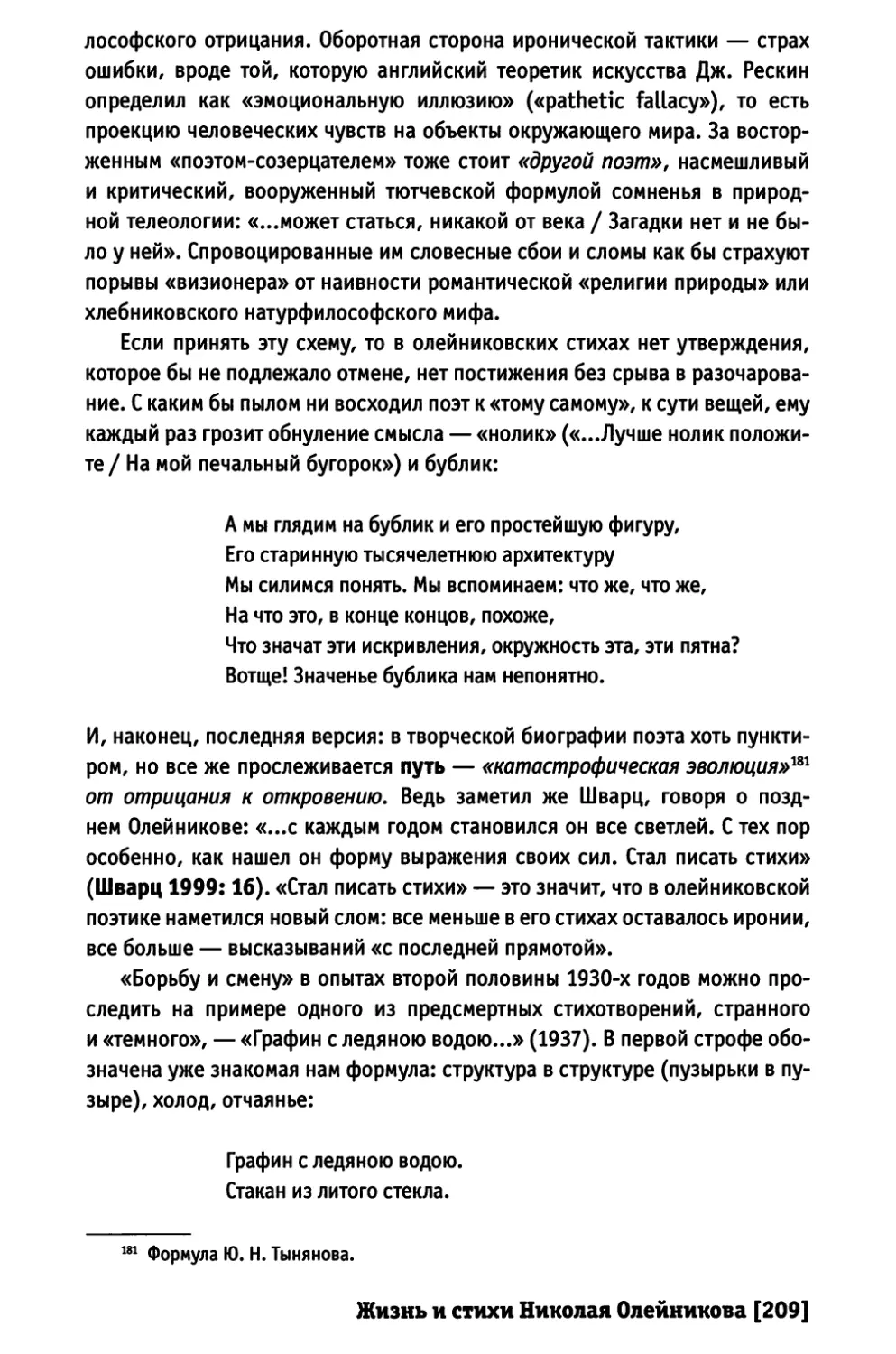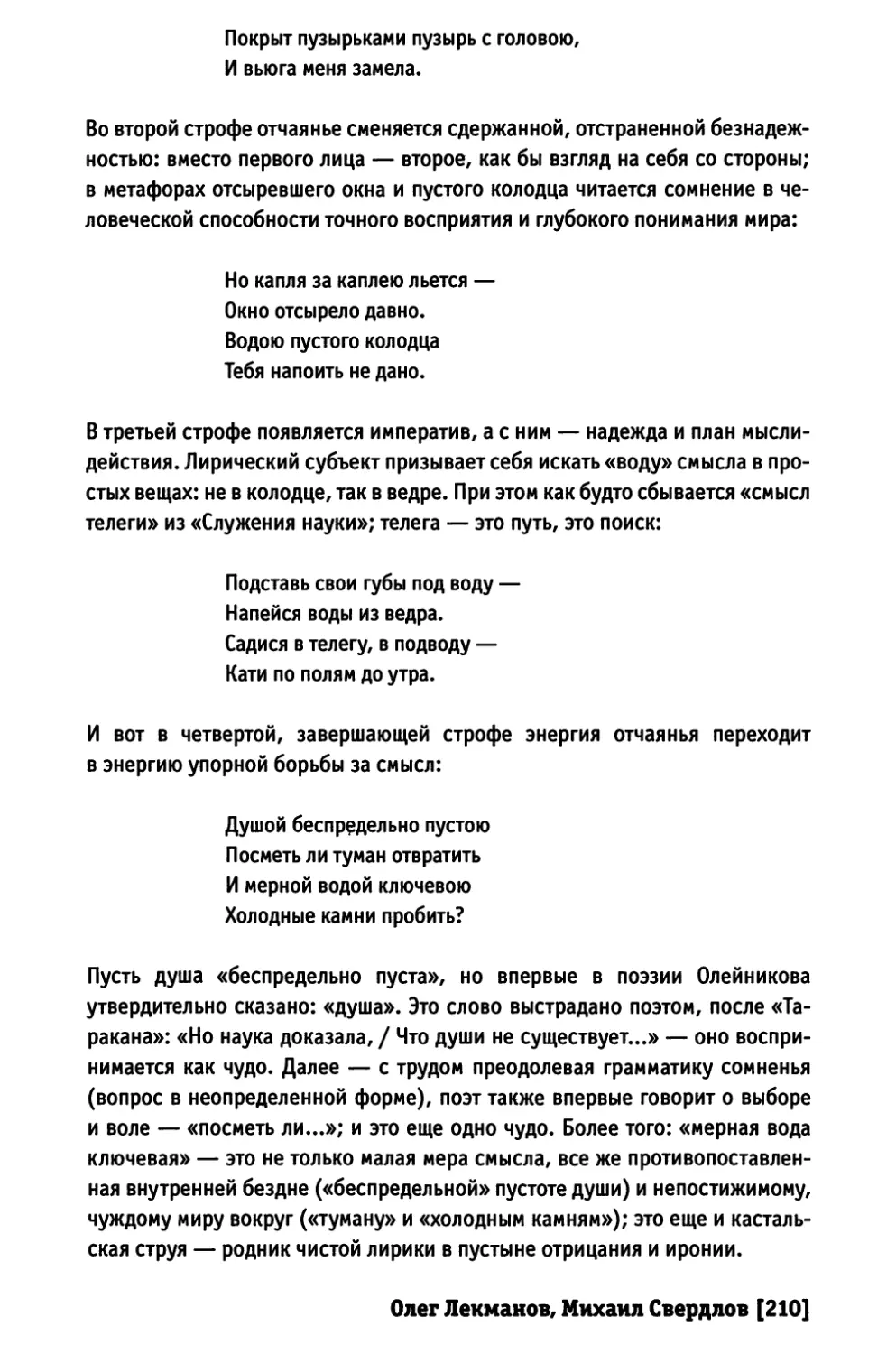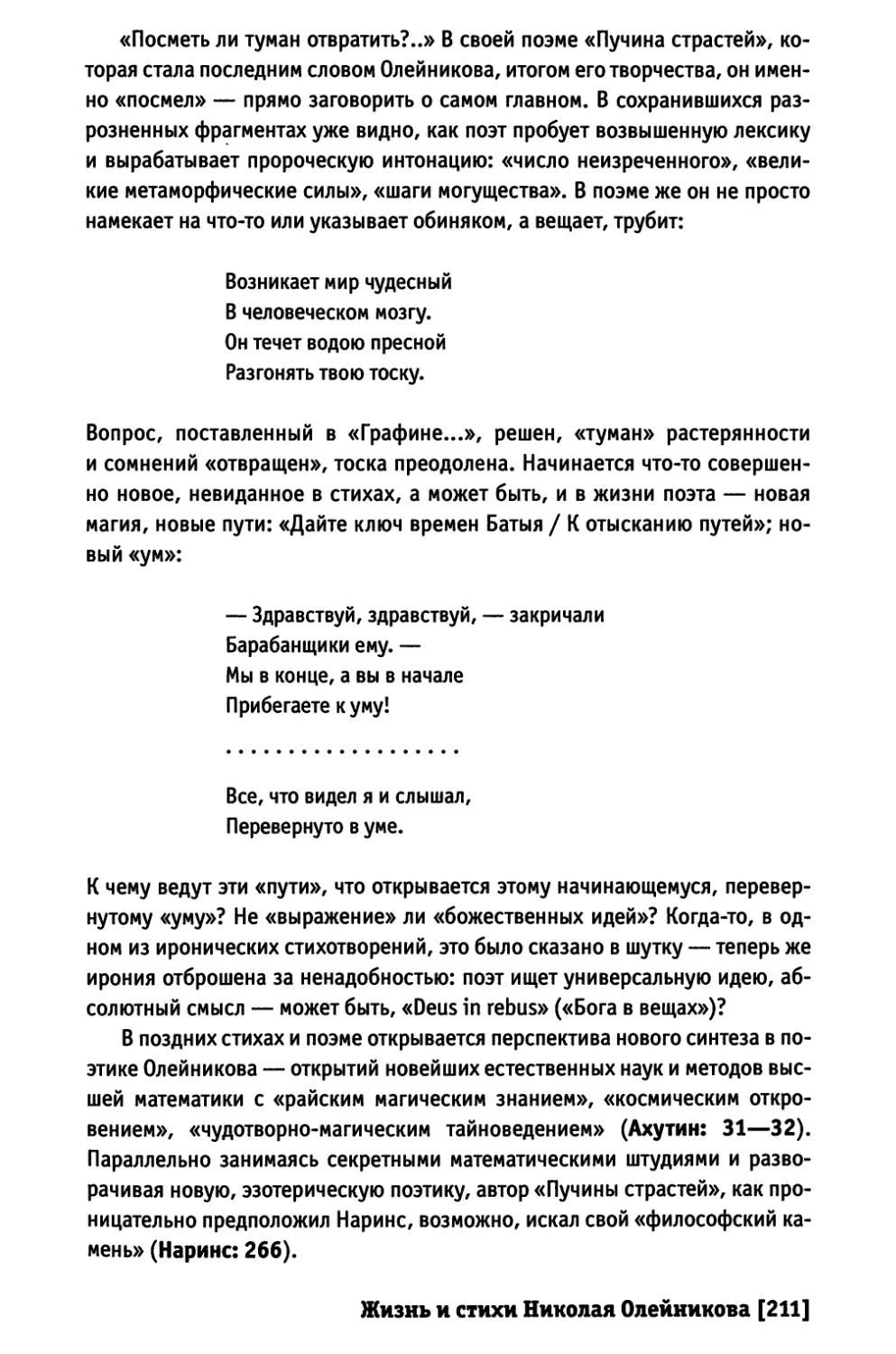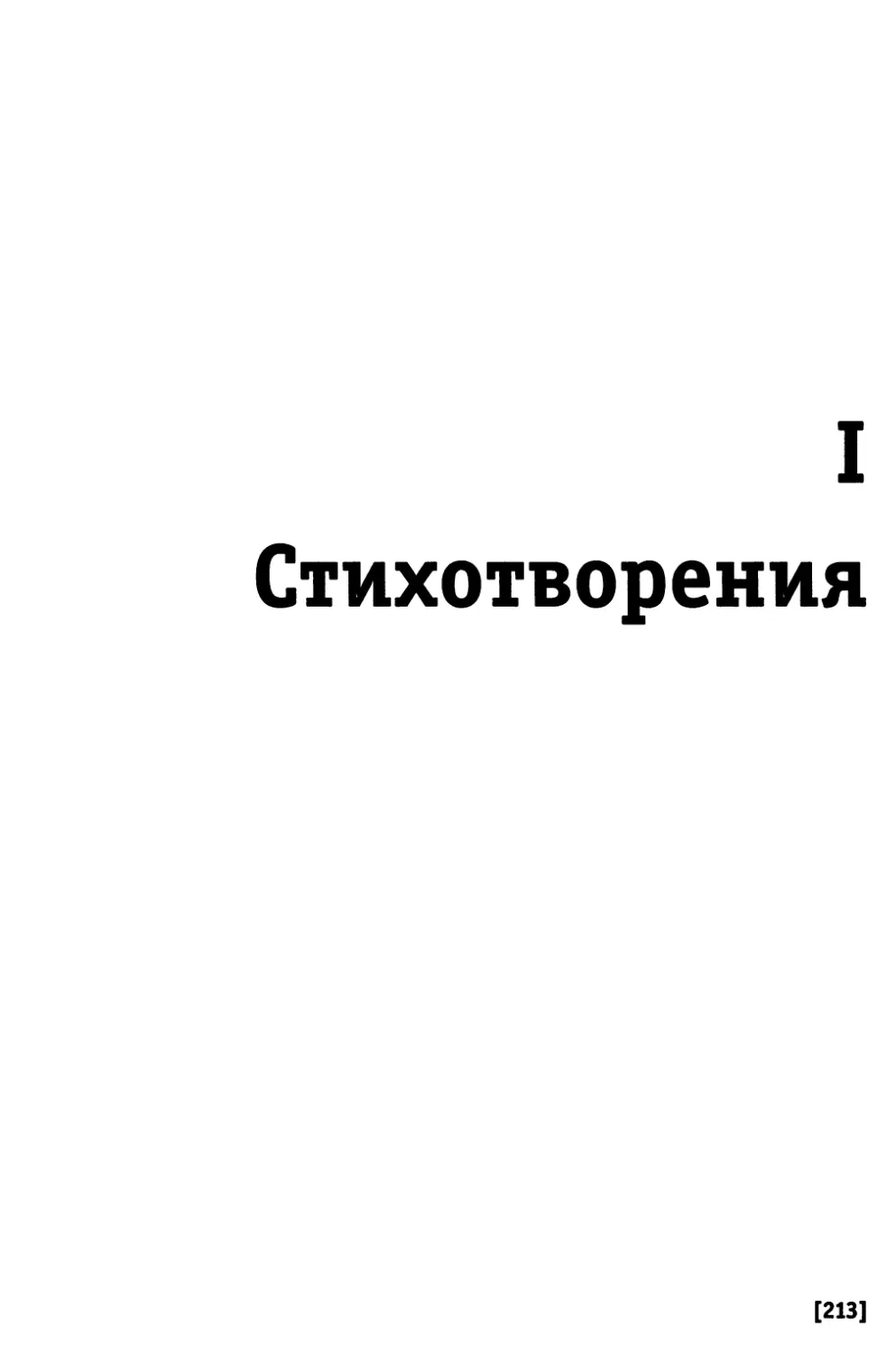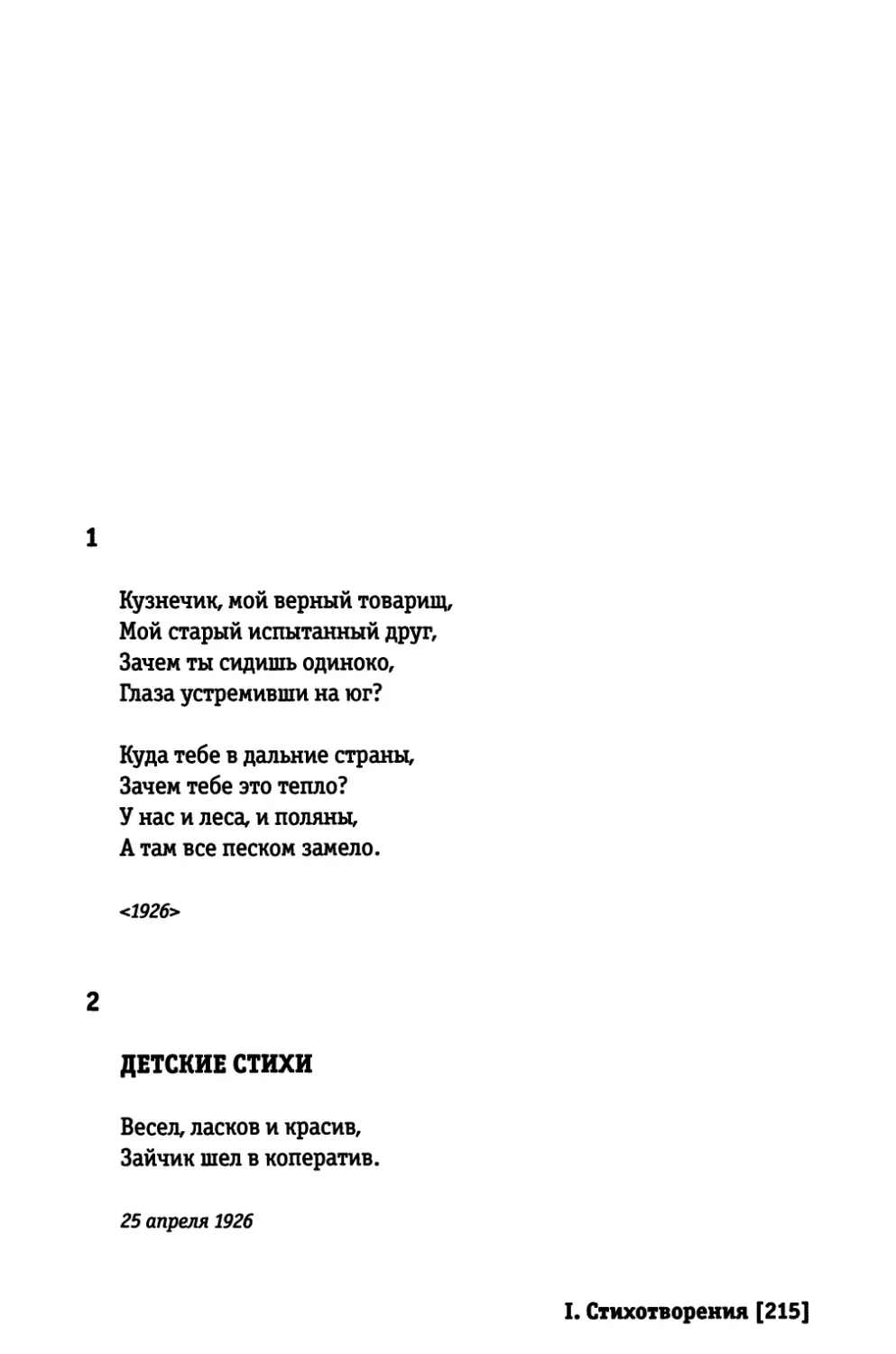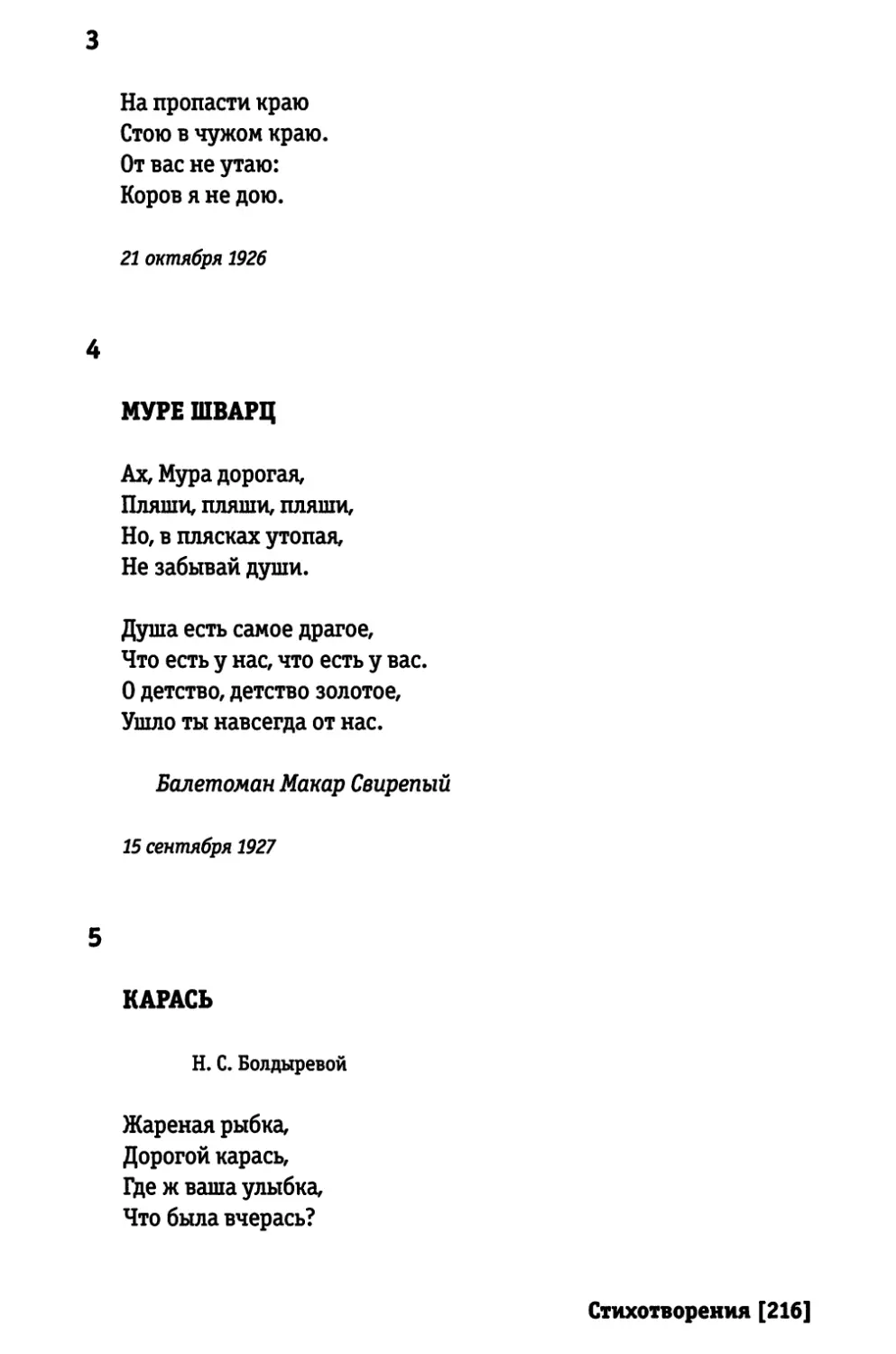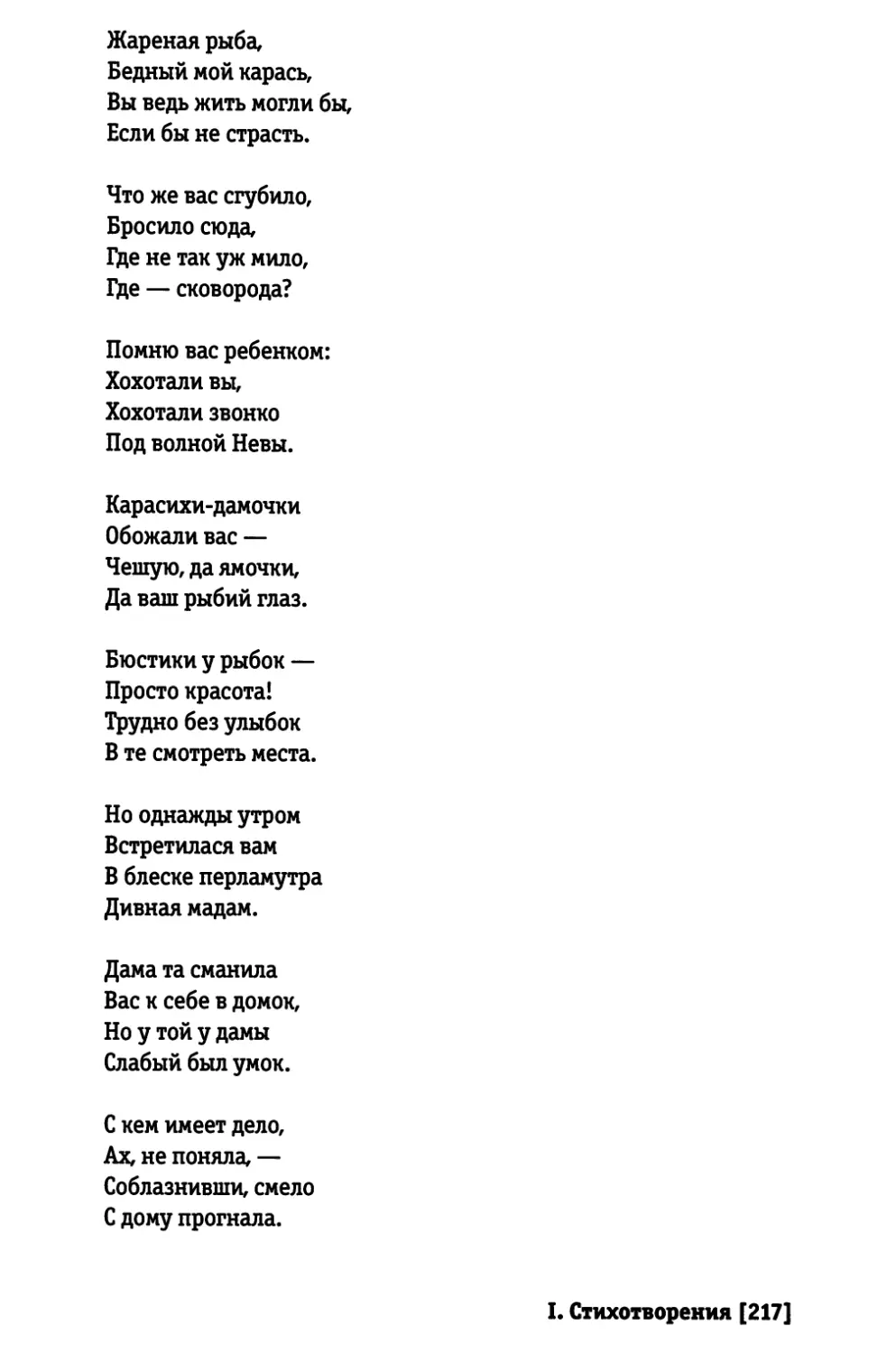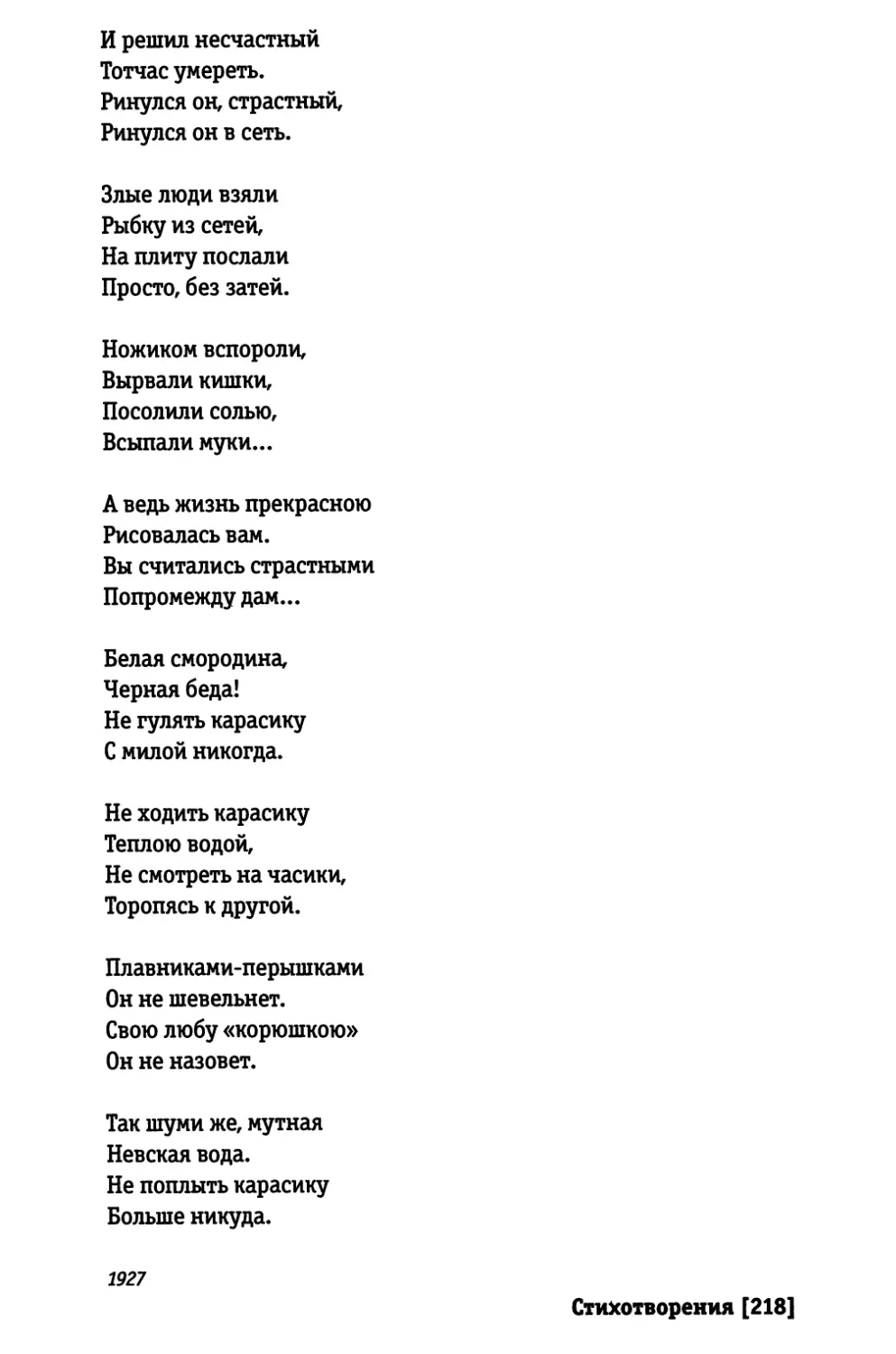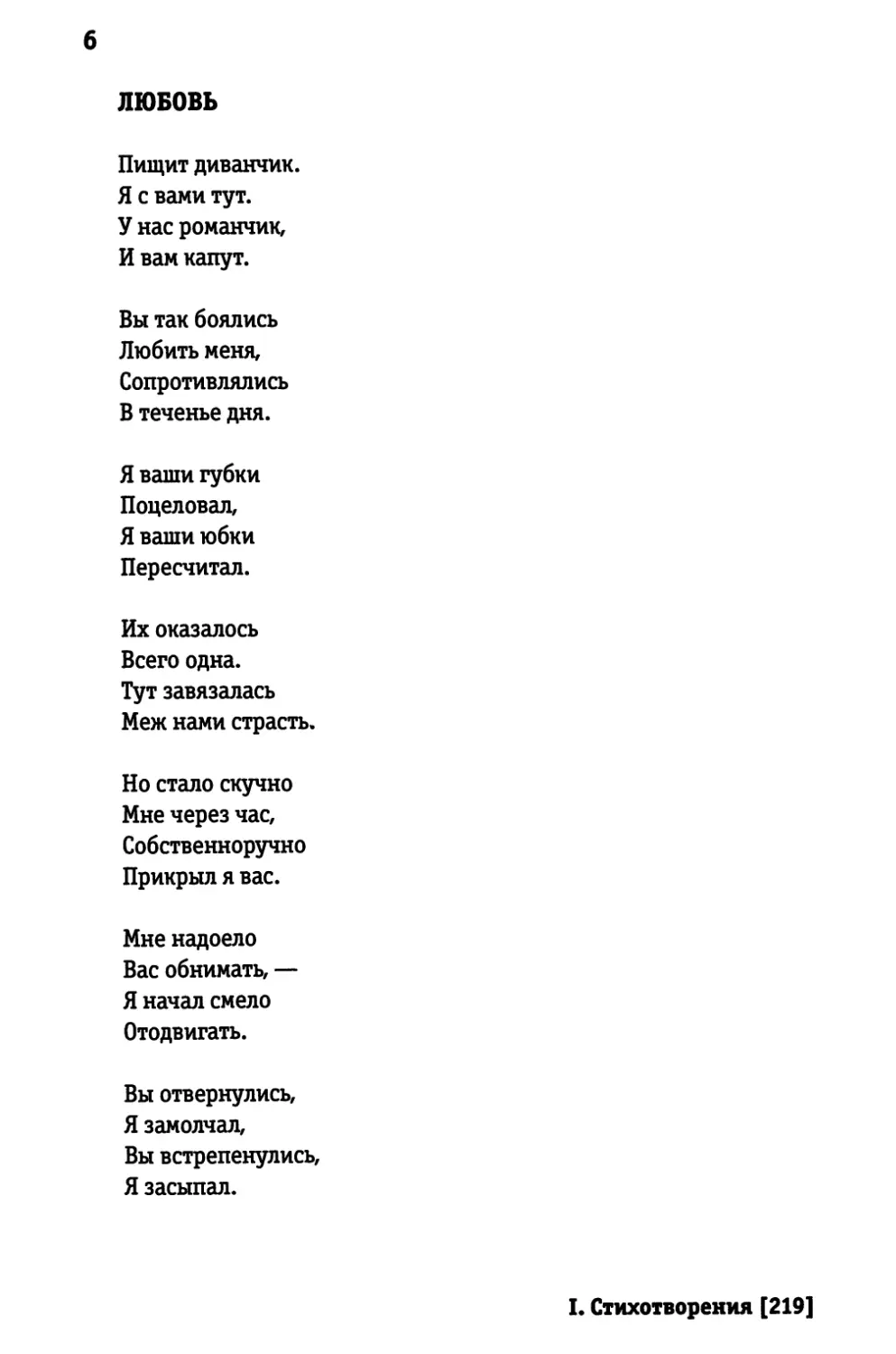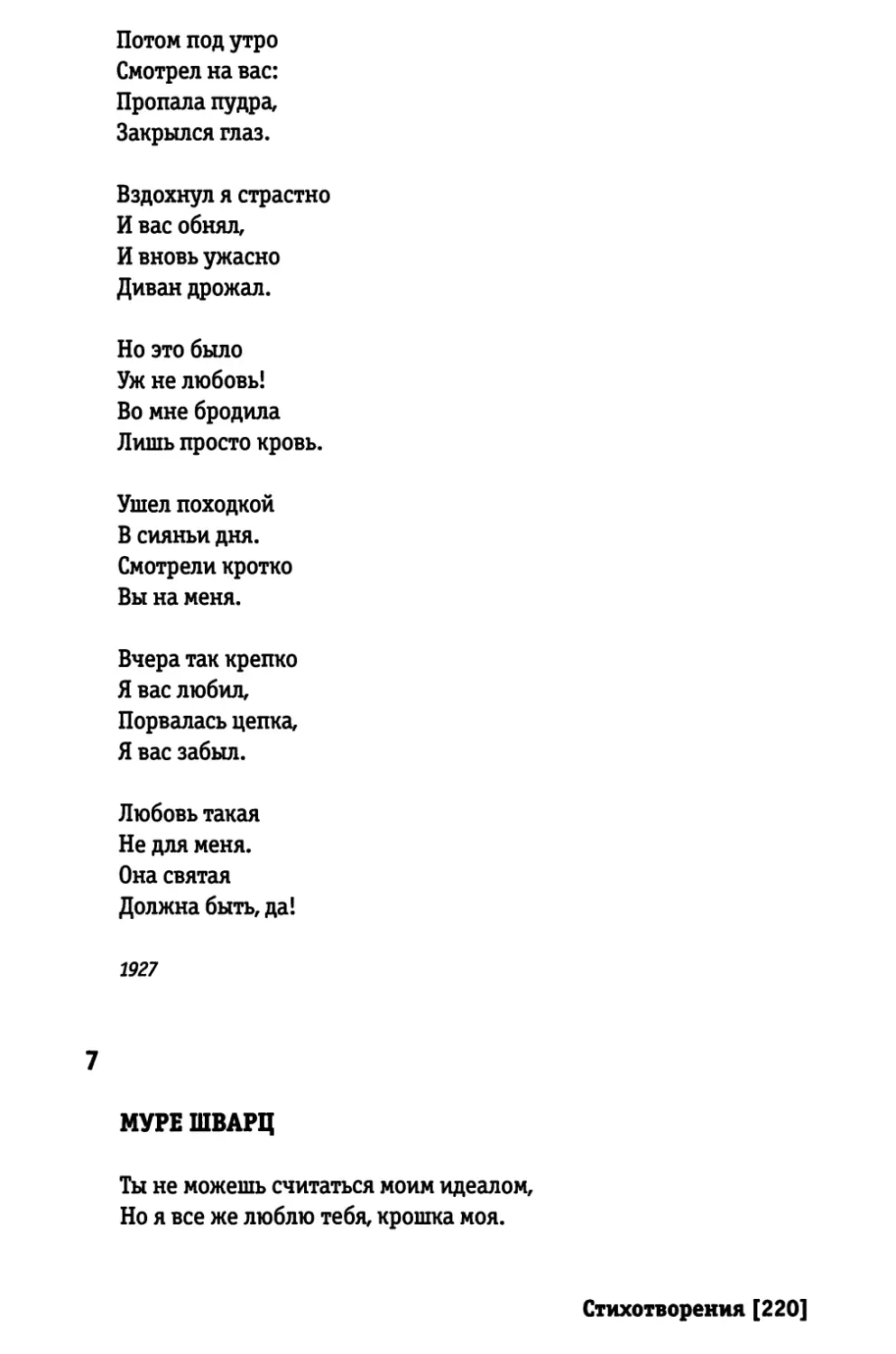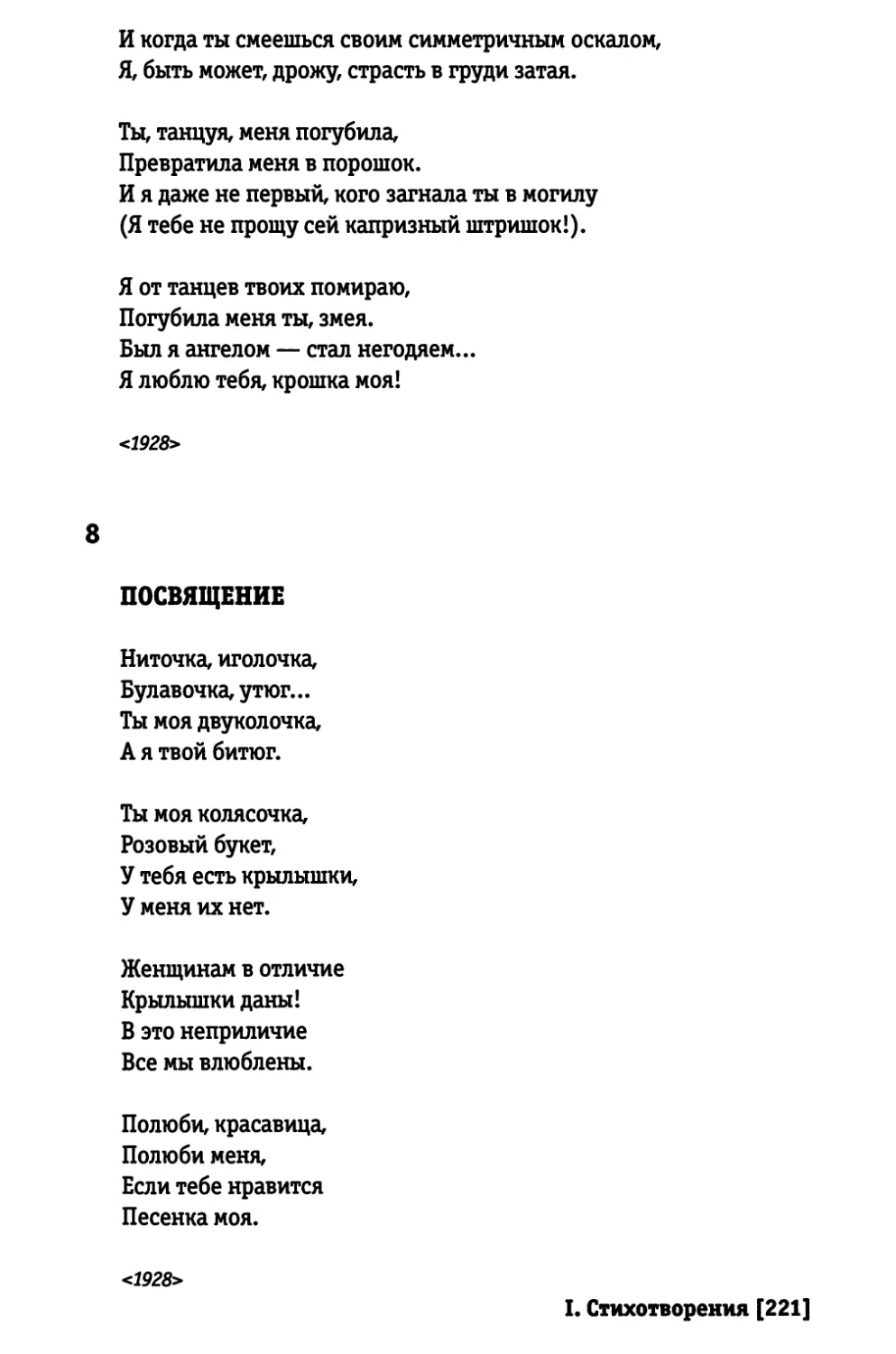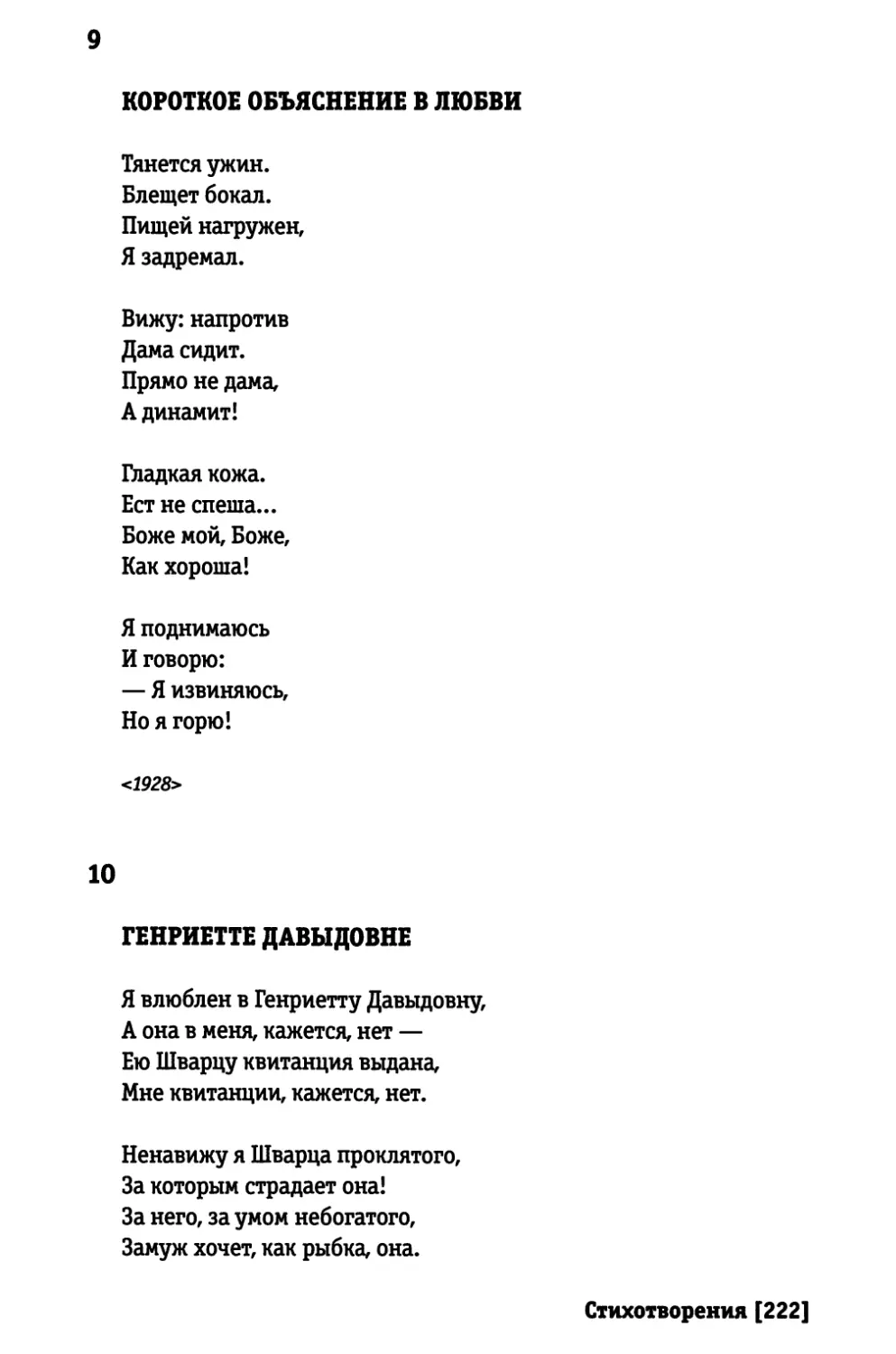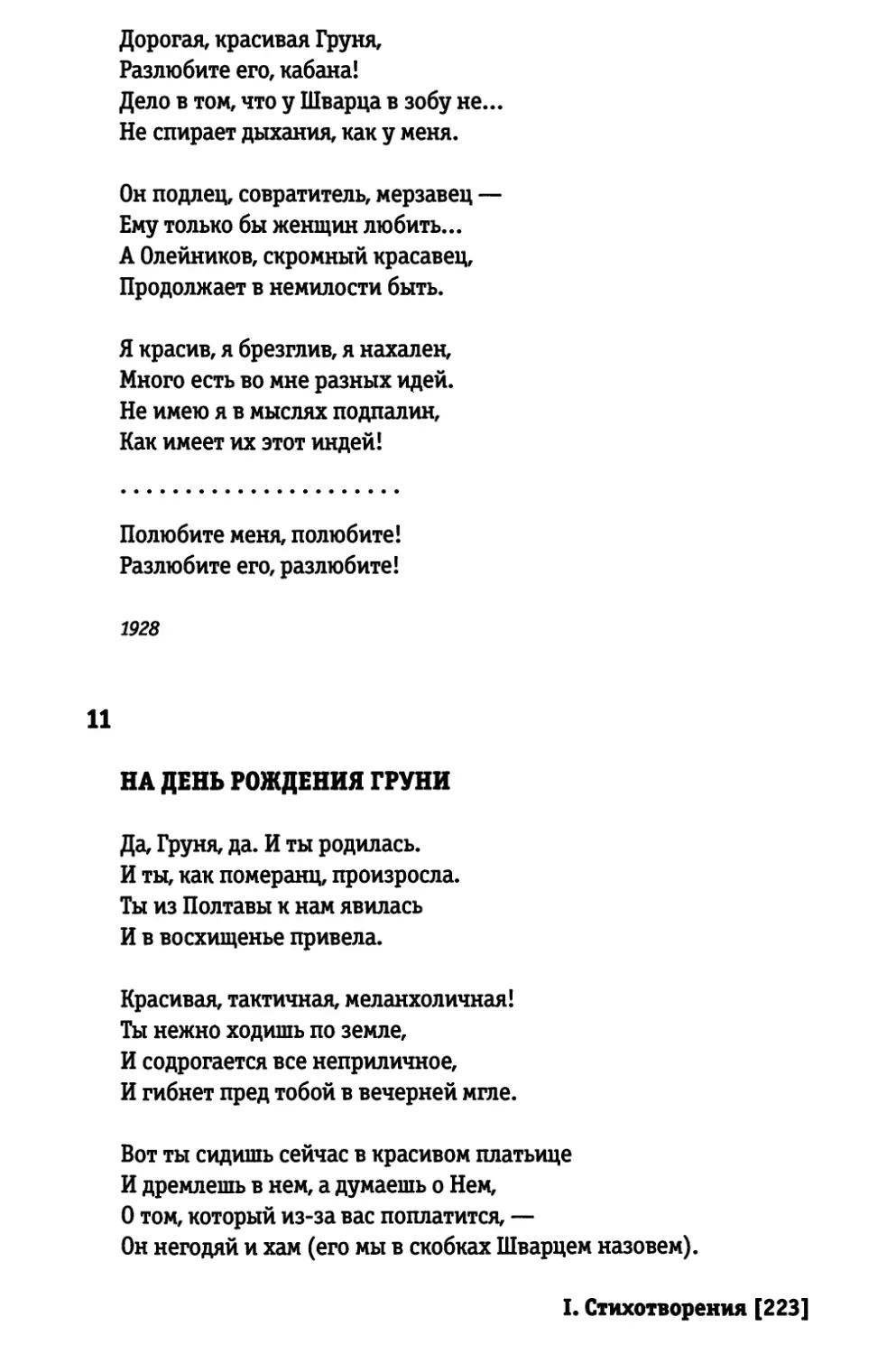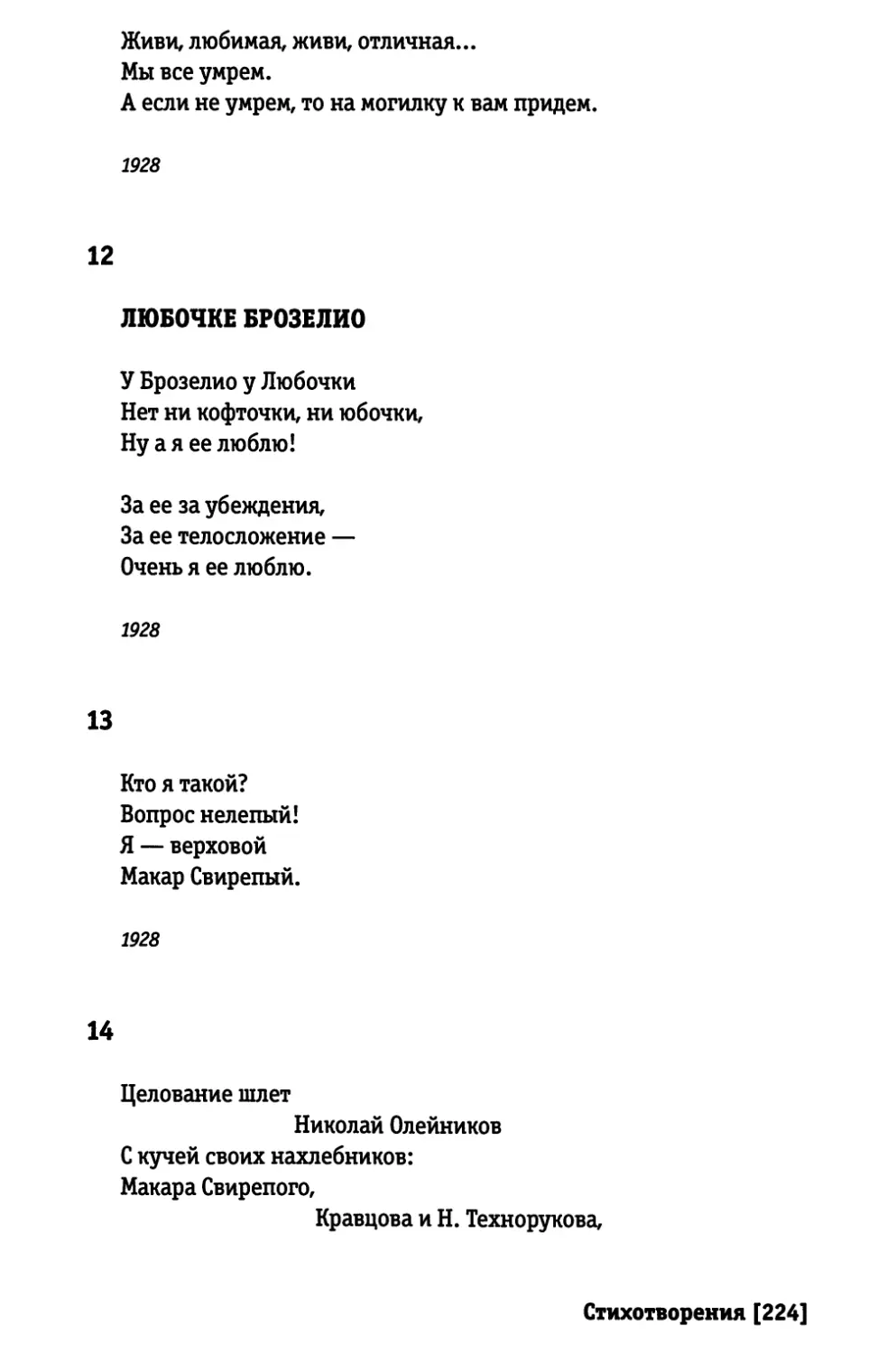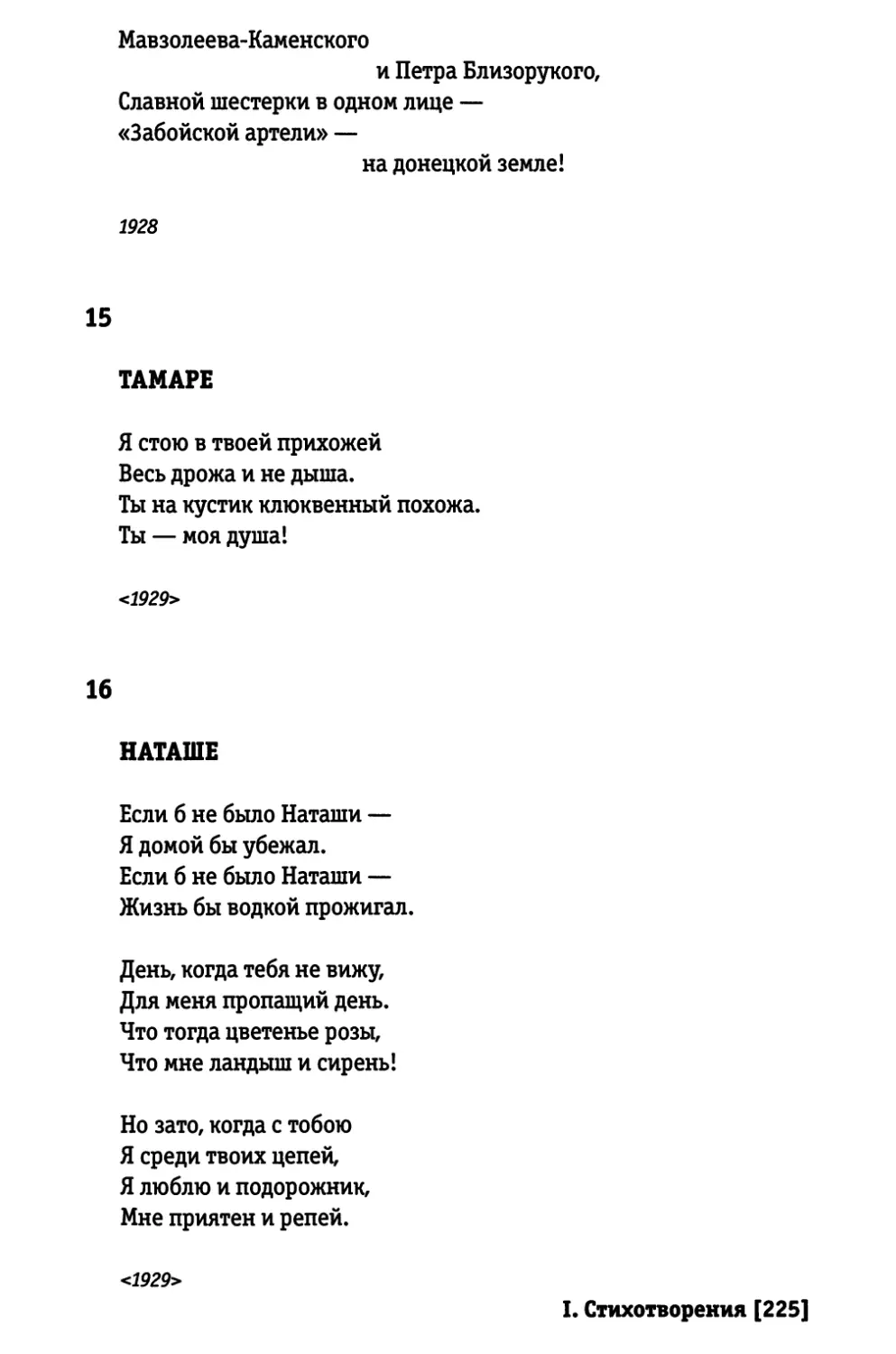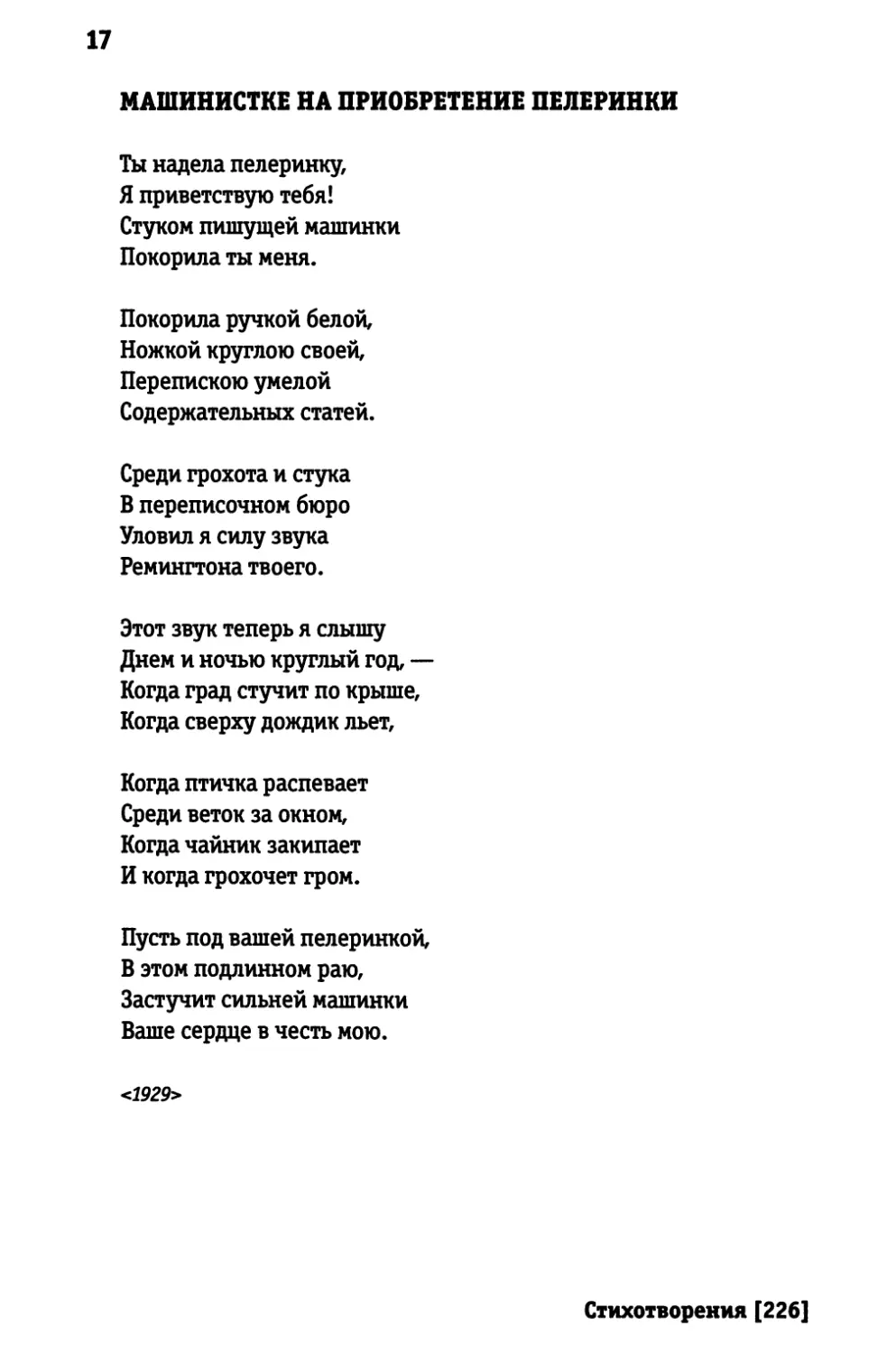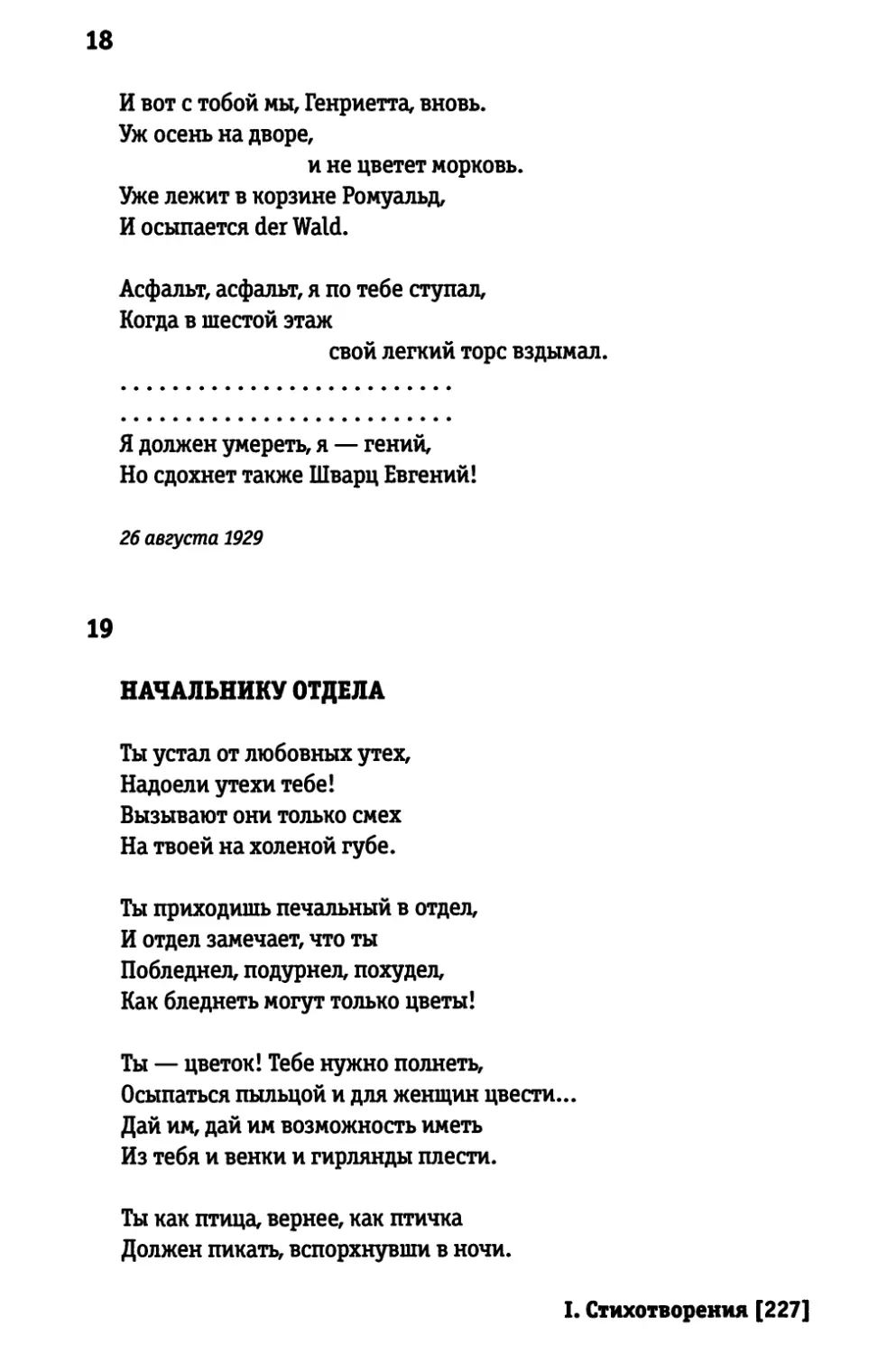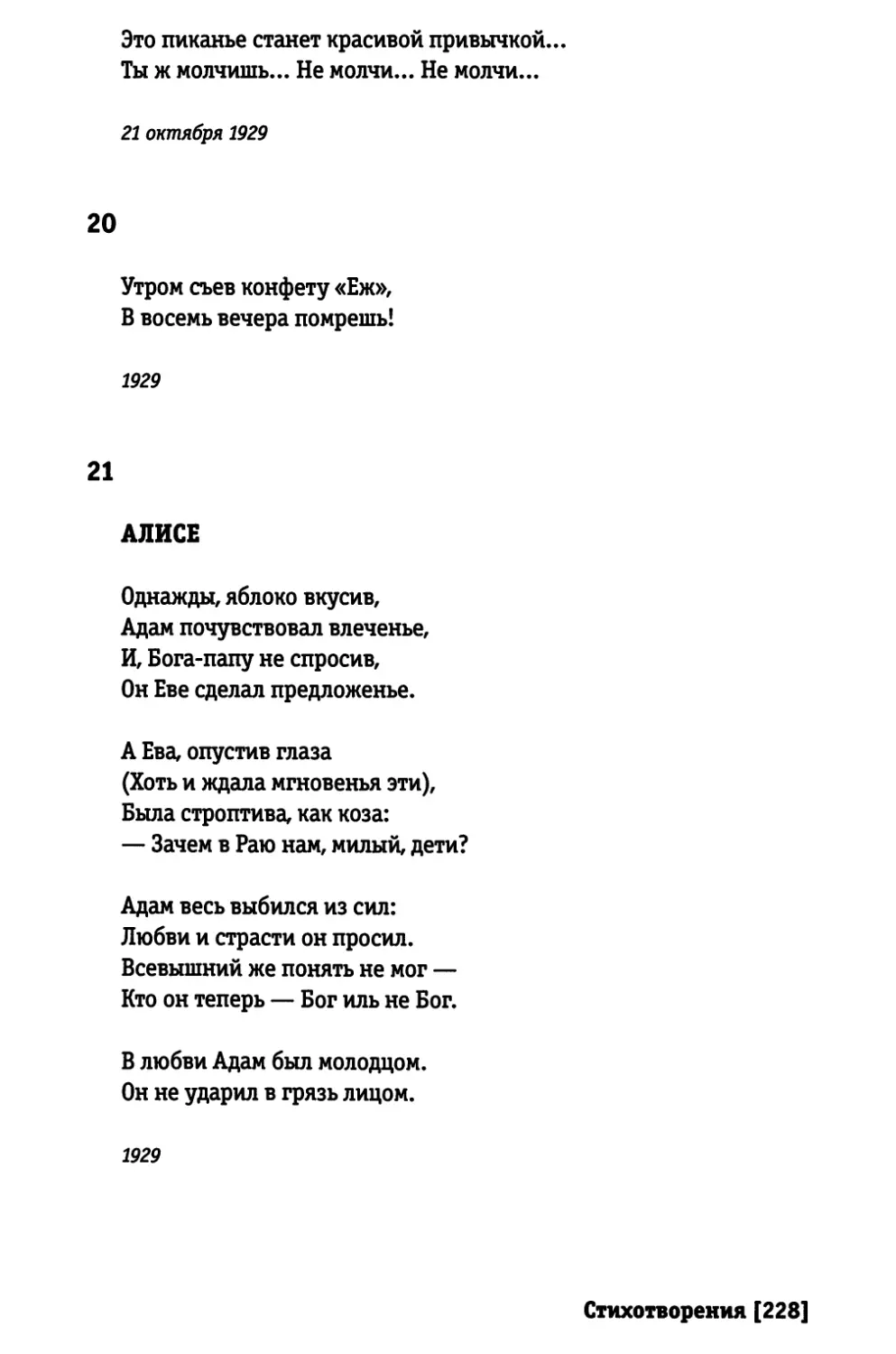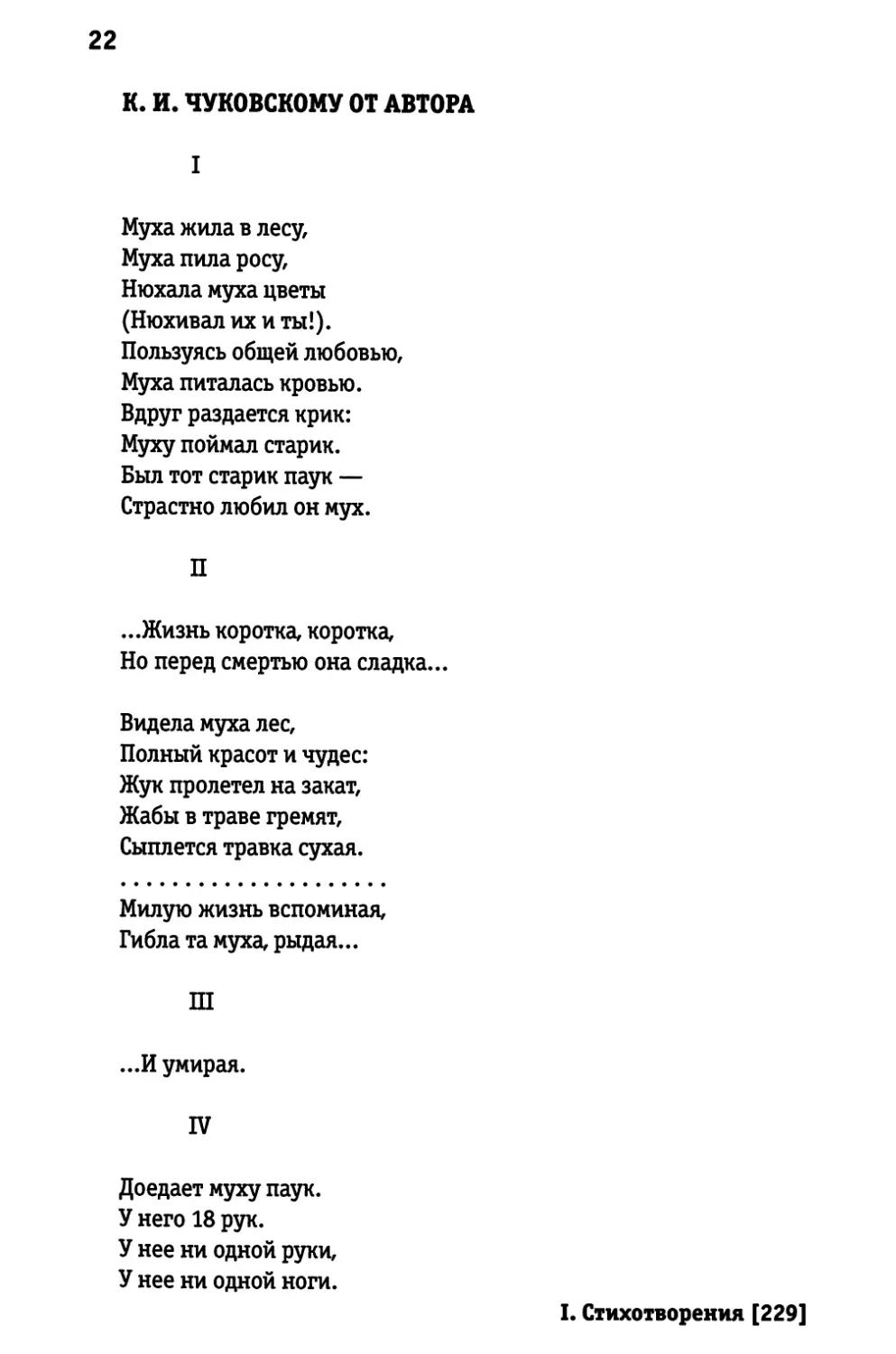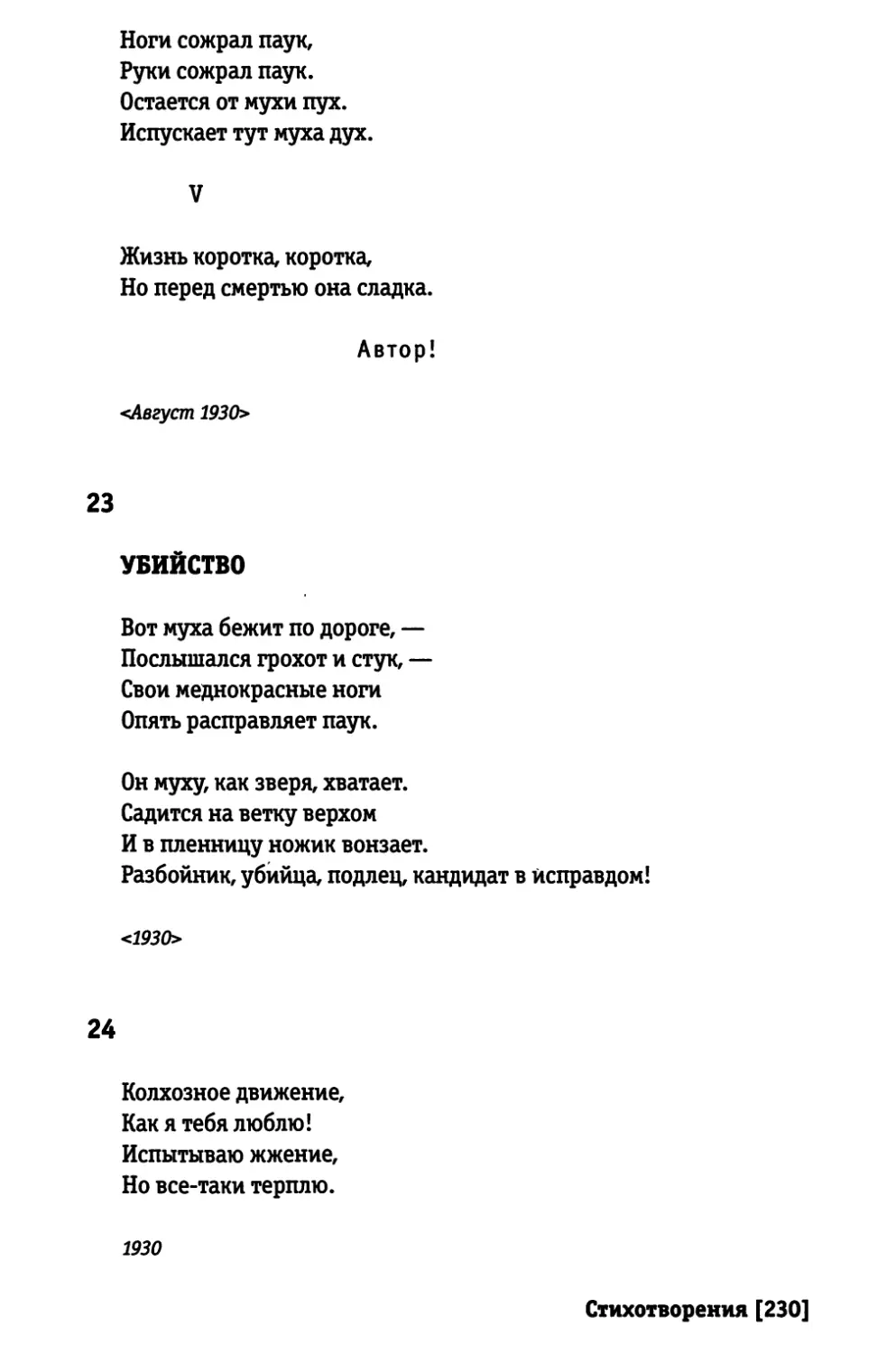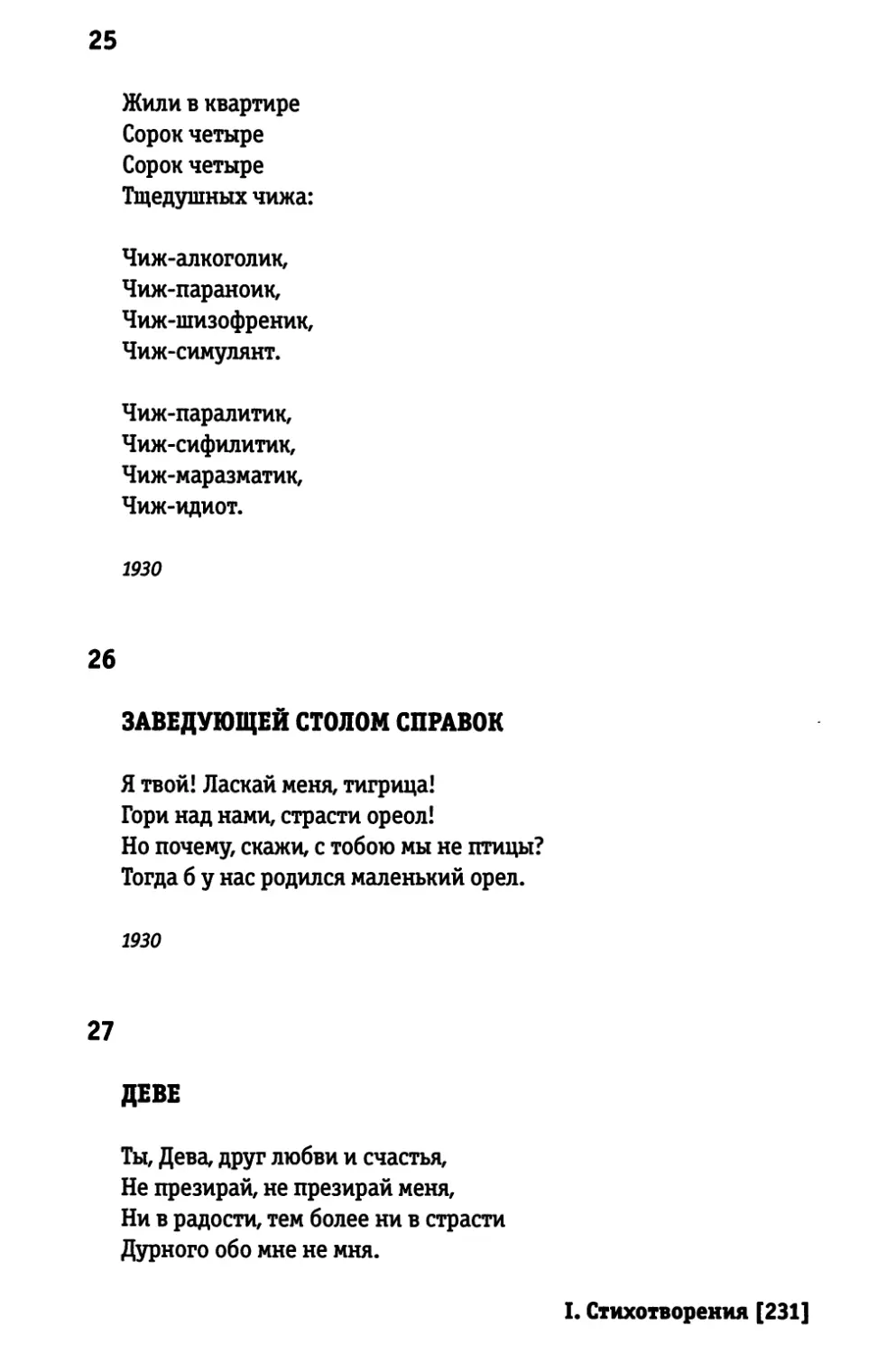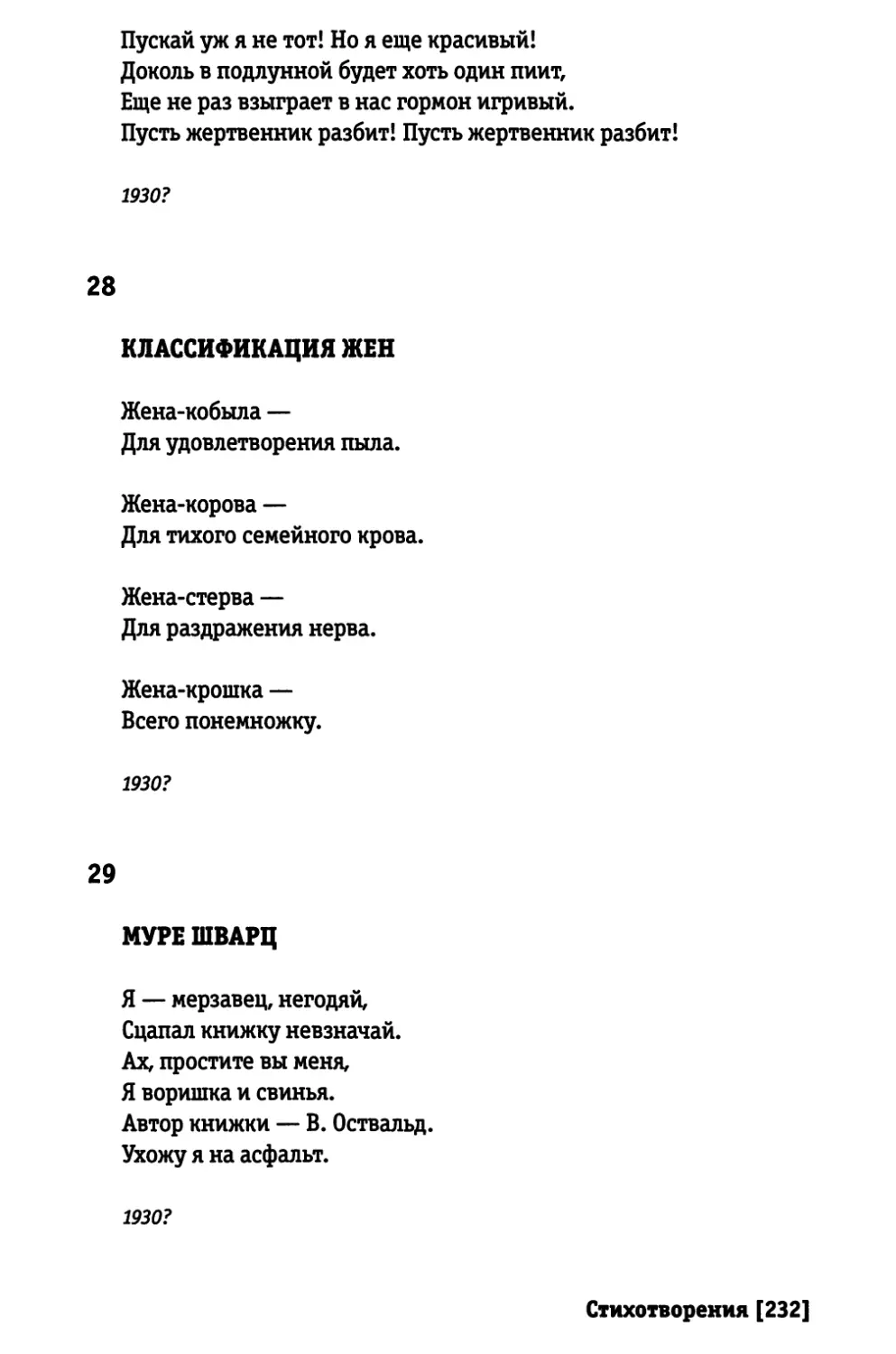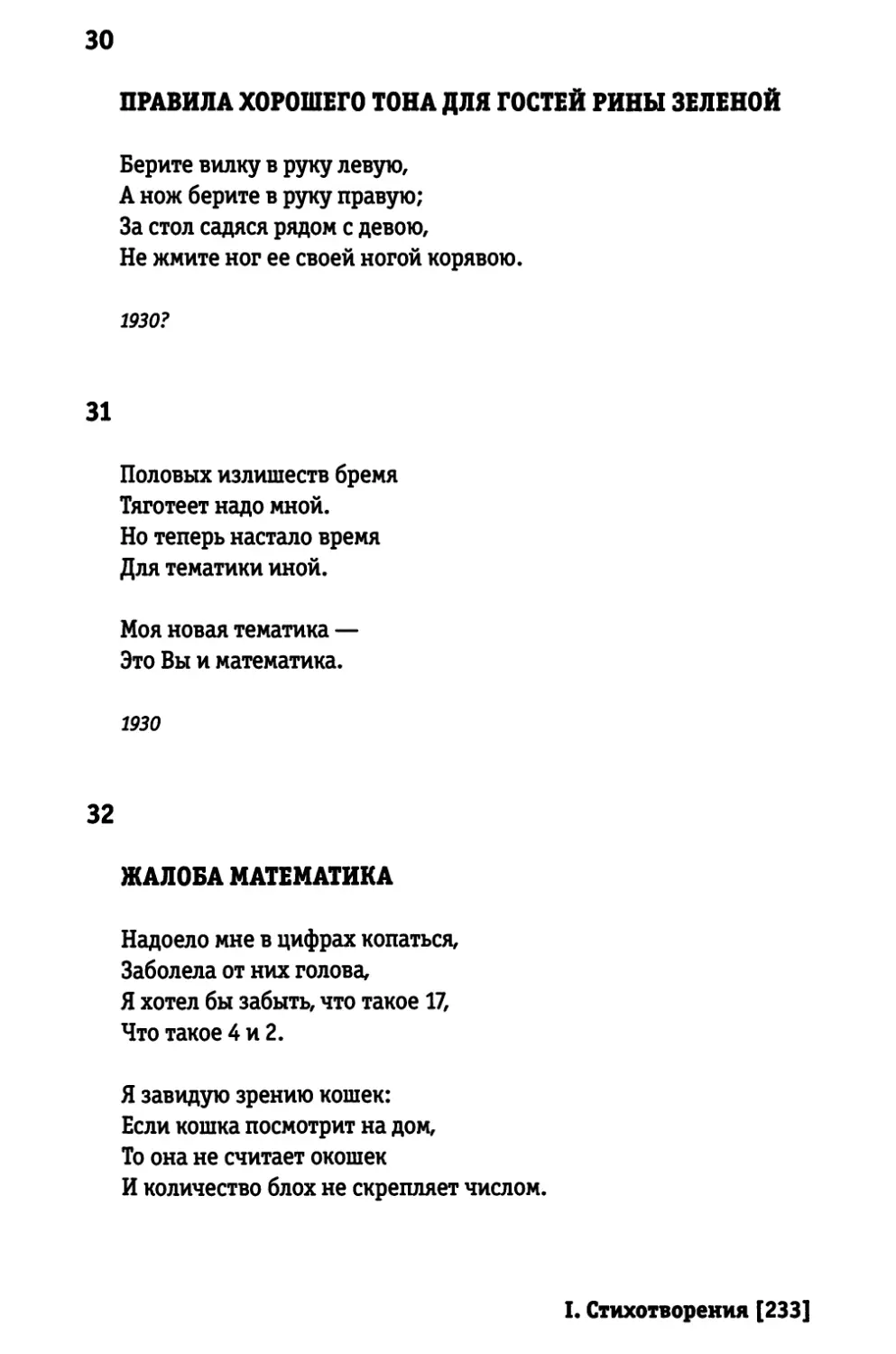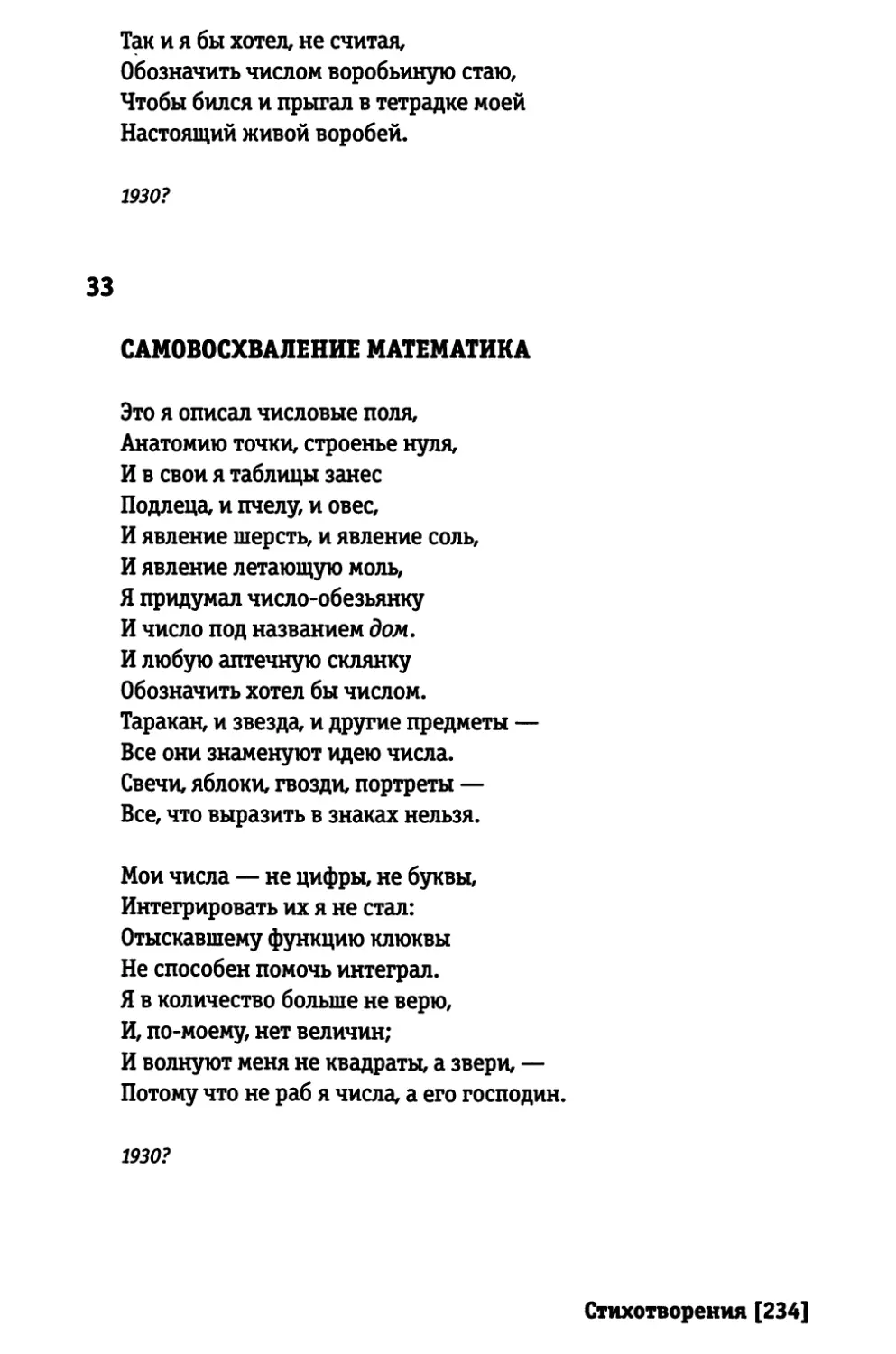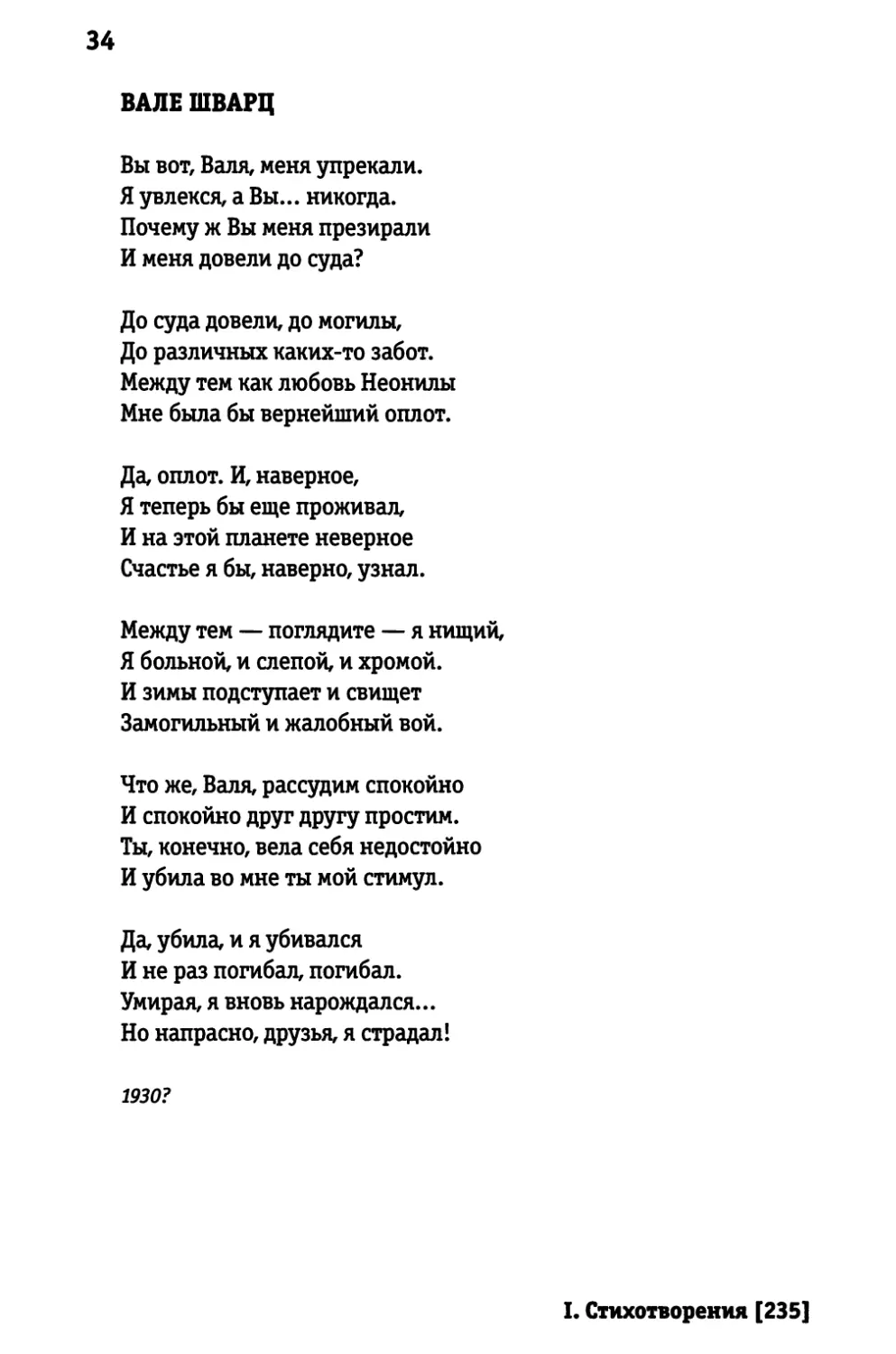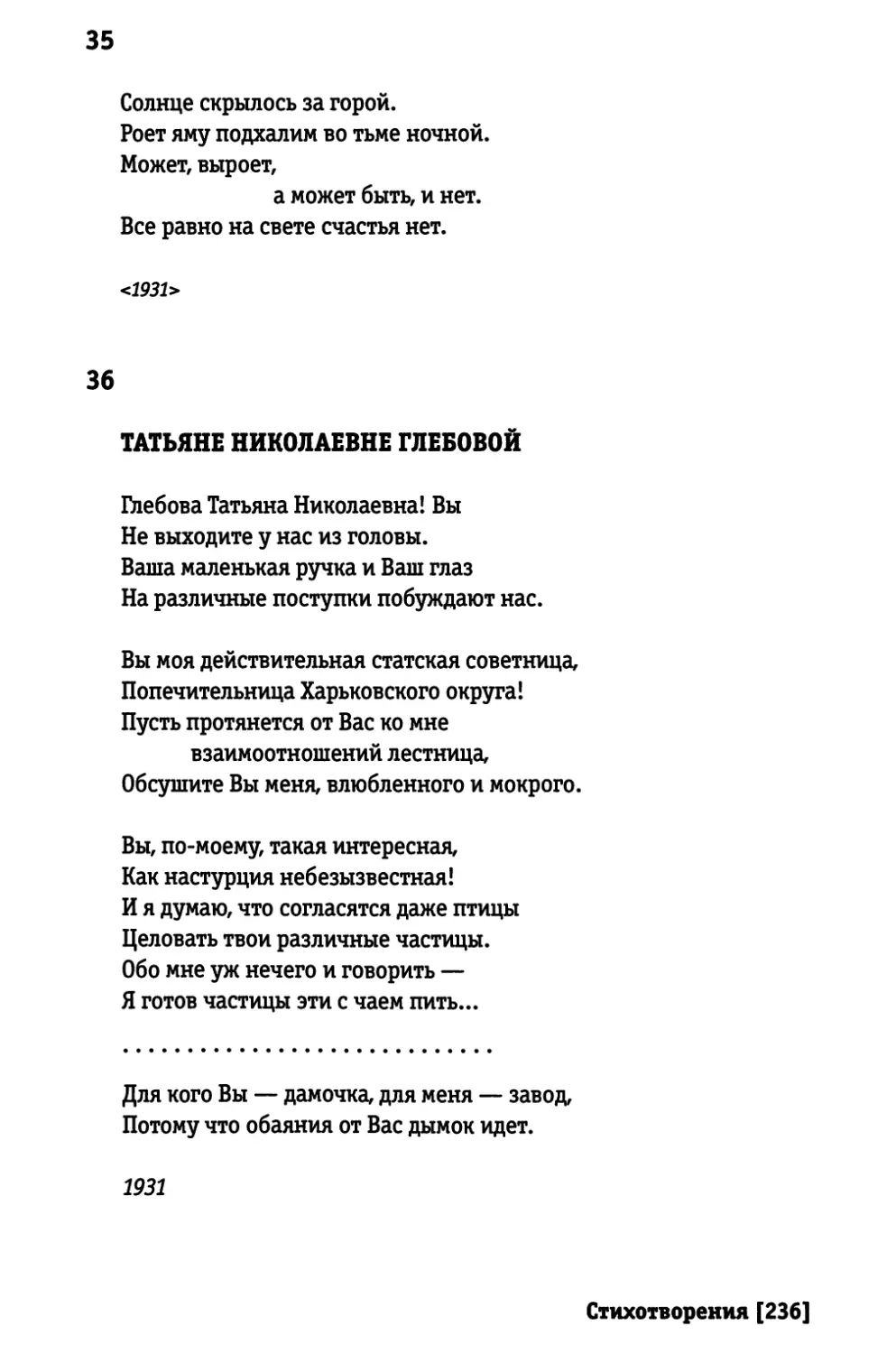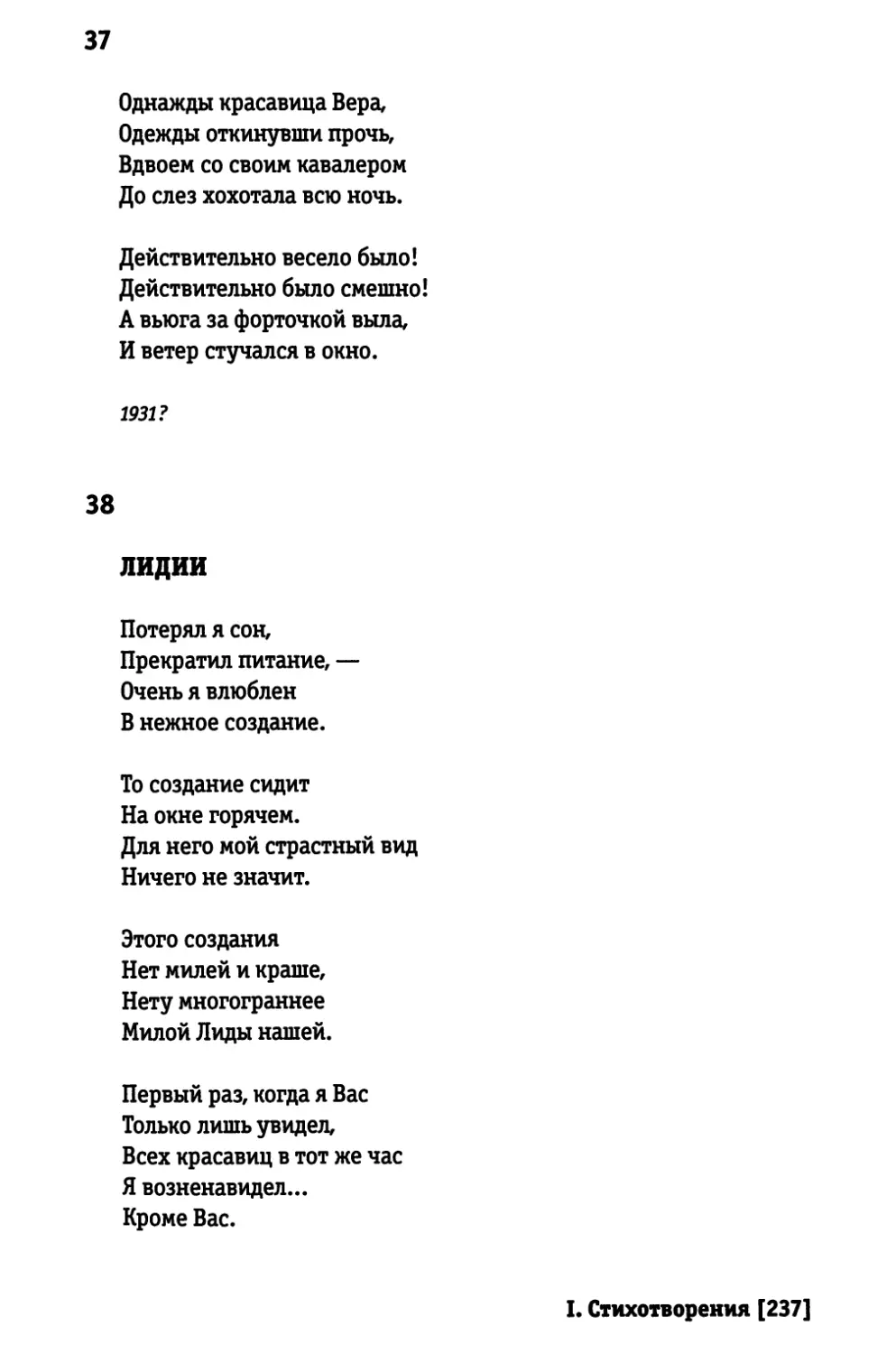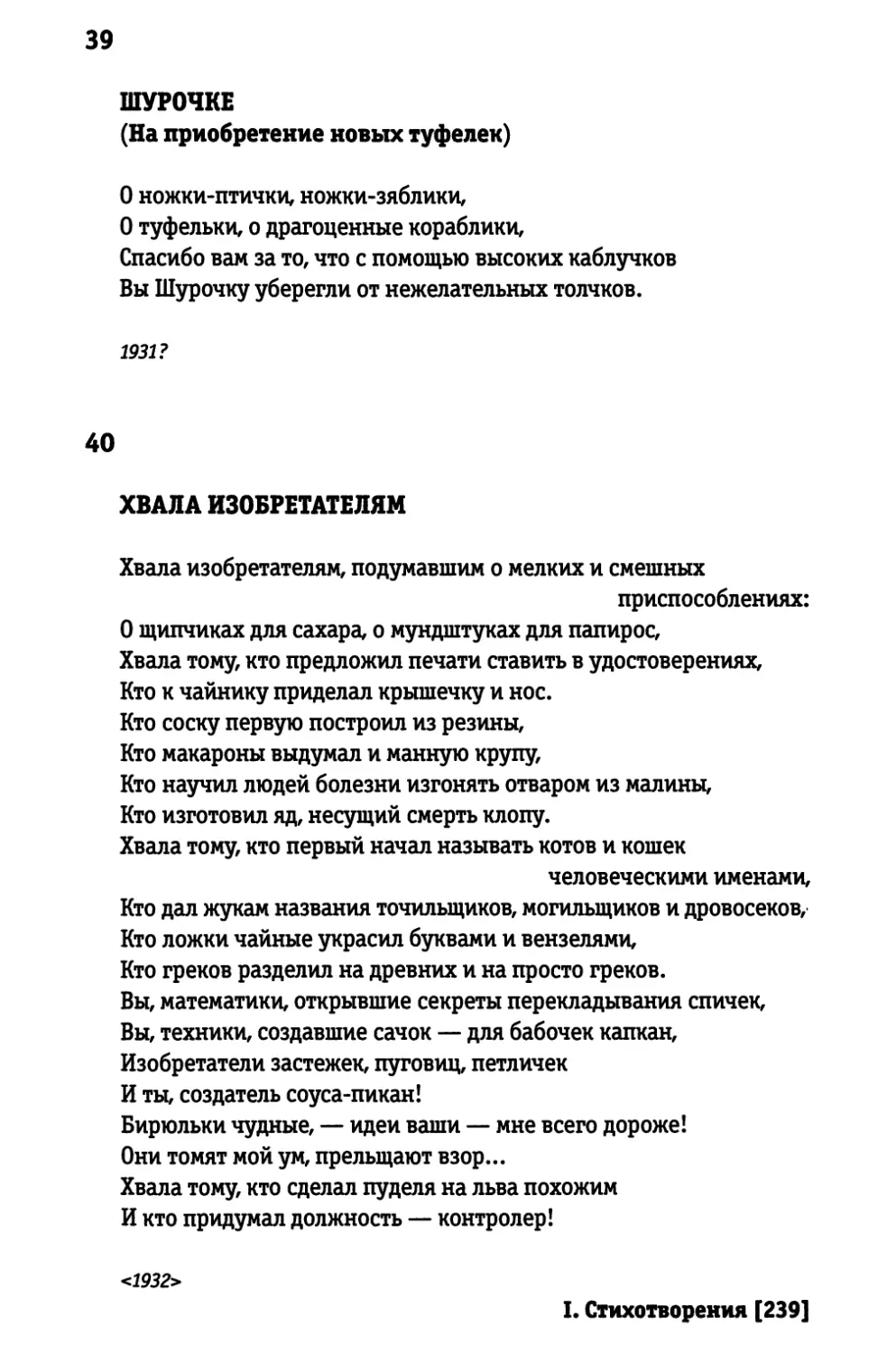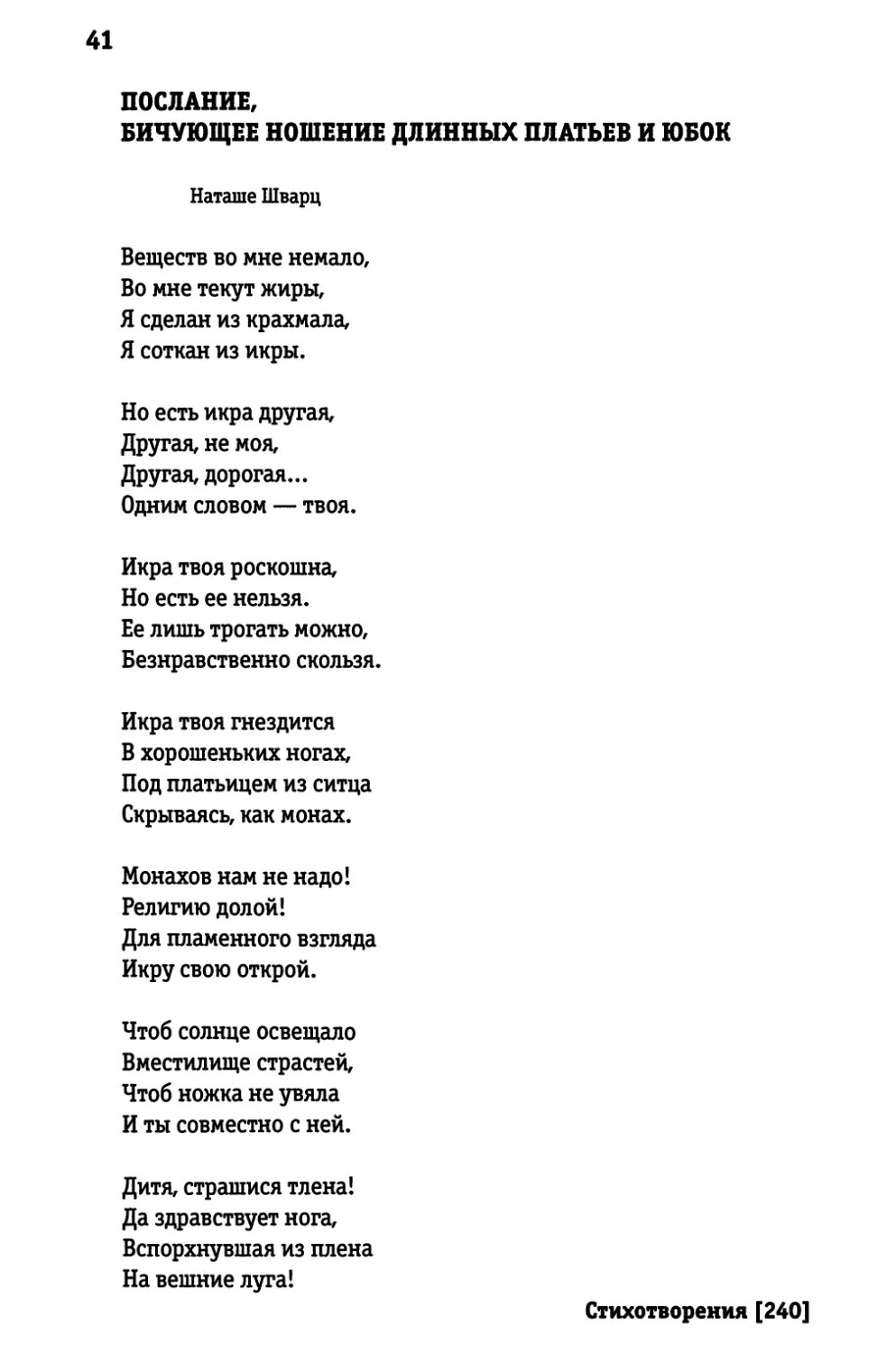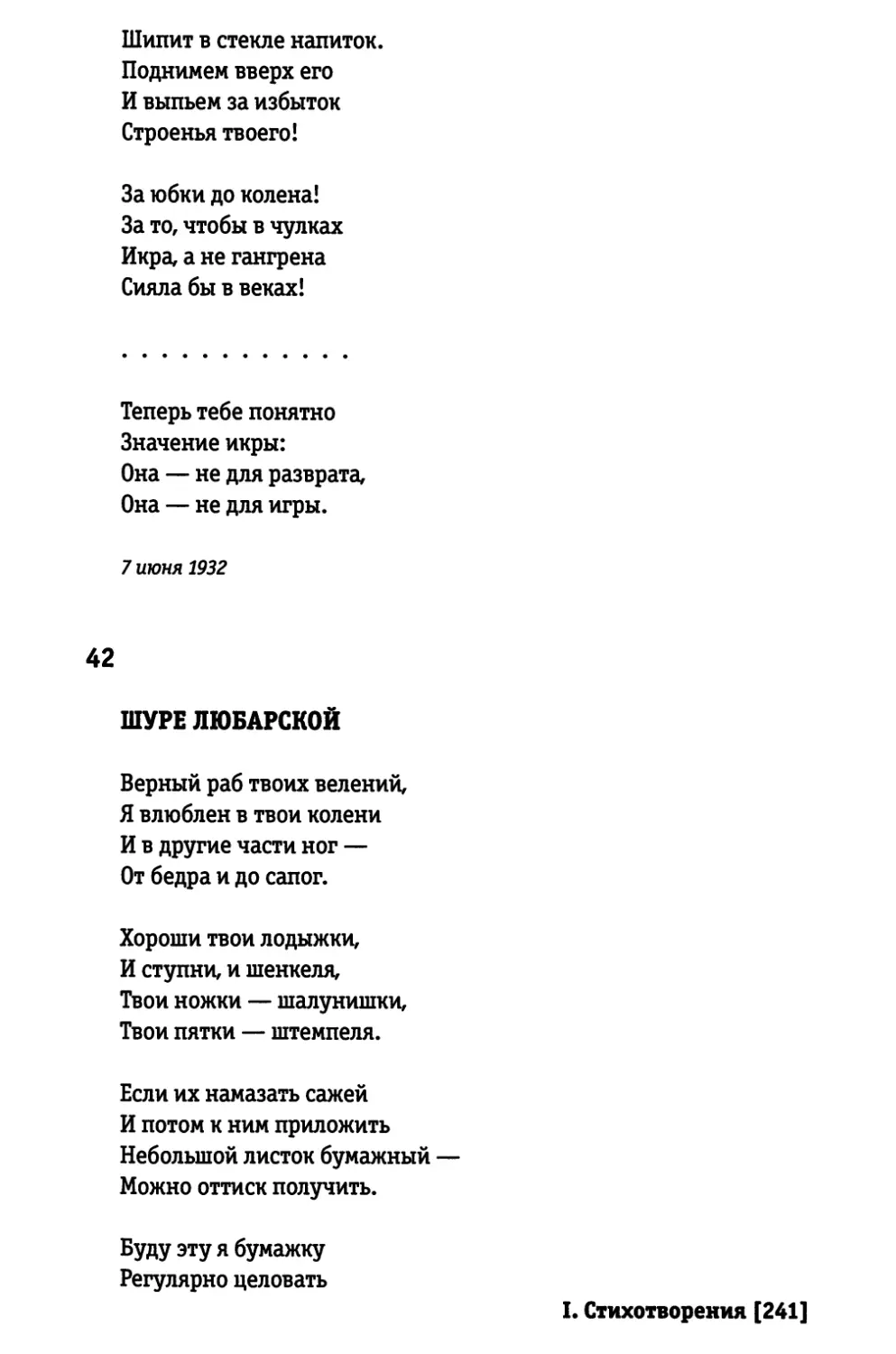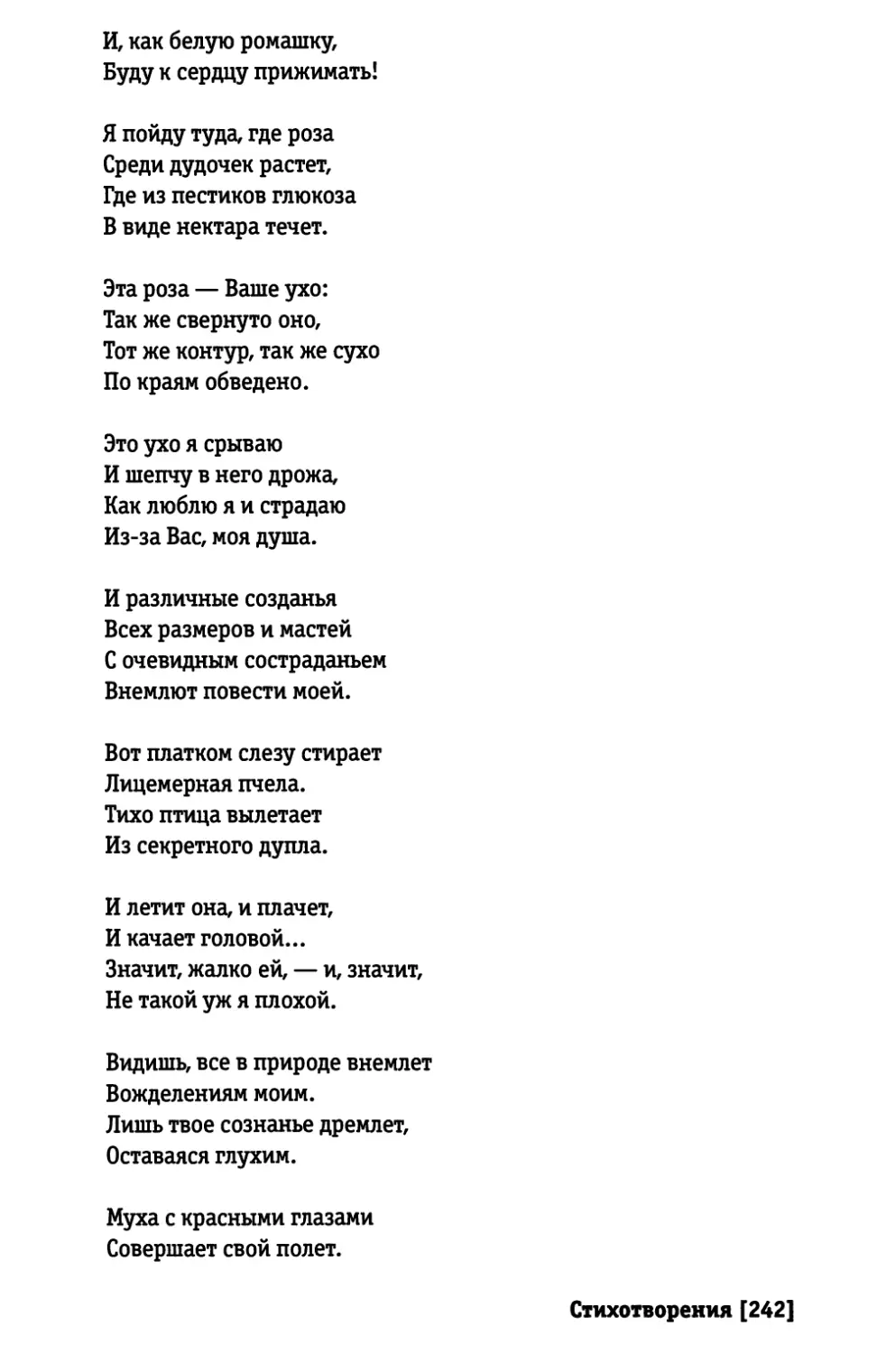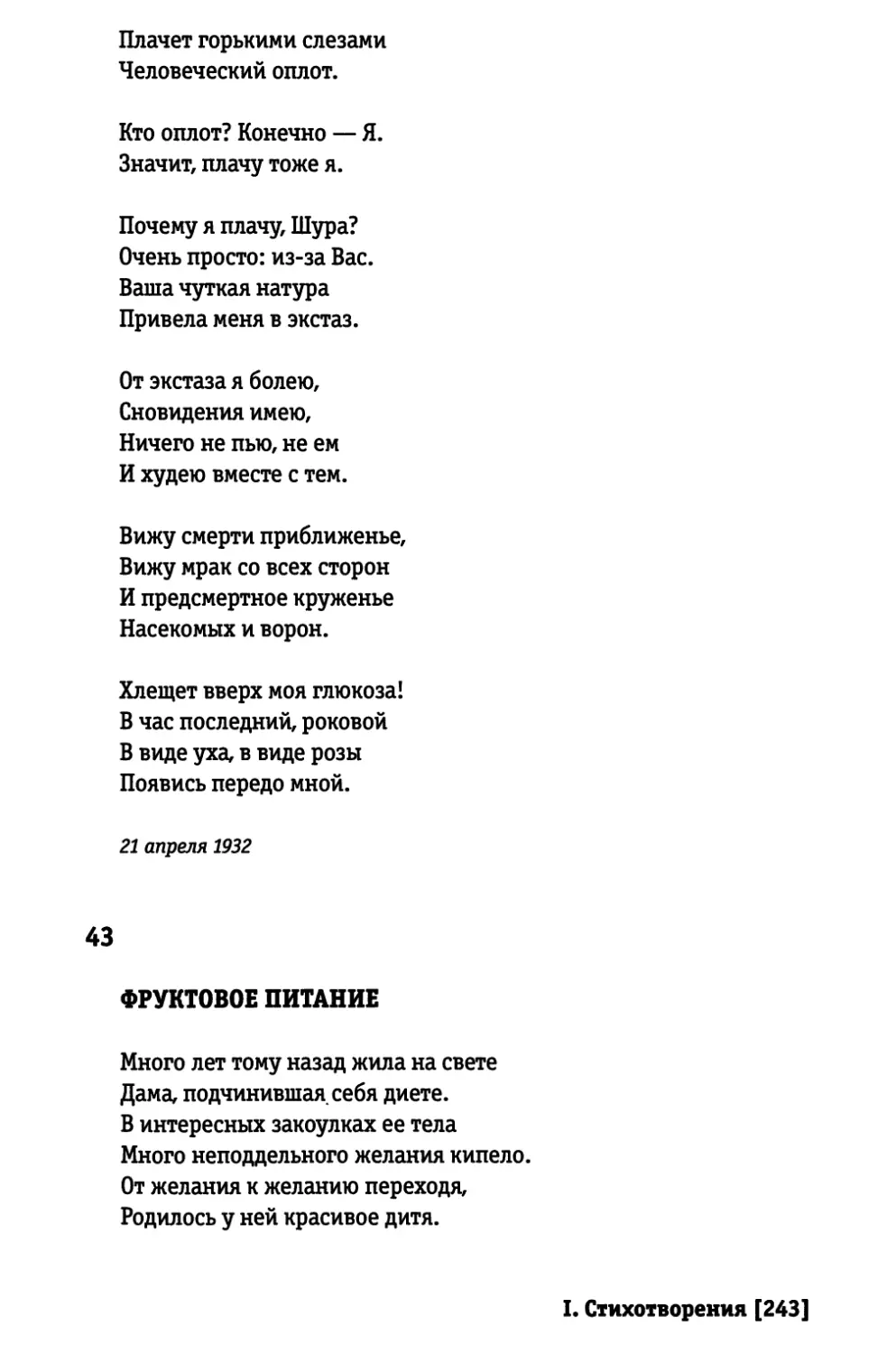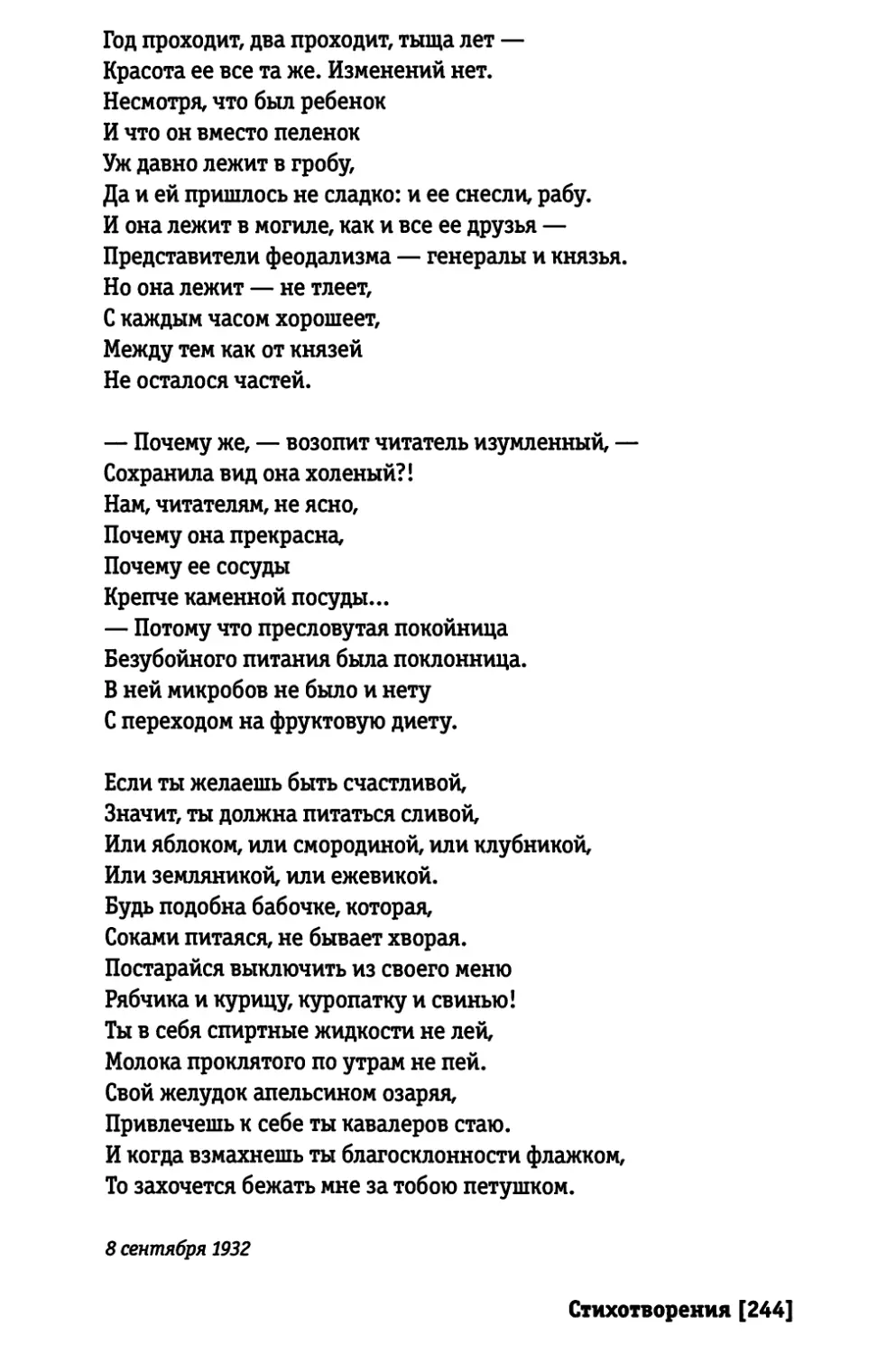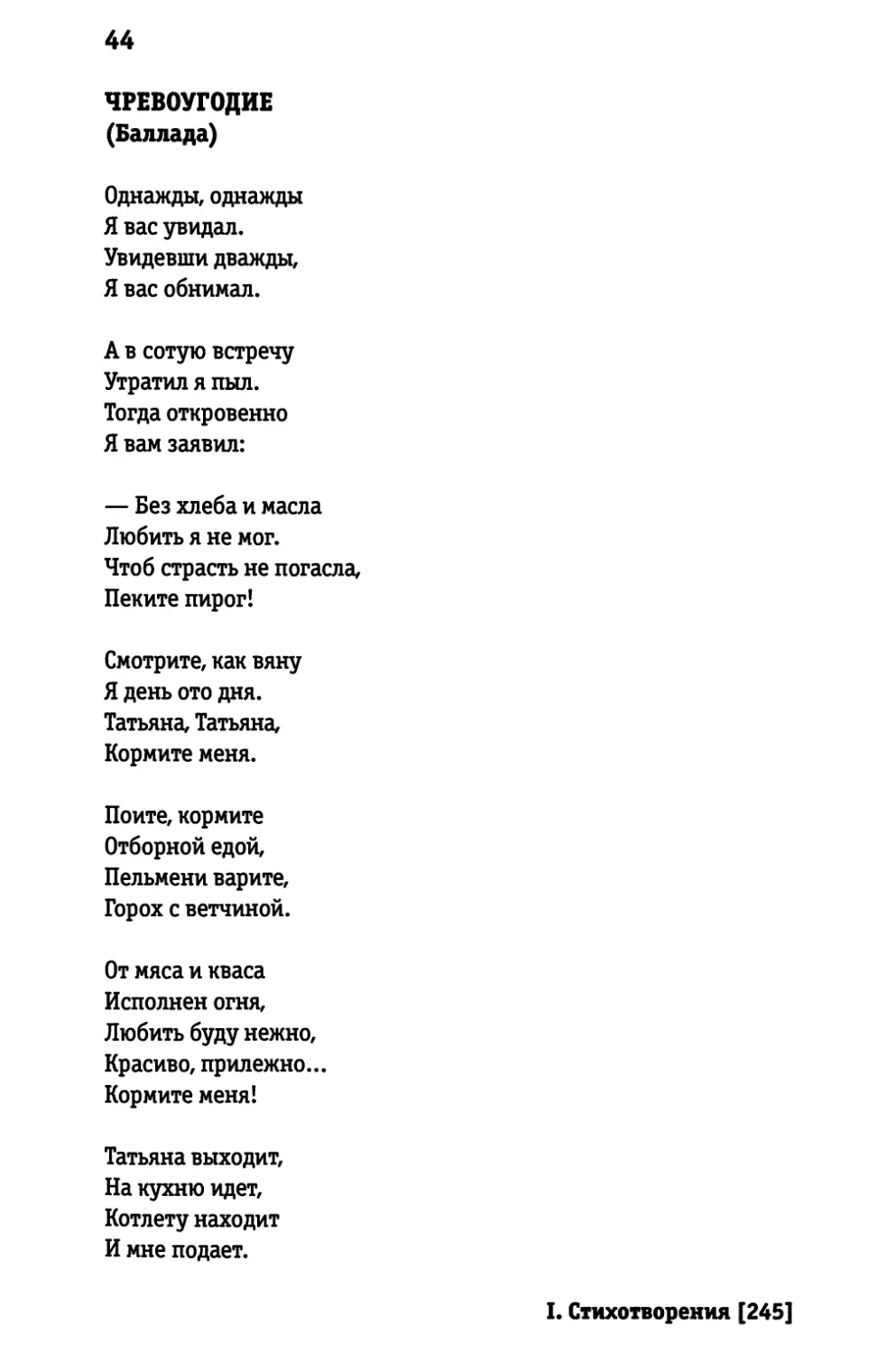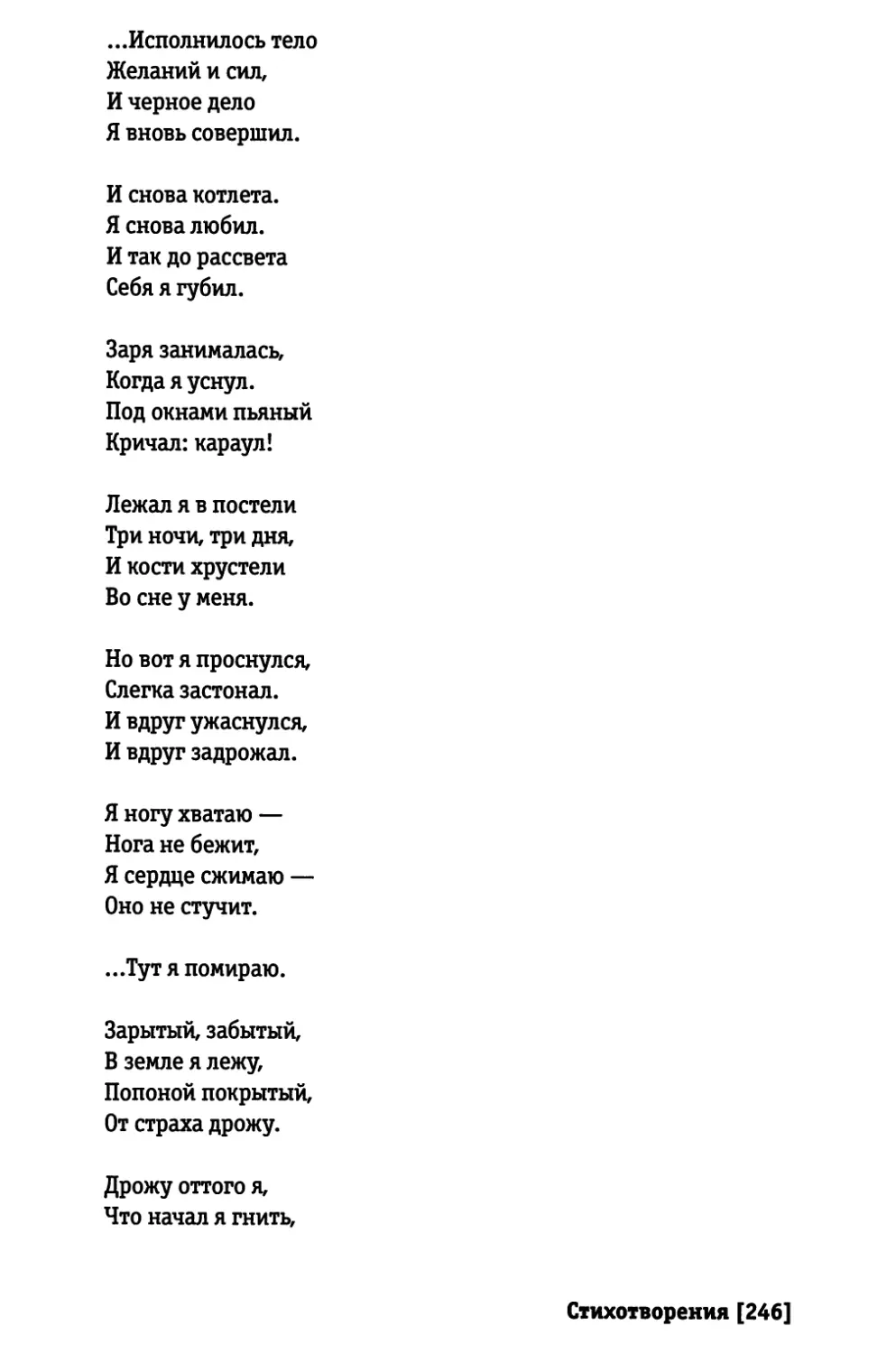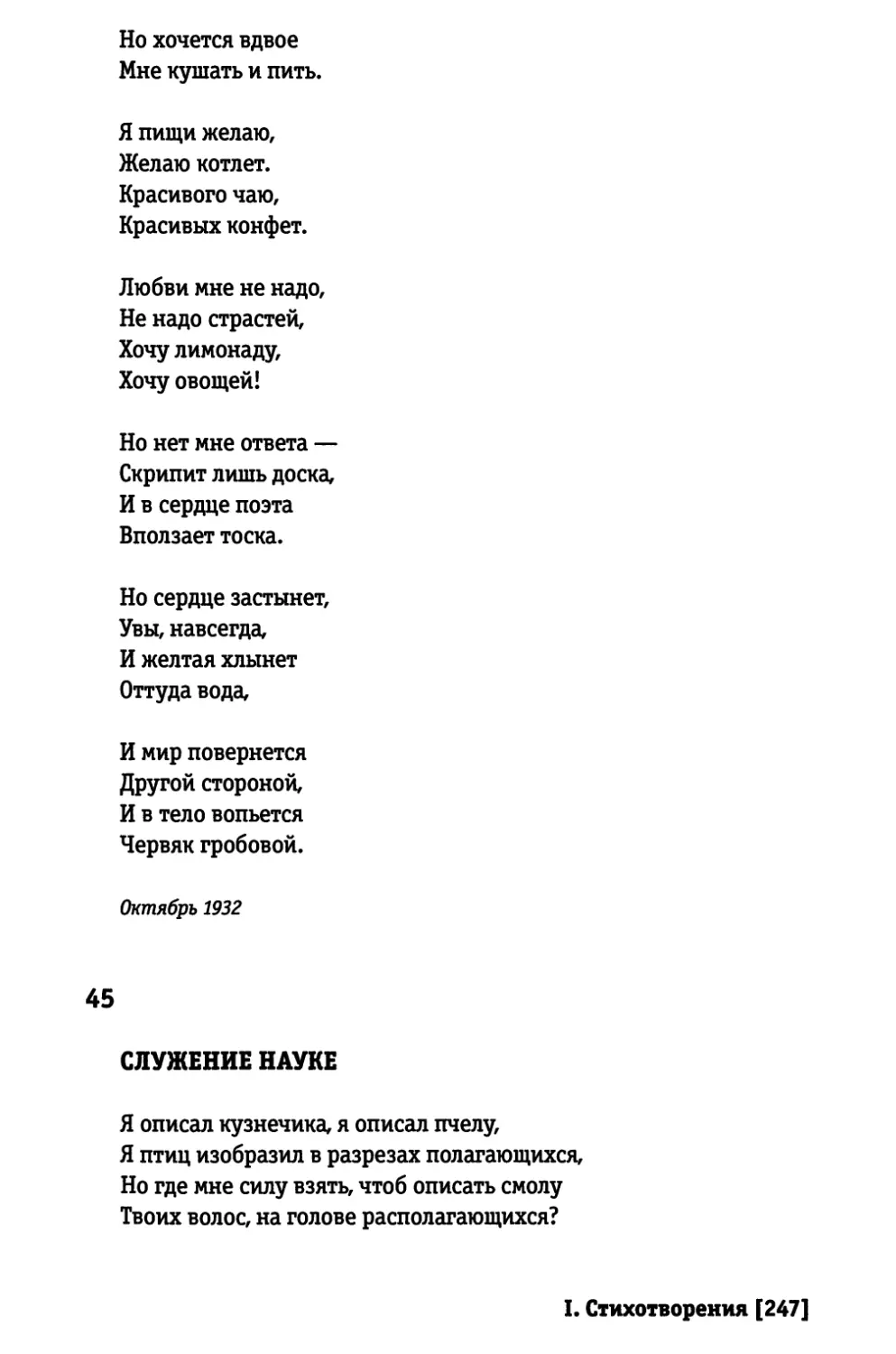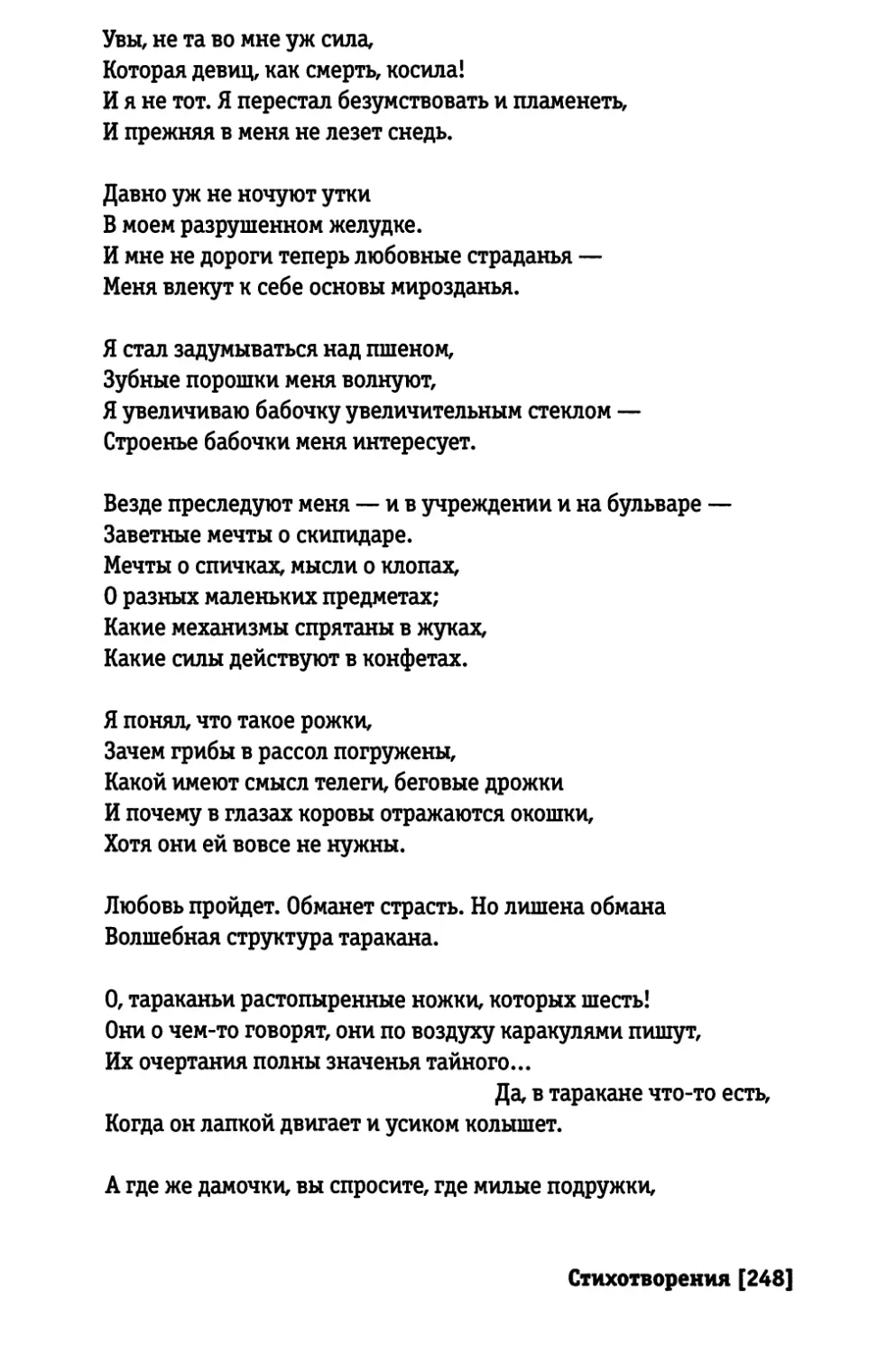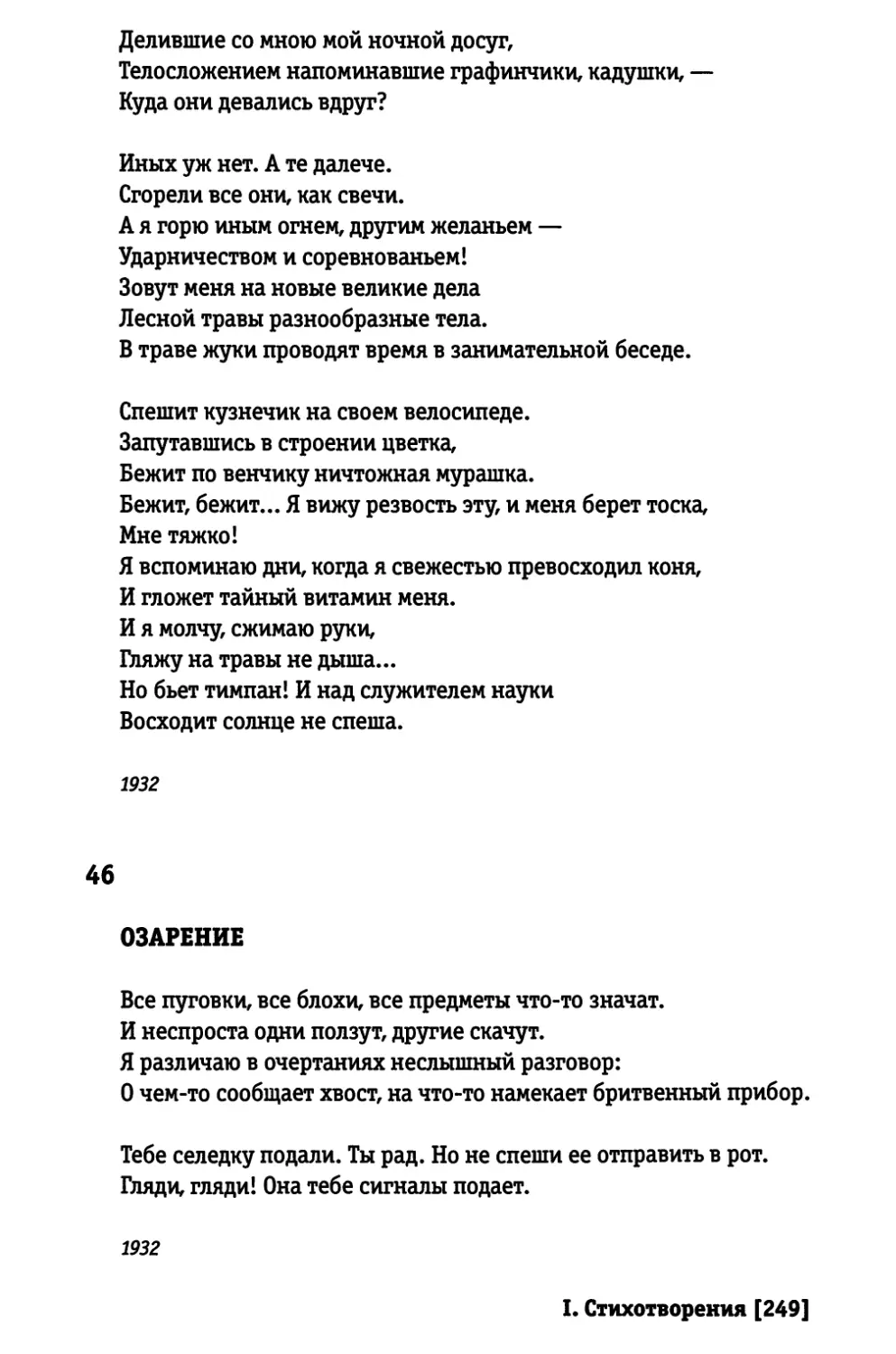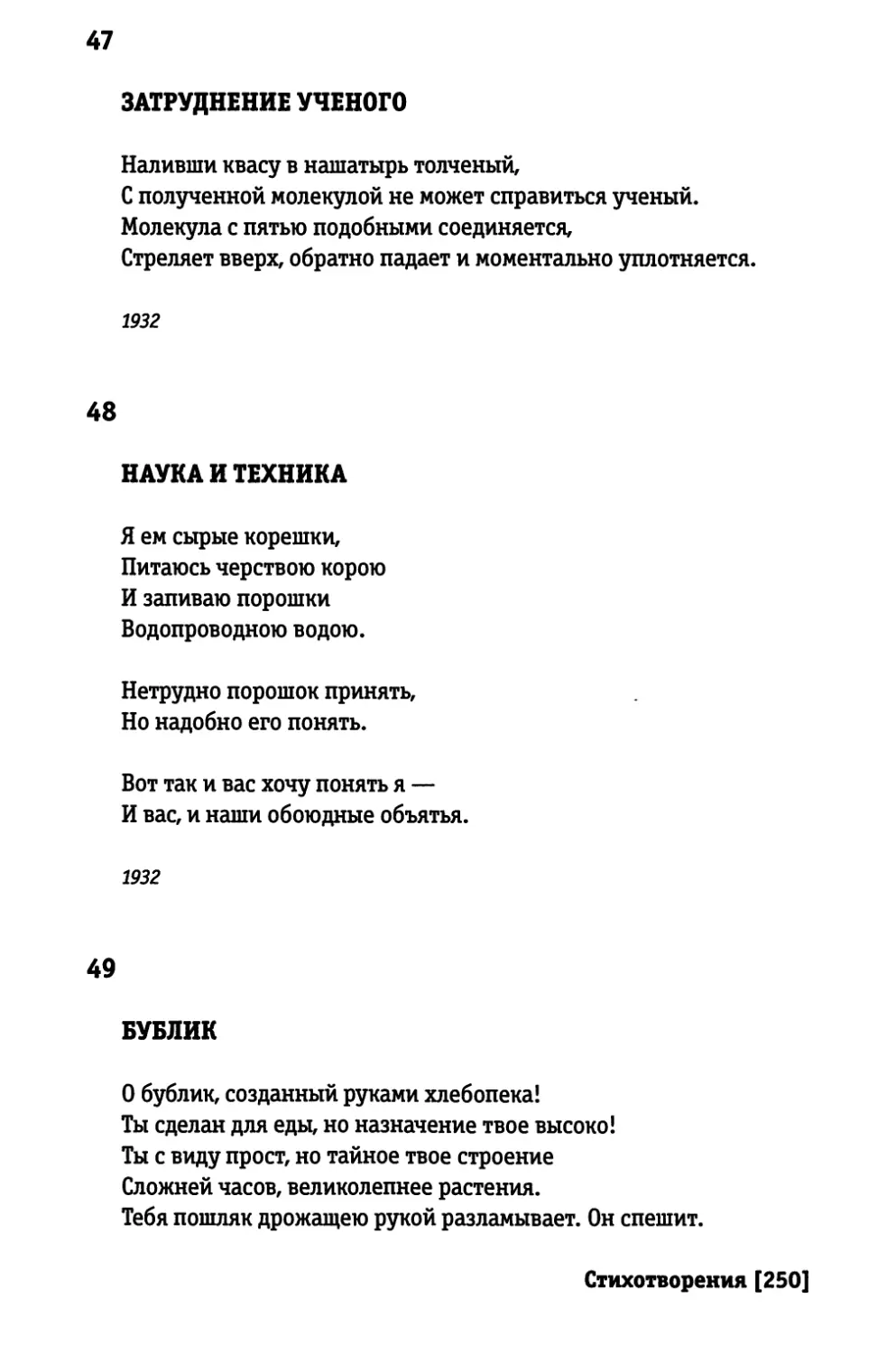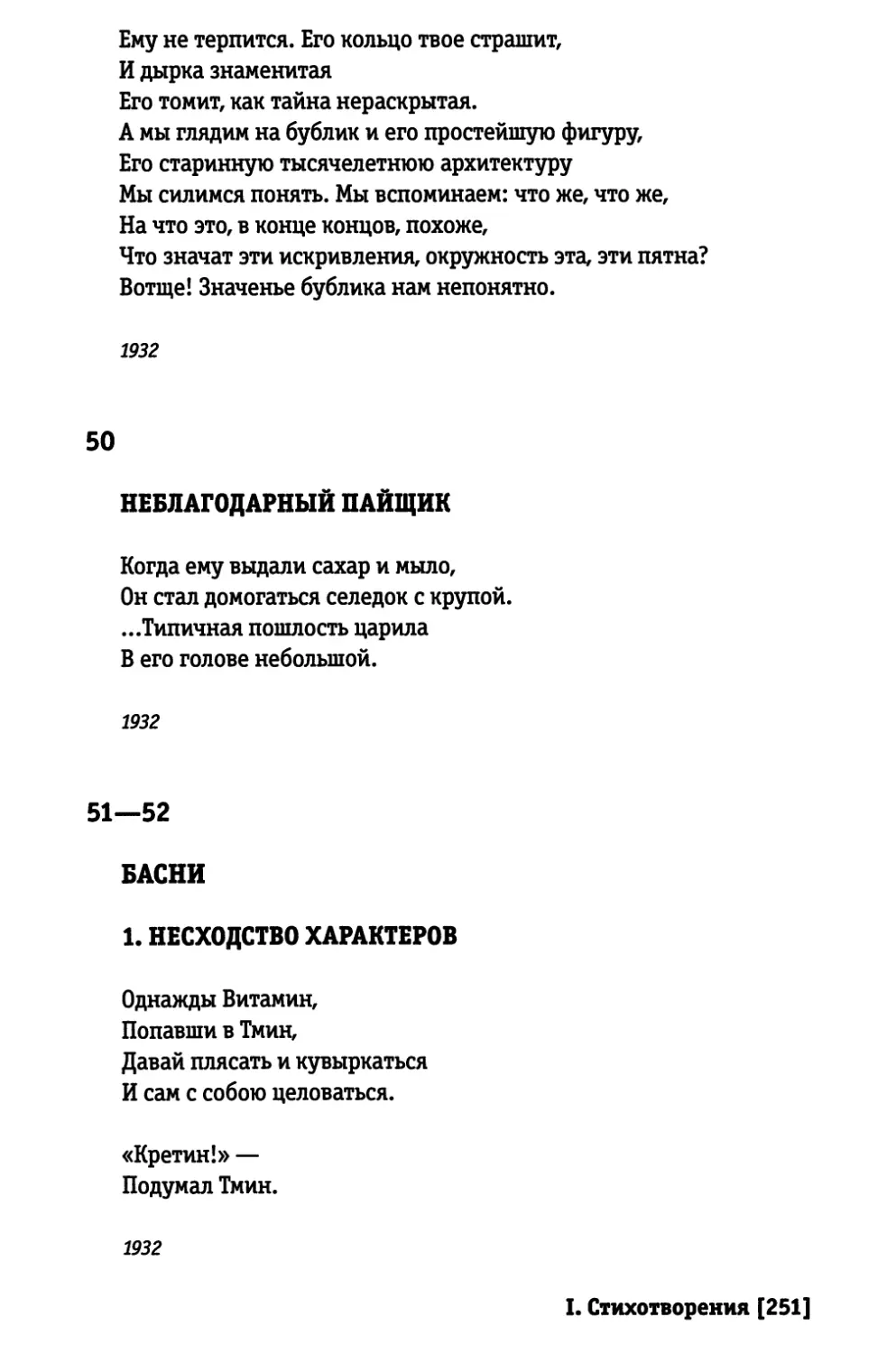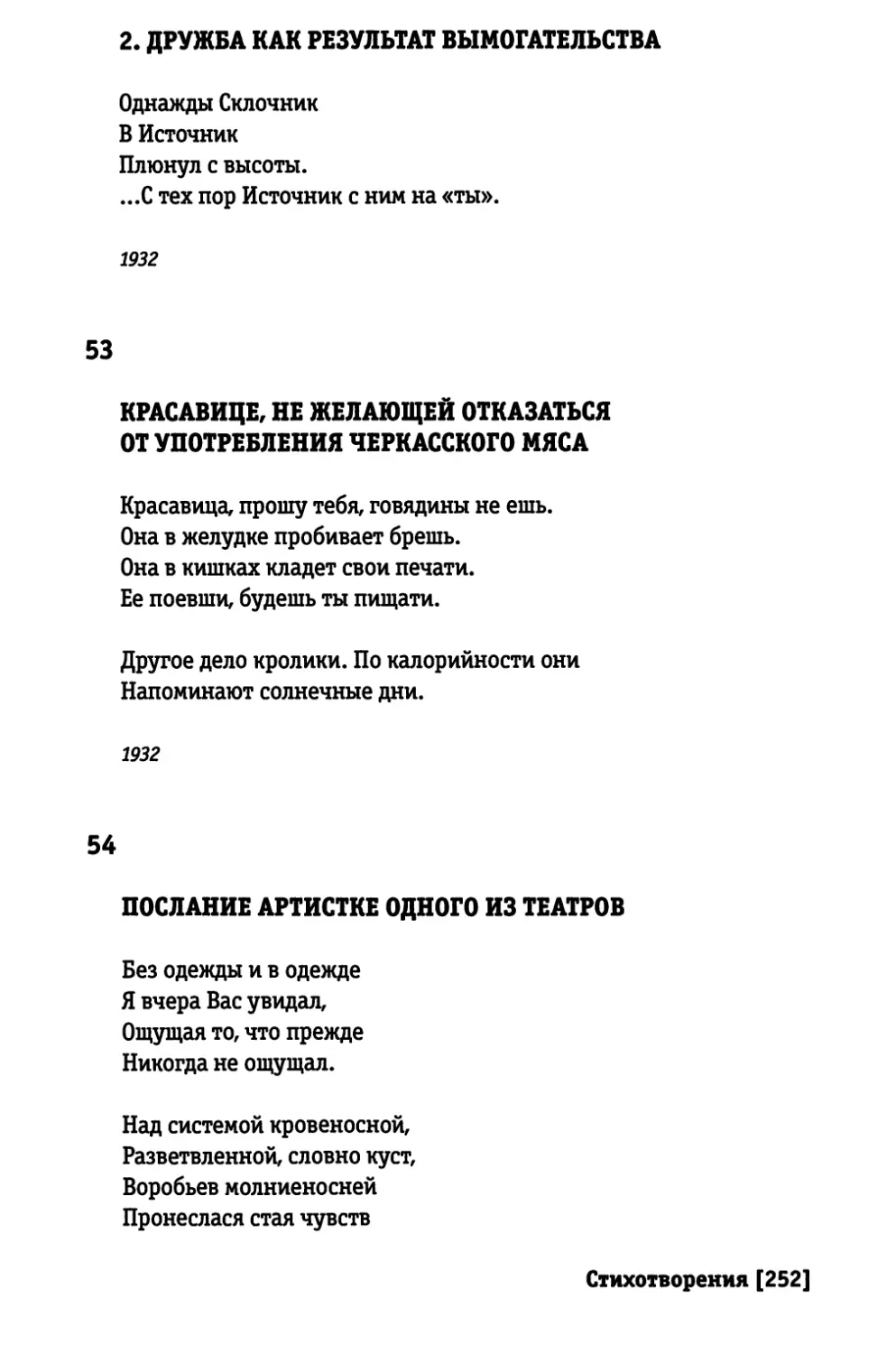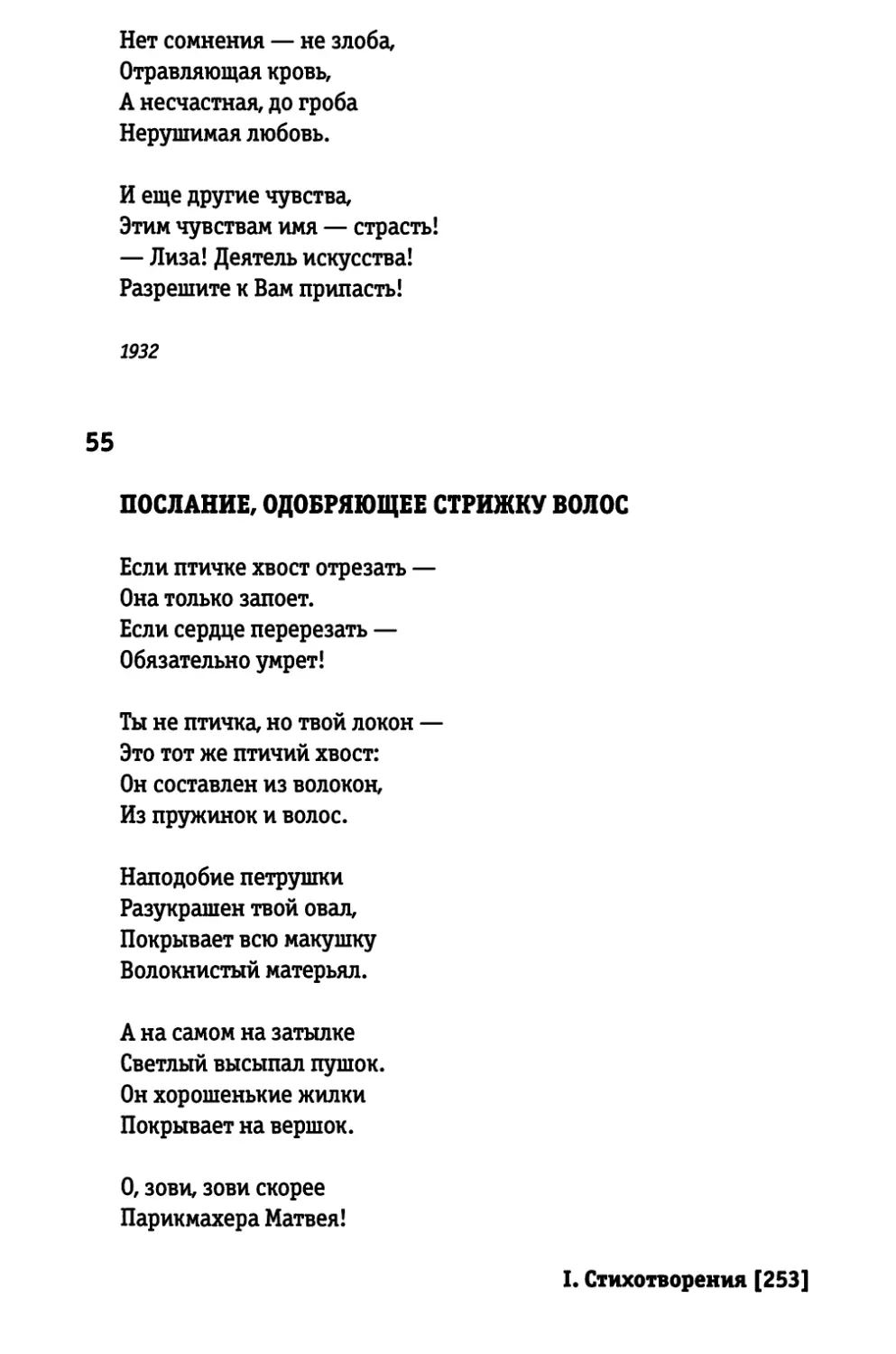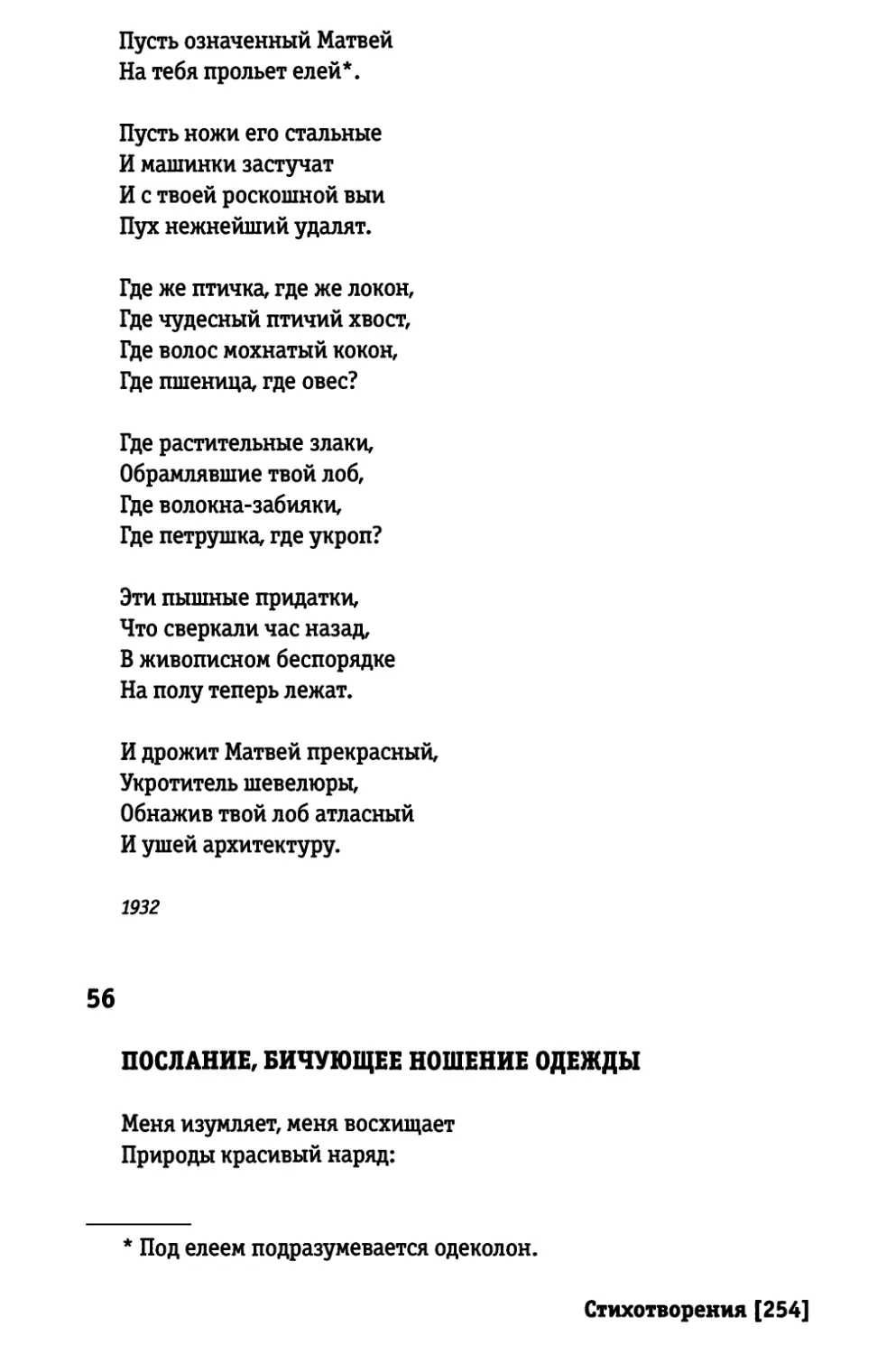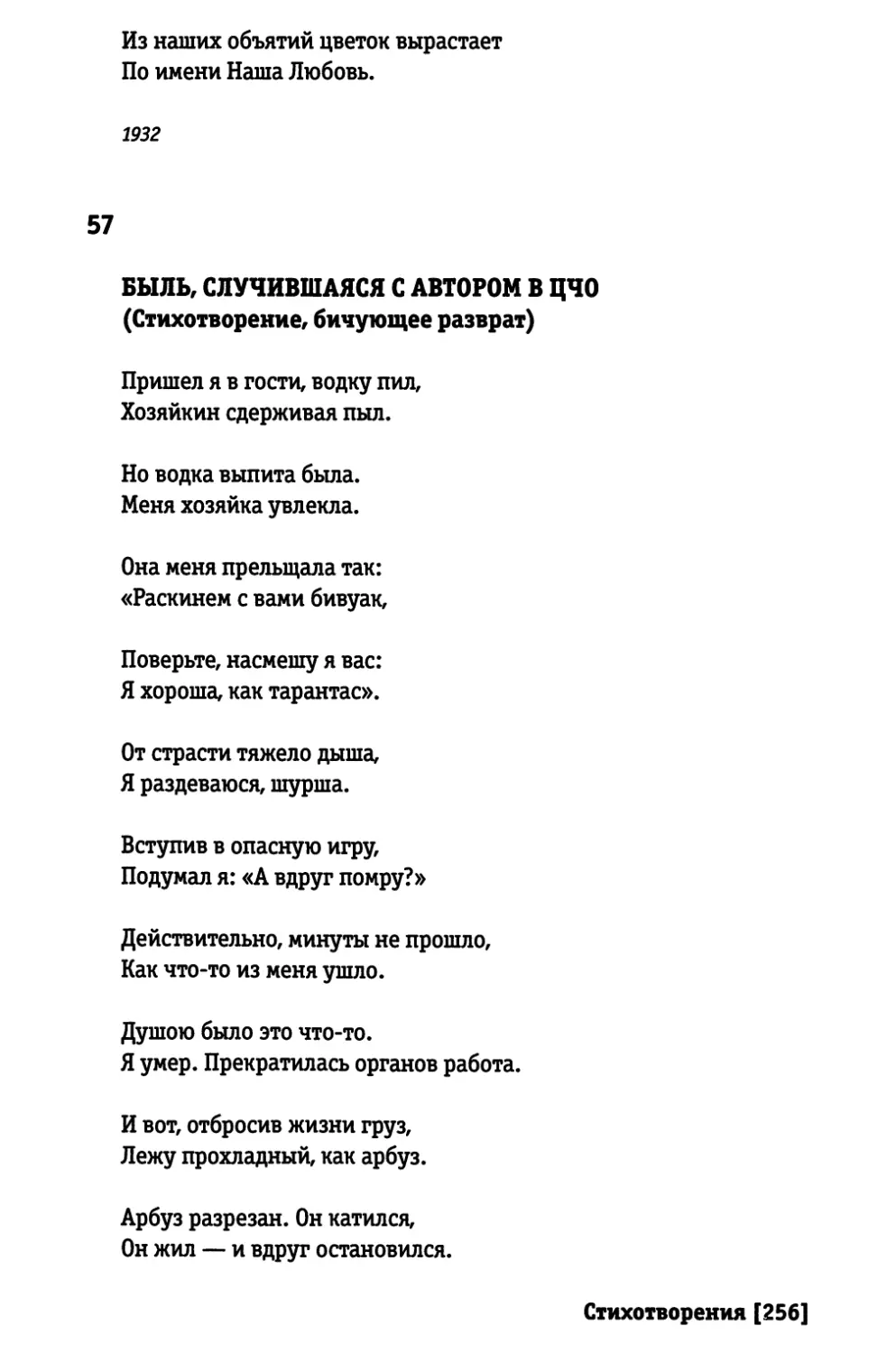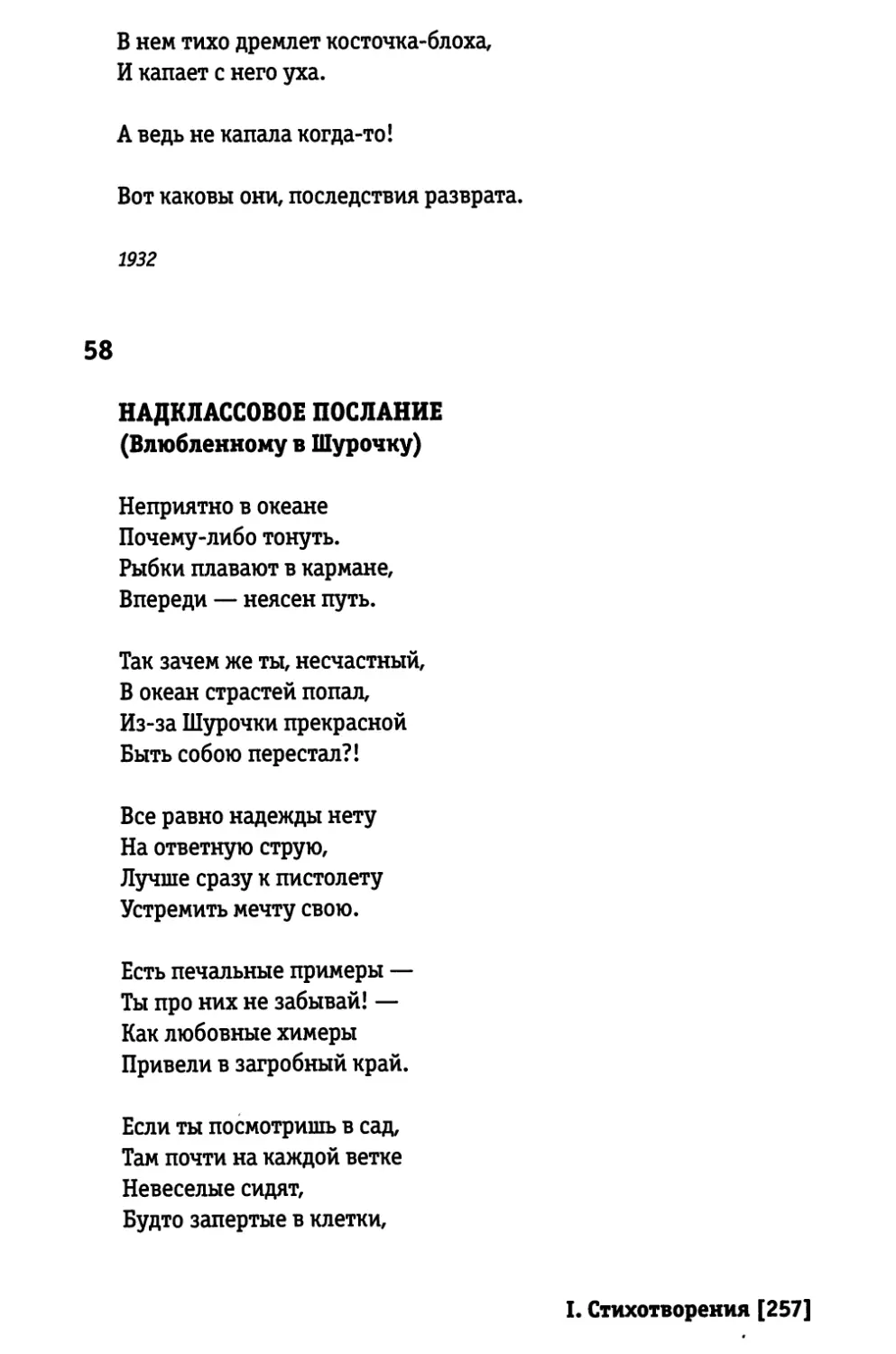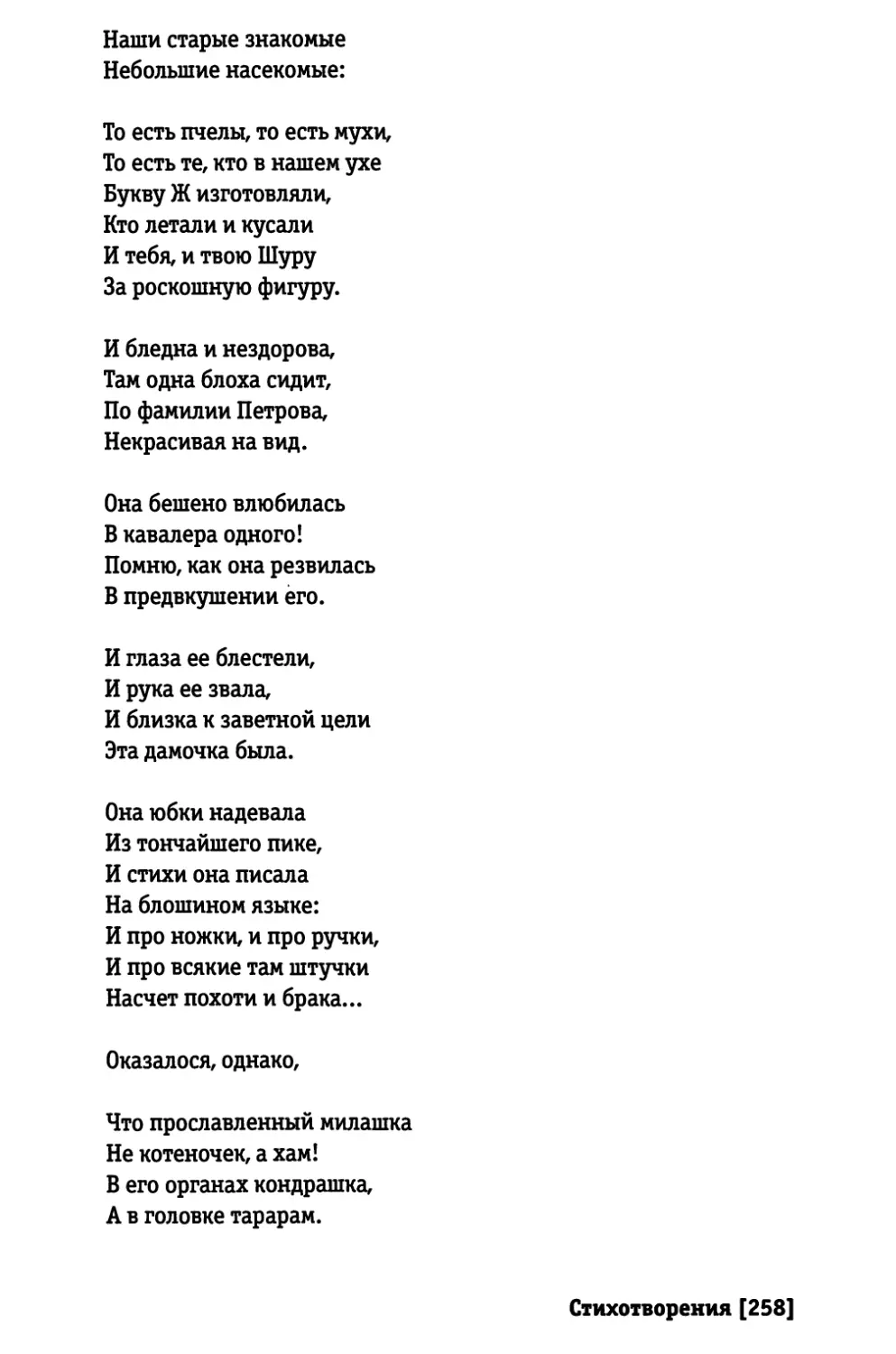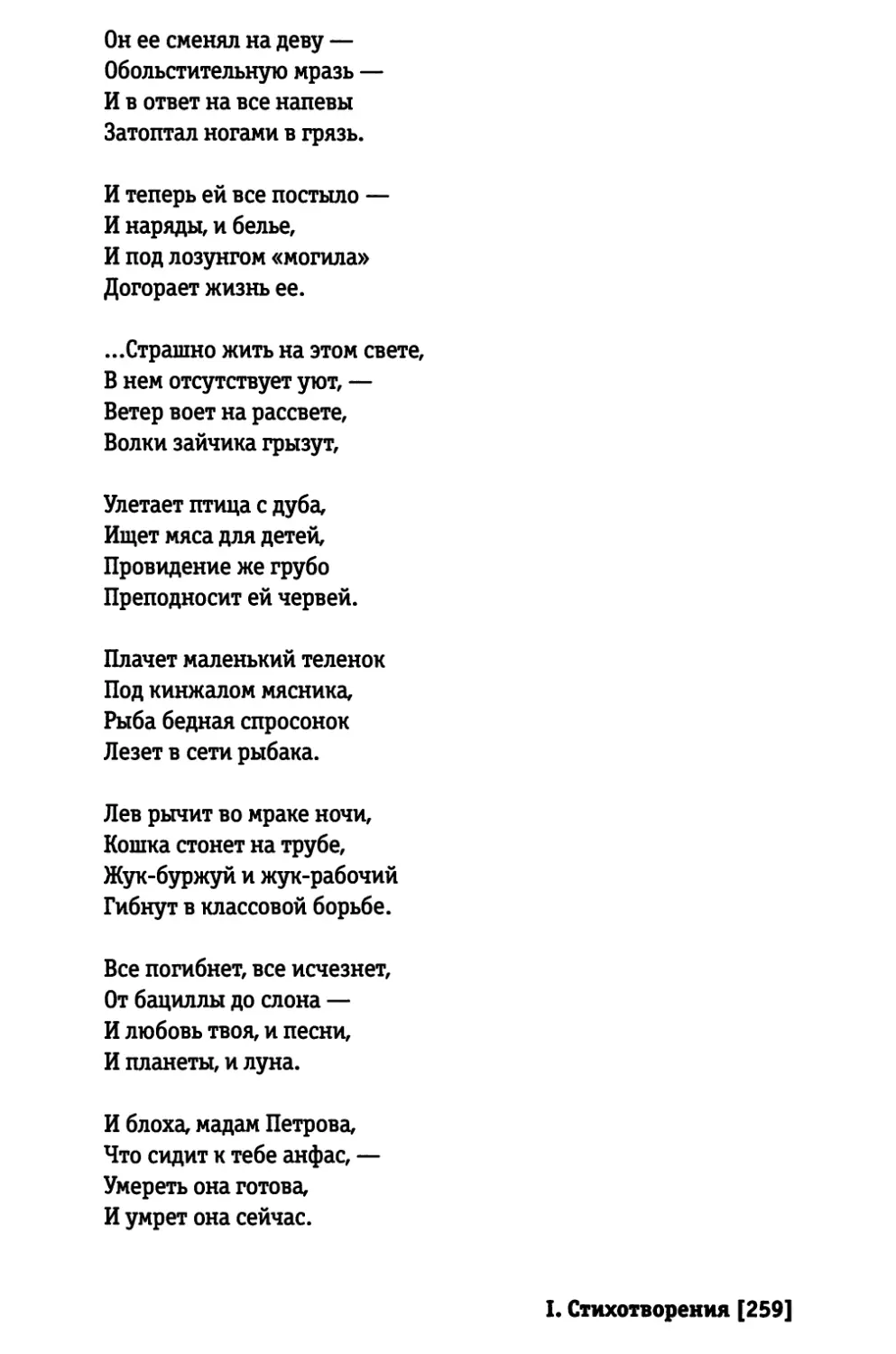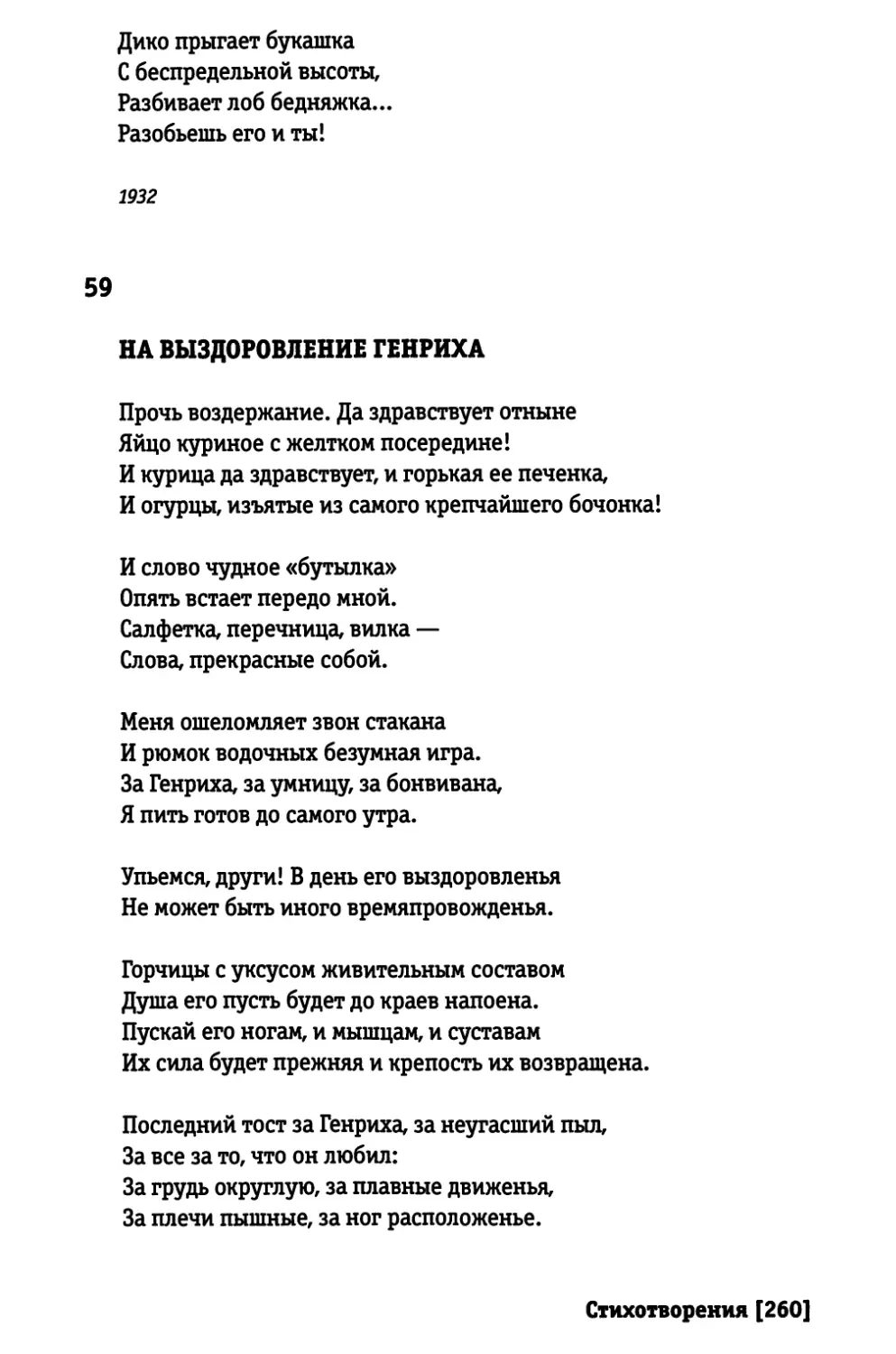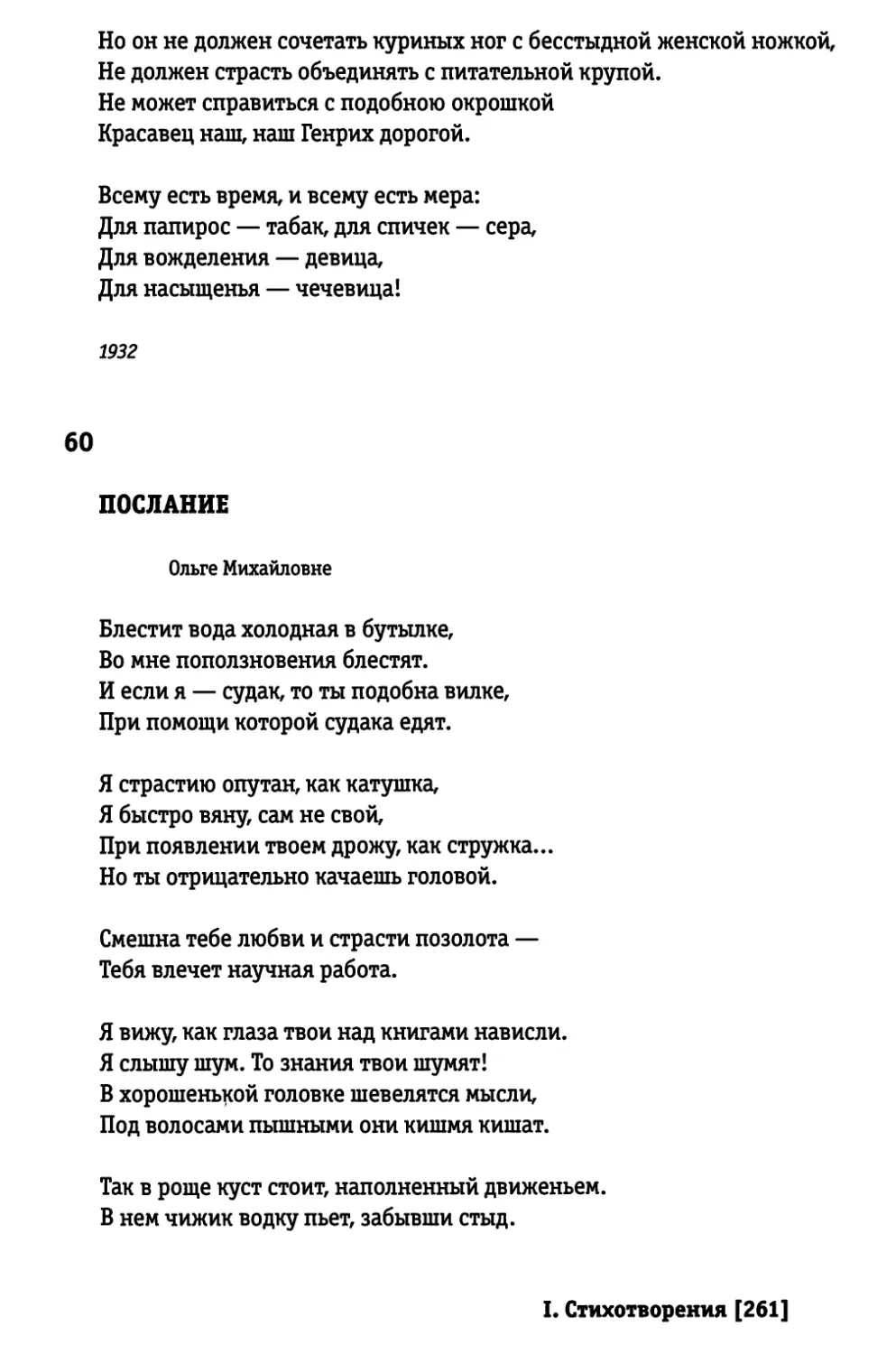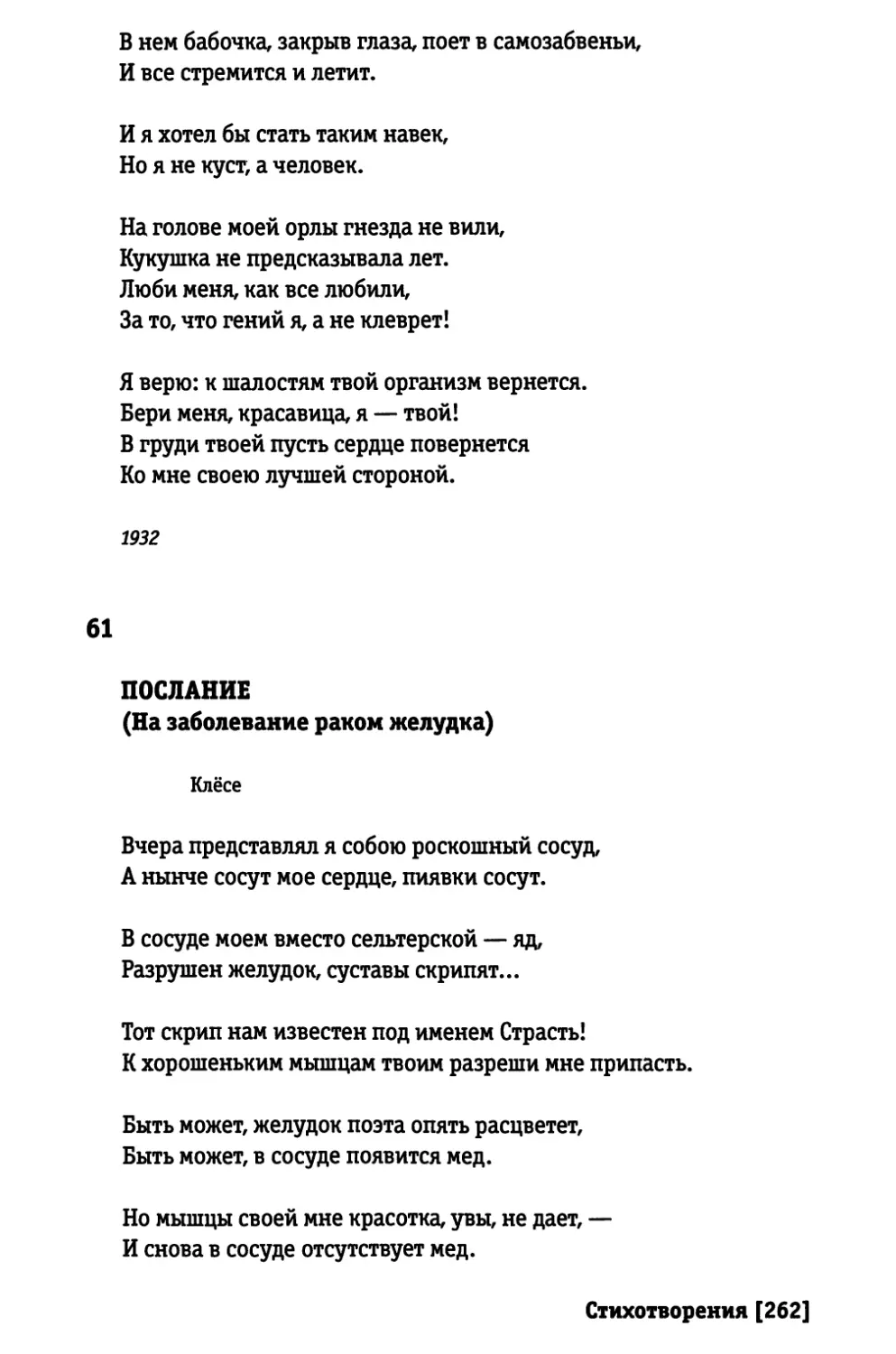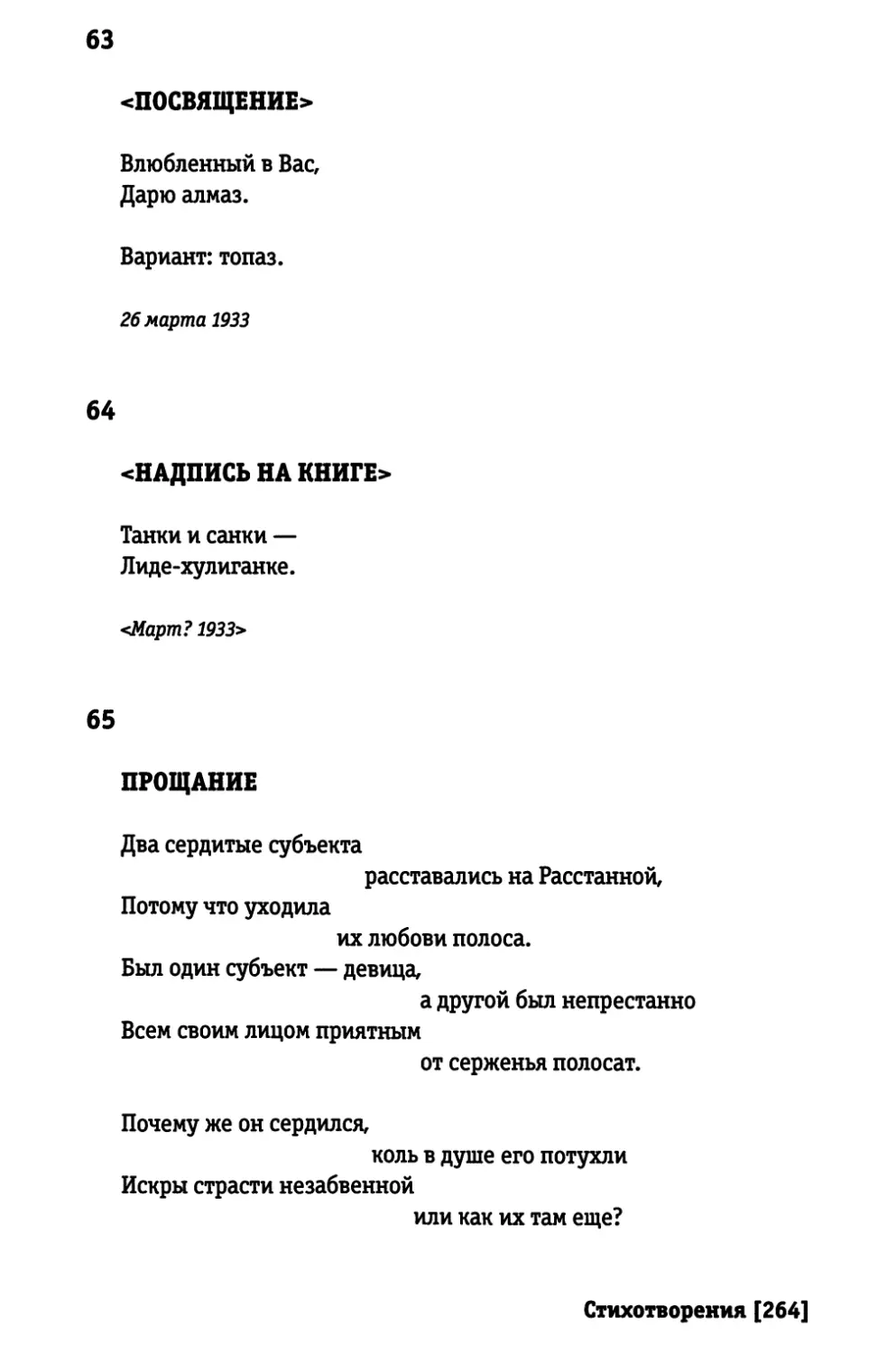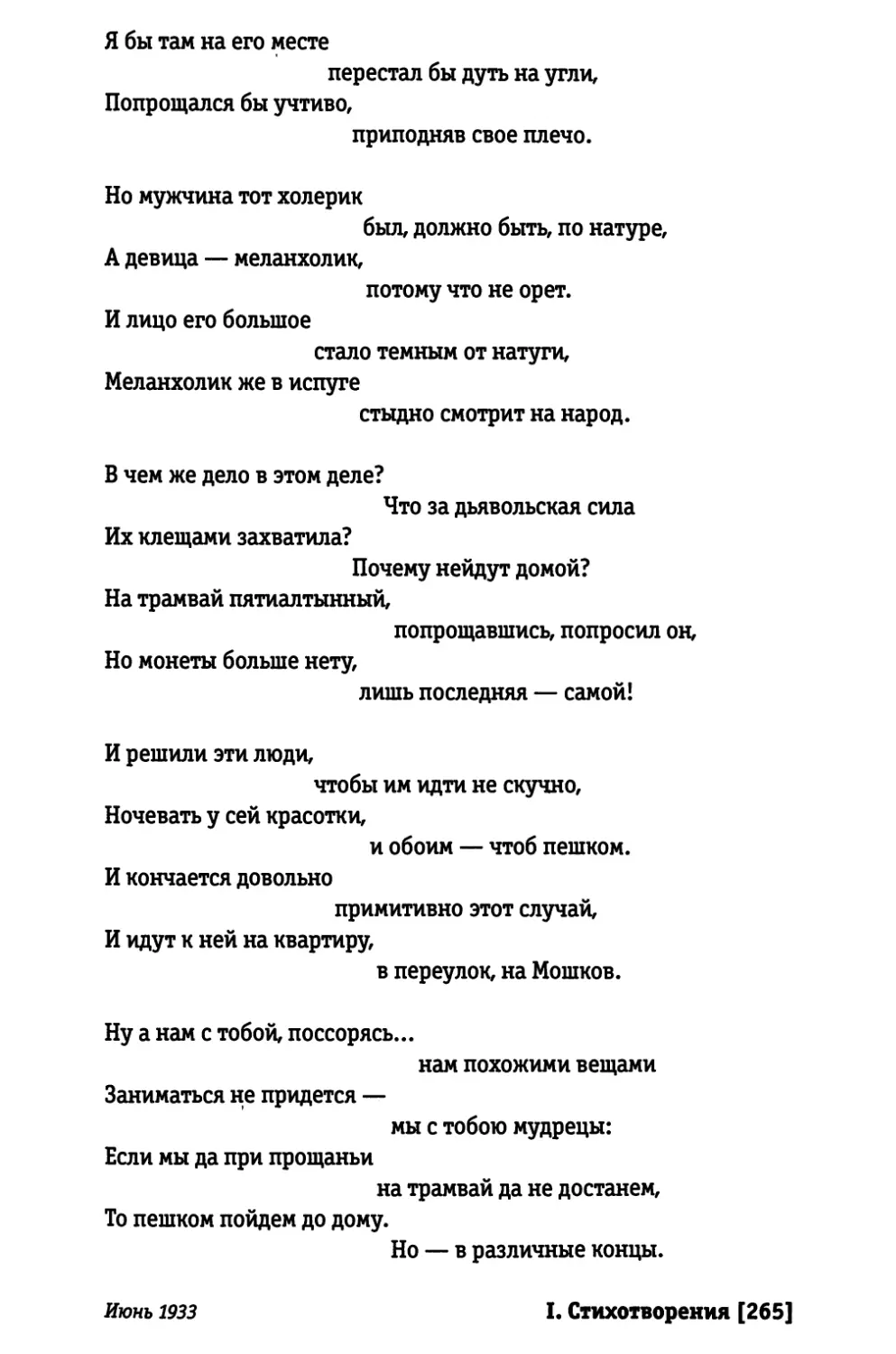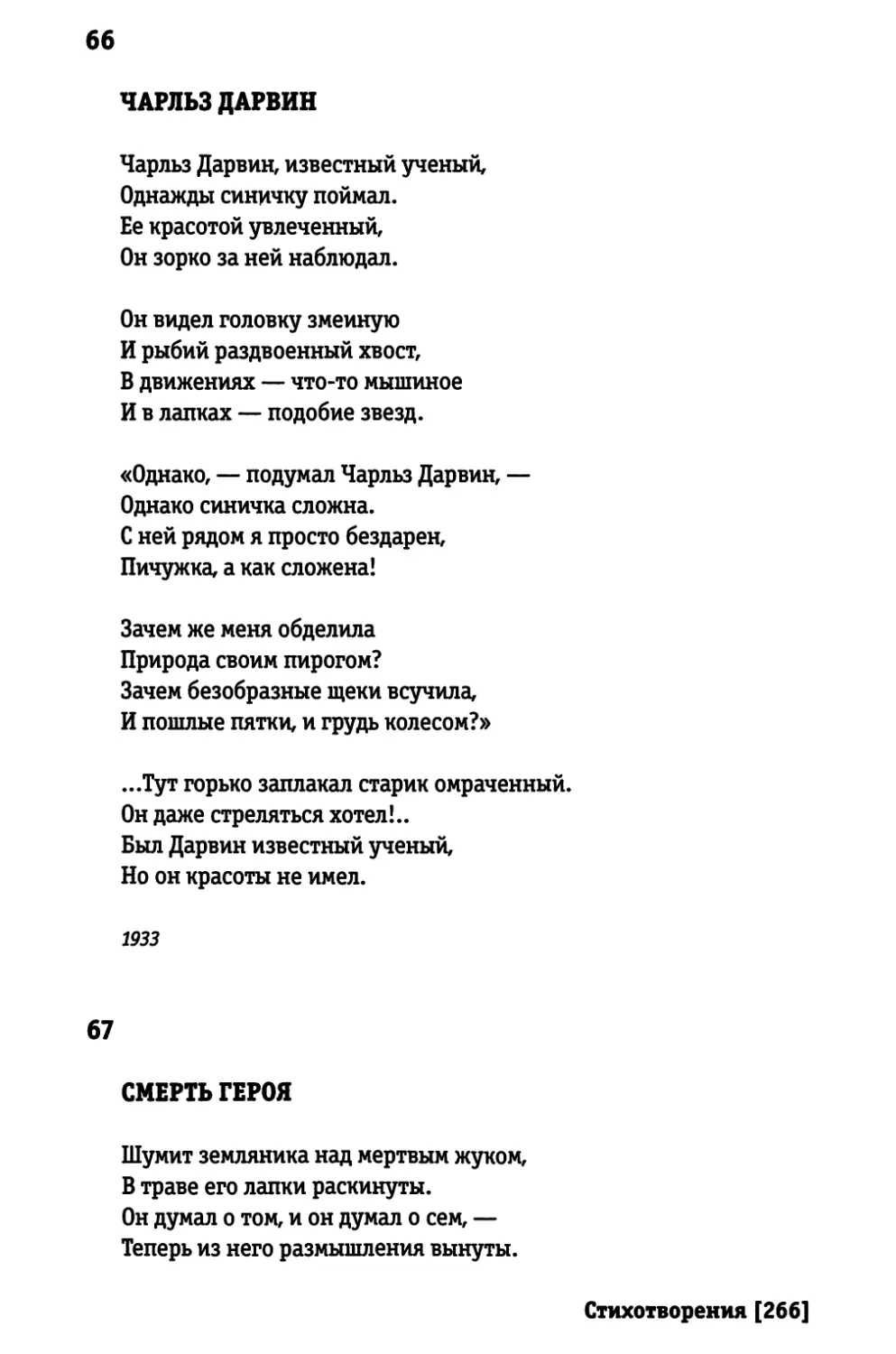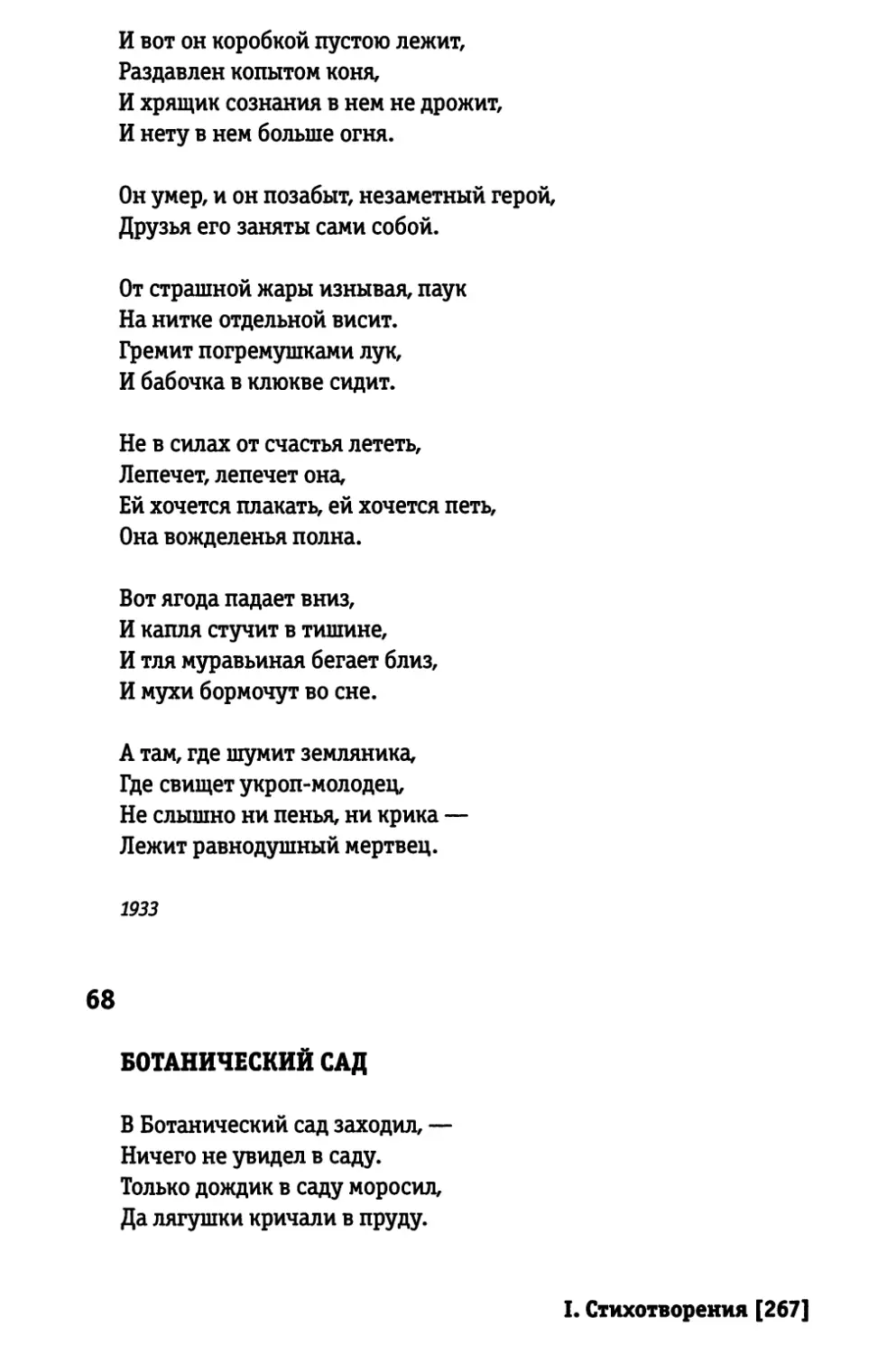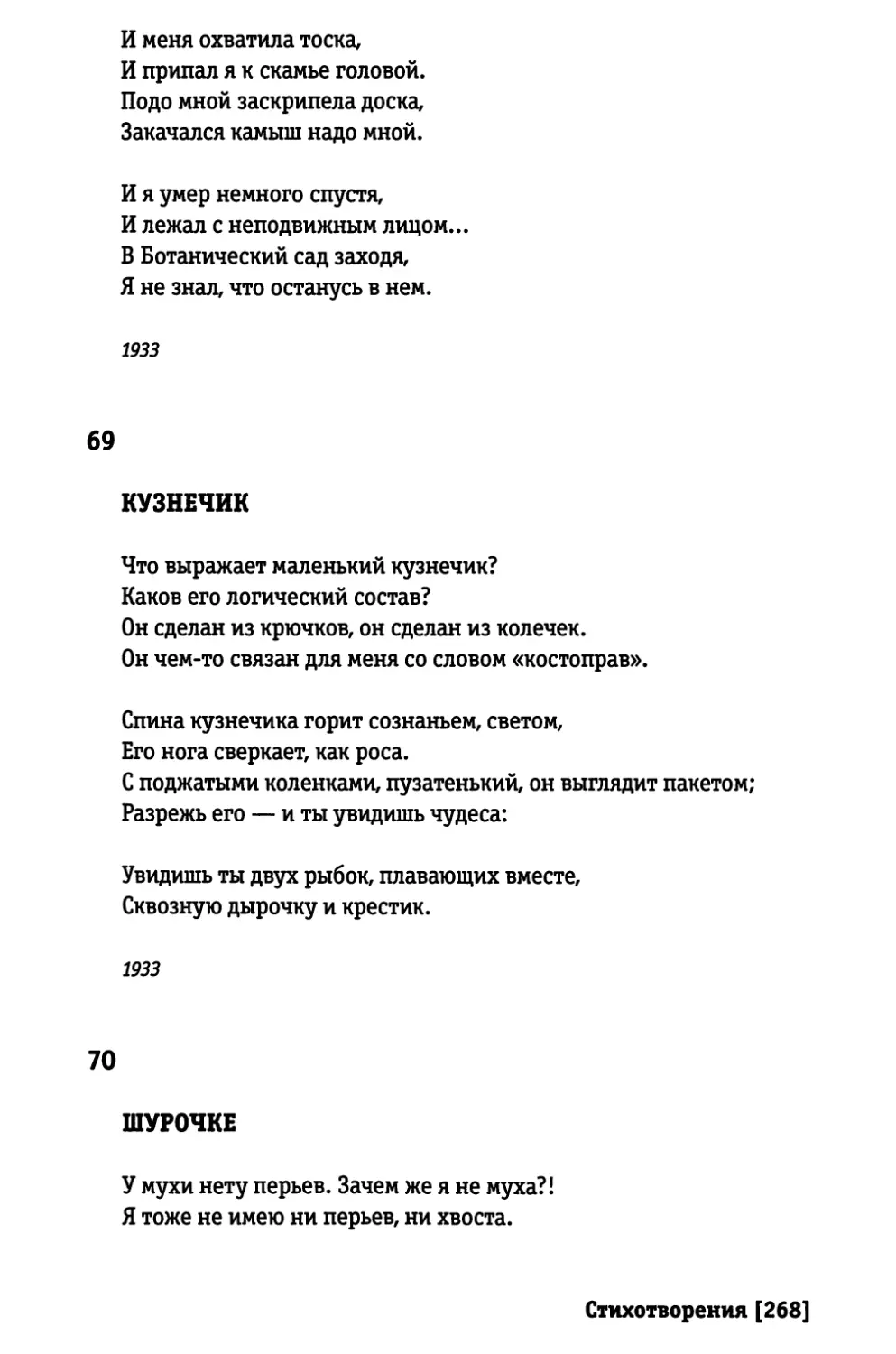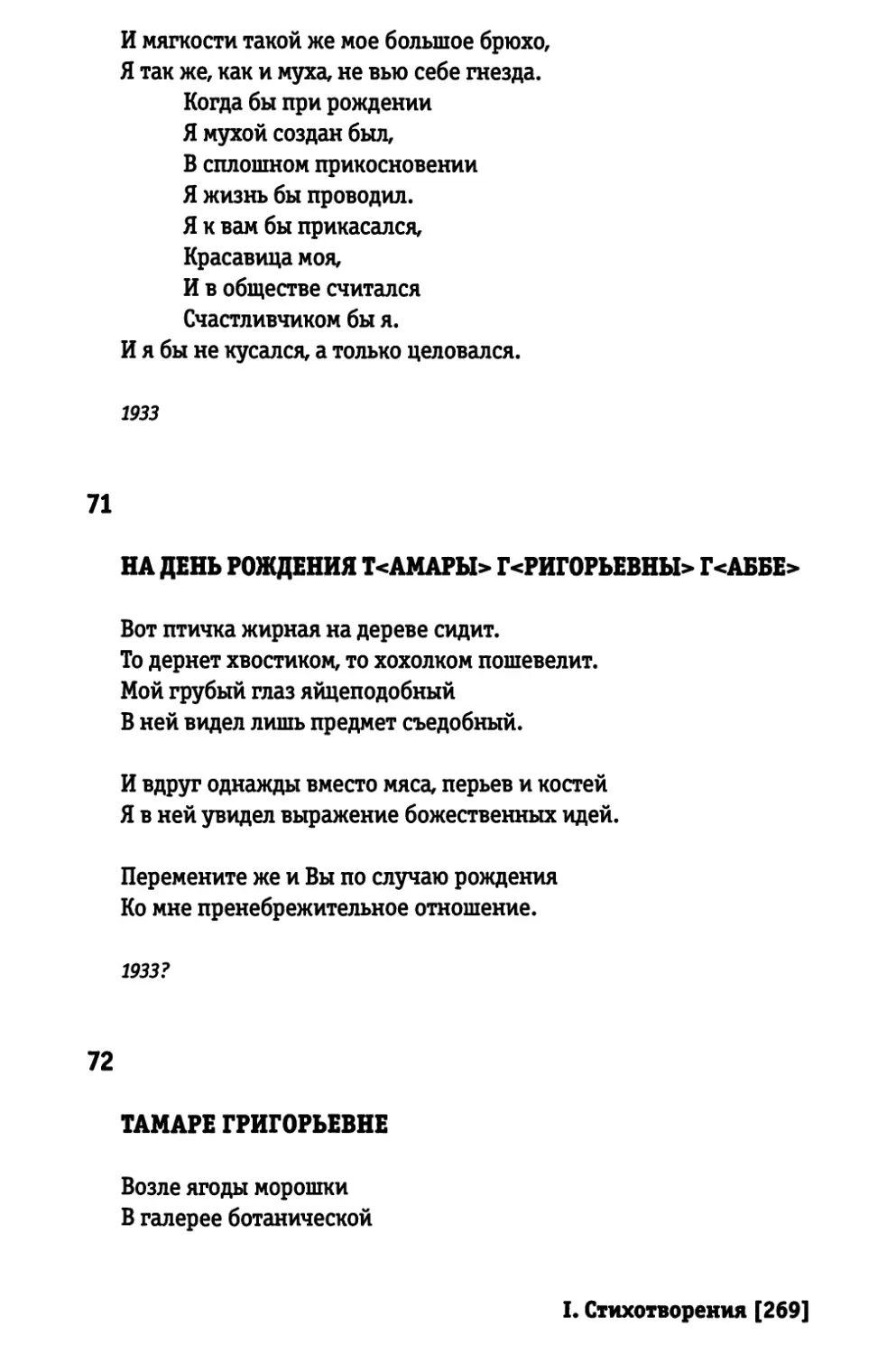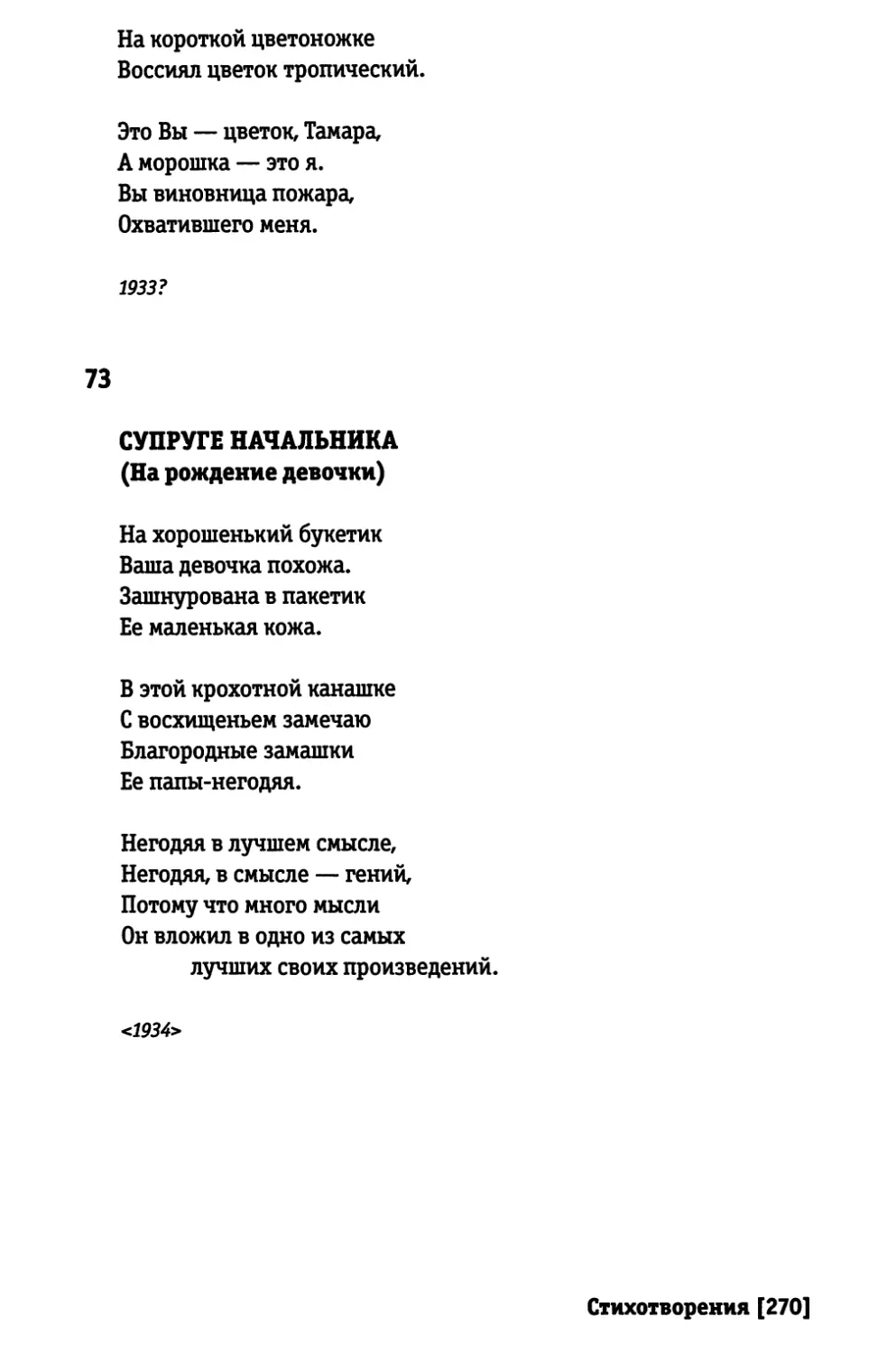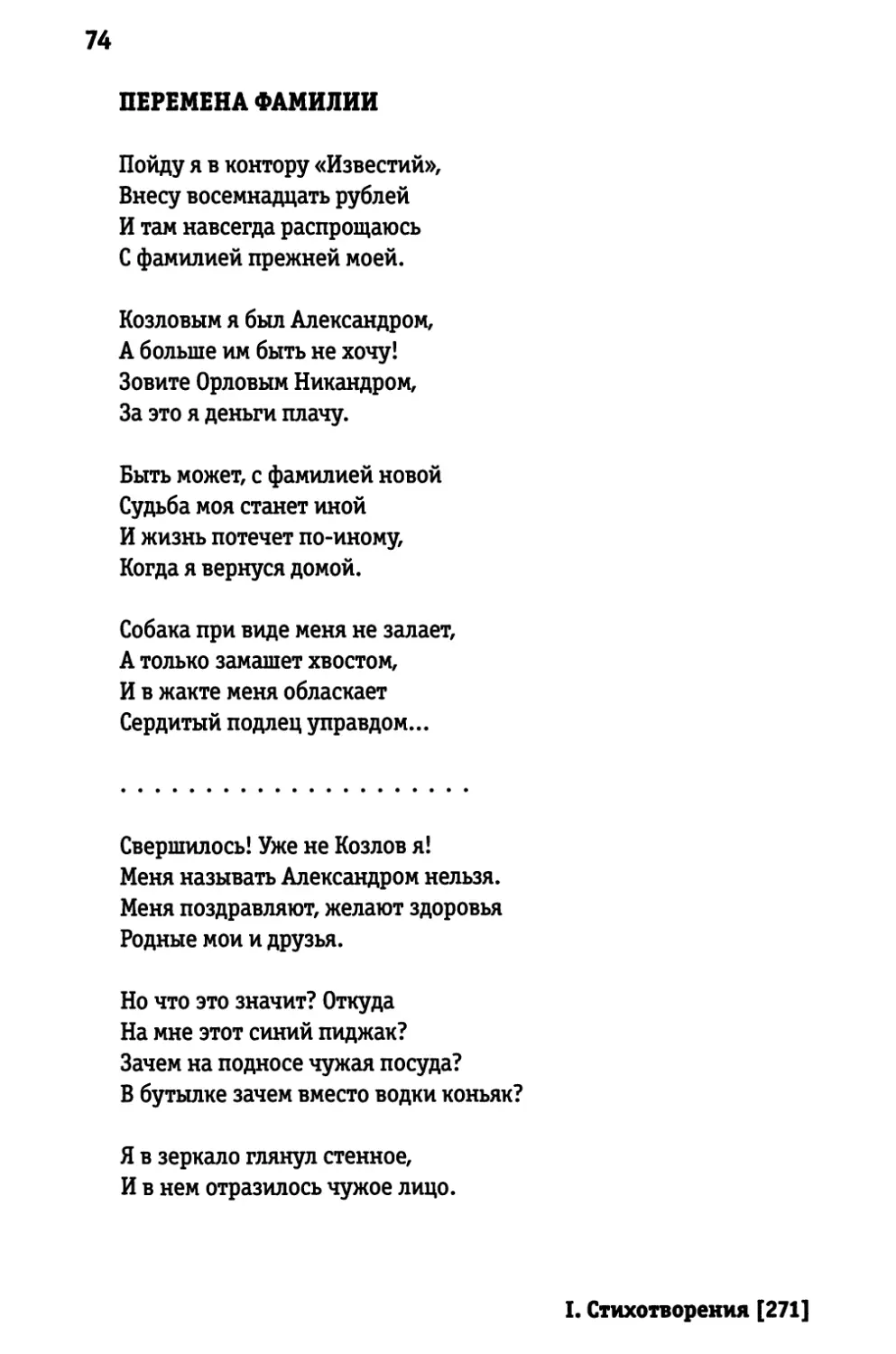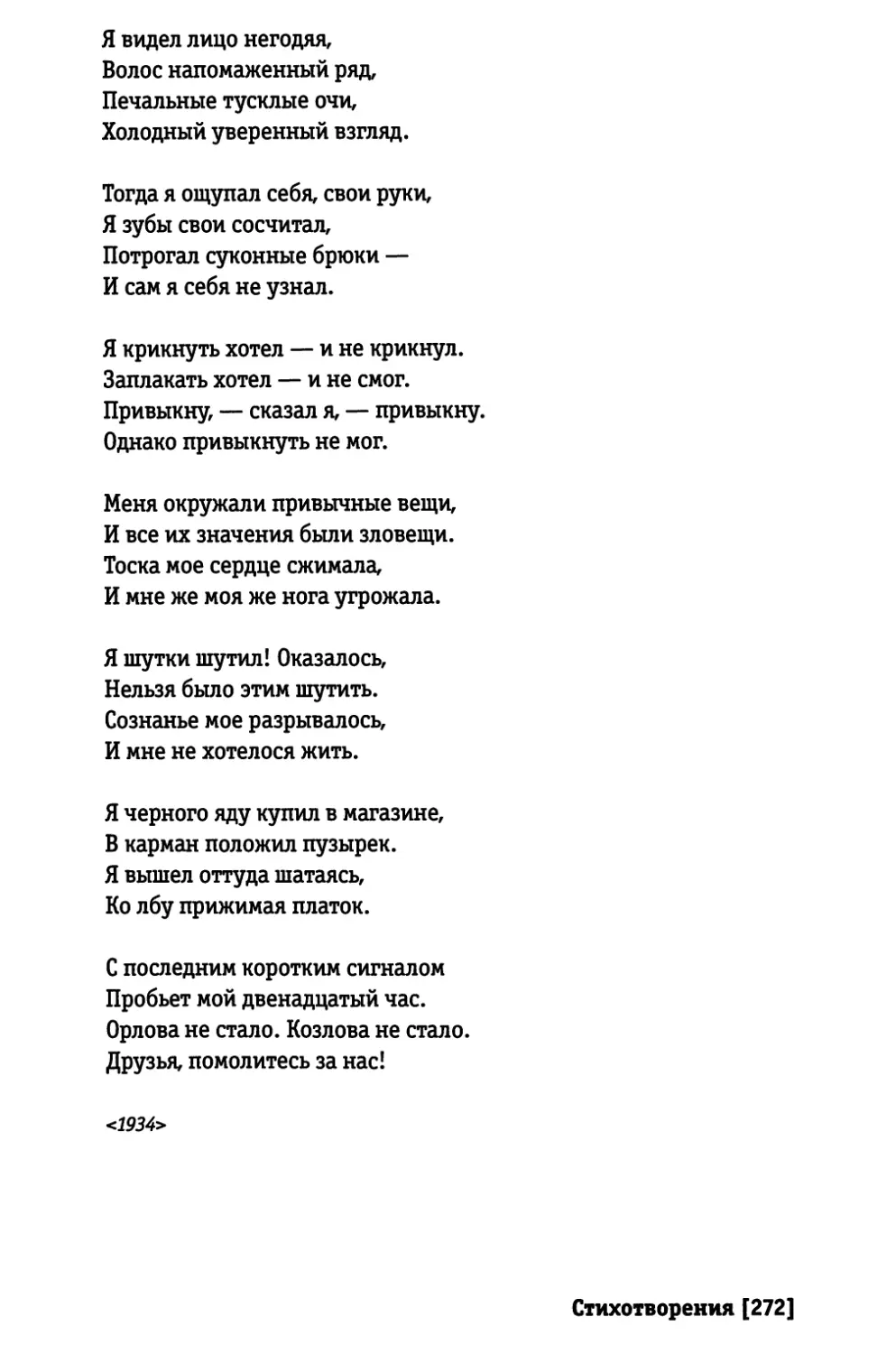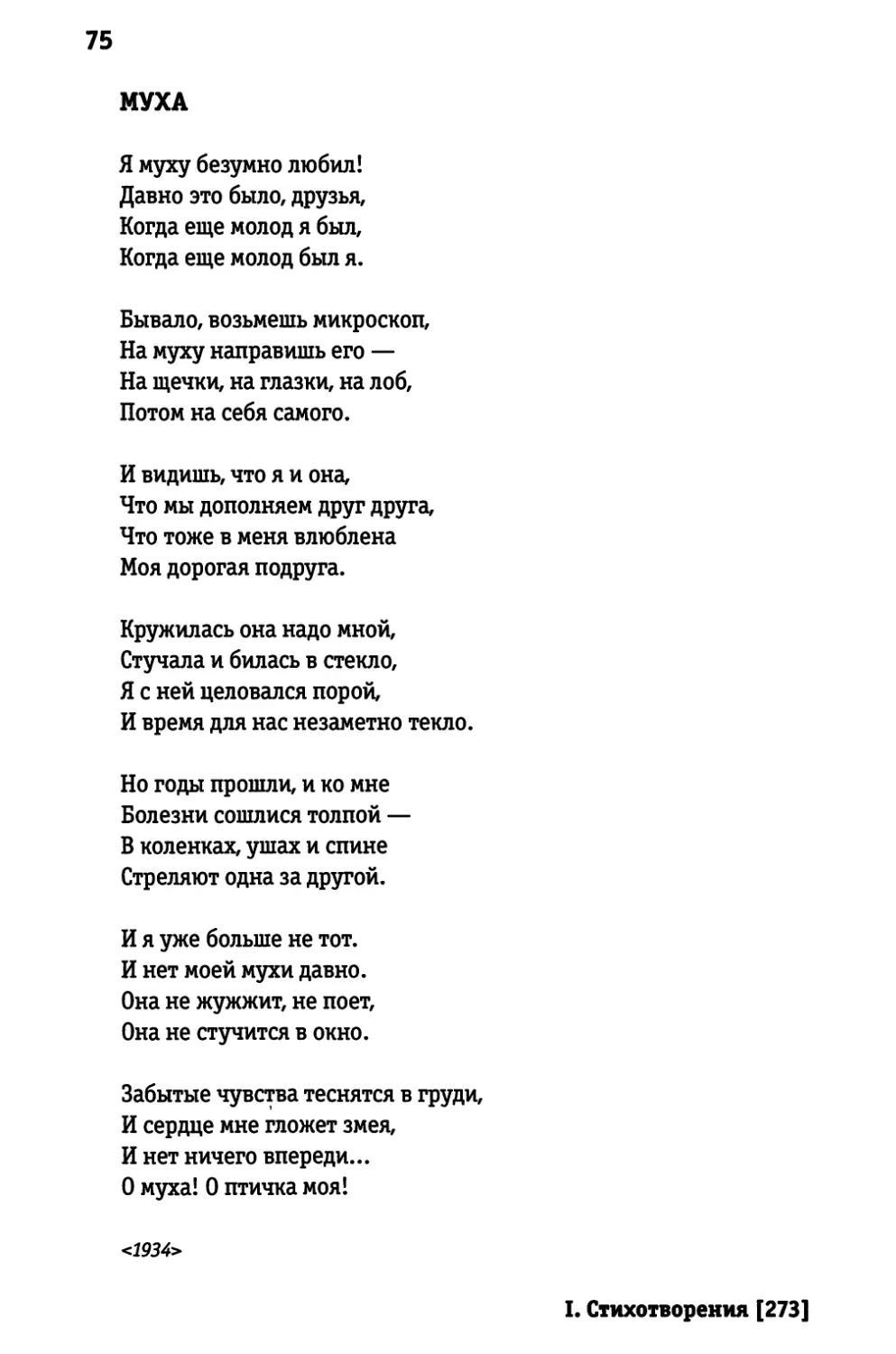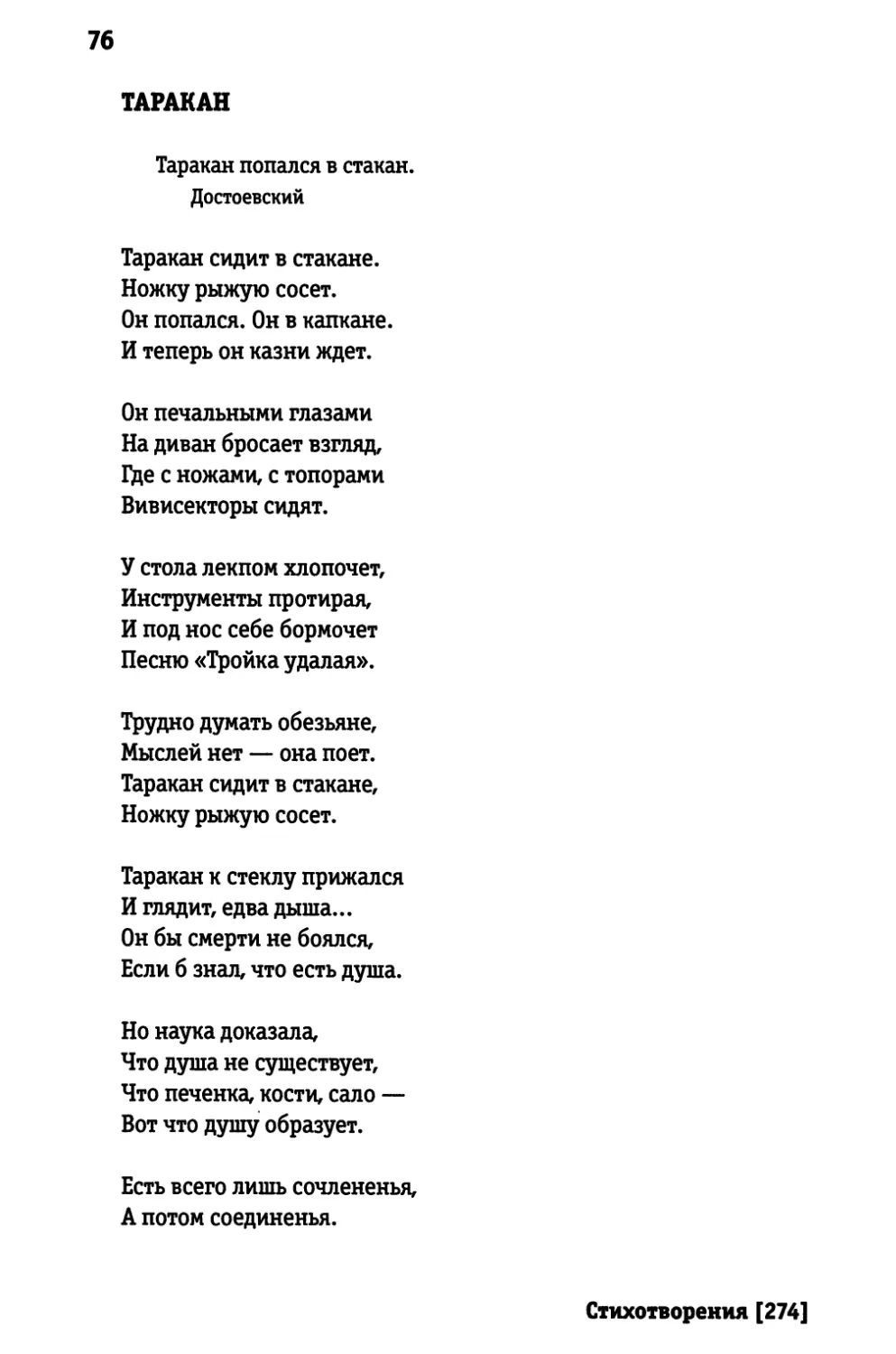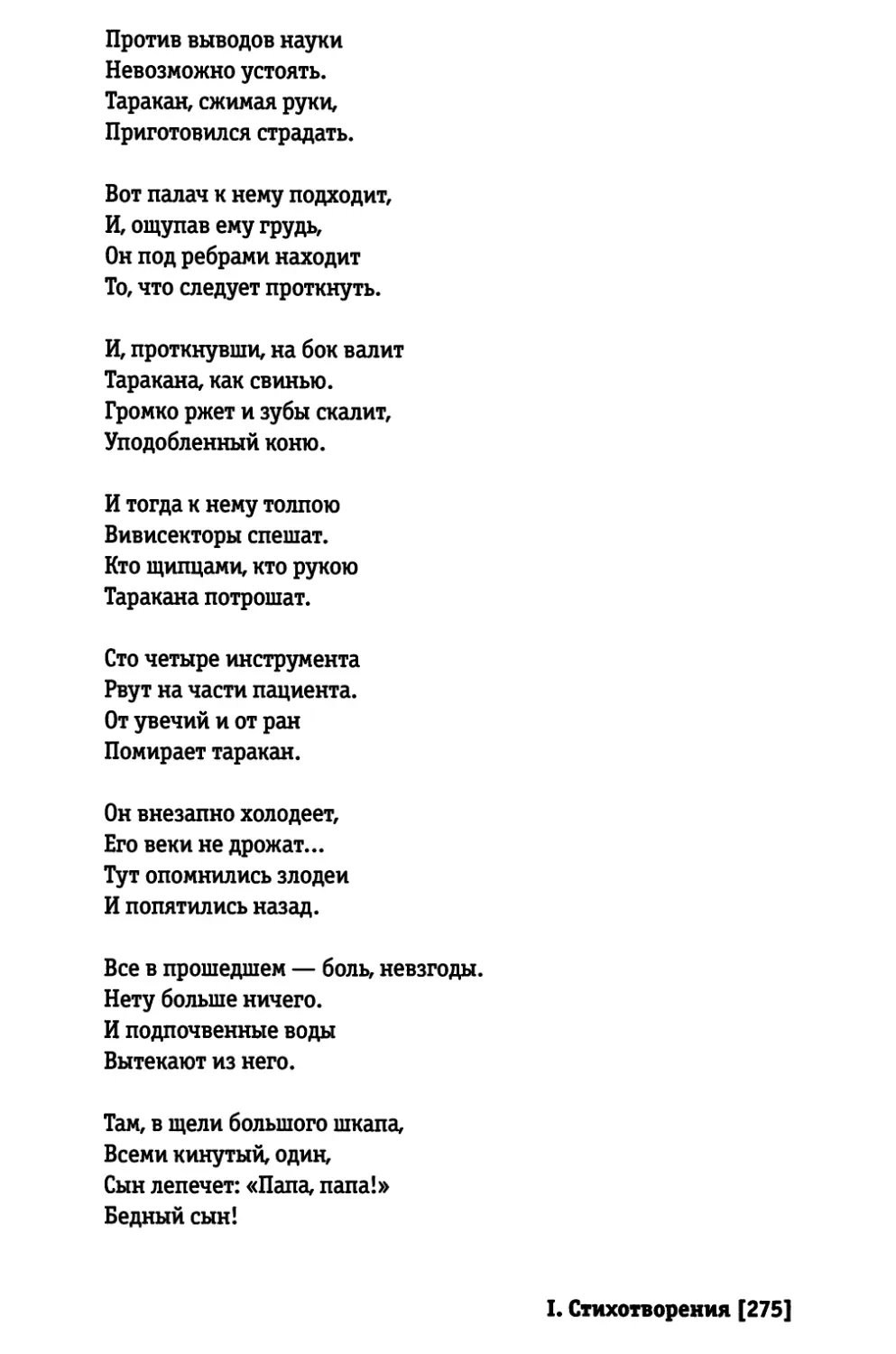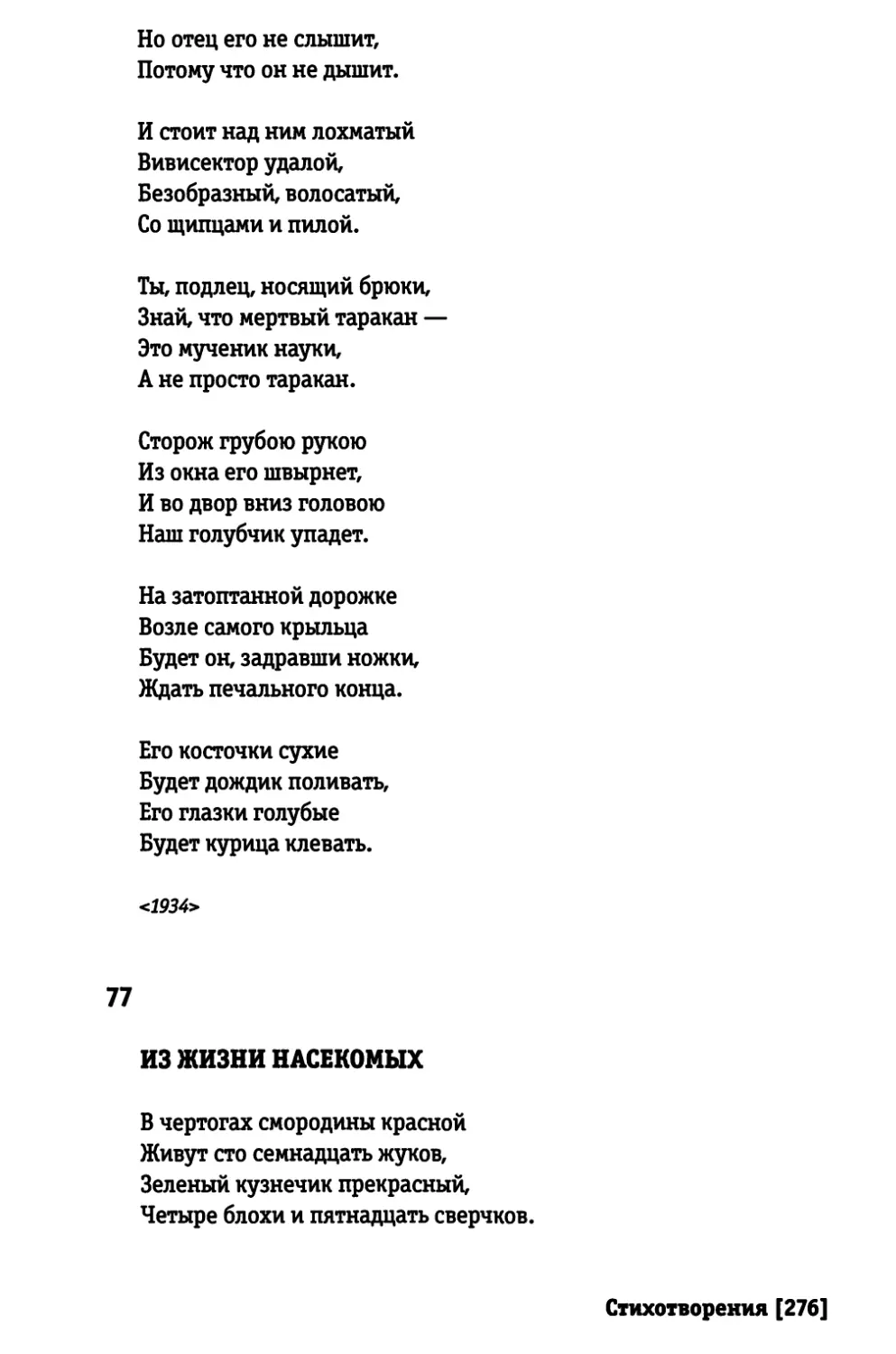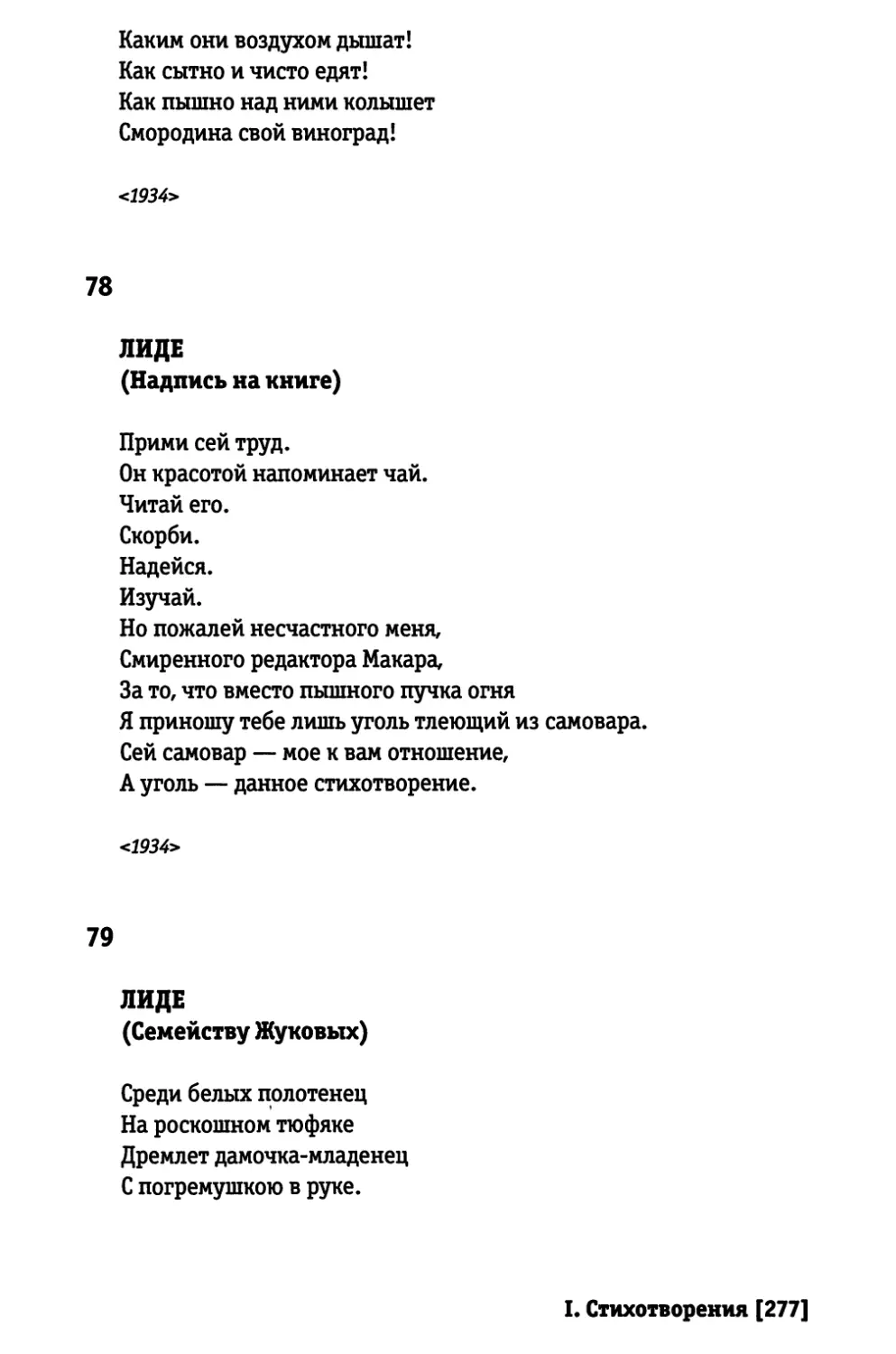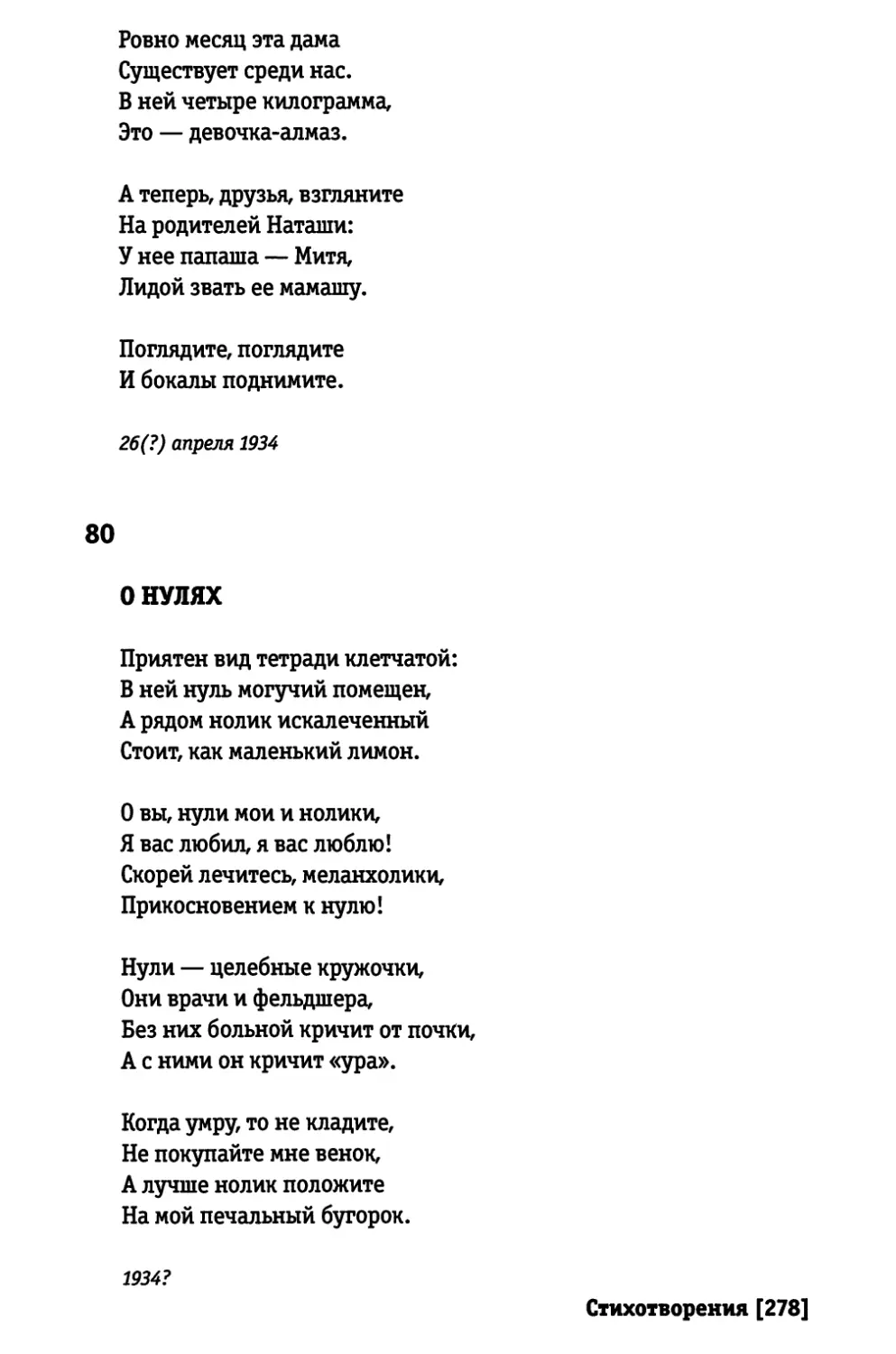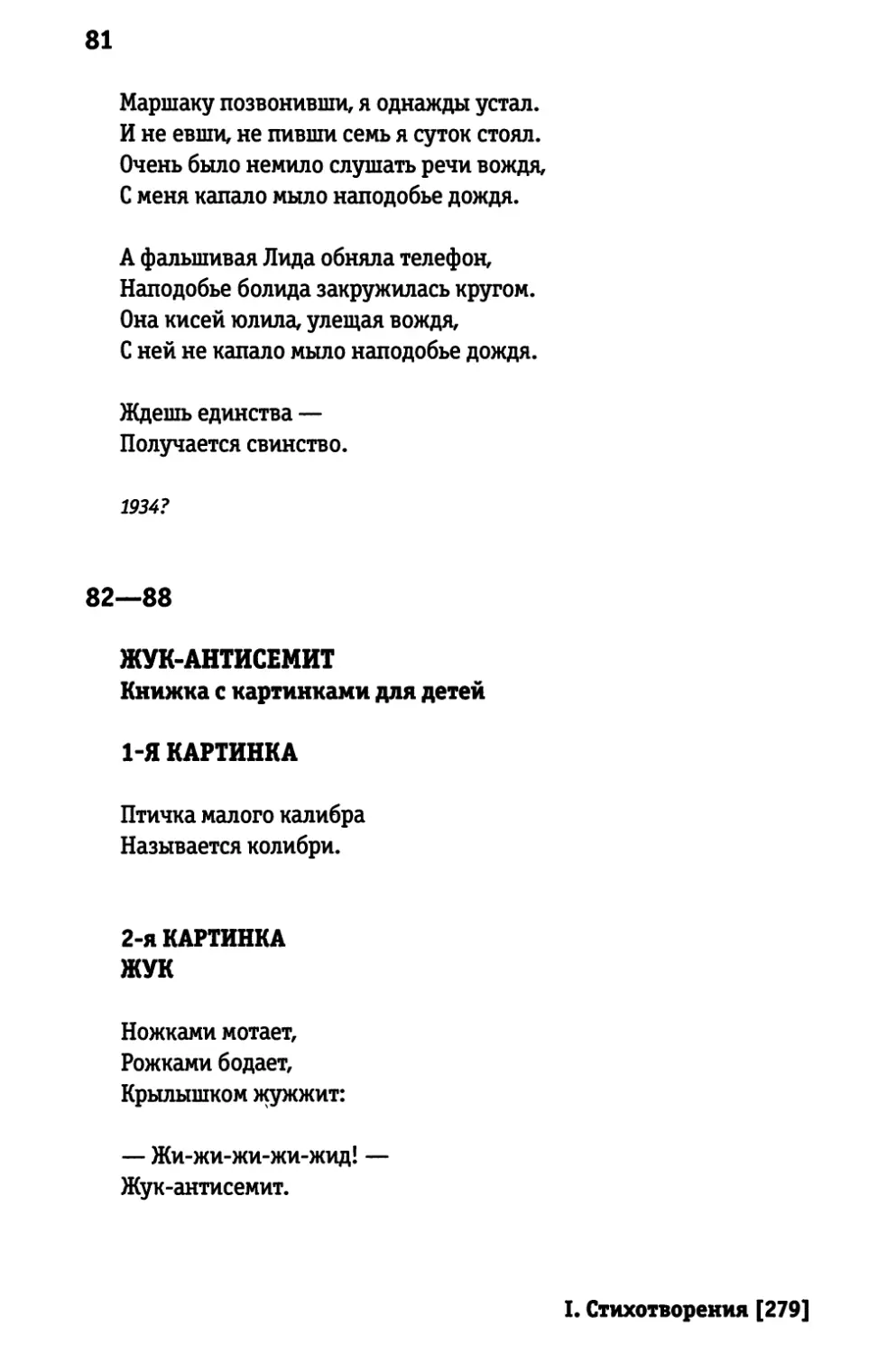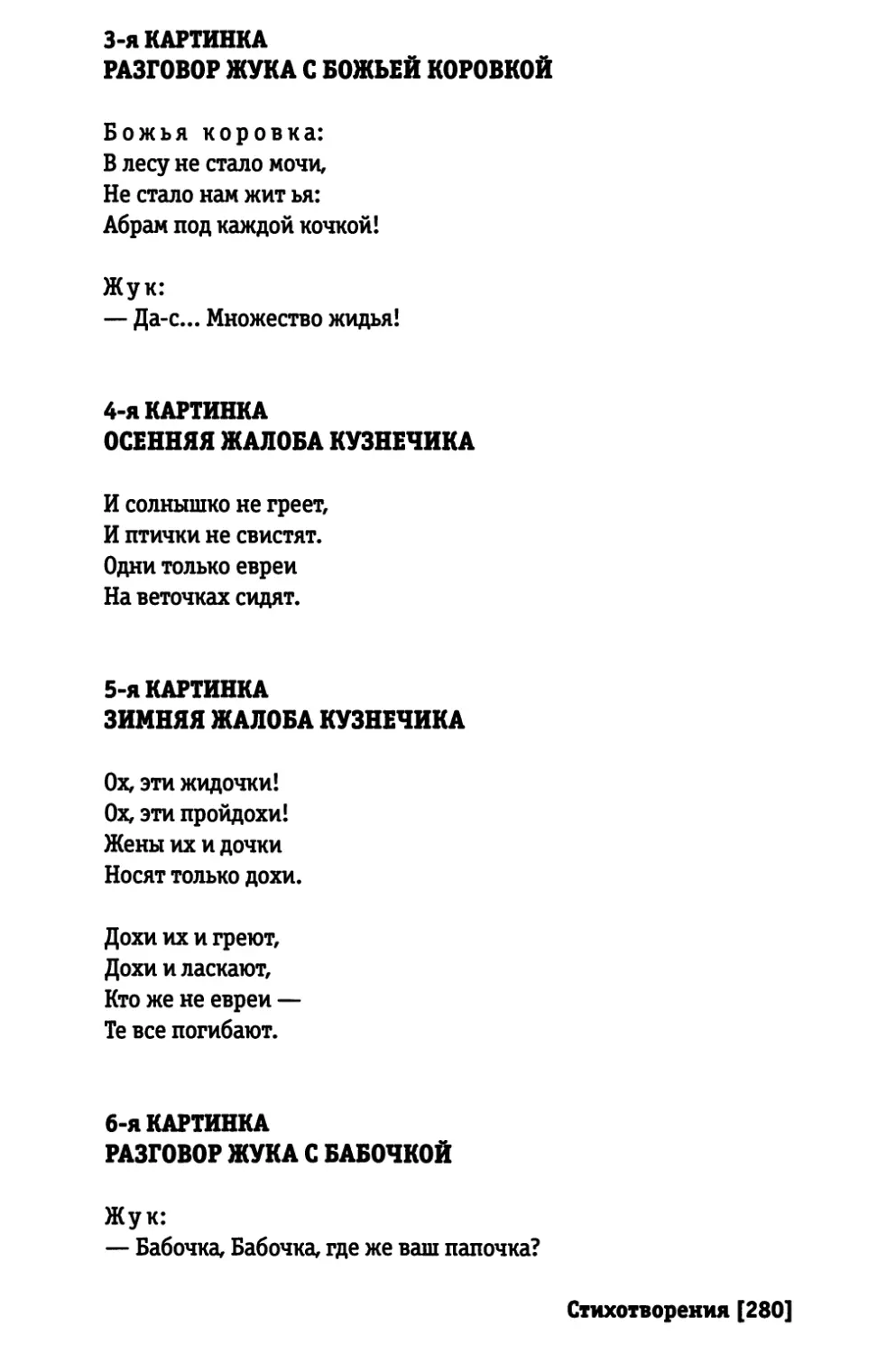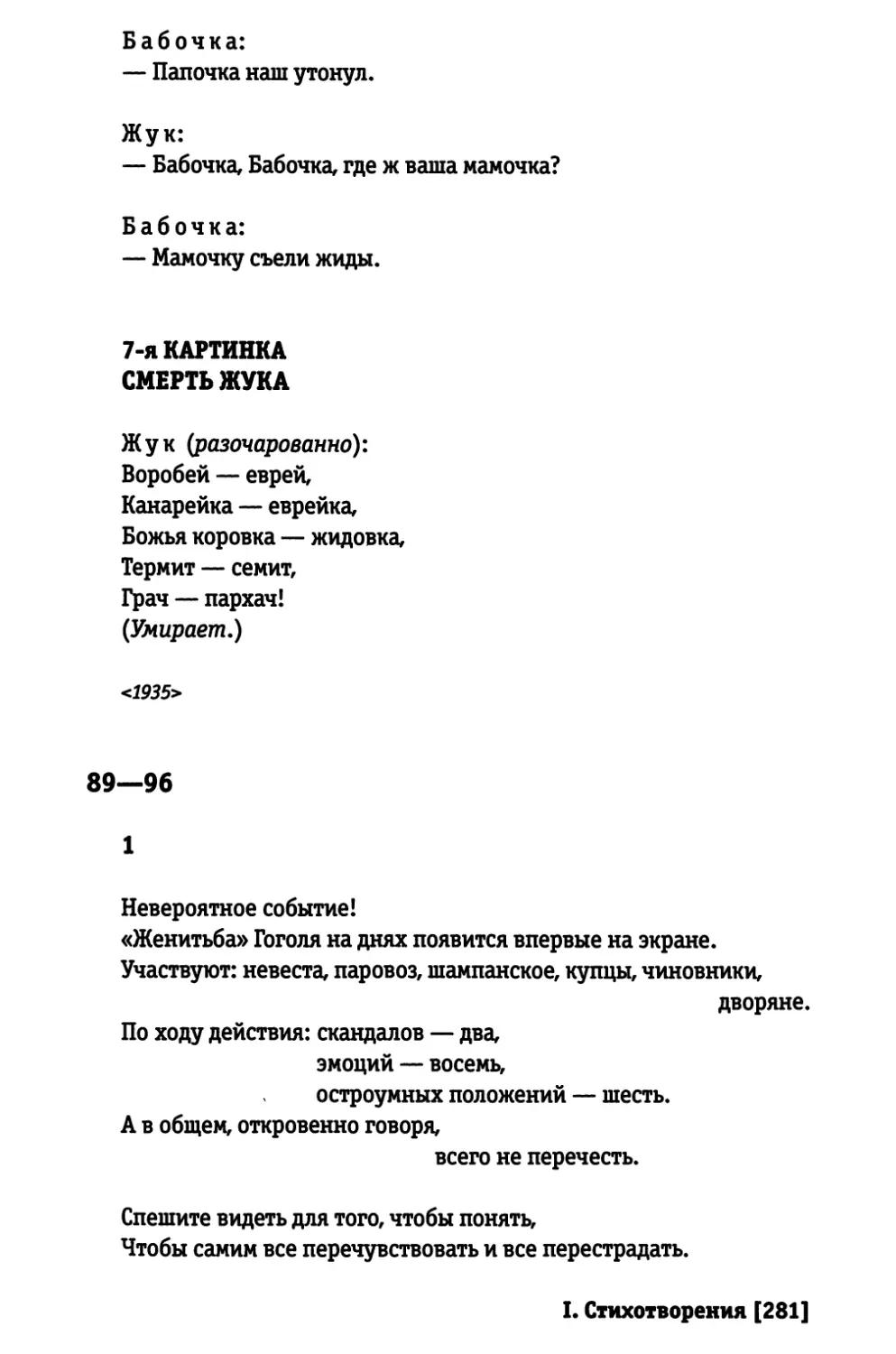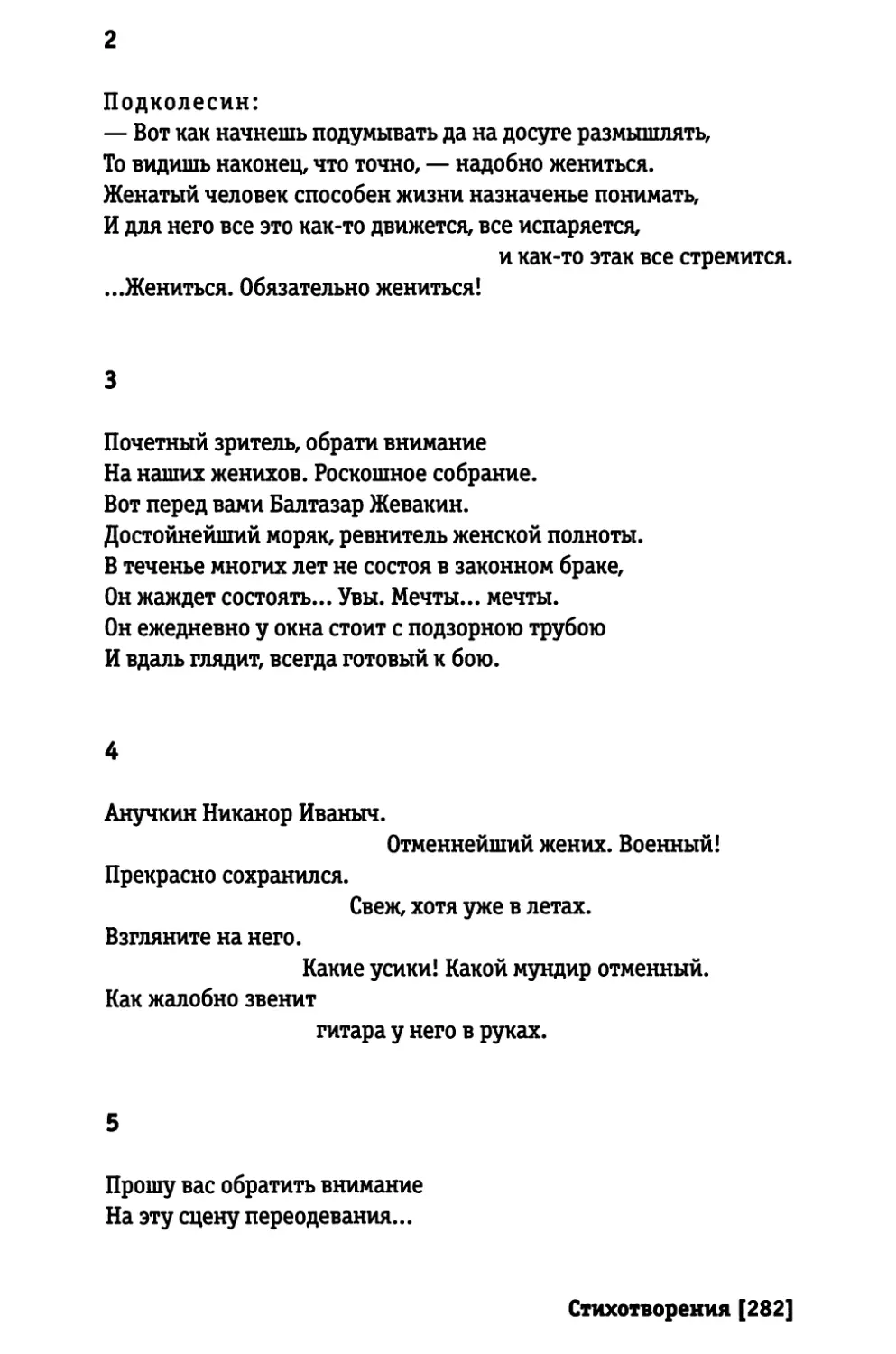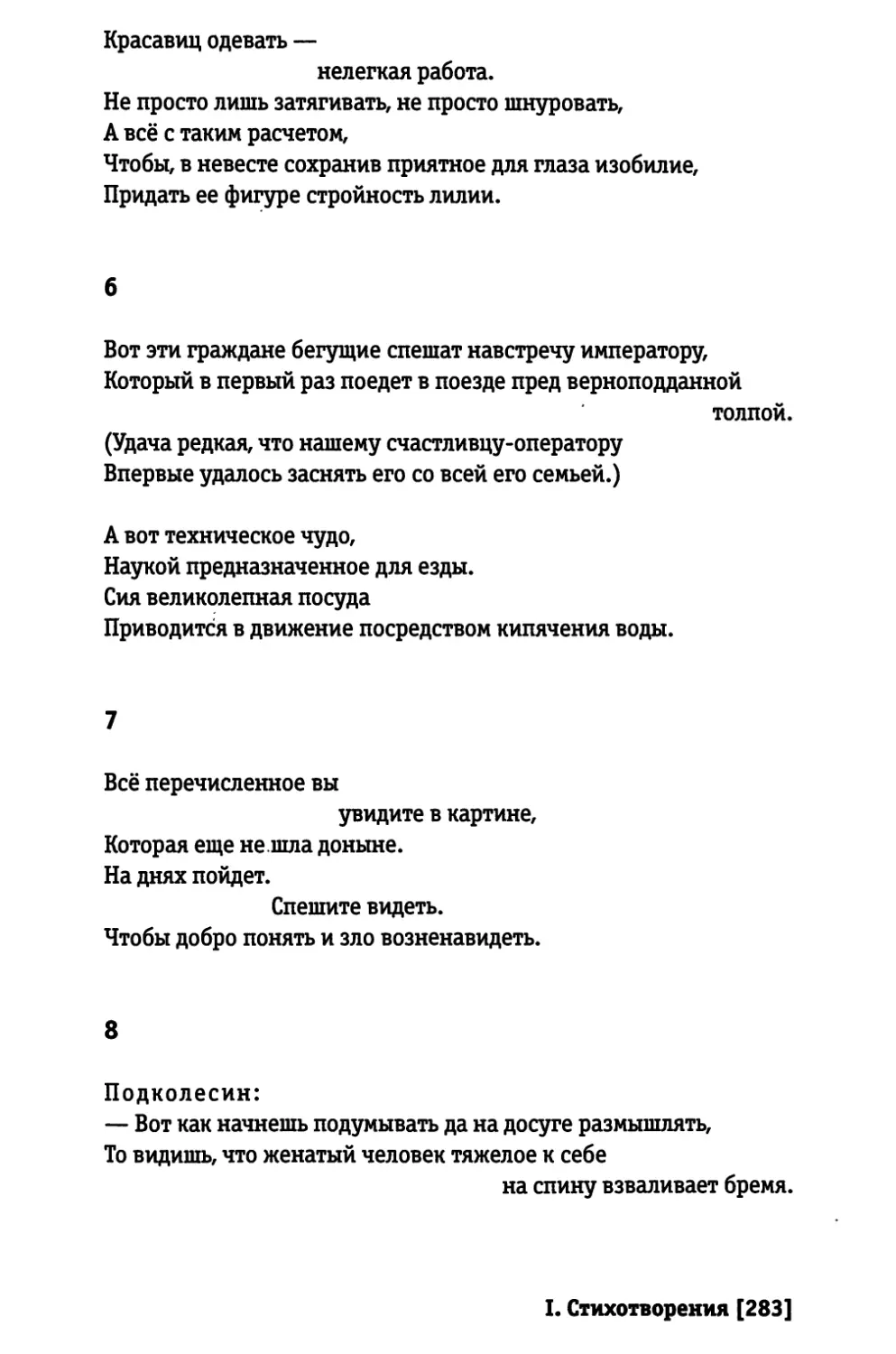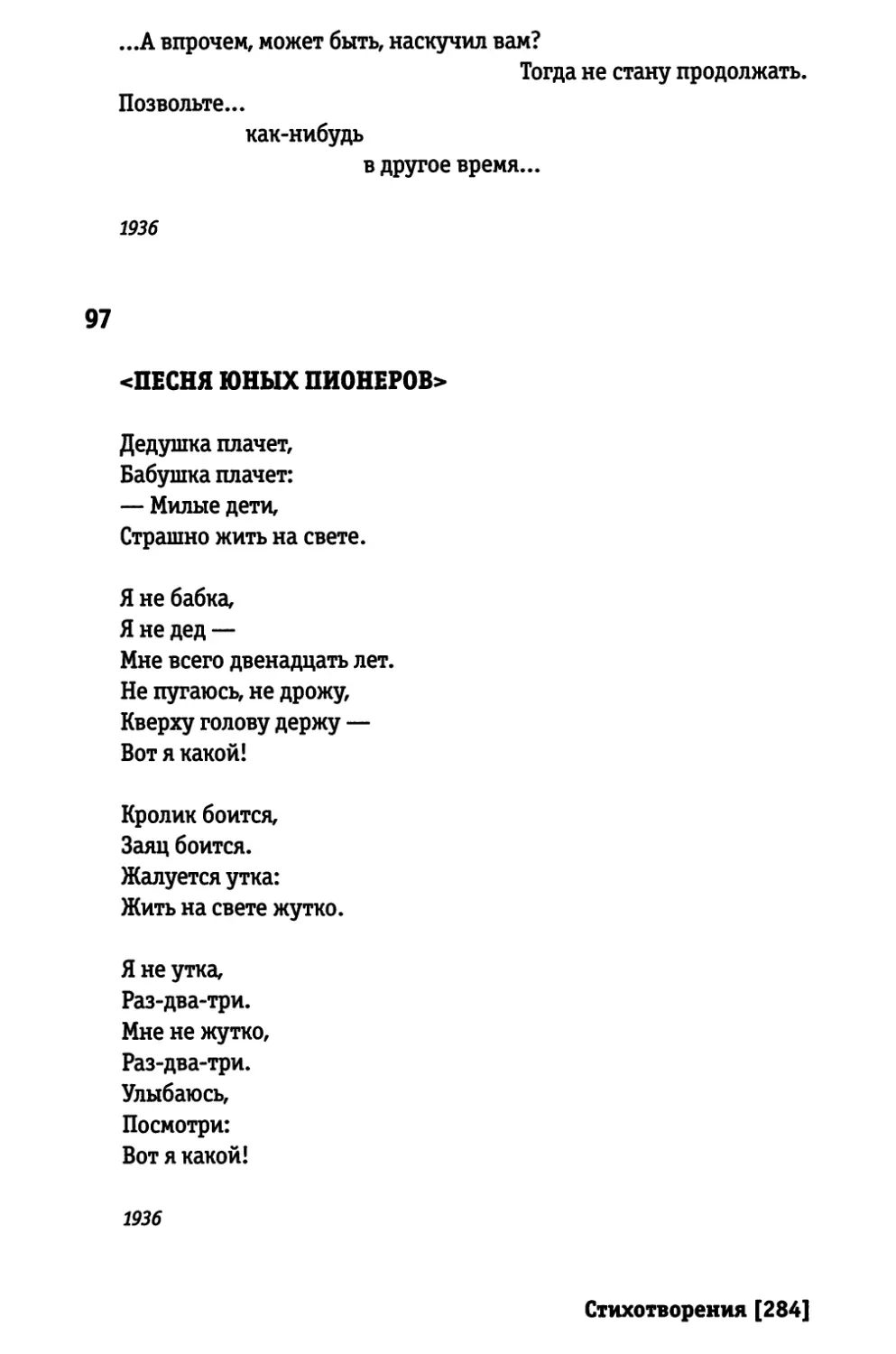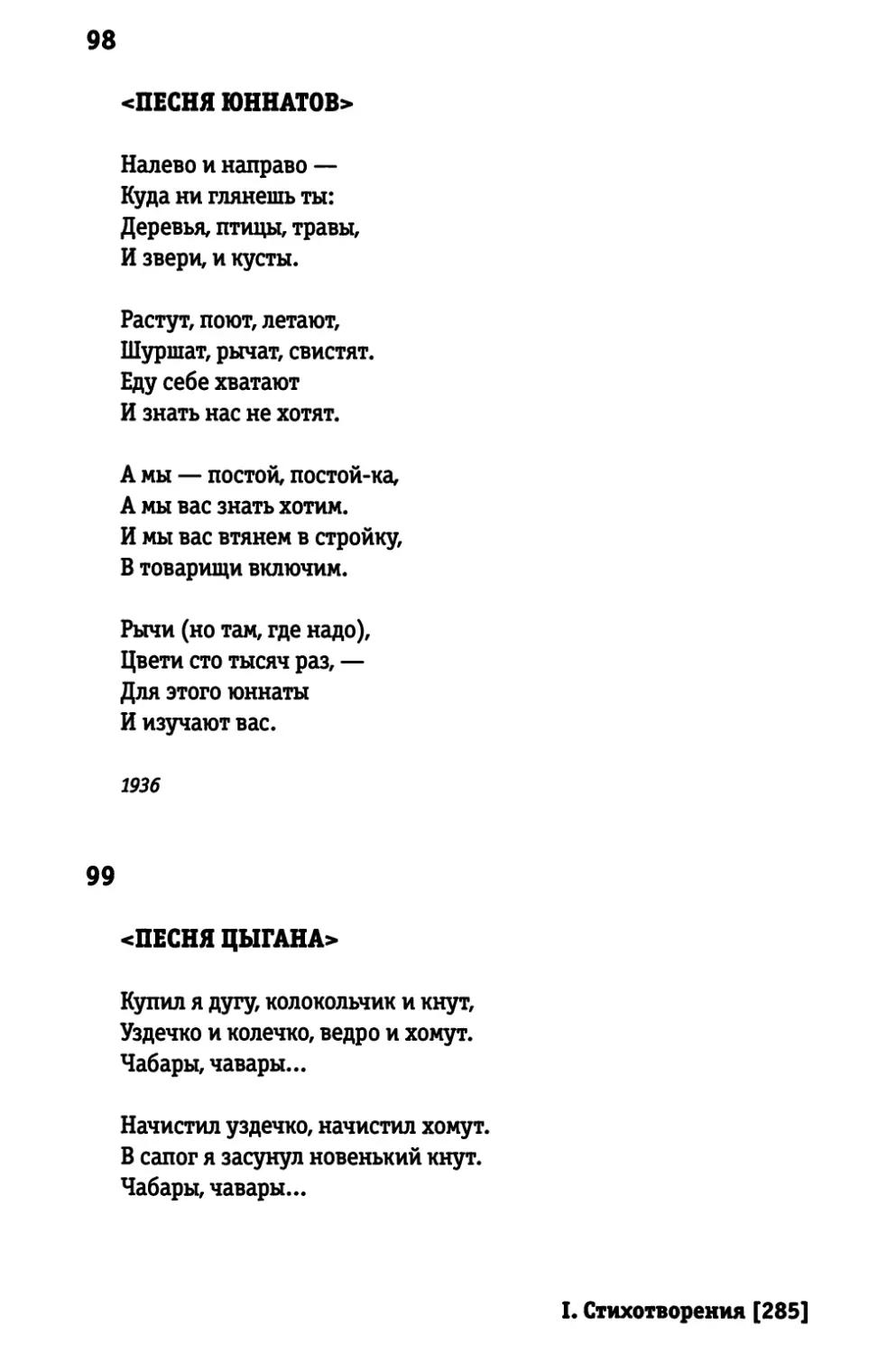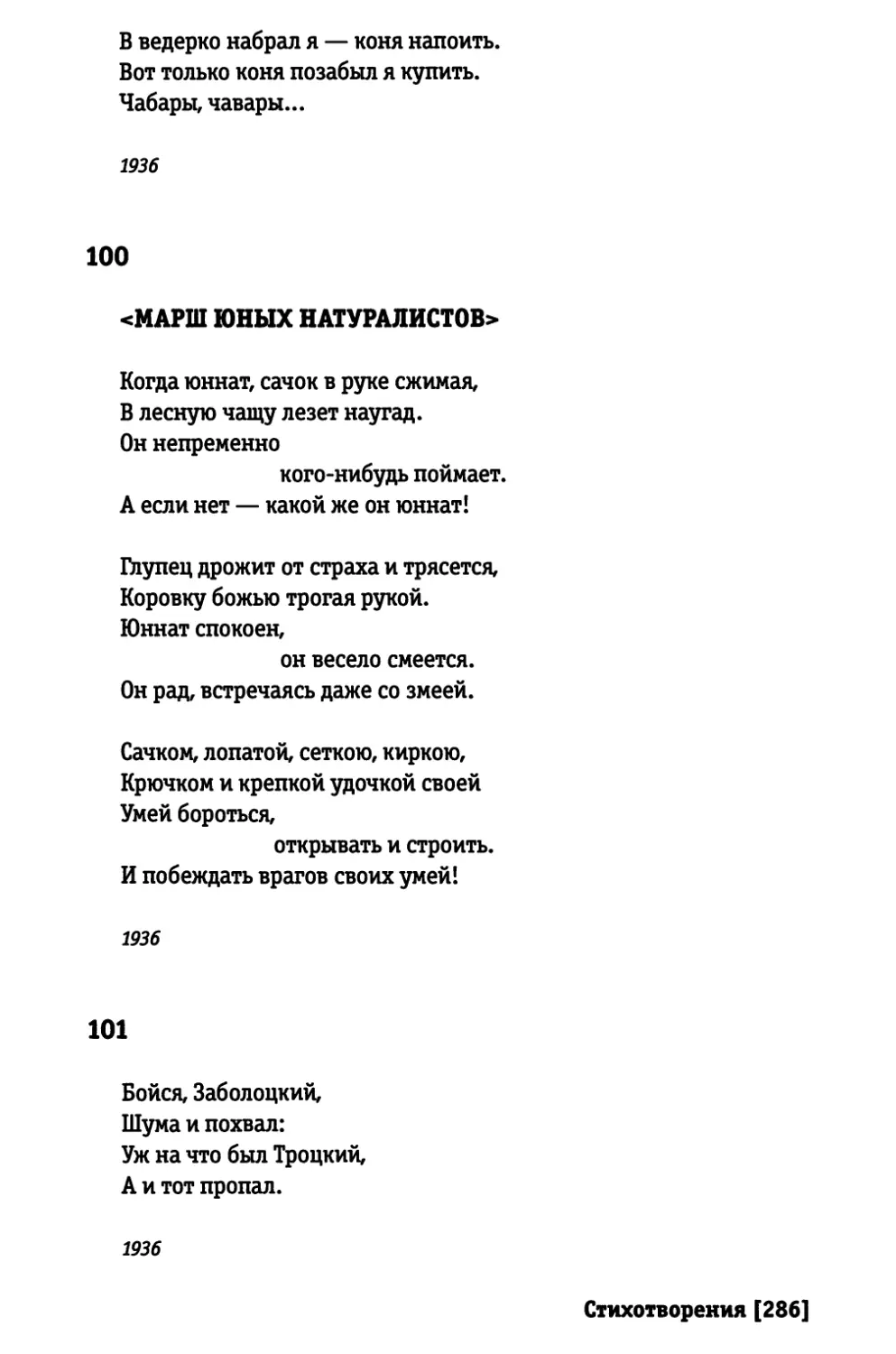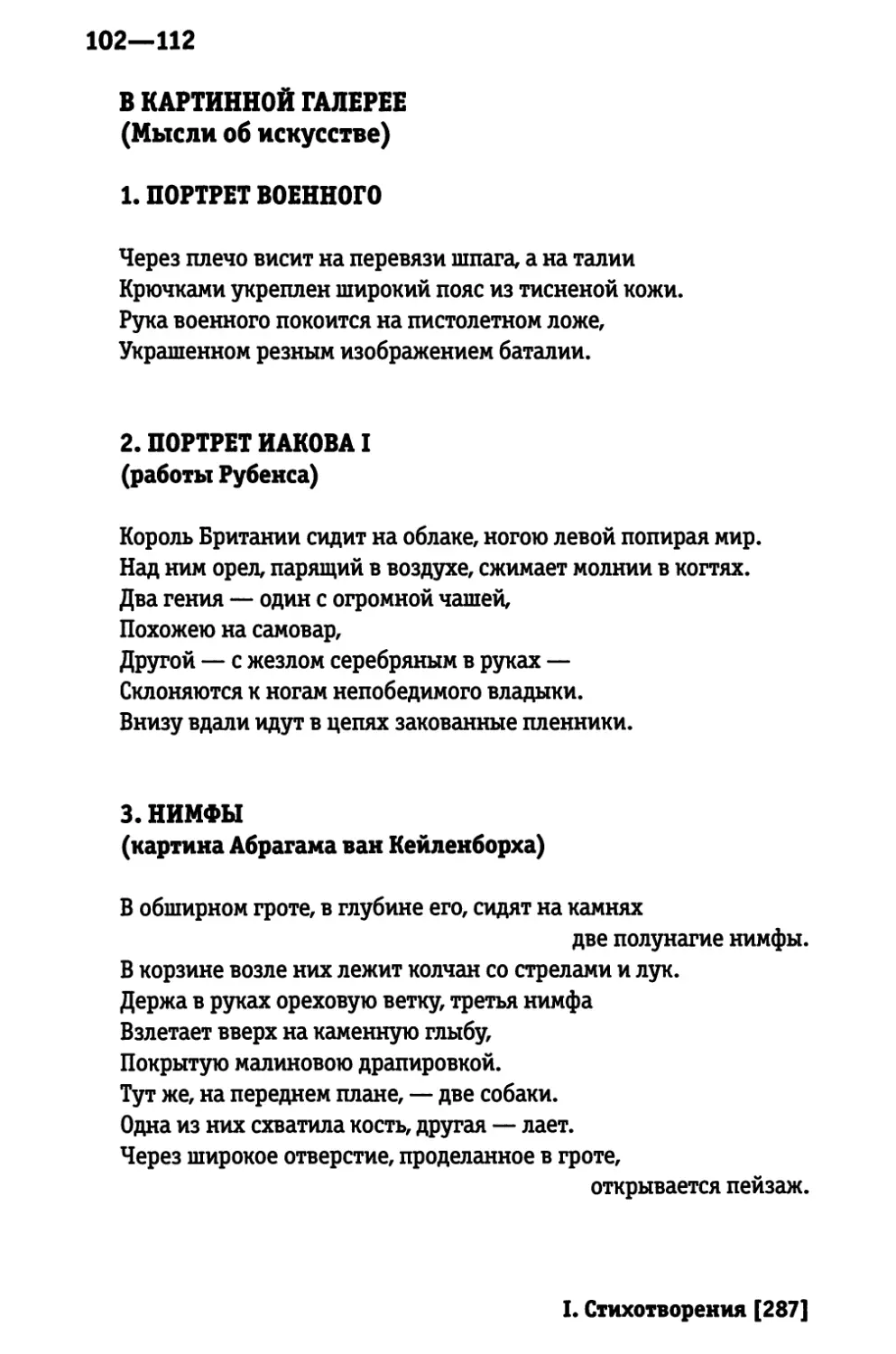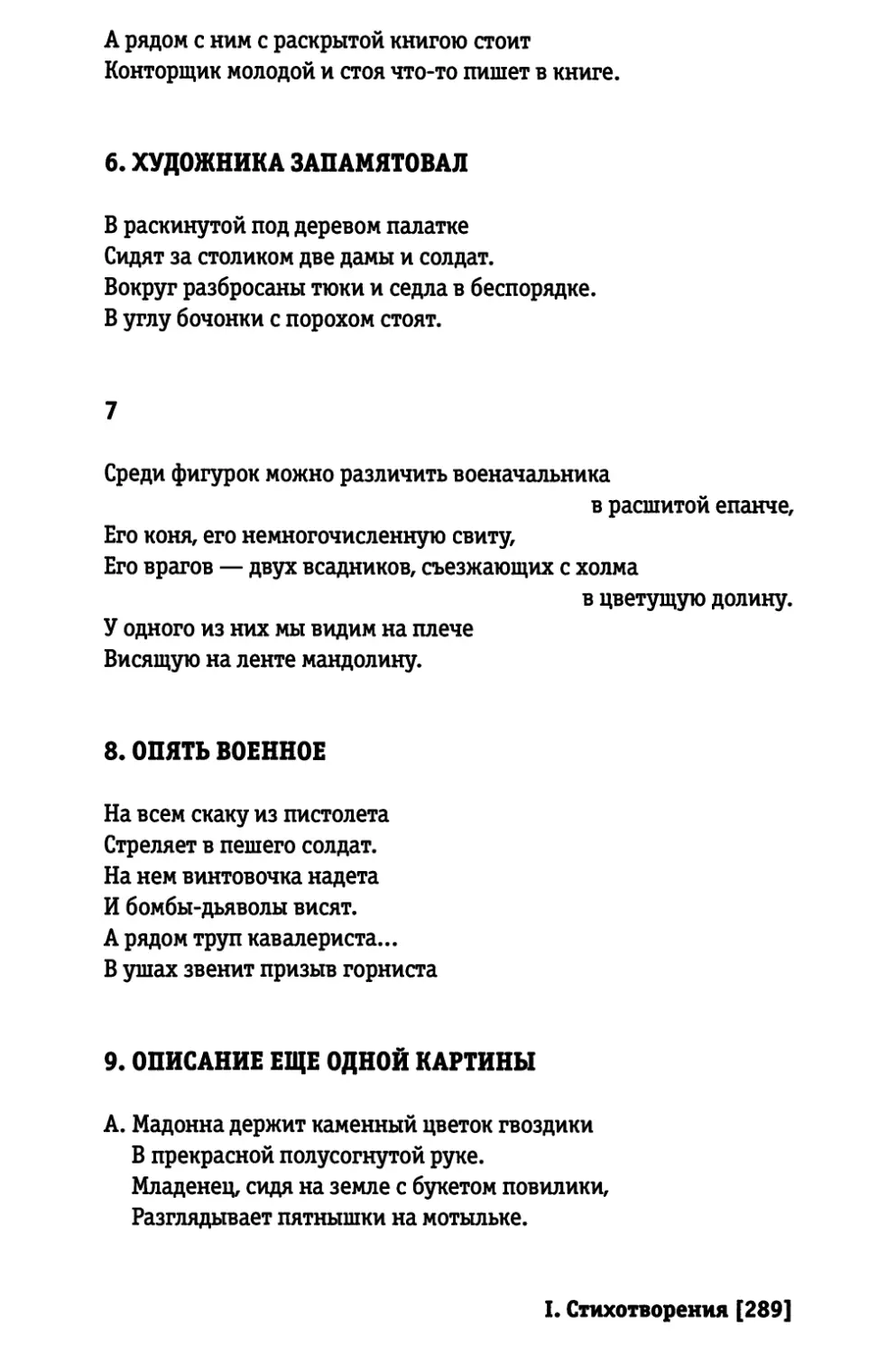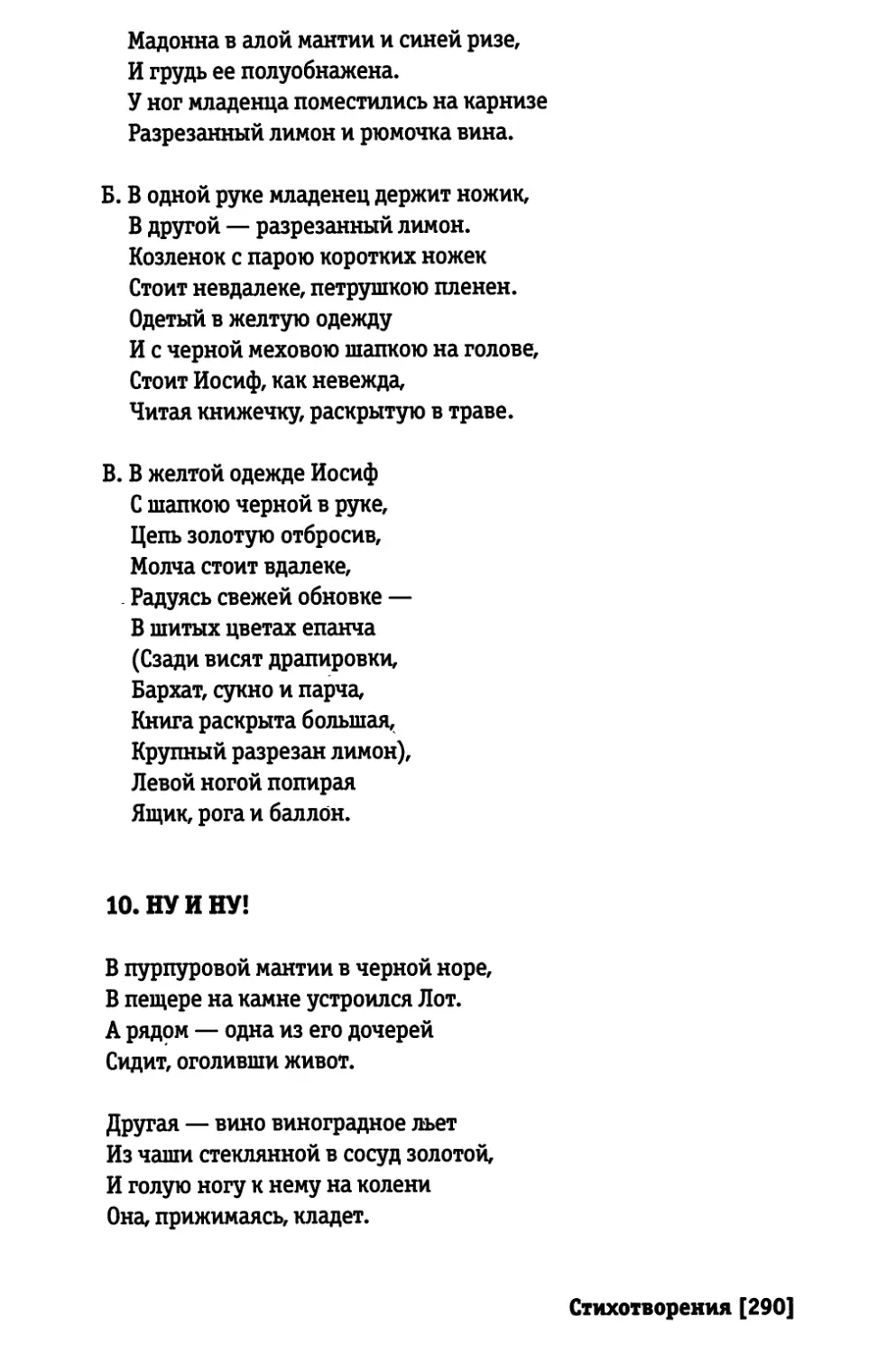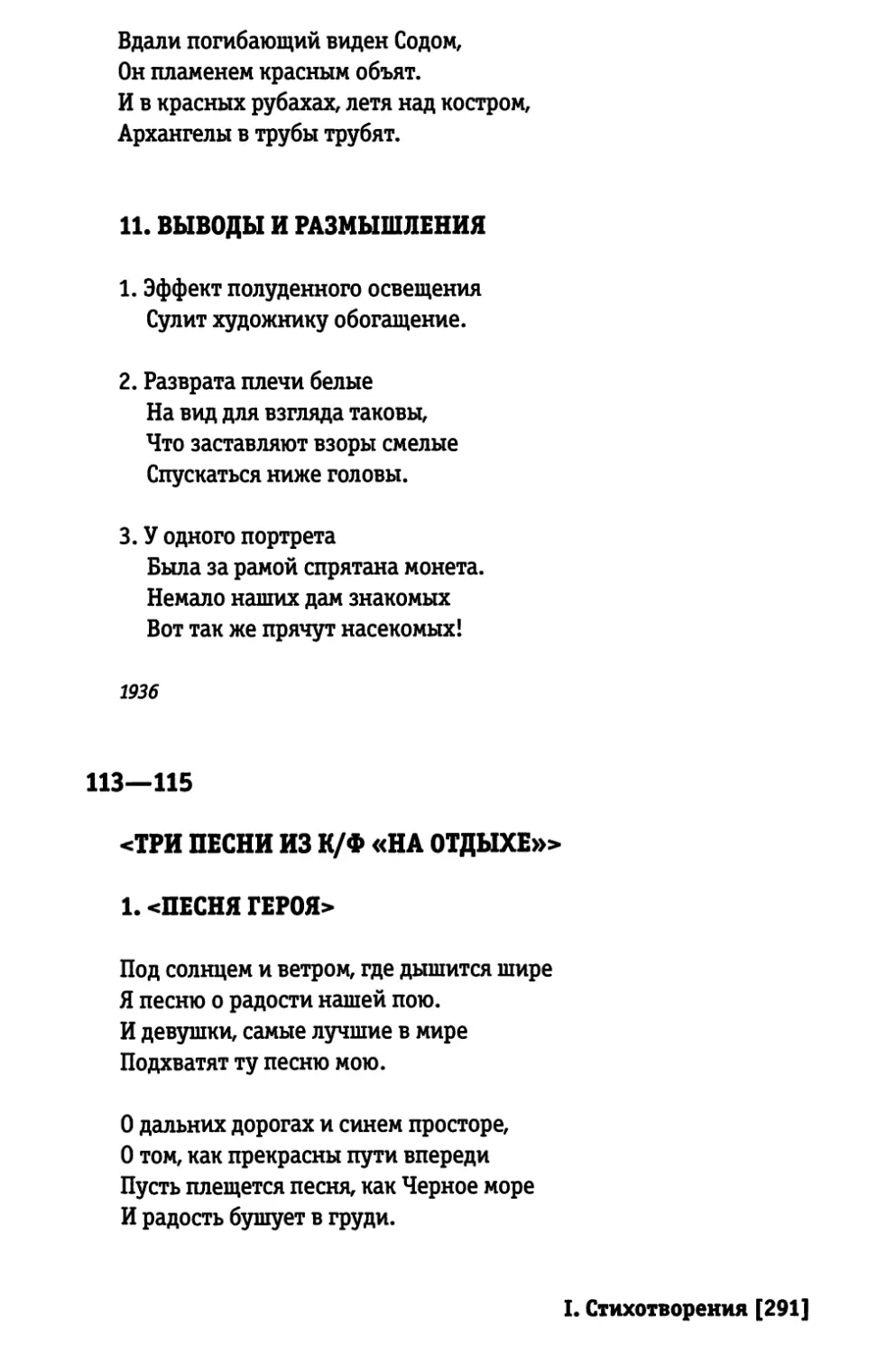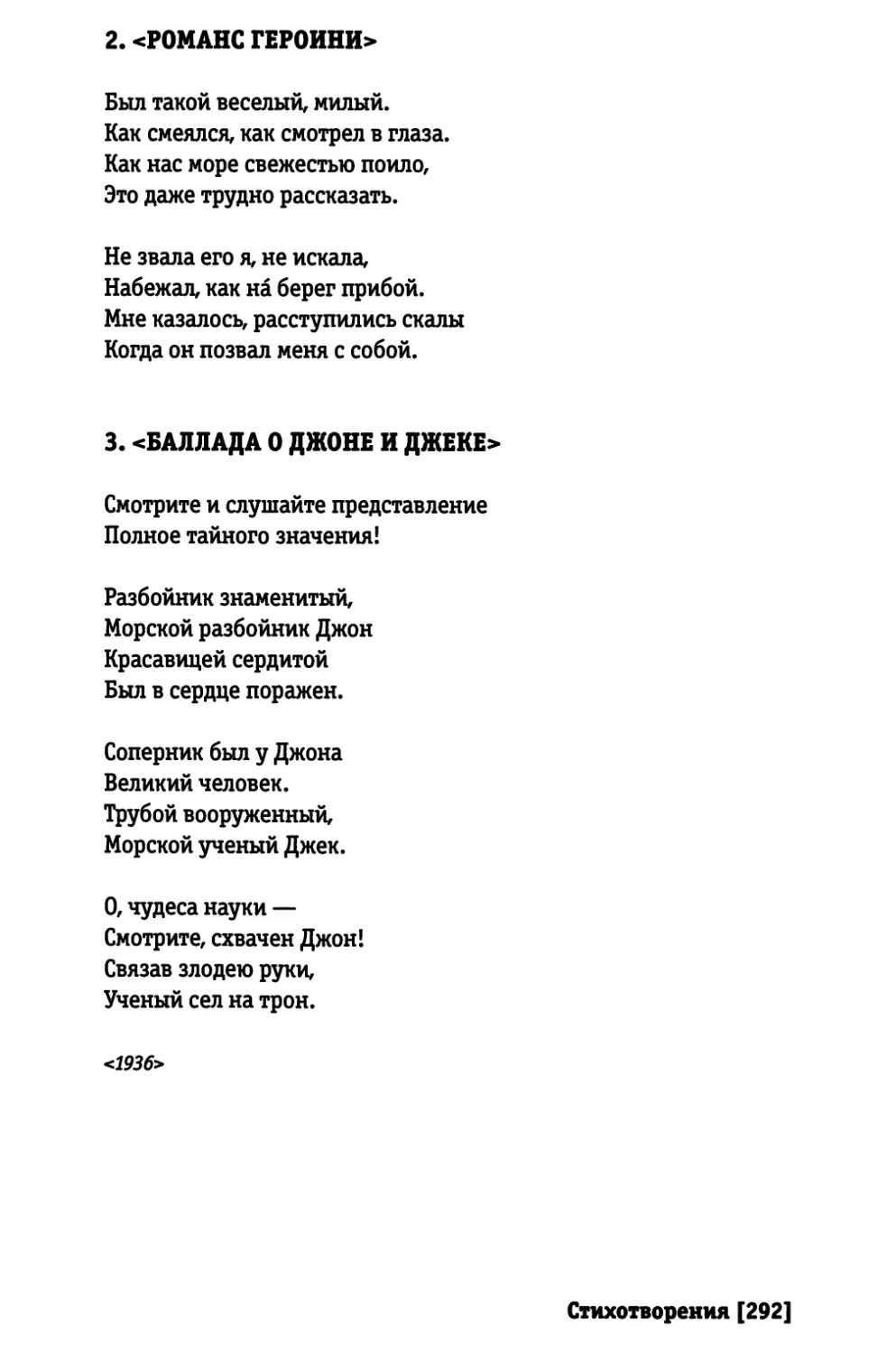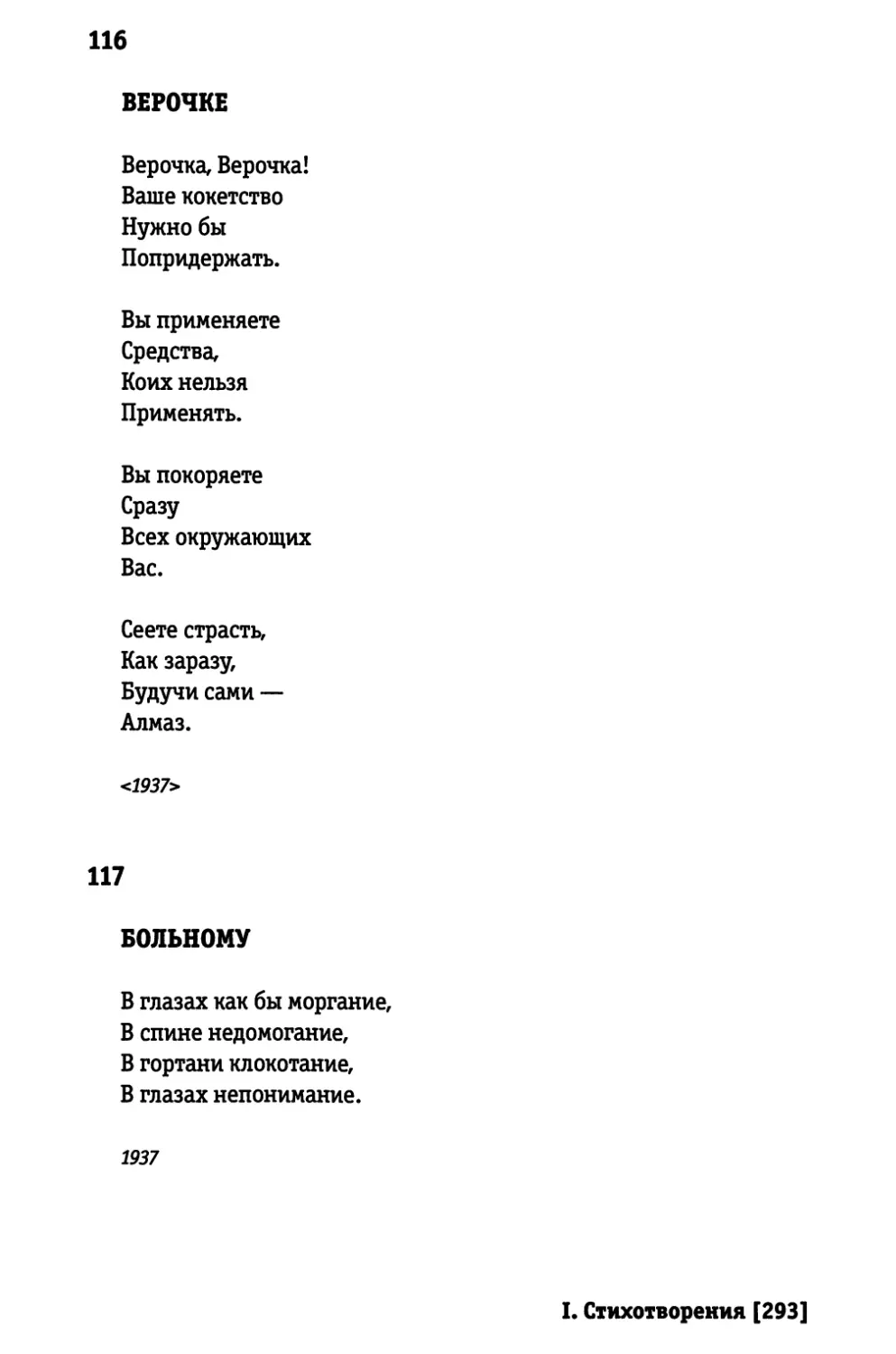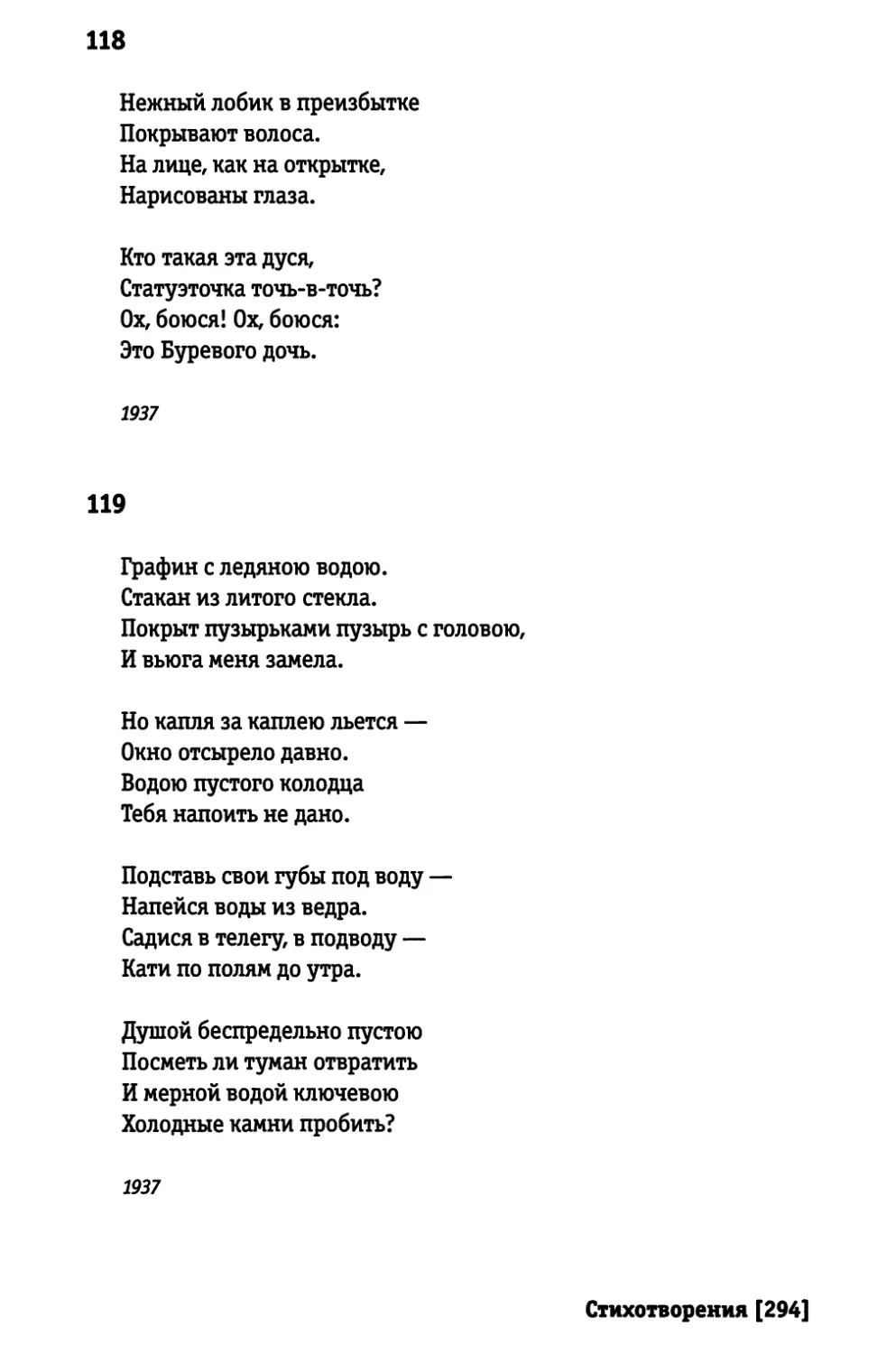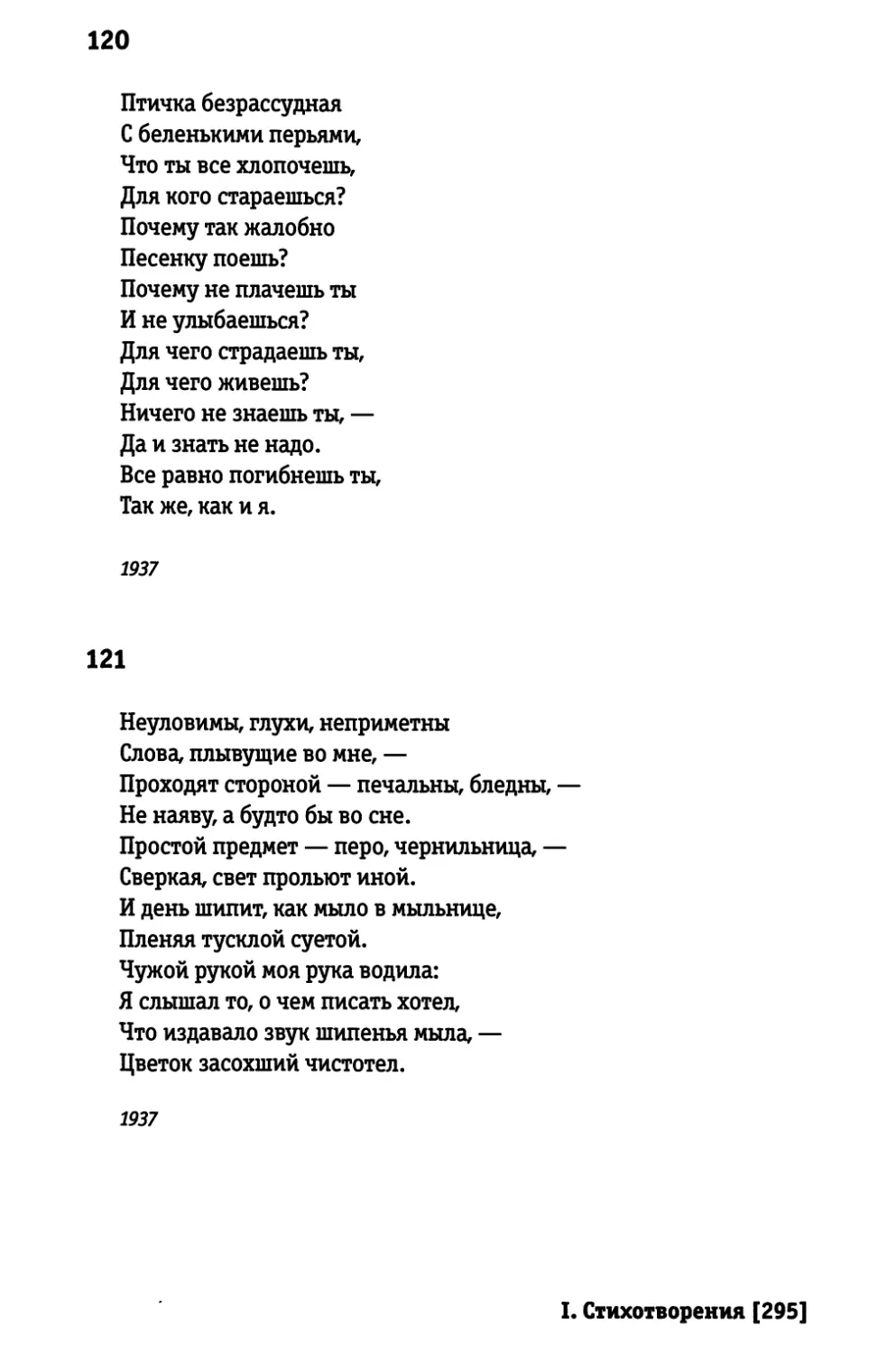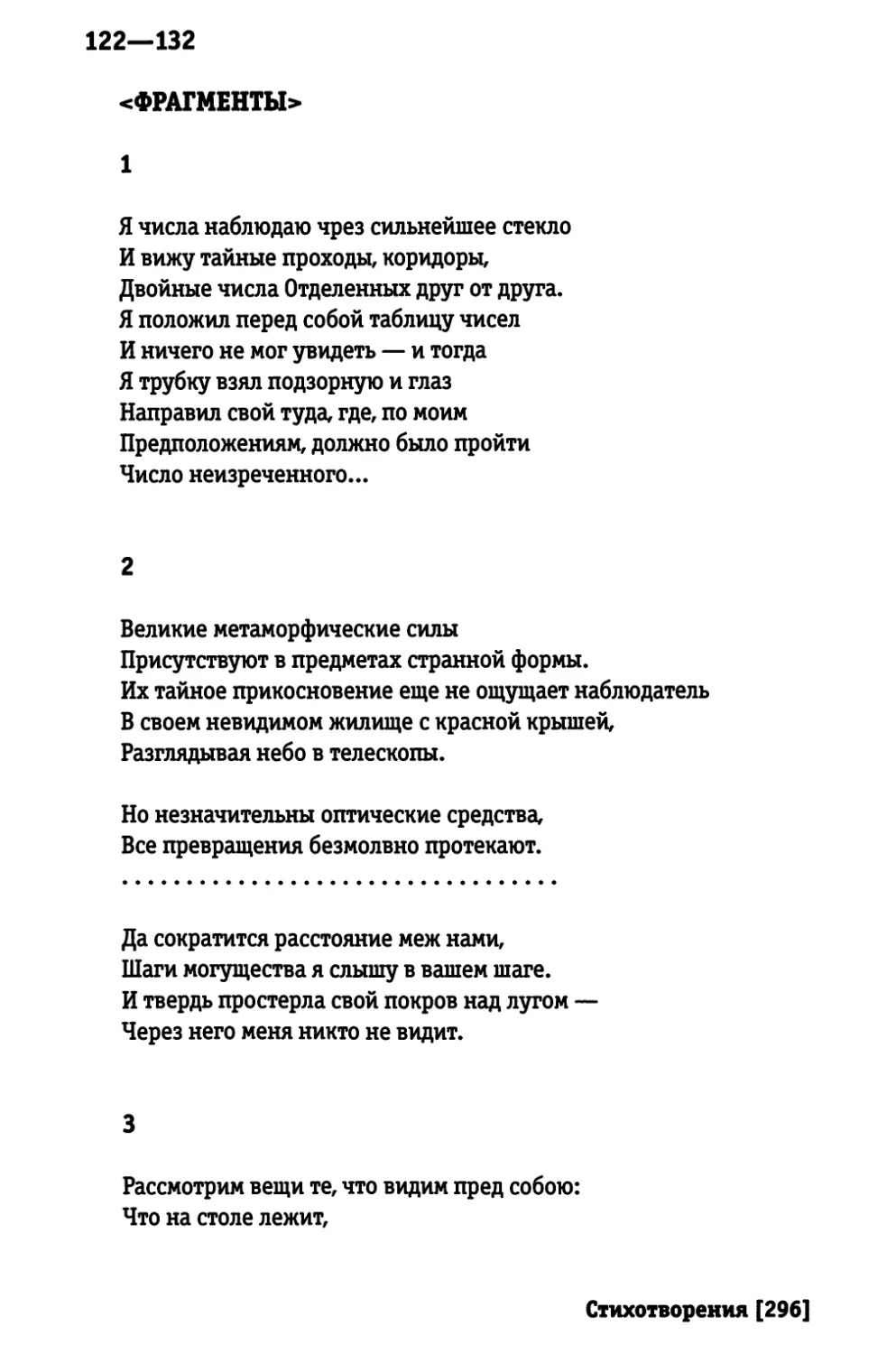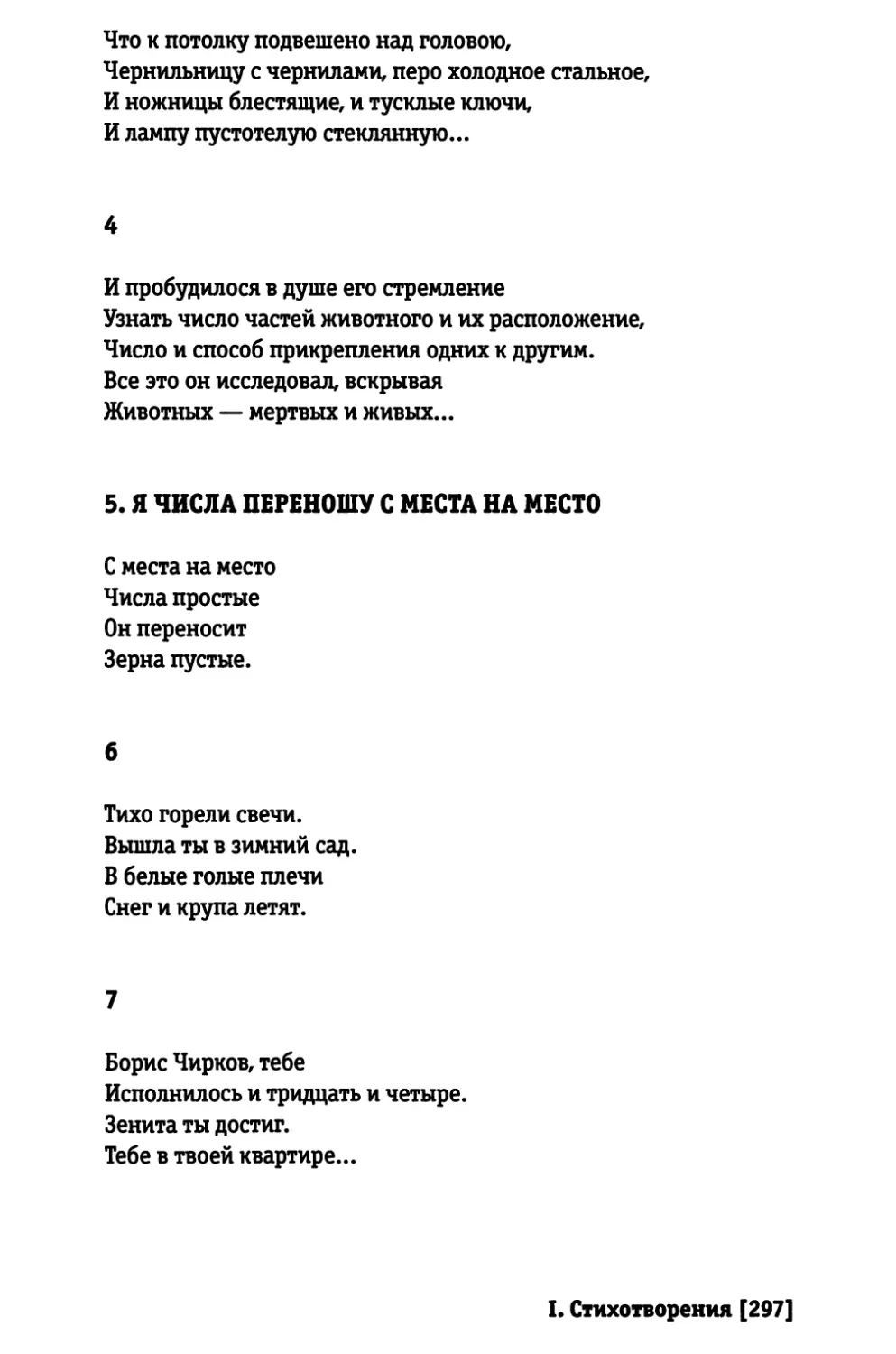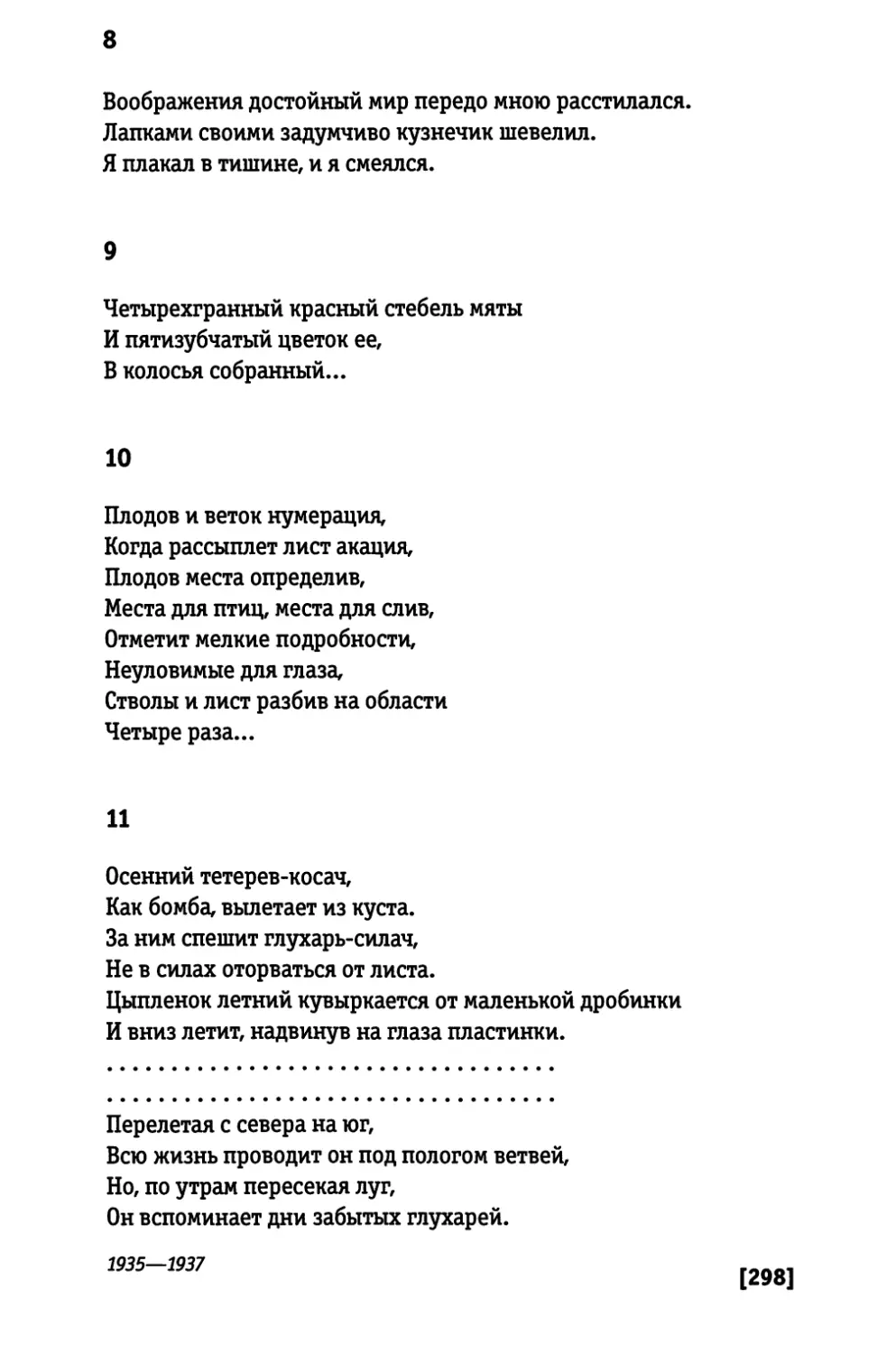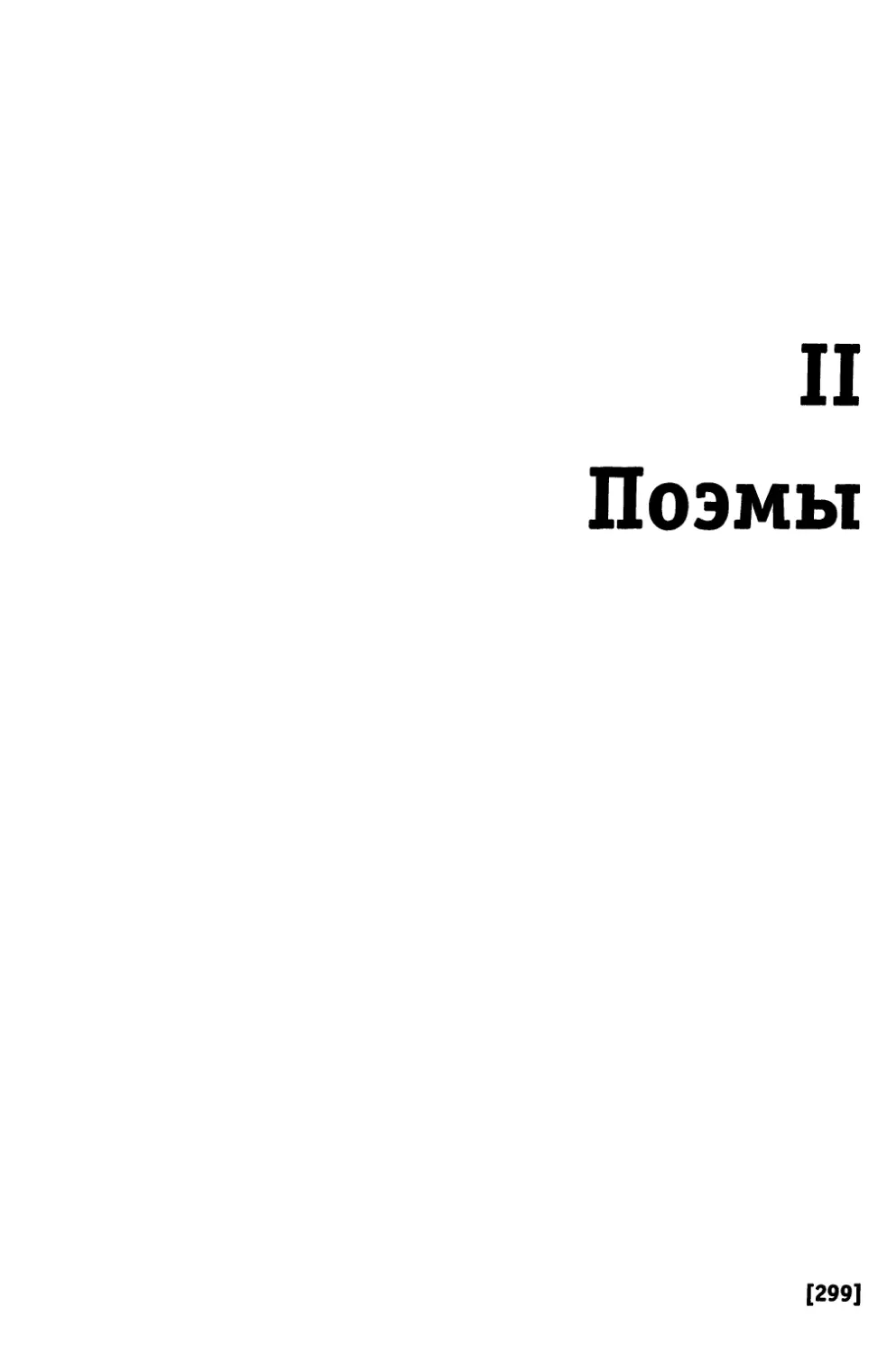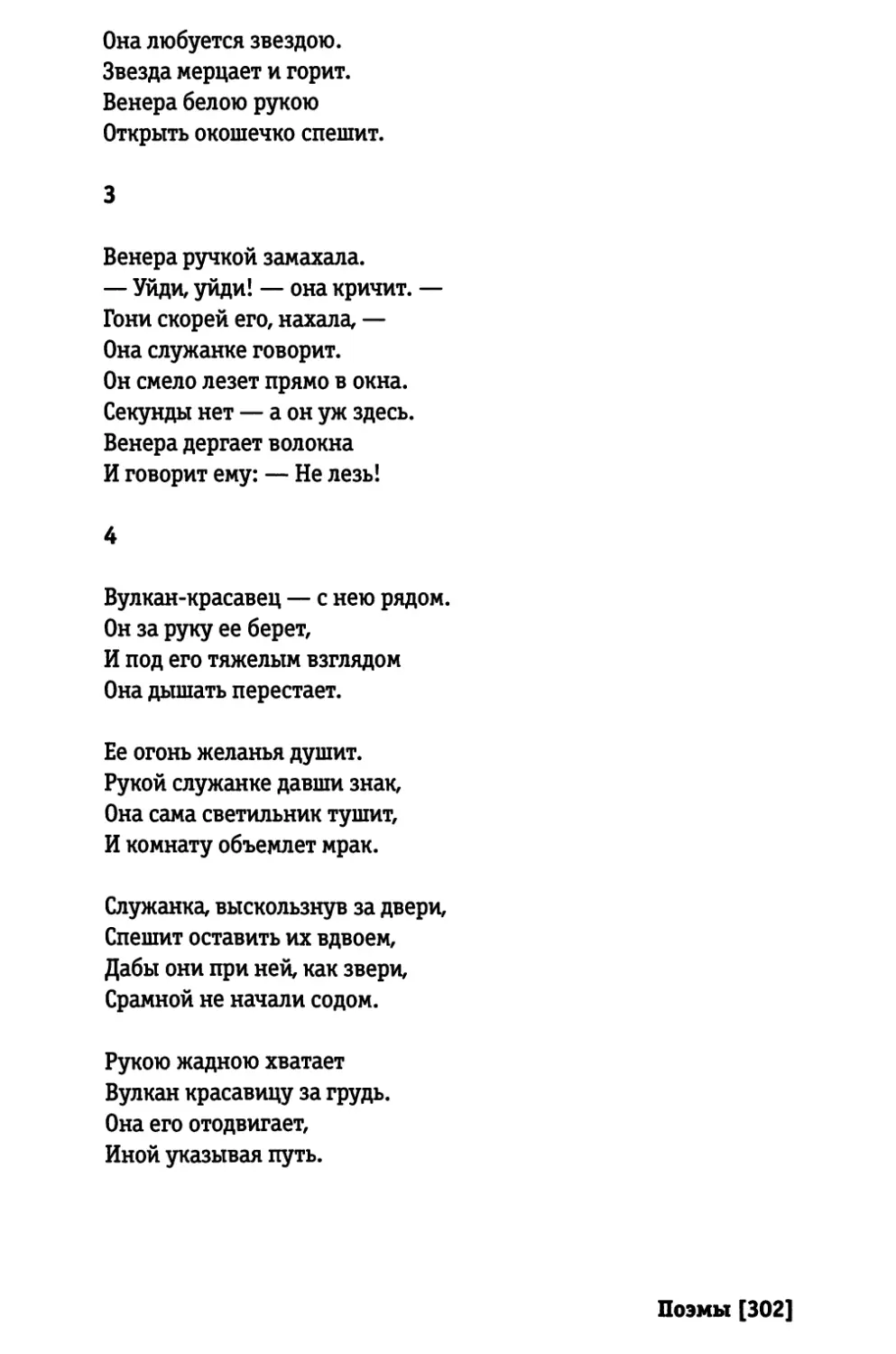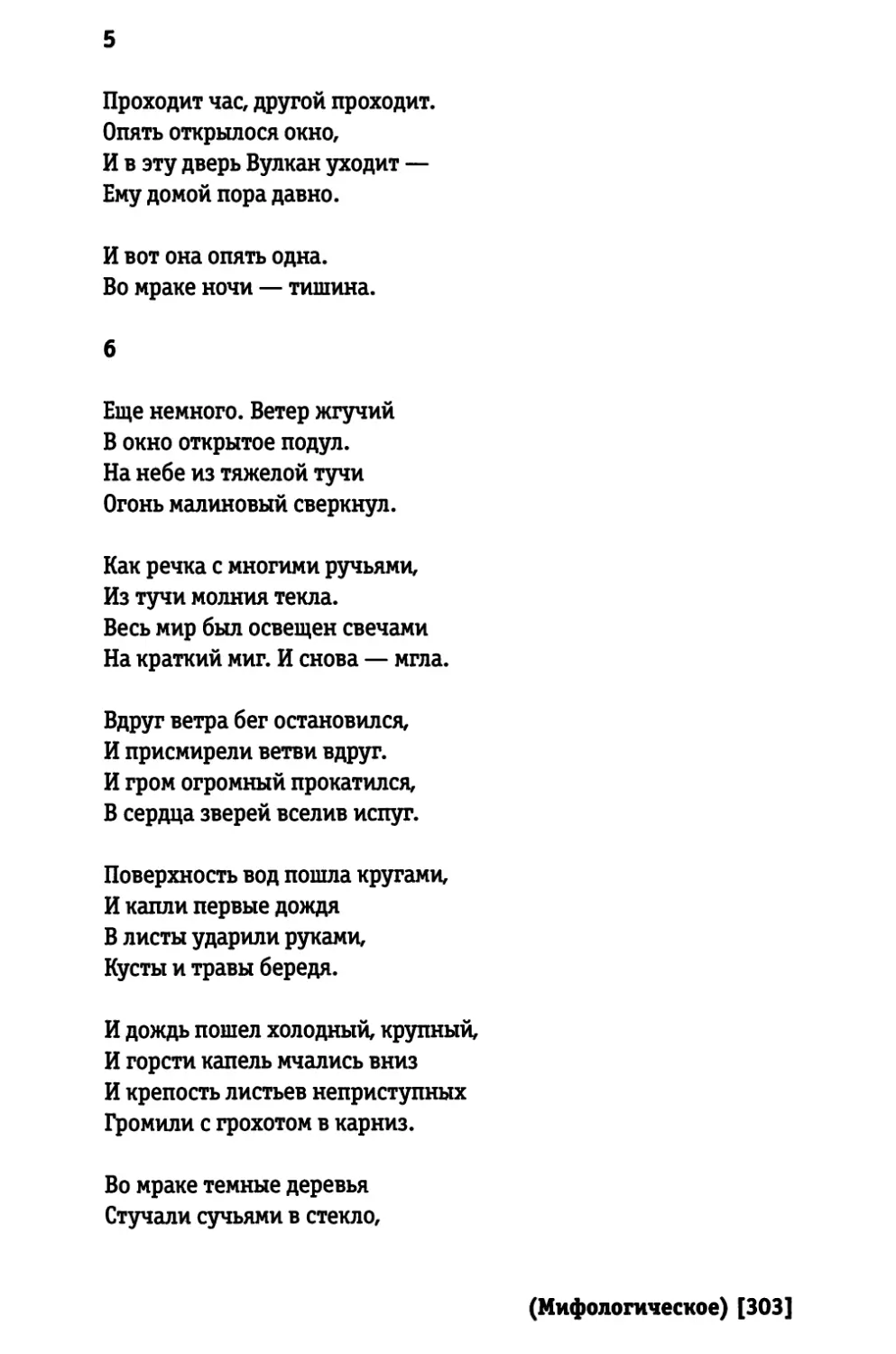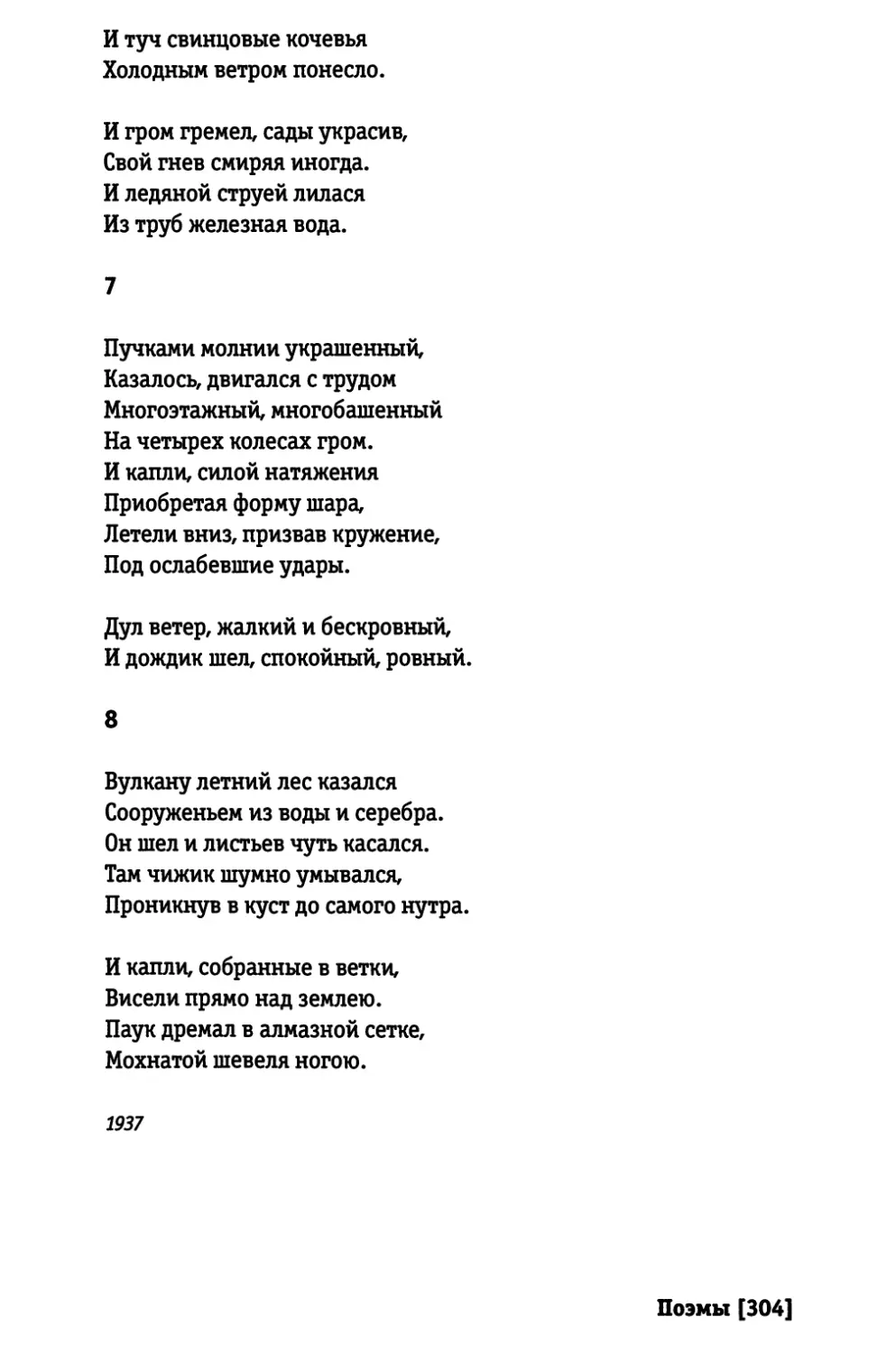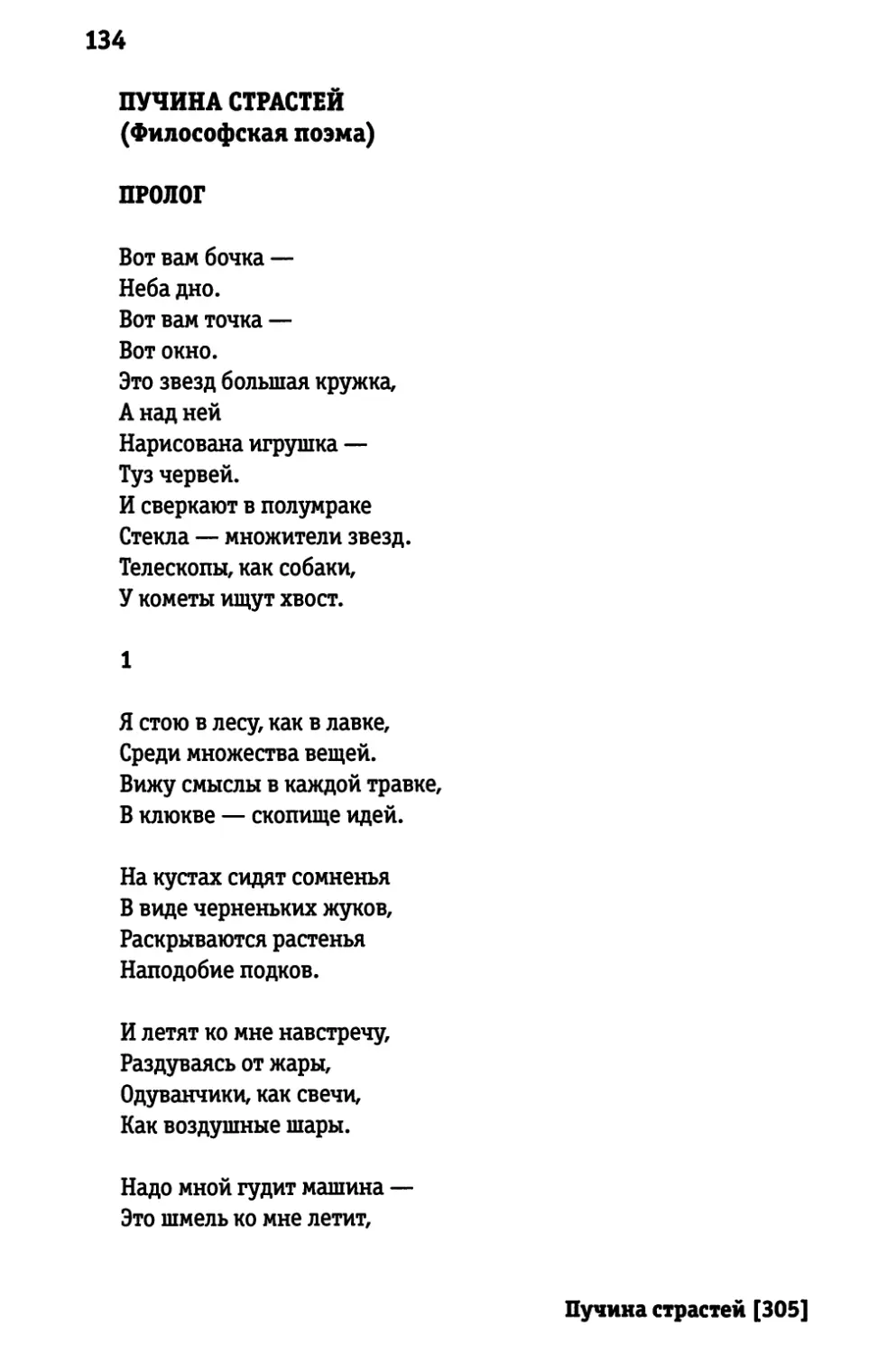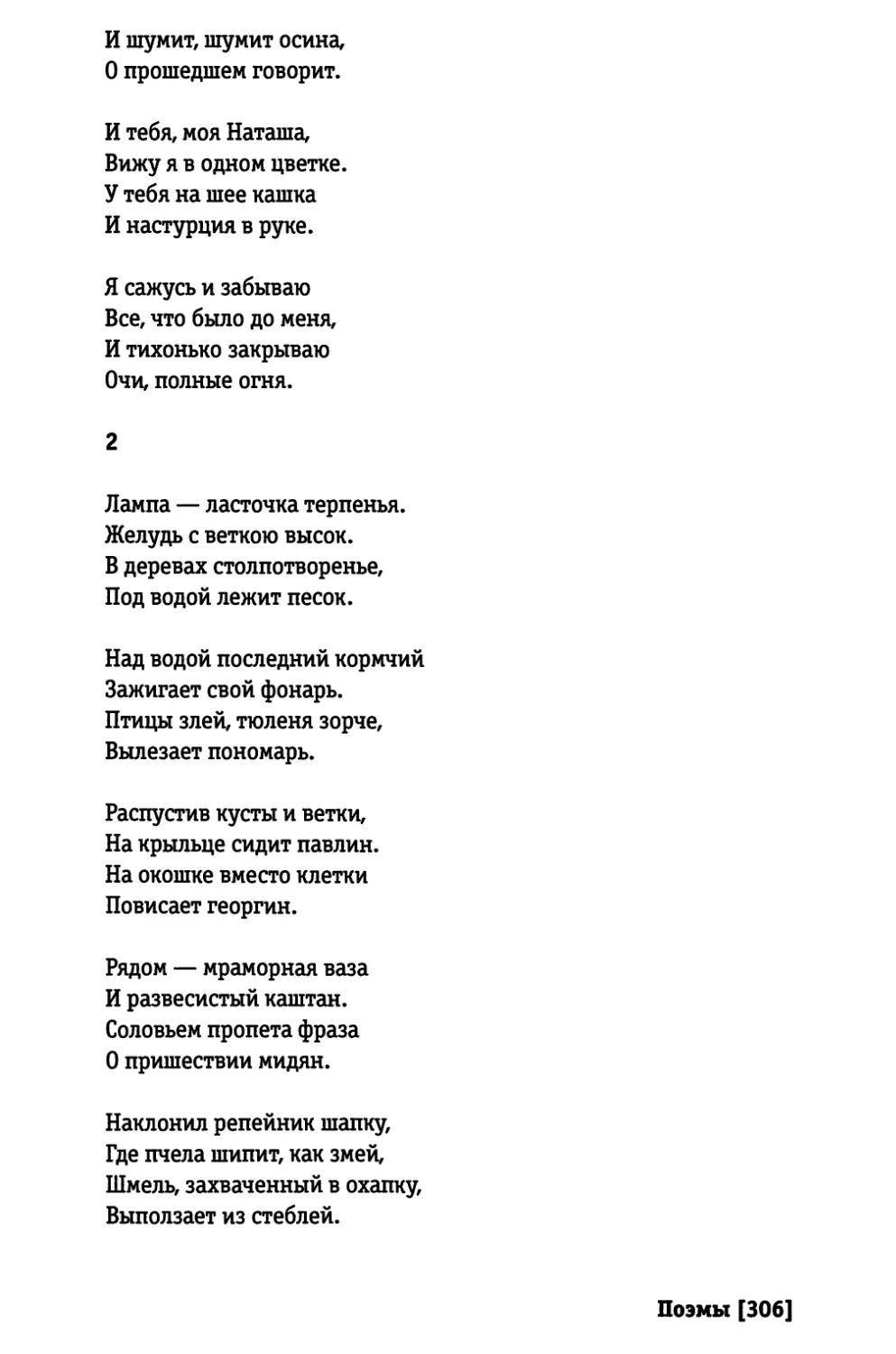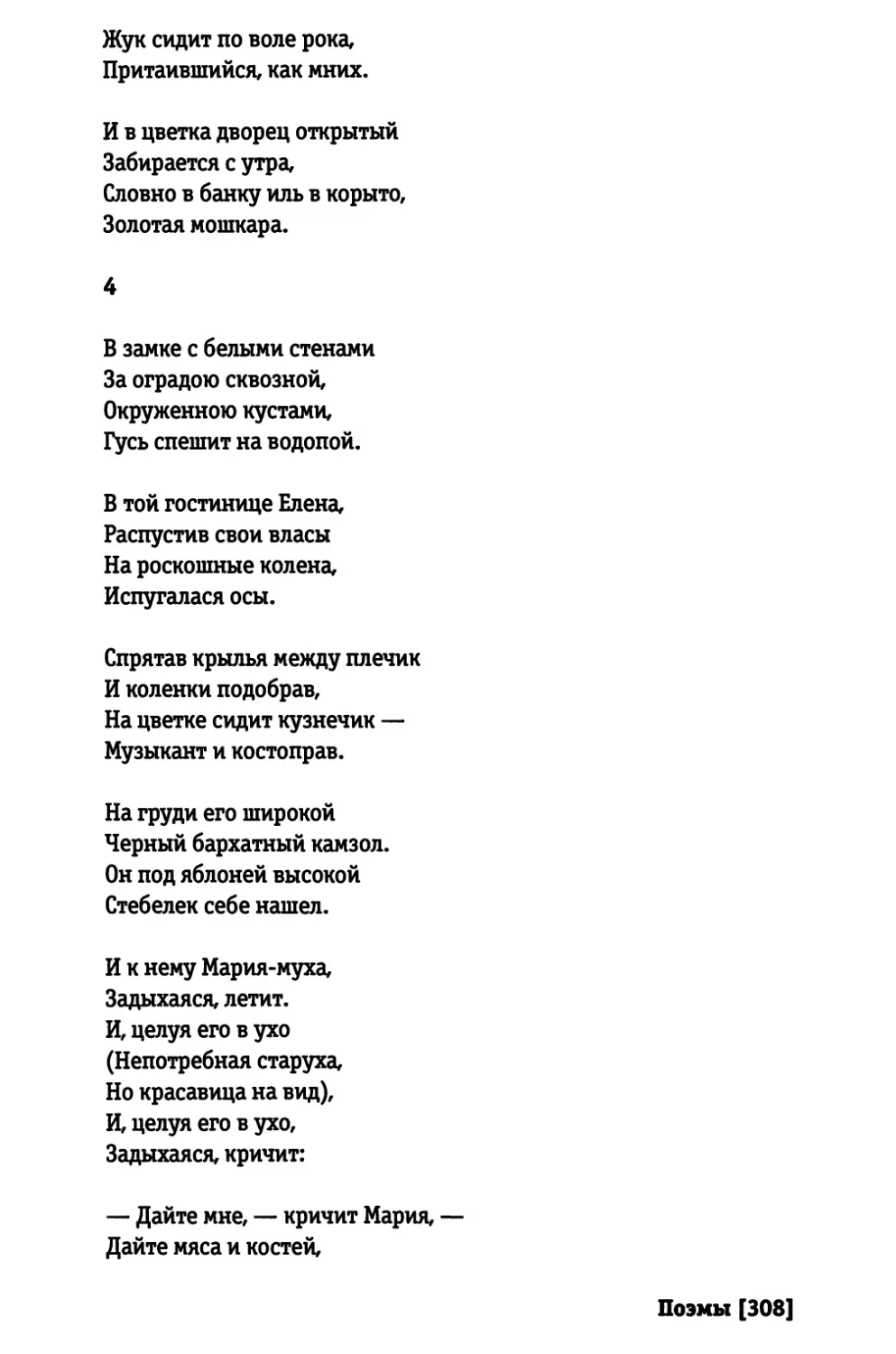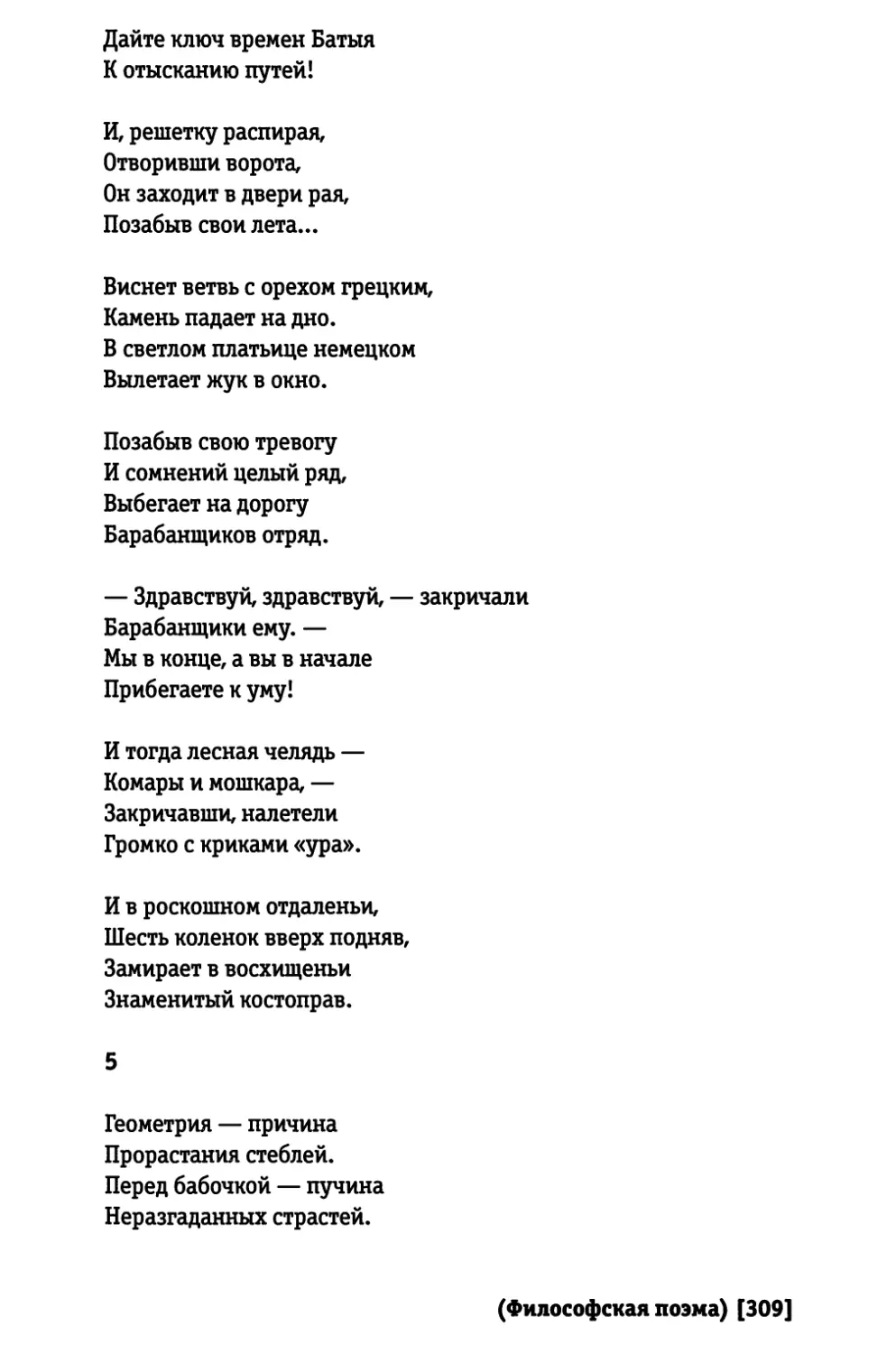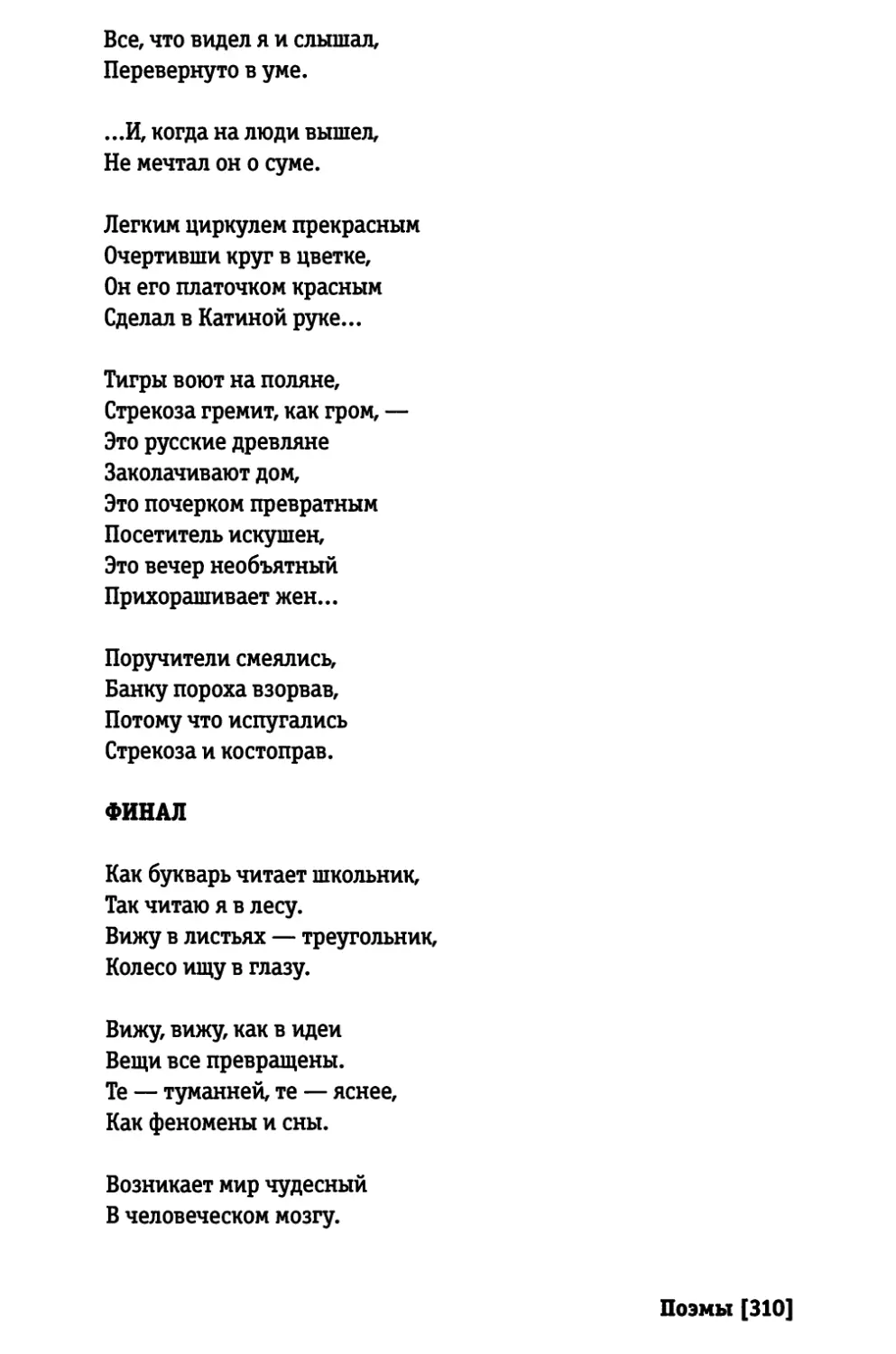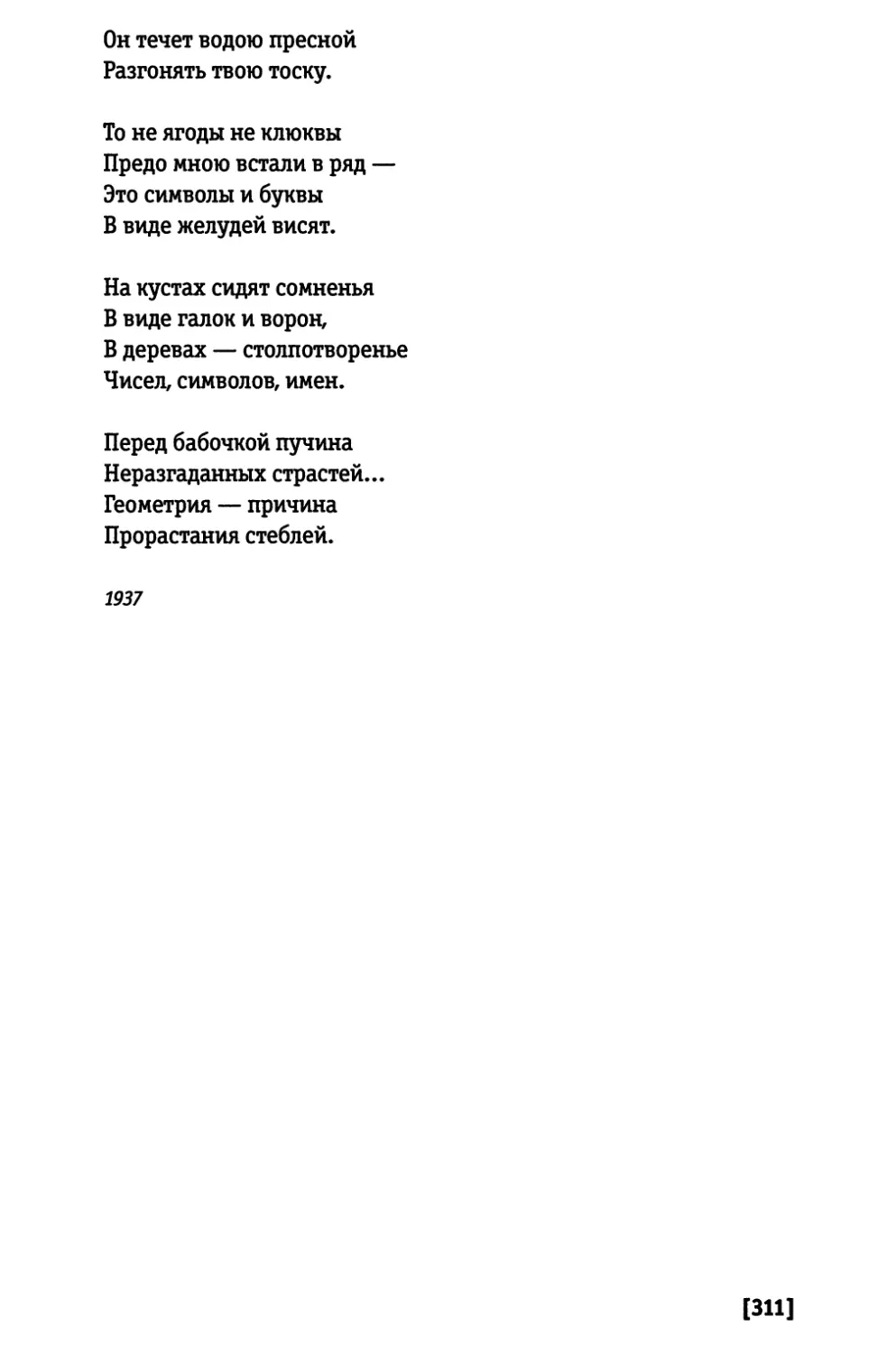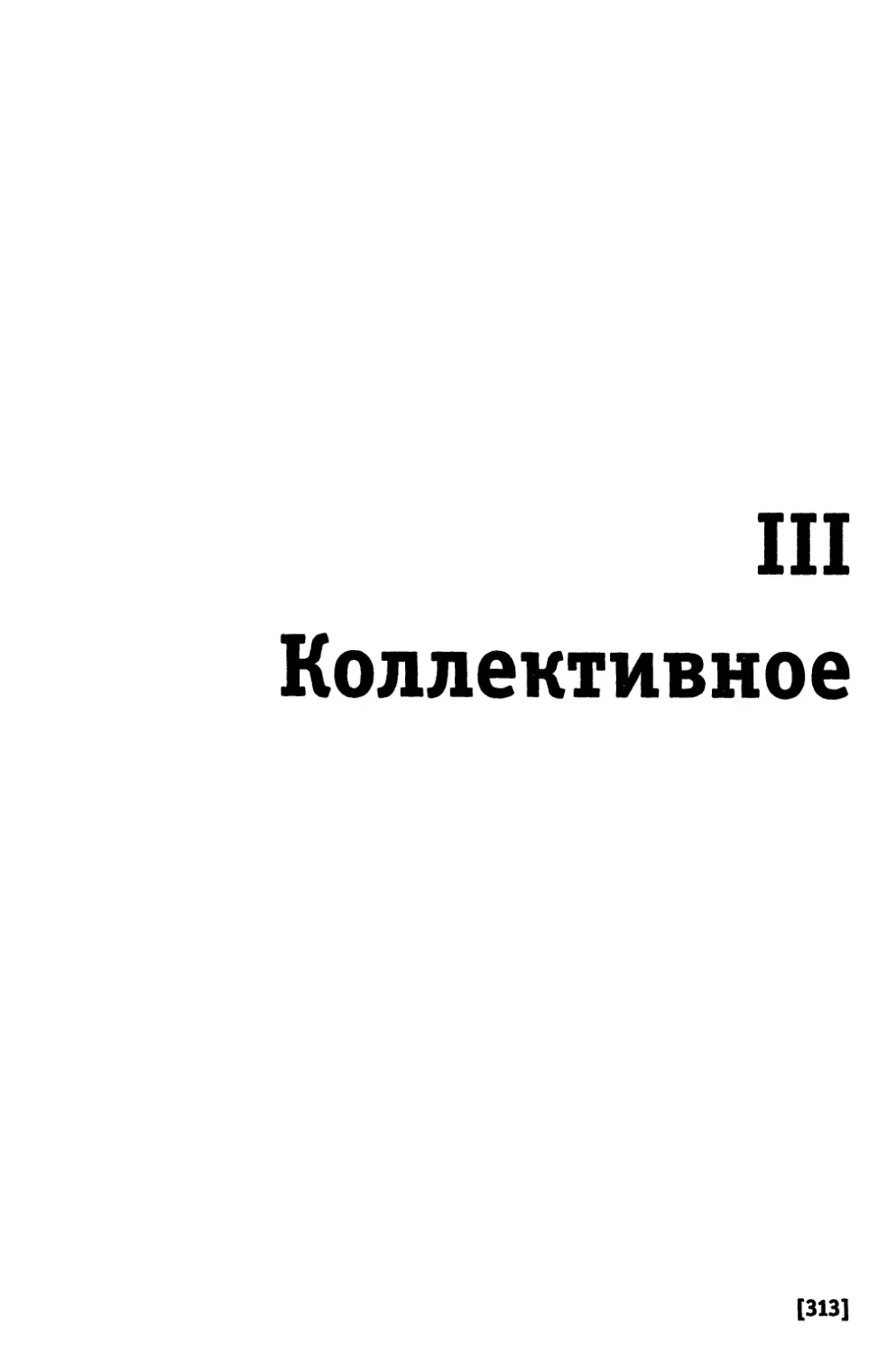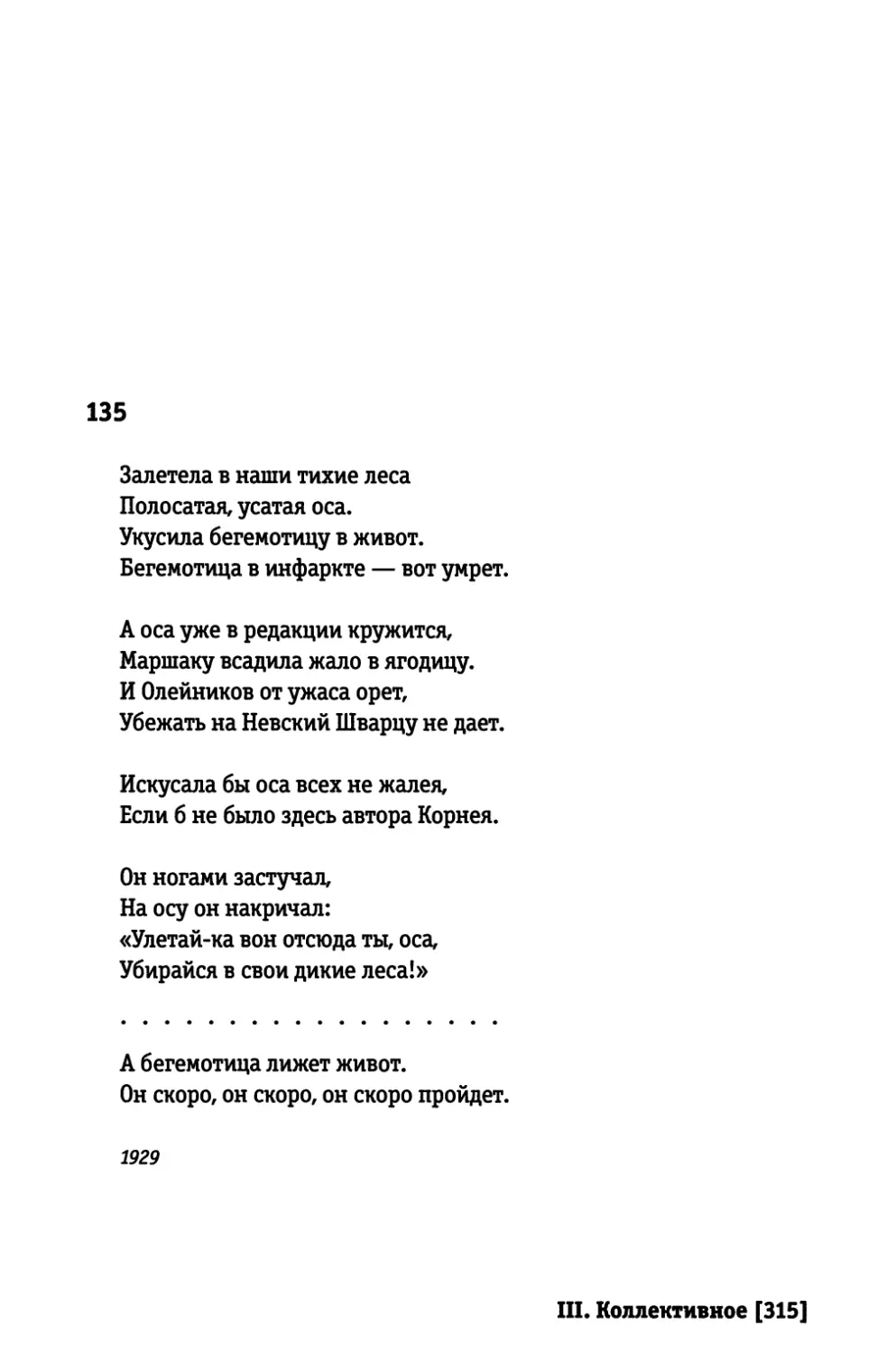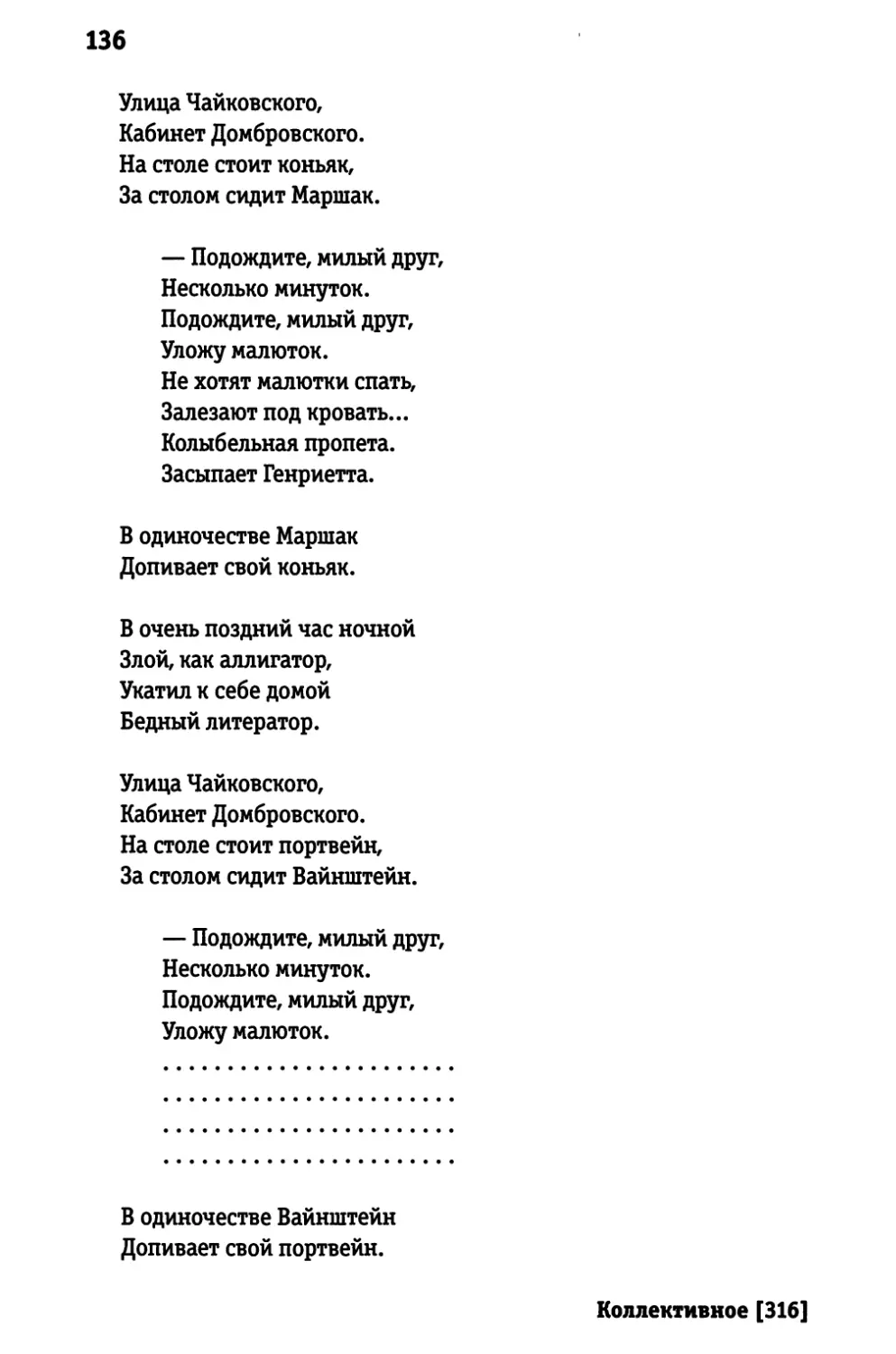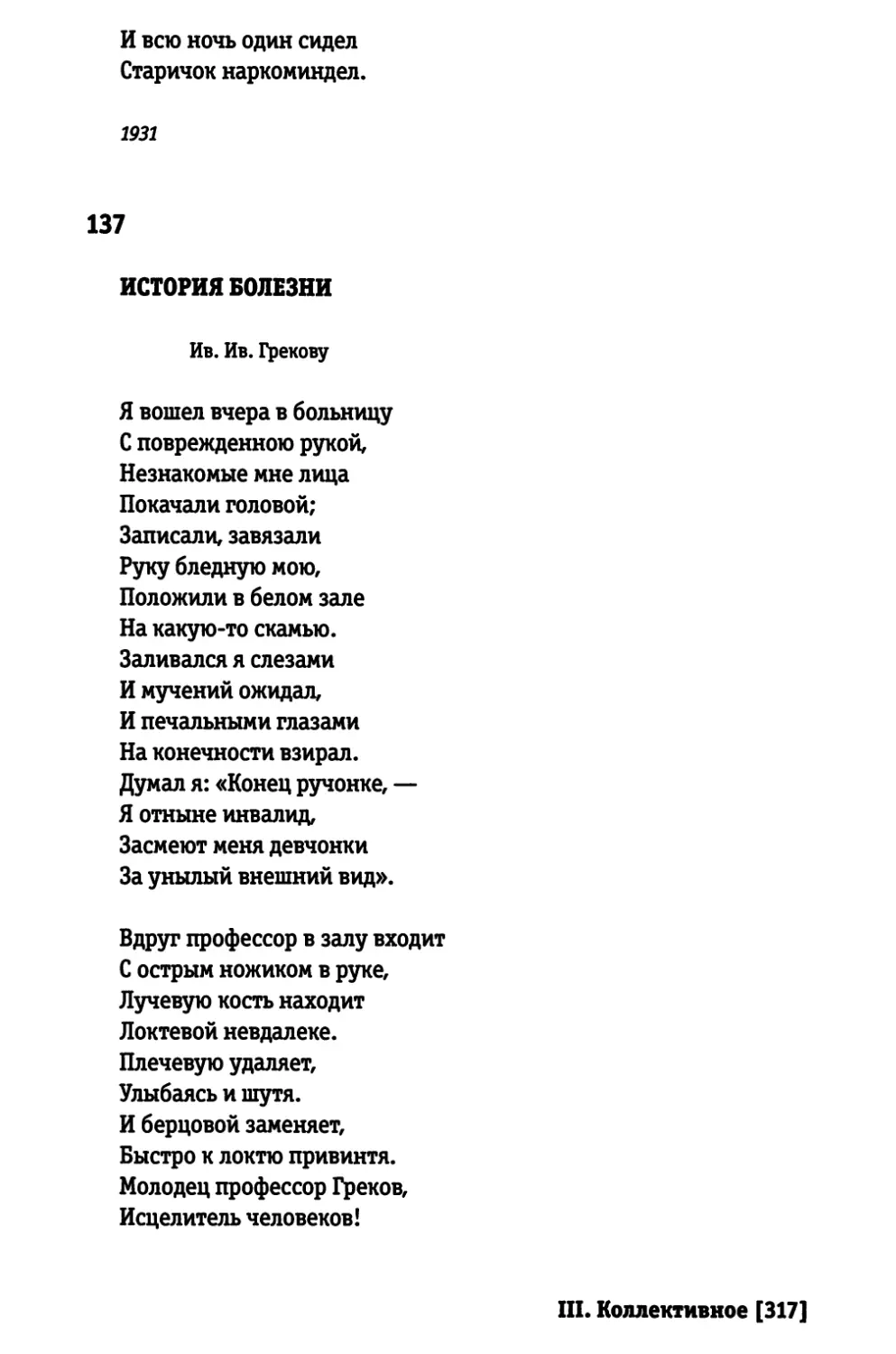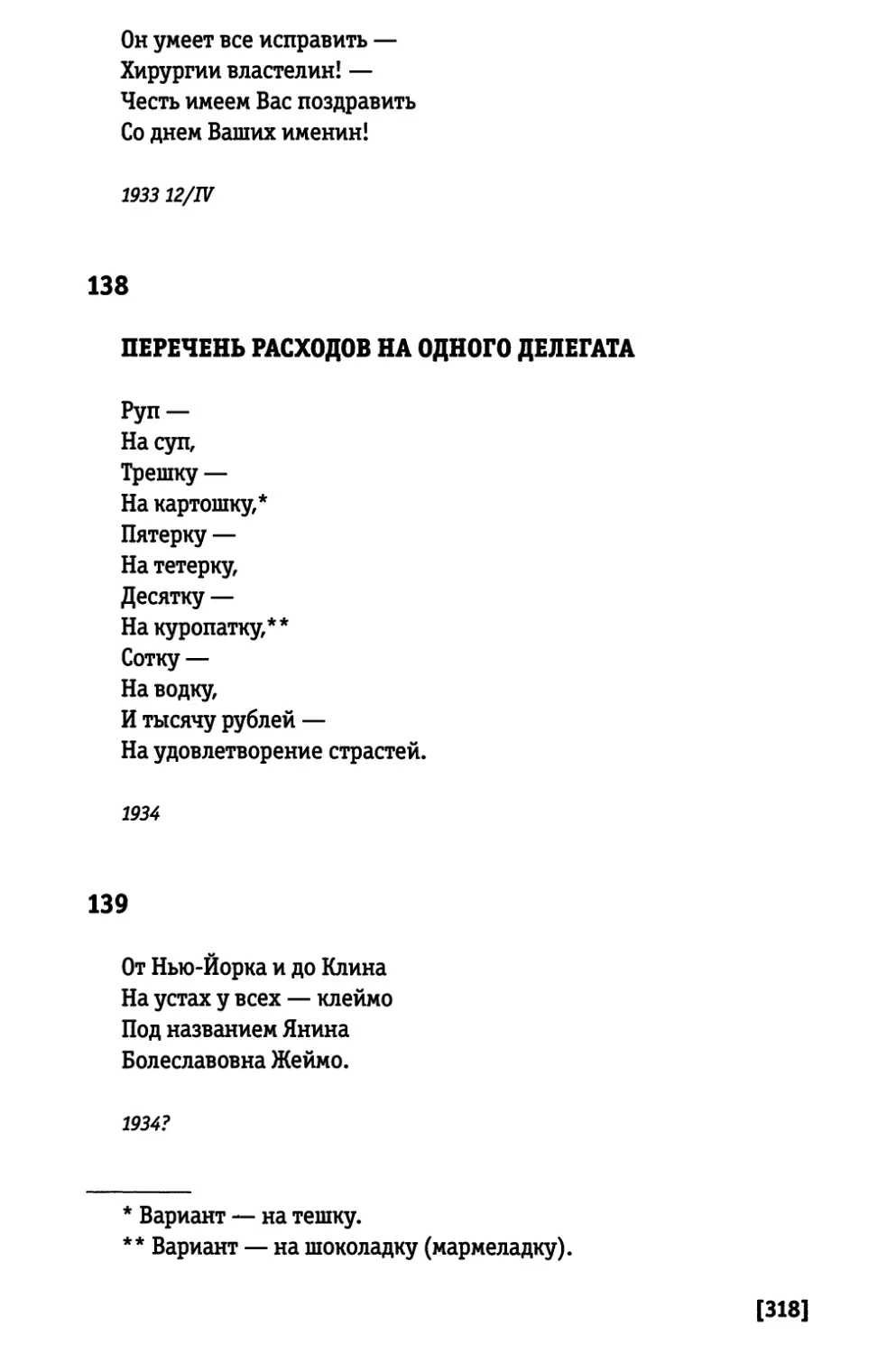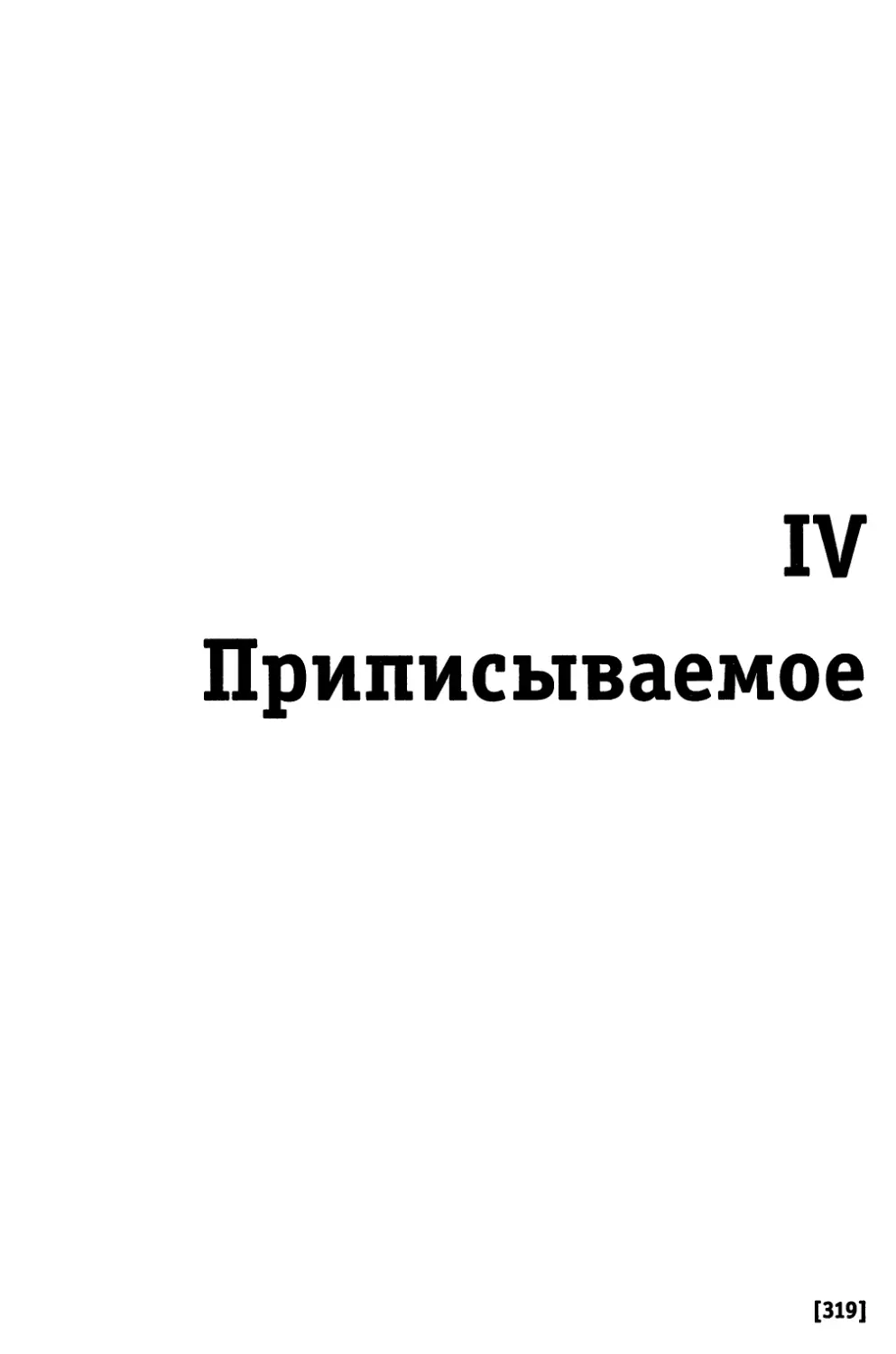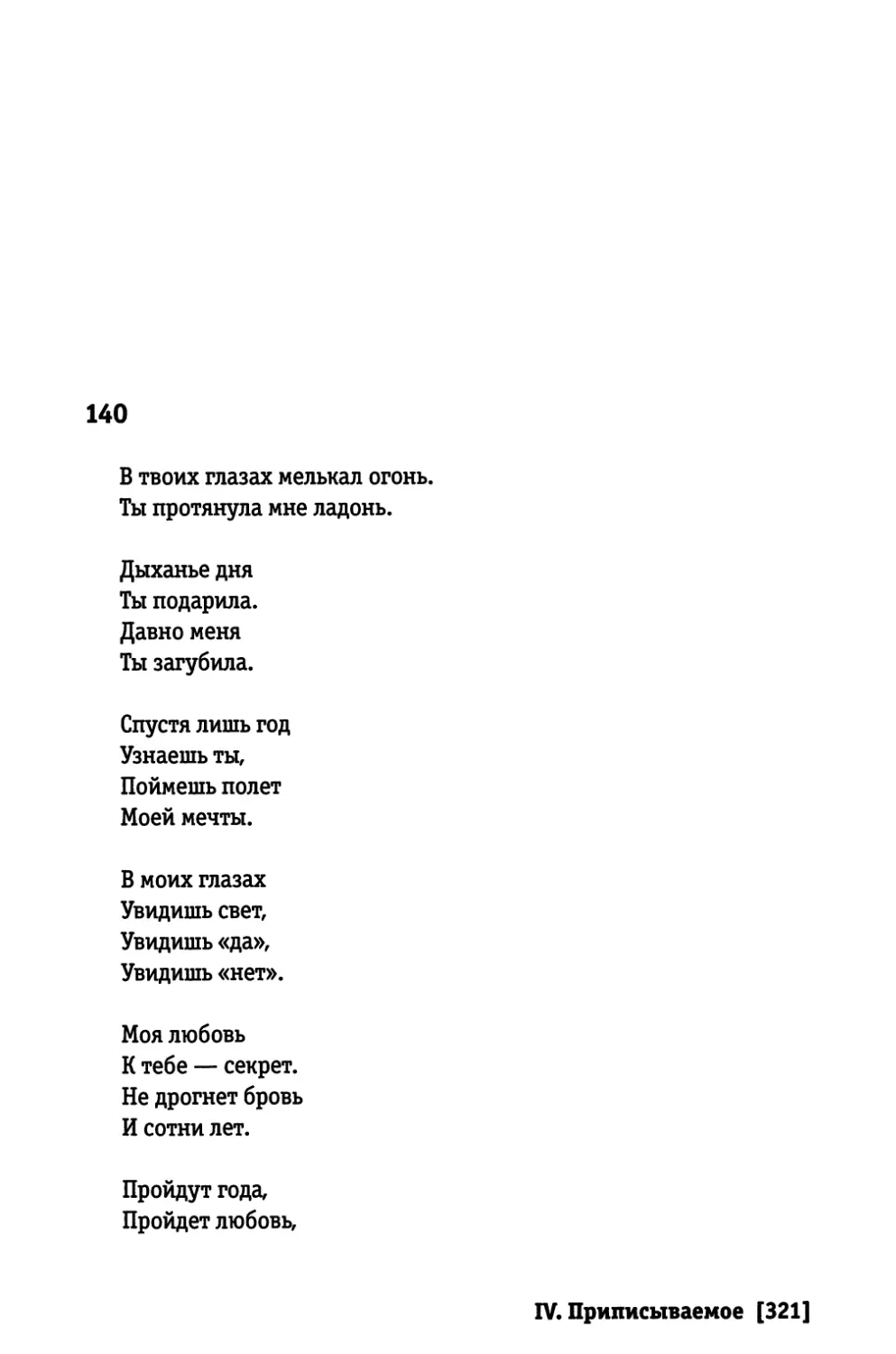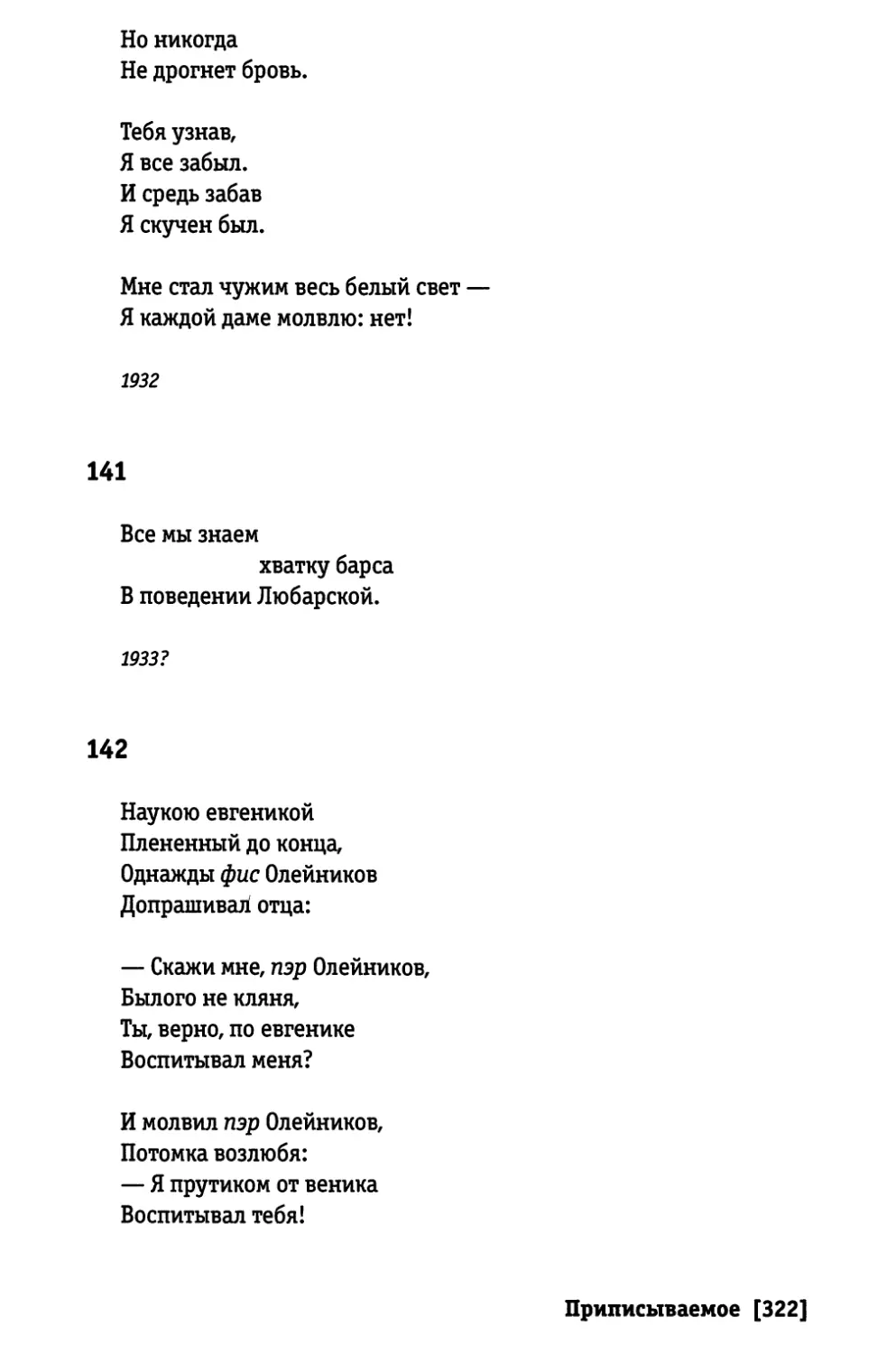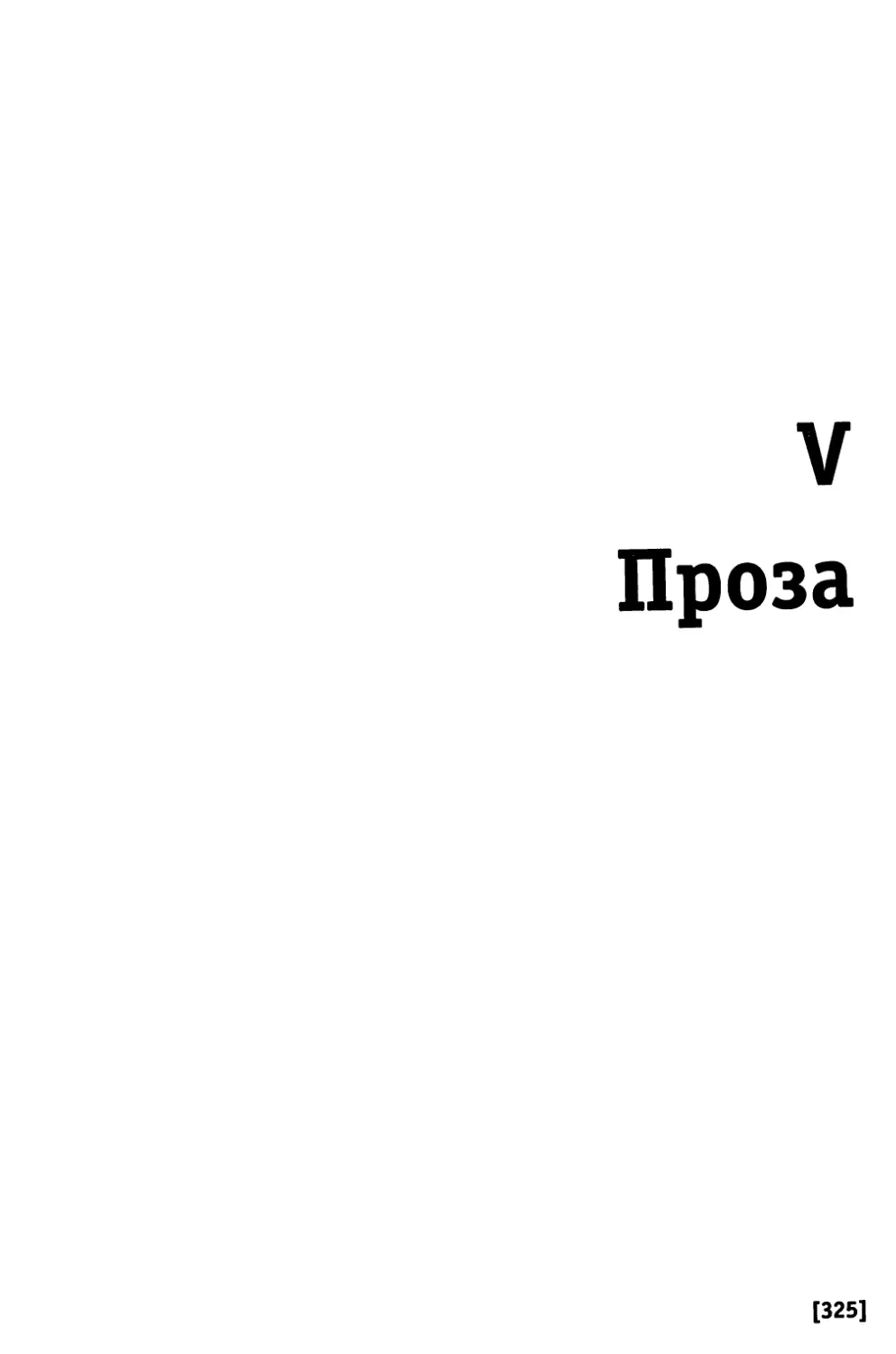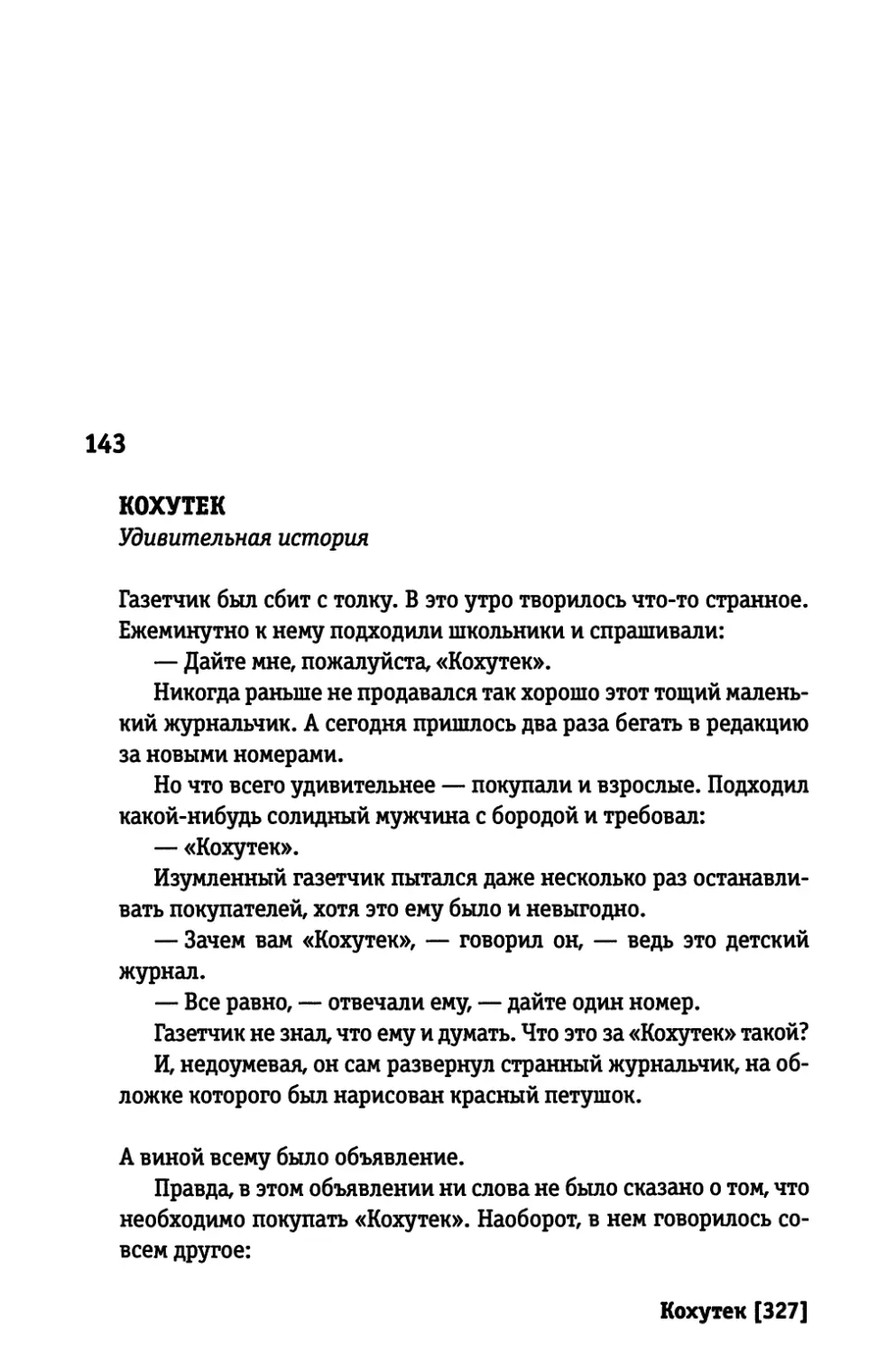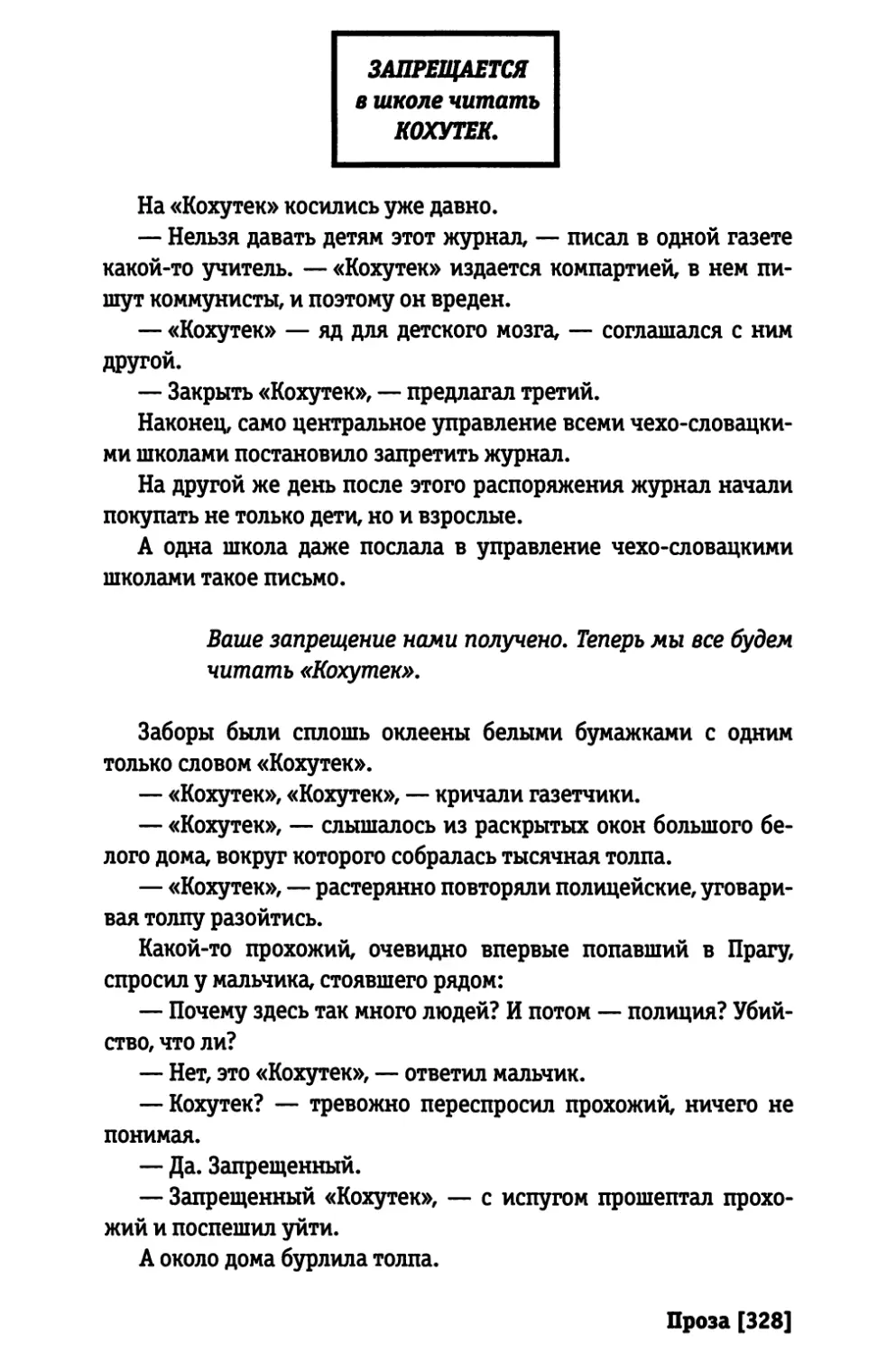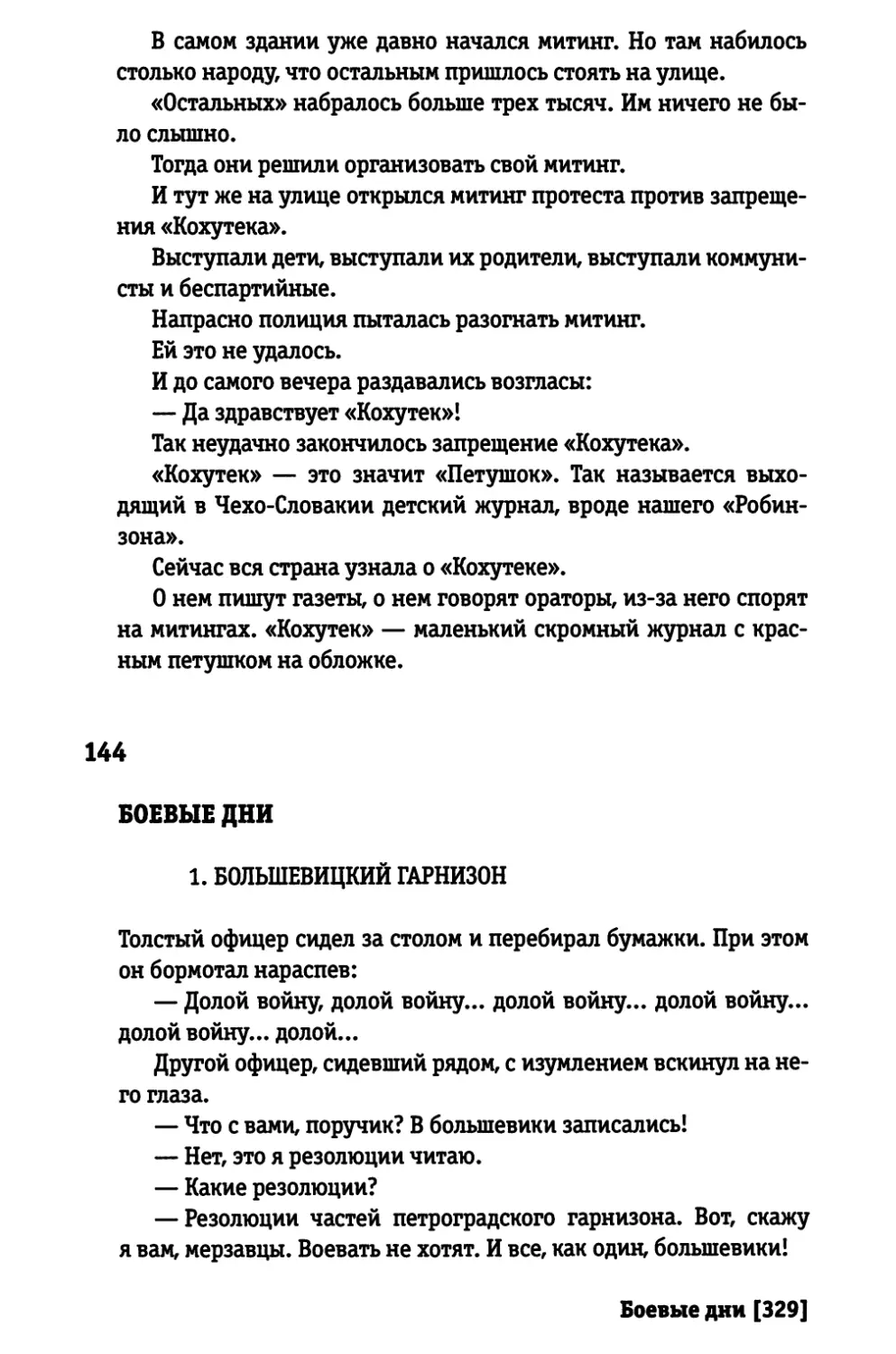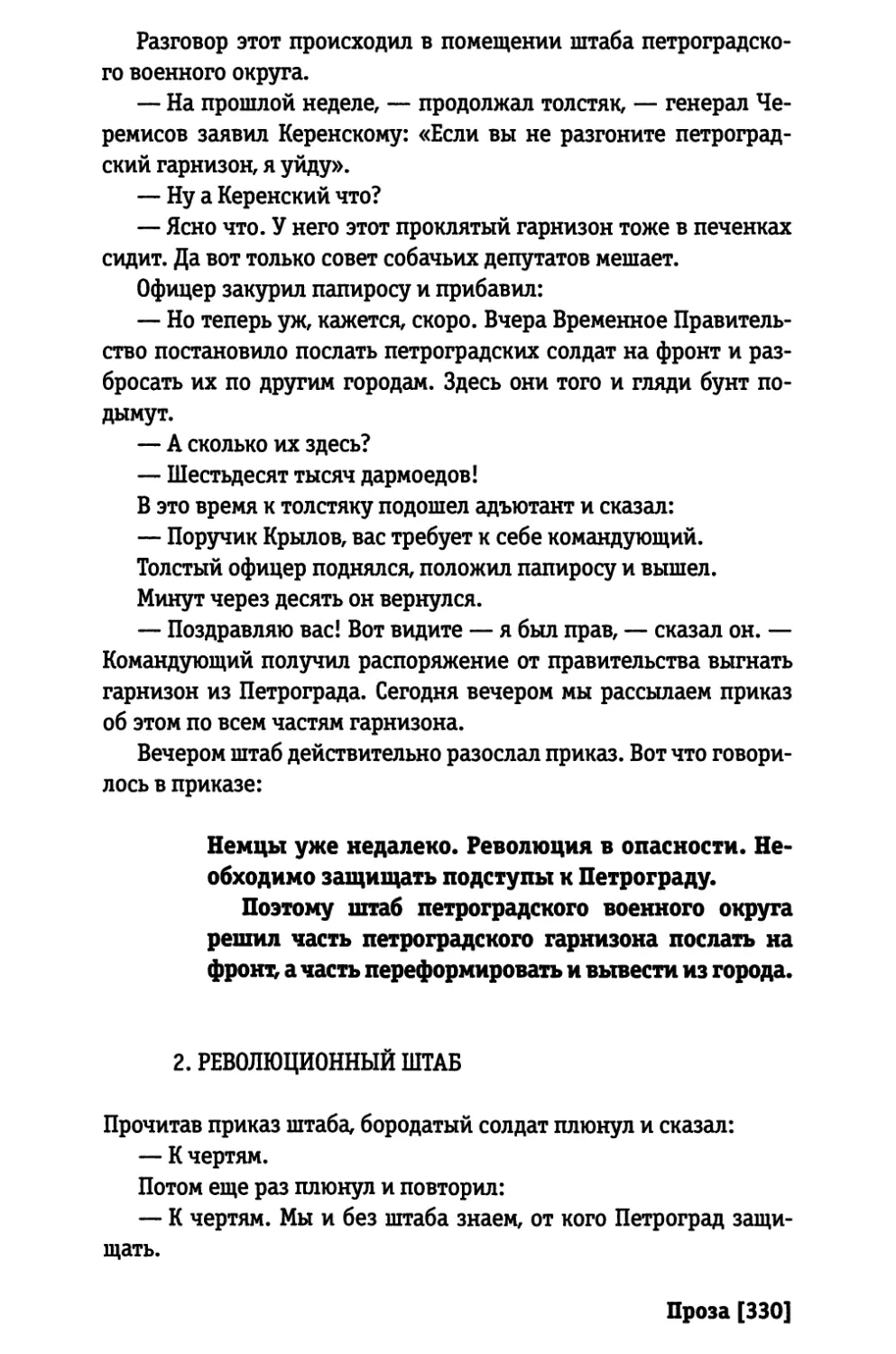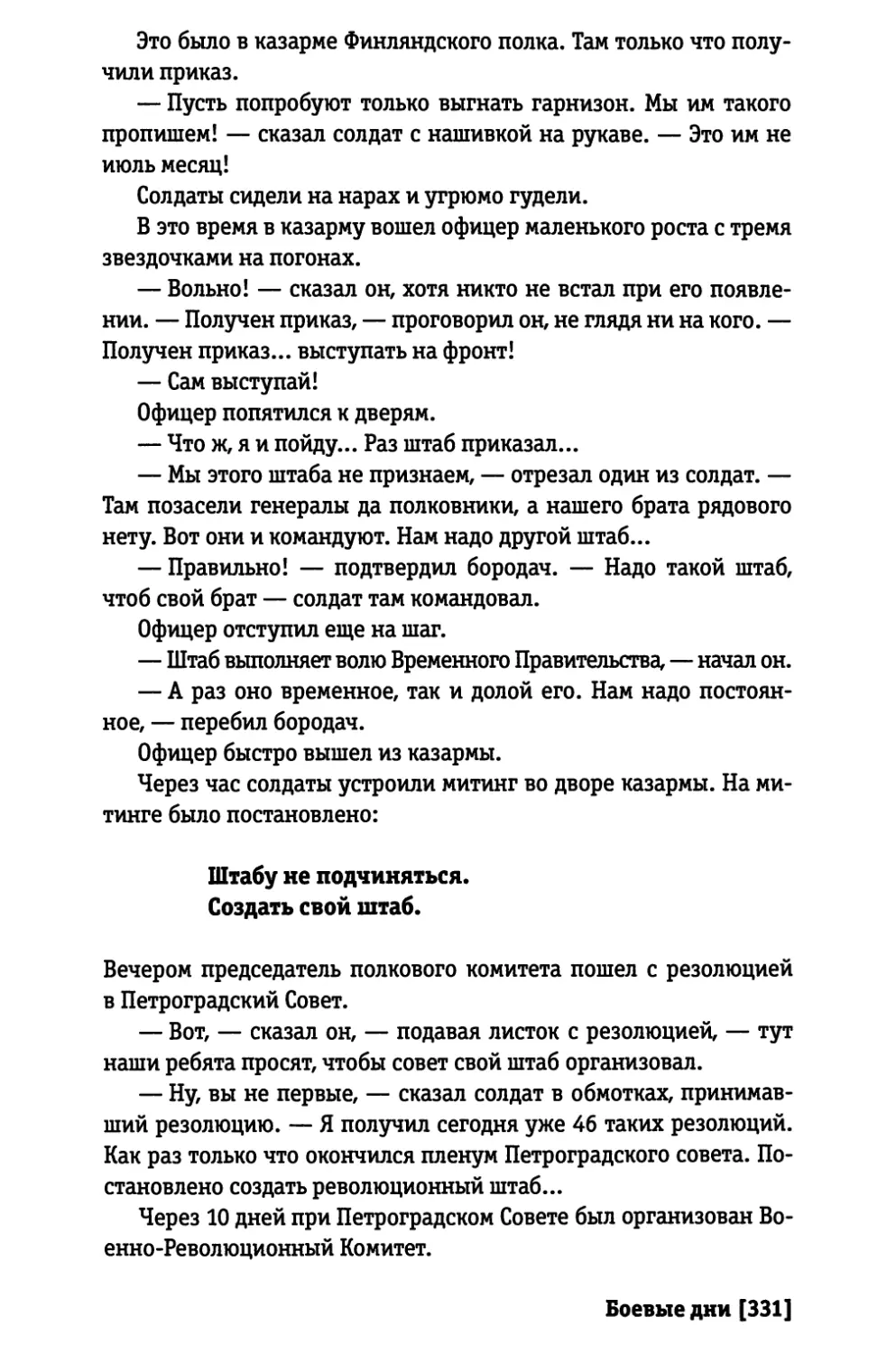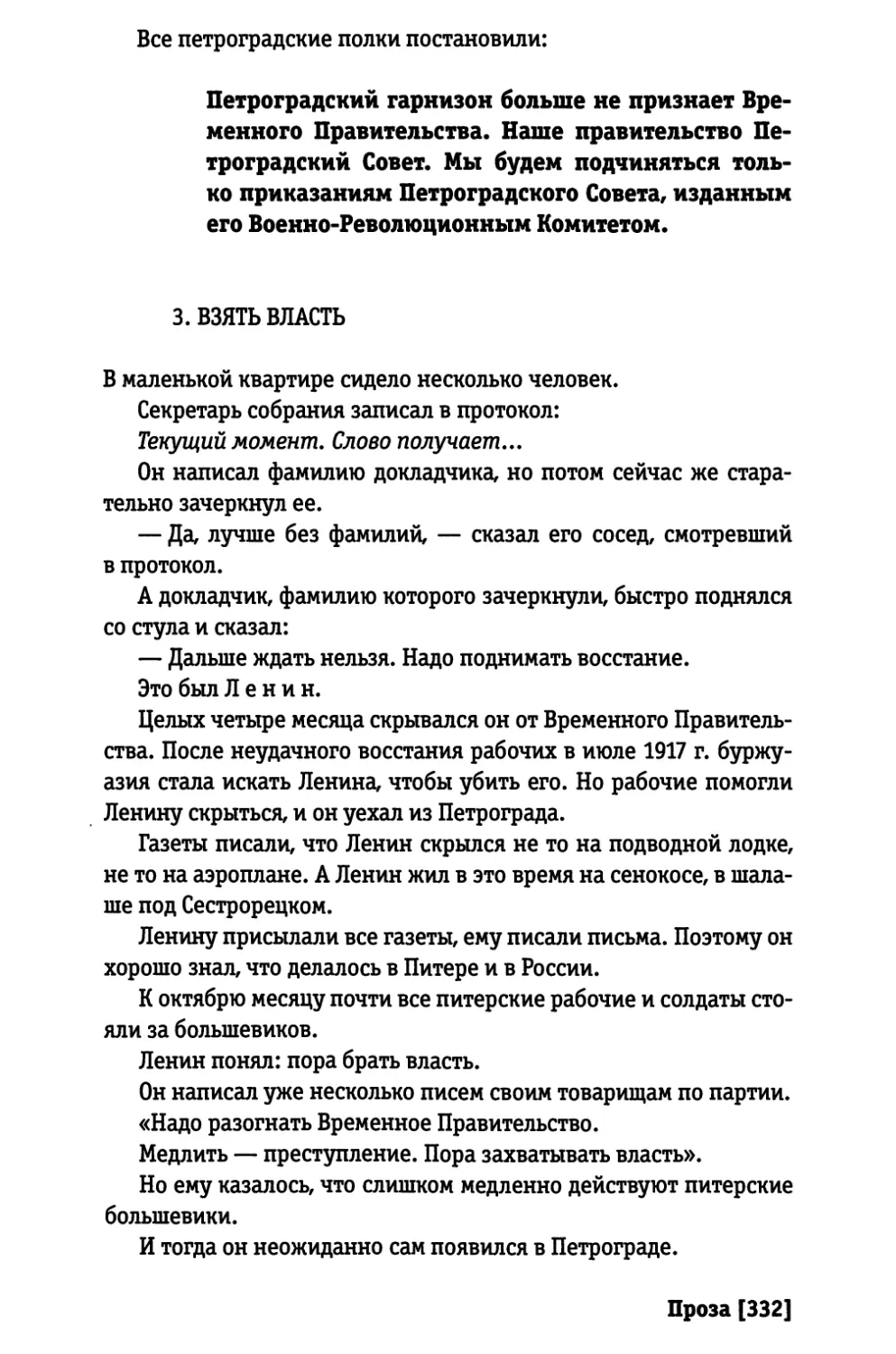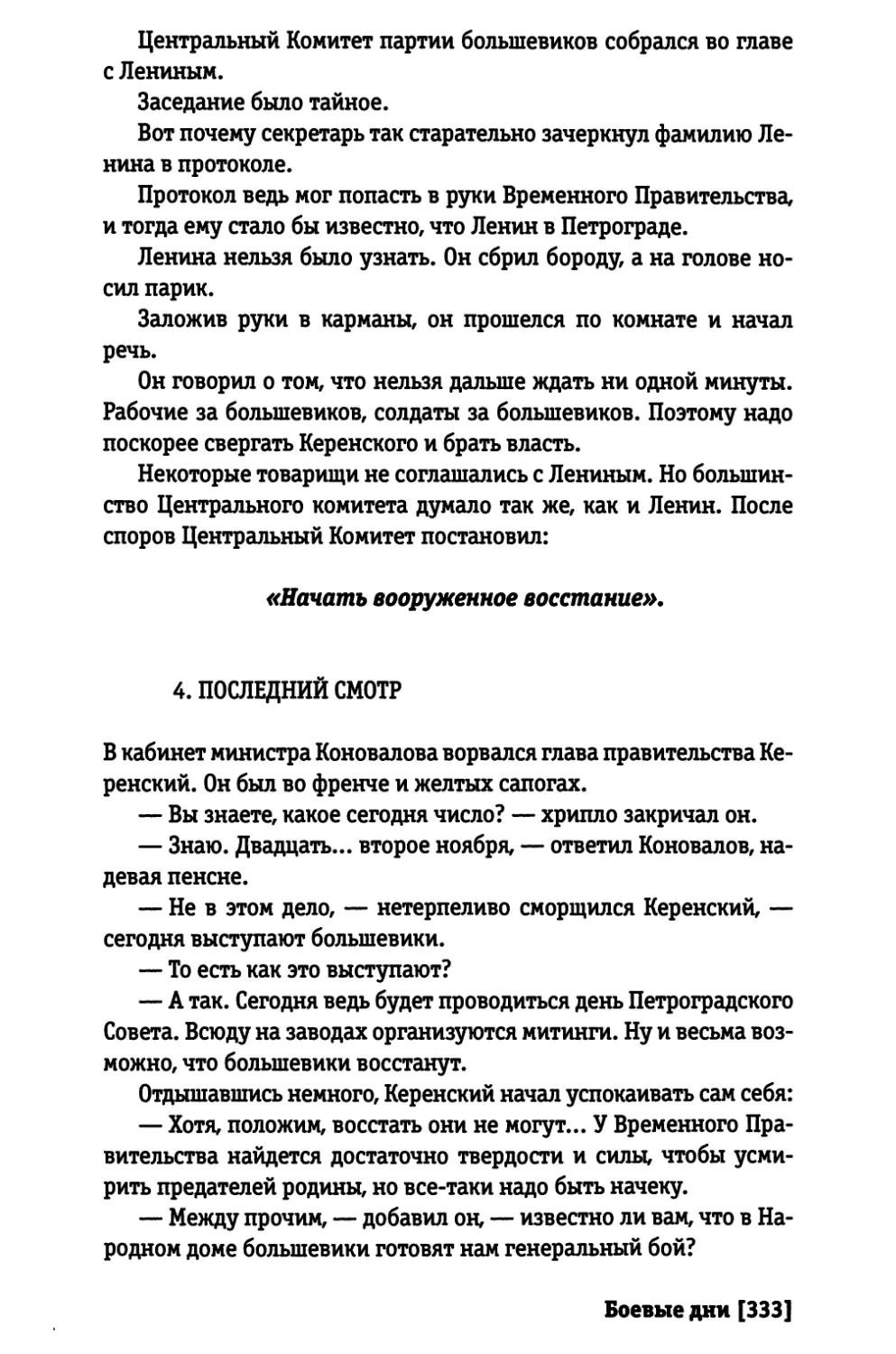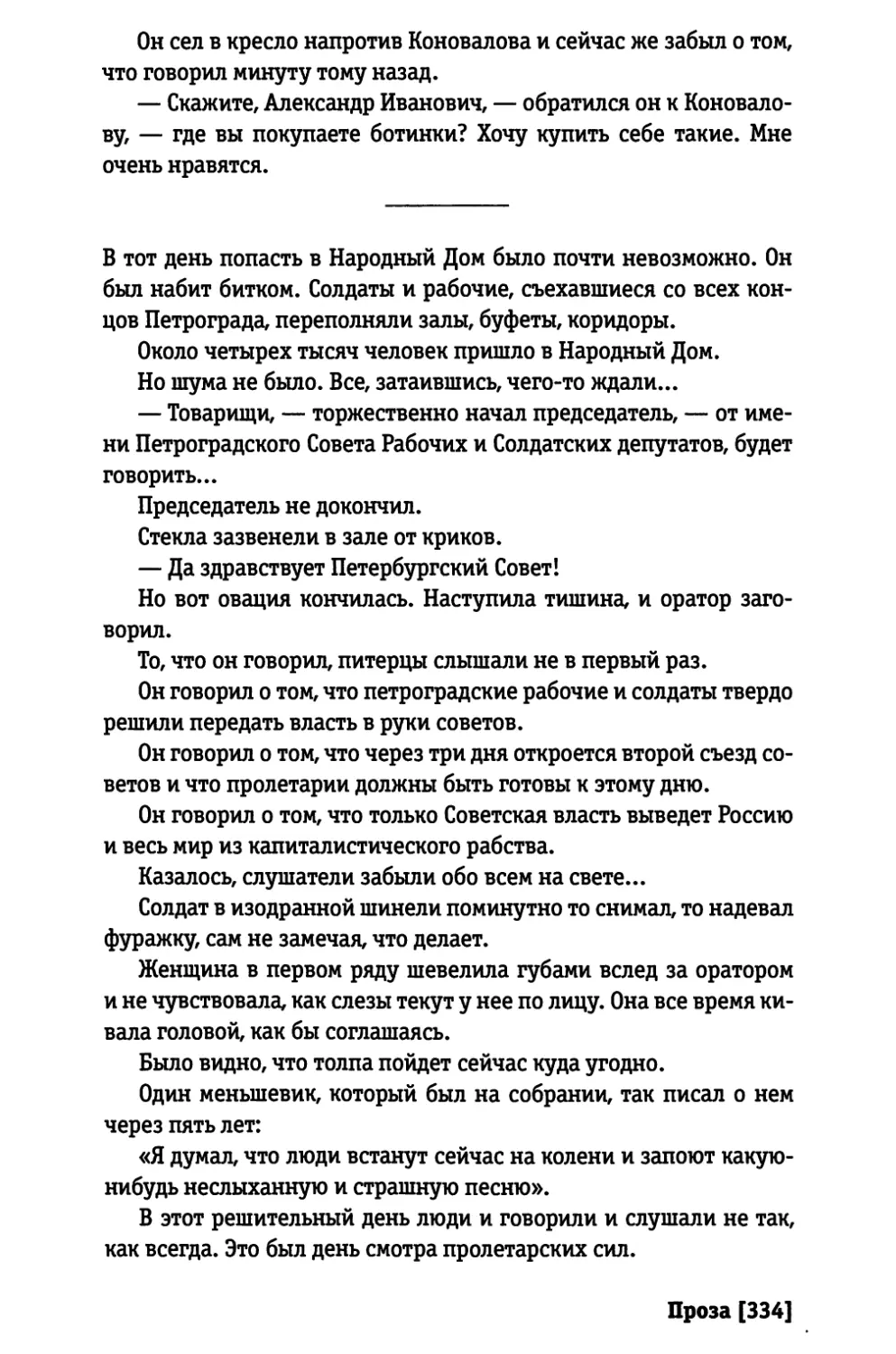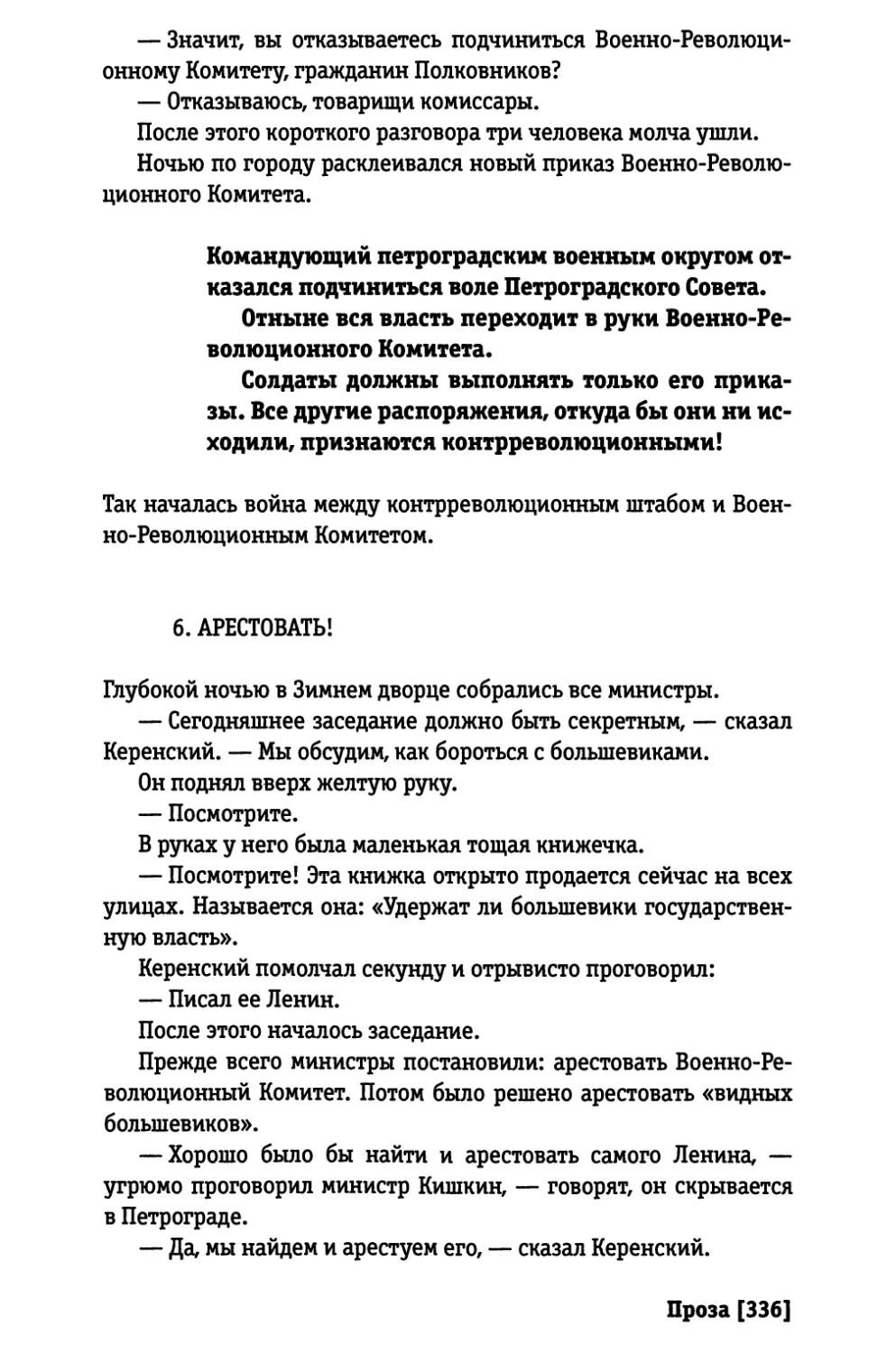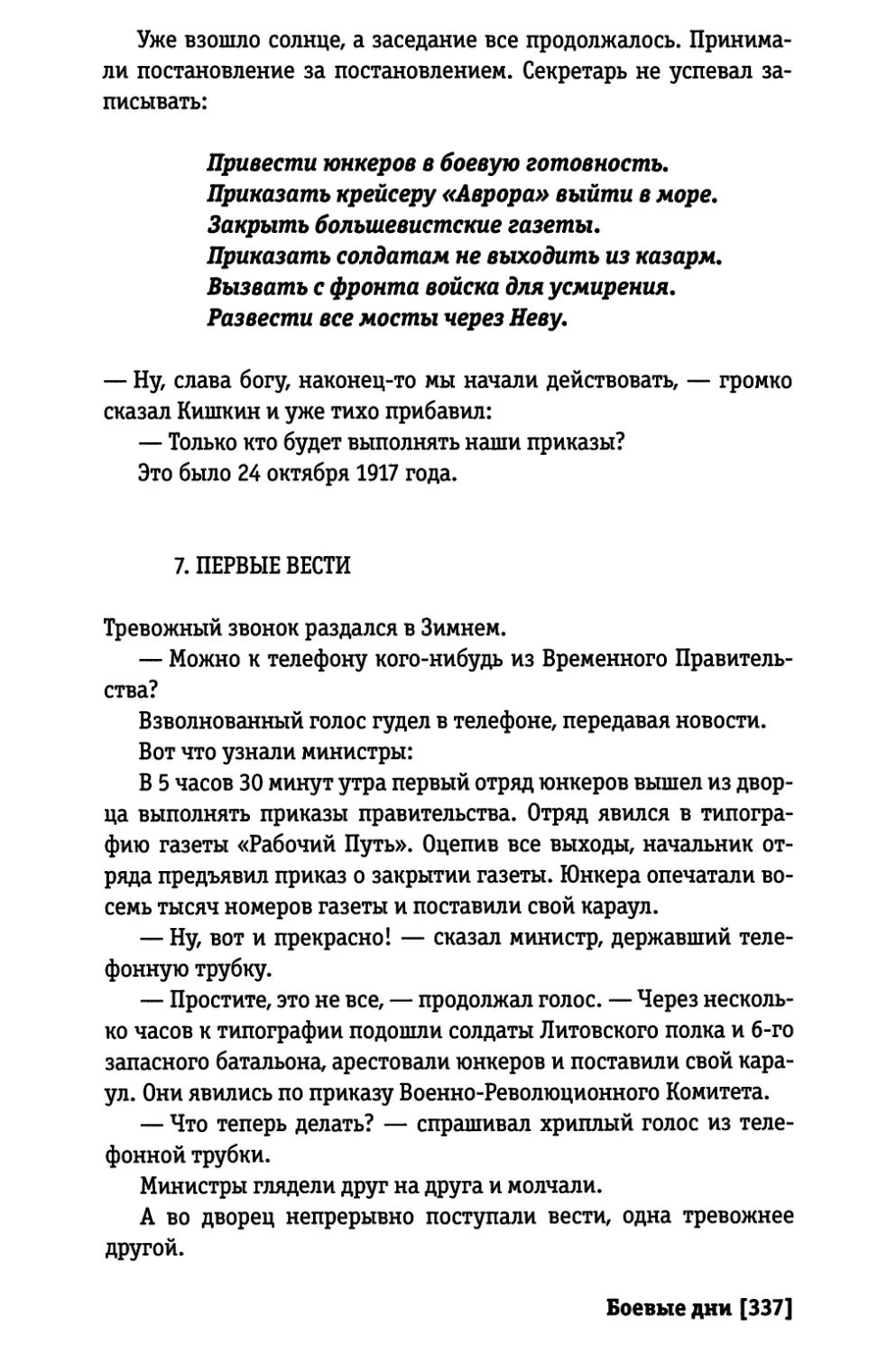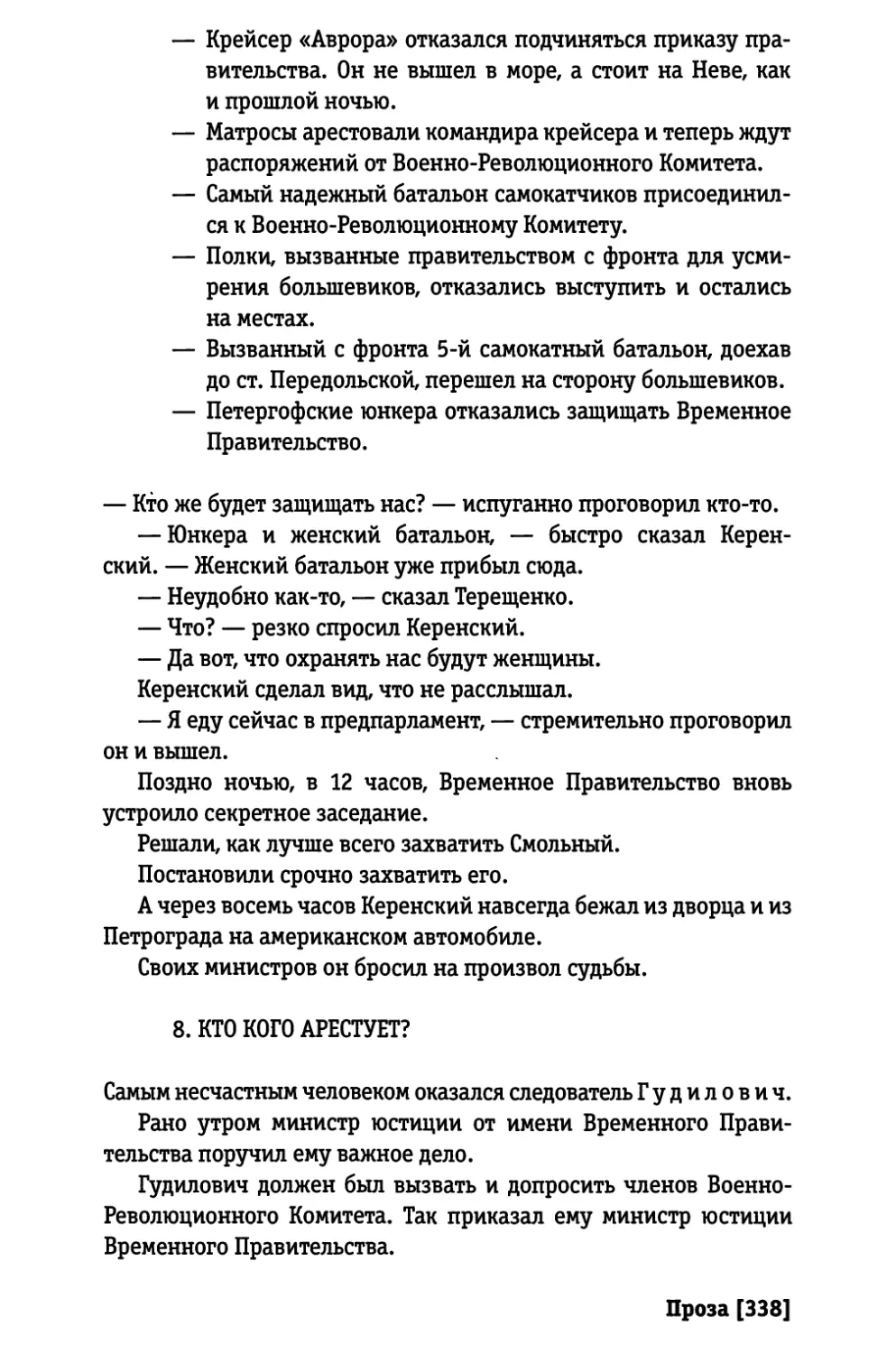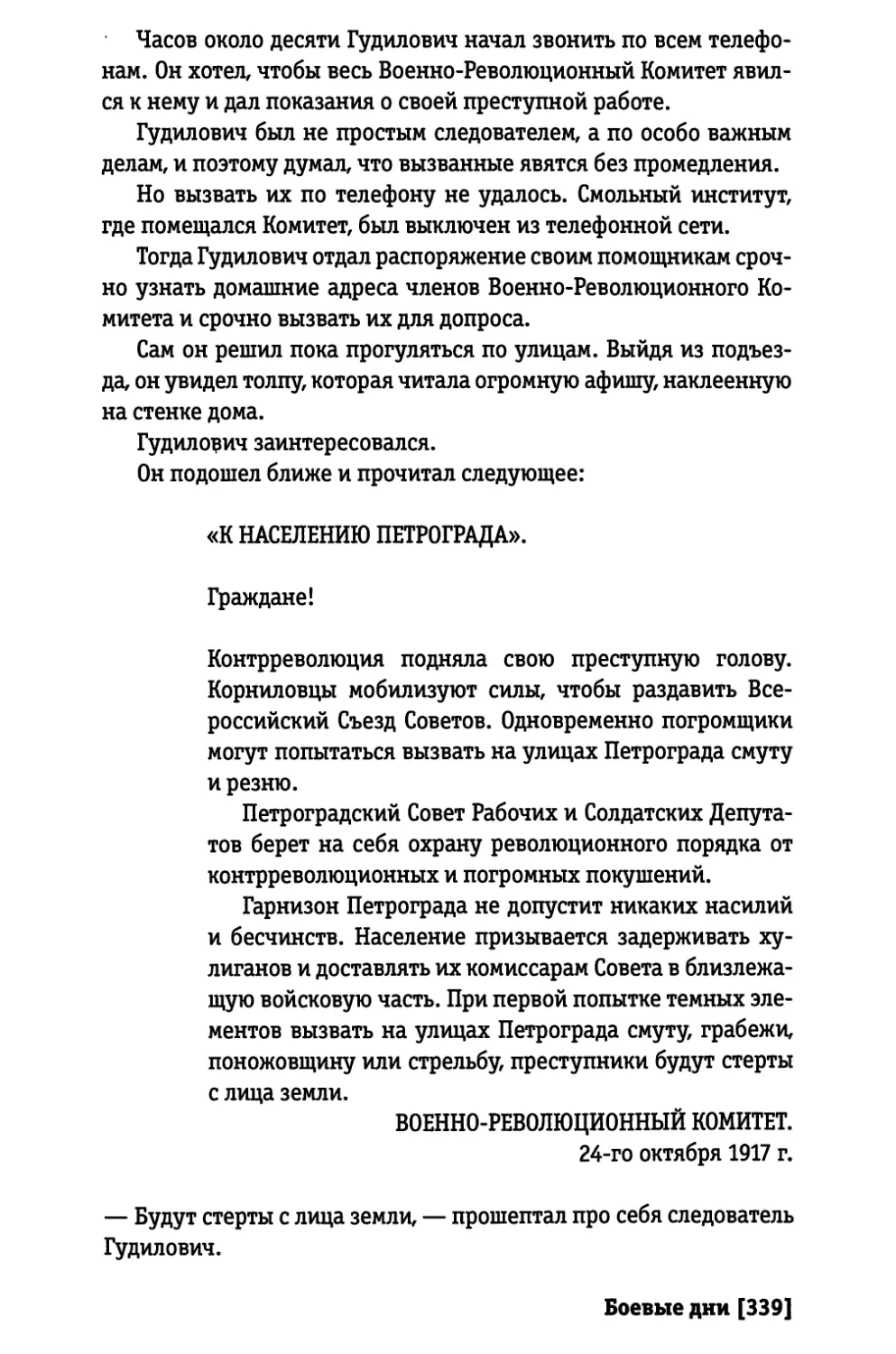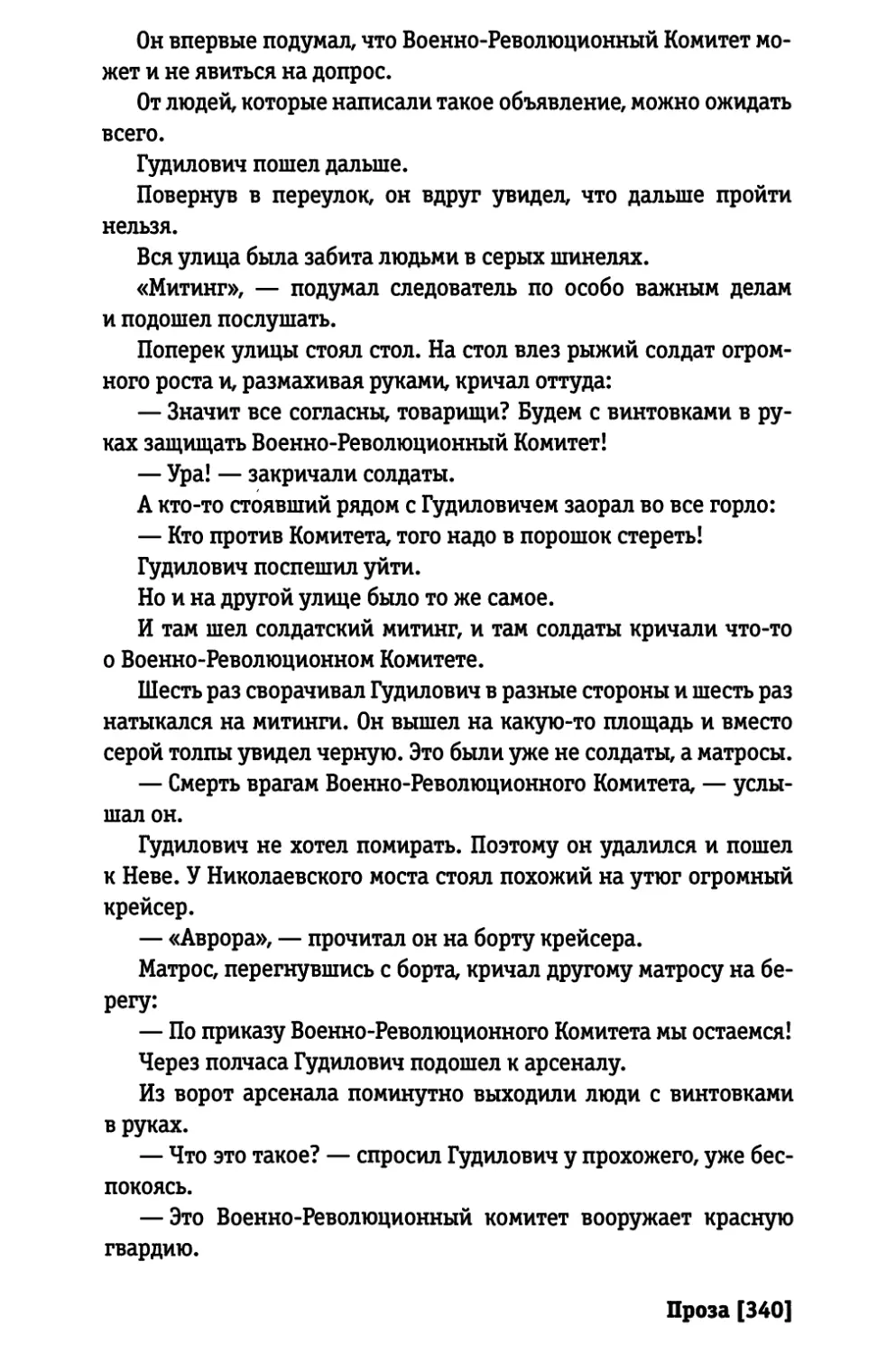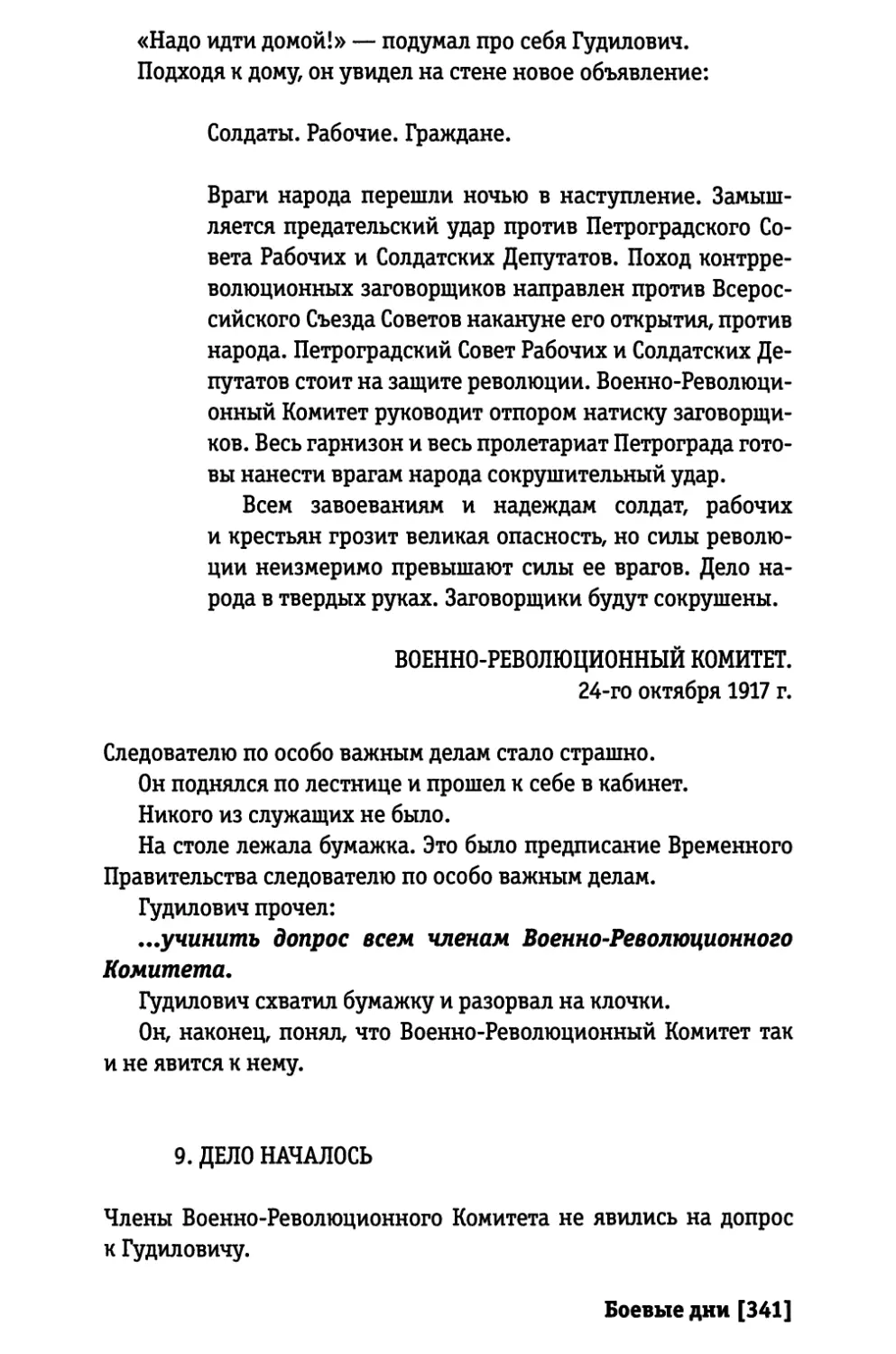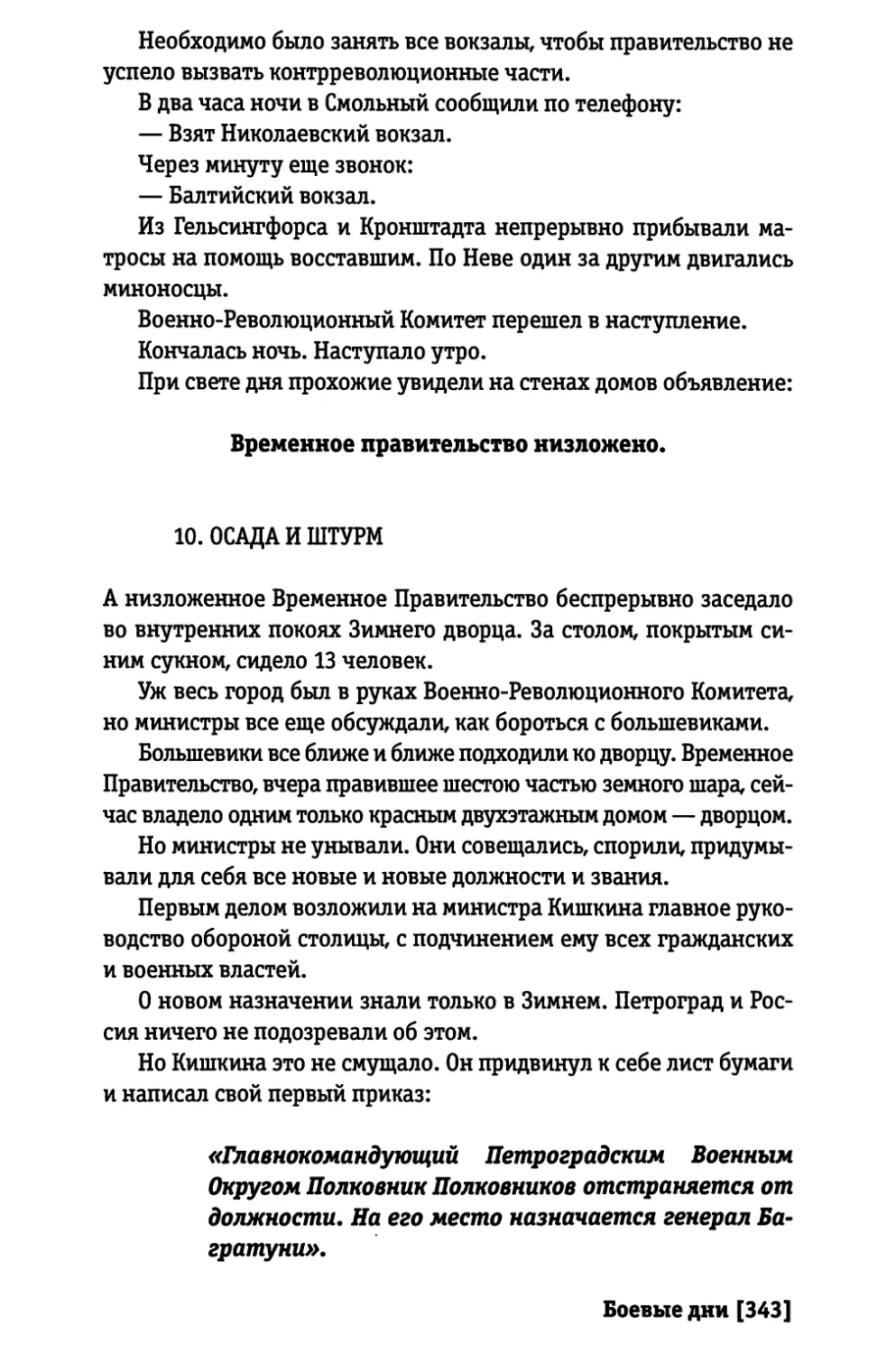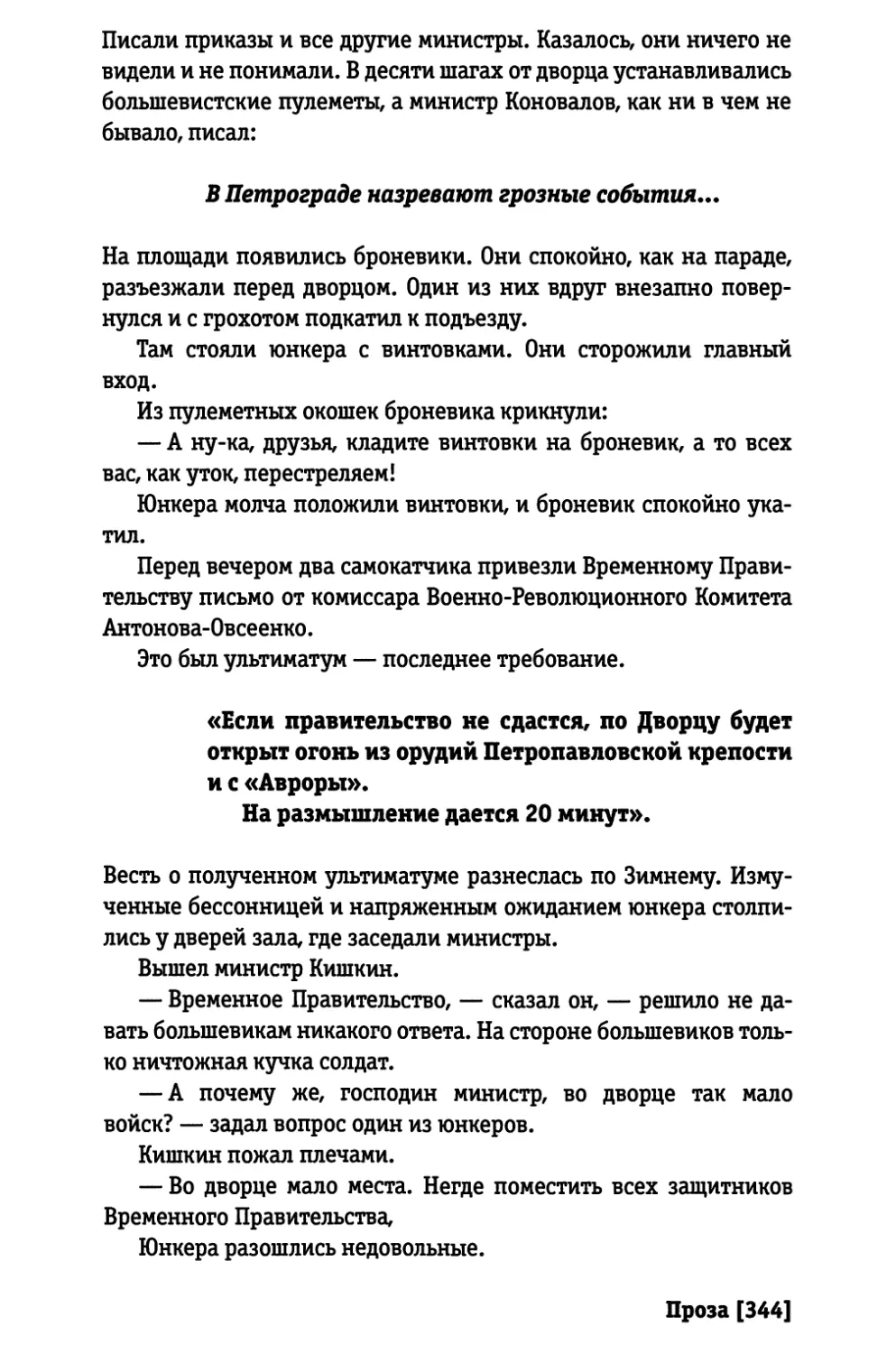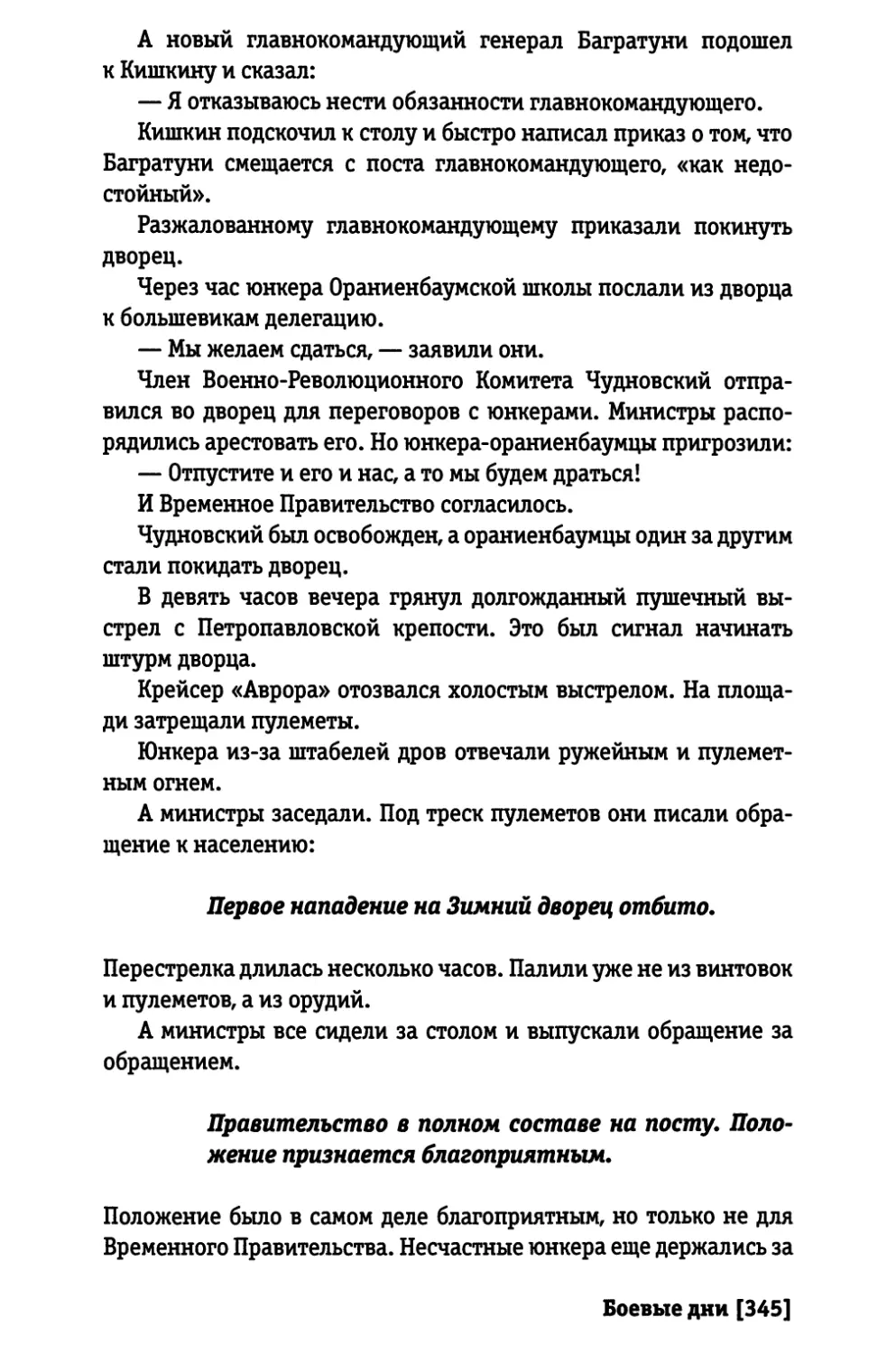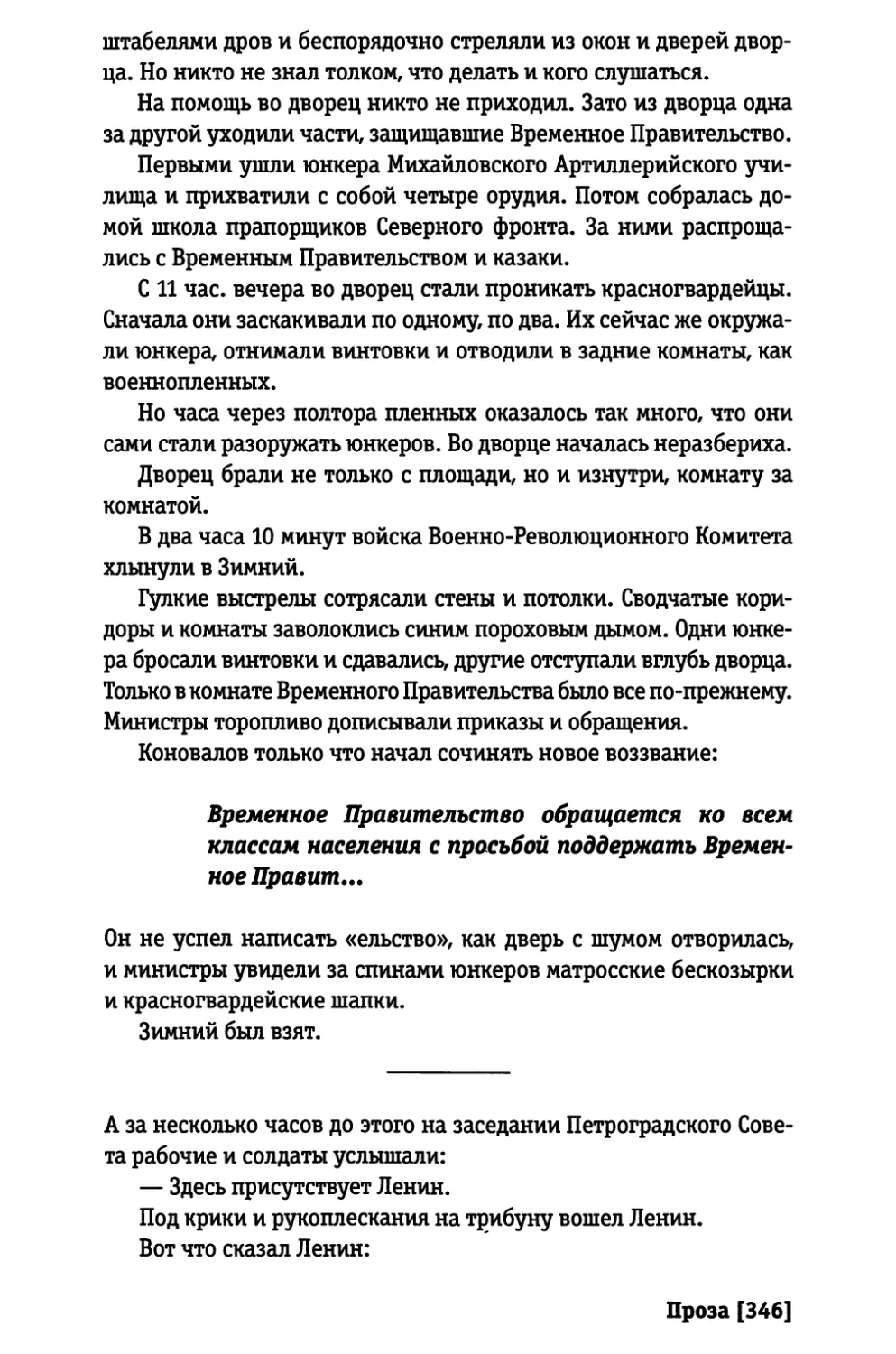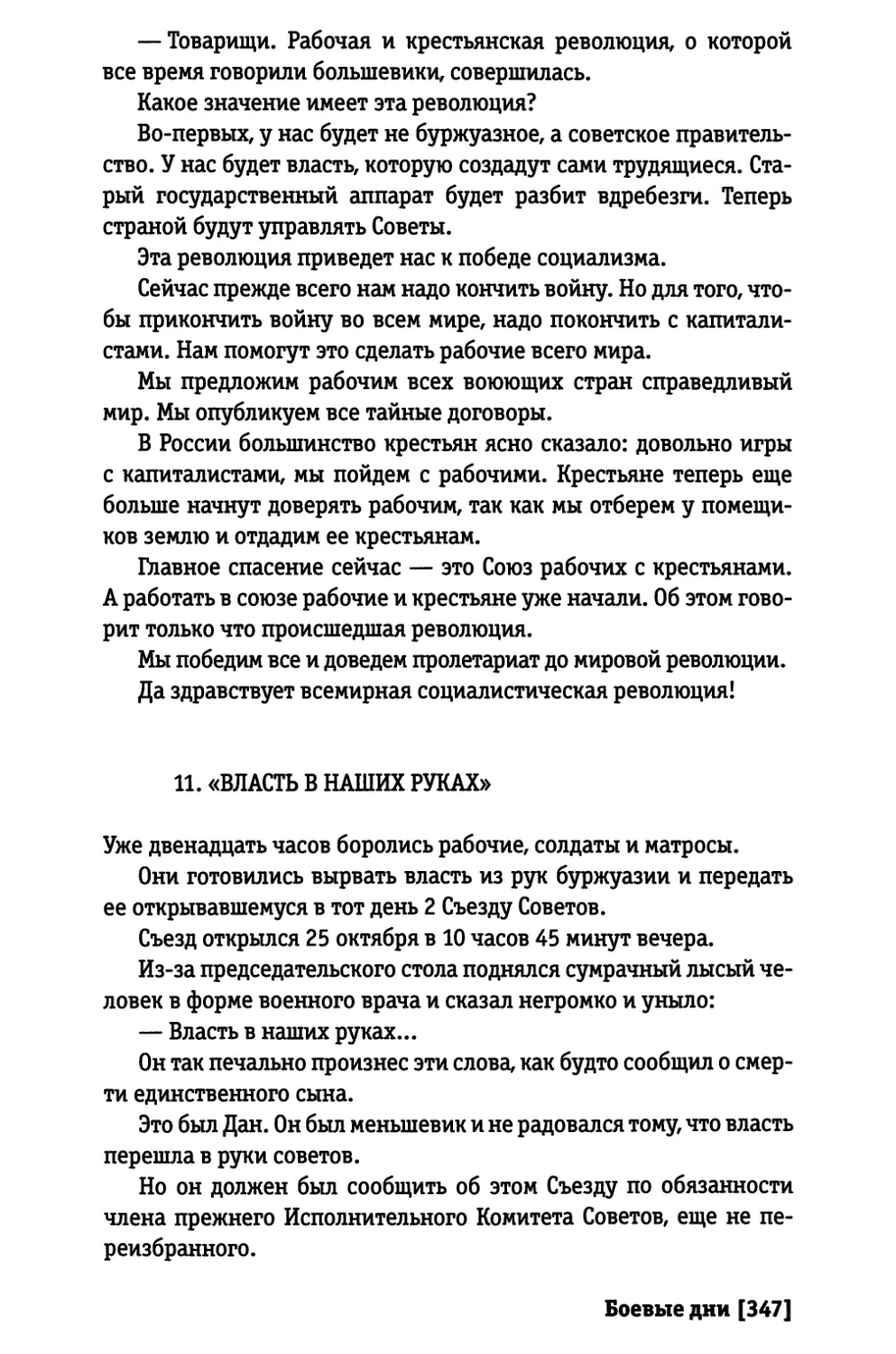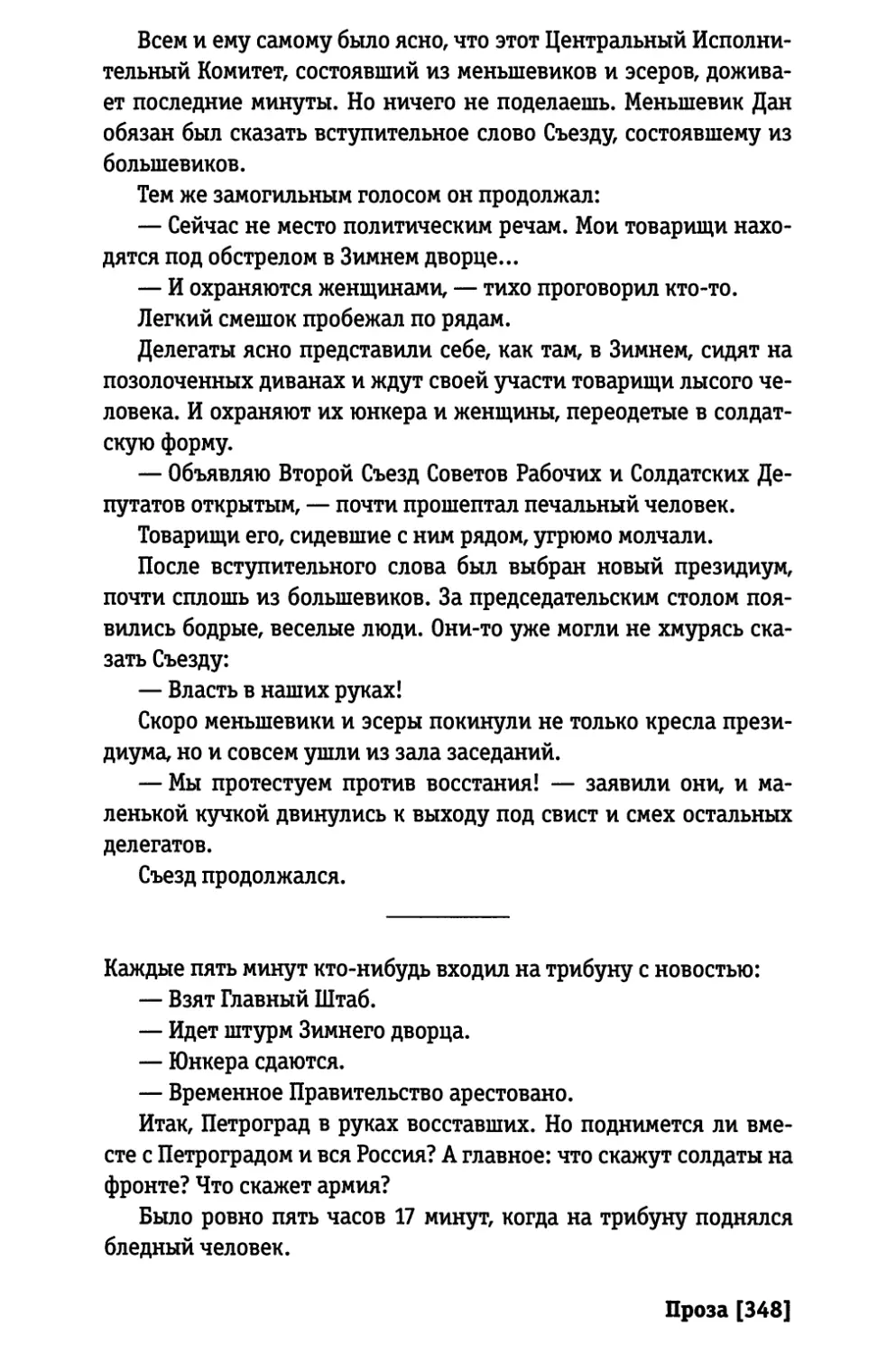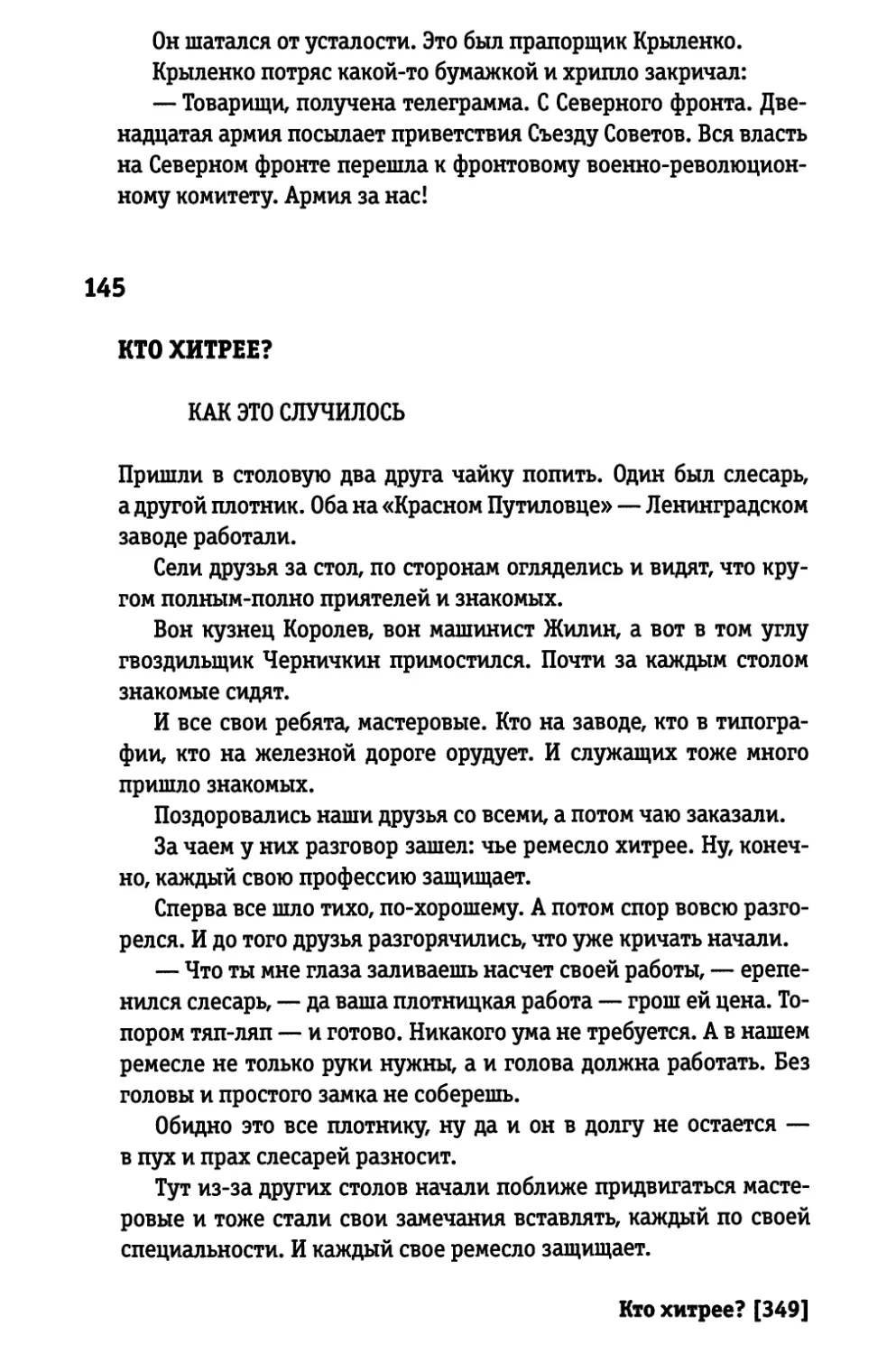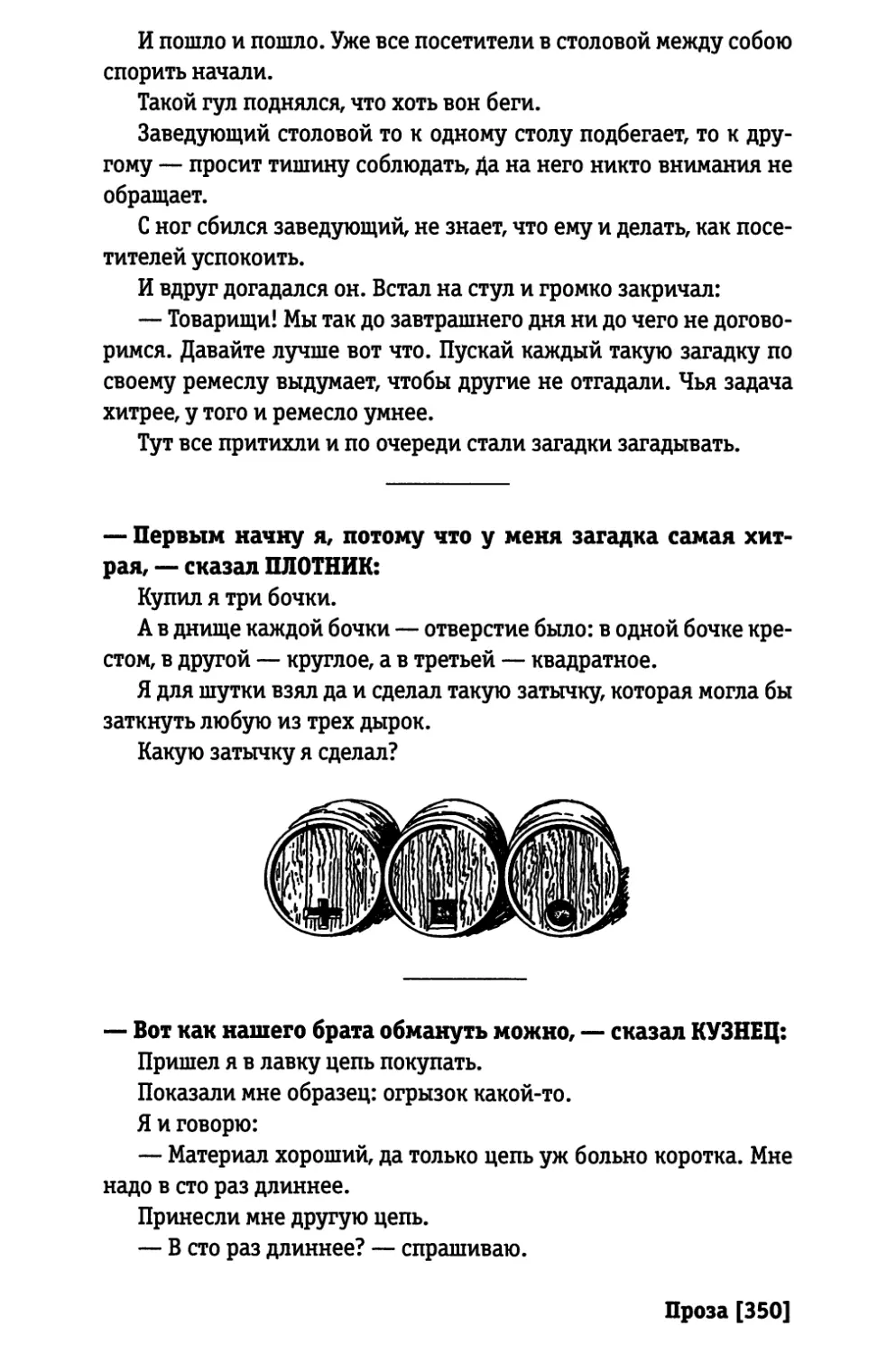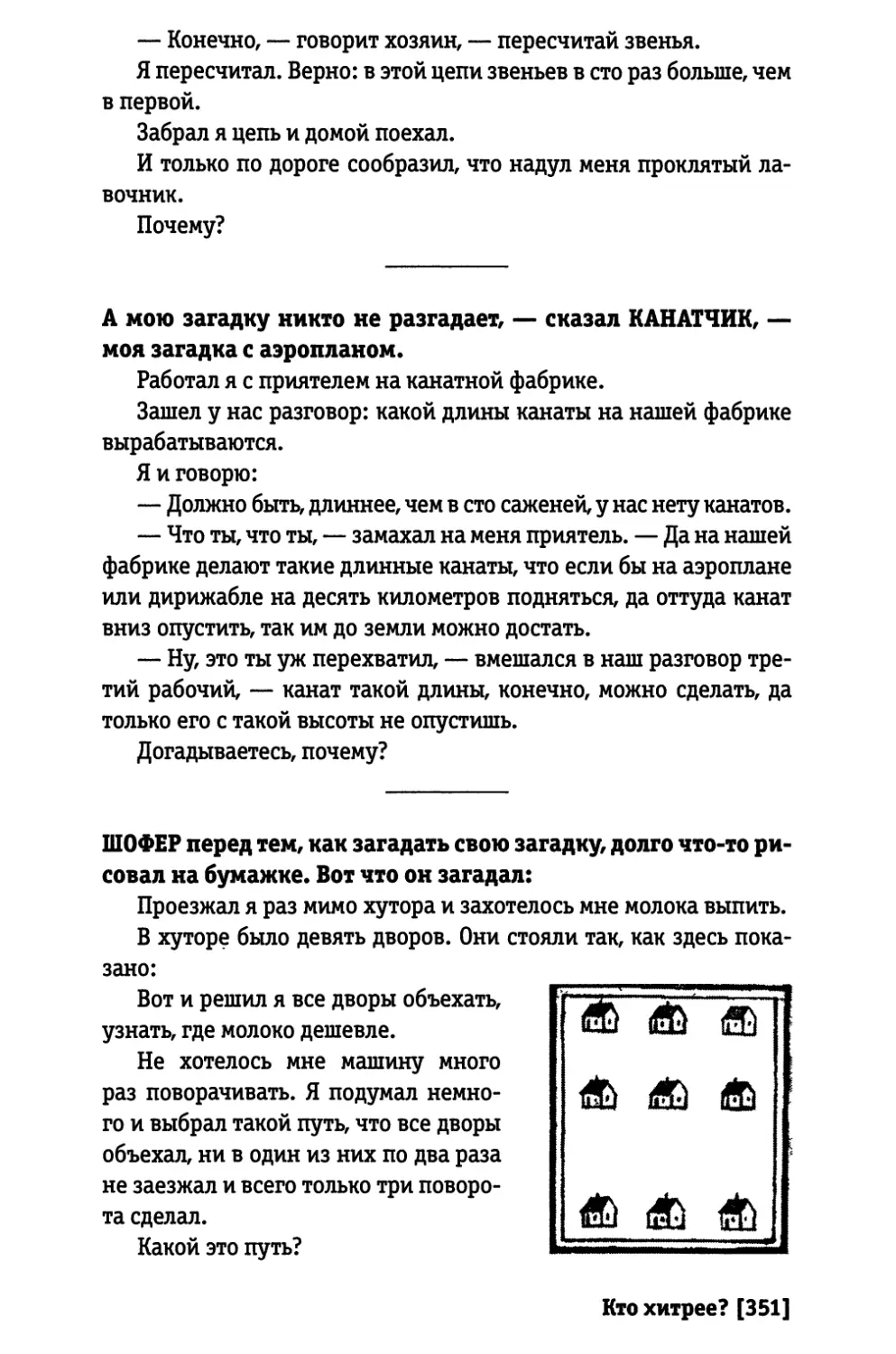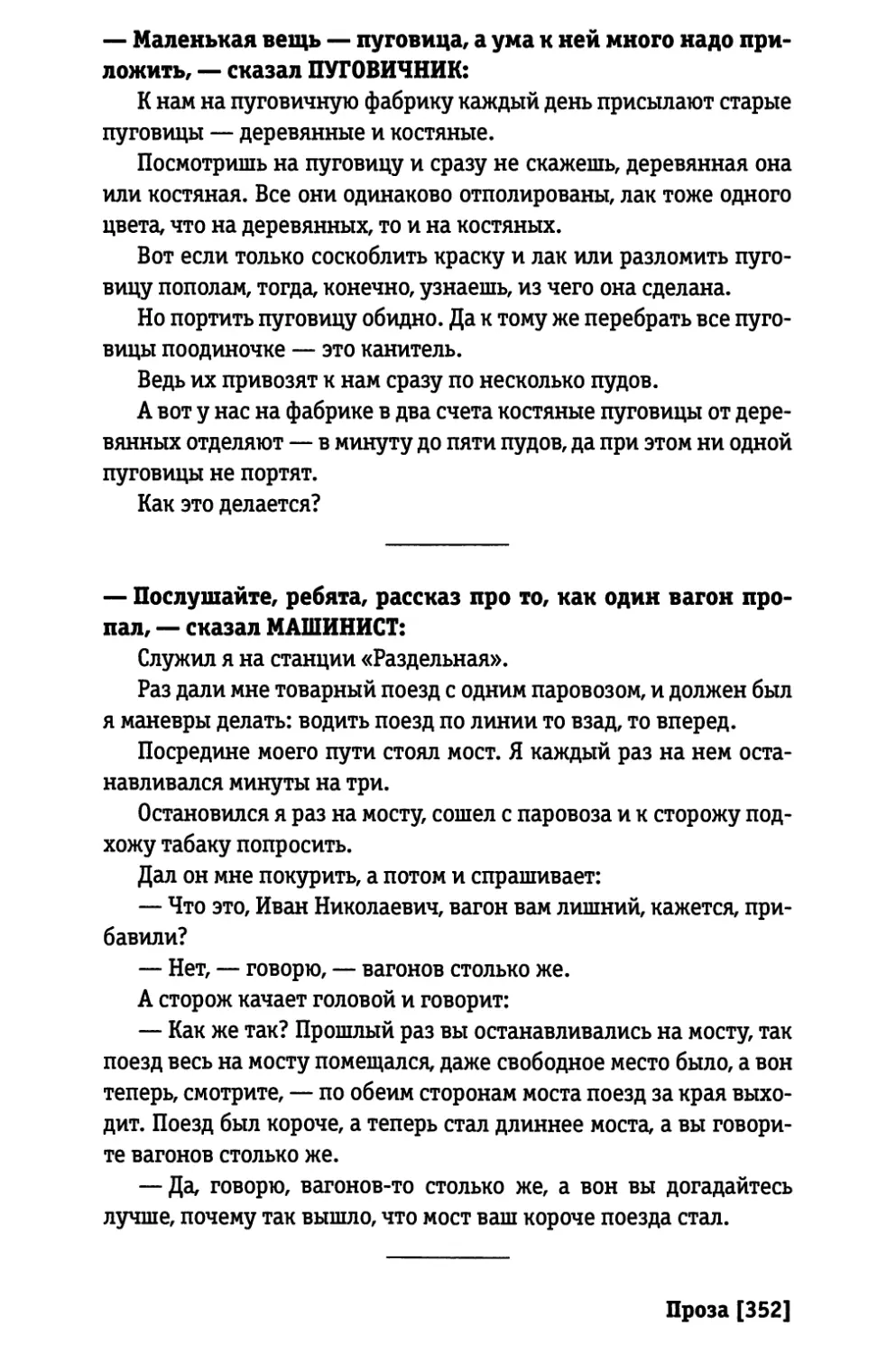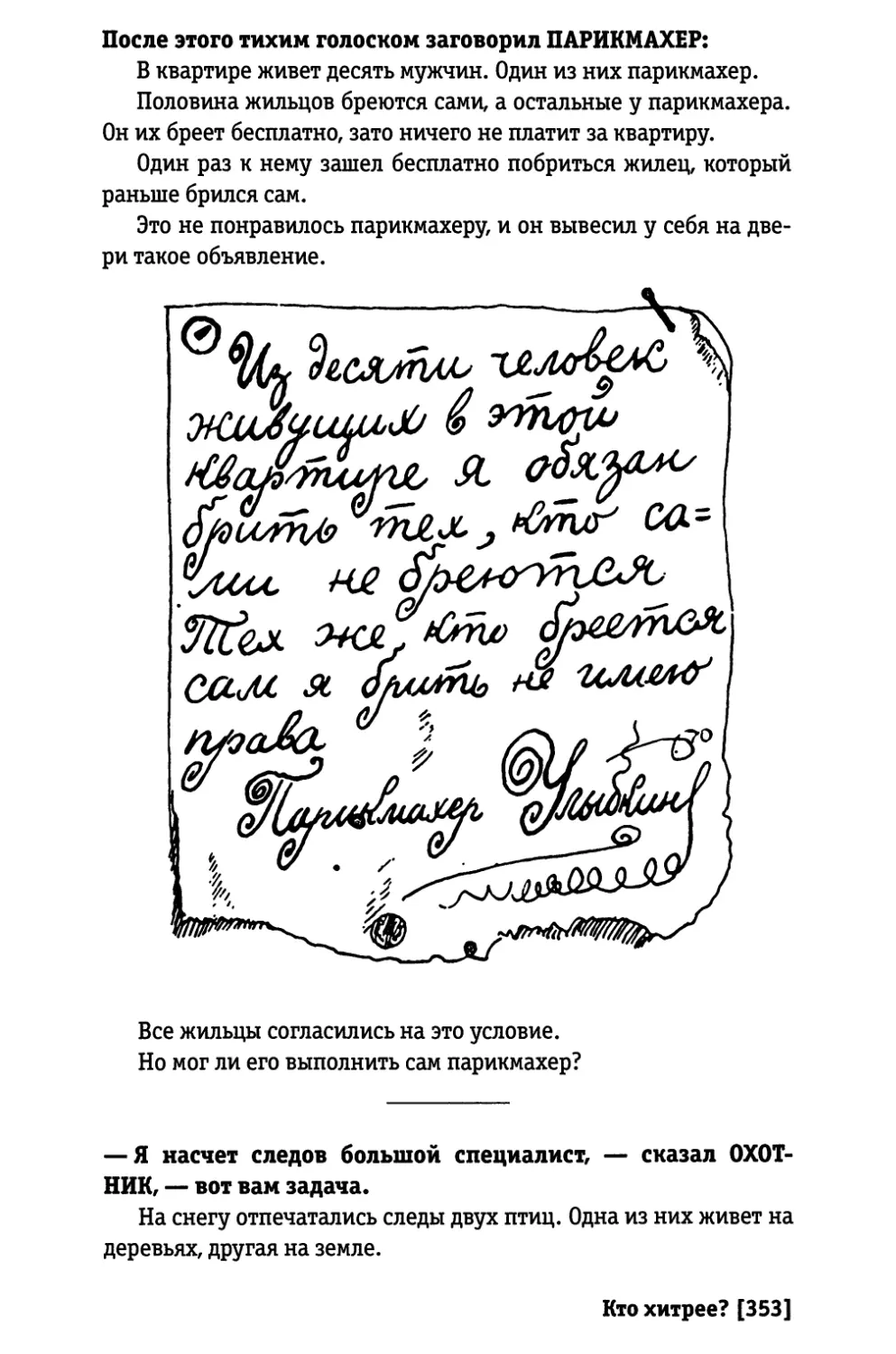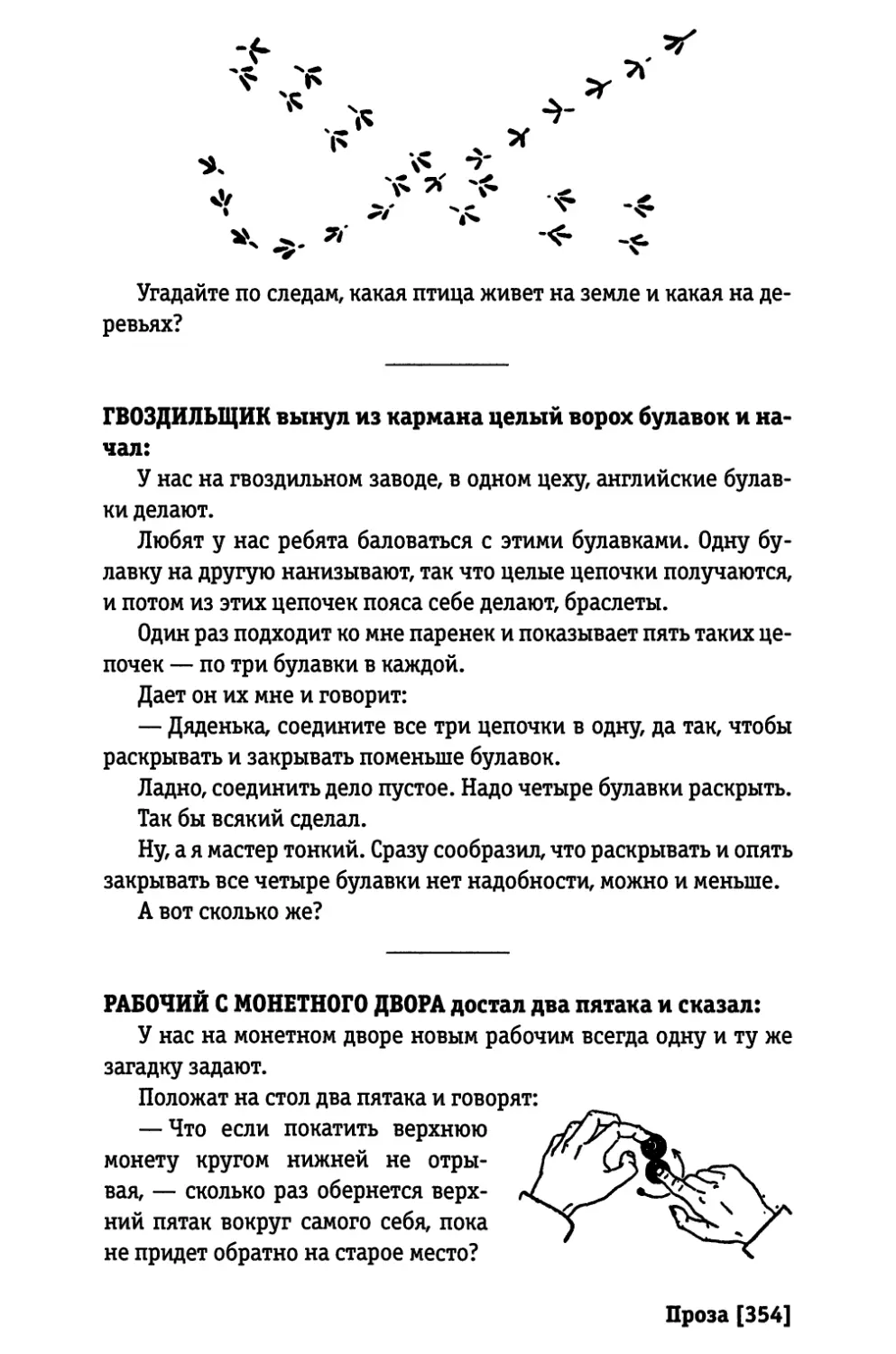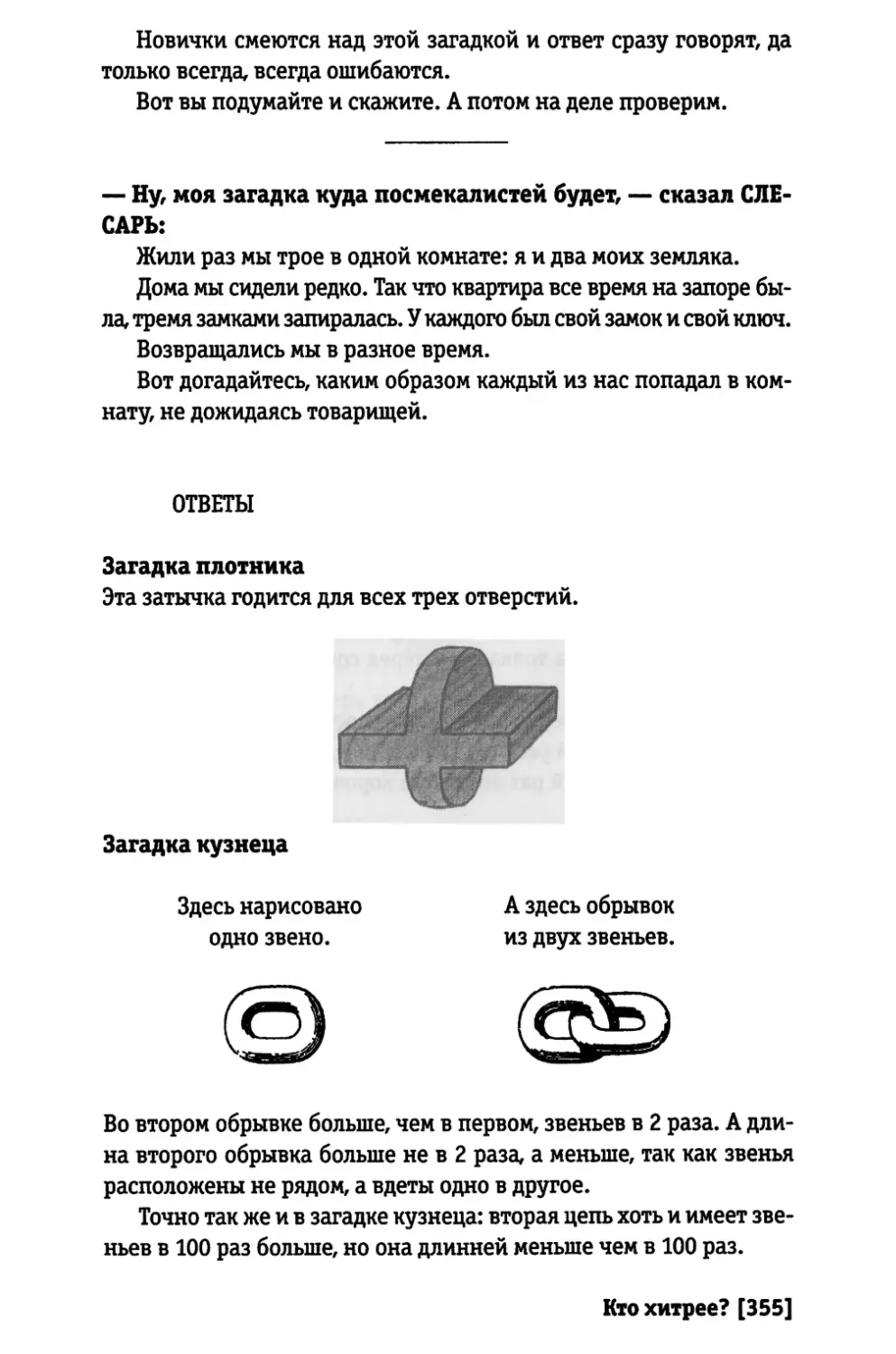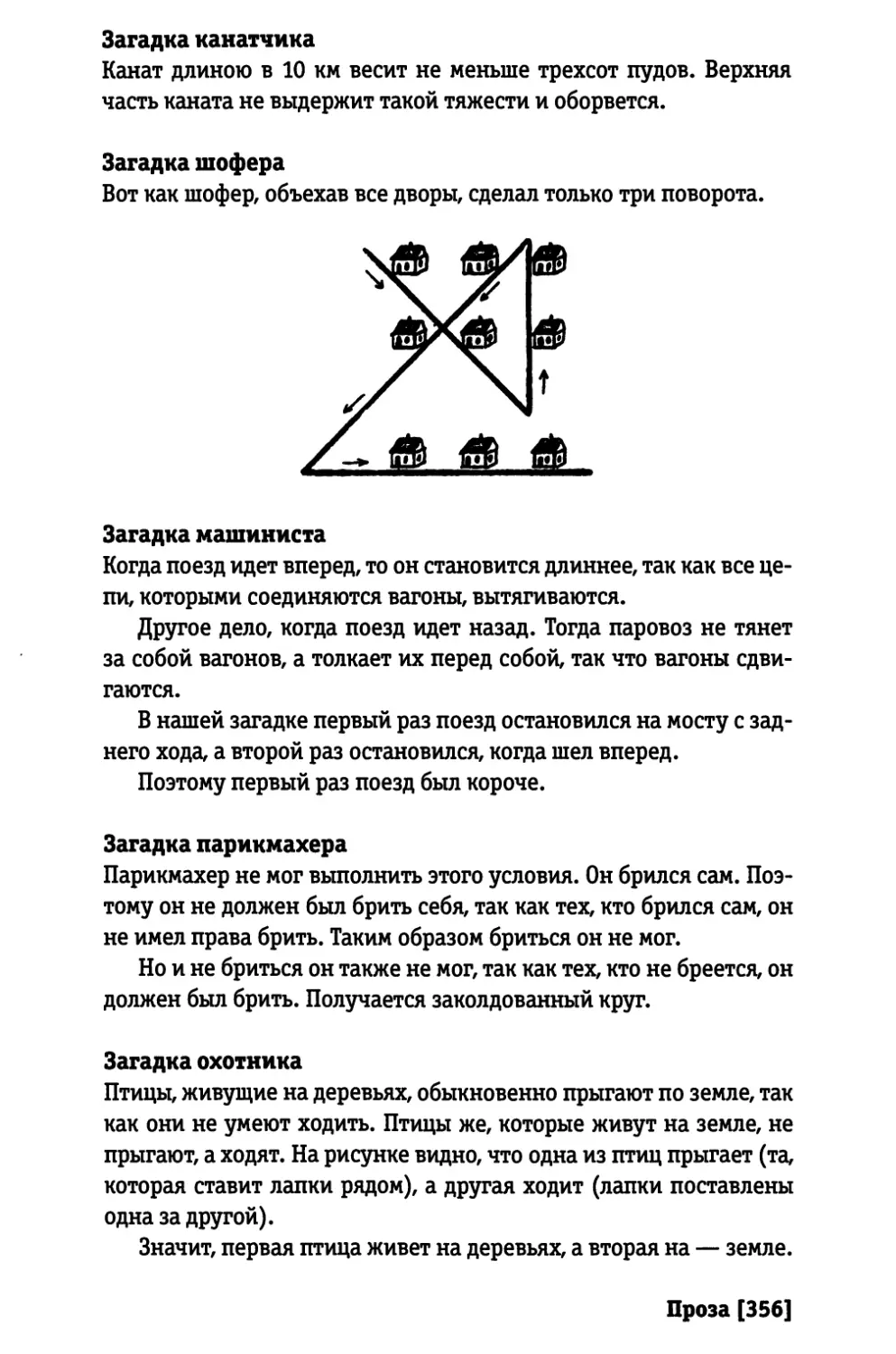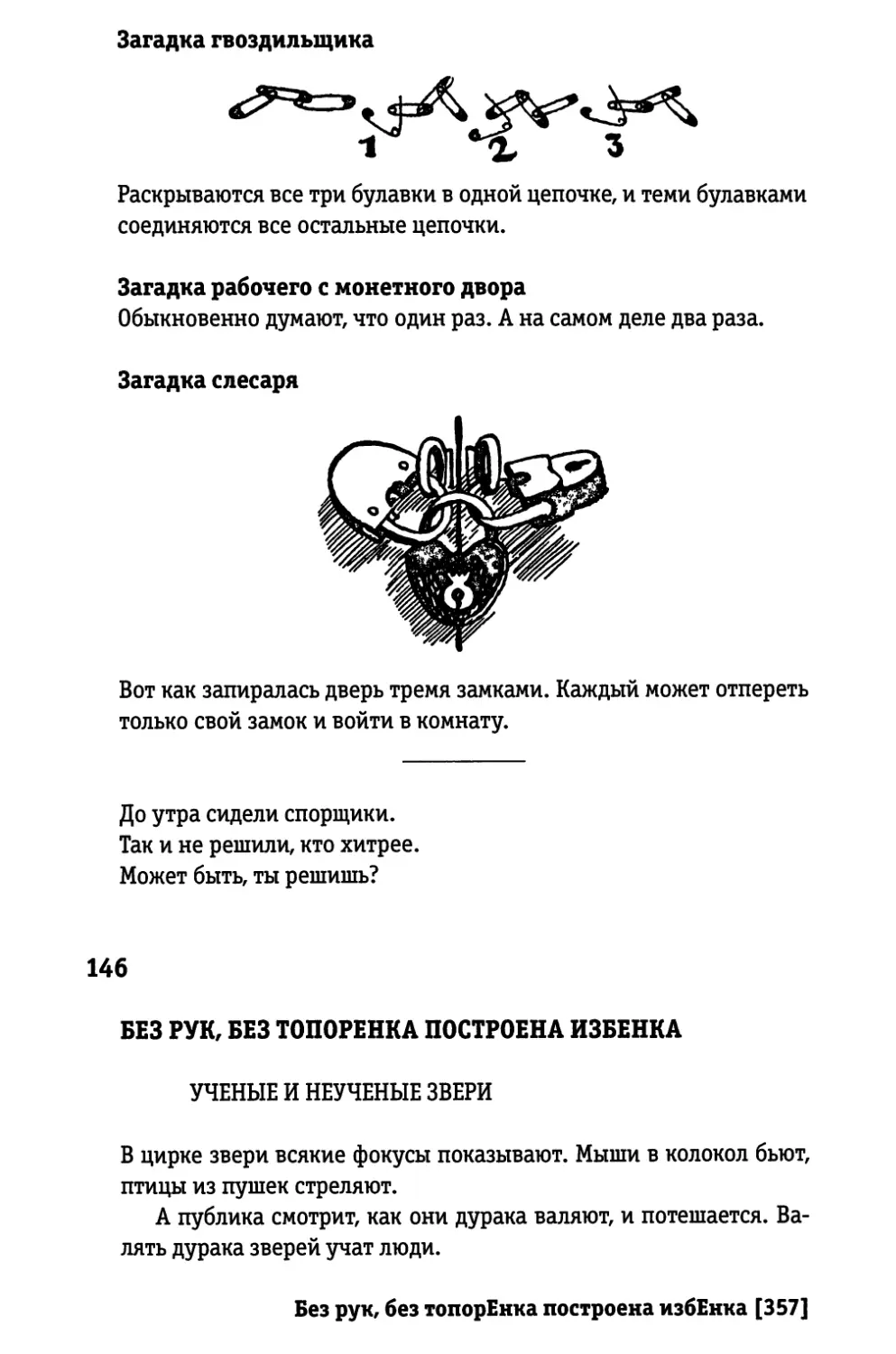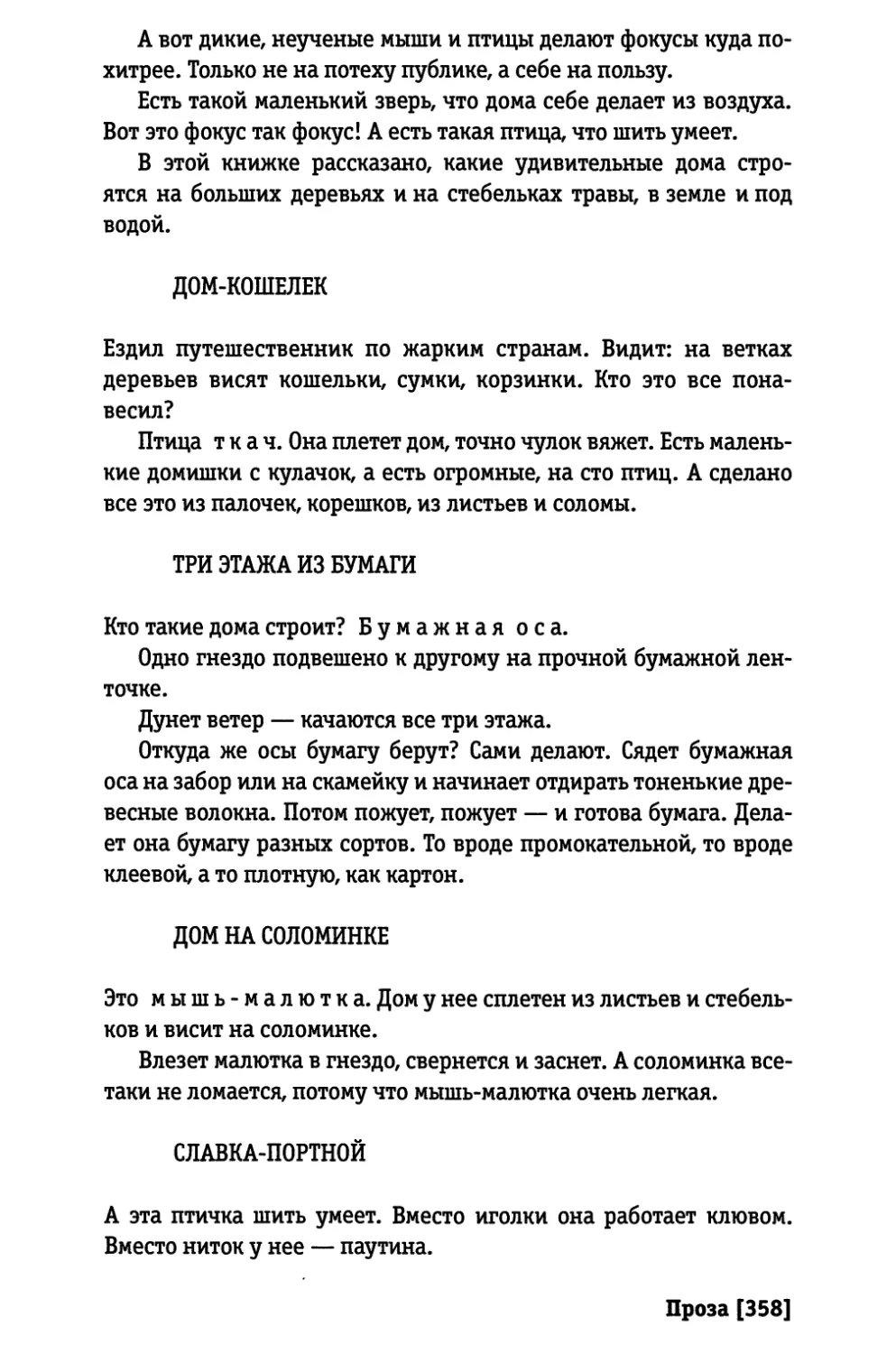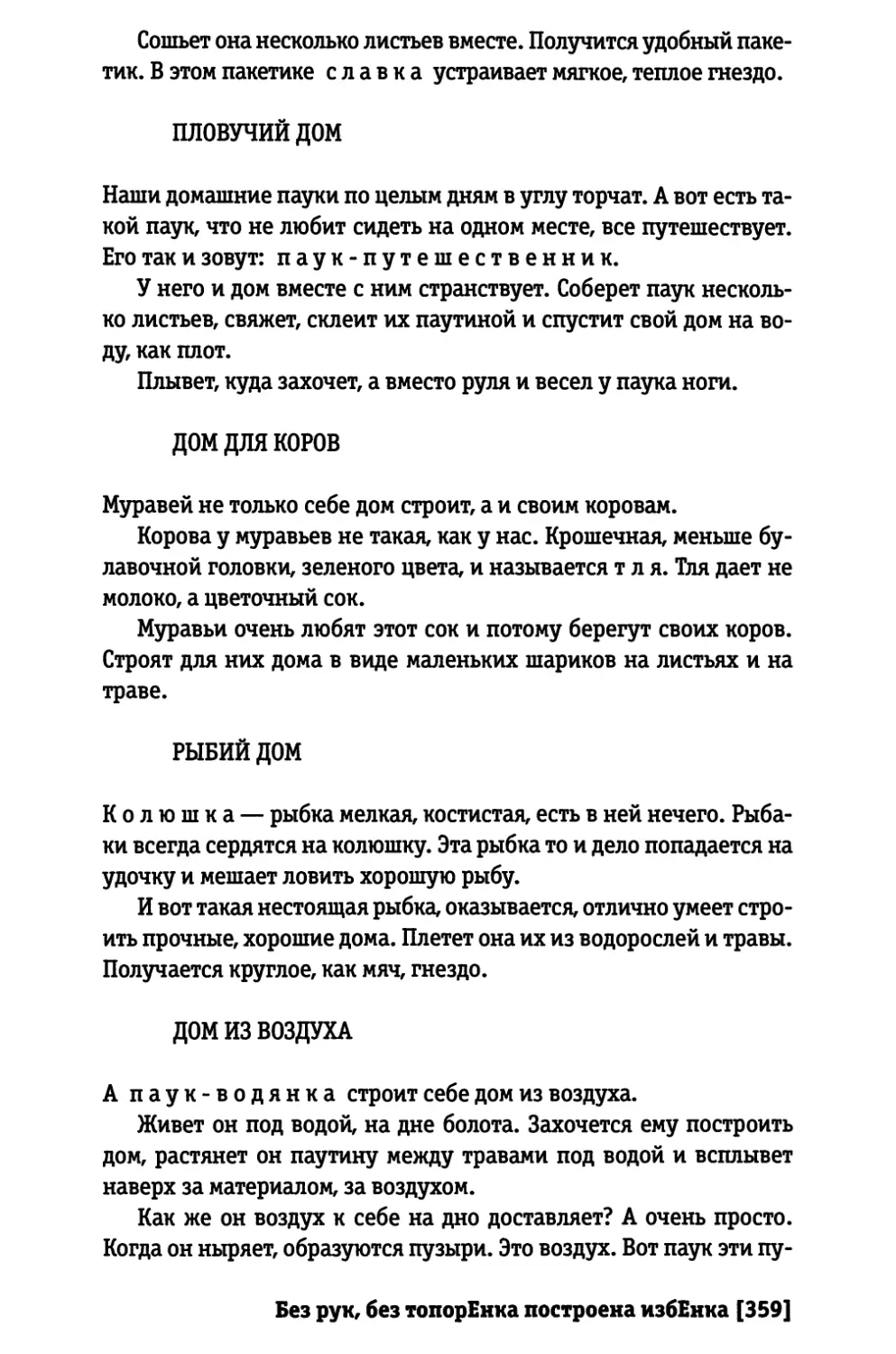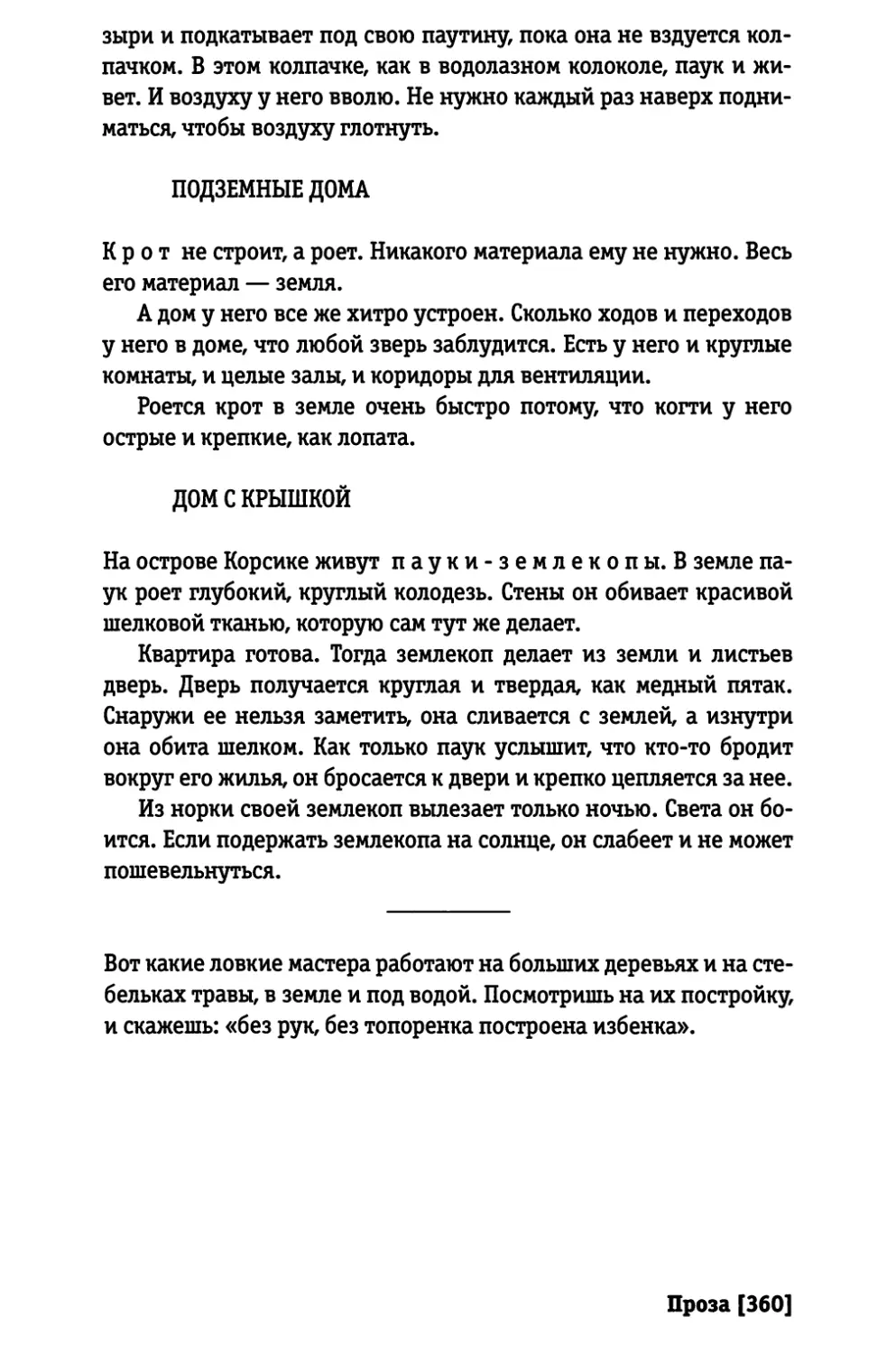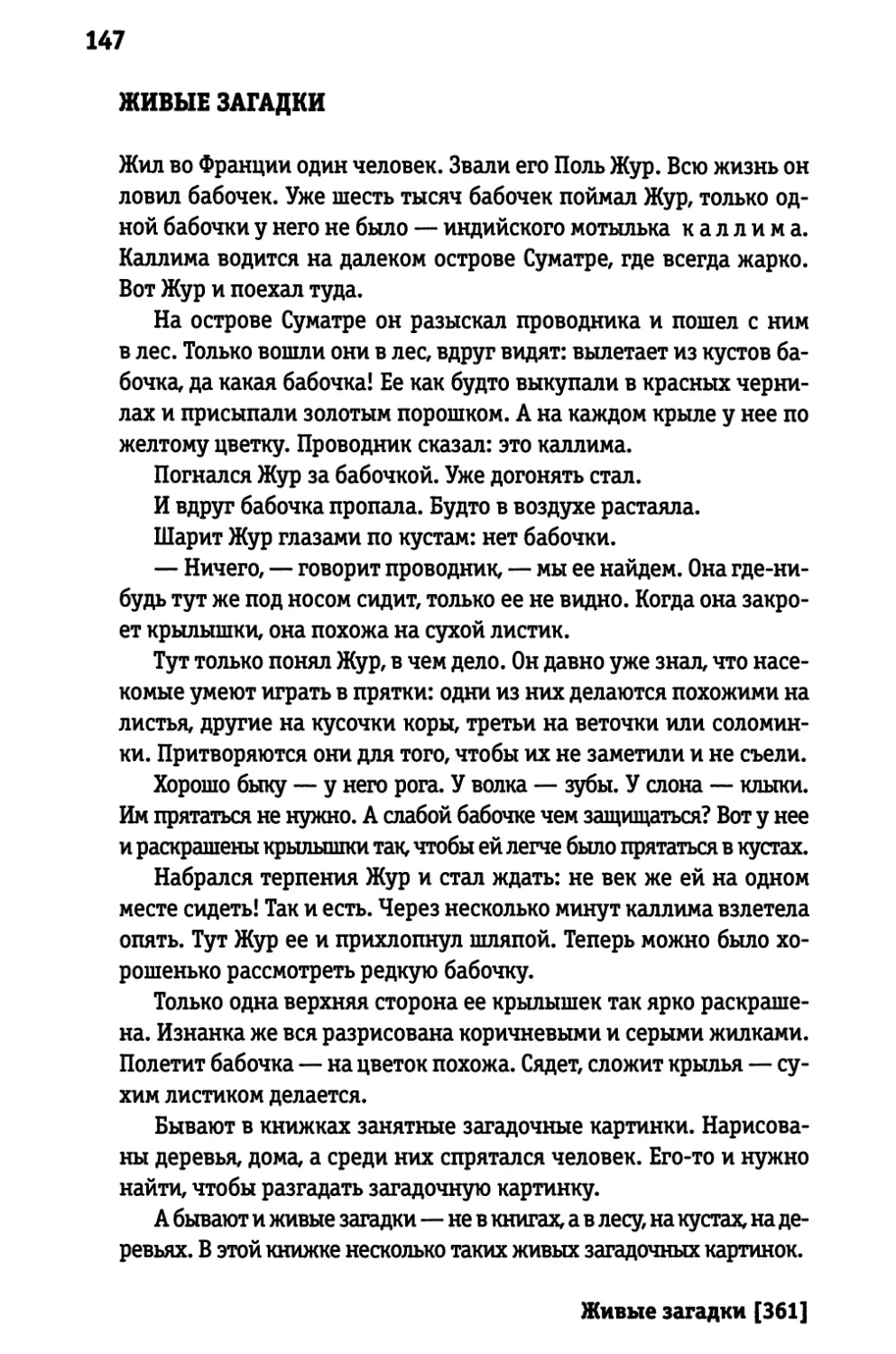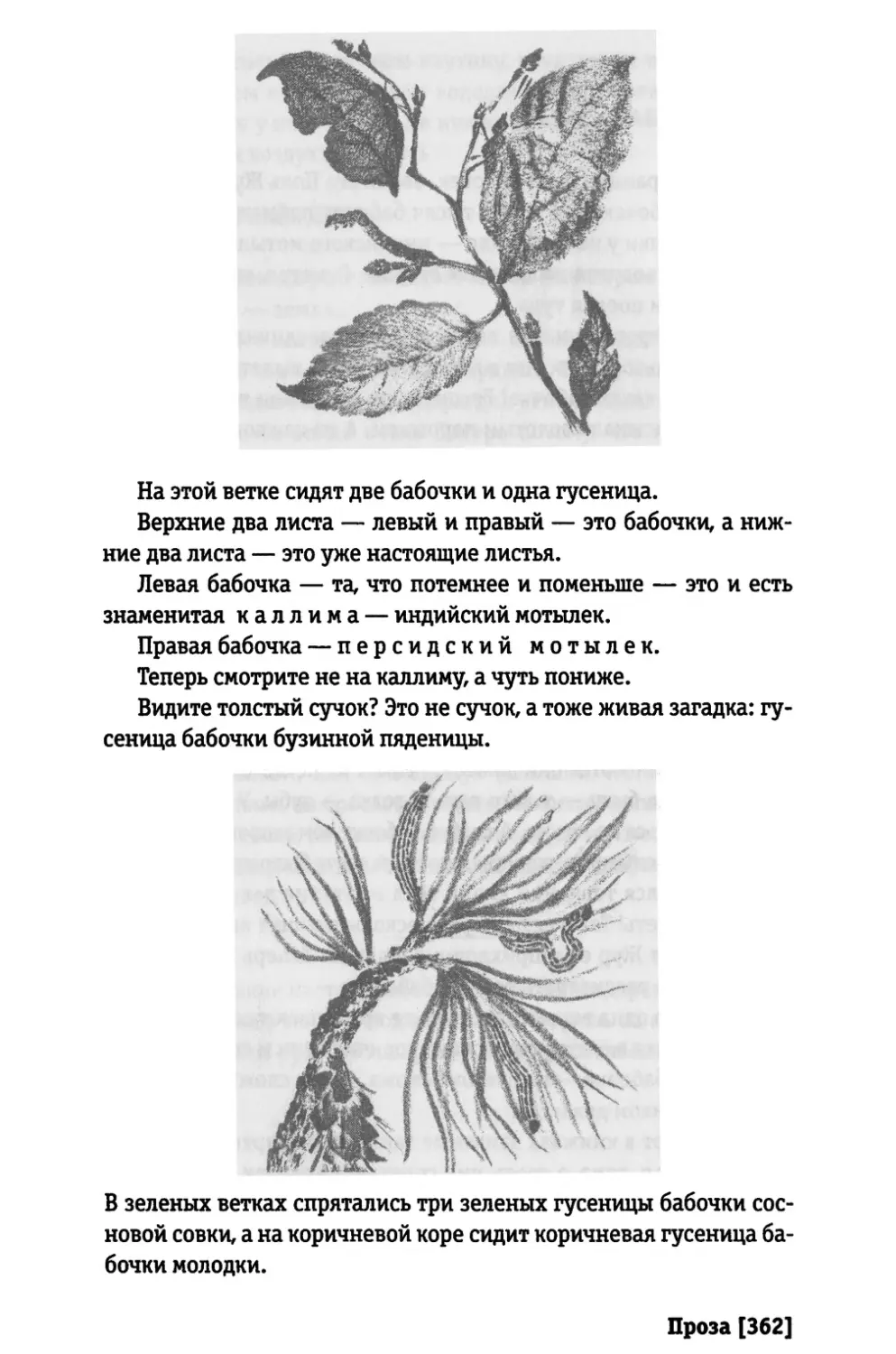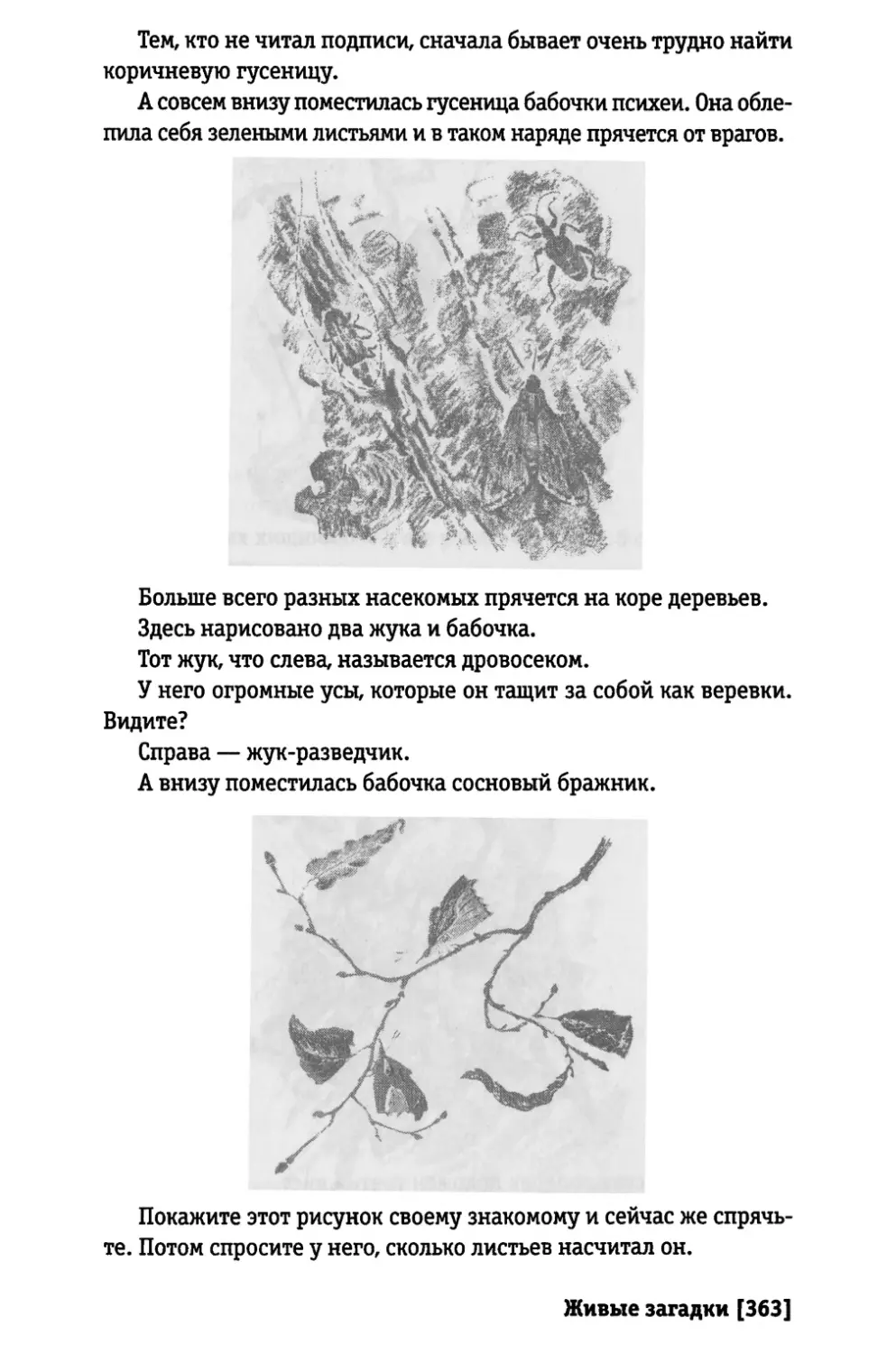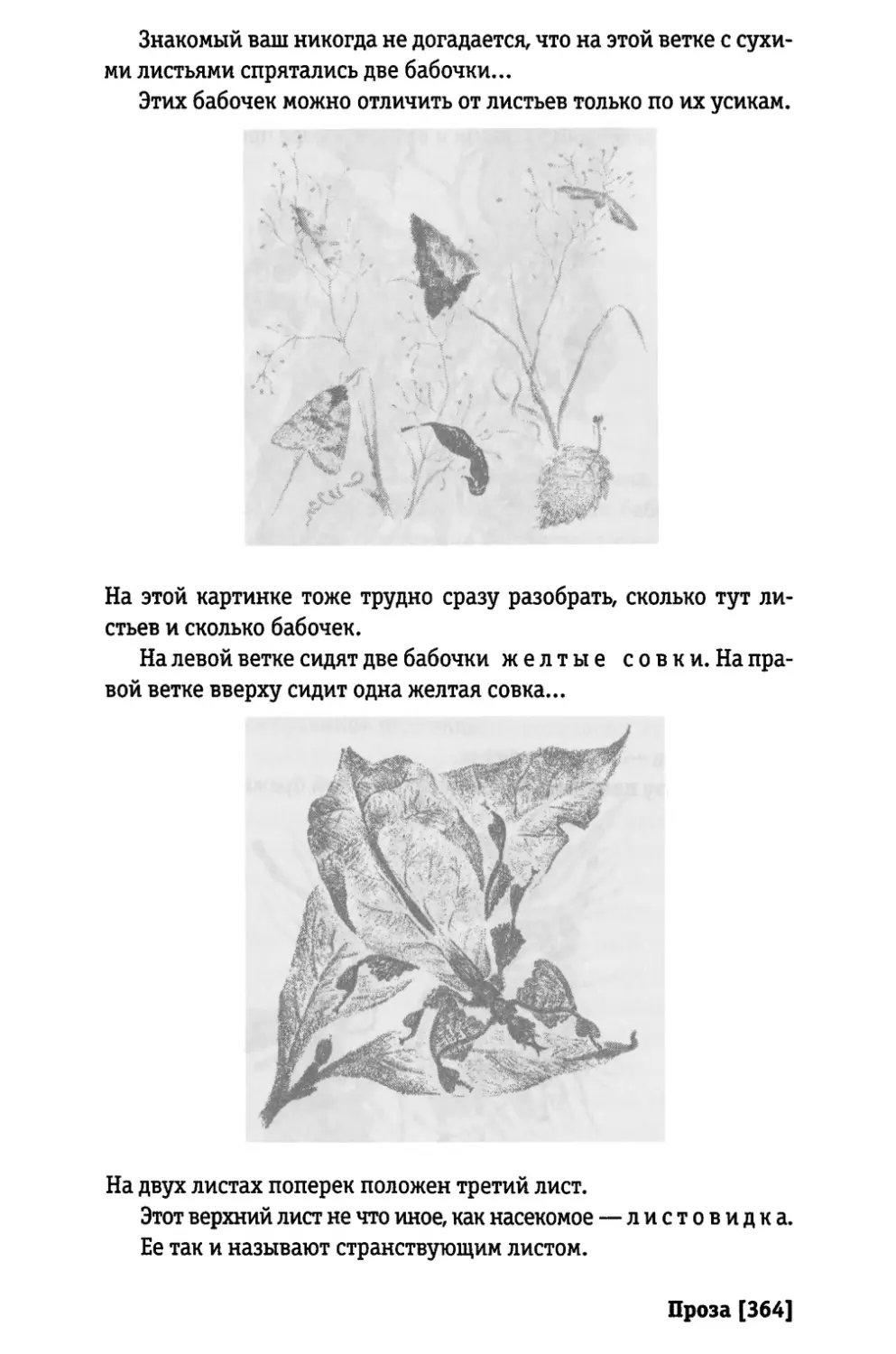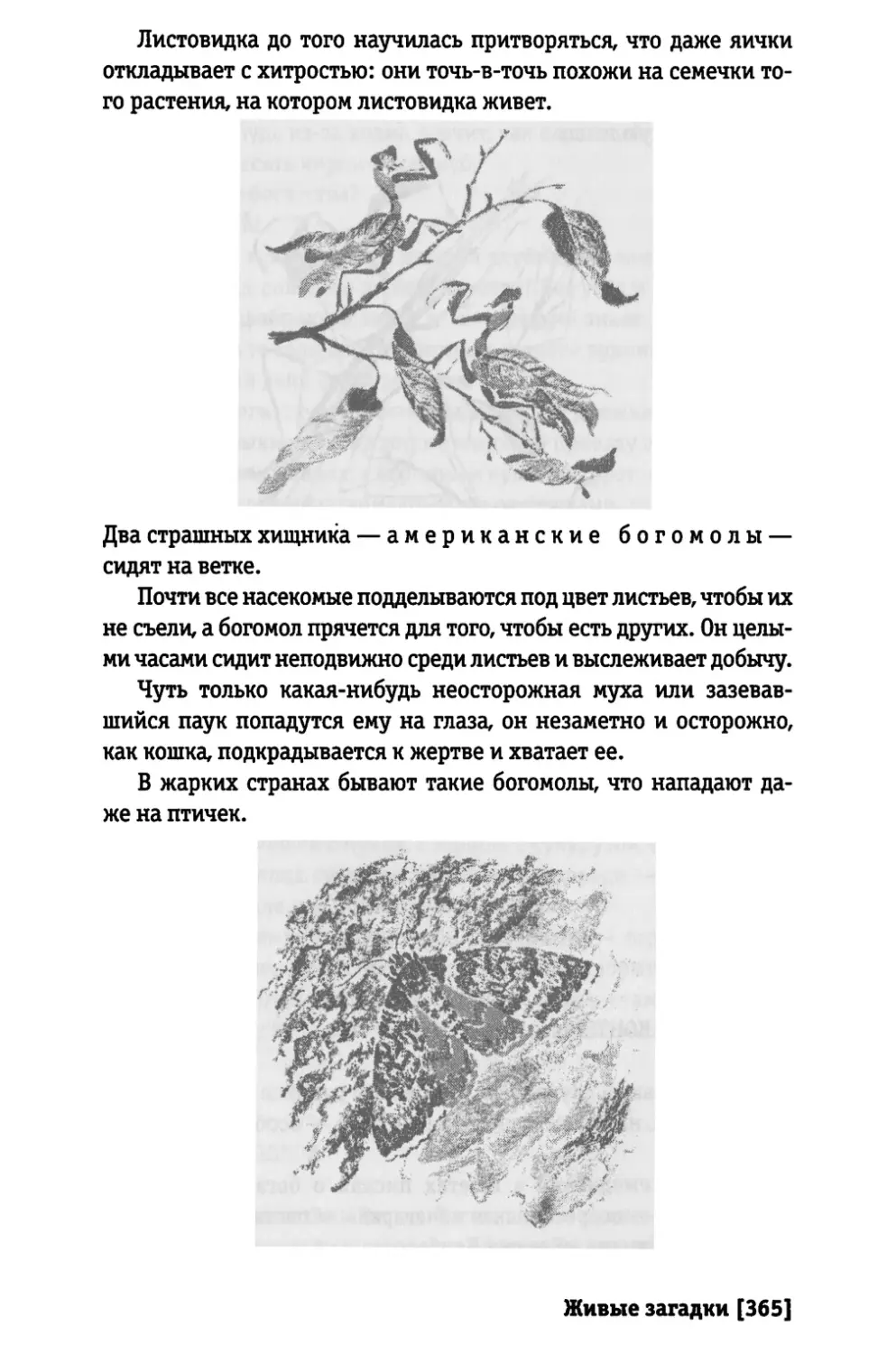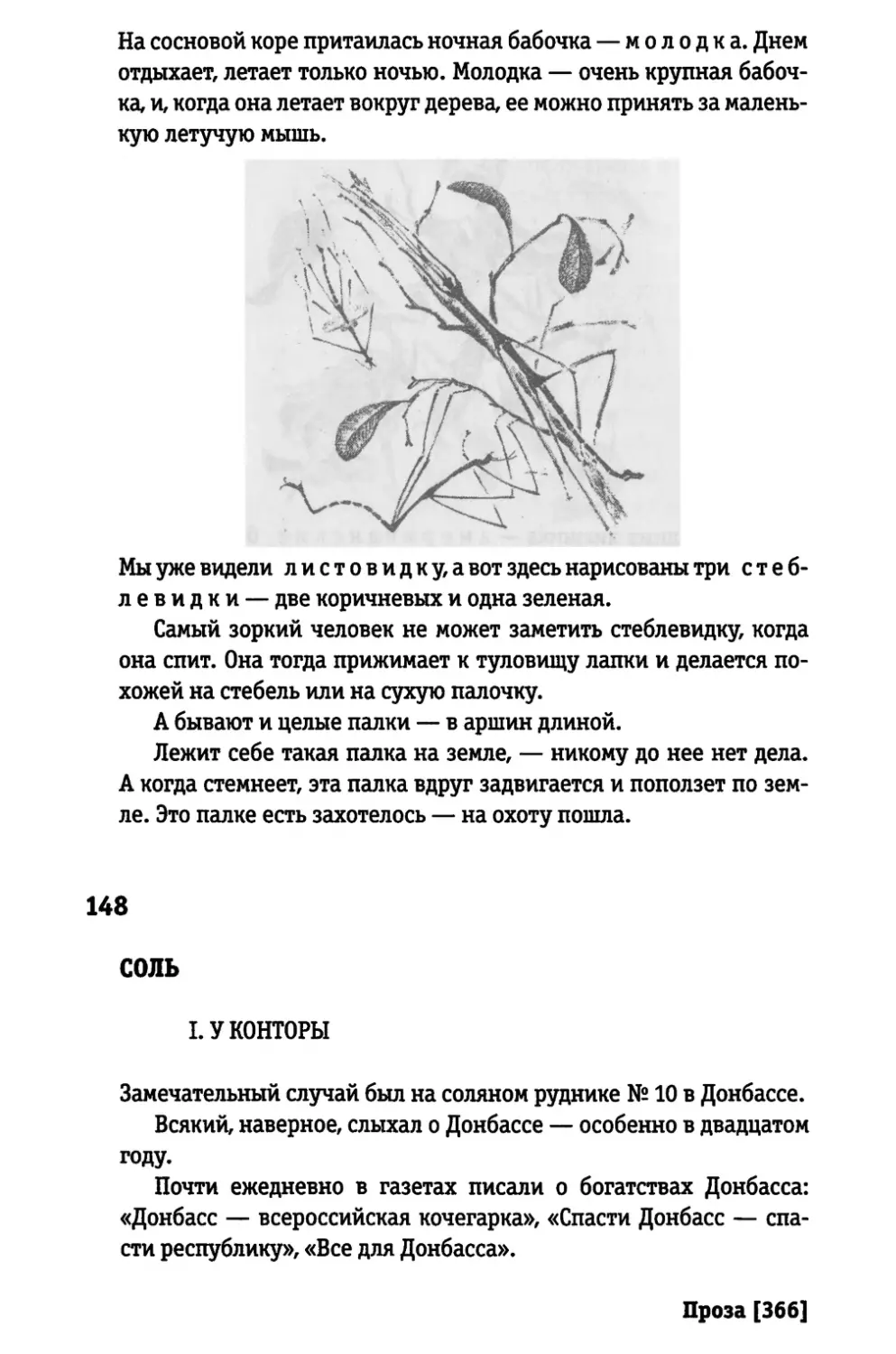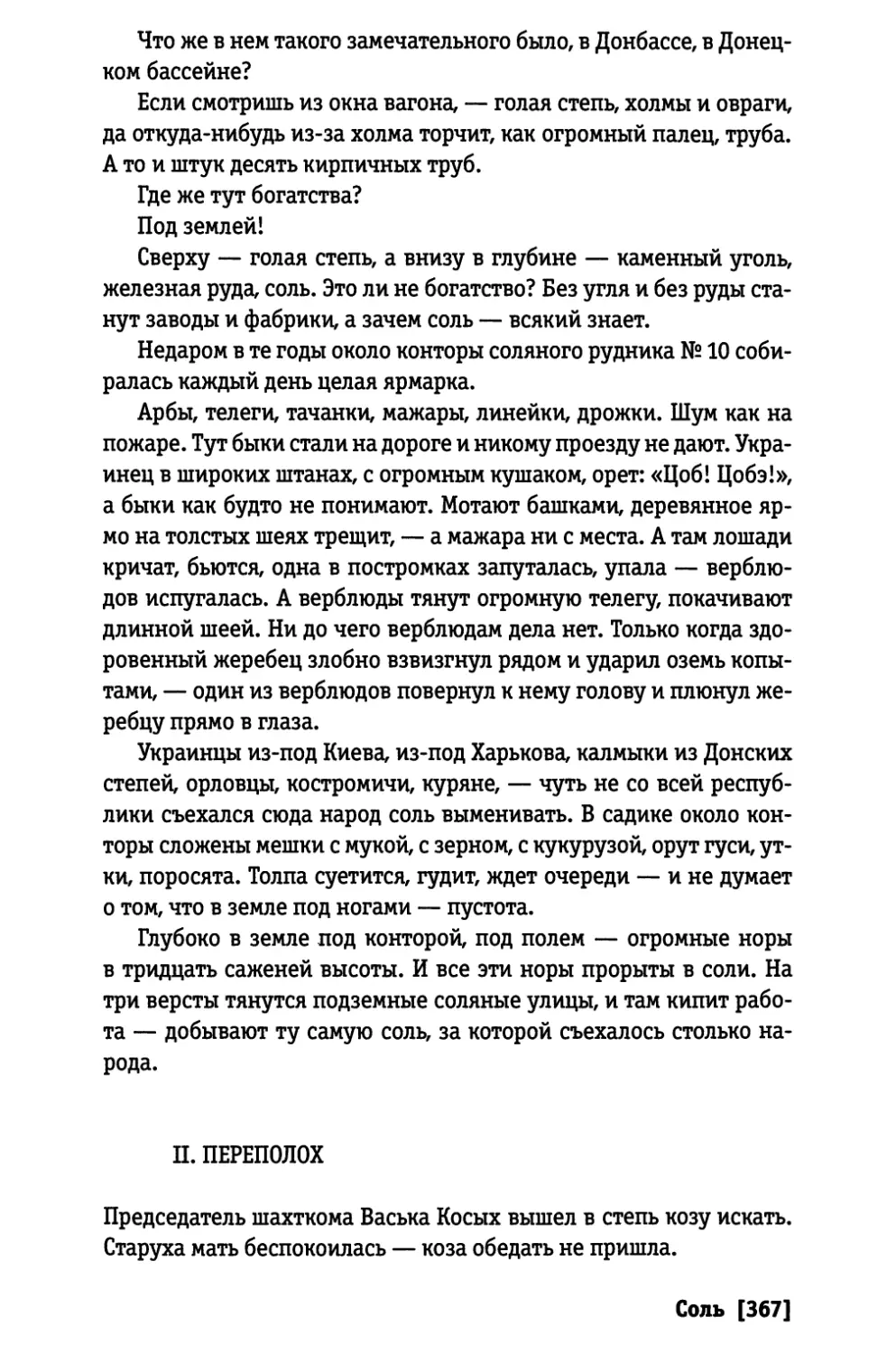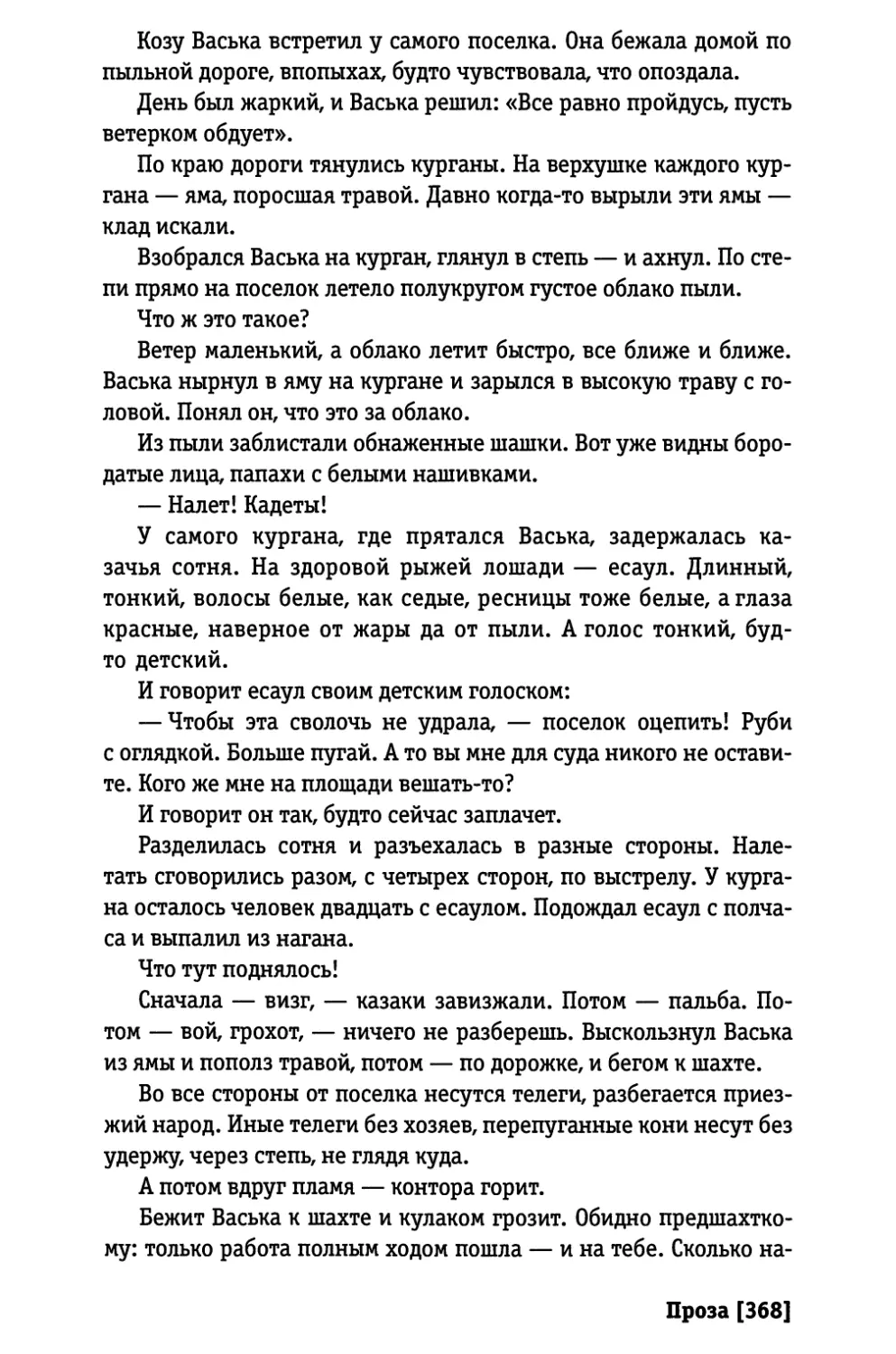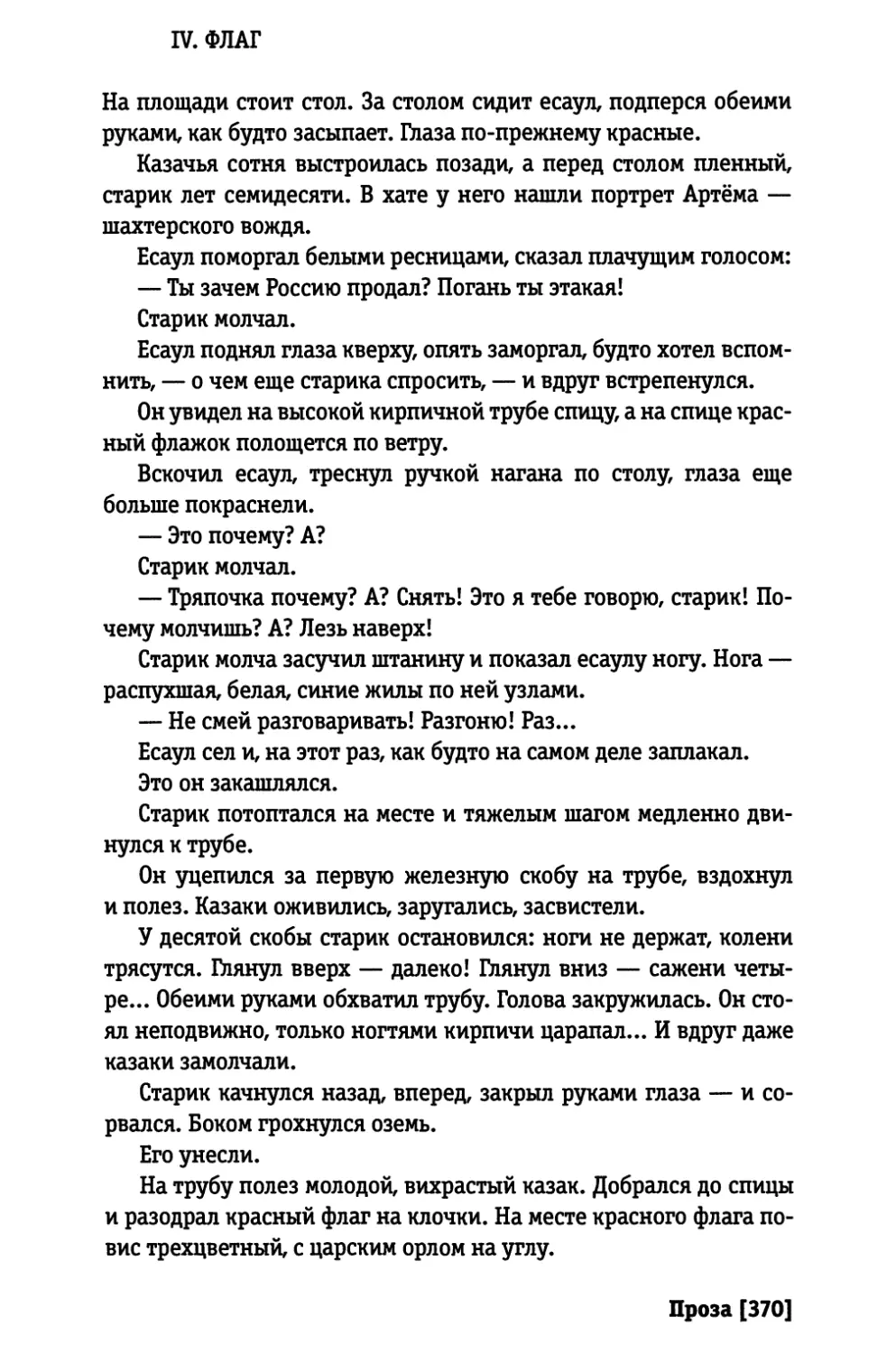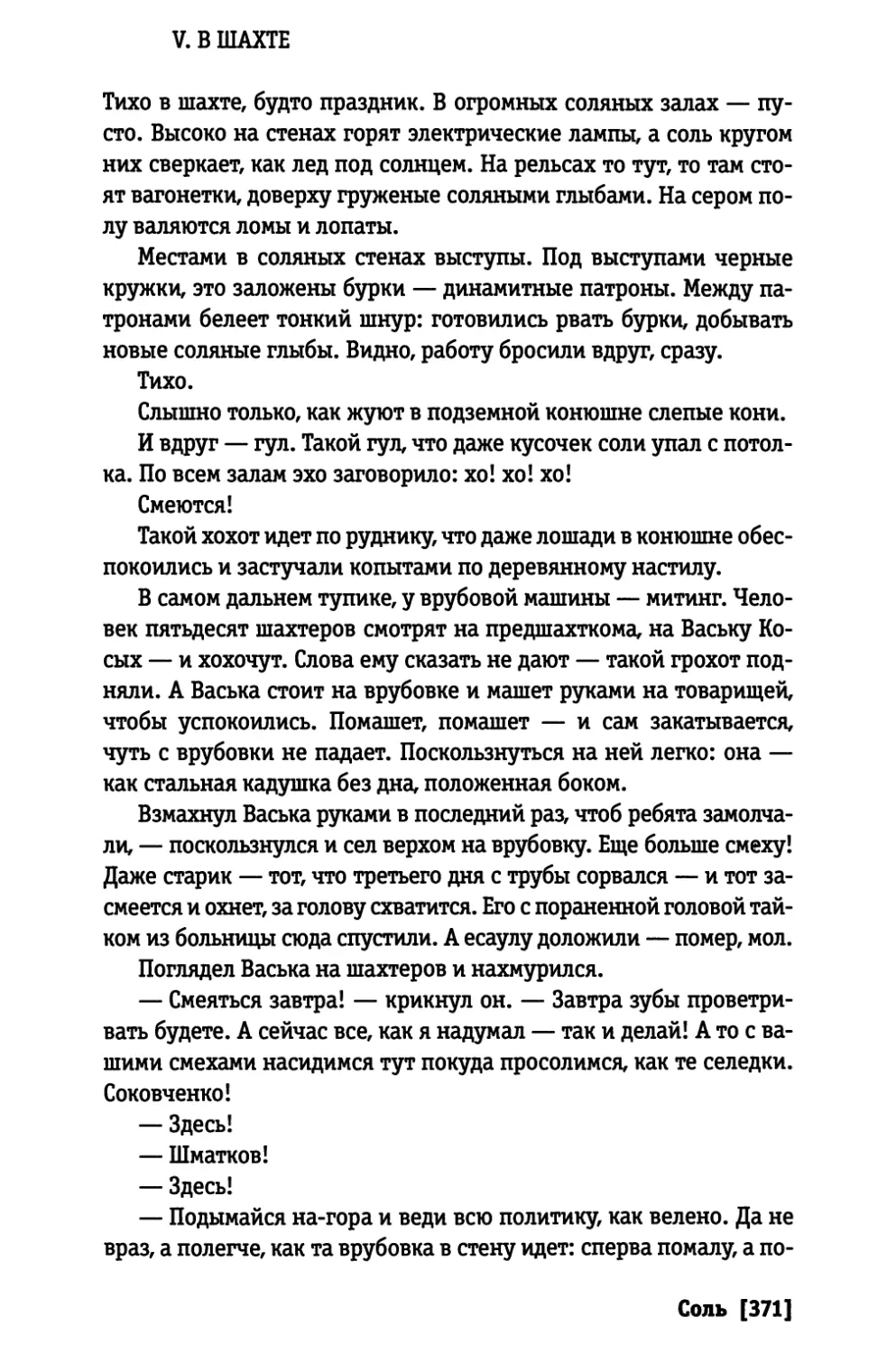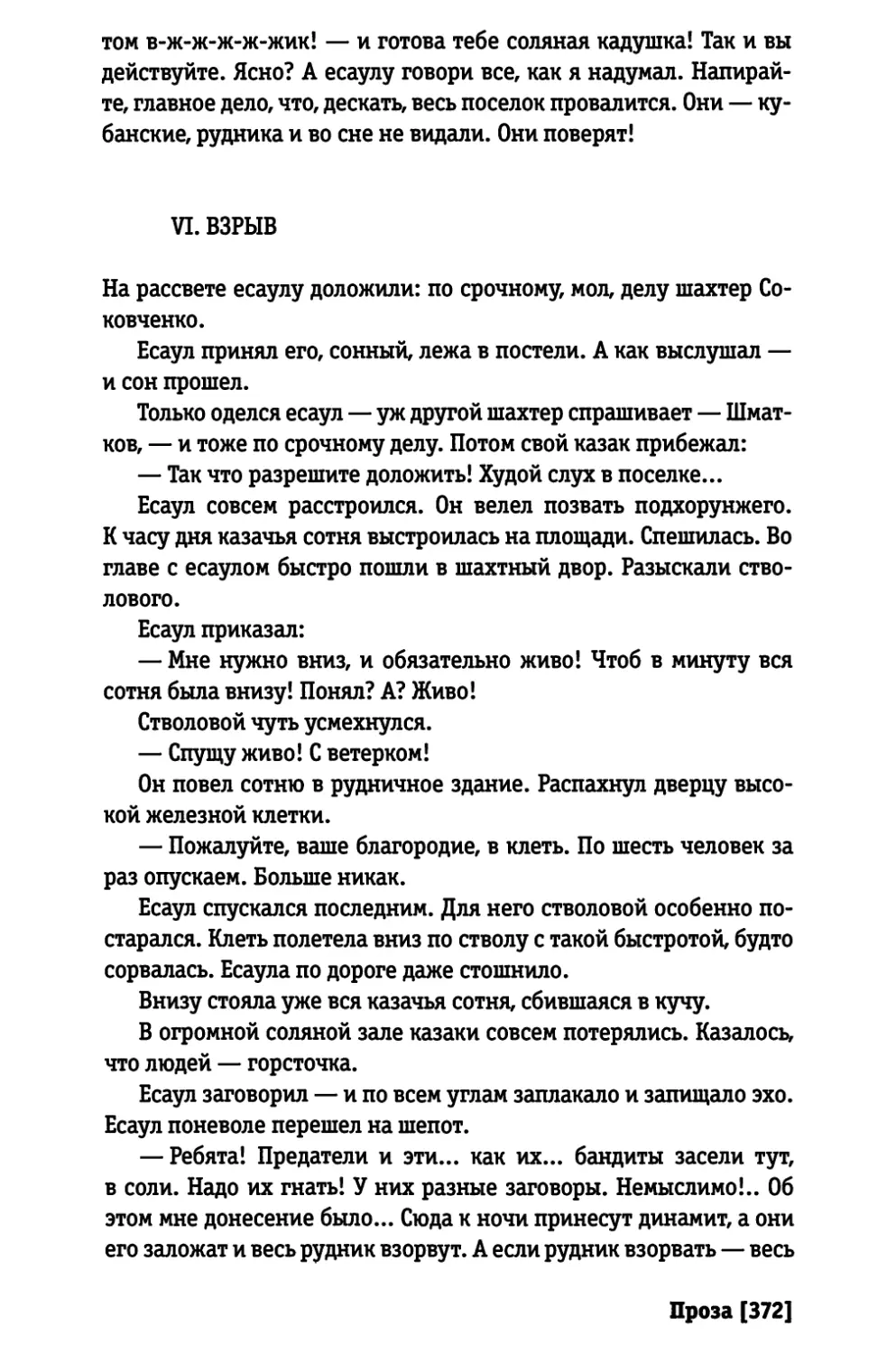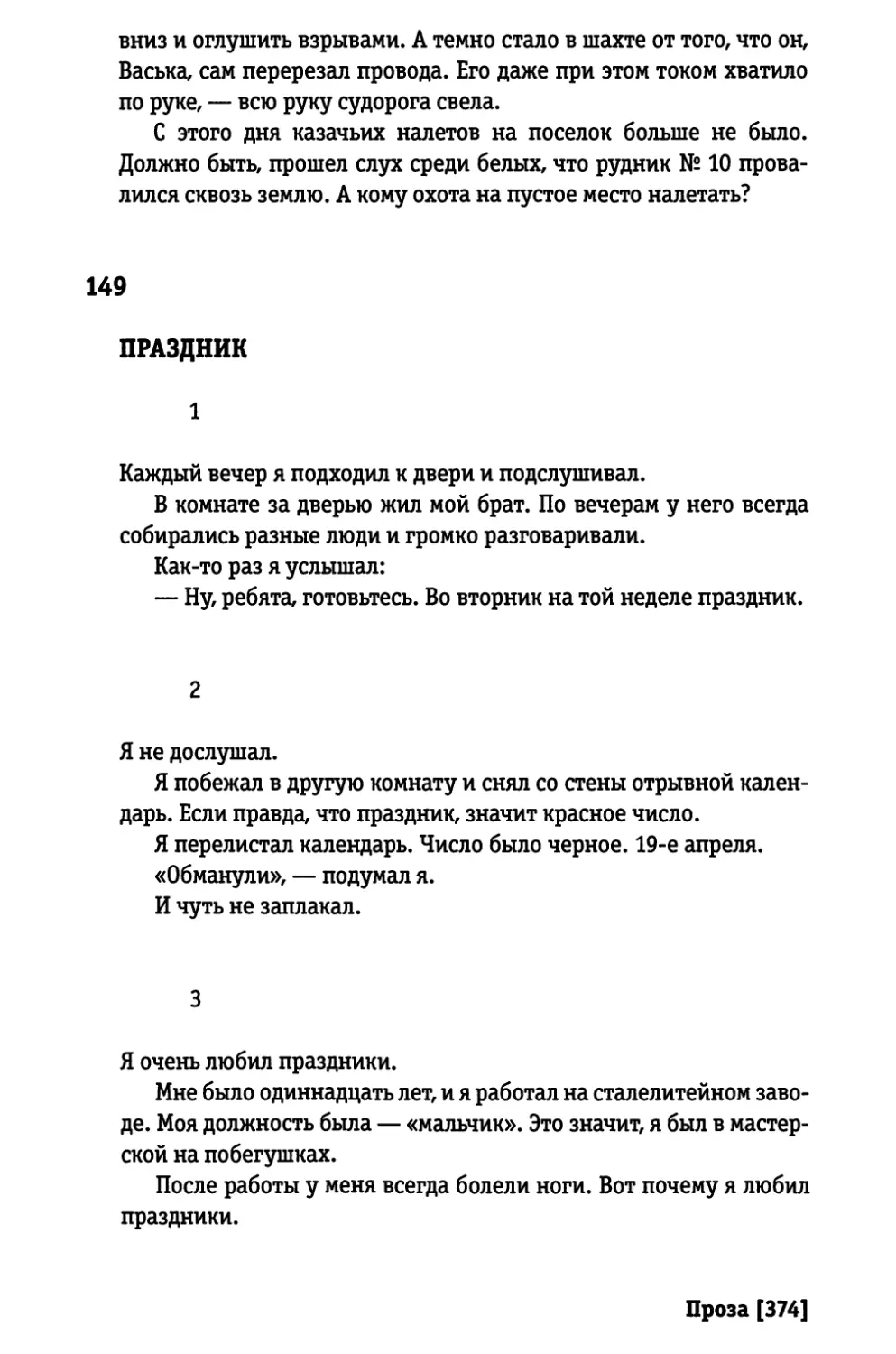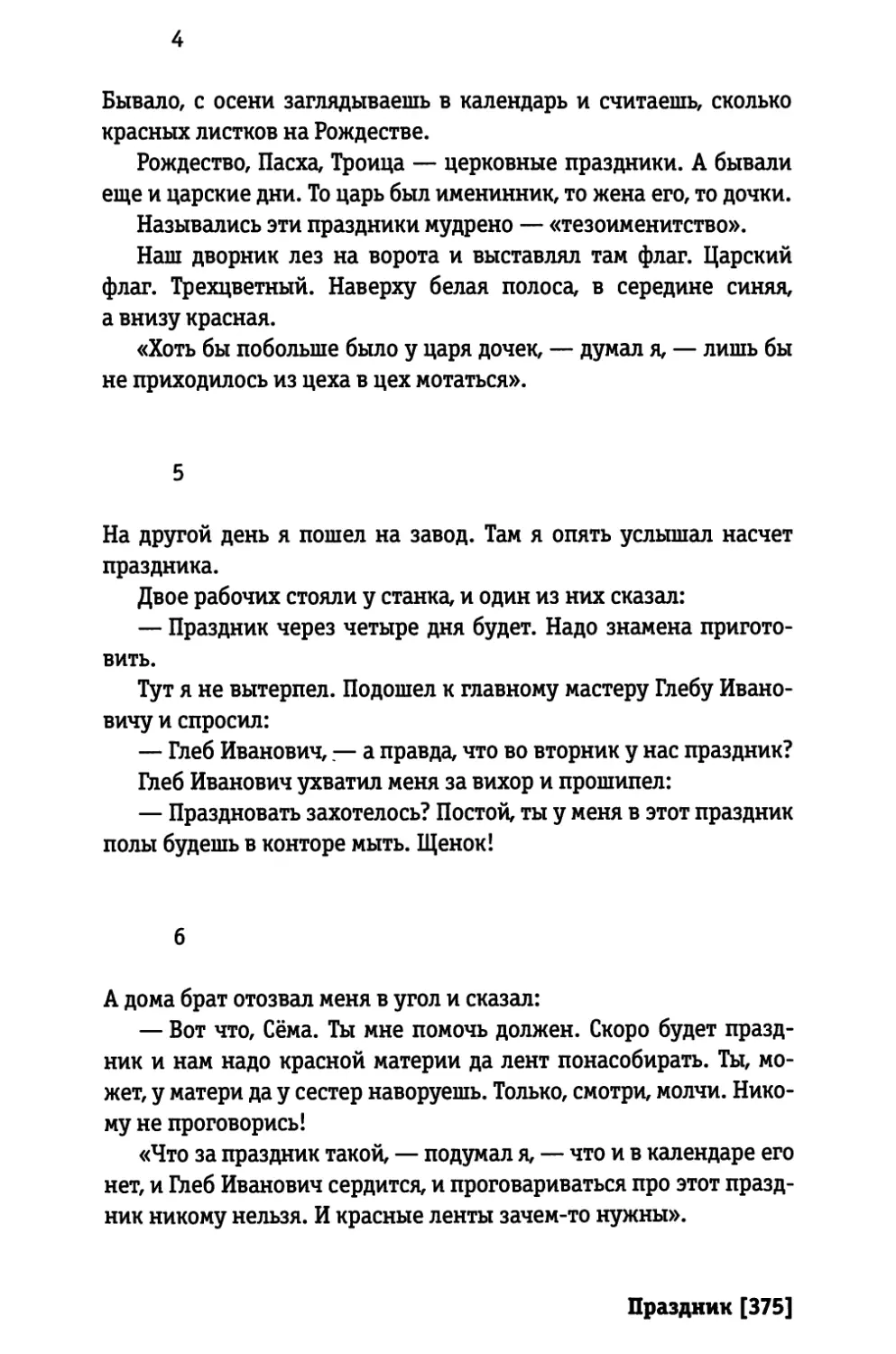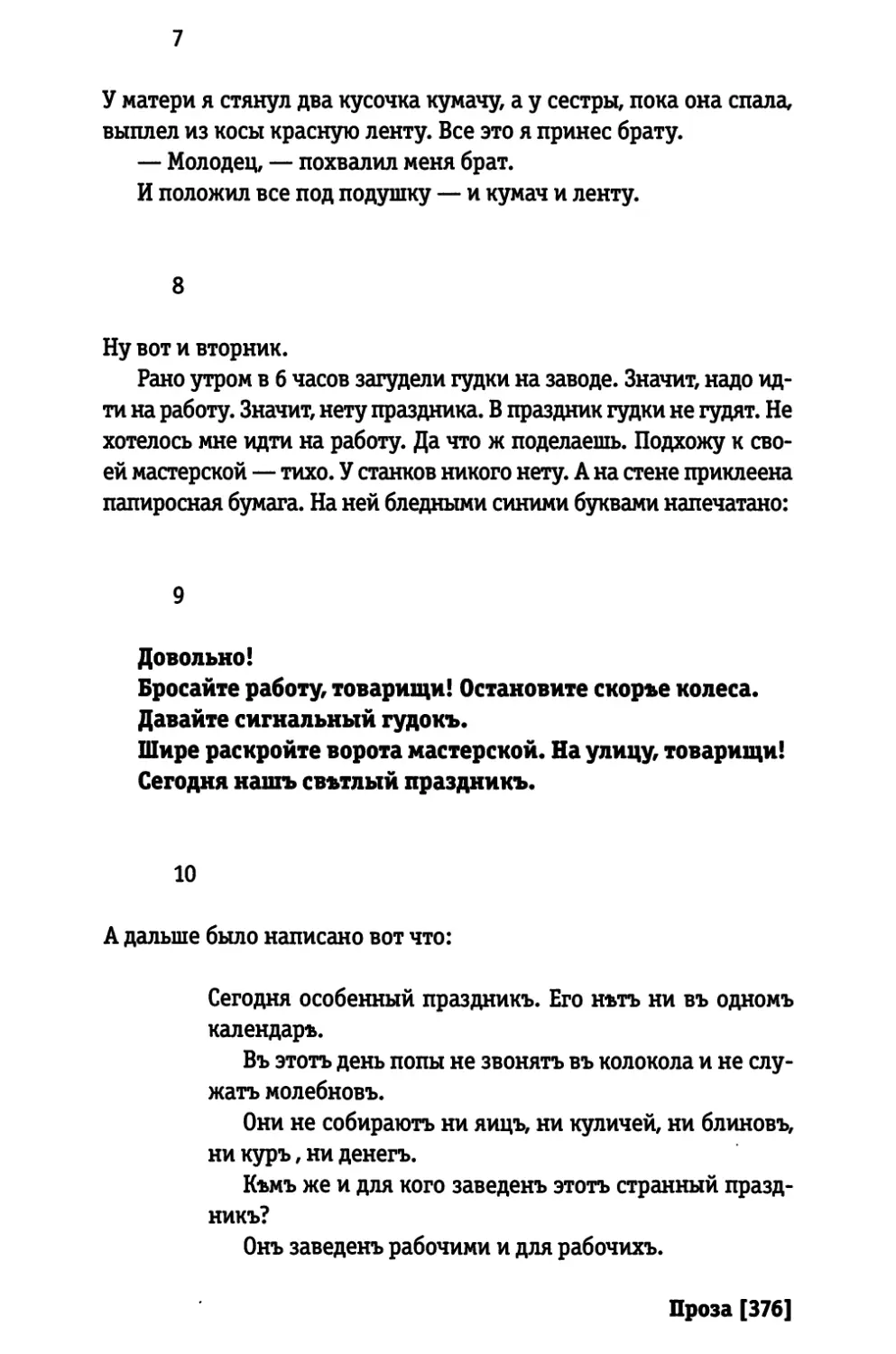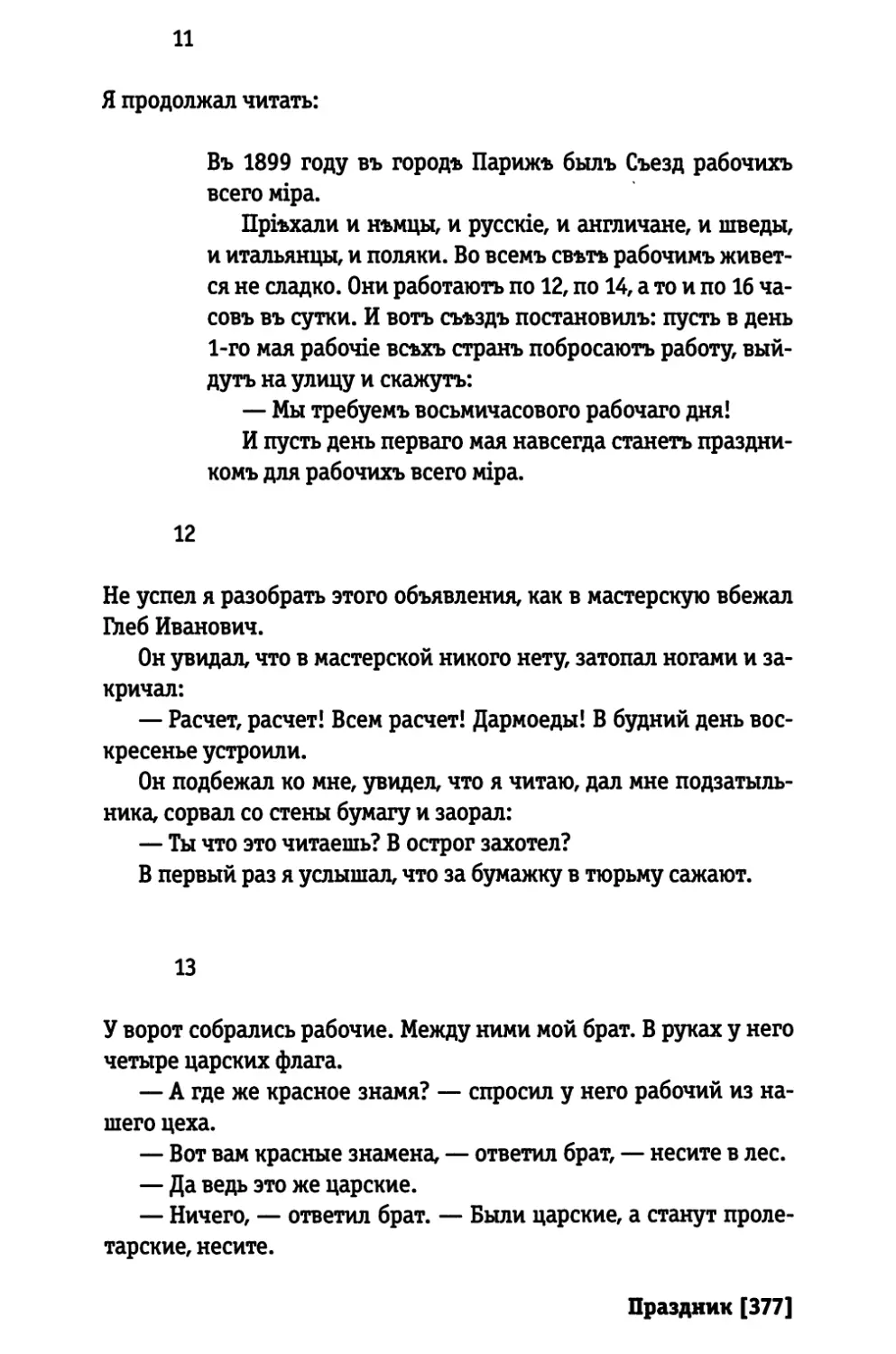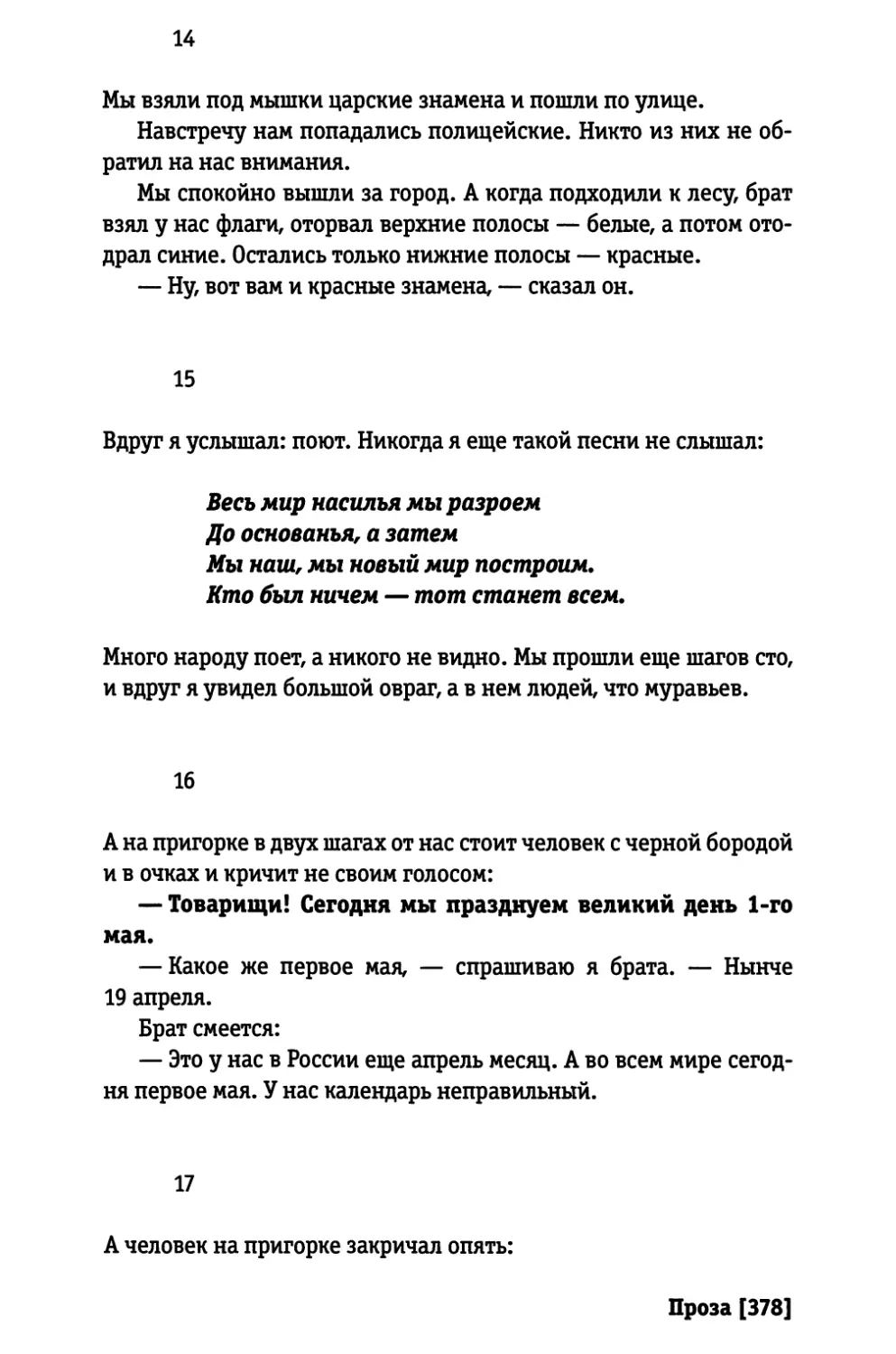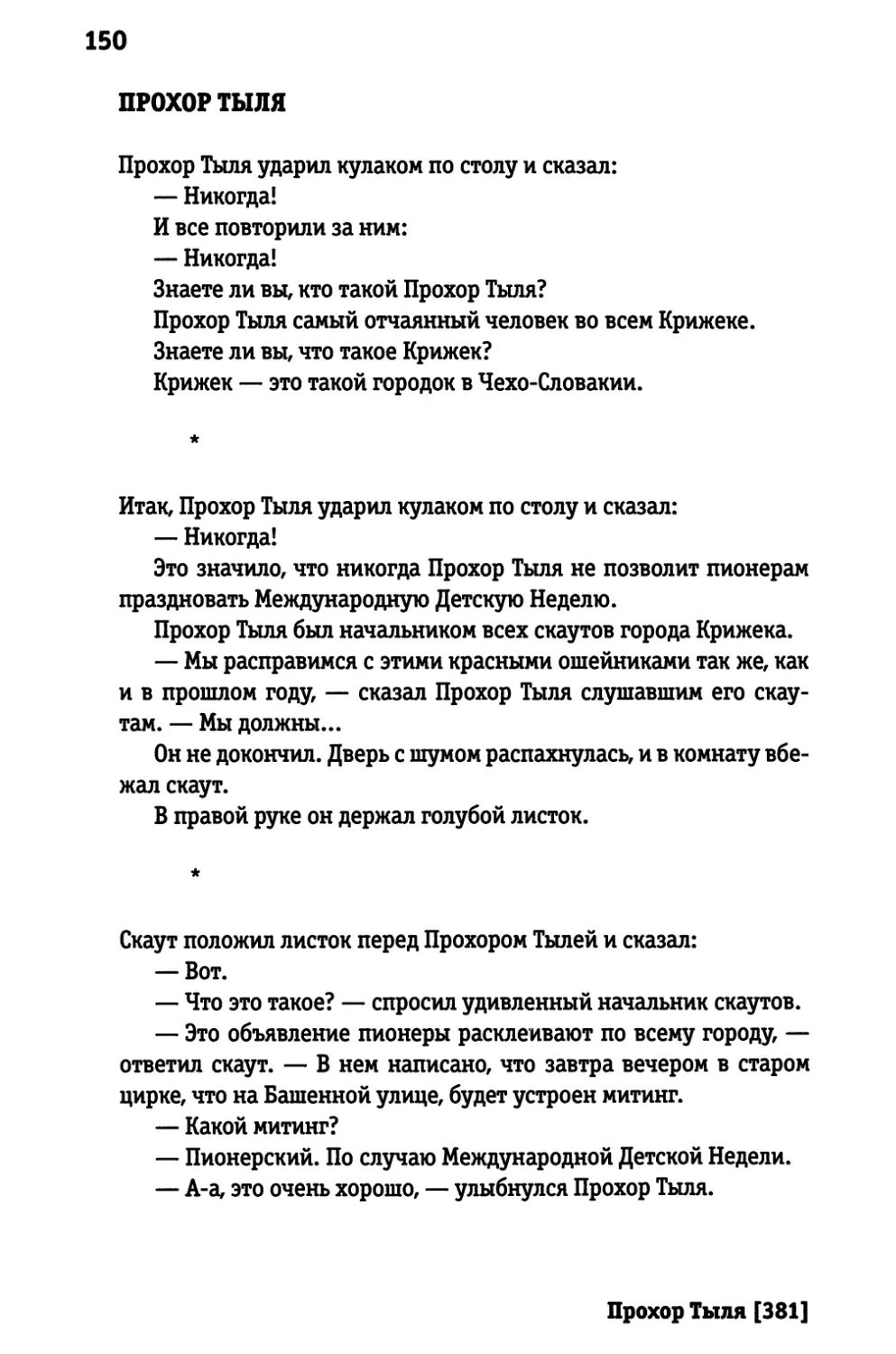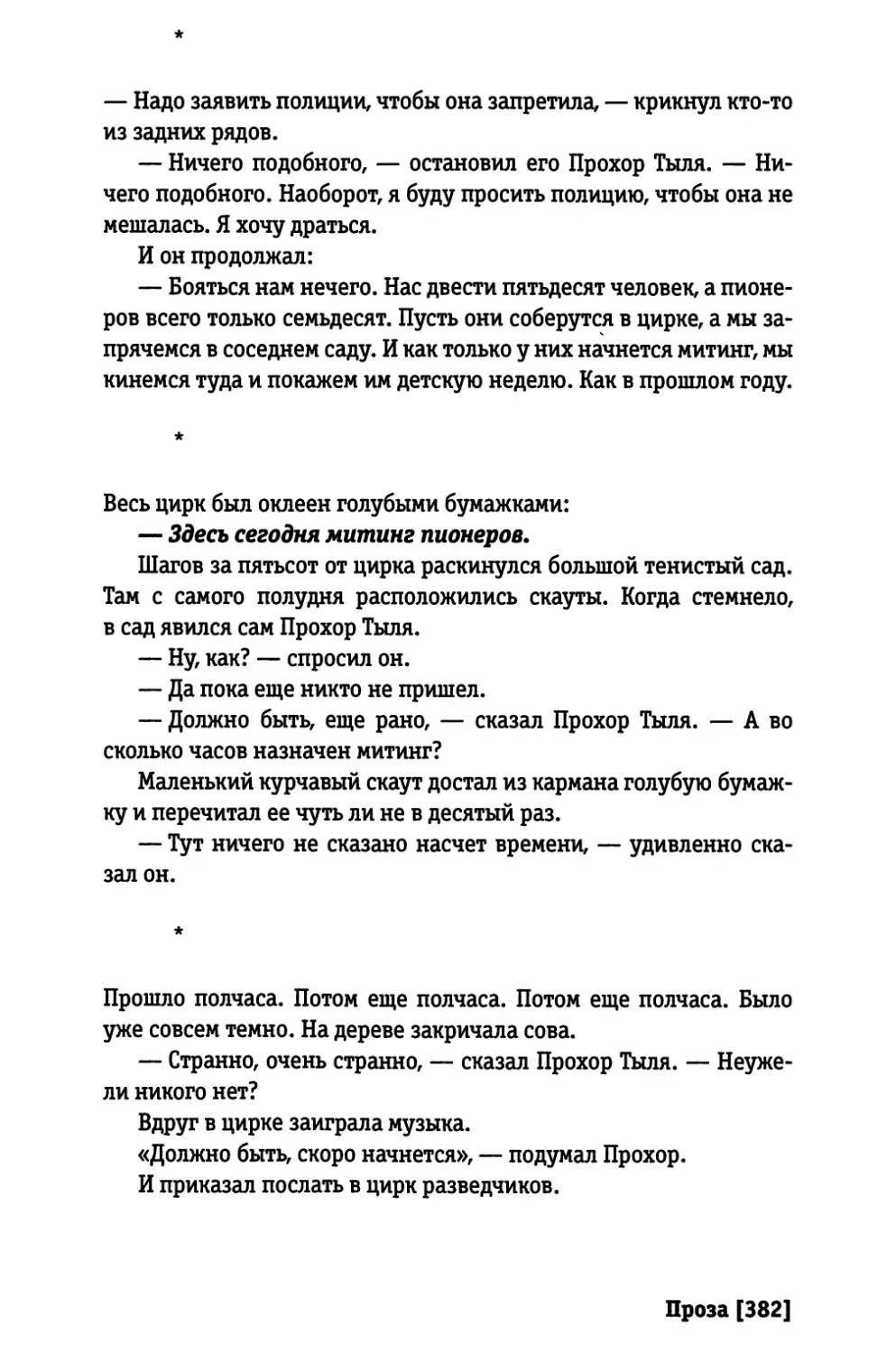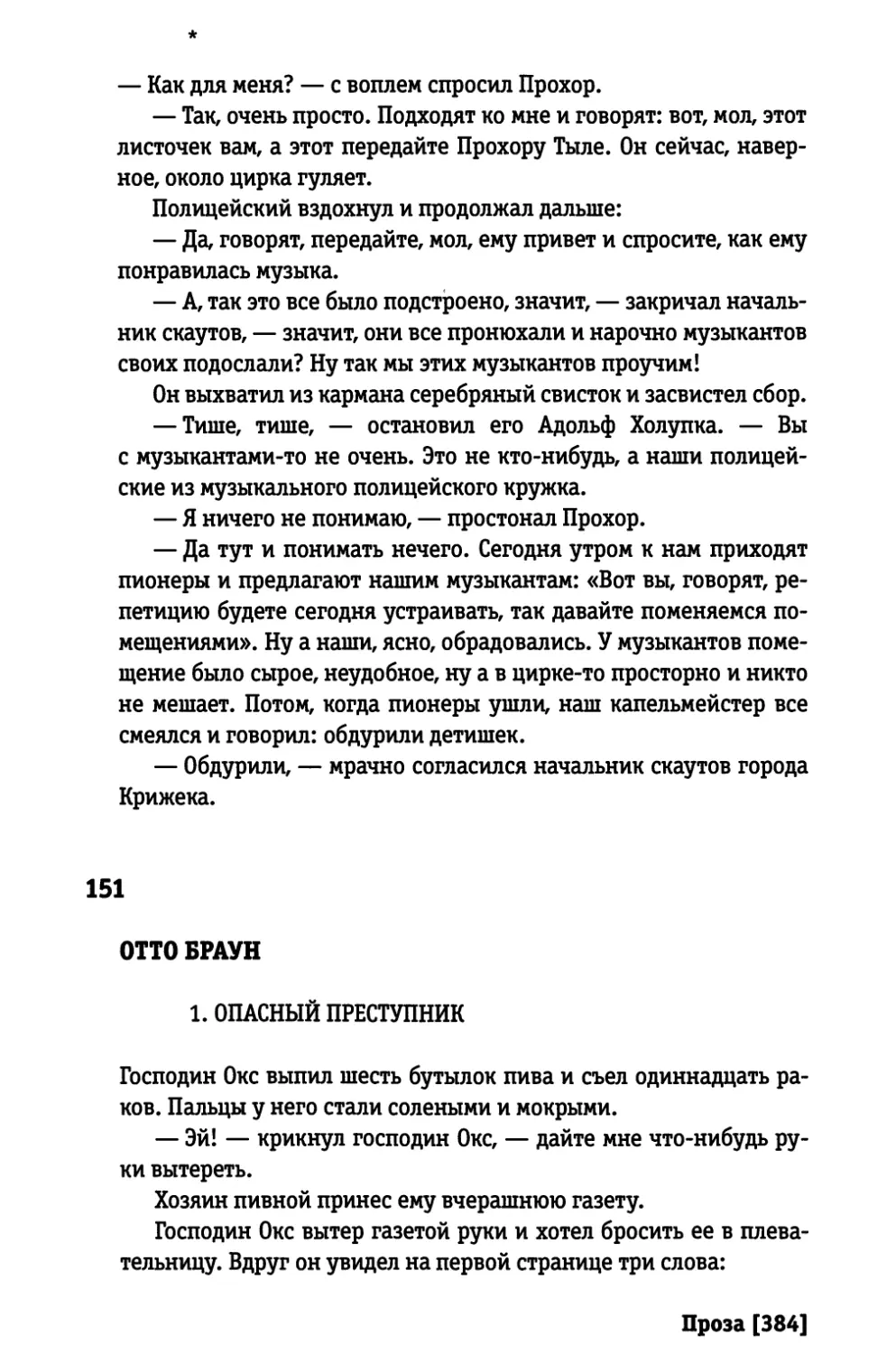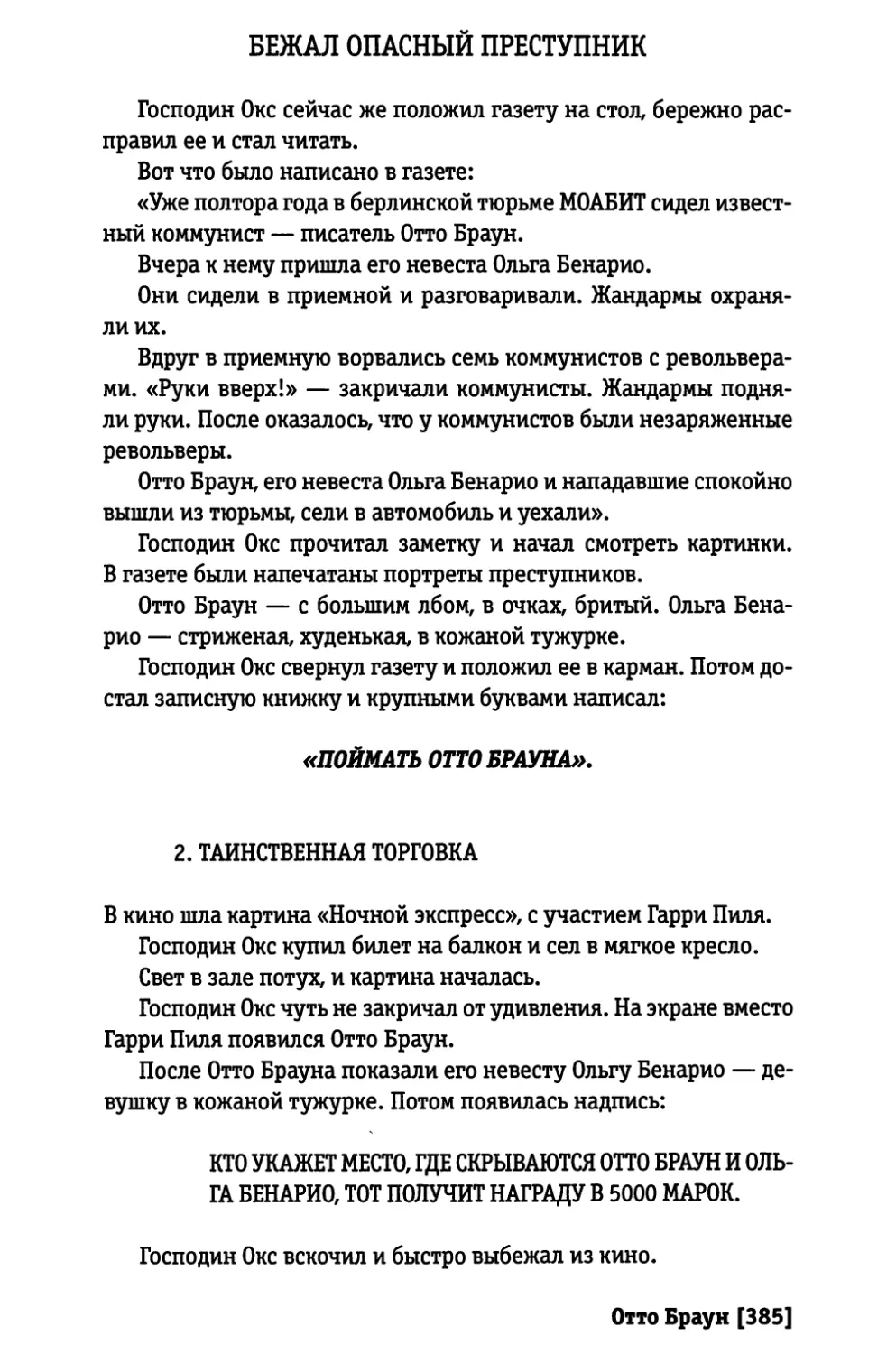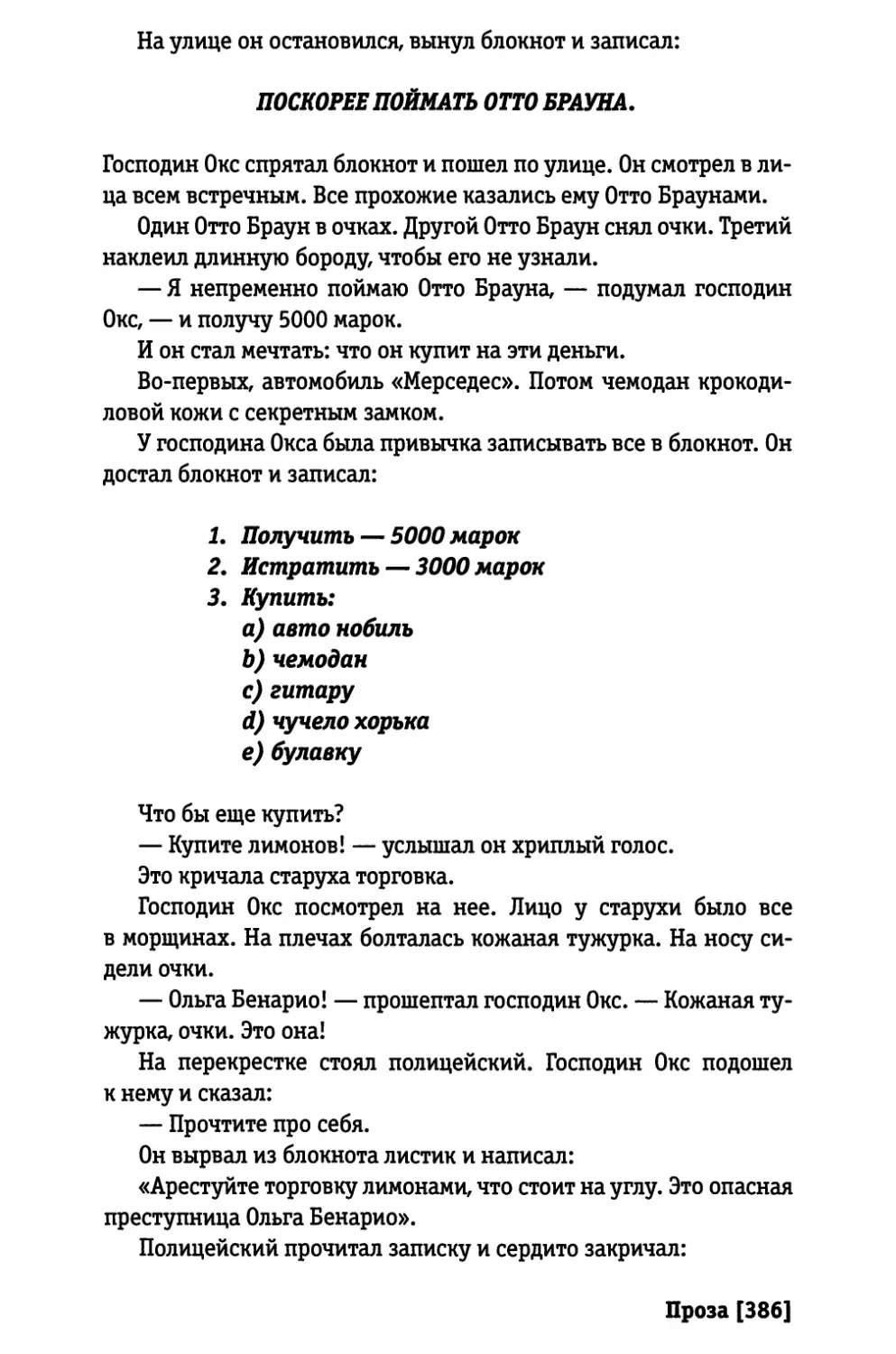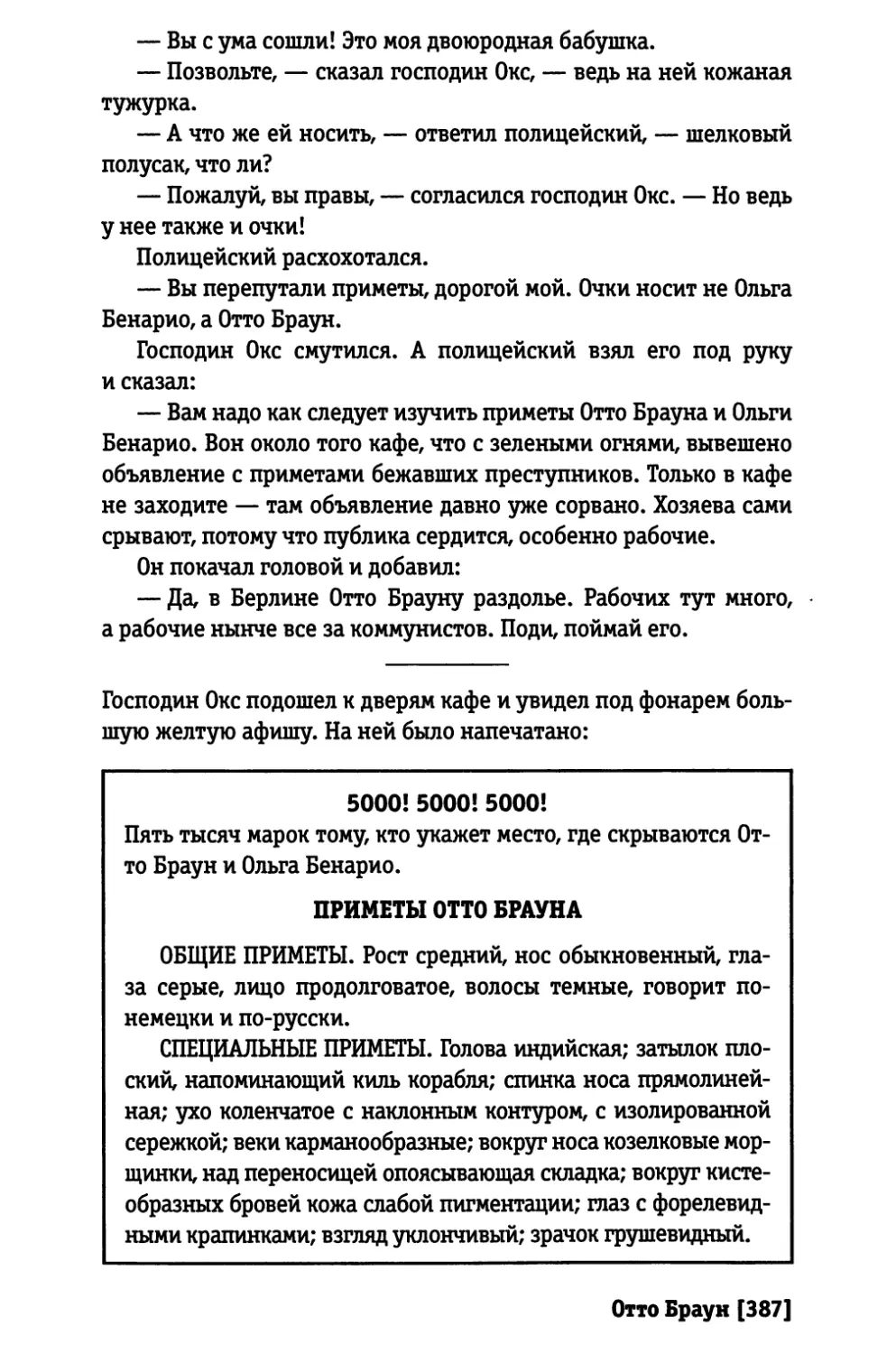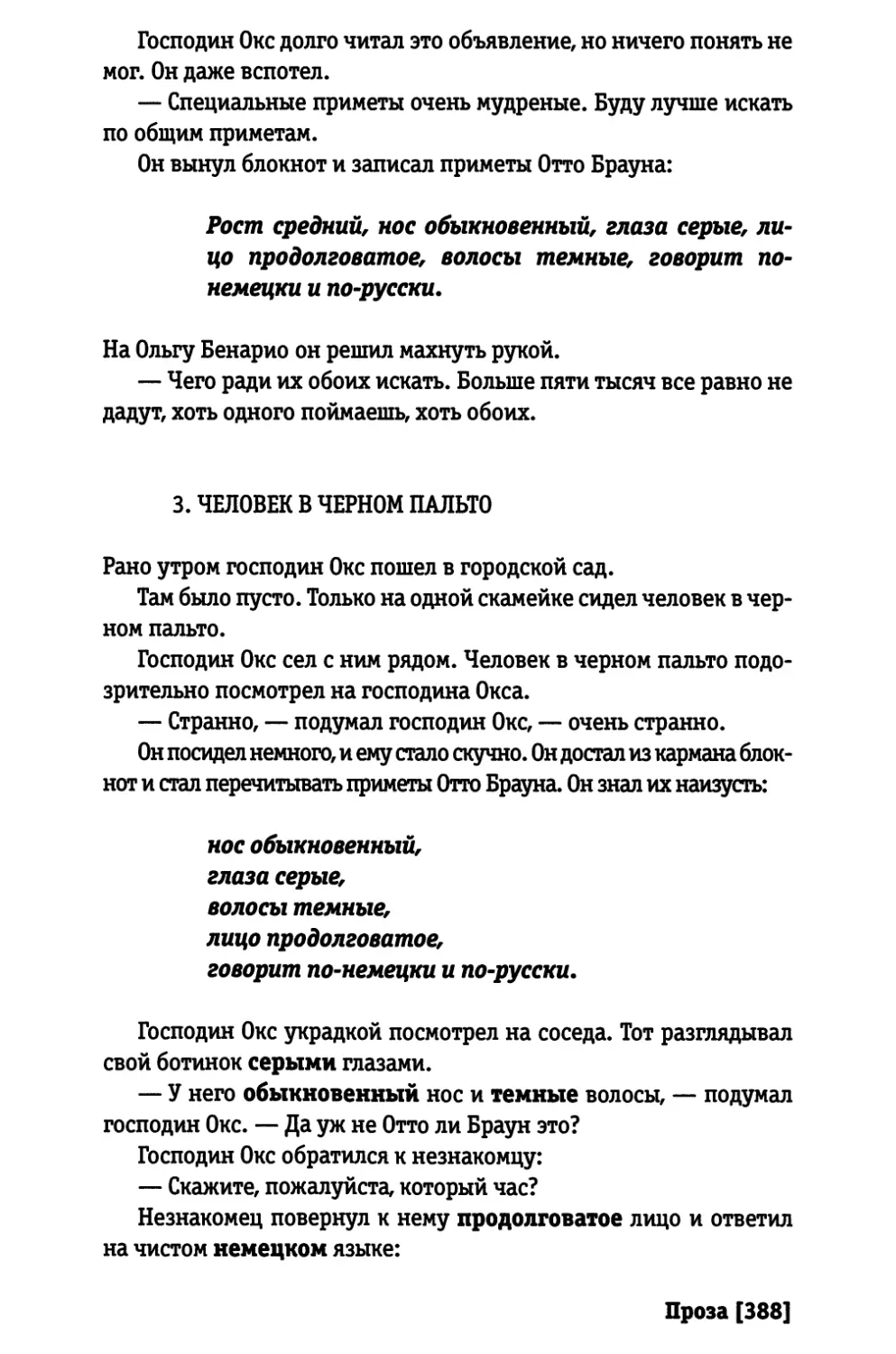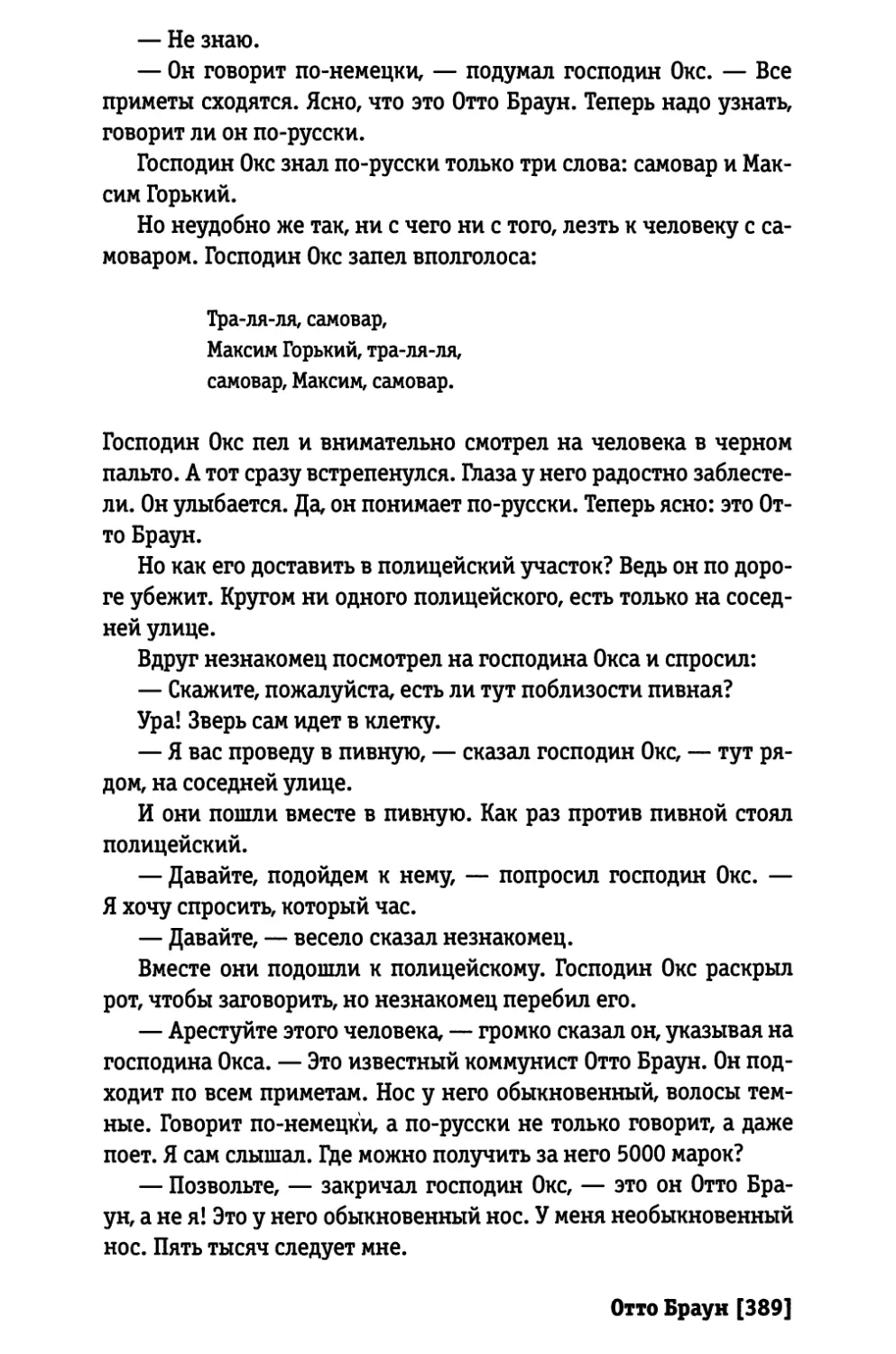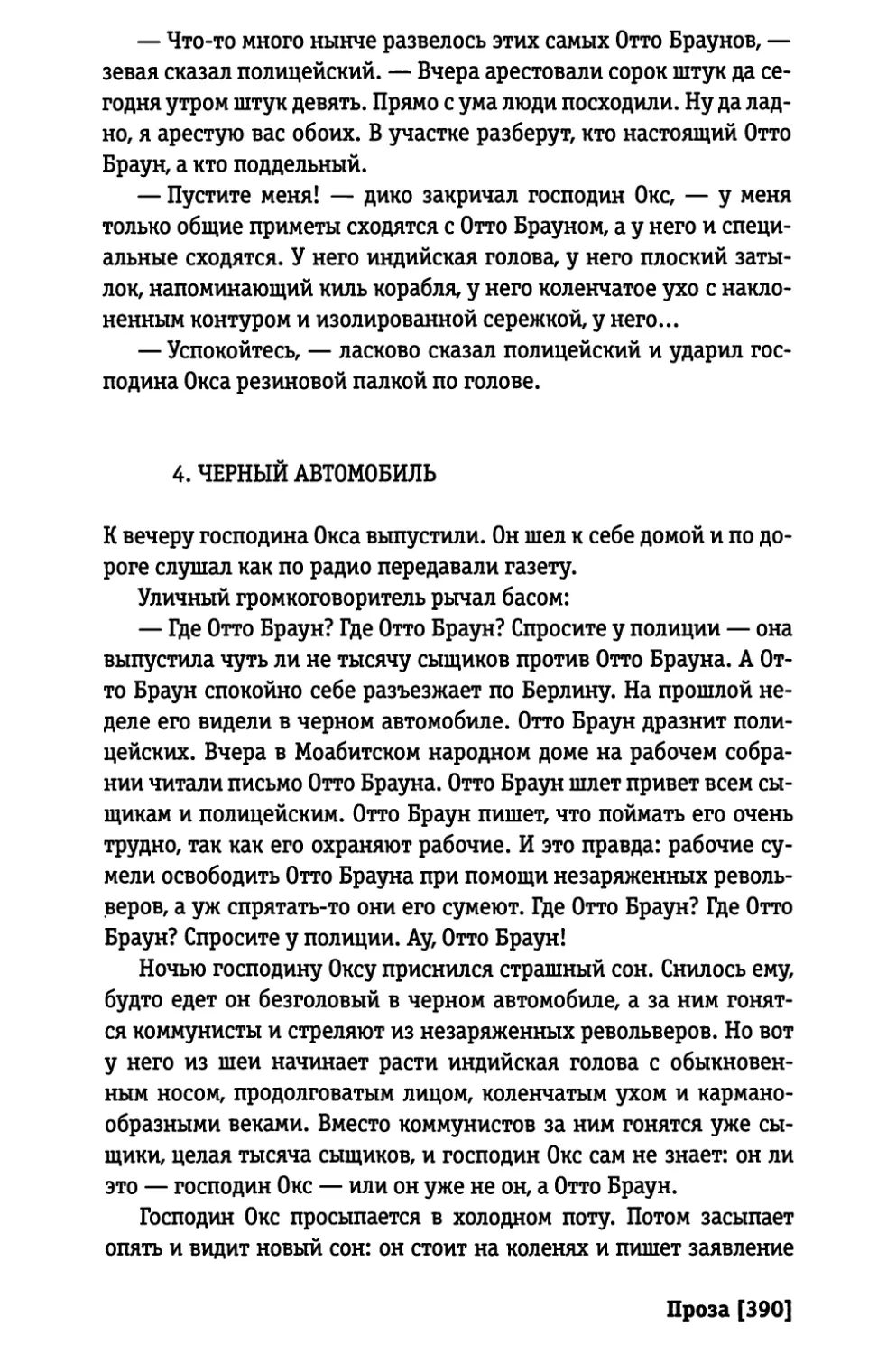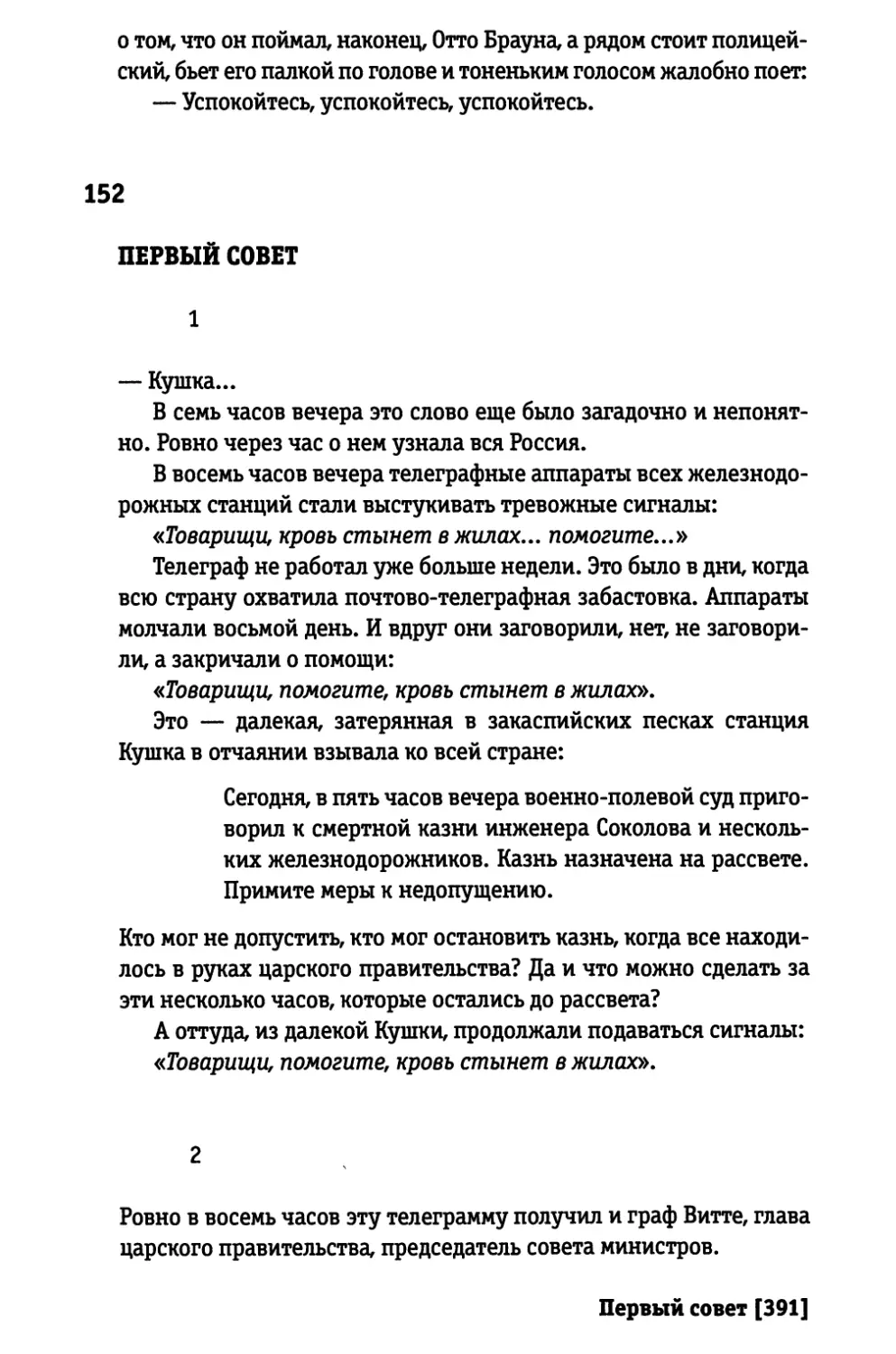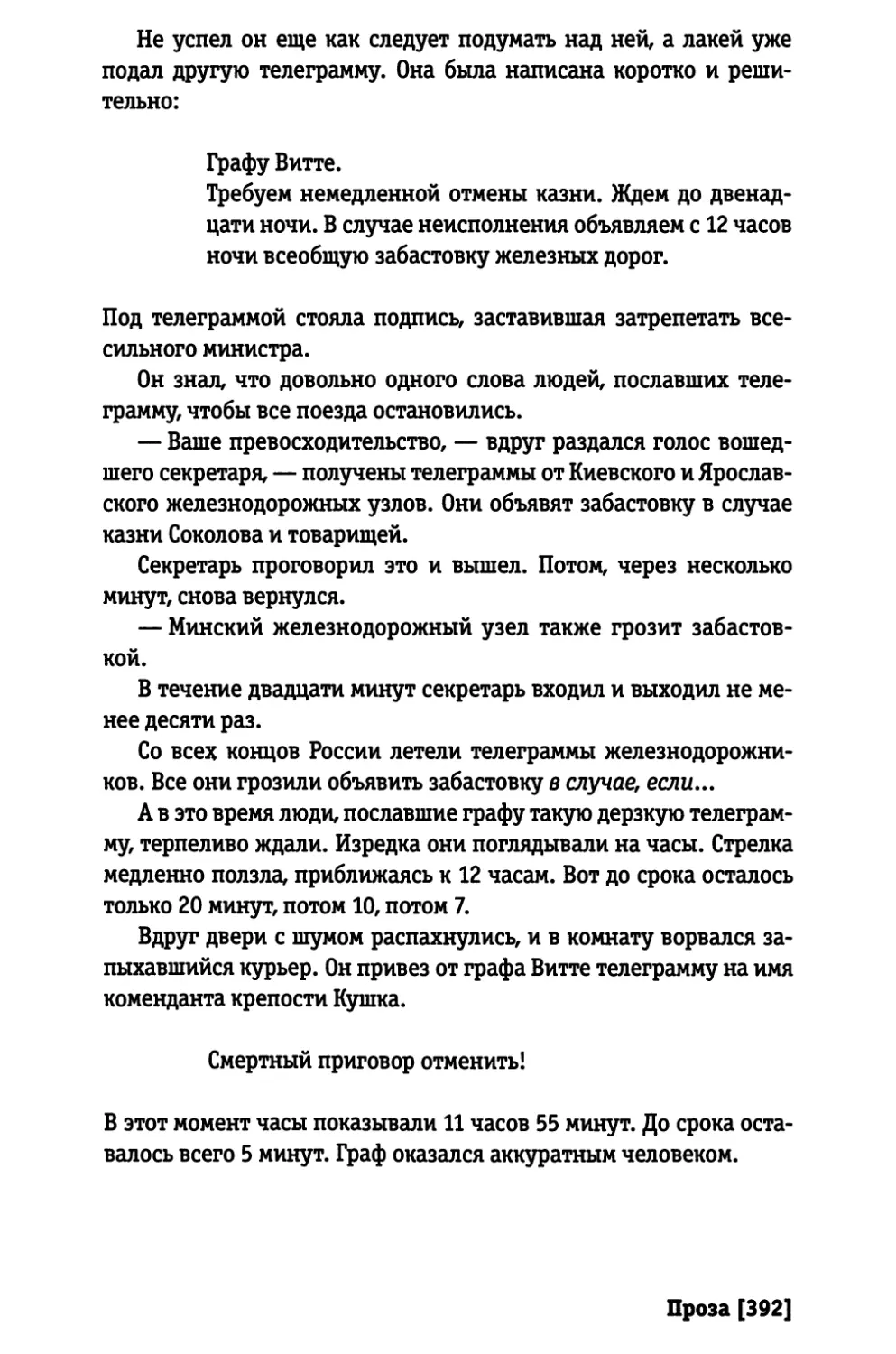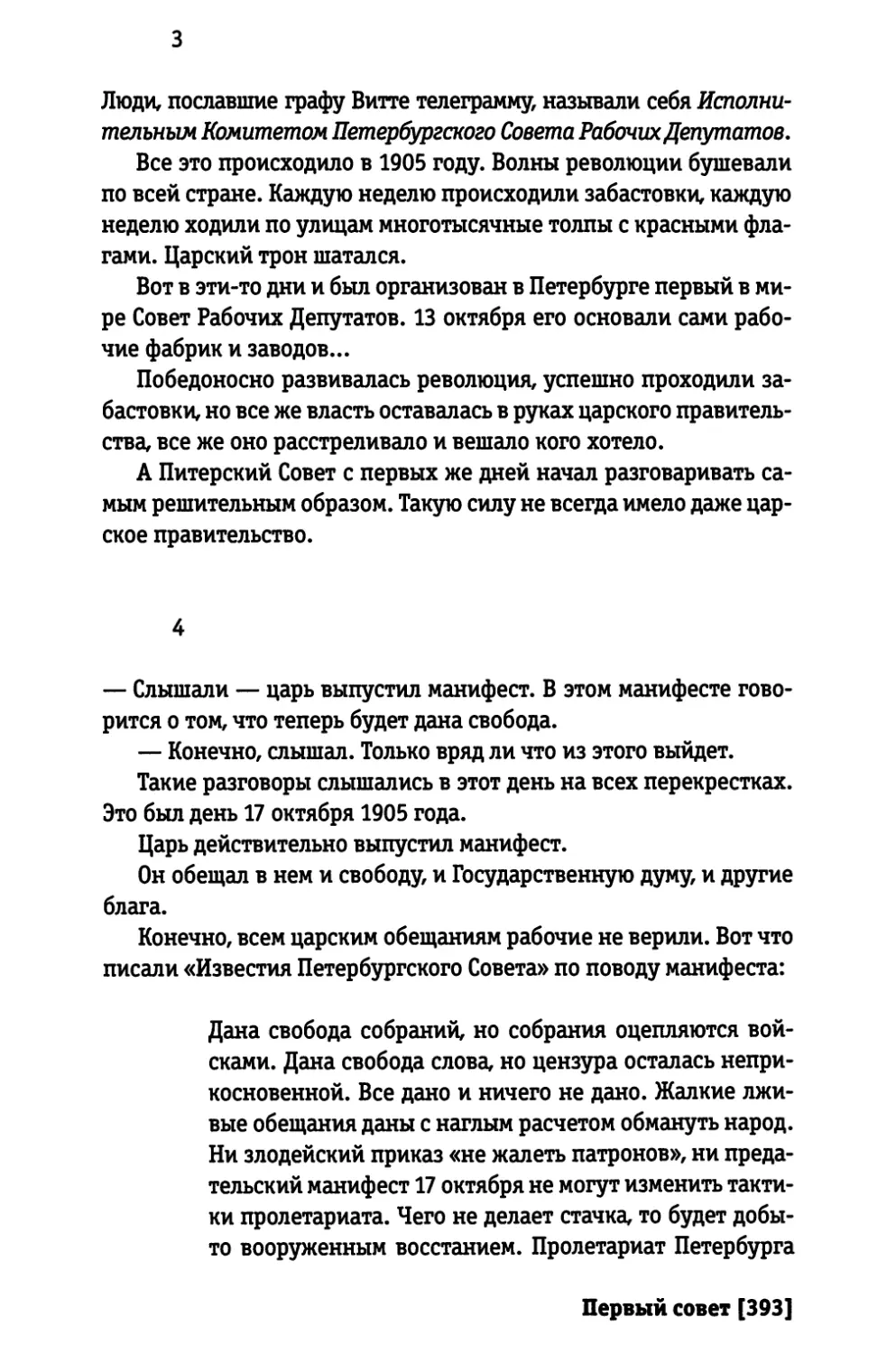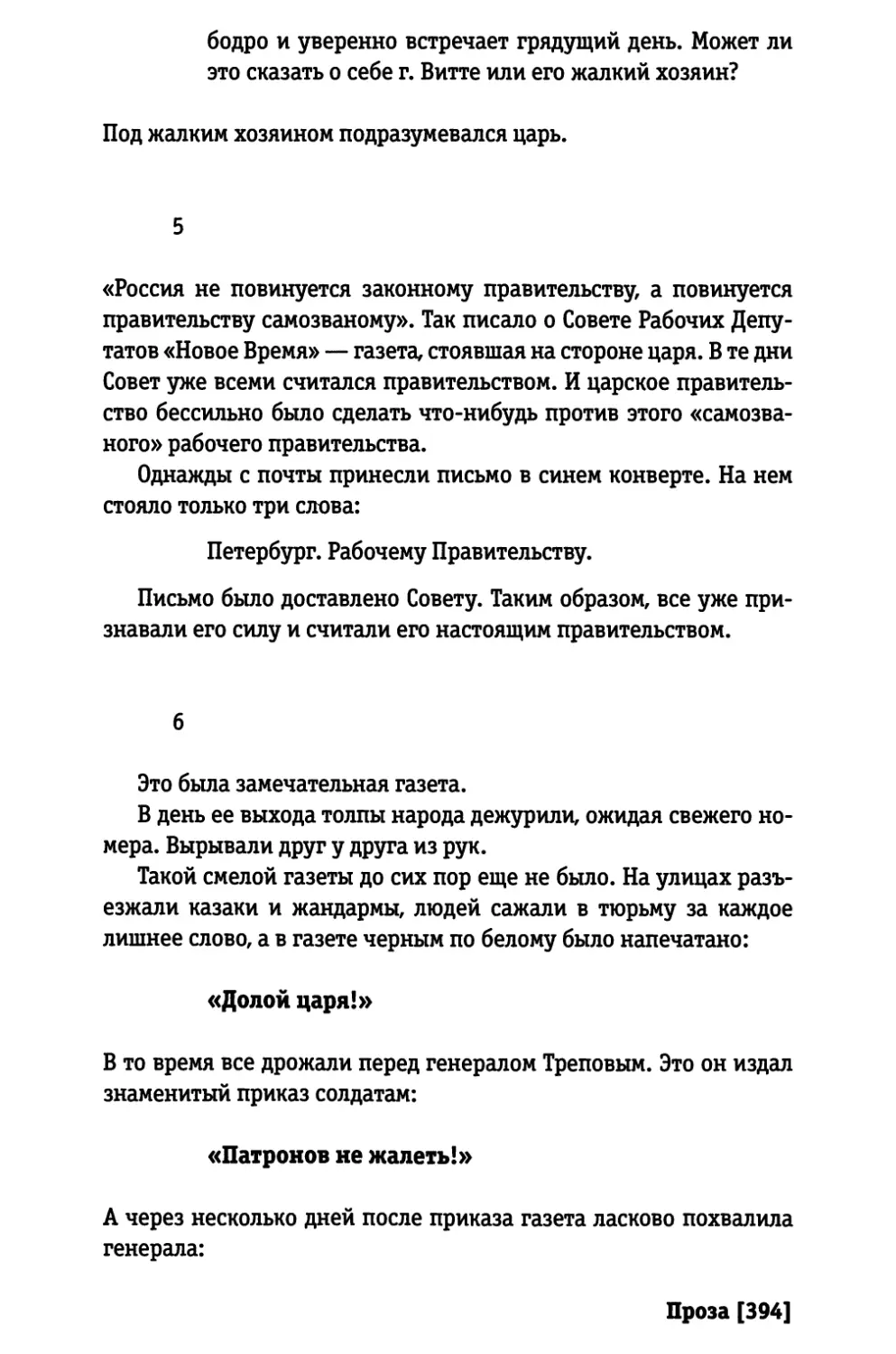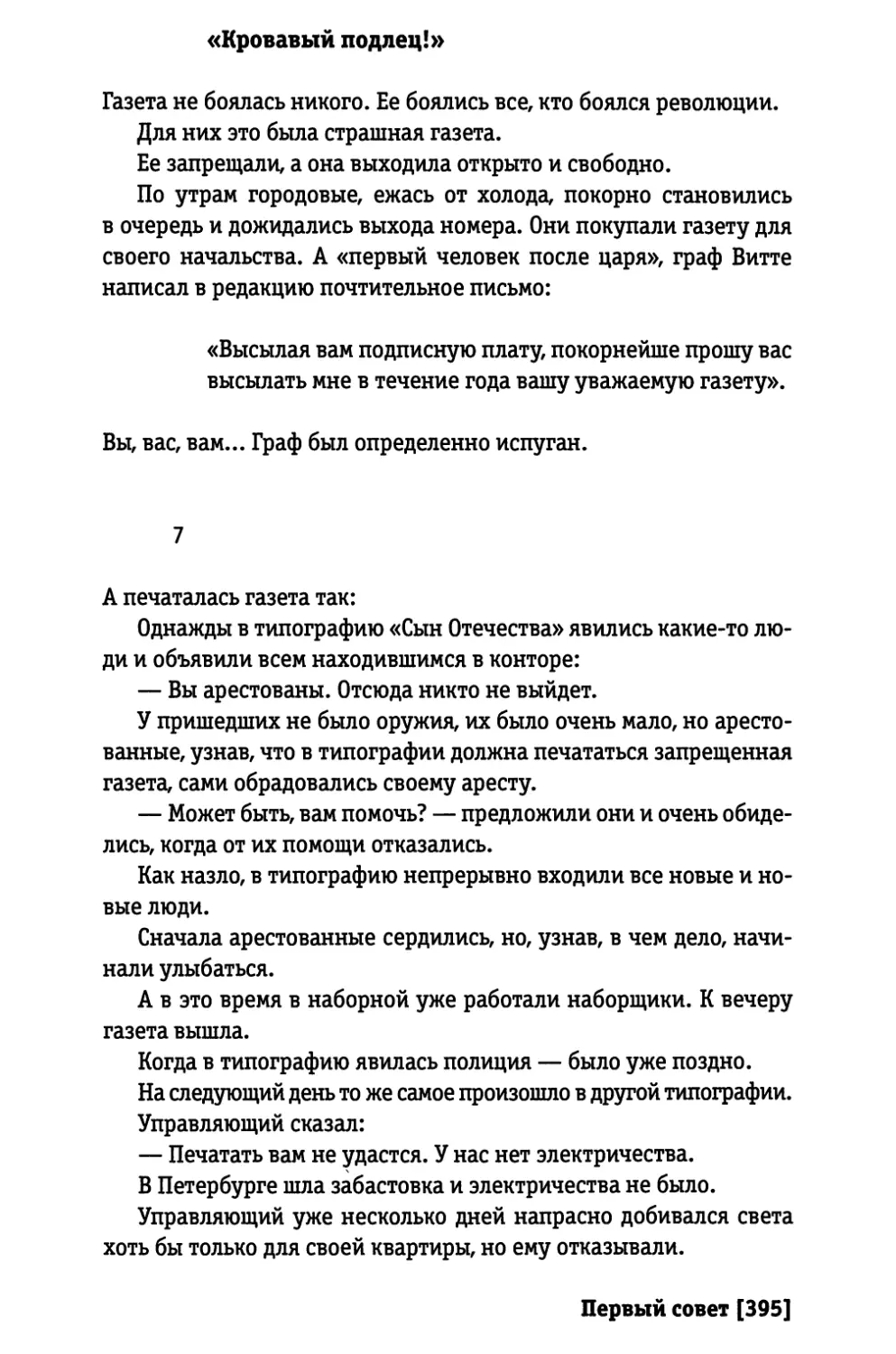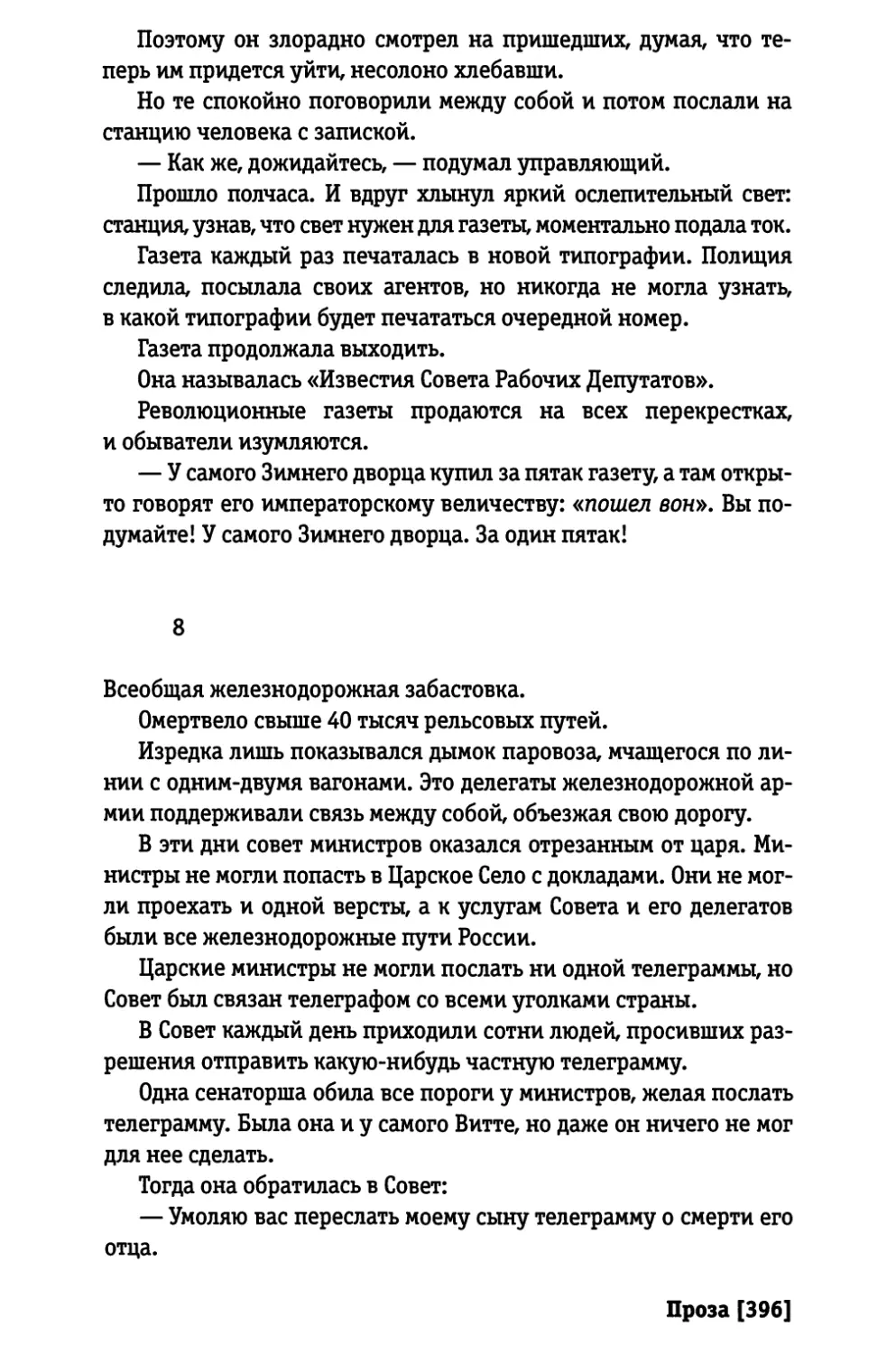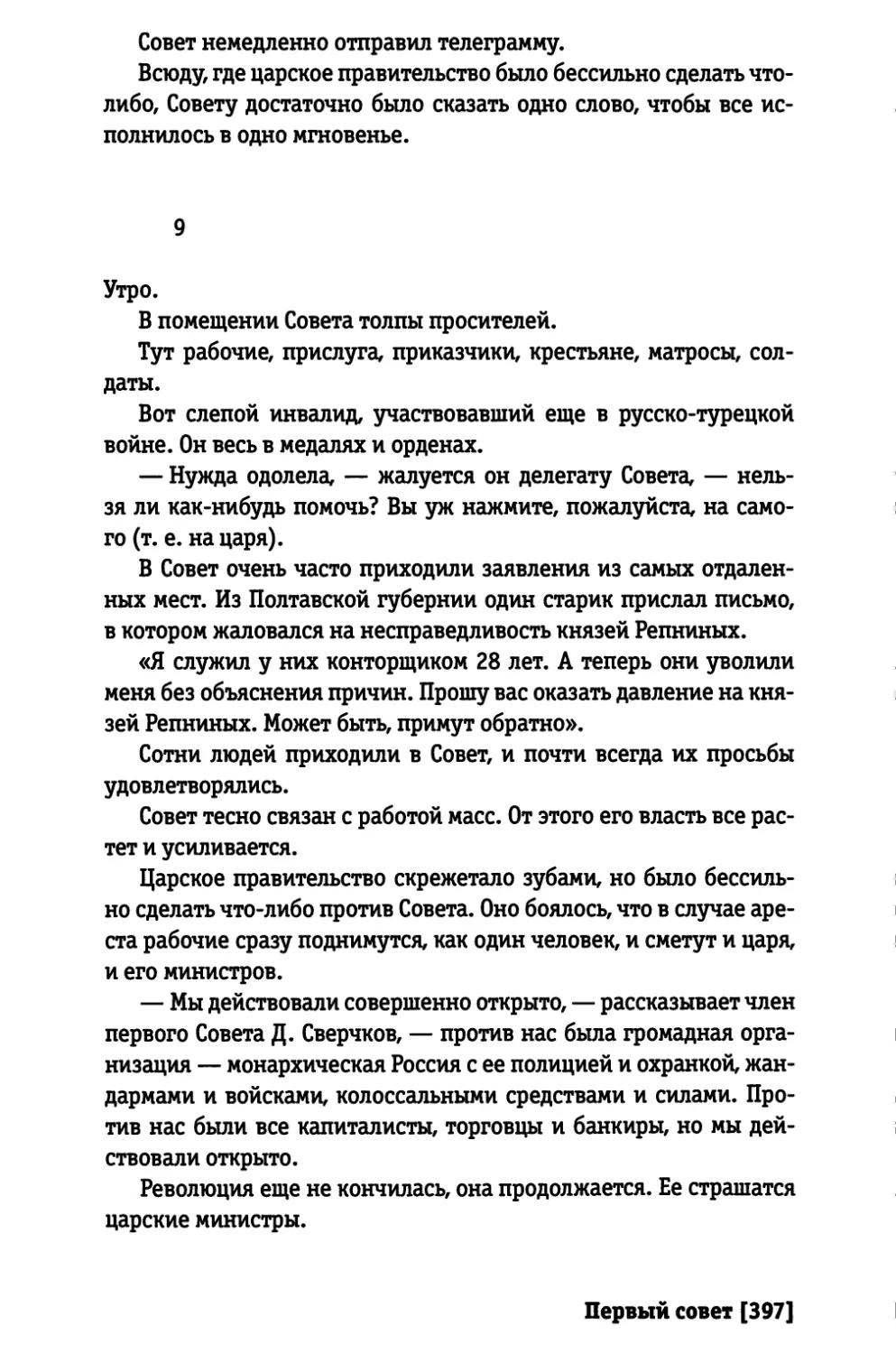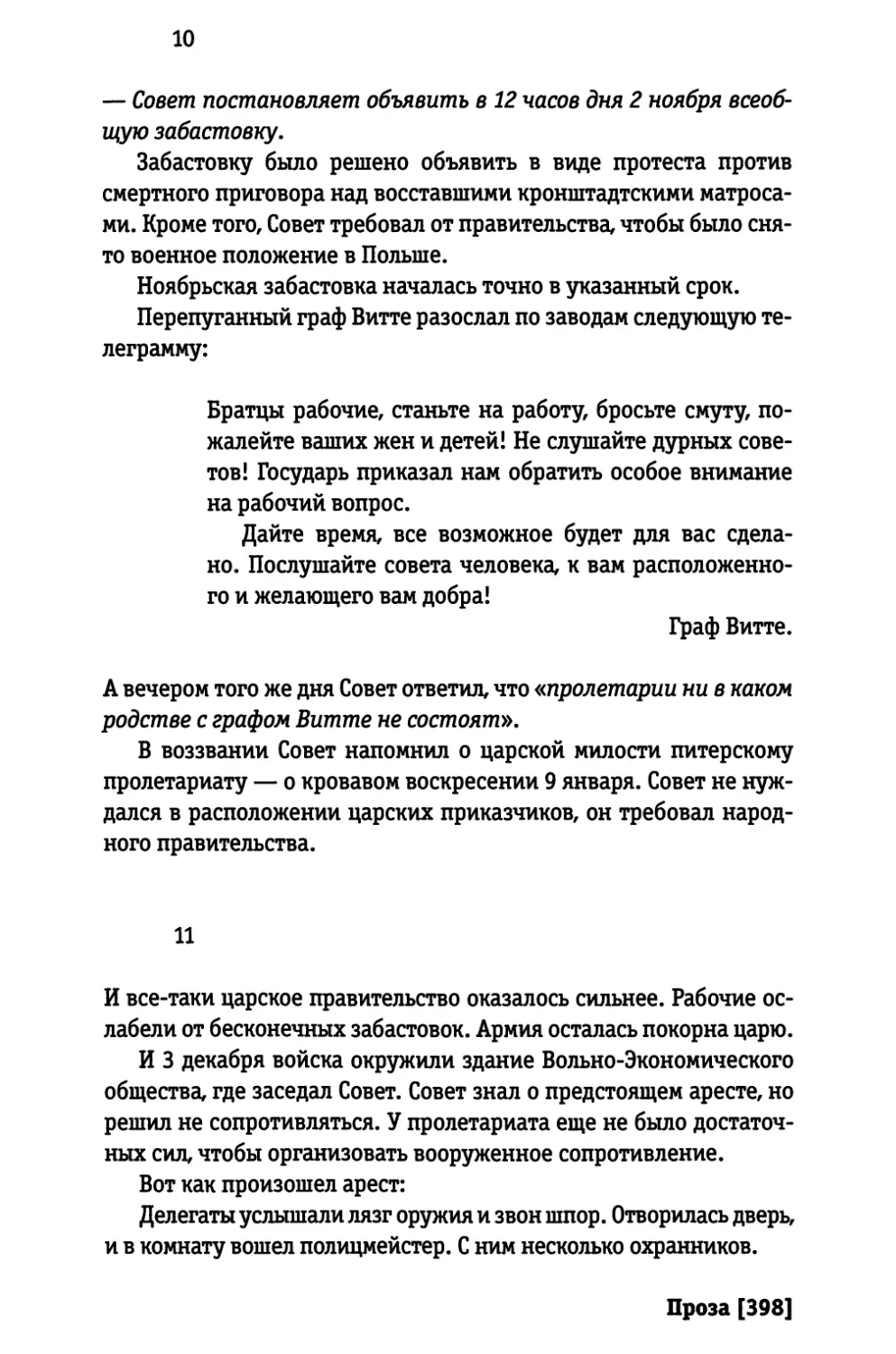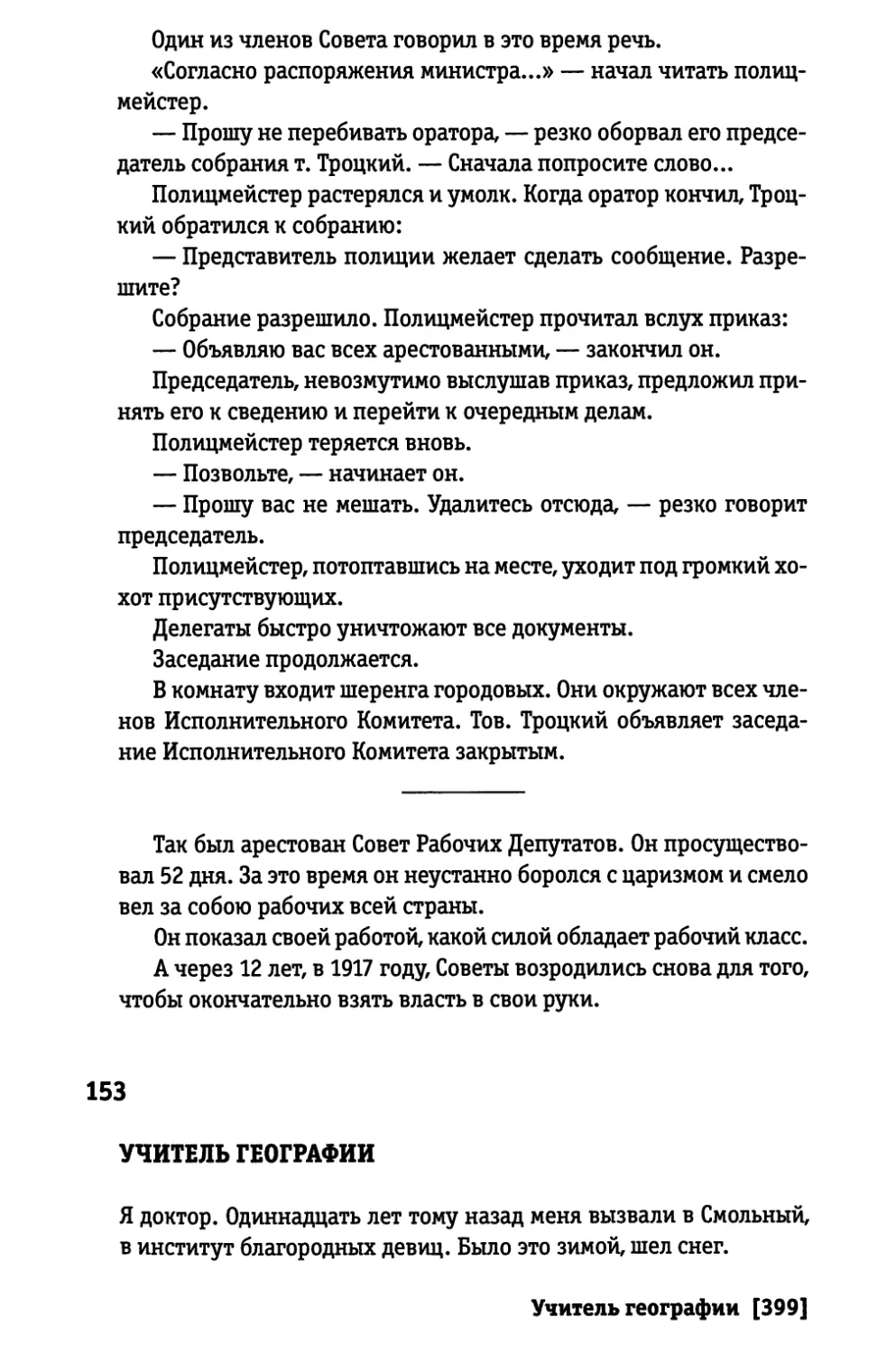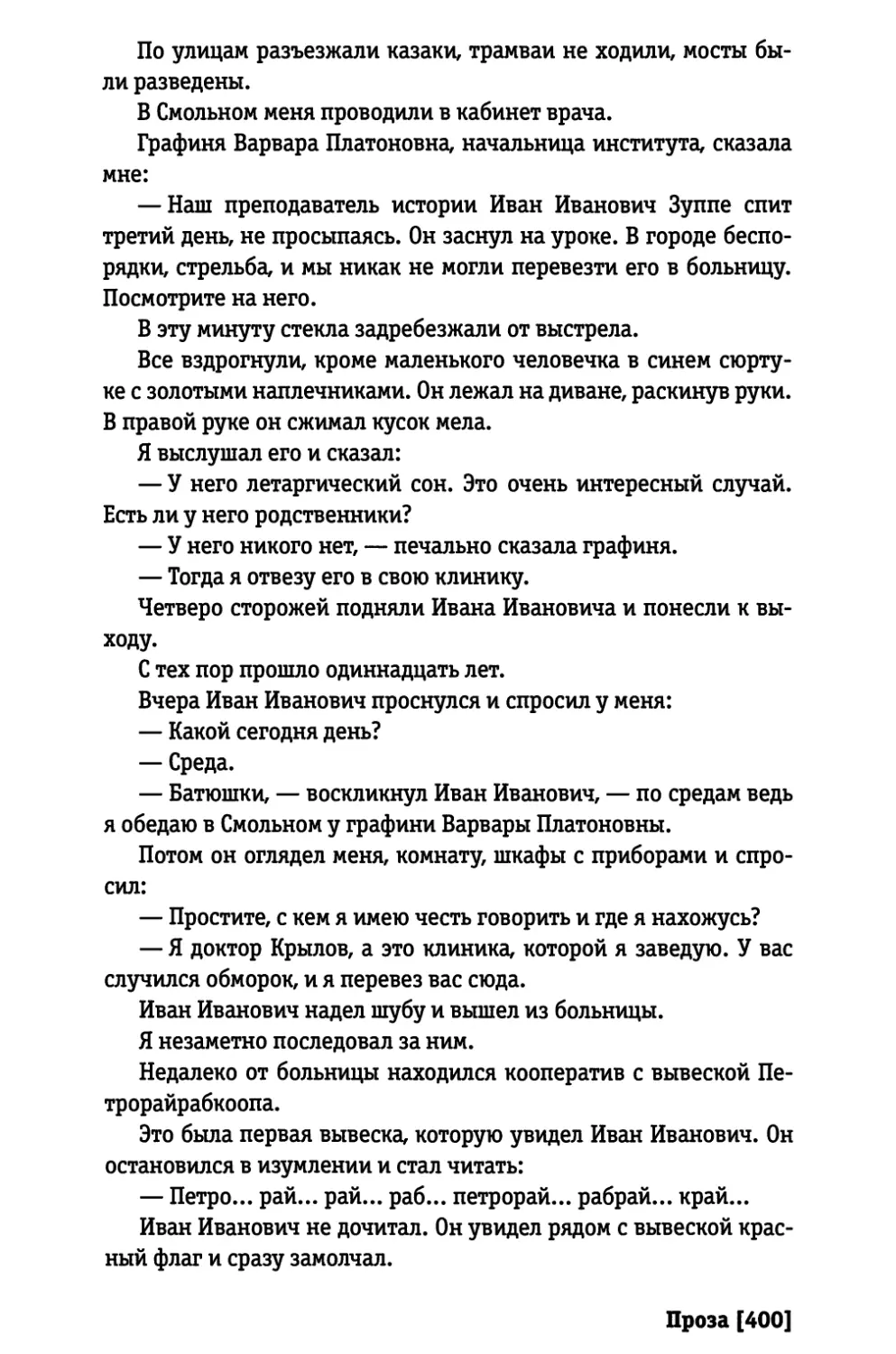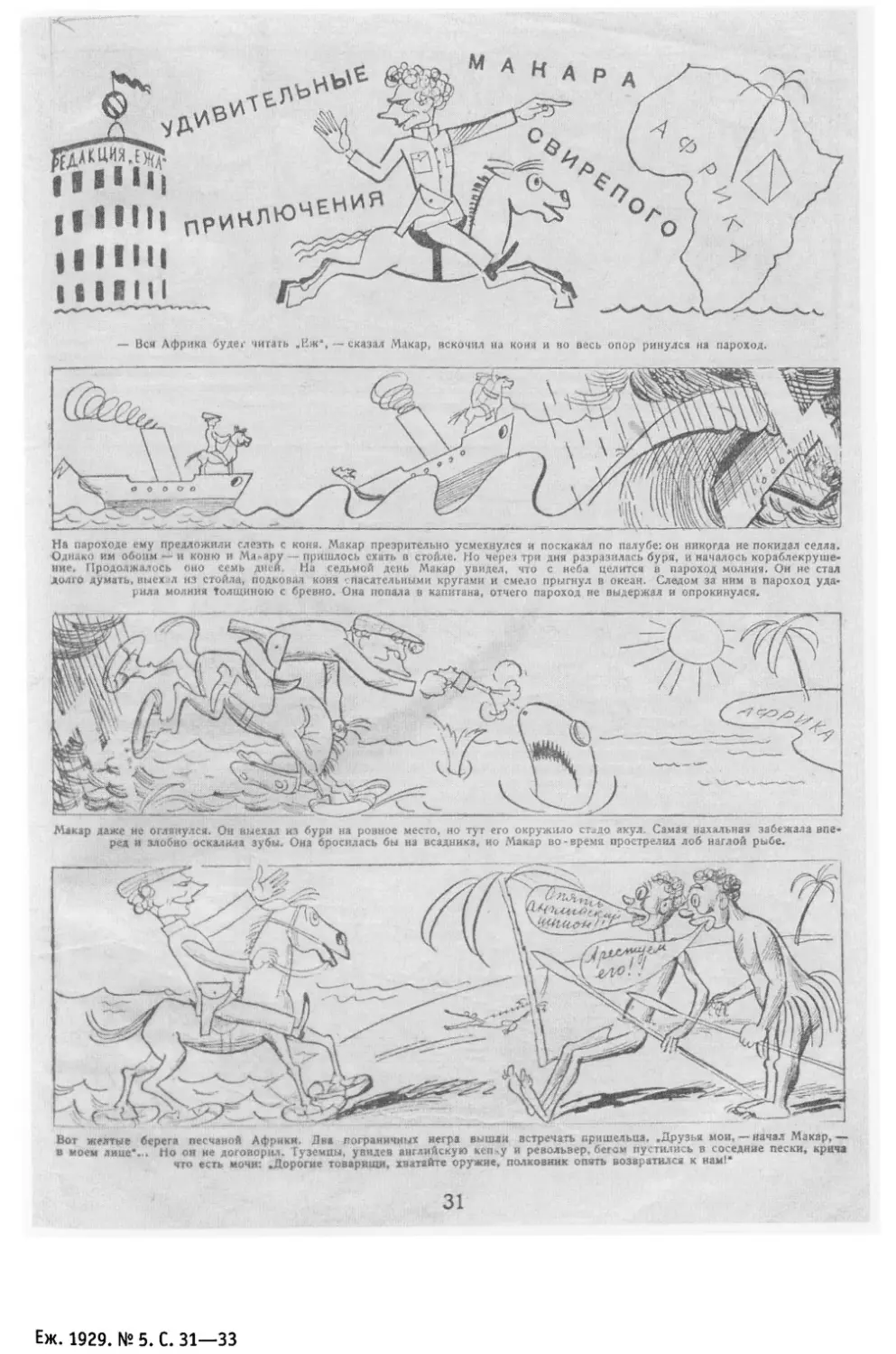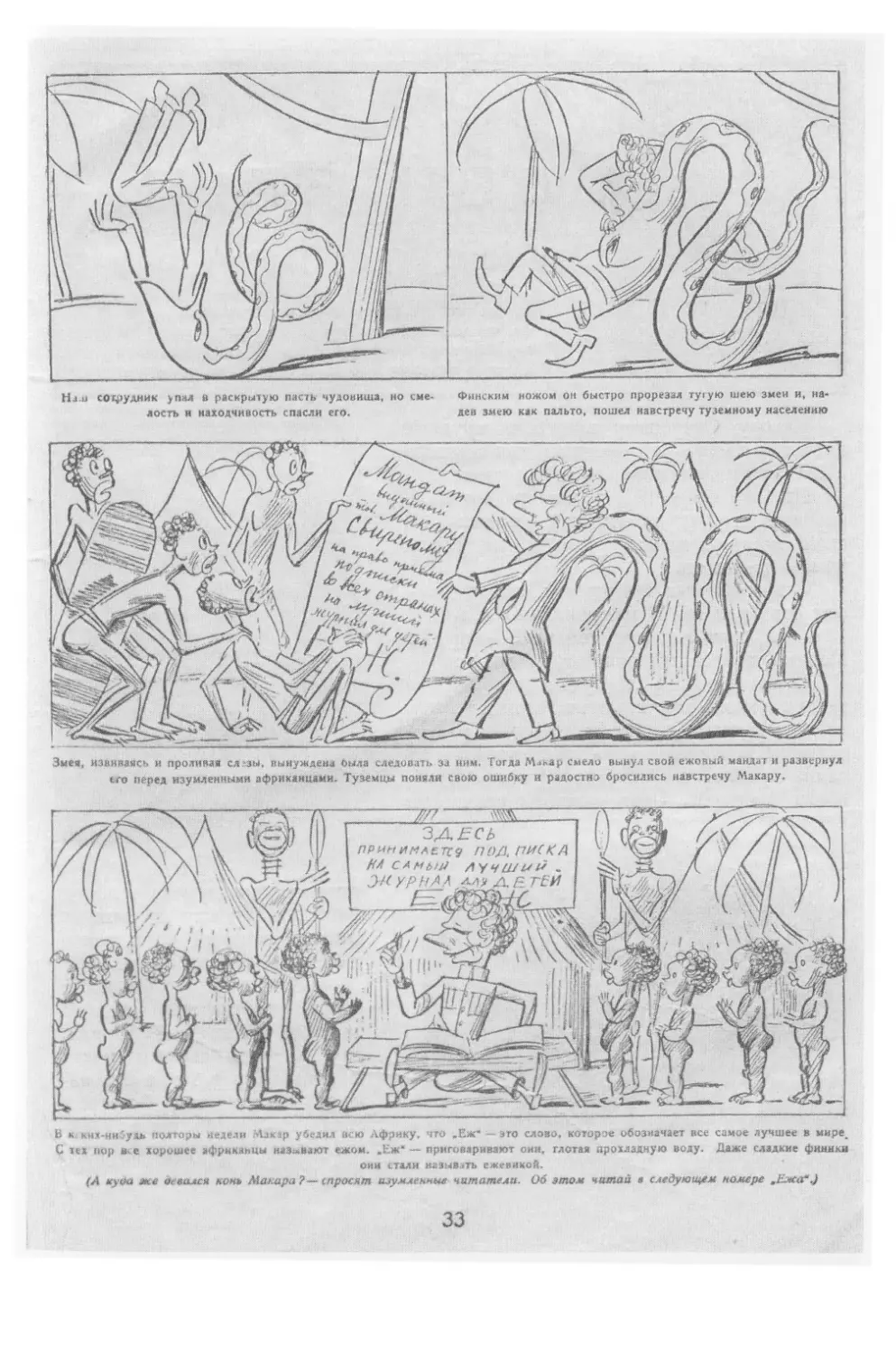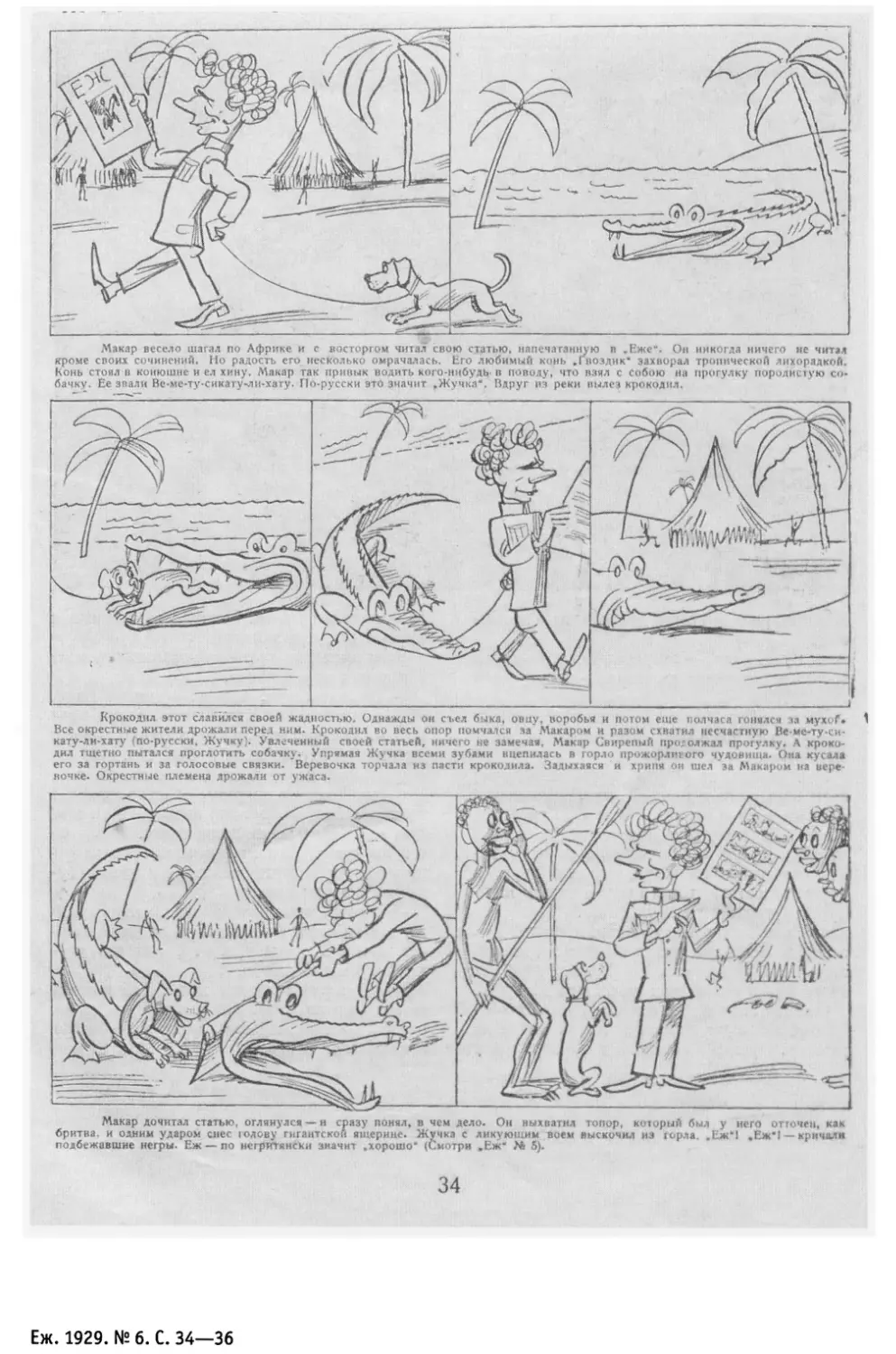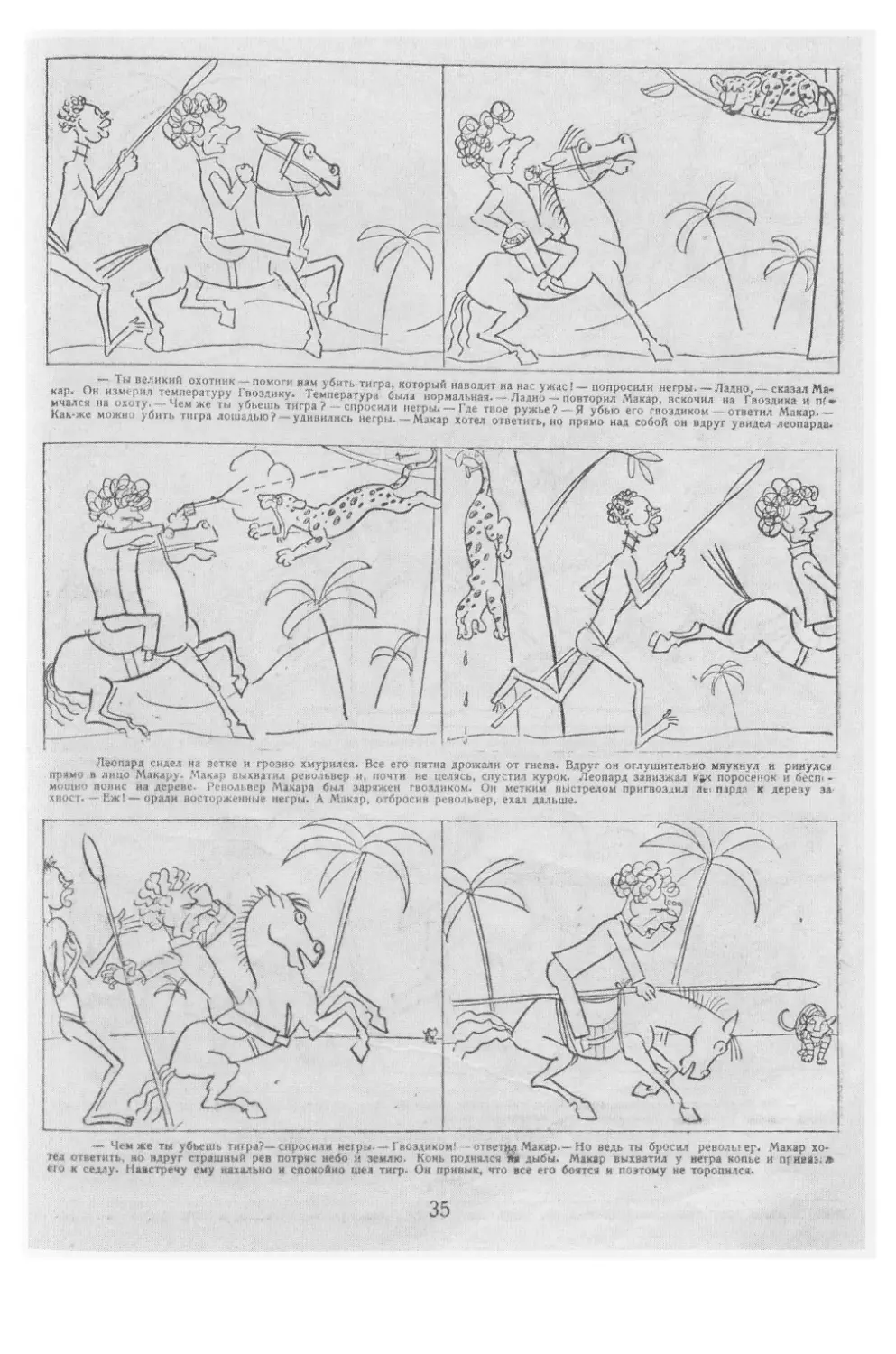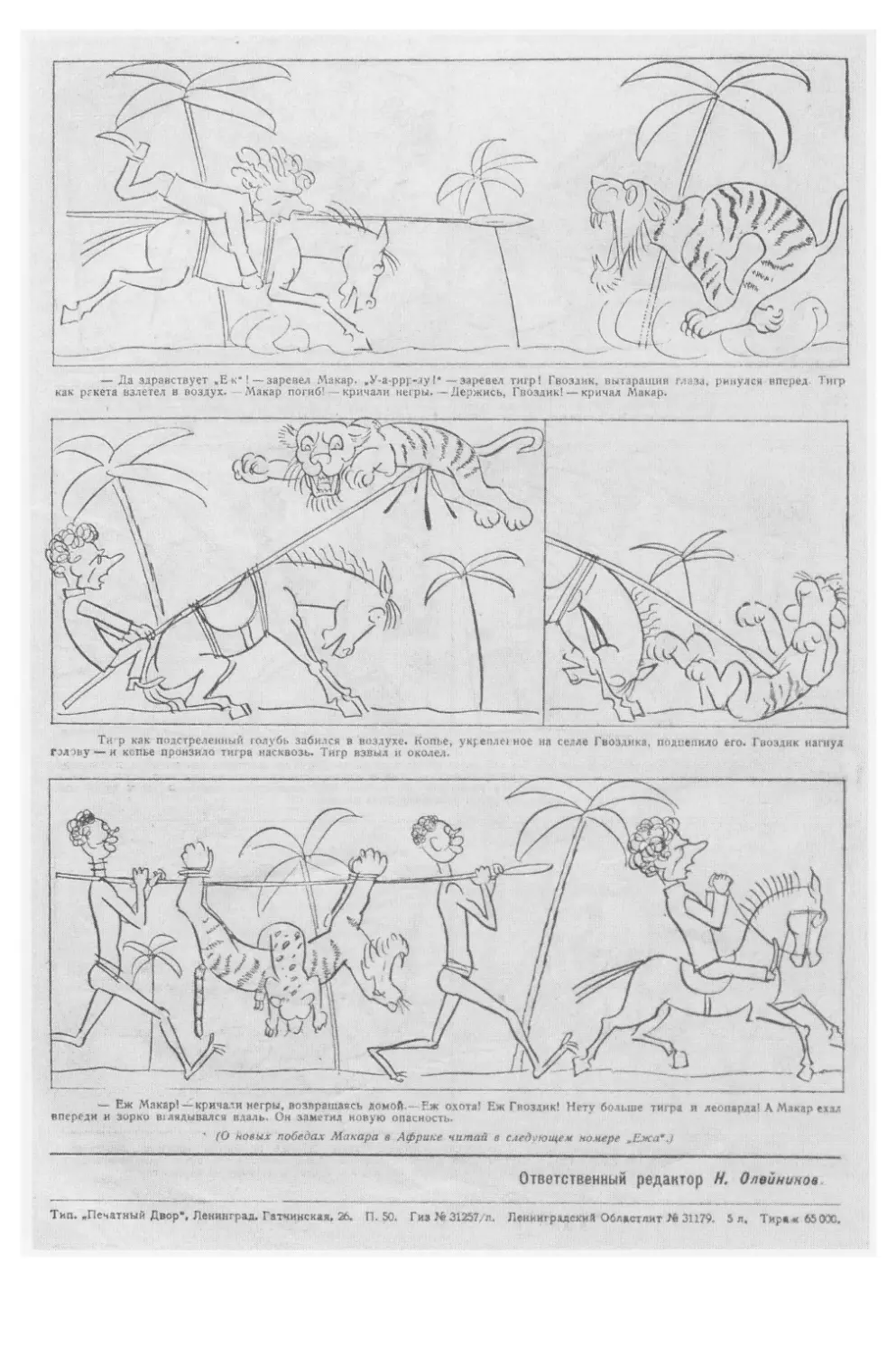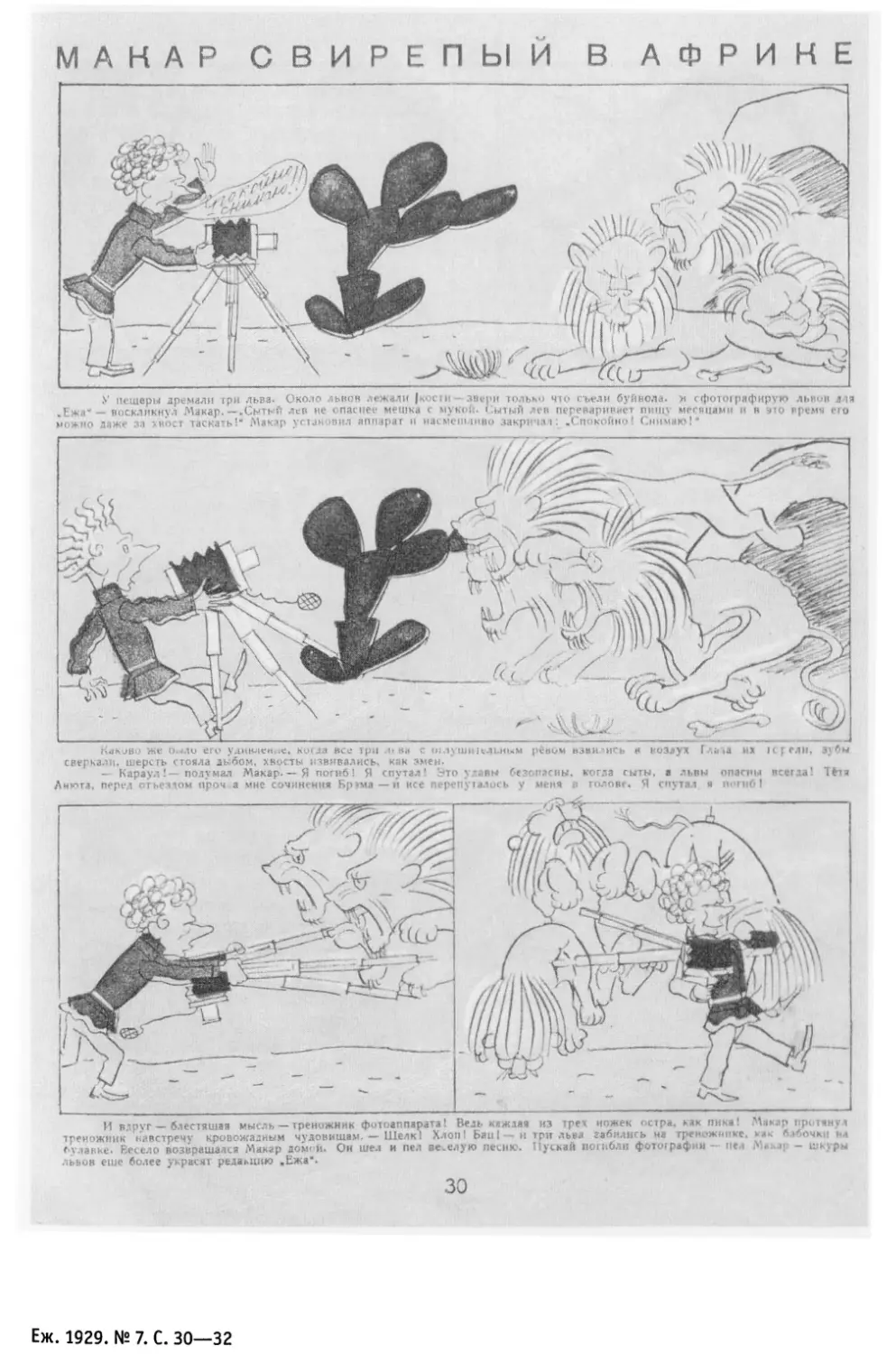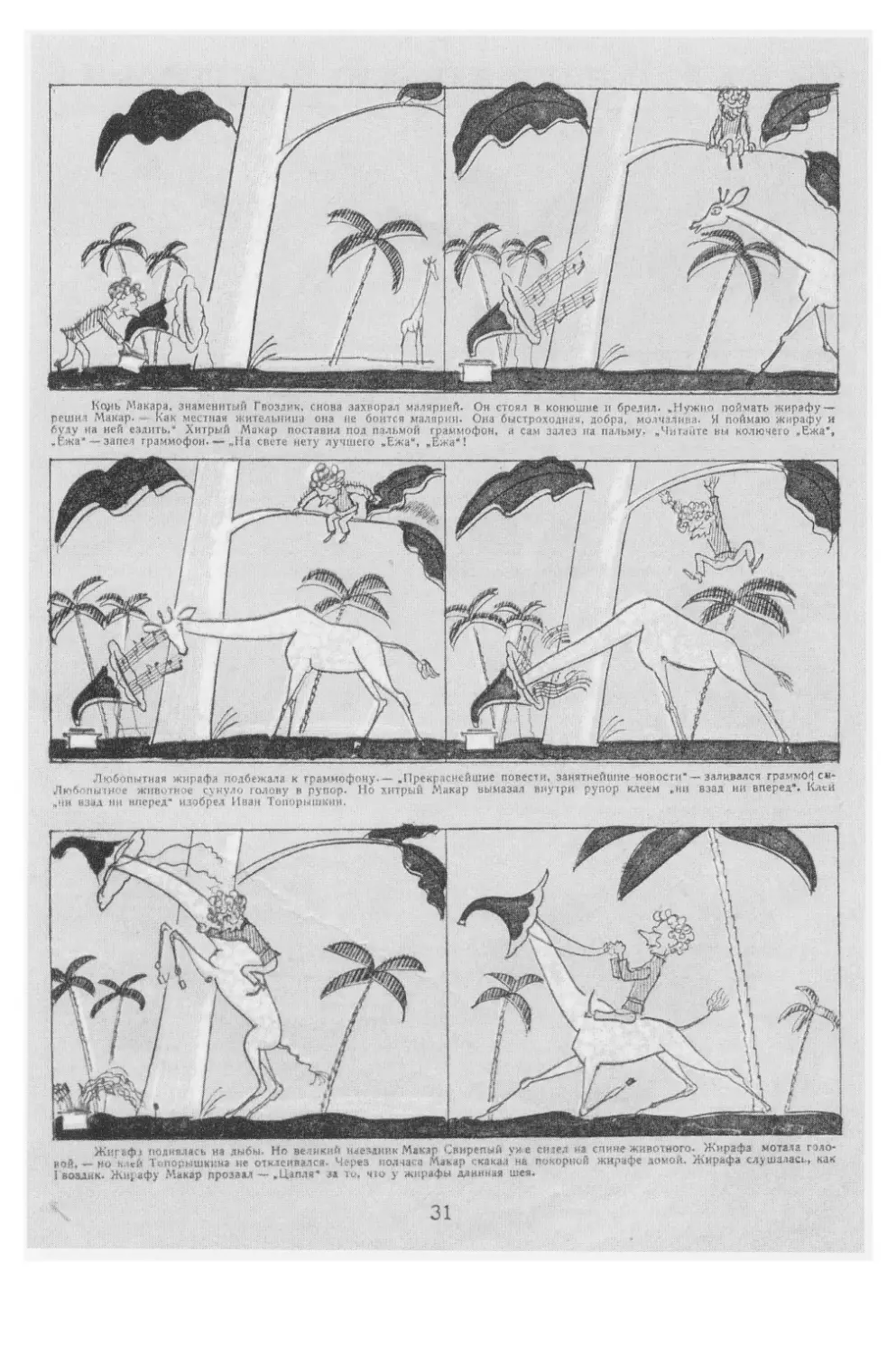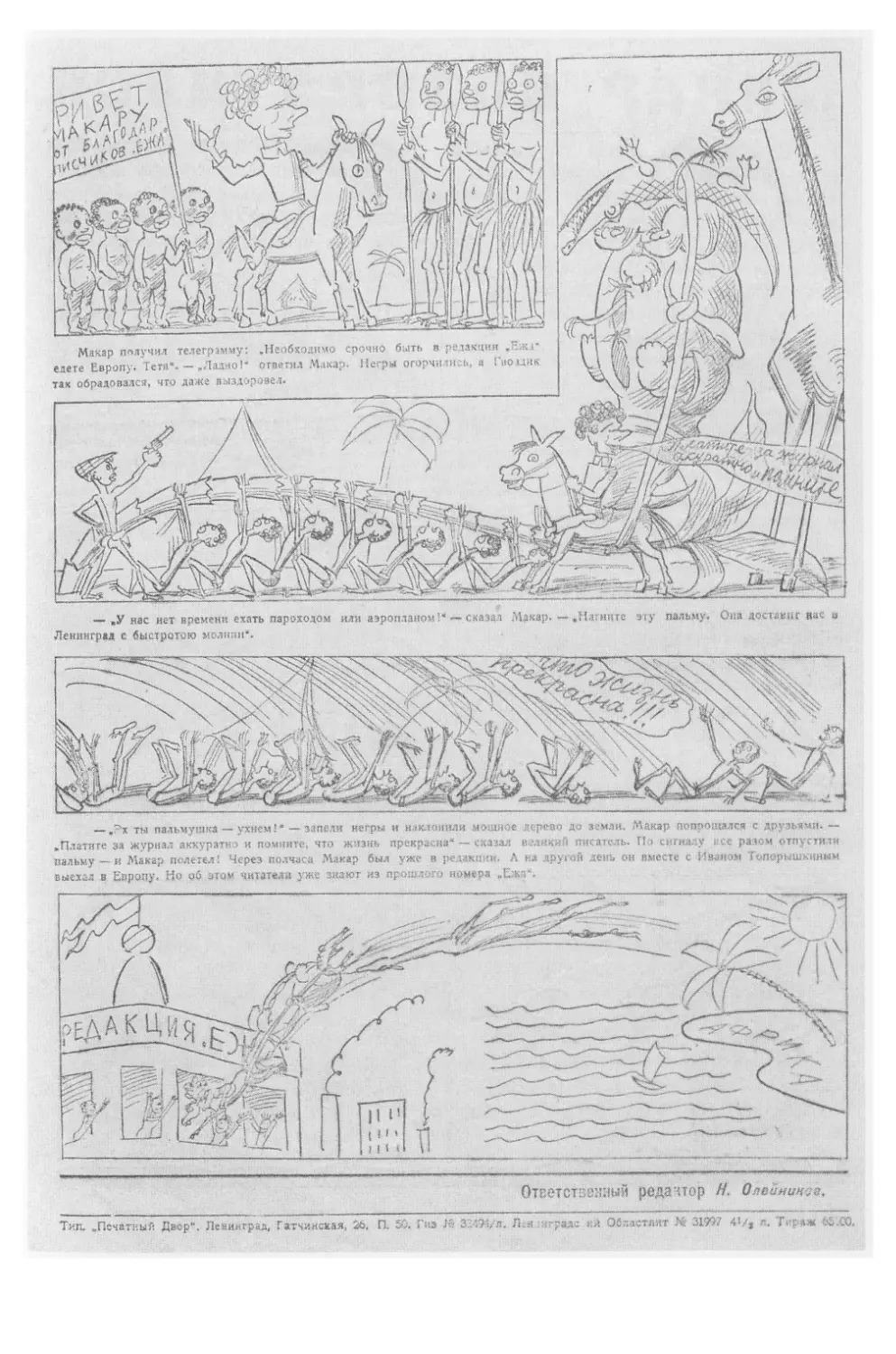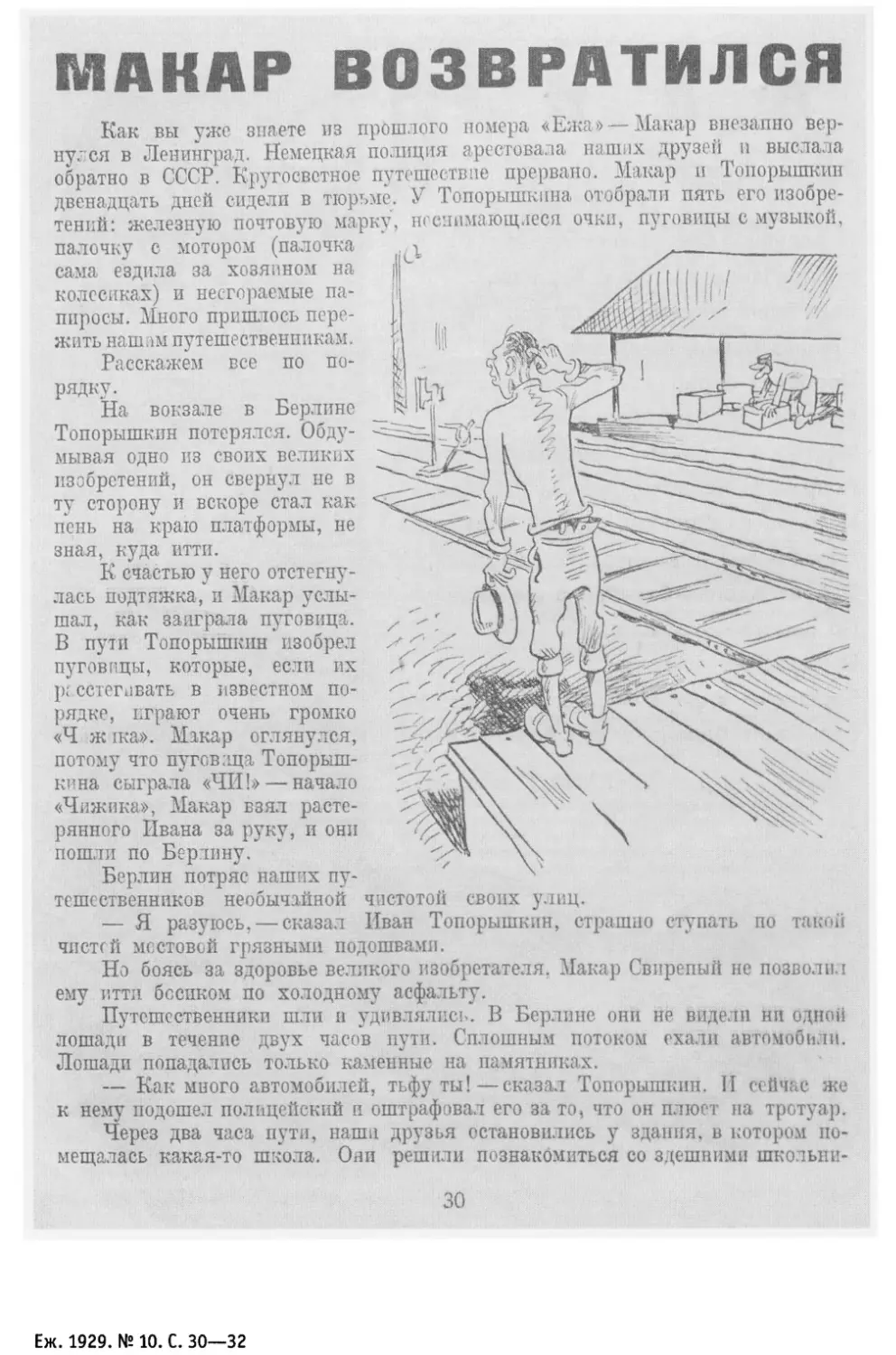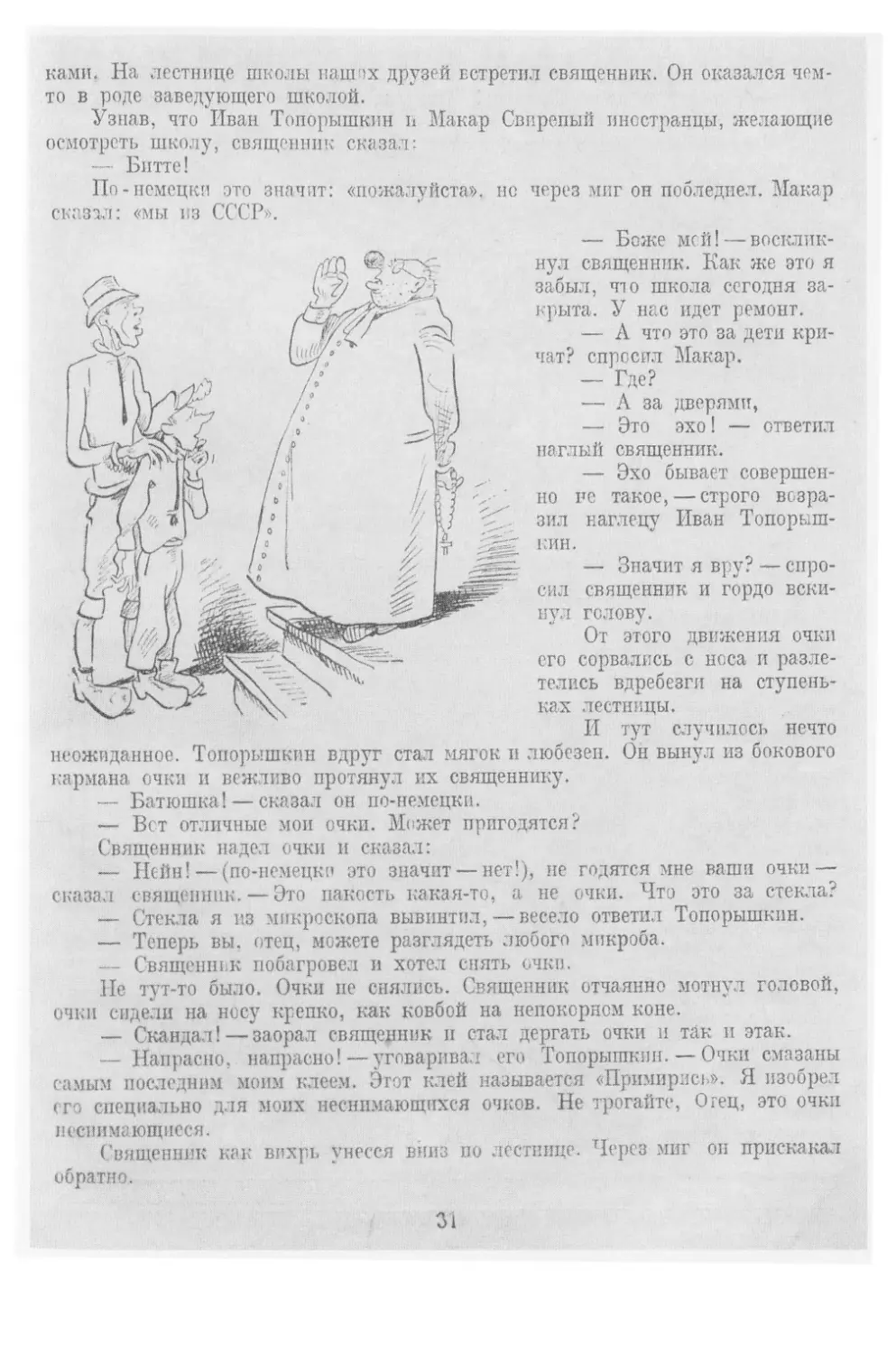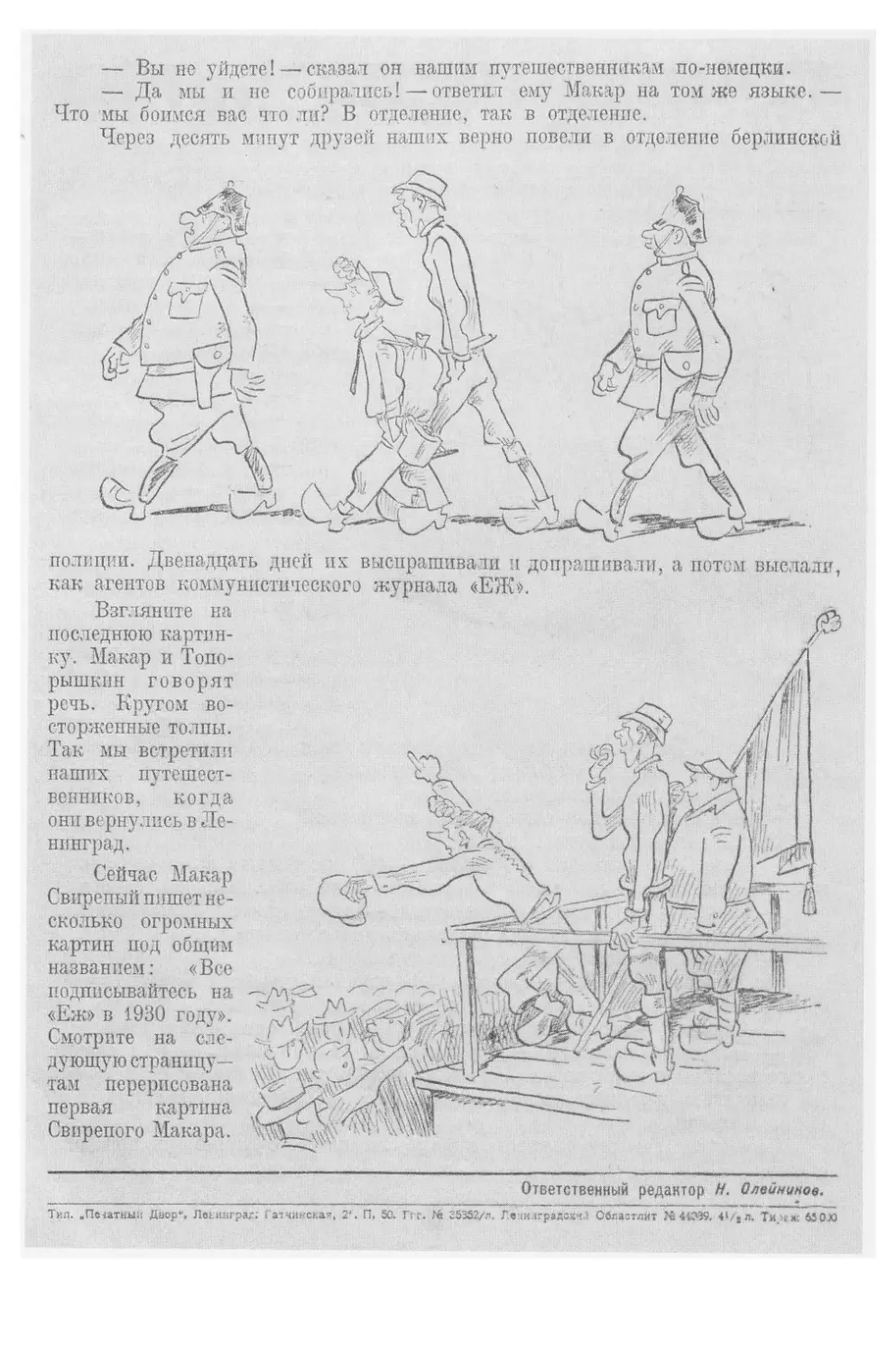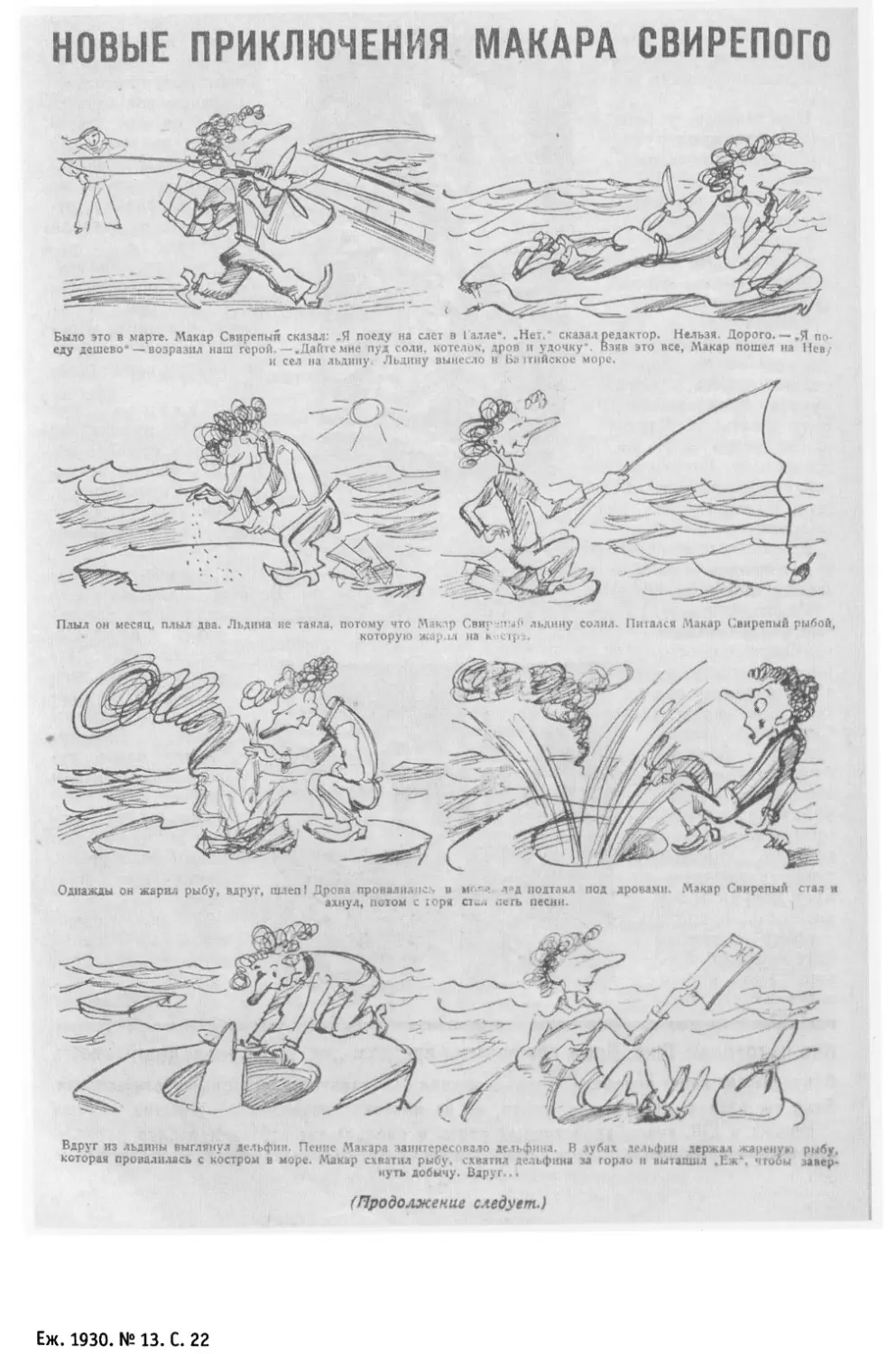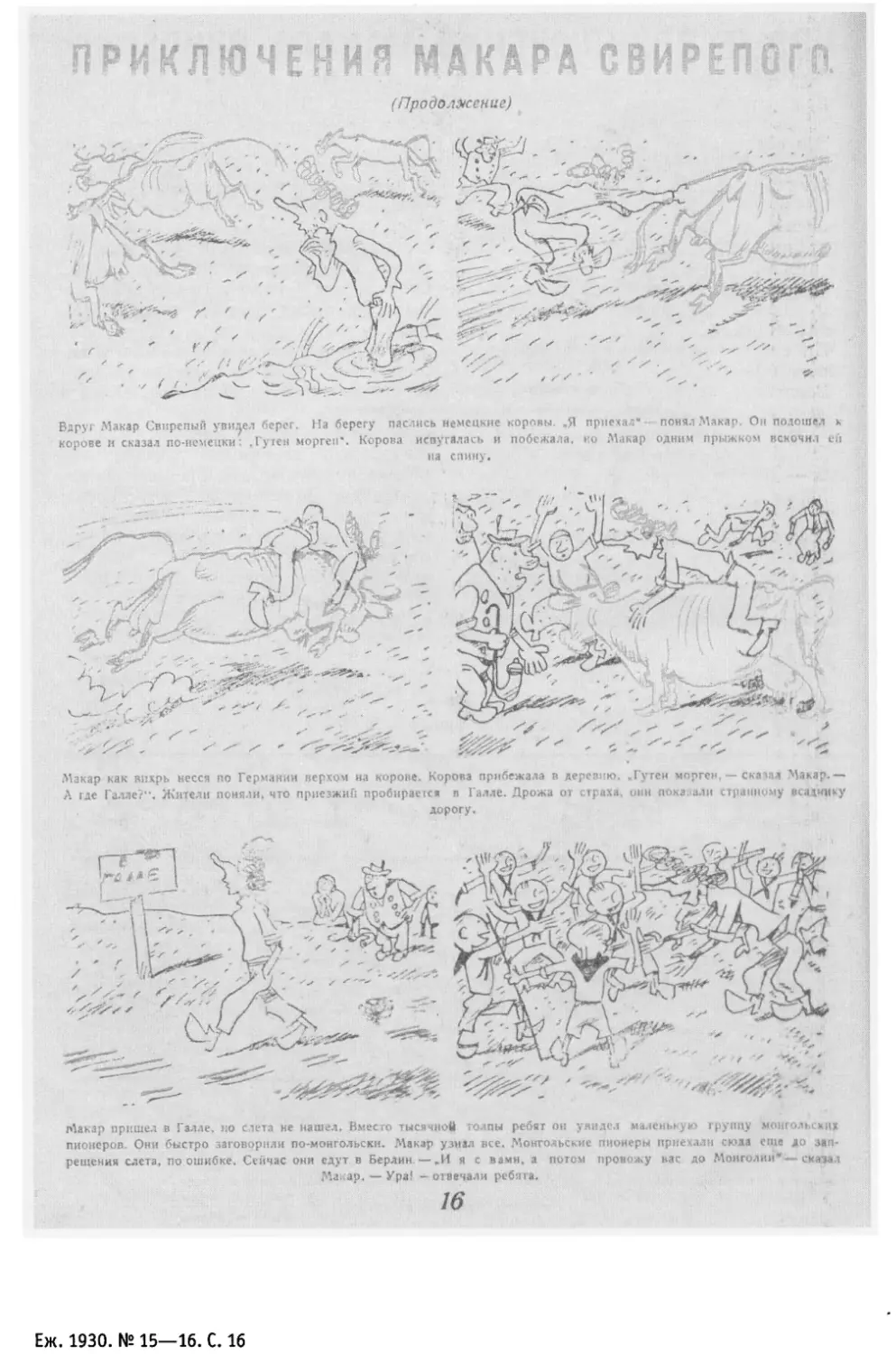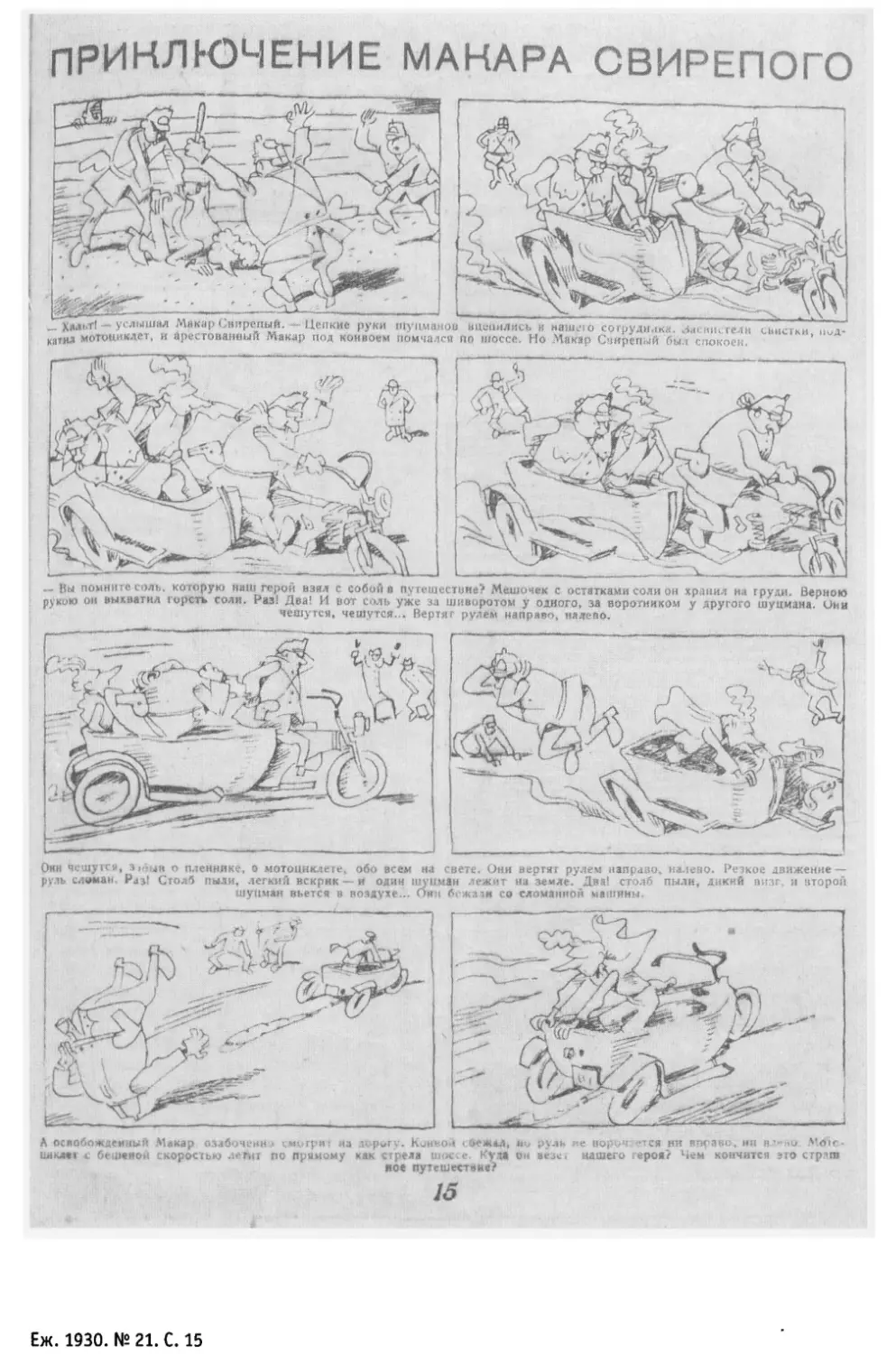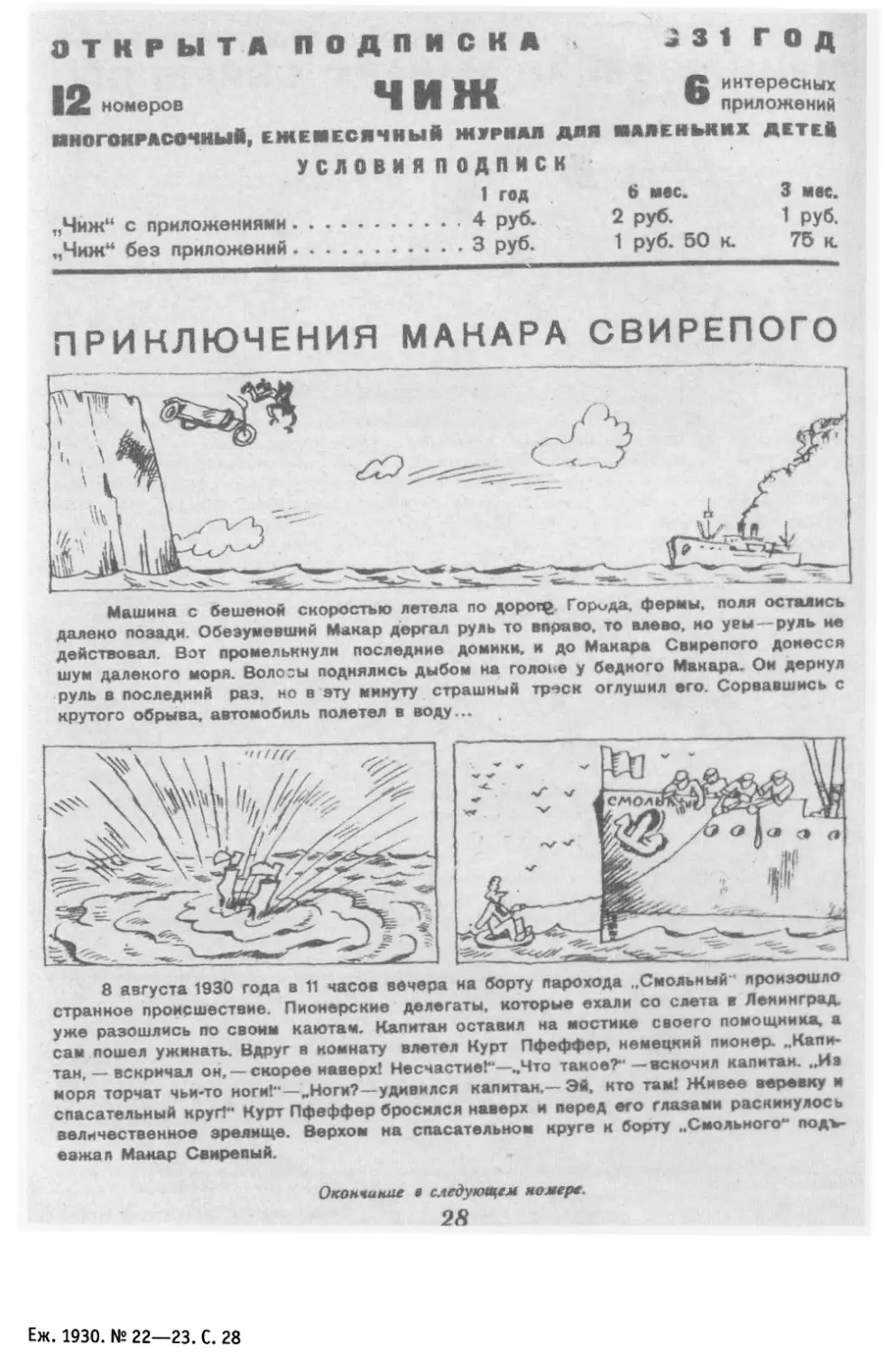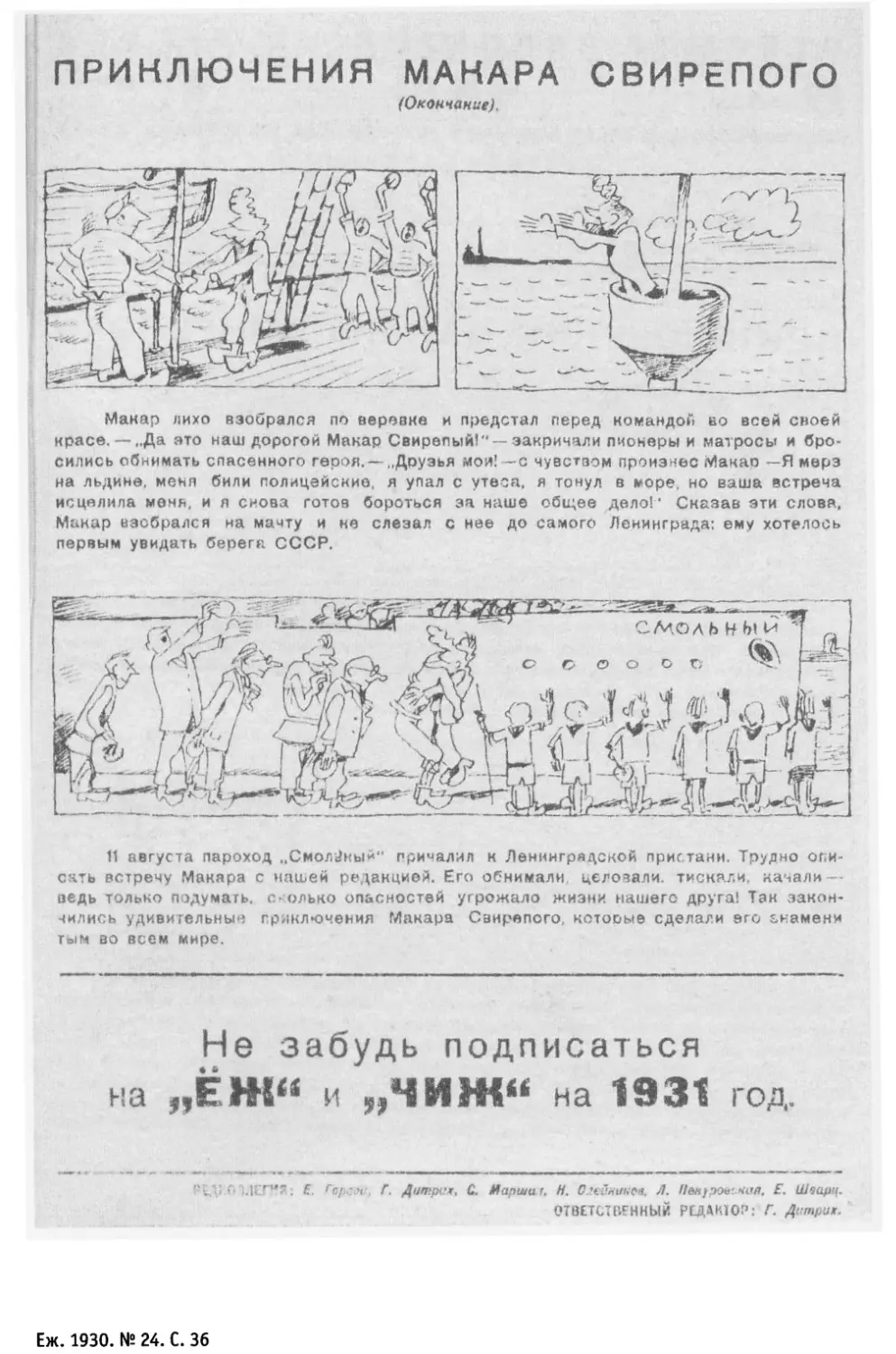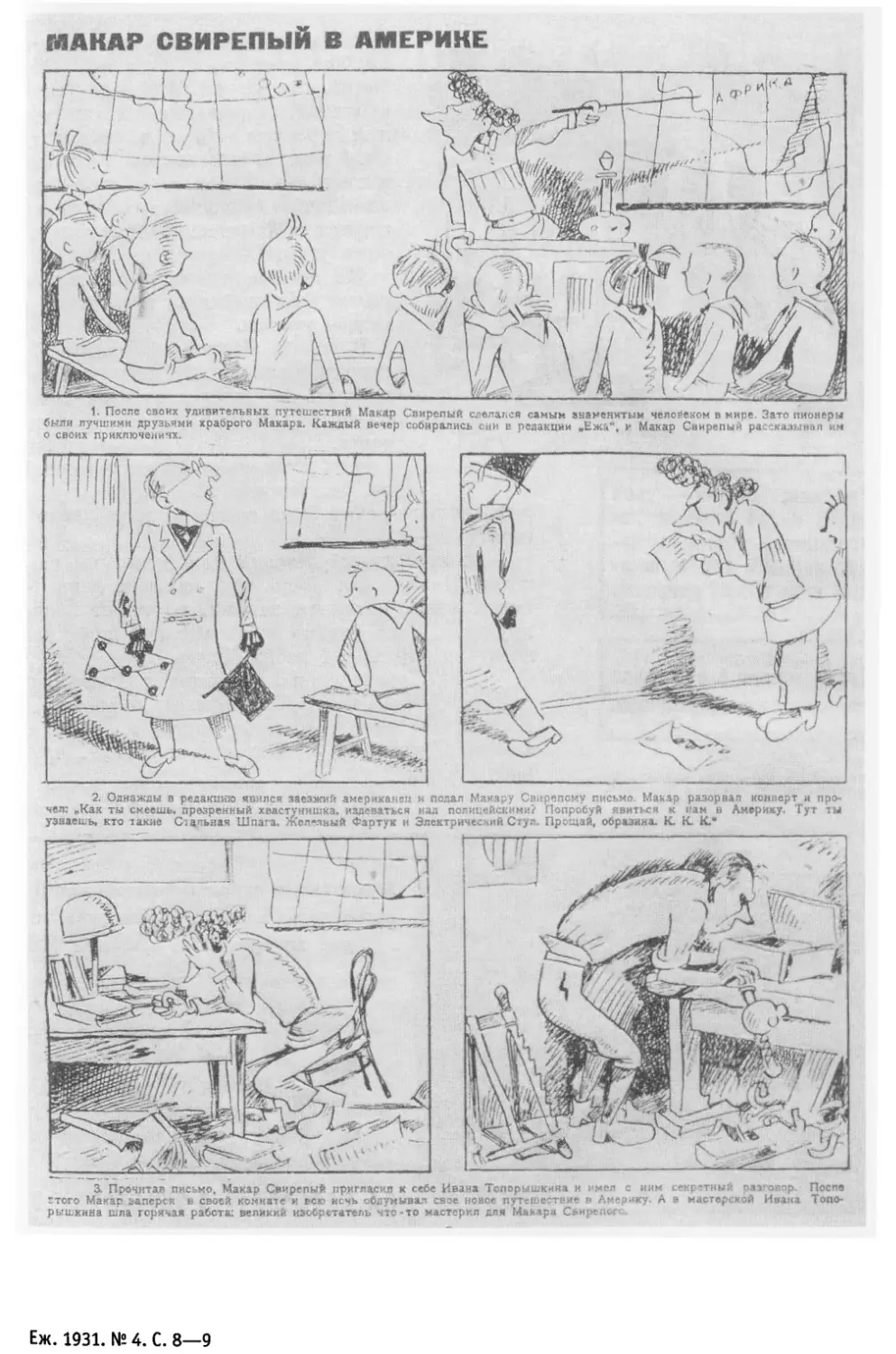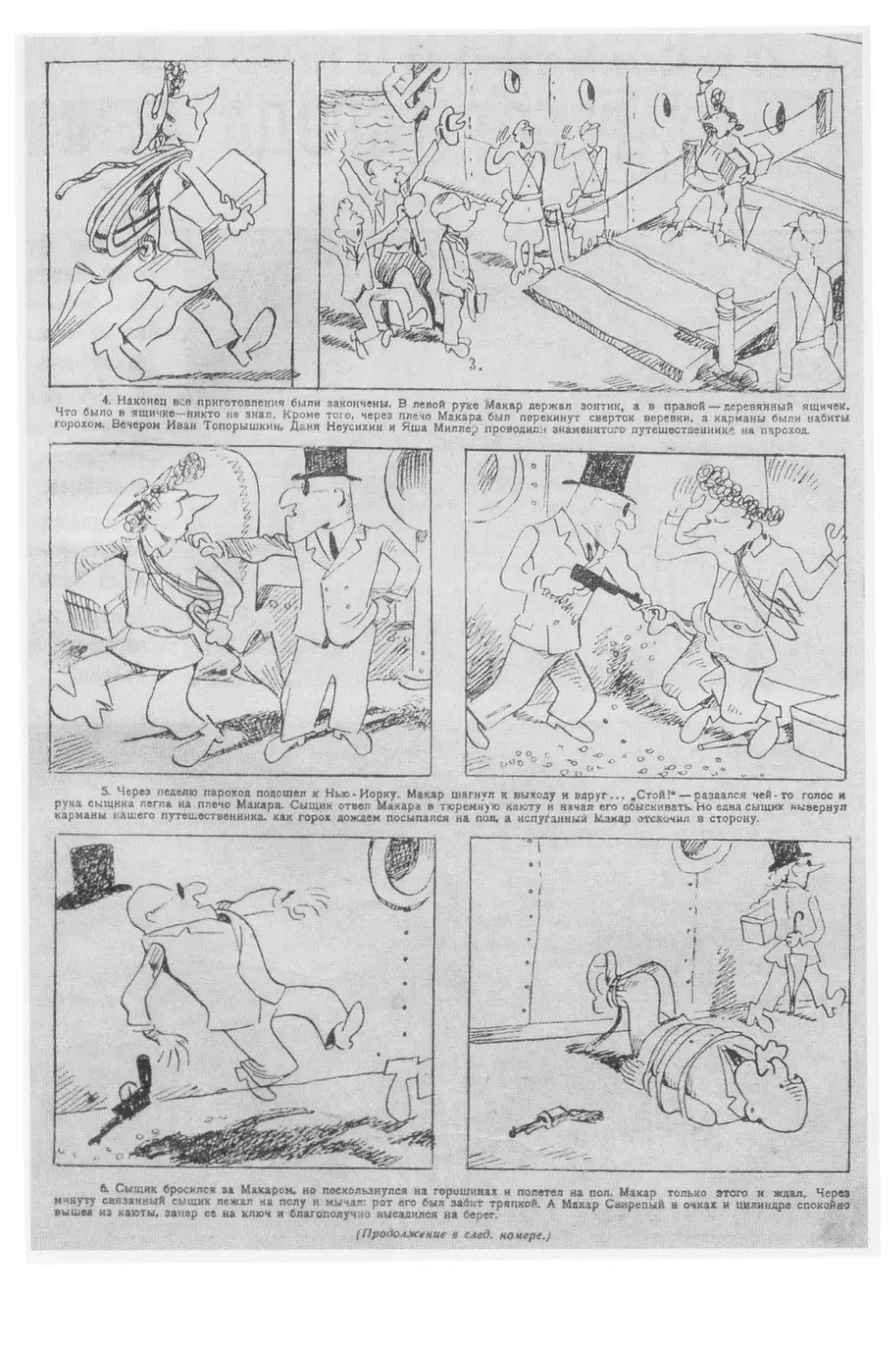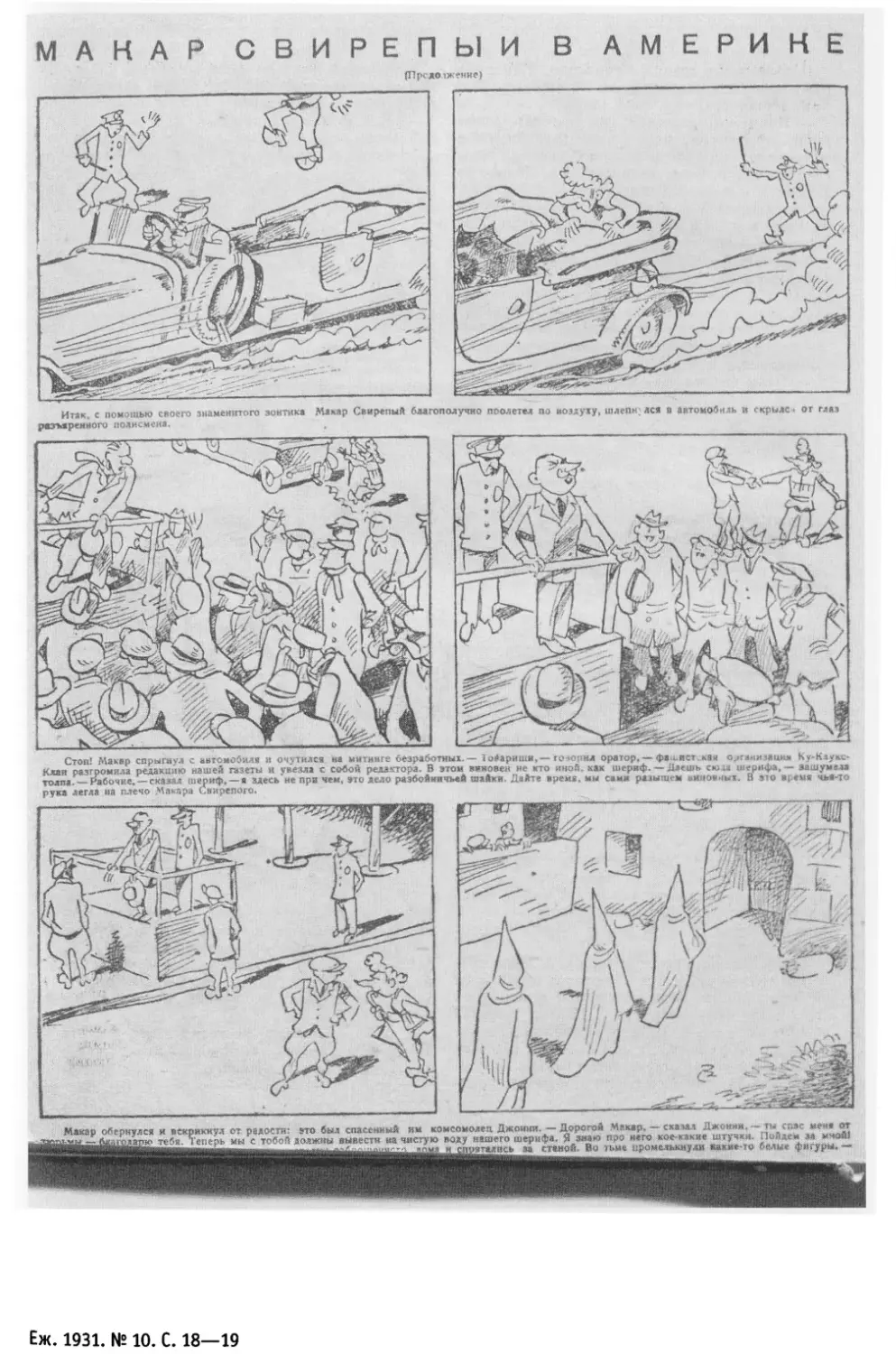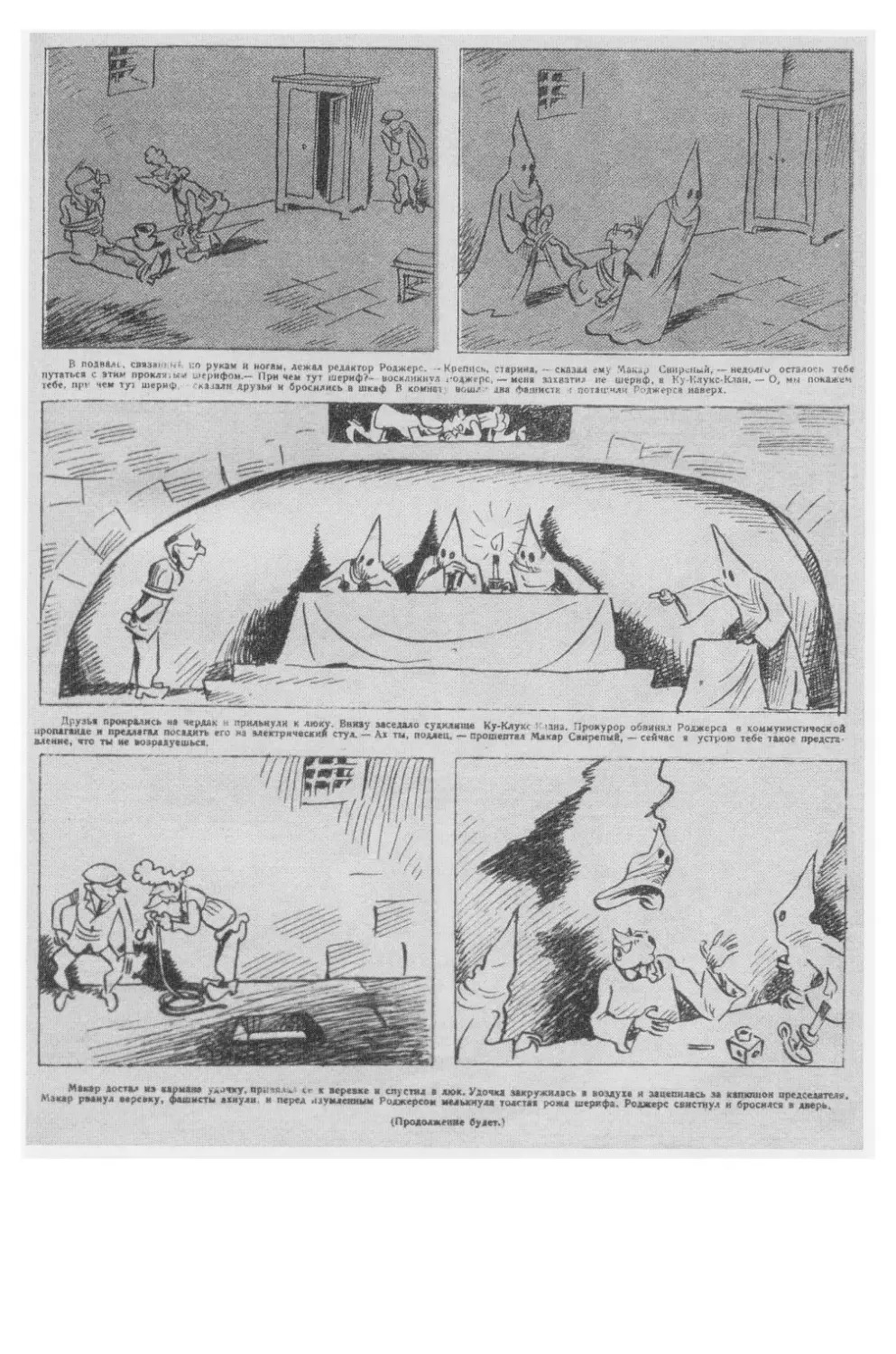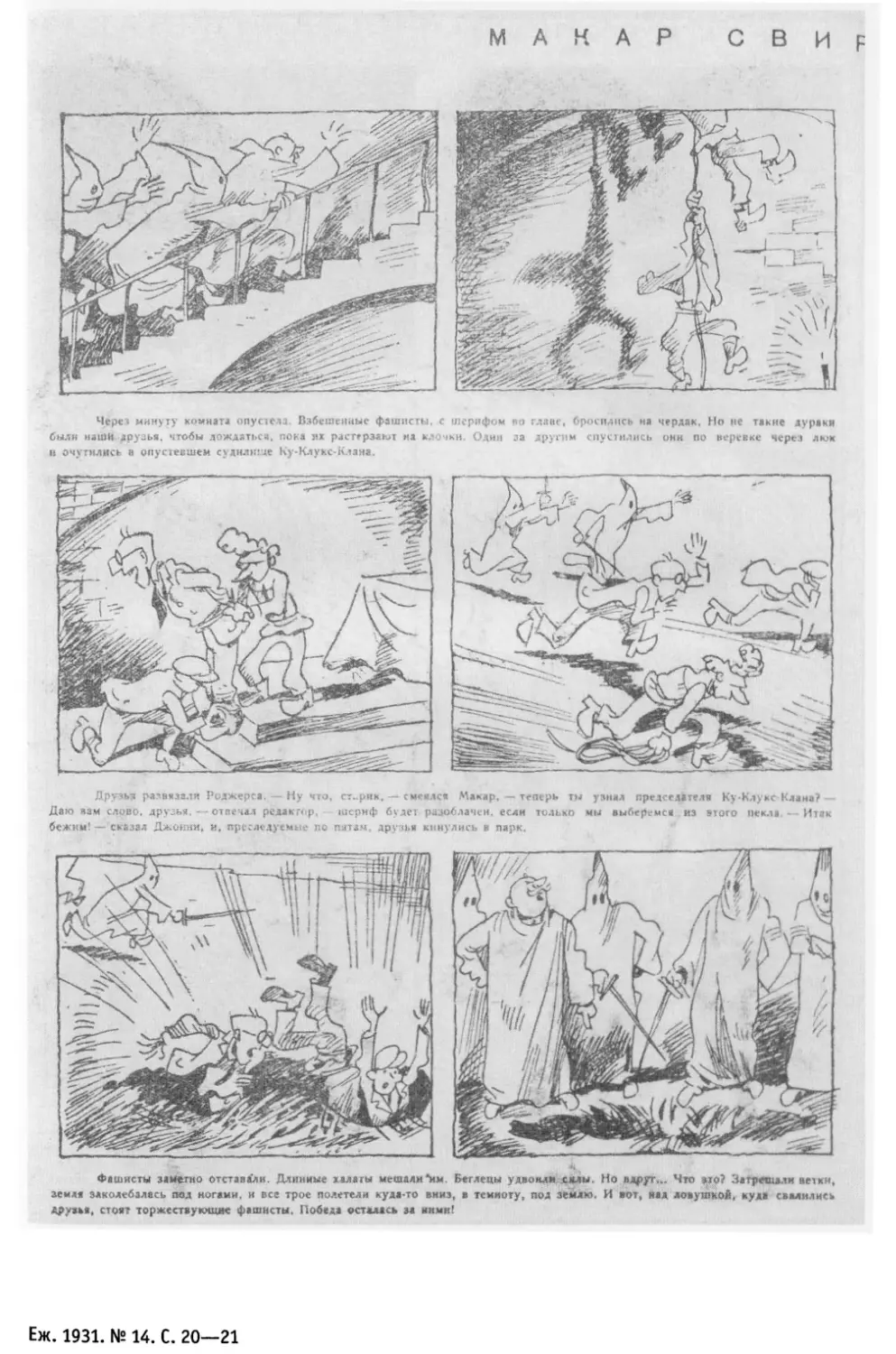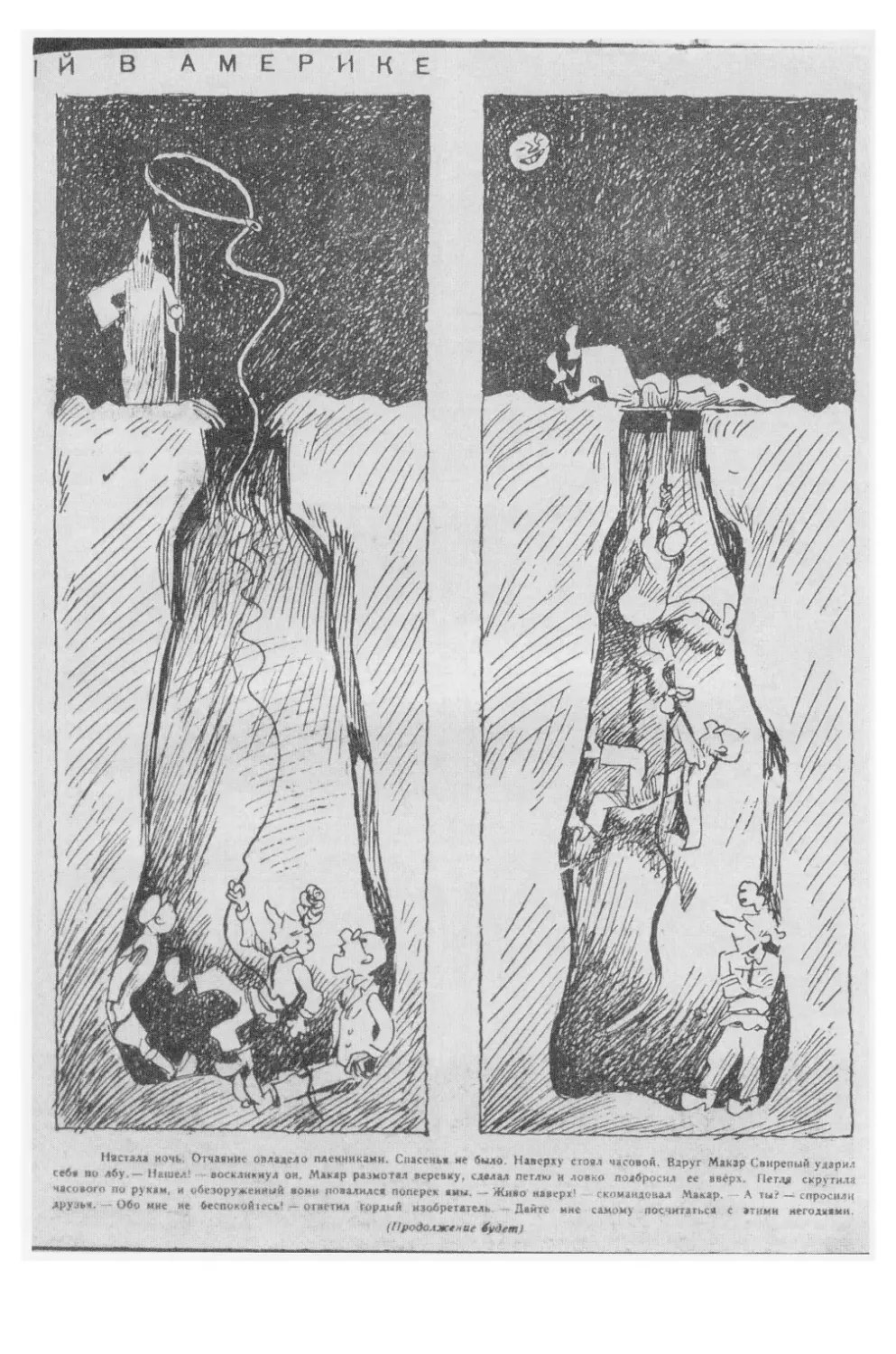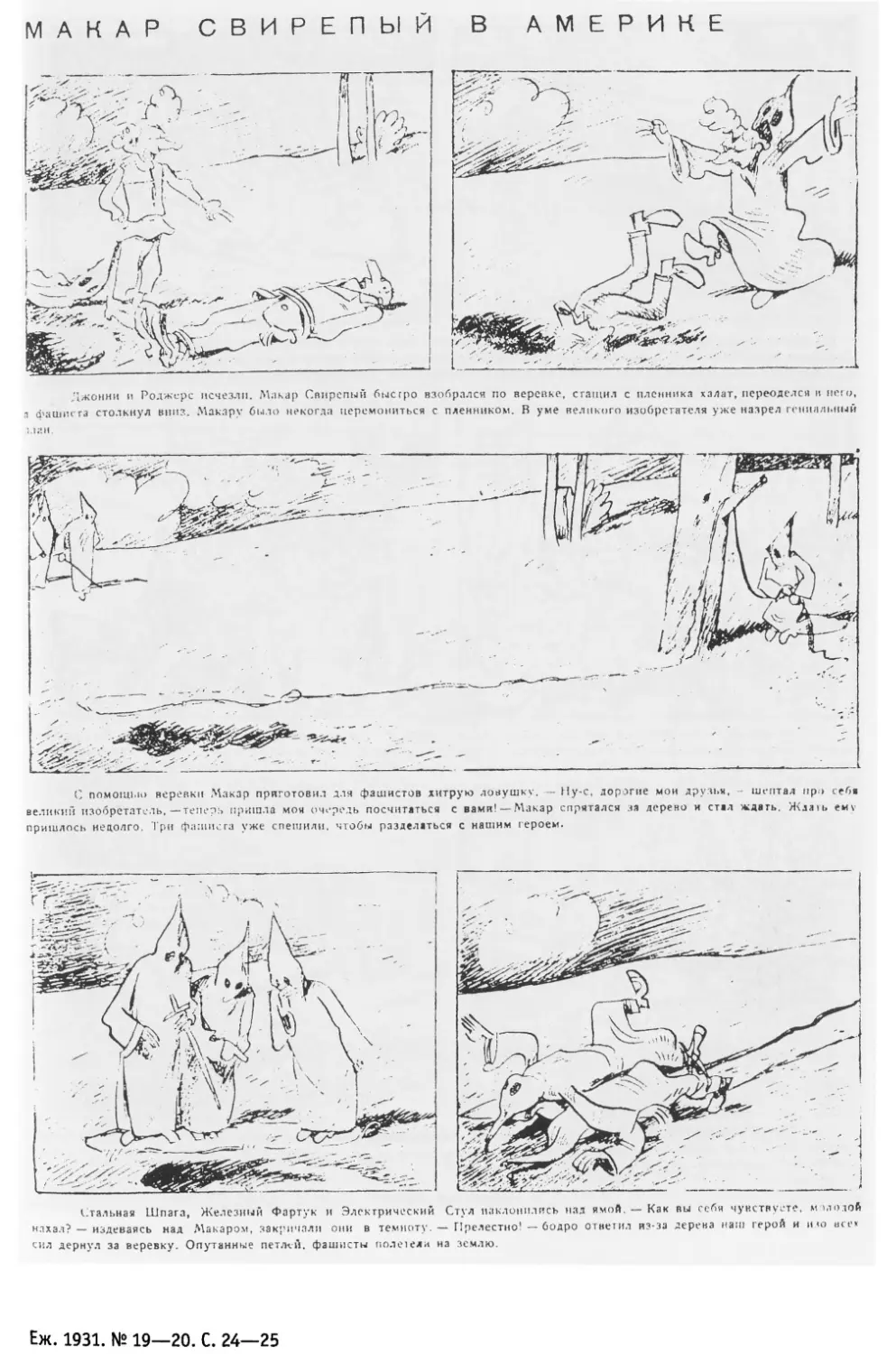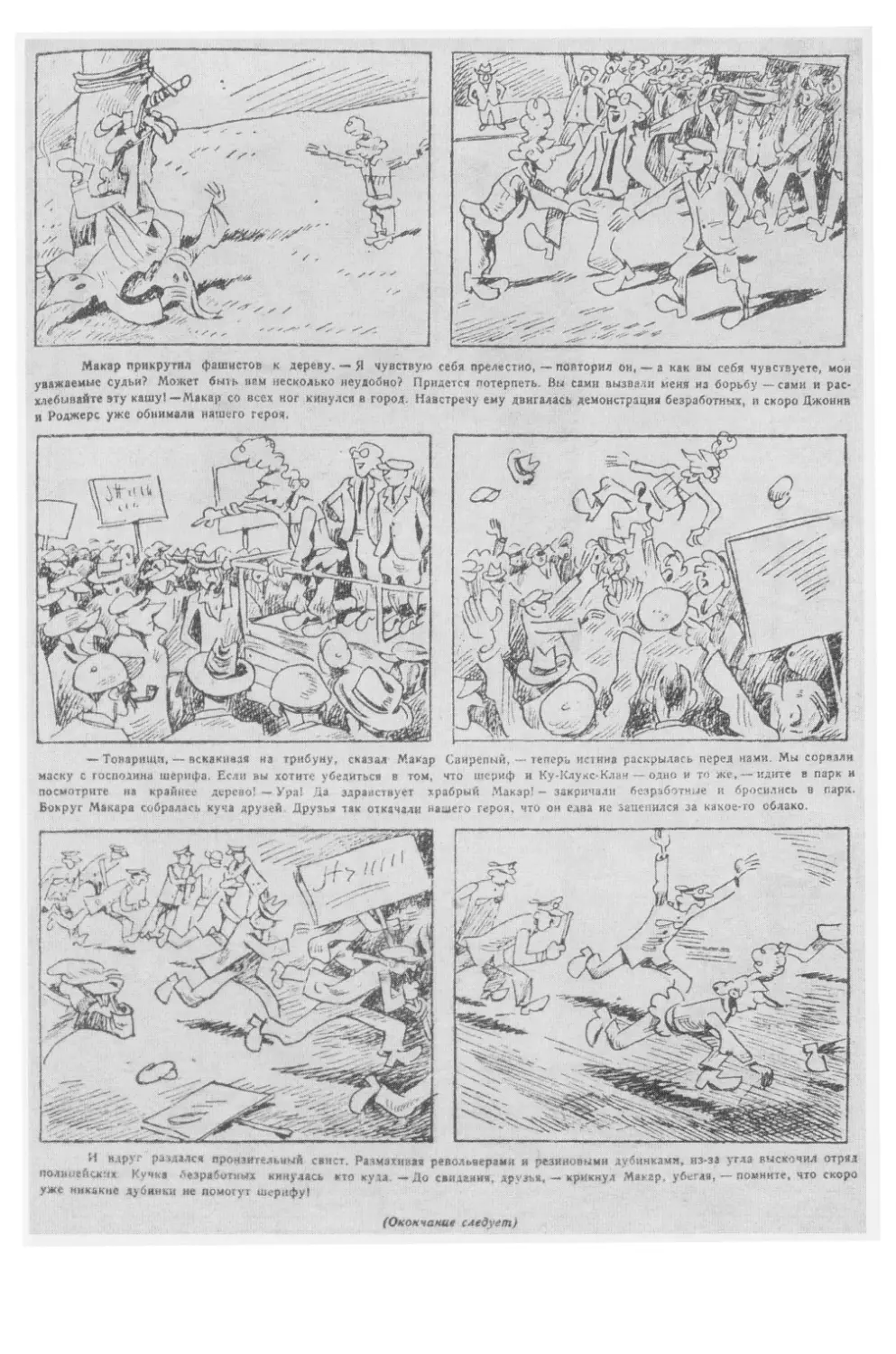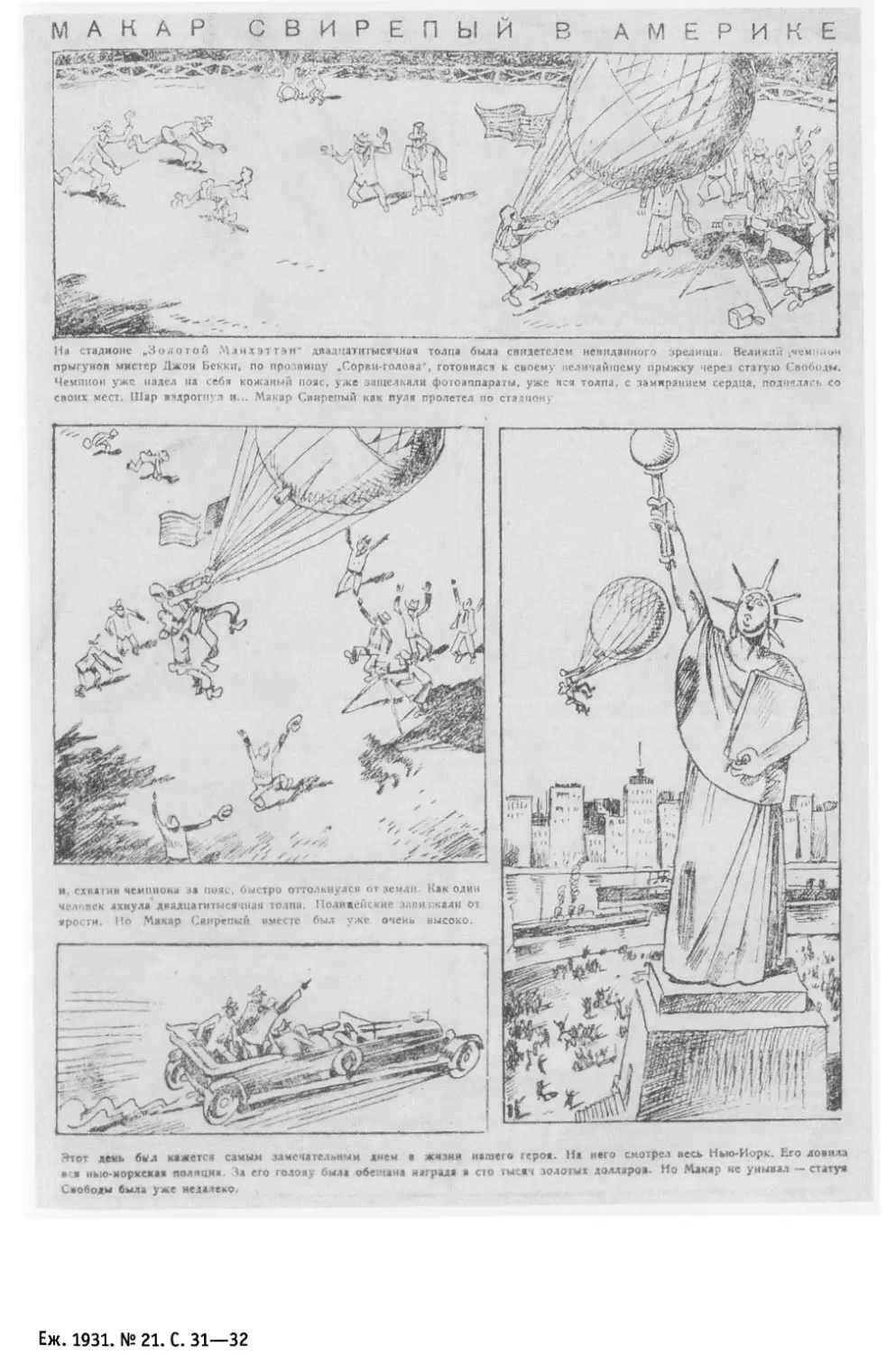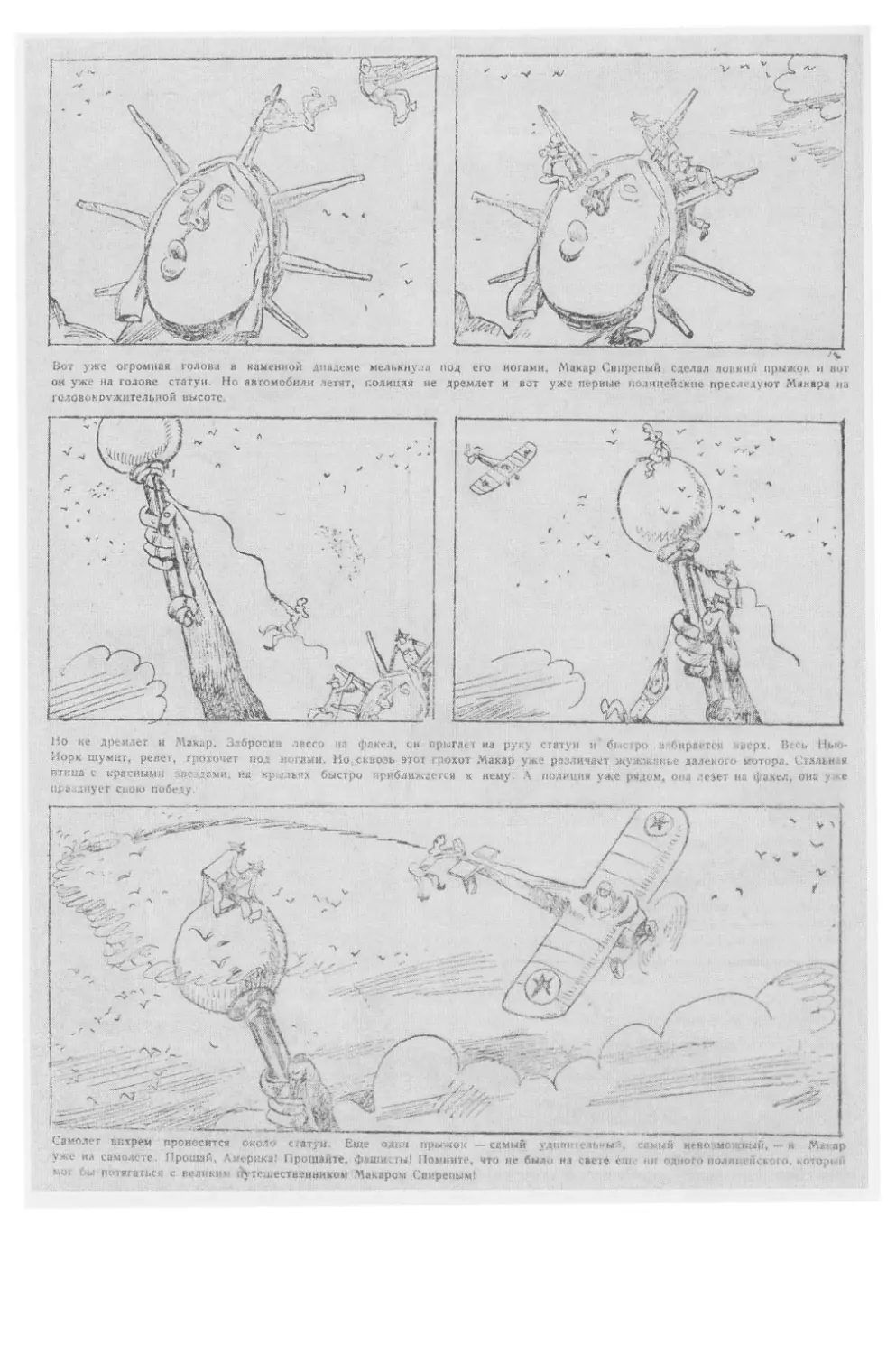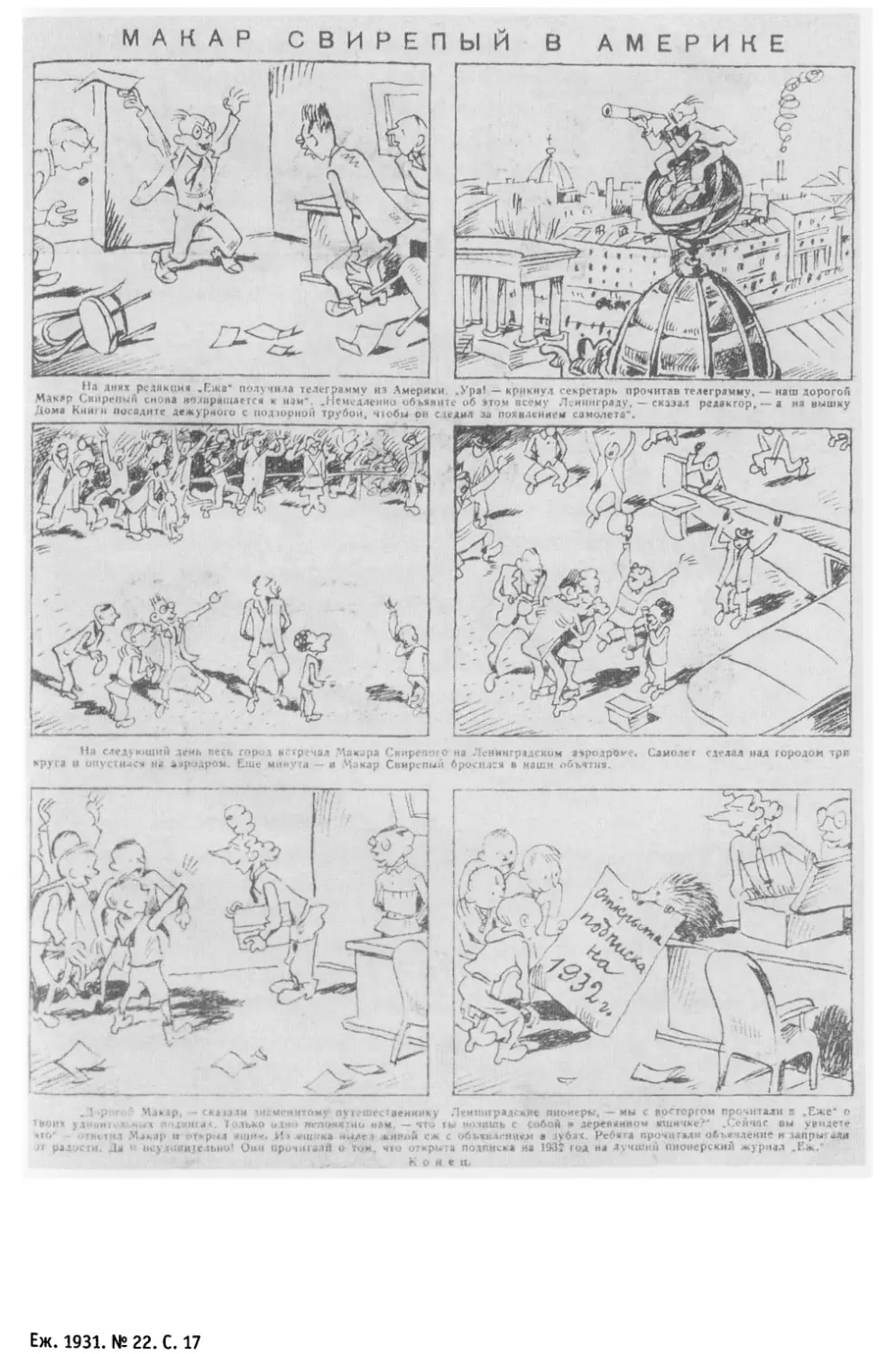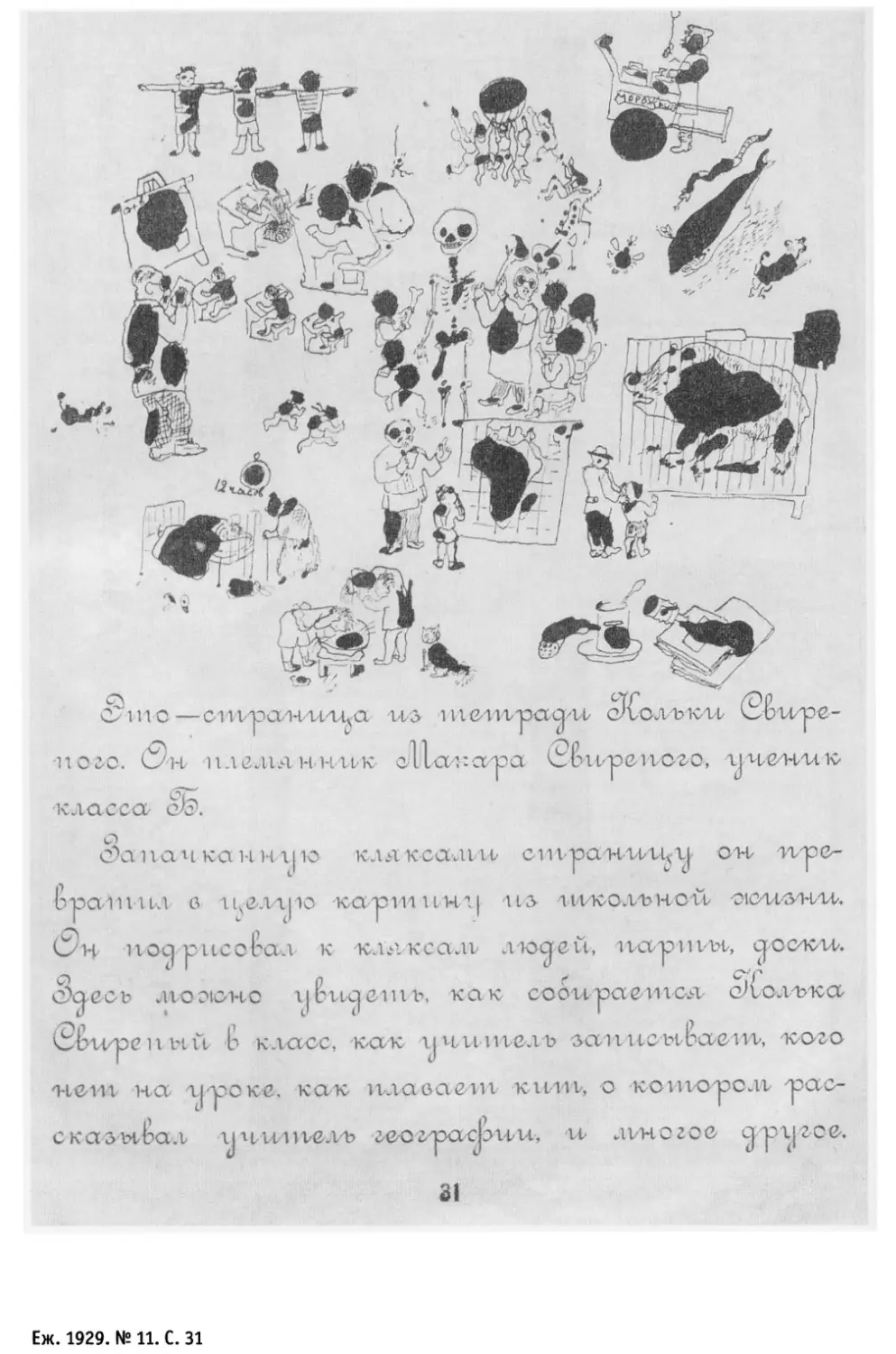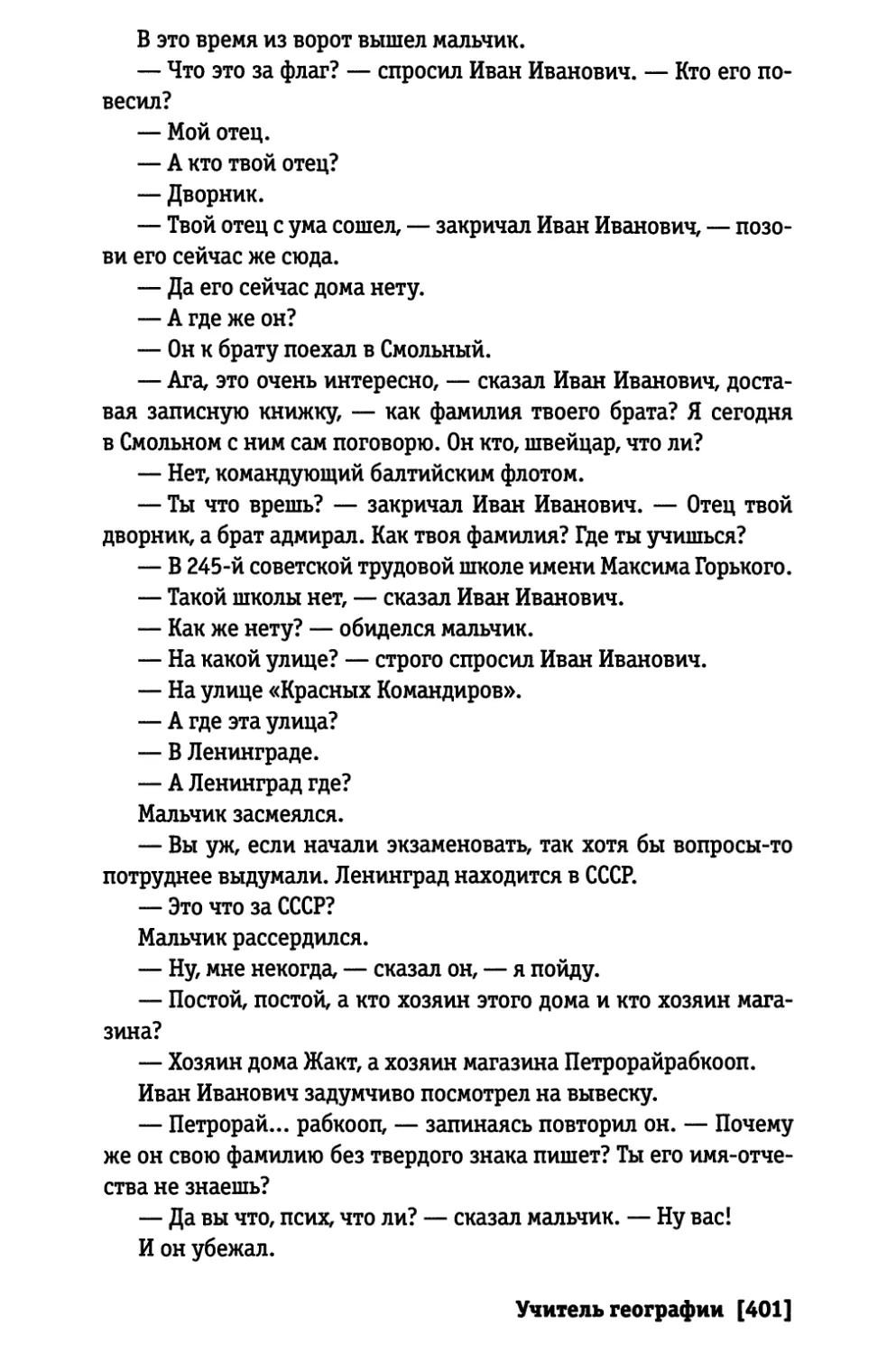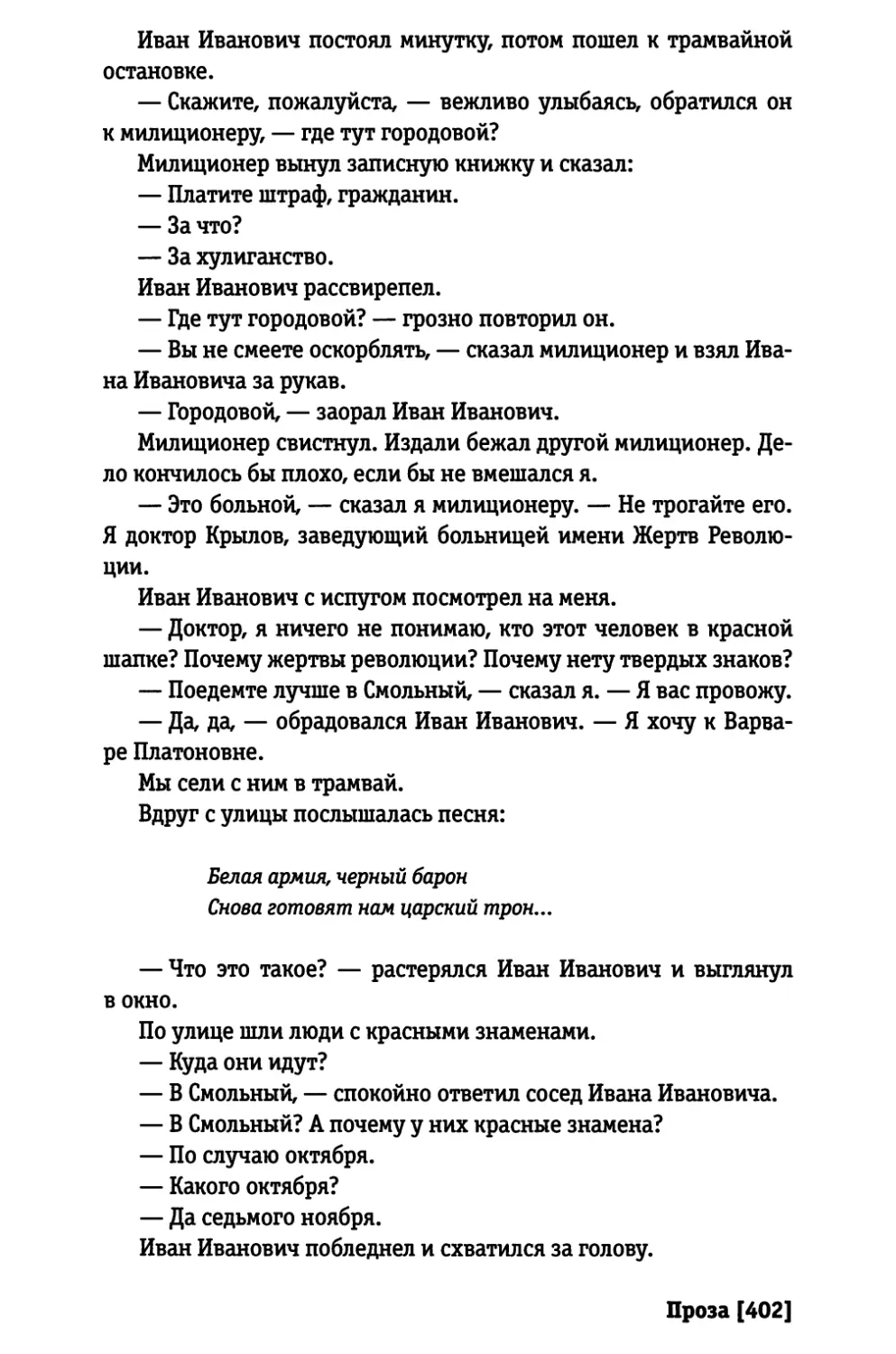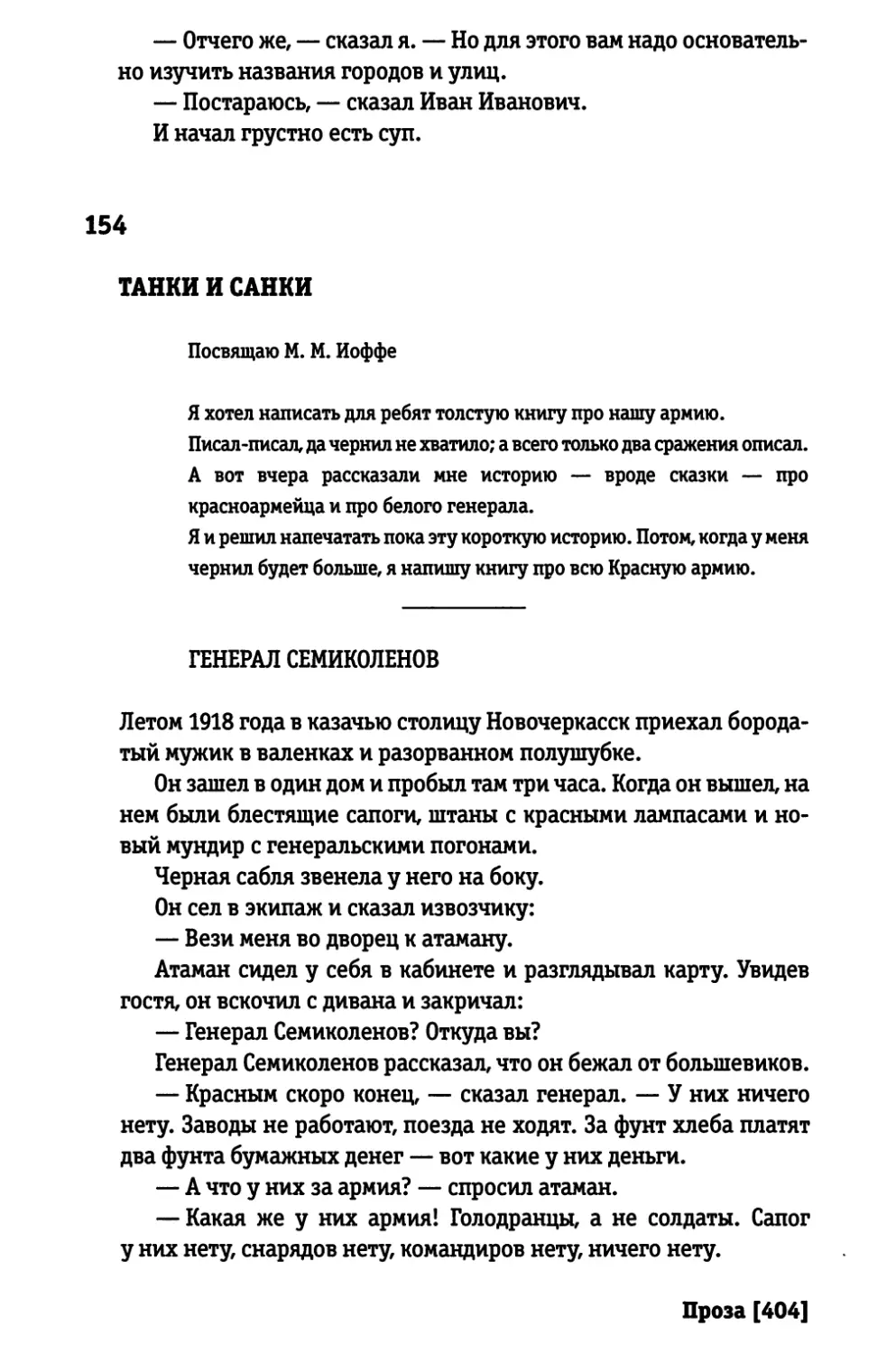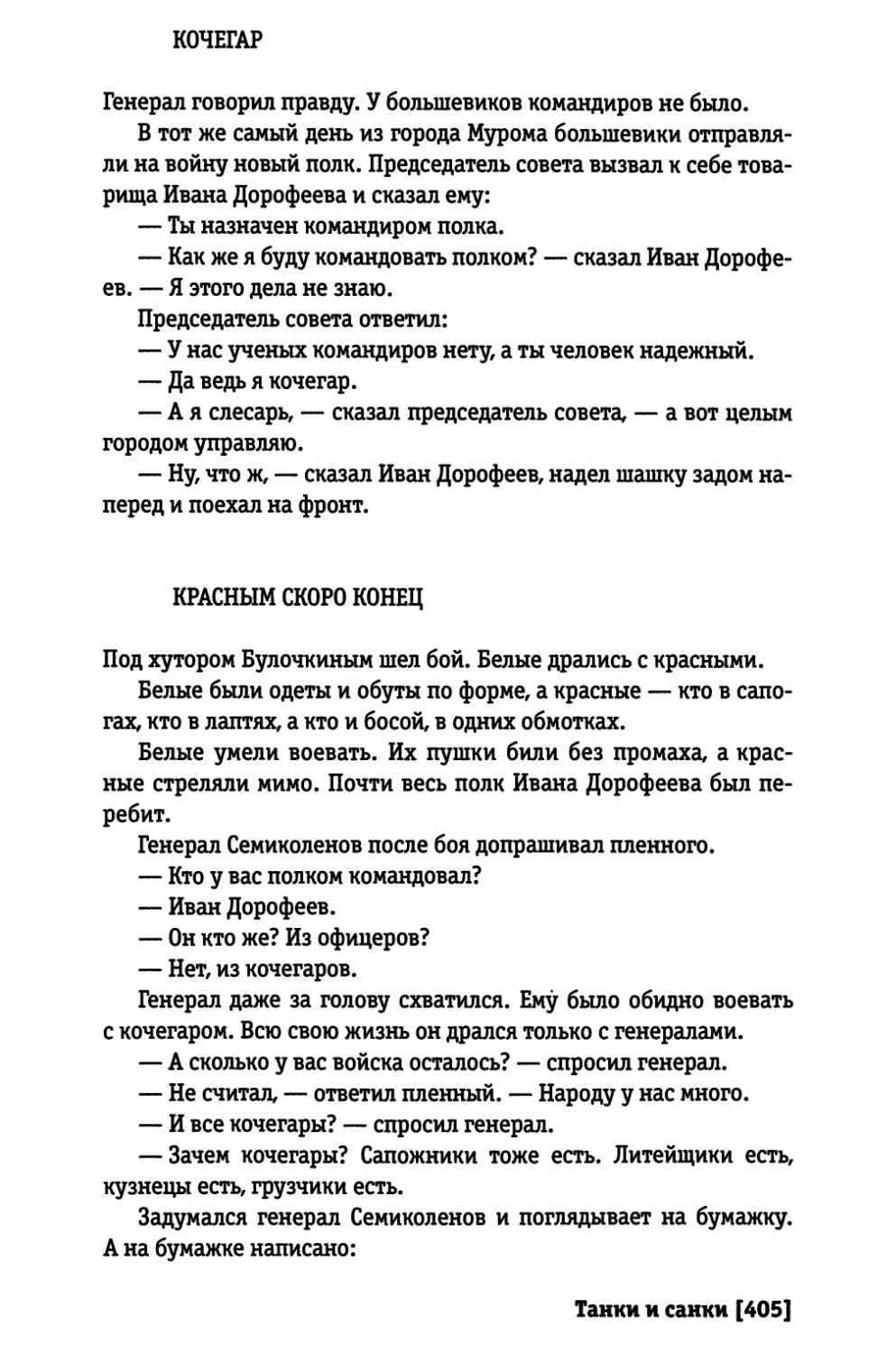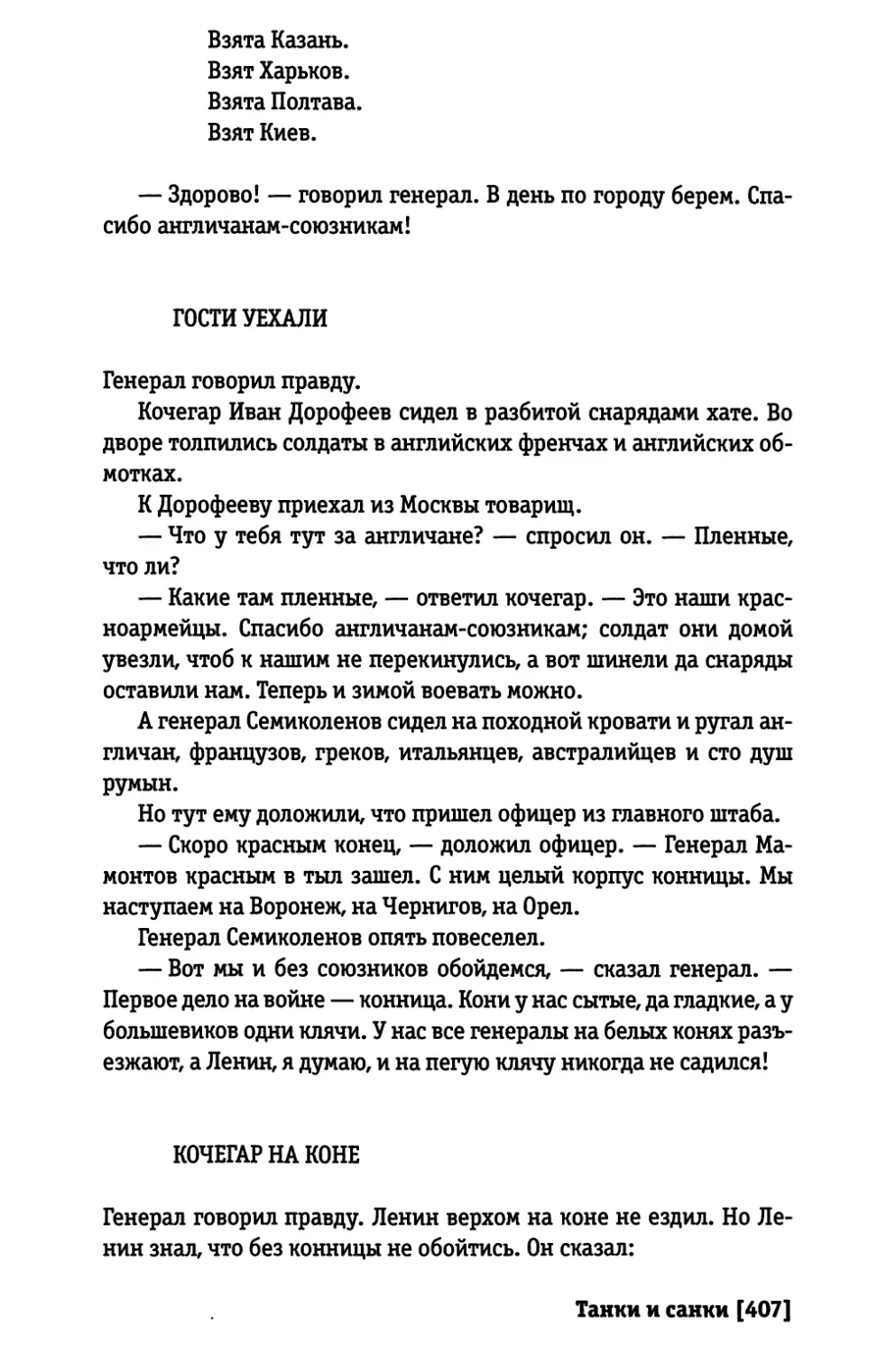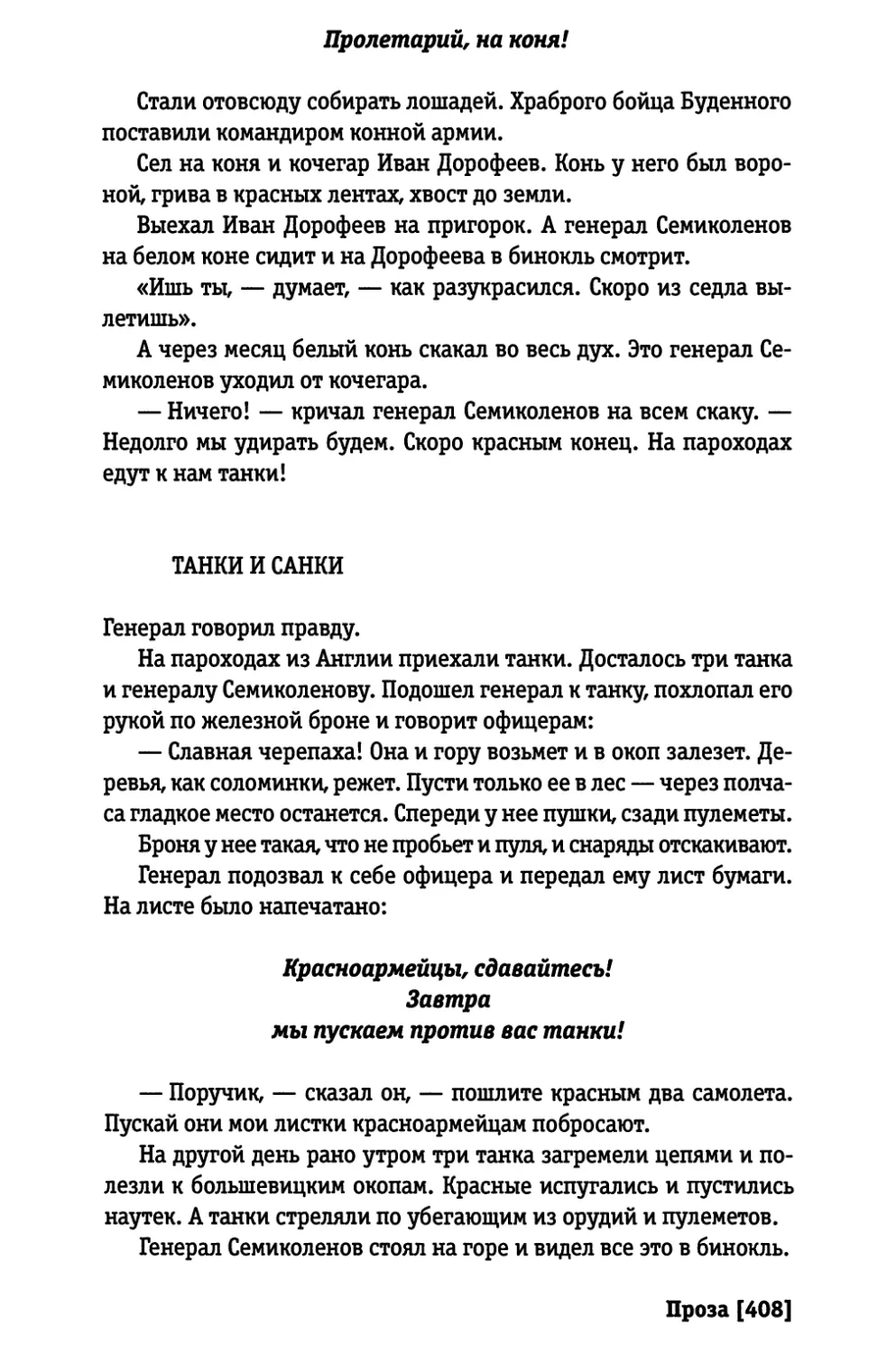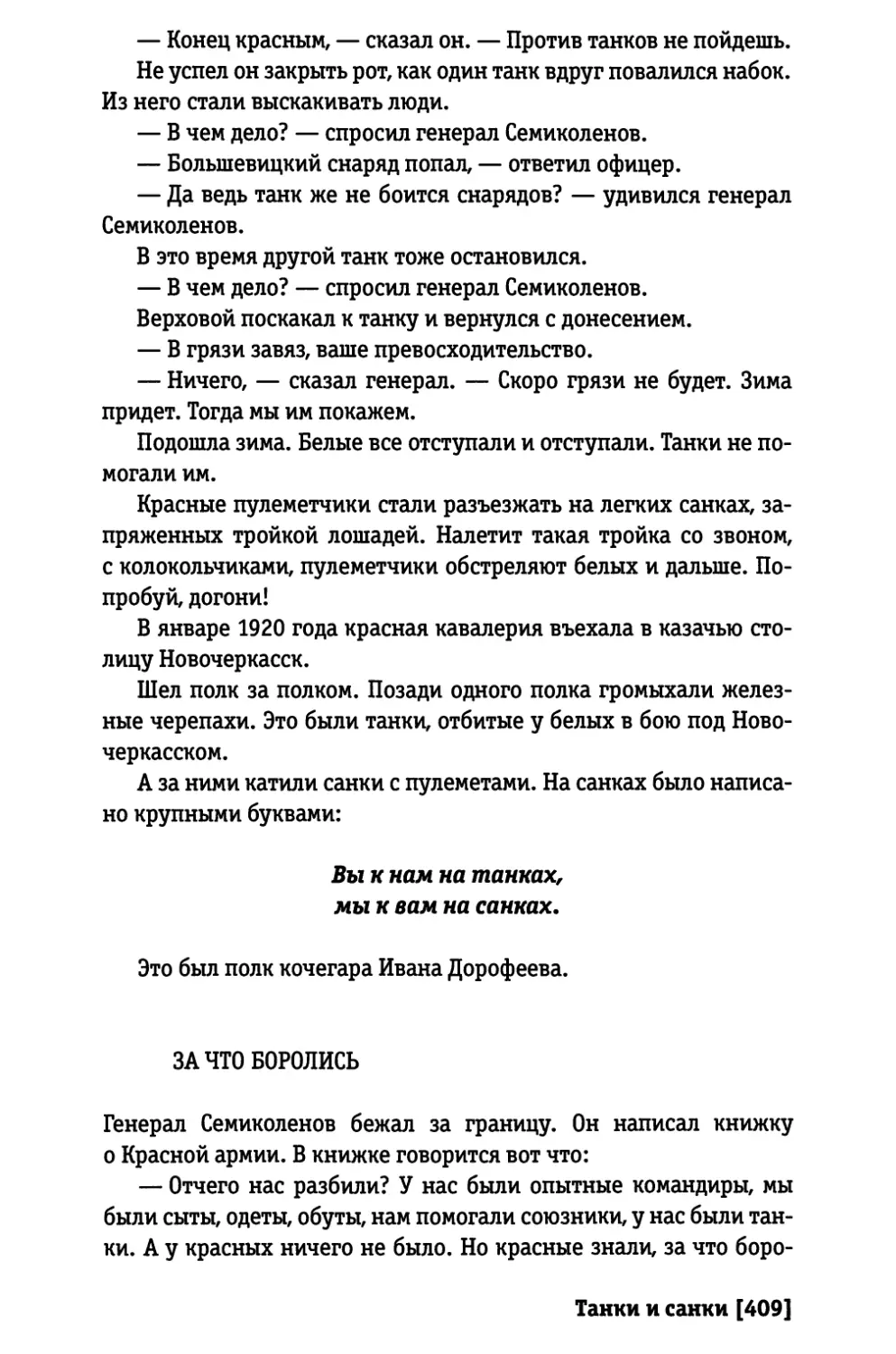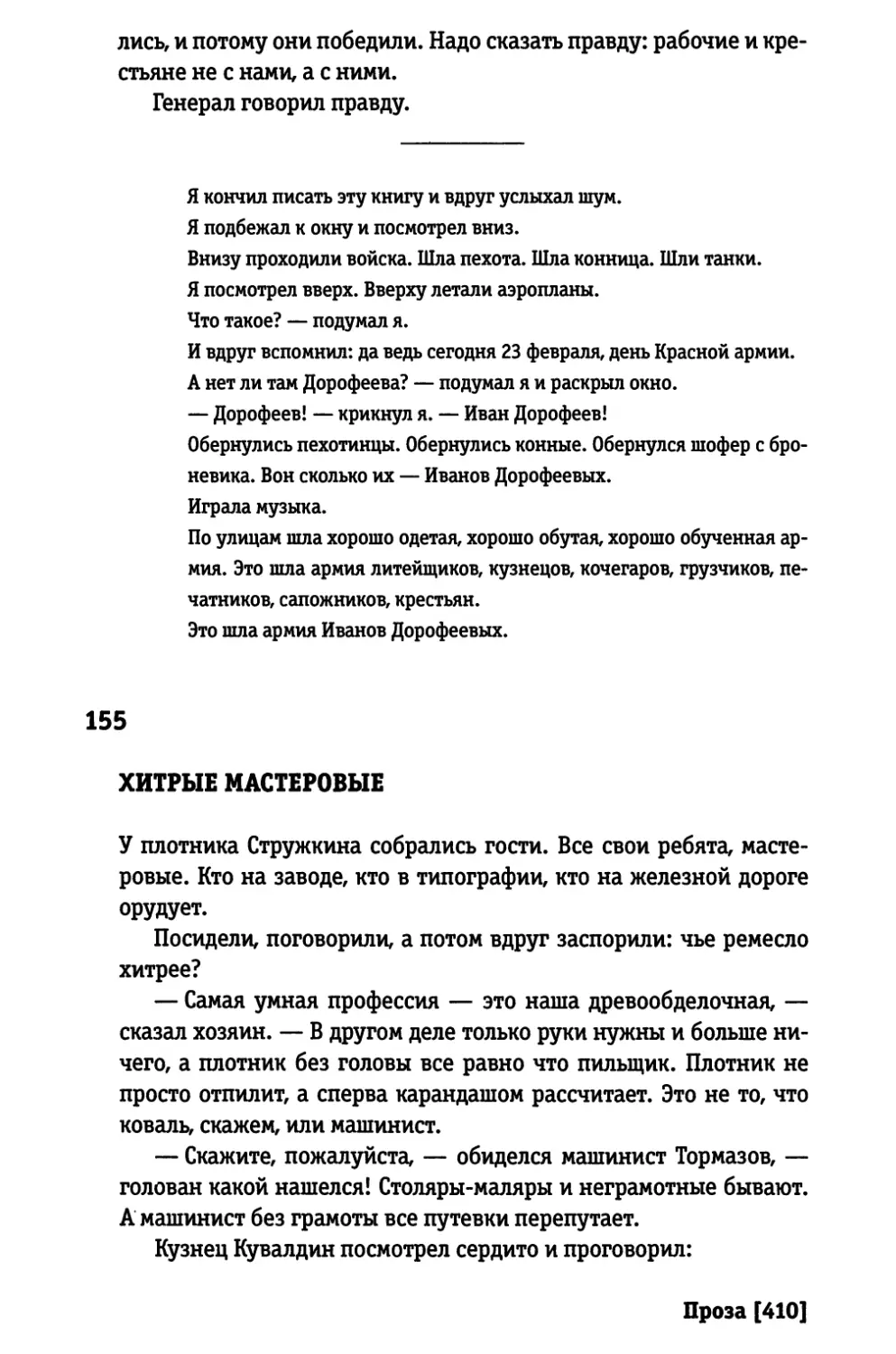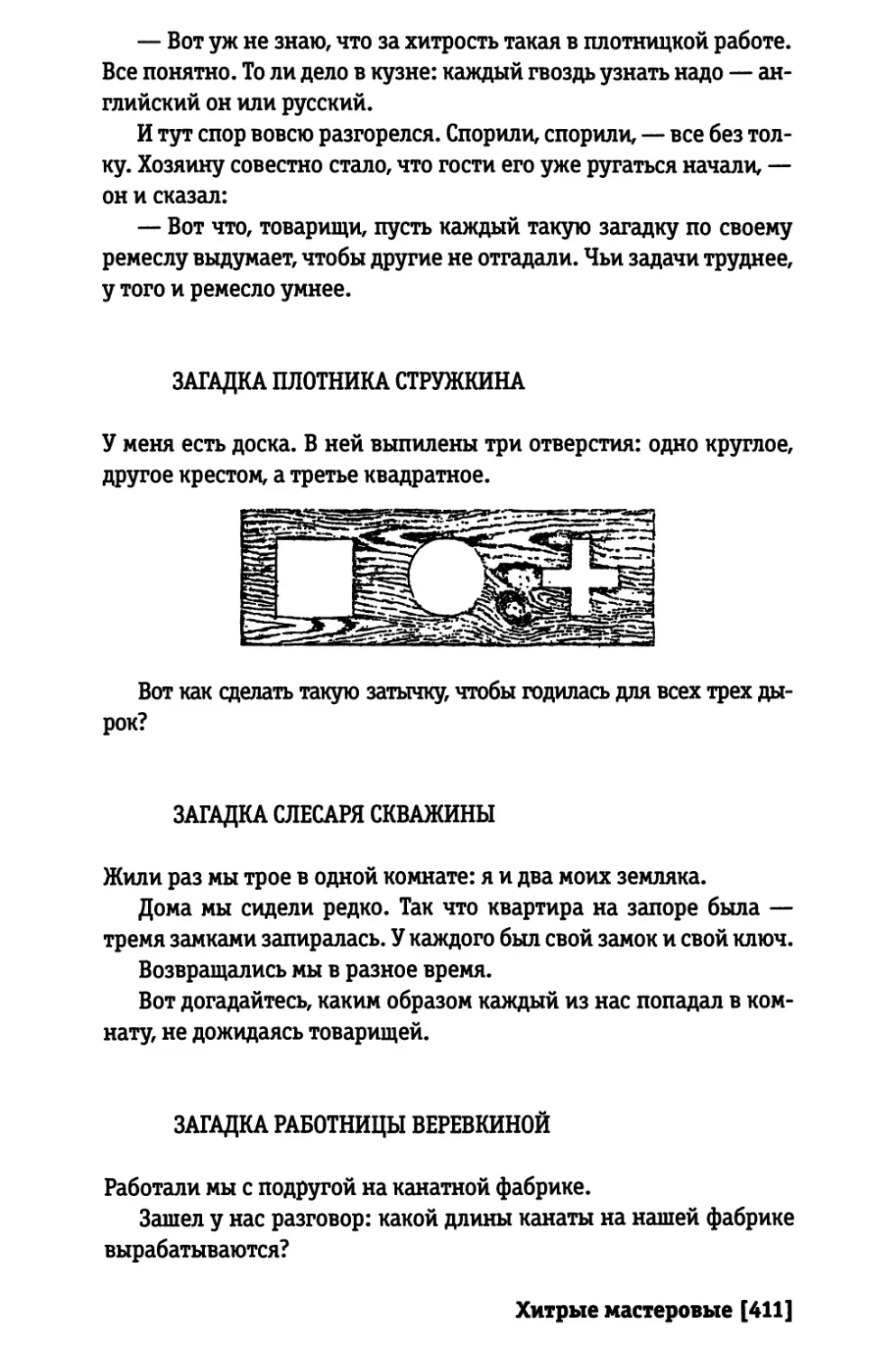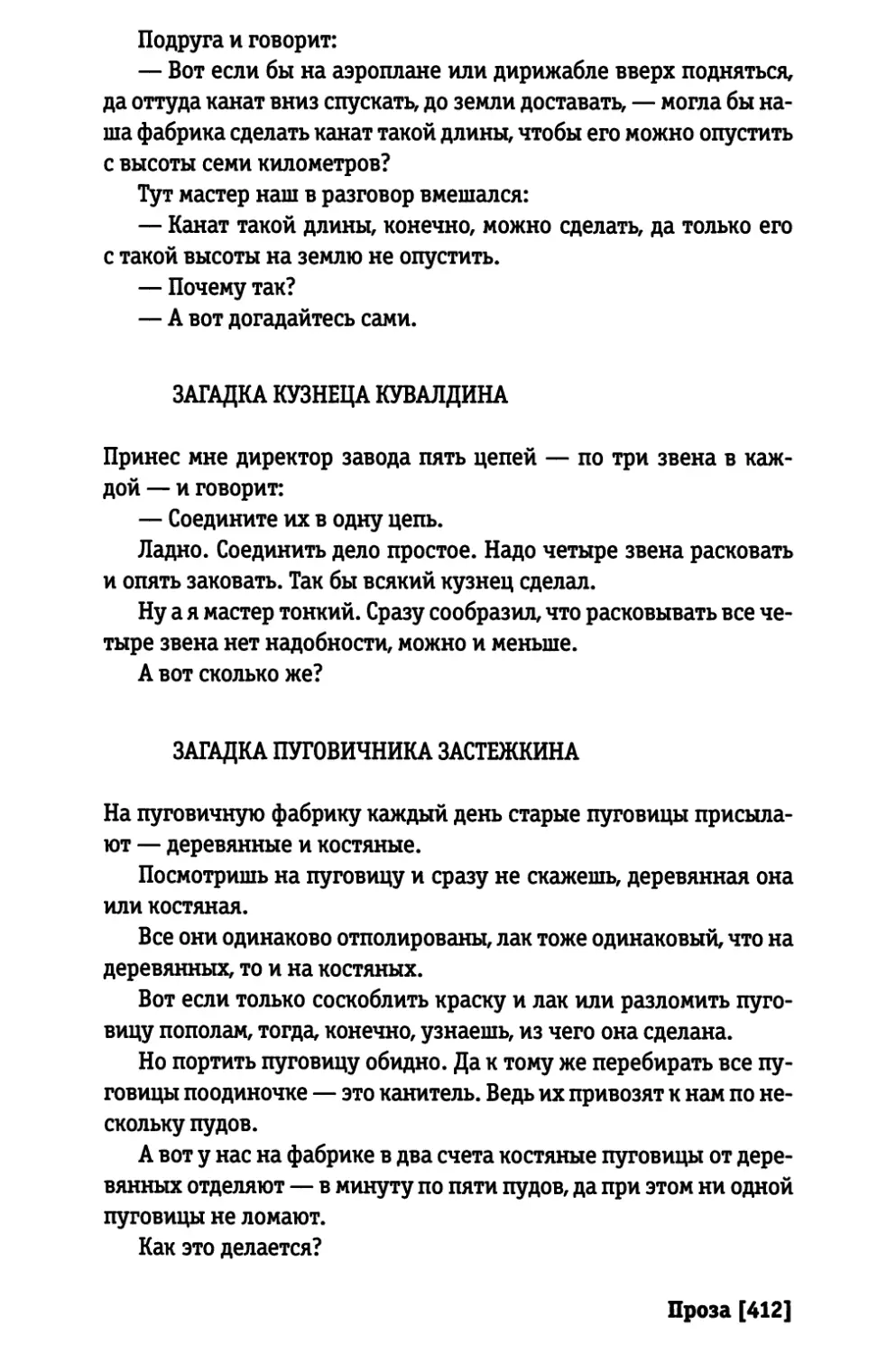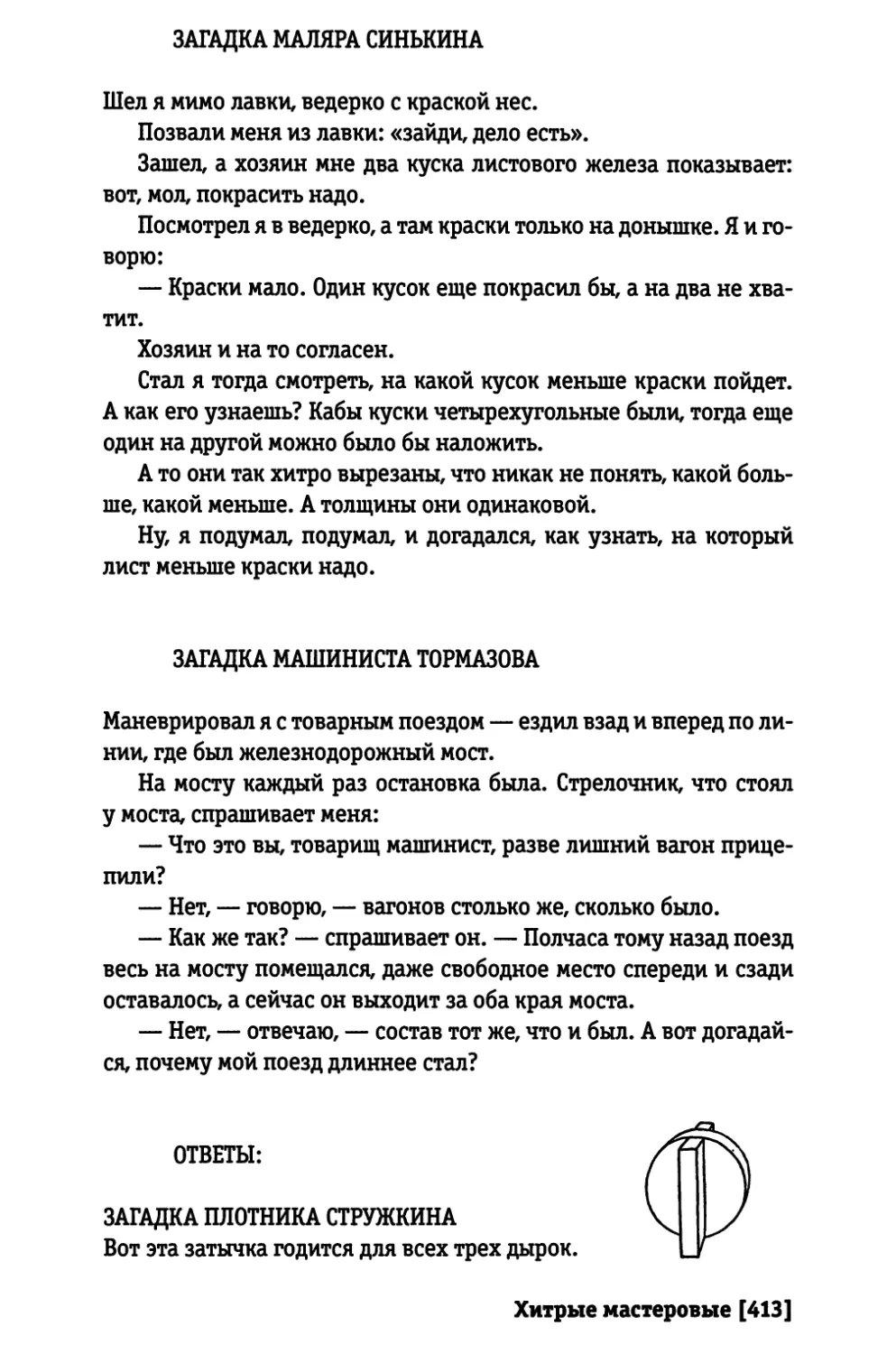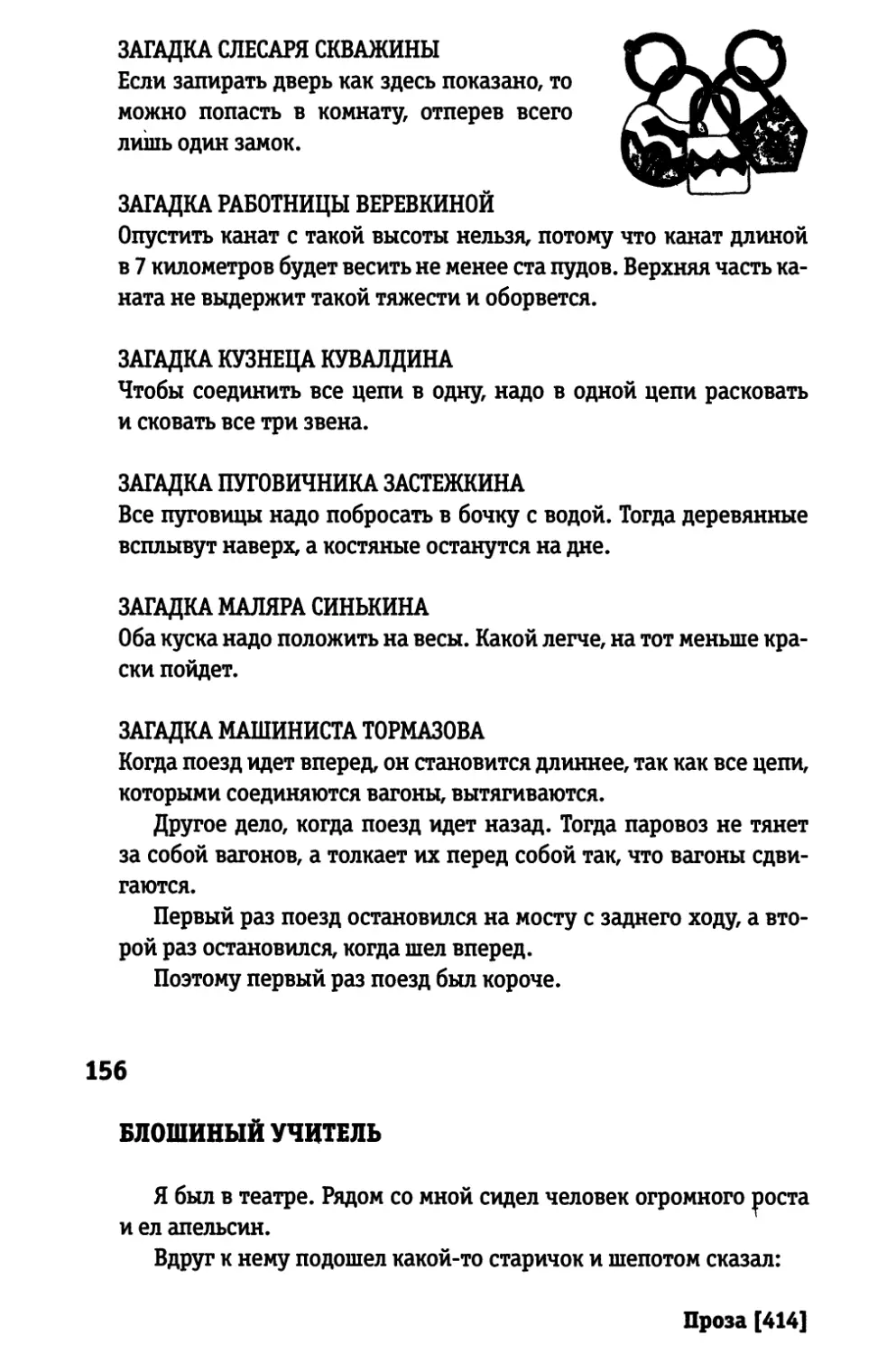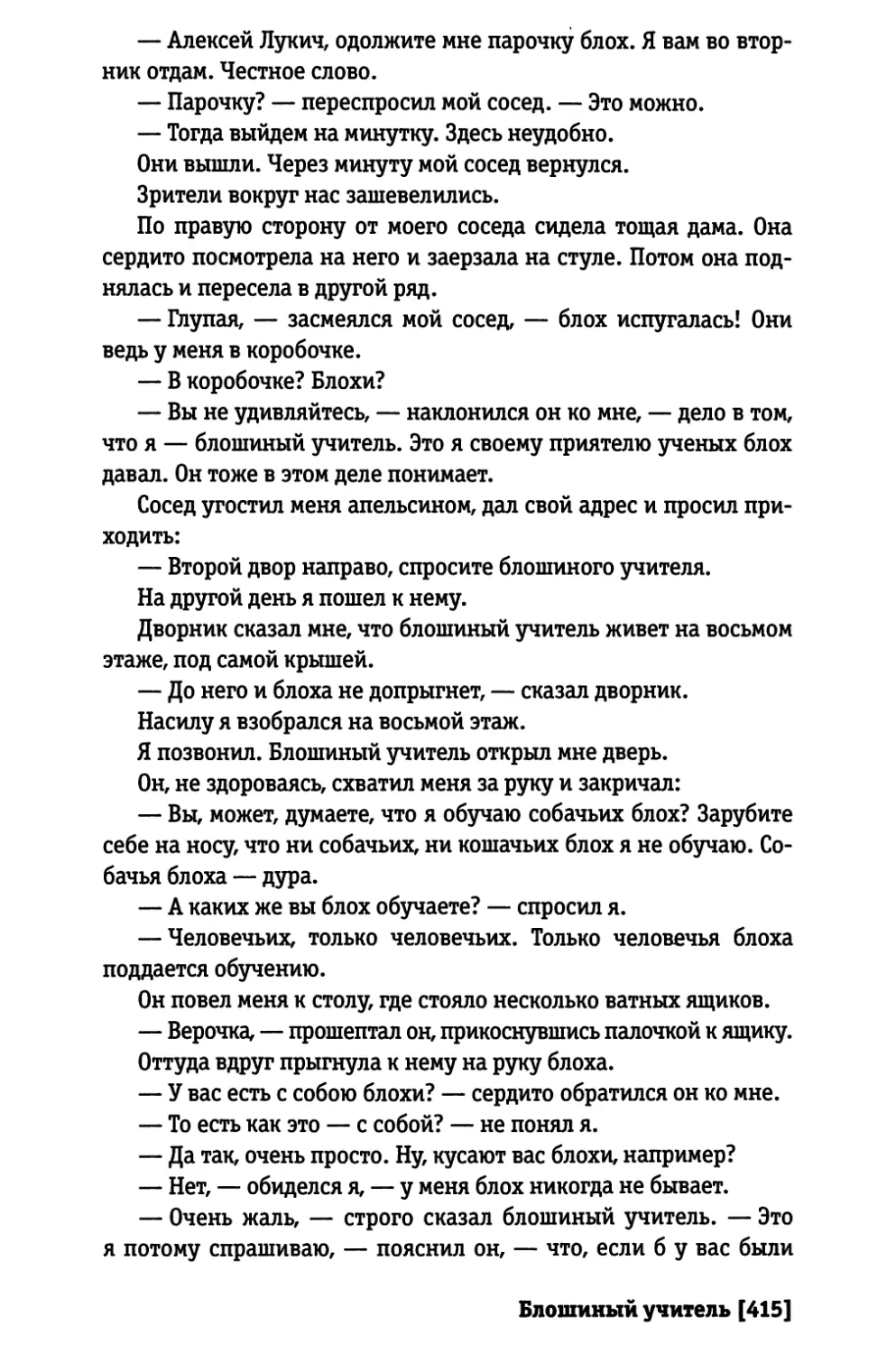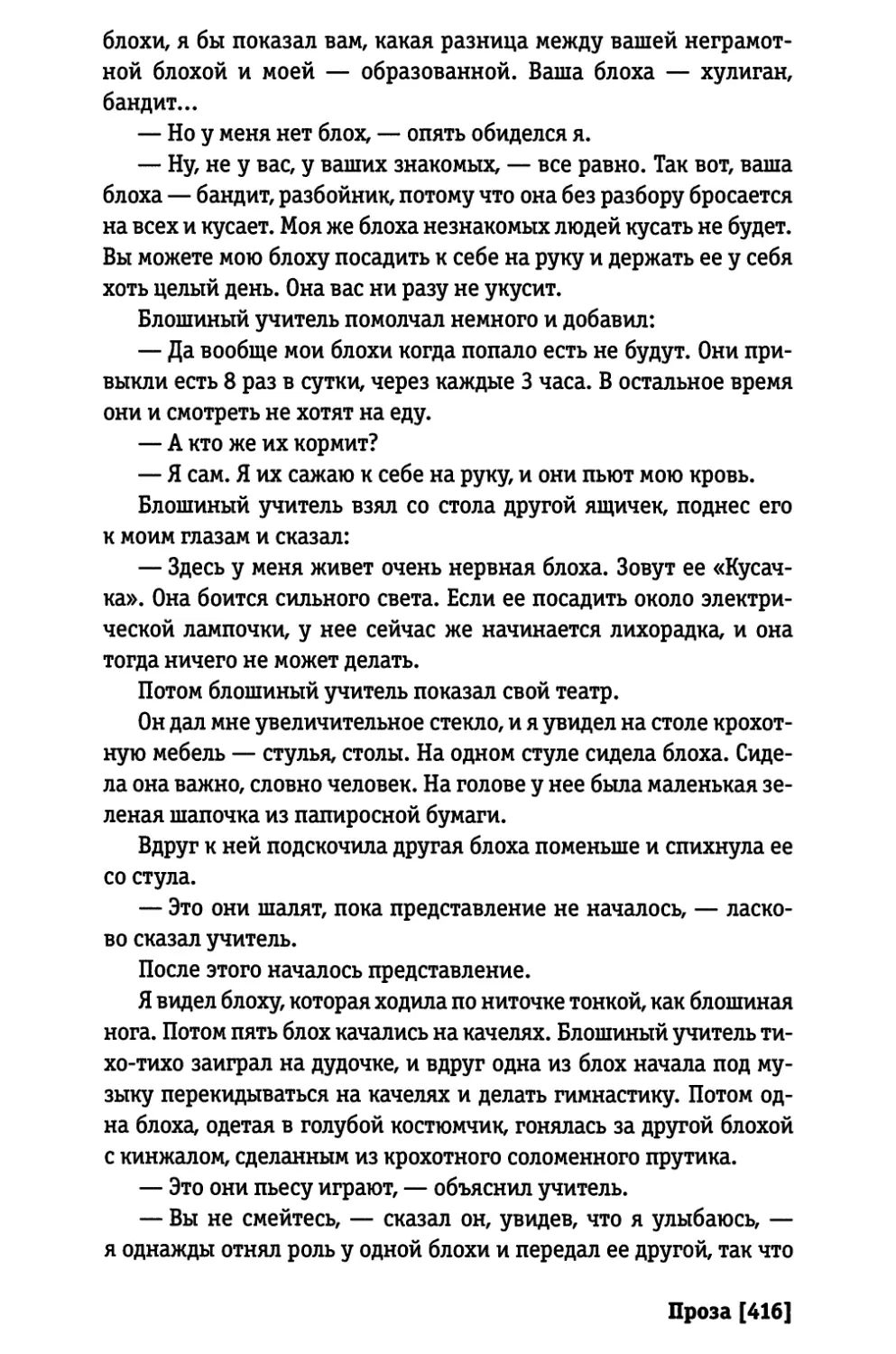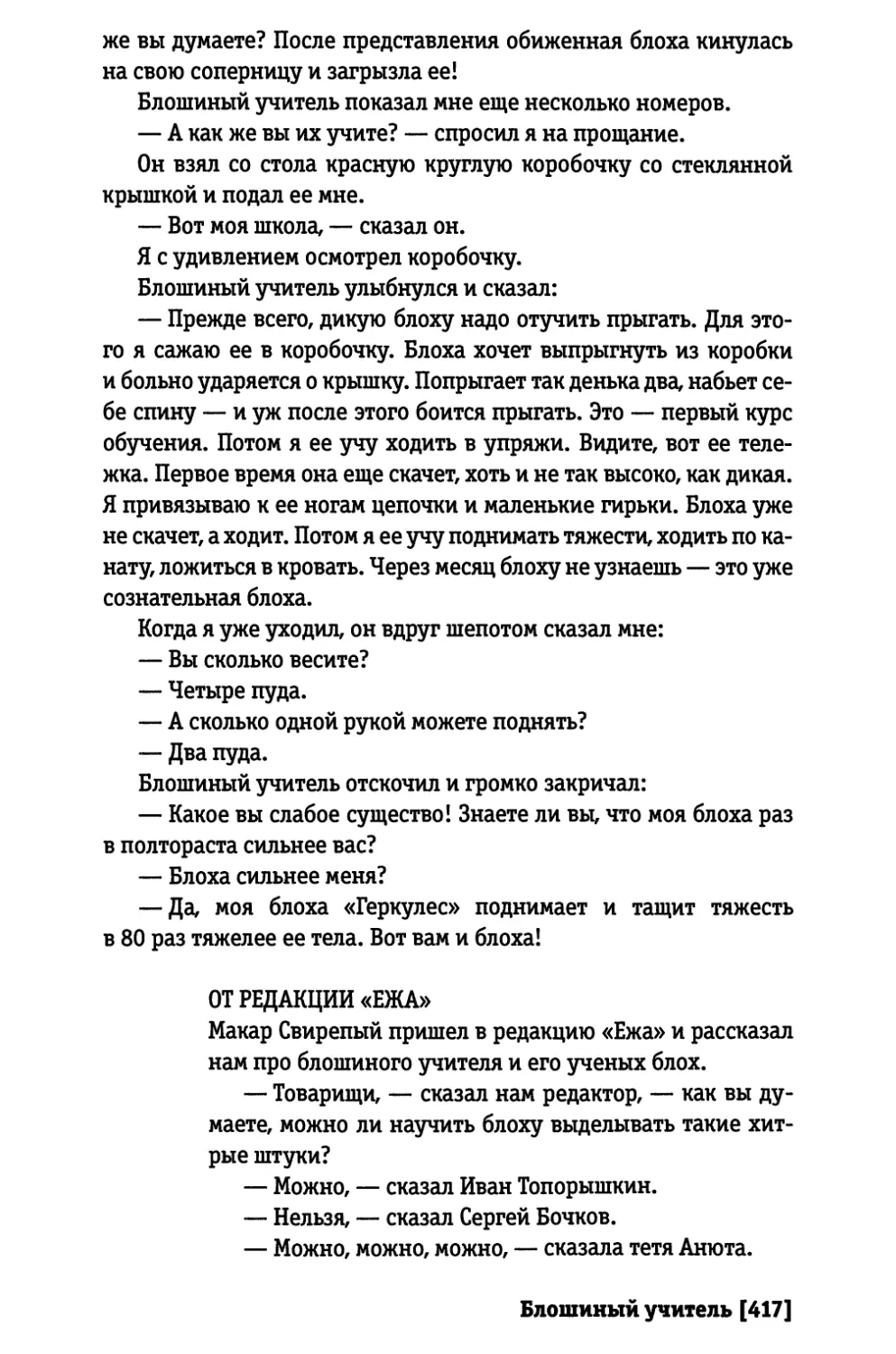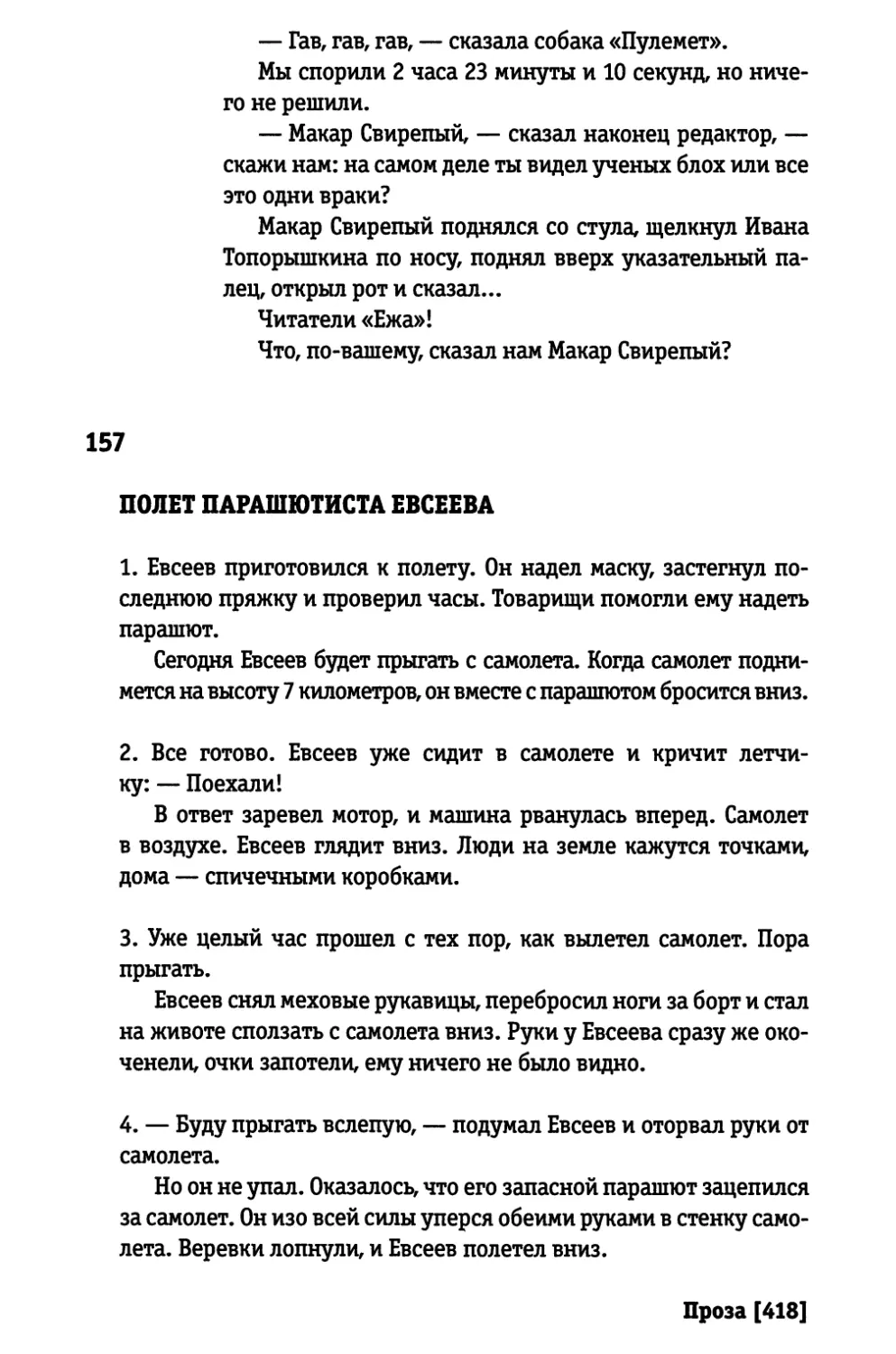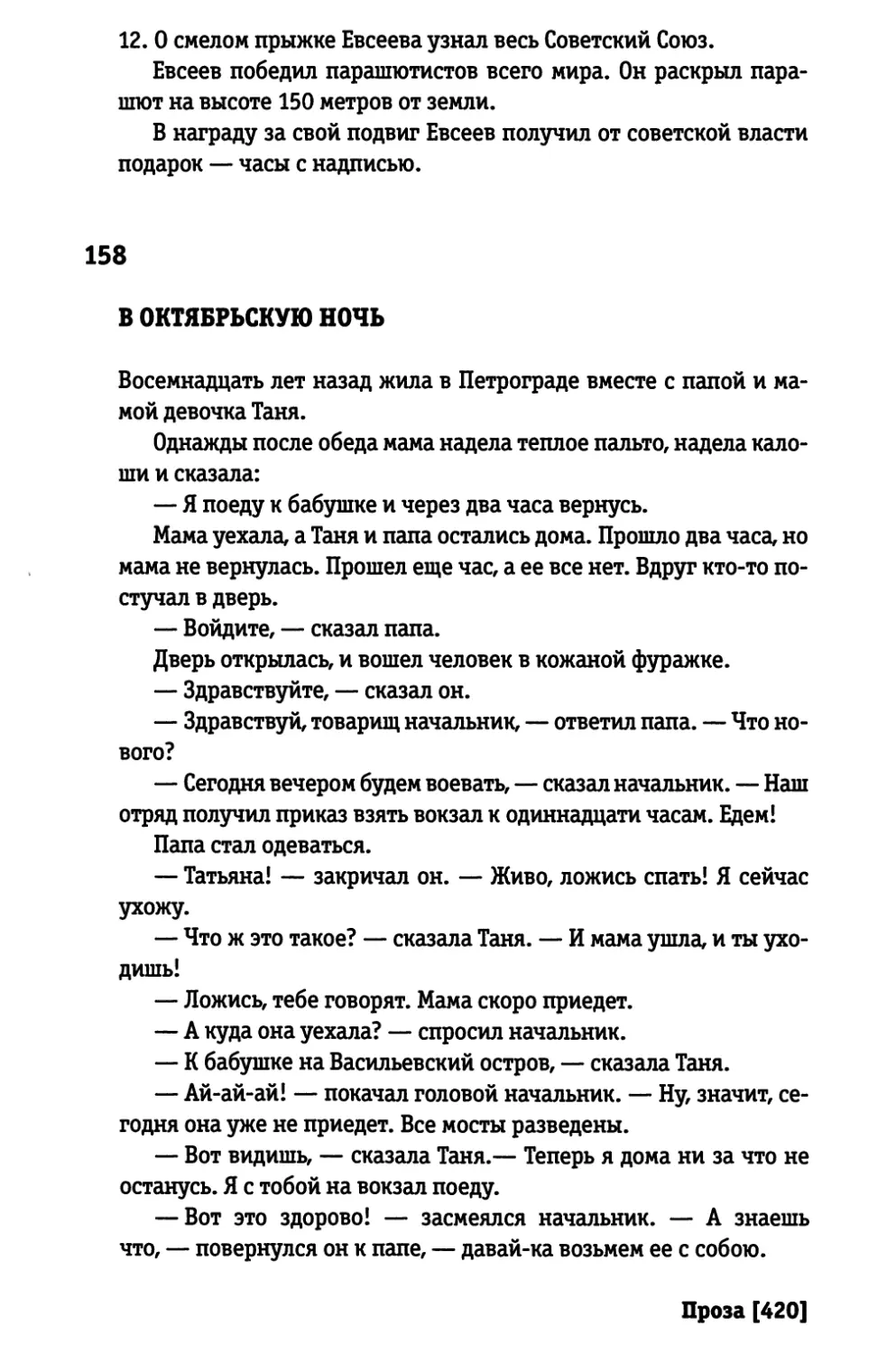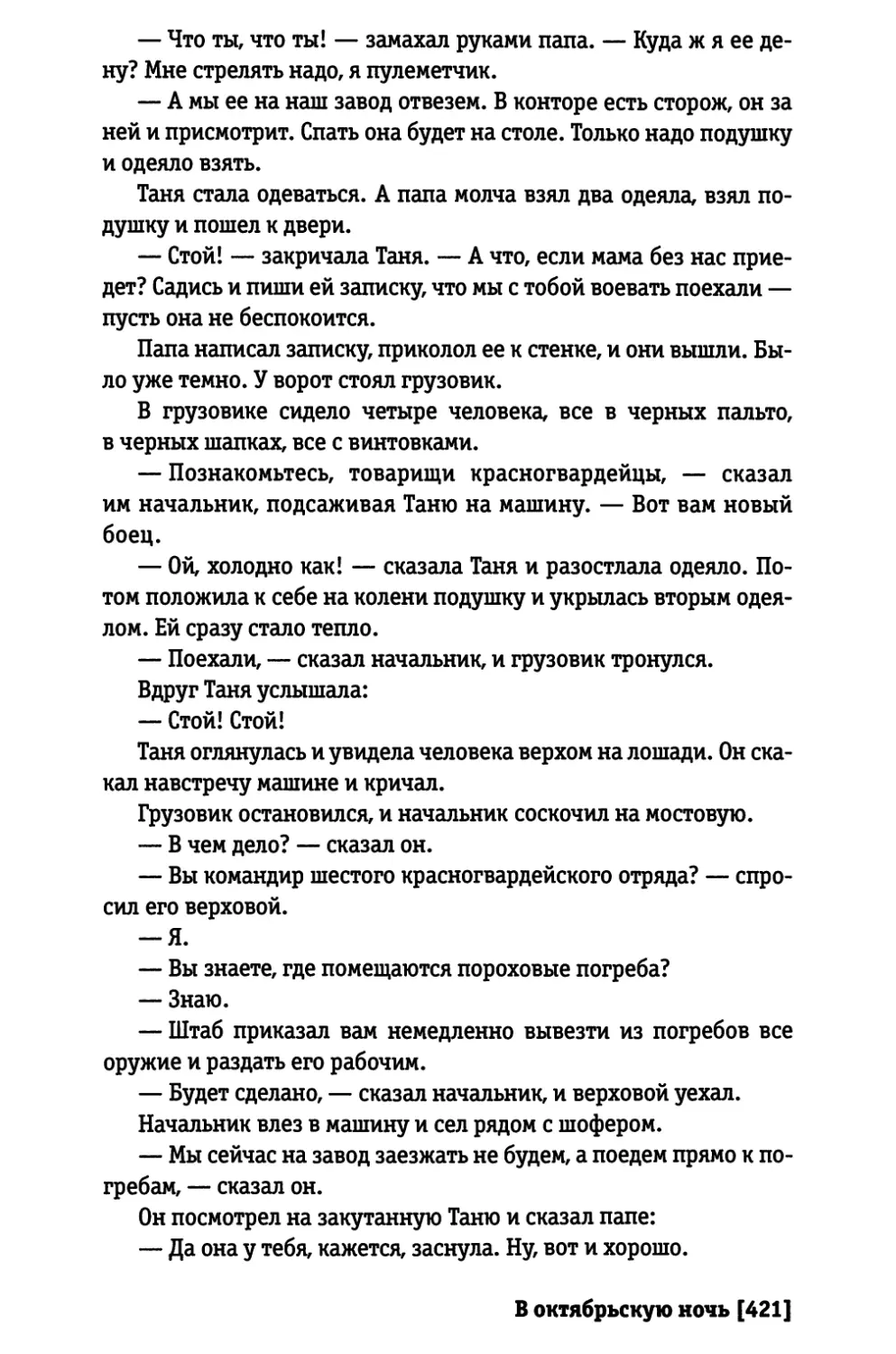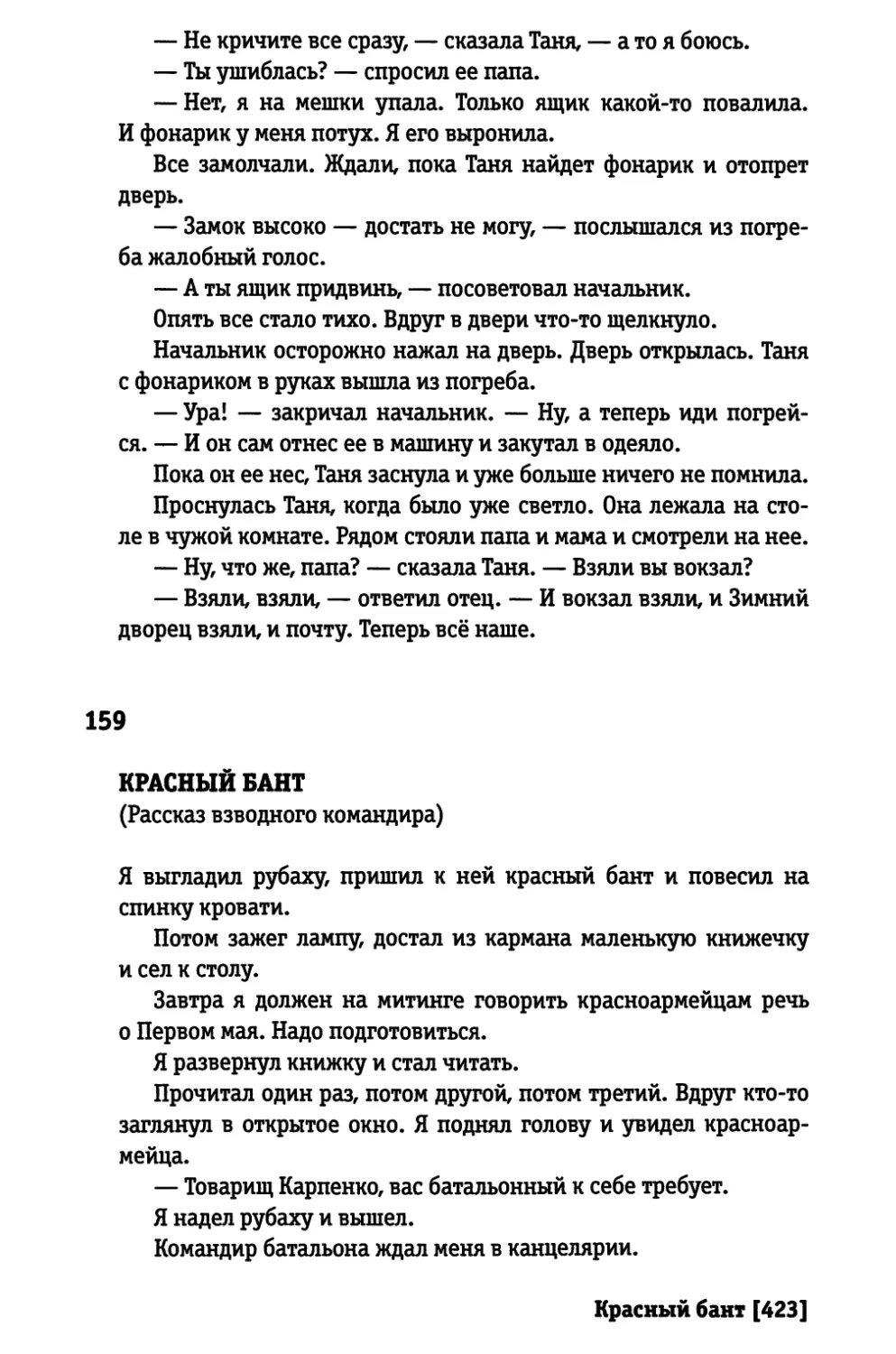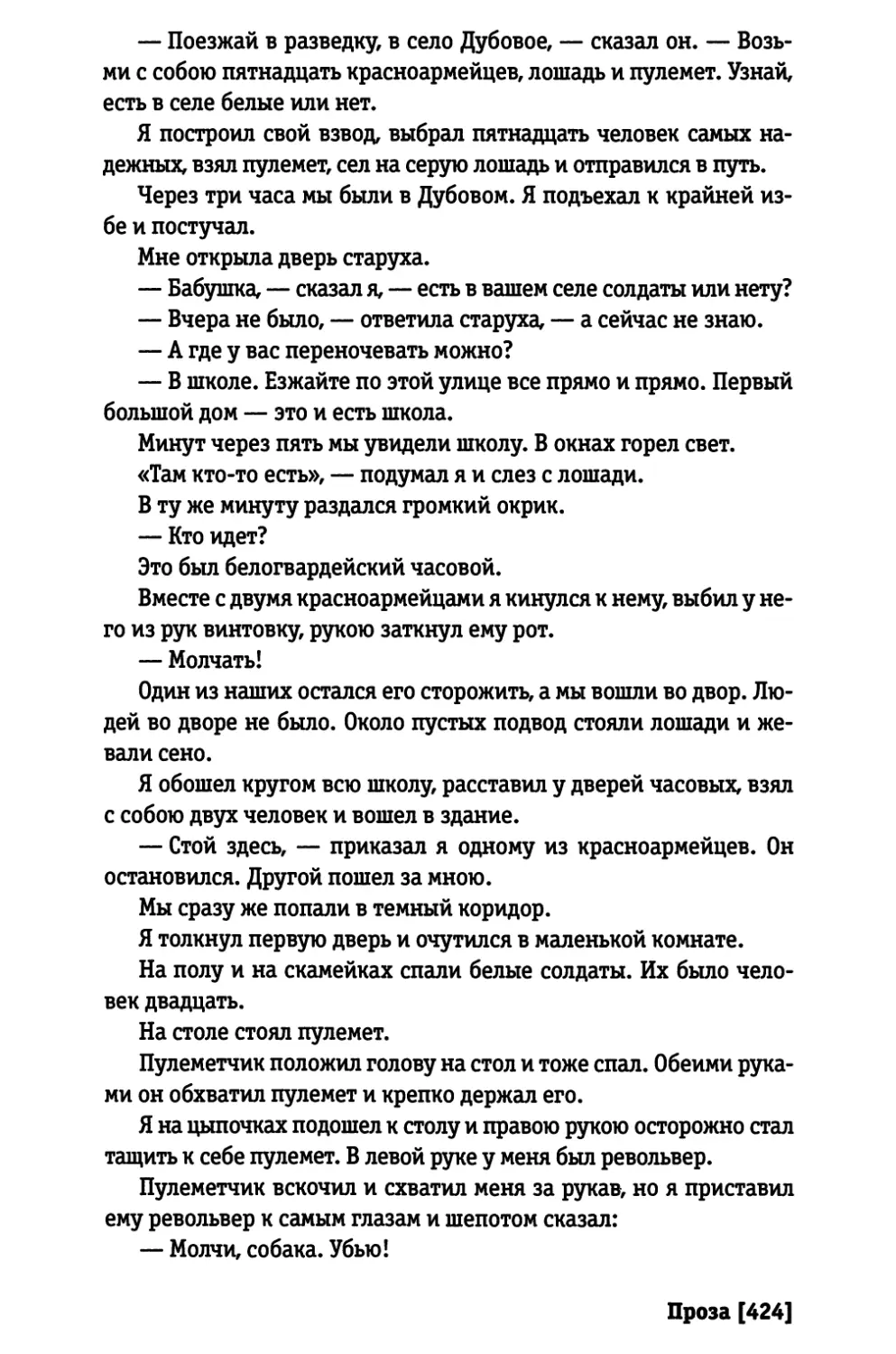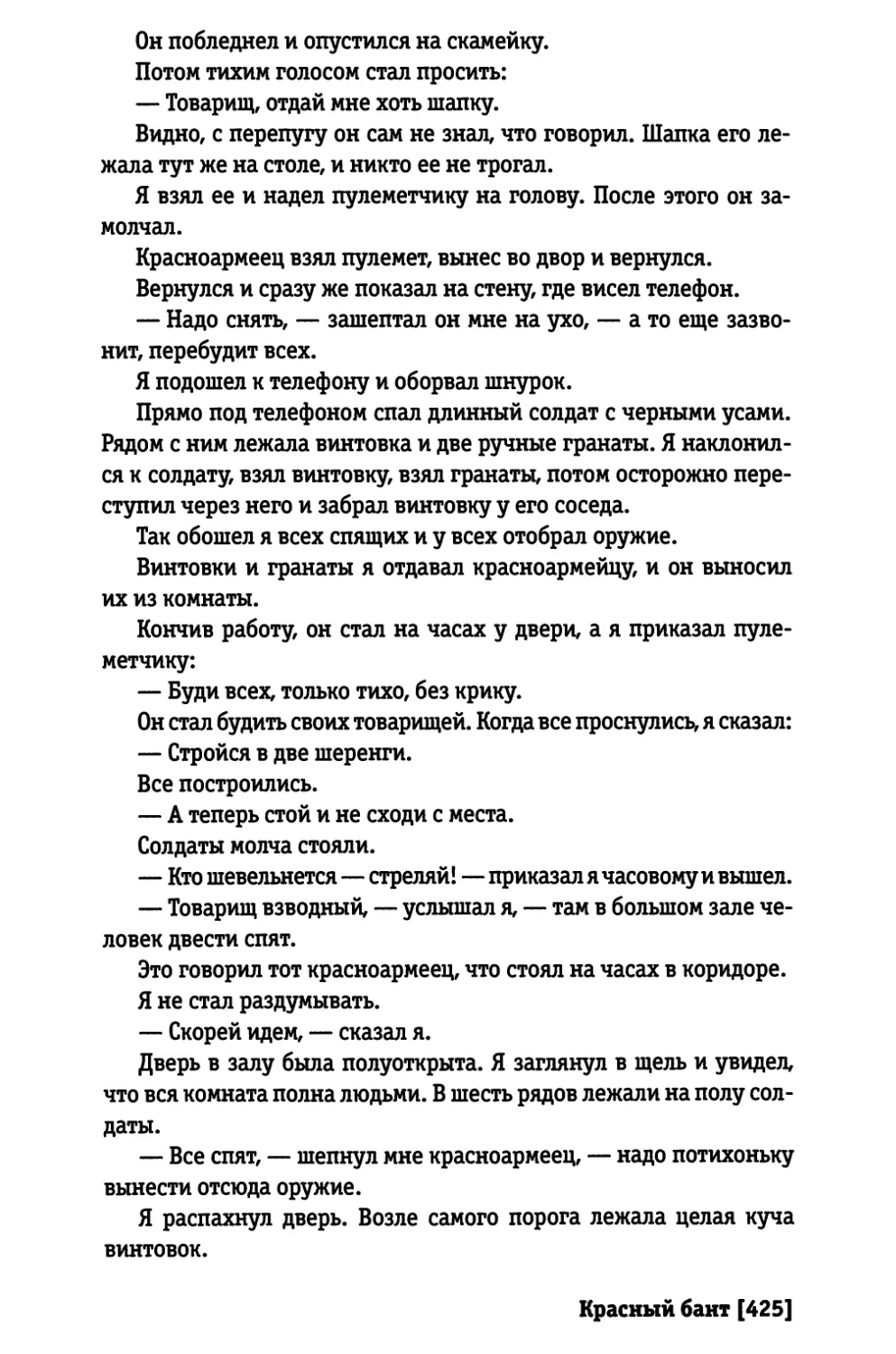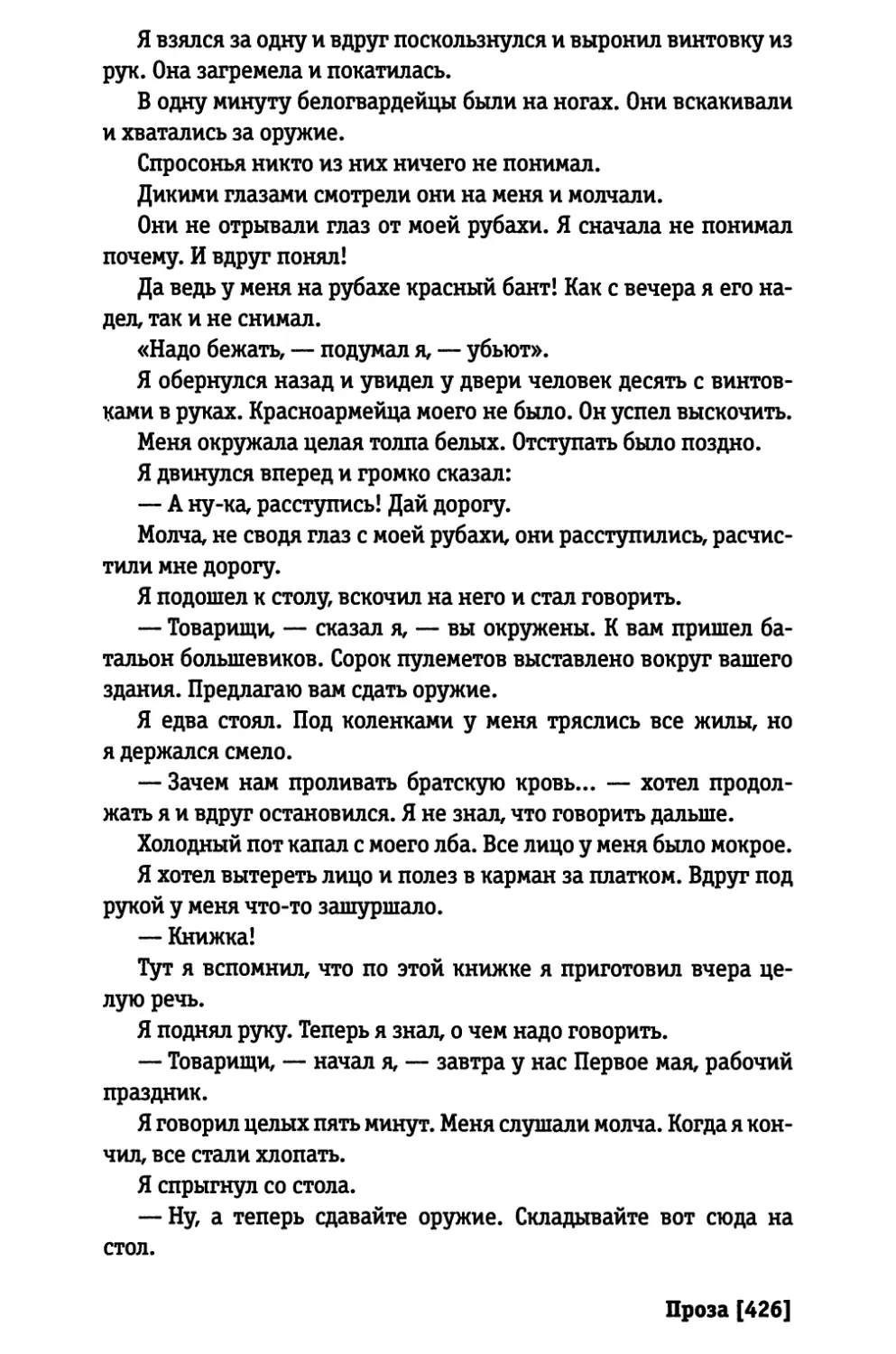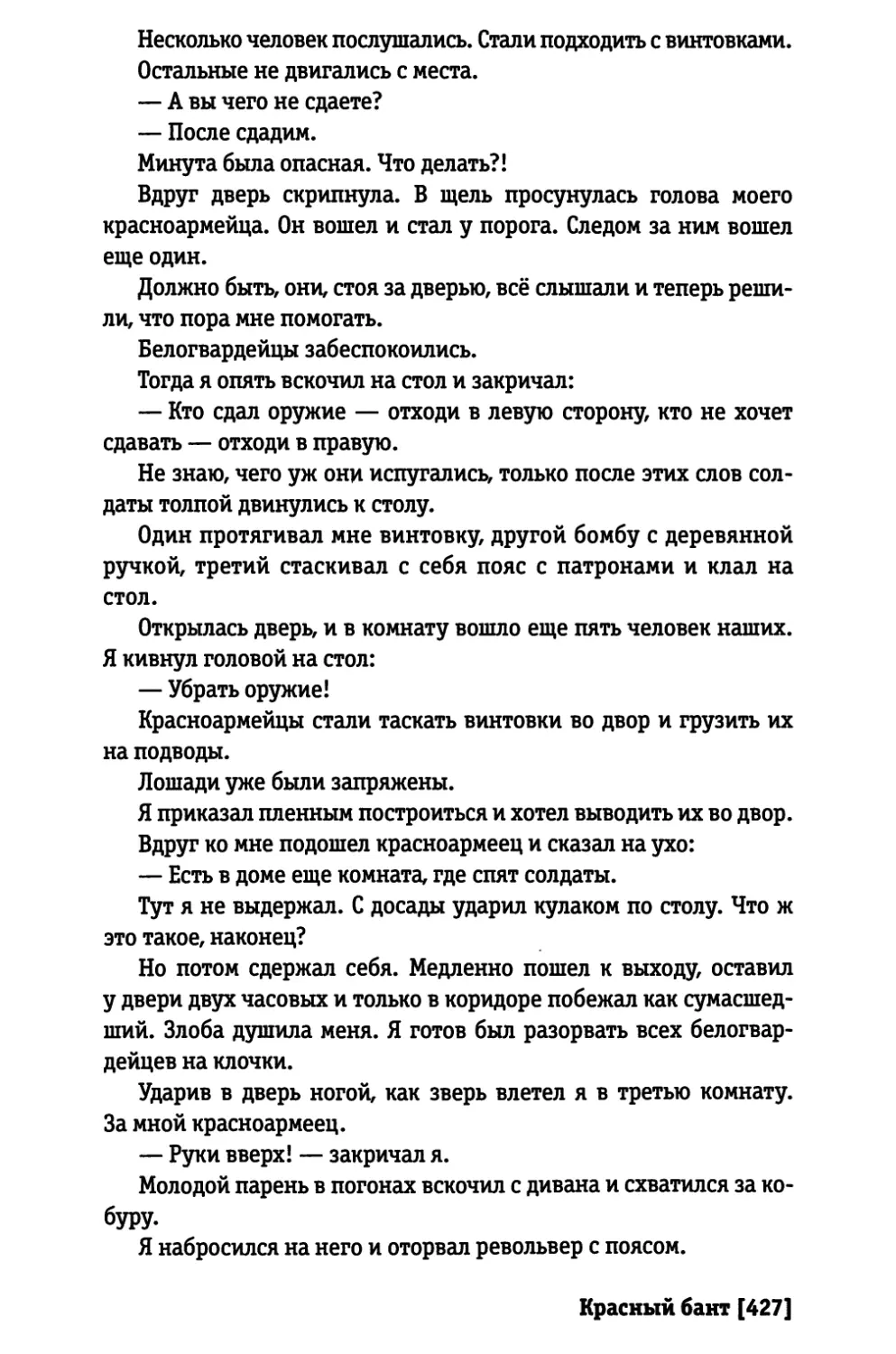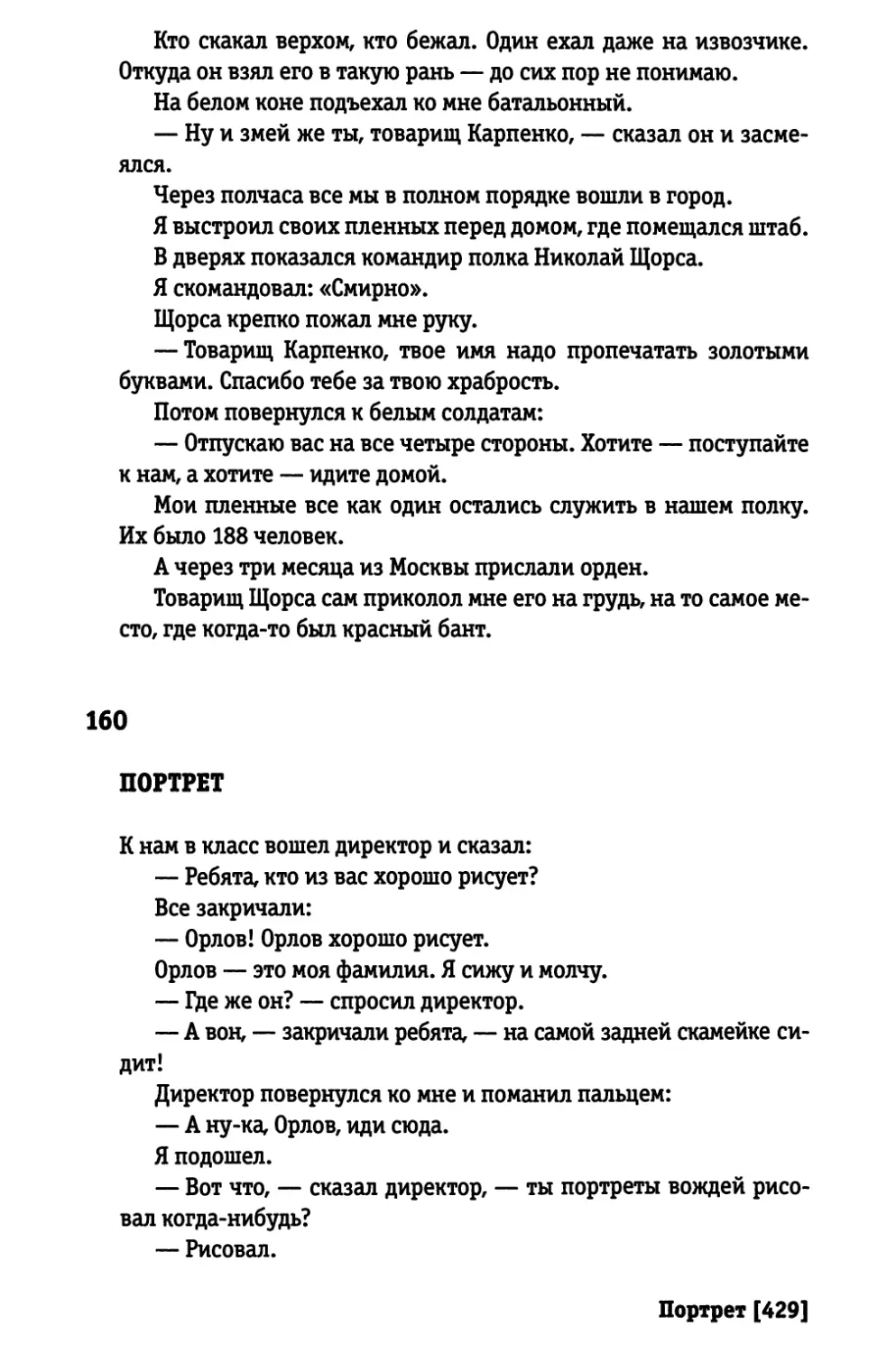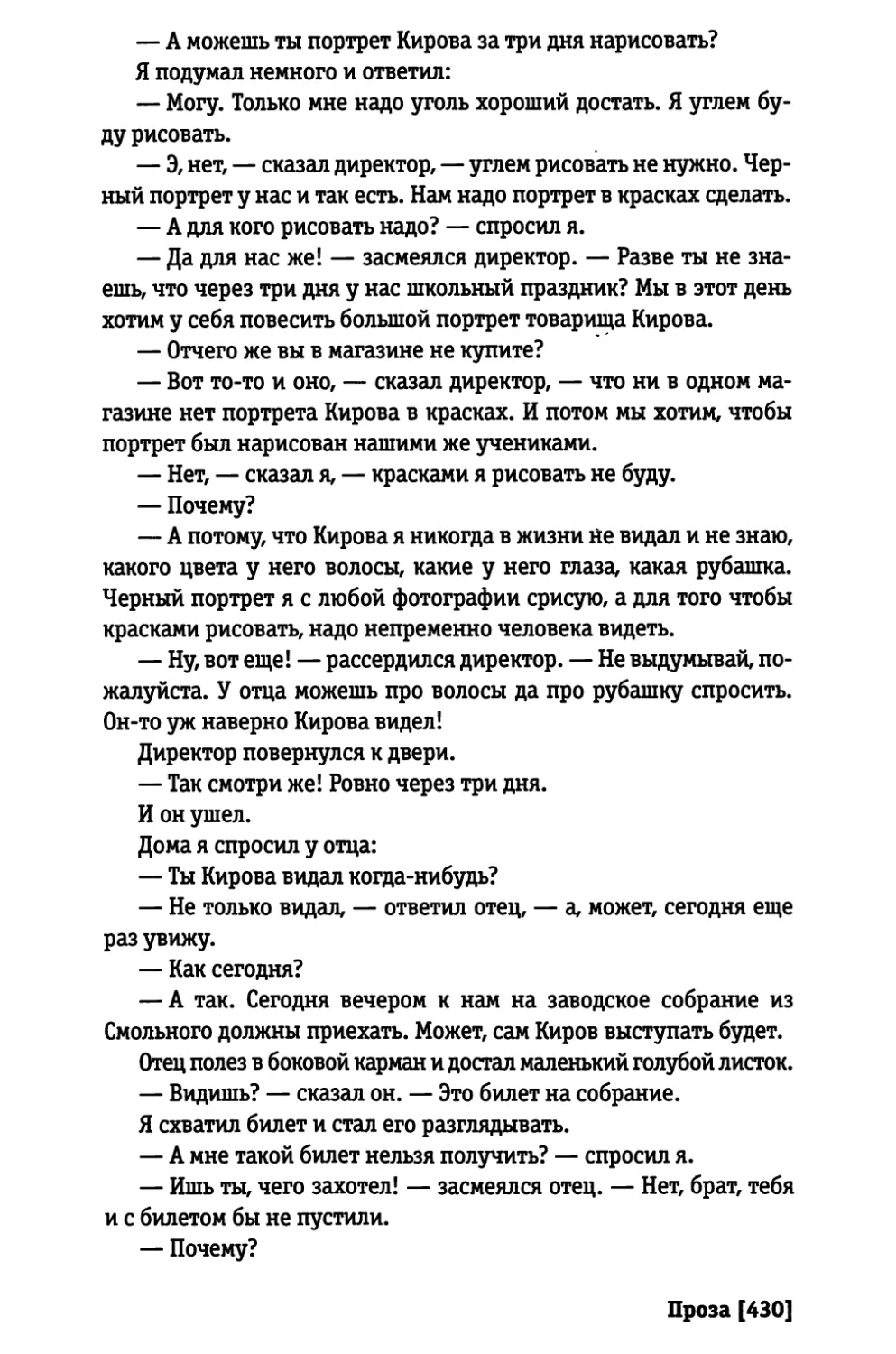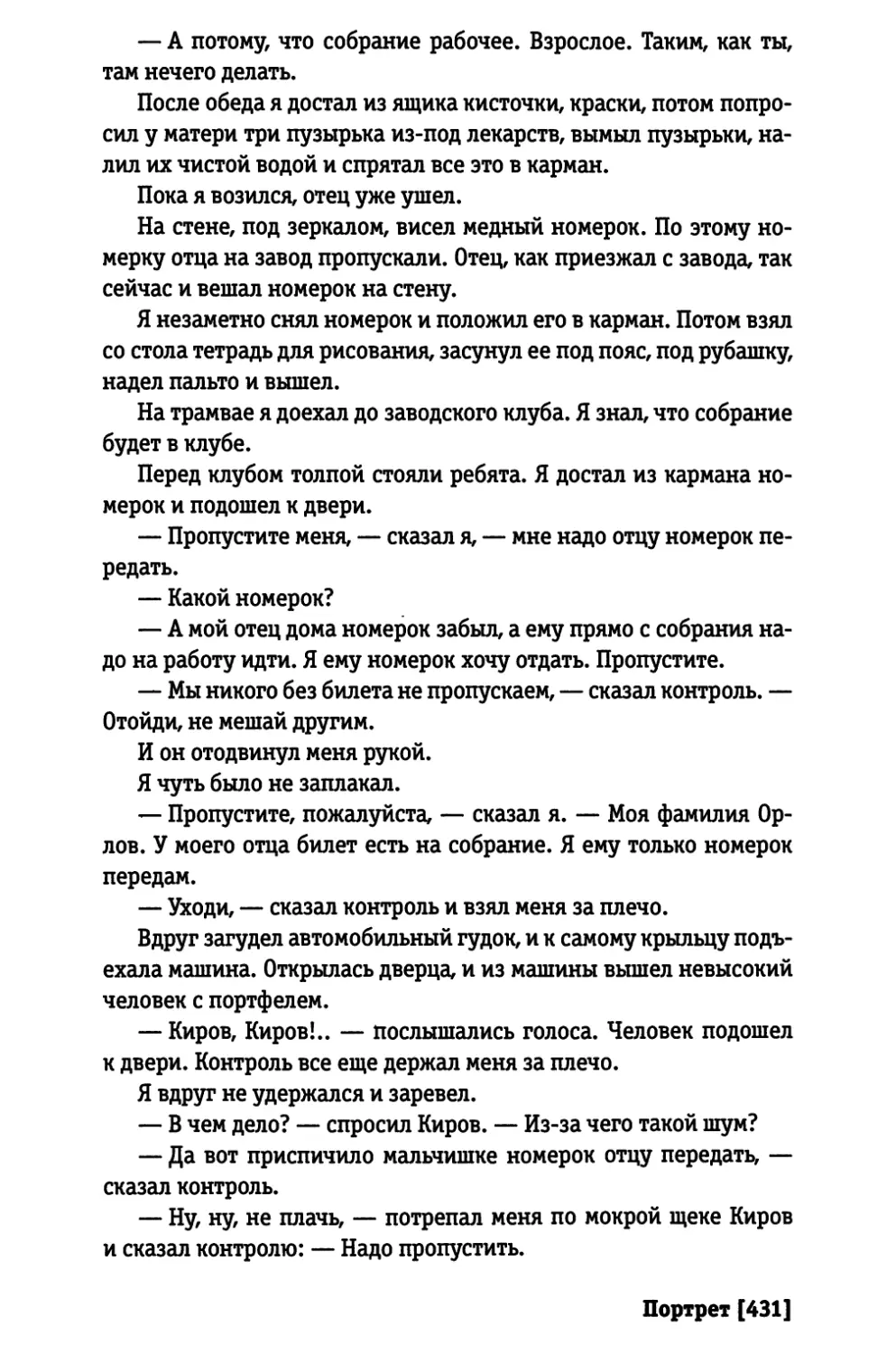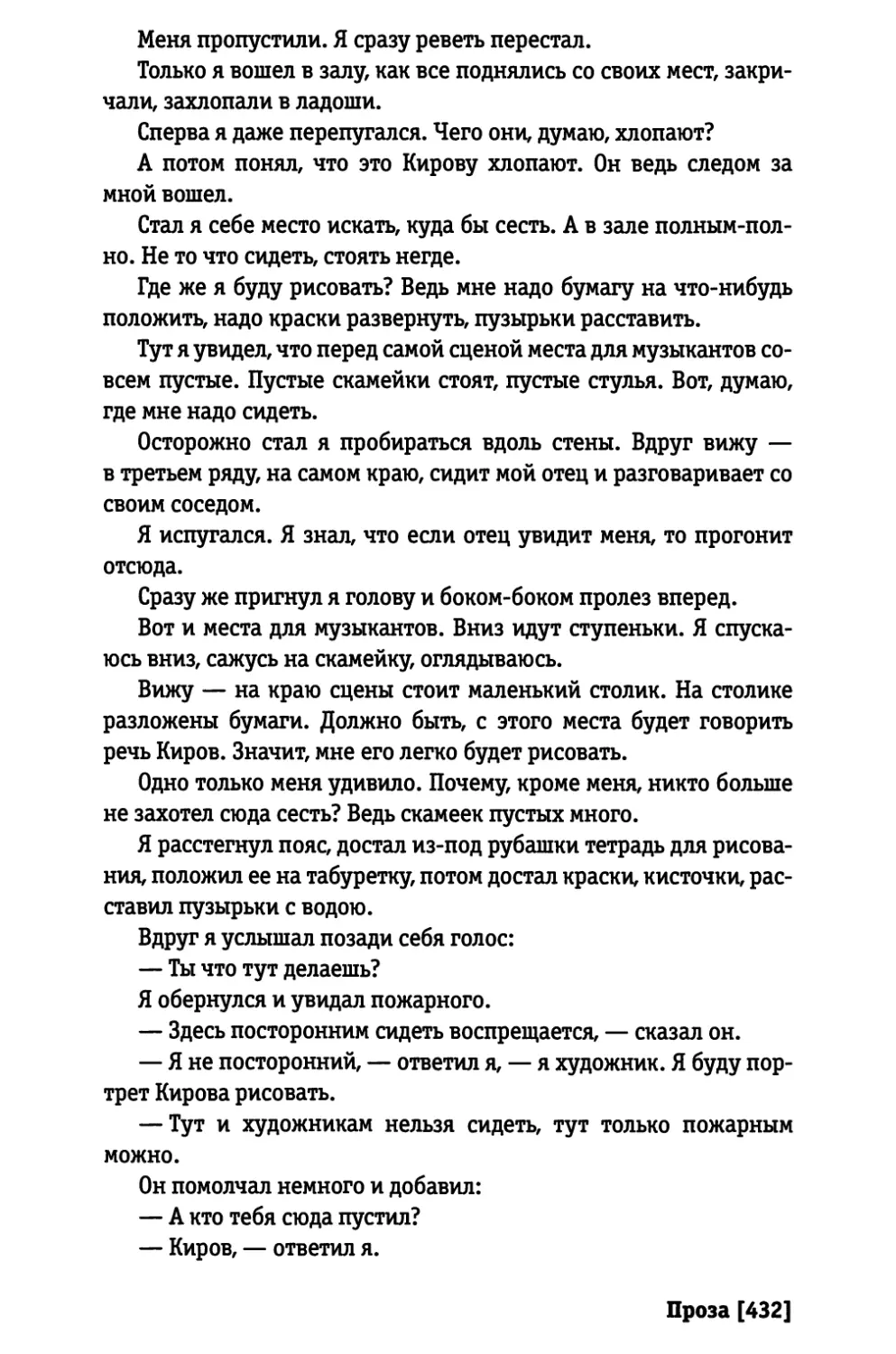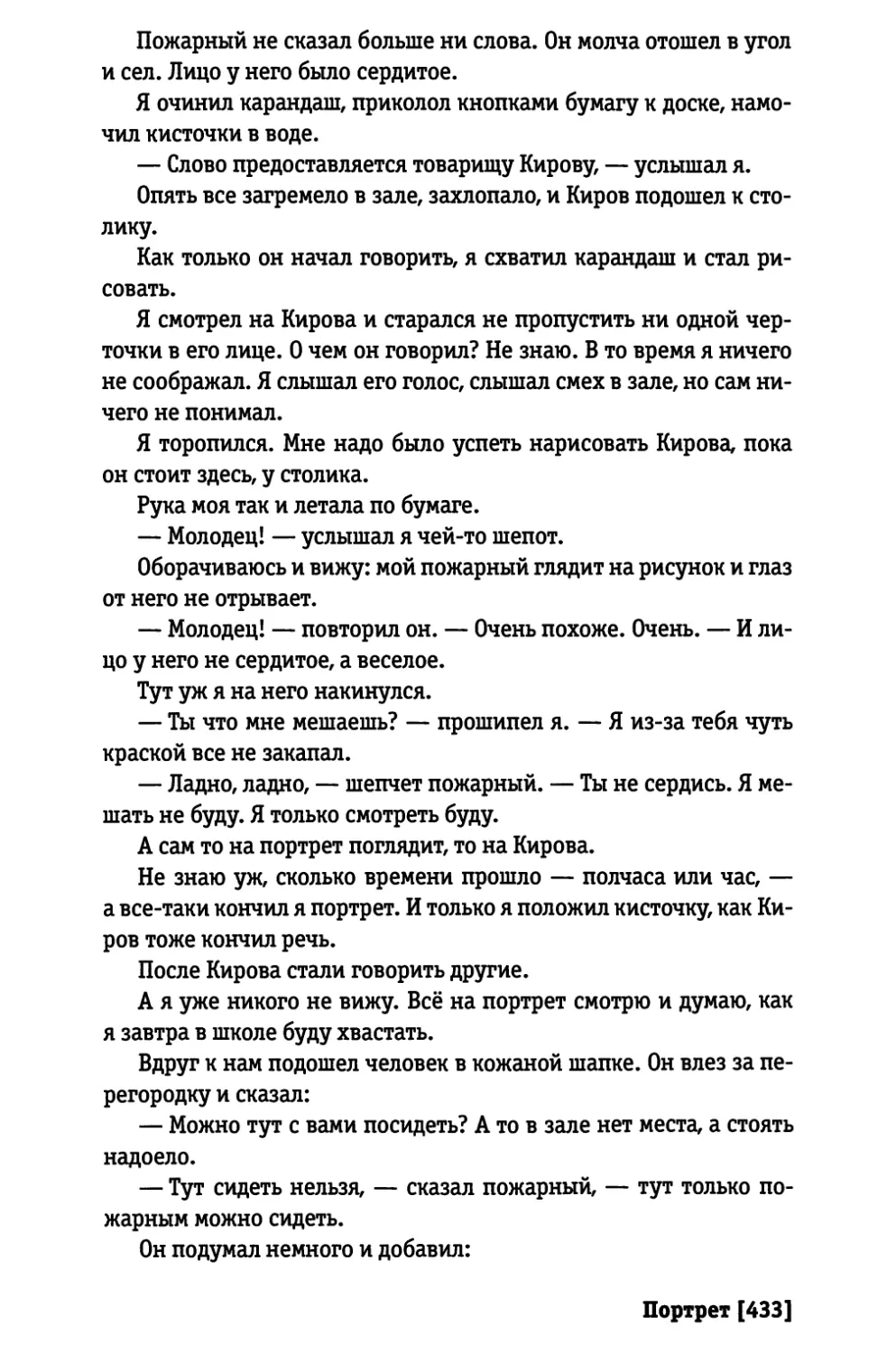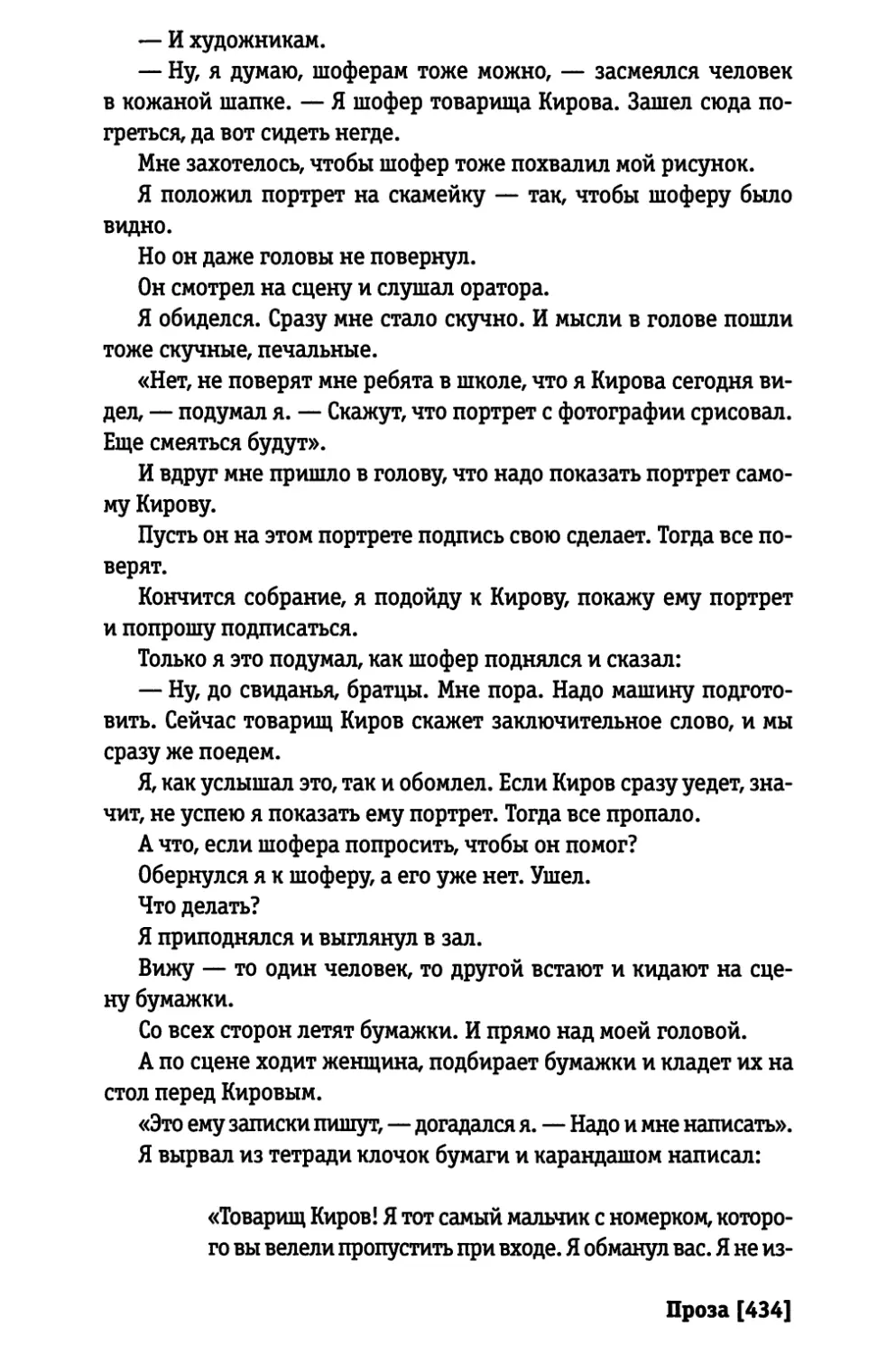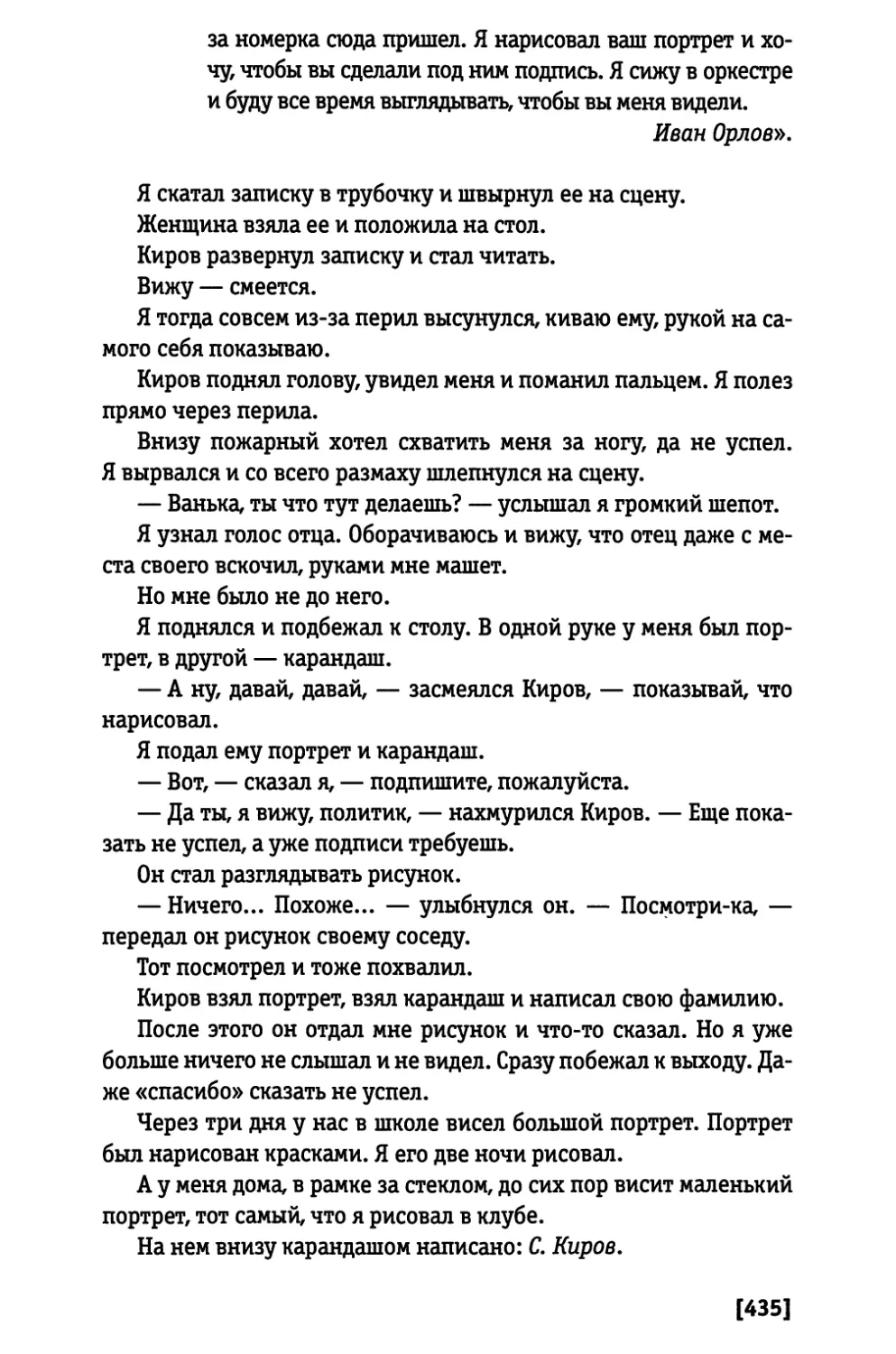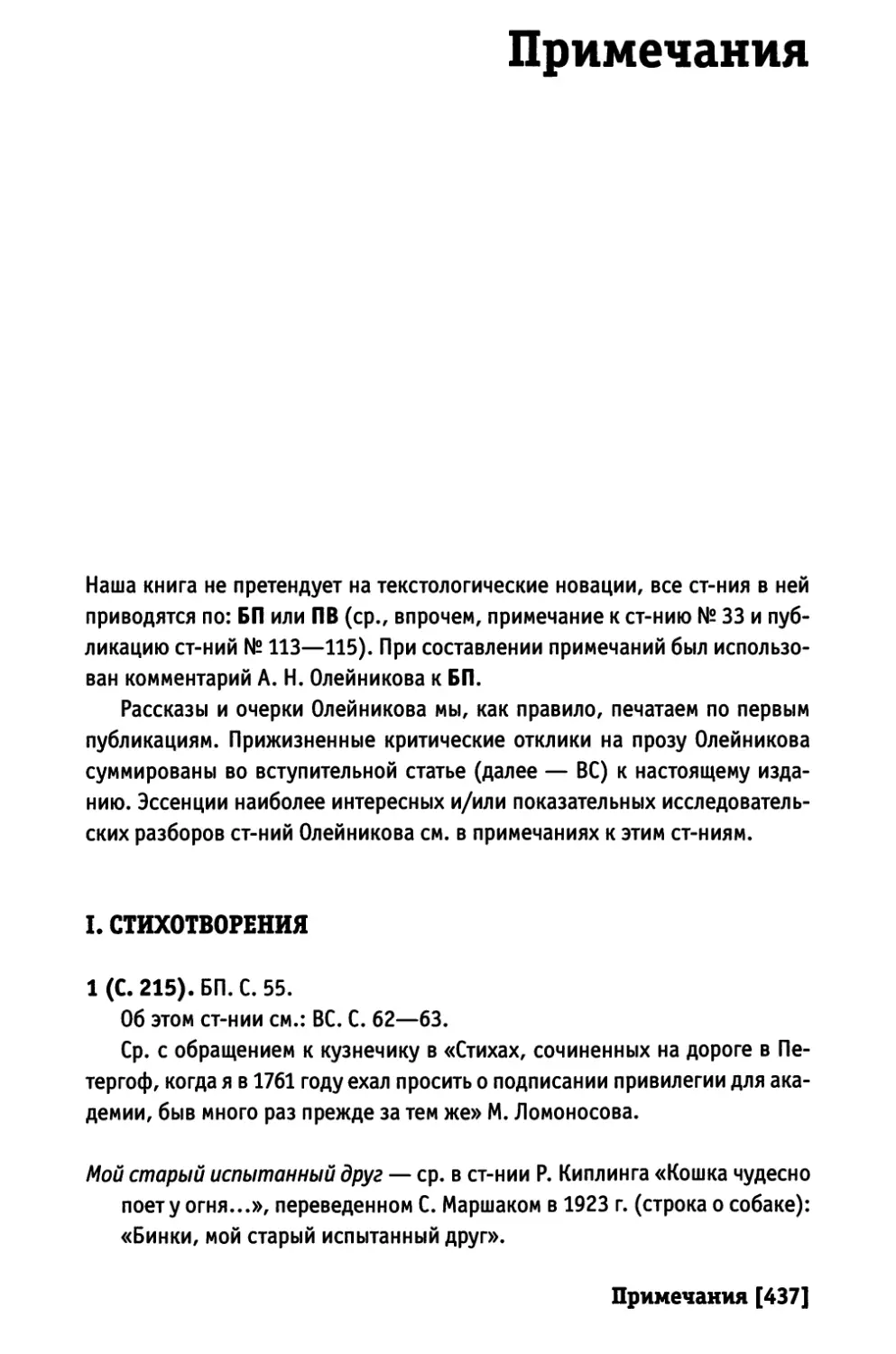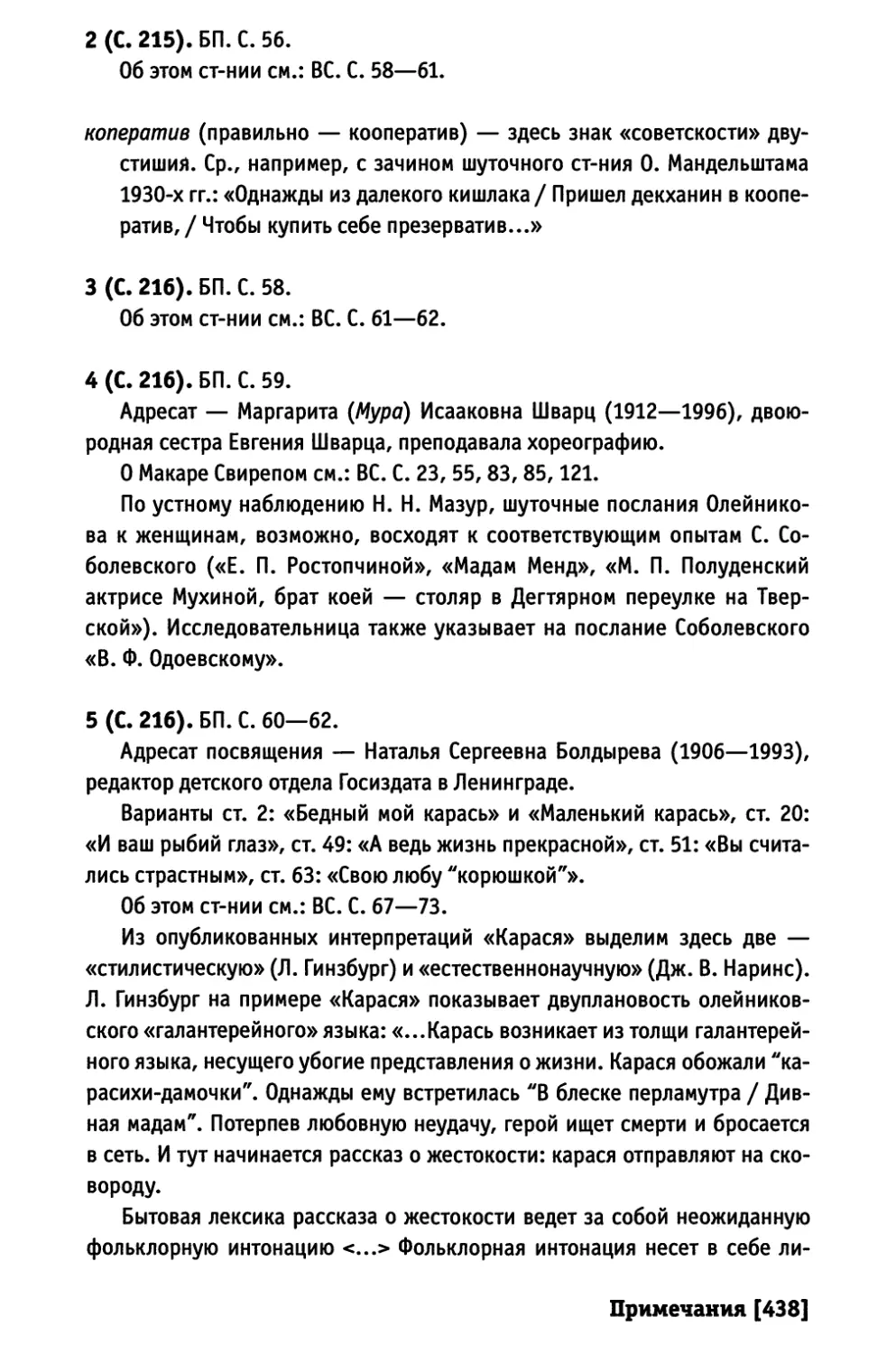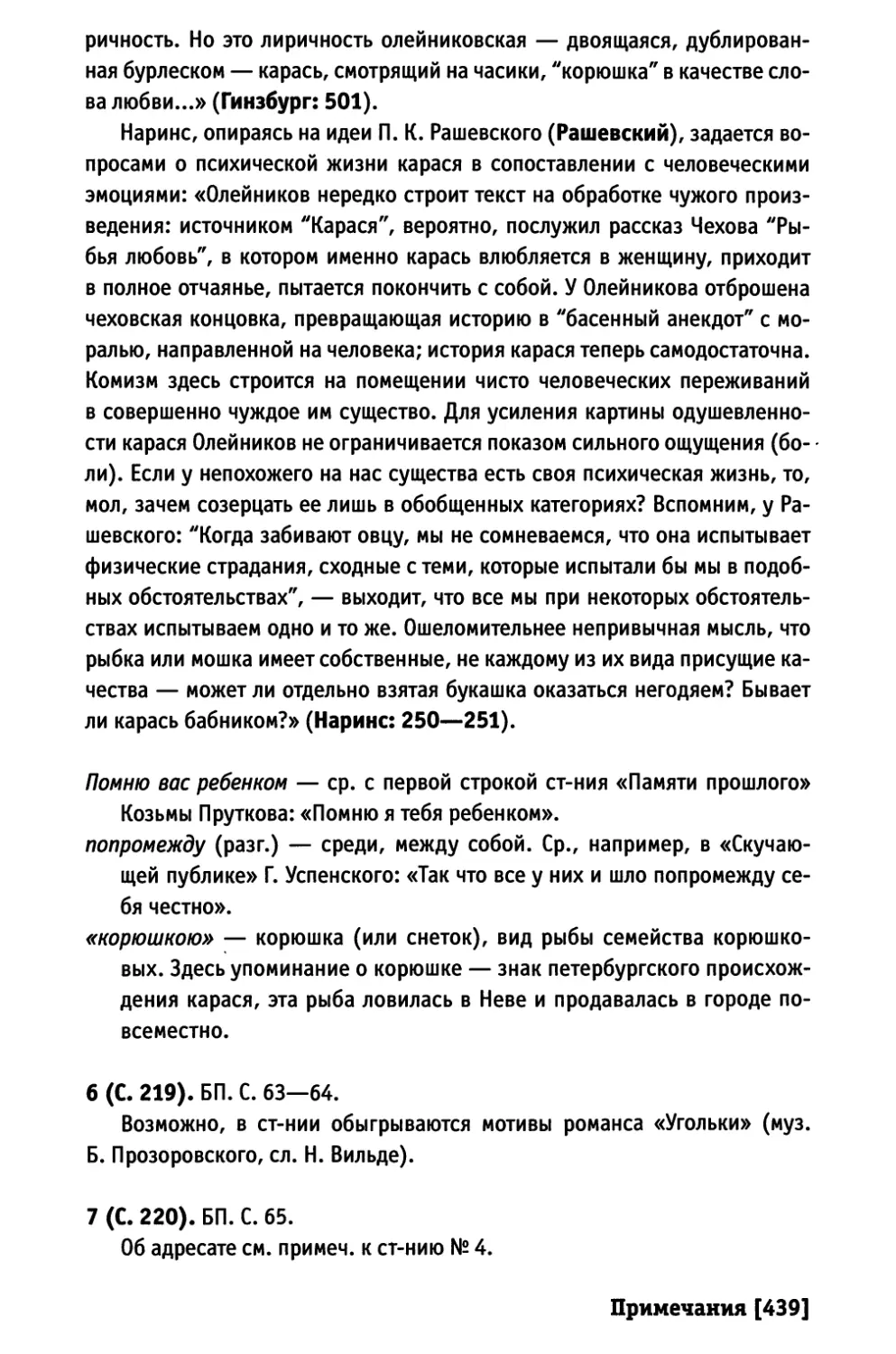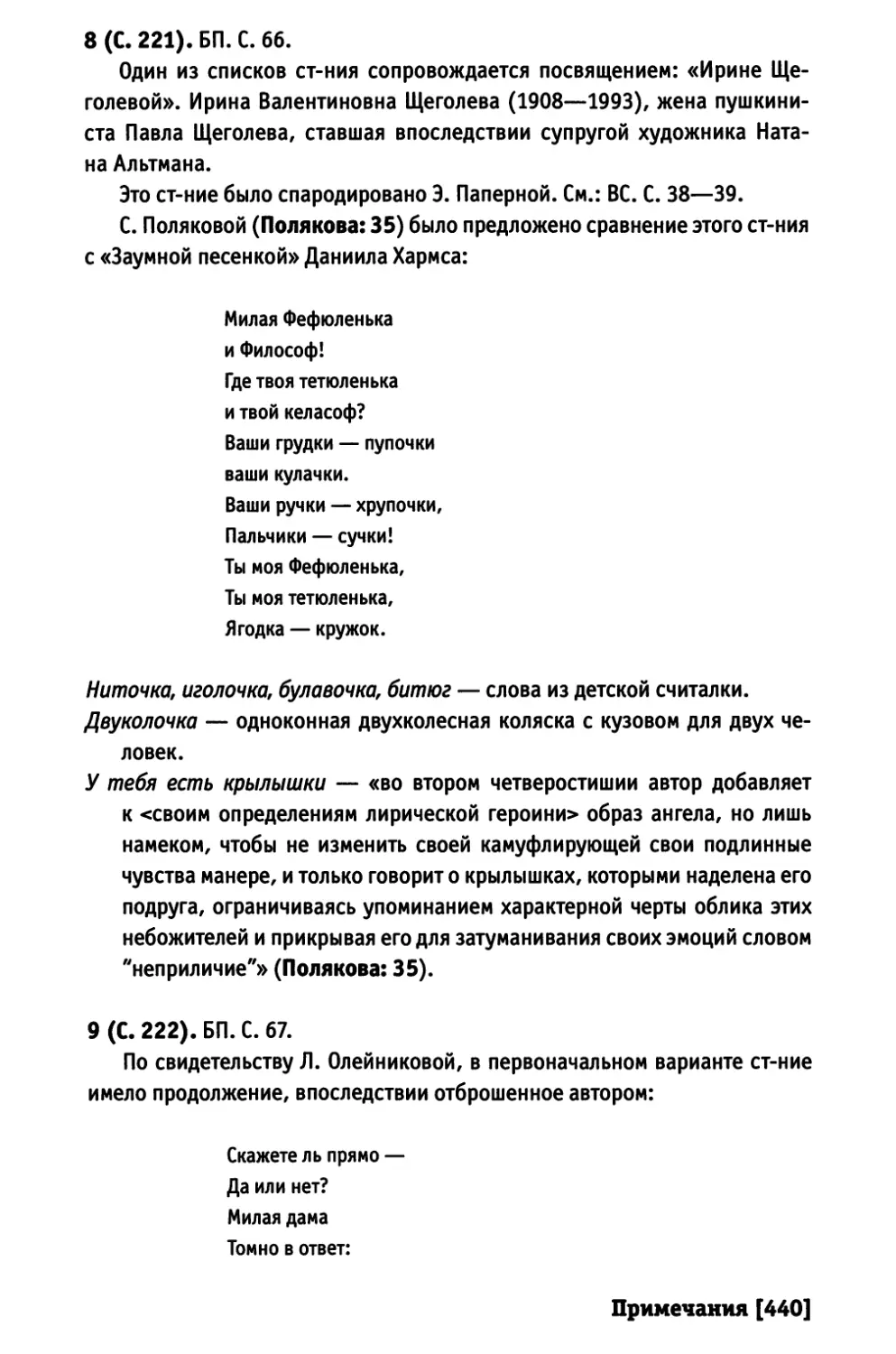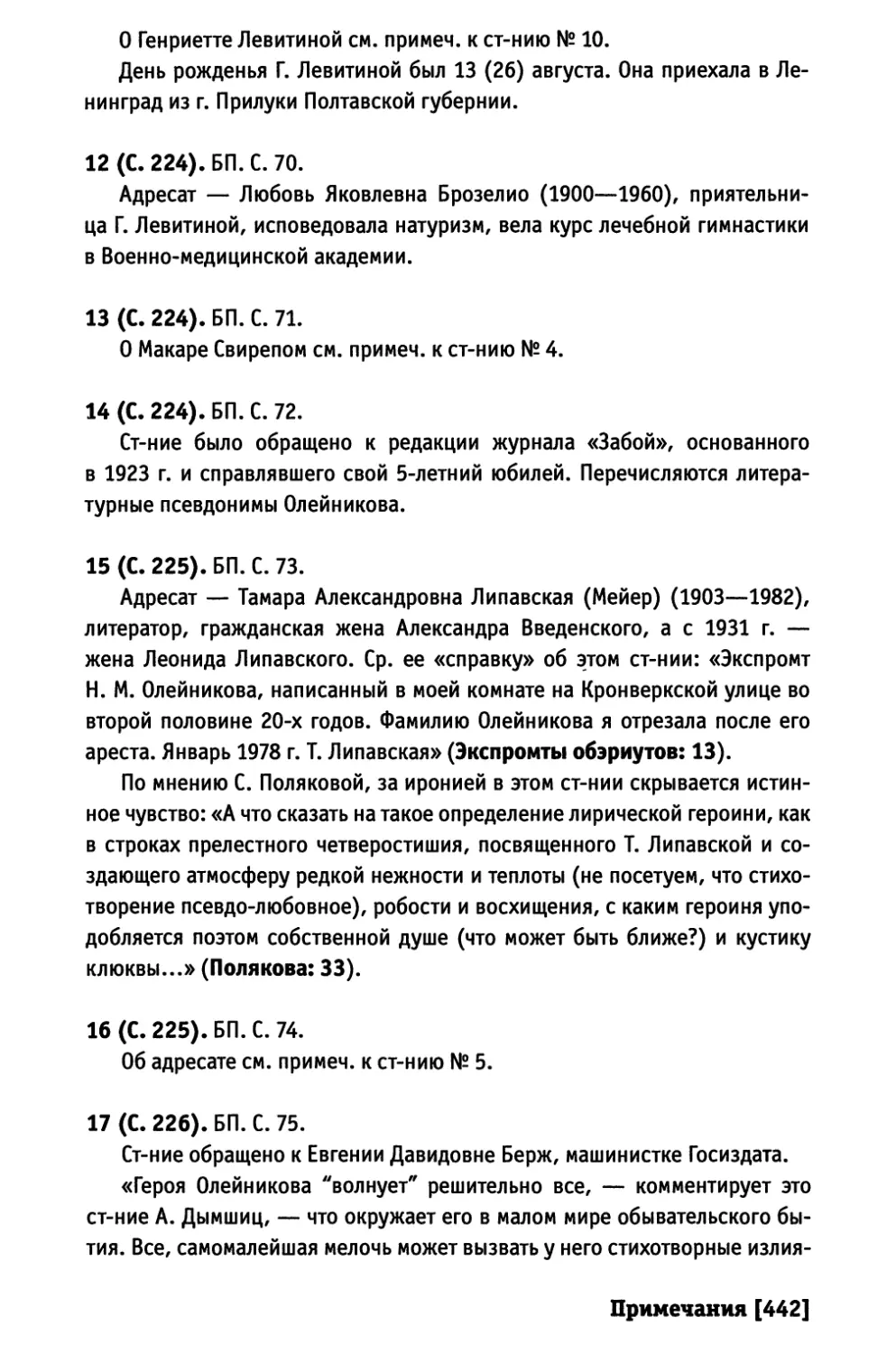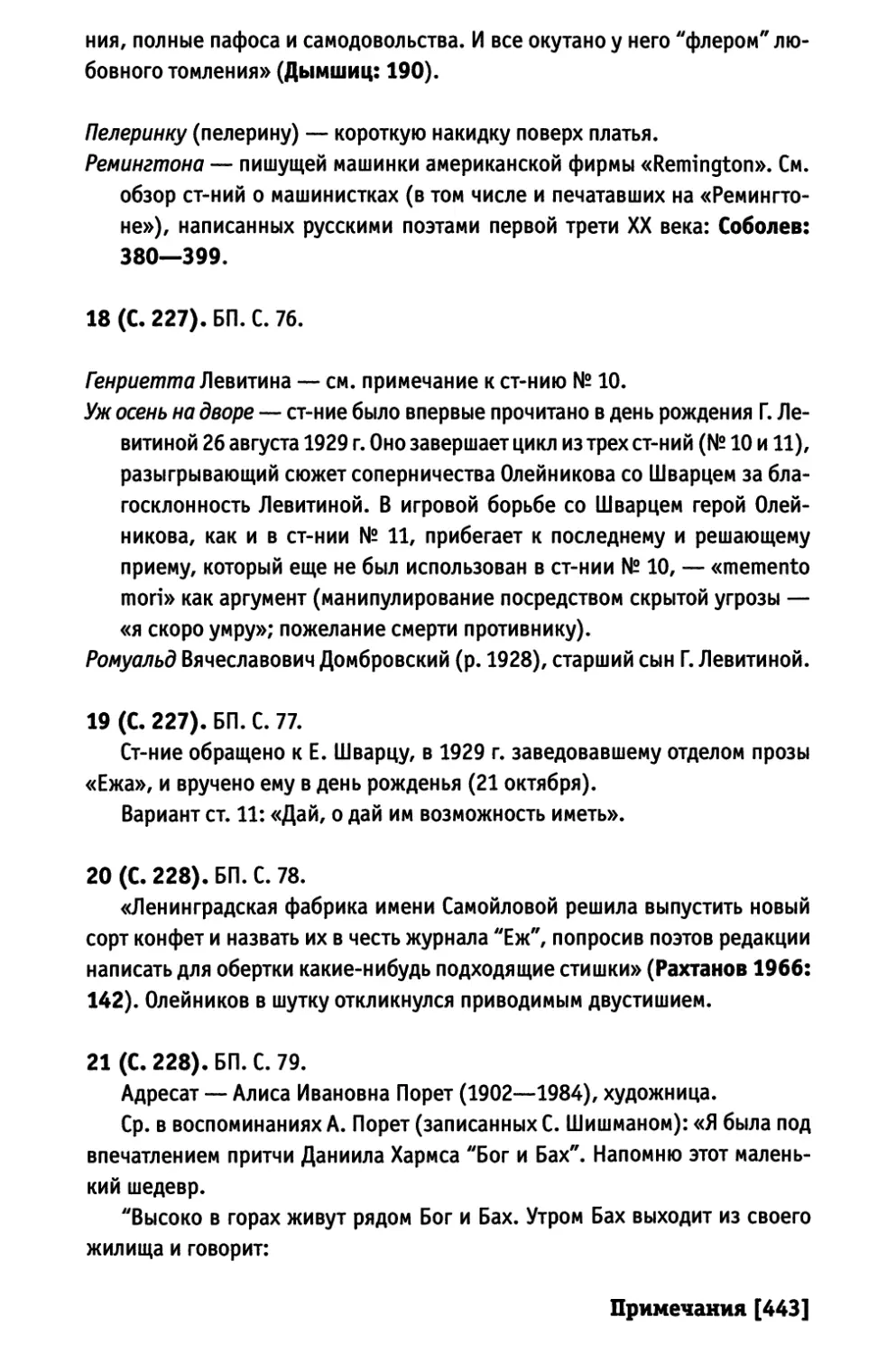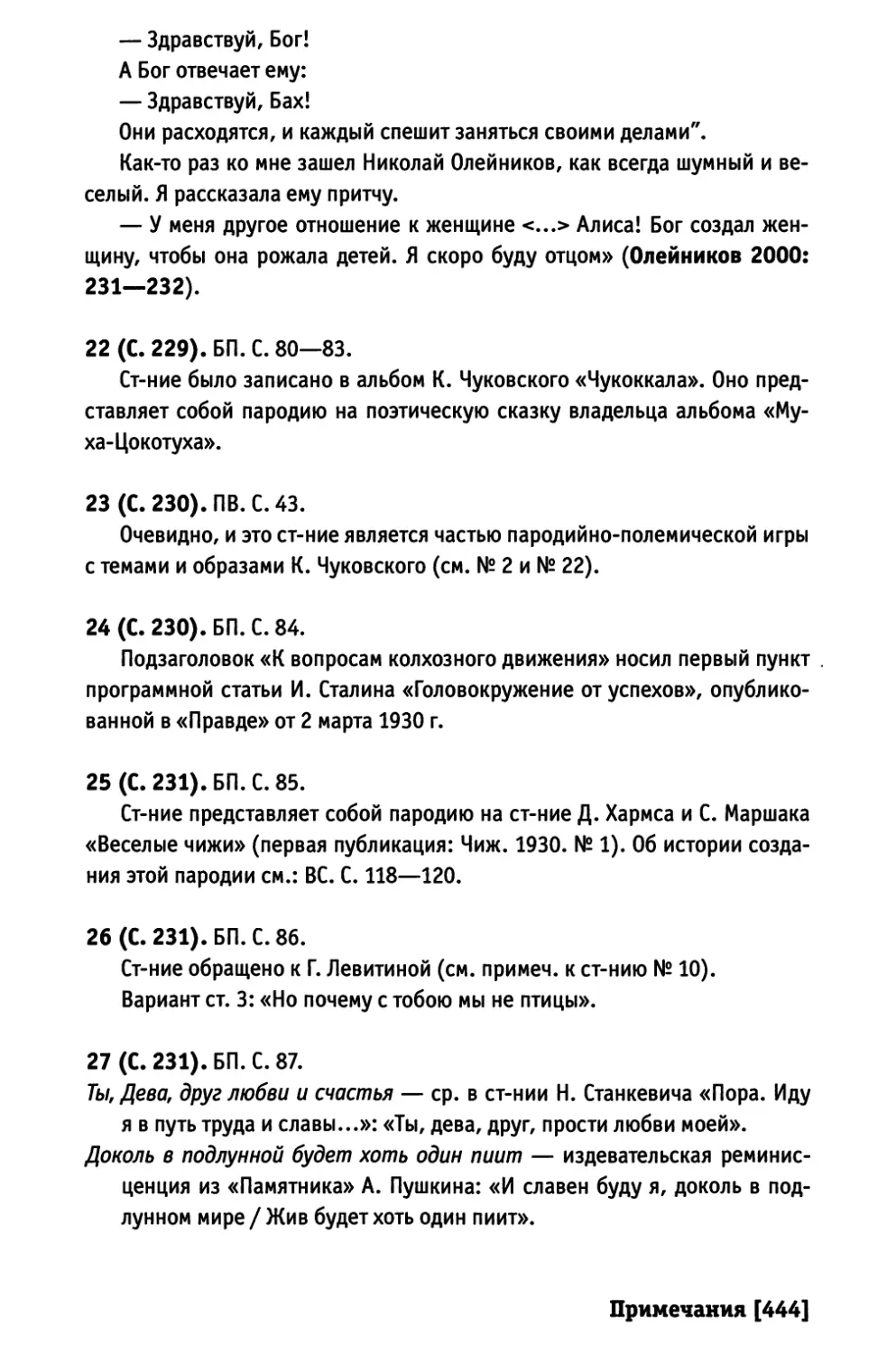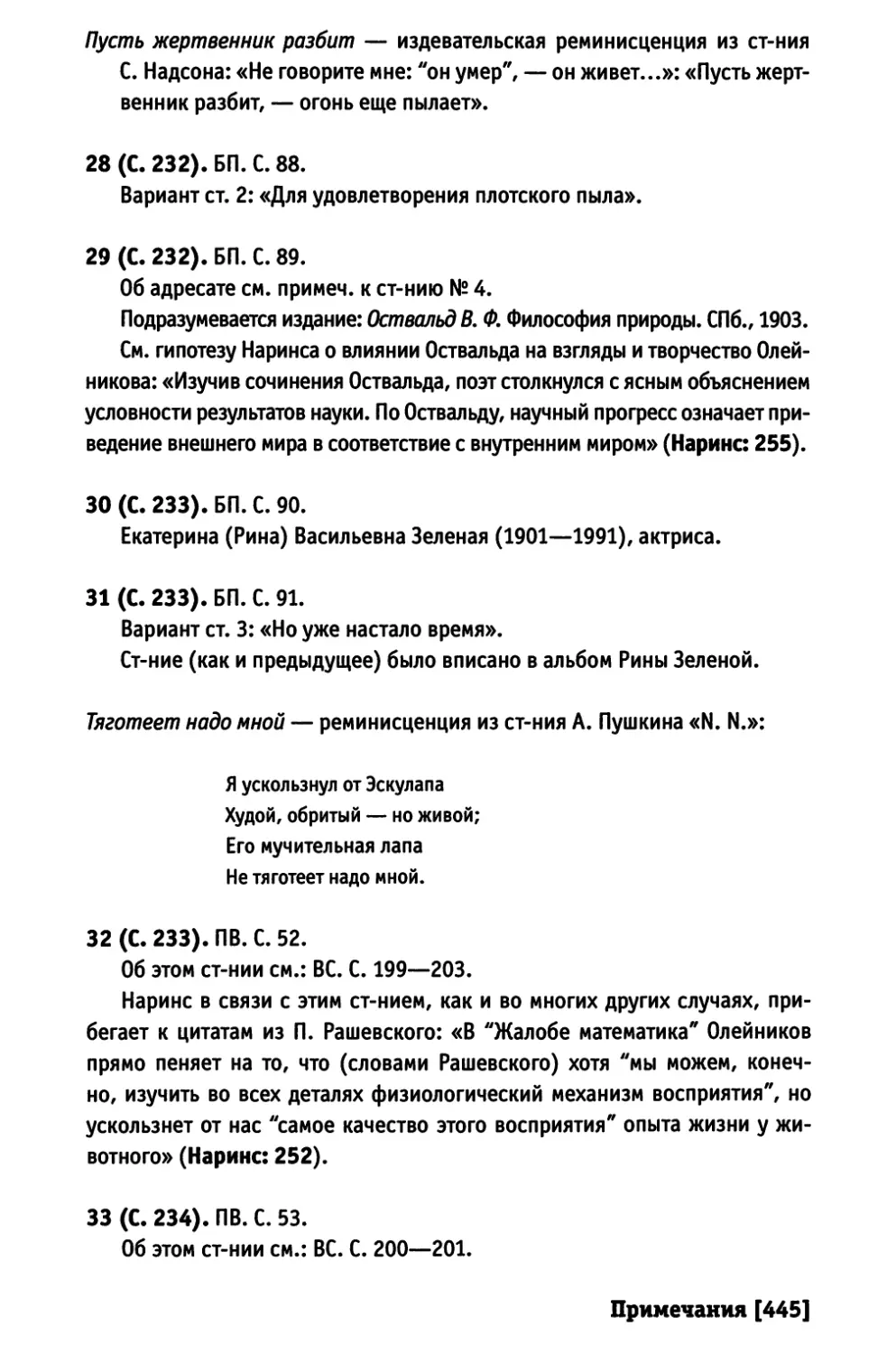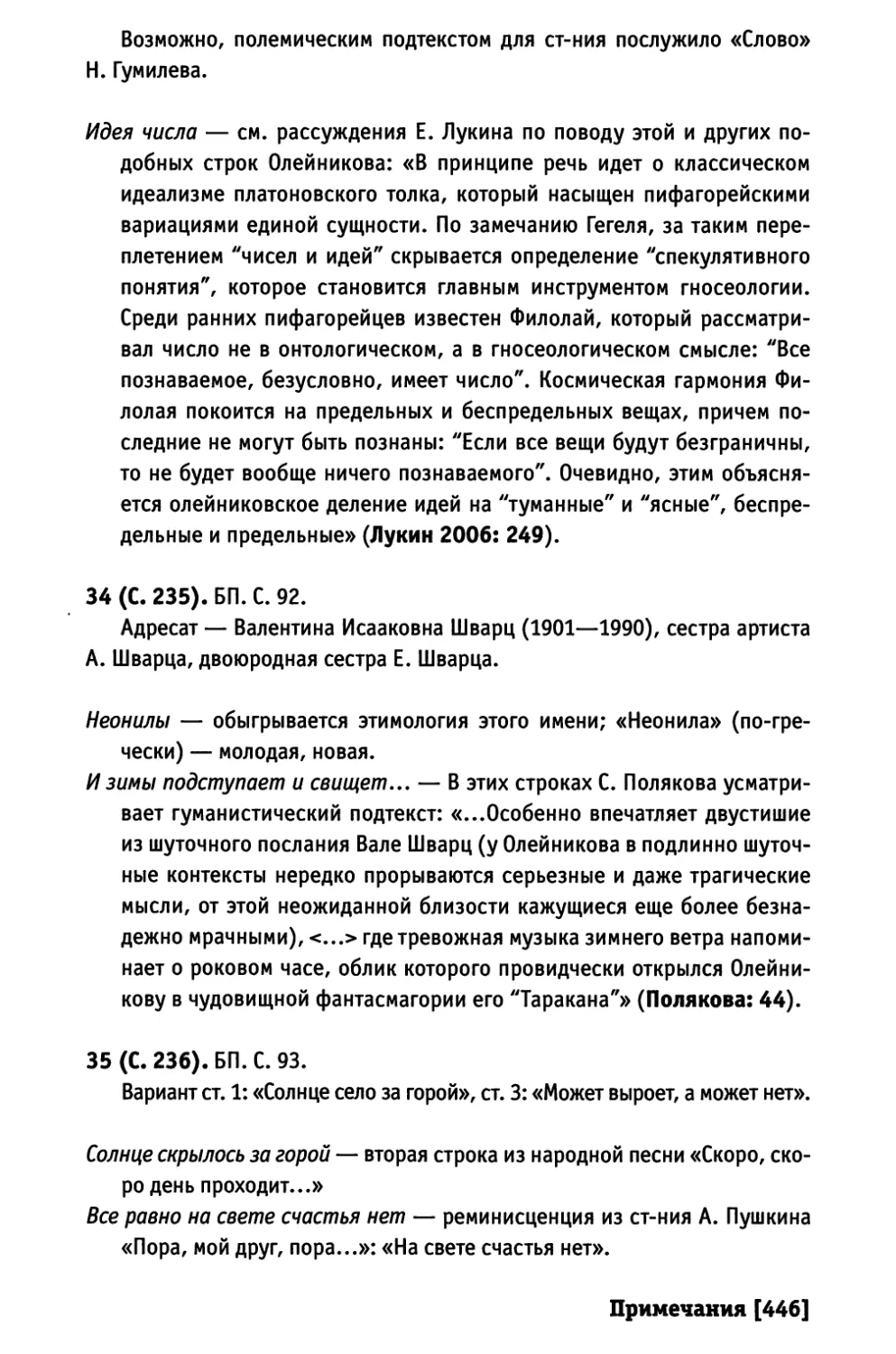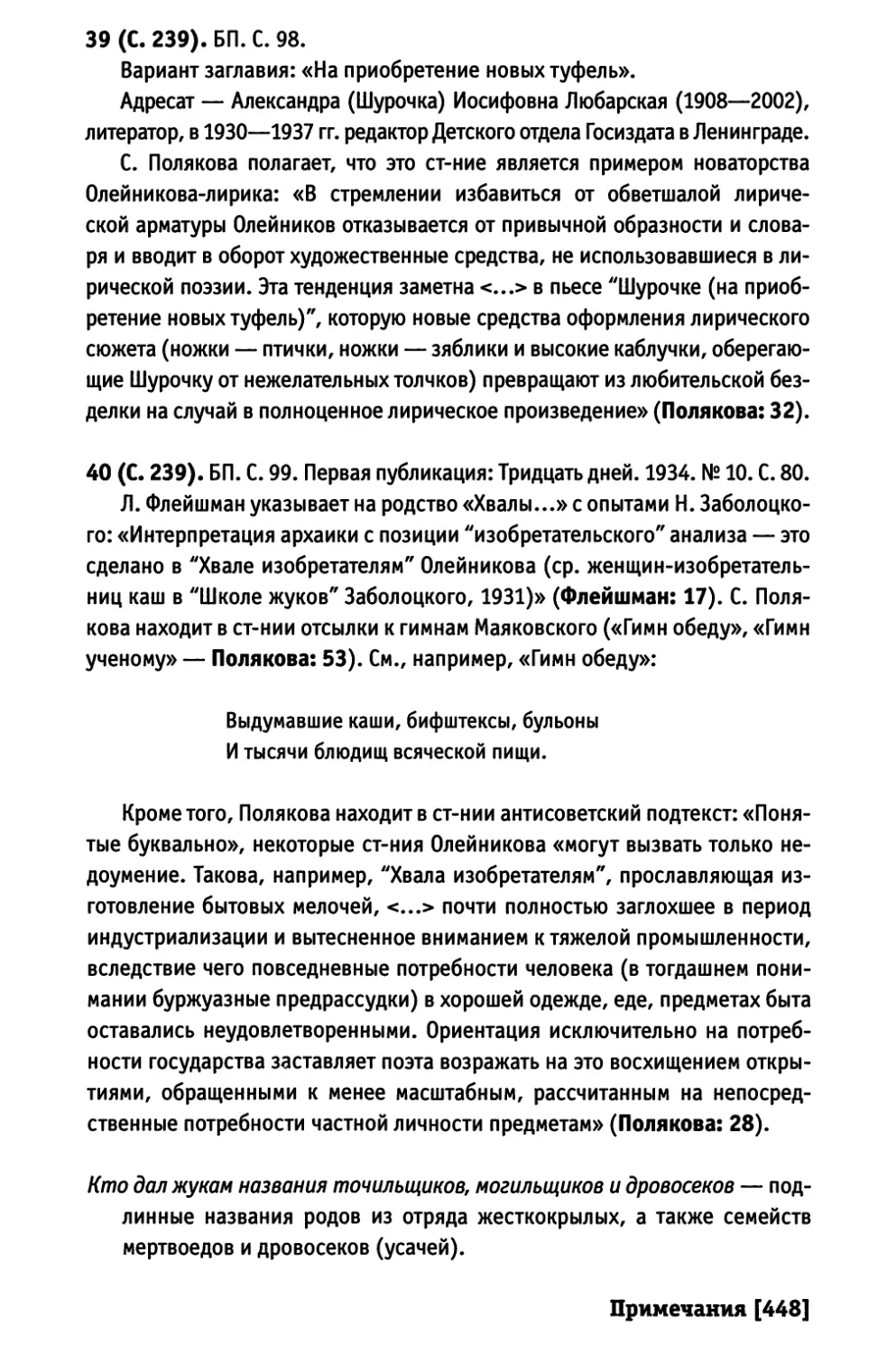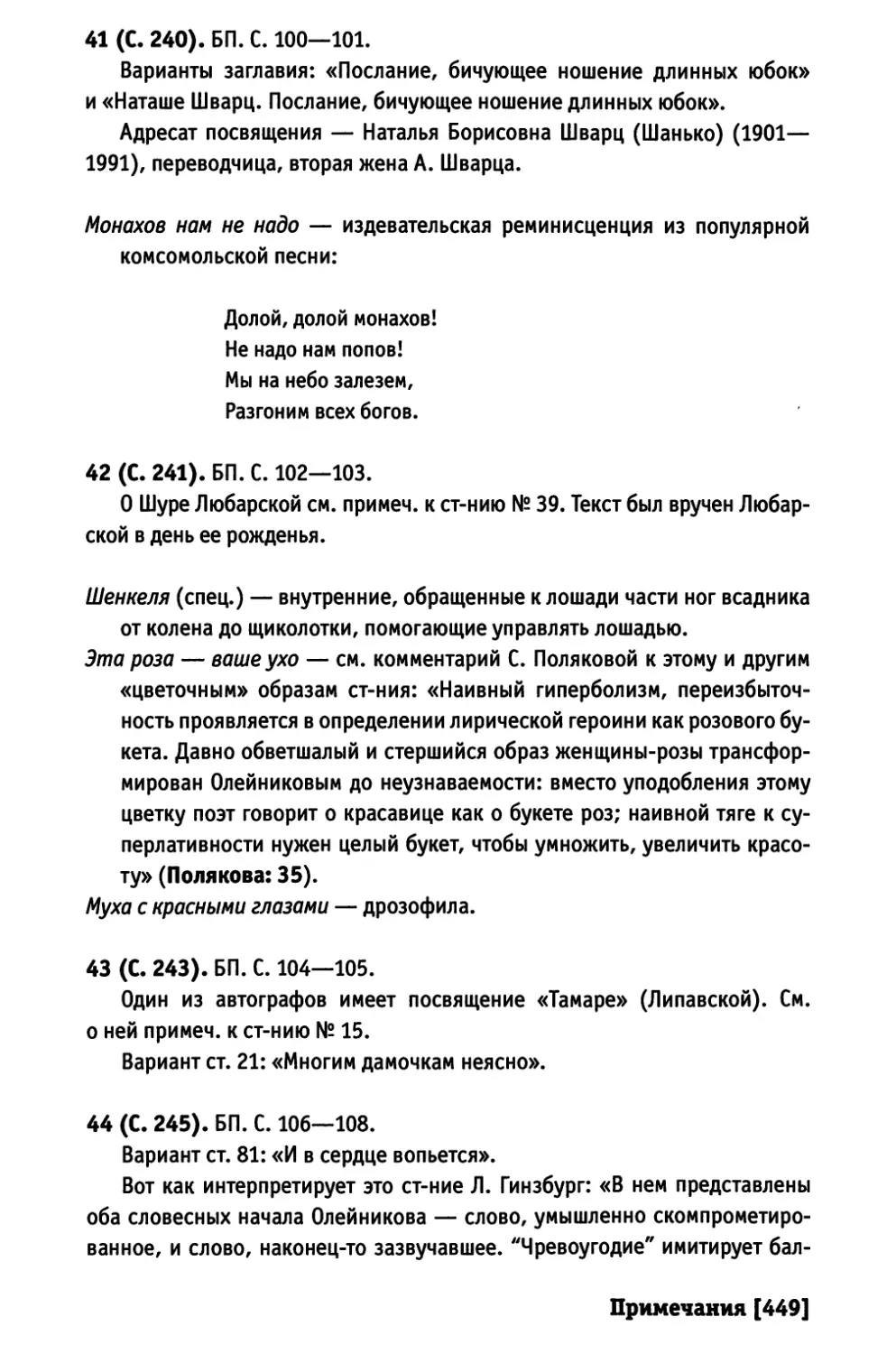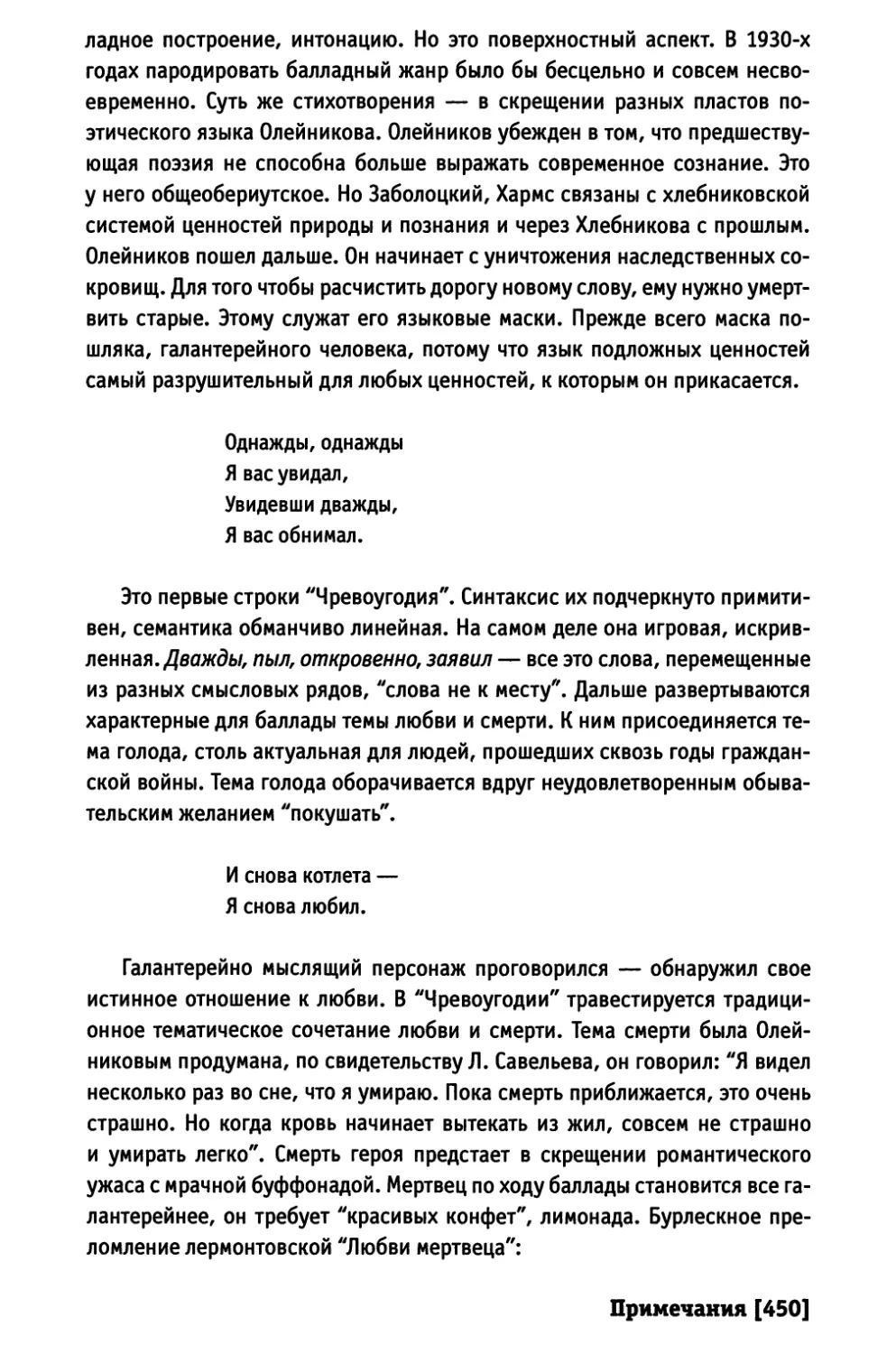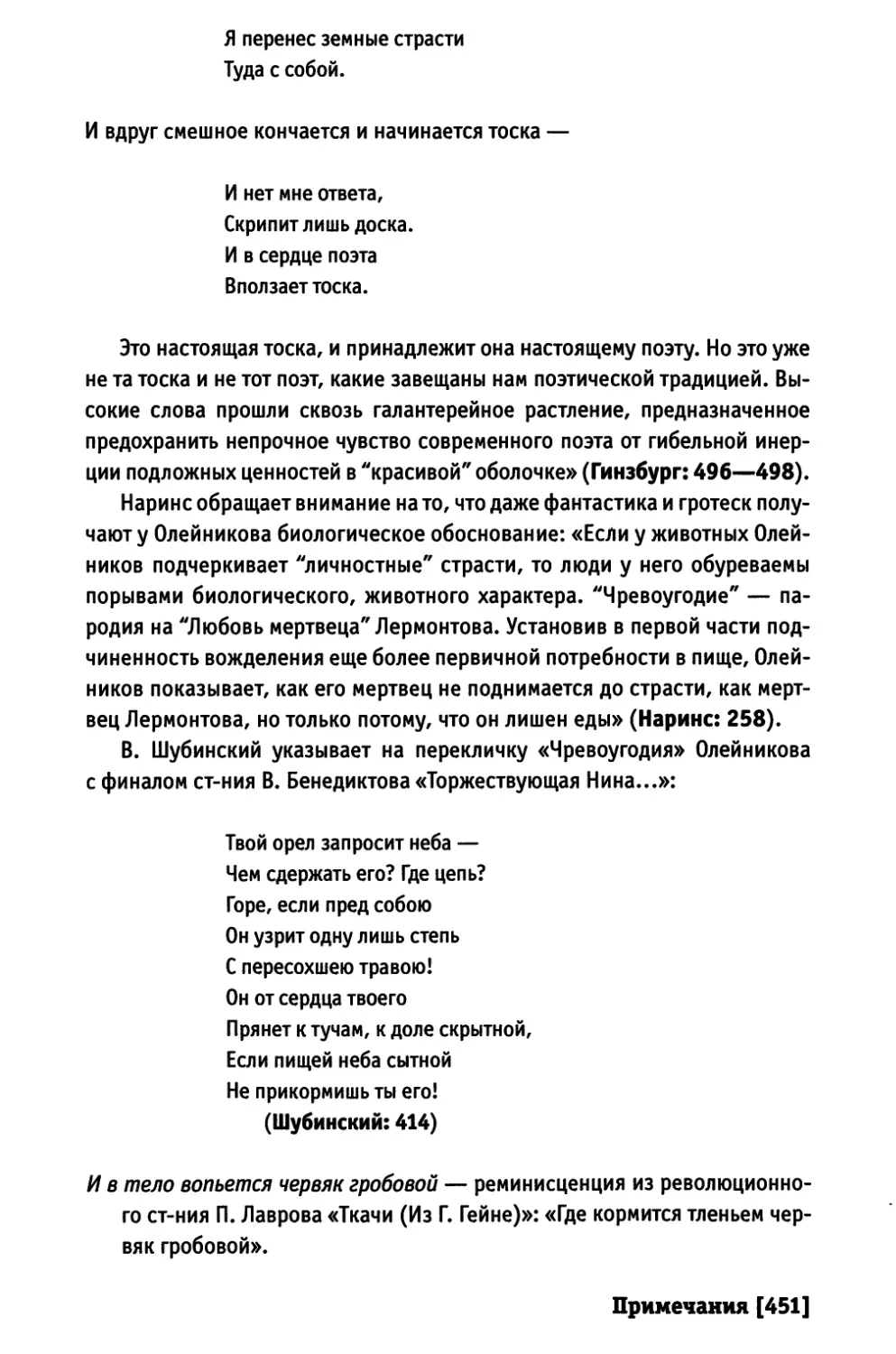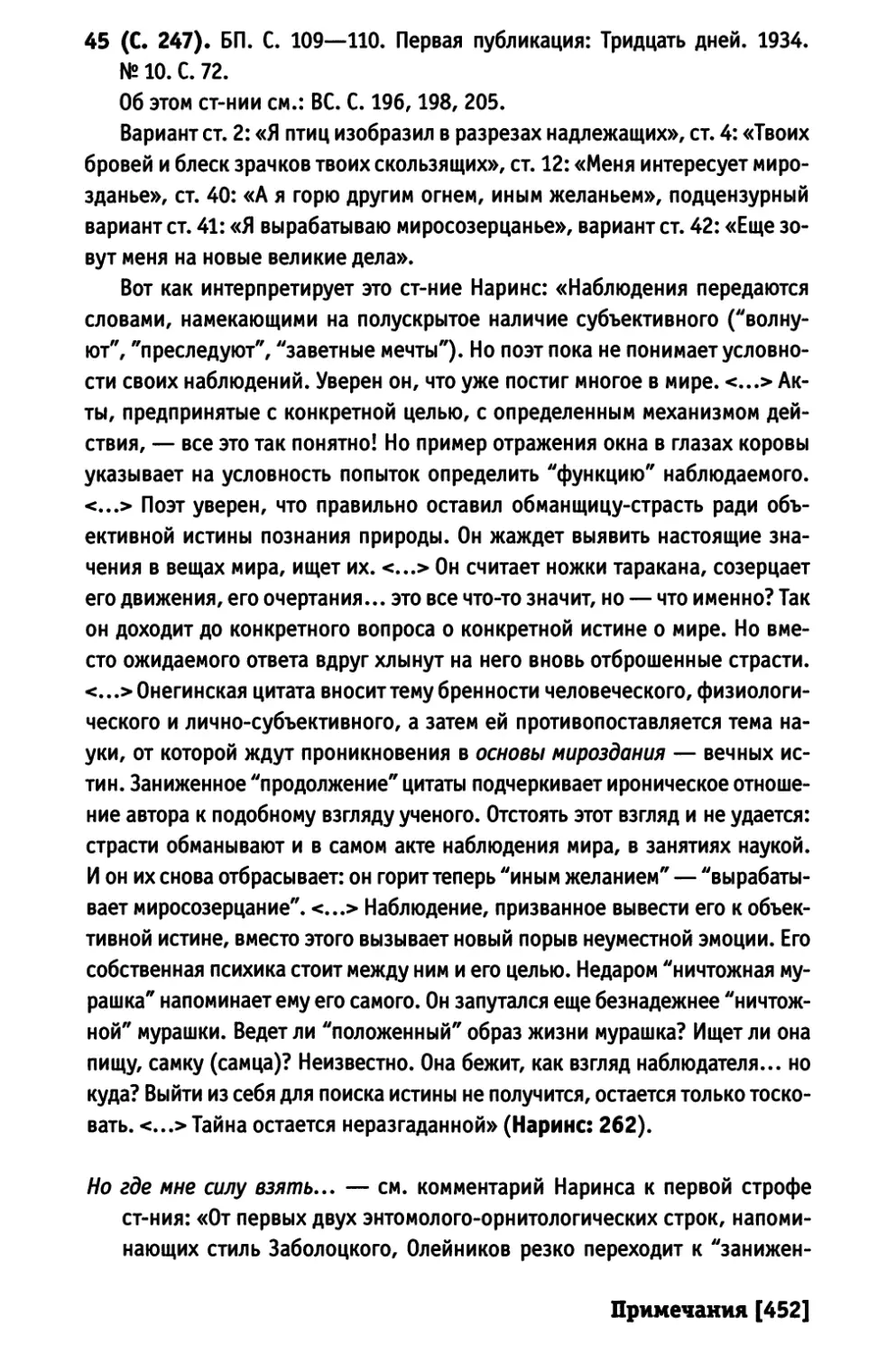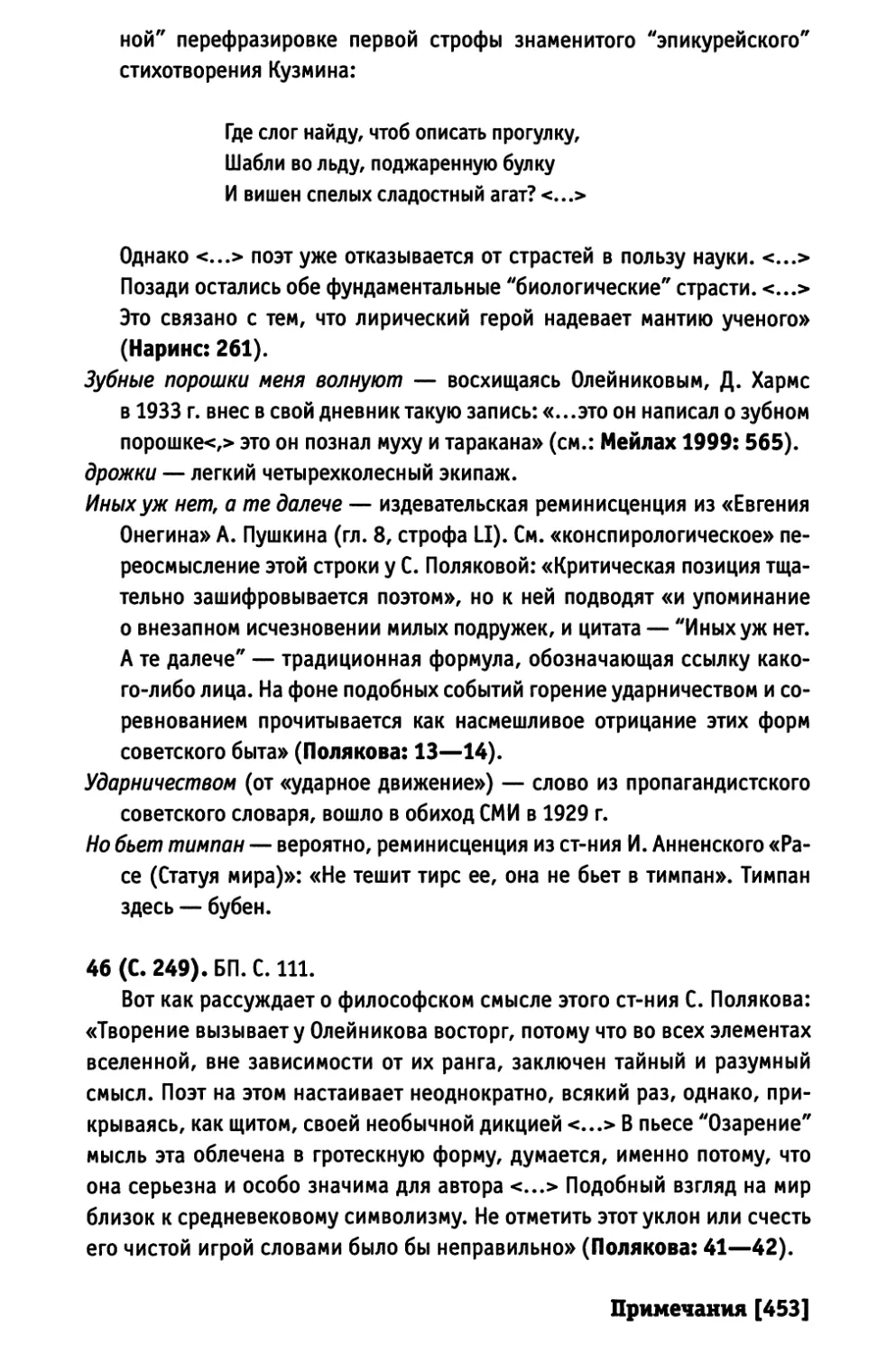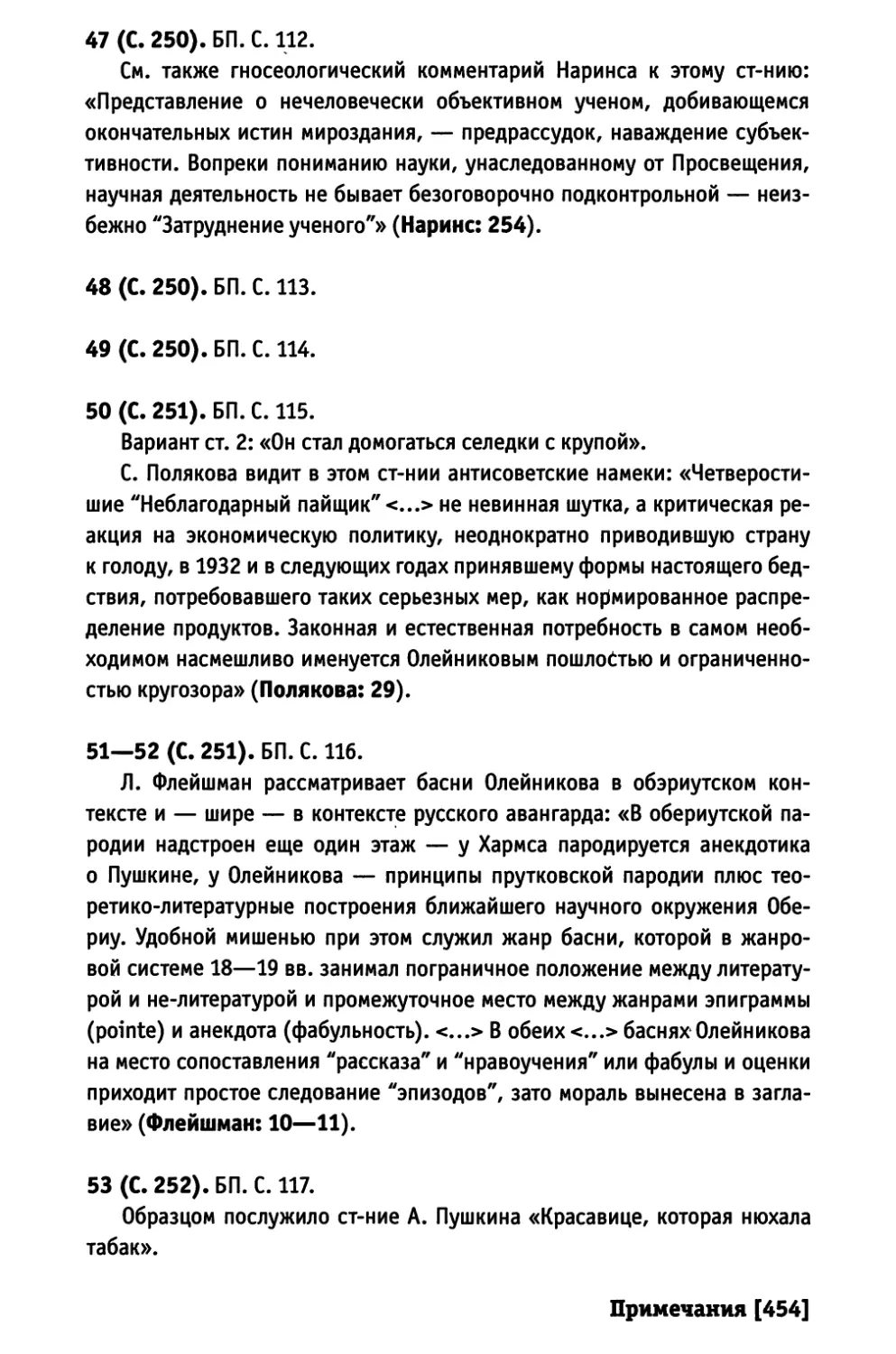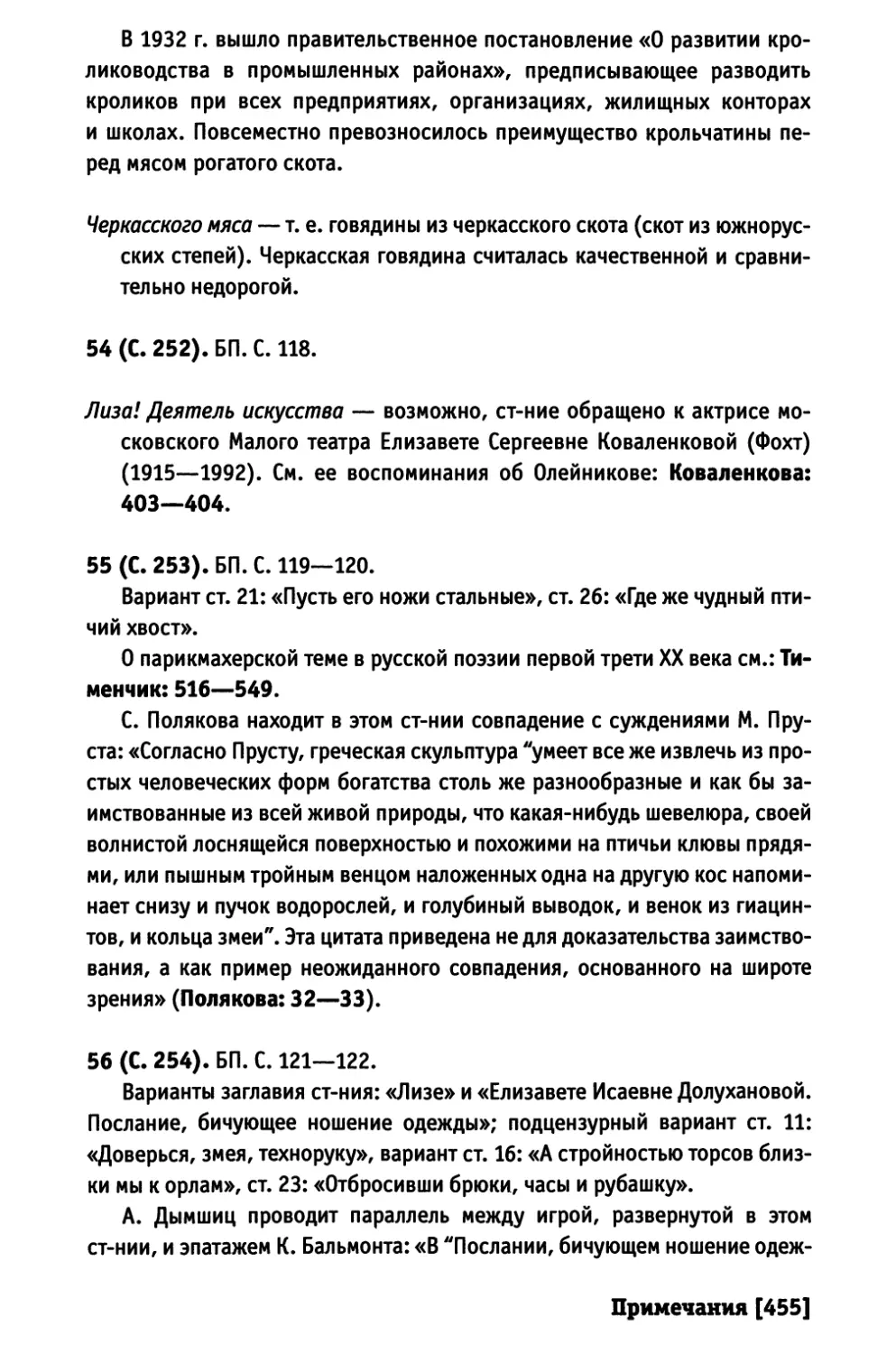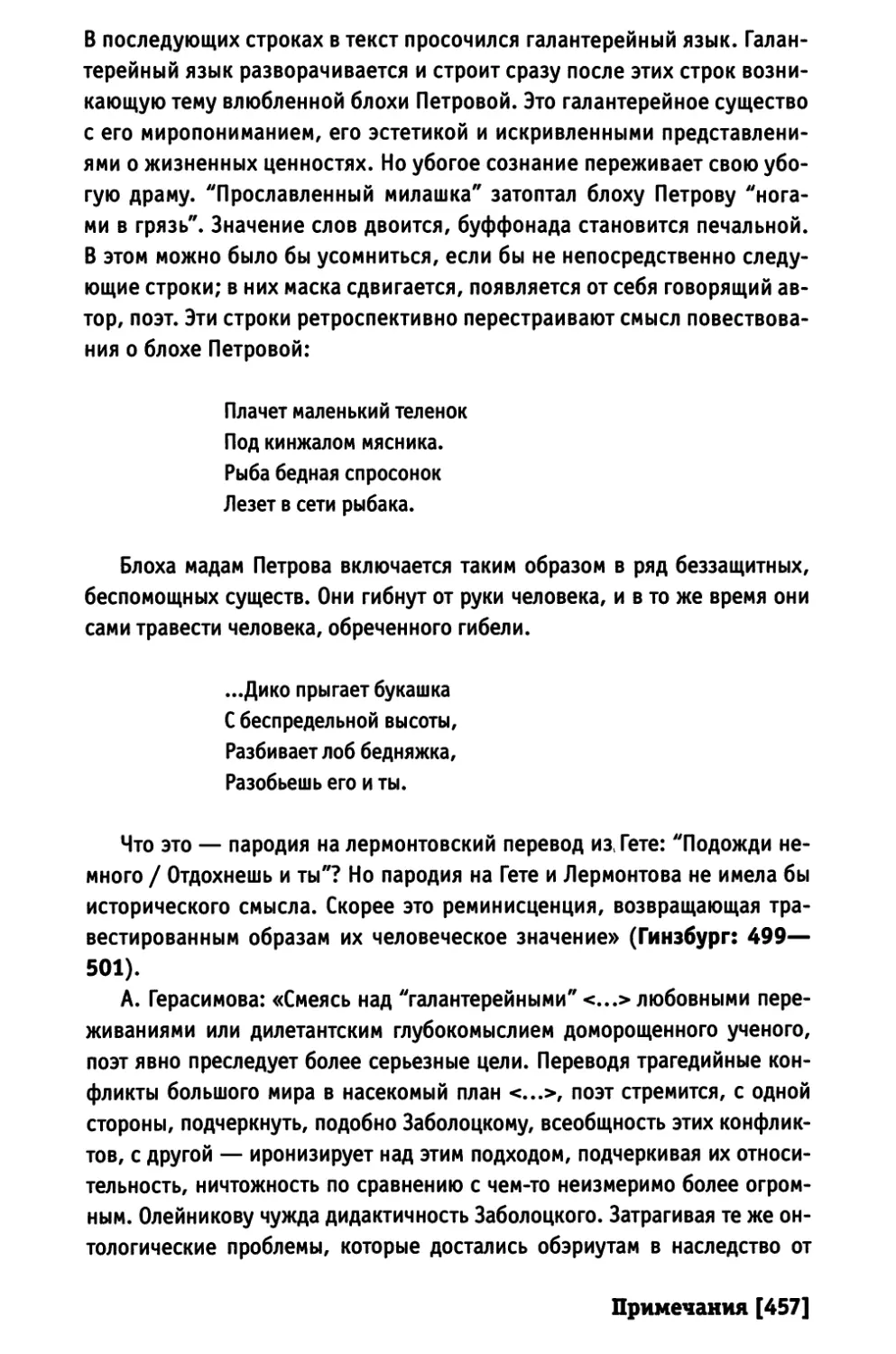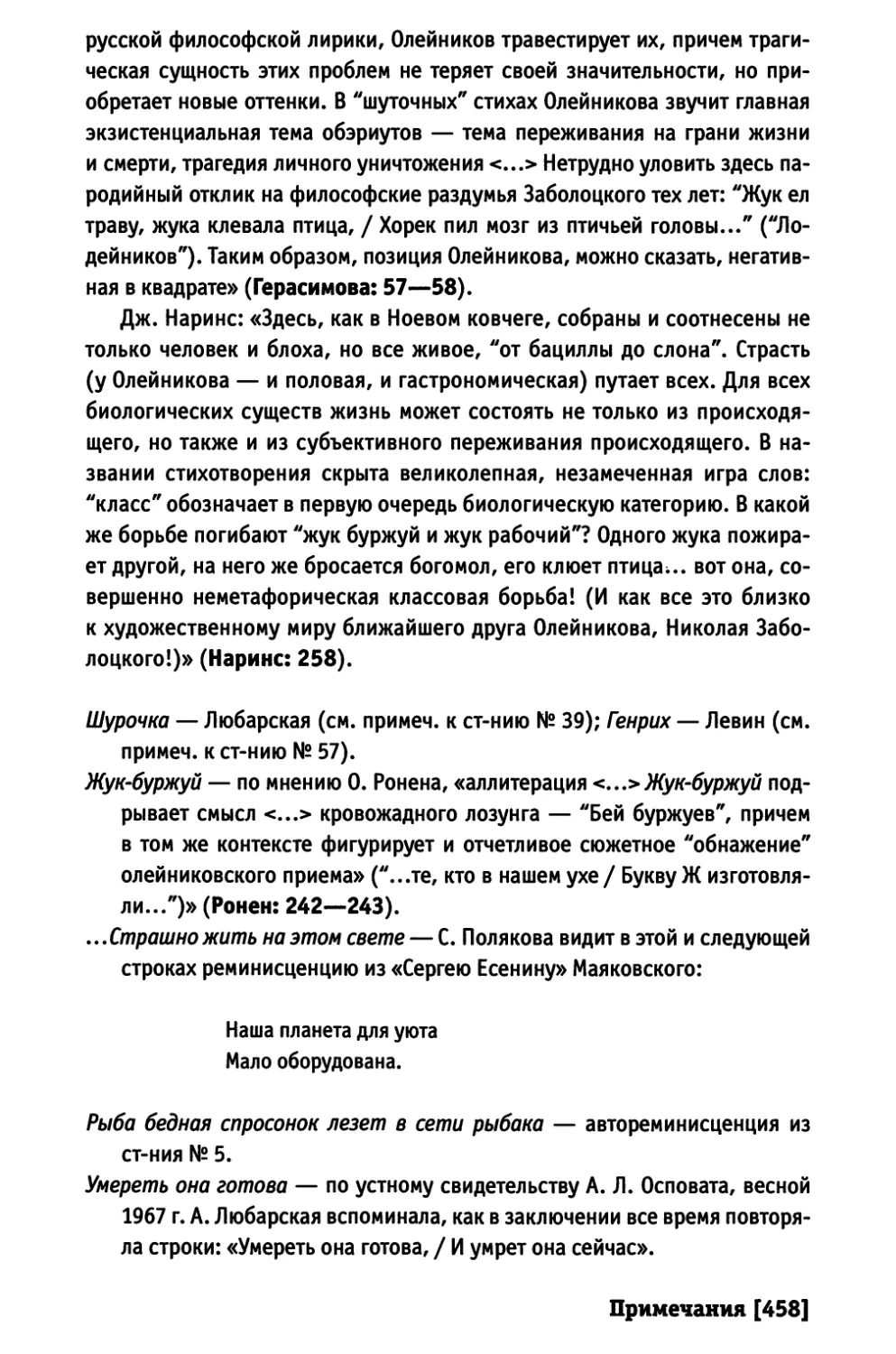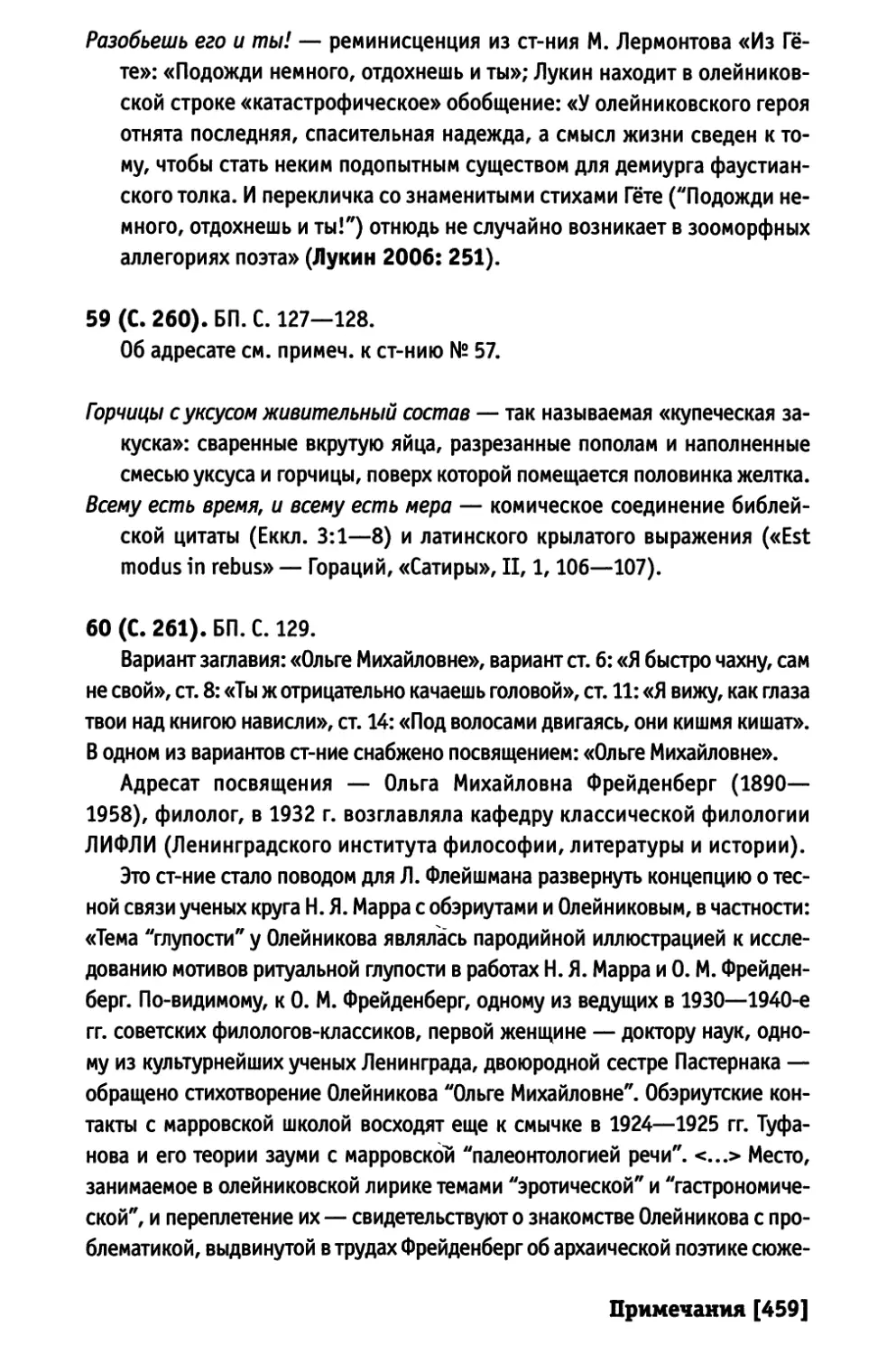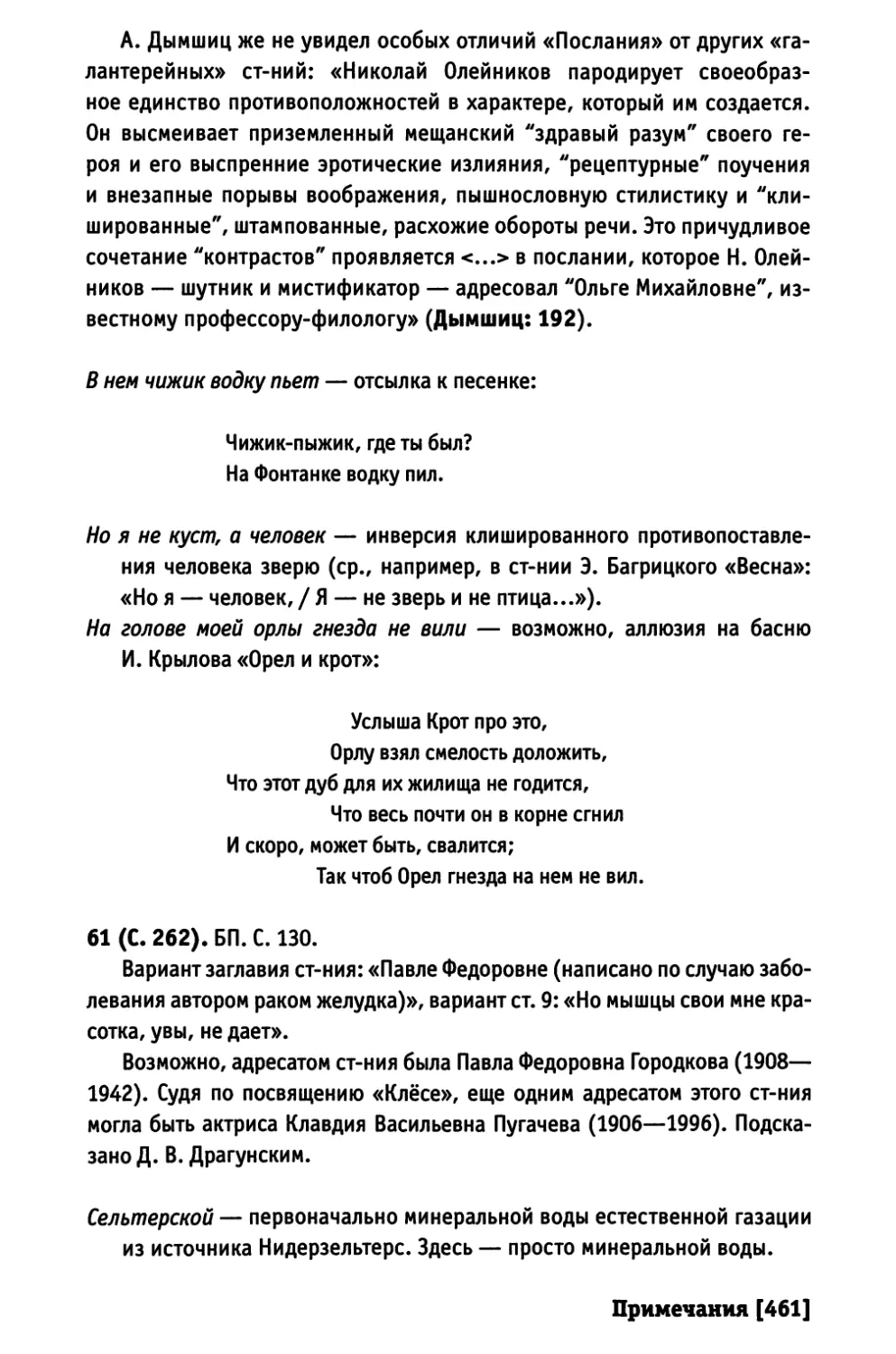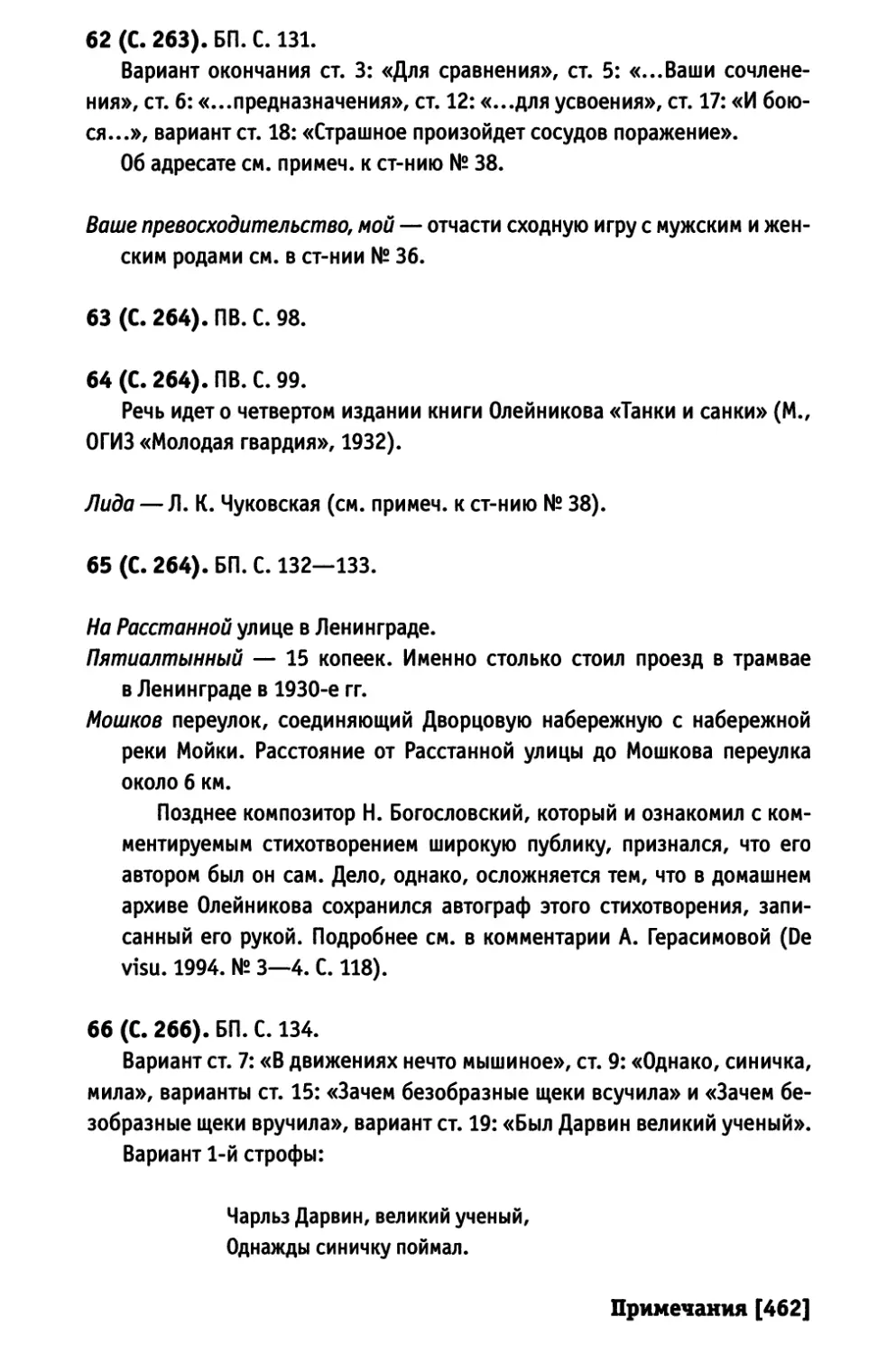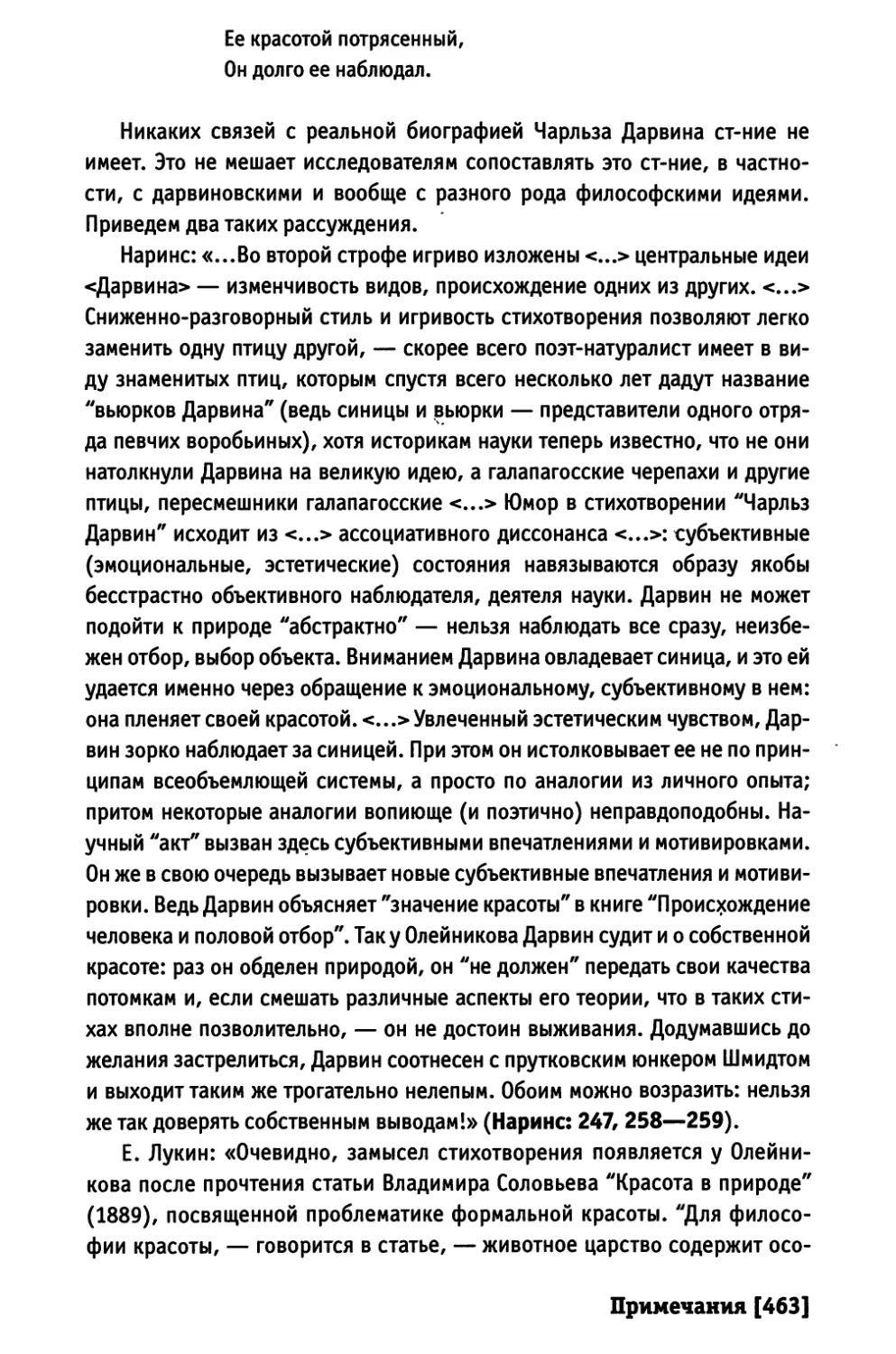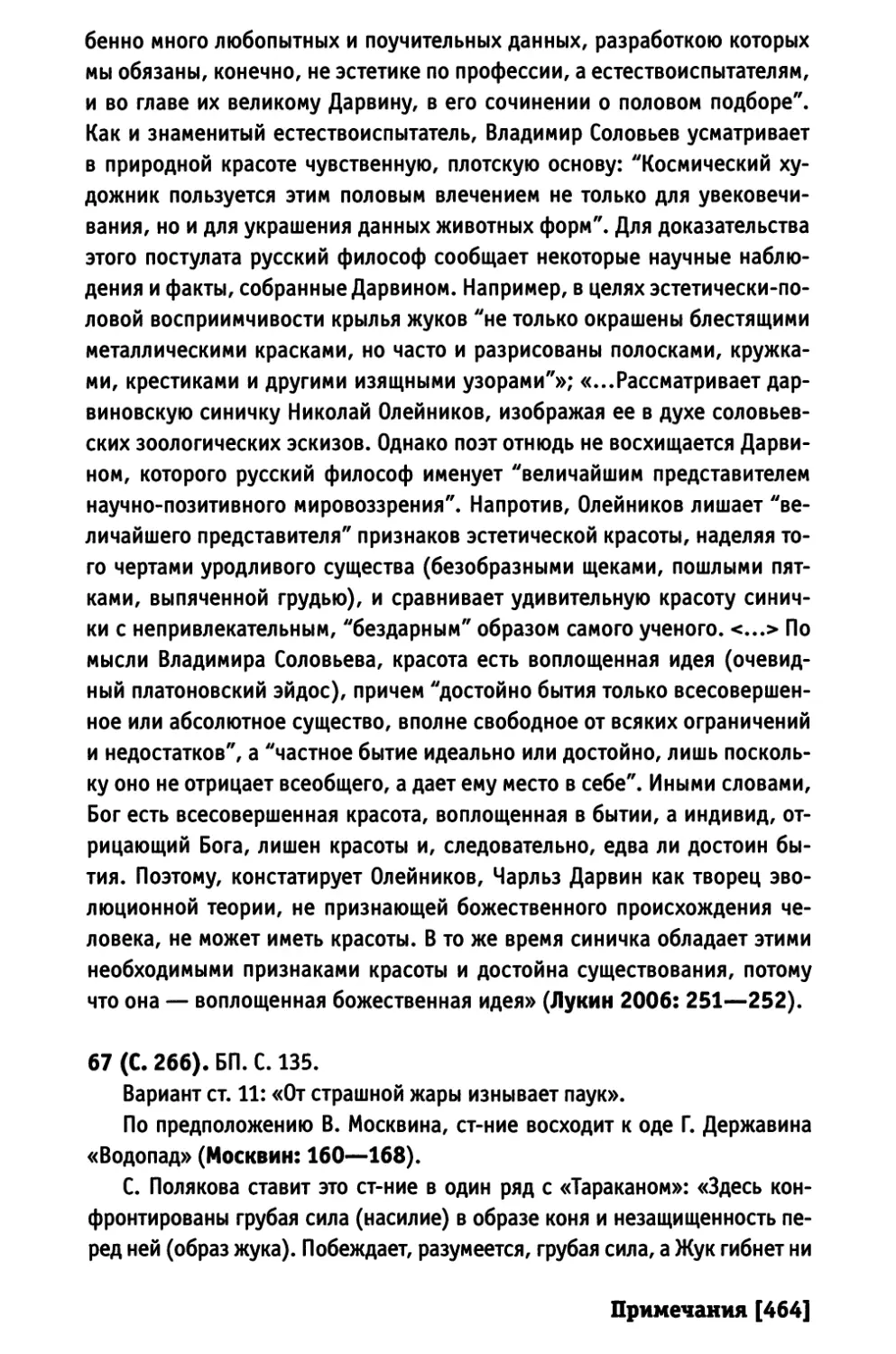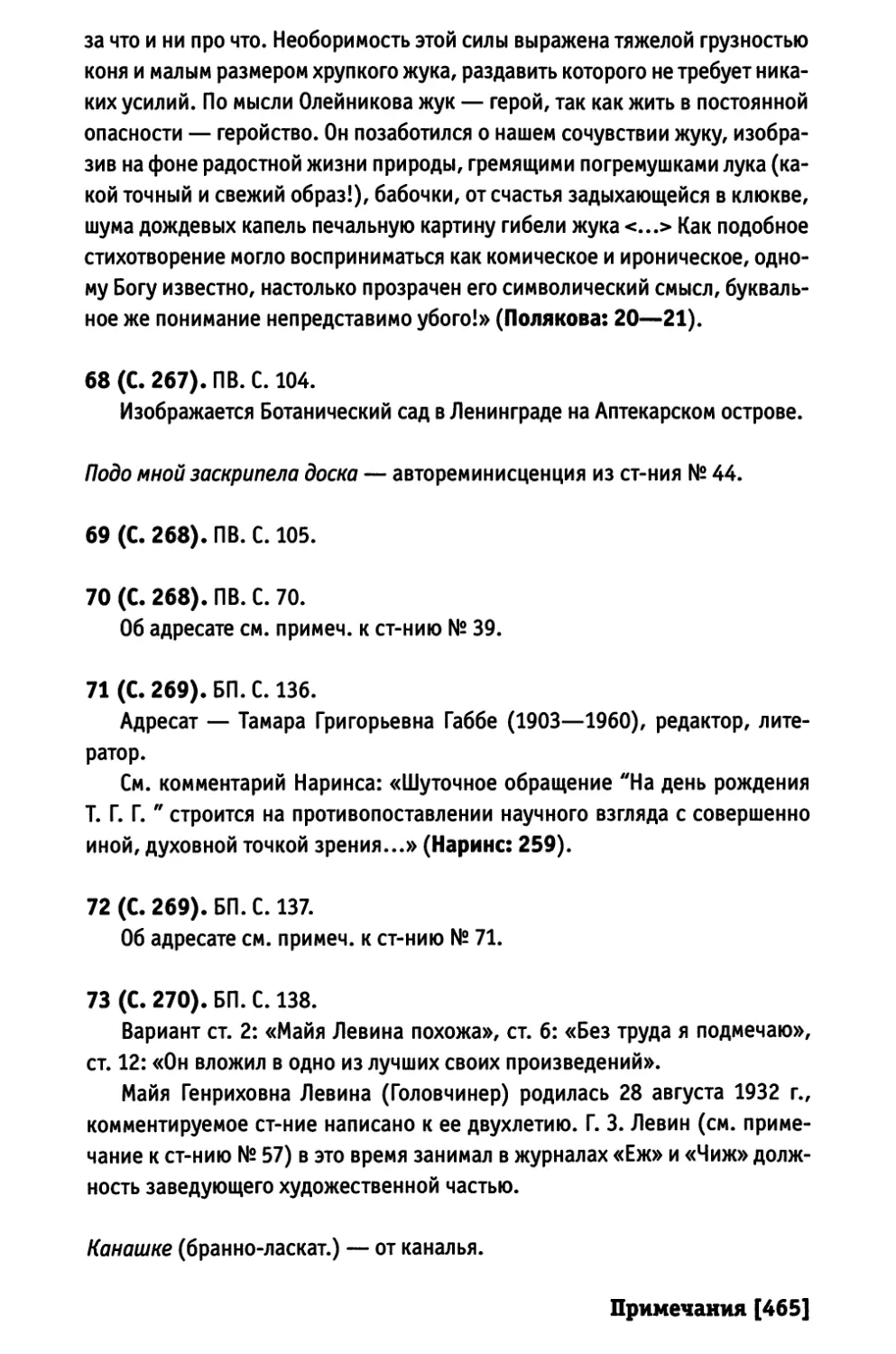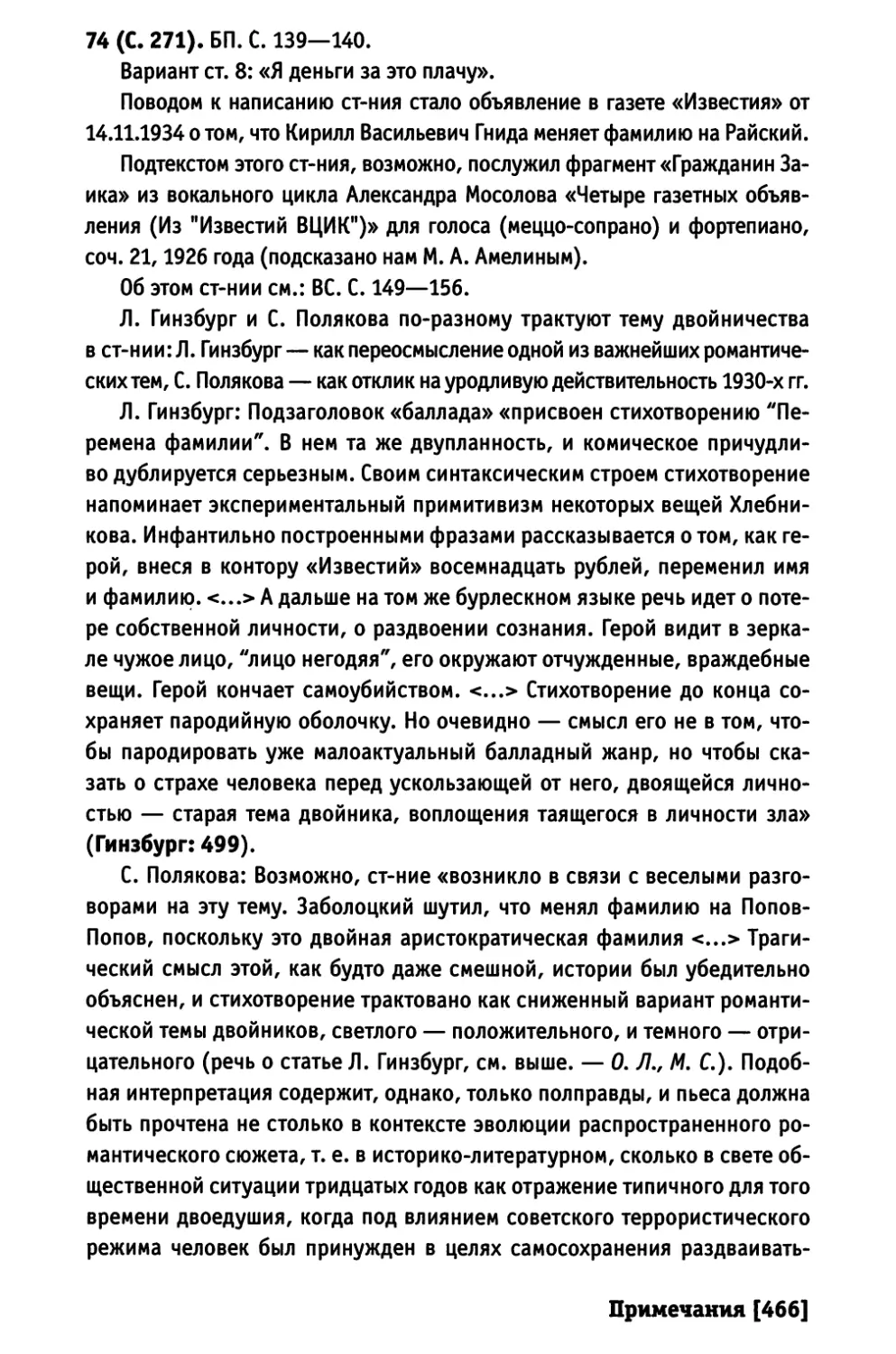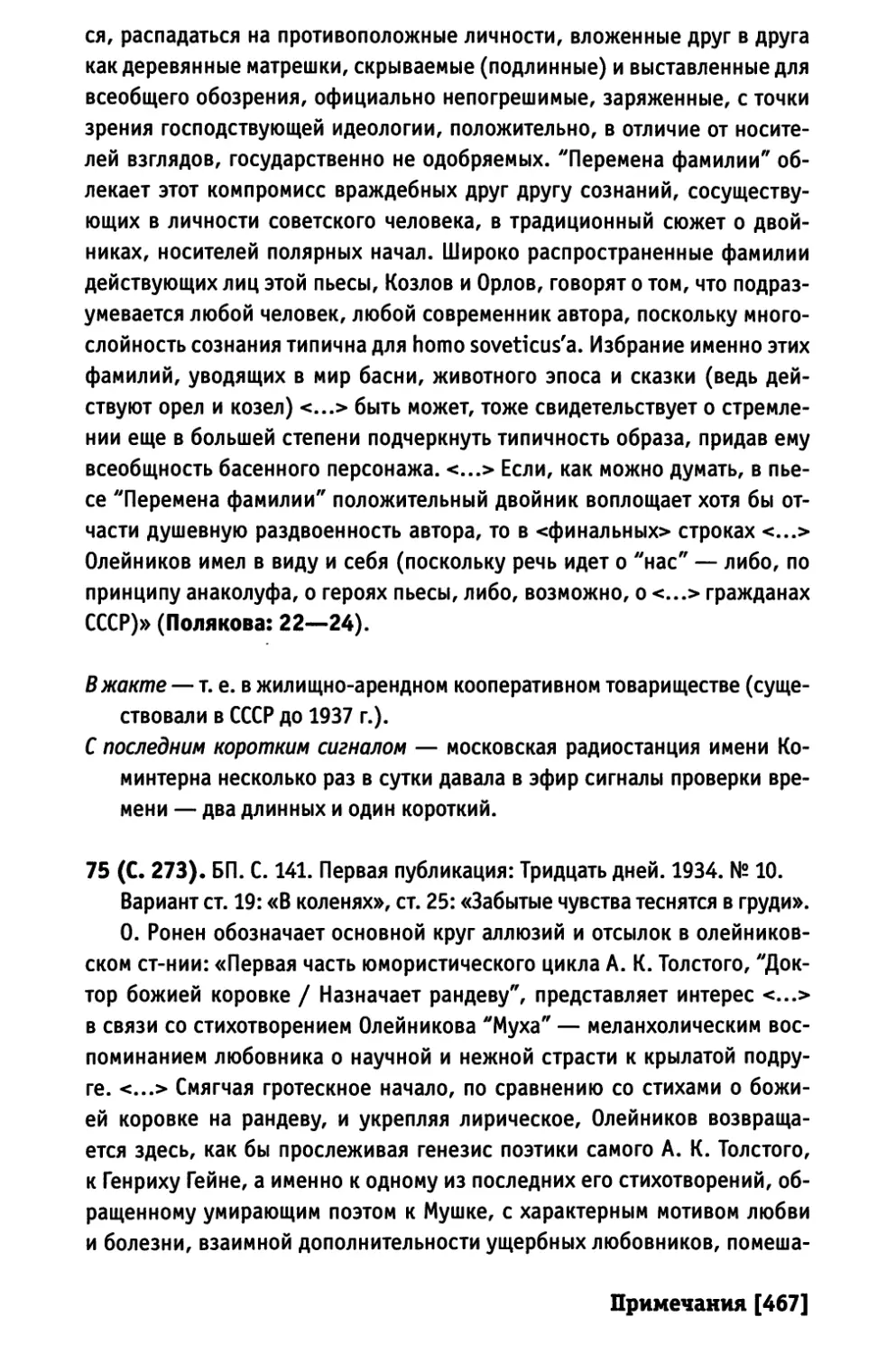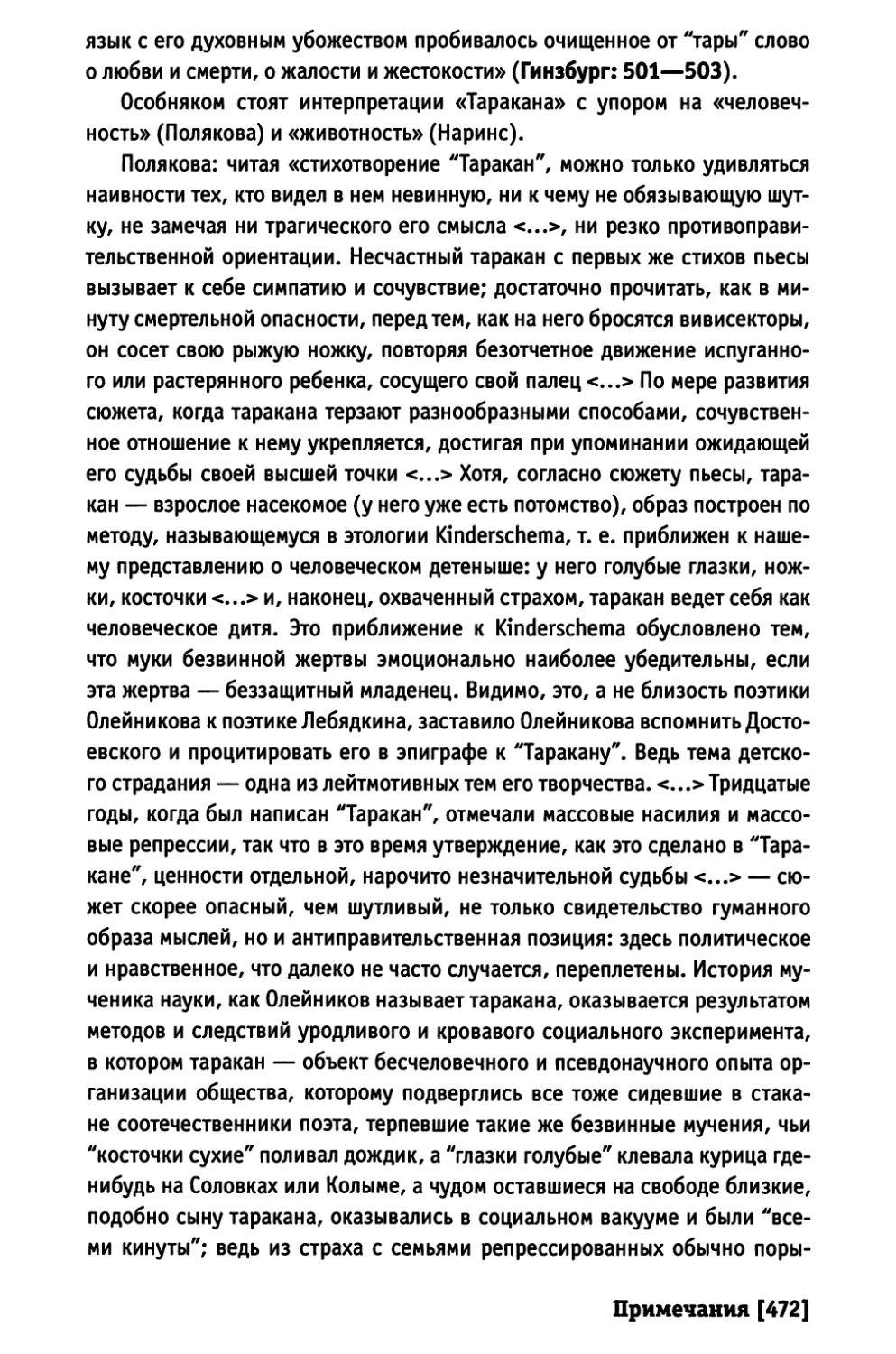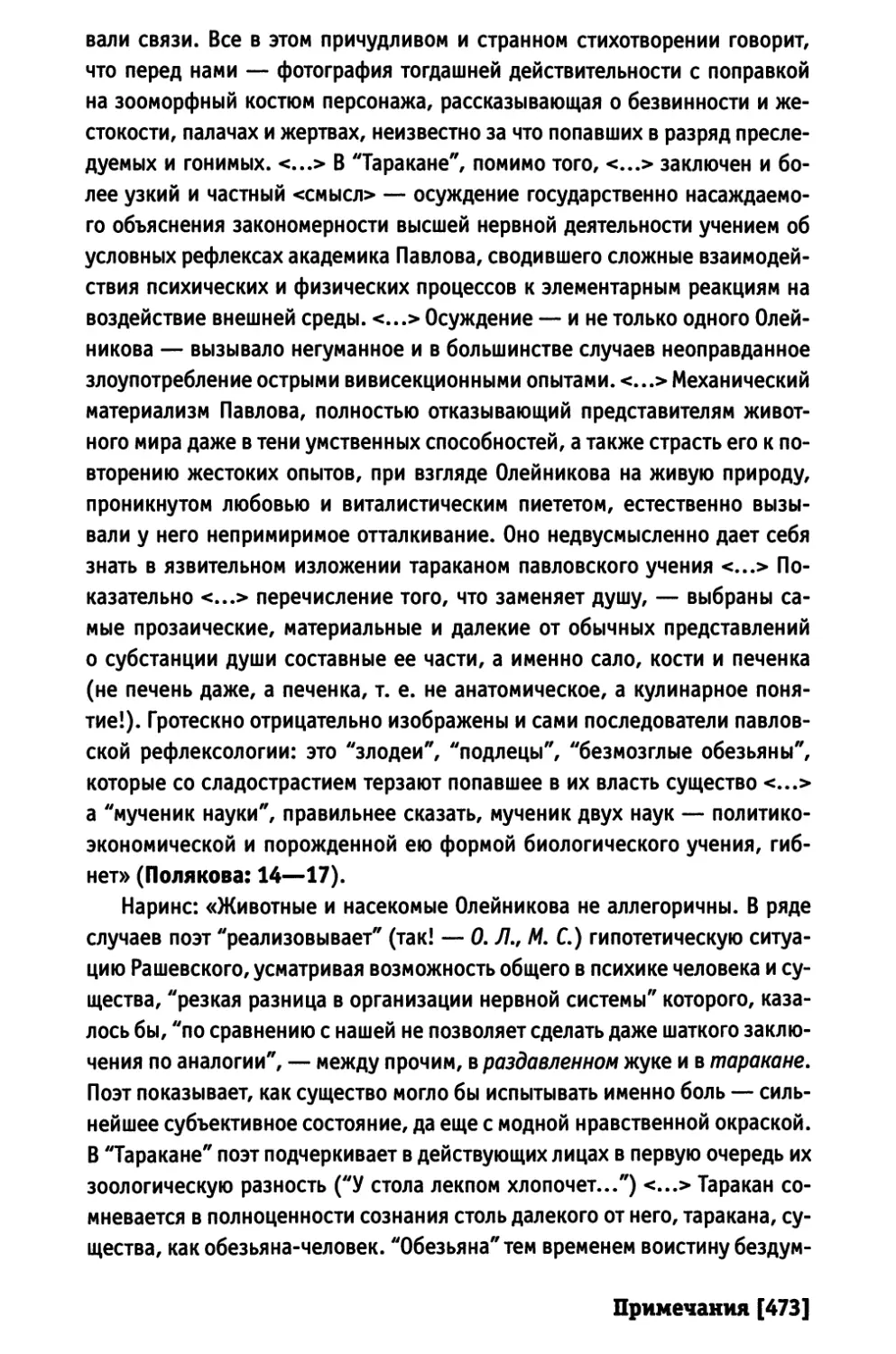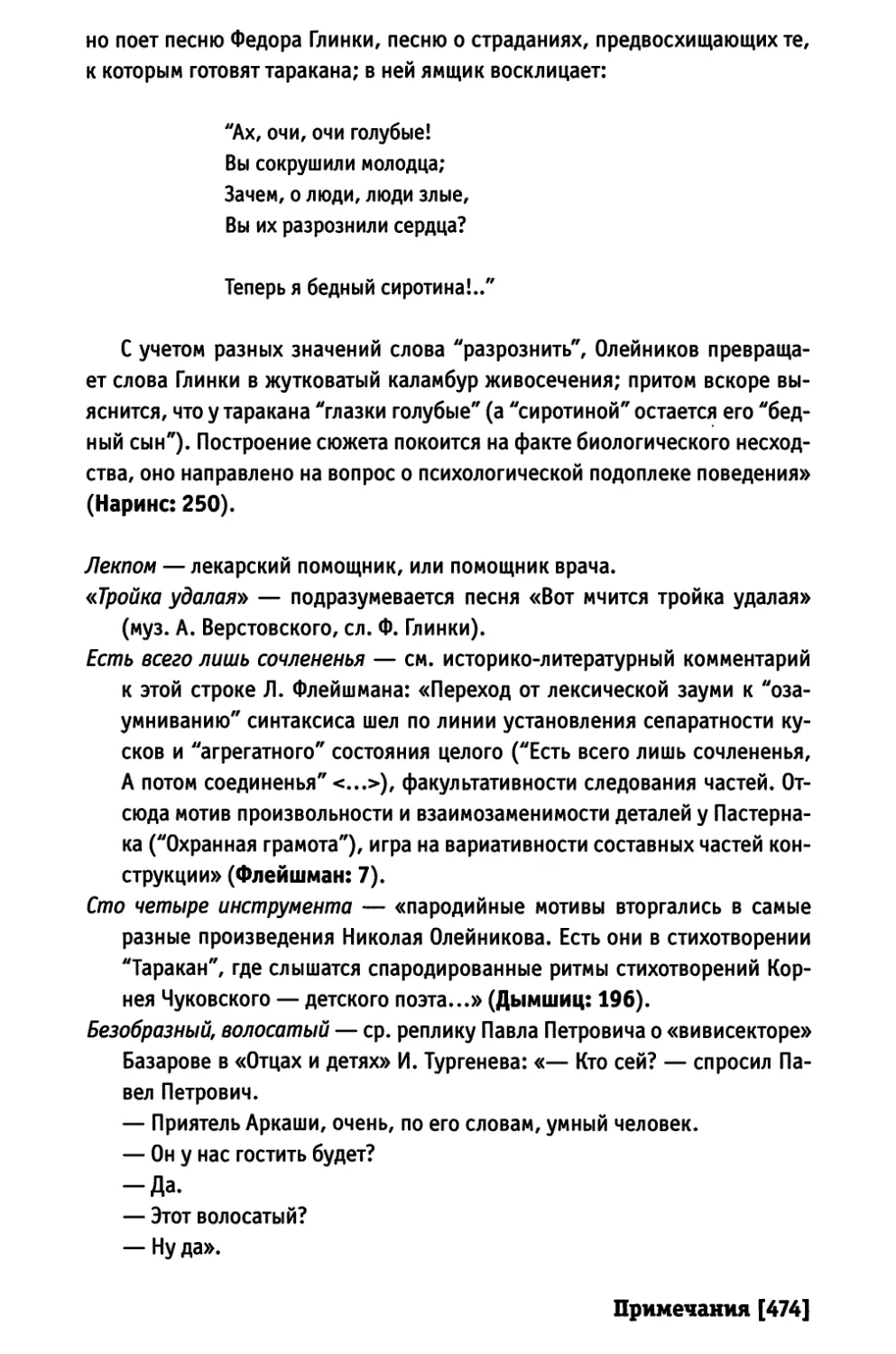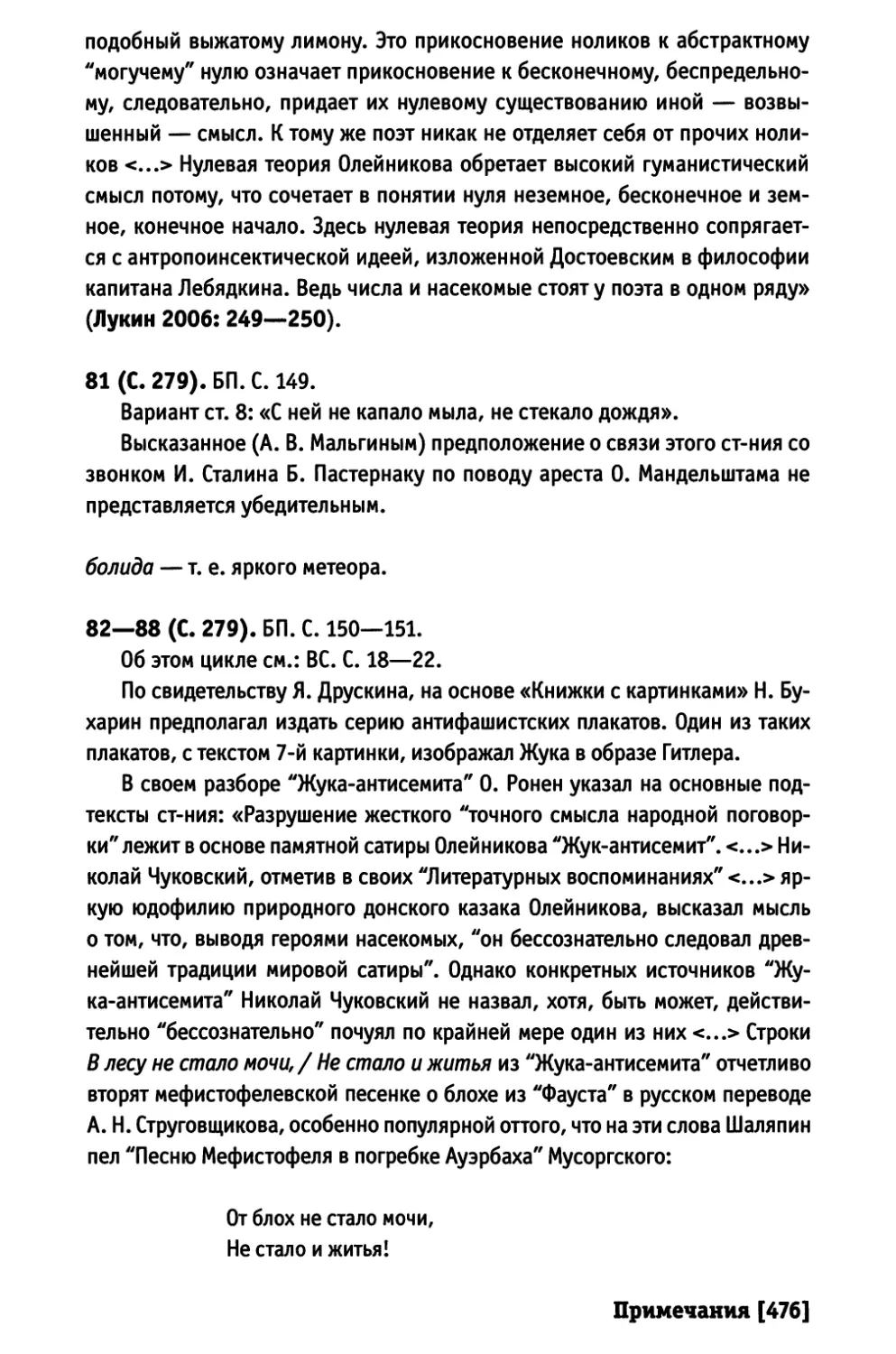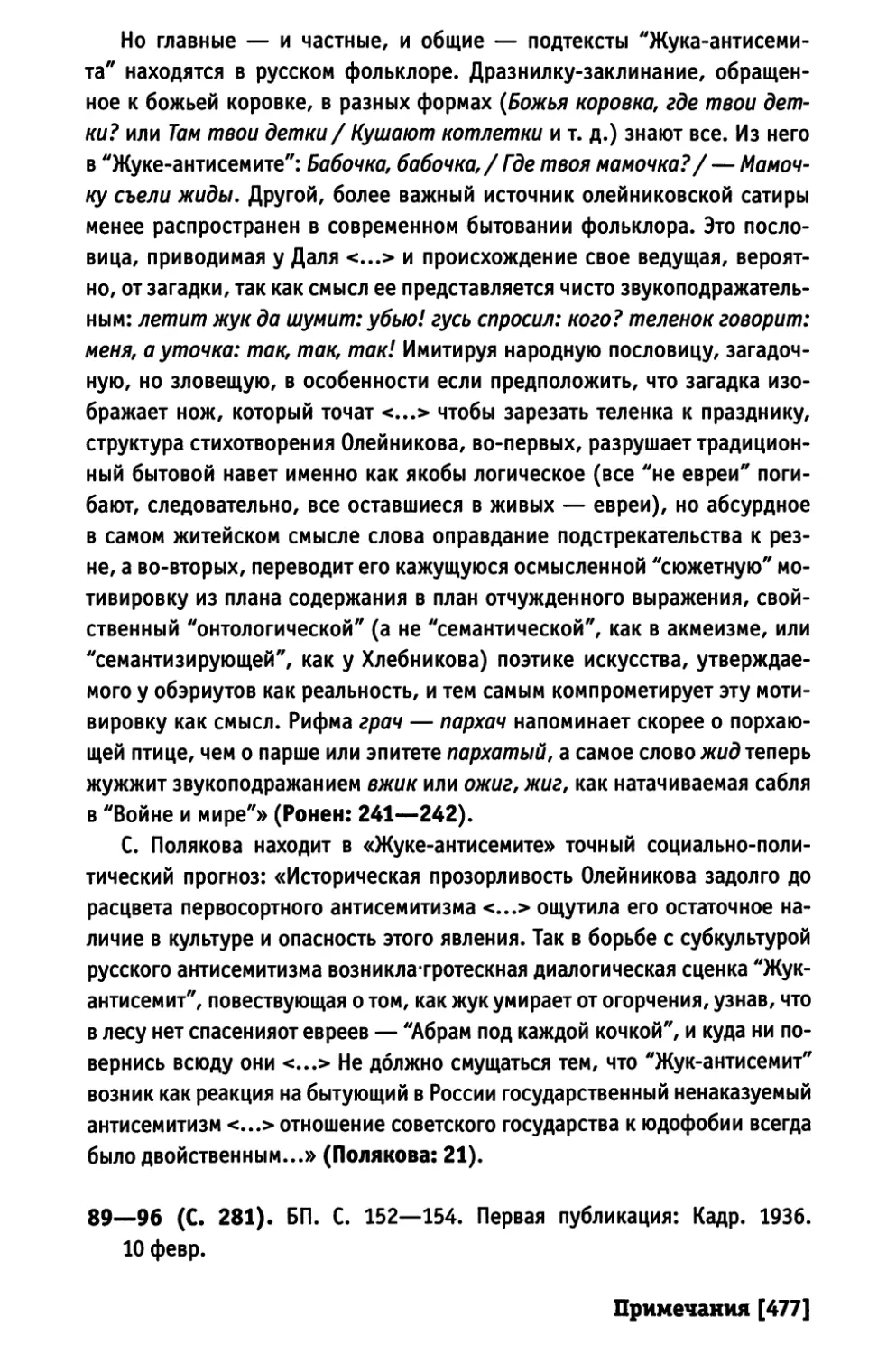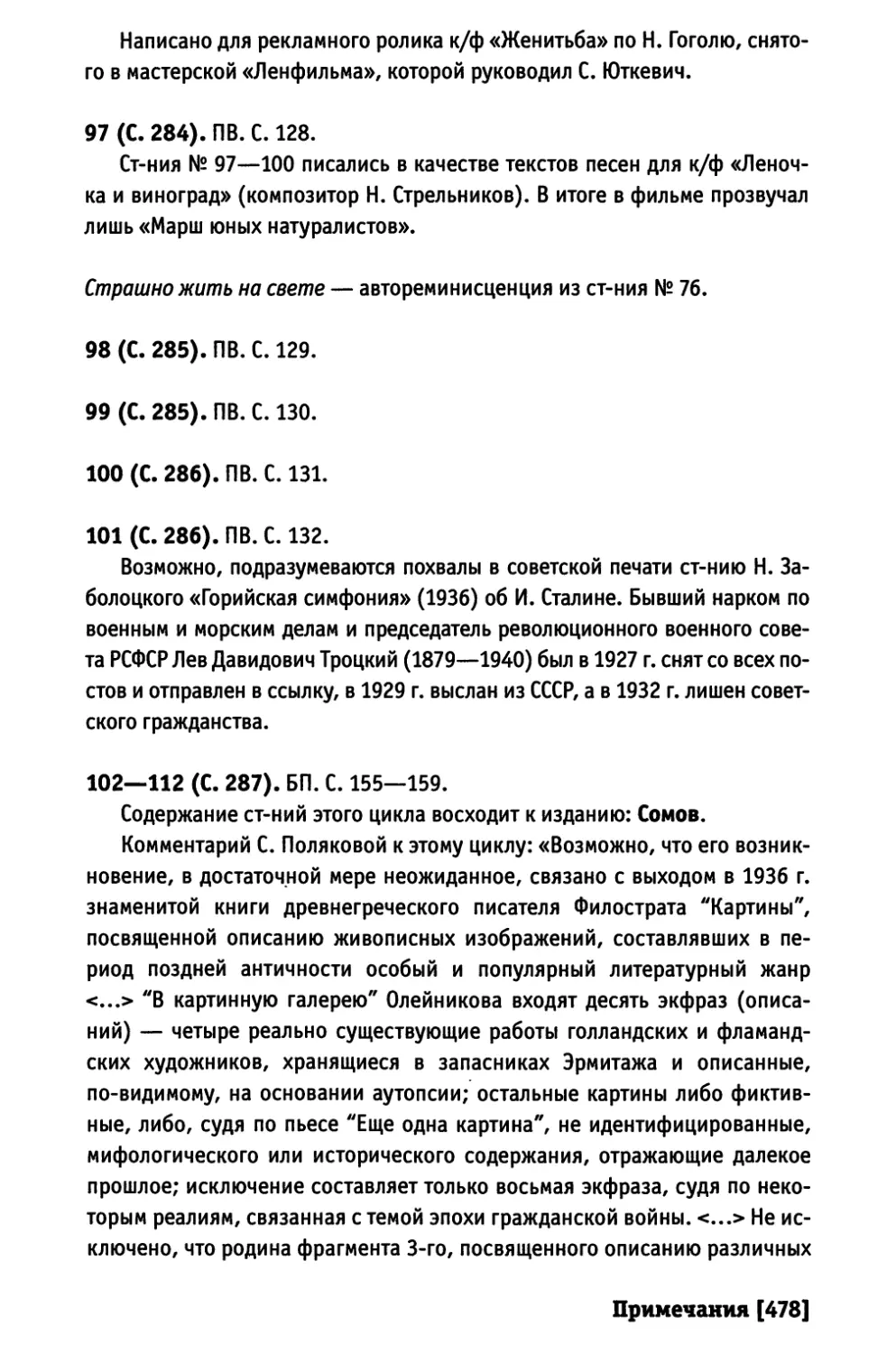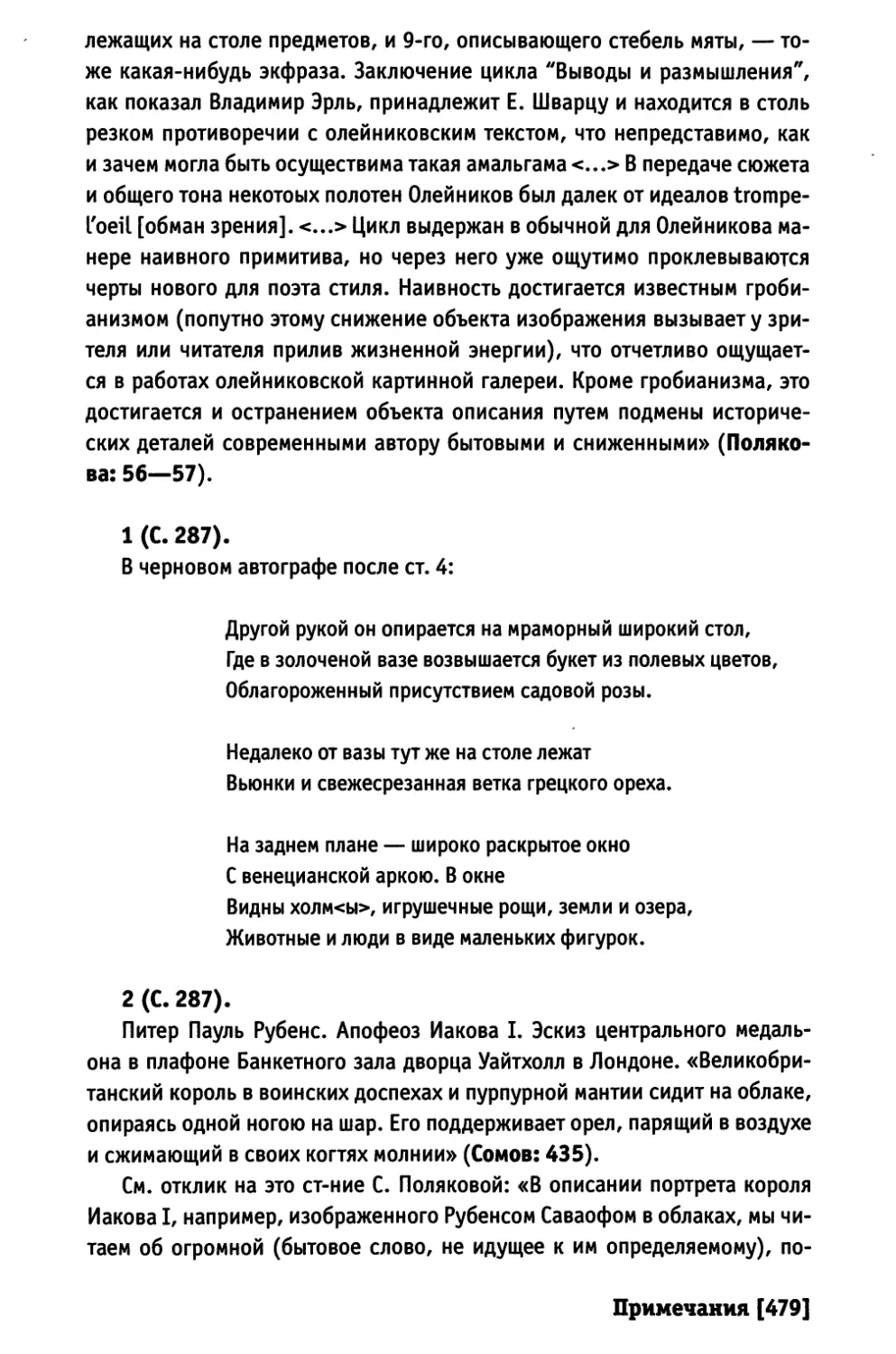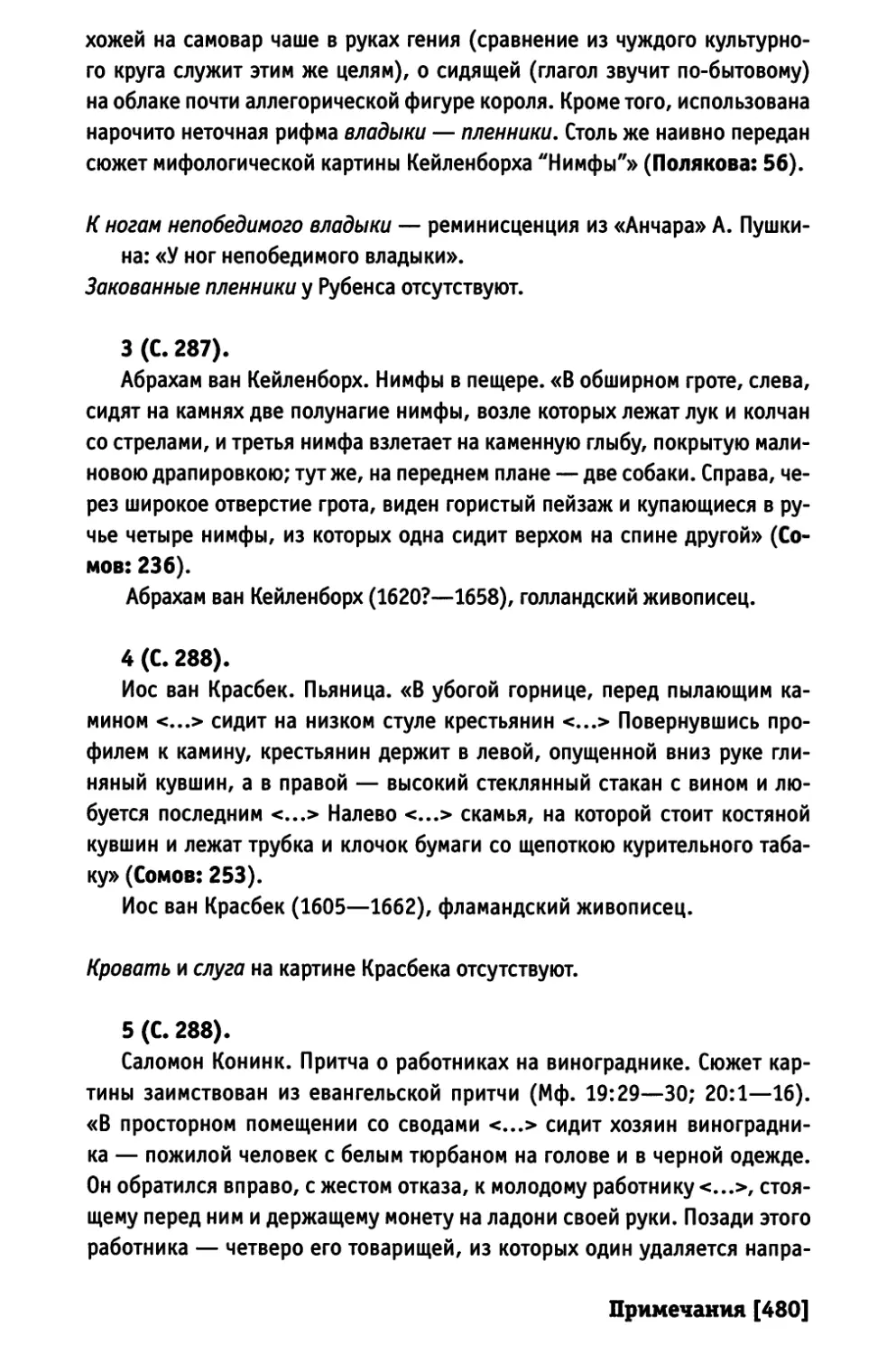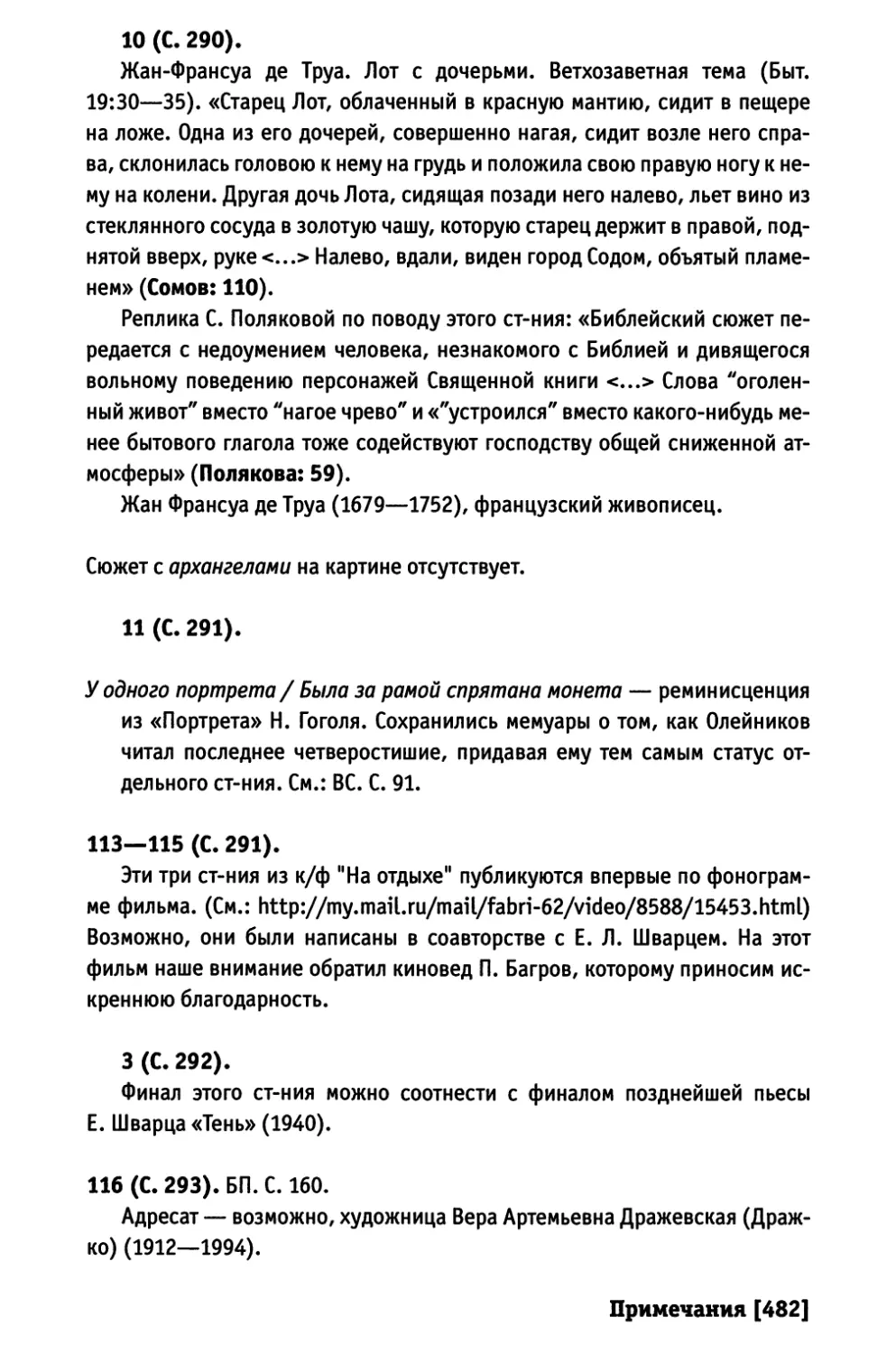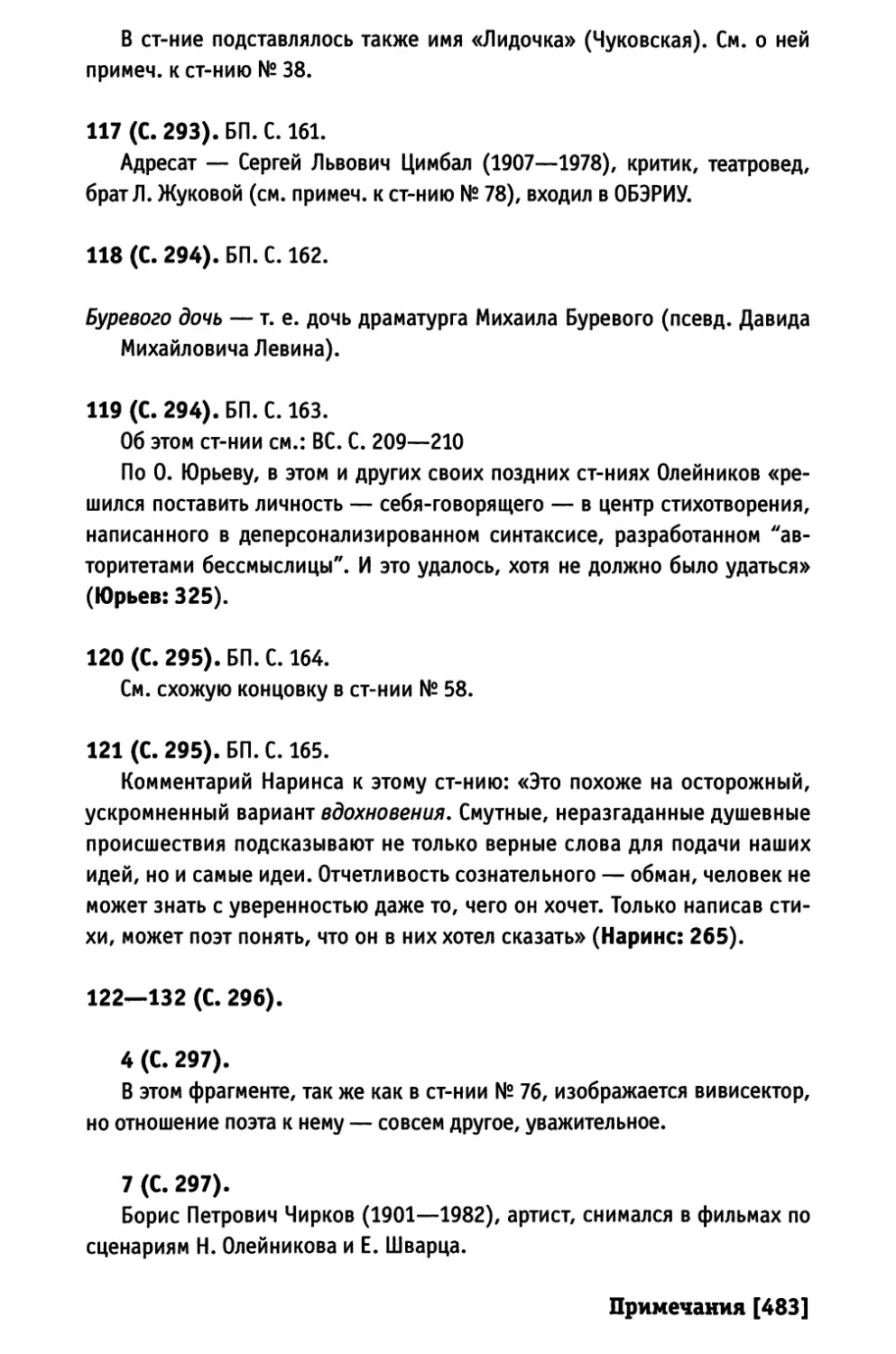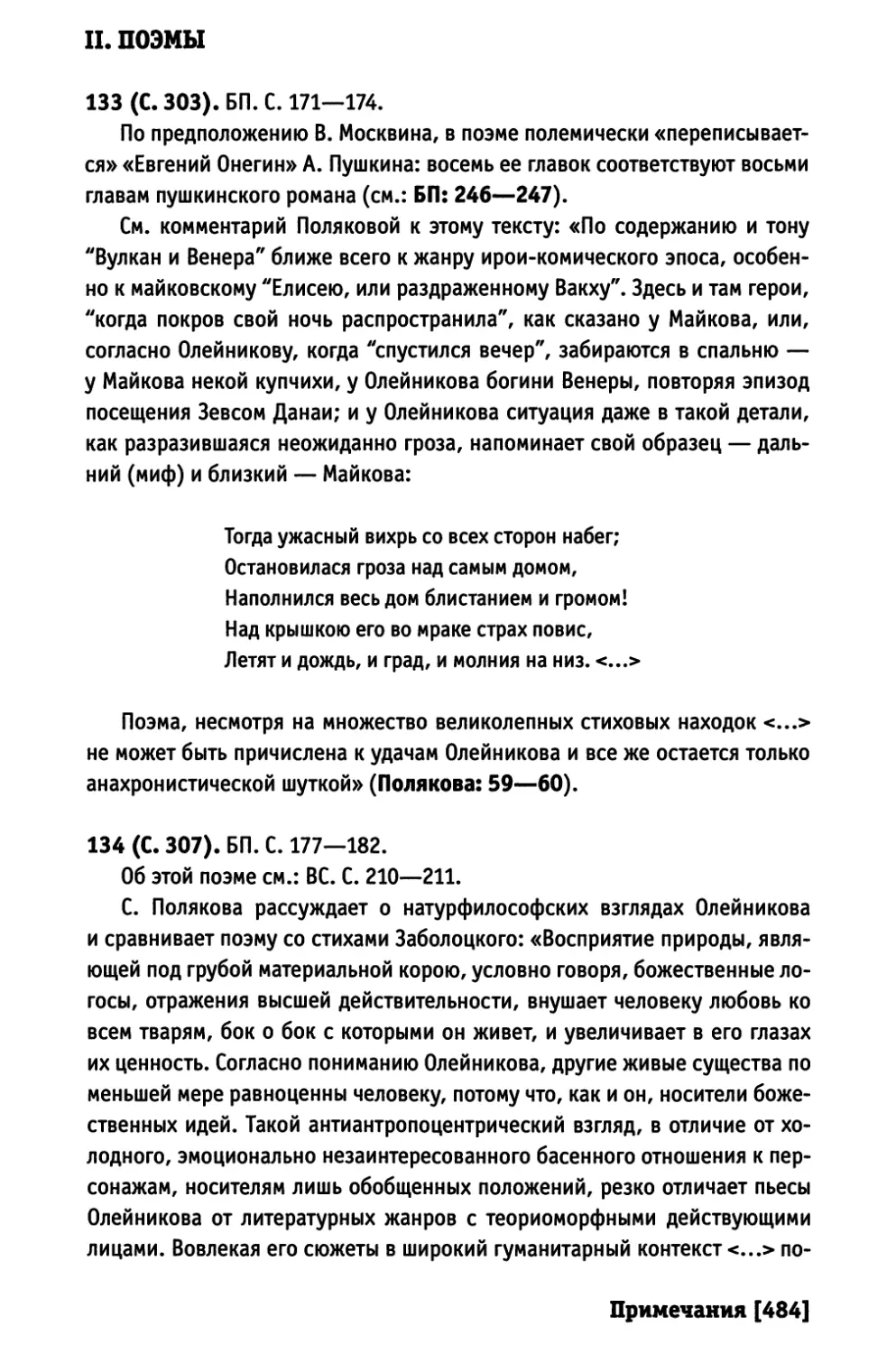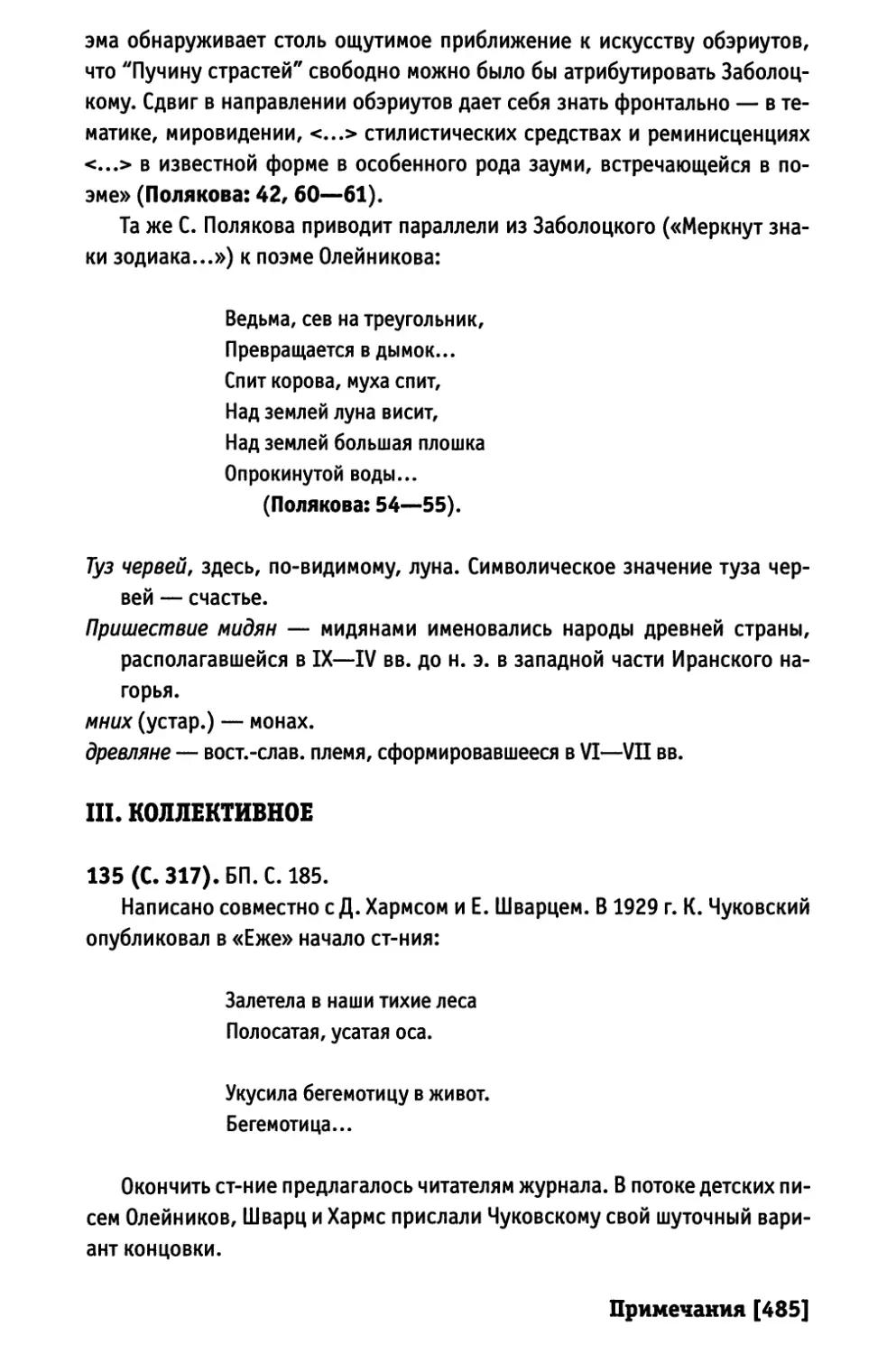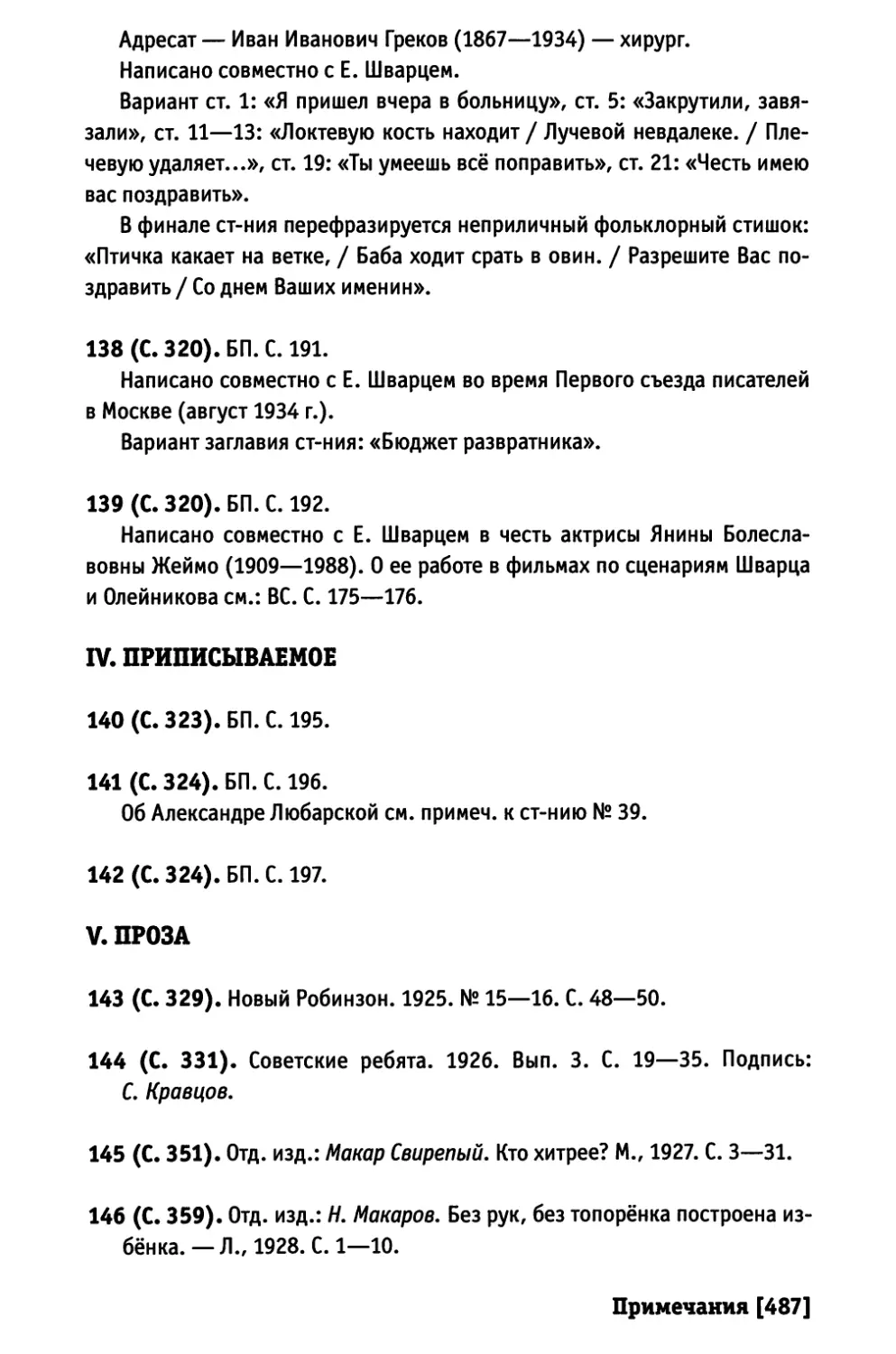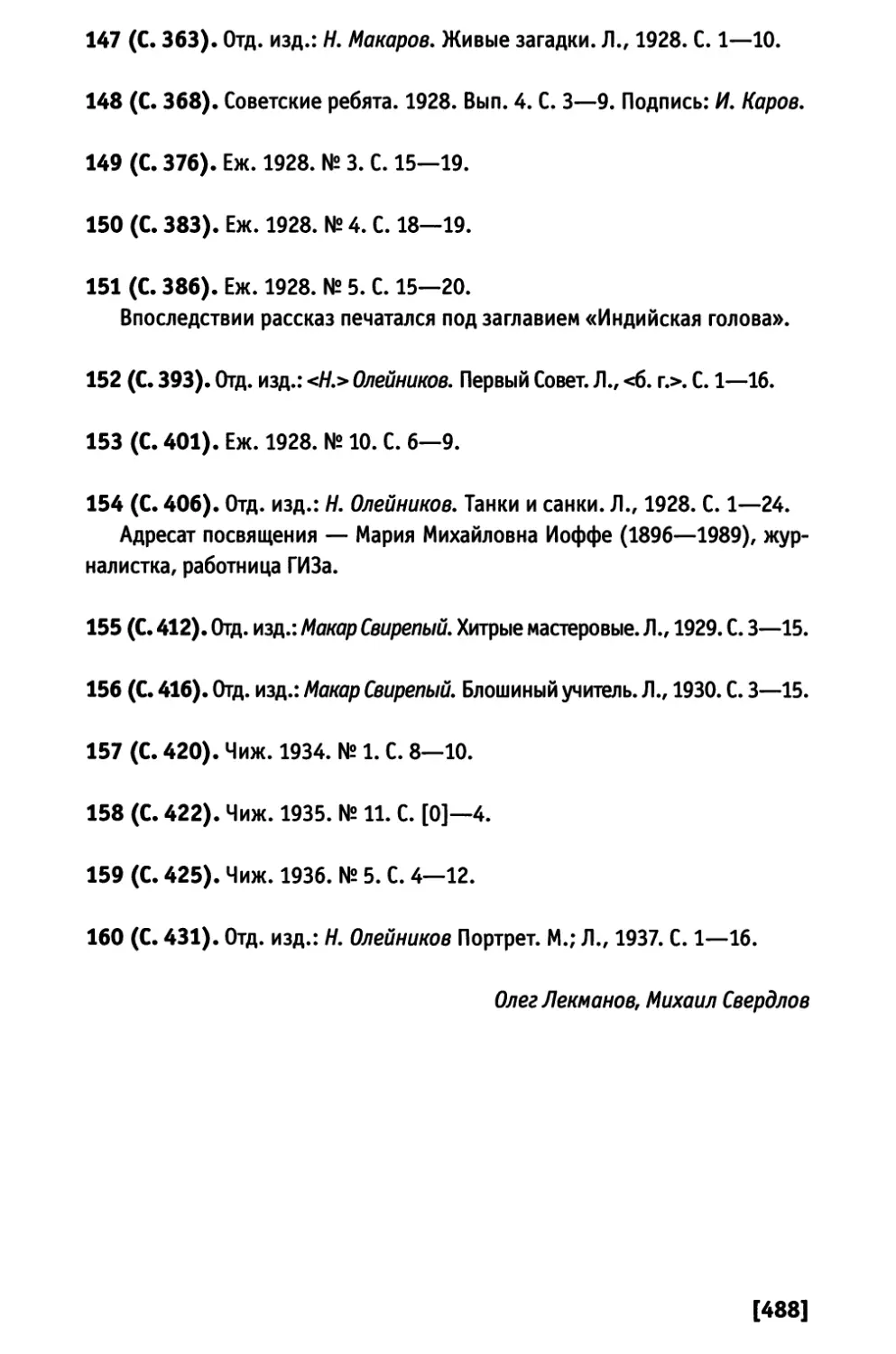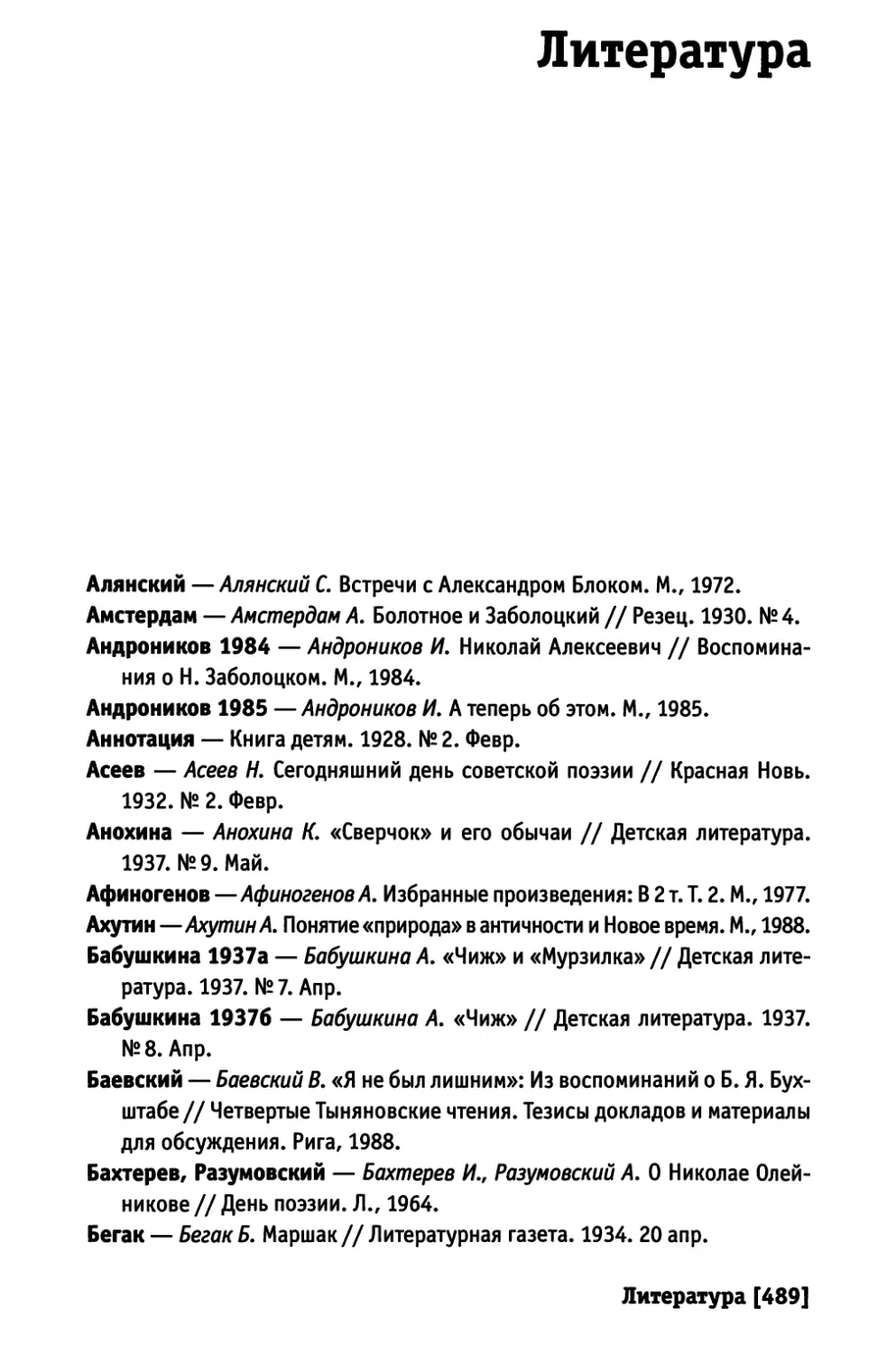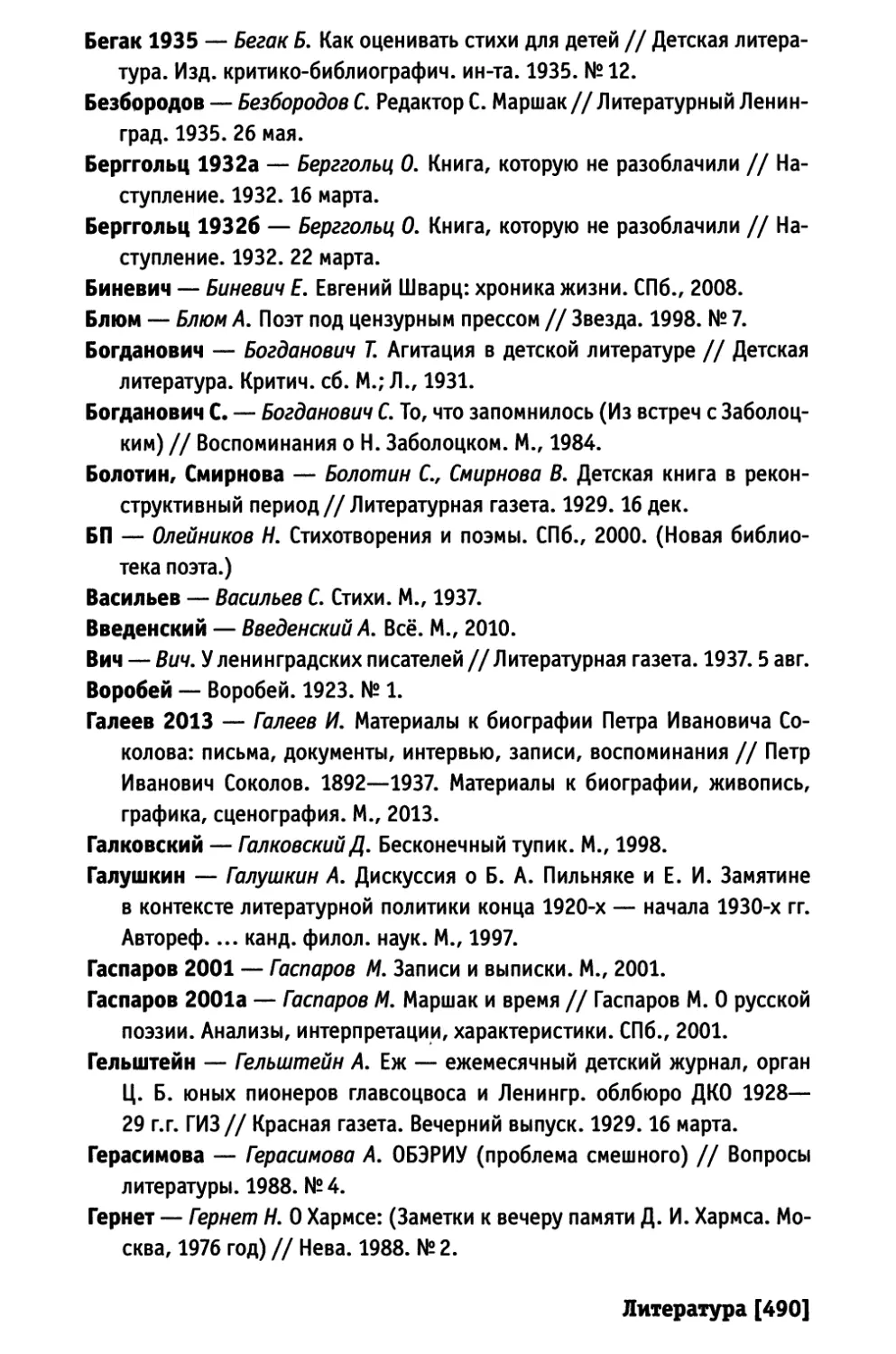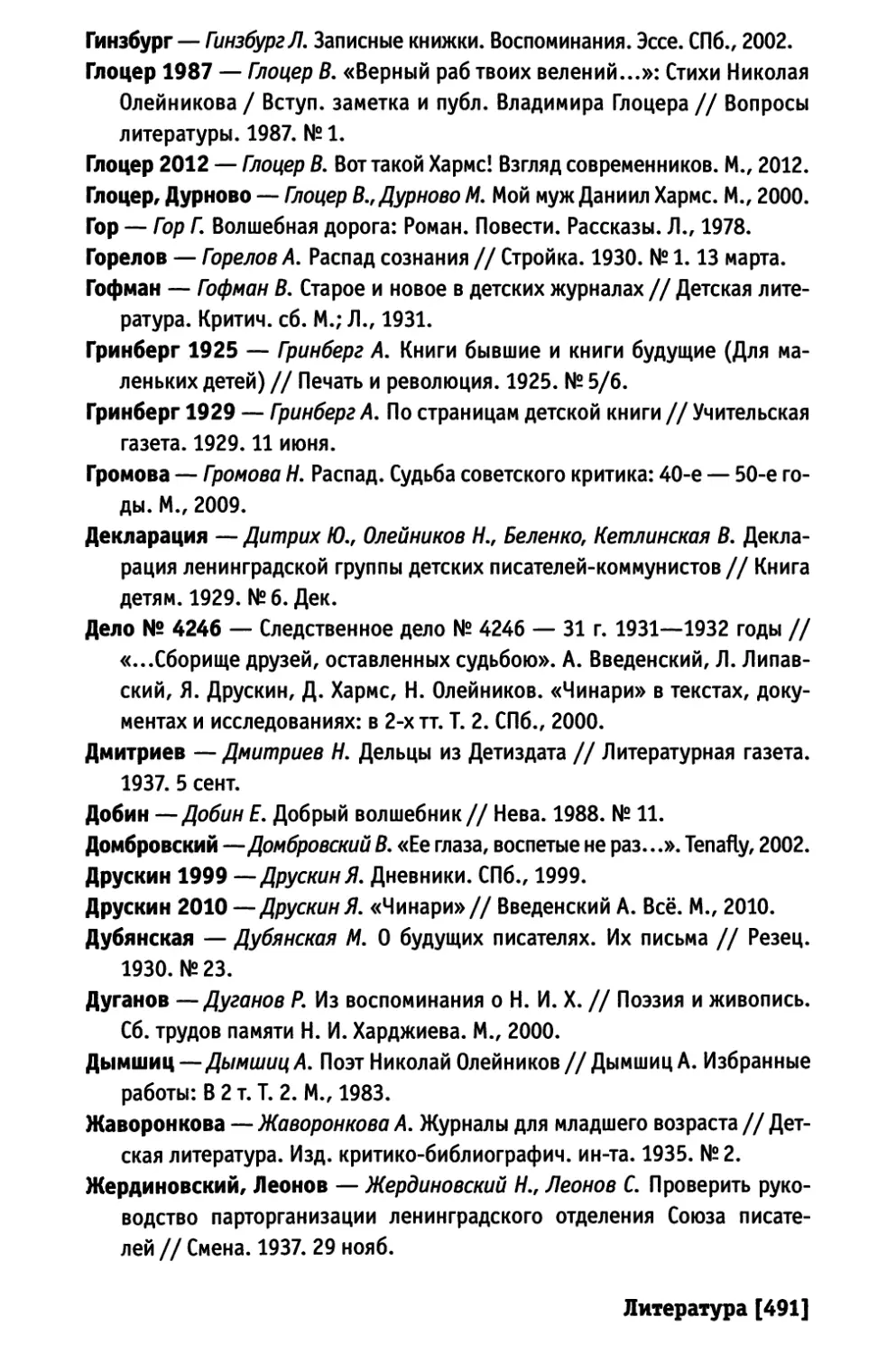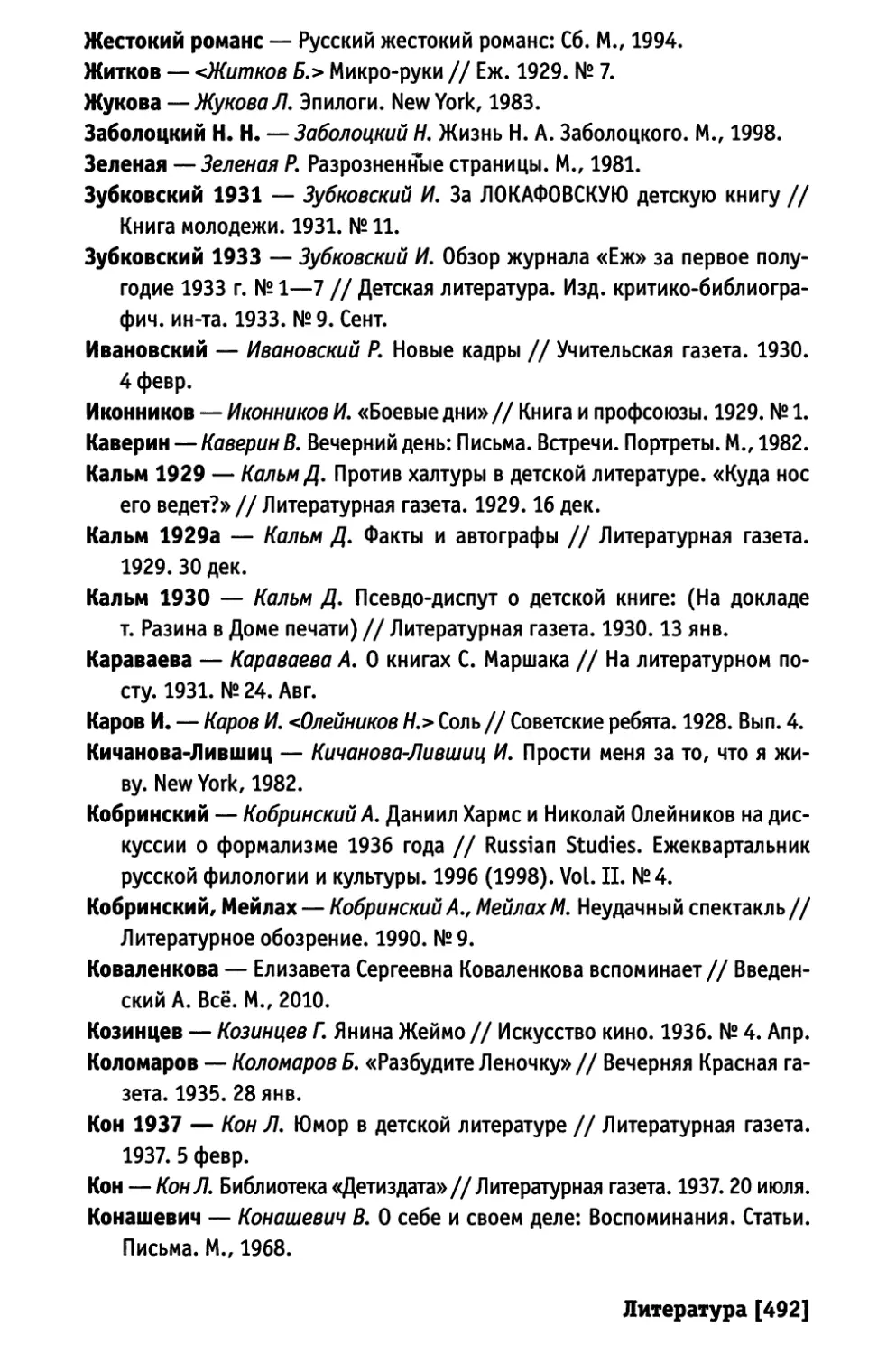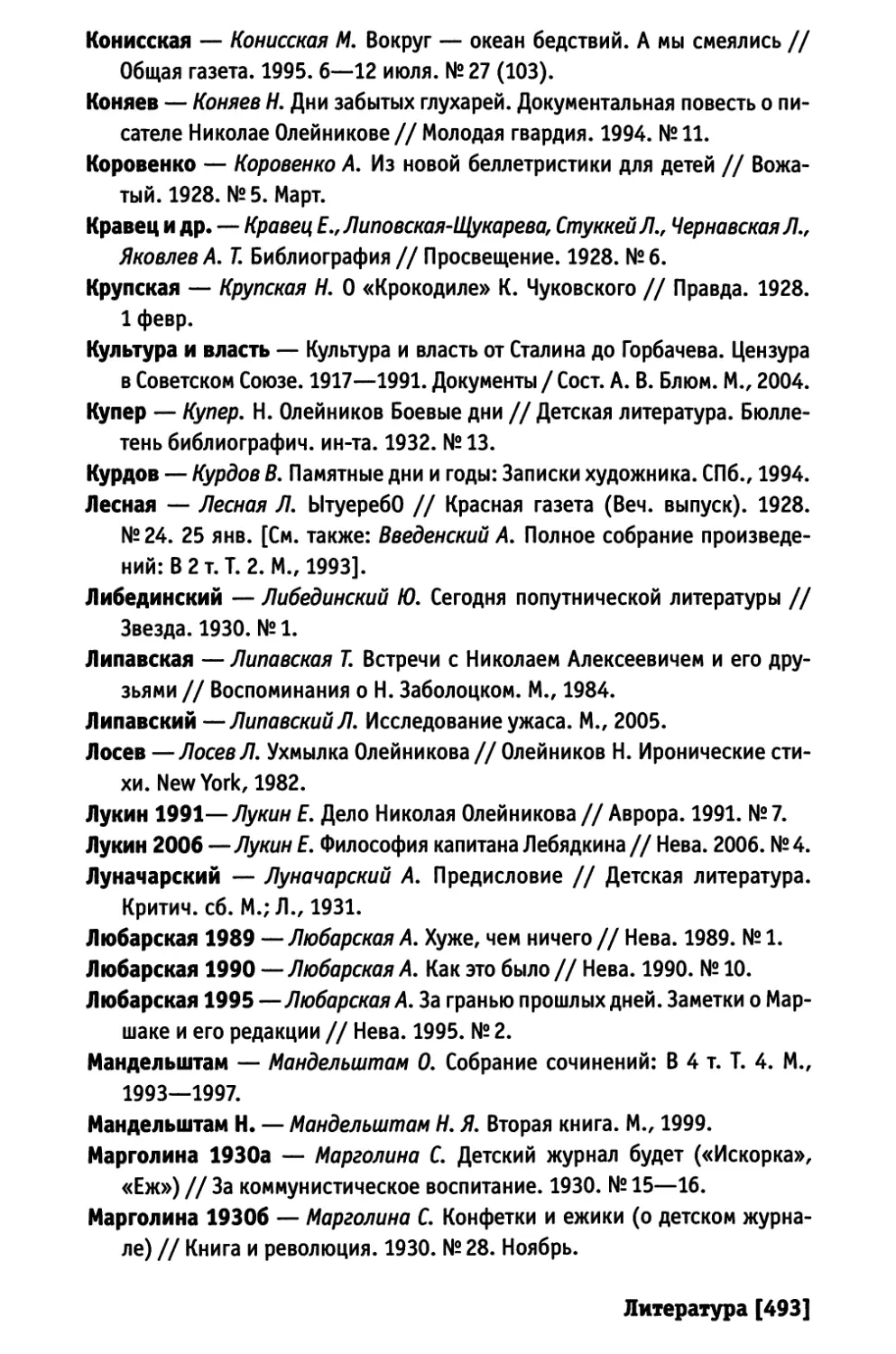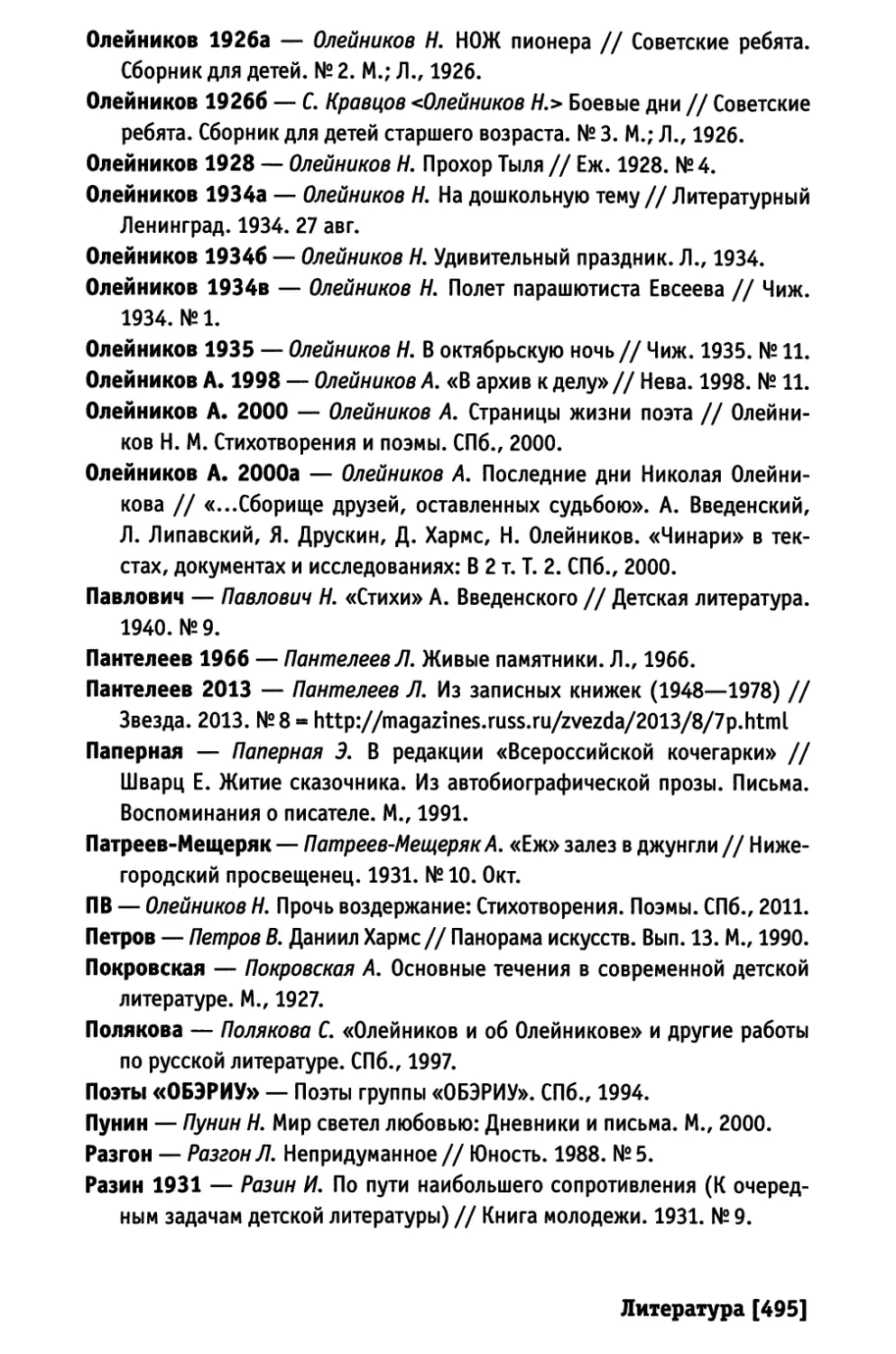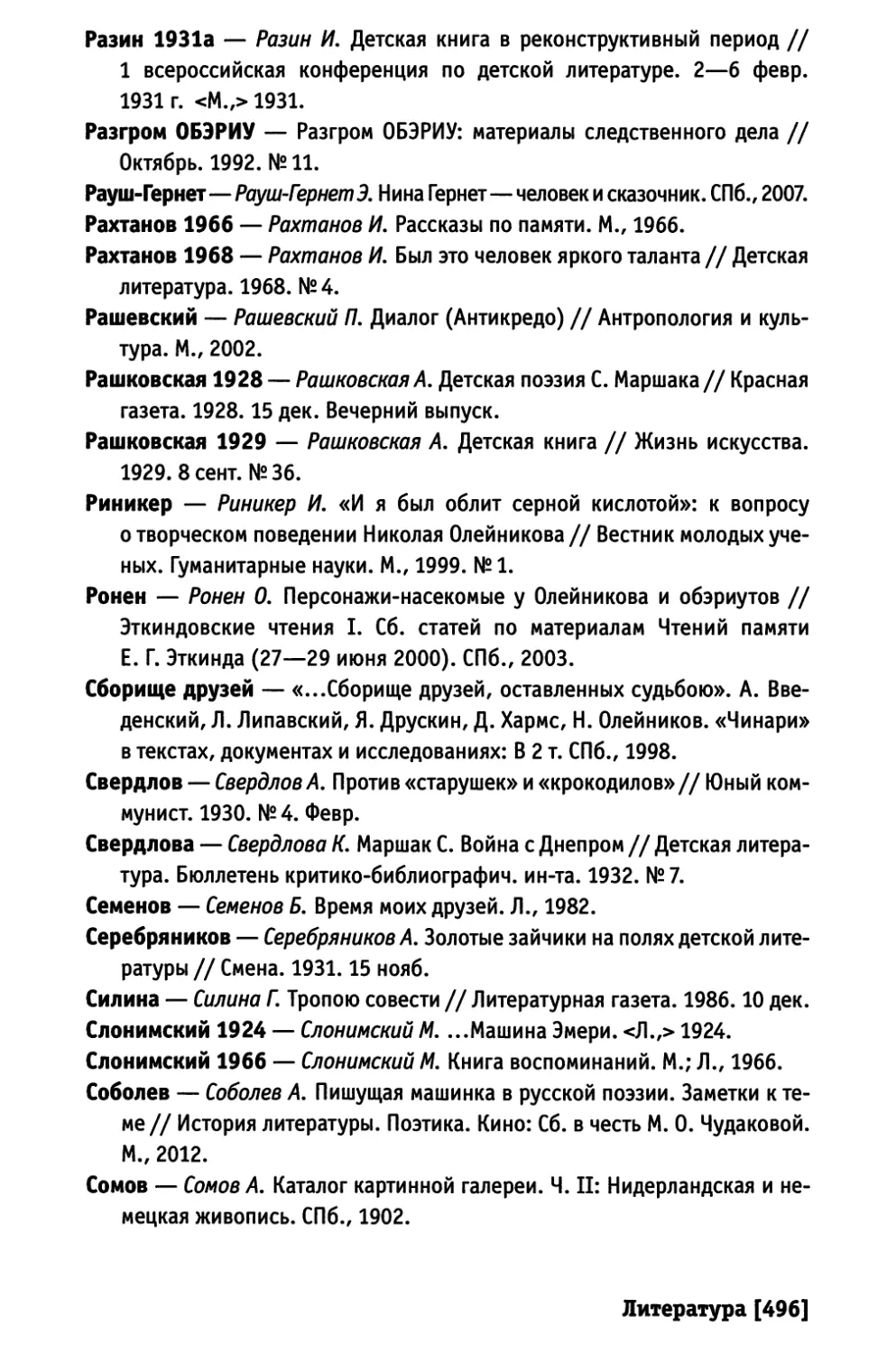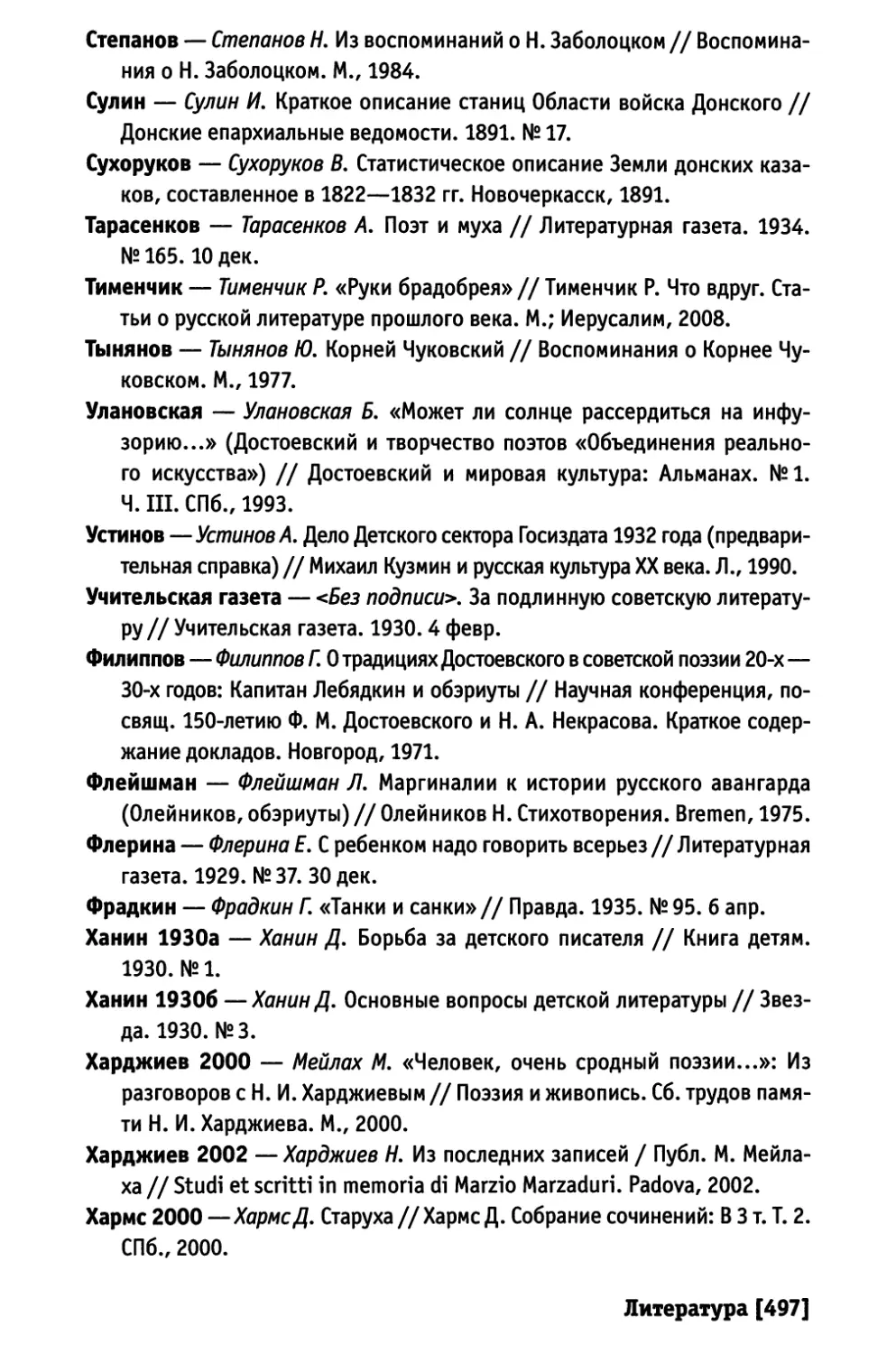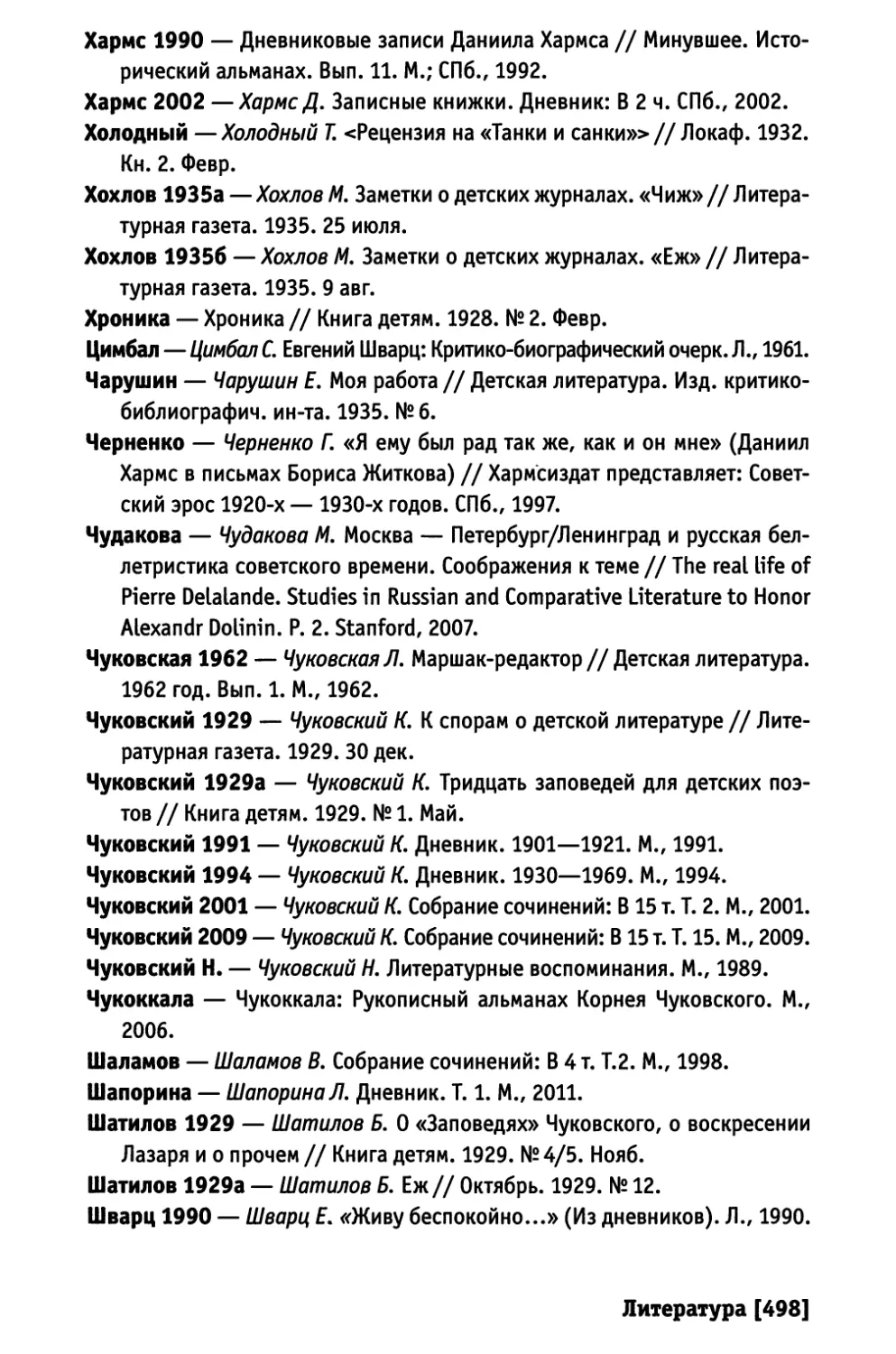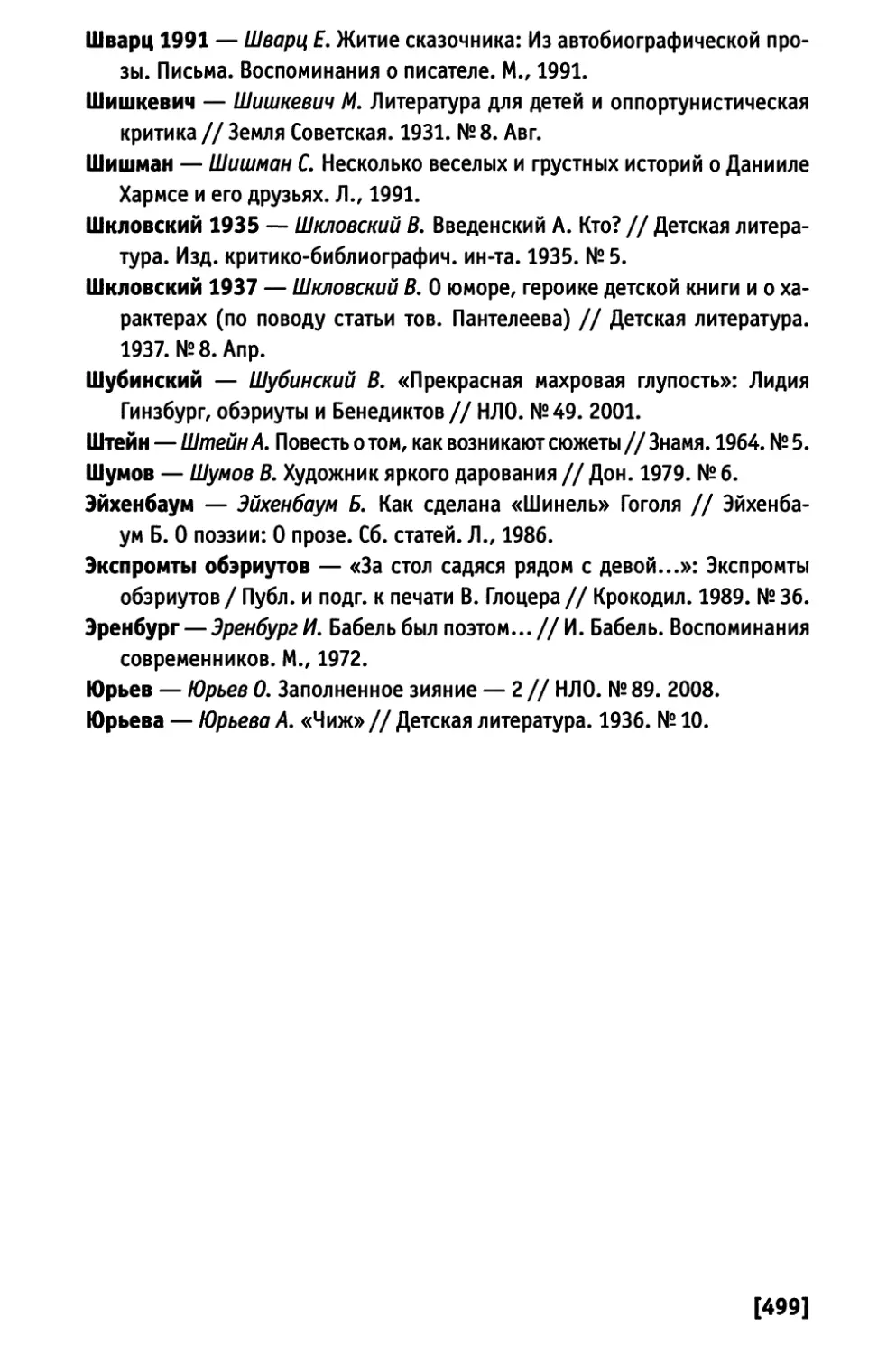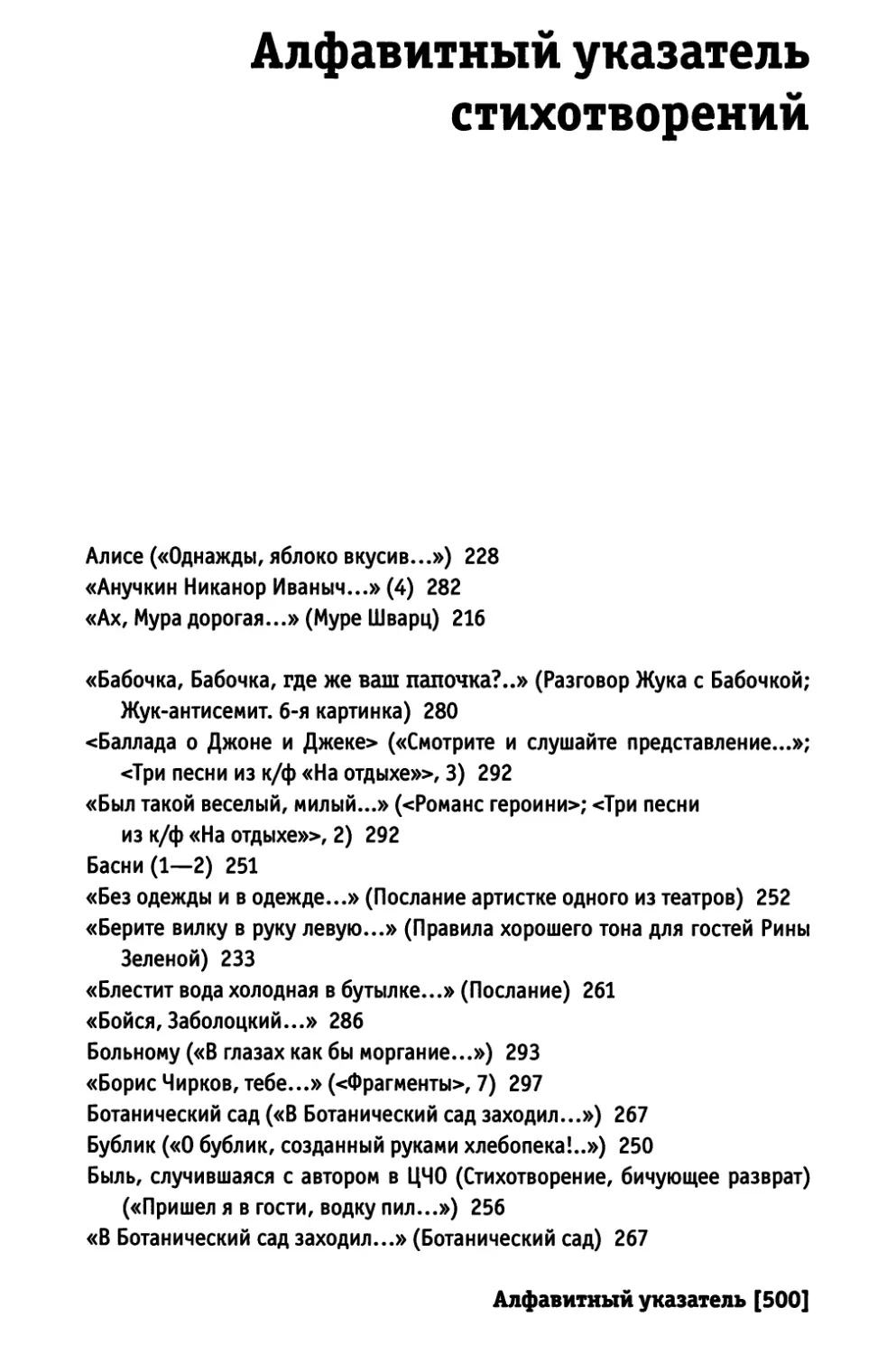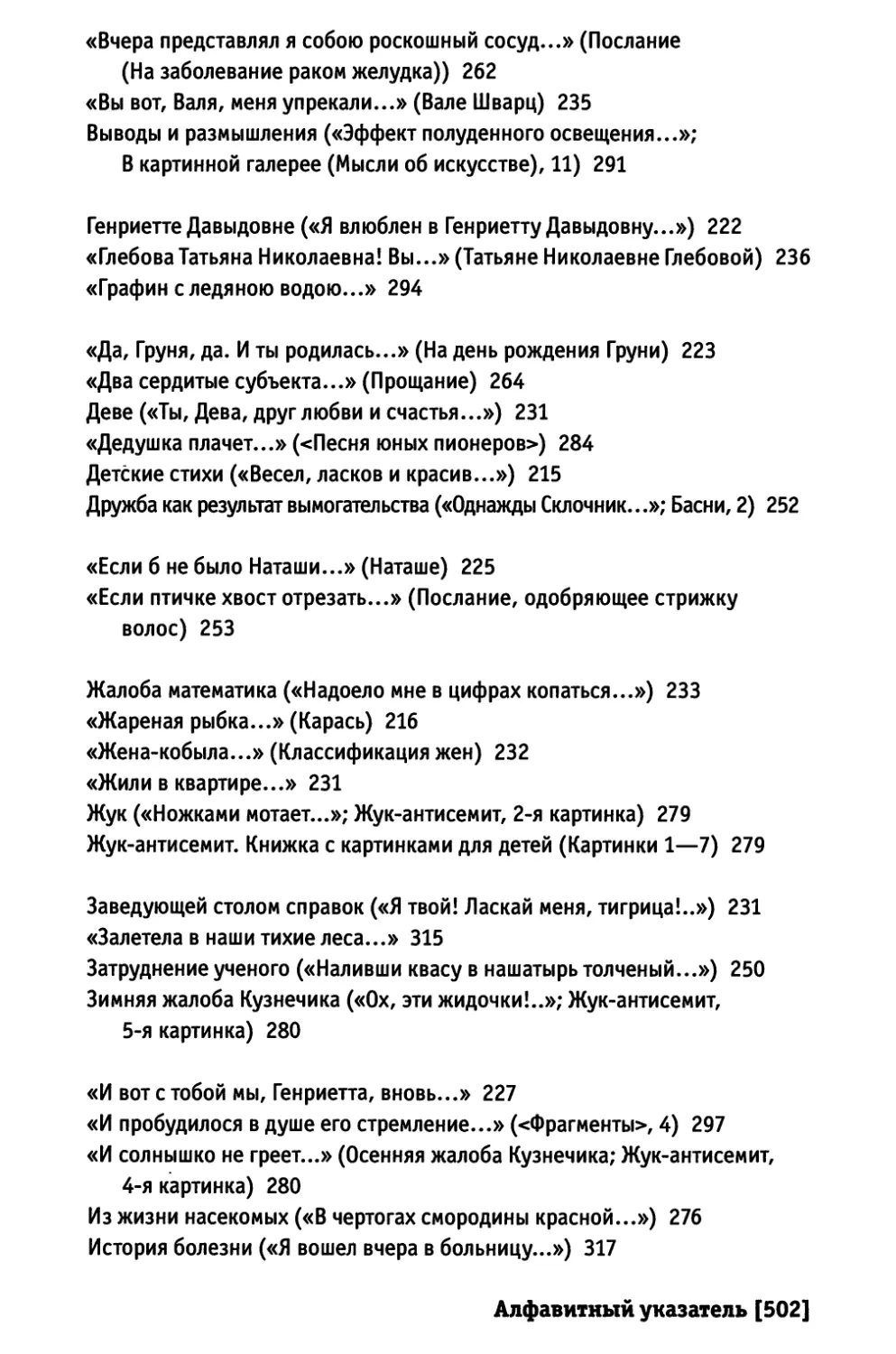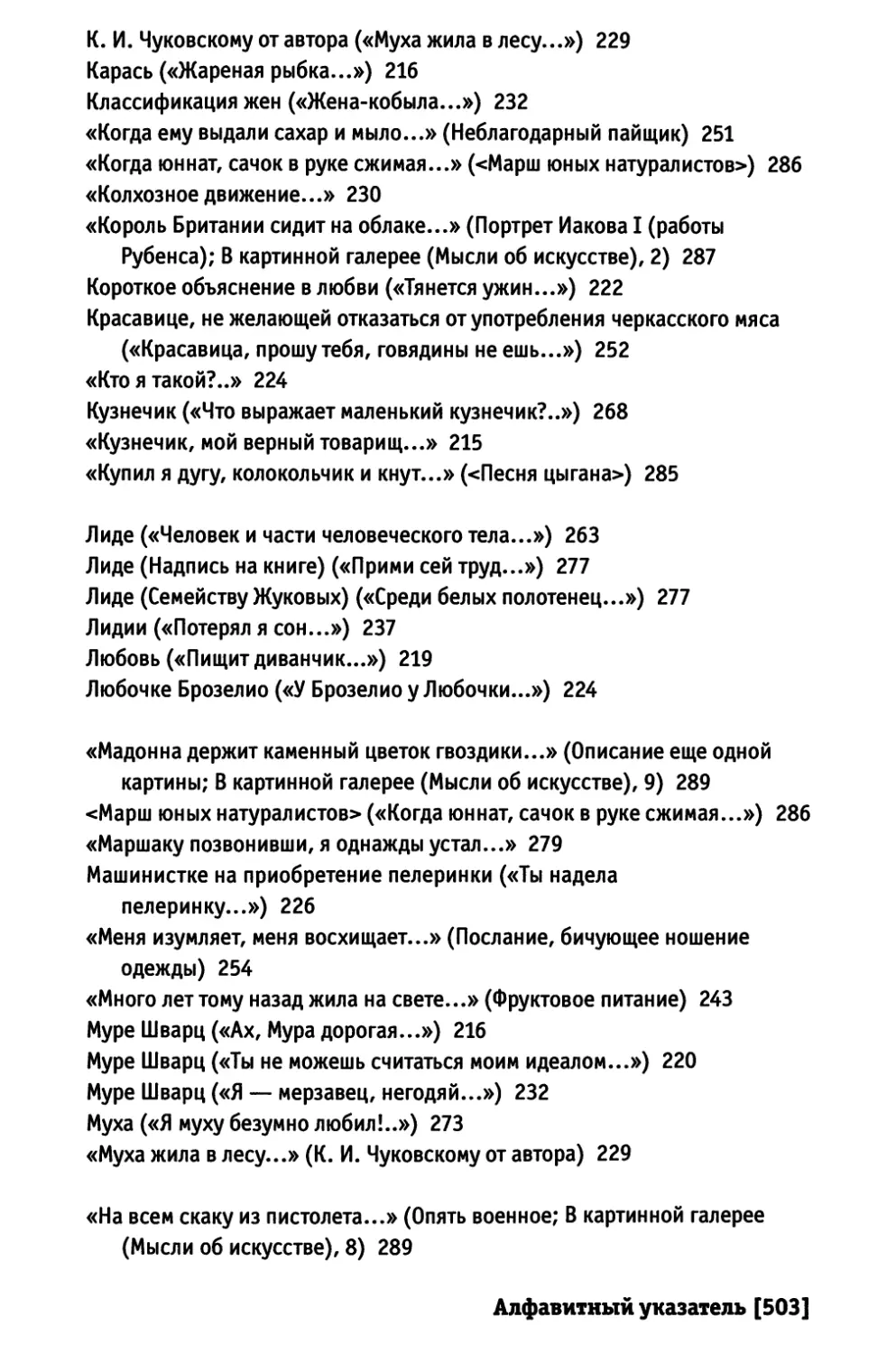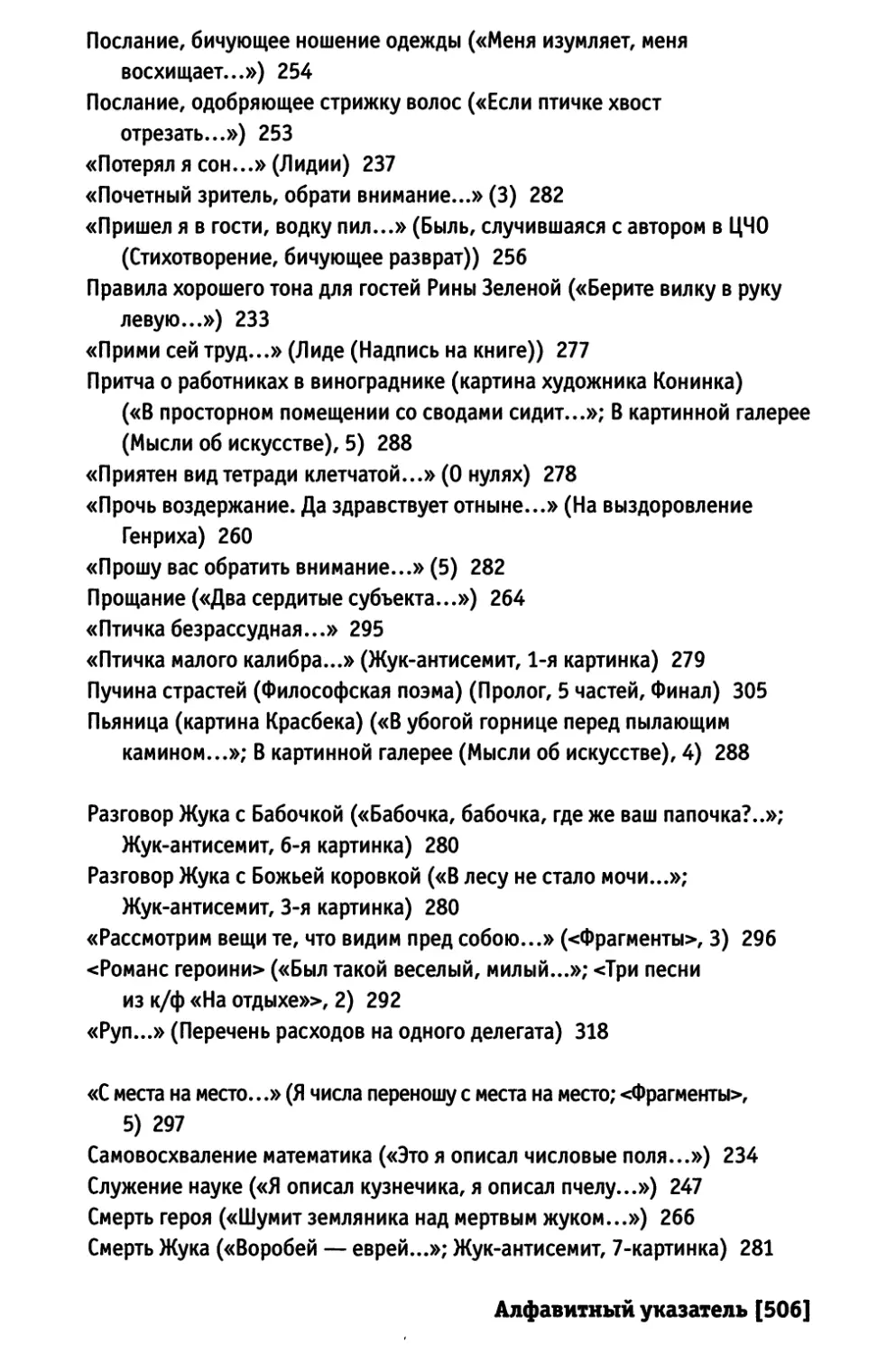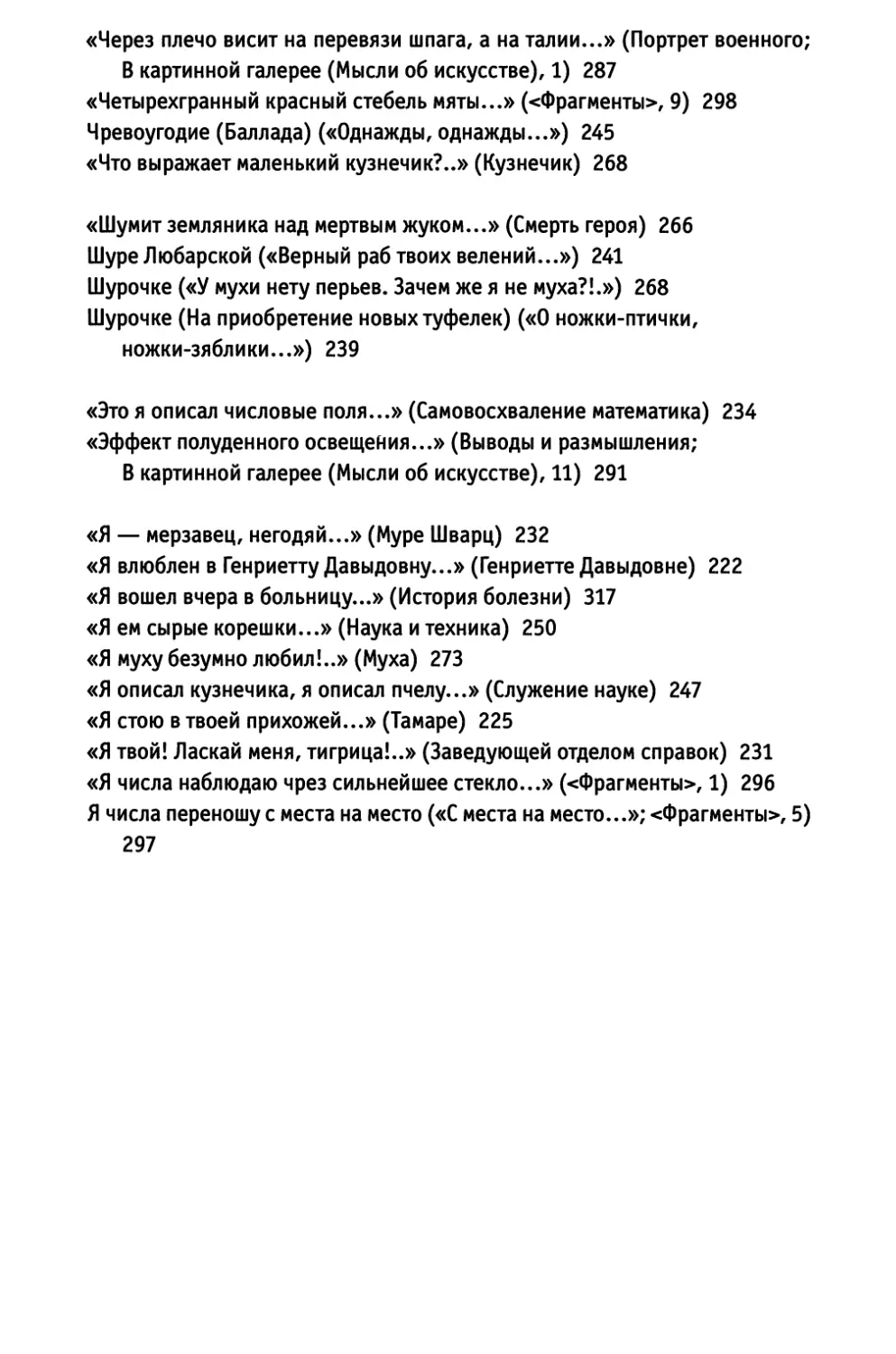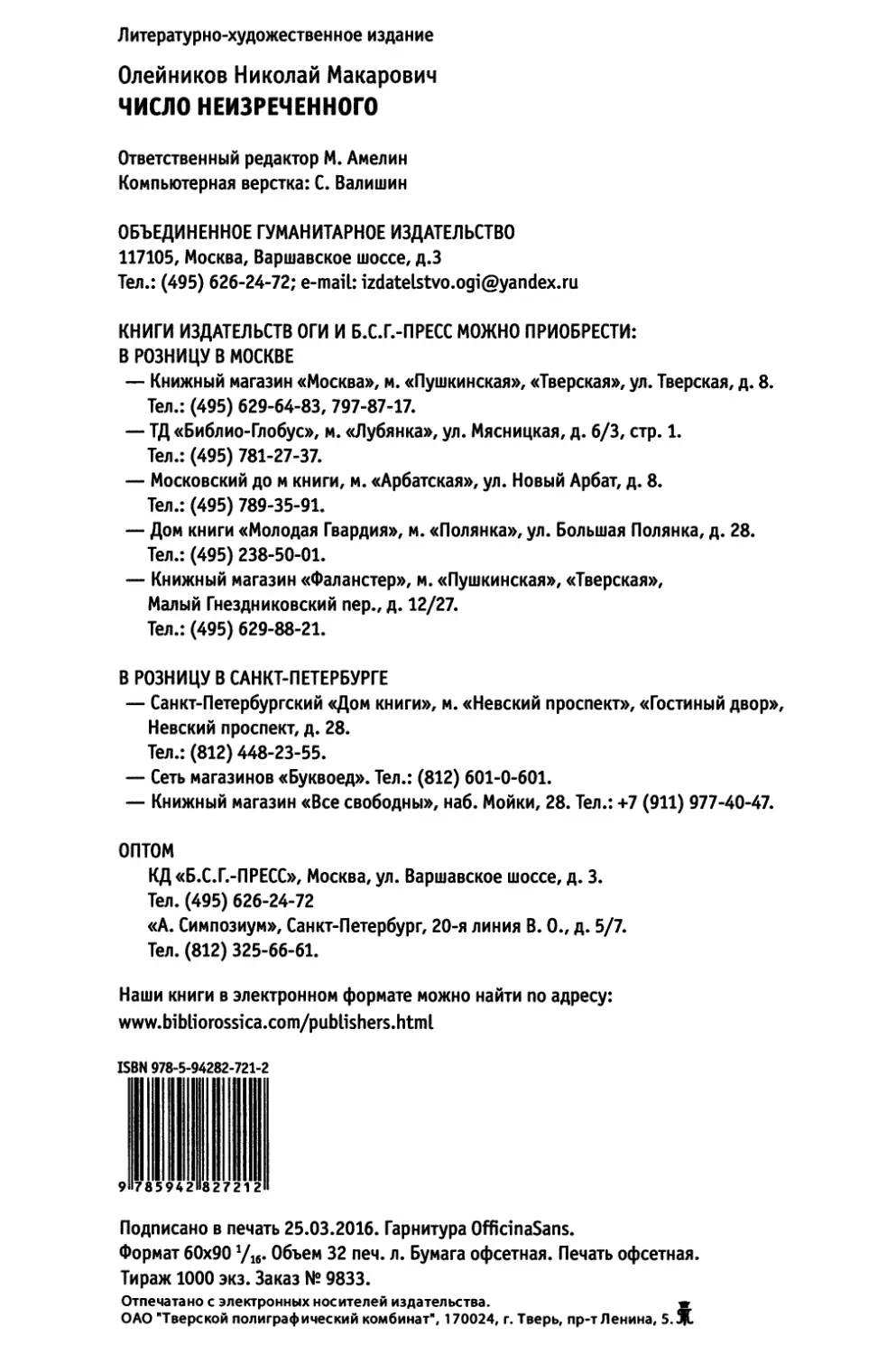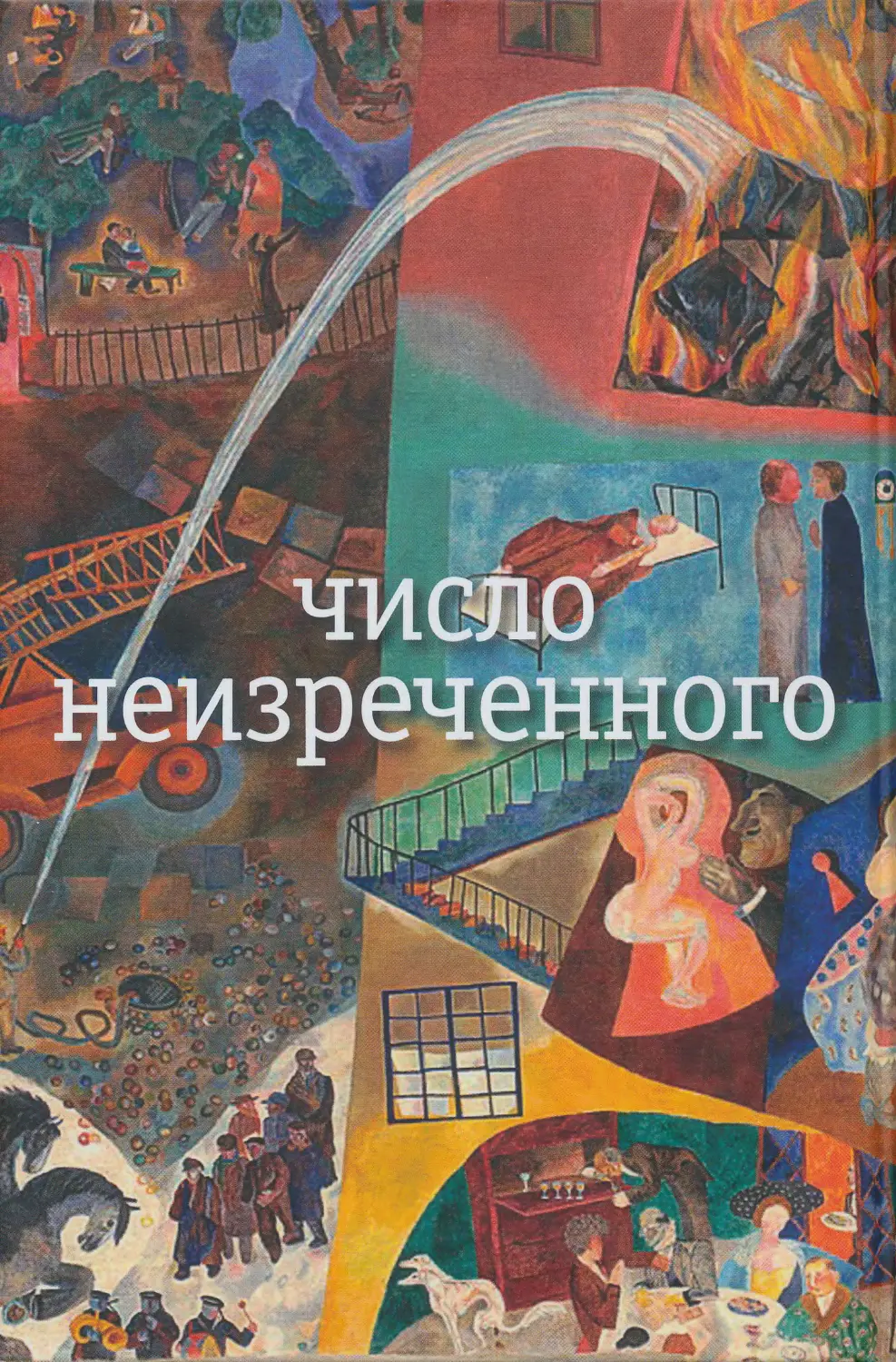Author: Олейников Н.М.
Tags: литературоведение художественная литература поэзия сборник стихов
ISBN: 978-5-94282-721-2
Year: 2016
Text
число
неизреченного
fift jfife
дЯЦ. JBjf
On 1 I fl | 11 I # ff«%
I 1 =— 1^п| ИтшшшД L| j| mI
gr I ^Нишм# У I II У 1 1 % %igsF BeeSF
число
неизреченного
в
о-г-и
УДК 82.09+82-1
ББК 83(2Рос=Рус)6+84-5
0-53
Составление, подготовка текста, вступительнный очерк
и примечания Олега Лекманова и Михаила Свердлова
Оформление и макет Андрея Рыбакова
Издание второе, исправленное и дополненное
Олейников Н. М.
0-53 Число неизреченного/ Николай Олейников; сост., подгот. текста, вступ. очерк
и примеч. 0. А. Лекманова и М. И. Свердлова. — М.: ОГИ, 2016. — 510 с., [48] с. ил.
ISBN 978-5-94282-721-2
Николай Макарович Олейников (1898—1937) — один из самых оригинальных и яр¬
ких представителей русского поэтического авангарда 1920—1930-х годов. Тонкий лирик
и пародист, поэт-сатирик, философ, своеобразный стилист, с именем которого связано
целое художественное направление так называемого «абсурдизма» (Д. Хармс, А. Введен¬
ский, Н. Заболоцкий и др.). Погибший во времена сталинщины, он на десятилетия был
исключен из истории литературы. Его произведения не издавались, большая их часть
оставалась в рукописях и списках, сохраненных семьей и друзьями поэта.
Книга открывается обширным биографическим и историко-литературным очерком.
УДК 82.09+82-1
ББК 83(2Рос=Рус)6+84-5
ISBN 978-5-94282-721-2 © Н. М. Олейников, наследники, 2015
© 0. А. Лекманов, 2015
© М. И. Свердлов, 2015
© ОГИ,2015
Содержание
Олег Лекманов, Михаил Свердлов
Жизнь и стихи Николая Олейникова И
I. СТИХОТВОРЕНИЯ
1. «Кузнечик, мой верный товарищ...» 215 437
2. Детские стихи 215 438
3. «На пропасти краю...» 216 438
4. Муре Шварц («Ах, Мура дорогая...») 216 438
5. Карась 216 438
6. Любовь 219 439
7. Муре Шварц («Ты не можешь считаться моим идеалом...»). . 220 439
8. Посвящение («Ниточка, иголочка...») 221 440
9. Короткое объяснение в любви 222 440
ю. Генриетте Давыдовне 222 441
11. На день рождения Груни 223 441
12. Любочке Брозелио 224 442
13. «Кто я такой?..» 224 442
14. «Целование шлет...» 224 442
15. Тамаре 225 442
16. Наташе 225 442
17. Машинистке на приобретение пелеринки 226 442
18. «И вот с тобой мы, Генриетта, вновь...» 227 443
Содержание [5]
19. Начальнику отдела 227 443
20. «Утром съев конфету "Еж"...» 228 443
21. Алисе 228 443
22. К. И. Чуковскому от автора 229 444
23. Убийство 230 444
24. «Колхозное движение...» 230 444
25. «Жили в квартире...» 231 444
26. Заведующей столом справок 231 444
27. Деве 231 444
28. Классификация жен 232 445
29. Муре Шварц («Я —мерзавец, негодяй...») 232 445
30. Правила хорошего тона для гостей Рины Зеленой 233 445
31. «Половых излишеств бремя...» 233 445
32. Жалоба математика 233 445
33. Самовосхваление математика 234 445
34. Вале Шварц 235 446
35. «Солнце скрылось за горой...» 236 446
36. Татьяне Николаевне Глебовой 236 447
37. «Однажды красавица Вера...» 237 447
38. Лидии 237 447
39. Шурочке (На приобретение новых туфелек) 239 448
40. Хвала изобретателям 239 448
41. Послание, бичующее ношение длинных платьев и юбок . . 240 449
42. Шуре Любарской 241 449
43. Фруктовое питание 243 449
44. Чревоугодие (Баллада) 245 449
45. Служение науке 247 452
46. Озарение 249 453
47. Затруднение ученого 250 454
48. Наука и техника 250 454
49. Бублик 250 454
50. Неблагодарный пайщик 251 454
51—52. Басни 251 454
Несходство характеров 251
Дружба как результат вымогательства 252
53. Красавице, не желающей отказаться от употребления
черкасского мяса 252 454
54. Послание артистке одного из театров 252 455
55. Послание, одобряющее стрижку волос 253 455
56. Послание, бичующее ношение одежды 254 455
57. Быль, случившаяся с автором в ЦЧ0 (Стихотворение,
бичующее разврат) 256 456
Содержание [6]
58. Надклассовое послание (Влюбленному в Шурочку) .... 257 456
59. На выздоровление Генриха 260 459
60. Послание («Блестит вода холодная в бутылке...») 261 459
61. Послание (На заболевание раком желудка) 262 461
62. Лиде («Человек и части человеческого тела...») 263 462
63. <Посвящение> («Влюбленный в Вас...») 264 462
64. <Надпись на книге> («Танки и санки...») 264 462
65. Прощание 264 462
66. Чарльз Дарвин 266 462
67. Смерть героя 266 464
68. Ботанический сад 267 465
69. Кузнечик 268 465
70. Шурочке («У мухи нету перьев. Зачем же я не муха?!.»). . 268 465
71. На день рождения Т<амары> Г<ригорьевны> Г<аббе> . . . 269 465
72. Тамаре Григорьевне 269 465
73. Супруге начальника (На рождение девочки) 270 465
74. Перемена фамилии 271 466
75. Муха 273 467
76. Таракан 274 469
77. Из жизни насекомых 276 475
78. Лиде (Надпись на книге) 277 475
79. Лиде (Семейству Жуковых) 277 475
80. О нулях 278 475
81. «Маршаку позвонивши, я однажды устал...» 279 476
82—88. Жук-антисемит. Книжка с картинками для детей 279 476
1-я картинка. «Птичка малого калибра...» 279
2-я картинка. Жук 279
3-я картинка. Разговор Жука с Божьей коровкой 280
4-я картинка. Осенняя жалоба Кузнечика 280
5-я картинка. Зимняя жалоба Кузнечика 280
6-я картинка. Разговор Жука с Бабочкой 280
7-я картинка. Смерть Жука 281
89-96 281 477
1. «Невероятное событие!..» 281
2. «Вот как начнешь подумывать...» 282
3. «Почетный зритель, обрати внимание...» 282
4. «Анучкин Никанор Иваныч...» 282
5. «Прошу вас обратить внимание...» 282
6. «Вот эти граждане бегущие спешат навстречу
императору...» 283
7. «Всё перечисленное вы...» 283
8. «Вот как начнешь подумывать да на досуге размышлять...» 283
Содержание [7]
97. <Песня юных пионеров> («Дедушкаплачет...») 284 478
98. <Песня юннатов> («Налево и направо...») 285 478
99. <Песня цыгана> («Купил я дугу, колокольчик и кнут...») . . 285 478
loo. <Марш юных натуралистов> («Когда юннат, сачок
в руке сжимая...») 286 478
Ю1. «Бойся, Заболоцкий...» 286 478
юг-иг. В картинной галерее (Мысли об искусстве) 287 478
1. Портрет военного 287 479
2. Портрет Иакова I (работы Рубенса) 287 479
3. Нимфы (картина Абрагама ван Кейленборха) 287 480
4. Пьяница (картина Красбека) 288 480
5. Притча о работниках в винограднике (картина
художника Конинка) 288 480
6. Художника запамятовал 289 481
7. «Среди фигурок можно различить военачальника...» . . 289 481
8. Опять военное 289 481
9. Описание еще одной картины 289 481
ю. Ну и ну! 290 482
11. Выводы и размышления 291 482
113—115. <Три песни из к/ф «На отдыхе»> 291 482
1. <Песня героя> («Под солнцем и ветром, где
дышится шире...») 291
2. <Романс героини> («Был такой веселый, милый...») ... 292
3. <Баллада о Джоне и Джеке> («Смотрите
и слушайте представление...») 292
не. Верочке 293 482
117. Больному 293 483
не. «Нежный лобик в преизбытке...» 294 483
U9. «Графин с ледяною водою...» 294 483
120. Птичка безрассудная...» 295 483
121. «Неуловимы, глухи, неприметны...» 295 483
122—132. <Фрагменты> 296 483
1. «Я числа наблюдаю чрез сильнейшее стекло...» 296
2. «Великие метаморфические силы...» 296
3. «Рассмотрим вещи те, что видим пред собою...» 296
4. «И пробудилося в душе его стремление...» 297
5. Я числа переношу с места на место 297
6. «Тихо горели свечи...» 297
7. «Борис Чирков, тебе...» 297
8. «Воображения достойный мир передо мною
расстилался...» 298
9. «Четырехгранный красный стебель мяты...» 298
Содержание [8]
ю. «Плодов и веток нумерация...» 298
11. «Осенний тетерев-косач...» 298
II. ПОЭМЫ
133. Вулкан и Венера (Мифологическое) 301 484
134. Пучина страстей (Философская поэма) 305 484
III. КОЛЛЕКТИВНОЕ
135. «Залетела в наши тихие леса...» 315 485
136. «УлицаЧайковского...» 316 486
137. История болезни 317 486
138. Перечень расходов на одного делегата 318 487
139. «От Нью-Йорка и до Клина...» 318 487
IV. ПРИПИСЫВАЕМОЕ
140. «В твоих глазах мелькал огонь...» 321 487
141. «Все мы знаем...» 322 487
142. «Наукою евгеникой...» 322 487
V. ПРОЗА
143. Кохутек (Удивительная история) 327 487
144. Боевые дни 329 487
145. Кто хитрее? 349 487
146. Без рук, без топорёнка построена избёнка 357 488
147. Живые загадки 361 488
148. Соль 366 488
149. Праздник 374 488
150. Прохор Тыля 381 488
151. Отто Браун 384 488
152. Первый Совет 391 488
153. Учитель географии 399 488
154. Танки и санки 404 488
155. Хитрые мастеровые 410 488
156. Блошиный учитель 414 488
157. Полет парашютиста Евсеева 418 488
158. В октябрьскую ночь 420 488
159. Красный бант (Рассказ взводного командира) 423 488
160. Портрет 429 488
Содержание [9]
Олег Лекманов, Михаил Свердлов
Примечания 437
Литература 489
Алфавитный указатель стихотворений 500
[10]
Жизнь и стихи
Николая Олейникова
Среди коллег по литературному цеху у него была репутация фигуры зага¬
дочной и скрытной. «Олейников — странный человек, казавшийся даже по
первому знакомству чудаковатым». Так вспоминал о поэте драматург Алек¬
сандр Штейн (Штейн: 143). «По обычаю ускользая от вопроса». Так описы¬
вал манеру Олейникова общаться с ближайшими друзьями философ и дет¬
ский писатель ЛеонидЛипавский (Разговоры: 346). «Он удивительно умен.
Он как обезьяна — все понимает и говорит мало...» Так охарактеризовал
Олейникова филолог Борис Бухштаб (Гинзбург: 104)2. «Демонически-про-
зорливый Олейников». Таким изобразил поэта автор «Республики ШКИД»
Л. Пантелеев (Пантелеев 2013).
«Я знал его...» — так начинает свое повествование об Олейникове Вени¬
амин Каверин (Каверин: 395). И тут же поправляет себя: «Впрочем, вернее
1 Мы очень рады, что это предисловие успел прочитать в рукописи и одобрить сын
поэта, Александр Николаевич Олейников, сделавший несколько ценных добавлений
и уточнений к его тексту. Также благодарим А. Боброва, И. Галеева, А. Герасимову,
А. Дмитренко, В. Зельченко, Д. Ицковича, И. Лощилова, К. Поливанова, Р. Лейбова,
И. Симановского и А. Устинова за предоставленные материалы и ряд интересных до¬
полнений. С особым чувством выражаем благодарность коллегам по филологическо¬
му факультету НИУ ВШЭ за содействие в работе.
2 На недоуменный вопрос собеседницы (Лидии Гинзбург): «Ты уверен в том, что обе¬
зьяны мало говорят?» Бухштаб отвечал: «Так думают дикари. Они думают, что обезья¬
на не говорит, чтобы ее не заставили работать» (Гинзбург: 104).
Жизнь и стихи Николая Олейникова [11]
было бы сказать, что мы были хорошо знакомы. Он внутренне как бы уходил
от собеседника — и делал это искусно, свободно» (Каверин: 395). А дальше
автор «Двух капитанов» деликатно формулирует свое недоумение по поводу
несоразмерности демонстративно «несерьезных» стихов и тем более ремес¬
леннически крепкой детской прозы Олейникова с угадываемыми масштаба¬
ми его личности: «В нем чувствовалось беспощадное знание жизни. Мне ка¬
залось, что между его деятельностью в литературе и какой-то другой, несо-
вершившейся деятельностью — может быть, в философии? — была пропасть
<...> Может быть, сознание несовершившейся деятельности, в которой он мог
бы проявить себя в полной мере, было причиной скрытности его характера?»
(Там же). «<0>громное его дарование не находило применения. Нет, не то: не
находило выражения», — вторил Каверину ближайший олейниковский друг-
враг, Евгений Шварц (Шварц 1990: 240). Если поверить Каверину и Швар¬
цу, то может статься, что не только себя, но и Олейникова имел в виду Даниил
Хармс, чей автобиографический персонаж задумывает «рассказ о чудотвор¬
це, который живет в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотво¬
рец и может сотворить любое чудо, но он этого не делает» (Хармс 2000:247).
Важно, конечно, помнить и про то, что Олейников, как и другие обэриу-
ты, был искусственно отгорожен от читателя, взрослые олейниковские ве¬
щи были известны очень малому кругу людей. «Писать для самого себя —
все равно что острить наедине с собой, не смешно, — с горечью говорил
друзьям поэт. — Нужно иметь людей, в расчете на которых пишешь. Сколь¬
ких? Немного. Достаточно, может быть, двух, трех. Но их нужно иметь не¬
пременно» (Разговоры: 375).
«Его манера держаться в обществе поражала: на людях он носил личину
шутника. Им был придуман в обращении с людьми некий выспренний слог
готовых приветствий и шуточных афоризмов, ставших в редакции ходячи¬
ми <...> Все весело смеялись. Однако глубокое раздумье не покидало его.
Грустные глаза были серьезны». Таким Олейников запомнился художни¬
ку Валентину Курдову (Курдов: 96). Об игровой манере поведения поэта,
надежно маскировавшей его подлинную сущность, писал и философ Яков
Друскин, сравнивая жизненные стратегии Олейникова и Хармса: «Д<аниил>
И<ванович> <Хармс> играл самого себя, а кого играл 0<лейников> — не
знаю. Внешне это производило блестящее впечатление» (Друскин 1999:
214)3. Понятно, что немудрящие трактовки тайного смысла олейников-
ской игровой манеры, предлагаемые некоторыми мемуаристами (Олейни¬
ков «просто любил паясничать в быту»4), не выдерживают проверки при
3 Здесь и далее курсив в цитатах (кроме специально оговариваемых случаев) — вез¬
де наш. — 0. Л., М. С
4 Суждение иллюстратора детских книг Василия Власова (см.: Глоцер 2012: 226).
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [12]
сличении с другими воспоминаниями о поэте. «Мы никогда ничего не зна¬
ли о его романах». Так, противопоставляя скрытного Олейникова донжуа¬
ну Введенскому, рассказывала о любовных увлечениях обэриутов Елизаве¬
та Коваленкова (Коваленкова: 404)5.
Игровыми, знакомящими читателя не с поэтом, а в лучшем случае с его ка¬
рикатурным двойником были и олейниковские стихи. Их намеренная легко¬
весность сурово осуждалась некоторыми из приятелей поэта, в том числе ли¬
тературными соратниками. «У Олейникова встречались интересные строчки,
но в целом его юмористика нас не очень устраивала», — подытожил в 1987 го¬
ду последний оставшийся к тому времени в живых поэт-обэриут Игорь Бехте¬
рев (Назаров, Чубукин: 54). «Я отношусь к нему равнодушно. Совсем не то,
очень размазано», — непроизвольно вторил Бехтереву коллекционер и зна¬
ток русского авангарда Николай Харджиев (Харджиев 2000:54).
Сам же Олейников в редкую минуту откровенности говорил о своих сти¬
хах филологу и писательнице Лидии Гинзбург: «Это не серьезно. Это вроде
того, как я вхожу в комнату, раскланиваюсь и говорю что-нибудь. Это сти¬
хи, за которыми можно скрыться. Настоящие стихи раскрывают. Мои сти¬
хи — это как ваш "Пинкертон", как исторические повести для юношества.
— Нет, это несоизмеримо. Но я понимаю... Вы хотите сказать — вещи не
из внутреннего опыта.
— Есть разные внутренние опыты. Может быть опыт умного и остроум¬
ного человека. Человека, который умеет сделать то, что хочет сделать. Это
все может пойти в условную вещь. Только это не самый главный внутренний
опыт» (Гинзбург 2002:486).
Но не слишком ли откровенными были олейниковские признания Ли¬
дии Гинзбург? И не подыгрывал ли он своей склонной к аналитической са-
морефлексии собеседнице, лукаво подсовывая ей для сравнения со свои¬
ми стихами ее же собственный документально-детективный роман «Агент¬
ство Пинкертона»?
Тайной целью Олейникова в данном случае мог быть очередной «уход»,
на этот раз — от подлинно серьезного разговора о «Карасе», «Смерти героя»
и тех других своих стихотворениях, о которых многие годы спустя как раз
Лидия Гинзбург написала: «Маска сдвигается, появляется от себя говорящий
автор, поэт» (Гинзбург: 500). Или же, наоборот, поэт мог ненавязчиво вну¬
шить своей собеседнице мысль о том, что ей следует искать под маской ге¬
5 Типологически сходный случай — скрытность еще одного мало писавшего автора
эпохи — Исаака Бабеля. Ср., например, в мемуарах И. Эренбурга об авторе «Конар¬
мии»: «Он любил прятаться, не говорил, куда идет; его дни напоминали ходы крота»
(Эренбург: 60). Ср. также в дневнике К. И. Чуковского (со слов К. Г. Паустовского):
«Всем врал даже по мелочам. Окружал себя таинственностью. Уезжая в Питер, гово¬
рил (даже 10-летней дочери соседей): еду в Калугу» (Чуковский 1994:333).
Жизнь и стихи Николая Олейникова [13]
роя его стихов подлинное лицо. По нашему глубокому убеждению, само оба¬
яние многих стихотворений Олейникова не в последнюю очередь объясняет¬
ся мерцанием и бликованием на их поверхности «внутреннего опыта» поэта,
открыто в его стихах не проявлявшегося или почти не проявлявшегося.
Попытаться пробиться сквозь толщу «личин», «готовых приветствий
и шуточных афоризмов» к внутренней сущности Олейникова — так можно
было бы сформулировать главную задачу нашей работы, если бы ее авторам
не казалось первостепенно важным и увлекательным попутное регистриро¬
вание и изучение самих этих «афоризмов», «приветствий», а также много¬
численных «личин», примерявшихся поэтом.
Следовательно, реконструкцию внутреннего опыта Николая Макарови¬
ча Олейникова мы далее попробуем совместить с описанием причин и спо¬
собов утаения им этого опыта.
Детство, отрочество, юность
(1898—1921)
1
Перебирая в январе 1935 года всевозможные варианты зачина для свое¬
го стихотворного послания Олейникову, Даниил Хармс попробовал и такую
строку: «Донских степей казак, стремлений злой насмешник» (см.: Мей-
лах 1999:565).
Действительно, Николай Макарович Олейников родился в семье потом¬
ственного казака. Место его рождения — станица Каменская, именовав¬
шаяся также Каменским городком, — сыграло далеко не последнюю роль
в истории донского казачества. «Когда именно и кем основана эта станица,
неизвестно, но в исторических актах в первый раз упоминается о Камен¬
ском городке в 1684 году», — отмечалось в одной из компилятивных работ
конца XIX столетия (Сулин: 719). Станица Каменская «поселена на правой
стороне Донца, на месте покатом к реке. Улицы в ней правильные, место¬
расположение красивое, ббльшая часть домов изрядно устроены и имеют
хороший вид; есть даже красивые дома, а особенно у чиновников. С левой
стороны Донца на правую переселена в 1816 году, на прежнем месте она
была затопляема весеннею водою. Станица сия есть наилучшая в Донецком
округе. В ней находится Донецкое сыскное начальство и приходское учили¬
ще». Так еще в начале 1830-х годов описывал станицу Каменскую извест¬
ный историк В. Д. Сухорукое (Сухорукое: 178).
Свой подлинный день рожденья 23 июля (4 августа) 1898 года Олейни¬
ков никогда не отмечал, предпочитая праздновать его 19 декабря, на Нико¬
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [14]
лу Зимнего, то есть — в день памяти Святого Николая Мир Ликийских чудо¬
творца (см.: Олейников А. 2000: 24). Не скрывалось ли за этой подменой
стремление поэта символически «стереть» из собственной памяти и из па¬
мяти домашних не только реальный день своего появления на свет, но и всё
и всех, кто с этим днем были непосредственно связаны? Во всяком случае,
нам совсем ничего неизвестно о матери Олейникова, а об отце из дневни¬
ков Евгения Шварца мы узнаем следующее: он «был страшен» настолько,
что «сын не в силах был представить себе, что кто-нибудь может относить¬
ся к отцу иначе, чем с ненавистью и отвращением» (Шварц 1990: 247).
«Отец — донской казак, в молодости занимавшийся сельским хозяйством,
а затем переехавший в город и работавший там сначала писарем в винном
складе, а потом сидельцем казенной винной лавки». Вот что посчитал нуж¬
ным сообщить об отце Олейников в своей автобиографии 1935 года6. «Еще
задолго до революции отец выгнал меня из дому», — многозначительно
прибавляет он к этим скупым сведениям7. «С 1917 года жил самостоятель¬
но», —■ сам себе противоречил поэт, отвечая на вопросы Комиссии по чист¬
ке коллектива ВКП(б) Союзфото8.
Очевидно, что противоречивость этих и многих других, исходящих от са¬
мого Олейникова сведений о себе, как раз и объясняется его почти патоло¬
гической скрытностью: создается впечатление, что каждый раз он стремит¬
ся запутать своих вопрошателей, сбить их с биографического следа.
Издевательской условностью, ничего общего не имевшей с реальной
действительностью, отзывается эпитет из финальных строк олейниковско-
го восьмистишия «Муре Шварц», сочиненного 15 сентября 1927 года:
О детство, детство золотое,
Ушло ты навсегда от нас.
«Характер у меня плохой, может быть от дурного воспитания». Вот един¬
ственная фраза о детстве, которой Олейников обмолвился в разговорах
с Леонидом Липавским и остальными своими друзьями из этого круга (Раз¬
говоры: 381).
Возможно, тоска по естественным, сердечным взаимоотношениям меж¬
ду отцом и сыном спрятана в пародических строках знаменитого олейни-
ковского «Таракана» (1934):
6 ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. On. 1. Д. 641923/2. Л. 8. Личное дело Олейникова было об¬
наружено и всесторонне изучено А. Бобровым и А. Герасимовой. Здесь и далее оно
будет цитироваться по копии, любезно предоставленной ими авторам этой статьи.
7 Там же.
8 Там же. Л. 1.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [15]
Там, в щелй большого шкапа,
Всеми кинутый, один,
Сын лепечет: «Папа, папа!»
Бедный сын!
Впрочем, все «личное» подвергается в стихах Олейникова такой ирониче¬
ской обработке, что любая попытка их «биографического» прочтения не¬
возможна без психоаналитического домысливания или интерпретаторско-
го преувеличения.
Регулярное образование будущий поэт получил в Донецком окружном
четырехклассном училище. «Образование мое — незаконченное среднее
(4 кл. реального училища», — сообщает он в автобиографии9. Воспомина¬
ния об Олейникове этой поры сводятся к тусклой, ничего не говорящей ни
уму, ни сердцу аттестации, данной многие годы спустя олейниковским со¬
учеником, И. П. Преловским: «Николай учился прилежно, с большим стара¬
нием и усердием. Особенно любил уроки литературы. Многие произведе¬
ния Пушкина, Лермонтова, Некрасова знал наизусть. Учитель всегда ставил
в пример его сочинения по литературе» (Шумов: 148).
После окончания Донецкого окружного училища и четырех лет, про¬
веденных в реальном училище, в 1916 году юноша поступил в Каменскую
учительскую семинарию, которую так и не окончил. Наверное, не стоит
удивляться, что проверяющим из Комиссии по чистке в 1935 году Олей¬
ников предоставил совершенно другую информацию о своей деятельно¬
сти в этот период: «...с 1914 по Октябрьскую революцию работал на заво¬
де маслобойщиком»10.
«С первых дней февральской революции» 1917 года, «не будучи еще
членом партии, примкнул к большевикам», — пишет Олейников в своей ав¬
тобиографии 1935 года11. Со множеством впечатляющих, как будто из го¬
голевского «Тараса Бульбы» позаимствованных подробностей Олейников
рассказывал о последующих событиях Лидии Гинзбург: «Юношей он ушел
из донской казачьей семьи в Красную Армию. В дни наступления белых он,
скрываясь, добрался до отчего дома. Но отец собственноручно выдал его
белым как отступника. Его избили до полусмерти и бросили в сарай с тем,
чтобы утром расстрелять с партией пленных. Но он как-то уполз и на этот
раз пробрался в другую станицу к деду. Дед оказался помягче и спрятал
его. При первой возможности он опять ушел на гражданскую войну в Крас¬
ную Армию» (Гинзбург: 485).
9 ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. On. 1. Дело 641923/2. Л. 8.
10 Там же. Л. 4.
11 Там же. Л. 8.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [16]
В автобиографии 1935 года Олейников изложит эти обстоятельства так:
«Отрезанный от своих вынужден был скрываться, но по доносу родственни¬
ков был схвачен и посажен в тюрьму. В тюрьме подвергался пыткам и после
одного из допросов до полусмерти избитый шомполами был положен в тю¬
ремную больницу. Из больницы бежал и вновь скрывался до прихода на Дон
Красной Армии»12.
А членам комиссии по проверке нерабочего состава РКП(б) ячейки № 9
при редакции газеты «Молот» Олейников 15 июня 1925 года сообщил о себе
ошеломляюще страшный факт: «Во время гражданской войны, на почве по¬
литических разногласий, убил отца»13.
Было бы чрезвычайно соблазнительно для биографов именно это собы¬
тие объявить главной причиной знаменитой скрытности поэта и его всег¬
дашних «внутренних уходов от собеседника»: мол, страшная тайна отце¬
убийства привела Олейникова к попытке вытеснить все личное из собствен¬
ного сознания и тщательно скрывать любые сведения о своем прошлом
и настоящем от современников.
Но почему же мы должны поверить в подлинность именно этого фак¬
та, который (с очевидной выгодой для себя тогдашнего) Олейников сооб¬
щил членам комиссии по проверке нерабочего состава РКП(б) ячейки № 9?
Ведь члены комиссии были абсолютно лишены, если не возможности, то
уж точно — желания выяснять подлинные обстоятельства смерти Олей-
никова-отца, — ее заседание состоялось в Ростове-на-Дону, а не в стани¬
це Каменская. Так что Олейников-сын вполне мог позволить себе эпатаж¬
ный и цинический жест из тех, к которым, как мы убедимся далее, он был
в высшей степени склонен. В1935 году, представ перед ленинградской Ко¬
миссией по чистке, Олейников ни словом не обмолвится о том, что убил от¬
ца. «По причинам личного характера с отцом разошелся», — коротко объ¬
яснит он14.
Понятно, что теперь многие читатели Олейникова, наслаждаясь стихами
поэта, не смогут забыть о его то ли исповедальном, то ли игровом призна¬
нии в отцеубийстве. Однако строить на фундаменте этого признания кон¬
цепцию личности Олейникова авторы предлежащей биографии поэта не хо¬
тят и не станут.
12 ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. On. 1. Дело 641923/2. Л. 8. Однако, в другом месте Олей¬
ников сообщает о себе, что «за службу в Красной Гвардии» «сидел в тюрьме
6 м<есяцев>» (Там же. Л. 4). А еще в одном — что пять (ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. On. 1.
Дело 641923/4. Л. 3 об.).
13 ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. On. 1. Дело 641923/1. Л. 5. По устному сообщению И. Е. Ло-
щилова, об этом же Олейников рассказывал Н. А. Заболоцкому, а тот по секрету
своему сыну.
14 ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. On. 1. Дело 641923/2. Л. 1.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [17]
Так или иначе, но драматические взаимоотношения Олейникова с отцом
много лет спустя были иронически переосмыслены в шуточном стихотворе¬
нии, которое приписывается Олейникову:
Наукою евгеникой
Плененный до конца,
Однажды фис Олейников
Допрашивал отца:
— Скажи мне, пэр Олейников,
Былого не кляня,
Ты, верно, по евгенике
Воспитывал меня?
И молвил пэр Олейников,
Потомка возлюбя:
— Я прутиком от веника
Воспитывал тебя!
И загрустил Олейников,
Качая головой...
— Увы, — сказал, — евгеника,
Я не взращен тобой.
Впрочем, по мнению младшего современника Олейникова, Вячеслава Дом¬
бровского, автором стихотворения был Евгений Шварц: «В этом экспромте
Николай Макарович якобы обращается к своему отцу, употребляя почему-
то французское слово реге (отец)» (Домбровский: 36).
Почему в декабре 1917 года Николай Олейников стал красногвардейцем
Каменского революционного отряда?
Убедительный ответ находим в воспоминаниях о поэте, написанных Ли¬
дией Жуковой и Николаем Чуковским: из чувства протеста, чтобы ни в чем
не походить на отца и других ближайших родственников15. «Из своей дон-
15 Нужно заметить, что противостояние детей отцам, а отцов детям — случай не
такой уж редкий среди донских казаков в пореволюционную пору. К широко из¬
вестным примерам прибавим здесь еще один — письмо красноармейца станицы Ка¬
менская своему отцу, опубликованное в номере газеты «Красный казак» от 9 июля
1920 года: «До нас часто доходят ваши жалобы на то, что наша она же и ваша власть
просит у вас хлеба для армии и для рабочих голодных губерний. Отдай егй без ро¬
пота, отец! Перестань думать о себе. Не ропщи на власть, что она забирает хлеб,
а вы во всем нуждаетесь. Не думай, что мы не знаем о ваших нуждах. Нет, мы о них
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [18]
ской станицы Олейников ушел рано, подростком, наперекор всему, —
к красным, — рассказывает Жукова. — То ли это был задор, мальчишеский
бунт против суровых казачьих устоев, то ли обольстила его романтика, меч¬
та, но воевал он в гражданскую войну против своих же, и свои же остави¬
ли ему на память исшомполованную спину. Он как-то показывал эти рубцы.
Все так же ухмыляясь, обшучивая и это, — трагедию. Он-то знал, что зна¬
чит — брат на брата. Может, потому, что он был старше всей нашей ком¬
пании, а может, потому, что был умнее, только я не помню его прозрева-
ния, он был зрелым, зрячим всегда, — когда мы еще были напичканы вся¬
кой дурью идеи. Он был дьявольски умен» (Жукова: 166). «Коля Олейников
был казак, и притом типичнейший — белокурый, румяный, кудрявый, похо¬
жий лицом на Кузьму Пруткова, с чубом, созданным богом для того, чтобы
торчать из-под фуражки с околышком, — пишет Николай Чуковский. —
Он был сыном богатого казака, державшего в станице кабак, и ненавидел
своего отца. Он весь был пропитан ненавистью к казакам и всему казачьему.
Он утверждал, что казаки — самые глупые и самые ленивые люди на све¬
те. В казачьих землях, говорил он, умны только женщины и работают только
женщины, а мужчины — бездельники и выдающиеся дураки. Все взгляды,
вкусы, пристрастия выросли в нем из ненависти к окружавшему его в дет¬
стве казачьему быту. Родня сочувствовала белым, а он стал бешеным боль¬
шевиком, вступил сначала в комсомол16, потом в партию. Одностаничники
избили его за это шомполом на площади, — однажды он снял рубаху и по¬
казал мне свою крепкую очень белую спину, покрытую жутким переплете¬
нием заживших рубцов. Он даже учился и читал книги из ненависти к тупо¬
сти и невежеству своих казаков. Казаки были антисемиты, и он стал юдофи¬
лом, — с детства ближайшие друзья и приятели его были евреи, и он не раз
проповедовал мне, что евреи — умнейшие, благороднейшие, лучшие люди
на свете» (Чуковский Н.: 252—253)17.
отлично знаем. И знает о них дедушка Ленин. Но что же делать? В настоящее время
мы заняты на фронте. А раз это так, то стыдно вам иметь такие запасы продуктов,
которых вы сами не в состоянии потреблять. Это несправедливо. С восстановлением
права на земле вы ни в чем нуждаться не будете. А потому, не ропщите и отдавай¬
те ваши излишки. Ими накормят нас — ваших детей». Отчасти сходный с олейни-
ковским пример — судьба другого донского казака и тоже уроженца станицы Ка¬
менская, Михаила Казмичева (1897—1960), который после революции перебрался
в Ленинград и там плодотворно занимался переводами из Гейне, Байрона, поэтов
французского Возрождения.
16 Документальных свидетельств о вступлении Олейникова в комсомол не обнаруже¬
но (А. Н. Олейников, устное сообщение).
17 Ср. также в воспоминаниях художника Валентина Курдова: «На спине его были
видны рубцы от ран» (Курдов: 96).
Жизнь и стихи Николая Олейникова [19]
В 1935 году Олейников напишет серию коротких пародийных стихотво¬
рений «Жук-антисемит (Книжка с картинками для детей)». В первом и еще
действительно «детском» двустишии этой «книжки» («1-я картинка»):
Птичка малого калибра
Называется колибри, —
содержится пародийный намек на книжку для детей Владимира Маяковско¬
го «Что ни страница — то слон, то львица», вышедшую в 1928 году с рисун¬
ками Кирилла Зданевича (у Маяковского, напомним: «Этот зверь зовется ла¬
ма. / Лама дочь и лама мама»).
В следующих шести стихотворениях, иронически перефразируя мефи¬
стофелевскую песенку о блохе из «Фауста» (с ее строками: «От блох не ста¬
ло мочи, / Не стало и житья») и фольклорные дразнилки-заклинания (вро¬
де: «Божья коровка, где твои детки?»)18, поэт представит читателю впечат¬
ляющую галерею насекомых-антисемитов, причем в этой галерее пойдет
речь и о погибших «папочке» с «мамочкой»:
2-я КАРТИНКА
ЖУК
Ножками мотает,
Рожками бодает,
Крылышком жужжит:
— Жи-жи-жи-жи-жид! —
Жук-антисемит.
3-я КАРТИНКА
РАЗГОВОР ЖУКА С БОЖЬЕЙ КОРОВКОЙ
Божья коровка:
В лесу не стало мочи,
Не стало нам житья:
Абрам под каждой кочкой!
Жук:
— Да-с... Множество жидья!
18 На эти два подтекста указано в работе: Ронен: 241—242. То ли подтекстом для Олейни¬
кова, то ли вариацией на тему его «детской книжки» стало следующее двустишие из совет¬
ского городского фольклора: «Вошел в трамвай антисемит: / "Слева жид, и справа жид!"»
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [20]
4-я КАРТИНКА
ОСЕННЯЯ ЖАЛОБА КУЗНЕЧИКА
И солнышко не греет,
И птички не свистят,
Одни только евреи
На веточках сидят.
5-я КАРТИНКА
ЗИМНЯЯ ЖАЛОБА КУЗНЕЧИКА
Ох, эти жидочки!
Ох, эти пройдохи!
Жены их и дочки
Носят только дохи.
Дохи их и греют,
Дохи и ласкают,
Кто же не евреи —
Те все погибают.
6-я КАРТИНКА
РАЗГОВОР ЖУКА С БАБОЧКОЙ
Жук:
— Бабочка, Бабочка, где же ваш папочка?
Бабочка:
— Папочка наш утонул.
Жук:
— Бабочка, Бабочка, где ж ваша мамочка?
Бабочка:
— Мамочку съели жиды.
7-я КАРТИНКА
СМЕРТЬ ЖУКА
Жук {разочарованно):
Воробей — еврей,
Канарейка — еврейка,
Божья коровка — жидовка,
Термит — семит,
Грач — пархач!
(Умирает.)
Жизнь и стихи Николая Олейникова [21]
Можно сказать, что из всех известных нам стихотворений Олейникова имен¬
но эти «картинки» ближе всего подходят к сатире: антисемитизм в них не
только высмеивается — с редкой для поэта недвусмысленностью, но и под¬
вергается своего рода анализу.
За алогизмом «жука-антисемита» хорошо просматривается логика ди¬
агноза — уже в подборе и последовательности рифм. Невинная игра в ка¬
ламбурные рифмы, с которой начинается мини-цикл («калибра — коли¬
бри»), от картинки к картинке становится все более опасной. Рифма пере¬
стает служить поэтическим инструментом и обретает пугающую активность:
подтасовывая слова и искривляя логику, она водит зациклившееся созна¬
ние вокруг одной неподвижной идеи.
Сначала рифма как бы невольно, автоматически выскакивает из детско¬
го фольклора, внезапно превращая забавную загадку («Ножками мотает, /
Рожками бодает, / Крылышком жужжит...») в оскорбительную дразнилку:
«жид». В следующих же трех картинках созвучия становятся все более на¬
вязчивыми: полная рифма («житья — жидья») сменяется двукратно повто¬
ренной неточной («греет — евреи») и суффиксальной («дочки — жидоч¬
ки»). Искомые слова рифмуются то с поэтической изощренностью, то как
попало — главное другое: агрессивные рифмы всеми средствами (от арти¬
стизма до графомании) стремятся захватить как можно больше стихового
пространства — и вот уже каждый второй стих отзывается «евреем».
В двух последних картинках рифмовка становится уже не просто на¬
рочитой, а в полном смысле маниакальной. Отсюда жутковато-комические
крайности. С одной стороны, для того, чтобы зарифмовать «жида», не тре¬
буется даже созвучия: в обезумевшем сознании и без этого «еврей» рифму¬
ется с любым отрицательным словом («утонул — жиды»)* С другой сторо¬
ны, с пугающей ловкостью изобретаются все новые и новые маркированные
рифмы — так что в итоге каждая тварь оказывается зарифмованной с «ев¬
реем», затянутой в «еврейскую» синонимию. Все попадают под подозрение
рифмы — даже та самая божья коровка («Божья коровка — жидовка»), ко¬
торая в третьей картинке сетовала на засилье «Абрамов».
Одновременно под давлением параллелизмов с каждой картинкой все
более параноидальными становятся обобщения жука и его соседей-насеко-
мых. «Житейский» параллелизм третьей картинки («В лесу не стало мочи, /
Не стало нам житья...») внушает, что евреи будто бы захватили все, что на
земле («Абрам под каждой кочкой»); «глобальный» параллелизм четвер¬
той картинки («И солнышко не греет, / И птички не свистят») — что во вла¬
сти евреев уже и то, что над землей («Одни только евреи / На веточках си¬
дят»). Параллелизмы деформируют и подменяют причинно-следственные
связи: симметрические анафоры пятой картинки («Ох, эти жидочки! / Ох,
эти пройдохи!»; «Дохи их и греют, / Дохи и ласкают») заставляют разорвать
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [22]
логическую цепочку и резко перескочить от посылки («евреи — богатеи
и пройдохи») к выводу: «Кто же не евреи, / Те все погибают».
В шестой картинке инерция параллелизма (фольклорные повторы: «Ба¬
бочка, Бабочка, где же ваш папочка?» — «Бабочка, Бабочка, где ж ваша
мамочка?») доводит «лесную» логику до полного абсурда: «Папочка... уто¬
нул» (подразумевается: виноваты евреи); «Мамочку съели жиды» (нелепое
смешение человеческого и животного плюс, возможно, пародийный намек
на розановскую книгу «Обонятельное и осязательное отношение евреев
к крови»). В последней картинке параллелизм становится тотальным, и это
оборачивается манией преследования и логическим самоубийством персо¬
нажа: утверждение третьей картинки («множество жидья») теперь абсолю¬
тизировано («Воробей — еврей, / Канарейка — еврейка» и т. д.; значит,
каждый — еврей), соответственно, и утверждение пятой картинки («Кто же
не евреи,/Те все погибают») должно быть реализовано: все погибают, сле¬
довательно, и я, жук, должен умереть.
По обычной для Олейникова иронии судьбы, в начале 1990-х годов апо¬
логетическую биографическую повесть о нем напечатал в журнале «Мо¬
лодая гвардия» национально озабоченный литератор Н. Коняев, который
идеально вписался бы в галерею персонажей стихотворной серии «Жук-
антисемит». Главной целью Коняева, собственно, и стало показать, что
«в лесу не стало мочи, не стало нам житья». Для начала он констатиру¬
ет: «Общеизвестно, что Ульянов, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Ягода и др.
после Октября 1917 года целеустремленно и яростно проводили кампанию
по уничтожению русской национальной культуры <...> И эта практика фи¬
зического уничтожения русских национальных деятелей культуры никог¬
да не прекращалась. Вспомним хотя бы судьбы только некоторых литерато¬
ров — Блока, Маяковского, Есенина, Гумилева, Ганина, Клюева, Васильева,
Рубцова...» (Коняев: 96). А потом, один за другим, в поле зрения Н. Коня¬
ева попадают многочисленные «жидочки», затравившие, а затем и убившие
славного донского казака Олейникова: «Когда Н. Е. Шапиро-Дайховский
подписал ордер, планировалось, что операцию будет проводить Френкель,
но тот задержался на допросе, и за Олейниковым пришлось ехать Шване-
ву <...> потом опечатали квартиру и теперь мчались в управление, где Шва-
нев должен был сдать арестованного в восточное отделение контрразвед¬
ки Науму Абрамовичу Голубу <...> На удивительного арестанта заходил по¬
смотреть сам Яков Ефимович Перельмутер <...> Наум Абрамович был похож
на Самуила Маршака» (Там же: 99). Далее следует нечто уже совсем нево¬
образимое: «Попав в Ленинграде в среду еврейских деятелей искусств, за¬
полнивших квартиры расстрелянных или высланных Сергеем Мироновичем
(Кировым. — 0. У7., М. С.) из города русских интеллигентов, он чувствовал
себя достаточно неуютно среди местечкового визга и грязи» (Там же: 124)
Жизнь и стихи Николая Олейникова [23]
и проч. и проч. Как было сказано однажды по отчасти сходному поводу:
«Персонажи пишут».
Справедливости ради нужно, впрочем, отметить, что Олейников, в це¬
лом относившийся к казацкому сословию более чем сдержанно, иногда был
вовсе не прочь щегольнуть своим казацким происхождением. «Ходил Олей¬
ников с золотой серьгой в ухе — он ведь считал себя казаком», — вспо¬
минала Елизавета Коваленкова (Коваленкова: 404). «Чуб как у Кузьмы
Крючкова, этой патриотической эмблемы Первой мировой войны». Таким
впервые увидела поэта Лидия Жукова (Жукова: 160). «Чубатый Олейни¬
ков, казак вразвалочку». Это тоже взято нами из воспоминаний Жуковой
(Там же: 173).
Черты отважного и беспощадного казака угадываются в пародийном об-
разе-маске Макара Свирепого, созданной Олейниковым для детской лите¬
ратуры, — наверное, недаром поэт дал этому персонажу имя своего жесто¬
косердого отца. Характерная олейниковская шутка запомнилась Евгению
Шварцу: «...один из наших друзей неуклонно говорил, войдя в отдел и гля¬
дя на Олейникова:
— Много казаков порубал я на своем веку!
На что тот каждый раз отвечал одинаковым лихим голосом:
— А я их всех воскрешал!» (Шварц 1991:67).
2
Но вернемся в станицу Каменская. Здесь 10 января 1918 года в здании
бывшей Каменской церковно-приходской школы состоялся съезд фрон¬
тового казачества, который в итоге создал Военно-революционный коми¬
тет и вручил генералу А. М. Каледину ультиматум с требованием передать
всю власть в области Войска Донского в руки Ревкома. Каледин, понятное
дело, условий этого ультиматума не принял и обрушил на станицу Камен¬
скую удар офицерского отряда, который большевиков оттуда выбил. Тогда
Олейникова в первый раз арестовали, однако 28 апреля 1918 года в стани¬
цу вошли красные, а белогвардейская добровольческая армия вынуждена
была ретироваться на Кубань. В Каменской началась чересполосица воен¬
ных режимов.
Сперва тут всласть похозяйничали красные. Они даже образовали в ста¬
нице «целый кабинет министров: министр финансов — Пантюшка Еременко,
бывший ученик высшего начального училища, министр народного просве¬
щения — псаломщик Андрей Горобцов, министр юстиции — студент перво¬
го курса Вашкевич и министр внутренних дел и военный — Ефим Щаденко,
судившийся, сколько припоминает один из свидетелей, за сбыт фальшивых
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [24]
монет» (Из итогового акта особой комиссии при главнокомандующем воору¬
женными силами на Юге России по расследованию злодеяний большевиков,
составленного 21 июня 1919 года). В период правления красных было аре¬
стовано 42 жителя станицы, из которых 29 человек отправили в Луганск, там
расстреляли, а их изуродованные тела сбросили в каменоломни. 10 апреля
1918 года большевики очередной бой за станицу Каменская проиграли. Сно¬
ва ее взять красные смогли лишь 19 апреля 1919 года. В начале мая военное
счастье вновь улыбнулось белым, продержавшимся в станице до 31 декабря
1919 года. С заподозренными в сочувствии большевикам жителями станицы
белые тоже не особенно церемонились. На это время, вероятно, и пришелся
тот драматический «гоголевский» конфликт между отцом и сыном Олейни¬
ковыми, о котором поэт впоследствии чуть по-разному рассказывал Лидии
Гинзбург, Николаю Чуковскому и Лидии Жуковой.
«В декабре 1917 г. и в январе 1918 г. с оружием в руках выступал против
генерала Каледина, принимал активное участие в восстании против Дон¬
ского контрреволюционного правительства <...> В рядах красной гвардии
дрался против немцев, наступавших на Дон <...> участвовал в разгроме Де¬
никина на Дону и на Кубани», — такие вехи своего боевого пути намечает
Олейников в автобиографии 1935 года19.
В мае 1920 года юноша вступил в Российскую коммунистическую пар¬
тию (большевиков) — партбилет № 142777.
Весьма показательно, что драгоценный личный опыт, накопленный
Олейниковым на военной службе, остался совершенно невостребованным
в его поэзии и прозе. И это при том, что в 1920-х — 1930-х годах он напи¬
сал немало рассказов и очерков для детей, посвященных прошлому Крас¬
ной армии. Однако, в отличие от молодого Льва Толстого и, скажем, Бабе¬
ля или Гайдара, Олейников не пустил собственное боевое прошлое в лите¬
ратуру, предпочитая говорить от лица выдуманного героя или же сообщая
маленькому читателю «объективные» факты, взятые из газет. Вероятно, ему
казалось непростительным хвастовством и пошлостью расписывать свои
подвиги в беллетристических книжках и уж тем более упиваться, подоб¬
но тому же Бабелю, трагическими жесткостями прошедшей войны. «Ска¬
жет одно только слово: "кишочки", и все ясно: грубо, натуралистично, не
искусство, — свидетельствовала Жукова. — Эти "кишочки" стали для нас
термином: фильм "Чапаев" с его декоративным Бабочкиным — "кишочки",
и еще многое другое — "кишочки"» (Жукова: 166—167). А ведь не какой-
нибудь приспособленец Рюхин, а сам Осип Мандельштам в 1935 году при¬
шел в полное восхищение от фильма братьев Васильевых «Чапаев» и даже
написал два стихотворения, навеянных ключевыми мотивами этого фильма:
19 ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. On. 1. Д. 641923/2. Л. 8.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [25]
От сырой простыни говорящая —
Знать нашелся на рыб звукопас —
Надвигалась картина звучащая
На меня, и на всех, и на вас...
Начихав на кривые убыточки,
С папироской смертельной в зубах,
Офицеры последнейшей выточки —
На равнины зияющий пах...
В итоге портреты «шолоховских типов» свелись у Олейникова к шаржиро¬
ванной зарисовке из детского рассказа «Удивительный праздник»: «Когда
я шел по нашей улице к дому, меня обогнал казак на лошади.
В одной руке у него была нагайка, а в другой калоша.
Калошу кто-то из наших (рабочих, отмечавших в 1912 году праздник
1 мая. — 0. Л., М. С.) потерял» (Олейников 19346:13).
Еще одну показательную сценку с участием нелепого казака — «орато¬
рию "Гвоздик"», которую Олейников разыгрывал на домашних праздниках,
описывает сын поэта, Александр Николаевич: «Казак садится на коня и, от¬
правляясь в соседнюю станицу, запевает: "Ужты наш да поселковый коман¬
дир Гво..." Всю долгую дорогу, выражая интонациями и ритмом различные
происходящие в дороге события, он поет на разные лады слово "Гво..." и,
добравшись до места, заканчивает: "...здик! Приехал". При этом "г" произ¬
носится по-южному, с придыханием» (Олейников А. 2000:39).
Трагикомическая деталь, относящаяся уже к 1935 году: свое напеча¬
танное в «Правде» негодующее письмо, разоблачающее «вредительскую»
олейниковскую книжку «Танки и санки», читатель из Ростова-на-Дону
Г. Фрадкин завершает призывом дать, наконец, слово реальным участникам
достопамятных событий. «Нужно больше писать для детей о Красной Армии
и в первую очередь заставить писать для детей тех, кто прошел героический
путь этой армии. Их рассказов давно ждут ребята советской страны», — па¬
тетически утверждал этот читатель-доносчик (Фрадкин: 4), по всей види¬
мости, не имевший ни малейшего понятия о том, что охаянная им книга как
раз и была создана человеком, прошедшим «героический путь».
3
В середине апреля 1920 года в Каменске начинает выходить «стенная газета
Каменского отделения УКРОСТА» «Красный Казак». Тогда же Николая Олей¬
никова вводят в состав редколлегии этой газеты.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [26]
«Красный казак» представлял собою задорный и весьма пестрый по
подбору материалов листок, наряду с международными и общероссийски¬
ми новостями печатавший местную хронику, включая, например, корот¬
кие отзывы о книгах и рецензии на постановки Каменского летнего театра.
Изредка появлялись в «Красном казаке» даже самодеятельные стихотво¬
рения, например, «Российскому пролетариату», подписанное «А. Цупов»
и напечатанное в номере газеты от 17 августа 1920 года (приводим пер¬
вую строфу):
Сколько горя и мук и терпения
Пролетарий несет на плечах,
Поднимая везде вдохновение
И заботясь о бедных людях.
Или же такое, за подписью «В. Соболевский», помещенное в номере от
21 октября 1920 года:
ВЕРНИСЬ, ДЕЗЕРТИР!
Дезертир! Дезертир! Зима ведь идет,
Стужу и холод с собою несет;
В лесу тебе негде уж будет укрыться,
Дома ведь тоже нельзя приютиться.
Где ж ты пойдешь? Дезертир-Горемыка!
Шкурником снова ли будешь, скажи-ка?
Подлым предателем родины зваться,
Только ночью к семье на ночлег пробираться.
Незавидная жизнь твоя, дружище;
Словно загнанному зверю кругом озираться
С наступлением рассвета от людей укрываться.
А не лучше ли, брат, сердечно сознаться,
Да за общее дело покрепче приняться.
Добровольно явиться; в ряды армии стать;
Скорей Врангеля шайку в море загнать.
Дезертир! Брат мой! Опомнись же ты!
Не готовь своим братьям новой нужды,
В ряды Армии Красной ты смело вступи
Пред трудящимся людом вину искупи.
Хотя точно известно, что Олейников публиковал в «Красном казаке» все¬
возможные заметки и корреспонденции, среди немногочисленных подпи¬
санных материалов газеты его фамилии нам обнаружить не удалось. Может
Жизнь и стихи Николая Олейникова [27]
быть, именно Олейников скрылся под псевдонимом «Мамут», красовавшим¬
ся под «маленьким фельетоном» «Новогодние пожелания», помещенным
в номере «Красного казака» от 1 января 1921 года?
Комхозу — помнить, что раньше горбатого могила правила,
а теперь рабоче-крестьянская инспекция.
Совнархозу — «Приласкай и обогрей».
Уепродкому — Постараться «снабжать» и за прошедшие дни.
Многолавочному кооперативу — Мм...
Каменским спекулянтам — Содрав все шкуры с обывателя, на¬
чать есть его живьем.
Донсоюзу — Помнить 11 заповедь.
Уголовному Розыску — «Спи, младенец мой прекрасный».
Отд<елу> Управления — Обойтись в 21 году без выговора.
Союзу служащих — Посещать собрания не из боязни лишить¬
ся мануфактуры.
Электрической станции — Иметь хотя бы отдаленное сходство
с «Perpetuum mobile» (вечный двигатель).
Союзу печатников — Продолжать работать в том же духе.
Укроста — Открыть газетный зал.
Всеиздату — Получить центральные газеты за декабрь
1920 год<а>.
Редакции — Не забывать редакционную корзину.
Отделу труда — Открыть еще один подотдел.
Исполкому — «Бди».
Наробразу — «Изобретать и открывать».
Рабкринспекции — Открыть еще пару складов.
Санпуру — Ликвидировать кладбище.
Всем коммунистам — Благополучно пройти испытательную ко¬
миссию.
Комсомолу — Приобресть густое решето для процеживания
своих членов.
«Советским барышням» — Выйти замуж.
Обывателю — Прозреть.
Работая в газете «Красный казак», Олейников одновременно сделался слу¬
шателем трехлетних учительских курсов, открытых в станице Каменская
взамен учительской семинарии. В1921 году Олейников уехал в Ростов и там
поступил в педагогический техникум, который тоже не закончил.
Но тяга к регулярному образованию еще долго жила в поэте. Уже
в 1930-х годах он вслух мечтал: «Я думаю, не поступить ли в университет на
математическое отделение. Знаете, это хорошо, пройти математику доско¬
нально, без цели» (Разговоры: 379). А на возражение: «Так ведь можно из¬
учать самому», отвечал: «Это не то, вы не будете среди людей, которые этим
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [28]
занимаются. Не будет уверенности, что вы в курсе. Да и действительно вы
не будете в курсе, потому что не будете участвовать в разговорах. Вы ока¬
жетесь провинциалом» (Там же).
«Олейников чудесный парень»
(В Бахмуте: 1921—1925)
1
В1921 году Николай Олейников был назначен ответственным секретарем шах¬
терской газеты «Всероссийская кочегарка». Для этого ему пришлось в очеред¬
ной раз бросить учебу и переехать в город Бахмут (ныне Артемовск), который
тогда был центром Донецкой губернии. «Если смотришь из окна вагона, — го¬
лая степь, холмы и овраги, да откуда-нибудь из-за холма торчит, как огромный
палец, труба. А то и штук десять кирпичных труб». Так Олейников (под псев¬
донимом «И. Каров») описывал типичный донбасский вид в 1928 году (Ка¬
ров И.: 3). «Зеленый, южный, веселый город с разноцветными домами и до¬
миками, с галерейками вдоль окон». Так, судя по воспоминаниям Михаила
Слонимского, выглядел Бахмут на заре 1920-х годов (Слонимский 1966:179).
«Всероссийская кочегарка» начала выходить там с 10 декабря 1920 го¬
да (до этого и под другим названием она издавалась в Луганске). Газета бы¬
ла официальным органом Донецкого губисполкома, губпарткома, бюро ЦК
Всероссийского союза горнорабочих и центрального правления каменноу¬
гольной промышленности Донбасса. Подготовлялись номера газеты коопе¬
ративным издательством «Донбасс».
Михаил Тардов, олейниковский сотоварищ еще по «Красному казаку»,
в юбилейном, тысячном номере «Всероссийской кочегарки» (от 30 ноября
1923 года), с хорошо спрятанным умилением вспоминал начальный период
их с Олейниковым деятельности в бахмутской газете: «В редакции хоть ша¬
ром покати. Четыре комнаты, десять столов. Редактор, секретарь, счетовод
и деловод — штат редакции <...> Работали мы по двадцать часов в сутки,
спали в типографии за версткой газеты». И прибавляет к этому: «В каждом
приходящем мы готовы были видеть первую ласточку рабкоровской весны
"Всероссийской кочегарки"».
Это добавление очень важное: ставка на рабкоров и их репортажи
с мест — едва ли не главная новация, отличавшая «Кочегарку» от мно¬
гих других изданий подобного типа. В 1921 году газета не только выходи¬
ла на очень плохой бумаге, но и содержание ее оставляло желать лучшего:
львиная доля материалов «Всероссийской кочегарки» состояла из партий¬
ных постановлений и сводок УКРОСТА. В1922 году качество бумаги улучши¬
Жизнь и стихи Николая Олейникова [29]
лось, и в газете замелькали псевдонимы первых рабкоров (только пользу¬
ясь псевдонимами, они получали возможность посылать во «Всероссийскую
кочегарку» правдивую, независимую от интересов местного начальства ин¬
формацию). Но и в этот период большую часть газетной площади приходи¬
лось заполнять штатным сотрудникам «Всероссийской кочегарки». В част¬
ности, Олейников 12 мая 1922 года под псевдонимом «Макаров» опубли¬
ковал в газете грозный фельетон «Культработа в селе Лузовая-Павловка»,
завершавшийся следующим образом: «А ведь имеется заведующий элек¬
тробиографом гр. Солдаткин. Интересно знать, куда он смотрит? Почему он
допустил такое расхищение и разрушение народного хозяйства? Не мешало
бы кому следует взять его за ушко да на солнышко посмотреть, не в пушку
ли его рыльце, и проучить, чтобы знал, что народное достояние надо лучше
блюсти, чем свою персону!»
Однако уже по сведениям «Всероссийской кочегарки» от 7 ноября
1923 года, постоянных рабкоров газеты насчитывалось 150 человек, а нере¬
гулярно писавших рабкоров — 645. Соответственно, большинство матери¬
алов «Кочегарки» теперь поставлялось Удалым, Громобоем, Чаво-тебе,
Васькой Усом, Путником, Коксовиком, комсомольцем Сенькой, Ландышем,
сыном Донбасса, Тарасом Бульбой, Тигром, рабкором Мозоль, Таракашкой,
Макаром Чужим и другими постоянными корреспондентами газеты. На до¬
лю же редакторов оставались всероссийские и международные новости,
а также печатавшаяся прямо в газете переписка с рабкорами: «Стихи "Свя¬
щенные панталоны" были слабы, почему изменены в заметку» (номер от
19 февраля 1924 года); «Жану Жоресу. Разрешается иметь два псевдони¬
ма. Часто менять псевдонимы не рекомендуется. Это усложняет работу ре¬
гистратуры» (номер 27 февраля 1924 года) и тому подобное. Когда в газе¬
те стали регулярно печататься более профессиональные петроградские ав¬
торы, в первую очередь Евгений Шварц, то продукцию тоже подписывали
псевдонимами (в случае со Шварцем — «Дядя Сарай»20 и «Щур»21) и рас¬
творяли в массе рабкоровских репортажей.
Впрочем, про обстоятельства, сопровождавшие начало сотрудничества
Шварца и его друзей с «Кочегаркой», нужно рассказать особо.
20 Приведем здесь зачин одного из фельетонов Шварца, подписанных «Дядя Са¬
рай», — «Раешника о терчастях» (из номера «Всероссийской кочегарки» от 10 ян¬
варя 1924 года): «Вот так и советская Республика, — не то, что буржуазная публика.
Новое нашла изобретение: военному делу учение. Она организует территориальные
части для защиты Советской власти. Это учение будет экономичнее и гораздо прак¬
тичнее» и т. д.
21 В номере «Всероссийской кочегарки» от 16 сентября 1923 года начал печататься
обширный цикл стихотворных и прозаических фельетонов Щура-Шварца «Полеты
по Донбассу».
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [30]
2
Весной 1923 года в редакцию газеты пришел начинающий прозаик, участ¬
ник группы «Серапионовы братья» Михаил Слонимский, проводивший от¬
пуск неподалеку, на соляном участке, в семье своего приятеля, в недавнем
прошлом актера, только еще размышлявшего о литературном поприще, —
Евгения Шварца. Цель Слонимского была самая скромная — «завязать
связь с местными литераторами» (Слонимский 1966: 179). Встретил сто¬
личного гостя в редакции газеты ее ответственный секретарь...
Слонимский оставил для нас сразу три словесных портрета Олейникова
той поры. В беллетристическом рассказе «Машина Эмери», датированном
сентябрем 1923 года, изображается управляющий соляным рудником, же¬
лезный человек Иван Олейников, которому были подарены не только фами¬
лия, но и некоторые черты внешности Николая Макаровича: «Лицо у Олей¬
никова — узкое и сухое, и весь он — длинный и сухой. Глаза — серые,
молодые» (Слонимский 1924: 49)22. Второй беглый портрет Олейнико¬
ва Слонимский набросал в разговоре с автором биографии Евгения Швар¬
ца, родным братом Лидии Жуковой, театроведом и недолгим участником
«ОБЭРИУ» Сергеем Цимбалом: «Белокурый красавец, секретарь редакции»
(Цимбал: 26).
И, наконец, третье, развернутое изображение Олейникова вошло
в «Книгу воспоминаний» Слонимского: «В редакции газеты "Кочегарка" за
секретарским столом сидел молодой, белокурый, чуть скуластый человек.
Он выслушал мои объяснения молча, вежливо, солидно, только глаза его
светились как-то загадочно.
— Прошу вас подождать.
И он удалился в кабинет редактора, после чего началась фантастика.
Из кабинета выбежал, нет, стремительно выкатился маленький, круглый че¬
ловек в распахнутой на груди рубахе и в чесучовых широких штанах.
— Здравствуйте, здравствуйте, очень рад, — заговорил он, схватив ме¬
ня за обе руки. Ладони у него были мягкие, пухлые. — Простите меня, —
торопливо говорил он на ходу, ведя меня к себе в кабинет. — Я не специ¬
алист, только что назначен. Но мы пойдем на любые условия (при этом он
усадил меня на диван и уселся рядом) — на любые условия, только согла¬
ситесь быть редактором нашего журнала. Я так рад, я так счастлив, что вы
22 Увы, мы не знаем, как соотносятся с умственными настроениями тогдашнего Ни¬
колая Олейникова заветные мысли Ивана Олейникова из рассказа «Машина Эмери»:
«Откинув книгу, управляющий рудником Олейников думал о том, что хорошо бы ме¬
ханизировать в человеке все, кроме мысли: все чувства, ощущения, желания, — так,
чтобы машина не только работала за человека, но и радовалась и страдала бы за
него» (Слонимский 1924:83).
Жизнь и стихи Николая Олейникова [31]
зашли к нам! Договор можно заключить немедленно, сейчас же! Пожалуй¬
ста! Я вас очень прошу!
Я был так ошеломлен, что не мог и слова вымолвить, только старался,
чтобы лицо мое не выдало моей величайшей растерянности. Белокурый се¬
кретарь стоял возле недвижный, безгласный, но глаза его веселились во¬
всю. Я ничего не понимал. Простодушного редактора никак нельзя было
заподозрить в подвохе, в шутке, в розыгрыше. Он продолжал говорить бы¬
стро и убеждающе:
— Вы только организуйте, поставьте нам журнал! Ведь вы из Петрогра¬
да! Ах, вы с товарищем? Пожалуйста! Мы приглашаем и товарища Швар¬
ца. Товарищ Олейников, — обратился он к белокурому секретарю со сме¬
ющимися глазами, — прошу вас, оформите все немедленно. И на товари¬
ща Шварца тоже!
<...> Когда мы на следующее утро шли по степи навстречу первому на¬
шему донецкому редакционному дню, то волновались так, что даже молча¬
ли. Только Женя изредка начинал бормотать:
— Петит... нонпарель... корпус... Слушай, ты, редактор, какие вообще
бывают шрифты?
<...> В редакции мы были встречены Олейниковым. Николай Макарович
Олейников, будущий поэт и детский писатель, не утаил от нас, что это он —
виновник вчерашней фантасмагории. Было решение об организации пер¬
вого литературного журнала на Донбассе, но опыта недоставало, писате¬
лей и литературных связей еще не было, и вот Олейников, жаждавший жур¬
нала до умоисступления, воспринял внезапное наше появление в Бахмуте
как подарок судьбы. Он слышал о петроградской литературной молодежи
и принял немедленные и экстренные меры в своем стиле — сообщил ре¬
дактору, что вот тут сейчас находится проездом знаменитый пролетарский
Достоевский, которого надо во что бы то ни стало уговорить, чтобы он по¬
мог в создании журнала. Этим и объяснялось все дальнейшее поведение ре¬
дактора, глубоко верившего в молодую литературу. Олейников рассказывал
нам обо всем этом спокойно и деловито, словно ничего необычного не бы¬
ло в том способе, какой он применил, чтобы воодушевить редактора на ре¬
шительные действия» (Слонимский 1966:179—182).
Совсем еще молодой, не достигший двадцати пятилетнего возраста жур¬
налист тем не менее сумел в полную силу продемонстрировать фирменную
олейниковскую манеру поведения, «свой стиль», как пишет Слонимский.
Поставив перед собою поистине глобальную задачу (быстрейшее созда¬
ние журнала), действуя стремительно и рискованно — на грани фола (а ес¬
ли бы Слонимский, сам не зная о том, «прокололся» в разговоре с высоко¬
поставленным собеседником?), Олейников не отказал себе в удовольствии
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [32]
вдоволь поглумиться и над «маленьким полным»23 редактором «Всероссий¬
ской кочегарки», и над приезжим петроградским литератором.
Особо отметим пока еще полушутливое шифрование ответственным се¬
кретарем бахмутской газеты своих подлинных намерений (это, как мы пом¬
ним, выльется во всегдашнее стремление Олейникова «уйти» от собеседни¬
ка) и олейниковскую чуть утрированную отстраненность от затеянной им
же круговерти событий, выражавшуюся в первую очередь в его торжествен¬
ной псевдосерьезности и молчаливости — «стоял возле недвижный, без¬
гласный». «Сам он почти никогда не смеялся, да и улыбался нечасто», —
так напишут о поведенческой линии Олейникова его приятели обэриуты,
познакомившиеся с поэтом уже в Ленинграде (Бехтерев, Разумовский:
155). «Самые несуразные и причудливые вещи он говорил с таким серьез¬
ным видом, что люди малопроницательные принимали их за чистую моне¬
ту», — вспоминал Николай Чуковский (Чуковский Н.: 253). «Шутил он
спокойно, деловито, словно открывая что-то новое, важное. И в его голу¬
боватых глазах — ни смешинки, ни задоринки, — холодная непроницае¬
мость», — рассказывала Лидия Жукова (Жукова: 161). «Олейников боль¬
ше помалкивал и наблюдал, а потом как куснет за слабое место в человеке,
так только дрожит бедняга, попавший к нему на зубок!» Так олейниковскую
тактику поведения прокомментировала в своих мемуарах Эстер Паперная,
приехавшая в Бахмут из Харькова летом 1923 года и тогда же поступившая
на работу во «Всероссийскую кочегарку» (Паперная: 194).
Было бы непростительным преувеличением утверждать, что эта газета
на некоторое время сделалась главной печатной площадкой для «Серапио-
новых братьев». Тем не менее, рассказы одного из участников группы, Ми¬
хаила Зощенко, появлялись на страницах «Всероссийской кочегарки» с за¬
видной регулярностью. Получается, что Олейников на очень раннем этапе
своего творческого становления хорошо познакомился с произведения¬
ми автора, с которым его впоследствии будут часто сравнивать. В 1923 го¬
ду Зощенко напечатал в «Кочегарке» чуть отличающиеся от общеизвест¬
ных варианты таких своих рассказов, как: «Спец» (в номере от 16 сентября
1923 года), «Баба» (16 октября 1923 года), «Жертва революции» (4 ноя¬
бря 1923 года), «Американцы» (14 ноября 1923 года), «Аристократка»
(17 ноября 1923 года), «Протокол» (21 ноября 1923 года), «Писатель»
(25 ноября 1923 года), «Черт» (29 ноября 1923 года), «Снимки на лету»
(23 декабря 1923 года)... Приветствие от «Серапионовых братьев», подпи¬
санное фамилиями Н. Тихонова, М. Слонимского, Н. Чуковского, К. Федина,
В. Каверина, И. Груздева, М. Зощенко, С. Семенова, Н. Никитина, 0. Форш
23 Из устных воспоминаний Слонимского о его первой встрече с Олейниковым, при¬
водимых Цимбалом (Цимбал: 26).
Жизнь и стихи Николая Олейникова [33]
и Е. Шварца, появилось в юбилейном номере «Всероссийской кочегарки»
от 30 декабря 1923 года. Также (в номере от 21 сентября 1924 года) в газете
была напечатана заметка Тихона Чурилина «Всеволод Иванов»24.
3
Тот самый журнал, о котором Олейников мечтал «до умоисступления», на¬
чал ежемесячно выходить в качестве литературного приложения к «Все¬
российской кочегарке» в сентябре 1923 года. Вещи «Серапионовых бра¬
тьев» и близких к ним литераторов (проза Н. Никитина и М. Зощенко, стихи
Н. Чуковского, критические заметки Слонимского) соседствуют в первом
номере с произведениями местных писателей и поэтов. В дальнейшем
в журнале печатались вещи Льва Гумилевского, Владислава Ходасевича,
Ильи Садофьева, Елизаветы Полонской, Всеволода Иванова, Исаака Бабе¬
ля, Владимира Маяковского, Константина Большакова, Бориса Горбатова,
Абрама Лежнева, будущего видного рапповского критика Алексея Сели-
вановского... Редакторами журнала первоначально числились Слонимский
и В. Валь, «длинный, худой, точнейшая копия Дон-Кихота» (Слонимский
1966: 182). Начиная с первого номера за 1924 год имена конкретных ре¬
дакторов были заменены на расплывчатое — «Редактор: Редакционная
коллегия». По предложению Евгения Шварца журнал было решено на¬
звать «Забой». Отстаиваемое Валем название «Красный Ильич» не одобри¬
ли в губкоме.
Очерк Олейникова «Они приходят», подписанный начальной буквой его
фамилии, появился во втором, октябрьском номере «Забоя» за 1923 год.
В этом очерке отчетливо дает себя почувствовать та намеренно суховатая,
со скупо отмеренными подробностями, почти протокольная манера, кото¬
рая впоследствии проявится во многих «"политических" детских расска¬
зах» (Глоцер 1987: 268) писателя. Также в очерке выразительно обрисо¬
вывается круг ежедневного общения ответственного секретаря «Всерос¬
сийской кочегарки»:
Они приходят каждый день.
Красноармеец-инвалид с парою костылей, женщина, кутающа¬
яся в старенький платок, лихой забойщик с отстегнутым воротом
рубашки и без пояса, сумрачный хлебороб, партиец в кожаной ту¬
журке — вот обычные посетители «Кочегарки».
24 Отметим, что в номере от 30 мая 1923 года в газете был перепечатан знаменитый
рассказ И. Бабеля «Смерть Долгушова».
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [34]
Обойдены все учреждения, обиты все пороги, где-то обругали,
где-то просто не захотели разговаривать, к какому-то важному за¬
ведующему и близко не подпустили...
Не добились ничего.
И вот теперь — в редакции.
— Последняя надежда на «Кочегарку».
* * *
Старик. Рабочий.
Больные руки, больные ноги...
Гневно горят глаза.
— Напишите, пожалуйста, как они смеялись, как отказывали.
А кто же, как не я, на предприятии трудоспособность потерял...
Вы напишите...
А вот комсомолец.
Рассказывает, как не выполняются у них на заводе законы об
охране труда, как наваливают на подростков непосильную работу.
Уже заявлял сегодня в комсомол, но хочет, чтобы и «Кочегарка»
поместила заметку...
* * *
Иногда приходят целыми группами.
Входят и сразу заявляют.
— Мы по одному делу. Помогите.
Шесть человек.
Молодые и старые.
Все с одного рудника — Щербиновского.
Уже больше недели они ждут расчета.
— Мне нужно ехать домой. Семья вызывает, — говорит плотник
Есарев. — Ехать нужно за 3000 верст, дети голодают, а я тут даром
проживаюсь. Деньги все дешевеют, а мне хоть сейчас, хоть через
месяц, все равно выдадут семь тысяч. По курсу платить не будут.
— Всем обещали выдать расчет и никому не выдают, дали толь¬
ко «квиточки», а деньги подожди, — гудят голоса.
Быстро записывает сотрудник «Кочегарки» все жалобы.
Напряженно следят за пишущей рукой двенадцать глаз.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [35]
Сопровождается очерк «Они приходят» фотографией сотрудника «Всерос¬
сийской кочегарки» в окружении посетителей газеты. Фото же самого Олей¬
никова появилось в первом номере «Забоя» за 1924 год. Он с иронической
улыбкой стоит крайний слева в третьем ряду среди участников первого
съезда рабкоров Донбасса.
В пятнадцатом номере журнала за 1924 год была помещена еще одна
фотография Олейникова в группе, на этот раз в качестве участника ново-
образовавшегося союза «рабочих писателей» «Забой». На соседней стра¬
нице была напечатана декларация этого союза, подписанная Алексеем Се-
ливановским, Владимиром Соболевым, Николаем Исаченко, Борисом Гор¬
батовым, Николаем Олейниковым и некоторыми другими писателями.
Процитируем несколько положений из этой декларации:
Наша задача — собрать в свои ряды все литературные силы Дон¬
басса, значительная часть которых еще работает по-кустарному,
в одиночку.
Наша задача — отдать свое творчество на суд рабоче-крестьян-
ского читателя, держа с ним постоянную и крепкую связь.
Союз решил временно не примыкать ни к одному из существу¬
ющих литературных течений до тех пор, пока его членам не будут
предоставлены все возможности для художественного самоопре¬
деления. Основное требование, которое предъявляется к членам
союза — писать так, чтобы это способствовало расширению ху¬
дожественного и общекультурного кругозора рабочих масс, ра¬
ботать над собой, овладевать богатым наследством старой куль¬
туры.
Отметим, что воспроизведенная в журнале фототипически подпись под
декларацией «Забоя» — это едва ли не единственное появление настоя¬
щей фамилии Николая Олейникова на страницах донецкой печати: он был
до странности нечестолюбив или же честолюбие его находило какое-то
другое выражение, чем это обычно бывает принято у молодых литерато¬
ров. М. Тардов, А. Селивановский, Б. Горбатов, П. Беспощадный, П. Трей-
дуб — вот имена, без конца мелькавшие в номерах «Всероссийской ко¬
чегарки» и «Забоя». Даже Эстер Паперная не удержалась и поместила
лирический «рассказ ветра» «Труба архангела» в номере газеты от 12 ав¬
густа 1923 года. И только главный вдохновитель и организатор журна¬
ла «Забой» печататься ни в этом журнале, ни в подведомственной ему га¬
зете не спешил. Впрочем, почти не публиковался там под своей фамили¬
ей и Шварц.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [36]
4
Именно в редакции «Забоя» и «Всероссийской кочегарки» Николай Олей¬
ников и Евгений Шварц сложились в пару «литературных неразлучников»
(Штейн: 143), чей постоянный публичный конферанс очень многое опре¬
делил не только в праздничной, игровой атмосфере ленинградских детских
журналов «Чиж» и «Еж», но и в атмосфере детской советской литературы
второй половины 1920-х — начала 1930-х годов в целом.
Приведем теперь большую сборную цитату из мемуаров Эстер Паперной
о Бахмуте (в которых акцент, впрочем, сделан на фигуре Шварца):
«Оба были большими книголюбами, и часто между ними происхо¬
дили своеобразные состязания по части библиофильской. И оба
они были щедро одарены чувством юмора, только проявляли его
по-разному <...> Шварц был блестяще остроумен, Олейников —
ядовито умен <...> Помню, однажды мы вчетвером (наше трио и Се-
ливановский) состязались в глоссолалии — в бессмысленном на¬
боре слов в стихотворной форме. Надо было без единой запинки
читать, как стихи, первое, что подвернется под язык. Шварц ока¬
зался победителем, я даже запомнила эту бессмыслицу, лившую¬
ся без запинки:
Олейников чудесный парень
Репейников глухих пекарен
Хранитель он и собиратель
И доброхотнейший даятель
Сармато-русской старины
Ты огляди его штаны
Прохлада в них и свежесть утра
Река светлее перламутра
И голубые облака
А дальше подпись РКК.
Вообще, по части жизнерадостного дуракаваляния Шварц был не¬
утомимым и непревзойденным мастером. Он был организатором
импровизированных спектаклей-миниатюр. В эти спектакли он втя¬
гивал и меня, и Олейникова: расскажет нам приблизительную те¬
му и слегка наметит мизансцену, а каждый из нас должен сам сооб¬
ражать, что ему говорить на сцене. Помню, был один спектакль из
времен французской революции. Я изображала аристократическую
девушку, а Шварц — старого преданного слугу. Он прибегал в испу-
Жизнь и стихи Николая Олейникова [37]
ге и дрожащим голосом говорил: "Мадемуазель, там пришли какие-
то люди, они все без штанов. Это, наверное, санкюлоты!" Потом по¬
являлся Олейников в роли санкюлота. Он совершенно не считался
со стилем эпохи и говорил бездарно и абсолютно невпопад: "Бога¬
тые, денег много... Ну, ничего, ничего, собирай паяльники!" Тут не
только зрители, но и артисты покатились со смеху. Шварц кричал
на Олейникова, задыхаясь от смеха: "Тупица, гениальный тупица!"
Потом во всех спектаклях, на какую бы тему они не были, Олейни¬
ков играл один и тот же образ — появлялся некстати и говорил од¬
ну и ту же фразу: "Богатые, денег много... Ну, ничего, ничего, со¬
бирай паяльники!" И спектакли от этого были безумно смешными.
У Шварца всегда слегка дрожали руки, и от этого у него был
какой-то малограмотный почерк. К тому же по части знаков препи¬
нания Шварц был слабоват. Поэтому его письма выглядят как пись¬
ма малограмотного человека. А когда Шварц валял дурака, то он
нарочно писал с ошибками и невероятно вычурным стилем — это
были великолепные образцы графоманских произведений. У меня
была огромная пачка таких писем. Он писал их мне каждый день
на длиннейших листах редакционной бумаги от имени шести бра¬
тьев Эсякиных. Каждый из этих братьев ругал Олейникова и предо¬
стерегал меня, что он соблазнитель девушек и коварный обманщик.
И каждый из них хвалил себя и предлагал свою любовь. А в конце
каждого письма Эсякина-мама делала приписку: "Зачем вы губите
моих сыновей?"» (Паперная: 194—195).
Как мы убедимся дальше, в Бахмуте были отобраны и отрепетированы
ключевые для знаменитых ленинградских устных и письменных импрови¬
заций Шварца с Олейниковым приемы. Среди них укажем на особое при¬
страстие к «чистому золоту нелепости» (Мандельштам. Т. 2: 245) — к аб¬
сурду в духе шуток Гоголя (олейниковское «Собирай паяльники!»); на уси¬
ление смехового эффекта путем многократного повторения («Потом во всех
спектаклях... Олейников играл один и тот же образ»); на шутливое сопер¬
ничество на почве якобы ревности («Каждый из этих братьев ругал Олей¬
никова и предостерегал меня, что он соблазнитель девушек и коварный
обманщик»)25; а также — на использование образа малограмотного гра¬
фомана.
Все эти игровые приемы поведения, судя по свидетельству Шварца,
были одобрены и прижились в их общей с Олейниковым ленинградской
25 Ср. со свидетельством Слонимского: «Шварц и Олейников соревновались в остро¬
умии, и девицы ходили за ними стайками» (Слонимский 1966:183—184).
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [38]
компании: «...мы были веселы до вдохновения, до безумия, и в этом без¬
умии была некоторая система. Остроумие в его французском понимании
глубоко презиралось. Считалось, что юмор положений, юмор каламбу¬
ра противоположен русскому юмору. Русский юмор, с нашей точки зре¬
ния, определялся, говоря приблизительно, — в отчаянном нарушении за¬
конов логики и рассудка. Реплика Яичницы: "А невесте скажи, что она
подлец!" — считалась образцовой в этом роде. Юмор Козьмы Пруткова
и Алексея (Константиновича. — 0. Л., М. С.) Толстого умилял, принимал¬
ся и приветствовался. Кто-то, кажется Жуковский, говорил: русская шут¬
ка смешна потому, что ее повторяют. Множество таких шуток повторя¬
лось в нашем кругу методично, ежедневно, при каждой встрече» (Шварц
1991: 67)26.
Что касается любви к графоманам и графомании — важному источнику
и составной части поэзии Олейникова и Шварца, — то Николай Макарович,
как вспоминал Николай Чуковский, даже собирал в отдельную тетрадочку
образцы поистине великолепных в своей нелепости стихотворений, вроде:
«Когда мне было лет семнадцать,
Любил я девочку одну,
Когда мне стало лет под двадцать,
Я прислонил к себе другу».
(Чуковский Н.: 255)
26 Отметим, между прочим, что, например, Эстер Паперная с ее харьковским опытом
пародий в жанре «антологии античной глупости» первоначально «воспитывалась»
в совсем другой, «французской» «школе» юмора, где больше всего ценились сло¬
весные каламбуры и филологические изыски. Ср., например, ее пародию как раз на
Олейникова (1934 года):
Старенькая бабушка с козликом жила,
Серенького козлика «лапушкой» звала,
Мыла его мылом, чесала гребешком,
Питала витамином и сладким творожком.
Но приелся козлику бабушкин приют,
Где от волка серого был ему капут.
И остались бабушке как утильсырье
Рожки-ножки бывшего козлика ее.
Кружечка, бочоночек, метелочка, совок,
Ты — моя козленочек, а я — твой серый волк.
Торопись, красавица, волка полюбить,
Если тебе нравится съеденною быть.
(БП:207)
Жизнь и стихи Николая Олейникова [39]
Еще два примера из этой графоманской тетрадочки приводит Александр
Олейников:
«...И кто Семирамидице
Угрюменько поет,
Того Судьбичекаленко
Незлобненько побьет.
И такое стихотворение, которое, по убеждению его автора, необходимо бы¬
ло обязательно петь:
Рабочий
мало
получает,
Динь-динь-динь,
И через
это
он страдает,
Динь-динь-динь...»
(Олейников А. 2000:29—30)27
Поскольку Олейников отвечал в «Забое» за работу с начинающими автора¬
ми, возможностей регулярно пополнять свою коллекцию у него было с из¬
бытком.
Что привлекало поэта в графоманских виршах и впоследствии бралось
им самим на вооружение?
Не в последнюю очередь — смешные претензии «облагородить половое
чувство» (по известной формуле Чехова), высокими и «красивыми» слова¬
ми замаскировать и тем самым оправдать свои низменные и не очень кра¬
сивые побуждения.
Вот графоман еще только начинает ухаживать за понравившейся ему
женщиной и пока не решается сделать первый откровенный шаг, пытаясь
очаровать свою избранницу «благими», «высокодуховными» пожеланиями:
То было 8-го июля.
Под тенью зеленого шатра
Мы сидели вокруг стола.
27 Вероятно, об авторе этих стихов вспоминает Слонимский: «Один явился с гитарой
и сказал, что стихи свои он может только петь. Спел он хорошо, но — увы! — стихи
были плохие» (Слонимский 1966:183).
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [40]
За здоровье хозяйки высокочтимой,
Бокал вина подняв рукой,
Я тост произнес такой:
«За Ваше здоровье я пью,
Благие пожеланья шлю:
Пусть розовые цветы
И такие же плоды добра
Ваш жизненный путь устилают всегда!!»
(Т. Рёв, «Посвящается Маргарите»)2*
А вот он уже признается в любви:
Дивно-мраморное тело
Вызывает чувство — страсть
И художник онемелый
Пред тобой готов упасть.
(фон Бок, «В мастерской на пьедестале...)
Или так:
Я славы не желаю,
Я золото кляну
И творчеством пылаю
У Нади весь в плену,
И ей хочу дарить любви расцвет —
Люблю я Надю как поэт!
Что блага жизни в сравненьи с Надей,
С ее красноречием как артистки
С ее кудрями черных прядей
И с буферами пышной суфражистки,
28 При написании фрагмента о графоманах для этой статьи мы пользовались отрыв¬
ками из стихотворений, опубликованных в книгах: Балагин А. С. (А. С. Гершанович)
Огни сердца. 2-е изд., Ташкент, 1913; Бок, фон. Аккорды души: Стихи. СПб., 1913;
Кильбах Отто Ф. Миноры: Стихи. Одесса, 1913; Лундин Л., крестьянин-поэт. Сбор¬
ник стихов. Кн. 3. М., 1913; Неврастенный А. Грехи юности: (Дела давно минувших
дней). Кишинев, 1913; Пестерев-Померанцев Ф. Тернии души: Стихи; Грезы поэта
(Золотой сон): Проза. Вологда, 1913; Рёв Т. Стихотворения и шаржи. Староконстанти-
нов, 1913; Чалеев И. Горю забвенье: Стихотворения. Белосток, 1913. А вот забавный
образец графоманских виршей советского времени, «параллельный» соответству¬
ющим опытам Олейникова (и приведенный в заметке Дубянская: 15): «Если враг
напасть захочет, / Мы поставим ему клизму, / Чтоб не мешал стране свободной /
Быстрей добраться к социализму».
Жизнь и стихи Николая Олейникова [41]
Что всех чарует много лет —
Люблю я Надю как поэт.
(И. Чалеев, «Думушка»)
А так напыщенный графоман сообщает возлюбленной о своих подлинных
сокровенных желаниях:
Я расстегну шнуры на платье,
Я обнажу твой пышный стан
И ты падешь в мои объятья,
В мой опьянительный вулкан.
(А. Балагин, «Приди! (Из цикла "Цветы иллюзий")»)
Стремясь одновременно и к «приличной» светскости, и к «неприличной»
интимности, графоман внезапно и внешне немотивированно переходит
с объектом своей страсти на «ты»:
Пели Вы и голос дивный
Страстью чудною звучал,
И дрожа весь... весь бессильный,
Всю тебя я целовал...
(А. Неврастенный, «Пели Вы и голос дивный...»)
Если же он расстается с женщиной, то на прощанье кидает ей в лицо при-
мерно такие обвинения:
Тебе дороже платье тела.
Как тело ценишь выше нравственной души.
Ты как чумы боишься дела,
Ты паразитом хочешь жить, но не в глуши.
(Ф. Пестерев-Померанцев «Ты чистою мне казалась...»)
Себя же он утешает тем:
Что эта женщина не стоила мучительных исканий,
Что в ней нашел я лишь продукт ничтожных подражаний.
(Отто Ф. Кильбах «Лишь издали...»)
А вот как графоман пишет о природе:
Птичка скачет, птичка вьется
Под названием скворца,
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [42]
Из уст сладка песня льется
На унылые сердца.
Птичка пырхаясь летает
По селенью, у светлиц,
Кажду за сердце хватает
В заточении девиц...
(Л. Лундин «Вестник весны»)
А вот как он жалуется на чернь, не признающую его таланта:
Как трудно талантам дорога дается
Как трудно в журналы пробиться:
Как рыбке об лед им приходится биться
Толпа же тупая коварно смеется.
(И. Чалеев «Поэту»)
Параллели к этим и многим другим примерам из стихотворений графома¬
нов с легкостью отыскиваются в «любовной» лирике Олейникова. Нужно,
впрочем, указать, что Олейников чрезвычайно виртуозно пользовался в сво¬
их стихах различными вариациями стихотворных размеров, типов рифмов¬
ки и строфики, тогда как большинство поэтов-дилетантов довольствовалось
четырехстопным ямбом, а еще чаще — четырехстопным хореем с рифмовкой
АБАБ, не говоря уже о четверостишиях как основной строфической форме29.
29 Приведем также образцы продукции детских поэтов-графоманов конца 1920-х
годов (цитируемые в статье: Ханин 1930а: 2) и написанные четырехстопным ямбом
(первый пример) и четырехстопным хореем (второй и третий примеры):
ПЕСНЯ ОКТЯБРЕНКА
Хотя и ростом невелик,
но издаю я мощный крик,
и все твердят: «Что за ребенок,
что за отважный октябренок!»
О, подождите, — мыслю я, —
не то лишь скажут про меня:
я удивлю весь СССР,
когда я стану пионер.
Или:
За китайцем входит турок,
у него в зубах окурок,
Жизнь и стихи Николая Олейникова [43]
5
У целого ряда мемуаристов советской школы, стремившихся во что бы то
ни стало обойти в своих текстах острые углы и избежать неприятных по¬
дробностей, картина взаимоотношений Олейникова и Шварца получается
идиллической. «Так произошла первая встреча Шварца с Олейниковым, пе¬
решедшая вскоре в дружбу на всю жизнь», — умилялся в уже цитировав¬
шихся нами воспоминаниях Михаил Слонимский (Слонимский 1966:182).
«Всем было известно, что Шварц и Олейников близкие друзья. Поэтому их
соперничество казалось особенно смешным», — вторила Слонимскому Со¬
фья Богданович (Богданович С.: 143). А ленинградский хороший знако¬
мый Шварца с Олейниковым, Исай Рахтанов, приведя шуточные стихотвор¬
ные олейниковские проклятия в адрес Шварца, тут же спешил успокоить
читателей: «Шварц был, естественно, лучшим другом Олейникова, и ника¬
ких подоплек под этими стихами не существовало, они являлись составной
частью все той же атмосферы большой шутки, царившей в редакционной
комнате» (Рахтанов 1966:181).
В данном случае Рахтанов, безусловно, был прав — стихотворение
Олейникова о Генриетте Давыдовне Левитиной-Домбровской, влюбленной
в «Шварца проклятого», с действительностью не соотносилось ни в малей¬
шей степени.
И все-таки взаимоотношения Николая Олейникова с Евгением Швар¬
цем во второй половине 1920-х — 1930-х годах язык не поворачивается на¬
звать пасторальными. Николай Харджиев со смаком рассказывал филологу
Михаилу Мейлаху о незавидной роли, которая досталась в этих отношени¬
ях Шварцу: «Его считали другом Олейникова, но тот его не щадил» (Хар¬
джиев 2002:58). В подтверждение этого тезиса Харджиев привел один из
многочисленных примеров злого и не слишком остроумного издевательства
Олейникова над Шварцем: «Помню такой случай. Одна плохая, но известная
московская актриса пригласила Олейникова, Хармса и меня в Европейскую
феска — спелая морковь,
в сердце — братская любовь.
Или:
Папа деточкам помог
сделать красный уголок.
В уголке у них лисица,
жеребенок,грач, синица.
Стережет всю эту дичь
в центре «ласковый» Ильич.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [44]
гостиницу, где она занимала роскошный номер. Направляясь с Хармсом
и мною в гостиницу, Олейников решил прихватить и Шварца, которого обе¬
щал с ней познакомить и которому знакомство с этой дамой казалось лест¬
ным. Когда мы поднимались к нему по лестнице, Олейников вдруг говорит:
— Что бы ни произошло, молчите, онемейте и ничему не удивляйтесь...
Дверь открыл Шварц в парадном костюме, но с недобритой левой ще¬
кой.
Олейников:
— Вы куда-то собираетесь, Евгений Львович?
Шварц, спотыкающимся голосом:
— Да... Вы же... то есть с Вами...
Олейников:
— Визит отменяется.
Шварц остолбенел, а мы безмолвно удалились. Спускаясь по лестнице,
Хармс почтительно уступал путь Олейникову, называя его Софьей Павлов¬
ной. Олейников свирепо на него поглядывал.
Разумеется, мы посетили желанную актрису. Это был очень скучный ви¬
зит» (Харджиев 2002:58)30.
Эта и подобные ей истории могут послужить идеальным комментарием
к почти неизменным сетованиям на злое сердце Олейникова, сопровождав¬
шим упоминания о нем в поздних записях Шварца: «Олейников брызгал во
врага, в самые незащищенные места его, серной кислотой. И ходил его оче¬
редной враг, сам того не подозревая, изуродованным <...> И я был облит
серной кислотой...» (Шварц 1990: 245). Или: «У меня не было уверенно¬
сти в моей правоте, и я верил каждому осуждающему, какое там осуждаю¬
щему — убивающему слову Олейникова обо мне» (Там же: 311). «Мой друг
и злейший враг и хулитель» — такую суггестивную характеристику Олейни¬
кову Шварц дал в этих своих заметках (Там же: 239)31.
В воспоминаниях Лидии Жуковой мы находим фрагмент, в котором
предпринята попытка докопаться до глубинной причины внутреннего кон¬
30 Софьей Павловной, как известно, звали жестокосердую героиню «Горя от ума»
Грибоедова.
31 Справедливости ради отметим, что и сам Шварц мог иногда быть очень недобрым.
Ср., например, в мемуарах Ирины Кичановой-Лившиц: «Шварц был связан тесной
дружбой с Маршаком. Говорил, приезжая из Москвы, что свидание с ним вселяло
в него бодрость и веру, говорил искренне. Как же мне было страшно, придя к Швар¬
цу после похорон любимого сына Маршака, умершего от туберкулеза, услышать о по¬
хоронах. — Шварц показывал в лицах, рассказывал: когда гроб опускали в могилу,
Маршак оглядывал провожающих и с присущим ему придыханием деловито осведом¬
лялся: Сурков здесь? Твардовский здесь? Шостакович здесь? И еще разные именитые
Н. H. здесь?» (Кичанова-Лившиц: 110—111).
Жизнь и стихи Николая Олейникова [45]
фликта Олейникова со Шварцем. «Шварцу всегда хотелось стать писателем,
и он всегда мучился, писатель ли он, — рассуждает мемуаристка. — Он был
интеллигент. А у Олейникова этих комплексов не было, — он жил как при¬
рода. И то, что они были такие разные, рождало невидимую простому глазу
конфронтацию» (Жукова: 167).
Человек, превыше всего прочего и в стихах и в жизни ценивший «крас¬
ное словцо», эффектный и неожиданный жест, ситуативное остроумие, та¬
ким Николай Макарович Олейников предстает во многих мемуарных отра¬
жениях32. Это ситуативное остроумие в глазах близких друзей обладало
столь очевидной значимостью, что Леонид Липавский в 1933 году даже по¬
пытался составить краткий реестр олейниковских шуток: «Стадии остроу¬
мия Н. М. заключены в следующие формулы: "Помните, что жизнь прекрас¬
на!", "В вашем лице есть что-то неожиданное" (женщине при первом зна¬
комстве) или "Человек, влюбленный в вас, не может вас не любить", "От
такого-то до такого-то только шаг", "Ну что, помогли вам ваши ляхи?", "По¬
шлятины наворотил?", "В ближайшие дни, вернее, часы" и кончилось шут¬
ками относительно того, что у него есть 22 тысячи рублей» (Разговоры:
338—339).
Еще один пример ситуативного остроумия Олейникова приводит в своих
мемуарах, относящихся к 1936 году, художница Мария Конисская: «В спаль¬
не родителей я положила Хармса и Олейникова, а на раскладной кровати
добавила к ним Петю Тура. Наутро Петя рассказывал: "Они (Хармс и Олей¬
ников) долго разговаривали, а я сделал вид, что сплю, и слушал их беседу.
Хармс сказал: «Я влюбился». Олейников: «Какая же она?» Хармс: «У нее...
такие... щеки... и нос». Олейников: «Какая красавица!»"» (Конисская: 16).
Были, впрочем, у Олейникова и «пластинки» (формула Анны Ахмато¬
вой), то есть отработанные, многократно повторяющиеся на публику номе¬
ра: «Вообще Олейников был очень занятен, очень остроумен, любил приду¬
мывать всякие штуки, — вспоминала Елизавета Коваленкова. — Например,
снимал трубку и говорил:
— Константин Сергеевич Станиславский? Это говорит Николай Макаро¬
вич Олейников. — И начинался безумно смешной разговор (причем с то¬
го конца трубки, понятно, никто не отвечал). Так он "беседовал" с разными
знаменитыми людьми, с Мейерхольдом, например» (Коваленкова: 403—
404). Отметим, что сходные «телефонные разговоры» любил вести с вооб¬
ражаемыми собеседниками и перед восхищенными зрителями Михаил Бул¬
гаков.
32 Ср. в интересной статье об «Олейникове в жизни»: Риникер.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [46]
«Литературу знает, но не совсем идеологически тверд»
(В Ленинграде: 1925—1929)
1
В 1925 году Олейников получил направление на работу в газету «Ленин¬
градская правда». Символическим актом его прощания с донским казаче¬
ством стала издевательская шутка над доверчивым председателем одного
из местных сельсоветов. «Он показал мне официальную справку, с которой
приехал в Петроград, — вспоминал Николай Чуковский. — Справка эта,
выданная его родным сельсоветом, гласила:
"Сим удостоверяется, что гр. Олейников Николай Макарович действи¬
тельно красивый. Дана для поступления в академию Художеств".
Печать и подпись. Олейников вытребовал эту справку в сельсовете, уве¬
рив председателя, что в Академию Художеств принимают только красивых.
Председатель посмотрел на него и выдал справку» (Чуковский Н.: 253)33.
В другом ключе, но почти столь же экстравагантно повел себя Олейни¬
ков, впервые встретившись в редакции «Ленинградской правды» со своим
будущим близким другом Владимиром Матвеевым, так описавшим эту встре¬
чу в разговоре с Л. А. Олейниковой: «В комнату входит человек приблизи¬
тельно моего возраста и протягивает мне направление ЦК на работу в газете:
— Хорошо, — говорю. — А кем бы вы хотели у нас работать?
— Ответственным секретарем.
— Позвольте, — говорю, — но ведь это я ответственный секретарь!
— Ничего не поделаешь, — отвечает. — Но я действительно хочу рабо¬
тать ответственным секретарем...» (Олейников А. 2000:30).
В итоге Олейников устроился на работу в детский журнал «Новый Ро¬
бинзон», издававшийся при «Ленинградской правде».
Не поспособствовал ли переезду Олейникова в северную столицу и его
трудоустройству в «Новом Робинзоне» Евгений Шварц, вернувшийся в Пе¬
33 Вариант Николая Харджиева: «Юношу-казака Николая Олейникова командирова¬
ли в Петроград, как "самого красивого парня в станице". Это было удостоверено
печатью и подписями местного начальства» (Харджиев 2002: 57). Вариант Лидии
Жуковой: «Он сует мне какую-то бумажку, я успеваю заметить печать. "Дана сия
сельским советом станицы Каменской Олейникову Николаю Макаровичу в том, что
он действительно является красивым". "Почему вы смеетесь, — он смотрит на меня
строго, — это документ"» (Жукова: 161). На эту справку намекается в юмористиче¬
ском материале «Макар Свирепый у фотографа», написанном самим Олейниковым
и напечатанном в № 5 журнала «Еж» за 1929 год. Фотограф сделал несколько сним¬
ков, искажающих лицо Макара. В ответ «наш друг», который «считал себя краси¬
вым», «без промедления взял со стола тяжелый альбом и стукнул им фотографа по
голове» (С. 35).
Жизнь и стихи Николая Олейникова [47]
троград зимой 1923 года34 (в 1924 году он еще раз побывал в Бахмуте и по¬
работал там в редакции «Всероссийской кочегарки» и «Забоя»)? В 7 номе¬
ре «Нового Робинзона» за 1924 год была помещена тогдашняя лучшая швар-
цевская вещь — раешник «Рассказ старой балалайки»35.
Журнал «Новый Робинзон» начал выходить в 1923 году и сперва называл¬
ся «Воробей». Был он органом Северо-Западного бюро детской коммунисти¬
ческой организации юных пионеров и ленинградского Губкома Р/1КСМ. Ре¬
дакция располагалась по адресу: Социалистическая улица, дом № 14.
В коллективной заметке, предварявшей первый номер «Воробья», де¬
кларировалось: «Каждый вдумчивый педагог, каждый родитель знает по
опыту, что перед ним совершенно новый ребенок, к которому нельзя подхо¬
дить с теми методами и приемами воспитания, которые применялись к тому
же возрасту детей в период довоенный. Знает об этом литератор и худож¬
ник. Для них ясно, что волшебною сказкою, феями, эльфами и королями не
заинтересуешь современного ребенка. Ему нужна другая литература — ли¬
тература реалистическая, литература, черпающая свой источник из жизни,
зовущая к жизни. Не творчеством "фантазии" должна быть современная ли¬
тература для ребенка, она должна будить в нем творчество мысли, его ак¬
тивность, его самодеятельность» (Воробей: 4).
Одним из создателей и главным идеологом журнала был Самуил Яковле¬
вич Маршак, привлекший к участию в этом издании лучшие литературные си¬
лы Ленинграда. В «Воробье» и «Новом Робинзоне» свои детские стихи публи¬
ковали Борис Пастернак, Осип Мандельштам и Николай Асеев, серию очерков
о кино напечатал Виктор Шкловский. Весьма активно с «Новым Робинзоном»
сотрудничали «Серапионовы братья» — в журнале регулярно помещались
прозаические вещи Николая Тихонова, печатались в нем Вениамин Каверин,
Константин Федин, Михаил Слонимский, Елизавета Полонская, Илья Груздев.
Корней Чуковский опубликовал в журнале свою «Золотую Айру», сам
Маршак — стихотворение «Про одного читателя».
Однако в основном погоду в «Воробье» и «Новом Робинзоне» делали
три замечательно талантливых ставленника и соратника Маршака — про¬
заик и очеркист Борис Житков, прозаик Виталий Бианки, а также инже¬
нер и писатель, родной брат Маршака, Илья Яковлевич Маршак, подписы¬
вавший свои тексты псевдонимом «М. Ильин» («брат Маршака и сам в душе
Маршак» — шутили о нем тогда). «Новыми людьми», которые были «далеки
34 Поэтому не совсем точна в своих мемуарах была Лидия Жукова, писавшая об
Олейникове: «Его вывез из Донбасса Женя Шварц» (Жукова: 161). По устному же
сообщению А. Н. Олейникова, Шварц и вовсе не имел отношения к переезду поэта
в город на Неве.
35 В № 9 за 1925 год появилась маленькая прозаическая сказка Шварца «Два друга:
хомут да подпруга».
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [48]
от литературной моды и близки простым вещам», назвал Житкова, Бианки
и М. Ильина Михаил Леонович Гаспаров (Гаспаров 2001а: 417).
Эти три автора печатались, без преувеличения, во всех номерах «Но¬
вого Робинзона», под каждого из них была заведена особая рубрика. Под
М. Ильина — «Лаборатория "Нового Робинзона"», под Бианки — знаме¬
нитая «Лесная газета», под Житкова сразу две рубрики — «Бродячий фо¬
тограф» (фотохроника, сопровождавшаяся короткими текстами) и «Масте¬
ровой (Что можно смастерить самому дома, в отряде и в школе)». Житков,
кроме того, публиковал в «Новом Робинзоне» короткие рассказы.
Именно Житков, М. Ильин и Бианки вместе с их вдохновителем Марша¬
ком предприняли форсированную и во многом удавшуюся попытку (в пол¬
ном соответствии с формулами Ю. Н. Тынянова) переместить детскую сло¬
весность с глубокой периферии в самый центр «литературного сегодня»,
сделать ее живым «литературным фактом». Новаторство трех этих авторов
остро чувствуется при сравнении их текстов не только со слащавой и за¬
игрывавшей с ребенком дореволюционной литературой для маленьких, но
и с детскими вещами очень крупных поэтов, печатавшихся в том же «Новом
Робинзоне», — Пастернака и Мандельштама.
В «Чистильщике», «Полотере» и «Кооператоре» Мандельштама (№ 4 за
1925 год), как и в «Карусели» Пастернака (№ 9 за 1925 год), ощущается из¬
рядное расстояние, отделяющее взрослых добродушных поэтов от милого
несмышленого ребенка, к которому они адресуются, а главное — от завет¬
ных пастернаковских и мандельштамовских стихов:
За оврагом на площадке
Флаги, игры для ребят,
Деревянные лошадки
Скачут, пыли не клубят.
(Пастернак)
Полотер руками машет,
Будто он вприсядку пляшет.
Говорит, что он пришел
Натереть мастикой пол.
(Мандельштам)
и т. д., и т. п. Это все-таки были вещи, написанные для заработка, не с пол¬
ной отдачей, не совсем «всерьез»36.
36 Ср. в позднейшей статье Олейникова: «Дошкольные авторы делятся на две катего¬
рии. В большинстве случаев это дилетанты, еле владеющие стихом. Другая катего¬
Жизнь и стихи Николая Олейникова [49]
Маршак, Житков, М. Ильин и Бианки сделали ставку на детскую литера¬
туру, отнеслись к ней как к основному делу своей жизни. «Каждая строчка
очередного номера обсуждалась на редакционных заседаниях так, будто от
нее зависело все будущее детской литературы», — вспоминал об атмосфе¬
ре, царившей в редакции «Нового Робинзона», Евгений Шварц (Шварц 1991:
55). А вот что он писал в другом месте своих мемуаров: «Вернувшись из Дон¬
басса и начав работать секретарем редакции тогдашнего журнала "Ленин¬
град" (издававшегося "Ленинградской правдой"), я часто видел, как тесная
кучка людей, человек в пятнадцать, окружая письменный стол в левом углу
комнаты (а мы работали в правом), титанически, надрываясь, напрягая все
силы, сооружала — не могу найти другого слова — очередной номер тонень¬
кого детского журнала "Воробей". Я ни разу, кажется, не досидел до конца
очередных работ, но ни Маршак, ни в особенности Житков не теряли высоты,
не ослабляли напряжения. Если Маршак иной раз позволял себе закашлять¬
ся, схватившись за сердце, или, глухо охнув, уронить голову на грудь, то Жит¬
ков и на миг не давал себе воли. Улыбаясь особым своим оскалом, то с отвра¬
щением и насмешкой, то вдохновенно, он искал все новые повороты и реше¬
ния и часто, к гордости Маршака, находил нужное слово. Именно — слово.
Журнал строился слово за словом» (Шварц 1990:233—234).
Козырями «Воробья» и «Нового Робинзона» в борьбе за советскую37
детскую литературу были предельная лаконичность, занимательность
(ударное место, «фокус» в каждом тексте), а также информативность, по¬
лезность всех материалов (недаром у большинства вещей, печатавшихся
в «Новом Робинзоне», была документальная основа), противопоставленная
рия — более малочисленная — это "взрослые" поэты, которые иногда дарят детям
книжку. Кто пишет хуже — неизвестно. Первые плохо пишут от неумения. А вторые
считают, что для детей нельзя писать всерьез, и поэтому преподносят образцы дур¬
ной левизны, обрывки имажинизма и запоздалую футуристическую смесь» (Олей¬
ников 1934а: 3).
37 «"Новый Робинзон" ставит себе задачей содействие коммунистическому воспита¬
нию детей», — утверждалось в анонсах, печатавшихся на задней стороне обложки
журнала. Социальный заказ на новую литературу для детей, отражающую новые со¬
ветские реалии и условия жизни, разумеется, широко обсуждался и приветствовал¬
ся в ленинградской и московской печати. Ср., например, в программной статье Анны
Гринберг 1925 года (со шпилькой в адрес Корнея Чуковского): «Был обездоленный
маленький обитатель индивидуальной детской, который любил собачку и зайца
и у слона искал утешения в скудости своего детства. Но пришел новый рабоче-кре-
стьянский малыш. Он хлопнет ручкой по книге и спросит: "Это про СССР?" И, узнав,
что не СССР, а умывальник, досадливо пожмет шестилетним плечом» (Гринберг
1925: 247). Но по-настоящему досадливые пожимания плечами (и кое-что похуже)
поджидали Чуковского лишь через несколько лет. Ср. страшную и невежественную
статью: Крупская.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [50]
сугубой литературности даже лучших из предшествующих журналов и книг
для детей. «Предмет (или человек) должен быть описан как впервые уви¬
денный — а не назван с отсылкой ко всем известному», — так формулиру¬
ет один из принципов строившейся Маршаком литературы для детей прони¬
цательная современная исследовательница (Чудакова: 405)38. Это можно
прямо противопоставить суждению о мандельштамовских детских стихах
из умной статьи 1927 года: «0. Мандельштам <...> дает изысканные стихи,
предполагая у маленького читателя большое чувство слова» (Покровская:
41). И в этой же статье говорится о круге Маршака (что характерно, с упо¬
треблением формалистских терминов «материал» и «прием»): «Серьезную
работу по обновлению и материала и приема прозаической книги для сред¬
них и старших ставит группа ленинградских писателей, работающая в тес¬
ном сотрудничестве с Маршаком» (Там же: 44). «Стиль схемы» —- вот опре¬
деление, которым, вслед за Борисом Бухштабом, воспользовался М. Л. Гас¬
паров, говоря о поэтике детских стихов Маршака и прозы представителей
его школы (Гаспаров 2001а: 417).
Понятно, что Олейников с его опытом газетного репортера, да и просто
с очень богатым для двадцатисемилетнего человека жизненным и профес¬
сиональным багажом, пришелся в «Новом Робинзоне» ко двору. Он не толь¬
ко органично влился в состав редакции журнала, но и впервые под своей
собственной фамилией опубликовал в сентябрьском, 15—16 номере «Но¬
вого Робинзона» за 1925 год рассказ для детей «Кохутек (удивительная
история)», проиллюстрированный отличными рисунками Николая Лапши¬
на. В содержании этого номера фамилия впервые напечатавшегося в жур¬
нале автора была воспроизведена неправильно — «Алейников».
Рассказ «Кохутек» представляет собой идеальный образчик маршаков-
ской прозаической школы: он написан на документальной основе, лакони¬
чен, содержит новую и полезную для всякого пионера информацию. Глав¬
ный же его прием почти детективный, в духе историй про Шерлока Холмса:
в самом начале юному читателю задаются загадки, ответы на которые он об¬
наруживает далеко не сразу.
Газетчик был сбит с толку. В это утро творилось что-то странное.
Ежеминутно к нему подходили школьники и спрашивали:
— Дайте мне, пожалуйста, «Кохутек».
38 Революционность выдвинутых прозаической школой Маршака принципов поэтики
обостренно ощущалась не только современниками, но и литераторами «ленинград¬
ского» или, если угодно, «питерского» круга следующего поколения. Один из таких
литераторов, Андрей Арьев, недаром вспоминает о шуточном девизе своей и С. До¬
влатова, И. Смирнова и А. Пекуровской студенческой филфаковской компании:
«Долой Кафку и Пруста! Да здравствуют Джек Лондон и Виталий Бианки!»
Жизнь и стихи Николая Олейникова [51]
Никогда раньше не продавался так хорошо этот тощий малень¬
кий журнальчик. А сегодня пришлось два раза бегать в редакцию за
новыми номерами.
Но что всего удивительнее — покупали и взрослые. Подходил
какой-нибудь солидный мужчина с бородой и требовал:
— «Кохутек».
(Олейников 1925:48)
Как видим, зачин рассказа содержит сразу две интригующие читателя за¬
гадки: не только — почему вдруг начал так хорошо распродаваться жур¬
нальчик «Кохутек», но и — что такое, собственно, «кохутек»? Как перево¬
дится это экзотически звучащее слово?
Ответ на первую загадку читатель узнает где-то в середине рассказа:
оказывается, «Кохутек» был запрещен центральным управлением чехосло¬
вацких школ, что способствовало немедленному взлету его популярности.
Ответ на вторую загадку преподносится читателю еще позже, в одном из за¬
ключительных абзацев: «"Кохутек" — это значит "Петушок". Так называет¬
ся выходящий в Чехословакии детский журнал, вроде нашего "Робинзона"»
(Там же: 50). При этом (совсем по законам детектива) внимательный чита¬
тель может разгадать вторую загадку сам и гораздо раньше невнимательно¬
го: уже на первой странице рассказа продавец, недоумевая, разворачива¬
ет «странный журнальчик, на обложке которого был нарисован петушок»
(Там же: 48). А чуть выше, под самым заглавием «Кохутек», Лапшин, по со¬
гласованию с автором, изобразил силуэт задорно кричащего петушка.
Спустя месяц, в восемнадцатом, октябрьском номере «Нового Робинзо¬
на» за 1925 год, Олейников опубликовал второй свой подписанный полной
фамилией материал «Младшие свидетели Октября», в котором ко всем пе¬
речисленным свойствам его детской прозы прибавилось еще одно: любовь
к парадоксу, высекающему из текста неброский комический эффект. Начи¬
нается олейниковский текст так:
В редакцию «Нового Робинзона» заявился небольшого роста пио¬
нер и сказал:
— Я принес свои воспоминания о революции. Напечатаете?
(Олейников 1925а: 1)
Здесь юмористический эффект достигается за счет несоответствия непо¬
чтенного возраста пионера (да еще пионера «небольшого роста») почтен¬
ному жанру воспоминаний (да еще воспоминаний «ветерана» революции).
Подкрепляется ощущение комизма просторечным зощенковским глаголом
«заявился». Дальше статья перетекает в отредактированные Олейниковым
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [52]
подлинные мемуары девяти подростков о революции 1917 года39, фиксиру¬
ющие не замечавшиеся взрослыми интересные частности, мелочи Октябрь¬
ского переворота. Кроме того, точка зрения тогдашних детей остранняла
(еще один формалистский термин), то есть с неожиданной стороны пока¬
зывала читателю многократно описанные взрослыми авторами события,
к 1925 году уже успевшие застыть в набор штампованных картинок.
Материал Олейникова имел успех: его печатанье под названием «8 лет
Октября» продолжилось в ноябрьском сдвоенном (девятнадцаом/двадца-
том) номере «Нового Робинзона», которому, впрочем, было суждено стать
последним выпуском этого увлекательного журнала.
2
В самом начале 1926 года ядро редакции «Нового Робинзона» трансфор¬
мировалось в ленинградский Детский отдел Государственного издательства
(Госиздата). Главной заботой этого отдела на первых порах стал серийный
«сборник для детей» «Советские ребята». В течение года вышли три выпу¬
ска сборника, четвертый, последний, увидел светлишь в 1928 году.
Хотя адрес редакции сменился (на проспект 25 Октября, Дом книги) ко¬
стяк авторов-энтузиастов детской литературы, сложившийся вокруг Мар¬
шака, остался тем же. В «Советских ребятах» печатались «Серапионы» (про¬
за Николая Тихонова, Вениамина Каверина, очерк Ильи Груздева)40, плюс
М. Ильин, Бианки, Житков и Шварц. Значительно увеличилась в этом изда¬
нии в сравнении с «Новым Робинзоном» доля участия Маршака, который,
в частности, опубликовал в первом выпуске «Советских ребят» свой гени¬
альный «Багаж», быстро спровоцировавший идиотическую реакцию отдела
печати Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б):
В "Советских ребятах" помещено произведение со стихами такого
содержания:
Дама сдавала в багаж:
Диван, чемодан, саквояж,
Коробку, корзинку, картонку
И маленькую собачонку.
39 «Всем пионерам, которые дали свои воспоминания, было во время Октября от
пяти до семи лет» (Олейников 1925а: 2).
40 Также отметим участие в третьем выпуске «Советских ребят» Г. Белых и Л. Панте¬
леева с рассказом «Паук».
Жизнь и стихи Николая Олейникова [53]
Дальше, по-видимому, в целях изображения Наркомпути, стихи та¬
ким же размером передают, как собачка выросла в дороге. Писа-
тели-коммунисты и комсомольцы к участию в сборнике не привле¬
чены. Для пролетарских детей сборник не приспособлен. Вообще
в нем не чувствуется стремления сделать ребенка общественником
(Культура и власть: 108).
В данном случае мы имеем дело с очевидным случаем «так называемого
вранья» — хотя бы потому, что душой предприятия и едва ли не основным
вкладчиком всех выпусков сборника был коммунист Николай Олейников,
печатавшийся в «Советских ребятах» и под своей фамилией, и под несколь¬
кими псевдонимами, и анонимно.
Для первого выпуска он подготовил подборку воспоминаний пионеров
о похоронах Ленина, а также раздел «Клуб читателей» (Олейников вел его
под псевдонимом «Зав. клубом Макар Свирепый»), распадающийся на под¬
разделы «Клубная беседа "Сказка о старых долгах"», КУР (задачи, загад¬
ки, головоломки)»,41 «Литкружок (стихи и рассказы читателей)» и «Почто¬
вый ящик».
В этом же выпуске началась публикация мини-серии олейниковских
очерков «НОЖ пионера»42, которые представляются нам чрезвычайно инте¬
ресными не только сами по себе, но и в качестве материала для психологи¬
ческой характеристики Олейникова.
Открывается первый очерк перечнем мизантропических констатаций,
как бы иллюстрирующих позднейший каламбур филолога и олейниковско-
го приятеля Бориса Бухштаба: «Олейников в жизни был неожиданно очень
мрачный человек. Его звали Николай Макарыч, а я говорил ему, что ему сле¬
довало бы называться Николай Макабрыч» (Баевский: 181).
Установочные олейниковские тезисы были таковы: «По-настоящему че¬
ловек правильно ничего не умеет делать. Так, например, человек не умеет
есть. Он хватает большие куски пищи и отправляет их в рот, не пережевывая,
глотает огромные комки пищи, которые с трудом протискиваются в желудок.
Там непрожеванная еда оседает камнем» (Олейников 1926:44)... «Мы ды¬
шим не глубоко, мы даже не знаем, что такое глубокое дыхание» (Там же:
45)... «Человек неправильно живет, оттого что ничему не учится. Каждый
знает, что такое простуда и как ее избежать. Однако простуживаются люди
постоянно. Человек ничему не хочет учиться» (Там же)... Далее следовали
рецепты спасения человека из безнадежных жизненных ситуаций, которые
в контексте творческой биографии Олейникова смотрятся почти как само-
41 Расшифровка этой аббревиатуры: Кружок Умных Ребят.
42 Расшифровка этой аббревиатуры: Научная Организация Жизни пионера.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [54]
заклинания. Хорошее представление об этих рецептах дают названия по¬
следующих главок очерка: «Организуй сам себя», «Работай по плану», поч¬
ти ленинское «С чего начать» и, наконец, «Начинать надо с пустяков». Био¬
графическим комментарием к рецептам из первого «НОЖа пионера» может
послужить тот фрагмент мемуарных записей Евгения Шварца, где мелькает
«Олейников, все искавший, полушутя, способы начать новую жизнь: то с по¬
мощью голодания, то с помощью жевания — все для того, чтобы избавиться
от проклятого наваждения и начать работать» (Шварц 1990:323).
Остается еще добавить, что в подразделе «Литкружок. Стихи и рассказы
читателей» первого выпуска «Советских ребят» были помещены пробы пера
пионеров и школьников, подписанные местами их проживания, два из кото¬
рых по понятным причинам мы выделим особо: Бахмут и Каменск...
Обстоятельства обретения Олейниковым в Ленинграде, в 1926 году (!),
стихов и прозы детей (!) из Бахмута и Каменска представляются весьма за¬
гадочными. Остается осторожно предположить, что автором и уж точно —
соавтором-редактором такого, например, стихотворения, подписанного
«Е. Лисовский. Бахмут», мог быть и Шварц, который тогда еще писал стихи
и не перешел в драматургию, и Олейников или же оба. А в ритмике стихо¬
творения чувствуется влияние Маршака, переводившего тогда наново сти¬
хи любимого в дореволюционной России Роберта Льюиса Стивенсона, в том
числе балладу «Вересковый мед». Заметим, что позже тем же трехиктным
дольником будет написано стихотворение К. Симонова «Сын артиллериста»
(«Был у майора Деева / Товарищ — майор Петров...»):
НОЧЬ НА МОРЕ
Жил около нас на даче
Мальчишка один толстяк.
Он день и ночь все плачет,
Нос у него красный, как рак.
Раз он поехал на лодке,
А тут поднялся прибой.
И всю ночь его лодку носило, —
Никак не вернется домой!
Тут его мать раскричалась:
— Это вы его научили грести!
Пропал мой сыночек Виктор,
И мне его никак не найти.43
43 Не содержится ли в этих строках пародия на следующее место из «Анны Онегиной»
(1925) Сергея Есенина: «Я понял — / Случилось горе, / И молча хотел помочь. / "Уби¬
Жизнь и стихи Николая Олейникова [55]
Мы, конечно, смеялись,
Но тоже думали, наверно, пропал.
И вдруг подъезжает лодка,
И в ней он героем восседал.
И как натерпелся страху,
То плакать совсем перестал,
Стал довольно хороший товарищ
И вместе со всеми играл.
Еще в одном стихотворении из первого выпуска «Советских ребят», поме¬
щенном на странице 74, почерк Олейникова узнается уже без всяких со¬
мнений: генетическая связь смешного четверостишия, приписанного яв¬
но вымышленному мальчику Василию Панову, с записью в олейниковской
графоманской тетрадке более чем очевидна. Мы уже приводили строки же¬
стокого романса из бахмутской коллекции поэта:
Когда мне было лет семнадцать,
Любил я девочку одну.
Когда мне стало лет под двадцать,
Я прислонил к себе другу.
Спустя пять лет тетрадка пригодилась - видимо, Олейников и его друзья по¬
лучили особое удовольствие оттого иронического эффекта, который возни¬
кает при наложении рифмовки и интонации жестокого романса на стилиза¬
цию детской стенгазеты:
Когда мне было лет двенадцать,
Я в школу поступил одну;
Когда мне стало лет тринадцать
Перевели меня в другу.
Вдоволь порезвились Олейников со Шварцем и когда составляли раздел
«Почтовый ящик» для первого выпуска «Советских ребят». Там была по¬
мещена, например, такая краткая переписка: «Николаю Петровичу Телеги¬
ну. Телегин придумал для нас несколько шарад. Вот одна из них: "Мое пер¬
вое — от, / А второе — ряд, / Мое целое вот: / Отряд". Мы для Телегина
ли... Убили Борю... / Оставьте. / Уйдите прочь. / Вы — жалкий и низкий трусишка! /
Он умер... / А вы вот здесь..."»? Также отметим, что, как и цитируемое стихотворе¬
ние, трехстопным амфибрахием с рифмовкой АбАб написано первое дошедшее до нас
взрослое стихотворение Олейникова «Кузнечик, мой верный товарищ...» (о нем см.
чуть ниже в этой главе).
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [56]
тоже придумали шараду. Вот она: "Мое первое — не, / А второе — напеча¬
таем, / Мое целое вот: / Не напечатаем"».
Во втором выпуске сборника «Советские ребята» было помещено про¬
должение олейниковского «НОЖа пионера», в котором воспевалось еже¬
дневное мытье: «Чтобы правильно дышать, нужно каждый день смывать
с себя пот и грязь» (Олейников 1926а: 38) и проч. Этот гимн чистоте
можно сравнить с обэриутским поворотом сходной темы в монологе Да¬
ниила Хармса об Олейникове, зафиксированном в «Разговорах» Леонида
Липавского: «В Н. М. стихия бани, она и дает ему силу. Он ходит два раза
в неделю в баню и там парится. Он очень белый. И стихи свои он сочиня¬
ет в бане, распевая их на полке» (Разговоры: 391). Сравним также в ме¬
муарах Лидии Жуковой: «...чисто по-деревенски любил Олейников баню.
Это были великие дни — банные! Все отступало на задний план» (Жуко¬
ва: 170).
В третьем выпуске сборника Олейников продолжил патронировать
раздел задачек и шарад «КУР». В этом же выпуске он под псевдонимом
«С. Кравцов» поместил очерк «Боевые дни», который потом несколь¬
ко раз переиздавался под настоящей фамилией автора. «Книжка зна¬
комит с Октябрьским переворотом в Петрограде не в сухом повество¬
вании, а в виде ряда ярко изображенных сцен, рисующих настроения
рабочих и солдат перед переворотом и картину самого переворота», —
так «Боевые дни» позднее аннотировались гизовским библиографиче¬
ским журналом «Книга детям» (Аннотация: 46). Наверное, стоит об¬
ратить внимание на то обстоятельство, что в варианте очерка, напеча¬
танном в «Советских ребятах», дается беглая зарисовка политического
деятеля, позднее «назначенного» органами НКВД в тайные руководите¬
ли контрреволюционной деятельности Олейникова: «Вот, блестя стекла¬
ми пенсне, торопливо пробирается между солдатами Троцкий» (Олей¬
ников 19266: 30), чей афористичный образ исчезнет из всех последу¬
ющих переизданий.
Забегая на два года вперед, отметим еще, что в четвертом, вышед¬
шем в 1928 году, выпуске «Советских ребят» Олейников под забавным
псевдонимом «И. Каров», которым он пользовался еще во «Всероссий¬
ской кочегарке», напечатал рассказ с «бабелевским» заглавием «Соль».
Последнюю же страницу этого выпуска в качестве рекламы журнала
«Еж» украшал портрет Олейникова в образе кумира детских читателей
Макара Свирепого работы замечательного карикатуриста Бориса Анто¬
новского. Антоновский и после создавал иронические портреты и Сви¬
репого, и Олейникова без маски, и Даниила Хармса с Александром Вве¬
денским.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [57]
3
По всему получается, что писание рассказов для детей разбередило автор¬
ский талант Олейникова: датировки его дебютных детских прозаических ве¬
щей (1925 год) знаменательно предшествуют датам его первых сохранив¬
шихся стихотворений для взрослых (1926 год).
Из олейниковских поэтических опытов 1926 года до нас дошло шуточ¬
ное двустишие «Детские стихи», четверостишие «На пропасти краю...»
и восьмистишие «Кузнечик, мой верный товарищ...»
Двустишие «Детские стихи»:
Весел, ласков и красив,
Зайчик шел в коператив, —
было 25 апреля занесено автором в прославленный альбом «Чукоккала».
«Когда меня, как детского писателя, порицали за то, что в моих сказках
нет актуальной тематики, — вспоминал Корней Чуковский, — Олейни¬
ков пришел мне на помощь, написав две образцовые строки, причем по¬
рекомендовал мне писать именно в этом духе» (Чукоккала: 487). Позд¬
нее Олейников процитировал свое «показательное» двустишие в статье
«На дошкольную тему», напечатанной в газете «Литературный Ленин¬
град» от 27 августа 1934 года, и снабдил его таким ироническим коммен¬
тарием: «Эти стихи можно выставить в качестве лозунга для огромного
большинства дошкольных книг. Во-первых, они жизнерадостны (слово
"весел"). Во-вторых, они соответствуют детским запросам (слово "зай¬
чик"). Наконец, они безусловно советские, так как в них есть слово "ко¬
ператив"» (Олейников 1934а: 3).
Олейников, как видим, не смог отказать себе в удовольствии контра¬
бандой протащить образчик своего «взрослого» творчества в статью о «до¬
школьной» литературе — но не опрометчивый ли то был шаг? Слишком уж
откровенно, лишь слегка замаскировав невинной темой самую едкую иро¬
нию, автор статьи указал на свой поэтический метод: именно это двустишие
можно принять как своего рода концентрат олейниковского двупланового
стиля. То, что будет характерно для его стихов в целом, — «примитивизм»,
«прямолинейность», «слова лицом к зрителю» (Гинзбург: 489), оборачи¬
вающиеся сложной системой сбоев («бурлескная неадекватность», «все
не совпадает» (Там же)), — здесь, в «Детских стихах», дано в сгущенном,
формульном виде. Действительно, что может быть примитивнее и прямоли¬
нейнее этого двустишия: три прилагательных, два существительных, один
глагол — простейшие слова в простейших сочетаниях? Но при этом все (!)
слова синтаксически элементарного стихотворения, казалось бы, склады-
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [58]
вающиеся в штампованные сочетания, вступают друг с другом в совсем не
простые отношения взаимного отрицания.
Только лишь подбор эпитетов в первой строке уже дает тройной отри¬
цательный эффект. Во-первых, точная передозировка бодрости, умиления
и восхищения ловко сменяет жизнеутверждающий «плюс» на дискредити¬
рующий «минус». Во-вторых, принудительная синонимизация слов с раз¬
ными лексическими координатами (состояние — «весел», качество — «ла¬
сков», эмоционально-оценочный признак — «красив») компрометирует
каждое из них: третий эпитет («красив») сдвигает первый («весел») в «га¬
лантерейный» язык, второй же («ласков»), лексически несовместимый
с ними, и вовсе опрокидывает весь ряд в нелепицу и гротеск. В-третьих,
впечатление абсурдности первой строки удваивается иллюзией то ли при¬
чинной, то ли условной связи ее со второй (зайчик идет в «коператив», по¬
скольку он «весел, ласков и красив»; или — потому «весел, ласков и кра¬
сив», что идет в «коператив»?).
Вторая строка, как и первая, составлена только из «положительных»,
«правильных» слов — но как будто глумящихся друг над другом. Насмеш¬
ливо искривленным оказывается даже слово «шел»: глагол здесь не за¬
дает, а парализует сюжет, отменяя саму возможность совершенного вида
(«шел» в отрыве от «пришел») и, соответственно, всякое событийное раз¬
витие и завершение. «Шел» — это фиктивное действие, застывшее в елей¬
ном идиотизме. Но основной саркастический заряд приходится, разумеет¬
ся, на связку существительных: «зайчик» литературно уничтожает «копе¬
ратив», а «коператив» — «зайчика»; заодно зачеркивается и весь шлейф
тянущихся за ними поэтических ассоциаций.
В обоих словах конкретная пародийная адресация только усиливает их
обобщающий издевательский смысл. Так, «коператив» прежде всего ме¬
тит в Маяковского, с его «Кооперативными плакатами» (1924), призванны¬
ми донести до населения соответствующие ленинские положения (статья
«О кооперации», 1923), — «чтобы оно поняло все выгоды от поголовно¬
го участия в кооперации и наладило это участие» (Ленин: 430). К одному
из таких «плакатов»: «Весел, / умен / и счастлив тот, / кто урожай / коопе¬
ративам несет», — Олейников как раз и «пририсовал» своего «зайчика»,
с комической старательностью реализовав ленинский тезис о «поголовном
участии в кооперации». Так одним жестом автор «Детских стихов» обесце¬
нил и пародируемые строки, и всю стиховую рекламно-агитационную про¬
дукцию эпохи.
Но обесценивается и сам «зайчик», с его комическим адресом, спрятан¬
ным, как письмо в детективе Эдгара По, на самом видном месте. Это очень
по-олейниковски — отправить «зайчика» в «коператив» именно на страни¬
цах «Чукоккалы», да еще и посоветовав адресату писать в соответствующем
Жизнь и стихи Николая Олейникова [59]
духе. Дело здесь явно не ограничивается литературной шуткой: уж очень не
по-доброму смеется молодой писатель над мэтром (в его же альбоме), едва
скрывая свое злорадство в пародийных намеках.
Попробуем реконструировать полемический жест Олейникова, скры¬
тый в этих намеках. «Зайчик» в двустишии указывает на двусмысленность,
тупиковую противоречивость литературной позиции Чуковского. «Зай¬
чик шел...» — вроде бы выведенный автором «Крокодила» из «тюремно¬
го заключения, именуемого детской», на «улицу»44, в новый быт («Зайчики
в трамвайчике») и новую литературу. Но где оказывается этот прежний оби¬
татель детской, выйдя из нее, — разве не в том же кругу умилительных «ме¬
лочей» и уменьшительных суффиксов дореволюционной детской литерату¬
ры («снежинок» и «росинок»)? Не случайно ведь каждый раз, упоминая его,
Чуковский впадает в инерцию забавно-сентиментального тона: «Глянул за¬
инька в окно, / Стало заиньке темно»; «Плачут зайки / На лужайке»; «Толь¬
ко заинька / был паинька...»; «Рады зайчики и белочки, / Рады мальчики
и девочки...» — не признак ли это половинчатости реформы Чуковского, так
и застрявшего между дореволюционной традицией и новыми темами?
И вот, соединив в четырехстопном хорее своего двустишия отсыл¬
ки к старой считалочке («Раз-два-три-четыре-пять, / Вышел зайчик
погулять»45) и новейшим опытам Чуковского («Муха в бане», 1922: «Ста¬
ла муха, как была, / Хороша и весела»), Олейников с ядовитой насмешкой
предложил старшему поэту и его персонажу, зайчику, как бы «выход» из
тупика — сдаться идеологическому заказу, в «коператив». Не удивительно,
что Чуковский через два с лишним года, в январе 1929 года ответил на олей¬
никовскую шутку всерьез и даже с пафосом: «Я, конечно, во всякое время
мог бы складывать вот такие стишки:
Весел, ласков и красив —
Зайчик шел в кооператив,
но этого мне не позволяет моя литературная совесть» (Чуковский 2001:
627).
44 См. тыняновскую характеристику старой детской литературы, от которой Чуков¬
ский призван был освободить ребенка-читателя: она «отбирала из всего мира не¬
большие предметы в тогдашних игрушечных магазинах, самые мелкие подробности
природы: снежинки, росинки — как будто детям предстояло всю жизнь прожить
в тюремном заключении, именуемом детской, и иногда только глядеть в окна, по¬
крытые этими снежинками, росинками, мелочью природы. <...> Улицы совсем не
было...» (Тынянов 1977:64).
45 Из стихотворения Ф. Б. Миллера, написанного в 1851 году, опубликованного
в 1880 году и к концу XIX века вошедшего в хрестоматии для начального чтения.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [60]
Однако уже в конце 1929 года автор «Крокодила» напишет покаянное
заявление, в котором невольно последует (или, вернее, попытается после¬
довать) лукавому совету Олейникова: «...Теперь, если бы я даже хотел, я не
могу писать ни о каких "крокодилах", мне хочется разрабатывать новые те¬
мы, волнующие новых читателей. В числе книг, которые я наметил для сво¬
ей "пятилетки", первое место занимает "Детская колхозия"... Мы, изучив на
практике работу колхозов, соединенными силами создадим насущно-необ-
ходимую детскую книгу, которую дети будут знать наизусть, так как статьи
и стихи, входящие в эту книгу, будут звонки, лаконичны, легко запоминае¬
мы, веселы» (Чуковский 1929: 2)46.
21 октября датировано следующее шуточное олейниковское четверо¬
стишие:
На пропасти краю
Стою в чужом краю.
От вас не утаю:
Коров я не дою.
Сугубо ситуативный юмор этого четверостишия (скорее всего — отрывка
из более пространного текста), увы, ускользает от сегодняшнего читате¬
ля, поскольку ему неизвестны конкретные обстоятельства, к которым чет¬
веростишие было приурочено. Очевидно только, что поводом к его написа¬
нию послужил день тридцатилетия Евгения Шварца, пришедшийся как раз
на 21 октября 1926 года.
Уже в 1930-е годы Шварц вспомнит об этом коротком тексте и включит
отсылку к нему в свое шуточное поздравление с днем рождения адресату
многих посланий Олейникова и редактору его книг, Александре Иосифов¬
не Любарской. Приведем здесь небольшой фрагмент из ее воспоминаний:
«К моему дню рождения написал басню Шварц:
Один зоил
Коров доил
И рассуждал над молоком угрюмо:
— Я детскую литературу не люблю,
Я детскую литературу погублю
Без крика и без шуму.
46 См. также замечание Чуковского из той же его черновой заметки о докладе в ГИЗе,
в которой автор «Крокодила» процитировал Олейникова: «Я хорошо понимаю, что
многие мои приемы и темы исчерпаны, что мне нужно либо замолчать, либо начать
какую-то новую литературную линию» (Чуковский 2001:627).
Жизнь и стихи Николая Олейникова [61]
И вдруг корова дерзкого в висок —
И пал бедняга, как свинца кусок
Зоил восстановил против себя натуру,
Ругая детскую литературу.
Читатель, осторожен будь
И день рождения Любарской не забудь».
(Любарская 1995:162)
И, наконец, третье дошедшее до нас стихотворение Олейникова, датируе¬
мое 1926 годом, интересно в первую очередь как написанное до вхожде¬
ния его автора в судьбоносный союз с Николаем Заболоцким, Даниилом
Хармсом, Александром Введенским, Леонидом Липавским и Яковом Дру-
скиным47:
Кузнечик, мой верный товарищ,
Мой старый испытанный друг,
Зачем ты сидишь одиноко,
Глаза устремивши на юг?
Куда тебе в дальние страны,
Зачем тебе это тепло?
У нас и леса, и поляны,
А там все песком замело.
Это стихотворение и похоже, и еще не вполне похоже на «классического»
Олейникова. С одной стороны, для того, чтобы выразить чувства южани¬
на, тоскующего по оставленному теплу48, поэт воспользовался образом куз¬
нечика, которому, вместе с жуком, мухой и другими насекомыми вскоре
предстояло стать его фирменным знаком, своеобразным тотемом его поэ¬
зии. «Н. М. провозгласил мудрость кузнечика и начертил на знамени жу¬
ка», — в 1934 году итожил Леонид Липавский (Разговоры: 338)49. Также
весьма характерным для поэтической манеры «зрелого» Олейникова ста¬
нет ироническое использование романтических клише. В данном стихотво¬
рении, пародийно подхватывающем трехстопный амфибрахий и его устой¬
47 По свидетельскому наблюдению Николая Чуковского, на первые стихотворные
опыты Олейникова «наиболее непосредственное влияние» оказали шуточные стихи
Шварца, вроде басни «Один зоил коров доил...» (см.: Чуковский Н.: 254).
48 «...он еще медленнее, чем я, привыкал к северу» (Шварц 1990:507).
49 0 насекомых у Олейникова см. специальные работы: Нарине; Ронен.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [62]
чивые балладные и романсовые ассоциации50, плотностьтакого рода клише
особенно велика: тут и элегические обращения к кузнечику («мой верный
товарищ»51, «мой старый испытанный друг»), и «лермонтовские» риториче¬
ские вопросы (с анафорой — дважды «зачем?», продублированной паро-
дийно-сниженным «куда тебе?»), и байроническое отчуждение («сидишь
одиноко»), и мечтательное «dahin» немецких романтиков («Глаза устремив¬
ши на юг»; «дальние страны»). Даже ирония последних двух строк «Кузне¬
чика» — вполне в духе Г. Гейне, с его «сентиментально-коварной» игрой
в двоемирие (в «здесь — там»). Таким образом, на каждую строку стихот¬
ворения приходится по одной, а то и по две романтических отсылки; в бу¬
дущем Олейников будет не раз использовать этот прием комической концен¬
трации в разрушительных целях.
Намечается в «Кузнечике» и аналитическое разъятие лиризма, что вско¬
ре станет фирменным знаком олейниковской поэтики. Уже здесь лириче¬
ская стихия, по сути, сводится к языковой инерции, к буксующим повторам
и тавтологии. Каждая вторая строка в стихотворении дублирует первую:
обращения («мой старый испытанный друг» — «мой верный товарищ»)
и вопросы («Куда тебе в дальние страны?» — «Зачем тебе это тепло?») си¬
нонимичны; формулы «сидишь одиноко» и «глаза устремивши на юг» свя¬
заны нарочитой банальностью. Но при этом каждая вторая строка интона¬
ционно сильнее первой, все четные строки эмфатически приподняты. Так
Олейников саркастически реализует формулу: «поэзия есть музыка», что¬
бы приравнять лиризм к бубнению, причитанию, бессознательному напева-
нию — и свести его к физиологической привычке.
С другой стороны, стихотворение «Кузнечик, мой верный товарищ...» —
еще слишком мягкое для Олейникова. В нем еще чувствуется гейневское
стремление замаскировать иронией и сарказмом искреннее лирическое вы¬
сказывание: в мерности повторов угадывается «недовысмеянная» тоска,
в примитивизме последних строк — какая-то загадка. Пародийность в этом
раннем опыте пока не означает окончательного разрыва с традицией; так,
олейниковский кузнечик еще может восприниматься в одном ряду с ломо¬
50 См., например, «Воздушный корабль» и «Тамару» Лермонтова, «Воздушный го¬
род» Фета, «Средь шумного бала, случайно» А. К. Толстого), народную песню «Средь
диких степей Забайкалья», пародийную балладу Саши Черного «Мираж».
51 Ср., например, в «Рыцаре Роллоне» Жуковского: «Слушай, тебе я коня моего от¬
даю; / С ним и всю сбрую возьми боевую мою: / Ими отныне, мой верный товарищ,
владей; / Только молись о душе осужденной моей»; в стихотворении «Из мрака дамбы
выступают...» Генриха Гейне: «Спасибо, мой верный товарищ, / За то, что светил мне
в пути! / Теперь я тебя покидаю. / Теперь другим посвети!», а также знаменитое пуш¬
кинское «мой грустный товарищ» из «Узника», которое часто запоминают как: «Мой
верный товарищ».
Жизнь и стихи Николая Олейникова [63]
носовским. Соответственно, и насмешка здесь все же не оборачивается
злой издевкой, а аналитическая игра с поэтическими клише — полной ин¬
фляцией смысла.
4
В этот же период все сильнее нарастало внутреннее недовольство Олей¬
никова и Житкова Самуилом Маршаком с его программой построения со¬
ветской литературы для детей. Свидетельствует Евгений Шварц: «Начав со
страстного увлечения Маршаком — "что будет, если он умрет", — сказал
Олейников однажды в ужасе в первые месяцы нашей совместной работы,
когда Маршак захворал, — он вскоре отрезвел и взял того, кого только что
так любил, под подозрение» (Шварц 1991:65).
В чем именно Олейников стал «подозревать» Маршака? Шварц отвеча¬
ет на этот вопрос коротко, не вдаваясь в подробности: «То, что делал Мар¬
шак, казалось Олейникову подделкой, эрзацем» (Шварц 1990: 240). О бо¬
лее конкретных причинах тогдашнего раздражения Олейникова и Житкова
против Маршака мы можем судить по житковскому письму к Е. П. Бахаре-
вой от 25 ноября 1927 года. Автор «Багажа» и «Почты» обвиняется в этом
письме в капризности, в любви к дешевой славе, а главное, в склонности
к дидактике, снижающей литературное качество текста, к тому, что Олей¬
ников впоследствии саркастически назовет педагогическим «катехизисом»
(Олейников 1934а: 3).
«Мы тут учредили Ассоциацию детских писателей при Доме Печати, —
сообщал Житков своей корреспондентке. — Начали дело мы с Колькой
Олейниковым. Хотим вырабатывать новую детскую. Мне вся детская литера¬
тура недетской кажется. Не по тем путям ассоциаций идет книжная мысль,
что у детей. И не то интересует, о чем по большинству пишут, в том числе
и я. И "Пудя"52 почти что мимо, т. к. он для взрослых больше, чем для де¬
тей. Это дело мы затеяли без Маршака. Беда Маршака в том, что он всюду
хочет быть первым и единственным, и всякий визит обращается в его юби¬
лей. И это "хочу, чтобы по-моему играли", у него — сам говорил — с дет¬
ства. Он был вундеркиндом, его возили к Стасову, Горькому, и всюду восхи¬
щение и восторги. Он сам говорит, что это ему много напортило. Но харак¬
тер — характером, и это у него потому и укрепилось, что была добрая почва
для этого. Поэтому его приглашать можно только митрополитом. А я и Коль¬
ка — другой веры. Приглашаем молодого поэта Хармса, Женьку Шварца
и художников Пахомова и Соколова.
52 Рассказ Житкова, впервые напечатанный в № 1 журнала «Еж» за 1928 год.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [64]
Поглядим, что из этого выйдет: выработаем хоть одну действительно
детскую книгу.
Мы откидываем всякую мораль, всякую педагогическую задачу. Как для
взрослых: неужели все время пишется учительная повесть. Захлестывают
и заворачивают такое, что ну! И ничего. Никто не стонет. Мы не собираем¬
ся развращать детей, но толочь им в нос и затылок, что надо умываться и не
хорошо рвать книг — как бы это ни было восхитительно написано — давно
пора бросить или отправить на Риджен-стрит» (Черненко: 15).
«Олейниковым и Житковым организуется ассоциация "Писателей дет¬
ской литературы". Мы (Введенский, Заболоцкий и я) приглашаемся». Такую
лаконичную запись в начале декабря 1927 года внес в свой дневник «моло¬
дой поэт» Даниил Хармс (Хармс 2002. Ч. 1:185). С ним и его ближайшими
соратниками, членами Объединения реального искусства (ОБЭРИУ), Олей¬
ников и Шварц познакомились за четыре месяца до попытки создания Ас¬
социации детских писателей. «Ранней весной 1927 года на вечере в Круж¬
ке друзей камерной музыки (сейчас там помещается Театр кукол под руко¬
водством Евг. Деммени) стихи и прозу читали Николай Заболоцкий, Даниил
Хармс, Александр Введенский, Константин Вагинов, Дойвбер Левин и один
из пишущих эти строки53, — вспоминали позднее Игорь Бахтерев и Андрей
Разумовский. — В антракте за кулисы пришли два, как нам тогда казалось,
не очень молодых человека: каждому лет под тридцать.
— Перед вами Козьма Прутков, познакомьтесь, — сказал один.
— Евгений Львович любит преувеличения. Я внук Козьмы Петровича,
но по прямой линии, — поддержал шутку другой.
Это были два неразлучных друга, редакторы детского отдела Госизда¬
та — Евгений Шварц и названный родственник Пруткова Николай Олей¬
ников.
Именно Олейникову пришла тогда мысль предложить выступавшим на¬
писать что-нибудь для детей. Это предложение горячо поддержал Шварц,
а затем — литературный консультант отдела Госиздата Самуил Яковлевич
Маршак» (Бахтерев, Разумовский: 154).
Тесное сотрудничество и близкая дружба Олейникова с кругом Харм¬
са и Введенского завязалась в начале 1928 года — до этого его фами¬
лия не фигурирует ни в одном из многочисленных списков потенциаль¬
ных участников мероприятий группы, составлявшихся дотошным Хармсом.
«Наша группа детских литераторов познакомилась с ответственным работ¬
ником Детского сектора Ленотгиза Олейниковым Николаем Макаровичем
в 1927-м году через Липавского-Савельева», — 27 января 1932 года пока¬
зал на допросе Александр Введенский (Разгром ОБЭРИУ: 185).
53 То есть Игорь Бахтерев.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [65]
«Требовалось их дисциплинировать, чтобы причуды приняли опреде¬
ленную форму», — так Самуил Маршак ретроспективно изложил основ¬
ной принцип, которым он руководствовался, курируя детские стихи Хармса
и Введенского (Маршак: 177). Действительно, «дисциплинарные» требо¬
вания, от лица детской литературы предъявлявшиеся Маршаком обэриутам,
оказались чрезвычайно продуктивными если не для творчества Введенско¬
го с Заболоцким, то уж точно — для поэзии и прозы Хармса.
Деланье текстов на заказ, в соответствии с определенными правилами,
не только освободило его детские стихи и рассказы от несколько патоло¬
гического эротизма, но и вынудило Хармса решительно отказаться от своей
принципиальнейшей писательской установки: существование любого текста
оправдывается уже самим процессом его создания, а вопрос литературного
качества — вторичен. Даниил Иванович хорошо понимал, что в случае с его
детскими вещами этот закон не действует. Поэтому-то Хармс и смог написать
(и опубликовать!) такие тщательно отделанные шедевры, как «Врун», «Мил¬
лион», «Иван Иванович Самовар», «Иван Топорышкин пошел на охоту...»
Можно, конечно, вслед за весьма авторитетными исследователями (по¬
клонниками «взрослого» Хармса) настаивать: дескать, его «писавшиеся для
заработка детские произведения имеют мало отношения к тому, что он счи¬
тал делом своей жизни и чем занимался без всяких надежд на публикацию»
(Кобринский, Мейлах: 81). Но, право же, система приоритетов тут будет
зависеть исключительно от выбранной оптики. Для кого-то заветным тек¬
стом будет «взрослая» хармсовская «Старуха», для кого-то — его детское
стихотворение «О том, как папа застрелил мне хорька...» Очевидно, что ар¬
гумент — «а вот сам Хармс» — считаться решающим не может. Отношение
писателя к своим произведениям — важный факт его биографии, но не оце¬
ночной стоимости его произведений.
Другое дело, что не только Маршак благотворно воздействовал на обэ-
риутов, в первую очередь на Хармса, но и обэриуты, в первую очередь
Хармс, — на Маршака. Об этом хорошо написал все тот же Евгений Шварц:
«Появление Хармса (и Введенского) многое изменило в детской литерату¬
ре тех дней. Повлияло и на Маршака. Очистился от литературной, традици¬
онной техники поэтический язык. Некоторые перемены наметились и в про¬
зе. Во всяком случае, нарочитая непринужденность как бы устной, как бы
личной интонации, сказ перестал считаться единственным видом прозы»
(Шварц 1990: 244—245).
Для нас особенно важно, что поэтика взрослых (и детских) вещей обэри-
утов (Заболоцкого и Хармса, в меньшей степени Введенского) оказала очень
большое влияние на стихи Олейникова. Ведь именно 1927 годом датирова¬
ны три таких прекрасных олейниковских стихотворения как «Муре Шварц»
(«Ах, Мура дорогая...»), «Любовь» («Пищит диванчик...») и «Карась».
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [66]
«Карасю» было суждено на долгие годы стать одной из «визитных кар¬
точек» поэта. Именно его участник кинематографической секции ОБЭРИУ
Климентий Минц выберет для публичного чтения на веранде ресторана ле¬
нинградского Яхт-клуба (см.: Минц: 283)... Именно «Карася» Олейникову
чаще всего заказывали для публичного чтения: «Как только Николай Мака¬
рович — худощавый, стройный, со свисающим на лоб волнистым чубом —
подходил к подоконнику, его просили:
— Николай Макарович, прочитайте "Жука"!
— Умер, умер "Жук", и вы это знаете, — вздыхал Олейников.
— Ну, тогда "Карася".
Олейников стоял, опустив голову, ни на кого не глядя, и негромко начи¬
нал...» (Богданович С.: 142). Оперу «Карась» по либретто Олейникова со¬
бирался писать для постановки в Ленинградском Малом театре оперы и ба¬
лета Дмитрий Шостакович (см.: Олейников А. 2000:35)...
Комический и чрезвычайно выразительный пример, свидетельствую¬
щий о беспрецедентной популярности олейниковского «Карася», приводит
в своих «Записях и выписках» Михаил Гаспаров: «С Алтая сказали по радио:
Сам народ сознает экологический кризис и сложил, например, современ¬
ную экологическую частушку: Маленькая рыбка, жареный карась, где твоя
улыбка, что была вчерась?» (Гаспаров: 155).
Зачин «Карася» даже удостоился воспроизведения в советской печати
начала 1930-х годов — крайне редкий для «взрослого» Олейникова случай.
16 декабря 1931 года бывший поэт-авангардист Николай Асеев вы¬
ступил с речью на дискуссии, организованной Всероссийским союзом
писателей. Чуть позднее и в слегка переработанном виде эта речь бы¬
ла помещена во второй, февральской книжке журнала «Красная Новь»
за 1932 год.
Сурово осудив поэтов «типа Заболоцкого, Хармса» и Введенского за
«сомнамбулистическую зачарованность стариной» (Асеев: 164)54, Асеев
затем процитировал четыре стихотворные строки:
54 Сервильность и неискренность цитируемого выступления очевидна. Косвенным
признанием этой неискренности может послужить инскрипт, сделанный Асеевым
на книжке «Высокогорные стихи», в 1938 году подаренной им одному из охаян¬
ных в выступлении авторов: «Александру Введенскому, детскому и недетскому»
(цит. по: Мейлах 1993: 5). Вполне правдоподобным выглядит предположение
И. Мальского, что собрание ВСП 16 декабря 1931 года, на котором выступил Асе¬
ев, было не в последнюю очередь спровоцировано арестом Введенского, Хармса,
И. Бахтерева и некоторых других литераторов, близких к ОБЭРИУ, — 10 декабря
(см.: Разгром ОБЭРИУ: 169). Нужно отметить, что Олейников Асееву отплатил той
же монетой и тоже в печати. В 1934 году он крайне неодобрительно высказался
об асеевских стихах для детей в статье «На дошкольную тему» (см.: Олейников
1934а: 3).
Жизнь и стихи Николая Олейникова [67]
«Маленькая рыбка,
Золотой карась,
Где твоя улыбка,
Что была вчерась?»
(Там же)
«И пишут» подобные вирши поэты типа Заболоцкого вовсе «не в шутку, —
возмущался Асеев, — не из баловства, которое легче всего предположить
за этими строчками, а всерьез полагая, что ими достигнута предельная про¬
стота и ясность не<о>пушкинианцев, та легкость и непритязательность, ко¬
торая вскользь отмечена Пушкиным, как глуповатость поэзии» (Там же).
Процитировав, не называя имени автора, первые строки стихотворения
Олейникова «Карась», Асеев при этом бездумно искорежил их.
У Олейникова, как известно, начало было такое:
Жареная рыбка,
Дорогой карась,
Где ж ваша улыбка,
Что была вчерась?
В трех первых строках Асеев сделал три «исправления», каждое из которых
резко ухудшило текст и ослабило воздействие этих стихов на читателя, точ¬
но рассчитанное автором.
Так, асеевская замена в первой строке эпитета «жареная» на «ма¬
ленькая» тавтологична, поскольку слово, к которому этот эпитет относит¬
ся, и без того уменьшительное — «рыбка». Подлинное же олейниковское
определение было, с одной стороны, смешнее, а с другой — предсказыва¬
ло дальнейшее (мелодраматическое или псевдомелодраматическое) разви¬
тие сюжета стихотворения:
Что же вас сгубило,
Бросило сюда,
Где не так уж мило,
Где — сковорода?
Злые люди взяли
Рыбку из сетей,
На плиту послали
Просто, без затей,
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [68]
Ножиком вспороли,
Вырвали кишки,
Посолили солью,
Всыпали муки...
Во второй строке Асеев поменял эпитет «дорогой» на «золотой» и тем са¬
мым превратил олейниковское словосочетание в ихтиологический тер¬
мин — «карась золотой». У Олейникова же с эпитета «дорогой» начинает¬
ся игра в очеловечивание героя стихотворения, что влечет за собой сна¬
чала упоминание о его «улыбке» в третьей строке55, а затем и целый ряд
соответствующих образов: «Плавниками-перышками / Он не шевельнет. /
Свою любу "корюшкою"/ Он не назовет», «Не гулять карасику / С милой ни¬
когда» и тому подобное. Эта игра исподволь привносит в юмористическое
стихотворение неброские, но все же явственно различимые чутким читате¬
лем трагические обертоны в духе Кафки. «Значение слов двоится, буффо¬
нада становится печальной» (Гинзбург: 500).
Той же цели служит в третьей строке стихотворения олейниковское тро¬
гательное и уважительное местоимение «ваша» (улыбка), которое Асеев за¬
менил панибратским и/или условно-поэтическим — «твоя». Приведем те¬
перь короткое свидетельство Исая Рахтанова: «Николай Макарович подчер¬
кнуто уважительно относился ко всем, даже к карасю в стихах обращался на
"вы" <...> В этом уважении не только к карасю, но и к читателю, и не только
к читателю, но и к карасю и был "подход", тщательно оберегавшийся и бди¬
тельно охраняемый» (Рахтанов 1966:142).
Можно легко догадаться, с каким чувством «исправленный» Асеевым
«вариант» первой строфы этого не опубликованного при жизни автора сти¬
хотворения прочитал в журнале «Красная новь» сам Олейников, говорив¬
ший Лидии Гинзбург «о своем настоящем поэтическом слове»: «Я только
для того и пишу, чтобы оно зазвучало...» (Гинзбург: 503).
Для того чтобы слово «зазвучало» в «Карасе», поэт подверг анализу
и деконструкции «простую линию»56 городского романса. Настроившись на
тон низового быта, на романсовый примитив, олейниковское стихотворе¬
ние смещает в смешное сильные жанровые эмоции; «наивные, исконные»57,
нутряные, и пропускает их через абсурд.
Для «Карася» характерно не просто комическое «чередование живот¬
ных и человеческих атрибутов» (Там же: 501) — прием Олейникова го¬
55 Этот образ впоследствии отразился в фольклорной переделке известной песни:
«Рыбка, рыбка, где твоя улыбка?»
56 См.: Шкловский 1931:113.
57 См.: Тынянов: 170—171.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [69]
раздо острее и жестче: абсурдная оборачиваемость романсового героя;
вплоть до неразличения человека и рыбы, явлена читателю (слушателю)
как обобщающий закон, от которого уже не отделаться обычным травестий-
ным смехом. Крайности жестокого и сентиментального романса58 («вче¬
рась» и «попромежду») в соединении с «рыбьим» сюжетом — такова олей-
никовская тактика литературной «порчи», «продуктивной», так как совпа¬
дающей с «общей порчей мира»59.
Двойной прием Олейникова («порча» посредством романса60 и «порча»
самого романса) особенно проявляется в абсурдном эротизме стихотворе¬
ния. Романсовое «вчера» не случайно здесь превращается во «вчерась»:
прошлое карася совершенно лишено хотя бы пародически-условного элеги¬
ческого флера или идиллической подсветки. Зато воспоминание оказыва¬
ется даже слишком ощутимым: оно словно ощупывает рыбье тельце с голо¬
вы до хвоста — «рыбий глаз», «ямочки», «чешуя», «бюстики», «плавники-
перышки»; соответственно, риторике влечения-соблазна (хохот, улыбки,
сманивание, обожание, страсть) навязываются рыбьи эпитеты и атрибу¬
ты — «блеск перламутра», «люба — корюшка». Это уже не старое доброе
остраннение, а выталкивание эротики по ту сторону смысла: привлекатель¬
ное оборачивается отвратительным (отдает рыбой), чувствительность сво¬
дится к голому инстинкту, инстинкт доводится до абсурда. Стихотворение
Олейникова как бы отравлено скрытым параллелизмом: эротическое пере¬
числение карасиных органов и частей по сути уподобляется гастрономиче¬
скому разъятию; сумма «ямочек» и «бюстиков» равна сумме «кишок» и фи¬
лейных кусочков, любовный рецепт — рецепту приготовления, половой ин¬
стинкт — инстинкту питания.
Не меньший подвох спрятан в абсурдно-страшном (абсурдно-жесто-
ком) плане «Карася». Его комические коллизии нарочно подсказывают
определенные жанровые ассоциации — с «адским» двоемирием страшной
баллады и особенно с роковыми страстями жестокого романса, — чтобы за¬
тем изъять из них смысл. Прежде всего, в мире Олейникова не остается да¬
же лазейки для того, что составляет самую основу этих жанров, — для па¬
тетики смерти.
В жестоком романсе всегда или обещана, или оплакана безвременная
кончина; потому-то и столь заразительны эти «нотки тоски»61 — жалости
жанрового героя к себе:
58 См.: Мордерер, Петровский: 12.
59 Формула Д. Галковского, характеризующая язык обэриутов (Галковский: 519).
60 См.: «...Карась возникает из толщи галантерейного языка, несущего убогие пред¬
ставления о жизни» (Гинзбург: 501).
61 Шаламов: 87.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [70]
И я с горя, со кручины
Во дремучий лес пойду,
Закричу я очень громко,
Зверей лютых созову.
Вы возьмите, растерзайте
Тело белое мое,
Мысли все и сердце
Другу милому моему.
Мил увидит, ужаснется,
Он потужит обо мне.
Мил потужит, погорюет
О им погубленной душе62;
Или:
Ручки к сердцу приложили,
Грудь закрыли полотном.
Отпевати тело можно,
Воротить души нельзя63.
Романсовый певец упивается смертью, вызывая слезный восторг умиления
и сострадания у слушателей: «Скоро, скоро, моя дорогая, / Скоро, скоро
не будет меня»64; «Когда меня достанут / С того речного дна, / Тогда зло¬
дей узнает, / Что клятве я верна»65; «Вот и песне конец: умер сын и отец, /
И скончалась последняя мать»66. Страсть — предпосылка жестокого роман¬
са, смерть — его эмоциональный предел (как в романсе «Липа вековая...»,
написанном тем же трехстопным хореем, что и олейниковское стихотворе¬
ние: «Спишь ты под землею, / Спишь из-за меня»67).
А что же в «Карасе»? Смерть как исход страсти и здесь становится
кульминацией — но не патетики, а смеха и страха. Двоемирие кульми¬
национных строф — это всего лишь автоматическая и потому комическая
смена одного быта другим: здесь карася любят-«обожают», там — любят-
«обжаривают»; переход от «обожания» к «обжариванию» до смешного (пу¬
62 Романс «Карие глазки, куда скрылись...» (Мордерер, Петровский: 265).
63 Романс «Тихо, стройно за морями...» (Там же: 277).
64 Романс «Осыпаются белые розы...» (Там же: 292).
65 Романс «На Мурманской дороге...» (Там же: 292).
66 Романс «Кирпичики II» (Там же: 292).
67 Там же: 262
Жизнь и стихи Николая Олейникова [71]
гающе) будничен и легок. Вроде бы то, что привычно говорится, например,
о кафкианском герое: «трагедия посредственного человека, бездумного,
безвольного», «которого тащит и перемалывает жестокая сила», — вполне
может быть отнесено к «бедному», «несчастному» карасю. Но только ужас¬
ное (по-настоящему ужасное, без пародийной скидки) именно в кульмина¬
ционный момент романсовой истории срывается в комическое, в комиче¬
ском же с ужасом обнаруживается провал, зияние смысла. Коварная игра
точками зрения словно подлавливает читателя на противоречии чувств: ча¬
ще, когда он получает импульс отстранения от героя, ему становится смеш¬
но («соль» и «мука» меня не касаются; «карась — это другой»); реже, ког¬
да он получает импульс уподобления себя герою, ему становится страшно
(«ножик» и «кишки» — это может случиться со мной; «карась — это я»).
Но еще парадоксальнее абсурдно-трогательный момент стихотворе¬
ния. В первой части «Карася» настроение задано риторическими вопроса¬
ми со слезой («Где ж ваша улыбка?..»; «Что же вас сгубило?..»), вздохами
(«ах») и эпитетами сочувствия, столь характерными для «сентиментально¬
го» романса («дорогой», «бедный», «несчастный», «страстный»). Во вто¬
рой части смерть карася оплакана с ритуальными причитаниями, с фоль¬
клорным нагнетанием скорбных параллелизмов:
Белая смородина,
Черная беда!
Не гулять карасику
С милой никогда.
Так шуми же, мутная
Невская вода!
Не поплыть карасику
Больше никуда.
Но какую роль в стихотворении играет сам говорящий, столь умилитель¬
но взывающий к карасю, любовно вспоминающий его беззаботную юность
и оплакивающий его по всем правилам френического обряда? Какое поло¬
жение занимает скорбящий по отношению к своему «несчастному» герою?
«Жареный карась» — в неожиданном замещении горестного эпитета «ку¬
хонным», гастрономическим признаком есть что-то подозрительное, что-то
уличающее романсового певца: разве это не обращение едока к пище? Зна¬
чит, исходная ситуация стихотворения парадоксальна: прежде чем съесть
«жареного карася», его жалеют. Именно такова логика абсурдной обора¬
чиваемости; в жалости к тому, кого ешь, спрятана трагикомическая догад¬
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [72]
ка, провидческая жалость к себе — ведь тот, кто ест, в любой момент мо¬
жет сам быть съеден.
5
Весна, лето и осень 1927 года прошли для Олейникова под знаком но¬
вой дружбы. Он органично влился в компанию литераторов и философов,
участники которой иногда именовали себя «чинарями». Эта компания нача¬
ла складываться в Петрограде еще в 1918 году, в то время, когда будущий
автор «Карася» участвовал в Гражданской войне. Трое из чинарей (Введен¬
ский, Заболоцкий и Хармс) в 1926 году составили ядро поэтической груп¬
пы ОБЭРИУ68.
Но обо всем по порядку.
В 1918 году близко сошлись друг с другом три ученика гимназии имени
Лидии Лентовской — Леонид Липавский, Яков Друскин и Александр Вве¬
денский. «В то время мы жили на Петроградской стороне <...>: Александр
Введенский — на Съезжинской, Леонид Липавский — на Гатчинской, а я —
между ними, на Большом проспекте, недалеко от Гребецкой (сейчас — Пи¬
онерской) улицы, — вспоминал Друскин. — В 1922—1923 годах Введен¬
ский почти каждый день приходил ко мне — и мы вместе шли к Липавскому
или они оба приходили ко мне <...> Весной или летом 1925 года Введенский
однажды сказал мне: "Молодые поэты приглашают меня прослушать их.
Пойдем вместе". Чтение стихов происходило на Васильевском острове на
квартире поэта Евгения Вигилянского. Из всех поэтов Введенский выделил
Даниила Хармса. Домой мы возвращались уже втроем, с Хармсом. Неожи¬
данно он оказался настолько близким нам, что ему не надо было перестра¬
иваться, как будто он уже давно был с нами» (Друскин 2010:349—350).
Далее Друскин рассказывает, имея в виду уже не только Липавского, Вве¬
денского, Хармса и себя, но и Олейникова с Заболоцким: «Встречались мы
регулярно — три-пять раз в месяц — большей частью либо у Липавских, ли¬
бо у меня <...> Разговоры велись преимущественно на литературные или фи¬
лософские темы. Мы читали и совместно обсуждали многое из того, что пи¬
сали. Иногда спорили, чаще дополняли друг друга. Бывало и так, что термин
или произведение одного из нас являлось импульсом, вызывавшим ответную
реакцию. И на следующем собрании уже другой читает свое произведение,
68 Ср. позднейший комментарий к самоназванию этой группы И. Бехтерева, одного из
ее участников: «Я предложил ОБЕРНУ, что условно должно было расшифровываться как
"объединение реального искусства", а Хармс решил заменить "е" на "э", чтобы нельзя
было привычно расшифровать» (Назаров, Чубукин: 39).
Жизнь и стихи Николая Олейникова [73]
в котором обнаруживается и удивительная близость наших интересов, и в то
же время различия в подходе к одной и той же теме» (Там же: 350—351).
Регулярно общаясь со всеми участниками содружества, Олейников вы¬
строил свои особые взаимоотношения и с каждым из новых приятелей.
Якову Друскину он покровительствовал в занятиях математикой. «Н. М.
привесят жернов на шею за то, что он соблазнил одного из малых сих. Брось
математику, Я. С.! Разве мало других наук?» Такая полушутливая реплика
Липавского, обращенная к Друскину, зафиксирована в «Разговорах» (Раз¬
говоры: 359).
С самим Леонидом Липавским Олейников вел долгие беседы на науч¬
ные и околонаучные темы, с увлечением предавался составлению всевоз¬
можных реестров и классификаций (примеры которых рассыпаны на стра¬
ницах нашего очерка).
Над Николаем Заболоцким Олейников часто посмеивался. «Николай Ма¬
карович при всем своем признании поэзии Заболоцкого69 называл его Фо¬
мой Опискиным. Любовь Николая Алексеевича к порядку, вера в правоту
своих взглядов и их настойчивое повторение вызывали у Николая Макаро¬
вича, очень чутко и иронически подмечавшего слабости у людей, сопротив¬
ление». Так олейниковское отношение к Заболоцкому описывает Николай
Степанов (Степанов: 164). «Веселые они люди, гастролеры», — несколько
обиженно определил поведение Олейникова с Хармсом Заболоцкий в раз¬
говоре с Липавским (Разговоры: 354)70.
Вместе с бонвиваном Александром Введенским Олейников увивался за
дамами. «Недавно мы с Н. М. ухаживали в одной комнате за двумя, — запи¬
сывает Липавский монолог Введенского. — Только я стал целовать в полу¬
мраке свою в шею и уши, раздался отчетливый голос Н. М.: "Что, брат, уши
грызешь?" И потом он все время вмешивался с вопросами о том, как идут
дела, и с советами. Это было мучение» (Разговоры: 397—398). Елизавета
Коваленкова вспоминала, что Введенский, ухаживая за ней, «иногда читал
стихи Олейникова. А своих — не читал» (Коваленкова: 403).
69 Ср. приводимую в мемуарах Шварца фразу Олейникова о Заболоцком: «Ничего не
скажешь, когда пишет стихи — силен. Это как мускулы. У одного есть, а у другого
нет» (Шварц 1990:367).
70 Ср. также диалог Я. С. Друскина с Олейниковым о Заболоцком в «Разговорах»
Л. Липавского: «Н. М.: Почему вы, Я. С., не любите Н. А.?
Я. С.: Люди делятся на жалких и самодовольных. В Н. А. нет жалкого, он важен,
как генерал.
Н. М.: Это неверно. Разве не жалок он со всеми своими как будто твердыми
взглядами, которые он так упрямо отстаивает и вдруг меняет на противоположные,
со всей своей путаностью?» (Разговоры: 381). С Заболоцким Олейников играл
в шахматы.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [74]
Но самый большой градус дружеского напряжения на некоторое вре¬
мя установился между Олейниковым и Даниилом Хармсом. «Имена друзей,
как вехи, отмечают течение его биографии, — со знанием дела рассказывал
о Хармсе искусствовед Всеволод Петров. — Где-то в начале двадцатых го¬
дов тесная дружба связала его с Введенским. Она продолжалась долгие годы
и прошла, как мне кажется, все последовательные стадии, завершившись хо¬
лодными — нет, скорее приятельскими отношениями. Потом у Даниила Ива¬
новича была недолгая дружба с Заболоцким, потом с Олейниковым, после —
с Друскиным» (Петров: 242). Дружба Хармса с Олейниковым, как и его
дружба с Введенским, миновала различные «стадии». Начавшись с горяче¬
го взаимного интереса, она к тридцатым годам уже переродилась в «скорее
приятельство». «Я уважаю Н. М., а Н. А. и А. В. люблю. Так, за больным Н. М.
я, наверное, не стал бы ухаживать, а за теми стал», — в 1934 году говорил
Хармс Липавскому об Олейникове, Заболоцком и Введенском (Разговоры:
408). А 9 января 1935 года ранимый Хармс, возмущенный очередной олей-
никовской бесцеремонностью (мы не знаем — какой), внес в свой дневник
весьма нелицеприятную запись: «Противно зависеть от настроения зазнав¬
шегося хама Олейникова71. Этот лобазник (так! — 0. ЛМ. С.) еще пробует не
замечать» (Хармс 2002. Ч. 2:122—123).
Спустя четырнадцать дней, 26 января, чуть-чуть, но еще не совсем смяг¬
чившись, Хармс обратил к Олейникову такое пронзительное стихотворение:
Кондуктор чисел, дружбы злой насмешник,
о чем задумался? Иль вновь порочишь мир?
Гомер тебе пошляк, и Гёте — глупый грешник,
тобой осмеян Дант. Лишь Бунин твой кумир72.
Твой стих порой смешит, порой тревожит чувство,
порой печалит слух иль вовсе не смешит,
он даже злит порой, и мало в нем искусства,
и в бездну мелких дум он сверзиться спешит.
Постой! Вернись назад! Куда холодной думой
летишь, забыв закон видений встречных толп?
Кого дорогой в грудь пронзил стрелой угрюмой?
Кто враг тебе? Кто друг? И где твой смертный столб?
71 Фамилия «Олейников» записана особым хармсовским шифром.
72 Отметим, что поклонником автора «Деревни» был и Александр Введенский:
«...однажды он мне сказал: обязательно читай Бунина, это замечательный писатель»
(Коваленкова: 404).
Жизнь и стихи Николая Олейникова [75]
Однако в ту эпоху, о которой идет речь сейчас, до охлаждений и обид бы¬
ло еще далеко.
6
Якшанье коммуниста Олейникова с едва ли не сознательно выпадавшими
из советского контекста поэтами и философами73 было оперативно и с не¬
удовольствием отмечено радетелями за идеологическую чистоту ленин¬
градских писательских кадров.
В анонимной справке (до сих пор не публиковавшейся) о работниках
ленинградского отдела ГИЗа, составленной 31 января 1928 года, всем со¬
трудникам издательства даны вполне доброжелательные характеристики.
Самуил Яковлевич Маршак: «б/п74, работает в Госиздате с Октября
1924 г. Писатель по детской литературе. Имеет свои произведения по дет¬
ской литературе»; Евгений Львович Шварц: «б/п, работает в Госиздате с Ок¬
тября 1925 г. с перерывом с середины и конца 1927 г. В настоящее время
редактирует детский журнал "Еж". Редактор еще молодой, но ценный ра¬
ботник»; Леонид Савельевич Липавский: «б/п, работает в Госиздате с кон¬
ца 1927 г. Детскую литературу знает хорошо»; Илья Александрович Груз¬
дев: «б/п, работает в Госиздате с Сентября 1925 г., по профессии писатель.
Свою работу знает хорошо»; Михаил Леонидович Слонимский: «б/п, работа¬
ет в Госиздате с 1-го Ноября 1927 г. Перешел в Ленотгиз вместе с <">Прибо-
ем<">. По профессии писатель. Дело понимает хорошо». И так далее, и то¬
му подобное.
И только о «члене ВКП(б)» Николае Макаровиче Олейникове, проживав¬
шем по адресу: «Ул. П. Лаврова, д. 2, кв. 13. т. 495-29», в ленотгизовской
справке говорится тоном если не прокурорским, то уж точно строгим, учи¬
тельским: «Работает в Госиздате с ноября 1925 г. Детскую литературу зна¬
ет, но не совсем крепко идеологически тверд. Иногда подпадает под влия¬
ние беспартийных специалистов. Нуждается в твердом идеологическом ру¬
ководстве, каковое должно исходить от Главного редактора»75.
Впрочем, в еще одном, недатированном списке ответственных со¬
трудников ленинградского отделения Госиздата, составленном в том же
1928 году уже самим заведующим Ленотгизом И. С. Гефтом, характеристи¬
ка Олейникова не только расширена, но и значительно смягчена: «Справ¬
73 Такой взгляд на обэриутов развивается в серии устных докладов М. 0. Чудаковой.
Как раз в начале 1928 года, о котором далее пойдет речь, обэриуты подверглись очень
резкой критике в советской печати. См.: Лесная.
74 Б/п — беспартийный.
75 См.: ЦГАЛИ СПБ. Ф. 35. Оп. 3. Д. 97. Л. 16.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [76]
ляется с работой по редактировании» детск<их> книжек хорошо. Та¬
лантлив, пишет очень хорошо. Автор несомненно хороших детских книг,
с революционн<ой> тематикой (например, "Боевые дни"). О переходе
на другую работу вряд ли помышляет. Рост на работе явный: от рядово¬
го сотрудника "Кочегарки" (Донбас<с>) до талантливого детского писателя
и очень хорошего редактора. Сказывается влияние очень неплохой литера¬
турной выучки, под руководством С. Я. Маршака (Известного Детского Пи¬
сателя). Ошибки допускал, главным образом, в вопросе об идеологической
оценке борющихся вокруг детской литературы направлений, недостаточ¬
но критически относился к слишком "литературническ<ому>" уклону дет¬
ских писателей, сотрудничающих в Отделе (Чуковский, Маршак, Житков).
Срабатываемость удовлетворительная, но умение руководить работника¬
ми не обнаруживается. Марксистское мировоз<з>рение достаточное. Пар¬
тийно-выдержанный дисциплинированный товарищ. Использован на рабо¬
те правильно»76.
На январь 1928 года пришлось событие, обозначившее важную веху не
только в личной биографии Николая Олейникова, но и во всей истории дет¬
ской литературы советского времени. Этим месяцем и годом датирован пер¬
вый номер журнала «Еж», который начал выходить под эгидой детского от¬
дела ленинградского Госиздата.
«Редакция "Ежа" помещается в "Доме книги" на 6 этаже. У редакции две
комнаты». Так описывали скромную обстановку, в которой в 1928 году рож¬
дался этот замечательный журнал, его сотрудники77. Возможно, само загла¬
вие «Еж», которое расшифровывалось как «Ежемесячный журнал», было
предложено именно Олейниковым, обожавшим разнообразные сокращения
и аббревиатуры78. Так или иначе, но он вместе со Шварцем сразу же сде¬
лался не только одним из редакторов, но и главным идеологом нового жур¬
76 Там же. Л. 55.
77 В репортаже «"Еж" и путиловцы» (См.: Еж. 1928. № 11. С. 21).
78 0 расшифровке названия «Еж» см. в одном из вариантов мемуаров Исая Рахтано-
ва: «Не скажу точно, но полагаю, что придумал это сам Олейников, мастер подоб¬
ных расшифровок» (Рахтанов 1968: 26). Ср. в мемуарах Самуила Алянского о по¬
революционных развлечениях в семье Александра Блока: «Один из... вечеров был
посвящен обстрелу новых словообразований, сокращенных названий учреждений,
организаций. Блок в шутку утверждал, что эти новые, труднопроизносимые слова
придумывались футуристами — будетлянами, как их называл Хлебников. Расшиф¬
ровка таких слов в семье стала игрой — кто смешнее расшифрует. Придумывались
и новые словообразования, среди которых были и изобретенные Блоком, прозвища
матери и жены: Раймама и Райлюба» (Алянский: 101). Характерно, что эта игра,
которая Блоком использовалась исключительно для домашнего, семейного потре¬
бления, Олейниковым (и Шварцем) была поставлена на «производственный», жур¬
нальный поток.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [77]
нала. Это хорошо видно хотя бы по анонсу «Ежа», появившемуся во вто¬
ром, февральском номере журнала «Книга детям» за 1928 год: «В журнале
предполагаются следующие отделы: 1. — Повести, рассказы, стихи. 2. —
Ящик фокусов, игр, загадок. 3. — Клуб читателей: переписка с читателя¬
ми, стихи, рассказы и рисунки ребят. 4. — Календарь октябренка: что но¬
вого в СССР, памятные даты, что, когда, где строят. 5. — Лесная газета (ка¬
лендарь природы, работы юных натуралистов, новости Зоопарка, лесные
новости и пр.). б. — Письма с поезда, с корабля, с аэроплана: рассказы
и статьи участников современных экспедиций, последние географические
открытия и пр. 7. — Фототелеграммы: снимки у нас и за границей собствен¬
ных корреспондентов. 8. — Кружок умных ребят — "Кур". Лаборатория на
дому, мастерская самоделок, задачи, головоломки. 9. — Ежовые рукавицы:
смешные стихи и рассказы про лентяев, нерях, курильщиков и пр.» (Хро¬
ника: 41).
По этому анонсу ясно прослеживается и сознательная ориентация «Ежа»
на традиции и художественные принципы, выработанные в серии сборни¬
ков «Советские ребята»: ее инициатор Самуил Маршак продолжал распро¬
странять свое влияние на все без исключения начинания детского отдела
ГИЗа. Не только он сам, но и главные члены его команды — М. Ильин, Би¬
анки и Житков — занимали в «Еже» очень сильные позиции (при том, что
Житкова, как мы помним, полноправным членом маршаковской корпора¬
ции к этому времени назвать было уже нельзя). И все же, и все же... «Ко¬
нечно, Маршак, руководивший всем Детским отделом, руководил и журна¬
лом «Еж», — вспоминал Николай Чуковский. — Однако на деле до «Ежа»
«у него руки не всегда доходили, и настоящими хозяевами» журнала «ока¬
зались Шварц и Олейников» (Чуковский Н.: 256).
Именно эти двое вместе с устроившимся на работу в редакцию «Ежа»
юным Ираклием Андрониковым окутали деятельность журнала атмосфе¬
рой радостного творчества и веселой игры. Пусть на короткий промежу¬
ток времени, но талантливые, следовательно, сложные и конфликтные
люди оказались сплочены наслаждением от общего дела и просто от об¬
щения друг с другом. При этом из отношений между младшими и стар¬
шими сотрудниками журнала были совершенно изгнаны как дух учени¬
чества, так и дух педагогического наставничества, культивировавшийся
Маршаком.
Этот дух почти не был допущен и на страницы самого издания. «Весе¬
лый, ловкий, добродушный, и во многом современный "Еж"», — так писал
о журнале либеральный большевистский барин Анатолий Луначарский (Лу¬
начарский: 5). «"Еж" всегда весело и запросто беседует с читателями, ни¬
где не обнаруживая унылой педагогической физиономии, способной без¬
дарностью и резонерством угробить любое дело, затушить самый горячий
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [78]
интерес», — констатировал в статье «Старое и новое в детских журналах»
младоформалист Виктор Гофман (Гофман: 207)79.
Неудивительно, что почти все литераторы, имевшие отношение к созда¬
нию «Ежа», впоследствии вспоминали о работе над ним охотно и с удоволь¬
ствием.
«В 12 часов являлись все члены редколлегии, садились вокруг стола,
который занимал почти всю комнату, и уславливались, на какую тему будут
писать, — рассказывал Ираклий Андроников. — Каждый, закрывая рукой,
писал свое, хохотал, писал, потом бросал это направо. Слева получал лист,
хохотал еще громче, прибавлял свое, бросал направо, слева получал лист...
Когда все листы обходили стол, читали все варианты, умирали со смеху, вы¬
бирали лучший вариант, и все начинали его обрабатывать. Придут худож¬
ники, оставят картинки — и остаются. Придут поэты, оставят стихи — и то¬
же остаются. Вот уже окончен рабочий день, в коридорах темнота, а у нас
свет, хохот и словно праздник» (Андроников: 62—63). По-видимому, ре¬
зультатом именно такой коллективной работы явился, в частности, большой
материал «Путешествие Ежа», напечатанный в шестом номере журнала за
1929 год. Он состоит из отдельных кусочков, которые стилистически неод¬
нородны и даже воспроизведены разными шрифтами. «Напутственные сти¬
хи Петрушки»:
Смотрите —
С парохода не упадите.
Смотрите —
С поезда не упадите.
Смотрите —
С аэроплана не упадите.
А также смотрите —
Под автомобиль не попадите —
соседствуют в этом материале с «Прощальной речью собаки Пулемет»:
Ау-ау-ау! Вав-вав-вав!
Вау-у-у-у-у-у-у-у-у!
Ваи-и-и-и-и-и-и-и-и!
79 Разумеется, в советской печати довольно быстро прозвучали и прямо противо¬
положные оценки деятельности журнала. См., например, статью Е. Двинского с го¬
ворящим заглавием «Как "Еж" обучает детей хулиганству», напечатанную в номере
«Комсомольской правды» от 24 апреля 1928 года. Суровой критике в этой статье под¬
верглись в первую очередь Житков и Д. Баш (один из псевдонимов Хармса). Об Олей¬
никове не упоминалось.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [79]
Xxxppp... xppp... xppp..!
Bay! вау! вау! —
а эта речь — с пародийной рекламой: «Дорожное изобретение Ивана То-
порышкина. Шляпа, которая не сваливается с головы. Секрет изобретате¬
ля. Прочно, незаменимо, удобно. Каждый сам может сделать шляпу, кото¬
рую никакой ветер с головы не сдует. Для этого нужно только баночку клея
и кисточку. Остальное — секрет изобретателя»... Материал сопровождал¬
ся серией рисунков, шаржированно изображавших Олейникова и Хармса.
«Редакция "Ежа"... представляла клуб, в котором царила веселая, не¬
принужденная и притягательная атмосфера. Тут все вместе рассматрива¬
ли рисунки, слушали новые стихи поэтов, радовались успехам товарищей
и просто восторгались друг другом», — вспоминал художник Валентин Кур¬
дов (Курдов: 96).
«Розыгрыши следовали один за другим, — свидетельствовал Исай Рах¬
танов. — Каждый из близких редакции был мастером, чтобы не сказать ге¬
нием этого искусства: Хармс разыгрывал Введенского; Юрий Владимиров
торжественно сообщал, что он записан на какой-то "фланели"; Ираклий
Андроников по телефону говорил голосом Маршака, Качалова или Алексея
Толстого. На самых серьезных заседаниях Николай Заболоцкий подклады-
вал сидевшей рядом с ним Эстер Соломоновне Паперной (одному из авто¬
ров знаменитой книги "Парнас дыбом") аккуратно записанные на библио¬
течных карточках такие загадки, что от подавляемого смеха у нее прыгала
челюсть. И первым заводилой во всех этих веселых делах неизменно бывал
сам» Николай Олейников, официально возглавивший «Еж» с десятого, ок¬
тябрьского номера за 1928 год (Рахтанов 1968: 26)80.
Одно из таких веселых и нарочито антипедагогических «дел» описыва¬
ет в мемуарах Л. Пантелеев: «В назначенный день мы с Гришей Белых, мо¬
лодые авторы только что законченной повести "Республика Шкид", роб¬
ко поднимаемся на шестой этаж бывшего дома Зингер, с трепетом ступаем
на метлахские плитки длинного издательского коридора и вдруг видим: на¬
встречу нам бодро топают на четвереньках два взрослых дяди — один пыш¬
новолосый, кучерявый, другой — тонколицый, красивый, с гладко приче¬
санными на косой пробор волосами.
Несколько ошарашенные, мы прижимаемся к стенке, чтобы пропустить
эту странную пару, но четвероногие тоже останавливаются.
— Вам что угодно, юноши? — обращается к нам кучерявый.
80 До этого ответственным редактором «Ежа» был поэт и партийный деятель На¬
тан Венгров, а в редколлегии числились «В. Лебедев, А. Лебеденко, С. Маршак,
Н. Олейников, И. Разин, Н. Смирнов, Е. Шварц».
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [80]
— Маршака... Олейникова... Шварца, — лепечем мы.
— Очень приятно... Олейников! — рекомендуется пышноволосый, под¬
нимая для рукопожатия правую переднюю лапу.
— Шварц! — протягивает руку его товарищ.
Боюсь, современный молодой читатель усомнится в правдивости мое¬
го рассказа и не поверит, что таким странным образом могли передвигать¬
ся сотрудники советского государственного издательства. Но так было, из
песни слов не выкинешь. Позже мы узнали, что, отдыхая от работы, редак¬
торы разминались, "изображали верблюдов". Евгению Львовичу Шварцу
было тогда двадцать девять лет, Николаю Макаровичу Олейникову, кажется,
и того меньше» (Пантелеев 1966: 443—444). Самое удивительное в про¬
цитированном фрагменте то, что умный и отнюдь не ханжески настроенный
Пантелеев, похоже, так и не опомнился от своего юношеского изумления
поведением Олейникова со Шварцем и поэтому счел нужным оправдывать
его перед «современным молодым читателем».
«Еж» был «как бы лабораторией, экспериментальной базой, где испы¬
тывались новые жанры, всевозможные выдумки и затеи», — резюмирова¬
ла редактор и детская писательница Нина Гернет в своих мемуарах (Кона-
шевич: 432).
Попробуем теперь дать краткий «отчет» о начальном этапе работы этой
«экспериментальной базы», составившем два года — 1928 и 1929.
Журналистка Амалия Гельштейн так описывала две основные разновид¬
ности статей «Ежа» (из адвокатских побуждений слишком напирая на педа¬
гогическую составляющую издания): «Весь материал, помещаемый в жур¬
нале, условно делится на два типа: к первому принадлежит наукообраз¬
ная литература назидательного характера, изложенная в весьма живых
и занимательных журнальных жанрах, вроде: географических карт, статей,
загадок, ребусов<,> "интервью" с сотрудниками "Ежа" и др. Второй тип со¬
ставляет литература, рассчитанная на развлечение, удивление и занима¬
тельность. Сюда относятся стихи и рассказы. Достоинство рассказов "Ежа"
заключается в том, что в них нет традиционных "бабушкиных" сказок с чер¬
тями и ведьмами. Эти последние последовательно заменены правильным
показом реальной жизни, под углом соответствующей идеи (С. Маршак,
Д. Хармс, А. Введенский и др.)» (Гельштейн: 4).
Двумя самыми громкими именами среди авторов, постоянно печатавших¬
ся тогда в «Еже», были Корней Чуковский и Самуил Маршак. Их стихи укра¬
сили первый номер журнала, анонс стихотворений Маршака с Чуковским,
а также прозы еще нескольких «звезд» «Ежа» появился на восьмой страни¬
це предпоследнего, одиннадцатого номера за 1928 год. Здесь был помещен
и портрет Олейникова на лошади в образе Макара Свирепого. Далее следо¬
вало единственное олейниковское стихотворение, напечатанное в «Еже»:
Жизнь и стихи Николая Олейникова [81]
Кто я такой? Вопрос нелепый!
Я — верховой Макар Свирепый... —
и составленный им же рекламный текст: «Макар Свирепый скачет во весь
опор. Он должен объехать всех подписчиков "Ежа". Ему поручено сообщить
всем, что в первом номере "Ежа" за 1929 год будут напечатаны стихи и рас¬
сказы лучших детских писателей: Б. Житкова, С. Маршака, М. Пришвина,
К. Чуковского, В. Бианки и Я. Перельмана».
Особо отметим, что огромному росту популярности Макара Свирепого
среди ленинградских ребят81 немало поспособствовало то, что старания¬
ми Олейникова этот персонаж превратился не только в героя едва ли не
первых советских «комиксов», регулярно печатавшихся в номерах «Ежа»
за 1929 год, но и в постоянного участника радиопередачи «Детский час»,
транслировавшейся два раза в неделю. «Многие из вас слышали рассказы
Макара Свирепого по радио. Это единственный писатель, который сочиняет
свои произведения, сидя верхом на лошади». Так олейниковский комиче¬
ский «двойник»82 был представлен на тридцать шестой странице одиннад¬
цатого номера «Ежа» за 1928 год.
Возвращаясь к обзору журнала этого периода, отметим, что, пожалуй, са¬
мый весомый вклад в успех «Ежа» в 1928 и 1929 годах был внесен не мэтрами
(Чуковским и Маршаком) и даже не трудолюбивыми фанатиками детской лите¬
ратуры (М. Ильиным, Бианки и Житковым), а «легкомысленными» обэриутами.
В самом первом номере были помещены стихи и проза Даниила Хармса, послу¬
жившие своеобразным прологом к чрезвычайно многочисленным и разножан¬
ровым хармсовским публикациям в журнале. Не только на страницах, но даже
и на задней обложке «Ежа» в 1928—1929 годах постоянно появлялись напи¬
санные Хармсом стихотворения, рассказы, подписи к картинкам, загадки и его
виртуозная стихотворная реклама для подписчиков журнала. Также в «Еже»
под псевдонимом Яков Миллер и под собственной фамилией автора печаталась
детская проза Николая Заболоцкого. Публиковались в журнале стихи для детей
Александра Введенского и незадолго до того вступившего в ОБЭРИУ совсем мо¬
лодого поэта Юрия Владимирова. Один раз в 1928 году с крохотной стихотвор¬
ной загадкой мелькнул на страницах «Ежа» Игорь Бахтерев.
Николай Олейников, как и в сборниках «Советские ребята», на первых
порах печатался в «Еже» очень часто. Во втором номере за 1928 год по¬
81 Только один пример, свидетельствующий об этой популярности. В письме к до¬
чери от 10 августа 1929 года Николай Лунин считает нужным специально сообщить:
«"Еж" вышел и Макар Свирепый убил львов» (Лунин: 305).
82 «Маргарита Исааковна Шварц, двоюродная сестра Шварца, рассказывала, что
Олейников, приходя в гости, любил изображать Макара Свирепого: "У него даже ме¬
нялась интонация, но было не страшно, а смешно, и все хохотали"» (Шишман: 36).
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [82]
явился его очерк «Сколько тебе лет?», представлявший собой набросок, на¬
верное, к самому известному олейниковскому рассказу для детей — «Танки
и санки». Это название даже фигурировало в неофициальном гимне журна¬
ла — песне «Ежовая Буденновская», написанной Маршаком и вместе с но¬
тами напечатанной на двадцать шестой странице двенадцатого номера за
1928 год — после того как «Еж» взял шефство над детьми рабочих Пути-
ловского завода:
Читал ли ты, путиловец,
Журнал, журнал?
Ответил нам путиловец:
Читал! читал!
Про Ежика ученого,
Про конницу Буденного,
Про танки
И санки —
Читал,
Читал!
В третьем номере за 1928 год был опубликован олейниковский рассказ
«Праздник». В четвертом — его очерк «Прохор Тыля», сделанный по уже
известному нам лекалу, впервые использованному в другом «чехословац¬
ком» рассказе Олейникова «Кохутек». Очерк начинается так:
Прохор Тыля ударил кулаком по столу и сказал:
— Никогда!
И все повторили за ним:
— Никогда!
Знаете ли вы, кто такой Прохор Тыля?
Прохор Тыля самый отчаянный человек во всем Крижеке.
Знаете ли вы, что такое Крижек?
Крижек — это такой городок в Чехословакии (Олейников
1928:18).
Хотя важнейшие загадки этого рассказа, в отличие от загадок «Кохутека»,
разгадываются самим автором и сразу, юный читатель все равно остается
заинтригованным: против чего и почему так энергично (двойное «Никог¬
да!») протестуют Прохор Тыля и его соратники?
В этом же, четвертом номере «Ежа» за 1928 год появился раздел «Фо¬
кусы Макара Свирепого» и перенесенная из «Советских ребят» рубрика
«КУР».
Жизнь и стихи Николая Олейникова [83]
В пятом номере «Еж» напечатал документальный очерк Олейникова «От¬
то Браун», а в десятом — еще один его очень популярный впоследствии
рассказ — «Учитель географии». В том же десятом номере на странице
двадцать восемь появился парный шарж на Николая Олейникова и Юрия
Тынянова, сопровождавшийся подписью: «Редактор "Ежа" прощается
с Ю. Тыняновым» и с такой объяснительной врезкой: «В 1929 году <">Еж<">
рассылает своих сотрудников в разные страны. На днях по предложению
<">Ежа<"> выехал в Германию писатель Ю. Н. Тынянов. Через несколько не¬
дель мы начинаем печатать письма т. Тынянова о его путешествии по Герма¬
нии. Все письма будут с картинками. В скором времени <">Еж<"> посылает
своих корреспондентов в Мексику и Японию. Следите за <">Ежом<">». Что
касается Тынянова, то это обещание не было выполнено — тыняновские
очерки о Германии не печатались на страницах журнала.
В 1929 году авторская активность Олейникова на страницах «Ежа» была
сведена на нет, точнее говоря, почти вся она была направлена на создание
образа Макара Свирепого. Путешествия этого героя, а также проводимые им
детективные расследования со смаком описывались буквально во всех номе¬
рах журнала за 1929 год. Также на страницах «Ежа» действовал Колька Сви¬
репый — «племянник Макара Свирепого, ученик класса Б» (№ 11 за 1929 год).
Особо отметим шуточный материал «Макар Свирепый у фотографа» из № 5,
в котором воспроизведено сразу пять фотографий Олейникова, снятых с иска¬
женной оптикой, а в финале — один подлинный олейниковский фотопортрет.
7
Отказ Олейникова от публикации объемных материалов в «Еже» в 1929 году
объясняется в первую очередь биографическими причинами: его и Житко¬
ва внутренний конфликт с Самуилом Маршаком наконец прорвался наружу
и стал явным для всех участников журнальной работы и сотрудников дет¬
ского отдела Госиздата. «Теперь у Маршака много неприятностей, —11 фев¬
раля 1929 года злорадно записал в своем дневнике Корней Чуковский. —
Ушел из-за него Олейников, проведенный им в редакторы "Ежа". Олейни¬
ков, донской казак, ленивый и упрямый, очень талантливый, юморист по
природе, был счастлив, когда дорвался до возможности строить журнал
без М<аршака>. Он сразу пригласил художников не лебедевской партии,
ввел туда свой стиль83 — и работа закипела. Но М<аршак> "вмешался" —
83 Под «своим стилем» Чуковский, в частности, вероятно, понимал резкое увеличе¬
ние в журнале количества фотоматериалов, всевозможных загадок, корреспонден¬
ций юных читателей, а также игру шрифтами.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [84]
и 0<лейников> подал в отставку. Вчера вдруг обнаружилось, что он пере¬
шел в "Мол<одую> Гвардию". И перетянул туда других отщепенцев от Мар¬
шака — Житкова и Бианки. Этот триумвират очень силен. Когда это дошло
до заведующего редакционным отделом Ленотгиза Давида Николаевича Ан-
герта, он разъярился и предложил, чтобы Маршак отстранился от "Ежа" —
надеясь уговорить Олейникова остаться. Но я думаю, что уже поздно» (Чу¬
ковский 1991:467).
О сути подпольной борьбы Житкова, Олейникова и художника Петра Со¬
колова с Маршаком и иллюстраторами «партии» Маршака—Лебедева Жит¬
ков еще 9 сентября, предыдущего, 1928 года, рассказывал в письме к сво¬
ему племяннику: «Работаем втроем (Олейников, Соколов и я) над "Ежом".
Это тайным образом. Я не хочу, чтобы знали о моем участии. Подписывать
буду псевдонимом... Нас будут крыть с трех сторон. Очень попадет Соколо¬
ву за возрождение иллюстративности в книжном рисунке. Дело в том, что
Лебедев впустил в книгу живописность, картины, которые могли бы жить
на мольберте, в альбоме, на стене Соколов же <...> сделал доклад об иллю¬
страции как таковой: то есть пусть будет нарисовано то, что написано <...>
А теперь мы додумались до того, чтобы взять и дополнить книгу тем же, чем
она была наполнена французскими иллюстраторами XIX века. Только сде¬
лать это по-современному. Посмотрим, как нам это удастся <...> Журнал
растаял и потек. Сравнялся с уровнем советского моря. Он не лучше "Пио¬
нера", "Искорок" и прочей швали» (цит. по: Галеев 2013:74).
В итоге Олейников все-таки остался в Детгизе, да и из «Молодой гвар¬
дии» его быстро «выгнали за безыдейное ржание» (как сам он впослед¬
ствии рассказывал Лидии Гинзбург) (Гинзбург: 109). В январском — фев¬
ральском номерах «Ежа» за 1929 год ответственным редактором журнала
на последних его страницах числился Олейников; в мартовском — апрель¬
ском — анонимная «Редакционная коллегия», а уже в майском — снова
Олейников (вплоть до ноябрьского номера, когда его имя снова сменилось
расплывчатым словосочетанием «Редакционная коллегия»). Тем не ме¬
нее олейниковские и житковские отношения с их недавним старшим дру¬
гом и наставником испортились окончательно и безоговорочно, хотя «пря¬
мой ссоры с Маршаком так и не произошло ни у того, ни у другого» (Шварц
1990: 240).
Судя по мемуарам Шварца, не был доволен главой детского отдела Го¬
сиздата и Даниил Хармс: «Хармс, о котором Маршак говорил, что он похож
на молодого Тургенева или на щенка большой породы, умышленно, вызы¬
вающе странный... стоял вне этой свалки, происходящей за глаза, вне этой
драки с неприсутствующим противником. Но у Житкова с мрачной серьез¬
ностью своим глубоким басом поддерживал он неслыханное, черт знает ка¬
кое глумление Олейникова над Маршаком» (Шварц 1990:245).
Жизнь и стихи Николая Олейникова [85]
«Самуил Яковлевич питается сырыми куриными кишками», — так Олей¬
ников «глумился» над вкусами (надо думать, не только гастрономически¬
ми) Маршака в разговоре с Николаем Харджиевым (Харджиев 2002:57) —
вспомним словечко «кишочки», которым он определял все фальшивое, все
ненатуральное в искусстве.
Берегись
Николая Олейникова,
Чей девиз —
Никогда не жалей никого!
Такую эпиграмму написал на Олейникова Маршак (см. например: Бахтерев,
Разумовский: 155).
Конфликт усугублялся и осложнялся еще и тем, что Самуил Яковле¬
вич пытался навязать свою волю оппонентам не только лично, но и с по¬
мощью агентов влияния. «Помощниками Маршака были четыре преданных
ему редактора — Т. Г. Габбе, 3. М. Задунайская, А. П. Любарская, Л. К. Чу¬
ковская, образованные люди, отдавшие себя без остатка детской литера¬
туре, — вспоминал художник Курдов. — Без них Самуил Яковлевич не мог
обходиться, а они боготворили своего патрона. Привыкший к поклонению,
Маршак часто бывал нетерпим и капризен, требовал от коллег подчинения
во всем. У тех, кто это видел, возникало неприязненное отношение к Мар¬
шаку. Это же было причиной неправильного перенесения его человеческих
недостатков в сферу литературной деятельности» (Курдов: 100). «Шварц
и Олейников сблокировались против "мироносиц", как называли они жен¬
скую половину редакции с ее восторженным культом Маршака. И они жили
сепаратно, сами по себе», — рассказывает Лидия Жукова (Жукова: 162).
Гротескное отражение всей этой ситуации мы находим в позднейшем
стихотворении Олейникова, обращенном к Лидии Чуковской:
Маршаку позвонивши, я однажды устал.
И не евши, не пивши семь я суток стоял.
Очень было немило слушать речи вождя,
С меня капало мыло наподобье дождя.
А фальшивая Лида обняла телефон,
Наподобье болида закружилась кругом.
Она кисей юлила, улещая вождя,
С ней не капало мыло наподобье дождя.
Ждешь единства —
Получается свинство.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [86]
Эти строки — редкий случай прямой инвективы в наследии Олейникова;
тем жестче (по пословице: редко да метко) установка поэта на исчерпание
всех стиховых ресурсов едкости и обидной насмешки. Обычные олейников¬
ские графоманские сдвиги, нелепости и диссонансы использованы здесь
в новой функции — с шутовским обнажением приема и издевательским
подмигиванием. Стихотворение начинается с цепочки семантических неле¬
постей, как бы намекающих — перед нами всего лишь шутка: уже в первой
строке невозможно как «однажды» после «позвонивши», так и «однажды»
перед «устал». Каскад «ошибок» («очень было немило», «закружилась кру¬
гом», «с ней не капало») вроде как должен дать поэту внешнее алиби и воз¬
можность, по хармсовской формуле, пронзать «врага» «стрелой угрюмой»
под прикрытием игры. Но стрелок нарочито прячется так, чтобы его было
видно: система шуточной защиты — не более чем иронический жест, ма¬
скировка — мнимая, а будто бы спрятанные оскорбительные намерения —
прозрачны. Автор, по сути, и не скрывает маневра: все средства стихотво¬
рения, от звукописи до сказовых формул, направлены в одну цель — по¬
сильнее уесть противника.
В своей эпиграмме Маршак уложил в анапест имя и фамилию «Нико¬
лая Олейникова» — тот отвечает анапестом, заданным фамилией «во¬
ждя»: «Маршаку...» Маршаковская эпиграмма обыгрывала фамилию Олей¬
никова в сплошных созвучиях и каламбурных рифмах («...Николая
Олейникова» — «...никогда не жалей никого»). Олейниковская инвекти¬
ва рассчитывает комический эффект более тонко, распространяя по всем
строкам «маршаковские» шипящие аллитерации («Маршаку» — «позво¬
нивши» — «однажды» — «евши» — «пивши» — «слушать» — «вождя» —
«фальшивая» — «закружилась» — «улещая» — «ждешь»), а во второй
строфе добавив анаграмматическую игру с именем Лиды (концентрируя
аллитерации на «л» и «д», ассонансы на «и»). Эпиграмма «вождя» преду¬
преждала и обвиняла —■ непосредственно и недвусмысленно. Зато в отве¬
те гораздо больше яда — в обесценивающих намеках, косвенно уличающих
приемах, жестовой клоунаде.
Поэтика этого стихотворения в полной мере соответствует олейни-
ковской шуточно-издевательской практике — как можно больнее уязвить
«ближнего» в его самое слабое место. Едва ли не каждое слово и уж точ¬
но каждая строка первой строфы методично бьют в одну цель — в моно-
логизм самовлюбленного вождя детской литературы. Отсюда от строки
к строке — все та же поза мима, комически разыгрывающего сцену мучи¬
тельного претерпевания, те же «искривленные» значения синонимических
фраз, те же доходящие до абсурда приемы; само это хождение по кругу
должно имитировать нескончаемость и однообразие «речей вождя». При
смысловой тавтологичности, тем разнообразнее в стихотворении языко¬
Жизнь и стихи Николая Олейникова [87]
вые ужимки. Маршак уличается в одном, но множеством способов — про¬
сторечными морфемами (повтором «шипящих» суффиксов «ши»), грамма¬
тическими перверсиями (сталкивающими однократное действие — «по¬
звонивши» — с нескончаемым процессом, в котором теряются «однажды»
и «устал»), «неуместными» сказовыми элементами («однажды», «не ев¬
ши, не пивши»), нелепой сказочной гиперболой («семь суток»), речевы¬
ми ошибками, скрывающими в себе заряд ядовитой иронии и сарказма
(«очень немило»).
Во второй строфе игра усложняется и при этом только усиливается ко¬
мический эффект: один за другим следуютудары по Маршаку бриколажем -
через обличение верной ему Лиды. Концентрация синонимических средств
становится еще гуще: всякое слово оборачивается против Чуковской —
оскорбительным эпитетом («фальшивая»), гротескной метонимией предан¬
ности («обняла телефон»), дразнящим своей несообразностью сравнени¬
ем («наподобье болида»), тавтологией, смеющейся над удвоенным рвением
«маршаковки» («закружилась кругом»). Автор инвективы умудряется втис¬
нуть в одну строку сразу три смещенных слова одного семантического ряда,
да еще слепить их ассонансами и аллитерациями: «Она кисей юлила, уле¬
щая вождя». Вместо «бездны значения» русской классической поэзии —
здесь бездна уколов и щелчков.
Последнее двустишие, звучащее резким диссонансом хорея и анапеста,
призвано добить противника: после всей прежней пантомимы обиняков
вдруг, вопреки ожиданиям, следует прямое обвинение, чуть ли не с про¬
рывом искреннего негодования. Жестокой рифмой «единство — свинство»
Олейников завершил свой ответ на эпиграмму, до конца реализовав девиз,
приписанный ему Маршаком, — «никогда не жалей никого». «Никого» —
в том числе и начальство.
Как мы уже имели случай убедиться, расхождение с Маршаком лишь
укрепило взаимопонимание Олейникова с Даниилом Хармсом и остальными
обэриутами. 29 сентября 1928 года Олейников даже должен был подняться
вместе с ними на сцену после вечера Владимира Маяковского в ленинград¬
ской Капелле для зачтения декларации объединения84. В итоге, рассказы¬
вала Тамара Липавская С. Шишману, «на сцену вышли Введенский, Хармс,
Бахтерев и Левин. Олейников остался рядом со мной в зале. "Их там и без
меня много, а ты тут одна остаешься", — отшутился он» (Шишман: 12).
М. Б. Мейлах, цитируя устное высказывание самого поэта, приводит такую
причину: «Олейников присоединиться отказался, поскольку в зале находи¬
лись "его ребята из Райкома"» (Мейлах 1993: 23).
84 Не он ли и договаривался с автором «Облака в штанах» об этом? Во всяком случае,
в № 4 «Ежа» за 1928 год была напечатана «Майская песенка» Маяковского.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [88]
Так Олейников и остался при обэриутах «оглашенным» (как его однаж¬
ды назвал в своем дневнике Хармс (Хармс 2002. Ч. 1:197)), но не крестив¬
шимся в обэриутскую веру, хотя Игорь Бахтерев в одном из своих поздних
интервью и утверждал: «...я свидетель и участник того собрания — а у нас
периодически проходили организационные собрания — на котором решал¬
ся вопрос: принять Олейникова в объединение или нет. Он даже написал за¬
явление о приеме, полушуточное, правда, но мы рассматривали его со всей
серьезностью <...> Он говорил: "Вы еще увидите, какие я буду писать сти¬
хи!" Человек он был очень одаренный, и мы его единогласно приняли <...>
Таким образом, Олейников все же был обернутом и был участником нашей
декларации, которая впоследствии затерялась» (Бахтерев 1987:54)85.
Любопытно при этом, что позднее, в оттепельные 1950-е годы, в ходив¬
ших по рукам списках стихи Олейникова подчас сливаются с обэриутски-
ми — до неразличения. Так, в одном из дневников той поры олейниковское
стихотворение «Тянется ужин...» приписано уже тогда гораздо более попу¬
лярному Хармсу86.
Нежелание Олейникова публично блокироваться с обэриутами, по-
видимому, сыграло определенную роль в том, что первые рецензии на его
детскую прозу в советской печати были сплошь положительными. В пятом,
мартовском номере журнала «Вожатый» за 1928 год о вышедшем отдель¬
ной книгой очерке «Боевые дни» говорилось: «Нам думается, что как во¬
жатый, так и звенья и кружки рассказчиков смогут использовать эту кни¬
гу для живой беседы — рассказа об Октябрьской революции» (Коровен-
ко: 44). В шестом номере журнала «Просвещение» за 1928 год этот очерк
тоже оценивался довольно высоко: «Интересны написанные страницы об
октябрьских днях 17-го года в Ленинграде, полные динамики» (Кравец
и др.: 116). Пусть не слишком многословными, но — всегда доброжела¬
тельными были и другие микрорецензии конца 1920-х годов на олейников¬
ские рассказы и очерки. Первый номер журнала «Книга и профсоюзы» за
1929 год о «Боевых днях»: «Читаются рассказы легко и будут особенно ин¬
тересны нашей молодежи» (Иконников: 40). Четвертый, апрельский номер
«Народного учителя» за этот же год о «Танках и санках»: «Рассказ о том,
85 Ср. с противоположной точкой зрения на соотношение творчества обэриутов
и Олейникова, со всей отчетливостью высказанной Лидией Жуковой: «К этому "ре¬
альному" искусству Олейников не имел решительно никакого отношения, он бы так
смеялся, если бы знал, что неведомые ему будущие доценты назовут его "обернутом".
А ведь называют!..» (Жукова: 162).
86 Список этого стихотворения (с искажениями: «Пищей загружен» вместо «Пи¬
щей нагружен»; «Я возалкал» вместо «Я задремал») найден в личном дневнике за
1957 год лингвиста М. В. Аратова, тогда еще первокурсника МГУ. За соответствую¬
щую информацию приносим благодарность А. А. Акмальдиновой.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [89]
как и чем сильна Красная армия. Один из очень немногих удачных расска¬
зов на эту тему. Образный язык, четкость изложения, много действия» (На¬
родный учитель: 87). Августовский (второй/третий) номер «Книги детям»
за 1929 год об «Удивительном празднике»: «Очень удачно рассказана исто¬
рия одного нелегального первомайского праздника <...> Книжка в извест¬
ной степени разрешает трудную задачу дать тему 1 мая для детей» (Нед-
звецкая: 72). Номер «Жизни искусства» от 8 сентября 1929 года об «Уди¬
вительном празднике» и «Танках и санках»: «Гораздо меньше хороших книг
для малыша по общественным и политическим вопросам: неплохо справля¬
ется с вводом малыша в современные политические события Н. Олейников
("Удивительный праздник", <">Танки-Санки<">)» (Рашковская 1929:5)87.
В качестве автора произведений, печатавшихся в «Еже», Олейников по¬
ка очень неплохо вписывался в формат советской литературы для детей, ка¬
кие бы внутренние аттестации ни раздавались ему ретивыми «ребятами из
райкома».
8
Приводим полный текст этого неопубликованного письма (его адресатом
был литератор и издательский работник Иван Игнатьевич Халтурин):
«Тов. Халтурин (Ваня)<,> тебе т. Ром хочет предложить вам (тебе)
блестящую статью о своем путешествии на Гибралтар (и в другие
края).
Часть этого материала пойдет в "Еже".
Рекомендую тебе т. Рома как талантливого автора.
Олейников.
Такова первая часть моего письма. Вторая часть этого пись¬
ма такова: как дела в "Мол<одой> Гв<ардии>"<?> Правда ли что
"М<олодая> Гв<ардия>" забирает всю детскую литературу<?> Если
правда<,> то почему расширяются штаты в Ленгизе, почему увели¬
чиваются планы?
Как обстоят дела у короля детской литературы т. Разиным
(так! — 0. Л., М. С.) <?> Как он думает отвечать "П<ионерской> Прав¬
де"? Да, кстати. На днях я получил от "М<олодой> Гв<ардии>" из¬
вещение о том, что с меня причитается книжка "Рев<олюционный>
87 Ср. у этой же рецензентки о Маршаке (в более ранней статье): «Все знают, что
С. Маршак — автор детских стишков. Немногие знают, что Маршак — поэт, что его
книги — художественный факт, переросший педагогию» (Рашковская 1928:4).
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [90]
календарь". Ничего, если я пришлю только то<,> что у меня имеет¬
ся напечатанное? Напиши.
Весь Ваш
Н. Олейников.
Жду писем».
Для Олейникова редакционное дело было неотделимо от словесной игры
и театрализации, а игровой быт — от поэтического творчества.
О легкости, с которой Олейников импровизировал стихотворные экс¬
промты, вспоминали многие мемуаристы. «Он читал свои стихи охотно и пи¬
сал немедленно, если его просили. Мне в мой альбомчик он написал не¬
сколько стихотворений», — отмечала актриса Рина Зеленая (Зеленая: 227).
«Однажды произошел такой случай, — рассказывала С. Шишману
двоюродная сестра Шварца, Маргарита. — Николай Макарович за¬
глянул ко мне в комнату. Я с ногами забралась на диван и, не чи¬
тая, листала книгу.
— Что это, Мура?
Я повернула к нему обложку. Олейников прочел:
— Вильгельм Фридрих Оствальд "Философия природы". Инте¬
ресно?
— Не знаю.
— А мне очень интересно. Дай почитать.
— Да я только начала.
— Слушай, Мурочка, принеси мне, пожалуйста, воды холод¬
ненькой из-под крана, пить страсть как хочу.
Когда я вернулась в комнату, то сразу заметила, что книги нет.
— Где моя книжка?
— Не знаю.
— Как не знаешь? Она же только что лежала на диване.
— Хочешь, я вместо книжки подарю тебе стихи?
Я и опомниться не успела, как Олейников вручил мне листок со
стихами:
Я мерзавец, негодяй,
Сцапал книжку невзначай.
Ах, простите вы меня,
Я воришка и свинья.
Автор книжки —■ В. Оствальд.
Ухожу я на асфальт.
Спорить было бесполезно: пришлось смириться» (Шишман: 36).
Жизнь и стихи Николая Олейникова [91]
В редакции «Ежа» Олейников сочинил множество шуточных стихотворе¬
ний для взрослых. Читая эти стихотворения, автор всячески подчеркивал
как спонтанность их возникновения, так и их обращенность к конкретным
адресатам, которые могли легко меняться в зависимости от состава зрите¬
лей олейниковских мини-спектаклей.
Вот фрагмент воспоминаний тогдашнего частого посетителя «Ежа»
Л. Пантелеева, изображающий один из таких мини-спектаклей: «Посреди
комнаты Олейников вдруг остановился, поднял над головой палец и без те¬
ни улыбки, многозначительно, с пафосом возгласил:
У одного портрета
Была за рамой спрятана монета...
Лицо Николая Макаровича становится еще серьезнее, палец его, сделав над го¬
ловой круг, уставился в сторону милейшей и тишайшей Зои Моисеевны Заду¬
найской, и Олейников уже не с пафосом, а с гневом заканчивает свой экспромт:
...Немало наших дам знакомых
Вот так же прячут насекомых!..»
(Пантелеев 1966:385)
Уже упомянутым Шишманом был зафиксирован короткий рассказ Натальи
Шварц, относящийся к 1932 году: «Я сидела в низком глубоком кресле в ко¬
ротенькой юбочке, с обнаженными коленками. Николай Макарович вырвал
из ученической тетради двойной лист, быстро написал что-то, несколько
раз поглядывая с улыбкой на меня, и тут же прочитал всем присутствующим
свой экспромт» (Шишман: 36—37). Экспромт был озаглавлен «Послание,
бичующее ношение длинных платьев и юбок»:
Веществ во мне немало,
Во мне текут жиры,
Я сделан из крахмала,
Я соткан из икры.
Но есть икра другая,
Другая, не моя,
Другая, дорогая...
Одним словом — твоя.
Икра твоя роскошна,
Но есть ее нельзя.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [92]
Ее лишь трогать можно,
Безнравственно скользя.
Икра твоя гнездится
В хорошеньких ногах,
Под платьицем из ситца
Скрываясь, как монах.
Монахов нам не надо!
Религию долой!
Для пламенного взгляда
Икру свою открой.
Чтоб солнце освещало
Вместилище страстей,
Чтоб ножка не увяла
И ты совместно с ней.
Дитя, страшися тлена!
Да здравствует нога,
Вспорхнувшая из плена
На вешние луга!
Шипит в стекле напиток.
Поднимем вверх его
И выпьем за избыток
Строенья твоего!
За юбки до колена!
За то, чтобы в чулках
Икра, а не гангрена
Сияла бы в веках!
Теперь тебе понятно
Значение икры:
Она — не для разврата,
Она — не для игры.
По воспоминаниям Любарской, «в буфете Детиздата лежала толстенная пе¬
реплетенная книга с чистыми страницами — она так и называлась "Буфет¬
Жизнь и стихи Николая Олейникова [93]
ная книга". Наши авторы и художники соревновались на этих страницах
в остроумии.
Чего там только не было!
Поперек одной страницы были нарисованы несколько пар женских
ног — и подпись: "О, боги! Чьи это ноги?!"
Тут были стихи Олейникова, посвященные Лидии Чуковской:
Лидочка, Лидочка, ваше кокетство
Надо бы по-при-дер-жать,
Вы применяете средства,
Кои нельзя применять.
Победительница соревнования была награждена такими стихами:
Цветок душистых прерий
Среди ударных серий».
(Любарская 1995:162)
Стихи подобного типа органично вплетались в общую поведенческую стра¬
тегию Олейникова этого периода. Если в журнале «Еж» он прятал свое под¬
линное лицо под маской «верхового Макара Свирепого», во время шумных
застолий Олейников упоенно растворялся в образе мещанина-сердцееда,
прикрывавшего высокими словами низменные побуждения88.
Из записей Лидии Гинзбург: «Олейников за столом встает и объявляет,
что написал поэму в честь такой-то присутствующей женщины (имена меня¬
ются). Читает же из этой поэмы всегда только одну строфу:
Я поднимаюсь
И говорю:
Я извиняюсь,
Но я горю».
(Гинзбург: 79)
Из воспоминаний 0. В. Чайко (Конашевич): «В эти же годы часто по воскре¬
сеньям к обеду приезжали Алянский, Житков, Олейников, Шварц. Вместе или
88 Ср. со сценкой из мемуаров Шварца, показывающей, как Олейников судил о жен¬
щинах всерьез, не прикрываясь «высокими словами»: «...они ругали женщин. Двое
(Олейников и Заболоцкий. — 0. У7., Af. С.) яростно, а Хармс — несколько безразлич¬
но. Олейников прежде всего утверждал, что они куры. Повторив это утверждение
несколько раз страстно, убежденно, он добавил еще свирепее, что если ты пожил
раз с женщиной — все. После этого она уже тебе не откажет. Это все равно что ло¬
шадь. Поймал ее за челку — значит, готово» (Шварц 1990:513).
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [94]
в розницу, но Житков и Олейников всегда вместе, изредка приезжал Маршак.
Всегда было тогда оживленно. Все изощрялись в эрудиции и в остроумии. Но,
к стыду своему, должна сознаться, что я помню только тосты Олейникова. В те
годы в наших магазинах появились испанские вина, и по обилию тостов, ко¬
торые я помню, надо думать, немало было выпито этого вина.
— Пью за здоровье, — говорил Николай Макарович, взяв бокал в ру¬
ку, — или, как говорили в старину, пью здоровье дам — красавиц, количе¬
ством... (предварительно было сосчитано, сколько женщин за столом), по¬
коривших человечество. Ура, дорогие товарищи! Ура, дорогие товарищи!
Ура, дорогие товарищи!
Этот тост особенно пользовался успехом. Юрий Алексеевич Васнецов
всегда его с нетерпением ждал и старался запомнить. И всегда тщетно. На¬
верное, сосредоточить внимание и напрячь память мешало проклятое ис¬
панское зелье. Или Олейников наклонялся к моему уху и драматическим
шепотом говорил:
— Грубая подготовочка. Как зовут Вашу кузину?
— Ирина Николаевна.
— Итак, товарищи. Если женщину можно сравнить с цветком, то Ирину
Николаевну смело сравню с эдельвейсом!
И так перебирались все женщины за столом и сравнивались по очереди
с цветами...» (Конашевич: 400—401).
Из мемуаров Лидии Жуковой: «Глаза светлые, светлые — совсем размытая
синька. Он вертится около "дам", нам уже по двадцать. "У вас неожиданные
брови", "У вас брови как котики", — такой комплиментщик! На нем какой-то
ужасный двубортный пиджак, мешок мешком. Лицо бледное, красивое, нос
с остринкой, пожалуй длинноватый нос <...> Вот так и вошел в нашу жизнь
Олейников, с веселой своей ересью, "неожиданными бровями"... и знамени¬
тым своим тостом "за дам, строительниц социализма"» (Жукова: 161).
«Было у Олейникова дежурное стихотворение, которое он посвящал
многим знакомым "дамочкам", — рассказывала Софья Богданович. — На¬
чиналось оно с имени и фамилии, когда нужно заменявшимися другим име¬
нем и фамилией» (Богданович С: 143). По-видимому, это было стихотво¬
рение, в итоге получившее название «Татьяне Николаевне Глебовой»:
Глебова Татьяна Николаевна! Вы
Не выходите у нас из головы.
Ваша маленькая ручка и Ваш глаз
На различные поступки побуждают нас.
«...он всем женщинам говорил, что для них написал, — говорила Вла¬
димиру Глоцеру сама Татьяна Глебова. — <...> И уверял меня, что пер¬
вая была я <...> Не знаю... для меня это неясно. <...> Потом это было
Жизнь и стихи Николая Олейникова [95]
так же: "Соня Богданович, вы / Не выходите у нас из головы..." <...> И так
далее и так далее без конца» (Глоцер 2012:133). «Он, наверное, всегда так
поступал: намахает стихи, а потом раздаривает разным дамам, слегка изме¬
няя к случаю», — не без обиды рассказывала еще одна из адресаток олейни-
ковской «любовной лирики» Елизавета Коваленкова (Коваленкова: 403).
Вообще-то говоря, Олейников был не первым поэтом, который пользо¬
вался поэтическими текстами для привлечения внимания нравившихся ему
женщин. «Гумилев иногда "из экономии" даже посвящал свои мадригалы
различным лицам, — вспоминала Ирина Одоевцева. — Всем, например,
известно — об этом уже не раз говорилось в печати, — что "Приглаше¬
ние в путешествие" посвящалось многим, с измененной строфой, смотря по
цвету волос воспеваемой:
Порхать над царственною вашей
Тиарой золотых волос —
или:
Порхать над темно-русой вашей
Прелестной шапочкой волос.
Были и "роскошные", и "волнистые" шапки волос, и "атласно-гладкие" ша¬
почки волос» (Одоевцева: 433).
Но важнее тут как раз не сходство, а различие: Гумилев пользовался
своим поэтическим оружием скрытно и всерьез, Олейников — демонстра¬
тивно и шутовски, низводя тем самым священное искусство до банального
средства соблазнения89.
В шутовской любовной лирике Олейникова особое значение имеет фи¬
гура соперника. На эту роль поэтом был выбран его друг Шварц — еще
один мастер экспромта и редакционный острослов. Жена литературоведа
Виктора Гофмана, Софья Богданович вспоминает: «Как-то неожиданно он
<...> взглядом "Макара Свирепого" пронзил стоявшего рядом Шварца <...>
Шварц надменно улыбнулся, и оба повернулись к столику, за которым сиде¬
ла молодая хорошенькая сотрудница — Генриетта Давыдовна Левитина90.
Олейников слегка поклонился, приложил руку к сердцу и прочел:
89 Как в позднейших «Окнах во двор» Владислава Ходасевича: «Что верно, то верно!
Нельзя же силком / Девчонку тащить на кровать! / Ей нужно сначала стихи почи¬
тать, / Потом угостить вином».
90 Вот ее портрет из мемуаров сына, Вячеслава Домбровского: «Среднего роста,
с классически правильными мелкими чертами чистого, озаренного мягкой улыбкой
лица, с ямочками на щеках» (Домбровский: 12).
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [96]
Я влюблен в Генриетту Давыдовну,
А она в меня, кажется, нет.
Ею Шварцу квитанция выдана,
Мне квитанции, кажется, нет.
Его голос слегка дрожал от глубокой обиды отвергнутого вздыхателя. Ген¬
риетта Давыдовна покраснела, закусила губу, чтобы не рассмеяться, но
сразу вошла в игру: пожала плечиками, нежно поглядывая на Шварца.
Олейников тоже взглянул на Евгения Львовича и с яростью продолжал:
Ненавижу я Шварца проклятого,
За которым страдает она, —
За него, за умом небогатого,
Замуж хочет как рыбка она...
Кончалось это признание в стихах скромной просьбой:
Разлюбите его, разлюбите,
Полюбите меня, полюбите.
Публика хохотала» (Богданович С.: 142).
Сохранился и ответ Евгения Шварца на это стихотворение:
О, Груня, счастья вам желая,
Хочу я вас предостеречь:
Не верьте страсти Николая,
Он в сети хочет вас завлечь.
Ведь он — одни слова пустые,
Туман... да волосы густые
(Биневич 2008:164).
В последней строке стихотворения Шварца обыгрывается то обстоятель¬
ство, что автор «Рассказа старой балалайки», в отличие от Олейникова,
к 1928 году уже начал лысеть.
После этой словесной дуэли Даниил Хармс оставил в редакции два кон¬
верта с просьбой передать их Олейникову и Шварцу. В обоих содержались
одинаковые записки:
Пусть Коля и Женя
Помрут от тоски —
Жизнь и стихи Николая Олейникова [97]
Я Даню люблю
до гробовой доски.
Груня
(см.: БП: 229).
Дань шуточному воспеванию Генриетты Левитиной отдал и еще один со¬
трудник «Ежа», Николай Заболоцкий, обративший к ней стихотворение
«В день рождения Груни»:
Да, Груня, ровно двадцать девять лет
Тому назад с тобой мы увидали свет.
С тех пор мы пышно расцвели
И сами кой-кого на свет произвели.
Ты вот родила двух мальчишек,
Ты на обед даешь им сыр,
Ты шьешь им множество штанишек,
Подгузников и др. и пр.
А я родивши одного,
Кричу тебе: ого!
Родить мальчишку просто,
А потруднее воспитать.
И так живи, живи лет до ста!
Зане красотка ты и мать!
(Домбровский: 38)
На «притязания» Заболоцкого Шварц тоже поспешил откликнуться шуточ¬
ной «гневной» отповедью:
Один завистник Заболоцкий,
Полет увидя мотылька,
Сказал ему с улыбкой плотской:
— Я придушу тебя слегка!
Был свернут из стихов кулек
И был уловлен мотылек.
Не верь, о Груня, наглецу
В день твоего рождения;
Когда одетая к лицу
Приемлешь поздравления:
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [98]
Он просто плут, он обормот,
А верный Шварц — наоборот!
(Домбровский: 39)
Но нас, понятное дело, больше интересует стихотворный диалог Шварца
именно с Олейниковым, поскольку он дает повод для сопоставления игро¬
вых приемов, используемых друзьями-соперниками. Обратившись к дру¬
гим шуточным опытам Шварца того периода, мы найдем в них постоянный
ход — риторически выверенную, симметрическую композицию, остранен-
ную двумя-тремя комическими сдвигами.
Один из примеров — шварцевское стихотворение 1927 года «Авторы
и Лениздат»:
Все у нас идет гладко,
Только авторы ведут себя гадко.
Прямо сказать неприятно —
Не желают работать бесплатно.
Все время предъявляют претензии:
Плати им и за рукописи, и за рецензии,
И за отзывы, и за иллюстрации,
Так и тают, так и тают ассигнации.
Невольно являются думы:
Для чего им такие суммы?
Может, они пьют пиво?
Может, ведут себя игриво?
Может, занимаются азартной игрой?
Может, едят бутерброды с икрой?
Нельзя допускать разврата
Среди сотрудников Госиздата.
Стихотворение это построено по принципу зеркальной симметрии: первые
две строки — завязка комического конфликта, последние две — вывод,
требующий развязки этого конфликта; шесть строк — описание конфликт¬
ной ситуации, шесть — поиск причин. При этом каждая из частей еще укра¬
шена разного рода параллелизмами. Здесь и антитезы рифм: все, что от¬
носится к работе издательства, — «гладко», все, что относится к запросам
авторов, — «гадко»; издательская необходимость — «рецензии» и «иллю¬
страции», произвол авторов — «претензии» и «ассигнации». Здесь и ряды
однородных членов, и повтор, передающие беспокойство администрации.
Здесь и сплошной строй анафор, и нагнетание синтаксических параллелиз¬
мов, передающие переход административного беспокойства в дознание,
Жизнь и стихи Николая Олейникова [99]
дознания — в допрос. Стройность композиции позволяет тем эффектнее
отбить три комических приема — смысловую инверсию (с переворачива¬
нием «необходимого» в «прихоть»), метонимическую подмену (с навязы¬
ванием ассоциации: «деньги» — «разврат») и скрытую сатирическую ги¬
перболу (с гротескным разоблачением чиновнической логики).
В еще более наглядном виде шварцевская шутливая поэтика проявляет¬
ся в четверостишии того же года «Приятно», в котором схожая тема («поэт
и служба») демонстративно сдвинута в противоположную сторону:
Приятно быть поэтом
И служить в Госиздате при этом.
Служебное положение
Развивает воображение.
Снова стихотворение ограничено жесткой формальной рамкой: две стро¬
ки — тезис, две строки — аргумент; при этом первая и вторая строка свя¬
заны параллелизмом, а третья и четвертая соотносятся как причина и след¬
ствие. В эту выверенную конструкцию вставляются ходовые формулы
и штампы: «приятно быть...», «служебное положение», «развивать вообра¬
жение» — все для того, чтобы сработал комический сдвиг: обман ожидания
и совмещение несовместимых рядов. Форма стиха выдает за ясное и оче¬
видное нарастающую от строки к строке «невязку»: в первом двустишии
высокое (почти «сакральное» в русской традиции) бодро приравнивается
к профанному, а во втором еще бодрей подчиняется профанному («прият¬
но быть поэтом» и «служить»; «воображение» зависит от «служебного по¬
ложения»). И, как и в первом из приведенных стихотворений, «невязка»
эта является в то же время гиперболой реальной социальной ситуации тех
лет — «поэт на службе».
При смене тематики, уже в стихотворной пикировке с Олейниковым,
Шварц продолжает использовать свои привычные приемы. Его игровое по¬
слание четко разделено на три части по две строки каждая: обращение с на¬
зидательным жестом — совет-предостережение — уничижительные форму¬
лы в качестве аргумента. Каждое двустишие содержит более или менее явную
антитезу: «счастье» — «опасность» («предостеречь»), «страсть» — «ковар¬
ство» («в сети... завлечь»), «слова пустые» — «волосы густые». Вторая стро¬
ка с первой и третья с четвертой соединены причинной связью явно («предо¬
стерегаю, потому что желаю счастья»; «не верьте ему, потому что он вас за¬
влекает»), пятая и шестая — скрыто («слова его пусты, потому что волосы
густы»). Эта риторическая расчетливость, как обычно у Шварца, способству¬
ет эффектности комических отбивок. В первых четырех строках смеховой эф¬
фект возникает на контрасте реальной, житейской ситуации (привычный ре¬
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [100]
дакционный быт) и самых истрепанных штампов мелодрамы и «жестокого»
романса; причем с каждой строкой автор берет тоном выше: «предостеречь»
надрывнее «счастья вам желая», «страсти Николая» громче «предостеречь»,
сильнее же всего — «в сети вас завлечь», эта кульминация пародического на¬
гнетения. Завершается же стихотворение неожиданным театральным жестом:
говорящий вдруг сам подставляется под смех, с шутовской завистью отыграв
собственную лысину по контрасту с густой шевелюрой Олейникова.
Итак, Шварц как автор шуточных стихотворений следует своего ро¬
да поэтике трех единств — сюжетного, стилистического, риториче¬
ского. То есть он последователен в разворачивании комического сюжета
и в игре с определенным персонажем-«маской»; не выходит в тексте за
рамки какого-то одного пародического стиля и не отступает от взятой
в первых строках шутливой интонации; рассчитывает смеховой эффект на
двух-трех смещениях идеально выстроенной риторической схемы.
А что же Олейников? Его реплика в стихотворной перебранке со Швар¬
цем стоит пристального перечтения:
Я влюблен в Генриетту Давыдовну,
А она в меня, кажется, нет —
Ею Шварцу квитанция выдана,
Мне квитанции, кажется, нет.
Ненавижу я Шварца проклятого,
За которым страдает она!
За него, за умом небогатого,
Замуж хочет, как рыбка, она.
Дорогая, красивая Груня,
Разлюбите его, кабана!
Дело в том, что у Шварца в зобу не...
Не спирает дыхания, как у меня.
Он подлец, совратитель, мерзавец —
Ему только бы женщин любить...
А Олейников, скромный красавец,
Продолжает в немилости быть.
Я красив, я брезглив, я нахален,
Много есть во мне разных идей.
Не имею я в мыслях подпалин,
Как имеет их этот индей!
Жизнь и стихи Николая Олейникова [101]
Полюбите меня, полюбите!
Разлюбите его, разлюбите!
Уже с первых строк послания «Генриетте Давыдовне» за комическими на¬
падками на Шварца нетрудно разглядеть острую поэтическую полеми¬
ку: стихи Олейникова с насмешливой агрессией противостоят экспром¬
там Шварца, переворачивая вверх дном его мир милых альбомных шуток.
В сравнении со шварцевской стихотворной юмористикой, всегда рассчи¬
танной по линейке, тем резче воздействуют «свирепые» алогизмы и «не¬
вязки» его оппонента: чуть ли не в каждой строке шутовского экспромта
Олейникова читателя (слушателя) ждет новое смещение в нелепость, сти¬
листический сбой, риторическая нестыковка; все это вместе составляет си¬
стему диссонансов. Но это ни в коем случае не те привычные «уклонения
от привычных норм»91, которые фиксируются в «Поэтиках»: здесь, напри¬
мер, нет ни эллипсиса, ни плеоназма, ни анаколуфа. «Ошибки» Олейникова
тоньше — они не разрывают, а разъедают форму стиха.
Прежде всего — в первых двух строфах начинают буксовать традицион¬
ные фигуры и синтаксические приемы: параллелизмы оборачиваются сти¬
ховой и смысловой тавтологией, эмфаза — грамматической путаницей («за
ним», «за него»), сравнение — алогизмом («как рыбка»), эпитеты — бранью
(«проклятого — умом небогатого»). Дальше — больше. Читатель (слушатель)
едва успевает за стилистическими виражами стихотворения: «канцелярская»
лексика первой строфы во второй резко сменяется чуть ли не фольклорной
заплачкой (с диалектными вывертами: «за которым страдает она», «за не¬
го, за умом небогатого...»). В третью строфу внезапно врывается цыганщина:
«Дорогая; красивая Груня...» — и так же внезапно переходит в просторечное
бормотанье («кабана», «в зобу не... / Не спирает дыхания...»). Наплывает го¬
родской романс («Он подлец, совратитель, мерзавец...»; «Я красив, я брез¬
глив, я нахален...») — и вязнет в графоманском словотворчестве («Не имею
я в мыслях подпалин, / Как имеет их этот индей»).
Здесь ни в чем нет единства. В любовных признаниях бюрократиче¬
ский официоз («Генриетта Давыдовна», «квитанция») легко соскакивает
в кабацкую фамильярность («как рыбка», «Груня», «разлюбите его, каба¬
на»). В брани сильные «доводы» («подлец, совратитель, мерзавец») про¬
тив всех риторических правил смешаны со слабыми («не спирает дыхания»,
«ему только бы женщин любить»); при этом этическая аргументация, обли¬
чающая и предостерегающая («он опасен», «он обманет»), тут же сбива¬
ется на обесценивающие нападки («он глуп») и ругательные эпитеты («ка¬
бан», «индей»). В жалобах и самовосхвалении логическая несообразность
91 См.: Томашевский 2003:70.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [102]
первой-второй строф (неуверенное «кажется» — безапелляционное «за¬
муж хочет, как рыбка, она») в четвертой-пятой уже доводится до абсурда
(«Олейников, скромный красавец» — «я красив, я брезглив, я нахален»).
Соответственно, сменяющиеся от строфы к строфе персонажные маски ни¬
как не выстраиваются в единый ряд: говорящий оборачивается то проси¬
телем (первая строфа), то спасителем (вторая-третья строфа), то робким
«воздыхателем» (волнующимся до сбоя ритма и заикания в четвертой стро¬
фе: «...у Шварца в зобу не... / Не спирает дыхания как у меня»), то «заво¬
евателем» (все более уверенным в себе по мере развертывания градации
в пятой строфе: «я красив, я брезглив, я нахален»).
Но в этом разброде и разладе есть своя логика, свой метод.
Вспомним часто цитируемое замечание Дюмарсе: «...Базарный день
больше богат на риторические фигуры, чем несколько дней академических
заседаний»92; вспомним также, как Мармонтель проиллюстрировал этот те¬
зис на примере свары простолюдина с женой: «Скажу я да, она говорит нет;
утром и вечером, ночью и днем она ворчит (антитеза). Никогда, никогда
с ней нет покоя (повторение). Это ведьма, это сатана (гипербола)! Но, не¬
счастная, ты скажи-ка мне (обращение): что я тебе сделал (вопрос)? Что за
глупость была жениться на тебе (восклицание)! Лучше бы утопиться (поже¬
лание). Не буду упрекать тебя за все твои расходы, за все мои труды, чтобы
добыть тебе средства (умолчание). Но прошу тебя, заклинаю тебя, дай мне
спокойно работать (моление)... Она плачет, ах, бедняжечка: вот увидите,
виноватым окажусь я (ирония). Ну ладно, пусть так. Да, я раздражителен,
невоздержан (уступление)... Но скажи мне, неужели со мной нельзя посту¬
пать по-хорошему (вопрос)?»93
Риторические фигуры здесь используются не для украшения речи, а для
укрощения жены; то необходимые приемы в будничных боях: повторение
и антитеза нужны для обороны, обращение и восклицание — для контрата¬
ки, ирония и уступление — для обходного маневра. Именно в этом направ¬
лении и смещает Олейников пародические недоразумения, комические не¬
вязки и «гротескные несовпадения»94 своих стихов: поэтика у него как бы
опрокидывается в прагматику — ожесточенной житейской конкуренции,
повседневной войны всех против всех.
На первом плане олейниковского стихотворения — дискредитация
культуры как склада лишнего, брошенного как попало инвентаря: «рас¬
тленных» слов и «подложных ценностей» (Гинзбург 2002: 498—499).
92 Цит. по: Женетт 1998: 208.
93 Цит. по: Томашевский 1925:50.
94 См.: Гинзбург: 487. Ср. также определение из мемуаров Б. Семенова: «раблезиан¬
ский гротеск Олейникова» (Семенов: 280).
Жизнь и стихи Николая Олейникова [103]
Привычная обрисовка любовного конфликта, с соответствующими гипер¬
болами чувств и ритуальными жестами, — смысл всего этого в олейников-
ском мире обнуляется, остается полая форма («слова, не отвечающие за
свое значение» (Там же: 492). Но на втором плане «Генриетты Давыдов¬
ны», в ее подтексте, отходы культуры, вся эта обветшавшая бутафория «вы¬
сокого и прекрасного» утилизируются и заново пускаются в оборот заодно
с другими подручными средствами. За поэтической ложью, доведенной до
гротеска и травестии, здесь прячется житейская правда, сведенная к био¬
логическому закону; прием здесь — это прием в борьбе самца за обладание
самкой и устранение соперника; обрывки же культуры служат прикрытием
и приманкой в этой борьбе.
Перечитаем стихотворение. В начальных строфах говорящий, совер¬
шая обманные маневры, воздействует на Генриетту Давыдовну с позиции
слабости. В первой строфе тавтологические параллелизмы передают жест
приниженности и растерянности, чтобы одновременно потешить самолю¬
бие и вызвать покровительственное сочувствие женщины-начальницы. Во
второй строфе уже сам говорящий принимает позу сострадания кженщине-
жертве, поддерживая надрывную интонацию песенными анафорами и за¬
остряя гротескно-сентиментальным сравнением («как рыбка»). В третьей
строфе такими средствами, как сбой романсового анапеста, заикающий¬
ся анжамбеман и стыдливая перифраза, имитируется состояние любовно¬
го аффекта; бессилие перед ее чарами должно подкупить женщину-обво-
рожительницу.
Вместе с тем в начальных строфах вовсю готовится наступление; в ход
уже идут эпитеты грубой лести и брани («дорогая, красивая»; «умом небо¬
гатый», «кабан»). И вот — в четвертой и пятой строфах эпитеты выстраи¬
ваются в ряды и, усиленные градацией с симметрической антитезой, атаку¬
ют объект с двух сторон («Он подлец, совратитель, мерзавец» — «Я красив,
я брезглив, я нахален»). В этой атаке как раз и должны сработать «ошибки».
Логическое противоречие («скромный» — «нахален») оборачивается само¬
рекламой с двойным расчетом, с приманкой на любой вкус. Тавтологизм
и буксовка повторов («красивая» — «красавец») подталкивают к выводу:
«красивая должна быть с красавцем». Чем примитивнее и бессодержатель¬
нее вторые строки четвертой и пятой строф (с перебоями анапеста: «Ему
только бы женщин любить» — «Много есть во мне разных идей»), тем силь¬
нее внушение грамматического параллелизма и скрывающейся за ним анти¬
тезы: у «Шварца» множественное число — это другие женщины (и больше
ничего — «ему только бы...»), у «Олейникова» же множественное число —
это его идеи (выношенные им — «во мне» вместо «у меня»; на все случаи
жизни — «разные»). Наконец, лексический нонсенс пятой строфы — это
игра слов, целящая в соперника как бы исподтишка, спрятанный в эвфе¬
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [104]
мизмах запрещенный прием: «подпалины в мыслях» намекают на лысину
«Шварца», в «индее» слышится «иудей».
Получается, что за несуразностями шуточного произведения открыва¬
ется метод дисгармонической точности95. Метод этот был отработан уже
в олейниковском быту. По воспоминаниям Я. Друскина, Олейников — это
«единственный человек, который мог не бояться пошлости. Женщинам он
говорил: фарфоровая куколка, божья коровка, провозглашал тосты: за че¬
ловечество, за человечество, за человечество. Но все это с какой-то гени¬
альной интонацией, передать ее невозможно, и было очень смешно и не¬
много страшно» (Друскин 1999: 214).
Как же работает этот метод в стихах, в «Генриетте Давыдовне»? Несо¬
гласованность приемов в плане поэтики способствует особенной эффектив¬
ности их в плане разыгрываемой прагматики. В стихотворении имитирует¬
ся ситуация полового отбора (гротескной наглядности этому поэтическому
эксперименту, конечно, добавляло присутствие самих Шварца и Генриет¬
ты Давыдовны при авторском чтении, а значит, и их участие в фарсовой ак¬
ции). Отсюда и уроки олейниковской пародической «Науки любви»: объ¬
ект надо брать с бою — сиюминутным внушением, «наибольшим действием
в каждое данное мгновение»96; риторические средства должны быть схва¬
чены наспех, чтобы заманить уступкой и захватить напором — простейши¬
ми импульсами в расчете на дискретное сознание. Собственно, две финаль¬
ные строки как раз и приравнивают два импульса («Полюбите меня, полю¬
бите!» — привлечение самки; «Разлюбите его, разлюбите!» — устранение
соперника) к предыдущим пяти строфам — и сводят весь смысл этих строф
только к этим двум импульсам. Такова выверенная логика «Генриетты Давы¬
довны» и других любовных фарсов Олейникова — логика иронической ре¬
дукции: от высокого к низкому; от сложного к элементарному, от слова
к жесту, от жеста к рефлексу.
Редукция как поэтический прием означает особое внимание к словес¬
ному мусору, к искривленному языку, к штампу; это питательная среда для
олейниковской поэзии. Приводимый в мемуарах Жуковой олейниковский
тост («За дам, строительниц социализма!»), как и финал застольной речи
Олейникова из мемуаров Чайко («Ура, дорогие товарищи! Ура, дорогие то¬
варищи! Ура, дорогие товарищи!»), ясно показывает, что объектом пародии
и издевки для него часто служил советский новояз и вообще все советское.
Вспоминает Валентин Курдов: «Здоровался он обычно так: "Разрешите при¬
95 Это перифраз пушкинской формулы — «школа гармонической точности». Любо¬
пытно, что Л. Гинзбург, подхватившая эту формулу и сделавшая ее ключом к поэтике
Пушкина и его круга, также впервые заговорила об особой поэтической точности
Олейникова.
96 См.: Тынянов: 230.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [105]
ветствовать в вашем лице, может быть, нарождающуюся общественность"97.
Художникам в шутку предлагал написать картину "Смерть в жакте", архитек¬
торам советовал для защиты диплома тему "Фанера и мрамор" или "Вместо
железа толем", ученым рекомендовал написать трактат "Как положить две
спички рядом"» (Курдов: 96).
Лидия Жукова приводит в своих мемуарах очень яркий пример ерниче¬
ского остраннения Олейниковым унылого советского быта конца 1920-х —
начала 1930-х годов: «Однажды мы зашли с ним в большой гастрономический
магазин на Невском, где в строгом порядке на полках красовалась бутафо¬
рия — пустые консервные банки. У прилавка — громадная бочка с прокис¬
шими, смрадными огурцами. "Дайте мне что-нибудь голубое. Мне нужны го¬
лубые еды". Он именно так произнес, с ударением на "е". В магазине не было
ни красного, ни белого, ни розового, ни желтого. Ничего не было. И продав¬
цы конфузливо жались: "Нет, голубого ничего нет!"» (Жукова: 165).
Четырьмя убийственно глумливыми строками отозвался Олейников на
те самые события в жизни советской деревни, которые породили страшную
поэму Николая Клюева «Погорельщина» и трагическое стихотворение Оси¬
па Мандельштама «Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым...»:
Колхозное движение,
Как я тебя люблю!
Испытываю жжение,
Но все-таки терплю.
«Олейников, человек сложной судьбы, раньше других сообразивший, в ка¬
ком мы очутились мире, и не случайно в собственной своей работе продол¬
живший капитана Лебядкина». Такую характеристику Олейникову дала ед¬
ва ли не лучшая специалистка по всему советскому и антисоветскому На¬
дежда Яковлевна Мандельштам (Мандельштам Н.: 313).
9
Конец лета — осень 1929 года ознаменовались для участников тогдашней
литературной жизни так называемой «"дискуссией" о Пильняке и Замяти¬
не», положившей начало коренной перестройке советских писательских
97 «Здоровался он обычно так:
— Разрешите вас приветствовать и в вашем лице м. б. нарождающуюся обще¬
ственность.
Когда у него спрашивали, что значит сокращение, он без улыбки отвечал:
"м. б. — может быть"» (Рахтанов 1966:138).
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [106]
организаций. 26 августа «Литературная газета» напечатала большую ста¬
тью известного партийного деятеля Б. Волина (Бориса Михайловича Фрад¬
кина) «Недопустимые явления». В этой статье руководителям Московско¬
го и Ленинградского отделений Всероссийского Союза писателей — Борису
Пильняку и Евгению Замятину инкриминировалось сотрудничество с загра¬
ничными «белоэмигрантскими» изданиями — речь шла о публикации пове¬
сти «Красное дерево» и романа «Мы» в Берлине и Праге. Затем к шельмо¬
ванию Пильняка, Замятина и других писателей-«попутчиков» быстро и сла¬
женно присоединились «Правда» и «Известия». Особенно усердствовал
знакомец Олейникова еще по «Всероссийской кочегарке» Борис Ольховый.
Часть оппозиционно настроенных поэтов и прозаиков (Пастернак, Ахмато¬
ва, Булгаков) в знак протеста подала заявления о выходе из союза.
Однако в целом советские литераторы продемонстрировали абсолют¬
ную готовность к безоговорочному послушанию власти. К началу 1930 года
они были деморализованы настолько, что Сталин и его подручные, почти не
опасаясь общественного мнения, могли приступить к формовке нойой пи¬
сательской организации как огромной и тщательно отлаженной пропаган¬
дистской машины с единым руководящим центром. Патентами на эту маши¬
ну предстояло стать резолюциям Первого съезда советских писателей, со¬
стоявшегося 17 августа — 1 сентября 1934 года98.
Нужно сразу же заметить, что представлять советскую литературу для
детей конца 1920-х — начала 1930-х годов не более чем филиалом совет¬
ской литературы для взрослых было бы недопустимым и обидным упро¬
щением. Довольно долго в детской литературе главенствовали куда более
либеральные законы, чем во взрослой. В частности, обэриутам удавалось
печататься в детских ленинградских журналах и тогда, когда двери всех
взрослых изданий были для них плотно и решительно закрыты.
Идеологические правила, провозглашенные для детской литературы,
и непререкаемые заповеди для литературы взрослой соотносились весьма
причудливо — как на рубеже двадцатых-тридцатых годов, так и позднее.
«В простой и глубоко поэтической форме рассказано ребенку о смысле кни¬
ги — запечатленной памяти человечества. Книга восстанавливает забытое.
Тем и ценны стихи Введенского, что они ничего не снижают и находят до¬
ступную ребенку форму для глубоких переживаний и мыслей». Таким абза¬
цем завершается хвалебная рецензия на детскую книжку едва ли не само¬
го главного (и уже побывавшего к этому времени в ссылке) обэриута, на¬
печатанная поэтессой Надеждой Павлович в 1940 (!) году, в «ежемесячном
литературно-критическом и библиографическом журнале ЦК ВЛКСМ» (!)
«Детская литература» (Павлович: 52).
98 0 деле Пильняка и Замятина см., прежде всего: Галушкин.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [107]
Но в конце 1929 года ленинградским детским писателям, группировав¬
шимся в ГИЗе, досталось почти так же сильно, как взрослым, причем прямая
связь атаки на писателей для детей с кампанией против Пильняка и Замя¬
тина ясно осознавалась и хулителями, и хулимыми. «Если в области совре¬
менной литературы мы имеем целый ряд крупных достижений, имеем ка¬
дры действительно пролетарских писателей, научились распознавать врага
и бить Пильняков и Замятиных, — разглагольствовал в феврале 1930 года
А. Свердлов, — то в области детской книги картина диаметрально противо¬
положна. Пролетарского детского писателя, особенно для ребят младшего
возраста, почти нет» (Свердлов: 54).
Начался разговор о положении дел в современной литературе «для ре¬
бят младшего возраста» вроде бы вполне мирно. 16 декабря 1929 года на
первой странице все той же «Литературной газеты» появилась установоч¬
ная статья С. Болотина и В. Смирновой «Детская книга в реконструктивный
период». Некоторые из положений этой статьи были более чем очевидными
или демагогическими, под некоторыми — с охотой подписался бы не только
Маршак, но и Хармс с Введенским и Бианки с Житковым. Болотин и Смирно¬
ва декларировали: «Детская книга должна быть четко социально направле¬
на. Детская книга должна давать ребятам эмоции бодрости. Каждая детская
книга должна расширять кругозор ребят. Детская книга должна быть напи¬
сана языком, который учит ребенка легко и правильно выражать свои мыс¬
ли. Детская книга должна быть высокохудожественной. Стих должен легко
запоминаться. Его ритм обязан быть четким и доступным. Инструментовка
стиха должна удовлетворять и организовать законную потребность ребят
в упражнении своих речевых способностей. Отсюда вполне уместно насы¬
щение детского стиха явными аллитерациями, внутренними рифмами и т. п.
Однако никакая звукоподражательная "заумь" ни в коем случае недопусти¬
ма» (Болотин, Смирнова: 1). В этих тезисах обэриутов могло насторожить
разве что ругательное в то время словечко «заумь».
Однако на второй странице номера за этот же день «Литературная га¬
зета» опубликовала хлесткий фельетон Д. Кальма «Против халтуры в дет¬
ской литературе. "Куда нос его ведет?"», второй и третий пункты которо¬
го были специально посвящены «разоблачению» Маршака и близких к не¬
му писателей".
Начинает Кальм усыпительно вежливо, за здравие: «С. Маршак принад¬
лежит к числу крупнейших знатоков детской книги, он один из самых по¬
пулярных детских писателей» (Кальм 1929: 2). «Но кроме того, — спе¬
шит прибавить критик, — он заведует детским сектором Ленгиза и являет¬
ся единственным литературным консультантом отдела детской книги Гиза
99 Ср. с важными соображениями о пионерской работе: Устинов: 125—138.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [108]
в Москве» (Там же). Дальше обвинения начинают сыпаться как из рога изо¬
билия: «То, что в Гизе много болтают — факт <...> Когда молодые писате¬
ли предлагают Гизу книгу на современную и социально значимую тему, ее
часто бракуют за якобы недостаточную художественность. В то же время
Гиз не только не перестает наводнять рынок детской книги массовыми из¬
даниями Чуковского, но издает и переиздает произведения многочислен¬
ных, но менее талантливых его подражателей. В Гизе выходят собрания со¬
чинений К. Чуковского и С. Маршака. Гиз культивирует "бессмысленку".
Гиз выпускает непонятные, нелепые, чудовищные вещи, вроде "Во-первых"
Д. Хармса, которые ни по формальным признакам, ни тем более по свое¬
му содержанию ни в какой мере не приемлемы <...> Если Гиз далек от то¬
го, чтобы воспитывать материалистическое мировоззрение в детских авто¬
рах, то он по крайней мере должен заняться воспитанием его в наших де¬
тях» (Там же).
Как и в случае с травлей Пильняка и Замятина, литераторы из партии
охранителей попытались выступить единым фронтом. В № 12 ортодоксаль¬
ного рапповского журнала «Октябрь» появилась грубая статья детского пи¬
сателя Бориса Шатилова «"Еж"». Годом раньше, в седьмом номере «Ежа»
Шатилов опубликовал рассказ «Джалиль-Непокупай». Больше ему напеча¬
таться в этом журнале не удалось, и вот теперь у обиженного автора поя¬
вился реальный шанс отомстить «высокомерным» ленинградским редакто¬
рам. Сделал Шатилов это так (приведем выразительную нарезку микрофраг¬
ментов из его статьи): «Писатели, и в особенности группа ленинградских
писателей (Маршак, Чуковский и их сподвижники) провозгласили примат
формы над содержанием. Аристократическую форму они противопостави¬
ли грубой демократии содержания, как нечто враждебное друг другу <...>
Читатель — безусый или с усами — всегда мещанин, любитель дешевых
эффектов. Следовательно, и покорять его надо такими же дешевыми ме¬
щанскими методами. Побольше таинственности ("Таинственные следы",
"Таинственное изобретение Ивана Топорышкина", "Таинственные фоку¬
сы таинственной тети Анюты"), побольше чудес бульварного тона ("Чудеса
на экране", "Чудо", "Чудесная доска", "Горючий снег", "Светящийся поли¬
цейский", "Львы на улице", "Страшный корабль"), побольше приключений
храбрецов ("Путешествия храброго Ван-Гугена", "Приключения храброго
Фридриха Фрея", "Удивительные приключения Макара Свирепого", "При¬
ключения врунов" и т. п.), побольше курьезов, "фантастики" Чуковского,
побольше дешевой литературщины, — словом, надо пустить в ход весь ар¬
сенал бульварной журналистики, — и у читателя дух займется и глаза вы¬
лезут на лоб! <...> Проснитесь, гр. Маршак! Кошачьего уюта уже нет <...>
Маститым подпевают их поэтические отпрыски: Введенский и Хармс —- эти
близнецы детской литературы <...> Житков начинает свою до крайности из-
Жизнь и стихи Николая Олейникова [109]
ношенную цирковую историю ("Клоун") напыщенной литературщиной <...>
Неужели Главсоцвос серьезно думает, что эти курьезы, эта библиотечная
гниль — есть орудие классового воспитания?» (Шатилов 1929а: 184,188,
189). Отметим, что в статье Шатилова, в отличие от фельетона Кальма, был
впервые лично задет в печати герой нашей работы — автор статьи «Еж» ми¬
моходом обругал серию картинок с подписями «Приключения Макара Сви¬
репого», которую курировал Олейников100.
Реакция советских поэтов и прозаиков на фельетон Д. Кальма (статья Ша¬
тилова была ими просто проигнорирована) ясно показывает, что детские пи¬
сатели в 1929 году были сплочены гораздо теснее, чем взрослые и что они от¬
нюдь не собирались сдаваться без борьбы (привлекая взрослых на свою сто¬
рону в качестве союзников). На второй странице «Литературной газеты» от
30 декабря 1929 года появилось несколько возмущенных коллективных пи-
сем-ответов Кальме, напечатанных под шапкой «За действительно советскую
литературу!» Среди подписантов значились В. Бианки, В. Каверин, Ю. Тыня¬
нов, И. Рахтанов, Б. Бухштаб, Д. Хармс, Ю. Владимиров, Н. Заболоцкий, Г. Бе¬
лых, Л. Пантелеев, Б. Житков, Е. Шварц, Т. Габбе, А. Введенский, Н. Тихо¬
нов, К. Федин, М. Слонимский, М. Зощенко, Б. Пастернак и другие писатели.
И хотя в этом же номере Кальм ответил оппонентам еще более резкими обви¬
нениями в адрес Маршака и его группы101, а рядом была напечатана развяз¬
ная статья председателя комиссии по детской книге НКП РСФСР Е. Флериной
«С ребенком надо говорить всерьез»102, говорить о безоговорочном пораже¬
100 В ноябрьском четвертом/пятом номере журнала «Книга детям» Шатилов напечатал
злобный пасквиль «О "Заповедях" Чуковского, о воскресении Лазаря и о прочем». Этот
пасквиль представлял собой ответ на опубликованные в первом, майском номере «Книги
детям» за 1929 год «Тридцать заповедей для детских поэтов» Корнея Чуковского, в кото¬
рых встречается, например, такой пассаж: «Маленький Лева, видя, что маляр безжалост¬
но замазывает щелку, в которой живут клопы, выразил свое огорчение в таких плачущих
некрасовских дактилях: <">Клопик сидел и вертелся / В щелке угрюмой своей<">. Но
когда его скорбь сменилась энергичной ненавистью, он перешел от дактиля к хорею:
<">А всему тому был виной / Старый с черной бородой<"»> (Чуковский 1929:14). На это
Шатилов отреагировал так: художнику «ничего не остается делать, как описывать этих
клопиков, тараканов и тараканищ» (Шатилов 1929: б). Можно легко догадаться, на чьей
стороне в этом заочном споре был бы певец насекомых Николай Олейников.
101 «Позволительно ли выступать в печати с оглушительными протестами, ничего не
опровергая, ни в чем не разубеждая, ничего не доказывая, опираясь на одну лишь
популярность скрепляющих эти "протесты" подписей?» (Кальм 1929а: 2).
102 Вот пара характерных выдержек из нее: «Тенденция позабавить ребенка, дура¬
чество, анекдот, сенсация и трюки даже в серьезных, общественно-политических
темах, — это есть не что иное, как недоверие к теме и недоверие, неуважение к ре¬
бенку, с которым не хотят говорить всерьез о серьезных вещах <...> Достаточно
взглянуть на последнее приложение к "Ежу" уже 1930 года, чтобы понять, что дан¬
ная группа с ее направлением сильна, и борьба предстоит большая» (Флерина: 2).
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [110]
нии детских писателей из Гиза в борьбе с «Литературной газетой» и стоявши¬
ми за нею силами не приходится. Главные бои были еще впереди.
Николая Олейникова среди тех, кто напечатал протестные письма в «Ли¬
тературной газете», мы не найдем. Но это не означает, что редактор «Ежа»
в данном случае решил отмолчаться и на предъявленные Гизу обвинения
не ответил. В шестом (декабрьском) номере журнала «Книга детям» за
1929 год была опубликована программная и весьма пространная «Деклара¬
ция ленинградской группы детских писателей-коммунистов», которую по¬
мимо Олейникова подписали Георгий (Юрий) Дитрих, Вера Кетлинская и со¬
трудник «Ленинградской правды» Беленко.
Текст этой «Декларации» способен изрядно удивить всякого, кто не
слишком закален чтением советской прессы конца 1920-х — 1930-х годов.
В отличие от Шварца, Тихонова, Федина и других писателей, выступив¬
ших в «Литературной газете», Олейников и его партийные товарищи решили
не защищаться, а сами пошли в атаку, действуя на том же идеологическом,
то есть с неизбежностью демагогическом, поле, что и Кальм с Флериной.
Они повели себя как опытные шахматисты, жертвующие одной фигурой
ради сохранения другой, более, по их прикидкам, важной. Такой разменной
фигурой для авторов «Декларации» стал Корней Чуковский — наверное,
потому, что он не был организатором литературного процесса. С выведения
Чуковского и некоторых других, менее значительных прозаиков и поэтов из
дружного ряда советских детских писателей декларация начинается: «Дет¬
ская литература в опасности. Общее обострение классовой борьбы в стра¬
не отразилось и в детской литературе. Классовый враг пытается укрепиться
и захватить детскую книгу в свои руки. В наступлении участвуют предста¬
вители самых разнообразных течений. Здесь и резко выраженные буржу¬
азные и мелкобуржуазные писатели, открыто ориентирующиеся на бур¬
жуазного ребенка (К. Чуковский, С. Федорченко, Н. Агнивцев, Гимене, Хо¬
лодов, Мих. Андреев и др.), и приспособленцы всех цветов и оттенков»
(Декларация: 2). Ближе к финалу декларации имя Чуковского возникает
вновь и тоже в весьма негативном контексте: «Большой ошибкой Гиза была
покупка у "Радуги" всей продукции К. Чуковского. На некоторых книгах Ги¬
за, особенно на изданных в первые годы существования отдела детской ли¬
тературы, лежит отпечаток увлечения исключительно формальным мастер¬
ством в ущерб социальной значимости» (Там же: 5).
Складывается впечатление, что Олейникову и другим авторам «Декла¬
рации» было важно разорвать устойчивую для критических статей о ле¬
нинградских детских писателях связку «Чуковский — Маршак», а потом —
непрямо, но отчетливо противопоставить одного поэта другому. Впрочем,
говоря «поэта», мы не совсем точны: Маршак брался под защиту Олейни¬
ковым, Дитрихом, Кетлинской и Беленко прежде всего не как поэт, а как
Жизнь и стихи Николая Олейникова [111]
глава детского отдела ГИЗа. Поэтому в тексте декларации он предстает не
в реальной своей роли полноправного хозяина детской ленинградской ли¬
тературы (так раздражавшей Олейникова), а в функции едва ли не рядо¬
вого гизовского редактора: «Приспособленцы очень много места в своих
нападках отводят одному из гизовских редакторов — С. Я. Маршаку. Пре¬
красно зная, что работа на детской книге ведется по директивам партийных
организаций, приспособленцы намеренно игнорируют это обстоятельство
и стремятся изобразить Маршака в виде диктатора и монополиста, захва¬
тившего в свои руки всю детскую литературу. На самом деле Маршак явля¬
ется лишь частью большого и сплоченного коллектива редакторов, вклю¬
чающего наряду с ним и партийных товарищей и представителей пролетар¬
ско-писательской организации» (Там же).
Соответственно, и в отчете об успехах детского отдела Госиздата
и «Ежа», который представлен в декларации, упор сделан не на фигуре
Маршака, а на коллективных усилиях его соратников и сотрудников: «Из¬
даны книги, вводящие ребенка в атмосферу труда, поднимающие инте¬
рес к технике, подготовляющие его к борьбе за индустриализацию страны.
Производственные книги: Б. Житкова, М. Ильина, Я. Перельмана, "Тюрем¬
ные робинзоны" — М. Новорусского, А. Введенский — "Рыбаки", Н. Дилак-
торская — "Хлеб", С. Маршак — "Вчера и сегодня", "Как рубанок сделал ру¬
банок", "Мастер-ломастер", "Почта", Данько — "Китайский секрет".
Книги, воспитывающие ребенка в духе коллективизма и товарищества:
Н. Асеев — "Красношейка", Л. Савельев — "Пионерский устав", С. Мар¬
шак — "Отряд", Г. Белых и Л. Пантелеев — "Республика Шкид", Г. Дитрих —
"Казачата", Н. Заболоцкий — "Букан", Б. Лавренев — "Радио-Заяц",
Е. Шварц — "Лагерь", Л. Пантелеев — "Портрет", Ел. Полонская — "Про
очаг да ясли", А. Самохвалов — "Лагерь", Д. Четвериков — "Кривулина",
Ел. Ильина — "Два детдома" и др.
Книги, показывающие ребенку, кто его друзья и враги, воспитываю¬
щие его в духе интернационализма: М. Борисоглебский —- "Джангыр-Бай",
В. Верейская — "Таня-революционерка", А. Голиков — "РВС", Б. Житков —
"Компас", В. Каверин — "Осада дворца", В. Каверин — "Впереди всех",
И. Каров — "Соль", С. Кравцов — "Прохор Тыля", 3. Лилина — "Дети-рево-
люционеры", "Ленин и юные ленинцы", "Наш учитель Ленин", Г. Лебеден¬
ко — "Четыре ветра", Н. Олейников — "Боевые дни", "Удивительный празд¬
ник", "Индийская голова", Ел. Полонская — "Город и деревня", А. Самохва¬
лов — "Наш город", "Мстительный Худжар", Л. Савельев — "Охота на царя",
Слонимский — "Черниговцы", Н. Тихонов — "От моря до моря".
Подготовляются: коллектив авторов: "Наши праздники", "Труд и быт на¬
родов СССР", Эрнест — "Немецкий комсомол", Лебеденко — "Международ¬
ная детская неделя", Порет — "Гражданская война", Глебова — "Как мы от¬
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [112]
били Юденича", Свиненко — "1905 г.", Зенкевич — "Первомайская книж¬
ка", Врубелевский — "История одного отряда", Шварц — "Три встречи",
Н. Олейников — "Приезд Ленина", Книжки-картинки — "Крейсер Аврора",
"Двенадцать октябрей" и др.
Особое внимание уделяется укреплению наиболее отсталых участков
детской литературы, книгам о пятилетке, книгам антирелигиозным и кни¬
гам, направленным против антисемитизма, причем работа над антирелиги¬
озной книгой ведется совместно с обществом безбожников.
Готовятся к печати книги: антирелигиозные — Н. Уржумский — "Быв¬
ший праздник", "Пионеры о пасхе", сборник рассказов на антирелигиозные
темы; по борьбе с антисемитизмом — Э. Паперная — "Страшная неделя",
С. Маршак — "Война трех дворов", С. Чацкина — "Маленькие пионеры" и др.
В ближайшее время выходят книги о пятилетке М. Ильина, Л. Савелье¬
ва, В. Тамби и книги, освещающие отдельные области нашего строитель¬
ства (М. Ильин — "Армия тракторов", Задунайская — "Труд и быт народов
СССР", Коновалова — "Хлебзавод", коллективный автор — книжка о нефти,
книжка об общественном питании и др.) <...>
Библиотекари-книгоноши, школьники и пионеры объединены постоян¬
ным совещанием книжкоров при редакции. Совещание обсуждает и проверя¬
ет продукцию Гиза и знакомит редакцию с требованиями и запросами детей.
Редакция журнала "Еж" совместно с детским отделом Гиза провела ряд
утренников по рабочим пионерским клубам (Охтенский домпросвет, Васи-
леостровский пионерский клуб, клуб центрального района, клуб им. т. Но¬
гина, при заводе Госзнак, в Московско-Нарвском доме культуры, Путилов-
ского завода и т. д.). В результате этих выездов в школах образовался чита¬
тельский актив друзей "Ежа".
Редакцией проведено два общегородских слета "друзей «Ежа»", на ко¬
торых обсуждались очередные задачи, стоящие перед журналом "Еж".
Детский отдел Гиза тесно связан с выезжающими в колхозы бригадами
городских пионеров и школьников и сам командировал в коммуну Полуяно¬
ва своих сотрудников — Л. Пантелеева и др.» (Декларация: 3—5).
Напрямую о статье Д. Кальма в «Литературной газете» речь заходит
лишь в четырех финальных абзацах декларации, причем Олейников и его
товарищи с легкостью разворачивают против критика его же собственное
главное оружие. Эти абзацы густо насыщены зловеще громыхающими га¬
зетными штампами эпохи. Мы встречаем в них и «справедливую отповедь»,
и «беспринципные наскоки», и «нездоровую атмосферу вокруг детской ли¬
тературы», и «ложное впечатление о работе Гиза в широких общественных
массах», и, наконец, неизбежный общий вывод: «Партийным организаци¬
ям и советской общественности необходимо сказать здесь свое веское сло¬
во» (Декларация: б).
Жизнь и стихи Николая Олейникова [113]
«Стишочки ваши прочитавши, я обрадовался как...»
(В Ленинграде: 1930—1936)
1
Самое интересное состоит в том, что тезисы, положенные в основу «Декла¬
рации ленинградской группы детских писателей-коммунистов», были без
затей, с небольшими вариациями пересказаны в докладе заведующего сек¬
тором детской литературы издательства «Молодая гвардия» Ивана Разина,
состоявшемся в начале января 1930 года в Доме печати. Этот доклад и его
обсуждение подвели итоги дискуссии о Маршаке и его команде, со злым
умыслом затеянной «Литературной газетой» на исходе предыдущего года.
В язвительном отчете Д. Кальма отмечалось, что «т. Разин» в своем докла¬
де «попытался противопоставить Чуковскому писателей, группирующих¬
ся вокруг журнала "Еж", и в частности стремился защитить от всяческих
"нападок" С. Я. Маршака» (Кальм 1930: 2). Прозвучало в докладе и опро¬
бованное авторами «Декларации» хлесткое словечко «приспособленцы».
«Несколько раз возвращаясь к творчеству Маршака и давая ему подчер¬
кнуто положительную оценку, — продолжает Кальм, — докладчик заявля¬
ет, что "под шумок у нас народилась плеяда писателей, творчество которых
вызывает совсем не те ассоциации, которые нам нужны". Это писатели —
"приспособленцы". К ним докладчик причисляет Гумилевского и Соколова,
Остроумова и Ауслендера, Барто и Федорченко» (Там же).
Разину после его выступления дружно оппонировало сразу несколько
ораторов, среди которых особо выделим уже цитировавшегося нами дет¬
ского писателя Бориса Шатилова и некоего «пионервожатого т. Свердло¬
ва» (как он был охарактеризован в отчете Кальма). Спустя месяц, в февра¬
ле 1930 года, Свердлов напечатал в журнале «Юный коммунист» погромный
фельетон под говорящим названием «Против "старушек" и "крокодилов"»,
в котором он вновь ополчился на Корнея Чуковского, Самуила Маршака
и молодых писателей из круга «Ежа»: «За Чуковского сейчас принимаются
по-настоящему, Чуковского можно считать уже почти разоблаченным, по¬
этому наше внимание нужно сосредоточить на более опасном враге, скры¬
том, маскирующемся, прикрывающемся оболочкой либеральных фраз. Этот
враг опасен своей многочисленностью, своей организованностью, своей
сплоченностью, и, выбивая из детской литературы Чуковского, оставить там
Маршака с его школой — это значит ничего не сделать» (Свердлов: 56).
Завершается статья Свердлова тяжелыми политическими обвинениями не¬
посредственно в адрес Николая Макаровича: «Посмотрим творчество тов.
Олейникова. В прошлом тов. Олейников дал немало хороших, действитель¬
но наших вещей ("Удивительный праздник", "Боевые дни" и пр.), но, попав
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [114]
на выучку к Маршаку, он утратил всякое политическое чутье, всякую партий¬
ную ориентацию. Беспринципная сенсация ради сенсации и трюк заслони¬
ли тов. Олейникову весь мир. В этой погоне за сенсацией он дошел до того,
что создал "Индийскую голову"» (Там же: 62). И далее еще жестче: «В "Еже"
печатаются все, начиная от Чуковского, Маршака и Будогосской и кончая
тов. Олейниковым, который даже является ответственным редактором этого
журнала. Несмотря на якобы партийное руководство, журнал ведет явно ан¬
типартийную линию. Он стоит вне жизни, вне строительства, оставаясь по¬
сторонним зрителем. Всякий, кто даст себе труд взглянуть на любой номер
журнала, увидит знакомые нам черты — поверхностность, сенсация, как та¬
ковая, в общем все черты, присущие "маршаковщине". "Еж" — это журнал
для барчат, журнал не наш, нам не нужный» (Там же: 63).
Впрочем, в более солидных, уважающих себя изданиях до таких резко¬
стей пока не доходило. В частности, в установочной обзорной статье заведу¬
ющего отделом детской и юношеской литературы Госиздата Давида Ханина,
опубликованной в первом номере журнала «Книга детям» за 1930 год, с гор¬
достью констатировалось: «Такие книги, как "Отряд" или "Почта", или поли¬
тические книги писателя-коммуниста Олейникова ("Удивительный праздник",
"Танки и санки", "Боевые дни"), или "Красношейка" и "Кутерьма" Асеева, по
праву могут быть зачислены в железный инвентарь детской литературы» (Ха-
нин 1930а: З)103. А в неподписанной редакционной передовице, появившей¬
ся 4 февраля 1930 года в «Учительской газете», критика Маршака и его сорат¬
ников соседствовала с признанием немалых заслуг «маршаковской» школы
перед детской литературой: «Особое внимание сейчас привлекает ленин¬
градская группировка детских писателей во главе с С. Маршаком. Если, с од¬
ной стороны, некоторые товарищи доходят до "обзывания" С. Маршака "клас¬
совым врагом", то другие, напротив, провозглашают его самым советским из
всех писателей. Обе эти точки зрения неверны <...> Творчество Маршака еще
полно противоречий. Задача советской общественности, беспощадно разо¬
блачая беспредметно-эстетскую часть творческой платформы ленинград¬
ской группы, бороться вместе с этой группой за подлинно советскую книгу»
(Учительская газета: 3). Рядом с этой «взвешенной» передовицей была по¬
мещена статья Р. Ивановского «Новые кадры», где о ленинградских детских
писателях, и в частности, об Олейникове, судилось еще доброжелательнее:
«Говорить нужно не только о недостатках, но и о положительных сторонах
современной детской книги. Можно назвать десятки книг, изданных за по¬
следние годы, ставших уже любимыми среди детей. Речь идет о таких книгах,
как "Республика Шкид" Пантелеева, "Черниговцы" — Слонимского, "Берко
103 Под чуть измененным заглавием статья Ханина была перепечатана в «Звезде». Во¬
шел в нее и процитированный нами пассаж. См.: Ханин 19306:201.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [115]
кантонист" — Григорьева, "Лесная газета" — Бианки, "Искатели мозолей" —
Грязнова, "Мстительный Худжар" — Самохвалова, "Хлеб" — Замчалова, "Про
эту книгу" — Житкова, книги Олейникова и др.» (Ивановский: 3).
2
Важным свидетельством если не победы, то уж точно и не поражения ле¬
нинградского отдела Госиздата в изматывающей борьбе с Д. Кальмом,
Е. Флериной, Б. Шатиловым и их единомышленниками может считаться
то обстоятельство, что с января 1930 года в пару к «Ежу» начал выходить
«ежемесячный журнал для детей младшего возраста» «Чиж» («Чрезвычай¬
но Интересный Журнал»)104. Его главным редактором с 1930 по 1932 год был
близкий олейниковский товарищ — прозаик Георгий Дитрих. Маршак это¬
му назначению, по-видимому, не противился, поскольку не мог не оценить
той поддержки, которую ему в трудную минуту оказали авторы «Деклара¬
ции ленинградской группы детских писателей-коммунистов», среди кото¬
рых, напомним, числились и Дитрих, и Олейников, сразу же выдвинувший¬
ся в «Чиже» на роль первой скрипки. Ему по-прежнему и с видимым удо¬
вольствием ассистировал Евгений Шварц. Также в состав редакции «Чижа»
(и «Ежа») в 1930 году входили Е. Горева, Л. Перкуровская и сам Маршак105.
Искрометную пару «Олейников & Шварц» в редакции «Чижа» вспомина¬
ет Лидия Чуковская: «Все смолкают, когда в комнату входят, учтиво раскла¬
ниваясь, двое, всегда появляющиеся вместе: ответственный редактор жур¬
нала "Чиж" Николай Макарович Олейников и один из редакторов журнала
"Еж" — Евгений Львович Шварц (редакции детских журналов расположены
в комнатах по соседству). Говорят эти двое всегда тихими голосами, лица
у них невозмутимые, но все знают: раз явились Шварц и Олейников — сей¬
час начнется смех. Недаром и наружностью Олейников напоминает извест¬
ный потрет Козьмы Пруткова.
104 Эта аббревиатура использовалась для домашнего пользования и на обложку жур¬
нала не выносилась. Ср., впрочем, монолог персонажа Вани Мохова в игровом тексте
«Менять ли нам название?», помещенном в № 8 «Чижа» за 1934 год: «...ваш "Чиж"
хуже моего. Ваш "Чиж" значит — "чрезвычайно интересный журнал", а мой "Чиж" —
значит — "читай интересный журнал"».
105 Имя Олейникова (и всей редколлегии) исчезло с обложки «Ежа», начиная с вось¬
мого (апрельского) номера за 1931 год. Однако в № 19—24 за 1931 год Олейников
значился заведующим редакцией этого журнала. В номерах за 1932—1937 годы имя
Олейникова на обложке в качестве редактора или члена редколлегии больше не по¬
явилось ни разу. В номерах «Чижа» фамилия Олейникова печаталась в качестве члена
редколлегии во всех номерах за 1930 год, а также в № 1—5 (май) за 1931 год.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [116]
— Евгений Львович создал произведение огромной впечатляющей си¬
лы, — с важностью произносит Олейников. — Оно едино в трех жанрах: это
сатира, ода, а быть может, отчасти и басня.
— Один зоил
Коров доил, —
начинает Шварц, и комната сразу отзывается смехом; милостиво улыбается
Заболоцкий, а Юра Владимиров — тот так и покатывается со смеху. Но тон¬
кие губы и желтые глаза баснописца остаются серьезными. <...>
Олейников и Шварц, сохраняя полную серьезность, раскланиваются пе¬
ред слушателями. В эту минуту входит Маршак. Ему заново читают басню
(она же сатира и ода), и он смеется так неудержимо, что вынужден снять
очки и протереть залитые слезами стекла» (Чуковская 1962:16).
Еще один словесный парный портрет Шварца и Олейникова в редакции
«Чижа» был набросан подругой обоих писателей еще по Бахмуту, Эстер Па-
перной: «На подоконнике стоит Евгений Шварц, завернутый в скатерть со
стола, как статуя в тоге, и читает громким, "медным" голосом:
Когда могущая зима
Как бодрый вождь, ведет сама
На нас косматые дружины... —
в общем, весь монолог Председателя из "Пира во время чумы", — а Олей¬
ников под эту как бы музыку танцует "Умирающего лебедя". И только после
этого начинался рабочий день» (Рауш-Гернет: 60).
Процитируем также фрагмент из устных мемуаров Лидии Будогосской:
«Олейникова и Шварца я встречала в Детгизе. Ошеломленная их речевым ис¬
кусством, я не могла понять, говорят они серьезно или шутят? Когда они сой¬
дутся, для меня они были как два жонглера в цирке» (Глоцер 2012:196).
Нужно вновь заметить, что шутки Шварца над сотрудниками и автора¬
ми «Чижа», как правило, отличались милым добродушием, а шутки Олейни¬
кова куда чаще бывали едкими и обидными. Для сопоставления приведем
здесь два фрагмента из воспоминаний Исая Рахтанова. Первый — о Швар¬
це и Ираклии Андроникове: «Однажды нарочно все ушли из редакции, оста¬
вив Ираклия корпеть над составлением десятистрочного шедевра, но и час,
проведенный в абсолютной тишине, не помог ему.
— Не получается, — горько сказал он Евгению Шварцу, порекомендо¬
вавшему его в редакцию.
— Тебя выгонят отсюда, — ответил Шварц, — должно выйти.
— Нет.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [117]
— Ну знаешь...
— А может, я дурак? Совсем ведь не получается...
Тогда Шварц в духе редакции заговорил стихами. Вот этот экспромт, по¬
даренный мне Ираклием Андрониковым через тридцать лет:
На вопрос тревожный Ираклия:
"О скажите, друзья, не дурак ли я?"
Отвечали хором друзья:
"Этот факт отрицать нельзя!"»
(Рахтанов 1966:165—166)
Второй фрагмент мемуаров Рахтанова рассказывает о не очень-то доброй
шутке Олейникова над Даниилом Хармсом: «К первому номеру» «Чижа»
«Маршак и Хармс написали песню о веселых чижах. Была она посвящена
Шестому ленинградскому детдому.
Жили в квартире
Сорок четыре,
Сорок четыре
Веселых чижа:
Чиж — судомойка,
Чиж — поломойка,
Чиж — огородник,
Чиж — водовоз,
Чиж за кухарку,
Чиж за хозяйку,
Чиж на посылках,
Чиж — трубочист.
<...> В детдоме это разучили и уже пели, когда в редакцию зашел Хармс.
Встретил его Олейников, чем-то очень озабоченный, так, по крайней мере,
показалось Хармсу.
— Ничего не слыхали, Даниил Иванович? — спросил редактор.
— Нет, — конечно, Хармс, как всегда, ни о чем не знал, тем более что
весь последующий спектакль был начисто подготовлен самим Олейнико¬
вым, любившим такие мизансцены <...>
— Беда! — совершенно серьезно и в то же время с усмешкой продол¬
жал Николай Макарович. — Ваши чижи-то... заболели. И знаете, чем? Вот
послушайте.
И он прочитал свою пародию:
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [118]
Жили в квартире
Сорок четыре,
Сорок четыре
Печальных чижа:
Чиж — паралитик,
Чиж — сифилитик,
Чиж — параноик,
Чиж — идиот!106
Хармс не нашел быстрого ответа, человек это был очень ранимый» (Рахта¬
нов 1966:166—169).
Почти как прямой комментарий к этому эпизоду смотрится монолог
Хармса об Олейникове, записанный Леонидом Липавским три года спустя:
«В Н. М. необычная озлобленность. Среди нас, правда, нет хороших людей;
но Н. М. обладает каким-то особым разрушительным талантом чувствовать
безошибочно, где что непрочно, и одним словом делать это всем ясным.
Поэтому-то он так нравится всем, интересен, блестящ в обществе. В этом
и его остроумие» (Разговоры: 392).
В редакции журнала «работали, когда проголодавшиеся писатели ухо¬
дили обедать, или, как говорил Борис Житков, "выпить рюмку пива"», —
вспоминала Нина Гернет (Гернет: 203). Согласно мемуарам Лидии Жуко¬
вой, Шварц и Олейников даже «в служебное время» постоянно обретались
в «неказистой пивнушке» «напротив Думы, этой чванливой питерской ка¬
ланчи»: они там «изощрялись в выдумках, сочиняли, хохотали, туда явля¬
лись к ним авторы, и тоже изощрялись, и тоже хохотали» (Жукова: 162—
163). Два приятеля, сидящие в этой пивной, запечатлены в черновом вари¬
анте стихотворения Даниила Хармса «Окнов и Козлов» (1931):
Со мной сидел Евгений Львович
и Николай Макарович Олейников
они свирепо грызли кости
руками курицу деря...
(см.: Мейлах 1999:565)
106 Вот полный и правильный текст пародии Олейникова:
Жили в квартире Чиж-шизофреник,
Сорок четыре Чиж-симулянт.
Сорок четыре
Тщедушных чижа:
Чиж-алкоголик,
Чиж-параноик,
Чиж-паралитик,
Чиж-сифилитик,
Чиж-маразматик,
Чиж-идиот.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [119]
Процитируем также фрагмент из мемуаров Исая Рахтанова: «...посети¬
теля встречал в редакционной комнате плакат, висевший на самом вид¬
ном месте, там, где обычно помещают вежливое приглашение: "У нас не
курят": "График на фиг!"» (Рахтанов 1966: 141—142). Деланье оче¬
редного номера журнала, которое, разумеется, являлось главной забо¬
той редакции, двигалось как бы между прочим, под аккомпанемент шу¬
ток и розыгрышей, эпиграмм и каламбуров, так что атмосфера всеобще¬
го веселья и подтрунивания легко, без потужных усилий переливалась
прямо в рассказы, стихи и очерки, печатавшиеся в «Чиже»: «Многие
веселые страницы журнала возникали из этого словесного серпанти¬
на» (Андроников 1984: 194). Что и было сверхзадачей Олейникова со
Шварцем — вспомним письмо Житкова, цитировавшееся нами выше:
«Мы откидываем всякую мораль, всякую педагогическую задачу» (Чер¬
ненко: 15).
Конечно, идеология не была «откинута» редакторами «Чижа» абсо¬
лютно. Уже на обложке первого номера журнала красовалась фотография
маленького Володи Ульянова, а в самом этом номере, как и в остальных
номерах «Чижа», в обязательном порядке печатались всевозможные про¬
пагандистские материалы: «Ленин маленький», «Народы СССР», «Как я уз¬
нал имя Ленин», «Дошкольники и октябрята», «Старая деревня и колхоз»
и прочее в том же духе. Однако на фоне других детских и взрослых изда¬
ний, выходивших в то время в Стране Советов (включая и «Ежа»), «Чиж»
действительно смотрится едва ли не как аполитичный, программно «бе¬
зыдейный» журнал.
Стоит ли удивляться, что эта установка была очень быстро распознана
и обругана бдительными советскими критиками? «Основная беда "Чижа"
в том, что живая занимательность переходит в пустое фиглярство, в жур¬
нале апология "лепых нелепиц". Нет Чуковского, но он густо насыщен чу-
ковщиной», — упоенно разоблачала «Чиж» С. Марголина (Марголина
1930а: 131). В другой статье этого же времени досталось от Марголиной
и «Ежу»: «Сумев собрать вокруг себя достаточно сил, сумев привлечь ква¬
лифицированных работников и добиться доброкачественной продукции,
"Еж" не сумел все-таки объединить эти силы, охватить их общей идейной
волной, создать общую идейную атмосферу <...> В "Еже" могут вдруг вы¬
скочить такие безвкусицы, как "Новые приключения Макара Свирепого"»
(Марголина 19306: 22).
«Новые приключения Макара Свирепого» (рисунки Б. Антоновско¬
го, текст Олейникова) появлялись с продолжением в номерах «Ежа» за
1930 год, начиная с июльского и завершая декабрьским. В «Чиже» за этот
год ни одного материала, подписанного самим Олейниковым или кем-ни¬
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [120]
будь из его двойников-«нахлебников»107, нам обнаружить не удалось.
«Олейников участвовал в этих журналах не как поэт и даже не как прозаик,
а скорее как персонаж, как герой» (Чуковский Н.: 256).
Зато в 1930 году в «Чиже» регулярно печатались Самуил Маршак, Ни¬
колай Заболоцкий (под псевдонимом Я. Миллер), Юрий Владимиров, Алек¬
сандр Введенский, Ольга Берггольц... Евгений Шварц вел постоянную ру¬
брику «Приключения мухи» (муха ползает по глобусу, а повествователь
рассказывает о странах, которые она «пересекает»); М. Ильин — «Школа
"Чижа"» (рубрика обучала ребят разнообразным полезным умениям). На¬
стоящим открытием журнала стал график и писатель Евгений Чарушин, в те¬
чение 1930 года публиковавший в «Чиже» свои замечательные анимали¬
стические рисунки в сопровождении коротких пояснений: «Жили в комнате
пятеро: малиновый щур, Прошка-волчишка, Харлашка-дог, Вася черный кот
и я. Щура я сеткой в лесу поймал. Прошку-Волчонка у охотника купил, Дога-
Харлашку в гости взял, а Вася-кот сам пришел...» Чарушин был рекрутиро¬
ван в детскую литературу Маршаком. Не будь маршаковского редакторско¬
го таланта, «не было бы в нашей литературе миниатюр Чарушина», — сви¬
детельствует Исай Рахтанов (Рахтанов 1966:170)108.
Вообще в «Чиже» публиковалось много красочных рисунков большо¬
го формата, иногда — на целый разворот, выполненных первоклассными
иллюстраторами. Среди них были и ставленники Маршака, такие, напри¬
мер, как В. Лебедев, и художники, привлеченные Олейниковым, скажем,
Т. Глебова и П. Соколов. Просмотр годового комплекта журнала за 1930 год
оставляет впечатление, что между Маршаком и группой Олейникова бы¬
ло в этот период заключено негласное и плодотворное творческое «пере¬
мирие». Также в «Чиже» печатались рисунки и иллюстрации А. Пахомова,
107 Ср. стихотворение поэта 1928 года:
Целование шлет
Николай Олейников
С кучей своих нахлебников:
Макара Свирепого,
Кравцова и H. Технорукова,
Мавзолеева-Каменского
И Петра Близорукого,
Славной шестерки в одном лице —
«Забойской артели» —
На донецкой земле!
108 Ср. также в позднейшей автобиографии Чарушина: «"Переполненный до краев"
наблюдениями детства и охотничьими впечатлениями, я стал, при горячем участии
и помощи С. Я. Маршака, писать сам» (Чарушин: 31).
Жизнь и стихи Николая Олейникова [121]
В. Курдова, В. Стерлигова, В. Ермолаевой, Н. Тырсы, К. Рудакова, Н. Лапши¬
на, В. Конашевича и других мастеров109.
Легко можно себе представить, сколь завораживающее впечатление эти
рисунки должны были производить на тогдашних ленинградских ребят, из
чьей повседневной жизни яркие, праздничные краски и цвета исчезли поч¬
ти что без следа.
В пандан к едкой шутке Олейникова о «цветных ёдах», которых ему не
хватало в советских продуктовых магазинах, приведем здесь два отрывка
из дневника ленинградки Любови Шапориной как раз 1930 года (записи от
22 мая и 24 сентября): «Когда я бываю в Петербурге, то прихожу в положи¬
тельно разъяренное состояние и мысленно ругаюсь самым непристойным
образом. Шум, какая-то толпа ободранных, желтых, изможденных, озлоб¬
ленных людей; на углах неистовые громкоговорители, которых никто не
слушает, но которые оглушают и проставлены нарочно, чтобы сбить людей
с толку. В магазинах ничего нет. Окна в кооперативах разукрашены гофри¬
рованной разноцветной бумагой, и все полки заставлены суррогатом ко¬
фе, толокном и пустыми коробками <...> Ни одного свежего, здорового ли¬
ца. Ни одного приветливого, веселого. И я смотрю на себя в зеркало и ви¬
жу желтое осунувшееся лицо, синяки под глазами и голодное выражение,
одним словом, лицо как у всей толпы. Такое же лицо у моего бедного Вася-
ты (маленького сына. — 0. Л., М. С.). Я ужасно за него боюсь» (Шапори¬
на: 92,100).
Понятно, что в подобной атмосфере буффонадное веселье и яркость
«Чижа» выглядели не просто странновато, а почти вызывающе.
3
Все это отнюдь не способствовало укреплению и без того двусмысленной
репутации Николая Олейникова в глазах ленинградского партийного на¬
чальства. С одной стороны, как мы уже могли убедиться по истории с по¬
лемикой вокруг Чуковского и Маршака, затеянной Д. Кальмом в конце
1920-х — начале 1930-х годов, редактор «Чижа» вел себя взвешенно, пу¬
бличных фрондерских высказываний не допускал, что помогало ему пусть
неспешно, но продвигаться по карьерной лестнице. «Детский отдел реор¬
ганизовали, и Лидино начальство теперь — Олейников. Он портит ей много
109 Некоторые из этих художников перечисляются Лидией Жуковой при описании жи¬
лища Олейникова и устраиваемых им «пиров»: «Когда к Олейникову на эту знаменитую
мансарду вскарабкивались гости, его приятели-художники — Пахомов, Самохвалов,
Валя Курдов, — он наваривал огромный котел мяса с луком, и под это роскошное варево
водка, видно, шла хорошо» (Жукова: 173).
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [122]
крови, но в общем живется ей недурно», — 20 ноября 1930 года писал же¬
не о дочери Корней Чуковский (Чуковский 2009:193). С другой стороны,
причудливые фигуры олейниковских друзей и союзников-обэриутов все
явственнее выламывались из пейзажа официальной советской литературы.
Их очередное выступление, состоявшееся весной 1930 года в общежитии
Ленинградского государственного университета, вызвало бурное возмуще¬
ние «пролетарского студенчества» и спровоцировало крайне резкую замет¬
ку Л. Нильвича в журнале «Смена» от 8 апреля: «Обернуты далеки от стро¬
ительства. Они ненавидят борьбу, которую ведет пролетариат. Их уход от
жизни, их бессмысленная поэзия, их заумное жонглерство — это протест
против диктатуры пролетариата. Поэзия их потому контрреволюционна. Это
поэзия классового врага» (Нильвич: 153).
Олейников же упрямо продолжал печатать детские стихи и прозу са¬
мых видных обэриутов в «Чиже» й «Еже». Более того, он, по-видимому,
сделал на Хармса, Введенского и Заболоцкого самую серьезную редактор¬
скую ставку и совершенно не собирался жертвовать ими в литературной
аппаратной игре. «Если говорить по совести, то хороших детских книжек
у нас не больше полутора десятка. Кого можно здесь назвать? Кроме бес¬
спорных Маршака и Чуковского, я бы назвал Заболоцкого, Хармса, Вве¬
денского, да еще двух-трех поэтов из молодежи». Так Олейников оцени¬
вал творчество обэриутов в статье 1934 года (!) «На дошкольную тему»,
представлявшей собою ни больше ни меньше как соразмышления к до¬
кладу Самуила Маршака на Первом съезде советских писателей (Олейни¬
ков 1934а: 3).
Возвращаясь в 1930 год, отметим, что с особым остервенением в жур¬
налах и газетах тогда нападали на обэриута, регулярнее остальных членов
объединения печатавшегося в «Чиже», — Николая Заболоцкого; именно он
едва ли не первым из участников группы решился «покинуть тайный при¬
ют и выйти в жизнь»110 с книгой своих заветных — взрослых стихов. Сбор¬
ник 1929 года «Столбцы» был вручен Заболоцким Олейникову с таким ин-
скриптом:
«Стишочки Ваши прочитавши,
я обрадовался как.
Целу ночку был не спавши —
сию книжечку писал.
Между прочим получивши
ее в подарок от меня,
себе на грудку положите,
110 Здесь нам кажется уместной эта цитата из классического романа.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [123]
сказавши: как люблю тебя.
Сочинил в минуту вдохновения
Н. Заболоцкий.
P. S. Равному гению земли» (Заболоцкий Н. Н.: 141).
В рецензиях-доносах на «Столбцы», наводнивших печать в 1930 году, Олей¬
ников мог с досадой обнаружить не просто дежурные упреки советских ор¬
тодоксов в адрес писателя-«попутчика»ш, но и яростные выпады, которые
автор «Карася» имел основания отнести к своим собственным опытам во
взрослой поэзии. Особенно показательной в этом отношении была опубли¬
кованная в апрельском номере «Печати и революции» за 1930 год статья
Петра Незнамова «Система девок», в которой, например, утверждалось: За¬
болоцкий «очень способный пародист и принципиальный гаер, но основ¬
ная его стихия — пересмешничество» (Незнамов: 78). Он «снижает Фауста
до Козьмы Пруткова» (Там же). Он «не поэт, а какой-то половой психопат.
0 чем бы он ни писал, он свернет на сексуал» (Там же: 79). Как кажется,
к стихам Олейникова все эти формулировки, если изгнать из них обычную
для эпохи оценочную вульгарность, имеют куда большее отношение, чем
к медитативной поэзии Заболоцкого.
Повторимся, однако, что, в отличие от репутации автора «Столбцов»,
олейниковское реноме в 1930 году было не безнадежно одиозным, а имен¬
но двусмысленным. Иногда он даже и не без успеха примерял на себя ма¬
ску либерального партийного чиновника, курировавшего не только литера¬
туру, но и «важнейшее для нас искусство» кино. Мы подразумеваем в пер¬
вую очередь газетную заметку Николая Олейникова и его друга Владимира
Матвеева, напечатанную в вечернем выпуске ленинградской «Красной га¬
зете» от 18 декабря 1930 года и обсуждавшую уместность выхода в совет¬
ский прокат фильма Сесиля Блаунта де Милля (Cecil Blount De Mille) «Без¬
божница» («The Godless Girl»).
Сесиль де Милль тогда уже числился среди столпов голливудского боль¬
шого стиля. Прозванный недоброжелателями «поэтом ванных комнат»
и «режиссером-хамелеоном», Милль вошел в историю кинематографа в том
числе и как автор фильма «Царь царей» (1927), с размахом повествовавше¬
го о жизни, смерти и воскресении Христа. Впрочем, в том же 1927 году он
111 «Весь строй этой поэзии находится в кричащем противоречии с жизненной
доминантой наших дней» (Горелов: 16); «Судя по автору, мир сплошь залит ме¬
щанством» (Амстердам: 12); «Он не видит действительной переделки общества —
пролетариатом» (Либединский: 188). Этот же писатель прозорливо соотнес кам¬
панию против Заболоцкого, развернувшуюся в советской прессе, с недавними
обличениями Замятина: «Есть целый ряд моментов, сближающих Заболоцкого
и Замятина» (Там же).
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [124]
снял слезливую мелодраму «Волжский бурлак», фоном для которой послу¬
жил октябрьский переворот в России.
Выпущенная в августе 1928 года «Безбожница» провалилась в Амери¬
ке, поскольку тамошняя публика жаждала звуковых картин, а фильм Мил¬
ля был немым. Но в Стране Советов и, например, в Германии «Безбожни¬
ца» пользовалась большим успехом. Тем не менее, а может быть, именно
поэтому нашлись многочисленные ревнители идеологической чистоты, ко¬
торые утверждали, что этому буржуазному и религиозному фильму не ме¬
сто на советском экране. Таким критикам и отвечали Матвеев с Олейнико¬
вым в своей заметке.
Известно, что Олейников испытывал трогательную нежность по отноше¬
нию к американской культуре и американцам. «В них есть нечто старинное.
Сотни обычных вещей они делают по-своему, точно и скромно, как йоги».
Так Олейников отзывался об американцах в разговоре с Леонидом Липав¬
ским (Разговоры: 315). Очевидно, что и «Безбожница» ему, как и Матве¬
еву, очень понравилась, а потому соавторы сочли возможным, как и в слу¬
чае с «Декларацией детских писателей-коммунистов», воспользоваться
целым арсеналом демагогических приемов, защищая фильм Милля от про-
работчиков.
Первый такой прием пущен в ход уже в самом начале заметки Матвее¬
ва и Олейникова. Рецензенты решительно отказываются обсуждать эстети¬
ческую ценность фильма Милля, подменяя какую бы то ни было аргумента¬
цию двумя напористыми утверждениями: «Сесиль де Милль — выдающий¬
ся мастер. В художественном отношении его работы бесспорны» (Матвеев,
Олейников: 4).
После этого рецензия переводится в идеологический план, где соавто¬
рам в данном случае действовать было сподручнее и привычнее: они «Без¬
божницу» сознательно неточно пересказали, и в этом заключался вто¬
рой примененный ими прием. У Милля упор делался на изображении люб¬
ви, родившейся из яростной вражды девушки-атеистки и юноши — лидера
христианского молодежного союза, а все остальные персонажи выступа¬
ли в функции коллективной, почти сказочной злой силы, мешающей влюб¬
ленным воссоединиться. В пересказе Матвеева и Олейникова, в результа¬
те ловкой переакцентуализации, на первый план были решительно выдви¬
нуты социальные обстоятельства: «Перед глазами зрителей проходит ряд
потрясающих картин, которые вскрывают истинную сущность буржуазной
культуры. Герои, присланные в "дом принудительного воспитания", попада¬
ют в условия, которые вызвали бы восхищение у самых отпетых тюремщи¬
ков царского режима. "Воспитательные" методы в "доме воспитания" про¬
водятся при помощи самых утонченных пыток и издевательств. Результаты
всего этого очевидны. Методы "воспитания" либо приводят искалеченных
Жизнь и стихи Николая Олейникова [125]
людей в лоно исповедуемой государством христианской религии, либо ли¬
шают рассудка. Лишь немногие способны выйти из "дома воспитания" не¬
сломленными, и это, очевидно, будущие борцы против капиталистическо¬
го строя» (Там же).
Не задерживаясь на том очевидном обстоятельстве, что «будущие бор¬
цы против капиталистического строя» могли присниться Сесилю де Миллю
разве что в страшном сне, обратим особое внимание на эффектно и эффек¬
тивно вставленный в этот синопсис пассаж об «отпетых тюремщиках цар¬
ского режима»: вроде и не говорится, что они действуют в «Безбожнице»,
однако такое впечатление у читателя все же создается.
Третий прием, которым пользуются в своей рецензии Матвеев и Олейни¬
ков, это помещение «Безбожницы» в «правильный» и опять же социальный
контекст. Сперва констатируется, что «наш зритель до сих пор привык видеть
в американских фильмах пресловутое "просперити". Беспечная жизнь, все¬
общее довольство, жизнерадостные люди, тучные стада, словом — торже¬
ство американской государственности» (Там же). Затем выстраивается си¬
нонимический ряд из хорошо знакомых читателю советской прессы того вре¬
мени разоблачительных примет американской действительности: «Только из
сухих газетных сообщений мы знаем об оборотной стороне американского
"процветания". Об этой стороне свидетельствуют такие факты, как процесс
Сакко и Ванцетти, суды Линча, Ку-Клукс-Клан, обезьяний процесс112 и про¬
чие атрибуты американского "демократического" строя» (Там же).
Потом называется имя широко разрекламированного в Советской Рос¬
сии писателя, кстати, как раз в это время получившего Нобелевскую пре¬
мию: «В американской художественной литературе Синклер Льюис пока¬
зал нам одичалого американского обывателя из "Главной улицы"» (Там же).
А еще потом к остросоциальному роману Льюиса произвольно присте¬
гивается мелодрама Милля: «Теперь, едва ли не впервые, мы видим оборот¬
ную сторону "просперити" на экране» (Там же). Можно поручиться, что лю¬
бого американского критика соседство имен создателей «Главной улицы»
и «Безбожницы» в таком контексте удивило бы и насмешило.
Четвертый прием, примененный Матвеевым и Олейниковым для оправ¬
дания полюбившейся им «Безбожницы», состоял в ее сопоставлении с иде¬
ологически еще менее приемлемой продукцией западного кинематографа.
112 «Обезьяний процесс» — распространенное название судебного процесса, про¬
ходившего 10—21 июля 1925 года в Дейтоне (штат Теннеси, США) над учителем
Д. Скопсом, который обвинялся в том, что излагал в школе эволюционную теорию
Ч. Дарвина (ее преподавание в ряде южных штатов было запрещено). Обвините¬
лем на суде выступил один из лидеров Демократической партии У. Брайан. Суд
отклонил требование защиты о вызове в качестве свидетелей ученых и приговорил
Скопса к денежному штрафу.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [126]
При этом критики мелодрамы Милля недвусмысленно шельмовались, как
проявившие в свое время близорукость и недопустимую мягкость: «Как ра¬
зоблачительная, противобуржуазная картина, "Безбожница" не может вы¬
звать никаких нареканий. И тем более странно слышать сейчас эти возра¬
жения, что они раздаются после того, как на наших экранах спокойно де¬
монстрировались неприкрыто враждебные нам вещи ("Любовь моряка").
Эти картины держались на экране по нескольку недель, не вызывая ника¬
ких протестов со стороны лиц, требующих теперь снятия "Безбожницы"»
(Там же).
И, наконец, пятый прием был прибережен Матвеевым и Олейниковым
для финала их рецензии — он заключался в том, что соавторы по доброй со¬
ветской традиции апеллировали тут к мнению «нашего зрителя» (= «нашего
народа»), причем, опять же по традиции, было совершенно непонятно, от¬
куда это мнение им стало (или станет) известно. Никакие социологические
выкладки к ссылке на «нашего зрителя» не прикладывались: «Мы никогда
и не предъявляли стопроцентных требований к фильмам, закупаемым за гра¬
ницей. В таких случаях мы ставим вопрос иначе, мы выясняем, какие реак¬
ции может вызвать картина у нашего зрителя. Точно так же мы должны ре¬
шать вопрос о "Безбожнице". Оправдывает ли в какой-либо мере эта фильма
религию, вызывает ли она у зрителей сочувствие к американской государ¬
ственности или же, наоборот, — она разоблачает и вскрывает всю гнилость
этой государственности? Мы убеждены в последнем» (Там же).
Таким образом, в кинорецензии на «Безбожницу» Олейников и Матвеев
ради благого дела — защиты добротного американского фильма — легко
и уверенно вошли в образ изощренных советских демагогов.
4
2—б февраля 1931 года в Москве состоялась Первая всероссийская конфе¬
ренция по детской литературе, с докладом на которой выступил верный со¬
юзник Олейникова Иван Разин113, в одном из олейниковских писем шутливо
возведенный в ранг «короля» этой самой детской литературы114. Свой доклад
он позднее опубликовал как статью. Судя по ней, на конференции Разин
почти не отклонился от концепции современной детской литературы, с обо¬
ронными целями выработанной Олейниковым и другими авторами «Декла¬
113 Тезисы этого доклада см.: Разин 1931а.
114 Текст этого письма, хранящегося в домашнем архиве семьи Халтуриных, оказался
нам доступен благодаря любезности М. В. Халтуриной, которой приносим искрен¬
нюю благодарность.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [127]
рации». Произведения Корнея Чуковского он перечислил в ряду «открытых
выступлений классового врага в детской книге» (Разин 1931а: 38), Марша¬
ка, Житкова и М. Ильина назвал попутчиками (Там же: 42), а с имени Олей¬
никова начал список «пролетарских писателей, главным образом из моло¬
дежи», чья группа «значительно возросла» (Там же: 43). Чуть выше в сво¬
ей статье Разин отметил «книги Алейникова» (так! — 0.77., М. С.) в качестве
«образцов» «художественной публицистики», показывающих «пути, по ко¬
торым должна пойти детская литература» (Там же: 42). Название одной кон¬
кретной олейниковской детской книги вошло в разинский реестр «лучших
книг на новые темы: М. Ильин — "Рассказ о великом плане", П. Лопатин —
"Пятилетка в действии", П. Скосырев — "Совхоз Байрам-Али", Б. Ивантер —
"Большевистский рапорт", А. Иркутов — "Смертный приговор", А. Лебеден¬
ко — "Индия, Индия, Индия", А. Гайдар — "Школа", Н. Олейников — "Бое¬
вые дни", Л. Кассиль — "Планетарий", Н. Милославский —- "Магнитогорск",
0. Гурьян и Л. Ковалевский — "Октябренок первый", А. Кожевников — "Тан-
сык", М. Рудерман — "Субботник", П. Мусатов — "Шекамята", С. Сибиря¬
ков — "Котовский", И. Грязнов — "Искатели мозолей", Н. Пискунов — "Ги¬
гант", "Комсомольское пламя", "Девятый смотр" и др.» (Там же: 38).
Забавно, что за этим списком в статье Разина следует пассаж, который
в ином контексте можно было бы счесть личным выпадом против обэриу¬
тов и «взрослого» Олейникова: «Букашечно-канареечные темы мы заменя¬
ем большими вопросами современности, и мы говорим об этом прямо и от¬
крыто» (Разин 1931а: 38).
В выпущенном под редакцией и с предисловием А. В. Луначарского
сборнике «Детская литература» (М.; Л., 1931) олейниковские очерки для
ребят тоже были похвалены: «Исключением являются книжки Олейникова
"Танки и санки" и "Удивительный праздник", несомненно обладающие важ¬
нейшими свойствами заразительности. Но никаких ударных агитационных
заданий они не преследуют. Строго говоря, это книги скорей пропагандист¬
ского, чем агитационного характера» (Богданович Т.: 51). А в № 11 журна¬
ла «Книга молодежи» за 1931 год первая из похваленных Т. Богданович дет¬
ских олейниковских вещей была подвергнута критике, правда, пока еще
не очень резкой: «В книжке "Танки и санки" Н. Олейникова мы наблюда¬
ем своеобразное, благодаря неверно понятому факту, снижение роли тех¬
ники на войне. Танки, которые были пущены белыми в ход против нас во
время гражданской войны, изображаются Н. Олейниковым как совершен¬
но непригодные орудия, что "красные пулеметчики, разъезжая на легких
санках, запряженных тройкой лошадей", быстро и легко обезвредили тан¬
ки, — отсюда: "Вы к нам на танках, мы к вам на санках". Последняя фра¬
за является исторической, но это отнюдь не говорит о преимуществе санок,
ибо наша победа над танками белых была обусловлена, во-первых, клас¬
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [128]
совым самосознанием нашей Красной армии, а также полным разложени¬
ем белых отрядов. Возведение же этой фразы в принцип пахнет своеобраз¬
ным "шапкозакидательством", особенно нетерпимым в наше время овладе¬
ния техникой. Вредно даже самое противопоставление танков и санок, ибо
бой будущего — это синтетическое взаимодействие всех видов и родов во¬
йск, где "санки" будут идти бок о бок с танками» (Зубковский: 46—47).
Казалось бы, взаимоотношения детского писателя и редактора Олейни¬
кова с метонимически воплощавшей Советскую власть критикой в 1931 го¬
ду ничем особенно не отличались от точечных контактов поэта с властью
в 1930 году. Но это только казалось. Именно в 1931 году потихоньку нача¬
ла отстраиваться новая, подобная огромной пирамиде номенклатура совет¬
ских писателей для детей. Самуилу Маршаку в итоге было отведено почет¬
ное место на самой ее вершине, обэриутам же и Олейникову — сперва у ее
подножия, а затем — и вовсе вне поля зрения читателей.
Еще в 1928 году в уже цитировавшейся нами характеристике ответ¬
ственных сотрудников ленинградского отделения Госиздата, составленной
И. С. Гефтом, о Маршаке было прозорливо сказано: «Взгляд его с точки зре¬
ния марксистской не всегда приемлемый, но он политически — чуткий»115.
Повышенная «политическая чуткость» Маршака к социальному заказу и его
готовность беззаветно служить современности (в начале 1930-х годов
в полной мере проявившаяся в целом ряде его стихотворений)116 наконец-
то была уловлена и оценена литературным и не только литературным на¬
чальством Ленинграда и не только Ленинграда.
В статье «0 книгах Маршака», напечатанной в августовском номере ор¬
тодоксального рапповского журнала «На литературном посту» за 1931 год,
поэта еще могли по привычке журить и прорабатывать: «Мы отнюдь не по¬
кушаемся на детский смех, мы только против бессмысленного смеха. Моло¬
дое поколение периода вступления в социализм должно расти не вразвал¬
ку, с годочка на годок, а особенно емко, упруго, быстро, плодотворно» (Ка¬
раваева: 34). Но в других, чуть более гибких изданиях уже и это делалось
с серьезными оговорками, с использованием конструкций вроде «с одной
стороны» / «с другой стороны»: «В излюбленной детским читателем кни¬
ге "Почта" Маршак пропагандирует идеи международной связи. Но наря¬
ду с этим Маршак в образной системе произведения пропагандирует идеи
обывательского представления о рабочем классе», — отмечалось в статье,
в августе 1931 года напечатанной в журнале «Земля Советская» (Шишке-
вич: 114).
115 ЦГАЛИ СПб. Ф. 35. Оп. 3. Д. 97. Л. 52.
116 Среди которых поворотным было стихотворение «Война с Днепром», впервые на¬
печатанное в первом (январском) номере «Ежа» за 1931 год.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [129]
Главное же, что в 1931 году в советской печати был впервые опробо¬
ван метод отрывания Маршака от обэриутов, противопоставления творче¬
ства и идейных установок Маршака и обэриутов друг другу. «Детская лите¬
ратура является сейчас участком наиболее обостренной классовой борьбы
в литературе и всякая недооценка, невнимание к ее задачам является, по
меньшей мере, политической близорукостью, — писал некто А. Серебряни¬
ков в статье «Золотые зайчики на полях детской литературы», опубликован¬
ной в ленинградской «Смене» 15 ноября 1931 года. — Если присмотреться
пристальней, хотя бы только к фамилиям авторов, то можно увидеть старых
знакомых, которых пролетарская критика так блестяще разоблачила в ли¬
тературе "взрослой".
Помните печальной памяти "обериутов", этих литературных хулиганов,
богемствующих буржуазных последышей? Вы думаете, что они разоблаче¬
ны, разогнаны и поэтому "самоликвидировались"? Нет, ойи существуют,
они нашли лазейку в детскую литературу.
Даниил Хармс, "взрослые" стихи которого не попали в печать, но расхо¬
дятся в рукописях среди известного круга читателей, издает детские книги.
Шел по улице отряд,
Сорок мальчиков подряд.
Раз, два, три, четыре,
И четыре на четыре и т. д.
Шел по улице отряд,
Сорок девочек подряд.
Раз, два, три, четыре и т. д.
Это о слете пионеров. Не говоря уже о том, что в пионерском отряде маль¬
чики и девочки работают вместе, Даниил Хармс в слете видит только один
барабанный бой.
Заболотский (так! —- 0. У7„ М. С.) — этот кулацкий поэт, получивший до¬
стойный отпор марксистско-ленинской критики, решил спрятаться за фами¬
лией Якова Миллера, оставаясь прежним Заболотским. Он пишет революци¬
онные стихи типа:
Солнышко, солнышко, золотые зайчики!
Вы с востока прибыли, с востока принеслись.
Дружно ли китайцы там бороться начали,
Крепко ли индусы драться поклялись?
(«Восток в огне»)
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [130]
Введенский, одевшись в тогу "литфронта", пишет стихи на любую тему.
У него восьмилетние немецкие ребята разгоняют буржуев и вообще... чуть
ли не сами делают революцию <...>
Так вреднейшая халтура, бессмысленный барабанный бой одолевают важ¬
нейший фронт детской литературы» (Серебряников: 3). «А между тем, —
продолжает Серебряников, — в детской литературе мы можем проследить
движение к союзничеству лучших писателей-попутчиков, мы можем увидать
творческие документы настоящей перестройки. Путь Ильина, написавшего
рассказ о великом плане, путь Маршака, Кожевникова, правда, неравноме¬
рен и с частыми срывами, свидетельствует об этой перестройке» (Там же)117.
Пройдет меньше трех лет, и в сусальной статье «Маршак», напечатанной
в «Литературной газете», где о «частых срывах» поэта будет забыто, словно
их и не было, Борис Бегак пропоет вдохновенную песнь в честь идеологи¬
чески безупречного детского поэта: «Советский писатель для детей — тот,
кто, зная и понимая ребенка, идейно целеустремленным художественным
словом — лишь постепенно расширяя круг тем и усложняя их развертыва¬
ние — воспитывает его на всех ступенях его нормального развития. И неда¬
ром стихи Маршака пользуются такой популярностью в детской среде. Сво¬
ей работой он предоставляет поэтам возможность понять, что детский жанр
может и должен быть жанром высокой культуры, а не литературой второго
сорта, какой делает его практика верхоглядов. У Маршака есть свое ориги¬
нальное поэтическое лицо, и это лицо — лицо детского поэта» (Бегак: 2)118.
5
10 декабря 1931 года в Ленинграде внезапно арестовали нескольких ле¬
нинградских литераторов, среди которых трое — Даниил Хармс, Александр
Введенский и Ираклий Андроников были ближайшими сотрудниками и хо¬
рошими друзьями Олейникова и Маршака119. 14 декабря к ним прибавился
117 Ср. также характерное суждение провинциального журналиста о «Еже», относя¬
щееся к октябрю 1931 года: «...с возложенной задачей "Еж" справляется совершен¬
но неудовлетворительно <...> Наша страна находится в окружении капиталистиче¬
ских стран. Все дети знают, что нам надо крепить оборону страны, надо готовиться
к обороне. Знают, что и на суше, и на воде, и в воздухе, и под водой нам приходится
держать стражу, чтобы защитить наши границы от ожидаемого нападения. Казалось
бы, уж поэтому к вопросу надо подойти всерьез, а тут, — не угодно ли? — такая
беспардонная, глупейшая, вредная безделушка. Но автору все нипочем» (Патреев-
Мещеряк: 55—56). Речь идет о «Вруне» Даниила Хармса.
118 См. также, например: Безбородов 1935.
119 Также были арестованы поэтА. В. Туфанов, П. П. Калашников и Н. М. Воронич.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [131]
Игорь Бахтерев, как мы помним, тоже печатавшийся в «Еже». Андроникова
29 января 1932 года чудесным образом освободили «за отсутствием состава
преступления»120. Остальных следователь А. В. Бузников взял в разработку.
Задержанным инкриминировалось вредительство в области детской ли¬
тературы.
11 декабря 1931 года под давлением следствия Хармс показал на до¬
просе: «В силу своих политических убеждений и литературной платфор¬
мы мы сознательно привносили в область детской литературы политиче¬
ски враждебные современности идеи, вредили делу советского воспитания
подрастающего поколения. Наша заумь, противопоставляемая материали¬
стическим установкам советской художественной литературы, целиком ба¬
зирующаяся на мистико-идеалистической философии, является контрре¬
волюционной в современных условиях» (Дело № 4246 — 31 г.: 526).
На следующий день похожие показания были выбиты из Введенского:
«Я входил совместно с писателями Хармсом, Бехтеревым, ранее Заболоц¬
ким и др<угими> в антисоветскую литературную группу, которая сочиня¬
ла и распространяла объективно контрреволюционные стихи. Большинство
членов группы работает в области советской детской литературы, что дает
материальную основу для нашего существования» (Там же: 533).
15 декабря 1931 года Введенский предоставил следователю (по-
видимому, в ответ на его настойчивые «наводящие» вопросы) компромат на
героя нашего очерка: «Олейников — редактор "Ежа" — относился чрезвы¬
чайно положительно ко всему нашему творчеству в целом, в том числе к пря¬
мо контрреволюционным заумным нашим произведениям для взрослых. Эти
произведения встречали с его стороны полную поддержку и одобрение,
причем он поддерживал нас в наших устремлениях продолжать в указанном
направлении творческую работу. Я слышал, что Олейников проявлял повы¬
шенный интерес к Троцкому, а в нашей группе много говорилось о странном
поведении Олейникова на семинаре по диамату в Комакадемии, где Олейни¬
ков задавал вопросы мистико-идеалистического свойства» (Там же: 537).
Продолжил Введенский «разоблачать» Олейникова на допросе, состо¬
явшемся 27 января 1932 года: «Олейников не переставал всячески проте¬
жировать нашей группе в Детском секторе, заведующим коего он одно вре¬
120 Ср. в его показаниях от 27 января 1932 года об Олейникове: «В детском секторе
ГИЗ'а группа Введенского — Хармса опиралась на редакторов: Шварца, Заболоцкого,
Олейникова и Липавского-Савельева, помогавших ей протаскивать свою антисовет¬
скую продукцию <...> Идейная близость Шварца, Заболоцкого, Олейникова и Липав¬
ского с группой Хармса — Введенского выражалась в чтении друг другу своих новых
стихов, обычно в уединенной обстановке, в разговорах, носивших подчас интимный
характер, в обмене впечатлениями и мнениями, заставлявшими меня думать об общ¬
ности интересов и идейной близости этих лиц» (Дело № 4246 — 31 г.: 567—568).
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [132]
мя являлся до своего назначения на должность ответственного редактора
ж. ж. "Еж" и "Чиж". Помимо этого Олейников с большим вниманием отно¬
сился ко второй, основной части нашего творчества — к заумным контрре¬
волюционным произведениям нашим для взрослых. Он собирал эти наши
произведения, тщательно храня их у себя на квартире. В беседах с нами он
неоднократно подчеркивал всю важность этой стороны нашего творчества,
одобряя наше стремление к культивированию и распространению контрре¬
волюционной зауми. Льстя нашему авторскому самолюбию, он хвалил на¬
ши заумные стихи, находя в них большую художественность. Все это, а так¬
же и то, что в беседах с членами нашей группы Олейников выявлял себя как
человека, оппозиционно настроенного к существующему партийному и со¬
ветскому режиму, убеждало нас в том, что Олейникова нам не следует ни
пугаться, ни стесняться, несмотря на его партийную принадлежность. В по¬
следнем отношении весьма характерно то, например, обстоятельство, что
Олейников весьма неохотно, как нам известно, пошел в семинар, организо¬
ванный при Ком. Академии для редакторов из<дательст>ва. Делясь с Харм¬
сом впечатлениями об одном из докладов одного из руководителей семи¬
нара по диалектическому материализму, Олейников зло иронизировал над
этим докладом, говоря, что с точки зрения сталинской философии понятие
"пространство" приравнивается к жилплощади, а понятие "времени" к по¬
вышению производительности труда через соцсоревнование и ударниче¬
ство. В контексте с указанным следует также поставить известный интерес
Олейникова к Троцкому и его трудам» (Там же: 545—546).
Вот и все. Николай Олейников в течение нескольких лет еще будет ак¬
тивно участвовать в литературной жизни Ленинграда: редактировать дет¬
ские журналы и сборники, выступать на различных собраниях в качестве
партийного куратора словесности для самых маленьких, писать и даже пе¬
чатать стихи и прозу... Но под его жизнь, как и под жизни всех обэриутов,
отныне была заложена часовая бомба с мощным устройством. Этой бомбе
в свой срок с неизбежностью предстояло рвануть.
И было совершенно неважно, что Хармс с Введенским первоначально
отделались относительно легкими приговорами — высылкой на несколько
месяцев из Ленинграда. Их судьбы по законам сталинской эпохи все равно
переломились на относительно благополучную биографию до ареста и поч¬
ти невыносимое существование после.
И то, что Введенскому на допросе пришлось дать показания не только
против Олейникова, но и против Маршака121, не позволяет сблизить поло¬
121 «Идейное и художественное руководство в отделе принадлежало С. Я. Марша¬
ку — известному детскому писателю, для которого до последнего времени харак¬
терна была так назыв<аемая> аполитичность в творчестве <...> Все наши заумные
Жизнь и стихи Николая Олейникова [133]
жение в 1930-е годы двух этих ключевых фигур детского отдела ленинград¬
ского Госиздата. Сведения, порочившие Маршака, как часто практикова¬
лось ОГПУ, были выужены из Введенского на всякий случай, про запас. Кон¬
кретные насмешки Олейникова над «сталинской философией», а также его
подлинная или мнимая заинтересованность трудами Троцкого122 превраща¬
ли исчезновение автора «Таракана» и «Боевых дней» из жизни советской
литературы и вообще из жизни в неизбежное, неумолимое событие, кото¬
рое могло быть отсрочено, но уже не могло быть отменено.
16 декабря 1931 года, то есть на следующий день после негласного «раз¬
облачения» Олейникова Введенским на допросе в ОГПУ, Николай Асеев вы¬
ступил с уже цитировавшейся нами речью на дискуссии о современной по¬
эзии, организованной Всероссийским союзом писателей. В этой речи он,
напомним, не называя имени автора, неточно и осуждающе процитировал
четыре строки из олейниковского «Карася», а про Введенского, Хармса и За¬
болоцкого тоже высказался вполне негативно. Как «полную прострацию»
охарактеризовал Асеев творчество этих «вовсе не бездарных молодых по¬
этов», «пытавшихся обосновать свой творческий метод на пародированной
восстановленности архаических компонентов стиха. Делали они это искрен¬
но и горячо, тем более обжигаясь, чем больше было молодой горячности
в их опытах. Они не замечали, что все их усилия, все их попытки обречены
на бесплодие именно потому, что пародированность, которая искренне при¬
нималась ими за новаторство, могла лишь сосуществовать архаическим эле¬
ментам стиха. Они не учли, что издевка и перекривливание традиций воз¬
можны лишь в том случае, когда эта традиция сильна. Их формальная оппо¬
зиция традиционному трафарету, попытка провести ее через разлом формы
привели их к обессмысливанию содержания. Таким именно образом у Забо¬
лоцкого, например, издевательство над этой традицией обернулось в изде¬
вательство над действительностью; идиотизм синтаксического штампа пре¬
вратился в идиотизм содержания. Они не заметили и не учли, что в своих
попытках обернуться в пределах творческого метода так быстро, чтобы уви¬
деть собственную спину, спину своей поэтической родословной, они утон¬
детские книжки, которые находились в глубочайшем противоречии с задачами со¬
ветского воспитания подрастающего поколения, целиком одобрялись и поддержи¬
вались Маршаком» (Дело № 4246 — 31 г.: 536—537).
122 В 1936 году Олейников не слишком весело пошутит, обращаясь к своему былому
соратнику:
Бойся, Заболоцкий,
Шума и похвал:
Уж на что был Троцкий,
А и тот пропал.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [134]
чились до того, что из поэтов современников своей эпохи растянулись в те¬
ни, передразнивающие какие-то чужие очертания. Эти поэты-тени, поэты-
сомнамбулы, поэты-хлысты, в словесных радениях ожидавшие откровения
поэтического новаторства, принимавшие за это откровение завертевшийся
вокруг в головокружении мир, также принадлежат к указанной нами группе,
как уже сказано — чересполосно объединяющей всех, принявших непра¬
вильную установку на архаику, на реставраторство» (Асеев: 164).
Нужно признать, что Асеев довольно точно определил место Олейнико¬
ва и обэриутов в советской официальной литературной иерархии 1930-х го¬
дов: «из поэтов современной эпохи» они, действительно, чем дальше, тем
больше, «растягивались» в едва различимые «тени». Только дело было, ко¬
нечно, ни в каком не в «утончении», а в том, что Олейникову и всем его бли¬
жайшим друзьям-поэтам, кроме Заболоцкого, довелось напечатать в совет¬
ских изданиях по одному, по два, хорошо, если по три своих произведения
для взрослых. Каждый из них с полным на то основанием и горьким правом
мог бы сказать о себе словами из письма Осипа Мандельштама Корнею Чу¬
ковскому: «Я — тень. Меня нет» (Мандельштам: 185).
Причем выбор — лучше «растянуться в тени» и не печатать своих завет¬
ных вещей, чем подлаживаться — был сделан обэриутами осознанно.
Весьма показательно, что Даниил Хармс, Николай Олейников и Алек¬
сандр Введенский были уподоблены «легким теням» в последней стро¬
фе задушевного и примирительного, хотя и страшноватого, если вчитаться,
стихотворения Николая Заболоцкого «Прощание с друзьями» (1952):
В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений,
Давным-давно рассыпались вы в прах,
Как ветки облетевшие сирени.
Вы в той стране, где нет готовых форм,
Где все разъято, смешано, разбито,
Где вместо неба — лишь могильный холм
И неподвижна лунная орбита.
Там на ином, невнятном языке
Поет синклит беззвучных насекомых,
Там с маленьким фонариком в руке
Жук-человек приветствует знакомых.
Спокойно ль вам, товарищи мои?
Легко ли вам? И все ли вы забыли?
Жизнь и стихи Николая Олейникова [135]
Теперь вам братья — корни, муравьи,
Травинки, вздохи, столбики из пыли.
Теперь вам сестры — цветики гвоздик,
Соскй сирени, щепочки, цыплята...
И уж не в силах вспомнить ваш язык
Там наверху оставленного брата.
Ему еще не место в тех краях,
Где вы исчезли, легкие, как тени,
В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений.
Про символическую игру, затеянную Олейниковым и его друзьями со сво¬
ими тенями, рассказал читателям 1980-х годов чутко улавливавший лите¬
ратурность жизненных ситуаций Вениамин Каверин. «Я помню, — пишет
он, — как "обернуты" приехали в Сестрорецк, чтобы навестить Е. Швар¬
ца, и собрались пойти купаться только под вечер, когда солнце уже захо¬
дило.
Пляж давно опустел. Гости разделись, пошли к морю — и за ними с ка¬
рикатурной неторопливостью поползли по песку их тени. Ничего особенно¬
го не было в этих постепенно удлинявшихся тенях, но, должно быть, все-
таки что-то было, потому что высокий, костлявый Хармс вдруг подпрыгнул,
смешно выворотив руки и заставляя свою тень повторять эти нелепые дви¬
жения. Он вытягивал тело, вдруг садился на корточки и медленно "вырас¬
тал", строго поглядывая на свое далеко распластавшееся по пляжу черное
послушное отражение. За ним, сохраняя полную серьезность, стал прыгать
Олейников, тоже костлявый, потом тяжеловатый Шварц, кто-то еще...
Сторож, выползший из своей будки в пальто — было уже прохладно, —
постоял в недоумении, потом нерешительно засвистел, хотя в этом неожи¬
данном "театре теней" не было ничего, нарушающего порядок. Свист был
предупреждающий, действительность напоминала, что согласно правилам
поведения на пляже, странности нежелательны, даже если они и не запре¬
щены» (Каверин: 399).
Нужно, конечно, учитывать, что опытный беллетрист Каверин наверня¬
ка проецировал весь этот эпизод на будущую знаменитую пьесу одного из
участников импровизированного представления на пляже, Евгения Швар¬
ца, «Тень». Чуть нарочитой литературностью отзывается и заключительный
абзац каверинского отрывка, изображающий бдительного сторожа (кстати,
это частый персонаж обэриутских текстов), предупредительным свистом
осаживающего расшалившихся писателей.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [136]
Но если мы и имеем дело с метафорой, то с метафорой, удачно и вер¬
но отразившей действительность: несмотря на то что никто из тогдашних го¬
стей Евгения Шварца не считал своей главной творческой задачей идеологи¬
ческое противостояние советской власти123, очень быстро выяснилась их ро¬
ковая несовместимость с системой. Сначала их предупреждали, песочили,
выводили на чистую воду, громогласно прорабатывали и публично унижа¬
ли, а в итоге — одного (Заболоцкого) пропустили через концлагерь, а тро¬
их (Олейникова, Введенского и Хармса) — убили или замучили до смерти.
Неакцентированное пренебрежение, как показала в ряде своих устных
выступлений М. 0. Чудакова, в данном случае оказалось более вызываю¬
щим для власти и более опасным для самих поэтов, чем прямое противосто¬
яние. Власть отомстила четырем авторам не за их антисоветские, а за их
несоветские стихи, создававшиеся без учета социального заказа и прика¬
за. Олейников, Хармс и Введенский были убиты за то, что тихо, но последо¬
вательно уклонялись от чести быть принятыми в многолюдное сообщество
«поэтов современников своей эпохи», за то, что они сознательно «растя¬
нулись в тени», предпочтя сервильному миру изданных советских книг мир
неизданных стопок машинописи и тетрадей стихотворений.
6
Весьма показательно, что уже в феврале 1932 года на Олейникова впер¬
вые обрушилась площадная брань в советской печати. Некто Тих. Холодный
(псевдоним малопопулярного и малокультурного пролетарского поэта из
Ставрополя Тихона Беляева) в журнале «Локаф»124 так отреагировал на оче¬
редное переиздание олейниковской книжки «Танки и санки»: «Более наг¬
лой, неуклюжей попытки исказить представление о тех героических днях,
более нахальной клеветы на партию, на рабочий класс и его вождей мы еще
нигде не видели и, вероятно, не увидим, кроме этой книжки, предназначен¬
ной "для младшего возраста". Раздвоенное жало классового врага тянется
к детским мозгам, каждой строчкой соча свой яд. Подлинный герой расска¬
за, хотя Олейников это и пытается маскировать, есть белый генерал Семико-
ленов» (Холодный: 171). Кончалась «рецензия» Холодного недвусмыслен¬
но угрожающим обращением к автору книги: «Играйте в солдатики, Олейни¬
ков, но не трогайте Красную армию» (Там же: 172).
123 Мы никак не можем согласиться с ключевым тезисом хорошей статьи о герое этой
работы, написанной С. В. Поляковой: «В корпусе стихов Олейникова тема неприятия
советской действительности доминирует» (Полякова: 14).
124 Сокращение: «Литературное объединение Красной армии и флота».
Жизнь и стихи Николая Олейникова [137]
На этом устрашающем фоне весьма скромные похвалы Н. Купера олей-
никовским «Боевым дням», высказанные в том же 1932 году в малотираж¬
ном журнале «Детская литература. Бюллетень библиографического инсти¬
тута», смотрятся едва ли не как апология. Слегка пожурив Олейникова в на¬
чальном абзаце рецензии, Купер все же счел возможным завершить ее на
миролюбивой и доброжелательной ноте: «Необходимо отметить достоин¬
ство книжки — все рассказы ее даны в бодром тоне. В ней много здорово¬
го юмора. Удачно построение рассказов, из которых каждый разбит на не¬
большие главы. Язык легкий, без длиннот. Книжка может быть допущена»
(Купер: 14).
Своим чередом шла в прессе и кампания по полной дискредитации обэ¬
риутов, с которыми Олейников, несмотря ни на что, продолжал тесно об¬
щаться125. Увы, не кто иной, как Ольга Берггольц, до этого часто печатав¬
шаяся в «Чиже» и «Еже», в мае 1932 года опубликовала в двух номерах
ленинградской газеты «Наступление» зубодробительный фельетон с агрес¬
сивным заглавием «Книга, которую не разоблачили». В нем клеймились
сборник статей «Детская литература» и те его авторы, которые посмели хва¬
лить поэтов-вредителей, в первую очередь Борис Бухштаб: «Кто же, по сло¬
вам ретивого Бухштаба, двигает вперед детскую советскую поэзию? — во¬
прошала Берггольц. — Оказывается, Хармс и Введенский <...> Надо быть
Бухштабом, чтобы ликовать по поводу этой циничной, откровенно-издева-
тельской халтуры. Надо быть буржуазным реакционером, чтобы утверж¬
дать, что Хармс и Введенский являются ведущим отрядом советской дет¬
ской поэзии <...> Основное в Хармсе и Введенском — это доведенная до
абсурда, оторванная от всякой жизненной практики тематика, уводящая
ребенка от действительности, усыпляющая классовое сознание ребенка.
Совершенно ясно, что в наших условиях обостренно-классовой борьбы —
это классово-враждебная, контрреволюционная пропаганда <...> Мы ис¬
ключаем отсюда Маршака, которому Бухштаб пытается навязать близость
к поэзии Хармса, от чего, мы думаем, откажется и сам Маршак» (Берггольц
1932а: 2). Завершалась статья Берггольц ультиматумом представителям ли¬
125 Ср. в дневнике Даниила Хармса запись, относящуюся к ноябрю 1932 года: «Олей¬
ников стал теперь прекрасным поэтом» (Хармс 1990:458). Впрочем, никакая дружба
не мешала Олейникову порою вести себя с друзьями очень жестоко. Ср. запись в днев¬
нике того же Хармса от 3 декабря 1932 года: «Днем пришел ко мне Липавский, потом
Олейников и Заболоцкий. Я трещал, что женился на Алисе Ивановне. Как я бестактен!
Потом Олейников звонил Алисе Ивановне и спрашивал обо мне. Алиса Ивановна пре¬
кратила с ним разговор. Когда все ушли, я позвонил Алисе Ивановне. Она назвала
меня провокатором и, видно, изменила обо мне мнение» (Там же: 467). Ср. также ха¬
рактерную запись в дневнике поэта от 5 декабря 1932 года: «Обратно шел с Олейнико¬
вым пешком. Он не верит, что я считаю его хорошим поэтом» (Там же: 468).
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [138]
беральной линии: «Мы требуем немедленного изъятия книги из библиотек
и магазинов <...> Мы настаиваем на том, чтобы авторы сборника, тт. лап-
повцы и коммунисты выступили с развернутой критикой своих ошибок, ра¬
зоблачающей вредные установки книги» (Берггольц 19326: 2).
Между тем о Самуиле Маршаке (как видно и из статьи Берггольц) в это
же время в советских газетах и журналах говорилось совершенно иным,
елейно-паточным тоном: «Глубокая перестройка Маршака идет, и непре¬
рывно повышается социальная значимость его произведений как оружия
коммунистического воспитания» (Свердлова: 4). «Маршак, всегда обла¬
давший острейшим чувством современности, <...> ощущал грань, отделяв¬
шую двадцатые годы от тридцатых, — вспоминал Николай Чуковский. — Он
понимал, что пора чудачеств, эксцентриад, дурашливых домашних шуток,
неповторимых дарований прошла. В наступающую новую эпоху его могла
только компрометировать связь с нестройной бандой шутников и оригина¬
лов, чей едкий ум был не склонен к почтительности и не признавал никакой
иерархии. И он, подчиняясь своему безошибочному инстинкту, стал отде¬
лываться от прежних приятелей и соратников» (Чуковский Н.: 269).
В следующем, 1933 году вбивание советской печатью клина между Мар¬
шаком и обэриутами продолжилось и углубилось. «В "Еже" принимают уча¬
стие талантливые и даровитые писатели. В 1933 г. на страницах "Ежа" пе¬
чатались вещи С. Маршака <...> Несмотря на это, "Еж" не является боевым,
ведущим органом. У "Ежа" нет "колючек". Он не колет врагов, не помога¬
ет друзьям бодрым веселым смехом, — сетовал в сентябре 1933 года Иг.
Зубковский. — "Ежу" необходимо многое пересмотреть, если он действи¬
тельно хочет быть хорошим и популярным детским журналом» (Зубковский
1933: 25).
На страницах пятого номера «Ежа» за 1933 год была напечатана быстро
завоевавшая огромную популярность поэма Маршака «Мистер Твистер»
с красочными рисунками Владимира Лебедева. Но публиковались в журна¬
ле и стихи Введенского126 с Заболоцким127. Настоящей же вотчиной для обэ¬
риутов продолжал оставаться «Чиж», где Заболоцкий некоторое время да¬
же служил заведующим редакцией (на заднюю сторону обложки выносился
его псевдоним Я. Миллер). Сам он в 1932—1933 годах напечатался в «Чи¬
же» шесть раз128. Введенский за этот же период опубликовался в журнале
126 В № 1 и 4 за 1933 год. Введенский также печатался в № 15—16 за 1931 год. Хармс —
в № 19—20 за 1931 год. В1934 году Введенский печатался в № 2 и 8.
127 В №№ 2 — 3,6,10 за 1933 год. Заболоцкий также печатался в № 2,7 (перевод с не¬
мецкого), 8,18,21 и 22 за 1931 год.
128 В № 1,4,6,7—8 за 1932 год; в № 8 и 11 за 1933 год. Заболоцкий печатался и в № 5,9,
10,12 за 1931 год. Также он публиковался в № 4—5 и 12 за 1934 год. В № 10 за 1931 год
был опубликован рассказ Юрия Владимирова «На улице».
Жизнь и стихи Николая Олейникова [139]
двенадцать раз, сначала, осторожно, под инициалами «А. В.», а потом и под
своей собственной фамилией129. И даже «неблагонадежный» Даниил Хармс
в трех номерах «Чижа» за 1933 год (№ 7, 8 и 12) напечатал рассказ с про¬
должением о похождениях профессора Трубочкина, причем в № 8 автор¬
ство Хармса было раскрыто130.
Что же касается Олейникова, то его вещи в «Еже» и «Чиже» в 1932—
1933 годах не появлялись ни разу. Поэт ограничился регулярным составле¬
нием раздела задач и шарад. «Задачи, загадки и фокусы, — отдел, который
ведет Н. М. Олейников, — также обещаем печатать в каждом номере», —
«выдала» авторство поэта редакция «Ежа» в рекламном письме-анонсе
к читателям журнала, напечатанном в № 12 за 1933 год131. В № 1 «Чижа» за
1934 год Олейников поместил очерк с картинками (художника Г. Петрова)
«Полет парашютиста Евсеева», из которого ясно видно, что он по-прежнему
оставался верен выработанному еще в «Кочегарке» и «Забое» стилю — теле-
графно-экономному, со скупо отмеренными подробностями: «Самолет в воз¬
духе. Евсеев глядит вниз. Люди на земле кажутся точками, дома — спичеч¬
ными коробками...» (Олейников 1934: 8). В начале следующего, 1935 го¬
да, олейниковский рассказ будет походя подвергнут критике в печати: «На
страницах <"Чижа"> специфика советской жизни ощущается настолько сла¬
бо, что часто трудно определить, о какой стране идет разговор. Наиболее
характерными в этом отношении являются рассказы "Орел Николай Петров",
"Полет парашютиста Евсеева" (Олейникова)» (Жаворонкова: 27).
Нужно отметить, что ленинградская цензура постоянно изматывала все¬
возможными придирками два лучших детских журнала города, осмеливав¬
шихся печатать Хармса, Введенского и Заболоцкого. «Иметь в виду журна¬
129 в № g—ю, 11—12 за 1932 год, в № 1 (сразу три текста!), 2—3,4, 5, 6, 8, 9,12 за
1933 год. Введенский также печатался в № 2 и 12 за 1931 год. В 1934 году его вещи
печатались в № 2 (два стихотворения), 3,8 и 9.
130 Также Хармс напечатался в № 2 и 9 за 1934 год (в последнем случае — без подписи).
Тем не менее насильственное отлучение Олейникова и обэриутов от советской литературы
для детей остро ощущалось наиболее чуткими литературоведами и критиками. Так, 19 ок¬
тября 1933 года Теодор Гриц на одном из совещаний детских писателей и редакторов «го¬
ворил о том, что нужно редактуру "Ежа" опять поручить Олейникову, что нужно привлечь
к детской книге Хармса, Введенского и Заболоцкого» (См.: Чуковский 1994:87).
131 Это обещание выполнено не было. Также имя Олейникова можно найти в анон¬
се предполагаемых авторов «Ежа» на следующий год, напечатанном в № 23—24 за
1932 год. Приключения Макара Свирепого перестали появляться в «Еже» начиная
с 1932 года. В 1931 году они печатались в № 4, 5,10,14,19—20, 21 и 22. В «Чиже»
в 1931 году Олейников вел раздел «КУР». Отметим, что, судя по тематическому плану
Детгиза на 1935 год, Олейников в этом году брался за написание книжки для «младше¬
го школьного возраста» под названием «Что сделать на листе бумаги» (РГАЛИ. Ф. 631.
Оп. 8. Л. 9).
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [140]
лы "Чиж" и "Еж"» — такое указание в начале 1930-х годов стало «универ¬
сальной формулировкой» для цензоров (см.: Блюм: 110).
Активно использовался в отношении обэриутов еще один прием, часто
применявшийся советской пропагандистской машиной в борьбе с идеоло¬
гически «нечистыми» писателями, — замалчивание, невключение в пре¬
стижные обзоры и перечни. Так, ни в одном из материалов номера «Литера¬
турной газеты» от 17 октября 1933 года, специально посвященного положе¬
нию дел в прозе и поэзии для детей, Хармс с Введенским не упоминались,
хотя в одной из статей («Веселая книжка и "веселые" детские писатели»)
восхвалялся не только Самуил Маршак, но и вчерашний изгой Корней Чу¬
ковский (см.: Нигер: З)132.
Самое поразительное состоит в том, что в этой непростой ситуации Ни¬
колай Олейников вдруг принялся энергично действовать «по-заболоцки»,
впервые попытавшись пробить в печать свои взрослые стихи. Сначала по¬
эту почти удалось опубликовать их в шестом номере журнала «Звезда» за
1933 год, однако бдительные ленинградские цензоры успели этому воспре¬
пятствовать. «В № б "Звезды" сняты стихи Н. Олейникова и вводная статья
к ним, — сообщалось в отчете Леноблгорлита за июнь 1933 г. — Мотивы
снятия — некритическая подача произведений Олейникова, сатирическая
направленность которых неясна и недоходчива до широкой читательской
массы. Весьма спорным является самый метод Н. Олейникова, создающего
свои произведения от имени некоего "Технорука Н. И.", эстетствующего ме¬
щанина и доморощенного поэта, в лице которого Олейников якобы высме¬
ивает буржуазный эстетизм и самые различные направления современной
западноевропейской и прошлой поэзии. В действительности, вместо того,
чтобы стать такой всеобъемлющей сатирой, произведения Олейникова име¬
ют тенденцию превратиться в платформу, с которой эстетствующий меща¬
нин всерьез будет преподносить нашей читательской аудитории свои по¬
шлые и плоские "творения". Снятие этих вещей (кстати сказать, принятых
и одобренных единогласно всей редколлегией "Звезды") встретило резкий
отпор со стороны руководства журналом и нашло довольно интенсивный
отклик в писательской среде, частично воспринявшей это снятие, как "раз¬
вал творчества"» (Культура и власть: 229)133.
Не слишком смутившись неудачей со «Звездой», Олейников отдал свои
стихи в либеральный альманах «Тридцать дней». Коли не выручила маска
«Технорука Н. И.», поэт попробовал найти для себя более авторитетное
132 Не был упомянут и Олейников. Среди авторов заметок в этой подборке отметился
недруг обэриутов Борис Шатилов.
133 См. далее в процитированном отчете: «Из этого же номера "Звезды" были сняты
три стихотворения Мандельштама» (Культура и власть: 229).
Жизнь и стихи Николая Олейникова [141]
и надежное прикрытие — автора «из классиков»: три его стихотворения,
появившиеся в десятом номере «Тридцати дней» за 1934 год, были оформ¬
лены как цикл «Памяти Кузьмы Пруткова». Но в итоге это Олейникову по¬
могло не слишком.
В номере «Литературной газеты» от 10 декабря 1934 года умный и об¬
ладавший хорошим вкусом, но донельзя циничный критик Анатолий Тара-
сенков опубликовал статью под названием «Поэт и муха»134. В первой ее ча¬
сти остракизму подвергся молодой стихотворец, ученик Эдуарда Багрицко¬
го и Михаила Светлова, Александр Шевцов. Во второй части к Шевцову был
произвольно пристегнут Олейников.
Приведем текст рецензии Тарасенкова полностью, поскольку это как-
никак был единственный отклик на олейниковские взрослые стихи, напе¬
чатанный при жизни их автора:
«Наша страна справедливо гордится замечательной поэзией, со¬
зданной революцией.
Но наряду с большими поэтическими направлениями суще¬
ствуют у нас попытки обходного поэтического движения. Для то¬
го чтобы не быть голословным, сразу надо назвать некоторые име¬
на. Это — А. Шевцов и Н. Олейников. Ни тот, ни другой широко не
известны читателю нашей страны. А. Шевцов выпустил маленькую
книжку стихов в Профиздате (М., 1934), а Н. Олейников напечатал
всего три стихотворения ("Служение науке", "Хвала изобретате¬
лям" и "Муха") в № 10 журнала "Тридцать дней". Между Шевцовым
и Олейниковым есть довольно существенная разница. Шевцов —
молодой поэт, тесно связанный по своим темам с современностью.
Наоборот, Н. Олейников с современностью не связан ни тематиче¬
ски, ни каким-либо другим образом.
Однако связь Шевцова с современностью мало радующая. Мы
встречаем у него то телячьи-оптимистическое балагурство, которое
любую, даже серьезную тему сводит к пустячку.
Например, борьба против мещанства и обывательщины сводит¬
ся Шевцовым к третьесортной иронии над могилой бесцельно суще¬
ствовавшего и столь же бесцельно умершего человека:
Ветерок летит мгновенный
И тоску таит,
Тут же
134 Выразительный портрет Тарасенкова дан в биографической книге о нем: Гро¬
мова.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [142]
Крест,
Обыкновенный (запятые принадлежат автору стихов)
Над могилою стоит.
Сама эта ирония становится бесцельной и беспредметной, и Шев¬
цов оказывается в положении человека, равно иронически посмеи¬
вающегося и над бабой, продающей селедки, и по поводу окружа¬
ющего ее и сильно отличающегося от нее пейзажа:
Понимая в мире слабо
Этих дней большой полет,
Несознательная баба
Две селедки продает.
Даже к мирозданию Шевцов склонен относиться с иронией — у не¬
го в стихах "земля вертится на изогнутой оси", а звезда по непонят¬
ным для читателя причинам приобретает кличку "дефицитной". Все
это поэтическое кокетство приводит к тому, что сам, по-видимому,
не сознавая объективно издевательских интонаций своего юмора,
Шевцов начинает тем жетоном живописать и большие социальные
процессы, происходящие в нашей стране.
Это комически не соответствующее масштабам нашего време¬
ни мировосприятие поэта, мыслящего в масштабах бульварной ал¬
леи, несомненно, имеет какие-то общие черты с "модным" в некото¬
рых кругах "советским" ироническим снобизмом. Шевцов, по всей
вероятности, субъективно не ощущает себя снобом, но тем опас¬
ней болезнь беспредметного зубоскальства и юродивой "заболот-
чины", как плесень, расползающейся по стихотворным сборникам
не одного только Шевцова, а и некоторых других молодых поэтов.
Гораздо более целостное и любопытное явление представляют
уже упомянутые выше три стихотворения Н. Олейникова, объеди¬
ненные общим заголовком из цикла "Памяти Кузьмы Пруткова".
Возможно, что какие-либо окончательные выводы об Олейни¬
кове, как поэте, делать рано. И, однако, "Служение науке", "Хва¬
ла изобретателям" и "Муха" — настолько яркие образцы отрица¬
тельных тенденций в нашей поэзии, что говорить о них необходимо,
и говорить с предельной резкостью.
Иронический смысл этих трех стихотворений не подлежит со¬
мнению. Автор подчеркнул это и ссылкой на небезызвестного ди¬
ректора Пробирной палатки. Н. Олейников пишет, подражая Забо¬
лоцкому:
Жизнь и стихи Николая Олейникова [143]
Я вспоминаю дни, когда я свежестью превосходил коня.
И гложет тайный витамин меня.
И я молчу, сжимая руки,
Гляжу на травы, не дыша.
Если кто-либо и может поверить в то, что свою "былую" свежесть
поэт всерьез уподобляет свежести коня, он сразу откинет свою се¬
рьезность, услышав, что "тайный витамин" "гложет" автора этих
стихов. Н. Олейников смеется. Гложущий его витамин выдуман им
ради своей собственной забавы, равно как и скорбное сообщение
о том, что его сердце "гложет змея" по поводу отлета верной подру¬
ги -мухм, с которой он... целовался, в которую был влюблен и от ко¬
торой имел ответные чувства.
Какая же это в конце концов тема для сатиры? Ведь в нашей
стране еще не перевелись и не сгинули те явления бюрократизма,
подхалимажа, чиновничества, обывательщины, бескультурья, част¬
нособственнического хищничества, в которые с такой беспредель¬
ной темпераментной яростью вонзал стрелы своей сатиры Влади¬
мир Маяковский.
Очевидно, Олейникову дело представляется так, что все это
уже не актуально. А возможно, что его просто не интересует столь
"грязная" работа, и он для своего собственного спокойствия пред¬
почитает принципиально обыгрывать пустячки, — смешком-смеш-
ком, а все-таки выдавая их за "основы мирозданья", т. е. за основы
своего собственного поэтического фокусничанья:
Увы, — признается автор — не та во мне уж сила,
Которая девиц, как смерть, косила,
И я не тот. Я перестал безумствовать и пламенеть,
И прежняя в меня уже не лезет снедь.
Давно уж не ночуют утки
В моем разрушенном желудке,
И мне не дороги теперь любовные страдания —
Меня влекут к себе основы мирозданья.
Совершенно аналогично первому ("Служение науке") и второе сти¬
хотворение Н. Олейникова ("Хвала изобретателям"), в котором он
комически превозносит людей, выдумавших называть котов и ко¬
шек человеческими именами, изобретших мундштуки для папирос,
щипчики для сахара, "соус-пикан" и "построивших" новую соску из
резины.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [144]
Бахмут. 1924
Николай Олейников. Начало 1920-х
Николай Олейников. 1931
Александр Введенский и Николай Олейников. Начало 1930-х
Николай Заболоцкий
Игорь Бахтерев
Лидия Гинзбург
ЯковДрускин
Леонид Липавский
Даниил Хармс и Алиса Порет
Борис Житков
Генриетта Левитина
Янина Жеймо на афише фильма
«Разбудите Леночку». 1935
Кадр из фильма «Леночка и виноград». 1935. Справа, возможно, Николай Олейников (в гриме)
I
Щи jo ' — я- f П * t cf /4. Г \ .
сящфуь^&А 'ZU<Z.
\ :. J -'' i| €| Д-в^пС^-^
<&-: КЛЪ'ТИ H А'«А
Ж
#С■
йь >?
K\kv\SP0
М?рА
ЖУЙ
£*г
Ро >,. к чг). 6 i>A* t- т, . .-
1Р.РЫЛ D: Ш к:о м .>{< >l }lf j¥i fr’f
и “т уа м - р|с м ** )^ и ;it *й
Lu j<. fl N И ИИ I £
Автограф первых двух картинок из стихотворной серии Н. Олейникова «Жук-антисемит» (1935)
с никогда не учитывавшимися в изданиях вариантами строк. Из собрания И. Галеева
ЦШ It I po3Hknnos продаже 40 pyt
I
■ I I
it
N11
НОЯБРЬ
19ВЧ
AKMMMГРАД
m mi
I
ШШ1
ЩЯ1Е Ккимзмшшм ..ДонЯсг
Обложка первого номера журнала «Забой». 1923 Обложка журнала «Новый Робинзон».1924
Обложки журнала «Еж». 1928
[ЗА* Ц Л » ОТ >0
— **< ^-шсяттЫШМ
Кто ноучи? тебя чистить зубы?
нож
Кто сделает тебя храбрым?
НОЖ 1
Кто поможет тебе стать сильным и здоровым?
НОЖ
Кто научит тебе порядку?
НОЖ
Кто сделает из тебя человеко сильной еоли?
НОЖ
веб НОЖ да НОЖ. Чго ЭТО за инструмент такой, что и зубы
молено им чистить, и день прогонять?
Налишйм три слова:
Научная Организация ШСи зни,
Если читать только первые буквы, го получите*»
МЫ НИЧЕГО НЕ УМЕЕМ ДЕЛАТЬ
Чего только не делает человек. Он и пилит, и стругает, и
пишет, и бегает, и ходит, и вставляет стёкла, и разговаривает,
и книги переплетает.
Однако если присмотреться повнимательнее, то окажется,
что делает он всё не так, как нужно. Можно было бы делать
куда лучше.
По-настоящему человек правильно ничего не умеет делать.
Так, например, человек
не умеет есть.
Он хватает большие куски пищи и
отправляет их в рот, не пережёвывая,
глотает огромные комки пищи, кото¬
рые с трудом протискиваются в же¬
лудок. Там непрожёванная еда осе¬
дает камнем.
Желудок не в силах делать ту ра¬
боту, которую должны делать зубы.
Вот почему в каждую амбулаторию приходит так много лю¬
дей, жалующихся на желудочные боли. Желудок что машина. Он
своё дело знает. А вот человек обращаться с ним не умеет. Если,
скажем, в печку класть большие нераздробленные куски угля, то
печка перестанет работать. То же и с желудком. Нужно каждый
; раз хорошо прожёвывать пищу так, чтобы вся она была мелко¬
мелко размолота, чтобы желудок работал, как надо.
Человек не только неправильно ест, но и
Материал Н. Олейникова «НОЖ пионера» из первого выпуска сборника «Советские ребята». 1926
не умеет дышать.
Человек ежедневно вдыхает не¬
сколько тысяч литров воздуха.
Без еды человек может прожить
целый месяц, а без воздуха и пяти ми¬
нут не проживёт.
Есть люди, которые могут голодать
по сорок, по шестьдесят дней. Но если
помишшАфесь
Шт ясжш»
С ***»***»*■ Э
SS"
МВД** ШИШЛг
»*т*. ФШЩ ■
fife®, шиДОйр
Cl* £££?$**
р ш ш « its ш |
(ВДаммМмМ,
Ом !**«•*►
Г ##
н * журнал Л ш
тжшшш,***
т || ** - ••
* «*
§ф4 Ч т0П&*1'- ■
I Ыт •
«I© ш
Iтт>
МЦжЫ #$•*<! **
*а s.js **,*•
МФ*
Н. Олейников — Макар Свирепый. Коллаж из журнала «Еж». 1928
Ля /VIа. дорого.Six
lUsiuiu, КЛАлИД., haAiuu,
V 4 пляскам. ymonaSL
Kl ^оХ<ив«& ч/Ц>
Dyut<t CCM.6 Сcui/LO€- JpA-10-Q
Uhrui гтА у Яле Tjviomi у 4cue
0 fli*ye.*ib> t y/j&rvdio уоллт-Ь
,ilh. Ушм> Г* ‘’Г*л<
«"Г*! '**
f* J " ^Ta •Л. P
Автограф стихотворения «Муре Шварц» (1927). Из собрания семьи Н. Олейникова
ait»СШ ВЕ II НО
Щизай 1ЛЕ П ЬСП1 в ош
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
,,/1пм киигп“, Проспект ag.ro Октябри, 1в 28. _
•йВШ,;.'
Jcjz, /ri . J*o-U JCtn^f^, M^XJL^'^O ^
Y* f.,
sS • •■ 7 “ - ■
tyy*-* *Y4j . ^ЩИм?ЯЯ
T** C+ZL6 9р-*г*> ****>- ЛА%* * ,%?*<-€
/W<r^<4A4uP^« ^£<^ /*•. Л-а4€ ^ЙЙМ^5,
IP . I . \ -. I . I - - -■ -
'j'с*Л<а~£<* &л л;-!, ё&Х/? A^UUuc ..
2<*с/* /vr^.A>^-^v ; i...^*^ ::... -g» Z0b
/yteJj* ^OL 'yo # *^ 2^ || t+Jiy>*&s£r- &*>
щ £с~л<* ^ГЛ^Л ff* СЛ^е
£ ^yUL&^sr-} Vu^ ^ a^o »»<•-/ /г s*<xJU~6f
/'f+ &4<. Olf OtVM? Jfo%4 2)-<L^C pf!' У (<4гр#л*f ^АУК(ДЛ< ^
/"Vi • fl<S^*v-+4n/*4 | Ke*p\ Пл д^сло*^; сО^ЛЛч^ +j ^' *? f
i Лс,ц<ух , -f *? bj&tyu*^
p /VVt/>C4 <? *уСЛ1*%**уГсь4^С^ JC**+*S?H. M* :> A^. A’«*<JUt£i£ *’ .
/4u/l£*U0 QOC*<- Я *~fЫ j/f' lt**,J
у f i,
t* U.^ я^лг^-»-0^j^. % /Т<алм^«( „
/ЗЬи^ $
Автограф письма H. Олейникова И. Халтурину. Из собрания М. Халтуриной
Щра,»* Щт, - Сшш9мша*, ч
^ $ти4Л нр«* А#п, г
СеяГЛ 4Г*у>*фф r <^#^4/ • £*.*„ Аб^Р^р,* #г Сш
tr^UiH X*j*<fU4
АЛ^" * Селе* *uv>H*i4i # м# ^** чуФ-*4 м ^уо.Ли' ^«4 41^
^ «*< , ^?Лл* -**+*Q **X*£t+G л
ил**м+ ч / ijf+tji+v , JyJ+**T
А*^*««л , 41 Л»СД«41Л* W p\jt+jp *+*щ
Лв<^ ^«^|Мч»Л »•/ лу * V ^
-Лг tS+m^K JL4*/*K> |fifNSв • A*tM4fA4**.
*•*.ГФ »пъ. *°А9.
Письмо Н. Олейникова из следственной камеры. 2 августа 1937 г.
Ж
ВОЕННЫЙ ТМДОЯАЛ
ВОРОНЕЖСКОГО
шейного округа
лв§г.
Жк
Мл£^13
СПРАВКА
Дело ПО обвинению ОЛЕЙНИКОВА Николая Макарье¬
вича, работавшего до ареста, т.е до В шля 1937 г.
редактором детского журишт "Чиж” в гор* Ленингра¬
де, пересмотрено военнш ‘трибуналом Воронежского
военного округа 13 сентября 1957 года*
Постановление НКВД и Прокурора СССР от 19-го
ноября 1937 года в отношении оЛШШШОБА Н*М» отме¬
нено к дело о нем производством прекращено с полной
реабилитацией посмертно.
ВРИО ПР1
ВОР?
пшковшк тт
/ ба;
1СВДАТЕШ ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА
Й1ЖШГ0 ВОЕННОГО ОКРУГА "
ШОВ / А
<iW^^'
Справка о реабилитации Н. Олейникова. 1957
РСФСР
СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ
1-ЮБ № 015412
О
Гр.
^fuk o/au "iMaiA/>ir£uA,
им*, отчество} * _ /7ш
умер(ла) rOfCfsP. .
/9 у (прописью и
&0ЛОЖ W7^ 0/^090 ? <?
Ш А ^ .. I ( Li/ktM kill «SNfl LI A/'Ji ГГ tf 11МГ ^Tl
цифмми iод, месяц и чис(]
возраст
Причина смерти
0 чйАМ^Книге записей актов гражданского состри ия о смерти
19 £~У%опа. месяца 4 ИСЛа
изведена соответствующая запись за № .... yZ.C..
произведена соответствующая
Место смерти: город, селение
район
республика
MecTtf^TEerniasHjiut и:
(•Грвгис
Сдв
Us cfsc 42 as* о
область, край,
*7 - ••
C^C/AJU6£f f^tT
(Мишлеи*плине и
>а ~ «*•••
' .>/.^Sbb?4&44 Л
-чг* пшцг^'^и
ций бюро записей актов
г гражданского состоим и,
Гознак. (950.
Свидетельство о смерти Н. Олейникова. 1956
Кенотаф на Левашовском кладбище в Санкт-Петербурге. Фото 2014 г.
Наши поэты написали за последнее время немало хороших сти¬
хов о новой дружбе, о новой любви, о боевом товариществе. Они от¬
разили реально существующие в действительности процессы форми¬
рования новых чувств социалистического человека. Этой нужной нам
советской лирике Олейников как бы противопоставляет свою "Муху":
Я муху безумно любил.
Давно это было, друзья,
Когда еще молод я был.
Когда еще молод был я.
Каким безнадежным, каким унылым скепсисом веет от этих внешне —
"веселых", но по сути дела фиглярски-иронических строчек. В игру¬
шечном мире, созданном в трех стихах Олейникова, становится холод¬
но и уныло, ибо "веселье" поэта — искусственно, оно не рождается, как
у боевых советских поэтов, оптимистическим мировоззрением и мироо¬
щущением поэта, а несет с собой все разъедающий цинический скепсис.
Олейников, конечно, ученик и подражатель Заболоцкого135.
Слишком ясна зависимость его нарочито искореженных ритмов, его
фиглярских парадоксов и претендующих на афористический изыск
эпитетов от автора поэмы "Торжество земледелия".
Боковая дорожка поэзии, идущим по которой не полагает¬
ся принимать мир всерьез, а вменяется в обязанность паясничать
и фиглярствовать, — кое-кем может быть воспринята как попыт¬
ка "обновить" художественные средства нашей поэзии. Однако эта
"вторая" поэтическая линия враждебна духу нашего искусства. Со¬
циалистический реализм вовсе не против смеха. Смех Маяковского,
Кольцова, Ильфа и Петрова, Бедного, Светлова и многих других —
лучшее тому свидетельство. На смешки же и ужимки Олейникова
и ему подобных хочется ответить словами Маяковского:
"Литературная шатия:
успокойте ваши нервы,
135 Об Олейникове и Заболоцком подробнее см. в предыдущей главе. Ср. также тон¬
кое наблюдение в мемуарах Тамары Липавской: «У Николая Алексеевича (так же, как
и у Николая Макаровича Олейникова) был двойной юмор — юмор, который поймут
все, даже не знавшие их, и юмор, понятный только тем, кто знал Николая Алексе¬
евича и Николая Макаровича и знал их интонацию, их манеру говорить. Шуточное
стихотворение без интонации Николая Алексеевича, без выражения его лица, без
его улыбки не звучит, но своей интонацией и манерой говорить Николай Алексеевич
превращал его в обличение банальности» (Липавская: 49).
Жизнь и стихи Николая Олейникова [145]
отойдите, —
вы мешаете
мобилизации и маневрам"».
(Тарасенков: 3).
Лучшей характеристикой рецензии Тарасенкова, как кажется, мог бы по¬
служить еще один микрофрагмент уже цитировавшегося нами классиче¬
ского романа: «Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувство¬
валось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный
и уверенный тон. Мне все казалось, — и я не мог от этого отделаться, —
что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость
вызывается именно этим». Действительно, при чтении статьи «Поэт и му¬
ха» трудно отделаться от ощущения, что вся она написана ради исполне¬
ния тайного и сладострастного желания Тарасенкова — просмаковать по¬
нравившиеся ему олейниковские строки. В одном месте статьи очевидное
восхищение рецензента стихами Олейникова уже почти готово прорвать¬
ся наружу: «И, однако, "Служение науке", "Хвала изобретателям" и "Му¬
ха" — настолько яркие образцы...» Но тут Тарасенков словно спохватыва¬
ется и спешит продолжить дежурным: «...отрицательных тенденций в на¬
шей поэзии...», а завершает уже совсем грозно, чтобы точно «ни в чем
таком» не заподозрили: «...говорить о них необходимо, и говорить с пре¬
дельной резкостью».
Больше, как и герой булгаковского романа, Олейников попыток напе¬
чатать свои вещи для взрослых не предпринимал. Однако в литературной
и общественной жизни Ленинграда он все еще продолжал участвовать до¬
статочно активно. Тогдашний руководитель ленинградской писательской
организации Анатолий Горелов во второй половине 1980-х годов расска¬
зывал: «Помню, как в 1934 году на открытии Дома писателя было устроено
кукольное представление. Пьесу написали Николай Олейников — редак¬
тор детских сатирических журналов "Чиж" и "Еж" и Евгений Шварц. Кук¬
лы изображали 0. Форш, А. Толстого, Маршака и Тихонова, а имитировал
голоса писателей Ираклий Андроников — это было чуть ли не первое его
публичное выступление. А. Толстой и Маршак во время спектакля сидели
в первом ряду. Они хохотали так, что выбежали из зала, и представление на
какое-то время приостановилось» (Силина: 7).
«...Нас навещал Николай Макарович Олейников, еще недавно ответ¬
ственный редактор "Ежа" и "Чижа", а теперь заходивший пошутить и про¬
честь свои иронические стихи, — вспоминал Ираклий Андроников атмосфе¬
ру редакции в Детгизе. — Его появление вызывало взрывы смеха и ответно¬
го юмора, внезапных шуток, стихотворных экспромтов, прозвищ, придумок,
карикатур, изображений и подражаний» (Андроников 1984:194).
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [146]
На Первый съезд советских писателей, проходивший в Москве с 17 авгу¬
ста по 1 сентября 1934 года, Олейников получил мандат делегата с правом
совещательного голоса. О такой чести его друзья обэриуты, разумеется, не
могли и помыслить. В самый разгар съезда, 27 августа, Олейников опубли¬
ковал в «Литературном Ленинграде» установочную статью «На дошкольную
тему», в которой из тактических соображений солидаризировался со своим
уже давно не очень-то любимым шефом: «В докладе С. Я. Маршака с исчер¬
пывающей полнотой намечены главнейшие пути в развитии детской литера¬
туры» (Олейников 1934а: 3).
7
Когда Тарасенков писал о том, что «Н. Олейников с современностью не свя¬
зан ни тематически, ни каким-либо другим образом», то это была чистой
воды демагогия. Лучше всего обвинения критика опровергают стихи поэта,
созданные как раз в 1934 году, в первую очередь его знаменитая «Переме¬
на фамилии»:
Пойду я в контору «Известий»,
Внесу восемнадцать рублей
И там навсегда распрощаюсь
С фамилией прежней моей.
Козловым я был Александром,
А больше им быть не хочу!
Зовите Орловым Никандром,
За это я деньги плачу.
Быть может, с фамилией новой
Судьба моя станет иной
И жизнь потечет по-иному,
Когда я вернуся домой.
Собака при виде меня не залает,
А только замашет хвостом,
И в жакте меня обласкает
Сердитый подлец управдом.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [147]
Свершилось! Уже не Козлов я!
Меня называть Александром нельзя.
Меня поздравляют, желают здоровья
Родные мои и друзья.
Но что это значит? Откуда
На мне этот синий пиджак?
Зачем на подносе чужая посуда?
В бутылке зачем вместо водки коньяк?
Я в зеркало глянул стенное,
И в нем отразилось чужое лицо.
Я видел лицо негодяя,
Волос напомаженный ряд,
Печальные тусклые очи,
Холодный уверенный взгляд.
Тогда я ощупал себя, свои руки,
Я зубы свои сосчитал,
Потрогал суконные брюки —
И сам я себя не узнал.
Я крикнуть хотел — и не крикнул.
Заплакать хотел — и не смог.
«Привыкну, — сказал я, — привыкну».
Однако привыкнуть не мог.
Меня окружали привычные вещи,
И все их значения были зловещи.
Тоска мое сердце сжимала,
И мне же моя же нога угрожала.
Я шутки шутил! Оказалось,
Нельзя было этим шутить.
Сознанье мое разрывалось,
И мне не хотелося жить.
Я черного яду купил в магазине,
В карман положил пузырек.
Я вышел оттуда шатаясь,
Ко лбу прижимая платок.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [148]
С последним коротким сигналом
Пробьет мой двенадцатый час.
Орлова не стало. Козлова не стало.
Друзья, помолитесь за нас!
Как известно, в дореволюционной России процедура смены фамилии была
весьма затруднена. Поэтому как несомненное достижение диктатуры про¬
летариата было воспринято многими опубликование 4 марта 1918 года де¬
крета «О праве граждан изменять свои фамилии и прозвища», выработан¬
ного комиссией Совнаркома, утвержденного советским правительством
и подписанного В. И. Лениным.
Приведем здесь первые четыре пункта этого декрета: «1. Каждому граж¬
данину Российской Советской Федеративной Республики по достижении им
восемнадцатилетнего возраста предоставляется право изменить фамильное
или родовое прозвище свободно, по его желанию, поскольку этим не затра¬
гиваются права третьих лиц, обеспеченные специальными узаконениями.
2. Лица, желающие изменить свое фамильное или родовое прозвище, обра¬
щаются по месту своего жительства к заведующему отделом записи браков
и рождений и лично представляют ему о том письменное заявление с при¬
ложением документов, удостоверяющих их личность, или копий этих до¬
кументов, засвидетельствованных установленным порядком. 3. О сделан¬
ном заявлении заведующий отделом составляет протокол, опубликовывает
его за счет просителя в местной правительственной газете в двухнедельный
срок и одновременно пересылает для опубликования в правительственную
газету центральной власти, а также извещает учреждение, ведущее списки
об уголовной судимости. 4. По прошествии двухмесячного срока со време¬
ни опубликования в правительственной газете центральной власти лицо,
изменившее свою фамилию или прозвище, имеет право требовать внесения
этого имени во все акты гражданского состояния».
Соответственно, на последней странице центральной правительствен¬
ной газеты «Известия» регулярно печатались списки граждан, решивших
изменить «фамильное или родовое прозвище».
Позволим себе высказать осторожное предположение, что в семье
Олейниковых (о которой речь чуть впереди), как и во многих других ин¬
теллигентных семьях того времени, вычитывание из столбцов на последней
странице «Известий» смешных фамилий могло входить в своеобразный ри¬
туал ознакомления с этой газетой по утрам или вечерам. Во всяком случае,
в комментарии к «Перемене фамилии» сообщается: импульсом для созда¬
ния стихотворения «явилось обнаруженное женой автора Л. А. Олейнико¬
вой объявление в газете о том, что "Иван Петрович Гнида меняет имя на Вла¬
димир"» (Поэты «ОБЭРИУ»: 618).
Жизнь и стихи Николая Олейникова [149]
Нам удалось найти точный текст этого объявления в номере «Известий»
от 14 ноября 1934 года, причем на самом деле оно выглядит еще более за¬
бавно, хотя и менее абсурдно, чем это запомнилось жене поэта: некий Ки¬
рилл Васильевич Гнида действительно меняет, но не имя на Владимир, а фа¬
милию на Райский (далее во всех примерах в этой главке будет указывать¬
ся не число, а номер газеты; цитируемое объявление напечатано в № 265).
Желание изменить неблагозвучную фамилию на более или менее краси¬
во звучащую — это, пожалуй, самая частая причина, толкавшая советских
граждан навсегда прощаться с прежними фамилиями и именами. Вспом¬
нив для начала знаменитое «Наконец-то! Какашкин меняет свою фамилию
на Любимов» из записной книжки Ильи Ильфа 1936—1937 годов, осталь¬
ные примеры приведем из «Известий» за 1934 год, пожертвовав, ради со¬
блюдения благопристойности, наиболее колоритными случаями: Жереби-
лов на Барсов (№ 45); Хренов на Лондонский (№ 119); Негодяев на Виногра¬
дов (№ 119); Живолуп на Днепров (№ 119); Дрищук на Полонский (№ 139);
Сопляков на Сибиряков (№ 139); Синепупов на Зорин (№ 149); Тупорылое на
Туппор (№ 167); Новодранов на Новодаров (№ 229).
Весьма часто встречаются в «Известиях» за 1934 год примеры замены
неблагозвучной фамилии именно на Орлов: Голоштанов на Орлов (№ 74);
Бздюлёв на Орлов (№ 119); Нюнин на Орлов (№ 135); Жуликов на Орлов
(№ 167); Ширинкин на Орлов (№ 175); Рохлин на Орлов (№ 178). Реже, но по¬
падаются замены не слишком благозвучной фамилии с корнем козел- или
козл- на благозвучную: Козлов на Фондаренко (№ 265) и Козел на Грушниц-
кий (№ 175). (Заметим в скобках, что замена своей фамилии на фамилию
литературного персонажа (необязательно однозначно положительного) —
случай достаточно частый. Приведем здесь еще три примера из «Известий»
за 1934 год: Асанбаев на Печорин (№ 45); Пердунов на Дубровский (№ 45);
Попов на Онегин (№ 149)).
Очень часто советские люди в 1920-е — 1930-е годы меняли фами¬
лию с «религиозными» обертонами на «нейтральную». Примеры из «Изве¬
стий» за 1934 год: Всехсвятский на Лилин (№ 74); Богородские на Горские
(№ 119); Богоявленский на Рудин (№ 149); Архангелов на Харьков (№ 160);
Дьячков на Дунаев (№ 229); Чудотворцевы на Чернышевы (№ 244); Боголю¬
бов на Липовский (№ 186). В этом отношении наш первый пример (Гнида на
Райский) нетипичен.
Иногда граждане меняли политически «неблагонадежную» фамилию на
«нейтральную» или актуально «советскую», а также — «нейтральную» на
актуально «советскую»: Клячкин на Леваневский (№ 167) — в честь спа¬
сения «Челюскина»; Чупеткин на Маяковский (№ 175); Жандармов на Ок¬
тябрь (№ 244). Похожая ситуация когда-то была описана в фельетоне Миха¬
ила Булгакова «Игра природы», в финале которого пролетарий Петр Нико¬
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [150]
лаевич Врангель обращается к властям со следующим слезным заявлением:
«Ввиду того, что никакого мне проходу нету в жизни, просю мою роковую
фамилию сменить на многоуважаемую фамилию по матери — Иванов».
В «Известиях» за 1934 год обнаруживается немало объявлений, в ко¬
торых меняются еврейские имена, фамилии и отчества: Хусид Абрам Ильич
на Медведь Алексей (№ 74); Исаак на Вадим (№ 159); Ицхак на Александр
(№ 124); Сарра на Александра (№ 135); Давид Маркович Гринберг на Вален¬
тин Вольский (№ 135); Хаим на Сергей (№ 139); Абрам на Адольф (№ 145);
Калкштейн на Поэма (№ 167) и многие другие сходные примеры.
В свою очередь, «слишком» русские имена граждане Страны Советов
стремились сменить на «нейтральные» (и никогда — наоборот). Примеры
из «Известий» за 1934 год: Пантелеймон на Валентин (№ 119); Фекла на
Валентина (№ 124); Никанор на Михаил (№ 124); Тит на Евгений (№ 124);
Парфен на Геннадий (№ 139); Трофим на Леонид (№ 149); Лука на Дмитрий
(№ 227); Никанор на Николай (№ 178); Прасковья (в полном, хотя и непред¬
намеренном соответствии с хрестоматийными строками из «Евгения Онеги¬
на») на Полина (№ 178).
Во избежание недоразумений особо оговорим, что у нас не идет речь
о тех, самых многочисленных случаях перемены фамилии, когда жена брала
фамилию мужа (Лидия Суок на Багрицкая в № 119 «Известий» за 1934 год,
уже после смерти автора «Птицелова» и «Контрабандистов»).
Микроанализ причин, руководствуясь которыми «уважаемые гражда¬
не» СССР меняли свои имена и фамилии, позволяет в очередной раз подме¬
тить характерно советское противоречие: декрет «О праве граждан изме¬
нять свои фамилии и прозвища» был выработан специально для того, что¬
бы люди новой формации могли во всей полноте проявлять собственную
индивидуальность и свободу воли. Однако реальная жизнь подталкивала
граждан, меняя фамилии и имена, стремиться как раз к размыванию лич¬
ности, и в частности к утрате отчетливо выраженных через имя или фами¬
лию национальности и памяти о своем происхождении (например, из духо¬
венства). Случаи, когда из чистого эстетического удовольствия советский
гражданин в 1934 году менял «некрасивые» фамилию, имя и отчество на
«красивые» (как Белокопытов Борис Константинович на Туман Май в № 7
«Известий») можно пересчитать по пальцам.
И вот теперь самое время обратить внимание на то, что герой стихо¬
творения Олейникова «Перемена фамилии» оказывается типично совет¬
ским человеком не до конца, а ровно наполовину. Неблагозвучную фами¬
лию Козлов он на красивую Орлов меняет, но одновременно из неброского
Александра превращается в довольно необычного по советским меркам Ни-
кандра: это имя в качестве обретенного взамен утраченного в 1934 году не
выбрал ни один человек.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [151]
Имя греческого происхождения Никандр нередко давали при рождении
мальчикам в семьях православных священников, а в современной Олейни¬
кову и предшествующей отечественной литературе это имя, как правило,
присваивалось персонажам из русских дворянских, поповских, чиновни¬
чьих и крестьянских семей. Будь это Никандр из «Российского Жилблаза»
В. Нарежного, или приказчик Никандр Мухояров из пьесы А. Островского
«Правда — хорошо, а счастье лучше», или Никандр Пташкин из «Мрачно¬
го штурмана» К. Станюковича, или Никандр Рассветов из «Страны негодя¬
ев» С. Есенина, или владыка Никандр из пьесы М. Горького «Егор Булычов
и другие», или дьякон Никандр из повести С. Сергеева-Ценского «Чудо»...
Намеренно не включаем тут имя Никандр (как и фамилии Козлов и Орлов)
в обэриутский контекст. Отметим только, что персонаж с таким именем
(прототипом которого был приятель Хармса Никандр Тювелёв)136 появляет¬
ся в маленькой пьесе в стихах Даниила Хармса «Вода и Хню» (1931), кото¬
рая, согласно ремарке самого Хармса, «принадлежала Н. М. Олейникову».
Выходит, проблема героя «Перемены фамилии» состоит не только в том,
что он невольно разбудил в себе двойника, воплощающего затаившееся
в личности зло, но и в том, что этот двойник не целен. Его так же раздира¬
ют противоречия, как прежде они раздирали героя. Ни утонченный Орлов
Александр, ни сермяжный Козлов Никандр, вероятно, не мучились бы так,
как раздвоенный Орлов Никандр:
Сознанье мое разрывалось,
И мне не хотелося жить.
Тут «сознанье» взято из словаря так и не обретшего плоти и крови Орлова
Александра, а простонародное «не хотелося» — из лексикона Козлова Ни-
кандра. Орлов Александр, движимый механизмом культурной памяти, лучше
всех описанным М. Л. Гаспаровым, нагрузил стихотворение «Перемена фа¬
милии» семантическими ореолами, характерными в русской традиции для
трехстопного амфибрахия с рифмующимися окончаниями АбАб: стихотво¬
рение содержит множество бытовых подробностей, торжественная интона¬
ция чередуется в нем с романтической, а жанровой основой для «Перемены
фамилии» послужили баллада и в меньшей степени (в V строфе) заздрав¬
ная песня. Неумелый Козлов Никандр дважды разрушил продуманную Орло¬
вым Александром строфику стихотворения и последовательность рифмов¬
ки в нем: между VI и VII строфами в текст вклинивается двустишие, а схема
рифмующихся окончаний X строфы выглядит так: ААББ. Но и самый трех¬
стопный амфибрахий в IV, V, VI, Via, VIII, X и XII строфах чередуется с че¬
136 Подробнее о его взаимоотношениях с Хармсом см., например: Гор.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [152]
тырехстопным. Орлов Александр обогатил стихотворение «Перемена фами¬
лии» романтическими клише, вроде: «Печальные тусклые очи, / Холодный
уверенный взгляд», «Тоска мое сердце сжимала», а также «Друзья, помо¬
литесь за нас!» Козлов Никандр — просторечием «вернуся», колоритной
и опять же бытовой подробностью: «И в жакте меня обласкает сердитый
подлец управдом»137 плюс неуклюжей строкой: «И мне же моя же нога угро¬
жала».
Остается еще раз напомнить, что двойную жизнь в 1920-е — 1930-е
годы вел и сам Николай Макарович Олейников, в чьем псевдониме Макар
Свирепый отчетливо «русское» отчество поэта преобразилось в имя, заме¬
нив «нейтральное» Николай. В газетном примере из № 119 «Известий» за
1934 год, разумеется, наоборот: там Макар меняет имя на Николай.
В 1934 году Олейников написал еще одно стихотворение, непосред¬
ственно связанное с современностью, — и более того: в высшей степе¬
ни выражающее то, что историки культуры называют «духом времени»
(«Zeitgeist»). Это, может быть, самое известное и притом еще и программ¬
ное олейниковское произведение — «Таракан». Оно было настолько по¬
пулярно в литературных кругах, что провоцировало на подражания даже
вполне правоверных советских поэтов, например, Сергея Васильева. Про¬
цитируем его стихотворение «Что случилось с тараканом?»: «Таракан по
стенке ходит, / А по стенке пыль горой. / Таракан усами водит — / Руки
в брюки, как герой!» (Васильев: 38—39). И далее: «Нет, ребята! Был он
молод, / Жил у бабушки в тепле. / А теперь лежит приколот / На булавоч¬
ной игле» (Васильев: 43).
0 «Таракане», пожалуй, писали больше всего в последние двадцать —
двадцать пять лет: ему, если воспользоваться словами Б. М. Эйхенбаума,
особенно «повезло в русской критике» — повезло стать своего рода «"гу¬
манным" местом» (Эйхенбаум: 55). Удивительно, но в оценке олейников-
ского стихотворения как исполненного высокого, гуманистического смыс¬
ла сошлись, например, такие разные, не сводимые вместе литературоведы,
как С. В. Полякова и Л. Я. Гинзбург.
Концепция Поляковой весьма показательна в том смысле, какой ряд
понятий не надо применять к Олейникову: к сожалению, в столкновении
с суровой поэтикой «Таракана» формулы вроде «трагического смысла»,
«безошибочного эмоционального попадания», «симпатии и сочувствия»,
«мук безвинной жертвы» (Полякова: 14—15) — неизбежно обращаются
в «именины сердца». Стоит подставить героя Олейникова на привычное ме¬
137 Ср. в «Разговорах» Л. Липавского: «Мы говорили с Н. М., что когда-то было там
ницшеанство и всякое такое, вроде богоборчества, а теперь у тех людей, наверное,
одна мечта, чтобы их не притеснял и уважал управдом» (Разговоры: 335).
Жизнь и стихи Николая Олейникова [153]
сто в традиционную гуманистическую схему («маленький человек», «отвер¬
женный», «униженный и оскорбленный»), как эта схема тут же начинает
буксовать. «...Эта жертва — беззащитный младенец. Видимо, это <...> за¬
ставило Олейникова вспомнить Достоевского и процитировать его в эпигра¬
фе к "Таракану". Ведь тема детского страдания — одна из лейтмотивных тем
его творчества» (Полякова: 15); здесь вместо олейниковского «таракана»
рассматривается что-то совсем другое — «слеза младенца». «История му¬
ченика науки, как Олейников называет таракана, оказывается результатом
методов и следствий уродливого и кровавого социального эксперимента,
в котором таракан — объект бесчеловечного и псевдонаучного опыта ор¬
ганизации общества»; здесь «таракан» подменяется одной из «бесчислен¬
ных жертв кровавого режима» (Полякова: 16). Формулы, отработанные де¬
сятилетиями, в олейниковском мире перестают работать; «таракана» ими
уж точно не поймаешь.
Конечно, Гинзбург пишет об этом стихотворении гораздо точнее, острее.
К анализу «Таракана» она приступает с полным пониманием поэтических
задач Олейникова: «уничтожение наследственных сокровищ», подрыв тра¬
диции как таковой («язык подложных ценностей самый разрушительный
для любых ценностей») (Гинзбург: 496). Тем неожиданнее ее вывод, во
многом смыкающийся с уравнениями Поляковой: «Сквозь искривленные
маски, буффонаду, галантерейный язык с его духовным убожеством про¬
бивалось очищенное от "тары" слово о любви и смерти, о жалости и жесто¬
кости» (Там же: 503). С поправкой на формалистическое педалирование
приема (контрасты, отбивки, стилистическая маскировка), мысль исследо¬
вателя кружит все вокруг того же «"гуманного" места»: «буффонада» и «га¬
лантерейный язык» — это, оказывается, способ тайно, под видом траве-
стии, сказать о самом главном — о «ценностях» (о «любви» и «жалости»).
Но «Таракан» не об этом. Прежде всего не надо забывать о всеохватно-
сти олейниковской «буффонады»: для нее поистине нет ничего святого, она
не знает границ и запретов. Герой-насекомое — не исключение: вряд ли
Олейников ограничивается тем, что берет таракана как то ли литоту, то ли
гиперболу «страдающего человека», вряд ли останавливается на гумани¬
стической параболе — «мученик науки». Вот и Гинзбург признает: обычно
автор «Чревоугодия» и «Мухи» «идет дальше»138.
Таракан как жертва для Олейникова не цель, а средство; не смысл,
а функция, переменная величина. Косвенным подтверждением этому яв¬
138 См.: «Олейников убежден в том, что предшествующая поэзия не способна боль¬
ше выражать современное сознание. Это у него общеобериутское. Но Заболоцкий,
Хармс связаны с хлебниковской системой ценностей природы и познания и через
Хлебникова с прошлым. Олейников пошел дальше» (Гинзбург: 496).
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [154]
ляется фантастический рассказ Бориса Житкова «Микроруки», без подписи
автора опубликованный в № 7 «Ежа» за 1929 год. По сюжету рассказа, не¬
кий ученый получает доступ в мир под микроскопом, и там ему приходит¬
ся с риском для жизни вступить в схватку со свирепым тараканом. Проявив
ловкость и отвагу, ученый побеждает в бою со зверем-насекомым, причем
описывается это так: «Я поймал таракана, я повалил его микро-руками, как
свинью» (Житков: 11). Без сомнения, именно этот фрагмент послужил под¬
текстом для соответствующих строк в нашем стихотворении:
И проткнувши, набок валит
Таракана, как свинью...
Но сходство сравнений, употребленных в рассказе и в стихотворении, лишь
подчеркивает разницу между «Микро-руками» и «Тараканом». В расска¬
зе роль протагониста выполняет отнюдь не таракан, а ученый; тон дело-
вито-нейтральный; пафоса «любви» или «жалости» к жертве нет и в поми¬
не; в частности, только что процитированный фрагмент продолжается так:
«Затем я аккуратно потрошил и разглядывал его внутреннее устройство»
(Житков: 11). А далее - холодная жесткость все усиливается и усилива¬
ется: «...я ворвусь в такую мелкоту жизни, которую только видели, но где
еще никто не распоряжался своими руками <...> Я жил уже в другом ми¬
ре, где все было иное: невиданный материал, невообразимые звери вроде
тли, которой я на днях размозжил глаз ударом молотка. Я мог косить и со¬
бирать в копны плесень <...> Мне нужно было поймать инфузорию-когов-
ратку, чтобы из ее шкуры сделать перчатки <...> Я взял микро-руками при¬
готовленную мной острогу в три крючковатых зуба и весь собрался, чтобы
вовремя успеть вонзить мое оружие в эту резвящуюся тварь, что носилась
мимо, как птица в воздухе <...> Острога скользила, отскакивала, и наконец
я набрался сил и уж в полной ярости саданул острогой и на этот раз так лов¬
ко и сильно, что вертлявая тварь застряла на зубьях, вертелась, каналья, но
уже поздно» (Житков: 11—14).
Мы видим: Олейников как редактор журнала «Еж» был вполне готов дать
возможность Житкову встать на сторону вивисектора в его борьбе с насеко¬
мым и взглянуть на эту тему под другим углом.
Так о чем же тогда «Таракан»? Если не в «любви» и «жалости», в чем тог¬
да его идея? Прежде всего, в издевательстве над читателем и его привыч¬
ками: Олейников сначала с точным расчетом провоцирует реакции проте¬
ста против губителей и сочувствия к жертве, чтобы затем, обманув читателя
в его самых заветных ожиданиях, устрашить его смехом.
Вновь обратимся к статье Поляковой; вот исследовательница описыва¬
ет олейниковского героя, как она его видит: «...в минуту смертельной опас¬
Жизнь и стихи Николая Олейникова [155]
ности, перед тем, как на него бросятся вивисекторы, он сосет свою рыжую
ножку, повторяя безотчетное движение испуганного или растерянного ре¬
бенка, сосущего свой палец <...> у него голубые глазки, ножки, косточки
<...> и, наконец, охваченный страхом, таракан ведет себя как человече¬
ское дитя» (Полякова: 14—15). Это очень точное описание читательской
симптоматики под воздействием олейниковского поэтико-вивисекторского
опыта. Но на этом опыт не заканчивается: в следующий момент автор «Та¬
ракана» вызовет у читателя инстинктивную смеховую реакцию. Когда де¬
ло дойдет до гибели героя, в одиннадцатой строфе, и потешная числовая
гипербола («сто четыре инструмента»), и бодрый четырехстопный хорей,
и игровые рифмы в духе К. Чуковского («инструмента — пациента») —
все это живо напомнит самую бодрую детскую поэзию, а более всего — ве¬
селую детскую считалочку («Буду резать, буду бить, / Все равно тебе во¬
дить...»):
Сто четыре инструмента
Рвут на части пациента.
От увечий и от ран
Помирает таракан.
Когда же, в финале стихотворения, поэт примется оплакивать тараканий
труп:
Его косточки сухие
Будет дождик поливать
Его глазки голубые
Будет курица клевать, —
читателя позабавят ассоциации с одним из самых нелепых жестоких ро¬
мансов:
Покатилася головка
По шелковой по траве.
Его глазки голубые
На свет божий не глядят,
Его губки румяные
Про любовь не говорят.
Его щечки румяные
Налилися все рудой,
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [156]
Как у церкви, у соборе
Зазвонили колокола,
И сказали про Ванюшу,
Что погиблая душа139.
Итак, стихотворение Олейникова заставляет смеяться над тем же, что мгно¬
вениями раньше доводило до пароксизма сострадания, — заставляет сме¬
яться над самим своим состраданием. Но что это значит? Ответ отчасти
был уже дан в разговоре о «Карасе»: читатель смеется, потому что страдает
и умирает не он, а другой; в читательской же жалости к другому выражается
лишь жалость к себе как к потенциальной жертве. Кто понимает эту игру,
тот смеется вместе с автором; кто не понимает, тот попадает в коми¬
ческое положение подопытной особи, испытуемой стихом.
Прежнее безоговорочное «сочувствие-благодать» в олейниковском ми¬
ре до смешного неуместно, потому что неадекватно общему порядку вещей.
Одно дело человек в системе ценностей «старого режима», в которой «ду¬
ша» была связана с Богом, а Бог — с «душой». Другое дело — человек как
сумма «печенки, костей и сала», «сочленений» и «соединений»; человек,
приравненный к насекомому:
Таракан к стеклу прижался
И глядит едва дыша...
Он бы смерти не боялся,
Если б знал, что есть душа.
Но наука доказала,
Что душа не существует,
Что печенка, кости, сало —
Вот что душу образует.
Есть всего лишь сочлененья,
А потом соединенья.
Читатель должен не только узнать в раздавленном насекомом себя, но
и увидеть в своей неизбежной жалкой участи проявление железного зако¬
на; жалоба и жалость в мире, определяемом этим законом, комичны, пото¬
му что апеллируют к ценностям, которых нет. Как заметил капитан Лебяд-
кин, «та-ра-кан не ропщет» — не должен роптать. Опус этого персонажа
139 Романс «Сколько лесом ни ходила...» (Жестокий романс: 111).
Жизнь и стихи Николая Олейникова [157]
«Бесов» Достоевского о таракане, давший стихотворению 1934 года эпи¬
граф («Таракан попался в стакан»), можно сказать, стал отправной точкой
для философского смеха в олейниковском «Таракане».
«Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан,
Полный мухоедства...
Место занял таракан,
Мухи возроптали,
Полон очень наш стакан,
К Юпитеру закричали.
Но пока у них шел крик,
Подошел Никифор,
Бла-го-роднейший старик...
Туту меня еще не докончено, но все равно, словами! — трещал капитан, —
Никифор берет стакан и, несмотря на крик, выплескивает в лохань всю ко¬
медию, и мух и таракана, что давно надо было сделать».
Перефразировав знаменитую фразу из «Бесов» («Если Бога нет, ка¬
кой я после этого капитан?»), можно вывести следующую формулу: если
Бога нет, то капитан Лебядкин после этого — таракан. Если «души не су¬
ществует», то особь попадает в абсурдный круг оборачиваемости, в бес¬
смысленную череду метаморфоз: агонизирующий таракан, уподоблен¬
ный свинье, и его убийцы-вивисекторы, которые сравниваются с обезья¬
ной и конем, метафорически сближаются; сегодня они мучители — завтра
жертвы.
Заметим, что если в «Бесах» о таракане сказано: «попал в стакан», то
в эпиграфе к олейниковскому стихотворению — «попался». Мир Олейни¬
кова, столь же абсурдный, как и лебядкинский, оказывается еще страшнее:
борьба за существование в его стихах не связана ни с естественным отбо¬
ром, ни с эволюцией — это только взаимное истребление; любая законо¬
мерность осознается как пародия на провидение, которое несет обреченно¬
го от плохого к худшему; все «милое» оказывается иллюзией; повсюду рас¬
ставлены житейские ловушки — в одну из них и попал таракан. Написанное
двумя годами раньше стихотворение «Надклассовое послание (Влюбленно¬
му в Шурочку)» прямо формулирует олейниковскую мрачно-пародийную
систему, доводящую до последнего предела выводы из официальной мате¬
риалистической философии:
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [158]
...Страшно жить на этом свете,
В нем отсутствует уют, —
Ветер воет на рассвете,
Волки зайчика грызут,
Улетает птица с дуба,
Ищет мяса для детей,
Провидение же грубо
Преподносит ей червей.
Плачет маленький теленок
Под кинжалом мясника,
Рыба бедная спросонок
Лезет в сети рыбака.
Лев рычит во мраке ночи,
Кошка стонет на трубе,
Жук-буржуй и жук-рабочий
Гибнут в классовой борьбе.
Все погибнет, все исчезнет
От бациллы до слона —
И любовь твоя, и песни,
И планеты, и луна.
И блоха, мадам Петрова,
Что сидит к тебе анфас, —
Умереть она готова,
И умрет она сейчас.
Дико прыгает букашка
С бесконечной высоты,
Разбивает лоб бедняжка...
Разобьешь его и ты!
«Умереть она готова» — «Разобьешь его и ты»: сравнение с блохой-смерт-
ницей навязано явно не только адресату стихотворения — Г. 3. Левину; же¬
стокая перифраза из Гете — Лермонтова («Отдохнешь и ты») тоже метит че¬
рез голову адресата — в кого? В читателя, который должен принять соб¬
ственное ничтожество и унижение в смерти как норму бытия.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [159]
«Таракан» еще изощреннее в своих макабрических насмешках над чита¬
телем, испытывая его в финале стихотворения приемом «заедающего» мо¬
тива: мало того, что герой стихотворения долго (по ходу семи строф) гото¬
вился умирать, что его долго убивали (по ходу четырех строф), он, уже уме¬
рев окончательно, все еще продолжает умирать вновь и вновь, от строфы
к строфе. «...Помирает таракан» (в двенадцатой строфе), затем — «...вне¬
запно холодеет» (в тринадцатой строфе); после чего — «Нету больше ни¬
чего» (в четырнадцатой строфе), но и на этом еще не все: «...он не дышит»
(шестнадцатая строфа); но и это еще не конец — «...мертвый таракан» (во¬
семнадцатая строфа) — и, наконец, после многократного освидетельство¬
вания смерти, в двадцатой строфе, покойник все еще «...будет <...>/ Ждать
печального конца». Ужас, обернувшийся «сказкой про белого бычка»; на¬
вязчивый бред, кошмар смерти, тем не менее вызывающий смех — таков
последний издевательский фокус «Таракана».
Это издевательство над читателем, впрочем, содержит в себе урок —
смехового смирения перед лицом абсурдной жизни и бессмысленного унич¬
тожения.
«Пародировал он не формы, не стили и жанры, как это кажется сегодня
иным исследователям, а саму жизнь, ее суть» (Жукова: 164—165).
8
Так вышло, что о двух годах жизни поэта (1933 и 1934) мы знаем гораздо
больше, чем обо всех остальных: именно в этот период Леонид Липавский
подробно стенографировал разговоры, которые вели между собой Алек¬
сандр Введенский, Яков Друскин, Николай Заболоцкий, Олейников и Да¬
ниил Хармс.
Некоторые фрагменты этих «Разговоров» цитировались нами выше,
теперь же попробуем сложить из реплик Липавского и его собеседников
словесный портрет Олейникова-человека, тем более что во многих других
случаях для составления такого портрета нам приходилось и еще придет¬
ся довольствоваться лишь подсобным, косвенным материалом: газетными
и журнальными рецензиями на олейниковкую детскую прозу, куцыми об¬
рывками мемуаров, далеко не всегда посвященных специально Олейникову,
короткими дневниковыми записями и фрагментами писем...
А вот в «Разговорах» Олейникову отведено если не самое центральное,
то уж точно одно из центральных мест.
Даже начинаются они со списка именно олейниковских жизненных при¬
оритетов. «Н. М. сказал: Меня интересует: питание; числа; насекомые; жур¬
налы; стихи; свет; оптика; занимательное чтение; женщины; пифагорей¬
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [160]
ство-лейбницейство; картинки; устройство жилища; правила жизни; опыты
без приборов; задачи; рецептура; масштабы; мировые положения; знаки;
спички; рюмки, вилки, ключи и т. п.; чернила, карандаш и бумага; спосо¬
бы письма; искусство разговаривать; взаимоотношения с людьми; гипно¬
тизм; доморощенная философия; люди XX века; скука; проза; кино и фото¬
графия; балет; ежедневная запись; природа; "АлександроГриновщина"140;
история нашего времени; опыты над самим собой; математические дей¬
ствия; магнит; назначение различных предметов и животных; озарение;
формы бесконечности; ликвидация брезгливости; терпимость; жалость;
чистота и грязь; виды хвастовства; внутреннее строение Земли; консерва¬
тизм; некоторые разговоры с женщинами» (Разговоры: 307).
А одна из последних реплик полилога, составленного Липавским, — это
его собственное рассуждение, констатирующее и доминирование Олейнико¬
ва в компании, и его вину в том, что компания разваливается. Спровоциро¬
вал эту реплику Николай Заболоцкий, заметивший: «Мы все живем как запер¬
тые в ящике. Больше так жить невозможно, при ней нельзя писать» (Там же:
420). Фраза Заболоцкого, между прочим, объясняет, почему и он, и Олейни¬
ков стремились во что бы то ни стало напечатать свои главные стихи, хотя об¬
становка и время этому явно не способствовали: существовать в безвоздуш¬
ном пространстве, совсем без читателя, было все-таки очень трудно141.
Липавский подхватывает реплику Заболоцкого: «У нас, мне кажется,
были данные, чтобы превратить наш ящик в лодку. Это не случилось, тут на¬
ша вина» (Там же: 420—421). Затем он перечисляет, чем провинился каж¬
дый из друзей, а завершает свою обвинительную речь так: «И главная ви¬
на — Н. М. Ее трудно определить. Не в том дело, что он спокойно срывает
любое общее начинание, например, словарь. Что внес, как законную вещь,
ложь и, значит, неуважение друг к другу. Он единственный мог стать цен¬
тром и сплотить всех. Он всегда естественно становится на неуязвимую по¬
зицию человека, который всегда сам по себе, даже в разговоре, там, где
появляется ответственность и можно попасть в смешное или неприятное
положение, он ускользает» (Там же: 421).
В «Разговорах» можно найти еще две яркие характеристики лично¬
сти Олейникова. Одну из них, более краткую, дал Александр Введенский:
140 «Гриновщина» — весьма распространенное словечко в литературном жарго¬
не эпохи. Так называли склонность к сентиментальной романтике. Ср., например,
в очерке Н. Шпанова «Ученик чародея» (1950): «Вот настоящий мечтатель! Меня сер¬
дит, когда гриниаду называют гриновщиной. И я скорблю о том, что эта прекрасная
традиция мечтательного странствия в приключениях не имеет у нас своих продол¬
жателей».
141 Ср., например, реплику Хармса, воспроизведенную в «Разговорах»: «Нам бы ну¬
жен был наш журнал, особенно для Н. М.» (Разговоры: 342).
Жизнь и стихи Николая Олейникова [161]
«Н. М. подобен женщине; женщина ближе к тайнам мира, она несет их, но
сама не сознает. Н. М. — человек новой эпохи, но это, как говорят про кре¬
стьян, темный человек» (Там же: 328). Второе, весьма пространное «резю¬
ме» составил Заболоцкий (или Заболоцкий вместе с Липавским): «Он появ¬
ляется в редакции без цели, как фланер, в странной одежде и спортивных
туфлях зимой142. Его все всегда принимают хорошо. Он садится и начинает
бесстыдно издеваться: "Что, — говорит он писателю, — опять пошлятину
наворотил?" А редактору: "Зачем вы разговариваете с ним, ведь он мошен¬
ник, ему нужны только деньги../' Все это правда, но принимается с улыб¬
кой, за остроумие. Вообще шутки его напоминают шутки Ивана Иванови¬
ча из повести Гоголя: "А хлебца тебе, наверное, тоже хочется?"143 К тому
же они направлены на тех, кто беззащитны, кто действительно пишет пло¬
хо. Так говорит Н. М., выполняя свою общественную функцию законодателя
вкусов, вроде Петрония при Нероне. Ему дана привилегия говорить правду,
как в старину шутам. Так прежде принимали симпатичного и талантливого,
но спившегося вконец человека. Он проходит, как особое явление приро-
142 Ср. с портретом Олейникова в мемуарах Лидии Жуковой: «Его мало интересовали
земные блага, и свою холостяцкую берлогу он мало чем украшал. Да и сам-то он был
одет небрежно, серо, смахивал на колхозника в своих мятых рубашках без галстука,
ботинки на грани катастрофы, шнурки висят» (Жукова: 170). Но ср. и в мемуарах
Исая Рахтанова, показывающих, что к мелочам быта Олейников бывал и внимателен:
«Знаете, как удобно? Легко, недорого и не жмет. Чего лучше? Сходите в ДЛТ, отдел
спорттоваров, снизу направо. Обязательно купите. Если нет денег, могу выписать
аванс, в первой выплатной получите, а пока одолжите... Не пожалеете, все лето бу¬
дете таскать и радоваться.
Так он расхваливал мне боксерские ботинки, которые купил накануне. Ему очень
хотелось, чтобы все сотрудники его журнала обзавелись такими же удобными, легки¬
ми, недорогими» (Рахтанов 1966:137).
143 Подразумевается следующий фрагмент гоголевской «Повести о том, как поссо¬
рился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»:
— Бедная головушка, чего ж ты пришла сюда?
— А так, паночку, милостыни просить, не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб.
— Гм! что ж, тебе разве хочется хлеба? — обыкновенно спрашивал Иван Ива¬
нович.
— Как не хотеть! голодна, как собака.
— Гм! — отвечал обыкновенно Иван Иванович. — Так тебе, может, и мяса хо¬
чется?
— Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна.
— Гм! разве мясо лучше хлеба?
— Где уж голодному разбирать. Все, что пожалуете, все хорошо.
При этом старуха обыкновенно протягивала руку.
— Ну, ступай же с богом, — говорил Иван Иванович. — Чего ж ты стоишь? ведь
я тебя не бью!
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [162]
ды, не входящее в обычный круг, не подчиненное общим правилам. В конце
концов к нему относятся хорошо, потому что считают за редкое и прекрас¬
ное произведение природы. А таланты нужны, как украшение, любому вре¬
мени, любому строю. И поэтому ему все-таки перепадает небольшая часть
земных благ. Он может, если захочет, прожить как эстетический прихлеба¬
тель» (Разговоры: 345—346)144.
Прервав на некоторое время цитацию «Разговоров», приведем теперь
два колоритных анекдота Николая Харджиева, относящихся к 1933 году
и касающихся как раз взаимоотношений Олейникова с Александром Вве¬
денским, а также с Николаем Заболоцким. Эти анекдоты хорошо иллюстри¬
руют общий стиль и тон шуток в олейниковской компании.
Анекдот первый: «Эту историю мне рассказал Хармс, в чьей комнате со¬
стоялась карточная дуэль Введенского с Олейниковым. Предложение Олей¬
никова — сыграть в карты — очень удивило Введенского: Олейников в кар¬
ты не играл, а Введенский был азартнейшим картежником. Игра все-таки
началась, и Введенский сразу же был поставлен в тупик непредсказуемы¬
ми ходами партнера. Условие безнадежной игры, предначертанное Олей¬
никовым, заставило Введенского насторожиться: проигравший обязан был
беспрекословно подчиниться решению выигравшего. Заумная дуэль закон¬
чилась полным поражением Введенского. Зная крутой нрав Олейникова,
Введенский, бледный и молчаливый, сидел, ожидая жестокой расправы.
И предчувствие его не обмануло. Олейников вооружился большими нож¬
ницами и, молча, изрезал черный пиджак Введенского на узкие ленты. По
окончании позорной экзекуции Введенский встал и, не глядя на онемевших
свидетелей этой сцены, ушел. Введенского Олейников считал самым ода¬
ренным из обэриутов» (Харджиев 2002: 58—59)145.
Анекдот второй: «Весна 1933 года. Хармс, Олейников и я идем к Забо¬
лоцкому праздновать его 30-летие. Несем скудные подарки — водку и крас¬
ную икру. Проходим мимо витрины "закрытого распределителя", где вы¬
ставлена всякая снедь.
144 Ср. также реплики Я. С. Друскина: «...может быть великий математик, который не
сделал никакого другого существенного открытия, кроме открытия нового стиля. Не
таков ли Н. М.?» (Разговоры: 365), Хармса: «Наш гений вообще со странностями»
(Разговоры: 375) и Л. Л. Липавского: «Не знаю; во мне нет оригинальности, как,
например, в Н. М.» (Разговоры: 394).
145 Ср. мнение Олейникова о прозе Введенского, приведенное в «Разговорах»: «Я счи¬
таю, что проза А. В. даже выше его стихов. Это основа всякой будущей прозы, открытие
ее. В этом и удивительность А. В., что он может писать как графоман, а выходит все пре¬
красно. Недостаток его другой, в том, что он не может себя реализовать <...> Впрочем,
я считаю А. В. выше Хлебникова, у него нет тщеты и беспокойного разнообразия Хлебни¬
кова» (Разговоры: 353— 354). Не забудем, что именно Введенский подвел Олейникова
под монастырь на следствии, хотя нам неизвестно: признался ли он в этом своему другу?
Жизнь и стихи Николая Олейникова [163]
Олейников мечтательно произносит:
— Вот бы нас впустили туда на ночь...
"Мальчишник" у Заболоцкого. Его очень молоденькая жена Катя, соби¬
раясь идти ночевать к подруге, смотрит на нас неприязненно и задиристо.
Своим вздорным поведением она отравила последние годы жизни Заболоц¬
кого, который, к сожалению, был любящим мужем. Когда она ушла, мы сра¬
зу повеселели. Пирушка нищих продолжалась до утра. Говорили о стихах
и еще больше о живописи. Спорили отчаянно и в доказательство правоты
лупили друг друга подушками. Хармс, чтобы позлить друзей, упрямо по¬
вторял, что его любимейший художник — Каульбах. Олейников присталь¬
но рассматривал хорошо ему известный рисунок Заболоцкого, висевший на
стене: изображение бегущего слона. Заболоцкий недурно рисовал, его учи¬
телем, кратковременным, правда, был сам Филонов.
Олейников:
— Я знаю, как называется ваш рисунок, Николай Алексеевич. "Чаяние"!
Но Заболоцкий даже не улыбнулся <...> Утром, после пирушки, решили
пойти в Русский музей, чтобы закончить спор о живописи. Олейников по¬
хваливал работы ближайших учеников Венецианова, а Хармс восхищался
их несравненным учителем. Кажется, Хармс первый обратил внимание на
каких-то посетителей в глубине смежного зала.
— Это что там за дрянь? — полюбопытствовал Олейников.
А это были мы, отраженные в большом зеркале, малопривлекательные
после бессонной и пьяной ночи» (Харджиев 2002:50—51)146.
Возвращаемся к «Разговорам» и портрету Олейникова, который склады¬
вается из их фрагментов. Поражает разнообразие научных интересов Олей¬
никова, приоткрытое ближайшим друзьям и тщательно прятавшееся даже
от хороших знакомых147, причем эти интересы, как правило, располагались
на трудно прочерчиваемой границе между настоящей наукой и воинствен¬
ным дилетантизмом148. Остается открытым вопрос: чувствовал ли эту грани¬
146 Ср. с вариацией рассказа об этом же событии, записанной за Харджиевым
Р. В. Дугановым (Дуганов: 42).
147 Ср. с записью Л. Я. Гинзбург, сделанной в марте 1933 года: «Бухштаб однажды по¬
дошел к Олейникову в читальном зале Публичной библиотеки и успел разглядеть, что
перед ним лежат иностранные книги по высшей математике. Олейников быстро задви¬
нул книги и прикрыл тетрадью» (Гинзбург: 485). Еще ср. в мемуарах Лидии Жуковой:
«Я как-то наткнулась на его книжной полке на тетрадь, испещренную математическими
фигурками. Он был очень недоволен. Это — его, только его» (Жукова: 166). Впро¬
чем, судя по тематическому плану Детгиза на 1935 год, Олейников в этом году брался
за написание книжки для «младшего школьного возраста» под названием «Рассказы
о математике. Сборник рассказов о великих математиках» (РГАЛИ. Ф. 681. Оп. 8. Л. 24).
148 На этом поприще главным предшественником Олейникова был, разумеется, Хлеб¬
ников.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [164]
цу сам Олейников? Судя по всему — чувствовал и радостно нарушал в обе
стороны.
В дополнение к обширному списку из зачина текста, составленного Ли¬
павским, прибавим еще несколько реплик Олейникова и об Олейникове из
«Разговоров»: «Н. М. говорил о методе писать стихи, о прекращении жажды
к разнообразию и о желудочной теории» (Разговоры: 313). «Н. М. скромно
пил чай, развивая перед хозяевами свои любимые теории питания» (Там же:
317). «Н. М. считал себя знатоком эндоптического зрения. Его занимало, что
делается у него в глазу. Он наблюдал пятна или помутнения, искры и волок¬
на <...> Н. М. на основании различия движений этих телец и их размеров
(он вычислил их) устанавливает, что видит человек в своем глазу» (Там же:
318). «По приезде Н. М. с Кавказа он беседовал с Л. Л. о тюркском театре,
о японских добровольцах для торпед, о бобылях и о философии интеллиген¬
ции в разные времена» (Там же: 331). «Н. М.: О цветах есть у Лейбница заме¬
чательные мысли. Точно не помню, но суть в том, что цвета — это мельчайшие
фигуры, треугольнички и т. д.» (Там же: 349). «Н. М.: А вы слышали о теории,
напечатанной в американском журнале? Земля — полый шар, мы живем на
ее внутренней поверхности, солнце и звезды и вообще вся вселенная нахо¬
дятся внутри этого шара» (Там же: 351). «Таблицы Н. М. действительно уди¬
вительны, в них заключены все правила теории чисел» (Там же: 358). «О ки¬
тайских вещах. Н. М.: Они прекрасны. Обычно очень ценятся древнеегипет¬
ские вещи, и они действительно хороши; но по сравнению с китайскими они
грубы, как шероховатость телеги по сравнению с лакированностью автомоби¬
ля» (Там же: 376). «Н. М.: Когда я голодал двадцать дней, чтобы избавиться
от малярии, по ночам видел все тот же сон, будто я что-то съел, было страшно
обидно, что испортил все дело. От малярии я так вылечился» (Там же: 416).
«Д. X.: Что же Н. М. не расскажет вам открытия, которое он сделал вместе
с женой. Они теперь работают как супруги Кюри» (Там же: 349).
9
О жене Николая Олейникова, Ларисе Александровне, которая была младше
мужа на восемь лет, подробнее других мемуаристов пишет Лидия Жукова.
В этой части ее рассказа поэт неожиданно приобретает почти карикатур¬
ное сходство с ненавидимым им самим типом патриархального казака-са-
модура. Наверное, недаром в одном из вариантов стихотворного послания
Олейникову 1935 года Хармс обозвал его «семейным жрецом» (см.: Мей¬
лах 1999:565).
Поэт однажды выступал «на Путиловце перед пионерами, там и встре¬
тил Ларису, девчонку — пионервожатую, — вспоминает Жукова. — И по¬
Жизнь и стихи Николая Олейникова [165]
тянуло нашего покорителя сердец к ее неведению, доверчивости, детско¬
сти. Бывает так иной раз с тихими девочками, не знающими всех хитростей
"науки страсти нежной", — они побеждают легче, чем иные искуситель¬
ницы, и они настойчивее по простоте душевной. Ларисе, "Раре", как он
ее называл, пришлось учиться терпению. "Макар Свирепый" был нелегкий
муж. Когда он принимал трапезу, никто не смел при сем священнодействии
присутствовать, ни рарины родственники, ни забредшие соседи. Я думаю,
в нем это было от скрытой застенчивости, от потребности в чем-то быть не¬
прикасаемым. В нем жил бродяга, и он частенько оставлял свою Рарочку
одну. В круг его дружков-художников она не допускалась. И не смела за¬
давать никаких вопросов. "Коля так брезглив, — говаривала она, — что
я спокойна. Женщины его не интересуют". Она ошибалась. Женщины его
очень интересовали» (Жукова: 176)149.
В мемуарах Жуковой рассказываются и драматические подробности,
связанные с болезнью и смертью первого сына Николая Олейникова, ро¬
дившегося 14 апреля 1930 года: «Потом у них случилось горе. Маленько¬
го трехлетнего Колю Лариса увезла к матери на край света, в глухой сред¬
неазиатский кишлак <...> Там, в этой степной заброшенности маленький
Коля заболел. Накануне вечером Николай Макарович был у нас, допоздна
мы втроем резвились, потягивали винцо из бокалов с дворянскими вензе¬
лями, — попались они нам в Царском в какой-то комиссионной лавчонке.
А его уже ждала телеграмма, и сразу же утром он выехал. Тогда не лета¬
ли, тогда еще тащились на поездах, когда все решается минутами. Курьер¬
ский поезд не останавливался ни на одной из близких станций, и Олей¬
ников прыгнул на полном ходу этого курьерского, побежал по нескончае¬
мому сухому полю, плутал, искал селение, где умирал его сын, и опоздал.
Он не простил этого Ларисе, он всегда помнил, как она виновата» (Жуко¬
ва: 176—177).
Не без злорадства отмечая, что «в круг дружков-художников» поэта
Лариса Олейникова «не допускалась», Лидия Жукова несколько преуве¬
личивала. Вот как сама олейниковская вдова рассказывала о его ближай¬
шем друге, художнике Петре Соколове, в письме к исследователю и кол¬
лекционеру Борису Сурису: «Он очень любил Олейникова. Оба страшно це¬
нили любую возможность поговорить вдвоем. Осенью — особенно. Рано
утром уходили гулять, перелезали через ограду Михайловского сада, на¬
бирали огромные пучки разноцветных осенних листьев, насладившись бе¬
седой, усталые и голодные приходили домой <...> Были мы втроем на вы-
М9 Н. Харджиев в разговоре с М. Мейлахом приводит одно из прозвищ Олейнико¬
ва, гулявшее среди друзей: «Николай Макарыч, надменный кавалер» (Харджиев
2000:54).
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [166]
ставке Нико Пиросманишвили (в 1930 г. — 0. Л., М. С.). Очень хвалил и он,
и Олейников» (цит. по: Галеев 2013: 45). Петр Соколов написал двойной
портрет Ларисы и Николая Олейникова (в образе пирата — героя француз¬
ского фильма «Сюркуф»). Этот портрет ныне хранится в Русском музее в Пе¬
тербурге. Он воспроизведен на странице 44 замечательного альбома «Петр
Иванович Соколов (1892—1937). Материалы к биографии, живопись, гра¬
фика, сценография» (М., 2013), составленного Ильдаром Галеевым.
Лариса Олейникова была вхожа и в рафинированную компанию участ¬
ников «Разговоров», свидетельство чему отыскивается в дневнике Дании¬
ла Хармса, заполнявшемся осенью 1933 года. Здесь перечисляются удар¬
ные номера певческого репертуара жены поэта, и содержится запись, пря¬
мо обращенная к ней.
Л. А. Олейникова прекрасно поето
1. Кони
2. На овал
3. Мы ушли
4. За окошком
Так сказали люди <...>
5. Пес Дуглас
Я просил вас спеть «Кони» и «На овал», потому что мне показалось,
что другие песни Вы спели хуже этих двух (Хармс 2002. Ч. 2:69)150.
150 Чуть ниже в дневнике Хармса располагается очередная полуигровая-полураздра-
женная запись о самом Олейникове:
«"Требуха" Н. М. Олейников не умен,
видать, что не умен,
сразу скажу, что не умен.
"Перемена фамилий".
Кто больше Беранже или Н. М. Олейников?
Сознанье мое разрывалось
"Кузнечик"» (Хармс 2002. Ч. 2:69).
Комментарием к первому слову в этой записи Хармса, по-видимому, может послу¬
жить следующий фрагмент из «Разговоров»: «И они зашли по дороге в пивную и вы¬
пили по кружке. У Н. А. прочел Н. М. "Похвалу изобретателям".
Н. А.: Мне нравится. Чего-чего тут нет. Не знаю только, хорошо ли "бирюльки".
Н. М.: Не хочешь ли ты этим сказать, что много требухи?
Тут началась особая словесная игра, состоящая в преобразовании, подмене
и перекидывании словами по неуловимому стилистическому признаку. Передать ее
невозможно; но очень большая часть разговоров сводилась в этом кругу людей к та¬
кой игре; победителем чаще всего оставался Н. М. На этот раз началось с требухи
и кончилось головизной» (Разговоры: 337).
Жизнь и стихи Николая Олейникова [167]
Занятно, что автором по крайней мере двух песен из репертуара Ларисы
Олейниковой был Александр Вертинский151, что не очень-то вяжется с обра¬
зом наивной пионервожатой с Путиловского завода из воспоминаний Жу¬
ковой. Не говоря уже о том, что дальше Жукова сама рассказывает о матери
Ларисы — «маленькой, худенькой, испуганной» Нине Николаевне, сослан¬
ной «на край света, в глухой среднеазиатский кишлак» «за генеральское
ее прошлое» (Жукова: 176). Казак-красноармеец и пионервожатая — дочь
генеральши — это диковатое сочетание было вполне в духе эпохи, как,
впрочем, и в духе причудливой олейниковской биографии.
Отметим, что и портрет матери Ларисы Олейниковой в мемуарах Жуко¬
вой неточен: дочь адмирала Н. Соколовского и княжны Химшиашвили, Ни¬
на Николаевна вышла замуж за генерала артиллерии А. Дорошко. После ре¬
волюции пути супругов разошлись. Будучи тяжело ранен во время войны,
Дорошко уволился с военной службы и стал преподавать математику. Ни¬
на Дорошко вступила в коммунистическую партию и в качестве учителя,
владевшего восточными языками, была направлена в Среднюю Азию, где
ей надлежало преподавать русский язык в районах, пребывавших под кон¬
тролем басмачей. После ареста Олейникова Нина Николаевна подала в ЦК
ВКП(б) заявление о выходе из партии и приехала в Соликамск, куда была
выслана ее дочь152.
«Надо быть женатым, то есть жить вместе, — излагал Олейников Ли¬
дии Гинзбург свою позицию по «семейному вопросу». — Иначе приходит¬
ся каждый день начинать сначала. Начинать — стыдно. Но главное, надо
быть женатым потому, что страшно просыпаться в комнате одному» (Гинз¬
бург: 145).
В 1935 году с Олейниковым мимолетно пересекся известный драматург
Александр Афиногенов, внесший в свой дневник заинтересованную запись
об этой встрече: «Олейников — поэт, задумчивый и скромный. "Светлый ге¬
ний". Красавец. Ирония или новый взгляд на знакомые вещи. Материализа¬
ция чувств. Разоблачение ощущений. Бытовые понятия — обиход поэзии,
пушкинизм» (Афиногенов: 280).
В этом году наконец лопнуло терпение товарищей Олейникова по пар¬
тии. 2 января поэт был вызван на Открытое заседание Комиссии по чистке
коллектива ВКП(б) «Союзфото» и ему были предъявлены следующие обви¬
нения: «Т<оварищ> Олейников является автором стихов опошляющих нашу
действительность. Стихи эти напечатаны быть, безусловно, не могут, и рас¬
пространяются в рукописи. Он объясняет создание этих стихов, кож по¬
151 № 4 — «За окошком» (которая на самом деле называется «Нежная колыбельная»)
и № 5 — «Пес Дуглас».
152 Сведения о Н. Н. Дорошко получены от А. Н. Олейникова.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [168]
пытку воскресить в Литературе Жанр "Козьмы Пруткова". Собранные вое¬
дино стихи имеют контрреволюционное значение.
Олейников являлся другом контрреволюционера-зиновьевца — сослан¬
ного в концент<рационные> лагеря — Матвеева. После ареста Матвеева не
пришел в парт<ийную> Организацию. Не рассказал о своей дружбе с ним
и никак не помог его разоблачению. Свою дружбу с Матвеевым объясняет
как чисто бытовое явление.
От парторганизации оторван, среди своих друзей коммунистов не имеет,
за 2 м<есяца> пребывания в н/парткоме, абсолютно не проявил себя к<аж
активный член партии. Среди своих друзей имел Соколова, Хармса и Вве¬
денского, все трое органами НКВД высылались из Ленинграда. На партсо¬
брании, где были ему предъявлены все эти обвинения, вначале не хотел,
а потом не сумел дать объяснений»153.
Чтобы не быть исключенным из партии, поэту в итоге пришлось унижен¬
но оправдываться. Приведем здесь обширные фрагменты из его вымучен¬
ных письменных «показаний»:
«Внимательно обдумав свое выступление на последнем писатель¬
ском партийном собрании, я пришел к выводу, что мое поведение
на этом собрании заслуживает самого решительного осуждения.
Я до сих пор не могу понять, каким образом я, член партии
с 15-летним стажем, мог докатиться до тех высказываний, какие
имели место в моем выступлении.
Вместо откровенного и безоговорочного признания своих тяже¬
лых ошибок, вместо того, чтобы дать возможность своим товари¬
щам по партии полностью проверить и выявить мое партийное ли¬
цо, я своими уклончивыми ответами еще более укрепил их в мнении
обо мне как о человеке недостойном носить звание коммуниста.
Сейчас я хочу подробно, ничего не утаивая, остановиться на
всех тех обвинениях, которые были предъявлены мне выступавши¬
ми товарищами, обвинениях с большинством из которых я вынуж¬
ден полностью согласиться.
Первое тяжелое обвинение, которое было мне предъявлено
это дружба с зиновьевцом Матвеевым. Вспоминая свои разговоры
с Матвеевым <...>, я сам удивляюсь той непростительной беспеч¬
ности, с которой я относился к его словам и поступкам. До само¬
го последнего времени, до момента его ареста я полагал, что он
порвал с зиновьевской оппозицией окончательно и бесповоротно.
То обстоятельство, что он занимал руководящий пост еще больше
153 ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. On. 1. Д. 641923/2. Л. 4 об.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [169]
укрепляло меня в этом мнении <...> Переходя к следующему обви¬
нению выдвинутому против меня, <...> я должен сказать, что рез¬
кая и суровая оценка данная моим стихам настолько ошеломила
меня, что я не нашел в себе достаточно мужества чтобы тут же на
собрании признать всю справедливость предъявленных мне обви¬
нений.
Лишь сейчас, по зрелом размышлении я сам начинаю видеть, на
какой опасный путь становился я, сочиняя свои вещи.
В первый момент я никак не мог согласиться, что мои стихи
[граничат с нелегальщиной] благодаря своей двусмысленности мо¬
гут [радовать] играть на руку людям враждебно настроенным по от¬
ношению к нам. Мне казалось, что поскольку стихи мои известны
целому ряд<у> крупных партийцев и некоторым ответственным ра¬
ботникам НКВД —■ постольку ничего предосудительного они в себе
не заключают. Почти все без исключения ленинградские писатели-
коммунисты знали мои стихи. Вплоть до последнего партсобрания
никто из них не указал мне на недопустимость произведений по¬
добного рода. Правда все это нисколько не умаляет моей вины, ибо
совершенно естественно, что я сам, не дожидаясь никаких указа¬
ний со стороны, должен был осознать свою ошибку.
Когда я начинал писать эти стихи, у меня была цель — в паро¬
дийной форме высмеять целый ряд литературных приемов и поло¬
жений излюбленных буржуазной поэзией и частично, по инерции,
продолжающих иметь место и в нашей литературе <...> Я решил
пойти по стопам авторов Козьмы Пруткова и придумать условный
персонаж — технорука NN, тупого самовлюбленного пиита, кото¬
рый начинает с превыспренних стишков и пошленьких посвящений
знакомым барышням и кончает так называе<мы>ми вечными тема¬
ми (тема «святой» любви, тема отчаяния, кладбищенская традици¬
онная баллада, увлечение наукой для науки и т. д.).
Благодаря такому сопоставлению тем достигается снижение так
называемых "высоких" тем. Доведением до логического абсурда
доказывается и порочность самой тематики.
Уже с первых шагов в этом направлении я должен был остано¬
виться и понять, в какую тину засасывает меня моя юродствующая
юмористика. Но я ничего не замечал. Ни разу никем не одернутый
как следует, я продолжал пребывать в убеждении, что мои стихи
могут принести какую-то пользу, что они действительно высмеива¬
ют литературный эстетизм, мещанство, глупость, идеалистическое
копание в мелочах, упадочничество, пошлость, обжорство, замо¬
гильную тематику, беспредметный скептицизм и т. п.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [170]
И вот на партсобрании я впервые услышал совершенно иную
оценку. Большинство из выступавших указали мне на то, чего
я раньше никогда не замечал — не только на никчемность этих сти¬
хов, но и на двусмысленность отдельных строчек из них.
Суровая и беспощадная критика не сразу была осознана и поня¬
та мною. Но по внимательном и зрелом размышлении я вижу, что то¬
варищи осуждавшие меня - правы. Мои стихи очевидно могут быть
истолкованы как угодно. Ирония — орудие обоюдоострое и очень
опасное в неумелых руках. А мои руки оказались именно неуме¬
лыми. Я не сумел справиться с темами, которые задумал обыграть.
Я думал заклеймить пошлость, а получилось воспевание пошлости,
думал заклеймить любовную глупость, а получилась порнография.
Глубокий стыд, чувство озлобления против самого себя охва¬
тывает меня каждый раз, когда я начинаю вспоминать ту или иную
строчку из своих стихов.
Со всей искренностью и прямотой я заявляю, что раз и навсегда
порываю со стихами подобного рода.
Я вполне понимаю, что законно чувство негодования, которое
вызвали мои проступки у писателей партийцев, вынесших поста¬
новление об исключении меня из партии.
Но я прошу дать мне возможность исправиться и загладить свои
ошибки настоящей творческой работой достойной коммуниста.
Мне становится страшно при мысли, что я навсегда буду ли¬
шен возможности быть в первых рядах строителей социализма. Вне
рядов партии я не мыслю своего существования. Я не хочу думать
о себе, что я вконец разложившийся и чуждый партии человек.
Я прошу принять во внимание мои, хотя и небольшие, заслуги
в области коммунистического воспитания детей, которые я имею за
время пребывания в рядах В.К.П.(б).
Если бы моя литературная работа ограничивалась писанием
стихов, я, конечно, не заслуживал бы никакого снисхождения. Но
главная моя работа — детская литература. Мною написан целый ряд
политических книг для детей. Не мне судить — хороши или плохи
эти книги, но все они рекомендованы и одобрены соответствующи¬
ми организациями. Большинство моих книг включены Наркомпро-
сом во все школьные программы для обязательного прохождения.
Надежда Константиновна Крупская заявила, что считает мои кни¬
ги образцовыми, как в литературном, так и в политическом отно¬
шении. Положительную оценку мои работы имели в отзывах Б. С. Э.
<Большой Советской Энциклопедии> и в Литерат<урной> Энцикло¬
педии. В настоящее время я работаю над большой книгой для ре-
Жизнь и стихи Николая Олейникова [171]
бят о 17 партсъезде. Месяц тому назад мною был написан и напеча¬
тан рассказ о Кирове.
Я знаю, что никакие мои заслуги не могут искупить все мои ви¬
ны перед партией. Но все же я прошу дать мне возможность загла¬
дить свои ошибки упорной и честной работой в рядах В.К.П.(б)».
Свою недостаточную активность как коммуниста поэт, скорее
всего, неправдиво, объяснил болезнью, а для пущей убедительности
даже сообщил, что «врачи предполагают делать операцию мозга»154.
Хотя в итоге все пока что обошлось, и Олейникова из партии не исключи¬
ли, ограничившись строгим выговором, стихи в прежнем ерническом духе
он и, правда, писать почти перестал: 0 новой олейниковской манере речь
у нас еще впереди, пока же приведем полностью лишь одно из стихотворе¬
ний, написанных в этой манере. В соседстве с только что процитированны¬
ми «покаянными» показаниями поэта это стихотворение, как представляет¬
ся, воспринимается особенно остро:
Птичка безрассудная
С беленькими перьями,
Что ты все хлопочешь,
Для кого стараешься?
Почему так жалобно
Песенку поешь?
Почему не плачешь ты
И не улыбаешься?
Для чего страдаешь ты,
Для чего живешь?
Ничего не знаешь ты, -
Да и знать не надо.
Все равно погибнешь ты,
Также, как и я.
1937
б апреля 1935 года уже не в каком-то там маргинальном «Локафе», а в главной
государственной газете «Правда», в рубрике «Заметки читателя», было поме¬
щено развернутое и резко негативное суждение Г. Фрадкина из Ростова-на-
Дону о злосчастных олейниковских «Танках и санках». Вряд л и оно могло быть
опубликовано лишь по личной инициативе редактора рубрики «Заметки чита¬
теля», слишком уж серьезный счет Фрадкин выставил Олейникову:
154 ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. On. 1. Д. 641923/2. Л. 1.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [172]
«Наша Красная Армия пользуется безграничной любовью масс.
С ненасытной жадностью слушают и дети наши рассказы о героиче¬
ском прошлом Красной Армии, и нет заманчивее для них перспек¬
тивы "поскорее вырасти большими" и стать красноармейцами, лет¬
чиками, командирами.
Ничего не может быть гнуснее, когда под видом рассказа о про¬
шлом Красной Армии детям преподносится клевета на Красную Ар¬
мию, опошление героической борьбы против белых и интервентов.
Дали моей дочери в детской библиотеке имени Плеханова (Ростов-
на-Дону) книжку Олейникова «Танки и санки» (изд. "Молодая гвар¬
дия", 1931 г.). Книга про гражданскую войну и про Красную Армию.
Книжка начинается беседой генерала Семиколенова с донским
атаманом. Устами Семиколенова автор утверждает, что у красных
ничего нет, что это голодранцы, что командиров у красных нет.
"Генерал говорил правду", — заявляет автор. А дальше он так
излагает борьбу Красной Армии: кочегара Ивана Дорофеева заста¬
вили командовать полком, он "надел шашку задом наперед и по¬
ехал на фронт". На фронте же "пушки белых били без промаха,
а красные стреляли мимо. Почти весь полк Ивана Дорофеева был
перебит". Дальше неизвестно, какими судьбами Дорофеев вновь
командует полком. Здесь автор устами генерала сообщает детям
белогвардейские издевки над красной конницей и Лениным и в за¬
ключение заявляет: "Генерал говорил правду".
Генерал не унывает. "Скоро, — заявляет он, — красным конец. На
пароходах к нам едут танки". И верно, "генерал говорил правду", тан¬
ки приехали, "красные испугались и пустились наутек". Только насту¬
пившая зима помогла красным, которые ответили на танки санками.
"Генерал говорит правду". И эту генеральскую "правду" Олейников
вбивает в головы наших ребят. "Молодая гвардия", напечатав (прав¬
да давно уже) этот пасквиль в 50. ООО экземпляров, сделала большую
ошибку. И совершенно непонятно, зачем продолжают и углубляют эту
ошибку детские библиотеки, распространяя эту книжку.
Таких книг о Красной Армии нашим детям не нужно. Им нуж¬
ны книжки, которые бы правдиво рассказывали о борьбе и победах
Красной Армии» (Фрадкин: 4)155.
155 Спустя месяц с небольшим, 28 мая 1935 года, докладывая А. А. Жданову «об от¬
рицательных и к/p проявлениях среди писателей города Ленинграда», глава ленин¬
градского УНКВД Заковский сообщает о том, что квартиры Н. Тихонова, М. Казакова,
Н. Заболоцкого, Н. Олейникова являются местом частых собраний писателей, где
читаются и обсуждаются их произведения (и это вместо того, чтобы собираться в Со-
Жизнь и стихи Николая Олейникова [173]
Немудрено, что год спустя, 3 апреля 1936 года, в докладе на дискуссии
о «Формализме в литературе», Олейникову придется назвать «Танки и сан¬
ки» «книгой неудачной» (см.: Кобринский: 338). В этом же выступлении
он впервые фактически отречется от выработанной им для своих детских
вещей поэтики: «Первые мои детские книги продиктованы были желанием
найти форму для детской политической книги — не голой агитки, а книги
художественной. Задача, казалось бы, достойная, и цель поставлена пра¬
вильно и прямо. Но что же вышло, когда я приступил к осуществлению мо¬
ей задачи?
Самый процесс писания, поиски конструкции увлекли мою мысль в сто¬
рону уже чисто формальных задач. Рядом отдельных сообщений, ударных,
мне хотелось создать своеобразную систему подачи материала. Я хотел,
чтобы это было ново, обязательно ново. Стремясь к новизне, я на время за¬
был об основной цели, я увлекся техникой приемов, всеми внешними атри¬
бутами, которые особенно недопустимы в книжке политической. Прием по¬
бедил и лишил первоначального чувства ответственности за свою задачу»
(Там же: 342).
Вместе с тем в двух номерах «Литературной газеты» (от 25 июля и 9 ав¬
густа 1935 года) был опубликован диптих не так давно вернувшегося из
эмиграции будущего шаламовского персонажа Германа Хохлова156 «Замет¬
ки о детских журналах. "Чиж"» и «Заметки о детских журналах. "Еж"». Хох¬
лов хвалил не только два этих издания, но даже и персонально Николая За¬
болоцкого, а Даниила Хармса он ухитрился упомянуть в нейтральном кон¬
тексте! О «Чиже»: «Как целое журнал делается очень хорошо: начиная от
веселого чередования его обложек и кончая простой и занимательной по¬
дачей его литературного текста <...> Много места и старания уделяет жур¬
нал юмору — этому остродефицитному разделу нашей детской литерату¬
ры» (Хохлов 1935а: 4). О «Еже»: «Ленинградцы делают журнал так, что он
за некоторыми исключениями, о которых будет сказано ниже, воспринима¬
ется как творческий акт тесной дружбы его писательского коллектива с ма¬
ленькими читателями <...> Очень мало в "Еже" стихов: в шести номерах за
текущий год в нем напечатано одно, теперь уже широко известное стихот¬
ворение Маршака ("Четыре конца"), одно стихотворение Хармса ("Новый
город")157 <...> Можно соглашаться или не соглашаться с принципиальной
ценностью художественных переработок для детей произведений "боль¬
шой" литературы, но нельзя не признать, что сделанная для "Ежа" Н. Забо¬
юзе писателей) (См.: ЦГА ИПД. Ф. 24. Оп. 2-в. Д. 1195. Л. 3 об.). Благодарим Валерия
Николаевича Сажина за предоставление этой выписки.
156 Рассказ В. Шаламова о нем так и называется — «Герман Хохлов».
157 В №5.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [174]
лоцким переработка "Повести об удивительном путешествии великого Пан¬
тагрюэля" Ф. Раблэ — это лучшее, что у нас пока в этой области имеется»
(Хохлов 19356: 2).
Кроме Хармса и Рабле в пересказе Заболоцкого в 1935 году в «Еже»
дважды напечатался Введенский158. «Чиж» в этом году один раз поместил
текст Заболоцкого159, восемь раз — Введенского160, и пять раз — Хармса (из
них два раза — без подписи)161.
Олейников опубликовал в № 11 «Чижа» за 1935 год рассказ о револю¬
ции «В октябрьскую ночь», по обыкновению, юмористически подсвечен¬
ный. В этом рассказе маленькая девочка, пользуясь своей хрупкостью, по¬
могает взрослым рабочим проникнуть внутрь порохового хранилища: «Вам
трудно пролезть оттого, что вы все толстые, — сказала она, — а я тонкая»
(Олейников 1935: 2).
Кроме того, в 1935 году в двух номерах «Чижа» (№ 4 и 6) были напеча¬
таны рассказы в картинках о персонаже с «говорящими» именем и фамили¬
ей — Коля Макаров.
10
В 1934—1936 годах Олейников предпринял попытку всерьез сменить свой
основной источник доходов, тем более что в 1936 году журнал «Еж» был за¬
крыт. Из становившейся все более и более идеологизированной области
советской детской литературы поэт попробовал отдрейфовать в развлека¬
тельное детское кино. Вместе с Евгением Шварцем он написал целую серию
киносценариев, по которым было поставлено два фильма про девочку Ле¬
ночку с актрисой Яниной Жеймо (будущей Золушкой из фильма Натальи Ко-
шеверовой — Шварца) в главной роли: «Разбудите Леночку» (1934) и «Ле¬
ночка и виноград» (1935).
158 В № 1 и 5.
159 В № 1.
160 В № 1 (два текста), 4, 5, 6,7, 8 и 9. В заметке «Телефон "Чижа"», напечатанной
в № 10 журнала за 1935 год, маленьким читателям предлагалось от имени «умной
Маши»: «Вы все, все, кто захочет, будете разговаривать по телефону со мной и с Ва¬
ней Моховым, и с писателем Введенским, и даже с редактором» (С. 16). В этом же
году была напечатана рецензия Виктора Шкловского на детскую книгу Введенского
«Кто?», в которой она характеризовалась как «неплохая» (Шкловский 1935:41)!
161 В № 2,7,9,11 и 12. В этом же году критик Бегак писал в журнале «Детская литера¬
тура»: «Несколько лет назад чрезмерно торопливые рецензенты высмеяли талантли¬
вую книжку Хармса "Иван Иваныч Самовар"» (Бегак 1935:34). В отношении детских
вещей Введенского и Хармса в 1935 году в советской прессе явно наметилось пусть
недолгое, но потепление.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [175]
«Я считаю, что это один из лучших вообще сценариев фабрики», —
утверждал режиссер Сергей Юткевич на обсуждении сценария «Леночка
и виноград» (Биневич: 227); «Для меня в этой вещи интересная та сказоч¬
ная интонация, которая там есть, будучи переплетенной с реальной дей¬
ствительностью», — делился своими впечатлениями кинодраматург Миха¬
ил Блейман (Там же); «Мы затеяли сделать цикл картин, посвященных ма¬
ленькой девочке Леночке, — 29 ноября 1935 года докладывал на одном из
киносовещаний Андриан Пиотровский. — Это умная отважная школьница,
которую играет наша актриса Жеймо. Мы сделали картину "Разбудите Ле¬
ночку". Сейчас делаем "Леночка и виноград". Все эти сценарии пишут писа¬
тели Шварц и Олейников» (Там же: 226).
«Небольшой размер картины отнюдь не помешал ее авторам (реж. А. Куд¬
рявцева, сценаристы Е. Шварц и Н. Олейников) создать добротную вещь, —
отмечал в рецензии на «Разбудите Леночку» Б. Коломаров. — Просто и живо
осмеивая девочку Леночку, любящую поспать и поэтому опаздывающую на
занятия в школу, постановщики ленты прекрасно учитывают специфические
запросы детского зрителя. То же самое нужно сказать и об актрисе Я. Жей¬
мо, мастерски рисующей комедийный образ девочки и обладающей всеми
внешними данными для исполнения детских ролей» (Коломаров: 2).
«Огромный интерес представляет созданный Жеймо образ Леночки
в картинах "Разбудите Леночку", "Леночка и виноград", —- нахваливал ар¬
тистку ее учитель, знаменитый советский режиссер-интеллектуал Григорий
Козинцев. — Жеймо является единственной советской актрисой, умею¬
щей играть в короткометражке <...> Преступно ждать, пока в каком-нибудь
сценарии обнаружится роль для Жеймо. В плане ленинградской фабрики
должны быть запланированы картины специально для этой актрисы. Сцена¬
ристы должны писать сценарии применимо к ее таланту» (Козинцев: 36).
А сами Олейников со Шварцем посвятили Янине Жеймо такой полушу-
точный панегирик:
Вашей чудною игрою
(Уж на что, кажись, востер)
Поражается порою
Самый строгий режиссер.
Люди плачут и смеются,
Жадно глядя на экран.
Ростом с маленькое блюдце,
А талантище с Монблан.
Не сердись на нас, Янина,
Но мы скажем без прикрас:
И рояль, и мандолина —
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [176]
Все играют хуже Вас!
От Нью-Йорка и до Клина
На сердцах у всех клеймо
Под названием Янина
Болеславовна Жеймо.
Прямо скажем, сегодняшнего зрителя Янина Жеймо в фильмах про Леночку вряд
ли восхитит так же сильно, как ее современников162. Наблюдать за этой взрослой
женщиной163, эксцентрично, почти в цирковой манере, изображающей малень¬
кую девочку, да еще рядом с настоящими детьми, играющими второстепенные
и третьестепенные роли, — занятие не самое приятное, а иногда — просто му¬
чительное. Все-таки кино, с его крупными планами, — это не театр, где подоб¬
ные условности вполне допустимы. Не слишком хорошо справилась со своими
обязанностями, особенно во втором, звуковом фильме, режиссер Антонина Ку¬
дрявцева — постоянная суетня и беготня героини и других персонажей под конец
фильма изрядно утомляют. Не украсила картину и отчетливо проведенная тема
вредительства: добродушный повар дядя Петя в буффонадном исполнении Петра
Гофмана в итоге оказывается злодеем, под шумок крадущим совхозный виноград.
Отчасти примиряют с этими фильмами милые и смешные находки сцена¬
ристов: оркестр милиционеров под предводительством дирижера, на цыпоч¬
ках крадущийся по проспекту мимо окон Леночки, чтобы не мешать ей гото¬
виться к зачету; салтыков-щедринекое «Не потерплю!», дважды повторяемое
дремучим совхозным конюхом в исполнении Бориса Чиркова; титр «Соседка
Марья Ивановна ждет Леночку», предшествующий появлению четырехлетней
крохи в роли этой самой Марьи Ивановны; и, наконец, уже совсем домашняя
шутка в олейниковском духе — одного из эпизодических персонажей, меша¬
ющих Леночке заниматься громкой игрой на трубе, зовут Николай Макарович.
Необходимо также упомянуть поставленную по сценарию Шварца
и Олейникова Э. Иогансоном и, увы, не сохранившуюся полностью фарсо¬
вую комедию с героическим финалом «На отдыхе» (1936) с Юрием Толу-
беевым в главной роли. В этом фильме, во-первых, в качестве комическо¬
го романса звучит олейниковское стихотворение «Лидии» («Потерял я сон,
прекратил питание...») с таким, никогда не привлекавшим внимание ком¬
ментаторов, вариантом третьей — пятой строф:
Нет милей и краше
Этого создания.
162 Фильмы «Разбудите Леночку» и «Леночка и виноград» можно найти и скачать
в интернете.
163 Во время съемки первого фильма про Леночку Жеймо было 25 лет.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [177]
Нету многограннее
Милой Тани нашей.
В первый раз когда я Вас
Только что увидел
Прочих девушек тотчас
Я возненавидел.
Мною было жжение
У себя в груди замечено,
И с тех пору Жени
Сердце искалечено, —
а во-вторых, исполняются еще три никогда не публиковавшихся стихо¬
творных опыта Олейникова (или же — Олейникова и Шварца). Эти сти¬
хотворения впервые печатаются в нашем сборнике (№ 113—115).
В январе — марте 1936 года в «Правде» были напечатаны три страш¬
ные по тону и смыслу статьи, положившие начало борьбе с «формализмом»
в советском искусстве: «Сумбур вместо музыки» (в номере от 28 января —
о Д. Д. Шостаковиче), «Мечты и звуки Мариэтты Шагинян» Д. Заславско¬
го (в номере от 28 февраля) и «Внешний блеск и фальшивое содержание»
(в номере от 10 марта — о М. А. Булгакове). В начале апреля 1936 года со¬
стоялась так называемая «дискуссия» о формализме и натурализме, орга¬
низованная ленинградской писательской организацией по указанию свы¬
ше. Олейников, выступивший на этой «дискуссии», по справедливому суж¬
дению Александра Кобринского, воспользовался случаем, чтобы изложить
«публично свои взгляды» (Кобринский: 329), устроить смотр боевых сил
и перечислить лучших, на его взгляд, писателей для ребят, оттираемых от
детской литературы издательствами и критиками.
Приведем здесь большую сборную цитату из его выступления, сокра¬
щая те фрагменты, которые явно были вставлены для маскировки и воз¬
можности сказать заветные слова, произнести заветные имена: «Первым
в детской литературе, кто начал писать сказом, был Борис Житков. Сразу
же у него наметился успех, и сразу же начались бесчисленные подража¬
ния житковской манере письма <...> Другой писатель, который несомнен¬
но владеет сказом, — это Пантелеев <...> В прошлом мы знаем прекрасные
детские стихи Шварца, веселый раешник, карту с приключениями, расска¬
зы и очерки. Шварц — крупный детский писатель. Мы ждем его возвра¬
щения в детскую литературу. Я считаю, в молчании Шварца повинно так¬
же и детское издательство. Довольно долго оно относилось к Шварцу не¬
брежно и не старалось сохранить его как своего постоянного автора <...>
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [178]
Почему детское издательство не ведет работу с Хармсом в этом направле¬
нии? <...>То же самое можно сказать о Введенском <...> Почему Детгиз, за¬
казывая ему Гримм, совершенно игнорирует его творческие возможности?
<...> Почему Детгиз отказался от издания <детских стихотворений Забо¬
лоцкого, и почему он игнорирует Заболоцкого как поэта? <...> Нужно пря¬
мо сказать, что прежнее руководство ленинградской детской литературой
немало потрудилось для того, чтобы изгнать детских писателей из детской
литературы <...> Я сам, после долгого перерыва, начал писать только в по¬
запрошлом году <...> Несмотря на все ошибки, "Еж" того времени был ин¬
тересным, подлинно детским журналом. Я и группа товарищей, работавших
вместе со мной, — мы все относились к работе в журнале как к большому
серьезному делу. В нашей работе не было кустарщины. Мы много работали
и много сделали для того, чтобы поднять наш журнал на должную высоту.
Наш опыт не пропал даром. До сих пор буквально все детские журналы ис¬
пользуют наши приемы, наши методы подачи материала, а иногда целиком
наши отделы вместе с заголовками» (Там же: 338—342)164.
Интересно, что «Литературный Ленинград», поместивший на страни¬
це три в номере от 8 апреля 1936 года отчет о состоявшейся «дискуссии»,
выступление Олейникова отреферировал вполне доброжелательно, назвав
его «деловым» и «интересным».
Чрезвычайно лестным был и отзыв критика из «Детской литературы»
А. Юрьевой об олейниковском рассказе «Красный бант», помещенном
в № 5 «Чижа» за 1936 год: этот рассказ характеризовался как «прекрасный»
и «образцовый литературно-художественный материал» (Юрьева: 25)165.
164 А вот Сергея Михалкова, хотя с ним и дружил Введенский, Олейников сразу же
невзлюбил. Ср. со свидетельством Н. И. Харджиева: «Я помню, Александр Иванович
рассказывал, как они втроем встретились в Детиздате, деньги получали он, Михалков
и Олейников, и тот говорит: "Александр Иванович, видите этого типа, он еще обскачет
Маршака!"» (Харджиев 2000:56).
165 Это был единственный текст Олейникова, помещенный в «Чиже» в 1936 году. За¬
болоцкий в этом году не напечатался в журнале ни разу. Введенский публиковался
в № 1, 2, б и 7; Хармс (под псевдонимом Карл Иванович Шустерлинг) — в № 3, 5, 9,
а также в № 9 (как Даниил Хармс) и в № 8—11 («Плих и Плюх» В. Буша с пометкой:
«Перевод с немецкого Д. Хармса»), а кроме того — в № 12 (без подписи). Поскольку
четверостишие Хармса «Карл Иванович Шустерлинг на даче», представляющее со¬
бой подпись к рисунку А. Успенского, в изданиях детских стихов Хармса никогда
не перепечатывалось, приведем здесь его текст: «Удивляются дети и галки: / Карл
Иванович — умная голова, — / Целый день отдыхает в качалке / И готовит к зиме
дрова!» (на рисунке Шустерлинг качается в кресле, к которому привязана веревка,
тянущаяся к двуручной пиле) (Чиж. 1936. № 9. С. 23). Стихи Юрия Владимирова были
помещены в № 7 за 1936 год.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [179]
1937 год: арест и гибель
1
Яков Друскин однажды записал в своем дневнике: Олейников «несколько
раз видел во сне, что умирал, и говорит, что приближение смерти страшно,
когда же кровь начинает вытекать из вен, уже не страшно и умереть легко»
(Друскин 1999: 51)166.
Увы, Олейникову не было суждено легко умереть; ему выпало страш¬
но погибнуть.
Новый, 1937 год он встретил в Москве, в Кремле, в гостях у видного комму¬
ниста Валериана Оболенского (партийный псевдоним — Осинский). Вспомина¬
ет Лев Разгон: «Не помню, чтобы какая-нибудь встреча Нового года была такой
веселой. Молодой, раскованный и свободный Андроников представлял нам
весь Олимп писателей и артистов; Николай Макарович Олейников читал свои
необыкновенные стихи и исполнял ораторию, текст которой состоял из одного
слова "гвоздь"... И под управлением Валериана Валериановича Осинского мы
пели все старые любимые наши песни — "Колодников", "Славное море — свя¬
щенный Байкал", "По пыльной дороге телега несется..."» (Разгон: 14).
В Москве Олейников часто бывал по делам нового журнала, который он
затеял издавать для самых маленьких читателей. Журнал этот назывался
«Сверчок»167. «Там было много картинок, больше картинок, чем текста, —
рассказывает Лидия Жукова. — Среди художников — Билибин, так что не¬
плохой был журнал. Олейников очень его любил, нянчился с ним, всюду
таскал его за собой, сам что-то клеил, верстал, сочинял» (Жукова: 183).
В «Сверчке» печатались Введенский, Хармс, Маршак... Иллюстрировали
его, кроме Билибина, Конашевич, Лебедев, Н. Радлов и другие замечатель¬
ные художники, давние друзья и хорошие знакомые главного редактора.
Одновременно поэт продолжал активно работать в «Чиже», а в № 4—5
за 1937 год он даже числился ответственным редактором. Соответственно,
стихи, проза и переводы обэриутов в первой половине года печатались поч¬
ти во всех номерах и этого журнала168.
166 Приведем здесь еще одну интереснейшую запись из дневника Друскина:
«Л<ипавский> сказал раз 0<лейникову>: главный недостаток ваш, что вы не понима¬
ете Евангелия. Но под конец 0<лейников>, кажется, полюбил Евангелие. Библию он
любил и раньше» (Друскин 1999:272).
167 Еще в своем выступлении на «дискуссии» о формализме в 1936 году Олейников
делился со слушателями затеей начать выпускать «журнал для трехлетних. Это жур¬
нал без единой строчки текста. Он должен состоять из картинок. Вещи, животные,
люди, явления природы — весь мир в картинках» (Кобринский: 344).
168 В № 1 — стихотворение Льва Квитко «Скрипка» в переводе Заболоцкого; в № 3 —
стихотворение Хармса «Из дома вышел человек...»; в № 4 и 5 — вещи Введенского.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [180]
И «Сверчок», и «Чиж» в 1937 году были подвергнуты суровой критике.
Первый журнал в мае ругала К. Анохина в некогда либеральной «Детской
литературе»: «Нечего говорить, что люди на рисунках "Сверчка" представ¬
лены в виде уродливых дегенератов. Так выглядит даже Пушкин на портре¬
те в одной из сцен <...> Нам нужен веселый детский журнал. Но этот жур¬
нал должен быть содержательным, отвечать запросам детей, освещать их
настоящую жизнь и не проходить мимо событий сегодняшнего дня. "Свер¬
чок" пока нисколько не похож на такой журнал» (Анохина: 43)169. «Юмори¬
стической стряпней» «новорожденный "Сверчок"» был мимоходом обозван
в статье Л. Кона, напечатанной в «Литературной газете» (Кон 1937:4).
Редакция «Чижа» в той же «Детской литературе» наставлялась Анто¬
ниной Бабушкиной (в апреле 1937 года): «Детям нужно раскрыть во всем
величии дела их великой родины, показать вождей народа, лучших лю¬
дей нашей страны. Конкретно показать страну, перестроившую жизнь на¬
рода, страну, в которой сталинская Конституция явилась законодательным
оформлением социалистического строя. Все это должно найти наконец ме¬
сто на страницах "Чижа" в 1937 году. Журналу нужна серьезная коренная
перестройка в этом направлении» (Бабушкина 19376:33).
Странным образом, положение Олейникова как видного детского проза¬
ика в первой половине 1937 года не только не пошатнулось, а, напротив, все
более укреплялось. Только что процитированная Бабушкина, занимавшая,
между прочим, пост главного редактора «Детской литературы», об олейни-
ковском рассказе «Красный бант» высказалась в своем журнале комплимен¬
тарно до приторности: «Олейников работает над сюжетно-приключенческим
рассказом. Ищет в жизни, видимо, вспоминает из своего опыта, поразитель¬
ные, фантастические, героические случаи. Они-то и создают свойственный
его рассказам напряженный, невероятный по остроте "приключений" сю¬
жет. Благодаря им-то и приобретает рассказ такую эмоциональную силу
и правдоподобность, и сюжет становится органическим свойством рассказа,
а не механически привязанным к нему занимательным "специально для де¬
тей" моментом» (Бабушкина 1937а: 11—12). И еще чуть ниже — о «Крас¬
ном банте» и «Воротничке» Якова Тайца: «Появление этих рассказов в жур¬
После ареста Олейникова печатанье обэриутов в «Чиже» сразу же прекратилось;
с № б был свернут раздел «Умная Маша». В своем двенадцатом, последнем номере
за 1937 год журнал поместил большой портрет «народного комиссара внутренних
дел — генерального комиссара государственной безопасности тов. Николая Ива¬
новича Ежова». Впрочем, несколько вынужденно сервильных текстов Хармса и Вве¬
денского «Чиж» напечатал уже после гибели Олейникова.
169 Напомним, что Пушкин в этом году окончательно превратился в сакральную для
советской культуры фигуру — в феврале торжественно отмечалась сотая годовщина
его гибели.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [181]
налах говорит о том, что можно сделать журналы для маленьких истинно со¬
ветскими по своему литературному направлению» (Там же: 12).
В номере «Литературной газеты» от 21 января 1937 года был анонсиро¬
ван выход новой повести Олейникова о Ленине (на странице 6). А в номере
от 15 мая сообщается (на странице 2), что он был избран в состав Бюро дет¬
ской секции ленинградских писателей.
Более того, именно в 1937 году в советской печати было впервые обна¬
родовано мнение критика (и какого критика!) об Олейникове, которое мог¬
ло бы стать поворотным пунктом в его литературной судьбе. «Большой пи¬
сатель Олейников, глубоко показывающий современную тематику в вещах,
в которых есть и юмор, и героика, — резюмировал в "Детской литературе"
Виктор Шкловский. — Про Олейникова мало написано, а можно о нем пи¬
сать большие статьи» (Шкловский 1937:38).
Но поворот, как мы теперь знаем, осуществился в кардинально иную сто¬
рону: вместо «больших статей» — арест, унизительное следствие и смерть.
Все сыграло против Олейникова. И его дружба с обэриутами, и давние
показания Введенского с Андрониковым, и упоминание в олейниковских
рассказах Троцкого, и даже то, что до поры до времени помогало Олейнико¬
ву уверенно держаться на плаву: участие в гражданской войне и членство
в коммунистической партии. В 1937 году старательно избавлялись от «сво¬
их», обладавших боевым опытом и большим стажем.
Главной же причиной ареста и гибели Олейникова стало его неумение
и нежелание, несмотря на всю свою скрытность, подстраиваться под Время
и прятать ото всех, как точно определил Лев Лосев, свою «ухмылку» (см.:
Лосев). Путь Маршака был для Олейникова закрыт. Поэт готов был служить
Времени лишь до известного предела, но, даже и служа Эпохе, не мог отка¬
зать себе в удовольствии глумиться над тем, что представлялось смешным,
и пародировать то, что казалось абсурдным.
Только самую малость преувеличивая, можно сказать, что Олейников
погиб, поскольку не мог совладать со своей природной насмешливостью.
2
Выразительный пример проявления такой насмешливости привел в беседе
с Михаилом Мейлахом Николай Харджиев: «Показывая своего новорожден¬
ного сына Хармсу и мне, он сказал:
— Я назвал его Александром. Вы, конечно, думаете, что я так его назвал
в честь Александра II? Ошибаетесь. Я так назвал его в честь Александра III»
(Харджиев 2002: 57). Речь идет о втором олейниковском сыне, Саше, ро¬
дившемся в 1936 году.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [182]
Еще более опасные шутки Олейников разыгрывал вместе с филологом-
японистом, заведующим сектором истории культур и искусств Эрмитажа,
Дмитрием Петровичем Жуковым. Приведем соответствующий фрагмент из
мемуаров жуковской жены, Лидии: «Олейников стал приходить к нам чуть
ли не каждый день. На кухне надрывались примуса, варилась картошка.
И еще был лук. Олейников любил эту крестьянскую закуску, эти сладкие,
хрустящие колесики, плавающие в постном масле. Масло пахнет семечка¬
ми. Вкусно! И вот теперь они с Митей тихо пили и пели. Тогда Сталин изрек
свое бессмертное: "дело чести, дело славы, дело доблести и геройства".
И вот они тянули эти слова под "эй, ухнем!", протяжно, умильно, уже за¬
хмелевшие, на лицах розовые пятна, размягченные: один хмыкнет, другой
ухмыльнется. "Герой...ства! Э-э-э-х!"...» (Жукова: 182—183).
В мае поэт вместе с женой и малолетним сыном Александром поехал
отдыхать на дачу, а в июне взял отпуск и в одиночку махнул на юг. «Вско¬
ре после того, как не стало Коли Олейникова, вдруг узнаю, что у него был
в последний год роман с "художницей из Харькова", — свидетельствова¬
ла Лидия Жукова. — Их познакомил Шура Введенский <...> она рассказала
мне, как колесили они в ту последнюю весну по городам юга, и как это бы¬
ло весело, и сколько они смеялись» (Там же: 184—185).
«Художница из Харькова» — это Вера Артемьевна Дражевская (Драж-
ко) — разбитная красавица — жена известного украинского живописца
и графика Василия Седляра. Ей Олейников посвятил такое стихотворение:
Верочка, Верочка!
Ваше кокетство
Нужно бы
Попридержать.
Вы применяете
Средства,
Коих нельзя
Применять.
Вы покоряете
Сразу
Всех окружающих
Вас.
Сеете страсть,
Как заразу,
Будучи сами —
Алмаз. Верочка, Верочка!
Ваше кокетство
Нужно бы
Жизнь и стихи Николая Олейникова [183]
Попридержать.
Вы применяете
Средства,
Коих нельзя
Применять.
Вы покоряете
Сразу
Всех окружающих
Вас.
Сеете страсть,
Как заразу,
Будучи сами —
Алмаз.
Шуточные упреки из этого стихотворения имели под собой самые серьез¬
ные основания: когда Седляра расстреляли (в июле 1937 года), руку и серд¬
це Вере предложили одновременно восемь человек! Однако в отцы дочери
Дражевской, Аленки, молва упорно записывала Олейникова. Во время Ве¬
ликой Отечественной войны Вера вместе с матерью, сестрой и дочкой эми¬
грировала в США. Там в 1960-е годы Алена пристрастилась к наркотикам,
которые в итоге свели ее в могилу. Именно Вера Дражевская сделала ри¬
сунок для обложки олейниковской книги «Иронические стихи», вышедшей
в Нью-Йорке, в 1982 году. Умерла она в 1994 году.
Пока Олейников отдыхал на юге, Жукова арестовали. «Примерно через
два месяца после ареста Мити, он вдруг позвонил: "Все остается, как было.
Как дружили, так и будем дружить". Струсить, — он не мог себе этого по¬
зволить!» (Там же: 183).
Летом 1937 года «Олейников вновь пересматривает корпус своих сти¬
хотворных произведений, вносит в отдельные стихи некоторые купюры и,
словно предвидя грядущие события, отдает жене на хранение экземпляр
рукописного сборника» (Олейников А. 2000а: 591).
Сохранилось несколько воспоминаний знакомцев Олейникова об их по¬
следних встречах с Николаем Макаровичем. Самое развернутое и проник¬
новенное принадлежит олейниковскому многолетнему другу-врагу Евгению
Шварцу: «Он только что вернулся с юга. Был Николай Макарович озабочен,
не слишком приветлив, но согласился тем не менее поехать с нами на дачу
в Разлив, где мы тогда жили170. Литфондовская машина — их в те годы да¬
вали писателям в пользование с часовой оплатой — ждала нас у кино. В пу¬
ти Олейников оживился, но больше, кажется, по привычке. Какая-то мысль
170 «Мы» — это сам Шварц и его жена Екатерина Ивановна.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [184]
преследовала его. В Разливе рассказал он, что встретил Брыкина171, кото¬
рый выразил крайнее сожаление по поводу того, что не был Олейников на
последнем партийном собрании. И сказал, чтобы Олейников зашел к нему.
Зачем? Я, спасаясь от ставшей уже привычной тревоги за остатками беспеч¬
ности былых дней, стал убеждать Николая Макаровича, что этот разговор
ничего не значит. Оба мы чувствовали, что от Брыкина хороших новостей
нельзя ждать. Что есть в этом приглашении нечто зловещее. Но в какой-то
степени удалось отмахнуться от злобы, нет, от бессмысленной ярости се¬
годняшнего дня. Лето, ясный день, жаркий не по-ленинградски, — все уво¬
дило к первым донбасским дням нашего знакомства, к тому недолгому вре¬
мени, когда мы и в самом деле были друзьями. Уводило, но не могло увести.
Слишком многое встало с тех пор между нами, слишком изменились мы оба.
В особенности Николай Макарович. А главное — умерло спокойствие дон¬
басских дней. Мы шли к нашей даче и увидели по дороге мальчика на балко¬
не. Он читал книжку, как читают в этом возрасте, весь уйдя в чтение.
Он читал и смеялся, и Олейников с умилением и завистью показал мне
на него. И он, бывало, отводил душу, глумясь надо мной с наслаждением,
чаще за глаза, что, впрочем, в том тесном кругу, где мы были зажаты, так
или иначе становилось мне известным. А вместе с тем — во многом оста¬
вались мы близкими, воспитанные одним временем. Нас восхищали такие
разные писатели, как Чехов, Брет Гарт, Хлебников, Гамсун (Хлебникова по¬
нимал Николай Макарович гораздо лучше, чем я). Для нас были как бы со¬
бытием личной жизни фильмы "Парижанка" или "Под крышами Парижа".
Я знал особое, печальное, влюбленное выражение, когда что-то его трога¬
ло до глубины. Сожаление о чем-то, поневоле брошенном. И если нас оттал¬
кивало часто друг от друга, то бывали случаи полного понимания, — впро¬
чем, чем ближе к концу, тем реже. И такое полное понимание вспыхнуло на
миг, когда показал Николай Макарович на мальчика, читающего веселую
книгу. Потерянный рай — и ад, смрад которого вот-вот настигнет. Но пого¬
да стояла жаркая, южная, и опять на какое-то время удалось отвернуться.
Тогда помидоры были редкостью в Ленинграде. Нам удалось купить на рын¬
ке привозных. Это еще больше напомнило юг. Но ни в одной лавке в Разли¬
ве не нашлось подсолнечного масла. Тогда мы пошли пешком в Сестрорецк.
Еще вечером сообщил Олейников: "Мне нужно что-то тебе рассказать". Но
не рассказывал. За тенью прежней дружбы, за вспышками понимания не
появлялось настоящей близости. Я стал ему настолько чуждым, что никак
он не мог сказать то, что собирался. Погуляли мы по Сестрорецку, прошлись
по насыпи в Дубках к морю. Достали в магазине подсолнечного масла. Вер¬
171 Брыкин Николай Александрович, очеркист, в 1934—1937 годах член правления
Ленинградского отделения Союза писателей СССР.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [185]
нулись домой в Разлив. Вечером проводил я его на станцию. И тут он начал:
"Вот что я хотел тебе сказать..." Потом запнулся. И вдруг сообщил общеиз¬
вестную историю о домработницах и Котове172.
Я удивился. История эта была давно и широко известна. Почему Нико¬
лай Макарович вдруг решил заговорить о ней после столь длительных под¬
ходов, запнувшись. Я сказал, что все это знаю. "Но это правда!" — ответил
Николай Макарович. "Уверяю тебя, что все так и было, как рассказывают".
И я почувствовал с безошибочной ясностью, что Николай Макарович хотел
поговорить о чем-то другом, да язык не повернулся. О чем? О том, что уве¬
рен в своей гибели и, как все, не может двинуться с места, ждет? О том, что
делать? О семье? О том, как вести себя — там? Никогда не узнать. Подо¬
шел поезд, и мы расстались навсегда. Увидел я в последний раз в окне ва¬
гона человека, так много значившего в моей жизни, столько мне давшего
и столько отравившего» (Шварц 1990:630—632).
О том, как он в последний раз увидел Олейникова, вспомнил и Нико¬
лай Харджиев. «Никогда не забуду нашу последнюю встречу незадолго до
его ареста, — рассказывал Харджиев Михаилу Мейлаху. — Он шел мне на¬
встречу с каким-то человеком, тот отступил в сторону, а Олейников подо¬
шел ко мне и сказал: "Наступает ужасное время", — и очень скоро его аре¬
стовали» (Харджиев 2000: 54—55).
Это произошло в июле 1937 года. В течение всего месяца поэт чувство¬
вал сильное недомогание «и жил в Ленинграде, но не дома, а у моей се¬
стры, — рассказывала Лариса Олейникова. — 0 том, где он находится, знал
только один человек — художник. Я не хочу называть его имени» (Олей¬
ников А. 2000а: 595). Этот художник и сообщил органам о местонахож¬
дении поэта. Но сначала, по-видимому, ближе к вечеру 19 июля, оператив¬
ная группа сотрудников НКВД, которым было поручено арестовать Олейни¬
кова, отправилась на дачу в Лугу, где тогда проживала его семья. Из устных
мемуаров Ларисы Олейниковой: «Приезжает грязная машина. Очень пыль¬
ная и очень грязная. Из Ленинграда, как я поняла. Выходят два челове¬
ка и спрашивают: "Олейников есть?" К Николаю Макаровичу всегда ходило
много людей. Подумав, что это его знакомые, я ответила, что он в Ленингра¬
де. Меня только удивило, что они как-то нелюбезно ко мне обратились, да¬
же не поздоровались. Я предложила им еще — вы, мол, устали, далеко еха¬
ли, отдохните, пообедайте. Дура такая. Они ни слова мне не ответили, раз¬
вернулись — и сразу к машине» (Там же).
172 В 1937 году комендант ленинградского дома писателей Котов, по слухам, «тайно
собрал домработниц и объяснил им, какую опасность для государства представляют
их наниматели. Тем, кто успешно разоблачит врагов, обещал Котов будто бы посто¬
янную прописку и комнату в освободившейся квартире» (Шварц 1990:630).
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [186]
На рассвете 20 июля, в Ленинграде, на Караванной улице Николай Олей¬
ников был задержан. Отсюда энкаведешники пешком повели его на канал
Грибоедова, где в надстройке дома № 9 помещалась олейниковская квар¬
тира № 46. По дороге им повстречался Антон Шварц, который позднее рас¬
сказывал Ларисе Олейниковой: «Я вышел рано утром и встретил Николая на
Итальянской. Он шел спокойный, в сопровождении двух мужчин.
Я спросил его:
— Как дела, Коля?
Он сказал:
— Жизнь, Тоня, прекрасна!
И только тут я понял...» (Там же: 596).
Вторым человеком, с которым случайно пересекся арестованный Олей¬
ников, был Ираклий Андроников, с характерными для него красочны¬
ми преувеличениями (винтовки в руках охранников) поведавший об этой
встрече Лидии Жуковой: «Приехал по делам из Москвы и рано вышел из до¬
му. Смотрит, идет Олейников. Он крикнул: "Коля, куда ты так рано?" И тут
только заметил, что Олейников не один, что по бокам его два типа с вин¬
товками <...> Николай Макарович оглянулся. Ухмыльнулся. И все!» (Жуко¬
ва: 183). Вот таким, с чеширской ухмылкой на лице, и запомнил Олейнико¬
ва приятель, вероятно, последним увидевший его не в застенке, а на ленин¬
градской улице.
При обыске в квартире поэта у него были изъяты записные книжки, ма¬
тематические исследования, рукописи стихов и прозы, а также две облига¬
ции займа второй пятилетки стоимостью по сто рублей.
«Дворник потом рассказывал Л. А. Олейниковой, что <сотрудники НКВД>,
видя, что Николай Макарович болен, предложили вызвать врача. Поэт отка¬
зался. "Только все пил. Всю Неву выпил"» (Олейников А. 2000а: 596).
По обычной тогдашней неразберихе и по злой иронии олейниковской
судьбы, именно 20 июля 1937 года, в самый день ареста поэта, «Литератур¬
ная газета» напечатала статью Л. Кона «"Маленькая библиотека" Детизда-
та», в которой Олейников восхвалялся в качестве подлинно советского пи¬
сателя: «...особый интерес представляют "Пороховой погреб" Олейникова
и "Иностранка" Вирта. В "Пороховом погребе" Олейников сумел удивитель¬
но просто и увлекательно рассказать, как маленькая девочка помогла крас¬
ногвардейцам во время октябрьского переворота, как она пролезла в узкое
окошечко склада оружия и помогла красногвардейцам. Автор не задается
целью в коротеньком рассказе дать ребятам представление о Великой Про¬
летарской революции; он рисует один эпизод и именно такой эпизод, в ко¬
тором могла принять участие маленькая девочка. Эта девочка не выдвигает¬
ся на первое место, роль ее в событиях не раздувается. Поступок девочки
вытекает из самой ситуации, он возможен для всякого ребенка.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [187]
У детей, прочитавших этот эмоциональный рассказ, возникает желание
быть на месте маленькой Тани, проявить свою ловкость и храбрость и по¬
мочь "красным"» (Кон: 4).
Впрочем, уже в номере от 5 августа «Литературная газета» опомнилась.
Здесь, в подборке материалов «У ленинградских писателей», составленной
Евгенией Книпович (выступившей под звучащим сегодня зловеще псевдо¬
нимом «Вич»), сообщалось, что Правление Ленинградского Союза совет¬
ских писателей на заседании 2 августа «исключило из членов Союза Пио¬
тровского, Эйдука, Олейникова и Великина» (Вич: 5). А в номере от 5 сен¬
тября Н. Дмитриев с гневом сообщал читателям о том, что «14. ООО рублей
тратилось ежемесячно» «Детгизом» «на гонорар авторам журнальчика бур¬
жуазного толка "Сверчок", который редактировал враг народа Олейников»
(Дмитриев: 6).
Ирония судьбы проявилась и в публикации уже после ареста Олейнико¬
ва двух его загадок — про удочку и про подсолнух в девятом номере «Чи¬
жа» за 1937 год (поэт спрятался под одним из своих псевдонимов — «Крав¬
цов»):
Загадка про удочку:
Что это у Галочки:
Ниточка на палочке,
Палочка в руке,
А ниточка в реке?173
Загадка про подсолнух:
В огороде нога стоит,
На ноге голова висит,
Куда повернет солнце,
Туда голова с поклонцем174.
Первый допрос Олейникова был 21 июля.
«Вопрос: Вы арестованы как участник контрреволюционной
троцкистской организации, проводивший до момента ареста кон¬
трреволюционную троцкистскую работу. Давайте правдивые пока¬
зания по существу предъявленного Вам обвинения.
173 Чиж. 1937. № 9. С. 19.
174 Там же.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [188]
Ответ: Предъявленное мне обвинение я отрицаю.
Вопрос: Если будете упорствовать, то будете изобличены
имеющимся у нас следственными документами.
Ответ: Пожалуйста» (Олейников А. 2000а: 597).
На какие следственные «документы» намекал следователь Н. Голуб? На по¬
казания ранее арестованного и подвергнутого пыткам Дмитрия Жукова, ко¬
торый 25 июня 1937 года вынужденно оговорил своего друга: «Олейников
меня знал с 1929 г. и в достаточной мере был осведомлен о том, что в про¬
шлом (с 1927 г.) я примыкал к троцкистской оппозиции. В неоднократных
разговорах по злободневным политическим вопросам мы оба высказыва¬
ли резкое недовольство политикой партии по основным принципиальным
вопросам: внутрипартийному режиму, темпам индустриализации и коллек¬
тивизации сельского хозяйства. Олейников заявлял, и я с ним полностью
соглашался, что Сталинский ЦК ВКП(б) ведет страну и революцию к ката¬
строфе и, чтобы избежать этого, необходим крутой поворот во всей эконо¬
мической и политической жизни страны на основе платформы Троцкого»
(Лукин 1991:142).
Исключая «признание» Жукова об их с Олейниковым близости к «плат¬
форме Троцкого», эту часть его показаний еще можно счесть относитель¬
но правдивой, если, конечно, не брать в расчет тенденциозности изложе¬
ния Жуковым информации о политических настроениях друга, а также того
факта, что к «троцкистской оппозиции» несчастный сотрудник Эрмитажа,
разумеется, никогда не «примыкал».
Далее, однако, ложь и маразм в навязанных Жукову показаниях крепча¬
ют до густейшей концентрации: «Когда Олейников достаточно меня прощу¬
пал и убедился, что я остаюсь на старых троцкистских позициях, он мне за¬
явил, что одной агитацией сейчас действовать уже недостаточно и что не¬
обходимы более реальные меры борьбы с руководством ЦК ВКП(б) во главе
со Сталиным. В первую очередь, говорил Олейников, необходимо собрать
старые троцкистские кадры и начать работу организованно. Я полностью
солидаризировался с Олейниковым.
Когда я об этом сказал Олейникову, то он меня проинформировал о су¬
ществовании подпольной троцкистской организации, участники которой
ведут активную борьбу со Сталинским руководством ВКП(б). Олейников
предложил мне вступить в эту подпольную организацию и включиться в ак¬
тивную контрреволюционную работу <...>
Указания по вредительству я получал от Олейникова. Заключались они
дословно в следующем: "работать ровно столько, сколько необходимо для
сохранения партбилета, меньше работать по своей специальности, а если
окажется возможным, то вообще ничего не делать..."
Жизнь и стихи Николая Олейникова [189]
В одной из бесед Олейников мне говорил, что те методы борьбы с ру¬
ководством ВКП(б), которые применялись до сих пор, не могут разрешить
поставленной перед троцкистским подпольем задачи. Для того, чтобы бы¬
стрее устранить от руководства партией Сталинский Центральный Комитет
и захватить в свои руки государственную власть, необходимы более дей¬
ственные методы борьбы. Поэтому, заявил Олейников, центр троцкистско¬
го подполья дал указание применить в борьбе со Сталинским руководством
террор и подготовить ряд террористических актов против руководителей
Компартии и Советского правительства <...>
Олейников мне говорил, что террористические акты в первую очередь
готовятся против Сталина и его ближайшего соратника Ворошилова, при
этом он был крайне недоволен неудавшимся покушением на Сталина и Во¬
рошилова во время пребывания их на Кавказском побережье (подробности
по этому вопросу я сейчас не помню). После убийства Кирова, после того,
как были опубликованы следственные материалы, Олейников в одной из бе¬
сед мне заявил, что есть директива троцкистского центра — всеми мерами
отвести обвинения троцкистского подполья в терроре и доказать коммуни¬
стам и комсомольцам, что обвинение нашего подполья в организации убий¬
ства Кирова якобы исходит от Сталина с той целью, чтобы еще раз распра¬
виться со своими политическими противниками» (Лукин 1991:142—143).
Вся эта бредятина была в качестве обвинения предъявлена Олейнико¬
ву на втором его допросе, состоявшемся 26 августа. На эти обвинения по¬
эт твердо отвечал: «Повторяю, что участником контрреволюционного троц¬
кистского подполья я не являлся <...> Мое знакомство с Жуковым носит ис¬
ключительно личный характер» (Олейников А. 2000а: 600).
Тогда Олейникову была устроена очная ставка с Жуковым, но Николай Мака¬
рович все равно категорически отрицал свое участие в антисоветском заговоре.
Однако далее на этом же допросе, после того как Жукова увели, Олей¬
ников неожиданно признался во всех инкриминированных ему преступ¬
лениях: «Будучи изобличен следственными материалами и очной став¬
кой, я решил дать правдивые показания» (Лукин 1991:143). Но в отличие
от многих своих арестованных друзей и приятелей, поэт не потянул за со¬
бою в «бородавчатую темь» никого из знакомых. В олейниковских показа¬
ниях фигурировали лишь и без того «разоблаченный» Дмитрий Жуков, да
уже погибший к этому времени Владимир Матвеев. На вопрос же следова¬
теля о Самуиле Маршаке поэт ответил, «что "хотел завербовать" последнего
в контрреволюционную организацию, но "не завербовал его, т. к. у нас ис¬
портились с ним личные отношения"» (Там же).
Почему Олейников внезапно переменил тактику поведения и дал на се¬
бя самого убийственные показания? Ответ, увы, очевиден: к нему были при¬
менены так называемые особые методы воздействия, то есть пытки.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [190]
3
Между тем вне тюремных стен события развивались своим чередом.
«Ко мне стал ходить энкаведист, — вспоминала Лариса Олейникова. — Та¬
кой элегантный мужчина, очень хорошо одетый. Коричневый костюм и ко¬
ричневые лакированные туфли. Пришел ко мне, спросил: как, что? Пред¬
ставился следователем Николая Макаровича и начал ходить, как нанятый.
Придет, спросит: "Ну как вы живете, как Сашенька?" Как-то раз спросил ре¬
бенка: "Я увижу папу, что передать?" Сашка сказал: "Елки-палки!" Он рас¬
смеялся. И ходил. Как окаянный ходил. Житков говорил: "Что ему надо?
Я умираю от ужаса, когда он приходит". Мы даже условились с Житковым,
что, когда этот человек придет, я буду оставлять на окне Сашкиного мед¬
ведя. Чтобы понятно было. В те дни не очень много людей к нам заходило.
Но никого нельзя даже вот настолечко обвинять. Потому что хватали всех.
И никто не знал — кого возьмут и когда...» (Олейников А. 2000а: 598).
Среди тех, кто посодействовал несчастной женщине, неожиданно оказался
тот самый партийный очеркист Николай Брыкин, встречи с которым еще со¬
всем недавно опасались и Олейников, и Шварц: «Привел меня к себе, уго¬
стил по-холостяцки — чай, яичница. Это был подвиг...» (Там же).
В начале августа, между первым и вторым допросами, Олейников полу¬
чил разрешение передать домой со следователем короткую записку. Этой
оказией он, конечно, не преминул воспользоваться: «Дорогие мои Рарочка
и Сашенька, целую вас, посылаю вам привет, — писал он. — Рарочка, чув¬
ствую я себя хорошо, все время думаю о вас. Наверное, Сашенька уже гово¬
рит хорошо, а ходит еще лучше. Рарочка, если можешь, то приготовь и пе¬
редай мне следующее: белье, носки, одеяло (легкое), подушку маленькую,
полотенце, мыло (туалетное и хозяйственное), зубную щетку, зубной поро¬
шок, пальто и несколько маленьких мешочков (для сахара-песка, рафина¬
да и т. д.) и, наконец, простыню. Вот и все. Целую вас обоих, люблю, думаю
о вас постоянно. Коля. 2 августа 1937 г.» (Там же).
На многочисленных собраниях писательских организаций, проводив¬
шихся летом и осенью 1937 года, их участников настойчиво призывали к пу¬
бличным отречениям от арестованных коллег и их осуждения как злост¬
ных вредителей. «На первом же заседании правления меня потребовали
к ответу, — с ужасом и болью вспоминал одно из таких собраний Евгений
Шварц. — Я должен был ответить за свои связи с врагом народа. Един¬
ственно, что я сказал: "Олейников был человеком скрытным. То, что он ока¬
зался врагом народа, для меня полная неожиданность". После этого спра¬
шивали меня, как я с ним подружился. Где. И так далее. Так как ничего по¬
рочащего Олейникова не обнаружилось, то наивный Зельтцер, драматург,
желая помочь моей неопытности, подсказал: "Ты, Женя, расскажи, как он
Жизнь и стихи Николая Олейникова [191]
вредил в кино, почему ваши картины не имели успеха". Но и тут я ответил,
что успех или неуспех в кино невозможно объяснить вредительством. Я сто¬
ял у тощеньких колонн гостиной рококо, испытывая отвращение и ужас, но
чувствуя, что не могу выступить против Олейникова, хоть умри» (Шварц
1990:633)175. Многие другие участники подобных собраний столь похваль¬
ной твердости не проявляли.
В ночь с 4 на 5 сентября 1937 года в деле Олейникова произошел но¬
вый и вполне закономерный поворот: расширение списка фигурантов. Была
арестована ближайшая сотрудница Маршака (и адресат многих олейников-
ских стихотворений) Александра Любарская, а также Тамара Габбе, Сергей
Безбородов, Константин Боголюбов, Абрам Серебряников, Николай Спири¬
донов. Чуть позже арестовали Михаила Майслера, Григория Белых и неко¬
торых других работников Лендетиздата — многолетних авторов и/или ре¬
дакторов «Ежа» с «Чижом» (см.: Любарская 1990). «На следующее утро
после нашего ареста группе редакторов, тем, кого не посадили, — было
предложено подать заявление об уходе "по собственному желанию", —
вспоминала Александра Любарская. — В издательстве не замедлила выйти
стенгазета, называющая нас "контрреволюционной вредительской шайкой
врагов народа, сознательно взявшей курс на диверсию в детской литера¬
туре". "Как могло случиться, — вопрошала передовая, — что детская ли¬
тература фактически была сдана на откуп группе антисоветских, морально
разложившихся людей?" (Это все про нас.) "Партийная организация, выно¬
сившая совершенно правильные решения о необходимости удаления Габ¬
бе, Любарской и др. из издательства, действовала недостаточно решитель¬
но и не довела дело до конца", — сокрушалась стенгазета. (Нет, все-таки
довела дело до конца.) Газета не жалела красок для каждого из нас. Враг
народа Шавров — проходимец, подкармливавший за государственный счет
диверсантов. Враг народа Олейников — ставленник шпиона Файнберга. Бо¬
голюбов диверсионной выходкой нанес ущерб издательству, задержав вы¬
ход книги Миклухо-Маклая» (Любарская 1989:206). Автором передовицы
в стенгазете «За детскую книгу», по-видимому, был тогдашний главный ре¬
дактор Лендетиздата Григорий Мишкевич.
175 См. также диалог Евгения Шварца и Евгения Добина об Олейникове, приводимый
в позднейших добинских мемуарах:«— Ты можешь поверить, что он был врагом на¬
рода?
— Нет, не могу.
— Как же это могло случиться?» (Добин: 207). Также см. в воспоминаниях Алек¬
сандра Штейна: «Олейникова в тридцать седьмом году арестовали, он исчез, как исче¬
зали тогда многие, бесследно. Шварц был растерян, потрясен, выбит из седла надолго.
Он, беспартийный, не мог понять, как Олейников, член партии, которого он знал близ¬
ко, интимно, изо дня в день, мог оказаться заклятым врагом народа» (Штейн: 143).
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [192]
От арестованных сотрудников Маршака добивались и добились показа¬
ний, дополнительно разоблачавших «врага народа» Олейникова. «Олейни¬
ков Николай Макарович (бывший отв. редактор журнала "Чиж") проводил
к<онтр>-р<еволюционную> работу в детской секции Союза, — лжесвиде¬
тельствовал, в частности, С. Безбородов. — Он сплотил вокруг себя таких
писателей, как Бианки, Бармин, Спиридонов — всячески старался противо¬
поставить их остальным членам секции, чем создавал недовольство в сре¬
де писателей. Будучи близок с Цыпиным, Олейников руководил бесприн¬
ципной борьбой московских и ленинградских писателей за первое место,
отвлекая этим писателей от творческих задач, и срывал издательский план,
в течение ряда лет сознательно не выпускал написанные книги о Ленине
для детей. Фактически развалил два журнала "Чиж" и "Сверчок", превратив
их из орудия коммунистического воспитания в буржуазные развлекатель¬
ные безделушки» (Лукин 1991:143).
Некоторые из обвиняемых по делу о вредительстве в детской литера¬
туре были расстреляны, другие (в том числе Любарская и Габбе), благода¬
ря заступничеству Самуила Маршака, отделались относительно щадящими
приговорами.
2 ноября 1937 года цензор Д. Чевычелов написал секретный донос на¬
чальнику Ленгорлита, в котором попытался представить главой вреди¬
тельской организации детских писателей и редакторов самого Маршака176:
«В настоящее время ЛО "Издательства детской литературы" находится в ис¬
ключительно тяжелом положении. Хорошо сработавшаяся, обладающая
опытом деятельной маскировки группа Маршака уже длительное время ве¬
ла в литературе глубокую вредительскую работу.
Сейчас эта группа частично арестована органами НКВД, частично изгна¬
на из издательства.
Сейчас перед нами стоит задача обобщить уже известные материалы
и помочь делу разоблачения Маршака и тех контактов, по которым шла вре¬
дительская деятельность этой группы в литературе <...>
О Маршаке. Я считаю, что сейчас назрела необходимость разоблачить
этого симулянта и вредителя, не считаясь с его литературным авторитетом.
Возможно, в вопросе о Маршаке потребуется узнать мнение вышестоящих
176 По-видимому, Чевычелов ненавидел лично Маршака. Может быть, он не мог про¬
стить ему вполне добродушную, впрочем, эпиграмму:
Чево, чево, Чевычелов,
Чево, чево ты вычитал,
Чево, чево ты вычеркнул,
Чевычелов, Чевычелов?
Жизнь и стихи Николая Олейникова [193]
организаций, однако вопрос о Маршаке необходимо поставить сейчас со
всей политической непримиримостью <...>
О планах издательства. План, как правило, не выполняется за счет со¬
ветской темы. Увеличение плана сводилось к неуклонному увлечению изда¬
нием классиков и бесчисленных переизданий ранее вышедших книг узкой
группы современных детских писателей — в первую очередь произведений
Маршака, Чуковского, Ильина.
Во-вторых, наиболее ответственные политические темы поручали лю¬
дям, которые заведомо не могли с ними справиться. Так, книгу о Ленине по¬
ручили ныне арестованному Олейникову, который открыто объявлял сво¬
им девизом: "Да здравствует пошлость!". Издаются недоброкачественные
и даже политически вредные книги на современно-советские темы. Так, пе¬
реиздаются книги Олейникова "1-е мая" и книга "Боевые дни", извраща¬
ющие революционные события 1917 г. Обе эти книги в цензурном поряд¬
ке были изъяты нами из производства» (Культура и власть: 262—264).
Однако донос Чевычелова никакого ощутимого вреда Маршаку не при¬
нес, даже несмотря на то, что Самуил Яковлевич мужественно отказался от¬
речься от своих сотрудников на собрании Союза писателей, состоявшемся
И ноября 1937 года: в отличие от репутации Олейникова, позиции Марша¬
ка в это время были очень сильны, почти незыблемы.
15 ноября в деле Николая Макаровича Олейникова была поставлена
жирная точка. Дмитрий Жуков дал показания, которыми подписывал смерт¬
ный приговор и себе, и своему другу: «На одной из моих встреч с Олейни¬
ковым он мне сообщил, что контрреволюционная троцкистская организа¬
ция, участниками которой мы являлись, установила контакт с японской раз¬
ведкой и в целях облегчения победы японской армии в предстоящей войне
Японии с СССР проводит шпионскую работу по сбору сведений об оборон¬
ной мощи и политико-экономическом состоянии СССР. Олейников, сообщив
далее, что он активно включился в сбор шпионских материалов для япон¬
ской разведки, предложил мне как участнику контрреволюционно-троц-
кистской организации принять участие в этой деятельности. В ответ на это
я поставил в известность Олейникова о моей деятельности в пользу япон¬
ской разведки, начиная с 1931 г. Олейников выразил свое удовлетворение
по этому поводу и предупредил о необходимости соблюдения осторожно¬
сти» (Лукин 1991:144).
Совсем незадолго до этого следователем, который вел олейниковское
дело, был разыгран псевдовеликодушный, а по сути своей — совершен¬
но бессмысленный и жестокий спектакль с участием Ларисы Олейниковой.
«Следователь сказал, — вспоминала она, — что наступают холода, а Нико¬
лай Макарович в демисезонном плаще. Ему нужно зимнее пальто. "Как же
его передать?" Otf говорит: "Угол Невы и Литейного... Вы принесете туда
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [194]
вещи: пальто, валенки и т. д." Я собрала все теплое, что только можно бы¬
ло, и пришла. Встала на улицу. Со мною вместе пошла приятельница. Через
какое-то время — очень продолжительное — я говорю ей: "Уходите, ради
бога, я буду одна..." А морозище! А холодище! И я стою с этим тюком здо¬
ровенным. Прислонила его — там карниз был небольшой — и так стою.
Спустя долгое время он пришел, принял принесенные мною вещи и сказал:
"Ого!" Я ему: "Вы же говорили — теплые вещи. Там валенки, шуба, шапка —
все". — "Хорошо. Подождите меня здесь. Я вернусь скоро. Стойте и не ухо¬
дите". И ушел. У меня текли слезы и превращались в лед» (Олейников А.
2000а: 604).
Однако старания любящей жены оказались напрасными. Шуба, шапка,
валенки и другие теплые вещи Олейникову уже больше никогда не понадо¬
бились.
24 ноября 1937 года поэт был расстрелян177.
Спустя пять дней в газете «Смена» секретарь партийной организации
ленинградского отделения Союза писателей, потомственный казак Григо¬
рий Мирошниченко был обвинен в том, что возглавляемая им организация
«очень охотно "разоблачает" врагов уже разоблаченных. В парткоме и на
партийных собраниях разбор дел о вражеской деятельности проходит без
достаточно заостренной критики, нередко в чисто семейной обстановке.
К обвиняемому в крупных антипартийных проступках обращаются не ина¬
че, как с теплой улыбкой.
— Признайся, Мишенька, ты же виноват! — или — Ты уж нас, Коля, из¬
вини, сегодня мы тебя из партии исключим, а через год подавай заявление,
примем обязательно» (Жердиновский, Леонов: 2).
Испуганный и обозленный Мирошниченко немедленно отправил в ком¬
петентные органы письмо, в котором напоминал, что немало поспособство¬
вал аресту и «Мишеньки», и «Коли», и многих других коллег по литератур¬
ному цеху: «Статью, напечатанную в "Смене" 29 ноября 1937 г., я не могу
иначе рассматривать как политически неправильную и вредную. Это есть
ответ разоблаченных парторганизацией и лично мною врагов народа Сви¬
рина, Горелова, Беспамятова, Олейникова, Спиридонова и др.» (Между мо¬
лотом и наковальней: 715).
По устойчивой советской традиции Олейников на долгие годы пре¬
вратился в изгоя, в «неприкасаемого» литератора и человека. Имя его со¬
вершенно исчезло не только из печати, но и из частной переписки, а если
и упоминалось иногда, то лишь для того, чтобы намекнуть на трагические
обстоятельства биографии очередного страдальца, как, например, в пись¬
ме жены Даниила Хармса, Марины, Наталье Шварц от 23 августа 1941 го¬
177 В этот же день расстреляли Дмитрия Жукова.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [195]
да, рассказывающем об аресте автора «Старухи» и «Случаев»: «Даня уехал
к Никол<аю> Макаровичу, я осталась одна, без работы, без денег, с бабуш¬
кой на руках» (Глоцер, Дурново: 114).
Впрочем, орджоникидзевское краевое издательство, базировавшееся
в Пятигорске, в 1938 (!) году выпустило в свет детскую книжку Олейникова
«Портрет» (подписана в печать 20 марта, отв. по выпуску И. Сосновский),
представлявшую собой точную копию ленинградского издания 1937 года.
И только портрет автора (помещенный в ленинградском издании на второй
странице) в пятигорском варианте отсутствовал. Неужели И. Сосновский
знал, что перепечатывает книгу расстрелянного «врага народа»?
* * *
Наш очерк начался с вопросов и недоумений: Олейников — «странный че¬
ловек», скрывавшийся от окружающих, хранивший тайну «несовершившей-
ся деятельности», огромного невыраженного дарования. По ходу исследо¬
вания и повествования, как нам представляется, достаточно прояснились
его житейская стратегия и тактика литературной борьбы, логика смены со¬
циальных масок и система поэтических приемов. Но идея его жизни так
и осталась скрытой в недоброй буффонаде, в насмешках над всем и вся,
в последовательном отрицании. И вот — разговор о поэте близится к завер¬
шению, к подведению итогов: так что же, возможно ли разрешить олейни¬
ковскую загадку или, по крайней мере, наметить разгадку?
Поиск ответов начнем с парадокса: пусть сам Олейников признавался,
что в своих стихах ставил на «условную вещь», решал «условную задачу»
(Гинзбург: 486—487), все же — если подлинный смысл его личности где-
то и прячется, то только в стихах.
Подобные предположения, конечно, не раз уже возникали в литера¬
туре об Олейникове, вот только сводились они по большей части к одной
и той же схеме. Нам уже приходилось ее оспаривать: стоит ли в подтексте
олейниковских стихов, за его ироническими «масками» ловить лишь заве¬
домое и привычное — «лицо» страдающего и сочувствующего поэта, спаси¬
тельное «гуманное место»? Ведь даже попытки такого выдающегося фило¬
лога, как Лидия Гинзбург, подставить на место неизвестных величин в по¬
эзии Олейникова «высокое и прекрасное» порой оборачивались курьезами.
Допустим, что за строками, отрицающими «наследственные смыслы», дей¬
ствительно скрывается поэт, «целомудренно маскирующий чувство», «че¬
ловек страдающий», возвращающий «травестированным образам их чело¬
веческое значение» (Гинзбург: 496, 498, 501). Но с опорой на какой по¬
этический материал выведены столь высокие, патетические формулы?
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [196]
«И вдруг смешное кончается и начинается тоска, — объявляет Гинзбург по
ходу анализа "Чревоугодия", —
Но нет мне ответа, —
Скрипит лишь доска.
И в сердце поэта
Вползает тоска.
Это настоящая тоска, и принадлежит она настоящему поэту» (Там же: 498).
Настоящая тоска? В это можно поверить — только если забыть, что гротеск¬
ный субъект стихотворения вот уже четыре строфы как труп, гниющий и все
же алчущий «котлет» и «конфет». Разве сами эти элегические рифмы («от¬
вета — поэта» и «доска — тоска») не поставлены здесь в один ряд с обе¬
сценивающими, глумящимися рифмами вроде «страстей — овощей»; разве
призыв, на который поэту «нет <...> ответа», не упирается в черный фарс —
желание «вдвое» «кушать и пить» за гробом? Гниет в этом стихотворении не
только алчущий снеди мертвец, но и вся система понятий и ценностей, свя¬
занная с жалующимся на порядок вещей и жалеющим себя «поэтом». «На¬
стоящим» в этом стихотворении является вовсе не этот как бы маскирую¬
щийся лирик со своей «вечной» тоской, а всеобщий закон оборачиваемо¬
сти, согласно которому тот, кто ест, рано или поздно сам становится едой:
И мир повернется
Другой стороной,
И в тело вопьется
Червяк гробовой.
«Предрешенная предпосылка» гуманизма в отношении к олейниковской иро¬
нии — это тупик; в поисках ключа к скрытому Олейникову нам волей-неволей
придется пойти в другую сторону. Между тем направление, которое могло бы
привести нас к искомому «заветному» и «настоящему», невольно подсказа¬
но самой Лидией Гинзбург. Наиболее многозначительными из ее оценок ока¬
зываются именно те, которые даны как бы «вопреки», с оговорками и некото¬
рым недоумением («лирические строки, которые как будто хотят и не могут
до конца освободиться от буффонады»; «скрещение травестированного с на¬
стоящим» — Гинзбург: 494). Например, она цитирует «Послание»:
Так в роще куст стоит, наполненный движеньем.
В нем чижик водку пьет, забывши стыд.
В нем бабочка, закрыв глаза, поет в самозабвеньи,
И все стремится и летит —
Жизнь и стихи Николая Олейникова [197]
или «Служение науке»:
Спешит кузнечик на своем велосипеде,
Запутавшись в строении цветка, —
и не без удивления замечает: «Куст<...> в самом деле прекрасен»; «проры¬
вается прекрасный стих» (Там же: 494—495). Но почему именно эти стро¬
ки обладают повышенной стиховой ценностью, а главное — почему они яв¬
но выведены из системы тотальной иронии?
Повышение поэтического регистра и «украшение стиха» — не случай¬
ные «выпадения», а тайные знаки сдвига олейниковского тематизма: на¬
чиная с 1930 года поэт все больше пишет совершенно всерьез — о чем-то
необычайно для него важном. Обратим внимание на то, как часто у Олейни¬
кова повторяются в разных вариациях похожие сочетания образов, те же
«птица (насекомое) — куст (цветок)». Эти образные корреляты неизменно
рассчитаны на прямое, без посредства иронии, эстетическое воздействие
и воспринимаются как «истинная поэзия»:
Гремит погремушками лук,
И бабочка в клюкве сидит.
Не в силах от счастья лететь,
Лепечет, лепечет она,
Ей хочется плакать, ей хочется петь,
Она вожделенья полна.
(«Смерть героя»);
Там чижик шумно умывался,
Проникнув в куст до самого нутра.
(«Вулкан и Венера»);
Наклонил репейник шапку,
Где пчела шипит, как змей,
Шмель, захваченный в охапку,
Выползает из стеблей.
Там внизу, в траве широкой,
В глубине стеблей сквозных,
Жук сидит по воле рока,
Притаившийся, как мних.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [198]
И в цветка дворец открытый
Забирается с утра,
Словно в банку иль в корыто,
Золотая мошкара.
(«Пучина страстей»)
Шмель и жук в «глубине стеблей», мошкара в «цветка дворце», чижик, про¬
никший в «нутро куста», — за рядами образов-двучленов мерцает диалек¬
тика универсальных понятий: «сокровенного» и «проникающего», «объем¬
лющего» и «заполняющего», «статического» и «экстатического». Бабочка
в клюкве или пчела в репейнике — из однородных сопряжений словно вы¬
водится формула абсолютной гармонии по ту сторону антропоцентриз¬
ма. Как сказано в «Пучине страстей», «вот вам точка»: в олейниковском ми¬
ре какой-нибудь кузнечик в цветке взят как точка-эмпирей, вокруг которой
вращается мир бесконечных соответствий и симпатий всего со всем («И ве¬
тер, как муха, летает, / И звезды, как рыбки, блестят» — «Послание, бичу¬
ющее ношение одежды»).
Какое же ключевое слово лежит в основе любой образной формулы
позднего Олейникова и, соответственно, в основе его мира? Его опять-таки
можно найти в выделенных Гинзбург стихах: это слово — «строение». Оно
неоднократно возникает в поэзии Олейникова: «строение нуля» («Само¬
восхваление математика»), «строенье бабочки» («Служение науке»), «тай¬
ное строение бублика» («Бублик»), восхваление женского тела за «избы¬
ток строенья» («Послание, бичующее ношение длинных платьев и юбок»).
Но еще важнее, что за определенным «словом-острием» тянется длинный
шлейф слов-эквивалентов, едва ли не до полного исчерпания синоними¬
ческого ряда: секретные дамские «сочленения» («Лиде»), «ног располо-
женье» («На выздоровление Генриха»), «волшебная структура таракана»
(«Служение науке»), «механизм», спрятанный в жуках («Служение науке»),
«логический состав» кузнечика («Кузнечик»), «ушей архитектура» («По¬
слание, одобряющее стрижку волос»), «тысячелетняя архитектура» бубли¬
ка («Бублик»). И так далее:
Ты не птичка, но твой локон —
Это тот же птичий хвост:
Он составлен из волокон,
Из пружинок и волос.
(«Послание, одобряющее стрижку волос»)
Над системой кровеносной,
Разветвленной, словно куст,
Жизнь и стихи Николая Олейникова [199]
Воробьев молниеносней
Пронеслася стая чувств.
(«Послание артистке одного из театров»)
Столь же разветвленной оказывается и система опорных понятий в поэти¬
ке Олейникова: так, из одного ряда («строение/структура») метонимически
вырастает другой, не менее значимый — «математика/число». Экспансия
этих рядов в олейниковские иронические стихи происходит одновремен¬
но — уже в самом начале 1930-х годов, хорошенько замаскировав магиче¬
ское слово «галантерейной» клоунадой, Олейников объявляет:
Половых излишеств бремя
Тяготеет надо мной.
Но теперь настало время
Для тематики иной.
Моя новая тематика —
Это Вы и математика.
Сопоставим эти вроде бы предельно иронические строки с отрывками из
«Служения науке»:
Давно уж не ночуют утки
В моем разрушенном желудке.
И мне не дороги любовные страдания —
Меня влекут к себе основы мироздания.
Любовь пройдет. Обманет страсть. Но лишена обмана
Волшебная структура таракана.
И что же? Вывод очевиден: после «перелома» 1930—1932 годов Олейников
связывает в своих стихах единой цепью — «основы мироздания», струк¬
турность и математику.
При этом — от какого рода математики поэт решительно отказывается?
От той, что покоится на трех привычных китах — счете, интегрировании
и цифровом выражении:
Так и я бы хотел, не считая,
Обозначить числом воробьиную стаю,
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [200]
Чтобы бился и прыгал в тетрадке моей
Настоящий живой воробей.
(«Жалоба математика»)
Мои числа — не цифры, не буквы,
Интегрировать их я не стал...
Я в количество больше не верю,
И, по-моему, нет величин;
И волнуют меня не квадраты, а звери, —
Потому что не раб я числа, а его господин.
(«Самовосхваление математика»)
«Числа простые» в одном из набросков («С места на место...») отметаются
приговором рифмы — «зерна пустые».
К какой же математике тогда стремится автор «Служения науке»? К ма¬
гической — той, что оперирует числами не как условными символами, а как
энигматическими структурами, тождественными вещам и тварям: числом-
воробьем, «числом-обезьянкой», «числом под названием дом», которые
«выразить в знаках нельзя». Объекты и числа, согласно олейниковской ма¬
тематике, постоянно меняются местами: так, нуль предстает вещественным
и структурным, как бублик (а также лимон, венок, «могучее» колесо —
«О нулях», 1934?), а бублик — загадочным, как нуль («...И дырка знаме¬
нитая / Его томит, как тайна нераскрытая» — «Бублик»); там, где должны
быть квадраты, вдруг оказываются звери («И волнуют меня не квадраты,
а звери»— «Самовосхваление математика»). Вещь у Олейникова становит¬
ся математическим означающим (например, «функцией клюквы»), «знаме¬
нует идею числа», а математическая абстракция — вещественным означа¬
емым, чем-то отныне разложимым и даже разбираемым («анатомия точ¬
ки», «строение нуля»). Математика в «научных» стихотворениях 1930-х
годов — это нечто коренящееся в самой сути вещей («Геометрия — при¬
чина / Прорастания стеблей» — «Пучина страстей») и при этом обнимаю¬
щее все сущее. Так, ученый в «Самовосхвалении...», занося в свои чудес¬
ные таблицы разнородные объекты, явления и понятия как однородные
«числообразы», стремится к абсолютной полноте — к складыванию в бес¬
конечные ячейки «счета-бытия» «всего-всего» — «всяческого», «любого»,
«каждого»: подлеца, пчелу, овес, шерсть, соль, моль, аптечную склянку, та¬
ракана, звезду, свечи, яблоки, гвозди, портреты. Не вмещаясь в поэтиче¬
ских сочинениях Олейникова («Хвала изобретателям», «Служение науке»,
«Пучина страстей»), подобные каталоги разворачиваются уже в интеллек¬
Жизнь и стихи Николая Олейникова [201]
туальных беседах с друзьями. Выше мы цитировали одно из таких высказы¬
ваний Олейникова, в котором он перечисляет свои интересы: «...питание,
числа, насекомые, журналы, стихи, свет, цвета, оптика, занимательное чте¬
ние, женщины, "пифагорейство-лейбницейство", картинки <...> опыты над
самим собой, математические действия, назначения различных предметов
и животных, озарение, формы бесконечности...» — список всего из 55 (!)
наименований.
Что же соединяет в единую, неразрывную цепь все элементы бесконеч¬
ной олейниковской таблицы? То самое ключевое слово — строение; у вся¬
кой «чтойности» есть свой состав — поэтому именно чудо структурно¬
сти пронизывает все тварное, явленное и мыслимое.
Этим словом, действительно, вводится «иная», «новая тематика», как
и обещал Олейников, скрывая намек в шутовском жесте, — причем не толь¬
ко в его стихах, с начала 1930-х годов, но и вообще — в русской поэзии. Ко¬
нечно, автор «Пучины страстей» тесно связан с традицией «хлебниковского
примитива» (Гинзбург 2002:495); на первый взгляд может даже показать¬
ся, что в олейниковских стихах она продолжена по прямой, с тем же углу¬
блением в нумерологическую тайнопись и поиском универсального шиф¬
ра природы. Но достаточно сравнить «научную» поэзию Олейникова, до¬
пустим, с «Числами» Хлебникова, чтобы убедиться скорее в отталкивании
и расхождении двух поэтов. «Я всматриваюсь в вас, о, числа...» — так на¬
чинается стихотворение «Председателя Земного шара», которое в «Жало¬
бе...» и «Самовосхвалении математика» вроде бы разобрано на цитаты178:
Я всматриваюсь в вас, о, числа,
И вы мне видитесь одетыми в звери, в их шкурах,
Рукой опирающимися на вырванные дубы.
Вы даруете единство между змееобразным движением
Хребта вселенной и пляской коромысла,
Вы позволяете понимать века, как быстрого хохота зубы.
Мои сейчас вещеобразно разверзлися зеницы
Узнать, что будет Я, когда делимое его — единица.
У Хлебникова преобладает высокий стиль («зеницы»); он опирается на сим¬
волы («коромысло»); мыслит гиперболами, разворачивающимися в праи-
сторическом и космическом масштабах («понимать века», «хребет вселен¬
ной»), разворачивает метафоры и метонимии («...Вы мне видитесь одетыми
в звери, в их шкурах»; «Вы позволяете понимать века, как быстрого хохота
178 Ср.: в «Самовосхваления математика»: «И волнуют меня не квадраты, а звери, /
Потому что не раб я числа, а его господин».
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [202]
зубы»). Важнее же всего то, что смысловой вектор стихотворения направ¬
лен к Человеку-творцу, к неделимому «Я» с большой буквы («...Что будет
Я, когда делимое его — единица»), к поэту-пророку (подразумеваемому за
пушкинской цитатой — «разверзлися зеницы»).
Разрыв Олейникова с авторитетным предшественником не ограничива¬
ется только тем, что после интенсивной иронической обработки в его сти¬
хах от прежних фигур и тропов остаются лишь пародийные тени. Мало даже
сказать, что в «научных» стихах, от «Жалобы математика» до «Пучины стра¬
стей», центростремительные силы «Чисел» сменяются на центробежные,
а смысловой вектор направлен уже не к человеку, а от человека. Все гораз¬
до радикальнее. Олейниковский мир вовсе лишен единого центра и опреде¬
ленных смысловых векторов; центр может быть везде, в любой условной
точке, и уж скорее это будет блоха, чем человек.
Каково же место человека в этом мире, где полностью упразднена
иерархия и все приравнено ко всему? На месте хлебниковского Человека-
демиурга, центра вселенной, оказывается человечек, неразличимый не
то что во вселенной, а в рое мошкары, в траве, кишащей насекомыми; на
месте хлебниковского неделимого «Я» — бесконечно делимая структура
структур, в которой активное, деятельное начало возрастает по мере
измельчения, дробления и углубления в микромир: «...Желудок поэта опять
расцветет» («Послание (На заболевание раком желудка)»); «...Во мне те¬
кут жиры...» («Послание, бичующее ношение длинных платьев и юбок»);
«...Пронеслася стая чувств» («Послание артистке одного из театров»); «Во
мне поползновения блестят» («Послание»); «Еще не раз взыграет в нас гор¬
мон игривый...» («Деве»); «...И гложет тайный витамин меня» («Служение
науке»). Безличное у Олейникова постоянно становится подлежащим.
Что до темы «личности», то она разворачивается у Олейникова в двух
разных системах координат. Если точкой отсчета взят «лирический субъ¬
ект», с его «переживаниями», мир предстает босхо-брейгелевским адом.
«Страшно жить на этом свете...» —/ твердит олейниковский говорящий
персонаж. По кругу повторяются его сетования на безнадежность жиз¬
ни: «И снова я весь погружаюсь во мрак...» («Послание (На заболевание
раком желудка)»), «И сердце мне гложет змея, / И нет ничего впереди...»
(«Муха»), «...И зимы подступает и свищет / Замогильный и жалобный вой»
(«Вале Шварц»). Им сопутствует мрачное резонерство: «Разбивает лоб бед¬
няжка... / Разобьешь его и ты» («Надклассовое послание (Влюбленному
в Шурочку)»), «Ничего не знаешь ты, / Да и знать не надо. / Все равно по¬
гибнешь ты, / Так же, как и я» («Птичка безрассудная...»). Забавное обора¬
чивается рефлексами ужаса: «Действительно, весело было! / Действитель¬
но, было смешно! / А вьюга за форточкой выла, / И ветер стучался в окно»
(«Однажды красавица Вера...»). При этом стоит олейниковскому «поэту»
Жизнь и стихи Николая Олейникова [203]
перейти от элегии или послания к балладе, как он начинает маниакально
возвращаться к одному и тому же — описаниям смерти и трупного раз¬
ложения: «...Не слышно ни пенья, ни крика, / Лежит равнодушный мерт¬
вец» («Смерть героя»); «Его глазки голубые / Будет курица клевать...» («Та¬
ракан»). Но чаще в макабрических стихотворениях Олейникова рассказчик
описывает свою собственную смерть, причем «поэт»-мертвец и лежа в мо¬
гиле не перестает сетовать да резонерствовать: «И вот, отбросив жизни
груз, / Лежу прохладный, как арбуз» («Быль, случившаяся с автором в ЦЧО
(Стихотворение, бичующее разврат)»); «И я умер немного спустя, / И лежал
с неподвижным лицом...» («Ботанический сад»); «Орлова не стало. Козло¬
ва не стало. / Друзья, помолитесь за нас!» («Перемена фамилии»). Такова
у Олейникова личность «поэта»: она одержима уже не старой доброй «по¬
этической тоской», а черной меланхолией, усугубленной навязчивыми иде¬
ями. Но за этой поэтической личностью, в иронических приемах и стили¬
стических сдвигах, прячется другой «поэт» — безличный и безжалостный:
поэт-наблюдатель, поэт-исследователь.
Этот другой прежде всего стремится за пределы лиризма. «Личное»
должно быть выжжено на корню — ядовитой иронией, все вышучивающим
скепсисом. И вот тогда, при условии максимального отвлечения от по¬
этического «я», появляется возможность развернуть иную систему коорди¬
нат. Здесь точкой отсчета должно стать другое «я» — обобщенное и объек¬
тивированное, преобразованное в средство наблюдения, в прибор или, на
худой конец, придаток к прибору. На той, светлой стороне олейниковско-
го мира «поэт» весь обращается в зрение или слух, которые должны быть
соответствующим образом налажены, чтобы свести «я»-искажение, «я»-
погрешность к наименьшим величинам.
До «очуждающей» настройки восприятие мира ограничено «слишком че¬
ловеческим»: «Я завидую зрению кошек...» («Жалоба математика»). «Мой
грубый глаз яйцеподобный / В ней [птичке] видел лишь предмет съедоб¬
ный» («На день рождения Т<амары> Г<ригорьевны> Г<аббе»>). Надо пре¬
жде стереть «человеческое»: «Я сажусь и забываю, / Все, что было до ме¬
ня» («Пучина страстей»); обезличиться: «Чужой рукой моя рука водила...»
(«Неуловимы, глухи, неприметны...»); стать человеком-прибором, фик¬
сирующим «число частей животного и их расположенье», «плодов и веток
нумерацию»179. Так, ценой отказа от себя, «поэт» обретает сверхчеловече¬
скую силу — остроту слуха и зрения: «...Я слышал то, о чем писать хотел...»
(«Неуловимы, глухи, неприметны...»): «И вдруг однажды вместо мяса, пе¬
рьев и костей / Я в ней [птичке] увидел выражение божественных идей»
179 Формулы из фрагментов «И пробудилося в душе его стремление...» и «Плодов
и веток нумерация...»
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [204]
(«На день рождения Т<амары> Г<ригорьевны> Г<аббе»>). Только в «роскош¬
ном отдаленье»180 от себя превращенный субъект способен проникнуть в чу¬
деса строения: «Разрежь его [кузнечика], и ты увидишь чудеса...» («Куз¬
нечик»); постичь состав «вещей-как-они-есть», «вещей-самих-по-себе»
как некую истину: «...Лишена обмана / Волшебная структура таракана».
А в конце концов — обрести откровение в созерцании структурности, со¬
единяющей все вещи со всеми, снимающей все противоречия — между субъ¬
ектом и объектом, внутренним и внешним, малым и большим, низким и вы¬
соким, природой и цивилизацией, словом и вещью. Вот, очевидно, в каком на¬
правлении поэт искал путь преодоления ужаса бытия.
И все же — в полной мере отдав дань отрицанию, что Олейников
в итоге утверждает? Казалось бы, от изложенных выше предпосылок —
один шаг к разгадке олейниковского жизненного плана. Но близость от¬
ветов и решений оказывается иллюзорной: какой бы версии относительно
тайных штудий и скрытого кредо Олейникова ни придерживайся, любая из
них все равно останется гадательной. Действительно, что мы имеем? Фак¬
тов — почти никаких. Однажды Олейников был увиден в библиотеке с кни¬
гой по высшей математике, которую тут же спрятал от любопытных глаз.
В другой раз он признался Лидии Гинзбург, что ощущает себя скорее мате¬
матиком, чем поэтом, — но дальнейших пояснений не последовало. Также
были зафиксированы отдельные высказывания на научные и философские
темы в беседах с друзьями-чинарями. Вот, пожалуй, и все.
В стихах — чем ближе к концу 1930-х, тем ощутимее тематический
сдвиг и поворот к новым идеям. От игры намеками и недосказанности под
двойной иронической защитой в 1935—1937 годах поэт вроде бы начал пе¬
реходить к прямому поэтическому развертыванию своей системы, но был
оборван на полуслове. Приходится признать: мы лишены возможности на¬
стаивать на какой-либо одной, окончательной версии. Ну что же — в таком
случае мы должны, по крайней мере, обозначить развилку и перечислить
варианты выбора.
Наименее убедительной представляется нам версия, предложенная Дж.
В. Наринсом (Нарине: 245—266), который первым подробно и всерьез за¬
говорил об олейниковских «научных» стихах. Видимо, слишком букваль¬
но понимая это условное определение, исследователь ограничил их скры¬
тый смысл лишь узким кругом отдельных научных проблем. Собственно, вся
проблематика стихов Олейникова, если следовать наринсовской концеп¬
ции, вращается вокруг двух вопросов — это «психика далеких от нас су¬
ществ» (Нарине: 249), прежде всего насекомых, и неустранимость субъек¬
тивизма в науке. Сомнение вызывает не только некоторая прямолинейность
180 Формула из «Пучины страстей».
Жизнь и стихи Николая Олейникова [205]
выводов: ясно ведь, что муха или таракан важны поэту не как предмет спе¬
циального, энтомологического изучения, а как всякая тварь, точка отсче¬
та, фокус бытия; а также — что «математик» или «служитель науки» стано¬
вятся объектами не научной критики, а иронической деконструкции — как
всякий человек, приравненный ко всякой твари. Больше смущает другое —
в статье Наринса, слишком увлекшегося поиском научного подтекста, явно
сбит масштаб: не надо забывать, что Олейникова, как и его героя, «влекут»
не частные или даже общие аспекты научного знания, а «основы мирозда¬
ния»; на меньшее он никогда бы не согласился. Соответственно, и тому, кто
расследует идеи и замыслы Олейникова, приходится задавать большие во¬
просы — об универсальных «причинах» и «основах» его мира.
Каталогизируя в стихах 1930-х годов «всякую всячину», поэт все чаще
фокусируется на затерянном смысле малых величин, скрытом значении не¬
значительных вещей. Сначала это воспринимается как шутка — идеи «за¬
стежек, пуговиц, петличек» («Бирюльки чудные, — идеи ваши — мне все¬
го дороже» («Хвала изобретателям»), или значение женской икры («Теперь
тебе понятно / Значение икры: / Она — не для разврата, / Она —■ не для
игры»), или намеки природы, следующим образом расшифрованные: «При¬
ходит в штанах обыватель, / Летит соловей без штанов». Но постепенно
концентрация вопросов и загадок, бьющих в одну цель, наводит на мысль,
что в гротескной игре прячется какая-то важная мысль.
Так что же это за мысль? Это неподвижная идея или поиск смысла, путь
к смыслу?
Если отвести версию Наринса, остается три варианта ответа на эти во¬
просы. Первый — мысль поэта упирается в строение вещей и останавли¬
вается на любовании «архитектурой» бытия как таковой — вне смыс¬
ла: все структура, и ничего нет за структурой. Если так, то явления ми¬
ра таят всевозможные загадки, но, углубляясь в них, познающее «я» может
докопаться лишь до скрытого состава-в-составе — до того, «какие меха¬
низмы спрятаны в жуках, / Какие силы действуют в конфетах». В «Служи¬
теле науки» сказано: «Я стал задумываться над пшеном» — над чем в пше¬
не? И дальше:
Везде преследуют меня — ив учреждении, и на бульваре
Заветные мечты о скипидаре.
Мечты о спичках, о клопах,
0 разных маленьких предметах... —
мысли, мечты о чем в скипидаре, спичках, клопах? Очевидно, о сущности
явлений и вещей: «Я понял, что такое рожки...»; об их целесообразности:
«...Зачем грибы в рассол погружены...»; смысле: «...Какой имеют смысл те¬
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [206]
леги, беговые дрожки...»; причине: «...И почему в глазах коровы отражают¬
ся окошки,/Хотя они ей вовсе не нужны». То есть: «служителя науки»«вле¬
кут», «преследуют», «интересуют» скрытые в мелочах универсальные за¬
кономерности, соединяющие пшено, скипидар, спички и клопов, — все на
свете. И что же? Если следовать первой версии, то мир замыкается на упо¬
рядоченности, уходящей вглубь всех вещей, и системности, связывающей
все вещи в единую цепь; упорядоченности и системности как последних
инстанциях смысла, дальше которых и глубже ничего нет.
В чем волшебство таракана? В его структуре («волшебная структура та¬
ракана»). В чем смысл телеги? В системности ее связей с миром. Почему
«назначение» бублика так «высоко»? По причине сложности его «тайно¬
го <...> строения». В чем общий секрет листа и глаза? В их геометрии: «Ви¬
жу в листьях треугольник, / Колесо ищу в глазу» («Пучина страстей»). Вот
«поэт-ученый» исследует кузнечика: «Что выражает маленький кузнечик? /
Каков его логический состав?» — и получается, что насекомое «выражает»
лишь собственное внутреннее устройство, его «логический состав» при¬
равнен к просто составу, геометрически расчлененному в духе авангард¬
ной живописи: «Он сделан из крючков, он сделан из колечек...»; тайна,
хранимая в недрах кузнечика, сводится к комбинации элементов, которые,
в свою очередь, разложимы на элементы, и так далее:
Разрежь его — и ты увидишь чудеса:
Увидишь ты двух рыбок, плавающих вместе,
Сквозную дырочку и крестик.
«Чудеса» для Олейникова-«наблюдателя» скрыты в каждом сегменте, каж¬
дой клеточке материи, но это чудеса без прорыва и преображения, одно¬
родные всему, что фиксируется органами восприятия или приборами, — но
только еще не зафиксированные. «Служитель науки», таким образом, кру¬
жится вокруг одних и тех же парадоксов — восхищается «равнодушным»
к человеку миром, исследует непостижимый строй бытия, вычерпывает не¬
исчерпаемое, высчитывает бессчетное.
Но возможно и другое прочтение олейниковского шифра: альтернатив¬
ная эмблема его исканий — не хождение по кругу, а зигзаг. Согласно этой
версии, эволюция Олейникова представляется чередой озарений и сомне¬
ний, порывов и откатов, восторга понимания и философского отчаянья.
Действительно, разве в стихах 1930-х годов не проходит рефреном
мысль, что вещи — это знаки чего-то иного? Не указывают ли эти знаки
не только на скрытые пружины вещей, но и на то, что таится за ними?
«Нетрудно порошок принять, / Но надобно его понять» («Наука и техни¬
Жизнь и стихи Николая Олейникова [207]
ка»), — в ерническом, издевательски подмигивающем резонерстве вполне
может мерцать нешуточный намек, отсылающий к Пушкину: «Я понять тебя
хочу, / Смысла я в тебе ищу...» Когда олейниковский иронический «наблю¬
датель» вглядывается в строение вещей, он порой превращается во вдох¬
новенного «созерцателя» или даже «провидца». Так, «служитель науки» во
внешнем: «О тараканьи растопыренные ножки, которых шесть!» — прозре¬
вает трансцендентное, уходящее за пределы вещей:
Они о чем-то говорят, они по воздуху каракулями пишут,
Их очертания полны значенья тайного...
Да, в таракане что-то есть,
Когда он лапкой двигает и усиком колышет.
«Озарение» — так и называется одно из стихотворений Олейникова:
Все пуговки, все блохи, все предметы что-то значат.
И неспроста одни ползут, другие скачут.
Я различаю в очертаниях неслышный разговор:
О чем-то сообщает хвост, на что-то намекает бритвенный прибор.
Тебе селедку подали. Ты рад. Но не спеши ее отправить в рот.
Гляди, гляди! Она тебе сигналы подает.
В состоянии восторженного видения «созерцатель» угадывает сигнату¬
ру вещей; при этом «указания» и «послания» содержатся не в избранных
вещах, а во всех, начиная с самого низа, с привычного и бытового. «Ви¬
жу...» — экстатически повторяет «поэт» в «Пучине страстей»:
...Вижу смыслы в каждой травке,
В клюкве — скопище идей.
Вижу, вижу, как в идеи
Вещи все превращены.
Те — туманней, те — яснее,
Как феномены и сны.
Но, однако, при всех «озарениях» и прозрениях в «научных» стихах Олей¬
никова все время ощущается ироническая дистанция, если не прямая из¬
девка. По нашему предположению, это своего рода оборонительная ар¬
тиллерия, всегда готовая прикрыть отступление на исходную позицию фи-
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [208]
лософского отрицания. Оборотная сторона иронической тактики — страх
ошибки, вроде той, которую английский теоретик искусства Дж. Рескин
определил как «эмоциональную иллюзию» («pathetic fallacy»), то есть
проекцию человеческих чувств на объекты окружающего мира. За востор¬
женным «поэтом-созерцателем» тоже стоит «другой поэт», насмешливый
и критический, вооруженный тютчевской формулой сомненья в природ¬
ной телеологии: «...может статься, никакой от века / Загадки нет и не бы¬
ло у ней». Спровоцированные им словесные сбои и сломы как бы страхуют
порывы «визионера» от наивности романтической «религии природы» или
хлебниковского натурфилософского мифа.
Если принять эту схему, то в олейниковских стихах нет утверждения,
которое бы не подлежало отмене, нет постижения без срыва в разочарова¬
ние. С каким бы пылом ни восходил поэт к «тому самому», к сути вещей, ему
каждый раз грозит обнуление смысла — «нолик» («...Лучше нолик положи¬
те / На мой печальный бугорок») и бублик:
А мы глядим на бублик и его простейшую фигуру,
Его старинную тысячелетнюю архитектуру
Мы силимся понять. Мы вспоминаем: что же, что же,
На что это, в конце концов, похоже,
Что значат эти искривления, окружность эта, эти пятна?
Вотще! Значенье бублика нам непонятно.
И, наконец, последняя версия: в творческой биографии поэта хоть пункти¬
ром, но все же прослеживается путь — «катастрофическая эволюция»ш
от отрицания к откровению. Ведь заметил же Шварц, говоря о позд¬
нем Олейникове: «...с каждым годом становился он все светлей. С тех пор
особенно, как нашел он форму выражения своих сил. Стал писать стихи»
(Шварц 1999:16). «Стал писать стихи» — это значит, что в олейниковской
поэтике наметился новый слом: все меньше в его стихах оставалось иронии,
все больше — высказываний «с последней прямотой».
«Борьбу и смену» в опытах второй половины 1930-х годов можно про¬
следить на примере одного из предсмертных стихотворений, странного
и «темного», — «Графин с ледяною водою...» (1937). В первой строфе обо¬
значена уже знакомая нам формула: структура в структуре (пузырьки в пу¬
зыре), холод, отчаянье:
Графин с ледяною водою.
Стакан из литого стекла.
181 Формула Ю. Н. Тынянова.
Жизнь и стихи Николая Олейникова [209]
Покрыт пузырьками пузырь с головою,
И вьюга меня замела.
Во второй строфе отчаянье сменяется сдержанной, отстраненной безнадеж¬
ностью: вместо первого лица — второе, как бы взгляд на себя со стороны;
в метафорах отсыревшего окна и пустого колодца читается сомнение в че¬
ловеческой способности точного восприятия и глубокого понимания мира:
Но капля за каплею льется —
Окно отсырело давно.
Водою пустого колодца
Тебя напоить не дано.
В третьей строфе появляется императив, а с ним — надежда и план мысли-
действия. Лирический субъект призывает себя искать «воду» смысла в про¬
стых вещах: не в колодце, так в ведре. При этом как будто сбывается «смысл
телеги» из «Служения науки»; телега — это путь, это поиск:
Подставь свои губы под воду —
Напейся воды из ведра.
Садися в телегу, в подводу —
Кати по полям до утра.
И вот в четвертой, завершающей строфе энергия отчаянья переходит
в энергию упорной борьбы за смысл:
Душой беспредельно пустою
Посметь ли туман отвратить
И мерной водой ключевою
Холодные камни пробить?
Пусть душа «беспредельно пуста», но впервые в поэзии Олейникова
утвердительно сказано: «душа». Это слово выстрадано поэтом, после «Та¬
ракана»: «Но наука доказала, / Что души не существует...» — оно воспри¬
нимается как чудо. Далее — с трудом преодолевая грамматику сомненья
(вопрос в неопределенной форме), поэт также впервые говорит о выборе
и воле — «посметь ли...»; и это еще одно чудо. Более того: «мерная вода
ключевая» — это не только малая мера смысла, все же противопоставлен¬
ная внутренней бездне («беспредельной» пустоте души) и непостижимому,
чуждому миру вокруг («туману» и «холодным камням»); это еще и насталь-
ская струя — родник чистой лирики в пустыне отрицания и иронии.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов [210]
«Посметь ли туман отвратить?..» В своей поэме «Пучина страстей», ко¬
торая стала последним словом Олейникова, итогом его творчества, он имен¬
но «посмел» — прямо заговорить о самом главном. В сохранившихся раз¬
розненных фрагментах уже видно, как поэт пробует возвышенную лексику
и вырабатывает пророческую интонацию: «число неизреченного», «вели¬
кие метаморфические силы», «шаги могущества». В поэме же он не просто
намекает на что-то или указывает обиняком, а вещает, трубит:
Возникает мир чудесный
В человеческом мозгу.
Он течет водою пресной
Разгонять твою тоску.
Вопрос, поставленный в «Графине...», решен, «туман» растерянности
и сомнений «отвращен», тоска преодолена. Начинается что-то совершен¬
но новое, невиданное в стихах, а может быть, и в жизни поэта — новая
магия, новые пути: «Дайте ключ времен Батыя / К отысканию путей»; но¬
вый «ум»:
— Здравствуй, здравствуй, — закричали
Барабанщики ему. —
Мы в конце, а вы в начале
Прибегаете куму!
Все, что видел я и слышал,
Перевернуто в уме.
К чему ведут эти «пути», что открывается этому начинающемуся, перевер¬
нутому «уму»? Не «выражение» ли «божественных идей»? Когда-то, в од¬
ном из иронических стихотворений, это было сказано в шутку — теперь же
ирония отброшена за ненадобностью: поэт ищет универсальную идею, аб¬
солютный смысл — может быть, «Deus in rebus» («Бога в вещах»)?
В поздних стихах и поэме открывается перспектива нового синтеза в по¬
этике Олейникова — открытий новейших естественных наук и методов выс¬
шей математики с «райским магическим знанием», «космическим откро¬
вением», «чудотворно-магическим тайноведением» (Ахутин: 31—32).
Параллельно занимаясь секретными математическими штудиями и разво¬
рачивая новую, эзотерическую поэтику, автор «Пучины страстей», как про¬
ницательно предположил Нарине, возможно, искал свой «философский ка¬
мень» (Нарине: 266).
Жизнь и стихи Николая Олейникова [211]
Но к чему привели бы поэта эти поиски, нам не дано знать. Олейников
только обратился к новому поэтическому языку, только открылись пред ним
новые темы, только сделаны были первые шаги в новом направлении —
и все закончилось: жизнь поэта трагически оборвалась.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов
[212]
I
Стихотворения
[213]
1
Кузнечик, мой верный товарищ,
Мой старый испытанный друг,
Зачем ты сидишь одиноко,
Глаза устремивши на юг?
Куда тебе в дальние страны,
Зачем тебе это тепло?
У нас и леса, и поляны,
А там все песком замело.
<1926>
2
ДЕТСКИЕ СТИХИ
Весел, ласков и красив,
Зайчик шел в коператив.
25 апреля 1926
I. Стихотворения [215]
3
На пропасти краю
Стою в чужом краю.
От вас не утаю:
Коров я не дою.
21 октября 1926
МУРЕ ШВАРЦ
Ах, Мура дорогая,
Пляши, пляши, пляши,
Но, в плясках утопая,
Не забывай души.
Душа есть самое драгое,
Что есть у нас, что есть у вас.
О детство, детство золотое,
Ушло ты навсегда от нас.
Балетоман Макар Свирепый
15 сентября 1927
КАРАСЬ
Н. С. Болдыревой
Жареная рыбка,
Дорогой карась.
Где ж ваша улыбка,
Что была вчерась?
Стихотворения [216]
Жареная рыба,
Бедный мой карась.
Вы ведь жить могли бы,
Если бы не страсть.
Что же вас сгубило,
Бросило сюда.
Где не так уж мило.
Где — сковорода?
Помню вас ребенком:
Хохотали вы,
Хохотали звонко
Под волной Невы.
Карасихи-дамочки
Обожали вас —
Чешую, да ямочки,
Да ваш рыбий глаз.
Бюстики у рыбок —
Просто красота!
Трудно без улыбок
В те смотреть места.
Но однажды утром
Встретилася вам
В блеске перламутра
Дивная мадам.
Дама та сманила
Вас к себе в домок,
Но у той у дамы
Слабый был умок.
С кем имеет дело.
Ах, не поняла, —
Соблазнивши, смело
С дому прогнала.
I. Стихотворения [217]
И решил несчастный
Тотчас умереть.
Ринулся он, страстный,
Ринулся он в сеть.
Злые люди взяли
Рыбку из сетей.
На плиту послали
Просто, без затей.
Ножиком вспороли,
Вырвали кишки,
Посолили солью.
Всыпали муки...
А ведь жизнь прекрасною
Рисовалась вам.
Вы считались страстными
Попромежду дам...
Белая смородина.
Черная беда!
Не гулять карасику
С милой никогда.
Не ходить карасику
Теплою водой,
Не смотреть на часики,
Торопясь к другой.
Плавниками-перышками
Он не шевельнет.
Свою любу «корюшкою»
Он не назовет.
Так шуми же, мутная
Невская вода.
Не поплыть карасику
Больше никуда.
1927
Стихотворения [218]
6
ЛЮБОВЬ
Пищит диванчик.
Я с вами тут.
У нас романчик,
И вам капут.
Вы так боялись
Любить меня,
Сопротивлялись
В теченье дня.
Я ваши губки
Поцеловал,
Я ваши юбки
Пересчитал.
Их оказалось
Всего одна.
Тут завязалась
Меж нами страсть.
Но стало скучно
Мне через час.
Собственноручно
Прикрыл я вас.
Мне надоело
Вас обнимать, —
Я начал смело
Отодвигать.
Вы отвернулись,
Я замолчал,
Вы встрепенулись,
Я засыпал.
I. Стихотворения [219]
Потом под утро
Смотрел на вас:
Пропала пудра,
Закрылся глаз.
Вздохнул я страстно
И вас обнял,
И вновь ужасно
Диван дрожал.
Но это было
Уж не любовь!
Во мне бродила
Лишь просто кровь.
Ушел походкой
В сияньи дня.
Смотрели кротко
Вы на меня.
Вчера так крепко
Я вас любил.
Порвалась цепка,
Я вас забыл.
Любовь такая
Не для меня.
Она святая
Должна быть, да!
1927
МУРЕ ШВАРЦ
Ты не можешь считаться моим идеалом,
Но я все же люблю тебя, крошка моя.
Стихотворения [220]
И когда ты смеешься своим симметричным оскалом,
Я, быть может, дрожу, страсть в груди затая.
Ты, танцуя, меня погубила.
Превратила меня в порошок.
И я даже не первый, кого загнала ты в могилу
(Я тебе не прощу сей капризный штришок!).
Я от танцев твоих помираю,
Погубила меня ты, змея.
Был я ангелом — стал негодяем...
Я люблю тебя, крошка моя!
<1928>
8
ПОСВЯЩЕНИЕ
Ниточка, иголочка.
Булавочка, утюг...
Ты моя двуколочка,
А я твой битюг.
Ты моя колясочка,
Розовый букет,
У тебя есть крылышки,
У меня их нет.
Женщинам в отличие
Крылышки даны!
В это неприличие
Все мы влюблены.
Полюби, красавица.
Полюби меня.
Если тебе нравится
Песенка моя.
<1928>
I. Стихотворения [221]
9
КОРОТКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ
Тянется ужин.
Блещет бокал.
Пищей нагружен,
Я задремал.
Вижу: напротив
Дама сидит.
Прямо не дама,
А динамит!
Гладкая кожа.
Ест не спеша...
Боже мой, Боже,
Как хороша!
Я поднимаюсь
И говорю:
— Я извиняюсь,
Но я горю!
<1928>
10
ГЕНРИЕТТЕ ДАВЫДОВНЕ
Я влюблен в Генриетту Давыдовну,
А она в меня, кажется, нет —
Ею Шварцу квитанция выдана,
Мне квитанции, кажется, нет.
Ненавижу я Шварца проклятого,
За которым страдает она!
За него, за умом небогатого,
Замуж хочет, как рыбка, она.
Стихотворения [222]
Дорогая, красивая Груня,
Разлюбите его, кабана!
Дело в том, что у Шварца в зобу не...
Не спирает дыхания, как у меня.
Он подлец, совратитель, мерзавец —
Ему только бы женщин любить...
А Олейников, скромный красавец,
Продолжает в немилости быть.
Я красив, я брезглив, я нахален,
Много есть во мне разных идей.
Не имею я в мыслях подпалин,
Как имеет их этот индей!
Полюбите меня, полюбите!
Разлюбите его, разлюбите!
1928
11
НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГРУНИ
Да, Груня, да. И ты родилась.
И ты, как померанц, произросла.
Ты из Полтавы к нам явилась
И в восхищенье привела.
Красивая, тактичная, меланхоличная!
Ты нежно ходишь по земле,
И содрогается все неприличное,
И гибнет пред тобой в вечерней мгле.
Вот ты сидишь сейчас в красивом платьице
И дремлешь в нем, а думаешь о Нем,
О том, который из-за вас поплатится, —
Он негодяй и хам (его мы в скобках Шварцем назовем).
I. Стихотворения [223]
Живи, любимая, живи, отличная...
Мы все умрем.
А если не умрем, то на могилку к вам придем.
1928
12
ЛЮБОЧКЕ БР03ЕЛИ0
У Брозелио у Любочки
Нет ни кофточки, ни юбочки,
Ну а я ее люблю!
За ее за убеждения,
За ее телосложение —
Очень я ее люблю.
1928
13
Кто я такой?
Вопрос нелепый!
Я — верховой
Макар Свирепый.
1928
14
Целование шлет
Николай Олейников
С кучей своих нахлебников:
Макара Свирепого,
Кравцова и Н. Технорукова,
Стихотворения [224]
Мавзолеева-Каменского
и Петра Близорукого,
Славной шестерки в одном лице —
«Забойской артели» —
на донецкой земле!
1928
15
ТАМАРЕ
Я стою в твоей прихожей
Весь дрожа и не дыша.
Ты на кустик клюквенный похожа.
Ты — моя душа!
<1929>
16
НАТАШЕ
Если б не было Наташи —
Я домой бы убежал.
Если б не было Наташи —
Жизнь бы водкой прожигал.
День, когда тебя не вижу,
Для меня пропащий день.
Что тогда цветенье розы.
Что мне ландыш и сирень!
Но зато, когда с тобою
Я среди твоих цепей,
Я люблю и подорожник.
Мне приятен и репей.
<1929>
I. Стихотворения [225]
17
МАШИНИСТКЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЕЛЕРИНКИ
Ты надела пелеринку,
Я приветствую тебя!
Стуком пишущей машинки
Покорила ты меня.
Покорила ручкой белой.
Ножкой круглою своей,
Перепискою умелой
Содержательных статей.
Среди грохота и стука
В переписочном бюро
Уловил я силу звука
Ремингтона твоего.
Этот звук теперь я слышу
Днем и ночью круглый год, —
Когда град стучит по крыше,
Когда сверху дождик льет,
Когда птичка распевает
Среди веток за окном.
Когда чайник закипает
И когда грохочет гром.
Пусть под вашей пелеринкой,
В этом подлинном раю.
Застучит сильней машинки
Ваше сердце в честь мою.
<1929>
Стихотворения [226]
18
И вот с тобой мы, Генриетта, вновь.
Уж осень на дворе,
и не цветет морковь.
Уже лежит в корзине Ромуальд,
И осыпается der Wald.
Асфальт, асфальт, я по тебе ступал,
Когда в шестой этаж
свой легкий торс вздымал.
Я должен умереть, я — гений,
Но сдохнет также Шварц Евгений!
26 августа 1929
19
НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА
Ты устал от любовных утех,
Надоели утехи тебе!
Вызывают они только смех
На твоей на холеной губе.
Ты приходишь печальный в отдел,
И отдел замечает, что ты
Побледнел, подурнел, похудел,
Как бледнеть могут только цветы!
Ты — цветок! Тебе нужно полнеть.
Осыпаться пыльцой и для женщин цвести...
Дай им, дай им возможность иметь
Из тебя и венки и гирлянды плести.
Ты как птица, вернее, как птичка
Должен пикать, вспорхнувши в ночи.
I. Стихотворения [227]
Это пиканье станет красивой привычкой...
Ты ж молчишь... Не молчи... Не молчи...
21 октября 1929
20
Утром съев конфету «Еж»,
В восемь вечера помрешь!
1929
21
АЛИСЕ
Однажды, яблоко вкусив,
Адам почувствовал влеченье,
И, Бога-папу не спросив,
Он Еве сделал предложенье.
А Ева, опустив глаза
(Хоть и ждала мгновенья эти),
Была строптива, как коза:
— Зачем в Раю нам, милый, дети?
Адам весь выбился из сил:
Любви и страсти он просил.
Всевышний же понять не мог —
Кто он теперь — Бог иль не Бог.
В любви Адам был молодцом.
Он не ударил в грязь лицом.
1929
Стихотворения [228]
22
К. И. ЧУКОВСКОМУ ОТ АВТОРА
I
Муха жила в лесу,
Муха пила росу.
Нюхала муха цветы
(Нюхивал их и ты!).
Пользуясь общей любовью,
Муха питалась кровью.
Вдруг раздается крик:
Муху поймал старик.
Был тот старик паук —
Страстно любил он мух.
П
...Жизнь коротка, коротка,
Но перед смертью она сладка...
Видела муха лес,
Полный красот и чудес:
Жук пролетел на закат,
Жабы в траве гремят.
Сыплется травка сухая.
Милую жизнь вспоминая,
Гибла та муха, рыдая...
Ш
...И умирая.
IV
Доедает муху паук.
У него 18 рук.
У нее ни одной руки,
У нее ни одной ноги.
I. Стихотворения [229]
Ноги сожрал паук,
Руки сожрал паук.
Остается от мухи пух.
Испускает тут муха дух.
V
Жизнь коротка, коротка.
Но перед смертью она сладка.
Автор!
<Август 1930>
23
УБИЙСТВО
Вот муха бежит по дороге, —
Послышался грохот и стук, —
Свои меднокрасные ноги
Опять расправляет паук.
Он муху, как зверя, хватает.
Садится на ветку верхом
И в пленницу ножик вонзает.
Разбойник, убийца, подлец, кандидат в исправдом!
<1930>
24
Колхозное движение,
Как я тебя люблю!
Испытываю жжение.
Но все-таки терплю.
1930
Стихотворения [230]
25
Жили в квартире
Сорок четыре
Сорок четыре
Тщедушных чижа:
Чиж-алкоголик,
Чиж-параноик,
Чиж-шизофреник,
Чиж-симулянт.
Чиж-паралитик,
Чиж-сифилитик,
Чиж-маразматик,
Чиж-идиот.
1930
26
ЗАВЕДУЮЩЕЙ СТОЛОМ СПРАВОК
Я твой! Ласкай меня, тигрица!
Гори над нами, страсти ореол!
Но почему, скажи, с тобою мы не птицы?
Тогда б у нас родился маленький орел.
1930
27
ДЕВЕ
Ты, Дева, друг любви и счастья,
Не презирай, не презирай меня.
Ни в радости, тем более ни в страсти
Дурного обо мне не мня.
I. Стихотворения [231]
Пускай уж я не тот! Но я еще красивый!
Доколь в подлунной будет хоть один пиит,
Еще не раз взыграет в нас гормон игривый.
Пусть жертвенник разбит! Пусть жертвенник разбит!
1930?
28
КЛАССИФИКАЦИЯ ЖЕН
Жена-кобыла —
Для удовлетворения пыла.
Жена-корова —
Для тихого семейного крова.
Жена-стерва —
Для раздражения нерва.
Жена-крошка —
Всего понемножку.
1930?
29
МУРЕ ШВАРЦ
Я — мерзавец, негодяй,
Сцапал книжку невзначай.
Ах, простите вы меня,
Я воришка и свинья.
Автор книжки — В. Оствальд.
Ухожу я на асфальт.
1930?
Стихотворения [232]
30
ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА ДЛЯ ГОСТЕЙ РИНЫ ЗЕЛЕНОЙ
Берите вилку в руку левую,
А нож берите в руку правую;
За стол садяся рядом с девою,
Не жмите ног ее своей ногой корявою.
1930?
31
Половых излишеств бремя
Тяготеет надо мной.
Но теперь настало время
Для тематики иной.
Моя новая тематика —
Это Вы и математика.
1930
32
ЖАЛОБА МАТЕМАТИКА
Надоело мне в цифрах копаться,
Заболела от них голова,
Я хотел бы забыть, что такое 17,
Что такое 4 и 2.
Я завидую зрению кошек:
Если кошка посмотрит на дом,
То она не считает окошек
И количество блох не скрепляет числом.
I. Стихотворения [233]
Так и я бы хотел, не считая,
Обозначить числом воробьиную стаю,
Чтобы бился и прыгал в тетрадке моей
Настоящий живой воробей.
1930?
33
САМОВОСХВАЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА
Это я описал числовые поля.
Анатомию точки, строенье нуля,
И в свои я таблицы занес
Подлеца, и пчелу, и овес,
И явление шерсть, и явление соль,
И явление летающую моль,
Я придумал число-обезьянку
И число под названием дом.
И любую аптечную склянку
Обозначить хотел бы числом.
Таракан, и звезда, и другие предметы —
Все они знаменуют идею числа.
Свечи, яблоки, гвозди, портреты —
Все, что выразить в знаках нельзя.
Мои числа — не цифры, не буквы.
Интегрировать их я не стал:
Отыскавшему функцию клюквы
Не способен помочь интеграл.
Я в количество больше не верю,
И, по-моему, нет величин;
И волнуют меня не квадраты, а звери, —
Потому что не раб я числа, а его господин.
1930?
Стихотворения [234]
34
ВАЛЕ ШВАРЦ
Вы вот, Валя, меня упрекали.
Я увлекся, а Вы... никогда.
Почему ж Вы меня презирали
И меня довели до суда?
До суда довели, до могилы,
До различных каких-то забот.
Между тем как любовь Неонилы
Мне была бы вернейший оплот.
Да, оплот. И, наверное,
Я теперь бы еще проживал,
И на этой планете неверное
Счастье я бы, наверно, узнал.
Между тем — поглядите — я нищий,
Я больной, и слепой, и хромой.
И зимы подступает и свищет
Замогильный и жалобный вой.
Что же, Валя, рассудим спокойно
И спокойно друг другу простим.
Ты, конечно, вела себя недостойно
И убила во мне ты мой стимул.
Да, убила, и я убивался
И не раз погибал, погибал.
Умирая, я вновь нарождался...
Но напрасно, друзья, я страдал!
1930?
I. Стихотворения [235]
35
Солнце скрылось за горой.
Роет яму подхалим во тьме ночной.
Может, выроет,
а может быть, и нет.
Все равно на свете счастья нет.
<1931>
36
ТАТЬЯНЕ НИКОЛАЕВНЕ ГЛЕБОВОЙ
Глебова Татьяна Николаевна! Вы
Не выходите у нас из головы.
Ваша маленькая ручка и Ваш глаз
На различные поступки побуждают нас.
Вы моя действительная статская советница,
Попечительница Харьковского округа!
Пусть протянется от Вас ко мне
взаимоотношений лестница,
Обсушите Вы меня, влюбленного и мокрого.
Вы, по-моему, такая интересная,
Как настурция небезызвестная!
И я думаю, что согласятся даже птицы
Целовать твои различные частицы.
Обо мне уж нечего и говорить —
Я готов частицы эти с чаем пить...
Для кого Вы — дамочка, для меня — завод,
Потому что обаяния от Вас дымок идет.
1931
Стихотворения [236]
37
Однажды красавица Вера,
Одежды откинувши прочь,
Вдвоем со своим кавалером
До слез хохотала всю ночь.
Действительно весело было!
Действительно было смешно!
А вьюга за форточкой выла,
И ветер стучался в окно.
1931?
38
ЛИДИИ
Потерял я сон,
Прекратил питание, —
Очень я влюблен
В нежное создание.
То создание сидит
На окне горячем.
Для него мой страстный вид
Ничего не значит.
Этого создания
Нет милей и краше.
Нету многограннее
Милой Лиды нашей.
Первый раз, когда я Вас
Только лишь увидел,
Всех красавиц в тот же час
Я возненавидел...
Кроме Вас.
I. Стихотворения [237]
Мною было жжение
У себя в груди замечено,
И с тех пор у гения
Сердце искалечено.
Что-то в сердце лопнуло,
Что-то оборвалось,
Пробкой винной хлопнуло,
В ухе отозвалось.
И с тех пор я мучаюсь.
Вспоминая Вас,
Красоту могучую.
Силу Ваших глаз.
Ваши брови черные.
Хмурые, как тучки.
Родинки — смородинки.
Ручки — поцелуйчики.
В диком вожделении
Провожу я ночь —
Проводить в терпении
Больше мне невмочь.
Пожалейте, Лидия,
Нового Овидия.
На мое предсердие
Капни милосердия!
Чтоб твое сознание
Вдруг бы прояснилося.
Чтоб мое питание
Вновь восстановилося.
1931?
Стихотворения [238]
39
ШУРОЧКЕ
(На приобретение новых туфелек)
О ножки-птички, ножки-зяблики,
О туфельки, о драгоценные кораблики,
Спасибо вам за то, что с помощью высоких каблучков
Вы Шурочку уберегли от нежелательных толчков.
1931?
40
ХВАЛА ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ
Хвала изобретателям, подумавшим о мелких и смешных
приспособлениях:
О щипчиках для сахара, о мундштуках для папирос,
Хвала тому, кто предложил печати ставить в удостоверениях,
Кто к чайнику приделал крышечку и нос.
Кто соску первую построил из резины.
Кто макароны выдумал и манную крупу.
Кто научил людей болезни изгонять отваром из малины.
Кто изготовил яд, несущий смерть клопу.
Хвала тому, кто первый начал называть котов и кошек
человеческими именами.
Кто дал жукам названия точильщиков, могильщиков и дровосеков,
Кто ложки чайные украсил буквами и вензелями,
Кто греков разделил на древних и на просто греков.
Вы, математики, открывшие секреты перекладывания спичек.
Вы, техники, создавшие сачок — для бабочек капкан,
Изобретатели застежек, пуговиц, петличек
И ты, создатель соуса-пикан!
Бирюльки чудные, — идеи ваши — мне всего дороже!
Они томят мой ум, прельщают взор...
Хвала тому, кто сделал пуделя на льва похожим
И кто придумал должность — контролер!
<1932>
I. Стихотворения [239]
41
ПОСЛАНИЕ,
БИЧУЮЩЕЕ НОШЕНИЕ ДЛИННЫХ ПЛАТЬЕВ И ЮБОК
Наташе Шварц
Веществ во мне немало,
Во мне текут жиры,
Я сделан из крахмала,
Я соткан из икры.
Но есть икра другая,
Другая, не моя,
Другая, дорогая...
Одним словом — твоя.
Икра твоя роскошна,
Но есть ее нельзя.
Ее лишь трогать можно,
Безнравственно скользя.
Икра твоя гнездится
В хорошеньких ногах,
Под платьицем из ситца
Скрываясь, как монах.
Монахов нам не надо!
Религию долой!
Для пламенного взгляда
Икру свою открой.
Чтоб солнце освещало
Вместилище страстей,
Чтоб ножка не увяла
И ты совместно с ней.
Дитя, страшися тлена!
Да здравствует нога,
Вспорхнувшая из плена
На вешние луга!
Стихотворения [240]
Шипит в стекле напиток.
Поднимем вверх его
И выпьем за избыток
Строенья твоего!
За юбки до колена!
За то, чтобы в чулках
Икра, а не гангрена
Сияла бы в веках!
Теперь тебе понятно
Значение икры:
Она — не для разврата,
Она — не для игры.
7 июня 1932
42
ШУРЕ ЛЮБАРСКОЙ
Верный раб твоих велений,
Я влюблен в твои колени
И в другие части ног —
От бедра и до сапог.
Хороши твои лодыжки,
И ступни, и шенкеля,
Твои ножки — шалунишки,
Твои пятки — штемпеля.
Если их намазать сажей
И потом к ним приложить
Небольшой листок бумажный —
Можно оттиск получить.
Буду эту я бумажку
Регулярно целовать
I. Стихотворения [241]
И, как белую ромашку
Буду к сердцу прижимать!
Я пойду туда, где роза
Среди дудочек растет,
Где из пестиков глюкоза
В виде нектара течет.
Эта роза — Ваше ухо:
Так же свернуто оно,
Тот же контур, так же сухо
По краям обведено.
Это ухо я срываю
И шепчу в него дрожа,
Как люблю я и страдаю
Из-за Вас, моя душа.
И различные созданья
Всех размеров и мастей
С очевидным состраданьем
Внемлют повести моей.
Вот платком слезу стирает
Лицемерная пчела.
Тихо птица вылетает
Из секретного дупла.
И летит она, и плачет,
И качает головой...
Значит, жалко ей, — и, значит,
Не такой уж я плохой.
Видишь, все в природе внемлет
Вожделениям моим.
Лишь твое сознанье дремлет,
Оставаяся глухим.
Муха с красными глазами
Совершает свой полет.
Стихотворения [242]
Плачет горькими слезами
Человеческий оплот.
Кто оплот? Конечно — Я.
Значит, плачу тоже я.
Почему я плачу, Шура?
Очень просто: из-за Вас.
Ваша чуткая натура
Привела меня в экстаз.
От экстаза я болею.
Сновидения имею,
Ничего не пью, не ем
И худею вместе с тем.
Вижу смерти приближенье.
Вижу мрак со всех сторон
И предсмертное круженье
Насекомых и ворон.
Хлещет вверх моя глюкоза!
В час последний, роковой
В виде уха, в виде розы
Появись передо мной.
21 апреля 1932
43
ФРУКТОВОЕ ПИТАНИЕ
Много лет тому назад жила на свете
Дама, подчинившая, себя диете.
В интересных закоулках ее тела
Много неподдельного желания кипело.
От желания к желанию переходя.
Родилось у ней красивое дитя.
I. Стихотворения [243]
Год проходит, два проходит, тыща лет —
Красота ее все та же. Изменений нет.
Несмотря, что был ребенок
И что он вместо пеленок
Уж давно лежит в гробу,
Да и ей пришлось не сладко: и ее снесли, рабу.
И она лежит в могиле, как и все ее друзья —
Представители феодализма — генералы и князья.
Но она лежит — не тлеет,
С каждым часом хорошеет,
Между тем как от князей
Не осталося частей.
— Почему же, — возопит читатель изумленный, —
Сохранила вид она холеный?!
Нам, читателям, не ясно,
Почему она прекрасна,
Почему ее сосуды
Крепче каменной посуды...
— Потому что пресловутая покойница
Безубойного питания была поклонница.
В ней микробов не было и нету
С переходом на фруктовую диету.
Если ты желаешь быть счастливой,
Значит, ты должна питаться сливой,
Или яблоком, или смородиной, или клубникой.
Или земляникой, или ежевикой.
Будь подобна бабочке, которая,
Соками питаяся, не бывает хворая.
Постарайся выключить из своего меню
Рябчика и курицу, куропатку и свинью!
Ты в себя спиртные жидкости не лей,
Молока проклятого по утрам не пей.
Свой желудок апельсином озаряя,
Привлечешь к себе ты кавалеров стаю.
И когда взмахнешь ты благосклонности флажком,
То захочется бежать мне за тобою петушком.
8 сентября 1932
Стихотворения [244]
44
ЧРЕВОУГОДИЕ
(Баллада)
Однажды, однажды
Я вас увидал.
Увидевши дважды,
Я вас обнимал.
А в сотую встречу
Утратил я пыл.
Тогда откровенно
Я вам заявил:
— Без хлеба и масла
Любить я не мог.
Чтоб страсть не погасла,
Пеките пирог!
Смотрите, как вяну
Я день ото дня.
Татьяна, Татьяна,
Кормите меня.
Поите, кормите
Отборной едой,
Пельмени варите,
Горох с ветчиной.
От мяса и кваса
Исполнен огня.
Любить буду нежно,
Красиво, прилежно...
Кормите меня!
Татьяна выходит,
На кухню идет,
Котлету находит
И мне подает.
I. Стихотворения [245]
...Исполнилось тело
Желаний и сил,
И черное дело
Я вновь совершил.
И снова котлета.
Я снова любил.
И так до рассвета
Себя я губил.
Заря занималась.
Когда я уснул.
Под окнами пьяный
Кричал: караул!
Лежал я в постели
Три ночи, три дня,
И кости хрустели
Во сне у меня.
Но вот я проснулся.
Слегка застонал.
И вдруг ужаснулся,
И вдруг задрожал.
Я ногу хватаю —
Нога не бежит,
Я сердце сжимаю —
Оно не стучит.
...Тут я помираю.
Зарытый, забытый,
В земле я лежу,
Попоной покрытый,
От страха дрожу.
Дрожу оттого я,
Что начал я гнить,
Стихотворения [246]
Но хочется вдвое
Мне кушать и пить.
Я пищи желаю,
Желаю котлет.
Красивого чаю.
Красивых конфет.
Любви мне не надо,
Не надо страстей,
Хочу лимонаду,
Хочу овощей!
Но нет мне ответа —
Скрипит лишь доска,
И в сердце поэта
Вползает тоска.
Но сердце застынет,
Увы, навсегда,
И желтая хлынет
Оттуда вода,
И мир повернется
Другой стороной,
И в тело вопьется
Червяк гробовой.
Октябрь 1932
45
СЛУЖЕНИЕ НАУКЕ
Я описал кузнечика, я описал пчелу,
Я птиц изобразил в разрезах полагающихся,
Но где мне силу взять, чтоб описать смолу
Твоих волос, на голове располагающихся?
I. Стихотворения [247]
Увы, не та во мне уж сила.
Которая девиц, как смерть, косила!
И я не тот. Я перестал безумствовать и пламенеть,
И прежняя в меня не лезет снедь.
Давно уж не ночуют утки
В моем разрушенном желудке.
И мне не дороги теперь любовные страданья —
Меня влекут к себе основы мирозданья.
Я стал задумываться над пшеном,
Зубные порошки меня волнуют,
Я увеличиваю бабочку увеличительным стеклом —
Строенье бабочки меня интересует.
Везде преследуют меня — ив учреждении и на бульваре —
Заветные мечты о скипидаре.
Мечты о спичках, мысли о клопах,
О разных маленьких предметах;
Какие механизмы спрятаны в жуках,
Какие силы действуют в конфетах.
Я понял, что такое рожки,
Зачем грибы в рассол погружены,
Какой имеют смысл телеги, беговые дрожки
И почему в глазах коровы отражаются окошки.
Хотя они ей вовсе не нужны.
Любовь пройдет. Обманет страсть. Но лишена обмана
Волшебная структура таракана.
О, тараканьи растопыренные ножки, которых шесть!
Они о чем-то говорят, они по воздуху каракулями пишут.
Их очертания полны значенья тайного...
Да, в таракане что-то есть.
Когда он лапкой двигает и усиком колышет.
А где же дамочки, вы спросите, где милые подружки,
Стихотворения [248]
Делившие со мною мой ночной досуг,
Телосложением напоминавшие графинчики, кадушки, —
Куда они девались вдруг?
Иных уж нет. А те далече.
Сгорели все они, как свечи.
А я горю иным огнем, другим желаньем —
Ударничеством и соревнованьем!
Зовут меня на новые великие дела
Лесной травы разнообразные тела.
В траве жуки проводят время в занимательной беседе.
Спешит кузнечик на своем велосипеде.
Запутавшись в строении цветка.
Бежит по венчику ничтожная мурашка.
Бежит, бежит... Я вижу резвость эту, и меня берет тоска,
Мне тяжко!
Я вспоминаю дни, когда я свежестью превосходил коня,
И гложет тайный витамин меня.
И я молчу, сжимаю руки,
Гпяжу на травы не дыша...
Но бьет тимпан! И над служителем науки
Восходит солнце не спеша.
1932
46
ОЗАРЕНИЕ
Все пуговки, все блохи, все предметы что-то значат.
И неспроста одни ползут, другие скачут.
Я различаю в очертаниях неслышный разговор:
О чем-то сообщает хвост, на что-то намекает бритвенный прибор.
Тебе селедку подали. Ты рад. Но не спеши ее отправить в рот.
Гляди, гляди! Она тебе сигналы подает.
1932
I. Стихотворения [249]
47
ЗАТРУДНЕНИЕ УЧЕНОГО
Наливши квасу в нашатырь толченый,
С полученной молекулой не может справиться ученый.
Молекула с пятью подобными соединяется,
Стреляет вверх, обратно падает и моментально уплотняется.
1932
48
НАУКА И ТЕХНИКА
Я ем сырые корешки,
Питаюсь черствою корою
И запиваю порошки
Водопроводною водою.
Нетрудно порошок принять,
Но надобно его понять.
Вот так и вас хочу понять я —
И вас, и наши обоюдные объятья.
1932
49
БУБЛИК
О бублик, созданный руками хлебопека!
Ты сделан для еды, но назначение твое высоко!
Ты с виду прост, но тайное твое строение
Сложней часов, великолепнее растения.
Тебя пошляк дрожащею рукой разламывает. Он спешит.
Стихотворения [250]
Ему не терпится. Его кольцо твое страшит,
И дырка знаменитая
Его томит, как тайна нераскрытая.
А мы глядим на бублик и его простейшую фигуру,
Его старинную тысячелетнюю архитектуру
Мы силимся понять. Мы вспоминаем: что же, что же,
На что это, в конце концов, похоже,
Что значат эти искривления, окружность эта, эти пятна?
Вотще! Значенье бублика нам непонятно.
1932
50
НЕБЛАГОДАРНЫЙ ПАЙЩИК
Когда ему выдали сахар и мыло,
Он стал домогаться селедок с крупой.
...Типичная пошлость царила
В его голове небольшой.
1932
51—52
БАСНИ
1. НЕСХОДСТВО ХАРАКТЕРОВ
Однажды Витамин,
Попавши в Тмин,
Давай плясать и кувыркаться
И сам с собою целоваться.
«Кретин!» —
Подумал Тмин.
1932
I. Стихотворения [251]
2. ДРУЖБА КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
Однажды Склочник
В Источник
Плюнул с высоты.
...С тех пор Источник с ним на «ты».
1932
53
КРАСАВИЦЕ, НЕ ЖЕЛАЮЩЕЙ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕРКАССКОГО МЯСА
Красавица, прошу тебя, говядины не ешь.
Она в желудке пробивает брешь.
Она в кишках кладет свои печати.
Ее поевши, будешь ты пищати.
Другое дело кролики. По калорийности они
Напоминают солнечные дни.
1932
54
ПОСЛАНИЕ АРТИСТКЕ ОДНОГО ИЗ ТЕАТРОВ
Без одежды и в одежде
Я вчера Вас увидал.
Ощущая то, что прежде
Никогда не ощущал.
Над системой кровеносной.
Разветвленной, словно куст,
Воробьев молниеносней
Пронеслася стая чувств
Стихотворения [252]
Нет сомнения — не злоба,
Отравляющая кровь,
А несчастная, до гроба
Нерушимая любовь.
И еще другие чувства,
Этим чувствам имя — страсть!
— Лиза! Деятель искусства!
Разрешите к Вам припасть!
1932
55
ПОСЛАНИЕ, ОДОБРЯЮЩЕЕ СТРИЖКУ ВОЛОС
Если птичке хвост отрезать —
Она только запоет.
Если сердце перерезать —
Обязательно умрет!
Ты не птичка, но твой локон —
Это тот же птичий хвост:
Он составлен из волокон.
Из пружинок и волос.
Наподобие петрушки
Разукрашен твой овал,
Покрывает всю макушку
Волокнистый матерьял.
А на самом на затылке
Светлый высыпал пушок.
Он хорошенькие жилки
Покрывает на вершок.
О, зови, зови скорее
Парикмахера Матвея!
I. Стихотворения [253]
Пусть означенный Матвей
На тебя прольет елей*.
Пусть ножи его стальные
И машинки застучат
И с твоей роскошной выи
Пух нежнейший удалят.
Где же птичка, где же локон,
Где чудесный птичий хвост,
Где волос мохнатый кокон,
Где пшеница, где овес?
Где растительные злаки,
Обрамлявшие твой лоб,
Где волокна-забияки,
Где петрушка, где укроп?
Эти пышные придатки,
Что сверкали час назад,
В живописном беспорядке
На полу теперь лежат.
И дрожит Матвей прекрасный,
Укротитель шевелюры,
Обнажив твой лоб атласный
И ушей архитектуру.
1932
56
ПОСЛАНИЕ, БИЧУЮЩЕЕ НОШЕНИЕ ОДЕЖДЫ
Меня изумляет, меня восхищает
Природы красивый наряд:
* Под елеем подразумевается одеколон.
Стихотворения [254]
И ветер, как муха, летает,
И звезды, как рыбки, блестят.
Но мух интересней,
Но рыбок прелестней
Прелестная Лиза моя —
Она хороша, как змея!
Возьми поскорей мою руку.
Склонись головою ко мне,
Доверься, змея, политруку —
Я твой изнутри и извне!
Мешают нам наши покровы,
Сорвем их на страх подлецам!
Чего нам бояться? Мы внешне здоровы,
А стройностью торсов мы близки к орлам.
Тому, кто живет как мудрец-наблюдатель,
Намеки природы понятны без слов:
Проходит в штанах обыватель,
Летит соловей — без штанов.
Хочу соловьем быть, хочу быть букашкой,
Хочу над тобою летать.
Отбросивши брюки, штаны и рубашку —
Все то, что мешает пылать.
Коровы костюмов не носят.
Верблюды без юбок живут.
Ужель мы глупее в любовном вопросе,
Чем тот же несчастный верблюд?
Поверь, облаченье не скроет
Того, что скрывается в нас,
Особенно если под модным покроем
Горит вожделенья алмаз.
...Ты слышишь, как кровь закипает?
Моя полноценная кровь!
I. Стихотворения [255]
Из наших объятий цветок вырастает
По имени Наша Любовь.
1932
57
БЫЛЬ, СЛУЧИВШАЯСЯ С АВТОРОМ В ЦЧО
(Стихотворение, бичующее разврат)
Пришел я в гости, водку пил,
Хозяйкин сдерживая пыл.
Но водка выпита была.
Меня хозяйка увлекла.
Она меня прельщала так:
«Раскинем с вами бивуак,
Поверьте, насмешу я вас:
Я хороша, как тарантас».
От страсти тяжело дыша,
Я раздеваюся, шурша.
Вступив в опасную игру,
Подумал я: «А вдруг помру?»
Действительно, минуты не прошло,
Как что-то из меня ушло.
Душою было это что-то.
Я умер. Прекратилась органов работа.
И вот, отбросив жизни груз.
Лежу прохладный, как арбуз.
Арбуз разрезан. Он катился,
Он жил — и вдруг остановился.
Стихотворения [256]
В нем тихо дремлет косточка-блоха,
И капает с него уха.
А ведь не капала когда-то!
Вот каковы они, последствия разврата.
1932
58
НАДКЛАССОВОЕ ПОСЛАНИЕ
(Влюбленному в Шурочку)
Неприятно в океане
Почему-либо тонуть.
Рыбки плавают в кармане.
Впереди — неясен путь.
Так зачем же ты, несчастный,
В океан страстей попал.
Из-за Шурочки прекрасной
Быть собою перестал?!
Все равно надежды нету
На ответную струю,
Лучше сразу к пистолету
Устремить мечту свою.
Есть печальные примеры —
Ты про них не забывай! —
Как любовные химеры
Привели в загробный край.
Если ты посмотришь в сад,
Там почти на каждой ветке
Невеселые сидят,
Будто запертые в клетки,
I. Стихотворения [257]
Наши старые знакомые
Небольшие насекомые:
То есть пчелы, то есть мухи,
То есть те, кто в нашем ухе
Букву Ж изготовляли.
Кто летали и кусали
И тебя, и твою Шуру
За роскошную фигуру.
И бледна и нездорова,
Там одна блоха сидит,
По фамилии Петрова,
Некрасивая на вид.
Она бешено влюбилась
В кавалера одного!
Помню, как она резвилась
В предвкушении ёго.
И глаза ее блестели,
И рука ее звала,
И близка к заветной цели
Эта дамочка была.
Она юбки надевала
Из тончайшего пике,
И стихи она писала
На блошином языке:
И про ножки, и про ручки,
И про всякие там штучки
Насчет похоти и брака...
Оказалося, однако,
Что прославленный милашка
Не котеночек, а хам!
В его органах кондрашка,
А в головке тарарам.
Стихотворения [258]
Он ее сменял на деву —
Обольстительную мразь —
И в ответ на все напевы
Затоптал ногами в грязь.
И теперь ей все постыло —
И наряды, и белье,
И под лозунгом «могила»
Догорает жизнь ее.
...Страшно жить на этом свете,
В нем отсутствует уют, —
Ветер воет на рассвете.
Волки зайчика грызут,
Улетает птица с дуба.
Ищет мяса для детей,
Провидение же грубо
Преподносит ей червей.
Плачет маленький теленок
Под кинжалом мясника.
Рыба бедная спросонок
Лезет в сети рыбака.
Лев рычит во мраке ночи,
Кошка стонет на трубе.
Жук-буржуй и жук-рабочий
Гибнут в классовой борьбе.
Все погибнет, все исчезнет.
От бациллы до слона —
И любовь твоя, и песни,
И планеты, и луна.
И блоха, мадам Петрова,
Что сидит к тебе анфас, —
Умереть она готова,
И умрет она сейчас.
I. Стихотворения [259]
Дико прыгает букашка
С беспредельной высоты.
Разбивает лоб бедняжка...
Разобьешь его и ты!
1932
59
НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ГЕНРИХА
Прочь воздержание. Да здравствует отныне
Яйцо куриное с желтком посередине!
И курица да здравствует, и горькая ее печенка,
И огурцы, изъятые из самого крепчайшего бочонка!
И слово чудное «бутылка»
Опять встает передо мной.
Салфетка, перечница, вилка —
Слова, прекрасные собой.
Меня ошеломляет звон стакана
И рюмок водочных безумная игра.
За Генриха, за умницу, за бонвивана,
Я пить готов до самого утра.
Упьемся, други! В день его выздоровленья
Не может быть иного времяпровожденья.
Горчицы с уксусом живительным составом
Душа его пусть будет до краев напоена.
Пускай его ногам, и мышцам, и суставам
Их сила будет прежняя и крепость их возвращена.
Последний тост за Генриха, за неугасший пыл.
За все за то, что он любил:
За грудь округлую, за плавные движенья,
За плечи пышные, за ног расположенье.
Стихотворения [260]
Но он не должен сочетать куриных ног с бесстыдной женской ножкой,
Не должен страсть объединять с питательной крупой.
Не может справиться с подобною окрошкой
Красавец наш, наш Генрих дорогой.
Всему есть время, и всему есть мера:
Для папирос — табак, для спичек — сера,
Для вожделения — девица,
Для насыщенья — чечевица!
1932
60
ПОСЛАНИЕ
Ольге Михайловне
Блестит вода холодная в бутылке,
Во мне поползновения блестят.
И если я — судак, то ты подобна вилке,
При помощи которой судака едят.
Я страстию опутан, как катушка,
Я быстро вяну, сам не свой,
При появлении твоем дрожу, как стружка...
Но ты отрицательно качаешь головой.
Смешна тебе любви и страсти позолота —
Тебя влечет научная работа.
Я вижу, как глаза твои над книгами нависли.
Я слышу шум. То знания твои шумят!
В хорошенькой головке шевелятся мысли,
Под волосами пышными они кишмя кишат.
Так в роще куст стоит, наполненный движеньем.
В нем чижик водку пьет, забывши стыд.
I. Стихотворения [261]
В нем бабочка, закрыв глаза, поет в самозабвеньи,
И все стремится и летит.
И я хотел бы стать таким навек,
Но я не куст, а человек.
На голове моей орлы гнезда не вили,
Кукушка не предсказывала лет.
Люби меня, как все любили,
За то, что гений я, а не клеврет!
Я верю: к шалостям твой организм вернется.
Бери меня, красавица, я — твой!
В груди твоей пусть сердце повернется
Ко мне своею лучшей стороной.
1932
61
ПОСЛАНИЕ
(На заболевание раком желудка)
Клёсе
Вчера представлял я собою роскошный сосуд,
А нынче сосут мое сердце, пиявки сосут.
В сосуде моем вместо сельтерской — яд,
Разрушен желудок, суставы скрипят...
Тот скрип нам известен под именем Страсть!
К хорошеньким мышцам твоим разреши мне припасть.
Быть может, желудок поэта опять расцветет,
Быть может, в сосуде появится мед.
Но мышцы своей мне красотка, увы, не дает, —
И снова в сосуде отсутствует мед.
Стихотворения [262]
И снова я весь погружаюсь во мрак...
Один лишь мерцает желудок-пошляк.
1932
62
ЛИДЕ
Человек и части человеческого тела
Выполняют мелкое и незначительное дело:
Для сравненья запахов устроены красивые носы
И для возбуждения симпатии — усы.
Только Вы одна и Ваши сочлененья
Не имеют пошлого предназначенья.
Ваши ногти не для поднимания иголок.
Пальчики — не для ощупыванья блох,
Чашечки коленные — не для коленок,
А коленки вовсе не для ног.
Недоступное для грохота, шипения и стуков,
Ваше ухо создано для усвоенья высших звуков.
Вы тычинок лишены, и тем не менее
Все же Вы — великолепное растение.
И когда я в ручке Вашей вижу ножик или вилку,
У меня мурашки пробегают по затылку.
И боюсь я, что от их неосторожного прикосновения
Страшное произойдет сосудов поранение.
Если же в гостиной Вашей, разливая чай,
Лида, Вы мне улыбнетесь невзначай, —
Я тогда в порыве страсти и смущения
Покрываю поцелуями печение,
И, дрожа от радости, я кричу Вам сам не свой:
— Ура, виват, Лидочка, Ваше превосходительство мой!
24 марта 1933
I. Стихотворения [263]
63
<ПОСВЯЩЕНИЕ>
Влюбленный в Вас,
Дарю алмаз.
Вариант: топаз.
26 марта 1933
64
«НАДПИСЬ НА КНИГЕ>
Танки и санки —
Лиде-хулиганке.
<Март? 1933>
65
ПРОЩАНИЕ
Два сердитые субъекта
расставались на Расстанной,
Потому что уходила
их любови полоса.
Был один субъект — девица,
а другой был непрестанно
Всем своим лицом приятным
от серженья полосат.
Почему же он сердился,
коль в душе его потухли
Искры страсти незабвенной
или как их там еще?
Стихотворения [264]
Я бы там на его месте
перестал бы дуть на угли,
Попрощался бы учтиво,
приподняв свое плечо.
Но мужчина тот холерик
был, должно быть, по натуре,
А девица — меланхолик,
потому что не орет.
И лицо его большое
стало темным от натуги,
Меланхолик же в испуге
стыдно смотрит на народ.
В чем же дело в этом деле?
Что за дьявольская сила
Их клещами захватила?
Почему нейдут домой?
На трамвай пятиалтынный,
попрощавшись, попросил он,
Но монеты больше нету,
лишь последняя — самой!
И решили эти люди,
чтобы им идти не скучно,
Ночевать у сей красотки,
и обоим — чтоб пешком.
И кончается довольно
примитивно этот случай,
И идут к ней на квартиру,
в переулок, на Мошков.
Ну а нам с тобой, поссорясь...
нам похожими вещами
Заниматься не придется —
мы с тобою мудрецы:
Если мы да при прощаньи
на трамвай да не достанем,
То пешком пойдем до дому.
Но — в различные концы.
Июнь 1933 I. Стихотворения [265]
66
ЧАРЛЬЗ ДАРВИН
Чарльз Дарвин, известный ученый,
Однажды синичку поймал.
Ее красотой увлеченный,
Он зорко за ней наблюдал.
Он видел головку змеиную
И рыбий раздвоенный хвост,
В движениях — что-то мышиное
И в лапках — подобие звезд.
«Однако, — подумал Чарльз Дарвин, —
Однако синичка сложна.
С ней рядом я просто бездарен.
Пичужка, а как сложена!
Зачем же меня обделила
Природа своим пирогом?
Зачем безобразные щеки всучила,
И пошлые пятки, и грудь колесом?»
...Тут горько заплакал старик омраченный.
Он даже стреляться хотел!..
Был Дарвин известный ученый.
Но он красоты не имел.
1933
67
СМЕРТЬ ГЕРОЯ
Шумит земляника над мертвым жуком,
В траве его лапки раскинуты.
Он думал о том, и он думал о сем, —
Теперь из него размышления вынуты.
Стихотворения [266]
И вот он коробкой пустою лежит,
Раздавлен копытом коня,
И хрящик сознания в нем не дрожит,
И нету в нем больше огня.
Он умер, и он позабыт, незаметный герой,
Друзья его заняты сами собой.
От страшной жары изнывая, паук
На нитке отдельной висит.
Гремит погремушками лук,
И бабочка в клюкве сидит.
Не в силах от счастья лететь,
Лепечет, лепечет она,
Ей хочется плакать, ей хочется петь,
Она вожделенья полна.
Вот ягода падает вниз,
И капля стучит в тишине,
И тля муравьиная бегает близ,
И мухи бормочут во сне.
А там, где шумит земляника,
Где свищет укроп-молодец,
Не слышно ни пенья, ни крика —
Лежит равнодушный мертвец.
1933
68
БОТАНИЧЕСКИЙ САД
В Ботанический сад заходил, —
Ничего не увидел в саду.
Только дождик в саду моросил,
Да лягушки кричали в пруду.
I. Стихотворения [267]
И меня охватила тоска,
И припал я к скамье головой.
Подо мной заскрипела доска,
Закачался камыш надо мной.
И я умер немного спустя,
И лежал с неподвижным лицом...
В Ботанический сад заходя,
Я не знал, что останусь в нем.
1933
69
КУЗНЕЧИК
Что выражает маленький кузнечик?
Каков его логический состав?
Он сделан из крючков, он сделан из колечек.
Он чем-то связан для меня со словом «костоправ».
Спина кузнечика горит сознаньем, светом,
Его нога сверкает, как роса.
С поджатыми коленками, пузатенький, он выглядит пакетом;
Разрежь его — и ты увидишь чудеса:
Увидишь ты двух рыбок, плавающих вместе,
Сквозную дырочку и крестик.
1933
70
ШУРОЧКЕ
У мухи нету перьев. Зачем же я не муха?!
Я тоже не имею ни перьев, ни хвоста.
Стихотворения [268]
И мягкости такой же мое большое брюхо,
Я так же, как и муха, не вью себе гнезда.
Когда бы при рождении
Я мухой создан был,
В сплошном прикосновении
Я жизнь бы проводил.
Я к вам бы прикасался,
Красавица моя,
И в обществе считался
Счастливчиком бы я.
И я бы не кусался, а только целовался.
1933
71
НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Т<АМАРЫ> Г<РИГОРЬЕВНЫ> Г<АББЕ>
Вот птичка жирная на дереве сидит.
То дернет хвостиком, то хохолком пошевелит.
Мой грубый глаз яйцеподобный
В ней видел лишь предмет съедобный.
И вдруг однажды вместо мяса, перьев и костей
Я в ней увидел выражение божественных идей.
Перемените же и Вы по случаю рождения
Ко мне пренебрежительное отношение.
1933?
72
ТАМАРЕ ГРИГОРЬЕВНЕ
Возле ягоды морошки
В галерее ботанической
I. Стихотворения [269]
На короткой цветоножке
Воссиял цветок тропический.
Это Вы — цветок, Тамара,
А морошка — это я.
Вы виновница пожара,
Охватившего меня.
1933?
73
СУПРУГЕ НАЧАЛЬНИКА
(На рождение девочки)
На хорошенький букетик
Ваша девочка похожа.
Зашнурована в пакетик
Ее маленькая кожа.
В этой крохотной канашке
С восхищеньем замечаю
Благородные замашки
Ее папы-негодяя.
Негодяя в лучшем смысле.
Негодяя, в смысле — гений.
Потому что много мысли
Он вложил в одно из самых
лучших своих произведений.
<1934>
Стихотворения [270]
74
ПЕРЕМЕНА ФАМИЛИИ
Пойду я в контору «Известий»,
Внесу восемнадцать рублей
И там навсегда распрощаюсь
С фамилией прежней моей.
Козловым я был Александром,
А больше им быть не хочу!
Зовите Орловым Никандром,
За это я деньги плачу.
Быть может, с фамилией новой
Судьба моя станет иной
И жизнь потечет по-иному,
Когда я вернуся домой.
Собака при виде меня не залает,
А только замашет хвостом,
И в жакте меня обласкает
Сердитый подлец управдом...
Свершилось! Уже не Козлов я!
Меня называть Александром нельзя.
Меня поздравляют, желают здоровья
Родные мои и друзья.
Но что это значит? Откуда
На мне этот синий пиджак?
Зачем на подносе чужая посуда?
В бутылке зачем вместо водки коньяк?
Я в зеркало глянул стенное,
И в нем отразилось чужое лицо.
I. Стихотворения [271]
Я видел лицо негодяя,
Волос напомаженный ряд,
Печальные тусклые очи.
Холодный уверенный взгляд.
Тогда я ощупал себя, свои руки,
Я зубы свои сосчитал,
Потрогал суконные брюки —
И сам я себя не узнал.
Я крикнуть хотел — и не крикнул.
Заплакать хотел — и не смог.
Привыкну, — сказал я, — привыкну.
Однако привыкнуть не мог.
Меня окружали привычные вещи,
И все их значения были зловещи.
Тоска мое сердце сжимала,
И мне же моя же нога угрожала.
Я шутки шутил! Оказалось,
Нельзя было этим шутить.
Сознанье мое разрывалось,
И мне не хотелося жить.
Я черного яду купил в магазине,
В карман положил пузырек.
Я вышел оттуда шатаясь.
Ко лбу прижимая платок.
С последним коротким сигналом
Пробьет мой двенадцатый час.
Орлова не стало. Козлова не стало.
Друзья, помолитесь за нас!
<1934>
Стихотворения [272]
75
МУХА
Я муху безумно любил!
Давно это было, друзья,
Когда еще молод я был,
Когда еще молод был я.
Бывало, возьмешь микроскоп,
На муху направишь его —
На щечки, на глазки, на лоб,
Потом на себя самого.
И видишь, что я и она,
Что мы дополняем друг друга,
Что тоже в меня влюблена
Моя дорогая подруга.
Кружилась она надо мной,
Стучала и билась в стекло,
Я с ней целовался порой,
И время для нас незаметно текло.
Но годы прошли, и ко мне
Болезни сошлися толпой —
В коленках, ушах и спине
Стреляют одна за другой.
И я уже больше не тот.
И нет моей мухи давно.
Она не жужжит, не поет,
Она не стучится в окно.
Забытые чувства теснятся в груди,
И сердце мне гложет змея,
И нет ничего впереди...
О муха! О птичка моя!
<1934>
I. Стихотворения [273]
76
ТАРАКАН
Таракан попался в стакан.
Достоевский
Таракан сидит в стакане.
Ножку рыжую сосет.
Он попался. Он в капкане.
И теперь он казни ждет.
Он печальными глазами
На диван бросает взгляд,
Где с ножами, с топорами
Вивисекторы сидят.
У стола лекпом хлопочет.
Инструменты протирая,
И под нос себе бормочет
Песню «Тройка удалая».
Трудно думать обезьяне.
Мыслей нет — она поет.
Таракан сидит в стакане.
Ножку рыжую сосет.
Таракан к стеклу прижался
И глядит, едва дыша...
Он бы смерти не боялся,
Если б знал, что есть душа.
Но наука доказала.
Что душа не существует,
Что печенка, кости, сало —
Вот что душу образует.
Есть всего лишь сочлененья,
А потом соединенья.
Стихотворения [274]
Против выводов науки
Невозможно устоять.
Таракан, сжимая руки,
Приготовился страдать.
Вот палач к нему подходит,
И, ощупав ему грудь,
Он под ребрами находит
То, что следует проткнуть.
И, проткнувши, на бок валит
Таракана, как свинью.
Громко ржет и зубы скалит,
Уподобленный коню.
И тогда к нему толпою
Вивисекторы спешат.
Кто щипцами, кто рукою
Таракана потрошат.
Сто четыре инструмента
Рвут на части пациента.
От увечий и от ран
Помирает таракан.
Он внезапно холодеет,
Его веки не дрожат...
Тут опомнились злодеи
И попятились назад.
Все в прошедшем — боль, невзгоды.
Нету больше ничего.
И подпочвенные воды
Вытекают из него.
Там, в щели большого шкапа,
Всеми кинутый, один,
Сын лепечет: «Папа, папа!»
Бедный сын!
I. Стихотворения [275]
Но отец его не слышит.
Потому что он не дышит.
И стоит над ним лохматый
Вивисектор удалой,
Безобразный, волосатый,
Со щипцами и пилой.
Ты, подлец, носящий брюки.
Знай, что мертвый таракан —
Это мученик науки,
А не просто таракан.
Сторож грубою рукою
Из окна его швырнет,
И во двор вниз головою
Наш голубчик упадет.
На затоптанной дорожке
Возле самого крыльца
Будет он, задравши ножки.
Ждать печального конца.
Его косточки сухие
Будет дождик поливать,
Его глазки голубые
Будет курица клевать.
<1934>
77
ИЗ ЖИЗНИ НАСЕКОМЫХ
В чертогах смородины красной
Живут сто семнадцать жуков,
Зеленый кузнечик прекрасный.
Четыре блохи и пятнадцать сверчков.
Стихотворения [276]
Каким они воздухом дышат!
Как сытно и чисто едят!
Как пышно над ними колышет
Смородина свой виноград!
<1934>
78
ЛИДЕ
(Надпись на книге)
Прими сей труд.
Он красотой напоминает чай.
Читай его.
Скорби.
Надейся.
Изучай.
Но пожалей несчастного меня,
Смиренного редактора Макара,
За то, что вместо пышного пучка огня
Я приношу тебе лишь уголь тлеющий из самовара.
Сей самовар — мое к вам отношение,
А уголь — данное стихотворение.
<1934>
79
ЛИДЕ
(Семейству Жуковых)
Среди белых полотенец
На роскошном тюфяке
Дремлет дамочка-младенец
С погремушкою в руке.
L Стихотворения [277]
Ровно месяц эта дама
Существует среди нас.
В ней четыре килограмма,
Это — девочка-алмаз.
А теперь, друзья, взгляните
На родителей Наташи:
У нее папаша — Митя,
Лидой звать ее мамашу.
Поглядите, поглядите
И бокалы поднимите.
26(?) апреля 1934
80
О НУЛЯХ
Приятен вид тетради клетчатой:
В ней нуль могучий помещен,
А рядом нолик искалеченный
Стоит, как маленький лимон.
О вы, нули мои и нолики,
Я вас любил, я вас люблю!
Скорей лечитесь, меланхолики,
Прикосновением к нулю!
Нули — целебные кружочки,
Они врачи и фельдшера,
Без них больной кричит от почки,
А с ними он кричит «ура».
Когда умру, то не кладите,
Не покупайте мне венок,
А лучше нолик положите
На мой печальный бугорок.
1934?
Стихотворения [278]
81
Маршаку позвонивши, я однажды устал.
И не евши, не пивши семь я суток стоял.
Очень было немило слушать речи вождя,
С меня капало мыло наподобье дождя.
А фальшивая Лида обняла телефон,
Наподобье болида закружилась кругом.
Она кисеи юлила, улещая вождя,
С ней не капало мыло наподобье дождя.
Ждешь единства —
Получается свинство.
1934?
82—88
ЖУК-АНТИСЕМИТ
Книжка с картинками для детей
1-Я КАРТИНКА
Птичка малого калибра
Называется колибри.
2-я КАРТИНКА
ЖУК
Ножками мотает.
Рожками бодает.
Крылышком жужжит:
— Жи-жи-жи-жи-жид! —
Жук-антисемит.
I. Стихотворения [279]
3-я КАРТИНКА
РАЗГОВОР ЖУКА С БОЖЬЕЙ КОРОВКОЙ
Божья коровка:
В лесу не стало мочи,
Не стало нам жит ья:
Абрам под каждой кочкой!
Жук:
— Да-с... Множество жидья!
4-я КАРТИНКА
ОСЕННЯЯ ЖАЛОБА КУЗНЕЧИКА
И солнышко не греет,
И птички не свистят.
Одни только евреи
На веточках сидят.
5-я КАРТИНКА
ЗИМНЯЯ ЖАЛОБА КУЗНЕЧИКА
Ох, эти жидочки!
Ох, эти пройдохи!
Жены их и дочки
Носят только дохи.
Дохи их и греют,
Дохи и ласкают,
Кто же не евреи —
Те все погибают.
б-я КАРТИНКА
РАЗГОВОР ЖУКА С БАБОЧКОЙ
Жук:
— Бабочка, Бабочка, где же ваш папочка?
Стихотворения [280]
Бабочка:
— Папочка наш утонул.
Жук:
— Бабочка, Бабочка, где ж ваша мамочка?
Бабочка:
— Мамочку съели жиды.
7-я КАРТИНКА
СМЕРТЬ ЖУКА
Жук (разочарованно):
Воробей — еврей.
Канарейка — еврейка.
Божья коровка — жидовка.
Термит — семит,
Грач — пархач!
(Умирает.)
<1935>
89—96
1
Невероятное событие!
«Женитьба» Гоголя на днях появится впервые на экране.
Участвуют: невеста, паровоз, шампанское, купцы, чиновники,
дворяне.
По ходу действия: скандалов — два,
эмоций — восемь,
остроумных положений — шесть.
А в общем, откровенно говоря,
всего не перечесть.
Спешите видеть для того, чтобы понять,
Чтобы самим все перечувствовать и все перестрадать.
I. Стихотворения [281]
2
Подколесин:
— Вот как начнешь подумывать да на досуге размышлять.
То видишь наконец, что точно, — надобно жениться.
Женатый человек способен жизни назначенье понимать,
И для него все это как-то движется, все испаряется,
и как-то этак все стремится.
...Жениться. Обязательно жениться!
3
Почетный зритель, обрати внимание
На наших женихов. Роскошное собрание.
Вот перед вами Балтазар Жевакин.
Достойнейший моряк, ревнитель женской полноты.
В теченье многих лет не состоя в законном браке.
Он жаждет состоять... Увы. Мечты... мечты.
Он ежедневно у окна стоит с подзорною трубою
И вдаль глядит, всегда готовый к бою.
4
Анучкин Никанор Иваныч.
Отменнейший жених. Военный!
Прекрасно сохранился.
Свеж, хотя уже в летах.
Взгляните на него.
Какие усики! Какой мундир отменный.
Как жалобно звенит
гитара у него в руках.
5
Прошу вас обратить внимание
На эту сцену переодевания...
Стихотворения [282]
Красавиц одевать —
нелегкая работа.
Не просто лишь затягиватъ, не просто шнуровать,
А всё с таким расчетом.
Чтобы, в невесте сохранив приятное для глаза изобилие.
Придать ее фигуре стройность лилии.
6
Вот эти граждане бегущие спешат навстречу императору,
Который в первый раз поедет в поезде пред верноподданной
толпой.
(Удача редкая, что нашему счастливцу-оператору
Впервые удалось заснять его со всей его семьей.)
А вот техническое чудо.
Наукой предназначенное для езды.
Сия великолепная посуда
Приводится в движение посредством кипячения воды.
7
Всё перечисленное вы
увидите в картине,
Которая еще не шла доныне.
На днях пойдет.
Спешите видеть.
Чтобы добро понять и зло возненавидеть.
8
Подколесин:
— Вот как начнешь подумывать да на досуге размышлять,
То видишь, что женатый человек тяжелое к себе
на спину взваливает бремя.
I. Стихотворения [283]
...А впрочем, может быть, наскучил вам?
Тогда не стану продолжать.
Позвольте...
как-нибудь
в другое время...
1936
97
«ПЕСНЯ ЮНЫХ ПИОНЕРОВ>
Дедушка плачет.
Бабушка плачет:
— Милые дети.
Страшно жить на свете.
Я не бабка,
Я не дед —
Мне всего двенадцать лет.
Не пугаюсь, не дрожу.
Кверху голову держу —
Вот я какой!
Кролик боится,
Заяц боится.
Жалуется утка:
Жить на свете жутко.
Я не утка,
Раз-два-три.
Мне не жутко,
Раз-два-три.
Улыбаюсь,
Посмотри:
Вот я какой!
1936
Стихотворения [284]
98
«ПЕСНЯ ЮННАТОВ>
Налево и направо —
Куда ни глянешь ты:
Деревья, птицы, травы,
И звери, и кусты.
Растут, поют, летают,
Шуршат, рычат, свистят.
Еду себе хватают
И знать нас не хотят.
А мы — постой, постой-ка,
А мы вас знать хотим.
И мы вас втянем в стройку,
В товарищи включим.
Рычи (но там, где надо),
Цвети сто тысяч раз, —
Для этого юннаты
И изучают вас.
1936
99
«ПЕСНЯ ЦЫГАНА»
Купил я дугу, колокольчик и кнут,
Уздечко и колечко, ведро и хомут.
Чабары, чавары...
Начистил уздечко, начистил хомут.
В сапог я засунул новенький кнут.
Чабары, чавары...
I. Стихотворения [285]
В ведерко набрал я — коня напоить.
Вот только коня позабыл я купить.
Чабары, чавары...
1936
100
<МАРШ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ>
Когда юннат, сачок в руке сжимая,
В лесную чащу лезет наугад.
Он непременно
кого-нибудь поймает.
А если нет — какой же он юннат!
Глупец дрожит от страха и трясется,
Коровку божью трогая рукой.
Юннат спокоен,
он весело смеется.
Он рад, встречаясь даже со змеей.
Сачком, лопатой, сеткою, киркою,
Крючком и крепкой удочкой своей
Умей бороться,
открывать и строить.
И побеждать врагов своих умей!
1936
101
Бойся, Заболоцкий,
Шума и похвал:
Уж на что был Троцкий,
А и тот пропал.
1936
Стихотворения [286]
102—112
В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ
(Мысли об искусстве)
1. ПОРТРЕТ ВОЕННОГО
Через плечо висит на перевязи шпага, а на талии
Крючками укреплен широкий пояс из тисненой кожи.
Рука военного покоится на пистолетном ложе,
Украшенном резным изображением баталии.
2. ПОРТРЕТ ИАКОВА I
(работы Рубенса)
Король Британии сидит на облаке, ногою левой попирая мир.
Над ним орел, парящий в воздухе, сжимает молнии в когтях.
Два гения — один с огромной чашей.
Похожею на самовар,
Другой — с жезлом серебряным в руках —
Склоняются к ногам непобедимого владыки.
Внизу вдали идут в цепях закованные пленники.
3. НИМФЫ
(картина Абрагама ван Кейленборха)
В обширном гроте, в глубине его, сидят на камнях
две полунагие нимфы.
В корзине возле них лежит колчан со стрелами и лук.
Держа в руках ореховую ветку, третья нимфа
Взлетает вверх на каменную глыбу.
Покрытую малиновою драпировкой.
Тут же, на переднем плане, — две собаки.
Одна из них схватила кость, другая — лает.
Через широкое отверстие, проделанное в гроте,
открывается пейзаж.
I. Стихотворения [287]
Вдали синеют горы, ближе — озеро сверкает и ручей.
В ручье купаются еще четыре нимфы, из которых две сидят
верхом на спинах у других.
4. ПЬЯНИЦА
(картина Красбека)
В убогой горнице перед пылающим камином
Сидит на стуле человек.
Его кровать, покрытая когда-то балдахином,
Стоит в углу, забытая навек.
Сидящий трубку курит и мечтает.
Прилежно глядя на огонь.
Слуга вино ему из глиняной посуды наливает,
Забрав стакан в широкую ладонь.
Мужик схватил другой стакан и смотрит.
Через стекло любуяся вином...
Слуга молчит, желая приободрить хозяина.
5. ПРИТЧА О РАБОТНИКАХ В ВИНОГРАДНИКЕ
(картина художника Конинка)
В просторном помещении со сводами сидит хозяин виноградника.
Его изобразил художник в виде пожилого человека.
Носящего тюрбан из полотна и черную одежду.
Хозяин смотрит на работника и делает рукою жест,
изображающий отказ.
Работник не уходит. Он, как бы глазам своим не веря.
Глядит на собственную руку, на ладонь,
Куда хозяин положил монету,
Награду скудную за нерадивый труд.
Товарищи работника — их четверо — поспешно удаляются,
почти бегут
Направо к выходу, где в темном отдаленье виднеется
еще одна фигура —
Фигура старика в высокой красной шапке и с кошельком в руках.
Он улыбаяся укладывает деньги в кошелек.
Стихотворения [288]
А рядом с ним с раскрытой книгою стоит
Конторщик молодой и стоя что-то пишет в книге.
б. ХУДОЖНИКА ЗАПАМЯТОВАЛ
В раскинутой под деревом палатке
Сидят за столиком две дамы и солдат.
Вокруг разбросаны тюки и седла в беспорядке.
В углу бочонки с порохом стоят.
7
Среди фигурок можно различить военачальника
в расшитой епанче,
Его коня, его немногочисленную свиту.
Его врагов — двух всадников, съезжающих с холма
в цветущую долину.
У одного из них мы видим на плече
Висящую на ленте мандолину.
8. ОПЯТЬ ВОЕННОЕ
На всем скаку из пистолета
Стреляет в пешего солдат.
На нем винтовочка надета
И бомбы-дьяволы висят.
А рядом труп кавалериста...
В ушах звенит призыв горниста
9. ОПИСАНИЕ ЕЩЕ ОДНОЙ КАРТИНЫ
А. Мадонна держит каменный цветок гвоздики
В прекрасной полусогнутой руке.
Младенец, сидя на земле с букетом повилики,
Разглядывает пятнышки на мотыльке.
I. Стихотворения [289]
Мадонна в алой мантии и синей ризе,
И грудь ее полуобнажена.
У ног младенца поместились на карнизе
Разрезанный лимон и рюмочка вина.
Б. В одной руке младенец держит ножик,
В другой — разрезанный лимон.
Козленок с парою коротких ножек
Стоит невдалеке, петрушкою пленен.
Одетый в желтую одежду
И с черной меховою шапкою на голове,
Стоит Иосиф, как невежда,
Читая книжечку, раскрытую в траве.
В. В желтой одежде Иосиф
С шапкою черной в руке.
Цепь золотую отбросив.
Молча стоит вдалеке,
Радуясь свежей обновке —
В шитых цветах епанча
(Сзади висят драпировки,
Бархат, сукно и парча,
Книга раскрыта большая.
Крупный разрезан лимон),
Левой ногой попирая
Ящик, рога и баллон.
10. НУ И НУ!
В пурпуровой мантии в черной норе,
В пещере на камне устроился Лот.
А рядом — одна из его дочерей
Сидит, оголивши живот.
Другая — вино виноградное льет
Из чаши стеклянной в сосуд золотой,
И голую ногу к нему на колени
Она, прижимаясь, кладет.
Стихотворения [290]
Вдали погибающий виден Содом,
Он пламенем красным объят.
И в красных рубахах, летя над костром,
Архангелы в трубы трубят.
11. ВЫВОДЫ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
1. Эффект полуденного освещения
Сулит художнику обогащение.
2. Разврата плечи белые
На вид для взгляда таковы,
Что заставляют взоры смелые
Спускаться ниже головы.
3. У одного портрета
Была за рамой спрятана монета.
Немало наших дам знакомых
Вот так же прячут насекомых!
1936
113—115
<ТРИ ПЕСНИ ИЗ К/Ф «НА ОТДЫХЕ»>
1. «ПЕСНЯ ГЕРОЯ>
Под солнцем и ветром, где дышится шире
Я песню о радости нашей пою.
И девушки, самые лучшие в мире
Подхватят ту песню мою.
О дальних дорогах и синем просторе,
О том, как прекрасны пути впереди
Пусть плещется песня, как Черное море
И радость бушует в груди.
I. Стихотворения [291]
2. «РОМАНС ГЕРОИНИ>
Был такой веселый, милый.
Как смеялся, как смотрел в глаза.
Как нас море свежестью поило,
Это даже трудно рассказать.
Не звала его я, не искала,
Набежал, как на берег прибой.
Мне казалось, расступились скалы
Когда он позвал меня с собой.
3. «БАЛЛАДА О ДЖОНЕ И ДЖЕКЕ>
Смотрите и слушайте представление
Полное тайного значения!
Разбойник знаменитый,
Морской разбойник Джон
Красавицей сердитой
Был в сердце поражен.
Соперник был у Джона
Великий человек.
Трубой вооруженный.
Морской ученый Джек.
О, чудеса науки —
Смотрите, схвачен Джон!
Связав злодею руки,
Ученый сел на трон.
<1936>
Стихотворения [292]
116
ВЕРОЧКЕ
Верочка, Верочка!
Ваше кокетство
Нужно бы
Попридержать.
Вы применяете
Средства,
Коих нельзя
Применять.
Вы покоряете
Сразу
Всех окружающих
Вас.
Сеете страсть,
Как заразу,
Будучи сами —
Алмаз.
<1937>
117
БОЛЬНОМУ
В глазах как бы моргание,
В спине недомогание,
В гортани клокотание,
В глазах непонимание.
1937
I. Стихотворения [293]
118
Нежный лобик в преизбытке
Покрывают волоса.
На лице, как на открытке,
Нарисованы глаза.
Кто такая эта дуся,
Статуэточка точь-в-точь?
Ох, боюся! Ох, боюся:
Это Буревого дочь.
1937
119
Графин с ледяною водою.
Стакан из литого стекла.
Покрыт пузырьками пузырь с головою,
И вьюга меня замела.
Но капля за каплею льется —
Окно отсырело давно.
Водою пустого колодца
Тебя напоить не дано.
Подставь свои губы под воду —
Напейся воды из ведра.
Садися в телегу, в подводу —
Кати по полям до утра.
Душой беспредельно пустою
Посметь ли туман отвратить
И мерной водой ключевою
Холодные камни пробить?
1937
Стихотворения [294]
120
Птичка безрассудная
С беленькими перьями,
Что ты все хлопочешь,
Для кого стараешься?
Почему так жалобно
Песенку поешь?
Почему не плачешь ты
И не улыбаешься?
Для чего страдаешь ты,
Для чего живешь?
Ничего не знаешь ты, —
Да и знать не надо.
Все равно погибнешь ты,
Так же, как и я.
1937
121
Неуловимы, глухи, неприметны
Слова, плывущие во мне, —
Проходят стороной — печальны, бледны, —
Не наяву, а будто бы во сне.
Простой предмет — перо, чернильница, —
Сверкая, свет прольют иной.
И день шипит, как мыло в мыльнице.
Пленяя тусклой суетой.
Чужой рукой моя рука водила:
Я слышал то, о чем писать хотел,
Что издавало звук шипенья мыла, —
Цветок засохший чистотел.
1937
I. Стихотворения [295]
122—132
<ФРАГМЕНТЫ>
1
Я числа наблюдаю чрез сильнейшее стекло
И вижу тайные проходы, коридоры,
Двойные числа Отделенных друг от друга.
Я положил перед собой таблицу чисел
И ничего не мог увидеть — и тогда
Я трубку взял подзорную и глаз
Направил свой туда, где, по моим
Предположениям, должно было пройти
Число неизреченного...
2
Великие метаморфические силы
Присутствуют в предметах странной формы.
Их тайное прикосновение еще не ощущает наблюдатель
В своем невидимом жилище с красной крышей.
Разглядывая небо в телескопы.
Но незначительны оптические средства.
Все превращения безмолвно протекают.
Да сократится расстояние меж нами,
Шаги могущества я слышу в вашем шаге.
И твердь простерла свой покров над лугом —
Через него меня никто не видит.
3
Рассмотрим вещи те, что видим пред собою:
Что на столе лежит,
Стихотворения [296]
Что к потолку подвешено над головою,
Чернильницу с чернилами, перо холодное стальное,
И ножницы блестящие, и тусклые ключи,
И лампу пустотелую стеклянную...
4
И пробудилося в душе его стремление
Узнать число частей животного и их расположение,
Число и способ прикрепления одних к другим.
Все это он исследовал, вскрывая
Животных — мертвых и живых...
5. Я ЧИСЛА ПЕРЕНОШУ С МЕСТА НА МЕСТО
С места на место
Числа простые
Он переносит
Зерна пустые.
б
Тихо горели свечи.
Вышла ты в зимний сад.
В белые голые плечи
Снег и крупа летят.
7
Борис Чирков, тебе
Исполнилось и тридцать и четыре.
Зенита ты достиг.
Тебе в твоей квартире...
I. Стихотворения [297]
8
Воображения достойный мир передо мною расстилался.
Лапками своими задумчиво кузнечик шевелил.
Я плакал в тишине, и я смеялся.
9
Четырехгранный красный стебель мяты
И пятизубчатый цветок ее,
В колосья собранный...
10
Плодов и веток нумерация,
Когда рассыплет лист акация,
Плодов места определив,
Места для птиц, места для слив,
Отметит мелкие подробности,
Неуловимые для глаза,
Стволы и лист разбив на области
Четыре раза...
11
Осенний тетерев-косач,
Как бомба, вылетает из куста.
За ним спешит глухарь-силач,
Не в силах оторваться от листа.
Цыпленок летний кувыркается от маленькой дробинки
И вниз летит, надвинув на глаза пластинки.
Перелетая с севера на юг,
Всю жизнь проводит он под пологом ветвей,
Но, по утрам пересекая луг,
Он вспоминает дни забытых глухарей.
1935—1937
[298]
II
Поэмы
[299]
133
ВУЛКАН И ВЕНЕРА
(Мифологическое)
1
Спускался вечер. Жук, летая.
Считал улепетнувших мух.
И воробьев крикливых стая
Неслася в гору во весь дух.
Вулкан опушку пересек.
На ней стоял высокий домик двухэтажный.
Шел из трубы, клубясь, дымок.
Из-за забора лаял пес отважный.
2
Венера в комнате лежала.
Она лежала у окна.
Под ней — постель и покрывало.
А ночь уже была темна.
Вверху пустое небо блещет.
Светильник в комнате чадит.
Огонь, как бабочка, трепещет.
Венера смотрит и молчит.
Вулкан и Венера [301]
Она любуется звездою.
Звезда мерцает и горит.
Венера белою рукою
Открыть окошечко спешит.
3
Венера ручкой замахала.
— Уйди, уйди! — она кричит. —
Гони скорей его, нахала, —
Она служанке говорит.
Он смело лезет прямо в окна.
Секунды нет — а он уж здесь.
Венера дергает волокна
И говорит ему: — Не лезь!
4
Вулкан-красавец — с нею рядом.
Он за руку ее берет,
И под его тяжелым взглядом
Она дышать перестает.
Ее огонь желанья душит.
Рукой служанке давши знак.
Она сама светильник тушит,
И комнату объемлет мрак.
Служанка, выскользнув за двери,
Спешит оставить их вдвоем,
Дабы они при ней, как звери,
Срамной не начали содом.
Рукою жадною хватает
Вулкан красавицу за грудь.
Она его отодвигает,
Иной указывая путь.
Поэмы [302]
5
Проходит час, другой проходит.
Опять открылося окно,
И в эту дверь Вулкан уходит —
Ему домой пора давно.
И вот она опять одна.
Во мраке ночи — тишина.
6
Еще немного. Ветер жгучий
В окно открытое подул.
На небе из тяжелой тучи
Огонь малиновый сверкнул.
Как речка с многими ручьями,
Из тучи молния текла.
Весь мир был освещен свечами
На краткий миг. И снова — мгла.
Вдруг ветра бег остановился,
И присмирели ветви вдруг.
И гром огромный прокатился,
В сердца зверей вселив испуг.
Поверхность вод пошла кругами,
И капли первые дождя
В листы ударили руками,
Кусты и травы бередя.
И дождь пошел холодный, крупный,
И горсти капель мчались вниз
И крепость листьев неприступных
Громили с грохотом в карниз.
Во мраке темные деревья
Стучали сучьями в стекло,
(Мифологическое) [303]
И туч свинцовые кочевья
Холодным ветром понесло.
И гром гремел, сады украсив.
Свой гнев смиряя иногда.
И ледяной струей лилася
Из труб железная вода.
7
Пучками молнии украшенный,
Казалось, двигался с трудом
Многоэтажный, многобашенный
На четырех колесах гром.
И капли, силой натяжения
Приобретая форму шара,
Летели вниз, призвав кружение.
Под ослабевшие удары.
Дул ветер, жалкий и бескровный,
И дождик шел, спокойный, ровный.
8
Вулкану летний лес казался
Сооруженьем из воды и серебра.
Он шел и листьев чуть касался.
Там чижик шумно умывался.
Проникнув в куст до самого нутра.
И капли, собранные в ветки,
Висели прямо над землею.
Паук дремал в алмазной сетке.
Мохнатой шевеля ногою.
1937
Поэмы [304]
134
ПУЧИНА СТРАСТЕЙ
(Философская поэма)
ПРОЛОГ
Вот вам бочка —
Неба дно.
Вот вам точка —
Вот окно.
Это звезд большая кружка,
А над ней
Нарисована игрушка —
Туз червей.
И сверкают в полумраке
Стекла — множители звезд.
Телескопы, как собаки,
У кометы ищут хвост.
1
Я стою в лесу, как в лавке.
Среди множества вещей.
Вижу смыслы в каждой травке,
В клюкве — скопище идей.
На кустах сидят сомненья
В виде черненьких жуков,
Раскрываются растенья
Наподобие подков.
И летят ко мне навстречу.
Раздуваясь от жары.
Одуванчики, как свечи,
Как воздушные шары.
Надо мной гудит машина —
Это шмель ко мне летит.
Пучина страстей [305]
И шумит, шумит осина,
О прошедшем говорит.
И тебя, моя Наташа,
Вижу я в одном цветке.
У тебя на шее кашка
И настурция в руке.
Я сажусь и забываю
Все, что было до меня,
И тихонько закрываю
Очи, полные огня.
2
Лампа — ласточка терпенья.
Желудь с веткою высок.
В деревах столпотворенье,
Под водой лежит песок.
Над водой последний кормчий
Зажигает свой фонарь.
Птицы злей, тюленя зорче,
Вылезает пономарь.
Распустив кусты и ветки,
На крыльце сидит павлин.
На окошке вместо клетки
Повисает георгин.
Рядом — мраморная ваза
И развесистый каштан.
Соловьем пропета фраза
О пришествии мидян.
Наклонил репейник шапку,
Где пчела шипит, как змей,
Шмель, захваченный в охапку,
Выползает из стеблей.
На дубовую вершину
Сели птица с мотыльком,
Превосходную картину
Составляючи вдвоем.
Дама, сняв свои пеленки,
Сделав доступ ветерку,
Поливает из воронки
Племя листьев табаку.
Прямо к дереву из мрака
Лошадь белая бежит.
Это конная атака —
Кавалерия спешит.
Налетают командиры,
Рубят травы и цветы,
На лошадках; их мундиры
Полны высшей красоты.
Вот уже последний конный,
Догоняя их, спешит,
И опять низкопоклонный
Ветер травку шевелит...
Рядом с маленькой постройкой,
С невысокою стеной
Ходит с мутною настойкой
Человечек холостой.
3
Где под вывеской железной
Крест и ножницы висят,
Где на стуле бесполезный
Золотой лежит наряд,
Там внизу, в траве широкой,
В глубине стеблей сквозных,
(Философская поэма) [307]
Жук сидит по воле рока.
Притаившийся, как мних.
И в цветка дворец открытый
Забирается с утра.
Словно в банку иль в корыто.
Золотая мошкара.
4
В замке с белыми стенами
За оградок) сквозной,
Окруженною кустами.
Гусь спешит на водопой.
В той гостинице Елена,
Распустив свои власы
На роскошные колена,
Испугалася осы.
Спрятав крылья между плечик
И коленки подобрав.
На цветке сидит кузнечик —
Музыкант и костоправ.
На груди его широкой
Черный бархатный камзол.
Он под яблоней высокой
Стебелек себе нашел.
И к нему Мария-муха,
Задыхаяся, летит.
И, целуя его в ухо
(Непотребная старуха.
Но красавица на вид),
И, целуя его в ухо,
Задыхаяся, кричит:
— Дайте мне, — кричит Мария,
Дайте мяса и костей,
Дайте ключ времен Батыя
К отысканию путей!
И, решетку распирая,
Отворивши ворота,
Он заходит в двери рая,
Позабыв свои лета...
Виснет ветвь с орехом грецким,
Камень падает на дно.
В светлом платьице немецком
Вылетает жук в окно.
Позабыв свою тревогу
И сомнений целый ряд,
Выбегает на дорогу
Барабанщиков отряд.
— Здравствуй, здравствуй, — закричали
Барабанщики ему. —
Мы в конце, а вы в начале
Прибегаете к уму!
И тогда лесная челядь —
Комары и мошкара, —
Закричавши, налетели
Громко с криками «ура».
И в роскошном отдаленьи,
Шесть коленок вверх подняв,
Замирает в восхищеньи
Знаменитый костоправ.
5
Геометрия — причина
Прорастания стеблей.
Перед бабочкой — пучина
Неразгаданных страстей.
(Философская поэма) [309]
Все, что видел я и слышал,
Перевернуто в уме.
...И, когда на люди вышел,
Не мечтал он о суме.
Легким циркулем прекрасным
Очертивши круг в цветке.
Он его платочком красным
Сделал в Катиной руке...
Тигры воют на поляне,
Стрекоза гремит, как гром, —
Это русские древляне
Заколачивают дом,
Это почерком превратным
Посетитель искушен,
Это вечер необъятный
Прихорашивает жен...
Поручители смеялись.
Банку пороха взорвав,
Потому что испугались
Стрекоза и костоправ.
ФИНАЛ
Как букварь читает школьник,
Так читаю я в лесу.
Вижу в листьях — треугольник,
Колесо ищу в глазу.
Вижу, вижу, как в идеи
Вещи все превращены.
Те — туманней, те — яснее,
Как феномены и сны.
Возникает мир чудесный
В человеческом мозгу.
Поэмы [310]
Он течет водою пресной
Разгонять твою тоску.
То не ягоды не клюквы
Предо мною встали в ряд —
Это символы и буквы
В виде желудей висят.
На кустах сидят сомненья
В виде галок и ворон,
В деревах — столпотворенье
Чисел, символов, имен.
Перед бабочкой пучина
Неразгаданных страстей...
Геометрия — причина
Прорастания стеблей.
1937
[311]
Ill
Коллективное
[313]
135
Залетела в наши тихие леса
Полосатая, усатая оса.
Укусила бегемотицу в живот.
Бегемотица в инфаркте — вот умрет.
А оса уже в редакции кружится,
Маршаку всадила жало в ягодицу.
И Олейников от ужаса орет,
Убежать на Невский Шварцу не дает.
Искусала бы оса всех не жалея,
Если б не было здесь автора Корнея.
Он ногами застучал,
На осу он накричал:
«Улетай-ка вон отсюда ты, оса,
Убирайся в свои дикие леса!»
А бегемотица лижет живот.
Он скоро, он скоро, он скоро пройдет.
1929
III. Коллективное [315]
136
Улица Чайковского,
Кабинет Домбровского.
На столе стоит коньяк.
За столом сидит Маршак.
— Подождите, милый друг.
Несколько минуток.
Подождите, милый друг,
Уложу малюток.
Не хотят малютки спать,
Залезают под кровать...
Колыбельная пропета.
Засыпает Генриетта.
В одиночестве Маршак
Допивает свой коньяк.
В очень поздний час ночной
Злой, как аллигатор,
Укатил к себе домой
Бедный литератор.
Улица Чайковского,
Кабинет Домбровского.
На столе стоит портвейн,
За столом сидит Вайнштейн.
— Подождите, милый друг,
Несколько минуток.
Подождите, милый друг,
Уложу малюток.
В одиночестве Вайнштейн
Допивает свой портвейн.
Коллективное [316]
И всю ночь один сидел
Старичок наркоминдел.
1931
137
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Ив. Ив. Грекову
Я вошел вчера в больницу
С поврежденною рукой,
Незнакомые мне лица
Покачали головой;
Записали, завязали
Руку бледную мою,
Положили в белом зале
На какую-то скамью.
Заливался я слезами
И мучений ожидал,
И печальными глазами
На конечности взирал.
Думал я: «Конец ручонке, —
Я отныне инвалид,
Засмеют меня девчонки
За унылый внешний вид».
Вдруг профессор в залу входит
С острым ножиком в руке.
Лучевую кость находит
Локтевой невдалеке.
Плечевую удаляет,
Улыбаясь и шутя.
И берцовой заменяет.
Быстро к локтю привинтя.
Молодец профессор Греков,
Исцелитель человеков!
III. Коллективное [317]
Он умеет все исправить —
Хирургии властелин! —
Честь имеем Вас поздравить
Со днем Ваших именин!
1933 12/IV
138
ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ НА ОДНОГО ДЕЛЕГАТА
Руп —
На суп,
Трешку —
На картошку,*
Пятерку —
На тетерку,
Десятку —
На куропатку,**
Сотку —
На водку,
И тысячу рублей —
На удовлетворение страстей.
1934
139
От Нью-Йорка и до Клина
На устах у всех — клеймо
Под названием Янина
Болеславовна Жеймо.
1934?
* Вариант — на тешку.
** Вариант — на шоколадку (мармеладку).
[318]
IV
Приписываемое
[319]
140
В твоих глазах мелькал огонь.
Ты протянула мне ладонь.
Дыханье дня
Ты подарила.
Давно меня
Ты загубила.
Спустя лишь год
Узнаешь ты,
Поймешь полет
Моей мечты.
В моих глазах
Увидишь свет,
Увидишь «да»,
Увидишь «нет».
Моя любовь
К тебе — секрет.
Не дрогнет бровь
И сотни лет.
Пройдут года,
Пройдет любовь,
IV. Приписываемое [321]
Но никогда
Не дрогнет бровь.
Тебя узнав,
Я все забыл.
И средь забав
Я скучен был.
Мне стал чужим весь белый свет —
Я каждой даме молвлю: нет!
1932
141
Все мы знаем
хватку барса
В поведении Любарской.
1933?
142
Наукою евгеникой
Плененный до конца,
Однажды фис Олейников
Допрашивал отца:
— Скажи мне, пэр Олейников,
Былого не кляня,
Ты, верно, по евгенике
Воспитывал меня?
И молвил пэр Олейников,
Потомка возлюбя:
— Я прутиком от веника
Воспитывал тебя!
Приписываемое [322]
И загрустил Олейников,
Качая головой...
— Увы, — сказал, — евгеника,
Я не взращен тобой.
1933?
[323]
V
Проза
[325]
143
КОХУТЕК
Удивительная история
Газетчик был сбит с толку. В это утро творилось что-то странное.
Ежеминутно к нему подходили школьники и спрашивали:
— Дайте мне, пожалуйста, «Кохутек».
Никогда раньше не продавался так хорошо этот тощий малень¬
кий журнальчик. А сегодня пришлось два раза бегать в редакцию
за новыми номерами.
Но что всего удивительнее — покупали и взрослые. Подходил
какой-нибудь солидный мужчина с бородой и требовал:
— «Кохутек».
Изумленный газетчик пытался даже несколько раз останавли¬
вать покупателей, хотя это ему было и невыгодно.
— Зачем вам «Кохутек», — говорил он, — ведь это детский
журнал.
— Все равно, — отвечали ему, — дайте один номер.
Газетчик не знал, что ему и думать. Что это за «Кохутек» такой?
И, недоумевая, он сам развернул странный журнальчик, на об¬
ложке которого был нарисован красный петушок.
А виной всему было объявление.
Правда, в этом объявлении ни слова не было сказано о том, что
необходимо покупать «Кохутек». Наоборот, в нем говорилось со¬
всем другое:
Кохутек [327]
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
в школе читать
КОХУТЕК.
На «Кохутек» косились уже давно.
— Нельзя давать детям этот журнал, — писал в одной газете
какой-то учитель. — «Кохутек» издается компартией, в нем пи¬
шут коммунисты, и поэтому он вреден.
— «Кохутек» — яд для детского мозга, — соглашался с ним
другой.
— Закрыть «Кохутек», — предлагал третий.
Наконец, само центральное управление всеми чехо-словацки-
ми школами постановило запретить журнал.
На другой же день после этого распоряжения журнал начали
покупать не только дети, но и взрослые.
А одна школа даже послала в управление чехо-словацкими
школами такое письмо.
Ваше запрещение нами получено. Теперь мы все будем
читать «Кохутек».
Заборы были сплошь оклеены белыми бумажками с одним
только словом «Кохутек».
— «Кохутек», «Кохутек», — кричали газетчики.
— «Кохутек», — слышалось из раскрытых окон большого бе¬
лого дома, вокруг которого собралась тысячная толпа.
— «Кохутек», — растерянно повторяли полицейские, уговари¬
вая толпу разойтись.
Какой-то прохожий, очевидно впервые попавший в Прагу,
спросил у мальчика, стоявшего рядом:
— Почему здесь так много людей? И потом — полиция? Убий¬
ство, что ли?
— Нет, это «Кохутек», — ответил мальчик.
— Кохутек? — тревожно переспросил прохожий, ничего не
понимая.
— Да. Запрещенный.
— Запрещенный «Кохутек», — с испугом прошептал прохо¬
жий и поспешил уйти.
А около дома бурлила толпа.
Проза[328]
В самом здании уже давно начался митинг. Но там набилось
столько народу, что остальным пришлось стоять на улице.
«Остальных» набралось больше трех тысяч. Им ничего не бы¬
ло слышно.
Тогда они решили организовать свой митинг.
И тут же на улице открылся митинг протеста против запреще¬
ния «Кохутека».
Выступали дети, выступали их родители, выступали коммуни¬
сты и беспартийные.
Напрасно полиция пыталась разогнать митинг.
Ей это не удалось.
И до самого вечера раздавались возгласы:
— Да здравствует «Кохутек»!
Так неудачно закончилось запрещение «Кохутека».
«Кохутек» — это значит «Петушок». Так называется выхо¬
дящий в Чехо-Словакии детский журнал, вроде нашего «Робин¬
зона».
Сейчас вся страна узнала о «Кохутеке».
О нем пишут газеты, о нем говорят ораторы, из-за него спорят
на митингах. «Кохутек» — маленький скромный журнал с крас¬
ным петушком на обложке.
144
БОЕВЫЕ ДНИ
1. БОЛЫПЕВИЦКИЙ ГАРНИЗОН
Толстый офицер сидел за столом и перебирал бумажки. При этом
он бормотал нараспев:
— Долой войну, долой войну... долой войну... долой войну...
долой войну... долой...
Другой офицер, сидевший рядом, с изумлением вскинул на не¬
го глаза.
— Что с вами, поручик? В большевики записались!
— Нет, это я резолюции читаю.
— Какие резолюции?
— Резолюции частей петроградского гарнизона. Вот, скажу
я вам, мерзавцы. Воевать не хотят. И все, как один, большевики!
Боевые дни [329]
Разговор этот происходил в помещении штаба петроградско¬
го военного округа.
— На прошлой неделе, — продолжал толстяк, — генерал Че¬
ремисов заявил Керенскому: «Если вы не разгоните петроград¬
ский гарнизон, я уйду».
— Ну а Керенский что?
— Ясно что. У него этот проклятый гарнизон тоже в печенках
сидит. Да вот только совет собачьих депутатов мешает.
Офицер закурил папиросу и прибавил:
— Но теперь уж, кажется, скоро. Вчера Временное Правитель¬
ство постановило послать петроградских солдат на фронт и раз¬
бросать их по другим городам. Здесь они того и гляди бунт по¬
дымут.
— А сколько их здесь?
— Шестьдесят тысяч дармоедов!
В это время к толстяку подошел адъютант и сказал:
— Поручик Крылов, вас требует к себе командующий.
Толстый офицер поднялся, положил папиросу и вышел.
Минут через десять он вернулся.
— Поздравляю вас! Вот видите — я был прав, — сказал он. —
Командующий получил распоряжение от правительства выгнать
гарнизон из Петрограда. Сегодня вечером мы рассылаем приказ
об этом по всем частям гарнизона.
Вечером штаб действительно разослал приказ. Вот что говори¬
лось в приказе:
Немцы уже недалеко. Революция в опасности. Не¬
обходимо защищать подступы к Петрограду.
Поэтому штаб петроградского военного округа
решил часть петроградского гарнизона послать на
фронт; а часть переформировать и вывести из города.
2. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ШТАБ
Прочитав приказ штаба, бородатый солдат плюнул и сказал:
— К чертям.
Потом еще раз плюнул и повторил:
— К чертям. Мы и без штаба знаем, от кого Петроград защи¬
щать.
Проза [330]
Это было в казарме Финляндского полка. Там только что полу¬
чили приказ.
— Пусть попробуют только выгнать гарнизон. Мы им такого
пропишем! — сказал солдат с нашивкой на рукаве. — Это им не
июль месяц!
Солдаты сидели на нарах и угрюмо гудели.
В это время в казарму вошел офицер маленького роста с тремя
звездочками на погонах.
— Вольно! — сказал он, хотя никто не встал при его появле¬
нии. — Получен приказ, — проговорил он, не глядя ни на кого. —
Получен приказ... выступать на фронт!
— Сам выступай!
Офицер попятился к дверям.
— Что ж, я и пойду... Раз штаб приказал...
— Мы этого штаба не признаем, — отрезал один из солдат. —
Там позасели генералы да полковники, а нашего брата рядового
нету. Вот они и командуют. Нам надо другой штаб...
— Правильно! — подтвердил бородач. — Надо такой штаб,
чтоб свой брат — солдат там командовал.
Офицер отступил еще на шаг.
— Штаб выполняет волю Временного Правительства, — начал он.
— А раз оно временное, так и долой его. Нам надо постоян¬
ное, — перебил бородач.
Офицер быстро вышел из казармы.
Через час солдаты устроили митинг во дворе казармы. На ми¬
тинге было постановлено:
Штабу не подчиняться.
Создать свой штаб.
Вечером председатель полкового комитета пошел с резолюцией
в Петроградский Совет.
— Вот, — сказал он, — подавая листок с резолюцией, — тут
наши ребята просят, чтобы совет свой штаб организовал.
— Ну, вы не первые, — сказал солдат в обмотках, принимав¬
ший резолюцию. — Я получил сегодня уже 46 таких резолюций.
Как раз только что окончился пленум Петроградского совета. По¬
становлено создать революционный штаб...
Через 10 дней при Петроградском Совете был организован Во-
енно-Революционный Комитет.
Боевые дни [331]
Все петроградские полки постановили:
Петроградский гарнизон больше не признает Вре¬
менного Правительства. Наше правительство Пе¬
троградский Совет. Мы будем подчиняться толь¬
ко приказаниям Петроградского Совета, изданным
его Военно-Революционным Комитетом.
3. ВЗЯТЬ ВЛАСТЬ
В маленькой квартире сидело несколько человек.
Секретарь собрания записал в протокол:
Текущий момент. Слово получает...
Он написал фамилию докладчика, но потом сейчас же стара¬
тельно зачеркнул ее.
— Да, лучше без фамилий, — сказал его сосед, смотревший
в протокол.
А докладчик, фамилию которого зачеркнули, быстро поднялся
со стула и сказал:
— Дальше ждать нельзя. Надо поднимать восстание.
Это был Ленин.
Целых четыре месяца скрывался он от Временного Правитель¬
ства. После неудачного восстания рабочих в июле 1917 г. буржу¬
азия стала искать Ленина, чтобы убить его. Но рабочие помогли
Ленину скрыться, и он уехал из Петрограда.
Газеты писали, что Ленин скрылся не то на подводной лодке,
не то на аэроплане. А Ленин жил в это время на сенокосе, в шала¬
ше под Сестрорецком.
Ленину присылали все газеты, ему писали письма. Поэтому он
хорошо знал, что делалось в Питере и в России.
К октябрю месяцу почти все питерские рабочие и солдаты сто¬
яли за большевиков.
Ленин понял: пора брать власть.
Он написал уже несколько писем своим товарищам по партии.
«Надо разогнать Временное Правительство.
Медлить — преступление. Пора захватывать власть».
Но ему казалось, что слишком медленно действуют питерские
большевики.
И тогда он неожиданно сам появился в Петрограде.
Проза [332]
Центральный Комитет партии большевиков собрался во главе
с Лениным.
Заседание было тайное.
Вот почему секретарь так старательно зачеркнул фамилию Ле¬
нина в протоколе.
Протокол ведь мог попасть в руки Временного Правительства,
и тогда ему стало бы известно, что Ленин в Петрограде.
Ленина нельзя было узнать. Он сбрил бороду, а на голове но¬
сил парик.
Заложив руки в карманы, он прошелся по комнате и начал
речь.
Он говорил о том, что нельзя дальше ждать ни одной минуты.
Рабочие за большевиков, солдаты за большевиков. Поэтому надо
поскорее свергать Керенского и брать власть.
Некоторые товарищи не соглашались с Лениным. Но большин¬
ство Центрального комитета думало так же, как и Ленин. После
споров Центральный Комитет постановил:
«Начать вооруженное восстание».
4. ПОСЛЕДНИЙ СМОТР
В кабинет министра Коновалова ворвался глава правительства Ке¬
ренский. Он был во френче и желтых сапогах.
— Вы знаете, какое сегодня число? — хрипло закричал он.
— Знаю. Двадцать... второе ноября, — ответил Коновалов, на¬
девая пенсне.
— Не в этом дело, — нетерпеливо сморщился Керенский, —
сегодня выступают большевики.
— То есть как это выступают?
— А так. Сегодня ведь будет проводиться день Петроградского
Совета. Всюду на заводах организуются митинги. Ну и весьма воз¬
можно, что большевики восстанут.
Отдышавшись немного, Керенский начал успокаивать сам себя:
— Хотя, положим, восстать они не могут... У Временного Пра¬
вительства найдется достаточно твердости и силы, чтобы усми¬
рить предателей родины, но все-таки надо быть начеку.
— Между прочим, — добавил он, — известно ли вам, что в На¬
родном доме большевики готовят нам генеральный бой?
Боевые дни [333]
Он сел в кресло напротив Коновалова и сейчас же забыл о том,
что говорил минуту тому назад.
— Скажите, Александр Иванович, — обратился он к Коновало¬
ву, — где вы покупаете ботинки? Хочу купить себе такие. Мне
очень нравятся.
В тот день попасть в Народный Дом было почти невозможно. Он
был набит битком. Солдаты и рабочие, съехавшиеся со всех кон¬
цов Петрограда, переполняли залы, буфеты, коридоры.
Около четырех тысяч человек пришло в Народный Дом.
Но шума не было. Все, затаившись, чего-то ждали...
— Товарищи, — торжественно начал председатель, — от име¬
ни Петроградского Совета Рабочих и Солдатских депутатов, будет
говорить...
Председатель не докончил.
Стекла зазвенели в зале от криков.
— Да здравствует Петербургский Совет!
Но вот овация кончилась. Наступила тишина, и оратор заго¬
ворил.
То, что он говорил, питерцы слышали не в первый раз.
Он говорил о том, что петроградские рабочие и солдаты твердо
решили передать власть в руки советов.
Он говорил о том, что через три дня откроется второй съезд со¬
ветов и что пролетарии должны быть готовы к этому дню.
Он говорил о том, что только Советская власть выведет Россию
и весь мир из капиталистического рабства.
Казалось, слушатели забыли обо всем на свете...
Солдат в изодранной шинели поминутно то снимал, то надевал
фуражку, сам не замечая, что делает.
Женщина в первом ряду шевелила губами вслед за оратором
и не чувствовала, как слезы текут у нее по лицу. Она все время ки¬
вала головой, как бы соглашаясь.
Было видно, что толпа пойдет сейчас куда угодно.
Один меньшевик, который был на собрании, так писал о нем
через пять лет:
«Я думал, что люди встанут сейчас на колени и запоют какую-
нибудь неслыханную и страшную песню».
В этот решительный день люди и говорили и слушали не так,
как всегда. Это был день смотра пролетарских сил.
Проза[334]
Но вот доклад кончен. Докладчик предлагает резолюцию: бо¬
роться за Советскую власть.
— Кто — за?
В зале вдруг зашумел ветер. Это четыре тысячи человек враз
подняли руки, как для клятвы.
Голосование кончено. Но никто не опускает руки.
Оратор продолжает говорить, а тысячи рук все еще подняты
вверх. Оратор смотрит поверх голов и кричит:
— Клянитесь! Клянитесь до последней капли крови бороться
за власть советов!
Оратор останавливается на миг.
— И пусть это ваше голосование будет вашей клятвой.
Несметная толпа держит руки. Она клянется.
В этот день по всему городу, на всех заводах было то же самое.
Перед боем давались последние клятвы.
5. ПОЛКОВНИК ПОЛКОВНИКОВ
У главного штаба остановился автомобиль.
Из автомобиля вышли три человека. Они быстро взбежали по
лестнице.
— Здесь полковник Полковников? — спросили они.
— Да, командующий округом здесь.
Три человека вошли в кабинет полковника Полковникова.
— Здравствуйте, гражданин, — сказали они.—Мы из Военно-
Революционного Комитета.
— Что вам угодно? — спросил полковник Полковников.
— Мы — комиссары, назначенные к вам. Всякий ваш приказ
должен скрепляться подписью одного из нас. Без этого приказы
будут считаться недействительными.
— Никаких комиссаров мне не требуется! — недовольно ска¬
зал полковник Полковников. — Я в опеке не нуждаюсь.
— Имейте в виду, что без нас ни одна часть не выполнит ва¬
шего приказа!
Полковник Полковников самоуверенно возразил:
— Ну, это мы еще посмотрим. Гарнизон в моих руках, и я могу
сделать с ним все, что захочу.
Боевые дни [335]
— Значит, вы отказываетесь подчиниться Военно-Революци¬
онному Комитету, гражданин Полковников?
— Отказываюсь, товарищи комиссары.
После этого короткого разговора три человека молча ушли.
Ночью по городу расклеивался новый приказ Военно-Револю-
ционного Комитета.
Командующий петроградским военным округом от¬
казался подчиниться воле Петроградского Совета.
Отныне вся власть переходит в руки Военно-Ре-
волюционного Комитета.
Солдаты должны выполнять только его прика¬
зы. Все другие распоряжения, откуда бы они ни ис¬
ходили, признаются контрреволюционными!
Так началась война между контрреволюционным штабом и Воен-
но-Революционным Комитетом.
6. АРЕСТОВАТЬ!
Глубокой ночью в Зимнем дворце собрались все министры.
— Сегодняшнее заседание должно быть секретным, — сказал
Керенский. — Мы обсудим, как бороться с большевиками.
Он поднял вверх желтую руку.
— Посмотрите.
В руках у него была маленькая тощая книжечка.
— Посмотрите! Эта книжка открыто продается сейчас на всех
улицах. Называется она: «Удержат ли большевики государствен¬
ную власть».
Керенский помолчал секунду и отрывисто проговорил:
— Писал ее Ленин.
После этого началось заседание.
Прежде всего министры постановили: арестовать Военно-Ре-
волюционный Комитет. Потом было решено арестовать «видных
большевиков».
— Хорошо было бы найти и арестовать самого Ленина, —
угрюмо проговорил министр Кишкин, — говорят, он скрывается
в Петрограде.
— Да, мы найдем и арестуем его, — сказал Керенский.
Проза [336]
Уже взошло солнце, а заседание все продолжалось. Принима¬
ли постановление за постановлением. Секретарь не успевал за¬
писывать:
Привести юнкеров в боевую готовность.
Приказать крейсеру «Аврора» выйти в море.
Закрыть большевистские газеты.
Приказать солдатам не выходить из казарм.
Вызвать с фронта войска для усмирения.
Развести все мосты через Неву.
— Ну, слава богу, наконец-то мы начали действовать, — громко
сказал Кишкин и уже тихо прибавил:
— Только кто будет выполнять наши приказы?
Это было 24 октября 1917 года.
7. ПЕРВЫЕ ВЕСТИ
Тревожный звонок раздался в Зимнем.
— Можно к телефону кого-нибудь из Временного Правитель¬
ства?
Взволнованный голос гудел в телефоне, передавая новости.
Вот что узнали министры:
В 5 часов 30 минут утра первый отряд юнкеров вышел из двор¬
ца выполнять приказы правительства. Отряд явился в типогра¬
фию газеты «Рабочий Путь». Оцепив все выходы, начальник от¬
ряда предъявил приказ о закрытии газеты. Юнкера опечатали во¬
семь тысяч номеров газеты и поставили свой караул.
— Ну, вот и прекрасно! — сказал министр, державший теле¬
фонную трубку.
— Простите, это не все, — продолжал голос. — Через несколь¬
ко часов к типографии подошли солдаты Литовского полка и 6-го
запасного батальона, арестовали юнкеров и поставили свой кара¬
ул. Они явились по приказу Военно-Революционного Комитета.
— Что теперь делать? — спрашивал хриплый голос из теле¬
фонной трубки.
Министры глядели друг на друга и молчали.
А во дворец непрерывно поступали вести, одна тревожнее
другой.
Боевые дни [337]
— Крейсер «Аврора» отказался подчиняться приказу пра¬
вительства. Он не вышел в море, а стоит на Неве, как
и прошлой ночью.
— Матросы арестовали командира крейсера и теперь ждут
распоряжений от Военно-Революционного Комитета.
— Самый надежный батальон самокатчиков присоединил¬
ся к Военно-Революционному Комитету.
— Полки, вызванные правительством с фронта для усми¬
рения большевиков, отказались выступить и остались
на местах.
— Вызванный с фронта 5-й самокатный батальон, доехав
до ст. Передольской, перешел на сторону большевиков.
— Петергофские юнкера отказались защищать Временное
Правительство.
— Кто же будет защищать нас? — испуганно проговорил кто-то.
— Юнкера и женский батальон, — быстро сказал Керен¬
ский. — Женский батальон уже прибыл сюда.
— Неудобно как-то, — сказал Терещенко.
— Что? — резко спросил Керенский.
— Да вот, что охранять нас будут женщины.
Керенский сделал вид, что не расслышал.
— Я еду сейчас в предпарламент, — стремительно проговорил
он и вышел.
Поздно ночью, в 12 часов, Временное Правительство вновь
устроило секретное заседание.
Решали, как лучше всего захватить Смольный.
Постановили срочно захватить его.
А через восемь часов Керенский навсегда бежал из дворца и из
Петрограда на американском автомобиле.
Своих министров он бросил на произвол судьбы.
8. КТО КОГО АРЕСТУЕТ?
Самым несчастным человеком оказался следователь Гудилович.
Рано утром министр юстиции от имени Временного Прави¬
тельства поручил ему важное дело.
Гудилович должен был вызвать и допросить членов Военно-
Революционного Комитета. Так приказал ему министр юстиции
Временного Правительства.
Проза[338]
Часов около десяти Гудилович начал звонить по всем телефо¬
нам. Он хотел, чтобы весь Военно-Революционный Комитет явил¬
ся к нему и дал показания о своей преступной работе.
Гудилович был не простым следователем, а по особо важным
делам, и поэтому думал, что вызванные явятся без промедления.
Но вызвать их по телефону не удалось. Смольный институт,
где помещался Комитет, был выключен из телефонной сети.
Тогда Гудилович отдал распоряжение своим помощникам сроч¬
но узнать домашние адреса членов Военно-Революционного Ко¬
митета и срочно вызвать их для допроса.
Сам он решил пока прогуляться по улицам. Выйдя из подъез¬
да, он увидел толпу, которая читала огромную афишу, наклеенную
на стенке дома.
Гудилович заинтересовался.
Он подошел ближе и прочитал следующее:
«К НАСЕЛЕНИЮ ПЕТРОГРАДА».
Граждане!
Контрреволюция подняла свою преступную голову.
Корниловцы мобилизуют силы, чтобы раздавить Все¬
российский Съезд Советов. Одновременно погромщики
могут попытаться вызвать на улицах Петрограда смуту
и резню.
Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депута¬
тов берет на себя охрану революционного порядка от
контрреволюционных и погромных покушений.
Гарнизон Петрограда не допустит никаких насилий
и бесчинств. Население призывается задерживать ху¬
лиганов и доставлять их комиссарам Совета в близлежа¬
щую войсковую часть. При первой попытке темных эле¬
ментов вызвать на улицах Петрограда смуту, грабежи,
поножовщину или стрельбу, преступники будут стерты
с лица земли.
ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ.
24-го октября 1917 г.
— Будут стерты с лица земли, — прошептал про себя следователь
Гудилович.
Боевые дни [339]
Он впервые подумал, что Военно-Революционный Комитет мо¬
жет и не явиться на допрос.
От людей, которые написали такое объявление, можно ожидать
всего.
Гудилович пошел дальше.
Повернув в переулок, он вдруг увидел, что дальше пройти
нельзя.
Вся улица была забита людьми в серых шинелях.
«Митинг», — подумал следователь по особо важным делам
и подошел послушать.
Поперек улицы стоял стол. На стол влез рыжий солдат огром¬
ного роста и, размахивая руками, кричал оттуда:
— Значит все согласны, товарищи? Будем с винтовками в ру¬
ках защищать Военно-Революционный Комитет!
— Ура! — закричали солдаты.
А кто-то стоявший рядом с Гудиловичем заорал во все горло:
— Кто против Комитета, того надо в порошок стереть!
Гудилович поспешил уйти.
Но и на другой улице было то же самое.
И там шел солдатский митинг, и там солдаты кричали что-то
о Военно-Революционном Комитете.
Шесть раз сворачивал Гудилович в разные стороны и шесть раз
натыкался на митинги. Он вышел на какую-то площадь и вместо
серой толпы увидел черную. Это были уже не солдаты, а матросы.
— Смерть врагам Военно-Революционного Комитета, — услы¬
шал он.
Гудилович не хотел помирать. Поэтому он удалился и пошел
к Неве. У Николаевского моста стоял похожий на утюг огромный
крейсер.
— «Аврора», — прочитал он на борту крейсера.
Матрос, перегнувшись с борта, кричал другому матросу на бе¬
регу:
— По приказу Военно-Революционного Комитета мы остаемся!
Через полчаса Гудилович подошел к арсеналу.
Из ворот арсенала поминутно выходили люди с винтовками
в руках.
— Что это такое? — спросил Гудилович у прохожего, уже бес¬
покоясь.
— Это Военно-Революционный комитет вооружает красную
гвардию.
Проза[340]
«Надо идти домой!» — подумал про себя Гудилович.
Подходя к дому, он увидел на стене новое объявление:
Солдаты. Рабочие. Граждане.
Враги народа перешли ночью в наступление. Замыш¬
ляется предательский удар против Петроградского Со¬
вета Рабочих и Солдатских Депутатов. Поход контрре¬
волюционных заговорщиков направлен против Всерос¬
сийского Съезда Советов накануне его открытия, против
народа. Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Де¬
путатов стоит на защите революции. Военно-Революци¬
онный Комитет руководит отпором натиску заговорщи¬
ков. Весь гарнизон и весь пролетариат Петрограда гото¬
вы нанести врагам народа сокрушительный удар.
Всем завоеваниям и надеждам солдат, рабочих
и крестьян грозит великая опасность, но силы револю¬
ции неизмеримо превышают силы ее врагов. Дело на¬
рода в твердых руках. Заговорщики будут сокрушены.
ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ.
24-го октября 1917 г.
Следователю по особо важным делам стало страшно.
Он поднялся по лестнице и прошел к себе в кабинет.
Никого из служащих не было.
На столе лежала бумажка. Это было предписание Временного
Правительства следователю по особо важным делам.
Гудилович прочел:
...учинить допрос всем членам Военно-Революционного
Комитета.
Гудилович схватил бумажку и разорвал на клочки.
Он, наконец, понял, что Военно-Революционный Комитет так
и не явится к нему.
9. ДЕЛО НАЧАЛОСЬ
Члены Военно-Революционного Комитета не явились на допрос
к Гудиловичу.
Боевые дни [341]
Им было некогда. Они совещались в это время, как взять Зим¬
ний дворец и захватить правительство.
Четыре человека стояли в Смольном перед большой картой Пе¬
трограда. Вот Зимний дворец. Против него, на другом берегу Не¬
вы — Петропавловская крепость.
— Надо окружить дворец кольцом, — сказал высокий худой
человек. — Войска разом подойдут с трех сторон. А ежели прави¬
тельство не сдастся, мы откроем огонь с «Авроры» и в упор с Пе¬
тропавловской крепости.
— Наступление начнут самые стойкие части. Сигнал подаст
пушка с крепости.
Совещались недолго. Четыре комиссара пожали друг другу ру¬
ки и вышли из Смольного в холод и темноту.
На мокрых ступенях Смольного стояли десятки рабочих с вин¬
товками в руках. Все они готовы были по первому приказу дви¬
нуться куда угодно. Пьяными от усталости и возбуждения глаза¬
ми провожали они выходящих из Смольного членов Военно-Рево-
люционного Комитета.
Вот прошел Подвойский, сухощавый бородатый человек. Вот
Антонов-Овсеенко, длинноволосый, в очках. Вот, блестя стеклами
пенсне, торопливо пробирается между солдатами Троцкий. Бы¬
стро спускаются они со ступенек и садятся в машины.
Красногвардейцы расступаются — дают дорогу штабу револю¬
ции. Они чувствуют, что с этой минуты дело началось.
Тихо и спокойно начали подходить революционные части
к площади Зимнего дворца.
На площади ни одного фонаря. Два длинных ряда окон Зимне¬
го чернеют темнотой.
В то же время к Николаевскому мосту подошел крейсер и отдал
якорь. Вся палуба была сплошь усыпана людьми. Мост в это вре¬
мя охраняли юнкера.
— «Аврора»! — закричал один из них, увидев надвигающий¬
ся крейсер.
Не говоря больше ни слова, юнкера повернулись и ушли.
Город не спал. Всюду из заводских ворот выходили отряды ра-
бочих-красногвардейцев. Все они одновременно получили от Во-
енно-Революционного Комитета приказ:
— Выступить.
Проза [342]
Необходимо было занять все вокзалы, чтобы правительство не
успело вызвать контрреволюционные части.
6 два часа ночи в Смольный сообщили по телефону:
— Взят Николаевский вокзал.
Через минуту еще звонок:
— Балтийский вокзал.
Из Гельсингфорса и Кронштадта непрерывно прибывали ма¬
тросы на помощь восставшим. По Неве один за другим двигались
миноносцы.
Военно-Революционный Комитет перешел в наступление.
Кончалась ночь. Наступало утро.
При свете дня прохожие увидели на стенах домов объявление:
Временное правительство низложено.
10. ОСАДА И ШТУРМ
А низложенное Временное Правительство беспрерывно заседало
во внутренних покоях Зимнего дворца. За столом, покрытым си¬
ним сукном, сидело 13 человек.
Уж весь город был в руках Военно-Революционного Комитета,
но министры все еще обсуждали, как бороться с большевиками.
Большевики все ближе и ближе подходили ко дворцу. Временное
Правительство, вчера правившее шестою частью земного шара, сей¬
час владело одним только красным двухэтажным домом — дворцом.
Но министры не унывали. Они совещались, спорили, придумы¬
вали для себя все новые и новые должности и звания.
Первым делом возложили на министра Кишкина главное руко¬
водство обороной столицы, с подчинением ему всех гражданских
и военных властей.
0 новом назначении знали только в Зимнем. Петроград и Рос¬
сия ничего не подозревали об этом.
Но Кишкина это не смущало. Он придвинул к себе лист бумаги
и написал свой первый приказ:
«Главнокомандующий Петроградским Военным
Округом Полковник Полковников отстраняется от
должности. На его место назначается генерал Ба-
гратуни».
Боевые дни [343]
Писали приказы и все другие министры. Казалось, они ничего не
видели и не понимали. В десяти шагах от дворца устанавливались
большевистские пулеметы, а министр Коновалов, как ни в чем не
бывало, писал:
В Петрограде назревают грозные события...
На площади появились броневики. Они спокойно, как на параде,
разъезжали перед дворцом. Один из них вдруг внезапно повер¬
нулся и с грохотом подкатил к подъезду.
Там стояли юнкера с винтовками. Они сторожили главный
вход.
Из пулеметных окошек броневика крикнули:
— А ну-ка, друзья, кладите винтовки на броневик, а то всех
вас, как уток, перестреляем!
Юнкера молча положили винтовки, и броневик спокойно ука¬
тил.
Перед вечером два самокатчика привезли Временному Прави¬
тельству письмо от комиссара Военно-Революционного Комитета
Антонова-Овсеенко.
Это был ультиматум — последнее требование.
«Если правительство не сдастся, по Дворцу будет
открыт огонь из орудий Петропавловской крепости
и с «Авроры».
На размышление дается 20 минут».
Весть о полученном ультиматуме разнеслась по Зимнему. Изму¬
ченные бессонницей и напряженным ожиданием юнкера столпи¬
лись у дверей зала, где заседали министры.
Вышел министр Кишкин.
— Временное Правительство, — сказал он, — решило не да¬
вать большевикам никакого ответа. На стороне большевиков толь¬
ко ничтожная кучка солдат.
— А почему же, господин министр, во дворце так мало
войск? — задал вопрос один из юнкеров.
Кишкин пожал плечами.
— Во дворце мало места. Негде поместить всех защитников
Временного Правительства,
Юнкера разошлись недовольные.
Проза[344]
А новый главнокомандующий генерал Багратуни подошел
к Кишкину и сказал:
— Я отказываюсь нести обязанности главнокомандующего.
Кишкин подскочил к столу и быстро написал приказ о том, что
Багратуни смещается с поста главнокомандующего, «как недо¬
стойный».
Разжалованному главнокомандующему приказали покинуть
дворец.
Через час юнкера Ораниенбаумской школы послали из дворца
к большевикам делегацию.
— Мы желаем сдаться, — заявили они.
Член Военно-Революционного Комитета Чудновский отпра¬
вился во дворец для переговоров с юнкерами. Министры распо¬
рядились арестовать его. Но юнкера-ораниенбаумцы пригрозили:
— Отпустите и его и нас, а то мы будем драться!
И Временное Правительство согласилось.
Чудновский был освобожден, а ораниенбаумцы один за другим
стали покидать дворец.
В девять часов вечера грянул долгожданный пушечный вы¬
стрел с Петропавловской крепости. Это был сигнал начинать
штурм дворца.
Крейсер «Аврора» отозвался холостым выстрелом. На площа¬
ди затрещали пулеметы.
Юнкера из-за штабелей дров отвечали ружейным и пулемет¬
ным огнем.
А министры заседали. Под треск пулеметов они писали обра¬
щение к населению:
Первое нападение на Зимний дворец отбито.
Перестрелка длилась несколько часов. Палили уже не из винтовок
и пулеметов, а из орудий.
А министры все сидели за столом и выпускали обращение за
обращением.
Правительство в полном составе на посту. Поло¬
жение признается благоприятным.
Положение было в самом деле благоприятным, но только не для
Временного Правительства. Несчастные юнкера еще держались за
Боевые дни [345]
штабелями дров и беспорядочно стреляли из окон и дверей двор¬
ца. Но никто не знал толком, что делать и кого слушаться.
На помощь во дворец никто не приходил. Зато из дворца одна
за другой уходили части, защищавшие Временное Правительство.
Первыми ушли юнкера Михайловского Артиллерийского учи¬
лища и прихватили с собой четыре орудия. Потом собралась до¬
мой школа прапорщиков Северного фронта. За ними распроща¬
лись с Временным Правительством и казаки.
С И час. вечера во дворец стали проникать красногвардейцы.
Сначала они заскакивали по одному, по два. Их сейчас же окружа¬
ли юнкера, отнимали винтовки и отводили в задние комнаты, как
военнопленных.
Но часа через полтора пленных оказалось так много, что они
сами стали разоружать юнкеров. Во дворце началась неразбериха.
Дворец брали не только с площади, но и изнутри, комнату за
комнатой.
В два часа 10 минут войска Военно-Революционного Комитета
хлынули в Зимний.
Гулкие выстрелы сотрясали стены и потолки. Сводчатые кори¬
доры и комнаты заволоклись синим пороховым дымом. Одни юнке¬
ра бросали винтовки и сдавались, другие отступали вглубь дворца.
Только в комнате Временного Правительства было все по-прежнему.
Министры торопливо дописывали приказы и обращения.
Коновалов только что начал сочинять новое воззвание:
Временное Правительство обращается ко всем
классам населения с просьбой поддержать Времен¬
ное Правит...
Он не успел написать «ельство», как дверь с шумом отворилась,
и министры увидели за спинами юнкеров матросские бескозырки
и красногвардейские шапки.
Зимний был взят.
А за несколько часов до этого на заседании Петроградского Сове¬
та рабочие и солдаты услышали:
— Здесь присутствует Ленин.
Под крики и рукоплескания на трибуну вошел Ленин.
Вот что сказал Ленин:
Проза[346]
— Товарищи. Рабочая и крестьянская революция, о которой
все время говорили большевики, совершилась.
Какое значение имеет эта революция?
Во-первых, у нас будет не буржуазное, а советское правитель¬
ство. У нас будет власть, которую создадут сами трудящиеся. Ста¬
рый государственный аппарат будет разбит вдребезги. Теперь
страной будут управлять Советы.
Эта революция приведет нас к победе социализма.
Сейчас прежде всего нам надо кончить войну. Но для того, что¬
бы прикончить войну во всем мире, надо покончить с капитали¬
стами. Нам помогут это сделать рабочие всего мира.
Мы предложим рабочим всех воюющих стран справедливый
мир. Мы опубликуем все тайные договоры.
В России большинство крестьян ясно сказало: довольно игры
с капиталистами, мы пойдем с рабочими. Крестьяне теперь еще
больше начнут доверять рабочим, так как мы отберем у помещи¬
ков землю и отдадим ее крестьянам.
Главное спасение сейчас — это Союз рабочих с крестьянами.
А работать в союзе рабочие и крестьяне уже начали. Об этом гово¬
рит только что происшедшая революция.
Мы победим все и доведем пролетариат до мировой революции.
Да здравствует всемирная социалистическая революция!
11. «ВЛАСТЬ В НАШИХ РУКАХ»
Уже двенадцать часов боролись рабочие, солдаты и матросы.
Они готовились вырвать власть из рук буржуазии и передать
ее открывавшемуся в тот день 2 Съезду Советов.
Съезд открылся 25 октября в 10 часов 45 минут вечера.
Из-за председательского стола поднялся сумрачный лысый че¬
ловек в форме военного врача и сказал негромко и уныло:
— Власть в наших руках...
Он так печально произнес эти слова, как будто сообщил о смер¬
ти единственного сына.
Это был Дан. Он был меньшевик и не радовался тому, что власть
перешла в руки советов.
Но он должен был сообщить об этом Съезду по обязанности
члена прежнего Исполнительного Комитета Советов, еще не пе¬
реизбранного.
Боевые дни [347]
Всем и ему самому было ясно, что этот Центральный Исполни¬
тельный Комитет, состоявший из меньшевиков и эсеров, дожива¬
ет последние минуты. Но ничего не поделаешь. Меньшевик Дан
обязан был сказать вступительное слово Съезду, состоявшему из
большевиков.
Тем же замогильным голосом он продолжал:
— Сейчас не место политическим речам. Мои товарищи нахо¬
дятся под обстрелом в Зимнем дворце...
— И охраняются женщинами, — тихо проговорил кто-то.
Легкий смешок пробежал по рядам.
Делегаты ясно представили себе, как там, в Зимнем, сидят на
позолоченных диванах и ждут своей участи товарищи лысого че¬
ловека. И охраняют их юнкера и женщины, переодетые в солдат¬
скую форму.
— Объявляю Второй Съезд Советов Рабочих и Солдатских Де¬
путатов открытым, — почти прошептал печальный человек.
Товарищи его, сидевшие с ним рядом, угрюмо молчали.
После вступительного слова был выбран новый президиум,
почти сплошь из большевиков. За председательским столом поя¬
вились бодрые, веселые люди. Они-то уже могли не хмурясь ска¬
зать Съезду:
— Власть в наших руках!
Скоро меньшевики и эсеры покинули не только кресла прези¬
диума, но и совсем ушли из зала заседаний.
— Мы протестуем против восстания! — заявили они, и ма¬
ленькой кучкой двинулись к выходу под свист и смех остальных
делегатов.
Съезд продолжался.
Каждые пять минут кто-нибудь входил на трибуну с новостью:
— Взят Главный Штаб.
— Идет штурм Зимнего дворца.
— Юнкера сдаются.
— Временное Правительство арестовано.
Итак, Петроград в руках восставших. Но поднимется ли вме¬
сте с Петроградом и вся Россия? А главное: что скажут солдаты на
фронте? Что скажет армия?
Было ровно пять часов 17 минут, когда на трибуну поднялся
бледный человек.
Проза [348]
Он шатался от усталости. Это был прапорщик Крыленко.
Крыленко потряс какой-то бумажкой и хрипло закричал:
— Товарищи, получена телеграмма. С Северного фронта. Две¬
надцатая армия посылает приветствия Съезду Советов. Вся власть
на Северном фронте перешла к фронтовому военно-революцион¬
ному комитету. Армия за нас!
145
КТО ХИТРЕЕ?
КАК ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
Пришли в столовую два друга чайку попить. Один был слесарь,
а другой плотник. Оба на «Красном Путиловце» — Ленинградском
заводе работали.
Сели друзья за стол, по сторонам огляделись и видят, что кру¬
гом полным-полно приятелей и знакомых.
Вон кузнец Королев, вон машинист Жилин, а вот в том углу
гвоздильщик Черничкин примостился. Почти за каждым столом
знакомые сидят.
И все свои ребята, мастеровые. Кто на заводе, кто в типогра¬
фии, кто на железной дороге орудует. И служащих тоже много
пришло знакомых.
Поздоровались наши друзья со всеми, а потом чаю заказали.
За чаем у них разговор зашел: чье ремесло хитрее. Ну, конеч¬
но, каждый свою профессию защищает.
Сперва все шло тихо, по-хорошему. А потом спор вовсю разго¬
релся. И до того друзья разгорячились, что уже кричать начали.
— Что ты мне глаза заливаешь насчет своей работы, — ерепе¬
нился слесарь, — да ваша плотницкая работа — грош ей цена. То¬
пором тяп-ляп — и готово. Никакого ума не требуется. А в нашем
ремесле не только руки нужны, а и голова должна работать. Без
головы и простого замка не соберешь.
Обидно это все плотнику, ну да и он в долгу не остается —
в пух и прах слесарей разносит.
Тут из-за других столов начали поближе придвигаться масте¬
ровые и тоже стали свои замечания вставлять, каждый по своей
специальности. И каждый свое ремесло защищает.
Кто хитрее? [349]
И пошло и пошло. Уже все посетители в столовой между собою
спорить начали.
Такой гул поднялся, что хоть вон беги.
Заведующий столовой то к одному столу подбегает, то к дру¬
гому — просит тишину соблюдать, Да на него никто внимания не
обращает.
С ног сбился заведующий, не знает, что ему и делать, как посе¬
тителей успокоить.
И вдруг догадался он. Встал на стул и громко закричал:
— Товарищи! Мы так до завтрашнего дня ни до чего не догово¬
римся. Давайте лучше вот что. Пускай каждый такую загадку по
своему ремеслу выдумает, чтобы другие не отгадали. Чья задача
хитрее, у того и ремесло умнее.
Тут все притихли и по очереди стали загадки загадывать.
— Первым начну я, потому что у меня загадка самая хит¬
рая, — сказал ПЛОТНИК:
Купил я три бочки.
А в днище каждой бочки — отверстие было: в одной бочке кре¬
стом, в другой — круглое, а в третьей — квадратное.
Я для шутки взял да и сделал такую затычку, которая могла бы
заткнуть любую из трех дырок.
Какую затычку я сделал?
— Вот как нашего брата обмануть можно, — сказал КУЗНЕЦ:
Пришел я в лавку цепь покупать.
Показали мне образец: огрызок какой-то.
Я и говорю:
— Материал хороший, да только цепь уж больно коротка. Мне
надо в сто раз длиннее.
Принесли мне другую цепь.
— В сто раз длиннее? — спрашиваю.
Проза [350]
— Конечно, — говорит хозяин, — пересчитай звенья.
Я пересчитал. Верно: в этой цепи звеньев в сто раз больше, чем
в первой.
Забрал я цепь и домой поехал.
И только по дороге сообразил, что надул меня проклятый ла¬
вочник.
Почему?
А мою загадку никто не разгадает, — сказал КАНАТЧИК, —
моя загадка с аэропланом.
Работал я с приятелем на канатной фабрике.
Зашел у нас разговор: какой длины канаты на нашей фабрике
вырабатываются.
Я и говорю:
— Должно быть, длиннее, чем в сто саженей, у нас нету канатов.
— Что ты, что ты, — замахал на меня приятель. — Да на нашей
фабрике делают такие длинные канаты, что если бы на аэроплане
или дирижабле на десять километров подняться, да оттуда канат
вниз опустить, так им до земли можно достать.
— Ну, это ты уж перехватил, — вмешался в наш разговор тре¬
тий рабочий, — канат такой длины, конечно, можно сделать, да
только его с такой высоты не опустишь.
Догадываетесь, почему?
ШОФЕР перед тем, как загадать свою загадку, долго что-то ри¬
совал на бумажке. Вот что он загадал:
Проезжал я раз мимо хутора и захотелось мне молока выпить.
В хуторе было девять дворов. Они стояли так, как здесь пока¬
зано:
Вот и решил я все дворы объехать,
узнать, где молоко дешевле.
Не хотелось мне машину много
раз поворачивать. Я подумал немно¬
го и выбрал такой путь, что все дворы
объехал, ни в один из них по два раза
не заезжал и всего только три поворо¬
та сделал.
Какой это путь?
Кто хитрее? [351]
— Маленькая вещь — пуговица, а ума к ней много надо при¬
ложить, — сказал ПУГОВИЧНИК:
К нам на пуговичную фабрику каждый день присылают старые
пуговицы — деревянные и костяные.
Посмотришь на пуговицу и сразу не скажешь, деревянная она
или костяная. Все они одинаково отполированы, лак тоже одного
цвета, что на деревянных, то и на костяных.
Вот если только соскоблить краску и лак или разломить пуго¬
вицу пополам, тогда, конечно, узнаешь, из чего она сделана.
Но портить пуговицу обидно. Да к тому же перебрать все пуго¬
вицы поодиночке — это канитель.
Ведь их привозят к нам сразу по несколько пудов.
А вот у нас на фабрике в два счета костяные пуговицы от дере¬
вянных отделяют — в минуту до пяти пудов, да при этом ни одной
пуговицы не портят.
Как это делается?
— Послушайте, ребята, рассказ про то, как один вагон про¬
пал, — сказал МАШИНИСТ:
Служил я на станции «Раздельная».
Раз дали мне товарный поезд с одним паровозом, и должен был
я маневры делать: водить поезд по линии то взад, то вперед.
Посредине моего пути стоял мост. Я каждый раз на нем оста¬
навливался минуты на три.
Остановился я раз на мосту, сошел с паровоза и к сторожу под¬
хожу табаку попросить.
Дал он мне покурить, а потом и спрашивает:
— Что это, Иван Николаевич, вагон вам лишний, кажется, при¬
бавили?
— Нет, — говорю, — вагонов столько же.
А сторож качает головой и говорит:
— Как же так? Прошлый раз вы останавливались на мосту, так
поезд весь на мосту помещался, даже свободное место было, а вон
теперь, смотрите, — по обеим сторонам моста поезд за края выхо¬
дит. Поезд был короче, а теперь стал длиннее моста, а вы говори¬
те вагонов столько же.
— Да, говорю, вагонов-то столько же, а вон вы догадайтесь
лучше, почему так вышло, что мост ваш короче поезда стал.
Проза[352]
После этого тихим голоском заговорил ПАРИКМАХЕР:
В квартире живет десять мужчин. Один из них парикмахер.
Половина жильцов бреются сами, а остальные у парикмахера.
Он их бреет бесплатно, зато ничего не платит за квартиру.
Один раз к нему зашел бесплатно побриться жилец, который
раньше брился сам.
Это не понравилось парикмахеру, и он вывесил у себя на две¬
ри такое объявление.
0
V
ЖиьДцишОО (ь Э07ША>
MaMsfwnjb Я о-охуму
iftouurroto 'ПхЛЖ j t&rur' С&~
Ьшл. не 6^>e^yynMJt ^
Сам. st ош*пь гишл#
I, a
Все жильцы согласились на это условие.
Но мог ли его выполнить сам парикмахер?
— Я насчет следов большой специалист, — сказал ОХОТ¬
НИК, — вот вам задача.
На снегу отпечатались следы двух птиц. Одна из них живет на
деревьях, другая на земле.
Кто хитрее? [353]
* - *
• \ч ti ^ ^
'V Л -.=. •*• *
», * -* -{.
Угадайте по следам, какая птица живет на земле и какая на де¬
ревьях?
ГВОЗДИЛЬЩИК вынул из кармана целый ворох булавок и на¬
чал:
У нас на гвоздильном заводе, в одном цеху, английские булав¬
ки делают.
Любят у нас ребята баловаться с этими булавками. Одну бу¬
лавку на другую нанизывают, так что целые цепочки получаются,
и потом из этих цепочек пояса себе делают, браслеты.
Один раз подходит ко мне паренек и показывает пять таких це¬
почек — по три булавки в каждой.
Дает он их мне и говорит:
— Дяденька, соедините все три цепочки в одну, да так, чтобы
раскрывать и закрывать поменьше булавок.
Ладно, соединить дело пустое. Надо четыре булавки раскрыть.
Так бы всякий сделал.
Ну, а я мастер тонкий. Сразу сообразил, что раскрывать и опять
закрывать все четыре булавки нет надобности, можно и меньше.
А вот сколько же?
РАБОЧИЙ С МОНЕТНОГО ДВОРА достал два пятака и сказал:
У нас на монетном дворе новым рабочим всегда одну и ту же
загадку задают.
Положат на стол два пятака и говс
— Что если покатить верхнюю
монету кругом нижней не отры¬
вая, — сколько раз обернется верх¬
ний пятак вокруг самого себя, пока
не придет обратно на старое место?
Проза[354]
Новички смеются над этой загадкой и ответ сразу говорят, да
только всегда, всегда ошибаются.
Вот вы подумайте и скажите. А потом на деле проверим.
— Ну, моя загадка куда посмекалистей будет, — сказал СЛЕ¬
САРЬ:
Жили раз мы трое в одной комнате: я и два моих земляка.
Дома мы сидели редко. Так что квартира все время на запоре бы¬
ла, тремя замками запиралась. У каждого был свой замок и свой ключ.
Возвращались мы в разное время.
Вот догадайтесь, каким образом каждый из нас попадал в ком¬
нату, не дожидаясь товарищей.
ОТВЕТЫ
Загадка плотника
Эта затычка годится для всех трех отверстий.
Загадка кузнеца
Здесь нарисовано А здесь обрывок
одно звено. из двух звеньев.
Во втором обрывке больше, чем в первом, звеньев в 2 раза. А дли¬
на второго обрывка больше не в 2 раза, а меньше, так как звенья
расположены не рядом, а вдеты одно в другое.
Точно так же и в загадке кузнеца: вторая цепь хоть и имеет зве¬
ньев в 100 раз больше, но она длинней меньше чем в 100 раз.
Кто хитрее? [355]
Загадка канатчика
Канат длиною в 10 км весит не меньше трехсот пудов. Верхняя
часть каната не выдержит такой тяжести и оборвется.
Загадка шофера
Вот как шофер, объехав все дворы, сделал только три поворота.
Загадка машиниста
Когда поезд идет вперед, то он становится длиннее, так как все це¬
пи, которыми соединяются вагоны, вытягиваются.
Другое дело, когда поезд идет назад. Тогда паровоз не тянет
за собой вагонов, а толкает их перед собой, так что вагоны сдви¬
гаются.
В нашей загадке первый раз поезд остановился на мосту с зад¬
него хода, а второй раз остановился, когда шел вперед.
Поэтому первый раз поезд был короче.
Загадка парикмахера
Парикмахер не мог выполнить этого условия. Он брился сам. Поэ¬
тому он не должен был брить себя, так как тех, кто брился сам, он
не имел права брить. Таким образом бриться он не мог.
Но и не бриться он также не мог, так как тех, кто не бреется, он
должен был брить. Получается заколдованный круг.
Загадка охотника
Птицы, живущие на деревьях, обыкновенно прыгают по земле, так
как они не умеют ходить. Птицы же, которые живут на земле, не
прыгают, а ходят. На рисунке видно, что одна из птиц прыгает (та,
которая ставит лапки рядом), а другая ходит (лапки поставлены
одна за другой).
Значит, первая птица живет на деревьях, а вторая на — земле.
Проза [356]
Загадка гвоздильщика
i
Раскрываются все три булавки в одной цепочке, и теми булавками
соединяются все остальные цепочки.
Загадка рабочего с монетного двора
Обыкновенно думают, что один раз. А на самом деле два раза.
Загадка слесаря
Вот как запиралась дверь тремя замками. Каждый может отпереть
только свой замок и войти в комнату.
До утра сидели спорщики.
Так и не решили, кто хитрее.
Может быть, ты решишь?
146
БЕЗ РУК, БЕЗ ТОПОРЕНКА ПОСТРОЕНА ИЗБЕНКА
УЧЕНЫЕ И НЕУЧЕНЫЕ ЗВЕРИ
В цирке звери всякие фокусы показывают. Мыши в колокол бьют,
птицы из пушек стреляют.
А публика смотрит, как они дурака валяют, и потешается. Ва¬
лять дурака зверей учат люди.
Без рук, без топорЕнка построена избЕнка [357]
А вот дикие, неученые мыши и птицы делают фокусы куда по¬
хитрее. Только не на потеху публике, а себе на пользу.
Есть такой маленький зверь, что дома себе делает из воздуха.
Вот это фокус так фокус! А есть такая птица, что шить умеет.
В этой книжке рассказано, какие удивительные дома стро¬
ятся на больших деревьях и на стебельках травы, в земле и под
водой.
ДОМ-КОШЕЛЕК
Ездил путешественник по жарким странам. Видит: на ветках
деревьев висят кошельки, сумки, корзинки. Кто это все пона-
весил?
Птица ткач. Она плетет дом, точно чулок вяжет. Есть малень¬
кие домишки с кулачок, а есть огромные, на сто птиц. А сделано
все это из палочек, корешков, из листьев и соломы.
ТРИ ЭТАЖА ИЗ БУМАГИ
Кто такие дома строит? Бумажная оса.
Одно гнездо подвешено к другому на прочной бумажной лен¬
точке.
Дунет ветер — качаются все три этажа.
Откуда же осы бумагу берут? Сами делают. Сядет бумажная
оса на забор или на скамейку и начинает отдирать тоненькие дре¬
весные волокна. Потом пожует, пожует — и готова бумага. Дела¬
ет она бумагу разных сортов. То вроде промокательной, то вроде
клеевой, а то плотную, как картон.
ДОМ НА СОЛОМИНКЕ
Это мышь-малютка. Дом у нее сплетен из листьев и стебель¬
ков и висит на соломинке.
Влезет малютка в гнездо, свернется и заснет. А соломинка все-
таки не ломается, потому что мышь-малютка очень легкая.
СЛАВКА-ПОРТНОЙ
А эта птичка шить умеет. Вместо иголки она работает клювом.
Вместо ниток у нее — паутина.
Проза[358]
Сошьет она несколько листьев вместе. Получится удобный паке¬
тик. В этом пакетике славка устраивает мягкое, теплое гнездо.
ПЛОВУЧИЙ ДОМ
Наши домашние пауки по целым дням в углу торчат. А вот есть та¬
кой паук, что не любит сидеть на одном месте, все путешествует.
Его так и зовут: паук-путешественник.
У него и дом вместе с ним странствует. Соберет паук несколь¬
ко листьев, свяжет, склеит их паутиной и спустит свой дом на во¬
ду, как плот.
Плывет, куда захочет, а вместо руля и весел у паука ноги.
ДОМ ДЛЯ КОРОВ
Муравей не только себе дом строит, а и своим коровам.
Корова у муравьев не такая, как у нас. Крошечная, меньше бу¬
лавочной головки, зеленого цвета, и называется тля. Тля дает не
молоко, а цветочный сок.
Муравьи очень любят этот сок и потому берегут своих коров.
Строят для них дома в виде маленьких шариков на листьях и на
траве.
РЫБИЙ ДОМ
Колюшка — рыбка мелкая, костистая, есть в ней нечего. Рыба¬
ки всегда сердятся на колюшку. Эта рыбка то и дело попадается на
удочку и мешает ловить хорошую рыбу.
И вот такая нестоящая рыбка, оказывается, отлично умеет стро¬
ить прочные, хорошие дома. Плетет она их из водорослей и травы.
Получается круглое, как мяч, гнездо.
ДОМ ИЗ ВОЗДУХА
А паук-водянка строит себе дом из воздуха.
Живет он под водой, на дне болота. Захочется ему построить
дом, растянет он паутину между травами под водой и всплывет
наверх за материалом, за воздухом.
Как же он воздух к себе на дно доставляет? А очень просто.
Когда он ныряет, образуются пузыри. Это воздух. Вот паук эти пу¬
Без рук, без топорЕнка построена избЕнка [359]
зыри и подкатывает под свою паутину, пока она не вздуется кол¬
пачком. В этом колпачке, как в водолазном колоколе, паук и жи¬
вет. И воздуху у него вволю. Не нужно каждый раз наверх подни¬
маться, чтобы воздуху глотнуть.
ПОДЗЕМНЫЕ ДОМА
Крот не строит, а роет. Никакого материала ему не нужно. Весь
его материал — земля.
А дом у него все же хитро устроен. Сколько ходов и переходов
у него в доме, что любой зверь заблудится. Есть у него и круглые
комнаты, и целые залы, и коридоры для вентиляции.
Роется крот в земле очень быстро потому, что когти у него
острые и крепкие, как лопата.
ДОМ С КРЫШКОЙ
На острове Корсике живут пауки-землекопы. В земле па¬
ук роет глубокий, круглый колодезь. Стены он обивает красивой
шелковой тканью, которую сам тут же делает.
Квартира готова. Тогда землекоп делает из земли и листьев
дверь. Дверь получается круглая и твердая, как медный пятак.
Снаружи ее нельзя заметить, она сливается с землей, а изнутри
она обита шелком. Как только паук услышит, что кто-то бродит
вокруг его жилья, он бросается к двери и крепко цепляется за нее.
Из норки своей землекоп вылезает только ночью. Света он бо¬
ится. Если подержать землекопа на солнце, он слабеет и не может
пошевельнуться.
Вот какие ловкие мастера работают на больших деревьях и на сте¬
бельках травы, в земле и под водой. Посмотришь на их постройку,
и скажешь: «без рук, без топоренка построена избенка».
Проза[360]
147
ЖИВЫЕ ЗАГАДКИ
Жил во Франции один человек. Звали его Поль Жур. Всю жизнь он
ловил бабочек. Уже шесть тысяч бабочек поймал Жур, только од¬
ной бабочки у него не было — индийского мотылька к а л л и м а.
Каллима водится на далеком острове Суматре, где всегда жарко.
Вот Жур и поехал туда.
На острове Суматре он разыскал проводника и пошел с ним
в лес. Только вошли они в лес, вдруг видят: вылетает из кустов ба¬
бочка, да какая бабочка! Ее как будто выкупали в красных черни¬
лах и присыпали золотым порошком. А на каждом крыле у нее по
желтому цветку. Проводник сказал: это каллима.
Погнался Жур за бабочкой. Уже догонять стал.
И вдруг бабочка пропала. Будто в воздухе растаяла.
Шарит Жур глазами по кустам: нет бабочки.
— Ничего, — говорит проводник, — мы ее найдем. Она где-ни-
будь тут же под носом сидит, только ее не видно. Когда она закро¬
ет крылышки, она похожа на сухой листик.
Тут только понял Жур, в чем дело. Он давно уже знал, что насе¬
комые умеют играть в прятки: одни из них делаются похожими на
листья, другие на кусочки коры, третьи на веточки или соломин¬
ки. Притворяются они для того, чтобы их не заметили и не съели.
Хорошо быку — у него рога. У волка — зубы. У слона — клыки.
Им прятаться не нужно. А слабой бабочке чем защищаться? Вот у нее
и раскрашены крылышки так, чтобы ей легче было прятаться в кустах.
Набрался терпения Жур и стал ждать: не век же ей на одном
месте сидеть! Так и есть. Через несколько минут каллима взлетела
опять. Тут Жур ее и прихлопнул шляпой. Теперь можно было хо¬
рошенько рассмотреть редкую бабочку.
Только одна верхняя сторона ее крылышек так ярко раскраше¬
на. Изнанка же вся разрисована коричневыми и серыми жилками.
Полетит бабочка — на цветок похожа. Сядет, сложит крылья — су¬
хим листиком делается.
Бывают в книжках занятные загадочные картинки. Нарисова¬
ны деревья, дома, а среди них спрятался человек. Его-то и нужно
найти, чтобы разгадать загадочную картинку.
А бывают и живые загадки—не в книгах, а в лесу, на кустах, на де¬
ревьях. В этой книжке несколько таких живых загадочных картинок.
Живые загадки [361]
На этой ветке сидят две бабочки и одна гусеница.
Верхние два листа — левый и правый — это бабочки, а ниж¬
ние два листа — это уже настоящие листья.
Левая бабочка — та, что потемнее и поменьше — это и есть
знаменитая каллима — индийский мотылек.
Правая бабочка —-персидский мотылек.
Теперь смотрите не на каллиму, а чуть пониже.
Видите толстый сучок? Это не сучок, а тоже живая загадка: гу¬
сеница бабочки бузинной пяденицы.
В зеленых ветках спрятались три зеленых гусеницы бабочки сос¬
новой совки, а на коричневой коре сидит коричневая гусеница ба¬
бочки молодки.
Проза [362]
Тем, кто не читал подписи, сначала бывает очень трудно найти
коричневую гусеницу.
А совсем внизу поместилась гусеница бабочки психеи. Она обле¬
пила себя зелеными листьями и в таком наряде прячется от врагов.
Больше всего разных насекомых прячется на коре деревьев.
Здесь нарисовано два жука и бабочка.
Тот жук, что слева, называется дровосеком.
У него огромные усы, которые он тащит за собой как веревки.
Видите?
Справа — жук-разведчик.
А внизу поместилась бабочка сосновый бражник.
Покажите этот рисунок своему знакомому и сейчас же спрячь¬
те. Потом спросите у него, сколько листьев насчитал он.
Живые загадки [363]
Знакомый ваш никогда не догадается, что на этой ветке с сухи¬
ми листьями спрятались две бабочки...
Этих бабочек можно отличить от листьев только по их усикам.
На этой картинке тоже трудно сразу разобрать, сколько тут ли¬
стьев и сколько бабочек.
На левой ветке сидят две бабочки желтые совки. На пра¬
вой ветке вверху сидит одна желтая совка...
На двух листах поперек положен третий лист.
Этот верхний лист не что иное, как насекомое — листовидка.
Ее так и называют странствующим листом.
Проза[364]
Листовидна до того научилась притворяться, что даже яички
откладывает с хитростью: они точь-в-точь похожи на семечки то¬
го растения, на котором листовидка живет.
Два страшных хищника — американские богомолы —
сидят на ветке.
Почти все насекомые подделываются под цвет листьев, чтобы их
не съели, а богомол прячется для того, чтобы есть других. Он целы¬
ми часами сидит неподвижно среди листьев и выслеживает добычу.
Чуть только какая-нибудь неосторожная муха или зазевав¬
шийся паук попадутся ему на глаза, он незаметно и осторожно,
как кошка, подкрадывается к жертве и хватает ее.
В жарких странах бывают такие богомолы, что нападают да¬
же на птичек.
Живые загадки [365]
На сосновой коре притаилась ночная бабочка — молодка. Днем
отдыхает, летает только ночью. Молодка — очень крупная бабоч¬
ка, и, когда она летает вокруг дерева, ее можно принять за малень¬
кую летучую мышь.
Мыужевидели листовидку,авотздесьнарисованытри стеб-
левидки — две коричневых и одна зеленая.
Самый зоркий человек не может заметить стеблевидку, когда
она спит. Она тогда прижимает к туловищу лапки и делается по¬
хожей на стебель или на сухую палочку.
А бывают и целые палки — в аршин длиной.
Лежит себе такая палка на земле, — никому до нее нет дела.
А когда стемнеет, эта палка вдруг задвигается и поползет по зем¬
ле. Это палке есть захотелось — на охоту пошла.
148
СОЛЬ
I. У КОНТОРЫ
Замечательный случай был на соляном руднике № 10 в Донбассе.
Всякий, наверное, слыхал о Донбассе — особенно в двадцатом
году.
Почти ежедневно в газетах писали о богатствах Донбасса:
«Донбасс — всероссийская кочегарка», «Спасти Донбасс — спа¬
сти республику», «Все для Донбасса».
Проза [366]
Что же в нем такого замечательного было, в Донбассе, в Донец¬
ком бассейне?
Если смотришь из окна вагона, — голая степь, холмы и овраги,
да откуда-нибудь из-за холма торчит, как огромный палец, труба.
А то и штук десять кирпичных труб.
Где же тут богатства?
Под землей!
Сверху — голая степь, а внизу в глубине — каменный уголь,
железная руда, соль. Это ли не богатство? Без угля и без руды ста¬
нут заводы и фабрики, а зачем соль — всякий знает.
Недаром в те годы около конторы соляного рудника № 10 соби¬
ралась каждый день целая ярмарка.
Арбы, телеги, тачанки, мажары, линейки, дрожки. Шум как на
пожаре. Тут быки стали на дороге и никому проезду не дают. Укра¬
инец в широких штанах, с огромным кушаком, орет: «Цоб! Цобэ!»,
а быки как будто не понимают. Мотают башками, деревянное яр¬
мо на толстых шеях трещит, — а мажара ни с места. А там лошади
кричат, бьются, одна в постромках запуталась, упала — верблю¬
дов испугалась. А верблюды тянут огромную телегу, покачивают
длинной шеей. Ни до чего верблюдам дела нет. Только когда здо¬
ровенный жеребец злобно взвизгнул рядом и ударил оземь копы¬
тами, — один из верблюдов повернул к нему голову и плюнул же¬
ребцу прямо в глаза.
Украинцы из-под Киева, из-под Харькова, калмыки из Донских
степей, орловцы, костромичи, куряне, — чуть не со всей респуб¬
лики съехался сюда народ соль выменивать. В садике около кон¬
торы сложены мешки с мукой, с зерном, с кукурузой, орут гуси, ут¬
ки, поросята. Толпа суетится, гудит, ждет очереди — и не думает
о том, что в земле под ногами — пустота.
Глубоко в земле под конторой, под полем — огромные норы
в тридцать саженей высоты. И все эти норы прорыты в соли. На
три версты тянутся подземные соляные улицы, и там кипит рабо¬
та — добывают ту самую соль, за которой съехалось столько на¬
рода.
II. ПЕРЕПОЛОХ
Председатель шахткома Васька Косых вышел в степь козу искать.
Старуха мать беспокоилась — коза обедать не пришла.
Соль [367]
Козу Васька встретил у самого поселка. Она бежала домой по
пыльной дороге, впопыхах, будто чувствовала, что опоздала.
День был жаркий, и Васька решил: «Все равно пройдусь, пусть
ветерком обдует».
По краю дороги тянулись курганы. На верхушке каждого кур¬
гана — яма, поросшая травой. Давно когда-то вырыли эти ямы —
клад искали.
Взобрался Васька на курган, глянул в степь — и ахнул. По сте¬
пи прямо на поселок летело полукругом густое облако пыли.
Что ж это такое?
Ветер маленький, а облако летит быстро, все ближе и ближе.
Васька нырнул в яму на кургане и зарылся в высокую траву с го¬
ловой. Понял он, что это за облако.
Из пыли заблистали обнаженные шашки. Вот уже видны боро¬
датые лица, папахи с белыми нашивками.
— Налет! Кадеты!
У самого кургана, где прятался Васька, задержалась ка¬
зачья сотня. На здоровой рыжей лошади — есаул. Длинный,
тонкий, волосы белые, как седые, ресницы тоже белые, а глаза
красные, наверное от жары да от пыли. А голос тонкий, буд¬
то детский.
И говорит есаул своим детским голоском:
— Чтобы эта сволочь не удрала, — поселок оцепить! Руби
с оглядкой. Больше пугай. А то вы мне для суда никого не остави¬
те. Кого же мне на площади вешать-то?
И говорит он так, будто сейчас заплачет.
Разделилась сотня и разъехалась в разные стороны. Нале¬
тать сговорились разом, с четырех сторон, по выстрелу. У курга¬
на осталось человек двадцать с есаулом. Подождал есаул с полча¬
са и выпалил из нагана.
Что тут поднялось!
Сначала — визг, — казаки завизжали. Потом — пальба. По¬
том — вой, грохот, — ничего не разберешь. Выскользнул Васька
из ямы и пополз травой, потом — по дорожке, и бегом к шахте.
Во все стороны от поселка несутся телеги, разбегается приез¬
жий народ. Иные телеги без хозяев, перепуганные кони несут без
удержу, через степь, не глядя куда.
А потом вдруг пламя — контора горит.
Бежит Васька к шахте и кулаком грозит. Обидно предшахтко-
му: только работа полным ходом пошла — и на тебе. Сколько на¬
Проза[368]
роду перебьют, машины попортят. Бежит Васька и ругается. А над
селом стон стоит.
III. ГОСТИ
Васькина мать, Степанида, глуховата. Ни шуму, ни пальбы не слы¬
хала. Козу встретила, напоила, опару поставила. Возится около
печи и думает: чего это Васька не идет?
Только хотела Степанида во двор выйти за углем — как ахнет
кто-то в дверь. Окно звякнуло, посыпалась известка. Старуха со
страху ведерко и лопатку уронила.
А в дверь колотят без остановки. Старуха кричит:
— На себя тяните! На себя! Отперто!
Не слышат. Бьют и бьют. Стена затрещала, хрустнули петли,
дверь обрушилась на пол и ведерко расплющила. Старуху едва не
задавило. А в комнату ворвались два казака. Один молодой — сра¬
зу к печке, потом к столу, схватил молоко, пьет и ругается:
— Эй, старуха! Почему молоко козье? Я ж его не люблю!
А который постарше, бородач, глаза пьяные, сел на деревян¬
ную койку и спрашивает:
— Эй, госпожа товарищ! Вы куда мужика спрятали?
Степанида приложила ладонь к уху и трясется. Ноги не держат,
вот-вот на пол сядет.
— Недочуваю, служивый. Недочуваю...
— Недочуваешь? — ехидно спросил бородач — и вдруг как
бацнет в потолок из винтовки.
— А это чуешь? Где мужик? Говори, ведьма!
— Вдовая, вдовая!
— Вдовая? А башибузук твой где? Сын где?
Про сына казак на авось спросил, везде так спрашивал, —
а Степанида и обомлела. Уставилась стеклянными глазами поверх
папахи, а в голове одно:
— Поймали... поймали... не успел убежать...
— Чего ты? Родимчик напал, чи что?
Бородач захохотал, молодой допил молоко, выстрелили разом
из двух винтовок в потолок и вышли.
— Айда по другим хатам! Гляди, подживемся.
Степанида доплелась до кровати и легла. Не то спит, не то ду¬
мает.
Соль [369]
IV. ФЛАГ
На площади стоит стол. За столом сидит есаул, подперся обеими
руками, как будто засыпает. Глаза по-прежнему красные.
Казачья сотня выстроилась позади, а перед столом пленный,
старик лет семидесяти. В хате у него нашли портрет Артёма —
шахтерского вождя.
Есаул поморгал белыми ресницами, сказал плачущим голосом:
— Ты зачем Россию продал? Погань ты этакая!
Старик молчал.
Есаул поднял глаза кверху, опять заморгал, будто хотел вспом¬
нить, — о чем еще старика спросить, — и вдруг встрепенулся.
Он увидел на высокой кирпичной трубе спицу, а на спице крас¬
ный флажок полощется по ветру.
Вскочил есаул, треснул ручкой нагана по столу, глаза еще
больше покраснели.
— Это почему? А?
Старик молчал.
— Тряпочка почему? А? Снять! Это я тебе говорю, старик! По¬
чему молчишь? А? Лезь наверх!
Старик молча засучил штанину и показал есаулу ногу. Нога —
распухшая, белая, синие жилы по ней узлами.
— Не смей разговаривать! Разгоню! Раз...
Есаул сел и, на этот раз, как будто на самом деле заплакал.
Это он закашлялся.
Старик потоптался на месте и тяжелым шагом медленно дви¬
нулся к трубе.
Он уцепился за первую железную скобу на трубе, вздохнул
и полез. Казаки оживились, заругались, засвистели.
У десятой скобы старик остановился: ноги не держат, колени
трясутся. Глянул вверх — далеко! Глянул вниз — сажени четы¬
ре... Обеими руками обхватил трубу. Голова закружилась. Он сто¬
ял неподвижно, только ногтями кирпичи царапал... И вдруг даже
казаки замолчали.
Старик качнулся назад, вперед, закрыл руками глаза — и со¬
рвался. Боком грохнулся оземь.
Его унесли.
На трубу полез молодой, вихрастый казак. Добрался до спицы
и разодрал красный флаг на клочки. На месте красного флага по¬
вис трехцветный, с царским орлом на углу.
Проза [370]
V. В ШАХТЕ
Тихо в шахте, будто праздник. В огромных соляных залах — пу¬
сто. Высоко на стенах горят электрические лампы, а соль кругом
них сверкает, как лед под солнцем. На рельсах то тут, то там сто¬
ят вагонетки, доверху груженые соляными глыбами. На сером по¬
лу валяются ломы и лопаты.
Местами в соляных стенах выступы. Под выступами черные
кружки, это заложены бурки — динамитные патроны. Между па¬
тронами белеет тонкий шнур: готовились рвать бурки, добывать
новые соляные глыбы. Видно, работу бросили вдруг, сразу.
Тихо.
Слышно только, как жуют в подземной конюшне слепые кони.
И вдруг — гул. Такой гул, что даже кусочек соли упал с потол¬
ка. По всем залам эхо заговорило: хо! хо! хо!
Смеются!
Такой хохот идет по руднику, что даже лошади в конюшне обес¬
покоились и застучали копытами по деревянному настилу.
В самом дальнем тупике, у врубовой машины — митинг. Чело¬
век пятьдесят шахтеров смотрят на предшахткома, на Ваську Ко¬
сых — и хохочут. Слова ему сказать не дают — такой грохот под¬
няли. А Васька стоит на врубовке и машет руками на товарищей,
чтобы успокоились. Помашет, помашет — и сам закатывается,
чуть с врубовки не падает. Поскользнуться на ней легко: она —
как стальная кадушка без дна, положенная боком.
Взмахнул Васька руками в последний раз, чтоб ребята замолча¬
ли, — поскользнулся и сел верхом на врубовку. Еще больше смеху!
Даже старик — тот, что третьего дня с трубы сорвался — и тот за¬
смеется и охнет, за голову схватится. Его с пораненной головой тай¬
ком из больницы сюда спустили. А есаулу доложили — помер, мол.
Поглядел Васька на шахтеров и нахмурился.
— Смеяться завтра! — крикнул он. — Завтра зубы проветри¬
вать будете. А сейчас все, как я надумал — так и делай! А то с ва¬
шими смехами насидимся тут покуда просолимся, как те селедки.
Соковченко!
— Здесь!
— Шматков!
— Здесь!
— Подымайся на-гора и веди всю политику, как велено. Да не
враз, а полегче, как та врубовка в стену идет: сперва помалу, а по-
Соль [371]
том в-ж-ж-ж-ж-жик! — и готова тебе соляная кадушка! Так и вы
действуйте. Ясно? А есаулу говори все, как я надумал. Напирай¬
те, главное дело, что, дескать, весь поселок провалится. Они — ку¬
банские, рудника и во сне не видали. Они поверят!
VI. ВЗРЫВ
На рассвете есаулу доложили: по срочному, мол, делу шахтер Со-
ковченко.
Есаул принял его, сонный, лежа в постели. А как выслушал —
и сон прошел.
Только оделся есаул — уж другой шахтер спрашивает — Шмат¬
ков, — и тоже по срочному делу. Потом свой казак прибежал:
— Так что разрешите доложить! Худой слух в поселке...
Есаул совсем расстроился. Он велел позвать подхорунжего.
К часу дня казачья сотня выстроилась на площади. Спешилась. Во
главе с есаулом быстро пошли в шахтный двор. Разыскали ство¬
лового.
Есаул приказал:
— Мне нужно вниз, и обязательно живо! Чтоб в минуту вся
сотня была внизу! Понял? А? Живо!
Стволовой чуть усмехнулся.
— Спущу живо! С ветерком!
Он повел сотню в рудничное здание. Распахнул дверцу высо¬
кой железной клетки.
— Пожалуйте, ваше благородие, в клеть. По шесть человек за
раз опускаем. Больше никак.
Есаул спускался последним. Для него стволовой особенно по¬
старался. Клеть полетела вниз по стволу с такой быстротой, будто
сорвалась. Есаула по дороге даже стошнило.
Внизу стояла уже вся казачья сотня, сбившаяся в кучу.
В огромной соляной зале казаки совсем потерялись. Казалось,
что людей — горсточка.
Есаул заговорил — и по всем углам заплакало и запищало эхо.
Есаул поневоле перешел на шепот.
— Ребята! Предатели и эти... как их... бандиты засели тут,
в соли. Надо их гнать! У них разные заговоры. Немыслимо!.. Об
этом мне донесение было... Сюда к ночи принесут динамит, а они
его заложат и весь рудник взорвут. А если рудник взорвать — весь
Проза [372]
поселок провалится! Они, бандюки, ни жен своих, ни детей не жа¬
леют... Это хорошо? А? Нет, братцы, мы постоим! Сейчас они еще
без динамиту и без оружия. Так возьмем же их, братцы, голыми ру¬
ками... Ура?..
— Ура! — закричали казаки.
Есаул вытащил из кармана план шахты. Он поводил по пла¬
ну ногтем и разделил сотню. Одну полусотню повел подхорун¬
жий в обход, боковым коридором. Есаул с другой полусотней по¬
шел прямо.
Тихо было, как ночью. Соль скрипела под ногами. Прошли ша¬
гов сто — и вдруг бах!.. Весь воздух заревел. Огромная глыба со¬
ли рухнула в двух шагах от есаула. И разом стало темно, как ни¬
когда не бывает темно наверху на земле. Темнота точно навали¬
лась на глаза.
Есаул попробовал крикнуть — ура! — но горло перехватило.
Взрывы грохотали и сзади, и спереди, и слева. Орали казаки. С по¬
толка валилась соль, как сильный град. Кто-то задел есаула локтем
по лицу. Кто-то сбил с него папаху.
— Взрыв! Взрыв!
А у клети шел настоящий бой. Казаки лупили друг друга кула¬
ками, прикладами, ногами. Дрались за место в клети. Это отступал
со своей полусотней подхорунжий. Скоро подоспел сюда со сво¬
им отрядом и есаул. Бой закипел еще жарче, а шахта ревела все
страшнее и страшнее. Вот-вот обрушится на головы и соль, и зем¬
ля, и весь поселок! Стволовой еле успевал опускать и подымать
клеть.
Те, что вылазили на землю, — взлетали на коней и во весь
опор мчались из поселка. Есаул, без папахи, вскочил на чужого
коня и так страшно взвизгнул, что лошадь с места взяла в карьер.
Скорее, скорее вон из поселка! Затрещит, дьявол, провалится!
И вот исчезла сотня. Будто ее и не было в поселке.
А снизу все еще гудели взрывы, только никого они не беспоко¬
или. Такие взрывы каждый день бывают. Это рвались бурки, сры¬
вались новые глыбы соли, давно готовые для разработки.
У Васьки за этот день язык заболел. Каждый хотел обязательно
расспросить его самого, как это он придумал казаков напугать.
И Васька рассказывал в сотый раз, как он заметил в соляной стене
готовые бурки и шнур, как ему в голову пришло заманить сотню
Соль [373]
вниз и оглушить взрывами. А темно стало в шахте от того, что он,
Васька, сам перерезал провода. Его даже при этом током хватило
по руке, — всю руку судорога свела.
С этого дня казачьих налетов на поселок больше не было.
Должно быть, прошел слух среди белых, что рудник № 10 прова¬
лился сквозь землю. А кому охота на пустое место налетать?
149
ПРАЗДНИК
1
Каждый вечер я подходил к двери и подслушивал.
В комнате за дверью жил мой брат. По вечерам у него всегда
собирались разные люди и громко разговаривали.
Как-то раз я услышал:
— Ну, ребята, готовьтесь. Во вторник на той неделе праздник.
2
Я не дослушал.
Я побежал в другую комнату и снял со стены отрывной кален¬
дарь. Если правда, что праздник, значит красное число.
Я перелистал календарь. Число было черное. 19-е апреля.
«Обманули», — подумал я.
И чуть не заплакал.
3
Я очень любил праздники.
Мне было одиннадцать лет, и я работал на сталелитейном заво¬
де. Моя должность была — «мальчик». Это значит, я был в мастер¬
ской на побегушках.
После работы у меня всегда болели ноги. Вот почему я любил
праздники.
Проза [374]
4
Бывало, с осени заглядываешь в календарь и считаешь, сколько
красных листков на Рождестве.
Рождество, Пасха, Троица — церковные праздники. А бывали
еще и царские дни. То царь был именинник, то жена его, то дочки.
Назывались эти праздники мудрено — «тезоименитство».
Наш дворник лез на ворота и выставлял там флаг. Царский
флаг. Трехцветный. Наверху белая полоса, в середине синяя,
а внизу красная.
«Хоть бы побольше было у царя дочек, — думал я, — лишь бы
не приходилось из цеха в цех мотаться».
5
На другой день я пошел на завод. Там я опять услышал насчет
праздника.
Двое рабочих стояли у станка, и один из них сказал:
— Праздник через четыре дня будет. Надо знамена пригото¬
вить.
Тут я не вытерпел. Подошел к главному мастеру Глебу Ивано¬
вичу и спросил:
— Глеб Иванович, — а правда, что во вторник у нас праздник?
Глеб Иванович ухватил меня за вихор и прошипел:
— Праздновать захотелось? Постой, ты у меня в этот праздник
полы будешь в конторе мыть. Щенок!
б
А дома брат отозвал меня в угол и сказал:
— Вот что, Сёма. Ты мне помочь должен. Скоро будет празд¬
ник и нам надо красной материи да лент понасобирать. Ты, мо¬
жет, у матери да у сестер наворуешь. Только, смотри, молчи. Нико¬
му не проговорись!
«Что за праздник такой, — подумал я, — что и в календаре его
нет, и Глеб Иванович сердится, и проговариваться про этот празд¬
ник никому нельзя. И красные ленты зачем-то нужны».
Праздник [375]
7
У матери я стянул два кусочка кумачу, а у сестры, пока она спала,
выплел из косы красную ленту. Все это я принес брату.
— Молодец, — похвалил меня брат.
И положил все под подушку — и кумач и ленту.
8
Ну вот и вторник.
Рано утром в б часов загудели гудки на заводе. Значит, надо ид¬
ти на работу. Значит, нету праздника. В праздник гудки не гудят. Не
хотелось мне идти на работу. Да что ж поделаешь. Подхожу к сво¬
ей мастерской — тихо. У станков никого нету. А на стене приклеена
папиросная бумага. На ней бледными синими буквами напечатано:
9
Довольно!
Бросайте работу, товарищи! Остановите скоръе колеса.
Давайте сигнальный гудокъ.
Шире раскройте ворота мастерской. На улицу, товарищи!
Сегодня нашъ светлый праздникъ.
10
А дальше было написано вот что:
Сегодня особенный праздникъ. Его нътъ ни въ одномъ
календарь.
Въ этотъ день попы не звонятъ въ колокола и не слу-
жатъ молебновъ.
Они не собираютъ ни яицъ, ни куличей, ни блиновъ,
ни куръ, ни денегъ.
Къмъ же и для кого заведенъ этотъ странный празд¬
никъ?
Онъ заведенъ рабочими и для рабочихъ.
Проза [376]
11
Я продолжал читать:
Въ 1899 году въ городь Парижъ былъ Съезд рабочихъ
всего Mipa.
Пргьхали и нъмцы, и pyccide, и англичане, и шведы,
и итальянцы, и поляки. Во всемъ свътъ рабочимъ живет¬
ся не сладко. Они работаютъ по 12, по 14, а то и по 16 ча-
совъ въ сутки. И вотъ съъздъ постановилъ: пусть в день
1-го мая рабоч1е всьхъ странъ побросаютъ работу, вый-
дутъ на улицу и скажутъ:
— Мы требуемъ восьмичасового рабочаго дня!
И пусть день перваго мая навсегда станетъ праздни-
комъ для рабочихъ всего Mipa.
12
Не успел я разобрать этого объявления, как в мастерскую вбежал
Гпеб Иванович.
Он увидал, что в мастерской никого нету, затопал ногами и за¬
кричал:
— Расчет, расчет! Всем расчет! Дармоеды! В будний день вос¬
кресенье устроили.
Он подбежал ко мне, увидел, что я читаю, дал мне подзатыль¬
ника, сорвал со стены бумагу и заорал:
— Ты что это читаешь? В острог захотел?
В первый раз я услышал, что за бумажку в тюрьму сажают.
13
У ворот собрались рабочие. Между ними мой брат. В руках у него
четыре царских флага.
— А где же красное знамя? — спросил у него рабочий из на¬
шего цеха.
— Вот вам красные знамена, — ответил брат, — несите в лес.
— Да ведь это же царские.
— Ничего, — ответил брат. — Были царские, а станут проле¬
тарские, несите.
Праздник [377]
14
Мы взяли под мышки царские знамена и пошли по улице.
Навстречу нам попадались полицейские. Никто из них не об¬
ратил на нас внимания.
Мы спокойно вышли за город. А когда подходили к лесу, брат
взял у нас флаги, оторвал верхние полосы — белые, а потом ото¬
драл синие. Остались только нижние полосы — красные.
— Ну, вот вам и красные знамена, — сказал он.
15
Вдруг я услышал: поют. Никогда я еще такой песни не слышал:
Весь мир насилья мы разроем
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим.
Кто был ничем — тот станет всем.
Много народу поет, а никого не видно. Мы прошли еще шагов сто,
и вдруг я увидел большой овраг, а в нем людей, что муравьев.
16
А на пригорке в двух шагах от нас стоит человек с черной бородой
и в очках и кричит не своим голосом:
— Товарищи! Сегодня мы празднуем великий день 1-го
мая.
— Какое же первое мая, — спрашиваю я брата. — Нынче
19 апреля.
Брат смеется:
— Это у нас в России еще апрель месяц. А во всем мире сегод¬
ня первое мая. У нас календарь неправильный.
17
А человек на пригорке закричал опять:
Проза [378]
— Товарищи! Во всем мире сегодня рабочие бросают рабо¬
ту и стройными рядами, со знаменами и с музыкой, ходят по
улицам, чтобы все видели силу рабочих. Мы еще не можем
делать даже этого. Если бы мы вышли со знаменами, нас пе¬
рестреляли бы солдаты и перехватала бы полиция. Мы еще
должны прятаться вот здесь, в овраге, и уходить за город. Но
придет день, когда рабочие победят, и тогда им уже не нужно
будет скрываться в лесу от глаз полиции и жандармов.
18
Я спросил у брата:
— Кто это говорит?
— Оратор, — ответил брат, — партийный товарищ. Больше¬
вик. Из комитета.
Я ничего не разобрал. Какой там комитет, да что за большевик
такой? А только понял, что человек это особенный.
Я все на него глядел и удивлялся, что голос у него такой гром¬
кий: каждое слово слышно.
Вдруг он закричал:
— Товарищи, уходите в лес.
19
Слышим — свистки. Длинные, переливчатые.
Толпа шарахнулась было. Зашумела. Стали давить друг друга.
А оратор поднял руку и всю толпу перекричал:
— Товарищи! Спокойствие. Уходите в лес. Только не все
сразу. Не бойтесь.
Только он это сказал, все остановились. Тихо стало. Слышно
было, как воробьи чирикают.
20
Потихоньку гуськом потянулись мы через лес на большую дорогу,
а оттуда кучками вернулись в город. Слышали мы позади и свист¬
ки, и крики, и лошадиный топот.
Праздник [379]
— Кто это за нами? — спросил я.
— Казаки и жандармы, — ответил брат. — Ничего. Через чащу
им на лошадях не пробраться.
Так и было. Не пробрались они через густой лес.
Дали они со злости два выстрела. Ворон в лесу перепугали.
21
Когда я шел по нашей улице к дому, меня обогнал один на лоша¬
ди. Жандарм.
В одной руке у него была нагайка, а в другой калоша. Калошу
кто-то из наших в овраге потерял.
22
Много лет прошло с тех пор.
В 1918 году первого мая я был в Москве. Во всех календарях
этот день был не черный, а красный. Большевики исправили ка¬
лендарь.
Вся Москва была в знаменах. Красные банты горели на руба¬
хах. Гудели гудки. Играла музыка. Со всех сторон собирался на¬
род. Собирался не в овраге, как раньше, а на Красной площади пе¬
ред кремлевской стеной.
23
На высокий помост взошел человек и начал речь:
— Товарищи! Сегодня во всем мире рабочие праздну¬
ют день первого мая. Но только мы можем праздновать этот
день свободно.
Будто я слышал где-то тот же голос. Я спросил:
— Кто это?
И мне ответили:
— Председатель Всероссийского центрального исполнитель¬
ного комитета товарищ Свердлов.
24
Я узнал старого «партийца из комитета». Такой же, как и был.
Только вместо очков — пенсне на шнурке. Да весь в кожу одет.
Проза [380]
150
ПРОХОР ТЫЛЯ
Прохор Тыля ударил кулаком по столу и сказал:
— Никогда!
И все повторили за ним:
— Никогда!
Знаете ли вы, кто такой Прохор Тыля?
Прохор Тыля самый отчаянный человек во всем Крижеке.
Знаете ли вы, что такое Крижек?
Крижек — это такой городок в Чехо-Словакии.
Итак, Прохор Тыля ударил кулаком по столу и сказал:
— Никогда!
Это значило, что никогда Прохор Тыля не позволит пионерам
праздновать Международную Детскую Неделю.
Прохор Тыля был начальником всех скаутов города Крижека.
— Мы расправимся с этими красными ошейниками так же, как
и в прошлом году, — сказал Прохор Тыля слушавшим его скау¬
там. — Мы должны...
Он не докончил. Дверь с шумом распахнулась, и в комнату вбе¬
жал скаут.
В правой руке он держал голубой листок.
Скаут положил листок перед Прохором Тылей и сказал:
— Вот.
— Что это такое? — спросил удивленный начальник скаутов.
— Это объявление пионеры расклеивают по всему городу, —
ответил скаут. — В нем написано, что завтра вечером в старом
цирке, что на Башенной улице, будет устроен митинг.
— Какой митинг?
— Пионерский. По случаю Международной Детской Недели.
— A-а, это очень хорошо, — улыбнулся Прохор Тыля.
Прохор Тыля [381]
— Надо заявить полиции, чтобы она запретила, — крикнул кто-то
из задних рядов.
— Ничего подобного, — остановил его Прохор Тыля. — Ни¬
чего подобного. Наоборот, я буду просить полицию, чтобы она не
мешалась. Я хочу драться.
И он продолжал:
— Бояться нам нечего. Нас двести пятьдесят человек, а пионе¬
ров всего только семьдесят. Пусть они соберутся в цирке, а мы за¬
прячемся в соседнем саду. И как только у них начнется митинг, мы
кинемся туда и покажем им детскую неделю. Как в прошлом году.
Весь цирк был оклеен голубыми бумажками:
— Здесь сегодня митинг пионеров.
Шагов за пятьсот от цирка раскинулся большой тенистый сад.
Там с самого полудня расположились скауты. Когда стемнело,
в сад явился сам Прохор Тыля.
— Ну, как? — спросил он.
— Да пока еще никто не пришел.
— Должно быть, еще рано, — сказал Прохор Тыля. — А во
сколько часов назначен митинг?
Маленький курчавый скаут достал из кармана голубую бумаж¬
ку и перечитал ее чуть ли не в десятый раз.
— Тут ничего не сказано насчет времени, — удивленно ска¬
зал он.
Прошло полчаса. Потом еще полчаса. Потом еще полчаса. Было
уже совсем темно. На дереве закричала сова.
— Странно, очень странно, — сказал Прохор Тыля. — Неуже¬
ли никого нет?
Вдруг в цирке заиграла музыка.
«Должно быть, скоро начнется», — подумал Прохор.
И приказал послать в цирк разведчиков.
Проза[382]
Полицейский Адольф Холупка проходил мимо сада и напевал про
себя старинную песню:
Ах, все на свете
Лишь только сон...
Вдруг ему почудились какие-то странные шорохи, осторожный
разговор.
«Это в саду», — подумал Адольф Холупка и мигом взобрался на
забор. По саду бесшумно двигались какие-то тени.
— Эй, кто тут? — закричал полицейский и электрическим фо¬
нариком осветил ближнее дерево. Под деревом стоял его друг
и приятель Прохор Тыля.
Адольф Холупка спрыгнул в сад и спросил:
— Господин Тыля, что вы здесь делаете?
— Ничего особенного, — ответил Тыля, — поджидаю пионе¬
ров. Они тут митинг должны устраивать.
— Постойте, постойте, — сказал Холупка, — да ведь у них уже
был сегодня один митинг.
— Когда? — закричал начальник скаутов, хватая полицейско¬
го за рукав.
— Да наверное уже часа три прошло, как пионеры разошлись.
Вы ведь сами прислали вчера нам записочку, чтобы мы не запре¬
щали пионерам устраивать праздник.
— Да, кстати, — сказал Адольф, доставая из бокового кармана
вчетверо сложенный листок. — Когда пионеры расходились, они
подарили мне вот это. Посмотрите-ка.
При свете фонаря Прохор Тыля прочел:
—Долой розги и карцеры в школе!
—Долой попов!
— Не смейте мучить детей на фабриках и заводах!
Дальше он и читать не стал. Но полицейский настойчиво про¬
тягивал ему листок:
— Возьмите, возьмите, это ваш. Они подарили мне два листка.
Один для меня, а другой для вас.
Прохор Тыля [383]
*
— Как для меня? — с воплем спросил Прохор.
— Так, очень просто. Подходят ко мне и говорят: вот, мол, этот
листочек вам, а этот передайте Прохору Тыле. Он сейчас, навер¬
ное, около цирка гуляет.
Полицейский вздохнул и продолжал дальше:
— Да, говорят, передайте, мол, ему привет и спросите, как ему
понравилась музыка.
— А, так это все было подстроено, значит, — закричал началь¬
ник скаутов, — значит, они все пронюхали и нарочно музыкантов
своих подослали? Ну так мы этих музыкантов проучим!
Он выхватил из кармана серебряный свисток и засвистел сбор.
— Тише, тише, — остановил его Адольф Холупка. — Вы
с музыкантами-то не очень. Это не кто-нибудь, а наши полицей¬
ские из музыкального полицейского кружка.
— Я ничего не понимаю, — простонал Прохор.
— Да тут и понимать нечего. Сегодня утром к нам приходят
пионеры и предлагают нашим музыкантам: «Вот вы, говорят, ре¬
петицию будете сегодня устраивать, так давайте поменяемся по¬
мещениями». Ну а наши, ясно, обрадовались. У музыкантов поме¬
щение было сырое, неудобное, ну а в цирке-то просторно и никто
не мешает. Потом, когда пионеры ушли, наш капельмейстер все
смеялся и говорил: обдурили детишек.
— Обдурили, — мрачно согласился начальник скаутов города
Крижека.
151
ОТТО БРАУН
1. ОПАСНЫЙ ПРЕСТУПНИК
Господин Оке выпил шесть бутылок пива и съел одиннадцать ра¬
ков. Пальцы у него стали солеными и мокрыми.
— Эй! — крикнул господин Оке, — дайте мне что-нибудь ру¬
ки вытереть.
Хозяин пивной принес ему вчерашнюю газету.
Господин Оке вытер газетой руки и хотел бросить ее в плева¬
тельницу. Вдруг он увидел на первой странице три слова:
Проза [384]
БЕЖАЛ ОПАСНЫЙ ПРЕСТУПНИК
Господин Оке сейчас же положил газету на стол, бережно рас¬
правил ее и стал читать.
Вот что было написано в газете:
«Уже полтора года в берлинской тюрьме МОАБИТ сидел извест¬
ный коммунист — писатель Отто Браун.
Вчера к нему пришла его невеста Ольга Бенарио.
Они сидели в приемной и разговаривали. Жандармы охраня¬
ли их.
Вдруг в приемную ворвались семь коммунистов с револьвера¬
ми. «Руки вверх!» — закричали коммунисты. Жандармы подня¬
ли руки. После оказалось, что у коммунистов были незаряженные
револьверы.
Отто Браун, его невеста Ольга Бенарио и нападавшие спокойно
вышли из тюрьмы, сели в автомобиль и уехали».
Господин Оке прочитал заметку и начал смотреть картинки.
В газете были напечатаны портреты преступников.
Отто Браун — с большим лбом, в очках, бритый. Ольга Бена¬
рио — стриженая, худенькая, в кожаной тужурке.
Господин Оке свернул газету и положил ее в карман. Потом до¬
стал записную книжку и крупными буквами написал:
«ПОЙМАТЬ ОТТО БРАУНА».
2. ТАИНСТВЕННАЯ ТОРГОВКА
В кино шла картина «Ночной экспресс», с участием Гарри Пиля.
Господин Оке купил билет на балкон и сел в мягкое кресло.
Свет в зале потух, и картина началась.
Господин Оке чуть не закричал от удивления. На экране вместо
Гарри Пиля появился Отто Браун.
После Отто Брауна показали его невесту Ольгу Бенарио — де¬
вушку в кожаной тужурке. Потом появилась надпись:
КТО УКАЖЕТ МЕСТО, ГДЕ СКРЫВАЮТСЯ ОТТО БРАУН И ОЛЬ¬
ГА БЕНАРИО, ТОТ ПОЛУЧИТ НАГРАДУ В 5000 МАРОК.
Господин Оке вскочил и быстро выбежал из кино.
Отто Браун [385]
На улице он остановился, вынул блокнот и записал:
ПОСКОРЕЕ ПОЙМАТЬ ОТТО БРАУНА.
Господин Оке спрятал блокнот и пошел по улице. Он смотрел в ли¬
ца всем встречным. Все прохожие казались ему Отто Браунами.
Один Отто Браун в очках. Другой Отто Браун снял очки. Третий
наклеил длинную бороду, чтобы его не узнали.
— Я непременно поймаю Отто Брауна, — подумал господин
Оке, — и получу 5000 марок.
И он стал мечтать: что он купит на эти деньги.
Во-первых, автомобиль «Мерседес». Потом чемодан крокоди¬
ловой кожи с секретным замком.
У господина Окса была привычка записывать все в блокнот. Он
достал блокнот и записал:
1. Получить — 5000 марок
2. Истратить — 3000 марок
3. Купить:
a) авто нобиль
b) чемодан
c) гитару
d) чучело хорька
e) булавку
Что бы еще купить?
— Купите лимонов! — услышал он хриплый голос.
Это кричала старуха торговка.
Господин Оке посмотрел на нее. Лицо у старухи было все
в морщинах. На плечах болталась кожаная тужурка. На носу си¬
дели очки.
— Ольга Бенарио! — прошептал господин Оке. — Кожаная ту¬
журка, очки. Это она!
На перекрестке стоял полицейский. Господин Оке подошел
к нему и сказал:
— Прочтите про себя.
Он вырвал из блокнота листик и написал:
«Арестуйте торговку лимонами, что стоит на углу. Это опасная
преступница Ольга Бенарио».
Полицейский прочитал записку и сердито закричал:
Проза [386]
— Вы с ума сошли! Это моя двоюродная бабушка.
— Позвольте, — сказал господин Оке, — ведь на ней кожаная
тужурка.
— А что же ей носить, — ответил полицейский, — шелковый
полусак, что ли?
— Пожалуй, вы правы, — согласился господин Оке. — Но ведь
у нее также и очки!
Полицейский расхохотался.
— Вы перепутали приметы, дорогой мой. Очки носит не Ольга
Бенарио, а Отто Браун.
Господин Оке смутился. А полицейский взял его под руку
и сказал:
— Вам надо как следует изучить приметы Отто Брауна и Ольги
Бенарио. Вон около того кафе, что с зелеными огнями, вывешено
объявление с приметами бежавших преступников. Только в кафе
не заходите — там объявление давно уже сорвано. Хозяева сами
срывают, потому что публика сердится, особенно рабочие.
Он покачал головой и добавил:
— Да, в Берлине Отто Брауну раздолье. Рабочих тут много,
а рабочие нынче все за коммунистов. Поди, поймай его.
Господин Оке подошел к дверям кафе и увидел под фонарем боль¬
шую желтую афишу. На ней было напечатано:
5000!5000! 5000!
Пять тысяч марок тому, кто укажет место, где скрываются От¬
то Браун и Ольга Бенарио.
ПРИМЕТЫ ОТТО БРАУНА
ОБЩИЕ ПРИМЕТЫ. Рост средний, нос обыкновенный, гла¬
за серые, лицо продолговатое, волосы темные, говорит по-
немецки и по-русски.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕТЫ. Голова индийская; затылок пло¬
ский, напоминающий киль корабля; спинка носа прямолиней¬
ная; ухо коленчатое с наклонным контуром, с изолированной
сережкой; веки карманообразные; вокруг носа козелковые мор¬
щинки, над переносицей опоясывающая складка; вокруг кисте¬
образных бровей кожа слабой пигментации; глаз с форелевид¬
ными крапинками; взгляд уклончивый; зрачок грушевидный.
Отто Браун [387]
Господин Оке долго читал это объявление, но ничего понять не
мог. Он даже вспотел.
— Специальные приметы очень мудреные. Буду лучше искать
по общим приметам.
Он вынул блокнот и записал приметы Отто Брауна:
Рост средний, нос обыкновенный, глаза серые, ли¬
цо продолговатое, волосы темные, говорит по-
немецки и по-русски.
На Ольгу Бенарио он решил махнуть рукой.
— Чего ради их обоих искать. Больше пяти тысяч все равно не
дадут, хоть одного поймаешь, хоть обоих.
3. ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ ПАЛЬТО
Рано утром господин Оке пошел в городской сад.
Там было пусто. Только на одной скамейке сидел человек в чер¬
ном пальто.
Господин Оке сел с ним рядом. Человек в черном пальто подо¬
зрительно посмотрел на господина Окса.
— Странно, — подумал господин Оке, — очень странно.
Он посидел немного, и ему стало скучно. Он достал из кармана блок¬
нот и стал перечитывать приметы Отто Брауна. Он знал их наизусть:
нос обыкновенный,
глаза серые,
волосы темные,
лицо продолговатое,
говорит по-немецки и по-русски.
Господин Оке украдкой посмотрел на соседа. Тот разглядывал
свой ботинок серыми глазами.
— У него обыкновенный нос и темные волосы, — подумал
господин Оке. — Да уж не Отто ли Браун это?
Господин Оке обратился к незнакомцу:
— Скажите, пожалуйста, который час?
Незнакомец повернул к нему продолговатое лицо и ответил
на чистом немецком языке:
Проза [388]
— Не знаю.
— Он говорит по-немецки, — подумал господин Оке. — Все
приметы сходятся. Ясно, что это Отто Браун. Теперь надо узнать,
говорит ли он по-русски.
Господин Оке знал по-русски только три слова: самовар и Мак¬
сим Горький.
Но неудобно же так, ни с чего ни с того, лезть к человеку с са¬
моваром. Господин Оке запел вполголоса:
Тра-ля-ля, самовар,
Максим Горький, тра-ля-ля,
самовар, Максим, самовар.
Господин Оке пел и внимательно смотрел на человека в черном
пальто. А тот сразу встрепенулся. Глаза у него радостно заблесте¬
ли. Он улыбается. Да, он понимает по-русски. Теперь ясно: это От¬
то Браун.
Но как его доставить в полицейский участок? Ведь он по доро¬
ге убежит. Кругом ни одного полицейского, есть только на сосед¬
ней улице.
Вдруг незнакомец посмотрел на господина Окса и спросил:
— Скажите, пожалуйста, есть ли тут поблизости пивная?
Ура! Зверь сам идет в клетку.
— Я вас проведу в пивную, — сказал господин Оке, — тут ря¬
дом, на соседней улице.
И они пошли вместе в пивную. Как раз против пивной стоял
полицейский.
— Давайте, подойдем к нему, — попросил господин Оке. —
Я хочу спросить, который час.
— Давайте, — весело сказал незнакомец.
Вместе они подошли к полицейскому. Господин Оке раскрыл
рот, чтобы заговорить, но незнакомец перебил его.
— Арестуйте этого человека, — громко сказал он, указывая на
господина Окса. — Это известный коммунист Отто Браун. Он под¬
ходит по всем приметам. Нос у него обыкновенный, волосы тем¬
ные. Говорит по-немецки, а по-русски не только говорит, а даже
поет. Я сам слышал. Где можно получить за него 5000 марок?
— Позвольте, — закричал господин Оке, — это он Отто Бра¬
ун, а не я! Это у него обыкновенный нос. У меня необыкновенный
нос. Пять тысяч следует мне.
Отто Браун [389]
— Что-то много нынче развелось этих самых Отто Браунов, —
зевая сказал полицейский. — Вчера арестовали сорок штук да се¬
годня утром штук девять. Прямо с ума люди посходили. Ну да лад¬
но, я арестую вас обоих. В участке разберут, кто настоящий Отто
Браун, а кто поддельный.
— Пустите меня! — дико закричал господин Оке, — у меня
только общие приметы сходятся с Отто Брауном, а у него и специ¬
альные сходятся. У него индийская голова, у него плоский заты¬
лок, напоминающий киль корабля, у него коленчатое ухо с накло¬
ненным контуром и изолированной сережкой, у него...
— Успокойтесь, — ласково сказал полицейский и ударил гос¬
подина Окса резиновой палкой по голове.
4. ЧЕРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
К вечеру господина Окса выпустили. Он шел к себе домой и по до¬
роге слушал как по радио передавали газету.
Уличный громкоговоритель рычал басом:
— Где Отто Браун? Где Отто Браун? Спросите у полиции — она
выпустила чуть ли не тысячу сыщиков против Отто Брауна. А От¬
то Браун спокойно себе разъезжает по Берлину. На прошлой не¬
деле его видели в черном автомобиле. Отто Браун дразнит поли¬
цейских. Вчера в Моабитском народном доме на рабочем собра¬
нии читали письмо Отто Брауна. Отто Браун шлет привет всем сы¬
щикам и полицейским. Отто Браун пишет, что поймать его очень
трудно, так как его охраняют рабочие. И это правда: рабочие су¬
мели освободить Отто Брауна при помощи незаряженных револь¬
веров, а уж спрятать-то они его сумеют. Где Отто Браун? Где Отто
Браун? Спросите у полиции. Ау, Отто Браун!
Ночью господину Оксу приснился страшный сон. Снилось ему,
будто едет он безголовый в черном автомобиле, а за ним гонят¬
ся коммунисты и стреляют из незаряженных револьверов. Но вот
у него из шеи начинает расти индийская голова с обыкновен¬
ным носом, продолговатым лицом, коленчатым ухом и кармано¬
образными веками. Вместо коммунистов за ним гонятся уже сы¬
щики, целая тысяча сыщиков, и господин Оке сам не знает: он ли
это — господин Оке — или он уже не он, а Отто Браун.
Господин Оке просыпается в холодном поту. Потом засыпает
опять и видит новый сон: он стоит на коленях и пишет заявление
Проза [390]
о том, что он поймал, наконец, Отто Брауна, а рядом стоит полицей¬
ский, бьет его палкой по голове и тоненьким голосом жалобно поет:
— Успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь.
152
ПЕРВЫЙ СОВЕТ
1
— Кушка...
В семь часов вечера это слово еще было загадочно и непонят¬
но. Ровно через час о нем узнала вся Россия.
В восемь часов вечера телеграфные аппараты всех железнодо¬
рожных станций стали выстукивать тревожные сигналы:
«Товарищиг кровь стынет в жилах... помогите...»
Телеграф не работал уже больше недели. Это было в дни, когда
всю страну охватила почтово-телеграфная забастовка. Аппараты
молчали восьмой день. И вдруг они заговорили, нет, не заговори¬
ли, а закричали о помощи:
«Товарищи, помогите, кровь стынет в жилах».
Это — далекая, затерянная в закаспийских песках станция
Кушка в отчаянии взывала ко всей стране:
Сегодня, в пять часов вечера военно-полевой суд приго¬
ворил к смертной казни инженера Соколова и несколь¬
ких железнодорожников. Казнь назначена на рассвете.
Примите меры к недопущению.
Кто мог не допустить, кто мог остановить казнь, когда все находи¬
лось в руках царского правительства? Да и что можно сделать за
эти несколько часов, которые остались до рассвета?
А оттуда, из далекой Кушки, продолжали подаваться сигналы:
«Товарищи, помогите, кровь стынет в жилах».
2
Ровно в восемь часов эту телеграмму получил и граф Витте, глава
царского правительства, председатель совета министров.
Первый совет [391]
Не успел он еще как следует подумать над ней, а лакей уже
подал другую телеграмму. Она была написана коротко и реши¬
тельно:
Графу Витте.
Требуем немедленной отмены казни. Ждем до двенад¬
цати ночи. В случае неисполнения объявляем с 12 часов
ночи всеобщую забастовку железных дорог.
Под телеграммой стояла подпись, заставившая затрепетать все¬
сильного министра.
Он знал, что довольно одного слова людей, пославших теле¬
грамму, чтобы все поезда остановились.
— Ваше превосходительство, — вдруг раздался голос вошед¬
шего секретаря, — получены телеграммы от Киевского и Ярослав¬
ского железнодорожных узлов. Они объявят забастовку в случае
казни Соколова и товарищей.
Секретарь проговорил это и вышел. Потом, через несколько
минут, снова вернулся.
— Минский железнодорожный узел также грозит забастов¬
кой.
В течение двадцати минут секретарь входил и выходил не ме¬
нее десяти раз.
Со всех концов России летели телеграммы железнодорожни¬
ков. Все они грозили объявить забастовку в случае, если...
А в это время люди, пославшие графу такую дерзкую телеграм¬
му, терпеливо ждали. Изредка они поглядывали на часы. Стрелка
медленно ползла, приближаясь к 12 часам. Вот до срока осталось
только 20 минут, потом 10, потом 7.
Вдруг двери с шумом распахнулись, и в комнату ворвался за¬
пыхавшийся курьер. Он привез от графа Витте телеграмму на имя
коменданта крепости Кушка.
Смертный приговор отменить!
В этот момент часы показывали И часов 55 минут. До срока оста¬
валось всего 5 минут. Граф оказался аккуратным человеком.
Проза [392]
3
Люди, пославшие графу Витте телеграмму, называли себя Исполни¬
тельным Комитетом Петербургского Совета Рабочих Депутатов.
Все это происходило в 1905 году. Волны революции бушевали
по всей стране. Каждую неделю происходили забастовки, каждую
неделю ходили по улицам многотысячные толпы с красными фла¬
гами. Царский трон шатался.
Вот в эти-то дни и был организован в Петербурге первый в ми¬
ре Совет Рабочих Депутатов. 13 октября его основали сами рабо¬
чие фабрик и заводов...
Победоносно развивалась революция, успешно проходили за¬
бастовки, но все же власть оставалась в руках царского правитель¬
ства, все же оно расстреливало и вешало кого хотело.
А Питерский Совет с первых же дней начал разговаривать са¬
мым решительным образом. Такую силу не всегда имело даже цар¬
ское правительство.
4
— Слышали — царь выпустил манифест. В этом манифесте гово¬
рится о том, что теперь будет дана свобода.
— Конечно, слышал. Только вряд ли что из этого выйдет.
Такие разговоры слышались в этот день на всех перекрестках.
Это был день 17 октября 1905 года.
Царь действительно выпустил манифест.
Он обещал в нем и свободу, и Государственную думу, и другие
блага.
Конечно, всем царским обещаниям рабочие не верили. Вот что
писали «Известия Петербургского Совета» по поводу манифеста:
Дана свобода собраний, но собрания оцепляются вой¬
сками. Дана свобода слова, но цензура осталась непри¬
косновенной. Все дано и ничего не дано. Жалкие лжи¬
вые обещания даны с наглым расчетом обмануть народ.
Ни злодейский приказ «не жалеть патронов», ни преда¬
тельский манифест 17 октября не могут изменить такти¬
ки пролетариата. Чего не делает стачка, то будет добы¬
то вооруженным восстанием. Пролетариат Петербурга
Первый совет [393]
бодро и уверенно встречает грядущий день. Может ли
это сказать о себе г. Витте или его жалкий хозяин?
Под жалким хозяином подразумевался царь.
5
«Россия не повинуется законному правительству, а повинуется
правительству самозваному». Так писало о Совете Рабочих Депу¬
татов «Новое Время» — газета, стоявшая на стороне царя. В те дни
Совет уже всеми считался правительством. И царское правитель¬
ство бессильно было сделать что-нибудь против этого «самозва¬
ного» рабочего правительства.
Однажды с почты принесли письмо в синем конверте. На нем
стояло только три слова:
Петербург. Рабочему Правительству.
Письмо было доставлено Совету. Таким образом, все уже при¬
знавали его силу и считали его настоящим правительством.
6
Это была замечательная газета.
В день ее выхода толпы народа дежурили, ожидая свежего но¬
мера. Вырывали друг у друга из рук.
Такой смелой газеты до сих пор еще не было. На улицах разъ¬
езжали казаки и жандармы, людей сажали в тюрьму за каждое
лишнее слово, а в газете черным по белому было напечатано:
«Долой царя!»
В то время все дрожали перед генералом Треповым. Это он издал
знаменитый приказ солдатам:
«Патронов не жалеть!»
А через несколько дней после приказа газета ласково похвалила
генерала:
Проза [394]
«Кровавый подлец!»
Газета не боялась никого. Ее боялись все, кто боялся революции.
Для них это была страшная газета.
Ее запрещали, а она выходила открыто и свободно.
По утрам городовые, ежась от холода, покорно становились
в очередь и дожидались выхода номера. Они покупали газету для
своего начальства. А «первый человек после царя», граф Витте
написал в редакцию почтительное письмо:
«Высылая вам подписную плату, покорнейше прошу вас
высылать мне в течение года вашу уважаемую газету».
Вы, вас, вам... Граф был определенно испуган.
7
А печаталась газета так:
Однажды в типографию «Сын Отечества» явились какие-то лю¬
ди и объявили всем находившимся в конторе:
— Вы арестованы. Отсюда никто не выйдет.
У пришедших не было оружия, их было очень мало, но аресто¬
ванные, узнав, что в типографии должна печататься запрещенная
газета, сами обрадовались своему аресту.
— Может быть, вам помочь? — предложили они и очень обиде¬
лись, когда от их помощи отказались.
Как назло, в типографию непрерывно входили все новые и но¬
вые люди.
Сначала арестованные сердились, но, узнав, в чем дело, начи¬
нали улыбаться.
А в это время в наборной уже работали наборщики. К вечеру
газета вышла.
Когда в типографию явилась полиция — было уже поздно.
На следующий день то же самое произошло в другой типографии.
Управляющий сказал:
— Печатать вам не удастся. У нас нет электричества.
В Петербурге шла забастовка и электричества не было.
Управляющий уже несколько дней напрасно добивался света
хоть бы только для своей квартиры, но ему отказывали.
Первый совет [395]
Поэтому он злорадно смотрел на пришедших, думая, что те¬
перь им придется уйти, несолоно хлебавши.
Но те спокойно поговорили между собой и потом послали на
станцию человека с запиской.
— Как же, дожидайтесь, — подумал управляющий.
Прошло полчаса. И вдруг хлынул яркий ослепительный свет:
станция, узнав, что свет нужен для газеты, моментально подала ток.
Газета каждый раз печаталась в новой типографии. Полиция
следила, посылала своих агентов, но никогда не могла узнать,
в какой типографии будет печататься очередной номер.
Газета продолжала выходить.
Она называлась «Известия Совета Рабочих Депутатов».
Революционные газеты продаются на всех перекрестках,
и обыватели изумляются.
— У самого Зимнего дворца купил за пятак газету, а там откры¬
то говорят его императорскому величеству: «пошел вон». Вы по¬
думайте! У самого Зимнего дворца. За один пятак!
8
Всеобщая железнодорожная забастовка.
Омертвело свыше 40 тысяч рельсовых путей.
Изредка лишь показывался дымок паровоза, мчащегося по ли¬
нии с одним-двумя вагонами. Это делегаты железнодорожной ар¬
мии поддерживали связь между собой, объезжая свою дорогу.
В эти дни совет министров оказался отрезанным от царя. Ми¬
нистры не могли попасть в Царское Село с докладами. Они не мог¬
ли проехать и одной версты, а к услугам Совета и его делегатов
были все железнодорожные пути России.
Царские министры не могли послать ни одной телеграммы, но
Совет был связан телеграфом со всеми уголками страны.
В Совет каждый день приходили сотни людей, просивших раз¬
решения отправить какую-нибудь частную телеграмму.
Одна сенаторша обила все пороги у министров, желая послать
телеграмму. Была она и у самого Витте, но даже он ничего не мог
для нее сделать.
Тогда она обратилась в Совет:
— Умоляю вас переслать моему сыну телеграмму о смерти его
отца.
Проза[396]
Совет немедленно отправил телеграмму.
Всюду, где царское правительство было бессильно сделать что-
либо, Совету достаточно было сказать одно слово, чтобы все ис¬
полнилось в одно мгновенье.
9
Утро.
В помещении Совета толпы просителей.
Тут рабочие, прислуга, приказчики, крестьяне, матросы, сол¬
даты.
Вот слепой инвалид, участвовавший еще в русско-турецкой
войне. Он весь в медалях и орденах.
— Нужда одолела, — жалуется он делегату Совета, — нель¬
зя ли как-нибудь помочь? Вы уж нажмите, пожалуйста, на само¬
го (т. е. на царя).
В Совет очень часто приходили заявления из самых отдален¬
ных мест. Из Полтавской губернии один старик прислал письмо,
в котором жаловался на несправедливость князей Репниных.
«Я служил у них конторщиком 28 лет. А теперь они уволили
меня без объяснения причин. Прошу вас оказать давление на кня¬
зей Репниных. Может быть, примут обратно».
Сотни людей приходили в Совет, и почти всегда их просьбы
удовлетворялись.
Совет тесно связан с работой масс. От этого его власть все рас¬
тет и усиливается.
Царское правительство скрежетало зубами, но было бессиль¬
но сделать что-либо против Совета. Оно боялось, что в случае аре¬
ста рабочие сразу поднимутся, как один человек, и сметут и царя,
и его министров.
— Мы действовали совершенно открыто, — рассказывает член
первого Совета Д. Сверчков, — против нас была громадная орга¬
низация — монархическая Россия с ее полицией и охранкой, жан¬
дармами и войсками, колоссальными средствами и силами. Про¬
тив нас были все капиталисты, торговцы и банкиры, но мы дей¬
ствовали открыто.
Революция еще не кончилась, она продолжается. Ее страшатся
царские министры.
Первый совет [397]
10
— Совет постановляет объявить в 12 часов дня 2 ноября всеоб¬
щую забастовку.
Забастовку было решено объявить в виде протеста против
смертного приговора над восставшими кронштадтскими матроса¬
ми. Кроме того, Совет требовал от правительства, чтобы было сня¬
то военное положение в Польше.
Ноябрьская забастовка началась точно в указанный срок.
Перепуганный граф Витте разослал по заводам следующую те¬
леграмму:
Братцы рабочие, станьте на работу, бросьте смуту, по¬
жалейте ваших жен и детей! Не слушайте дурных сове¬
тов! Государь приказал нам обратить особое внимание
на рабочий вопрос.
Дайте время, все возможное будет для вас сдела¬
но. Послушайте совета человека, к вам расположенно¬
го и желающего вам добра!
Граф Витте.
А вечером того же дня Совет ответил, что «пролетарии ни в каком
родстве с графом Витте не состоят».
В воззвании Совет напомнил о царской милости питерскому
пролетариату — о кровавом воскресении 9 января. Совет не нуж¬
дался в расположении царских приказчиков, он требовал народ¬
ного правительства.
И
И все-таки царское правительство оказалось сильнее. Рабочие ос¬
лабели от бесконечных забастовок. Армия осталась покорна царю.
И 3 декабря войска окружили здание Вольно-Экономического
общества, где заседал Совет. Совет знал о предстоящем аресте, но
решил не сопротивляться. У пролетариата еще не было достаточ¬
ных сил, чтобы организовать вооруженное сопротивление.
Вот как произошел арест:
Делегаты услышали лязг оружия и звон шпор. Отворилась дверь,
и в комнату вошел полицмейстер. С ним несколько охранников.
Проза [398]
Один из членов Совета говорил в это время речь.
«Согласно распоряжения министра...» — начал читать полиц¬
мейстер.
— Прошу не перебивать оратора, — резко оборвал его предсе¬
датель собрания т. Троцкий. — Сначала попросите слово...
Полицмейстер растерялся и умолк. Когда оратор кончил, Троц¬
кий обратился к собранию:
— Представитель полиции желает сделать сообщение. Разре¬
шите?
Собрание разрешило. Полицмейстер прочитал вслух приказ:
— Объявляю вас всех арестованными, — закончил он.
Председатель, невозмутимо выслушав приказ, предложил при¬
нять его к сведению и перейти к очередным делам.
Полицмейстер теряется вновь.
— Позвольте, — начинает он.
— Прошу вас не мешать. Удалитесь отсюда, — резко говорит
председатель.
Полицмейстер, потоптавшись на месте, уходит под громкий хо¬
хот присутствующих.
Делегаты быстро уничтожают все документы.
Заседание продолжается.
В комнату входит шеренга городовых. Они окружают всех чле¬
нов Исполнительного Комитета. Тов. Троцкий объявляет заседа¬
ние Исполнительного Комитета закрытым.
Так был арестован Совет Рабочих Депутатов. Он просущество¬
вал 52 дня. За это время он неустанно боролся с царизмом и смело
вел за собою рабочих всей страны.
Он показал своей работой, какой силой обладает рабочий класс.
А через 12 лет, в 1917 году, Советы возродились снова для того,
чтобы окончательно взять власть в свои руки.
153
УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ
Я доктор. Одиннадцать лет тому назад меня вызвали в Смольный,
в институт благородных девиц. Было это зимой, шел снег.
Учитель географии [399]
По улицам разъезжали казаки, трамваи не ходили, мосты бы¬
ли разведены.
В Смольном меня проводили в кабинет врача.
Графиня Варвара Платоновна, начальница института, сказала
мне:
— Наш преподаватель истории Иван Иванович Зуппе спит
третий день, не просыпаясь. Он заснул на уроке. В городе беспо¬
рядки, стрельба, и мы никак не могли перевезти его в больницу.
Посмотрите на него.
В эту минуту стекла задребезжали от выстрела.
Все вздрогнули, кроме маленького человечка в синем сюрту¬
ке с золотыми наплечниками. Он лежал на диване, раскинув руки.
В правой руке он сжимал кусок мела.
Я выслушал его и сказал:
— У него летаргический сон. Это очень интересный случай.
Есть ли у него родственники?
— У него никого нет, — печально сказала графиня.
— Тогда я отвезу его в свою клинику.
Четверо сторожей подняли Ивана Ивановича и понесли к вы¬
ходу.
С тех пор прошло одиннадцать лет.
Вчера Иван Иванович проснулся и спросил у меня:
— Какой сегодня день?
— Среда.
— Батюшки, — воскликнул Иван Иванович, — по средам ведь
я обедаю в Смольном у графини Варвары Платоновны.
Потом он оглядел меня, комнату, шкафы с приборами и спро¬
сил:
— Простите, с кем я имею честь говорить и где я нахожусь?
— Я доктор Крылов, а это клиника, которой я заведую. У вас
случился обморок, и я перевез вас сюда.
Иван Иванович надел шубу и вышел из больницы.
Я незаметно последовал за ним.
Недалеко от больницы находился кооператив с вывеской Пе-
трорайрабкоопа.
Это была первая вывеска, которую увидел Иван Иванович. Он
остановился в изумлении и стал читать:
— Петро... рай... рай... раб... петрорай... рабрай... край...
Иван Иванович не дочитал. Он увидел рядом с вывеской крас¬
ный флаг и сразу замолчал.
Проза [400]
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Вся Африка бУдег ’(нгагь „к*
сказал Макар, вскочил на коня и во весь опор ринулся на пароход.
Макар даже не оглянулся. Он выехал из бури на ровное место, но тут его окружило стадо акул. Самая нахальная забежала впе
ред и злобно оскалила зубы. Она бросилась бы на всадника, но Макар во-время прострелил лоб наглой рыбе.
^<л+и>скл
i№t<i‘04r(L
31
Еж. 1929. № 5. С. 31—33
Мак»р пустил коня вслед беглеиям, вскрякивая на каждом скаку: .Еж, Еж, Еж!* Туземцы; с пиками преградили ему путь. Не о»
страха, а от удивления : он попшл рухи шерзг. Макар Н' не подозрАал, что туземцы приняли его за английского но/щадяиха
. ■ Лоуренса, который неделю назад: сжег четырнадцать негритянекнас селений.
Туземцы подвела породистого носорога и пзлъмо ®шмн веревкам и прикрутили нашего сотрудника каверйэ.С криком; „ГТовдел
назад в Англию!" тушйаы стрелами погнали носорога вскачь.
Носорог икс* мимо дерева. Макар поспешил поднять, жогн, чтобы зацепится за сук. Он рассчитал очень точц^„ Веревка ярд-,
_ «уд», ;как шутщд*. Йднько внизу Макарза £мр*
32
ем** Финским ножом он быстро прорезал тугую шею змеи и, на»
Hj.u сотрудник упал в раскрытую пасть чудовища. н° дев змею как пальто, пошел навстречу туземному населению
лость и находчивость спасли его. /
54 ним. Тогда М^кар смело вынул свой ежовый манязт н развернул
Змеа. извиваясь и проливая сл»зы, вынуждена Фылв следи»*1 «■ J ^
' v 3 поняли свою ошибку и радостно бросились навстречу Макару,
его недед изумленными африканцами. Туземцы яо»* » г г г
шш**здйуа^ лмяорм недели Макар убедил всю Африку, что „Еж* •— это слово, которой обозначает: все самое лучшее в мире,
€ тех пор. аке хорошее африканцы называют ежом. »Еж* — приговаривают она, глотая прохладную воду. Даже сладкие финики
они стали называть ежевикой.
(А ку4а же девался конь Мшара ?~ спросят изумленные читатели. Об этом читай в следующем номере яЕжая,)
33
„Еже1** Он никогда ничего не читал
*« эахворал тропической лихорадкой,
собою на прогулку породистую со-
крокодил*
Макар весело шагал по Африке и с восторгом читал свою статью, напечатанную
кроме своих сочинений» Но радость его несколько омрачалась. Его любимый конь „Гвозди
Конь стоял & конюшие и ел хину, Макар так привык водить кого*Н10уд4|« в поводу» что Stftl |
бачку. Ее звали Ве-ме*ту«сикату-ли^хату. -По-русски это значит рЖучка*, Вдруг ш реки
«и яшм
Макар дочнтал статью, оглянулся —и сразу понял» в чем дело- Ом выхватил топор, который был у него отгочен, как
бритва, и одним ударом снес голову гигантской ящерние. Жучка С ликующим йоем выскочил из горла. .Еж*! .Еж*I —кричали
подбежавшие негры. Еж — по негритянёкн значит .хорошо* (Смотри .Еж" М 5).
\
34
Еж. 1929. № б. С. 34—36
Да здравствует j,E-k“ S — заревел Макар. жУ-а»ррр-зу!« — заревел тигр! Гвоздик, вытаращив глаза. ринулся вперед. Тигр
как рккета. взлетел в возДух. -- Макар: погиб! — кричали негры. — Держись, Гвоздик! — кричал Макар*
Тн р кан йодстреа&вный голубь забился в воздухе. Копье, укрепленное т ееяле Гвоздика, подцепило его. ГвоЩйк «arwyj
йеиьё ‘Яр0вЗйШ'’Ш1#а насквозь. Тигр взвыл и околел.
, Еж Маиар!—кричали негры, возвращаясь домой.—Еж охота! Еж Гвоздик! Нету больше тигра я леопарда! А Макар ехал
впереди и зорко вглядывался вдаль. Он заметил новую опасность.
/ч: ” ’ новых победах Макара в читай след^ющ&м нймлрш яЕжат,)
Ответственный редактор И. Олшйнино*
Тиои «Печатный Двор*’, Леанаграа* Гаткиискаа, 26ц П. 50. Гя* Ж 31257/л, Лаккиграясхий Облаетлмт М 31179. S я. Тир* т. 65ООО.
МАНАР СВИРЕПЫЙ В АФРИКЕ
У исшары дремали три льва* Около львов лежали |коети — звери только что съели буйвола. я сфотографирую львов для
Ежа*4 — воскликнул Макар.—.Сытый лев не опаснее мешка с мукой* Сытый лев переваривает пищу месяцами и в это время его
можно даже за хвост таскать!"'Макар установил аппарат и насмешливо закричал: «Спокойно! Снимаю!•
И вдруг — блестящая мысль — треножник фотоаппарата! Ведь каждая из трех ножек остра, как пика! Макар протянул
треножник навстречу кровожадным чудовищам. — Щелк! Хлоп! БаиI—н три льва габнлись на треножнике, как бабочки ид
буланке* Весело возвращался Макар домой» Он шел и пел веселую песню. Пускай погибли фото! рафиммел Макар — шкуры
львов еше более украсят редакцию «Ежа*.
30
K<skubo же было его удивлен*^ когда все три л» с оыушщ^льиым рёвом взвились «* воздух Глаза их
сверкали, шерсть стояла дыбом, хвосты извивались, как змеи.
— Караул!~ подумал Макар* — Я погиб! Я спутал! Это удавы безопасны* когда сыты, а львы опасны
Анюта, перед отъездом прочна мне сочинения Брэма—й нее перепугалось у меня в голове* Я спутал, я погиб!
Еж. 1929. № 7. С. 30—32
Kcyib Мвкзра, знаменитый Гвоздик, снова захворал адзлярдай. Он стоял в конюшне т? бредня. „Нужно поймать жирафу —
реши-s Макар. — Как местная жительница она не боится малярии. Она о^сяроходиач, добра, молчалив Я поГмаю жирафу и
будут ней ездить,* Хитрый Макар поставил под пальмой граммофон, а сам залез на пальму, .Янтайте.вшЩре'гф ,Еш*|
.Ежа* -“-запел граммофон. — „На свете нету лучшего .Ежа*1, *Ежа“!
Любопытная жирафа подбежала к грдамофону-— „Пре&р *ей*.йшйе повести» занятнейшие новости* — заливался граммов си-
Любопытное животное сунуло голову * рупОр; Но ххпрый Макар вымазал внутри рупор клеем „ни взад ни вперед*. Клей
„ни шд № in^pef изобрел Иван Тоиорышкин.
HvUf аф* щиыкь на дыбы- Но великий щеэдяк Макар Свирепый уже сидел на спине животного. Жирафа мотала голо*
вой, ко. Тоиорышкнна не отклеивался. Через полчаса Макар скакал на покорной жирафе домой. Жирафа слушалась, как
Гвошшк» Жирафу Макар прозсал — ^цаплв’* щ тц, чго у жирафы длинная шея.
31
■—*»У вес вег времени ехать пароходом или аэропланом !« — сказал Макар. — „Нагнше эту пальму. Она достакиг нас »
Леннйгрцд с быстротою молили*.
Макар получил телеграмму: «Необходимо срочно быть в редакция »Ежа*
едете: Европу. Тетя"- — „Ладно 3“ ответил Макар. Негры огорчились, а Г»отдик
так обрадовался, что даже выздоровел.
— *Рх ты палычушк* — ухнем I *—запели негры н наклоняли мощное scpeso ДО а&млш Макар попрощался с друзьями. —
«Платите за Журнал аккуратно к тматте, что жшаь--.прекрасна* — сказал ведяшрй писатель.;Па сигналу асе разом отпустили
пальму — и Макар mfesemi5 Через полчаса Макар был уже в редакции. А на друшЙ день он вместе с Ивамом Xопорьшы вд>ш
въехал в Нярппу. Нп ой smm «итатали уже знают из прошлою помора »Ежа**
Ответственный редактор и, илвттт*
Тип. «Печатный Двор11, Ленинград. Гатчинская, 26, Я, SO. Гиз /в З^Ш/д* Л.п :нг?адс ий Областяит Ш 31997 4V* п. Тираж 63.30.
МАКАР ВОЗВРАТИЛСЯ
Как вы уже знаете из прошлого номера «Ежа» — Макар внезапно вер¬
нулся в Ленинград. Немецкая полиция арестовала наших друзей и выслала
обратно в СССР. Кругосветное путешествие прервано. Макар и Топорышкин
двенадцать дней сидели в тюрьме. У Топорышшша отобрали пять его изобре¬
тений: железную почтовую марку, но снимающееся очки, пуговицы с музыкой,
палочку с мотором (палочка
сама ездила за хозяином на
колесиках) и несгораемые па¬
пиросы. Много пришлось пере¬
жить наптм путешественникам.
Расскажем все по по¬
рядку.
На вокзале в Берлине
Топорышкин потерялся. Обду¬
мывая одно из своих великих
изобретений, он свернул не в
ту сторону и вскоре стал как
пень на краю платформы, не
зная, куда иттн.
К счастью у него отстегну¬
лась подтяжка, и Макар услы¬
шал, как заиграла пуговица.
В пути Топорышкин изобрел
пуговицы, которые, если их
расстегивать в известном по¬
рядке, играют очень громко
«Ч ж ша». Макар оглянулся,
потому что путовгща Топорыш-
кина сыграла «ЧИ!» — начало
«Чижика», Макар взял расте¬
рянного Ивана за руку, и они
пошли по Берлину.
Берлин потряс наших пу¬
тешественников необычайной чистотой своих улиц.
— Я разуюсь, — сказал Иван Топорышкин, страшно ступать по такой
чистсй местовой грязными подошвами.
Но боясь за здоровье великого изобретателя. Макар Свирепый не позволил
ему иттд босиком по холодному асфальту.
Путешественники шли в удивлялись. В Берлине они не видели ни одной
лошади в течение двух часов пути. Сплошным потоком ехали автомобили.
Лошади попадались только каменные на памятниках.
— Как много автомобилей, тьфу ты!—сказал Топорышкин. И сейчас же
к нему подошел полицейский и оштрафовал его за то, что он плюет иа тротуар.
Через два часа пути, наши друзья остановились у здания, в котором по¬
мещалась какая-то школа. Они решили познакомиться со здешними школьни-
30
Еж. 1929. № 10. С. 30—32
нами, На лестнице школы .иащнх друзей встретил священник, Он оказался чем-
то в роде заведующего школой.
Узнав, что Иван Топорышкин и Макар Свирепый иностранцы, желающие
осмотреть школу, священник сказал:
— Biifte!
По - немецки это значит; «пожалуйста», но через миг он побледнел:. Макар
сказал: «мы из СССР»,
— Боже мой! — восклик¬
нул священник. Как же это я
забыл, 410 школа сегодня за¬
крыта. У Heic идет ремонт.
— А что это за дети кри¬
чат? спросил Макар,
— Где?
— А за дверями,
— Это эхо! — ответил
наглый священник.
— Эхо бывает совершен¬
но Ш такое, — строго возра¬
зил наглецу Иван Топорыш¬
кин.
— Значит я вру? — спро¬
сил священник и гордо вски¬
нул голову.
От этого движения очки
его сорвались с носа и разле¬
телись вдребезги на ступень¬
ках лестницы.
И тут случилось нечто
неожиданное. Топорышкин вдруг стал мягок и любезен. Он вынул из бокового
кармана очки и вежливо протянул их священнику,
— Батюшка! — сказал он по-немецки.
— Вот отличные мои очки. Может пригодятся?
Священник надел очки и сказал:
— Нейи! — (по-немецки это значит — нет!), не годятся мне ваши очки —
сказал священник. — Это пакость какая-то, а не очки. Что это за стекла?
— Стекла я из микроскопа вывинтил,—весело ответил Топорышкин.
— Теперь вы, отец, можете разглядеть любого микроба.
— Священник побагровел и хотел снять очки.
Не тут-то было. Очки пе снялись. Священник отчаянно мотнул головой,
очки сидели на носу крепко, как ковбой на непокорном коне.
— Скандал!—заорал священник и стал дергать очки и так и этак.
— Напрасно, напрасно!—уговаривал его Топорышкин. — Очки смазаны
самым последним моим клеем. Этот клей называется «Примирись». Я изобрел
его специально для моих иеснимающихся очков. Не трогайте, Огец, это очки
нанимающиеся.
Священник как вихрь унесся вниз по лестнице. Через миг он прискакал
обратно,.,,,:
Ш
Ответственный редактор Н. Фяттт®*
Тип. „Печатный Диор**. JletKsrpat; Газчмкская* 2*. П» SO. Гг с. М 25352/л. Легшзгрхпс&чЛ Обяавтлит J>6 44089, 4*/* л. Тк.иж в&ШО
— Вы ш уйдете! — екаШ£ он нашим путштатвеншкам ш*ншецш.
— Да мы и не собирались! — ответил ему Макар на том же языке. —
Что мы боимся вас что ли? В отделение, так в отделение.
Через десять минут друзей наших верно повели в отделение берлинской
полиции. Двенадцать дней их выспрашивали и допрашивали, а потом
как агентов коммунистического журнала «ЕЖ».
Взгляните на
выслали,
последнюю картин¬
ку. Макар и Топо¬
рышкин говорят
речь. Кругом во¬
сторженные толпы.
Так мы встретили
наших.-; путешеет-
венников, когда
они вернулись в Ле¬
нинград.
Сейчас Макар
Свирепый пишет не¬
сколько огромных
картин под общим
- названием: ; . «Все
подписывайтесь на
«Еж» в 1930 году».
Смотрите на сле¬
дующую страницу—
там перерисована
первая картина
Свирепого Макара.
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАКАРА СВИРЕПОГО
Было это в марте. Макар Свирепый сказал: „Я поеду на слет в Галле". .Нет,* сказал редактор. Нельзя. Дорого.— .Я по¬
еду дешево* — возразил наш герой. — „Дайте мне пуд солн, котелок, дров и удочку". Взяв это все, Макар пошел на Лев/
и сел на льдину. Льдину вынесло в Б» пийское море.
Плыл он месяц, плыл два. Льдина не таяла, потому что Маклр Свирепы Г’ льдину солил. Питался Макар Свирепый рыбой,
* которую Шкрдл на k jCTpi.
Однажды он жарил рыбу, вдруг, шлеп! Дрова провалились в мпг.<». лрд подтаял под дровами. Макар Свирепый стал и
ахнул, потом с торя ст~л леть песня.
Вдруг из льдины выглянул дельфин. Пенне Макара заинтересовало дельфина. В зубах дельфин держал жареную рыбу,
которая провалилась с костром в море. Макар схватил рыбу, схватил дельфина за горло и вытащил ,Еж“, чтобы за вер*
путь добычу. Вдруг,. i
(IПродолжение следует.)
Вдруг .Макар Свирепый увидел берег. На берегу паслись немецкие коровы. .Я приехал" понял Макар. Он подошел к
корове н сказал по-немецки: ,Гу геи моргеи*. Корова испугалась и побежала, ко Макар одним прыжком вскочил eft
па спину.
Макар как вихрь несся по Германии верхом на корове. Корова прибежала в деревню. „Гутен моргеи, — сказал Макар. —
А где Галле?'1, Жители поняли, что приезжий: пробирается в Галле. Дрожа от страха, они показали странному всаднику
дорогу.
Макар пришел в Галле, но слета не нашел. Вместо тысячной толпы ребят он увидел маленькую группу монгольских
пионеров. Они быстро заговорили по-монгольски. Макар узнал все. Монгольские пионеры приехали сюда еще до зал*
решения едет», по ошибке. Сейчас ода едут в Бердик, — „И я с вами, а потом провожу вас до Монголии*— сказал
Макар, — Ура! — отвечали ребята.
16
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАКАРА С ВИР
(Продолжение) (
Еж. 1930. № 15—16. С. 16
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАКАРА СВИРЕПОГО
Макар проводил монгольских ребят в штаб Слета, а сам отправился гулять по Берлину. Проходя мимо шуцмана,
Макар не удержался и громко чихнул. „Хальт!* - сказал шуцман и схватил Макара за плечо. „Ноги, ноги несите мою
спину!-—Прошептал Макар и кинулся бежать.
Макар летел как пуля. Следом за ним неслись полицейские. Вдруг Mi;кар заметил парикмахера, который рас*
ставлял на витрине разные парики. „Еге, — подумал макар,—на этот раз мне повезли". Он выхватил из рук парикмахера
длинные усы, наклеил их на себя и Оросился дальше.
Наконец полицейские отстали. Макар купил себе форменную фуражку и подпрапил усы. Теперь его полицей*
ские не узнают. В таком виде Макар явился на митинг фашистов. Фашисты собрались итги срывать слетную радио¬
установку. „Мерзавцы,—Закричал Макар, вскочив на трибуну.—Знайте, hvo радио вы сорвать можете, но пионеров вам
не разбить никогда!* С этими словами Макар схватил фашистское знамя и был таков.
Уже целый отрад шуцманов гнался за отважный Макаром. .Смотрите, с него свалились усы!“—кричали шуцманы.
«Держи его, бей!*—ревели в ответ разъяренные фашисты. Макар, опир ясь на древко знамени, единым духом перелетел
через забор и—о, ужас!—тут его ждала полицейская засада!
(Продолжение следует)»
Еж. 1930. № 17—18. С. 10
Они чешу vex, з u;u в о пленнике, о мотоциклете» обо всем на свете. Они вертят рулем направо, налево. Резкое движение —
руль сломан. Раз! Столб пыли, легкий вскрик-—и один шуцман лежит на земле. Два! столб пыли, дикий визг, и нторой
шуцман вьется в воздухе— Они бгжали со сломанной машины.
А освобожденный Макар омбочеиН') на лфрогу. Kohvoh *»и руль не ворочается яи вправо, мн вл**ио Mdic-
имклет с бешеной скоростью л*зй*т по прямому как стрела шоссе. Куда ом в&зки нашего герое? Чем кончится sro сграш
ное путешествие?
15
— Вы помните соль, которую наш герой взял с собой в путешествие? Мешочек с остатками соли он хранил на груди. Верною
рукою он выхватил горсть соли. Раз! Два! И вот соль уже за шиворотом у одного, за воротником у другого шуцмана. Они
чешутся, чешутся... Вертя г рулем направо, налево.
ПРИКЛЮЧЕНИЕ МАНАРА СВИРЕПОГО
ям
~ Ха*ы1 — услышал Мака;:>1^ййрепый. — Це.пвИё рукй шуцманов рйШШЙШЕЩ тшаче сотру/ш да, Змскнстели снисткн, 1шд-
к«нл мотоциклет, н арестованный Mssiap иод конвоем помчался по шоссе. Но Макар СийрспыЙ был: спокоен.
Еж. 1930. № 21. С. 15
ОТКРЫТА ПОДПИСКА ч 2 3 1 Г Од
in и ЩЛ Ш С интересных
шял номеров ■ И тшш W приложений
ПИОПШМСОЧНЫЙ, ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ «АЛЕНЫШХ ДЕТЕЙ
УСЛОВИЯ ПОДПИСИ
! год 6 нвс. 3 и «с.
„Чйж“ с приложениями .4 руб. 2 руб. 1 руб.
„Чиж“ без приложений........... 3 руб. 1 руб. 50 к. 75 к.
ПРИНЛЮЧЕНИЯ МАНАРА СВИРЕПОГО
Машина с бешеной скоростью летела по дорогу. Гор^да, фермы, поля остались
далеко позади. Обезумевший Макар дергал руль то вправо, то влево, но увы—руль не
действовал. Вот промелькнули последние домики* и до Маи ара Свирепого донесся
шум далекого моря. Волосы поднялись дыбом на го ломе у бедного Макара* Он дернул
руль в последний раз. но в вту минуту страшный тр*ск оглушил его. Сорвавшись с
крутого обрыва, автомобиль полетел в воду...
8 августа 1930 года в 11 часов вечера на борту парохода „Смольный" произошло
странное происшествие. Пионерские делегаты, которые ехали со слета в Ленинград,
уже разошлись по своим каютам. Капитан оставил на мостике своего помощника, а
сам пошел ужинать. Вдруг в комнату влетел Курт Пфеффер. немецкий пионер. „Капи¬
тан, — вскричал он, — скорее наверх! Несчастней—„Что такое?" — вскочил капитан. ..Из
моря торчат чьи-то ноги!**—„Ноги?—удивился капитан.— Эй. кто там! Живее веревку и
спасательный круг!" Курт Пфеффер бросился наверх и веред его глазами раскинулось
величественное зрелище. Верхом на спасательном ируге к борту ..Смольного** подъ¬
езжал Макар Свирепый.
Окончи шхе 9 следующем номере,
за
Еж. 1930. № 22—23. С. 28
ПРИНЛЮЧЕНИЯ МАКАРА СВИРЕПОГО
(Окончание),
Макар лихо взобрался по вере в не и предстал перед командой во всей своей
красе. —- „Да это наш дорогой Макар Свирепый!'*—закричали пионеры и матросы и бро¬
сились обнимать спасенного героя.-»,.Друзья мои!—с чувством произнес Макар —Я мерз
на льдине, меня били полицейские, я упал с утеса, я тонул в море, но ваша встреча
исцелила меня, и я снова готов бороться за наше общее дело! ' Сказав эти слова,
Макар взобрался на мачту и не слезал с нее до самого Ленинграда: ему хотелось
] первым увидать берега СССР.
It августа пароход „Смоленый** причалил к Ленинградской пристани. Трудно опи¬
сать встречу Макара с нашей редакцией. Его обнимали, целовали, тискали, качали —
ведь только подумать, сколько опасностей угрожало жизни нашего друга! Так закон¬
чились удивительные приключения Макара Свирепого, которые сделали его знамени
тым во всем мире.
Не забудь подписаться
на „ЁЖ» и „ЧИЖ» на 1931 год.
О ШП*Я: £. Гороаа, Г, Дитрих, С. Ширины, И. О.нёхикоч, А. Пон}роъ’,и<ля, Е. Ш9арц.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Г» Дитрих.
МАКАР СВИРЕПЫЙ В АМЕРИКЕ
щ »ч--яыв» ^| zljja w
1. После своих удивительных путешествий Макар Свирепый сделался самым знаменитым человеком в мире. Зато пионеры
были лучшими друзьями храброго Макара. Каждый вечер собирались они в редакции «Ежа", и Макар Свирепый рассказывал им
о своих приключениях.
2. Однажды в редакцию явился заезжий американец и подал Макару Свирепому письмо. Макар разорвал конверт и про¬
чел: „Как ты смеешь, презренный хвастунишка, издеваться над полицейскими? Попробуй явиться к нам в Америку. Тут ты
узнаешь, кто такие Стальная Шпага. Железный Фартук и Электрический Стул. Прощай, образина. К. К. К."
3. Прочитав письмо, Макар Свирепый пригласил к себе Ивана Толорышкияа и имел с ним секретный разговор. После
етого Макар заперся в своей комнате и всю исчь обдумывал свое новое путешествие в Америку. А в мастерской Ивана Топо¬
ры шкина шла горячая работа: великий изобретатель что-то мастерил для Макара Сьирепогс.
Еж. 1931. № 4. С. 8—9
4, Наконец вей приготовления была закончены, В левой руке Макар держал зонтик, а а правой — деревянный ящичек.
Что было в яЩйПКв—вйКтб не знап, Кроме того, через плечо Макара был перекинут сверток веревки, а карманы были набиты
горохом. Вечером Иван Топорышкин, Даня Неусихин и Яша Миллер проводила знаменитого путешественник?, на пароход.
5. Через педелю пароход подошел к Нью-Йорку, Макар шагнул к выходу и вдруг.., „Стой?*раздался чей-то голос я
рука сыщика леги» иа ппечо Макара. Сыщик отвел Макара в тюремную каюту и начал его обыскивать/Но едва сыщик ««вернул
карманы нашего путешественника, мак горох дождем посыпался на поя, а испуганный Макар отскочил в сторону.
& Сыщик бросился за Макаром, но поскользнулся на горошинах в полетел на пол. Макар только этого и ждал. Через
минуту спязанйый сыщик лежал на полу и мычал: рот его был забит тряпкой. А Макар Свирепый в очках и цилиндре спокойно
выше* из каюты, запер се на ключ и благополучно высадился на берег.
(Продолжение ■ 8 след.. номере.)
Макар Свирепый шел по пустынному переулку. Вдруг из-за угла показались мп полисмене, Высоко задрав тьы, они вели
перед собой арестованного комсомольца. „На ловца и зверь бежит*, подумал Макар. Он забежал вперед, перекину* через улицу свою
вере» ку и стад ждагь,
Едад комомолец перешагнул «рез Макар ««тянул ее шо асай скчч Подйе»«[« лмШм на mQiremym « комсо¬
молец бросался бежать. Майр тоже не дремал. Он кииулса s подъезд йабоскреба. Полки* иска* с такаяьем и свистом аатедк н «аи.
Добежав до третьего этажа, полисмен увидал, что Макаэ сидит в пустей бочке к хохочет «о все горло. Полнели по*23 W М»*
каро*.-Щ чу? сдучшюсь нечто ужасное. Бочка с треском и шумом покатилась вниз по деоииие А Ма*ар побежал дальше.
20
Узйё имышй оград шош» т$жш т Ммшхр&м, Не Жлтр тт&м шошт убедонт, 2Иго бмло старое чучел® м^Щет. ШмЛр
ш нучлло м шабттл к ятфгу. ПопаЬкхае » уж#€® {м^гршижеь ш$>*л ад».
7Н7Щ
ifii fill
ШШШШЯк
pfMJrn*. л л—».
МАКАР СВИРЕПЫМ В АМЕРИКЕ
(Предо икеиие)
Итак, с помощью своего знаменитого зонтика Макар Свирепый благополучно поолетел по воздужу, шлепну аса в автомобиль п скрылс* от глаз»
разъяренного полисмена.
Макар обернулс* и вскрикнул от радости: это был спасенный им комсомолец Джонни.— Дорогой Макар* г- сказал Джош». ты спае ттш от
|ЯМйИШ тййи Т<пш |ш с тобой i«iis вывести ш тсту» волу шшего шерифа* Я знаю про тт® кое-какие шгучш. шйдеи м шпеш
liSpiiiiii зд с^гащА 1о гьм& пртълшнут шшшшш белые фигу^м#-"*
Стоп! Макар спрыгнул с автомобиле н очутклса на митинге безработных.— Товарищи,— говорил оратор»-»фашист.кая организация Ку^Клуис*
Клан разгромила редакцию нашей газеты и увезла с собой редактора. В этом виновен не кто иной, как шериф.—'Даешь сюда шерифа,—*• вашу мала
толпа* *— Рабочие*—сказа л шериф»—а здесь не ори чем, это дел разбойничьей шайки. Дайте врема, мм сами разышем ьиновиы*. В это время чьмо
рука легла на шгёче Макира Свирепого.
Еж. 1931. № 10. С. 18—19
Ш-'
®|Я
ШШШШ
шШш.
М1\,^
МАКАР CBHf
Через минусу комната опустела. Взбешенные фашисты, с шерифом во главе, бросились на чердак. Но не такие дураки
были наши, друзы, чтобы дождаться, пока ях растерзают на клочки. Один за другим спустились они по веревке через люк
и очутились в опустевшем судилище Ку«Клукс-Клзна.
Друзья развязали Роджерса. — Ну что, ст„рик, —• смеялся Макар, — теперь ты узнал председателя Ку-Клукс-Клана? —
Даю вам слово, друзья, "Отвечал редактор, - • шериф будет разоблачен, если только мы выберемся из этого пекла. — Итак
бежим! — сказал Джонни, и, пресдс-дуемые по пятам, друзья кинулись в парк.
Фашисты заметно отставали,. Длинные халаты мешали *им. Беглецы удвоялмдслды. Но вдруг,,, Что Затрещали ветки,
зся«1 заколебалась под ногами, и все трое полетели куда-то вниз, в темноту, под землю. И вот, яад ловушкой, куда свалились
Друаья, стоят торжествующие фашисты. Победа «сталась за ними!
Еж. 1931. № 14. С. 20—21
Настала ночь. Огчмнйе вйдздеао ш»екш*ка*к. Сласскм не было Наверху с том адсовой Вдруг Макар Свирепый ударил
с*6* «к» лву.~ И*шы! — аоскдмкнуд он. Макар p*jkdtu крпку, сделал яжмш я ловко подбросил ее вв^рх, Петая tttpy.гида
часоаого по рукам» и обезоруженный «они поаадкдса поперек «им. — Жяао наверх! • скон*ндовлл -Макар, -- А ты? — спросили
аруat*. — Обо мне не беспокойтесь! — ответил гордый нзобреишк, <— Дакп мне самому посчитаться с этими нетоааа*»и.
(Цро$бАЖ*яш1г 4fyd*ml г^ИДШИЯ
МАКАР СВИРЕПЫЙ
В АМЕРИК^
Джонни и Роджерс исчезли. Макар Свирепый быстро взобрался по веревке, стащил с пленника халат, переоделся и него,
а фашиста столкнул вин?.. Макару было некогда церемониться с пленником. В уме великого изобретателя уже назрел гениальный
план.
С помощью веревки Макар приготовил для фашистов хитрую ловушку. — My-с, дорогие мои друзья, ~ шептал про себе
вел шеи ii изобретатель,— теперь пришла моя очередь посчитаться с вами! —Макар спрятался за дерево и стал ждать Ждать ему
пришлось недолго. Три фашиста уже спешили, чтобы разделаться с нашим героем.
Стальная Шпага, Железный Фартук к Электрический Стул наклонились над ямой. Как вы сеГ)Н Чувст„уйте< мыолой
нахал? — надеваясь над Макаром, закричал» они в темноту. — Прелестно! — бодро ответил вэ.за лерена „аш repoft и идо все*
сил дернул за веревку. Опутанные петляй, фашисты полетели на землю.
Еж. 1931. № 19—20. С. 24—25
к .. . , 1 .. ... .„.„„„.„я из-за угла выскочил отряд
й раздался пронзительный свист, Ращахя&ая револьверами « резиновыми дуби «лвгм — вомните что скооо
гкшшейскнх Кучка Лезработных кинулась кто куа*. — До свидания, друзъ*. — крмкиул Макер. > *
уже нт&кт дубинки не «смогут шерифу}
Макар прикрутил фашистов к дереву, — Я чувствую себя прелестно, — повторил он, — а как вы себя чувствуете, мои
$>Я4ЦШМКШ41е несколько неудобно? Придется потерпеть. Вы сами вызвали меня из борьбу—семи и рас-
хлебываЙте ату кашу!-Макар со всех ног кинулся в город Навстречу ему двигалась демонстрация безработных, и скоро Джонни
ш Роджерс уже обнимали нашего героя.
V Товарища» — асмкиа^яцра трйбуну^; скша.*' Ш^р/Свнр«я^, — теперь истина раскрылась перед нами. Мы сорвали
«деку с шсиодина щерифа, Если вы хотите убедиться в том, что шериф и Ку-Клукс-Клан одно и то же, — идите в парк и
лосмотркте на крайнее дерево! — Ура! Да здравствует храбрый Макар! - закричали безработные и бросились в парк.
Вокруг Макара собралась куча друзей Друзья: так охщчали нашего героя, что он едва не зацепился за какое-то облако.
(Оконч&т# ■ следует):
.Золотой Манхэгтэ1Г двалцатнтысячная толпа была свидетелем невиданного зрелища. Великий
ер Джон Бекки, по прозвищу „Сорви-голова\ готовился к своему «сличавшему прыжку через стагую Свобод*
Щ стадионе
лрмгуиов мистер
Чемпион уже надел на себя кожаный пояс, уже защелкали фотоаппараты, уже вся толпа, с замиранием сердил, поднялась с<
своих мест. Шар вздрогнул и... Макар Свирепый как пуля пролетел по стадиону'
и, схяшгн» чемпиона вш пояс, быстро оттолкну лея от земли. Как один
человек ажнул* Амдцагитмеачная толпа* ПоА^аейские :швинтШ?Н от
врости. Но Макар Ceifpetwft имеете был уже очень высоко*
Этот день 6i/j К1жетс9 самым замечательным днем в жчзни нашего героя - На него смотрел весь Нью-Морк. £го ловила
•сш нью-йоркски полиция. За его голову была обешшнл награда ■ сто тысяч золотых лоллярош. Но MaKfp яе унывал стятуя
Свободы была уже недалеко.
Ш не дремлет- и Макар, Забросив -лассо т факел, ин прыгает ед руку стуи и* u^upmtm nwgit* 1Шь Нмск
Йорк щуыт* рЫъг± - грф&ьч**-' зф£' идаам#, Ио. сквозь этот грохот Макар уже различат жужжанье далекого аеотора* Сгадма*
втпиа с красными адездэдш, не крыльях быстро ггрнблюкаетс» к 1Ш;.Д полиция уже радом* от* е ,е; на факел, она уже
:ВР*&диует сиою победу.
#1р .::
Самолет %трш ярашеитси йколб статуи* Еще один np^^oir —• сшык удтмъттьяЯ* стый ие#ошоя***ый» *** ш Шмппр
уже ни самолет** Прощай* Аж-ршса! Прощ&Дте, фашисты? -По*шя?е» что Ш было на cseie «шс нм одного полицейского* который
**ог йы потягаться с дажшшй й^ешестшеннииом Макаров Свирепы**!
Вот уже огромная голова а каменной днадййе мелькнула под его ногами* Манар Саир^пый с е Л ^ г
м уже на гоаове статуи. Но автомобили летят* кодиипя не дремлет н вот уже первые до®к|ш «рь«жок и But
ч *••••.• преследуют Макара на
головокружительной кысоте.
МАКАР СВИРЕПЫЙ В АМЕРИКЕ
На следующий день весь город встречал Мзкара Свирепого на Ленинградском аэродроме. Самолет сделал над городом три
круга и опустился на аэродром. Еше минута —- и Млкзр Свирепый 6pOvH<ica в наши объятия.
На днях редакция F*a* получила телеграмму из Америки. „Ура! - крикнул секретарь прочитав телеграмму,
Макар Свирепый снопа иознращается к нам*. .Немедленно.объявите об этом всему Ленинграду - сказал редактор
Дома Книги посадите дежурного с подзорной трубой, чюбы он следил за появлением самолета .
— наш дорогой
— а на вышку
.Л р ! Макар, - сказали знаменитому путешественнику Ленинградские пионеры, — мы с восторгом прочитали п .Еже* о
твои* у дни»» I е*и*¥* пнд'кш а». 1олыко и дно яегм|н<иНи нам, — что гы ноэвшь с собой * деревянном жшичке?* „ Сейчас вы увядете
ttrtjr■ ^гиугт 1*а МЙар■ .в*'«шн, И» «ШИН* нидез-жнв&й «ж с объявлением • зуба*» ребята прочитали обьаддение и запрыгада
■it радости. Да шййяи!сльио? 0»и прочигзлй о tv*. <w открыта подписка на 1932 год на лучший пионерский журнал
.. К о и е к.
Еж. 1931. № 22. С. 17
Л Q
ч
сл
C/vvm
ОЛ/Ь'КЛЛ^ (S&u'pe-
igp
onvpам’лллл^а ш> тетрадам §
■1 г ого. пл&лтнмлд/к еМлх^а/ра (S&wpevvo^o, г^е/нггк
класса c&.
s
cyauauка и нxj to кллкса-лг/и, сnvpawu/iiytj> 014, 'и/ре-
'ратгиг б гцед/ijio 'юарш инг| at& ашеол/ьжт ысла/шаь.
исо&ад к ica „а к с ал г людей» ivctpaiv'bi, cj/оокш
ол/ъка
<% г
с^есъ лгосчоко г|6ги^стъ, как соогграетсл са
(51ил/ре viый & класс, коис ij ч гиггел/ь ^titiciH-Saew, 'кого
1-tem на /у/роке. как гьла-ватп- kvmvv, о ког^иурслг рао
с ка 5biba.v %j ги>игг/ел/ъ г^ог/|хх<^и/и, vi диногое другое.
31
Еж. 1929. № И. С. 31
В это время из ворот вышел мальчик.
— Что это за флаг? — спросил Иван Иванович. — Кто его по¬
весил?
— Мой отец.
— А кто твой отец?
— Дворник.
— Твой отец с ума сошел, — закричал Иван Иванович, — позо¬
ви его сейчас же сюда.
— Да его сейчас дома нету.
— А где же он?
— Он к брату поехал в Смольный.
— Ага, это очень интересно, — сказал Иван Иванович, доста¬
вая записную книжку, — как фамилия твоего брата? Я сегодня
в Смольном с ним сам поговорю. Он кто, швейцар, что ли?
— Нет, командующий балтийским флотом.
— Ты что врешь? — закричал Иван Иванович. — Отец твой
дворник, а брат адмирал. Как твоя фамилия? Где ты учишься?
— В 245-й советской трудовой школе имени Максима Горького.
— Такой школы нет, — сказал Иван Иванович.
— Как же нету? —- обиделся мальчик.
— На какой улице? — строго спросил Иван Иванович.
— На улице «Красных Командиров».
— А где эта улица?
— В Ленинграде.
— А Ленинград где?
Мальчик засмеялся.
— Вы уж, если начали экзаменовать, так хотя бы вопросы-то
потруднее выдумали. Ленинград находится в СССР.
— Это что за СССР?
Мальчик рассердился.
— Ну, мне некогда, — сказал он, — я пойду.
— Постой, постой, а кто хозяин этого дома и кто хозяин мага¬
зина?
— Хозяин дома Жакт, а хозяин магазина Петрорайрабкооп.
Иван Иванович задумчиво посмотрел на вывеску.
— Петрорай... рабкооп, — запинаясь повторил он. — Почему
же он свою фамилию без твердого знака пишет? Ты его имя-отче-
ства не знаешь?
— Да вы что, псих, что ли? — сказал мальчик. — Ну вас!
И он убежал.
Учитель географии [401]
Иван Иванович постоял минутку, потом пошел к трамвайной
остановке.
— Скажите, пожалуйста, — вежливо улыбаясь, обратился он
к милиционеру, — где тут городовой?
Милиционер вынул записную книжку и сказал:
— Платите штраф, гражданин.
— За что?
— За хулиганство.
Иван Иванович рассвирепел.
— Цде тут городовой? — грозно повторил он.
— Вы не смеете оскорблять, — сказал милиционер и взял Ива¬
на Ивановича за рукав.
— Городовой, — заорал Иван Иванович.
Милиционер свистнул. Издали бежал другой милиционер. Де¬
ло кончилось бы плохо, если бы не вмешался я.
— Это больной, — сказал я милиционеру. — Не трогайте его.
Я доктор Крылов, заведующий больницей имени Жертв Револю¬
ции.
Иван Иванович с испугом посмотрел на меня.
— Доктор, я ничего не понимаю, кто этот человек в красной
шапке? Почему жертвы революции? Почему нету твердых знаков?
— Поедемте лучше в Смольный, — сказал я. — Я вас провожу.
— Да, да, — обрадовался Иван Иванович. — Я хочу к Варва¬
ре Платоновне.
Мы сели с ним в трамвай.
Вдруг с улицы послышалась песня:
Белая армия, черный барон
Снова готовят нам царский трон...
— Что это такое? — растерялся Иван Иванович и выглянул
в окно.
По улице шли люди с красными знаменами.
— Куда они идут?
— В Смольный, — спокойно ответил сосед Ивана Ивановича.
— В Смольный? А почему у них красные знамена?
— По случаю октября.
— Какого октября?
— Да седьмого ноября.
Иван Иванович побледнел и схватился за голову.
Проза[402]
— Октября, ноября — ничего не понимаю.
— Вот и Смольный, — сказал я.
Иван Иванович попрощался со мной и вышел.
Я спрыгнул с площадки и стал издали наблюдать за ним. Я ви¬
дел, как он с недоумением смотрел на новую арку у Смольного.
Потом он остановился у памятника Ленину и обошел его со всех
сторон.
— Варвара Платоновна принимает? — растерянно спросил он,
войдя в подъезд.
Никто ему не ответил.
Иван Иванович быстро побежал по лестнице, но его останови¬
ли на площадке в 3-м этаже.
— Пропуск, — сказал красноармеец.
— Какой пропуск? Я сегодня здесь обедаю.
— Столовая внизу.
— Ты ошибаешься, братец, — сказал Иван Иванович. — Графи¬
ня живет наверху. Я всегда обедаю у нее по средам. Я преподава¬
тель истории и географии, статский советник Зуппе. Пусти меня.
Красноармеец преградил ему дорогу штыком.
Тут я подошел к Ивану Ивановичу, взял его за руку и сказал:
— Дорогой Иван Иванович, не спорьте. Графиня Варвара Пла¬
тоновна давно уже не графиня, а вы не статский советник и не
преподаватель истории и географии. История теперь другая и гео¬
графия другая. Вы проспали в моей клинике одиннадцать лет.
Сегодня мы с Иваном Ивановичем обедали. Когда подали суп,
Иван Иванович спросил:
— Что это такое?
— Суп.
Иван Иванович обрадовался.
— Суп? — переспросил он. — Так и называется суп?
— А то как же иначе? — удивился я.
— Я думал, — сказал Иван Иванович, — что у вас все называ¬
ется по-новому. Так, вы говорите, это суп?
— Да, суп.
— А это салфетка?
— Да, салфетка..
— А это ложка?
— Да, ложка.
— А как вы думаете, — сказал Иван Иванович, — дадут мне те¬
перь какое-нибудь место? Ну, скажем, почтальона?
Учитель географии [403]
— Отчего же, — сказал я. — Но для этого вам надо основатель¬
но изучить названия городов и улиц.
— Постараюсь, — сказал Иван Иванович.
И начал грустно есть суп.
154
ТАНКИ И САНКИ
Посвящаю М. М. Иоффе
Я хотел написать для ребят толстую книгу про нашу армию.
Писал-писал, да чернил не хватило; а всего только два сражения описал.
А вот вчера рассказали мне историю — вроде сказки — про
красноармейца и про белого генерала.
Я и решил напечатать пока эту короткую историю. Потом, когда у меня
чернил будет больше, я напишу книгу про всю Красную армию.
ГЕНЕРАЛ СЕМИКОЛЕНОВ
Летом 1918 года в казачью столицу Новочеркасск приехал борода¬
тый мужик в валенках и разорванном полушубке.
Он зашел в один дом и пробыл там три часа. Когда он вышел, на
нем были блестящие сапоги, штаны с красными лампасами и но¬
вый мундир с генеральскими погонами.
Черная сабля звенела у него на боку.
Он сел в экипаж и сказал извозчику:
— Вези меня во дворец к атаману.
Атаман сидел у себя в кабинете и разглядывал карту. Увидев
гостя, он вскочил с дивана и закричал:
— Генерал Семиколенов? Откуда вы?
Генерал Семиколенов рассказал, что он бежал от большевиков.
— Красным скоро конец, — сказал генерал. — У них ничего
нету. Заводы не работают, поезда не ходят. За фунт хлеба платят
два фунта бумажных денег — вот какие у них деньги.
— А что у них за армия? — спросил атаман.
— Какая же у них армия! Голодранцы, а не солдаты. Сапог
у них нету, снарядов нету, командиров нету, ничего нету.
Проза [404]
КОЧЕГАР
Генерал говорил правду. У большевиков командиров не было.
В тот же самый день из города Мурома большевики отправля¬
ли на войну новый полк. Председатель совета вызвал к себе това¬
рища Ивана Дорофеева и сказал ему:
— Ты назначен командиром полка.
— Как же я буду командовать полком? — сказал Иван Дорофе¬
ев. — Я этого дела не знаю.
Председатель совета ответил:
— У нас ученых командиров нету, а ты человек надежный.
— Да ведь я кочегар.
— А я слесарь, — сказал председатель совета, — а вот целым
городом управляю.
— Ну, что ж, — сказал Иван Дорофеев, надел шашку задом на¬
перед и поехал на фронт.
КРАСНЫМ СКОРО КОНЕЦ
Под хутором Булочкиным шел бой. Белые дрались с красными.
Белые были одеты и обуты по форме, а красные — кто в сапо¬
гах, кто в лаптях, а кто и босой, в одних обмотках.
Белые умели воевать. Их пушки били без промаха, а крас¬
ные стреляли мимо. Почти весь полк Ивана Дорофеева был пе¬
ребит.
Генерал Семиколенов после боя допрашивал пленного.
— Кто у вас полком командовал?
— Иван Дорофеев.
— Он кто же? Из офицеров?
— Нет, из кочегаров.
Генерал даже за голову схватился. Ему было обидно воевать
с кочегаром. Всю свою жизнь он дрался только с генералами.
— А сколько у вас войска осталось? — спросил генерал.
— Не считал, — ответил пленный. — Народу у нас много.
— И все кочегары? — спросил генерал.
— Зачем кочегары? Сапожники тоже есть. Литейщики есть,
кузнецы есть, грузчики есть.
Задумался генерал Семиколенов и поглядывает на бумажку.
А на бумажке написано:
Танки и санки [405]
8000
5000
30 ООО
70 000
15 ООО
100
И еще много цифр.
— Что это у вас на бумажке написано? — спросил генерала
офицер.
— Скоро красным сапожникам конец, — сказал генерал. —
На бумажке у меня написано, сколько к нам войск на помощь идет.
Французов восемь тысяч душ. Да сербов пять тысяч, да англичан
тридцать тысяч, да чехословаков семьдесят тысяч, да бельгийцев
с канадцами тысяч пятнадцать наберется. Да еще румын сто душ.
АНГЛИЙСКИЙ ШОКОЛАД
Генерал говорил правду.
В один прекрасный день сразу со всех сторон приехали к белым го¬
сти. Англичане во френчах и обмотках, французы в кепках и подвер¬
нутых шинелях, сербы в шапочках пирожками, греки в юбочках, аль¬
пийские стрелки с перьями на шляпах, японцы в гамашах, да еще аме¬
риканцы, да еще бельгийцы, да еще канадцы. Да еще сто душ румын.
Английский полковник Кейтон сказал генералу Семиколенову:
— Скоро мы с вами, генерал, всю Россию завоюем. Привезли
мы вам подарки от нашего короля. Снаряды, шоколад, шинели, мо¬
локо в банках, пушки, теплые жилеты, самопишущие перья, паро¬
возы, зубочистки.
— Спасибо, — сказал генерал Семиколенов. — С такой помо¬
щью мы скоро к самой Москве подойдем.
Генерал говорил правду. Белые начали наступать со всех сто¬
рон. На севере, и на востоке, на юге, и на западе — везде были
фронты.
Генерал Семиколенов накалывал на карту все новые и новые
флажки.
Взят Архангельск.
Взят Царицын.
Проза[406]
Взята Казань.
Взят Харьков.
Взята Полтава.
Взят Киев.
— Здорово! — говорил генерал. В день по городу берем. Спа¬
сибо англичанам-союзникам!
ГОСТИ УЕХАЛИ
Генерал говорил правду.
Кочегар Иван Дорофеев сидел в разбитой снарядами хате. Во
дворе толпились солдаты в английских френчах и английских об¬
мотках.
К Дорофееву приехал из Москвы товарищ.
— Что у тебя тут за англичане? — спросил он. — Пленные,
что ли?
— Какие там пленные, — ответил кочегар. — Это наши крас¬
ноармейцы. Спасибо англичанам-союзникам; солдат они домой
увезли, чтоб к нашим не перекинулись, а вот шинели да снаряды
оставили нам. Теперь и зимой воевать можно.
А генерал Семиколенов сидел на походной кровати и ругал ан¬
гличан, французов, греков, итальянцев, австралийцев и сто душ
румын.
Но тут ему доложили, что пришел офицер из главного штаба.
— Скоро красным конец, — доложил офицер. — Генерал Ма¬
монтов красным в тыл зашел. С ним целый корпус конницы. Мы
наступаем на Воронеж, на Чернигов, на Орел.
Генерал Семиколенов опять повеселел.
— Вот мы и без союзников обойдемся, — сказал генерал. —
Первое дело на войне — конница. Кони у нас сытые, да гладкие, а у
большевиков одни клячи. У нас все генералы на белых конях разъ¬
езжают, а Ленин, я думаю, и на пегую клячу никогда не садился!
КОЧЕГАР НА КОНЕ
Генерал говорил правду. Ленин верхом на коне не ездил. Но Ле¬
нин знал, что без конницы не обойтись. Он сказал:
Танки и санки [407]
Пролетарий, на коня!
Стали отовсюду собирать лошадей. Храброго бойца Буденного
поставили командиром конной армии.
Сел на коня и кочегар Иван Дорофеев. Конь у него был воро¬
ной, грива в красных лентах, хвост до земли.
Выехал Иван Дорофеев на пригорок. А генерал Семиколенов
на белом коне сидит и на Дорофеева в бинокль смотрит.
«Ишь ты, — думает, — как разукрасился. Скоро из седла вы¬
летишь».
А через месяц белый конь скакал во весь дух. Это генерал Се¬
миколенов уходил от кочегара.
— Ничего! — кричал генерал Семиколенов на всем скаку. —
Недолго мы удирать будем. Скоро красным конец. На пароходах
едут к нам танки!
ТАНКИ И САНКИ
Генерал говорил правду.
На пароходах из Англии приехали танки. Досталось три танка
и генералу Семиколенову. Подошел генерал к танку, похлопал его
рукой по железной броне и говорит офицерам:
— Славная черепаха! Она и гору возьмет и в окоп залезет. Де¬
ревья, как соломинки, режет. Пусти только ее в лес — через полча¬
са гладкое место останется. Спереди у нее пушки, сзади пулеметы.
Броня у нее такая, что не пробьет и пуля, и снаряды отскакивают.
Генерал подозвал к себе офицера и передал ему лист бумаги.
На листе было напечатано:
Красноармейцы, сдавайтесь!
Завтра
мы пускаем против вас танки!
— Поручик, — сказал он, — пошлите красным два самолета.
Пускай они мои листки красноармейцам побросают.
На другой день рано утром три танка загремели цепями и по¬
лезли к болыневицким окопам. Красные испугались и пустились
наутек. А танки стреляли по убегающим из орудий и пулеметов.
Генерал Семиколенов стоял на горе и видел все это в бинокль.
Проза[408]
— Конец красным, — сказал он. — Против танков не пойдешь.
Не успел он закрыть рот, как один танк вдруг повалился набок.
Из него стали выскакивать люди.
— В чем дело? — спросил генерал Семиколенов.
— Болыпевицкий снаряд попал, — ответил офицер.
— Да ведь танк же не боится снарядов? — удивился генерал
Семиколенов.
В это время другой танк тоже остановился.
— В чем дело? — спросил генерал Семиколенов.
Верховой поскакал к танку и вернулся с донесением.
— В грязи завяз, ваше превосходительство.
— Ничего, — сказал генерал. — Скоро грязи не будет. Зима
придет. Тогда мы им покажем.
Подошла зима. Белые все отступали и отступали. Танки не по¬
могали им.
Красные пулеметчики стали разъезжать на легких санках, за¬
пряженных тройкой лошадей. Налетит такая тройка со звоном,
с колокольчиками, пулеметчики обстреляют белых и дальше. По¬
пробуй, догони!
В январе 1920 года красная кавалерия въехала в казачью сто¬
лицу Новочеркасск.
Шел полк за полком. Позади одного полка громыхали желез¬
ные черепахи. Это были танки, отбитые у белых в бою под Ново¬
черкасском.
А за ними катили санки с пулеметами. На санках было написа¬
но крупными буквами:
Вы к нам на танках,
мы к вам на санках.
Это был полк кочегара Ивана Дорофеева.
ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ
Генерал Семиколенов бежал за границу. Он написал книжку
о Красной армии. В книжке говорится вот что:
— Отчего нас разбили? У нас были опытные командиры, мы
были сыты, одеты, обуты, нам помогали союзники, у нас были тан¬
ки. А у красных ничего не было. Но красные знали, за что боро-
Танки и санки [409]
лисъ, и потому они победили. Надо сказать правду: рабочие и кре¬
стьяне не с нами, а с ними.
Генерал говорил правду.
Я кончил писать эту книгу и вдруг услыхал шум.
Я подбежал к окну и посмотрел вниз.
Внизу проходили войска. Шла пехота. Шла конница. Шли танки.
Я посмотрел вверх. Вверху летали аэропланы.
Что такое? — подумал я.
И вдруг вспомнил: да ведь сегодня 23 февраля, день Красной армии.
А нет ли там Дорофеева? — подумал я и раскрыл окно.
— Дорофеев! — крикнул я. — Иван Дорофеев!
Обернулись пехотинцы. Обернулись конные. Обернулся шофер с бро¬
невика. Вон сколько их — Иванов Дорофеевых.
Играла музыка.
По улицам шла хорошо одетая, хорошо обутая, хорошо обученная ар¬
мия. Это шла армия литейщиков, кузнецов, кочегаров, грузчиков, пе¬
чатников, сапожников, крестьян.
Это шла армия Иванов Дорофеевых.
155
ХИТРЫЕ МАСТЕРОВЫЕ
У плотника Стружкина собрались гости. Все свои ребята, масте¬
ровые. Кто на заводе, кто в типографии, кто на железной дороге
орудует.
Посидели, поговорили, а потом вдруг заспорили: чье ремесло
хитрее?
— Самая умная профессия — это наша древообделочная, —
сказал хозяин. — В другом деле только руки нужны и больше ни¬
чего, а плотник без головы все равно что пильщик. Плотник не
просто отпилит, а сперва карандашом рассчитает. Это не то, что
коваль, скажем, или машинист.
— Скажите, пожалуйста, — обиделся машинист Тормазов, —
голован какой нашелся! Столяры-маляры и неграмотные бывают.
А машинист без грамоты все путевки перепутает.
Кузнец Кувалдин посмотрел сердито и проговорил:
Проза [410]
— Вот уж не знаю, что за хитрость такая в плотницкой работе.
Все понятно. То ли дело в кузне: каждый гвоздь узнать надо — ан¬
глийский он или русский.
И тут спор вовсю разгорелся. Спорили, спорили, — все без тол¬
ку. Хозяину совестно стало, что гости его уже ругаться начали, —
он и сказал:
— Вот что, товарищи, пусть каждый такую загадку по своему
ремеслу выдумает, чтобы другие не отгадали. Чьи задачи труднее,
у того и ремесло умнее.
ЗАГАДКА ПЛОТНИКА СТРУЖКИНА
У меня есть доска. В ней выпилены три отверстия: одно круглое,
другое крестом, а третье квадратное.
Вот как сделать такую затычку, чтобы годилась для всех трех ды¬
рок?
ЗАГАДКА СЛЕСАРЯ СКВАЖИНЫ
Жили раз мы трое в одной комнате: я и два моих земляка.
Дома мы сидели редко. Так что квартира на запоре была —
тремя замками запиралась. У каждого был свой замок и свой ключ.
Возвращались мы в разное время.
Вот догадайтесь, каким образом каждый из нас попадал в ком¬
нату, не дожидаясь товарищей.
ЗАГАДКА РАБОТНИЦЫ ВЕРЕВКИНОЙ
Работали мы с подругой на канатной фабрике.
Зашел у нас разговор: какой длины канаты на нашей фабрике
вырабатываются?
Хитрые мастеровые [411]
Подруга и говорит:
— Вот если бы на аэроплане или дирижабле вверх подняться,
да оттуда канат вниз спускать, до земли доставать, — могла бы на¬
ша фабрика сделать канат такой длины, чтобы его можно опустить
с высоты семи километров?
Тут мастер наш в разговор вмешался:
— Канат такой длины, конечно, можно сделать, да только его
с такой высоты на землю не опустить.
— Почему так?
— А вот догадайтесь сами.
ЗАГАДКА КУЗНЕЦА КУВАЛДИНА
Принес мне директор завода пять цепей — по три звена в каж¬
дой — и говорит:
— Соедините их в одну цепь.
Ладно. Соединить дело простое. Надо четыре звена расковать
и опять заковать. Так бы всякий кузнец сделал.
Ну а я мастер тонкий. Сразу сообразил, что расковывать все че¬
тыре звена нет надобности, можно и меньше.
А вот сколько же?
ЗАГАДКА ПУГОВИЧНИКА ЗАСТЕЖКИНА
На пуговичную фабрику каждый день старые пуговицы присыла¬
ют — деревянные и костяные.
Посмотришь на пуговицу и сразу не скажешь, деревянная она
или костяная.
Все они одинаково отполированы, лак тоже одинаковый, что на
деревянных, то и на костяных.
Вот если только соскоблить краску и лак или разломить пуго¬
вицу пополам, тогда, конечно, узнаешь, из чего она сделана.
Но портить пуговицу обидно. Да к тому же перебирать все пу¬
говицы поодиночке — это канитель. Ведь их привозят к нам по не¬
скольку пудов.
А вот у нас на фабрике в два счета костяные пуговицы от дере¬
вянных отделяют — в минуту по пяти пудов, да при этом ни одной
пуговицы не ломают.
Как это делается?
Проза [412]
ЗАГАДКА МАЛЯРА СИНЬКИНА
Шел я мимо лавки, ведерко с краской нес.
Позвали меня из лавки: «зайди, дело есть».
Зашел, а хозяин мне два куска листового железа показывает:
вот, мол, покрасить надо.
Посмотрел я в ведерко, а там краски только на донышке. Я и го¬
ворю:
— Краски мало. Один кусок еще покрасил бы, а на два не хва¬
тит.
Хозяин и на то согласен.
Стал я тогда смотреть, на какой кусок меньше краски пойдет.
А как его узнаешь? Кабы куски четырехугольные были, тогда еще
один на другой можно было бы наложить.
А то они так хитро вырезаны, что никак не понять, какой боль¬
ше, какой меньше. А толщины они одинаковой.
Ну, я подумал, подумал, и догадался, как узнать, на который
лист меньше краски надо.
ЗАГАДКА МАШИНИСТА Т0РМА30ВА
Маневрировал я с товарным поездом — ездил взад и вперед по ли¬
нии, где был железнодорожный мост.
На мосту каждый раз остановка была. Стрелочник, что стоял
у моста, спрашивает меня:
— Что это вы, товарищ машинист, разве лишний вагон прице¬
пили?
— Нет, — говорю, — вагонов столько же, сколько было.
— Как же так? — спрашивает он. — Полчаса тому назад поезд
весь на мосту помещался, даже свободное место спереди и сзади
оставалось, а сейчас он выходит за оба края моста.
— Нет, — отвечаю, — состав тот же, что и был. А вот догадай¬
ся, почему мой поезд длиннее стал?
ОТВЕТЫ:
ЗАГАДКА ПЛОТНИКА СТРУЖКИНА
Вот эта затычка годится для всех трех дырок.
Хитрые мастеровые [413]
ЗАГАДКА СЛЕСАРЯ СКВАЖИНЫ
Если запирать дверь как здесь показано, то
можно попасть в комнату, отперев всего
лишь один замок. ЮДУ\ЩШшш
ЗАГАДКА РАБОТНИЦЫ ВЕРЕВКИНОЙ
Опустить канат с такой высоты нельзя, потому что канат длиной
в 7 километров будет весить не менее ста пудов. Верхняя часть ка¬
ната не выдержит такой тяжести и оборвется.
ЗАГАДКА КУЗНЕЦА КУВАЛДИНА
Чтобы соединить все цепи в одну, надо в одной цепи расковать
и сковать все три звена.
ЗАГАДКА ПУГОВИЧНИКА ЗАСТЕЖКИНА
Все пуговицы надо побросать в бочку с водой. Тогда деревянные
всплывут наверх, а костяные останутся на дне.
ЗАГАДКА МАЛЯРА СИНЬКИНА
Оба куска надо положить на весы. Какой легче, на тот меньше кра¬
ски пойдет.
ЗАГАДКА МАШИНИСТА Т0РМА30ВА
Когда поезд идет вперед, он становится длиннее, так как все цепи,
которыми соединяются вагоны, вытягиваются.
Другое дело, когда поезд идет назад. Тогда паровоз не тянет
за собой вагонов, а толкает их перед собой так что вагоны сдви¬
гаются.
Первый раз поезд остановился на мосту с заднего ходу, а вто¬
рой раз остановился, когда шел вперед.
Поэтому первый раз поезд был короче.
156
БЛОШИНЫЙ УЧИТЕЛЬ
Я был в театре. Рядом со мной сидел человек огромного роста
и ел апельсин.
Вдруг к нему подошел какой-то старичок и шепотом сказал:
Проза [414]
— Алексей Лукич, одолжите мне парочку блох. Я вам во втор¬
ник отдам. Честное слово.
— Парочку? — переспросил мой сосед. — Это можно.
— Тогда выйдем на минутку. Здесь неудобно.
Они вышли. Через минуту мой сосед вернулся.
Зрители вокруг нас зашевелились.
По правую сторону от моего соседа сидела тощая дама. Она
сердито посмотрела на него и заерзала на стуле. Потом она под¬
нялась и пересела в другой ряд.
— Глупая, — засмеялся мой сосед, — блох испугалась! Они
ведь у меня в коробочке.
— В коробочке? Блохи?
— Вы не удивляйтесь, — наклонился он ко мне, — дело в том,
что я — блошиный учитель. Это я своему приятелю ученых блох
давал. Он тоже в этом деле понимает.
Сосед угостил меня апельсином, дал свой адрес и просил при¬
ходить:
— Второй двор направо, спросите блошиного учителя.
На другой день я пошел к нему.
Дворник сказал мне, что блошиный учитель живет на восьмом
этаже, под самой крышей.
— До него и блоха не допрыгнет, — сказал дворник.
Насилу я взобрался на восьмой этаж.
Я позвонил. Блошиный учитель открыл мне дверь.
Он, не здороваясь, схватил меня за руку и закричал:
— Вы, может, думаете, что я обучаю собачьих блох? Зарубите
себе на носу, что ни собачьих, ни кошачьих блох я не обучаю. Со¬
бачья блоха — дура.
— А каких же вы блох обучаете? — спросил я.
— Человечьих, только человечьих. Только человечья блоха
поддается обучению.
Он повел меня к столу, где стояло несколько ватных ящиков.
— Верочка, — прошептал он, прикоснувшись палочкой к ящику.
Оттуда вдруг прыгнула к нему на руку блоха.
— У вас есть с собою блохи? — сердито обратился он ко мне.
— То есть как это — с собой? — не понял я.
— Да так, очень просто. Ну, кусают вас блохи, например?
— Нет, — обиделся я, — у меня блох никогда не бывает.
— Очень жаль, — строго сказал блошиный учитель. — Это
я потому спрашиваю, — пояснил он, — что, если б у вас были
Блошиный учитель [415]
блохи, я бы показал вам, какая разница между вашей неграмот¬
ной блохой и моей — образованной. Ваша блоха — хулиган,
бандит...
— Но у меня нет блох, — опять обиделся я.
— Ну, не у вас, у ваших знакомых, — все равно. Так вот, ваша
блоха — бандит, разбойник, потому что она без разбору бросается
на всех и кусает. Моя же блоха незнакомых людей кусать не будет.
Вы можете мою блоху посадить к себе на руку и держать ее у себя
хоть целый день. Она вас ни разу не укусит.
Блошиный учитель помолчал немного и добавил:
— Да вообще мои блохи когда попало есть не будут. Они при¬
выкли есть 8 раз в сутки, через каждые 3 часа. В остальное время
они и смотреть не хотят на еду.
— А кто же их кормит?
— Я сам. Я их сажаю к себе на руку, и они пьют мою кровь.
Блошиный учитель взял со стола другой ящичек, поднес его
к моим глазам и сказал:
— Здесь у меня живет очень нервная блоха. Зовут ее «Кусач-
ка». Она боится сильного света. Если ее посадить около электри¬
ческой лампочки, у нее сейчас же начинается лихорадка, и она
тогда ничего не может делать.
Потом блошиный учитель показал свой театр.
Он дал мне увеличительное стекло, и я увидел на столе крохот¬
ную мебель — стулья, столы. На одном стуле сидела блоха. Сиде¬
ла она важно, словно человек. На голове у нее была маленькая зе¬
леная шапочка из папиросной бумаги.
Вдруг к ней подскочила другая блоха поменьше и спихнула ее
со стула.
— Это они шалят, пока представление не началось, — ласко¬
во сказал учитель.
После этого началось представление.
Я видел блоху, которая ходила по ниточке тонкой, как блошиная
нога. Потом пять блох качались на качелях. Блошиный учитель ти-
хо-тихо заиграл на дудочке, и вдруг одна из блох начала под му¬
зыку перекидываться на качелях и делать гимнастику. Потом од¬
на блоха, одетая в голубой костюмчик, гонялась за другой блохой
с кинжалом, сделанным из крохотного соломенного прутика.
— Это они пьесу играют, — объяснил учитель.
— Вы не смейтесь, — сказал он, увидев, что я улыбаюсь, —
я однажды отнял роль у одной блохи и передал ее другой, так что
Проза [416]
же вы думаете? После представления обиженная блоха кинулась
на свою соперницу и загрызла ее!
Блошиный учитель показал мне еще несколько номеров.
— А как же вы их учите? — спросил я на прощание.
Он взял со стола красную круглую коробочку со стеклянной
крышкой и подал ее мне.
— Вот моя школа, — сказал он.
Я с удивлением осмотрел коробочку.
Блошиный учитель улыбнулся и сказал:
— Прежде всего, дикую блоху надо отучить прыгать. Для это¬
го я сажаю ее в коробочку. Блоха хочет выпрыгнуть из коробки
и больно ударяется о крышку. Попрыгает так денька два, набьет се¬
бе спину — и уж после этого боится прыгать. Это — первый курс
обучения. Потом я ее учу ходить в упряжи. Видите, вот ее теле¬
жка. Первое время она еще скачет, хоть и не так высоко, как дикая.
Я привязываю к ее ногам цепочки и маленькие гирьки. Блоха уже
не скачет, а ходит. Потом я ее учу поднимать тяжести, ходить по ка¬
нату, ложиться в кровать. Через месяц блоху не узнаешь — это уже
сознательная блоха.
Когда я уже уходил, он вдруг шепотом сказал мне:
— Вы сколько весите?
— Четыре пуда.
— А сколько одной рукой можете поднять?
— Два пуда.
Блошиный учитель отскочил и громко закричал:
— Какое вы слабое существо! Знаете ли вы, что моя блоха раз
в полтораста сильнее вас?
— Блоха сильнее меня?
— Да, моя блоха «Геркулес» поднимает и тащит тяжесть
в 80 раз тяжелее ее тела. Вот вам и блоха!
ОТ РЕДАКЦИИ «ЕЖА»
Макар Свирепый пришел в редакцию «Ежа» и рассказал
нам про блошиного учителя и его ученых блох.
— Товарищи, — сказал нам редактор, — как вы ду¬
маете, можно ли научить блоху выделывать такие хит¬
рые штуки?
— Можно, — сказал Иван Топорышкин.
— Нельзя, — сказал Сергей Бочков.
— Можно, можно, можно, — сказала тетя Анюта.
Блошиный учитель [417]
— Гав, гав, гав, — сказала собака «Пулемет».
Мы спорили 2 часа 23 минуты и 10 секунд, но ниче¬
го не решили.
— Макар Свирепый, — сказал наконец редактор, —
скажи нам: на самом деле ты видел ученых блох или все
это одни враки?
Макар Свирепый поднялся со стула, щелкнул Ивана
Топорышкина по носу, поднял вверх указательный па¬
лец, открыл рот и сказал...
Читатели «Ежа»!
Что, по-вашему, сказал нам Макар Свирепый?
157
ПОЛЕТ ПАРАШЮТИСТА ЕВСЕЕВА
1. Евсеев приготовился к полету. Он надел маску, застегнул по¬
следнюю пряжку и проверил часы. Товарищи помогли ему надеть
парашют.
Сегодня Евсеев будет прыгать с самолета. Когда самолет подни¬
мется на высоту 7 километров, он вместе с парашютом бросится вниз.
2. Все готово. Евсеев уже сидит в самолете и кричит летчи¬
ку: — Поехали!
В ответ заревел мотор, и машина рванулась вперед. Самолет
в воздухе. Евсеев глядит вниз. Люди на земле кажутся точками,
дома — спичечными коробками.
3. Уже целый час прошел с тех пор, как вылетел самолет. Пора
прыгать.
Евсеев снял меховые рукавицы, перебросил ноги за борт и стал
на животе сползать с самолета вниз. Руки у Евсеева сразу же око¬
ченели, очки запотели, ему ничего не было видно.
4. — Буду прыгать вслепую, — подумал Евсеев и оторвал руки от
самолета.
Но он не упал. Оказалось, что его запасной парашют зацепился
за самолет. Он изо всей силы уперся обеими руками в стенку само¬
лета. Веревки лопнули, и Евсеев полетел вниз.
Проза [418]
5. Он падал со страшной быстротой, быстрее, чем летит самый
скорый курьерский поезд. Но Евсеев был спокоен.
Он не торопясь протер очки, не торопясь надел их на нос.
Вдруг он почувствовал сильную боль в ушах. Тогда он запел
песню, и боль сразу прошла.
6. Евсеев посмотрел на левую руку, где у него были привязаны
часы.
— Ого, — подумал он, — я лечу уже целых 97 секунд — надо
приготовиться к встрече с землей.
И он перевел глаза на землю. До этого он совсем не смотрел
на нее.
7. Евсееву показалось, что он никуда не падает, а все время стоит
на одном месте.
Зато земля со страшным ревом несется ему навстречу. Вот она
все ближе и ближе — еще секунда, и будет поздно. Евсеев нашел
на груди кольцо от парашюта и дернул.
8. Со страшной силой его рвануло вверх.
Евсееву показалось, что у него вывернуты руки, повреждены
плечи. Но это ему только показалось.
Его спасло то, что перед полетом он подложил себе под мыш¬
ки волосяные подушки.
9. Евсеев посмотрел вверх и увидел, что парашют распустился.
Его несло на сосны и березы.
Очень трудно было спускаться между деревьями. И все-таки
Евсеев так рассчитал свою посадку, что парашют остался цел. Он
только слегка накрыл невысокую березку.
10. Евсеев снял с березки парашют и вышел из лесу.
Навстречу ему бежали красноармейцы с испуганными лица¬
ми. Они видели, как падал Евсеев, как он скрылся за лесом с не¬
распущенным парашютом, и думали, что он разбился насмерть.
11. Через минуту подъехал доктор.
— Как вы себя чувствуете? — спросил он.
— Прекрасно, — ответил Евсеев.
— Удивительно, — проговорил доктор. — Ведь вы пролетели,
не раскрывая парашюта, целых семь километров!
Полет парашютиста Евсеева [419]
12.0 смелом прыжке Евсеева узнал весь Советский Союз.
Евсеев победил парашютистов всего мира. Он раскрыл пара¬
шют на высоте 150 метров от земли.
В награду за свой подвиг Евсеев получил от советской власти
подарок — часы с надписью.
158
В ОКТЯБРЬСКУЮ НОЧЬ
Восемнадцать лет назад жила в Петрограде вместе с папой и ма¬
мой девочка Таня.
Однажды после обеда мама надела теплое пальто, надела кало¬
ши и сказала:
— Я поеду к бабушке и через два часа вернусь.
Мама уехала, а Таня и папа остались дома. Прошло два часа, но
мама не вернулась. Прошел еще час, а ее все нет. Вдруг кто-то по¬
стучал в дверь.
— Войдите, — сказал папа.
Дверь открылась, и вошел человек в кожаной фуражке.
— Здравствуйте, — сказал он.
— Здравствуй, товарищ начальник, — ответил папа. — Что но¬
вого?
— Сегодня вечером будем воевать, — сказал начальник. — Наш
отряд получил приказ взять вокзал к одиннадцати часам. Едем!
Папа стал одеваться.
— Татьяна! — закричал он. — Живо, ложись спать! Я сейчас
ухожу.
— Что ж это такое? — сказала Таня. — И мама ушла, и ты ухо¬
дишь!
— Ложись, тебе говорят. Мама скоро приедет.
— А куда она уехала? — спросил начальник.
— К бабушке на Васильевский остров, — сказала Таня.
— Ай-ай-ай! — покачал головой начальник. — Ну, значит, се¬
годня она уже не приедет. Все мосты разведены.
— Вот видишь, — сказала Таня.— Теперь я дома ни за что не
останусь. Я с тобой на вокзал поеду.
— Вот это здорово! — засмеялся начальник. — А знаешь
что, — повернулся он к папе, — давай-ка возьмем ее с собою.
Проза [420]
— Что ты, что ты! — замахал руками папа. — Куда ж я ее де¬
ну? Мне стрелять надо, я пулеметчик.
— А мы ее на наш завод отвезем. В конторе есть сторож, он за
ней и присмотрит. Спать она будет на столе. Только надо подушку
и одеяло взять.
Таня стала одеваться. А папа молча взял два одеяла, взял по¬
душку и пошел к двери.
— Стой! — закричала Таня. — А что, если мама без нас прие¬
дет? Садись и пиши ей записку, что мы с тобой воевать поехали —
пусть она не беспокоится.
Папа написал записку, приколол ее к стенке, и они вышли. Бы¬
ло уже темно. У ворот стоял грузовик.
В грузовике сидело четыре человека, все в черных пальто,
в черных шапках, все с винтовками.
— Познакомьтесь, товарищи красногвардейцы, — сказал
им начальник, подсаживая Таню на машину. — Вот вам новый
боец.
— Ой, холодно как! — сказала Таня и разостлала одеяло. По¬
том положила к себе на колени подушку и укрылась вторым одея¬
лом. Ей сразу стало тепло.
— Поехали, — сказал начальник, и грузовик тронулся.
Вдруг Таня услышала:
— Стой! Стой!
Таня оглянулась и увидела человека верхом на лошади. Он ска¬
кал навстречу машине и кричал.
Грузовик остановился, и начальник соскочил на мостовую.
— В чем дело? — сказал он.
— Вы командир шестого красногвардейского отряда? — спро¬
сил его верховой.
— Я.
— Вы знаете, где помещаются пороховые погреба?
— Знаю.
— Штаб приказал вам немедленно вывезти из погребов все
оружие и раздать его рабочим.
— Будет сделано, — сказал начальник, и верховой уехал.
Начальник влез в машину и сел рядом с шофером.
— Мы сейчас на завод заезжать не будем, а поедем прямо к по¬
гребам, — сказал он.
Он посмотрел на закутанную Таню и сказал папе:
— Да она у тебя, кажется, заснула. Ну, вот и хорошо.
В октябрьскую ночь [421]
Через десять минут грузовик подъехал к пороховым погребам.
Все, кроме Тани, слезли и осторожно стали подходить к главному
погребу.
— Никого! — сказал начальник и глянул на дверь.
На двери висели три больших замка.
Начальник поднял с земли камень и стал сбивать замки один за
другим. Он сбил замки и навалился на дверь. Дверь не открывалась.
Тогда начальник достал из кармана электрический фонарик,
осветил дверь и увидел в ней маленькую дырочку.
— Так я и думал, — сказал он, — тут еще четвертый замок
есть — французский. Дело плохо.
Красногвардейцы стали колотить в дверь прикладами.
— Бросьте, ребята, — остановил их начальник. — Все равно
ничего не выйдет. Дверь стальная. Вот если бы в погреб через ок¬
но как-нибудь попасть. Изнутри можно открыть.
Он обошел вокруг погреба. Окошки в погребе были маленькие,
все с решетками.
— Решетка — это пустяк, — сказал начальник, — решетку вы¬
ломать можно. Да что с того? Все равно, в такое окно никто из нас
не пролезет. Тут кошка и та застрянет.
Вдруг чей-то голос сказал:
— Я пролезу!
— Кто это тут пищит? — сказал начальник и оглянулся.
Перед ним стояла Таня, закутанная в одеяло.
— Вам трудно пролезть оттого, что вы все толстые, — сказала
она, — а я тонкая.
— Правильно, — захохотал начальник. — Молодец! А ну-ка,
ребята, ломайте решетку.
Красногвардейцы выломали решетку, потом обвязали Таню
ремнями.
— Ну, а теперь лезь, — сказал папа.
Таня влезла в окошко и повисла на ремне.
— Стой, Танюша, ты фонарик забыла! — закричал начальник.
Танюша высунула из погреба руку и взяла фонарик.
Стали спускать Таню.
— Бросайте! — послышалось из погреба.
Красногвардейцы выпустили ремни. В погребе что-то загрохо¬
тало. Потом сразу стало тихо.
— Таня, Таня! — закричали все вместе — и начальник, и папа,
и красногвардейцы.
Проза[422]
— Не кричите все сразу, — сказала Таня, — а то я боюсь.
— Ты ушиблась? — спросил ее папа.
— Нет, я на мешки упала. Только ящик какой-то повалила.
И фонарик у меня потух. Я его выронила.
Все замолчали. Ждали, пока Таня найдет фонарик и отопрет
дверь.
— Замок высоко — достать не могу, — послышался из погре¬
ба жалобный голос.
— А ты ящик придвинь, — посоветовал начальник.
Опять все стало тихо. Вдруг в двери что-то щелкнуло.
Начальник осторожно нажал на дверь. Дверь открылась. Таня
с фонариком в руках вышла из погреба.
— Ура! — закричал начальник. — Ну, а теперь иди погрей¬
ся. — И он сам отнес ее в машину и закутал в одеяло.
Пока он ее нес, Таня заснула и уже больше ничего не помнила.
Проснулась Таня, когда было уже светло. Она лежала на сто¬
ле в чужой комнате. Рядом стояли папа и мама и смотрели на нее.
— Ну, что же, папа? — сказала Таня. — Взяли вы вокзал?
— Взяли, взяли, — ответил отец. — И вокзал взяли, и Зимний
дворец взяли, и почту. Теперь всё наше.
159
КРАСНЫЙ БАНТ
(Рассказ взводного командира)
Я выгладил рубаху, пришил к ней красный бант и повесил на
спинку кровати.
Потом зажег лампу, достал из кармана маленькую книжечку
и сел к столу.
Завтра я должен на митинге говорить красноармейцам речь
о Первом мая. Надо подготовиться.
Я развернул книжку и стал читать.
Прочитал один раз, потом другой, потом третий. Вдруг кто-то
заглянул в открытое окно. Я поднял голову и увидел красноар¬
мейца.
— Товарищ Карпенко, вас батальонный к себе требует.
Я надел рубаху и вышел.
Командир батальона ждал меня в канцелярии.
Красный бант [423]
— Поезжай в разведку, в село Дубовое, — сказал он. — Возь¬
ми с собою пятнадцать красноармейцев, лошадь и пулемет. Узнай,
есть в селе белые или нет.
Я построил свой взвод, выбрал пятнадцать человек самых на¬
дежных, взял пулемет, сел на серую лошадь и отправился в путь.
Через три часа мы были в Дубовом. Я подъехал к крайней из¬
бе и постучал.
Мне открыла дверь старуха.
— Бабушка, — сказал я, — есть в вашем селе солдаты или нету?
— Вчера не было, — ответила старуха, — а сейчас не знаю.
— А где у вас переночевать можно?
— В школе. Езжайте по этой улице все прямо и прямо. Первый
большой дом — это и есть школа.
Минут через пять мы увидели школу. В окнах горел свет.
«Там кто-то есть», — подумал я и слез с лошади.
В ту же минуту раздался громкий окрик.
— Кто идет?
Это был белогвардейский часовой.
Вместе с двумя красноармейцами я кинулся к нему, выбил у не¬
го из рук винтовку, рукою заткнул ему рот.
— Молчать!
Один из наших остался его сторожить, а мы вошли во двор. Лю¬
дей во дворе не было. Около пустых подвод стояли лошади и же¬
вали сено.
Я обошел кругом всю школу, расставил у дверей часовых, взял
с собою двух человек и вошел в здание.
— Стой здесь, — приказал я одному из красноармейцев. Он
остановился. Другой пошел за мною.
Мы сразу же попали в темный коридор.
Я толкнул первую дверь и очутился в маленькой комнате.
На полу и на скамейках спали белые солдаты. Их было чело¬
век двадцать.
На столе стоял пулемет.
Пулеметчик положил голову на стол и тоже спал. Обеими рука¬
ми он обхватил пулемет и крепко держал его.
Я на цыпочках подошел к столу и правою рукою осторожно стал
тащить к себе пулемет. В левой руке у меня был револьвер.
Пулеметчик вскочил и схватил меня за рукав, но я приставил
ему револьвер к самым глазам и шепотом сказал:
— Молчи, собака. Убью!
Проза[424]
Он побледнел и опустился на скамейку.
Потом тихим голосом стал просить:
— Товарищ, отдай мне хоть шапку.
Видно, с перепугу он сам не знал, что говорил. Шапка его ле¬
жала тут же на столе, и никто ее не трогал.
Я взял ее и надел пулеметчику на голову. После этого он за¬
молчал.
Красноармеец взял пулемет, вынес во двор и вернулся.
Вернулся и сразу же показал на стену, где висел телефон.
— Надо снять, — зашептал он мне на ухо, — а то еще зазво¬
нит, перебудит всех.
Я подошел к телефону и оборвал шнурок.
Прямо под телефоном спал длинный солдат с черными усами.
Рядом с ним лежала винтовка и две ручные гранаты. Я наклонил¬
ся к солдату, взял винтовку, взял гранаты, потом осторожно пере¬
ступил через него и забрал винтовку у его соседа.
Так обошел я всех спящих и у всех отобрал оружие.
Винтовки и гранаты я отдавал красноармейцу, и он выносил
их из комнаты.
Кончив работу, он стал на часах у двери, а я приказал пуле¬
метчику:
— Буди всех, только тихо, без крику.
Он стал будить своих товарищей. Когда все проснулись, я сказал:
— Стройся в две шеренги.
Все построились.
— А теперь стой и не сходи с места.
Солдаты молча стояли.
— Кто шевельнется—стреляй!—приказал я часовому и вышел.
— Товарищ взводный, — услышал я, — там в большом зале че¬
ловек двести спят.
Это говорил тот красноармеец, что стоял на часах в коридоре.
Я не стал раздумывать.
— Скорей идем, — сказал я.
Дверь в залу была полуоткрыта. Я заглянул в щель и увидел,
что вся комната полна людьми. В шесть рядов лежали на полу сол¬
даты.
— Все спят, — шепнул мне красноармеец, — надо потихоньку
вынести отсюда оружие.
Я распахнул дверь. Возле самого порога лежала целая куча
винтовок.
Красный бант [425]
Я взялся за одну и вдруг поскользнулся и выронил винтовку из
рук. Она загремела и покатилась.
В одну минуту белогвардейцы были на ногах. Они вскакивали
и хватались за оружие.
Спросонья никто из них ничего не понимал.
Дикими глазами смотрели они на меня и молчали.
Они не отрывали глаз от моей рубахи. Я сначала не понимал
почему. И вдруг понял!
Да ведь у меня на рубахе красный бант! Как с вечера я его на¬
дел, так и не снимал.
«Надо бежать, — подумал я, — убьют».
Я обернулся назад и увидел у двери человек десять с винтов¬
ками в руках. Красноармейца моего не было. Он успел выскочить.
Меня окружала целая толпа белых. Отступать было поздно.
Я двинулся вперед и громко сказал:
— А ну-ка, расступись! Дай дорогу.
Молча, не сводя глаз с моей рубахи, они расступились, расчис¬
тили мне дорогу.
Я подошел к столу, вскочил на него и стал говорить.
— Товарищи, — сказал я, — вы окружены. К вам пришел ба¬
тальон большевиков. Сорок пулеметов выставлено вокруг вашего
здания. Предлагаю вам сдать оружие.
Я едва стоял. Под коленками у меня тряслись все жилы, но
я держался смело.
— Зачем нам проливать братскую кровь... — хотел продол¬
жать я и вдруг остановился. Я не знал, что говорить дальше.
Холодный пот капал с моего лба. Все лицо у меня было мокрое.
Я хотел вытереть лицо и полез в карман за платком. Вдруг под
рукой у меня что-то зашуршало.
— Книжка!
Тут я вспомнил, что по этой книжке я приготовил вчера це¬
лую речь.
Я поднял руку. Теперь я знал, о чем надо говорить.
— Товарищи, — начал я, — завтра у нас Первое мая, рабочий
праздник.
Я говорил целых пять минут. Меня слушали молча. Когда я кон¬
чил, все стали хлопать.
Я спрыгнул со стола.
— Ну, а теперь сдавайте оружие. Складывайте вот сюда на
стол.
Проза[426]
Несколько человек послушались. Стали подходить с винтовками.
Остальные не двигались с места.
— А вы чего не сдаете?
— После сдадим.
Минута была опасная. Что делать?!
Вдруг дверь скрипнула. В щель просунулась голова моего
красноармейца. Он вошел и стал у порога. Следом за ним вошел
еще один.
Должно быть, они, стоя за дверью, всё слышали и теперь реши¬
ли, что пора мне помогать.
Белогвардейцы забеспокоились.
Тогда я опять вскочил на стол и закричал:
— Кто сдал оружие — отходи в левую сторону, кто не хочет
сдавать — отходи в правую.
Не знаю, чего уж они испугались, только после этих слов сол¬
даты толпой двинулись к столу.
Один протягивал мне винтовку, другой бомбу с деревянной
ручкой, третий стаскивал с себя пояс с патронами и клал на
стол.
Открылась дверь, и в комнату вошло еще пять человек наших.
Я кивнул головой на стол:
— Убрать оружие!
Красноармейцы стали таскать винтовки во двор и грузить их
на подводы.
Лошади уже были запряжены.
Я приказал пленным построиться и хотел выводить их во двор.
Вдруг ко мне подошел красноармеец и сказал на ухо:
— Есть в доме еще комната, где спят солдаты.
Тут я не выдержал. С досады ударил кулаком по столу. Что ж
это такое, наконец?
Но потом сдержал себя. Медленно пошел к выходу, оставил
у двери двух часовых и только в коридоре побежал как сумасшед¬
ший. Злоба душила меня. Я готов был разорвать всех белогвар¬
дейцев на клочки.
Ударив в дверь ногой, как зверь влетел я в третью комнату.
За мной красноармеец.
— Руки вверх! — закричал я.
Молодой парень в погонах вскочил с дивана и схватился за ко-
буру.
Я набросился на него и оторвал револьвер с поясом.
Красный бант [427]
Потом стал будить остальных.
Не прошло и минуты, как все стояли с поднятыми вверх рука¬
ми. Это были младшие командиры. Среди них два офицера.
Я отобрал у них оружие и вывел из комнаты прямо во двор.
Приставил часового и вернулся в дом.
Моим красноармейцам я приказал стать во дворе в одну ше¬
ренгу — цепочкой — и после этого вывести всех пленных.
Так и сделали.
Я сел на свою серую лошадь, скомандовал «направо» и выехал
на улицу. За мной потянулись пленные.
Тут я крикнул:
— Передайте пятой и шестой роте, чтобы снялись с оцеп¬
ления!
Красноармейцы поняли меня.
Они громко стали передавать мое приказание, чтобы пленные
думали, что они и в самом деле окружены войсками.
— Шагом марш! — скомандовал я.
Мы вышли из деревни. По бокам ехали подводы. На них сидели
красноармейцы с винтовками и пулеметами наготове.
Я слез с лошади, отдал ее одному из красноармейцев и шепо¬
том сказал ему:
— Скачи к командиру полка, пусть помощь присылает.
А сам пошел рядом с пленными.
Уже начинало светать. Мы отошли от деревни версты четыре.
Пленные стали переговариваться между собой.
Мне это не понравилось.
— Петь умеете? — закричал я.
— Умеем, — послышались голоса.
— Ну, так приказываю вам спеть песню, только не белогвар¬
дейскую.
Песельники затянули:
«Взвейтесь, соколы, орлами...»
Пропели эту песню — я приказал петь другую.
Вдруг послышались выстрелы, крики. Я сперва перепугался.
Думал, что неприятель.
Оказалось, это наши подавали сигнал, что идут на помощь.
Тут мы увидели целую толпу красноармейцев нашего полка.
Они спешили нам навстречу.
Проза [428]
Кто скакал верхом, кто бежал. Один ехал даже на извозчике.
Откуда он взял его в такую рань — до сих пор не понимаю.
На белом коне подъехал ко мне батальонный.
— Ну и змей же ты, товарищ Карпенко, — сказал он и засме¬
ялся.
Через полчаса все мы в полном порядке вошли в город.
Я выстроил своих пленных перед домом, где помещался штаб.
В дверях показался командир полка Николай Щорса.
Я скомандовал: «Смирно».
Щорса крепко пожал мне руку.
— Товарищ Карпенко, твое имя надо пропечатать золотыми
буквами. Спасибо тебе за твою храбрость.
Потом повернулся к белым солдатам:
— Отпускаю вас на все четыре стороны. Хотите — поступайте
к нам, а хотите — идите домой.
Мои пленные все как один остались служить в нашем полку.
Их было 188 человек.
А через три месяца из Москвы прислали орден.
Товарищ Щорса сам приколол мне его на грудь, на то самое ме¬
сто, где когда-то был красный бант.
160
ПОРТРЕТ
К нам в класс вошел директор и сказал:
— Ребята, кто из вас хорошо рисует?
Все закричали:
— Орлов! Орлов хорошо рисует.
Орлов — это моя фамилия. Я сижу и молчу.
— Где же он? — спросил директор.
— А вон, — закричали ребята, — на самой задней скамейке си¬
дит!
Директор повернулся ко мне и поманил пальцем:
— А ну-ка, Орлов, иди сюда.
Я подошел.
— Вот что, — сказал директор, — ты портреты вождей рисо¬
вал когда-нибудь?
— Рисовал.
Портрет[429]
— А можешь ты портрет Кирова за три дня нарисовать?
Я подумал немного и ответил:
— Могу. Только мне надо уголь хороший достать. Я углем бу¬
ду рисовать.
— Э, нет, — сказал директор, — углем рисовать не нужно. Чер¬
ный портрет у нас и так есть. Нам надо портрет в красках сделать.
— А для кого рисовать надо? — спросил я.
— Да для нас же! — засмеялся директор. — Разве ты не зна¬
ешь, что через три дня у нас школьный праздник? Мы в этот день
хотим у себя повесить большой портрет товарища Кирова.
— Отчего же вы в магазине не купите?
— Вот то-то и оно, — сказал директор, — что ни в одном ма¬
газине нет портрета Кирова в красках. И потом мы хотим, чтобы
портрет был нарисован нашими же учениками.
— Нет, — сказал я, — красками я рисовать не буду.
— Почему?
— А потому, что Кирова я никогда в жизни йе видал и не знаю,
какого цвета у него волосы, какие у него глаза, какая рубашка.
Черный портрет я с любой фотографии срисую, а для того чтобы
красками рисовать, надо непременно человека видеть.
— Ну, вот еще! — рассердился директор. — Не выдумывай, по¬
жалуйста. У отца можешь про волосы да про рубашку спросить.
Он-то уж наверно Кирова видел!
Директор повернулся к двери.
— Так смотри же! Ровно через три дня.
И он ушел.
Дома я спросил у отца:
— Ты Кирова видал когда-нибудь?
— Не только видал, — ответил отец, — а, может, сегодня еще
раз увижу.
— Как сегодня?
— А так. Сегодня вечером к нам на заводское собрание из
Смольного должны приехать. Может, сам Киров выступать будет.
Отец полез в боковой карман и достал маленький голубой листок.
— Видишь? — сказал он. — Это билет на собрание.
Я схватил билет и стал его разглядывать.
— А мне такой билет нельзя получить? — спросил я.
— Ишь ты, чего захотел! — засмеялся отец. — Нет, брат, тебя
и с билетом бы не пустили.
— Почему?
Проза[430]
— А потому, что собрание рабочее. Взрослое. Таким, как ты,
там нечего делать.
После обеда я достал из ящика кисточки, краски, потом попро¬
сил у матери три пузырька из-под лекарств, вымыл пузырьки, на¬
лил их чистой водой и спрятал все это в карман.
Пока я возился, отец уже ушел.
На стене, под зеркалом, висел медный номерок. По этому но¬
мерку отца на завод пропускали. Отец, как приезжал с завода, так
сейчас и вешал номерок на стену.
Я незаметно снял номерок и положил его в карман. Потом взял
со стола тетрадь для рисования, засунул ее под пояс, под рубашку,
надел пальто и вышел.
На трамвае я доехал до заводского клуба. Я знал, что собрание
будет в клубе.
Перед клубом толпой стояли ребята. Я достал из кармана но¬
мерок и подошел к двери.
— Пропустите меня, — сказал я, — мне надо отцу номерок пе¬
редать.
— Какой номерок?
— А мой отец дома номерок забыл, а ему прямо с собрания на¬
до на работу идти. Я ему номерок хочу отдать. Пропустите.
— Мы никого без билета не пропускаем, — сказал контроль. —
Отойди, не мешай другим.
И он отодвинул меня рукой.
Я чуть было не заплакал.
— Пропустите, пожалуйста, — сказал я. — Моя фамилия Ор¬
лов. У моего отца билет есть на собрание. Я ему только номерок
передам.
— Уходи, — сказал контроль и взял меня за плечо.
Вдруг загудел автомобильный гудок, и к самому крыльцу подъ¬
ехала машина. Открылась дверца, и из машины вышел невысокий
человек с портфелем.
— Киров, Киров!.. — послышались голоса. Человек подошел
к двери. Контроль все еще держал меня за плечо.
Я вдруг не удержался и заревел.
— В чем дело? — спросил Киров. — Из-за чего такой шум?
— Да вот приспичило мальчишке номерок отцу передать, —
сказал контроль.
— Ну, ну, не плачь, — потрепал меня по мокрой щеке Киров
и сказал контролю: — Надо пропустить.
Портрет [431]
Меня пропустили. Я сразу реветь перестал.
Только я вошел в залу, как все поднялись со своих мест, закри¬
чали, захлопали в ладоши.
Сперва я даже перепугался. Чего они, думаю, хлопают?
А потом понял, что это Кирову хлопают. Он ведь следом за
мной вошел.
Стал я себе место искать, куда бы сесть. А в зале полным-пол¬
но. Не то что сидеть, стоять негде.
Где же я буду рисовать? Ведь мне надо бумагу на что-нибудь
положить, надо краски развернуть, пузырьки расставить.
Тут я увидел, что перед самой сценой места для музыкантов со¬
всем пустые. Пустые скамейки стоят, пустые стулья. Вот, думаю,
где мне надо сидеть.
Осторожно стал я пробираться вдоль стены. Вдруг вижу —
в третьем ряду, на самом краю, сидит мой отец и разговаривает со
своим соседом.
Я испугался. Я знал, что если отец увидит меня, то прогонит
отсюда.
Сразу же пригнул я голову и боком-боком пролез вперед.
Вот и места для музыкантов. Вниз идут ступеньки. Я спуска¬
юсь вниз, сажусь на скамейку, оглядываюсь.
Вижу — на краю сцены стоит маленький столик. На столике
разложены бумаги. Должно быть, с этого места будет говорить
речь Киров. Значит, мне его легко будет рисовать.
Одно только меня удивило. Почему, кроме меня, никто больше
не захотел сюда сесть? Ведь скамеек пустых много.
Я расстегнул пояс, достал из-под рубашки тетрадь для рисова¬
ния, положил ее на табуретку, потом достал краски, кисточки, рас¬
ставил пузырьки с водою.
Вдруг я услышал позади себя голос:
— Ты что тут делаешь?
Я обернулся и увидал пожарного.
— Здесь посторонним сидеть воспрещается, — сказал он.
— Я не посторонний, — ответил я, — я художник. Я буду пор¬
трет Кирова рисовать.
— Тут и художникам нельзя сидеть, тут только пожарным
можно.
Он помолчал немного и добавил:
— А кто тебя сюда пустил?
— Киров, — ответил я.
Проза [432]
Пожарный не сказал больше ни слова. Он молча отошел в угол
и сел. Лицо у него было сердитое.
Я очинил карандаш, приколол кнопками бумагу к доске, намо¬
чил кисточки в воде.
— Слово предоставляется товарищу Кирову, — услышал я.
Опять все загремело в зале, захлопало, и Киров подошел к сто¬
лику.
Как только он начал говорить, я схватил карандаш и стал ри¬
совать.
Я смотрел на Кирова и старался не пропустить ни одной чер¬
точки в его лице. О чем он говорил? Не знаю. В то время я ничего
не соображал. Я слышал его голос, слышал смех в зале, но сам ни¬
чего не понимал.
Я торопился. Мне надо было успеть нарисовать Кирова, пока
он стоит здесь, у столика.
Рука моя так и летала по бумаге.
— Молодец! — услышал я чей-то шепот.
Оборачиваюсь и вижу: мой пожарный глядит на рисунок и глаз
от него не отрывает.
— Молодец! — повторил он. — Очень похоже. Очень. — И ли¬
цо у него не сердитое, а веселое.
Тут уж я на него накинулся.
— Ты что мне мешаешь? — прошипел я. — Я из-за тебя чуть
краской все не закапал.
— Ладно, ладно, — шепчет пожарный. — Ты не сердись. Я ме¬
шать не буду. Я только смотреть буду.
А сам то на портрет поглядит, то на Кирова.
Не знаю уж, сколько времени прошло — полчаса или час, —
а все-таки кончил я портрет. И только я положил кисточку, как Ки¬
ров тоже кончил речь.
После Кирова стали говорить другие.
А я уже никого не вижу. Всё на портрет смотрю и думаю, как
я завтра в школе буду хвастать.
Вдруг к нам подошел человек в кожаной шапке. Он влез за пе¬
регородку и сказал:
— Можно тут с вами посидеть? А то в зале нет места, а стоять
надоело.
— Тут сидеть нельзя, — сказал пожарный, — тут только по¬
жарным можно сидеть.
Он подумал немного и добавил:
Портрет [433]
— И художникам.
— Ну, я думаю, шоферам тоже можно, — засмеялся человек
в кожаной шапке. — Я шофер товарища Кирова. Зашел сюда по¬
греться, да вот сидеть негде.
Мне захотелось, чтобы шофер тоже похвалил мой рисунок.
Я положил портрет на скамейку — так, чтобы шоферу было
видно.
Но он даже головы не повернул.
Он смотрел на сцену и слушал оратора.
Я обиделся. Сразу мне стало скучно. И мысли в голове пошли
тоже скучные, печальные.
«Нет, не поверят мне ребята в школе, что я Кирова сегодня ви¬
дел, — подумал я. — Скажут, что портрет с фотографии срисовал.
Еще смеяться будут».
И вдруг мне пришло в голову, что надо показать портрет само¬
му Кирову.
Пусть он на этом портрете подпись свою сделает. Тогда все по¬
верят.
Кончится собрание, я подойду к Кирову, покажу ему портрет
и попрошу подписаться.
Только я это подумал, как шофер поднялся и сказал:
— Ну, до свиданья, братцы. Мне пора. Надо машину подгото¬
вить. Сейчас товарищ Киров скажет заключительное слово, и мы
сразу же поедем.
Я, как услышал это, так и обомлел. Если Киров сразу уедет, зна¬
чит, не успею я показать ему портрет. Тогда все пропало.
А что, если шофера попросить, чтобы он помог?
Обернулся я к шоферу, а его уже нет. Ушел.
Что делать?
Я приподнялся и выглянул в зал.
Вижу — то один человек, то другой встают и кидают на сце¬
ну бумажки.
Со всех сторон летят бумажки. И прямо над моей головой.
А по сцене ходит женщина, подбирает бумажки и кладет их на
стол перед Кировым.
«Это ему записки пишут, — догадался я. — Надо и мне написать».
Я вырвал из тетради клочок бумаги и карандашом написал:
«Товарищ Киров! Я тот самый мальчик с номерком, которо¬
го вы велели пропустить при входе. Я обманул вас. Я не из-
Проза [434]
за номерка сюда пришел. Я нарисовал ваш портрет и хо¬
чу, чтобы вы сделали под ним подпись. Я сижу в оркестре
и буду все время выглядывать, чтобы вы меня видели.
Иван Орлов».
Я скатал записку в трубочку и швырнул ее на сцену.
Женщина взяла ее и положила на стол.
Киров развернул записку и стал читать.
Вижу — смеется.
Я тогда совсем из-за перил высунулся, киваю ему, рукой на са¬
мого себя показываю.
Киров поднял голову, увидел меня и поманил пальцем. Я полез
прямо через перила.
Внизу пожарный хотел схватить меня за ногу, да не успел.
Я вырвался и со всего размаху шлепнулся на сцену.
— Ванька, ты что тут делаешь? — услышал я громкий шепот.
Я узнал голос отца. Оборачиваюсь и вижу, что отец даже с ме¬
ста своего вскочил, руками мне машет.
Но мне было не до него.
Я поднялся и подбежал к столу. В одной руке у меня был пор¬
трет, в другой — карандаш.
— А ну, давай, давай, — засмеялся Киров, — показывай, что
нарисовал.
Я подал ему портрет и карандаш.
— Вот, — сказал я, — подпишите, пожалуйста.
— Да ты, я вижу, политик, — нахмурился Киров. — Еще пока¬
зать не успел, а уже подписи требуешь.
Он стал разглядывать рисунок.
— Ничего... Похоже... — улыбнулся он. — Посмотри-ка, —
передал он рисунок своему соседу.
Тот посмотрел и тоже похвалил.
Киров взял портрет, взял карандаш и написал свою фамилию.
После этого он отдал мне рисунок и что-то сказал. Но я уже
больше ничего не слышал и не видел. Сразу побежал к выходу. Да¬
же «спасибо» сказать не успел.
Через три дня у нас в школе висел большой портрет. Портрет
был нарисован красками. Я его две ночи рисовал.
А у меня дома, в рамке за стеклом, до сих пор висит маленький
портрет, тот самый, что я рисовал в клубе.
На нем внизу карандашом написано: С. Киров.
[435]
Примечания
Наша книга не претендует на текстологические новации, все ст-ния в ней
приводятся по: БП или ПВ (ср., впрочем, примечание к ст-нию № 33 и пуб¬
ликацию ст-ний № 113—115). При составлении примечаний был использо¬
ван комментарий А. Н. Олейникова к БП.
Рассказы и очерки Олейникова мы, как правило, печатаем по первым
публикациям. Прижизненные критические отклики на прозу Олейникова
суммированы во вступительной статье (далее — ВС) к настоящему изда¬
нию. Эссенции наиболее интересных и/или показательных исследователь¬
ских разборов ст-ний Олейникова см. в примечаниях к этим ст-ниям.
I. СТИХОТВОРЕНИЯ
1 (С. 215). БП. С. 55.
Об этом ст-нии см.: ВС. С. 62—63.
Ср. с обращением к кузнечику в «Стихах, сочиненных на дороге в Пе¬
тергоф, когда я в 1761 году ехал просить о подписании привилегии для ака¬
демии, быв много раз прежде за тем же» М. Ломоносова.
Мой старый испытанный друг — ср. в ст-нии Р. Киплинга «Кошка чудесно
поету огня...», переведенном С. Маршаком в 1923 г. (строка о собаке):
«Бинки, мой старый испытанный друг».
Примечания [437]
2 (С. 215). БП. С. 56.
Об этом ст-нии см.: ВС. С. 58—61.
коператив (правильно — кооператив) — здесь знак «советскости» дву¬
стишия. Ср., например, с зачином шуточного ст-ния 0. Мандельштама
1930-х гг.: «Однажды из далекого кишлака / Пришел декханин в коопе¬
ратив, / Чтобы купить себе презерватив...»
3 (С. 216). БП. С. 58.
Об этом ст-нии см.: ВС. С. 61—62.
4 (С. 216). БП. С. 59.
Адресат — Маргарита (Мура) Исааковна Шварц (1912—1996), двою¬
родная сестра Евгения Шварца, преподавала хореографию.
О Макаре Свирепом см.: ВС. С. 23, 55,83, 85, 121.
По устному наблюдению Н. Н. Мазур, шуточные послания Олейнико¬
ва к женщинам, возможно, восходят к соответствующим опытам С. Со¬
болевского («Е. П. Ростопчиной», «Мадам Менд», «М. П. Полуденский
актрисе Мухиной, брат коей — столяр в Дегтярном переулке на Твер¬
ской»). Исследовательница также указывает на послание Соболевского
«В. Ф. Одоевскому».
5 (С. 216). БП. С. 60—62.
Адресат посвящения — Наталья Сергеевна Болдырева (1906—1993),
редактор детского отдела Госиздата в Ленинграде.
Варианты ст. 2: «Бедный мой карась» и «Маленький карась», ст. 20:
«И ваш рыбий глаз», ст. 49: «А ведь жизнь прекрасной», ст. 51: «Вы счита¬
лись страстным», ст. 63: «Свою любу "корюшкой"».
Об этом ст-нии см.: ВС. С. 67—73.
Из опубликованных интерпретаций «Карася» выделим здесь две —
«стилистическую» (Л. Гинзбург) и «естественнонаучную» (Дж. В. Нарине).
Л. Гинзбург на примере «Карася» показывает двуплановость олейников-
ского «галантерейного» языка: «...Карась возникает из толщи галантерей¬
ного языка, несущего убогие представления о жизни. Карася обожали "ка-
расихи-дамочки". Однажды ему встретилась "В блеске перламутра / Див¬
ная мадам". Потерпев любовную неудачу, герой ищет смерти и бросается
в сеть. И тут начинается рассказ о жестокости: карася отправляют на ско¬
вороду.
Бытовая лексика рассказа о жестокости ведет за собой неожиданную
фольклорную интонацию <...> Фольклорная интонация несет в себе ли-
Примечания [438]
ричность. Но это лиричность олейниковская — двоящаяся, дублирован¬
ная бурлеском — карась, смотрящий на часики, "корюшка" в качестве сло¬
ва любви...» (Гинзбург: 501).
Нарине, опираясь на идеи П. К. Рашевского (Рашевский), задается во¬
просами о психической жизни карася в сопоставлении с человеческими
эмоциями: «Олейников нередко строит текст на обработке чужого произ¬
ведения: источником "Карася", вероятно, послужил рассказ Чехова "Ры¬
бья любовь", в котором именно карась влюбляется в женщину, приходит
в полное отчаянье, пытается покончить с собой. У Олейникова отброшена
чеховская концовка, превращающая историю в "басенный анекдот" с мо¬
ралью, направленной на человека; история карася теперь самодостаточна.
Комизм здесь строится на помещении чисто человеческих переживаний
в совершенно чуждое им существо. Для усиления картины одушевленно¬
сти карася Олейников не ограничивается показом сильного ощущения (бо- •
ли). Если у непохожего на нас существа есть своя психическая жизнь, то,
мол, зачем созерцать ее лишь в обобщенных категориях? Вспомним, у Ра¬
шевского: "Когда забивают овцу, мы не сомневаемся, что она испытывает
физические страдания, сходные с теми, которые испытали бы мы в подоб¬
ных обстоятельствах", — выходит, что все мы при некоторых обстоятель¬
ствах испытываем одно и то же. Ошеломительнее непривычная мысль, что
рыбка или мошка имеет собственные, не каждому из их вида присущие ка¬
чества — может ли отдельно взятая букашка оказаться негодяем? Бывает
ли карась бабником?» (Нарине: 250—251).
Помню вас ребенком — ср. с первой строкой ст-ния «Памяти прошлого»
Козьмы Пруткова: «Помню я тебя ребенком».
попромежду (разг.) — среди, между собой. Ср., например, в «Скучаю¬
щей публике» Г. Успенского: «Так что все у них и шло попромежду се¬
бя честно».
«корюшкою» — корюшка (или снеток), вид рыбы семейства корюшко-
вых. Здесь упоминание о корюшке — знак петербургского происхож¬
дения карася, эта рыба ловилась в Неве и продавалась в городе по¬
всеместно.
6 (С. 219). БП. С. 63—64.
Возможно, в ст-нии обыгрываются мотивы романса «Угольки» (муз.
Б. Прозоровского, сл. Н. Вильде).
7 (С. 220). БП. С. 65.
Об адресате см. примеч. к ст-нию № 4.
Примечания [439]
8 (С. 221). БП. С. 66.
Один из списков ст-ния сопровождается посвящением: «Ирине Ще¬
голевой». Ирина Валентиновна Щеголева (1908—1993), жена пушкини¬
ста Павла Щеголева, ставшая впоследствии супругой художника Ната¬
на Альтмана.
Это ст-ние было спародировано Э. Паперной. См.: ВС. С. 38—39.
С. Поляковой (Полякова: 35) было предложено сравнение этого ст-ния
с «Заумной песенкой» Даниила Хармса:
Милая Фефюленька
и Философ!
Где твоя тетюленька
и твой келасоф?
Ваши грудки — пупочки
ваши кулачки.
Ваши ручки — хрупочки,
Пальчики — сучки!
Ты моя Фефюленька,
Ты моя тетюленька,
Ягодка — кружок.
Ниточка, иголочка, булавочка, битюг — слова из детской считалки.
Двуколочка — одноконная двухколесная коляска с кузовом для двух че¬
ловек.
У тебя есть крылышки — «во втором четверостишии автор добавляет
к <своим определениям лирической героини> образ ангела, но лишь
намеком, чтобы не изменить своей камуфлирующей свои подлинные
чувства манере, и только говорит о крылышках, которыми наделена его
подруга, ограничиваясь упоминанием характерной черты облика этих
небожителей и прикрывая его для затуманивания своих эмоций словом
"неприличие"» (Полякова: 35).
9 (С. 222). БП. С. 67.
По свидетельству Л. Олейниковой, в первоначальном варианте ст-ние
имело продолжение, впоследствии отброшенное автором:
Скажете ль прямо —
Да или нет?
Милая дама
Томно в ответ:
Примечания [440]
— Я не весталка,
Мой дорогой.
Разве мне жалко?
Боже ты мой!
По предположению С. Поляковой, отбросив эти строфы, Олейников
руководствовался следующими мотивами: «Камертоном к олейниковской
лирике может служить тост из пьесы "Короткое объяснение в любви"
<...> Он дальше от шутки, чем это может показаться. Хотя здесь серьезное
прикрыто некоторой ироничностью, чтобы не выставлять напоказ свое¬
го мира чувств, Олейников счел необходимым пожертвовать двумя очень
удачными четверостишиями, которые могли бы способствовать слишком
сильному приглушению лиричного тона тоста...» (Полякова: 32).
А. Дымшиц, напротив, видит в галантности олейниковского ге¬
роя лишь типичное проявление мещанства, излюбленную мишень са¬
тириков 1920-х гг.: «...Технорук Н. близок Пруткову, но время отдали¬
ло его от Пруткова, внесло свои коррективы в его образ. Технорук Н.
по-прутковски самодоволен, рассудителен, назидателен, но он характер¬
ный обыватель 20-х годов и посему во многом сродни некоторым персо¬
нажам тогдашних юмористических рассказов Михаила Зощенко, посвя¬
щенных осмеянию мещан» (Дымшиц: 190).
10 (С. 222). БП. С. 68.
Адресат — Генриетта (Груня) Давыдовна Левитина (1903—1961), сек¬
ретарь редакции журналов «Еж» (с 1928 г.) и «Чиж» (до 1932 г.).
Вариант ст. 6: «По которым страдает она», ст. 9—11: «Дорогая, люби¬
мая Груня! / Разлюбите его Вы, маня, / Ведь у этого Шварца в зобу не»,
ст. 13—14: «Этот Шварц, лицедей и мерзавец, / Смеет вас, моя Груня, лю¬
бить», ст. 14: «Ему только бы женщин губить», ст. 15: «А слуга ваш покор¬
ный — добряк и красавец».
Об этом ст-нии см.: ВС. С. 96,100—105.
За которым страдает — украинизм.
индей (устар.) — индейский петух, то есть индюк. Ср., например, ст-ние
М. Муравьева «Индей и сокол». Однажды некий инспектор записывал
со слов Е. Шварца его анкетные данные. На вопрос о национальности
Шварц ответил: «Иудей», а инспектор записал — «индей».
И (С. 223). БП. С. 69.
Вариант ст. 10: «И дремлешь в нем. Ты думаешь о Нем».
Примечания [441]
О Генриетте Левитиной см. примеч. к ст-нию № 10.
День рожденья Г. Левитиной был 13 (26) августа. Она приехала в Ле¬
нинград из г. Прилуки Полтавской губернии.
12 (С. 224). БП. С. 70.
Адресат — Любовь Яковлевна Брозелио (1900—1960), приятельни¬
ца Г. Левитиной, исповедовала натуризм, вела курс лечебной гимнастики
в Военно-медицинской академии.
13 (С. 224). БП. С. 71.
0 Макаре Свирепом см. примеч. к ст-нию № 4.
14 (С. 224). БП. С. 72.
Ст-ние было обращено к редакции журнала «Забой», основанного
в 1923 г. и справлявшего свой 5-летний юбилей. Перечисляются литера¬
турные псевдонимы Олейникова.
15 (С. 225). БП. С. 73.
Адресат — Тамара Александровна Липавская (Мейер) (1903—1982),
литератор, гражданская жена Александра Введенского, а с 1931 г. —
жена Леонида Липавского. Ср. ее «справку» об этом ст-нии: «Экспромт
Н. М. Олейникова, написанный в моей комнате на Кронверкской улице во
второй половине 20-х годов. Фамилию Олейникова я отрезала после его
ареста. Январь 1978 г. Т. Липавская» (Экспромты обэриутов: 13).
По мнению С. Поляковой, за иронией в этом ст-нии скрывается истин¬
ное чувство: «А что сказать на такое определение лирической героини, как
в строках прелестного четверостишия, посвященного Т. Липавской и со¬
здающего атмосферу редкой нежности и теплоты (не посетуем, что стихо¬
творение псевдо-любовное), робости и восхищения, с каким героиня упо¬
добляется поэтом собственной душе (что может быть ближе?) и кустику
клюквы...» (Полякова: 33).
16 (С. 225). БП. С. 74.
Об адресате см. примеч. к ст-нию № 5.
17 (С. 226). БП. С. 75.
Ст-ние обращено к Евгении Давидовне Берж, машинистке Госиздата.
«Героя Олейникова "волнует" решительно все, — комментирует это
ст-ние А. Дымшиц, — что окружает его в малом мире обывательского бы¬
тия. Все, самомалейшая мелочь может вызвать у него стихотворные излия¬
Примечания [442]
ния, полные пафоса и самодовольства. И все окутано у него "флером" лю¬
бовного томления» (Дымшиц: 190).
Пелеринку (пелерину) — короткую накидку поверх платья.
Ремингтона — пишущей машинки американской фирмы «Remington». См.
обзор ст-ний о машинистках (в том числе и печатавших на «Ремингто¬
не»), написанных русскими поэтами первой трети XX века: Соболев:
380—399.
18 (С. 227). БП. С. 76.
Генриетта Левитина — см. примечание к ст-нию № 10.
Уж осень на дворе — ст-ние было впервые прочитано в день рождения Г. Ле¬
витиной 26 августа 1929 г. Оно завершает цикл из трех ст-ний (№ 10 и 11),
разыгрывающий сюжет соперничества Олейникова со Шварцем за бла¬
госклонность Левитиной. В игровой борьбе со Шварцем герой Олей¬
никова, как и в ст-нии № И, прибегает к последнему и решающему
приему, который еще не был использован в ст-нии № 10, — «memento
mori» как аргумент (манипулирование посредством скрытой угрозы —
«я скоро умру»; пожелание смерти противнику).
Ромуальд Вячеславович Домбровский (р. 1928), старший сын Г. Левитиной.
19 (С. 227). БП. С. 77.
Ст-ние обращено к Е. Шварцу, в 1929 г. заведовавшему отделом прозы
«Ежа», и вручено ему в день рожденья (21 октября).
Вариант ст. 11: «Дай, о дай им возможность иметь».
20 (С. 228). БП. С. 78.
«Ленинградская фабрика имени Самойловой решила выпустить новый
сорт конфет и назвать их в честь журнала "Еж", попросив поэтов редакции
написать для обертки какие-нибудь подходящие стишки» (Рахтанов 1966:
142). Олейников в шутку откликнулся приводимым двустишием.
21 (С. 228). БП. С. 79.
Адресат — Алиса Ивановна Порет (1902—1984), художница.
Ср. в воспоминаниях А. Порет (записанных С. Шишманом): «Я была под
впечатлением притчи Даниила Хармса "Бог и Бах". Напомню этот малень¬
кий шедевр.
"Высоко в горах живут рядом Бог и Бах. Утром Бах выходит из своего
жилища и говорит:
Примечания [443]
— Здравствуй, Бог!
А Бог отвечает ему:
— Здравствуй, Бах!
Они расходятся, и каждый спешит заняться своими делами".
Как-то раз ко мне зашел Николай Олейников, как всегда шумный и ве¬
селый. Я рассказала ему притчу.
— У меня другое отношение к женщине <...> Алиса! Бог создал жен¬
щину, чтобы она рожала детей. Я скоро буду отцом» (Олейников 2000:
231—232).
22 (С. 229). БП. С. 80—83.
Ст-ние было записано в альбом К. Чуковского «Чукоккала». Оно пред¬
ставляет собой пародию на поэтическую сказку владельца альбома «Му-
ха-Цокотуха».
23 (С. 230). ПВ. С. 43.
Очевидно, и это ст-ние является частью пародийно-полемической игры
с темами и образами К. Чуковского (см. № 2 и № 22).
24 (С. 230). БП. С. 84.
Подзаголовок «К вопросам колхозного движения» носил первый пункт .
программной статьи И. Сталина «Головокружение от успехов», опублико¬
ванной в «Правде» от 2 марта 1930 г.
25 (С. 231). БП. С. 85.
Ст-ние представляет собой пародию на ст-ние Д. Хармса и С. Маршака
«Веселые чижи» (первая публикация: Чиж. 1930. № 1). Об истории созда¬
ния этой пародии см.: ВС. С. 118—120.
26 (С. 231). БП. С. 86.
Ст-ние обращено к Г. Левитиной (см. примеч. к ст-нию № 10).
Вариант ст. 3: «Но почему с тобою мы не птицы».
27 (С. 231). БП. С. 87.
Ты, Дева, друг любви и счастья — ср. в ст-нии Н. Станкевича «Пора. Иду
я в путь труда и славы...»: «Ты, дева, друг, прости любви моей».
Доколь в подлунной будет хоть один пиит — издевательская реминис¬
ценция из «Памятника» А. Пушкина: «И славен буду я, доколь в под¬
лунном мире / Жив будет хоть один пиит».
Примечания [444]
Пусть жертвенник разбит — издевательская реминисценция из ст-ния
С. Надсона: «Не говорите мне: "он умер", — он живет...»: «Пусть жерт¬
венник разбит, — огонь еще пылает».
28 (С. 232). БП. С. 88.
Вариант ст. 2: «Для удовлетворения плотского пыла».
29 (С. 232). БП. С. 89.
Об адресате см. примеч. к ст-нию № 4.
Подразумевается издание: Оствальд В. Ф. Философия природы. СПб., 1903.
См. гипотезу Наринса о влиянии Оствальда на взгляды и творчество Олей¬
никова: «Изучив сочинения Оствальда, поэт столкнулся с ясным объяснением
условности результатов науки. По Оствальду, научный прогресс означает при¬
ведение внешнего мира в соответствие с внутренним миром» (Нарине: 255).
30 (С. 233). БП. С. 90.
Екатерина (Рина) Васильевна Зеленая (1901—1991), актриса.
31 (С. 233). БП. С. 91.
Вариант ст. 3: «Но уже настало время».
Ст-ние (как и предыдущее) было вписано в альбом Рины Зеленой.
Тяготеет надо мной — реминисценция из ст-ния А. Пушкина «N. N.»:
Я ускользнул от Эскулапа
Худой, обритый — но живой;
Его мучительная лапа
Не тяготеет надо мной.
32 (С. 233). ПВ. С. 52.
Об этом ст-нии см.: ВС. С. 199—203.
Нарине в связи с этим ст-нием, как и во многих других случаях, при¬
бегает к цитатам из П. Рашевского: «В "Жалобе математика" Олейников
прямо пеняет на то, что (словами Рашевского) хотя "мы можем, конеч¬
но, изучить во всех деталях физиологический механизм восприятия", но
ускользнет от нас "самое качество этого восприятия" опыта жизни у жи¬
вотного» (Нарине: 252).
33 (С. 234). ПВ. С. 53.
Об этом ст-нии см.: ВС. С. 200—201.
Примечания [445]
Возможно, полемическим подтекстом для ст-ния послужило «Слово»
Н. Гумилева.
Идея числа — см. рассуждения Е. Лукина по поводу этой и других по¬
добных строк Олейникова: «В принципе речь идет о классическом
идеализме платоновского толка, который насыщен пифагорейскими
вариациями единой сущности. По замечанию Гегеля, за таким пере¬
плетением "чисел и идей" скрывается определение "спекулятивного
понятия", которое становится главным инструментом гносеологии.
Среди ранних пифагорейцев известен Филолай, который рассматри¬
вал число не в онтологическом, а в гносеологическом смысле: "Все
познаваемое, безусловно, имеет число". Космическая гармония Фи-
лолая покоится на предельных и беспредельных вещах, причем по¬
следние не могут быть познаны: "Если все вещи будут безграничны,
то не будет вообще ничего познаваемого". Очевидно, этим объясня¬
ется олейниковское деление идей на "туманные" и "ясные", беспре¬
дельные и предельные» (Лукин 2006: 249).
34 (С. 235). БП. С. 92.
Адресат — Валентина Исааковна Шварц (1901—1990), сестра артиста
А. Шварца, двоюродная сестра Е. Шварца.
Неонилы — обыгрывается этимология этого имени; «Неонила» (по-гре-
чески) — молодая, новая.
И зимы подступает и свищет... — В этих строках С. Полякова усматри¬
вает гуманистический подтекст: «...Особенно впечатляет двустишие
из шуточного послания Вале Шварц (у Олейникова в подлинно шуточ¬
ные контексты нередко прорываются серьезные и даже трагические
мысли, от этой неожиданной близости кажущиеся еще более безна¬
дежно мрачными), <...> где тревожная музыка зимнего ветра напоми¬
нает о роковом часе, облик которого провидчески открылся Олейни¬
кову в чудовищной фантасмагории его "Таракана"» (Полякова: 44).
35 (С. 236). БП. С. 93.
Вариант ст. 1: «Солнце село за горой», ст. 3: «Может выроет, а может нет».
Солнце скрылось за горой — вторая строка из народной песни «Скоро, ско¬
ро день проходит...»
Все равно на свете счастья нет — реминисценция из ст-ния А. Пушкина
«Пора, мой друг, пора...»: «На свете счастья нет».
Примечания [446]
36 (С. 236). БП. С. 94.
Адресат — Татьяна Николаевна Глебова (1900—1985), художница, ил¬
люстрировала детские книжки. Читая это ст-ние дамам, Олейников под¬
ставлял и другие имена в его первую строку. Подробнее см.: ВС. С. 95.
Вариант ст. 16: «Потому что обаяния от тебя дымок идет».
действительная статская советница, попечительница Харьковского окру¬
га — гражданский чин четвертого класса действительного статского со¬
ветника в Российской империи до 1917 г. давал потомственное дворян¬
ство. Действительный статский советник титуловался «Ваше превосходи¬
тельство». Ср. в ст-нии № 62. Попечитель учебного округа — должностное
лицо, возглавлявшее в Российской империи учебный округ — территори¬
альную единицу управления учебными заведениями, подведомственны¬
ми Министерству народного просвещения. Действительным статским со¬
ветником, как и попечителем учебного округа, мог стать только мужчина.
Абсурдность такого обращения дополнительно подчеркивается тем, что
Т. Глебова никакого отношения к Харькову не имела.
37 (С. 237). БП. С. 95.
Адресатом этого ст-ния, возможно, была тогдашний член редколле¬
гии «Ежа» Вера Казимировна Кетлинская (1906—1976), составительни¬
ца и активный вкладчик нашумевшего сборника (в соавторстве с В. Слеп-
ковым) «Жизнь без контроля. Половая жизнь и семья рабочей молоде¬
жи» (1929).
Подтекстом второй строфы (по устному наблюдению И. Лощилова) по¬
служила финальная строфа ст-ния А. Мейснера «Метели свирепые звуки...»:
И помню, как сердце кипело,
Немым ожиданьем полно,
И вьюга насмешливо пела,
И призраки бились в окно!..
38 (С. 237). БП. С. 96—97.
Адресат — Лидия Корнеевна Чуковская (1907—1996), литератор, ре¬
дактор, сотрудница Детского отдела Госиздата в Ленинграде.
Вариант ст. 4: «Милое создание», ст. 23: «Что-то оборвалося», ст. 25:
«В ухе отозвалося».
На окне горячем — т. е. на подоконнике Дома книги, под которым проходи¬
ло паровое отопление.
Примечания [447]
39 (С. 239). БП. С. 98.
Вариант заглавия: «На приобретение новых туфель».
Адресат — Александра (Шурочка) Иосифовна Любарская (1908—2002),
литератор, в 1930—1937 гг. редактор Детского отдела Госиздата в Ленинграде.
С. Полякова полагает, что это ст-ние является примером новаторства
Олейникова-лирика: «В стремлении избавиться от обветшалой лириче¬
ской арматуры Олейников отказывается от привычной образности и слова¬
ря и вводит в оборот художественные средства, не использовавшиеся в ли¬
рической поэзии. Эта тенденция заметна <...> в пьесе "Шурочке (на приоб¬
ретение новых туфель)", которую новые средства оформления лирического
сюжета (ножки — птички, ножки — зяблики и высокие каблучки, оберегаю¬
щие Шурочку от нежелательных толчков) превращают из любительской без¬
делки на случай в полноценное лирическое произведение» (Полякова: 32).
40 (С. 239). БП. С. 99. Первая публикация: Тридцать дней. 1934. № 10. С. 80.
Л. Флейшман указывает на родство «Хвалы...» с опытами Н. Заболоцко¬
го: «Интерпретация архаики с позиции "изобретательского" анализа — это
сделано в "Хвале изобретателям" Олейникова (ср. женщин-изобретатель-
ниц каш в "Школе жуков" Заболоцкого, 1931)» (Флейшман: 17). С. Поля¬
кова находит в ст-нии отсылки к гимнам Маяковского («Гимн обеду», «Гимн
ученому» — Полякова: 53). См., например, «Гимн обеду»:
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
И тысячи блюдищ всяческой пищи.
Кроме того, Полякова находит в ст-нии антисоветский подтекст: «Поня¬
тые буквально», некоторые ст-ния Олейникова «могут вызвать только не¬
доумение. Такова, например, "Хвала изобретателям", прославляющая из¬
готовление бытовых мелочей, <...> почти полностью заглохшее в период
индустриализации и вытесненное вниманием к тяжелой промышленности,
вследствие чего повседневные потребности человека (в тогдашнем пони¬
мании буржуазные предрассудки) в хорошей одежде, еде, предметах быта
оставались неудовлетворенными. Ориентация исключительно на потреб¬
ности государства заставляет поэта возражать на это восхищением откры¬
тиями, обращенными к менее масштабным, рассчитанным на непосред¬
ственные потребности частной личности предметам» (Полякова: 28).
Кто дал жукам названия точильщиков, могильщиков и дровосеков — под¬
линные названия родов из отряда жесткокрылых, а также семейств
мертвоедов и дровосеков (усачей).
Примечания [448]
41 (С. 240). БП. С. 100—101.
Варианты заглавия: «Послание, бичующее ношение длинных юбок»
и «Наташе Шварц. Послание, бичующее ношение длинных юбок».
Адресат посвящения — Наталья Борисовна Шварц (Шанько) (1901—
1991), переводчица, вторая жена А. Шварца.
Монахов нам не надо — издевательская реминисценция из популярной
комсомольской песни:
Долой, долой монахов!
Не надо нам попов!
Мы на небо залезем,
Разгоним всех богов.
42 (С. 241). БП. С. 102—103.
0 Шуре Любарской см. примеч. к ст-нию № 39. Текст был вручен Любар¬
ской в день ее рожденья.
Шенкеля (спец.) — внутренние, обращенные к лошади части ног всадника
от колена до щиколотки, помогающие управлять лошадью.
Эта роза — ваше ухо — см. комментарий С. Поляковой к этому и другим
«цветочным» образам ст-ния: «Наивный гиперболизм, переизбыточ-
ность проявляется в определении лирической героини как розового бу¬
кета. Давно обветшалый и стершийся образ женщины-розы трансфор¬
мирован Олейниковым до неузнаваемости: вместо уподобления этому
цветку поэт говорит о красавице как о букете роз; наивной тяге к су-
перлативности нужен целый букет, чтобы умножить, увеличить красо¬
ту» (Полякова: 35).
Муха с красными глазами — дрозофила.
43 (С. 243). БП. С. 104—105.
Один из автографов имеет посвящение «Тамаре» (Липавской). См.
о ней примеч. к ст-нию № 15.
Вариант ст. 21: «Многим дамочкам неясно».
44 (С. 245). БП. С. 106—108.
Вариант ст. 81: «И в сердце вопьется».
Вот как интерпретирует это ст-ние Л. Гинзбург: «В нем представлены
оба словесных начала Олейникова — слово, умышленно скомпрометиро¬
ванное, и слово, наконец-то зазвучавшее. "Чревоугодие" имитирует бал¬
Примечания [449]
ладное построение, интонацию. Но это поверхностный аспект. В 1930-х
годах пародировать балладный жанр было бы бесцельно и совсем несво¬
евременно. Суть же стихотворения — в скрещении разных пластов по¬
этического языка Олейникова. Олейников убежден в том, что предшеству¬
ющая поэзия не способна больше выражать современное сознание. Это
у него общеобериутское. Но Заболоцкий, Хармс связаны с хлебниковской
системой ценностей природы и познания и через Хлебникова с прошлым.
Олейников пошел дальше. Он начинает с уничтожения наследственных со¬
кровищ. Для того чтобы расчистить дорогу новому слову, ему нужно умерт¬
вить старые. Этому служат его языковые маски. Прежде всего маска по¬
шляка, галантерейного человека, потому что язык подложных ценностей
самый разрушительный для любых ценностей, к которым он прикасается.
Однажды, однажды
Я вас увидал,
Увидевши дважды,
Я вас обнимал.
Это первые строки "Чревоугодия". Синтаксис их подчеркнуто примити¬
вен, семантика обманчиво линейная. На самом деле она игровая, искрив¬
ленная. Дважды, пыл, откровенно, заявил — все это слова, перемещенные
из разных смысловых рядов, "слова не к месту". Дальше развертываются
характерные для баллады темы любви и смерти. К ним присоединяется те¬
ма голода, столь актуальная для людей, прошедших сквозь годы граждан¬
ской войны. Тема голода оборачивается вдруг неудовлетворенным обыва¬
тельским желанием "покушать".
И снова котлета —
Я снова любил.
Галантерейно мыслящий персонаж проговорился — обнаружил свое
истинное отношение к любви. В "Чревоугодии" травестируется традици¬
онное тематическое сочетание любви и смерти. Тема смерти была Олей¬
никовым продумана, по свидетельствуя. Савельева, он говорил: "Я видел
несколько раз во сне, что я умираю. Пока смерть приближается, это очень
страшно. Но когда кровь начинает вытекать из жил, совсем не страшно
и умирать легко". Смерть героя предстает в скрещении романтического
ужаса с мрачной буффонадой. Мертвец по ходу баллады становится все га-
лантерейнее, он требует "красивых конфет", лимонада. Бурлескное пре¬
ломление лермонтовской "Любви мертвеца":
Примечания [450]
Я перенес земные страсти
Туда с собой.
И вдруг смешное кончается и начинается тоска —
И нет мне ответа,
Скрипит лишь доска.
И в сердце поэта
Вползает тоска.
Это настоящая тоска, и принадлежит она настоящему поэту. Но это уже
не та тоска и не тот поэт, какие завещаны нам поэтической традицией. Вы¬
сокие слова прошли сквозь галантерейное растление, предназначенное
предохранить непрочное чувство современного поэта от гибельной инер¬
ции подложных ценностей в "красивой" оболочке» (Гинзбург: 496—498).
Нарине обращает внимание на то, что даже фантастика и гротеск полу¬
чают у Олейникова биологическое обоснование: «Если у животных Олей¬
ников подчеркивает "личностные" страсти, то люди у него обуреваемы
порывами биологического, животного характера. "Чревоугодие" —■ па¬
родия на "Любовь мертвеца" Лермонтова. Установив в первой части под¬
чиненность вожделения еще более первичной потребности в пище, Олей¬
ников показывает, как его мертвец не поднимается до страсти, как мерт¬
вец Лермонтова, но только потому, что он лишен еды» (Нарине: 258).
В. Шубинский указывает на перекличку «Чревоугодия» Олейникова
с финалом ст-ния В. Бенедиктова «Торжествующая Нина...»:
Твой орел запросит неба —
Чем сдержать его? Где цепь?
Горе, если пред собою
Он узрит одну лишь степь
С пересохшею травою!
Он от сердца твоего
Прянет к тучам, к доле скрытной,
Если пищей неба сытной
Не прикормишь ты его!
(Шубинский: 414)
И в тело вопьется червяк гробовой — реминисценция из революционно¬
го ст-ния П. Лаврова «Ткачи (Из Г. Гейне)»: «Где кормится тленьем чер¬
вяк гробовой».
Примечания [451]
45 (C. 247). БП. С. 109—110. Первая публикация: Тридцать дней. 1934.
№ 10. С. 72.
Об этом ст-нии см.: ВС. С. 196,198, 205.
Вариант ст. 2: «Я птиц изобразил в разрезах надлежащих», ст. 4: «Твоих
бровей и блеск зрачков твоих скользящих», ст. 12: «Меня интересует миро¬
зданье», ст. 40: «А я горю другим огнем, иным желаньем», подцензурный
вариант ст. 41: «Я вырабатываю миросозерцанье», вариант ст. 42: «Еще зо¬
вут меня на новые великие дела».
Вот как интерпретирует это ст-ние Нарине: «Наблюдения передаются
словами, намекающими на полускрытое наличие субъективного ("волну¬
ют", "преследуют", "заветные мечты"). Но поэт пока не понимает условно¬
сти своих наблюдений. Уверен он, что уже постиг многое в мире. <...> Ак¬
ты, предпринятые с конкретной целью, с определенным механизмом дей¬
ствия, — все это так понятно! Но пример отражения окна в глазах коровы
указывает на условность попыток определить "функцию" наблюдаемого.
<...> Поэт уверен, что правильно оставил обманщицу-страсть ради объ¬
ективной истины познания природы. Он жаждет выявить настоящие зна¬
чения в вещах мира, ищет их. <...> Он считает ножки таракана, созерцает
его движения, его очертания... это все что-то значит, но — что именно? Так
он доходит до конкретного вопроса о конкретной истине о мире. Но вме¬
сто ожидаемого ответа вдруг хлынут на него вновь отброшенные страсти.
<...> Онегинская цитата вносит тему бренности человеческого, физиологи¬
ческого и лично-субъективного, а затем ей противопоставляется тема на¬
уки, от которой ждут проникновения в основы мироздания — вечных ис¬
тин. Заниженное "продолжение" цитаты подчеркивает ироническое отноше¬
ние автора к подобному взгляду ученого. Отстоять этот взгляд и не удается:
страсти обманывают и в самом акте наблюдения мира, в занятиях наукой.
И он их снова отбрасывает: он горит теперь "иным желанием" — "вырабаты¬
вает миросозерцание". <...> Наблюдение, призванное вывести его к объек¬
тивной истине, вместо этого вызывает новый порыв неуместной эмоции. Его
собственная психика стоит между ним и его целью. Недаром "ничтожная му¬
рашка" напоминает ему его самого. Он запутался еще безнадежнее "ничтож¬
ной" мурашки. Ведет ли "положенный" образ жизни мурашка? Ищет ли она
пищу, самку (самца)? Неизвестно. Она бежит, как взгляд наблюдателя... но
куда? Выйти из себя для поиска истины не получится, остается только тоско¬
вать. <...> Тайна остается неразгаданной» (Нарине: 262).
Но где мне силу взять... — см. комментарий Наринса к первой строфе
ст-ния: «От первых двух энтомолого-орнитологических строк, напоми¬
нающих стиль Заболоцкого, Олейников резко переходит к "занижен¬
Примечания [452]
ной" перефразировке первой строфы знаменитого "эпикурейского"
стихотворения Кузмина:
Где слог найду, чтоб описать прогулку,
Шабли во льду, поджаренную булку
И вишен спелых сладостный агат? <...>
Однако <...> поэт уже отказывается от страстей в пользу науки. <...>
Позади остались обе фундаментальные "биологические" страсти. <...>
Это связано с тем, что лирический герой надевает мантию ученого»
(Нарине: 261).
Зубные порошки меня волнуют — восхищаясь Олейниковым, Д. Хармс
в 1933 г. внес в свой дневник такую запись: «...это он написал о зубном
порошке<,> это он познал муху и таракана» (см.: Мейлах 1999:565).
дрожки — легкий четырехколесный экипаж.
Иных уж нет, а те далече — издевательская реминисценция из «Евгения
Онегина» А. Пушкина (гл. 8, строфа И). См. «конспирологическое» пе¬
реосмысление этой строки у С. Поляковой: «Критическая позиция тща¬
тельно зашифровывается поэтом», но к ней подводят «и упоминание
о внезапном исчезновении милых подружек, и цитата — "Иных уж нет.
А те далече" — традиционная формула, обозначающая ссылку како-
го-либо лица. На фоне подобных событий горение ударничеством и со¬
ревнованием прочитывается как насмешливое отрицание этих форм
советского быта» (Полякова: 13—14).
Ударничеством (от «ударное движение») — слово из пропагандистского
советского словаря, вошло в обиход СМИ в 1929 г.
Но бьет тимпан — вероятно, реминисценция из ст-ния И. Анненского «Ра¬
се (Статуя мира)»: «Не тешит тирс ее, она не бьет в тимпан». Тимпан
здесь — бубен.
46 (С. 249). БП. С. 111.
Вот как рассуждает о философском смысле этого ст-ния С. Полякова:
«Творение вызывает у Олейникова восторг, потому что во всех элементах
вселенной, вне зависимости от их ранга, заключен тайный и разумный
смысл. Поэт на этом настаивает неоднократно, всякий раз, однако, при¬
крываясь, как щитом, своей необычной дикцией <...> В пьесе "Озарение"
мысль эта облечена в гротескную форму, думается, именно потому, что
она серьезна и особо значима для автора <...> Подобный взгляд на мир
близок к средневековому символизму. Не отметить этот уклон или счесть
его чистой игрой словами было бы неправильно» (Полякова: 41—42).
Примечания [453]
47 (С. 250). БП. С. 112.
См. также гносеологический комментарий Наринса к этому ст-нию:
«Представление о нечеловечески объективном ученом, добивающемся
окончательных истин мироздания, — предрассудок, наваждение субъек¬
тивности. Вопреки пониманию науки, унаследованному от Просвещения,
научная деятельность не бывает безоговорочно подконтрольной — неиз¬
бежно "Затруднение ученого"» (Нарине: 254).
48 (С. 250). БП. С. 113.
49 (С. 250). БП. С. 114.
50 (С. 251). БП. С. 115.
Вариант ст. 2: «Он стал домогаться селедки с крупой».
С. Полякова видит в этом ст-нии антисоветские намеки: «Четверости¬
шие "Неблагодарный пайщик" <...> не невинная шутка, а критическая ре¬
акция на экономическую политику, неоднократно приводившую страну
к голоду, в 1932 и в следующих годах принявшему формы настоящего бед¬
ствия, потребовавшего таких серьезных мер, как нормированное распре¬
деление продуктов. Законная и естественная потребность в самом необ¬
ходимом насмешливо именуется Олейниковым пошлостью и ограниченно¬
стью кругозора» (Полякова: 29).
51—52 (С. 251). БП. С. 116.
Л. Флейшман рассматривает басни Олейникова в обэриутском кон¬
тексте и — шире — в контексте русского авангарда: «В обериутской па¬
родии надстроен еще один этаж — у Хармса пародируется анекдотика
о Пушкине, у Олейникова — принципы прутковской пародии плюс тео¬
ретико-литературные построения ближайшего научного окружения Обе¬
рну. Удобной мишенью при этом служил жанр басни, которой в жанро¬
вой системе 18—19 вв. занимал пограничное положение между литерату¬
рой и не-литературой и промежуточное место между жанрами эпиграммы
(pointe) и анекдота (фабульность). <...> В обеих <...> баснях Олейникова
на место сопоставления "рассказа" и "нравоучения" или фабулы и оценки
приходит простое следование "эпизодов", зато мораль вынесена в загла¬
вие» (Флейшман: 10—11).
53 (С. 252). БП. С. 117.
Образцом послужило ст-ние А. Пушкина «Красавице, которая нюхала
табак».
Примечания [454]
В 1932 г. вышло правительственное постановление «О развитии кро¬
лиководства в промышленных районах», предписывающее разводить
кроликов при всех предприятиях, организациях, жилищных конторах
и школах. Повсеместно превозносилось преимущество крольчатины пе¬
ред мясом рогатого скота.
Черкасского мяса — т. е. говядины из черкасского скота (скот из южнорус¬
ских степей). Черкасская говядина считалась качественной и сравни¬
тельно недорогой.
54 (С. 252). БП. С. 118.
Лиза! Деятель искусства — возможно, ст-ние обращено к актрисе мо¬
сковского Малого театра Елизавете Сергеевне Коваленковой (Фохт)
(1915—1992). См. ее воспоминания об Олейникове: Коваленкова:
403—404.
55 (С. 253). БП. С. 119—120.
Вариант ст. 21: «Пусть его ножи стальные», ст. 26: «Где же чудный пти¬
чий хвост».
О парикмахерской теме в русской поэзии первой трети XX века см.: Ти-
менчик: 516—549.
С. Полякова находит в этом ст-нии совпадение с суждениями М. Пру¬
ста: «Согласно Прусту, греческая скульптура "умеет все же извлечь из про¬
стых человеческих форм богатства столь же разнообразные и как бы за¬
имствованные из всей живой природы, что какая-нибудь шевелюра, своей
волнистой лоснящейся поверхностью и похожими на птичьи клювы прядя¬
ми, или пышным тройным венцом наложенных одна на другую кос напоми¬
нает снизу и пучок водорослей, и голубиный выводок, и венок из гиацин¬
тов, и кольца змеи". Эта цитата приведена не для доказательства заимство¬
вания, а как пример неожиданного совпадения, основанного на широте
зрения» (Полякова: 32—33).
56 (С. 254). БП. С. 121—122.
Варианты заглавия ст-ния: «Лизе» и «Елизавете Исаевне Долухановой.
Послание, бичующее ношение одежды»; подцензурный вариант ст. 11:
«Доверься, змея, техноруку», вариант ст. 16: «А стройностью торсов близ¬
ки мы к орлам», ст. 23: «Отбросивши брюки, часы и рубашку».
А. Дымшиц проводит параллель между игрой, развернутой в этом
ст-нии, и эпатажем К. Бальмонта: «В "Послании, бичующем ношение одеж¬
Примечания [455]
ды" самодовольный мещанин доходит до экстатического "бунтарства". Он
призывает любимую слушать, как "кровь закипает — моя полноценная
кровь"; автор, пародируя некоторые мотивы поэзии Бальмонта, заставля¬
ет его произносить тирады, зовущие совлекать "покровы", срывать их "на
страх подлецам"» (Дымшиц: 191).
Лиза — Елизавета Исаевна Долуханова (1904—1938), филолог.
57 (С. 256). БП. С. 123.
Вариант заглавия: «Быль, случившаяся с автором в Ц. Ч. области», ва¬
риант ст. 21: «В нем тихо вянет косточка-блоха».
Один из вариантов ст-ния снабжен посвящением Генриху Зиновьевичу
Левину (1903—1971), художнику-графику, сотруднику и художественно¬
му редактору «Ежа» и «Чижа».
С. Полякова видит в этом ст-нии отсылку к «Необычайному приключе¬
нию, бывшему с Владимиром Маяковским летом на даче» (Полякова: 53).
ЦЧО — Центральная Черноземная область.
58 (С. 257). БП. С. 124—126.
Варианты заглавия ст-ния: «Влюбленному в Шурочку. Надклассовое
послание», «Генриху Левину по поводу влюбления его в Шурочку Любар¬
скую», «Генриху Левину по случаю влюбления его в Шурочку Любарскую»
и «Надклассовая поэма. Генриху, влюбленному в Шурочку». Вариант ст. 4:
«В сердце вроде как бы муть», ст. 20: «Словно запертые в клетке», ст. 60:
«Волки зайчика жуют».
В этом ст-нии, одном из самых популярных среди исследователей,
каждый интерпретатор видит свое: Л. Гинзбург и А. Герасимова — при¬
мер двупланового стиля (первая ищет в подтексте «гуманное место», вто¬
рая — философское откровение, одновременно созвучное обэриутским
метафизическим опытам и полемическое по отношению к ним), Дж. На¬
рине — образец научной поэзии. Приведем соответствующие высказы¬
вания.
Л. Гинзбург: «В большом стихотворении, героиней которого являет¬
ся блоха мадам Петрова, — разные языки Олейникова, разные его обли¬
чья переплетаются и неуследимо переходят друг в друга. Стихотворение
адресовано приятелю, человеку из мира детской литературы начала 30-х
годов, особого мира со своими правилами игры. Соответственно нача¬
ло стихотворения — шуточная "домашняя семантика". Дальше в гро¬
тескной форме возникает хлебниковски-обэриутская тема насекомых.
Примечания [456]
В последующих строках в текст просочился галантерейный язык. Галан¬
терейный язык разворачивается и строит сразу после этих строк возни¬
кающую тему влюбленной блохи Петровой. Это галантерейное существо
с его миропониманием, его эстетикой и искривленными представлени¬
ями о жизненных ценностях. Но убогое сознание переживает свою убо¬
гую драму. "Прославленный милашка" затоптал блоху Петрову "нога¬
ми в грязь". Значение слов двоится, буффонада становится печальной.
В этом можно было бы усомниться, если бы не непосредственно следу¬
ющие строки; в них маска сдвигается, появляется от себя говорящий ав¬
тор, поэт. Эти строки ретроспективно перестраивают смысл повествова¬
ния о блохе Петровой:
Плачет маленький теленок
Под кинжалом мясника.
Рыба бедная спросонок
Лезет в сети рыбака.
Блоха мадам Петрова включается таким образом в ряд беззащитных,
беспомощных существ. Они гибнут от руки человека, и в то же время они
сами травести человека, обреченного гибели.
...Дико прыгает букашка
С беспредельной высоты,
Разбивает лоб бедняжка,
Разобьешь его и ты.
Что это — пародия на лермонтовский перевод из Гете: "Подожди не¬
много / Отдохнешь и ты"? Но пародия на Гете и Лермонтова не имела бы
исторического смысла. Скорее это реминисценция, возвращающая тра-
вестированным образам их человеческое значение» (Гинзбург: 499—
501).
А. Герасимова: «Смеясь над "галантерейными" <...> любовными пере¬
живаниями или дилетантским глубокомыслием доморощенного ученого,
поэт явно преследует более серьезные цели. Переводя трагедийные кон¬
фликты большого мира в насекомый план <...>, поэт стремится, с одной
стороны, подчеркнуть, подобно Заболоцкому, всеобщность этих конфлик¬
тов, с другой — иронизирует над этим подходом, подчеркивая их относи¬
тельность, ничтожность по сравнению с чем-то неизмеримо более огром¬
ным. Олейникову чужда дидактичность Заболоцкого. Затрагивая те же он¬
тологические проблемы, которые достались обэриутам в наследство от
Примечания [457]
русской философской лирики, Олейников травестирует их, причем траги¬
ческая сущность этих проблем не теряет своей значительности, но при¬
обретает новые оттенки. В "шуточных" стихах Олейникова звучит главная
экзистенциальная тема обэриутов — тема переживания на грани жизни
и смерти, трагедия личного уничтожения <...> Нетрудно уловить здесь па¬
родийный отклик на философские раздумья Заболоцкого тех лет: "Жук ел
траву, жука клевала птица, / Хорек пил мозг из птичьей головы..." ("Ло-
дейников"). Таким образом, позиция Олейникова, можно сказать, негатив¬
ная в квадрате» (Герасимова: 57—58).
Дж. Нарине: «Здесь, как в Ноевом ковчеге, собраны и соотнесены не
только человек и блоха, но все живое, "от бациллы до слона". Страсть
(у Олейникова — и половая, и гастрономическая) путает всех. Для всех
биологических существ жизнь может состоять не только из происходя¬
щего, но также и из субъективного переживания происходящего. В на¬
звании стихотворения скрыта великолепная, незамеченная игра слов:
"класс" обозначает в первую очередь биологическую категорию. В какой
же борьбе погибают "жук буржуй и жук рабочий"? Одного жука пожира¬
ет другой, на него же бросается богомол, его клюет птица;., вот она, со¬
вершенно неметафорическая классовая борьба! (И как все это близко
к художественному миру ближайшего друга Олейникова, Николая Забо¬
лоцкого!)» (Нарине: 258).
Шурочка — Любарская (см. примеч. к ст-нию № 39); Генрих — Левин (см.
примеч. к ст-нию № 57).
Жук-буржуй — по мнению 0. Ронена, «аллитерация <...>Жук-буржуй под¬
рывает смысл <...> кровожадного лозунга — "Бей буржуев", причем
в том же контексте фигурирует и отчетливое сюжетное "обнажение"
олейниковского приема» ("...те, кто в нашем ухе / Букву Ж изготовля¬
ли...")» (Ронен: 242—243).
...Страшножитьнаэтомсвете — С. Полякова видитвэтой и следующей
строках реминисценцию из «Сергею Есенину» Маяковского:
Наша планета для уюта
Мало оборудована.
Рыба бедная спросонок лезет в сети рыбака — автореминисценция из
ст-ния № 5.
Умереть она готова — по устному свидетельству А. Л. Осповата, весной
1967 г. А. Любарская вспоминала, как в заключении все время повторя¬
ла строки: «Умереть она готова, / И умрет она сейчас».
Примечания [458]
Разобьешь его и ты! — реминисценция из ст-ния М. Лермонтова «Из Гё¬
те»: «Подожди немного, отдохнешь и ты»; Лукин находит в олейников¬
ской строке «катастрофическое» обобщение: «У олейниковского героя
отнята последняя, спасительная надежда, а смысл жизни сведен к то¬
му, чтобы стать неким подопытным существом для демиурга фаустиан-
ского толка. И перекличка со знаменитыми стихами Гёте ("Подожди не¬
много, отдохнешь и ты!") отнюдь не случайно возникает в зооморфных
аллегориях поэта» (Лукин 2006: 251).
59 (С. 260). БП. С. 127—128.
Об адресате см. примеч. к ст-нию № 57.
Горчицы с уксусом живительный состав — так называемая «купеческая за¬
куска»: сваренные вкрутую яйца, разрезанные пополам и наполненные
смесью уксуса и горчицы, поверх которой помещается половинка желтка.
Всему есть время, и всему есть мера — комическое соединение библей¬
ской цитаты (Еккл. 3:1—8) и латинского крылатого выражения («Est
modus in rebus» — Гораций, «Сатиры», И, 1,106—107).
60 (С. 261). БП. С. 129.
Вариант заглавия: «Ольге Михайловне», вариант ст. 6: «Я быстро чахну, сам
не свой», ст. 8: «Ты ж отрицательно качаешь головой», ст. И: «Я вижу, как глаза
твои над книгою нависли», ст. 14: «Под волосами двигаясь, они кишмя кишат».
В одном из вариантов ст-ние снабжено посвящением: «Ольге Михайловне».
Адресат посвящения — Ольга Михайловна Фрейденберг (1890—
1958), филолог, в 1932 г. возглавляла кафедру классической филологии
ЛИФЛИ (Ленинградского института философии, литературы и истории).
Это ст-ние стало поводом для Л. Флейшмана развернуть концепцию о тес¬
ной связи ученых круга Н. Я. Марра с обэриутами и Олейниковым, в частности:
«Тема "глупости" у Олейникова являлась пародийной иллюстрацией к иссле¬
дованию мотивов ритуальной глупости в работах Н. Я. Марра и 0. М. Фрейден¬
берг. По-видимому, к 0. М. Фрейденберг, одному из ведущих в 1930—1940-е
гг. советских филологов-классиков, первой женщине — доктору наук, одно¬
му из культурнейших ученых Ленинграда, двоюродной сестре Пастернака —
обращено стихотворение Олейникова "Ольге Михайловне". Обэриутские кон¬
такты с марровской школой восходят еще к смычке в 1924—1925 гг. Туфа-
нова и его теории зауми с марровской "палеонтологией речи". <...> Место,
занимаемое в олейниковской лирике темами "эротической" и "гастрономиче¬
ской", и переплетение их — свидетельствуют о знакомстве Олейникова с про¬
блематикой, выдвинутой в трудах Фрейденберг об архаической поэтике сюже¬
Примечания [459]
та и жанра. Возможно также, что один из главных литературных псевдонимов
Н. Олейникова — Макар Свирепый <...> восходит к исследованиям смехового
начала в культуре древнего общества 0. М. Фрейденберг, в частности, в ее ста¬
тье "К семантике фольклорных собственных имен 'Makkus' и 'Maria'", в которой
"Makar" сопоставляется с "Makkus" ("шут", "дурак", а также "боб", "хлеб") и
"Makaria" (страной блаженства и смерти)» (Флейшман: 14).
Нарине, напротив, оспаривает адресацию ст-ния Фрейденберг: «Было
бы интересно и неудивительно, если бы адресат "Послания" оказался биоло¬
гом. Потому что перед нами своего рода деконструкция научного труда имен¬
но с позиции биологии; показательнее всего применить олейниковский "пара¬
докс наблюдателя" к этой области науки. Мысли адресата "Послания" уподо¬
блены недаром животным, поведению которых обычно не приписывают ничего
похожего на эталонное "научное" поведение исследователя животных» (На¬
рине: 256—257). Идея «деконструкции научного труда» подробнее обсужда¬
ется в другом месте наринсовской статьи: «Единственная отличительная чер¬
та женщины, которой адресовано мнимо страстное стихотворение "Посла¬
ние", —то, что она поглощена научной работой и видит в себе именно ученого,
а не женщину. Поэт подчеркивает эти два несовместимых состояния отдельного
человека-как-организма со своей половой принадлежностью. Главный источ¬
ник юмора состоит в столкновении состояний, относящихся к аспектам жизни,
смешение которых культурой никак не предполагается. Поэт рисует мышление
ученого с помощью диковатой и красочной метафоры — ум ее и мысли уподо¬
бляются кусту и обитающей в нем живности. Во время именно научных заня¬
тий ее мысли видятся в образах животных-существ, у которых научная мысль
обычно не предполагает научного мышления. Хуже того: чижик (следуя сту¬
денческой песенке) пьет водку, бабочка "поет в самозабвении", а есть ли в за¬
пасниках культуры действия, более прочно связанные с а-/до-/не-/ир-/над-
рациональной стороной психики. <...> Поэт затем восклицает, что и он "хотел
бы быть таким навек". Т. е. тем, у кого знания так удивительно шумят, кишмя
в голове кишат, — ученым. После объявления о таком желании тональность
"Послания" резко меняется: поэт становится в соответствующую (строго "науч¬
ную") позу. Метафора — язык искусства, а не науки; следовательно, наш певец
перестает воспринимать метафору как троп. В результате его желание — стать
уже не ученым с живым мышлением (буквальный объект метафоры), а кустом
с пьющим чижом и поющей бабочкой (фигуральный объект метафоры). "Поза
ученого" приводит героя к совершенной нелепости: он не может уподобиться
адресату (произносится тоном человека, восстанавливающего здравый смысл)
потому, что он не куст, а человек! Но это ненадолго: в последних строфах он
подтверждает с новой силой, что ученая дама, как и он сам, все же в первую
очередь неученый, а человек» (Нарине: 253—254).
Примечания [460]
А. Дымшиц же не увидел особых отличий «Послания» от других «га¬
лантерейных» ст-ний: «Николай Олейников пародирует своеобраз¬
ное единство противоположностей в характере, который им создается.
Он высмеивает приземленный мещанский "здравый разум" своего ге¬
роя и его выспренние эротические излияния, "рецептурные" поучения
и внезапные порывы воображения, пышнословную стилистику и "кли¬
шированные", штампованные, расхожие обороты речи. Это причудливое
сочетание "контрастов" проявляется <...> в послании, которое Н. Олей¬
ников —* шутник и мистификатор — адресовал "Ольге Михайловне", из¬
вестному профессору-филологу» (Дымшиц: 192).
В нем чижик водку пьет — отсылка к песенке:
Чижик-пыжик, где ты был?
На Фонтанке водку пил.
Но я не куст, а человек — инверсия клишированного противопоставле¬
ния человека зверю (ср., например, в ст-нии Э. Багрицкого «Весна»:
«Но я — человек, / Я — не зверь и не птица...»).
На голове моей орлы гнезда не вили — возможно, аллюзия на басню
И. Крылова «Орел и крот»:
Услыша Крот про это,
Орлу взял смелость доложить,
Что этот дуб для их жилища не годится,
Что весь почти он в корне сгнил
И скоро, может быть, свалится;
Так чтоб Орел гнезда на нем не вил.
61 (С. 262). БП. С. 130.
Вариант заглавия ст-ния: «Павле Федоровне (написано по случаю забо¬
левания автором раком желудка)», вариант ст. 9: «Но мышцы свои мне кра¬
сотка, увы, не дает».
Возможно, адресатом ст-ния была Павла Федоровна Городкова (1908—
1942). Судя по посвящению «Клёсе», еще одним адресатом этого ст-ния
могла быть актриса Клавдия Васильевна Пугачева (1906—1996). Подска¬
зано Д. В. Драгунским.
Сельтерской — первоначально минеральной воды естественной газации
из источника Нидерзельтерс. Здесь — просто минеральной воды.
Примечания [461]
62 (С. 263). БП. С. 131.
Вариант окончания ст. 3: «Для сравнения», ст. 5: «...Ваши сочлене¬
ния», ст. 6: «...предназначения», ст. 12: «...для усвоения», ст. 17: «И бою¬
ся...», вариант ст. 18: «Страшное произойдет сосудов поражение».
Об адресате см. примеч. к ст-нию № 38.
Ваше превосходительство, мой — отчасти сходную игру с мужским и жен¬
ским родами см. в ст-нии № 36.
63 (С. 264). ПВ. С. 98.
64 (С. 264). ПВ. С. 99.
Речь идет о четвертом издании книги Олейникова «Танки и санки» (М.,
ОГИЗ «Молодая гвардия», 1932).
Лида — Л. К. Чуковская (см. примеч. к ст-нию № 38).
65 (С. 264). БП. С. 132—133.
На Расстанной улице в Ленинграде.
Пятиалтынный — 15 копеек. Именно столько стоил проезд в трамвае
в Ленинграде в 1930-е гг.
Мошков переулок, соединяющий Дворцовую набережную с набережной
реки Мойки. Расстояние от Расстанной улицы до Мошкова переулка
около б км.
Позднее композитор Н. Богословский, который и ознакомил с ком¬
ментируемым стихотворением широкую публику, признался, что его
автором был он сам. Дело, однако, осложняется тем, что в домашнем
архиве Олейникова сохранился автограф этого стихотворения, запи¬
санный его рукой. Подробнее см. в комментарии А. Герасимовой (De
visu. 1994. № 3—4. С. 118).
66 (С. 266). БП. С. 134.
Вариант ст. 7: «В движениях нечто мышиное», ст. 9: «Однако, синичка,
мила», варианты ст. 15: «Зачем безобразные щеки всучила» и «Зачем бе¬
зобразные щеки вручила», вариант ст. 19: «Был Дарвин великий ученый».
Вариант 1-й строфы:
Чарльз Дарвин, великий ученый,
Однажды синичку поймал.
Примечания [462]
Ее красотой потрясенный,
Он долго ее наблюдал.
Никаких связей с реальной биографией Чарльза Дарвина ст-ние не
имеет. Это не мешает исследователям сопоставлять это ст-ние, в частно¬
сти, с дарвиновскими и вообще с разного рода философскими идеями.
Приведем два таких рассуждения.
Нарине: «...Во второй строфе игриво изложены <...> центральные идеи
<Дарвина> — изменчивость видов, происхождение одних из других. <...>
Сниженно-разговорный стиль и игривость стихотворения позволяют легко
заменить одну птицу другой, — скорее всего поэт-натуралист имеет в ви¬
ду знаменитых птиц, которым спустя всего несколько лет дадут название
"вьюрков Дарвина" (ведь синицы и вьюрки — представители одного отря¬
да певчих воробьиных), хотя историкам науки теперь известно, что не они
натолкнули Дарвина на великую идею, а галапагосские черепахи и другие
птицы, пересмешники галапагосские <...> Юмор в стихотворении "Чарльз
Дарвин" исходит из <...> ассоциативного диссонанса <...>: субъективные
(эмоциональные, эстетические) состояния навязываются образу якобы
бесстрастно объективного наблюдателя, деятеля науки. Дарвин не может
подойти к природе "абстрактно" — нельзя наблюдать все сразу, неизбе¬
жен отбор, выбор объекта. Вниманием Дарвина овладевает синица, и это ей
удается именно через обращение к эмоциональному, субъективному в нем:
она пленяет своей красотой. <...> Увлеченный эстетическим чувством, Дар¬
вин зорко наблюдает за синицей. При этом он истолковывает ее не по прин¬
ципам всеобъемлющей системы, а просто по аналогии из личного опыта;
притом некоторые аналогии вопиюще (и поэтично) неправдоподобны. На¬
учный "акт" вызван здесь субъективными впечатлениями и мотивировками.
Он же в свою очередь вызывает новые субъективные впечатления и мотиви¬
ровки. Ведь Дарвин объясняет "значение красоты" в книге "Происхождение
человека и половой отбор". Таку Олейникова Дарвин судит и о собственной
красоте: раз он обделен природой, он "не должен" передать свои качества
потомкам и, если смешать различные аспекты его теории, что в таких сти¬
хах вполне позволительно, — он не достоин выживания. Додумавшись до
желания застрелиться, Дарвин соотнесен с прутковским юнкером Шмидтом
и выходит таким же трогательно нелепым. Обоим можно возразить: нельзя
же так доверять собственным выводам!» (Нарине: 247, 258—259).
Е. Лукин: «Очевидно, замысел стихотворения появляется у Олейни¬
кова после прочтения статьи Владимира Соловьева "Красота в природе"
(1889), посвященной проблематике формальной красоты. "Для филосо¬
фии красоты, — говорится в статье, — животное царство содержит осо¬
Примечания [463]
бенно много любопытных и поучительных данных, разработкою которых
мы обязаны, конечно, не эстетике по профессии, а естествоиспытателям,
и во главе их великому Дарвину, в его сочинении о половом подборе".
Как и знаменитый естествоиспытатель, Владимир Соловьев усматривает
в природной красоте чувственную, плотскую основу: "Космический ху¬
дожник пользуется этим половым влечением не только для увековечи¬
вания, но и для украшения данных животных форм". Для доказательства
этого постулата русский философ сообщает некоторые научные наблю¬
дения и факты, собранные Дарвином. Например, в целях эстетически-по-
ловой восприимчивости крылья жуков "не только окрашены блестящими
металлическими красками, но часто и разрисованы полосками, кружка¬
ми, крестиками и другими изящными узорами"»; «...Рассматривает дар¬
виновскую синичку Николай Олейников, изображая ее в духе соловьев-
ских зоологических эскизов. Однако поэт отнюдь не восхищается Дарви¬
ном, которого русский философ именует "величайшим представителем
научно-позитивного мировоззрения". Напротив, Олейников лишает "ве¬
личайшего представителя" признаков эстетической красоты, наделяя то¬
го чертами уродливого существа (безобразными щеками, пошлыми пят¬
ками, выпяченной грудью), и сравнивает удивительную красоту синич¬
ки с непривлекательным, "бездарным" образом самого ученого. <...> По
мысли Владимира Соловьева, красота есть воплощенная идея (очевид¬
ный платоновский эйдос), причем "достойно бытия только всесовершен-
ное или абсолютное существо, вполне свободное от всяких ограничений
и недостатков", а "частное бытие идеально или достойно, лишь посколь¬
ку оно не отрицает всеобщего, а дает ему место в себе". Иными словами,
Бог есть всесовершенная красота, воплощенная в бытии, а индивид, от¬
рицающий Бога, лишен красоты и, следовательно, едва ли достоин бы¬
тия. Поэтому, констатирует Олейников, Чарльз Дарвин как творец эво¬
люционной теории, не признающей божественного происхождения че¬
ловека, не может иметь красоты. В то же время синичка обладает этими
необходимыми признаками красоты и достойна существования, потому
что она — воплощенная божественная идея» (Лукин 2006: 251—252).
67 (С. 266). БП. С. 135.
Вариант ст. 11: «От страшной жары изнывает паук».
По предположению В. Москвина, ст-ние восходит к оде Г. Державина
«Водопад» (Москвин: 160—168).
С. Полякова ставит это ст-ние в один ряд с «Тараканом»: «Здесь кон-
фронтированы грубая сила (насилие) в образе коня и незащищенность пе¬
ред ней (образ жука). Побеждает, разумеется, грубая сила, а Жук гибнет ни
Примечания [464]
за что и ни про что. Необоримость этой силы выражена тяжелой грузностью
коня и малым размером хрупкого жука, раздавить которого не требует ника¬
ких усилий. По мысли Олейникова жук — герой, так как жить в постоянной
опасности — геройство. Он позаботился о нашем сочувствии жуку, изобра¬
зив на фоне радостной жизни природы, гремящими погремушками лука (ка¬
кой точный и свежий образ!), бабочки, от счастья задыхающейся в клюкве,
шума дождевых капель печальную картину гибели жука <...> Как подобное
стихотворение могло восприниматься как комическое и ироническое, одно¬
му Богу известно, настолько прозрачен его символический смысл, букваль¬
ное же понимание непредставимо убого!» (Полякова: 20—21).
68 (С. 267). ПВ. С. 104.
Изображается Ботанический сад в Ленинграде на Аптекарском острове.
Подо мной заскрипела доска — автореминисценция из ст-ния № 44.
69 (С. 268). ПВ. С. 105.
70 (С. 268). ПВ. С. 70.
Об адресате см. примеч. к ст-нию № 39.
71 (С. 269). БП. С. 136.
Адресат — Тамара Григорьевна Габбе (1903—1960), редактор, лите¬
ратор.
См. комментарий Наринса: «Шуточное обращение "На день рождения
Т. Г. Г. " строится на противопоставлении научного взгляда с совершенно
иной, духовной точкой зрения...» (Нарине: 259).
72 (С. 269). БП. С. 137.
Об адресате см. примеч. к ст-нию № 71.
73 (С. 270). БП. С. 138.
Вариант ст. 2: «Майя Левина похожа», ст. 6: «Без труда я подмечаю»,
ст. 12: «Он вложил в одно из лучших своих произведений».
Майя Генриховна Левина (Головчинер) родилась 28 августа 1932 г.,
комментируемое ст-ние написано к ее двухлетию. Г. 3. Левин (см. приме¬
чание к ст-нию № 57) в это время занимал в журналах «Еж» и «Чиж» долж¬
ность заведующего художественной частью.
Канашке (бранно-ласкат.) — от каналья.
Примечания [465]
74 (С. 271). БП. С. 139—140.
Вариант ст. 8: «Я деньги за это плачу».
Поводом к написанию ст-ния стало объявление в газете «Известия» от
14.11.1934 о том, что Кирилл Васильевич Гнида меняет фамилию на Райский.
Подтекстом этого ст-ния, возможно, послужил фрагмент «Гражданин За¬
ика» из вокального цикла Александра Мосолова «Четыре газетных объяв¬
ления (Из "Известий ВЦИК")» для голоса (меццо-сопрано) и фортепиано,
соч. 21,1926 года (подсказано нам М. А. Амелиным).
Об этом ст-нии см.: ВС. С. 149—156.
Л. Гинзбург и С. Полякова по-разному трактуют тему двойничества
в ст-нии: Л. Гинзбург — как переосмысление одной из важнейших романтиче¬
ских тем, С. Полякова — как отклик на уродливую действительность 1930-х гг.
Л. Гинзбург: Подзаголовок «баллада» «присвоен стихотворению "Пе¬
ремена фамилии". В нем та же двупланность, и комическое причудли¬
во дублируется серьезным. Своим синтаксическим строем стихотворение
напоминает экспериментальный примитивизм некоторых вещей Хлебни¬
кова. Инфантильно построенными фразами рассказывается о том, как ге¬
рой, внеся в контору «Известий» восемнадцать рублей, переменил имя
и фамилию. <...> А дальше на том же бурлескном языке речь идет о поте¬
ре собственной личности, о раздвоении сознания. Герой видит в зерка¬
ле чужое лицо, "лицо негодяя", его окружают отчужденные, враждебные
вещи. Герой кончает самоубийством. <...> Стихотворение до конца со¬
храняет пародийную оболочку. Но очевидно — смысл его не в том, что¬
бы пародировать уже малоактуальный балладный жанр, но чтобы ска¬
зать о страхе человека перед ускользающей от него, двоящейся лично¬
стью — старая тема двойника, воплощения таящегося в личности зла»
(Гинзбург: 499).
С. Полякова: Возможно, ст-ние «возникло в связи с веселыми разго¬
ворами на эту тему. Заболоцкий шутил, что менял фамилию на Попов-
Попов, поскольку это двойная аристократическая фамилия <...> Траги¬
ческий смысл этой, как будто даже смешной, истории был убедительно
объяснен, и стихотворение трактовано как сниженный вариант романти¬
ческой темы двойников, светлого — положительного, и темного — отри¬
цательного (речь о статье Л. Гинзбург, см. выше. — 0. Л., М. С.). Подоб¬
ная интерпретация содержит, однако, только полправды, и пьеса должна
быть прочтена не столько в контексте эволюции распространенного ро¬
мантического сюжета, т. е. в историко-литературном, сколько в свете об¬
щественной ситуации тридцатых годов как отражение типичного для того
времени двоедушия, когда под влиянием советского террористического
режима человек был принужден в целях самосохранения раздваивать¬
Примечания [466]
ся, распадаться на противоположные личности, вложенные друг в друга
как деревянные матрешки, скрываемые (подлинные) и выставленные для
всеобщего обозрения, официально непогрешимые, заряженные, с точки
зрения господствующей идеологии, положительно, в отличие от носите¬
лей взглядов, государственно не одобряемых. "Перемена фамилии" об¬
лекает этот компромисс враждебных друг другу сознаний, сосуществу¬
ющих в личности советского человека, в традиционный сюжет о двой¬
никах, носителей полярных начал. Широко распространенные фамилии
действующих лиц этой пьесы, Козлов и Орлов, говорят о том, что подраз¬
умевается любой человек, любой современник автора, поскольку много-
слойность сознания типична для homo soveticus'a. Избрание именно этих
фамилий, уводящих в мир басни, животного эпоса и сказки (ведь дей¬
ствуют орел и козел) <...> быть может, тоже свидетельствует о стремле¬
нии еще в большей степени подчеркнуть типичность образа, придав ему
всеобщность басенного персонажа. <...> Если, как можно думать, в пье¬
се "Перемена фамилии" положительный двойник воплощает хотя бы от¬
части душевную раздвоенность автора, то в <финальных> строках <...>
Олейников имел в виду и себя (поскольку речь идет о "нас" — либо, по
принципу анаколуфа, о героях пьесы, либо, возможно, о <...> гражданах
СССР)» (Полякова: 22—24).
В жакте — т. е. в жилищно-арендном кооперативном товариществе (суще¬
ствовали в СССР до 1937 г.).
С последним коротким сигналом — московская радиостанция имени Ко¬
минтерна несколько раз в сутки давала в эфир сигналы проверки вре¬
мени — два длинных и один короткий.
75 (С. 273). БП. С. 141. Первая публикация: Тридцать дней. 1934. № 10.
Вариант ст. 19: «В коленях», ст. 25: «Забытые чувства теснятся в груди».
0. Ронен обозначает основной круг аллюзий и отсылок в олейников-
ском ст-нии: «Первая часть юмористического цикла А. К. Толстого, "Док¬
тор божией коровке / Назначает рандеву", представляет интерес <...>
в связи со стихотворением Олейникова "Муха" — меланхолическим вос¬
поминанием любовника о научной и нежной страсти к крылатой подру¬
ге. <...> Смягчая гротескное начало, по сравнению со стихами о божи¬
ей коровке на рандеву, и укрепляя лирическое, Олейников возвраща¬
ется здесь, как бы прослеживая генезис поэтики самого А. К. Толстого,
к Генриху Гейне, а именно к одному из последних его стихотворений, об¬
ращенному умирающим поэтом к Мушке, с характерным мотивом любви
и болезни, взаимной дополнительности ущербных любовников, помеша¬
Примечания [467]
тельства вдвоем и утраты человеческого тождества, — не говоря уж о са¬
мом прозвище Мушка:
Мы, право, курьезная пара,
Сказать не в обиду, друг мой;
На ножках слаба моя прелесть,
Возлюбленный — прямо хромой.
Она захиревший котенок,
Он, как песик болезненный, тих;
Да, кажется, в разуме даже
Как будто не ладно у них.
По мнению хворой бедняжки,
Она — нежный лотос цветок,
А месяцем томным считает
Себя ее бледный дружок.
И лотос светилу свой венчик
Откроет — весь трепет и жар;
Но жизни взамен плодотворной
Стихи лишь получит он в дар.
(Перевод А. Н. Линдегрен, изд. 1904 г.)
Эрозия реального, "житейского" смысла подтекста из Гейне и сатириче¬
ской скабрезности толстовского подтекста происходит в олейниковской "Му¬
хе" вследствие нарушения связи между сюжетными мотивами и перестанов¬
ки их временной последовательности: герой любил муху в молодости, когда
же он заболевает, то мухи давно уж с ним нет; в отличие от толстовской ситу¬
ации, счастью олейниковской четы разница в размерах не мешала — благо¬
даря микроскопу, ситуацию знакомой русской вольной музе по пушкинской
эпиграмме на Орлова. Так что и мотивы сексуальной жестокости и мести, со¬
ответствующие "булаве" и "шпанской мушке" "Медицинских стихотворений"»
А. К. Толстого, «у Олейникова начисто отсутствуют» (Ронен: 241—242).
Нарине рассматривает «Муху» в более узком контексте обэриутских
«Разговоров»: «Подтверждение неаллегорической направленности олейни-
ковского видения подобных существ мы находим в "Разговорах": "От взо¬
ра <Олейникова> не ускользнуло, что муха села на блюдце с сахаром. —
Смотрите, — сказал Н. М., — муха минует одни сахарные песчинки и стре¬
мится к другим. Это показывает, что они в действительности не одинаковы.
Примечания [468]
Вряд ли, чтобы у мух не было индивидуальных особенностей вкуса, как
и у людей". <...> Дело не в том, что их психология идентична человеческой:
Олейников не предполагает, что у мухи те же самые особенности вкуса, что
и у отдельного человека, а допускает, что у мухи могут быть свои индиви¬
дуальные особенности вкуса, как они есть у людей» (Нарине: 251—252).
76 (С. 274). БП. С. 142—144.
Вариант ст. 22: «Что души не существует», ст. 25: «есть лишь только
сочлененья», ст. 26: «И затем соединенья», ст. 38: «Уподобившись коню».
Об этом ст-нии см.: ВС. С. 156—163.
Эпиграф — неточная цитата из первой строфы басни капитана Лебяд-
кина — персонажа романа Ф. Достоевского «Бесы». Ср. также в «Фанта¬
стической вылазке» И. Мятлева:
Таракан
Как в стакан
Попадает —
Пропадает.
В разборах «Таракана» преобладает тенденция к обозначению тради¬
ции и поиску перекличек. В первую очередь пишущие о «Таракане» оста¬
навливаются на сопоставлении двух ст-ний — капитана Лебядкина и Олей¬
никова. См.: Улановская, Филиппов.
А вот рассуждение по этому поводу Е. Лукина: «Как представляется,
Олейников совсем не случайно ссылается на Достоевского, поскольку явля¬
ется его последовательным продолжателем, исповедующим сходное отно¬
шение к теории социального дарвинизма. Сюжет "тараканьих" пьес Досто¬
евского и Олейникова совпадает — обоих насекомых, оказавшихся в ста¬
кане, ждет схожая участь с той лишь разницей, что олейниковский таракан
сначала подвергается смертельной вивисекции, а затем выбрасывается в ок¬
но, символизирующее то же небытие, что и лохань. У Достоевского палачом
выступает благороднейший старик Никифор, у Олейникова инквизиторами
становятся его подмастерья — ужасные вивисекторы, расчленяющие на¬
секомое в научных целях. В обоих случаях подразумевается антигуманная
сущность социальной реальности, толкуемой в дарвинистском духе. Помимо
прочего, в олейниковской пьесе о таракане содержится критика утопическо¬
го антропоинсектизма, с веселой беспечностью трансплантирующего разум,
но не душу. Отнюдь не приветствуя фаустианский эксперимент с "лучшей
жертвой, которую видели звезды", Олейников сосредотачивает внимание на
страданиях таракана, подвергаемого хирургическим действам. Поэт осуж¬
Примечания [469]
дает бесчеловечную сущность вульгарного материализма, который лишает
человека нетварного начала. Олейниковский таракан не ропщет перед не¬
избежной казнью, как не ропщет и лебядкинский таракан. Однако здесь по¬
гибает, образно говоря, не "поэт в душе", а безвестный "мученик науки",
которому вообще отказано в душе» (Лукин 2006:251).
0. Ронен, не ограничиваясь обозначением перекличек «Таракана» с ле-
бядкинским и мятлевским ст-ниями, обнаруживает у Олейникова отсылки
к опытам А. К. Толстого: «Наиболее широко известный из онтомологиче-
ских образов> представляет собой откровенную дань основоположной (во
всяком случае, для Олейникова и Заболоцкого) традиции Мятлева и капитана
Лебядкина, в которой образ страждущего таракана-узника едва ли не навеян
этимологическим родством с несчастной пленницей Алексеевского равелина
княжной Таракановой, не раз привлекавшей внимание русского авангарда.
<...> Мотивы Достоевского-Мятлева в "Таракане" Олейникова, герой кото¬
рого — жертва вивисекции и "мученик науки", видоизменены в духе "Ме¬
дицинских стихотворений" графа А. К. Толстого, вышучивавшего важные
научные претензии медиков, но одновременно пародировавшего и бла¬
гонамеренные общие места антинигилистической идеологии, — двойная
мишень, ставшая вновь актуальной во времена ВИЭМ и советского "куль-
туркампфа". Предметы садистических посяганий толстовского "лукавого
врача", спасающиеся от него и мстящие ему, — это, как и у Олейникова,
насекомые: правда, не таракан, а божия коровка, навозный жук и шпан¬
ская муха» (Ронен: 238).
Л. Флейшман обозначает стихи Лебядкина как общий источник для
Олейникова и Заболоцкого: «Антитеза "мира изобретений" (мира цивили¬
зации) "миру насекомых" (природы) — одна из центральных у Олейнико¬
ва. Энтомологический герой из басенного превращен в субъекта интимной
лирики — в традициях Достоевского с его сквозной метафорой человека-
насекомого и поэтического творчества Лебядкина (к которому непосред¬
ственно восходит стихотворение Олейникова "Таракан") — с одновремен¬
ным преломлением темы вины человеческого рода перед царством живо¬
го ("мучениками науки"), разрабатывавшейся Заболоцким в к. 20 — нач.
30-х гг.» (Флейшман: 17).
Л. Гинзбург начинает свой анализ с «генетического» сопоставления
олейниковского «Таракана» с лебядкинским, а заканчивает аналогическим
сопоставлением, проводящим типологическую параллель между Олейни¬
ковым и Кафкой: особенно явственны «мотивы жестокости и беззащитно¬
сти в стихотворении "Таракан". Ему предпослан эпиграф: "Таракан попал¬
ся в стакан (Достоевский)". <...> При чтении "Таракан попал в стакан"ока¬
зывается, что такой строки у Достоевского нет.
Примечания [470]
У Достоевского:
Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан,
Полный мухоедства...
Олейникову не нужна была точность цитаты; ему нужно было устано¬
вить связь между гротескным обличьем своей поэзии и гротеском Достоев¬
ского. Хотя он, конечно, не думал, что пишет "как капитан Лебядкин, кото¬
рый, впрочем, писал превосходные стихи" (так отозвалась о стихах Олей¬
никова Ахматова). В "Таракане" <...> двоящийся животно-человеческий
образ, с помощьк) которого Олейников рассказывает о насилии над без¬
защитным. Рассказывает гротескным языком, потому что не умеет, не хо¬
чет пользоваться традиционными наречиями поэзии, по его убеждению,
уже потерявшими способность означать. Коллизия жестокости и беспо¬
мощности заострена все больше нагнетаемой гиперболичностью — на ма¬
ленького таракана направлены огромные, многообразные орудия пытки
и убийства. <...> "Таракан" Олейникова вызывает неожиданную ассоци¬
ацию с рассказом Кафки "Превращение". Это повествование о мучениях
и смерти человека, превратившегося вдруг в огромное насекомое (некото¬
рые интерпретаторы считают, что это именно таракан). Совпадают даже не¬
которые сюжетные детали. У Кафки труп умершего героя служанка выбра¬
сывает на свалку, у Олейникова —
Сторож грубою рукою
Из окна его швырнет...
Скорее всего это непроизвольное сближение двух замыслов, потому
что в те времена Кафка не был еще у нас популярен, и Олейников едва ли
его читал. Между тем историческое подобие между Олейниковым и стар¬
шим его современником, несомненно, существует. Классическая трагедия
и трагедия последующих веков предполагала трагическую вину героя или
трагическую ответственность за свободно им выбираемую судьбу. XX век
принес новую трактовку трагического, с особой последовательностью раз¬
работанную Кафкой. Это трагедия посредственного человека, бездумного,
безвольного ("Процесс", "Превращение"), которого тащит и перемалывает
жестокая сила. Это коллизия и животно-человеческих персонажей Олейни¬
кова: блохи Петровой, карася, таракана, теленка, который плачет "под кин¬
жалом мясника". Сквозь искривленные маски, буффонаду, галантерейный
Примечания [471]
язык с его духовным убожеством пробивалось очищенное от "тары" слово
о любви и смерти, о жалости и жестокости» (Гинзбург: 501—503).
Особняком стоят интерпретации «Таракана» с упором на «человеч¬
ность» (Полякова) и «животность» (Нарине).
Полякова: читая «стихотворение "Таракан", можно только удивляться
наивности тех, кто видел в нем невинную, ни к чему не обязывающую шут¬
ку, не замечая ни трагического его смысла <...>, ни резко противоправи¬
тельственной ориентации. Несчастный таракан с первых же стихов пьесы
вызывает к себе симпатию и сочувствие; достаточно прочитать, как в ми¬
нуту смертельной опасности, перед тем, как на него бросятся вивисекторы,
он сосет свою рыжую ножку, повторяя безотчетное движение испуганно¬
го или растерянного ребенка, сосущего свой палец <...> По мере развития
сюжета, когда таракана терзают разнообразными способами, сочувствен¬
ное отношение к нему укрепляется, достигая при упоминании ожидающей
его судьбы своей высшей точки <...> Хотя, согласно сюжету пьесы, тара¬
кан — взрослое насекомое (у него уже есть потомство), образ построен по
методу, называющемуся в этологии Kinderschema, т. е. приближен к наше¬
му представлению о человеческом детеныше: у него голубые глазки, нож¬
ки, косточки <...> и, наконец, охваченный страхом, таракан ведет себя как
человеческое дитя. Это приближение к Kinderschema обусловлено тем,
что муки безвинной жертвы эмоционально наиболее убедительны, если
эта жертва — беззащитный младенец. Видимо, это, а не близость поэтики
Олейникова к поэтике Лебядкина, заставило Олейникова вспомнить Досто¬
евского и процитировать его в эпиграфе к "Таракану". Ведь тема детско¬
го страдания — одна из лейтмотивных тем его творчества. <...> Тридцатые
годы, когда был написан "Таракан", отмечали массовые насилия и массо¬
вые репрессии, так что в это время утверждение, как это сделано в "Тара¬
кане", ценности отдельной, нарочито незначительной судьбы <...> — сю¬
жет скорее опасный, чем шутливый, не только свидетельство гуманного
образа мыслей, но и антиправительственная позиция: здесь политическое
и нравственное, что далеко не часто случается, переплетены. История му¬
ченика науки, как Олейников называет таракана, оказывается результатом
методов и следствий уродливого и кровавого социального эксперимента,
в котором таракан — объект бесчеловечного и псевдонаучного опыта ор¬
ганизации общества, которому подверглись все тоже сидевшие в стака¬
не соотечественники поэта, терпевшие такие же безвинные мучения, чьи
"косточки сухие" поливал дождик, а "глазки голубые" клевала курица где-
нибудь на Соловках или Колыме, а чудом оставшиеся на свободе близкие,
подобно сыну таракана, оказывались в социальном вакууме и были "все¬
ми кинуты"; ведь из страха с семьями репрессированных обычно поры¬
Примечания [472]
вали связи. Все в этом причудливом и странном стихотворении говорит,
что перед нами — фотография тогдашней действительности с поправкой
на зооморфный костюм персонажа, рассказывающая о безвинности и же¬
стокости, палачах и жертвах, неизвестно за что попавших в разряд пресле¬
дуемых и гонимых. <...> В "Таракане", помимо того, <...> заключен и бо¬
лее узкий и частный <смысл> — осуждение государственно насаждаемо¬
го объяснения закономерности высшей нервной деятельности учением об
условных рефлексах академика Павлова, сводившего сложные взаимодей¬
ствия психических и физических процессов к элементарным реакциям на
воздействие внешней среды. <...> Осуждение — и не только одного Олей¬
никова — вызывало негуманное и в большинстве случаев неоправданное
злоупотребление острыми вивисекционными опытами. <...> Механический
материализм Павлова, полностью отказывающий представителям живот¬
ного мира даже в тени умственных способностей, а также страсть его к по¬
вторению жестоких опытов, при взгляде Олейникова на живую природу,
проникнутом любовью и виталистическим пиететом, естественно вызы¬
вали у него непримиримое отталкивание. Оно недвусмысленно дает себя
знать в язвительном изложении тараканом павловского учения <...> По¬
казательно <...> перечисление того, что заменяет душу, — выбраны са¬
мые прозаические, материальные и далекие от обычных представлений
о субстанции души составные ее части, а именно сало, кости и печенка
(не печень даже, а печенка, т. е. не анатомическое, а кулинарное поня¬
тие!). Гротескно отрицательно изображены и сами последователи павлов¬
ской рефлексологии: это "злодеи", "подлецы", "безмозглые обезьяны",
которые со сладострастием терзают попавшее в их власть существо <...>
а "мученик науки", правильнее сказать, мученик двух наук — политико-
экономической и порожденной ею формой биологического учения, гиб¬
нет» (Полякова: 14—17).
Нарине: «Животные и насекомые Олейникова не аллегоричны. В ряде
случаев поэт "реализовывает" (так! — 0. Л., М. С.) гипотетическую ситуа¬
цию Рашевского, усматривая возможность общего в психике человека и су¬
щества, "резкая разница в организации нервной системы" которого, каза¬
лось бы, "по сравнению с нашей не позволяет сделать даже шаткого заклю¬
чения по аналогии", — между прочим, в раздавленном жуке и в таракане.
Поэт показывает, как существо могло бы испытывать именно боль — силь¬
нейшее субъективное состояние, да еще с модной нравственной окраской.
В "Таракане" поэт подчеркивает в действующих лицах в первую очередь их
зоологическую разность ("У стола лекпом хлопочет...") <...> Таракан со¬
мневается в полноценности сознания столь далекого от него, таракана, су¬
щества, как обезьяна-человек. "Обезьяна" тем временем воистину бездум¬
Примечания [473]
но поет песню Федора Глинки, песню о страданиях, предвосхищающих те,
к которым готовят таракана; в ней ямщик восклицает:
"Ах, очи, очи голубые!
Вы сокрушили молодца;
Зачем, о люди, люди злые,
Вы их разрознили сердца?
Теперь я бедный сиротина!./'
С учетом разных значений слова "разрознить", Олейников превраща¬
ет слова Глинки в жутковатый каламбур живосечения; притом вскоре вы¬
яснится, что у таракана "глазки голубые" (а "сиротиной" остается его "бед¬
ный сын"). Построение сюжета покоится на факте биологического несход¬
ства, оно направлено на вопрос о психологической подоплеке поведения»
(Нарине: 250).
Лекпом — лекарский помощник, или помощник врача.
«Тройка удалая» — подразумевается песня «Вот мчится тройка удалая»
(муз. А. Верстовского, сл. Ф. Глинки).
Есть всего лишь сочлененья — см. историко-литературный комментарий
к этой строке Л. Флейшмана: «Переход от лексической зауми к "оза-
умниванию" синтаксиса шел по линии установления сепаратности ку¬
сков и "агрегатного" состояния целого ("Есть всего лишь сочлененья,
А потом соединенья" <...>), факультативности следования частей. От¬
сюда мотив произвольности и взаимозаменимости деталей у Пастерна¬
ка ("Охранная грамота"), игра на вариативности составных частей кон¬
струкции» (Флейшман: 7).
Сто четыре инструмента — «пародийные мотивы вторгались в самые
разные произведения Николая Олейникова. Есть они в стихотворении
"Таракан", где слышатся спародированные ритмы стихотворений Кор¬
нея Чуковского — детского поэта...» (Дымшиц: 196).
Безобразный, волосатый — ср. реплику Павла Петровича о «вивисекторе»
Базарове в «Отцах и детях» И. Тургенева: «— Кто сей? — спросил Па¬
вел Петрович.
— Приятель Аркаши, очень, по его словам, умный человек.
— Он у нас гостить будет?
-Да.
— Этот волосатый?
— Ну да».
Примечания [474]
77 (С. 276). БП. С. 145.
78 (С. 277). БП. С. 146.
Адресат — Лидия Львовна Жукова (1905—1985), театральный критик.
О Макаре Свирепом см. примеч. к ст-нию № 4.
Прими сей труд — возможно, пародируется начальная строка ст-ния
А. С. Пушкина «Череп»: «Прими сей череп, Д***: он...»
79 (С. 277). БП. С. 147.
Об адресате см. примеч. к ст-нию № 78; семейство: Наташа (р. 26 мар¬
та 1934), дочь Лидии и Дмитрия Жуковых; Митя — Дмитрий Петрович Жу¬
ков (1904—1937), муж Л. Жуковой, филолог-японист, заведующий секто¬
ром Отдела Востока Государственного Эрмитажа.
80 (С. 278). БП. С. 148.
Вариант ст. 4: «Стоит, как выжатый лимон».
С. Полякова предлагает к этому ст-нию параллели с «Нулем и нолем»
Д. Хармса и «Деревьями» Заболоцкого: "— А вы, укромные, как шашечки
и нити, / Кто вы, которые под кустиком сидите? <...>/ — А мы нули"» (По¬
лякова: 54—55).
Е. Лукин рассуждает о философской подоплеке этого ст-ния: «Инте¬
рес к пифагорейской философии числа наблюдается у всех обэриутов.
Особенно привлекает их внимание таинственное число ноль, неизвестное
пифагорейцам. Как утверждал Даниил Хармс, "учение о бесконечном бу¬
дет учение о ноле". К таинственному нулю обращается и Николай Олей¬
ников. Однако его нулевая теория обретает не столько гносеологический,
сколько экзистенциальный, глубоко гуманистический смысл. Еще в пифа¬
гореизме осуществляется попытка определения числа человека. Так, уче¬
ник Филолая Еврит, развивая теорию фигурных чисел, устанавливал это
число в 250. Между тем современное профанное сознание приравнивает
его к единице. Именно эту единицу и обезличивает, раздавливает Влади¬
мир Маяковский, когда провозглашает в поэме "Владимир Ильич Ленин"
(1924): "Единица — вздор, единица — ноль". Под ничтожной "едини¬
цей", равной нулю, Маяковский подразумевает среднестатистического че¬
ловека, неспособного в одиночку поднять "простое пятивершковое брев¬
но". Его поэтико-политический пафос направлен на воспевание несокру¬
шимой "муравьиной" мощи миллионов. Олейников в такой патетической
трактовке усматривает унижение конкретного человека, его бесчеловеч¬
ное "обнуление". Для поэта существен прежде всего живой человек, ко¬
торый в силу жизненных обстоятельств превращен в замученный "нолик",
Примечания [475]
подобный выжатому лимону. Это прикосновение ноликов к абстрактному
"могучему" нулю означает прикосновение к бесконечному, беспредельно¬
му, следовательно, придает их нулевому существованию иной — возвы¬
шенный — смысл. К тому же поэт никак не отделяет себя от прочих ноли¬
ков <...> Нулевая теория Олейникова обретает высокий гуманистический
смысл потому, что сочетает в понятии нуля неземное, бесконечное и зем¬
ное, конечное начало. Здесь нулевая теория непосредственно сопрягает¬
ся с антропоинсектической идеей, изложенной Достоевским в философии
капитана Лебядкина. Ведь числа и насекомые стоят у поэта в одном ряду»
(Лукин 2006: 249—250).
81 (С. 279). БП. С. 149.
Вариант ст. 8: «С ней не капало мыла, не стекало дождя».
Высказанное (А. В. Мальгиным) предположение о связи этого ст-ния со
звонком И. Сталина Б. Пастернаку по поводу ареста 0. Мандельштама не
представляется убедительным.
болида — т. е. яркого метеора.
82—88 (С. 279). БП. С. 150—151.
Об этом цикле см.: ВС. С. 18—22.
По свидетельству Я. Друскина, на основе «Книжки с картинками» Н. Бу¬
харин предполагал издать серию антифашистских плакатов. Один из таких
плакатов, с текстом 7-й картинки, изображал Жука в образе Гитлера.
В своем разборе "Жука-антисемита" 0. Ронен указал на основные под¬
тексты ст-ния: «Разрушение жесткого "точного смысла народной поговор¬
ки" лежит в основе памятной сатиры Олейникова "Жук-антисемит". <...> Ни¬
колай Чуковский, отметив в своих "Литературных воспоминаниях" <...> яр¬
кую юдофилию природного донского казака Олейникова, высказал мысль
о том, что, выводя героями насекомых, "он бессознательно следовал древ¬
нейшей традиции мировой сатиры". Однако конкретных источников "Жу-
ка-антисемита" Николай Чуковский не назвал, хотя, быть может, действи¬
тельно "бессознательно" почуял по крайней мере один из них <...> Строки
В лесу не стало мочи,/ Не стало и житья из "Жука-антисемита" отчетливо
вторят мефистофелевской песенке о блохе из "Фауста" в русском переводе
А. Н. Струговщикова, особенно популярной оттого, что на эти слова Шаляпин
пел "Песню Мефистофеля в погребке Ауэрбаха" Мусоргского:
От блох не стало мочи,
Не стало и житья!
Примечания [476]
Но главные — и частные, и общие — подтексты "Жука-антисеми-
та" находятся в русском фольклоре. Дразнилку-заклинание, обращен¬
ное к божьей коровке, в разных формах (Божья коровка, где твои дет¬
ки? или Там твои детки/ Кушают котлетки и т. д.) знают все. Из него
в "Жуке-антисемите": Бабочка; бабочка,/ Где твоя мамочка?/ — Мамоч¬
ку съели жиды. Другой, более важный источник олейниковской сатиры
менее распространен в современном бытовании фольклора. Это посло¬
вица, приводимая у Даля <...> и происхождение свое ведущая, вероят¬
но, от загадки, так как смысл ее представляется чисто звукоподражатель¬
ным: летит жук да шумит: убью! гусь спросил: кого? теленок говорит:
меня, а уточка: так, так, так! Имитируя народную пословицу, загадоч¬
ную, но зловещую, в особенности если предположить, что загадка изо¬
бражает нож, который точат <...> чтобы зарезать теленка к празднику,
структура стихотворения Олейникова, во-первых, разрушает традицион¬
ный бытовой навет именно как якобы логическое (все "не евреи" поги¬
бают, следовательно, все оставшиеся в живых — евреи), но абсурдное
в самом житейском смысле слова оправдание подстрекательства к рез¬
не, а во-вторых, переводит его кажущуюся осмысленной "сюжетную" мо¬
тивировку из плана содержания в план отчужденного выражения, свой¬
ственный "онтологической" (а не "семантической", как в акмеизме, или
"семантизирующей", как у Хлебникова) поэтике искусства, утверждае¬
мого у обэриутов как реальность, и тем самым компрометирует эту моти¬
вировку как смысл. Рифма грач — пархач напоминает скорее о порхаю¬
щей птице, чем о парше или эпитете пархатый, а самое слово жид теперь
жужжит звукоподражанием вжик или ожиг, жиг, как натачиваемая сабля
в "Войне и мире"» (Ронен: 241—242).
С. Полякова находит в «Жуке-антисемите» точный социально-поли¬
тический прогноз: «Историческая прозорливость Олейникова задолго до
расцвета первосортного антисемитизма <...> ощутила его остаточное на¬
личие в культуре и опасность этого явления. Так в борьбе с субкультурой
русского антисемитизма возникла гротескная диалогическая сценка "Жук-
антисемит", повествующая о том, как жук умирает от огорчения, узнав, что
в лесу нет спасенияот евреев — "Абрам под каждой кочкой", и куда ни по¬
вернись всюду они <...> Не должно смущаться тем, что "Жук-антисемит"
возник как реакция на бытующий в России государственный ненаказуемый
антисемитизм <...> отношение советского государства к юдофобии всегда
было двойственным...» (Полякова: 21).
89—96 (С. 281). БП. С. 152—154. Первая публикация: Кадр. 1936.
10 февр.
Примечания [477]
Написано для рекламного ролика к/ф «Женитьба» по Н. Гоголю, снято¬
го в мастерской «Ленфильма», которой руководил С. Юткевич.
97 (С. 284). ПВ. С. 128.
Ст-ния № 97—100 писались в качестве текстов песен для к/ф «Леноч¬
ка и виноград» (композитор Н. Стрельников). В итоге в фильме прозвучал
лишь «Марш юных натуралистов».
Страшно жить на свете — автореминисценция из ст-ния № 76.
98 (С. 285). ПВ. С. 129.
99 (С. 285). ПВ. С. 130.
100 (С. 286). ПВ. С. 131.
101 (С. 286). ПВ. С. 132.
Возможно, подразумеваются похвалы в советской печати ст-нию Н. За¬
болоцкого «Горийская симфония» (1936) об И. Сталине. Бывший нарком по
военным и морским делам и председатель революционного военного сове¬
та РСФСР Лев Давидович Троцкий (1879—1940) был в 1927 г. снят со всех по¬
стов и отправлен в ссылку, в 1929 г. выслан из СССР, а в 1932 г. лишен совет¬
ского гражданства.
102—112 (С. 287). БП. С. 155—159.
Содержание ст-ний этого цикла восходит к изданию: Сомов.
Комментарий С. Поляковой к этому циклу: «Возможно, что его возник¬
новение, в достаточной мере неожиданное, связано с выходом в 1936 г.
знаменитой книги древнегреческого писателя Филострата "Картины",
посвященной описанию живописных изображений, составлявших в пе¬
риод поздней античности особый и популярный литературный жанр
<...> "В картинную галерею" Олейникова входят десять экфраз (описа¬
ний) — четыре реально существующие работы голландских и фламанд¬
ских художников, хранящиеся в запасниках Эрмитажа и описанные,
по-видимому, на основании аутопсии; остальные картины либо фиктив¬
ные, либо, судя по пьесе "Еще одна картина", не идентифицированные,
мифологического или исторического содержания, отражающие далекое
прошлое; исключение составляет только восьмая экфраза, судя по неко¬
торым реалиям, связанная с темой эпохи гражданской войны. <...> Не ис¬
ключено, что родина фрагмента 3-го, посвященного описанию различных
Примечания [478]
лежащих на столе предметов, и 9-го, описывающего стебель мяты, — то¬
же какая-нибудь экфраза. Заключение цикла "Выводы и размышления",
как показал Владимир Эрль, принадлежит Е. Шварцу и находится в столь
резком противоречии с олейниковским текстом, что непредставимо, как
и зачем могла быть осуществима такая амальгама <...> В передаче сюжета
и общего тона некотоых полотен Олейников был далек от идеалов trompe-
I'oeil [обман зрения]. <...> Цикл выдержан в обычной для Олейникова ма¬
нере наивного примитива, но через него уже ощутимо проклевываются
черты нового для поэта стиля. Наивность достигается известным гроби-
анизмом (попутно этому снижение объекта изображения вызывает у зри¬
теля или читателя прилив жизненной энергии), что отчетливо ощущает¬
ся в работах олейниковской картинной галереи. Кроме гробианизма, это
достигается и остранением объекта описания путем подмены историче¬
ских деталей современными автору бытовыми и сниженными» (Поляко¬
ва: 56—57).
1 (С. 287).
В черновом автографе после ст. 4:
Другой рукой он опирается на мраморный широкий стол,
Где в золоченой вазе возвышается букет из полевых цветов,
Облагороженный присутствием садовой розы.
Недалеко от вазы тут же на столе лежат
Вьюнки и свежесрезанная ветка грецкого ореха.
На заднем плане — широко раскрытое окно
С венецианской аркою. В окне
Видны холм<ы>, игрушечные рощи, земли и озера,
Животные и люди в виде маленьких фигурок.
2 (С. 287).
Питер Пауль Рубенс. Апофеоз Иакова I. Эскиз центрального медаль¬
она в плафоне Банкетного зала дворца Уайтхолл в Лондоне. «Великобри¬
танский король в воинских доспехах и пурпурной мантии сидит на облаке,
опираясь одной ногою на шар. Его поддерживает орел, парящий в воздухе
и сжимающий в своих когтях молнии» (Сомов: 435).
См. отклик на это ст-ние С. Поляковой: «В описании портрета короля
Иакова I, например, изображенного Рубенсом Саваофом в облаках, мы чи¬
таем об огромной (бытовое слово, не идущее к им определяемому), по¬
Примечания [479]
хожей на самовар чаше в руках гения (сравнение из чуждого культурно¬
го круга служит этим же целям), о сидящей (глагол звучит по-бытовому)
на облаке почти аллегорической фигуре короля. Кроме того, использована
нарочито неточная рифма владыки — пленники. Столь же наивно передан
сюжет мифологической картины Кейленборха "Нимфы"» (Полякова: 56).
К ногам непобедимого владыки — реминисценция из «Анчара» А. Пушки¬
на: «У ног непобедимого владыки».
Закованные пленники у Рубенса отсутствуют.
3 (С. 287).
Абрахам ван Кейленборх. Нимфы в пещере. «В обширном гроте, слева,
сидят на камнях две полунагие нимфы, возле которых лежат лук и колчан
со стрелами, и третья нимфа взлетает на каменную глыбу, покрытую мали¬
новою драпировкою; тут же, на переднем плане — две собаки. Справа, че¬
рез широкое отверстие грота, виден гористый пейзаж и купающиеся в ру¬
чье четыре нимфы, из которых одна сидит верхом на спине другой» (Со¬
мов: 236).
Абрахам ван Кейленборх (1620?—1658), голландский живописец.
4 (С. 288).
Иос ван Красбек. Пьяница. «В убогой горнице, перед пылающим ка¬
мином <...> сидит на низком стуле крестьянин <...> Повернувшись про¬
филем к камину, крестьянин держит в левой, опущенной вниз руке гли¬
няный кувшин, а в правой — высокий стеклянный стакан с вином и лю¬
буется последним <...> Налево <...> скамья, на которой стоит костяной
кувшин и лежат трубка и клочок бумаги со щепоткою курительного таба¬
ку» (Сомов: 253).
Иос ван Красбек (1605—1662), фламандский живописец.
Кровать и слуга на картине Красбека отсутствуют.
5 (С. 288).
Саломон Конинк. Притча о работниках на винограднике. Сюжет кар¬
тины заимствован из евангельской притчи (Мф. 19:29—30; 20:1—16).
«В просторном помещении со сводами <...> сидит хозяин виноградни¬
ка — пожилой человек с белым тюрбаном на голове и в черной одежде.
Он обратился вправо, с жестом отказа, к молодому работнику <...>, стоя¬
щему перед ним и держащему монету на ладони своей руки. Позади этого
работника — четверо его товарищей, из которых один удаляется напра¬
Примечания [480]
во <...>, где в темном отделении помещения виднеется еще человеческая
фигура <...>. Подле хозяина, налево, сидит за столом старик в красной
шапке, укладывающий деньги в кожаный кошель; за этою фигурою сто¬
ит пожилой человек с раскрытою книгою в руках; по сю сторону стола —
юноша <...> сидит и пишет в большой книге, раскрытой на деревянном
пюпитре» (Сомов: 247).
Саломон Конинк (1609—1656), голландский живописец.
6—8 (С. 289).
Оригиналы не установлены.
9 (С. 289).
Иос ван Клеве. Святое семейство. «Справа стоит Богородица, поддер¬
живающая правою рукою нагого Младенца-Христа, стоящего перед нею на
каменном парапете, и держа в левой руке цветок гвоздики. На Пресвятой
Деве — синяя риза и алая мантия. Младенец берется левою рукою за зо¬
лотую цепочку, на которой висит ювелирный крест на шее Матери, а пра¬
вою рукою — за ее обнаженную грудь. На парапете у ног Младенца лежит
разрезанный лимон и упирающийся в него ножик, а под ногами — цветы
полевого колокольчика. Слева, на втором плане, виден Св. Иосиф в жел¬
той одежде с черной меховою шапкою на голове; он читает лежащую пе¬
ред ним на аналое раскрытую книгу, из-под которой спускается вниз раз¬
вернутый пергаментный свиток. Позади Богоматери висит парчовая драпи¬
ровка» (Сомов: 271—272).
Иос ван Клеве (1464? — ок. 1540), голландский живописец.
Комментарий С. Поляковой к этому ст-нию: «Стилистический поворот
наиболее отчетливо прослеживается в чудесной пьесе "Еще одна карти¬
на". Здесь уже ощущается дух утонченного искусства, напоминающий
манеру изысканных примитивистов средневековья, вроде Симоне Марти¬
ни или братьев Лимбург, резко отличную от образцов городского живо¬
писного фольклора и искусства неопримитивистов, с которыми сопоста¬
вима прежняя стилистика Олейникова. <...> Здесь автор далеко отошел
от своей боязни прекрасного и поэтичного в его общепринятом понима¬
нии, и поэтому появились цветок гвоздики, прекрасная рука, младенец,
разглядывающий пятнышки на крыльях мотылька, и возник интерес к ню¬
ансам (полусогнутая рука, полуобнаженная грудь) и метрическим изыс¬
кам — и грудь ее полуобнажена. Но в том, к чему поэт пришел, не следует
видеть простое возвращение к традиционным эстетическим принципам,
которые он не признавал: то, что Олейников начал делать, пропущено че¬
рез эстетику авангардизма и оплодотворено ею» (Полякова: 59).
Примечания [481]
10 (С. 290).
Жан-Франсуа де Труа. Лот с дочерьми. Ветхозаветная тема (Быт.
19:30—35). «Старец Лот, облаченный в красную мантию, сидит в пещере
на ложе. Одна из его дочерей, совершенно нагая, сидит возле него спра¬
ва, склонилась головою к нему на грудь и положила свою правую ногу к не¬
му на колени. Другая дочь Лота, сидящая позади него налево, льет вино из
стеклянного сосуда в золотую чашу, которую старец держит в правой, под¬
нятой вверх, руке <...> Налево, вдали, виден город Содом, объятый пламе¬
нем» (Сомов: 110).
Реплика С. Поляковой по поводу этого ст-ния: «Библейский сюжет пе¬
редается с недоумением человека, незнакомого с Библией и дивящегося
вольному поведению персонажей Священной книги <...> Слова "оголен¬
ный живот" вместо "нагое чрево" и «"устроился" вместо какого-нибудь ме¬
нее бытового глагола тоже содействуют господству общей сниженной ат¬
мосферы» (Полякова: 59).
Жан Франсуа де Труа (1679—1752), французский живописец.
Сюжет с архангелами на картине отсутствует.
11 (С. 291).
У одного портрета/ Была за рамой спрятана монета — реминисценция
из «Портрета» Н. Гоголя. Сохранились мемуары о том, как Олейников
читал последнее четверостишие, придавая ему тем самым статус от¬
дельного ст-ния. См.: ВС. С. 91.
113—115 (С. 291).
Эти три ст-ния из к/ф "На отдыхе" публикуются впервые по фонограм¬
ме фильма. (См.: http://my.mai4.ru/mail/fabri-62/video/8588/15453.html)
Возможно, они были написаны в соавторстве с Е. Л. Шварцем. На этот
фильм наше внимание обратил киновед П. Багров, которому приносим ис¬
креннюю благодарность.
3 (С. 292).
Финал этого ст-ния можно соотнести с финалом позднейшей пьесы
Е. Шварца «Тень» (1940).
116 (С. 293). БП. С. 160.
Адресат — возможно, художница Вера Артемьевна Дражевская (Драж-
ко) (1912—1994).
Примечания [482]
В ст-ние подставлялось также имя «Лидочка» (Чуковская). См. о ней
примеч. к ст-нию № 38.
117 (С. 293). БП. С. 161.
Адресат — Сергей Львович Цимбал (1907—1978), критик, театровед,
брат Л. Жуковой (см. примеч. к ст-нию № 78), входил в ОБЭРИУ.
118 (С. 294). БП. С. 162.
Буревого дочь — т. е. дочь драматурга Михаила Буревого (псевд. Давида
Михайловича Левина).
119 (С. 294). БП. С. 163.
06 этом ст-нии см.: ВС. С. 209—210
По 0. Юрьеву, в этом и других своих поздних ст-ниях Олейников «ре¬
шился поставить личность — себя-говорящего — в центр стихотворения,
написанного в деперсонализированном синтаксисе, разработанном "ав¬
торитетами бессмыслицы". И это удалось, хотя не должно было удаться»
(Юрьев: 325).
120 (С. 295). БП. С. 164.
См. схожую концовку в ст-нии № 58.
121 (С. 295). БП. С. 165.
Комментарий Наринса к этому ст-нию: «Это похоже на осторожный,
ускромненный вариант вдохновения. Смутные, неразгаданные душевные
происшествия подсказывают не только верные слова для подачи наших
идей, но и самые идеи. Отчетливость сознательного — обман, человек не
может знать с уверенностью даже то, чего он хочет. Только написав сти¬
хи, может поэт понять, что он в них хотел сказать» (Нарине: 265).
122—132 (С. 296).
4 (С. 297).
В этом фрагменте, так же как в ст-нии № 76, изображается вивисектор,
но отношение поэта к нему — совсем другое, уважительное.
7 (С. 297).
Борис Петрович Чирков (1901—1982), артист, снимался в фильмах по
сценариям Н. Олейникова и Е. Шварца.
Примечания [483]
II. поэмы
133 (С. 303). БП. С. 171—174.
По предположению В. Москвина, в поэме полемически «переписывает¬
ся» «Евгений Онегин» А. Пушкина: восемь ее главок соответствуют восьми
главам пушкинского романа (см.: БП: 246—247).
См. комментарий Поляковой к этому тексту: «По содержанию и тону
"Вулкан и Венера" ближе всего к жанру ирои-комического эпоса, особен¬
но к майковскому "Елисею, или раздраженному Вакху". Здесь и там герои,
"когда покров свой ночь распространила", как сказано у Майкова, или,
согласно Олейникову, когда "спустился вечер", забираются в спальню —
у Майкова некой купчихи, у Олейникова богини Венеры, повторяя эпизод
посещения Зевсом Данаи; и у Олейникова ситуация даже в такой детали,
как разразившаяся неожиданно гроза, напоминает свой образец — даль¬
ний (миф) и близкий — Майкова:
Тогда ужасный вихрь со всех сторон набег;
Остановилася гроза над самым домом,
Наполнился весь дом блистанием и громом!
Над крышкою его во мраке страх повис,
Летят и дождь, и град, и молния на низ. <...>
Поэма, несмотря на множество великолепных стиховых находок <...>
не может быть причислена к удачам Олейникова и все же остается только
анахронистической шуткой» (Полякова: 59—60).
134 (С. 307). БП. С. 177—182.
Об этой поэме см.: ВС. С. 210—211.
С. Полякова рассуждает о натурфилософских взглядах Олейникова
и сравнивает поэму со стихами Заболоцкого: «Восприятие природы, явля¬
ющей под грубой материальной корою, условно говоря, божественные ло¬
госы, отражения высшей действительности, внушает человеку любовь ко
всем тварям, бок о бок с которыми он живет, и увеличивает в его глазах
их ценность. Согласно пониманию Олейникова, другие живые существа по
меньшей мере равноценны человеку, потому что, как и он, носители боже¬
ственных идей. Такой антиантропоцентрический взгляд, в отличие от хо¬
лодного, эмоционально незаинтересованного басенного отношения к пер¬
сонажам, носителям лишь обобщенных положений, резко отличает пьесы
Олейникова от литературных жанров с теориоморфными действующими
лицами. Вовлекая его сюжеты в широкий гуманитарный контекст <...> по¬
Примечания [484]
эма обнаруживает столь ощутимое приближение к искусству обэриутов,
что "Пучину страстей" свободно можно было бы атрибутировать Заболоц¬
кому. Сдвиг в направлении обэриутов дает себя знать фронтально — в те¬
матике, мировидении, <...> стилистических средствах и реминисценциях
<...> в известной форме в особенного рода зауми, встречающейся в по¬
эме» (Полякова: 42, 60—61).
Та же С. Полякова приводит параллели из Заболоцкого («Меркнут зна¬
ки зодиака...») к поэме Олейникова:
Ведьма, сев на треугольник,
Превращается в дымок...
Спит корова, муха спит,
Над землей луна висит,
Над землей большая плошка
Опрокинутой воды...
(Полякова: 54—55).
Туз червей, здесь, по-видимому, луна. Символическое значение туза чер¬
вей — счастье.
Пришествие мидян — мидянами именовались народы древней страны,
располагавшейся в IX—IV вв. до н. э. в западной части Иранского на¬
горья.
мних (устар.) — монах.
древляне — вост.-слав. племя, сформировавшееся в VI—VII вв.
III. КОЛЛЕКТИВНОЕ
135 (С. 317). БП. С. 185.
Написано совместно с Д. Хармсом и Е. Шварцем. В1929 г. К. Чуковский
опубликовал в «Еже» начало ст-ния:
Залетела в наши тихие леса
Полосатая, усатая оса.
Укусила бегемотицу в живот.
Бегемотица...
Окончить ст-ние предлагалось читателям журнала. В потоке детских пи¬
сем Олейников, Шварц и Хармс прислали Чуковскому свой шуточный вари¬
ант концовки.
Примечания [485]
136 (С. 318). БП. С. 186—187.
Написано в соавторстве с Е. Шварцем. Об истории создания этого тек¬
ста см. в мемуарах сына Генриетты Левитиной, Вячеслава Домбровского:
«Однажды нам домой пришло письмо. В нем была отпечатанная на машин¬
ке "Мать" — поэма в трех частях» (Домбровский: 41). Сюжет «поэмы» был
таков: в первой части мать «пошла укладывать спать детишек и сама заснула
вместе с ними, бросив гостя в одиночестве» (Там же). Во второй и третьих ча¬
стях история повторяется, но уже с другими гостями. В мемуарах приводит¬
ся еще несколько фрагментов «поэмы», запомнившихся Домбровскому-сыну:
Игнорируя слегка
Вежливости правила,
Генриетта старика
Одного оставила.
(Домбровский: 41)
...И предутренней порой
Злой, как аллигатор,
Укатил к себе домой
Бедный литератор.
(Домбровский: 41)
«В третьей части на столе стоял коктейль, а в роли обиженного был "ху¬
дожник Эль" — В. В. Лебедев» (Домбровский: 42).
Домбровский — Вячеслав Ромуальдович Домбровский (1895—1937), от¬
ветственный работник НКВД, муж Г. Левитиной (см. примеч. к ст-нию
№ 10). На углу Литейного проспекта и улицы Чайковского в Ленингра¬
де располагалось одно из зданий НКВД, в котором и находился каби¬
нет Домбровского.
Малютки — сыновья Домбровского и Левитиной — Ромуальд (см. примеч.
к ст-нию № 18) и Вячеслав (род. в 1930).
Вайнштейн — Григорий Исаакович Вайнштейн (1880—1940), дипломати¬
ческий агент Народного комиссариата иностранных дел (Наркоминдел)
в Ленинграде.
137 (С. 319). Случаи и вещи. Даниил Хармс и его окружение. Материалы
будущего музея. Каталог выставки в Литературно-мемориальном музее
Ф. М. Достоевского 8 октября - 5 ноября 2013 года / Сост. А. Л. Дми-
тренко. СПб., 2013. С. 145.
Примечания [486]
Адресат— Иван Иванович Греков (1867—1934) — хирург.
Написано совместно с Е. Шварцем.
Вариант ст. 1: «Я пришел вчера в больницу», ст. 5: «Закрутили, завя¬
зали», ст. 11—13: «Локтевую кость находит / Лучевой невдалеке. / Пле¬
чевую удаляет...», ст. 19: «Ты умеешь всё поправить», ст. 21: «Честь имею
вас поздравить».
В финале ст-ния перефразируется неприличный фольклорный стишок:
«Птичка какает на ветке, / Баба ходит срать в овин. / Разрешите Вас по¬
здравить / Со днем Ваших именин».
138 (С. 320). БП. С. 191.
Написано совместно с Е. Шварцем во время Первого съезда писателей
в Москве (август 1934 г.).
Вариант заглавия ст-ния: «Бюджет развратника».
139 (С. 320). БП. С. 192.
Написано совместно с Е. Шварцем в честь актрисы Янины Болесла¬
вовны Жеймо (1909—1988). О ее работе в фильмах по сценариям Шварца
и Олейникова см.: ВС. С. 175—176.
IV. ПРИПИСЫВАЕМОЕ
140 (С. 323). БП. С. 195.
141 (С. 324). БП. С. 196.
Об Александре Любарской см. примеч. к ст-нию № 39.
142 (С. 324). БП. С. 197.
V. ПРОЗА
143 (С. 329). Новый Робинзон. 1925. № 15—16. С. 48—50.
144 (С. 331). Советские ребята. 1926. Вып. 3. С. 19—35. Подпись:
С. Кравцов.
145 (С. 351). Отд. изд.: Макар Свирепый. Кто хитрее? М., 1927. С. 3—31.
146 (С. 359). Отд. изд.: Н. Макаров. Без рук, без топорёнка построена из¬
бёнка.—Л., 1928. С. 1—10.
Примечания [487]
147 (С. 363). Отд. изд.: Н. Макаров. Живые загадки. Л., 1928. С. 1—10.
148 (С. 368). Советские ребята. 1928. Вып. 4. С. 3—9. Подпись: И. Каров.
149 (С. 376). Еж. 1928. № 3. С. 15—19.
150 (С. 383). Еж. 1928. № 4. С. 18—19.
151 (С. 386). Еж. 1928. № 5. С. 15—20.
Впоследствии рассказ печатался под заглавием «Индийская голова».
152 (С. 393). Отд. изд.: <Н.> Олейников. Первый Совет. Л., <б. г.>. С. 1—16.
153 (С. 401). Еж. 1928. № 10. С. 6—9.
154 (С. 406). Отд. изд.: Н. Олейников. Танки и санки. Л., 1928. С. 1—24.
Адресат посвящения — Мария Михайловна Иоффе (1896—1989), жур¬
налистка, работница ГИЗа.
155 (С. 412). Отд. изд.: Макар Свирепый. Хитрые мастеровые. Л., 1929. С. 3—15.
156 (С. 416). Отд. изд.: Макар Свирепый. Блошиный учитель. Л., 1930. С. 3—15.
157 (С. 420). Чиж. 1934. № 1. С. 8—10.
158 (С. 422). Чиж. 1935. № И. С. [0]—4.
159 (С. 425). Чиж. 1936. № 5. С. 4—12.
160 (С. 431). Отд. изд.: Н. Олейников Портрет. М.; Л., 1937. С. 1—16.
Олег Лекманов, Михаил Свердлов
[488]
Литература
Алянский — Алянский С. Встречи с Александром Блоком. М., 1972.
Амстердам — Амстердам А. Болотное и Заболоцкий // Резец. 1930. №4.
Андроников 1984 — Андроников И. Николай Алексеевич // Воспомина¬
ния о Н. Заболоцком. М., 1984.
Андроников 1985 — Андроников И. А теперь об этом. М., 1985.
Аннотация — Книга детям. 1928. № 2. Февр.
Асеев — Асеев Н. Сегодняшний день советской поэзии // Красная Новь.
1932. № 2. Февр.
Анохина — Анохина К. «Сверчок» и его обычаи // Детская литература.
1937. №9. Май.
Афиногенов—Афиногенов А. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М., 1977.
Ахутин—АхутинА. Понятие «природа» в античности и Новое время. М., 1988.
Бабушкина 1937а — Бабушкина А. «Чиж» и «Мурзилка» // Детская лите¬
ратура. 1937. № 7. Апр.
Бабушкина 19376 — Бабушкина А. «Чиж» // Детская литература. 1937.
№8. Апр.
Баевский — Баевский В. «Я не был лишним»: Из воспоминаний о Б. Я. Бух-
штабе// Четвертые Тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы
для обсуждения. Рига, 1988.
Бахтерев, Разумовский — Бахтерев ИРазумовский А. 0 Николае Олей¬
никове // День поэзии. Л., 1964.
Бегак — Бегак Б. Маршак // Литературная газета. 1934. 20 апр.
Литература [489]
Бегак 1935 — Бегак £. Как оценивать стихи для детей // Детская литера¬
тура. Изд. критико-библиографич. ин-та. 1935. № 12.
Безбородов — Безбородов С. Редактор С. Маршак //Литературный Ленин¬
град. 1935. 26 мая.
Берггольц 1932а — Берггольц 0. Книга, которую не разоблачили // На¬
ступление. 1932.16 марта.
Берггольц 19326 — Берггольц 0. Книга, которую не разоблачили // На¬
ступление. 1932. 22 марта.
Биневич — Биневич Е. Евгений Шварц: хроника жизни. СПб., 2008.
Блюм — Блюм А. Поэт под цензурным прессом // Звезда. 1998. № 7.
Богданович — Богданович Г. Агитация в детской литературе // Детская
литература. Критич. сб. М.; Л., 1931.
Богданович С. — Богданович С. То, что запомнилось (Из встреч с Заболоц¬
ким) // Воспоминания о Н. Заболоцком. М., 1984.
Болотин, Смирнова — Болотин С., Смирнова В. Детская книга в рекон¬
структивный период//Литературная газета. 1929.16 дек.
БП — Олейников Н. Стихотворения и поэмы. СПб., 2000. (Новая библио¬
тека поэта.)
Васильев — Васильев С. Стихи. М., 1937.
Введенский — Введенский А. Всё. М., 2010.
Вич — Вич. У ленинградских писателей //Литературная газета. 1937.5 авг.
Воробей — Воробей. 1923. № 1.
Галеев 2013 — Галеев И. Материалы к биографии Петра Ивановича Со¬
колова: письма, документы, интервью, записи, воспоминания // Петр
Иванович Соколов. 1892—1937. Материалы к биографии, живопись,
графика, сценография. М., 2013.
Галковский — Галковский Д. Бесконечный тупик. М., 1998.
Галушкин — Галушкин А. Дискуссия о Б. А. Пильняке и Е. И. Замятине
в контексте литературной политики конца 1920-х — начала 1930-х гг.
Автореф— канд. филол. наук. М., 1997.
Гаспаров 2001 — Гаспаров М. Записи и выписки. М., 2001.
Гаспаров 2001а — Гаспаров М. Маршак и время // Гаспаров М. 0 русской
поэзии. Анализы, интерпретации, характеристики. СПб., 2001.
Гельштейн — Гельштейн А. Еж — ежемесячный детский журнал, орган
Ц. Б. юных пионеров главсоцвоса и Ленингр. облбюро ДК0 1928—
29 г.г. ГИЗ // Красная газета. Вечерний выпуск. 1929.16 марта.
Герасимова — Герасимова А. 0БЭРИУ (проблема смешного) // Вопросы
литературы. 1988. №4.
Гернет — Гернет Н. 0 Хармсе: (Заметки к вечеру памяти Д. И. Хармса. Мо¬
сква, 1976 год) // Нева. 1988. № 2.
Литература [490]
Гинзбург — Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002.
Глоцер 1987 — Глоцер В. «Верный раб твоих велений...»: Стихи Николая
Олейникова / Вступ. заметка и публ. Владимира Глоцера // Вопросы
литературы. 1987. № 1.
Глоцер 2012 — Глоцер В. Вот такой Хармс! Взгляд современников. М., 2012.
Глоцер, Дурново — Глоцер В., Дурново М. Мой муж Даниил Хармс. М., 2000.
Гор — Гор Г Волшебная дорога: Роман. Повести. Рассказы. Л., 1978.
Горелов — Горелов А. Распад сознания // Стройка. 1930. № 1.13 марта.
Гофман — Гофман В. Старое и новое в детских журналах // Детская лите¬
ратура. Критич. сб. М.; Л., 1931.
Гринберг 1925 — Гринберг А. Книги бывшие и книги будущие (Для ма¬
леньких детей) // Печать и революция. 1925. № 5/6.
Гринберг 1929 — Гринберг А. По страницам детской книги // Учительская
газета. 1929. И июня.
Громова — Громова Н. Распад. Судьба советского критика: 40-е — 50-е го¬
ды. М., 2009.
Декларация — Дитрих Ю., Олейников Н., Беленко, Кетлинская В. Декла¬
рация ленинградской группы детских писателей-коммунистов // Книга
детям. 1929. № 6. Дек.
Дело № 4246 — Следственное дело № 4246 — 31 г. 1931—1932 годы //
«...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липав-
ский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников. «Чинари» в текстах, доку¬
ментах и исследованиях: в 2-х тт. Т. 2. СПб., 2000.
Дмитриев —Дмитриев Н. Дельцы из Детиздата // Литературная газета.
1937. 5 сент.
Добин —Добин Е. Добрый волшебник// Нева. 1988. № И.
Домбровский —Домбровский В. «Ее глаза, воспетые не раз...». Tenafly, 2002.
Друскин 1999 —Друскин Я. Дневники. СПб., 1999.
Друскин 2010 -—ДрускинЯ. «Чинари»// Введенский А. Всё. М., 2010.
Дубянская — Дубянская М. 0 будущих писателях. Их письма // Резец.
1930. №23.
Дуганов —Дуганов Р. Из воспоминания о Н. И. X. // Поэзия и живопись.
Сб. трудов памяти Н. И. Харджиева. М., 2000.
Дымшиц— Дымшиц А. Поэт Николай Олейников//Дымшиц А. Избранные
работы: В 2 т. Т. 2. М., 1983.
Жаворонкова — Жаворонкова А. Журналы для младшего возраста // Дет¬
ская литература. Изд. критико-библиографич. ин-та. 1935. №2.
Жердиновский, Леонов — Жердиновский Н., Леонов С. Проверить руко¬
водство парторганизации ленинградского отделения Союза писате¬
лей // Смена. 1937. 29 нояб.
Литература [491]
Жестокий романс — Русский жестокий романс: Сб. М., 1994.
Житков — <Житков Б.> Микро-руки // Еж. 1929. № 7.
Жукова — Жукова Л. Эпилоги. New York, 1983.
Заболоцкий Н. Н. — Заболоцкий Н. Жизнь Н. А. Заболоцкого. М., 1998.
Зеленая — Зеленая Р. Разрозненные страницы. М., 1981.
Зубковский 1931 — Зубковский И. За ЛОКАФОВСКУЮ детскую книгу //
Книга молодежи. 1931. № 11.
Зубковский 1933 — Зубковский И. Обзор журнала «Еж» за первое полу¬
годие 1933 г. №1—7 //Детская литература. Изд. критико-библиогра-
фич. ин-та. 1933. №9. Сент.
Ивановский — Ивановский Р. Новые кадры // Учительская газета. 1930.
4 февр.
Иконников — Иконников И. «Боевые дни» // Книга и профсоюзы. 1929. № 1.
Каверин — Каверин В. Вечерний день: Письма. Встречи. Портреты. М., 1982.
Кальм 1929 — Кальм Д. Против халтуры в детской литературе. «Куда нос
его ведет?»//Литературная газета. 1929.16 дек.
Кальм 1929а — Кальм Д. Факты и автографы // Литературная газета.
1929. 30 дек.
Кальм 1930 — Кальм Д. Псевдо-диспут о детской книге: (На докладе
т. Разина в Доме печати) //Литературная газета. 1930.13 янв.
Караваева — Караваева А. 0 книгах С. Маршака // На литературном по¬
сту. 1931. № 24. Авг.
Каров И. — Каров И. <0лейников Н.> Соль // Советские ребята. 1928. Вып. 4.
Кичанова-Лившиц — Кичанова-Лившиц И. Прости меня за то, что я жи¬
ву. New York, 1982.
Кобринский — Кобринский А. Даниил Хармс и Николай Олейников на дис¬
куссии о формализме 1936 года // Russian Studies. Ежеквартальник
русской филологии и культуры. 1996 (1998). Vol. И. №4.
Кобринский, Мейлах — Кобринский А., Мейлах М. Неудачный спектакль //
Литературное обозрение. 1990. №9.
Коваленкова — Елизавета Сергеевна Коваленкова вспоминает// Введен¬
ский А. Всё. М., 2010.
Козинцев — Козинцев Г. Янина Жеймо // Искусство кино. 1936. № 4. Апр.
Коломаров — Коломаров Б. «Разбудите Леночку» // Вечерняя Красная га¬
зета. 1935. 28 янв.
Кон 1937 — Кон Л. Юмор в детской литературе // Литературная газета.
1937. 5 февр.
Кон — Кон Л. Библиотека «Детиздата» //Литературная газета. 1937.20 июля.
Конашевич — Конашевич В. 0 себе и своем деле: Воспоминания. Статьи.
Письма. М., 1968.
Литература [492]
Конисская — Конисская М. Вокруг — океан бедствий. А мы смеялись //
Общая газета. 1995. 6—12 июля. № 27 (103).
Коняев — Коняев Н. Дни забытых глухарей. Документальная повесть о пи¬
сателе Николае Олейникове // Молодая гвардия. 1994. № 11.
Коровенко — Коровенко А. Из новой беллетристики для детей // Вожа¬
тый. 1928. №5. Март.
Кравец и др. — Кравец Е.,Липовская-Щукарева, Стуккей Л., Чернавская Л.,
Яковлев А. Т. Библиография // Просвещение. 1928. №6.
Крупская — Крупская Н. 0 «Крокодиле» К. Чуковского // Правда. 1928.
1 февр.
Культура и власть — Культура и власть от Сталина до Горбачева. Цензура
в Советском Союзе. 1917—1991. Документы / Сост. А. В. Блюм. М., 2004.
Купер — Купер. Н. Олейников Боевые дни // Детская литература. Бюлле¬
тень библиографич. ин-та. 1932. № 13.
Курдов — Курдов В. Памятные дни и годы: Записки художника. СПб., 1994.
Лесная — Лесная Л. ЫтуеребО // Красная газета (Веч. выпуск). 1928.
№24. 25 янв. [См. также: Введенский А. Полное собрание произведе¬
ний: В 2 т. Т. 2. М., 1993].
Либединский — Либединский Ю. Сегодня попутнической литературы //
Звезда. 1930. № 1.
Липавская — Липавская Т. Встречи с Николаем Алексеевичем и его дру¬
зьями // Воспоминания о Н. Заболоцком. М., 1984.
Липавский —ЛипавскийЛ. Исследование ужаса. М., 2005.
Лосев —ЛосевЛ. Ухмылка Олейникова// Олейников Н. Иронические сти¬
хи. New York, 1982.
Лукин 1991— Лукин Е. Дело Николая Олейникова // Аврора. 1991. № 7.
Лукин 2006 —-Лукин Е. Философия капитана Лебядкина// Нева. 2006. №4.
Луначарский — Луначарский А. Предисловие // Детская литература.
Критич. сб. М.; Л., 1931.
Любарская 1989 —Любарская А. Хуже, чем ничего // Нева. 1989. № 1.
Любарская 1990 — Любарская А. Как это было // Нева. 1990. № 10.
Любарская 1995 —Любарская А. За гранью прошлых дней. Заметки о Мар¬
шаке и его редакции // Нева. 1995. № 2.
Мандельштам — Мандельштам 0. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. М.,
1993—1997.
Мандельштам Н. — Мандельштам Н. Я. Вторая книга. М., 1999.
Марголина 1930а — Марголина С. Детский журнал будет («Искорка»,
«Еж») // За коммунистическое воспитание. 1930. № 15—16.
Марголина 19306 — Марголина С. Конфетки и ежики (о детском журна¬
ле) // Книга и революция. 1930. №28. Ноябрь.
Литература [493]
Маршак — Маршак С. Дом, увенчанный глобусом // Новый мир. 1968. № 9.
Матвеев, Олейников — Матвеев В., Олейников Н. Американское «процве¬
тание», как оно есть // Красная газета. Вечерний выпуск. 1930. № 298.
18 дек.
Мейлах 1993 — МейлахМ. Предисловие // Введенский А. Полное собра¬
ние произведений: В 2 т. Т. 1. М., 1993.
Мейлах 1999 — Мейлах М. Примечания // Хармс Д. Дней катыбр: Избран¬
ные стихотворения. Поэмы. Драматические произведения. М., 1999.
Мейлах 2006 — МейлахМ. Oberiutana historica, или «История обэриутове-
дения. Краткий курс», или краткое «Введение в историческое обэриу-
товедение» // Тыняновский сборник. Вып. 12. Десятые — Одиннадца¬
тые —■ Двенадцатые Тыняновские чтения. Исследования. Материалы.
СПб., 2006.
Минц — Минц К. Обэриуты // Вопросы литературы. 2001. № 1.
Между молотом и наковальней —■ Между молотом и наковальней. Союз
советских писателей СССР: Документы и комментарии. Т. 1. М., 2001.
Мордерер, Петровский — Русский романс на рубеже веков / Сост. В. Мо-
дерер, М. Петровский. Киев, 1997.
Москвин — Москвин В. Мотивы произведений Г. Р. Державина в творче¬
стве Н. М. Олейникова //Державинские чтения. СПб., 1997. Вып. 1.
Назаров, Чубукин — Назаров ВЧубукин С. Последний из ОБЭРИУ // Род¬
ник. 1987. №12.
Нарине — Нарине Дж. В. Олейников и наука // Научные концепции двад¬
цатого века и русское авангардное искусство. Белград, 2011.
Народный учитель — Народный учитель. 1929. №4. Апр.
Недзвецкая — Недзвецкая В. Список рекомендуемых детских книг // Кни¬
га детям. 1929. № 2/3. Авг.
Незнамов — Незнамов П. Система девок// Печать и революция. 1930. №4. Апр.
Нигер — Нигер. Веселая книжка и «веселые» детские писатели //Литера¬
турная газета. 1933.17 окт.
Нильвич — Нильвич Л. Реакционное жонглерство. Об одной вылазке ли¬
тературных хулиганов // Смена. 1930. 8 апр. [См. также: Введенский А.
Полное собрание произведений: В 2 т. Т. 2. М., 1993].
Одоевцева — Одоевцева И. На берегах Невы. На берегах Сены. М., 2007.
Олейников 1925 — Олейников Н. Кохутек // Новый Робинзон. 1925.
№ 15—16. 30 сент.
Олейников 1925а — Олейников Н. Младшие свидетели Октября // Новый
Робинзон. 1925. №18. Окт.
Олейников 1926 — Олейников Н. НОЖ пионера// Советские ребята. Сбор¬
ник для детей. № 1. М.; Л., 1926.
Литература [494]
Олейников 1926а — Олейников Н. НОЖ пионера // Советские ребята.
Сборник для детей. № 2. М.; Л., 1926.
Олейников 19266 — С. Кравцов <0лейников Н.> Боевые дни // Советские
ребята. Сборник для детей старшего возраста. № 3. М.; Л., 1926.
Олейников 1928 — Олейников Н. Прохор Тыля // Еж. 1928. №4.
Олейников 1934а — Олейников Н. На дошкольную тему // Литературный
Ленинград. 1934. 27 авг.
Олейников 19346 — Олейников Н. Удивительный праздник. Л., 1934.
Олейников 1934в — Олейников Н. Полет парашютиста Евсеева // Чиж.
1934. №1.
Олейников 1935 — Олейников Н. В октябрьскую ночь // Чиж. 1935. № 11.
Олейников А. 1998 — Олейников А. «В архив к делу» // Нева. 1998. № 11.
Олейников А. 2000 — Олейников А. Страницы жизни поэта // Олейни¬
ков Н. М. Стихотворения и поэмы. СПб., 2000.
Олейников А. 2000а — Олейников А. Последние дни Николая Олейни¬
кова // «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский,
Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников. «Чинари» в тек¬
стах, документах и исследованиях: В 2 т. Т. 2. СПб., 2000.
Павлович — Павлович Н. «Стихи» А. Введенского // Детская литература.
1940. №9.
Пантелеев 1966 — Пантелеев Л. Живые памятники. Л., 1966.
Пантелеев 2013 — Пантелеев Л. Из записных книжек (1948—1978) //
Звезда. 2013. №8 = http://magazines.russ.rU/zvezda/2013/8/7p.html
Паперная — Паперная Э. В редакции «Всероссийской кочегарки» //
Шварц Е. Житие сказочника. Из автобиографической прозы. Письма.
Воспоминания о писателе. М., 1991.
Патреев-Мещеряк — Патреев-МещерякА. «Еж» залез в джунгли // Ниже¬
городский просвещенец. 1931. № 10. Окт.
ПВ — Олейников Н. Прочь воздержание: Стихотворения. Поэмы. СПб., 2011.
Петров — Петров В. Даниил Хармс// Панорама искусств. Вып. 13. М., 1990.
Покровская — Покровская А. Основные течения в современной детской
литературе. М., 1927.
Полякова — Полякова С. «Олейников и об Олейникове» и другие работы
по русской литературе. СПб., 1997.
Поэты «ОБЭРИУ» — Поэты группы «ОБЭРИУ». СПб., 1994.
Пунин — Пунин Н. Мир светел любовью: Дневники и письма. М., 2000.
Разгон — Разгон Л. Непридуманное // Юность. 1988. № 5.
Разин 1931 — Разин И. По пути наибольшего сопротивления (К очеред¬
ным задачам детской литературы) // Книга молодежи. 1931. № 9.
Литература [495]
Разин 1931а — Разин И. Детская книга в реконструктивный период //
1 всероссийская конференция по детской литературе. 2—6 февр.
1931 г. <М.,> 1931.
Разгром ОБЭРИУ — Разгром ОБЭРИУ: материалы следственного дела //
Октябрь. 1992. № И.
Рауш-Гернет—Рауш-ГернетЭ. Нина Гернет—человек и сказочник. СПб., 2007.
Рахтанов 1966 — Рахтанов И. Рассказы по памяти. М., 1966.
Рахтанов 1968 — Рахтанов И. Был это человек яркого таланта // Детская
литература. 1968. №4.
Рашевский — Рашевский П. Диалог (Антикредо) // Антропология и куль¬
тура. М., 2002.
Рашковская 1928 — РашковскаяА. Детская поэзия С. Маршака // Красная
газета. 1928.15 дек. Вечерний выпуск.
Рашковская 1929 — Рашковская А. Детская книга // Жизнь искусства.
1929.8сент. №36.
Риникер — Риникер И. «И я был облит серной кислотой»: к вопросу
о творческом поведении Николая Олейникова // Вестник молодых уче¬
ных. Гуманитарные науки. М., 1999. № 1.
Ронен — Ронен 0. Персонажи-насекомые у Олейникова и обэриутов //
Эткиндовские чтения I. Сб. статей по материалам Чтений памяти
Е. Г. Эткинда (27—29 июня 2000). СПб., 2003.
Сборище друзей — «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Вве¬
денский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников. «Чинари»
в текстах, документах и исследованиях: В 2 т. СПб., 1998.
Свердлов — Свердлов А. Против «старушек» и «крокодилов» // Юный ком¬
мунист. 1930. №4. Февр.
Свердлова —- Свердлова К. Маршак С. Война с Днепром // Детская литера¬
тура. Бюллетень критико-библиографич. ин-та. 1932. №7.
Семенов — Семенов Б. Время моих друзей. Л., 1982.
Серебряников — Серебряников А. Золотые зайчики на полях детской лите¬
ратуры // Смена. 1931.15 нояб.
Силина —• Силина Г. Тропою совести //Литературная газета. 1986.10 дек.
Слонимский 1924 — Слонимский М. ...Машина Эмери. <Л.,> 1924.
Слонимский 1966 — Слонимский М. Книга воспоминаний. М.; Л., 1966.
Соболев — Соболев А. Пишущая машинка в русской поэзии. Заметки к те¬
ме // История литературы. Поэтика. Кино: Сб. в честь М. 0. Чудаковой.
М., 2012.
Сомов — Сомов А. Каталог картинной галереи. Ч. И: Нидерландская и не¬
мецкая живопись. СПб., 1902.
Литература [496]
Степанов — Степанов Н. Из воспоминаний о Н. Заболоцком // Воспомина¬
ния о Н. Заболоцком. М., 1984.
Сулин — Сулин И. Краткое описание станиц Области войска Донского //
Донские епархиальные ведомости. 1891. № 17.
Сухорукое — Сухорукое В. Статистическое описание Земли донских каза¬
ков, составленное в 1822—1832 гг. Новочеркасск, 1891.
Тарасенков — Тарасенков А. Поэт и муха // Литературная газета. 1934.
№ 165.10 дек.
Тименчик — Тименчик Р. «Руки брадобрея» // Тименчик Р. Что вдруг. Ста¬
тьи о русской литературе прошлого века. М.; Иерусалим, 2008.
Тынянов — Тынянов Ю. Корней Чуковский // Воспоминания о Корнее Чу¬
ковском. М., 1977.
Улановская — Улановская £. «Может ли солнце рассердиться на инфу¬
зорию...» (Достоевский и творчество поэтов «Объединения реально¬
го искусства») // Достоевский и мировая культура: Альманах. №1.
Ч. III. СПб., 1993.
Устинов —Устинов А. Дело Детского сектора Госиздата 1932 года (предвари¬
тельная справка) // Михаил Кузмин и русская культура XX века. Л., 1990.
Учительская газета — <Без подписи>. За подлинную советскую литерату¬
ру // Учительская газета. 1930.4 февр.
Филиппов — Филиппов Г. 0 традициях Достоевского в советской поэзии 20-х—
30-х годов: Капитан Лебядкин и обэриуты // Научная конференция, по-
свящ. 150-летию Ф. М. Достоевского и Н. А. Некрасова. Краткое содер¬
жание докладов. Новгород, 1971.
Флейшман — Флейшман Л. Маргиналии к истории русского авангарда
(Олейников, обэриуты)//Олейников Н. Стихотворения. Bremen, 1975.
Флерина — Флерина Е. С ребенком надо говорить всерьез //Литературная
газета. 1929. № 37. 30 дек.
Фрадкин — Фрадкин Г. «Танки и санки» // Правда. 1935. № 95. 6 апр.
Ханин 1930а — Ханин Д. Борьба за детского писателя // Книга детям.
1930. № 1.
Ханин 19306 — Ханин Д. Основные вопросы детской литературы // Звез¬
да. 1930. №3.
Харджиев 2000 — Мейлах М. «Человек, очень сродный поэзии...»: Из
разговоров с Н. И. Харджиевым // Поэзия и живопись. Сб. трудов памя¬
ти Н. И. Харджиева. М., 2000.
Харджиев 2002 — Харджиев Н. Из последних записей / Публ. М. Мейла-
ха // Studi et scritti in memoria di Marzio Marzaduri. Padova, 2002.
Хармс 2000—Хармс Д. Старуха // Хармс Д. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 2.
СПб., 2000.
Литература [497]
Хармс 1990 — Дневниковые записи Даниила Хармса // Минувшее. Исто¬
рический альманах. Вып. И. М.; СПб., 1992.
Хармс 2002 —Хармс Д. Записные книжки. Дневник: В 2 ч. СПб., 2002.
Холодный —Холодный Т. <Рецензия на «Танки и санки»> //Локаф. 1932.
Кн. 2. Февр.
Хохлов 1935а — Хохлов М. Заметки о детских журналах. «Чиж»//Литера¬
турная газета. 1935. 25 июля.
Хохлов 19356 — Хохлов М. Заметки о детских журналах. «Еж» // Литера¬
турная газета. 1935. 9 авг.
Хроника — Хроника // Книга детям. 1928. № 2. Февр.
Цимбал — Цимбал С. Евгений Шварц: Критико-биографический очерк. Л., 1961.
Чарушин — Чарушин Е. Моя работа // Детская литература. Изд. критико-
библиографич. ин-та. 1935. №6.
Черненко — Черненко Г. «Я ему был рад так же, как и он мне» (Даниил
Хармс в письмах Бориса Житкова) // Хармсиздат представляет: Совет¬
ский эрос 1920-х — 1930-х годов. СПб., 1997.
Чудакова — Чудакова М. Москва — Петербург/Ленинград и русская бел¬
летристика советского времени. Соображения к теме // The real life of
Pierre Delalande. Studies in Russian and Comparative Literature to Honor
Alexandr Dolinin. P. 2. Stanford, 2007.
Чуковская 1962 —■ ЧуковскаяЛ. Маршак-редактор//Детская литература.
1962 год. Вып. 1. М., 1962.
Чуковский 1929 — Чуковский К. К спорам о детской литературе // Лите¬
ратурная газета. 1929. 30 дек.
Чуковский 1929а — Чуковский К. Тридцать заповедей для детских поэ¬
тов // Книга детям. 1929. № 1. Май.
Чуковский 1991 — Чуковский К. Дневник. 1901—1921. М., 1991.
Чуковский 1994 — Чуковский К. Дневник. 1930—1969. М., 1994.
Чуковский 2001 — Чуковский К. Собрание сочинений: В15 т. Т. 2. М., 2001.
Чуковский 2009 — Чуковский К. Собрание сочинений: В15 т. Т. 15. М., 2009.
Чуковский Н. — Чуковский Н. Литературные воспоминания. М., 1989.
Чукоккала — Чукоккала: Рукописный альманах Корнея Чуковского. М.,
2006.
Шаламов — Шаламов В. Собрание сочинений: В 4 т. Т.2. М., 1998.
Шапорина — Шапорина Л. Дневник. Т. 1. М., 2011.
Шатилов 1929 — Шатилов Б. 0 «Заповедях» Чуковского, о воскресении
Лазаря и о прочем // Книга детям. 1929. №4/5. Нояб.
Шатилов 1929а — Шатилов Б. Еж // Октябрь. 1929. № 12.
Шварц 1990 — Шварц £. «Живу беспокойно...» (Из дневников). Л., 1990.
Литература [498]
Шварц 1991 — Шварц Е. Житие сказочника: Из автобиографической про¬
зы. Письма. Воспоминания о писателе. М., 1991.
Шишкевич — Шишкевич М. Литература для детей и оппортунистическая
критика // Земля Советская. 1931. № 8. Авг.
Шишман — Шишман С. Несколько веселых и грустных историй о Данииле
Хармсе и его друзьях. Л., 1991.
Шкловский 1935 — Шкловский В. Введенский А. Кто? // Детская литера¬
тура. Изд. критико-библиографич. ин-та. 1935. №5.
Шкловский 1937 — Шкловский В. О юморе, героике детской книги и о ха¬
рактерах (по поводу статьи тов. Пантелеева) // Детская литература.
1937. №8. Апр.
Шубинский — Шубинский В. «Прекрасная махровая глупость»: Лидия
Гинзбург, обэриуты и Бенедиктов // НЛО. №49. 2001.
Штейн — Штейн А. Повесть о том, как возникают сюжеты //Знамя. 1964. № 5.
Шумов — Шумов В. Художник яркого дарования // Дон. 1979. № 6.
Эйхенбаум — Эйхенбаум Б. Как сделана «Шинель» Гоголя // Эйхенба¬
ум Б. 0 поэзии: 0 прозе. Сб. статей. Л., 1986.
Экспромты обэриутов — «За стол садяся рядом с девой...»: Экспромты
обэриутов / Публ. и подг. к печати В. Глоцера // Крокодил. 1989. № 36.
Эренбург — Эренбург И. Бабель был поэтом... // И. Бабель. Воспоминания
современников. М., 1972.
Юрьев — Юрьев 0. Заполненное зияние — 2 // НЛО. №89. 2008.
Юрьева — Юрьева А. «Чиж» // Детская литература. 1936. № 10.
[499]
Алфавитный указатель
стихотворений
Алисе («Однажды, яблоко вкусив...») 228
«Анучкин Никанор Иваныч...» (4) 282
«Ах, Мура дорогая...» (Муре Шварц) 216
«Бабочка, Бабочка, где же ваш папочка?..» (Разговор Жука с Бабочкой;
Жук-антисемит. 6-я картинка) 280
<Баллада о Джоне и Джеке> («Смотрите и слушайте представление...»;
<Три песни из к/ф «На отдыхе»>, 3) 292
«Был такой веселый, милый...» (<Романс героини>; <Три песни
из к/ф «На отдыхе»>, 2) 292
Басни (1—2) 251
«Без одежды и в одежде...» (Послание артистке одного из театров) 252
«Берите вилку в руку левую...» (Правила хорошего тона для гостей Рины
Зеленой) 233
«Блестит вода холодная в бутылке...» (Послание) 261
«Бойся, Заболоцкий...» 286
Больному («В глазах как бы моргание...») 293
«Борис Чирков, тебе...» (<Фрагменты>, 7) 297
Ботанический сад («В Ботанический сад заходил...») 267
Бублик («0 бублик, созданный руками хлебопека!..») 250
Быль, случившаяся с автором в ЦЧО (Стихотворение, бичующее разврат)
(«Пришел я в гости, водку пил...») 256
«В Ботанический сад заходил...» (Ботанический сад) 267
Алфавитный указатель [500]
«В глазах как бы моргание...» (Больному) 293
В картинной галерее (Мысли об искусстве) (1—11) 287
«В лесу не стало мочи...» (Разговор Жука с Бабочкой; Жук-антисемит.
3-я картинка) 280
«В обширном гроте, в глубине его...» (Нимфы (картина Абрагама
ван Кейленборха; В картинной галерее (Мысли об искусстве), 3) 287
«В просторном помещении со сводами сидит...») (Притча о работниках
в винограднике (картина художника Конинка); В картинной галерее
(Мысли об искусстве), 5) 288
«В пурпуровой мантии в черной норе...» (Ну и ну!; В картинной галерее
(Мысли об искусстве), 10) 290
«В раскинутой поддеревом палатке...» (Художника запамятовал;
В картинной галерее (Мысли об искусстве), 6) 289
«В твоих глазах мелькал огонь...» 321
«В убогой горнице перед пылающим камином...» (Пьяница (картина
Красбека); В картинной галерее (Мысли об искусстве), 4) 288
«В чертогах смородины красной...» (Из жизни насекомых) 276
Вале Шварц («Вы вот, Валя, меня упрекали...») 235
«Великие метаморфические силы...» (<Фрагменты>, 2) 296
«Верный раб твоих велений...» (Шуре Любарской) 241
Верочке («Верочка, Верочка!..») 293
«Весел, ласков и красив...» (Детские стихи) 215
«Веществ во мне немало...» (Послание, бичующее ношение длинных
платьев и юбок) 240
«Влюбленный в Вас...» (<Посвящение>) 264
«Возле ягоды морошки...» (Тамаре Григорьевне) 269
«Воображения достойный мир передо мною расстилался...»
(<Фрагменты>, 8) 298
«Воробей — еврей...» (Разговор Жука с Бабочкой; Жук-антисемит.
7-я картинка) 281
«Вот как начнешь подумывать да на досуге размышлять...» (2) 282
«Вот как начнешь подумывать да на досуге размышлять...» (8) 283
«Вот муха бежит по дороге...» (Убийство) 230
«Вот птичка жирная на дереве сидит...» (На день рождения Т<амары>
Г<ригорьевны> Г<аббе>) 269
«Вот эти граждане бегущие спешат навстречу императору...» (6) 283
«Все мы знаем...» 322
«Всё перечисленное вы...» (7) 283
«Все пуговки, все блохи, все предметы что-то значат...» (Озарение) 249
Вулкан и Венера (Мифологическое) (Поэма; 8 частей) 301
Алфавитный указатель [501]
«Вчера представлял я собою роскошный сосуд...» (Послание
(На заболевание раком желудка)) 262
«Вы вот, Валя, меня упрекали...» (Вале Шварц) 235
Выводы и размышления («Эффект полуденного освещения...»;
В картинной галерее (Мысли об искусстве), 11) 291
Генриетте Давыдовне («Я влюблен в Генриетту Давыдовну...») 222
«Глебова Татьяна Николаевна! Вы...» (Татьяне Николаевне Глебовой) 236
«Графин с ледяною водою...» 294
«Да, Груня, да. И ты родилась...» (На день рождения Груни) 223
«Два сердитые субъекта...» (Прощание) 264
Деве («Ты, Дева, друг любви и счастья...») 231
«Дедушка плачет...» (<Песня юных пионеров>) 284
Детские стихи («Весел, ласков и красив...») 215
Дружба как результат вымогательства («Однажды Склочник...»; Басни, 2) 252
«Если б не было Наташи...» (Наташе) 225
«Если птичке хвост отрезать...» (Послание, одобряющее стрижку
волос) 253
Жалоба математика («Надоело мне в цифрах копаться...») 233
«Жареная рыбка...» (Карась) 216
«Жена-кобыла...» (Классификация жен) 232
«Жили в квартире...» 231
Жук («Ножками мотает...»; Жук-антисемит, 2-я картинка) 279
Жук-антисемит. Книжка с картинками для детей (Картинки 1—7) 279
Заведующей столом справок («Я твой! Ласкай меня, тигрица!..») 231
«Залетела в наши тихие леса...» 315
Затруднение ученого («Наливши квасу в нашатырь толченый...») 250
Зимняя жалоба Кузнечика («Ох, эти жидочки!..»; Жук-антисемит,
5-я картинка) 280
«И вот с тобой мы, Генриетта, вновь...» 227
«И пробудилося в душе его стремление...» (<Фрагменты>, 4) 297
«И солнышко не греет...» (Осенняя жалоба Кузнечика; Жук-антисемит,
4-я картинка) 280
Из жизни насекомых («В чертогах смородины красной...») 276
История болезни («Я вошел вчера в больницу...») 317
Алфавитный указатель [502]
К. И. Чуковскому от автора («Муха жила в лесу...») 229
Карась («Жареная рыбка...») 216
Классификация жен («Жена-кобыла...») 232
«Когда ему выдали сахар и мыло...» (Неблагодарный пайщик) 251
«Когда юннат, сачок в руке сжимая...» (<Марш юных натуралистов>) 286
«Колхозное движение...» 230
«Король Британии сидит на облаке...» (Портрет Иакова I (работы
Рубенса); В картинной галерее (Мысли об искусстве), 2) 287
Короткое объяснение в любви («Тянется ужин...») 222
Красавице, не желающей отказаться от употребления черкасского мяса
(«Красавица, прошу тебя, говядины не ешь...») 252
«Кто я такой?..» 224
Кузнечик («Что выражает маленький кузнечик?..») 268
«Кузнечик, мой верный товарищ...» 215
«Купил я дугу, колокольчик и кнут...» (<Песня цыгана>) 285
Лиде («Человек и части человеческого тела...») 263
Лиде (Надпись на книге) («Прими сей труд...») 277
Лиде (Семейству Жуковых) («Среди белых полотенец...») 277
Лидии («Потерял я сон...») 237
Любовь («Пищит диванчик...») 219
Любочке Брозелио («У Брозелио у Любочки...») 224
«Мадонна держит каменный цветок гвоздики...» (Описание еще одной
картины; В картинной галерее (Мысли об искусстве), 9) 289
<Марш юных натуралистов> («Когда юннат, сачок в руке сжимая...») 286
«Маршаку позвонивши, я однажды устал...» 279
Машинистке на приобретение пелеринки («Ты надела
пелеринку...») 226
«Меня изумляет, меня восхищает...» (Послание, бичующее ношение
одежды) 254
«Много лет тому назад жила на свете...» (Фруктовое питание) 243
Муре Шварц («Ах, Мура дорогая...») 216
Муре Шварц («Ты не можешь считаться моим идеалом...») 220
Муре Шварц («Я — мерзавец, негодяй...») 232
Муха («Я муху безумно любил!..») 273
«Муха жила в лесу...» (К. И. Чуковскому от автора) 229
«На всем скаку из пистолета...» (Опять военное; В картинной галерее
(Мысли об искусстве), 8) 289
Алфавитный указатель [503]
На выздоровление Генриха («Прочь воздержание. Да здравствует
отныне...») 260
На день рождения Груни («Да, Груня, да. И ты родилась...») 223
На день рождения Т<амары> Г<ригорьевны> Г<аббе> («Вот птичка жирная
на дереве сидит...») 269
«На пропасти краю...» 216
«На хорошенький букетик...» (Супруге начальника (На рождение
девочки)) 270
Надклассовое послание (Влюбленному в Шурочку) («Неприятно
в океане...») 257
«Надоело мне в цифрах копаться...» (Жалоба математика) 233
<Надпись на книге> («Танки и санки...») 264
«Налево и направо...» (<Песня юннатов>) 285
«Наливши квасу в нашатырь толченый...» (Затруднение ученого) 250
Наташе («Если б не было Наташи...») 225
Наука и техника («Я ем сырые корешки...») 250
«Наукою евгеникой...» 322
Начальнику отдела («Ты устал от любовных утех...») 227
Неблагодарный пайщик («Когда ему выдали сахар и мыло...») 251
«Невероятное событие!..» (1) 281
«Нежный лобик в преизбытке...» 294
«Неприятно в океане...» (Надклассовое послание (Влюбленному
в Шурочку)) 257
Несходство характеров («Однажды Витамин...»; Басни, 1) 251
«Неуловимы, глухи, неприметны...» 295
Нимфы (картина Абрагама ван Кейленборха) («В обширном гроте,
в глубине его...»; В картинной галерее (Мысли об искусстве), 3) 287
«Ниточка, иголочка...» (Посвящение) 221
«Ножками мотает...» (Жук; Жук-антисемит, 2-я картинка) 279
Ну и ну! («В пурпуровой мантии в черной норе...»; В картинной галерее
(Мысли об искусстве), 10) 290
«0 бублик, созданный руками хлебопека!..» (Бублик) 250
«0 ножки-птички, ножки-зяблики...» (Шурочке (На приобретение новых
туфелек)) 239
0 нулях («Приятен вид тетради клетчатой...») 278
«Однажды Витамин...» (Несходство характеров; Басни, 1) 251
«Однажды красавица Вера...» 237
«Однажды Склочник...» (Дружба как результат вымогательства;
Басни,2) 252
Алфавитный указатель [504]
«Однажды, яблоко вкусив...» (Алисе) 228
«Однажды, однажды...» (Чревоугодие (Баллада)) 245
Озарение («Все пуговки, все блохи, все предметы что-то значат...»)
249
Описание еще одной картины («Мадонна держит каменный цветок
гвоздики...»; В картинной галерее (Мысли об искусстве), 9) 289
Опять военное («На всем скаку из пистолета...»; В картинной галерее
(Мысли об искусстве), 8) 289
«Осенний тетерев-косач...» (<Фрагменты>, И) 298
Осенняя жалоба Кузнечика («И солнышко не греет...»; Жук-антисемит,
4-я картинка) 280
«От Нью-Йорка и до Клина...» 318
«Ох, эти жидочки!..» (Зимняя жалоба Кузнечика; Жук-антисемит,
5-я картинка) 280
Перемена фамилии («Пойду я в контору "Известий"...») 271
Перечень расходов на одного делегата («Руп...») 318
<Песня героя> («Под солнцем и ветром, где дышится шире...»; <Три песни
из к/ф «На отдыхе»>, 1) 291
<Песня цыгана> («Купил я дугу, колокольчик и кнут...») 285
<Песня юннатов> («Налево и направо...») 285
<Песня юных пионеров> («Дедушка плачет...») 284
«Пищитдиванчик...» (Любовь) 219
«Плодов и веток нумерация...» (<Фрагменты>, 10) 298
«Под солнцем и ветром, где дышится шире...» (<Песня героя>; <Три песни
из к/ф «На отдыхе»>, 1) 291
«Пойду я в контору "Известий"...» (Перемена фамилии) 271
«Половых излишеств бремя...» 233
Портрет военного («Через плечо висит на перевязи шпага, а на талии...»;
В картинной галерее (Мысли об искусстве), 1) 287
Портрет Иакова I (работы Рубенса) («Король Британии сидит на
облаке...»; В картинной галерее (Мысли об искусстве), 2) 287
<Посвящение> («Влюбленный в Вас...») 264
Посвящение («Ниточка, иголочка...») 221
Послание («Блестит вода холодная в бутылке...») 261
Послание (На заболевание раком желудка) («Вчера представлял я собою
роскошный сосуд...») 262
Послание артистке одного из театров («Без одежды и в одежде...») 252
Послание, бичующее ношение длинных платьев и юбок («Вещество
во мне немало...») 240
Алфавитный указатель [505]
Послание, бичующее ношение одежды («Меня изумляет, меня
восхищает...») 254
Послание, одобряющее стрижку волос («Если птичке хвост
отрезать...») 253
«Потерял я сон...» (Лидии) 237
«Почетный зритель, обрати внимание...» (3) 282
«Пришел я в гости, водку пил...» (Быль, случившаяся с автором в ЦЧО
(Стихотворение, бичующее разврат)) 256
Правила хорошего тона для гостей Рины Зеленой («Берите вилку в руку
левую...») 233
«Прими сей труд...» (Лиде (Надпись на книге)) 277
Притча о работниках в винограднике (картина художника Конинка)
(«В просторном помещении со сводами сидит...»; В картинной галерее
(Мысли об искусстве), 5) 288
«Приятен вид тетради клетчатой...» (О нулях) 278
«Прочь воздержание. Да здравствует отныне...» (На выздоровление
Генриха) 260
«Прошу вас обратить внимание...» (5) 282
Прощание («Два сердитые субъекта...») 264
«Птичка безрассудная...» 295
«Птичка малого калибра...» (Жук-антисемит, 1-я картинка) 279
Пучина страстей (Философская поэма) (Пролог, 5 частей, Финал) 305
Пьяница (картина Красбека) («В убогой горнице перед пылающим
камином...»; В картинной галерее (Мысли об искусстве), 4) 288
Разговор Жука с Бабочкой («Бабочка, бабочка, где же ваш папочка?..»;
Жук-антисемит, 6-я картинка) 280
Разговор Жука с Божьей коровкой («В лесу не стало мочи...»;
Жук-антисемит, 3-я картинка) 280
«Рассмотрим вещи те, что видим пред собою...» (<Фрагменты>, 3) 296
<Романс героини> («Был такой веселый, милый...»; <Три песни
из к/ф «На отдыхе»>, 2) 292
«Руп...» (Перечень расходов на одного делегата) 318
«С места на место...» (Я числа переношу с места на место; <Фрагменты>,
5) 297
Самовосхваление математика («Это я описал числовые поля...») 234
Служение науке («Я описал кузнечика, я описал пчелу...») 247
Смерть героя («Шумит земляника над мертвым жуком...») 266
Смерть Жука («Воробей — еврей...»; Жук-антисемит, 7-картинка) 281
Алфавитный указатель [506]
«Смотрите и слушайте представление...» (<Баллада о Джоне и Джеке>;
<Три песни из к/ф «На отдыхе»>, 3) 292
«Солнце скрылось за горой...» 236
«Среди белых полотенец...» (Лиде (Семейству Жуковых)) 277
«Среди фигурок можно различить военачальника...» (В картинной
галерее (Мысли об искусстве), 7) 289
Супруге начальника (На рождение девочки) («На хорошенький
букетик...») 270
Тамаре («Я стою в твоей прихожей...») 225
Тамаре Григорьевне («Возле ягоды морошки...») 269
«Танки и санки...» (<Надпись на книге>) 264
Таракан («Таракан сидит в стакане...») 274
Татьяне Николаевне Глебовой («Глебова Татьяна Николаевна! Вы...») 236
«Тихо горели свечи...» (<Фрагменты>, 6) 297
<Три песни из к/ф «На отдыхе»> (1—3) 291
«Ты надела пелеринку...» (Машинистке на приобретение пелеринки) 226
«Ты не можешь считаться моим идеалом...» (Муре Шварц) 220
«Ты устал от любовных утех...» (Начальнику отдела) 227
«Ты, Дева, друг любви и счастья...» (Деве) 231
«Тянется ужин...» (Короткое объяснение в любви) 222
«У Брозелио у Любочки...» (Любочке Брозелио) 224
«У мухи нету перьев. Зачем же я не муха?!.» (Шурочке) 268
Убийство («Вот муха бежит по дороге...») 230
«Улица Чайковского...» 316
«Утром съев конфету "Еж"...» 228
<Фрагменты> (1—11) 296
Фруктовое питание («Много лет тому назад жила на свете...») 243
Хвала изобретателям («Хвала изобретателям, подумавшим
о мелких...») 239
Художника запамятовал («В раскинутой поддеревом палатке...»;
В картинной галерее (Мысли об искусстве), 6) 289
«Целование шлет...» 224
Чарльз Дарвин («Чарльз Дарвин, известный ученый...») 266
«Человек и части человеческого тела...» (Лиде) 263
Алфавитный указатель [507]
«Через плечо висит на перевязи шпага, а на талии...» (Портрет военного;
В картинной галерее (Мысли об искусстве), 1) 287
«Четырехгранный красный стебель мяты...» (<Фрагменты>, 9) 298
Чревоугодие (Баллада) («Однажды, однажды...») 245
«Что выражает маленький кузнечик?..» (Кузнечик) 268
«Шумит земляника над мертвым жуком...» (Смерть героя) 266
Шуре Любарской («Верный раб твоих велений...») 241
Шурочке («У мухи нету перьев. Зачем же я не муха?!.») 268
Шурочке (На приобретение новых туфелек) («О ножки-птички,
ножки-зяблики...») 239
«Это я описал числовые поля...» (Самовосхваление математика) 234
«Эффект полуденного освещения...» (Выводы и размышления;
В картинной галерее (Мысли об искусстве), И) 291
«Я — мерзавец, негодяй...» (Муре Шварц) 232
«Я влюблен в Генриетту Давыдовну...» (Генриетте Давыдовне) 222
«Я вошел вчера в больницу...» (История болезни) 317
«Я ем сырые корешки...» (Наука и техника) 250
«Я муху безумно любил!..» (Муха) 273
«Я описал кузнечика, я описал пчелу...» (Служение науке) 247
«Я стою в твоей прихожей...» (Тамаре) 225
«Я твой! Ласкай меня, тигрица!..» (Заведующей отделом справок) 231
«Я числа наблюдаю чрез сильнейшее стекло...» (<Фрагменты>, 1) 296
Я числа переношу с места на место («С места на место...»; <Фрагменты>, 5)
297
Литературно-художественное издание
Олейников Николай Макарович
ЧИСЛО НЕИЗРЕЧЕННОГО
Ответственный редактор М. Амелин
Компьютерная верстка: С. Валишин
ОБЪЕДИНЕННОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
117105, Москва, Варшавское шоссе, д.З
Тел.: (495) 626-24-72; e-mail: izdatelstvo.ogi@yandex.ru
КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВ ОГИ И Б.С.Г.-ПРЕСС МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
В РОЗНИЦУ В МОСКВЕ
— Книжный магазин «Москва», м. «Пушкинская», «Тверская», ул. Тверская, д. 8.
Тел.: (495) 629-64-83, 797-87-17.
— ТД «Библио-Глобус», м. «Лубянка», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1.
Тел.: (495) 781-27-37.
— Московский до м книги, м. «Арбатская», ул. Новый Арбат, д. 8.
Тел.: (495) 789-35-91.
— Дом книги «Молодая Гвардия», м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28.
Тел.: (495) 238-50-01.
— Книжный магазин «Фаланстер», м. «Пушкинская», «Тверская»,
Малый Гнездниковский пер., д. 12/27.
Тел.: (495) 629-88-21.
В РОЗНИЦУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
— Санкт-Петербургский «Дом книги», м. «Невский проспект», «Гостиный двор»,
Невский проспект, д. 28.
Тел.: (812) 448-23-55.
— Сеть магазинов «Буквоед». Тел.: (812) 601-0-601.
— Книжный магазин «Все свободны», наб. Мойки, 28. Тел.: +7 (911) 977-40-47.
ОПТОМ
КД «Б.С.Г.-ПРЕСС», Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 3.
Тел. (495) 626-24-72
«А. Симпозиум», Санкт-Петербург, 20-я линия В. 0., д. 5/7.
Тел. (812) 325-66-61.
Наши книги в электронном формате можно найти по адресу:
www.bibliorossica.com/publishers.html
ISBN 978-5-94282-721-2
9 785942 8272
Подписано в печать 25.03.2016. Гарнитура OfficinaSans.
Формат 60x90 у1б. Объем 32 печ. л. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Тираж 1000 экз. Заказ № 9833.
Отпечатано с электронных носителей издательства. ш
ОАО "Тверской полиграфический комбинат”, 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5. Ж