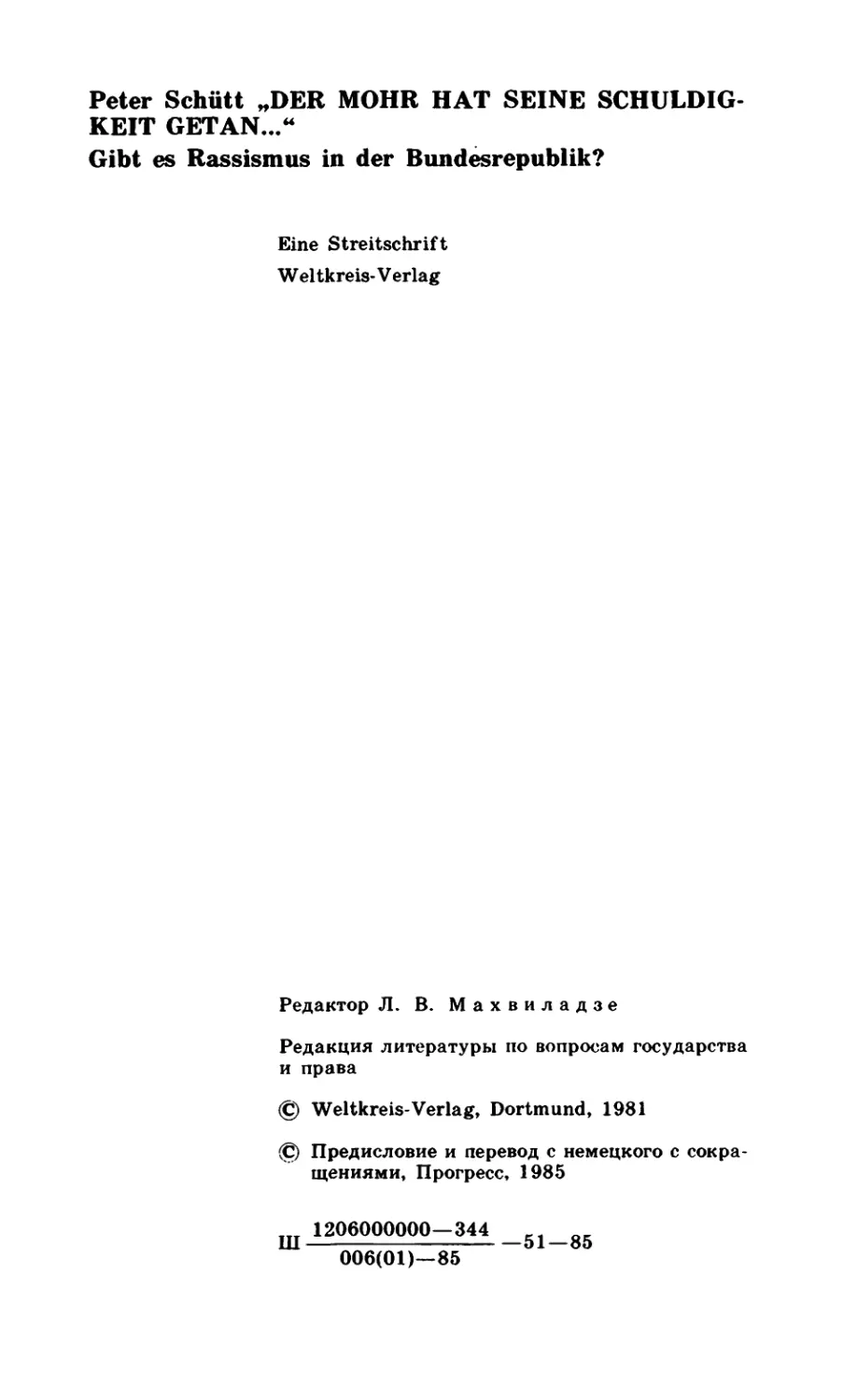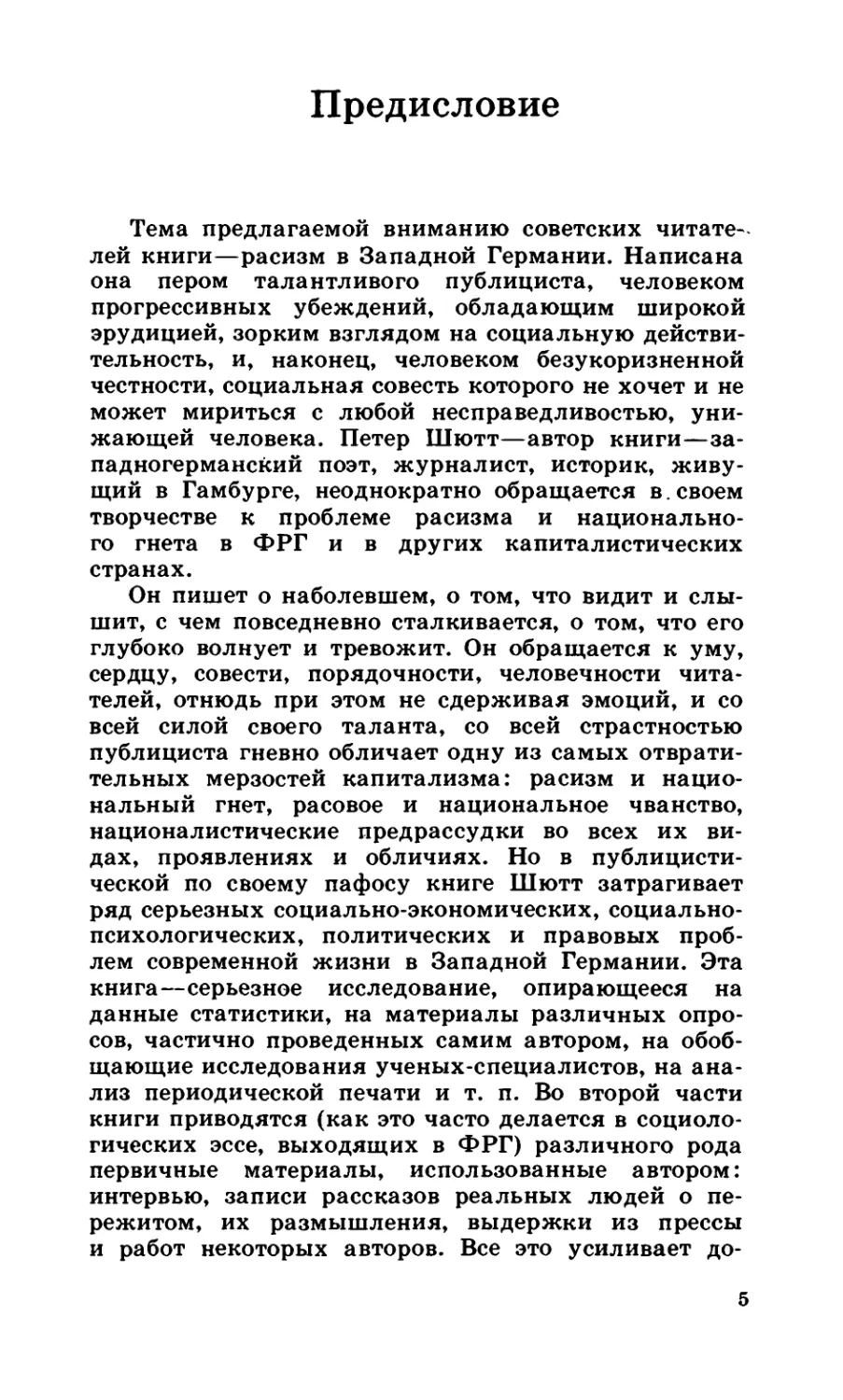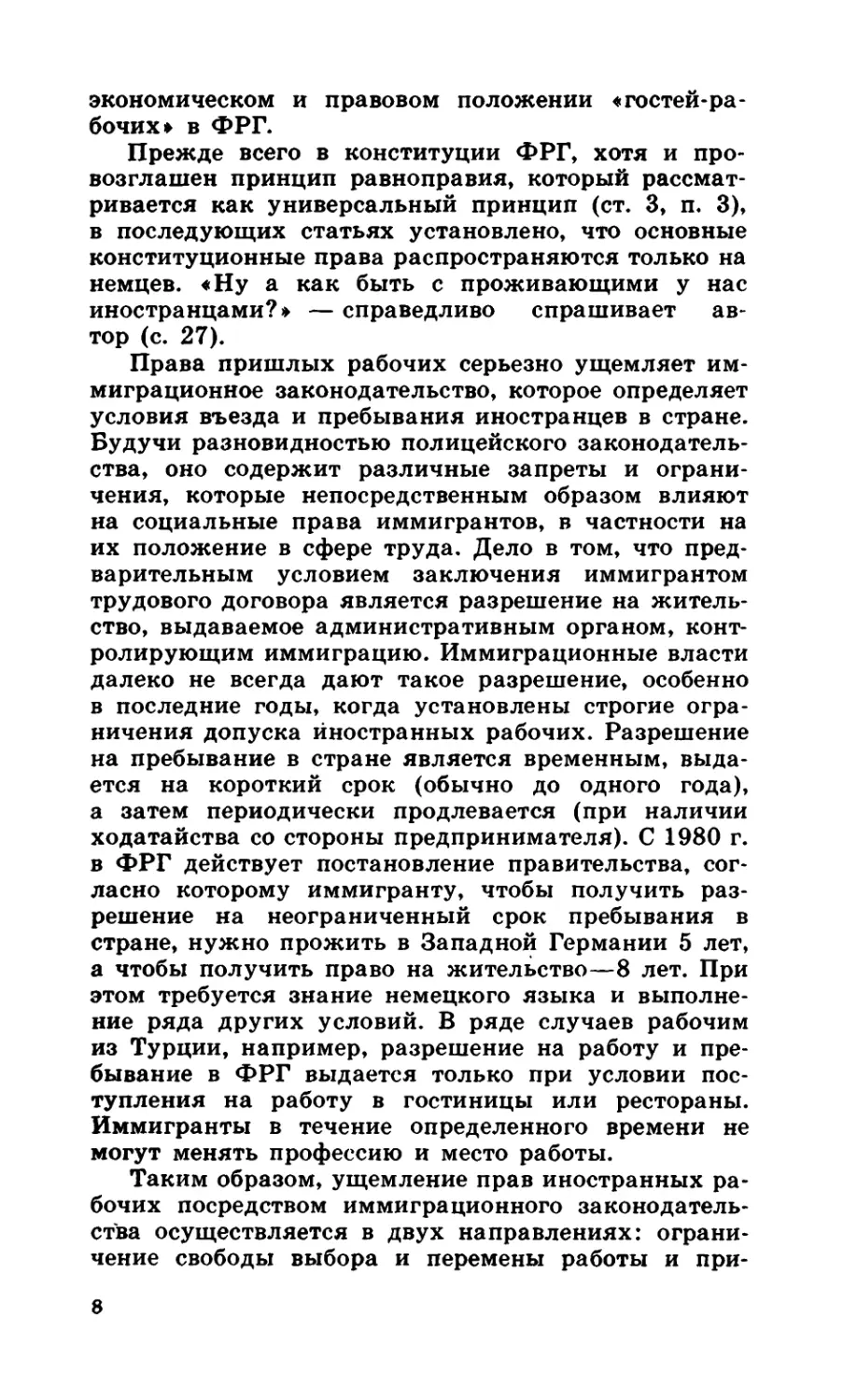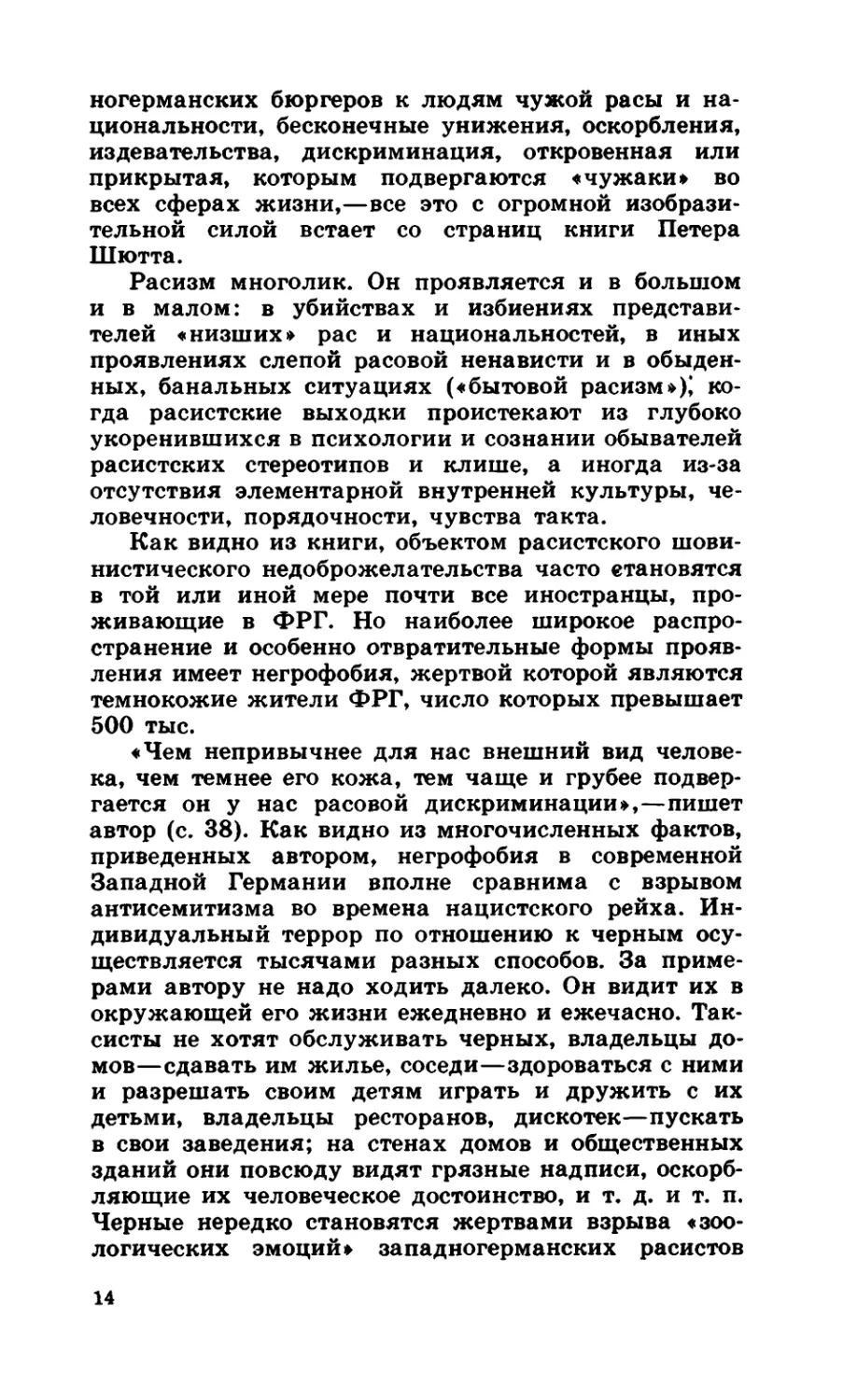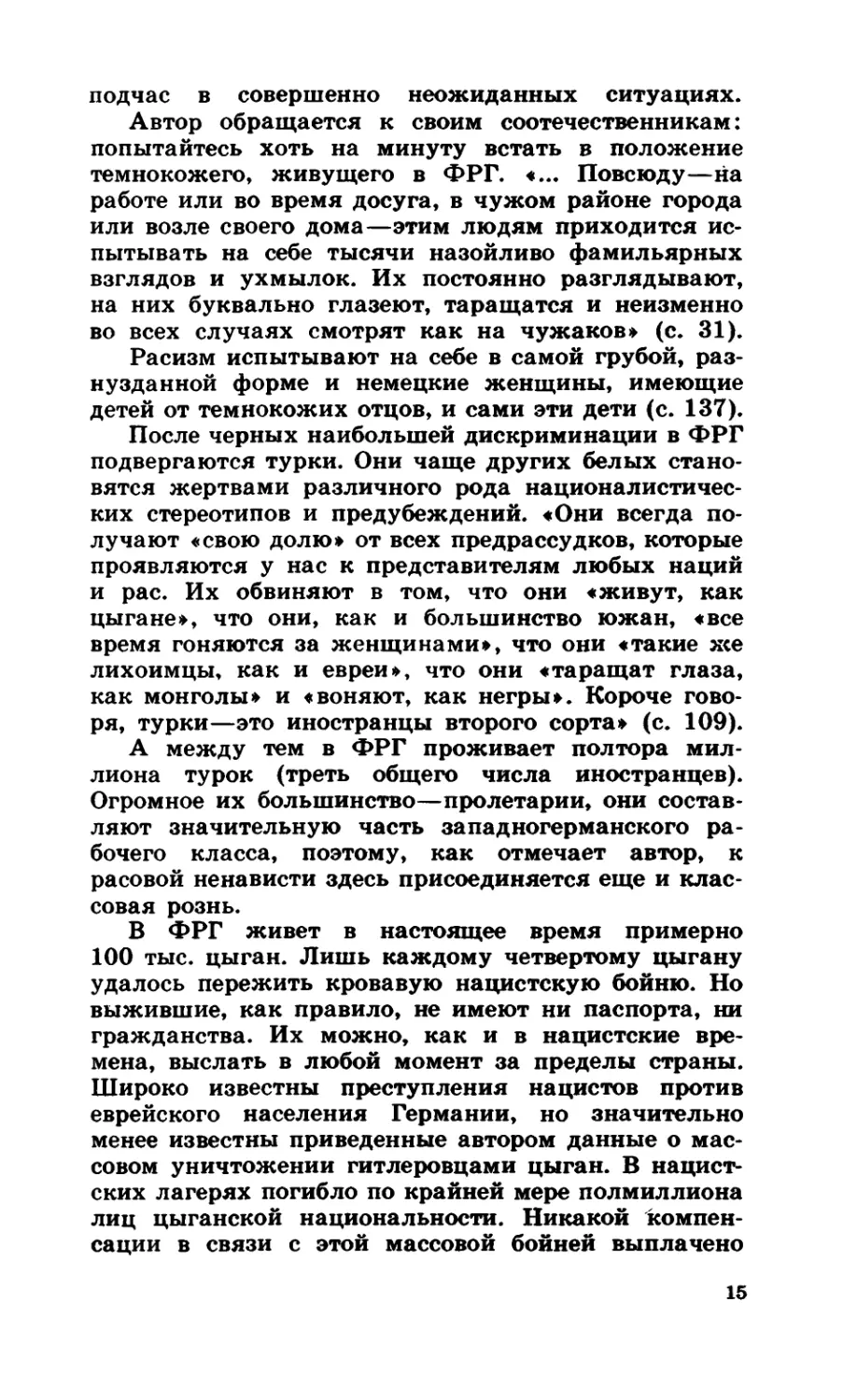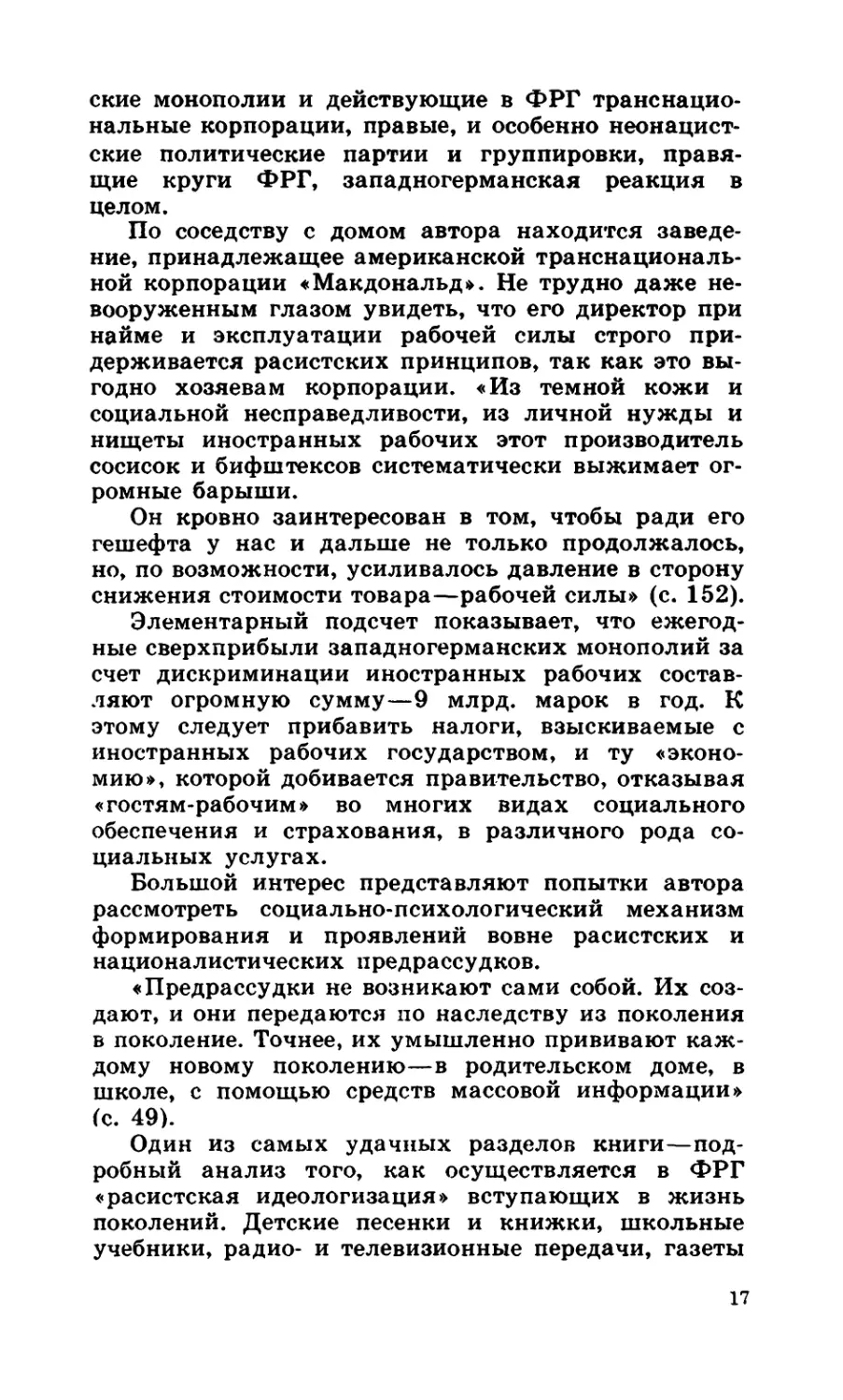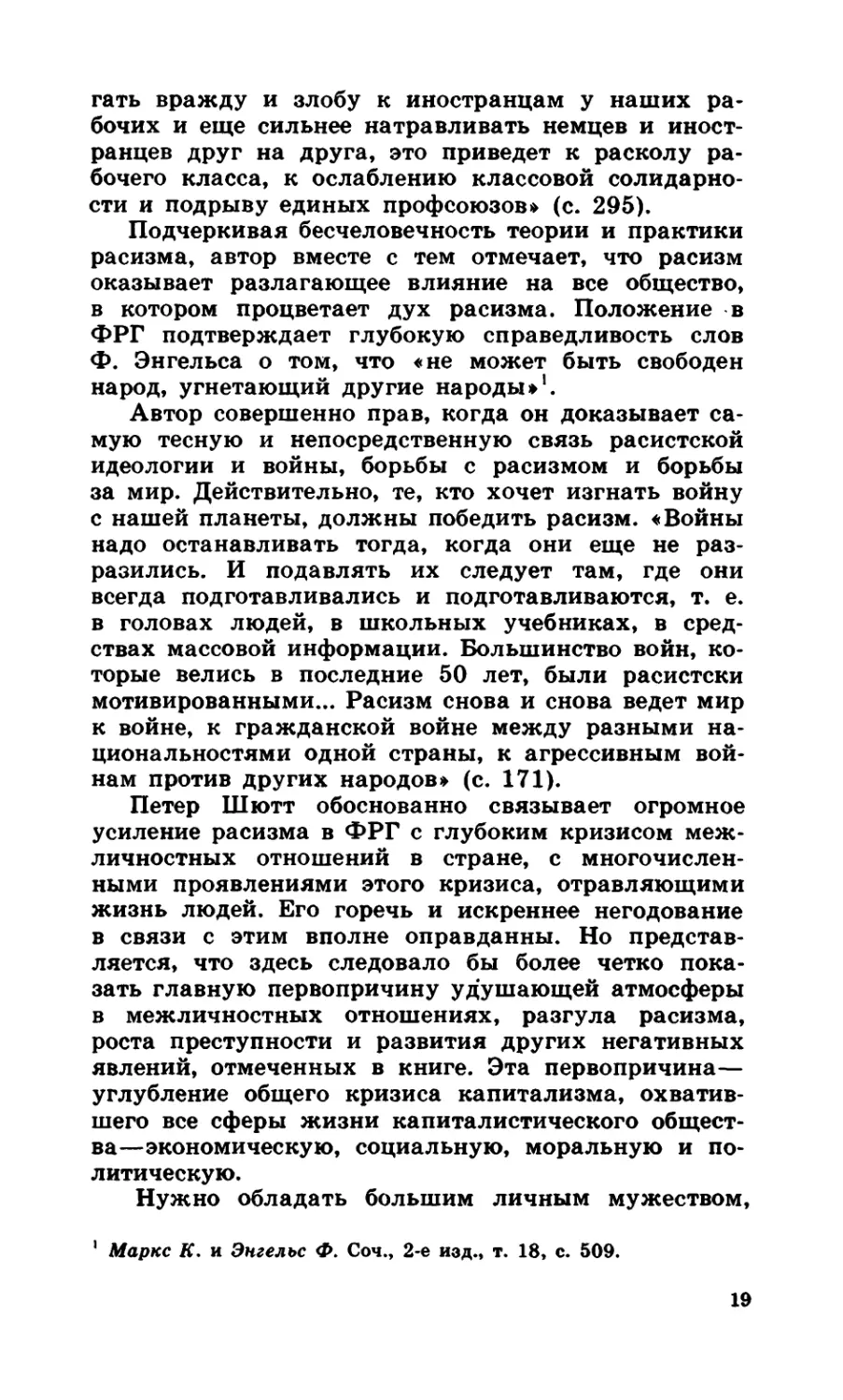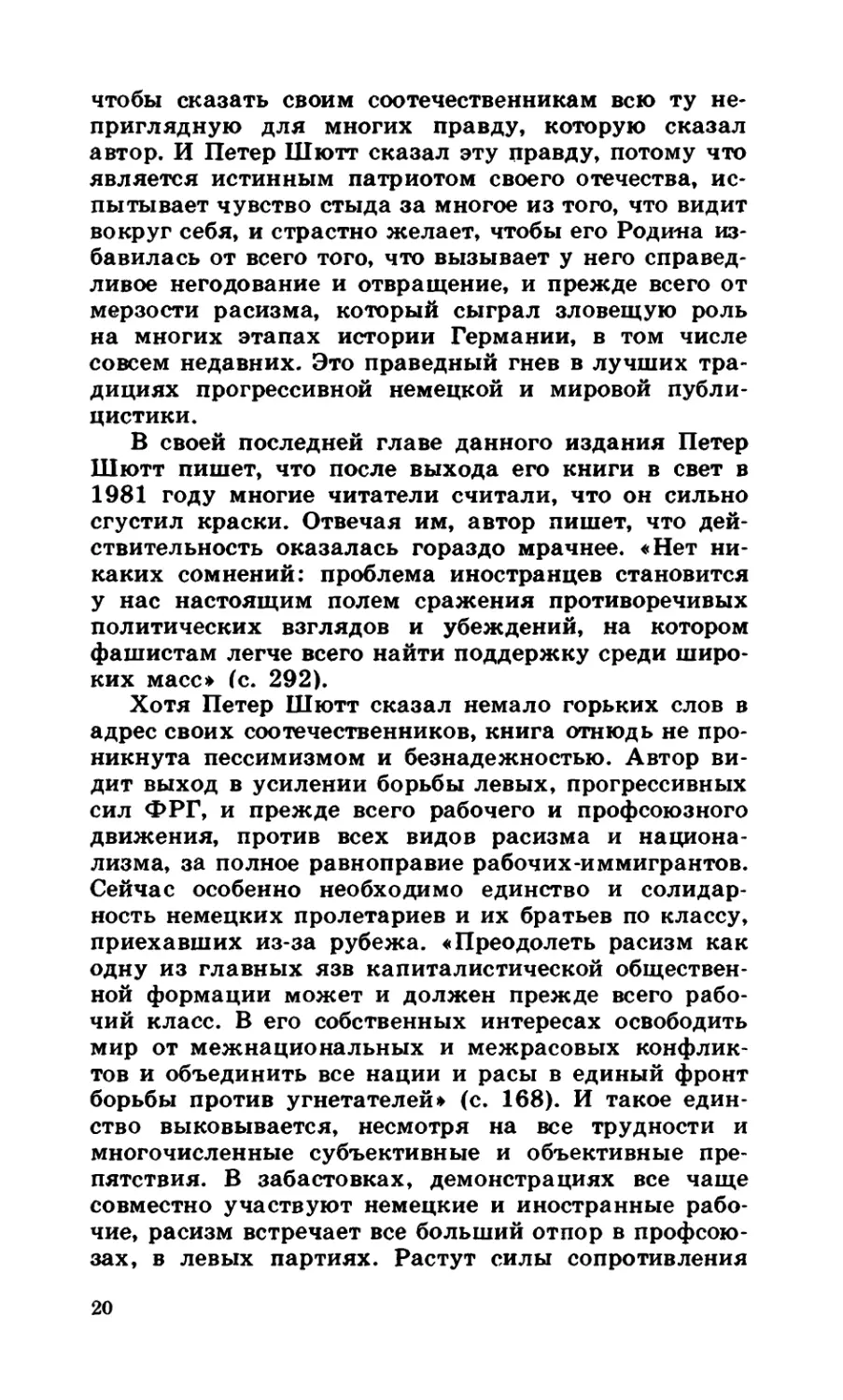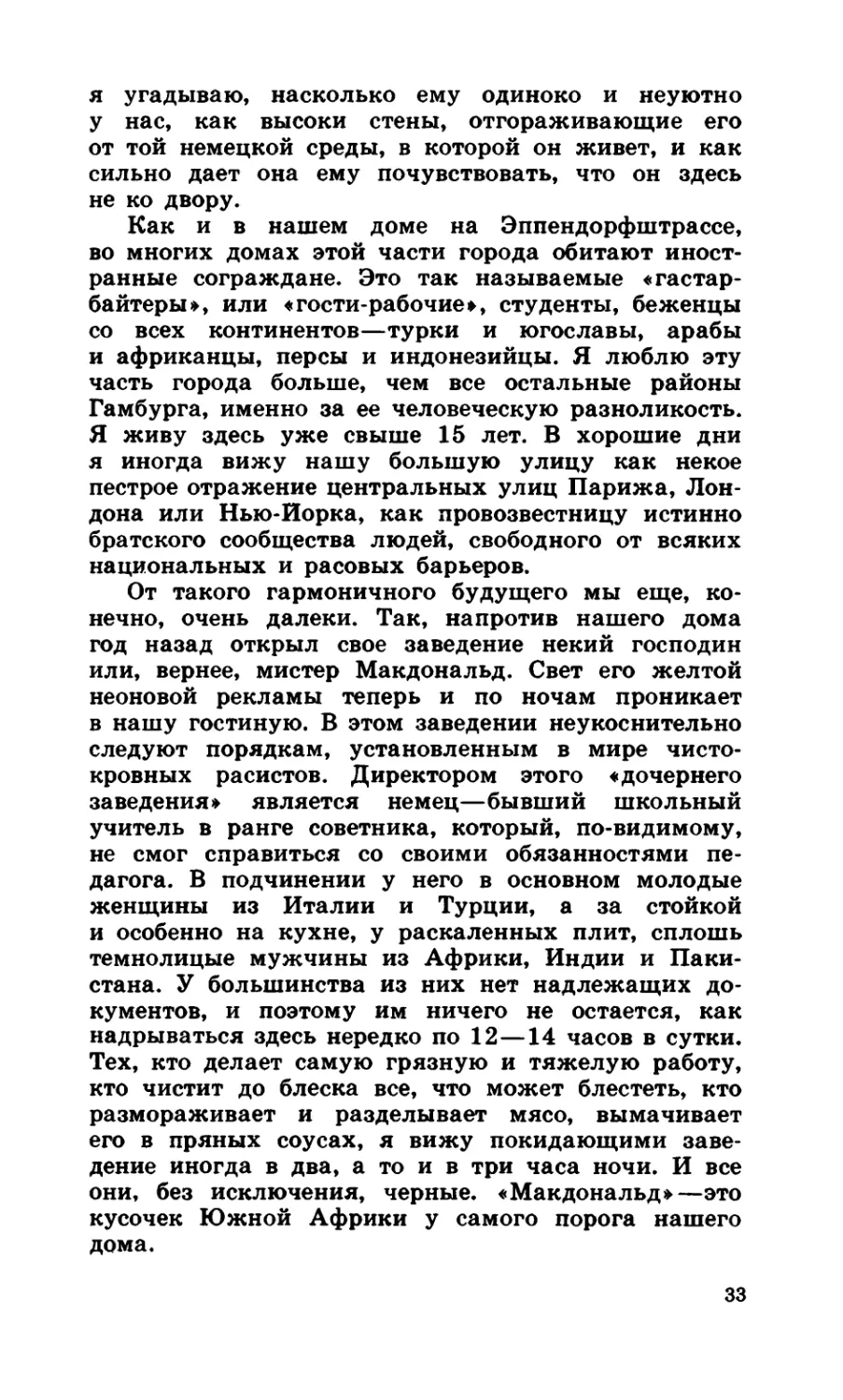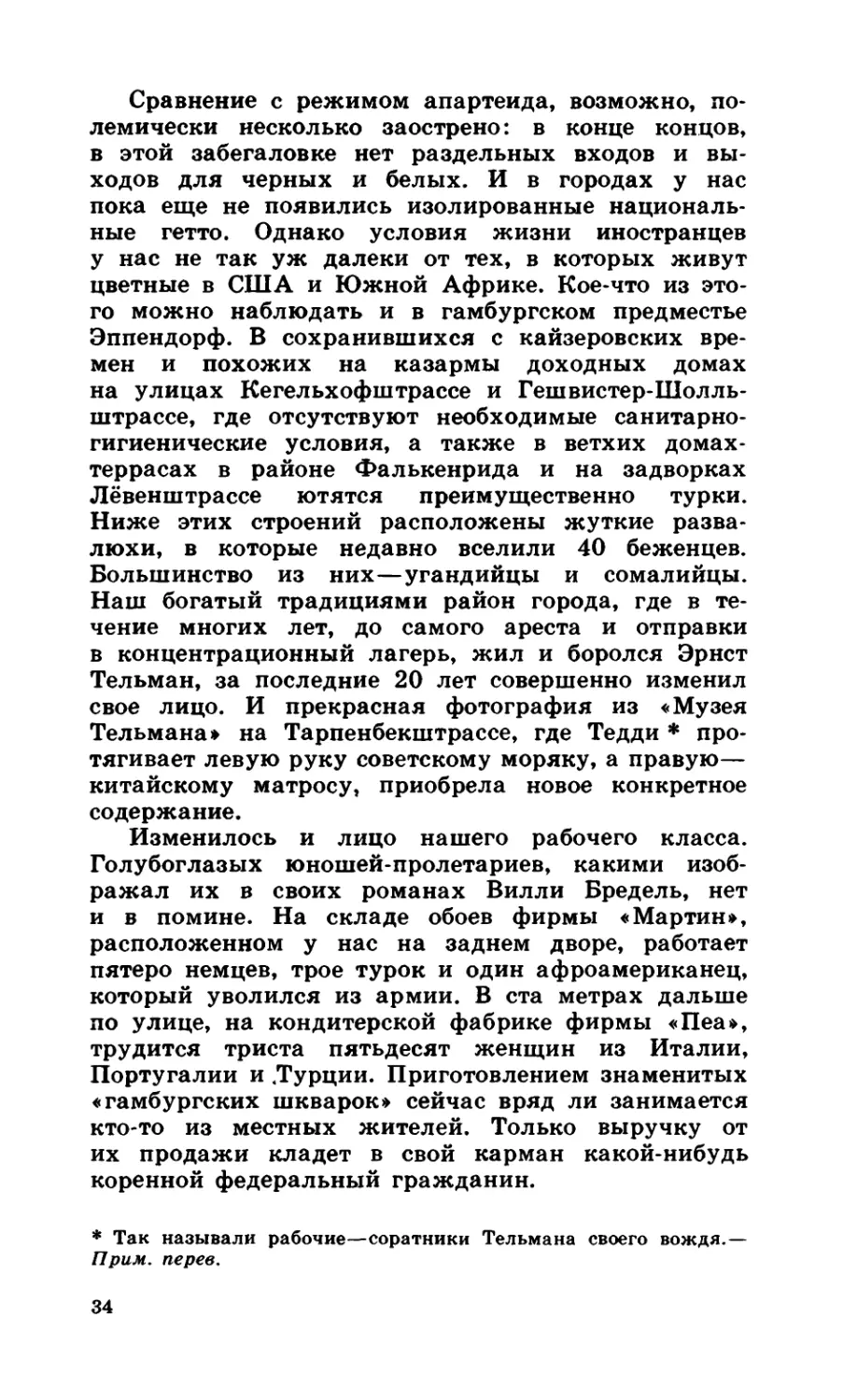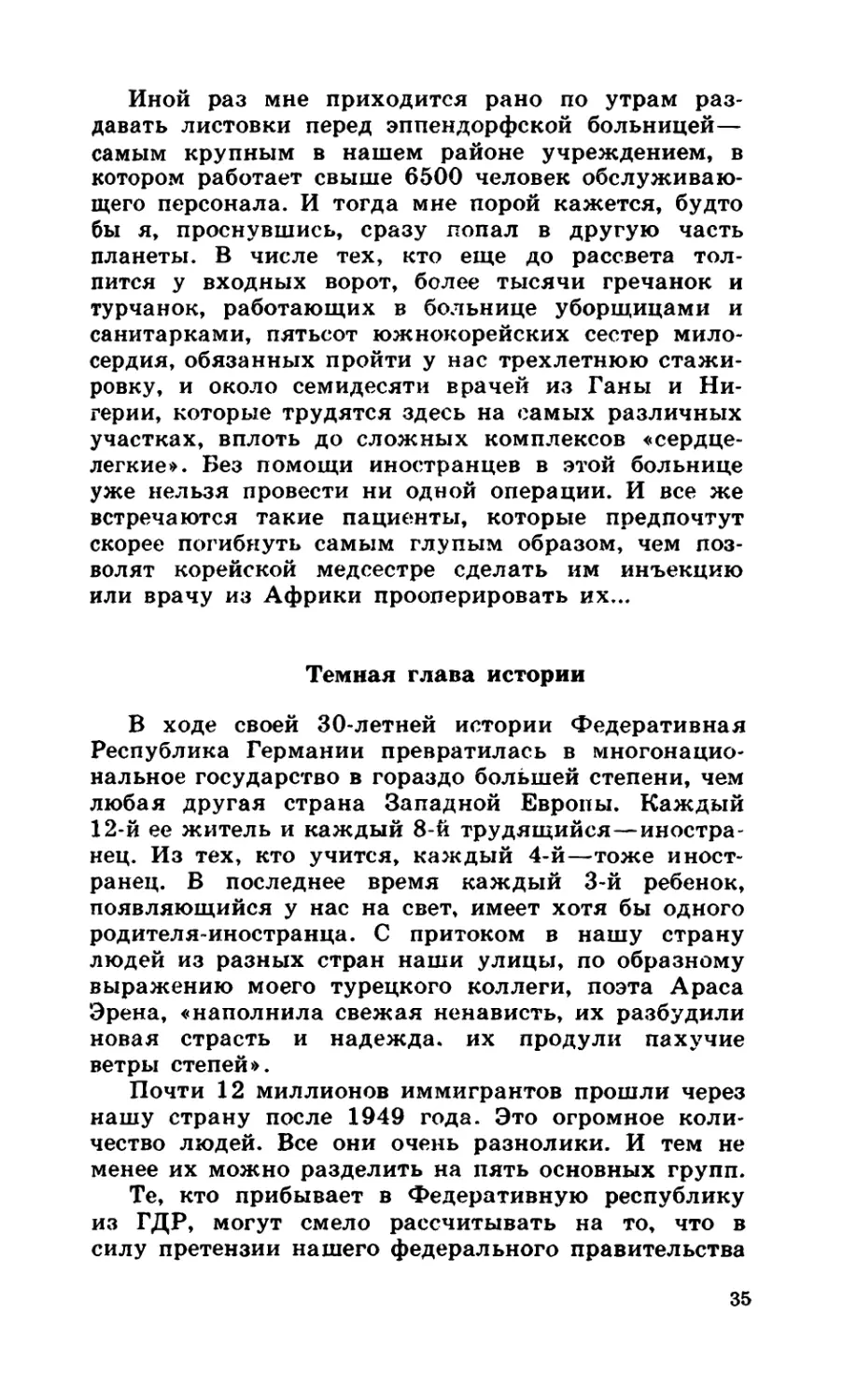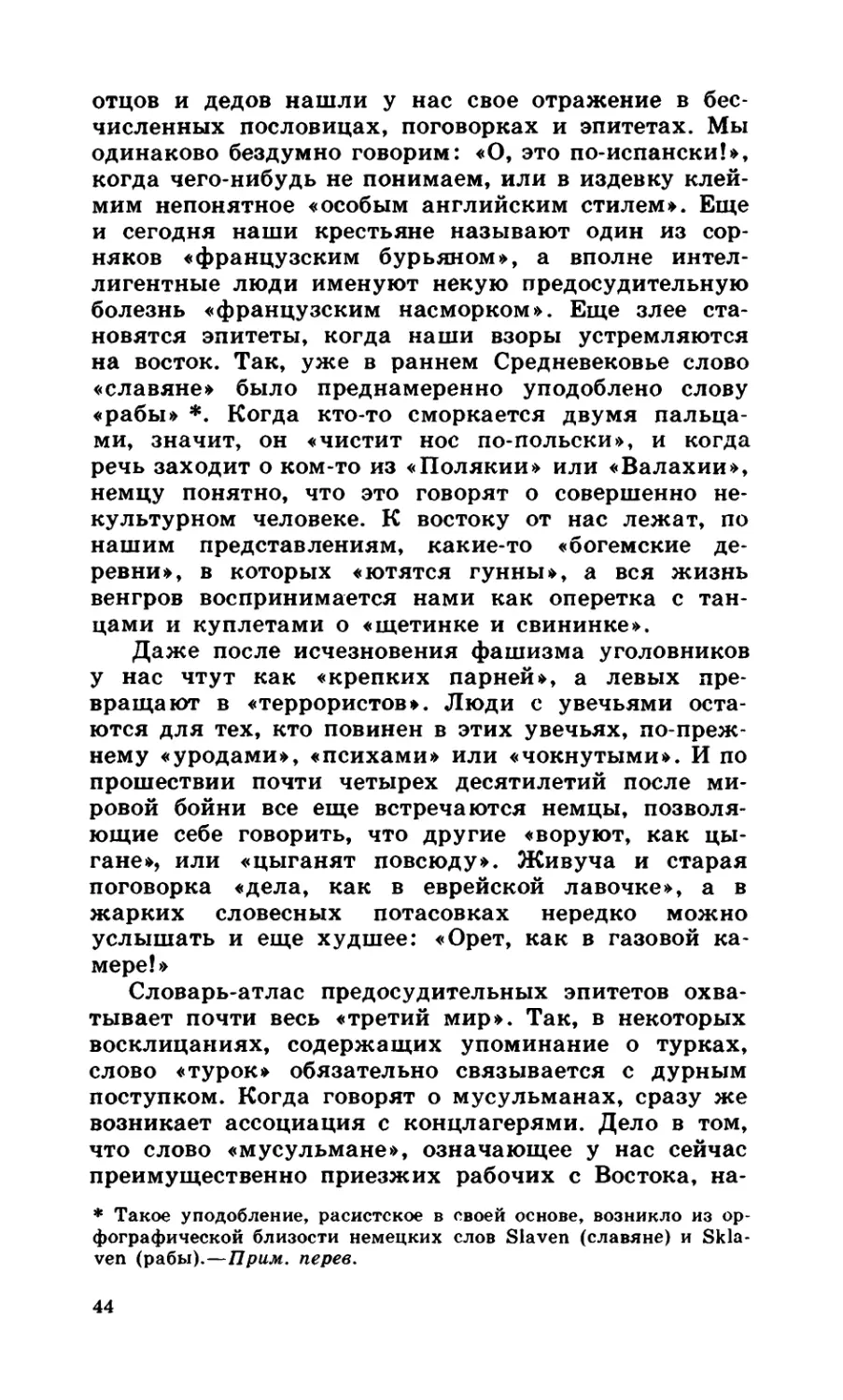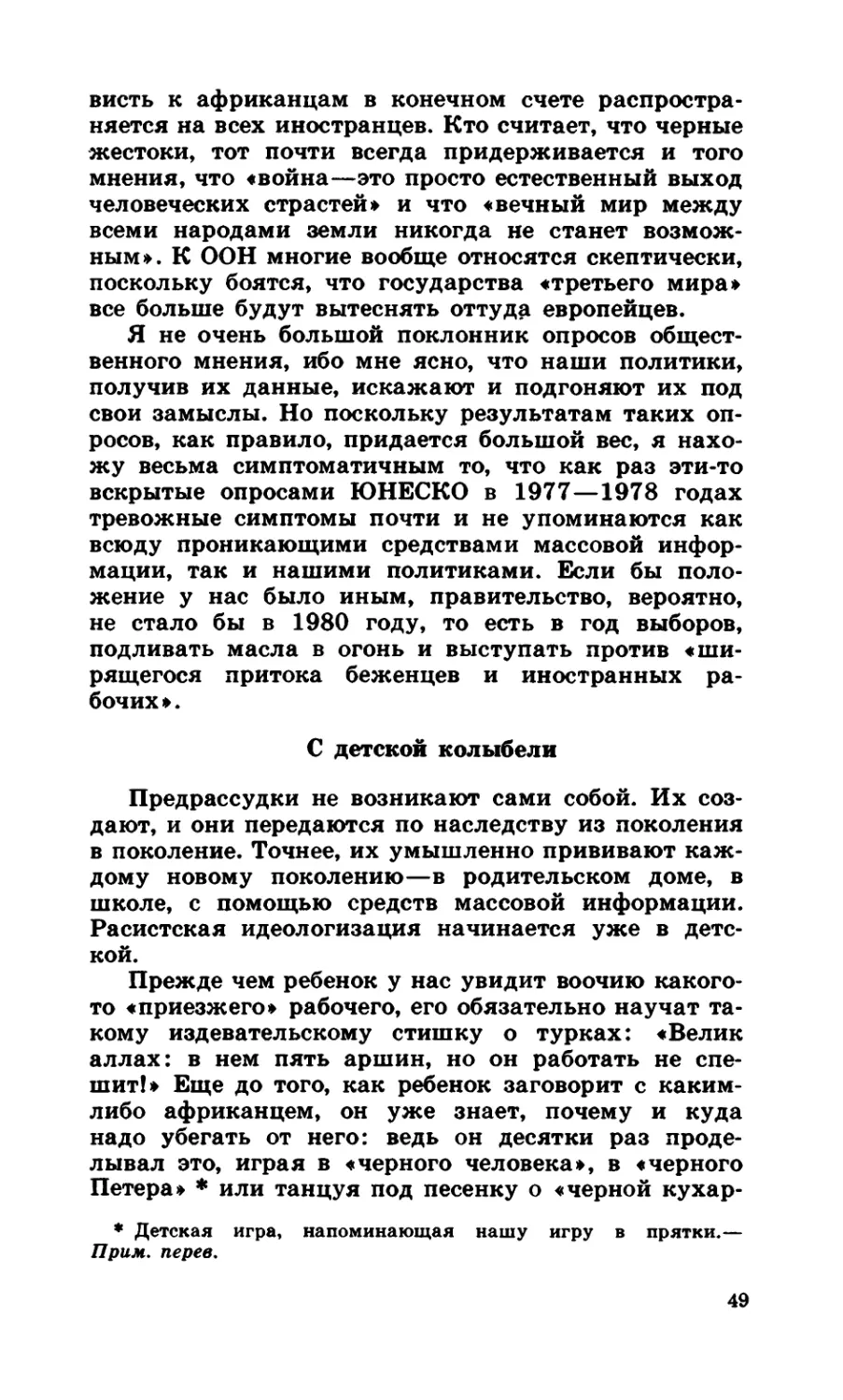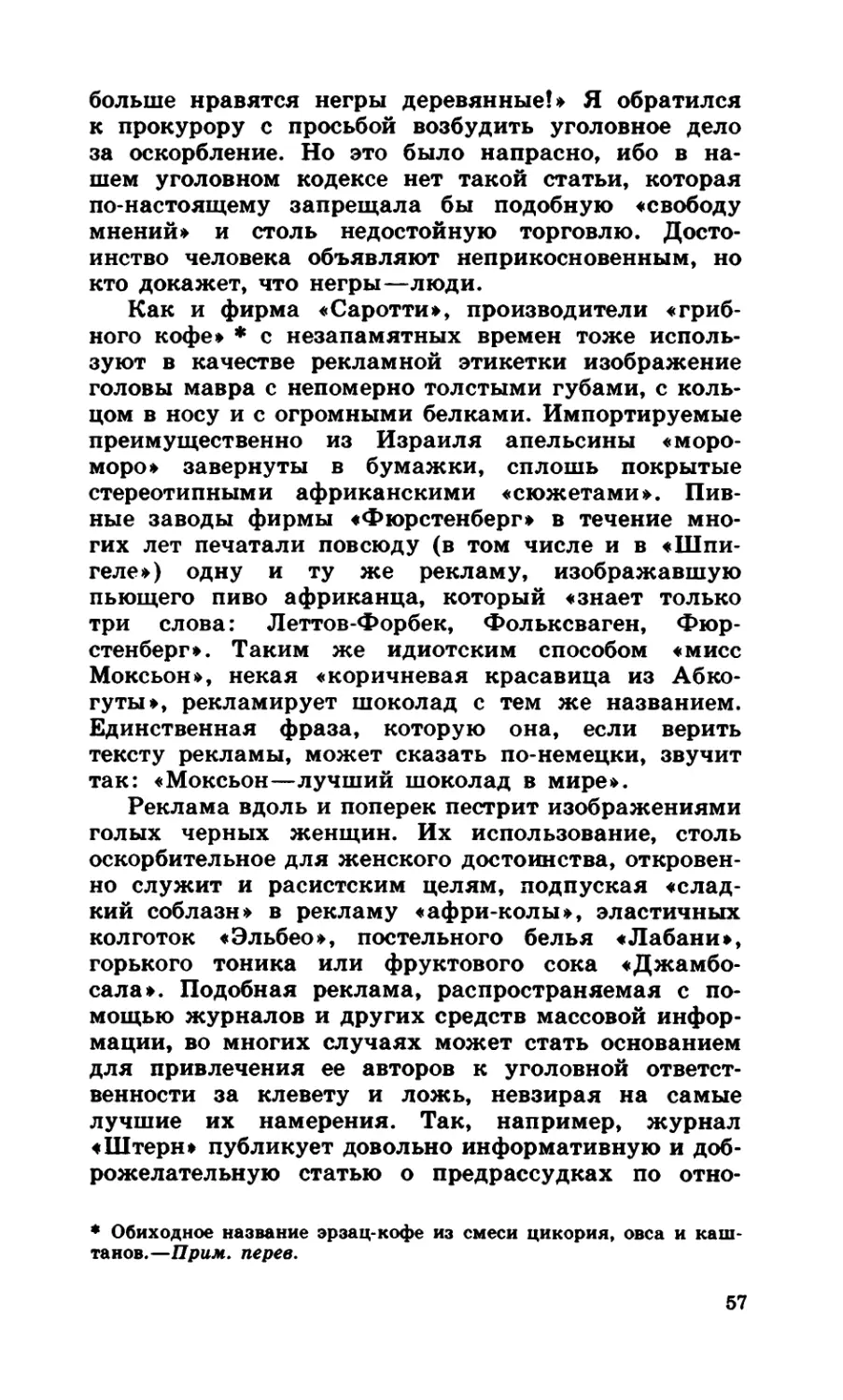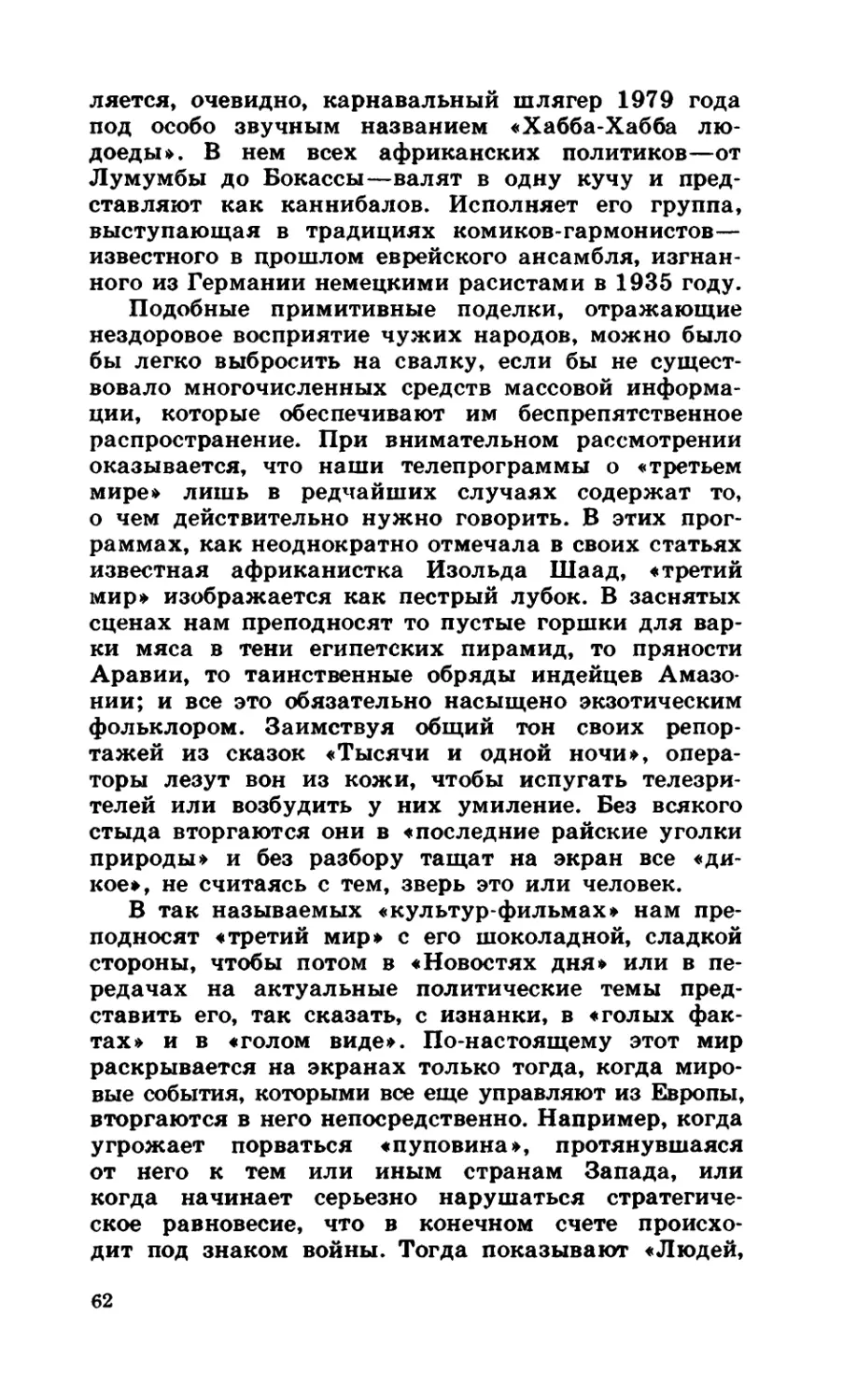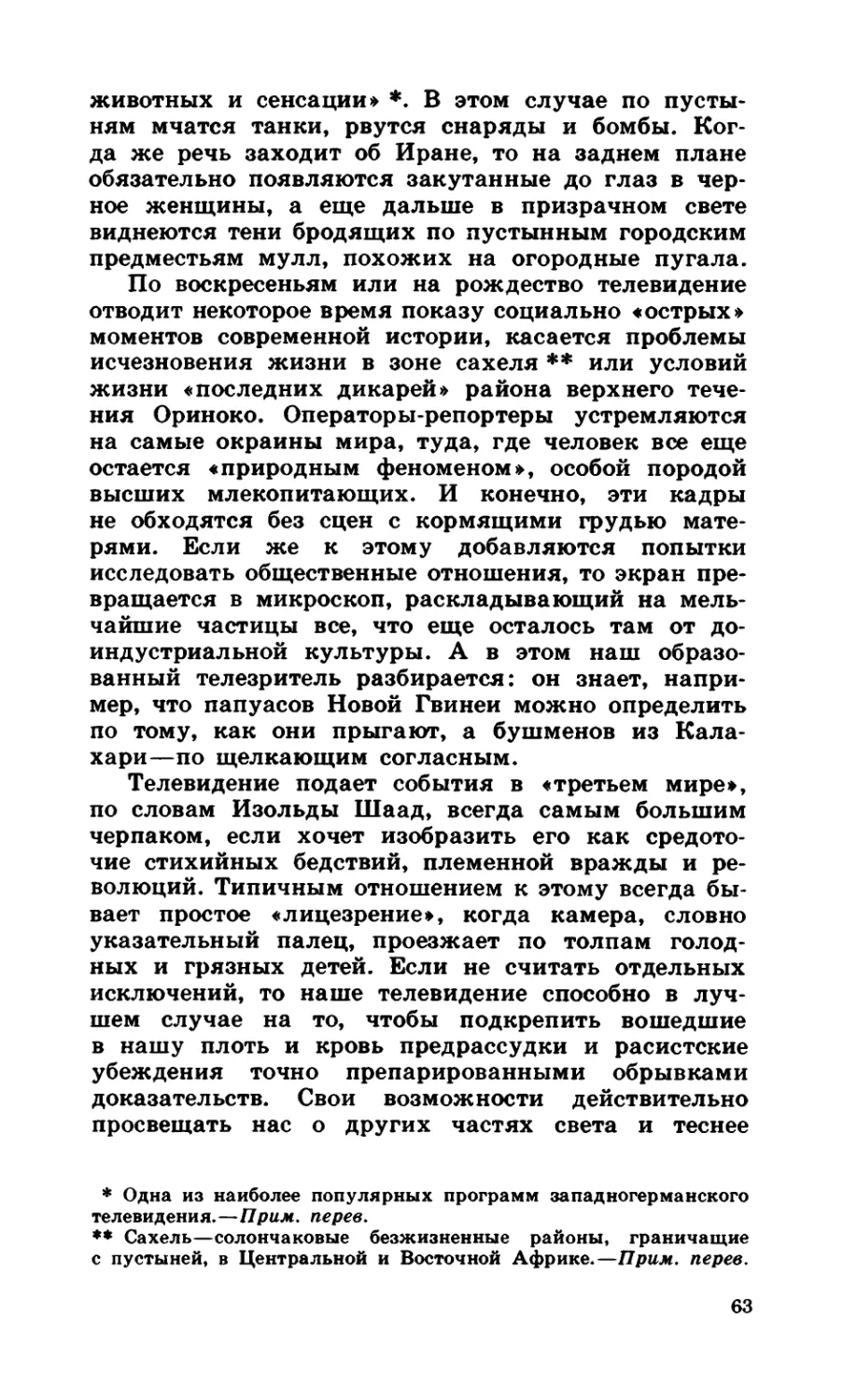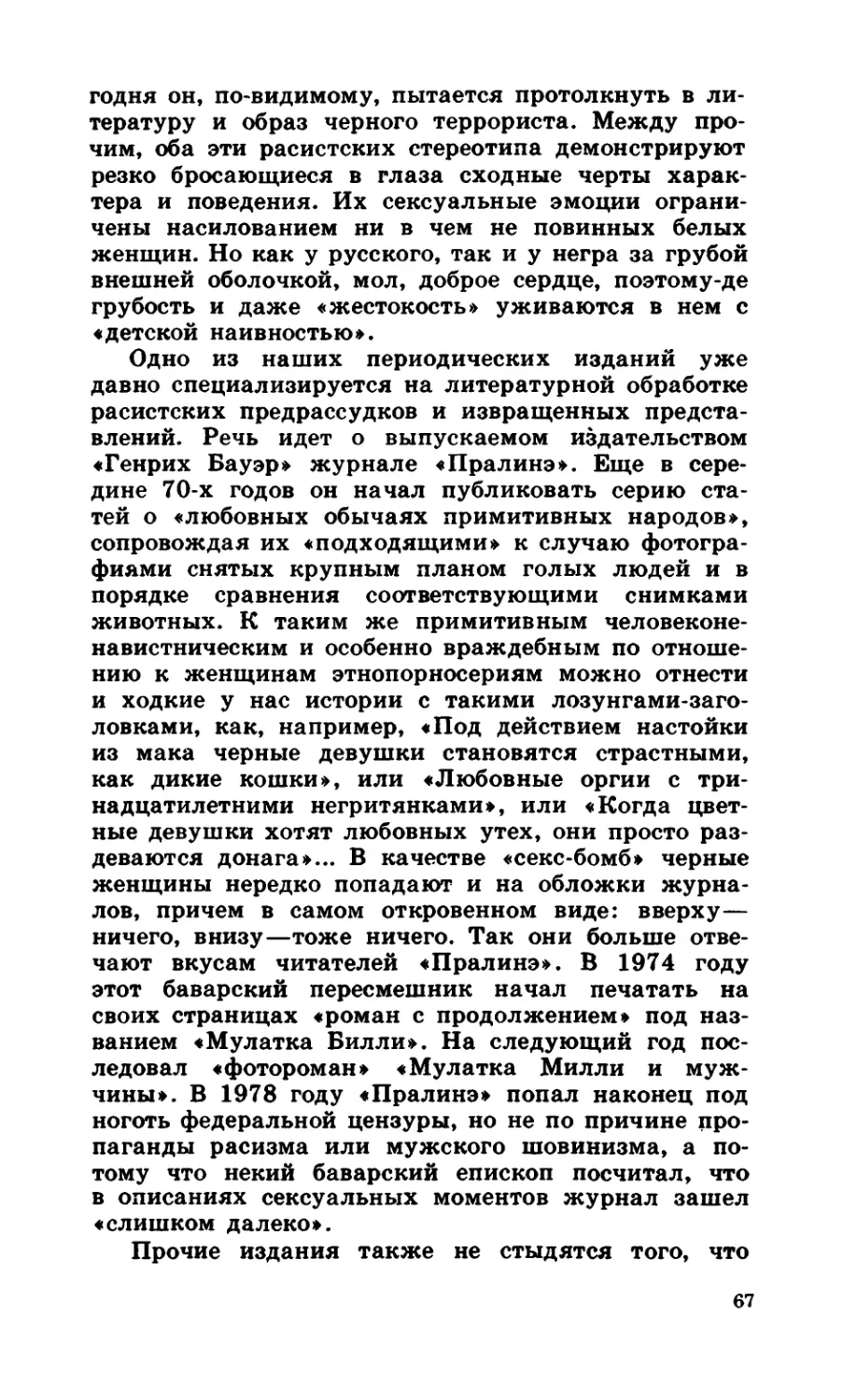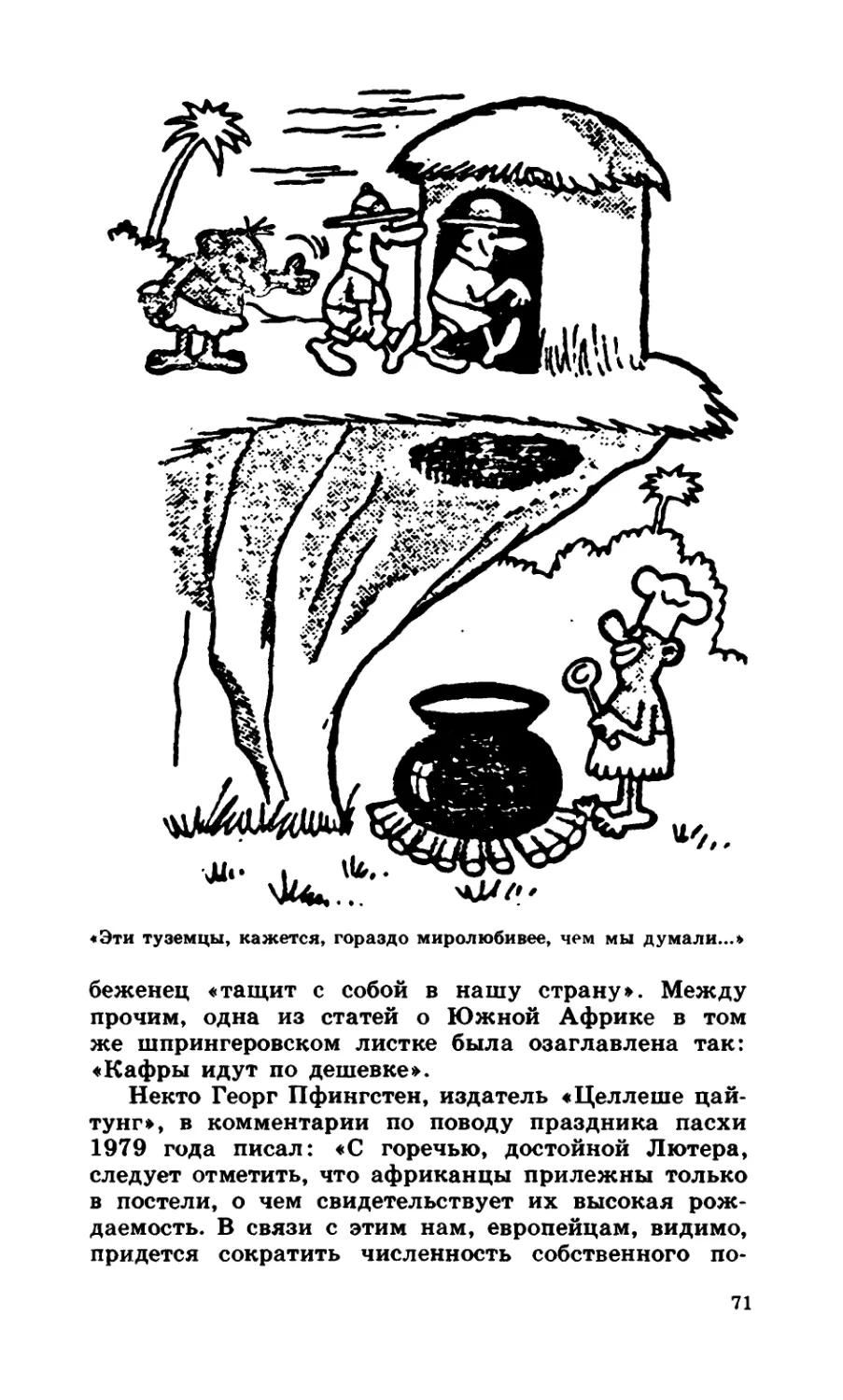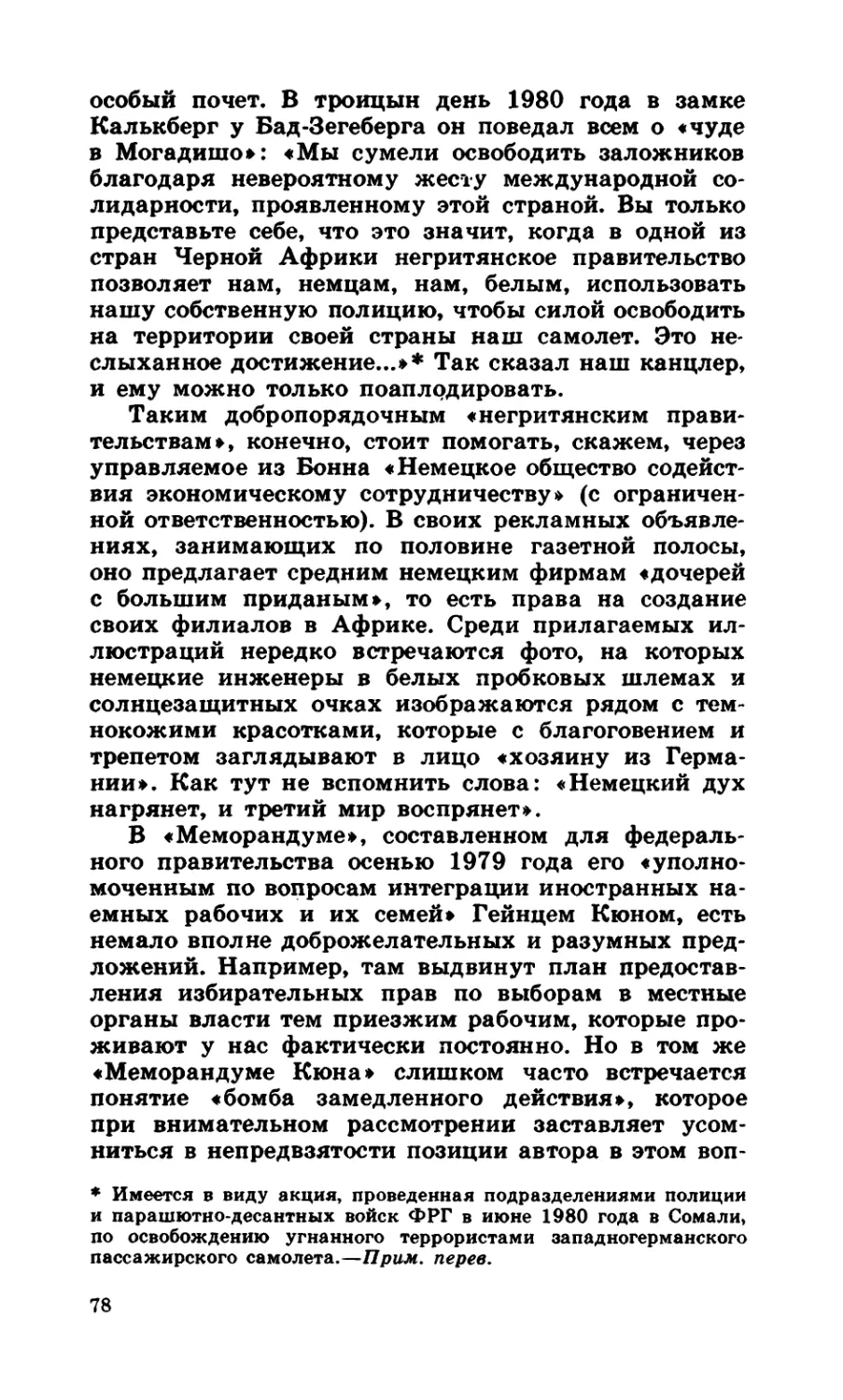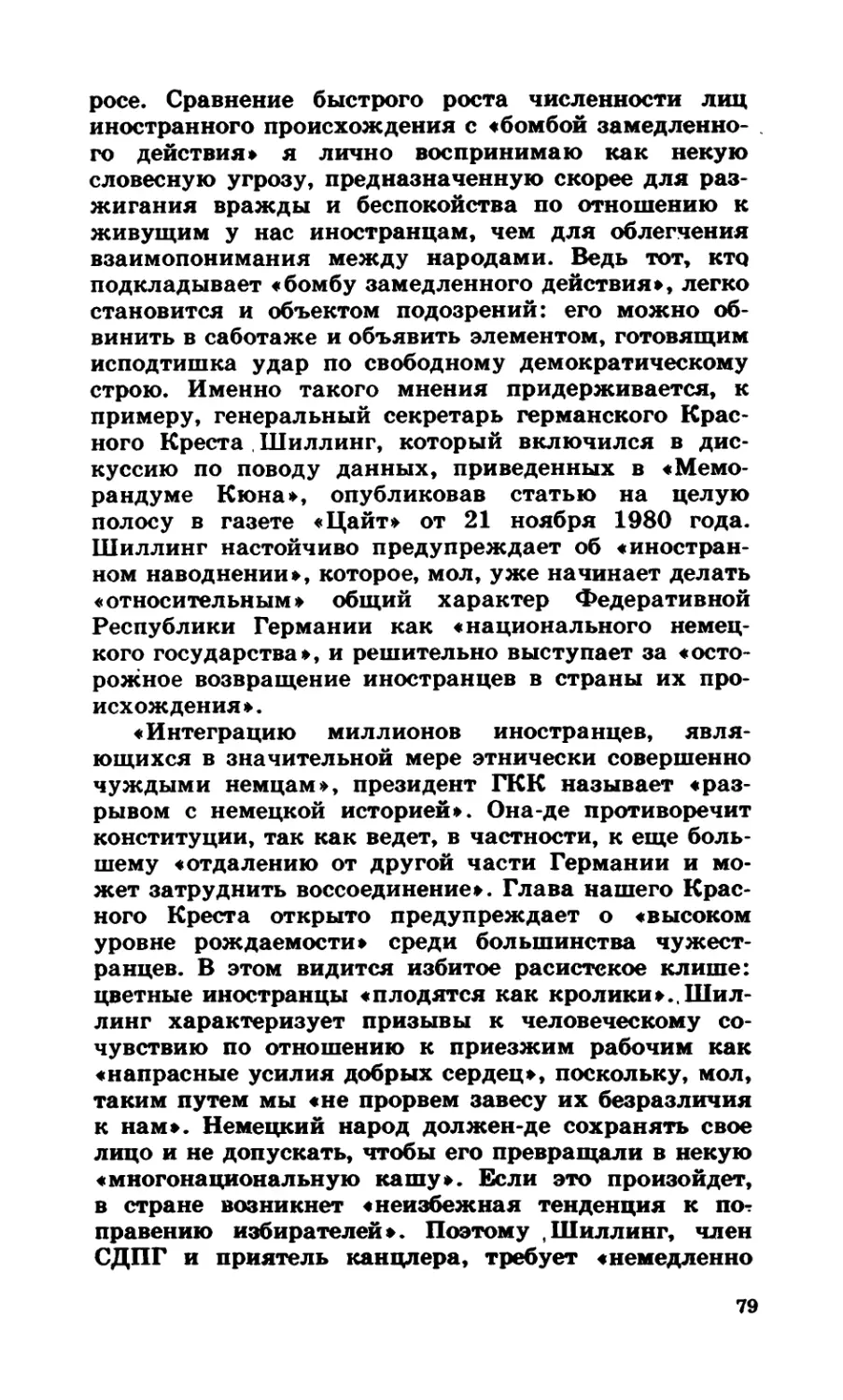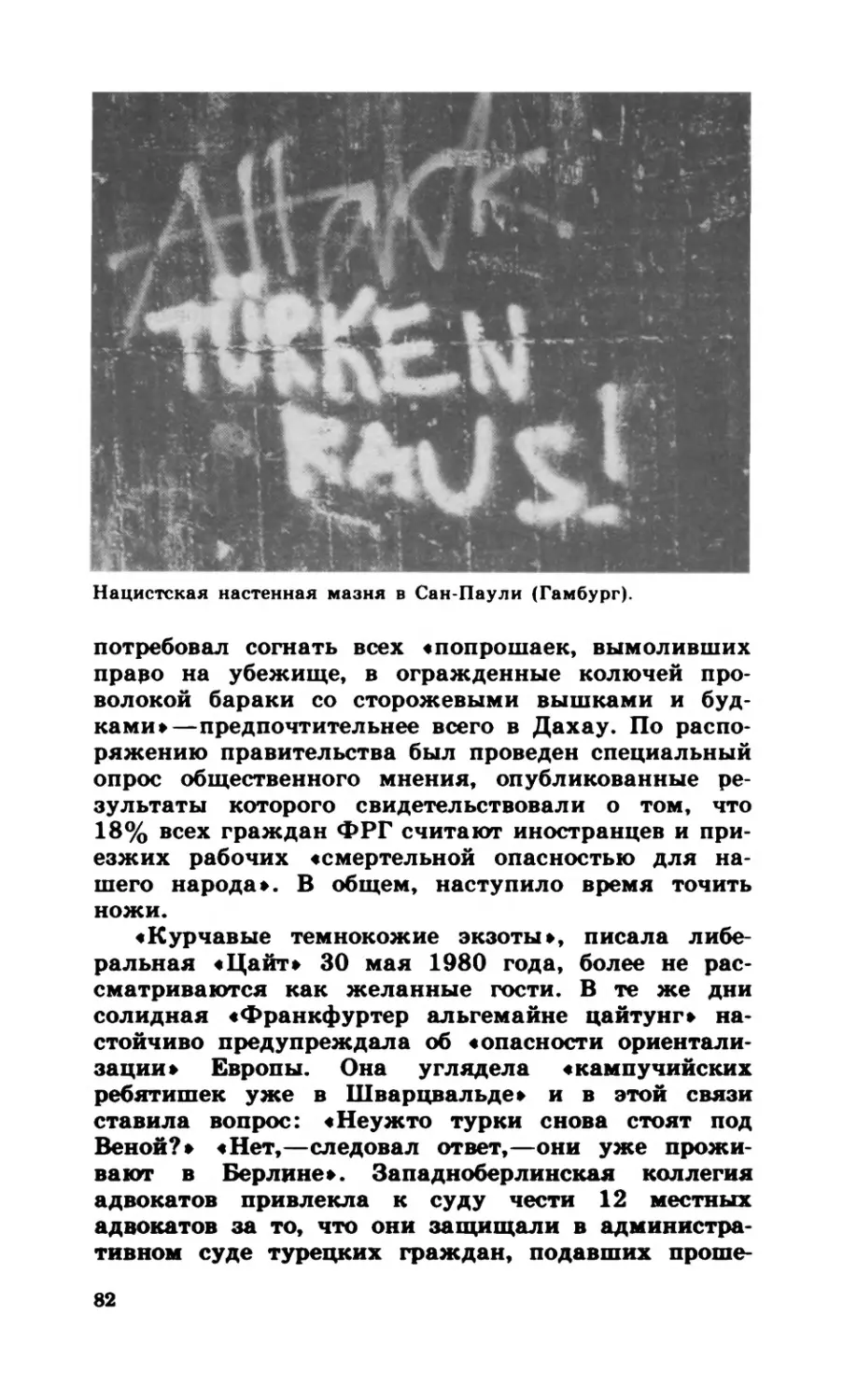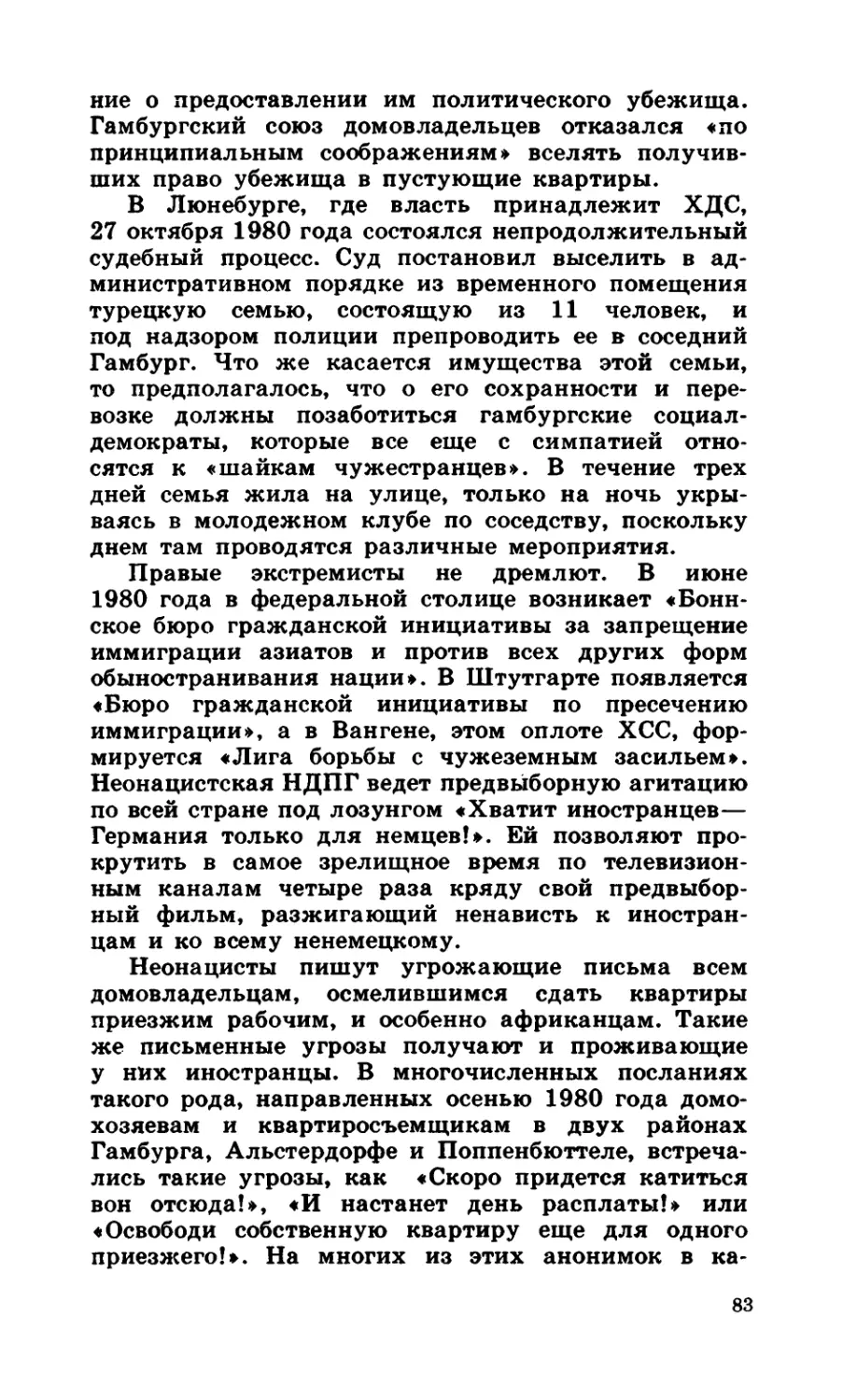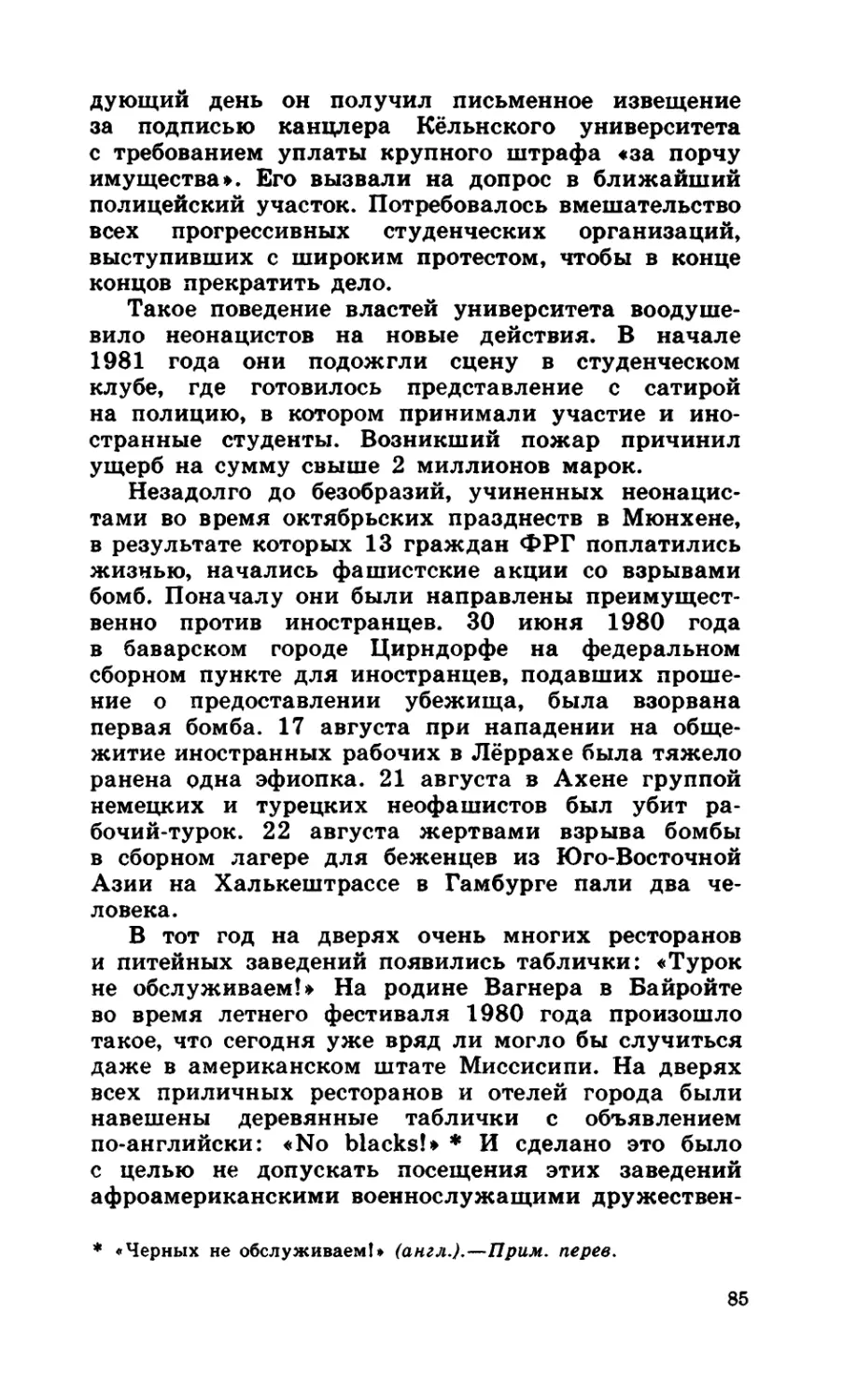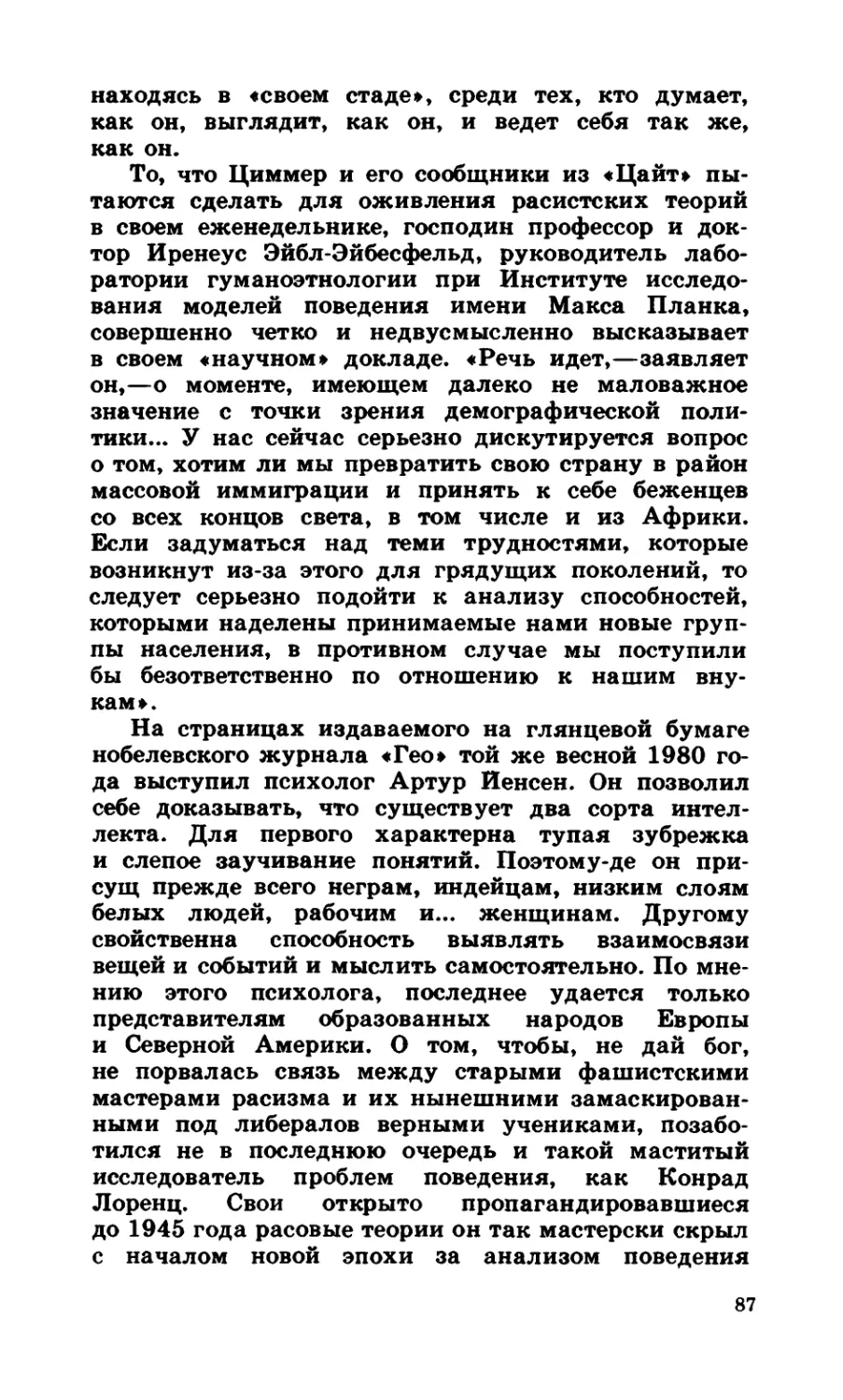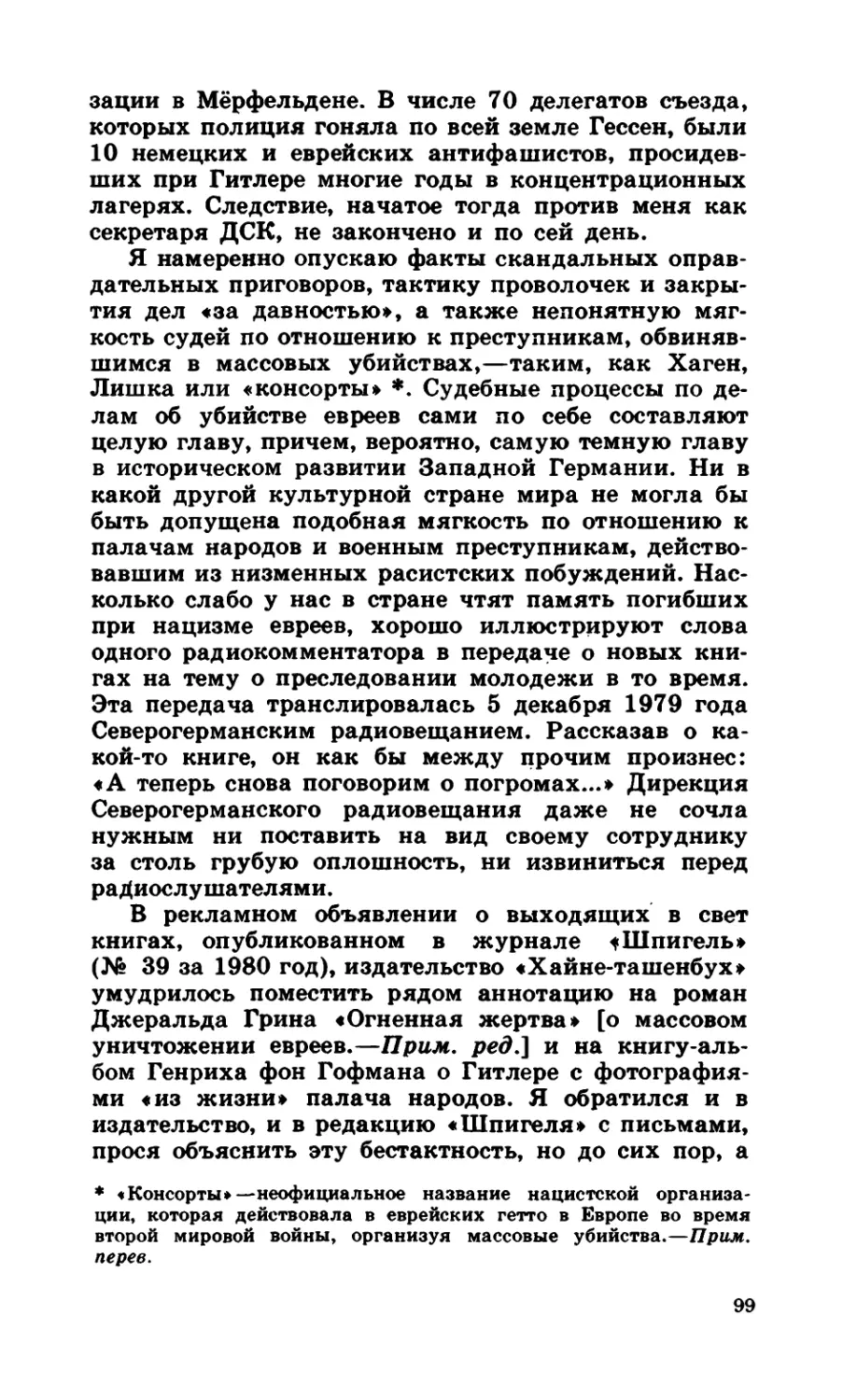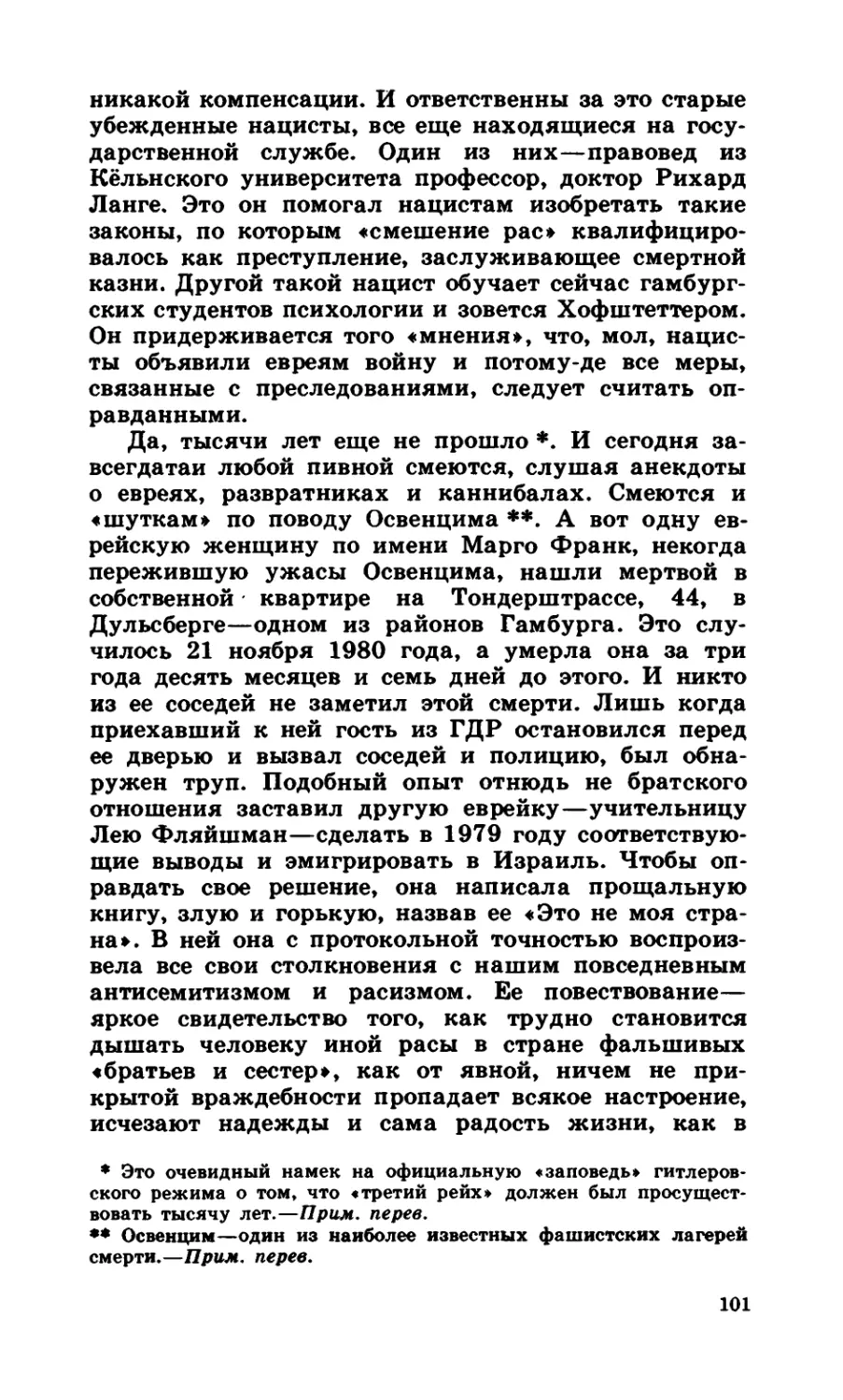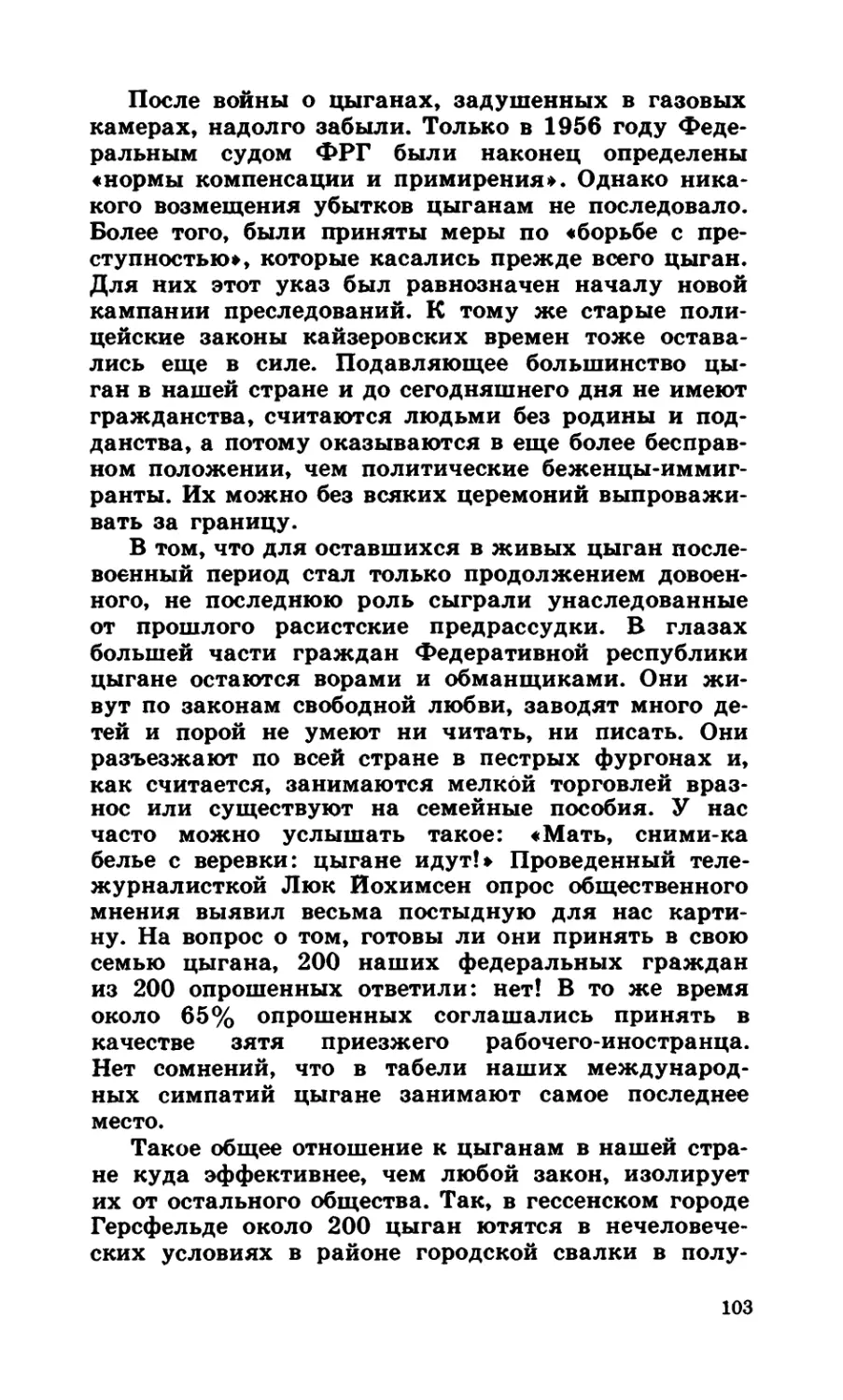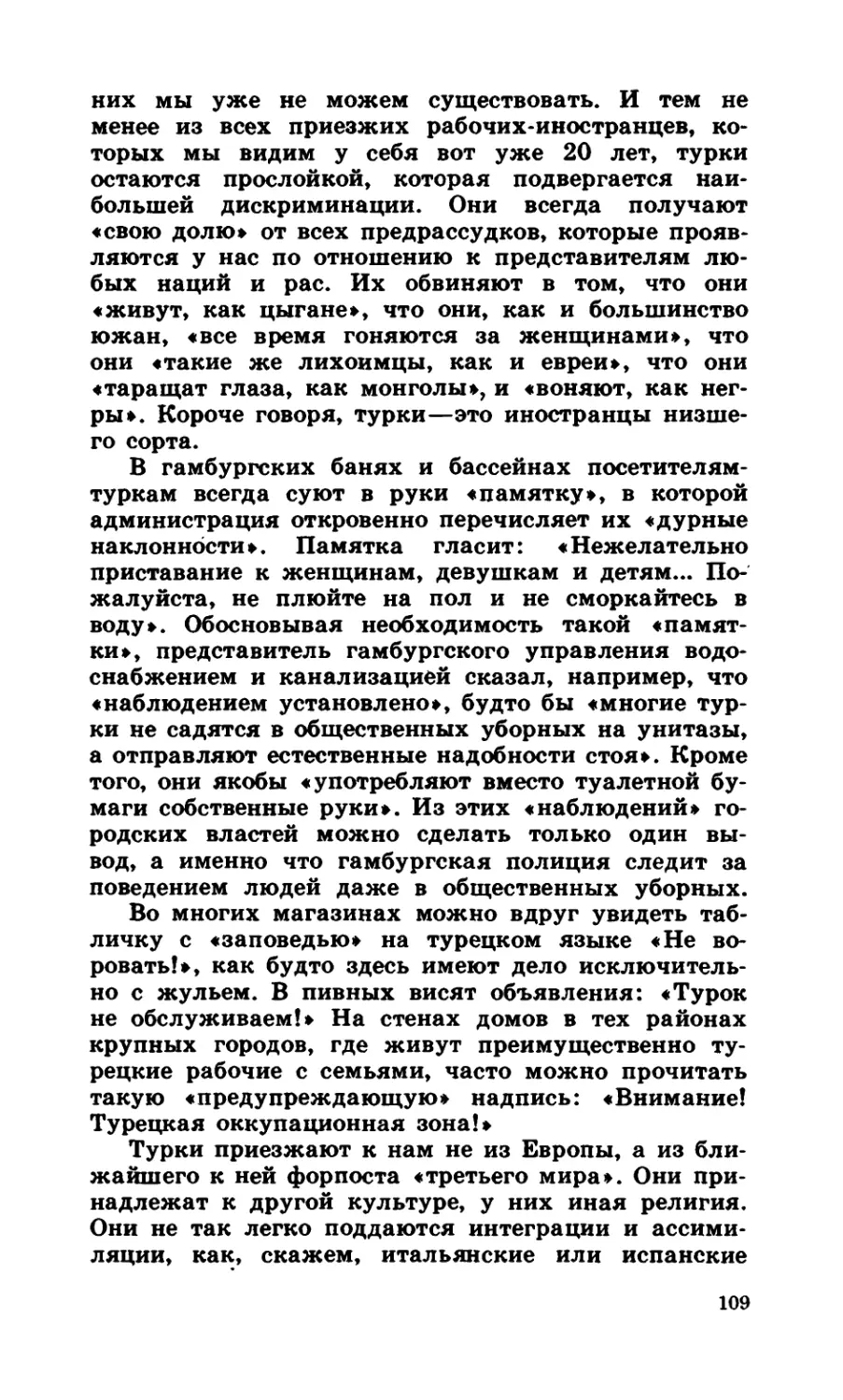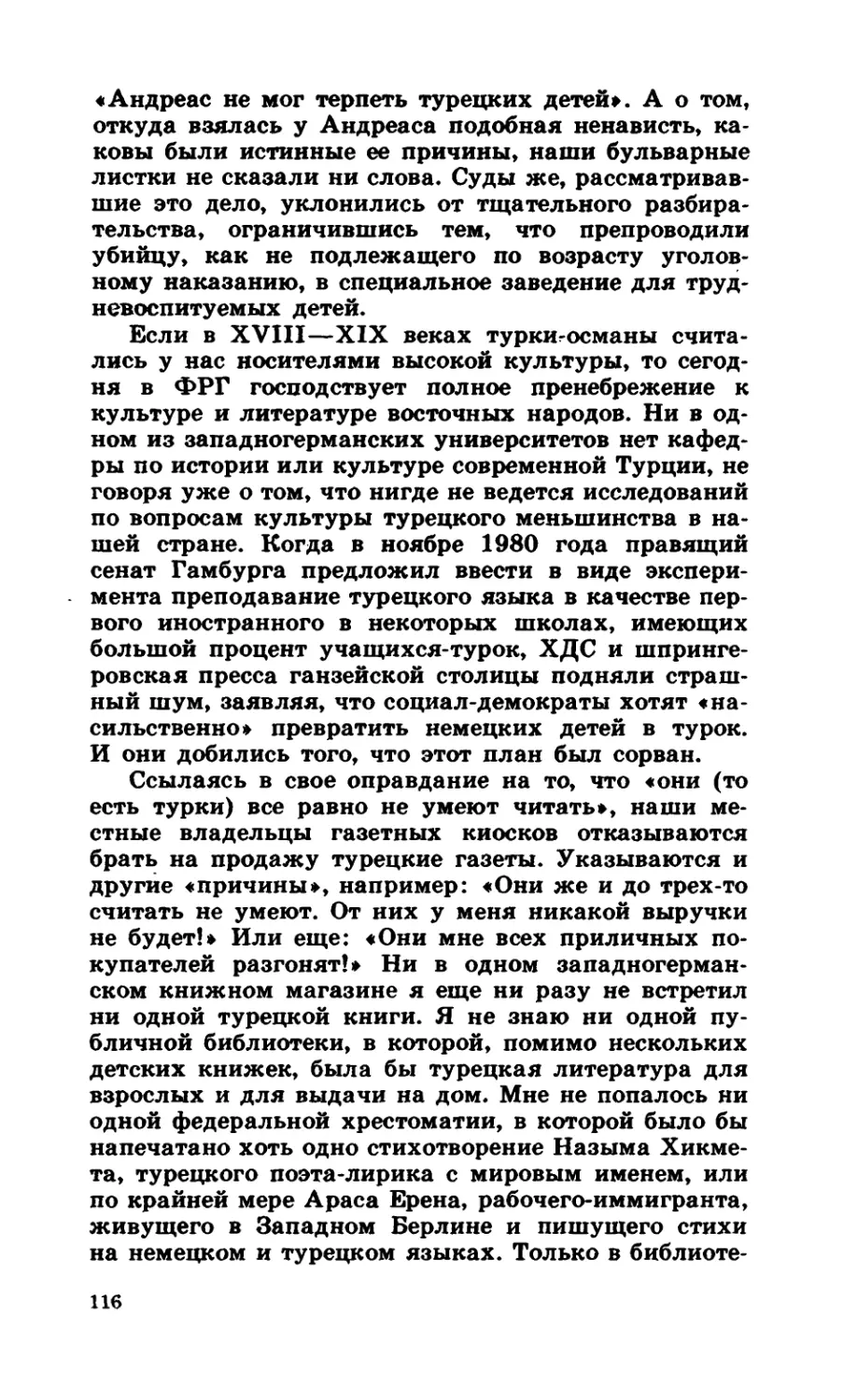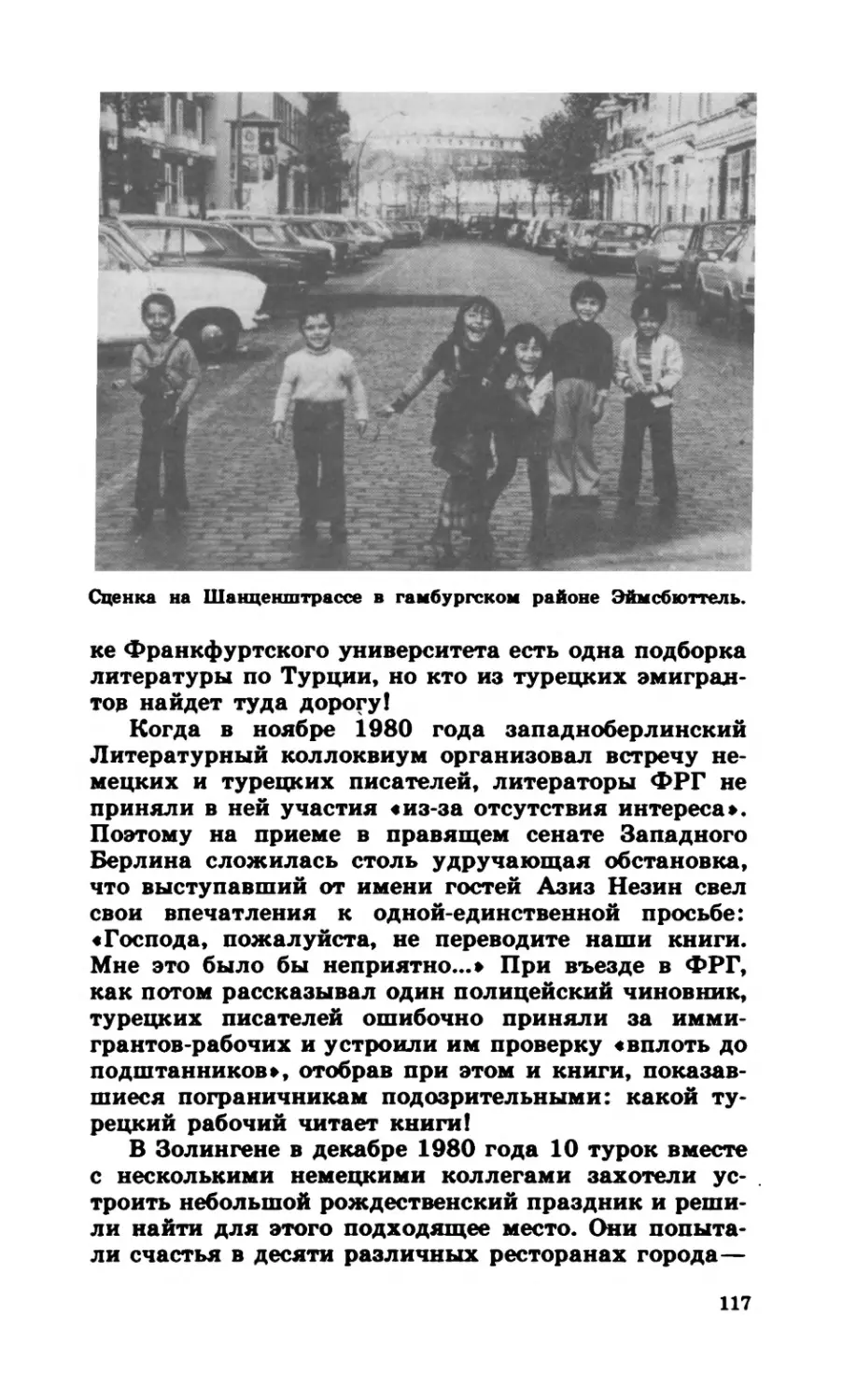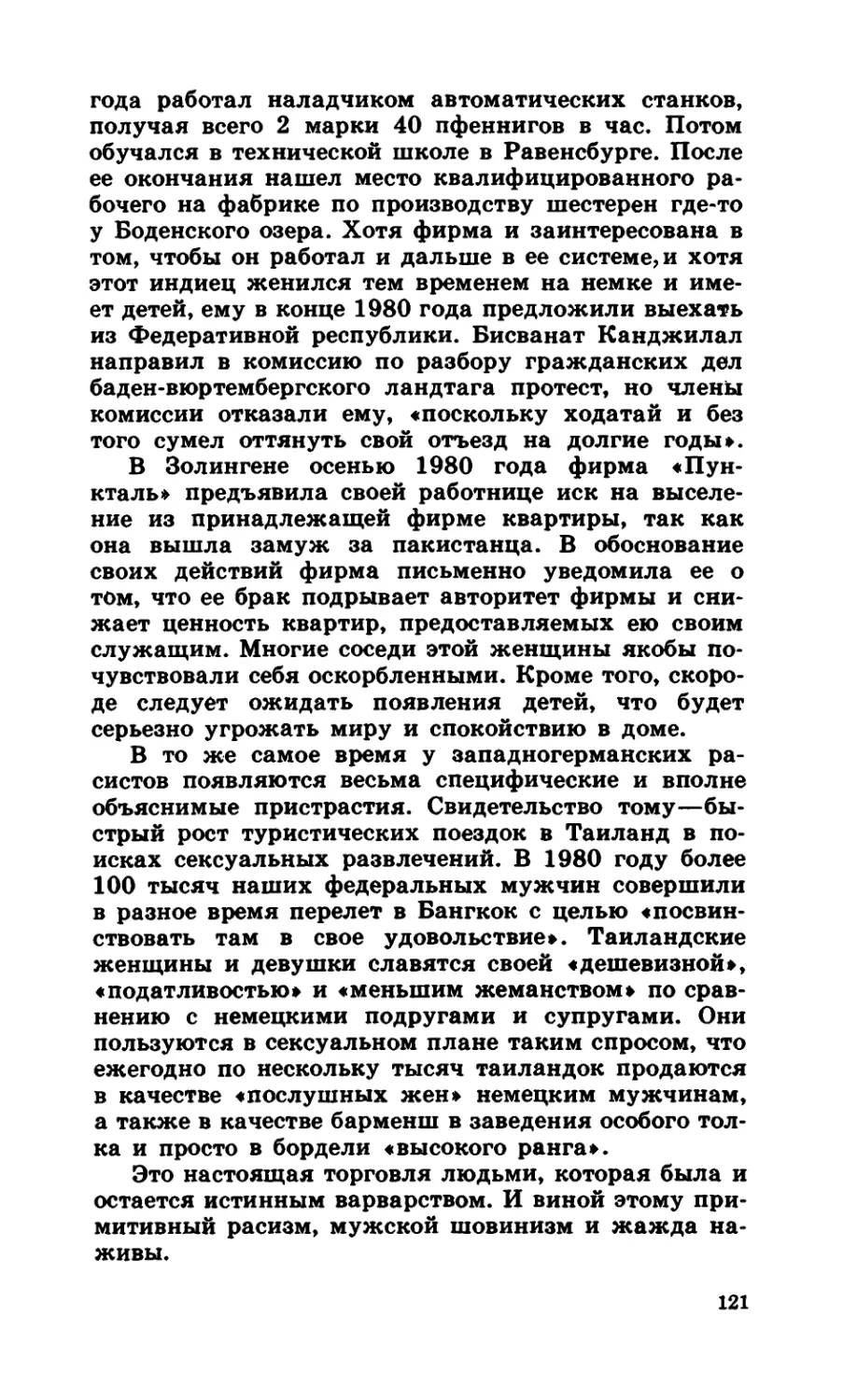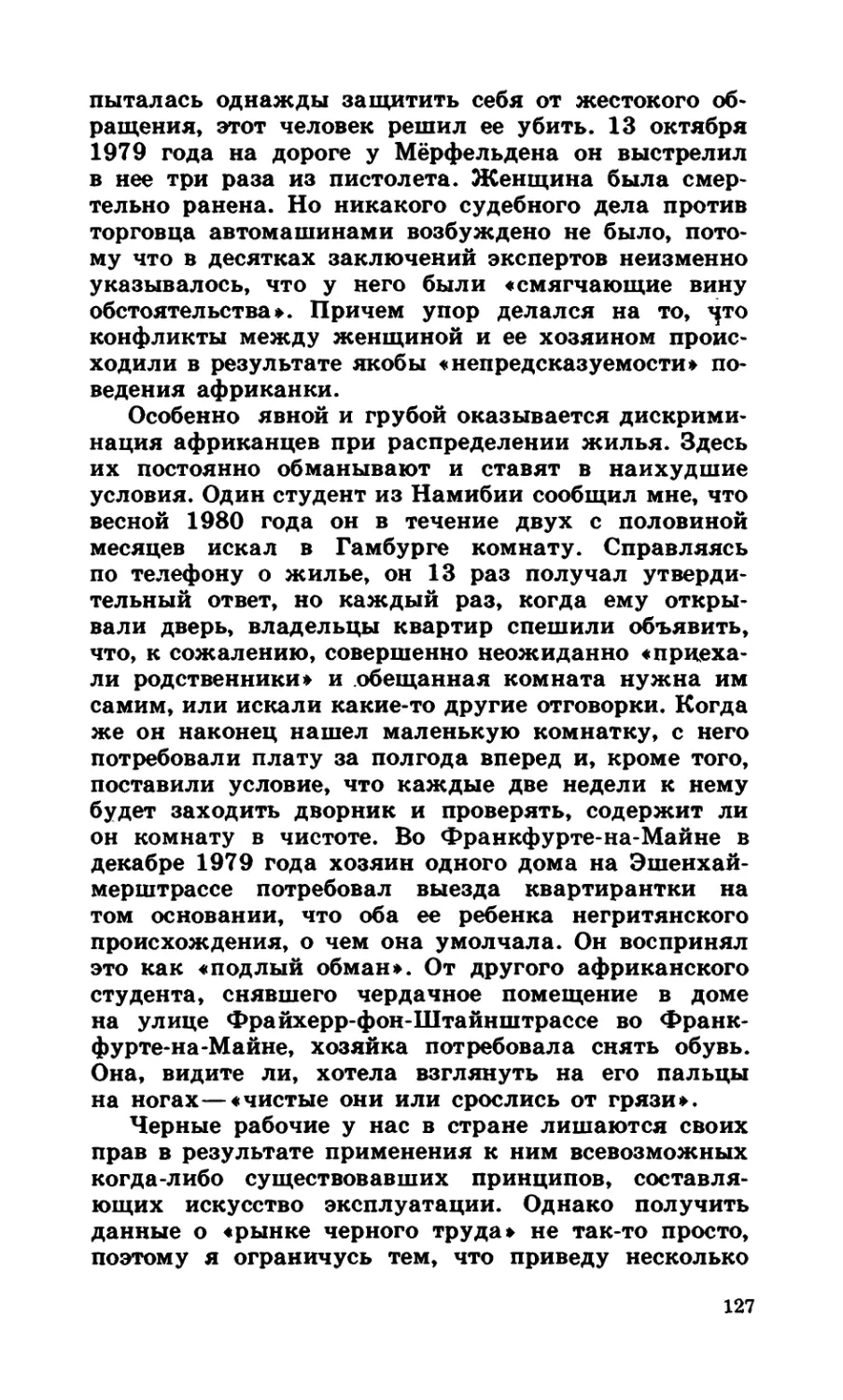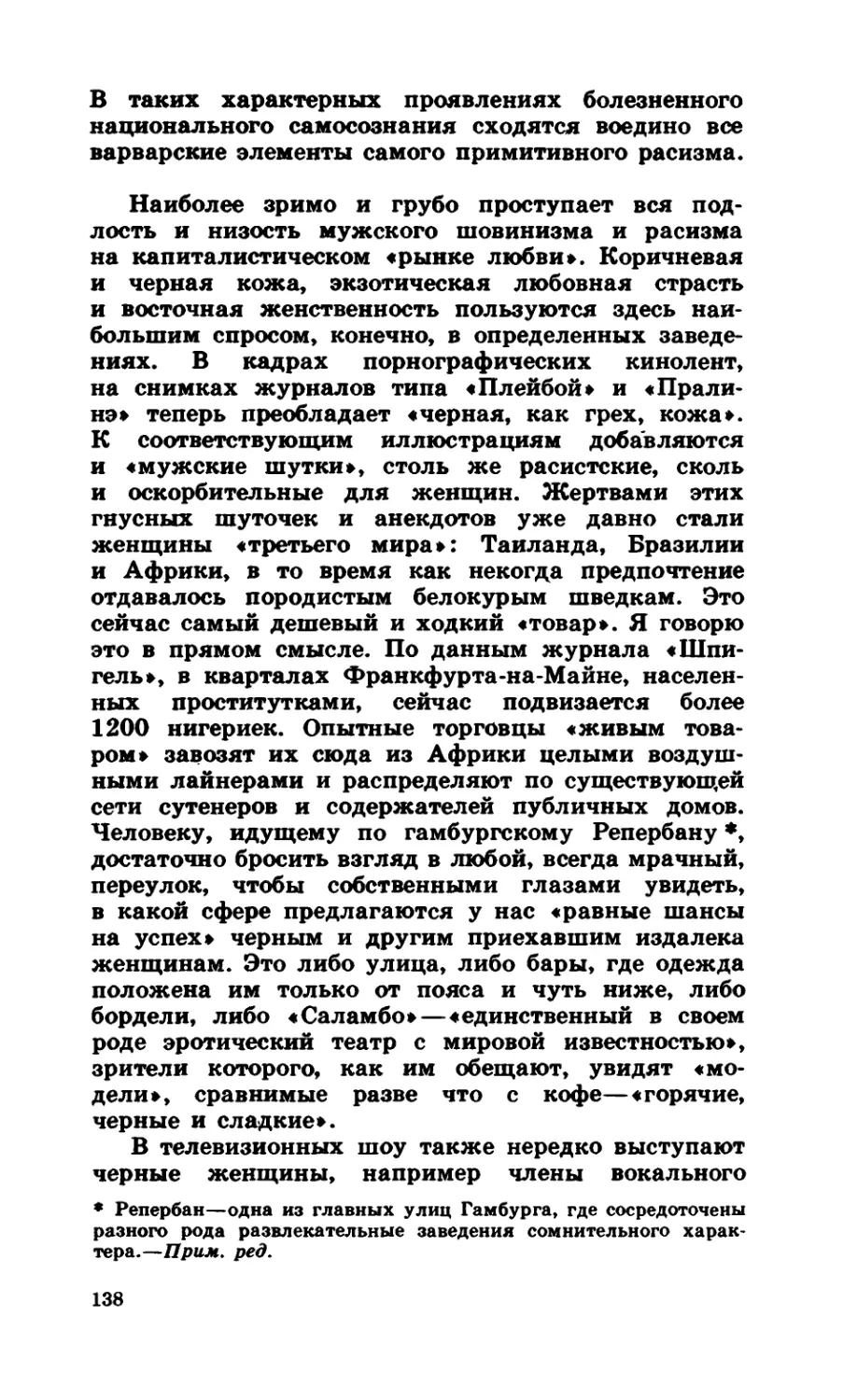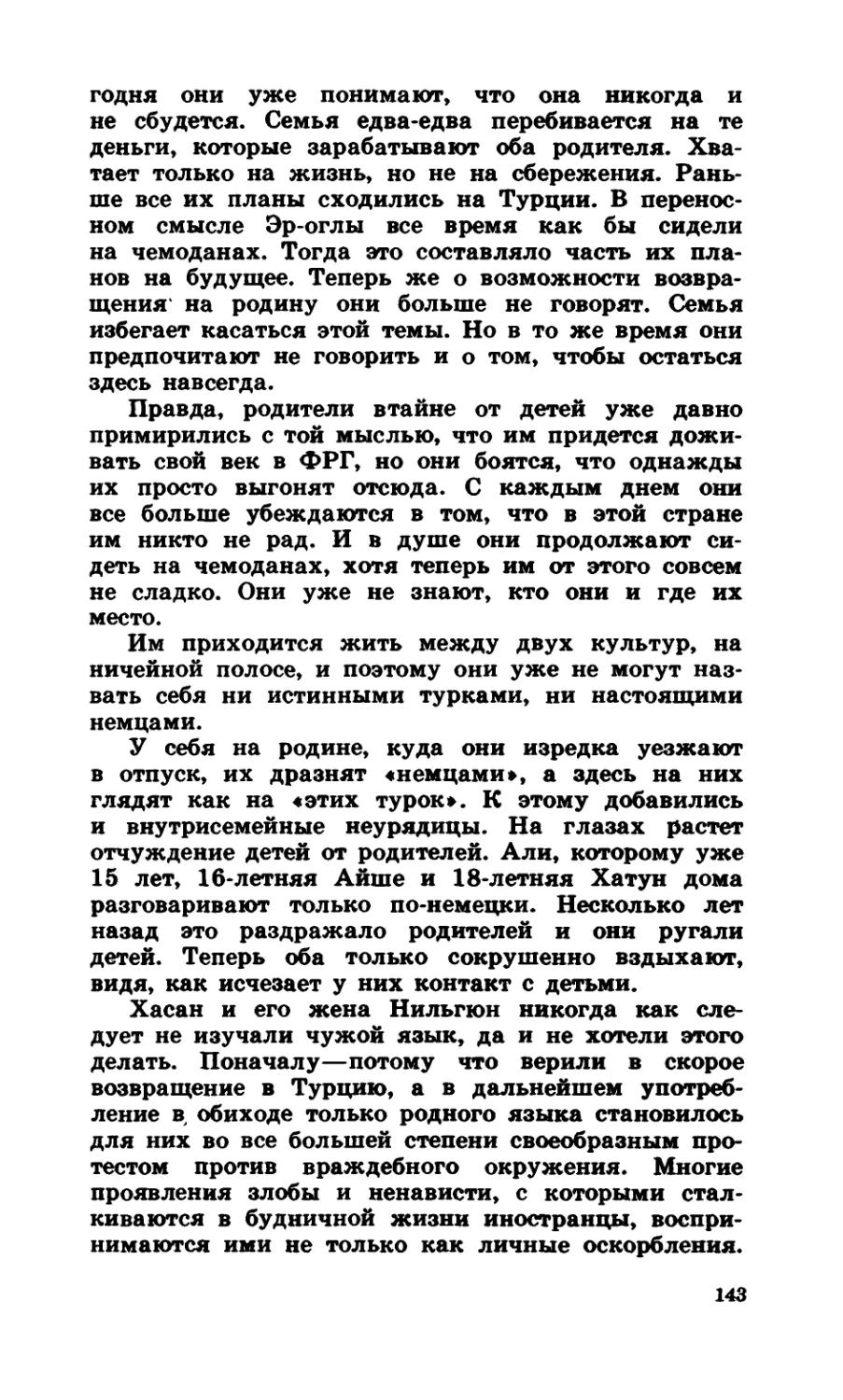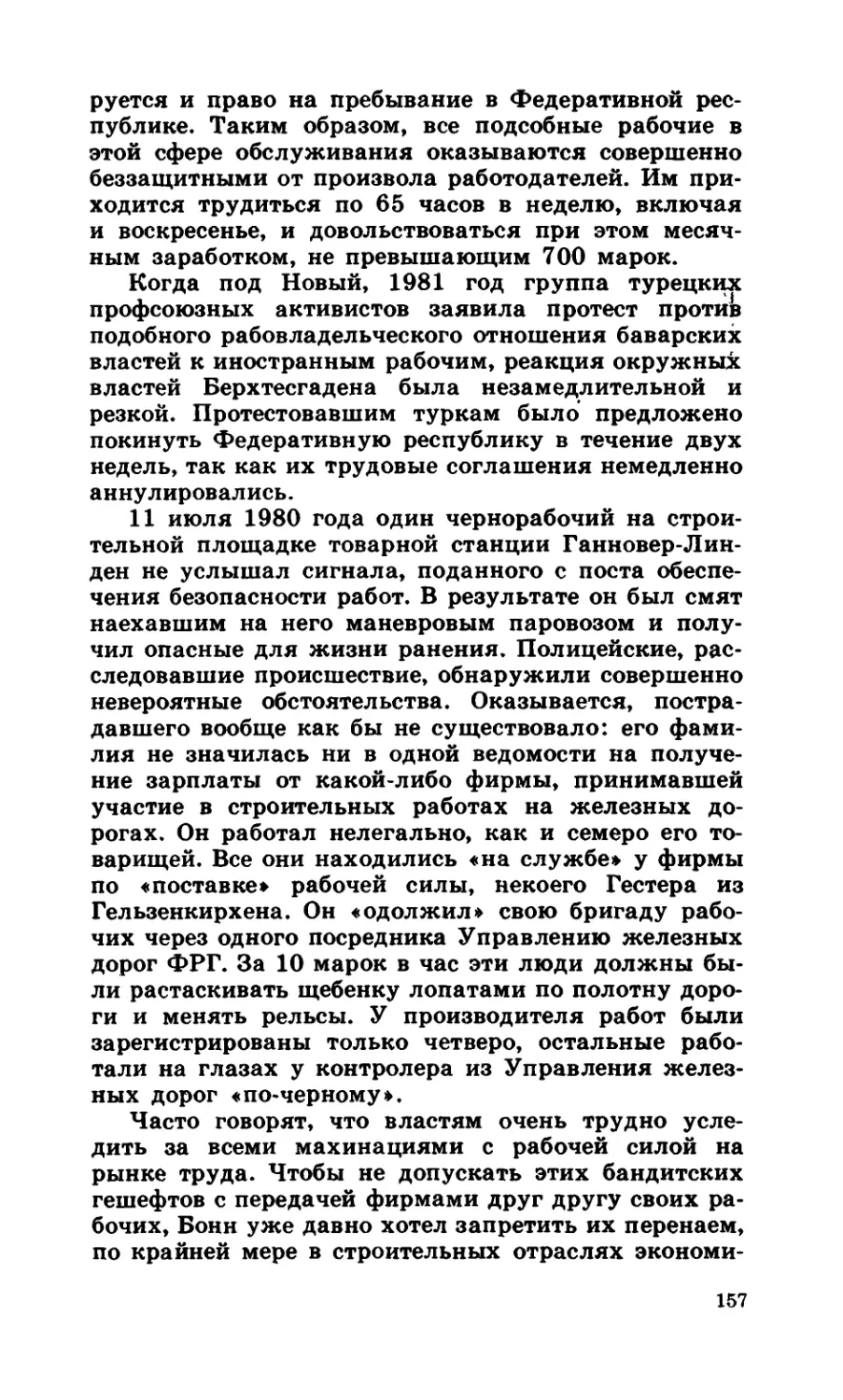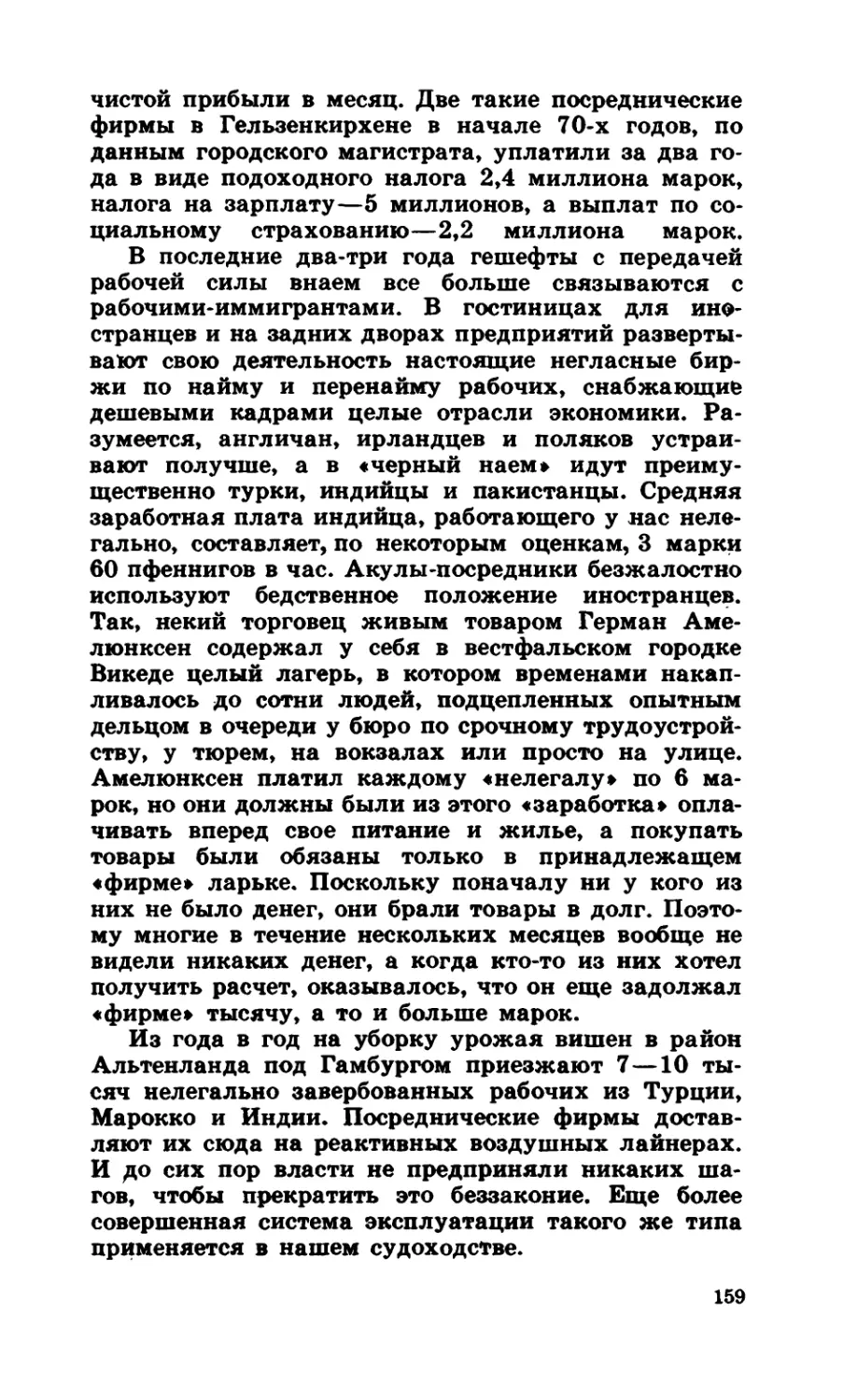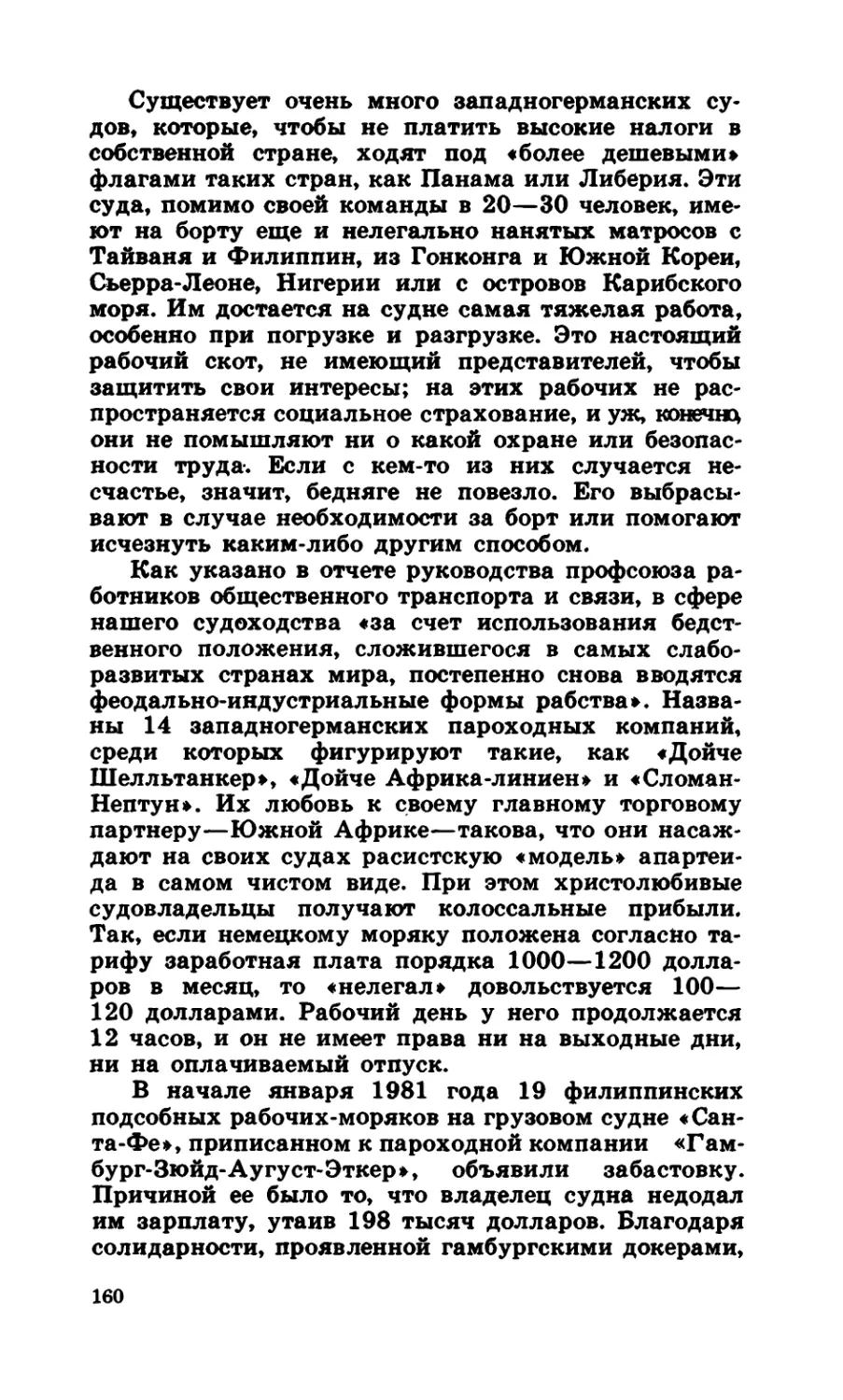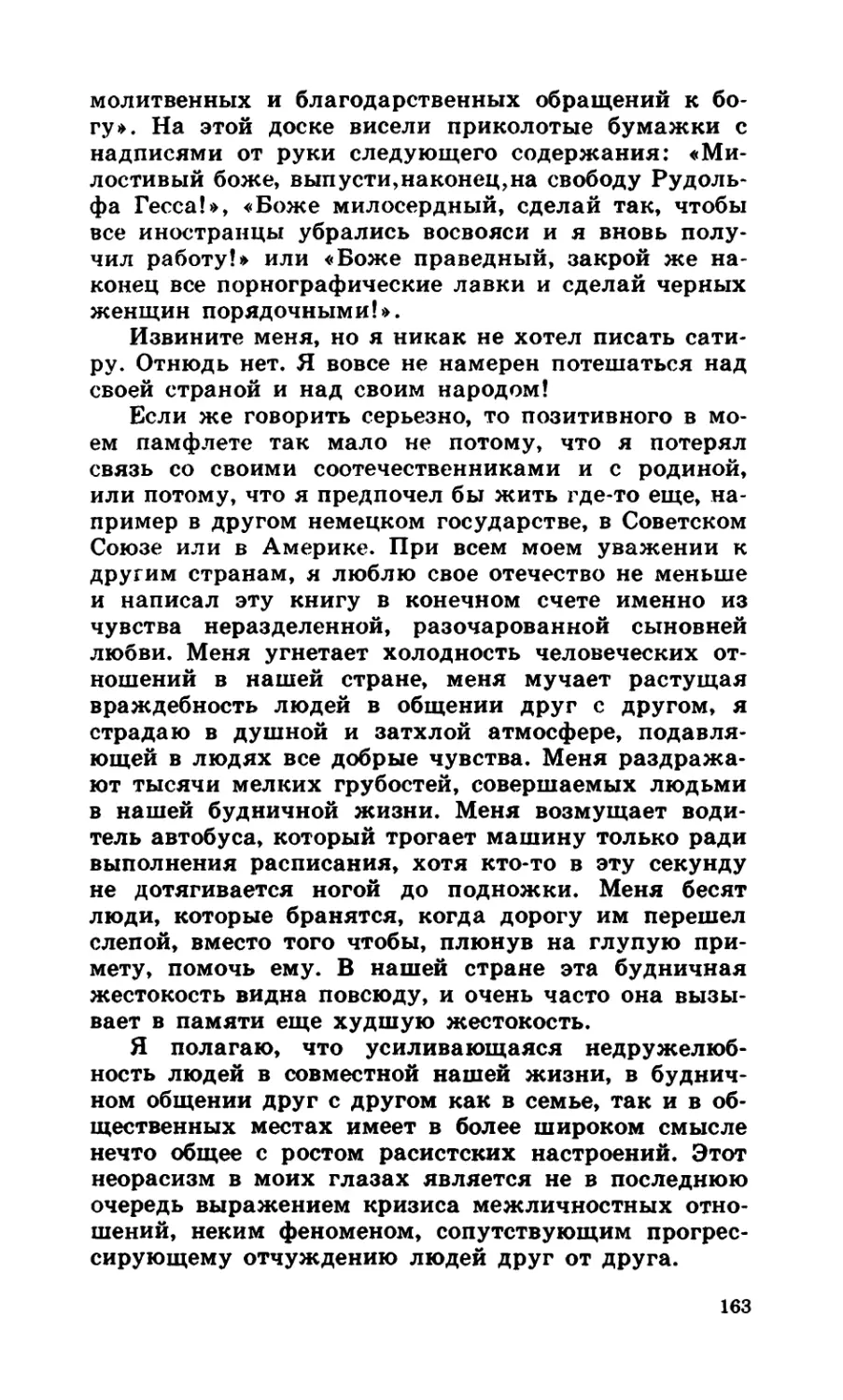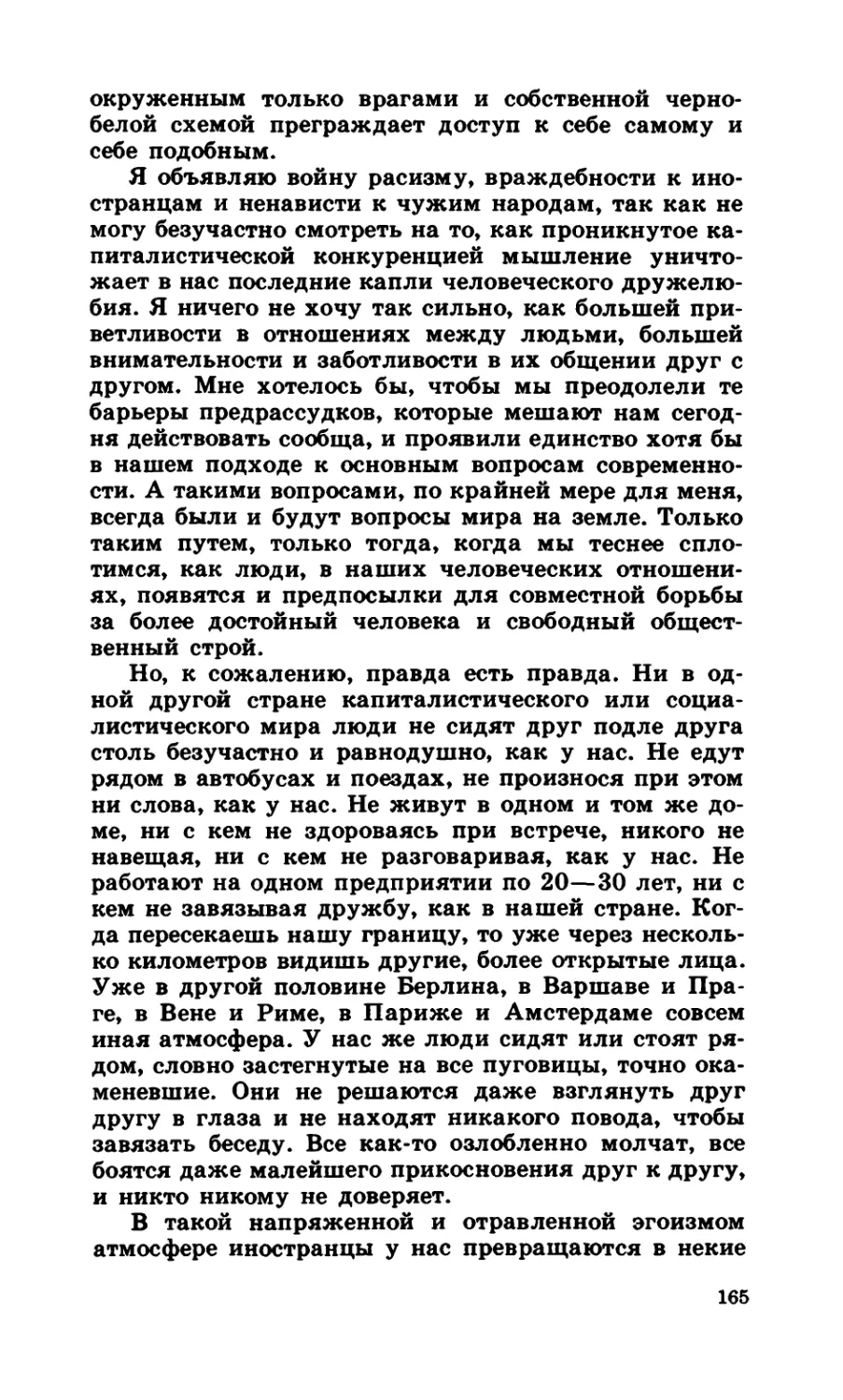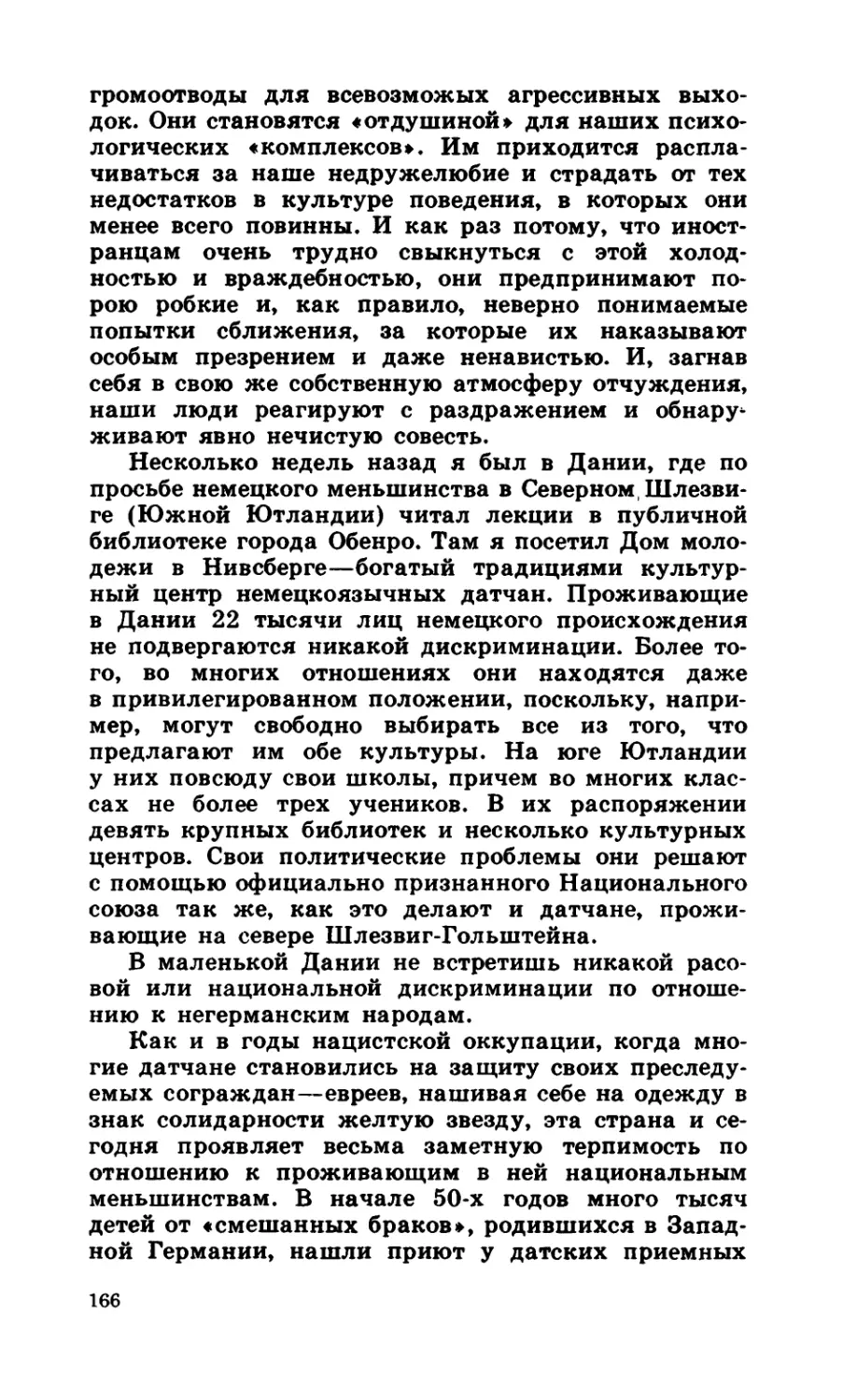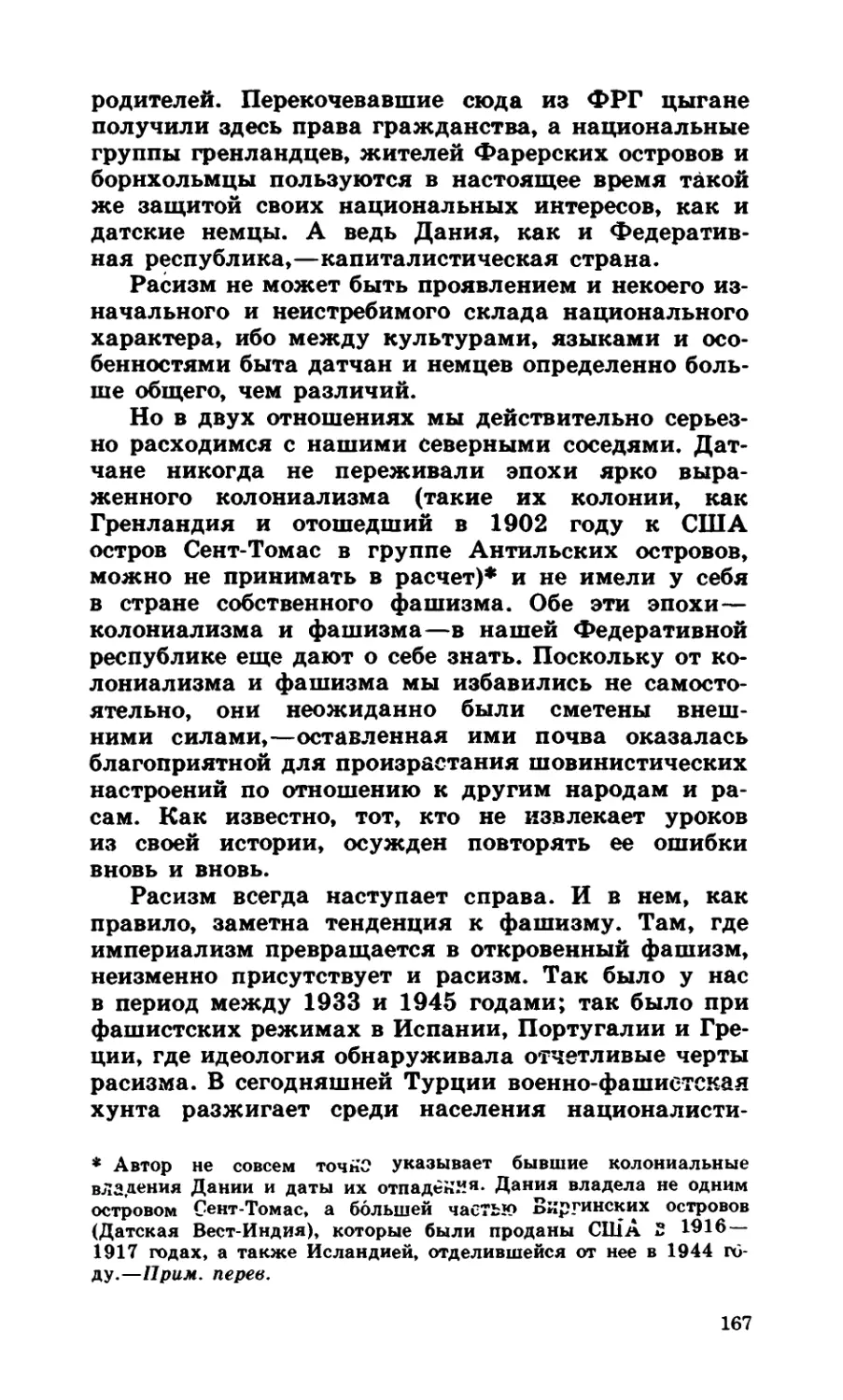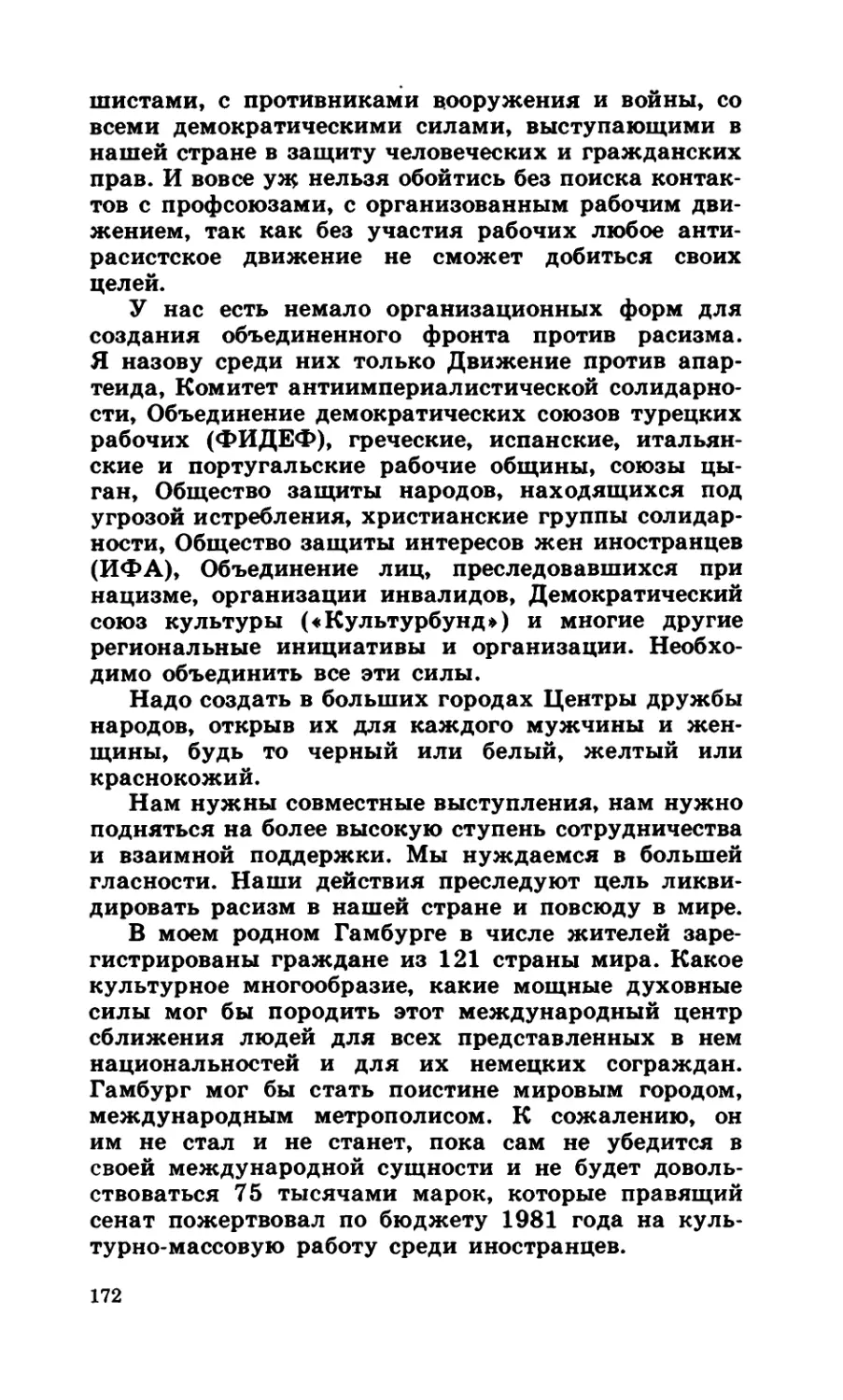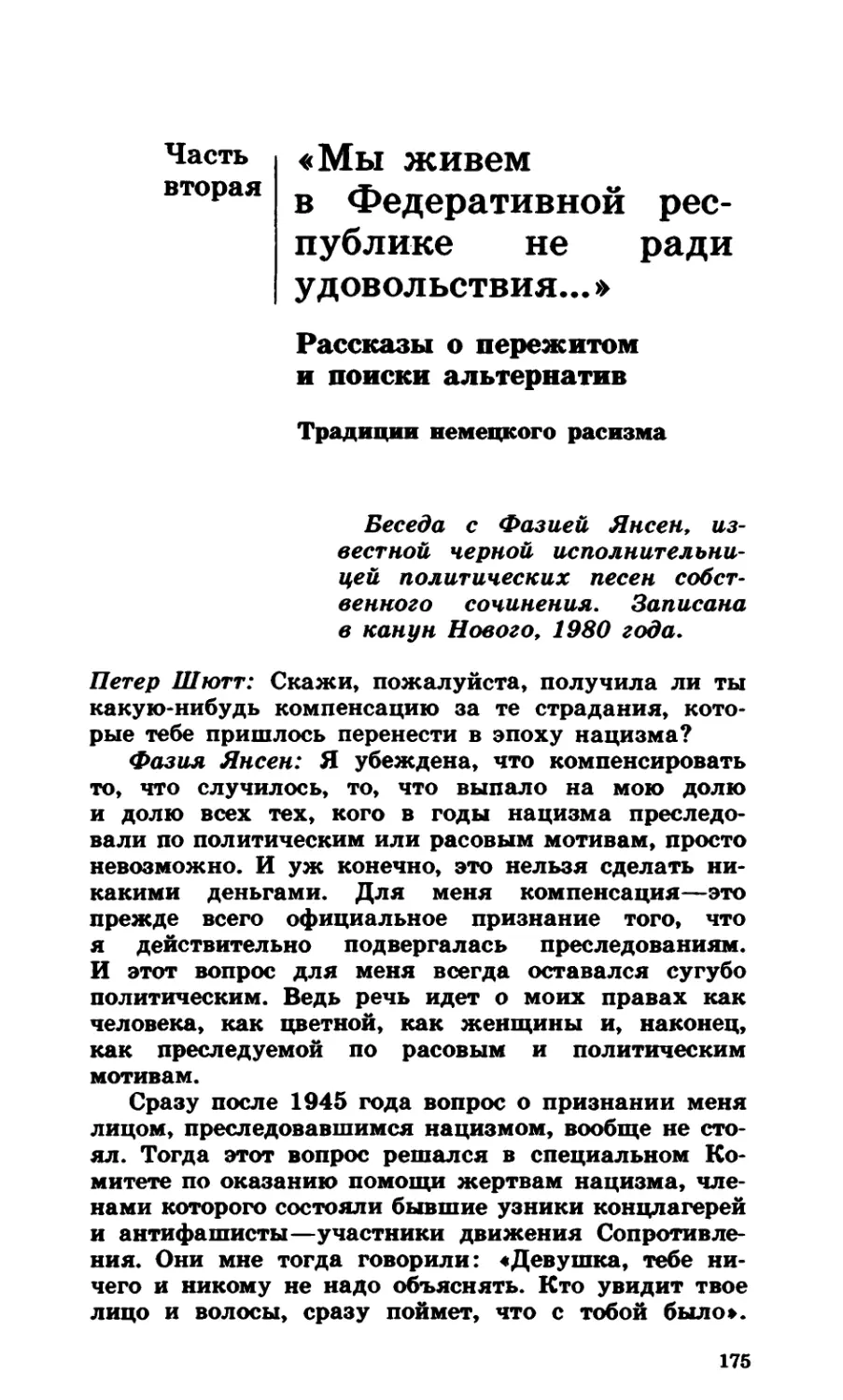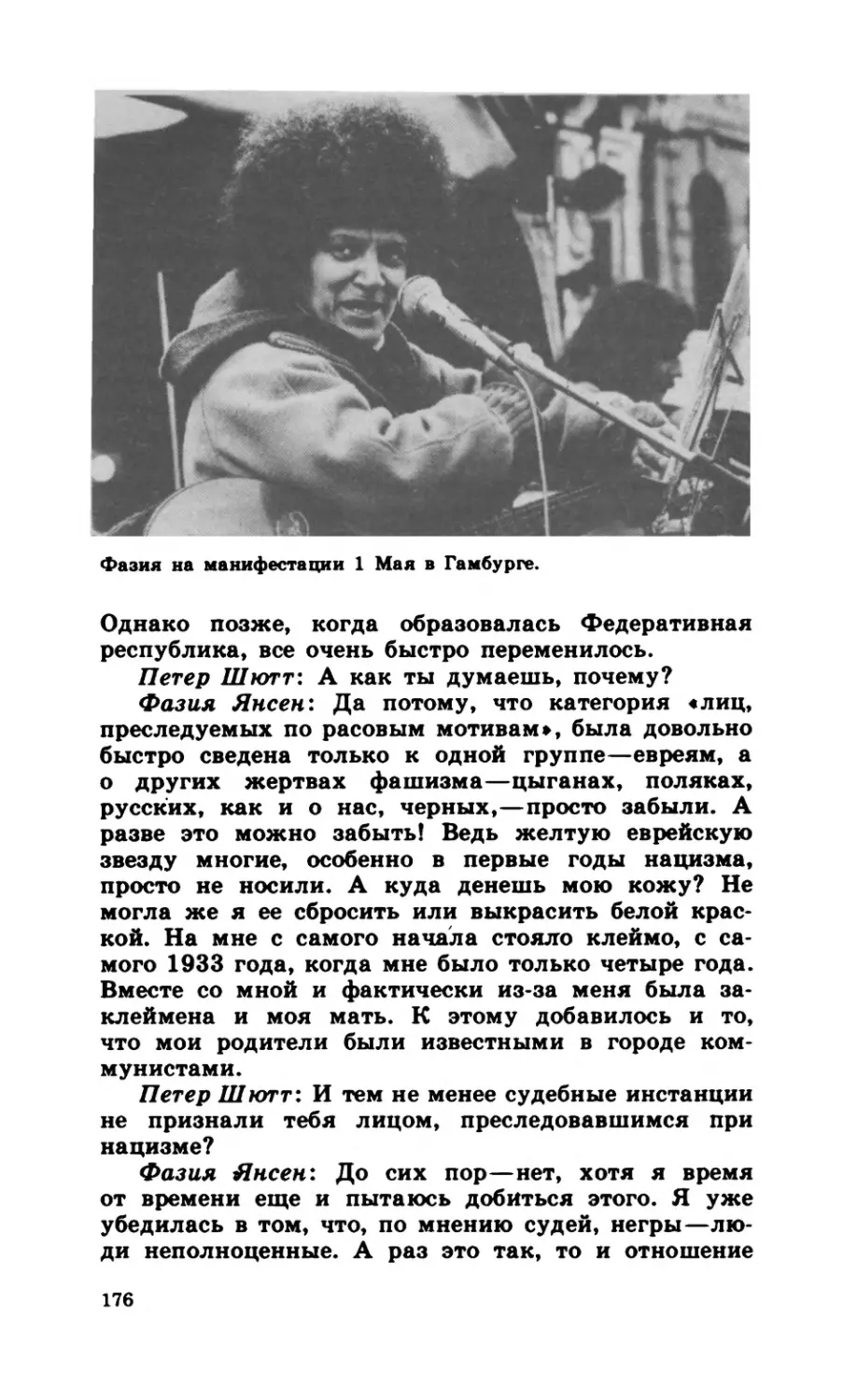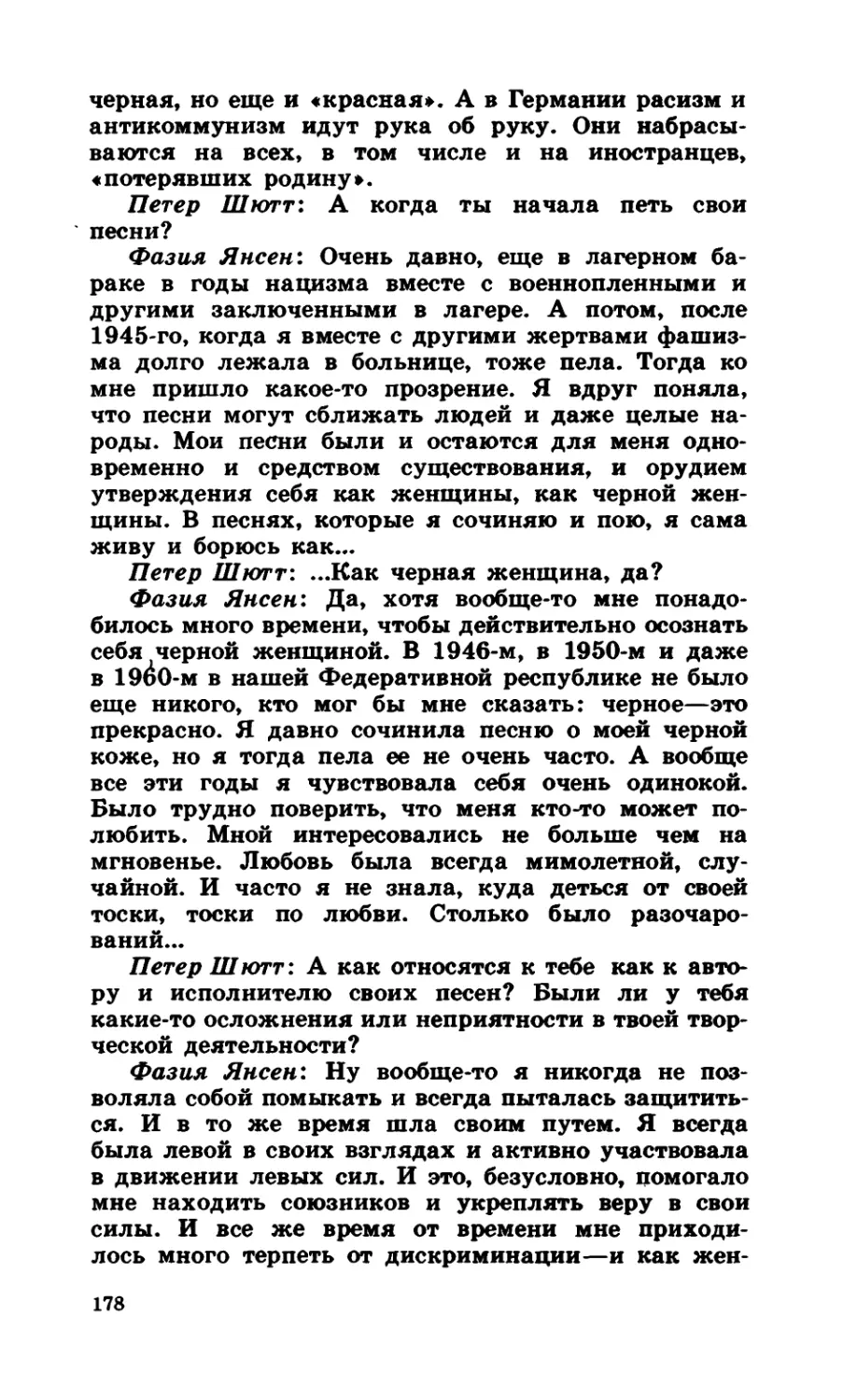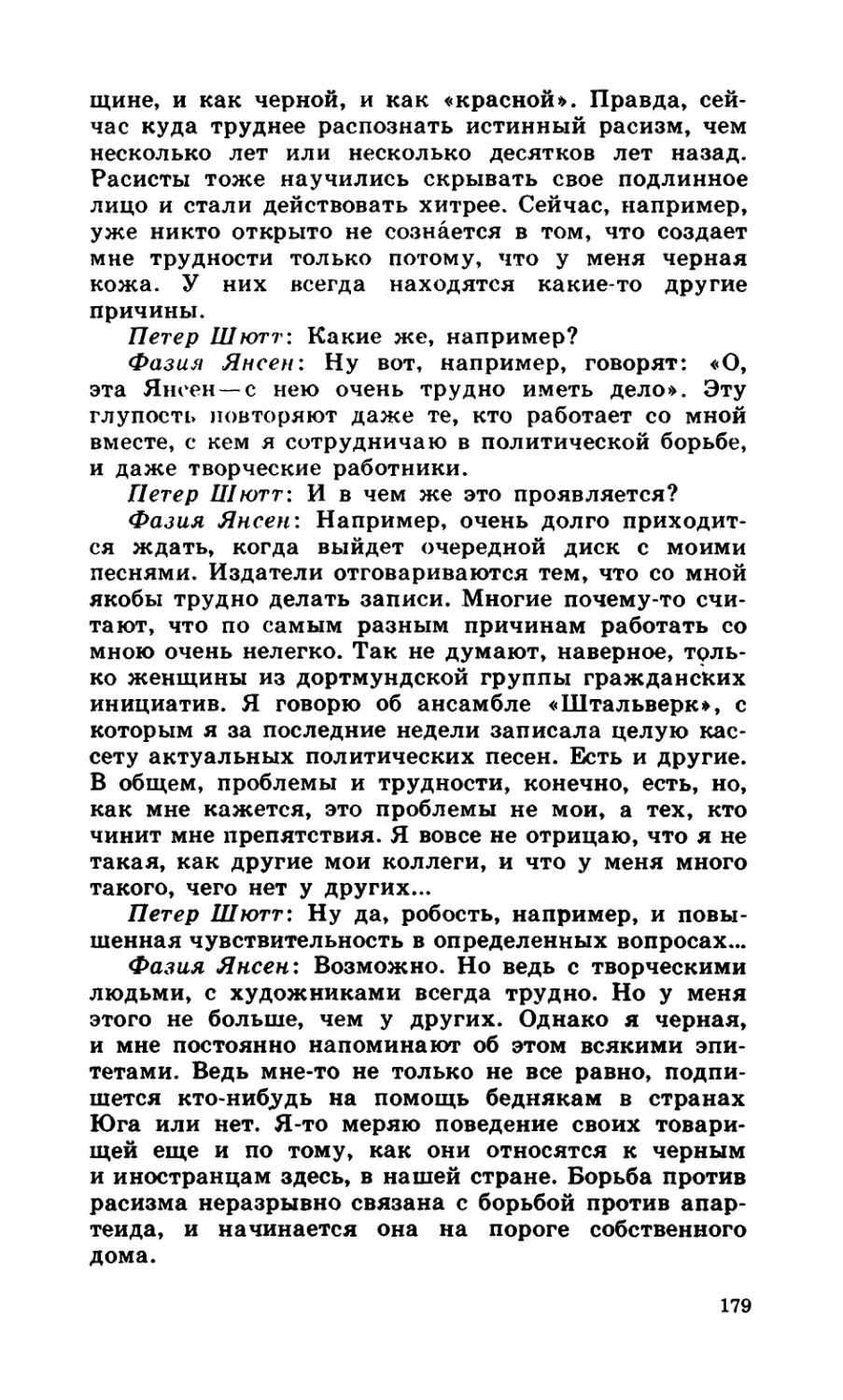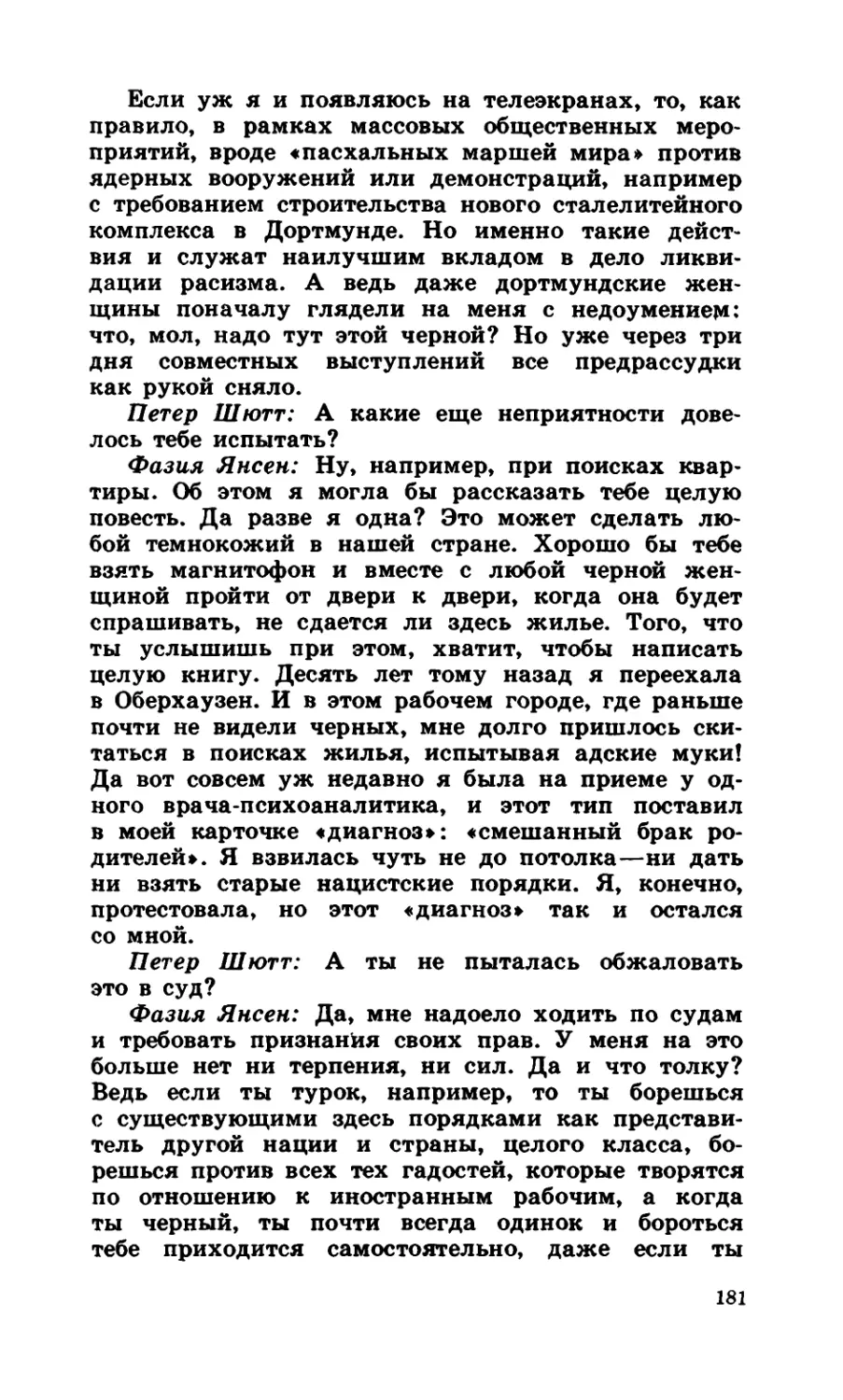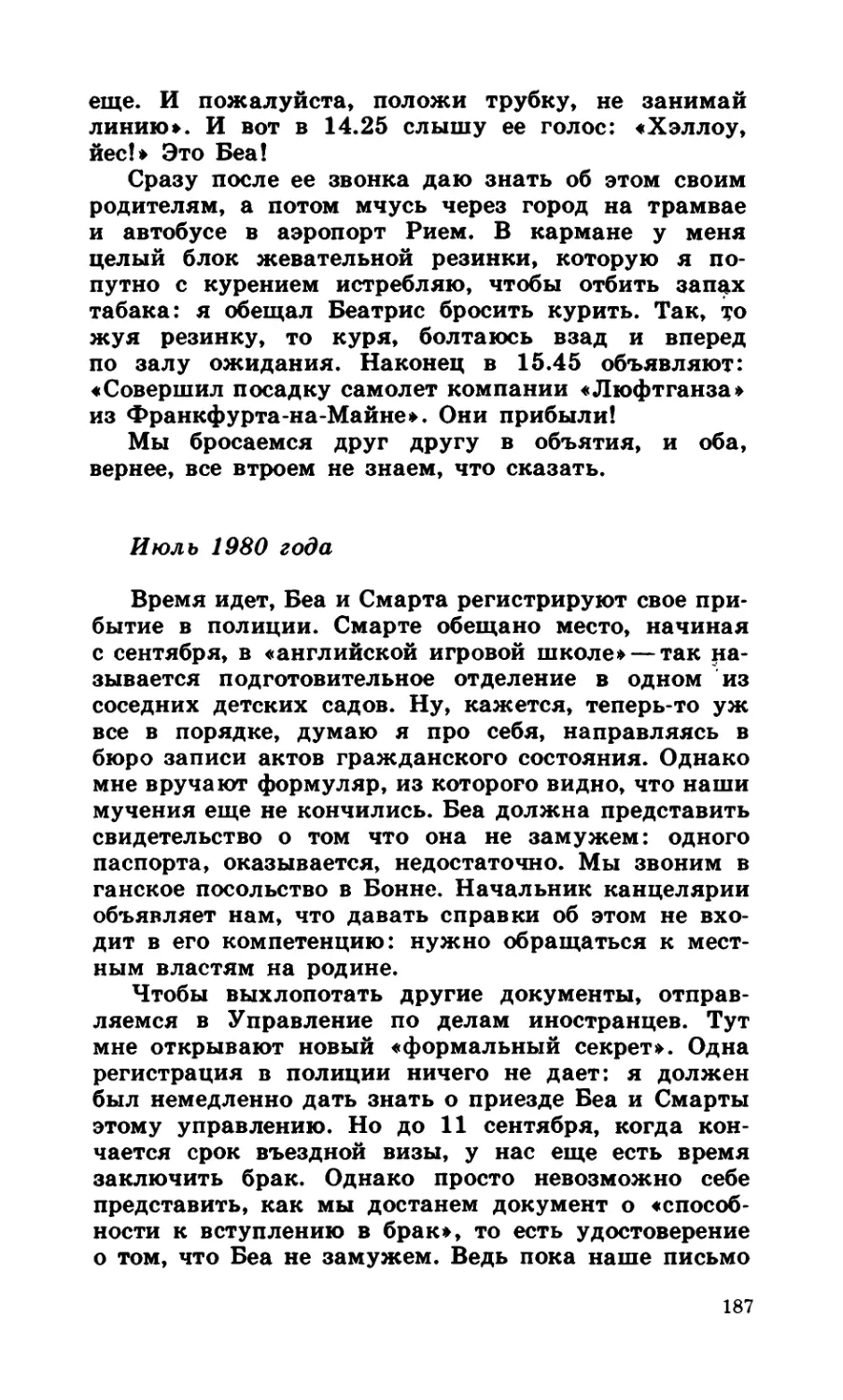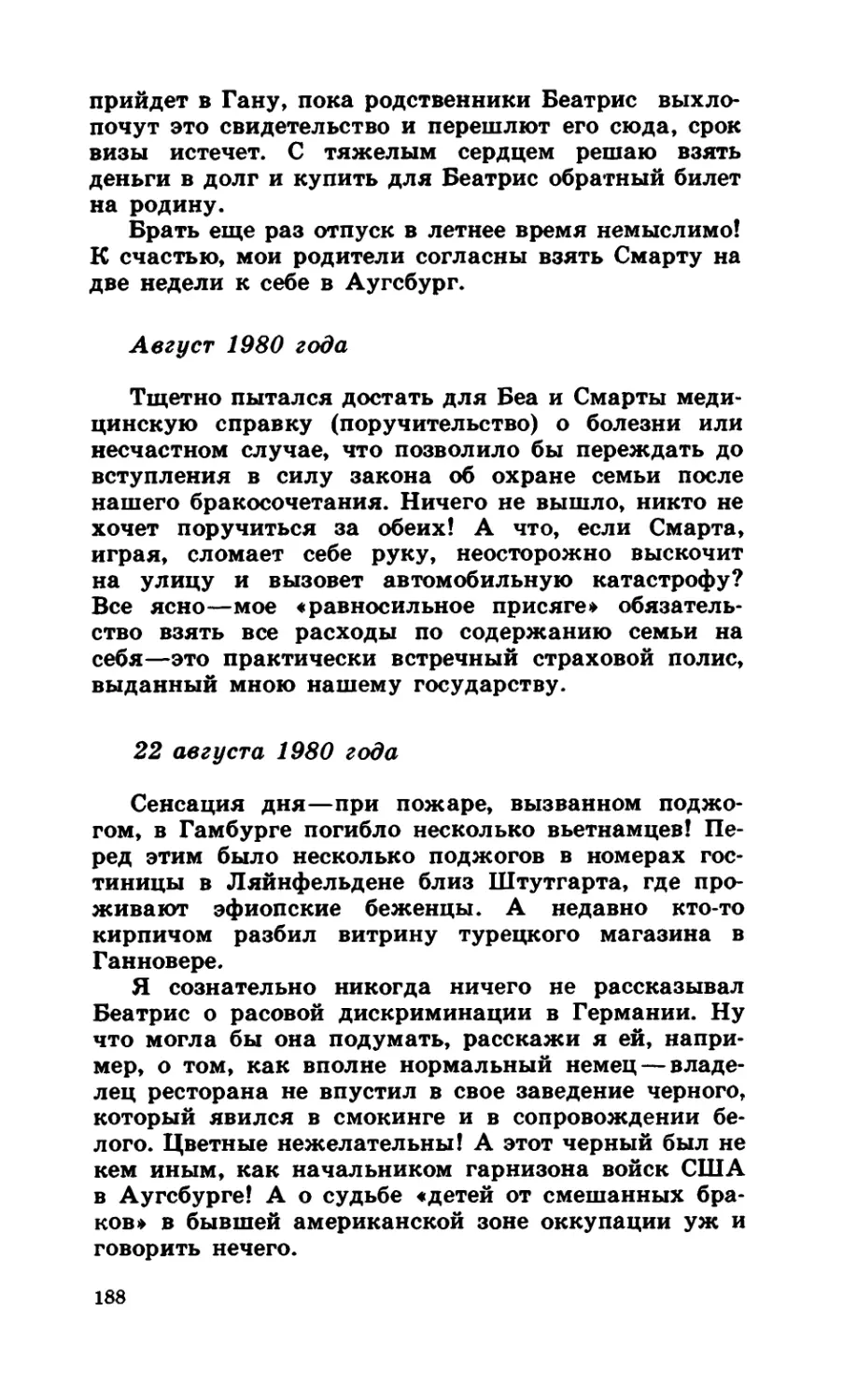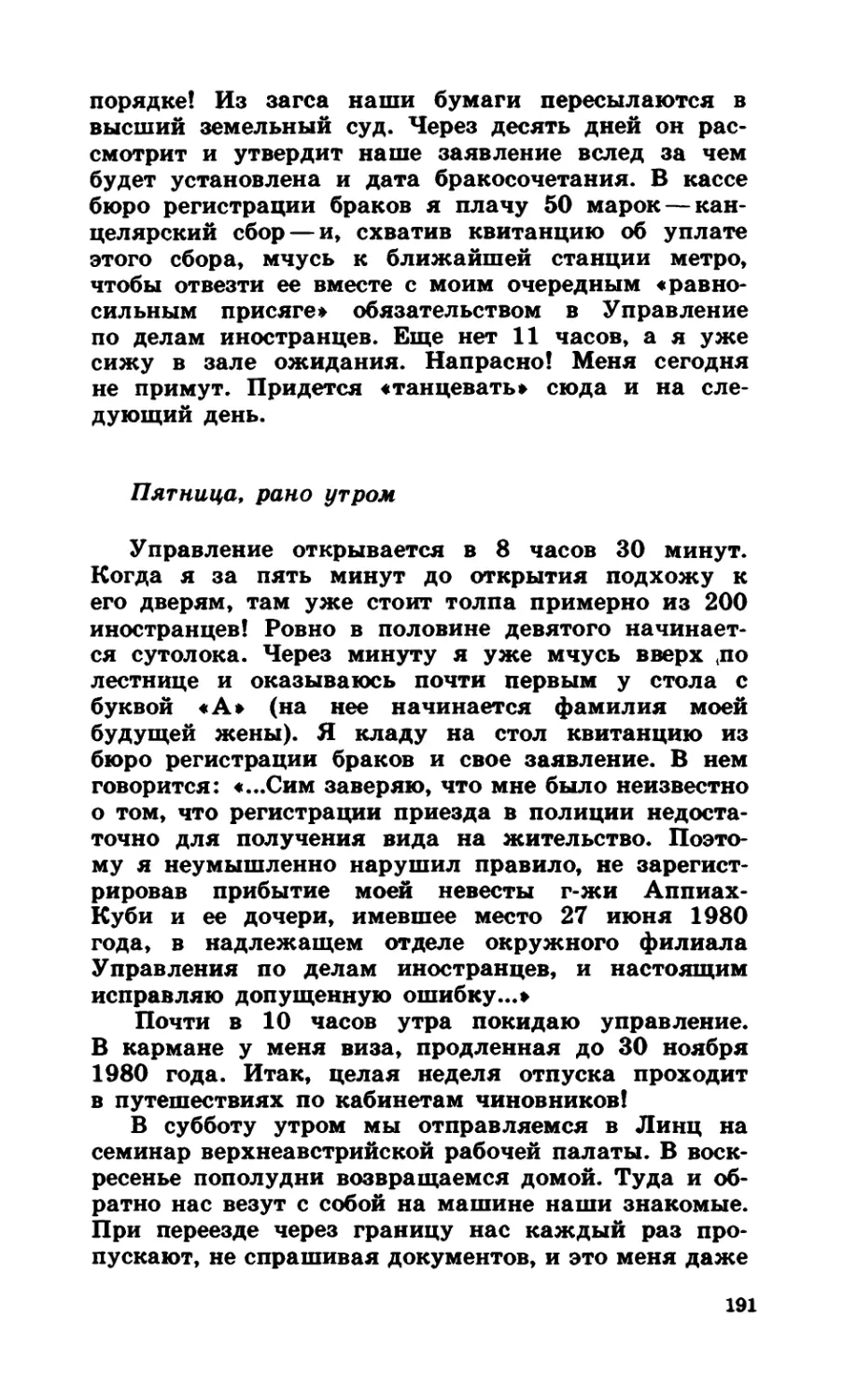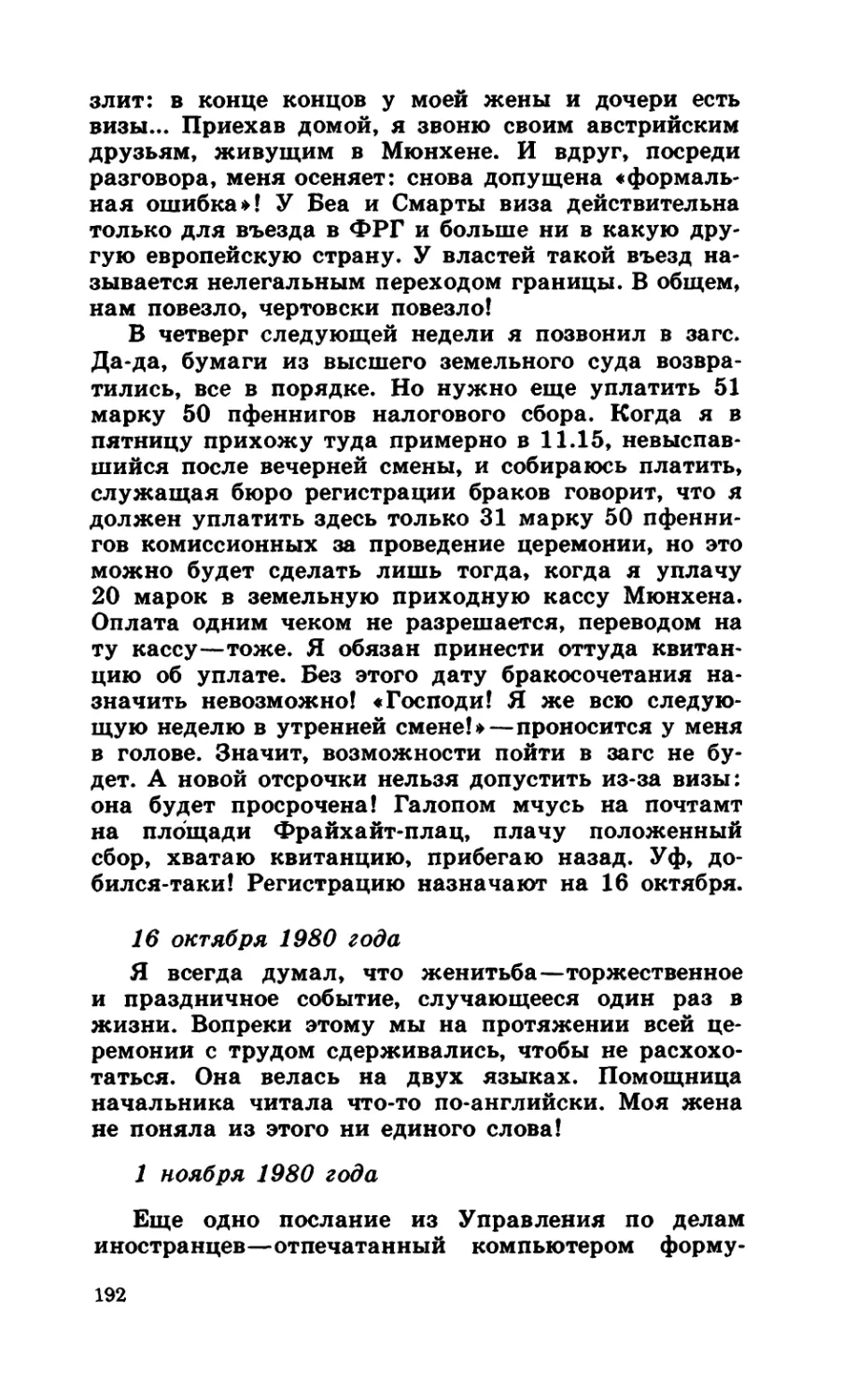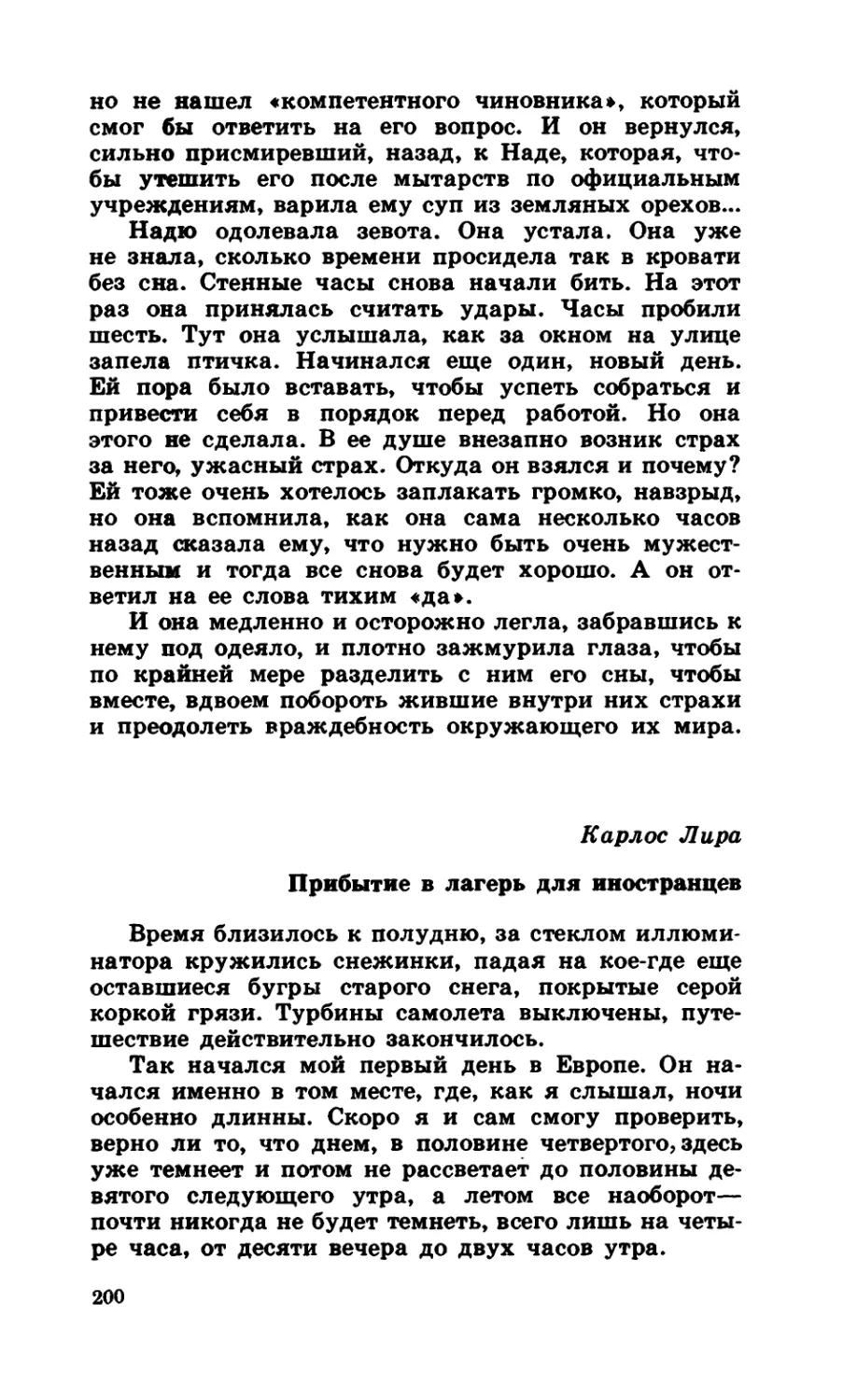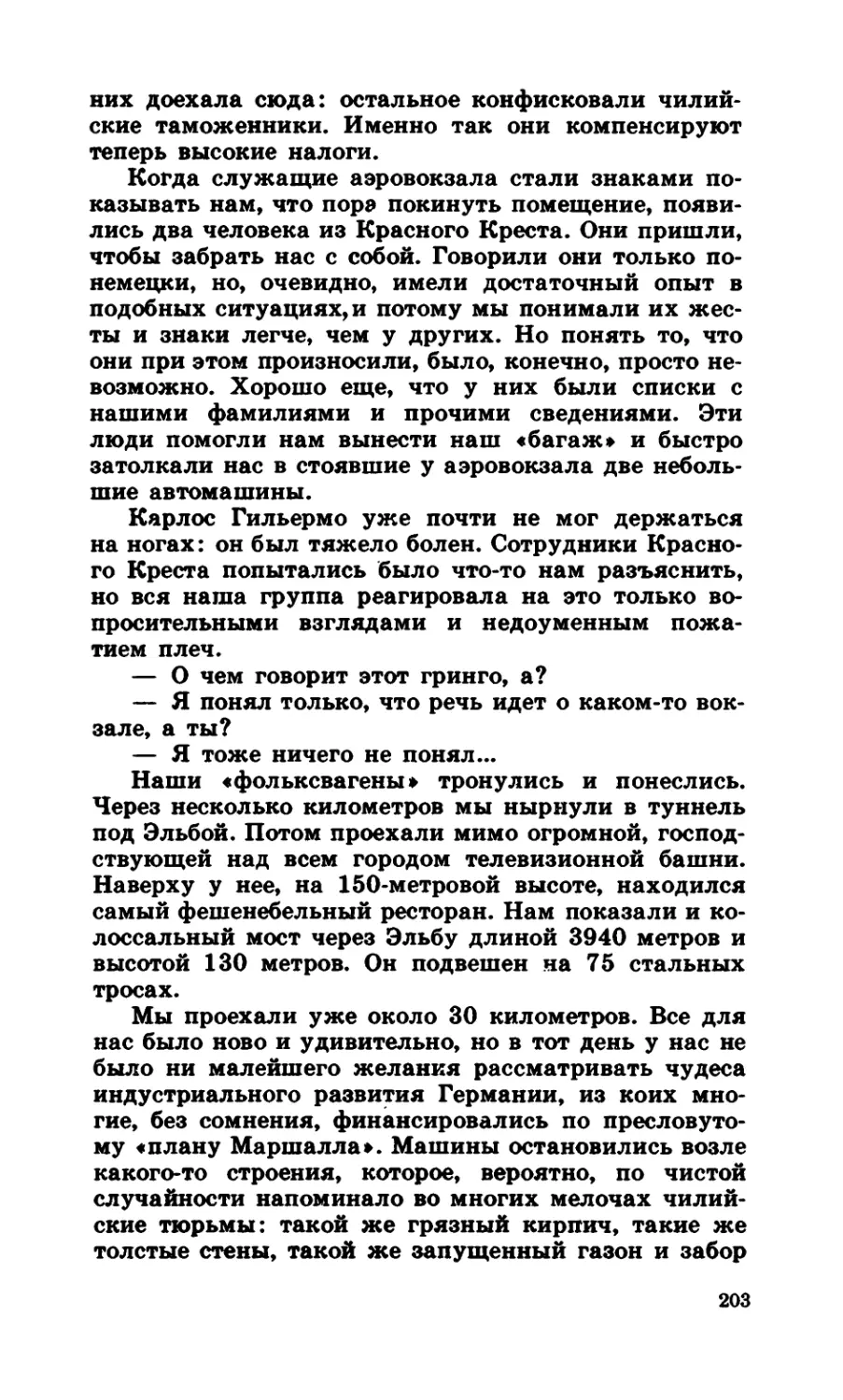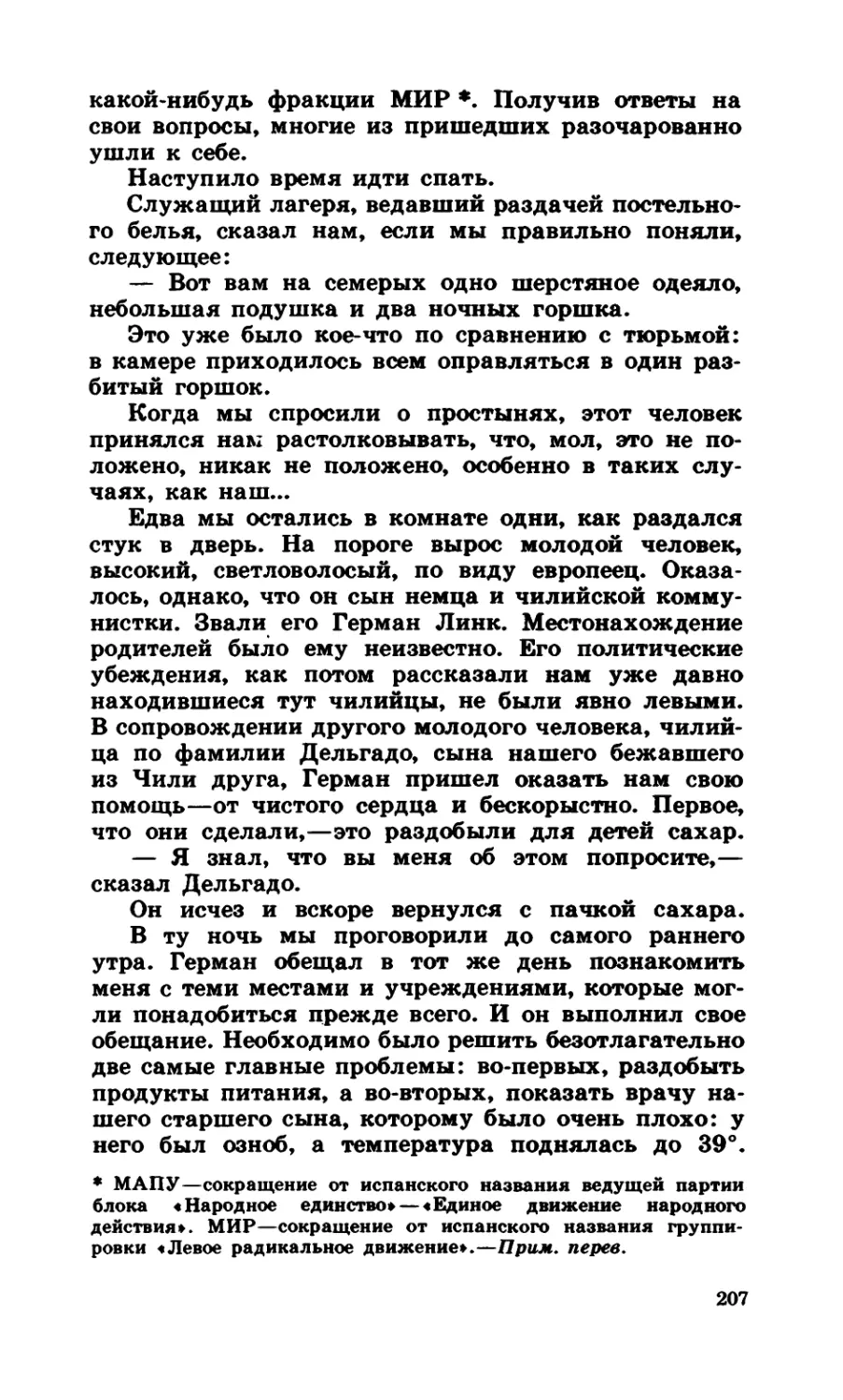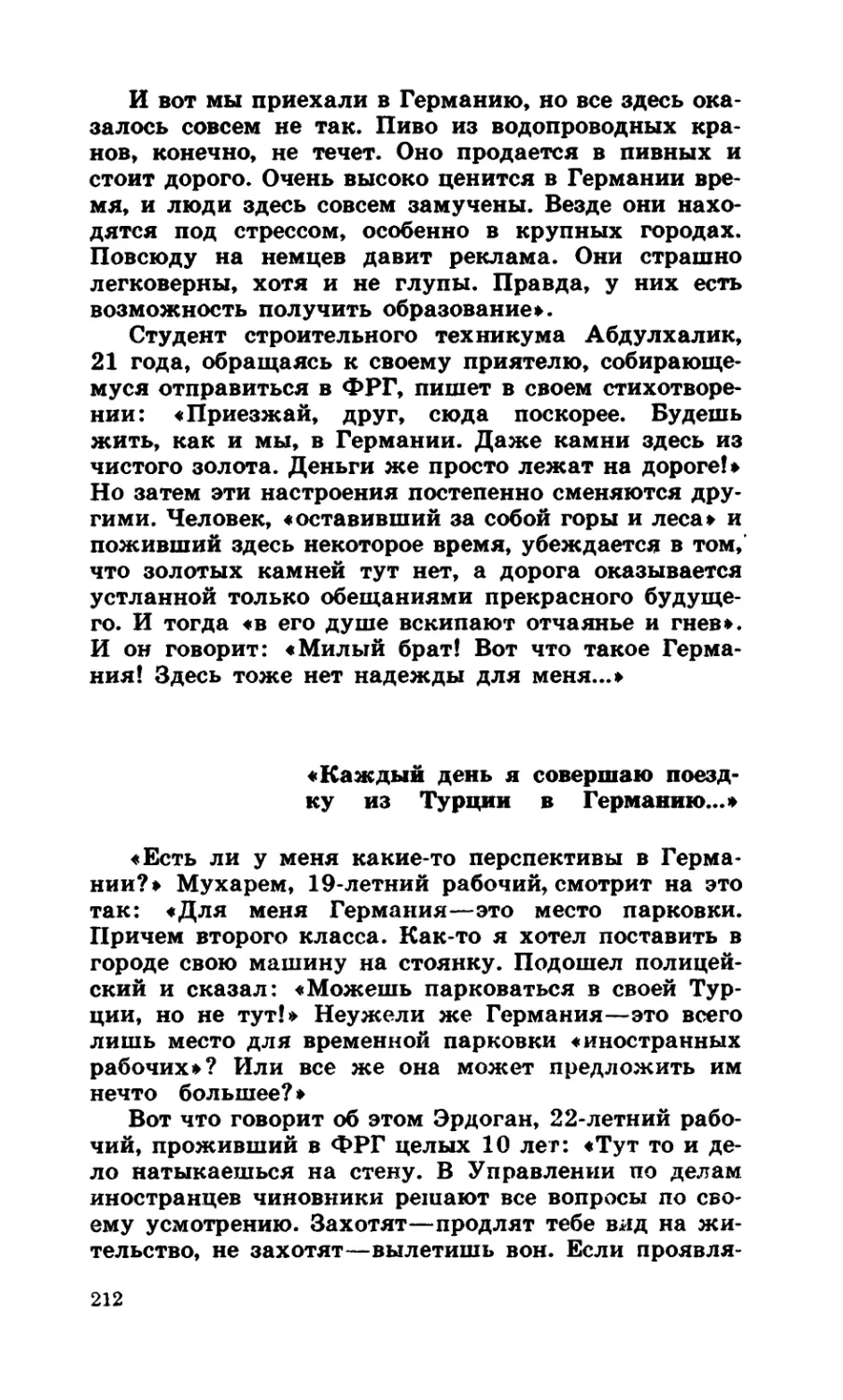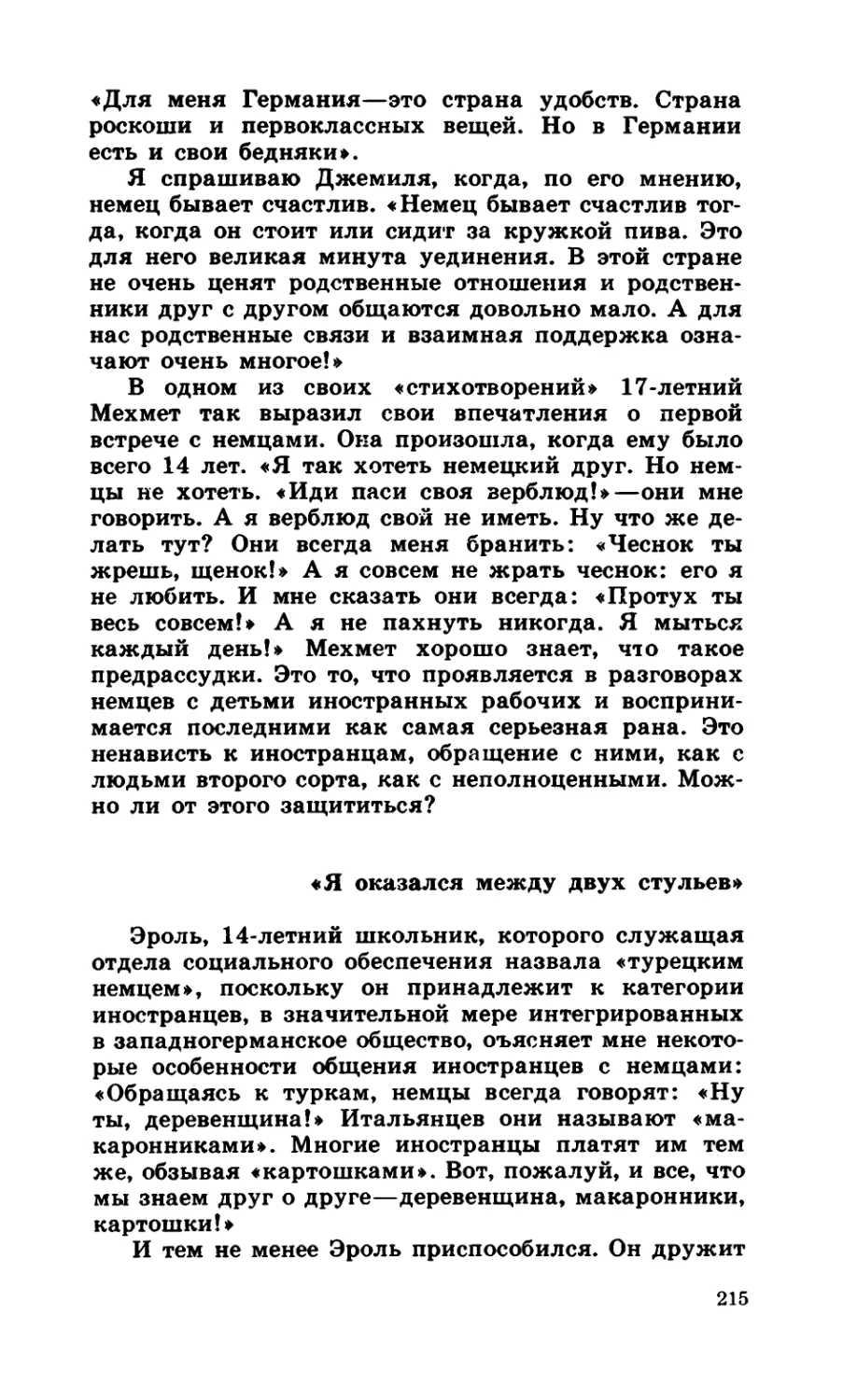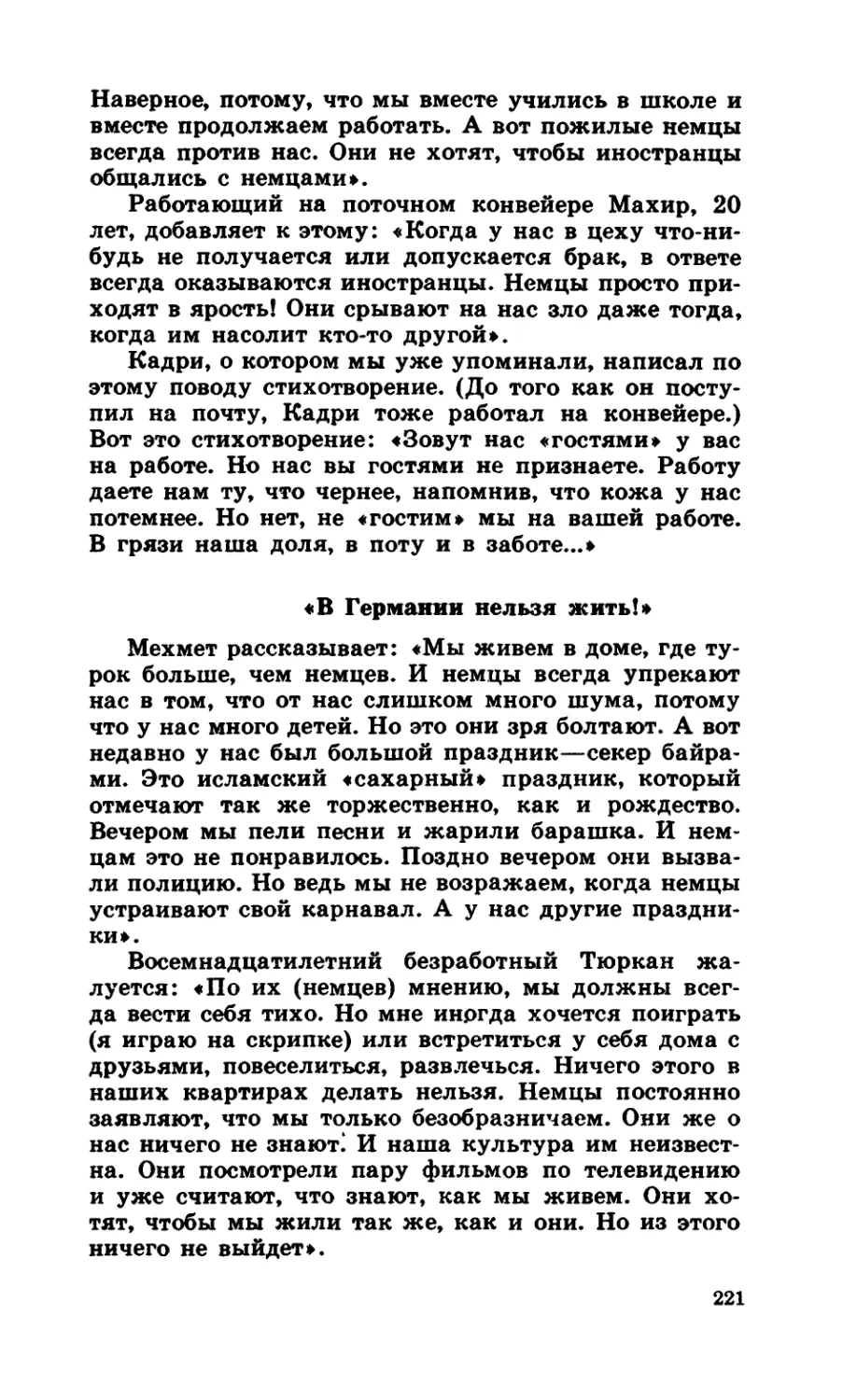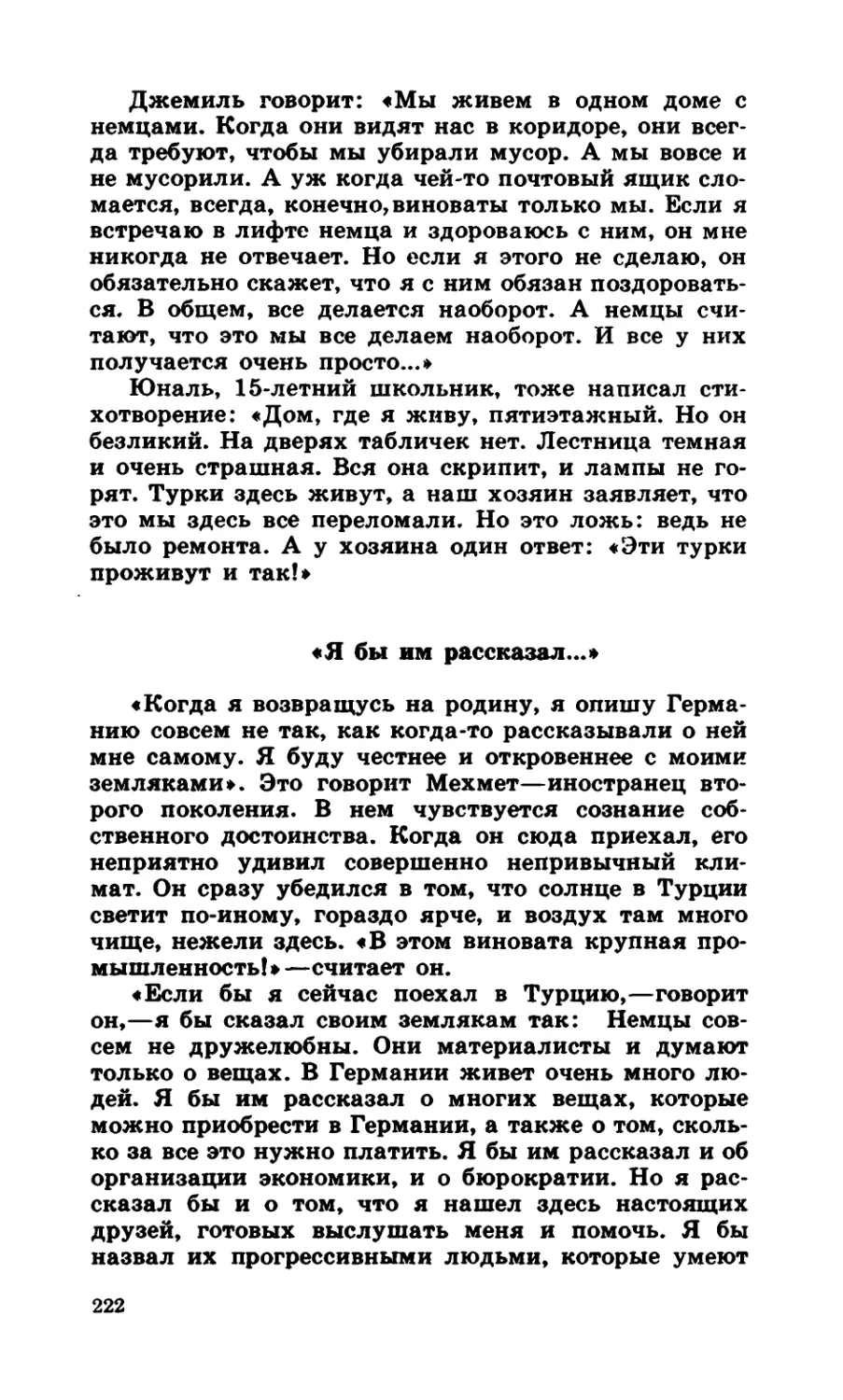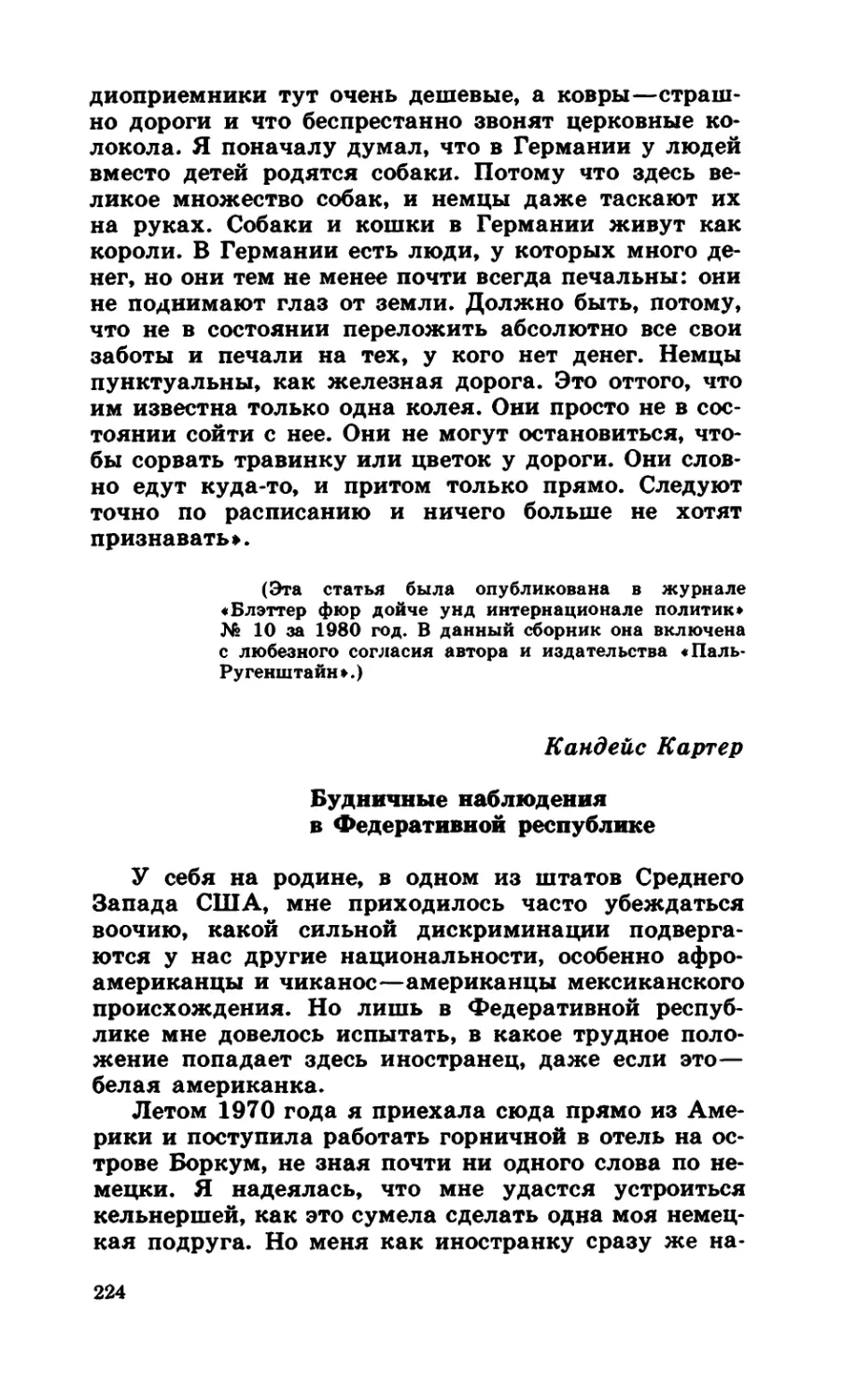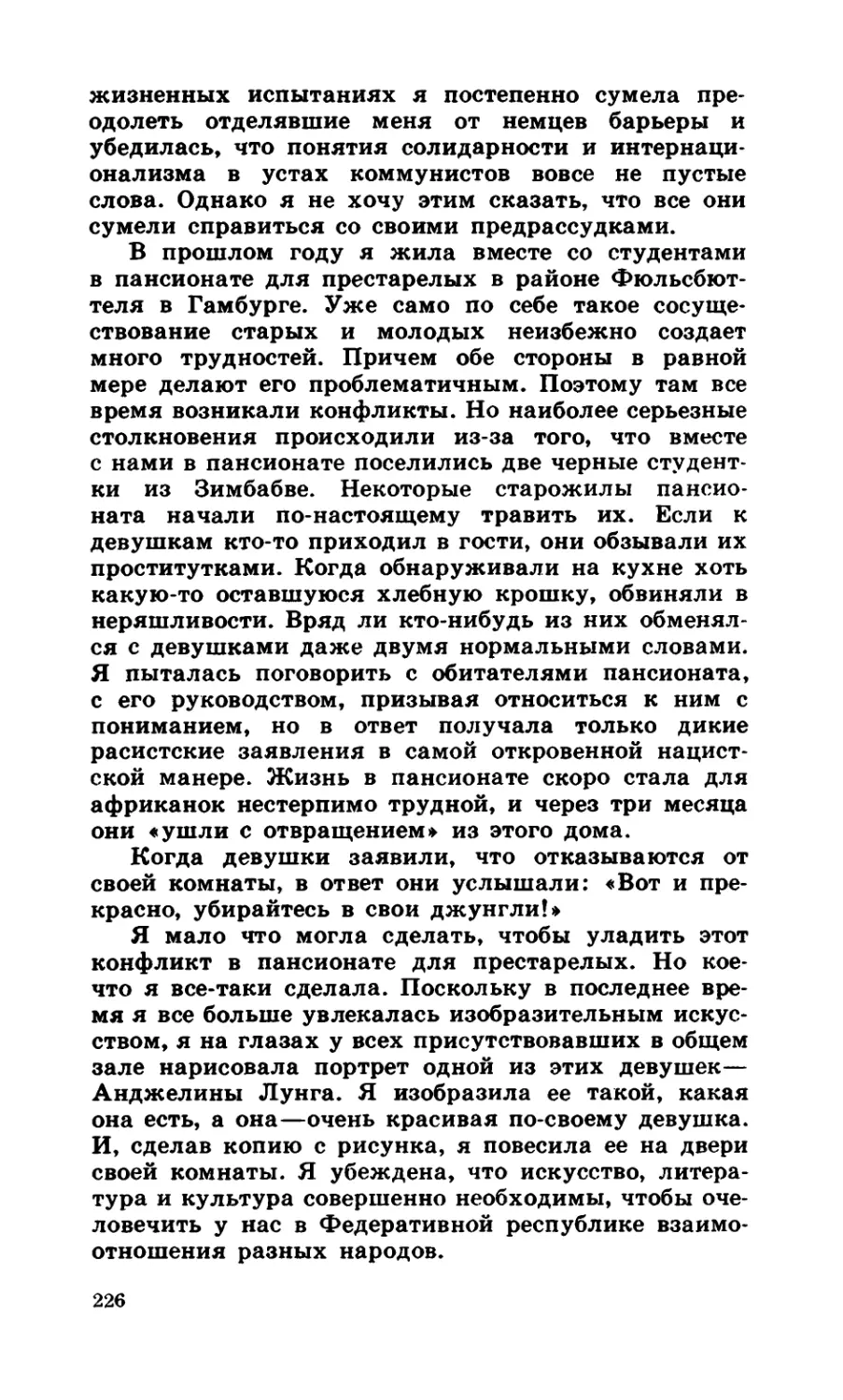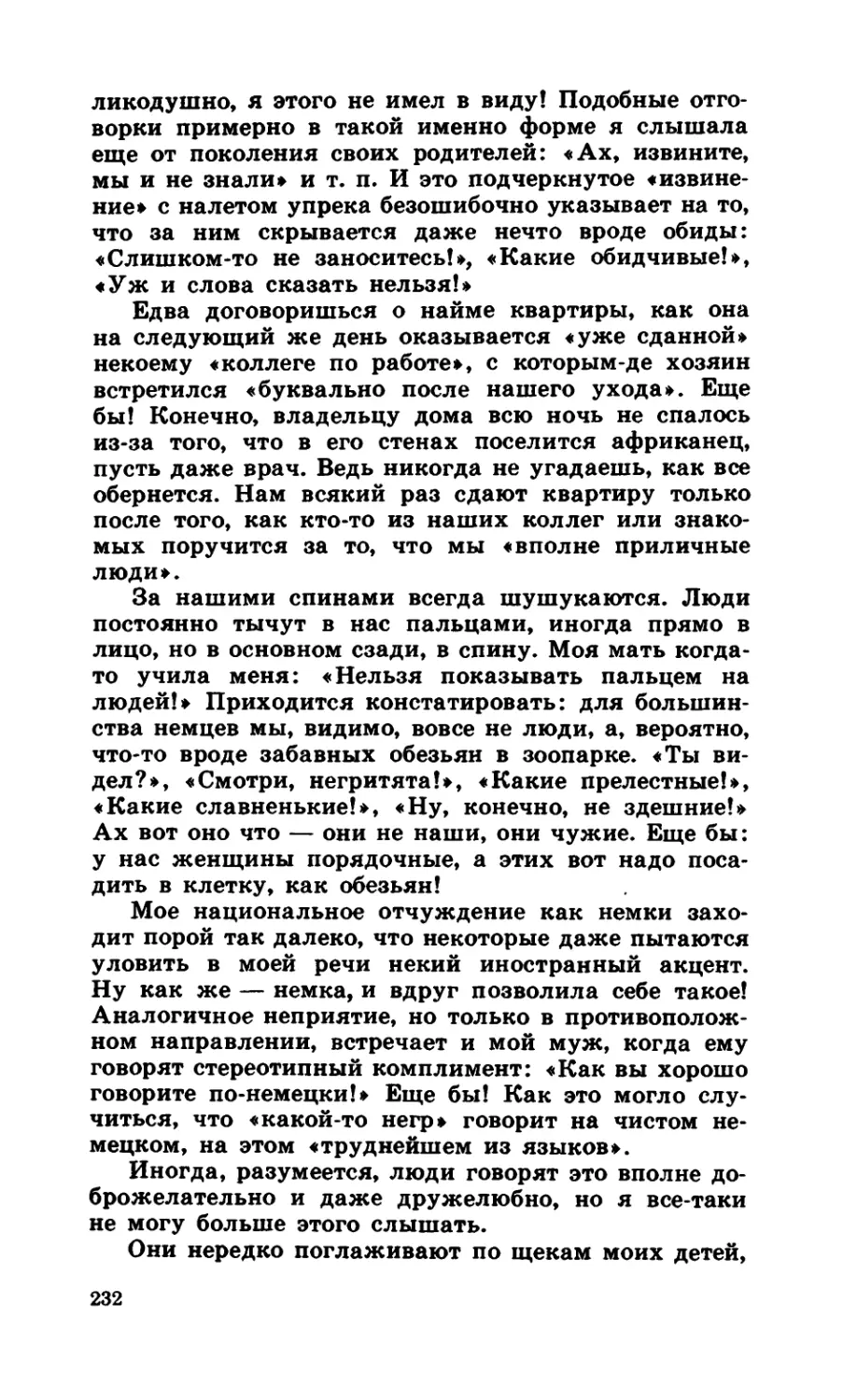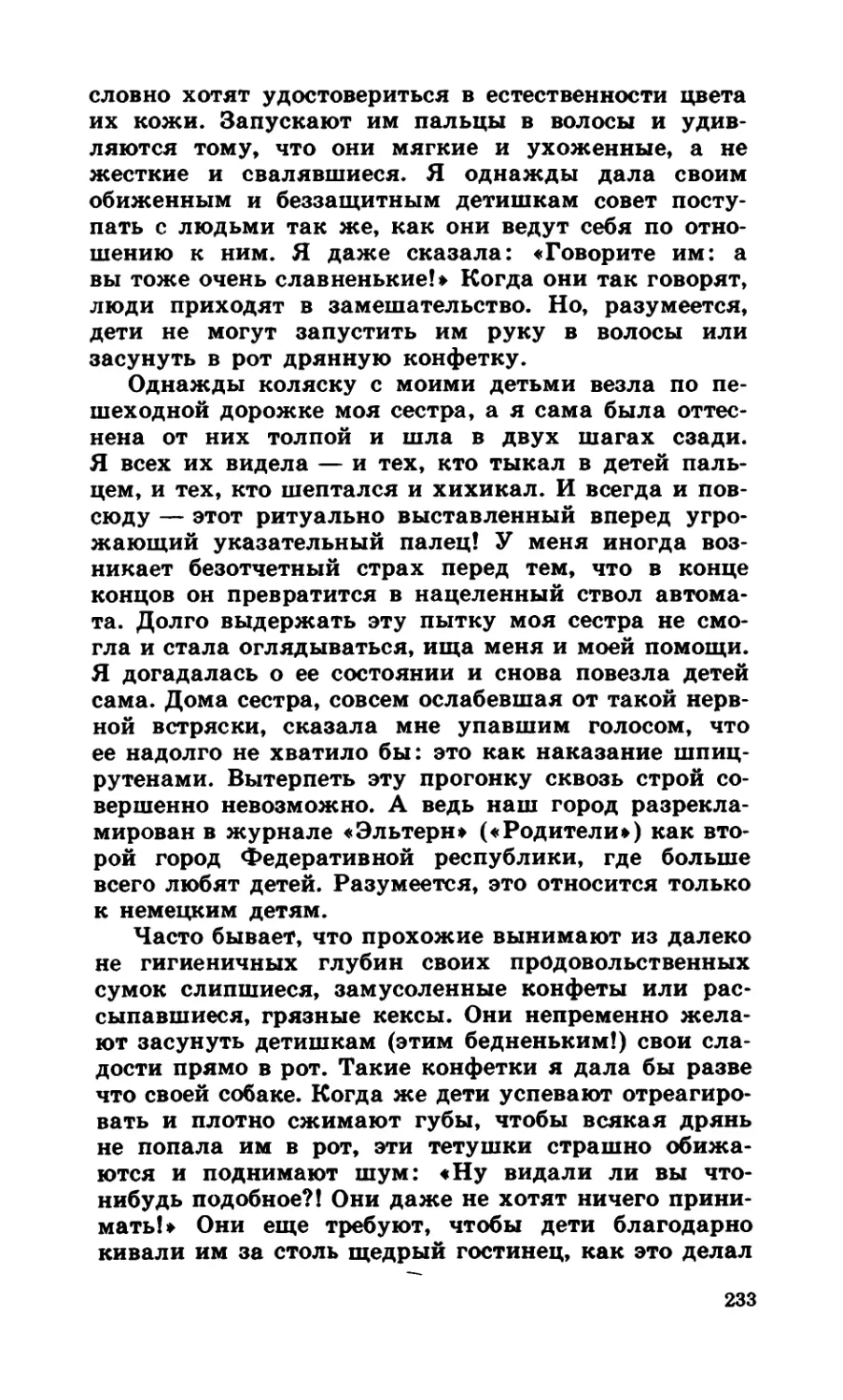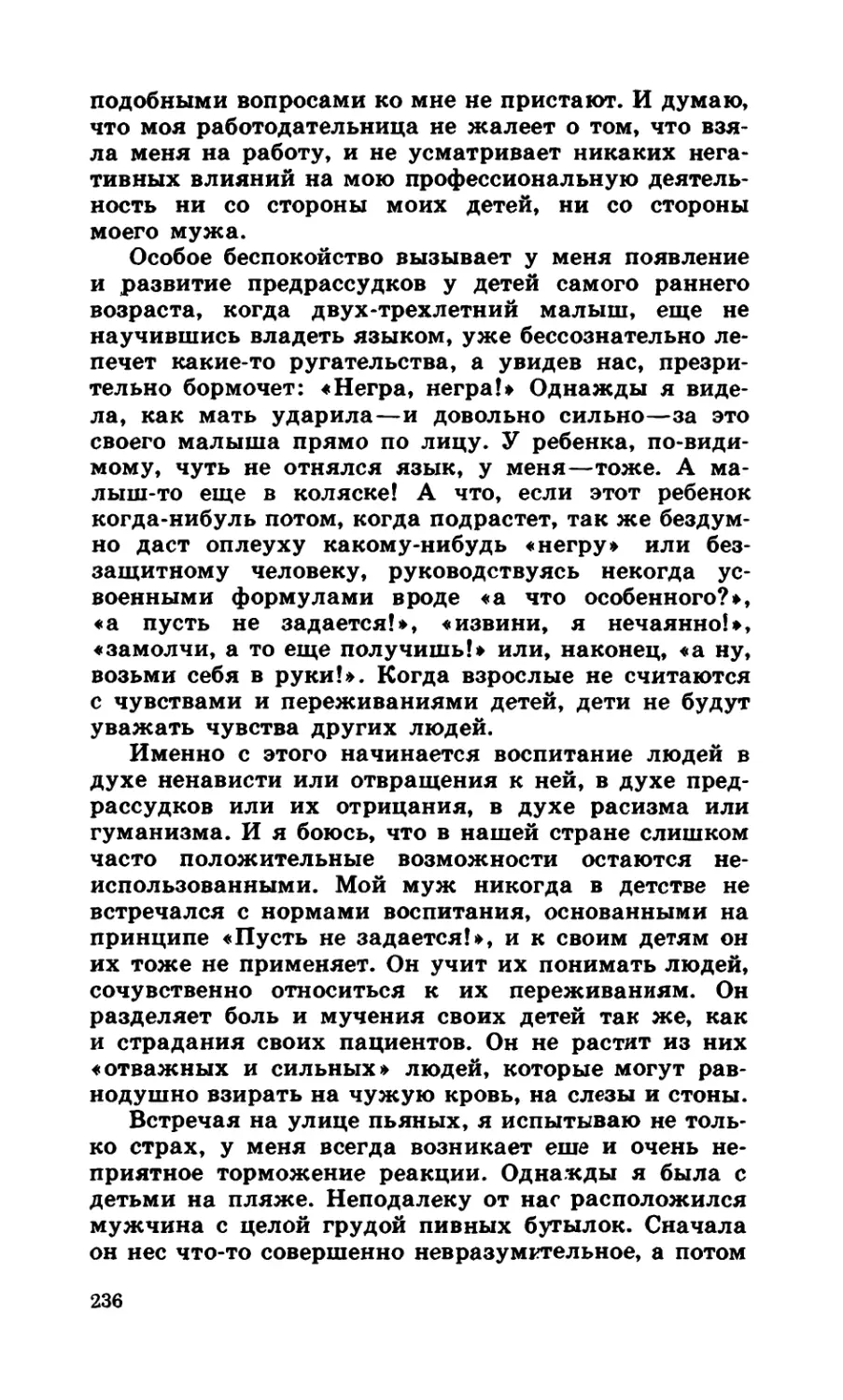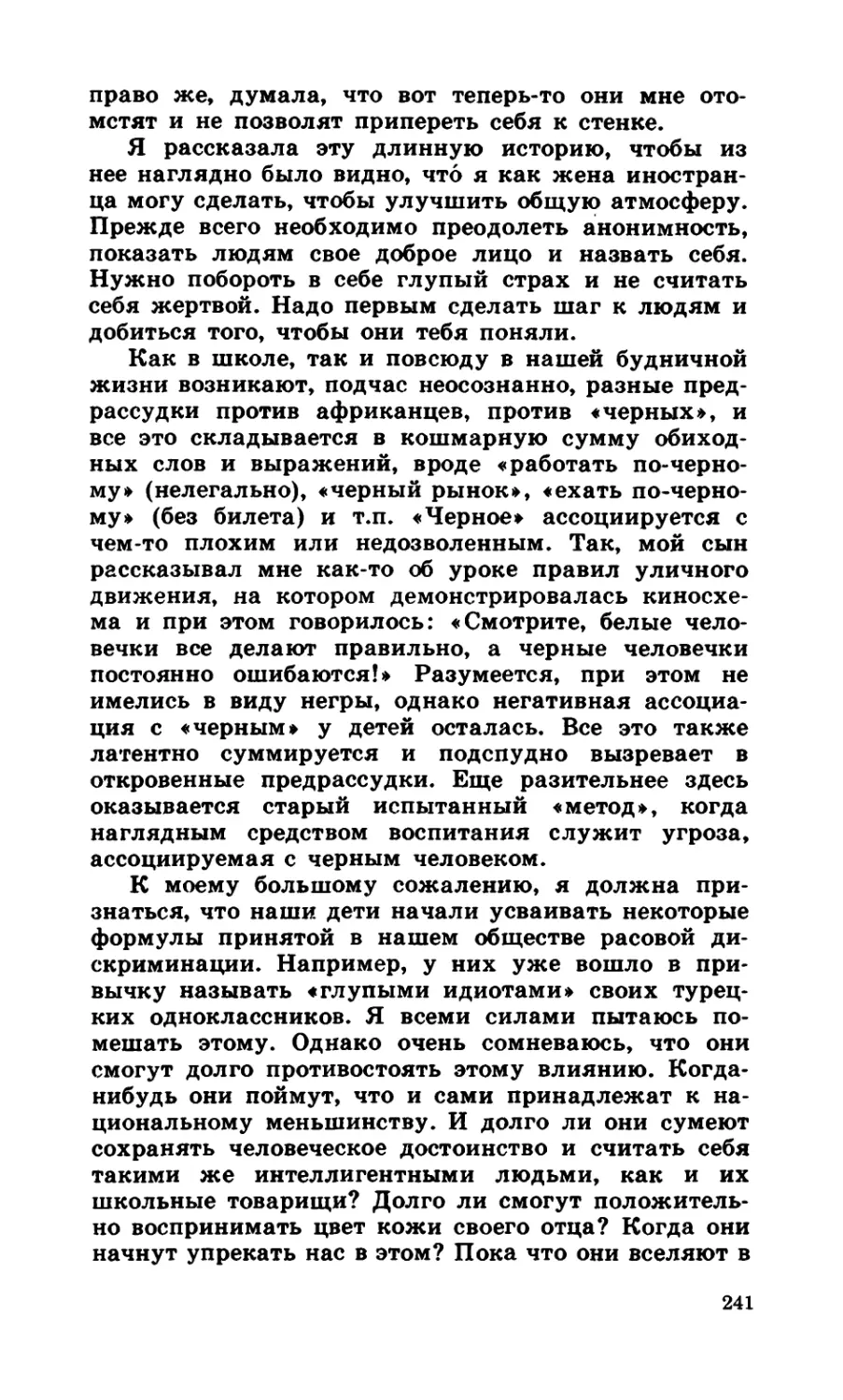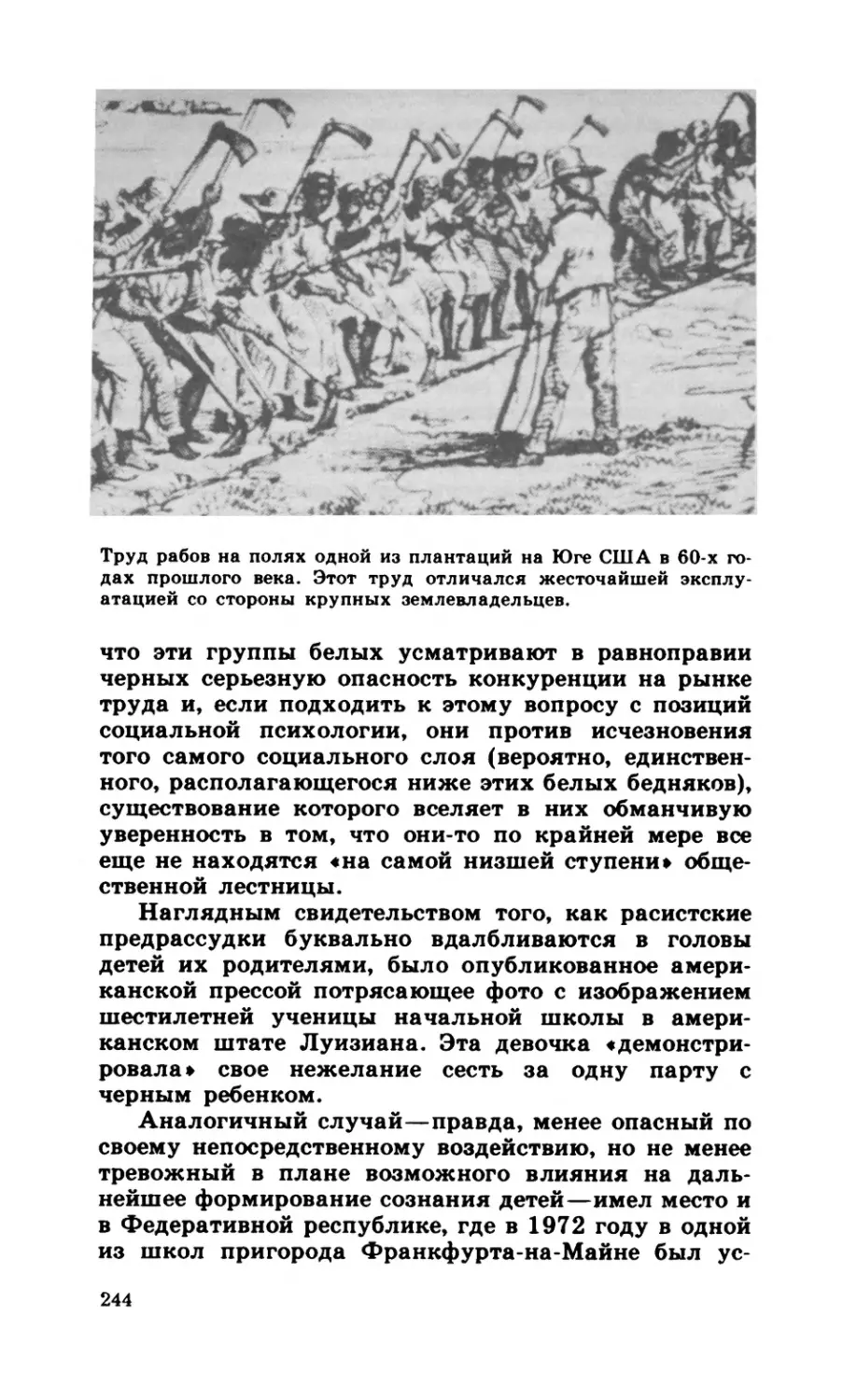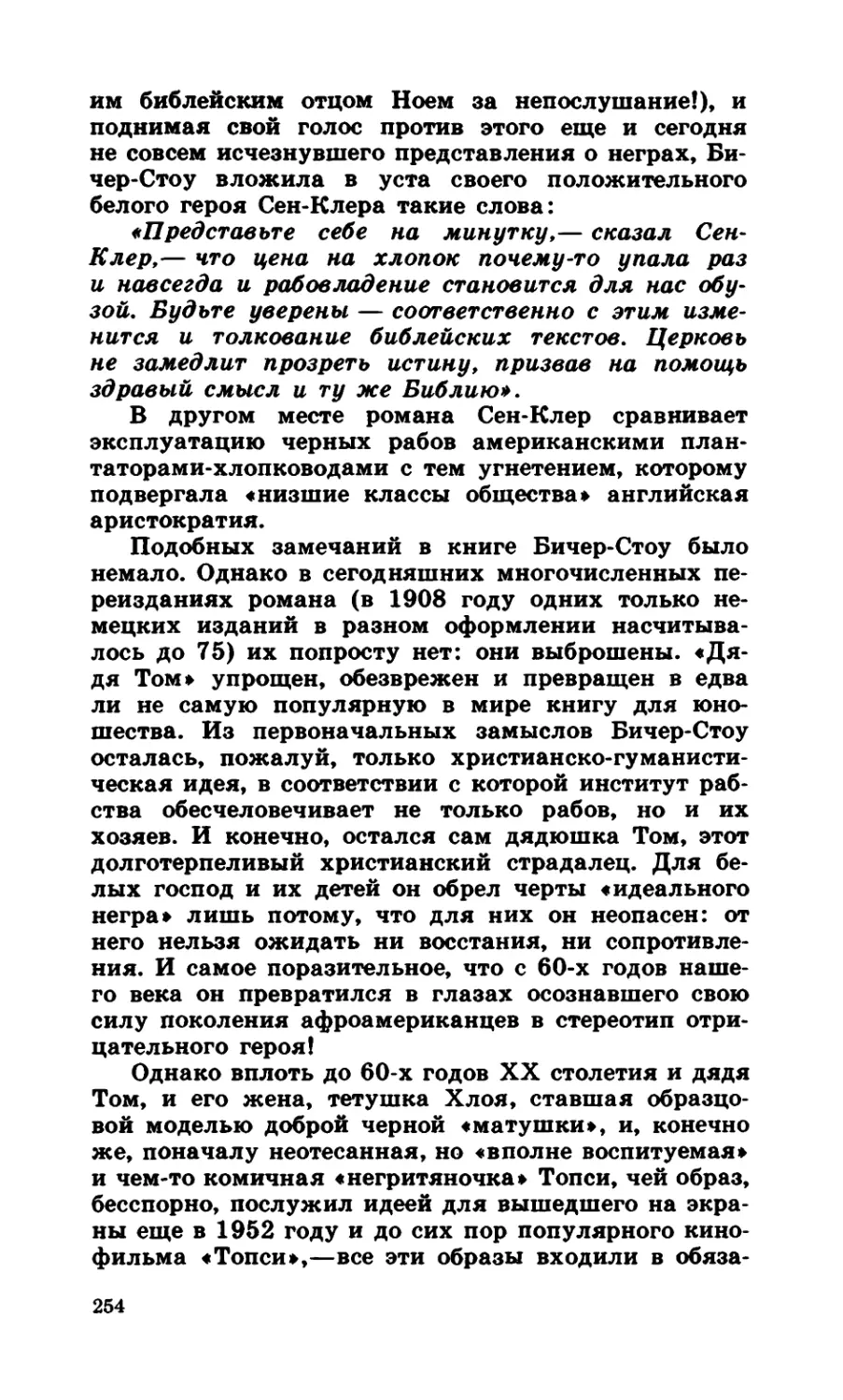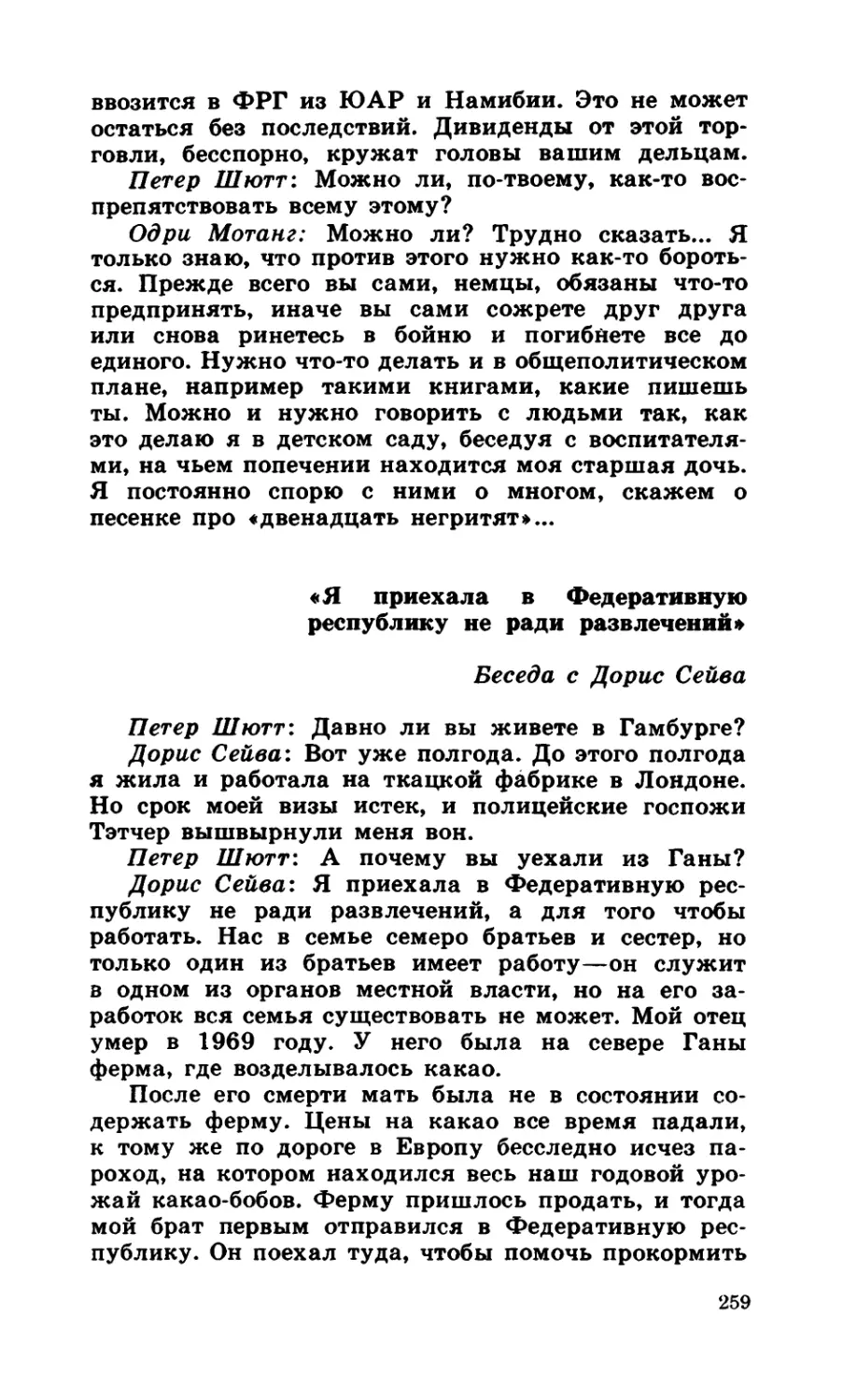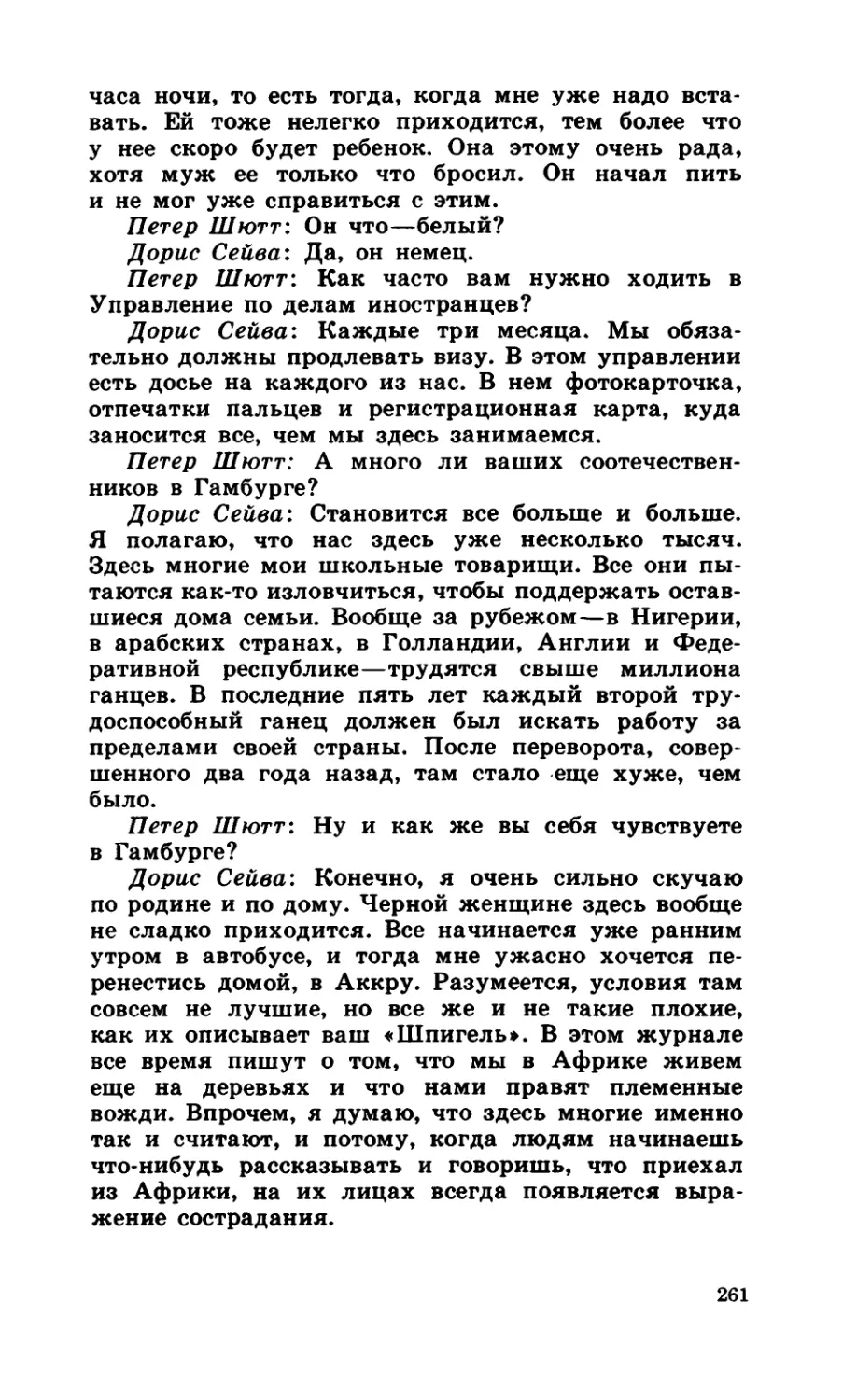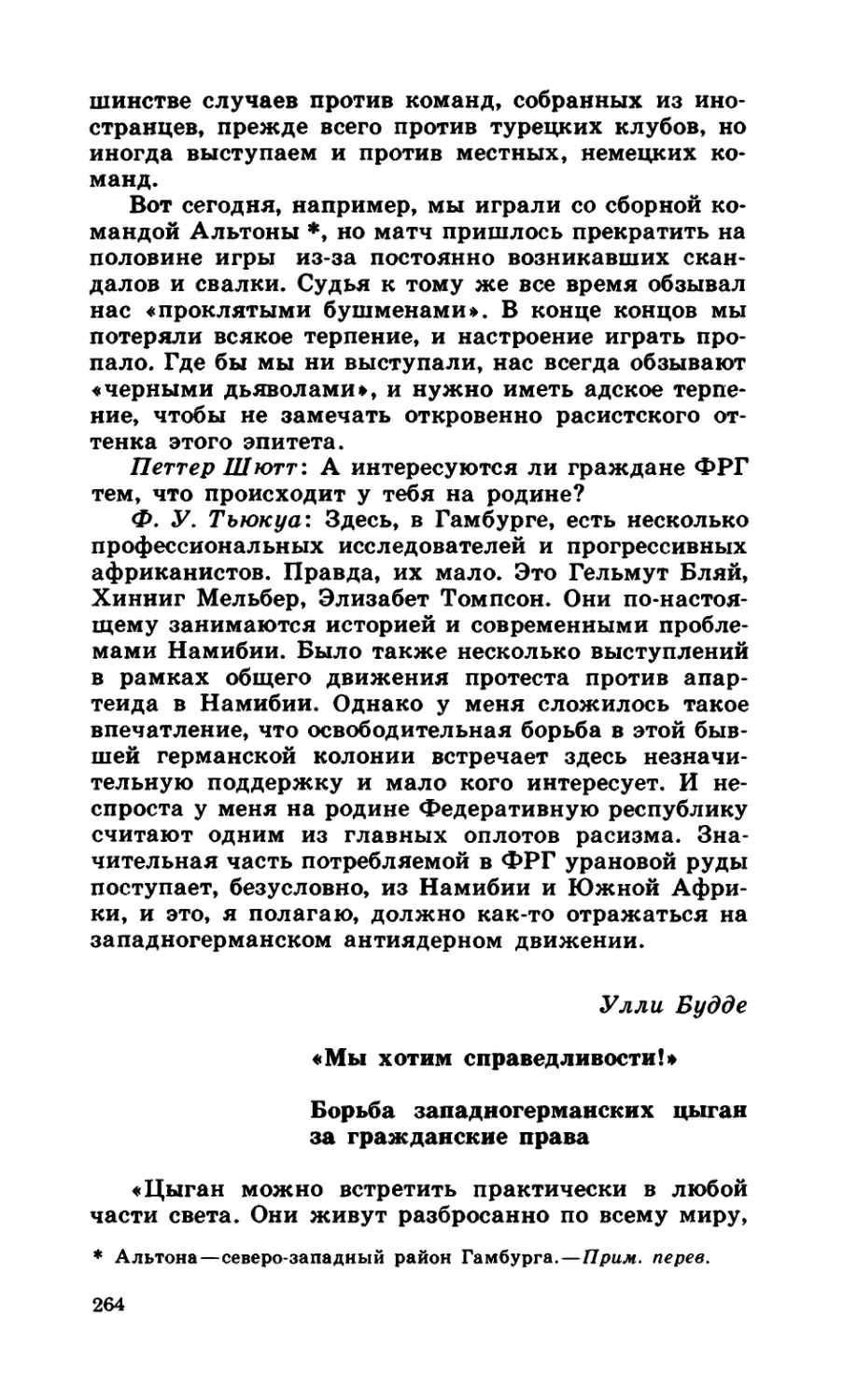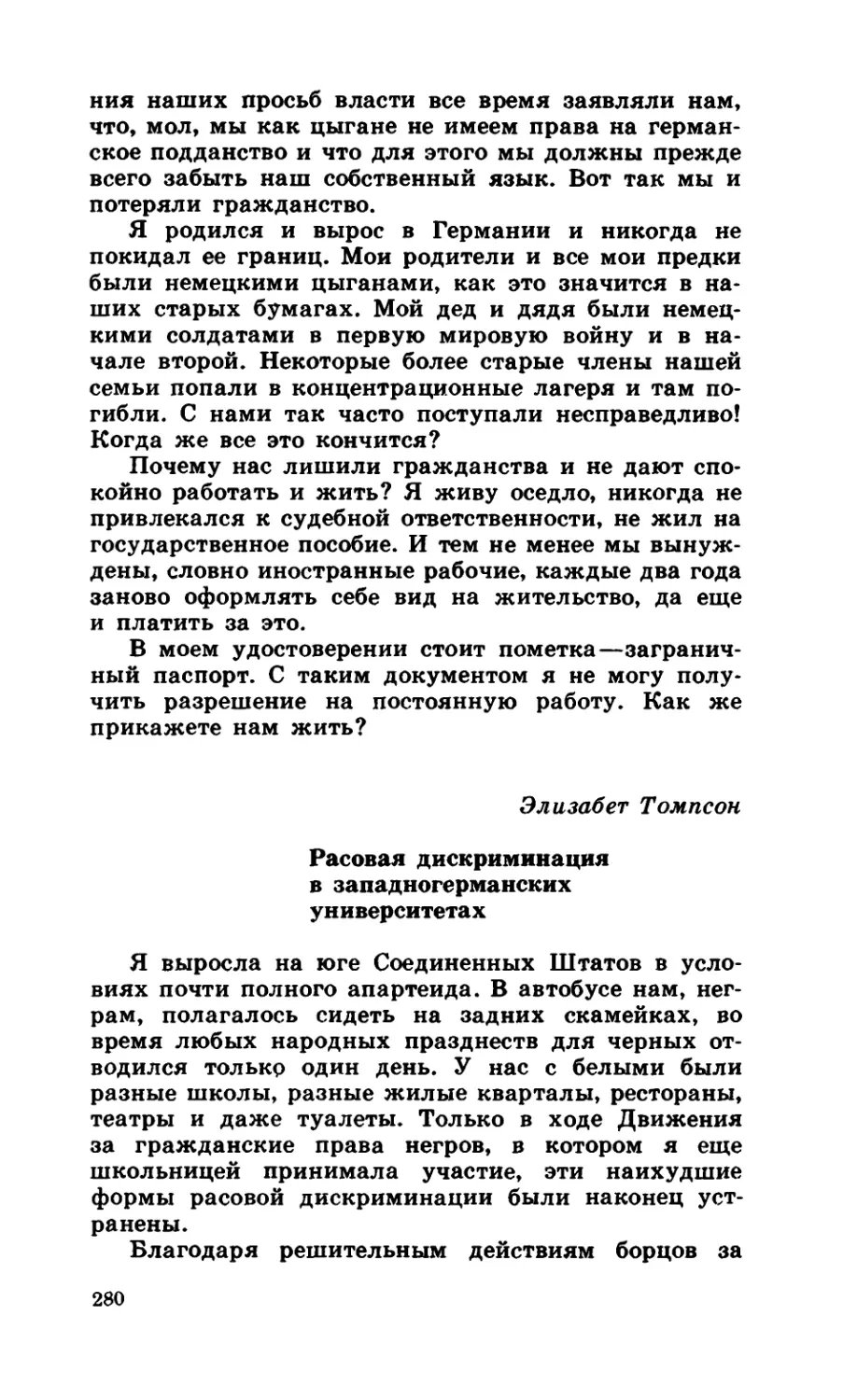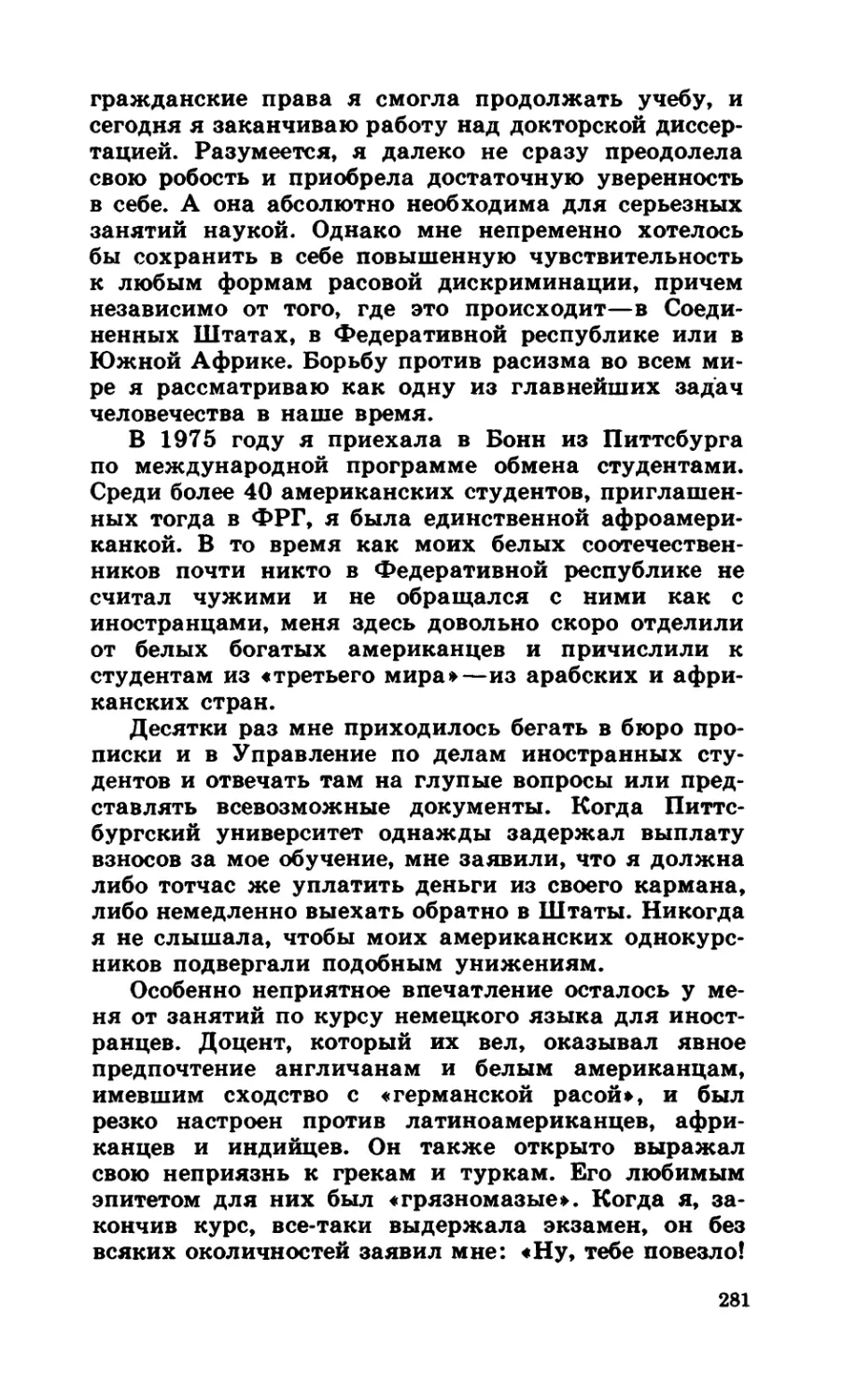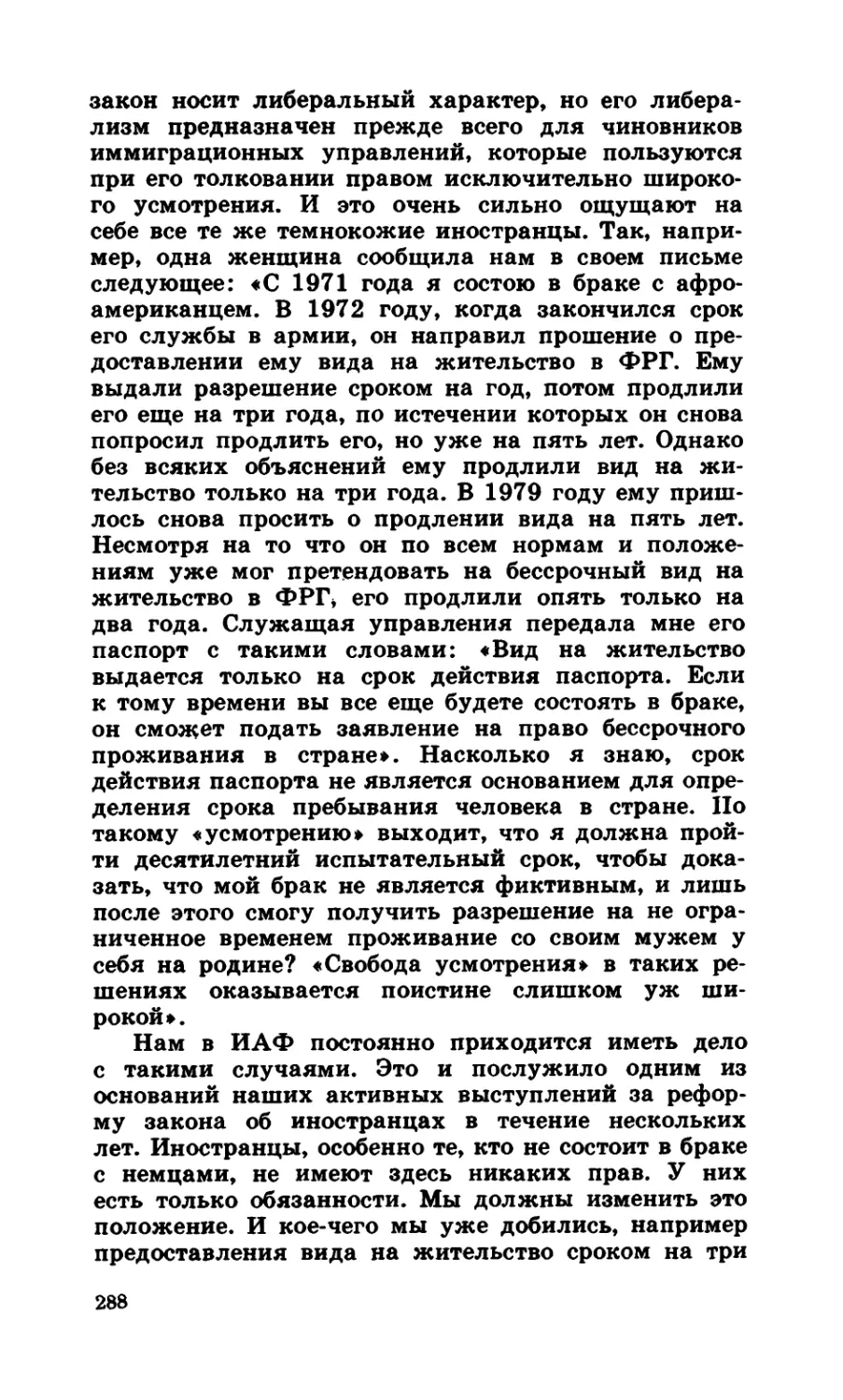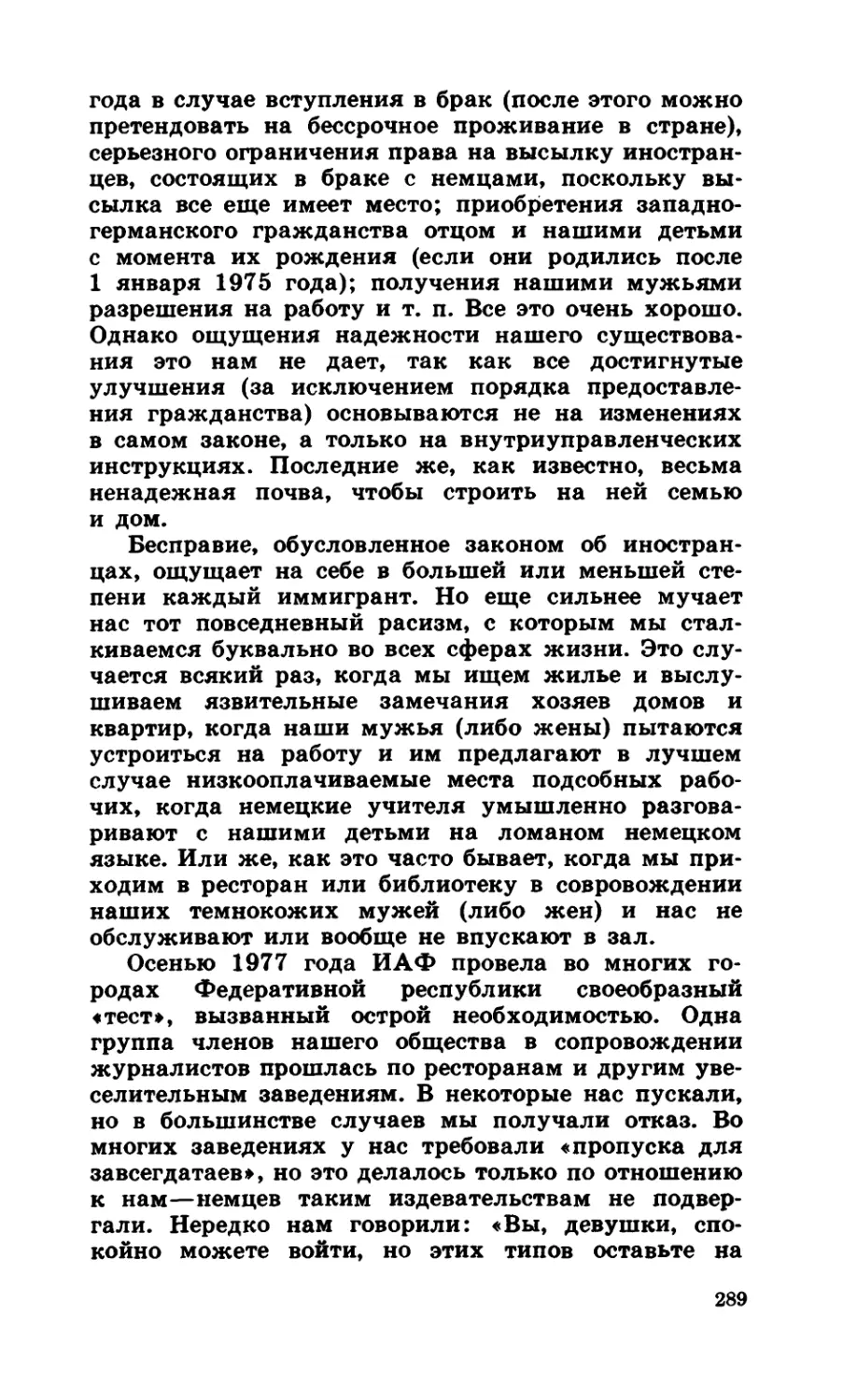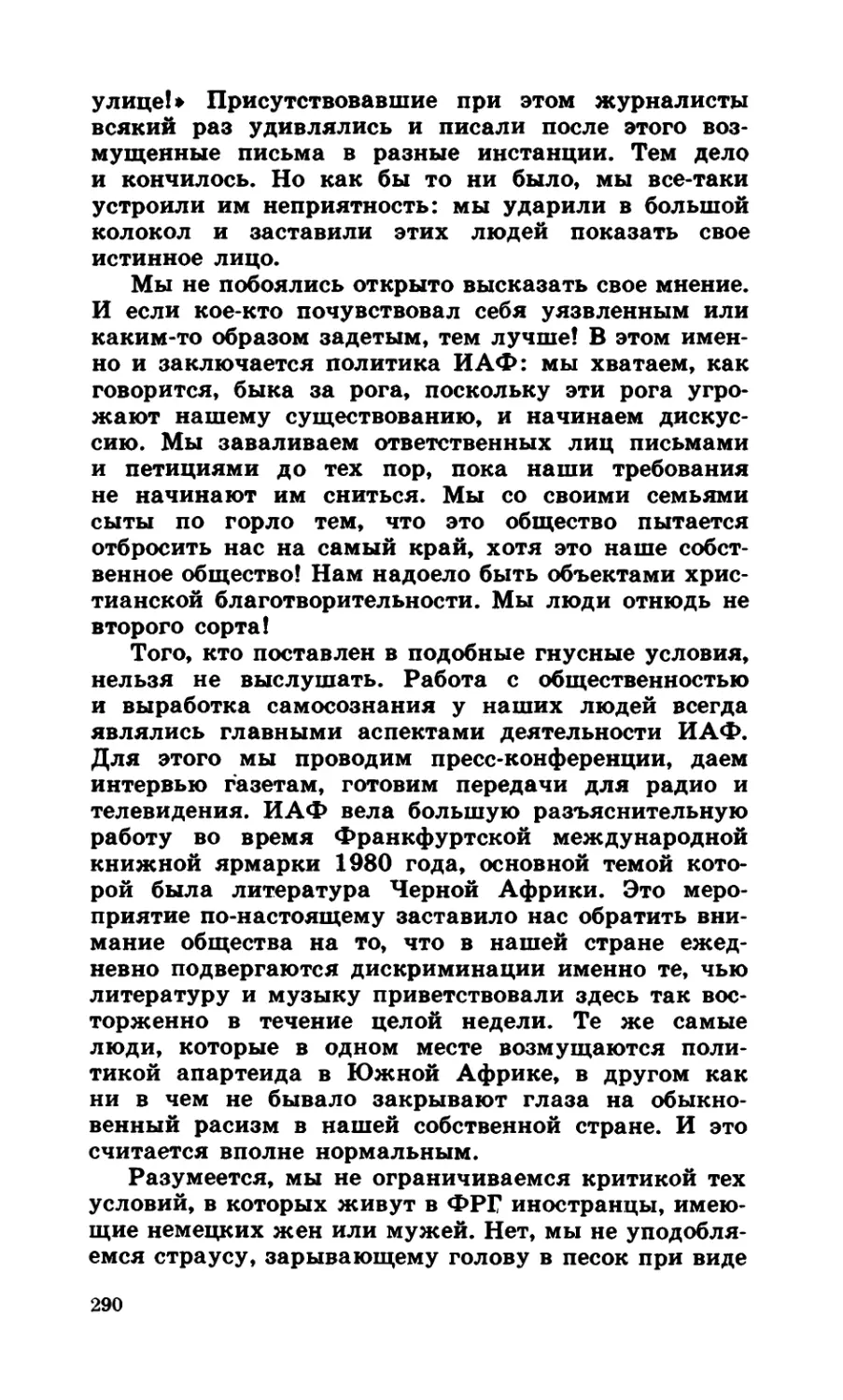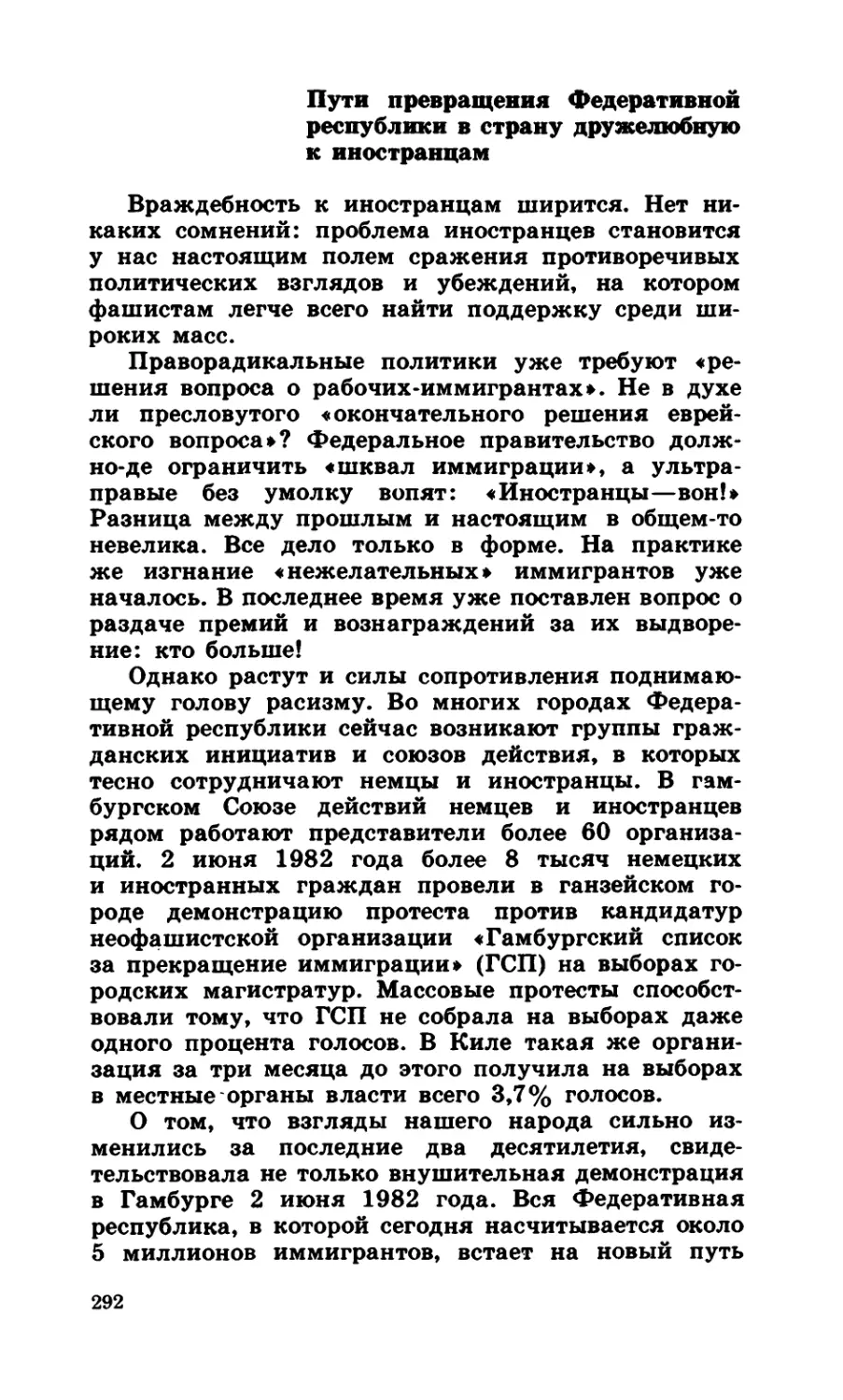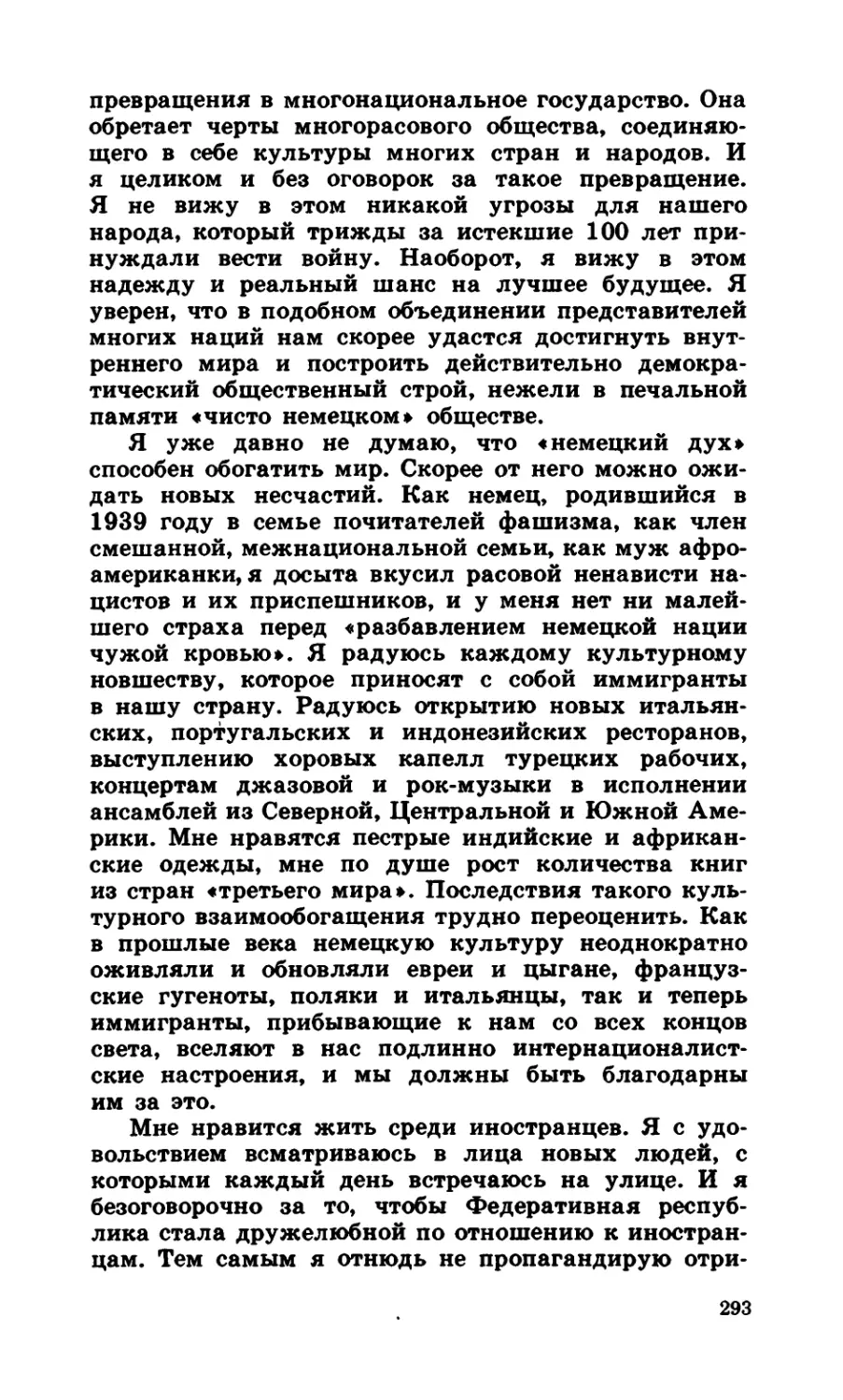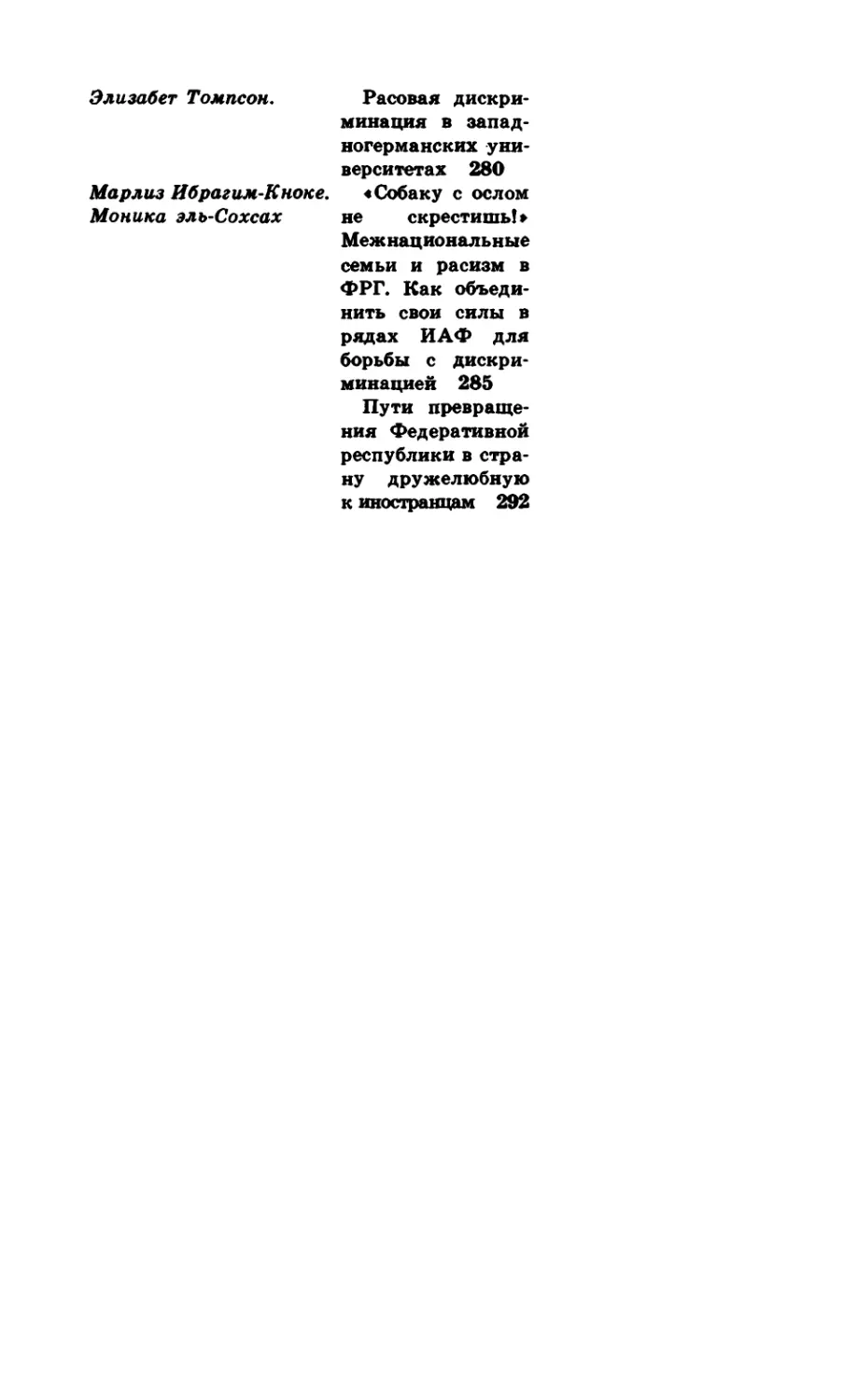Author: Шютт П.
Tags: империализм события факты документы германия расизм переводная литература издательство прогресс фрг
Year: 1985
ИМПЕРИАЛИЗМ
События
Фанты
Документы
Петер Шютт
МАВР СДЕЛАЛ
СВОЕ ДЕЛО...
Существует ли расизм
в Федеративной Республике
Германии?
Существует ли расизм
в Федеративной Республике
Германии?
МАВР СДЕЛАЛ
СВОЕ ДЕЛО...
ИМПЕРИАЛИЗМ
События
Факты
Документы
Петер Шютт
МАВР СДЕЛАН
СВОЕ ДЕЛО...
Существует ли расизм
в Федеративной Республике
Германии?
Памфлет
Перевод с немецкого
Ю. А. НЕПОДАЕВА
Под общей редакцией и с предисловием
доктора юридических наук И. Я. КИСЕЛЕВА
Москва
« Прогресс»
1985
Peter Schutt „DER MOHR HAT SEINE SCHULDIG-
KEIT GETAN..."
Gibt es Rassismus in der Bundesrepublik?
Eine Streitschrift
Weltkreis-Verlag
Редактор Л. В. Махвиладзе
Редакция литературы по вопросам государства
и права
©
Weltkreis-Verlag, Dortmund, 1981
©
Предисловие и перевод с немецкого с сокра-
щениями, Прогресс, 1985
Предисловие
Тема предлагаемой вниманию советских читате-
лей книги—расизм в Западной Германии. Написана
она пером талантливого публициста, человеком
прогрессивных убеждений, обладающим широкой
эрудицией, зорким взглядом на социальную действи-
тельность, и, наконец, человеком безукоризненной
честности, социальная совесть которого не хочет и не
может мириться с любой несправедливостью, уни-
жающей человека. Петер Шютт—автор книги—за-
падногерманский поэт, журналист, историк, живу-
щий в Гамбурге, неоднократно обращается в своем
творчестве к проблеме расизма и национально-
го гнета в ФРГ и в других капиталистических
странах.
Он пишет о наболевшем, о том, что видит и слы-
шит, с чем повседневно сталкивается, о том, что его
глубоко волнует и тревожит. Он обращается к уму,
сердцу, совести, порядочности, человечности чита-
телей, отнюдь при этом не сдерживая эмоций, и со
всей силой своего таланта, со всей страстностью
публициста гневно обличает одну из самых отврати-
тельных мерзостей капитализма: расизм и нацио-
нальный гнет, расовое и национальное чванство,
националистические предрассудки во всех их ви-
дах, проявлениях и обличиях. Но в публицисти-
ческой по своему пафосу книге Шютт затрагивает
ряд серьезных социально-экономических, социально-
психологических, политических и правовых проб-
лем современной жизни в Западной Германии. Эта
книга—серьезное исследование, опирающееся на
данные статистики, на материалы различных опро-
сов, частично проведенных самим автором, на обоб-
щающие исследования ученых-специалистов, на ана-
лиз периодической печати и т. п. Во второй части
книги приводятся (как это часто делается в социоло-
гических эссе, выходящих в ФРГ) различного рода
первичные материалы, использованные автором:
интервью, записи рассказов реальных людей о пе-
режитом, их размышления, выдержки из прессы
и работ некоторых авторов. Все это усиливает до-
5
казательную силу книги, дополняет размышления
и выводы самого автора, его жизненные наблю-
дения.
Особая актуальность темы книги Петера Шютта
объясняется некоторыми особенностями послевоен-
ного развития Западной Германии.
За последние десятилетия ФРГ превратилась в
многонациональное государство, населенное людьми
самой различной расовой, национальной и этничес-
кой принадлежности. Кроме небольших националь-
ных меньшинств, состоящих из переживших нацист-
ский геноцид евреев и цыган, в ФРГ проживает в
настоящее время около 5 млн. выходцев из многих
развивающихся стран Азии, Африки, Латинской
Америки, а также Южной Европы. Автор лишь кон-
статирует бесспорный факт, заявляя, что «старая
Германия чистокровных тевтонов прекратила свое
существование» (с. 27). Большая часть живущих в
ФРГ иностранцев—это «гости-рабочие» («гаст-
арбайтеры»), которые в 60—70-х годах в соответ-
ствии с договорами о наборе рабочей силы, заклю-
ченными ФРГ с Турцией, Грецией, Испанией, Пор-
тугалией, Тунисом, Марокко, прибыли на заработки
в Западную Германию. Многие из них осели в ФРГ,
живут там многие годы с семьями, у них появились
дети, а в ряде случаев и внуки, рожденные на новой
родине. Представители нового поколения иммигран-
тов большей частью отнюдь не считают свое пребы-
вание в ФРГ временным. Этнический состав «гостей-
рабочих» весьма разнороден. Это турки, итальянцы,
югославы, греки, испанцы, португальцы, арабы, тем-
нокожие выходцы из стран Африки, а также пред-
ставители других наций (южнокорейцы, индонезий-
цы, пакистанцы, индийцы и т. д.). Определенная
часть проживающих в ФРГ иностранцев—это бежен-
цы из развивающихся стран, ставшие жертвами тер-
рора фашистских правителей или военных дикта-
тур и ищущие политического убежища, а также ли-
ца, покинувшие свою родину из-за невыносимых
условий существования. Среди студентов, проходя-
щих обучение в западногерманских вузах, значи-
тельная часть (не менее 25%)—иностранцы, глав-
ным образом юноши и девушки из развивающихся
стран.
Иностранные рабочие составляют в целом 10%
б
занятых в народном хозяйстве ФРГ. Но в отдель-
ных отраслях и сферах, на отдельных предприятиях
их доля значительно выше. Так, более половины
стали в ФРГ выплавляется рабочими-иммигранта-
ми, в концерне «Рурколе» свыше 82%, занятых
непосредственно угледобычей—рабочие-турки; 2/3
рабочих-станочников на крупнейших автомобильных
предприятиях, 60% работников гостиничного серви-
са, 88% рабочих, занимающихся уборкой мусора
в городах,—иностранцы. В некоторых индустриаль-
но развитых районах ФРГ (Северный Рейн-Вестфа-
лия, Баден-Вюртемберг) доля иностранных рабочих
в общей численности трудящихся достигает 24—
29%. Вклад иностранной рабочей силы в эконо-
мику Западной Германии столь велик, что не так
уж далек от истины автор, когда он утверждает,
что без «гостей-рабочих» «экономика Федеративной
республики развалится очень скоро» (с. 139),
Автор ясно видит экономические корни и подо-
плеку расизма. Вот почему он уделяет столь боль-
шое внимание социально-экономическим и право-
вым аспектам использования труда иностранной ра-
бочей силы. «Иностранцы—это прежде всего деше-
вая рабочая сила. Она появляется на рынке тру-
да уже в готовом виде и тут же может создавать
ценности, т. е. прибыль, налоги, ренту, причем го-
сударству не надо затрачивать ни пфеннига на се-
мейные пособия, социальное обеспечение или обра-
зование иностранных рабочих... Их назначение од-
но — создавать прибыль для работодателя и дохо-
ды в виде налогов для государства... В условиях
подобных социальных диспропорций и произвола
сами собой возникают почти объективно основания
для презрительного отношения к другим народам
и расам, для появления расизма» (с. 37—38).
Рабочие-иммигранты — объекты самой беспощад-
ной капиталистической эксплуатации. Они подвер-
гаются дискриминации во всем, и прежде всего в
сфере труда и трудовых отношений. Хотя об этом
уже много написано, в том числе в советской ли-
тературе 1, читатель сможет почерпнуть из книги
Петера Шютта много новых фактов и данных об
1 См., например: Квашнин Ю. Д. Иностранные рабочие в За-
падной Европе. М., Наука, 1976.
7
экономическом и правовом положении «гостей-ра-
бочих» в ФРГ.
Прежде всего в конституции ФРГ, хотя и про-
возглашен принцип равноправия, который рассмат-
ривается как универсальный принцип (ст. 3, п. 3),
в последующих статьях установлено, что основные
конституционные права распространяются только на
немцев. «Ну а как быть с проживающими у нас
иностранцами?» — справедливо спрашивает ав-
тор (с. 27).
Права пришлых рабочих серьезно ущемляет им-
миграционное законодательство, которое определяет
условия въезда и пребывания иностранцев в стране.
Будучи разновидностью полицейского законодатель-
ства, оно содержит различные запреты и ограни-
чения, которые непосредственным образом влияют
на социальные права иммигрантов, в частности на
их положение в сфере труда. Дело в том, что пред-
варительным условием заключения иммигрантом
трудового договора является разрешение на житель-
ство, выдаваемое административным органом, конт-
ролирующим иммиграцию. Иммиграционные власти
далеко не всегда дают такое разрешение, особенно
в последние годы, когда установлены строгие огра-
ничения допуска иностранных рабочих. Разрешение
на пребывание в стране является временным, выда-
ется на короткий срок (обычно до одного года),
а затем периодически продлевается (при наличии
ходатайства со стороны предпринимателя). С 1980 г.
в ФРГ действует постановление правительства, сог-
ласно которому иммигранту, чтобы получить раз-
решение на неограниченный срок пребывания в
стране, нужно прожить в Западной Германии 5 лет,
а чтобы получить право на жительство—8 лет. При
этом требуется знание немецкого языка и выполне-
ние ряда других условий. В ряде случаев рабочим
из Турции, например, разрешение на работу и пре-
бывание в ФРГ выдается только при условии пос-
тупления на работу в гостиницы или рестораны.
Иммигранты в течение определенного времени не
могут менять профессию и место работы.
Таким образом, ущемление прав иностранных ра-
бочих посредством иммиграционного законодатель-
ства осуществляется в двух направлениях: ограни-
чение свободы выбора и перемены работы и при-
8
нудительное включение всех «гостей-рабочих» в ка-
тегорию временных работников, которые имеют во
многих отношениях урезанные трудовые права.
Иммиграционное законодательство отрицательно
влияет на положение иностранного рабочего еще
и потому, что разрешение на пребывание в стране
автоматически аннулируется при увольнении или
неугодном для властей поведении, и такой рабочий
может быть немедленно выслан из страны. Западно-
германский закон об иностранцах 1965 г. перечис-
ляет 11 причин, по которым административные
власти могут аннулировать вид на жительство, а это
создает большие возможности для произвола чинов-
ников. Так, даже подозрение в преступной деятель-
ности, недозволенная политическая активность или
участие в классовой борьбе в защиту своих эконо-
мических и социальных прав и интересов могут
стать основанием для немедленной депортации. «Со-
гласно этому закону, все, кто давали повод считать,
что они чувствуют себя у нас в стране как дома...
выдворялись вон»,—пишет автор (с. 145).
Страх перед депортацией столь велик, что многие
иммигранты не протестуют против явного ущемле-
ния своих прав. Именно это обстоятельство в первую
очередь объясняет тот факт, что, несмотря на фор-
мальное провозглашение равенства иностранных и
местных работников в западногерманском законода-
тельстве и в ратифицированных ФРГ международ-
ных соглашениях (например, в Европейской соци-
альной хартии 1), фактически трудящиеся-иммигран-
ты испытывают разнообразные формы дискримина-
ции, прежде всего в отношении заработной платы и
других условий труда. Основная масса иностранных
рабочих в ФРГ—это необученная, малоквалифици-
рованная и полуквалифицированная рабочая сила.
К таким работникам относятся примерно 80% всех
иностранных рабочих. Они используются в трудоем-
ких отраслях производства (в строительстве, метал-
1 Европейская социальная хартия, принятая в 1961 г., дей-
ствует в рамках Европейского совета, объединяющего западно-
европейские капиталистические государства. Европейской
социальной хартией провозглашены права, совпадающие
в основном с теми, которые закреплены во Всеобщей деклара-
ции прав человека и в Международном пакте о правах че-
ловека.
9
лургии, добывающей промышленности), на сбороч-
ных конвейерах в автомобильной промышленности
и в сфере услуг (преимущественно в гостиницах,
ресторанах и на работах по уборке улиц, а также
в качестве домашней прислуги), в сельском хозяйст-
ве, причем обычно только на тех работах, которые
по той или иной причине не привлекают местных
рабочих (тяжелые, вредные, низкооплачиваемые и
непрестижные работы). Даже такой реакционный
западногерманский журнал, как «Диалог» вынуж-
ден признать, что уделом «гостей-рабочих» являет-
ся «изнурительная, грязная вспомогательная работа,
т. е. такая работа, которая немцам не по душе»1.
Следует учитывать и то, что иностранная рабочая
сила имеет возрастную структуру, благоприятствую-
щую ее интенсивной эксплуатации. Молодежь сос-
тавляет огромное большинство «гостей-рабочих».
Вследствие дискриминации при присвоении та-
рифных разрядов и использовании иностранных ра-
бочих преимущественно на низкооплачиваемых ра-
ботах средняя заработная плата иностранных рабо-
чих на 30% ниже, чем у местных рабочих. Во
многих случаях рабочему-иммигранту платят мень-
ше и за равный с немцем труд. Иностранные рабо-
чие имеют более продолжительный рабочий день,
чем местные рабочие (причем нередко их рабочий
день значительно превышает законодательный мак-
симум), работают в воскресные и праздничные дни,
без отпусков, чаще, чем местные рабочие, становятся
жертвами несчастных случаев и профессиональных
заболеваний.
Дискриминация иностранных рабочих проявля-
ется и в том, что для них тарифная ставка, зафик-
сированная в коллективных договорах, зачастую
составляет фактический заработок, тогда как для
местных рабочих тарифная ставка дополняется раз-
личными премиями и прочими надбавками. Заня-
тость иностранных рабочих особенно нестабильна.
При ухудшении экономической конъюнктуры, осу-
ществлении «рационализации» производства уволь-
няются прежде всего иностранцы. Среди них без-
работица особенно велика.
Все эти широкоизвестные факты проиллюстриро-
1 Dialog, 1973, № 3, S. 24.
10
ваны в книге Петера Шютта многочисленными при-
мерами, основанными во многих случаях на личных
наблюдениях и впечатлениях автора.
Своеобразный метод трудоустройства работников,
который в прогрессивной печати называют «совре-
менной формой торговли людьми», был легализо-
ван решением Федерального конституционного суда
от 4 апреля 1967 г. Частным фирмам было пре-
доставлено право предлагать предпринимателям
«напрокат» рабочих, преимущественно иностран-
ных. «Прокатная» фирма и фирма, берущая «на-
прокат», заключают договор, согласно которому пер-
вая обязуется предоставить в распоряжение заказ-
чика определенное количество рабочих. Фирма-за-
казчик может использовать «одолженных» рабочих
по своему усмотрению, но не платит им заработной
платы. «Прокатная» фирма получает от заказчиков
установленную денежную сумму, часть которой она
выплачивает в виде заработной платы «прокатным»
рабочим. Это решение вызвало огромное увеличение
числа «прокатных» фирм, поскольку «сдача напро-
кат людей» оказалась весьма прибыльным делом.
Фирма, сдающая внаем рабочих, расходуя опреде-
ленные суммы на оплату их труда, получает от
фирмы, непосредственно применяющей труд этих
рабочих, гораздо большие суммы1.
Петер Шютт приводит многочисленные примеры,
показывающие всю неприглядность деятельности
подрядных фирм, этих «акул»-посредников, постав-
ляющих людей на капиталистический рынок труда,
наживающих огромные барыши на тяжелом поло-
жении и бесправии иммигрантов.
В своей книге Петер Шютт затрагивает сравни-
тельно новое явление капиталистической действи-
тельности—огромное разрастание так называемого
«черного рынка труда», где функционируют глав-
ным образом мелкие предприятия, хозяева которых
нанимают работников нелегально, т. е. без регистра-
ции в государственных органах и без заключения
предусмотренного законодательством трудового до-
говора, устанавливая заработную плату и условия
труда по своему усмотрению. Иностранные рабочие,
1 Подробнее см.: Премслер М. Права рабочих в ФРГ: социаль-
ная демагогия и действительность. М., Юридическая литература,
1978, с. 142—146.
11
и особенно те из них, которые нелегально прибыли в
страну (а число таких рабочих превышает 1 млн.),
составляют главную часть рабочей силы, функцио-
нирующей на «черном рынке труда». Эти рабочие
подвергаются сверхэксплуатации в самых жестоких
формах. Автор рисует картину поистине бедствен-
ного положения нелегальных иммигрантов, на труде
которых бессовестно наживаются немецкие предпри-
ниматели, владельцы «прокатных» фирм. Эксплуа-
тации подвергаются не только иностранные рабочие,
но и их дети. По данным, приведенным в книге,
из 300 тыс. детей, которые работают вопреки зако-
нодательному запрету детского труда, 200 тыс.—
это дети иммигрантов (с. с. 152, 153, 158).
Дискриминация иностранных рабочих, как это
хорошо показано в книге, не ограничивается сферой
производства и труда. Она процветает в социальном
обеспечении и в социальном обслуживании, при
аренде жилья, в сфере общего и профессионального
образования. Ее жертвами становятся и члены семей
иностранцев: жены, дети. Достаточно сказать, что в
настоящее время 75% детей иностранных рабочих,
проживающих в ФРГ, не имеют никакой профессио-
нальной подготовки, а в некоторых местах 90%
этих детей остаются даже без школьного образова-
ния1. Дискриминация при предоставлении жилья
приводит к тому, что иностранные рабочие, состав-
ляющие значительный процент населения многих
крупных городов ФРГ (до 20%), скучиваются в са-
мых плохих, неблагоустроенных районах, живут в
полуразрушенных грязных лачугах без удобств, в
своего рода гетто. Но за такое недостойное человека
жилье они зачастую вынуждены платить непропор-
ционально высокую арендную плату, так как на
их бедственном положении наживаются и домовла-
дельцы. Об этом много пишет автор на примере
своего родного Гамбурга и многих других городов
Западной Германии.
В книге Петера Шютта не только приведены раз-
нообразные данные экономического и юридического
характера, характеризующие положение «гостей-ра-
бочих» в ФРГ, но рассказано и о конкретных лю-
1 Social and Labour Bulletin, 1982, № 3, p. 418; Премслер М.
Цит. соч., с. 142.
12
дях—иммигрантах из различных стран. Автор хо-
рошо их знает лично и с большим сочувствием
и теплотой повествует об их житейских невзгодах
и злоключениях, об их мечтах и жизненных планах,
об их борьбе за равноправие, в защиту своих эконо-
мических прав и человеческого достоинства. Запо-
минается, в частности, рассказ о соседе автора—
турецком рабочем Хасане Эр-оглы. В его жизни,
в судьбе его семьи, его детей, как в капле воды,
отразились многие нелегкие проблемы турецкого
меньшинства в ФРГ.
« «Но мы же тоже люди!» Это одна из немногих
фраз, которую Хасан Эр-оглы произносит по-немец-
ки без акцента и часто повторяет. Говоря эти слова,
он, очевидно, имеет в виду всю ту горькую долю
лишений, которую ему приходится испытывать всю
свою жизнь, те расистские предрассудки, которые
повсюду преграждают ему дорогу, те законы, кото-
рые без конца причиняют ему социальный и поли-
тический ущерб» (с. 144).
Хотя автор много и с большим знанием дела
пишет о социально-экономическом положении рабо-
чих-иммигрантов, составляющих, как уже отмеча-
лось, большую часть иностранцев, проживающих в
ФРГ, главная тема его книги—проявления расизма
в сфере общественного сознания и психологии, в
быту, в межличностных отношениях. Факты, при-
веденные автором, особенно впечатляют, потому что
они выстраданы им лично, его семьей: женой—
афроамериканкой и дочерью,—увидены его собст-
венными глазами, глазами его близких, знакомых,
друзей.
Автор утверждает: «К началу 80-х годов враж-
дебность к иностранцам, ненависть к чужим и отк-
ровенный расизм приняли у нас такие масштабы
и формы, каких не наблюдалось со времен нацизма»
(с. 28). В книге это справедливо квалифицируется
как «духовное загрязнение и отравление окружа-
ющей среды» (с. 28). Шовинистические и расистские
предрассудки в ФРГ имеют массовый характер, о
чем, в частности, свидетельствуют опросы общест-
венного мнения, результаты которых приведены
в книге.
Обыкновенный расизм, ненависть, подозритель-
ность, пренебрежительное отношение многих запад-
13
ногерманских бюргеров к людям чужой расы и на-
циональности, бесконечные унижения, оскорбления,
издевательства, дискриминация, откровенная или
прикрытая, которым подвергаются «чужаки» во
всех сферах жизни,—все это с огромной изобрази-
тельной силой встает со страниц книги Петера
Шютта.
Расизм многолик. Он проявляется и в большом
и в малом: в убийствах и избиениях представи-
телей «низших» рас и национальностей, в иных
проявлениях слепой расовой ненависти и в обыден-
ных, банальных ситуациях («бытовой расизм»); ко-
гда расистские выходки проистекают из глубоко
укоренившихся в психологии и сознании обывателей
расистских стереотипов и клише, а иногда из-за
отсутствия элементарной внутренней культуры, че-
ловечности, порядочности, чувства такта.
Как видно из книги, объектом расистского шови-
нистического недоброжелательства часто становятся
в той или иной мере почти все иностранцы, про-
живающие в ФРГ. Но наиболее широкое распро-
странение и особенно отвратительные формы прояв-
ления имеет негрофобия, жертвой которой являются
темнокожие жители ФРГ, число которых превышает
500 тыс.
«Чем непривычнее для нас внешний вид челове-
ка, чем темнее его кожа, тем чаще и грубее подвер-
гается он у нас расовой дискриминации»,—пишет
автор (с. 38). Как видно из многочисленных фактов,
приведенных автором, негрофобия в современной
Западной Германии вполне сравнима с взрывом
антисемитизма во времена нацистского рейха. Ин-
дивидуальный террор по отношению к черным осу-
ществляется тысячами разных способов. За приме-
рами автору не надо ходить далеко. Он видит их в
окружающей его жизни ежедневно и ежечасно. Так-
систы не хотят обслуживать черных, владельцы до-
мов—сдавать им жилье, соседи—здороваться с ними
и разрешать своим детям играть и дружить с их
детьми, владельцы ресторанов, дискотек—пускать
в свои заведения; на стенах домов и общественных
зданий они повсюду видят грязные надписи, оскорб-
ляющие их человеческое достоинство, и т. д. и т. п.
Черные нередко становятся жертвами взрыва «зоо-
логических эмоций» западногерманских расистов
14
подчас в совершенно неожиданных ситуациях.
Автор обращается к своим соотечественникам:
попытайтесь хоть на минуту встать в положение
темнокожего, живущего в ФРГ. «... Повсюду—на
работе или во время досуга, в чужом районе города
или возле своего дома—этим людям приходится ис-
пытывать на себе тысячи назойливо фамильярных
взглядов и ухмылок. Их постоянно разглядывают,
на них буквально глазеют, таращатся и неизменно
во всех случаях смотрят как на чужаков» (с. 31).
Расизм испытывают на себе в самой грубой, раз-
нузданной форме и немецкие женщины, имеющие
детей от темнокожих отцов, и сами эти дети (с. 137).
После черных наибольшей дискриминации в ФРГ
подвергаются турки. Они чаще других белых стано-
вятся жертвами различного рода националистичес-
ких стереотипов и предубеждений. «Они всегда по-
лучают «свою долю» от всех предрассудков, которые
проявляются у нас к представителям любых наций
и рас. Их обвиняют в том, что они «живут, как
цыгане», что они, как и большинство южан, «все
время гоняются за женщинами», что они «такие же
лихоимцы, как и евреи», что они «таращат глаза,
как монголы» и «воняют, как негры». Короче гово-
ря, турки—это иностранцы второго сорта» (с. 109).
А между тем в ФРГ проживает полтора мил-
лиона турок (треть общего числа иностранцев).
Огромное их большинство—пролетарии, они состав-
ляют значительную часть западногерманского ра-
бочего класса, поэтому, как отмечает автор, к
расовой ненависти здесь присоединяется еще и клас-
совая рознь.
В ФРГ живет в настоящее время примерно
100 тыс. цыган. Лишь каждому четвертому цыгану
удалось пережить кровавую нацистскую бойню. Но
выжившие, как правило, не имеют ни паспорта, ни
гражданства. Их можно, как и в нацистские вре-
мена, выслать в любой момент за пределы страны.
Широко известны преступления нацистов против
еврейского населения Германии, но значительно
менее известны приведенные автором данные о мас-
совом уничтожении гитлеровцами цыган. В нацист-
ских лагерях погибло по крайней мере полмиллиона
лиц цыганской национальности. Никакой компен-
сации в связи с этой массовой бойней выплачено
15
не было (как это имело место в отношении евреев).
Неприязнь к цыганам, предрассудки в отношении
их имеют широкое распространение среди западно-
германского населения. Цыгане лишены в ФРГ
элементарных гражданских прав.
Автор приводит убедительные факты, показы-
вающие, что в ФРГ процветает откровенный и скры-
тый антисемитизм, который сочетается (что вполне
объяснимо и логично) с восторгами шпрингеровской
прессы и правых политиков-антисемитов по поводу
расистской политики правящих сионистских кру-
гов Израиля.
Размышляя о корнях расизма в ФРГ, автор
отнюдь не склонен биологизировать это явление.
Он решительно отвергает тезисы о том, что вражда
между народами является законом природы, что
«столкновение различных культур неизбежно и «ес-
тественным образом» порождает расистские настро-
ения» (с. 38). Конечно, признает автор, на развитие
расизма в ФРГ оказали определенное влияние тради-
ции старогерманского национализма, германского
колониализма, ядовитое наследие фашизма. Но дело
здесь не в каких-то особых чертах немецкого на-
рода и в неких фатально непреодолимых националь-
ных традициях. В социалистическом немецком
государстве—Германской Демократической Респуб-
лике—полностью искоренен расизм и национализм.
В ГДР делается все для воспитания населения в
духе интернационализма и гуманизма, солидарнос-
ти со всеми народами. Национальные меньшинства
пользуются на деле равными правами с немцами.
В качестве примера можно привести положение
сорбского национального меньшинства в ГДР. Все
это широкоизвестные факты.
Корни расизма в ФРГ лежат в экономической
и политической системе капитализма, в политике
господствующих в послевоенной Западной Германии
монополистических кругов. Автор констатирует:
«Никакого реального отмежевания от безумных ра-
систских представлений нацистов в нашей стране
не произошло» (с. 41). В расизме заинтересованы
влиятельные силы в ФРГ, которые наживаются на
нем, используют его для укрепления своей власти,
раскола и ослабления трудящихся, рабочего клас-
са и рабочего движения. Эти силы—западногерман-
16
ские монополии и действующие в ФРГ транснацио-
нальные корпорации, правые, и особенно неонацист-
ские политические партии и группировки, правя-
щие круги ФРГ, западногерманская реакция в
целом.
По соседству с домом автора находится заведе-
ние, принадлежащее американской транснациональ-
ной корпорации «Макдональд». Не трудно даже не-
вооруженным глазом увидеть, что его директор при
найме и эксплуатации рабочей силы строго при-
держивается расистских принципов, так как это вы-
годно хозяевам корпорации. «Из темной кожи и
социальной несправедливости, из личной нужды и
нищеты иностранных рабочих этот производитель
сосисок и бифштексов систематически выжимает ог-
ромные барыши.
Он кровно заинтересован в том, чтобы ради его
гешефта у нас и дальше не только продолжалось,
но, по возможности, усиливалось давление в сторону
снижения стоимости товара—рабочей силы» (с. 152).
Элементарный подсчет показывает, что ежегод-
ные сверхприбыли западногерманских монополий за
счет дискриминации иностранных рабочих состав-
ляют огромную сумму—9 млрд. марок в год. К
этому следует прибавить налоги, взыскиваемые с
иностранных рабочих государством, и ту «эконо-
мию», которой добивается правительство, отказывая
«гостям-рабочим» во многих видах социального
обеспечения и страхования, в различного рода со-
циальных услугах.
Большой интерес представляют попытки автора
рассмотреть социально-психологический механизм
формирования и проявлений вовне расистских и
националистических предрассудков.
«Предрассудки не возникают сами собой. Их соз-
дают, и они передаются по наследству из поколения
в поколение. Точнее, их умышленно прививают каж-
дому новому поколению—в родительском доме, в
школе, с помощью средств массовой информации»
(с. 49).
Один из самых удачных разделов книги—под-
робный анализ того, как осуществляется в ФРГ
«расистская идеологизация» вступающих в жизнь
поколений. Детские песенки и книжки, школьные
учебники, радио- и телевизионные передачи, газеты
17
и журналы, реклама и многие другие средства воз-
действия на массы и манипулирование ими, как
убедительно показывает автор, пропитаны явным
или едва прикрытым расизмом (с. 49—54). В том же
направлении действует ядовитая пропаганда пра-
вых, и особенно неонацистских, организаций, кото-
рые умышленно используют националистическую
демагогию, призванную возбудить низменные ин-
стинкты обывателей и сыграть на них в своих ин-
тересах. В качестве типичного примера можно при-
вести листовку, которую распространяла одна из
правых западногерманских организаций. Листовка
расписывает «ужасы», которые якобы возникли в
результате иммиграции в ФРГ чужеземцев из южно-
европейских стран и, в частности, утверждает, что
«через довольно короткое время Германия превра-
тится в слаборазвитую страну с преимущественно
иностранным населением. Будет слишком много ра-
бочих мест для вспомогательной рабочей силы и
слишком мало рабочих мест для ученых. Результат:
иностранные рабочие будут прибывать в Германию,
немецкие ученые уезжать из нее...». Листовка при-
зывает добиваться, пока не поздно, изгнания всех
« гастарбайтеров ».
Автор отмечает, что в пропаганде правых кругов
нередко присутствуют и элементы русофобии. «С
самого своего зарождения антисоветизм носит еще
и совершенно явный расистский характер. Пресло-
вутый лейтмотив о «монгольской роже» начиная
с 20-х годов служит главной темой антисоветской
пропаганды и даже в послевоенный период неод-
нократно использовался в Федеративной республике
как НДП, так и ХДС».
Автор гневно обличает расизм с самых различ-
ных позиций, аргументированно опровергает раз-
личные «доводы», которые выдвигают правые силы
в защиту и оправдание расизма или расовой и
национальной исключительности и дискриминации,
доказывает вредность и иррационализм расовых и
националистических предрассудков, огромный вред,
который они наносят подлинным интересам трудя-
щихся. «Рабочему движению в нашей стране,—пи-
шет автор,—не обойтись без признания того факта,
что оно также приобрело многонациональный ха-
рактер. Если его врагам удастся и дальше разжи-
18
гать вражду и злобу к иностранцам у наших ра-
бочих и еще сильнее натравливать немцев и иност-
ранцев друг на друга, это приведет к расколу ра-
бочего класса, к ослаблению классовой солидарно-
сти и подрыву единых профсоюзов» (с. 295).
Подчеркивая бесчеловечность теории и практики
расизма, автор вместе с тем отмечает, что расизм
оказывает разлагающее влияние на все общество,
в котором процветает дух расизма. Положение в
ФРГ подтверждает глубокую справедливость слов
Ф. Энгельса о том, что «не может быть свободен
народ, угнетающий другие народы»1.
Автор совершенно прав, когда он доказывает са-
мую тесную и непосредственную связь расистской
идеологии и войны, борьбы с расизмом и борьбы
за мир. Действительно, те, кто хочет изгнать войну
с нашей планеты, должны победить расизм. «Войны
надо останавливать тогда, когда они еще не раз-
разились. И подавлять их следует там, где они
всегда подготавливались и подготавливаются, т. е.
в головах людей, в школьных учебниках, в сред-
ствах массовой информации. Большинство войн, ко-
торые велись в последние 50 лет, были расистски
мотивированными... Расизм снова и снова ведет мир
к войне, к гражданской войне между разными на-
циональностями одной страны, к агрессивным вой-
нам против других народов» (с. 171).
Петер Шютт обоснованно связывает огромное
усиление расизма в ФРГ с глубоким кризисом меж-
личностных отношений в стране, с многочислен-
ными проявлениями этого кризиса, отравляющими
жизнь людей. Его горечь и искреннее негодование
в связи с этим вполне оправданны. Но представ-
ляется, что здесь следовало бы более четко пока-
зать главную первопричину удушающей атмосферы
в межличностных отношениях, разгула расизма,
роста преступности и развития других негативных
явлений, отмеченных в книге. Эта первопричина—
углубление общего кризиса капитализма, охватив-
шего все сферы жизни капиталистического общест-
ва—экономическую, социальную, моральную и по-
литическую.
Нужно обладать большим личным мужеством,
1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 18, с. 509.
19
чтобы сказать своим соотечественникам всю ту не-
приглядную для многих правду, которую сказал
автор. И Петер Шютт сказал эту правду, потому что
является истинным патриотом своего отечества, ис-
пытывает чувство стыда за многое из того, что видит
вокруг себя, и страстно желает, чтобы его Родина из-
бавилась от всего того, что вызывает у него справед-
ливое негодование и отвращение, и прежде всего от
мерзости расизма, который сыграл зловещую роль
на многих этапах истории Германии, в том числе
совсем недавних. Это праведный гнев в лучших тра-
дициях прогрессивной немецкой и мировой публи-
цистики.
В своей последней главе данного издания Петер
Шютт пишет, что после выхода его книги в свет в
1981 году многие читатели считали, что он сильно
сгустил краски. Отвечая им, автор пишет, что дей-
ствительность оказалась гораздо мрачнее. «Нет ни-
каких сомнений: проблема иностранцев становится
у нас настоящим полем сражения противоречивых
политических взглядов и убеждений, на котором
фашистам легче всего найти поддержку среди широ-
ких масс» (с. 292).
Хотя Петер Шютт сказал немало горьких слов в
адрес своих соотечественников, книга отнюдь не про-
никнута пессимизмом и безнадежностью. Автор ви-
дит выход в усилении борьбы левых, прогрессивных
сил ФРГ, и прежде всего рабочего и профсоюзного
движения, против всех видов расизма и национа-
лизма, за полное равноправие рабочих-иммигрантов.
Сейчас особенно необходимо единство и солидар-
ность немецких пролетариев и их братьев по классу,
приехавших из-за рубежа. «Преодолеть расизм как
одну из главных язв капиталистической обществен-
ной формации может и должен прежде всего рабо-
чий класс. В его собственных интересах освободить
мир от межнациональных и межрасовых конфлик-
тов и объединить все нации и расы в единый фронт
борьбы против угнетателей» (с. 168). И такое един-
ство выковывается, несмотря на все трудности и
многочисленные субъективные и объективные пре-
пятствия. В забастовках, демонстрациях все чаще
совместно участвуют немецкие и иностранные рабо-
чие, расизм встречает все больший отпор в профсою-
зах, в левых партиях. Растут силы сопротивления
20
расизму и в широких слоях населения. Постепенно
формируется единый фронт организаций и групп,
выступающий за гражданские права иностранных
рабочих, против расизма, за дружбу и равноправие
всех рас и национальностей, населяющих ФРГ.
Высоко несет знамя пролетарского интернацио-
нализма Германская коммунистическая партия, ко-
торая записала в своей программе: «ГКП требует
для иностранных рабочих и их семей равноправного
участия в политической, социальной и культурной
жизни Федеративной республики. Она решительно
борется против любой формы дискриминации и лю-
бых попыток с помощью националистической исте-
рии вбить клин между немецкими и иностранными
рабочими... ГКП выступает за солидарность и сов-
местные действия немецких и иностранных ра-
бочих» 1.
И. Л. Киселев, доктор юридических наук
1 Мангеймский съезд Германской Коммунистической партии.
М., Политиздат, 1979, с. 311.
21
Предисловие
к русскому изданию
Время идет, и с момента издания моей книги,
направленной против расизма в Федеративной Ре-
спублике Германии, прошло уже четыре года. Когда
она вышла в свет в начале 1981 года, ее критики,
даже мои политические единомышленники и друзья,
считали, что я в полемическом задоре сильно сгу-
стил краски. Однако западногерманские будни очень
быстро убедили их в том, что прав был я. Между
1981 и 1983 годами Федеративную республику охва-
тил такой приступ враждебности к иностранцам, в
сравнении с которым все то, о чем я писал ранее,
представляется безобидными пустяками. За это вре-
мя более четким стал и общеполитический фон кам-
пании, нацеленной против наших иностранных со-
граждан. Гонения на иностранцев явились психоло-
гической и политической увертюрой к политике «пе-
ремен», и под эти внутриполитические аккорды про-
изошел отход от политики разрядки 70-х годов к
размещению ракет и оживлению антикоммунисти-
ческой пропаганды с ее раздуванием враждебности
в мире. Гонения на иностранцев одновременно явля-
ются и реакционной попыткой преодоления эконо-
мического кризиса, самого тяжелого для Федератив-
ной республики со дня ее основания. В условиях
наличия в стране более двух миллионов безработ-
ных «козлами отпущения» у нас объявляют ино-
странцев точно так же, как это делали с евреями во
времена Гитлера. Расистская пропаганда стремится
внушить рабочим и безработным, что у них «отни-
мают» рабочие места не предприниматели, а турки.
Таким образом, первыми жертвами политики «пере-
мен» становятся иностранные сограждане. После
смены правительства осенью 1982 года их права по-
степенно, шаг за шагом, ограничиваются, и уже
многие из них вообще отменены благодаря маневрам
политиков из ХДС, изменивших политический курс
страны. 28 мая 1982 года молодая турецкая писа-
тельница Семра Эртан сожгла себя в Гамбурге в
знак протеста против растущей враждебности к ино-
странцам. В августе 1983 года ее соотечественник—
22
антифашист Кемаль Альтун в отчаянии выбросился
из окна здания западноберлинского административ-
ного суда и разбился насмерть, а в канун Нового,
1984 года в одном западноберлинском лагере для
политических беженцев сгорели заживо шестеро
эмигрантов из нескольких стран «третьего мира»,
причем при таких обстоятельствах, которые и по сей
день вызывают подозрения, что это было убийство.
Во время подготовки выборов в бундестаг весной
1983 года в кампаниях клеветы в адрес «гостей-ра-
бочих» и всех просящих политического убежища
принимала активное участие не только откровенно
правая реакционная пресса. В 1983 году права поли-
тически преследуемых иностранцев были настолько
урезаны, что общее число удовлетворенных проше-
ний об убежище снизилось по сравнению с предыду-
щим годом почти до одной трети. Во многих землях
ФРГ было отклонено более 90% всех поданных
прошений о предоставлении убежища. Это дало ос-
нование Комиссии по делам беженцев Организации
Объединенных Наций вынести официальное порица-
ние нашему федеральному правительству.
Волна враждебности к иностранцам захлестнула
не только Федеративную республику. В соседней
Франции праворадикальным силам удалось до-
биться того, что немалое число местных рабочих пе-
ренесло свое недовольство экономическими и со-
циальными последствиями кризиса на своих коллег
из Алжира, Марокко и Сенегала. В Англии летом
1982 года во многих крупных городах дело дошло
до настоящих насильственных актов против цвет-
ных иммигрантов из стран Карибского бассейна,
Африки и Индии. В США при правительстве Рейга-
на снова оказались под угрозой отмены многие по-
литические права национальных меньшинств, за-
воеванные Движением за гражданские права за
истекшие 20 лет. Это выражается уже хотя бы в
том, что иммигранты с юга—из Пуэрто-Рико, Гаити
и Мексики—систематически оттесняются к самому
краю американского общества» И во всех этих стра-
нах четко просматривается связь указанного процес-
са с кризисом капиталистической системы.
Однако этой кампании по разжиганию ненависти
к иностранцам начинают противостоять значитель-
ные силы. В частности, это наблюдается и в Федера-
23
тивной республике. Широкое народное антифашист-
ское движение использовало 50-ю годовщину «зах-
вата власти» нацистами для того, чтобы напомнить
народу об уроках истории и предостеречь от варвар-
ских последствий вновь поднимающего голову ра-
сизма. Западногерманские профсоюзы все яснее
понимают, что в случае, если предпринимателям и
реакции удастся натравить друг на друга немецких
и иностранных рабочих и лишить их солидарности,
под удар будут поставлены единство и боеспособ-
ность всего рабочего движения. Во время крупных
забастовок и акций осенью 1983 года, в ходе кото-
рых рабочие блокировали здания своих предприя-
тий, иностранные и немецкие рабочие и работницы
проявили исключительное единство и солидарность,
как это было, например, на гамбургской верфи «Хо-
вальдт». Нередко в этих стычках с капиталом му-
жественно и решительно выступали против враж-
дебных к иностранцам настроений и тенденций
профсоюзные советы предприятий и их доверенные
лица. Члены профсоюзного комитета компании
«Люфтганза» в Гамбурге не постеснялись сами
взять в руки ведра и кисти, чтобы замазать на мно-
гокилометровой стене, окружающей аэродром, нама-
леванные на ней враждебные по отношению к ино-
странцам надписи.
Идея международной солидарности рабочих
встречает все более широкую поддержку среди уча-
стников движения за мир в нашей стране, и все ча-
ще наши манифестации за мир отличает то, что в
них принимают активное участие группы иностран-
ных сограждан, выходящих на улицы со своими
транспарантами и плакатами. Участие в движении
за мир позволяет лучше понять, что любой народ
может лишь тогда честно и достойно выступать и
бороться за мир между народами и государствами,
когда он проявляет миролюбие у себя в стране и
справедливо относится к различным населяющим
ее национальностям.
Та часть движения за гражданские права, кото-
рая борется у нас за равноправие национальных
меньшинств и чьи цели я кратко обрисовал в дан-
ной книге, значительно укрепилась за истекшие три
года и стала официально признанной силой. К на-
стоящему времени на территории Федеративной рес-
24
публики созданы и действуют более 550 инициатив-
ных групп и объединений, которые вносят свой
вклад в дело укрепления дружбы и сотрудничества
между немецкими и иностранными гражданами. В
марте 1984 года у нас уже в третий раз была про-
ведена Неделя дружбы с иностранными рабочими, в
мероприятиях которой впервые активно участвовали
профсоюзные организации. В Гамбурге не так давно
возник «Союз действия немецких и иностранных
трудящихся», который теперь координирует дея-
тельность более 30 инициативных групп. Соответ-
ствующие акции подготавливаются и в других рай-
онах Федеративной республики, и можно надеяться,
что рано или поздно у нас сложится охватывающая
всю страну надпартийная организация, объединя-
ющая все инициативные действия в поддержку и
защиту иностранцев.
Сейчас повсюду начались дискуссии об альтерна-
тивах официальной политике властей в отношении
иностранцев. Модель «многонациональной Федера-
тивной республики» уже включена в концепции и
программы многих прогрессивных групп и партий.
Выступая в самых разноплановых дебатах о демо-
кратических путях решения проблемы иностранцев,
я всегда самым решительным образом призываю
внимательно изучать конкретные примеры, и в част-
ности опыт, накопленный Советским Союзом. Слиш-
ком многие, в том числе и самые доброжелательно
настроенные, граждане Федеративной республики
просто не знают о том, что в Советском Союзе на
протяжении свыше 60 лет живут в мире и согласии
и пользуются равными правами 140 различных на-
родов и национальностей. В своих выступлениях я
всегда призываю следовать примеру СССР, где как
равные живут и работают русские, евреи, казахи,
немцы, черкесы и другие национальности, призываю
к тому, чтобы у нас, в ФРГ, мирно трудились и жи-
ли граждане немецкой, турецкой, итальянской, гре-
ческой, португальской или испанской национально-
стей. Отделение проблемы гражданства от проблемы
национальности, которое уже давно практикуется в
СССР в соответствии с его Конституцией, позволило
бы и у нас решить много трудных вопросов. А эти
вопросы возникают вновь и вновь, потому что у нас
все основные гражданские права прочно связаны с
25
наличием у человека западногерманского граждан-
ства. И поэтому те, кто не имеет такой «привиле-
гии»—а это, как правило, иммигрирующие к нам
иностранцы,—часто во втором и даже в третьем по-
колении лишены тех прав, которыми пользуются их
«местные» сограждане. Если бы основные принципы
национальной политики, действующие в Советском
Союзе, были применены у нас, наши национальные
меньшинства, состоящие из иммигрантов и «гостей-
рабочих», получили бы все права, в том числе—на
пользование своим языком и культурой при обуче-
нии в школах, на создание и содержание собствен-
ных средств информации и культурных центров, а
также на устройство своей жизни в соответствии с
их национальными традициями. Только тогда был
бы положен конец попыткам германизировать эти
меньшинства. Сейчас многим гражданам Федера-
тивной республики это покажется чистой утопией,
однако нам не обойтись без радикальных перемен,
коль скоро мы хотим найти правильное решение и
ликвидировать глубоко укоренившуюся у нас не-
справедливость, лишающую миллионы людей их
элементарных прав.
Петер Шютт
Гамбург, июнь 1984 г.
26
«Мавр сделал
свое дело...»
Тема для дискуссии, предла-
гаемая Петером Шюттом
Да, в нашей конституции это есть...
«Никому не может быть причинен ущерб или ока-
зано предпочтение по признакам его пола, его про-
исхождения, его расы, его языка, его отечества и
места рождения, его вероисповедания, его религиоз-
ных или политических убеждений».
С этих громких слов, включенных в пункт 3
статьи 3, начинается наша хваленая конституция.
Однако несколькими статьями ниже, там, где основ-
ные права граждан рассматриваются более подроб-
но, делается следующая оговорка: «Все немцы
имеют право собираться мирно и без оружия, без
предварительного заявления или разрешения». Эта
формулировка «Все немцы...» встречается и в дру-
гих статьях конституции.
Все немцы? Да, только немцы. Ну а как быть
с проживающими у нас иностранцами? В Федера-
тивной республике живет сейчас около четырех
с половиной миллионов граждан, прибывших
к нам из-за рубежа. Они приехали сюда с разных
концов земли—из Южной Европы, из Турции,
с Ближнего и Дальнего Востока, из Африки, из
Северной и Южной Америки.
Они уже давно перестали быть национальным
меньшинством, их больше нельзя считать некой
инородной группой. У многих из них появилось
здесь уже второе и даже третье поколение. Они
часть нашего народа, они живут среди нас, рядом
с нами, они работают на нас. Хотим мы этого или
нет, но Федеративная республика превращается
в многонациональное государство. Старая Германия
чистокровных тевтонцев прекратила свое сущест-
вование, и меня это нисколько не огорчает. Наобо-
рот, я нахожу, что нам пора сделать соответству-
ющие выводы из факта превращения нашего не-
когда однозначного германского «рейха» в сооб-
Часть
первая
27
щество, где живут и трудятся люди различной на-
циональной и этнической принадлежности, и учесть
это в нашем поведении, в нашей культуре и
в нашей конституции.
Тем не менее к началу 80-х годов враждебность
к иностранцам, ненависть к чужакам и откровен-
ный расизм приняли у нас такие масштабы и фор-
мы, каких не наблюдалось со времен нацизма.
Именно с момента возникновения этого процесса
я и позволю себе начать свой памфлет.
И все это—в нашем доме
Вот уже несколько лет я женат на афроамери-
канке *. У нас растет темнокожая дочь. В общем,
в нашей семье «третий мир» имеет солидное боль-
шинство в две трети. Как единственный немец
в этом «тройственном союзе», я, однако, отнюдь
не остаюсь в проигрыше. Скорее наоборот. Моя
жизнь сейчас стала полнее, богаче человеческими
связями, переживаниями, ощущениями и, конечно,
напряженными минутами. Но какая может быть
любовь без нервных потрясений! Это просто скуч-
ное и, в общем-то, бесплодное существование.
Наша совместная жизнь не ограничена четырь-
мя стенами нашей квартиры. Суета будней захлес-
тывает нас ежеминутно, окружающий нас мир не
дает ни малейшей передышки. И мы почти каждый
день сталкиваемся с фактами духовного загрязне-
ния и отравления окружающей среды. Оно про-
является прежде всего в нарастающей волне ра-
систских и шовинистических предрассудков, кото-
рая, кажется, грозит затопить всю нашу страну.
Она не раз захлестывала и меня, иногда вызывая
дрожь, иногда повергая в оцепенение. Собственно
она-то и заставила меня сесть за эту книгу. Я на-
писал ее под влиянием всего того, что я увидел
и прочувствовал, и я не скрыл в ней ни своего
гнева, ни своей, может быть, порой излишней го-
рячности.
Какой дискриминации подвергаются у нас ино-
* Так сейчас принято называть негров из США или Канады- —
Прим. перев.
28
странцы, мне впервые стало ясно, когда мы с моей
супругой решили пожениться. Тут-то и начались
наши хождения от Понтия к Пилату: из суда
первой инстанции в бюро записи актов граждан-
ского состояния, из консульства в бюро прописки,
оттуда назад в консульство, из загса в суд первой
инстанции—от Пилата к Понтию, пока наконец
на руках у нас не оказался всесильный документ—
«Разрешение на освобождение от представления
справки о возможности вступления в брак».
Эта жуткая формула, унаследованная от недоб-
рой памяти эпохи зла, говорит сама за себя и во-
очию убеждает в том, что даже богиня правосудия
у нас отнюдь не свободна от предрассудков и лишь
тогда проявляет благосклонность к людям, когда
ей суют под нос «арийский» паспорт. И конечно
же, любовь между немцем и чужестранкой в ее
глазах выглядит особенно подозрительной и предо-
судительной. Хотя среди нас и живут миллионы
иностранных сограждан, из каждой сотни регист-
рируемых у нас браков лишь один заключается
между представителями разных национальностей.
Но не только предостерегающий жест правосудия
мешает в нашей стране людям разных наций бли-
же узнавать друг друга, учиться понимать и лю-
бить других. Мы сталкиваемся с расизмом изо дня
в день и нередко в самых обыденных и банальных
ситуациях, причем иногда все это выглядит даже
комично. Вот, к примеру, наша дочь рассказывает,
что сегодня их учитель географии успокаивал класс
такой фразой: «Ну хватит, кончайте этот негри-
тянский базар!» А вчера один мальчишка приста-
вал к ней с вопросом, не удостоит ли она его
«негритянским поцелуем». На уроке пения они не-
давно разучивали песенку «Где же черная кухар-
ка?». В поезде метро по пути домой ей нередко
приходится быть объектом «сентиментального» ра-
сизма. Кто-нибудь вдруг начинает гладить ее
по курчавым волосам и даже по щеке, словно она
не живой человек, способный чувствовать и пере-
живать, как и все люди, а красивая целлулоидная
кукла-негритенок.
Когда моя жена просит в городской библиотеке
три бланка требований на книги, библиотекарь
непременно дает ей четыре. «На случай, если вы
29
Петер Шютт и Элизабет Томпсон на демонстрации в Гамбурге
в честь Международного женского дня 1980 года.
ошибетесь»,—поясняет он отечески и при этом ду-
мает про себя, что все-таки черные, наверное, еще
не умеют пользоваться книгами. Иногда с ней
происходят и забавные случаи. На днях один поли-
цейский, остановив ее, когда она пыталась перей-
ти через улицу на красный свет, терпеливо и об-
стоятельно объяснял ей, что означают в городе
Гамбурге красный, желтый и зеленый цвета све-
тофора.
Но большей частью ситуации бывают гораздо
худшие. Например, в автобусе кто-то назовет ее
«черной обезьяной», продавцы в магазине нагло
оставят без внимания, парикмахер вдруг запросит
двойную цену только потому, что ее волосы якобы
трудно стричь. Даже мне достается от вошедшей
у нас в привычку дискриминации цветных. Когда
я говорю кому-нибудь, что женат на черной жен-
щине, некоторые из моих собеседников обязательно
понимающе ухмыльнутся и заметят: «Наверное,
это весьма занятно!» Еще бы, ведь у нас в стране
темная кожа воспринимается как нечто особо за-
влекательное и сексуальное. А уж если мы вдвоем
30
идем по улице, то, как уже не раз случалось, кто-
нибудь непременно крикнет нам вслед: «Позор
для нации!» И даже в нашем либеральном Гам-
бурге нередко бывало, что водители такси отказы-
вались нас везти только потому, что у одного из нас
темная кожа.
Многим гражданам нашей республики это, ве-
роятно, покажется банальным: стоит ли, мол, об-
ращать внимание на такие пустяки. И верно, очень
немногие представляют себе, что значит у нас
в стране принадлежать к национальному меньшин-
ству, которое по цвету кожи заметно с первого
взгляда. А эти несчастные не могут сбросить с се-
бя кожу, и защищаться им нечем. И вот повсюду—
на работе или во время досуга, в чужом районе
города или возле своего дома—этим людям при-
ходится испытывать на себе тысячи назойливо фа-
мильярных взглядов и ухмылок. Их постоянно
разглядывают, на них буквально глазеют, тара-
щатся и неизменно во всех случаях смотрят, как
на чужаков.
Большинство наших темнокожих знакомых
считают это постоянное разглядывание наихудшим
проявлением расизма в Федеративной Республике
Германии. Вообще-то на иностранцев повсюду в ми-
ре смотрят пристальнее и даже оборачиваются,
особенно когда встречается женщина-иностранка,
но нигде, как мне кажется, это не делают так
откровенно и подчеркнуто, так бесцеремонно и пре-
досудительно, как у нас. Здесь в иностранце видят
не гостя, а некоего возмутителя спокойствия, на-
рушающего заведенный порядок. В отличие от
США, где афроамериканцы, несмотря на все еще
сохраняющуюся дискриминацию, все же ощущают
себя нацией, имеющей собственную культуру
и чувство достоинства, у нас каждый испытывает
на себе расизм в одиночку. Он проявляется как
индивидуальный террор и потому вызывает у жертв
ощущение разобщенности, горечь бессилия и созна-
ние полнейшей беспомощности. Да и что должна
делать моя жена, когда ее в автобусе называют
«негритянским дерьмом»? Может быть, пуститься
в дискуссию с обидчиками или вонзить в них свои
ногти? На такое она еще пока не решалась.
В доме, где мы живем, моя жена и дочь от-
31
нюдь не единственные иностранцы. Из девятнадцати
квартиросъемщиков пятеро не имеют подданства
ФРГ. Рядом с нами живет Моника, тридцатилетняя
женщина-искусствовед. По национальности она
итальянка, но в Италии она побывала только од-
нажды, во время отпуска. Дело в том, что ее предки
когда-то, вероятно еще до нашего летосчисления,
переселились из Рима в Берлин, но получить граж-
данство ФРГ так и не сумели. И у нее его тоже
нет. Она не имеет избирательных прав и постоянно
оказывается жертвой всевозможных придирок
со стороны властей, действующих на основе законов,
придуманных нашими бюрократами исключительно
с целью введения особого режима для иностранных
сограждан, что бы там ни говорилось о «европей-
ском единстве».
Этажом ниже проживает некая Дорле, дипло-
мированный психолог из Зальцбурга, расположен-
ного в шести километрах от границы с Баварией.
Она тоже все время терпит гонения со стороны
властей. Ей пришлось отказаться от контракта
с одной общиной на постоянную практику, посколь-
ку управление, ведающее делами иностранцев,
не выдало ей разрешения на работу по специаль-
ности. Вот уже три года она живет в Гамбурге,
но у нее почти нет шансов обосноваться у нас
только потому, что ее родная Австрия не входит
в число стран—членов Европейского экономического
сообщества. Мешает и положение о «прекращении
набора иностранных специалистов». В результате
ей приходится довольствоваться очень скудно оп-
лачиваемой работой почасовика, пока университет
готов сквозь пальцы смотреть на отсутствие у нее
официального разрешения. Если же она потеряет
и это место, ей немедленно грозит высылка из
страны, ибо ее заработки не могут быть ниже вы-
плат, полагающихся по закону о социальном обес-
печении.
На нижнем этаже снимает квартиру господин
Кагемуца, японец, работающий в гамбургском
филиале японской машиностроительной фирмы.
Он живет совсем отшельником, и наши контакты
с ним ограничиваются лишь любезными приветст-
виями на лестничной площадке. Хотя на лице
у него ничего не написано, однако мне кажется,
32
я угадываю, насколько ему одиноко и неуютно
у нас, как высоки стены, отгораживающие его
от той немецкой среды, в которой он живет, и как
сильно дает она ему почувствовать, что он здесь
не ко двору.
Как и в нашем доме на Эппендорфштрассе,
во многих домах этой части города обитают иност-
ранные сограждане. Это так называемые «гастар-
байтеры», или «гости-рабочие», студенты, беженцы
со всех континентов—турки и югославы, арабы
и африканцы, персы и индонезийцы. Я люблю эту
часть города больше, чем все остальные районы
Гамбурга, именно за ее человеческую разноликость.
Я живу здесь уже свыше 15 лет. В хорошие дни
я иногда вижу нашу большую улицу как некое
пестрое отражение центральных улиц Парижа, Лон-
дона или Нью-Йорка, как провозвестницу истинно
братского сообщества людей, свободного от всяких
национальных и расовых барьеров.
От такого гармоничного будущего мы еще, ко-
нечно, очень далеки. Так, напротив нашего дома
год назад открыл свое заведение некий господин
или, вернее, мистер Макдональд. Свет его желтой
неоновой рекламы теперь и по ночам проникает
в нашу гостиную. В этом заведении неукоснительно
следуют порядкам, установленным в мире чисто-
кровных расистов. Директором этого «дочернего
заведения» является немец—бывший школьный
учитель в ранге советника, который, по-видимому,
не смог справиться со своими обязанностями пе-
дагога. В подчинении у него в основном молодые
женщины из Италии и Турции, а за стойкой
и особенно на кухне, у раскаленных плит, сплошь
темнолицые мужчины из Африки, Индии и Паки-
стана. У большинства из них нет надлежащих до-
кументов, и поэтому им ничего не остается, как
надрываться здесь нередко по 12—14 часов в сутки.
Тех, кто делает самую грязную и тяжелую работу,
кто чистит до блеска все, что может блестеть, кто
размораживает и разделывает мясо, вымачивает
его в пряных соусах, я вижу покидающими заве-
дение иногда в два, а то и в три часа ночи. И все
они, без исключения, черные. «Макдональд»—это
кусочек Южной Африки у самого порога нашего
дома.
33
Сравнение с режимом апартеида, возможно, по-
лемически несколько заострено: в конце концов,
в этой забегаловке нет раздельных входов и вы-
ходов для черных и белых. И в городах у нас
пока еще не появились изолированные националь-
ные гетто. Однако условия жизни иностранцев
у нас не так уж далеки от тех, в которых живут
цветные в США и Южной Африке. Кое-что из это-
го можно наблюдать и в гамбургском предместье
Эппендорф. В сохранившихся с кайзеровских вре-
мен и похожих на казармы доходных домах
на улицах Кегельхофштрассе и Гешвистер-Шолль-
штрассе, где отсутствуют необходимые санитарно-
гигиенические условия, а также в ветхих домах-
террасах в районе Фалькенрида и на задворках
Лёвенштрассе ютятся преимущественно турки.
Ниже этих строений расположены жуткие разва-
люхи, в которые недавно вселили 40 беженцев.
Большинство из них—угандийцы и сомалийцы.
Наш богатый традициями район города, где в те-
чение многих лет, до самого ареста и отправки
в концентрационный лагерь, жил и боролся Эрнст
Тельман, за последние 20 лет совершенно изменил
свое лицо. И прекрасная фотография из «Музея
Тельмана» на Тарпенбекштрассе, где Тедди * про-
тягивает левую руку советскому моряку, а правую—
китайскому матросу, приобрела новое конкретное
содержание.
Изменилось и лицо нашего рабочего класса.
Голубоглазых юношей-пролетариев, какими изоб-
ражал их в своих романах Вилли Бредель, нет
и в помине. На складе обоев фирмы «Мартин»,
расположенном у нас на заднем дворе, работает
пятеро немцев, трое турок и один афроамериканец,
который уволился из армии. В ста метрах дальше
по улице, на кондитерской фабрике фирмы «Пеа»,
трудится триста пятьдесят женщин из Италии,
Португалии и Турции. Приготовлением знаменитых
«гамбургских шкварок» сейчас вряд ли занимается
кто-то из местных жителей. Только выручку от
их продажи кладет в свой карман какой-нибудь
коренной федеральный гражданин.
* Так называли рабочие—соратники Тельмана своего вождя.—
Прим. перев.
34
Иной раз мне приходится рано по утрам раз-
давать листовки перед эппендорфской больницей—
самым крупным в нашем районе учреждением, в
котором работает свыше 6500 человек обслуживаю-
щего персонала. И тогда мне порой кажется, будто
бы я, проснувшись, сразу попал в другую часть
планеты. В числе тех, кто еще до рассвета тол-
пится у входных ворот, более тысячи гречанок и
турчанок, работающих в больнице уборщицами и
санитарками, пятьсот южнокорейских сестер мило-
сердия, обязанных пройти у нас трехлетнюю стажи-
ровку, и около семидесяти врачей из Ганы и Ни-
герии, которые трудятся здесь на самых различных
участках, вплоть до сложных комплексов «сердце-
легкие». Без помощи иностранцев в этой больнице
уже нельзя провести ни одной операции. И все же
встречаются такие пациенты, которые предпочтут
скорее погибнуть самым глупым образом, чем поз-
волят корейской медсестре сделать им инъекцию
или врачу из Африки прооперировать их...
Темная глава истории
В ходе своей 30-летней истории Федеративная
Республика Германии превратилась в многонацио-
нальное государство в гораздо большей степени, чем
любая другая страна Западной Европы. Каждый
12-й ее житель и каждый 8-й трудящийся—иностра-
нец. Из тех, кто учится, каждый 4-й—тоже иност-
ранец. В последнее время каждый 3-й ребенок,
появляющийся у нас на свет, имеет хотя бы одного
родителя-иностранца. С притоком в нашу страну
людей из разных стран наши улицы, по образному
выражению моего турецкого коллеги, поэта Араса
Эрена, «наполнила свежая ненависть, их разбудили
новая страсть и надежда* их продули пахучие
ветры степей».
Почти 12 миллионов иммигрантов прошли через
нашу страну после 1949 года. Это огромное коли-
чество людей. Все они очень разнолики. И тем не
менее их можно разделить на пять основных групп.
Те, кто прибывает в Федеративную республику
из ГДР, могут смело рассчитывать на то, что в
силу претензии нашего федерального правительства
35
на единоличное представительство всего немецкого
народа западногерманское гражданство им обеспе-
чено. Те, кто подпадает под категорию так назы-
ваемых «перемещенных лиц немецкого происхожде-
ния», проживавших в Польше, Румынии или в
Советском Союзе и пожелавших переехать к нам,
получает паспорт ФРГ еще в сборном лагере. Даже
люди, приезжающие из далекой Намибии и имею-
щие возможность документально доказать наличие
у них в роду прадеда-немца из колонистов кайзе-
ровских времен, немедленно и с почетом прини-
маются в наше гражданство.
Даже те южновьетнамские беженцы, которых
наше западногерманское спасательное судно выло-
вило недавно у берегов этой страны, могут претен-
довать на получение квартиры, работы и помощи на
устройство в стране. Что же касается иностранных
рабочих, приезжающих к нам легально или неле-
гально, то им «везет» или «не везет» в зависимости
от того, откуда они прибыли: из страны, входящей
в состав Европейского экономического сообще-
ства, или из другой страны, не являющейся членом
ЕЭС. Например, Турция не член ЕЭС, соответствен-
но этому и отношение к приезжающим оттуда. Но
хуже всего положение тех, кто ищет у нас поли-
тического убежища. В том случае, если их проше-
ние отклоняется, они должны убраться из страны
в течение 12 часов. А надо сказать, что сейчас
вопрос о предоставлении убежища решается в четы-
рех из пяти случаев отрицательно.
В табели о рангах нашего гостеприимства на
самом верху стоят, конечно, немцы. Тот, кто хотя
бы отдаленно оказывается немцем, вполне может
рассчитывать на гражданство и соответствующие
права. Иностранец же попадает в незавидное поло-
жение водоноса, подсобного рабочего, мальчика на
побегушках. Чтобы иметь даже ограниченную воз-
можность передвигаться по стране, он обязан по-
лучить официальный вид на жительство и разре-
шение на трудовую деятельность. Его нанимают
последним, а выгоняют первым. Он должен все
время помнить о том, что его в любой момент могут
выставить за порог. В 1979 году вид на жительст-
во в ФРГ имели только 22% всех наших иност-
ранных сограждан, а разрешение на постоянное
36
жительство—не более 0,6%. Последнее получают
лишь те, кто проработал на одном месте непрерыв-
но в течение пяти лет, приобрел достаточные зна-
ния языка, соответствующее его потребностям жилье
и сумел устроить своих детей в школу. Разуме-
ется, немец тоже может скатиться вниз по социаль-
ной лестнице до положения иностранного «гостя-
рабочего», особенно если у него многочисленная
семья, если он не имеет жилья или живет в обще-
житии, а также если он неграмотен. К категории
этих наибеднейших, чью судьбу ярко и докумен-
тально описал в своих книгах Юрген Рот, относят
сейчас более двух миллионов граждан ФРГ.
Наше общество определенно приобрело некото-
рые черты, делающие его современным подобием
рабовладельческого государства. Моделью для него
послужила организация фашистской промышлен-
ности в годы войны, в которой эксплуатировали
принудительный труд миллионов депортированных
в Германию иностранных рабочих, создавая для них
каторжные условия жизни и работы. Иностранцы —
это прежде всего дешевая рабочая сила. Она появ-
ляется на рынке труда уже в готовом виде и тут
же может создавать ценности, то есть прибыль,
налоги, ренту, причем государству не надо затра-
чивать ни пфеннига на семейные пособия, социаль-
ное обеспечение или образование иностранных ра-
бочих. Они трудятся у нас на себя куда меньше,
чем их немецкие коллеги. Их назначение одно—
создавать прибыль для работодателя и доходы в
виде налогов для государства.
Каждый год наша федерация, наши земли и
наши общины выколачивают из одного иностран-
ного рабочего свыше трех тысяч марок налоговых
поступлений, а возвращают ему смехотворно малую
сумму. Так, в 1978 году чистые расходы земель
на одного рабочего-иностранца колебались от 2,19
марки в Нижней Саксонии до 4,78 марки в Ба-
варии. Федеральное правительство добавило к этому
в среднем еще по 10,72 марки, а городские ма-
гистратуры в самом лучшем случае увеличили эти
выплаты на 2,95 марки на каждого рабочего в год.
В итоге получается жалкая сумма примерно в 15
марок в год. И это все, что наше государство выде-
ляет на одного иностранного рабочего. Пятнад-
37
цать марок в год! Это же примерно сотая часть
того, что Федеративная республика расходует толь-
ко на социальное обеспечение одного немецкого
рабочего,—около 1500 марок.
В условиях подобных социальных диспропорций
и произвола сами собой возникают почти объек-
тивные основания для презрительного отношения к
другим народам и расам, для появления расизма.
Если во времена Веймарской республики расизм
был направлен прежде всего против евреев—нацио-
нального меньшинства, проживавшего в нашей
стране в течение нескольких столетий, то теперь
он бьет с особой силой по иммигрантам из «тре-
тьего мира»—туркам, арабам, азиатам, афроаме-
риканцам и африканцам. Чем непривычнее для нас
внешний вид человека, чем темнее его кожа, тем
чаще и грубее подвергается он у нас расовой дис-
криминации. Поэтому я хотел бы здесь обратить
особое внимание на расовую неприязнь по отноше-
нию к цветным, которая нагляднее всего убеждает,
насколько трудно приходится у нас всем чужест-
ранцам.
Я не собираюсь вдаваться в долгие теоретичес-
кие рассуждения относительно возникновения ра-
сизма. Однако я категорически отвергаю выдви-
нутый недавно в одном из изданий «Курсбуха» *
тезис, согласно которому столкновение различных
культур неизбежно и «естественным образом» по-
рождает расистские настроения. В моей семье тоже
сталкиваются разные культуры, но я воспринимаю
это взаимодействие как стимулирующее обе стороны
и со всех точек зрения способствующее миру.
Встреча и взаимодействие отличающихся друг
от друга культур и жизненных укладов только
тогда ведут к расовым конфликтам, когда они на-
кладываются на классовые противоречия, когда од-
на из культур, объявляя себя господствующей, при-
пирает другую к стенке. Вражда между народами
отнюдь не является законом природы. Даже в гер-
манской истории были примеры того, как на про-
тяжении столетий немцы мирно сосуществовали
с евреями, поляками, датчанами, голландцами и
французами. Еще в конце XIX века более 500 тысяч
* Имеется в виду левацкое издание, публикуемое в ФРГ 1—2
раза в год.—Прим. перев.
38
поляков-переселенцев безболезненно расселились в
Рурской области и на Рейне, и случилось это не
в последнюю очередь благодаря интернационалист-
ской позиции, занятой германским рабочим движе-
нием.
Бесспорно, в Германии существуют расистские
традиции, и они гораздо старше нацистского «рей-
ха». Христианство, почти два тысячелетия пропо-
ведующее свою доктрину народам западных стран,
учило их нетерпимости по отношению к евреям и
язычникам. Доставшееся нам в наследство пред-
убеждение против греков, турок, арабов и черных
восходит к временам крестовых походов, когда хри-
стиане впервые попытались огнем и мечом иско-
ренить тех, кто не желал принять их веру. А в эпоху
Великих открытий у нас сложилось уже евроцентри-
стское представление о мире, заставлявшее нас пре-
зирать все культуры небелых народов, а индейцев
и африканцев вообще низводить на положение ди-
карей и получеловеков. В период между XVI и XX
веками более 30 миллионов индейцев пало жерт-
вой политики геноцида, проводившейся европей-
скими державами в Северной и Южной Америке,
и ровно столько же африканцев за тот же период
было вывезено на невольничьих кораблях в качест-
ве рабов в Новый Свет. Этому варварскому насле-
дию мы обязаны тем, что в нашем сознании глубо-
ко укоренились самые нелепые предрассудки по от-
ношению к тому миру, который мы и теперь, ос-
таваясь все теми же евроцентристами, величаем
«третьим».
Новый стимул расизм получил в период коло-
ниализма. Вильгельмовская Германия, едва успев
объединиться «кровью и железом», приняла самое
активное участие в осуществлявшемся тогда по пра-
ву сильного разделе стран Азии и Африки между
европейскими колониальными державами и сумела
ловко, хотя и с опозданием, войти в число госу-
дарств, соперничавших в империалистической ко-
лониальной политике. Раздавленные грубой силой
«туземцы» Намибии и Танзании были принужде-
ны покориться немецкому «духу», чтобы не по-
гибнуть.
Когда в 1933 году нацисты окончательно за-
хватили власть, опасная гремучая смесь расистских
39
убеждений и предрассудков была уже полностью
готова к употреблению, ее только нужно было до-
вести до взрыва. Последствия этого известны. Про-
несшийся над миром смерч фашизма стал самой
гнусной в мировой истории расистски мотивирован-
ной бойней народов. Вторая мировая война с ее
стратегией массового уничтожения, направленной
прежде всего против народов Восточной Европы,
обошлась миру в 55 миллионов человеческих жиз-
ней.
40
«Разгром и подавление восстания племени хереро в Германской
Юго-Западной Африке в 1904 году. На снимке: пленные пов-
станцы». Такое представление об истории в духе германского
империализма преподносилось юношеству в учебнике по истории
для старших классов «Время и люди», выпущенном издатель-
ством Шределя-Шёнинга.
Если вынести за скобки первые послевоенные
годы нерешительных попыток перевоспитания и
денацификации, имевших место между 1945 и 1949
годами, то можно сделать совершенно определен-
ный вывод: никакого реального отмежевания от без-
умных расистских представлений нацистов в на-
шей стране не произошло. Массовые убийства евреев
с помощью денег были кое-как «заглажены», но
убийц в подавляющем большинстве случаев оста-
вили на государственной службе. И уж никаких
претензий о выплате компенсации за жизни поля-
ков и русских, цыган и «негритянских ублюдков»,
гомосексуалистов и инвалидов, которых нацисты
уничтожали из чисто расистских соображений, на-
ше правительство не признает.
Если бы в пасхальную неделю 1980 года группа
цыган не провела голодовку в бывшем концентра-
ционном лагере Дахау, если бы движение за граж-
данские права не выступило за реабилитацию «ро-
зовых треугольников» *, погибших в нацистских ла-
герях смерти, если бы ученые не выяснили судьбу
стерилизованных, а потом большей частью заму-
ченных фашистами «бродяг из Рейнской области»,
дискриминация жертв фашистского безумия продол-
жалась бы и поныне. И все же мы еще очень да-
леки от официального признания вины перед всеми
жертвами кровавой бойни народов—поляками и
русскими, цыганами и «полукровками», душевно-
больными и неполноценными, перед борцами Со-
противления и коммунистами. Многие из них даже
не упомянуты на общих мемориальных досках.
Так действует на нас фашистское наследие, вре-
мя от времени оживляемое правыми и неонацист-
скими группировками. Упорство, с каким расист-
ская идеология цепляется за души немцев, нагляд-
нее всего обнаруживается в дискриминации цыган
и африканцев.
В Федеративной республике проживает примерно
100 тысяч цыган разных групп. Лишь каждому
четвертому цыгану удалось пережить кровавую на-
цистскую бойню. Но выжившие, как правило, не
имеют ни паспорта, ни гражданства. Стало быть,
* Так называли в фашистской Германии душевнобольных и го-
мосексуалистов, так как в лагерях им на спину нашивали тре-
угольники из розовой материи.—Прим. перев.
41
«Помощь развитию под портретом кайзера. Школа в Германской
Восточной Африке». (Из учебника по истории для старших
классов «Время и люди», издательство Шределя-Шёнинга.)
их можно, как и в «добрые» старые времена, про-
извольно выгонять за пределы страны и вообще
посылать ко всем чертям.
Среди нас в качестве рабочих, студентов, поли-
тических и экономических беженцев проживает
почти полмиллиона черных. В размещенных в на-
шей стране американских войсках служит около
200 тысяч афроамериканцев. Наше государство, наше
общество обязаны открыто заявить о своем отноше-
нии к ним. Могут, конечно, сослаться на то,
что цыгане, черные и иностранцы—это, мол, мень-
шинства и что их проблемы не имеют принципиаль-
ного значения. Однако численность тут ни при чем.
Расизм предосудителен даже тогда, когда его жерт-
вой становится один-единственный человек. Да и
сама проблема связана не столько с меньшинством,
сколько с поведением большинства. Ведь у нас, к
сожалению, именно большинство населения ведет
себя по-расистски в отношении меньшинства. Дело
не только в жертвах фашизма: речь прежде все-
42
го идет о тех, кто был их виновником, и о тех
простачках-подголосках, которые теперь столь
усердно прячутся за спины молчаливого боль-
шинства.
Когда внутри какого-то народа складываются
условия для возникновения расизма, все сообщест-
во оказывается под его пагубным влиянием. Общест-
во, дискриминирующее национальные и прочие
меньшинства, кто бы они ни были—«гости-рабочие»
или люди из «третьего мира», евреи или цыгане,
душевнобольные или неполноценные, студенты или
коммунисты,—несет в себе зародыш варварства и
в критические моменты способно на самые различ-
ные социальные преступления—на дискриминацию
женщин, жестокую цензуру, запреты на профессии,
выселение неугодных граждан в гетто, в «особые
пансионаты», в специальные лагеря. Оно способно
на превращение политических противников в уго-
ловные элементы, на полицейский террор и даже—
в самом худшем случае—на погромы и массовое
истребление людей. Расизм—это всегда нарушение
демократических свобод и прав человека, это всегда
еще один шаг к новой войне.
Поскольку войны, как правило, начинаются не
на поле боя, а задолго до этого в опустошенных
сердцах и умах людей, мы обязаны вселить в ду-
ши наших сограждан стремление к миру, волю к
предотвращению третьей и, вероятно, последней для
человечества мировой войны. Борьба за мир и за
наше с вами всеобщее выживание решается отнюдь
не за столом переговоров, а в головах всех людей,
всех сограждан. Поэтому те, кто хочет раз и на-
всегда изгнать войну и фашизм с нашей планеты,
должны победить расизм. Победить и уничтожить
его в самом его истоке. Истребить расизм, пока
опять не будет слишком поздно и ничего уже
нельзя будет сделать. Пока не пришел конец всему!
Предрассудки,
вошедшие в плоть и кровь
Насколько глубоко укоренились расистские
взгляды в сознание наших людей, хорошо видно
даже на примере обиходного языка. Предрассудки
43
отцов и дедов нашли у нас свое отражение в бес-
численных пословицах, поговорках и эпитетах. Мы
одинаково бездумно говорим: «О, это по-испански!»,
когда чего-нибудь не понимаем, или в издевку клей-
мим непонятное «особым английским стилем». Еще
и сегодня наши крестьяне называют один из сор-
няков «французским бурьяном», а вполне интел-
лигентные люди именуют некую предосудительную
болезнь «французским насморком». Еще злее ста-
новятся эпитеты, когда наши взоры устремляются
на восток. Так, уже в раннем Средневековье слово
«славяне» было преднамеренно уподоблено слову
«рабы» *. Когда кто-то сморкается двумя пальца-
ми, значит, он «чистит нос по-польски», и когда
речь заходит о ком-то из «Полякии» или «Валахии»,
немцу понятно, что это говорят о совершенно не-
культурном человеке. К востоку от нас лежат, по
нашим представлениям, какие-то «богемские де-
ревни», в которых «ютятся гунны», а вся жизнь
венгров воспринимается нами как оперетка с тан-
цами и куплетами о «щетинке и свининке».
Даже после исчезновения фашизма уголовников
у нас чтут как «крепких парней», а левых пре-
вращают в «террористов». Люди с увечьями оста-
ются для тех, кто повинен в этих увечьях, по-преж-
нему «уродами», «психами» или «чокнутыми». И по
прошествии почти четырех десятилетий после ми-
ровой бойни все еще встречаются немцы, позволя-
ющие себе говорить, что другие «воруют, как цы-
гане», или «цыганят повсюду». Живуча и старая
поговорка «дела, как в еврейской лавочке», а в
жарких словесных потасовках нередко можно
услышать и еще худшее: «Орет, как в газовой ка-
мере!»
Словарь-атлас предосудительных эпитетов охва-
тывает почти весь «третий мир». Так, в некоторых
восклицаниях, содержащих упоминание о турках,
слово «турок» обязательно связывается с дурным
поступком. Когда говорят о мусульманах, сразу же
возникает ассоциация с концлагерями. Дело в том,
что слово «мусульмане», означающее у нас сейчас
преимущественно приезжих рабочих с Востока, на-
* Такое уподобление, расистское в своей основе, возникло из ор-
фографической близости немецких слов Slaven (славяне) и Skla-
ven (рабы).—Прим. перев.
44
цисты некогда употребляли в несколько изменен-
ной форме «муссельман» по отношению к исху-
давшим, как скелеты, узникам фашистских лаге-
рей. Что же касается иранских граждан, то после
происшедшей там исламской революции их сейчас
далеко не в шутку называют не персами, а «пер-
версами», то есть «извращенцами».
Дальше мы вступаем уже в область «косогла-
зых» и «кривоухих». Здесь нас поджидает «жел-
тая опасность», а люди приобретают преимуществен-
но «монгольские рожи». Страдающие синдромом
Дауна * получают типично немецкий эпитет «мон-
голоиды», и в этом слове нет ни грана такта по
отношению к больным и к чужестранцам. Самая
же явная дискриминация, какую допускает наш
язык, выпадает на долю африканцев. «Мавр», «ниг-
гер», «черномазый»—это лишь малая толика тех
оскорбительных кличек, которые, по-видимому, ста-
ли уже неискоренимыми. И даже такие слова, как
«черный» и «цветной», без которых в разговоре про-
сто нельзя обойтись, нередко под влиянием обстоя-
тельств, при которых они произносятся, приобре-
тают дискриминирующий оттенок. Если кто-то поз-
воляет себе нечто, выходящее за пределы хороше-
го тона, или преступает границы дозволенного, он
тут же становится «черным бараном», и никакой
стиральный порошок «Мавр» не способен смыть с
него эту краску. Когда хотят показать свой ра-
сизм по отношению к кому-то более откровенно,
то заявляют, что он «обделался, как негр». Когда
кому-то что-то не по нраву, можно смело окрестить
это «занятием для готтентотов», а неприятную му-
зыку назвать «бушменской». Подобные странные
слова и выражения вошли у нас в обиход с тех
пор, как Карл Хагенбек показывал в своих цирках
и зверинцах рядом с дикими животными и «ди-
ких людей», например кафров из Южной Африки.
И теперь слово «кафр» служит в нашем языке
синонимом невоспитанного идиота.
Немало оскорбительных эпитетов и в диалектах
немецкого языка, на которых говорят в Федератив-
* Врожденная дефективность, обусловленная нарушением
хромосомного равновесия в клетках зародыша и выражающаяся
в неправильном развитии скелета. Чаще всего является след-
ствием алкоголизма родителей.—Прим. перев.
45
ной республике. Они тоже предназначены преиму-
щественно для черных. Например, в Пфальце нег-
ров—солдат американской армии называют «брике-
тами» *, а их казармы—«брикетными складами».
Турок величают «гавамами» или «верблюжьими
мордами». Оба этих ярлыка появились еще в 20-е
годы и вначале относились к марокканским и ал-
жирским солдатам, служившим в годы оккупации
Рейнской области во французской армии. Люди
всегда находят удивительно острые средства, позво-
ляющие задеть самолюбие человека, когда нужно
выставить чужака за дверь. Итальянцев в разных
странах называют то «макаронниками», то «по-
жирателями спагетти», то «гиголо» **, а у нас всех
приезжих рабочих называют «гнидами», низво-
дят их языковыми средствами до положения на-
секомых-паразитов.
За употреблением столь оскорбительных слов и
выражений скрывается явный или неосознанный
расизм. Но враждебность к чужеземцам в нашей
стране не ограничивается одними только бранными
словами, хотя эти словесные упражнения, как ничто
другое, обнажают серьезные прорехи в нашем вос-
питании и поведении. Стоило бы поучиться обра-
щению со словами у феминистского движения. Как
и его участницы, которые сумели исключить из
обихода определенные слова, объявив их оскорбляю-
щими достоинство женщин, группы борцов против
расизма должны были бы поставить себе целью
воспитать в людях обостренное восприятие расист-
ских выражений и добиться того, чтобы они посте-
пенно полностью исчезли из употребления. Напом-
ним в этой связи, что благодаря кампаниям за чис-
тоту языка, проведенным в последние десятилетия
в Англии, США и ряде других англоязычных стран,
а также в Африке, удалось добиться существенных
перемен к лучшему. Настало время перенести прак-
тику деколонизации и в наш язык.
Тот факт, что расистские представления по-преж-
нему широко распространены среди западногерман-
ского населения, подтверждают опросы обществен-
ного мнения, проведенные ЮНЕСКО в 1977 и 1978
* В Германии уголь для отопления часто продается в виде
спрессованных брикетов-кирпичей.—Прим. перев.
** Платный танцор в кафешантане.—Прим. перев.
46
годах. К сожалению, их результаты наиболее полно
были проанализированы только одним социологом
из Ирана, неким доктором Бади Панахи. Согласно
данным этих опросов, убеждение в том, что «не
воспитание и образование, полученные человеком,
а кровь и раса чаще всего определяют его пове-
дение», разделили 45% граждан ФРГ. 60% запад-
ных немцев вообще считают, что великими достиже-
ниями культуры человечество обязано прежде всего
белой расе. Каждый второй житель нашей страны
убежден, что в силу «определенной предрасполо-
женности одни расы ведут себя аморальнее других».
О том, что фашистские взгляды и предрассудки
все еще живут в нашем народе, свидетельствуют
данные тех же опросов ЮНЕСКО. В 1978 году
40,7% опрошенных граждан ФРГ утверждали, что
евреи «менее честные дельцы, чем немцы», а 26%
заявили, что считают евреев «алчными». Эти взгля-
ды почти в одинаковой степени распространены и
среди пожилых, и среди молодых, среди мужчин и
женщин, среди рабочих и интеллектуалов. У безра-
ботных и лиц, не имеющих профессии, расистские
настроения выражены еще более резко. Процент
откровенно предвзятых мнений у них достигает 69.
В периоды экономических спадов и кризисов на-
цистская теория «козлов отпущения», согласно кото-
рой во всем повинны евреи, по-видимому, получает
новый стимул именно у тех, кто оказался в чем-то
обделенным.
Еще более упорными остаются в обиходе анти-
негритянские стереотипы. При этом следует отме-
тить, что антисемитизм и антинегроизм почти всег-
да самым тесным образом связаны между собой.
Свыше 80% опрошенных граждан ФРГ характе-
ризуют темнокожих прежде всего как «драчунов»,
«лодырей» и «недоразвитых». Почти 89% считают
их «скорее злыми, чем добрыми». Результаты опро-
сов, проведенных ЮНЕСКО, показывают, кроме
того, что предубеждение против евреев и африкан-
цев бездумно переносится и на всех иностранных
рабочих. Предложение иметь в качестве коллеги
иностранного рабочего отклоняют в принципе лишь
4% опрошенных, в качестве друга—18%, началь-
ника—45 и в качестве зятя—57% наших сограж-
дан. Для 81% тех, кто всех евреев определяет как
47
«алчных», а черных как «драчунов» и «недораз-
витых», невыносима сама мысль, что приезжий ра-
бочий может стать их зятем.
По данным исследования, осуществленного
ЮНЕСКО, взаимосвязь открыто враждебного отно-
шения к иностранным рабочим и воинствующего
антинегроизма исключительно тесная. Те, кто скло-
нен пользоваться уже вошедшими в нашу жизнь
антинегритянскими стереотипами, определенно не
смогут принять как равноправных сограждан тех
рабочих, что приезжают к нам из Италии, Испании,
Югославии, Греции или Турции. Неприязнь и нена-
48
висть к африканцам в конечном счете распростра-
няется на всех иностранцев. Кто считает, что черные
жестоки, тот почти всегда придерживается и того
мнения, что «война—это просто естественный выход
человеческих страстей» и что «вечный мир между
всеми народами земли никогда не станет возмож-
ным». К ООН многие вообще относятся скептически,
поскольку боятся, что государства «третьего мира»
все больше будут вытеснять оттуда европейцев.
Я не очень большой поклонник опросов общест-
венного мнения, ибо мне ясно, что наши политики,
получив их данные, искажают и подгоняют их под
свои замыслы. Но поскольку результатам таких оп-
росов, как правило, придается большой вес, я нахо-
жу весьма симптоматичным то, что как раз эти-то
вскрытые опросами ЮНЕСКО в 1977—1978 годах
тревожные симптомы почти и не упоминаются как
всюду проникающими средствами массовой инфор-
мации, так и нашими политиками. Если бы поло-
жение у нас было иным, правительство, вероятно,
не стало бы в 1980 году, то есть в год выборов,
подливать масла в огонь и выступать против «ши-
рящегося притока беженцев и иностранных ра-
бочих».
С детской колыбели
Предрассудки не возникают сами собой. Их соз-
дают, и они передаются по наследству из поколения
в поколение. Точнее, их умышленно прививают каж-
дому новому поколению—в родительском доме, в
школе, с помощью средств массовой информации.
Расистская идеологизация начинается уже в детс-
кой.
Прежде чем ребенок у нас увидит воочию какого-
то «приезжего» рабочего, его обязательно научат та-
кому издевательскому стишку о турках: «Велик
аллах: в нем пять аршин, но он работать не спе-
шит!» Еще до того, как ребенок заговорит с каким-
либо африканцем, он уже знает, почему и куда
надо убегать от него: ведь он десятки раз проде-
лывал это, играя в «черного человека», в «черного
Петера» * или танцуя под песенку о «черной кухар-
* Детская игра, напоминающая нашу игру в прятки.—
Прим. перев.
49
ке». Впервые появившаяся в 1869 году и сразу
же ставшая модной песенка про «двенадцать нег-
ритят» считается и сегодня одной из самых попу-
лярных в Германии детских песенок. Эта кровожад-
ная «баллада» о негритятах оказалась неистребимо
живучей, и даже в 70-е годы нашего века детс-
кие книжные издательства ФРГ выпустили в свет
30 книжек с картинками, в которых старый мотив
о «двенадцати негритятах» получил новое офор-
мление. Многие из этих книжонок представляют
собой альбомы для раскрашивания.
«Черный-пречерный мавр» из сказки Генриха
Гоффмана о «Растрепке—Петере» * нагляднейшим
образом разъясняет сегодня малышам, как и 100
лет назад, чем отличается черный человек от бе-
лого. А у тех, кто постиг азбуку с помощью бук-
варя Вильгельма Буша **, никогда не изгладится
из памяти стишок о Фипсе-обезьяне и черном лю-
доеде: «Жил черный негр, не зная бед. Макак он
жарил на обед... В носу его кольцо висит и чистым
золотом блестит...»
В нашей стране и сегодня детство—это путе-
шествие в колониальную эпоху. В детских книжках
нас повсюду ожидают цветные. Это и краснокожие
индейцы, и черные бушмены, и только что умытые
и причесанные дикари детского возраста, и негри-
тята-лакеи, и шоколадного цвета маленькие мавры,
и игрушечные Сэмбо. Детские у нас, как и прежде,
завалены самыми разнообразными картинками из
эпохи колониализма. В расходящейся и по сей день
огромнейшими тиражами книжке «Бомби и Бимба»
рассказывается о том, как двое негритят в Африке
убегают из родного племени и в конце концов ока-
зываются в клетке зоопарка. Издана 21 серия прик-
люченческих комиксов под общим названием «Ве-
селая книга о саламандрах». В магазинах одной
из крупнейших в ФРГ фирм детской обуви ее раз-
дают покупателям бесплатно. В каждой серии рас-
* Генрих Гоффман (1809—1894)—немецкий врач и писатель-
юморист, один из представителей эпохи Просвещения в Герма-
нии.—Прим. перев.
** Вильгельм Буш (1832—1908)—немецкий художник и поэт,
иллюстратор многих журналов и газет, автор серии юмористи-
ческих рассказов о Максе и Морице, ставших популярнейшими
в народе персонажами.—Прим. перев.
50
сказывается о незавидной участи босоногих детей
негров, бушменов и индейцев в дремучих девствен-
ных лесах. Как и в старой, но постоянно переиз-
даваемой в ФРГ детской книжке о докторе Дули-
тле, во всех этих примитивных историях Африка
изображается как отсталый, темный континент, пок-
рытый непроходимыми лесами, полный диких зве-
рей и голых туземцев, континент головокружите-
льных плясок с тамтамами и Тарзанами. Жители
стран «третьего мира» предстают в них получело-
веками, обитающими где-то на краю земли. Им в
самом лучшем случае уготована судьба боя в отеле,
чистильщика сапог или вождя своего племени.
Не лучше обстоят дела и с юношеской литера-
турой. В книге Курта Лютгенса «Африка—увлека-
тельное приключение», которая в 1975 году была
даже выдвинута на соискание премии за лучшую
книгу для юношества, описывается путешествие к
«племенам туземцев-каннибалов». Наиболее просве-
щенным и авторитетным в этой области считается
один из самых популярных писателей, работающих
в жанре юношеской повести, публикуемый изда-
тельством Бертельсманна,—А. Е. Иоганн. И вот что
мы читаем во вступлении к его книге путевых очер-
ков «Африка огромная»: «Важнейшим сырьем Аф-
рики являются не ее алмазы, не ее золото, медь,
сизаль или уран, не какао и не хлопок, а сами
африканцы. Что же касается белого человека, то он
в условиях климата Тропической Африки может
быть только руководителем, советником или пред-
принимателем». Вероятно, какой-нибудь работорго-
вец XVIII века не сумел бы выразиться более откро-
венно и точно, и я не удивлюсь, если г-н Иоганн
однажды получит литературную премию от южно-
африканских цензоров.
В то же время книги, открывающие в «третьем
мире» иные сюжеты, не похожие на клише, введен-
ные Карлом Мэем *, с трудом пробивают себе до-
рогу к читающему юношеству. Так, вышедшую в
* Карл Мэй (1842—1912)—немецкий буржуазный писатель,
автор многочисленных приключенческих и бульварных романов,
в которых идеализировался «благородный белый человек»,
несущий «цивилизацию» индейцам Америки, арабам Ближнего
востока и пр. Был популярен в Германии в 20—30-е годы.—
Прим. перев.
51
«И когда же ты перестанешь носить черное?»
«Нойе иллюстрирте», № 19» 1955 г.
1978 году книгу Эрнста Герхауза «Детство буду-
щих революционеров», в которой рассказывалось о
жизни и освободительной борьбе Хо Ши Мина,
Эрнесто (Че) Гевары и Сальвадора Альенде, во мно-
гих наших магазинах детской книги включали в
список запрещенной литературы. Некоторые кри-
тики в своих рецензиях называли ее предосудитель-
ной и «наносящей вред молодежи». В противопо-
ложность этому авторы, охотно спекулирующие на
детской доверчивости и вроде бы не желающие от-
равлять здоровый мир детских представлений, ис-
пользуют кажущиеся им вполне пригодными для
52
детей уродливые картины жизни «третьего мира»,
чтобы прививать детям вульгарнейшие расистские
предубеждения. И по всей видимости, они добивают-
ся успеха.
О том, насколько еще сильны антинегритянские
стереотипы даже среди либерально мыслящих лю-
дей, свидетельствует рассказ о школьном праздни-
ке, состоявшемся не так давно в пригороде Франк-
фурта. Как поведала нам афроамериканка, мать
одного из учащихся, ученики четвертого класса
надели черные рубашки и вымазали себе лица и
руки черным кремом для обуви. Посредине клас-
сной комнаты они установили огромный котел из
папье-маше, на котором красовалась надпись «Лю-
доедская закусочная». В котле были бутерброды...
В том же 1978 году «прогрессивный» журнал «Эль-
терн» («Родители») поместил «Руководство для
устройства веселого теневого театра», в котором ре-
53
«...Туземцы еще долгие годы... не смогут обходиться в хозяй-
ственных вопросах без помощи белых*. Пигмеи, обитающие
в джунглях Итури в северо-восточной части бассейна реки Конго.
(„Lander und Volker". Erdkundliches Unterrichtswerk. Afrika —
Asien—Australien", Bearbeitet von Karl Heck, S. 24, 63.)
комендовались такие «подходящие» фигуры, как
козел, заячья голова, лебедь, собака, черт и, ра-
зумеется, негр. Африканец занял «свое место» меж-
ду зверем и чертом.
Жуткие изображения «дикарей» наполняют не
только детские и классные комнаты. Они служат,
например, «зазывалами» для многочисленных яр-
марочных аттракционов, именуемых «дорогой приз-
раков». И несмотря на то, что все это выглядит
по-детски наивно, такая приманка действует. Как
и в старые времена, у этих злых «призраков»
китайские и монгольские лица, но чаще всего они
предстают в образе черных чудовищ с огромными
отвислыми губами, оскаленными зубами, с серьгами
в носу и в ушах. Они вселяют в людей пропи-
танный грубым расизмом страх. Когда я в ноябре
1979 года попробовал выразить руководству гам-
бургского магистрата протест против подобного вар-
варского изображения людей, мне ответили, что это
традиционные, насчитывающие 70—80 лет мотивы
«народной культуры» и что их-де надлежит сох-
ранить как «наследие» и передавать следующим
поколениям.
Последний мавр фирмы «Саротти»
все еще служит
Африканца принято изображать не как нашего
взрослого и образованного современника, а как «ди-
каря», который еще не отделался от своей «инфан-
тильности», и потому, мол, миссионеры, колониза-
торы или специалисты, оказывающие помощь его
развитию, должны обращаться с ним покровитель-
ственно, по-отечески. Эта схема воспринята не толь-
ко большей частью нашей литературы для детей
и юношества. Она также беззастенчиво входит в рек-
ламу и с помощью тонких суггестивных * методов
ежедневно вновь и вновь впрыскивается в наше
сознание.
Бесспорно, самым старшим по рангу среди рек-
ламных «негров» является мавр фирмы «Саротти»,
чей сказочный образ легко заслоняет собой его ис-
* Обладающих гипнотической силой внушения.—Прим. ред.
54
тинное назначение в качестве черного слуги и сим-
вола всех лавок с колониальными товарами.
С 1910 года бессменно служит он торговой маркой
шоколадной фабрики «Саротти» и утверждает при-
митивное представление об африканцах. Когда
в 1969 году швейцарский концерн «Нестле», поль-
зующийся в «третьем мире» дурной славой из-за
проводимой им неоколониалистской политики,
поглотил фирму «Саротти», возник спор о целесо-
образности сохранения в должности этого уже сос-
тарившегося негритенка. Часть работников рекламы
была убеждена, что мавр сделал свое дело, однако
руководство концерна цепко держалось за малень-
кого шоколадника с тюрбаном на голове и загну-
тыми вверх остроносыми туфлями. Решение оста-
вить его было обосновано тем, что «своим симпа-
тичным видом этот мавр уводит нас в светлое, по-
рой идеализируемое детство. Он напоминает нам
об истинно детском стремлении удовлетворить пот-
ребность в сладком». Поэтому к старой формуле
рекламы была добавлена новая о «мавре, который
превращает сладкие грезы в реальность». По сути
дела, это все тот же старый колониальный стерео-
тип.
Родственные «мавру от Саротти» изображения
черных слуг, целлулоидные кукольные головки
негров, «живые» вешалки для платья и подставки
для цветов, служившие непременной принадлеж-
ностью буржуазного интерьера, ныне, в век обост-
рения ностальгии о прошлом, переживают свое
нездоровое возрождение. В нашей части города,
на улице Гешвистер-Шолльштрассе, есть магазинчик
оригинальных предметов быта, почему-то носящий
название «Номер 11-й». В нем за 100 марок и до-
роже предлагаются «негритята» и «черные ня-
ни»—деревянные рабы с подносом в руках,
на котором можно «со вкусом расположить ста-
каны, рюмки, цветы в горшках или шляпы». Когда
я потребовал от владельца магазина убрать из вит-
рины эти расистские деревяшки, оскорбляющие
мое человеческое достоинство, он в присутствии
свидетелей заявил: «Я могу продавать все, что
захочу. Какое мне дело до негров? Им в мой ма-
газин дороги нет. А если вы полагаете, что негр
красив, то это ваша забота. Мне, во всяком случае,
55
Последний крик моды—столик «горничная-негритянка» в вит-
рине магазина предметов быта в Эппендорфе (Гамбург).
больше нравятся негры деревянные!» Я обратился
к прокурору с просьбой возбудить уголовное дело
за оскорбление. Но это было напрасно, ибо в на-
шем уголовном кодексе нет такой статьи, которая
по-настоящему запрещала бы подобную «свободу
мнений» и столь недостойную торговлю. Досто-
инство человека объявляют неприкосновенным, но
кто докажет, что негры—люди.
Как и фирма «Саротти», производители «гриб-
ного кофе» * с незапамятных времен тоже исполь-
зуют в качестве рекламной этикетки изображение
головы мавра с непомерно толстыми губами, с коль-
цом в носу и с огромными белками. Импортируемые
преимущественно из Израиля апельсины «моро-
моро» завернуты в бумажки, сплошь покрытые
стереотипными африканскими «сюжетами». Пив-
ные заводы фирмы «Фюрстенберг» в течение мно-
гих лет печатали повсюду (в том числе и в «Шпи-
геле») одну и ту же рекламу, изображавшую
пьющего пиво африканца, который «знает только
три слова: Леттов-Форбек, Фольксваген, Фюр-
стенберг». Таким же идиотским способом «мисс
Моксьон», некая «коричневая красавица из Абко-
гуты», рекламирует шоколад с тем же названием.
Единственная фраза, которую она, если верить
тексту рекламы, может сказать по-немецки, звучит
так: «Моксьон—лучший шоколад в мире».
Реклама вдоль и поперек пестрит изображениями
голых черных женщин. Их использование, столь
оскорбительное для женского достоинства, откровен-
но служит и расистским целям, подпуская «слад-
кий соблазн» в рекламу «афри-колы», эластичных
колготок «Эльбео», постельного белья «Лабани»,
горького тоника или фруктового сока «Джамбо-
сала». Подобная реклама, распространяемая с по-
мощью журналов и других средств массовой инфор-
мации, во многих случаях может стать основанием
для привлечения ее авторов к уголовной ответст-
венности за клевету и ложь, невзирая на самые
лучшие их намерения. Так, например, журнал
«Штерн» публикует довольно информативную и доб-
рожелательную статью о предрассудках по отно-
* Обиходное название эрзац-кофе из смеси цикория, овса и каш-
танов.—Прим. перев.
57
шению к неграм под заголовком «Мой зять—негр»,
а сразу после этой статьи идет большое, на целую
страницу, рекламное фото, на котором две афри-
канки с обнаженной грудью и в мини-фартучках
предлагают вам сухой джин с тоником. В сопро-
вождающем рекламу тексте говорится о «двух ис-
кушениях, имеющих вкус греха, один из которых
ощущается гораздо дольше».
Бюро путешествий фирмы «Неккерман» изоб-
разило на обложке своего каталога «Дальний ту-
ризм» на сезон 1980/81 года черную женщину,
у которой вместо бюстгальтера целая связка жем-
чужных бус. Курортный оазис в Сенегале, общий
вид которого представлен цветным фото на первой
странице, именуется по названию модного шлягера
«Алдиана», а тамошняя дискотека, в которой по
вечерам танцуют на американский, европейский
и африканский лад, конечно, носит название «Там-
там». Морская пароходная линия «Гапаг-Ллойд»
предлагает круизы на своем лайнере «Европа»
в страны «третьего мира»—Африку, Индию и Ин-
донезию, суля, между прочим, «встречи с бедней-
шими из беднейших». Перед каждым выездом в ни-
щету путешественникам предлагается взять с собой
для обездоленных «маленькие подарки» в виде
конфет для детей и платков для молодых женщин,
чтобы «не возникло проблем при фотографиро-
вании». Такой, с позволения, «дальний туризм»
абсолютно не рассчитан на «установление контак-
тов с народами», как в этом пытаются убедить ав-
торы неккермановского проспекта. Да и сами они
фактически делают как раз обратное, подтверждая
свое извечное колониальное мышление фотогра-
фиями соответствующим образом подобранных
и приглаженных моментов реальной действитель-
ности. В общем, «дальним туристам» предлагаются
те самые потемкинские деревни, которые они себе
и заказали.
Демонстрируем негритянскую красоту: «Джум-
бо» чистит превосходно!» Эту рекламную безвку-
сицу позволил себе летом 1980 года один франк-
фуртский фабрикант средств для чистки. На его
рекламных плакатах и буклетах красовалось изоб-
ражение темнокожей женщины, полирующей сильно
загрязненный паркет до зеркального блеска.
58
«И вдруг он—за ней, точно с ума сошел»» «Нойе ревю» № 9,
1972 г.
Под рисунком была следующая фраза: «Это мо-
гут даже дети!» И читающий эти слова мог бы,
конечно, добавить про себя: «Ну еще бы! Это мо-
гут даже негритянки!» Один карштадский кон-
церн * каждый год к рождеству распространяет
среди покупателей своих товаров «Карштадский
журнал любви к ближнему». На его обложке не-
изменно красуется симпатичный негритенок, а даль-
ше на всех страницах рассказывается и показы-
вается в картинках, какие добрые дела творит
этот концерн для детей в «третьем мире». В част-
ности, в одном из его номеров повествовалось о дет-
ском городке, построенном концерном близ Рио-де-
Жанейро и ставшем весьма популярным среди
местного населения. Журнал внушает покупателям,
что с каждой покупкой они дают несчастным «де-
тям нищеты» в Африке, Азии и Латинской Аме-
рике «несколько капель сострадания». Это ли не из-
девательство по отношению ко всем тем народам
«третьего мира», которые своей бедностью и сла-
боразвитостью обязаны прежде всего эксплуатиру-
ющим их многонациональным концернам.
* Карштадт—пригород Гамбурга.—Прим. перев.
59
Вместе с лживой сентиментальностью под мар-
кой «любви к ближнему» наша реклама все еще
прибегает к давно истрепанным примитивным ра-
систским приемам изображения врагов. Как будто
нарочно, именно «Немецкая спортивная помощь» *,
в правлении которой за связи с общественностью
отвечает сам руководитель упомянутого выше кон-
церна и главный тренер Неккерман, изготовила
плакат с изображением узкоглазого футболиста,
явно азиата, и снабдила плакат следующей над-
писью в форме вопроса: «Неужели завтра нам
придется брать пример в спорте с него?» Это гнус-
нейшая расистская пропаганда. Плакат совершенно
явно был нацелен против южнокорейца Бум Кун
Ча, профессионального игрока футбольной команды
из Франкфурта. Этот, вероятно, самый известный
сейчас иностранный рабочий в западногерманском
футболе получил летом 1980 года тяжелую травму
и на несколько месяцев выбыл из игры. Вот так
зачастую и теряется у нас сближающее народы
влияние спорта.
Теряются и другие шансы на улучшение вза-
имопонимания между народами, чему одним из не-
давних примеров стал бойкот Московской олим-
пиады. А бывает и так, что даже наши олимпий-
ские чемпионы не могут удержаться от предрас-
судков по отношению к спортсменам с кожей дру-
гого цвета. Например, Ютта Хайне, выигравшая
золотую медаль на Олимпиаде в Риме, неоднократно
прибегала к расистским стереотипам в отношении
своей главной конкурентки, «афроамериканской
газели» Вильмы Рудольф.
«Третий мир»
в средствах массовой информации
В 1979 году на карнавале в Дюссельдорфе чуть
не произошла форменная революция. Какая-
то группка посторонних людей, не участвовавших
в процессии, предложила избрать принцессой кар-
навала японку и была поддержана в этом много-
* Общественная организация, созданная в ФРГ для оказания
содействия странам «третьего мира» в развитии спорта.—
Прим. перев.
60
численными представителями фирм, имеющих де-
ловые и торговые связи со странами Дальнего Вос-
тока. Но этот «дворцовый переворот» не удался
из-за решительного сопротивления «старой гвар-
дии». Среди участников карнавала вспыхнуло не-
довольство, а в процессии немедленно появились
плакаты, оскорбительные для рабочих-турок и ис-
ламских революционеров. Наиболее многочислен-
ными оказались карикатуры на аятоллу Хомейни.
Они живо напомнили антисемитские пропаган-
дистские плакаты наших самых худших времен.
Печальным апогеем карнавала в Кёльне было
появление «армии зулусов». Это была группа «бор-
цов за свободу», раскрасивших себя черным обув-
ным кремом, напяливших на голову соломенные
шляпы и опоясавших себя тростниковыми юбоч-
ками. Телекомментатор приветствовал этот глупый
маскарад, назвав его «действиями передовых отря-
дов третьего мира». В прошлые годы в карнаваль-
ных процессиях нередко можно было встретить
открытые грузовики с ряжеными под цветных
и с транспарантами на бортах «Made(n) aus Ger-
many» *. Ряженые изображали так называемых
«детей от смешанных браков» между немецкими
женщинами и афроамериканскими солдатами или
студентами из Африки. Такие дети якобы плодятся
у нас в изобилии.
Примерно в том же духе выступали и многие
участники карнавального шоу в программе запад-
ногерманского телевидения (ЦДФ) «Как поет
и веселится Майнц». Один из них изображал отца,
угнетенного тем, что его дочь все время произво-
дит на свет младенцев с коричневой кожей и кур-
чавыми волосами несмотря на то, что она замужем
за добрым и порядочным немцем. Лейтмотивом
снимаемых для телевидения шоу о рейнских кар-
навалах постоянно служат расизм и мужской шо-
винизм. И это звучит издевкой по отношению ко
всем демократическим и, разумеется, революцион-
ным традициям возникшего после Великой фран-
цузской революции движения народных масс.
Наихудшим примером подобных извращений яв-
* Буквально «Личинки из Германии» (в то же время можно
прочитать и как «Вон из Германии»). Так презрительно назы-
вают в ФРГ детей от браков белых с черными.—Прим. перев.
61
ляется, очевидно, карнавальный шлягер 1979 года
под особо звучным названием «Хабба-Хабба лю-
доеды». В нем всех африканских политиков—от
Лумумбы до Бокассы—валят в одну кучу и пред-
ставляют как каннибалов. Исполняет его группа,
выступающая в традициях комиков-гармонистов—
известного в дрошлом еврейского ансамбля, изгнан-
ного из Германии немецкими расистами в 1935 году.
Подобные примитивные поделки, отражающие
нездоровое восприятие чужих народов, можно было
бы легко выбросить на свалку, если бы не сущест-
вовало многочисленных средств массовой информа-
ции, которые обеспечивают им беспрепятственное
распространение. При внимательном рассмотрении
оказывается, что наши телепрограммы о «третьем
мире» лишь в редчайших случаях содержат то,
о чем действительно нужно говорить. В этих прог-
раммах, как неоднократно отмечала в своих статьях
известная африканистка Изольда Шаад, «третий
мир» изображается как пестрый лубок. В заснятых
сценах нам преподносят то пустые горшки для вар-
ки мяса в тени египетских пирамид, то пряности
Аравии, то таинственные обряды индейцев Амазо-
нии; и все это обязательно насыщено экзотическим
фольклором. Заимствуя общий тон своих репор-
тажей из сказок «Тысячи и одной ночи», опера-
торы лезут вон из кожи, чтобы испугать телезри-
телей или возбудить у них умиление. Без всякого
стыда вторгаются они в «последние райские уголки
природы» и без разбору тащат на экран все «ди-
кое», не считаясь с тем, зверь это или человек.
В так называемых «культур-фильмах» нам пре-
подносят «третий мир» с его шоколадной, сладкой
стороны, чтобы потом в «Новостях дня» или в пе-
редачах на актуальные политические темы пред-
ставить его, так сказать, с изнанки, в «голых фак-
тах» и в «голом виде». По-настоящему этот мир
раскрывается на экранах только тогда, когда миро-
вые события, которыми все еще управляют из Европы,
вторгаются в него непосредственно. Например, когда
угрожает порваться «пуповина», протянувшаяся
от него к тем или иным странам Запада, или
когда начинает серьезно нарушаться стратегиче-
ское равновесие, что в конечном счете происхо-
дит под знаком войны. Тогда показывают «Людей,
62
животных и сенсации» *. В этом случае по пусты-
ням мчатся танки, рвутся снаряды и бомбы. Ког-
да же речь заходит об Иране, то на заднем плане
обязательно появляются закутанные до глаз в чер-
ное женщины, а еще дальше в призрачном свете
виднеются тени бродящих по пустынным городским
предместьям мулл, похожих на огородные пугала.
По воскресеньям или на рождество телевидение
отводит некоторое время показу социально «острых»
моментов современной истории, касается проблемы
исчезновения жизни в зоне сахеля ** или условий
жизни «последних дикарей» района верхнего тече-
ния Ориноко. Операторы-репортеры устремляются
на самые окраины мира, туда, где человек все еще
остается «природным феноменом», особой породой
высших млекопитающих. И конечно, эти кадры
не обходятся без сцен с кормящими грудью мате-
рями. Если же к этому добавляются попытки
исследовать общественные отношения, то экран пре-
вращается в микроскоп, раскладывающий на мель-
чайшие частицы все, что еще осталось там от до-
индустриальной культуры. А в этом наш образо-
ванный телезритель разбирается: он знает, напри-
мер, что папуасов Новой Гвинеи можно определить
по тому, как они прыгают, а бушменов из Кала-
хари—по щелкающим согласным.
Телевидение подает события в «третьем мире»,
по словам Изольды Шаад, всегда самым большим
черпаком, если хочет изобразить его как средото-
чие стихийных бедствий, племенной вражды и ре-
волюций. Типичным отношением к этому всегда бы-
вает простое «лицезрение», когда камера, словно
указательный палец, проезжает по толпам голод-
ных и грязных детей. Если не считать отдельных
исключений, то наше телевидение способно в луч-
шем случае на то, чтобы подкрепить вошедшие
в нашу плоть и кровь предрассудки и расистские
убеждения точно препарированными обрывками
доказательств. Свои возможности действительно
просвещать нас о других частях света и теснее
* Одна из наиболее популярных программ западногерманского
телевидения.—Прим. перев.
** Сахель—солончаковые безжизненные районы, граничащие
с пустыней, в Центральной и Восточной Африке.—Прим. перев.
63
сближать народы между собой оно пока еще ис-
пользует явно недостаточно.
К примеру, то, что по воскресным вечерам пре-
подносит нам программа «Зеркало мировых собы-
тий», выглядит примерно так же, как и программа
с участием Микки-Мауса для людей, которые назы-
вают себя образованными. О том, что собой пред-
ставляют весьма распространенные во всем капи-
талистическом мире рисованные мультфильмы и
серии комиксов, выпускаемые фабрикой грез Дис-
нея, рассказал чилийский писатель Ариель Дорф-
ман в своем достойном подражания исследовании
по этому вопросу. Да и в доброй половине тех серий
комиксов о Микки-Маусе, которые изготавливаются
у нас по лицензии многомиллионными тиражами,
Утенок Дональд, например, постоянно сталкивается
с некими удивительными существами из других
частей света. Как правило, это примитивные люди,
живущие в хижинах или в пещерах и не имеющие
на теле ничего, кроме набедренной повязки. Они
либо темнокожие—от кофейного до темно-угольного
оттенка,—либо краснокожие. У них языческая рели-
гия, их главное занятие—танцы, а заодно они по
неведомым причинам еще и совершают революцию,
которую Утенок Дональд, разумеется, подавляет
с помощью напитка «кока-кола». Голые дикари,
естественно, не могут произнести ничего путного,
кроме щелкающих и хрюкающих звуков.
Весьма значительную роль в деле привития лю-
дям и стимулирования у них расистских предрас-
судков играют в Федеративной республике иллюс-
трированные журналы и дешевые романы, выпус-
каемые в виде карманных брошюр. Литературовед
Розмари Лестер обратила на это внимание в одной
из своих работ о «тривиальном образе негра в ли-
тературе». Когда я собирал материал для этой кни-
ги, в «Бунте иллюстрирте»* начал печататься новый
роман Гейнца Консалика «Волшебный аромат». За
таким розовым названием скрывается исключитель-
но актуальная тема. Действие происходит в сегод-
няшней Намибии. В романе рассказывается, как
«давно осевшие здесь немцы» вместе с бурами за-
* Западногерманский бульварный журнал, печатающий на своих
страницах низкопробную литературную стряпню и сенсации.—
Прим. перев.
64
щищают свое наследственное право от притязаний
«террористов» из СВАПО, а также от рвущегося
из Анголы при поддержке кубинцев «черного по-
тока». Консалик не какой-нибудь второстепенный
писатель. Он считается одним из популярнейших
и влиятельнейших романистов. Тиражи его книг
превышают тиражи книг Бёлля, Ленца и Гюнтера
Грасса, вместе взятых. В 1953 году он опубликовал
повесть «Врач из Сталинграда» и тем самым по-
дал сигнал для ничем не сдерживаемой торговли
памятью жертв войны, а заодно и для некрити-
ческого изображения « врага » — русского « недоче-
ловека», с помощью которого нацисты пытались
оправдать свою истребительную войну против Со-
ветского Союза. Примерно в то же время появился
и недоброй памяти плакат ХДС, выпущенный для
предвыборной кампании. На нем был изображен
оскалившийся в неприятной ухмылке человек с мон-
гольским лицом, а подпись гласила: «Все дороги
социализма ведут в Москву». Так же, как и в на-
чале 50-х годов, Консалик снова ввел в нашу буль-
варную литературу образ «русского варвара». Се-
65
«Научил бы еще рок-н-ролл плясать!»
«И петь, как Хейно!»
«И на концертном барабане играть!»
© Продукция Уолта Диснея
« Хорошо, что Утенок Дональд прошел ускоренный курс муска-
тельского языка прежде, чем мы сюда прилетели».
«Иначе он мог бы подумать, что дикари хотят научиться чему-
нибудь полезному».
«А гостеприимство у нас—святое дело. Но уж если мы пой-
маем того, кого не звали, тогда... у-у-ххх!»
© Продукция Уолта Диснея
Утенок Дональд в роли помогающего развитию «советника».
В этих комиксах африканцы изображаются как одержимые
развлечениями, поведение которых непредсказуемо. (Из серии
«Невероятные приключения Утенка Дональда», серия 21. Штут-
гарт, 1977.) © Продукция Уолта Диснея
годня он, по-видимому, пытается протолкнуть в ли-
тературу и образ черного террориста. Между про-
чим, оба эти расистских стереотипа демонстрируют
резко бросающиеся в глаза сходные черты харак-
тера и поведения. Их сексуальные эмоции ограни-
чены насилованием ни в чем не повинных белых
женщин. Но как у русского, так и у негра за грубой
внешней оболочкой, мол, доброе сердце, поэтому-де
грубость и даже «жестокость» уживаются в нем с
«детской наивностью».
Одно из наших периодических изданий уже
давно специализируется на литературной обработке
расистских предрассудков и извращенных предста-
влений. Речь идет о выпускаемом издательством
«Генрих Бауэр» журнале «Пралинэ». Еще в сере-
дине 70-х годов он начал публиковать серию ста-
тей о «любовных обычаях примитивных народов»,
сопровождая их «подходящими» к случаю фотогра-
фиями снятых крупным планом голых людей и в
порядке сравнения соответствующими снимками
животных. К таким же примитивным человеконе-
навистническим и особенно враждебным по отноше-
нию к женщинам этнопорносериям можно отнести
и ходкие у нас истории с такими лозунгами-заго-
ловками, как, например, «Под действием настойки
из мака черные девушки становятся страстными,
как дикие кошки», или «Любовные оргии с три-
надцатилетними негритянками», или «Когда цвет-
ные девушки хотят любовных утех, они просто раз-
деваются донага»... В качестве «секс-бомб» черные
женщины нередко попадают и на обложки журна-
лов, причем в самом откровенном виде: вверху—
ничего, внизу—тоже ничего. Так они больше отве-
чают вкусам читателей «Пралинэ». В 1974 году
этот баварский пересмешник начал печатать на
своих страницах «роман с продолжением» под наз-
ванием «Мулатка Билли». На следующий год пос-
ледовал «фотороман» «Мулатка Милли и муж-
чины». В 1978 году «Пралинэ» попал наконец под
ноготь федеральной цензуры, но не по причине про-
паганды расизма или мужского шовинизма, а по-
тому что некий баварский епископ посчитал, что
в описаниях сексуальных моментов журнал зашел
«слишком далеко».
Прочие издания также не стыдятся того, что
67
открыто торгуют черной кожей. «Штерн», напри-
мер, делает это благопристойнее других, но тоже
не гнушается выбрасывать на свои страницы такие
материалы, как, например, фоторепортаж о брач-
ных церемониях афроамериканцев под заголовком
«Цветные любят все пестрое». К числу наиболее
часто печатающихся авторов иллюстрируемых рома-
нов принадлежит и южноафриканский писатель
Стюарт Клете, известный как яростный проповед-
ник апартеида. Используя все, причем самые гру-
бые средства, он изо всех сил старается, чтобы кон-
тинент, уже несколько столетий пребывающий во
тьме, не выходил и дальше из этого мрака и чтобы,
таким образом, африканские расисты могли и
впредь насаждать в мире свое черно-белое представ-
ление о земле и людях.
По этим нехитрым и ходким моделям кропают
свои поделки и многие другие средства массовой
информации, даже такие серьезные рупоры буржу-
азии, как «Франкфуртер альгемайне цайтунг». Ра-
зумеется, дешевый и глупый микки-маусный расизм
такая интеллигентная газета отвергает. Ее репор-
теры предпочитают другой, светски-иронический
стиль и тон. Например, 28 октября 1980 года кор-
респондент этой газеты в Африке Гюнтер Краббе
описывал пресс-конференцию премьер-министра
Замбии Каунды в таком насмешливом тоне: «...И
вот появляются высочайшие особы—члены цен-
трального комитета партии и министры. Они рас-
саживаются лицом к журналистам и дипломатам.
Затем новое явление справа: входит Каунда в кос-
тюме сафари, который в замбийских политических
кругах называют костюмом для политики. Он гром-
ко восклицает: «Единая Замбия!» Присутствующие
замбийцы откликаются хором: «Единая нация!»
Все снова садятся, и Каунда убирает свой белый
носовой платок. Следуют вопросы журналистов, от-
веты премьера. Потом наступает, правда не всегда,
но часто, самый важный момент, которого все ждут.
Премьер опять вытаскивает свой белый носовой пла-
ток и прижимает его к глазам. Навертывается слеза.
Премьер плачет. Видимо, он думает о несовер-
шенстве мира, об угнетенных черных в Южной
Африке и плачет. Покончив с плачем, он подает
пример всей замбийской знати и запевает нацио-
68
нальный гимн, а после повторных выкриков «Еди-
ная Замбия!» — «Единая нация!» удаляется на-
право. Дипломаты, журналисты и высокие особы,
толпясь, идут к выходу».
Этот репортаж действительно не нуждается ни
в каких комментариях. Тут есть чему поучиться
даже бывалым шпрингеровским репортерам. Они
делают свое деле весьма неуклюже, и деликатности
у них никакой. Так было, например, во время кам-
паний против Ирана и ислама, начавшихся еще
до свержения шаха и, по всей вероятности, рас-
считанных на то, чтобы создать атмосферу кресто-
вого похода. К чему может привести такая пог-
ромная пропаганда, видно из восторженного заго-
ловка в репортаже, опубликованном 20 августа 1980
года в «Бильд-цайтунг»: «Триста мусульман сго-
рели заживо!» Мусульмане—жертвы авиационной
катастрофы, по-видимому, уже не рассматриваются
издателями «Бильд-цайтунг» как люди. Они для
них язычники или ведьмы, которых следует жечь
на кострах.
Шпрингеровская пресса уже многие годы изоб-
ражает палестинцев как банду убийц и террористов.
С вождем палестинцев Арафатом ведущий карика-
турист газеты «Вельт» Хикс поступает так же, как
он с помощью карандаша разделывался с евреями
до 1945 года. Но самой излюбленной мишенью для
иллюстраторов из заведений Шпрингера все же
остается Советский Союз. Когда начинаются анти-
советские кампании, дозволенными становятся
самые грубые расистские приемы и клише: рус-
ский в образе бродячего волка, в виде размахи-
вающего лапами медведя, в облике людоеда и
т. п.
Для шпрингеровской прессы и связанных с ней
других средств массовой информации анекдоты и
карикатуры на тему о людоедах и на сегодняшний
день являются тем же, чем были для нацистского
рейха анекдоты о евреях. «Бильд ам зоннтаг» и
«Хёр цу»* из недели в неделю поставляют их мил-
лионам немецких семей. В номере от 7 декабря
1980 года «Бильд ам зоннтаг» поместил карика-
* Иллюстрированные еженедельники самого черносотенного
содержания.—Прим. перев.
69
туру, изображающую черных африканцев в набед-
ренных повязках. Они стоят перед огромным тосте-
ром, в который только что засунули двух европей-
цев. Пояснительный текст к рисунку гласит: «Ну,
видишь теперь, что они делают с теми вещами,
которые мы шлем в «третий мир»?» В третьем вы-
пуске за март 1980 года художник из журнала
«Хёр цу» наглядно отобразил свои представления
о «помощи развитию». Карикатура изображает двух
белых людей, которые вот-вот попадутся в ловушку.
Под обрывом с замаскированной дырой установлен
на костре большой котел, рядом с которым раз-
махивает поварешкой негр в белом халате и кол-
паке. Я направил в редакцию журнала письменный
протест против подобной расистской кампании, но
просил не удостаивать меня ответом. Даже в гла-
зах репортеров из «Франкфуртер альгемайне цай-
тунг» Африка все еще выглядит царством канни-
балов. Так, 16 января 1981 года газета изобразила
главу ливийского государства Каддафи в виде лю-
доеда: он только что проглотил целый народ—жи-
телей Чада. Эта карикатура была помещена в га-
зете после того, как оба государства—Чад и Ли-
вия—решили объединиться.
В пятницу, 13 июня 1980 года, шпрингеровская
«Гамбургер абендблатт» выступила с темой «Пят-
ница, тринадцатое число». Вспомнив о Робинзоне
Крузо, газета не нашла ничего лучшего, как пред-
ставить «несчастный день» в виде черного человека
с непомерно большими зубами и толстыми выпячен-
ными губами. А 13 июля 1980 года главный ком-
ментатор еженедельника «Вельт ам зоннтаг» Пауль
Мартин потребовал отмены права на политическое
убежище. Он начал свою расистскую проповедь та-
кими словами: «У Али Баба Бум-Бума коричневая
кожа и большие черные усы. Он вылезает во Фран-
кфурте из «боинга», прилетевшего из Лумумбаши,
и, еще идя по проходу к аэровокзалу, вынимает
из тюрбана запрятанную туда бумажку и громко
читает по ней: «Я есть политический жертва прес-
ледований. Я хотеть получать в республика Гер-
мании убежищ...» В таком стиле идут целые пять
столбцов текста, который заканчивается приездом
«трех законных супруг Бум-Бума» и двух дюжин
«маленьких Бабайчиков», коих этот африканский
70
«Эти туземцы, кажется, гораздо миролюбивее, чем мы думали...»
беженец «тащит с собой в нашу страну». Между
прочим, одна из статей о Южной Африке в том
же шпрингеровском листке была озаглавлена так:
«Кафры идут по дешевке».
Некто Георг Пфингстен, издатель «Целлеше цай-
тунг», в комментарии по поводу праздника пасхи
1979 года писал: «С горечью, достойной Лютера,
следует отметить, что африканцы прилежны только
в постели, о чем свидетельствует их высокая рож-
даемость. В связи с этим нам, европейцам, видимо,
придется сократить численность собственного по-
71
томства, чтобы дать возможность еще большему
количеству очаровательных негритят появиться на
свет. Ведь должны же мы подумать об их пропита-
нии...» И даже социал-демократическая газета «Гам-
бургер моргенпост» поместила фотографию черной
женщины, снабдив ее такими набранными жир-
ным шрифтом строками: «Мать засунула свое дитя
в горячую духовку... Потом она сидела голая перед
плитой и распевала церковные псалмы». Это трюк
поистине во вкусе Ку-клукс-клана, который вот
уже 100 лет пытается обвинить афроамериканцев
в «ритуальных убийствах». То же самое твердил
немцам о евреях Геббельс. В общем, наша пресса
недалеко ушла от низкопробной буржуазной прессы
США. Стоит только турку или черному солдату
оказаться замешанным в каком-то преступлении,
как сразу же заголовки газет и журналов верещат
о том, что кожа у подозреваемого темная и что,
мол, ясно, откуда он прибыл к нам. И я еще не
встречал репортажей, в которых подозрение так
просто возводилось бы на белого. Между тем прес-
тупления с применением насилия, которые совер-
шают иностранцы в ФРГ, даже по официальной
статистике менее часты, чем среди немцев. Тем не
менее наши средства массовой информации, на-
строенные на соответствующий лад, неизменно пы-
таются свалить на них, и особенно на черных, как
можно больше преступлений, и, конечно, прежде
всего сексуальных.
Именно в подобном репортерстве и оживает наше
варварское наследие, вызывая воспоминания о том,
с какой ненавистью относились фашисты к черным.
Так, на одном из их гнусных плакатов военного
времени был изображен «черный развратник» в
американской военной форме, пытающийся утащить
в кусты Венеру Милосскую в качестве военного
«трофея». Эти два шаблона — «разорителя куль-
туры» и «насильника»—были самыми излюблен-
ными у тех, кто занимался подобной фотоплакат-
ной стряпней. Плакаты и карикатуры этого сом-
нительного жанра встречались и за два десятка
лет до эпохи нацизма, например во время оккупа-
ции французами Рейнской области. Главным шта-
бом кампании против арабских и африканских сол-
дат французской оккупационной армии был так на-
72
зываемый «Боевой союз борьбы с черным позором»,
который очень быстро восстановил против предста-
вителей чужих рас всю страну. Нацисты пошли в
этом еще дальше, призвав к «расовой войне» и тре-
буя чуть ли не кастрации представителей «непол-
ноценных» рас. Рядом с евреем на одной скамье
оказался и темнокожий «обезьяночеловек», «обезь-
янья морда» или «чандал». Он, как и еврей, стал
символом «вырождения». То, что расовая ненависть,
проповедуемая немецкими фашистами, была не пус-
той угрозой, испытали на себе прежде всего те дети
от смешанных браков, которые родились в годы ок-
купации Рейнской и Рурской областей и получили
известность как «плоды черного позора». Уже в
1937 году они были все принудительно стерилизо-
ваны, а в дальнейшем большая их часть погибла
в концентрационных лагерях.
Однако надежды нацистов на то, что им удастся
очистить «германскую расу» от примеси еврейской
и «негроидной» крови, не оправдались. В годы после
второй мировой войны родились десятки тысяч тем-
нокожих немецких детей, чьими отцами были аф-
роамериканские солдаты оккупационной армии.
Этим детям от «смешанных браков» пришлось ис-
пытать на себе все зло унаследованного от нацизма
и сохранившегося у нас антинегроизма. Для тех
из них, чьи матери не сумели пережить последствий
дискриминации, так и не нашлось приемных роди-
телей, и потому их, как и других детей с «неболь-
шими физическими недостатками»—прежде всего
неполноценных,—помещали в специальные приюты.
Положение «шоколадных бэби» было настолько
критическим, что в 1951 году вопрос об их судьбе
пришлось рассматривать в бундестаге. Никаких ре-
зультатов это не дало. Шансы на искоренение ра-
систского сумасшествия использованы не были. В
иллюстрированных журналах «дети от смешанных
браков» стали объектами бесконечных скандальных
историй, направленных на разжигание расовой не-
нависти. И даже в словах известного шлягера 50-х
годов запечатлелось лицемерное сострадание по от-
ношению к ним: «Зачем печалиться, дружок, коль
ты родился негритенком...»
73
О скрытом расизме многих по-
литиков
В 1969 году наше федеральное правительство
присоединилось к разработанной Организацией
Объединенных Наций конвенции о запрещении всех
форм расовой дискриминации. В соответствии с этой
конвенцией государственные органы Федеративной
республики обязывались «принимать решительные
и действенные меры, особенно в сферах образования,
воспитания детей, культуры и информации, с целью
борьбы с предрассудками, ведущими к расовой
дискриминации».
Наше правительство одобрило эту антирасист-
скую конвенцию, даже еще не став членом ООН.
Однако после вступления во всемирное сообщество
народов оно изменило свое поведение. По всей ве-
роятности, верность южноафриканскому режиму бы-
ла той причиной, которая заставила его воздержать-
ся от голосования за резолюции, осуждающие ра-
сизм, а нередко и голосовать за южноафриканских
узурпаторов и их ближайших союзников. Дело в
том, что в 70-х годах ФРГ превратилась в одного из
крупнейших торговых партнеров расистского режи-
ма апартеида. Она получает из Южной Африки
золото, уголь, алмазы, железную руду и уран, а
режиму расистов поставляет прежде всего оружие,
ядерную технологию и различные стратегические
товары, например оборудование для перегонки угля
в жидкое топливо.
Подобная расистски ориентированная политика
не случайна. Ей вполне соответствует и ее опреде-
ляет родственная ей по духу внутренняя политика.
Доказательств тому предостаточно. Симптомы ра-
систского склада мышления обнаруживаются даже
в официальных отчетах о деятельности наших орга-
нов по охране конституции, особенно когда речь
в них заходит об «экстремистах иностранного проис-
хождения». В отчете за 1979 год содержались, на-
пример, подробные выкладки о «вспыльчивом ха-
рактере и общей недисциплинированности турок как
народа». В соответствии с этим полиция и погра-
ничная охрана проводят регулярные учения, в ходе
которых отрабатываются способы расправы с «бун-
тующими приезжими рабочими». Когда в июне
74
Как в 1961 году, так и сегодня—большие друзья: Штраус в гостях у главаря расистов Форстера в Южной
Африке.
1980 года 600 полицейских приготовились к штурму
«антиатомной деревни»* близ Горлебена на Эльбе,
министр внутренних дел земли Нижняя Саксония
распорядился, чтобы находившиеся в первых рядах
полицейские намазали себе лица черной краской.
Это, по замыслу министра, позволило бы им «вы-
глядеть неграми», чтобы потом, после подавления
беспорядков, «не быть узнанными». Люди с таким
мышлением, конечно, не станут возражать и против
появления в официальном песеннике для бундесвера
таких «сочинений», как «Восстание негров на Кубе»,
где, в частности, есть такие слова: «Труп со вспо-
ротым брюхом плывет по волне речной. Кинжал из
раны торчит—вонзен людоеда рукой...»
О том, что думают наши власти о прибывающих
к нам иностранцах, становится ясно из некоторых
проводимых официальными органами мероприятий.
1 декабря 1980 года некто Дирндорфер, чиновник
ведомства по охране конституции, которому минис-
терство внутренних дел приписывает вину за опуб-
ликование секретных материалов по скандальному
делу Траубе, привлеченного к ответственности за
шпионаж, был переведен в баварском городке Цирн-
дорф «в порядке наказания» в местное бюро по
делам иностранцев. Учитель Ганс-Петер де Лорент,
на которого ополчился гамбургский сенатор по воп-
росам школьного образования за издание романа о
запрете на профессии «Охота на ведьм», был под-
вергнут дисциплинарному наказанию, выразив-
шемуся в том, что он должен был принять руко-
водство классом, состоявшим из детей иностранных
рабочих. В гессенском городке Рейнхайм служащим
отдела социального обеспечения, обвиненным в по-
пустительстве наркоманам, с которыми проводилась
кампания борьбы, также пригрозили переводом в
бюро обслуживания турецких рабочих.
В качестве главного свидетеля и защитника ра-
систских настроений, господствующих среди запад-
ногерманских политиков, может выступить далеко
не один только Франц-Йозеф Штраус. В прошлые
* Речь идет о кампании, ведущейся прогрессивными кругами
ФРГ, по объявлению населенных пунктов и районов страны
безъядерными зонами. Эта кампания вызывает многочисленные
стычки жителей «антиатомных» городов и деревень с поли-
цией.—Прим. перев.
76
Полицейские во время подавления манифестации жителей Гор-
лебена 4 июня 1980 года.
годы, до того как он неожиданно проникся любовью
к Мао Цзэдуну, Штраус беспрестанно твердил о
«желтой опасности». Потом он вьетнамцев начал
сравнивать с «ядовитыми крысами», а в последнее
время научился применять свои расистские шаб-
лоны к людям в собственной стране, раздавая зве-
риные эпитеты тем, кто потерял свою родину. Его
брань по адресу «крыс» и «кусачих мух»—наилуч-
шее подтверждение тому, что у нас никто не за-
страхован от проклятий, расточаемых расистами.
В отличие от него уличить в расизме генераль-
ного секретаря щтраусовского ХСС куда труднее.
В выпуске «Бильд-цайтунг» от 21 мая 1980 года,
был помещен репортаж о предвыборном съезде
штраусовского ХСС под таким заголовком: «Негри-
тянская певица что-то мурлыкала на ухо Штойберу
из ХСС». Она якобы сказала ему: «Мы, черные,
должны держаться вместе». В статье между прочим
говорилось: «Одетая в белое платье, оттеняющее ее
черную кожу, негритянская певица Джоан Орлеанс
задала всем такого жару, что под конец присутст-
вующие запели хором: «Темно-коричневый каштан,
темно-коричневые мы...»
И у федерального канцлера есть свои «любимые
негры», даже целый народ, которому он оказывает
77
особый почет. В троицын день 1980 года в замке
Калькберг у Бад-Зегеберга он поведал всем о «чуде
в Могадишо»: «Мы сумели освободить заложников
благодаря невероятному жесту международной со-
лидарности, проявленному этой страной. Вы только
представьте себе, что это значит, когда в одной из
стран Черной Африки негритянское правительство
позволяет нам, немцам, нам, белым, использовать
нашу собственную полицию, чтобы силой освободить
на территории своей страны наш самолет. Это не-
слыханное достижение...»* Так сказал наш канцлер,
и ему можно только поаплодировать.
Таким добропорядочным «негритянским прави-
тельствам», конечно, стоит помогать, скажем, через
управляемое из Бонна «Немецкое общество содейст-
вия экономическому сотрудничеству» (с ограничен-
ной ответственностью). В своих рекламных объявле-
ниях, занимающих по половине газетной полосы,
оно предлагает средним немецким фирмам «дочерей
с большим приданым», то есть права на создание
своих филиалов в Африке. Среди прилагаемых ил-
люстраций нередко встречаются фото, на которых
немецкие инженеры в белых пробковых шлемах и
солнцезащитных очках изображаются рядом с тем-
нокожими красотками, которые с благоговением и
трепетом заглядывают в лицо «хозяину из Герма-
нии». Как тут не вспомнить слова: «Немецкий дух
нагрянет, и третий мир воспрянет».
В «Меморандуме», составленном для федераль-
ного правительства осенью 1979 года его «уполно-
моченным по вопросам интеграции иностранных на-
емных рабочих и их семей» Гейнцем Кюном, есть
немало вполне доброжелательных и разумных пред-
ложений. Например, там выдвинут план предостав-
ления избирательных прав по выборам в местные
органы власти тем приезжим рабочим, которые про-
живают у нас фактически постоянно. Но в том же
«Меморандуме Кюна» слишком часто встречается
понятие «бомба замедленного действия», которое
при внимательном рассмотрении заставляет усом-
ниться в непредвзятости позиции автора в этом воп-
* Имеется в виду акция, проведенная подразделениями полиции
и парашютно-десантных войск ФРГ в июне 1980 года в Сомали,
по освобождению угнанного террористами западногерманского
пассажирского самолета.—Прим. перев.
78
росе. Сравнение быстрого роста численности лиц
иностранного происхождения с «бомбой замедленно-
го действия» я лично воспринимаю как некую
словесную угрозу, предназначенную скорее для раз-
жигания вражды и беспокойства по отношению к
живущим у нас иностранцам, чем для облегчения
взаимопонимания между народами. Ведь тот, кто
подкладывает «бомбу замедленного действия», легко
становится и объектом подозрений: его можно об-
винить в саботаже и объявить элементом, готовящим
исподтишка удар по свободному демократическому
строю. Именно такого мнения придерживается, к
примеру, генеральный секретарь германского Крас-
ного Креста , Шиллинг, который включился в дис-
куссию по поводу данных, приведенных в «Мемо-
рандуме Кюна», опубликовав статью на целую
полосу в газете «Цайт» от 21 ноября 1980 года.
Шиллинг настойчиво предупреждает об «иностран-
ном наводнении», которое, мол, уже начинает делать
«относительным» общий характер Федеративной
Республики Германии как «национального немец-
кого государства», и решительно выступает за «осто-
рожное возвращение иностранцев в страны их про-
исхождения».
«Интеграцию миллионов иностранцев, явля-
ющихся в значительной мере этнически совершенно
чуждыми немцам», президент ГКК называет «раз-
рывом с немецкой историей». Она-де противоречит
конституции, так как ведет, в частности, к еще боль-
шему «отдалению от другой части Германии и мо-
жет затруднить воссоединение». Глава нашего Крас-
ного Креста открыто предупреждает о «высоком
уровне рождаемости» среди большинства чужест-
ранцев. В этом видится избитое расистское клише:
цветные иностранцы «плодятся как кролики»., Шил-
линг характеризует призывы к человеческому со-
чувствию по отношению к приезжим рабочим как
«напрасные усилия добрых сердец», поскольку, мол,
таким путем мы «не прорвем завесу их безразличия
к нам». Немецкий народ должен-де сохранять свое
лицо и не допускать, чтобы его превращали в некую
«многонациональную кашу». Если это произойдет,
в стране возникнет «неизбежная тенденция к по?
правению избирателей». Поэтому Шиллинг, член
СДПГ и приятель канцлера, требует «немедленно
79
«Это тоже эскалация». Карикатура, опубликованная в амстер-
дамской газете «Альгемеен хандельсблатт». Так представляет
себе развитие «проблемного сознания» издатель учебника по ис-
тории для старших классов «Времена и люди».
организовать репатриацию большей части приезжих
рабочих». А начинать это он предлагает с «иност-
ранцев из европейских окраинных стран или из
стран, расположенных непосредственно за предела-
ми Европы», то есть с азиатов, в первую очередь
турок, а также с африканцев. Разрешить натура-
лизацию можно только «центральным европейцам».
Шиллинг еще не решается открыто говорить о
введении «арийского паспорта». Нет, он всячески
открещивается от нацистских расовых теорий. И
все же то, что он предлагает во имя гуманности,
да еще от имени Красного Креста, является не чем
иным, как враждебной по отношению к иностранцам
программой борьбы за «окончательное решение»*
проблемы приезжих рабочих. Как и во времена на-
цизма, миллионы людей предполагается грузить на
поезда и суда, словно скот, насильно репатрииро-
вать, переселять. Тот факт, что официальное поли-
тическое лицо может у нас выдвигать подобные
варварские планы во всей их красе на всеобщее
обозрение и обсуждение, показывает, до какой степе-
ни примитивный расизм снова проник в нашу поли-
тическую и общественную жизнь. Он опять обрел
жизнеспособность и под маской «любви к ближне-
му» вновь открыто просит слова.
Расистская травля справа
Опубликовав «Меморандум Кюна» и преднаме-
ренно развязав дебаты об ограничении права поли-
тического убежища, федеральное правительство
подало весной 1980 года сигнал всем правым груп-
пировкам к началу широкой кампании против ино-
странных рабочих. От этого не удержался даже
«Шпигель». Обложка одного из его номеров, по-
священного проблеме предоставления убежища,
ничем не отличалась от дешевых плакатов неона-
цистской НДПГ. На ней на фоне трехцветного черно-
красно-золотого знамени был начертан самый
ходовой лозунг: «Иностранцы, вон!» Председатель
фракции ХСС в баварском ландтаге Густль Ланг
* Намек на пресловутое гитлеровское «окончательное решение»
еврейского вопроса, предполагавшее полное истребление евреев.—
Прим. перев.
81
Нацистская настенная мазня в Сан-Паули (Гамбург).
потребовал согнать всех «попрошаек, вымоливших
право на убежище, в огражденные колючей про-
волокой бараки со сторожевыми вышками и буд-
ками»—предпочтительнее всего в Дахау. По распо-
ряжению правительства был проведен специальный
опрос общественного мнения, опубликованные ре-
зультаты которого свидетельствовали о том, что
18% всех граждан ФРГ считают иностранцев и при-
езжих рабочих «смертельной опасностью для на-
шего народа». В общем, наступило время точить
ножи.
«Курчавые темнокожие экзоты», писала либе-
ральная «Цайт» 30 мая 1980 года, более не рас-
сматриваются как желанные гости. В те же дни
солидная «Франкфуртер альгемайне цайтунг» на-
стойчиво предупреждала об «опасности ориентали-
зации» Европы. Она углядела «кампучийских
ребятишек уже в Шварцвальде» и в этой связи
ставила вопрос: «Неужто турки снова стоят под
Веной?» «Нет,—следовал ответ,—они уже прожи-
вают в Берлине». Западноберлинская коллегия
адвокатов привлекла к суду чести 12 местных
адвокатов за то, что они защищали в администра-
тивном суде турецких граждан, подавших проше-
82
ние о предоставлении им политического убежища.
Гамбургский союз домовладельцев отказался «по
принципиальным соображениям» вселять получив-
ших право убежища в пустующие квартиры.
В Люнебурге, где власть принадлежит ХДС,
27 октября 1980 года состоялся непродолжительный
судебный процесс. Суд постановил выселить в ад-
министративном порядке из временного помещения
турецкую семью, состоящую из 11 человек, и
под надзором полиции препроводить ее в соседний
Гамбург. Что же касается имущества этой семьи,
то предполагалось, что о его сохранности и пере-
возке должны позаботиться гамбургские социал-
демократы, которые все еще с симпатией отно-
сятся к «шайкам чужестранцев». В течение трех
дней семья жила на улице, только на ночь укры-
ваясь в молодежном клубе по соседству, поскольку
днем там проводятся различные мероприятия.
Правые экстремисты не дремлют. В июне
1980 года в федеральной столице возникает «Бонн-
ское бюро гражданской инициативы за запрещение
иммиграции азиатов и против всех других форм
обыностранивания нации». В Штутгарте появляется
«Бюро гражданской инициативы по пресечению
иммиграции», а в Ван гене, этом оплоте ХСС, фор-
мируется «Лига борьбы с чужеземным засильем».
Неонацистская НДПГ ведет предвыборную агитацию
по всей стране под лозунгом «Хватит иностранцев—
Германия только для немцев!». Ей позволяют про-
крутить в самое зрелищное время по телевизион-
ным каналам четыре раза кряду свой предвыбор-
ный фильм, разжигающий ненависть к иностран-
цам и ко всему ненемецкому.
Неонацисты пишут угрожающие письма всем
домовладельцам, осмелившимся сдать квартиры
приезжим рабочим, и особенно африканцам. Такие
же письменные угрозы получают и проживающие
у них иностранцы. В многочисленных посланиях
такого рода, направленных осенью 1980 года домо-
хозяевам и квартиросъемщикам в двух районах
Гамбурга, Альстердорфе и Поппенбюттеле, встреча-
лись такие угрозы, как «Скоро придется катиться
вон отсюда!», «И настанет день расплаты!» или
«Освободи собственную квартиру еще для одного
приезжего!». На многих из этих анонимок в ка-
83
честве отправителя был назван «Турецкий приют».
Особым нападкам подверглись демократические
объединения турецких рабочих. В Бремене бюро
ФИДЕФ * получило множество писем, в которых
угрозы типа «Если до 1 января не уберетесь от-
сюда, мы вынуждены будем просто выкурить вас,
как клопов!» сопровождались изображениями свас-
тики и эсэсовских «молний».
Почти во всех городах и городских районах,
где проживают большие группы приезжих рабочих-
иностранцев, на стенах домов часто появляются
надписи: «Иностранцы, вон!» В октябре 1980 года
неонацисты намалевали на стенах в Кёльнском
университете 80 лозунгов, оскорбительных для
иностранных студентов и рабочих. Среди них были
такие: «Евреев—в газовую камеру!», «Негры, уби-
райтесь восвояси!», «Иностранцы, прочь отсюда!»
Кёльнский антифашист Сэмми Мэдге, которого
крайне возмутила эта фашистская мазня, потре-
бовал в письме к руководству университета немед-
ленно уничтожить враждебные иностранцам над-
писи. Прошло две недели, но никакой реакции
со стороны ректората не последовало. Мэдге снова
написал жалобу и предупредил, что, если универ-
ситетские власти ничего не предпримут, он сам
позаботится о надлежащих мерах. Когда же не по-
действовало и это, он решил уничтожить надписи
сам. Он начал замазывать подстрекательские воз-
звания серой бетонной краской. И вот тут-то власти
университета не замедлили вмешаться. Трое уни-
верситетских служащих силой остановили антифа-
шиста, увели его в подсобное помещение студен-
ческой столовой и там заперли. При этом ему
было заявлено: «Таких пачкунов, как ты, следует
хорошенько проучить. Вы слишком ленивы, чтобы
трудиться, как все!» В ответ на его попытку дока-
зать, что, закрашивая нацистские лозунги, он
не делал ничего предосудительного, сказали: «В
этих надписях есть свой смысл. Пусть они побудут
там подольше. Это нужно, чтобы кое-кого попугать,
понятно тебе!» Сэмми Мэдге просидел в подсобке
целый час. Потом его отпустили, но уже на сле-
* Объединение демократических союзов турецких рабочих ФРГ
Организация, созданная в 70-х гг. для защиты интересов турец-
ких рабочих и эмигрантов.—Прим. перев.
84
дующий день он получил письменное извещение
за подписью канцлера Кёльнского университета
с требованием уплаты крупного штрафа «за порчу
имущества». Его вызвали на допрос в ближайший
полицейский участок. Потребовалось вмешательство
всех прогрессивных студенческих организаций,
выступивших с широким протестом, чтобы в конце
концов прекратить дело.
Такое поведение властей университета воодуше-
вило неонацистов на новые действия. В начале
1981 года они подожгли сцену в студенческом
клубе, где готовилось представление с сатирой
на полицию, в котором принимали участие и ино-
странные студенты. Возникший пожар причинил
ущерб на сумму свыше 2 миллионов марок.
Незадолго до безобразий, учиненных неонацис-
тами во время октябрьских празднеств в Мюнхене,
в результате которых 13 граждан ФРГ поплатились
жизнью, начались фашистские акции со взрывами
бомб. Поначалу они были направлены преимущест-
венно против иностранцев. 30 июня 1980 года
в баварском городе Цирндорфе на федеральном
сборном пункте для иностранцев, подавших проше-
ние о предоставлении убежища, была взорвана
первая бомба. 17 августа при нападении на обще-
житие иностранных рабочих в Лёррахе была тяжело
ранена одна эфиопка. 21 августа в Ахене группой
немецких и турецких неофашистов был убит ра-
бочий-турок. 22 августа жертвами взрыва бомбы
в сборном лагере для беженцев из Юго-Восточной
Азии на Халькештрассе в Гамбурге пали два че-
ловека.
В тот год на дверях очень многих ресторанов
и питейных заведений появились таблички: «Турок
не обслуживаем!» На родине Вагнера в Байройте
во время летнего фестиваля 1980 года произошло
такое, что сегодня уже вряд ли могло бы случиться
даже в американском штате Миссисипи. На дверях
всех приличных ресторанов и отелей города были
навешены деревянные таблички с объявлением
по-английски: «No blacks!» * И сделано это было
с целью не допускать посещения этих заведений
афроамериканскими военнослужащими дружествен-
* «Черных не обслуживаем!» (англ,).—Прим. перев.
85
ной армии США. А в соседнем Бамберге члены
неонацистской организации «Молодые викинги»
намалевали над водопроводными кранами в одном
молодежном центре надписи: «Осторожно, газ!
Пользоваться только евреям!» В распространяемых
ими же листовках содержался призыв стерилизо-
вать всех черных, имеющих больше троих детей.
В том же городе при поддержке ХСС обосновался
некий «Комитет помощи Южной Африке», высту-
пающий за солидарность с режимом апартеида,
а одновременно и за «отпор распространению чужих
рас у нас дома».
Как и во времена нацизма, нынешние расисты
находят поддержку и получают помощь от бур-
жуазии. Бывший ведущий фельетонист еженедель-
ника «Цайт» Дитер Циммер попытался весной
1980 года сначала в своем журнале, а потом и
в изданной отдельной книжкой серии статей под об-
щим названием «Мы, неравноправные» протащить
новый расизм в буржуазные салоны и дома. Опи-
раясь на «научную базу» и приводя бесчисленные
статистические данные и цитаты, он пытается до-
казать естественное «неравенство рас и классов».
Он оперирует главным образом коэффициентами
умственного развития, в соответствии с которыми
все «проклятые» на этой земле, то есть черные,
антисоциальные элементы и рабочие низкой ква-
лификации, оказываются во всех отношениях сто-
ящими ниже «белых господ». Свои тезисы он под-
крепляет соответствующими иллюстрациями
в «штюрмеровском» * стиле. Так, он ставит рядом
двух детей—белую девочку и черного мальчика.
Белая девочка стоит с жеманно поджатыми губами,
а черный мальчишка широко разинул рот и сует
себе чуть ли не в горло сосалку-леденец. И в этом
Циммер находит «естественное» объяснение пред-
взятого отношения к чужим расам. Для него вся-
кий человек—это «стадное животное», которое
может жить в мире с остальными людьми, только
* Имеется в виду стиль фашистского антисемитского журнала
«Штюрмер», издававшегося в Нюрнберге в 1923—1945 годах
нацистом Ю. Штрайхером. Журнал славился своими «плакат-
ными карикатурами». Нападал он не только на евреев, но и
на масонов и католиков.—Прим. перев.
86
находясь в «своем стаде», среди тех, кто думает,
как он, выглядит, как он, и ведет себя так же,
как он.
То, что Циммер и его сообщники из «Цайт» пы-
таются сделать для оживления расистских теорий
в своем еженедельнике, господин профессор и док-
тор Иренеус Эйбл-Эйбесфельд, руководитель лабо-
ратории гуманоэтнологии при Институте исследо-
вания моделей поведения имени Макса Планка,
совершенно четко и недвусмысленно высказывает
в своем «научном» докладе. «Речь идет,—заявляет
он,—о моменте, имеющем далеко не маловажное
значение с точки зрения демографической поли-
тики... У нас сейчас серьезно дискутируется вопрос
о том, хотим ли мы превратить свою страну в район
массовой иммиграции и принять к себе беженцев
со всех концов света, в том числе и из Африки.
Если задуматься над теми трудностями, которые
возникнут из-за этого для грядущих поколений, то
следует серьезно подойти к анализу способностей,
которыми наделены принимаемые нами новые груп-
пы населения, в противном случае мы поступили
бы безответственно по отношению к нашим вну-
кам».
На страницах издаваемого на глянцевой бумаге
нобелевского журнала «Гео» той же весной 1980 го-
да выступил психолог Артур Иенсен. Он позволил
себе доказывать, что существует два сорта интел-
лекта. Для первого характерна тупая зубрежка
и слепое заучивание понятий. Поэтому-де он при-
сущ прежде всего неграм, индейцам, низким слоям
белых людей, рабочим и... женщинам. Другому
свойственна способность выявлять взаимосвязи
вещей и событий и мыслить самостоятельно. По мне-
нию этого психолога, последнее удается только
представителям образованных народов Европы
и Северной Америки. О том, чтобы, не дай бог,
не порвалась связь между старыми фашистскими
мастерами расизма и их нынешними замаскирован-
ными под либералов верными учениками, позабо-
тился не в последнюю очередь и такой маститый
исследователь проблем поведения, как Конрад
Лоренц. Свои открыто пропагандировавшиеся
до 1945 года расовые теории он так мастерски скрыл
с началом новой эпохи за анализом поведения
87
гусей и обезьян, что даже «зеленые» * и сторон-
ники «альтернативного движения» ** попались
на удочку его «видовых сравнений» между людьми
и животными, а также теории «имманентной аг-
рессивности».
Нельзя не заметить, что сегодня идеологи ра-
сизма и враждебного отношения к иностранцам
пытаются закрепиться и в экологическом движении.
В 1979 году Федеральный союз гражданских ини-
циатив по охране окружающей среды внес в опуб-
ликованный им «Перечень вопросов для разработки
официальной экологической концепции ФРГ»
раздел, в котором выступил за ассимиляцию ино-
странных рабочих. В атаку против него сразу же
бросились все праворадикальные защитники окру-
жающей среды. И вот уже один врач из Карлс-
руэ вопрошает: «Неужто вы и в самом деле
можете понять негра, китайца, готтентота или па-
пуаса? И потом, неужто вы не знаете, что пред-
ставители всех рас и всех народов, к сожалению,
могут плодиться друг от друга? А это значит,
что ассимиляция, бесспорно, приведет через несколь-
ко десятков, ну через сотню лет к всеобщей нераз-
берихе и мешанине...» Этот апостол здоровья делает
вывод, что поселять у нас иностранцев не следует,
хотя бы из соображений защиты окружающей
среды, ибо «каждый лишний человек потребляет
при дыхании чистый воздух», препятствует жела-
тельному нулевому росту населения и усиливает
развитие автомобилизма.
Этот «экологический подход» врача из Карлсруэ
горячо поддерживает и Герберт Груль ***. А Макс
Химмельхебер, издатель «альтернативного» жур-
нала «Шайдевег» («Распутье»), наблюдает «с ужа-
сом за попытками нашего правительства ассимили-
ровать арабов, турок и представителей других
* «Зеленые» — новая политическая партия и ФРГ. Она возникла
в 1980 году в результате слияния ряда левых организаций
и клубов сторонников Движения за сохранение окружающей
среды.—Прим. перев.
** «Альтернативное движение»—политически оформляющаяся
сейчас ориентация левых либералов, ищущих «промежуточный»,
третий путь развития между капитализмом и социализмом.—
Прим. перев.
*** Герберт Груль—бывший депутат бундестага от ХДС, объявив-
ший в июне 1978 года о своем выходе из партии. — Прим. перев.
88
чуждых нам народов... Лошадь и осел, лев и тигр
еще как-то могут скрещиваться между собой, да
и то подобные гибриды годятся разве что для зоо-
парка или цирка, а в естественном виде никогда
не встречались. Поэтому турок, например, в роли
немецкого полицейского в Западном Берлине будет
выглядеть настоящим гротеском...» Главный редак-
тор журнала уподобляет «сожительство» представи-
телей разных народов поведению... «свиней в хле-
ву». «Есть мнение,—пишет он,—что немецкие
свиньи не заметят своего перерождения, если рядом
с ними будут все чаще и чаще хрюкать по-турецки.
Да и кого пробудит от спячки даже вавилонское
хрюканье в хлеву западногерманского общества?»
В журнале «Менш унд мас» («Человек и мера»)
заселение ФРГ иностранцами вообще рассматривает-
ся как «убийство» немецкого народа. «Разве не
знают наши политики, что вживление чужеземцев в
тело немецкой нации противоречит законам приро-
ды и потому совершенно недопустимо? Неужели не-
мецкое население будет прижато к стенке в собствен-
ной стране какими-то иностранцами, которые только
и делают, что размножаются?» А одна женщина из
Бремена заявляет, что ответственные за это лица
должны были бы знать, что «чужаки прибывают
сюда только с целью превратить нас самих в мень-
шинство и потом всех коварно истребить». В унисон
этому раздается вопль: «Турки уже начали разла-
гать наш народ с помощью наркотиков!»
А вот какое мнение высказал в своем информа-
ционном бюллетене Всемирный союз охраны челове-
ческой жизни: «Несколько лет назад Движение за
гражданские инициативы выступало с лозунгом
«Американцы, вон из Вьетнама!». Наряду с этим
звучало и требование «Африка—африканцам!». А
уж если говорить о законах об иммиграции, то всех
жестче они в Израиле. Чтобы жениться или выйти
замуж за подданного этой страны, нужно доказать,
что у тебя в роду был по крайней мере один еврей-
ский предок».
Расизм, облеченный в прогрессивный камуфляж,
по моему убеждению, наиболее опасен, во-первых,
потому, что в нем подчеркивается «забота о среде
обитания», и, во-вторых, потому, что он импонирует
критически и антикапиталистически настроенной
89
молодежи. Решение бременской фракции «зеленых»,
принятое совместно с городской организацией ХДС,
голосовать против дальнейшего приема турецких се-
мей—владельцев лавок и пивных в районе Остертор
этого ганзейского свободного города, а также увели-
чение потока писем от настроенных против турок
читателей западноберлинской альтернативной газе-
ты «Цитти», попытки газеты «Тагесцайтунг» пре-
вратить новый расизм в национальное движение
протеста по всей стране и другие симптомы усилива-
ющейся враждебности к иностранцам в среде эколо-
гистов и альтернативистов должны насторожить
всех левых. От этого будет зависеть, удастся ли но-
вым группировкам сохранить доверие к себе и по-
лучить шансы на дальнейшее существование, смо-
гут ли они отразить попытки расистов оказать на
них влияние и сохранят ли они в своей теории и
практике достаточно прочно те идеи международно-
го сотрудничества, которые необходимы для любого
движения, направленного на эмансипацию.
Изгнание беженцев
Ответственность за враждебные по отношению к
иностранцам настроения, которые с начала 80-х го-
дов все более и более угрожают миру и спокойствию
в нашей стране, несет само федеральное правитель-
ство. Весной 1980 года многие министры, правитель-
ственные чиновники и даже сам канцлер неодно-
кратно заявляли о «бурном потоке ищущих убежи-
ща беженцев, грозящем наводнением, которое уже,
по-видимому, нельзя остановить». Под прикрытием
ими же поднятой истерии боннские власти заторопи-
лись выработать планы отмены основного конститу-
ционного права на политическое убежище в нашей
стране: Тем самым после принятия законов, разре-
шающих перевооружение, и после введения чрезвы-
чайного законодательства правительство само дало
сигнал к дальнейшему серьезному изменению нашей
конституции, которое вступает в противоречие с са-
мим ее существом.
Пока что наша конституция обещает «политиче-
ское убежище всем преследуемым». Федеративная
республика действительно является одной из немно-
90
гих стран Запада, где гарантировано неограничен-
ное право на политическое убежище. Провозглашая
это право, отцы нашей конституции как бы искупали
грехи эпохи нацизма, когда миллионы антифаши-
стов вместе с лицами, преследуемыми по расовым и
политическим причинам, вынуждены были искать
убежища за границей. Однако стремление Федера-
тивной республики к соблюдению этого права су-
ществует только на бумаге. Ни наше враждебное к
иностранцам правосудие, ни поведение властей, от-
казывающих в просьбах об убежище, не позволяют
обеспечивать выполнения тех положений, которые
записаны в Основном законе.
В период с 1953 по 1979 год Федеративная рес-
публика предоставила убежище всего 49 тысячам
человек из 238 тысяч, которые подавали прошение.
И тем не менее весной 1980 года ситуация якобы
приняла «драматический характер». Федеральное
правительство обратилось к «здравому рассудку»
народа. Канцлер заявил, что «надо изменить пункт
2 статьи 16», гарантирующий право на политичес-
кое убежище, и в спешном порядке начали разраба-
тываться планы, предусматривающие, в частности,
«размещение подавших прошение о предоставлении
убежища в специальных лагерях». Направляемые в
пограничные пункты «особые судьи» должны были
прямо у шлагбаума в течение 12 часов решать во-
прос о том, не является ли жалоба на политическое
преследование «соискателя» только предлогом, и в
этом случае немедленно отсылать его обратно за
границу. Были приняты меры к созданию на погра-
ничных контрольно-пропускных пунктах специаль-
ных помещений с сотнями тюремных камер, в кото-
рых прибывающие в страну беженцы должны были
«под арестом» ожидать решения своего дела. ХДС с
удовольствием поддержал эти планы. Представитель
правительства земли Баден-Вюртемберг заявил да-
же, что право на убежище «в конце концов не мо-
жет быть распространено на безработных всего ми-
ра». Баварский премьер-министр Франц-Йозеф
Штраус заявил, что Федеративная республика «не
должна превращаться в магазин самообслуживания
для беженцев отовсюду». Были обнародованы ре-
зультаты опросов общественного мнения, причем мо-
мент для этого был выбран как нельзя более удач-
91
ный. По средним выборочным данным, уже в июне
1980 года 48% опрошенных граждан ФРГ высказа-
ли пожелание, чтобы все подавшие прошение об убе-
жище катились ко всем чертям.
За эту тему ухватилась и шпрингеровская прес-
са, сдвинувшая понятия так, что слово «беженцы»
оказалось рядом со словами «лжецы» и «тунеяд-
цы». Шпрингеровцы утверждали, что подавляющее
большинство просящих визу на въезд, и прежде все-
го из стран «третьего мира», едут к нам только за-
тем, чтобы получить легкую работу, вымолить го-
сударственное вспомоществование на детей и по-
пользоваться благосостоянием граждан ФРГ. Под
лозунгом «Они отнимают у нас последние рабочие
места!» реакция начала сеять в народе страхи и раз-
жигать страсти. Из всего этого с добавлением неф-
тяного кризиса, шока иранской революции и враж-
дебности к туркам образовалась опасная гремучая
смесь с совершенно явным запахом расизма. Сред-
ства массовой информации заполонил некий приз-
рак в виде худого, курчавого, темнокожего беженца,
который намерен отнять у нас наше богатство и на-
рушить мир в нашем доме. И теперь уже правитель-
ство, само вызвавшее настроения враждебности к
иностранцам, ничего не может с этим поделать.
Даже несмотря на то, что Штраус не стал канц-
лером, кампания достигла желаемой цели. Летом
1980 года число удовлетворенных прошений о пре-
доставлении убежища резко сократилось. Вместо
предварительно объявленных 150 тысяч просителей
за весь год их количество не превысило 50 тысяч.
Хотя никаких официальных поправок в конститу-
цию не вносилось, «пограничные судьи» приобод-
рились и стали действовать более решительно. Из 30
тысяч прошений об убежище, поданных турками
во второй половине года, было удовлетворено менее
300, то есть менее 1%. Принимая во внимание со-
вершившийся в Турции военный переворот, повлек-
ший за собой аресты более 30 тыс. демократов
и узаконивший пытки и убийства, такая политика
ФРГ представляется как недружественный акт
по отношению ко всему турецкому народу.
Среди беженцев из Турции находилось свыше
10 тыс. курдов и представителей других националь-
ных меньшинств, которые у себя на родине подвер-
92
гаются гонениям и расовой дискриминации. Суд
первой инстанции баварского города Ансбах отка-
зался удовлетворить просьбу о политическом убежи-
ще даже трем членам исламской религиозной секты
Ахмеди*, которая запрещена правительством Паки-
стана и всячески преследуется. Суд обосновал свой
отказ ссылкой на то, что, мол, «всякое преследова-
ние должно иметь персональную направленность и
выходить за рамки тех ограничений, которые гос-
подствующая политическая система налагает на це-
лые группы людей». Тем евреям, которые пережили
«хрустальную ночь» ** и боялись дальнейших погро-
мов, подобное правосудие в других странах навсегда
закрыло бы путь к свободе. Именно так закрывает
его сейчас для других народов «гостеприимная»
Федеративная Республика Германии. Не следует к
тому же забывать, что вслед за этими мерами на
иностранцев тут же было распространено и поста-
новление о радикальных элементах. Так, власти
сборного лагеря Цирндорф отказали в убежище при-
бывшему сюда по причинам, носящим исключитель-
ный характер, индийскому коммунисту на том
основании, что, мол, право убежища дается только
«борцам за свободу и справедливость», но не лицам,
которые «хотят установить диктатуру пролета-
риата».
В настоящее время вопрос о предоставлении убе-
жища решают 28 специальных комитетов, в каждом
из которых заседают один юрист и два высокопо-
ставленных чиновника. Прошения рассматриваются
в срочном порядке и только по документам, т.е. без
вызова истца или его адвоката. Каждый такой «ко-
митет» выносит решения по меньшей мере по 200
делам в месяц. Практически около 94% прошений
не удовлетворяются. Если тот, кому в предоставле-
нии убежища отказано, осмеливается опротестовать
решение «комитета» через суд, его шансы на успех
бывают ничтожными. Административно-судебная
* Секта, основанная в конце XIX—начале XX века мирзой
Гулямом Ахмедом в Пенджабе с целью сближения мусульман-
ской, христианской и индуистской религий. Ведет широкую
пропагандистскую деятельность.—Прим. перев.
** «Хрустальная ночь»—организованный гитлеровцами в ночь
на 10 ноября 1938 года погром еврейских домов, магазинов,
культовых учреждений и жилых кварталов.—Прим. перев.
93
палата Баварии удовлетворила всего 13 прошений
из всех обжалованных в 1973 году, и то только по
истечении шести лет, то есть в 1979 году. Из 2 тысяч
дел, рассмотренных западноберлинским федераль-
ным административным судом, решение в пользу
истца было вынесено лишь в 27 случаях. Как только
приговор вступает в силу, иммиграционные власти
требуют от соответствующего лица незамедлитель-
но покинуть страну. «Хватит! Все кончено! Уезжай-
те! Вон отсюда!»—так цитирует «Шпигель» слова
одного франкфуртского судебного исполнителя, в
чьи обязанности входит разыскивать иностранцев,
коим отказано в праве на убежище, и препровож-
дать их через границу.
В определенных же случаях, когда в дело всту-
пает ничем не прикрытый расизм, все совершается
еще быстрее. Так, палестинских и индийских бежен-
цев, пытающихся попасть в Западный Берлин или в
Федеративную республику через аэропорт Шене-
фельд в ГДР, «немедленно арестовывают и при пер-
вой же возможности отправляют обратно на родину».
В 1980 году таких случаев было не менее 3 тысяч.
Политических иммигрантов из Шри-Ланки и многих
стран Черной Африки, начиная с того же года, при-
нимают лишь тогда, когда их прошения предвари-
тельно утверждаются в посольствах и миссиях ФРГ
в соответствующих государствах.
Несмотря на то что федеральное правительство
не раз выражало свое возмущение преступлениями
клики Пол Пота в Кампучии, оно тем не менее в том
же 1979 году отказалось принять к себе находив-
шихся в отчаянном положении кампучийских бе-
женцев. Один эмигрант из Кампучии был выдворен
из нашей страны только за то, что из страха перед
высылкой подал прошение лишь через четыре ме-
сяца после нелегального въезда в ФРГ. В обоснова-
ние высылки было сказано, что «если бы по воз-
вращении на родину ему действительно грозила
смертная казнь, то он незамедлительно, как свиде-
тельствует обычная практика, подал бы прошение о
политической защите». А посему человека отправи-
ли обратно в полпотовское царство смерти. Защи-
титься он не мог, так как говорил только по-кхмер-
ски и по-китайски, а иммиграционные власти ока-
зались «не в состоянии» найти переводчика.
94
Что же касается палестинцев, то с ними после
террористического акта во время Мюнхенской олим-
пиады 1972 года вообще обращаются, как если бы
все они были участниками преступной банды.
Их неизменно подозревают в терроризме и насилии.
И это подозрение почти автоматически распростра-
няется на всех беженцев-иммигрантов с Ближнего
Востока, и прежде всего на ливанцев, сирийцев
и иракцев. Индонезийских беженцев тоже, как пра-
вило, отсылают обратно, даже в тех случаях, когда
это индонезийцы китайского происхождения, кото-
рые в своей стране испытывают серьезные притес-
нения. Как было сказано в баварском суде одному
такому беженцу, «китайцев в Индонезии пресле-
дуют не из соображений расовой принадлежности,
а за то, что они там живут в большом достатке,
что и вызывает недовольство со стороны коренного
населения». Поэтому суд не нашел нужным вынес-
ти положительное решение.
Я утверждаю: даже без готовящегося изменения
нашего Основного закона нынешняя практика пре-
доставления политического убежища в Федератив-
ной Республике Германии почти повсеместно служит
инструментом контроля за притоком в страну ино-
странцев и его жесткого ограничения. Власти выис-
кивают не тех, для кого политическое преследование
«лишь отговорка». Они ловят и отправляют назад
всех, кто по тем или иным соображениям оказыва-
ется нежелательным. Почти все эти люди прибы-
вают к нам из «третьего мира», граница которого
пролегает приблизительно по Босфору. Тот, кто ро-
дился дальше к югу или к востоку, имеет шанс на
получение убежища только в том случае, если он,
например, беженец из Афганистана, поскольку, как
утверждает «Гамбургер абендблатт», «в охваченных
восстанием горных племенах Гиндукуша все еще
пульсирует индогерманская кровь».
Откровенный и скрытый
антисемитизм
Антисемитизм в Федеративной республике офи-
циально запрещен. Проповедовать его открыто в на-
ше время нельзя. Ведь недаром же отец-основатель
95
нашего государства Конрад Аденауэр заплатил мил-
лиарды марок, чтобы «компенсировать» гибель 6
миллионов замученных нацистами евреев. Солидар-
ность нашего правительства и шпрингеровской прес-
сы с государством Израиль столь велика, что из-
раильская расистская политика захвата земель ара-
бов и их угнетения постоянно ими оправдывается,
а преданность режиму апартеида в Южной Африке,
сравнимая разве что с верностью нибелунгов, после-
довательно замалчивается. И уж, конечно, наших-то
евреев мы всячески оберегаем.
Как известно, каждый год вот уже 30 лет подряд
у нас проводится «неделя братства». И всякий раз,
по выражению гамбургского писателя Ари Гораля,
она превращается поистине в «неделю убожества»,
когда проповедники велеречиво рекламируют «то-
вар», который числится—увы!—только на бумаге.
Устраиваются, правда, торжественные представле-
ния, где главным ритуальным действом становятся
«дружеские объятия». Его жертвы должны выка-
зывать смирение, если не хотят прослыть неприми-
римыми радикалами. Но как только этот балаган за-
канчивается, тут же смывается грим «братства»,
разговоры о нем умолкают, и все возвращается на
круги своя, где на братство нет и намека. Слава
богу, не додумались еще проводить «неделю брат-
ства» с увечными, уголовниками нацистских времен,
гомосексуалистами, приезжими рабочими-иностран-
цами, турками или африканцами.
Я ничего не имею против выступлений наших
епископов, поэтов, профессоров, которые из года в
год на страстной неделе толкуют о необходимости
братства между христианами и иудеями, утверждая,
что без этого все будет куда безотраднее, и притом
чем дальше, тем хуже. Но я никак не могу отделать-
ся от мысли, что именно такое отношение к евреям
во время этих традиционных «праздников братства»
скорее ставит переживших ужасы фашизма евреев
в какое-то особое положение, нисколько не способст-
вуя их укоренению в нашем обществе. К тому же
сами эти «дни братства» довольно неприятным об-
разом оттеняют тот факт, что у нас в течение 51
недели из 52 в году именно этого «братства» по
отношению к евреям и иностранцам наблюдается
меньше всего. Это проявляется и в нашем языке, и в
96
наших формах общения с ними, и прежде всего
и больше всего—в нашем общем подходе к ним. В
любом случае вышеописанное «братство» остается
лишь дурацкой ширмой, от которой, как во второ-
разрядной парикмахерской, разит очень дешевым
одеколоном. Клиентов обильно покрывают мыльной
пеной, чтобы они не заметили, как их водят за нос.
Ведь в течение целой недели никто не обнаружит в
прессе, разве что за редчайшим исключением, сооб-
щений о вандализме на еврейских кладбищах, об
антисемитских надписях и рисунках на стенах си-
нагог и еврейских культурных центров или о взры-
вах бомб в домах и магазинах наших еврейских
сограждан.
Но где-то на средних полосах газет все-таки и
в эту неделю можно прочитать, например, сообще-
ние о том, что в 1980 году органы охраны порядка
снова зарегистрировали 670 антисемитских акций—
на целую сотню больше, чем за предыдущий год.
Свыше 85% акций не были раскрыты, и среди них—
убийство еврейского издателя Левина и его супруги
в Нюрнберге под самое рождество. Левин был из-
вестен как убежденный антифашист. Незадолго до
его убийства он обнаружил в Бамберге несколько
документов о судьбе израэлитской общины этого
города. На вопрос одного из слушателей аудитории,
перед которой он выступал, почему здесь, в Бамбер-
ге, так мало евреев, он ответил весьма лапидарно:
«Потому что они снова испытывают страх».
Антисемитизм в нашей стране проявляется от-
крыто в тех случаях, когда он оказывается в одной
упряжке с антикоммунизмом или норовит спрятать-
ся за его спиной. Издававшаяся в Кёльне газета
«Фрайе юдише штимме» («Свободный еврейский го-
лос»), в которой сотрудничали такие левые авторы,
как Хенрик Бродер, Фред Фибан и Ари Гораль,
прекратила в конце 1980 года свое существование,
так как не встретила поддержки ни у одного изда-
тельства и не смогла ни от кого получить финансо-
вую помощь. Коммунистка еврейского происхожде-
ния Сильвия Гингольд, чьи родители были изгнаны
Гитлером со своей родины и участвовали в боевых
действиях французского Сопротивления, сумела по-
лучить место учительницы в Гессене только после
того, как в ее защиту была развернута целая меж-
97
Нацистская мазня на стенах в районе Ленца (Гамбург-
Эймсбюттель).
дународная кампания. Долгие годы она подверга-
лась клеветническим нападкам со стороны властей
и праворадикальных группировок.
Как у нас в стране относятся к еврейским и анти-
фашистским культурным традициям, видно хотя бы
по продолжающимся уже несколько лет издеватель-
ствам над Демократическим союзом культуры
(«Культурбундом»). Эта организация была создана
находившимися в эмиграции в Лондоне немецкими
и еврейскими противниками гитлеровского режима.
После освобождения страны от фашизма она про-
должила свою деятельность во всех частях Герма-
нии, но в годы «холодной войны» ее работу стали
все больше и больше ограничивать, произвольно
вводя различные надуманные запреты. В 1959 го-
ду правительственный уполномоченный в Дюссель-
дорфе запретил деятельность отделения Демокра-
тического союза культуры в этом городе и в земле.
Через некоторое время западноберлинский феде-
ральный административный суд подтвердил это ре-
шение у себя, а в 1979 году, то есть почти через
20 лет, гессенский министр внутренних дел Грис вы-
тащил из архивов эти старые указы и, опираясь на
них, силами полиции разогнал съезд этой органи-
98
зации в Мёрфельдене. В числе 70 делегатов съезда,
которых полиция гоняла по всей земле Гессен, были
10 немецких и еврейских антифашистов, просидев-
ших при Гитлере многие годы в концентрационных
лагерях. Следствие, начатое тогда против меня как
секретаря ДСК, не закончено и по сей день.
Я намеренно опускаю факты скандальных оправ-
дательных приговоров, тактику проволочек и закры-
тия дел «за давностью», а также непонятную мяг-
кость судей по отношению к преступникам, обвиняв-
шимся в массовых убийствах,—таким, как Хаген,
Лишка или «консорты» *. Судебные процессы по де-
лам об убийстве евреев сами по себе составляют
целую главу, причем, вероятно, самую темную главу
в историческом развитии Западной Германии. Ни в
какой другой культурной стране мира не могла бы
быть допущена подобная мягкость по отношению к
палачам народов и военным преступникам, действо-
вавшим из низменных расистских побуждений. Нас-
колько слабо у нас в стране чтят память погибших
при нацизме евреев, хорошо иллюстрируют слова
одного радиокомментатора в передаче о новых кни-
гах на тему о преследовании молодежи в то время.
Эта передача транслировалась 5 декабря 1979 года
Северогерманским радиовещанием. Рассказав о ка-
кой-то книге, он как бы между прочим произнес:
«А теперь снова поговорим о погромах...» Дирекция
Северогерманского радиовещания даже не сочла
нужным ни поставить на вид своему сотруднику
за столь грубую оплошность, ни извиниться перед
радиослушателями.
В рекламном объявлении о выходящих в свет
книгах, опубликованном в журнале «Шпигель»
(№ 39 за 1980 год), издательство «Хайне-ташенбух»
умудрилось поместить рядом аннотацию на роман
Джеральда Грина «Огненная жертва» [о массовом
уничтожении евреев.—Прим. ред.] и на книгу-аль-
бом Генриха фон Гофмана о Гитлере с фотография-
ми «из жизни» палача народов. Я обратился и в
издательство, и в редакцию «Шпигеля» с письмами,
прося объяснить эту бестактность, но до сих пор, а
* «Консорты»—неофициальное название нацистской организа-
ции, которая действовала в еврейских гетто в Европе во время
второй мировой войны, организуя массовые убийства.—Прим.
перев.
99
прошло уже более полугода, ответа не получил.
Через 35 лет после падения нацистского рейха
гамбургский сенатор по вопросам культуры Тар-
новский все еще не удосужился отдать распоряже-
ние о восстановлении снятого фашистами в 1933 го-
ду памятника Генриху Гейне в Инненштадте, хотя
весьма активное здесь движение за гражданские
инициативы вместе с ДСК и Обществом Генриха
Гейне требуют этого уже многие годы., И опять-таки
из года в год этому постоянно находят какие-то
оправдания. А тут еще затеяли провести опрос об-
щественного мнения, с помощью которого хотят
установить, действительно ли население свободного
ганзейского города готово к тому, чтобы «принять»
этот вызывающий споры памятник. А если оно «не
готово», тогда, мол, посмотрим, как быть. В любом
случае выигрывается время. Ну а Гейне обождет.
В конце концов он ведь этому неплохо обучился
за все эти годы.
Даже на имена поэтов и писателей еврейского
происхождения, творивших на немецком языке, на-
ложено табу, которое не снято и поныне. Дюссель-
дорфскому университету до сих пор отказывают в
присвоении имени Генриха Гейне, а нижнесаксон-
ский министр по делам культов запрещает универ-
ситету в Ольденбурге называться Университетом
имени Карла фон Осецкого *. Городская магистра-
тура Майнца не желает присвоить звание почетного
гражданина родившейся там писательнице-еврейке
Анне Зегерс, хотя ее перу принадлежат книги, во-
шедшие в золотой фонд мировой литературы, книги,
разоблачающие расизм и фашизм, в том числе ро-
ман «Седьмой крест», действие которого происходит
в Майнце и его окрестностях. Члены кёльнской
группы Сопротивления, среди которых были моло-
дые евреи и немцы, боровшиеся своими средствами
против фашизма, еще и сегодня с юридической точ-
ки зрения рассматриваются как уголовные преступ-
ники. Их родственникам, даже тем, кому удалось
выжить в концентрационных лагерях, до сих пор
не оказывается никакой помощи, не выплачивается
* Карл фон Осецкий (1889—1938)—прогрессивный немецкий
публицист, выступавший против агрессивных планов герман-
ского империализма. Погиб в фашистском концлагере.—Прим.
перев.
100
никакой компенсации. И ответственны за это старые
убежденные нацисты, все еще находящиеся на госу-
дарственной службе. Один из них—правовед из
Кёльнского университета профессор, доктор Рихард
Ланге. Это он помогал нацистам изобретать такие
законы, по которым «смешение рас» квалифициро-
валось как преступление, заслуживающее смертной
казни. Другой такой нацист обучает сейчас гамбург-
ских студентов психологии и зовется Хофштеттером.
Он придерживается того «мнения», что, мол, нацис-
ты объявили евреям войну и потому-де все меры,
связанные с преследованиями, следует считать оп-
равданными.
Да, тысячи лет еще не прошло *. И сегодня за-
всегдатаи любой пивной смеются, слушая анекдоты
о евреях, развратниках и каннибалах. Смеются и
«шуткам» по поводу Освенцима **. А вот одну ев-
рейскую женщину по имени Марго Франк, некогда
пережившую ужасы Освенцима, нашли мертвой в
собственной квартире на Тондерштрассе, 44, в
Дульсберге—одном из районов Гамбурга. Это слу-
чилось 21 ноября 1980 года, а умерла она за три
года десять месяцев и семь дней до этого. И никто
из ее соседей не заметил этой смерти. Лишь когда
приехавший к ней гость из ГДР остановился перед
ее дверью и вызвал соседей и полицию, был обна-
ружен труп. Подобный опыт отнюдь не братского
отношения заставил другую еврейку—учительницу
Лею Фляйшман—сделать в 1979 году соответствую-
щие выводы и эмигрировать в Израиль. Чтобы оп-
равдать свое решение, она написала прощальную
книгу, злую и горькую, назвав ее «Это не моя стра-
на». В ней она с протокольной точностью воспроиз-
вела все свои столкновения с нашим повседневным
антисемитизмом и расизмом. Ее повествование—
яркое свидетельство того, как трудно становится
дышать человеку иной расы в стране фальшивых
«братьев и сестер», как от явной, ничем не при-
крытой враждебности пропадает всякое настроение,
исчезают надежды и сама радость жизни, как в
* Это очевидный намек на официальную «заповедь» гитлеров-
ского режима о том, что «третий рейх» должен был просущест-
вовать тысячу лет.—Прим. перев.
** Освенцим—один из наиболее известных фашистских лагерей
смерти.—Прим. перев.
101
родильном доме крики рожениц подавляются гру-
быми окриками старшей медсестры. И даже ново-
рожденные там не смеют громко кричать: они уже
испытывают страх.
Цыгане: от газовых камер
Освенцима до нынешних гонений
Еще больше, чем евреям, достается от сегодняш-
них расистов в ФРГ цыганам. Пока никто не думает
о том, чтобы как-то компенсировать преступления,
совершенные над ними немецкими нацистами. Для
них не устраивают не только недель или дней, но
даже часов «братского примирения». Их жертв не
чтят хотя бы минутой памяти. Своего «лобби» у них
тоже нет ни в Бонне, ни в Иерусалиме, ни в Ва-
шингтоне.
Для обожающих порядок немцев жизнь цыган
всегда была «нестерпимо гнусной». Еще в 1871 году,
то есть в год образования кайзеровской империи,
«не имеющие законного отечества цыгане были ли-
шены права на занятия ремеслами и вида на жи-
тельство по всей территории рейха». В 1926 году
германские ландтаги приняли законодательство про-
тив «цыганской чумы», по которому «кочевание и
поселение в таборах» были запрещены и впервые
возникла угроза того, что «избегающие работы эле-
менты будут согнаны в трудовые лагеря». В 1929 го-
ду в Мюнхене учредили Центральное бюро по борь-
бе с цыганами в германском рейхе. Это было вели-
колепное приданое Веймарской республике для
вступления в брак с фашизмом. Когда в 1936 году
Генриха Гиммлера сделали шефом немецкой тай-
ной полиции, «окончательное решение» цыганского
вопроса уже шло полным ходом. Одного за другим
переловили всех цыган и под стражей насильствен-
но переселили в «Польское генерал-губернаторство»,
а многих упрятали в концентрационные лагеря, где
в конце концов и умертвили в газовых камерах.
Нацисты уничтожили по меньшей мере полмил-
лиона цыган, хотя точных цифр назвать невозмож-
но, так как шефам фабрик смерти было дано ука-
зание не вести никакого учета количества выведен-
ных в расход цыган.
102
После войны о цыганах, задушенных в газовых
камерах, надолго забыли. Только в 1956 году Феде-
ральным судом ФРГ были наконец определены
«нормы компенсации и примирения». Однако ника-
кого возмещения убытков цыганам не последовало.
Более того, были приняты меры по «борьбе с пре-
ступностью», которые касались прежде всего цыган.
Для них этот указ был равнозначен началу новой
кампании преследований. К тому же старые поли-
цейские законы кайзеровских времен тоже остава-
лись еще в силе. Подавляющее большинство цы-
ган в нашей стране и до сегодняшнего дня не имеют
гражданства, считаются людьми без родины и под-
данства, а потому оказываются в еще более бесправ-
ном положении, чем политические беженцы-иммиг-
ранты. Их можно без всяких церемоний выпроважи-
вать за границу.
В том, что для оставшихся в живых цыган после-
военный период стал только продолжением довоен-
ного, не последнюю роль сыграли унаследованные
от прошлого расистские предрассудки. В глазах
большей части граждан Федеративной республики
цыгане остаются ворами и обманщиками. Они жи-
вут по законам свободной любви, заводят много де-
тей и порой не умеют ни читать, ни писать. Они
разъезжают по всей стране в пестрых фургонах и,
как считается, занимаются мелкой торговлей враз-
нос или существуют на семейные пособия. У нас
часто можно услышать такое: «Мать, сними-ка
белье с веревки: цыгане идут!» Проведенный теле-
журналисткой Люк Йохимсен опрос общественного
мнения выявил весьма постыдную для нас карти-
ну. На вопрос о том, готовы ли они принять в свою
семью цыгана, 200 наших федеральных граждан
из 200 опрошенных ответили: нет! В то же время
около 65% опрошенных соглашались принять в
качестве зятя приезжего рабочего-иностранца.
Нет сомнений, что в табели наших международ-
ных симпатий цыгане занимают самое последнее
место.
Такое общее отношение к цыганам в нашей стра-
не куда эффективнее, чем любой закон, изолирует
их от остального общества. Так, в гессенском городе
Герсфельде около 200 цыган ютятся в нечеловече-
ских условиях в районе городской свалки в полу-
103
разрушенных домах с «дешевыми квартирами», без
отопления, без плиты для варки еды, без душа или
туалета. Тут есть только водопроводный кран с ра-
ковиной. И великое множество крыс. «Семья осев-
шего цыгана Вагнера, состоящая из 9 человек, про-
живает в квартире площадью менее 40 квадратных
метров. Углы комнат так отсырели, что сплошь по-
крыты темными пятнами слизи, обои отстали от
стен и кое-где висят клочьями, за каждым предме-
том мебели растут грибы и плесень». Так описывает
местная газета условия жизни цыган.
Бургомистр говорит, что «в 1945 году мы были
вынуждены взять к себе группу цыган как людей,
которые преследовались нацистским режимом».
И с тех пор они живут вот уже почти четыре десят-
ка лет в этом бедственном положении. Каждая, да-
же робкая попытка как-то улучшить его, например
предоставить им достойное человека жилье, натал-
кивается на сопротивление коренных жителей Гер-
сфельда. Когда в 1980 году планировалось пересе-
лить их в соседний, торгово-промышленный район
города, местные деловые круги тотчас мобилизовали
жителей выступить с «гражданской инициативой»
и заблокировать решение о переселении цыган.
Тогда же повсюду на дверях магазинов и пивных
появились таблички с надписью: «Кочевники
здесь нежелательны».
Городские власти и жители Герсфельда отка-
зываются провести хотя бы канализацию и поста-
вить туалеты в цыганских халупах у свалки.
Обосновывается это тем, что, мол, все это тотчас
будет «размонтировано и продано». Одной цыган-
ской семье в 1979 году предложили 36 тыс. марок
в виде «социальной помощи» только за то, чтобы
она навсегда покинула город. Пока что лишь один
цыганский «ребенок со свалки» сумел доучиться
до пятого класса средней школы. Все остальные
либо посещают только начальную школу, либо
вообще не знают, что такое учеба.
В том, что жажда к знаниям у цыганских де-
тей оставляет желать лучшего, вероятно, виноваты
и наши школьные программы и учебники, в кото-
рых и сейчас можно встретить такие предложения,
как «цыгане варят мертворожденных детей», «цы-
гане едят падаль», «цыгане воруют и ведут ди-
104
кий образ жизни». Подобные высказывания взяты
из утвержденной в 1980 году книги для чтения
«Черное и белое», предназначенной для 12—13-лет-
них школьников Баден-Вюртемберга.
В той же земле из 29 учащихся (мальчиков
и девочек) одной реальной школы, которым было
дано задание написать сочинение на тему о цыга-
нах, 11 человек утверждали, что все эти «кочевни-
ки» без исключения являются преступниками и за-
служивают быть посаженными за решетку. Во мно-
гих задних дворах западногерманских жилых
домов можно увидеть висящие у мусорных ящиков
таблички с надписью: «Содержите помойку в чис-
тоте, сваливайте отбросы и золу только в ящик,
а не рядом с ним. Вы же не хотите жить, как
цыгане!» Когда цыган Антон Франц из Маннгейма
увидел у себя на доме такое убедительное свиде-
тельство немецкой «любви к порядку», он решил
«защищаться» и, сорвав вывеску, бросил ее в ящик
с отходами. Видевший это хозяин дома тут же
обругал его, назвав «антиобщественным типом»,
и пригрозил обратиться в полицию.
В гессенском городе Фридберге летом 1980 года
на занятиях народного университета по теме «Наши
национальные меньшинства» внезапно появились
трое «никем не приглашенных» полицейских, ко-
торые представились слушателям как «специалисты
по цыганскому вопросу». Показывая слушателям
фотографии голых цыганок, они пытались доказать,
что цыгане «неполноценны в моральном отно-
шении». Они продемонстрировали в качестве «ти-
пичных цыганских орудий взлома» отвертку моде-
ли «ударное кольцо», а один из них продиктовал
всем свои «выводы». «Разумеется,—внушал он,—
не все цыгане воруют. Однако в процентном отно-
шении наложенные на них уголовные наказания
за преступления против собственности во много раз
превышают наказания, полученные другими груп-
пами населения. Есть цыганские семьи и роды,
которые целиком живут за счет воровства. У каж-
дого рода для этого существуют свои приемы.
Цыгане из Польши используют для краж просьбу
вынести им кружку воды. Цыгане из Югославии
просто силой врываются в жилища...»
Несколько по-иному думает о «своих» цыганах
105
святая церковь. Референт по социальным вопросам
Католического общества призрения цыган и других
кочующих народностей Сильвия Зобек придержи-
вается той точки зрения, что ее подопечные «просто
не способны мыслить логически и рационально,
не способны делать разумные выводы», что они
«действительно думают, как дети». Она утверждает:
«Цыгане воспринимают свое существование по-
детски беззаботно. Они, как правило, жизнерадост-
ны, примитивны и свободны в своих устремлениях».
Так пусть же цыганская жизнь и дальше остается
беззаботной и веселой! И посему католическая
церковь не одобряет движения за гражданские
права цыган и клеймит «Союз цыган» как «лево-
радикальный» и находящийся «под влиянием тер-
рористов». Более того, она не видит ничего пре-
досудительного для себя в сотрудничестве с врачом
из Ландау доктором Германом Арнольдом, который
и по сей день слывет у нас в стране «специалистом
по цыганскому вопросу».
После разгрома нацистского режима этот Ар-
нольд взял в личное пользование все генеалогиче-
ские материалы берлинского «института расовой
гигиены» и на их основе в течение десятков лет
снабжал соответствующие ведомства Федеративной
республики «научными данными о примитивном
жизненном укладе и безудержной плодовитости»
цыган всех этнических групп. И только в январе
1980 года после бесчисленных протестов—прежде
всего со стороны «Общества в защиту народов,
подвергающихся угрозе»—его документы были
сданы в Федеральный архив в Кобленце. Однако
пользующееся дурной славой Центральное бюро
по учету кочующих, которое осуществляет поли-
цейский контроль за цыганами в Баварии и кото-
рое постоянно получало советы от Арнольда, про-
должает функционировать и поныне. Франц-Йозеф
Штраус и его министр внутренних дел Тандлер,
а также сама святая церковь не раз становились
на защиту этого «бюро».
Однако даже в либеральном Гамбурге цыганам
приходится не сладко. Когда в 1962 году наводне-
ние опустошило значительную часть ганзейского
города, пострадавшие получили большую компен-
сацию. Исключение составили только цыгане,
106
Члены цыганского рода Салкановичей в контрольном лагере
на Берцелиусштрассе в Гамбурге.
пострадавшие сильнее всех. Их поселок-табор в
Вильгельмсбурге был полностью унесен водой.
Даже много лет спустя, в 1980 году, цыганский
род Салкановичей, насчитывающий 68 человек,
продолжал ютиться в тени огромной бензоцистерны
на островке Финкенвердер на Эльбе. Как свиде-
тельствовал один священнослужитель, они живут
там в условиях «худших, чем жители трущоб
в Бангладеш». Во время дождя земля размокает
так, что нога уходит в нее по колено, а разруше-
ния, причиненные канализации и туалетам при на-
воднении 1962 года, до сих пор не устранены.
Когда правящий сенат Гамбурга наконец подгото-
вил планы реализации проекта стандартных жилищ
для размещения цыган в более или менее прилич-
ных условиях, ХДС выступил с массовым протес-
том против «неоправданного предпочтения», кото-
рым удостаивают подобное национальное мень-
шинство, что способствует возникновению «новых
предрассудков». Одновременно с этим гамбургская
полиция предупредила население о том, что «на
улицах города стали появляться толпы цыганок,
107
которые осаждают прохожих, выпрашивая пода-
яние, а затем грабят их, прибегая к разным хит-
ростям, в том числе и морально предосудительным».
В Гельзенкирхене в начале 1980 года, по данным
городских властей, «совместное проживание цыган
и бездомных бродяг создало исключительные труд-
ности для населения», поэтому власти открыто
призывали к «сокращению их численности в наибо-
лее горячих точках». Жилищно-строительному
обществу гельзенкирхенской общины было дано
указание впредь не сдавать ни одной квартиры цы-
ганским семьям. Органы социального обеспечения
города также получили приказ «выдавать цыганам
деньги в счет вспомоществования не как раньше—
помесячно, а только поденно». Управлению город-
ского уличного движения было поручено «не до-
пускать стоянки жилых фургонов цыган в районах
движения общественного транспорта». Полиция
была уполномочена также «вести наблюдение
за цыганами с помощью гражданских патрулей».
В параграфе 5 этого распоряжения указывалось,
что «в целях более тщательной проверки личности
цыган, являющихся в городское бюро прописки,
в его состав включаются специалисты из крими-
нальной полиции... Все цыгане, которые становятся
на учет в управлении социального обеспечения,
но личность которых вызывает сомнения, препро-
вождаются в управление криминальной полиции,
где подвергаются более тщательной проверке при
участии знакомых с их средой господ Тифенбаха,
главного комиссара криминальной полиции, и Пе-
терсхефера, гауптмайстера криминальной полиции».
Если смысл этого распоряжения продумать до ло-
гического конца, то можно прийти к выводу, что
на вокзалах этого города уже стоят специальные
вагоны, готовые принять и вывезти этот «челове-
ческий скот» в места не столь отдаленные.
Турок просят не плевать!
Они метут наши улицы, они убирают отходы
нашего благосостояния, они достают для нас уголь
из глубоких шахт, они стоят у доменных печей,
они смешивают для нас вреднейшие химикаты. Без
108
них мы уже не можем существовать. И тем не
менее из всех приезжих рабочих-иностранцев, ко-
торых мы видим у себя вот уже 20 лет, турки
остаются прослойкой, которая подвергается наи-
большей дискриминации. Они всегда получают
«свою долю» от всех предрассудков, которые прояв-
ляются у нас по отношению к представителям лю-
бых наций и рас. Их обвиняют в том, что они
«живут, как цыгане», что они, как и большинство
южан, «все время гоняются за женщинами», что
они «такие же лихоимцы, как и евреи», что они
«таращат глаза, как монголы», и «воняют, как нег-
ры». Короче говоря, турки—это иностранцы низше-
го сорта.
В гамбургских банях и бассейнах посетителям-
туркам всегда суют в руки «памятку», в которой
администрация откровенно перечисляет их «дурные
наклонности». Памятка гласит: «Нежелательно
приставание к женщинам, девушкам и детям... По-
жалуйста, не плюйте на пол и не сморкайтесь в
воду». Обосновывая необходимость такой «памят-
ки», представитель гамбургского управления водо-
снабжением и канализацией сказал, например, что
«наблюдением установлено», будто бы «многие тур-
ки не садятся в общественных уборных на унитазы,
а отправляют естественные надобности стоя». Кроме
того, они якобы «употребляют вместо туалетной бу-
маги собственные руки». Из этих «наблюдений» го-
родских властей можно сделать только один вы-
вод, а именно что гамбургская полиция следит за
поведением людей даже в общественных уборных.
Во многих магазинах можно вдруг увидеть таб-
личку с «заповедью» на турецком языке «Не во-
ровать!», как будто здесь имеют дело исключитель-
но с жульем. В пивных висят объявления: «Турок
не обслуживаем!» На стенах домов в тех районах
крупных городов, где живут преимущественно ту-
рецкие рабочие с семьями, часто можно прочитать
такую «предупреждающую» надпись: «Внимание!
Турецкая оккупационная зона!»
Турки приезжают к нам не из Европы, а из бли-
жайшего к ней форпоста «третьего мира». Они при-
надлежат к другой культуре, у них иная религия.
Они не так легко поддаются интеграции и ассими-
ляции, как, скажем, итальянские или испанские
109
иммигранты. Они по-своему одеваются и, даже
прожив у нас пять лет, все еще выглядят как
чужеземцы. У них разные с нашими обычаи и
привычки. Однако, по правде говоря, их нравы не
так уж отличаются от наших. Ведь никто не ста-
нет отрицать, что у нас сменилось всего лишь одно
поколение с тех пор, как в немецкой деревне пе-
рестали существовать такие же гнусные формы
эксплуатации женщин, религиозный фанатизм и
грубая жестокость в обращении с детьми, а кое-
где они сохранились и поныне. И тот, кто име-
нем прогресса обвиняет турок в «моральной отста-
лости», должен был бы прежде всего посмотреть
на себя.
Более внимательный взгляд на наши собствен-
ные приватные формы общения вряд ли оправды-
вает наше пренебрежительное отношение к народам
с иным укладом жизни. Кроме того, нельзя за-
бывать, что многие проживающие у нас турецкие
семьи происходят из сельских районов крестьянской
Анатолии, и для них переселение в крупные центры
и индустриальные города Центральной Европы по-
рой означает прыжок из Средневековья в XX век.
Это, как правило, вызывает у них огромные эмо-
циональные перегрузки, и кто может поставить им
в вину то, что в состоянии такого исключитель-
ного перенапряжения они всеми силами пытают-
ся подольше сохранить из своих семейных отноше-
ний то традиционное, что помогало им у себя на
родине преодолевать житейские трудности и не-
взгоды.
Даже по чисто внешним признакам полтора мил-
лиона турок в нашей стране (550 тысяч из них
составляют рабочие, а остальные являются члена-
ми их семей)—это сама по себе довольно замет-
ная группа населения. К тому же она образует
собой ядро пролетариата. К расовой ненависти по-
этому здесь присоединяется еще и все более очевид-
ная классовая рознь.
В большинстве крупных городов бывшие проле-
тарские районы и кварталы заселяются сейчас тур-
ками. Они попадают в самые низкооплачиваемые
группы трудящихся. Они находятся на самой по-
следней ступеньке нашей социальной лестницы. Все
остальные оказываются в несколько лучшем поло-
110
жении и потому позволяют себе глядеть на этих
«каналий» свысока.
Подобно афроамериканцам и чиканос (так на-
зывают эмигрирующих в США в поисках работы
мексиканцев) в Америке, семьи наших турецких
рабочих все больше и больше сгоняются в настоя-
щие гетто. Социологи говорят в таких случаях, что
та или иная часть города «выбрасывается». По-не-
мецки это звучит примерно так: людей в этой части
города «выбрасывают на мусорную свалку». Они
существуют здесь фактически в ущербном состоя-
нии, ютятся в ветхих постройках, в бараках, в по-
луразрушенных домах, в развалинах, в нищенских
халупах. В западноберлинском районе Кройцберг
в полусгнивших доходных домах-казармах прожи-
вает сейчас свыше 30 тысяч турок.
Множество безнадзорных пустующих домов,
частые поджоги, ежедневные полицейские облавы
способствуют такому развитию событий, которое
вполне может закончиться восстанием в гетто, как
это произошло в Чикаго. В Кройцберге в 1980 го-
ду не училось более 600 турецких детей школь-
ного возраста из-за нехватки учителей и классных
помещений. Лишь двое из десяти турецких детей
заканчивают среднюю школу. Только каждый де-
сятый турецкий юноша и каждая тридцатая девуш-
ка могут рассчитывать на место в гимназии. В та-
ких условиях для правоэкстремистских и религиоз-
но-фанатических «ловцов душ» создается почти
идеальная питательная среда: фашистские «серые
волки» * легко могут вербовать здесь своих при-
верженцев, нанимать платных убийц, которые убе-
рут с дороги любых политических активистов, как
они убили учителя-демократа Челлятима Кесима.
Все это отнюдь не следствие «трудно дисциплини-
руемого национального характера» турок, а резуль-
тат «местных условий», позволяющих в течение
десятков лет ущемлять этот народ в правах, обра-
зовании, политике, трудоустройстве и жилье.
В каких жутких и опасных условиях живут у
* Запрещенные в Турции правоэкстремистские отряды про-
фашистского толка, занимающиеся организацией саботажа, под-
жогов и взрывов. Их деятельность распространяется сейчас
на страны с большим количеством турецких эмигрантов.—
Прим. перев.
111
нас турки, показывают следующие цифры. Так, на-
пример, из 600 человек, ежегодно погибающих в
Федеративной республике от пожаров, по данным
Немецкой пожарной службы, в 1979 году более по-
ловины оказались рабочими-иностранцами, причем
250 из сгоревших заживо были турками. И то, что
владельцы домов и земельных участков объясняют
эти жертвы «неосторожным обращением» турок
с горючими веществами (то и дело слышишь, на-
пример, что иностранные рабочие разводят огонь
прямо на полу мест общего пользования), только
подтверждает вывод о том, насколько глубоко уко-
ренились у нас расистские представления.
Ведь при найме квартир турками немецкие до-
мовладельцы и общинные жилищные конторы, как
правило, прибегают к самому подлому вымога-
тельству и обману. В городах с наибольшим про-
центом иностранного населения—скажем, в Штут-
гарте с его 17,4% иммигрантов, в Оффенбахе
(19,1%), во Франкфурте-на-Майне (20,7%), в Рюс-
сельхайме (21,5%)—турки вынуждены довольство-
ваться менее чем половиной той жилой площади,
какую занимают их немецкие соседи, но за каждый
квадратный метр они платят на 22% больше. В За-
падном Берлине, который с его 106 тысячами жите-
лей турецкого происхождения может по праву счи-
таться одним из крупнейших турецких городов, бо-
лее чем в 30% занимаемых турками квартир нет
внутренних туалетов, 56% квартир лишены ванн
или душа, а 75%—центрального отопления. В гам-
бургском районе Оттензен положение еще хуже:
88% квартир, заселенных турками, не имеют ни
ванны, ни душа, 82%—центрального отопления.
Однако рабочие-иностранцы платят здесь за каж-
дый квадратный метр жилья вдвое больше, чем
граждане Федеративной республики.
В ставшем объектом скандала доме № 36 по
Клаусштрассе в Оттензене (он был построен еще в
1897 году как казарма для рабочих и во время
второй мировой войны был сильно поврежден во
время бомбежки) в сентябре 1980 года прожива-
ли вплоть до их принудительного выселения шесть
турецких семей, насчитывавших в общей сложности
18 человек. Они платили за свое жилье в целом
1165 марок ежемесячно. Площадь каждой квартиры
112
не превышала 40 квадратных метров, и все они
находились в таком состоянии, что назвать их при-
годными для жизни людей было бы большим пре-
увеличением. Полы в комнатах настолько прогни-
ли, что в некоторых местах ходить по ним можно
было только с риском для жизни. Тот, кто выходил
в туалет, расположенный на лестничной площадке,
мог очень просто провалиться вместе с сиденьем
вниз и попасть этажом ниже в выгребную яму:
«туалет» представлял собой хлипкое сооружение
из тонких, кое-как сбитых досок. Все водопровод-
ные и канализационные трубы в этом доме проте-
кали, а электрические провода, во многих местах
лишенные изоляции, свободно свисали с потолка
и тянулись через все помещения, словно бельевые
веревки. Оконные рамы были перекошены, а во мно-
гих уже не было и стекол. По всему дому гулял
ветер. На лестничной площадке первого этажа стоя-
ли глубокие лужи тухлой воды и повсюду сновали
крысы.
Этот «скандальный дом» далеко не единичный
пример того, в каких условиях живут у нас иност-
ранные рабочие. В Гамбурге, по некоторым данным,
так живут около 8 тысяч турок. Большинство домов,
где ютятся приезжие рабочие, уже скуплены спеку-
лянтами, занимающимися «оздоровлением» городов.
Поэтому чем скорее эти дома полностью разрушатся
сами или чем основательнее их доломают временные
постояльцы, тем лучше, ибо это позволит «оздорови-
телям» быстрее получить от властей разрешение на
снос и начать на этом месте строительство новых до-
мов с роскошными апартаментами.
По широко распространенному мнению, во всем
этом виноваты прежде всего сами иностранцы. Они
якобы не ценят «высокую культуру немецкого обще-
жития» и потому-де предпочитают селиться в кры-
синых норах. Подобный взгляд, однако, перевора-
чивает все с ног на голову. Прежде всего наши
граждане не желают признать того факта, что турки
в своем большинстве не имеют иного выбора, как
жить в нищете. Весной 1980 года более 80% прожи-
вающих в Гамбурге турок в ответах на проведенный
правящим сенатом опрос заявили, что с удовольст-
вием переехали бы хоть сейчас в какую-то более
приличную квартиру. Но, как показывает случай
из
с госпожой Зекийе Эмир, это оказывается невозмож-
ным. Она десять лет прожила в доме № 36 по
Клаусштрассе, пока власти в конце концов не выб-
росили ее на улицу. Тогда она подала заявление
в жилищную контору с просьбой предоставить ей
квартиру с санузлом. И вот что ей там ответила
женщина-делопроизводитель: «Уж очень много вы
о себе воображаете! Вы еще потребуйте виллу с
ванной и бассейном для плаванья! Это будет ку-
да шикарней! Такое даже не у всякого немца есть!»
Заявление госпожи Эмир удовлетворено не было, и
ей снова пришлось поселиться в дешевой квартире в
Альтоне *, то есть там, где и «полагается» жить
туркам. Правда, в особых случаях у жилищных
органов есть возможность выдавать так называемые
«экстренные» ордера на квартиры, но их никогда
не получают те, кто «сам выбрал для себя плохие
жилищные условия». И это в первую очередь тур-
ки: они, мол, приехали в нашу страну по своей
воле. И если бы они не заводили столько детей,
квартира не стала бы для них слишком маленькой.
* Район Гамбурга.—Прим. перев.
114
Сценка на Каролиненштрассе (Сан-Паули, Гамбург).
Ну а уж если на то пошло, они должны находить
себе помещение самостоятельно, не обращаясь к
властям.
В Федеративной республике сейчас не хватает
около миллиона квартир. Из общего количества
зарегистрированных лиц, ищущих жилье, около
20% составляют иностранцы. Большая часть этих
людей—турки. Отсюда понятно, против кого нап-
равлен отказ от программы так называемого «обще-
ственного строительства» жилых домов, решение
о котором было принято федеральным правитель-
ством в 1979 году. Это еще один удар по турецким
рабочим-иммигрантам. Им придется и дальше жить
в тесноте трущоб и гетто. Никто добровольно не
селится в этих оторванных от мира приютах ни-
щеты. Гетто— вовсе не районы пестрых ярмарочных
гуляний и не островки экзотического разноплемен-
ного быта. Это, в сущности, не запертые тюрьмы,
созданные окружением, враждебным к иностран-
цам. Это окаменевшие расовые и классовые барьеры
нашего общества.
Те, кому довелось хоть однажды ехать транзит-
ным автобусом из аэропорта Шёнефельд (ГДР) в
Западный Берлин, могли заметить уже по поведе-
нию таможенников и полицейских на пограничном
пункте проверки, что на «свободном» Западе, оче-
видно, есть два сорта людей. Документы у граждан
ФРГ и западных берлинцев проверяют подчеркнуто
небрежно, но исключительно вежливо. В противопо-
ложность этому каждого турка буквально просве-
чивают со всех сторон, обыскивают и грубо вытал-
кивают. Их сумки, чемоданы и картонки пронюхи-
вают сверху донизу, их документы исследуют
страничка за страничкой и даже копируют, но с
особой придирчивостью проверяют детей, словно
тут ведется следствие по делу о похищении младен-
цев. «Зачем это?»—спросил я в декабре 1980 года
у одного из пограничных чиновников. «А как же
иначе? Ведь они же хотят получить у нас пособие
на своих детей!»
Когда летом 1980 года в Бонне 15-летний сын
западногерманского гражданина забил до смерти
двух турецких мальчишек в возрасте шести и девяти
лет, наша пресса выдвинула такое «оправдание»:
115
«Андреас не мог терпеть турецких детей». А о том,
откуда взялась у Андреаса подобная ненависть, ка-
ковы были истинные ее причины, наши бульварные
листки не сказали ни слова. Суды же, рассматривав-
шие это дело, уклонились от тщательного разбира-
тельства, ограничившись тем, что препроводили
убийцу, как не подлежащего по возрасту уголов-
ному наказанию, в специальное заведение для труд-
новоспитуемых детей.
Если в XVIII—XIX веках турки-османы счита-
лись у нас носителями высокой культуры, то сегод-
ня в ФРГ господствует полное пренебрежение к
культуре и литературе восточных народов. Ни в од-
ном из западногерманских университетов нет кафед-
ры по истории или культуре современной Турции, не
говоря уже о том, что нигде не ведется исследований
по вопросам культуры турецкого меньшинства в на-
шей стране. Когда в ноябре 1980 года правящий
сенат Гамбурга предложил ввести в виде экспери-
мента преподавание турецкого языка в качестве пер-
вого иностранного в некоторых школах, имеющих
большой процент учащихся-турок, ХДС и шпринге-
ровская пресса ганзейской столицы подняли страш-
ный шум, заявляя, что социал-демократы хотят «на-
сильственно» превратить немецких детей в турок.
И они добились того, что этот план был сорван.
Ссылаясь в свое оправдание на то, что «они (то
есть турки) все равно не умеют читать», наши ме-
стные владельцы газетных киосков отказываются
брать на продажу турецкие газеты. Указываются и
другие «причины», например: «Они же и до трех-то
считать не умеют. От них у меня никакой выручки
не будет!» Или еще: «Они мне всех приличных по-
купателей разгонят!» Ни в одном западногерман-
ском книжном магазине я еще ни разу не встретил
ни одной турецкой книги. Я не знаю ни одной пу-
бличной библиотеки, в которой, помимо нескольких
детских книжек, была бы турецкая литература для
взрослых и для выдачи на дом. Мне не попалось ни
одной федеральной хрестоматии, в которой было бы
напечатано хоть одно стихотворение Назыма Хикме-
та, турецкого поэта-лирика с мировым именем, или
по крайней мере Араса Брена, рабочего-иммигранта,
живущего в Западном Берлине и пишущего стихи
на немецком и турецком языках. Только в библиоте-
116
Сценка на Шанценштрассе в гамбургском районе Эймсбюттель.
ке Франкфуртского университета есть одна подборка
литературы по Турции, но кто из турецких эмигран-
тов найдет туда дорогу!
Когда в ноябре 1980 года западноберлинский
Литературный коллоквиум организовал встречу не-
мецких и турецких писателей, литераторы ФРГ не
приняли в ней участия «из-за отсутствия интереса».
Поэтому на приеме в правящем сенате Западного
Берлина сложилась столь удручающая обстановка,
что выступавший от имени гостей Азиз Незин свел
свои впечатления к одной-единственной просьбе:
«Господа, пожалуйста, не переводите наши книги.
Мне это было бы неприятно...» При въезде в ФРГ,
как потом рассказывал один полицейский чиновник,
турецких писателей ошибочно приняли за имми-
грантов-рабочих и устроили им проверку «вплоть до
подштанников», отобрав при этом и книги, показав-
шиеся пограничникам подозрительными: какой ту-
рецкий рабочий читает книги!
В Золингене в декабре 1980 года 10 турок вместе
с несколькими немецкими коллегами захотели ус-
троить небольшой рождественский праздник и реши-
ли найти для этого подходящее место. Они попыта-
ли счастья в десяти различных ресторанах города—
117
в гостинице «У Мери», в «Западном салоне», в отеле
«У красного быка» и других заведениях, которые
гордятся своим «интернациональным стилем». Но
все было напрасно: ни один из ресторанов не согла-
сился их принять. Пришлось обращаться в местную
организацию Германской коммунистической партии.
Азиаты—« накипь человечества »
Евреи, цыгане и турки—все они выходцы из
Азии. Поэтому-то нацистские расисты-теоретики и
определяли Средний Восток как один из главных
источников «накипи человечества».
В царской России народы, живущие к востоку от
Урала, подвергались гонениям как наиболее «отста-
лые» и «варварские». И если бы Октябрьская рево-
люция не положила этому конец, то, вероятно, наро-
дам Средней Азии и Сибири была бы уготована та
же судьба, что и индейцам Северной и Южной Аме-
рики.
После 1917 года международный антикомму-
низм воспринял и распространил предрассудки в от-
ношении народов Азии на все национальности Со-
ветского Союза независимо от того, являются ли
они светловолосыми, как большинство русских, или
темнолицыми, как большинство тюркских народно-
стей. С самого зарождения антисоветизм носит еще и
совершенно явный расистский характер. Преслову-
тый лейтмотив о «монгольской роже» начиная с
20-х годов служит главной темой антисоветской про-
паганды и даже в послевоенный период неоднократ-
но использовался в Федеративной республике как
НДП, так и ХДС.
Привязанность к антикоммунизму заставляет ра-
систов то и дело самым удивительным образом «пе-
рекрашиваться», менять свою точку зрения. Так,
изменение политического курса китайского руковод-
ства привело к тому, что «желтая опасность»,
угрожавшая миру «полчищами синих муравьев», в
глазах наших расистов вдруг превратилась в воз-
можного союзника в борьбе с врагом номер один—
«советским империализмом». В то же время это не
помешало другим расистам обвинять владельцев и
работников китайских ресторанов в том, что они
118
будто бы готовят китайские национальные блюда из
собачьего и кошачьего мяса.
Во время войны во Вьетнаме многие у нас, в том
числе и тогдашний федеральный канцлер Эрхард, с
готовностью усваивали «сделанные в США» пред-
рассудки относительно «коварных» и «нахальных»
вьетнамцев. А 10 лет спустя беженцы из Вьетнама
буквально утопали в нашем сострадании и сочувст-
вии, поскольку в них хотели видеть стойких анти-
коммунистов. Но эта внезапная «перестройка в соз-
нании» все же не удержала правых радикалов от то-
го, чтобы не терроризировать прибывающих в нашу
страну вьетнамских беженцев взрывами бомб. В ре-
зультате этих фашистских налетов многие из них
оказались ранеными, а двое в Гамбурге убиты. Аф-
ганцы, ведущие сейчас борьбу с законным правитель-
ством, которые до Апрельской революции 1978 года
были у нас в лучшем случае на подозрении как
«опиумные контрабандисты», после нее, и особенно
после того, как в 1979 году Афганистану стал ока-
зывать помощь Советский Союз, превратились в
«борцов за свободу», в чьих жилах наши умники пы-
таются даже отыскать капли «индогерманской крови».
Из общего предания анафеме, которое касалось
всех азиатских народов, уже давно исключены толь-
ко японцы. Это случилось, с одной стороны, потому,
что они благодаря своему крупному индустриально-
му скачку перестали относиться к «третьему миру»,
а с другой—потому, что в роли нацистских союзни-
ков во второй мировой войне они высоко котирова-
лись как «пруссаки Востока». И все же, несмотря
на продолжительную дружбу и сотрудничество
между ФРГ и Японией в экономической и политиче-
ской сферах, нельзя не заметить в повседневном под-
ходе к ним западных немцев определенной неприяз-
ни. Так, во многих оркестрах ФРГ работают япон-
ские музыканты, но, как и женщинам, им нигде не
дозволено, например, играть первую скрипку. Им
также приходится довольствоваться более скромным
жалованьем и довольно непродолжительными кон-
трактами. При сокращении штатов или при эконо-
мии средств на кадры они оказываются в числе пер-
вых, кто теряет свое место. Тем не менее у прожива-
ющих в Федеративной республике 20 тыс. японцев
есть собственный культурный центр в Дюссельдор-
119
фе. Он хорошо оборудован и обставлен. Его финан-
сируют концерн «Марибени» и правительство земли
Северный Рейн-Вестфалия. Это такая привилегия, на
которую вряд ли вообще когда-либо смогут рассчи-
тывать проживающие у нас полтора миллиона ту-
рок.
И уж совсем несравнимо привилегированное
положение японцев с положением, в котором нахо-
дятся 15 тыс. работающих в Федеративной респуб-
лике южных корейцев. Они живут у нас, по сути де-
ла, как «кули». Это постыдное словечко залетело во
все европейские языки еще в XIX веке из китайско-
го, чтобы повсюду стать синонимом некоего раба, ис-
полняющего самую тяжелую и грязную работу, как
это делали когда-то нещадно эксплуатируемые ра-
бы в Срединной империи.
Эти корейцы-кули трудятся у нас под землей в
шахтах. Их много в больших коммунальных боль-
ницах, где они работают санитарами. Почти 90% из
них проживают в особых приютах, в полнейшей изо-
ляции от немецких соседей и коллег. По соглашению
между правительствами ФРГ и Корейской респуб-
лики [имеется в виду Южная Корея.—Ред.] их кон-
тракты на работу, равно как и на жилье и пребыва-
ние в нашей стране, ограничены тремя годами, и это
непременно указывается в трудовом договоре. В слу-
чае затянувшейся болезни корейцев сразу же высы-
лают в свою страну, заменяя новой рабочей силой. А
процент заболеваемости среди корейских шахтеров
составляет около 6—в первый год работы, до 16—во
второй и до 25—в третий. После трех лет работы
они настолько выматываются, что владельцу шахты
выгоднее затребовать из Кореи новый контингент
свежей рабочей силы. Такая же практика существу-
ет и в горнодобывающей промышленности Южной
Африки.
Особенно неприветливо встречают у нас в стране
приезжающих из Индии, Пакистана и Шри-Ланки.
На границе им, как правило, отказывают во въезде,
если они, конечно, не дипломаты. А когда они задер-
живаются у нас слишком долго, от них стремятся
избавиться всеми средствами. Живой пример тому—
индиец Бисванат Канджилал. Он родился в Каль-
кутте, но уже с 1964 года проживает в ФРГ. До 1970
120
года работал наладчиком автоматических станков,
получая всего 2 марки 40 пфеннигов в час. Потом
обучался в технической школе в Равенсбурге. После
ее окончания нашел место квалифицированного ра-
бочего на фабрике по производству шестерен где-то
у Боденского озера. Хотя фирма и заинтересована в
том, чтобы он работал и дальше в ее системе, и хотя
этот индиец женился тем временем на немке и име-
ет детей, ему в конце 1980 года предложили выехать
из Федеративной республики. Бисванат Канджилал
направил в комиссию по разбору гражданских дел
баден-вюртембергского ландтага протест, но члены
комиссии отказали ему, «поскольку ходатай и без
того сумел оттянуть свой отъезд на долгие годы».
В Золингене осенью 1980 года фирма «Пун-
кталь» предъявила своей работнице иск на выселе-
ние из принадлежащей фирме квартиры, так как
она вышла замуж за пакистанца. В обоснование
своих действий фирма письменно уведомила ее о
том, что ее брак подрывает авторитет фирмы и сни-
жает ценность квартир, предоставляемых ею своим
служащим. Многие соседи этой женщины якобы по-
чувствовали себя оскорбленными. Кроме того, скоро-
де следует ожидать появления детей, что будет
серьезно угрожать миру и спокойствию в доме.
В то же самое время у западногерманских ра-
систов появляются весьма специфические и вполне
объяснимые пристрастия. Свидетельство тому—бы-
стрый рост туристических поездок в Таиланд в по-
исках сексуальных развлечений. В 1980 году более
100 тысяч наших федеральных мужчин совершили
в разное время перелет в Бангкок с целью «посвин-
ствовать там в свое удовольствие». Таиландские
женщины и девушки славятся своей «дешевизной»,
«податливостью» и «меньшим жеманством» по срав-
нению с немецкими подругами и супругами. Они
пользуются в сексуальном плане таким спросом, что
ежегодно по нескольку тысяч таиландок продаются
в качестве «послушных жен» немецким мужчинам,
а также в качестве барменш в заведения особого тол-
ка и просто в бордели «высокого ранга».
Это настоящая торговля людьми, которая была и
остается истинным варварством. И виной этому при-
митивный расизм, мужской шовинизм и жажда на-
живы.
121
«Ты, обезьянья морда,
вон отсюда!»
Не так давно мне пришлось возвращаться из
Рура в Гамбург ночным поездом. Это был шедший
из Парижа «Северный экспресс», который по рас-
писанию прибывает на Главный вокзал в 3 часа
09 минут ночи. Вместе со мной ехали семеро сене-
гальских моряков. Их рассчитали с корабля в Мар-
селе, и теперь им нужно было проехать пол-Европы,
чтобы добраться до Гамбурга и подняться на
борт другого коммерческого судна, скупающего ду-
ши моряков. Мы вместе вышли из вагона и сообща
направились к стоянке такси, потому что никакого
другого транспорта в эти часы не бывает. Внуши-
тельная цепочка таксомоторов стояла в ожидании
ночных пассажиров, отправляющихся домой. Но
как только африканцы подошли к двум машинам,
ожидающим пассажиров, послышался резкий окрик:
«Негров и педерастов ночью не возим!» Это заорал
один из шоферов, подав тем самым сигнал другим
водителям. Я точно видел: по крайней мере восемь
таксистов друг за другом отказались взять матро-
сов, хотя поездка в порт могла принести им самое
меньшее по 20 марок чистого дохода.
На следующее утро я пожаловался соответству-
ющим организациям. Но ни в «Гамбургском авто-
вызове», ни в Союзе гамбургских таксомоторных
предприятий мою жалобу не приняли. «У нас ра-
сизма нет!» А шеф «Автовызова» стал еще настой-
чиво уверять меня: «Нет, только не в Гамбурге! У
нас самих около 10% водителей иностранные кол-
леги, и среди них, уважаемый господин Шютт, даже
два негра из Кении...»
Но те, у кого темная кожа, знают об этом лучше.
Моей жене и мне в последние месяцы не раз прихо-
дилось слышать от водителей такси такое: «Вы мо-
жете садиться, но без вот этой!» Да и в ресторанах
нашего свободного ганзейского города Гамбурга с
нами обращаются не намного лучше. Очень часто
кельнеры не замечают нас до тех пор, пока мы в
бешенстве иди полном смятении не собираем свои
вещи и не уходим прочь. Однажды в привокзальном
ресторане мы попытались было протестовать против
подобного обслуживания. Но нас заставили протор-
122
чать у раздаточной так долго, что все присутство-
вавшие ополчились на нас как на возмутителей спо-
койствия, а у нас самих разлилась желчь. Когда же
мы все-таки подняли шум, нас просто вышвырнули
за дверь, как выбрасывают пьяниц.
Индивидуальный террор по отношению к чер-
ным в нашей стране осуществляется тысячами раз-
ных способов. Вот уже шесть лет живет в Гамбурге
южноафриканская певица Одри Мотанг, покинув-
шая свою родину по политическим мотивам. Не-
сколько недель назад она ехала рейсовым автобу-
сом от станции метро «Вандсбекер маркт» в сторону
Альстердорфа. Всем было видно, что она беременна.
Не успел автобус тронуться, как многие пассажи-
ры—взрослые и дети—стали обзывать госпожу Мо-
танг «паршивой негритоской». А один пожилой
мужчина под смех многих едущих заорал через
весь автобус: «Ты, обезьянья морда, вон отсюда!
Катись в свою обезьянью страну!» Видя, что ей ни-
кто не придет на помощь, южноафриканка на следу-
ющей же остановке в отчаянии и слезах сошла с ав-
тобуса. Результатом поданной ею впоследствии (Жа-
лобы было лишь то, что гамбургский союз тран-
спортных рабочих выразил ей свое сожаление по по-
воду случившегося, но наотрез отказался провести
тщательное расследование. С абсолютной уверен-
ностью можно сказать, что наиболее часто жертвами
агрессивных выходок расистов становятся беремен-
ные черные женщины, так как, очевидно, они вызы-
вают у многих представителей белой расы господ
тайный страх перед собственной неполноценностью
в вопросе деторождения.
Когда в июне 1980 года нигериец Таиво Оладун-
джойе вселился в один из высотных домов на «Су-
хом болоте» в Хильдесхайме, он тут же почувство-
вал неприязнь своих соседей. Никто не отвечал на
его приветствия, а часть соседей даже обратилась к
домовладельцу с требованием выселить черную се-
мью. У машины нигерийца часто портили антенну и
разбивали фары, а когда на машине его белого сосе-
да обнаружились царапины, Оладунджойе принесли
на квартиру счет на 259 марок, поскольку владелец
машины считал, что «это могли сделать только не-
гритята». Это почти точное совпадение с шаблон-
ной заповедью расистов: во всем виноваты евреи
123
или негры. Наконец в почтовом ящике нигерийской
семьи стали ежедневно появляться угрожающие
письма с одной и той же фразой: «Негры, вон
отсюда!»
Не так давно в газете «Форвертс» было опубли-
ковано письмо женщины, в котором рассказывалось
о том, что случилось с ее 17-летней темнокожей до-
черью и ее приятелем во Франкфурте-на-Майне. «По
дороге к вокзальной площади,—писала она,—их
стал преследовать какой-то молодой человек, кото-
рый несколько раз делал им жест, словно перерезал
горло, и при этом кричал: «Вот что с вами надо сде-
лать!» На Кайзерштрассе, когда они направлялись к
центру города, их остановили несколько мужчин.
Они начали задавать вопросы: «Почему это здесь
так много негров?», «А в Африке кто-нибудь еще
остался?» и т. п. После таких встреч они решили
отдохнуть и прийти в себя в одном ресторанчике.
Но войти им туда не разрешили, потому что там
черных не обслуживают. Тогда, собрав последние
силы, оба решили забыть все в ближайшей диско-
теку. Но и это оказалось невозможным: их туда не
пустили. Самым интересным было то, что моей до-
чери разрешали войти, а ее тоже темнокожему
приятелю—нет. Это дает мне право сделать вывод,
что темную кожу здесь признают только в качестве
объекта похоти».
Общеизвестно, что в тех районах, где расквар-
тировано особенно много американских солдат—а
из 270 тысяч военнослужащих армии США, нахо-
дящихся в ФРГ, почти 2/3 составляют афроаме-
риканцы,—постоянно усиливаются проявления как
мелкого, так и весьма серьезного и грубого расиз-
ма. Большинство этих солдат живет в похожих на
гетто жилых казармах изолированно от западногер-
манского населения, и даже в собственной армии
они все еще подвергаются дискриминации во многих
отношениях. Да и солдатами они становятся лишь
в очень редких случаях по призванию, из желания
отведать солдатского счастья. Почти всегда это
объясняется ничтожными шансами на получение
ими гражданской профессии и работы. Для них
армия зачастую оказывается единственным спосо-
бом избежать безработицы и падения в социальную
бездну. Естественно, что такие люди в силу самих
124
условий их жизни как там, так и здесь, не всегда
проявляют склонность к добропорядочности, свойст-
венной «дядюшке Тому», а скорее выражают свою
неудовлетворенность этой жизнью во многих как
оправданных, так и, разумеется, неоправданных
поступках. Однако отдельные нарушения порядка и
моральных норм со стороны американских и афро-
американских солдат по отношению к гражданам
ФРГ никак не оправдывают шовинистическое и ра-
систское поведение именно тех немцев, которые при
других обстоятельствах громко разглагольствуют о
германо-американской дружбе.
Из многочисленных историй подобного рода я
позволю себе привести здесь рассказ о том, что
случилось с афроамериканским баскетболистом Хад-
соном. Совсем недавно спортивный клуб Байройт-
ского университета снял для него квартиру, однако
въехать в нее он не смог, потому что хозяин дома,
известный врач, «очень хотел сдать квартиру аме-
риканцу, но только не черному». Когда Хадсон поз-
вонил в дверь (а он пришел туда со своей беремен-
ной подругой), хозяин набросился на них и избил
так, что женщину пришлось отвезти в больницу.
Никаких извинений спортсмену он приносить не
пожелал, заявив только, что его «надули»: спортив-
ный клуб якобы умолчал о том, что у квартиросъем-
щика черная кожа.
В центральном районе Байройта на дверях почти
всех частных гостиниц висят таблички, где указы-
вается, что американцы—имеются в виду, конечно,
афроамериканцы—здесь нежелательны. То, что в
самих США запрещено, по крайней мере официаль-
но, еще с памятных дней убийства Мартина Лютера
Кинга, в нашей стране будет объявлено вне закона,
по-видимому, весьма не скоро. На Главном вокзале
Нюрнберга каждый день в 10 часов вечера насту-
пает время «разобщения рас». Американская воен-
ная полиция прочесывает зал ожидания пассажиров
второго класса и делит его на две неравные части:
в большую приглашаются белые солдаты, а в один
из углов загоняют черных, если они не предпочтут
покинуть это негостеприимное помещение совсем.
Такие же порядки существуют и в Бамберге. Здесь
в пешеходной зоне центральной улицы с 10 часов
вечера патрули военной полиции начинают сорти-
125
ровать американских солдат по цвету кожи: бе-
лых—куда получше, черных—взашей, в дешевые
балаганы на левой стороне улицы.
Хорошую школу расизма преподносят нам аме-
риканские войска, расквартированные и в районе
Карлсруэ. Когда осенью 1980 года немецкие ра-
бочие, являющиеся членами профсоюза работников
общественного обслуживания, транспорта и связи,
объявили забастовку и отказались чистить и при-
водить в порядок танки и другую военную технику
за грошовую плату, командование расположенной
здесь военной базы QUIA тут же заменило местных
рабочих афроамериканскими женщинами, которым
вообще пришлось довольствоваться лишь 2/3 того
заработка, который имели немцы. И тем не менее
Вилли Хайнрих в своем банальнейшем романе «Бо-
жественный второй гарнитур», опубликованном из-
дательством «Бертельсманн», в состоянии полней-
шей экзальтации повествует о «расовой интеграции»
в американской армии и в каком-то холуйском ра-
болепии благодарит в предисловии к роману управ-
ление информации главного штаба американских
войск в Хайдельберге за «щедрую поддержку».
Невозможно придумать таких варварских спо-
собов обращения с темнокожими согражданами,
которые не практиковались бы в нашей стране. Так,
в 1980 году одной 24-летней анголке понадобилось
девять месяцев упорной борьбы на то, чтобы вырвать
у немецких властей собственного сына. Эту женщи-
ну задержали при въезде в Баварию без паспорта
и поместили в изолятор для подозрительных эле-
ментов. Там она родила ребенка. Новорожденного
у матери сейчас же забрали и передали приемным
родителям на усыновление. Матери даже не поз-
волили взглянуть на ребенка, не говоря уже о том,
что ее лишили права на его воспитание. И только
специальное постановление суда позволило прекра-
тить произвол местных властей и вернуть ребенка
все еще сидящей под арестом анголке.
Один владелец автомобильного магазина в Пфорц-
хайме содержал у себя в качестве настоящей ра-
быни 24-летнюю африканку, которую он, как стало
известно, приобрел через какого-то «торговца жи-
вым товаром» из Замбии. Когда эта женщина по-
126
пыталась однажды защитить себя от жестокого об-
ращения, этот человек решил ее убить. 13 октября
1979 года на дороге у Мёрфельдена он выстрелил
в нее три раза из пистолета. Женщина была смер-
тельно ранена. Но никакого судебного дела против
торговца автомашинами возбуждено не было, пото-
му что в десятках заключений экспертов неизменно
указывалось, что у него были «смягчающие вину
обстоятельства». Причем упор делался на то, что
конфликты между женщиной и ее хозяином проис-
ходили в результате якобы «непредсказуемости» по-
ведения африканки.
Особенно явной и грубой оказывается дискрими-
нация африканцев при распределении жилья. Здесь
их постоянно обманывают и ставят в наихудшие
условия. Один студент из Намибии сообщил мне, что
весной 1980 года он в течение двух с половиной
месяцев искал в Гамбурге комнату. Справляясь
по телефону о жилье, он 13 раз получал утверди-
тельный ответ, но каждый раз, когда ему откры-
вали дверь, владельцы квартир спешили объявить,
что, к сожалению, совершенно неожиданно «приеха-
ли родственники» и обещанная комната нужна им
самим, или искали какие-то другие отговорки. Когда
же он наконец нашел маленькую комнатку, с него
потребовали плату за полгода вперед и, кроме того,
поставили условие, что каждые две недели к нему
будет заходить дворник и проверять, содержит ли
он комнату в чистоте. Во Франкфурте-на-Майне в
декабре 1979 года хозяин одного дома на Эшенхай-
мерштрассе потребовал выезда квартирантки на
том основании, что оба ее ребенка негритянского
происхождения, о чем она умолчала. Он воспринял
это как «подлый обман». От другого африканского
студента, снявшего чердачное помещение в доме
на улице Фрайхерр-фон-Штайнштрассе во Франк-
фурте-на-Майне, хозяйка потребовала снять обувь.
Она, видите ли, хотела взглянуть на его пальцы
на ногах—«чистые они или срослись от грязи».
Черные рабочие у нас в стране лишаются своих
прав в результате применения к ним всевозможных
когда-либо существовавших принципов, составля-
ющих искусство эксплуатации. Однако получить
данные о «рынке черного труда» не так-то просто,
поэтому я ограничусь тем, что приведу несколько
127
конкретных примеров из моего гамбургского окру-
жения. Африканские рабочие фирмы «Грубе-декор»
в Эппендорфе получают первый отпуск, только про-
работав два года, поскольку, как заявляет их шеф,
они «слишком мало и медленно трудятся и еще
должны научиться работать как следует». В лавках
дешевых товаров при метро, управляющий сетью
которых недавно скрылся, положив несколько мил-
лионов марок себе в карман, в качестве подсобных
рабочих повсюду заняты черные. Их рабочий день
продолжается девять с половиной часов, а полу-
чают они за это либо 1000 марок в месяц, либо
по 8 с половиной марок в час. Их белые коллеги
за ту же работу всегда имеют 11 марок 50 пфен-
нигов в час. В случае болезни, если она затянулась
дольше двух недель, их немедленно увольняют с
работы.
Каждое утро, с 4 часов 30 минут до 6 часов
30 минут, целый взвод женщин-африканок убирает
рабочие помещения телевизионной «Студии Гам-
бург». Эти черные уборщицы, коих нанимает част-
ная фирма по уборке помещений, зарабатывают по
20 марок за утро без всяких социальных надбавок
или оплаты расходов на транспорт. На машиностро-
ительном заводе компании «Юрит» в Бергсдорфе са-
мые тяжелые работы выполняются исключительно
черными, которых заставляют надрываться на рабо-
те до полного изнеможения, не обеспечивая никакой
современной техникой и даже не обучая соответст-
вующим приемам работы. Между тем им всем скоро
грозит увольнение, поскольку предприятию предсто-
ит реконструкция. Когда осенью 1979 года гамбургс-
кие заводы компании «Феникс» начали сокращать
количество лиц, занятых в производстве шин, пер-
выми уволенными были 50 африканцев. Еще через
полгода на очереди оказались 400 турок, и только
после этого их немецкие коллеги начали понимать,
что ожидает их самих, если они вместе со своими
коллегами-иностранцами не выступят против планов
сокращения рабочей силы, составленных ру-
ководством концерна.
Невозможно перечислить то, что составляет
вклад черных в мировую культуру. Он включает
в себя все—от сокровищ фараонов до поп-музыки.
Такие имена, как Луис Армстронг, Поль Робсон,
128
Джеймс Болдуин, Мартин Лютер Кинг, Мириам Ма-
кеба или Эмэ Сезэр, сегодня почитаемы образован-
ными людьми всего мира. Но в Федеративной рес-
публике к культуре африканцев и афроамериканцев
очень часто относятся с нескрываемым высокоме-
рием.
Моя жена, которая сейчас работает над темой
о немецком колониальном господстве в Намибии,
собрала вместе со мной целую папку материалов,
свидетельствующих о евроцентристской надмен-
ности, с которой великие немецкие умы подходили
к «темному континенту» и его обитателям. Даже
наши классики не всегда были свободны от пред-
убеждений. Так, строгий в своем мышлении Им-
мануил Кант высказывал мнение, что «негры Афри-
ки по своей природе лишены тех чувств, которые
поднимались бы выше самых обыденных ощуще-
ний». И даже Гегель, предрекавший свободу всем
людям, не мог отыскать в черных африканцах «ни-
чего, что было бы созвучно человеческому, никакого
трепета или высокой нравственности, никакого по-
нятия о бессмертии духа». Однако оставим в покое
ушедших. Куда важнее восприятие Африки сегодня.
В те дни, когда я заканчивал работу над руко-
писью этой книги, в нашем «свободном от пред-
рассудков» «Шпигеле» начала публиковаться серия
репортажей под общим названием «Долгая ночь
детей Африки». Уже по одному только названию
можно было понять, что авторы этой серии еще да-
леко не избавились от мыслительных штампов эпо-
хи колониализма.
Как-то на днях примерно в 11 часов вечера по
третьей программе телевидения шла передача о
ганской поэтессе лирического жанра Сильвии Ку-
мах. Начиная ее, диктор объявил, что эта передача
подготовлена по программе «культурной помощи
развитию», и, очевидно, по этой причине ведущий
собеседник поэтессы позволил себе обращаться к ней
по-отечески и на «ты». Бе чтение все время пре-
рывалось грохотом барабанов за кадром, чтобы при-
дать всему этому экзотическое звучание. Собеседник
постоянно болтал о «новой религиозности» Черной
Африки, ибо как же иначе представить себе афри-
канцев, если не богобоязненными и глубоко верую-
щими. В тот же самый день на первой полосе га-
129
зеты «Франкфуртер альгемайне», в редакционной
статье доказывалась необходимость «борьбы за ду-
ши африканцев». Высказывалось даже опасение, что
«примитивистское представление русских об общест-
венном устройстве оказывает все более сильное
влияние на пока еще очень наивных африканцев».
За этими строками отчетливо угадывается рука ан-
тисоветчика и расиста.
Последняя по счету Франкфуртская книжная яр-
марка проходила под общим девизом «Африка в
поисках самой себя». Но то, что было на ней пока-
зано, свелось, по сути дела, к демонстрации непри-
крытой наготы и картин убогой жизни на все еще
остающемся во тьме континенте. Это была настоя-
щая панорама неоколониалистского грабежа и эксп-
луатации. Африканских писателей представили так,
словно дело происходило в каком-то духовном за-
поведнике, в резервации южноафриканского образ-
ца, в некоем африканском гетто посреди западно-
европейского «рая». Какова же истинная цена этого
показного шоу, можно было понять хотя бы из
того, что режим апартеида, это величайшее прокля-
тие для Африки в ее «поиске самой себя», был
также представлен на ярмарке, причем расистам
выделили куда лучшее помещение для экспозиции.
А чтобы подчеркнуть свою «любовь к Африке»,
Объединение немецких книгоиздателей и книготор-
говцев присовокупило к торжественному открытию
с шампанским и икрой еще и «оригинальный аф-
риканский балет»—негритянок с обнаженным
(а как же иначе?) торсом: в таком виде нашим
господам издателям черные нравятся больше
всего.
Некоторое время назад почти все журналы обо-
шло одно фото: пожилая, но еще крепкая блондин-
ка, вооруженная фотокамерой, балансирует на круп-
ном обломке скалы, а позади нее огромный угольно-
черный и совершенно голый африканец услужливо
держит фотосумку этой дамы из Германии и почти
галантно помогает ей лазать по скалам. Это Лени
Рифеншталь, всегда питавшая пристрастие к куль-
туре нагого тела и некогда всей душой преданная
фюреру. Она снова «в действии», на этот раз—в
самом сердце Африки, в Нубии, в племени кау,
и свой фотоальбом, издававшийся и переиздавае-
130
шийся много раз, она назвала «Кау из Нубии».
В качестве подзаголовка она придумала такую фра-
зу: «Люди, словно пришедшие с другой звезды»,
и дала этим сигнал к появлению целой серии фото-
альбомов, в которых перед нами в стиле «сафари»
проходят «последние дикари человечества»—преи-
мущественно голые «дети природы». «Эти индей-
цы, африканцы, папуасы, ничем не прикрытые ни
сверху, ни снизу, с их первобытными, щекочу-
щими нервы ритуалами и обычаями, позволяют
нам заглянуть в наше прошлое, в каменный
век».
«У Африки много обличий: и необозримая саван-
на, и густые заросли джунглей, и голые песчаные
пустыни накладывают на их жителей свой отпе-
чаток, который невозможно спутать ни с каким
другим». Так сказано в аннотации на клапане су-
перобложки фотоальбома «Черные дети Африки».
В альбоме сплошь коричневые плотные блестящие
тела, танцующие женщины в том виде, «в каком их
создал господь бог», и все это, конечно, поясняется
подробно и «научно»: тут и «обычаи, связанные
с наступлением половой зрелости, и вопросы поло-
вой гигиены, и другие традиции, распространенные
131
«Немецкое среднее реальное училище» в бывшей Германской
Юго-Западной Африке. Училищем руководят фашисты.
у народности маньяс в Центральноафриканской
Республике».
В то время как у нас истинными европейцами
могут считаться только образованные люди» «истин-
ные африканцы» в представлении наших столпов
культуры могут и даже обязаны жить в джунглях и
ходить только в голом виде. И чем они примитивнее,
тем ближе к «истинности». А самое главное в том,
чтобы им и в голову не приходило освобождать
свою страну от чьего-то господства или—не дай
бог!—преодолевать неграмотность. В противном
случае их начинают подозревать в «предательстве»
той «истинной Африки», которая до сих пор остает-
ся милой сердцу бывших колонизаторов. О том,
что составляет истинный смысл подобных мифов,
невольно поведал нам известный искусствовед-
африканист Макс Моль, написавший в предисловии
к каталогу одной выставки африканского искусства
в Западном Берлине следующее: «К счастью для
владельцев частных собраний, этнографические му-
зеи в большинстве стран мира не располагают дос-
таточными суммами для приобретения новых экс-
понатов. Поэтому первоклассные образцы искусства
все еще оказываются легко доступными для частных
коллекционеров. Пресса то и дело сообщает нам
о дорогостоящих покупках, совершающихся из рук
в руки или с аукционов. Так, недавно стало извест-
но о приобретении некоей скульптуры за 275 тысяч
долларов. И с каждым новым владельцем цена на
нее растет. И вот это все перед вами из первых
рук, прямо из тропических лесов Африки! А мно-
гое тут приобретено еще дешевле!»
Вот и замкнулась цепь доказательств. Она спле-
лась в общую сеть предрассудков в отношении афри-
канцев. И эту сеть усердно поддерживают и ла-
тают и ведущие искусствоведы Запада, и шоферы
такси, отказывающиеся ночью везти африканцев, и
те немцы, которые живут в одном доме с африкан-
цами и третируют их, и даже сам федеральный
канцлер. И понадобится очень много терпения и
упорного труда, чтобы разъяснить нашим сограж-
данам действительное положение вещей и распу-
тать этот клубок предвзятых представлений в их
головах.
132
Расизм и враждебное отношение
к женщинам
Не кто иной, как мужчины отправлялись в XIX
веке в «третий мир», чтобы там «укрощать дика-
рей». Не кто иной, как мужчины из эсэсовской
«расы господ» уничтожали «недостойных» и «не-
полноценных» в своих концентрационных лагерях.
Не кто иной, как мужчины еще до возникновения
«третьего рейха» изобретали идеологию «расы гос-
под». Именно предприимчивым мужчинам после
постройки берлинской стены в 1961 году пришла
мысль заменить приток дешевой рабочей силы из
ГДР, пригласив в страну временных иностранных
рабочих. Не кто иной, как ловкие господа из средств
массовой информации представляют нам сейчас на-
роды, живущие за пределами старушки-Европы в
таком виде, как будто они все еще находятся на
культурном уровне Адама и Евы, то есть ходят
нагишом, ничем не обремененные, словно звери в
девственном лесу. Во все века вдохновителями ра-
сизма были мужчины, выступавшие как «творцы
всего» и неизменно соединявшие свою расовую не-
нависть к другим народам с открытой дискрими-
нацией женщин. Куда бы и как бы ни распростра-
нялся европейский расизм, он всегда и повсюду
обретал характер доведенного до извращения муж-
ского шовинизма.
При фашистской тирании «окончательное реше-
ние» началось с того, что по улицам за волосы
потащили «еврейских проституток» и в силу всту-
пили расовые законы, которые прежде всего уда-
рили по человеческому достоинству и человеческим
правам женщин. На плацах лагерей смерти эсэсов-
ские врачи отбирали для уничтожения, помимо ста-
риков, больных и детей, в первую очередь женщин.
По планам нацистов, в захваченных ими областях
на востоке должны были подвергнуться стерилиза-
ции миллионы славянских женщин, чтобы расчи-
стить путь для «расы господ».
И сегодня наиболее предпочтительным объектом
агрессивных выходок расистов являются женщины.
Расизм и ненависть к женщинам и теперь тесно
соседствуют друг с другом. Об этом свидетельст-
вуют самые распространенные у нас предрассудки.
133
Когда об иностранцах говорят, что они «плодятся,
точно кролики», или что они «каждые девять ме-
сяцев приносят новое отродье», то в этом нельзя не
увидеть именно сексуального, женоненавистничес-
кого начала. В средствах массовой информации
враждебные к иностранцам взгляды и откровенная
предубежденность адресуются прежде всего жен-
щинам: по этим представлениям, цыганки, турчан-
ки и негритянки одержимы сексом. И ведут они
себя как ведьмы или проститутки.
Иностранкам, и в особенности африканкам, в
условиях будничных, повседневных, мелких прояв-
лений расизма приходится выдерживать двойное
бремя дискриминации—как иностранкам и как жен-
щинам. Если же быть более точным, то нужно при-
знать, что они несут тройной гнет: во-первых, как
и немки, они остаются женщинами; во-вторых, как
и их мужья, они подвергаются дискриминации как
иностранки; в-третьих, они оказываются в отчужде-
нии, как африканки или люди иного цвета кожи.
Бесспорно, существует много предпосылок для того,
чтобы борьбу за права женщин соединить с борь-
бой за равноправие иностранных рабочих и наших
собственных граждан в еще большей степени, чем
это делалось раньше. У женщин и иностранцев—
этих двух основных «меньшинств» в нашей стра-
не—есть все основания совместно добиваться пре-
доставления им больших гражданских прав, по-
скольку им повсюду приходится иметь дело с одни-
ми и теми же противостоящими им силами и стал-
киваться с примерно одинаковыми методами угне-
тения.
Расисты и противники предоставления больших
гражданских прав женщинам имеют, как правило,
вульгарные, биологизаторские представления о мире
и человеке, согласно которым человеческие особи,
равно как и животные, якобы существуют только
ради продолжения своего рода. Согласно такой, с
позволения, логике, женщине уготована только роль
родильной машины. К высшему же рангу челове-
ческой породы принадлежат лишь производители
наиболее сильных генов, то есть мужчины—продол-
жатели господствующей расы. Там, где угнетаются
представители чужих народов и рас, ярмо угнете-
ния не обходит стороной и женщин, а если все
134
Первомайская демонстрация женщин в Гамбурге, 1980 год.
это совершается в собственной стране, то колонизи-
рованным уподобляют и своих женщин.
В диких представлениях апологетов мужского
шовинизма и «белых господ» женщина превраща-
ется в «объект охраны», чтобы она—не дай бог!—
не «спуталась» с каким-либо чужестранцем и не
навлекла этим «расовым позором» беду на мужчин
в своей семье и своем народе. Они боятся, что ино-
135
странцы приезжают к нам только ради того, чтобы
«отбить у них женщин». Отсюда и бросаемые ино-
странцам обвинения в том, что они будто бы только
и делают, что бегают за немецкими женщинами,
пристают к ним и даже насилуют их. Немцу, же-
нившемуся на иностранке, этот «проступок» еще
как-то прощают: считается, что она уж очень «хо-
роша в постели». Но горе той немецкой женщине,
которая отважится взять себе в мужья иностранного
рабочего, какого-нибудь иранца или африканца!
Тогда открыто выходит наружу страх озабоченных
сохранением своего превосходства мужчин-шови-
нистов и их тайные сомнения в своих мужских
и прочих достоинствах.
Свое политическое выражение подобные страхи
«господ мужчин» находят в легенде о перенаселен-
ности «третьего мира» по сравнению с Европой,
чему отдал дань в своей новой книге «Роды при го-
ловном предлежании плода, или Немцы вымирают»
сам Гюнтер Грасс *. Если уж где-либо и произошел
«демографический взрыв», то в первую очередь
именно в Европе. В нашей части света за послед-
ние четыре столетия численность населения увели-
чилась в 10 раз. Не следует также забывать, что
именно из Старого Света растеклись по всему зем-
ному шару огромные потоки людей. И если теперь
у нас развивается и пропагандируется идея о пере-
населенности «третьего мира», то эта пропаганда
служит прежде всего основной империалистической
цели—удержать все неевропейские народы от рож-
дения детей по их собственному усмотрению.
Я никак не могу отделаться от подозрения,
что когда эксперты «с беспокойством» указывают
на то, что в случае сохранения нынешних темпов
прироста общей численности населения земного
шара к 2000 году лишь каждый десятый житель
нашей планеты окажется европейцем, тогда как
в 1900 году он был четвертым, то за этим скры-
ваются все тот же евроцентризм и... расизм. Та-
ково общее течение истории, и я не вижу никакой
* Гюнтер Грасс—современный западногерманский писатель
и публицист, чьи взгляды характеризуются наряду с общей
левой ориентацией крайним непостоянством и политическим
шараханьем от признания социализма до восхваления анархиз-
ма и терроризма.—Прим. перев.
136
беды в том, что старая Европа, послужившая ис-
точником столь многих войн и преступлений, поте-
ряет свое влияние на земном шаре. Я не нахожу
ничего плохого и в том, что претензии белых
на единоличное представительство нашего конти-
нента постепенно могут оказаться подорванными
в результате притока людей из «третьего мира»
и мы все больше и больше будем смешиваться
с другими народами и расами, которых мы некогда
покоряли, притесняли и грабили. Может быть, толь-
ко таким способом человечеству и удастся вырвать
клыки у старых колониалистских наций.
В наиболее трудном положении у нас находятся,
как мне кажется, наши немецкие женщины, име-
ющие детей от темнокожих отцов. В качестве ти-
пичного тому примера процитирую письмо одной
немки, вышедшей замуж за афроамериканца.
Оно взято из архивов Общества защиты интересов
жен иностранцев (ИАФ). «Однажды во Франкфур-
те,—пишет эта женщина,—я ехала в переполнен-
ном трамвае. Был час пик. На коленях я держала
свою четырехлетнюю дочь. Рядом со мной через
проход сидел пожилой человек, который беспрес-
танно говорил сидевшему напротив него человеку
помоложе: «И как это только можно допускать!
Ведь потом за это детям же расплачиваться!»
Он все бубнил и бубнил в том же духе, и было
ясно, что он имеет в виду нас. Наконец у меня
не осталось больше сил слушать все это, и я ему
сказала: «Если у детей и будут неприятности,
то только из-за таких, как вы!» Тогда он вообще
вышел из себя, повторил все, что уже говорил,
и стал громко, чтобы все слышали, орать: «И кро-
ме всего прочего, я ничего не имею против детей.
У меня у самого их несколько! Но я бы скорее
сдох, чем наплодил полунегров...» Та же самая
женщина потребовала извинения у другого расиста,
который чуть не избил ее семилетнего сына, и по-
лучила в ответ следующее «назидание»: «Против
вас лично я ничего не имею, я также ничего
не имею и против черных. Но я не могу терпеть,
когда белые и черные живут друг с другом, да
еще производят на свет всяких пестреньких!»
В этих словах все—и ненависть к детям, и диск-
риминация женщин, и вражда к чужестранцам.
137
В таких характерных проявлениях болезненного
национального самосознания сходятся воедино все
варварские элементы самого примитивного расизма.
Наиболее зримо и грубо проступает вся под-
лость и низость мужского шовинизма и расизма
на капиталистическом «рынке любви». Коричневая
и черная кожа, экзотическая любовная страсть
и восточная женственность пользуются здесь наи-
большим спросом, конечно, в определенных заведе-
ниях. В кадрах порнографических кинолент,
на снимках журналов типа «Плейбой» и «Прали-
нэ» теперь преобладает «черная, как грех, кожа».
К соответствующим иллюстрациям добавляются
и «мужские шутки», столь же расистские, сколь
и оскорбительные для женщин. Жертвами этих
гнусных шуточек и анекдотов уже давно стали
женщины «третьего мира»: Таиланда, Бразилии
и Африки, в то время как некогда предпочтение
отдавалось породистым белокурым шведкам. Это
сейчас самый дешевый и ходкий «товар». Я говорю
это в прямом смысле. По данным журнала «Шпи-
гель», в кварталах Франкфурта-на-Майне, населен-
ных проститутками, сейчас подвизается более
1200 нигериек. Опытные торговцы «живым това-
ром» завозят их сюда из Африки целыми воздуш-
ными лайнерами и распределяют по существующей
сети сутенеров и содержателей публичных домов.
Человеку, идущему по гамбургскому Репербану *,
достаточно бросить взгляд в любой, всегда мрачный,
переулок, чтобы собственными глазами увидеть,
в какой сфере предлагаются у нас «равные шансы
на успех» черным и другим приехавшим издалека
женщинам. Это либо улица, либо бары, где одежда
положена им только от пояса и чуть ниже, либо
бордели, либо «Саламбо»—«единственный в своем
роде эротический театр с мировой известностью»,
зрители которого, как им обещают, увидят «мо-
дели», сравнимые разве что с кофе—«горячие,
черные и сладкие».
В телевизионных шоу также нередко выступают
черные женщины, например члены вокального
* Репербан—одна из главных улиц Гамбурга, где сосредоточены
разного рода развлекательные заведения сомнительного харак-
тера.—Прим. ред.
138
ансамбля «Бони М». Но даже эти «королевы диско»
должны побольше открывать свое тело, чтобы по-
пасть в вечерние программы, да еще самые зре-
лищные. В большинстве же случаев они остаются
на заднем плане в роли «подпевающего хора».
Когда же черная женщина начинает петь полити-
ческие песни, как это делает, к примеру, Фазия
Янсен, двери всех залов и студий оказываются
для нее закрытыми. Расистские настроения обнару-
живаются даже на самом высшем уровне нашей
культурной жизни. Когда на театральный сезон
1979/80 года в гамбургский государственный опер-
ный театр была приглашена известная афроамери-
канская певица Грейс Бамбри, чтобы выступить
в нескольких операх Вагнера, отдельные лица вы-
разили свое возмущение, а некоторые даже вернули
абонемент. И это вполне понятно. Какой же истин-
ный поклонник Вагнера сдастся без боя, видя, что
его обожаемых валькирий, хранительниц Грааля
изображают какие-то черненькие?
Они все еще сидят на чемоданах
Без наших рабочих-иностранцев, которых иногда
еще называют «гастарбайтерами» *, экономика
Федеративной республики развалится очень скоро.
Мы не сможем даже хоронить наших покойников,
поскольку почти для всех наших крупных городов
характерна та же ситуация, какая сложилась, на-
пример, на главном кладбище Франкфурта-на-
Майне. Здесь из 132 могильщиков и кладбищенских
сторожей 132—турки. Более того, наши дети
не смогут появляться на свет, так как в гинеко-
логических отделениях наших больниц 2/3 сестер
и санитарок—иностранки. Не будет добываться
и уголь, составляющий наряду с нефтью важней-
ший источник энергии, потому что большинство
западногерманских шахт почти целиком обслужи-
вается турками. У крупнейшего в стране произво-
дителя угля, каким является концерн «Рурколе»,
свыше 82% занятых непосредственно угледобычей
составляют рабочие, приехавшие из Турции.
* Буквально— «гости-рабочие».—Прим. перев.
139
Нашей сталелитейной промышленности при-
шлось бы разом остановить все производство, по-
скольку около 68% тех, кто трудится у доменных
печей Маннесмана, Хеша, Тиссена и Круппа *,—
это опытнейшие, закаленные огнем рабочие ненемец-
кого происхождения. Прекратилось бы и производ-
ство автомобилей, ибо из трех рабочих, стоящих
у конвейеров заводов «Фольксваген», «Форд
мотор», «Опель» и «Мерседес», двое прибыли
из стран, лежащих по ту сторону Альп.
Было бы раз и навсегда покончено и с досто-
славной немецкой гостеприимностью и уютом,
потому что свыше 60% работающих в гостиничном
сервисе—это мужчины и женщины, приехавшие
из-за рубежа. И даже немецкая культура оказалась
бы беспомощной, так как каждый второй или тре-
тий технический или творческий работник в наших
драматических и оперных театрах, на кино- и те-
лестудиях, а также и в индустрии развлечений—
это иностранец. Наиболее катастрофичными были
бы последствия для вошедшей в поговорку немец-
кой чистоплотности: 88% всех рабочих, занима-
ющихся уборкой мусора в наших городах,—ино-
странцы.
Федеративная республика скатилась бы на по-
ложение развивающейся страны, если бы не ис-
пользовала труд миллионов иностранных рабочих.
И несмотря на это, на сегодняшний день всего
лишь один-единственный иностранный рабочий
получил от федерального правительства «Крест
за заслуги». Им был турок Исмаил Кахмаран,
который работает в заводоуправлении штутгарт-
ского концерна «ИГ Металл» и выполняет обязан-
ности переводчика и советника по делам своих
земляков. Чтобы добиться этой награды для своего
иностранного коллеги, Объединенный профсоюз
металлистов должен был пять раз обращаться
с представлением к властям, прежде чем баден-
вюртембергский ландрат ** в августе 1980 года под-
твердил свое согласие на вручение ордена.
Мой сосед по переулку некто Хасан Эр-оглы,
* Имеются в виду четыре крупнейших металлургических
и машиностроительных концерна ФРГ.—Прим. перев.
** Ландрат—верхняя палата парламента земли (провинции)
Федеративной Республики Германии.—Прим. перев.
140
Первомайская демонстрация в Гамбурге, 1980 год.
по-видимому, вообще не имел никаких намерений
да и шансов когда-либо удостоиться подобной наг-
рады. Но он об этом и не печалится. В Федера-
тивной республике он живет уже 12 лет. Он при-
ехал сюда, чтобы «начать новую жизнь». Западная
Германия, так рассказывали ему друзья,—это
страна самых неограниченных возможностей.
Там, мол, каждый находит себе работу, а заработ-
ки такие, что сразу же можно купить себе авто-
машину, да еще каждую неделю отправлять семье
большую посылку. А вернешься через лет пять
домой, и ты независимый человек: можешь пост-
роить себе дом и с помощью сэкономленных денег
открыть лавочку. Это было именно то, о чем Ха-
сан Эр-оглы мечтал всю жизнь. Поскольку же
обетованной земле—ФРГ—срочно требовались ра-
бочие руки, он увидел в этом возможность испол-
нить свою мечту. Ради этого он даже пошел на
то, чтобы исчез один из его пятерых ребят. Как
он слышал, немцы, как правило, не пускают к себе
отцов, имеющих более четырех детей. Поэтому он
пошел к старосте своего родного села в Анатолии
и заявил, что его младшая дочь, четырехлетняя
141
Айше, умерла. После этого он получил соответству-
ющие документы, и, поскольку семья теперь была
достаточно мала, обратился вместе с женой в на-
ходившуюся в Стамбуле западногерманскую комис-
сию по набору рабочей силы.
Все удалось как нельзя лучше. Они получили
разрешение на работу и вид на жительство в ФРГ
и через три дня сели в «Восточный экспресс»,
шедший в Мюнхен. Своих пятерых детей—Айше,
конечно, была жива и здорова—они на время оста-
вили у своих родителей. Оба добрались до Гамбур-
га, первые несколько недель прожили у родствен-
ников и вскоре нашли работу. Жена Хасана устро-
илась уборщицей в эппендорфской больнице, он
сам—на судостроительной верфи «Блом и Фосо»,
где через полгода закончил курсы сварщиков.
Семья Эр-оглы была довольна. На родине они
еще никогда не имели постоянной работы: он был
поденщиком на овощном базаре. В ФРГ они, ко-
нечно, не зарабатывали так много, как им рас-
сказывали дома их друзья, а жизнь в Гамбурге ока-
залась куда дороже, чем они предполагали, и тем
не менее им удавалось каждую неделю отправлять
детям посылку и отсылать родителям достаточно
денег для того, чтобы те могли кормить и воспи-
тывать их детей. Однако тоска по детям усилива-
лась, и потому в первый же свой отпуск, приехав
в Турцию, они обошли все необходимые учрежде-
ния, чтобы добиться разрешения взять с собой ма-
лышей на далекий Север. Хасан Эр-оглы воскресил
свою объявленную умершей Айше под другим име-
нем. Для этого он обратился в правление своей
сельской общины и заявил, что позабыл вовремя
зарегистрировать рождение нового ребенка.
Так Айше стала по документам Нильгюн, после
чего отец семейства запросил на нее и остальных
четверых детей выездную визу. Он получил ее тут
же, и все они всемером отправились в августе на-
зад, в Гамбург. После недолгих поисков они нашли
в нашем переулке более или менее подходящую
квартиру с печным отоплением, но без ванны, зато
с тремя комнатами—за 320 марок в месяц.
Это было в 1971 году. Теперь, десять лет спустя,
многое изменилось. Надежда на возвращение в род-
ную Анатолию год от года все уменьшается, и се-
142
годня они уже понимают, что она никогда и
не сбудется. Семья едва-едва перебивается на те
деньги, которые зарабатывают оба родителя. Хва-
тает только на жизнь, но не на сбережения. Рань-
ше все их планы сходились на Турции. В перенос-
ном смысле Эр-оглы все время как бы сидели
на чемоданах. Тогда это составляло часть их пла-
нов на будущее. Теперь же о возможности возвра-
щения на родину они больше не говорят. Семья
избегает касаться этой темы. Но в то же время они
предпочитают не говорить и о том, чтобы остаться
здесь навсегда.
Правда, родители втайне от детей уже давно
примирились с той мыслью, что им придется дожи-
вать свой век в ФРГ, но они боятся, что однажды
их просто выгонят отсюда. С каждым днем они
все больше убеждаются в том, что в этой стране
им никто не рад. И в душе они продолжают си-
деть на чемоданах, хотя теперь им от этого совсем
не сладко. Они уже не знают, кто они и где их
место.
Им приходится жить между двух культур, на
ничейной полосе, и поэтому они уже не могут наз-
вать себя ни истинными турками, ни настоящими
немцами.
У себя на родине, куда они изредка уезжают
в отпуск, их дразнят «немцами», а здесь на них
глядят как на «этих турок». К этому добавились
и внутрисемейные неурядицы. На глазах растет
отчуждение детей от родителей. Али, которому уже
15 лет, 16-летняя Айше и 18-летняя Хатун дома
разговаривают только по-немецки. Несколько лет
назад это раздражало родителей и они ругали
детей. Теперь оба только сокрушенно вздыхают,
видя, как исчезает у них контакт с детьми.
Хасан и его жена Нильгюн никогда как сле-
дует не изучали чужой язык, да и не хотели этого
делать. Поначалу—потому что верили в скорое
возвращение в Турцию, а в дальнейшем употреб-
ление в обиходе только родного языка становилось
для них во все большей степени своеобразным про-
тестом против враждебного окружения. Многие
проявления злобы и ненависти, с которыми стал-
киваются в будничной жизни иностранцы, воспри-
нимаются ими не только как личные оскорбления.
143
Такие бранные слова, как «канаки» *, «верблю-
жатники», «деревенщина», а также постоянная по-
дозрительность, придирки и тот оскорбительный
язык, на котором говорят с ними немцы (например,
«Чего ты хотеть?» или «Эй ты, убирайся вон! Давай-
давай!»),—все это складывается в общую, коллек-
тивную враждебность.
Сегодня Хасан Эр-оглы, которому уже 50 лет
и у которого в усах появились широкие пряди се-
дых волос, в еще большей тревоге за завтрашний
день. Хозяева верфи постоянно говорят о давно уже
пропущенных сроках модернизации производства
и понемногу начинают выбрасывать на улицу не-
угодных им иностранцев и своих немецких рабочих
из тех, кто постарше. «Но мы же тоже люди!» Это
одна из немногих фраз, которую Хасан Эр-оглы
произносит по-немецки без акцента и часто повто-
ряет. Говоря эти слова, он, очевидно, имеет в виду
всю ту горькую долю лишений, которую ему при-
ходится испытывать всю свою жизнь, те расистские
предрассудки, которые повсюду преграждают ему
дорогу, те законы, которые без конца причиняют
ему социальный и политический ущерб.
Федеративная республика с самого начала от-
казывала своим «гостям-рабочим» в каком-либо до-
верии. Она их использовала, но принимать в ка-
честве равноправных граждан никогда не собира-
лась. Первым иностранным рабочим, которые после
постройки берлинской стены стали приезжать к нам
из Италии, внушалось, что они не должны считать
себя иммигрантами. Вид на жительство и разре-
шение на работу ограничивались сроком не более,
чем на год. Кто желал оставаться дольше, обязаны
были выхлопотать себе новые документы—от рабо-
тодателей и от властей, ведающих пропиской. Когда
нужда в иностранной рабочей силе исчезала, при-
езжий должен был в течение нескольких дней
выехать из страны обратно на родину.
Когда в середине 60-х годов, еще под впечат-
лением «экономического чуда», были заключены
договоры о наборе рабочих с другими государст-
вами—Грецией, Испанией, Португалией, Турцией,
* Канаки—коренное население островов Новая Каледония.—
Прим. перев.
144
Марокко и Тунисом—и когда иностранные рабочие
стали переселяться в Федеративную республику
во все возрастающих размерах, вопрос об их изгна-
нии обсуждался даже на самом высшем прави-
тельственном уровне. В 1965 году канцлер Эрхард
обратился к гражданам республики с требованием
увеличить продолжительность рабочей недели
на один час с тем, чтобы «решить проблему иност-
ранных рабочих», заменив их повсюду. Однако этот
призыв был отклонен прежде всего профсоюзами»
так как» по их мнению, иностранцев только для
того и приглашали в страну, чтобы это позволило
сократить рабочую неделю до 40 часов.
Был и еще один план» предусматривавший как
допущение» так и ограничение использования иност-
ранной рабочей силы в ФРГ. По так называемому
ротационному методу пребывание приезжих рабо-
чих в нашей стране следовало ограничить самое
большее пятью годами. Отработавших этот срок
нужно было отправлять восвояси и заменять новы-
ми наемниками. Осуществлению этой идеи обра-
щения с людьми, как с машинами, когда их можно
было бы попросту заменять по мере износа, поме-
шали прежде всего соображения экономии средств,
и главным образом необходимость больших зат-
рат на их профессиональную подготовку. Однако
«закон об иностранцах», изданный в 1965 году,
не стал от этого менее человеконенавистническим.
Согласно этому закону, все, кто давал властям
повод считать, что они чувствуют себя у нас в стра-
не, как у себя дома, и предполагают поселиться
здесь навсегда, выдворялись вон. Государство
не согласилось взять на себя какие-либо социаль-
ные обязательства по отношению к иностранным
рабочим и членам их семей и обращалось с ними
по принципу «целесообразности», вытекающей
из «определенных политических целей». А к этим
целям относилось прежде всего недопущение того,
чтобы нежелательные «гости» пускали здесь кор-
ни, ибо, как было записано в постановлении фе-
дерального суда ФРГ, наша республика «вследствие
большой плотности проживающего в ней населения
и ее высокоиндустриализованной экономической
структуры не может быть страной свободной им-
миграции».
145
Эта расистская политика устрашения проводи-
лась вплоть до 1978 года. После этого федераль-
ное правительство сделало послабления по некото-
рым пунктам. Теперь иностранцы имеют право
через пять лет получить бессрочный вид на жи-
тельство, а через восемь—даже постоянную про-
писку. Однако элементарными основными правами,
какие предоставляются каждому гражданину
ФРГ, они все еще не пользуются. Кроме того, эти
новые положения не нашли отражения в принятом
в 1973 году постановлении о прекращении набо-
ра рабочих из тех государств, которые не входят
в состав Европейского экономического сообщества.
Дискриминация иностранных рабочих практиче-
ски нисколько не ослабла и в вопросах социальной
помощи. Так, около 2,2 миллиона граждан Федера-
тивной республики, не имеющих возможности обес-
печить свое существование из собственных средств,
получают государственную помощь. Иностранцам
же попадать в нужду не рекомендуется: в социаль-
ном обеспечении и вспомоществовании им, как пра-
вило, отказывают. Как только негражданин ФРГ
поднимает вопрос о предоставлении ему социаль-
ной помощи, он подвергает себя угрозе высылки.
При этом не имеет значения, по какой причине
он просит об этом.
Во всех законодательствах цивилизованных
стран мира есть основное положение, согласно ко-
торому никто не может быть наказан дважды
за одно и то же преступление. На наших иност-
ранцев оно не распространяется. Когда они нару-
шают законы, их, конечно, наказывают так же, как
и граждан ФРГ. Но вслед за этим их изгоняют
из страны, а это для большинства тех, кто жил
и работал здесь многие годы, означает крушение
всей их жизни. Обосновывается это необходимостью
«устрашающего» примера. Но принцип устрашения
должен осуществляться по возможности справедли-
во. У нас этого не случается. Не так давно в Гам-
бурге был задержан находившийся в пьяном виде
за рулем турок, работавший в системе железных
дорог ФРГ. Он настолько испугался, что сдал свои
водительские права, продал грузовик и объявил,
что больше не хочет водить транспорт. По чисто
146
человеческим понятиям никакой опасности повторе-
ния подобного случая уже не могло и быть. Од-
нако после наказания за совершенный проступок
человека выслали из страны. В то же время в гла-
зах многих немцев подобное правонарушение выг-
лядит не более чем «ухарством».
Федеративная республика до сих пор не рассмат-
ривает иностранцев в качестве равноправных чле-
нов общества: для нее они в лучшем случае цифры
в экономическом уравнении, роботы, но не люди.
В частности, согласно нашей конституции, инсти-
туты брака и семьи находятся у нас под особой
защитой государства, но это ни в коей мере не от-
носится к нашим иностранным согражданам.
Правда, им в принципе пока еще разрешают при-
возить с собой в ФРГ членов своих семей—детей
в возрасте не старше 18 лет и супругов,—но ра-
ботать этим членам семей поначалу здесь не дозво-
ляется. Супруги законтрактовавшихся должны ожи-
дать четыре года, а молодежь—по меньшей мере
два года. По истечении этого срока ожидания они
встречаются с новой преградой: бюро найма рабо-
чей силы обязаны при распределении рабочих мест
отдавать предпочтение местным жителям—граж-
данам Федеративной республики. Это дискримина-
ционное положение само по себе является уже
благом, которое принесла с собой реформа, прове-
денная в апреле 1979 года, потому что до этого
всем приехавшим в нашу страну членам семей
иностранных рабочих, как правило, вообще не пре-
доставлялось никакой работы.
Ахмет Ок впервые приехал в Федеративную
республику весной 1977 года из Южной Турции
в качестве туриста, а год спустя он женился в Гам-
бурге на своей землячке Хатун. С тех пор они
живут здесь, влача самое жалкое существование.
Она работала помощником повара в одном фешене-
бельном отеле и получала 840 марок в месяц.
Из этих денег 160 марок уходило на оплату квар-
тиры, 50 марок—на электричество, 50 марок—
на уголь, 220 марок она переводила родным в Тур-
цию. Оставалось всего 360 марок в месяц—по
180 марок на каждого! Ахмету было тогда 28 лет,
и он очень хотел работать, но на него распростра-
нялось особое положение о вновь прибывших чле-
147
нах семей иностранных рабочих. Ранней весной
1979 года, сразу после введения новых правил,
он наконец нашел место, которое, как его уведо-
мили письменно в бюро по трудоустройству, не по-
желал взять ни один из немецких претендентов.
В общем, ему предложили стать помощником кель-
нера в отеле «Четыре времени года». Но Ахмет
все еще надеялся, что ему повезет. Он отказался
от этого места, но снова и снова приходил в бюро
по найму, пока ему там с истинно немецкой пунк-
туальностью окончательно не разбили все надежды
на лучшее будущее. «Ну в чем дело?—спросил
его начальник бюро.—Хочешь работать?» И сам же
ответил: «Об этом не может быть и речи!» И при-
нялся его отчитывать: ему-де мало, что он вообще
зацепился тут, в Федеративной республике, сумел
состряпать ради этого фиктивный брак. Но это
обычный фокус, и он не пройдет! Ведь он вступил
с этой женщиной в брак только для того, чтобы
проникнуть сюда. «Ах, тебе еще разрешение на ра-
боту? Ни в коем случае! А если попытаешься
где-то тайно подрабатывать, вылетишь отсюда
в два счета! Понятно? Вот так-то! Убирайся вон
и больше не показывайся мне на глаза!»
Но Ахмет Ок не сдается. Он пишет письменный
протест. Его отклоняют. Обратившись за помощью
к прогрессивному адвокату, он подает жалобу
в суд. Дело затягивается. И только в середине
1980 года управление по найму рабочих наконец
соглашается на компромисс. Приезжему турку
предлагают в виде исключения одно место, но не
в гостиничном сервисе, а в рыбоконсервной про-
мышленности, если он, конечно, возьмет свою жа-
лобу обратно. Ахмету ничего не осталось, как
принять это предложение, и сегодня он работает
на одной из рыбоконсервных фабрик, получая
в месяц меньше тысячи марок. И все же, по срав-
нению со многими другими своими соотечествен-
никами, живущими здесь по 4—5 лет и все еще
не получившими разрешения на работу, он оказы-
вается в выигрыше.
«Золотым фондом» наших туземных предрассуд-
ков можно назвать убеждение, будто иностранные
рабочие отнимают у немцев рабочие места и вы-
148
качивают из государства огромные суммы в виде
дополнительных выплат на детей, поскольку, мол,
они производят их на свет всегда гораздо больше,
чем немцы. Однако число детей, родившихся
у иностранцев в ФРГ, начиная с 1974 года, не-
прерывно падает, и рождаемость в семьях иностран-
цев быстро приближается к среднему показателю
у немцев по мере увеличения сроков пребывания
иностранных рабочих в стране. В настоящее время
среднестатистическая немецкая семья насчитывает
2,5 человека, семья иностранцев—2,9 человека.
Таким образом разница оказывается весьма незна-
чительной. На тех детей, которые живут с ними
в ФРГ, иностранные рабочие получают такую же
помощь, как и немцы, но на оставшихся на роди-
не выплаты сокращаются, а численность иностран-
цев, приехавших без детей из стран—не членов
ЕЭС, составляет 750 тысяч человек. Федеративная
республика положительно обманывает их. Они по-
лучают за первого ребенка всего лишь 10 марок
вместо 50, за второго—25 вместо 100, за третьего
и четвертого—60 вместо 200 и за каждого пятого
и последующего—70 вместо 200 марок. В целом
семья иностранцев, оставившая своих четверых
детей на родине—в Турции, Греции или Испании,
недополучает почти 400 марок в месяц. Тем самым
федеральное правительство из года в год экономит,
если верить данным министерства по делам семьи,
около 765 миллионов марок. Этой суммы достаточ-
но, чтобы произвести и поставить в строй 10 боевых
самолетов-бомбардировщиков типа «Торнадо».
Не соответствует положению вещей и наше кол-
лективное представление о том, что иностранцы
якобы отнимают у нас, немцев, работу. Этого поп-
росту не допускает закон о порядке распределения
рабочих мест, по которому граждане ФРГ пользу-
ются предпочтительным правом при устройстве
на работу, а «гости-рабочие» получают только то,
что остается. Если бы для работы на рыбоконсерв-
ной фабрике нашелся немецкий кандидат, Ахмет
Ок не добился бы и этого места. Сложилась прак-
тика, благодаря которой иностранцы фактически
помогают своим немецким коллегам получать более
высокооплачиваемую работу. Говоря языком соци-
ологии, они «формируют самый нижний слой» ра-
149
бочего класса. В то время как свыше 60% немец-
ких индустриальных рабочих—мужчин являются
относительно хорошо обеспеченными квалифициро-
ванными специалистами, рабочие-иностранцы все
больше и больше принимают на себя в нашей про-
мышленности самую грязную и физически тяжелую
работу.
В 70-х годах более 3 миллионов западногер-
манских рабочих «поднялись» до уровня чиновни-
ков и служащих по степени материальной обеспе-
ченности, причем многие из них (каждый второй)
ушли из сферы производства. Освободившиеся
1,5 миллиона низкооплачиваемых и нестабильных
рабочих мест заняли иностранные коллеги. Это
«парии» нашей высокоразвитой капиталистической
экономики. Они имеют те же обязанности, что и их
местные коллеги, так же, как и они, платят налоги и
социальные взносы, но получают куда меньше благ.
Так, если с 1971 по 1980 год иностранцы выплатили
в государственную казну 35 миллиардов марок в
виде взносов по социальному страхованию, то за тот
же период к ним вернулось в форме разного вида
выплат менее 1 миллиарда марок. Короче говоря,
государство, как и предприниматели, извлекает из
«гостей» колоссальные прибыли. И тем, что запад-
ногерманские рабочие получают гораздо более вы-
сокие компенсации в виде различных социальных
выплат, чем их коллеги в других капиталистиче-
ских странах, они в значительной мере обязаны
усиленной эксплуатации иностранной рабочей силы.
Вместе с тем у них нет никакого повода для бо-
язни конкуренции со стороны иностранцев или
для расистских настроений по отношению к ним.
Наоборот, им есть за что их серьезно благодарить.
При отсутствии «гостей-рабочих» им пришлось
бы вместо 40 часов работать по 58 часов в неделю.
ФРГ на пути
к узаконенному апартеиду?
Еще в начале книги я упоминал о том, что
напротив моего дома, чуть наискосок, открылось
заведение некоего мистера Макдональда. Для мно-
гих молодых людей оно оказалось единственным
150
в этой части города местом, где можно провести
свободное время, потому что в городе вообще
не хватает общественных культурных центров.
Поэтому на улице, под нашими окнами, все время
очень шумно от гомона подростков, особенно по ве-
черам: спорят и даже дерутся между собой «по-
перы» и «панки» *, кружат восьмерками и исче-
зают мотоциклы, пронзительно визжат девчонки—
иной раз так громко, что заглушают трескотню
моей пишущей машинки. К полуночи это заведе-
ние почти регулярно прочесывают гражданские
патрули. Они вылавливают тех, кто вызывает по-
дозрение как наркоманы или торговцы наркоти-
ками.
К «Макдональду», как гласит молва, «и стар и
млад идет, не только чтоб набить живот».
Но что меня больше всего беспокоит в этом заве-
дении, так это повседневный расизм, к которому
все привыкли. Посмотришь сквозь стеклянный фа-
сад этого американского концерна бифштексов,
и с первого же взгляда становится ясной четко
разработанная, словно разделанная свиная туша,
отвратительная картина расово-экономической
дискриминации. Система апартеида здесь почти без-
укоризненна. Руководство этого «филиала», конеч-
но, белое; обслуживающий персонал—либо ино-
странцы, либо женщины, а кухня—это нечто вроде
южноафриканской резервации в самом центре Феде-
ративной республики.
Откровенный расизм по отношению к посетите-
лям-иностранцам практикуется у нас даже в со-
сисочных. На дверях «дочерних» сосисочных Мак-
дональда в Геттингене и Нортхайме висят таблички:
«Иностранцев не обслуживают!» В качестве оправ-
дания руководство ссылается на то, что иностранцы
берут слишком мало еды и используют помещение
только для того, чтобы погреться. В Дельменхор-
сте Макдональд повсюду запретил посещение его за-
* «Поперы» (от слова «популярный» или сокращенно—«поп»)—
поклонники современной западной поп-музыки. «Панки»—пред-
ставители нигилистского течения в среде западной буржуазной
молодежи, отрицающие всякую культуру, в том числе и куль-
туру поведения» Они раскрашивают себе лица в разные цвета,
выбривают на голове часть волос, носят странные украшения,
ведут себя неприлично и пр.—Прим. перев.
151
ведений турками. В городах с американскими воен-
ными гарнизонами, от Кайзерслаутерна до Фюрта,
уже давно существуют раздельные сосисочные—для
немцев и для американских, в первую очередь аф-
роамериканских, солдат.
Можно, конечно, спорить о вкусах. Но мне опре-
деленно портят обещанное концерном удовольствие
от еды грубые формы эксплуатации, применяю-
щиеся во всех его заведениях, разросшееся коли-
чество которых давно перевалило за 200. Концерн
славится тем, что в нем не терпят никаких проф-
союзов. Более 60% его работников трудятся на по-
часовой основе и не имеют права претендовать ни
на какое социальное обеспечение: ни на оплаченный
отпуск, ни на гарантированный 8-часовой рабочий
день. Средняя продолжительность работы на одном
месте составляет менее шести месяцев. Каждое ра-
бочее место меняет своего хозяина 2—2,5 раза в
год. Если этот пример сделает нам погоду и гене-
ральное наступление мистера Макдональда на Фе-
деративную республику будет продолжаться столь
же планомерно—а к 1985 году предполагается до-
вести число его филиалов у нас до 500,—то прак-
тике апартеида здесь будет открыта самая широ-
кая дорога.
До сих пор критика американского концерна руб-
леного мяса ограничивается лишь мелкими придир-
ками по поводу снижения общей культуры питания.
Мне же кажется, что нужно смотреть Рональду
Макдональду не столько в тарелки, сколько за ку-
лисы его бизнеса и клеймить позором рассадники
расизма, какими являются его кухни. Из темной
кожи и социальной несправедливости, из личной
нужды и нищеты иностранных рабочих этот про-
изводитель сосисок и бифштексов систематически
выжимает огромные барыши. Он кровно заинтересо-
ван в том, чтобы ради его гешефта у нас и дальше
не только продолжалось, но, по возможности, и уси-
ливалось давление в сторону снижения стоимости
товара—рабочей силы.
Там, где инспекция труда закрывает на все это
глаза, Макдональд использует даже труд детей ино-
странцев в возрасте до 14 лет. Они работают у
него на почасовой основе, получая по 2—3 марки
в час за различные подсобные работы. Из 300 тысяч
152
детей, которые вопреки всем запретам на детский
труд, существующим в ФРГ, все же нелегально ра-
ботают, 200 тысяч, по оценкам органов профессио-
нального контроля, составляют дети иностранцев.
Например, каждую среду мне приносит домой
шпрингеровскую «Гамбургер абендблатт» 13-летняя
турчанка с Кегельхофштрассе. С каждой проданной
газеты ей платят в день по 7 пфеннигов.
Только на разноске газет и журналов занято
свыше 50 тысяч детей иностранцев. В таких сферах,
как уборка квартир и уход за ребенком, обслужива-
ние бензозаправочных колонок, подсобная работа
в универсамах и прачечных, гостиничный сервис
и т. п., их насчитывается около 30 тысяч. Боль-
шая их часть—турки. Они получают за выпол-
няемые ими подсобные работы сразу на руки, как
правило, не более двух марок в час. Один из сы-
новей упомянутой выше семьи Эр-оглы, живущей
на Шраммс-вег, в течение нескольких лет работал
на овощном рынке. Он начинал работу в 5 часов
утра и до начала уроков в школе помогал разгру-
жать и нагружать овощные фургоны. Он таскал
ящики с овощами и фруктами к прилавкам и сор-
тировал товар. Поскольку занятия в школе начина-
лись только в 9 часов утра, никто никогда не за-
мечал, что мальчик работает. Только учителя иног-
да спрашивали, почему это парнишка приходит по
утрам в школу таким уставшим.
В книге «Детский труд в Федеративной респуб-
лике» ее авторы Эльке и Генрих фон Хаар при-
водят и другие, куда более серьезные факты. Так,
например, ими описан случай, когда один 13-лет-
ний испанец работал в Рейнской области на фаб-
рике, производящей проволоку и пластиковые паке-
ты, по 48 часов в неделю, получая по 2 марки
40 пфеннигов в час. Когда хозяин прогорел, пар-
нишка нанялся на другую фабрику за 2 марки
67 пфеннигов в час. Он не посещал школу, ибо
крайняя нужда заставляла его помогать родителям
кормить семью из восьми человек.
Тенденция к узаконению апартеида обнаружива-
ется у нас и в просвещении. К началу осени 1980
года министр по делам школы и культов земли
Баден-Вюртемберг издал постановление о создании
153
отдельных классов для детей иностранцев. На осно-
ве испытанной им в Маннгейме «модели» отныне
ни в одном классе количество иностранцев не дол-
жно было превышать 30%. Все школьники-иност-
ранцы, не вошедшие в эту квоту, сводились теперь
в специальные классы и даже в особые школы.
Таким путем намеревались «оградить» немецких
школьников от «перенапряжения и чрезмерного
иностранного влияния». Речь прежде всего шла о
том, чтобы их христианской вере не угрожало «боль-
шинство, представленное фанатичными мусульма-
нами». В то время как в США движению за граж-
данские права негров в 60-е годы удалось после
долгой борьбы добиться расовой интеграции в шко-
лах Юга, мы делаем все возможное, чтобы похо-
ронить этот главный принцип каждого многонацио-
нального, этнически неоднородного общества и пе-
рейти с помощью «раздельного обучения» к расово-
сегрегированному развитию, начиная с возраста,
когда изучают букварь.
Шпрингеровская пресса, решительно настроенная
на сохранение и всемерное расширение «системы
трех классов» * в наших школах, уже давно выс-
тупает за создание особых классов для иностран-
цев. Но иностранные школьники и без этих «осо-
бых отделений» и классов ущемлены в праве на
образование. Согласно уже упоминавшемуся прави-
тельственному «меморандуму» Кюна, 25% детей
иностранцев, то есть по меньшей мере 100 тысяч
человек, вообще не ходят в школу. Из тех же, кто
регулярно посещает школу, лишь 1/3 заканчивает
начальные классы. В целом же 90 из 100 юношей и
97 из 100 девушек иностранного происхождения
не могут получить профессиональной подготовки
или продолжить начатое на родине обучение из-за
недостаточного уровня образования.
В настоящее время доля неграмотных у нас в
стране составляет 5—6%, причем на 4/5 она обусло-
влена неграмотностью иностранцев. И этот процент
постоянно возрастает из-за их серьезной дискрими-
нации при получении образования. Если в самое
* Система обучения, при которой школьники каждого возраста
сводятся в школах в три класса—чисто немецкий, смешанный
(70% немцев и 30% иностранцев) и чисто иностранный с «усе-
ченной» программой.—Прим. перев.
154
ближайшее время не будут приняты действенные
меры для ликвидации того чрезвычайного положе-
ния, которое сложилось в вопросах обучения де-
тей иностранцев, то перед ФРГ откроется нами же
самими запрограммированный путь к превраще-
нию в нацию, состоящую из двух частей—людей
образованных и людей, не умеющих ни читать, ни
писать.
Сегрегация входит размашистым шагом и в дру-
гие сферы нашей жизни. Тот, кто не является «чис-
токровным» немцем, после 1980 года уже не может
застраховать свою автомашину у страховых компа-
ний «Альянц» или «Колонна». В будущем при зак-
лючении договора о страховании надлежит предъяв-
лять «арийский паспорт». Компания «Альянц» с
ее 3,7 миллиона заключенных договоров представ-
ляет собой самое крупное в ФРГ общество по стра-
хованию автомобилей. 1 августа 1980 года она вне-
запно оповестила своих иностранных пайщиков (об-
щим числом около 140 тысяч) об аннулировании
их страховок. Тем самым она «очистилась от пос-
торонних». А среди них были иранские врачи, ту-
нисские медсестры, турецкие шахтеры, афроамери-
канские солдаты и японские бизнесмены. И это были
люди, которые в течение 10 и более лет ездили без
аварий и несчастных случаев. Однако компания
обосновала свое решение именно тем, что, мол, инос-
транцы слишком часто оказываются замешанными
в автомобильных катастрофах, а страховой полис
только побуждает их ездить нахальнее. Это поисти-
не расистский аргумент, не имеющий под собой ни-
какой почвы.
Так же, как и предъявление «арийского паспор-
та» при страховании машины, неприятные вос-
поминания о нацистских временах вызывает вве-
денная тихой сапой трудовая повинность для
просящих политического убежища. Те, кто подал
прошение о предоставлении убежища в ФРГ и начал
получать социальную помощь, должны по требо-
ванию властей городов и общин «выполнять об-
щественно полезную работу». Если они по какой-
либо причине отказываются это делать, всякая по-
мощь прекращается, и человеку грозит высылка из
страны. Подобные условия, которые раньше ста-
вились только перед лицами, отбывшими тюрем-
155
ное заключение» или бездомными бродягами» ныне
навязываются во все возрастающей степени бежен-
цам из «третьего мира»: Африки» Индии, Турции.
Управление по строительству и охране парков
и садов в Дюссельдорфе, например» эксплуатирует
сейчас на своих работах беженцев-эфиопов, платя
им по полторы марки в час, а когда в домах для
престарелых появляется «нехватка кадров», этих
же людей используют и чиновники Управления об-
щественного призрения. В Вестфалии на таких за-
работках находятся 30 беженцев из разных афри-
канских стран. Их обязанность—держать в чистоте
и порядке зеленые насаждения вдоль дорог, а за-
одно—и сами дороги. Они получают в месяц по
93 марки. Швабская община Грумбах куда щедрее:
она выплачивает своим африканцам, очищающим
городок от грязи и мусора, по 330 марок в месяц,
но зато эти беженцы должны работать почти круг-
лосуточно, включая воскресные дни и даже праздни-
ки. В городе Бюнде, в земле Северный Рейн-
Вестфалия, беженцы из Шри-Ланки работают но
трудовой повинности подметальщиками улиц за
310 марок в месяц. Подобная практика не только
игнорирует правительственный декрет, не разре-
шающий принимать на работу беженцев в течение
первого года их пребывания в стране, но, напротив,
использует его, чтобы города и общины могли
создать у себя собственные «отряды трудовой по-
винности» *, готовые к работе в любое время и не
стоящие господам из общин почти ничего.
Еще одним примером обхождения с иностранны-
ми рабочими, как с уголовниками, могут служить те
уловки, с помощью которых баварские местные вла-
сти обходят правительственный декрет об иностран-
цах. По испытанной в Берхтесгадене «модели» ра-
бочим-иммигрантам из Турции и других стран—
не членов БЭС выдача разрешения на работу и
пребывание в ФРГ обусловлена строгим обязательст-
вом поступить на службу в сферу обслуживания
гостиниц и ресторанов. Если какая-либо сторона на-
рушит этот «трудовой договор», немедленно аннули-
* Так назывались полувоенные рабочие формирования, созда-
вавшиеся гитлеровцами во время войны из насильно угнанных
в Германию жителей временно оккупированных стран и рай-
онов.—Прим. перев.
156
руется и право на пребывание в Федеративной рес-
публике. Таким образом, все подсобные рабочие в
этой сфере обслуживания оказываются совершенно
беззащитными от произвола работодателей. Им при-
ходится трудиться по 65 часов в неделю, включая
и воскресенье, и довольствоваться при этом месяч-
ным заработком, не превышающим 700 марок.
Когда под Новый, 1981 год группа турецких
профсоюзных активистов заявила протест против
подобного рабовладельческого отношения баварских
властей к иностранным рабочим, реакция окружных
властей Берхтесгадена была незамедлительной и
резкой. Протестовавшим туркам было предложено
покинуть Федеративную республику в течение двух
недель, так как их трудовые соглашения немедленно
аннулировались.
11 июля 1980 года один чернорабочий на строи-
тельной площадке товарной станции Ганновер-Лин-
ден не услышал сигнала, поданного с поста обеспе-
чения безопасности работ. В результате он был смят
наехавшим на него маневровым паровозом и полу-
чил опасные для жизни ранения. Полицейские, рас-
следовавшие происшествие, обнаружили совершенно
невероятные обстоятельства. Оказывается, постра-
давшего вообще как бы не существовало: его фами-
лия не значилась ни в одной ведомости на получе-
ние зарплаты от какой-либо фирмы, принимавшей
участие в строительных работах на железных до-
рогах. Он работал нелегально, как и семеро его то-
варищей. Все они находились «на службе» у фирмы
по «поставке» рабочей силы, некоего Тестера из
Гельзенкирхена. Он «одолжил» свою бригаду рабо-
чих через одного посредника Управлению железных
дорог ФРГ. За 10 марок в час эти люди должны бы-
ли растаскивать щебенку лопатами по полотну доро-
ги и менять рельсы. У производителя работ были
зарегистрированы только четверо, остальные рабо-
тали на глазах у контролера из Управления желез-
ных дорог «по-черному».
Часто говорят, что властям очень трудно усле-
дить за всеми махинациями с рабочей силой на
рынке труда. Чтобы не допускать этих бандитских
гешефтов с передачей фирмами друг другу своих ра-
бочих, Бонн уже давно хотел запретить их перенаем,
по крайней мере в строительных отраслях экономи-
157
ки. Однако из этого ничего не вышло, и торговля ра-
бами продолжает процветать. Строительные пло-
щадки переполнены отбывающими «барщину».
Официально в ФРГ зарегистрировано 1200 предпри-
нимателей, которые ссужают в общей сложности
36 300 рабочих, однако, по данным Объединенных
немецких профсоюзов, насчитывается самое малое
10 тысяч фирм, имеющих не менее 500 тысяч «не-
легальных» рабочих. По сведениям других экспер-
тов, эти «темные» цифры еще выше. Наиболее по-
казательным в этом отношении регионом является
Рурская область. Только в районе Бохума дейст-
вуют, по всей вероятности, 350 нелегальных посред-
ников по найму рабочей силы. В Гельзенкирхене их
не менее сотни.
Такая практика сложилась еще в начале 70-х го-
дов, когда гамбургская фирма «проката» рабочих
рук «Адиа» обратилась в федеральный конститу-
ционный суд с требованием отменить государствен-
ную монополию в отношении трудового посредни-
чества и добилась успеха. Был издан закон, который
для нелегальных фирм стал по существу охранной
грамотой. Теперь им достаточно только обзавестись
официальным свидетельством на право занятия про-
фессиональной деятельностью стоимостью в 20 ма-
рок, и преспокойно открывать торговлю рабами.
Можно даже предлагать рабочих на откуп строи-
тельным фирмам... по почте. Нужно только знать
номера их почтовых ящиков. И тогда: «Если Вы
находитесь в затруднении относительно рабочей си-
лы... Мы сможем направить Вам...»
О том, насколько прибыльны гешефты с переда-
чей рабочей силы, свидетельствует следующий рас-
чет. Труд квалифицированного кадрового рабочего
стоит примерно 38 марок в час. Если фирма дейст-
вует через посредника, она платит ему уже только
22 марки, из которых рабочему достается всего око-
ло 15 марок. Остальные идут посреднику. За не-
квалифицированных рабочих посредник получает
по 18—22 марки в час, из которых выплачивает им
по 8—10 марок. Иностранцы, работающие нелегаль-
но, а они составляют почти 2/3 всех чернорабочих,
получают на руки 5—7 марок в час. Одна неле-
гальная бригада строителей из четырех человек при-
носит спекулянту рабочей силой до 10 тысяч марок
158
чистой прибыли в месяц. Две такие посреднические
фирмы в Гельзенкирхене в начале 70-х годов, по
данным городского магистрата, уплатили за два го-
да в виде подоходного налога 2,4 миллиона марок,
налога на зарплату—5 миллионов, а выплат по со-
циальному страхованию—2,2 миллиона марок.
В последние два-три года гешефты с передачей
рабочей силы внаем все больше связываются с
рабочими-иммигрантами. В гостиницах для ино-
странцев и на задних дворах предприятий разверты-
вают свою деятельность настоящие негласные бир-
жи по найму и перенайму рабочих, снабжающие
дешевыми кадрами целые отрасли экономики. Ра-
зумеется, англичан, ирландцев и поляков устраи-
вают получше, а в «черный наем» идут преиму-
щественно турки, индийцы и пакистанцы. Средняя
заработная плата индийца, работающего у нас неле-
гально, составляет, по некоторым оценкам, 3 марки
60 пфеннигов в час. Акулы-посредники безжалостно
используют бедственное положение иностранцев.
Так, некий торговец живым товаром Герман Аме-
люнксен содержал у себя в вестфальском городке
Викеде целый лагерь, в котором временами накап-
ливалось до сотни людей, подцепленных опытным
дельцом в очереди у бюро по срочному трудоустрой-
ству, у тюрем, на вокзалах или просто на улице.
Амелюнксен платил каждому «нелегалу» по 6 ма-
рок, но они должны были из этого «заработка» опла-
чивать вперед свое питание и жилье, а покупать
товары были обязаны только в принадлежащем
«фирме» ларьке. Поскольку поначалу ни у кого из
них не было денег, они брали товары в долг. Поэто-
му многие в течение нескольких месяцев вообще не
видели никаких денег, а когда кто-то из них хотел
получить расчет, оказывалось, что он еще задолжал
«фирме» тысячу, а то и больше марок.
Из года в год на уборку урожая вишен в район
Альтенланда под Гамбургом приезжают 7—10 ты-
сяч нелегально завербованных рабочих из Турции,
Марокко и Индии. Посреднические фирмы достав-
ляют их сюда на реактивных воздушных лайнерах.
И до сих пор власти не предприняли никаких ша-
гов, чтобы прекратить это беззаконие. Еще более
совершенная система эксплуатации такого же типа
применяется в нашем судоходстве.
159
Существует очень много западногерманских су-
дов, которые, чтобы не платить высокие налоги в
собственной стране, ходят под «более дешевыми»
флагами таких стран, как Панама или Либерия. Эти
суда, помимо своей команды в 20—30 человек, име-
ют на борту еще и нелегально нанятых матросов с
Тайваня и Филиппин, из Гонконга и Южной Кореи,
Сьерра-Леоне, Нигерии или с островов Карибского
моря. Им достается на судне самая тяжелая работа,
особенно при погрузке и разгрузке. Это настоящий
рабочий скот, не имеющий представителей, чтобы
защитить свои интересы; на этих рабочих не рас-
пространяется социальное страхование, и уж, конечно,
они не помышляют ни о какой охране или безопас-
ности труда. Если с кем-то из них случается не-
счастье, значит, бедняге не повезло. Его выбрасы-
вают в случае необходимости за борт или помогают
исчезнуть каким-либо другим способом.
Как указано в отчете руководства профсоюза ра-
ботников общественного транспорта и связи, в сфере
нашего судоходства «за счет использования бедст-
венного положения, сложившегося в самых слабо-
развитых странах мира, постепенно снова вводятся
феодально-индустриальные формы рабства». Назва-
ны 14 западногерманских пароходных компаний,
среди которых фигурируют такие, как «Дойче
Шелльтанкер», «Дойче Африка-линиен» и «Сломан-
Нептун». Их любовь к своему главному торговому
партнеру—Южной Африке—такова, что они насаж-
дают на своих судах расистскую «модель» апартеи-
да в самом чистом виде. При этом христолюбивые
судовладельцы получают колоссальные прибыли.
Так, если немецкому моряку положена согласно та-
рифу заработная плата порядка 1000—1200 долла-
ров в месяц, то «нелегал» довольствуется 100—
120 долларами. Рабочий день у него продолжается
12 часов, и он не имеет права ни на выходные дни,
ни на оплачиваемый отпуск.
В начале января 1981 года 19 филиппинских
подсобных рабочих-моряков на грузовом судне «Сан-
та-Фе», приписанном к пароходной компании «Гам-
бург-Зюйд-Аугуст-Эткер», объявили забастовку.
Причиной ее было то, что владелец судна недодал
им зарплату, утаив 198 тысяч долларов. Благодаря
солидарности, проявленной гамбургскими докерами,
160
и заступничеству профсоюза работников общест-
венного транспорта и связи, а также Германской
коммунистической партии нелегально нанятые
моряки сумели на этот раз отстоять свои требова-
ния. Каждый из них получил почти по 10 тысяч
долларов украденной у них зарплаты. На судне
«Беллатрикс», которое ходит под флагом бремен-
ской пароходной компании «Цепперфельд», работа-
ют 17 подсобных моряков из Бангладеш. Их офици-
альная зарплата равна 146 долларам в месяц, а
за сверхурочные им платят только по 55 центов
в час. В то же время немецкий капитан этого судна
имеет жалованье, превышающее в сумме заработок
всех 17 бангладешцев. Это настоящий расизм в со-
единении с беззастенчивой сверхэксплуатацией,
какие наблюдались еще в «добрые старые кайзеров-
ские времена».
Альтернативы?
А все же есть ли у нас хоть где-то что-то пози-
тивное? Так, словами Тухольского*, вероятно, спро-
сит меня тот из читателей, кто сумел добраться поч-
ти до конца первой половины этой книги. Конечно,
скажет иной, у нас, в общем-то, не так плохо, как,
например, в Южной Африке или даже на Юге США.
Я, мол, вот всякий раз здороваюсь со знакомым тур-
ком, когда встречаюсь с ним на углу улицы. У меня
служит человек из Ганы, и с ним, уж во всяком слу-
чае, обращаются вполне прилично. Вот и турчанку,
на которой женился мой дядя из Байройта, я нахо-
жу просто очаровательной. Разумеется, у каждого
из нас, если подумать, отыщется такой «иностра-
нец для алиби». Но, к сожалению, это ничего не ме-
няет в общей ситуации. Наоборот, эти положитель-
ные исключения из правила только позволяют нам,
гражданам Федеративной республики, закрывать на
все глаза.
Человек сталкивается у нас в стране с расизмом
* Курт Тухольский (1890—1935)—прогрессивный немецкий
журналист и публицист политико-сатирического жанра. Высту-
пал в 20—30-е годы с критикой германского империализма,
расизма и шедшего к власти фашизма» Умер в эмиграции
в Швеции.—Прим. перев.
161
Нигерийские матросы из команды торгового судна «Кайоде
Бакаре» празднуют свою победу, одержанную в забастовке.
буквально на каждом шагу, даже тогда, когда он о
нем и не подозревает. Даже в священных для нас
местах. Вот, например, вчера я ехал с лекциями в
Баварию и мне пришлось ждать поезда в Нюрнбер-
ге целых полтора часа. Следуя хорошей привычке, я
пошел прогуляться по городу. Не успел я отойти от
вокзала на несколько шагов, как мне попала на гла-
за вывеска—голова мавра с курчавыми волосами,
толстыми губами и кольцом в носу. Поднял голову—
передо мной... аптека с названием «У мавра». И го-
лова служит ей рекламой.
В информационном центре «Комм», где я уже
много раз читал свои лекции, я зашел в мужской
туалет и от неожиданности не мог даже как следует
спустить воду, когда увидел на кафельных плитках
надпись, сделанную краской из аэрозольного балло-
на: «Все иностранцы—жиды!» От такой надписи, и
верно, побледнеешь. После этого я посетил церковь
св. Лоренца, чтобы в который раз полюбоваться не-
подражаемой картиной Фейта Штосса «Благовест».
Картина меня очень растрогала, но внезапно рядом
с этим художественным откровением я увидел нечто
новое. Это была доска с объявлением: «Место для
162
молитвенных и благодарственных обращений к бо-
гу». На этой доске висели приколотые бумажки с
надписями от руки следующего содержания: «Ми-
лостивый боже, выпусти,наконец,на свободу Рудоль-
фа Гесса!», «Боже милосердный, сделай так, чтобы
все иностранцы убрались восвояси и я вновь полу-
чил работу!» или «Боже праведный, закрой же на-
конец все порнографические лавки и сделай черных
женщин порядочными!».
Извините меня, но я никак не хотел писать сати-
ру. Отнюдь нет. Я вовсе не намерен потешаться над
своей страной и над своим народом!
Если же говорить серьезно, то позитивного в мо-
ем памфлете так мало не потому, что я потерял
связь со своими соотечественниками и с родиной,
или потому, что я предпочел бы жить где-то еще, на-
пример в другом немецком государстве, в Советском
Союзе или в Америке. При всем моем уважении к
другим странам, я люблю свое отечество не меньше
и написал эту книгу в конечном счете именно из
чувства неразделенной, разочарованной сыновней
любви. Меня угнетает холодность человеческих от-
ношений в нашей стране, меня мучает растущая
враждебность людей в общении друг с другом, я
страдаю в душной и затхлой атмосфере, подавля-
ющей в людях все добрые чувства. Меня раздража-
ют тысячи мелких грубостей, совершаемых людьми
в нашей будничной жизни. Меня возмущает води-
тель автобуса, который трогает машину только ради
выполнения расписания, хотя кто-то в эту секунду
не дотягивается ногой до подножки. Меня бесят
люди, которые бранятся, когда дорогу им перешел
слепой, вместо того чтобы, плюнув на глупую при-
мету, помочь ему. В нашей стране эта будничная
жестокость видна повсюду, и очень часто она вызы-
вает в памяти еще худшую жестокость.
Я полагаю, что усиливающаяся недружелюб-
ность людей в совместной нашей жизни, в буднич-
ном общении друг с другом как в семье, так и в об-
щественных местах имеет в более широком смысле
нечто общее с ростом расистских настроений. Этот
неорасизм в моих глазах является не в последнюю
очередь выражением кризиса межличностных отно-
шений, неким феноменом, сопутствующим прогрес-
сирующему отчуждению людей друг от друга.
163
Предрассудки тоже способствуют взаимному
разобщению, отдалению людей. При этом границы
их разобщения не обязательно проходят между, ска-
жем, евреями и «арийцами» или между черными и
белыми. Они могут пролегать также и между като-
ликами и протестантами, между добропорядочными
гражданами и так называемыми террористами,
между старым поколением и молодежью, между
студентами и рабочими, увечными и теми, кто при-
чиняет увечья, социал-демократами и коммуниста-
ми, создавая барьеры для взаимопонимания. Даже
левые в нашей республике ведут себя по отношению
друг к другу куда скованнее и подозрительнее, чем
в соседних с нами странах. Они замыкаются, как
в гетто, остаются разобщенными в своих маленьких
группках и руководствуются столь противоречивы-
ми решениями, что это самым ненужным образом
затрудняет их сотрудничество.
Вопреки моей любви к родине я подчас сам чув-
ствую себя чужаком в собственной стране. И это не
столько потому, что меня за мои политические сим-
патии давно величают «цепной собакой кремлевских
царей», за мои сочинения—«навозной мухой», а
за то, что у меня черная жена,—«свиньей». Против
всего этого еще можно было бы защититься не толь-
ко коллективно, но и индивидуально. Нет, куда
острее воспринимаю я невысказанную агрессив-
ность, ту общую атмосферу, которая делает людей
неспособными нормально говорить между собой,
то безразличие, которое они проявляют к своим
ближним.
Складывается впечатление, что люди уже просто
не могут переносить друг друга и даже самих себя.
Они не способны терпеть ни собственного партнера,
ни вида человека, заключенного в тюрьму, ни увеч-
ного, ни душевно нездорового, ни тем более непохо-
жих на них иностранцев, да еще с темной кожей. Но
тот, кто не терпит людей другой нации и расы, вско-
ре отворачивается и от своих. Его поведение стано-
вится ущербным, он чурается контактов с людьми и
в конце концов оказывается неспособным на истин-
ную дружбу и человеческие чувства. Тот, кто ведет
себя как расист по отношению к другим людям, в
конечном счете переносит свои предрассудки на всех,
с кем ему приходится иметь дело. Он видит себя
164
окруженным только врагами и собственной черно-
белой схемой преграждает доступ к себе самому и
себе подобным.
Я объявляю войну расизму, враждебности к ино-
странцам и ненависти к чужим народам, так как не
могу безучастно смотреть на то, как проникнутое ка-
питалистической конкуренцией мышление уничто-
жает в нас последние капли человеческого дружелю-
бия. Я ничего не хочу так сильно, как большей при-
ветливости в отношениях между людьми, большей
внимательности и заботливости в их общении друг с
другом. Мне хотелось бы, чтобы мы преодолели те
барьеры предрассудков, которые мешают нам сегод-
ня действовать сообща, и проявили единство хотя бы
в нашем подходе к основным вопросам современно-
сти. А такими вопросами, по крайней мере для меня,
всегда были и будут вопросы мира на земле. Только
таким путем, только тогда, когда мы теснее спло-
тимся, как люди, в наших человеческих отношени-
ях, появятся и предпосылки для совместной борьбы
за более достойный человека и свободный общест-
венный строй.
Но, к сожалению, правда есть правда. Ни в од-
ной другой стране капиталистического или социа-
листического мира люди не сидят друг подле друга
столь безучастно и равнодушно, как у нас. Не едут
рядом в автобусах и поездах, не произнося при этом
ни слова, как у нас. Не живут в одном и том же до-
ме, ни с кем не здороваясь при встрече, никого не
навещая, ни с кем не разговаривая, как у нас. Не
работают на одном предприятии по 20—30 лет, ни с
кем не завязывая дружбу, как в нашей стране. Ког-
да пересекаешь нашу границу, то уже через несколь-
ко километров видишь другие, более открытые лица.
Уже в другой половине Берлина, в Варшаве и Пра-
ге, в Вене и Риме, в Париже и Амстердаме совсем
иная атмосфера. У нас же люди сидят или стоят ря-
дом, словно застегнутые на все пуговицы, точно ока-
меневшие. Они не решаются даже взглянуть друг
другу в глаза и не находят никакого повода, чтобы
завязать беседу. Все как-то озлобленно молчат, все
боятся даже малейшего прикосновения друг к другу,
и никто никому не доверяет.
В такой напряженной и отравленной эгоизмом
атмосфере иностранцы у нас превращаются в некие
165
громоотводы для всевозможых агрессивных выхо-
док. Они становятся «отдушиной» для наших психо-
логических «комплексов». Им приходится распла-
чиваться за наше недружелюбие и страдать от тех
недостатков в культуре поведения, в которых они
менее всего повинны. И как раз потому, что иност-
ранцам очень трудно свыкнуться с этой холод-
ностью и враждебностью, они предпринимают по-
рою робкие и, как правило, неверно понимаемые
попытки сближения, за которые их наказывают
особым презрением и даже ненавистью. И, загнав
себя в свою же собственную атмосферу отчуждения,
наши люди реагируют с раздражением и обнару-
живают явно нечистую совесть.
Несколько недель назад я был в Дании, где по
просьбе немецкого меньшинства в Северном Шлезви-
ге (Южной Ютландии) читал лекции в публичной
библиотеке города Обенро. Там я посетил Дом моло-
дежи в Нивсберге—богатый традициями культур-
ный центр немецкоязычных датчан. Проживающие
в Дании 22 тысячи лиц немецкого происхождения
не подвергаются никакой дискриминации. Более то-
го, во многих отношениях они находятся даже
в привилегированном положении, поскольку, напри-
мер, могут свободно выбирать все из того, что
предлагают им обе культуры. На юге Ютландии
у них повсюду свои школы, причем во многих клас-
сах не более трех учеников. В их распоряжении
девять крупных библиотек и несколько культурных
центров. Свои политические проблемы они решают
с помощью официально признанного Национального
союза так же, как это делают и датчане, прожи-
вающие на севере Шлезвиг-Гольштейна.
В маленькой Дании не встретишь никакой расо-
вой или национальной дискриминации по отноше-
нию к негерманским народам.
Как и в годы нацистской оккупации, когда мно-
гие датчане становились на защиту своих преследу-
емых сограждан—евреев, нашивая себе на одежду в
знак солидарности желтую звезду, эта страна и се-
годня проявляет весьма заметную терпимость по
отношению к проживающим в ней национальным
меньшинствам. В начале 50-х годов много тысяч
детей от «смешанных браков», родившихся в Запад-
ной Германии, нашли приют у датских приемных
166
родителей. Перекочевавшие сюда из ФРГ цыгане
получили здесь права гражданства, а национальные
группы гренландцев, жителей Фарерских островов и
борнхольмцы пользуются в настоящее время такой
же защитой своих национальных интересов, как и
датские немцы. А ведь Дания, как и Федератив-
ная республика,—капиталистическая страна.
Расизм не может быть проявлением и некоего из-
начального и неистребимого склада национального
характера, ибо между культурами, языками и осо-
бенностями быта датчан и немцев определенно боль-
ше общего, чем различий.
Но в двух отношениях мы действительно серьез-
но расходимся с нашими северными соседями. Дат-
чане никогда не переживали эпохи ярко выра-
женного колониализма (такие их колонии, как
Гренландия и отошедший в 1902 году к США
остров Сент-Томас в группе Антильских островов,
можно не принимать в расчет)* и не имели у себя
в стране собственного фашизма. Обе эти эпохи—
колониализма и фашизма—в нашей Федеративной
республике еще дают о себе знать. Поскольку от ко-
лониализма и фашизма мы избавились не самосто-
ятельно, они неожиданно были сметены внеш-
ними силами,—оставленная ими почва оказалась
благоприятной для произрастания шовинистических
настроений по отношению к другим народам и ра-
сам. Как известно, тот, кто не извлекает уроков
из своей истории, осужден повторять ее ошибки
вновь и вновь.
Расизм всегда наступает справа. И в нем, как
правило, заметна тенденция к фашизму. Там, где
империализм превращается в откровенный фашизм,
неизменно присутствует и расизм. Так было у нас
в период между 1933 и 1945 годами; так было при
фашистских режимах в Испании, Португалии и Гре-
ции, где идеология обнаруживала отчетливые черты
расизма. В сегодняшней Турции военно-фашистская
хунта разжигает среди населения националисти-
* Автор не совсем точно указывает бывшие колониальные
владения Дании и даты их отпадения. Дания владела не одним
островом Сент-Томас, а большей частью Виргинских островов
(Датская Вест-Индия), которые были проданы США 2 1916 —
1917 годах, а также Исландией, отделившейся от нее в 1944 го-
ду.—Прим. перев.
167
ческие и расистские настроения в отношении курдов
и греческого меньшинства. Но самым ярким приме-
ром взаимодействия расизма и фашизма является
режим апартеида в Южной Африке.
Расизм чаще всего находит себе питательную
среду в обществах, разделенных на антагонисти-
ческие классы. Власть имущие там целенаправленно
используют его против рабочего класса. Он, очевид-
но, имеет много общего с классовым сознанием тех,
кто находится на самых верхних ступеньках об-
щества и кто хотел бы видеть все человечество раз-
деленным на белую знать, желтое среднее сословие
и черный пролетариат. С тех пор как между трудом
и капиталом возник непримиримый антагонизм,
крупные монополии и враждебные рабочему классу
политики неустанно подогревают расистские пред-
рассудки и настроения, стремясь расколоть рабочее
движение и выделить из него ту часть, которая
могла бы довольствоваться самой низкой заработной
платой.
Транснациональный капитал и до сегодняшнего
дня наживается на расизме, причем не только в
Южной Африке или в США. И у нас его счета неиз-
менно растут. Так, если принять, что около 1,8 мил-
лиона иностранцев, работающих у нас, получают в
среднем на 30% меньшую зарплату, чем их немец-
кие коллеги, то есть в год теряют примерно по 5 ты-
сяч марок на человека, то получается весьма круп-
ная сумма сверхприбыли в 9 миллиардов марок,
которые наши господа предприниматели путем ди-
скриминации иностранных рабочих ежегодно кла-
дут себе в карман. Если прибавить к этому суммы,
которые недоплачиваются всем трудящимся женщи-
нам, то станет совершенно ясно, кто в нашей стране
больше всего заинтересован в сохранении и усиле-
нии расистских предубеждений против иностранцев,
женщин и других меньшинств. Нельзя забывать и о
том, что вместе с монополиями из кармана «гостей-
рабочих» с помощью налогов и отказа в социальном
обеспечении извлекает весьма круглые суммы и са-
мо государство. Таким образом, расизм и у нас
непосредственно причастен к усиливающейся капи-
талистической эксплуатации.
Преодолеть расизм как одну из главных язв ка-
питалистической общественной формации может и
168
должен прежде всего рабочий класс. В его собст-
венных интересах освободить мир от межнациональ-
ных и межрасовых конфликтов и объединить все
нации и расы в единый фронт борьбы против своих
угнетателей. Рабочие обретают силу только тогда,
когда они преодолевают собственные националисти-
ческие, религиозные и политические разногласия и
настроения, нацеливая себя на решение общих для
всех них задач. Это относится не только к междуна-
родному рабочему движению, но и к рабочему дви-
жению в нашей собственной стране. Если немецкие
и иностранные рабочие не найдут общий язык и не
объединятся для достижения своих целей сейчас,
они уже не смогут выиграть ни одной забастовки на
наших сталелитейных заводах, в угольных шахтах
или на химических предприятиях.
Социализм и расизм исключают друг друга. Там,
где существует расизм, не может одновременно
строиться социализм. Любая такая попытка обрече-
на на провал. Я не берусь утверждать, что все ны-
нешние социалистические государства уже целиком
и полностью решили свои национальные проблемы.
Но, например, то, что сделал Советский Союз для
обеспечения национального и культурного равнопра-
вия народов Сибири и Средней Азии, находившихся
в эпоху царизма под угрозой вымирания (об этом я
уже писал в моем путевом репортаже «Еду в Си-
бирь!»), пока что не имеет параллелей в западном
мире. Национальный и культурный подъем сербско-
го меньшинства в ГДР, социальная интеграция цы-
ган в Венгерской Народной Республике и, конечно,
выравнивание развития национальностей в Югосла-
вии также являются достижениями, указывающими
человечеству общий путь развития. Ликвидировав
классовые и расовые противоречия между черными,
привезенными некогда в страну в качестве рабов,
и белыми, принадлежавшими до революции к расе
господ, социалистическая Куба также показала при-
мер всему миру.
Построение социализма, разумеется, еще не стоит
на повестке дня в Федеративной республике. Самым
актуальным для нас сейчас является развертывание
такого движения за гражданские права, которое,
используя всю свою мощь и сохраняя максимальное
единство действий, поставило бы преграду перед
169
Рабочий-иностранец и рабочий-немец на одном из предприятий
Гамбурга.
вновь нарастающим расизмом, оказало бы сопротив-
ление враждебности к иностранцам и ненависти к
чужим народам. Нам необходимо такое движение
за гражданские права, в котором на равных осно-
ваниях и с равными усилиями приняли бы участие
170
как немцы, так и наши иностранные сограждане,
и которое выступало бы за большую солидарность
и братские отношения рабочих в нашей стране,
а также между народами всех стран. Нам нужно
движение за гражданские права, которое активно и
во всеоружии своей идеологии— но без насилия и
оружия—помогало бы устанавливать у нас внутрен-
ний мир, обеспечивало людям более широкие демо-
кратические права и свободы. Подобные антира-
систские выступления явились бы незаменимым
дополнением к движению за мир. Мы никогда не
сможем заставить власть имущих в ФРГ отказаться
от планирования войны, и в частности ядерной вой-
ны как последнего средства их политики, если сами
не будем непоколебимо стремиться к ликвидации
ненависти, вражды и раздоров в нашей собственной
среде.
Войны надо останавливать тогда, когда они еще
не разразились. И подавлять их следует там, где они
всегда подготавливались и подготавливаются, то
есть в головах людей, в школьных учебниках, в
средствах массовой информации. Большинство войн,
которые велись в последние 50 лет, были расистски
мотивированными: это истребительная война, развя-
занная нацистами и стоившая миру 55 миллионов
человеческих жизней; это войны в Корее и Вьетна-
ме; это многочисленные агрессии Израиля против
его арабских соседей; это вылазки южноафрикан-
ских расистов против национально-освободительных
движений в Анголе, Мозамбике, Зимбабве и Нами-
бии; это вмешательство американцев в дела стран
Латинской Америки. Расизм снова и снова ведет
мир к войне, к гражданской войне между разными
национальностями одной страны, к агрессивным
войнам против других народов.
Борющееся против расизма движение за граж-
данские права обязано учитывать события, происхо-
дящие и за пределами нашей страны. Оно должно
учиться у американских борцов за гражданские пра-
ва негров—у Мартина Лютера Кинга, Анджелы
Дэвис, Бена Чейвиса, у антирасистских организаций
Франции, Англии и Голландии. Следует также пере-
нимать и использовать опыт у многих меньшинств
в нашей стране. Совершенно очевидно, что этому
движению необходимо взаимодействие с антифа-
171
шистами, с противниками вооружения и войны, со
всеми демократическими силами, выступающими в
нашей стране в защиту человеческих и гражданских
прав. И вовсе уж нельзя обойтись без поиска контак-
тов с профсоюзами, с организованным рабочим дви-
жением, так как без участия рабочих любое анти-
расистское движение не сможет добиться своих
целей.
У нас есть немало организационных форм для
создания объединенного фронта против расизма.
Я назову среди них только Движение против апар-
теида, Комитет антиимпериалистической солидарно-
сти, Объединение демократических союзов турецких
рабочих (ФИДЕФ), греческие, испанские, итальян-
ские и португальские рабочие общины, союзы цы-
ган, Общество защиты народов, находящихся под
угрозой истребления, христианские группы солидар-
ности, Общество защиты интересов жен иностранцев
(ИФА), Объединение лиц, преследовавшихся при
нацизме, организации инвалидов, Демократический
союз культуры («Культурбунд») и многие другие
региональные инициативы и организации. Необхо-
димо объединить все эти силы.
Надо создать в больших городах Центры дружбы
народов, открыв их для каждого мужчины и жен-
щины, будь то черный или белый, желтый или
краснокожий.
Нам нужны совместные выступления, нам нужно
подняться на более высокую ступень сотрудничества
и взаимной поддержки. Мы нуждаемся в большей
гласности. Наши действия преследуют цель ликви-
дировать расизм в нашей стране и повсюду в мире.
В моем родном Гамбурге в числе жителей заре-
гистрированы граждане из 121 страны мира. Какое
культурное многообразие, какие мощные духовные
силы мог бы породить этот международный центр
сближения людей для всех представленных в нем
национальностей и для их немецких сограждан.
Гамбург мог бы стать поистине мировым городом,
международным метрополисом. К сожалению, он
им не стал и не станет, пока сам не убедится в
своей международной сущности и не будет доволь-
ствоваться 75 тысячами марок, которые правящий
сенат пожертвовал по бюджету 1981 года на куль-
турно-массовую работу среди иностранцев.
172
Антирасистское движение за гражданские права
вместе с остальными демократическими силами дол-
жно позаботиться о том, чтобы в школьных учеб-
никах, учебных программах и в методике занятий в
школах уделялось больше места идеям взаимопони-
мания между народами мира и солидарности с
иностранными гражданами в нашей стране. Эти
идеи должны стать главным ориентиром прежде
всего на уроках обществоведения.
Для преодоления расистских настроений и шови-
нистических предрассудков следует использовать в
большей мере, чем до сих пор, искусство, литерату-
ру» городские культурные центры, кино, театр, ра-
дио и телевидение—все средства массовой комму-
никации. В области культуры, бесспорно, существует
очень много возможностей для развития дружбы
между народами. Это и устройство рок-концертов
для борьбы с правыми и расистами; это и народные
городские празднества-гулянья, на которых могут
выступать турецкие, итальянские и другие ансамб-
ли художественной самодеятельности; это и издание
сборников статей и произведений талантливых ино-
странных рабочих; это и организация радиопередач
на испанском, португальском, итальянском, гре-
ческом, турецком и языках народов Югославии; это
и пропагандистские выступления групп чилийских
эмигрантов, известных своей оригинальной стенной
живописью; это и музыкальные программы различ-
ных ансамблей, чей репертуар направлен против
апартеида (группы «Голоса Соуэто», бременский
хор «Современники» и др.).
Объединенные усилия демократических, а это
значит и интернационалистских деятелей культуры
позволят вырвать инициативу из рук шовинистов
и расистов типа Консалика и компании и ограни-
чить их влияние на массы. Это нужно для того,
чтобы наша прогрессивная культура—от Гёте с его
«Западно-Восточным Диваном» до Уве Тиммса с его
«Моренгой», от Генриха Гейне с его «Невольничьим
кораблем» до Франца Йозефа Дегенхардта с его
«Тонио Шеаво»—могла внести свой вклад в дело
защиты мира и развития дружбы между народами.
Федеративная республика—многонациональное
государство. И чем скорее мы сами убедимся в этом,
173
тем больше ценностей мы возьмем из культурного
и национального богатства нашей страны. Уже се-
годня у нас в моде турецкие шальвары, африкан-
ские прически с перламутровыми бляшками и гре-
ческие национальные блюда. Это пока что первые
скромные попытки чему-то научиться у наших гос-
тей. Нам нужно решительнее перенимать все лучшее
у других народов, причем не только в одежде или
в еде. Наша жизнь от этого станет богаче, а наше
обхождение друг с другом—дружелюбнее. И тогда,
вероятно, мы найдем путь к сердцам других наро-
дов и по-настоящему верный путь к тому лучшему,
что скрыто в нас самих.
Турецкая танцевальная группа на концерте в честь Междуна-
родного женского дня в Гамбурге, 1980 год.
174
Часть
вторая
«Мы живем
в Федеративной рес-
публике не ради
удовольствия...»
Рассказы о пережитом
и поиски альтернатив
Традиции немецкого расизма
Беседа с Фазией Янсен, из-
вестной черной исполнительни-
цей политических песен собст-
венного сочинения. Записана
в канун Нового, 1980 года.
Петер Шютт: Скажи» пожалуйста» получила ли ты
какую-нибудь компенсацию за те страдания» кото-
рые тебе пришлось перенести в эпоху нацизма?
Фазия Янсен: Я убеждена, что компенсировать
то, что случилось, то, что выпало на мою долю
и долю всех тех, кого в годы нацизма преследо-
вали по политическим или расовым мотивам, просто
невозможно. И уж конечно, это нельзя сделать ни-
какими деньгами. Для меня компенсация—это
прежде всего официальное признание того, что
я действительно подвергалась преследованиям.
И этот вопрос для меня всегда оставался сугубо
политическим. Ведь речь идет о моих правах как
человека, как цветной, как женщины и, наконец,
как преследуемой по расовым и политическим
мотивам.
Сразу после 1945 года вопрос о признании меня
лицом, преследовавшимся нацизмом, вообще не сто-
ял. Тогда этот вопрос решался в специальном Ко-
митете по оказанию помощи жертвам нацизма, чле-
нами которого состояли бывшие узники концлагерей
и антифашисты—участники движения Сопротивле-
ния. Они мне тогда говорили: «Девушка, тебе ни-
чего и никому не надо объяснять. Кто увидит твое
лицо и волосы, сразу поймет, что с тобой было».
175
Фазия на манифестации 1 Мая в Гамбурге.
Однако позже, когда образовалась Федеративная
республика, все очень быстро переменилось.
Петер Шютт: А как ты думаешь, почему?
Фазия Янсен: Да потому, что категория «лиц,
преследуемых по расовым мотивам», была довольно
быстро сведена только к одной группе—евреям, а
о других жертвах фашизма—цыганах, поляках,
русских, как и о нас, черных,—просто забыли. А
разве это можно забыть! Ведь желтую еврейскую
звезду многие, особенно в первые годы нацизма,
просто не носили. А куда денешь мою кожу? Не
могла же я ее сбросить или выкрасить белой крас-
кой. На мне с самого начала стояло клеймо, с са-
мого 1933 года, когда мне было только четыре года.
Вместе со мной и фактически из-за меня была за-
клеймена и моя мать. К этому добавилось и то,
что мои родители были известными в городе ком-
мунистами.
Петер Шютт: И тем не менее судебные инстанции
не признали тебя лицом, преследовавшимся при
нацизме?
Фазия Янсен: До сих пор—нет, хотя я время
от времени еще и пытаюсь добиться этого. Я уже
убедилась в том, что, по мнению судей, негры—лю-
ди неполноценные. А раз это так, то и отношение
176
ко мне соответствующее. В «третьем рейхе» это оз-
начало, что дорога к обучению и карьере танцов-
щицы для меня закрыта, поскольку это не соответст-
вовало духу нацистских законов. Потом меня зас-
тавили работать на кухне в концлагере, где из
отбросов варили баланду для военнопленных и дру-
гих заключенных.
Позже, после войны, судьи, к которым я обраща-
лась, всегда требовали, чтобы я представила дока-
зательства того, что я подвергалась оскорблениям
расистского характера, но мои аргументы никогда
не учитывались. И теперь у меня полное ощущение
того, что тогдашняя несправедливость не исчезла
и сегодня. Психические раны, как и физические
травмы тех лет, неизлечимы. У меня больное сердце,
и я считаю, что виной этому те бесчисленные инъек-
ции и вливания, которые мне делали в нацистском
лагере. Я и сейчас не знаю, что это были за влива-
ния. Да и вообще, до конца понять и оценить ту
степень дискриминации и угнетения, с которыми
моя мать и я сталкивались ежедневно, может только
тот, кто сам был жертвой нацизма или побывал
в Южной Африке.
Петер Шютт: Ну а что было с тобой потом? Ты
сумела закончить учебу и стать танцовщицей?
Фазия Янсен: Нет, не сумела. Хотя, когда меня
выгнали из училища, я уже была почти полностью
подготовлена к профессиональной карьере танцов-
щицы. А потом—то ли не сложились условия, то
ли причиной стала все та же непрекращавшаяся
дискриминация таких людей, как я.
Для меня немецкий расизм не кончался никогда.
Собственно, уже в 50-х годах все началось сначала
потому, что от нацистского прошлого никто и не
думал отказываться всерьез. Ну, а в качестве лиц,
преследовавшихся при нацизме, были официально
признаны только евреи. Ни русских, ни коммунис-
тов, ни черных это не коснулось. К тому же в ту
пору у нас в стране было очень много черных сол-
дат-афроамериканцев. Гораздо больше, чем сейчас.
И вот уже тогда их травлю возобновили и старые и
новые нацисты. А они быстро активизировались.
Почти сразу же после провозглашения Федератив-
ной республики. Что же касается меня, то дискри-
минация оказалась даже двойной: ведь я не только
177
черная, но еще и «красная». А в Германии расизм и
антикоммунизм идут рука об руку. Они набрасы-
ваются на всех, в том числе и на иностранцев,
«потерявших родину».
Петер Шютт: А когда ты начала петь свои
песни?
Фазия Янсен: Очень давно, еще в лагерном ба-
раке в годы нацизма вместе с военнопленными и
другими заключенными в лагере. А потом, после
1945-го, когда я вместе с другими жертвами фашиз-
ма долго лежала в больнице, тоже пела. Тогда ко
мне пришло какое-то прозрение. Я вдруг поняла,
что песни могут сближать людей и даже целые на-
роды. Мои песни были и остаются для меня одно-
временно и средством существования, и орудием
утверждения себя как женщины, как черной жен-
щины. В песнях, которые я сочиняю и пою, я сама
живу и борюсь как...
Петер Шютт: ...Как черная женщина, да?
Фазия Янсен: Да, хотя вообще-то мне понадо-
билось много времени, чтобы действительно осознать
себя черной женщиной. В 1946-м, в 1950-м и даже
в 19о0-м в нашей Федеративной республике не было
еще никого, кто мог бы мне сказать: черное—это
прекрасно. Я давно сочинила песню о моей черной
коже, но я тогда пела ее не очень часто. А вообще
все эти годы я чувствовала себя очень одинокой.
Было трудно поверить, что меня кто-то может по-
любить. Мной интересовались не больше чем на
мгновенье. Любовь была всегда мимолетной, слу-
чайной. И часто я не знала, куда деться от своей
тоски, тоски по любви. Столько было разочаро-
ваний...
Петер Шютт: А как относятся к тебе как к авто-
ру и исполнителю своих песен? Были ли у тебя
какие-то осложнения или неприятности в твоей твор-
ческой деятельности?
Фазия Янсен: Ну вообще-то я никогда не поз-
воляла собой помыкать и всегда пыталась защитить-
ся. И в то же время шла своим путем. Я всегда
была левой в своих взглядах и активно участвовала
в движении левых сил. И это, безусловно, помогало
мне находить союзников и укреплять веру в свои
силы. И все же время от времени мне приходи-
лось много терпеть от дискриминации—и как жен-
178
щине, и как черной, и как «красной». Правда, сей-
час куда труднее распознать истинный расизм, чем
несколько лет или несколько десятков лет назад.
Расисты тоже научились скрывать свое подлинное
лицо и стали действовать хитрее. Сейчас, например,
уже никто открыто не сознается в том, что создает
мне трудности только потому, что у меня черная
кожа. У них всегда находятся какие-то другие
причины.
Петер Шютт: Какие же, например?
Фазия Янсен: Ну вот, например, говорят: «О,
эта Янсен —с нею очень трудно иметь дело». Эту
глупость повторяют даже те, кто работает со мной
вместе, с кем я сотрудничаю в политической борьбе,
и даже творческие работники.
Петер Шютт: И в чем же это проявляется?
Фазия Янсен: Например, очень долго приходит-
ся ждать, когда выйдет очередной диск с моими
песнями. Издатели отговариваются тем, что со мной
якобы трудно делать записи. Многие почему-то счи-
тают, что по самым разным причинам работать со
мною очень нелегко. Так не думают, наверное, толь-
ко женщины из дортмундской группы гражданских
инициатив. Я говорю об ансамбле «Штальверк», с
которым я за последние недели записала целую кас-
сету актуальных политических песен. Есть и другие.
В общем, проблемы и трудности, конечно, есть, но,
как мне кажется, это проблемы не мои, а тех, кто
чинит мне препятствия. Я вовсе не отрицаю, что я не
такая, как другие мои коллеги, и что у меня много
такого, чего нет у других...
Петер Шютт: Ну да, робость, например, и повы-
шенная чувствительность в определенных вопросах...
Фазия Янсен: Возможно. Но ведь с творческими
людьми, с художниками всегда трудно. Но у меня
этого не больше, чем у других. Однако я черная,
и мне постоянно напоминают об этом всякими эпи-
тетами. Ведь мне-то не только не все равно, подпи-
шется кто-нибудь на помощь беднякам в странах
Юга или нет. Я-то меряю поведение своих товари-
щей еще и по тому, как они относятся к черным
и иностранцам здесь, в нашей стране. Борьба против
расизма неразрывно связана с борьбой против апар-
теида, и начинается она на пороге собственного
дома.
179
Петер Шютт: А как ты думаешь, исходя из
своего жизненного опыта, может ли черная жен-
щина жить и быть довольной здесь, в ФРГ?
Фазия Янсен: Может, но для этого нужно вдвое
или втрое больше энергии, чем та, которую прихо-
дится затрачивать на это белым мужчинам и жен-
щинам. Вот когда ты позвонил и спросил, могу
ли я дать тебе интервью для твоей книги о расизме,
мне понадобилось три дня, чтобы все хорошенько
обдумать: таким камнем лежит у меня на душе эта
проблема. А когда я ехала к тебе в метро, на меня
взирали десятки голубых глаз, словно спрашивая:
что это она тут делает? У тебя в метро никто не
спросит, чего ты тут потерял. А у меня—могут.
И вот это, вероятно, самое худшее из всего, в чем
проявляется расизм в ФРГ. Это постоянное прис-
тальное разглядывание. Если быть честной, то у
меня, например, просто не хватило мужества родить
здесь ребенка. Собственно, это и есть ответ на твой
вопрос. Я, наверное, слишком уж много видела мер-
зости в годы нацизма и потом...
Петер Шютт: А как относятся к тебе средства
массовой информации? Ведь на телевидении, напри-
мер, много черных. Вот и сегодня вечером они будут
выступать в новогоднем шоу.
Фазия Янсен: Вот тут-то все и обнаруживается.
Если ты хорошо крутишь задом и выглядишь доста-
точно экзотично и эротично, тогда у тебя на телеви-
дении большие шансы. У меня даже есть песенка
на эту тему. А вот про меня в радиопрограммах
всегда пишут так: сегодня вечером выступит певица
кофейного цвета... Представь себе, если я скажу про
тебя: сегодня вечером у меня взял интервью бе-
локожий писатель Петер Шютт! А меня этот «эпи-
тет» сопровождает всю жизнь.
Для тех парадных выступлений черных певиц,
которые сейчас стали модными у нас на телеви-
дении, я просто не подхожу. Кроме того, я пою
по-немецки, и песни мои политические. Спрос на них
и без того невелик, а когда такие песни исполняет
еще и черная певица, то дело вообще дрянь. Тем-
нокожая певица, да еще с политически бескомпро-
миссными текстами и без кривляний?! У тех, кто
ведает зрелищными программами в нашей стране,
это вообще не укладывается в голове.
180
Если уж я и появляюсь на телеэкранах, то, как
правило, в рамках массовых общественных меро-
приятий, вроде «пасхальных маршей мира» против
ядерных вооружений или демонстраций, например
с требованием строительства нового сталелитейного
комплекса в Дортмунде. Но именно такие дейст-
вия и служат наилучшим вкладом в дело ликви-
дации расизма. А ведь даже дортмундские жен-
щины поначалу глядели на меня с недоумением:
что, мол, надо тут этой черной? Но уже через три
дня совместных выступлений все предрассудки
как рукой сняло.
Петер Шютт: А какие еще неприятности дове-
лось тебе испытать?
Фазия Янсен: Ну, например, при поисках квар-
тиры. Об этом я могла бы рассказать тебе целую
повесть. Да разве я одна? Это может сделать лю-
бой темнокожий в нашей стране. Хорошо бы тебе
взять магнитофон и вместе с любой черной жен-
щиной пройти от двери к двери, когда она будет
спрашивать, не сдается ли здесь жилье. Того, что
ты услышишь при этом, хватит, чтобы написать
целую книгу. Десять лет тому назад я переехала
в Оберхаузен. И в этом рабочем городе, где раньше
почти не видели черных, мне долго пришлось ски-
таться в поисках жилья, испытывая адские муки!
Да вот совсем уж недавно я была на приеме у од-
ного врача-психоаналитика, и этот тип поставил
в моей карточке «диагноз»: «смешанный брак ро-
дителей». Я взвилась чуть не до потолка—ни дать
ни взять старые нацистские порядки. Я, конечно,
протестовала, но этот «диагноз» так и остался
со мной.
Петер Шютт: А ты не пыталась обжаловать
это в суд?
Фазия Янсен: Да, мне надоело ходить по судам
и требовать признания своих прав. У меня на это
больше нет ни терпения, ни сил. Да и что толку?
Ведь если ты турок, например, то ты борешься
с существующими здесь порядками как представи-
тель другой нации и страны, целого класса, бо-
решься против всех тех гадостей, которые творятся
по отношению к иностранным рабочим, а когда
ты черный, ты почти всегда одинок и бороться
тебе приходится самостоятельно, даже если ты
181
и чувствуешь себя частичкой всего рабочего дви-
жения, считаешь себя интернационалистом. Но я
что хочу подчеркнуть; без левых сил, без солидар-
ности с моими товарищами по борьбе я бы никогда
не смогла жить в Федеративной республике, как
бы меня за это ни критиковали. И уж если кому-то
суждено изгнать расизм с нашей планеты, то только
левым силам.
Петер Шютт: Ты много поешь для рабочих
профсоюзных организаций. Считаешь ли ты, что
наше рабочее движение уже преодолело расизм,
по крайней мере в своих рядах?
Фазия Янсен: А вот послушай. Совсем недавно
танцую я с одним своим коллегой, и он вдруг мне
говорит: «Знаешь, Фазия, меня ничуть не тревожит,
что ты черная...» А я ему на это: «Представь
себе, меня тоже ничуть не тревожит, что ты бе-
лый, если бы вот только ты не смотрел на меня
такими глазами...» Многие люди, даже мои поли-
тические единомышленники, нередко приветствуют
меня так: «Эй, хэлло, Фазия!» И видят они во мне
всегда только человека веселого нрава. А кто
и полудикую. И я должна сознаться, что много
лет подряд подыгрывала им в этом, дурачилась
и несла чепуху. Это помогало мне легче перено-
сить и забывать многие неприятности.
Петер Шютт: Но сегодня твое самосознание из-
менилось, не так ли? Ты стала уважать себя
больше?
Фазия Янсен: Да, постепенно я пришла именно
к этому. Особенно многому меня научило женское
движение, но свою роль сыграла и борьба черных
за свои права в США и в Африке. Сейчас женщины,
и особенно черные женщины, имеют о себе совсем
иное представление, чем 20 или 40 лет назад.
В годы нацизма, да и после них, я все время
мечтала о том, чтобы стать белой. В наше время
для этого существует немало средств—распрями-
те л и для курчавых волос и более эффективные,
чем раньше, отбеливатели. Но теперь я с гордостью
ношу свои курчавые волосы, как символ, как знак
прочных уз с моими братьями и сестрами в Аф-
рике и Америке.
182
Михель Тонфельд
Все это так просто
(Дневник одной женитьбы)
20 ноября 1979 года
Еще четыре часа назад подо мной простиралась
Сахара, а сейчас я наблюдаю, как за окнами зда-
ния аэровокзала в Клотене кружатся снежинки.
Еще четыре часа ожидать отправления самолета
до Риема *. Снова и снова хватаюсь за бумажник,
вынимаю из него фотографию моей будущей жены
и, переставая понимать, где нахожусь, погружаюсь
то в сладостное ощущение счастья, то в невообра-
зимую тоску.
Когда в Мюнхене я наконец прохожу погранич-
ный паспортный контроль и иду в таможню, во мне
всплывает радостное чувство: я дома! В последнюю
ночь я буквально не сомкнул глаз из страха, как
бы не проспать самолет, вылетавший рано утром.
Я не спал целых двое суток, и вот тебе раз: почти
целый час уходит на таможенный досмотр! Тамо-
женники не оставляют без внимания даже грязное
белье. Все книги тщательно просматриваются,
страница за страницей. Для меня и теперь загадка,
почему они ко всему прочему не обыскали до нитки
и меня самого... Только потом я узнал, что какой-
то немецкий террорист именно в тот день совершил
нападение на банк в Цюрихе!
Январь 1980 года
Мы пишем друг другу каждую неделю. Как я
и обещал, все первые дни января я пытаюсь свя-
заться с посольством ФРГ в Аккре (Гана). Прихо-
дит письмо от Беатрис из Аккры: приеду в марте!
На два месяца раньше, чем мы договаривались.
Ведь я полагал, что в марте еще будет снег, и
не хотел подвергать свою невесту и ее маленькую
* Рием (Рим)—международный аэропорт в Мюнхене.—Прим.
перев.
183
дочурку влиянию слишком резкой перемены кли-
мата. Я совершенно ошалел. Понесся в туристиче-
ское бюро, чтобы узнать, когда прибудет самолет...
Март 1980 года
Бурная поначалу радость быстро омрачается.
Беатрис не может получить заграничный паспорт:
для этого с моей стороны необходимо «официаль-
ное приглашение». Опять запрос в западногерман-
ское посольство в Гане, и через три недели кан-
целярия МИД ФРГ дает ответ: посольство не имеет
возможности повлиять на паспортные дела в Гане.
Тем не менее приходит долгожданная телеграмма
«The pass okay» («Паспорт выдан»): для паспорт-
ного управления в Аккре оказывается вполне
достаточно моего письменного уведомления.
11 мая 1980 года
Два письма из Аккры: западногерманское по-
сольство считает, что для подготовки всех докумен-
тов понадобится не менее шести недель! Беа поло-
жительно не знает, что предпринять. Если бы она
могла, она хоть сию минуту вылетела бы сюда
даже без всякой визы.
Мне звонит чиновник из Управления по делам
иностранцев. Я должен дать равносильное присяге
письменное обязательство в том, что смогу обеспе-
чить Беатрис и ее дочь жильем и пропитанием.
Это нужно, чтобы управление дало ход запросу
о визе.
В первый раз в жизни переступаю порог Управ-
ления по делам иностранцев. Чувствую себя немно-
го не в своей тарелке среди иностранных коллег.
После двух часов ожидания очередь наконец дохо-
дит и до меня. Чиновник подчеркнуто предупре-
дителен (возможно, потому, что ему сейчас не нужно
говорить на ломаном немецком?) и сразу же начи-
нает давать мне поистине отеческие советы. Он-де
знает нескольких работавших в сфере помощи раз-
витию и выписавших себе потом жен из Африки.
Почти во всех случаях эти браки очень скоро кон-
184
чались разводом, а нередко дело до бракосочета-
ния даже не доходило. Как бы то ни было, но
он все-таки выписывает визу для Беатрис и Смарты
с примечанием: «С целью бракосочетания». И разу-
меется, к моему письменному обязательству добав-
ляется неожиданная приписка: все расходы, кото-
рые могут понадобиться в связи с этим, я беру
на себя!
Ну ладно, думаю я про себя, главное в том,
что теперь жена и ребенок могут приехать.
Тут же посылаю телеграмму в Аккру: «Виза,
есть!» Четыре дня спустя приходит ответ: «Ника-
кой визы!» Я перестаю что-либо понимать, ничего
не могу себе объяснить: почему, отчего, как так?..
Ведь Беа и сама может предъявить в аэропорту
и билеты, и деньги (400 марок)... Может быть,
что-то можно выяснить в Управлении по делам
иностранцев? Ну конечно, там все знают: прини-
мавший меня чиновник сказал по телефону, что
письмо с запросом о визе ушло на главный поч-
тамт накануне. Но когда его перешлют в посольство
ФРГ, он не ведает.
Несколько успокоившись, посылаю еще одну
телеграмму.
Май—июнь 1980 года
Тем временем в прессе по всей стране началась
кампания против иностранцев. После того как
за четыре месяца 1980 года—с января по апрель—
число подавших прошение о предоставлении убе-
жища сравнялось с общим числом «соискателей»
за весь предыдущий год, в атаку бросились пес-
симисты с их нарочито ужасающей статистикой.
Хотя я уже много лет не читаю «Шпигель», я тем
не менее покупаю выпуск от 16 июня. Бросается
в глаза крупный заголовок: «Германия—убежище
ДЛЯ иностранцев». «Шпигель» рассчитывает, что
в 1980 году у нас будет 147 тысяч просителей
убежища. Наряду с пакистанцами, турками, эрит-
рейцами, индийцами и вьетнамцами появятся
и ганцы! Но слава богу, Беа и Смарта прибывают
в соответствии со всеми правилами через две
недели!
185
С ужасом думаю о письме Беа, в котором она
пишет, что, если все это затянется, она приедет
даже без визы: билеты-то у нее уже куплены!
Надеюсь, она все же проявит выдержку и дождется
прибытия бумаг от мюнхенских иммиграционных
властей в западногерманское посольство в Гане.
Я живо представляю себе «участливые» лица моих
коллег и знакомых, особенно тех, кто мне постоян-
но надоедал своими «добрыми советами» и упре-
ками: «Ну что вы, отправлять деньги за границу?
Да ни за что и никогда!» «Ты что—отослал авиа-
билеты в Африку? С ума сошел! Она же их там
продаст и деньги растранжирит, а ты будешь си-
деть в аэропорту и ждать у моря погоды... Вот
послушай, расскажу тебе историю про одного моего
знакомого. Он, вероятно, и сейчас все еще сидит
во франкфуртском аэропорту, ждет понапрасну
и горюет о своих нескольких тысячах марок...
И потом, кто тебе вообще сказал, что она не за-
мужем?..»
Когда я сидел в Цюрихе в аэропорту, я был
на 100% уверен во всем—в себе и в ней. Теперь
же, сознаюсь, моя уверенность снизилась до 99%.
И я очень злюсь, что позволяю себя разубеждать.
Ну почему, говорю я себе, почему ты должен ве-
рить людям, которые прослышали о каких-то
фактах и ничего не хотят больше знать. Которым
кажется подозрительным все, что не укладывается
в рамки их привычных представлений? Как горько,
что даже добрые друзья и прогрессивно мыслящие
люди думают почти так же: спрашивают, что будет
делать здесь моя будущая жена, как будут отно-
ситься к Смарте другие дети и что, по моему мне-
нию, будут делать они обе, когда наступит зима...
Наконец еще телеграмма! «Приезжаю 26 июня».
Мне разрешают взять отпуск.
Все утро 26 июня я сижу у телефона. В 11 часов
45 минут во Франкфурт-на-Майне прибывает са-
молет «Аэрофлота» из Аккры, совершающий рейс
через Бамако, Триполи, Будапешт и Москву. Я уже
сбился со счета, сколько сигарет я выкурил за эти
часы... Уже 2 часа дня. То и дело щупаю у себя
запястье, проверяя пульс. Никогда еще я не испы-
тывал такого напряжения. В 14 часов 15 минут
звонит моя мать: «Ну что? Она прилетела?» — «Нет
186
еще. И пожалуйста, положи трубку, не занимай
линию». И вот в 14.25 слышу ее голос: «Хэллоу,
йес!» Это Беа!
Сразу после ее звонка даю знать об этом своим
родителям, а потом мчусь через город на трамвае
и автобусе в аэропорт Рием. В кармане у меня
целый блок жевательной резинки, которую я по-
путно с курением истребляю, чтобы отбить запах
табака: я обещал Беатрис бросить курить. Так, то
жуя резинку, то куря, болтаюсь взад и вперед
по залу ожидания. Наконец в 15.45 объявляют:
«Совершил посадку самолет компании «Люфтганза»
из Франкфурта-на-Майне». Они прибыли!
Мы бросаемся друг другу в объятия, и оба,
вернее, все втроем не знаем, что сказать.
Июль 1980 года
Время идет, Беа и Смарта регистрируют свое при-
бытие в полиции. Смарте обещано место, начиная
с сентября, в «английской игровой школе» — так на-
зывается подготовительное отделение в одном из
соседних детских садов. Ну, кажется, теперь-то уж
все в порядке, думаю я про себя, направляясь в
бюро записи актов гражданского состояния. Однако
мне вручают формуляр, из которого видно, что наши
мучения еще не кончились. Беа должна представить
свидетельство о том что она не замужем: одного
паспорта, оказывается, недостаточно. Мы звоним в
ганское посольство в Бонне. Начальник канцелярии
объявляет нам, что давать справки об этом не вхо-
дит в его компетенцию: нужно обращаться к мест-
ным властям на родине.
Чтобы выхлопотать другие документы, отправ-
ляемся в Управление по делам иностранцев. Тут
мне открывают новый «формальный секрет». Одна
регистрация в полиции ничего не дает: я должен
был немедленно дать знать о приезде Беа и Смарты
этому управлению. Но до 11 сентября, когда кон-
чается срок въездной визы, у нас еще есть время
заключить брак. Однако просто невозможно себе
представить, как мы достанем документ о «способ-
ности к вступлению в брак», то есть удостоверение
о том, что Беа не замужем. Ведь пока наше письмо
187
прийдет в Гану, пока родственники Беатрис выхло-
почут это свидетельство и перешлют его сюда, срок
визы истечет. С тяжелым сердцем решаю взять
деньги в долг и купить для Беатрис обратный билет
на родину.
Брать еще раз отпуск в летнее время немыслимо!
К счастью, мои родители согласны взять Смарту на
две недели к себе в Аугсбург.
Август 1980 года
Тщетно пытался достать для Беа и Смарты меди-
цинскую справку (поручительство) о болезни или
несчастном случае, что позволило бы переждать до
вступления в силу закона об охране семьи после
нашего бракосочетания. Ничего не вышло, никто не
хочет поручиться за обеих! А что, если Смарта,
играя, сломает себе руку, неосторожно выскочит
на улицу и вызовет автомобильную катастрофу?
Все ясно—мое «равносильное присяге» обязатель-
ство взять все расходы по содержанию семьи на
себя—это практически встречный страховой полис,
выданный мною нашему государству.
22 августа 1980 года
Сенсация дня—при пожаре, вызванном поджо-
гом, в Гамбурге погибло несколько вьетнамцев! Пе-
ред этим было несколько поджогов в номерах гос-
тиницы в Ляйнфельдене близ Штутгарта, где про-
живают эфиопские беженцы. А недавно кто-то
кирпичом разбил витрину турецкого магазина в
Ганновере.
Я сознательно никогда ничего не рассказывал
Беатрис о расовой дискриминации в Германии. Ну
что могла бы она подумать, расскажи я ей, напри-
мер, о том, как вполне нормальный немец — владе-
лец ресторана не впустил в свое заведение черного,
который явился в смокинге и в сопровождении бе-
лого. Цветные нежелательны! А этот черный был не
кем иным, как начальником гарнизона войск США
в Аугсбурге! А о судьбе «детей от смешанных бра-
ков» в бывшей американской зоне оккупации уж и
говорить нечего.
188
28 августа 1980 года
На мюнхенском Центральном аэровокзале встре-
чаю свою жену, возвращающуюся через Франкфурт
из Ганы. Нагруженная сумками, полными ямса,
окры, пизанга *, баклажанов, пальмового масла, су-
шеной рыбы и других редкостных лакомств, она
выходит из автовагона. Она привезла это проклятое
удостоверение, разрешающее ей вступить в брак!
Я отдаю на официальный перевод документы о
рождении и отсутствии препятствий к выходу за-
муж. Беа звонит в ганское посольство в Бонне. На-
чальник канцелярии обещает заверить все бумаги
как можно скорее. Начинается гонка со временем—
кто кого!
8 сентября 1980 года
Начальник канцелярии сдержал слово: заверен-
ные документы получены. (А у меня неделя работы
в вечернюю смену.) Рано утром стучусь к перевод-
чику. «Сожалею, но я имею право только перево-
дить, но не заверять документы... Извините, заверяю
только итальянские бумаги...»
Вторник, 9 сентября 1980 года
Снова не добились ничего!
Среда, четверг
Опять бесплодные хождения и поиски!
Пятница, 11 сентября
Снова прихожу в Управление по делам иностран-
цев. Уже сутки, как истек срок визы. Чиновник
заявляет, что, как только я принесу справку из
* Ямс—тропический корнеплод, напоминающий картофель;
окра—тропическое бобовое растение; пизанг—вид банана.—
Прим. перев.
189
загса о разрешении на бракосочетание, виза будет
продлена вплоть до дня регистрации брака. После
обеда рассказываю о своем положении начальнику
отдела. Следует непродолжительный телефонный
разговор между ним и отделом кадров, и мне дают
внеочередной отпуск на всю предстоящую неделю.
Понедельник, рано утром
Бюро переводов обещает заверить документы
к среде.
В одном из газетных киосков мне бросается в
глаза заголовок в раскрытом журнале. Это «Шпи-
гель» снова вопит: «Гнать вон этот сброд!» Статья
начинается цитатами из писем, адресованных феде-
ральному министру внутренних дел Бауму и гес-
сенскому министру внутренних дел Грису: «Иност-
ранцы грубы, строптивы и нахальны... Это люди
самого последнего сорта... Они только попрошай-
ничают и ничего не хотят делать... С какой стати
немцы должны кормить всю эту нечисть... чтобы эти
дикари каждый день праздновали рождество за
счет нашего общества... Это отбросы со всего света...
Накипь земли... Надо гнать всех их вон из нашей
страны... Не хватало нам еще только охотников
за черепами...»
Чтение этих строк вызывает у меня не страх,
а бешенство, почти такое же, как и та ненависть, что
скопилась у этих писак!
Среда, 11 часов утра
Заверенные документы у нас в руках. Берем так-
си и к 11 часам утра подъезжаем к загсу. Время
летит, а мы сидим без дела в коридоре. Ждем. Ровно
в 12 часов загс закрывается: прием на сегодня
окончен. Ничего не поделаешь, придется попытать
счастья завтра.
Четверг, рано утром
Говорящий по-английски чиновник загса про-
сматривает вместе с нами наши бумаги. Все в
190
порядке! Из загса наши бумаги пересылаются в
высший земельный суд. Через десять дней он рас-
смотрит и утвердит наше заявление вслед за чем
будет установлена и дата бракосочетания. В кассе
бюро регистрации браков я плачу 50 марок — кан-
целярский сбор — и, схватив квитанцию об уплате
этого сбора, мчусь к ближайшей станции метро,
чтобы отвезти ее вместе с моим очередным «равно-
сильным присяге» обязательством в Управление
по делам иностранцев. Еще нет 11 часов, а я уже
сижу в зале ожидания. Напрасно! Меня сегодня
не примут. Придется «танцевать» сюда и на сле-
дующий день.
Пятница, рано утром
Управление открывается в 8 часов 30 минут.
Когда я за пять минут до открытия подхожу к
его дверям, там уже стоит толпа примерно из 200
иностранцев! Ровно в половине девятого начинает-
ся сутолока. Через минуту я уже мчусь вверх пo
лестнице и оказываюсь почти первым у стола с
буквой «А» (на нее начинается фамилия моей
будущей жены). Я кладу на стол квитанцию из
бюро регистрации браков и свое заявление. В нем
говорится: «...Сим заверяю, что мне было неизвестно
о том, что регистрации приезда в полиции недоста-
точно для получения вида на жительство. Поэто-
му я неумышленно нарушил правило, не зарегист-
рировав прибытие моей невесты г-жи Аппиах-
Куби и ее дочери, имевшее место 27 июня 1980
года, в надлежащем отделе окружного филиала
Управления по делам иностранцев, и настоящим
исправляю допущенную ошибку...»
Почти в 10 часов утра покидаю управление.
В кармане у меня виза, продленная до 30 ноября
1980 года. Итак, целая неделя отпуска проходит
в путешествиях по кабинетам чиновников!
В субботу утром мы отправляемся в Линц на
семинар верхнеавстрийской рабочей палаты. В воск-
ресенье пополудни возвращаемся домой. Туда и об-
ратно нас везут с собой на машине наши знакомые.
При переезде через границу нас каждый раз про-
пускают, не спрашивая документов, и это меня даже
191
злит: в конце концов у моей жены и дочери есть
визы... Приехав домой, я звоню своим австрийским
друзьям, живущим в Мюнхене. И вдруг, посреди
разговора, меня осеняет: снова допущена «формаль-
ная ошибка»! У Беа и Смарты виза действительна
только для въезда в ФРГ и больше ни в какую дру-
гую европейскую страну. У властей такой въезд на-
зывается нелегальным переходом границы. В общем,
нам повезло, чертовски повезло!
В четверг следующей недели я позвонил в загс.
Да-да, бумаги из высшего земельного суда возвра-
тились, все в порядке. Но нужно еще уплатить 51
марку 50 пфеннигов налогового сбора. Когда я в
пятницу прихожу туда примерно в 11.15, невыспав-
шийся после вечерней смены, и собираюсь платить,
служащая бюро регистрации браков говорит, что я
должен уплатить здесь только 31 марку 50 пфенни-
гов комиссионных за проведение церемонии, но это
можно будет сделать лишь тогда, когда я уплачу
20 марок в земельную приходную кассу Мюнхена.
Оплата одним чеком не разрешается, переводом на
ту кассу—тоже. Я обязан принести оттуда квитан-
цию об уплате. Без этого дату бракосочетания на-
значить невозможно! «Господи! Я же всю следую-
щую неделю в утренней смене!»—проносится у меня
в голове. Значит, возможности пойти в загс не бу-
дет. А новой отсрочки нельзя допустить из-за визы:
она будет просрочена! Галопом мчусь на почтамт
на площади Фрайхайт-плац, плачу положенный
сбор, хватаю квитанцию, прибегаю назад. Уф, до-
бился-таки! Регистрацию назначают на 16 октября.
16 октября 1980 года
Я всегда думал, что женитьба—торжественное
и праздничное событие, случающееся один раз в
жизни. Вопреки этому мы на протяжении всей це-
ремонии с трудом сдерживались, чтобы не расхохо-
таться. Она велась на двух языках. Помощница
начальника читала что-то по-английски. Моя жена
не поняла из этого ни единого слова!
1 ноября 1980 года
Еще одно послание из Управления по делам
иностранцев—отпечатанный компьютером форму-
192
ляр, связанный с получением вида на жительство.
Сопровождаю жену в земельное Управление здра-
воохранения. Уже в который раз! Несколько недель
назад мы побывали здесь тоже вместе, но тогда я
не дал согласия на ее медицинский осмотр. Однако
каждый иностранец, приезжающий из страны, не
являющейся членом БЭС, должен пройти освиде-
тельствование на предмет отсутствия туберкулеза
(рентгенологическое обследование) и сифилиса (серо-
логическое обследование). При нашем первом посе-
щении Смарту по нашей просьбе этим анализам не
подвергали, поскольку ей еще далеко до 16 лет.
Меня также. Но на сей раз нам пришлось все это
пройти. Не помог даже тот факт, что в типографии,
где я работаю, в 1978 и 1979 годах весь персонал
подвергся рентгеноскопии в связи с двумя случаями
открытого туберкулеза. Не были приняты в расчет и
прививки, которые я прошел в связи с поездкой в
Африку.
Правда, теперь я уже не возмущаюсь и не бры-
каюсь: важно получить отметку «здоров». Ну а
провести обследование по поводу тропических бо-
лезней, например бильгарциоза *, Управление здра-
воохранения просто неспособно. На мой запрос в
больничной кассе **, на попечении которой теперь
благодаря женитьбе находятся и жена, и ребенок,
получаю ответ: расходы, связанные с обследованием
в НИИ тропических исследований, я должен опла-
чивать сам...
После того как мы получаем бумажку о том, что
у Беатрис нет ни туберкулеза, ни венерических за-
болеваний, 19 ноября Управление по делам иност-
ранцев выдает ей вид на жительство сроком на три
года, по истечении которых он автоматически дол-
жен превратиться в бессрочный. Но при этом делает-
ся оговорка: последнее произойдет только в том слу-
чае, если моя жена не будет привлечена за это вре-
мя к уголовной ответственности. Это означает только
* Бильгарциоз, или скистосомиаз,—кожная болезнь, вызывав-
мая паразитом, известным как бильгарция. Распространена
в тропических странах Азии и Африки.—Прим. перев.
** Больничная касса—общественный институт на предприятиях
и в учреждениях многих стран Запада, обеспечивающий бла-
годаря отчислениям из зарплаты рабочих и служащих расходы
по их лечению и оплату временной нетрудоспособности по бо-
лезни.—Прим. перев.
193
одно—вести себя смиренно, не поддаваться ни на
какие провокации! Ну а что, если мою жену кто-то
оскорбит, если ей придется на улице, на виду у
всех когда-нибудь влепить пощечину обидчику, а
тот пойдет жаловаться?
Когда через неделю после получения вида на
жительство я пошел за ходатайством для оформ-
ления положенной на ребенка прибавки к зарплате,
я никак не мог удержаться, чтобы не задать чинов-
нику по найму иностранной рабочей силы такой
дерзкий вопрос: «Простите, пожалуйста, но разве
это правильно, что я, немец, гражданин данного
государства, должен писать прошение как иностра-
нец только потому, что моя дочь негритянка?»
Стоявшие рядом иностранцы, владеющие немецким
языком, не могли не рассмеяться.
Эллис Бен-Смит
«Как же все это трудно пе-
режить!»
(Протокол одной межнациональ-
ной дружбы)
«...Барабаны, тамтамы, выразительные песни,
ритмы динамического танца и крики, страстные мо-
литвы, глубокая печаль и искрящаяся радость, звон
бубнов и пьянящий восторг—все это нельзя отбро-
сить прочь, если вы хотите понять «истинную чис-
тоту» культурной жизни Африки.
Многообразие африканской культуры неизменно
заставляет нас внимательно, как сквозь лупу, рас-
сматривать ее вновь и вновь подвергать анализу.
Днем и ночью эхо барабанов будит от сна людей
и зверей. Оно вселяет в нас силу жизни и надежду.
Человек воплощает эту силу и надежду в символи-
ческих ритуальных танцах. Танец служит очище-
нию тела, ума и души. Возникающая при этом «ве-
ликая дрожь» составляет абсолютную жизнь, от ко-
торой зависит все, в том числе и сами люди.
Сколько ужасных столетий прошло с тех пор,
как наши предки ступили на берега Нового Света!
Это еще не стершаяся из нашей памяти история
194
пяти с лишним веков угнетения и эксплуатации
человека человеком. Это история миллионов людей,
принесенных б жертву наживе ради экономического
подъема Америки и Европы, величайшего подъема,
какой они когда-либо знали. Это история целых
замученных народов! И несмотря на все унижения
и эксплуатацию, Африка сумела благодаря живо-
творной внутренней силе, благодаря почти фанати-
ческой приверженности своей культуре, благодаря
осознанию себя в ней сохранить в целости и не-
прикосновенности бесчисленные вековые традиции,
обычаи и обряды.
Помимо танца, поистине неотделимыми состав-
ными частями того, что делает африканскую куль-
туру целостной, являются ее поэзия и искусство
фольклора. Наша культура—это не только особая
религия, не только сумма духовных начал. В ней
весь склад мышления африканца. В ней выражено
все—и забота о себе и обо всем вокруг, просьба о
ниспослании пищи и убежища. Она заключает в
себе тайну самой жизни. Она указывает путь к
осуществлению надежд, следуя которым мы можем
сохранить себя.
В заключение хочу сказать вам, мои дорогие
друзья, пожалуйста, не требуйте от нас никогда,
чтобы мы в порядке компенсации за вашу в общем-
то небольшую помощь нашему развитию заменили
нашу африканскую культуру вашей, поскольку тог-
да у нас не будет уже ничего—мы просто опус-
тошим себя. А мы никогда не чувствовали себя
опустошенными и испытать этого не хотим».
Это был его доклад, прочитанный на симпозиуме
Христианского общества содействия культуре в Либ-
ларе. Его наградили продолжительными аплодис-
ментами, а потом кто-то запиской спросил его, по-
чему он не стал изучать историю примитивных на-
родов. Юриспруденция, как выразился неизвестный
автор записки, совсем не подходящая профессия для
«негра».
Но он, Кофи Кунту, хорошо знал, что адвокату
не нужно валить лес, мыть посуду в ресторане, обра-
батывать с восхода до захода солнца табачные, ко-
фейные, банановые или тростниковые плантации.
Его предкам приходилось под кнутом белых хозяев
195
веками выполнять эти работы. Что же касается его
лично, то он ни в коем случае не желает поддер-
живать эту «традицию».
Все это, разумеется, было у него только в мыс-
лях. А то, что в ответ на присланную ему обидную
записку он всего лишь пожал плечами, выглядело,
вероятно, смешно. Возможно, он и сам еще не знал
толком, кем бы он хотел стать.
И вот он проснулся, внезапно, посреди ночи.
Включил торшер, стоявший у кровати, и со страхом
и дрожью стал рассматривать собственную грудь.
Он был весь в холодном поту, хотя в комнате,
несмотря на ночное время, было достаточно тепло.
Но у него было такое ощущение, словно он замер-
зает. Он дрожал всем телом так сильно, будто его
вдруг забросили куда-то на самый север Сибири.
Проснулась и его подруга. Она внимательно наб-
людала за ним. Кофи Кунту плакал. Отчего? Может
быть, он увидел дурной сон: это с ним бывало
и раньше. И даже довольно часто. Но теперь этот
сон кажется ему крайне необычным: он видит, как
ему на грудь капают его собственные слезы. Он
испуган, испуган так, как никогда раньше.
Вот уже пять лет, как он живет здесь, в Герма-
нии, и учится сейчас на третьем курсе юридического
факультета Гейдельбергского университета. При-
лежный молодой африканец из Дагомеи сумел до-
биться стипендии от Немецкого христианского бла-
готворительного общества. Поначалу ему все пред-
ставлялось куда более легким и простым. Еще бы!
Ведь он сразу получил от общества небольшую ком-
натку, которую по праву мог назвать своей. У себя
на родине он не мог рассчитывать на отдельную
комнату. В построенной отцом хижине он жил вмес-
те с тремя братьями и сестрой.
Теперь, в своей комнате, он чувствовал себя дейст-
вительно свободным, хотя в этой клетушке было
всего девять квадратных метров. Он сам готовил
себе африканские обеды и ужины, к каким привык
на родине. Иногда комната насквозь пропитывалась
запахами приготовленных им блюд. Эти запахи рас-
пространялись по длинному коридору, заполняя
весь этаж, отчего соседи не раз обращались с жа-
лобами в правление Христианского благотворитель-
196
ного общества. Но Кофи это ничуть не волновало.
Он считал, что в пределах своего приватного владе-
ния он может делать все, что ему заблагорассудится.
Все это было, однако, прежде. А теперь он сидел
в своей постели и обливался потом, словно погонщик
верблюдов в аравийской пустыне. Слезы текли ему
на грудь, на свежевыглаженную простыню. Что же
такое он увидел во сне, чтобы вдруг так испугаться
и даже впасть в отчаяние?
Надя, так звали его подругу, участливо посмотре-
ла на него и тихо произнесла:
— Все опять будет хорошо, вот увидишь. Милая
моя шоколадочка! Я тебе это обещаю. Только нужно
быть мужественным, слышишь, мужественным!
— Да, конечно,—ответил он ей еле слышно.
Потом он уткнул голову ей в колени и снова
закрыл глаза.
На лице Нади появилось выражение удовлетво-
рения. Она действительно была рада, что он удос-
тоил ее хотя бы таким кратким ответом. В последнее
время он вообще с нею мало разговаривал. Уже
11 месяцев они вместе. Ее родители, живущие в со-
седнем городе, поставили ее перед выбором—прекра-
тить дружбу с ним или убираться вон. Какой-то
«негр» в качестве зятя их не устраивал ни в коей
мере. Она сделала соответствующие выводы и в тот
же день перебралась к нему.
У нее окончательно пропал сон, но она все же
потушила свет и откинулась назад, прислонившись
головой к стене. В памяти снова отчетливо всплыло
то, что они пережили вместе в последние несколько
недель. Приятными эти события не назовешь. Кофи
Кунту провалился на зачете по основам семейного
права. Кроме того, его познания в немецком языке
оказались недостаточными и постоянно его подво-
дили. В первые два года обучения он слишком мало
уделял внимания языку. Он тогда был очень наивен
и полагал, что владение языком придет со временем
само собой. Он жестоко ошибся.
А теперь ему еще предложили съехать с квар-
тиры, так как он отказался платить за нее больше,
чем раньше. Но ведь у него и нет таких денег.
Стипендия невелика—всего 235 марок, и из них 162
197
марки он ежемесячно выплачивал за квартиру,
включая плату за воду, отопление и уборку мусора.
Прежнюю цену еще можно было как-то терпеть,
но новую... И вот предупреждение о грозящем вы-
селении. Куда же они теперь денутся, зимой, в такие
холода? Ах, если бы она тогда сама не убедила его
снять эту маленькую квартирку! Но она знала, что
у черного вообще очень мало шансов найти хоть
какое-то жилье. Она хотела предложить ему свои
деньги—40 марок в месяц—для того, чтобы компен-
сировать увеличение квартирной платы, но не сде-
лала этого, зная, что он все равно из принципа
отклонит такую помощь.
Она лихорадочно думала о том, как и чем помочь
ему в его теперешнем трудном положении. Ведь у
него и без того полно всяких неприятностей в этой
новой для него среде. В автобусах, трамваях и даже
в пивных ему постоянно достается из-за его черной
кожи: оскорбления и брань на каждом шагу. И нич-
то уже не кажется ему легким и простым с тех пор,
как он понял, что значит быть здесь черным, быть
«негром» в Германии! И тем не менее у него нередко
хватало мужества толкаться среди людей и даже
ввязываться в диспуты. Вероятно, он хотел таким
способом доказать самому себе, что у него достаточ-
но сил для сопротивления.
Надя вспомнила вдруг, как он однажды пришел
домой с огромным пестрым флагом в руках.
— Сделано по особому заказу!—заявил он воз-
бужденно.
Он был ярым болельщиком местной футбольной
команды, носившей название «Дружные зеленые
скорпионы». Кофи был фанатически преданным
болельщиком и не пропускал ни одной игры. Он
даже приобрел льготный годовой абонемент на ста-
дион и часто с гордостью рассматривал его—так
же, как и свою первую визу на въезд в Германию.
Однажды в этом спортивном клубе было общее соб-
рание членов общества, и, поскольку он весьма инте-
ресовался всем, чем оно живет и как управляется,
он пошел туда и стал вмешиваться во все вопросы,
которые там разбирались, пока кто-то из зритель-
ного зала не заорал, чтобы он поскорее топал в свой
девственный лес, где ему самое подходящее место.
Там-де ему быстро внушат, каким способом луч-
198
ше всего обтягивать кожей бушменские барабаны.
Раздался дикий хохот. Он тогда тоже посмеялся
этой «шутке». Но это был конец всему его «боле-
нию». Больше он на стадион не ходил, даже тогда,
когда играла команда этого общества.
Годовой абонемент на стадион, вспомнила Надя,
он на следующий же день изорвал на мелкие клоч-
ки. Он чувствовал себя обманутым, хотя никто и
не обещал ему, что его когда-нибудь примут в этот
спортивный клуб в качестве почетного члена. Он
должен был еще радоваться тому, что его вообще
терпят там и иногда пользуются его услугами как
«божьего создания второго сорта».
С той поры он уже никак не мог обрести свое
прежнее состояние духа. Его неуверенность в отно-
шениях с живущими рядом людьми становилась
все большей, и это вело к тому, что внутри у него
скапливались горечь и ненависть, которые он при-
нужден был постоянно носить с собой. А из-за этого
заметно ухудшилось и его отношение к ней: он
стал нервозен и вспыльчив. И вот он лежит теперь,
спрятав голову у нее в коленях. Может быть, он
бессознательно ищет в ней свою последнюю точку
опоры.
Позавчера он был в канцелярии начальника уп-
равления округа. Хотел пожаловаться на то, что
владельцы домов несколько раз с подчеркнутой веж-
ливостью отказывали ему в найме квартиры, оправ-
дываясь всевозможными причинами. Он спросил у
самого начальника округа, какими критериями
пользуются домовладельцы при сдаче внаем пусту-
ющих квартир, простой которых финансируется го-
сударством за счет налогов. Она, Надя, с удовольст-
вием пошла бы в управу вместе с ним, но ей было
нужно идти на свою текстильную фабрику в утрен-
нюю смену.
Он вечно задавал всякие вопросы, этот Кофи
Кунту. Ну, конечно, ведь он же студент третьего
курса юридического факультета. Начальник управы,
очевидно, не был достаточно подготовлен, чтобы от-
ветить на подобный вопрос. Если хотите, сказал
он ему, то, пожалуйста, ступайте в городскую ма-
гистратуру. И ровно в половине десятого Кофи
вошел на второй этаж огромного здания ратуши.
К часу дня он обошел девять разных кабинетов,
199
но не нашел «компетентного чиновника», который
смог бы ответить на его вопрос. И он вернулся,
сильно присмиревший, назад, к Наде, которая, что-
бы утешить его после мытарств по официальным
учреждениям, варила ему суп из земляных орехов...
Надю одолевала зевота. Она устала. Она уже
не знала, сколько времени просидела так в кровати
без сна. Стенные часы снова начали бить. На этот
раз она принялась считать удары. Часы пробили
шесть. Тут она услышала, как за окном на улице
запела птичка. Начинался еще один, новый день.
Ей пора было вставать, чтобы успеть собраться и
привести себя в порядок перед работой. Но она
этого не сделала. В ее душе внезапно возник страх
за него, ужасный страх. Откуда он взялся и почему?
Ей тоже очень хотелось заплакать громко, навзрыд,
но она вспомнила, как она сама несколько часов
назад сказала ему, что нужно быть очень мужест-
венным и тогда все снова будет хорошо. А он от-
ветил на ее слова тихим «да».
И она медленно и осторожно легла, забравшись к
нему под одеяло, и плотно зажмурила глаза, чтобы
по крайней мере разделить с ним его сны, чтобы
вместе, вдвоем побороть жившие внутри них страхи
и преодолеть враждебность окружающего их мира.
Карлос Лира
Прибытие в лагерь для иностранцев
Время близилось к полудню, за стеклом иллюми-
натора кружились снежинки, падая на кое-где еще
оставшиеся бугры старого снега, покрытые серой
коркой грязи. Турбины самолета выключены, путе-
шествие действительно закончилось.
Так начался мой первый день в Европе. Он на-
чался именно в том месте, где, как я слышал, ночи
особенно длинны. Скоро я и сам смогу проверить,
верно ли то, что днем, в половине четвертого, здесь
уже темнеет и потом не рассветает до половины де-
вятого следующего утра, а летом все наоборот—
почти никогда не будет темнеть, всего лишь на четы-
ре часа, от десяти вечера до двух часов утра.
200
Когда мы уже собирались выходить из самолета,
я увидел, как моя жена собирает бумажные салфет-
ки, несколько кусочков сахару, пару булочек и даже
соску, которую нам дала бортпроводница, чтобы на-
кормить нашу малышку. Никто никогда не знает за-
ранее, что может случиться, наверное, думала она.
По-видимому, правы те люди, которые утверждают,
что женщины способны предугадывать будущее.
— Прошу тебя,—сказал я ей тогда.—Выбрось
все это! Это может произвести нехорошее впечатле-
ние. Ведь могут заметить, что ты собираешь эти объ-
едки. Подумай только: мы приехали в богатую и мо-
гущественную страну. Если увидят, что ты подо-
брала эти крохи, над тобой будут смеяться. И всем
будет стыдно за тебя. В этой стране незачем подни-
мать что-нибудь с земли или с пола. Здесь знают,
что мы ехали сюда не по своей воле. Нас сюда при-
везли, обещали политическое убежище. И наверное,
есть такие, кто делал это от чистого сердца, потому
что на себе лично испытал все ужасы фашизма при
палаче народов Гитлере, и теперь Пиночет напомнил
им о том времени.... Выбрось эти вещи, Леонора.
Смотри, нас уже ожидают чиновники. Мы должны
пройти таможенный досмотр...
Моя жена, видимо, понимала, в какой трудной
психологической ситуации я находился, и не стала
мне перечить. И все-таки ей стоило большого труда
отказаться от своих сокровищ.
После выполнения различных строгих таможен-
ных формальностей мы оказались в одном из залов
ожидания. Пока ждали, много говорили о том, что,
вероятно, как и во Франкфурте, здесь, в Гамбурге,
нас никто не встретит. Возможно, о нашем приезде
вообще никому не сообщили.
— Во Франкфурте, однако, много чилийцев, и
некоторые из них работают в комитете солидарно-
сти,—заметил кто-то из наших.
Время шло. Таможенные формальности были
давно позади. Мы вытягивали шеи и вертели голова-
ми, пытаясь высмотреть кого-нибудь, кто выглядел
бы как чилиец или по крайней мере имел бы черные
волосы. Наше положение осложнялось еще и тем,
что вокруг слышалась только чужая и тогда нам
еще совсем непонятная речь. Сколько же понадо-
бится времени, прежде чем мы научимся хоть как-то
201
изъясняться? Мы еще не знали, как это у нас полу-
чится, но мы уже были готовы объясняться хотя бы
жестами, с помощью рук и ног, подкрепляя этот
«язык» звуками, наподобие тех, что издавал Тарзан.
Как-то надо было выходить из положения.
Строим всевозможнейшие предположения:
— Знает ли вообще кто-нибудь о нашем приез-
де? Может быть, «Международная амнистия»? Они
там всегда хорошо информированы обо всем. И на-
верное, им известно о нашем приезде. Ведь нас толь-
ко что выпустили из тюрьмы. Полиция об этом тоже
знает. Разумеется, нам совсем не хотелось бы, чтобы
нас встречала именно она, но полиция может со-
общить о нас какому-нибудь комитету или другой
общественной организации...
— Здесь в большой силе лютеранская церковь.
Она сотрудничает со многими высланными из стра-
ны чилийцами...
— Как странно, что никто не приходит...
— Что же с нами будет?
Мы уже взяли свои паспорта и свой «багаж» —
плетеную корзинку и сетку, похожую на бредень
для ловли рыбы (я сплел ее в тюремной камере). У
моей маленькой дочки в руках симпатичный плю-
шевый зверек. Он немного похож на медвежонка с
большими зелеными глазами, хвостиком и выпук-
лым брюшком, набитым опилками. Его зовут Капу-
цин. И хотя это никому не интересно, дочурка всем
и каждому рассказывает, о том, что она его очень
любит и что он родился в той самой тюрьме, в ко-
торой ее папа сидел в последнее время.
А в той тюрьме и вправду был надзиратель, ко-
торый в свободное от службы время мастерил вот
таких милых зверьков и продавал их тем политичес-
ким заключенным, кому предстояло быть высланны-
ми из страны. Он объяснял, что таким способом он
несколько облегчает свое довольно трудное мате-
риальное положение: у него очень большая семья.
После переворота жалованье им сократили на 60%,
и теперь—как ни странно это звучит—нижние чины
в армии и полиции получают меньше, чем во време-
на правления «Народного единства».
Ах да, я совсем позабыл о сигаретах и о несколь-
ких бутылках «Писко», которые мне подарили дру-
зья перед отлетом! Правда, всего лишь половина из
202
них доехала сюда: остальное конфисковали чилий-
ские таможенники. Именно так они компенсируют
теперь высокие налоги.
Когда служащие аэровокзала стали знаками по-
казывать нам, что пора покинуть помещение, появи-
лись два человека из Красного Креста. Они пришли,
чтобы забрать нас с собой. Говорили они только по-
немецки, но, очевидно, имели достаточный опыт в
подобных ситуациях, и потому мы понимали их жес-
ты и знаки легче, чем у других. Но понять то, что
они при этом произносили, было, конечно, просто не-
возможно. Хорошо еще, что у них были списки с
нашими фамилиями и прочими сведениями. Эти
люди помогли нам вынести наш «багаж» и быстро
затолкали нас в стоявшие у аэровокзала две неболь-
шие автомашины.
Карлос Гильермо уже почти не мог держаться
на ногах: он был тяжело болен. Сотрудники Красно-
го Креста попытались было что-то нам разъяснить,
но вся наша группа реагировала на это только во-
просительными взглядами и недоуменным пожа-
тием плеч.
— О чем говорит этот гринго, а?
— Я понял только, что речь идет о каком-то вок-
зале, а ты?
— Я тоже ничего не понял...
Наши «фольксвагены» тронулись и понеслись.
Через несколько километров мы нырнули в туннель
под Эльбой. Потом проехали мимо огромной, господ-
ствующей над всем городом телевизионной башни.
Наверху у нее, на 150-метровой высоте, находился
самый фешенебельный ресторан. Нам показали и ко-
лоссальный мост через Эльбу длиной 3940 метров и
высотой 130 метров. Он подвешен на 75 стальных
тросах.
Мы проехали уже около 30 километров. Все для
нас было ново и удивительно, но в тот день у нас не
было ни малейшего желания рассматривать чудеса
индустриального развития Германии, из коих мно-
гие, без сомнения, финансировались по пресловуто-
му «плану Маршалла». Машины остановились возле
какого-то строения, которое, вероятно, по чистой
случайности напоминало во многих мелочах чилий-
ские тюрьмы: такой же грязный кирпич, такие же
толстые стены, такой же запущенный газон и забор
203
из колючей проволоки с несколькими вырванными
из земли и валяющимися рядом кольями с наполо-
вину затоптанной проволокой.
В этом пейзаже не было и намека на то, что здесь
могут, например, жить дети. Все выглядело серым и
мрачным. И у нас постепенно нарастало ощущение
того, что мы вновь оказались в той же ситуации, из
которой вырвались сутками раньше.
— Может быть, это снова тюрьма?—не удержал-
ся вдруг кто-то из наших.—Наверное, нас сначала
будут допрашивать, а потом уже выдадут вид на
жительство...
— Возможно, у нас хотят выведать каким-то пу-
тем обстановку в Чили, а?
— Ну ничего, друзья,—сказал я.—Все идет так,
как и должно идти. Мы с вами пережили самое труд-
ное, и вряд ли теперь стоит думать о том, о чем не
следует.
Вскоре, быстро разобрав свои пожитки, мы вы-
строились совсем в духе немецких представлений о
порядке и экономии времени перед дверью какого-то
кабинета в длинном коридоре. Пол, застланный ли-
нолеумом, блестел так, что в нем можно было, как в
зеркале, увидеть цвет собственных глаз.
Потом пришел, чтобы встретить и принять нас,
какой-то господин лет 50 и очень высокого роста,
По выражению его лица можно было догадаться,
что это сам начальник данного ведомства. Люди из
Красного Креста, которые приехали с нами, предста-
вили нас ему и передали запечатанный конверт, в
котором, очевидно, находились сведения о нас.
Помимо своей воли мы сразу же стали вести себя
сообразно привычкам и нормам, усвоенным в тюрь-
ме. Не сознавая, что делаем, мы выстроились по рос-
ту! Как же велика сила привычки! Сопровождавшие
нас лица, с усердием выполнившие свою миссию,
поняли, что свое дело они сделали, попрощались с
нами, пожав руки, и пожелали нам, как мы дога-
дались, удачи.
Несколько мгновений царила абсолютная тиши-
на. Уже стемнело. Начальник внимательно огляды-
вал нас с головы до ног. Мы стояли молча, потупясь,
и желали только одного: обменяться с ним хоть па-
рой слов, и прежде всего узнать, скоро ли нам пре-
204
доставят место, где мы сможем вытянуть свои устав-
шие тела и отдохнуть, а также дать наконец тяжело
больному Карлосу Гильермо лекарства.
Закончив разглядывать нас, начальник жестом
поманил к себе какого-то типа, который выглядел
как латиноамериканец. На мгновение нам подума-
лось, что это наш соотечественник. Он, видимо,
должен был служить нам и шефу переводчиком.
Но когда он обратился к нам с приветствием на
не очень правильном испанском языке, стало ясно,
что он не латиноамериканец, и тем более не чилиец.
Тем не менее он начал переводить следующий диа-
лог, возникший между нами и начальником:
— Шеф приветствует вас всех с прибытием в
этот лагерь.
— Передайте ему, пожалуйста, наше сердечное
спасибо.
— Он говорит, что вы должны здесь чувствовать
себя как дома.
— Скажите ему, что мы премного благодарны...
— Он говорит, что хочет просмотреть несколько
ваших паспортов...
— Он просит вас содержать в чистоте туалеты.
— Скажите ему, что мы приложим все наше ста-
рание!
— Он говорит, что здесь у него недавно было не-
сколько чилийцев и что они были неопрятны, слиш-
ком крикливы и даже драчливы, что они по ночам
мешали спать другим...
— Передайте ему, что мы искренне сожалеем,
что наши земляки вели себя так плохо!
— Он говорит, что здесь вы в течение некоторого
времени будете жить вместе с поляками, югослава-
ми и греками. На всех вас здесь есть одна общая
кухня с шестью плитами и соответствующий кухон-
ный инвентарь. Сейчас вы это все увидите. Имеются
также ванны и души, для посещения которых вы
должны своевременно давать официальную заявку.
Оставлять их после мытья нужно в полном порядке
и чистоте. В клозете есть корзинка для использован-
ной бумаги. Спускать бачок после каждого отправ-
ления нужды! Туалеты содержать в чистоте!
— Скажите начальнику: мы постараемся все де-
лать именно так!
205
— Он говорит, что сейчас вы можете занять от-
веденные вам комнаты. Семья Энрикес получает не-
большую комнату на третьем этаже, семья Каррей—
там же, в конце коридора. Семья Лира, поскольку
их семеро, получает комнату побольше на втором
этаже недалеко от кухни. Вам придется сначала
все самим устроить. Конечно, и спать и есть на не-
скольких квадратных метрах—не самое удобное, но
пока придется...
— Передайте ему большое спасибо за все...
— И в заключение он хочет сказать вам следу-
ющее. Если обед покажется вам недостаточным, то
на третьем этаже есть общая комната с телевизором.
Там вы можете получить дополнительно молоко,
хлеб и масло. Но тогда вам придется обойтись без
ужина до завтрашнего утра. После завтрака во всем,
что касается питания, вы должны будете обходиться
самостоятельно... Вы, должно быть, знаете, что у нас
в Германии кто не работает, тот не получает еды.
Все ли вам ясно, или есть вопросы?
Последние слова шефа всех нас поразили. Я ви-
дел, как на глаза многих взрослых вдруг наверну-
лись слезы.
Нет, не потому, что мы не хотели работать за
предоставленную нам пищу и приют. Мы в полном
смятении спрашивали друг друга, где же мы за
несколько часов после приезда сразу найдем работу.
Наше волнение улеглось только тогда, когда выяс-
нилось, что «переводчик» явно неверно интерпрети-
ровал слова шефа.
Мы отправились в отведенные нам комнаты, и
уже вскоре все сошлись в общем зале с телевизором,
где нас ждали молоко, масло и хлеб. Но малыши
захотели пить молоко с сахаром» да и взрослые не
отказались бы от этого. С жалостью вспомнила тут
Леонора о тех крохах, которые она собрала в само-
лете, но выбросила по моему совету.
Вскоре в зале появились несколько чилийцев и
немцев, чтобы выразить нам свою солидарность.
И тех и других интересовало прежде всего то, к ка-
кой политической партии принадлежат вновь при-
бывшие. Они не задали нам ни одного вопроса о том,
как мы себя чувствуем, как прошел переезд. Они
лишь хотели знать, к какой партии мы себя отно-
сим—к МАПУ, к социалистической партии или к
206
какой-нибудь фракции МИР *. Получив ответы на
свои вопросы, многие из пришедших разочарованно
ушли к себе.
Наступило время идти спать.
Служащий лагеря, ведавший раздачей постельно-
го белья, сказал нам, если мы правильно поняли,
следующее:
— Вот вам на семерых одно шерстяное одеяло,
небольшая подушка и два ночных горшка.
Это уже было кое-что по сравнению с тюрьмой:
в камере приходилось всем оправляться в один раз-
битый горшок.
Когда мы спросили о простынях, этот человек
принялся нам растолковывать, что, мол, это не по-
ложено, никак не положено, особенно в таких слу-
чаях, как наш...
Едва мы остались в комнате одни, как раздался
стук в дверь. На пороге вырос молодой человек,
высокий, светловолосый, по виду европеец. Оказа-
лось, однако, что он сын немца и чилийской комму-
нистки. Звали его Герман Линк. Местонахождение
родителей было ему неизвестно. Его политические
убеждения, как потом рассказали нам уже давно
находившиеся тут чилийцы, не были явно левыми.
В сопровождении другого молодого человека, чилий-
ца по фамилии Дельгадо, сына нашего бежавшего
из Чили друга, Герман пришел оказать нам свою
помощь—от чистого сердца и бескорыстно. Первое,
что они сделали,—это раздобыли для детей сахар.
— Я знал, что вы меня об этом попросите,—
сказал Дельгадо.
Он исчез и вскоре вернулся с пачкой сахара.
В ту ночь мы проговорили до самого раннего
утра. Герман обещал в тот же день познакомить
меня с теми местами и учреждениями, которые мог-
ли понадобиться прежде всего. И он выполнил свое
обещание. Необходимо было решить безотлагательно
две самые главные проблемы: во-первых, раздобыть
продукты питания, а во-вторых, показать врачу на-
шего старшего сына, которому было очень плохо: у
него был озноб, а температура поднялась до 39°.
* МАПУ—сокращение от испанского названия ведущей партии
блока «Народное единство» — «Единое движение народного
действия». МИР—сокращение от испанского названия группи-
ровки «Левое радикальное движение».—Прим. перев.
207
Эта ночь с 11 на 12 ноября 1975 года была
первой ночью, проведенной моей семьей в полити-
ческой эмиграции. Не удалось даже поспать как
следует, не то чтобы увидеть сон. В голове роились
планы на следующий день. В первую очередь нужно
было отправить парня в больницу. Ночь была холод-
ной, но я этого не заметил: батарея отопления и моя
жена согрели меня.
Аделе Супертино
Открытое письмо
в Управление по вопросам труда
В пятницу 22 февраля 1980 года к 7.30 утра
я была вызвана медицинским отделом биржи труда
на врачебное освидетельствование. Биржа труда от-
крывала свои двери ровно в 8 часов, поэтому я вместе
со многими другими коллегами вынуждена была
ожидать на холоде целых полчаса. Все мы пожало-
вались на это! Почему в зимнее время нельзя пус-
тить людей в теплый зал ожидания? После обследо-
вания меня без всяких разговоров отправили домой.
Когда я спросила—почему, врач заявил: «Вы по-
лучите письменный ответ!»
В качестве ответа мне прислали повестку, в кото-
рой значилось, что в соответствии с параграфом 132
4 марта 1980 года между 8 и 10 часами мне
следует явиться на биржу в комнату № 121.
Принявший меня чиновник, господин Штапф,
снова предложил мне ту же самую работу—помощ-
ника повара или горничной. Но это работа, выпол-
нять которую я по состоянию здоровья совершенно
не могу. Именно на такой работе я заболела и пото-
му была уволена. Я спросила чиновника, есть ли у
него заключение врача биржи о моем здоровье. Он
покопался в бумагах и нашел его.
На мой вопрос, могу ли я снять копию с доку-
мента, он ответил: «Нет!» Я спросила тогда, могу
ли я хотя бы прочитать его; он снова ответил:
«Нет!» Но он все-таки зачитал мне часть заключе-
ния врача, из которого следовало, что я не могу
выполнять аккордно-сменные работы, а также рабо-
ты, связанные с повышенной влажностью.
208
Тогда я задала ему вопрос, почему они не посы-
лают обследуемым лицам копии медицинских за-
ключений, ведь те имеют право знать, как они долж-
ны себя вести, чтобы не причинить своему здоровью
еще больший вред. Поскольку я выразила желание
снова работать в металлургической промышлен-
ности, где уже работала с 1973 по 1978 год, меня
направили в комнату № 19.
Через полчаса меня вызвал еще один чиновник,
который вручил мне записку с поручением о найме
на фирму «Глико» в качестве рабочей-станочницы.
Я обрадовалась. Кажется, сбывалась моя мечта, и я
уже с нетерпением ждала устройства на работу.
Господин Шуманн из производственного совета
предприятия привел меня к заведующему кадрами
господину Дитриху, и там я узнала, что машинная
работа, на которую меня рекомендовали, произво-
дится посменно и аккордно. И тут он меня спросил:
«Сколько вам лет?» Я ответила на его вопрос. Он
удивился и сказал: «Ну это уже настоящая наглость
со стороны биржи труда! Куда же смотрел чинов-
ник, направивший вас к нам? Вам вообще нельзя
работать у нас. После 50 лет! Вы же не имеете
права работать посменно и тем более аккордно! А
других свободных мест у нас, к сожалению, нет!»
Он поставил свой штамп на мое поручение и
участливо попрощался со мной.
Мое настроение снова упало «ниже нуля». Воз-
вратилась домой вся в слезах и опять впала в пол-
ную депрессию. Хотела убить себя таблетками:
зачем жить, если ты слишком стара и больна для
чего бы то ни было! Потом подумала о своей дочери
Агнесе, которая только что приехала из Калифор-
нии погостить у меня со своей семьей, и перестала
думать о самоубийстве.
В четверг я пошла к своему врачу и рассказала
ей о том, что со мной было. Она прописала мне
новые таблетки, которые якобы должны повысить
жизненный тонус, и объяснила, что из-за такого
обращения чиновников биржи труда с безработными
у последних всегда развивается депрессивное состоя-
ние.
То, о чем я здесь написала, происходит не только
со мной, но и со многими другими людьми. После
всего, что эти люди испытали, на них еще вдоба-
209
вок смотрят как на тунеядцев и лентяев. А ведь они
не работают только потому, что не могут найти под-
ходящей работы.
Здесь много печатают разных проспектов, объяв-
лений, памяток, причем на хорошей бумаге, яркими
красками, но что они дают иностранным рабочим?
Издается много всяких законов, но все они хоро-
ши только в теории. А на практике все получается
совсем по-другому. Поэтому давно пора сделать что-
то действительно полезное для тех пожилых рабо-
чих, которые не совсем здоровы и которых постоян-
но выгоняют на улицу из-за их ограниченной тру-
доспособности.
Гарри Бёзеке
«...Немцы недружелюбны.
Они думают только о вещах!..»
(В каком свете видят молодые ино-
странцы Федеративную республику)
Почти пять лет проработал я в Управлении со-
циального обеспечения Хорвайлера—этого уродли-
вого города-спутника Кёльна. Доверие ко мне под-
ростков-иностранцев и их желание высказаться, об-
легчить свою душу, освободиться от всего, что им
мешает жить или не нравится в окружающем, были
столь велики, что мне пришлось долго отбирать и
приводить в порядок то, что удалось от них полу-
чить, что они мне рассказали. Частично это были
заявления, сделанные на ходу, но много было и
такого, что явилось плодом длительной и кропот-
ливой работы в молодежном литературном кружке,
который я организовал из иностранной молодежи
и из немцев.
Каковы же действительные впечатления у моло-
дых иностранцев о Федеративной республике? О Фе-
деративной Республике Германии, которую они по-
прежнему называют просто Германией? О тех нем-
цах, которые живут с ними в одном доме? О немцах,
что стоят рядом с ними у конвейера? О немцах,
часто загоняющих их в угол, а в период избиратель-
210
ных кампаний выступающих под лозунгами НДПГ
«Иностранцы не должны задерживаться в ФРГ!» и
«Гоните их вон!».
Турецкие подростки со своими немецкими подружками в гам-
бургском парке «Плантен унд Бломен» (весна 1980 года).
«Приезжайте,
здесь даже камни из золота!»
На родине им говорили, что здесь их ждут чуде-
са, что, мол, это страна, где текут молочные реки
в кисельных берегах. Мехмет, которому сейчас 17,
хорошо помнит, как дома рассказывали о Германии.
«Германия-это настоящий рай, где из водопровод-
ных кранов течет не вода, а пиво. Там за все платят
деньги—за детей, за то, что остался без работы, за
отпуск. Вот только о том, что здесь, в этом раю,
ишачить надо, как на каторге, никто не рассказы-
вал. Мои земляки,—говорит Мехмет,—которые по-
бывали здесь, хотели представить нам все гораздо
лучше, чем оно есть на самом деле. Это делалось
для того, чтобы казаться в наших глазах более
важными персонами, а не простыми рабочими.
211
И вот мы приехали в Германию, но все здесь ока-
залось совсем не так. Пиво из водопроводных кра-
нов, конечно, не течет. Оно продается в пивных и
стоит дорого. Очень высоко ценится в Германии вре-
мя, и люди здесь совсем замучены. Везде они нахо-
дятся под стрессом, особенно в крупных городах.
Повсюду на немцев давит реклама. Они страшно
легковерны, хотя и не глупы. Правда, у них есть
возможность получить образование».
Студент строительного техникума Абдулхалик,
21 года, обращаясь к своему приятелю, собирающе-
муся отправиться в ФРГ, пишет в своем стихотворе-
нии: «Приезжай, друг, сюда поскорее. Будешь
жить, как и мы, в Германии. Даже камни здесь из
чистого золота. Деньги же просто лежат на дороге!»
Но затем эти настроения постепенно сменяются дру-
гими. Человек, «оставивший за собой горы и леса» и
поживший здесь некоторое время, убеждается в том,'
что золотых камней тут нет, а дорога оказывается
устланной только обещаниями прекрасного будуще-
го. И тогда «в его душе вскипают отчаянье и гнев».
И он говорит: «Милый брат! Вот что такое Герма-
ния! Здесь тоже нет надежды для меня...»
«Каждый день я совершаю поезд-
ку из Турции в Германию...»
«Есть ли у меня какие-то перспективы в Герма-
нии?» Мухарем, 19-летний рабочий, смотрит на это
так: «Для меня Германия—это место парковки.
Причем второго класса. Как-то я хотел поставить в
городе свою машину на стоянку. Подошел полицей-
ский и сказал: «Можешь парковаться в своей Тур-
ции, но не тут!» Неужели же Германия—это всего
лишь место для временной парковки «иностранных
рабочих»? Или все же она может предложить им
нечто большее?»
Вот что говорит об этом Эрдоган, 22-летний рабо-
чий, проживший в ФРГ целых 10 лег: «Тут то и де-
ло натыкаешься на стену. В Управлении по делам
иностранцев чиновники решают все вопросы по сво-
ему усмотрению. Захотят—продлят тебе вид на жи-
тельство, не захотят—вылетишь вон. Если проявля-
212
ешь робость, ничего у тебя не выйдет, а если будешь
шуметь и требовать, то получится еще хуже. Там все
решается по настроению. Вот и получается, что ты
все время не уверен, все время полностью зависишь
от прихоти властей. Какие уж тут надежды или
перспективы!»
Еще недавно Эрдоган работал на одном из пред-
приятий Форда. Выплатив единовременно большую
сумму денег тем рабочим, которые добровольно
согласились освободить свои места, этот работода-
тель уволил 6000 человек. Но сейчас у многих из
этих «добровольцев» наступило горькое похмелье:
«Добровольно согласившись на увольнение, мы сами
себе поставили подножку! Не сладко придется тому,
кто сразу не найдет себе работу. Многие из нас, ту-
рок, особенно люди старшего поколения, охотно вер-
нулись бы на родину. Но там теперь правят военные.
Если же к власти снова придет гражданское прави-
тельство, многие возвратятся».
Решится ли вопрос об иностранцах, по крайней
мере о турках, которые составляют самую большую
часть приезжей рабочей силы, сам собой? Ответ на
этот вопрос можно найти в высказывании Джемиля,
19-летнего маляра-лакировщика, который говорит:
«При теперешней политической системе у нас на ро-
дине я бы не смог долго продержаться на свободе.
Ведь если, скажем, арестуют моего брата, а я спро-
шу у военной хунты, где он, меня тоже посадят!»
Другой вариант ответа дает 18-летний Фикрет,
обучающийся на курсах профессиональной подго-
товки: «Каждый день я совершаю поездку из Тур-
ции в Германию. Когда я утром покидаю квартиру
своих родителей, я покидаю вместе с ней и Турцию.
Я прихожу на свое рабочее место, к своим здешним
друзьям и попадаю в Германию. Вечером я возвра-
щаюсь к родителям и снова оказываюсь в Турции».
Другой турок, хотя он и выучил немецкий язык, то-
же не считает, что турки смогут когда-либо жить
вместе с немцами. Разве что будут сосуществовать
рядом друг с другом, но не больше. Он говорит:
«Немцы построят для турок отдельные дома и даже
улицы. Там будут жить только турки. И тогда и у
турок не будет никаких ненужных осложнений и
неприятностей, и немцев никто не станет беспоко-
ить!»
213
«Вы должны сначала интегриро-
ваться в наше общество!»
Что предпочтительнее—интеграция иностранцев
или их замена по принципу ротации? Этот вопрос,
усиленно дебатировавшийся еще в начале 70-х го-
дов, не получил своего разрешения и поныне. С це-
лью интеграции предпринимались, правда, кое-ка-
кие шаги, но это были скупые и непоследовательные
полумеры. Да и сами попытки осуществить интегра-
цию делаются лишь там и тогда, где и когда пробле-
мы оказываются столь серьезными, что об интегра-
ции вряд ли вообще может идти речь. Так, в
западноберлинском районе Кройцберг было предло-
жено ввести в трех начальных школах преподавание
турецкого языка в качестве первого иностранного.
Вроде бы закладывалась основа для подлинной вза-
имной интеграции. Однако в ходе семинаров, кото-
рые я проводил в школах, где есть талантливые пи-
шущие турецкие юноши и девушки, я постоянно
слышал от немцев одно и то же требование: снача-
ла турки должны интегрироваться в наше общество!
На это требование люди отвечают по-разному.
Так, Кадри, 22-летний почтовый служащий, гово-
рит: «В нашей стране (Турции) никто не принуж-
дает иностранцев—служащих, рабочих, инженеров
и любых других—жить по законам корана, а их
жен никто не заставляет закрывать лица чачваном
или чадрой».
А вот 19-летний практикант Исмаил смотрит на
это по-другому: «Если ты хочешь обжиться в Герма-
нии, надо сначала ко всему приспособиться. Если ты
этого сделать не сумеешь, появятся разные трудно-
сти. Когда познакомишься с культурой немцев бли-
же и будешь стараться следовать ей, жить станет
легче. Но, конечно, и свою собственную культуру
забывать не надо. Правда, сразу в двух культурах
жить довольно трудно. Но ведь в результате воз-
никает какая-то новая культура». Исмаил хотел
учиться в Германии. «Для этого нужно хорошо
узнать немцев, изучить их язык и их культуру.
А общение только с моими земляками в этом мне
почти ничем помочь не может».
Работающий на конвейере 19-летний Урхан вы-
сказывает на этот счет свою особую точку зрения:
214
«Для меня Германия—это страна удобств. Страна
роскоши и первоклассных вещей. Но в Германии
есть и свои бедняки».
Я спрашиваю Джемиля, когда, по его мнению,
немец бывает счастлив. «Немец бывает счастлив тог-
да, когда он стоит или сидит за кружкой пива. Это
для него великая минута уединения. В этой стране
не очень ценят родственные отношения и родствен-
ники друг с другом общаются довольно мало. А для
нас родственные связи и взаимная поддержка озна-
чают очень многое!»
В одном из своих «стихотворений» 17-летний
Мехмет так выразил свои впечатления о первой
встрече с немцами. Она произошла, когда ему было
всего 14 лет. «Я так хотеть немецкий друг. Но нем-
цы не хотеть. «Иди паси своя верблюд!»—они мне
говорить. А я верблюд свой не иметь. Ну что же де-
лать тут? Они всегда меня бранить: «Чеснок ты
жрешь, щенок!» А я совсем не жрать чеснок: его я
не любить. И мне сказать они всегда: «Протух ты
весь совсем!» А я не пахнуть никогда. Я мыться
каждый день!» Мехмет хорошо знает, что такое
предрассудки. Это то, что проявляется в разговорах
немцев с детьми иностранных рабочих и восприни-
мается последними как самая серьезная рана. Это
ненависть к иностранцам, обращение с ними, как с
людьми второго сорта, как с неполноценными. Мож-
но ли от этого защититься?
«Я оказался между двух стульев»
Эроль, 14-летний школьник, которого служащая
отдела социального обеспечения назвала «турецким
немцем», поскольку он принадлежит к категории
иностранцев, в значительной мере интегрированных
в западногерманское общество, объясняет мне некото-
рые особенности общения иностранцев с немцами:
«Обращаясь к туркам, немцы всегда говорят: «Ну
ты, деревенщина!» Итальянцев они называют «ма-
каронниками». Многие иностранцы платят им тем
же, обзывая «картошками». Вот, пожалуй, и все, что
мы знаем друг о друге—деревенщина, макаронники,
картошки!»
И тем не менее Эроль приспособился. Он дружит
215
с немцами и часто ходит в их компании. И уже не
знает, к какой нации он принадлежит. «Я оказался
между двух стульев: одним—немецким, другим—
турецким. С кем я—не знаю!» Эроль—«немецкий
турок», один из тех, кто вместе со своими немецкими
друзьями нередко бьет других мальчишек-иностран-
цев. Он принят как свой в этой группе, потому что
говорит, думает и ведет себя как немец. И только
темная кожа выдает в нем «чужака». «Когда же я
еду в трамвае,—рассказывает он,—мне часто гово-
рят: «Эй ты, а ну-ка вылезай, ты не заплатил за
проезд!»
Многие турецкие юноши и подростки чувствуют
свое физическое превосходство над немецкими свер-
стниками, поскольку они сильнее, а также потому,
что их группы держатся сплоченнее и знают, как
себя защитить. Это группы настоящих аутсайдеров,
которые понимают, что их аргументы не в языке, а
в кулаках. Лишь немногие ведут себя по-другому. И
все же они говорят: «Наш родной язык стал для
нас в Германии чужим. Наша культура—тоже. Мы
живем здесь совсем не так, как на родине: нас вы-
нуждают жить по-другому!»
«Здесь можно купить все,
но не дружбу»
Итак, Германия! Но ведь это не только немцы.
Это еще и самые современные достижения во всех
областях, это совершенная техника, это реклама, это
потребительский «рай», это всевозможные средства
и способы развлечения. Что же в Германии поразило
тебя больше всего? Паоло живет в Кёльне уже пять
лет. Сейчас ему 17. Вот его ответ: «Здесь очень мно-
го игровых автоматов. Можно сбивать «летающие
тарелки», можно запускать ракеты. Мне это нра-
вится... А еще здесь всегда можно купить себе самые
модные вещи. Ну и с девушками тут тоже легче».
А как относятся к вам немецкие девушки, навер-
ное с предубеждением? Антонио, 16-летний, еще
не работающий юнец, отвечает: «Могу сказать, что
в этом деле очень много предрассудков. И еще—что
дружбу между нами и немецкими девушками часто
расстраивают их родители. Многие здешние девуш-
216
ки охотно встречались бы с нами, но не решаются
из-за родителей!»
Лючиано, 19-летний рабочий на конвейере, кото-
рому принадлежит высказывание, вынесенное в под-
заголовок, говорит: «Если бы меня попросили опи-
сать Германию, я бы сказал: здесь можно купить
все, кроме, пожалуй, одного—дружбы. Разумеется,
в магазинах полно всего, но у меня нет денег, чтобы
купить многие из лежащих там товаров. У нас в
Италии, конечно, такого множества вещей нет». Как
покупатель Лючиано выступает довольно редко. Ро-
дители все время просят его экономить, чтобы когда-
нибудь наладить свою жизнь там, на родине. Они
уже приобрели участок земли, чтобы построить
гостиницу, объясняет мне Лючиано. Однако возвра-
щаться в Италию он не хочет. «У меня уже нет
ничего общего с моими прежними друзьями в род-
ной Апулии. Они даже думают иначе. Я вообще не
знаю, смогу ли я снова там жить».
«Ну и как ты добьешься этого,
деревня турецкая?»
В Турции обязательное образование ограничи-
вается пятью классами начальной школы. После ее
окончания можно пойти учиться в среднюю школу,
сравнимую с нашей реальной, закончив которую
человек имеет право поступить в профессиональное
училище. Прослышав про наше девятиклассное об-
разование и сравнив его с девятью годами обучения
в Турции, приезжающие к нам турки считают, что
по окончании средней школы в Германии перед их
детьми откроются двери к любой профессии.
В связи с этим ниже приводится произвольная
подборка высказываний иностранных школьников
об их желании приобрести ту или иную профес-
сию. Она была опубликована в издаваемой Феде-
ральным ведомством по вопросам политического
образования газете «Политише цайтунг» (см. выпуск
№ 8 за 1980 г.).
Фатима: «Я хотела бы стать у нас в Турции
фармацевтом». Ахан: «Я хочу стать учителем, но не
здесь, а в Турции, потому что там мало учителей».
Хаджи: «Я стану полицейским, а потом буду слу-
217
жить в личной охране федерального канцлера». Ха-
тидже: «Я буду врачом!» Мустафа: «Я хочу сде-
латься детским врачом здесь, в Германии».
Все это только мечты о профессиях, которые,
конечно, не имеют ничего общего с реальными воз-
можностями иностранной молодежи. Севхи, 14-лет-
няя девочка-турчанка, говорит: «Самое трудное в
Германии—это изучить немецкий язык. Немецкие
дети не хотят играть с турецкими. В Германии нель-
зя жить: тут всегда холодно. И в школе слишком
трудно».
Школьник Мехмет, 14 лет, заявляет: «Я турец-
кий. Здесь много всякая проблема. Моя первая проб-
лема—это ходить школа. Вторая проблема—я не
очень говорить по-немецки. Но на следующий год
я будет идти на профессиональная школа... А по-
том будет без работа...»
Кемаль, 15-летний школьник, пытается объяс-
нить: «У нас в Германии очень много трудностей.
Ну, например, приезжает из Турции семья. Сыну
15 лет. Но он не может поступить в турецкую шко-
лу: таких здесь нет. А для немецкой средней школы
он уже не подходит по возрасту—не берут. Тогда
нужно поступать в профессиональное училище, не
так ли? Ведь сразу-то он не может получить профес-
сию, без школы!»
Налан, 15-летняя девочка из Турции, рассказы-
вает о тех проблемах, которые возникают здесь при
обучении иностранных школьников и которые, как
она считает, связаны не только с усвоением учебных
дисциплин: «После четвертого класса меня перевели
в гимназию. Учительница начальной школы была
совершенно уверена, что я смогу там учиться. Она
это часто говорила, даже перед всем классом. Но
некоторые ученики издевались надо мной. Один мой
одноклассник, которого тоже собирались перевести в
гимназию, сказал как-то: «Ой, не смеши! Ну и как
же ты добьешься этого, деревня турецкая?» Его сло-
ва застряли у меня в голове и все время сбивали
с толку. Неужели я не осилю учебу? Во мне
росла какая-то неуверенность в своих силах. Но все-
таки я упорно училась, и, когда все дети играли во
дворе, я сидела дома и учила уроки. На переменах
в школе я всегда была одна. Никто не хотел со мной
ни играть, ни заниматься. На уроках я очень редко
218
отваживалась открывать рот, потому что боялась
сказать что-нибудь неправильно. Мне всегда было
страшно, что надо мной все станут смеяться. Друзья
у меня появлялись только тогда, когда я приносила
в гимназию хрустящий картофель или какие-то сла-
дости. И то на очень короткое время!»
Другая школьница по имени Назли так описы-
вает особенности поведения девушек, воспитанных
в традициях ислама, в присутствии немецкого учи-
теля-мужчины: «Турецкие девушки более замкну-
тые, чем немецкие. Они всегда очень стеснительны.
Перед учителем-мужчиной они теряются гораздо
больше, чем перед учительницей. При этом не важ-
но, сколько учителю лет. Когда я прихожу в школу
и встречаюсь с учителем, я не знаю, куда деваться
от смущения и страха. Я и перед юношами испыты-
ваю такой же страх. Я и руку никогда не поднимаю,
чтобы идти к доске: стыжусь себя самой и боюсь,
что другие—и учитель тоже—меня высмеют».
Пятнадцатилетний Мустафа добавляет к этому:
«Немецкие учителя для нас в большей или мень-
шей степени чужаки. Они относятся к нам совсем
не так, как к немцам. Мы для них тоже чужаки,
только они нам об этом не говорят открыто, ну, что
мы для них посторонние, лишние. Правда, они всег-
да пытаются сохранять приличие, хотя бы для ви-
димости».
«У конвейера мы все одинаковы»
В Федеративной республике и в Западном Берли-
не проживает свыше четырех миллионов иностран-
ных рабочих, включая членов их семей. Они покину-
ли свою родину, поскольку здесь могут заработать
больше денег, чем там.
Джемиль, 19-летний маляр-лакировщик, говорит
об этом так: «Того, что я зарабатываю здесь за
один день, в Турции мне хватило бы на целую
неделю. Но зато тут постоянный стресс и изнури-
тельная работа». Особое внимание уделяется вопро-
сам социального страхования и строгому соблюде-
нию дисциплины труда, а также выполнению раз-
ных предписаний и правил. «Здесь на все есть нас-
тавления и правила: правила органов промышлен-
219
ного надзора, профсоюзные положения, нормы тру-
да и тому подобное. Когда заболеешь, голодать не
придется, и это несравнимо с тем, что делается у
нас на родине. В Германии очень четкая организа-
ция профсоюзов. И они многого добиваются...»
Двадцатилетний португалец Роберту рассказы-
вает совсем другое: «До недавнего времени я рабо-
тал в хлебопекарне. Проработал там три года. И
вдруг фирма разорилась. А мы не были даже чле-
нами профсоюза. И вот теперь мы оказались на ули-
це. Немцев, конечно, снова всех взяли на работу,
а мы, иностранцы, остались на улице».
Что же касается предубеждений, то они взаим-
ные. Иностранная молодежь всегда и во всем готова
винить немцев. А местные немецкие рабочие, соби-
раясь по вечерам в пивных за своими постоянными
столиками, неизменно говорят о шантаже предпри-
нимателей и о том, что главными виновниками это-
го шантажа являются иностранцы. Так, 19-летний
Джетин, работающий на поточном конвейере, рас-
сказывает: «Мы с нашими немецкими коллегами
хорошо понимаем друг друга. Они мне часто помо-
гают, когда я чего-нибудь не знаю или не умею
сделать правильно. Но если где-то проходит брак,
в ответе всегда только мы, иностранцы. И тогда нам
говорят: «Это вы сделали, канаки!» А это вовсе не
так. Немцы здорово умеют перекладывать вину на
других!»
А вот мнение рабочего Эрдогана, 22 лет: «У кон-
вейера мы все одинаковы—немцы и иностранцы. Но
у нас есть цеха, где работают исключительно турки
и итальянцы, однако бригадиры и мастера там—
немцы. Иногда они относятся к нам хорошо. Но это
бывает только тогда, когда мы все работаем или
нужно поднажать. А вот стоит кому-либо заболеть,
сразу же все меняется. Приходится упрашивать и
клянчить, чтобы добиться положенного тебе по пра-
ву, то есть чтобы тебя признали больным и дали
пособие. В этих случаях нас обычно посылают в
санитарную часть, которая должна решить, можем
мы работать или нет. В большинстве случаев масте-
ра не доверяют даже санчасти, они всегда считают,
что мы отлыниваем от работы».
Джемиль говорит: «Молодые немцы охотнее при-
знают нас своими коллегами, чем пожилые рабочие.
220
Наверное, потому, что мы вместе учились в школе и
вместе продолжаем работать. А вот пожилые немцы
всегда против нас. Они не хотят, чтобы иностранцы
общались с немцами».
Работающий на поточном конвейере Махир, 20
лет, добавляет к этому: «Когда у нас в цеху что-ни-
будь не получается или допускается брак, в ответе
всегда оказываются иностранцы. Немцы просто при-
ходят в ярость! Они срывают на нас зло даже тогда,
когда им насолит кто-то другой».
Кадри, о котором мы уже упоминали, написал по
этому поводу стихотворение. (До того как он посту-
пил на почту, Кадри тоже работал на конвейере.)
Вот это стихотворение: «Зовут нас «гостями» у вас
на работе. Но нас вы гостями не признаете. Работу
даете нам ту, что чернее, напомнив, что кожа у нас
потемнее. Но нет, не «гостим» мы на вашей работе.
В грязи наша доля, в поту и в заботе...»
«В Германии нельзя жить!»
Мехмет рассказывает: «Мы живем в доме, где ту-
рок больше, чем немцев. И немцы всегда упрекают
нас в том, что от нас слишком много шума, потому
что у нас много детей. Но это они зря болтают. А вот
недавно у нас был большой праздник—секер байра-
ми. Это исламский «сахарный» праздник, который
отмечают так же торжественно, как и рождество.
Вечером мы пели песни и жарили барашка. И нем-
цам это не понравилось. Поздно вечером они вызва-
ли полицию. Но ведь мы не возражаем, когда немцы
устраивают свой карнавал. А у нас другие праздни-
ки».
Восемнадцатилетний безработный Тюркан жа-
луется: «По их (немцев) мнению, мы должны всег-
да вести себя тихо. Но мне иногда хочется поиграть
(я играю на скрипке) или встретиться у себя дома с
друзьями, повеселиться, развлечься. Ничего этого в
наших квартирах делать нельзя. Немцы постоянно
заявляют, что мы только безобразничаем. Они же о
нас ничего не знают! И наша культура им неизвест-
на. Они посмотрели пару фильмов по телевидению
и уже считают, что знают, как мы живем. Они хо-
тят, чтобы мы жили так же, как и они. Но из этого
ничего не выйдет».
221
Джемиль говорит: «Мы живем в одном доме с
немцами. Когда они видят нас в коридоре, они всег-
да требуют, чтобы мы убирали мусор. А мы вовсе и
не мусорили. А уж когда чей-то почтовый ящик сло-
мается, всегда, конечно, виноваты только мы. Если я
встречаю в лифте немца и здороваюсь с ним, он мне
никогда не отвечает. Но если я этого не сделаю, он
обязательно скажет, что я с ним обязан поздоровать-
ся. В общем, все делается наоборот. А немцы счи-
тают, что это мы все делаем наоборот. И все у них
получается очень просто...»
Юналь, 15-летний школьник, тоже написал сти-
хотворение: «Дом, где я живу, пятиэтажный. Но он
безликий. На дверях табличек нет. Лестница темная
и очень страшная. Вся она скрипит, и лампы не го-
рят. Турки здесь живут, а наш хозяин заявляет, что
это мы здесь все переломали. Но это ложь: ведь не
было ремонта. А у хозяина один ответ: «Эти турки
проживут и так!»
«Я бы им рассказал...»
«Когда я возвращусь на родину, я опишу Герма-
нию совсем не так, как когда-то рассказывали о ней
мне самому. Я буду честнее и откровеннее с моими
земляками». Это говорит Мехмет—иностранец вто-
рого поколения. В нем чувствуется сознание соб-
ственного достоинства. Когда он сюда приехал, его
неприятно удивил совершенно непривычный кли-
мат. Он сразу убедился в том, что солнце в Турции
светит по-иному, гораздо ярче, и воздух там много
чище, нежели здесь. «В этом виновата крупная про-
мышленность!»—считает он.
«Если бы я сейчас поехал в Турцию,—говорит
он,—я бы сказал своим землякам так: Немцы сов-
сем не дружелюбны. Они материалисты и думают
только о вещах. В Германии живет очень много лю-
дей. Я бы им рассказал о многих вещах, которые
можно приобрести в Германии, а также о том, сколь-
ко за все это нужно платить. Я бы им рассказал и об
организации экономики, и о бюрократии. Но я рас-
сказал бы и о том, что я нашел здесь настоящих
друзей, готовых выслушать меня и помочь. Я бы
назвал их прогрессивными людьми, которые умеют
222
думать и готовы оказать тебе помощь. Я попытался
бы охарактеризовать и предпринимателей, которые
эксплуатируют рабочих. Я смог бы рассказать и о
чужой религии, о том, как немцы только притво-
ряются верующими и почитающими бога.
Я бы рассказал о том, как обращаются с нами,
иностранными рабочими, как нас считают людьми
второго сорта. Я бы поведал и о своих друзьях, о
коллегах и товарищах по профсоюзу. Но я не умол-
чал бы и о тех, кто хочет всячески помыкать мною,
о тех, кто смотрит в универсаме за тем, чтобы я
чего-нибудь не украл. Я так скажу: Германия, ко-
нечно, большая передовая страна, но люди там, хотя
и зависят друг от друга, живут между собой как
враги. Каждый думает только о себе, все остальные
для него плохи. А сам для себя каждый из них, ко-
нечно, очень хорош и очень умен. Ну а поскольку у
них в стране есть еще и много иностранцев, то в
сравнении с ними они, немцы,—самые умные. Но
еще я бы сказал о Германии вот что. Там есть много
всяких законов, и они очень действенны. Например,
там не каждого чиновника можно подкупить, как у
нас, и это хорошо. Германия неплохая, в общем-то,
страна, особенно когда ты в окружении друзей и
товарищей. Я, например, с удовольствием провожу
время в своем рабочем клубе. Туда можно прийти с
любой своей проблемой. Нет, Германия—хорошая
страна, но это страна, где очень много двуличия.
Раем Германию не назовешь. Она похожа на змею с
раздвоенным жалом».
Исмаил предпочитает говорить о других вещах.
«Я хотел бы рассказать о предрассудках. Это самая
серьезная проблема. Вот, например, у нас дома все
очень гостеприимны и радушны, а немцы этого, по-
видимому, не одобряют. И еще: мне непонятно, по-
чему они так требовательны к нам и почему во всем
винят только нас. О немецких девушках я могу ска-
зать только одно: они вовсе не хотят знаться с тур-
ками. Но я признаю, что они красивы».
Германия—богатая страна. И тем не менее в сво-
ей книге «Пять историй», выпущенной в свет изда-
тельством « Арарат-ферлаг», Мустафа эль-Хаядж
утверждает: «Немцы — бедные люди. Да, именно
немцы! Самое удивительное в Германии—это то,
что здесь коляски с детьми катят мужчины, что ра-
223
диоприемники тут очень дешевые, а ковры—страш-
но дороги и что беспрестанно звонят церковные ко-
локола. Я поначалу думал, что в Германии у людей
вместо детей родятся собаки. Потому что здесь ве-
ликое множество собак, и немцы даже таскают их
на руках. Собаки и кошки в Германии живут как
короли. В Германии есть люди, у которых много де-
нег, но они тем не менее почти всегда печальны: они
не поднимают глаз от земли. Должно быть, потому,
что не в состоянии переложить абсолютно все свои
заботы и печали на тех, у кого нет денег. Немцы
пунктуальны, как железная дорога. Это оттого, что
им известна только одна колея. Они просто не в сос-
тоянии сойти с нее. Они не могут остановиться, что-
бы сорвать травинку или цветок у дороги. Они слов-
но едут куда-то, и притом только прямо. Следуют
точно по расписанию и ничего больше не хотят
признавать».
(Эта статья была опубликована в журнале
«Блэттер фюр дойче унд интернационале политик»
№ 10 за 1980 год. В данный сборник она включена
с любезного согласия автора и издательства «Паль-
Ругенштайн».)
Кандейс Картер
Будничные наблюдения
в Федеративной республике
У себя на родине, в одном из штатов Среднего
Запада США, мне приходилось часто убеждаться
воочию, какой сильной дискриминации подверга-
ются у нас другие национальности, особенно афро-
американцы и чиканос—американцы мексиканского
происхождения. Но лишь в Федеративной респуб-
лике мне довелось испытать, в какое трудное поло-
жение попадает здесь иностранец, даже если это—
белая американка.
Летом 1970 года я приехала сюда прямо из Аме-
рики и поступила работать горничной в отель на ос-
трове Боркум, не зная почти ни одного слова по не-
мецки. Я надеялась, что мне удастся устроиться
кельнершей, как это сумела сделать одна моя немец-
кая подруга. Но меня как иностранку сразу же на-
224
правили на уборку помещений. Я должна была весь
день выполнять самую грязную работу, что-то мыть
и чистить, а иногда по полдня простаивать в под-
вале у паровой гладильной машины. От немецких
работниц меня отделили (и от моей подруги—тоже)
и стали буквально выжимать из меня соки, всячески
ущемляя при этом мое самолюбие, впрочем так же,
как и из других иностранок—женщин, прибывших
из Италии, Греции и Турции. Делалось это по всем
правилам «искусства». Особое удовольствие нашей
начальнице в отеле «Хаус-Ойропа» доставляло при-
казывать иностранкам полировать лестницы и полы
так, чтобы гости «могли с них есть».
Когда на этой адской работе я дошла до мораль-
ного и физического истощения, я все же добилась от
биржи труда перевода на другое место. Там я нако-
нец получила собственную комнату, хотя еще и не
была кельнершей. На Боркуме существовало прави-
ло, согласно которому претендовать на такую работу
прежде всего могли местные жители—немцы.
Тяжелые условия труда привели к тому, что я за-
болела серьезной глазной болезнью. Немало стоило
мне сил добиться обследования у врача биржи тру-
да. Однако он наотрез отказался дать мне справку о
том, что я больна. «Все иностранцы,—заявил он гру-
бо,— как правило, симулянты. Они хотят получить
справку о болезни только потому, что слишком ле-
нивы. А я на это не пойду!» Неделю спустя, когда со
зрением стало еще хуже, я обратилась к другому
врачу. Это было уже в больнице на материке. Врач
установил, что у меня опасное вирусное заболевание.
Только потом он сказал мне, что я была на волосок
от слепоты.
Поскольку нервы у меня вконец расстроились, я
вынуждена была провести несколько долгих недель
в больнице на севере страны. Однако болезнь оказа-
лась столь упорной и трудноизлечимой, что мне при-
шлось поехать к родителям в Штаты и там лечь
в одну из клиник.
После выздоровления я не стала возвращаться на
Боркум, а поехала в Гамбург. Тем, что я в конце
концов обрела свой новый дом и вторую родину
в Федеративной республике, я обязана не в послед-
нюю очередь своим друзьям, с которыми познакоми-
лась за это время. В общей борьбе, в ежедневных
225
жизненных испытаниях я постепенно сумела пре-
одолеть отделявшие меня от немцев барьеры и
убедилась, что понятия солидарности и интернаци-
онализма в устах коммунистов вовсе не пустые
слова. Однако я не хочу этим сказать, что все они
сумели справиться со своими предрассудками.
В прошлом году я жила вместе со студентами
в пансионате для престарелых в районе Фюльсбют-
теля в Гамбурге. Уже само по себе такое сосуще-
ствование старых и молодых неизбежно создает
много трудностей. Причем обе стороны в равной
мере делают его проблематичным. Поэтому там все
время возникали конфликты. Но наиболее серьезные
столкновения происходили из-за того, что вместе
с нами в пансионате поселились две черные студент-
ки из Зимбабве. Некоторые старожилы пансио-
ната начали по-настоящему травить их. Если к
девушкам кто-то приходил в гости, они обзывали их
проститутками. Когда обнаруживали на кухне хоть
какую-то оставшуюся хлебную крошку, обвиняли в
неряшливости. Вряд ли кто-нибудь из них обменял-
ся с девушками даже двумя нормальными словами.
Я пыталась поговорить с обитателями пансионата,
с его руководством, призывая относиться к ним с
пониманием, но в ответ получала только дикие
расистские заявления в самой откровенной нацист-
ской манере. Жизнь в пансионате скоро стала для
африканок нестерпимо трудной, и через три месяца
они «ушли с отвращением» из этого дома.
Когда девушки заявили, что отказываются от
своей комнаты, в ответ они услышали: «Вот и пре-
красно, убирайтесь в свои джунгли!»
Я мало что могла сделать, чтобы уладить этот
конфликт в пансионате для престарелых. Но кое-
что я все-таки сделала. Поскольку в последнее вре-
мя я все больше увлекалась изобразительным искус-
ством, я на глазах у всех присутствовавших в общем
зале нарисовала портрет одной из этих девушек—
Анджелины Лунга. Я изобразила ее такой, какая
она есть, а она—очень красивая по-своему девушка.
И, сделав копию с рисунка, я повесила ее на двери
своей комнаты. Я убеждена, что искусство, литера-
тура и культура совершенно необходимы, чтобы оче-
ловечить у нас в Федеративной республике взаимо-
отношения разных народов.
226
Женщине здесь труднее вдвойне
Беседа с Баией Бенеке-Мауше
Баия Бенеке-Мауше: Не знаю, пригодятся ли для
твоей книги мои переживания и наблюдения. Ведь
как иностранка я нахожусь в известной степени
в привилегированном положении. У меня француз-
ский паспорт и высшее образование. Я хорошо гово-
рю по-немецки. Я не турчанка и не черная, хотя ро-
дом из Северной Африки, из Алжира. К исламу
я отношусь почти равнодушно.
Петер Шютт: Когда ты приехала в Федератив-
ную республику?
Баия Бенеке-Мауше: Девять лет тому назад. Пос-
ле окончания средней школы в 1972 году я завербо-
валась сюда в качестве служанки. Попала я в одну
старопрусскую семью полуаристократического про-
исхождения, имевшую поместье с замком близ Гам-
бурга. Каждый день по будням и воскресеньям я
должна была с шести утра и до восьми вечера рабо-
тать на свою хозяйку и ее троих детей. Я готовила
завтраки, обеды и ужины, стирала и гладила, заку-
пала продукты и, конечно, прежде всего наводила
чистоту и порядок. Чистить и убирать помещения я
училась под руководством мадам до полного изне-
можения. Обучая меня тому, как надо «по-настояще-
му» производить уборку, она свято верила, что со-
действует развитию культуры: она же прививала
мне чистоплотность, ведь у французов и тем более у
арабов ее, как она полагала, недостаточно.
Петер Шютт: И сколько же ты тогда зараба-
тывала?
Баия Бенеке-Мауше: Всего 150 марок—только
на карманные расходы. А когда восемь месяцев
спустя вся семья укатила в отпуск и оставила меня
одну без пфеннига, я взяла и просто сбежала. Я уже
не могла больше выносить этого. За все время рабо-
ты мне ни разу не позволили вечером выйти на ули-
цу. Я, как малый ребенок, должна была все дни
проводить дома.
Петер Шютт: Ну и что же ты делала потом?
Баия Бенеке-Мауше: Потом я работала «по-чер-
ному», то есть нелегально. Пошла в порт и обрати-
лась в контору пароходной компании «Трансмар-
227
Маритима», которая владеет судами, ходящими
только под чужими, «более дешевыми» флагами. И
там со мной обращались точно таким же образом.
Каждый день я работала с восьми утра до двух ча-
сов дня. Это называлось «неполным рабочим днем».
Моя работа состояла в ведении переписки на фран-
цузском и испанском языках. За это мне платили
350 марок в месяц. Но при этом не существовало ни
больничной кассы, ни социального страхования, ни-
чего. Как и у всех иностранных моряков, которых
нанимает эта компания, у меня не было никакого
трудового соглашения. Так что получить то, что мне
хотелось, мне не удавалось. После этого я и начала
серьезно учиться.
Петер Шютт: Ну, а в университете по отноше-
нию к тебе были проявления дискриминации?
Баия Бенеке-Мауше: В общем-то нет. Я ведь за-
кончила французскую среднюю школу-гимназию,
хорошо владела немецким и почти никаких труд-
ностей не испытывала. Я изучала романистику, сос-
редоточив свое внимание прежде всего на франко-
язычной литературе Алжира. На эту тему я пишу
сейчас докторскую диссертацию. При этом я убеди-
лась, что как в рамках романского семинара, так и
вообще во всем Гамбургском университете изучению
франкоговорящих стран Африки не уделяется ника-
кого внимания. Там почти вовсе не читают лекций
на эти темы и не проводят семинарских занятий.
В библиотеках крайне мало соответствующих книг и
совсем нет журналов. Есть, правда, кое-что по исла-
мистике, но все это касается только вопросов рели-
гии. В здешних университетах по-прежнему царит
дух евроцентризма. Очевидно, все еще сказывает-
ся влияние ушедшей в прошлое эпохи колониа-
лизма.
Петер Шютт: А какие впечатления вынесла ты
из отношений с федеральными властями?
Баия Бенеке-Мауше: Когда я в первый раз яви-
лась в бюро регистрации иностранцев, располагаю-
щееся в «Биберхаузе»* у Центрального вокзала в
* «Биберхауз»—старинное здание, в котором размещаются мно-
гие административные органы, в том числе биржа труда.—
Прим. перев.
228
Гамбурге, я встала к окошку, где регистрируют
французов. Когда подошла моя очередь, служащая
бюро подняла истошный крик и обругала меня. Из-
за моей темной кожи она приняла меня за турчанку
или бог знает за кого еще. Я пожаловалась на такое
обращение во французское консульство, и местные
иммиграционные власти вынуждены были извинить-
ся передо мной. После этого в бюро ко мне обра-
щались уже на «вы» вместо обычного здесь «ты».
Еще один случай произошел со мной в управле-
нии округа Гамбург-Север, когда я подавала заявле-
ние о компенсации квартирной платы. Служащая
управления долго листала мой паспорт, просма-
тривая страницу за страницей, и обнаружила вдруг,
что я три или четыре раза была в ГДР. И тут она
начала дотошно выспрашивать меня. Она хотела,
чтобы я подробно рассказала о каждой своей поезд-
ке—к кому я ездила и зачем. И это продолжалось
до тех пор, пока у меня не потемнело в глазах и я
не отказалась отвечать на ее вопросы, не имевшие
никакого отношения к квартирной плате. Когда я
выходила замуж, мне было довольно трудно выхло-
потать «свидетельство об отсутствии препятствий
к вступлению в брак». Это удалось лишь после того,
как чиновник, ведший дело, дописал на моем заяв-
лении, в графе о стране происхождения, к слову
«Алжир» еще и «бывшая колония Франции». После
этого ко мне везде уже относились как к францу-
женке.
Петер Шютт: И тогда ты смогла выйти замуж...
Баия Бенеке-Мауше: Да, и тогда я вышла замуж.
Родила двоих детей, а потом развелась с мужем.
Жить на положении разведенной женщины, матери-
одиночки, да еще иностранки, не всегда просто, ска-
жу я тебе. Ко мне и без того довольно часто приста-
ют, оскорбляют, говорят разные гадости. Не раз на
улице и в метро мне открыто предлагали деньги.
Создается впечатление, что чем необычнее выглядит
здесь женщина, чем темнее ее кожа, тем чаще не-
мецкие мужчины думают, что она доступна и пой-
дет на дешевую любовь. Постоянно слышишь, что
рабочие-иностранцы пристают к немецким девуш-
кам, но я думаю, что дело обстоит как раз наоборот:
это немцы гоняются за иностранками...
Петер Шютт: У тебя, значит, двое детей...
229
Баия Бенеке-Мауше: Да, две девочки. Одна еще в
коляске, а другая в детском саду. Ей сейчас четыре
с половиной года, и она часто, приходя домой, рас-
сказывает о саде. Дети там сказали ей, что у всех
иностранцев вонючие ноги. Или вот еще: у них в
группе есть африканская девочка, родители которой
приехали сюда с Островов Зеленого Мыса. Так
другие дети все время смеются над ней, поскольку
им кажется, что она очень грязная. Вот что прино-
сят дети в сад из родительского дома. Порой даже
самым прогрессивно настроенным воспитателям
бывает очень трудно развеять у детей эти предрас-
судки.
Петер Шютт: Ты долго жила во Франции. Исхо-
дя из своего опыта, как ты считаешь, сильнее ли там
проявляется расизм и враждебность к иностранцам,
чем в Федеративной республике?
Баия Бенеке-Мауше: Сильнее ли? Ну, видишь ли,
во Франции не было таких нацистских гонений, как
здесь. Правда, когда я жила во Франции в годы ал-
жирской войны, в стране получили очень широкое
распространение антиалжирские и антиарабские на-
строения. Еще и сейчас в отношении алжирцев там
допускают много несправедливостей, дискримина-
ции, но это прежде всего касается алжирского про-
летариата. Вообще же я должна сказать, что фран-
цузский расизм кажется мне более открытым, не-
посредственным, что ли. Французы что думают, то и
говорят.
Здесь же, в Федеративной республике, расизм
в большинстве случаев носит завуалированный,
скрытый характер, идет как бы исподтишка, поэто-
му он гораздо тоньше и острее, а значит, по-моему,
причиняет и более жестокую боль тому, против кого
он направлен. Враждебность же к иностранцам
здесь чаще всего маскируется, например, под чрез-
мерную любовь к чистоте и порядку. Мои соседи,
к слову, все время пытаются внушить мне, что я
должна развешивать белье после стирки, «как поло-
жено» у них, что оставлять перед дверью грязные
туфли нельзя, и даже учат меня, как надо «правиль-
но» наряжать рождественскую елку. Им хочется
во что бы то ни стало буквально всех распрямить
по линеечке.
230
Хедвиг Абанква
О том, что приходится терпеть
женщине, вышедшей замуж за
африканца
Расизм, вражда к чужеземцам, национальные
предрассудки, дискриминация—это то, чем мы сами
ущемляем наше собственное достоинство, нашу ин-
дивидуальность, нашу цельность как людей, чем
сознательно или бессознательно обедняем себя.
Мы крайне редко выступаем открыто против
предрассудков. Мне кажется, что история все еще
не научила немцев уважать в людях человеческое
достоинство, личность. Они усвоили только то, что
сегодня им не следует демонстрировать свой расизм.
Никакая другая фраза не обнаруживает с такой оче-
видностью завуалированный, латентный расизм нем-
цев, как та, которую столь часто приходится слы-
шать, которую я уже не могу спокойно переносить
и которая всякий раз вызывает во мне приступ
бессильной ярости: «Они тоже все-таки люди...» Это
что же значит? Выходит, что и я должна постоянно
внушать себе, что мой муж и мои дети «тоже все-та-
ки люди»? А что имеют в виду те, кто это повторя-
ет? Может быть, то, что они сами, к сожалению,
«все еще» люди или «тоже все-таки» люди? Но
признать, что перед тобой не «тоже все-таки» чело-
век, а индивидуальность, личность, твой ближний,
чье личное достоинство неприкосновенно, немцы по-
ка еще не способны: для этого им нужно проделать
очень большой путь. Классификация или, лучше,
дискриминация по принципу «люди» и «тоже все-
таки люди» выглядит в моих глазах примерно так
же, как и недоброй памяти разделение всего чело-
вечества на «расу господ» и «неполноценные расы».
Хотя и наблюдается известная осторожность в
выборе слов и выражений, однако жесты, мимика
и тон, которым они произносятся, очень часто выда-
ют скрытые за словами чувства и взгляды на вещи.
В своих намеках и полуфразах люди порой выска-
зывают свое отношение весьма тонко, скрывая свой
цинизм, а нередко делают это намеренно равнодуш-
но, чтобы можно было потом, если замечание вос-
принято очень остро, извиниться: мол, простите ве-
231
ликодушно, я этого не имел в виду! Подобные отго-
ворки примерно в такой именно форме я слышала
еще от поколения своих родителей: «Ах, извините,
мы и не знали» и т. п. И это подчеркнутое «извине-
ние» с налетом упрека безошибочно указывает на то,
что за ним скрывается даже нечто вроде обиды:
«Слишком-то не заноситесь!», «Какие обидчивые!»,
«Уж и слова сказать нельзя!»
Едва договоришься о найме квартиры, как она
на следующий же день оказывается «уже сданной»
некоему «коллеге по работе», с которым-де хозяин
встретился «буквально после нашего ухода». Еще
бы! Конечно, владельцу дома всю ночь не спалось
из-за того, что в его стенах поселится африканец,
пусть даже врач. Ведь никогда не угадаешь, как все
обернется. Нам всякий раз сдают квартиру только
после того, как кто-то из наших коллег или знако-
мых поручится за то, что мы «вполне приличные
люди».
За нашими спинами всегда шушукаются. Люди
постоянно тычут в нас пальцами, иногда прямо в
лицо, но в основном сзади, в спину. Моя мать когда-
то учила меня: «Нельзя показывать пальцем на
людей!» Приходится констатировать: для большин-
ства немцев мы, видимо, вовсе не люди, а, вероятно,
что-то вроде забавных обезьян в зоопарке. «Ты ви-
дел?», «Смотри, негритята!», «Какие прелестные!»,
«Какие славненькие!», «Ну, конечно, не здешние!»
Ах вот оно что — они не наши, они чужие. Еще бы:
у нас женщины порядочные, а этих вот надо поса-
дить в клетку, как обезьян!
Мое национальное отчуждение как немки захо-
дит порой так далеко, что некоторые даже пытаются
уловить в моей речи некий иностранный акцент.
Ну как же — немка, и вдруг позволила себе такое!
Аналогичное неприятие, но только в противополож-
ном направлении, встречает и мой муж, когда ему
говорят стереотипный комплимент: «Как вы хорошо
говорите по-немецки!» Еще бы! Как это могло слу-
читься, что «какой-то негр» говорит на чистом не-
мецком, на этом «труднейшем из языков».
Иногда, разумеется, люди говорят это вполне до-
брожелательно и даже дружелюбно, но я все-таки
не могу больше этого слышать.
Они нередко поглаживают по щекам моих детей,
232
словно хотят удостовериться в естественности цвета
их кожи. Запускают им пальцы в волосы и удив-
ляются тому, что они мягкие и ухоженные, а не
жесткие и свалявшиеся. Я однажды дала своим
обиженным и беззащитным детишкам совет посту-
пать с людьми так же, как они ведут себя по отно-
шению к ним. Я даже сказала: «Говорите им: а
вы тоже очень славненькие!» Когда они так говорят,
люди приходят в замешательство. Но, разумеется,
дети не могут запустить им руку в волосы или
засунуть в рот дрянную конфетку.
Однажды коляску с моими детьми везла по пе-
шеходной дорожке моя сестра, а я сама была оттес-
нена от них толпой и шла в двух шагах сзади.
Я всех их видела — и тех, кто тыкал в детей паль-
цем, и тех, кто шептался и хихикал. И всегда и пов-
сюду — этот ритуально выставленный вперед угро-
жающий указательный палец! У меня иногда воз-
никает безотчетный страх перед тем, что в конце
концов он превратится в нацеленный ствол автома-
та. Долго выдержать эту пытку моя сестра не смо-
гла и стала оглядываться, ища меня и моей помощи.
Я догадалась о ее состоянии и снова повезла детей
сама. Дома сестра, совсем ослабевшая от такой нерв-
ной встряски, сказала мне упавшим голосом, что
ее надолго не хватило бы: это как наказание шпиц-
рутенами. Вытерпеть эту прогонку сквозь строй со-
вершенно невозможно. А ведь наш город разрекла-
мирован в журнале «Эльтерн» («Родители») как вто-
рой город Федеративной республики, где больше
всего любят детей. Разумеется, это относится только
к немецким детям.
Часто бывает, что прохожие вынимают из далеко
не гигиеничных глубин своих продовольственных
сумок слипшиеся, замусоленные конфеты или рас-
сыпавшиеся, грязные кексы. Они непременно жела-
ют засунуть детишкам (этим бедненьким!) свои сла-
дости прямо в рот. Такие конфетки я дала бы разве
что своей собаке. Когда же дети успевают отреагиро-
вать и плотно сжимают губы, чтобы всякая дрянь
не попала им в рот, эти тетушки страшно обижа-
ются и поднимают шум: «Ну видали ли вы что-
нибудь подобное?! Они даже не хотят ничего прини-
мать!» Они еще требуют, чтобы дети благодарно
кивали им за столь щедрый гостинец, как это делал
233
когда-то в кино «негритенок» перед рождественской
колыбелью.
Раньше я думала, что сострадание и милосты-
ня — это нечто хорошее. Теперь же знаю, каким
оскорбленным, униженным и опустошенным должен
чувствовать себя человек, получающий эту мило-
стыню. А подающий ее еще и гордится своим по-
ступком, который якобы поднимает его в глазах
других людей: «Поглядите-ка на меня! Я подал
нищему десять пфеннигов!» Часто я просто выта-
скивала у детей эти конфетки прямо изо рта. Они,
конечно, пускались в рев. А иногда, чтобы остано-
вить слезы, я разрешала им проглотить дрянное ла-
комство, и тогда против этого восставал весь мой пи-
щеварительный тракт. Кое-кто на это может ска-
зать: «Ну что тут особенного?!»
«Вы что — взяли этих детей на воспитание?» —
«Нет, это мои собственные дети».— «Глядя на вас,
этого не скажешь». Каждый раз — один и тот же
диалог! Что они не скажут, глядя на меня? То, что я
родила троих детей и осталась стройной? Так я и
сейчас стройна и изящна. Почему же тогда не спра-
шивают у других стройных женщин, приемные у
них дети или нет? Или, глядя на меня, они не хотят
верить, что я замужем за иностранцем? Или очень
уж хочется посмотреть, как выглядит «та, которая
живет с негром»?
Коллеги часто спрашивают моего мужа, какая
у него жена—высокая ли и блондинка или нет. Ну
конечно, они ожидают, что это какая-нибудь «секс-
бомба». А мои дети сильно расстроились, впервые
услышав слово «приемыш». Они решили поначалу,
что это очень нехорошее слово. Я долго им все
объясняла, рассказывала, что все они выросли у
меня в животе, что мы с отцом очень хотели, чтобы
их было у нас трое. Но они продолжали расспра-
шивать, как они родились, что они делали, когда
были совсем маленькими. Они задавали все время
одни и те же вопросы, словно хотели проверить,
сойдутся ли все мои ответы друг с другом. Ах вы,
милые, но равнодушные «ближние», идущие мимо
по тротуару,—вы не имеете никакого представления
о том, как болезненно раните души моих детей и
как глубоко потрясаете основы их семейного
счастья.
234
Однако, по всей вероятности, на мою долю выпа-
дает еще не самое худшее. Одна женщина, которая
действительно взяла на воспитание цветного ребен-
ка, рассказывала мне, каким издевательствам ее
подвергают. Мы и впрямь живем в свихнувшемся
мире. У моей соседки двое голубоглазых светлово-
лосых приемных детей. И никто никогда не помыш-
ляет спросить у нее, приемные они или нет. Но стоит
ей взять с собой на прогулку наших ребят, как
тут же снова слышно: «Вы что—их усыновили?»,
«Откуда у вас эти?» «Эти», «вон те»—так именуют
моих детей, и палец неукоснительно вытягивается в
их сторону.
Некие незнакомцы то и дело вмешиваются в на-
шу частную жизнь. Вмешиваются «доверительно»,
бегая глазами по сторонам, словно деревенские
сплетницы. Они, видите ли, ничего такого не имеют
в виду, и вообще это, конечно, не их дело, и они
совсем не ради любопытства, но все же... хотели
бы знать, как это я решилась выйти замуж за иност-
ранца, как я познакомилась со своим мужем, долго
ли мы уже живем с ним и счастлива ли я в браке...
Такие или примерно такие вопросы задают мне
разные люди—и случайные прохожие на улице, и
чиновники, оформляющие вид на жительство. И да-
же заведующий кадрами общества «Каритас» * вме-
сте с его директором не удержались от этого, когда
разговаривали со мной по поводу моего устройства
к ним на работу. Я не думаю, что какой-либо жен-
щине, вышедшей замуж за немца, когда-либо прихо-
дилось выслушивать нечто подобное. И при этом я
сохраняла спокойствие, хладнокровно и деловито
отвечала на их вопросы. Внутри у меня все, разу-
меется, кипело: я злилась на себя за то, что не могу
вот так сразу встать и стукнуть кулаком по столу.
Ведь я сразу же поняла по тону задаваемых ими
вопросов, что мое заявление не утверждено. И все-
таки у меня где-то теплилась надежда, что все это
не так, что мою просьбу удовлетворят. Однако не-
доброе предчувствие меня не обмануло: места я не
получила. Теперь я работаю в таком месте, где с
* «Каритас»—христианское католическое общество милосердия
в ФРГ, занимающееся благотворительной деятельностью. Орга-
низует дома призрения, больницы, пансионаты и т. п.—Прим.
перев.
235
подобными вопросами ко мне не пристают. И думаю,
что моя работодательница не жалеет о том, что взя-
ла меня на работу, и не усматривает никаких нега-
тивных влияний на мою профессиональную деятель-
ность ни со стороны моих детей, ни со стороны
моего мужа.
Особое беспокойство вызывает у меня появление
и развитие предрассудков у детей самого раннего
возраста, когда двух-трехлетний малыш, еще не
научившись владеть языком, уже бессознательно ле-
печет какие-то ругательства, а увидев нас, презри-
тельно бормочет: «Негра, негра!» Однажды я виде-
ла, как мать ударила—и довольно сильно—за это
своего малыша прямо по лицу. У ребенка, по-види-
мому, чуть не отнялся язык, у меня—тоже. А ма-
лыш-то еще в коляске! А что, если этот ребенок
когда-нибудь потом, когда подрастет, так же бездум-
но даст оплеуху какому-нибудь «негру» или без-
защитному человеку, руководствуясь некогда ус-
военными формулами вроде «а что особенного?»,
«а пусть не задается!», «извини, я нечаянно!»,
«замолчи, а то еще получишь!» или, наконец, «а ну,
возьми себя в руки!». Когда взрослые не считаются
с чувствами и переживаниями детей, дети не будут
уважать чувства других людей.
Именно с этого начинается воспитание людей в
духе ненависти или отвращения к ней, в духе пред-
рассудков или их отрицания, в духе расизма или
гуманизма. И я боюсь, что в нашей стране слишком
часто положительные возможности остаются не-
использованными. Мой муж никогда в детстве не
встречался с нормами воспитания, основанными на
принципе «Пусть не задается!», и к своим детям он
их тоже не применяет. Он учит их понимать людей,
сочувственно относиться к их переживаниям. Он
разделяет боль и мучения своих детей так же, как
и страдания своих пациентов. Он не растят из них
«отважных и сильных» людей, которые могут рав-
нодушно взирать на чужую кровь, на слезы и стоны.
Встречая на улице пьяных, я испытываю не толь-
ко страх, у меня всегда возникает еще и очень не-
приятное торможение реакции. Однажды я была с
детьми на пляже. Неподалеку от нас расположился
мужчина с целой грудой пивных бутылок. Сначала
он нес что-то совершенно невразумительное, а потом
236
стал постепенно подползать к нам и в конце концов
оказался рядом. Затем он предложил детям деньги,
чтобы они сходили к киоску и купили себе моро-
женого. Я оттолкнула его руку с деньгами и попро-
сила уйти. Тогда он попытался положить мне руку
на плечо. А находившиеся рядом люди стояли и
молча глазели на все это. У меня возник страх и
появилось ощущение полной беспомощности. Потом
пришла дикая ярость. Я схватила в охапку все на-
ши пляжные пожитки и детей и хотела убежать.
Но дети никак не могли сообразить, что, собственно,
произошло, и двигались слишком медленно. Все это
выглядело, вероятно, как в кошмарном сне: я никак
не могла сдвинуться с места, а детишки плакали—
они же пришли купаться.
Когда я убедилась, что пьяный нас больше не
преследует, я попыталась объяснить происшедшее
детям. Кажется, только мой старший что-то понял и
тоже испугался, а малыши ревели и озадаченно
смотрели на свою мать. «На этот пляж мы больше
не пойдем!»—говорили мы себе всякий раз после
посещения нового пляжа. Мы перебывали на всех
пляжах в округе, и на каждом из них что-то слу-
чалось.
Кого-нибудь всегда шокирует наш вид, а иногда
на нас и просто нападают. Нападающим может ока-
заться даже велеречивая и беззастенчивая женщина,
захотевшая показать своей приятельнице, что под
трусиками у моих детишек кожа заметно светлее.
Одна такая дама бежала за моей дочерью, которая,
испугавшись ее, укрылась в кабине. Она загнала
кроху в самый дальний угол кабины. Дама была
изрядно полная, и представляю, как, должно быть,
испугалась моя девочка, думая, что женщина зада-
вит ее своим телом или что-то натворит своим угро-
жающе вытянутым указательным пальцем.
«Фиктивный брак», «экономические бежен-
цы» *... Как только появляется такой новый термин,
нас тут же не просто классифицируют, но еще и
* «Экономическими беженцами» в ФРГ называют категорию
иностранцев, которые прибывают из стран, переживающих серь-
езные экономические трудности. Это касается не только пред-
ставителей «третьего мира», но и некоторых западных стран
с повышенной безработицей—Италии, Испании, Португалии
и даже США.—Прим. перев.
237
дискриминируют, приписывая нам автоматически
то или иное «свойство». Цвет нашей кожи, по край-
ней мере моего мужа, вызывает у людей ту же
реакцию, что и «звезда Давида» в дни нацизма.
Ведь мы, к сожалению, попали в причинно-следст-
венную связь со спадом конъюнктуры на рынке
труда. Я могла бы объяснить это просто ошибоч-
ной логикой, но приходится признать, что речь идет
о вещах, не поддающихся никакому рациональному
объяснению. Я дошла до того, что боюсь погромов,
о которых пишут порой газеты. Однако «черная»
пресса нередко представляет события в ложном све-
те. Здесь слишком быстро находят объяснения, ка-
тегоризируют и обобщают разные явления.
Я испытываю страх перед экономическими спа-
дами и кризисами, перед безработицей, потому что
боюсь, как бы пока еще дремлющий немецкий ра-
сизм снова не превратился в эпидемию массового
безумия или в экстремистские выходки террористов.
Тогда эта истерия слепо обрушится на тех, кто пер-
вым попадет под руку и окажется беззащитным. С
тех пор как я прочитала в газетах о том, что во
Франкфурте правые экстремисты жестоко избили
детей иностранцев, каждая минута опоздания моих
детей из школы буквально разрывает мне сердце.
В такие моменты я готова бежать им навстречу. Но
я не делаю этого, ведь они будут спрашивать, что
случилось, а я им еще ничего об этом не говорила.
Впрочем, они и без меня знают, что иностранцев
здесь терпят постольку, поскольку они нужны для
затыкания прорех в экономике. Поэтому мы не иск-
лючаем того, что нам придется покинуть Федератив-
ную республику, ибо она уже перестала быть для
меня родиной.
Кое-что позитивное
В первую очередь мне хотелось бы упомянуть
о церемонии нашего бракосочетания в магистрате.
Мы ожидали, что это будет чистейшая формаль-
ность. Но чиновник, ведающий записью актов граж-
данского состояния, сделал его весьма памятным со-
бытием. Он приготовил исключительно прочувство-
ванную речь. Он поздравил нас и сказал, что мы
238
вступаем в брак вопреки общественному мнению,
преодолев сопротивление семьи, и от чистого сердца
пожелал нам счастливого будущего.
После того как с переменой работы или места
жительства проходит период безликой анонимности,
соседи и коллеги почти всегда охотно принимают
нас в свой круг. Кое-кто из наших нынешних сосе-
дей сам по нескольку лет прожил за границей. Они
сумели раздвинуть горизонты своих житейских
представлений и хорошо знают, что чувствует чело-
век, попавший на чужбину. Большинство из них—
люди с высшим образованием. Само собой разумеет-
ся, что мы всегда вместе отмечаем их и наши дни
рождения, устраиваем вечеринки, играем в кегли.
Мы следим за их квартирами, когда они уезжают
в отпуск, они следят за нашей. Ключи от квартиры
одной семьи непременно есть и у другой на тот
случай, если кто-то из детей вдруг не сможет по-
пасть к себе или потеряет ключ. Они не боятся,
что мы что-то попортим из их имущества, чем-то
повредим им на работе или испортим их детей. Их
дети играют у нас, наши—у них.
Конечно, есть у нас и такие соседи, которые
не прочь поучить нас тому, как воспитывать (разу-
меется, в немецком духе) детей, как ухаживать за
садом, как возделывать грядки и клумбы, произво-
дить уборку в доме. Они всегда пытаются обвинить
наших детей в том, что они царапают их машины
во дворе. К этому мы привыкли: это обычные буд-
ничные дела. Но вот наших детей к себе в дом они
не пускают. Отговоркой всякий раз служит либо
то, что у «мамы слишком много дел», либо то, что
только что убрали квартиру, а то и просто ссылка на
мигрень. Их же дети целыми днями находятся у
нас. А вот соседка из Испании всегда охотно заби-
рает наших детей к себе, хотя у нее тоже много дел
по хозяйству, тоже только что натерт пол и она
также намучилась за день до головной боли.
В школе, между тем, наши дети вполне освои-
лись. Школьные товарищи приглашают их к себе на
дни рождения, после уроков они часто вместе игра-
ют. Но в первые дни пребывания в школе их бук-
вально прогоняли сквозь строй. Справа и слева,
сверху и снизу раздавались крики: «Негр! Негр!»
В большинстве случаев это были лишь отдельные
239
крикуны, но иногда к ним присоединялись и целые
группы школьников. Первое появление в школе, в
детском саду, в спортивных секциях всегда было
для моих детей сопряжено с огромной психической
нагрузкой.
Что же касается меня, то среди остальных роди-
телей я поначалу неизменно ходила под кличкой
«негритянская жена» или «негритянская мать».
Однако отношение изменилось, после того как
другие родители узнали мою фамилию. Для этого я
использовала выборы родительского комитета, и в
частности то обстоятельство, что в списке не хватало
одной кандидатуры. Я встала и предложила себя.
Родители были удивлены, прямо-таки огорошены.
Мне пришлось произнести свою фамилию по буквам,
но, когда она была написана на доске, оказалось,
что ее очень легко прочитать и запомнить. Теперь у
меня было имя, а это очень важно, если хочешь выр-
ваться из порочного круга анонимности и предрас-
судков. При этом, конечно, пришлось дать и кое-ка-
кие сведения о себе и о своих занятиях.
Результаты голосования вполне соответствовали
случаю. В первых двух турах у кандидата № 3—а
это была я—не набралось ни одного голоса. Боже,
что я наделала! Лучше было провалиться сквозь
землю. Но в третьем туре при выборах представи-
теля от родителей в педагогический совет я полу-
чила проходную сумму голосов. У меня надолго
сохранилось впечатление, что своей смелостью я
поставила родителей в безвыходное положение и что
им ничего не оставалось, как выбрать именно меня.
Как бы то ни было, анонимность была преодоле-
на. Я все очевиднее получала признание как чело-
век и как личность. Педагоги в какой-то степени по-
знакомились со мной, или, может быть, им просто
примелькалось мое лицо на заседаниях педсовета.
Вероятно, запомнилась и моя необычная фамилия.
Я познакомилась также с директором школы—мы
сидели как-то за одним столом. Когда в школу по-
шел второй сын, я разговаривала с завучем: мы уже
знали друг друга. Незадолго до этого в школе был
праздник, в подготовке и проведении которого мы с
мужем приняли активное участие На очередных
выборах родительского комитета меня уже едино-
гласно выбрали заместителем председателя. А я,
240
право же, думала, что вот теперь-то они мне ото-
мстят и не позволят припереть себя к стенке.
Я рассказала эту длинную историю, чтобы из
нее наглядно было видно, что я как жена иностран-
ца могу сделать, чтобы улучшить общую атмосферу.
Прежде всего необходимо преодолеть анонимность,
показать людям свое доброе лицо и назвать себя.
Нужно побороть в себе глупый страх и не считать
себя жертвой. Надо первым сделать шаг к людям и
добиться того, чтобы они тебя поняли.
Как в школе, так и повсюду в нашей будничной
жизни возникают, подчас неосознанно, разные пред-
рассудки против африканцев, против «черных», и
все это складывается в кошмарную сумму обиход-
ных слов и выражений, вроде «работать по-черно-
му» (нелегально), «черный рынок», «ехать по-черно-
му» (без билета) и т.п. «Черное» ассоциируется с
чем-то плохим или недозволенным. Так, мой сын
рассказывал мне как-то об уроке правил уличного
движения, на котором демонстрировалась киносхе-
ма и при этом говорилось: «Смотрите, белые чело-
вечки все делают правильно, а черные человечки
постоянно ошибаются!» Разумеется, при этом не
имелись в виду негры, однако негативная ассоциа-
ция с «черным» у детей осталась. Все это также
латентно суммируется и подспудно вызревает в
откровенные предрассудки. Еще разительнее здесь
оказывается старый испытанный «метод», когда
наглядным средством воспитания служит угроза,
ассоциируемая с черным человеком.
К моему большому сожалению, я должна при-
знаться, что наши дети начали усваивать некоторые
формулы принятой в нашем обществе расовой ди-
скриминации. Например, у них уже вошло в при-
вычку называть «глупыми идиотами» своих турец-
ких одноклассников. Я всеми силами пытаюсь по-
мешать этому. Однако очень сомневаюсь, что они
смогут долго противостоять этому влиянию. Когда-
нибудь они поймут, что и сами принадлежат к на-
циональному меньшинству. И долго ли они сумеют
сохранять человеческое достоинство и считать себя
такими же интеллигентными людьми, как и их
школьные товарищи? Долго ли смогут положитель-
но воспринимать цвет кожи своего отца? Когда они
начнут упрекать нас в этом? Пока что они вселяют в
241
нас надежду, что у них достанет сил устоять. Об
этом свидетельствует такой маленький пример. Од-
нажды, когда мой муж вышел из машины у дет-
ского сада, одна девочка в группе крикнула: «Ой,
это же негр!» И тогда наша четырехлетняя дочурка
возразила ей: «Это никакой не негр, а мой папа!»
Розмари К. Лестер
«Жил черный негр...»
Как возникают предрассудки
«Дело вовсе не в цвете кожи, а в человеке и его
качествах». Такое или подобное изречение доволь-
но легко сходит с языка любого просвещенного
гражданина Федеративной республики. Однако что
скажет гражданин, проповедующий такую мораль,
если по соседству с ним белая девушка выйдет за-
муж за негра?»
Таким выступлением журнал «Штерн» начал ле-
том 1972 года серию статей под общим заголовком
«Мой зять—негр». Отвечая на этот вопрос, один бо-
гатый коммерсант посулил даже целое состояние
тому белому смельчаку, который согласится иметь
черного зятя. Он сказал при этом, что не имеет ни-
чего против черных, абсолютно ничего, но он прин-
ципиально против смешанных браков. «Даже звери
и животные сохраняют свою расу»,—добавил он. А
вот у медицинской сестры Эльке Б. не возникало ни-
каких вопросов, когда она захотела выйти замуж за
человека из Занзибара. Зато на работе у нее поднял-
ся страшный шум. «Нам здесь не нужны проститут-
ки, которые шляются с неграми по ночным каба-
кам!»—возмущенно заявил пастор конфессиональ-
ной общины сестер милосердия, куда Эльке поступи-
ла работать. А старшая сестра больницы, бросив
злобный взгляд на уже заметно округлившийся
живот Эльке, прошипела: «Таких детей и рожать не
следует!»
«Расизм?—Только не у нас!»—под таким рито-
рическим вопросом-заголовком недавно в газете
«Форвертс» (от 1 мая 1980 года) появился репортаж,
целью которого было поставить этот вопрос на об-
суждение. И мне захотелось предложить его автору
несколько документированных материалов по этой
242
теме. Но вначале давайте подумаем о том, как по-
являются у человека те или иные предрассудки, ибо
никто ведь не рождается сразу законченным расис-
том.
Первым источником информации в отношении
этнически чуждых людей и групп является для ре-
бенка его непосредственное окружение, его семья.
Даже одни только жесты, мимика, отдельные слова
родителей позволяют ему твердо усвоить определен-
ные симпатии и антипатии. И это почти всегда ока-
зывается заочной передачей предрассудков, ибо, как
правило, ребенок не имеет контактов с их жертвами.
Непосредственные контакты и другие моральные
установки могли бы пробудиться в нем и придать
его развитию совершенно иное направление. Однако
и личный контакт с теми, кто подвергается дискри-
минации, сам по себе очень редко способствует раз-
рушению предрассудков, так как понимание пере-
живаний других людей происходит опосредованно и
непременно сквозь фильтр уже сложившихся соб-
ственных представлений. К тому же—а может
быть, и главным образом—психологическая функ-
ция предрассудков именно в том и состоит, чтобы
воспрепятствовать попыткам их преодоления. И это
нигде не проявляется столь ярко и отчетливо, как в
отношении к черным. Ведь уже тот простой факт,
что у него кожа иного цвета, позволяет белому чув-
ствовать свое превосходство над миллионами других
людей.
Предрассудки всегда тесно связаны с существу-
ющими общественными и историческими условиями,
в которых они возникают и развиваются. Так, на-
пример, наиболее расистски настроенные группы на-
селения США, особенно в южных штатах или в ин-
дустриальных центрах Севера (к ним принадлежат
так называемые белые бедняки), как правило, обо-
сновывают свое отрицательное отношение к черным
давно известными стереотипами, согласно которым
черные по своей природе ленивы, неряшливы, склон-
ны к преступлениям и т.п. А заодно как самый не-
опровержимый аргумент предлагается вопрос: «If
God had wanted them to be equal, why did He make
them black? » * В действительности же все дело в том,
* « Если бог хотел, чтобы они были равными нам, то почему
он сделал их черными?» (англ.).
243
что эти группы белых усматривают в равноправии
черных серьезную опасность конкуренции на рынке
труда и, если подходить к этому вопросу с позиций
социальной психологии, они против исчезновения
того самого социального слоя (вероятно, единствен-
ного, располагающегося ниже этих белых бедняков),
существование которого вселяет в них обманчивую
уверенность в том, что они-то по крайней мере все
еще не находятся «на самой низшей ступени» обще-
ственной лестницы.
Наглядным свидетельством того, как расистские
предрассудки буквально вдалбливаются в головы
детей их родителями, было опубликованное амери-
канской прессой потрясающее фото с изображением
шестилетней ученицы начальной школы в амери-
канском штате Луизиана. Эта девочка «демонстри-
ровала» свое нежелание сесть за одну парту с
черным ребенком.
Аналогичный случай—правда, менее опасный по
своему непосредственному воздействию, но не менее
тревожный в плане возможного влияния на даль-
нейшее формирование сознания детей—имел место и
в Федеративной республике, где в 1972 году в одной
из школ пригорода Франкфурта-на-Майне был ус-
244
Труд рабов на полях одной из плантаций на Юге США в 60-х го-
дах прошлого века. Этот труд отличался жесточайшей эксплу-
атацией со стороны крупных землевладельцев.
троен праздник под девизом «Все дети на нашей
планете». На груди нескольких учеников четвертого
класса висели таблички с надписью «негр». А в
центре классной комнаты стоял огромный котел из
папье-маше, на котором большими буквами было
выведено: «Людоедская закусочная». Никакой реак-
ции со стороны родителей на это не последовало. По-
добная удивительная для всякого здравомыслящего
человека «оплошность» и необдуманность такого
мероприятия в глазах родителей и «воспитателей»
была всего лишь «безобидной шуткой». А ведь имен-
но с помощью таких вещей поддерживается и пере-
дается детям колониалистская традиция клеветниче-
ских «каннибальских» анекдотов. (Возмутился этим
один только протестантский священник, от которого
я и услышала эту историю.) Все это происходит
потому, что, по сути дела, в Федеративной респуб-
лике никогда серьезно не ставились под сомнение
и не осуждались расистские умонастроения, поро-
ждающие такие и подобные им «шутки», в каком
бы виде они ни преподносились—завуалированно
или с откровенностью плаката.
Такое отношение порождает много мерзости. На-
пример, в 1951 году во время карнавального шест-
вия в «розовый понедельник»* в одном крупном
западногерманском городе можно было видеть ма-
шину, на которой ехали раскрашенные под негритят
немецкие дети, а над ними красовался транспарант
с надписью «Made in Germany» («Сделано в Герма-
нии»). А в 1975 году на Франкфуртской ярмарке
был устроен аттракцион «Дорога ужасов». Вот его
краткое описание: «Для привлечения публики на
крыше над входом установлены три группы движу-
щихся фигур... В центре группа негров в соломен-
ных юбочках. Перед ними большой котел. Они то
поднимают оттуда, то опускают какое-то непонятное
существо... Рядом возвышается громадный черный
человек с головой гориллы в кожаном переднике.
Он медленно подносит к своей пасти обнаженную
белую женщину и жует ее».
Это цитата из письма африканского ученого-эко-
номиста, доктора Бенуа М., который безуспешно пы-
* Так называется второй день традиционного у немцев карнавала
(фашинга), связанного с проводами зимы и схожего с русской
масленицей.—Прим. перев.
245
Пилигрим в Африке («Нойе иллюстрирте», 1958 год).
тался возбудить судебное дело против устроителей
ярмарки.
В своем письме в прокуратуру он говорит: «Имен-
но выбор... не современной темы или какого-то по-
пулярного фантастического сюжета, а... тех, возник-
ших еще в колониальную эпоху представлений о
диких неграх, которые и сегодня сохраняются в ши-
роких кругах населения... искусственно поддержива-
ет эти предрассудки, чтобы таким образом грубо
усилить пренебрежительное отношение к черным
африканцам, которые сейчас составляют националь-
ное меньшинство Федеративной республики».
Я цитирую высказывание доктора М. столь по-
дробно потому, что оно отражает восприятие всем
246
известных и, по сути дела, клеветнических стерео-
типных «картинок с изображениями негров» теми,
кто изображается на них. Я считаю это заявление
очень важным документом, поскольку в нем указа-
ны те моменты нашей обыденной культурной жиз-
ни, которые множат негативные стереотипные пред-
ставления о цветных, особенно об африканцах. Хотя
эти клише обязаны своим происхождением эпохе
колониальной экспансии, однако и теперь с их по-
мощью, отчасти бессознательно, распространяются
соответствующие взгляды и идеологические установ-
ки. Совсем не случайно, что «негритянские» анек-
доты самого жуткого свойства пользовались особым
вниманием у наших иллюстрированных массовых
изданий именно в 50—60-е годы, то есть в период
деколонизации! Следует сказать, что и сегодня они
не исчезли из нашего обихода.
Если первые представления о вещах, первые
установки и предрассудки дети усваивают еще в до-
школьном возрасте под влиянием непосредственного
окружения своей семьи, то вторым их источником,
значение которого трудно переоценить, является
детская и юношеская литература. Правда, начиная с
60-х годов все большую роль в воспитании детей,
особенно старшего возраста, играет телевидение,
представляющее собой развлекательное средство
массовой информации. Однако телевидение показы-
вает черных и Черную Африку, как правило, редко
и к тому же в каких-то случайных кадрах, информа-
тивная ценность которых зачастую бывает весьма
сомнительной. Книги же, и особенно иллюстриро-
ванные журналы, которые наиболее привлекательны
для детей, всегда доступны и перечитываются вновь
и вновь. Исключительно сильное и долго сохраняю-
щееся впечатление производят на детей — прежде
всего младшего возраста—книги, иллюстрирован-
ные фантастическими рисунками.
Книги для детей и юношества не только отража-
ют уровень развития коллективного сознания в том
обществе, в котором они издаются, но и навязывают
своим читателям определенные модели поведения и
образ мышления. В некоторые же исторические эпо-
хи они вообще пишутся и издаются целенаправлен-
но в качестве средства идеологической обработки.
247
Так было во все времена колонналистской экс-
пансии, так было и при нацистском режиме. К тому
же следует учесть, что детская и юношеская литера-
тура в значительной мере ускользает от внимания
серьезной критики, что не в последнюю очередь
объясняется слишком односторонней направлен-
ностью признанных литературных критиков на «вы-
сокие» литературные творения. В результате детская
литература превращается в тривиальную литератур-
щину.
Детской и юношеской литературе свойственны
простейшие приемы идентификации. А это в конеч-
ном счете приводит к регулярному употреблению
стереотипов и клише. Оба этих вида литературы яв-
ляются, в сущности, инструментами социализации, а
следовательно, и источником определенных преду-
беждений и предрассудков.
Исходя из этого, рассмотрим произведения трех
«классиков» немецкой литературы для детей и юно-
шества. Начнем хотя бы с этого:
Пошел гулять под солнца жар
Один, как уголь, черный мавр.
Чтобы ослабить страшный зной,
Раскрыл он зонтик над собой.
Невозможно сосчитать, для скольких поколений
немецких (и зарубежных!) детей «крошка-мавр» в
знаменитой книжке о «Растрепке-Петере» был пер-
вым и, возможно, даже единственным черным аф-
риканцем, с которым они познакомились в начале
жизни. Напечатанная впервые в 1845 году, эта кни-
га уже в 1876 году вышла в свет сотым изданием.
В 1939 году только в первоначально выпустившем
ее издательстве готовилось 593-е издание, и даже в
1954 году «Растрепка-Петер» далеко опережал все
самые любимые книжки, которые читались в дет-
ских садах.
Что же происходит с «крошкой-мавром» в этой
книге? Оказывается, трое злых белых мальчишек
начинают осыпать мирно гуляющего человечка на-
смешками и издевательствами из-за его темной кожи.
И тогда появляется некто «Николас — очень добрый
верзила, с бочкой, в которой налиты чернила». Он
предупреждает озорников:
248
Постойте, дети, что такое!
Оставьте черного в покое!
Чем виноват такой бедняга,
Что он не белый, как бумага?
Но поскольку все трое не слушаются его, он
засовывает их в свою бочку-чернильницу и держит
там до тех пор, пока они не становятся «еще черней,
чем крошка-мавр», подразумевается — на всю
жизнь.
Генрих Гоффман — врач и богатый на выдумку
изобретатель радикально-авторитарных методов вос-
питания, предложенных в «Растрепке-Петере» (они,
по сути дела, являются зашифрованными сатири-
ческими намеками на домартовскую Германию) *,
имел, конечно, вполне благие намерения. Своих ма-
леньких читателей он подводил к терпимости и со-
страданию. Однако общий смысл назиданий, кото-
рый проявляется сам собой и который нельзя не за-
метить, сводится к одному: быть черным плохо. На-
казание у Гоффмана — это в известной степени акт
некоей высшей власти. Тем самым Гоффман идет
в русле той просветительской традиции, в которой
одновременно с понятиями сострадания и терпимо-
сти по отношению к черным детям прививается еще
и понятие неполноценности черных.
Полной противоположностью идее терпимости,
выдвинутой эпохой Просвещения, было то культур-
ное высокомерие, которым сопровождалось развитие
колониального империализма и которое двумя деся-
тилетиями позже отразил в своем творчестве Виль-
гельм Буш. «Обезьяна Фипс» — почти столь же лю-
бимый и популярный среди немецких детей персо-
наж, как Макс и Мориц **. В начале своей истории
он живет еще в Африке, среди негров. И вот:
Жил черный негр, не зная бед.
Макак он жарил на обед.
Тех, что моложе, выбирал,
О пожилых же бормотал:
* Имеется в виду Германия до революции, происшедшей в мар-
те 1848 года,—Прим. перев.
** Макс и Мориц—герои юмористических рассказов и анекдотов
в немецком фольклоре.—Прим. перев.
249
«Старик не вкусный никогда!»
И добавлял свое: «Б-е-е, да-а!»
Посмотрите на представленные здесь два портре-
та — Фипса и негра. Бросается в глаза то, что Буш,
отличный рисовальщик, применил для изображения
обоих один и тот же исходный шаблон. Но если
негру с помощью темного цвета кожи, кольца в носу
и незначительных изменений в контурах носа и рта
придано глупое и в то же время дикое выражение,
то на лице у Фипса сохранена мина лицемерия и
250
поддельной невинности, что делает его очень похо-
жим на человека. Соответствующий подбор слов
(«Старик не вкусный никогда!») определенно наме-
кает на каннибализм, а добавка «Б-е-е, да-а!« к
языку черного понадобилась затем, чтобы оконча-
тельно лишить его человеческих черт.
Так, на страницах маленькой книжки возникает
образ африканца, который выглядит наполовину
обезьяной, наполовину людоедом — кем угодно, толь-
ко не полноценным человеком.
Менее известна другая книга картинок Вильгель-
ма Буша «Месть слона». В этой раскладной книжке
представлена серия из 12 картинок, сопровождае-
мых четверостишиями. В ней рассказывается о том,
как одному слону (он изображен опять-таки с почти
человеческой ухмылкой) «какой-то мавр из озор-
ства» пустил в зад стрелу. Слон преследует его,
хватает, окунает в воду и швыряет в заросли колю-
чих кактусов. И вот:
Наш мавр средь кактусов вопит.
И весь в колючках, прочь ползет,
Слон медленно домой идет...
Откручивает ли обезьяна Фипс мавру нос с по-
мощью продетого в него кольца, подвешивает ли
слон свою жертву над пастью крокодила, мавр вос-
принимается всего лишь как вещь, так же, как и те
«двенадцать негритят», которых по принципу убы-
вающих чисел целые поколения немецких детей и по
сей день ради забавы отправляют на тот свет.
Вильгельм Буш не делает ничего слишком уж
плохого этому мавру, как, впрочем, и другим своим
многочисленным, в том числе и белым, персонажам.
И все же он выступает как истинный расист, такой
же, как и большинство его современников, чьи идео-
логические установки по отношению к объектам ко-
лонизации той эпохи он еще и оттачивает своими
четкими рисунками. А огромная популярность его
произведений и их широкое распространение как
детской «классики» (я сама ребенком была букваль-
но влюблена в Фипса и никогда не задумывалась
над судьбой мавра!) превратили его «истории» в
источник предрассудков, затрудняющий воспитание
у детей симпатии к людям другого цвета кожи, если
не делающий это вообще невозможным.
251
Разумеется, трудно определить, сколь велика бы-
ла роль Вильгельма Буша в появлении огромного
количества так называемых африканских и «людо-
едских» анекдотов, которые в последнюю четверть
XIX века начали печатать даже на страницах жур-
налов «Флигенде блэттер» и «Симплициссимус».
Что же касается его жестокой фантазии о мавре с
кольцом в носу, то этот сюжет был повторен в
1905 году в юношеском журнале «Югендгартенлау-
бе». «Школа в Камеруне» — так было озаглавлено
это «произведение», из которого я позволю себе при-
вести только три строфы:
...Здесь с полуслова все должны
Решать свои задачи,
Иначе им костер разжечь
Не даст преподаватель.
«А ну-ка, в угол становись!»
А если козни строишь:
Кольцо на цепь, и носом вниз
Стоять, пока не взвоешь!
Кричать не сметь: намну бока!
И на цепи болтаться
Придется долго вам, пока
Не станете бояться...
252
Вот такая жуткая картина жизни африканцев
дается в книжке с картинками, которая кажется
написанной извергом. Благодаря такому изображе-
нию взрослые с малых лет приучали детей к мысли
о превосходстве своей этнической группы над други-
ми расами и о своем «естественном» праве на гос-
подство над ними. Следует обратить внимание на
то, что распространителем указанных выше предрас-
судков в данном случае был исключительно попу-
лярный «семейный» иллюстрированный журнал,
считавшийся в высшей степени морально выдержан-
ным и вполне благопристойным.
Однако в конце XIX века в детской и юношеской
литературе существовал не только «образ негра»,
лишенного всяких человеческих достоинств. Из Сое-
диненных Штатов к нам пришел «идеальный негр»
в образе главного героя книги Гарриет Бичер-Стоу *
«Хижина дяди Тома», которая впервые начала пуб-
ликоваться в июне 1851 года как роман с продол-
жением в американском еженедельнике «Нэшнл
эра», выступавшем за отмену рабства. Бичер-Стоу
написала свой роман в поддержку британского дви-
жения аболиционизма **, которое еще с конца XVIII
века начало широкую дискуссию о рабовладении и
энергично добивалось его ликвидации. Гарриет Би-
чер-Стоу отличало то, что она сумела увидеть тес-
нейшую связь между экономическими интересами
растущего капитализма и религиозно мотивирован-
ным приукрашиванием работорговли и рабовладе-
ния. Этот момент в ее творчестве часто ускользает
от внимания поверхностных критиков романа «Хи-
жина дяди Тома».
Выступая против проповедников и апологетов
рабства, постоянно твердивших, что, мол, черные
созданы самим богом как раса слуг (еще бы, ведь
они же происходят от некоего Хама, проклятого сво-
* Гарриет Бичер-Стоу (1811—1896)—американская писатель-
ница, активно выступавшая за отмену рабства в США.—Прим.
перев.
** Аболиционизм—движение за отмену работорговли и рабовла-
дения в США. Начавшись в конце XVIII века, он получил
наибольшее развитие в первую половину XIX века и закончился
после того, как в 1865 году американские негры были формально
объявлены свободными. Движение носило буржуазный характер
и преследовало главным образом интересы растущего капита-
лизма, нуждавшегося в свободной рабочей силе.—Прим. перев.
253
им библейским отцом Ноем за непослушание!), и
поднимая свой голос против этого еще и сегодня
не совсем исчезнувшего представления о неграх, Би-
чер-Стоу вложила в уста своего положительного
белого героя Сен-Клера такие слова:
«Представьте себе на минутку,— сказал Сен-
Клер,— что цена на хлопок почему-то упала раз
и навсегда и рабовладение становится для нас обу-
зой. Будьте уверены — соответственно с этим изме-
нится и толкование библейских текстов. Церковь
не замедлит прозреть истину, призвав на помощь
здравый смысл и ту же Библию».
В другом месте романа Сен-Клер сравнивает
эксплуатацию черных рабов американскими план-
таторами-хлопководами с тем угнетением, которому
подвергала «низшие классы общества» английская
аристократия.
Подобных замечаний в книге Бичер-Стоу было
немало. Однако в сегодняшних многочисленных пе-
реизданиях романа (в 1908 году одних только не-
мецких изданий в разном оформлении насчитыва-
лось до 75) их попросту нет: они выброшены. «Дя-
дя Том» упрощен, обезврежен и превращен в едва
ли не самую популярную в мире книгу для юно-
шества. Из первоначальных замыслов Бичер-Стоу
осталась, пожалуй, только христианско-гуманисти-
ческая идея, в соответствии с которой институт раб-
ства обесчеловечивает не только рабов, но и их
хозяев. И конечно, остался сам дядюшка Том, этот
долготерпеливый христианский страдалец. Для бе-
лых господ и их детей он обрел черты «идеального
негра» лишь потому, что для них он неопасен: от
него нельзя ожидать ни восстания, ни сопротивле-
ния. И самое поразительное, что с 60-х годов наше-
го века он превратился в глазах осознавшего свою
силу поколения афроамериканцев в стереотип отри-
цательного героя!
Однако вплоть до 60-х годов XX столетия и дядя
Том, и его жена, тетушка Хлоя, ставшая образцо-
вой моделью доброй черной «матушки», и, конечно
же, поначалу неотесанная, но «вполне воспитуемая»
и чем-то комичная «негритяночка» Топси, чей образ,
бесспорно, послужил идеей для вышедшего на экра-
ны еще в 1952 году и до сих пор популярного кино-
фильма «Топси»,—все эти образы входили в обяза-
254
тельный и привычный репертуар детской и юно-
шеской литературы, не говоря уже, естественно, о
продукции американской киноиндустрии, которая и
в нашей Федеративной республике пользуется боль-
шим спросом.
Разумеется, можно лишь теоретизировать, да и
то до известного предела, о том, насколько продол-
жительным является влияние книг и других средств
массовой информации на умы людей. Бесспорно
одно—они превращают в конкретные шаблоны и
взгляды то, что в том или ином обществе подчас
еще только «носится в воздухе», подкрепляют и
усиливают уже существующие предрассудки. И это
само по себе уже плохо.
Наша краткая ретроспектива по трем класси-
ческим образчикам международной детской и юно-
шеской литературы или, лучше сказать, популярной
литературы того мира, для которого и по сей день
256
«Сенсационная» книга «Хижина дяди Тома» (рекламное объяв-
ление в лейпцигском журнале «Иллюстрирте цайтунг»
за 1853 год).
характерны претензии на господство белых, должна
заставить нашего читателя хотя бы задуматься над
сказанным, прежде чем купить очередную книгу для
своего ребенка, попросить у продавца в магазине—
будь то в Берлине, Франкфурте или Кёльне—пи-
рожное под названием «негритянский поцелуй» или
наградить первую попавшуюся пару людей, принад-
лежащих к разным расам, злым взглядам или чем-
то еще похуже.
Becker J. Alltaglicher Rassismus. Die afro-amerikanischen
Rassenkonflikte im Kinder- und Jugendbuch des Bundesrepublik.
Frankfurt/New York, 1977.
Dorn K. „Schule in Kamerun".—In: „Jugendgartenlaube",
Bd.ll, Nurnberg, o.J., S.251.
Fohrbeck K., Wiesand A., Zahar R. Heile Welt
und Dritte Welt. Medien und politischer Unterricht. Opladen, 1971.
Lester R. Der Trivialneger. Zur [magologie des westde-
utschen Illustriertenromans.—In: „Stereotyp und Vorurteil in
der Literatur", Hft. 9 der „Zeitschrift fur Literaturwissenschaft
und Linguistik", Gottingen, 1978.
Lester R. Der verdunkelte Erdteil. Das Afrikabild im
westdeutschen Illustriertenroman 1953—1977. Vortrag an der
Universitat von Dakar, 1979.
Richter D., Vogt J. (Hrsg.). Die heimlichen Erzieher.
Kinderbucherund politisches Lernen. Reinbek, 1974.
Stiller G. Fotografik in Frederik Hetmann: Sklaven,
Nigger, schwarze Panther. Ravensburg, 1972.
«Я почти не могу здесь жить»
Беседа с Одри Мотанг
Одри Мотанг: Когда я кому-нибудь говорю, что
мне здесь очень трудно жить, люди всегда спешат
сказать: это, конечно, из-за климата. Но это далеко
не так. Разумеется, в холодную ненастную погоду
в Гамбурге мне приходится нелегко, но в Африке
я мерзла гораздо чаще. Ведь у нас там нет парового
отопления, и, когда становится совсем холодно, мы
кладем на плиту камни, а потом носим их под
платьем или кладем в постель, чтобы согреться. Нет,
здесь совсем другой холод, перенести который я не
в состоянии.
Петер Шютт: Давно ли ты живешь в Гамбурге?
Одри Мотанг: Да вот уже больше пяти лет. Моя
дочь родилась здесь. Сначала, когда я вырвалась
256
из ЮАР, я действительно думала, что попала в
свободную страну. Да, возможно, лет пять-шесть
тому назад многое здесь и было еще по-другому. Но
потом я поняла, что ошибалась.
В Южной Африке расизм жесток, но там он яв-
ный, открытый. Здесь же, у вас, он в основном скры-
тый, не бросающийся в глаза. В Южной Африке
его можно, что называется, пощупать руками, а тут
его прежде всего чувствуешь. Но уж зато чувст-
вуешь буквально на каждом шагу. И я должна
сказать, что эта враждебная атмосфера ужасно дей-
ствует на нервы. Я вот, например, не так сильно
переживаю, когда в автобусе меня, скажем, обзовут
обезьяной, то есть когда оскорбление прямое. Куда
болезненнее неявные акты дискриминации.
Люди в Федеративной республике живут так,
словно они окружены сплошным кольцом врагов—
«коварными коммунистами», турками, черными и
т. п. Западные немцы все время стараются поплот-
нее закрыть за собой дверь, чтобы отгородиться от
всех. Когда они включают и смотрят телевизор, им
кажется, что на экране одни враги—злые русские,
нахальные иностранцы, которые только и ждут мо-
мента, чтобы отнять у немцев работу. И повсюду
«проклятые демонстранты»! Я видела много разных
стран, но ни в одной из них не обнаружила столько
ненависти, раздраженности и жестокости, как здесь.
Особенно отличаются в этом местные власти. Их
издевательствами я сыта по горло.
Петер Шютт: А что у тебя с ними было?
Одри Мотанг: Ну вот, представь себе: я здесь,
как я уже сказала, больше пяти лет. И вдруг я
узнаю, что моя родина, которую я покинула по
политическим соображениям, отказывается (?) прод-
лить мне срок действия паспорта. Ничего не остает-
ся, как подать прошение о предоставлении мне поли-
тического убежища. Но едва я вручаю его властям,
как биржа труда тут же лишает меня разрешения
на занятие профессиональной деятельностью. В ре-
зультате я теряю работу. И все это происходит как
раз в тот момент, когда я нахожусь в больнице и
ожидаю рождения второго ребенка. Власти Карш-
тадта выселяют меня из квартиры. Я теряю и право
на социальное обеспечение, предоставляемое мате-
рям. Теперь мне приходится денно и нощно бегать
257
в Управление социального обеспечения и вымали-
вать там вспомоществование. Однако на нас, соиска-
телей на получение убежища, там смотрят косо.
Вот и получается, что и я, и мой муж, который толь-
ко что закончил учебу, и оба моих ребенка попали
в поистине отчаянное положение. Вероятно, нам
придется ехать в Сенегал. Это родина моего мужа.
Но там наши, и в особенности мои, шансы на полу-
чение работы равны нулю.
Петер Шютт: А какие впечатления остались у
тебя от больницы?
Одри Мотанг: Я лежала в одной палате с жен-
щиной из Югославии, так медсестры и акушерки
поначалу разговаривали с нами только на так на-
зываемом тарзаньем языке. Я даже не поняла, чего
хочет от меня палатная сестра, когда она демонст-
ративно зашмыгала носом. Видимо, она хотела спро-
сить меня, не желаю ли я принять лекарство от
простуды. Первым вопросом, который задал мне
врач-акушер, было: «Чего вы, собственно, ищете в
Германии?» Это прозвучало так, словно он хотел
сказать, что я приехала в Федеративную респуб-
лику только затем, чтобы произвести своего ребенка
на свет в чистом немецком родильном доме. Позже
я узнала, что этот человек долгое время жил в
Южной Африке.
Петер Шютт: А видишь ли ты какие-нибудь па-
раллели между Федеративной республикой и Юж-
ной Африкой?
Одри Мотанг: Да, я их очень хорошо вижу.
Так, на последнем месяце беременности, когда од-
нажды я возвращалась с обследования от врача,
я хотела взять такси, но никто не захотел меня
везти, так что в конце концов мне пришлось ехать
в автобусе. Вот тогда-то мне и показалось, что
я нахожусь не в Гамбурге, а где-то в Иоганнесбурге.
Ведь там даже санитарные машины отдельные—для
белых и для черных.
А если говорить серьезно, то Федеративная рес-
публика уже давно является важнейшим торговым
партнером Южной Африки. Тропические фрукты,
уголь, золото, алмазы и прежде всего уран для
тех атомных электростанций, которые строятся здесь,
и для ядерных ракет, которые они собираются здесь
развертывать,—все это во все большем количестве
258
ввозится в ФРГ из ЮАР и Намибии. Это не может
остаться без последствий. Дивиденды от этой тор-
говли, бесспорно, кружат головы вашим дельцам.
Петер Шютт: Можно ли, по-твоему, как-то вос-
препятствовать всему этому?
Одри Мотанг: Можно ли? Трудно сказать... Я
только знаю, что против этого нужно как-то бороть-
ся. Прежде всего вы сами, немцы, обязаны что-то
предпринять, иначе вы сами сожрете друг друга
или снова ринетесь в бойню и погибнете все до
единого. Нужно что-то делать и в общеполитическом
плане, например такими книгами, какие пишешь
ты. Можно и нужно говорить с людьми так, как
это делаю я в детском саду, беседуя с воспитателя-
ми, на чьем попечении находится моя старшая дочь.
Я постоянно спорю с ними о многом, скажем о
песенке про «двенадцать негритят»...
«Я приехала в Федеративную
республику не ради развлечений»
Беседа с Дорис Сейва
Петер Шютт: Давно ли вы живете в Гамбурге?
Дорис Сейва: Вот уже полгода. До этого полгода
я жила и работала на ткацкой фабрике в Лондоне.
Но срок моей визы истек, и полицейские госпожи
Тэтчер вышвырнули меня вон.
Петер Шютт: А почему вы уехали из Ганы?
Дорис Сейва: Я приехала в Федеративную рес-
публику не ради развлечений, а для того чтобы
работать. Нас в семье семеро братьев и сестер, но
только один из братьев имеет работу—он служит
в одном из органов местной власти, но на его за-
работок вся семья существовать не может. Мой отец
умер в 1969 году. У него была на севере Ганы
ферма, где возделывалось какао.
После его смерти мать была не в состоянии со-
держать ферму. Цены на какао все время падали,
к тому же по дороге в Европу бесследно исчез па-
роход, на котором находился весь наш годовой уро-
жай какао-бобов. Ферму пришлось продать, и тогда
мой брат первым отправился в Федеративную рес-
публику. Он поехал туда, чтобы помочь прокормить
259
остальную семью. Через несколько лет, когда при-
сылаемых братом денег перестало хватать, за ним
отправилась моя старшая сестра, а в прошлом году
настала и моя очередь.
Петер Шютт: И теперь вы работаете?
Дорис Сейва: Официально—нет. Это запрещается
в течение первого года пребывания. Поэтому при-
ходится работать «по-черному», то есть нелегально.
Каждое утро я встаю в половине четвертого, целый
час еду на рейсовом ночном автобусе и с пяти до
семи утра работаю уборщицей на одном крупном
предприятии. Это довольно тяжелая работа и к тому
же требующая быстроты.
Петер Шютт: И сколько же вы зарабатываете?
Дорис Сейва: Семнадцать марок за два часа ра-
боты. Получается почти 400 марок в месяц. Но из
них 60 марок уходит на месячный проездной билет
на автобус. Однако плата за квартиру для меня
не так обременительна, поскольку я живу вместе с
сестрой. Я еще могу посылать домой от 50 до 100
марок ежемесячно. В марте я начну заниматься
на курсах немецкого языка. Я очень рада, что Ко-
митет по делам беженцев Организации Объединен-
ных Наций частично оплачивает мои счета и налоги.
Петер Шютт: Как долго вы намерены оставаться
в Федеративной республике?
Дорис Сейва: Я хотела бы пробыть здесь столько,
сколько будет нужно, чтобы моя семья в Гане могла
поправить свое положение. Кроме того, у меня есть
и своя цель. Я очень хочу приобрести хорошую
швейную машину, чтобы дома работать по своей
специальности: я ведь портниха. Такая машина
стоит примерно 2500 марок, и мне еще нужно на-
копить сверх того около тысячи марок для оплаты
перевозки машины в Гану. При моей теперешней
работе собрать столько денег будет, конечно, трудно.
Петер Шютт: А какую работу выполняют здесь
ваши брат и сестра?
Дорис Сейва: Мой брат сейчас переехал в Запад-
ный Берлин, потому что здесь его внезапно уво-
лили. Он работал грузчиком на складе. У него есть
и профессия, но на большее, чем место грузчика, ему
сейчас нечего и рассчитывать. Моя сестра работает
уборщицей в туалете одной дискотеки. Она начинает
в шесть вечера и возвращается домой почти в три
260
часа ночи, то есть тогда, когда мне уже надо вста-
вать. Ей тоже нелегко приходится, тем более что
у нее скоро будет ребенок. Она этому очень рада,
хотя муж ее только что бросил. Он начал пить
и не мог уже справиться с этим.
Петер Шютт: Он что—белый?
Дорис Сейва: Да, он немец.
Петер Шютт: Как часто вам нужно ходить в
Управление по делам иностранцев?
Дорис Сейва: Каждые три месяца. Мы обяза-
тельно должны продлевать визу. В этом управлении
есть досье на каждого из нас. В нем фотокарточка,
отпечатки пальцев и регистрационная карта, куда
заносится все, чем мы здесь занимаемся.
Петер Шютт: А много ли ваших соотечествен-
ников в Гамбурге?
Дорис Сейва: Становится все больше и больше.
Я полагаю, что нас здесь уже несколько тысяч.
Здесь многие мои школьные товарищи. Все они пы-
таются как-то изловчиться, чтобы поддержать остав-
шиеся дома семьи. Вообще за рубежом—в Нигерии,
в арабских странах, в Голландии, Англии и Феде-
ративной республике—трудятся свыше миллиона
ганцев. В последние пять лет каждый второй тру-
доспособный ганец должен был искать работу за
пределами своей страны. После переворота, совер-
шенного два года назад, там стало еще хуже, чем
было.
Петер Шютт: Ну и как же вы себя чувствуете
в Гамбурге?
Дорис Сейва: Конечно, я очень сильно скучаю
по родине и по дому. Черной женщине здесь вообще
не сладко приходится. Все начинается уже ранним
утром в автобусе, и тогда мне ужасно хочется пе-
ренестись домой, в Аккру. Разумеется, условия там
совсем не лучшие, но все же и не такие плохие,
как их описывает ваш «Шпигель». В этом журнале
все время пишут о том, что мы в Африке живем
еще на деревьях и что нами правят племенные
вожди. Впрочем, я думаю, что здесь многие именно
так и считают, и потому, когда людям начинаешь
что-нибудь рассказывать и говоришь, что приехал
из Африки, на их лицах всегда появляется выра-
жение сострадания.
261
„Когда мы играем в футбол, нас
обзывают «черными дьяволами»"
Беседа с Фестусом Уэриукой Тьюкуа
Петер Шютт: Тебя зовут Фестус? Ты из Нами-
бии...
Ф.У .Тьюкуа: Да, я из Виндхука. Там я окончил
августинскую гимназию, в которой преподавали и
немецкий. Поэтому я мог претендовать на стипен-
дию для поездки на учебу в Федеративную респуб-
лику. И я действительно получил эту стипендию
от студенческого Фонда Отто Бенеке*. Я изучал
здесь электротехнику, и прежде всего—радиодело
и телевизионную электронику.
Петер Шютт: И ты доволен тем, чему ты здесь
учился?
Ф.У.Тьюкуа: Нет, в общем-то, совсем недоволен.
У меня такое впечатление, что наши преподаватели
очень скупятся передавать свои знания, особенно
нам, черным. Вместо того чтобы научить меня со-
бирать радиоаппаратуру с помощью простейших
средств, меня учат заменять детали в сложных не-
мецких аппаратах. Таким образом, мы продолжаем
и будем впредь оставаться в полной зависимости
от западногерманского производства, от «герман-
ских промышленных стандартов», от рынка ФРГ.
Вот так и функционирует здесь эта так называе-
мая «помощь развитию». Я знаю одну группу ниге-
рийских студентов-техников, которых обучают толь-
ко ремонту западногерманских «мерседесов».
Петер Шютт: А как ты находишь атмосферу в
Гамбурге? Благоприятна ли она для вас?
Ф. У. Тьюкуа: Да, здесь обстановка более терпи-
мая, чем в Марбурге, где я начинал учебу. Но диск-
риминации хватает и здесь. Я убедился в этом, ког-
да искал жилье. Комнату я нашел с большим тру-
дом. Она обходится мне в 310 марок в месяц. Тем не
менее я рад даже этому. Другие мои товарищи из
* Студенческий Фонд Отто Бенеко—официальная субсидируемая
государством организация (создана в феврале 1965 года).
Названа в честь первого президента Немецкого общества сту-
дентов. Оказывает помощь студентам, в том числе и зарубеж-
ным.—Прим. перев.
262
Намибии или Зимбабве платят еще больше за гораз-
до меньшие комнаты.
Петер Шютт: А как было в Марбурге? Ведь Мар-
бург университетский город и пользуется репутаци-
ей весьма прогрессивного...
Ф. У. Тьюкуа: Там мне было очень трудно. Види-
мо, потому что у меня еще не сложились отноше-
ния с передовыми студентами. Но и не только поэто-
му... В автобусе меня часто третировали, особенно
пожилые люди. В студенческих кафе и пивных не-
редко просто не обслуживали. Например, в диско-
теке «Чарли» африканцам вообще, как правило, ал-
когольных напитков не продают. Однажды, когда я
танцевал с молодой немкой, послышались крики:
«Эй ты, смывайся отсюда! Ниггер!» А когда моя
партнерша захотела выйти со мной на улицу, не-
сколько человек задержали ее и обругали «негри-
тянской шлюхой»...
Петер Шютт: Легко ли иностранцу найти кон-
такт с немецкими студентами?
Ф. У. Тьюкуа: Нет, не легко. В большинстве слу-
чаев иностранные студенты замыкаются в своем
кругу, а немецкие—в своем. Встречаясь с левыми,
я убедился: они очень много говорят о солидарности
и, очевидно, делают это честно, но из-за политики у
них почти совсем не остается времени на что-то дру-
гое. Легче установить контакт со студентами демо-
христианской ориентации. Но связи с ними всегда
какие-то искусственные и даже натянутые. Тебе за-
дают тысячу вопросов, и все одни и те же: сколько
в семье детей, сколько женщин, сколько в стране
диких зверей и т. п. Все это порядком действует
на нервы...
Петер Шютт: Ты, кажется, хороший спортсмен и
футболист...
Ф. У. Тьюкуа: Вообще-то да, но здесь это не дос-
тавляло мне удовольствия. Сначала в одном спор-
тивном клубе я был единственным черным футбо-
листом, и мне там было невыносимо трудно. Как
только я в чем-то проявлял себя, немедленно подни-
мался страшный шум, и зрители орали такое, что
мне доводилось слышать разве только от немцев в
Намибии. Но вот уже год, как я стал членом нового
спортклуба «Африка» в Гамбурге, и у нас теперь
своя, полностью черная команда. Мы играем в боль-
263
шинстве случаев против команд, собранных из ино-
странцев, прежде всего против турецких клубов, но
иногда выступаем и против местных, немецких ко-
манд.
Вот сегодня, например, мы играли со сборной ко-
мандой Альтоны *, но матч пришлось прекратить на
половине игры из-за постоянно возникавших скан-
далов и свалки. Судья к тому же все время обзывал
нас «проклятыми бушменами». В конце концов мы
потеряли всякое терпение, и настроение играть про-
пало. Где бы мы ни выступали, нас всегда обзывают
«черными дьяволами», и нужно иметь адское терпе-
ние, чтобы не замечать откровенно расистского от-
тенка этого эпитета.
Петтер Шютт: А интересуются ли граждане ФРГ
тем, что происходит у тебя на родине?
Ф. У. Тьюкуа: Здесь, в Гамбурге, есть несколько
профессиональных исследователей и прогрессивных
африканистов. Правда, их мало. Это Гельмут Бляй,
Хинниг Мельбер, Элизабет Томпсон. Они по-настоя-
щему занимаются историей и современными пробле-
мами Намибии. Было также несколько выступлений
в рамках общего движения протеста против апар-
теида в Намибии. Однако у меня сложилось такое
впечатление, что освободительная борьба в этой быв-
шей германской колонии встречает здесь незначи-
тельную поддержку и мало кого интересует. И не-
спроста у меня на родине Федеративную республику
считают одним из главных оплотов расизма. Зна-
чительная часть потребляемой в ФРГ урановой руды
поступает, безусловно, из Намибии и Южной Афри-
ки, и это, я полагаю, должно как-то отражаться на
западногерманском антиядерном движении.
Улли Будде
«Мы хотим справедливости!»
Борьба западногерманских цыган
за гражданские права
«Цыган можно встретить практически в любой
части света. Они живут разбросанно по всему миру,
* Альтона—северо-западный район Гамбурга.—Прим. перев.
264
и прежде всего в Европе, но их жизнь повсюду оди-
накова. В прошедшие века у нас было только одно
право—право на жизнь и ничего больше. Я могу вас
заверить, что, несмотря на все ее так называемые
романтические аспекты, эта жизнь никогда не была
для нас легкой, и такой же она остается сейчас...
На протяжении всей истории с нами, цыганами,
очень часто поступали несправедливо и жестоко.
И мы никогда не могли защититься от этой неспра-
ведливости. Да и сегодня мы не в состоянии этого
сделать. Единственное, на что мы способны и были
способны всегда,—это уходить в самих себя, замы-
каться в своем кругу. Но если мы и дальше будем
жить так, довольствуясь своим изолированным, без-
радостным, а подчас и нищенским существованием,
мы задохнемся в нем, и цивилизация выбросит нас,
как ненужный человечеству балласт. А мы хотим
жить, как подобает человеческим существам, в чело-
вечном мире. Мы стучимся в двери общества. Мы
говорим, что хотим преодолеть нашу замкнутость
и отчужденность, забыть старые обиды. Мы просим
у вас место под солнцем. Мы хотим, чтобы и в
нашем темном мирке стало больше света и воздуха,
чтобы и наши дети могли получить доступ к тем
благам, которые современная культура дарит всем,
но не нам...»
Такими словами дополнил венгерский цыган, ис-
торик и писатель Менигерт Лакатош, официальное
обращение Всемирного союза цыган к Организации
Объединенных Наций, поданное 28 февраля 1979
года и содержавшее просьбу о приеме союза в каче-
стве коллективного члена в Экономический и Соци-
альный Совет ООН. Когда на следующий день при-
емная комиссия ЭКОСОС удовлетворила эту прось-
бу, был сделан очень важный шаг к улучшению
положения цыган во всем мире.
Десять миллионов цыган признаны теперь в ка-
честве равноправного этнического меньшинства. Они
пользуются отныне защитой и покровительством
ООН и могут при поддержке государств—членов
ООН способствовать решению своих особых проблем,
участвуя в принятии соответствующих резолюций.
Эта возможность, подкрепленная состоявшимся еще
раньше основанием единой всемирной организа-
ции—Всемирного союза цыган, стала принципиаль-
265
но новым моментом в историческом развитии цыган
как нации. Ведь до сих пор их замкнутость в узком
кругу семьи и рода при отсутствии надлежащего по-
литического представительства где бы то ни было
делала цыган беззащитными перед лицом различ-
ных притеснений и преследований.
Нынешнее положение цыган в Федеративной рес-
публике является свидетельством того, что такое
развитие было необходимо. Принадлежность к цы-
ганской семье или роду в этой стране означает, как
правило, существование на самых нижних ступень-
ках крутой социальной лестницы, пребывание в ус-
ловиях материальной нищеты и вековых предрас-
судков. Неспособность цыганского меньшинства как
социальной силы открыто выступить за равноправ-
ное сосуществование с другими национальностями и
социальными слоями общества постоянно находит
свое выражение в их пассивности и равнодушии к
своему окружению. А это приводит и к их отчужде-
нию в обществе или—в более серьезных случаях—к
массовому уничтожению, как это было во времена
фашизма.
Кочевой образ жизни цыган традиционно всту-
пал в противоречие с жизнью оседлого населения
деревень и городов, чье существование определялось
такими нормами поведения, как прилежание, дело-
витость, старательность и т. п. Поскольку предпо-
сылкой для соблюдения этих норм служили тесная
сплоченность и взаимозависимость жителей данного
района, то всякие другие способы существования,
выпадающие из этой политико-экономической систе-
мы отношений, оказывались неприемлемыми.
Различные формы отрицания образа жизни цы-
ган и других мигрирующих групп населения наибо-
лее сильно проявились в XV веке, когда церковь,
ранее не обладавшая сильным влиянием, преврати-
лась в один из важных идеологических (и поли-
тических) факторов власти. В качестве «хранитель-
ницы установленного богом порядка», выгодного
феодальной аристократии, она с помощью такого
инструмента, как инквизиция, начала под прикры-
тием «христианской» морали преследование и ист-
ребление «нечистого сброда»—ведьм, еретиков
и богохульников, то есть всех тех, кто якобы сос-
266
тоял в связи с дьяволом. Не вызывает сомнения,
что переезжающие с места на место люди, выгля-
девшие как иностранцы, жившие в палатках и ки-
битках и говорившие на непонятном языке, быстро
оказывались в числе подозрительных элементов.
Та же система предрассудков, подозрительности
и страха, которая некогда превращала добропоря-
дочных бюргеров в доносчиков-обличителей, в бес-
пощадных стражей добродетели и морали, действу-
ет в отношении цыган и сегодня, нередко доходя
до абсурда.
Необходимо выяснить суть противоречий между
различиями в образе жизни оседлых жителей и цы-
ган, ибо проявляющийся по отношению к ним
расизм складывается из далеко не одинаковых
и на первый взгляд, возможно, несовместимых ком-
понентов. И тут сразу возникает образ несколько
наивного бродяги, который—несмотря на свою на-
ивность, а может быть, именно благодаря ей—
воспринимается как угроза собственности честных
людей. Очень четко и ясно это выразила одна
гамбургская газета в статье под заголовком «Люди,
не оставляйте белье без присмотра!». «С незапамят-
ных времен,—говорилось в ней,—по странам Евро-
пы кочуют цыгане. И с тех же незапамятных вре-
мен этот вечно куда-то едущий народ живет в свое-
образных, напряженных отношениях с жителями
той страны, в которой они оказываются временными
гостями. И тоже с незапамятных времен местные
жители, едва завидя цыган, кричат на всю округу:
«Эй, снимайте белье—цыгане идут!» ...Между тем
ни один человек не может сказать, выражается
ли в этой лаконичной формуле истина или дело
здесь только в предрассудках. Ясно лишь одно,
а именно, что у цыган иное отношение к собствен-
ности, нежели у нас. И оно прививается им с мла-
денчества. Но следует оговориться: доподлинно
мы этого не знаем, а можем только предполагать»
(«Гамбургер абендблатт» от 30 марта 1978 годя).
Еще и сегодня многие люди воспринимают цы-
ган через призму наиболее распространенных стерео-
типов, в которых наивное, свойственное скорее
детям, а потому в известной степени «незрелое»
отношение к собственности и имуществу сочетается
с хитростью и пронырливостью, а порой и с от-
267
кровенным насилием, проявляющимся по малей-
шему поводу. Коллизия наших собственных
представлений о ценностях обусловливается убеж-
дением, будто цыгане ленивы, непостоянны и не-
надежны. И уж конечно, нет более грубого и жес-
токого определения цыган, чем то, которое дал им
фашистский «исследователь» расовых проблем
Г. Штейн. Согласно его утверждению, цыгане «зве-
роподобны, живут инстинктами и страстями».
Этот отрицательный образ цыгана дополняется
такими чертами, которые поначалу кажутся
положительными, но при ближайшем рассмотрении
опять-таки обнаруживают наши расистские преду-
беждения. Они также обладают дискриминирующим
эффектом. Обычно собирательный образ цыгана
включает и свободолюбивого непокорного цыгана,
и искусного цыгана-мастерового, и полного вдохно-
вения цыгана-музыканта, и обольстительную моло-
дую красавицу-цыганку, и овладевшую искусством
предсказания мудрую старуху-гадалку—весь тот
экзотический и вместе с тем стоящий на самом
краю цивилизации народ, который, между прочим,
даже в нищете у своего таборного костра находит
то самое счастье, по которому тоскует в своих меч-
тах и чаяниях погруженный в серые будни рядо-
вой бюргер. Знаменательно, однако, что сегодня
эти «положительные» предубеждения сохраняются
только в отношении к комедийным героям оперетт,
отражаются в некоторых веяниях моды или в рек-
ламе товаров. Все еще распевает свои развеселые
песенки «Цыганский барон», все еще временами
в моду входит «цыганский стиль», кто-то предпочи-
тает курить крепкие сигареты «Гитана» *, кто-то
обожает сухое красное вино «Цыганская кровь».
И уж конечно, во всех сенсационных репортажах
журналисты непременно касаются пестрой «оборот-
ной стороны» цыганского образа жизни и мыслей.
У этих статей и соответствующие заголовки:
«По стопам цыганского барона», «Их родина—
большая дорога», «Цыганская принцесса в Испа-
нии пострижена в монахини»...
Обобщая все сказанное, можно сделать вывод:
* Гитана—испанское название профессиональных танцовщиц—
цыганок.—Прим. перев.
268
«Надменный вольнолюбивый цыган точно так же,
как и цыган ленивый или грезящий наяву, вос-
петый в середине XIX века писателем-идеалистом
Николасом Лёнау («Три цыгана»), давно ушел
в прошлое, если он вообще когда-либо существо-
вал. Что же касается представления о цыганах,
сформировавшегося в головах оседлых людей,
то оно всегда связывалось с обманом, кражей белья
и одежды, с торговлей краденым. Нищету же
цыган обычно считали симуляцией, а их скорбь
и слезы—притворством».
История цыган отнюдь не всегда характеризо-
валась отрицательным к ним отношением со сто-
роны оседлого населения. Когда они в XIII—
XIV веках пришли в Европу, то очень скоро все
здесь по достоинству оценили способности и умение
этих удивительных и необычных гостей. Многие
феодалы даже брали чужеземцев под свою особую
защиту и покровительство. Их музыкальный талант
и умение предсказывать будущее, их искусство
фокусников, знание сказок и легенд, навыки в соби-
рании полезных растений и приготовлении из них
снадобий, не говоря уже об их кузнечном мастер-
стве, пользовались большим спросом, особенно
на ярмарках.
О происхождении цыган известно только то,
что они вышли из Индии примерно в IX веке.
Только это и смогла установить лингвистика, обна-
ружившая родство цыганского языка романи с санс-
критом. Но поскольку культура этих кочевников
не имела своей письменности, не осталось и ника-
ких документальных свидетельств, по которым
можно было бы установить точное время и при-
чины их ухода с Индийского субконтинента.
Об этом можно только строить догадки и предпо-
ложения. Еще в ту раннюю пору некоторые цы-
гане рассказывали, что они вышли как паломники
из Египта, и даже сегодня об этом говорят такие
названия, как «гитаны», «гипсы» («джипси») и др.
Полностью гомогенным * народом цыгане не яв-
ляются. Скорее это народность, состоящая из не-
скольких этнических образований, для который
характерны иногда совершенно отличные друг
* Однородным по составу.—Прим. ред.
269
от друга жизненные уклады. На территории ФРГ
и других немецкоязычных стран проживают пре-
имущественно цыгане-синти, являющиеся основной
этнической группой центральноевропейских цыган.
Наряду с этим существуют остатки цыган-лаллери,
которые в «третьем рейхе» были почти полностью
истреблены, и небольшая группа цыган-рома.
Название «синти» сами цыгане применяют сейчас
только к немецким цыганам, тогда как «ром»
(или «рома») чаще всего служит общим этническим
названием всех цыган, принятым международным
цыганским сообществом.
Первые документальные сведения о преследо-
ваниях и принудительной высылке цыган из стран
Европы относятся к концу XV века. Уже тогда
набор предъявлявшихся цыганам обвинений вклю-
чал отказ от христианской религии, распростране-
ние эпидемий чумы, шпионаж в пользу турок,
магию, воровство, тунеядство, попрошайничество.
Все эти обвинения имели целью наклеить на цы-
ган ярлык антисоциальных и злонамеренных чу-
жаков. Особенно раздражало представителей власти
«бродяжничество» и «знахарство». Последнее выра-
жалось в лечении различных болезней. Навыки
в лечении приобретались цыганами в процессе их
кочевой жизни.
С ростом индустриализации этот второй аспект
жизни цыган потерял свое значение. Сейчас
от прежнего у них остался только кочевой образ
жизни и нежелание поставлять себя на рынок
труда в качестве рабочей силы, пригодной для
эксплуатации капиталом. Их никогда нельзя было
принудить к каким-либо поборам или обязанностям.
Они с трудом поддавались контролю и нередко
создавали просто-напросто «внутриполитическую
угрозу» данному социальному строю. В зависимости
от этого видоизменялся и набор средств подавле-
ния и угнетения цыган. Если раньше это были
пытки, отправка на галеры, высылка из страны,
то теперь их сменили административные меры,
во исполнение которых цыган либо вовсе исклю-
чают из общественной жизни, либо социализируют
насильственно. Вводились запреты на вступление
в брак с цыганами и браков между ними, на кре-
щение цыган и их похороны. Многие города ли-
270
шали кочевых цыган права въезда на свою тер-
риторию под угрозой высоких штрафов. У цыган-
ских семей нередко отнимали детей для передачи
в бюргерские семьи с целью их «приличного вос-
питания». Недобрую славу в этом деле приобрела
в Германии организация «Помощь уличным де-
тям»—филиал швейцарского общества призрения
«Про ювентуте» («Ради юношества»).
Однако ни преследования, ни угнетение, ни диск-
риминация цыган не достигали в прошедшие века
таких масштабов, какие приобрел геноцид, про-
водившийся в отношении цыган немецкими фашис-
тами. Уничтожение 500 тысяч европейских цыган
в концентрационных лагерях, гетто и в ходе так
называемых акций «Ночь и туман» было отнюдь
не спонтанным, а хорошо подготовленным «меро-
приятием ».
Дело в том, что уже задолго до этого в рамках
криминологических исследований велось специаль-
но организованное «изучение цыганского вопроса».
Полиция накопила большой опыт по «обработке»
цыган, который был использован в интересах фа-
шистской расовой идеологии и политики. Еще
в 1899 году в Баварии при полицейском управлении
Мюнхена было создано Центральное бюро по учету
цыган. Вскоре вслед за Баварией эту практику
ввели у себя земли Баден-Вюртемберг и Гессен.
В 1911 году при регистрации цыган была принята
процедура их дактилоскопирования. В 1926 году —
опять-таки в баварском ландтаге — был одобрен
«закон о цыганах и прочих уклоняющихся от ра-
боты элементах». Все это привело к тому, что
16 — 17 апреля 1927 года в Берлине на заседании
представителей ландратов * было принято единое
для всех земель постановление «о борьбе с цыган-
ским засильем». Таким образом, к тому времени,
когда нацисты в 1935 году приняли свои «нюрн-
бергские законы» **, цыгане, о которых тогда го-
* В старой Германии (и сейчас в ФРГ) каждая земля (про-
винция) имеет двухпалатный земельный парламент с ландтагом
(нижняя палата) и ландратом (верхняя палата).—Прим. перев.
** «Нюрнбергские законы»—ряд расистских законоположений,
принятых нацистами против национальных меньшинств и «ан-
тиобщественных элементов», к числу которых в первую очередь
были отнесены прогрессивные деятели и коммунисты.—Прим.
перев.
271
ворили как о «назойливых паразитах», уже были
официально квалифицированы как «антиобществен-
ные» элементы, учтены поголовно в специальных
полицейских картотеках, унижены различными
законами, свобода их передвижения сильно огра-
ничена. В конечном счете цыган предполагалось
полностью уничтожить преимущественно в концент-
рационных лагерях на территории Польши в ходе
широкомасштабных «истребительных мероприятий»
ради «сохранения чистоты германской крови и гер-
манской чести».
Тот факт, что широкая общественность узнала
об этом геноциде лишь в самое последнее время,
с одной стороны, указывает (и уже в который раз)
на исключительную недостаточность проведенных
исследований и разоблачений деятельности нацис-
тов в годы фашизма, а с другой — предельно ясно
отражает наше общее невежество и безразличие
к той ситуации, в которой находятся цыгане.
Одним из серьезных последствий жестокости
фашистов по отношению к цыганам явилось суще-
ственное разрушение их традиционного образа
жизни, выразившееся в потере ими былой привя-
занности к семье и роду, поскольку многие боль-
шие семьи были частично уничтожены или рас-
сеяны. А так как семейный клан (в том числе
и крупные семьи) в течение столетий оставался
единственной «организационной формой», в кото-
рой, по представлениям цыган, они только и могли
существовать и которая позволяла им решать свои
внутренние проблемы и вести дела с окружающим
миром оседлого населения, то после 1945 года
их положение оказалось исключительно трудным.
Если раньше отлучение от семьи считалось у цы-
ган едва ли не самым суровым наказанием прови-
нившемуся, то теперь многие спасшиеся от фашист-
ского варварства цыгане оказались отлученными от
нее без всякой вины. Как «расово неполноценные»
элементы, они не могли получать никакого образо-
вания (да и прежде их знания ограничивались лишь
отрывочными сведениями о мире) и, не имея того
опыта, который другие люди, преследовавшиеся при
нацизме, приобрели в результате коллективных по-
литических акций, оказались беспомощными перед
лицом острых послевоенных политических разногла-
272
сий, среди которых на первое место вышли пробле-
мы сохранения экономики и восстановления страны.
Для них, кочевников, традиционных «чужаков»,
эти проблемы не имели значения, так как не затра-
гивали непосредственно вопросов их существования,
и тем не менее они должны были быстро научиться
ориентироваться в них.
Изолированность, неприятие обществом, вполне
обоснованный страх перед официальными учрежде-
ниями и властями, исключительно низкий уровень
образования—все эти факторы с самого начала оп-
ределили положение цыган в Федеративной респу-
блике. Действие этих факторов резко проявилось в
вопросе о компенсации ущерба, нанесенного престу-
плениями нацистов. Во-первых, многие цыгане, не
умея ни читать, ни писать, были не в состоянии
своевременно составить и подать необходимые заяв-
ления и документы. Во-вторых, многим цыганам бы-
ло трудно подкрепить документами свои заявления,
поскольку их семьи часто кочевали из страны в
страну, а иногда вынуждены были жить под чу-
жой фамилией, чтобы избежать преследований со
стороны нацистов, и для розыска соответствующих
документов им была необходима помощь специалис-
тов. Кроме всего этого, сам процесс урегулирования
вопроса о компенсациях с очевидностью показал,
что сочувствие цыганам со стороны общественности
осталось фактически на прежнем уровне. По реше-
нию Федерального суда ФРГ, принятому в 1956 го-
ду, компенсацию могли получить только цыгане,
преследовавшиеся после 1943 года. И даже после то-
го, как это вызвавшее скандал решение было в
1963 году пересмотрено и временные его рамки
сдвинуты до 1938 года, круг лиц, могущих претен-
довать на компенсацию, был ограничен только «пре-
следовавшимися по расовым соображениям».
Поскольку же многие цыгане арестовывались в
ходе «уголовно-превентивных» мероприятий как по-
тенциальные преступники (ведь согласно фашист-
ской расовой «теории», преступность была «насле-
дуемой наклонностью» цыган), причиненный им
ущерб не подпадал под действие тех положений,
которыми предусматривалась компенсация. Еще од-
на трудность для цыган была обусловлена тем, что в
1935 году немецкие цыгане-синти были лишены
273
германского гражданства и превратились для влас-
тей и судов в практически бесправную массу, с кото-
рой можно было проделывать все, что угодно. Мно-
гие из них и по сей день находятся в таком же по-
ложении, ибо допущенная тогда несправедливость
на основании каких-то весьма слабых доводов не
устранена до сих пор.
В 50-х годах большое число цыган обрело «посто-
янную или почти постоянную оседлость». Они посе-
лились в трущобах на окраинах крупных городов,
где ютятся все потерявшие кров бедняки. В этой
превратившейся в своеобразную субкультуру среде,
между мусорными свалками, железнодорожными
насыпями и промышленными предприятиями, и
протекает жизнь подавляющего большинства тех
50 тысяч цыган, которые сегодня находятся на тер-
ритории Федеративной республики. Некоторым,
правда, удалось вырваться из этих гетто «отринутых
обществом людей», как-то устроиться в жизни, стать
рабочими или землевладельцами и обрести уваже-
ние своих соседей. Но как правило, они скрывают
свое цыганское происхождение, выдавая себя за гре-
ков или испанцев. Но и то, что им удалось чего-то
добиться, само по себе уже большое «достижение» в
нашей стране, где так широко провозглашаются иде-
алы демократии и защиты прав человека.
С изменением экономической ситуации в стране
стали иными и профессиональные занятия цыган.
Основными сферами их деятельности сейчас счита-
ются торговля подержанными автомашинами, скуп-
ка металлолома, скупка антикварных вещей, их ре-
ставрация и перепродажа, обслуживание передвиж-
ных киноустановок, работа в бродячих цирках, ус-
тройство зрелищ на ярмарках и праздниках, тор-
говля вразнос и продажа ковровых изделий.
Изменилось ли, однако, с приспособлением цыган
к новой ситуации (а это часто вело к полному их от-
казу от традиций и прежних жизненных принци-
пов) также и отношение к ним в лучшую сторону?
Даже при самом поверхностном анализе этого воп-
роса приходится сделать вывод, что у населения,
властей, политиков и ученых ФРГ все еще сохраня-
ются на этот счет совершенно средневековые взгля-
ды. Так, в 1978 году федеральным министерством по
делам юношества, семьи и здравоохранения было
274
опубликовано исследование («Состояние научных
работ по проблемам цыган и кочевников»), которое
сейчас можно встретить в качестве настольной кни-
ги во всех занимающихся этими вопросами органах
власти, в управлениях социального обеспечения и
др. В главе «Аспекты этнически обусловленного по-
ведения кочевников» довольно бойко, в стиле учеб-
ника по зоологии, рассказывается о «разведении по-
томства» и «приемах вскармливания», а в главе о
«недостатках в образовании у кочующих» среди
прочего обнаруживается такое замечание: «Одарен-
ность цыганских детей развивается совсем не в
том направлении, которого требует от учащихся на-
ша школа. Абстрактное мышление у них полностью
отсутствует. Ко всему прочему у них нередко обна-
руживаются весьма слабые задатки к обучению».
Автор этого труда некто А. Хундзальц позаим-
ствовал эту цитату из работы сотрудника министер-
ства по делам юношества, семьи и здравоохранения,
который в качестве «специалиста по цыганскому
вопросу» принес туда с собой и соответствующий
опыт. Этим сотрудником является не кто иной, как
профессор Герман Арнольд, который еще в годы на-
цизма публиковал сочинения на тему об «уровне
расовой чистоты у цыган», называя их «выродка-
ми», «асоциальными элементами» и лицами, «под-
лежащими изоляции». Он был полным хозяином
архивов бывшего «института расовой гигиены», ко-
торый поставлял нацистам важную информацию
для проведения «очистительных» акций. В том, что
в нашей стране и поныне у власти и в почете ока-
зываются старые расисты и нацисты, нет ничего но-
вого или удивительного. Протесты против использо-
вания таких «специалистов» во многих случаях
увенчались успехом (Г. Арнольда тоже вынудили
прекратить деятельность советника в министерстве),
однако указанная выше разработка пока еще оста-
ется в руках чиновников аппарата соцобеспечения,
юрисконсультов, служащих бирж труда, ведомств
по делам иностранцев, иммиграционных властей
и жилищных управлений. Их поведение по отно-
шению к цыганам зачастую определяется невеже-
ством, предрассудками и неким экзотическим пред-
ставлением о жизни цыган.
Причиной этого является отсутствие или полное
275
искажение информации в процессе профессиональ-
ной подготовки соответствующих чиновников. Нема-
лую роль здесь играют также негибкость аппарата
власти, предусматривающего для всех, кому прихо-
дится иметь с ними дело, преграды и осложнения,
подобные изображаемым Кафкой*, а также недоста-
точная укомплектованность службы соцобеспечения
надлежащими кадрами. Именно те представители
«власти на местах», которые непосредственно веда-
ют предоставлением жилья цыганам, их трудоуст-
ройством, охватом их детей школьным образова-
нием, вопросами их гражданства и выдачей вида на
жительство, чаще всего оказываются перегруженны-
ми работой. Они не имеют настоящих пособий и вы-
нуждены пользоваться тем самым «справочником»,
который несет с собой старые предрассудки и за-
крывает пути для эффективного решения актуаль-
ных вопросов.
Те препятствия, которые возводятся нашим об-
ществом на пути цыган, указывают на то, что им
сейчас более всего нужны поддержка и квалифи-
цированная юридическая помощь. Ведь до сих пор
существуют такие «правила», которые, например, не
разрешают «кочующим» цыганам ставить свои ма-
шины и фургоны в местах общей парковки. То и
дело возникают «гражданские инициативы» против
планов местных властей застроить городские окра-
ины жилыми домами для цыганских семей. Вла-
дельцы дискотек и ресторанов нимало не смуща-
ются, отказывая цыганам в духе отечественной «ко-
ричневой» традиции в посещении этих заведений.
По-прежнему преследуются «торгующие вразнос»,
то есть те, кто не имеет гражданства ФРГ и отнесен
к «кочующим». Те из них, кто оказывается проездом
в ФРГ и желает задержаться в стране на более про-
должительный срок, подвергаются всяческим изде-
вательствам со стороны властей и в конце концов из-
гоняются такими методами, которые напоминают
дикие нравы пионеров на американском Дальнем
Западе.
Из рассказов об этих постоянных нарушениях
элементарных прав человека можно было бы соста-
* То есть фантастически труднопреодолимые и даже зловещие,
встречающиеся героям произведений австрийского писателя
Ф. Кафки (1883—1924).—Прим. перев.
276
вить целые тома. В кабинетах официальных ве-
домств, в залах судов, в полицейских участках и на
пограничных контрольных пунктах часто происхо-
дят невероятные случаи, о которых средства мас-
совой информации лишь крайне редко извещают
общественность. Все эти повторяющиеся события в
конечном итоге говорят об одном: цыгане составля-
ют в ФРГ этническое меньшинство, которое, как и
прежде, находится на самой нижней отметке соци-
альной шкалы уважения. Как бы ни намеревались
они жить—оседло или как кочевники, любая фор-
ма существования оказывается для них невозмож-
ной в результате ли мероприятий, проводимых вла-
стями, или вследствие той нетерпимости, которую
проявляют их «дорогие сограждане».
Однако цыгане уже и сами начинают активно
бороться за изменение своего положения. Так, в
1971 году по инициативе представителей 14 стран в
Лондоне собрался 1-й Всемирный съезд цыган-рома.
За ним в апреле 1978 года последовал 2-й съезд,
созванный в Женеве, на котором был учрежден Все-
мирный союз цыган. На сегодняшний день в нем
представлены цыгане 25 стран. В 1977 году с при-
нятием резолюции, составленной Подкомиссией ООН
по вопросам дискриминации и защиты прав чело-
века, цыгане впервые в истории были признаны
во всем мире в качестве равноправного этнического
меньшинства.
Существуют цыганские организации и на наци-
ональном уровне. В 1952 году Винценц Розе основал
Союз немецких цыган-синти. В различных городах
действуют в основном еще очень молодые объедине-
ния цыган, пытающиеся выйти за рамки семейных
и родовых интересов. Сотрудничая между собой, они
добиваются большей информированности обществен-
ности о положении цыган в ФРГ.
В последнее время особенно выделяются в этом
отношении две указанные выше организации. 27 ок-
тября 1979 года Союз немецких цыган-синти, Все-
мирный союз цыган и Объединение лиц, преследо-
вавшихся при нацизме провели в бывшем концен-
трационном лагере Берген-Бельзен международную
манифестацию в память замученных нацистами цы-
ган—синти и рома. В этой манифестации приняли
участие почти 3 тысячи человек. Наряду с другими
277
ответственными лицами свою солидарность с цыга-
нами выразила и Симона Вейль, председатель Евро-
пейского парламента. Приветственные послания в
адрес манифестантов поступили от многих полити-
ков и руководящих профсоюзных деятелей ФРГ.
В дни пасхальных праздников 1980 года Союз
немецких цыган-синти организовал на территории
Мемориала антифашистам в Дахау голодовку 13
цыган с требованием к правительству земли Бава-
рия официально отмежеваться от деятельности Бю-
ро по учету кочующих цыган. Это «бюро», продол-
жая дело недоброй памяти первого такого управле-
ния в Баварии, созданного после войны, поставляло
материалы для организации преследований цыган
и их семей официальным органам власти вплоть до
1971 года. Затем его деятельность была запрещена,
как противоречащая конституцией оно было распу-
щено. Тем не менее в последующие годы на свет до-
вольно часто появлялись документы из его архива,
который давно должен был быть уничтожен, и поли-
ция вместе с властями использовала эти материалы
против немецких цыган-синти.
Йорким Кирш
Мои цыганские будни
Меня зовут Иорким Кирш. Я старший из девяти
братьев и сестер. Наш отец умер рано, и мне вместе
с матерью пришлось растить всех братьев и сестер.
Я женат, и у меня трое детей. По профессии я скуп-
щик металлолома. Раньше это занятие позволяло
жить неплохо, но сегодня едва удается сводить кон-
цы с концами. Мы все с детства привыкли жить и
работать независимо ни от кого, поэтому на фабри-
ке, например, я чувствовал бы себя запертым в клет-
ку.
Кое-что зарабатывает и моя жена: она трудится
на дому, складывая по шаблону план-карты города
для выпускающего их издательства. За каждый сло-
женный план ей платят по 5 пфеннигов. Это немно-
го, но зато она, по крайней мере, может все время
оставаться дома с детьми.
Во время отпуска и по праздникам мы с детьми
278
выезжаем на нашем добром стареньком «ганомаге»
в район Хильштайна или в степь*. Там я подраба-
тываю как точильщик, чтобы покрыть расходы на
бензин, еду и пиво. В свободное от работы время я
больше всего люблю рыбалку. Наши дети не долж-
ны отвыкать от жизни на природе. Нам нравится си-
деть у костра, варить и жарить на нем еду. Посколь-
ку мы любим природу, ни разу не случалось, чтобы
от нашего костра возник лесной пожар.
Наша семья живет здесь с 1953 года, а получи-
лось это так. В Поппенбюттеле мою бабушку заста-
вили сдать наши документы в городскую управу.
Зачем это потребовалось, ей не сказали. Бабушка не
хотела брать заграничный паспорт взамен своего, но
через неделю ей все-таки пришлось это сделать.
Побывав в свое время в концентрационном лагере,
она стала бояться всяких властей.
Все наши старания получить обратно немецкие
паспорта оказались тщетными. Вместо удовлетворе-
* «Степью» в ФРГ часто называют район безлесной Люнебургской
пустоши юго-восточнее Гамбурга.—Прим. перев.
279
ния наших просьб власти все время заявляли нам,
что, мол, мы как цыгане не имеем права на герман-
ское подданство и что для этого мы должны прежде
всего забыть наш собственный язык. Вот так мы и
потеряли гражданство.
Я родился и вырос в Германии и никогда не
покидал ее границ. Мои родители и все мои предки
были немецкими цыганами, как это значится в на-
ших старых бумагах. Мой дед и дядя были немец-
кими солдатами в первую мировую войну и в на-
чале второй. Некоторые более старые члены нашей
семьи попали в концентрационные лагеря и там по-
гибли. С нами так часто поступали несправедливо!
Когда же все это кончится?
Почему нас лишили гражданства и не дают спо-
койно работать и жить? Я живу оседло, никогда не
привлекался к судебной ответственности, не жил на
государственное пособие. И тем не менее мы вынуж-
дены, словно иностранные рабочие, каждые два года
заново оформлять себе вид на жительство, да еще
и платить за это.
В моем удостоверении стоит пометка—загранич-
ный паспорт. С таким документом я не могу полу-
чить разрешение на постоянную работу. Как же
прикажете нам жить?
Элизабет Томпсон
Расовая дискриминация
в западногерманских
университетах
Я выросла на юге Соединенных Штатов в усло-
виях почти полного апартеида. В автобусе нам, нег-
рам, полагалось сидеть на задних скамейках, во
время любых народных празднеств для черных от-
водился только один день. У нас с белыми были
разные школы, разные жилые кварталы, рестораны,
театры и даже туалеты. Только в ходе Движения
за гражданские права негров, в котором я еще
школьницей принимала участие, эти наихудшие
формы расовой дискриминации были наконец уст-
ранены.
Благодаря решительным действиям борцов за
280
гражданские права я смогла продолжать учебу, и
сегодня я заканчиваю работу над докторской диссер-
тацией. Разумеется, я далеко не сразу преодолела
свою робость и приобрела достаточную уверенность
в себе. А она абсолютно необходима для серьезных
занятий наукой. Однако мне непременно хотелось
бы сохранить в себе повышенную чувствительность
к любым формам расовой дискриминации, причем
независимо от того, где это происходит—в Соеди-
ненных Штатах, в Федеративной республике или в
Южной Африке. Борьбу против расизма во всем ми-
ре я рассматриваю как одну из главнейших задач
человечества в наше время.
В 1975 году я приехала в Бонн из Питтсбурга
по международной программе обмена студентами.
Среди более 40 американских студентов, приглашен-
ных тогда в ФРГ, я была единственной афроамери-
канкой. В то время как моих белых соотечествен-
ников почти никто в Федеративной республике не
считал чужими и не обращался с ними как с
иностранцами, меня здесь довольно скоро отделили
от белых богатых американцев и причислили к
студентам из «третьего мира»—из арабских и афри-
канских стран.
Десятки раз мне приходилось бегать в бюро про-
писки и в Управление по делам иностранных сту-
дентов и отвечать там на глупые вопросы или пред-
ставлять всевозможные документы. Когда Питтс-
бургский университет однажды задержал выплату
взносов за мое обучение, мне заявили, что я должна
либо тотчас же уплатить деньги из своего кармана,
либо немедленно выехать обратно в Штаты. Никогда
я не слышала, чтобы моих американских однокурс-
ников подвергали подобным унижениям.
Особенно неприятное впечатление осталось у ме-
ня от занятий по курсу немецкого языка для иност-
ранцев. Доцент, который их вел, оказывал явное
предпочтение англичанам и белым американцам,
имевшим сходство с «германской расой», и был
резко настроен против латиноамериканцев, афри-
канцев и индийцев. Он также открыто выражал
свою неприязнь к грекам и туркам. Его любимым
эпитетом для них был «грязномазые». Когда я, за-
кончив курс, все-таки выдержала экзамен, он без
всяких околичностей заявил мне: «Ну, тебе повезло!
281
Я никак не предполагал, что тебе это удастся».
Наш преподаватель немецкого языка был вообще
убежден в том, что для овладения немецким языком
человек должен иметь «немецкую душу» и белую
кожу, по возможности, светлые волосы и обязатель-
но голубые глаза.
В студенческом общежитии, где я жила, у меня
появилось много друзей из Федеративной республи-
ки и из стран «третьего мира». Связи и контакты
между иностранными и немецкими студентами бы-
ли самые разнообразные. Но все же у меня сложи-
лось впечатление, что администрация общежития
не имела ни малейшего представления об образе
жизни студентов с других континентов и не хотела
с ним считаться. Комендант общежития в первые же
недели моего пребывания там стал меня игнориро-
вать. Он ни разу не поговорил со мной лично, а все
время посылал в качестве «переводчика» либо свою
жену, либо кого-нибудь из студентов.
По отношению к населению фешенебельного
боннского пригорода Бад-Годесберга мы, проживав-
шие в общежитии студенты, оказывались факти-
чески в каком-то изолированном гетто. Нас либо
просто не замечали, либо рассматривали как темно-
кожих иностранных рабочих и потому как элемент
сугубо посторонний и чуждый немецкому населению.
Весьма неодинаковые впечатления остались у ме-
ня от занятий по разным аспектам исторической
науки. Так, если некоторые профессора, как, напри-
мер, Карл-Дитрих Брахер, стремились к тому, чтобы
облегчить иностранным студентам учебные занятия,
то, скажем, руководитель семинара по истории на-
ционал-социалистской пропаганды наотрез отказал
мне в посещении его занятий. «Вы все равно ничего
не поймете,—заявил он.—Я вообще полагаю, что у
вас очень слабая подготовка». Он хотел критически
анализировать национал-социалистский расизм, а в
то же время сам не был свободен от расистских
настроений.
В 1978 году я снова вернулась в Федеративную
республику—сначала в Бонн, а потом в Гамбург,—
чтобы продолжить свою специализацию как истори-
ка и написать докторскую диссертацию о возникно-
вении африканского рабочего класса в Намибии.
С тех пор я ежедневно убеждаюсь в том, какое
282
бесправное положение занимает африканистика
в высших учебных заведениях ФРГ вообще и в
здешних исследовательских центрах в частности.
Хотя в западногерманских архивах находится очень
много материалов по африканистике и имеются
многочисленные исторические и современные источ-
ники, в частности по Южной Африке, почти во всех
университетах Федеративной республики исследова-
ния по Африке поставлены безобразно плохо.
«Научная» картина «черного континента» на-
сквозь пронизана колониалистскими и расистскими
предрассудками. На все высшие учебные заведения
в ФРГ есть лишь три с половиной кафедры, где изу-
чается африканистика. Что же касается такой ка-
федры в Гамбургском университете, который неког-
да был основан как «Немецкий колониальный ин-
ститут» и перед входом в который еще 10 лет назад
стоял одиозный памятник колониализму, то она уже
много лет пустует.
Даже от такого получившего международное
признание исследователя Африки, каким был Гель-
мут Бляй, труды которого переведены на многие
языки, в его родном Гамбурге не осталось и следа.
В Майнце африканистке Бригитте Бенцинг было
отказано в утверждении ее докторской диссертации.
Отдельные инициативы, такие, например, как прог-
рамма Бременского университета по географическо-
му обзору Намибии, получают явно недостаточную
политическую поддержку и очень слабо финанси-
руются. Боннский Институт южноафриканских ис-
следований и Центр по изучению проблем Южной
Африки борются сейчас за то, чтобы сохранить эту
программу.
Конечно, в повседневной жизни Западной Герма-
нии нет таких грубых проявлений расизма, какие
мне довелось испытать в детстве на юге Соединен-
ных Штатов. Но даже в «либеральном» гамбургском
районе Эппендорф, где я теперь живу, мне, как чер-
ной женщине, довольно часто приходится сталки-
ваться с отчуждением и с тем, что восстанавливает
народы друг против друга. Когда я хочу купить
губную помаду, продавщица смотрит на меня широ-
ко раскрытыми глазами, не зная, что делать. Если я
спрашиваю, есть ли в продаже какой-нибудь крем
для кожи, мне каждый раз отвечают: «К сожале-
283
нию, для вас нет ничего!» Будто бы есть какие-то
разные кремы для светлой и темной кожи. То же са-
мое и с лаком для ногтей, но совсем уж плохо
в парикмахерских. Парикмахерши наотрез отказы-
ваются стричь мои курчавые волосы, а если согла-
шаются, то запрашивают двойную цену.
Черные женщины подвергаются двойной дискри-
минации. К ним постоянно пристают, причем не
только пьяные. В глазах многих мужчин они вы-
глядят не более чем объект сексуального вожделе-
ния. Повинны же в этом, как мне кажется, прежде
всего средства массовой информации, которые то и
дело вытаскивают на свет старые, унаследованные
от эпох колониализма и нацизма предрассудки и
стереотипы.
В общем, Федеративной республике нужно сде-
лать еще очень многое, чтобы освободиться от расиз-
ма, например в рамках ДПА—Движения против
апартеида. В последние годы, правда, Движение
против апартеида выступило с многочисленными
достойными внимания акциями, стремясь расшеве-
лить общественность, и сделало немало, чтобы по-
высить бдительность против различных проявлений
расизма на юге Африки. (В этом я смогла убедиться
сама во время школьной практики в феврале 1980
года.) Вместе с Институтом южноафриканских ис-
следований и Комитетом антиимпериалистической
солидарности (КАС) Движение против апартеида
подготовило и провело конгресс, участники которого
выступили осенью 1978 года с осуждением сотруд-
ничества ФРГ и ЮАР в области ядерной энергетики.
Участники ДПА в Бремене добиваются сейчас пе-
реименования Людерицштрассе, названной так
в честь стратега германского колониализма, в Стив-
Бикоштрассе * и организуют совместно с женскими
группами евангелического движения бойкот южно-
африканских товаров и фруктов.
В настоящее время Федеративная республика
превратилась в одного из главных торговых парт-
неров ЮАР и считается едва ли не самым последо-
вательным и стойким сторонником расистского
режима. Поэтому наиболее актуальной задачей,
стоящей перед демократическим движением Феде-
* Стив Бико—лидер и герой национально-освободительного
движения черных в ЮАР.—Прим. перев.
284
ративной республики, с моей точки зрения, является
обнаружение фактов подобного сотрудничества,
доведение их до сведения общественности и оказание
давления на правительство с целью заставить его
изменить политический курс. ФРГ должна придер-
живаться такого курса, при котором вместо эконо-
мических интересов ориентирами будут служить ре-
шения ООН о ликвидации расизма и апартеида.
Такая политика явилась бы существенным вкладом
в ведущуюся во всем мире напряженную борьбу
против расизма и фашизма.
Марлиз Ибрагим-Кноке,
Моника эль-Сохсах
«Собаку с ослом не скрестишь!»
Межнациональные семьи и расизм
в ФРГ. Как объединить свои силы
в рядах ИАФ для борьбы с
дискриминацией
«Собаку с ослом не скрестишь. Но вы, глупые
шлюхи, предпочитаете спать с дикарями из джунг-
лей и отворачиваетесь от чистокровных немецких
парней. Гнусно это, очень гнусно!»
Это выдержка из письма, полученного Обществом
защиты интересов жен иностранцев (ИАФ). Бесчис-
ленное множество подобных писем оно получает с
первого дня своего основания. ИАФ—это союз меж-
национальных семей и знакомств. Это мы, и в
наших рядах сейчас свыше 1500 женщин и муж-
чин, объединившихся, чтобы бороться против расиз-
ма и предрассудков, живущих с нами по соседству.
В сентябре 1972 года группа палестинцев совер-
шила нападение на олимпийскую команду Израиля
в Мюнхене с целью привлечь внимание; мировой
общественности к положению арабского народа Па-
лестины. Немецкие власти воспользовались этим и
с помощью мер, подобных акциям «Ночь и туман»,
проводившимся в свое время гитлеровцами, без раз-
бору выдворили из страны всех палестинцев и дру-
гих арабов. У многих из них не было даже времени,
чтобы как следует одеться: их прямо в ночном
285
белье отвозили на аэродром и сажали в самолет.
Широкой общественности внушили, что арабы «по-
лучили по заслугам». Ведь в конце концов именно
они сорвали Олимпиаду, не так ли?
Горстка немецких женщин, состоявших в браке
с арабами и увидевших, что их семьям грозит беда,
решилась на отчаянный шаг—шаг, на какой раньше
они бы никогда не отважились: они стали громко
взывать о помощи. Страх этих женщин был вполне
оправдан: их мужья тоже могли оказаться в чер-
ных списках, хотя виноваты они были только в
том, что родились арабами. На пресс-конференциях,
в интервью для радио и при каждом удобном слу-
чае женщины громко требовали обеспечить защиту
их семьи и брака, тем более что право на такую
защиту им было гарантировано конституцией.
И никто не был удивлен больше их самих, когда
вдруг со всех сторон в ответ на их призывы и
мольбы они услышали нарастающее эхо: они не
были одинокими! Оказалось, что есть тысячи дру-
гих женщин, испытывающих такой же страх за
судьбу собственных семей, причем это были не толь-
ко жены арабов, это были немецкие жены всех
иностранцев. Особое же беспокойство проявили жен-
щины, состоящие в браке с темнокожими иностран-
цами, а к категории последних, как известно, отно-
сят здесь даже итальянцев из южных провинций
их страны.
За годы, истекшие с 1972 года, ИАФ значительно
укрепила свои позиции. В настоящий момент члена-
ми общества являются представители 75 различных
национальностей! Так из группки в составе трех
женщин выросла организация, состоящая из 1500
членов. Они живут и работают во всех крупных
городах Федеративной республики, и стоящие перед
ними задачи не уменьшаются. Наоборот, они растут
и усложняются с каждым днем. Ведь в Европе
сейчас для расизма очень благоприятная почва.
О том, в какое безвыходное положение попадают
те, кто вступает в близкие отношения с иностран-
цами, рассказывают многочисленные письма, еже-
дневно получаемые ИАФ. В них просят о помощи
женщины, которых постоянная дискриминация до-
водит до отчаяния. Межнациональным семьям гро-
зит развал, поскольку они оказываются изолиро-
286
ванными, чувствуют себя отвергнутыми обществом
и не могут справиться с его непрекращающимся
давлением. Часто и у родителей этих женщин сохра-
няется глубоко въевшееся в сознание предубеждение
против всего ненемецкого, и они стремятся разру-
шить дружбу своих дочерей с иностранцами.
Необходимость отвечать на подобные письма
привела к созданию специальной группы, деятель-
ность которой стала неотъемлемой частью всей
работы ИАФ.
Из всего этого мы поняли одно: необходимы
взаимная поддержка и солидарность. Активисты
ИАФ стремятся в своей работе доказать двунацио-
нальным семьям, что они могут преодолеть изоля-
цию от общества и взять полностью на себя решение
всех своих проблем. С помощью дискуссий как в
узких, так и в больших группах, особенно с привле-
чением партнеров-иностранцев, мы положили нача-
ло важному воспитательному процессу. Движущей
силой этого процесса являются наряду с прочими
организациями различные рабочие кружки, орга-
низуемые ИАФ. Они дают нашей деятельности но-
вые существенные импульсы.
У нас есть также группа, состоящая из мужчин,
в задачу которой входит вызывать у людей поло-
жительное отношение к особенностям жизни и куль-
туры тех стран, откуда прибыли мужья и друзья
немецких женщин, поскольку их культура является
составным элементом их личности. (К сожалению,
об этом у нас очень часто забывают.) Эти много-
национальные встречи в рамках мероприятий, про-
водимых ИАФ, а также весьма оживленные дискус-
сии по вопросам культуры в известной степени по-
могают нам преодолевать все еще сохраняющиеся
у нас самих предрассудки. Рабочий кружок по про-
блемам борьбы с расизмом обобщает накаплива-
ющийся опыт и пытается пропагандировать его.
Другие рабочие группы и кружки занимаются воп-
росами двунациональных связей и знакомств, ре-
формой законоположений об иностранцах и их пра-
вах, а также проблемами международного частного
права.
Известно, что западногерманские правоведы с
давних пор применяют так называемый «либераль-
ный закон об иностранцах». Действительно, этот
287
закон носит либеральный характер, но его либера-
лизм предназначен прежде всего для чиновников
иммиграционных управлений, которые пользуются
при его толковании правом исключительно широко-
го усмотрения. И это очень сильно ощущают на
себе все те же темнокожие иностранцы. Так, напри-
мер, одна женщина сообщила нам в своем письме
следующее: «С 1971 года я состою в браке с афро-
американцем. В 1972 году, когда закончился срок
его службы в армии, он направил прошение о пре-
доставлении ему вида на жительство в ФРГ. Ему
выдали разрешение сроком на год, потом продлили
его еще на три года, по истечении которых он снова
попросил продлить его, но уже на пять лет. Однако
без всяких объяснений ему продлили вид на жи-
тельство только на три года. В 1979 году ему приш-
лось снова просить о продлении вида на пять лет.
Несмотря на то что он по всем нормам и положе-
ниям уже мог претендовать на бессрочный вид на
жительство в ФРГ, его продлили опять только на
два года. Служащая управления передала мне его
паспорт с такими словами: «Вид на жительство
выдается только на срок действия паспорта. Если
к тому времени вы все еще будете состоять в браке,
он сможет подать заявление на право бессрочного
проживания в стране». Насколько я знаю, срок
действия паспорта не является основанием для опре-
деления срока пребывания человека в стране. По
такому «усмотрению» выходит, что я должна прой-
ти десятилетний испытательный срок, чтобы дока-
зать, что мой брак не является фиктивным, и лишь
после этого смогу получить разрешение на не огра-
ниченное временем проживание со своим мужем у
себя на родине? «Свобода усмотрения» в таких ре-
шениях оказывается поистине слишком уж ши-
рокой».
Нам в ИАФ постоянно приходится иметь дело
с такими случаями. Это и послужило одним из
оснований наших активных выступлений за рефор-
му закона об иностранцах в течение нескольких
лет. Иностранцы, особенно те, кто не состоит в браке
с немцами, не имеют здесь никаких прав. У них
есть только обязанности. Мы должны изменить это
положение. И кое-чего мы уже добились, например
предоставления вида на жительство сроком на три
288
года в случае вступления в брак (после этого можно
претендовать на бессрочное проживание в стране),
серьезного ограничения права на высылку иностран-
цев, состоящих в браке с немцами, поскольку вы-
сылка все еще имеет место; приобретения западно-
германского гражданства отцом и нашими детьми
с момента их рождения (если они родились после
1 января 1975 года); получения нашими мужьями
разрешения на работу и т. п. Все это очень хорошо.
Однако ощущения надежности нашего существова-
ния это нам не дает, так как все достигнутые
улучшения (за исключением порядка предоставле-
ния гражданства) основываются не на изменениях
в самом законе, а только на внутриуправленческих
инструкциях. Последние же, как известно, весьма
ненадежная почва, чтобы строить на ней семью
и дом.
Бесправие, обусловленное законом об иностран-
цах, ощущает на себе в большей или меньшей сте-
пени каждый иммигрант. Но еще сильнее мучает
нас тот повседневный расизм, с которым мы стал-
киваемся буквально во всех сферах жизни. Это слу-
чается всякий раз, когда мы ищем жилье и выслу-
шиваем язвительные замечания хозяев домов и
квартир, когда наши мужья (либо жены) пытаются
устроиться на работу и им предлагают в лучшем
случае низкооплачиваемые места подсобных рабо-
чих, когда немецкие учителя умышленно разгова-
ривают с нашими детьми на ломаном немецком
языке. Или же, как это часто бывает, когда мы при-
ходим в ресторан или библиотеку в сопровождении
наших темнокожих мужей (либо жен) и нас не
обслуживают или вообще не впускают в зал.
Осенью 1977 года ИАФ провела во многих го-
родах Федеративной республики своеобразный
«тест», вызванный острой необходимостью. Одна
группа членов нашего общества в сопровождении
журналистов прошлась по ресторанам и другим уве-
селительным заведениям. В некоторые нас пускали,
но в большинстве случаев мы получали отказ. Во
многих заведениях у нас требовали «пропуска для
завсегдатаев», но это делалось только по отношению
к нам—немцев таким издевательствам не подвер-
гали. Нередко нам говорили: «Вы, девушки, спо-
койно можете войти, но этих типов оставьте на
289
улице!» Присутствовавшие при этом журналисты
всякий раз удивлялись и писали после этого воз-
мущенные письма в разные инстанции. Тем дело
и кончилось. Но как бы то ни было, мы все-таки
устроили им неприятность: мы ударили в большой
колокол и заставили этих людей показать свое
истинное лицо.
Мы не побоялись открыто высказать свое мнение.
И если кое-кто почувствовал себя уязвленным или
каким-то образом задетым, тем лучше! В этом имен-
но и заключается политика ИАФ: мы хватаем, как
говорится, быка за рога, поскольку эти рога угро-
жают нашему существованию, и начинаем дискус-
сию. Мы заваливаем ответственных лиц письмами
и петициями до тех пор, пока наши требования
не начинают им сниться. Мы со своими семьями
сыты по горло тем, что это общество пытается
отбросить нас на самый край, хотя это наше собст-
венное общество! Нам надоело быть объектами хрис-
тианской благотворительности. Мы люди отнюдь не
второго сорта!
Того, кто поставлен в подобные гнусные условия,
нельзя не выслушать. Работа с общественностью
и выработка самосознания у наших людей всегда
являлись главными аспектами деятельности ИАФ.
Для этого мы проводим пресс-конференции, даем
интервью газетам, готовим передачи для радио и
телевидения. ИАФ вела большую разъяснительную
работу во время Франкфуртской международной
книжной ярмарки 1980 года, основной темой кото-
рой была литература Черной Африки. Это меро-
приятие по-настоящему заставило нас обратить вни-
мание общества на то, что в нашей стране ежед-
невно подвергаются дискриминации именно те, чью
литературу и музыку приветствовали здесь так вос-
торженно в течение целой недели. Те же самые
люди, которые в одном месте возмущаются поли-
тикой апартеида в Южной Африке, в другом как
ни в чем не бывало закрывают глаза на обыкно-
венный расизм в нашей собственной стране. И это
считается вполне нормальным.
Разумеется, мы не ограничиваемся критикой тех
условий, в которых живут в ФРГ иностранцы, имею-
щие немецких жен или мужей. Нет, мы не уподобля-
емся страусу, зарывающему голову в песок при виде
290
угрозы. Мы прекрасно знаем, что наше положение
в Федеративной республике теснейшим образом свя-
зано с положением всех остальных иностранцев и
зависит от него. Поэтому ИАФ выступает совместно
с другими организациями иностранных рабочих и
различными инициативными группами представи-
телей смешанных национальностей за последова-
тельную интеграцию в западногерманское общество.
Именно в этом вопросе немецкие мужья и жены
иностранцев берут на себя, как страдающие от диск-
риминации, важную роль посредников в нашем об-
ществе. Из этого вытекает, что мы не должны без-
участно смотреть на то, как вновь у нас в стране
разжигается ненависть к иностранцам и эмигран-
там, и что нам следует всеми силами и средствами
бороться против тех недостойных человека проявле-
ний этой ненависти, которые сейчас обретают плоть
и кровь в обнесенных колючей проволокой лагерях
для беженцев и иммигрантов.
Мы придерживаемся мнения, что демократия в
принципе является такой формой государственного
строя, которая достойна человека. Однако что же
это за демократия, которая игнорирует столь зна-
чительное меньшинство, насчитывающее уже 4,2
миллиона человек? Поэтому мы требуем наряду с
изменением законодательства об иностранцах также
предоставления им права выбора в коммунальные
и муниципальные органы власти Федеративной рес-
публики, как это имеет место, например, в Швеции
или, с недавних пор, в Голландии, где это право
рассматривается как само собой разумеющееся.
Но интеграция не сводится только к улучшению
правового положения всех иностранцев. Она требует
также и включения их в общество как равноправ-
ных граждан. Ведь до тех пор, пока моего мужа
и его брата называют «дрянными канаками», так
же будут называть и наших детей. Наш единствен-
ный шанс состоит в том, чтобы подавить расизм
и искоренить предрассудки в самом широком смыс-
ле повсюду, привить людям уважение к иным цен-
ностям и культурам и обеспечить тем самым под-
линно равноправное их сосуществование. Это самый
важный аспект, самое главное направление нашей
работы.
291
Пути превращения Федеративной
республики в страну дружелюбную
к иностранцам
Враждебность к иностранцам ширится. Нет ни-
каких сомнений: проблема иностранцев становится
у нас настоящим полем сражения противоречивых
политических взглядов и убеждений, на котором
фашистам легче всего найти поддержку среди ши-
роких масс.
Праворадикальные политики уже требуют « ре-
шения вопроса о рабочих-иммигрантах». Не в духе
ли пресловутого «окончательного решения еврей-
ского вопроса»? Федеральное правительство долж-
но-де ограничить «шквал иммиграции», а ультра-
правые без умолку вопят: «Иностранцы—вон!»
Разница между прошлым и настоящим в общем-то
невелика. Все дело только в форме. На практике
же изгнание «нежелательных» иммигрантов уже
началось. В последнее время уже поставлен вопрос о
раздаче премий и вознаграждений за их выдворе-
ние: кто больше!
Однако растут и силы сопротивления поднимаю-
щему голову расизму. Во многих городах Федера-
тивной республики сейчас возникают группы граж-
данских инициатив и союзов действия, в которых
тесно сотрудничают немцы и иностранцы. В гам-
бургском Союзе действий немцев и иностранцев
рядом работают представители более 60 организа-
ций. 2 июня 1982 года более 8 тысяч немецких
и иностранных граждан провели в ганзейском го-
роде демонстрацию протеста против кандидатур
неофашистской организации «Гамбургский список
за прекращение иммиграции» (ГСП) на выборах го-
родских магистратур. Массовые протесты способст-
вовали тому, что ГСП не собрала на выборах даже
одного процента голосов. В Киле такая же органи-
зация за три месяца до этого получила на выборах
в местные органы власти всего 3,7% голосов.
О том, что взгляды нашего народа сильно из-
менились за последние два десятилетия, свиде-
тельствовала не только внушительная демонстрация
в Гамбурге 2 июня 1982 года. Вся Федеративная
республика, в которой сегодня насчитывается около
5 миллионов иммигрантов, встает на новый путь
292
превращения в многонациональное государство. Она
обретает черты многорасового общества, соединяю-
щего в себе культуры многих стран и народов. И
я целиком и без оговорок за такое превращение.
Я не вижу в этом никакой угрозы для нашего
народа, который трижды за истекшие 100 лет при-
нуждали вести войну. Наоборот, я вижу в этом
надежду и реальный шанс на лучшее будущее. Я
уверен, что в подобном объединении представителей
многих наций нам скорее удастся достигнуть внут-
реннего мира и построить действительно демокра-
тический общественный строй, нежели в печальной
памяти «чисто немецком» обществе.
Я уже давно не думаю, что «немецкий дух»
способен обогатить мир. Скорее от него можно ожи-
дать новых несчастий. Как немец, родившийся в
1939 году в семье почитателей фашизма, как член
смешанной, межнациональной семьи, как муж афро-
американки, я досыта вкусил расовой ненависти на-
цистов и их приспешников, и у меня нет ни малей-
шего страха перед «разбавлением немецкой нации
чужой кровью». Я радуюсь каждому культурному
новшеству, которое приносят с собой иммигранты
в нашу страну. Радуюсь открытию новых итальян-
ских, португальских и индонезийских ресторанов,
выступлению хоровых капелл турецких рабочих,
концертам джазовой и рок-музыки в исполнении
ансамблей из Северной, Центральной и Южной Аме-
рики. Мне нравятся пестрые индийские и африкан-
ские одежды, мне по душе рост количества книг
из стран «третьего мира». Последствия такого куль-
турного взаимообогащения трудно переоценить. Как
в прошлые века немецкую культуру неоднократно
оживляли и обновляли евреи и цыгане, француз-
ские гугеноты, поляки и итальянцы, так и теперь
иммигранты, прибывающие к нам со всех концов
света, вселяют в нас подлинно интернационалист-
ские настроения, и мы должны быть благодарны
им за это.
Мне нравится жить среди иностранцев. Я с удо-
вольствием всматриваюсь в лица новых людей, с
которыми каждый день встречаюсь на улице. И я
безоговорочно за то, чтобы Федеративная респуб-
лика стала дружелюбной по отношению к иностран-
цам. Тем самым я отнюдь не пропагандирую отри-
293
цание собственной нации, напротив, я выступаю за
более широкий патриотизм. Наш народ не имеет
никаких оснований для ненависти к чужеземцам
и для шовинизма. Наоборот, у него есть все причины
быть радушным к любым гостям, быть откры-
тым для мира и готовым к широкому междуна-
родному культурному обмену. Мы в большей степе-
ни, чем другие народы, обязаны решать проблемы
сосуществования на основе терпимости и равнопра-
вия, а не политического нажима, принуждения или
насилия. Нашей стране сейчас нужен внутренний
мир, мир между приезжими иностранцами и нем-
цами. И только тогда, когда нам удастся установить
у нас в стране такой внутренний мир, мы сумеем
преодолеть отрицательное отношение к тем внешним
силам, которые преподносятся нам в ложном облике
врагов. Без мира внутри не может быть никакой
постоянной, надежной и последовательно миролю-
бивой внешней политики, никакого разоружения и
никакой разрядки. Наша борьба против «довоору-
жения» НАТО, против «першингов» и крылатых ра-
кет неотделима от борьбы против растущей вражды
к иностранцам. Мир на Земле начинается на пороге
собственного дома. И только тогда, когда мы пол-
ностью вытравим из своего сознания вражду к так
называемым внутренним врагам, к коим у нас на-
ряду со «свирепым коммунистом», якобы жажду-
щим отобрать у нас все, причисляют все в большей
мере и иммигранта, будто бы стремящегося похи-
тить наши рабочие места, мы создадим предпосылки
для окончательного преодоления иррациональных
страхов перед «угрозой с Востока», с помощью ко-
торой у нас все туже и туже завинчивается пресс
гонки вооружений.
Боннские политики и их правые подпевалы ут-
верждают, что Федеративная республика не обето-
ванная земля для иммигрантов. Я же настаиваю на
том, что вопрос о ФРГ в этом плане должен решать-
ся не с точки зрения теории или юриспруденции,
а с точки зрения самой практики жизни. Страна,
которая за одно только десятилетие приняла к себе
почти 5 миллионов иммигрантов со всего света, в
моих глазах является для них именно обетованной
землей. Тот, кто утверждает противоположное, в
конечном счете играет на руку проповедникам за-
294
прета на иммиграцию или изгнание иммигрантов
из страны, а эти проповеди идут из лагеря правых
радикалов.
Уже давно иностранцы в нашей стране не яв-
ляются инородной группой. Наоборот, они состав-
ляют ядро нашего рабочего класса. Более того, в
сфере материального производства эти «меньшинст-
ва» образуют реальное большинство. Улицы наших
городов содержат в чистоте, убирая мусор и грязь,
тоже иностранцы. Отечественный уголь на наших
шахтах на 70% добывается турецкими горняками.
Более половины немецкой стали выплавляется ра-
бочими-иммигрантами. Две трети западногерман-
ских автомобилей создается нашими гостями. Наше
благосостояние, наше экономическое чудо и наше
хваленое социальное обеспечение, да что там, само
наличие высокооплачиваемых рабочих мест обуслов-
лены трудом наших иностранных коллег. Без них
наша экономическая система рассыпалась бы в
мгновение ока. И результатом этого были бы хаос
и массовая нищета.
Рабочему движению в нашей стране не обойтись
без признания того факта, что оно также приобрело
многонациональный характер. Если его врагам
удастся и дальше разжигать вражду и злобу к
иностранцам у наших рабочих и еще сильнее на-
травливать немцев и иностранцев друг на друга,
это приведет к расколу рабочего класса, к ослабле-
нию классовой солидарности и подрыву единых
профсоюзов. Преследуя свои глубочайшие классовые
интересы, наши рабочие должны сделать все, чтобы
преодолеть враждебность к рабочим-иммигрантам.
Если же правящие круги в условиях все усиливаю-
щегося социального недовольства сумеют превра-
тить иностранных товарищей в глазах немецких
рабочих нашей страны в козлов отпущения, в наем-
ных штрейкбрехеров, наши шансы на защиту своих
собственных социальных и демократических прав
будут серьезно подорваны.
Нашим иностранным согражданам необходимы
все гражданские и человеческие права, и они вправе
требовать этого. Они хотят быть равноправными.
Предоставление им права на участие в муниципаль-
ных выборах—это только начало. Возмутительно,
что в нашей конституции вначале записано, что
295
никто не может притесняться или пользоваться
предпочтением только из-за своего происхождения
или языка, а вслед за этим, там где конкретно
разъясняются права граждан, стоит: «Все немцы
имеют право...»
Право на политическое убежище мы должны от-
стаивать всеми доступными средствами. Наша стра-
на обязана предоставлять убежище всем преследуе-
мым по политическим мотивам уже хотя бы потому,
что в годы гитлеризма миллионы немецких эмигран-
тов нашли за границей по крайней мере крышу над
головой. В той же мере нам не следует предавать
анафеме и тех, кто из-за жестокой нужды покинул
свою родину, чтобы найти у нас защиту, работу и
хлеб, и наклеивать на них ярлык «экономических
беженцев». Федеративная республика, чье почти не
имеющее себе равных в мире благосостояние прио-
бретено не в последнюю очередь за счет эксплуата-
ции чужих народов и стран и их природных ресур-
сов, несет моральное и политическое обязательство
перед миллионами голодных в бедняцких хижинах
всего мира. Наше богатство основано на нищете всех
других народов. И нам нельзя вести себя так, будто
нас не касаются несчастья «третьего мира». Мы все
повинны в этих несчастьях.
Все более сложную проблему ставят перед нами
нелегально прибывающие иммигранты. В Гамбурге
их, например, уже около 70 тысяч, а по всей терри-
тории ФРГ насчитывается более миллиона. Объеди-
ненные немецкие профсоюзы (ОНП) сейчас требуют
запрещения их нелегального трудоустройства. Что
означает это на практике? Значит ли это, что я
должен сообщить органам полиции, следящим за
иностранцами, о том, например, что три женщины
из Тринидада, работающие на кухне расположенно-
го напротив моего дома американского заведения,
трудятся там без официального разрешения за семь
марок в час, чтобы их тут же бросили в тюрьму или
выгнали назад, в ту ужасную нищету, из которой
они вырвались со столькими мучениями и по край-
ней необходимости? Или пришло время потребовать
от федерального правительства принять вместо
враждебных по отношению к иностранцам мер та-
кие решения, какие приняло французское прави-
тельство, издав закон от 1 сентября 1981 года?
296
В результате принятия этого закона все нелегально
въехавшие во Францию иностранцы получили право
на официальную регистрацию и на легализацию
своих условий жизни и труда.
Власти нашей страны ежемесячно совещаются о
том, как наиболее эффективно ограничить приток
иностранцев. Я же считаю все это напрасными по-
тугами, продиктованными единственно чувством не-
нависти. Я твердо убежден в том, что вообще не
существует никакого действенного метода остано-
вить этот непрекращающийся наплыв иммигрантов.
США возвели вдоль своей границы с «третьим ми-
ром» — Мексикой—усиленные заграждения из ко-
лючей проволоки. В 1981 году на этой границе было
убито по меньшей мере 46 человек. Тем не менее за
последние 10 лет в Соединенные Штаты нелегально
проникло самое малое 8 миллионов иммигрантов
из Центральной и Южной Америки. Только с остро-
ва Гаити в США неофициально приехало свыше 700
тысяч иммигрантов-рабочих, хотя из года в год свы-
ше тысячи из них гибнут, пытаясь добраться туда
на утлых лодчонках. Пока во многих странах «тре-
тьего мира» царят жуткая нищета, произвол властей
и открытый фашистский террор, невозможно найти
средство удержать людей от спасения бегством.
Единственным результатом ограничений на въезд
латиноамериканцев в США является то, что заработ-
ки при нелегальном труде еще больше снижаются,
резервная армия дешевых рабочих рук нелегальных
рабочих-иммигрантов растет, и это все очевиднее
влияет на социальные права и жизненный уровень
легально поступающих на работу. Я убежден, что
это же самое ожидает и нас, если мы наглухо
закроем свои границы. И я спрашиваю себя, не
является ли именно это целью всех наших чрезвы-
чайных «мероприятий по ограничению въезда в
страну иностранцев».
Потоки мигрирующих людей на нашей планете
обусловлены прежде всего экономическими причи-
нами. Мы переживаем сейчас что-то вроде новой
волны великого переселения народов, являющейся
следствием охватившего весь мир процесса индуст-
риализации и не ограничивающейся только капита-
листической мировой системой. Так, если учесть,
что Советский Союз планирует переселить в Южную
297
Сибирь до начала нового тысячелетия 17 миллионов
человек различных национальностей на постоянное
место жительства, то можно заключить, что в этом
отражается процесс национального и культурного
единения этой страны, разумеется связанный и с
другими общественными закономерностями. По все-
му миру наблюдаются признаки окончания эпохи
классических однонациональных государств и начи-
нается процесс перемешивания наций, в итоге ко-
торого человечество освободится от всякой нацио-
нальной обособленности.
Не следует забывать и тот факт, что в XIX веке
более 50 миллионов людей покинули перенаселен-
ную Европу, чтобы разъехаться по всему миру. Се-
годня этот поток миграции частично изменяет свое
направление на противоположное. Обратный поток
людей направляется сейчас из слаборазвитых стран
«третьего мира» в бывшие метрополии и индустри-
альные центры Европы и Северной Америки. Этот
поток, вызванный в большинстве случаев объектив-
ными причинами, нельзя направлять произвольно,
по своему желанию, и ни одна страна так назы-
ваемого «первого мира» не в состоянии просто так,
по своему усмотрению, отвести его от своих границ.
И лишь тогда, когда мы создадим мир, в котором
будет покончено с недостойными человека противо-
речиями между богатством и бедностью, исчезнут
и основания покидать свою родину. Из года в год,
по данным ООН, около 20—30 миллионов человек
из разных стран Азии, Латинской Америки и Афри-
ки под влиянием разных обстоятельств вынуждены
бежать из своих родных мест. И кто дал нам, сы-
тым, право относиться безучастно к этому потоку
голодных?
Что можем мы предпринять против растущей
враждебности к иностранцам? Мы обязаны поддер-
жать возникающее сейчас движение за гражданские
права, за дружбу и солидарность между нациями,
направляя его против расизма и ненависти к имми-
грантам. Нам нужны повсюду новые гражданские
инициативы, клубы дружбы и союзы действий, в
которых немцы и иностранцы работали бы в
тесном содружестве. Но прежде всего мы
должны повысить нашу активность в проф-
союзах.
298
Нам следует поддерживать все мероприятия, спо-
собствующие устранению социальных и экономиче-
ских причин, порождающих трудности для рабочих-
иммигрантов. Объединенные немецкие профсоюзы
потребовали от властей выделения 50 тысяч препо-
давателей для того, чтобы с их помощью путем
целенаправленной подготовки иностранных школь-
ников создать предпосылки для выравнивания шан-
сов на получение ими общего образования. Заслужи-
вает всяческой поддержки предложение отдельных
профсоюзов ввести в школьную программу препо-
давание турецкого языка в качестве первого иност-
ранного, по крайней мере в тех городах, где про-
живает значительное число граждан турецкого
происхождения. Это практически способствовало бы
взаимопониманию между народами и помогло бы
снизить безработицу среди учителей.
В строительстве сейчас сложилось такое положе-
ние, когда более 10% немцев и свыше 20% имми-
грантов оказываются постоянно безработными. Поэ-
тому наше федеральное правительство должно неза-
медлительно разработать в рамках своей программы
увеличения занятости населения широкомасштаб-
ный план ремонта старых, обветшалых кварталов
крупных городов с целью воспрепятствовать их пре-
вращению в заброшенные гетто, заселяемые нашими
иностранными гражданами, и тем самым создать
дополнительные рабочие места для немецких и ино-
странных коллег.
Мы обязаны подумать и над организацией по-
мощи развитию других стран. Не значит ли это, что
движение за мир в нашей стране должно реши-
тельнее поддержать резолюцию ООН, призывающую
к сокращению ежегодно на 10% расходов на воору-
жение и переводу этих высвободившихся средств на
увеличение помощи развитию? Тем самым можно
было бы постепенно устранить в беднейших странах
мира именно те причины, которые толкают миллио-
ны людей к бегству. И вот тогда можно будет
говорить о справедливом предложении вернуть-
ся на родину тем иммигрантам, которые этого
желают, ибо тогда они найдут там и работу, и
хлеб.
Враждебность к иностранцам — это проблема,
которую порождают не сами иммигранты, а наша
299
западногерманская общественная система. Это такая
проблема, которая имеет всемирное значение. И ре-
шение ее вместе с вопросом о мире на Земле пред-
ставляется мне наиважнейшей внутриполитической
задачей, вставшей перед нами в 80-е годы.
Содержание
Предисловие 5
Предисловие к русскому изданию 22
Часть первая 27
«Мавр сделал свое дело...» 27
Тема для дискуссии,
предлагаемая Петером Шюттом 27
Да, в нашей конституции это есть 27
И все это—в нашем доме 28
Темная глава истории 35
Предрассудки, вошедшие в плоть и
кровь 43
С детской колыбели 49
Последний мавр фирмы «Саротти» все еще
служит 54
«Третий мир» в средствах массовой инфор-
мации 60
О скрытом расизме многих политиков 74
Расистская травля справа 81
Изгнание беженцев 90
Откровенный и скрытый антисемитизм 95
Цыгане: от газовых камер Освенцима до
нынешних гонений 102
Турок просят не плевать 108
Азиаты—«накипь человечества» 118
«Ты, обезьянья морда, вон отсюда!» 122
Расизм и враждебное отношение к женщи-
нам 133
Они все еще сидят на чемоданах 139
ФРГ на пути к узаконенному апар-
теиду? 150
Альтернативы? 161
Часть вторая 175
«Мы живем в Федеративной респуб-
лике не ради удовольствия...» 175
Рассказы о пережитом и поиски альтер-
натив 175
Фазия Янсен. Традиции немец-
кого расизма 175
Михель Тонфелъд. Все это так прос-
то 183
Эллис Бен-Смит. «Как же все это
трудно пережить!»
194
Карлос Лира. Прибытие в ла-
герь для иностран-
цев 200
Аделе Супертино. Открытое пись-
мо в Управление
по вопросам тру-
да 208
Гарри Бёзеке. «Немцы недру-
желюбны. Они ду-
мают только о ве-
щах)..» 210
Кандейс Картер. Будничные на-
блюдения в Феде-
ративной респуб-
лике 224
Байя Бенеке-Мауше. Женщине здесь
труднее вдвой-
не 227
Хедвиг Абанква. О том, что при-
ходится терпеть
женщине, вышед-
шей замуж за аф-
риканца 231
Розмари К. Лестер. «Жил черный
негр...» Как возни-
кают предрассуд-
ки 242
Одри Мотанг. «Я почти не могу
здесь жить» 256
Дорис Сейва. «Я приехала в
Федеративную рес-
публику не ради
развлечений» 259
Фестус Уэриука Тьюкуа „Когда мы игра-
ем в футбол, нас
называют «чер-
ными дьявола-
ми»" 262
Улли Будде. «Мы хотим спра-
ведливости!» Борь-
ба западногерман-
ских цыган за
гражданские пра-
ва 264
Йорким Кирш. Мои цыганские
будни 278
Элизабет Томпсон. Расовая дискри-
минация в запад-
ногерманских уни-
верситетах 280
Марлиз Ибрагим-Кноке.
Моника эль-Сохсах
« Собаку с ослом
не скрестишь!»
Межнациональные
семьи и расизм в
ФРГ. Как объеди-
нить свои силы в
рядах ИАФ для
борьбы с дискри-
минацией 285
Пути превраще-
ния Федеративной
республики в стра-
ну дружелюбную
к иностранцам 292
Петер
Шютт
Мавр
сделал
свое дело...
ИМПЕРИА-
ЛИЗМ
События
Факты
Документы
Можайский
полиграфкомбинат
"Союзполиграфпрома
при Государственном
комитете Совета
Министров СССР
по делам издательств,
полиграфии и книжной
торговли.
г. Можайск»
ул. Мира, 93.
ИБ № 13260
Редактор русского
текста
Л. В. Махвиладзе
Художник
В. В. Кулевнов
Художественный
редактор
В. А. Пузанков
Технический
редактор
Т. И. Юрова
Корректор
М. А. Таги-Заде
Сдано в набор 28.10.84.
Подписано в печать
21.03.85.
Формат 84 XI08 1/32.
Бумага офсетная № 1.
Гарнитура школьная.
Печать офсетная.
Условн. печ. л. 15,96.
Усл. кр.-отт. 16,38.
Уч.-изд.л. 15,53.
Тираж 50.000 экз.
Заказ № 812.
Цена 70 к.
Изд. № 38385
Ордена Трудового
Красного Знамени
издательство
«Прогресс»
Государственного
комитета СССР по
делам издательств,
полиграфии и
книжной торговли.
119847, ГСП, Москва,
Г-21, Зубовский
бульвар, 17.
70 к.