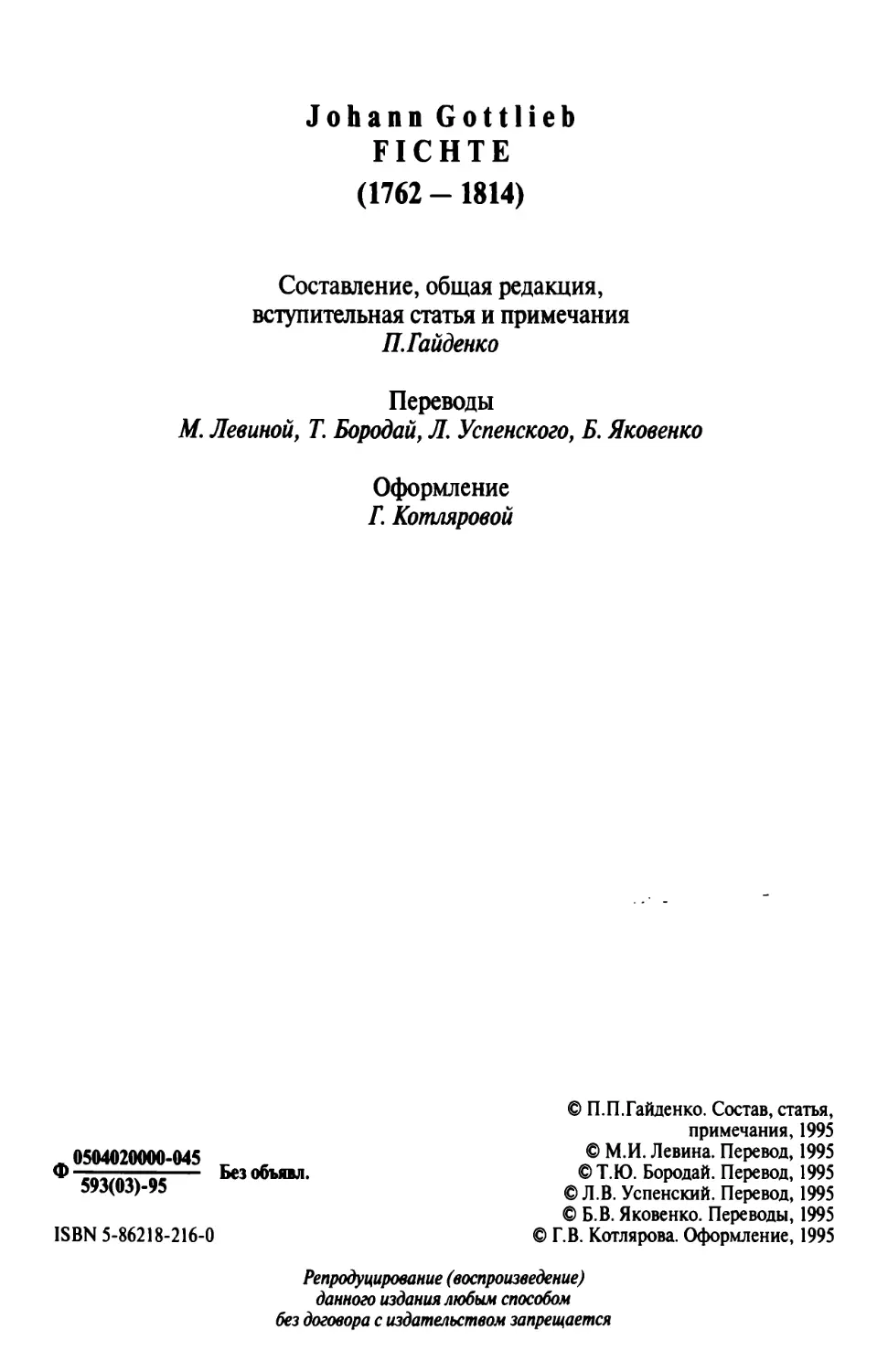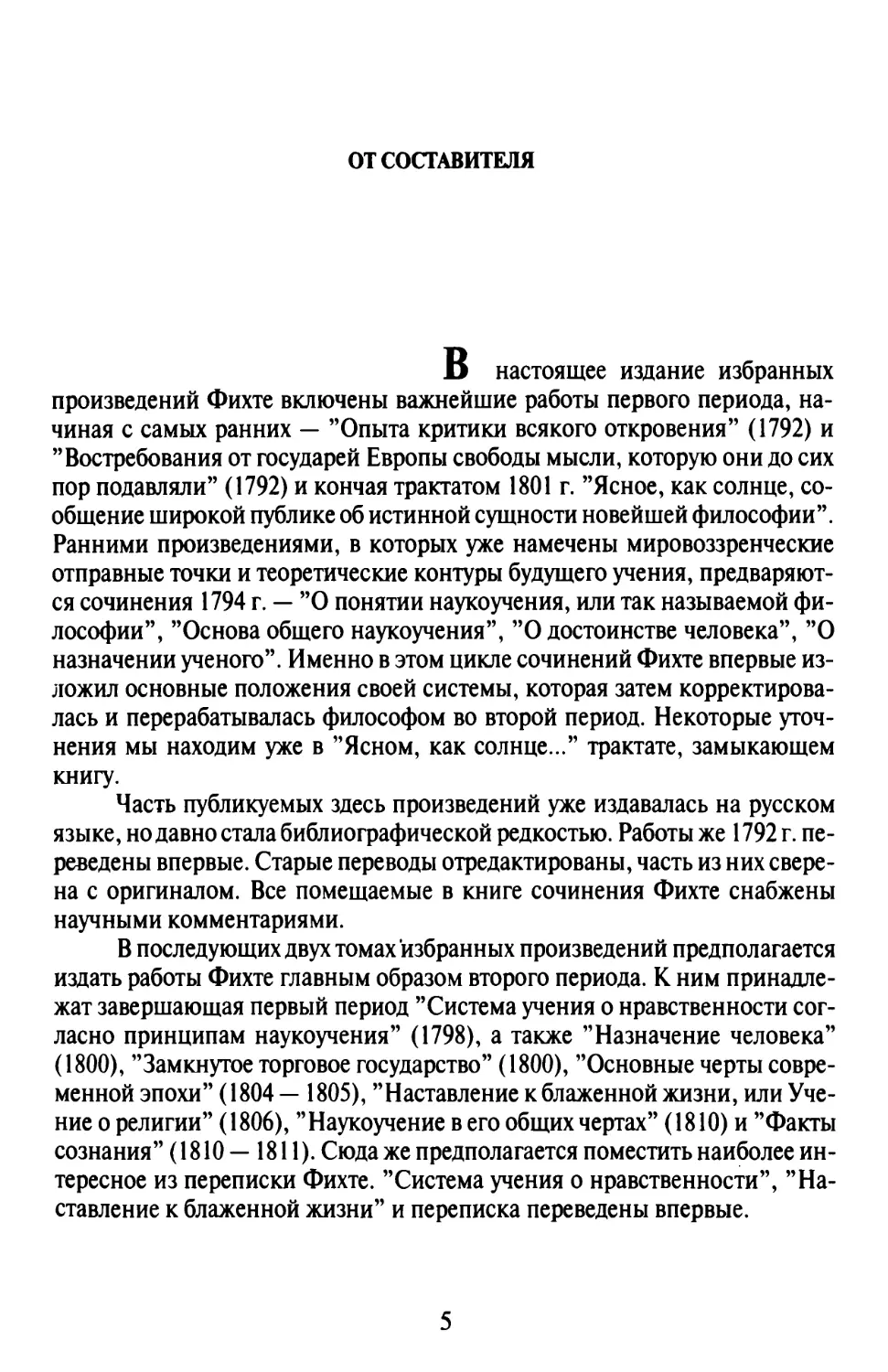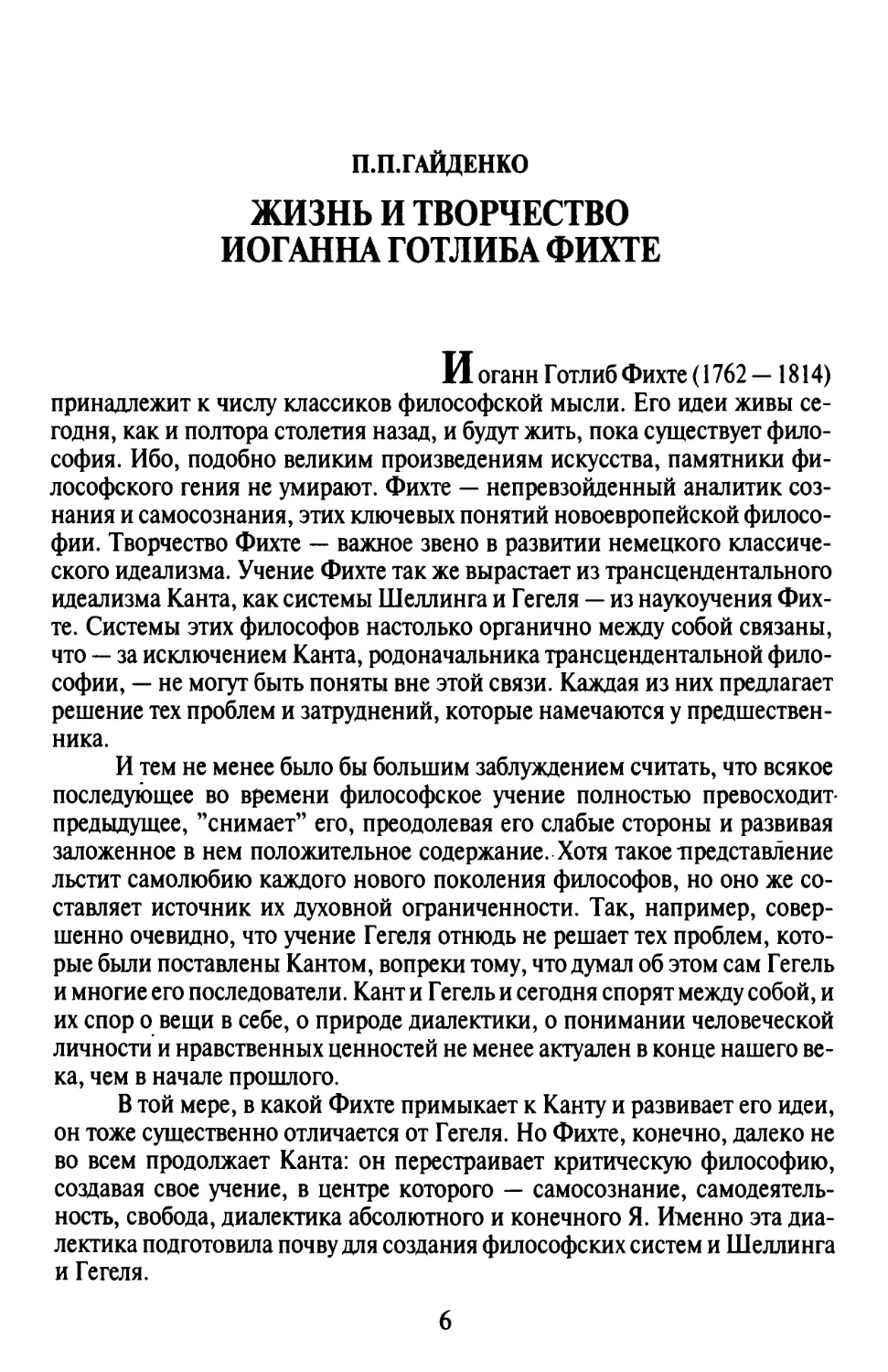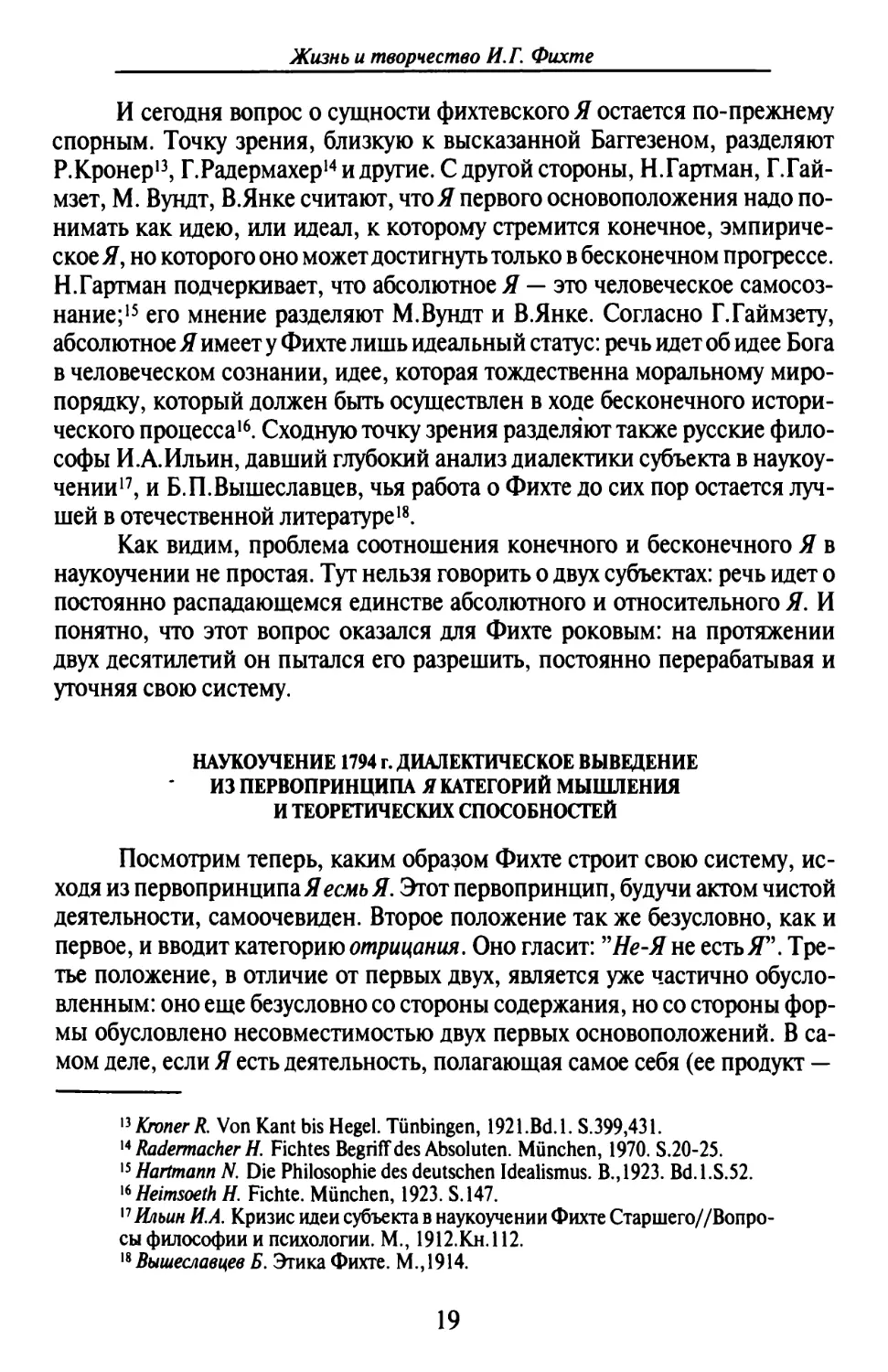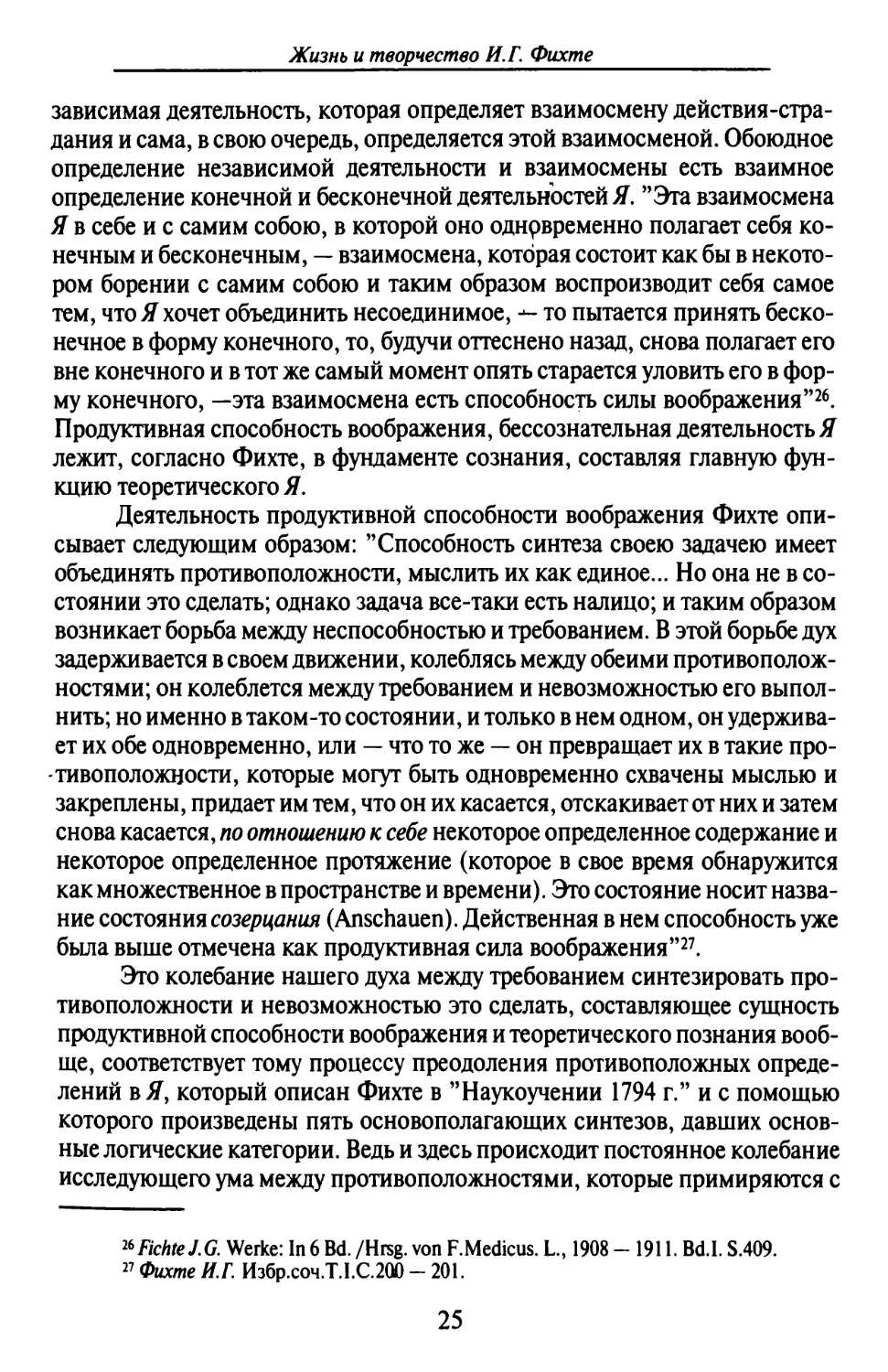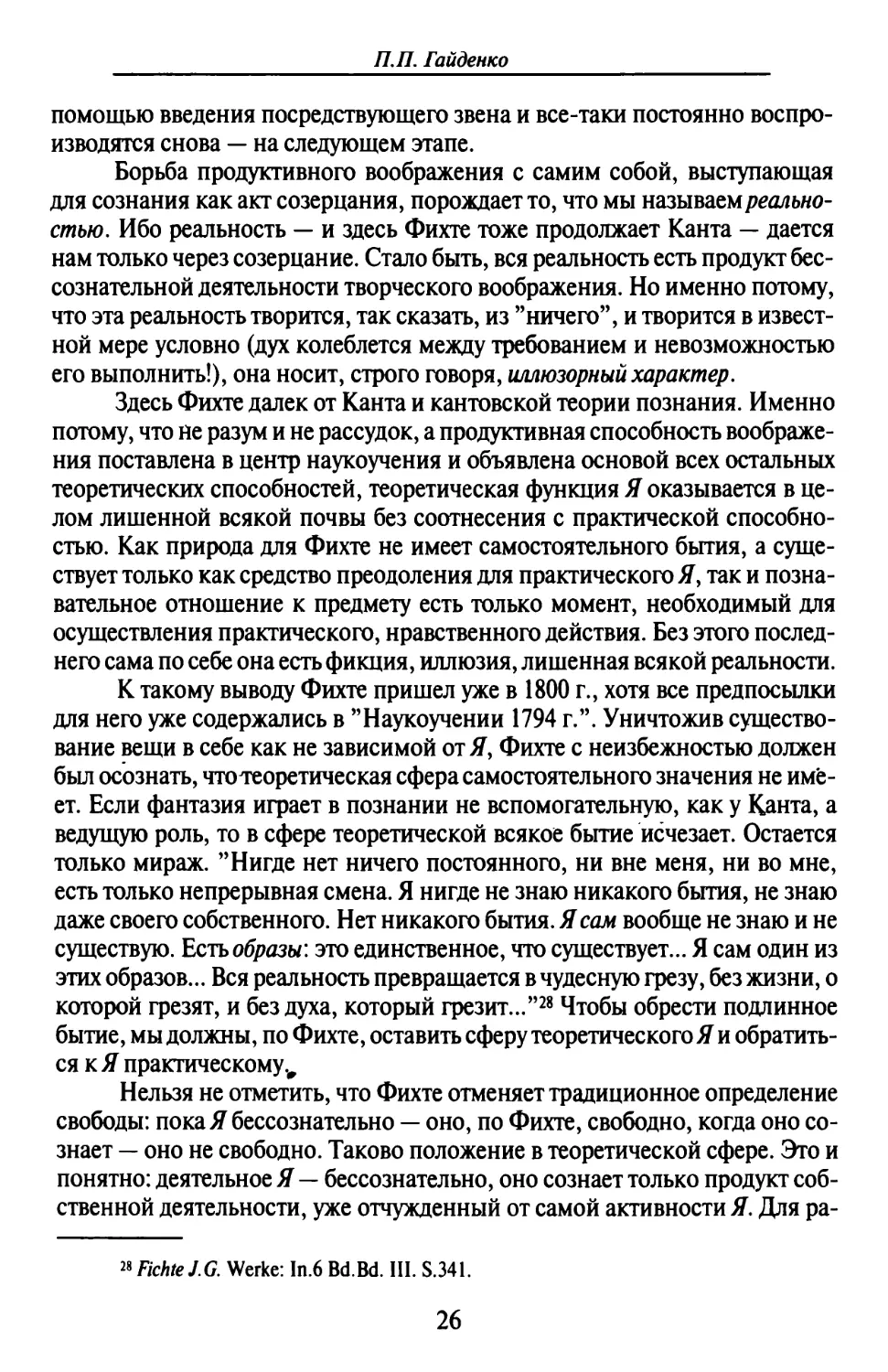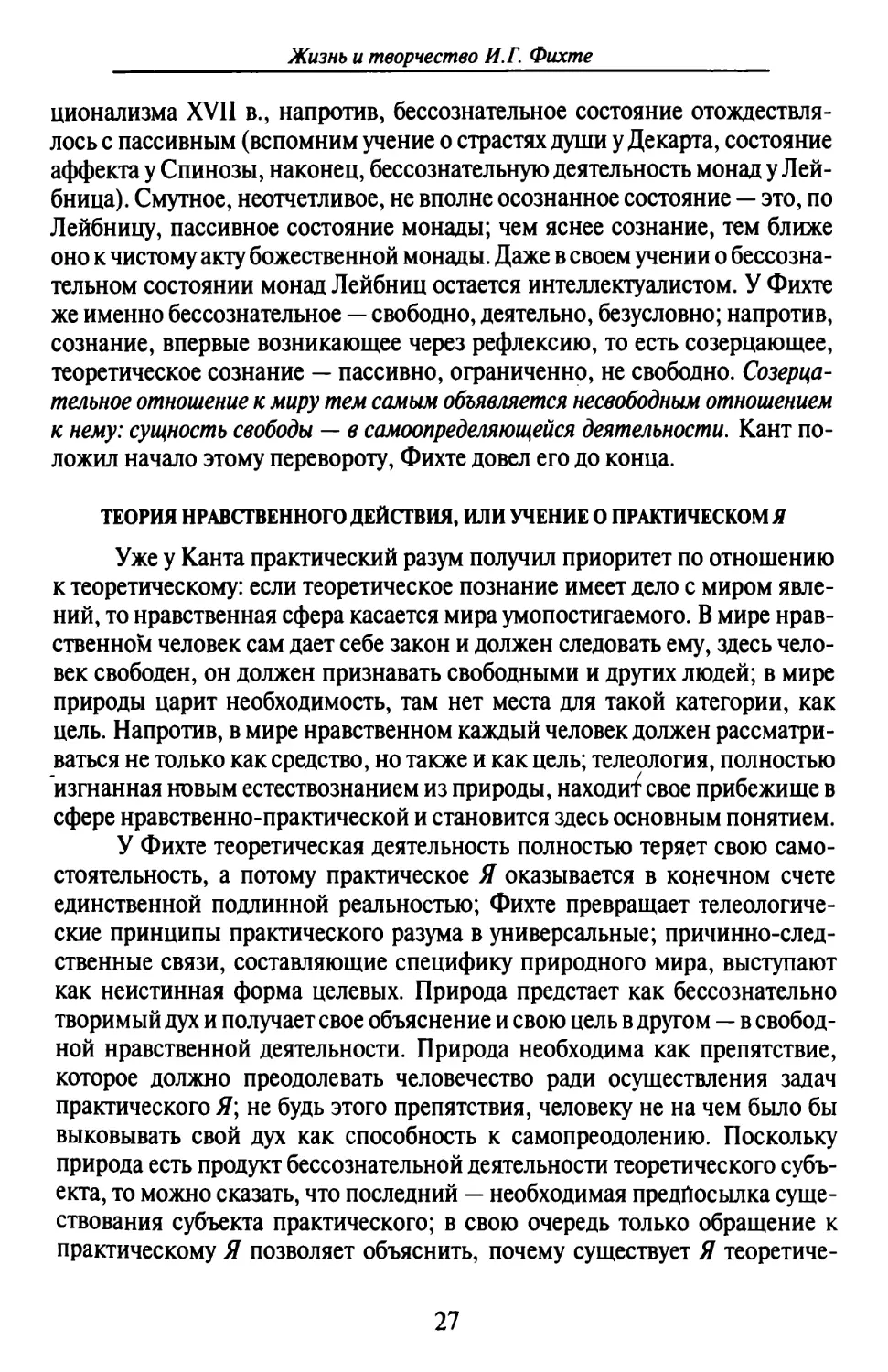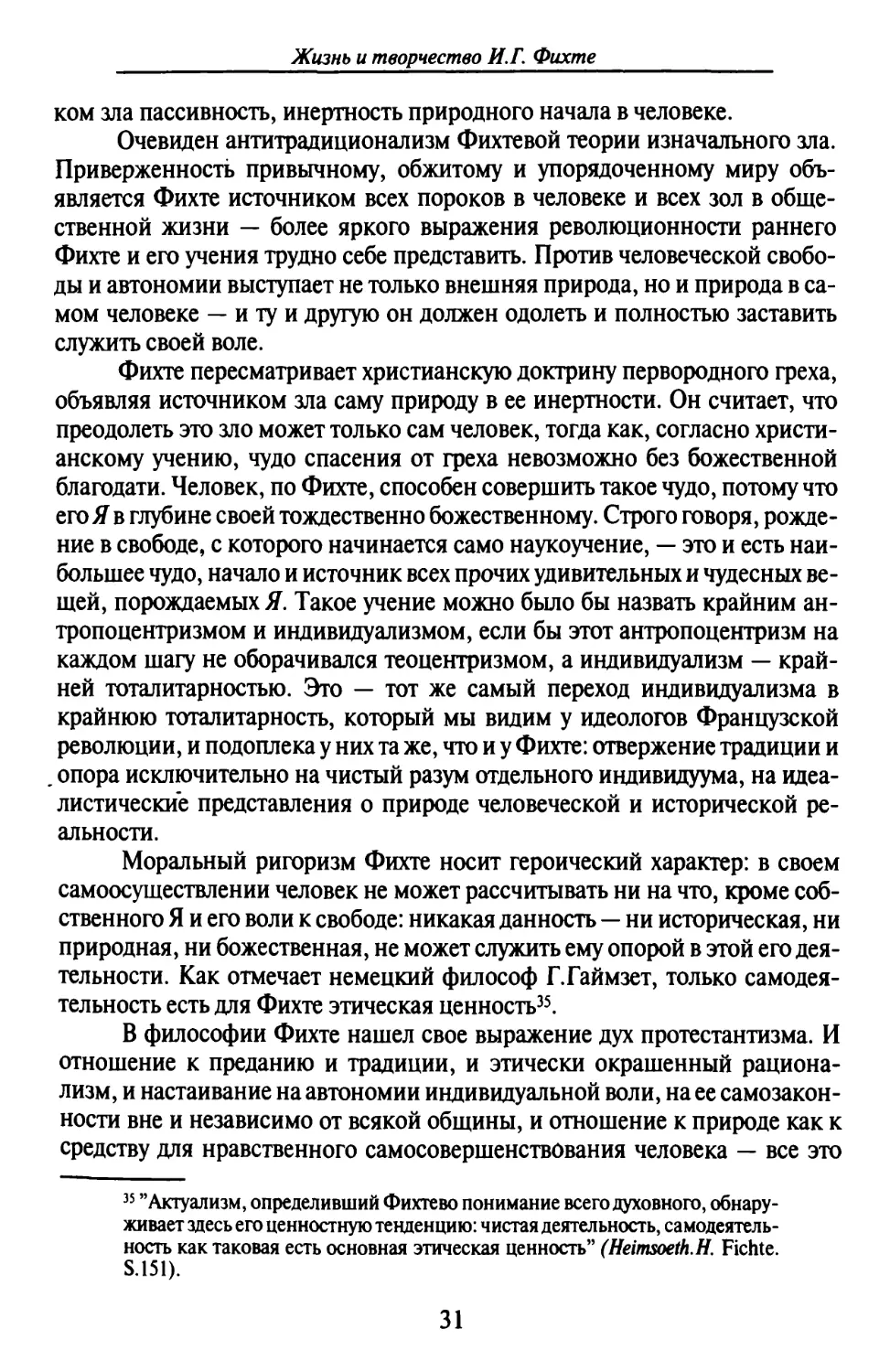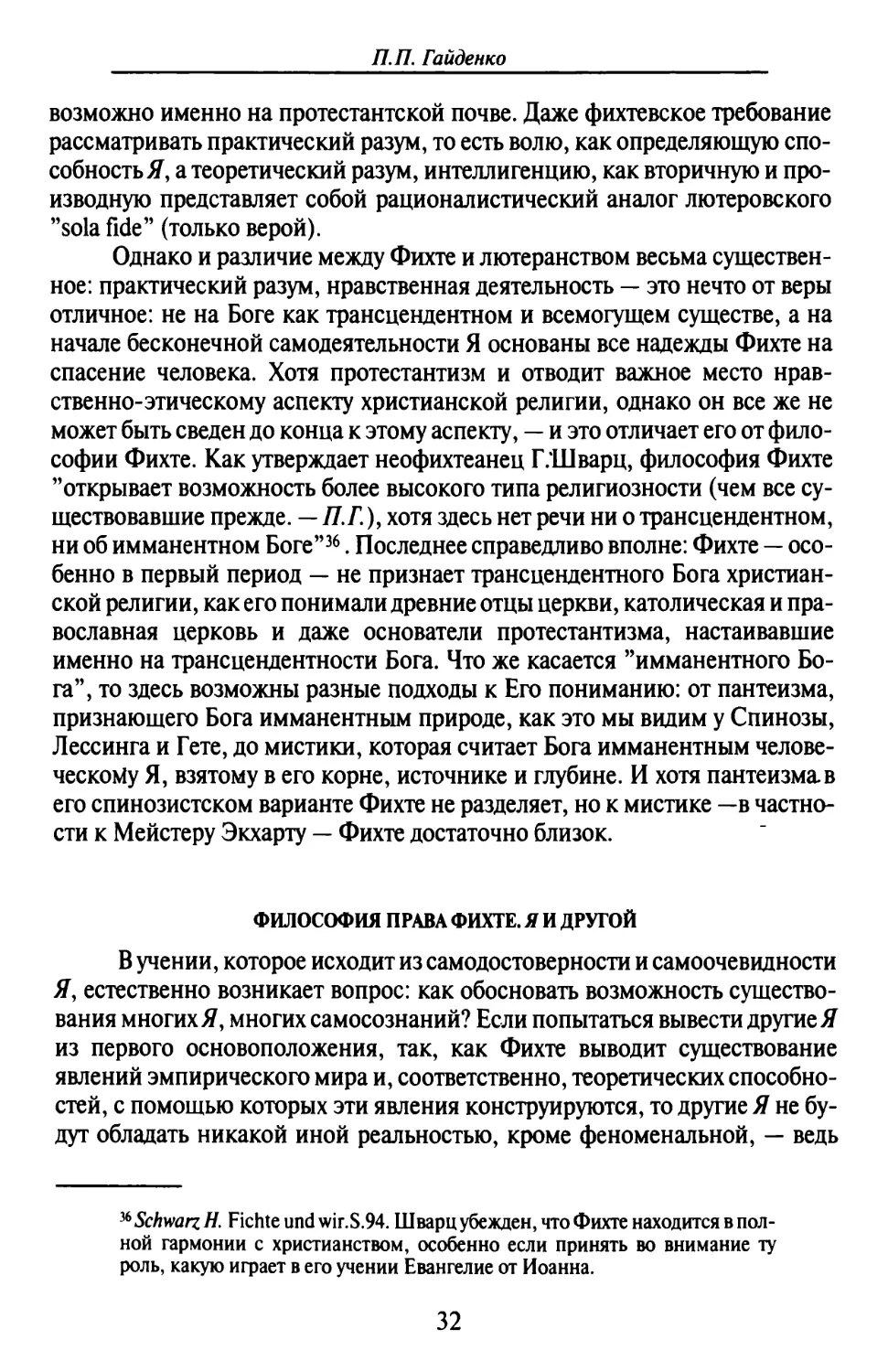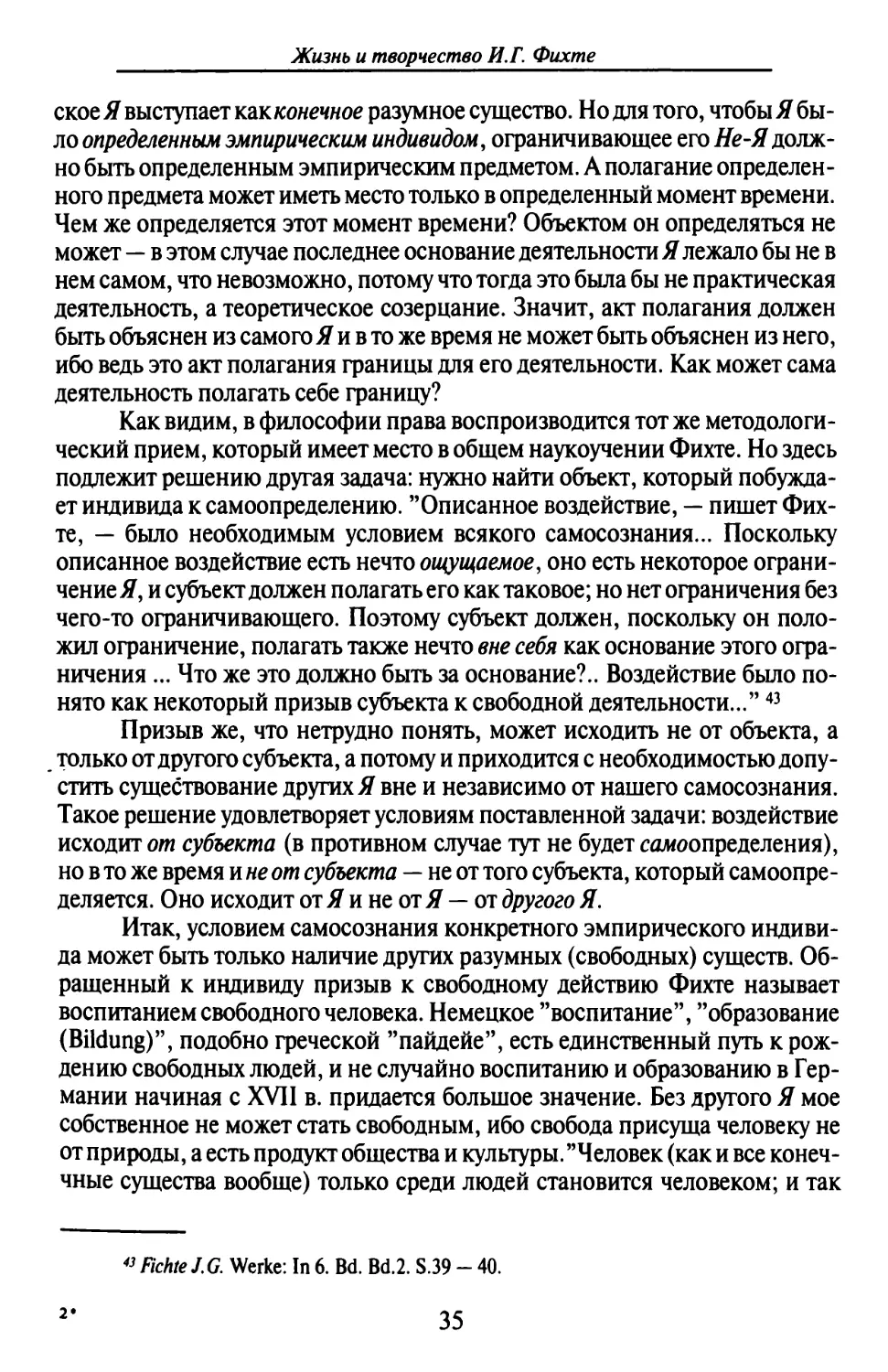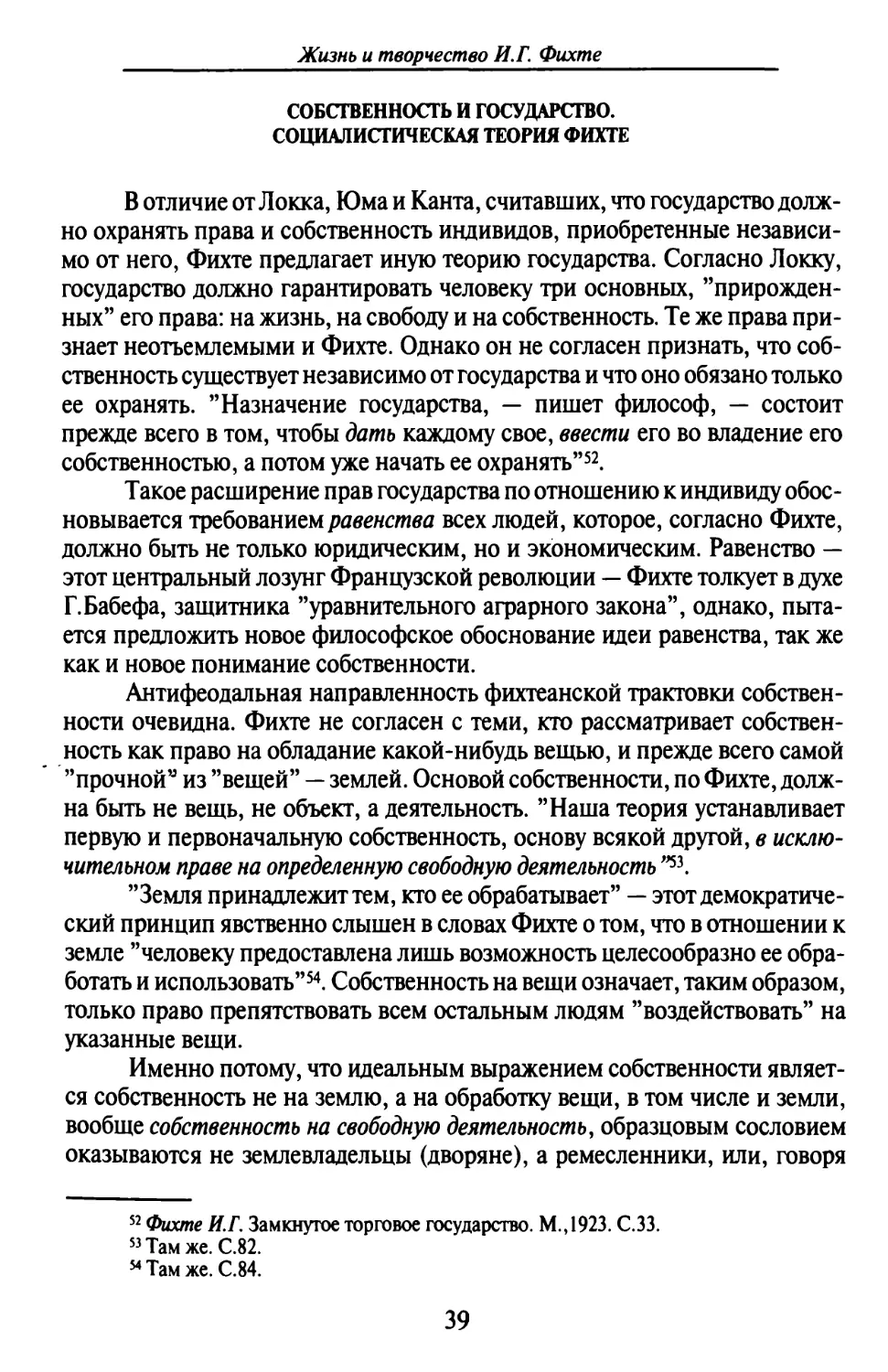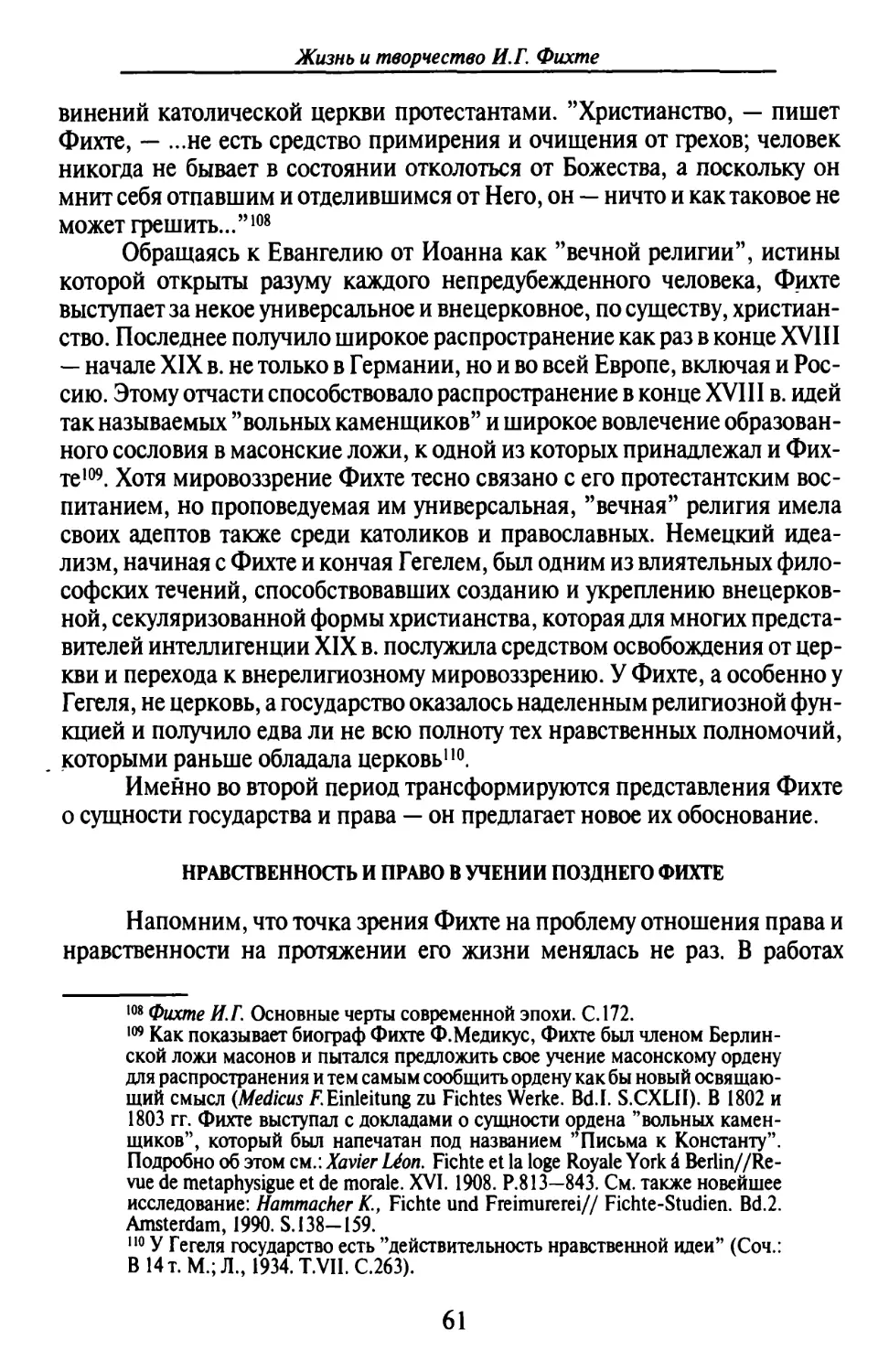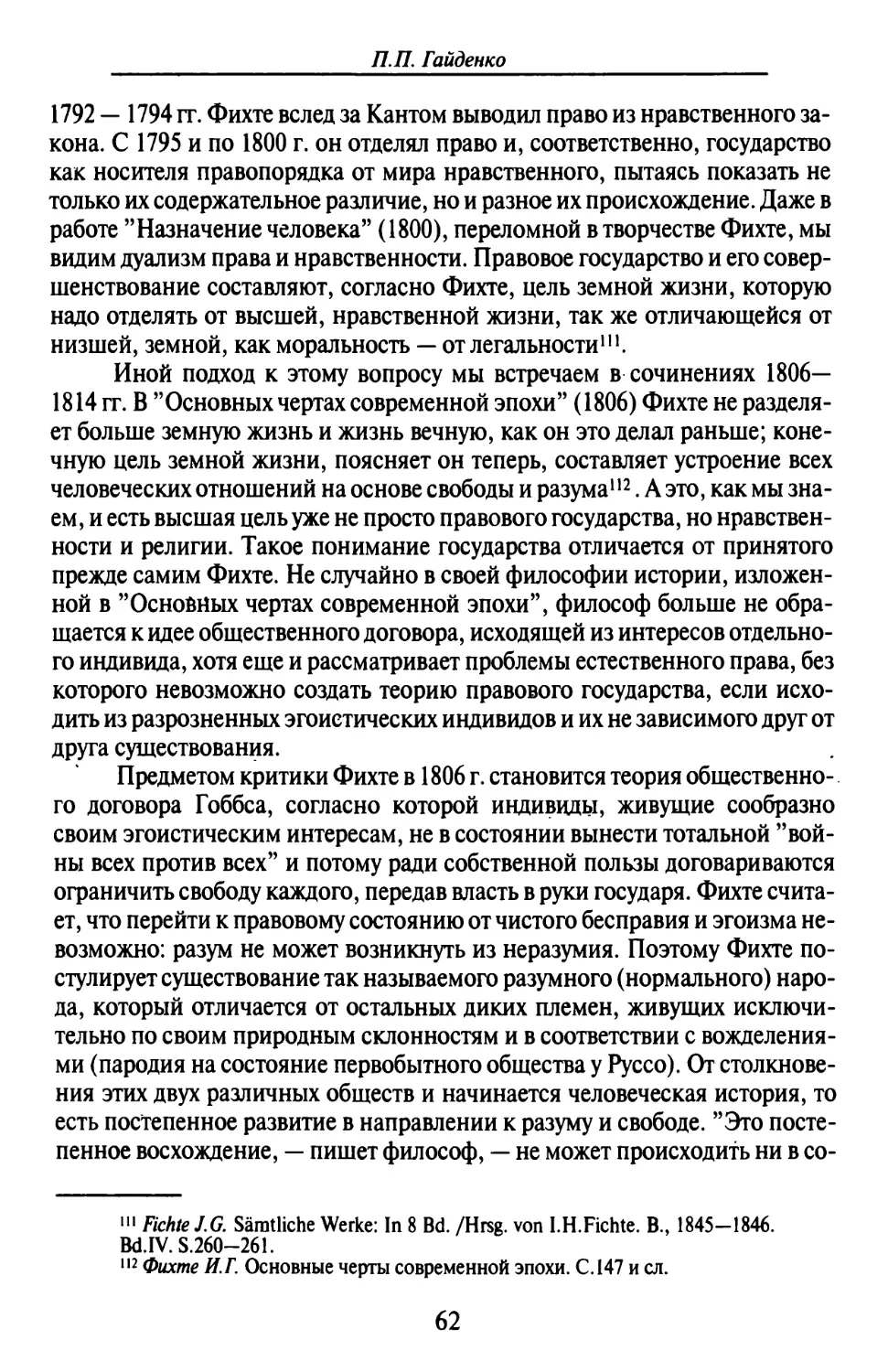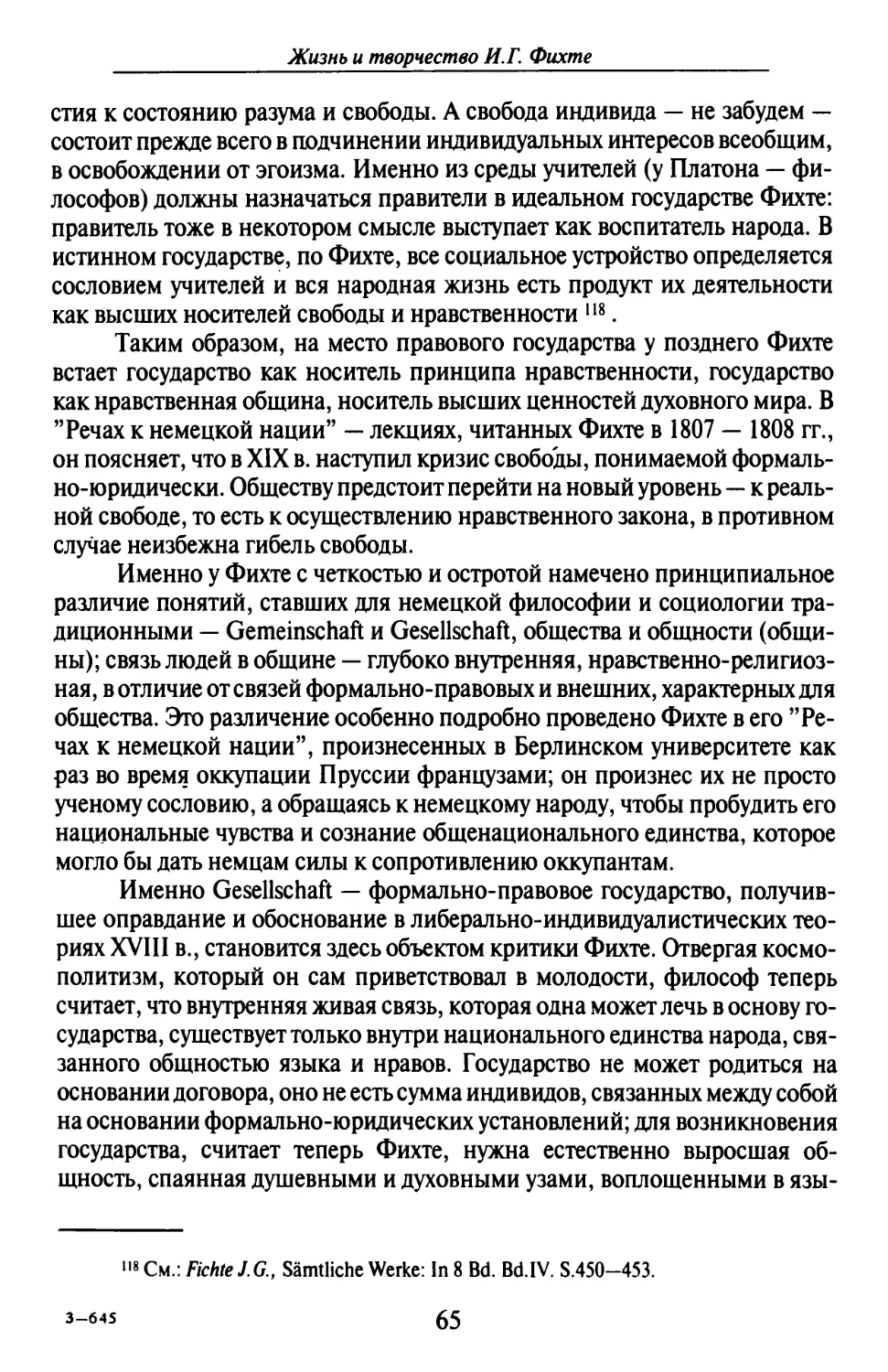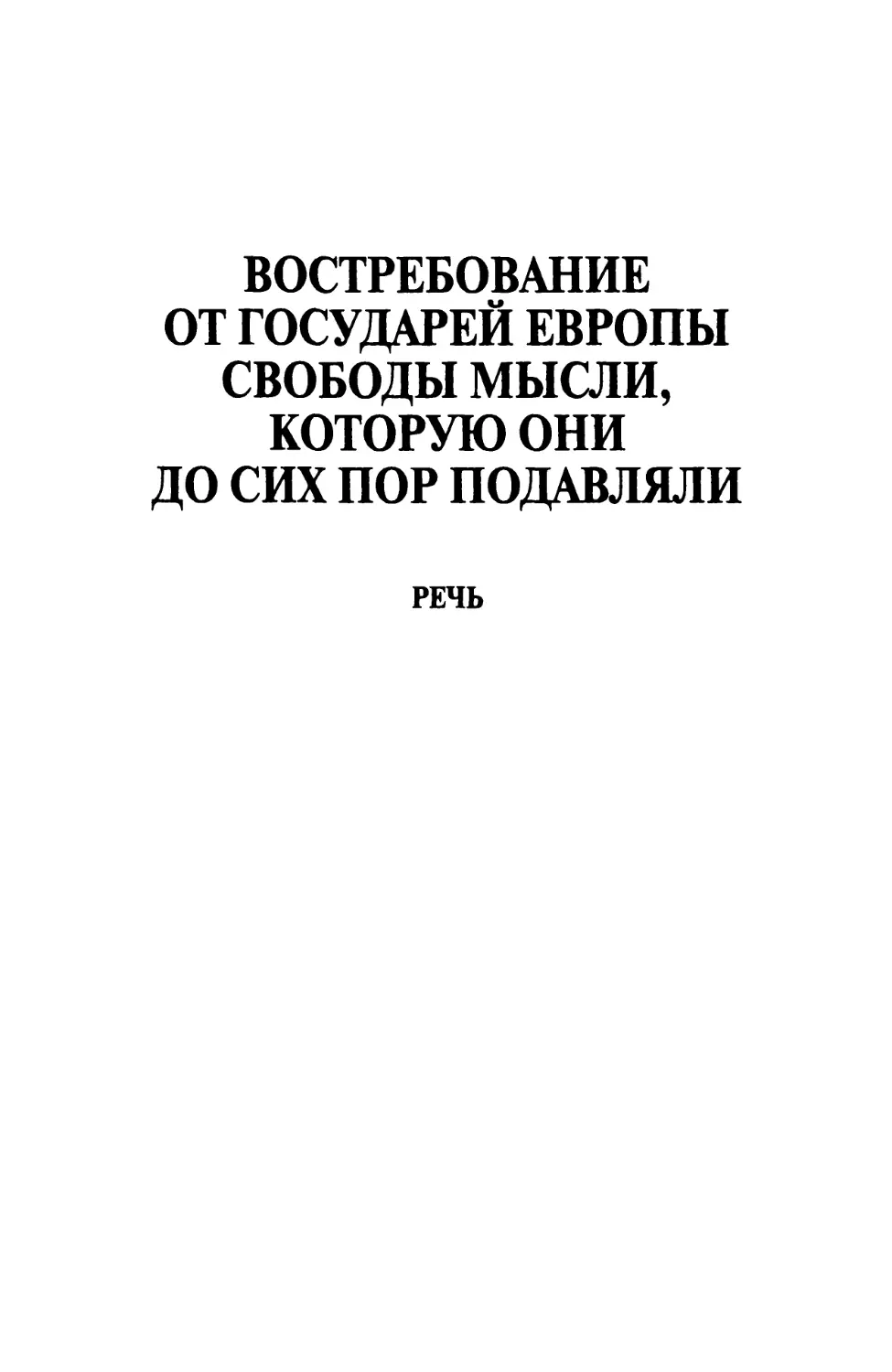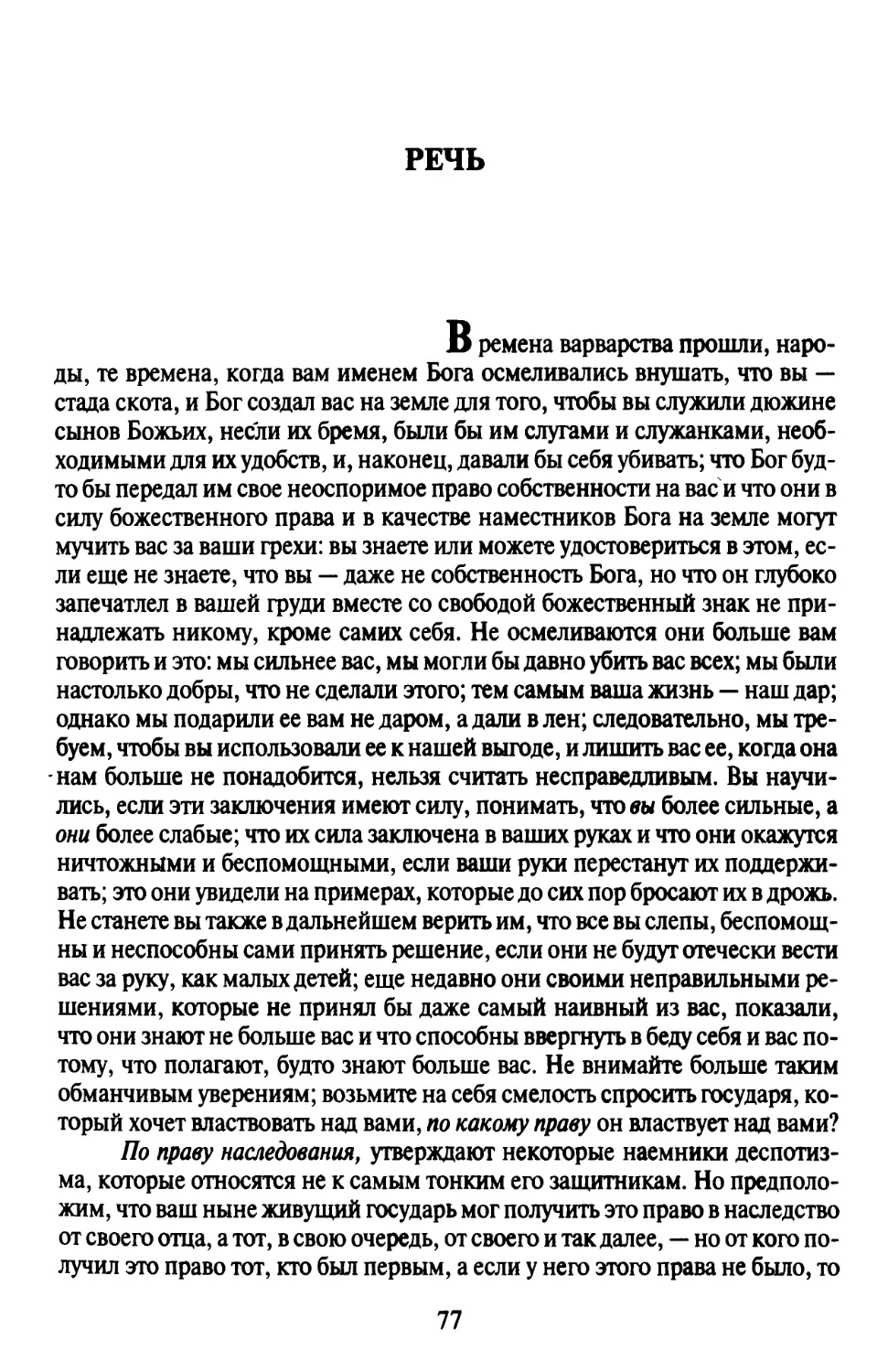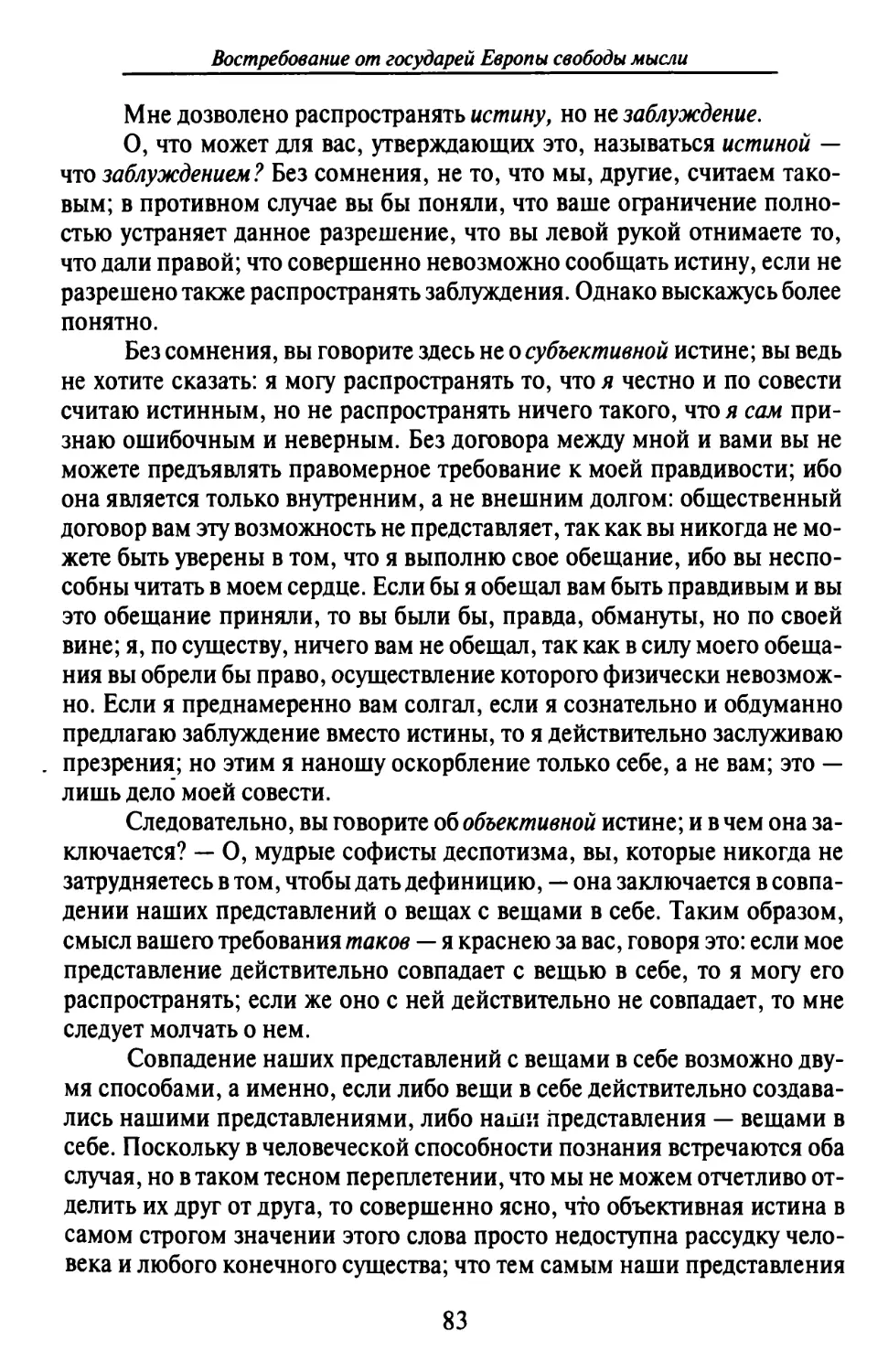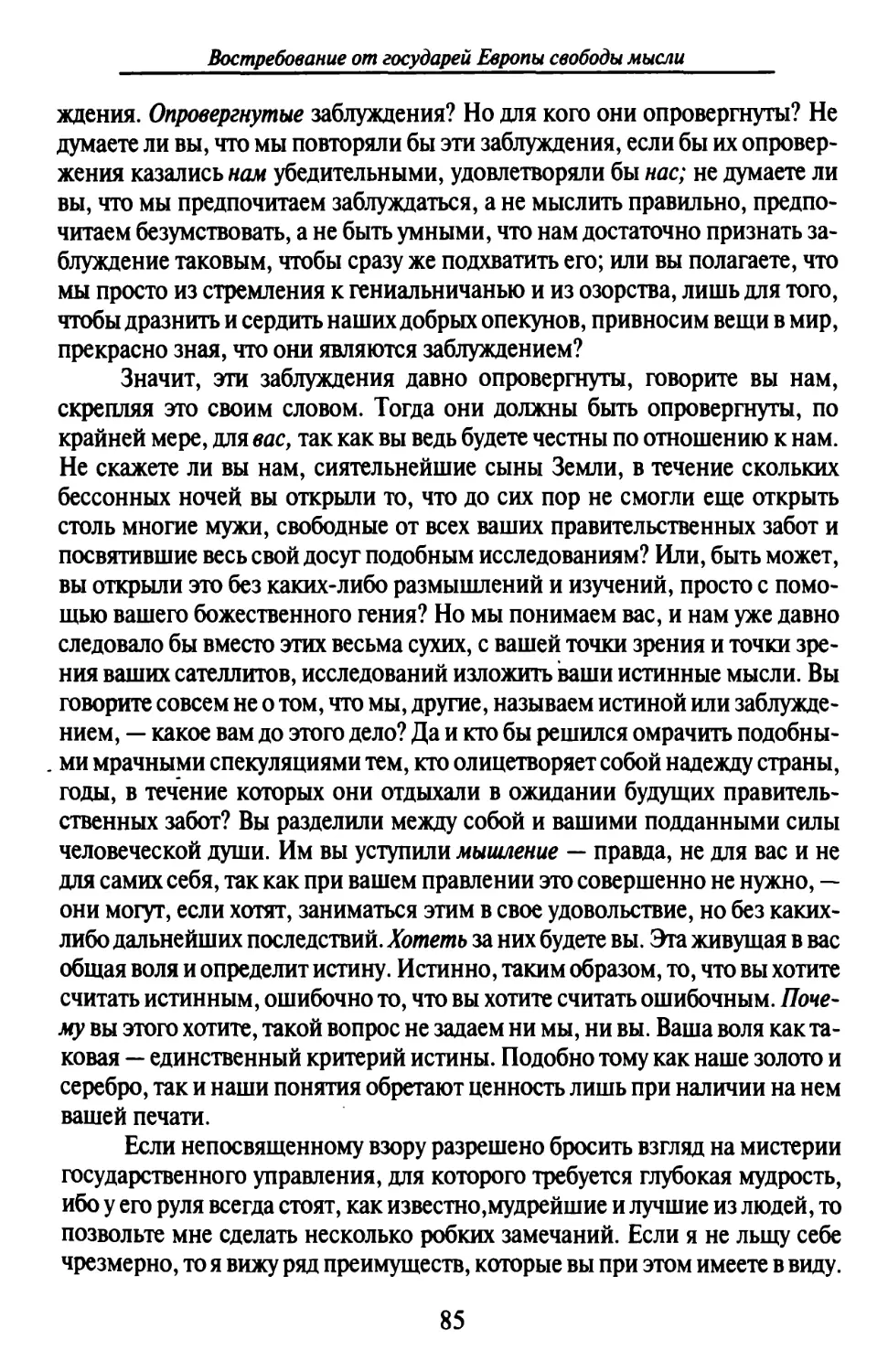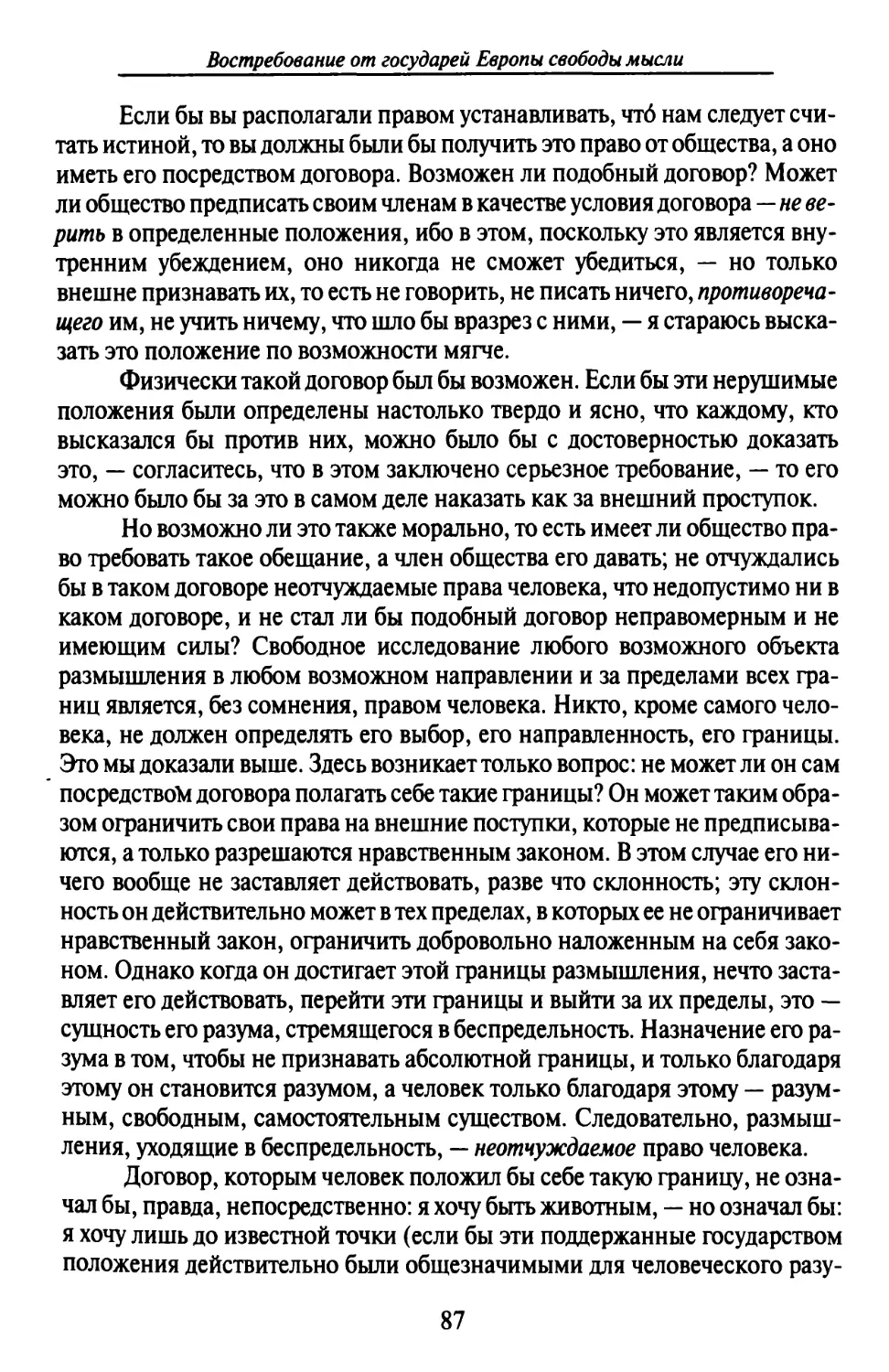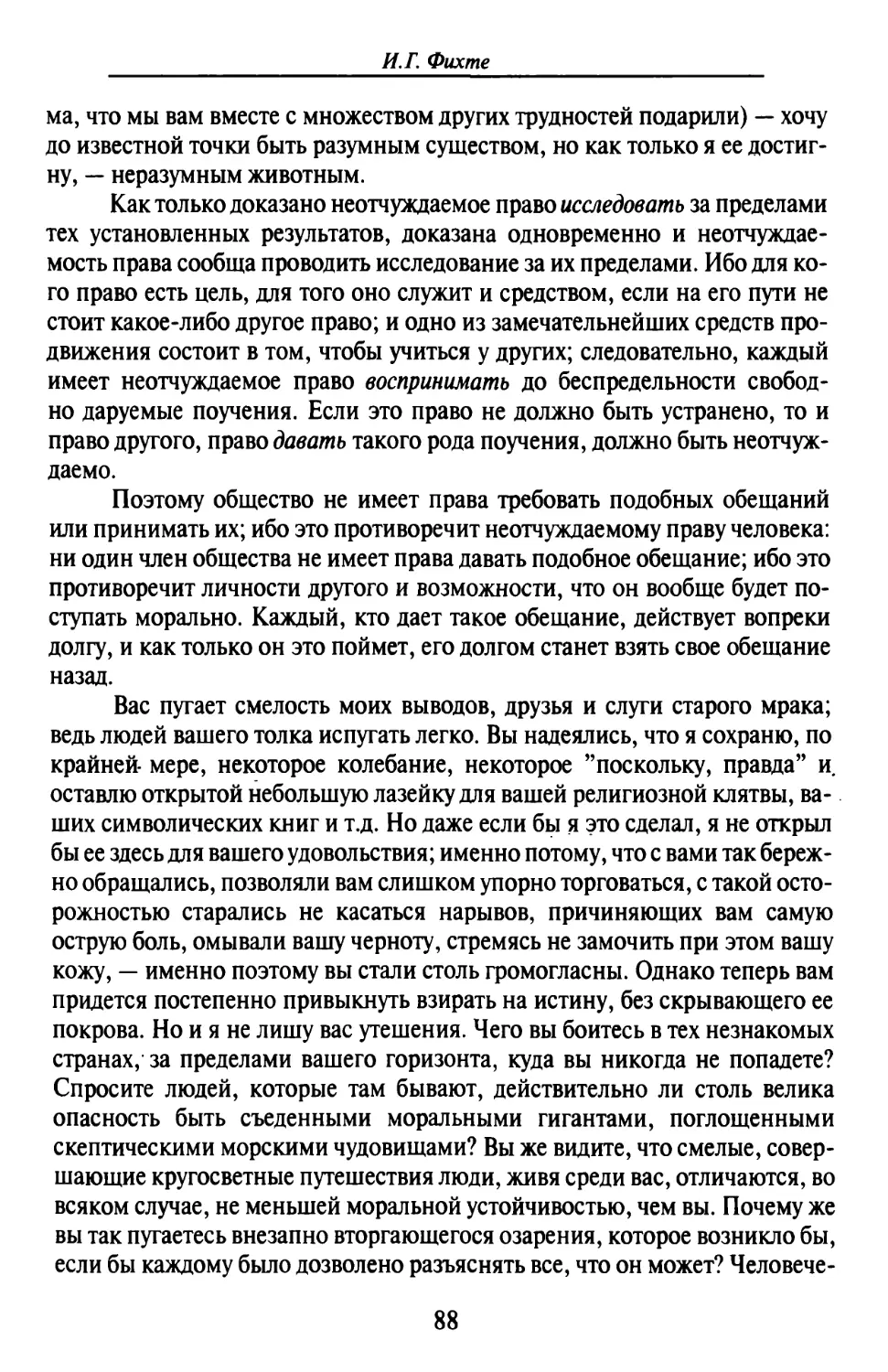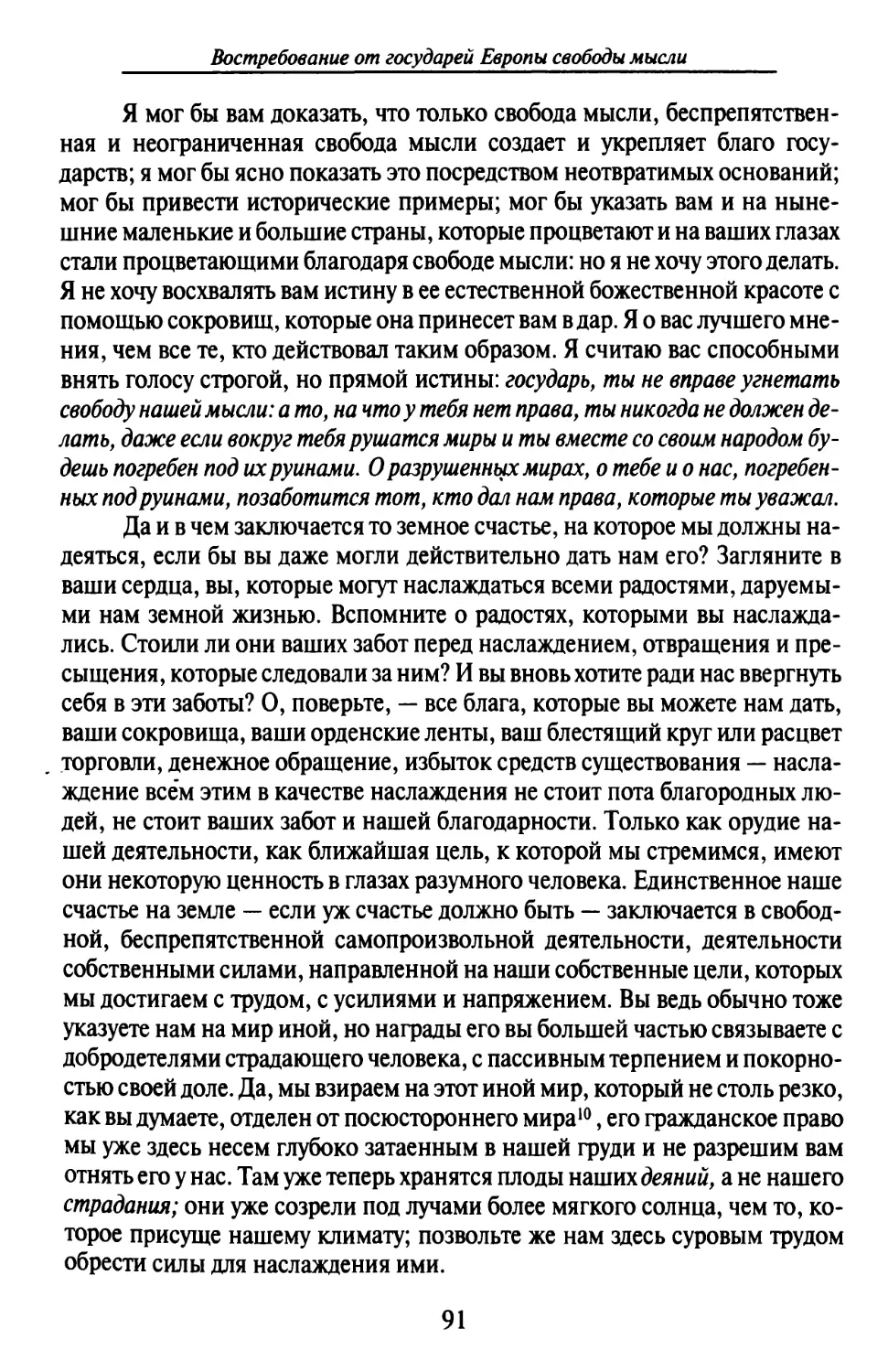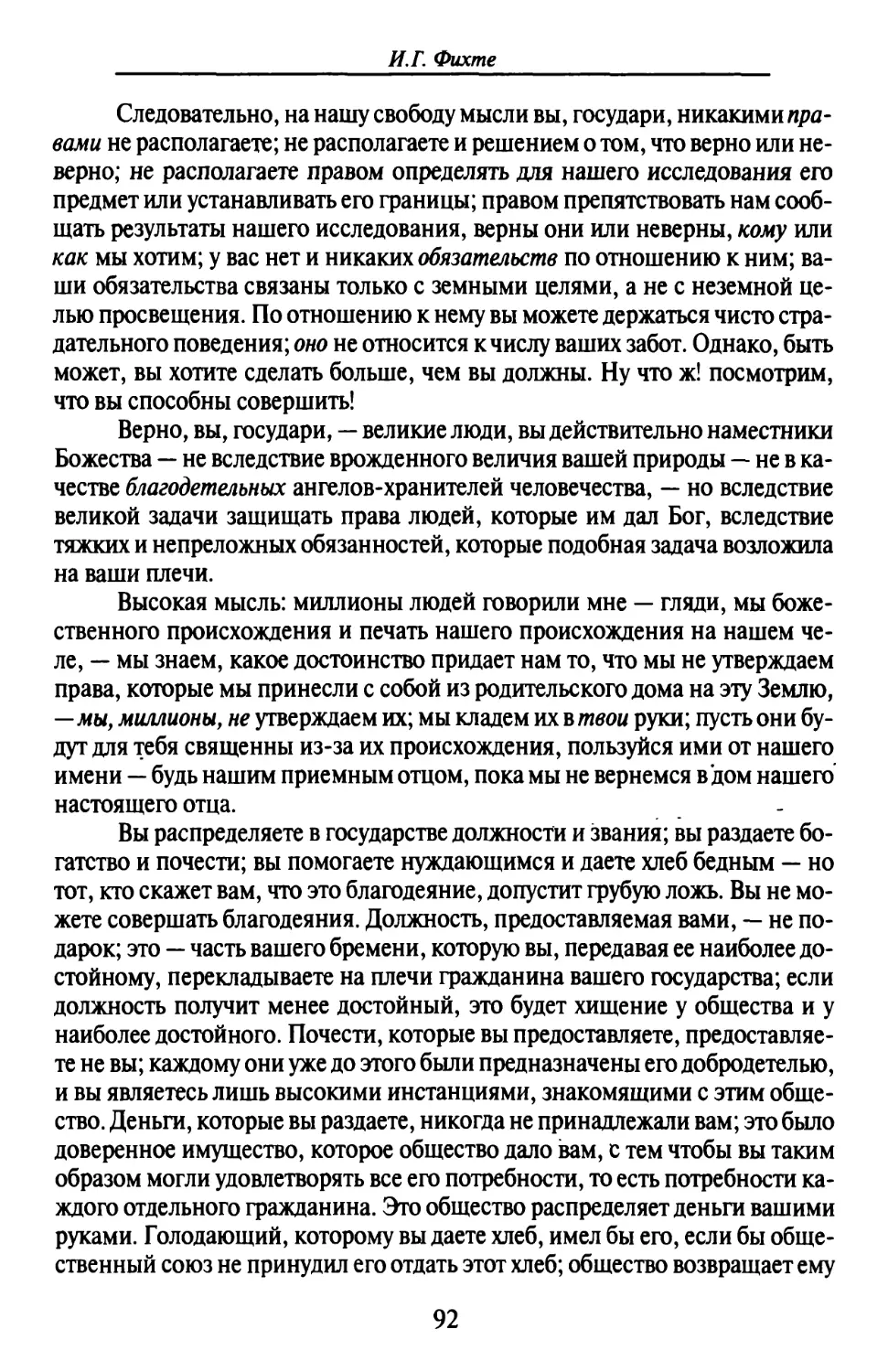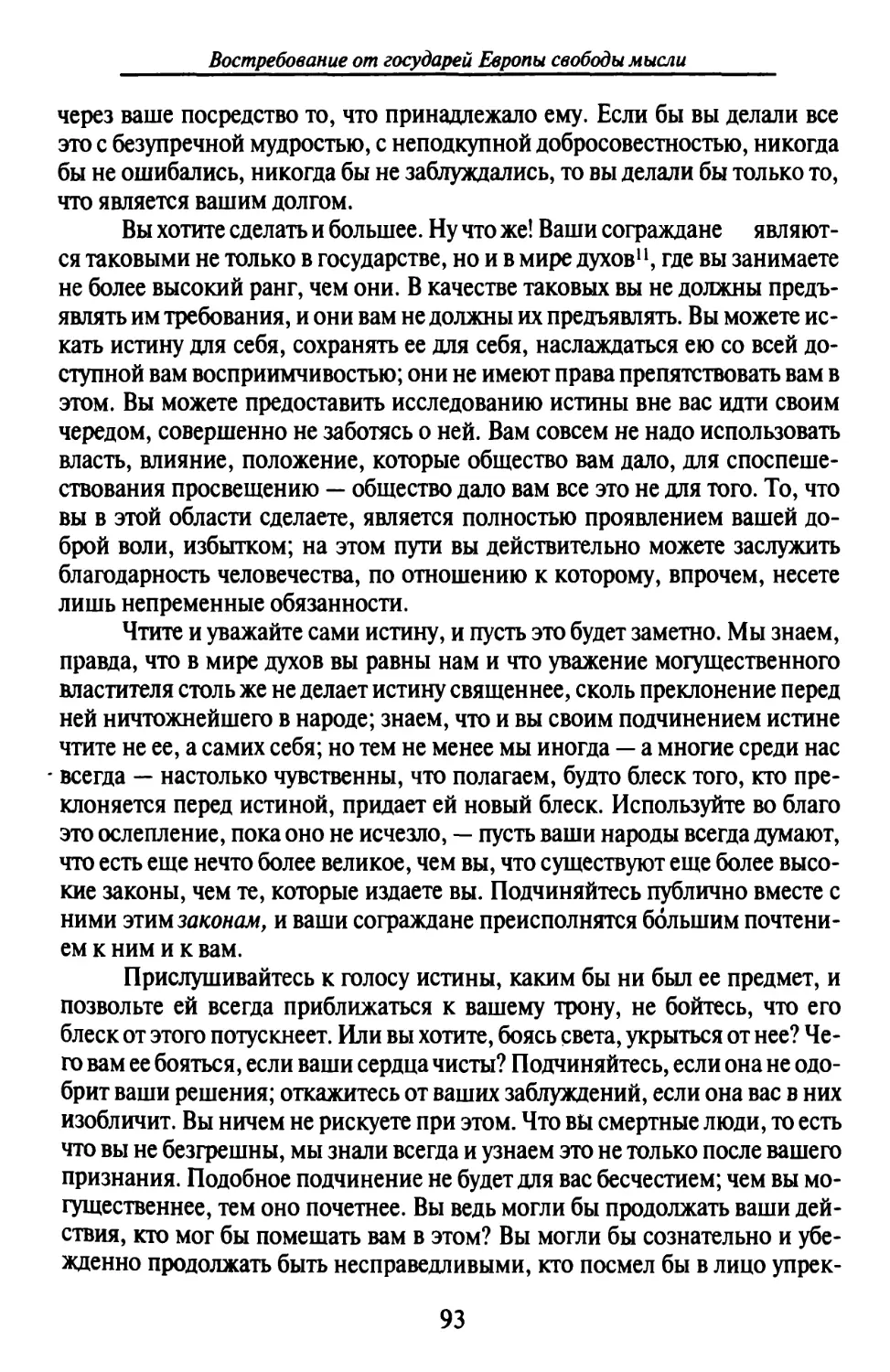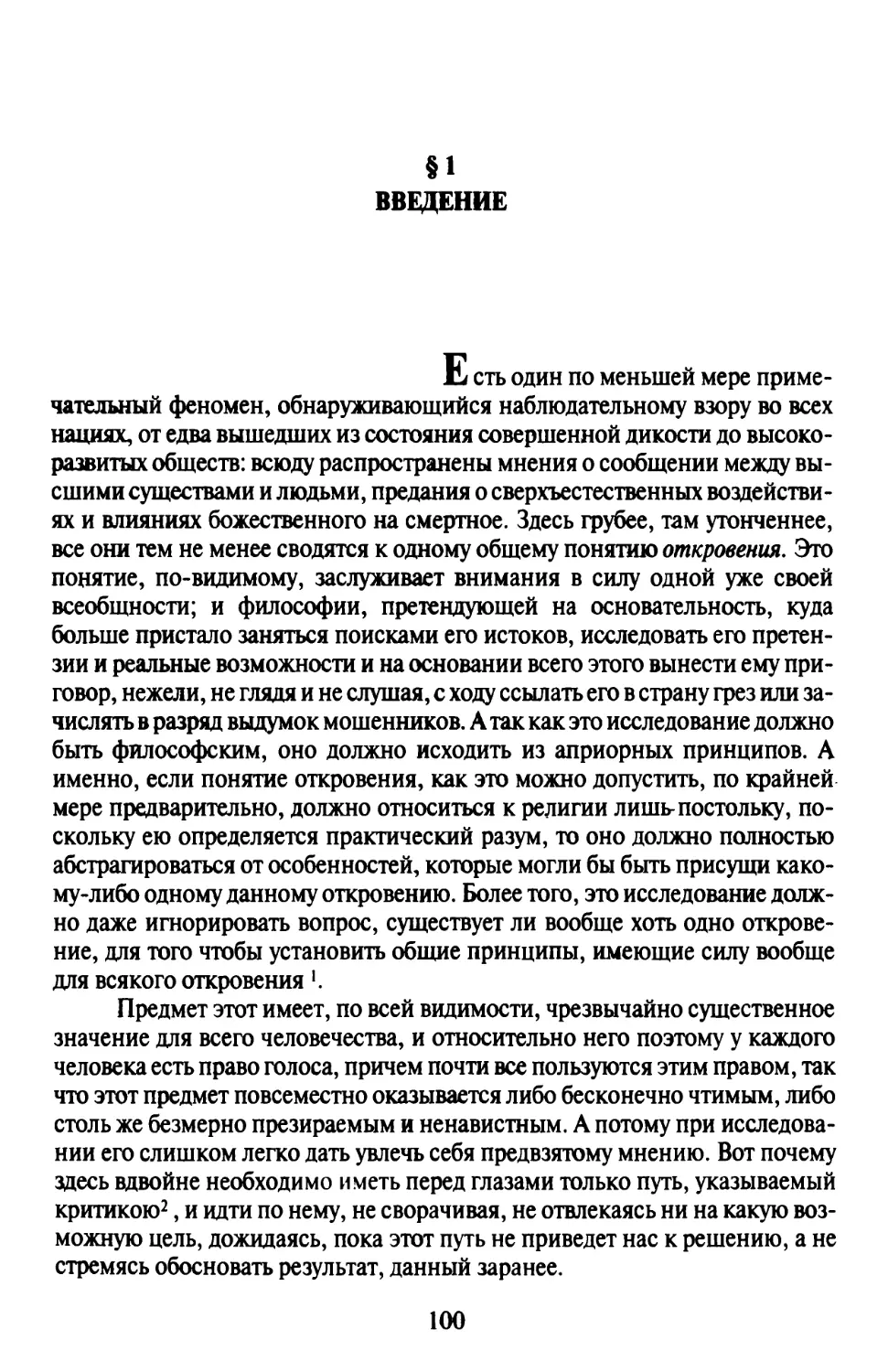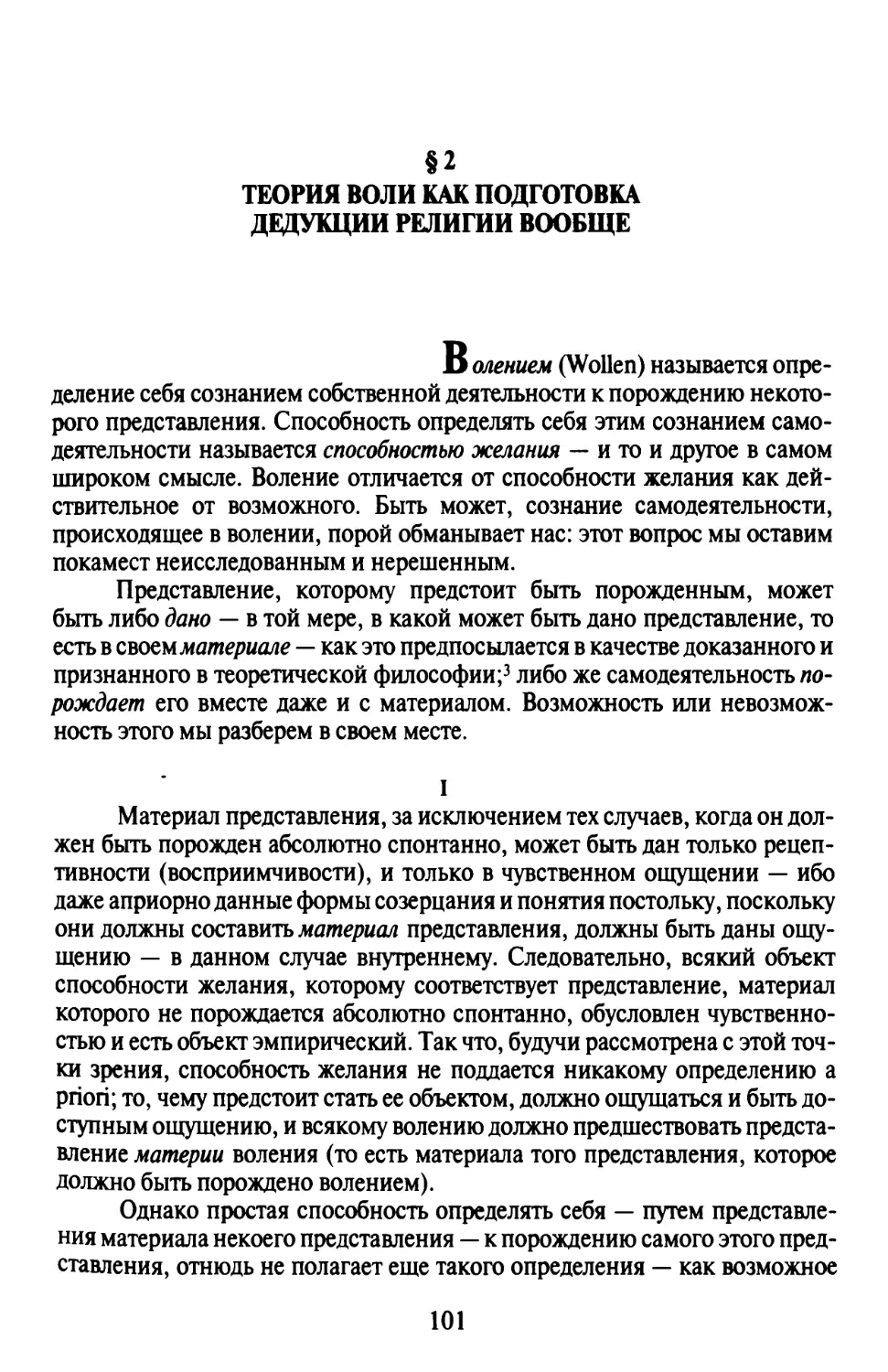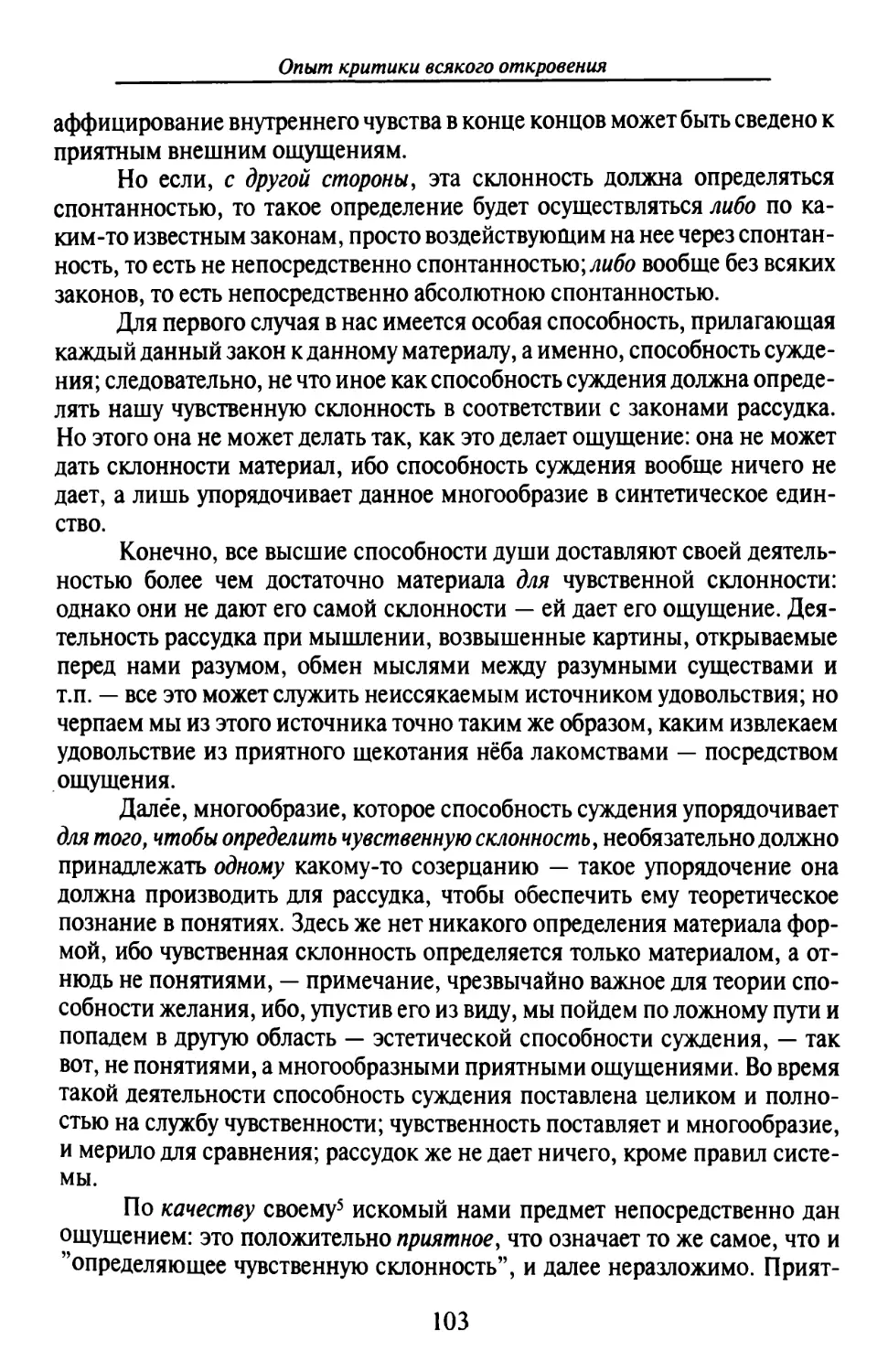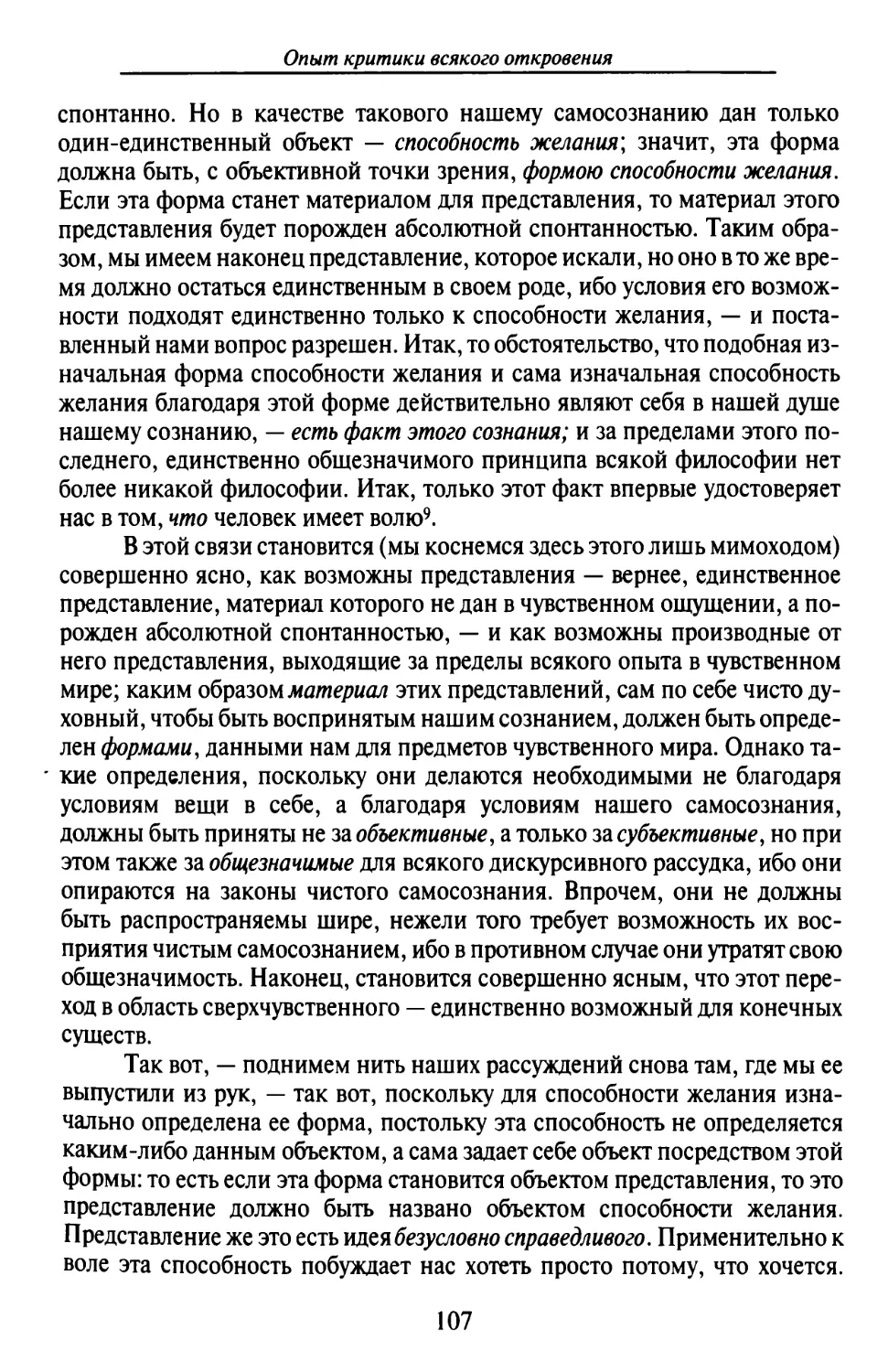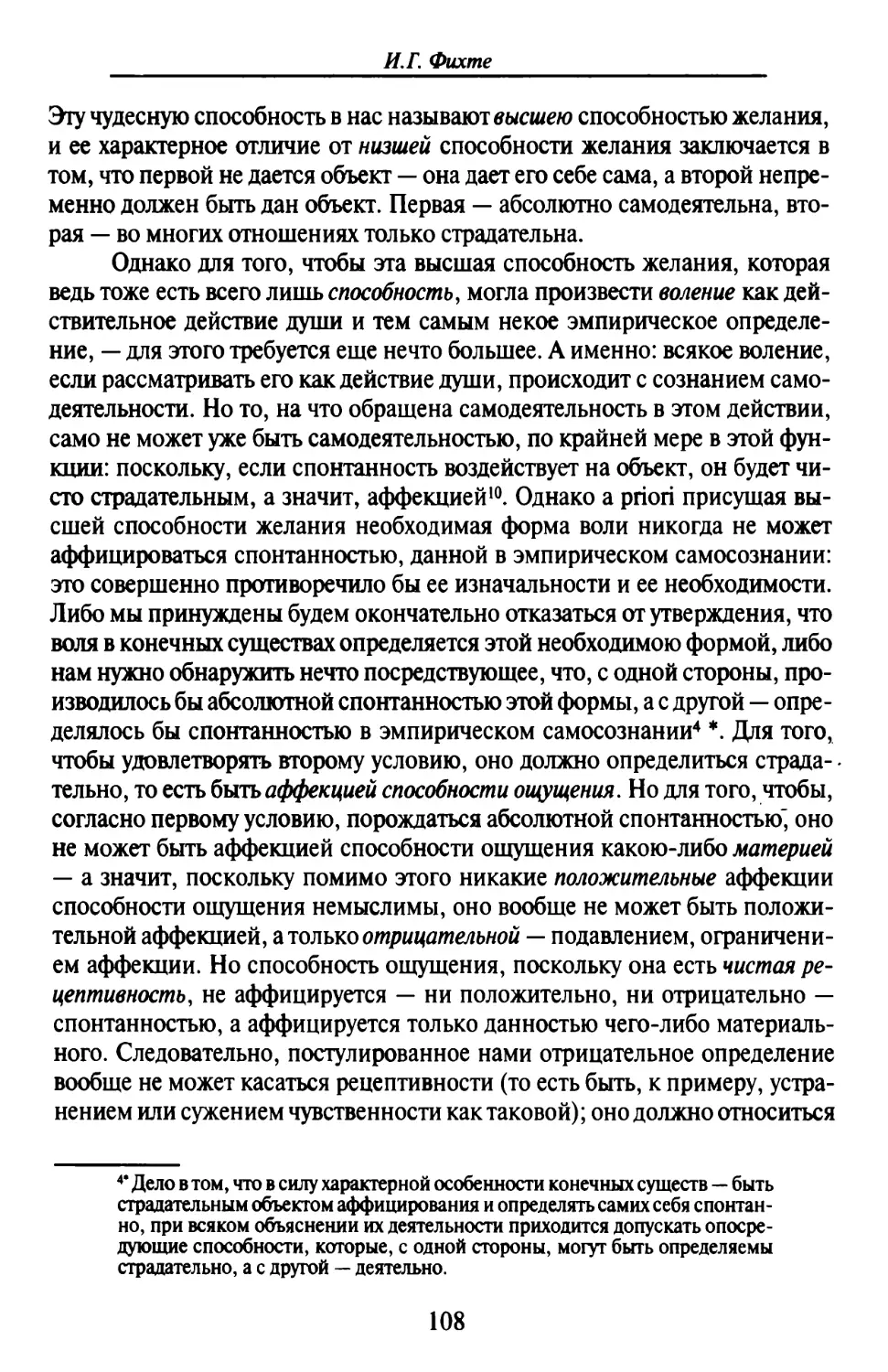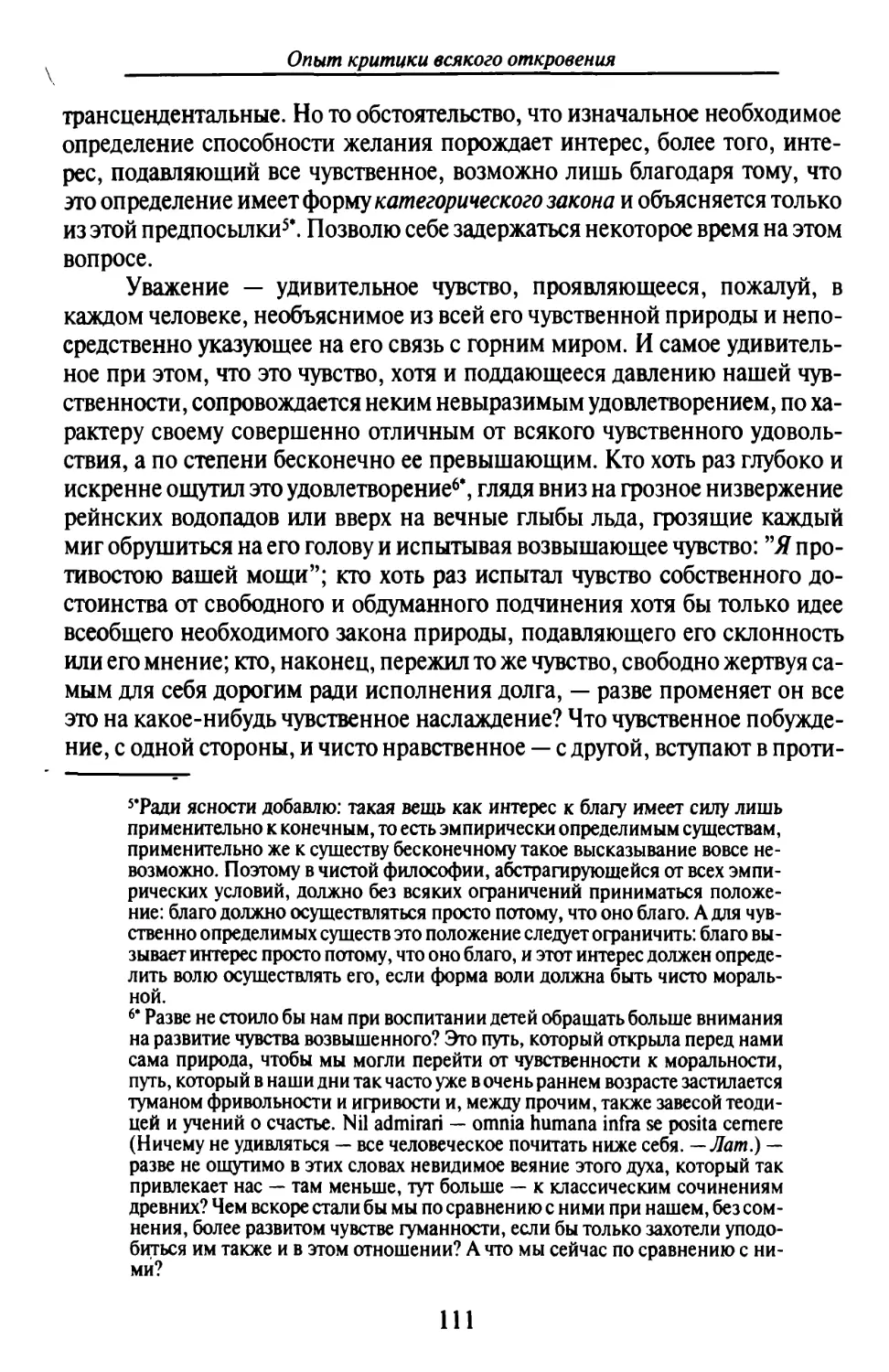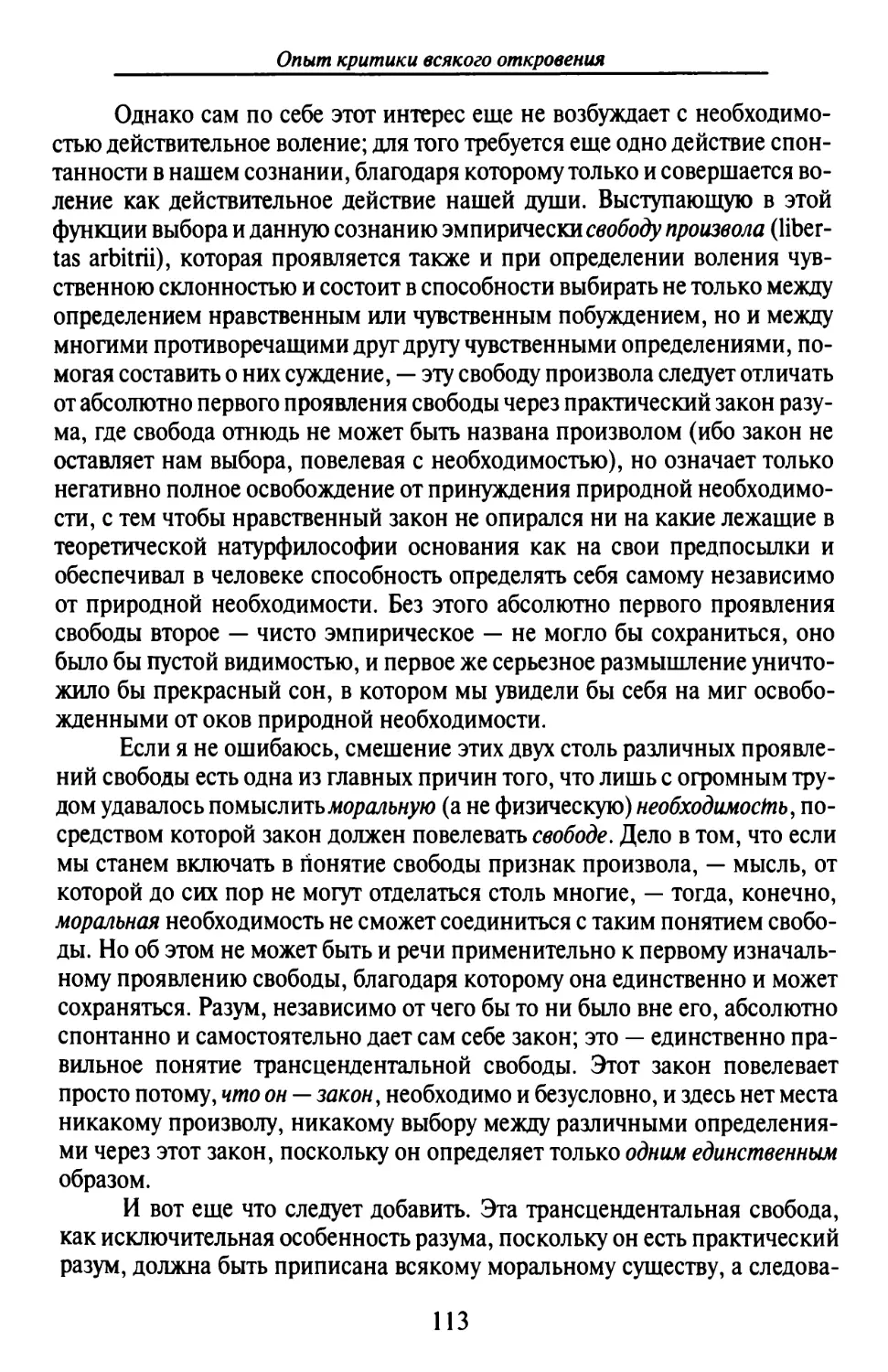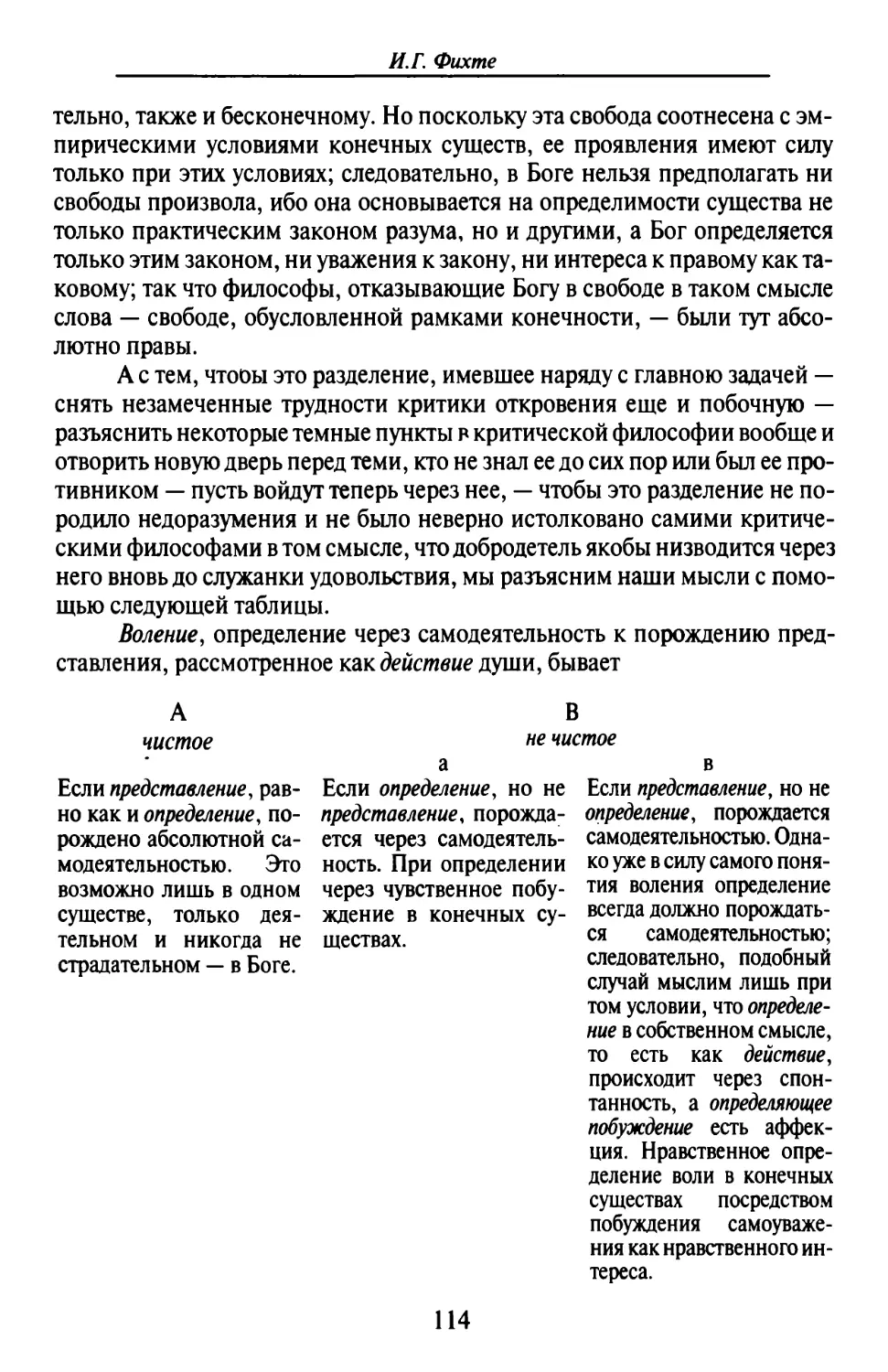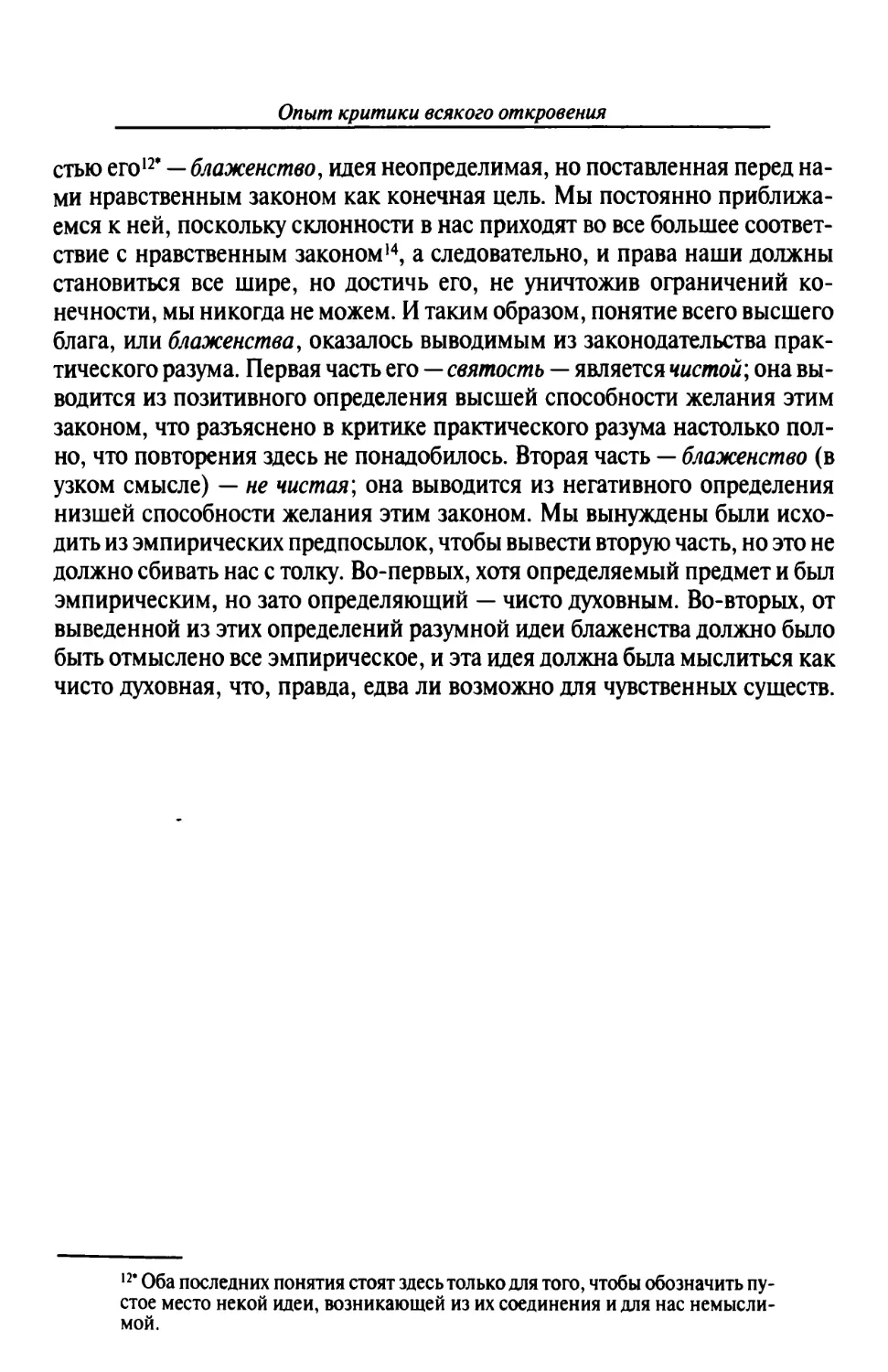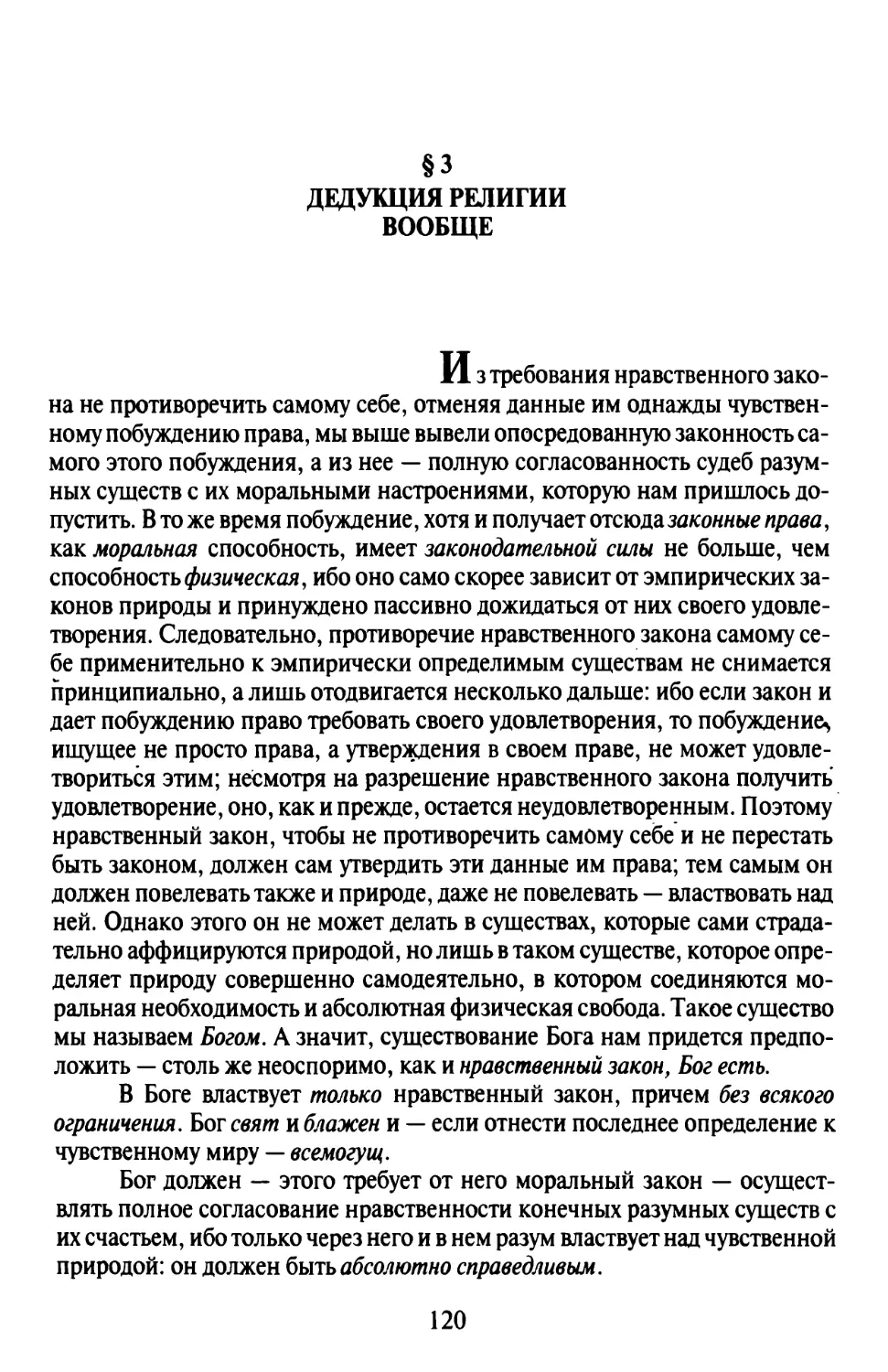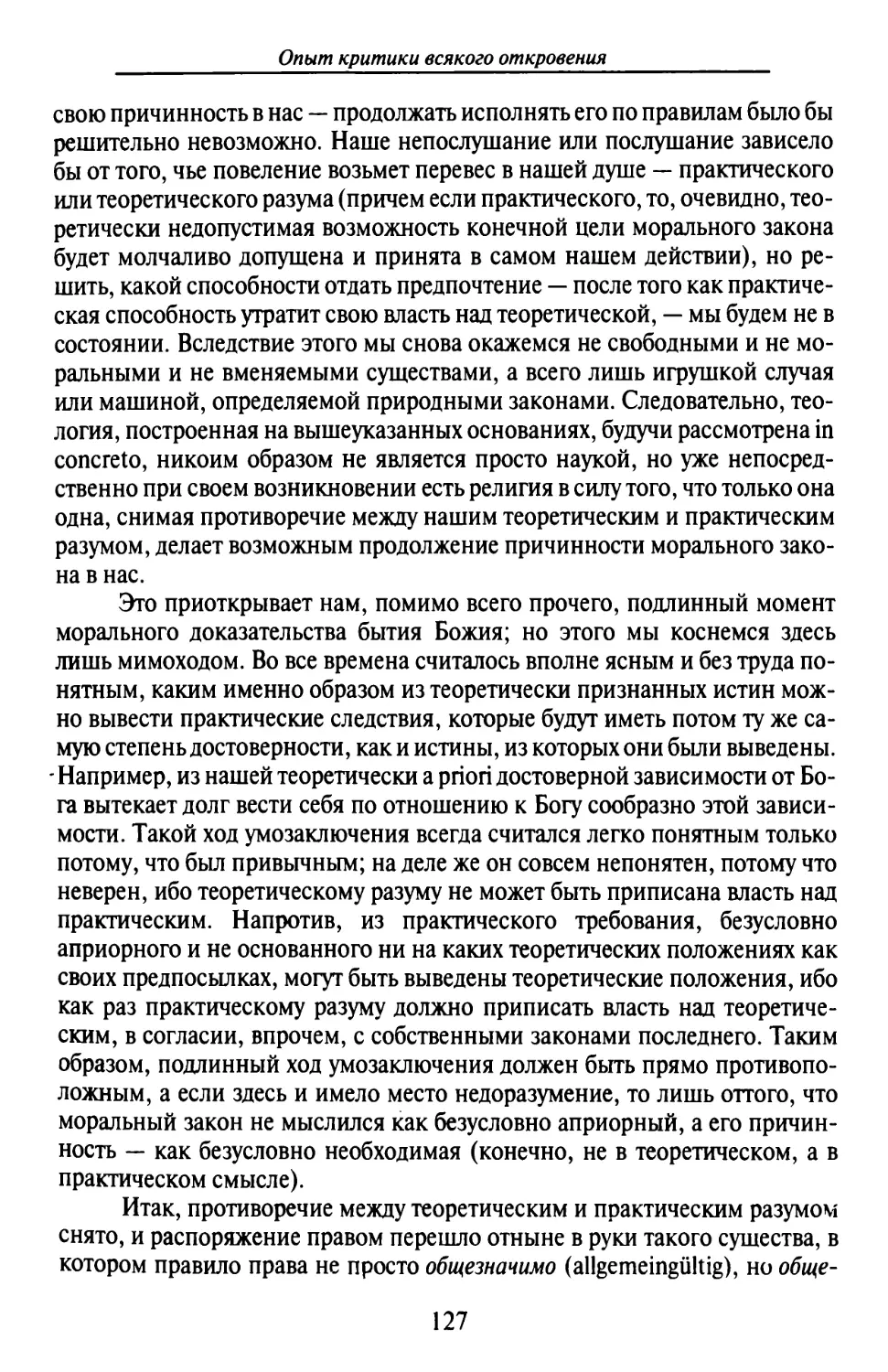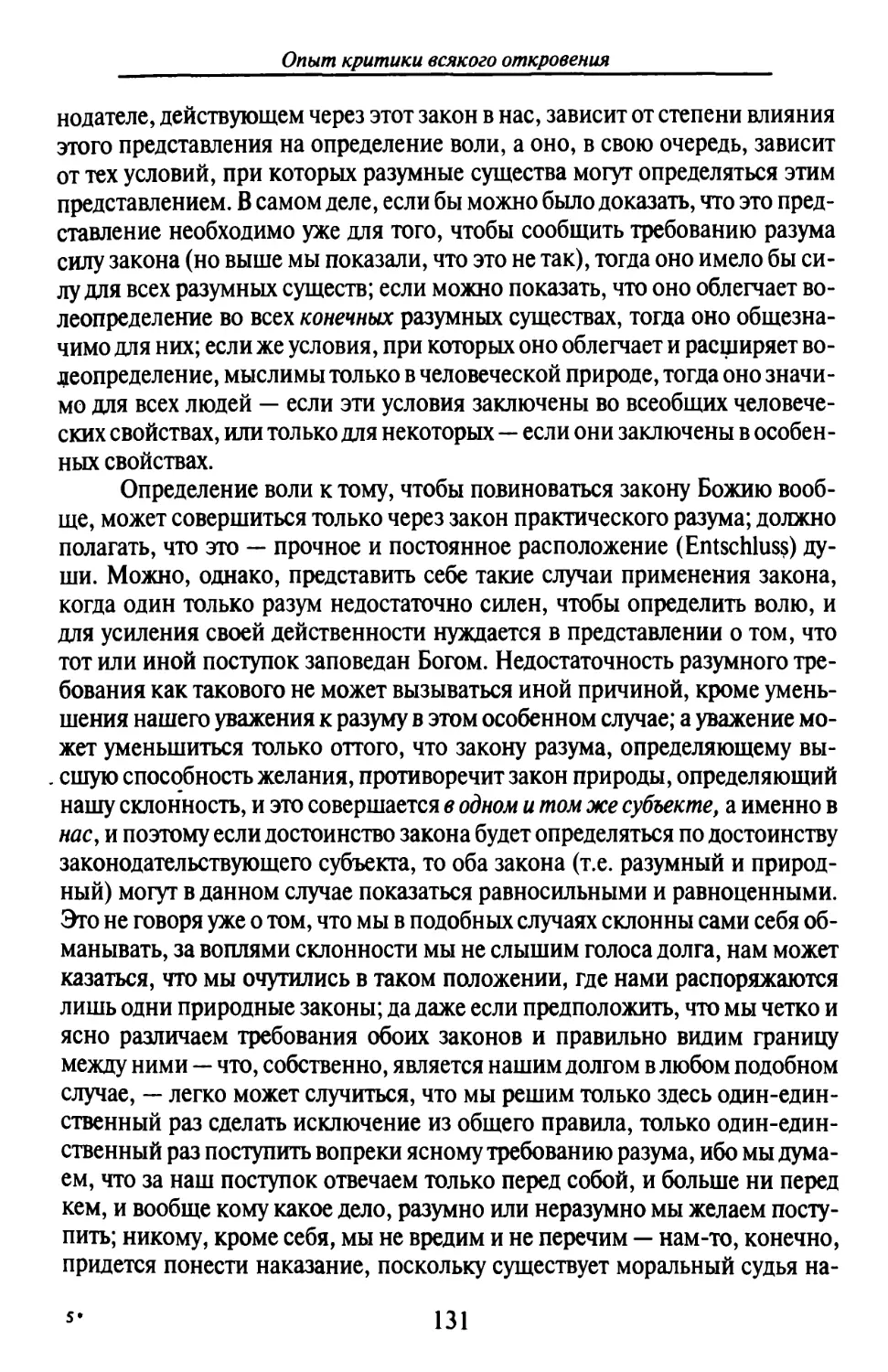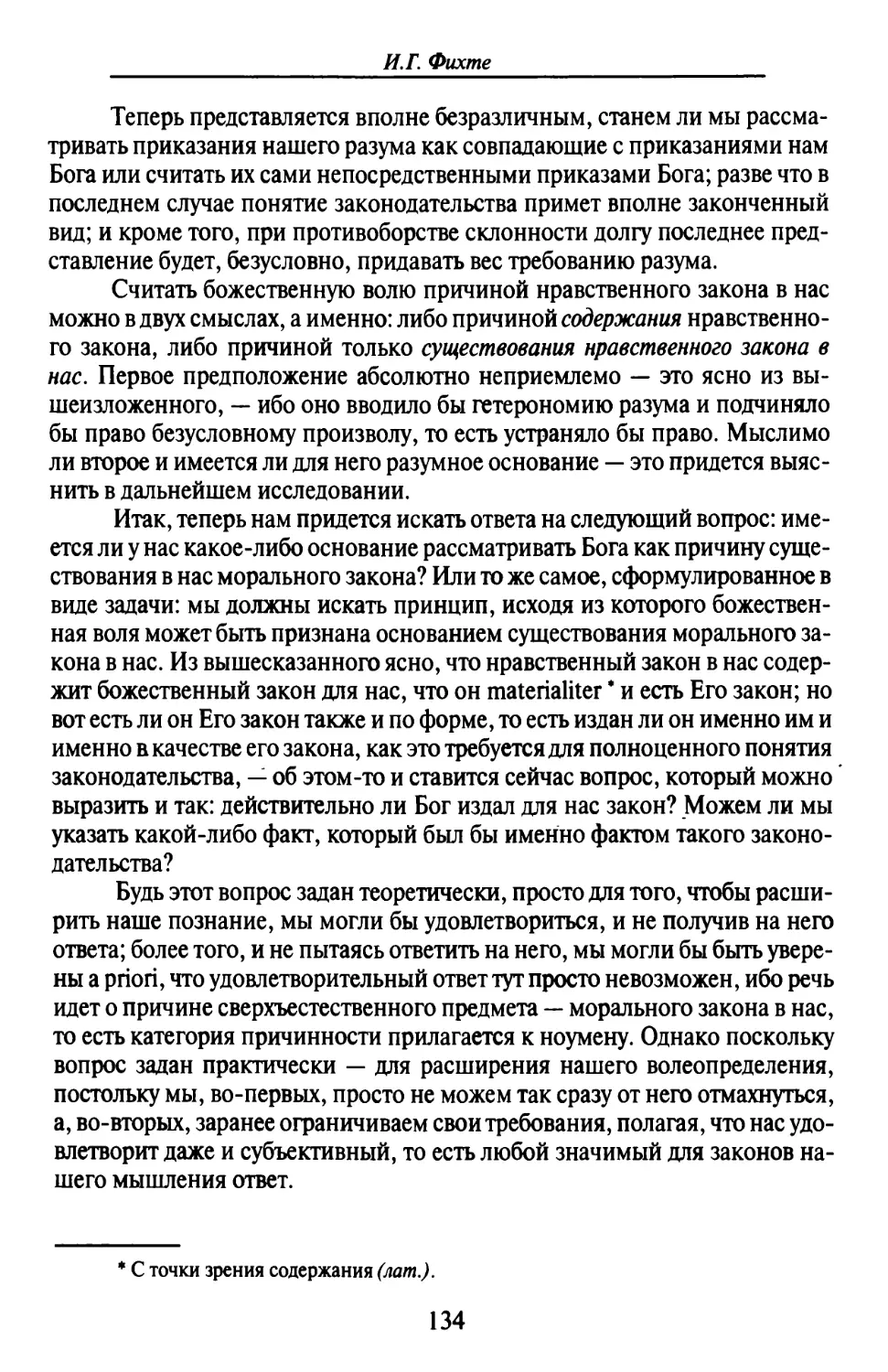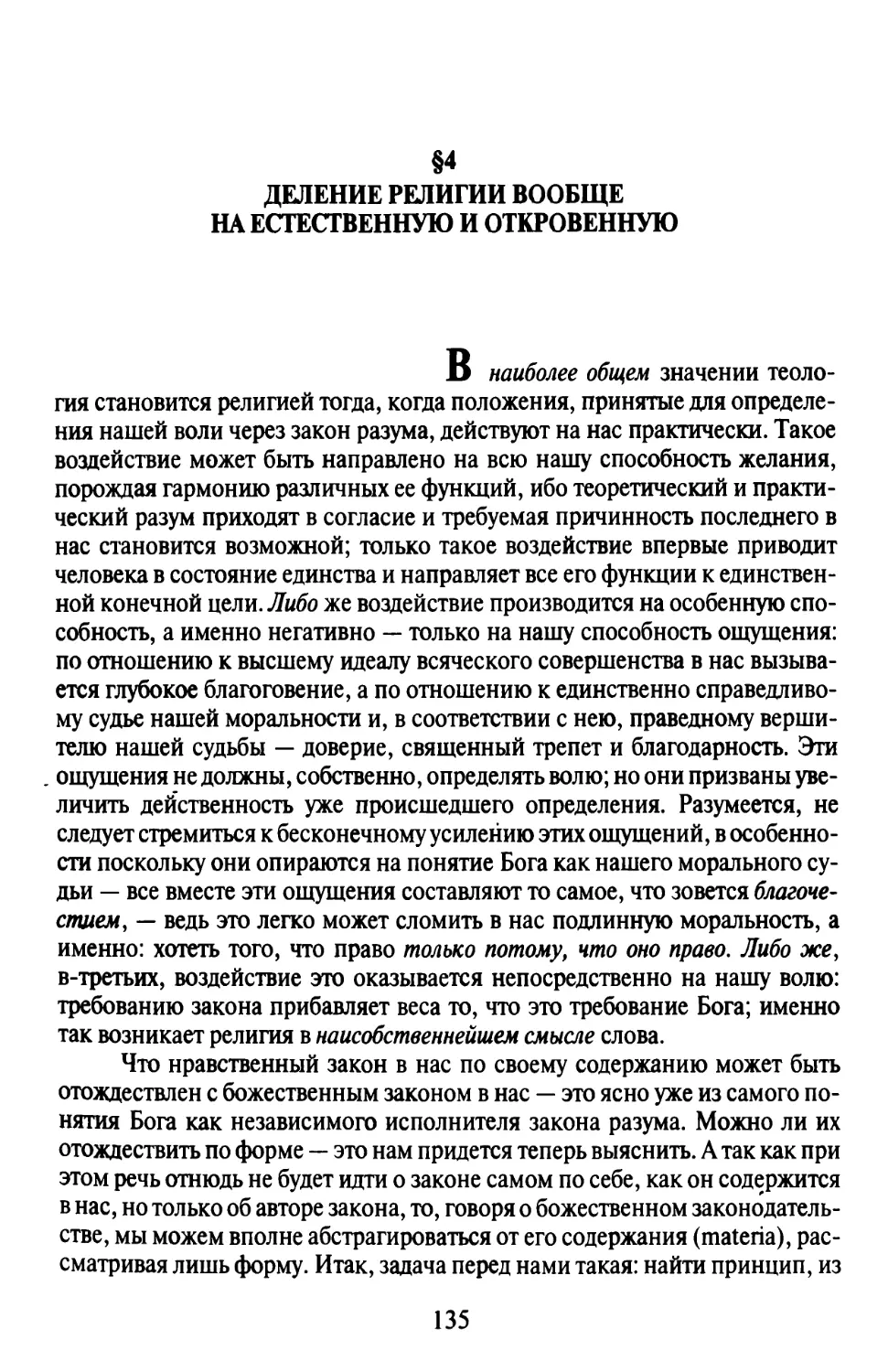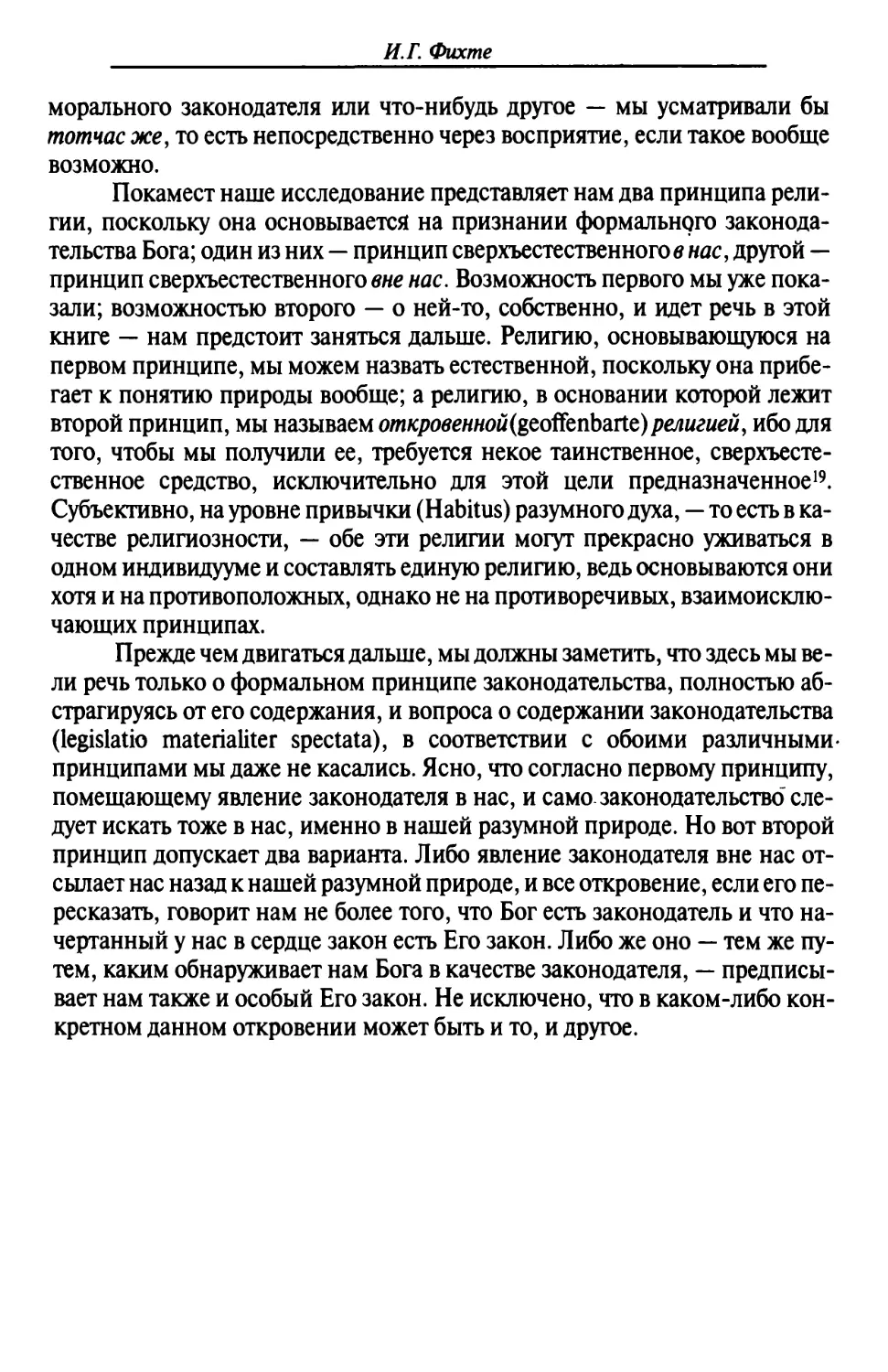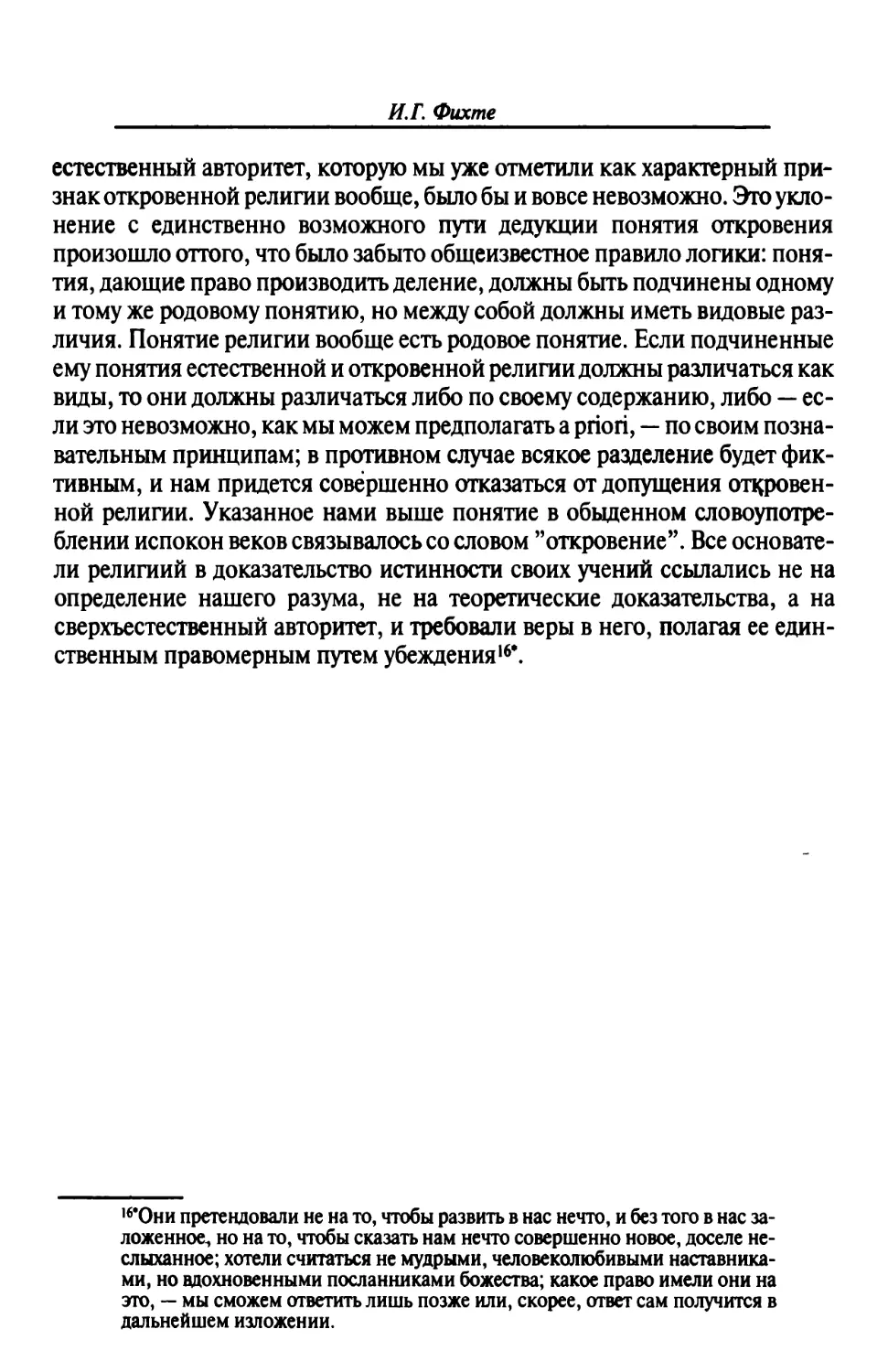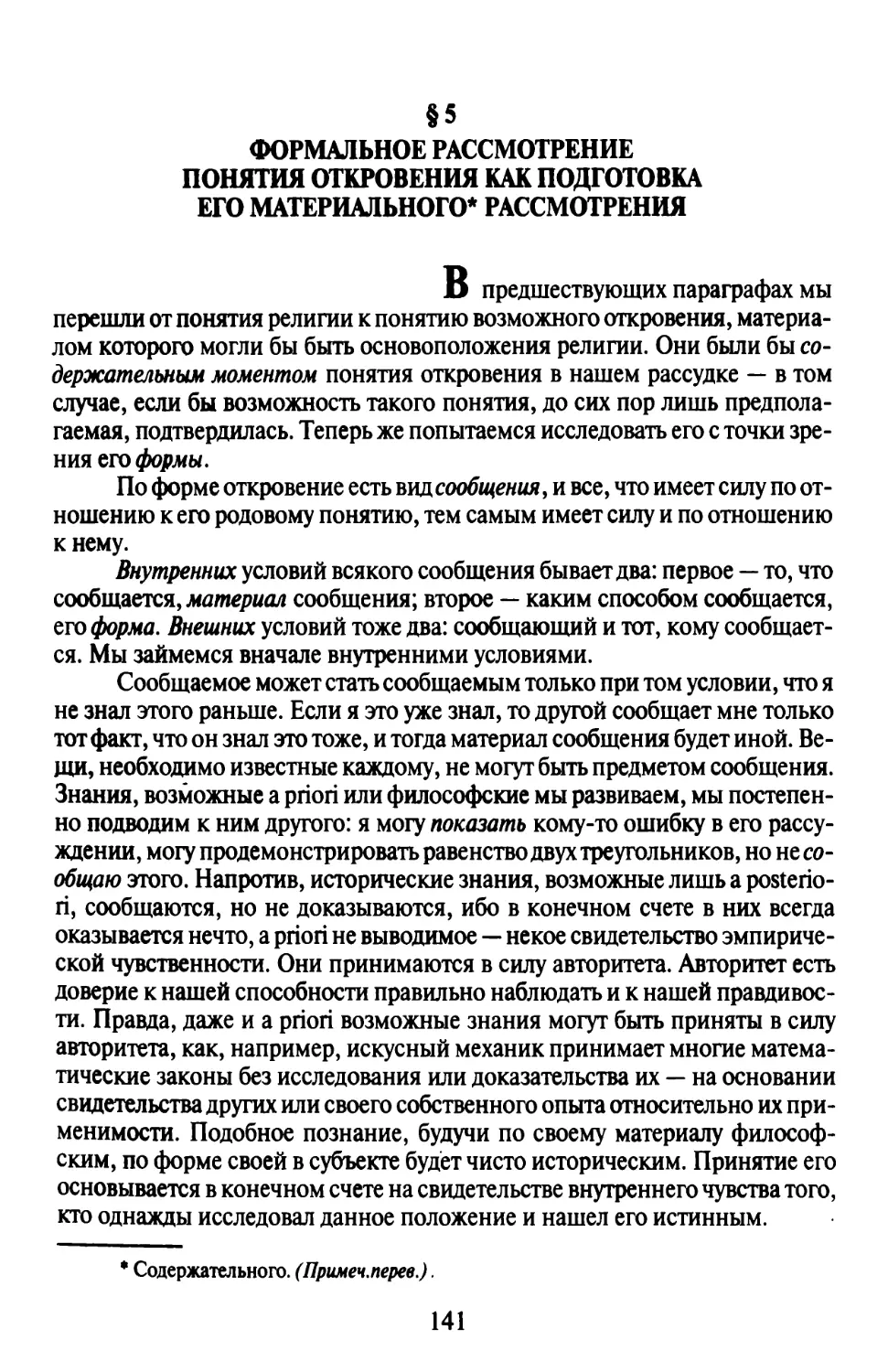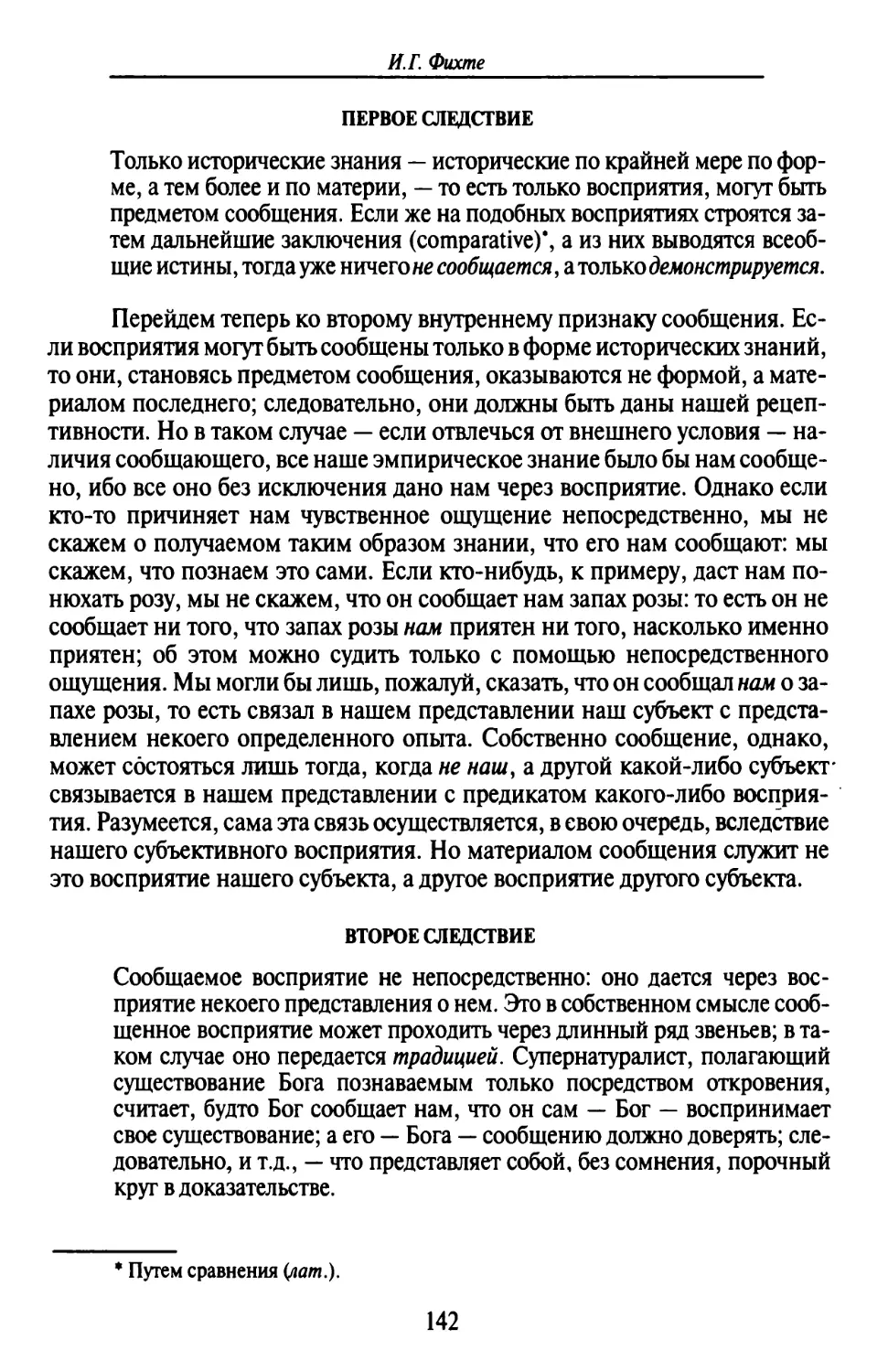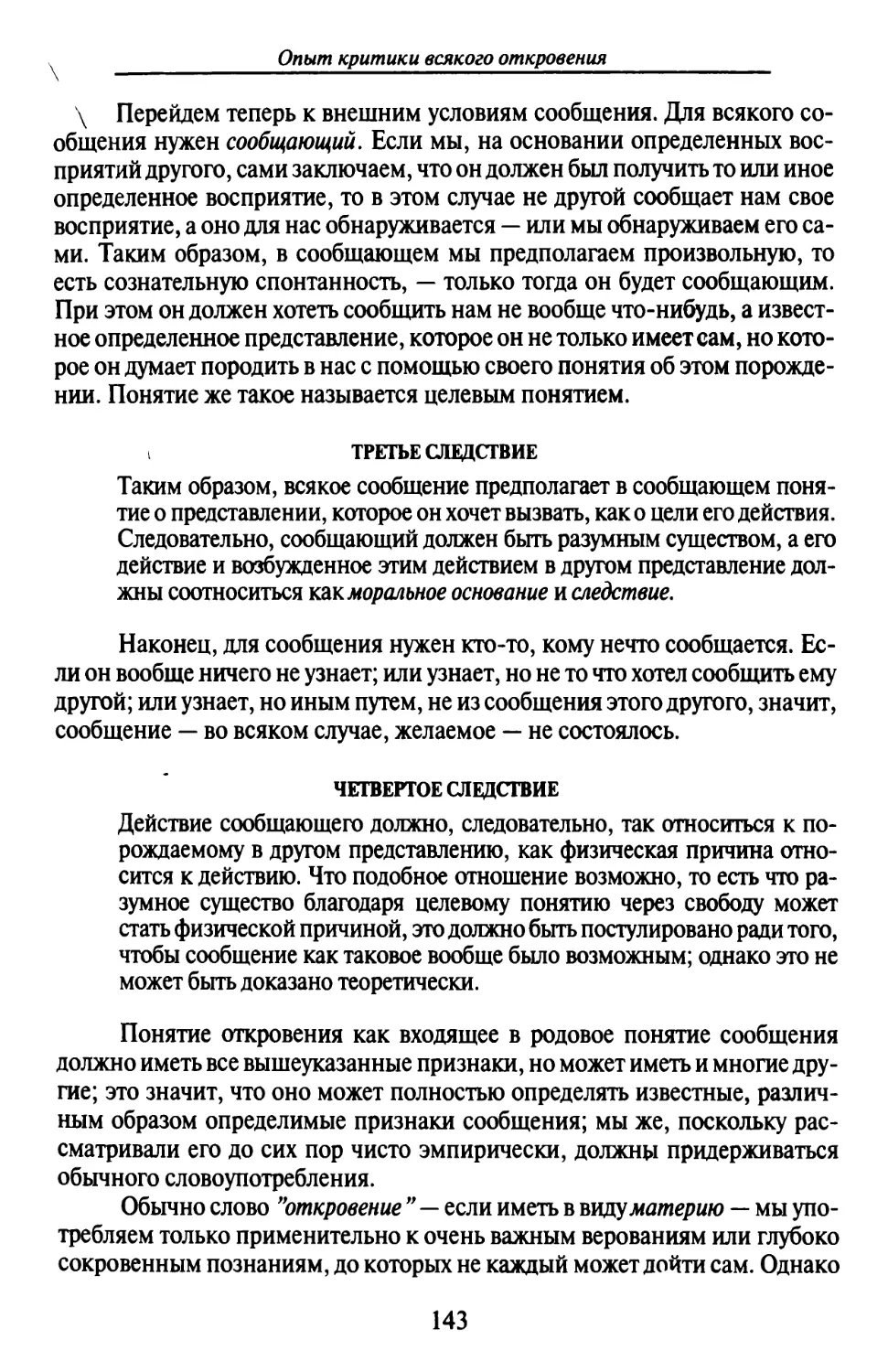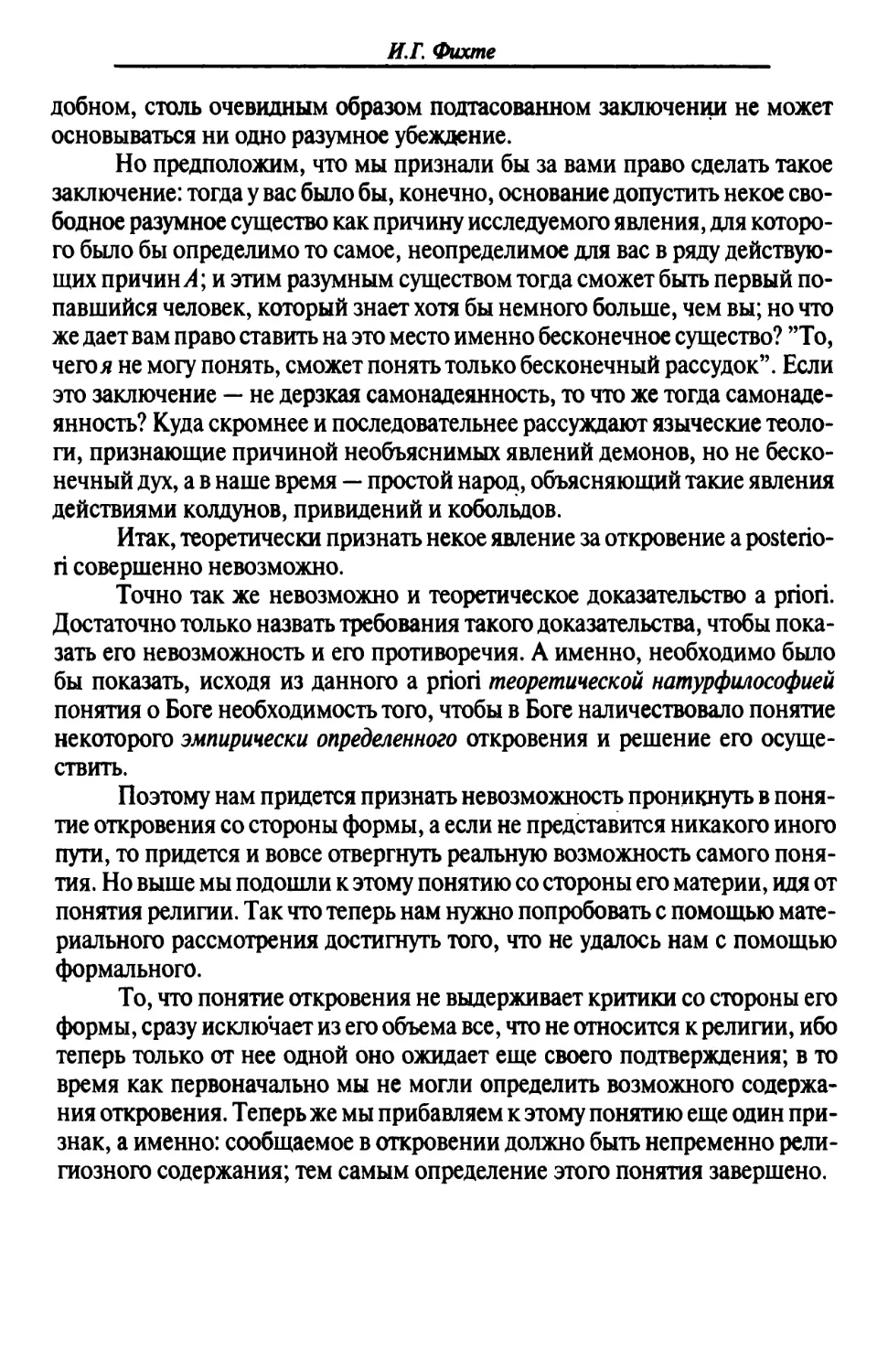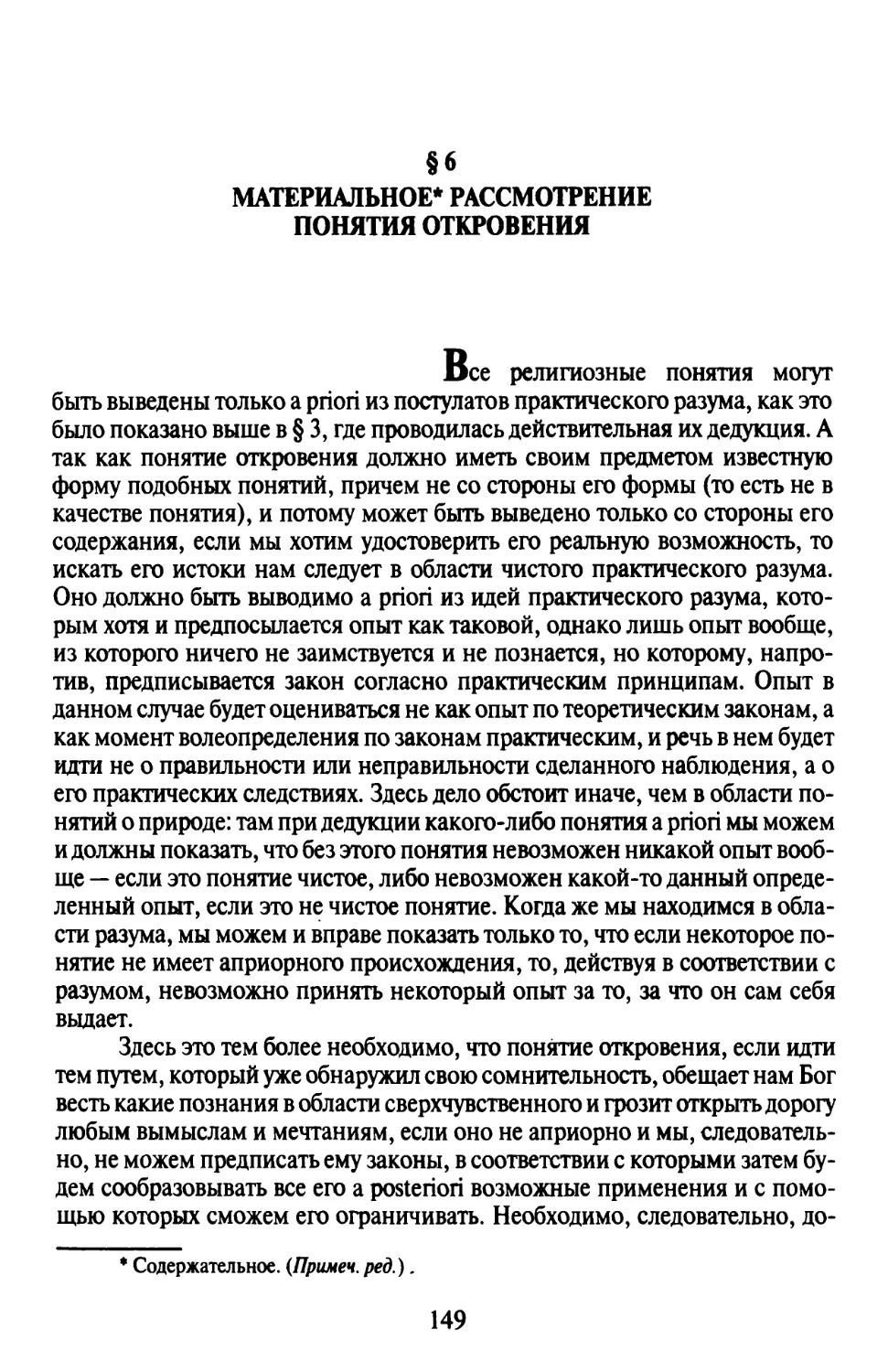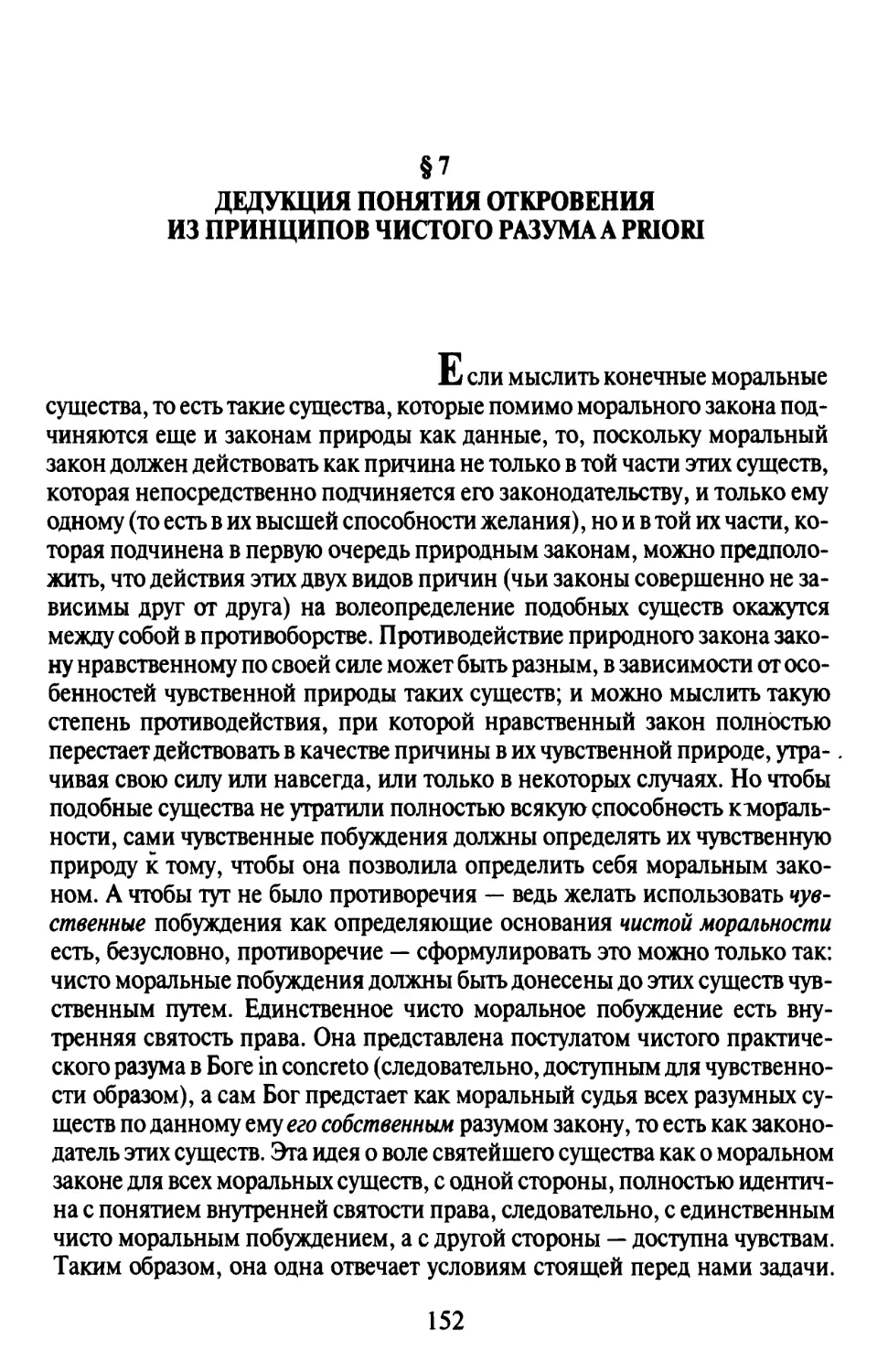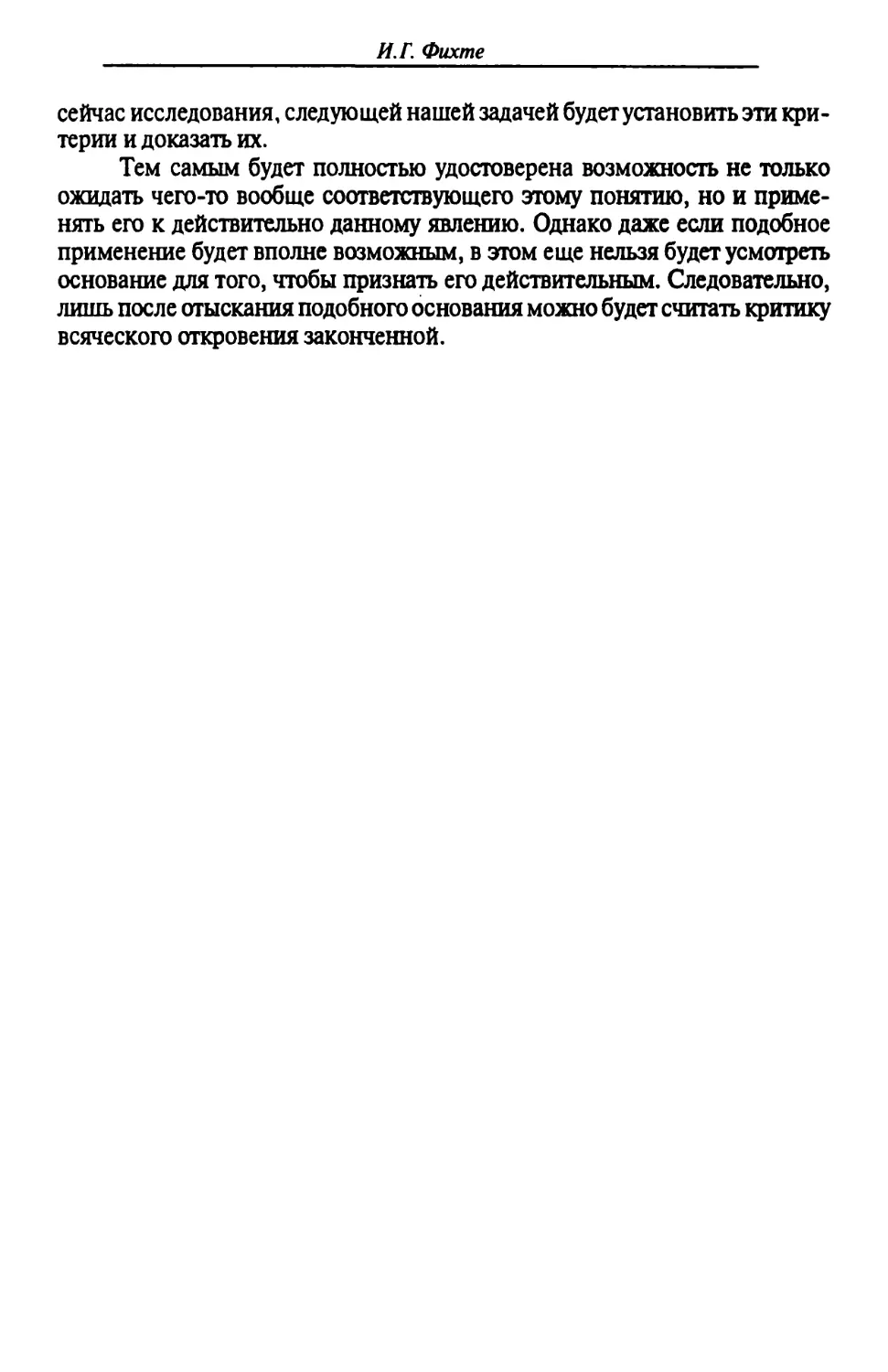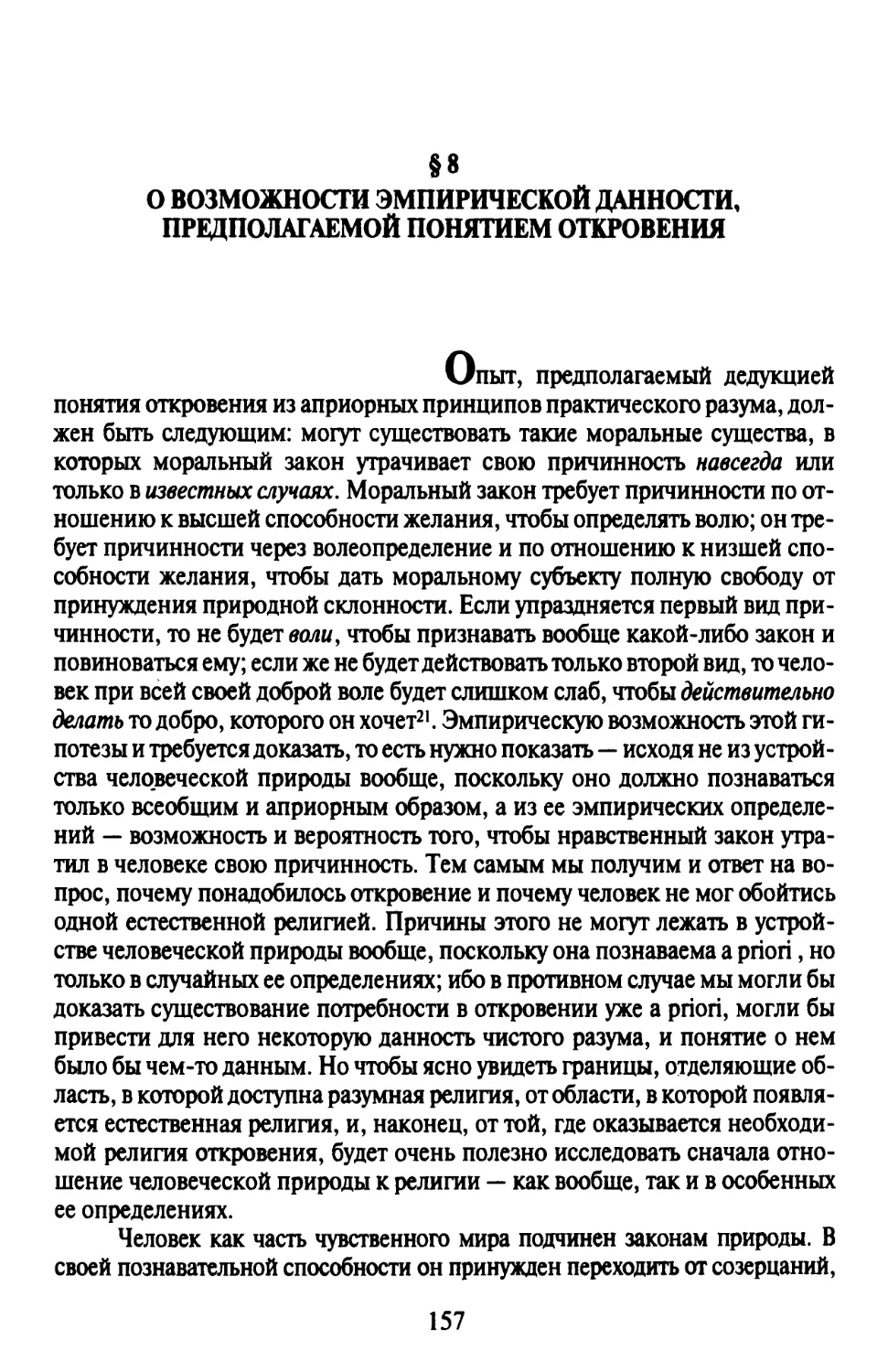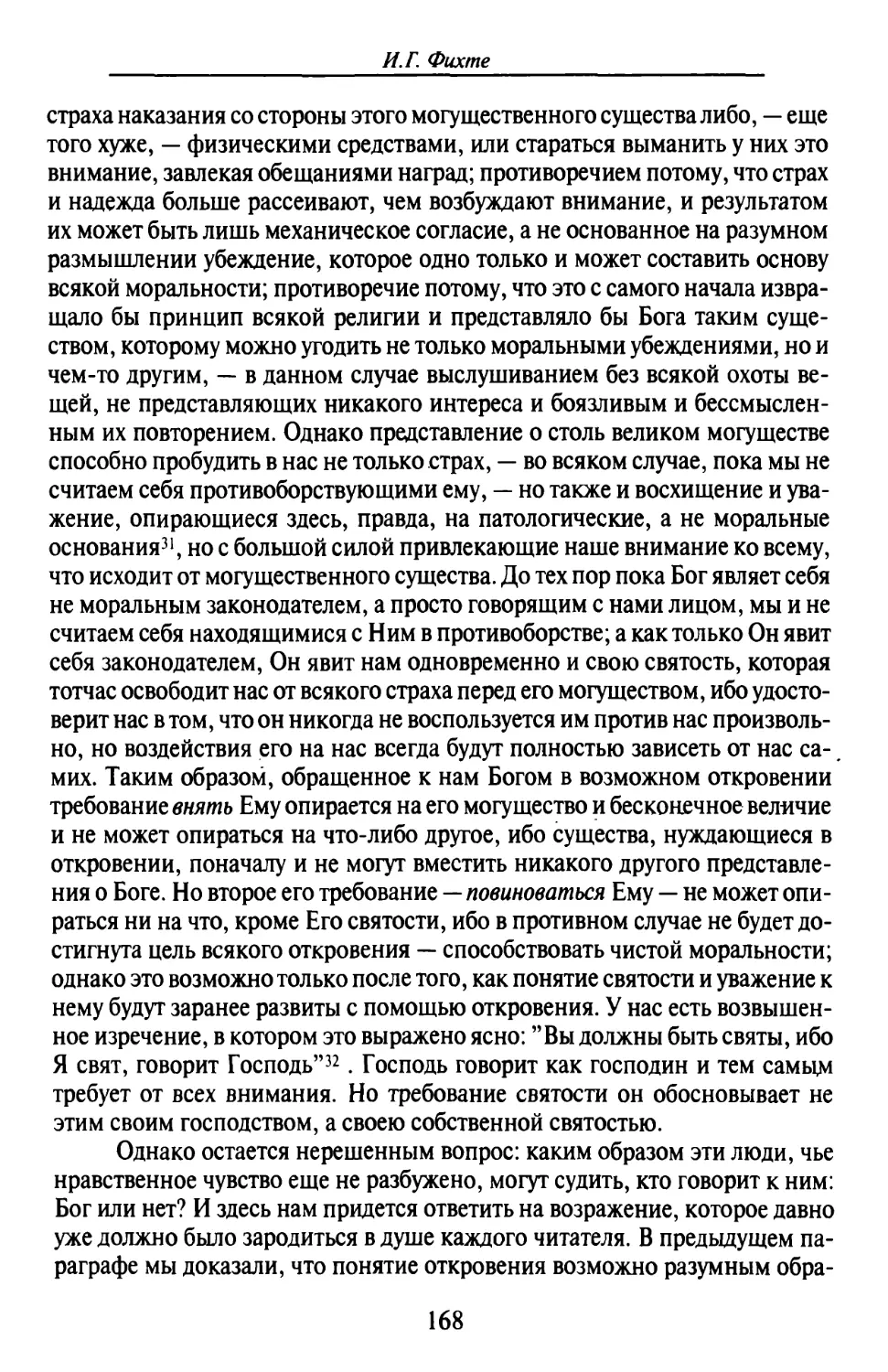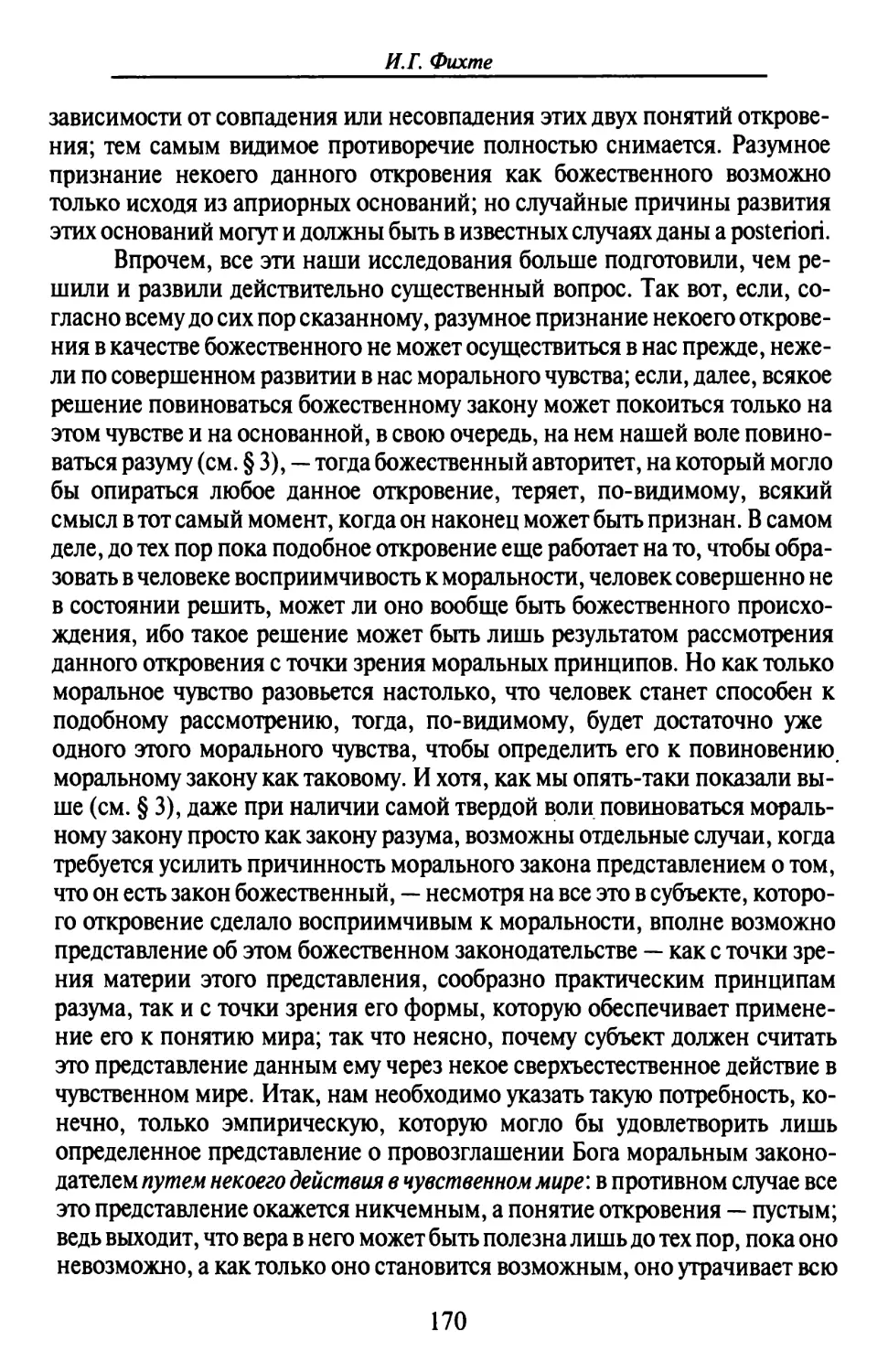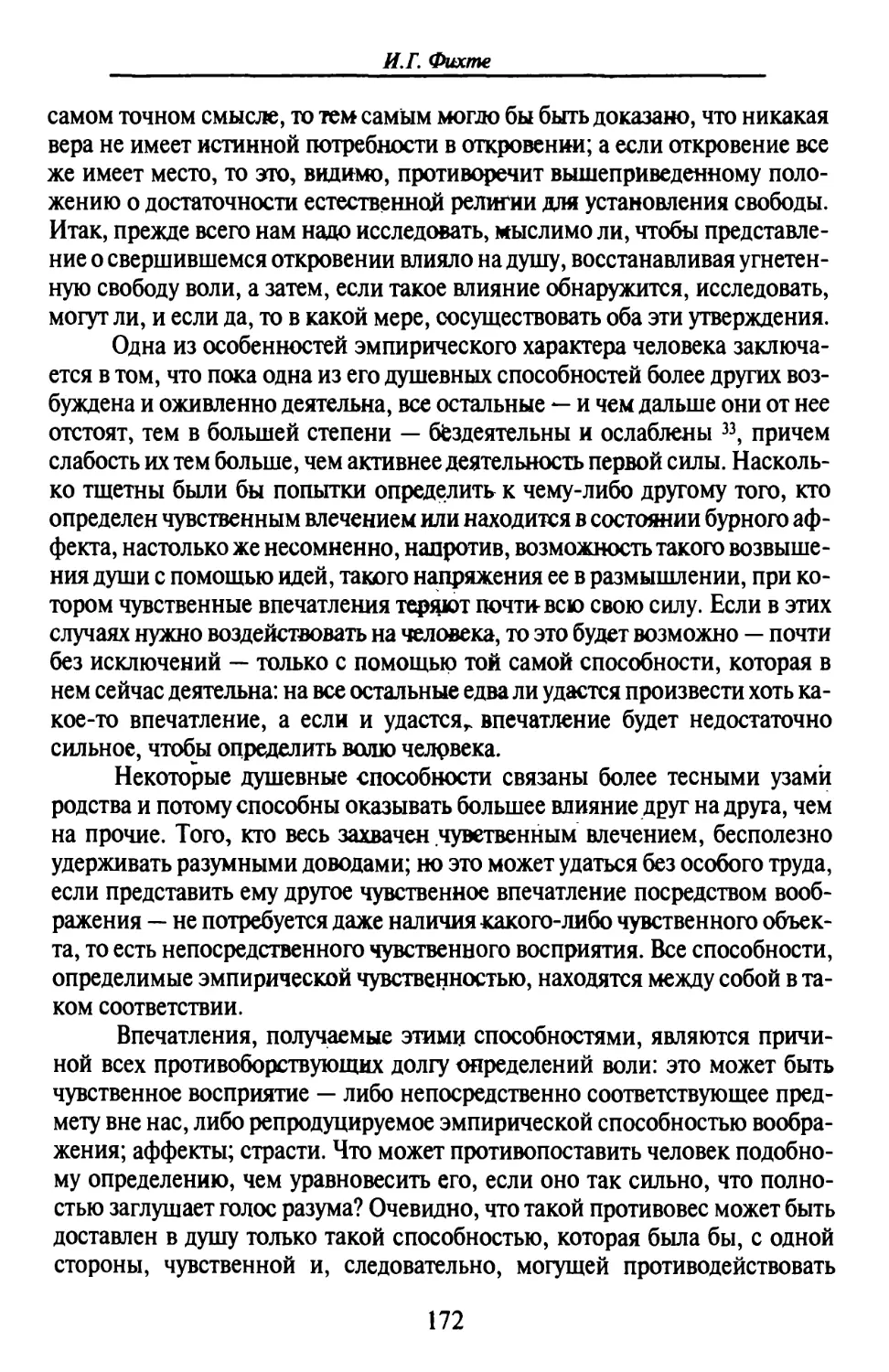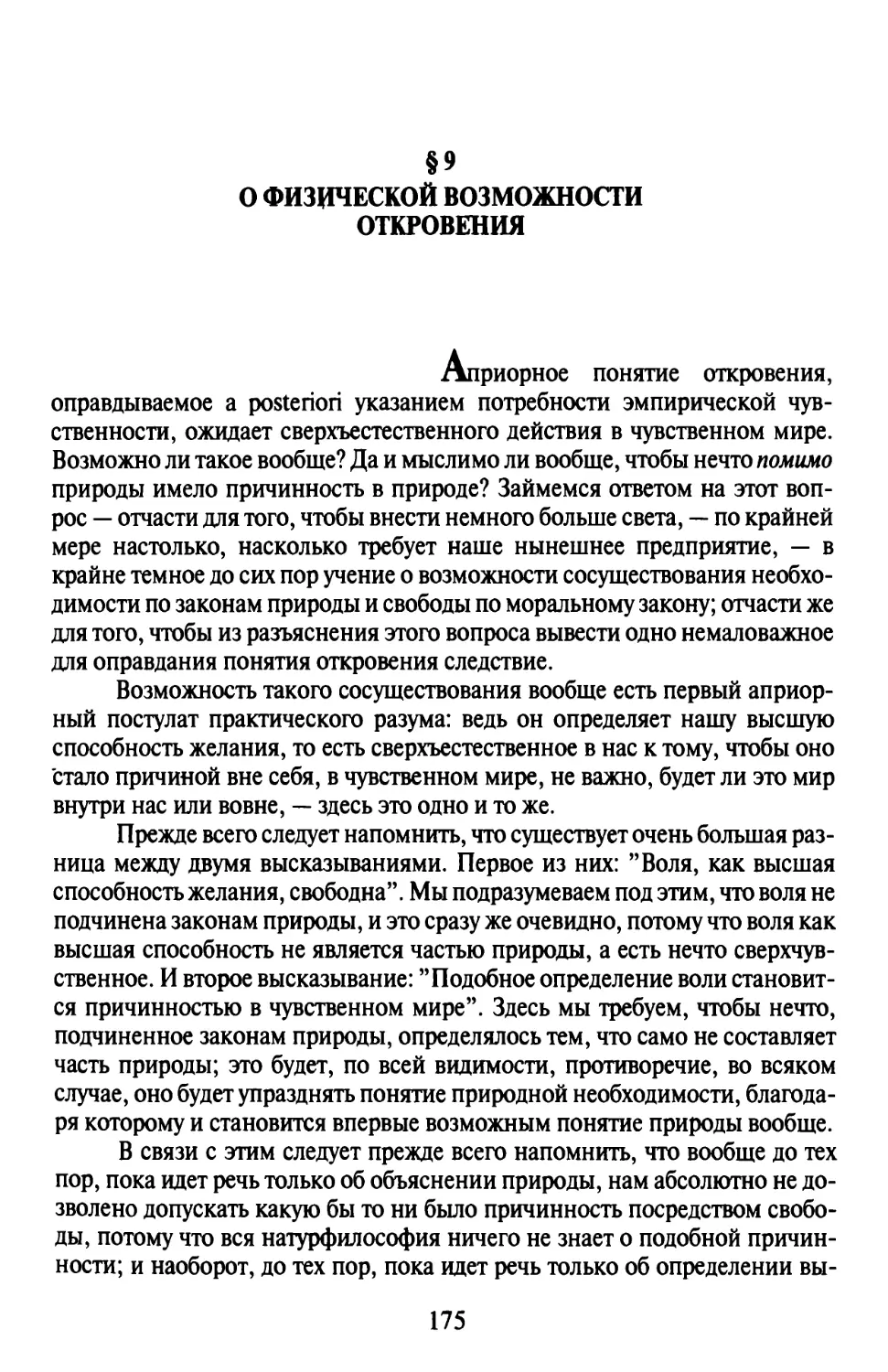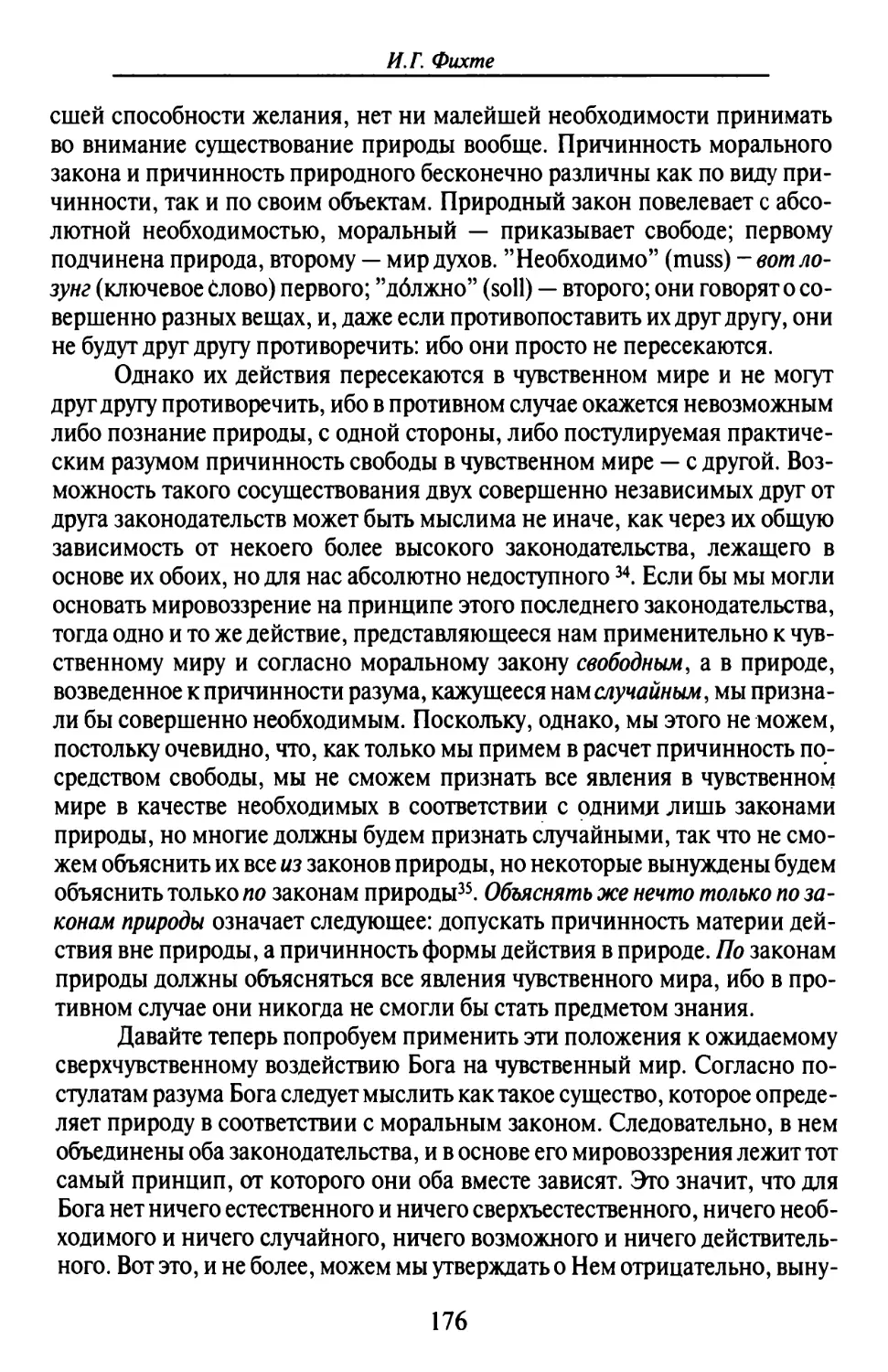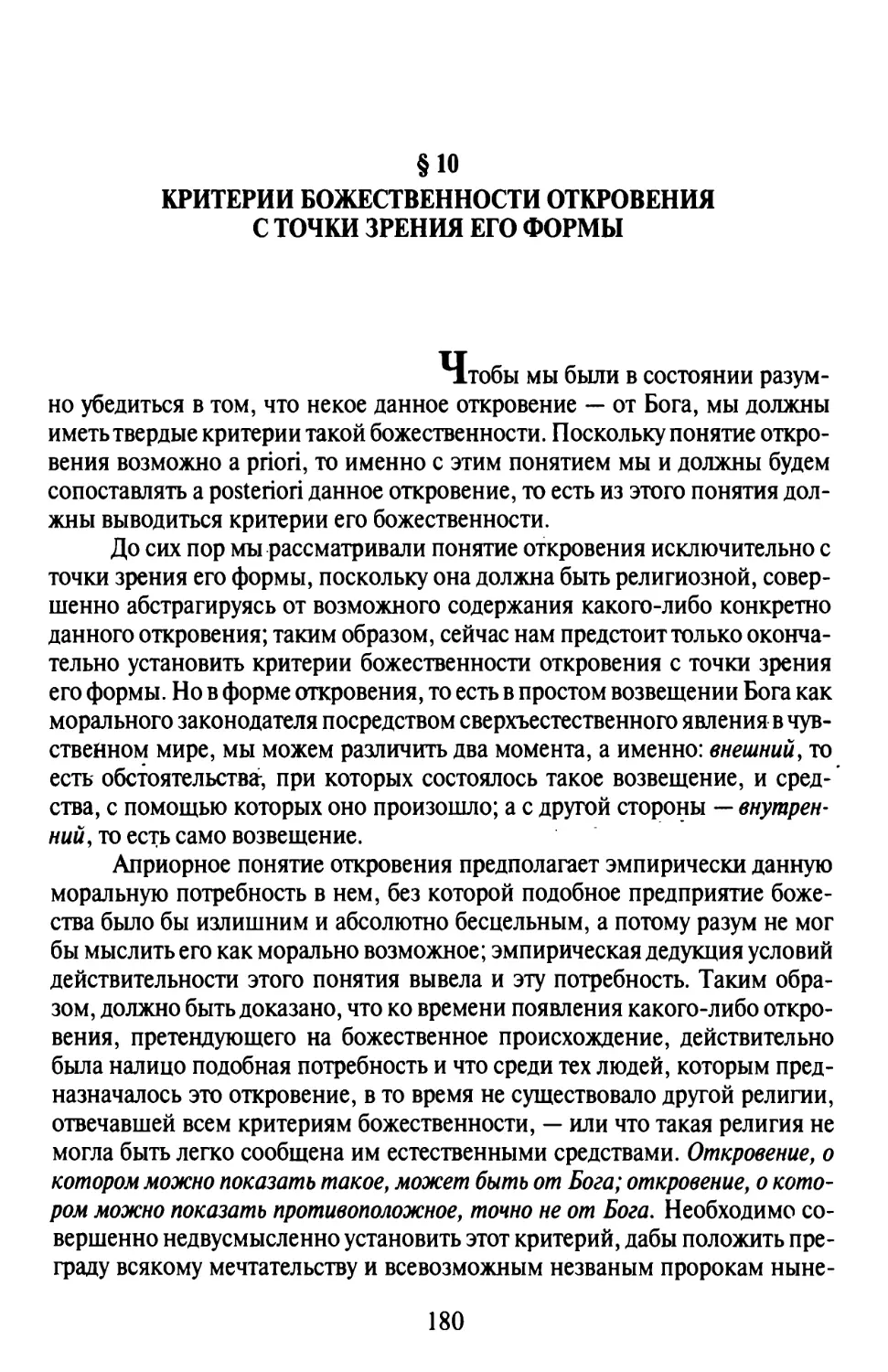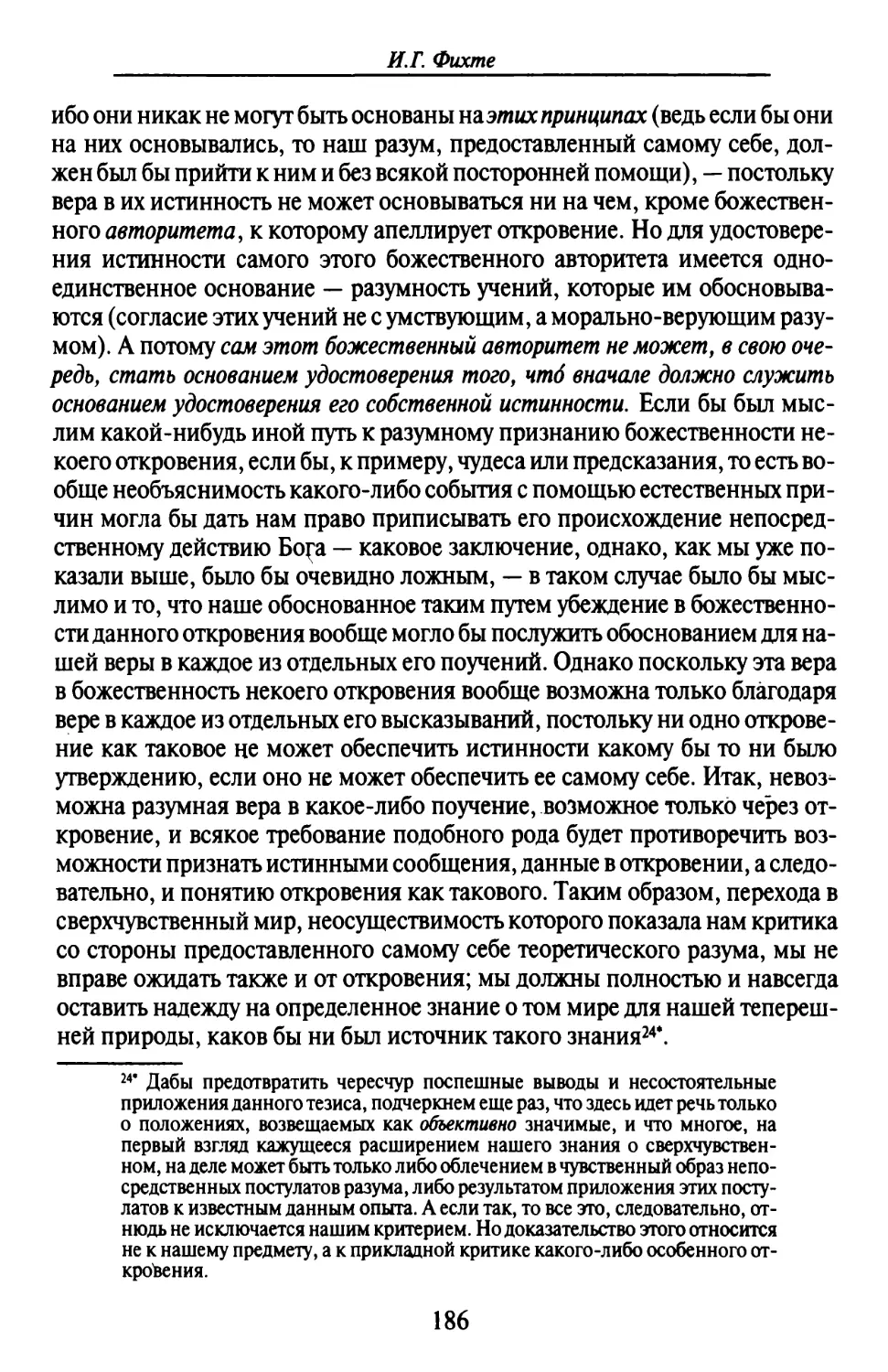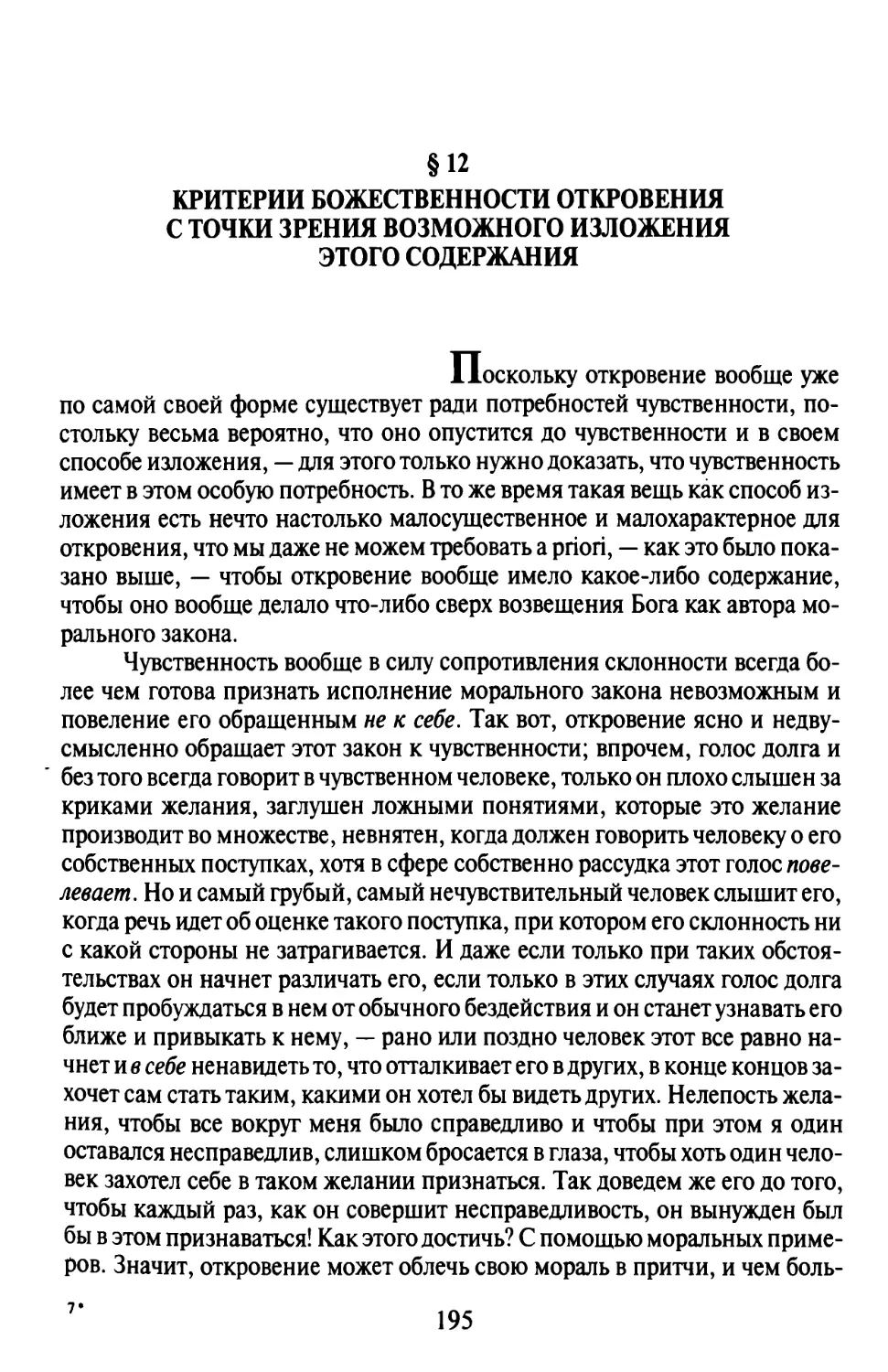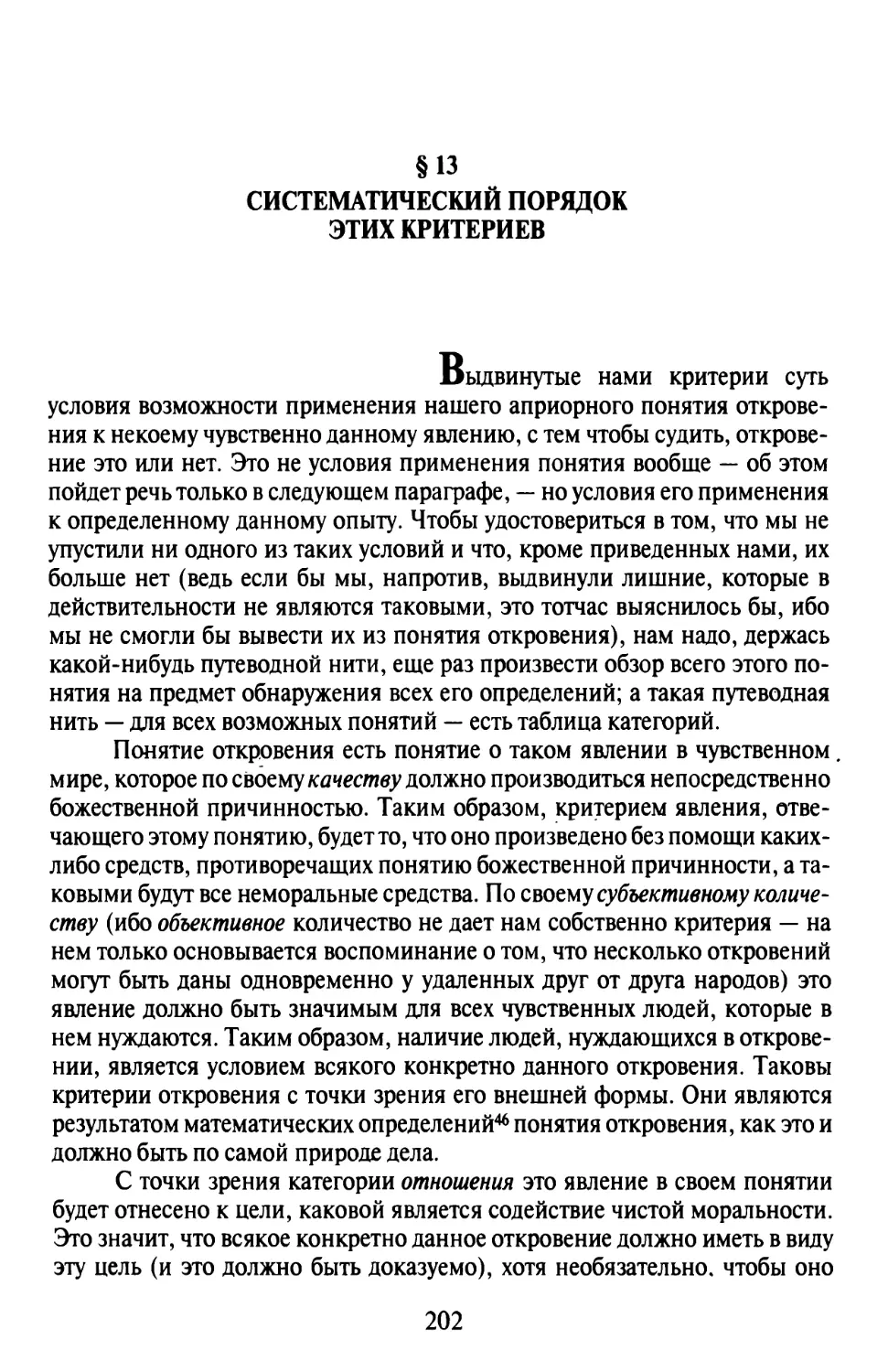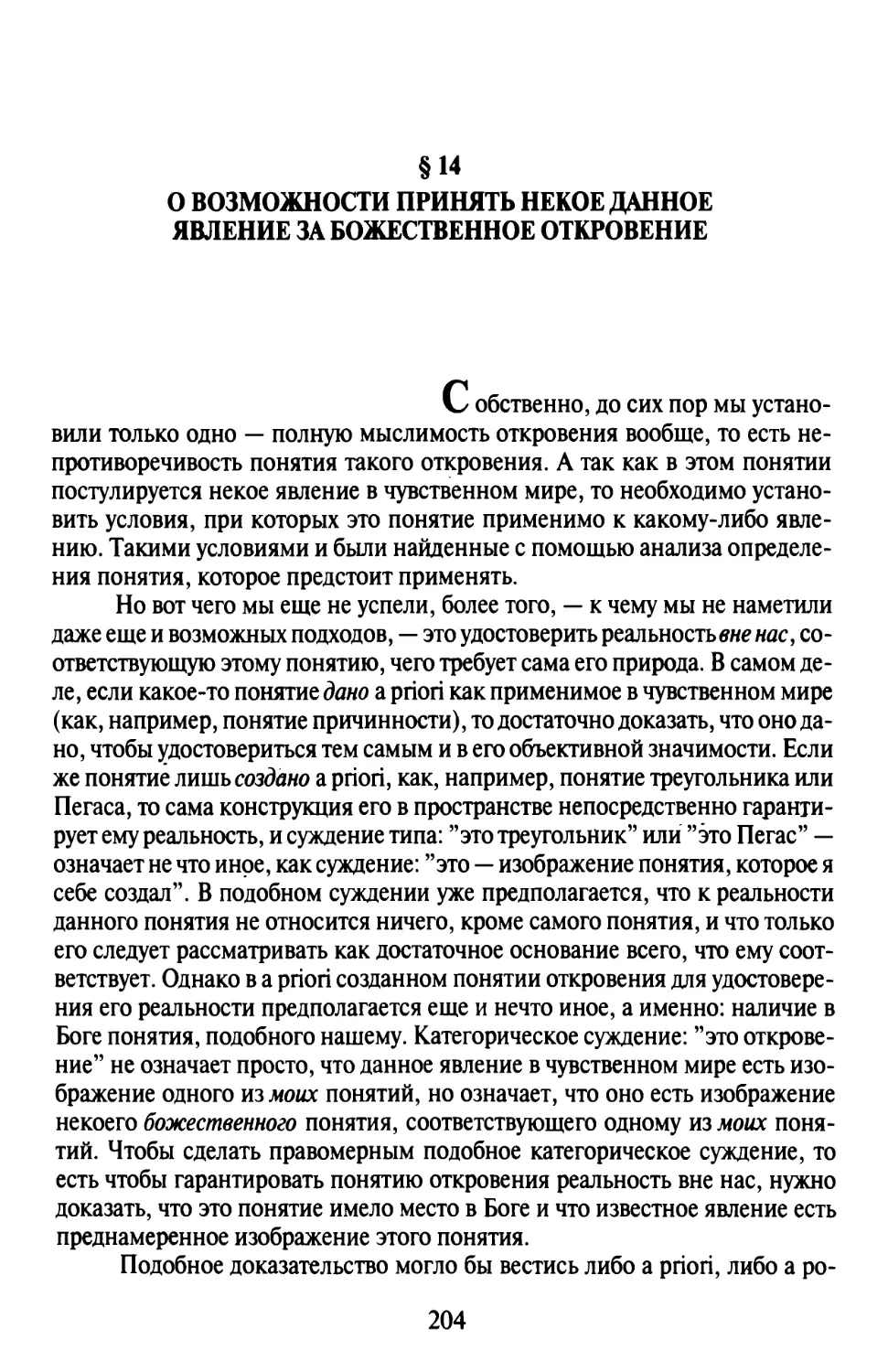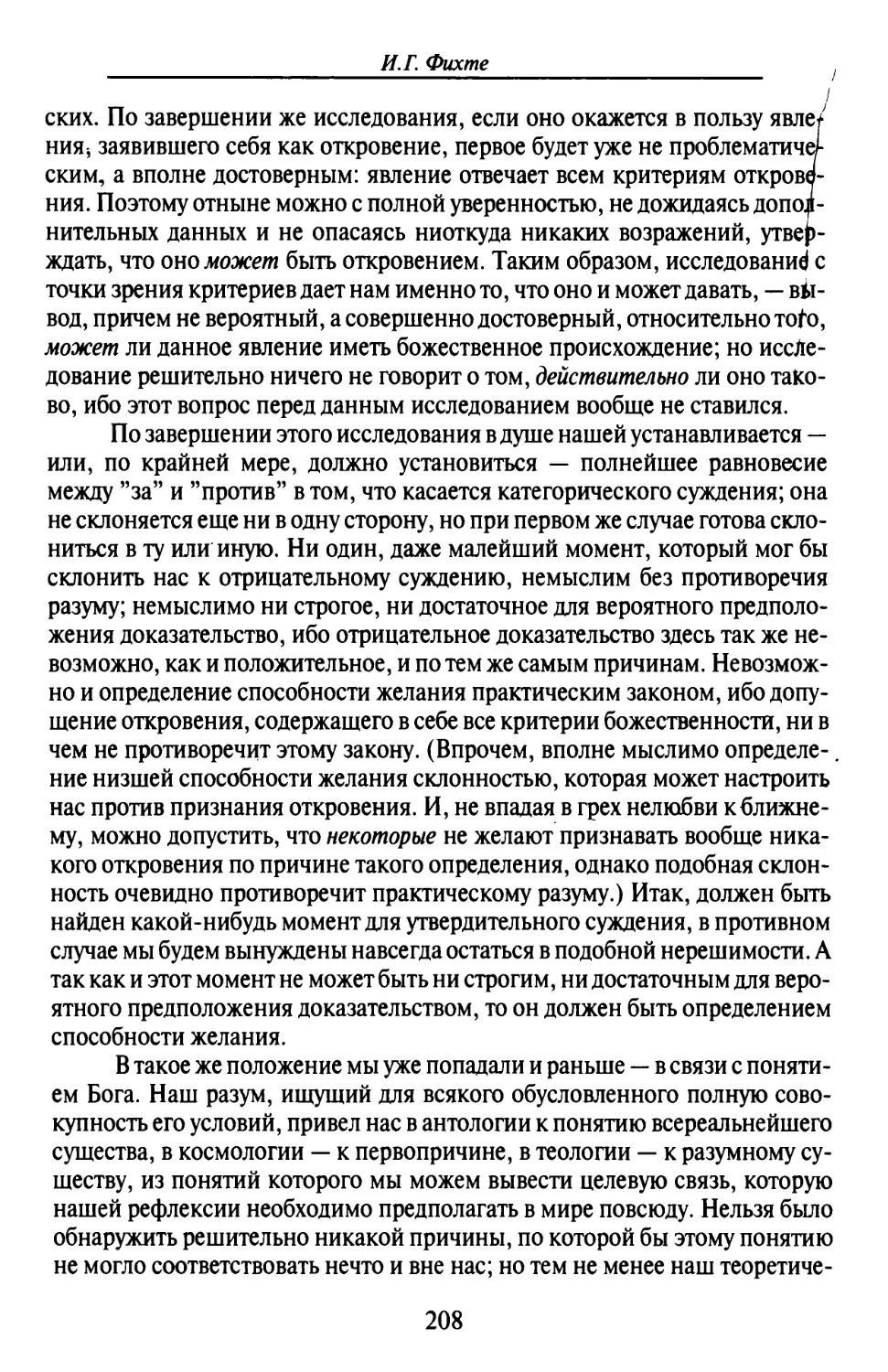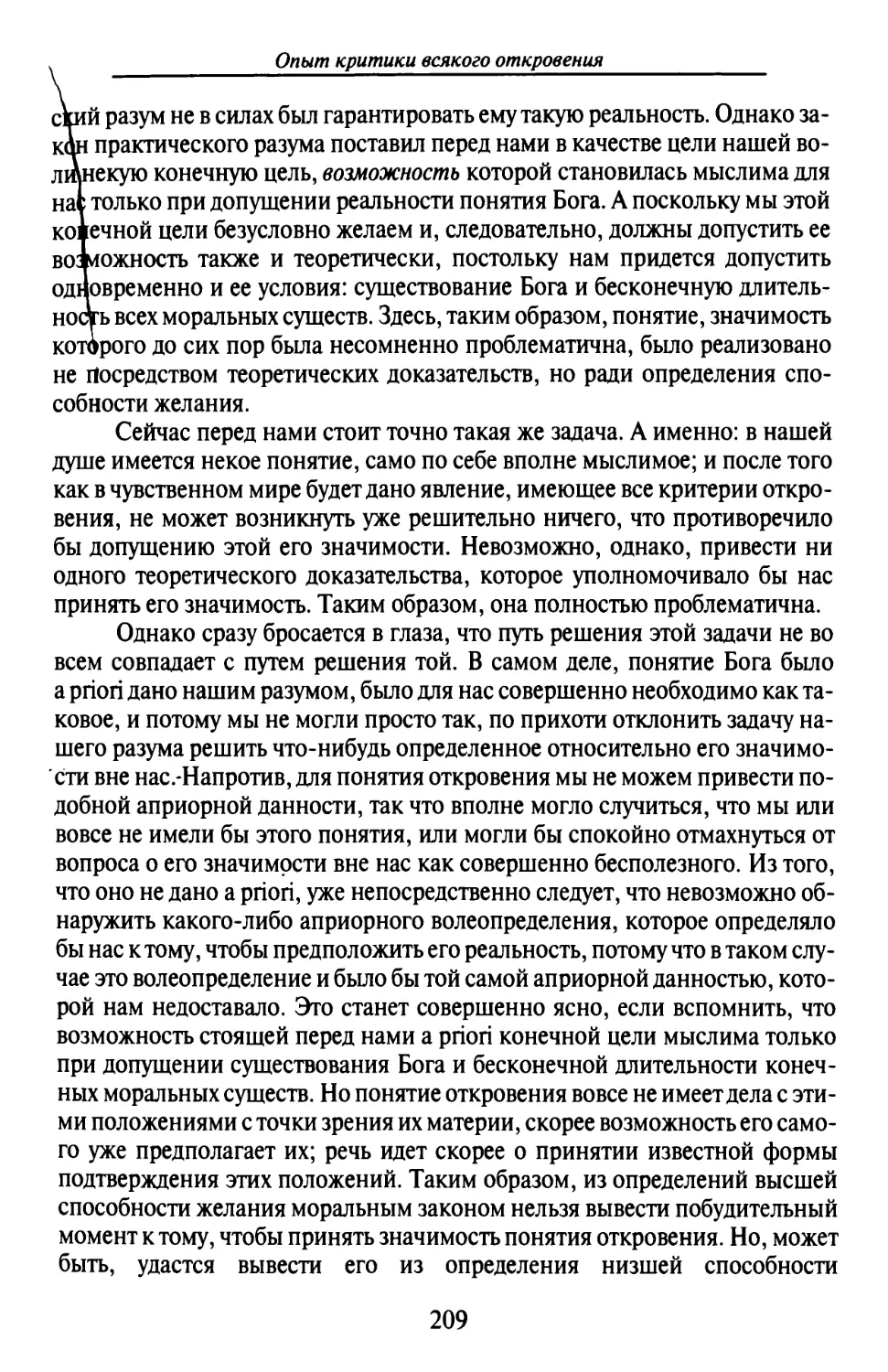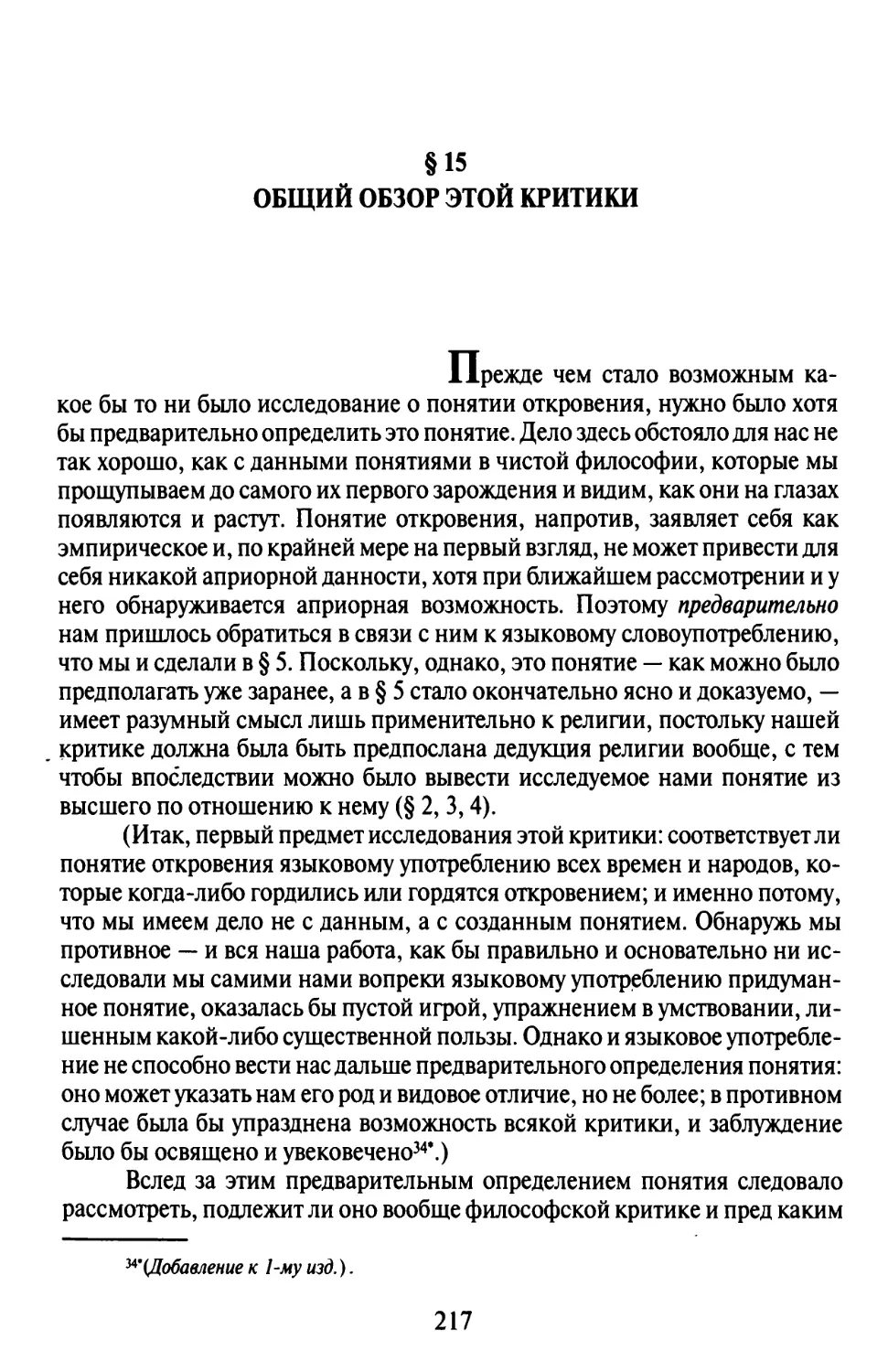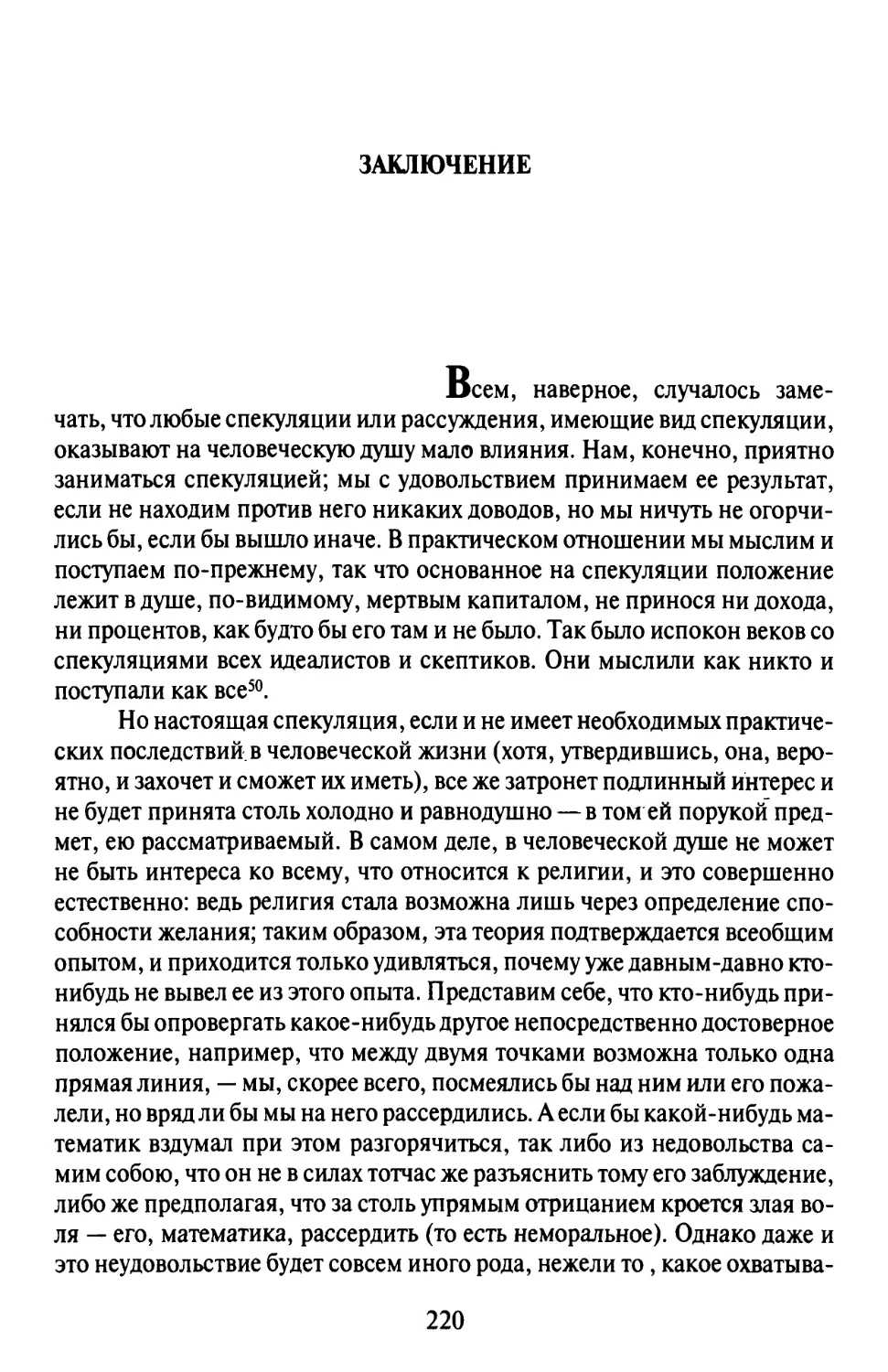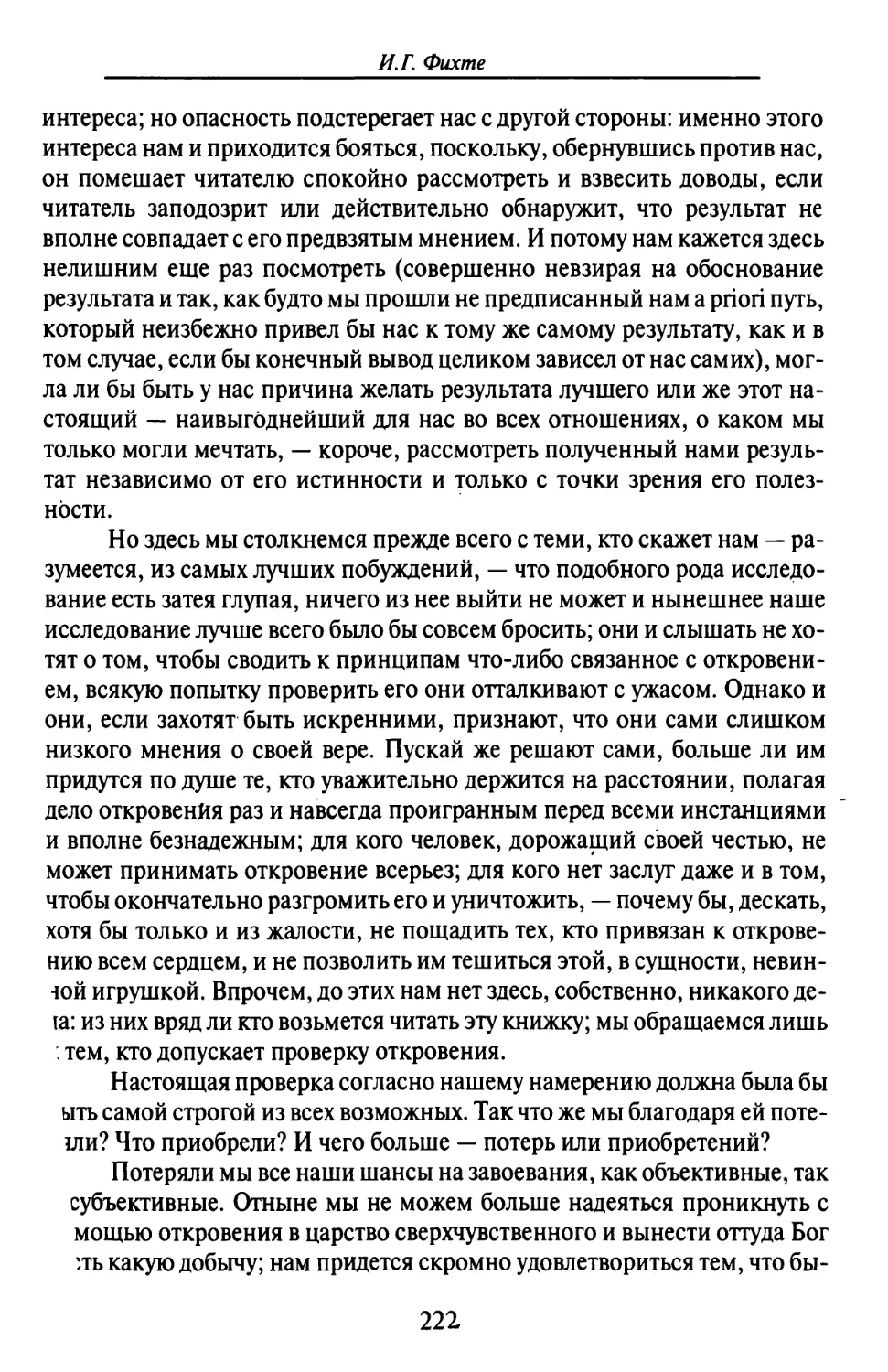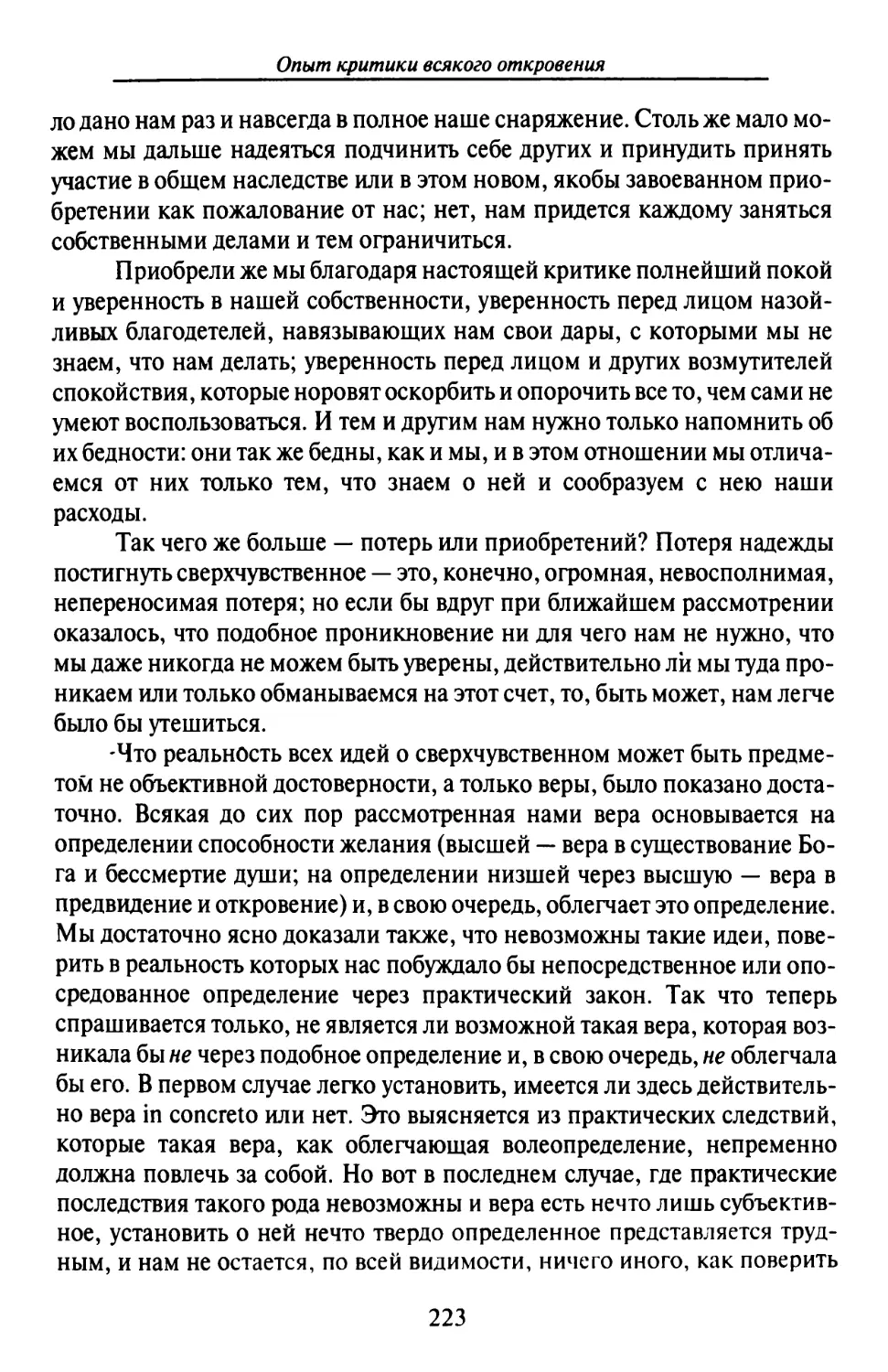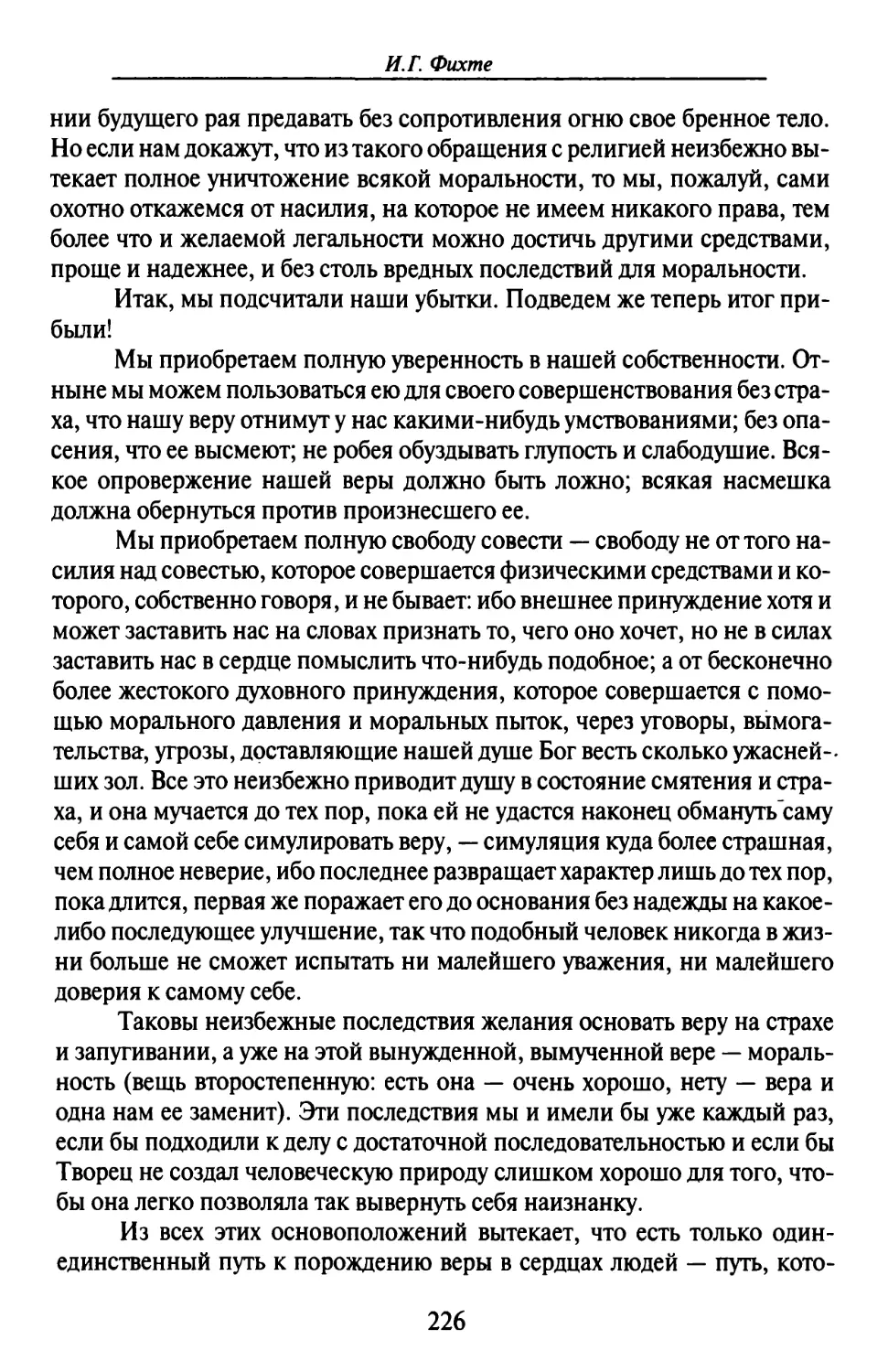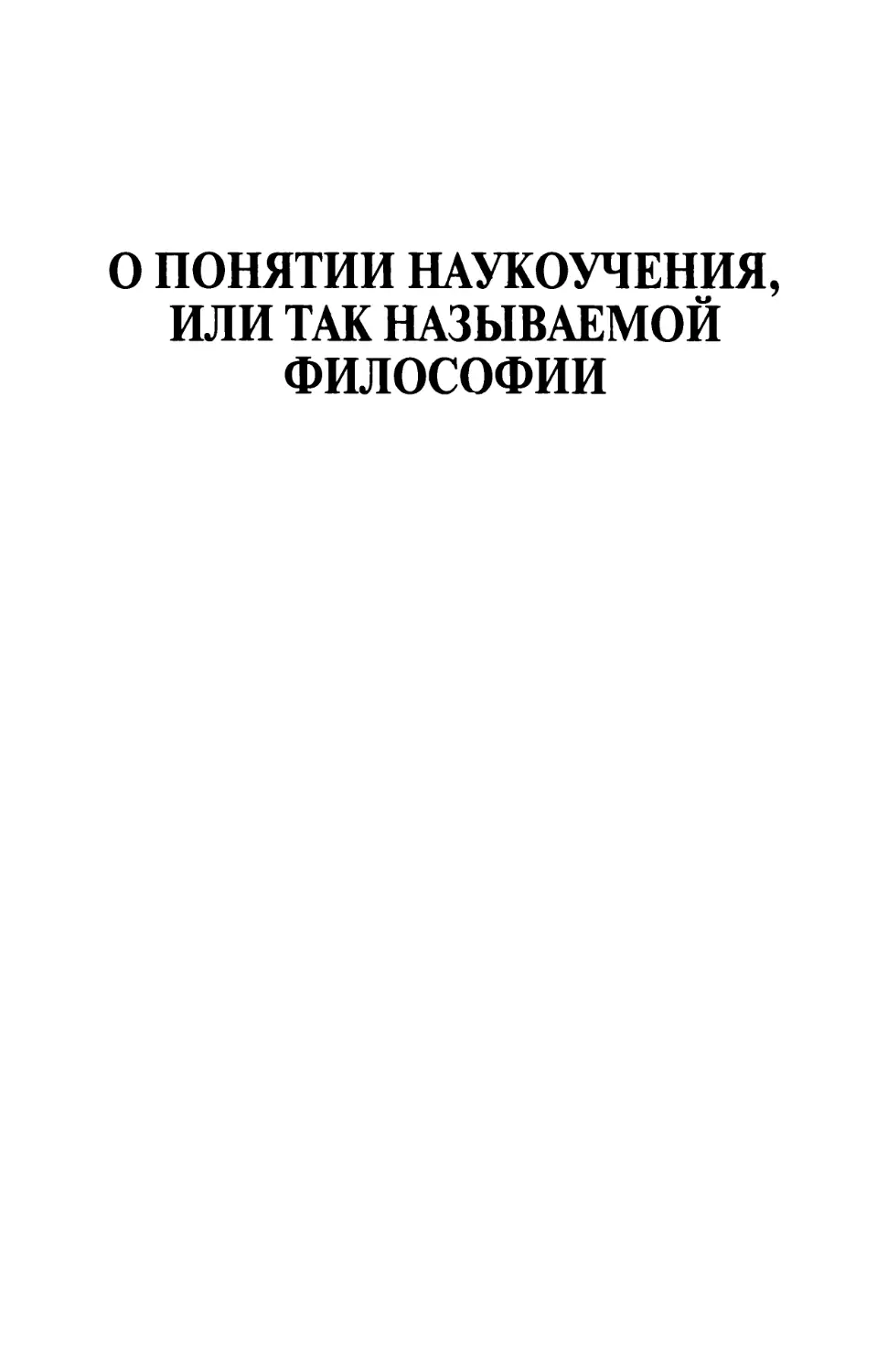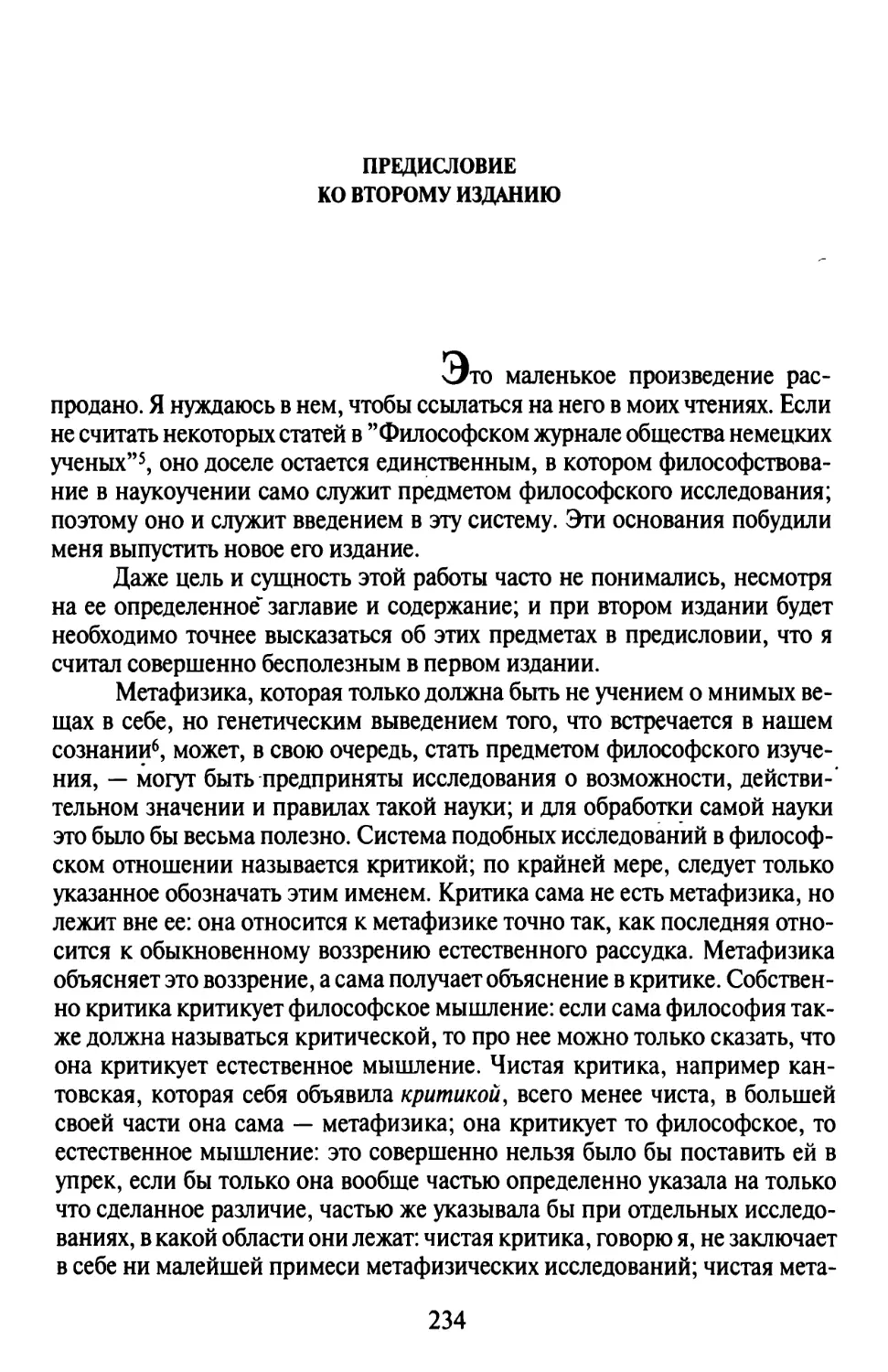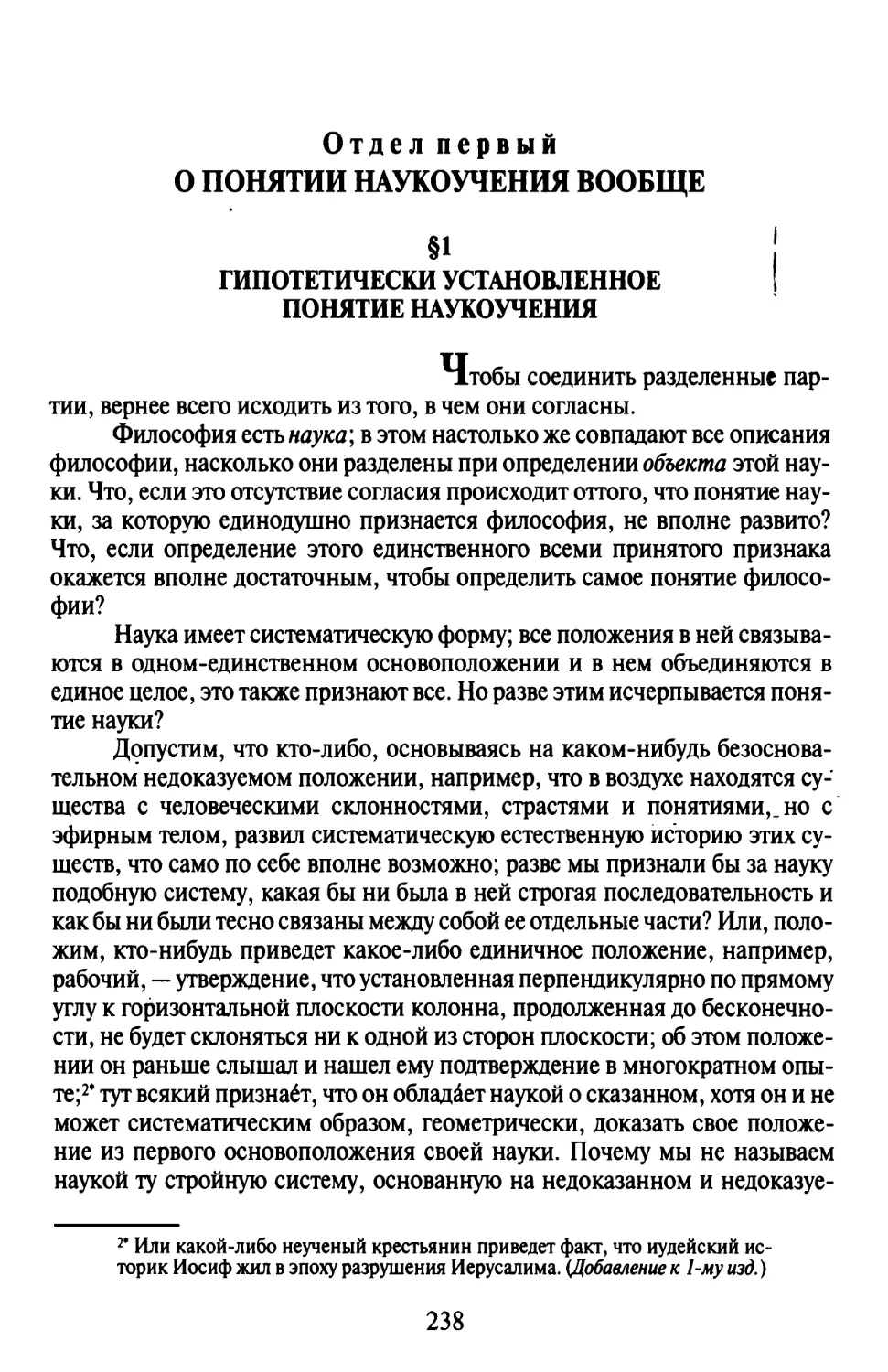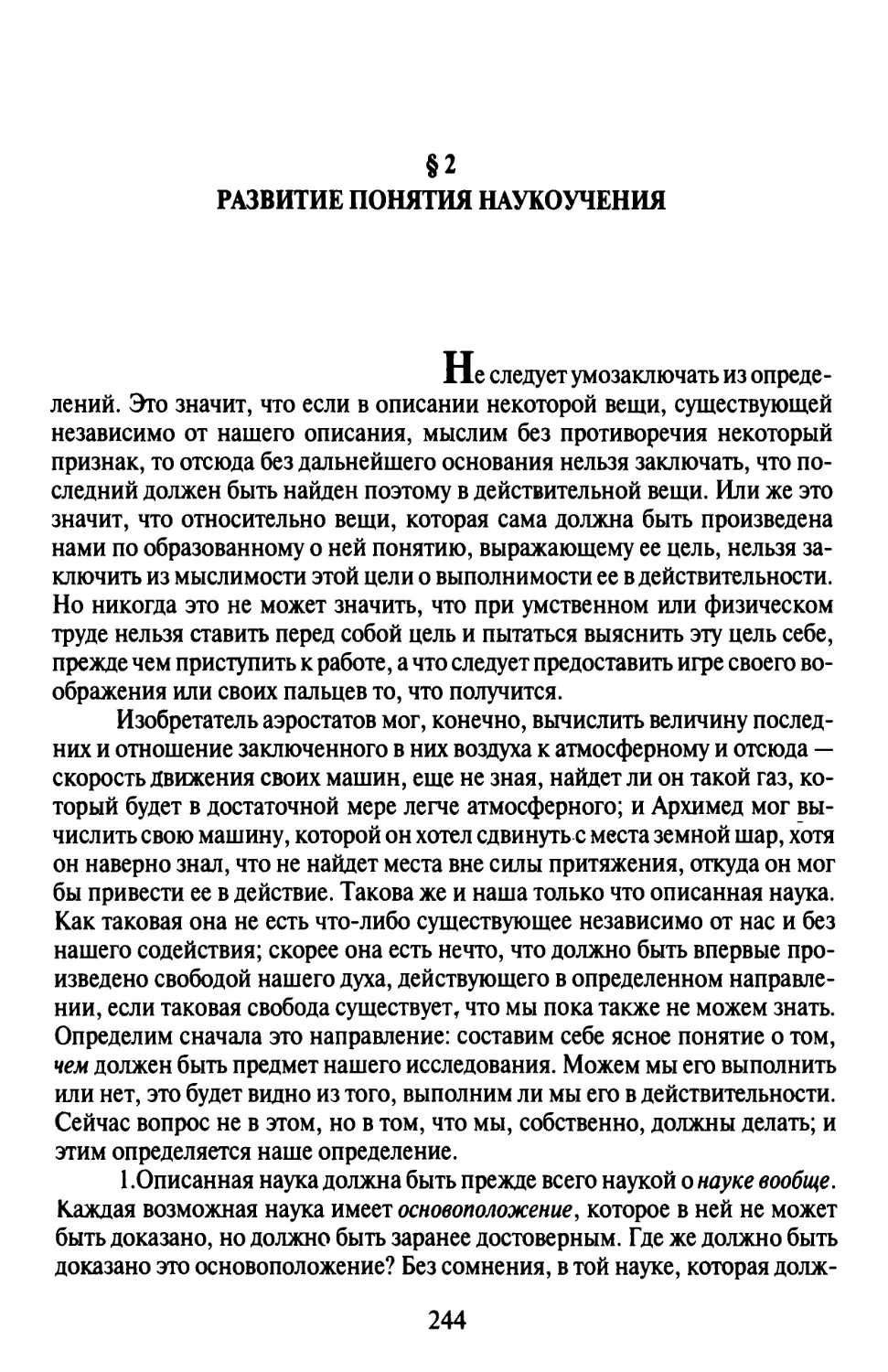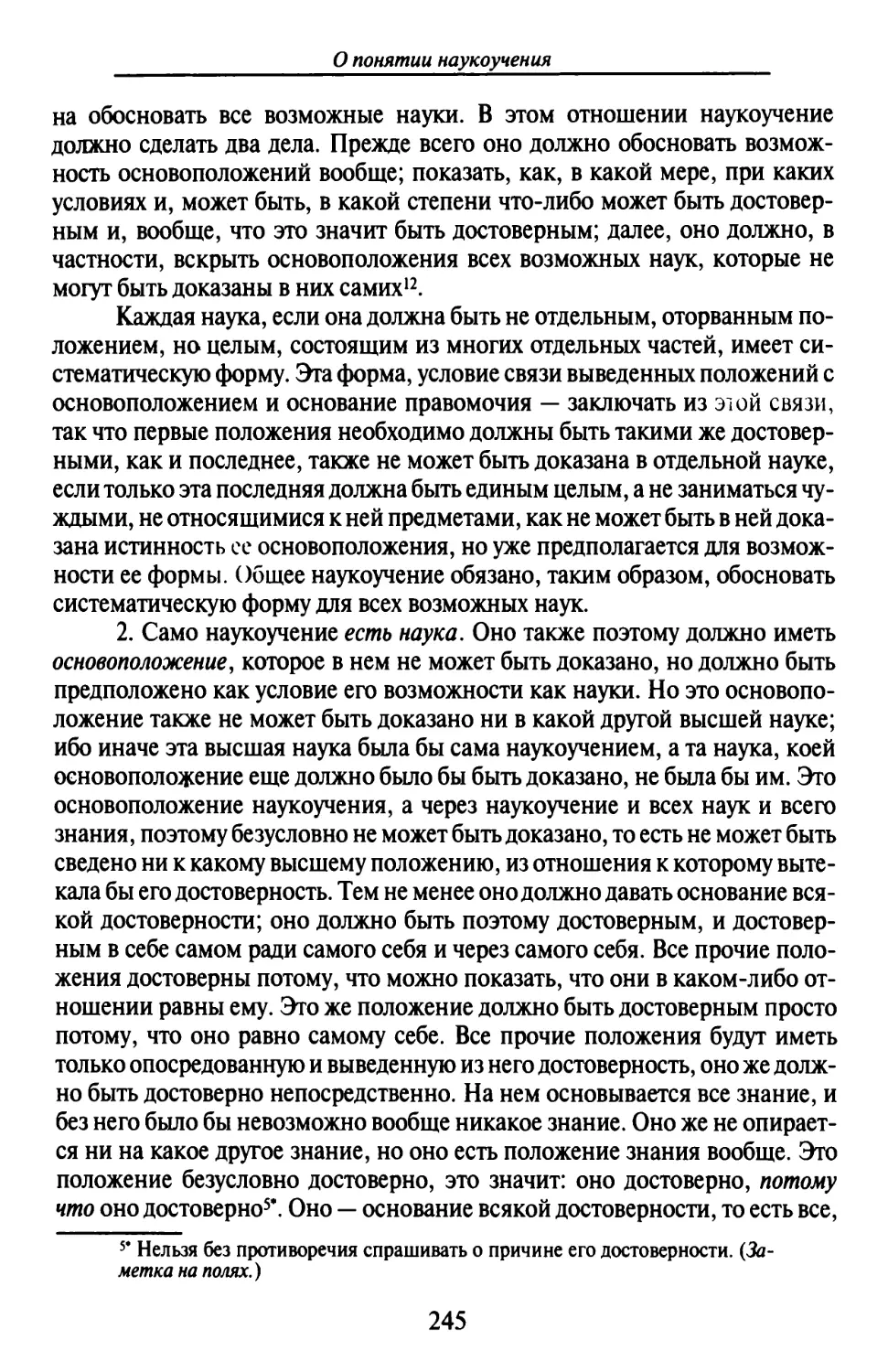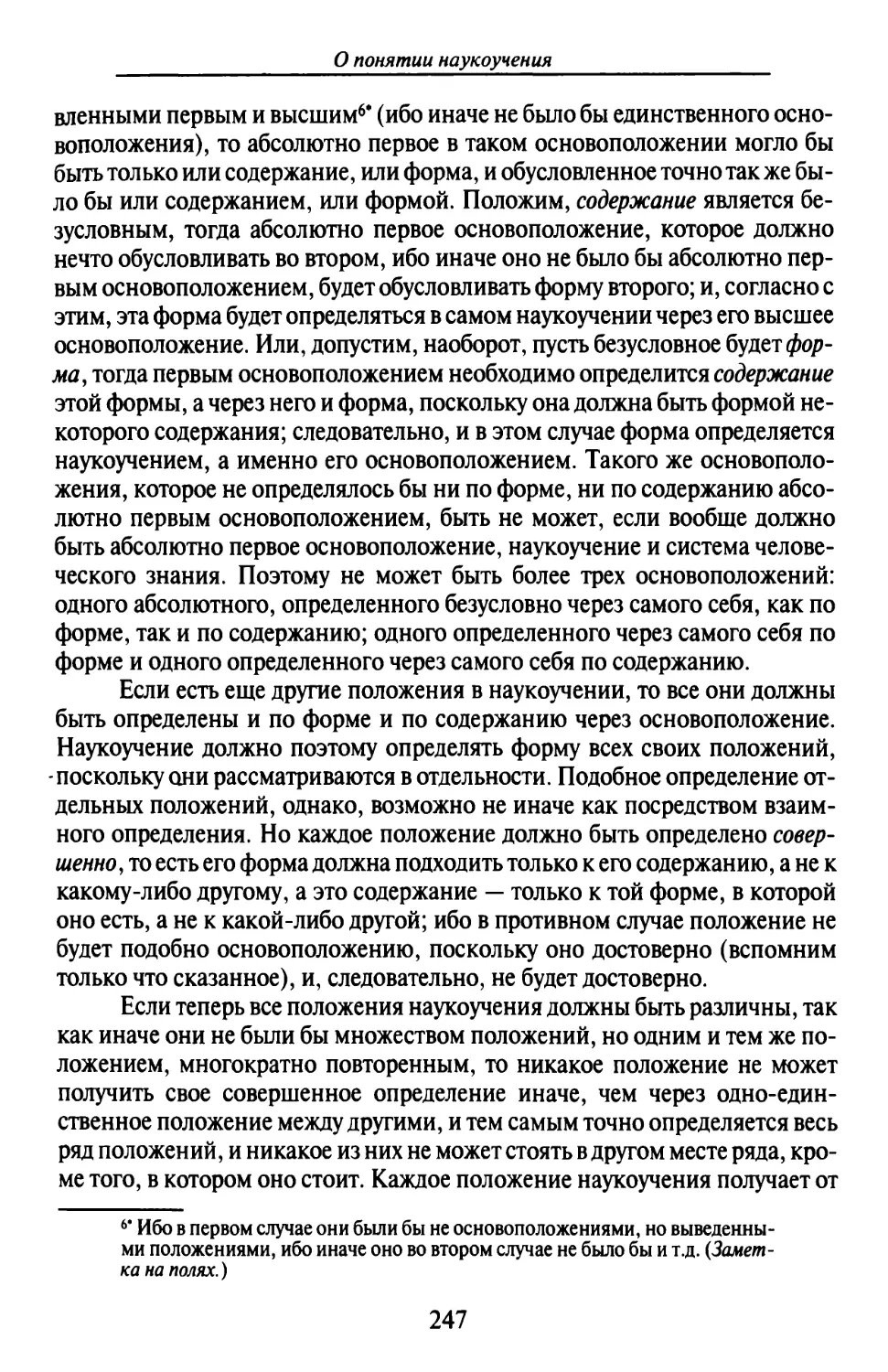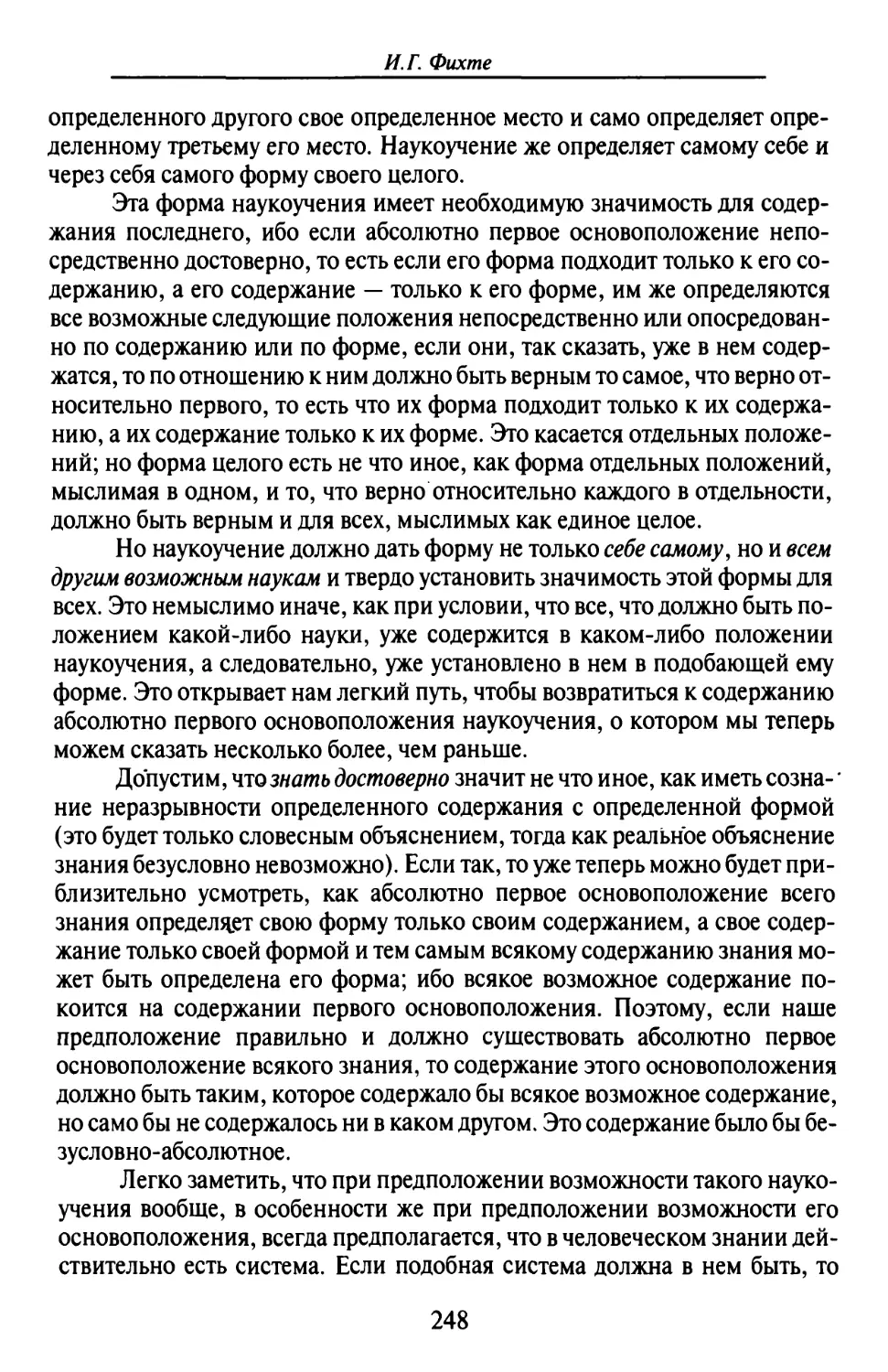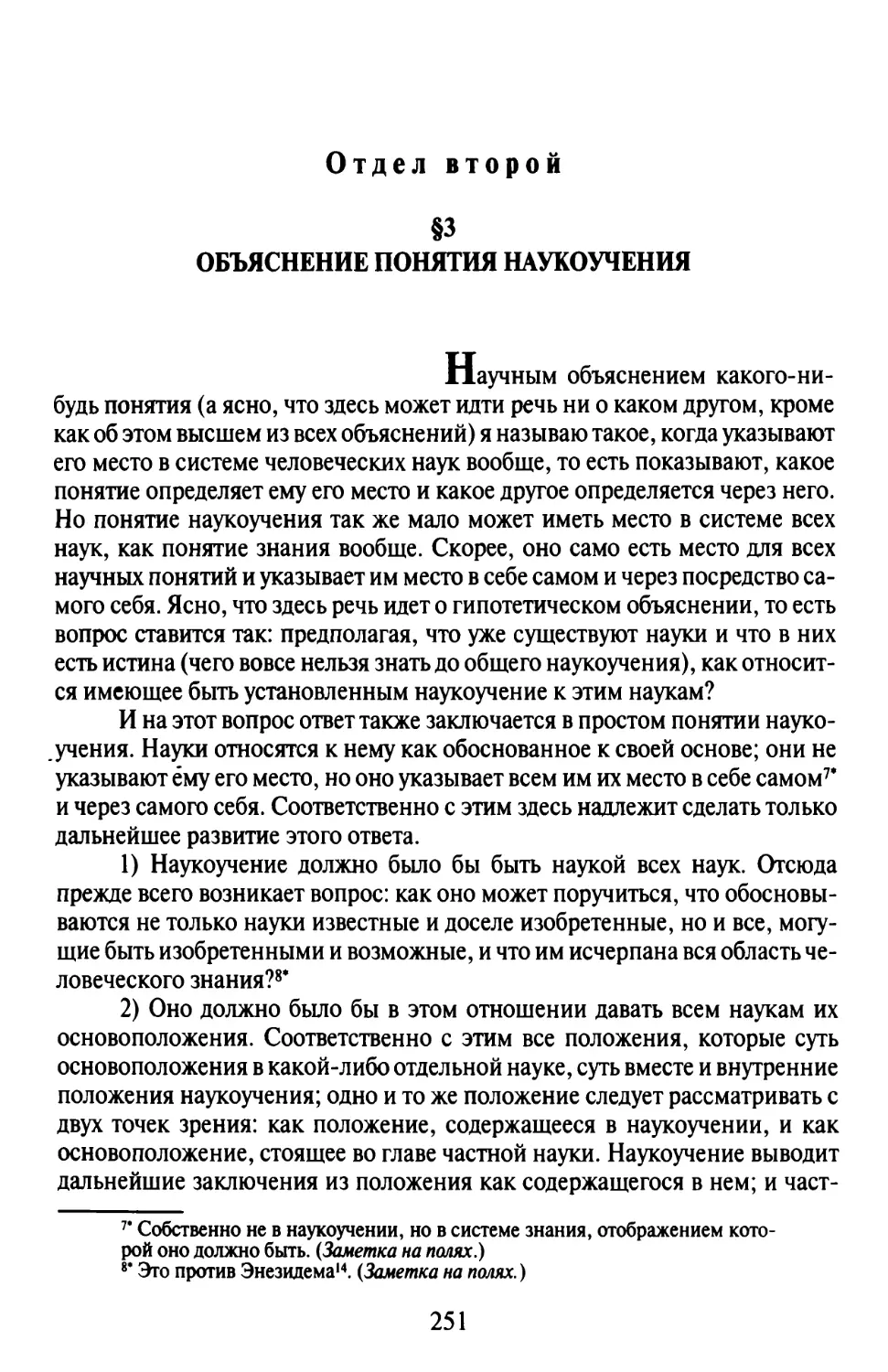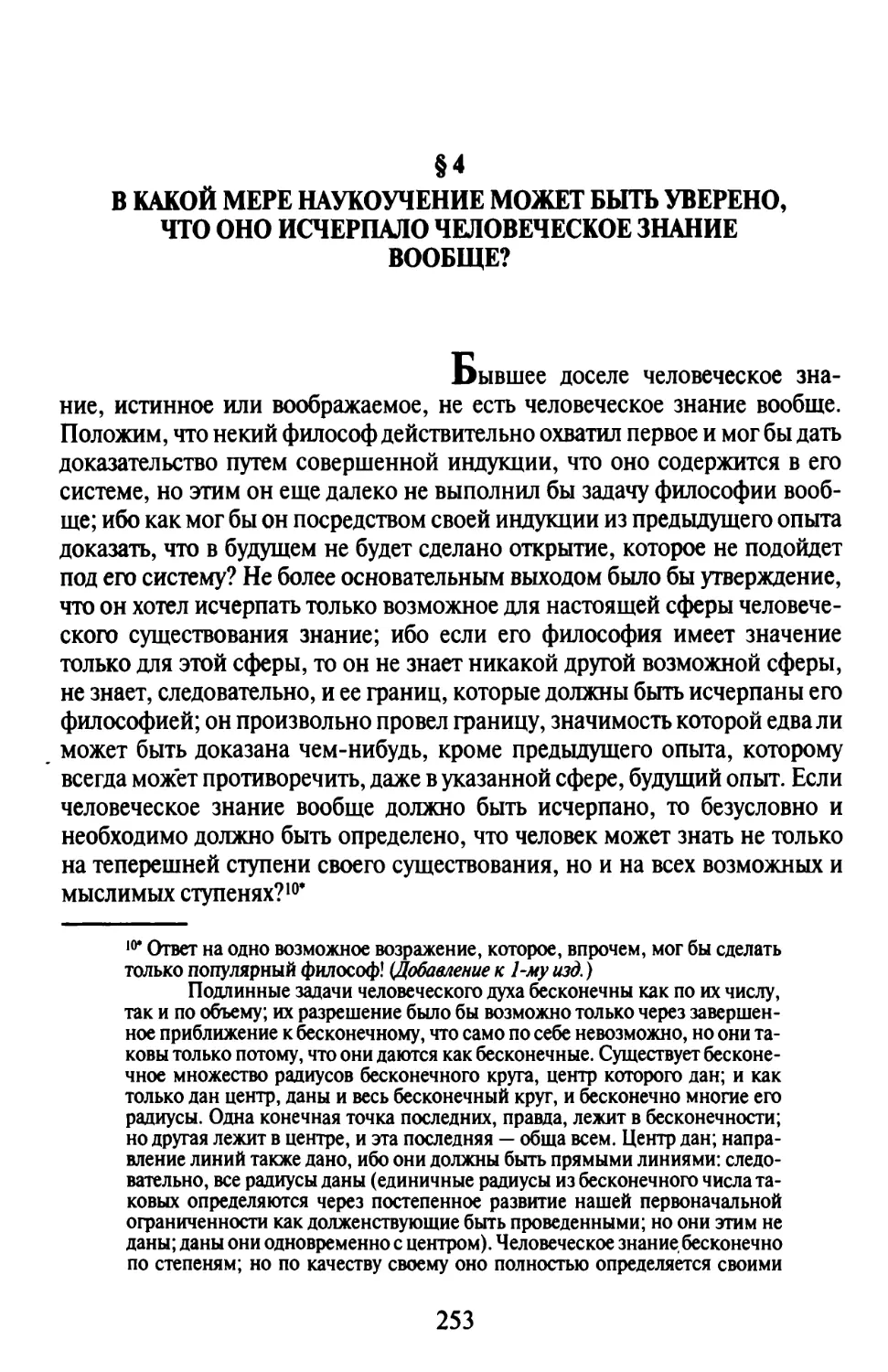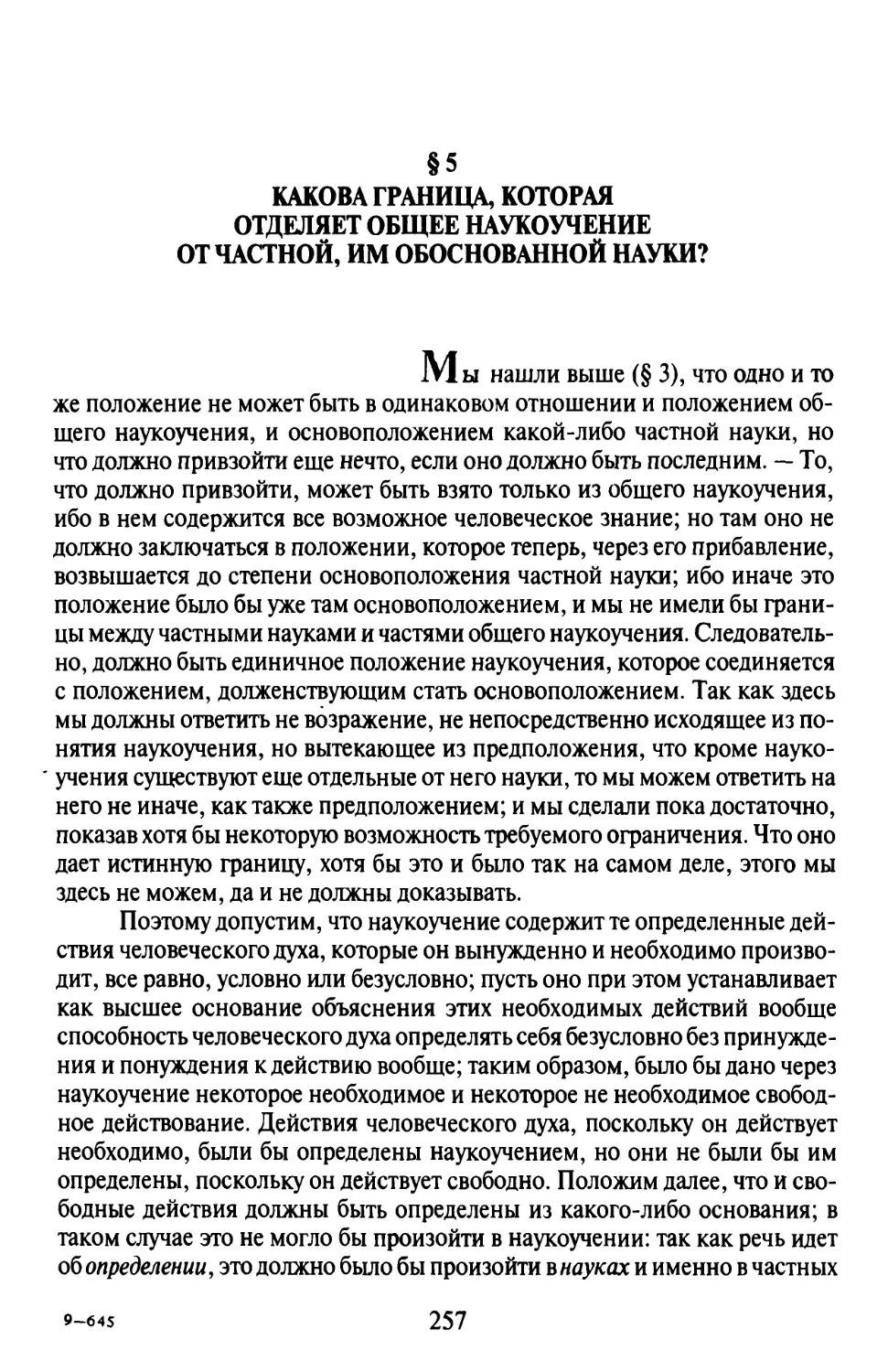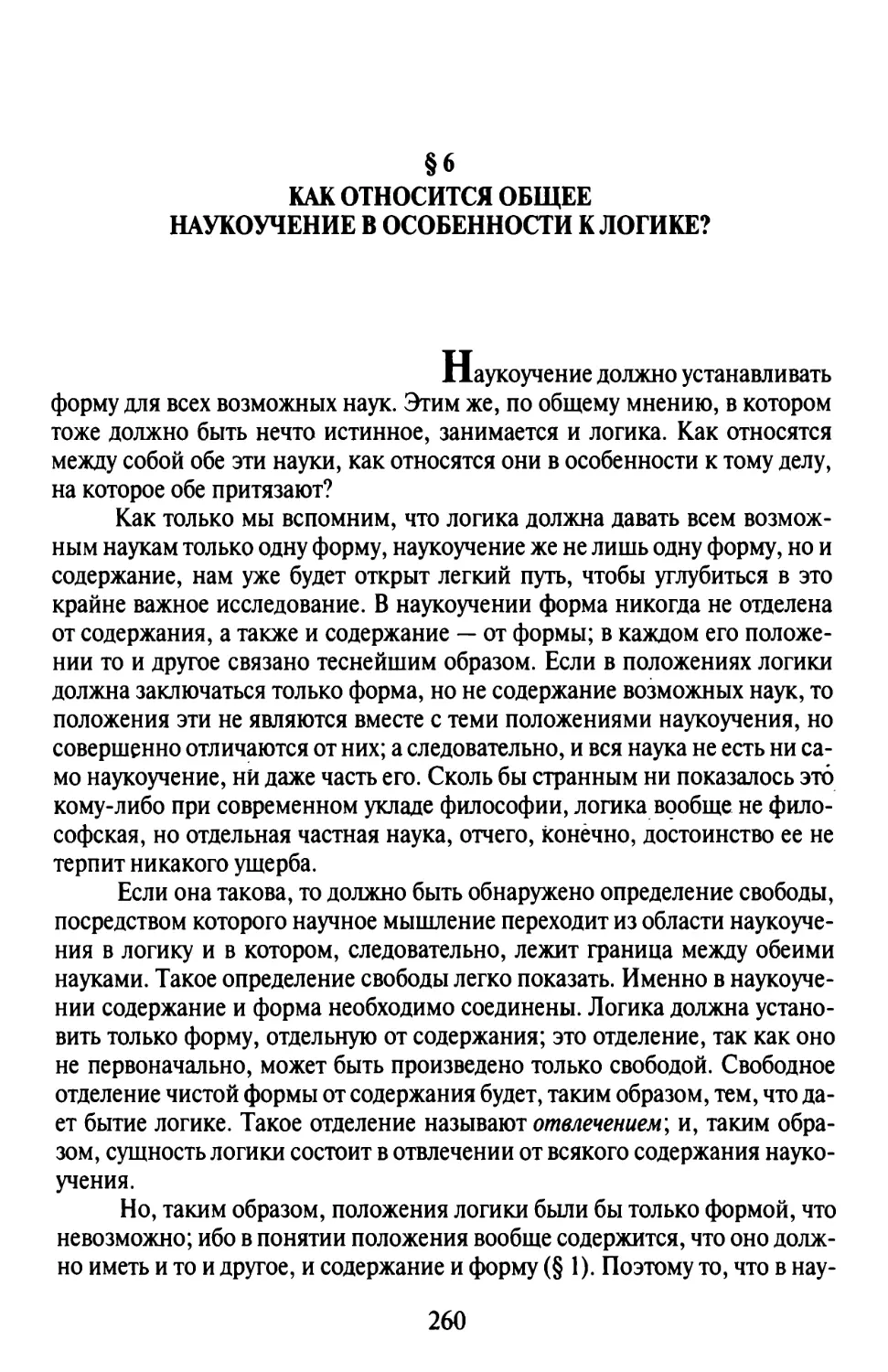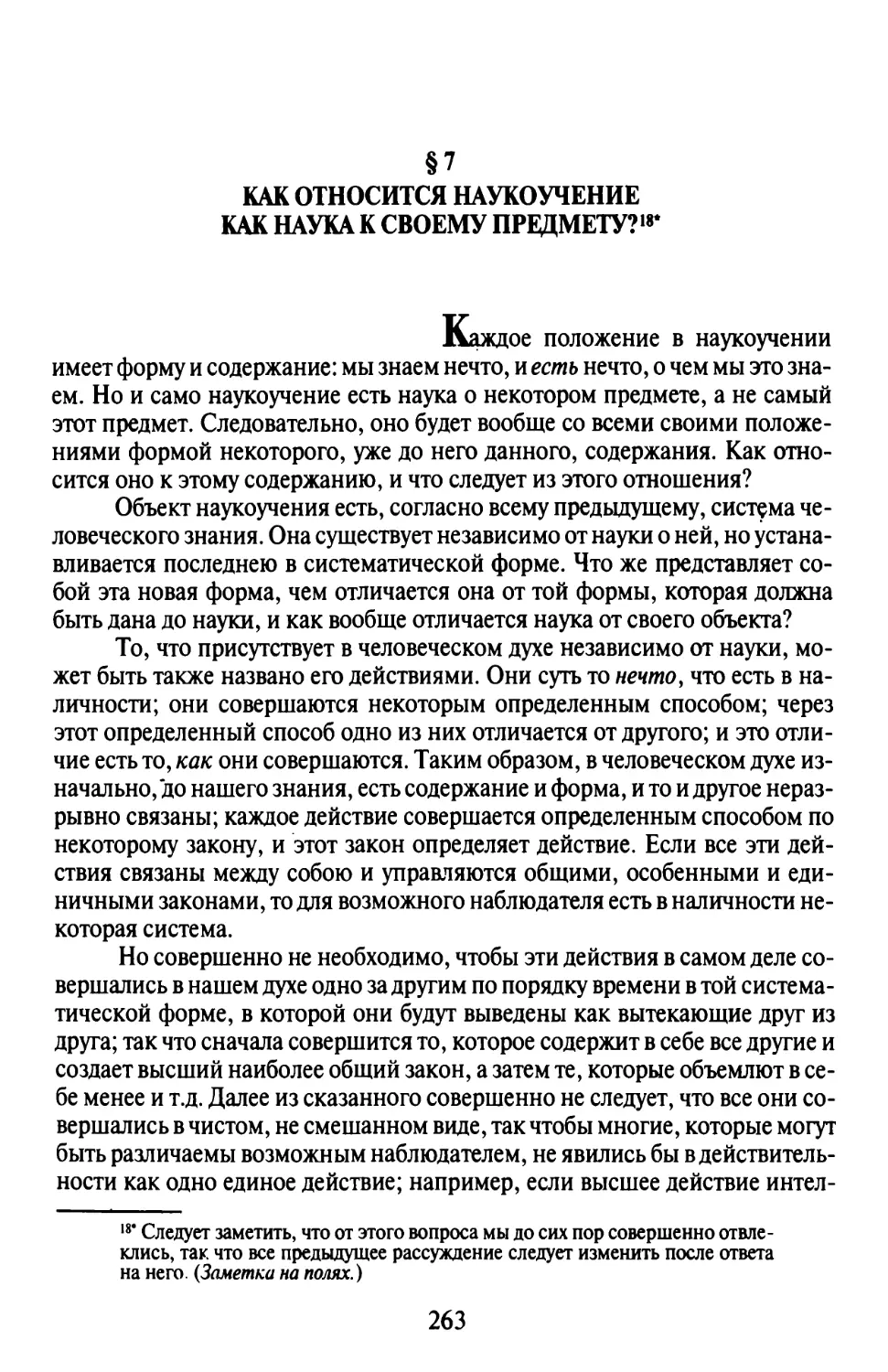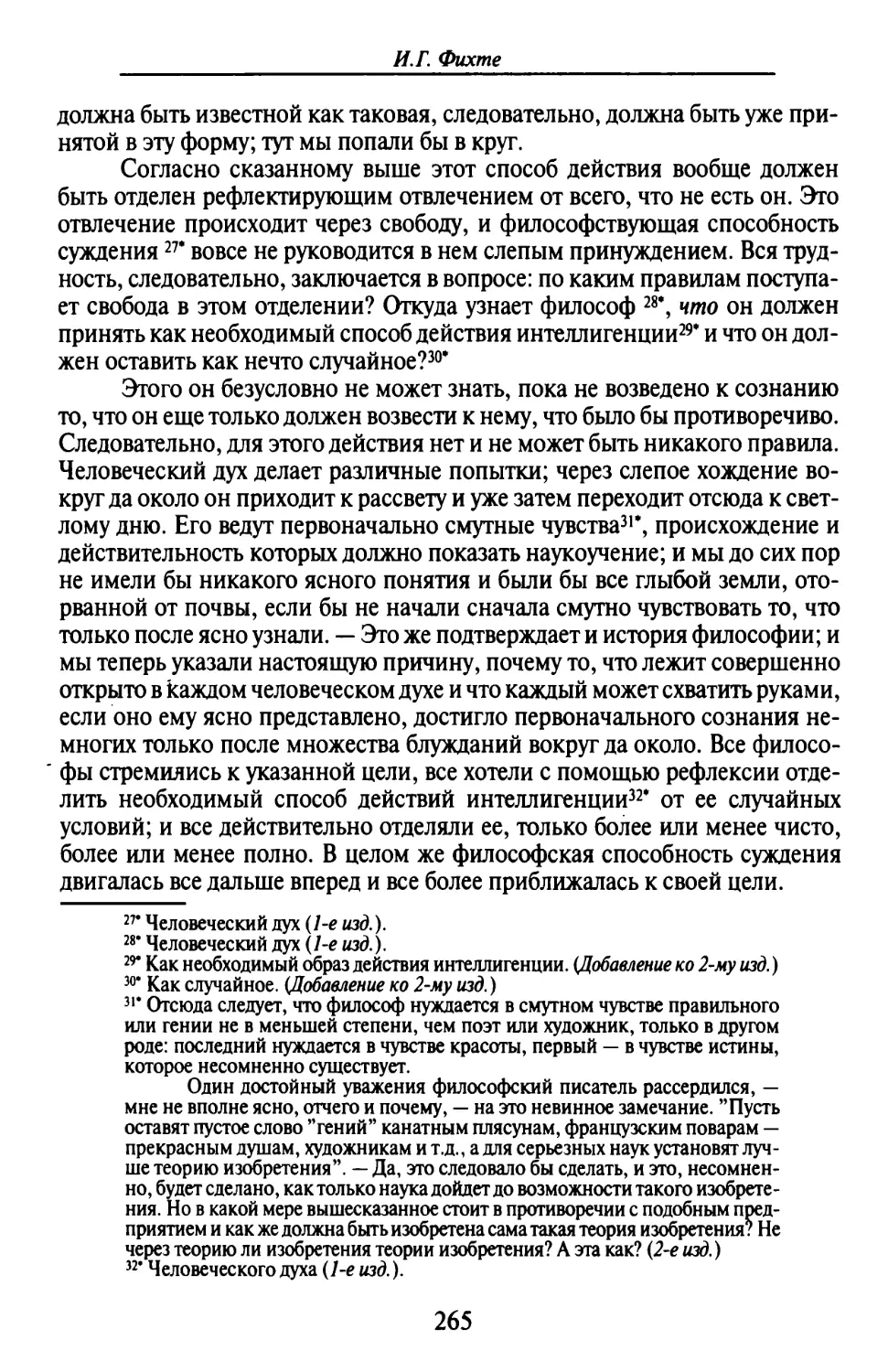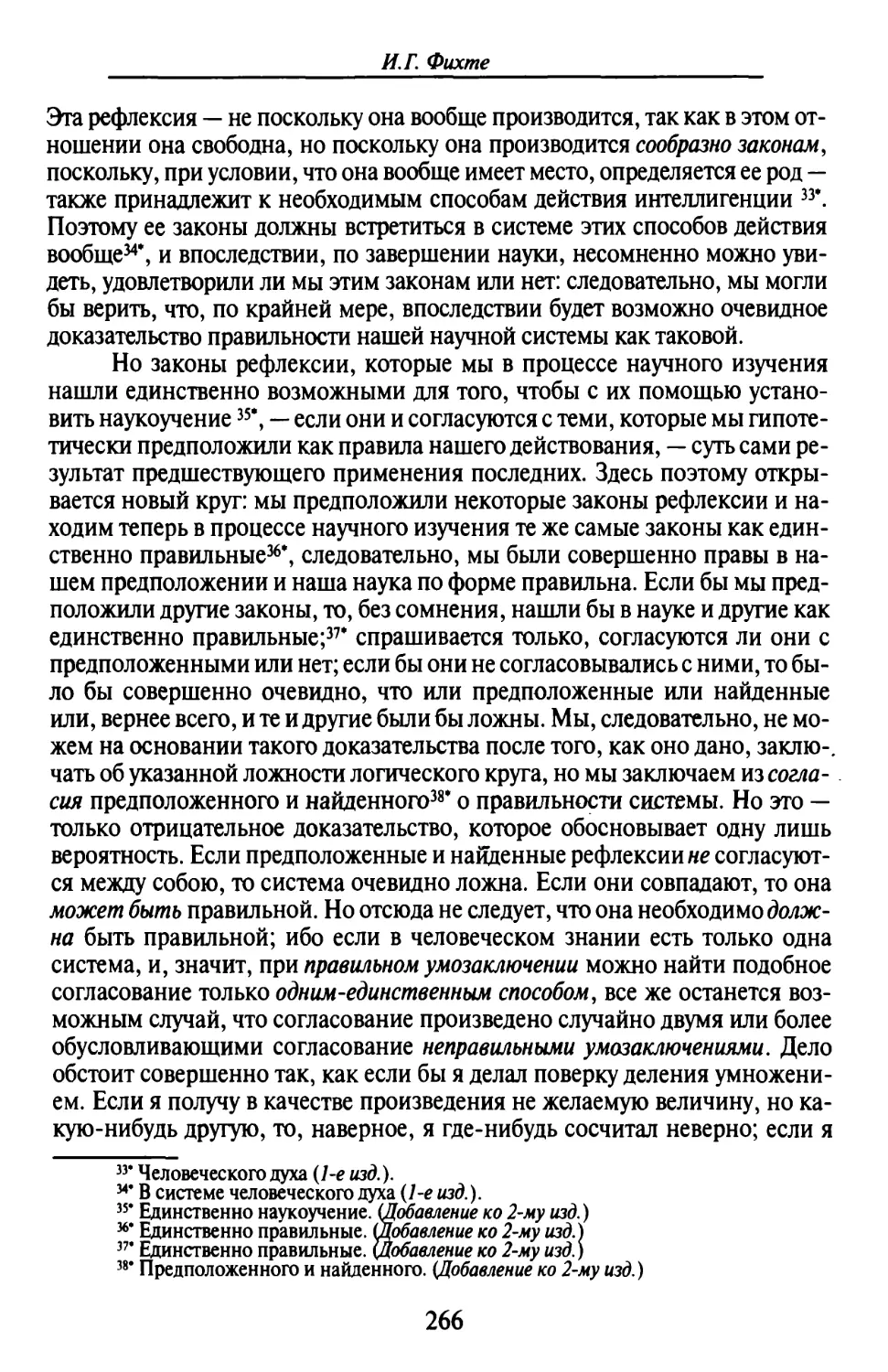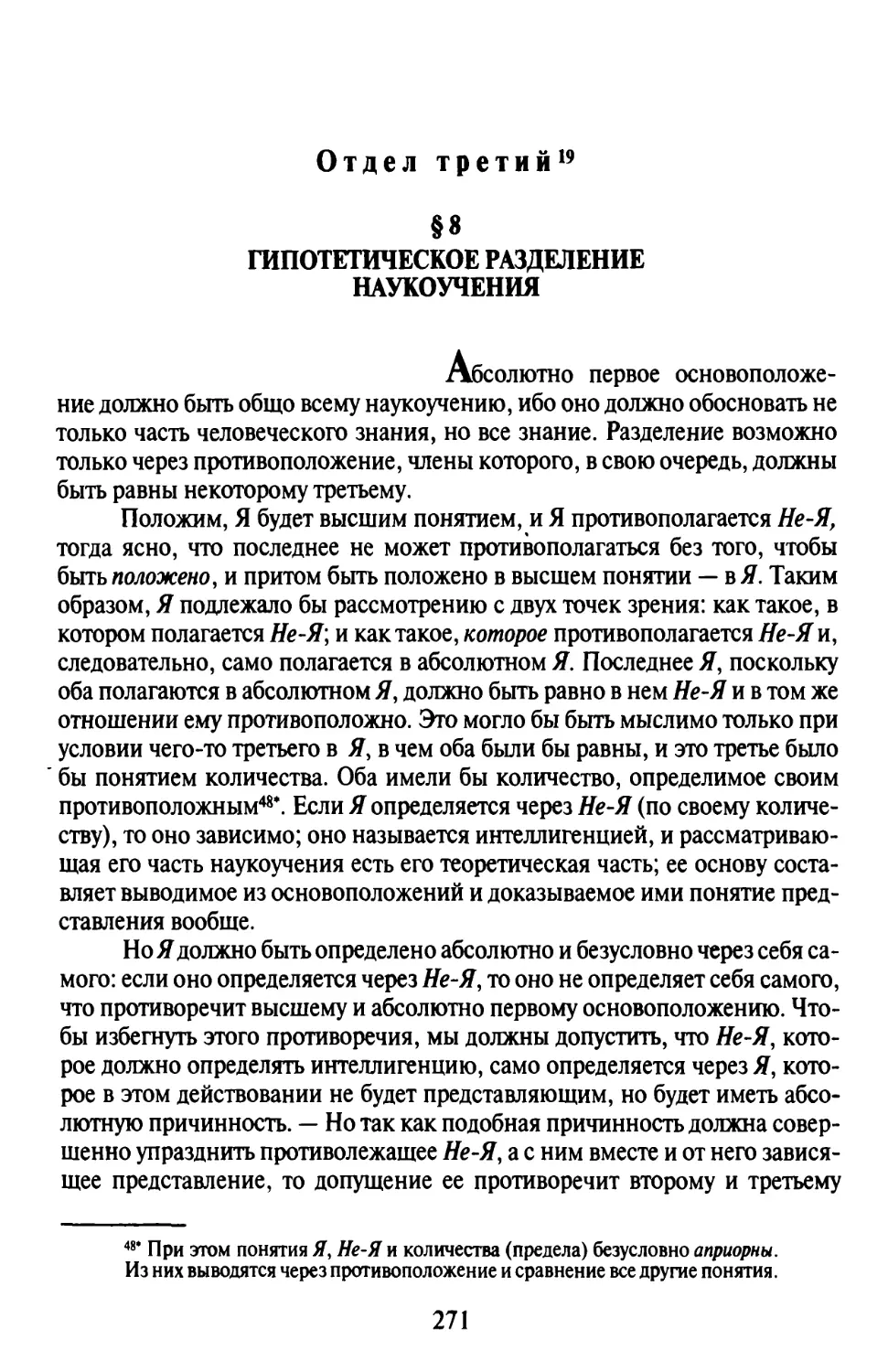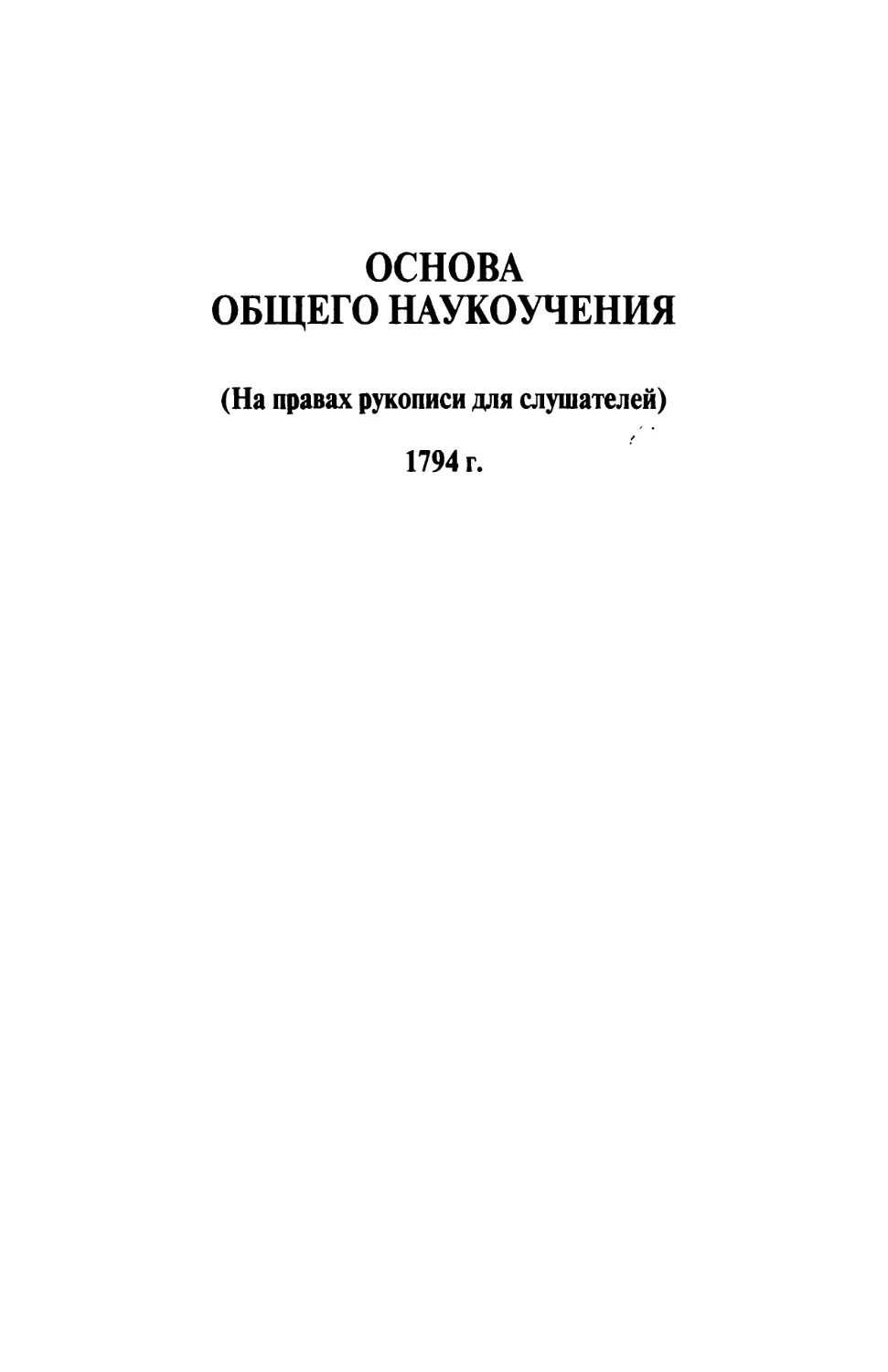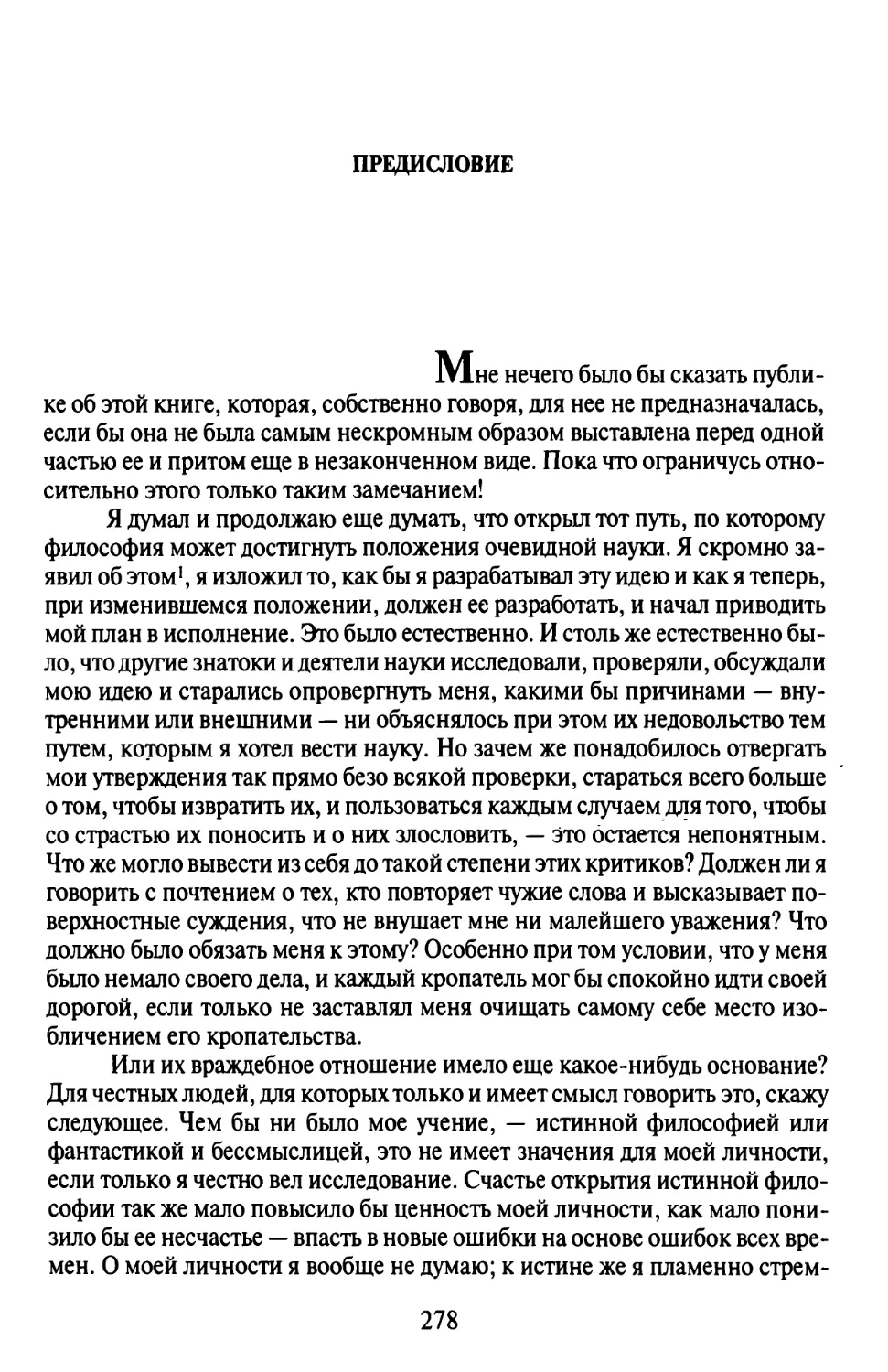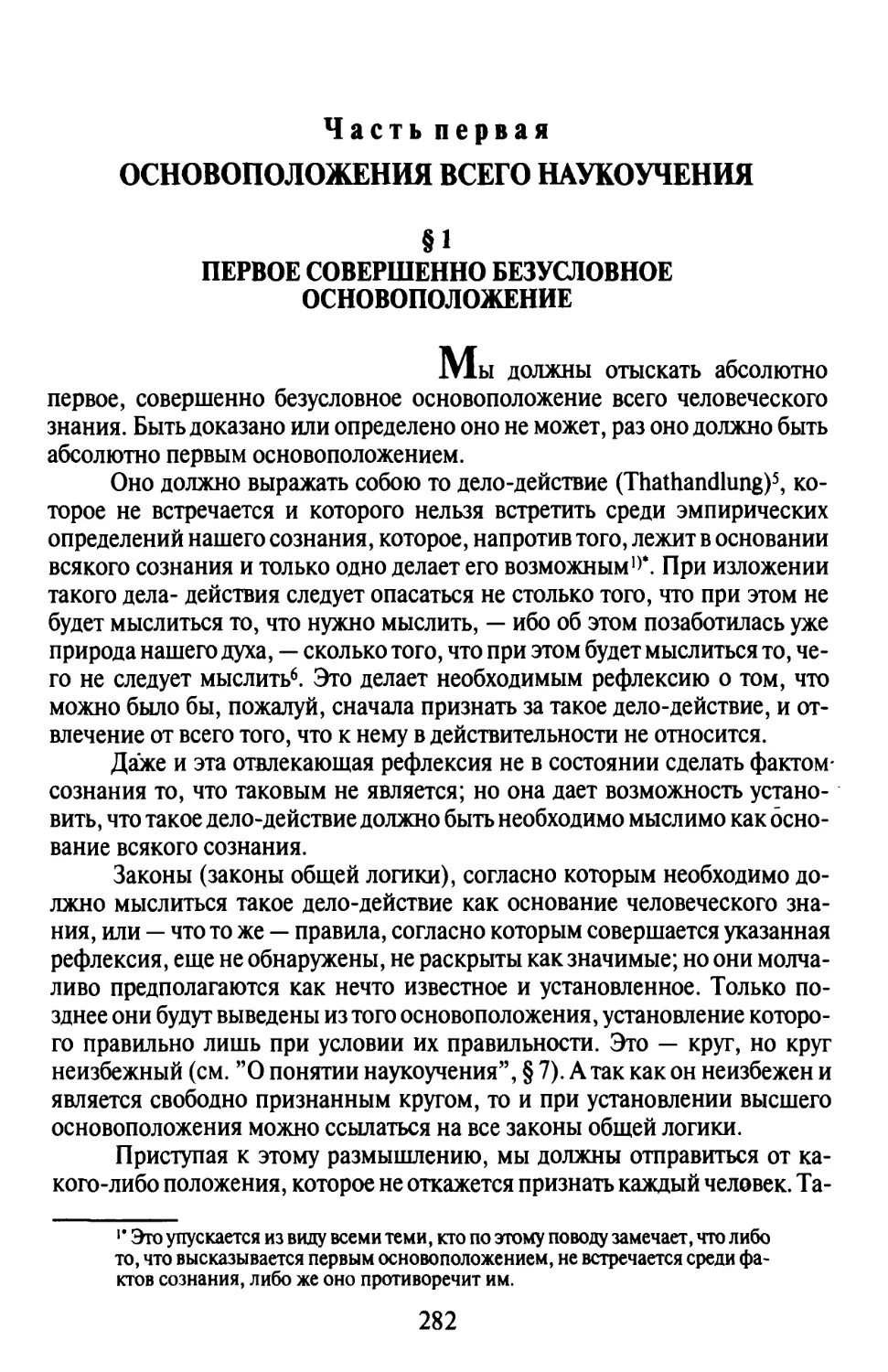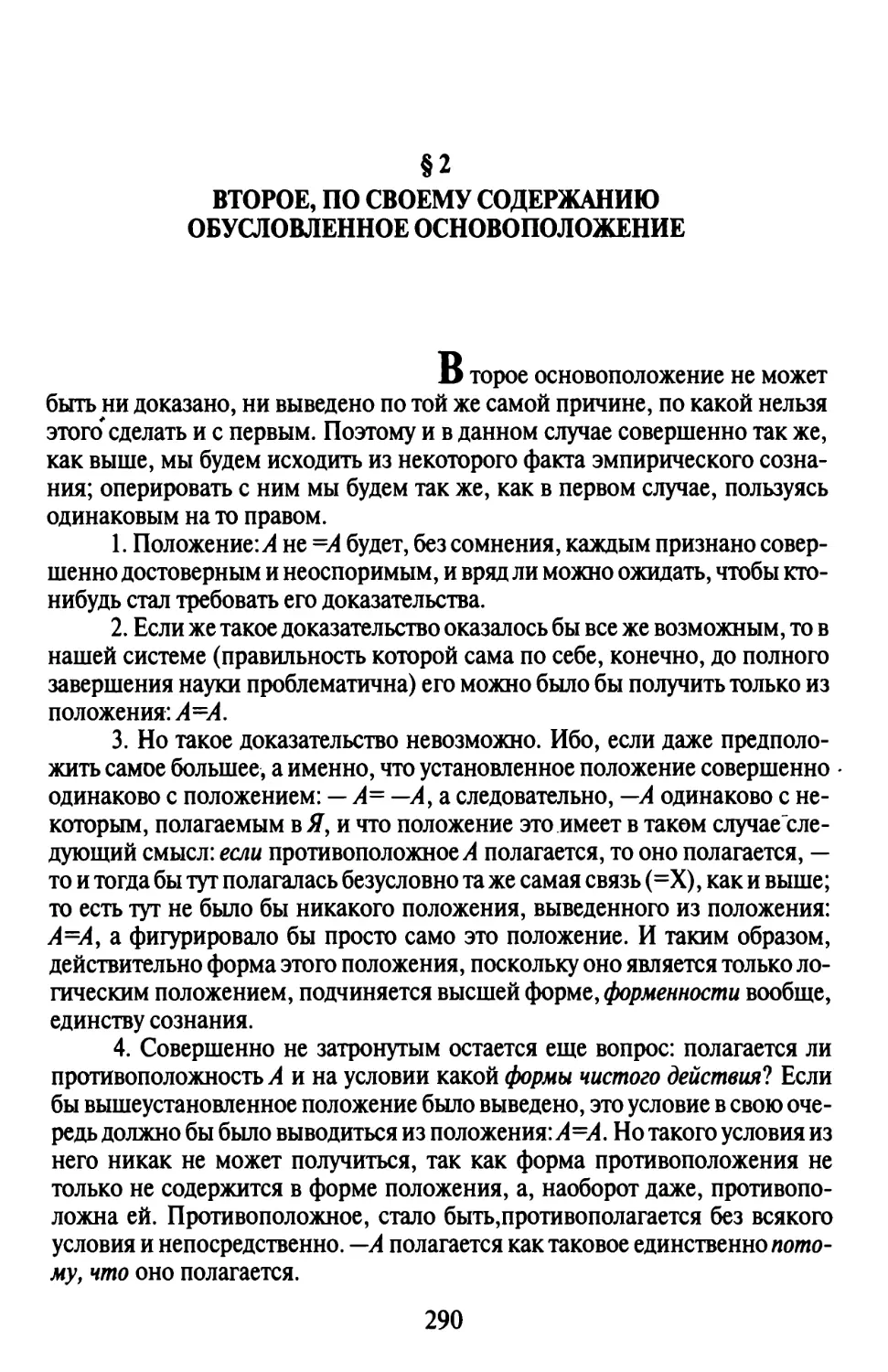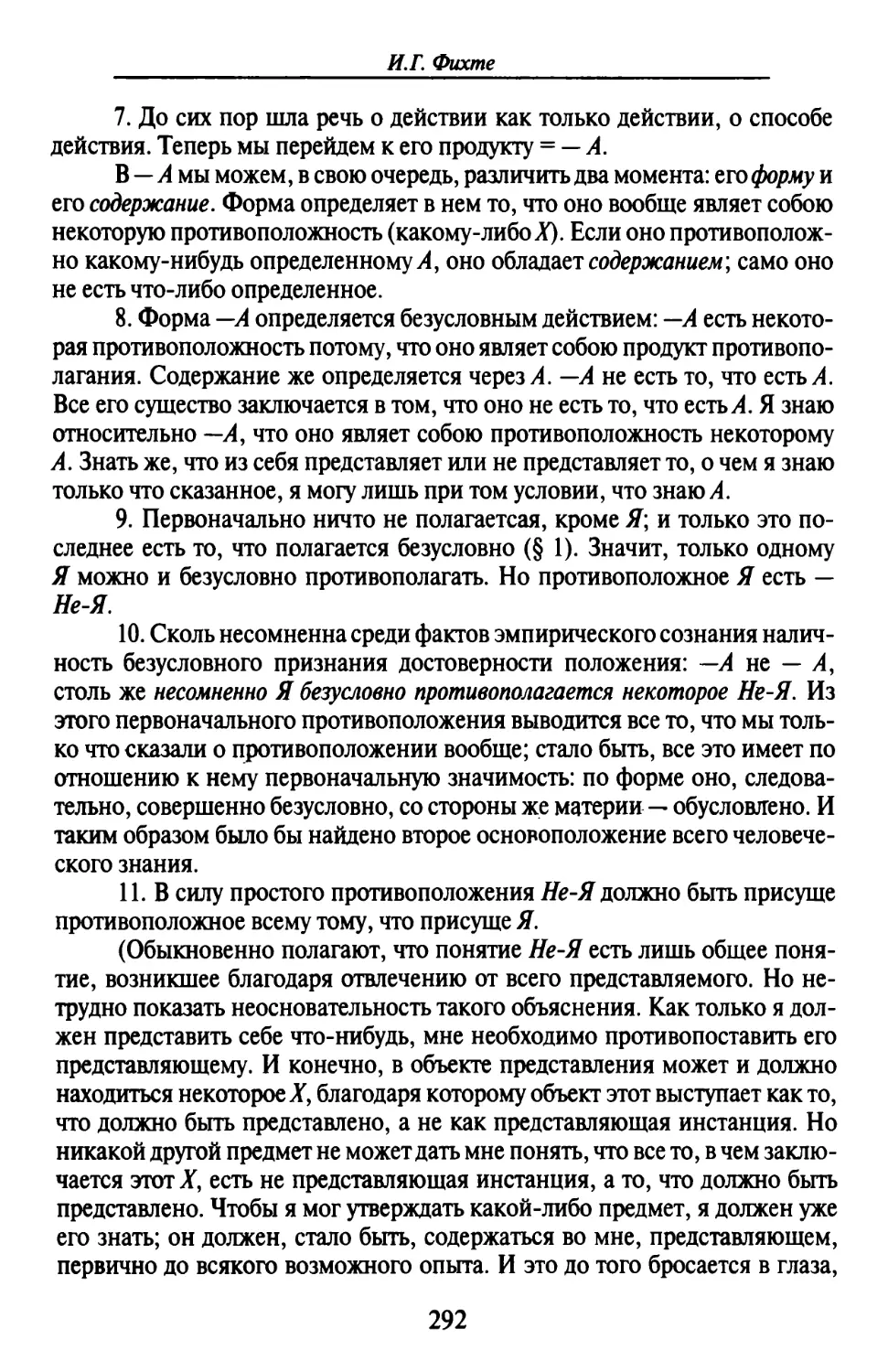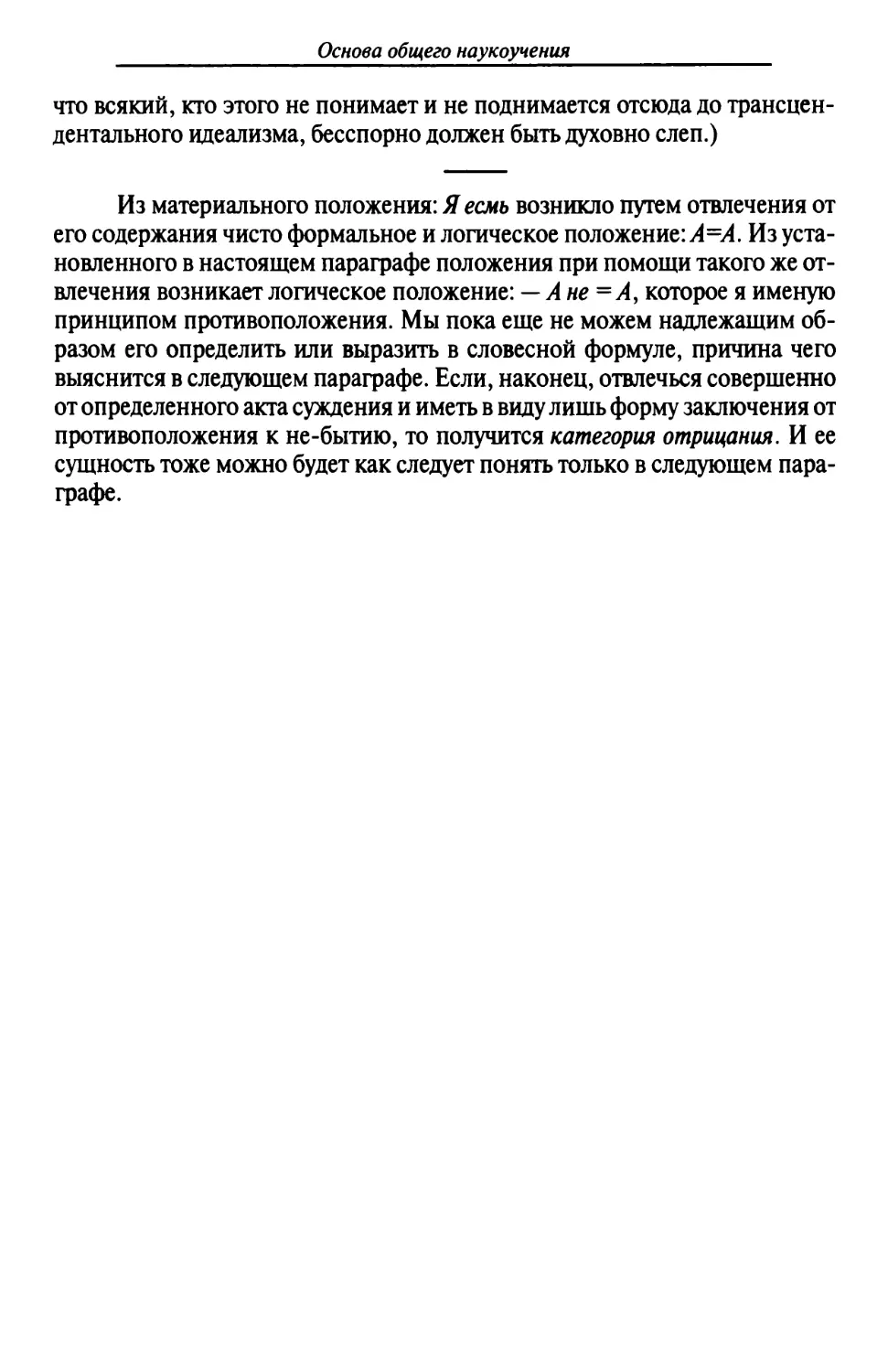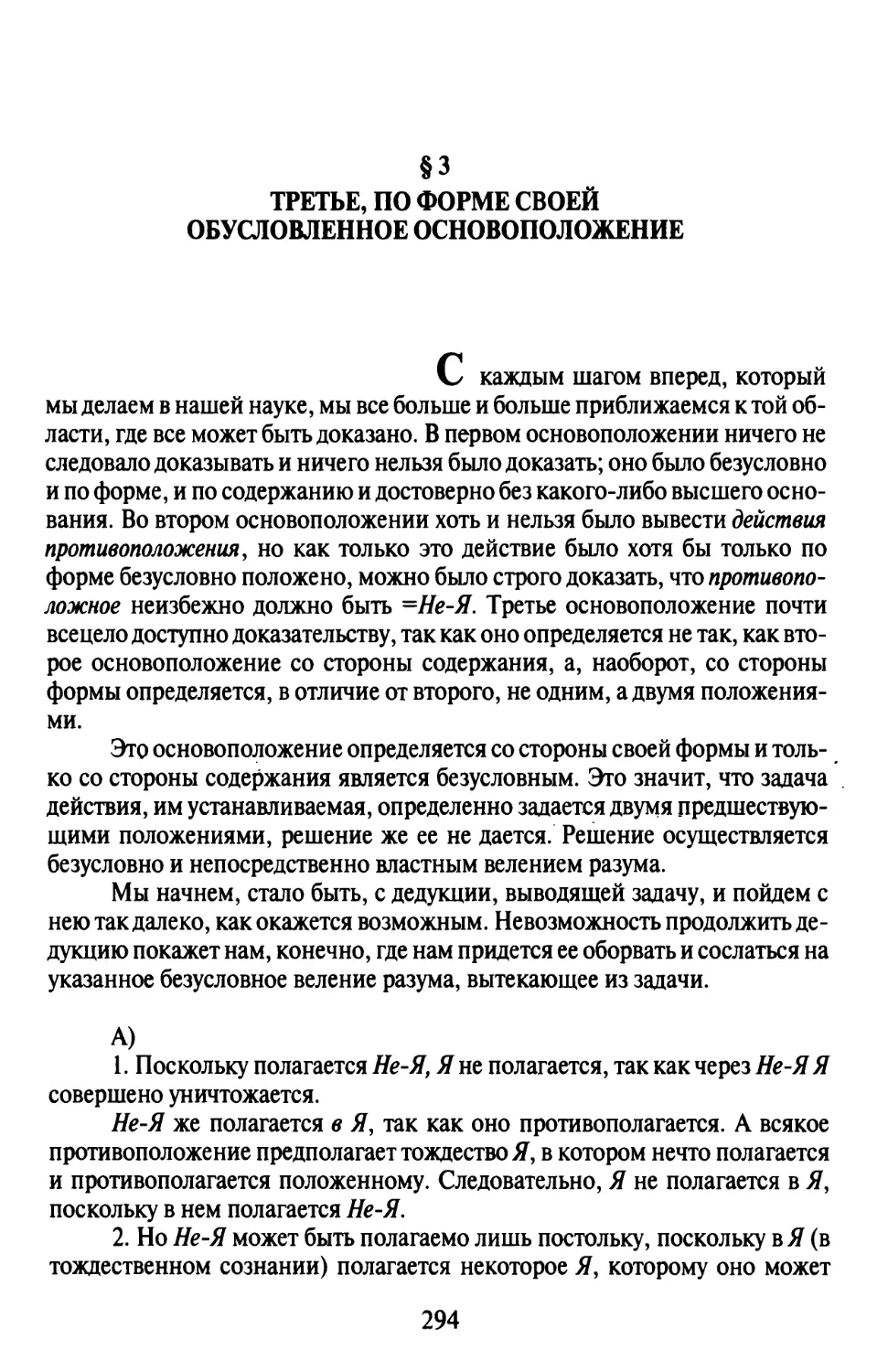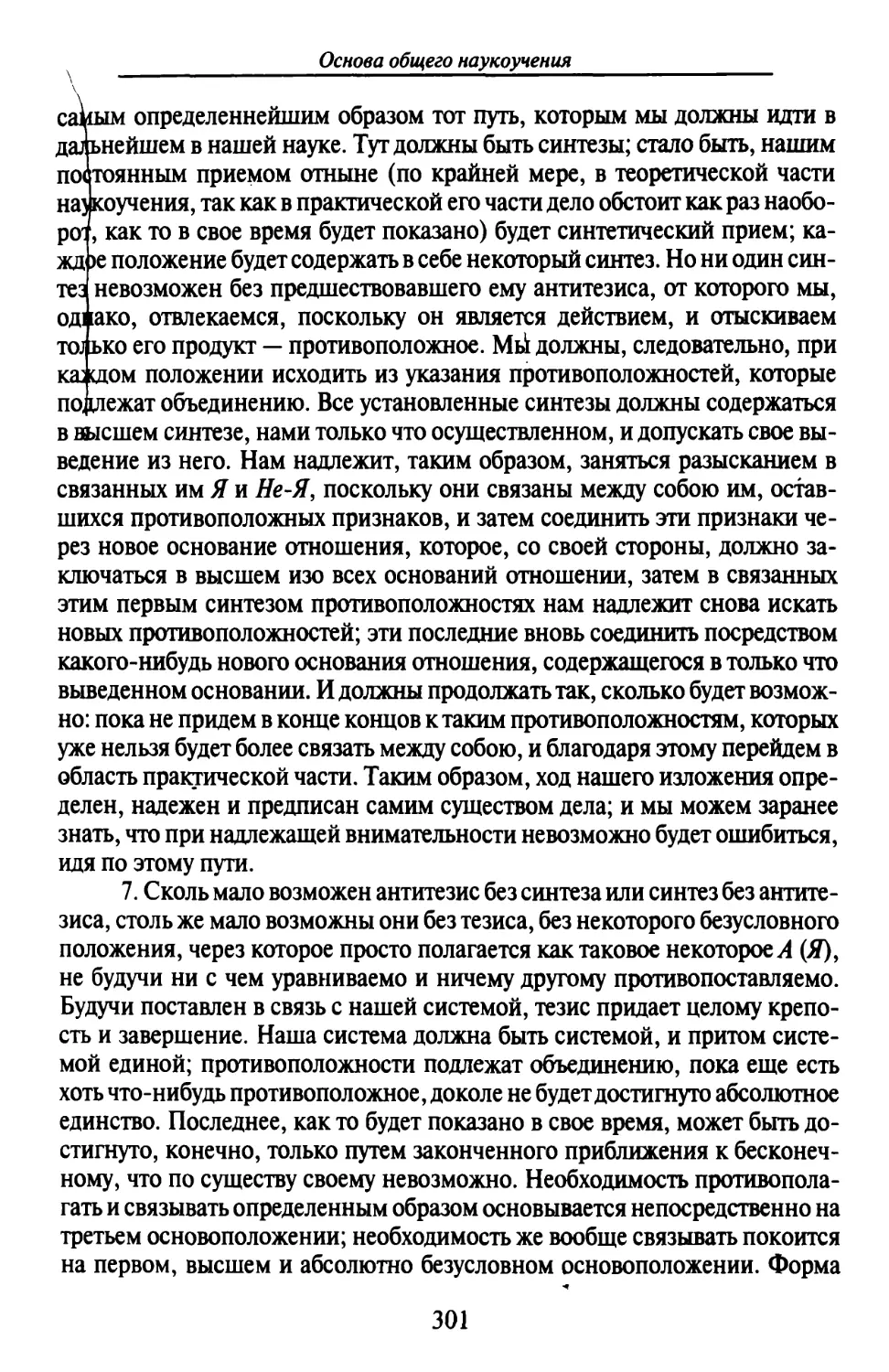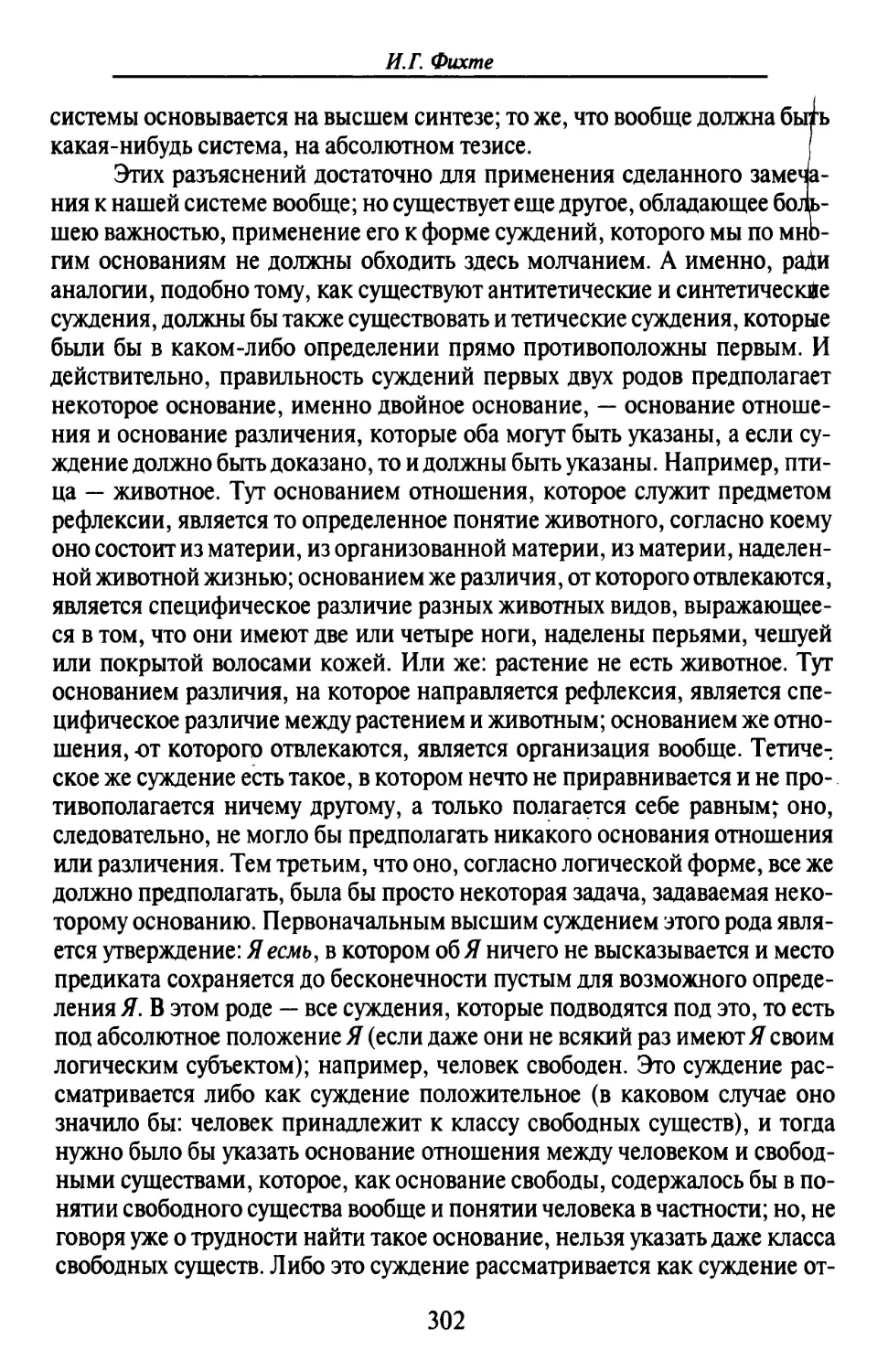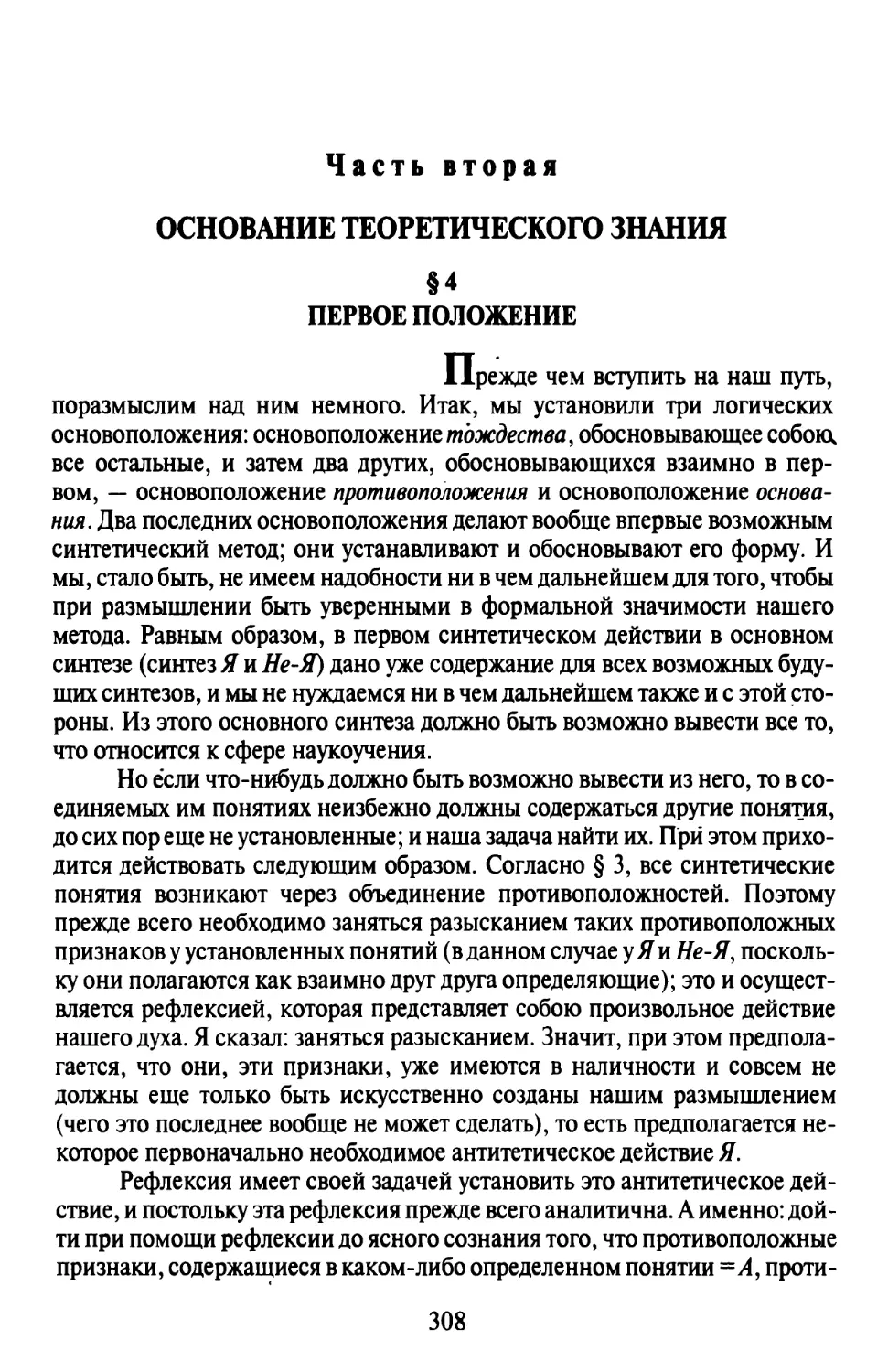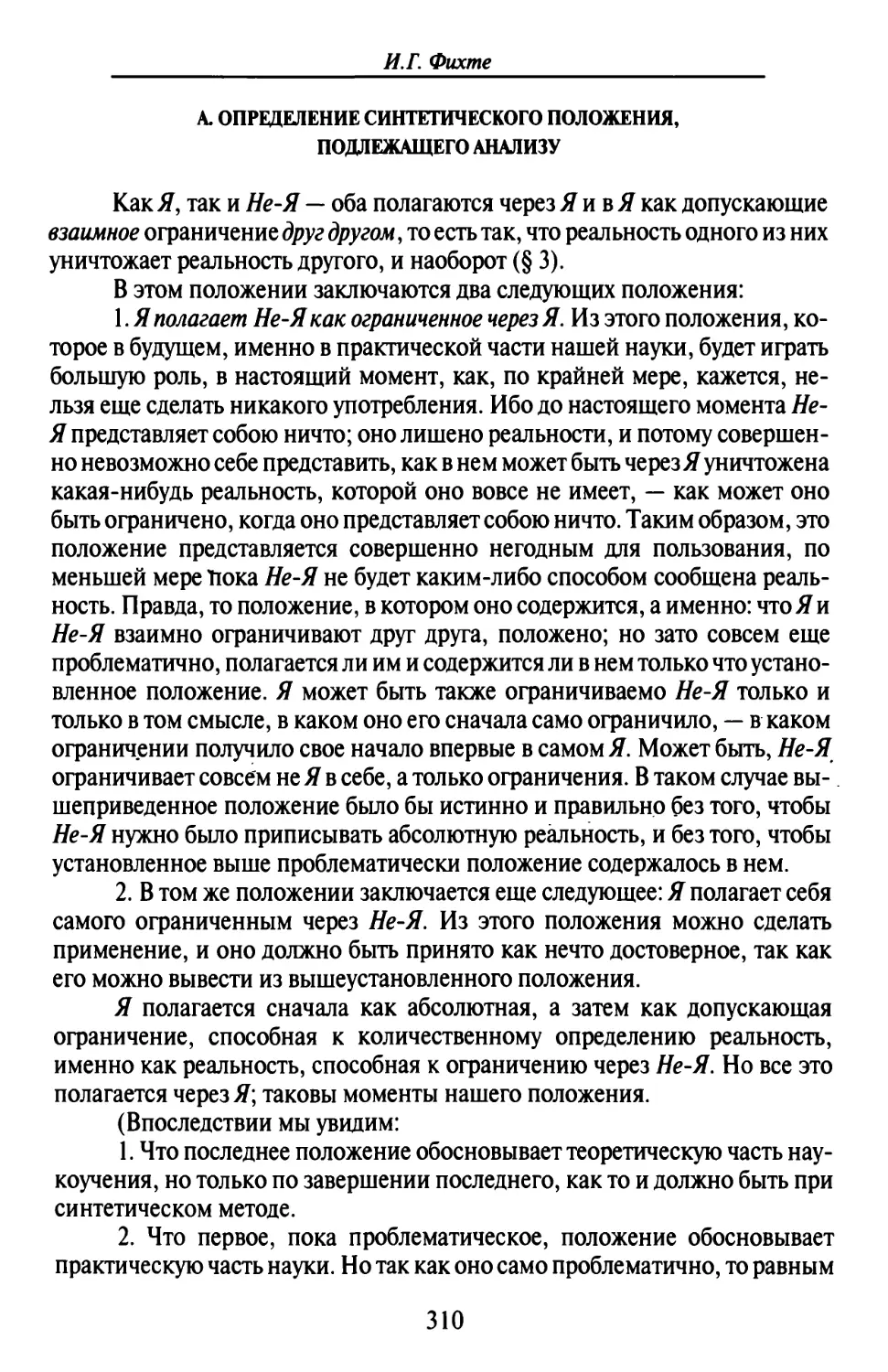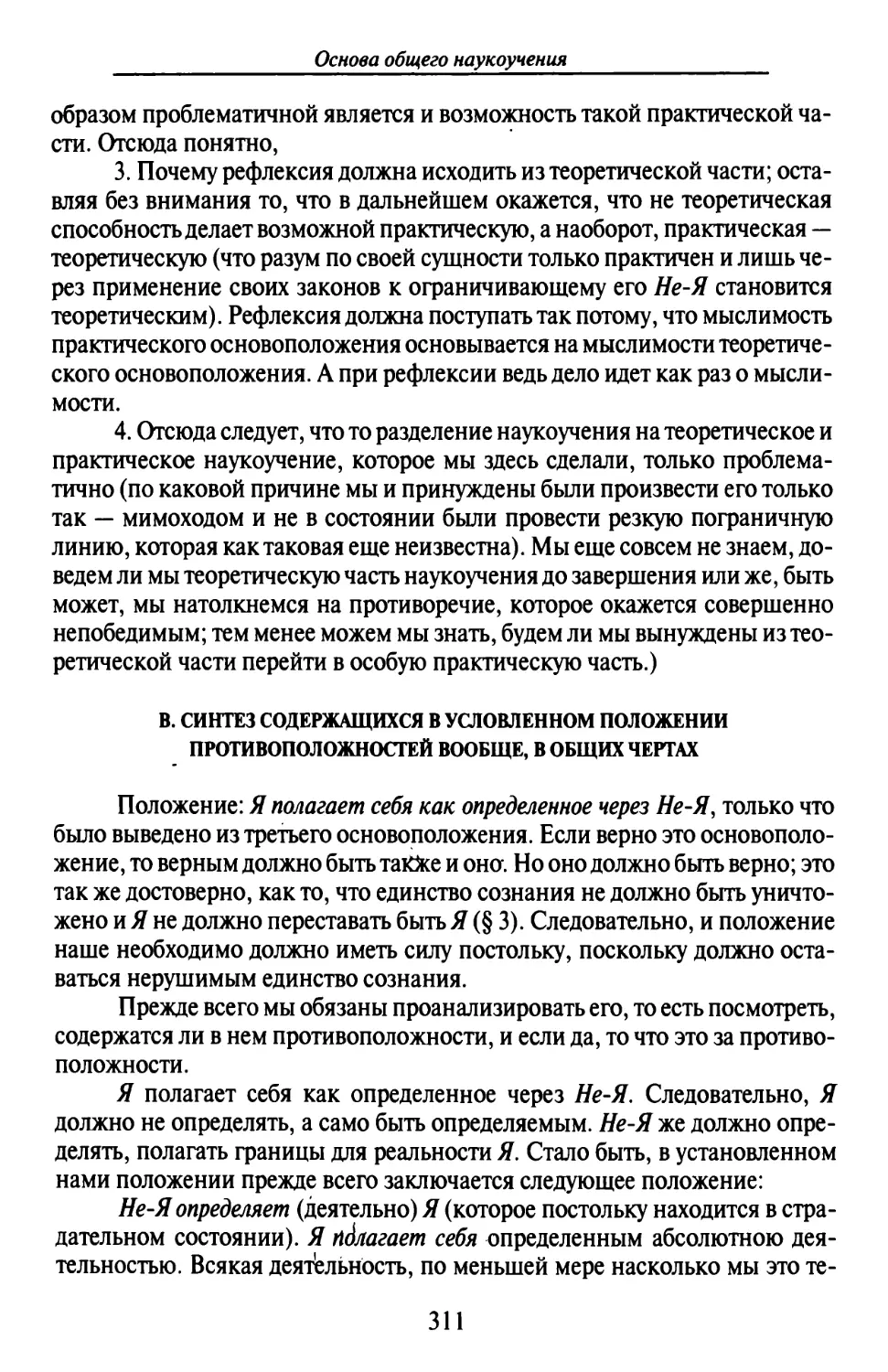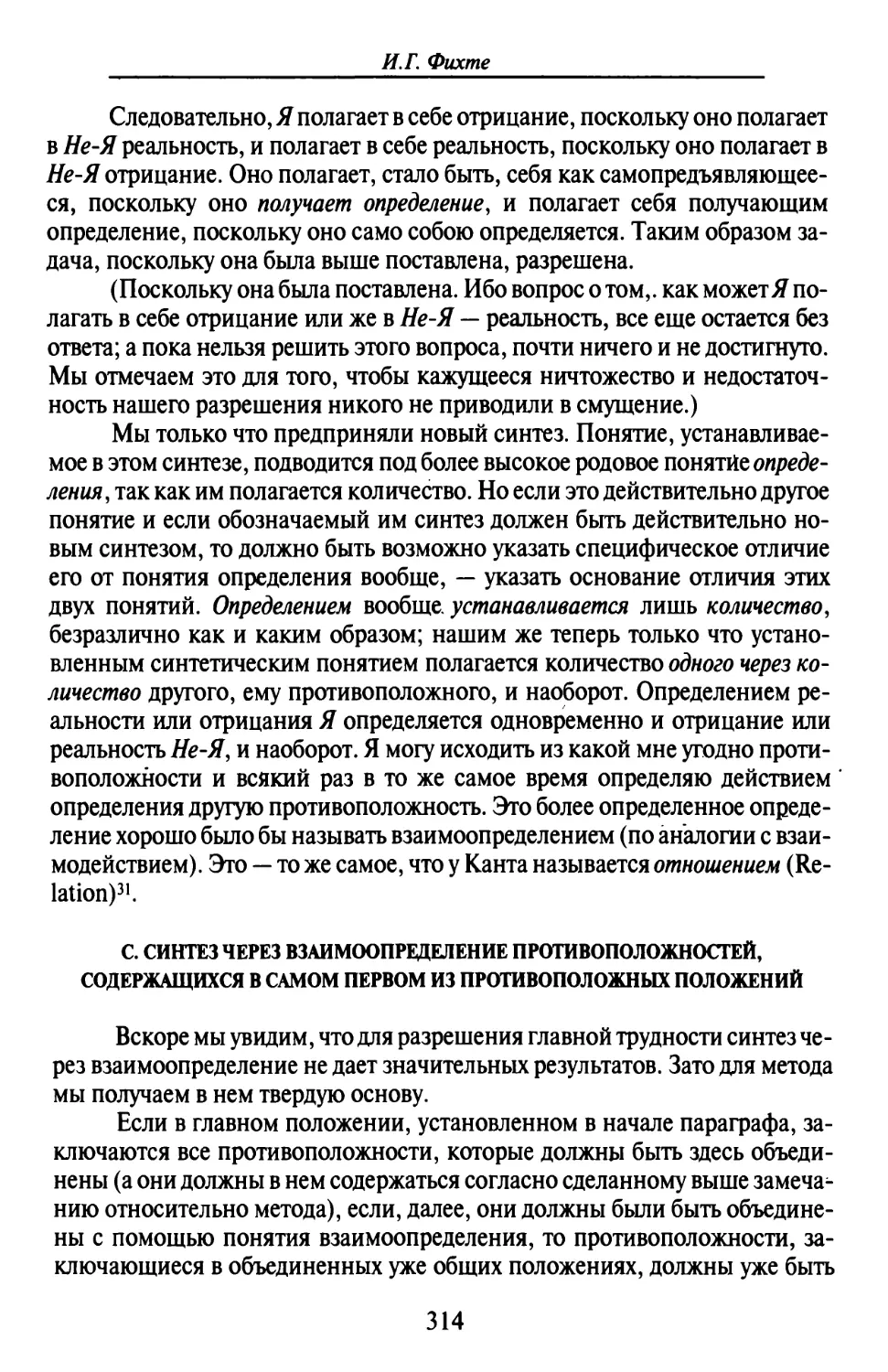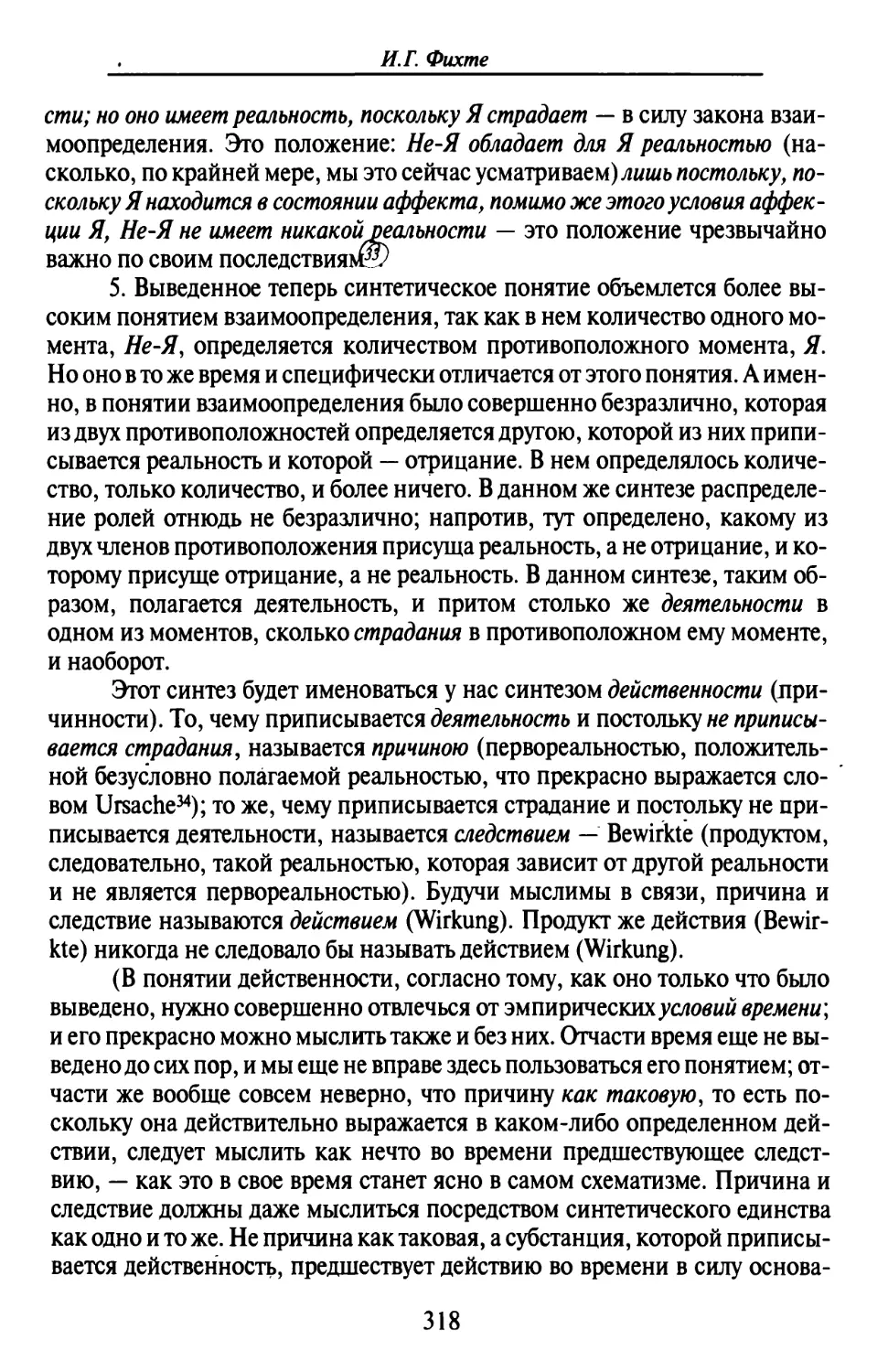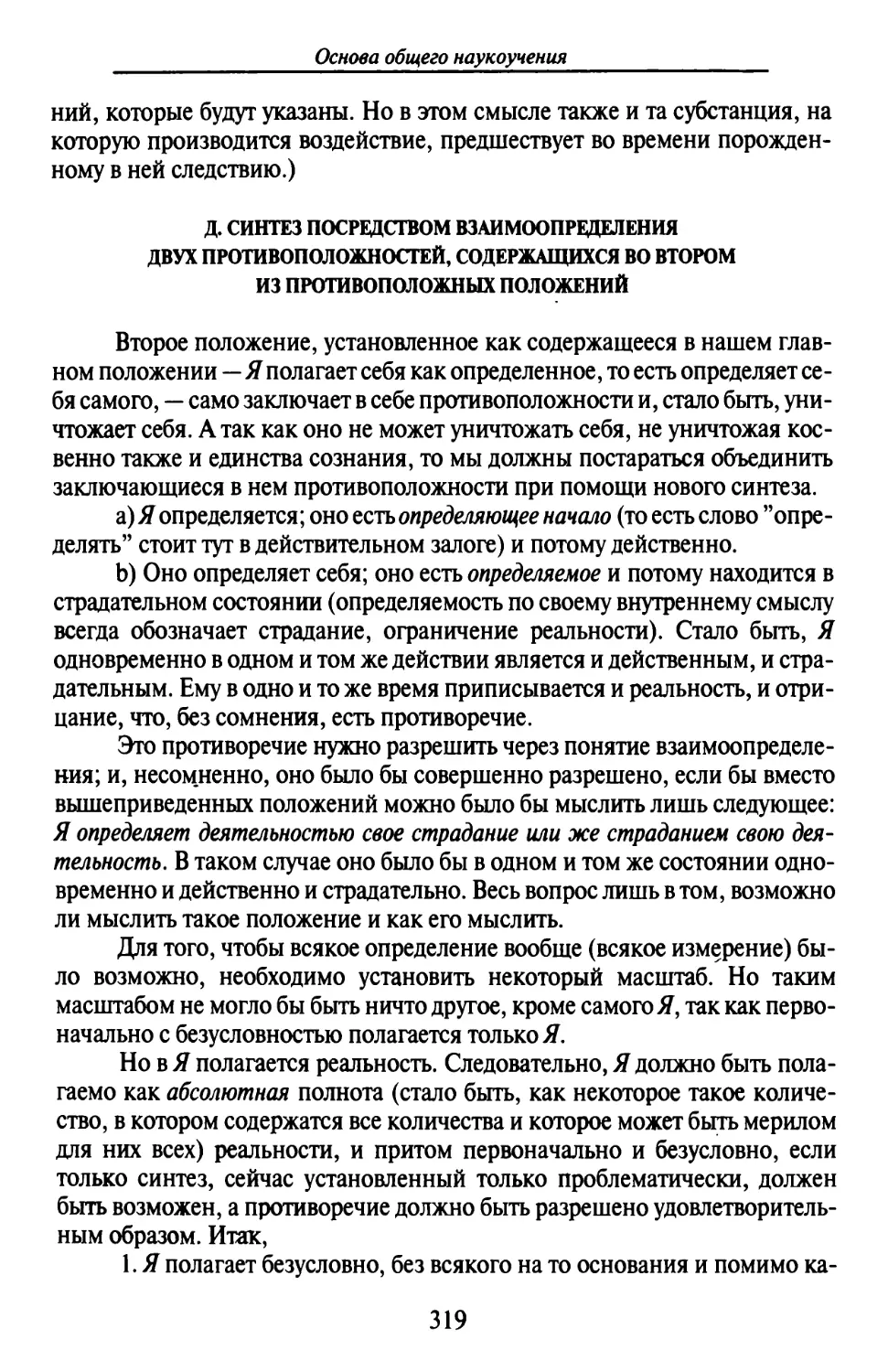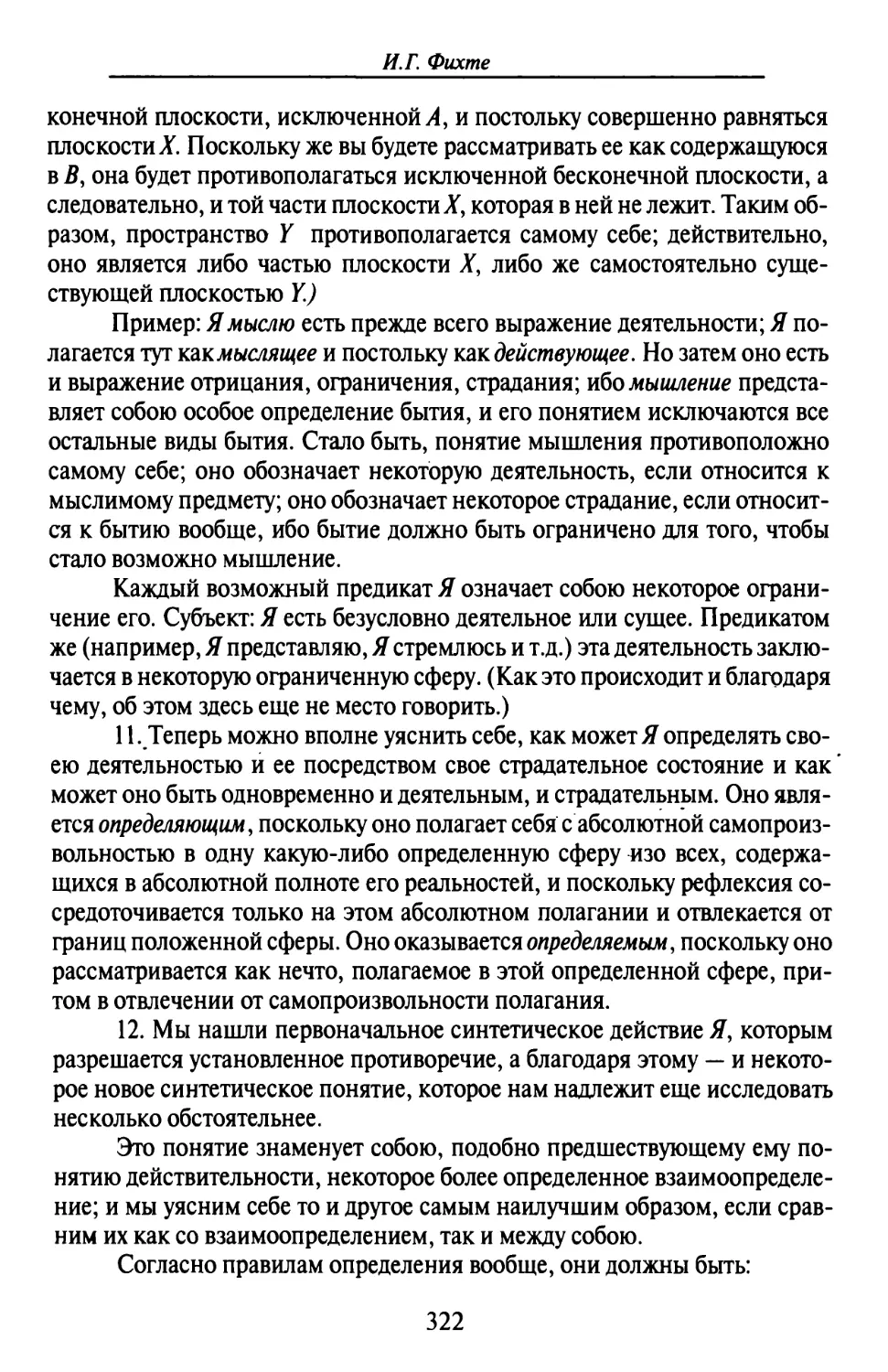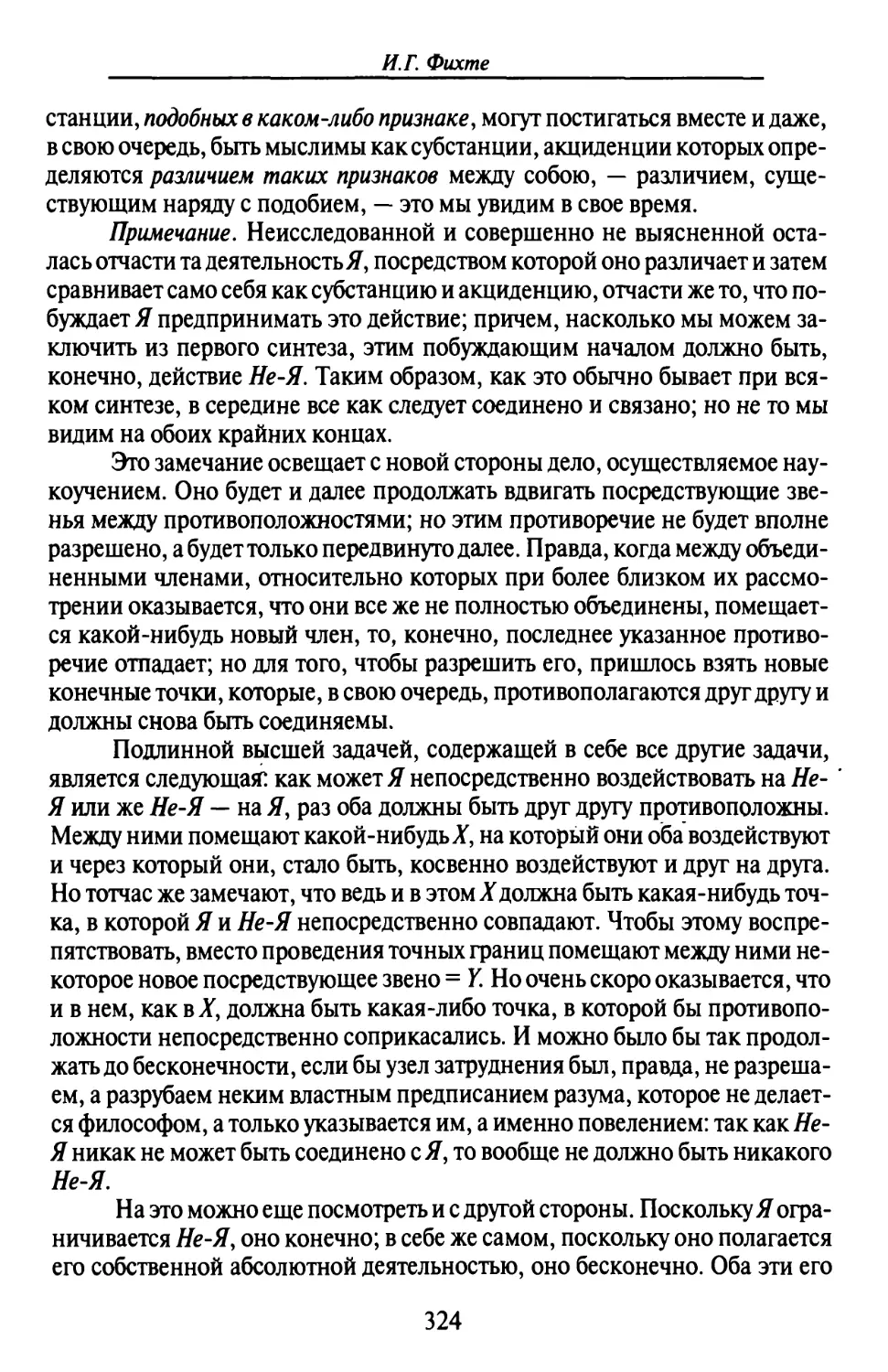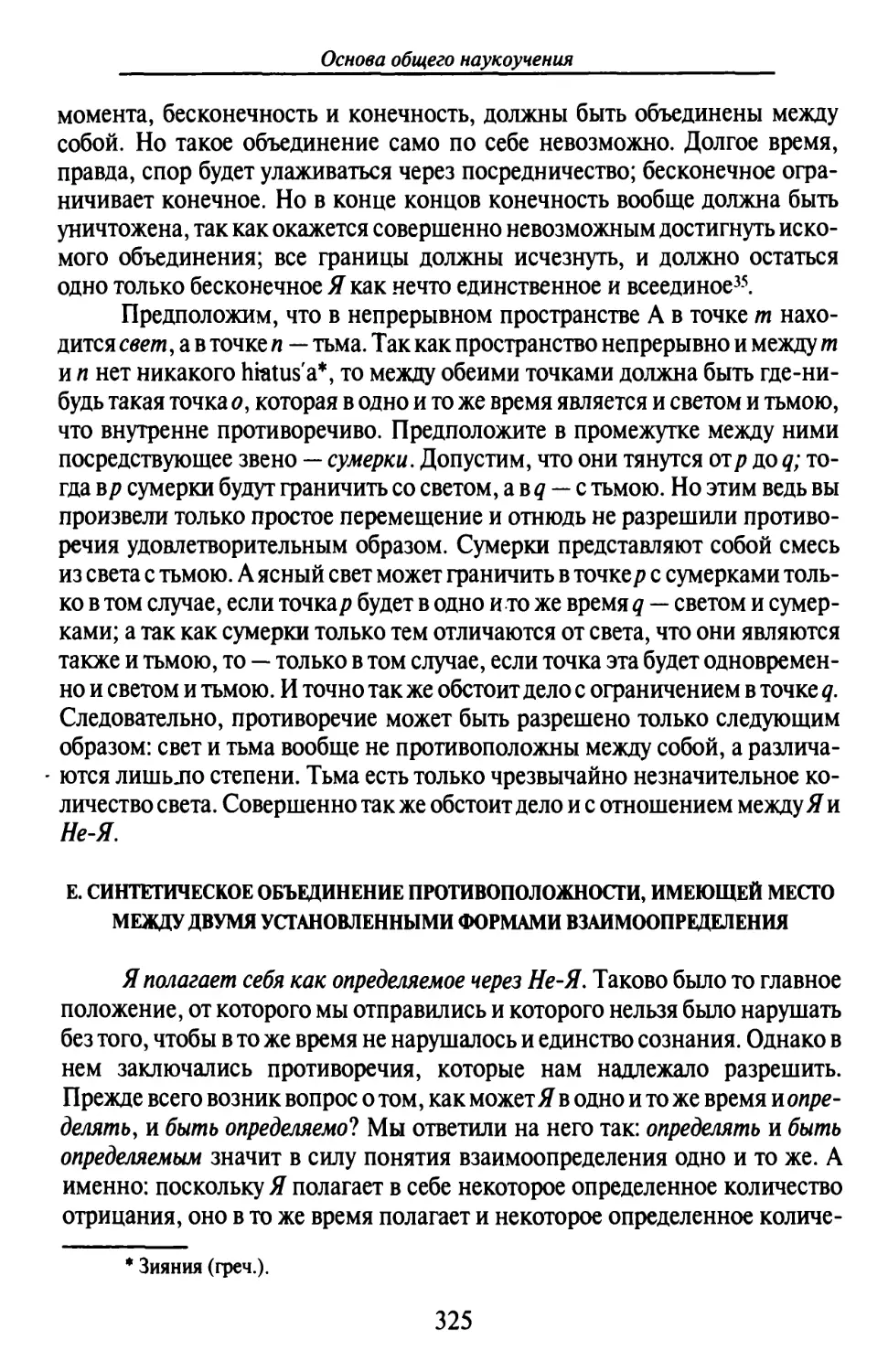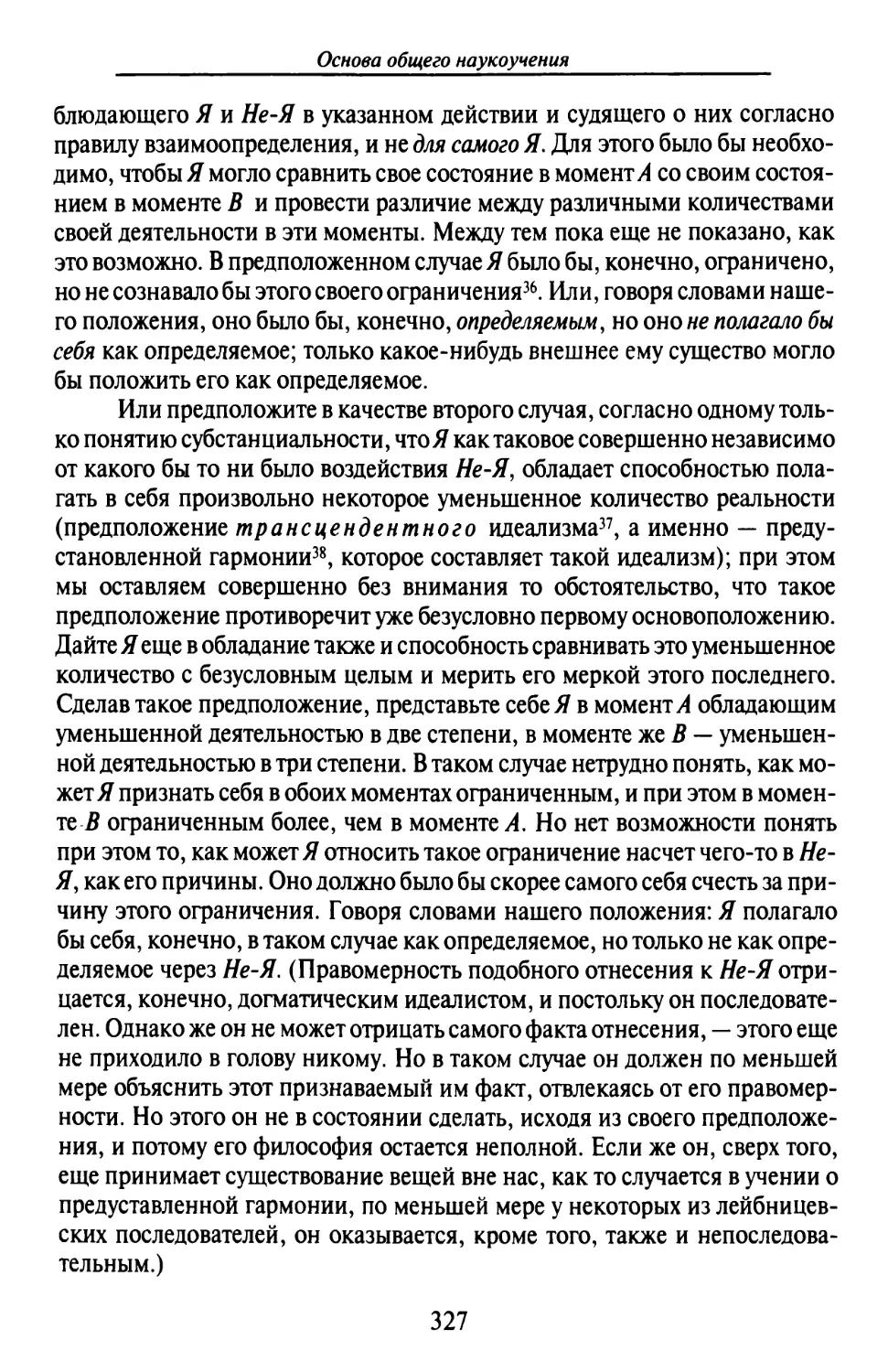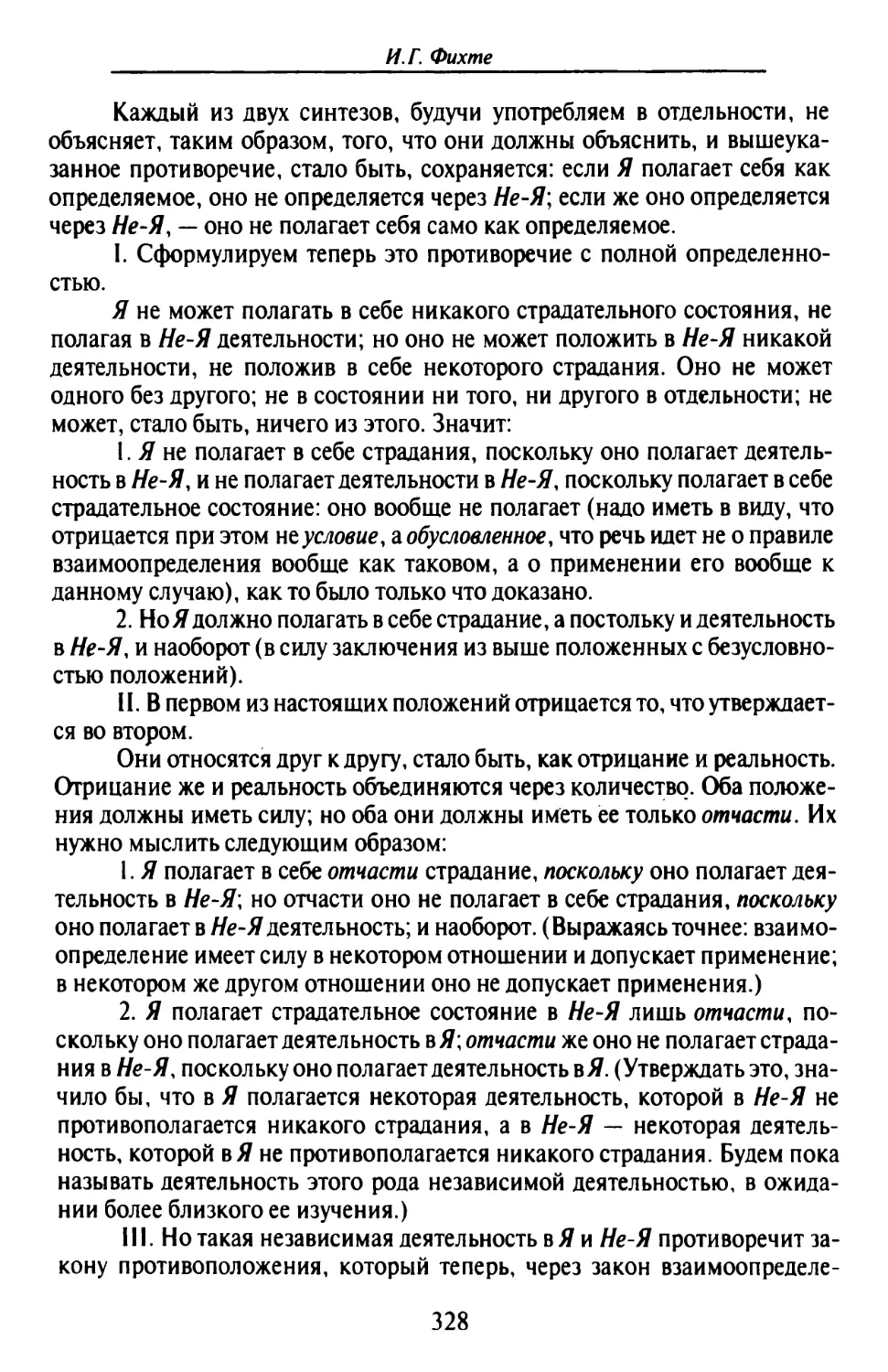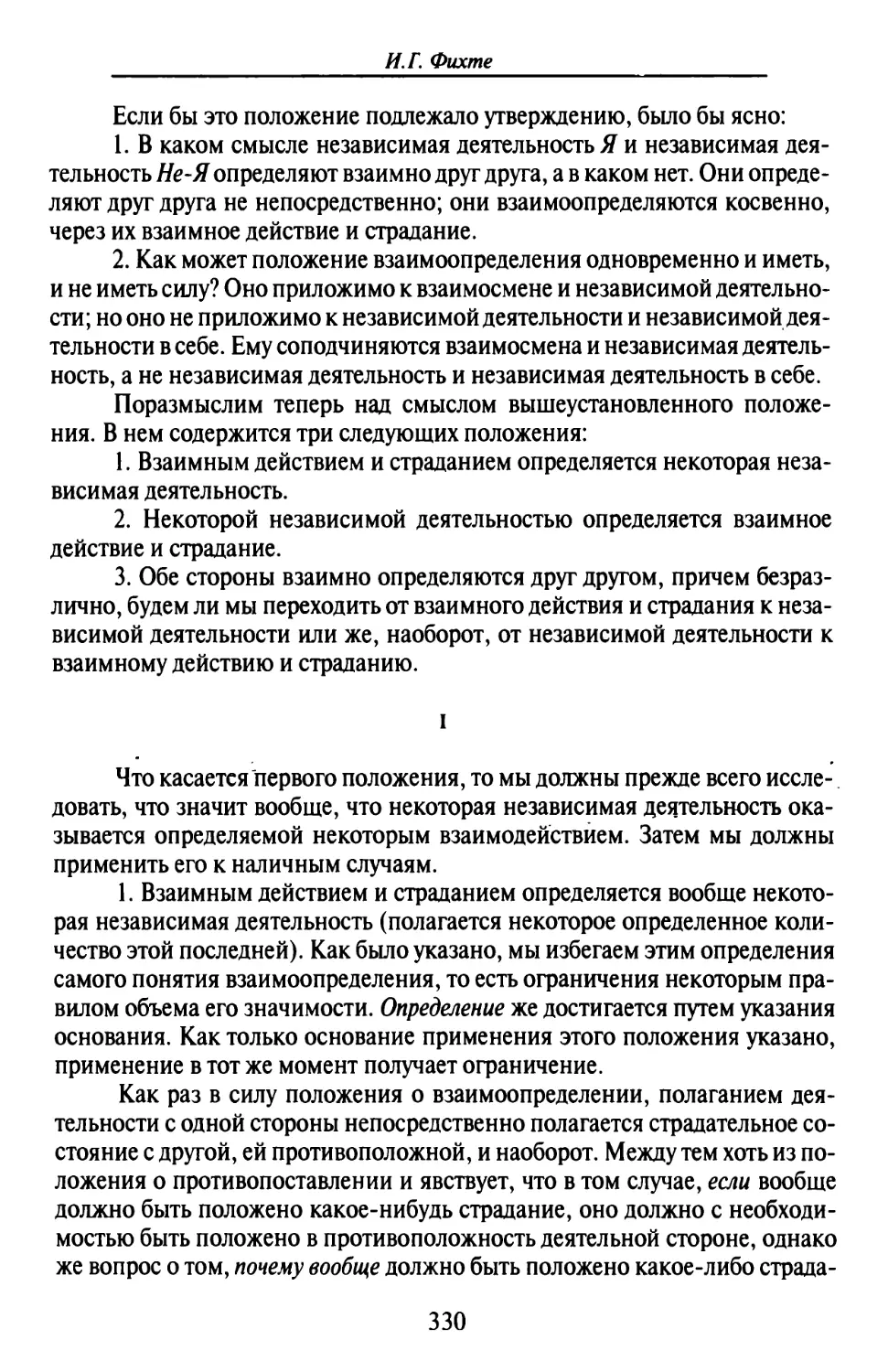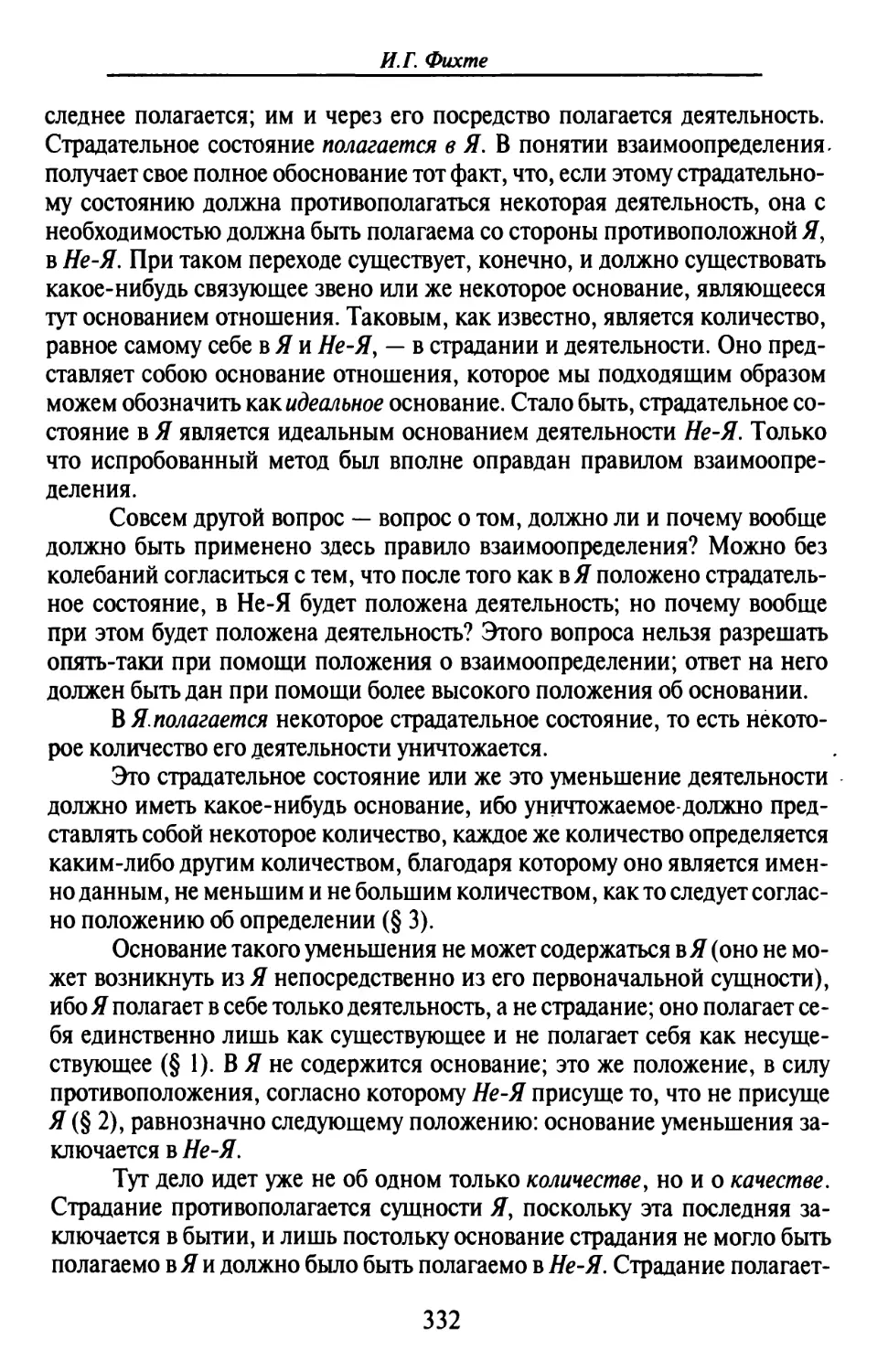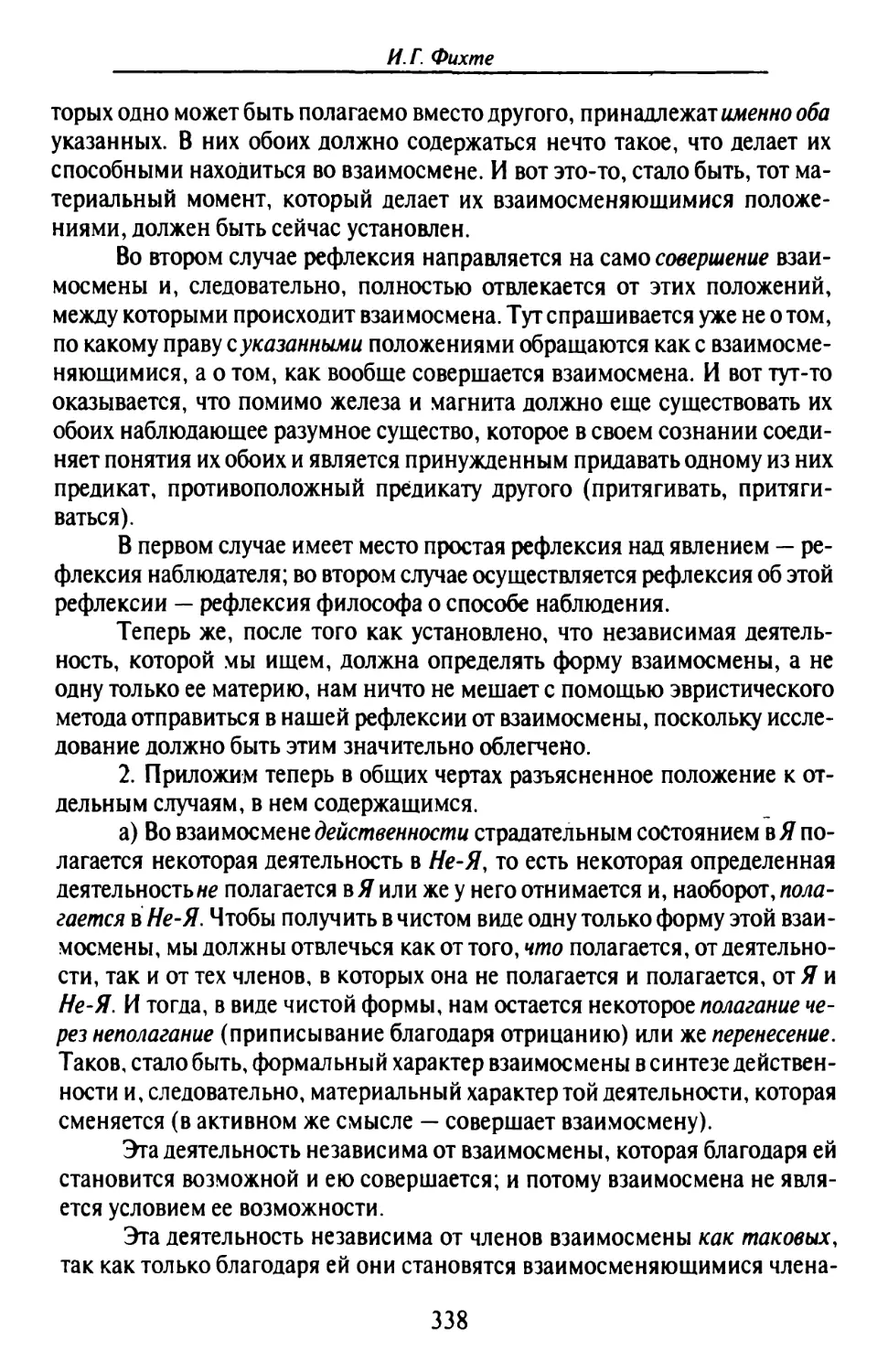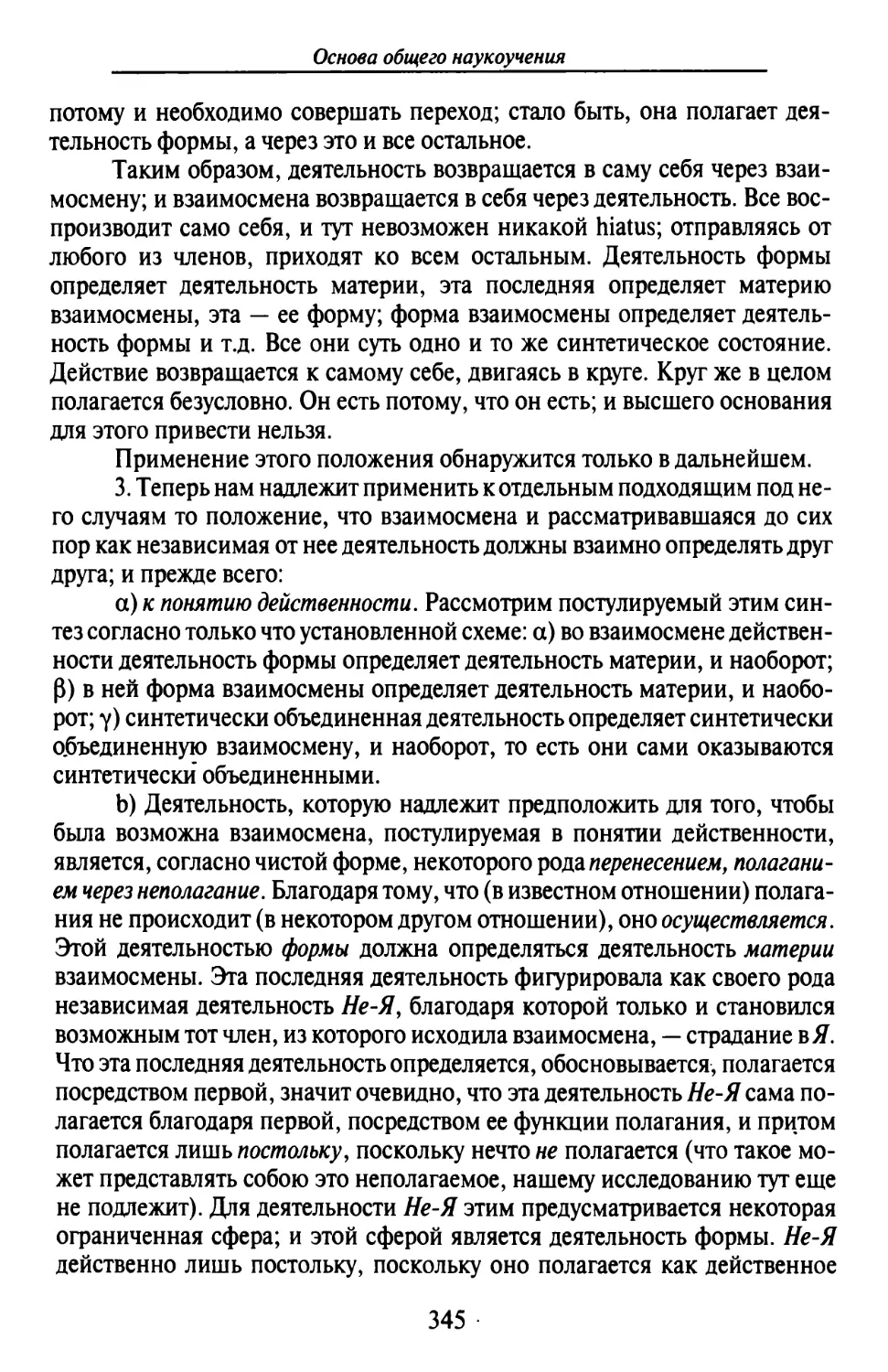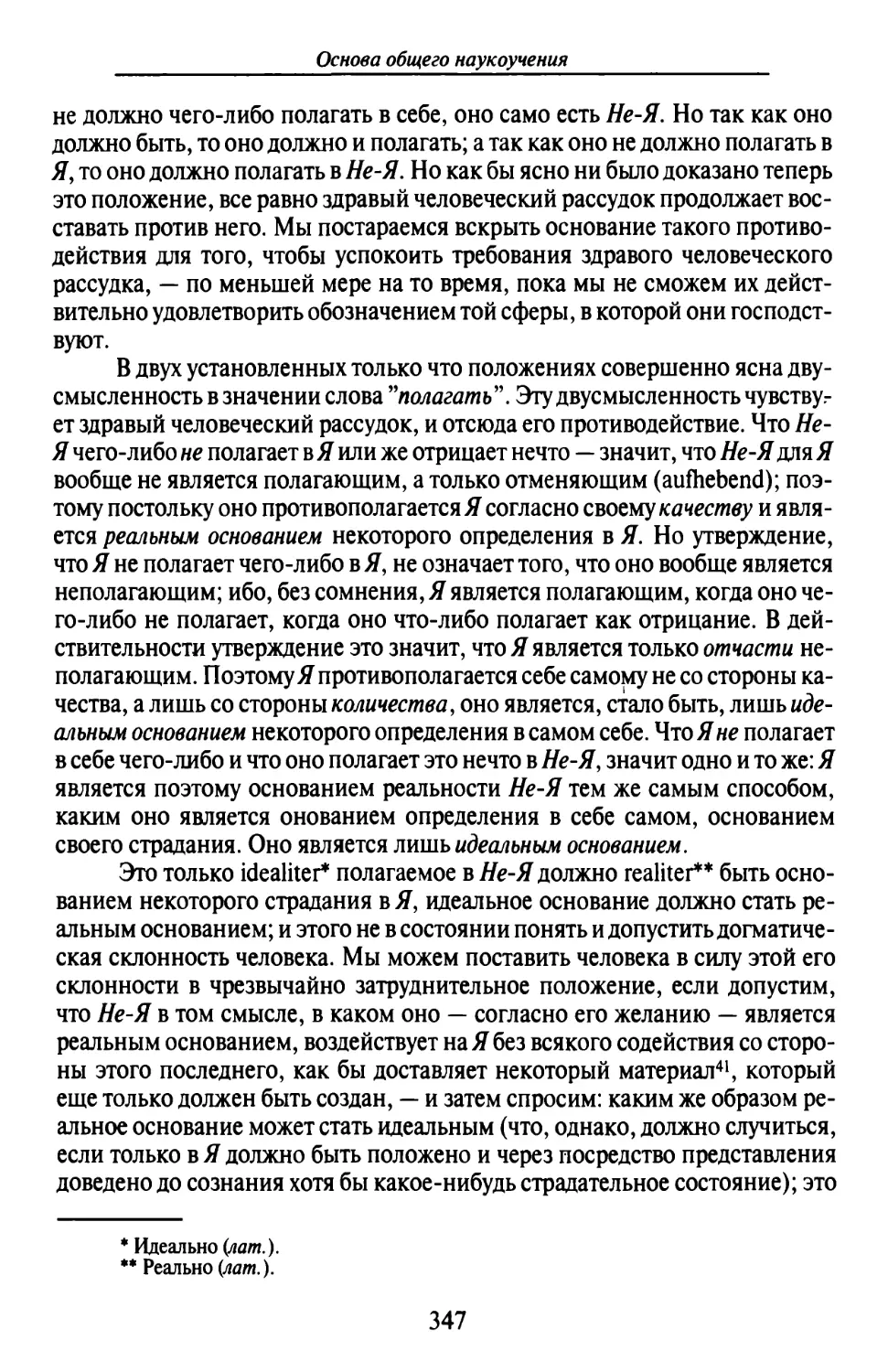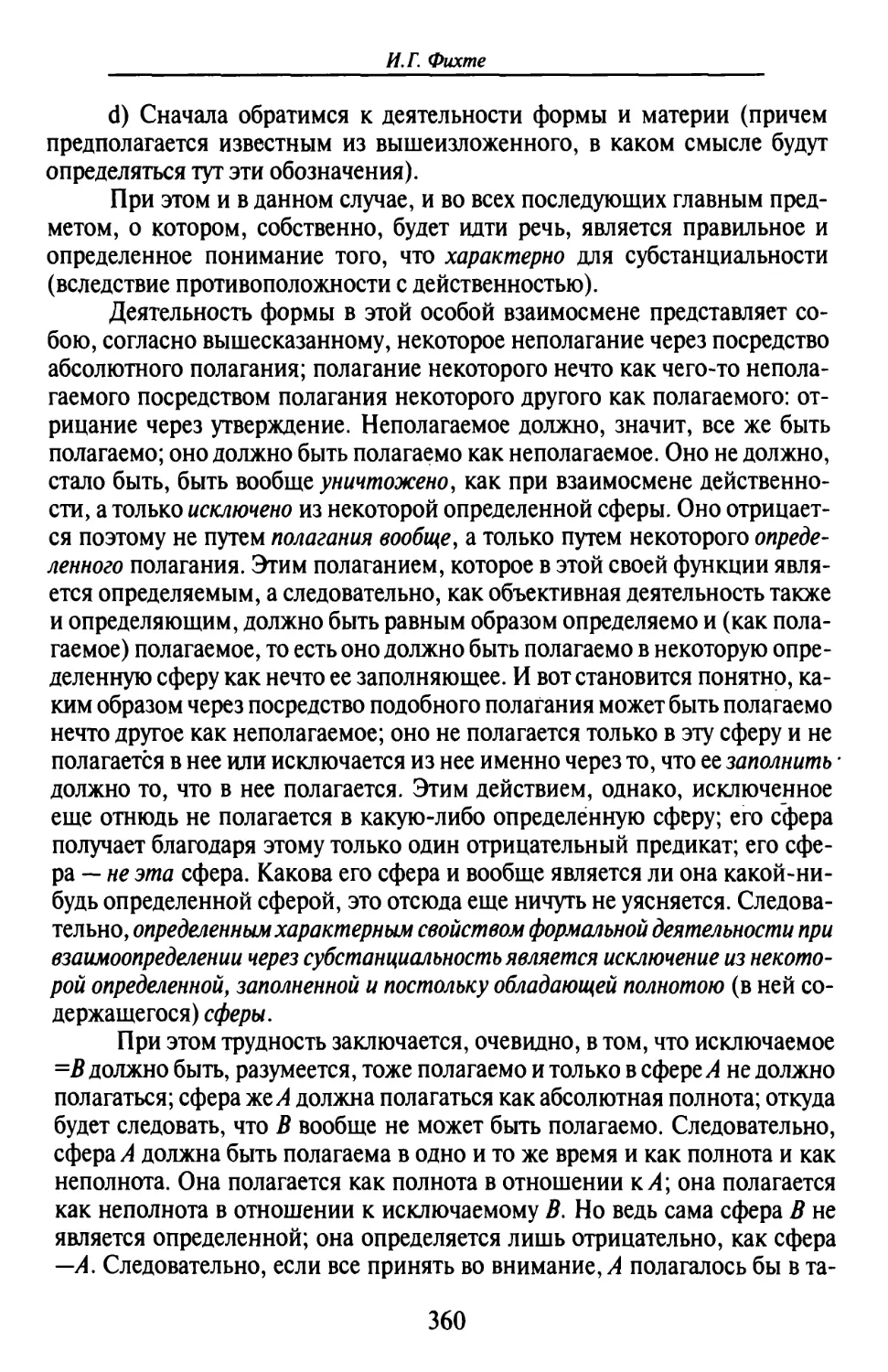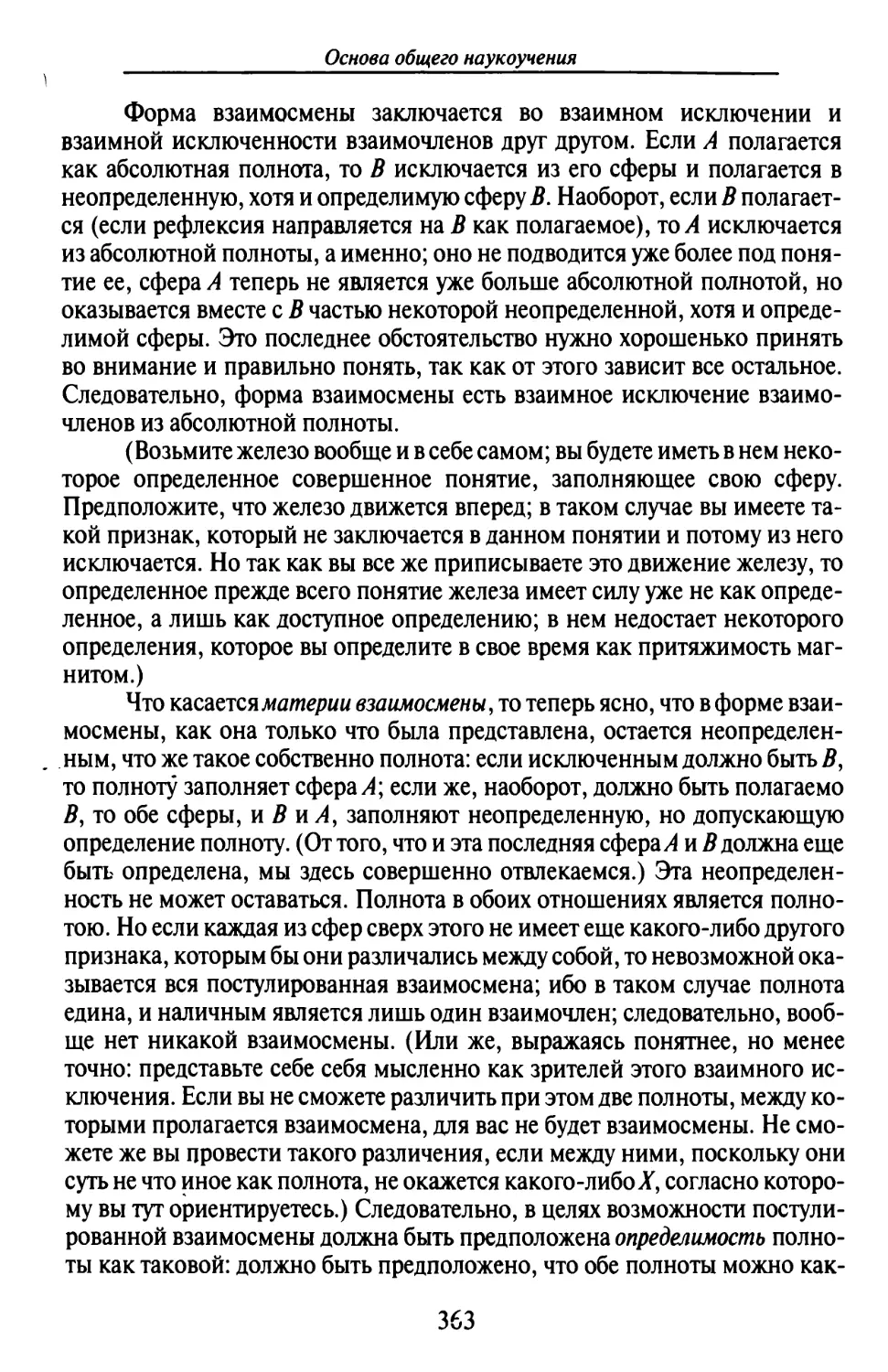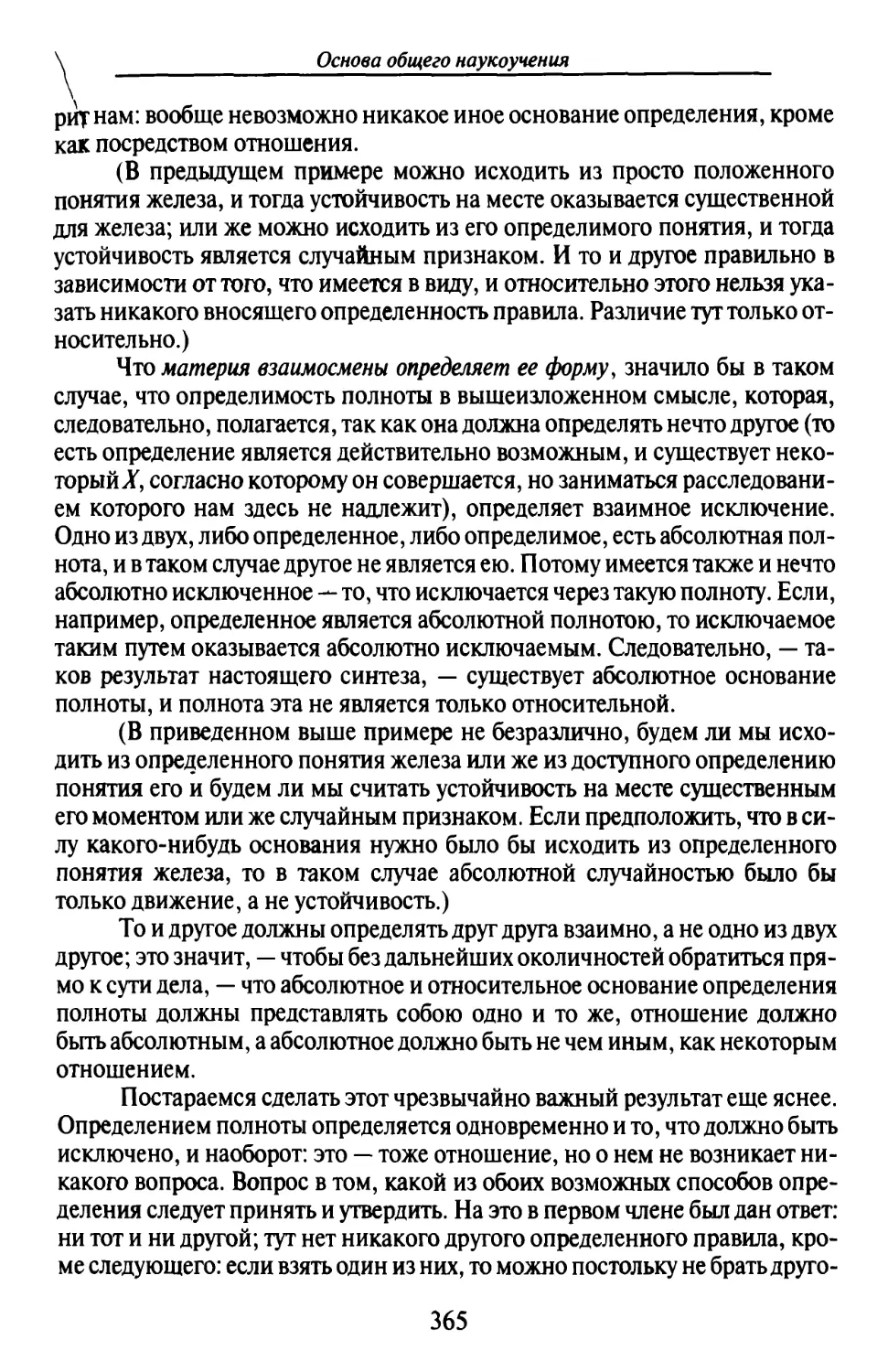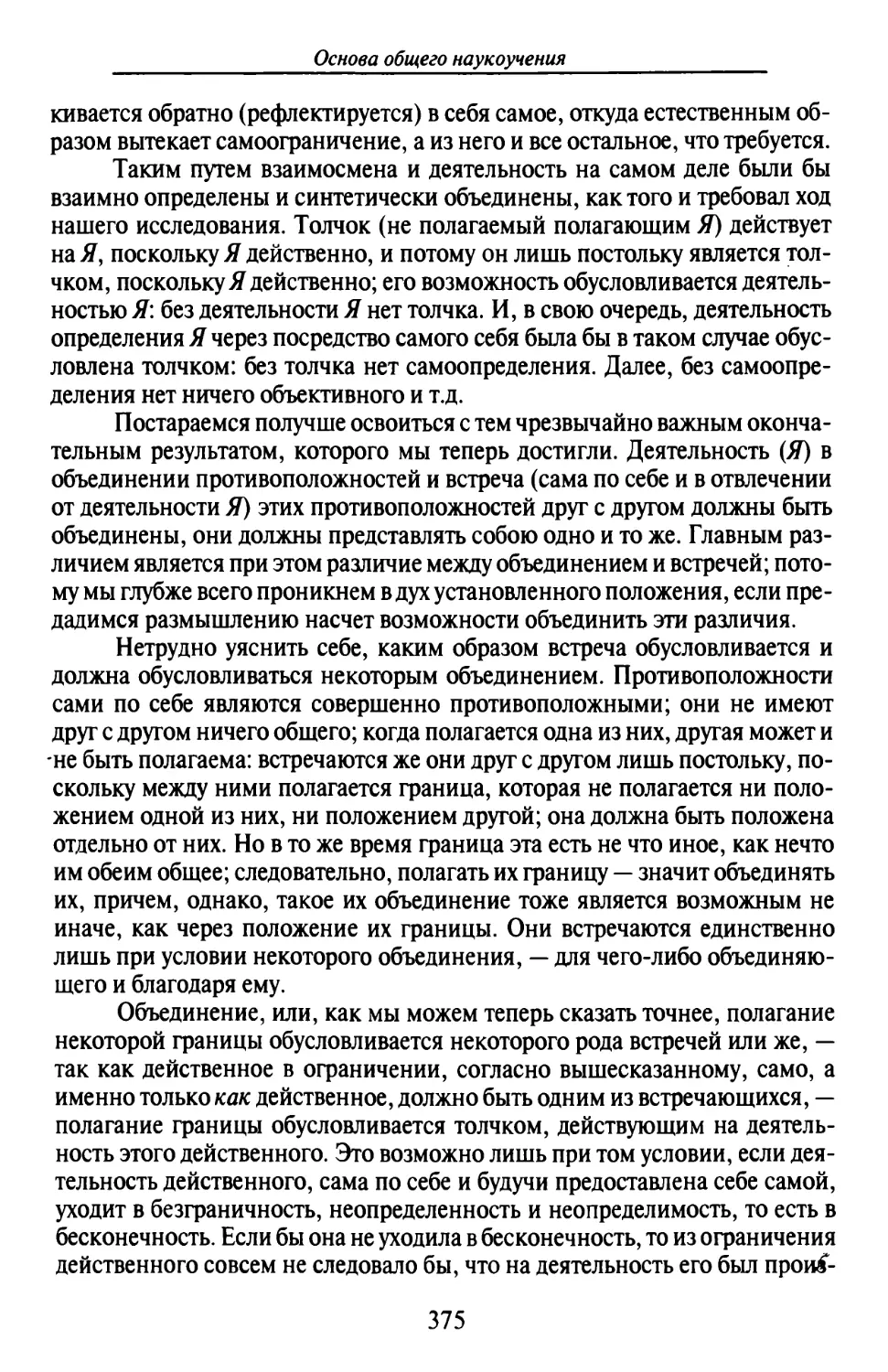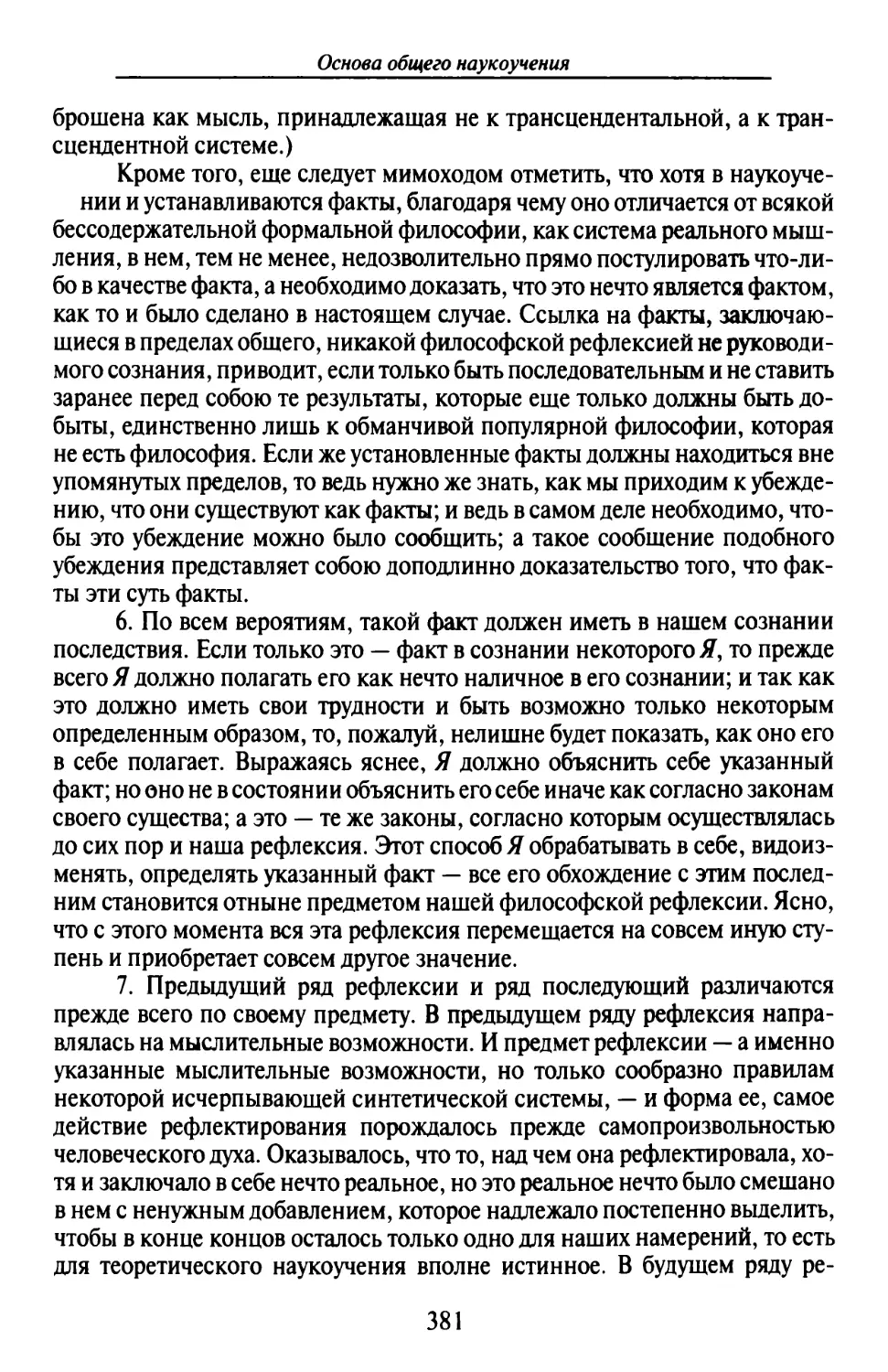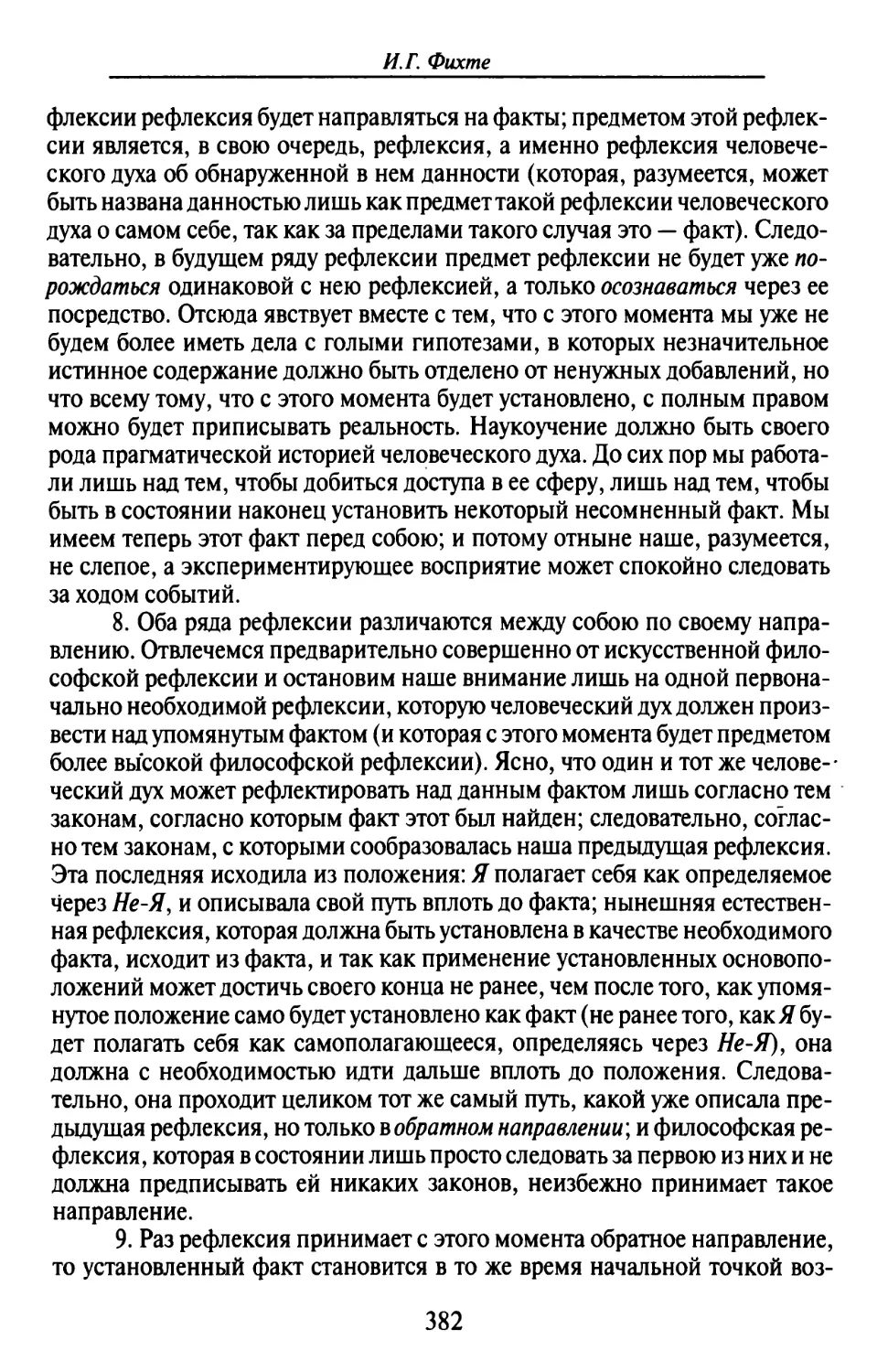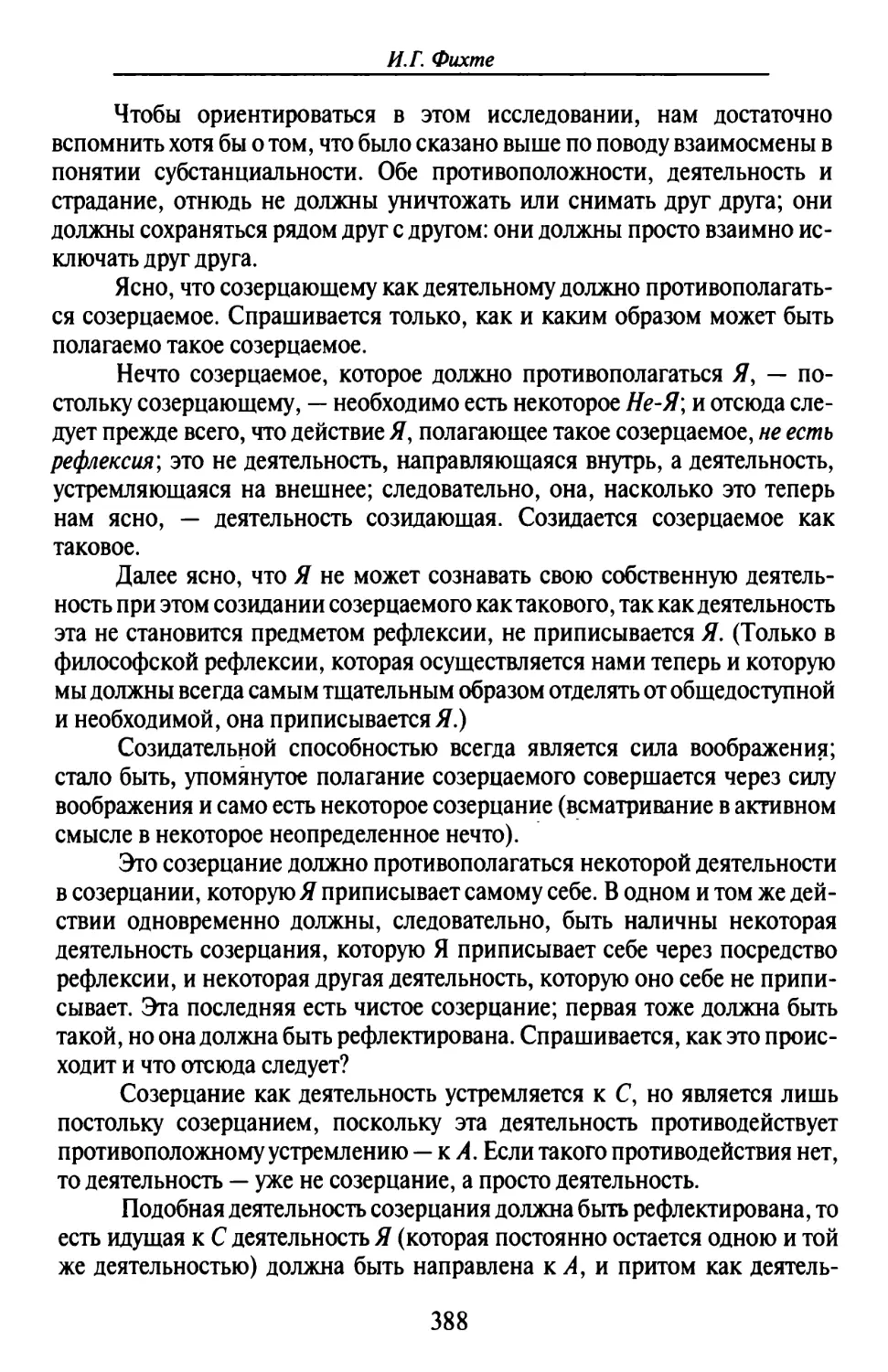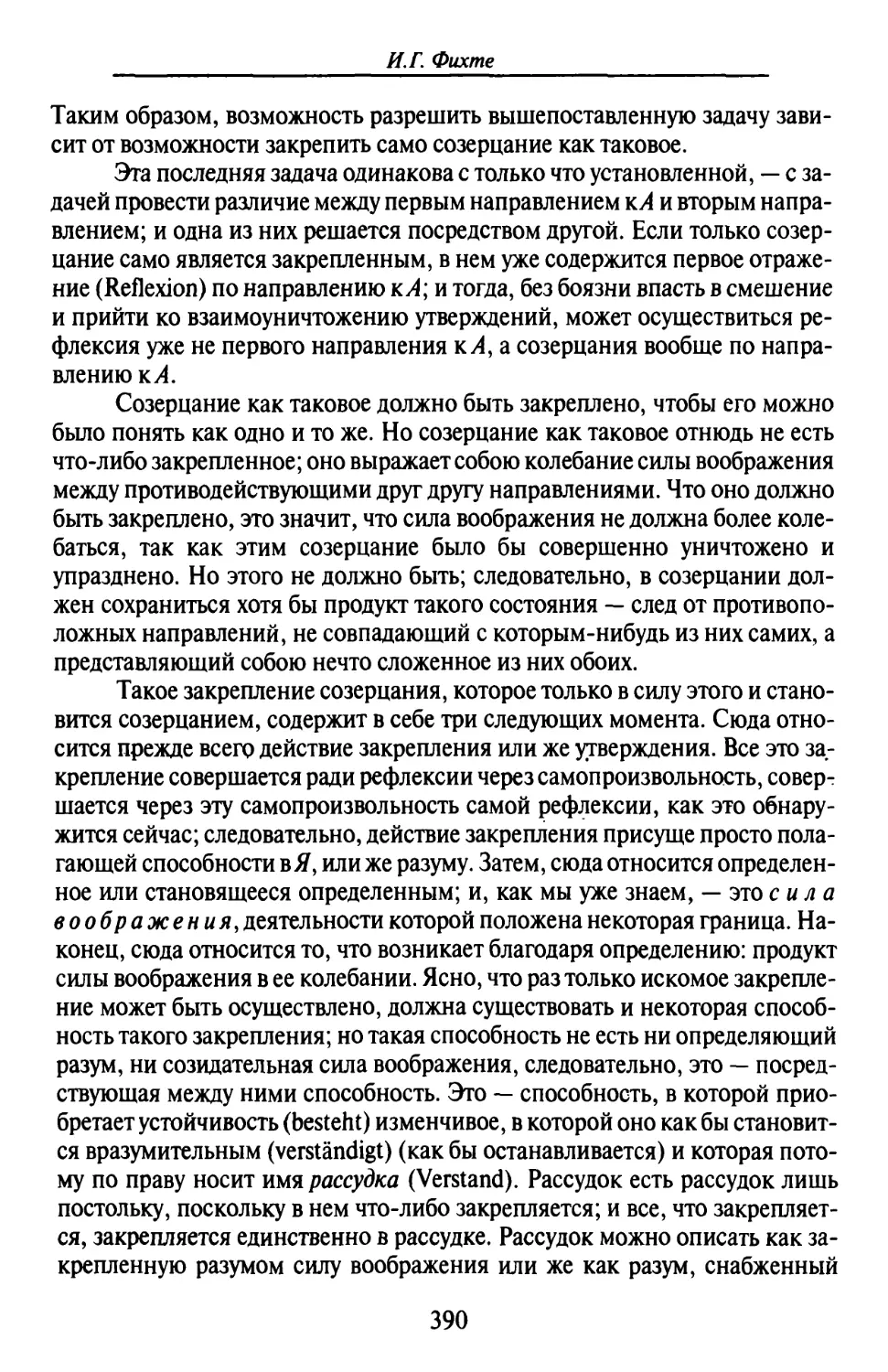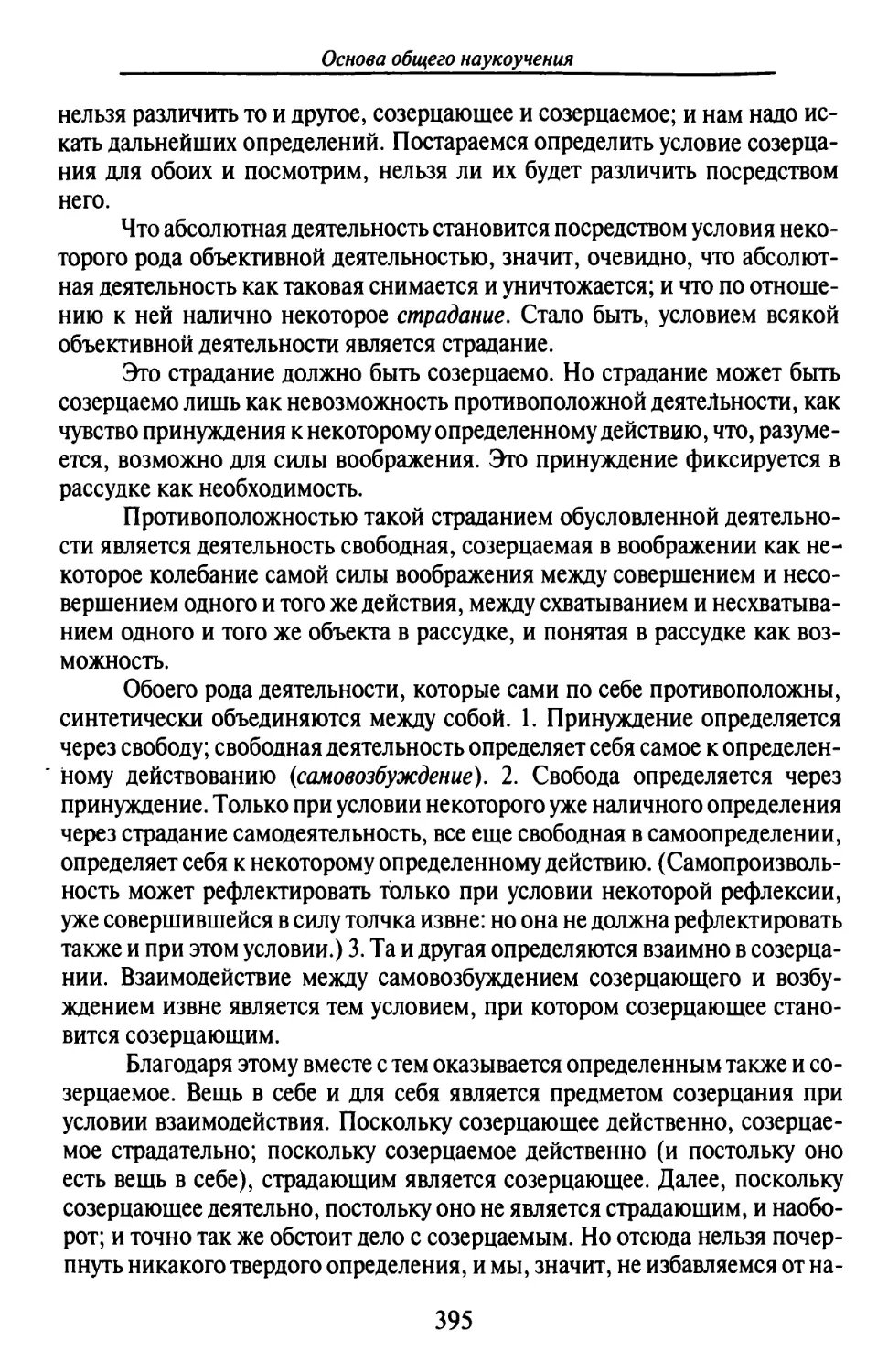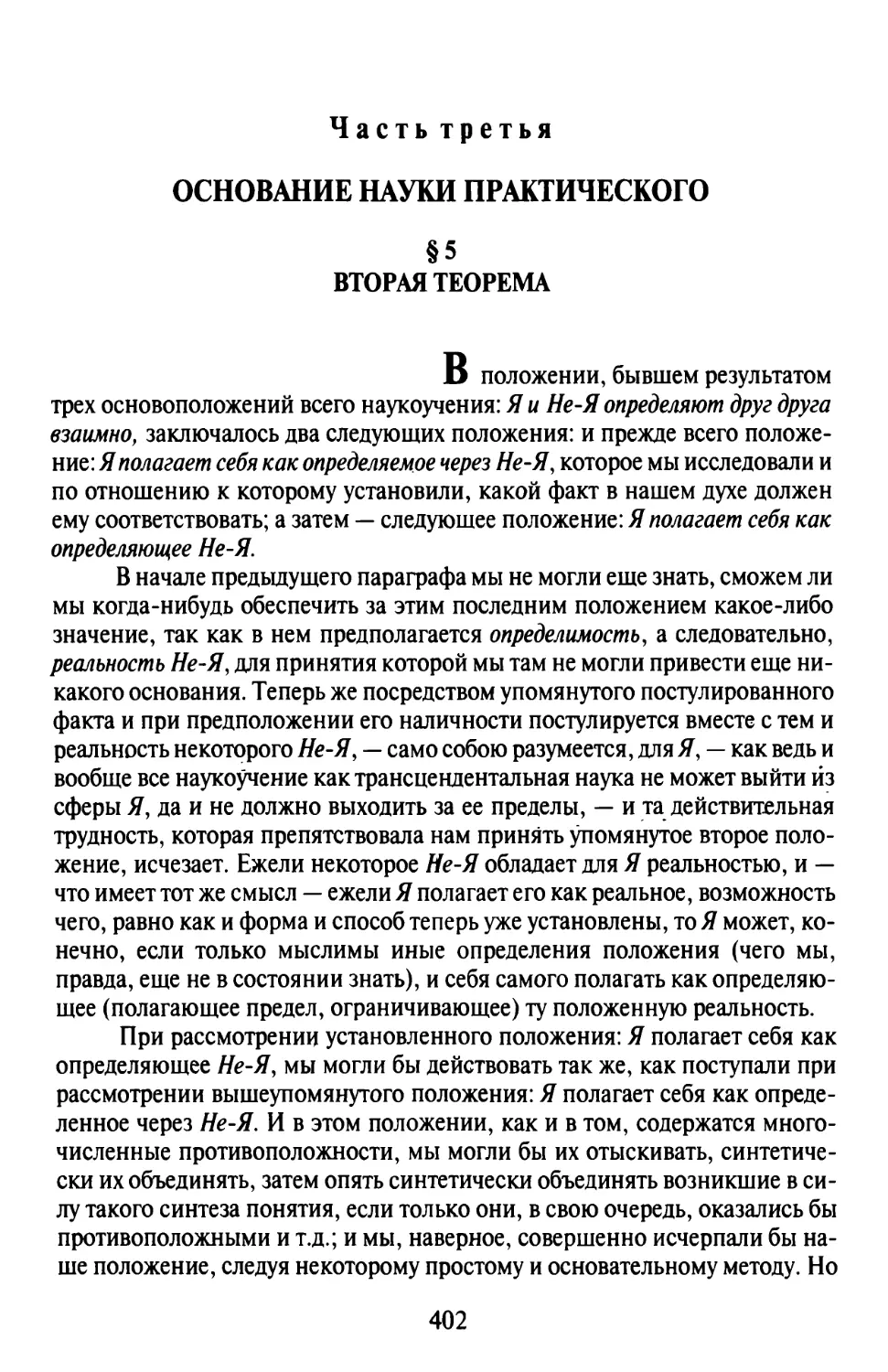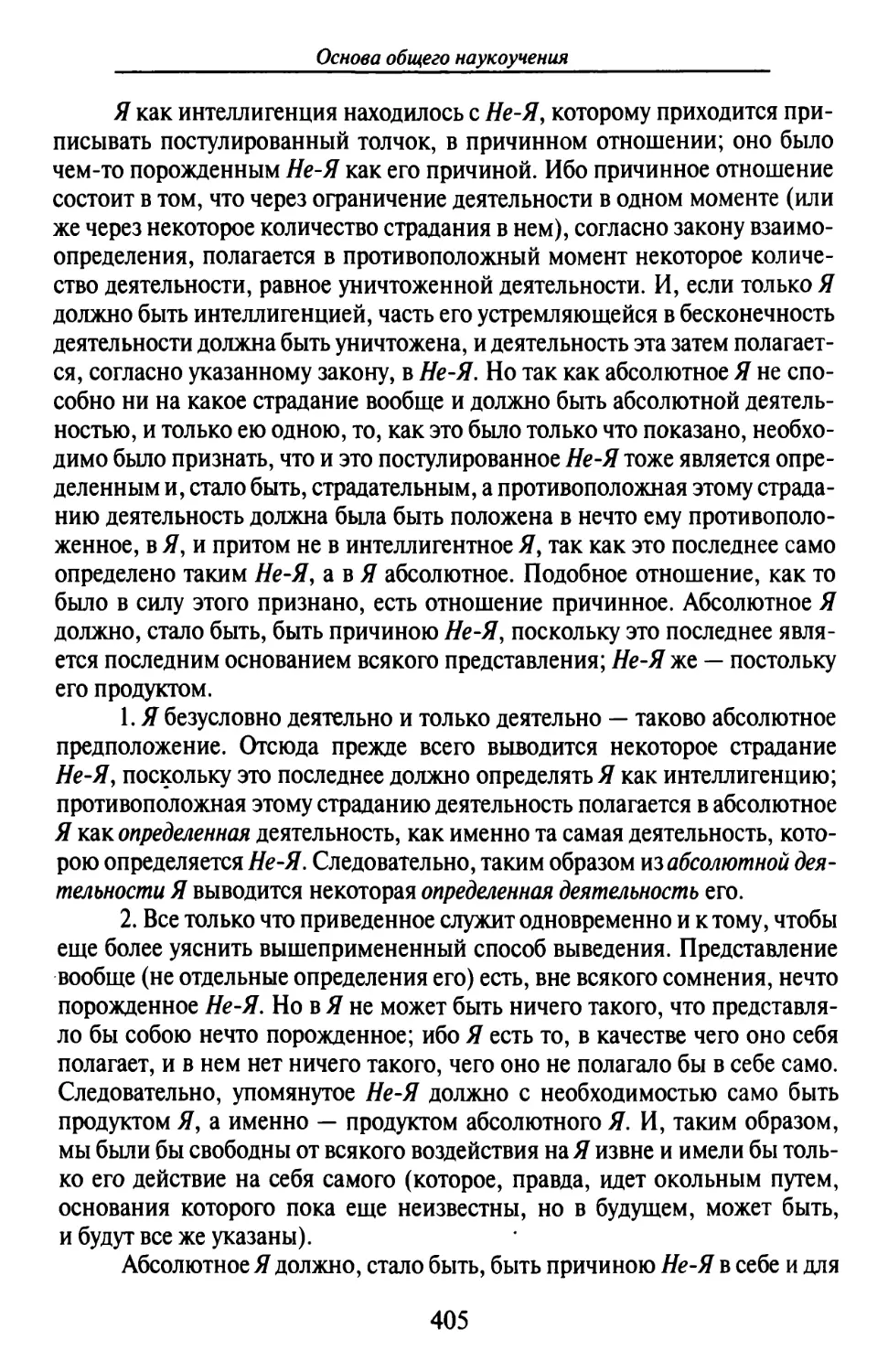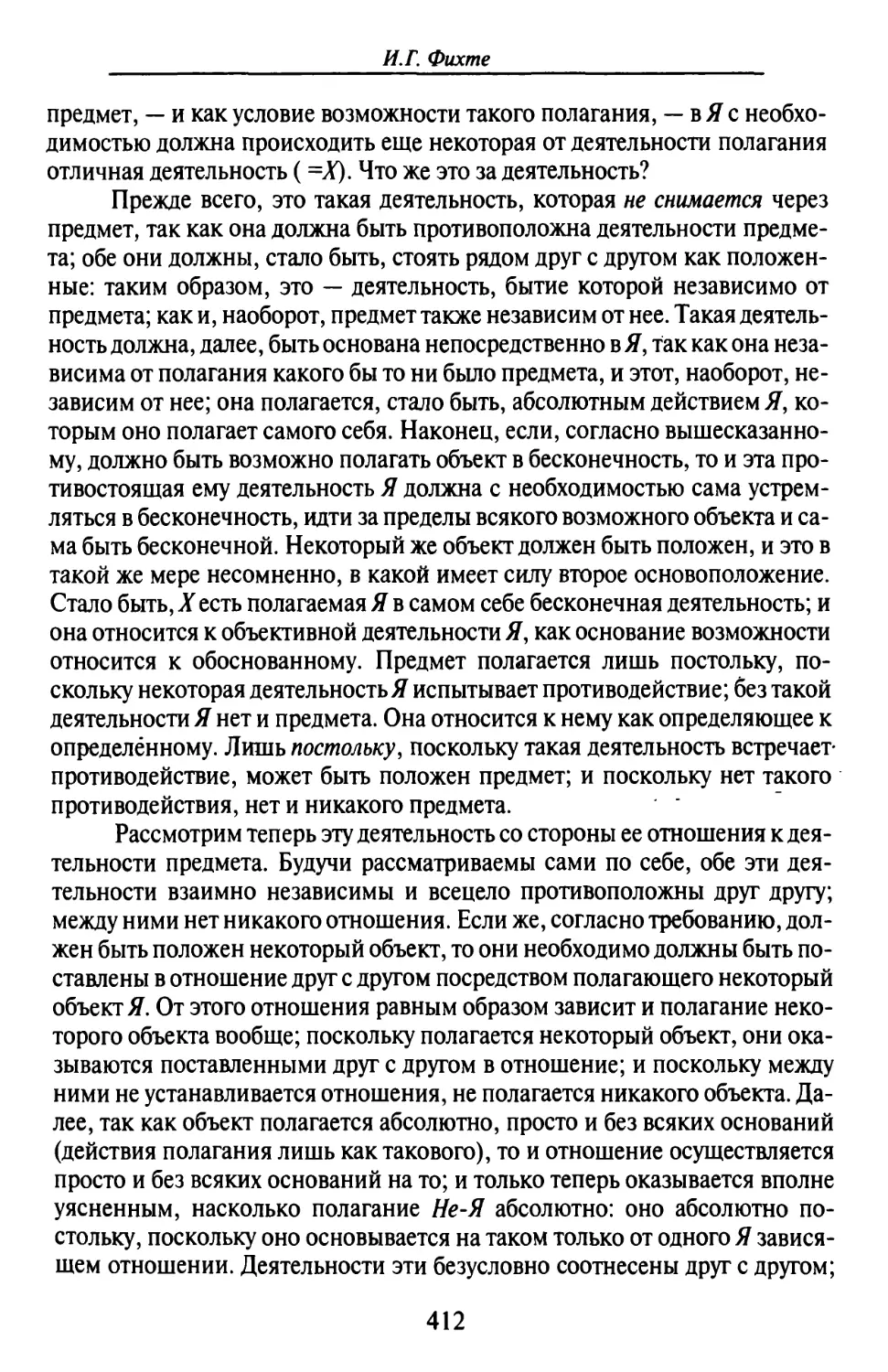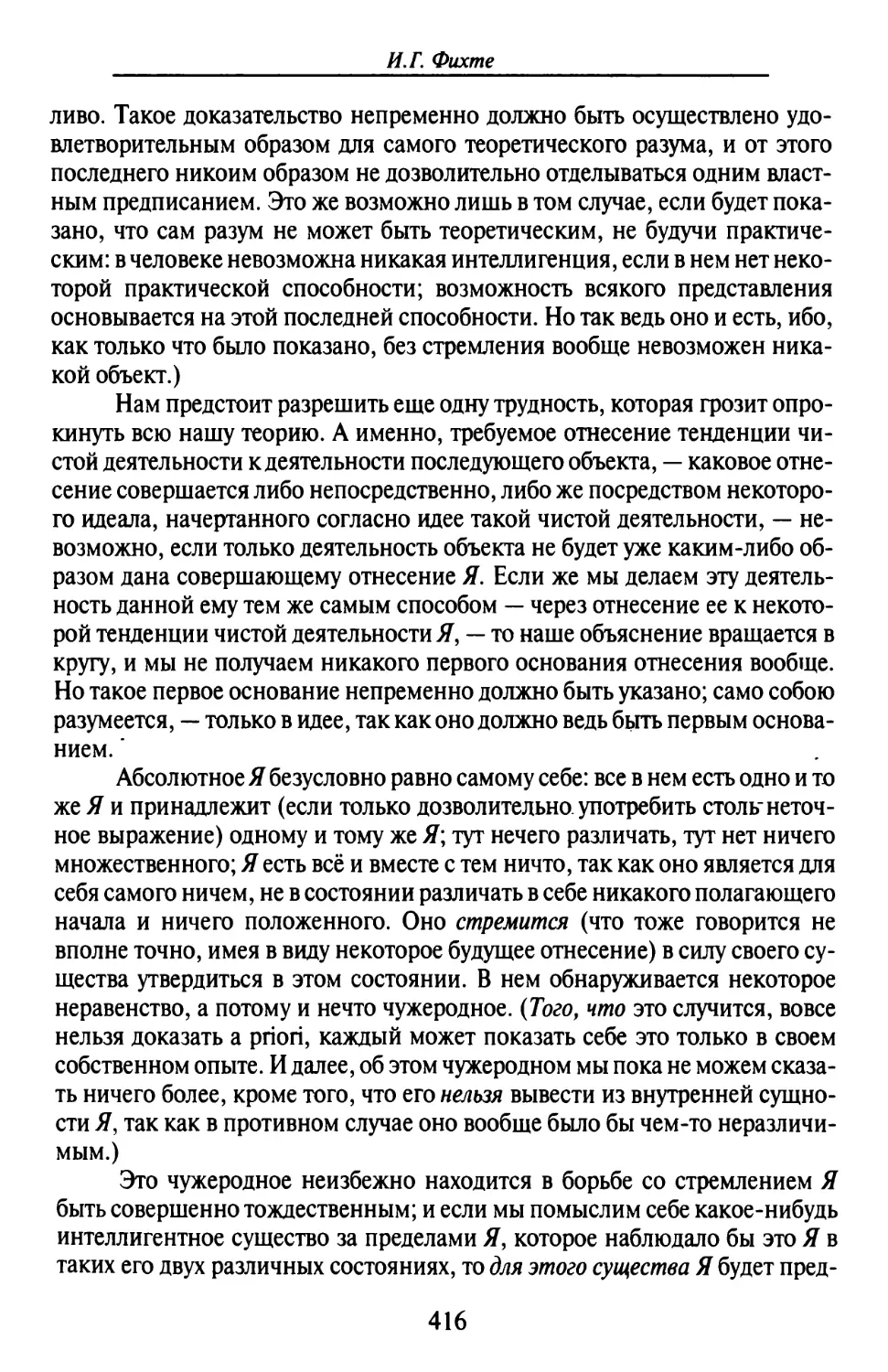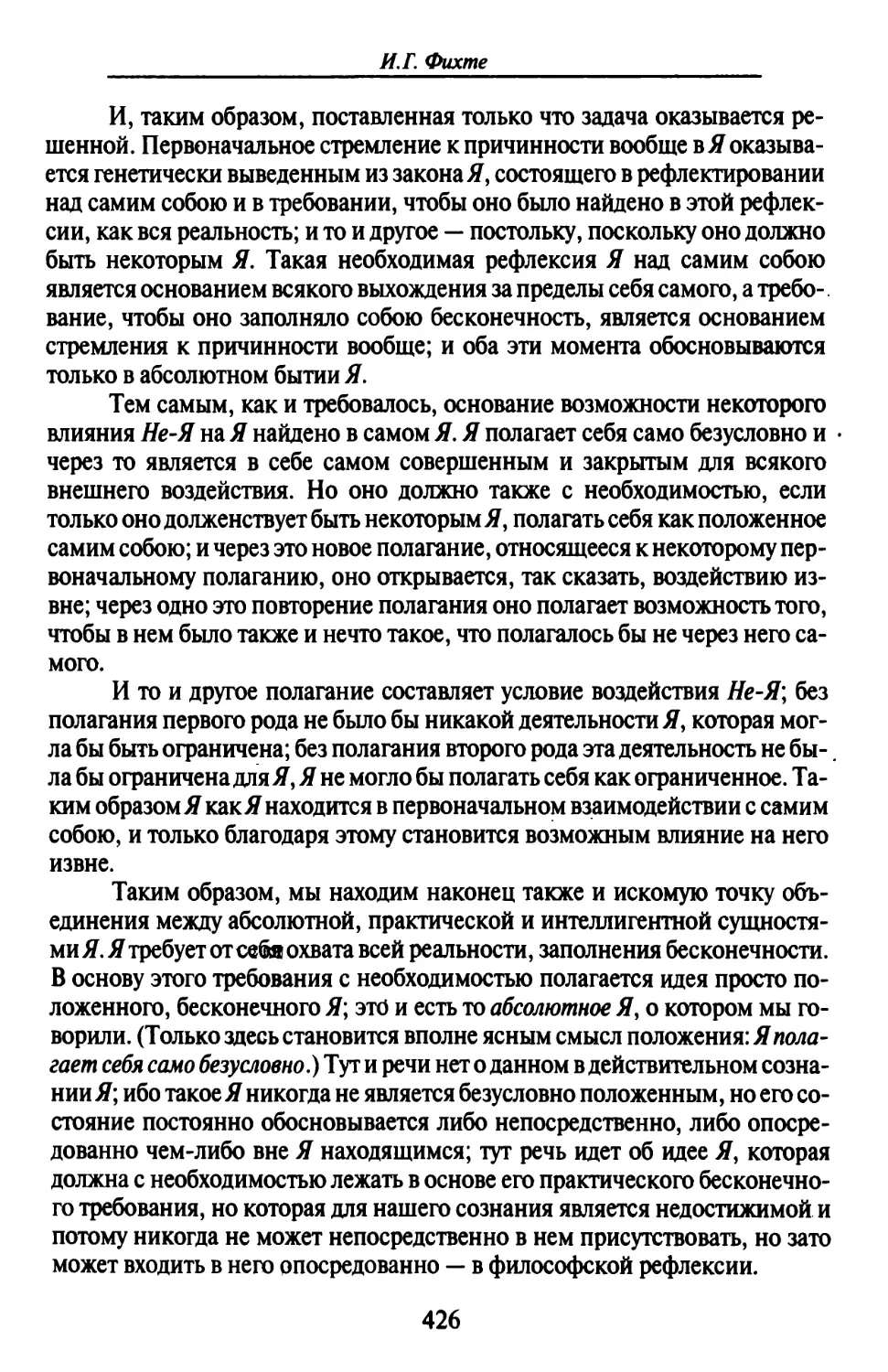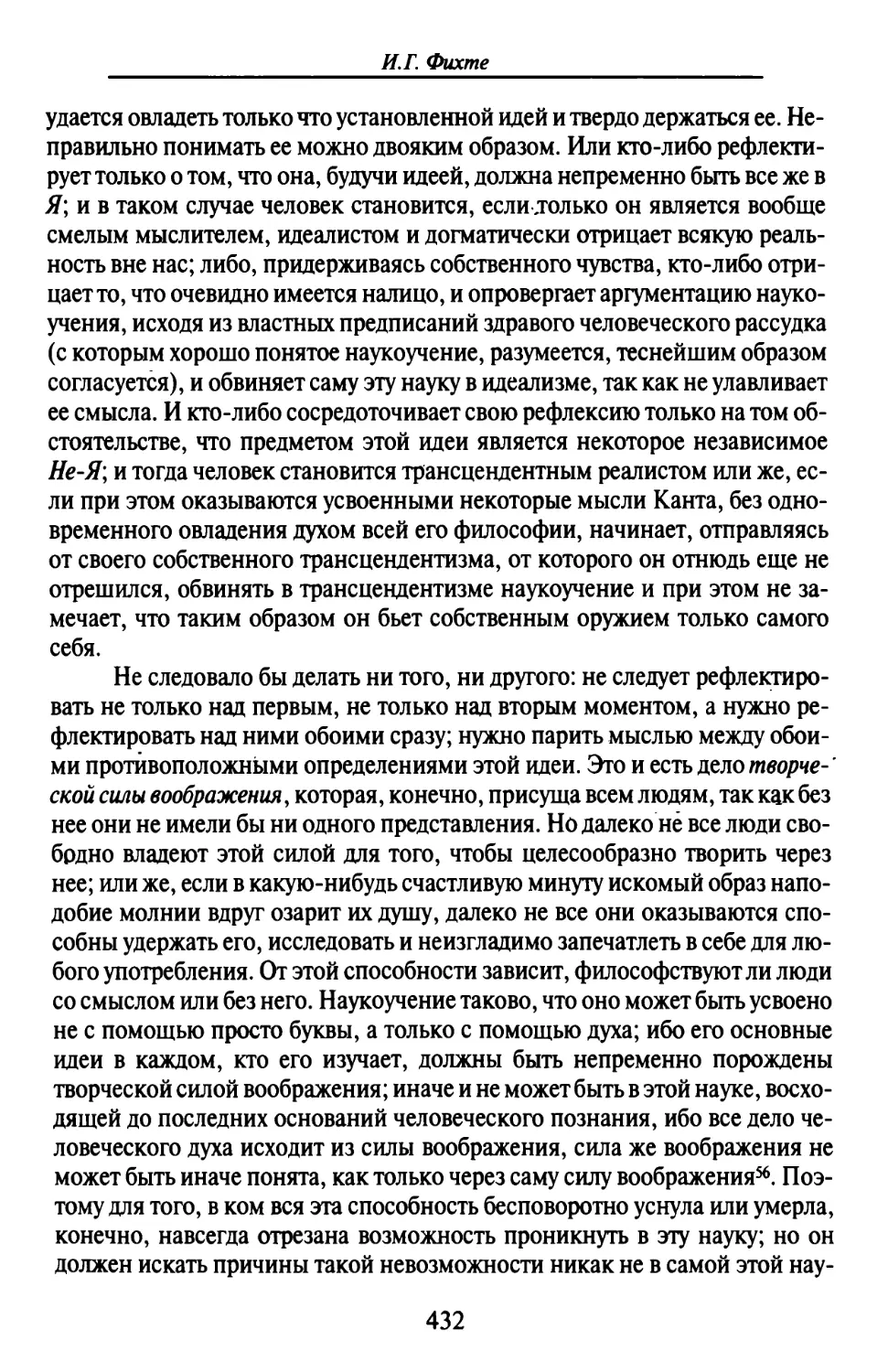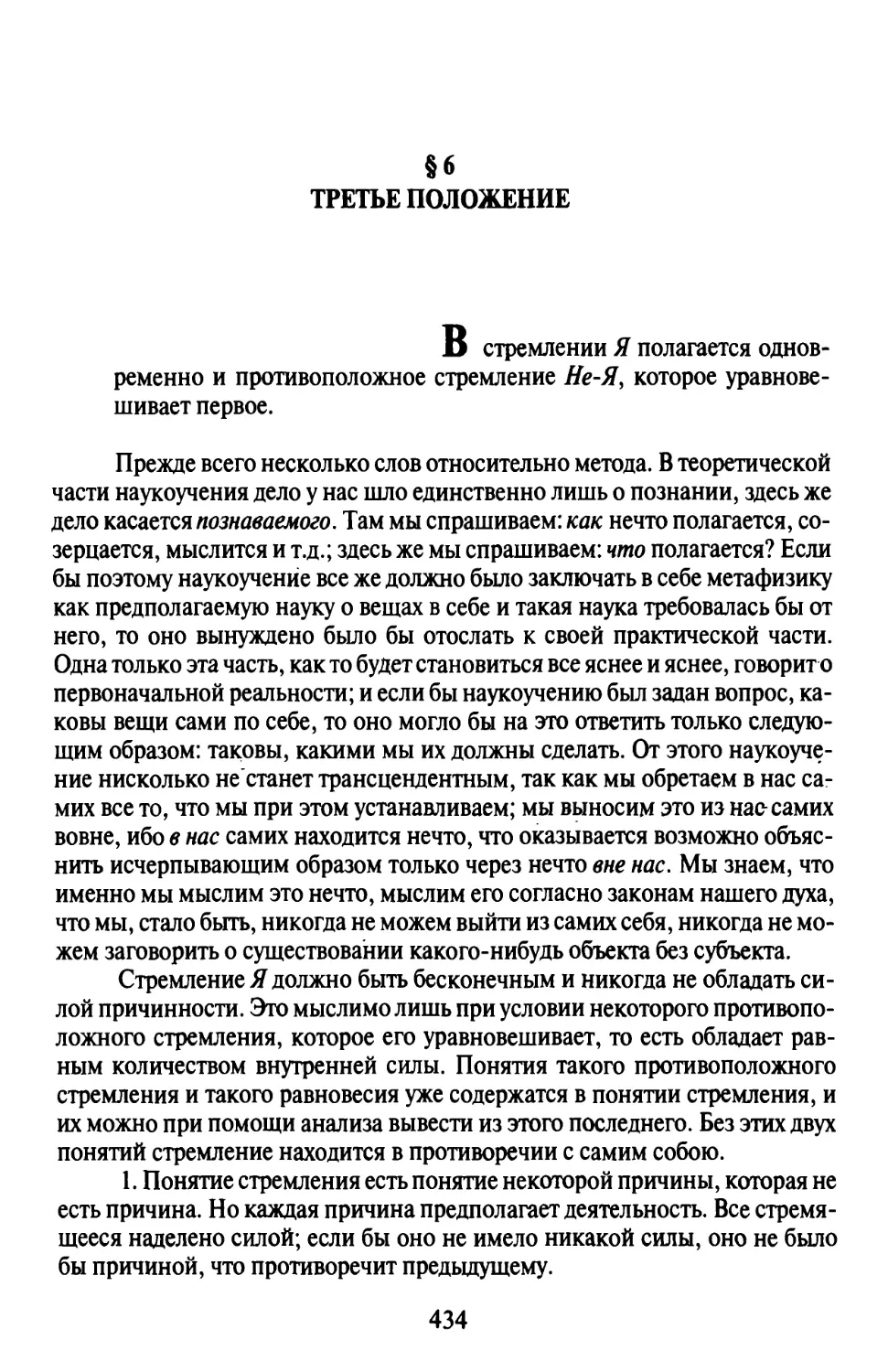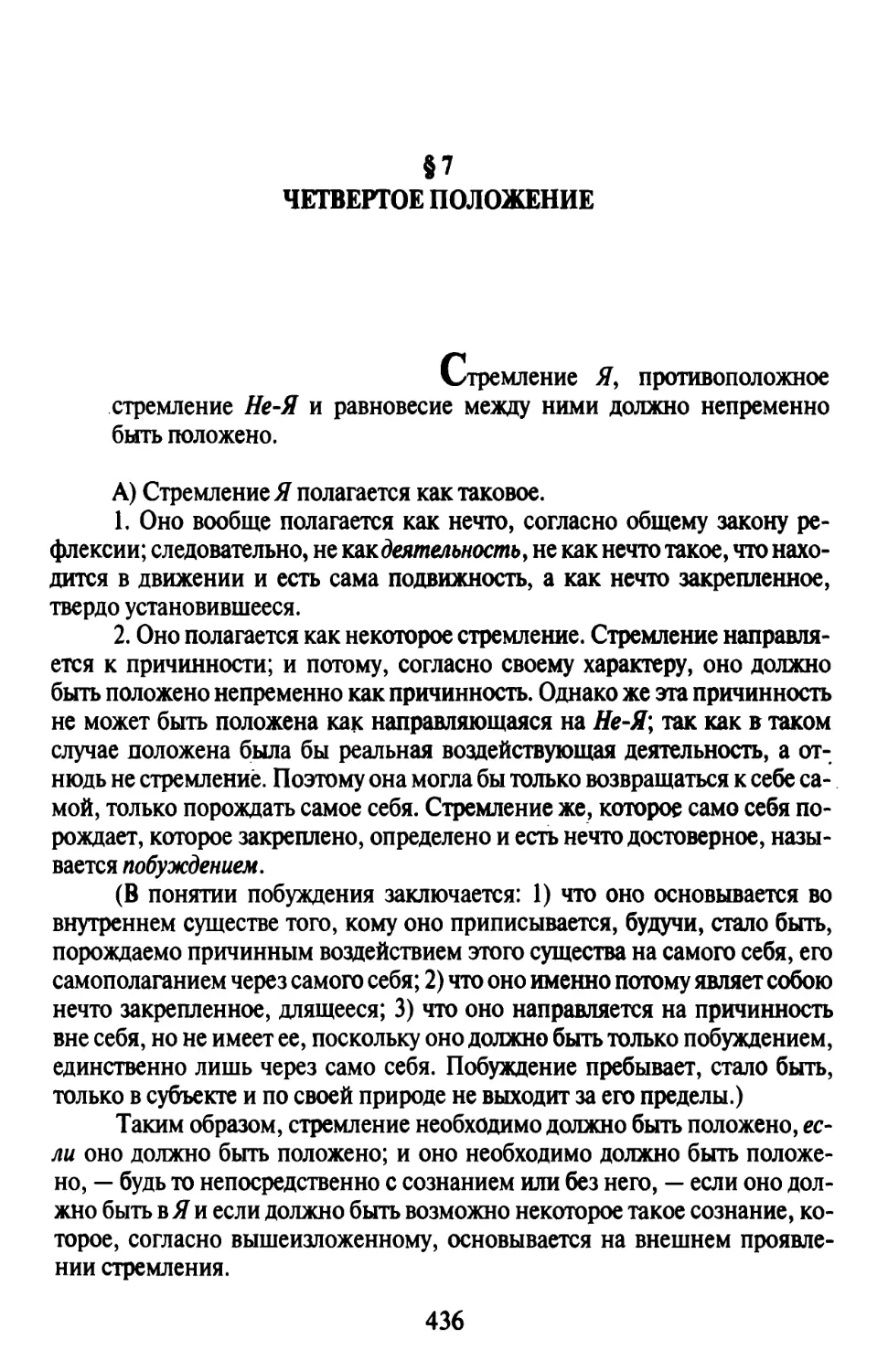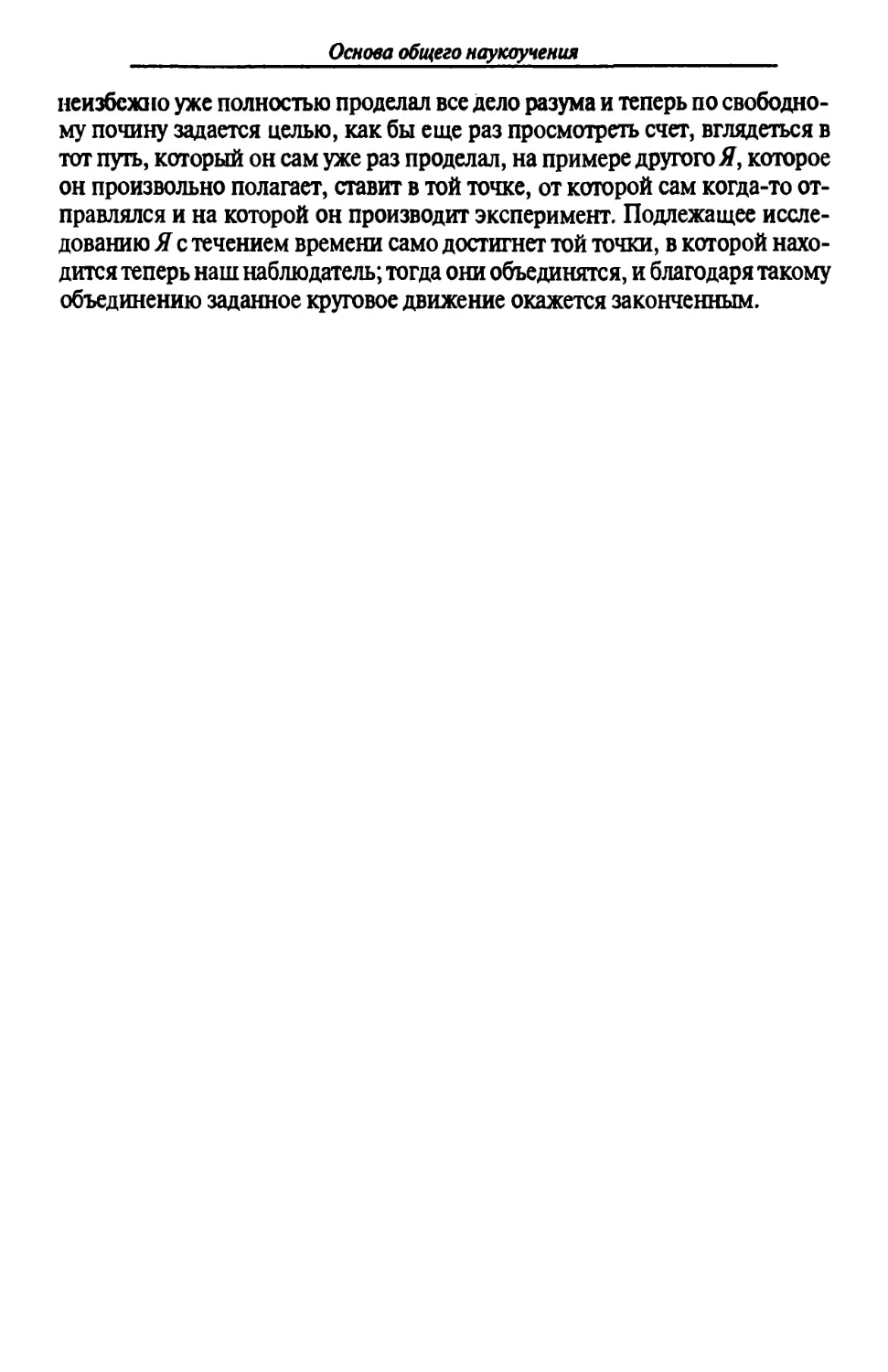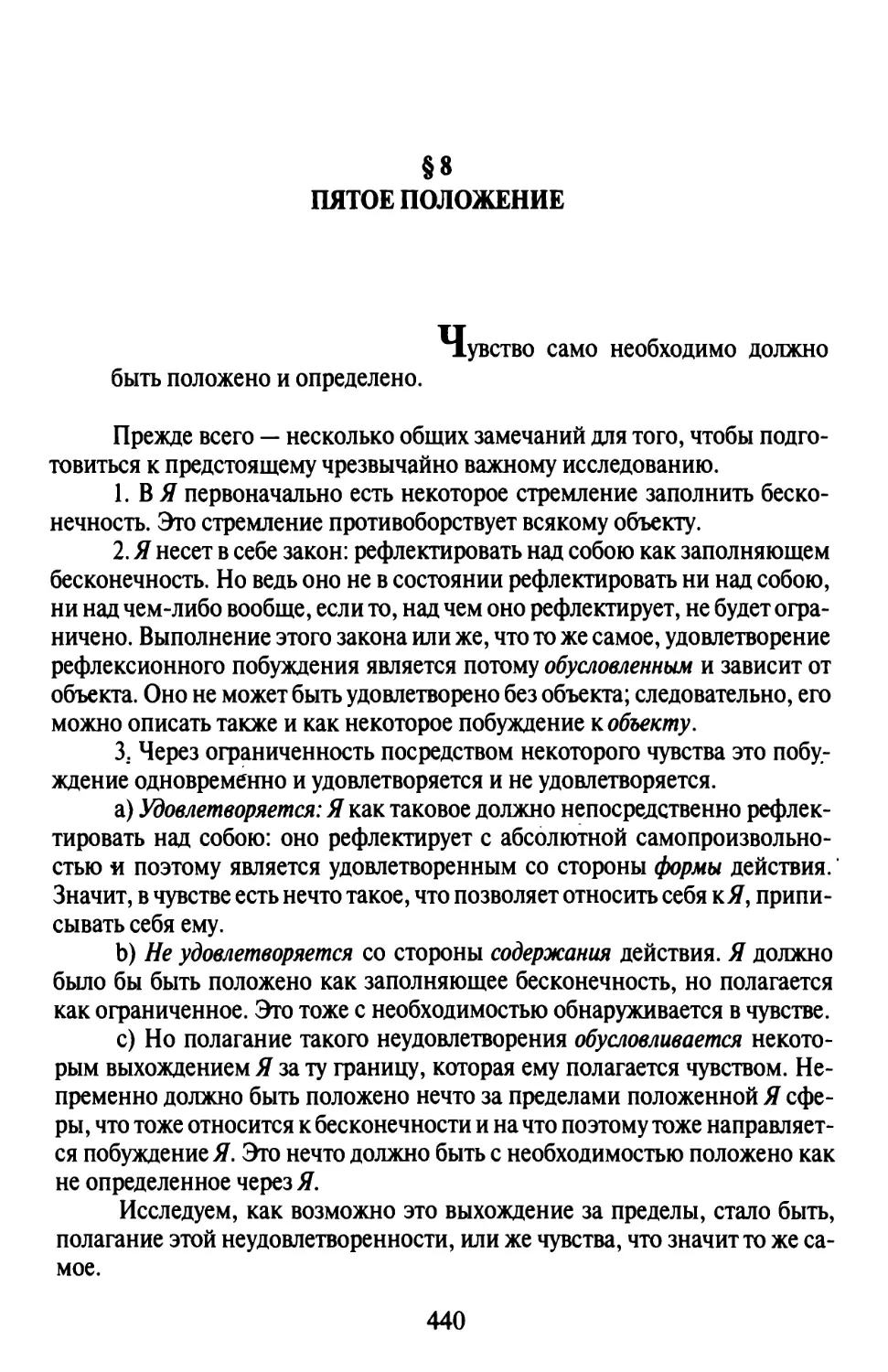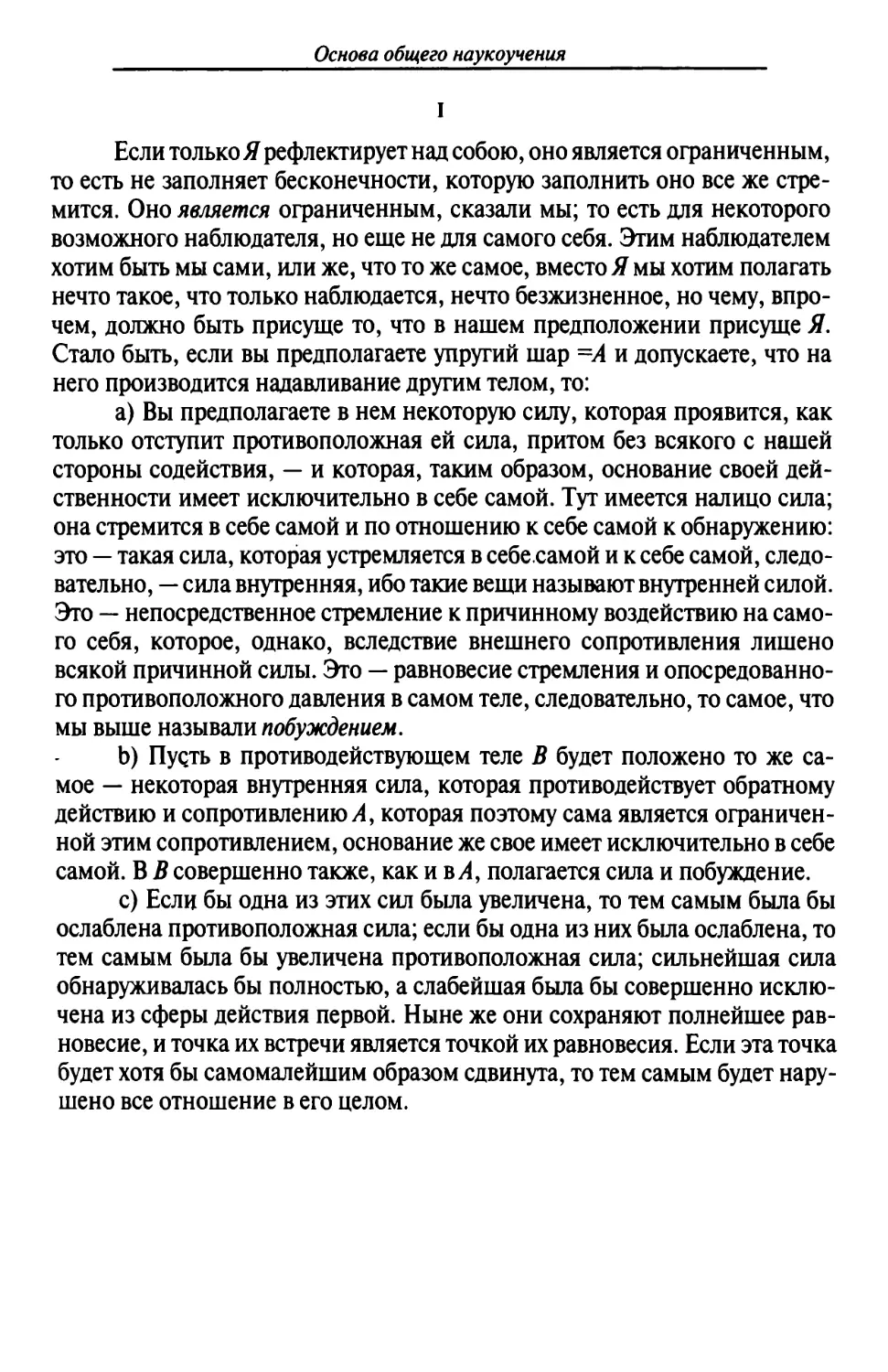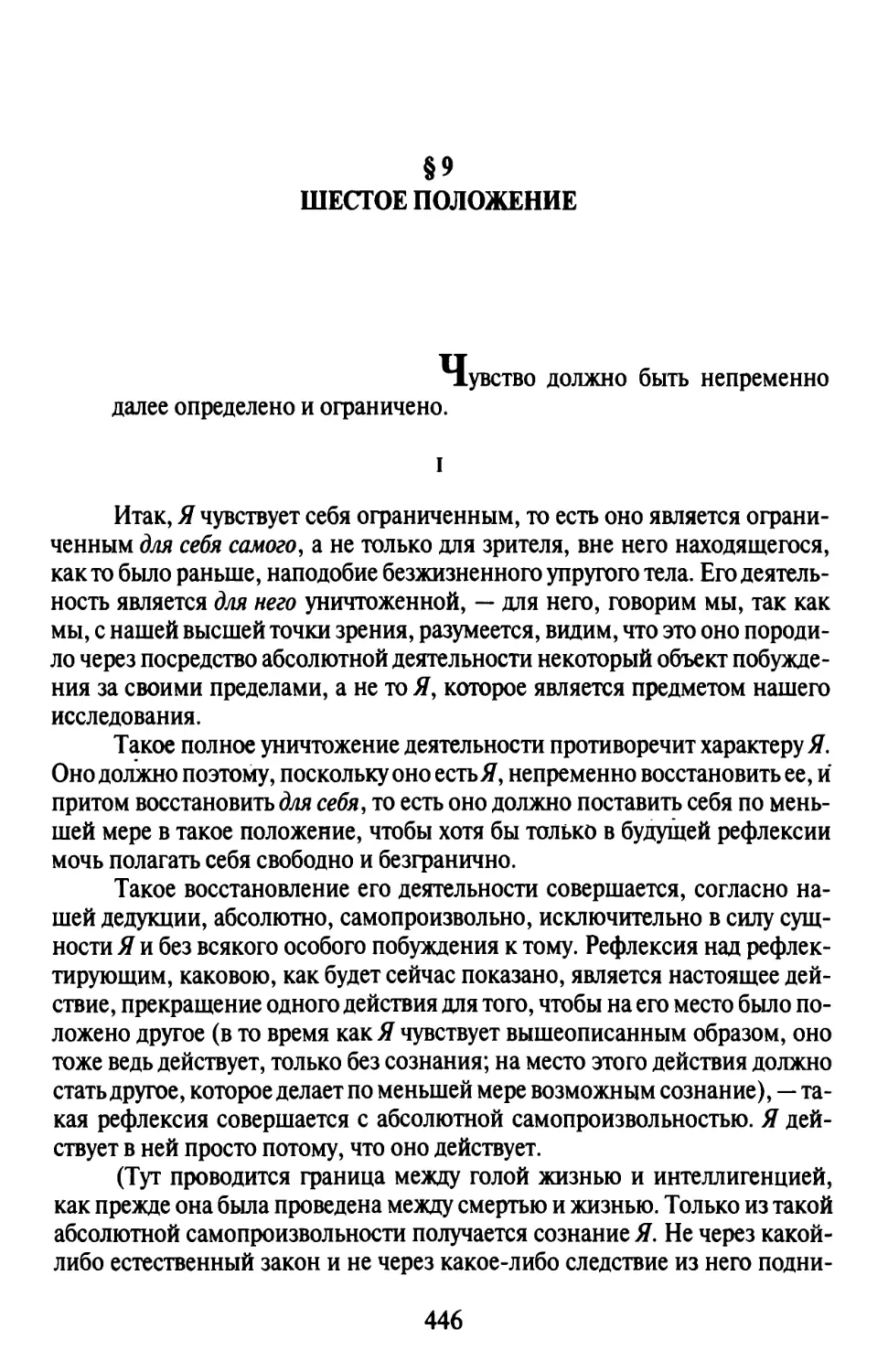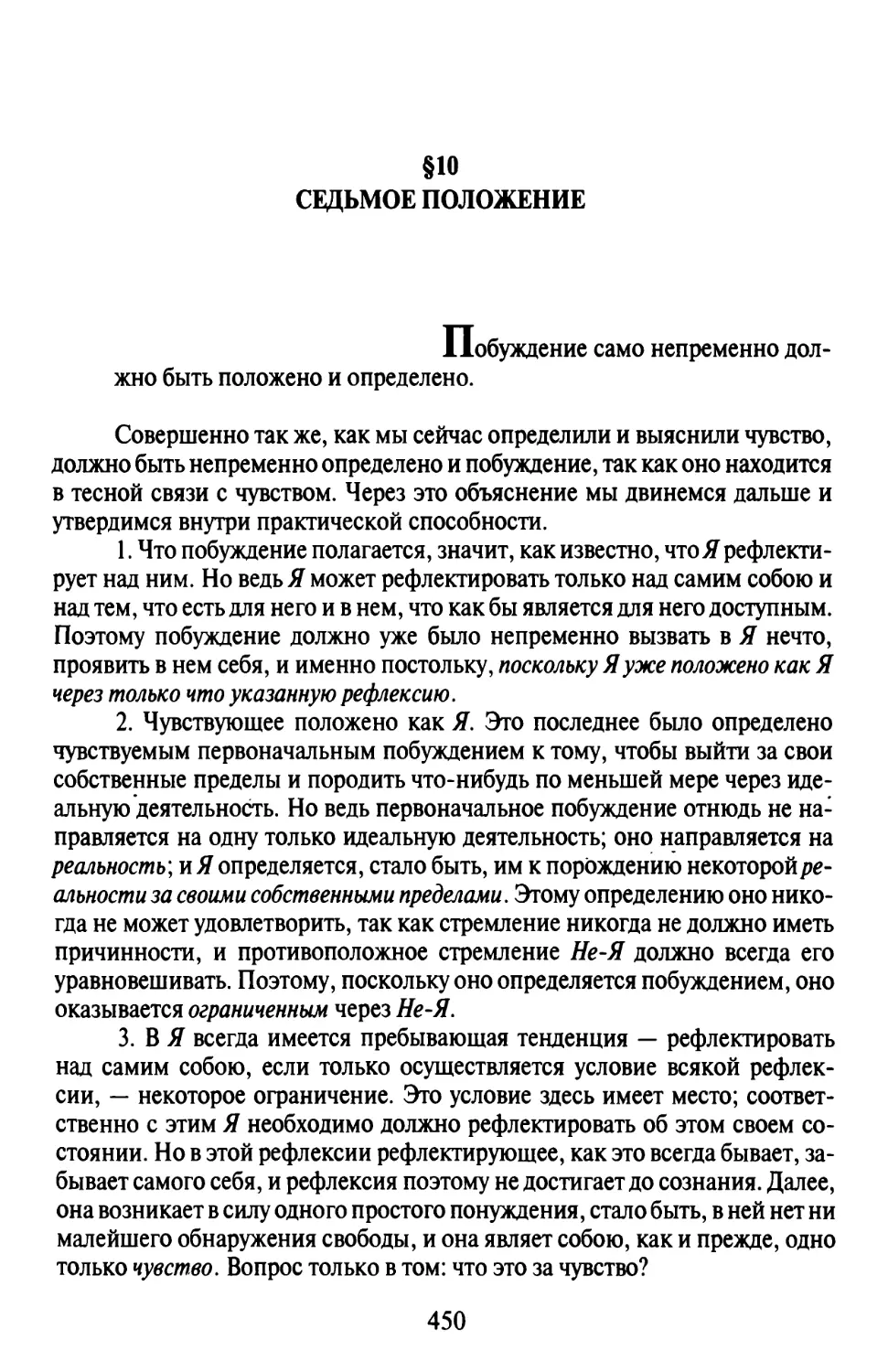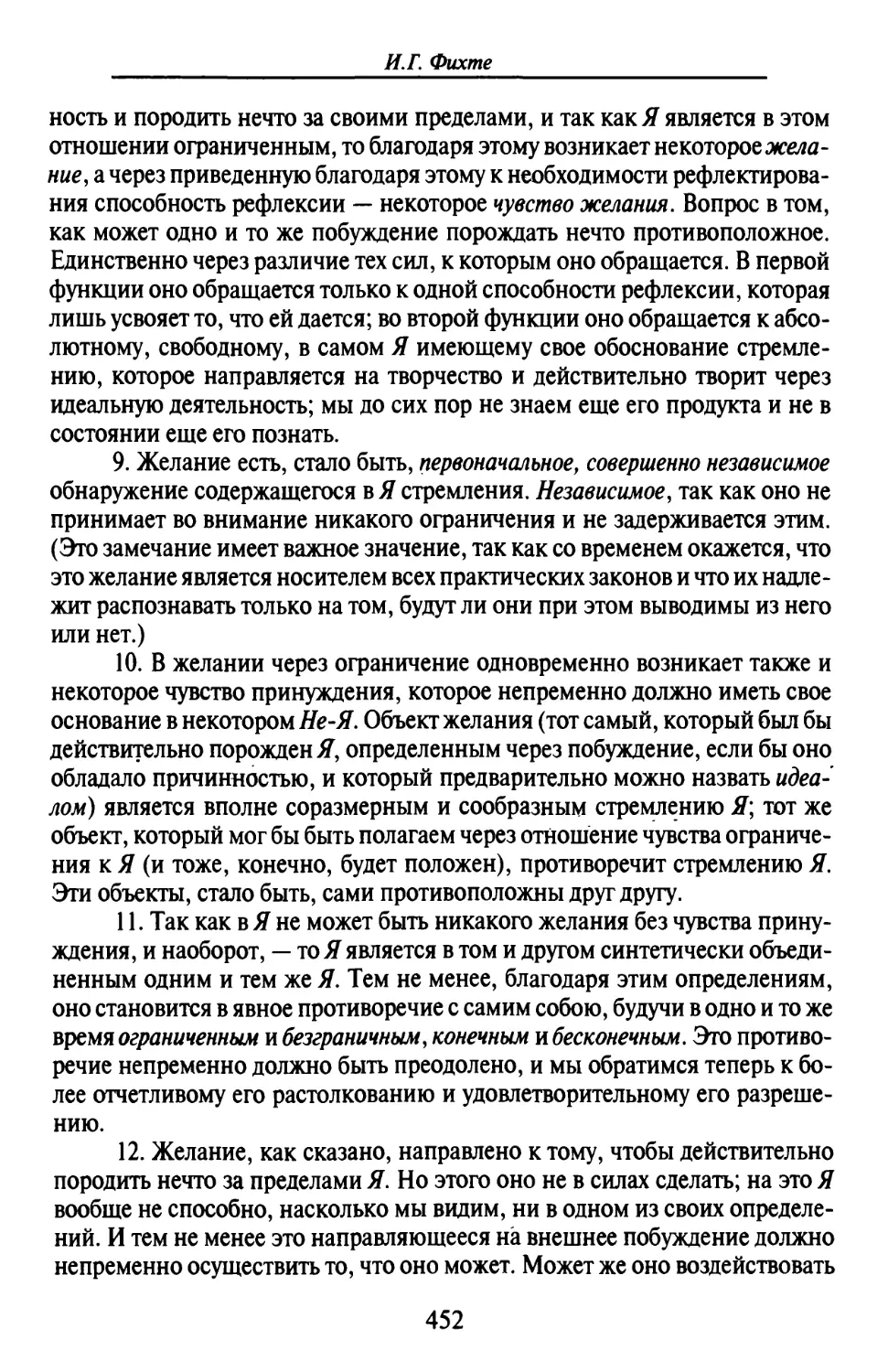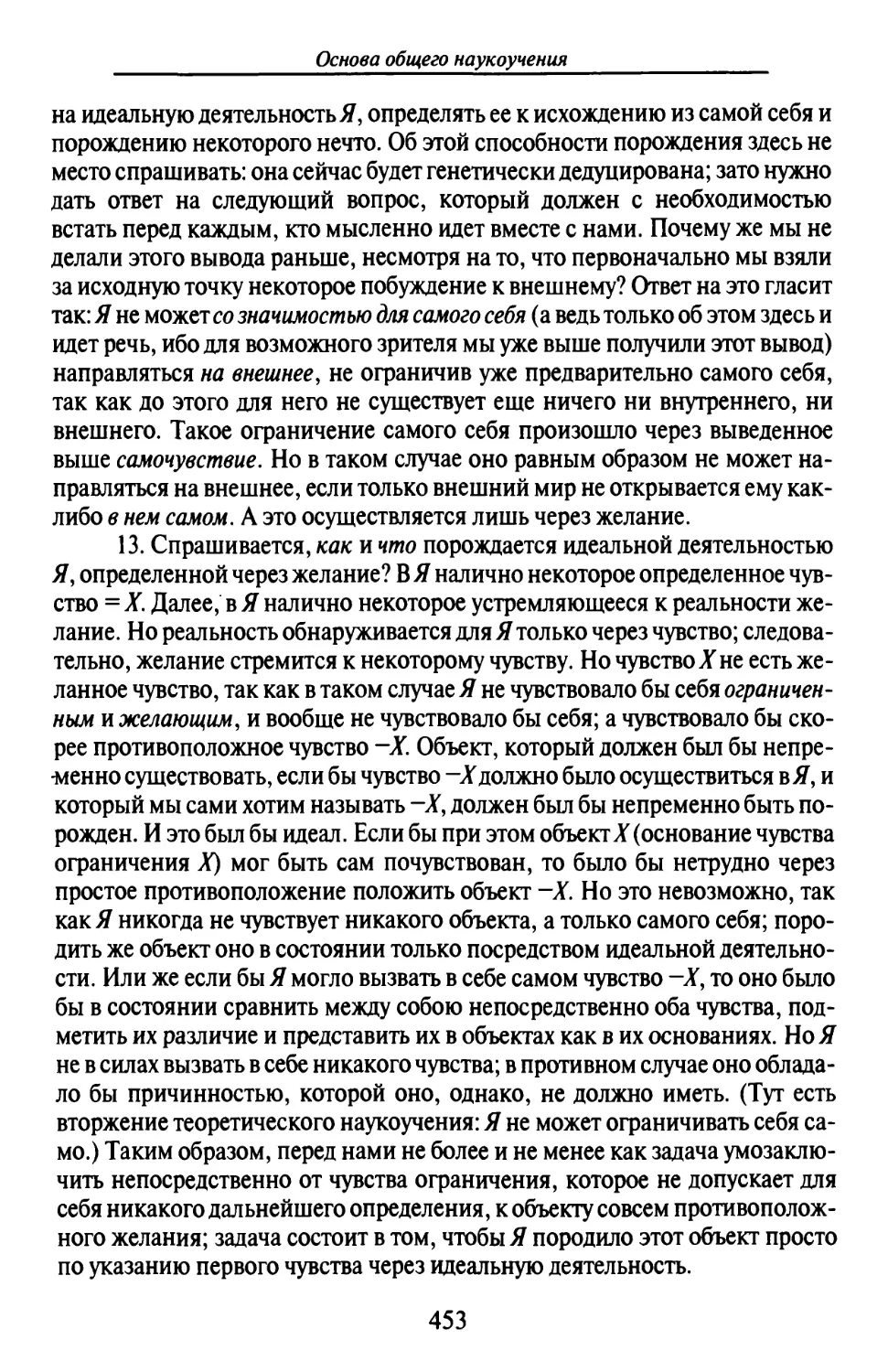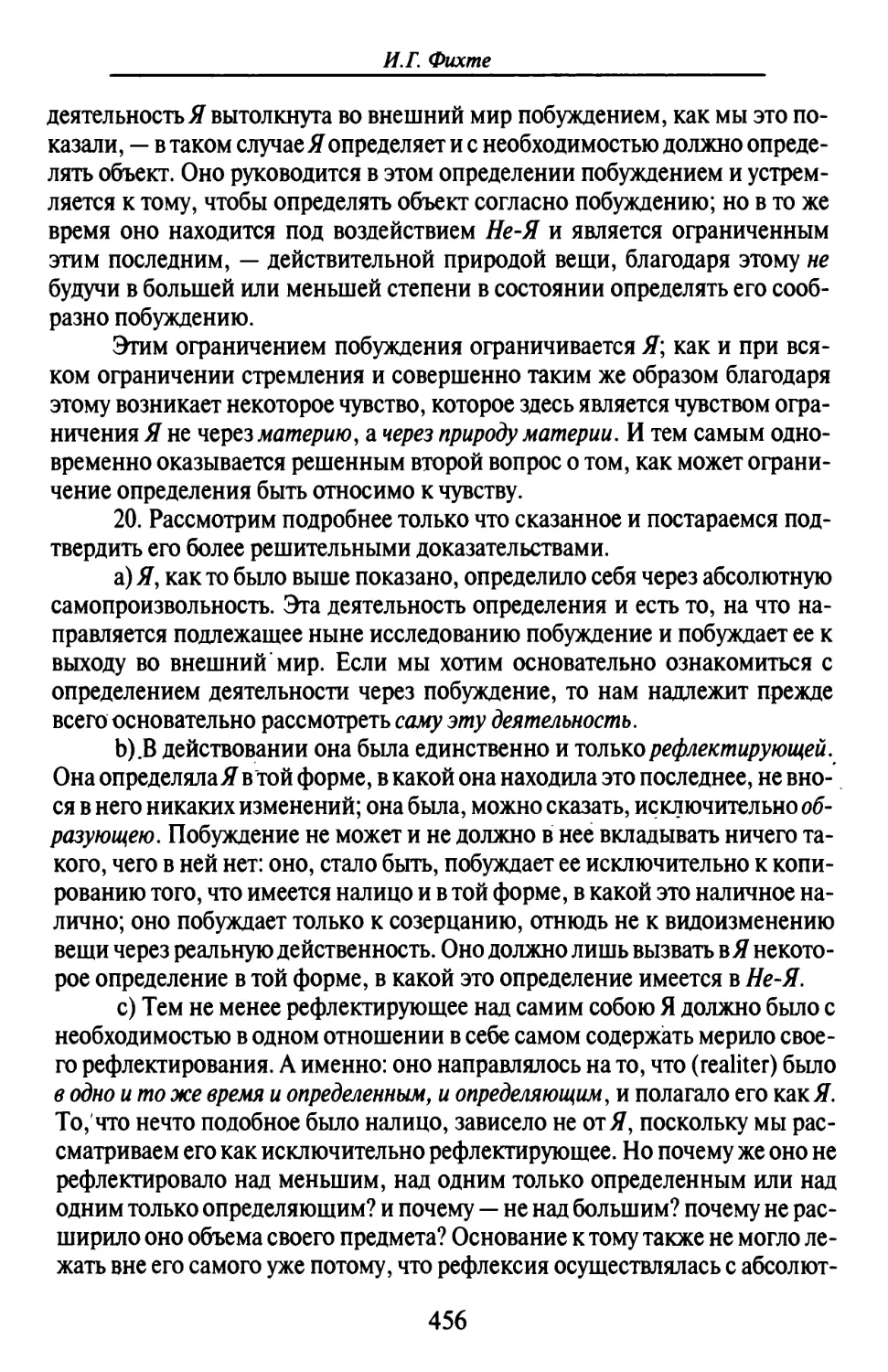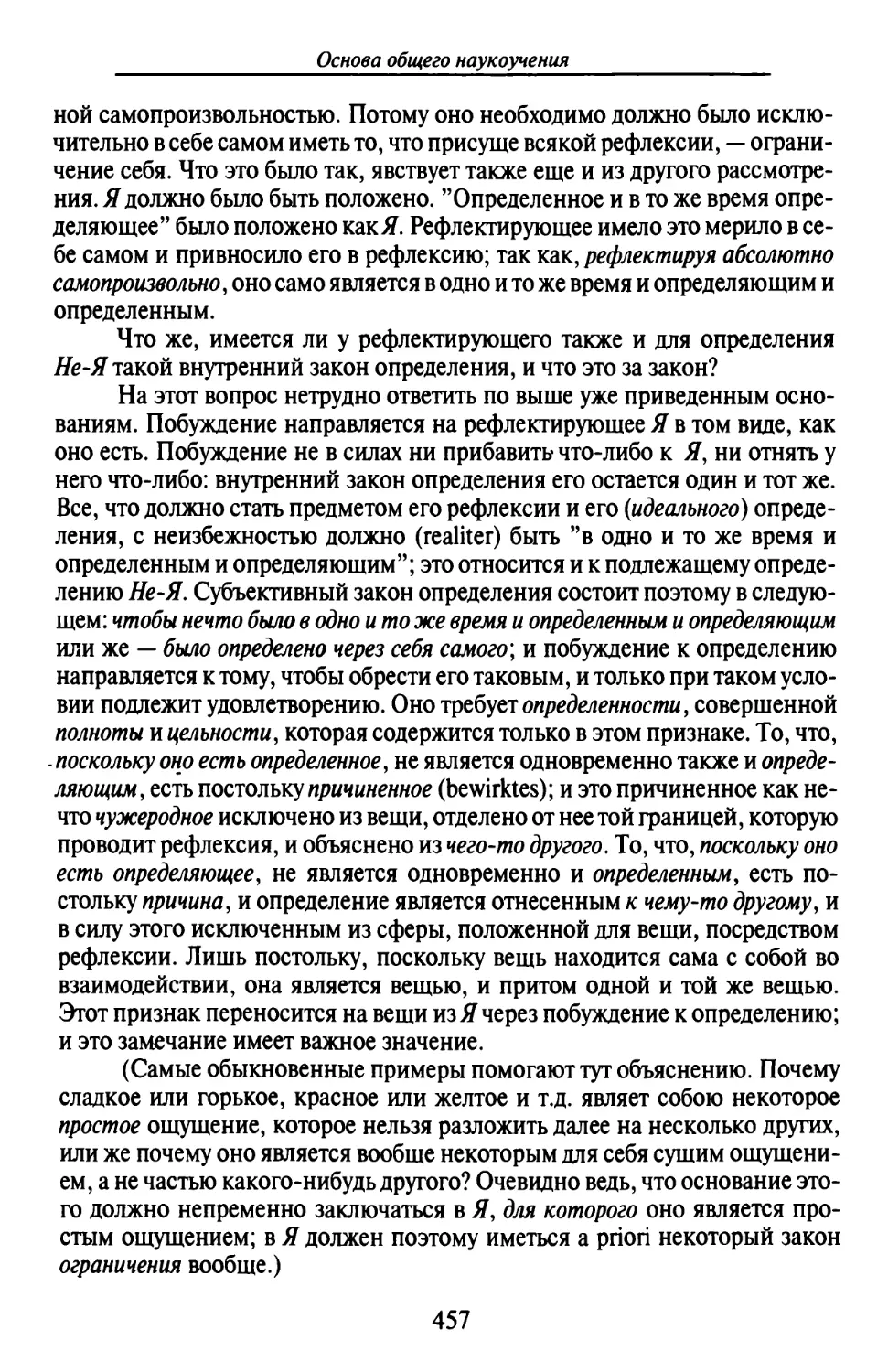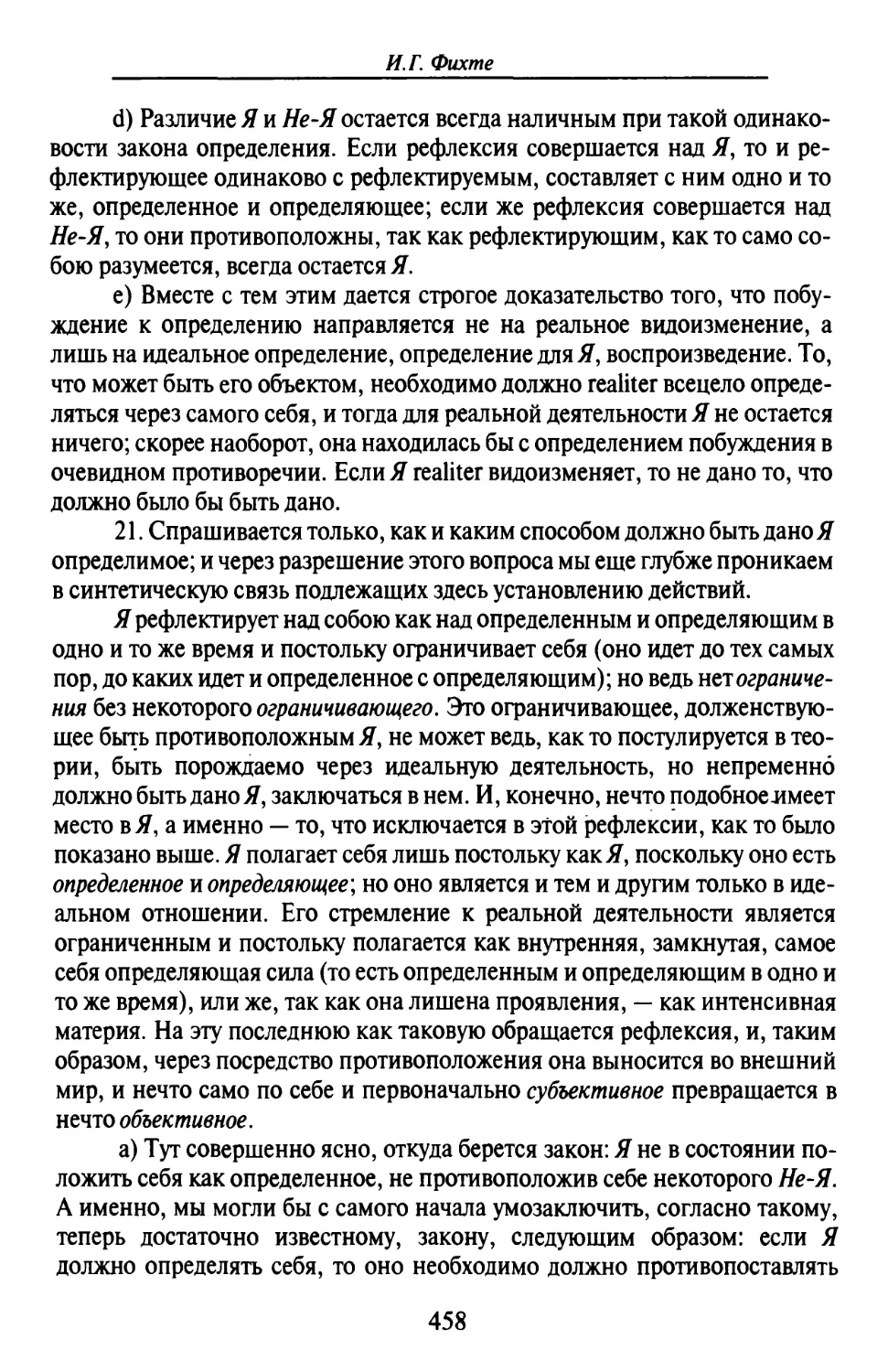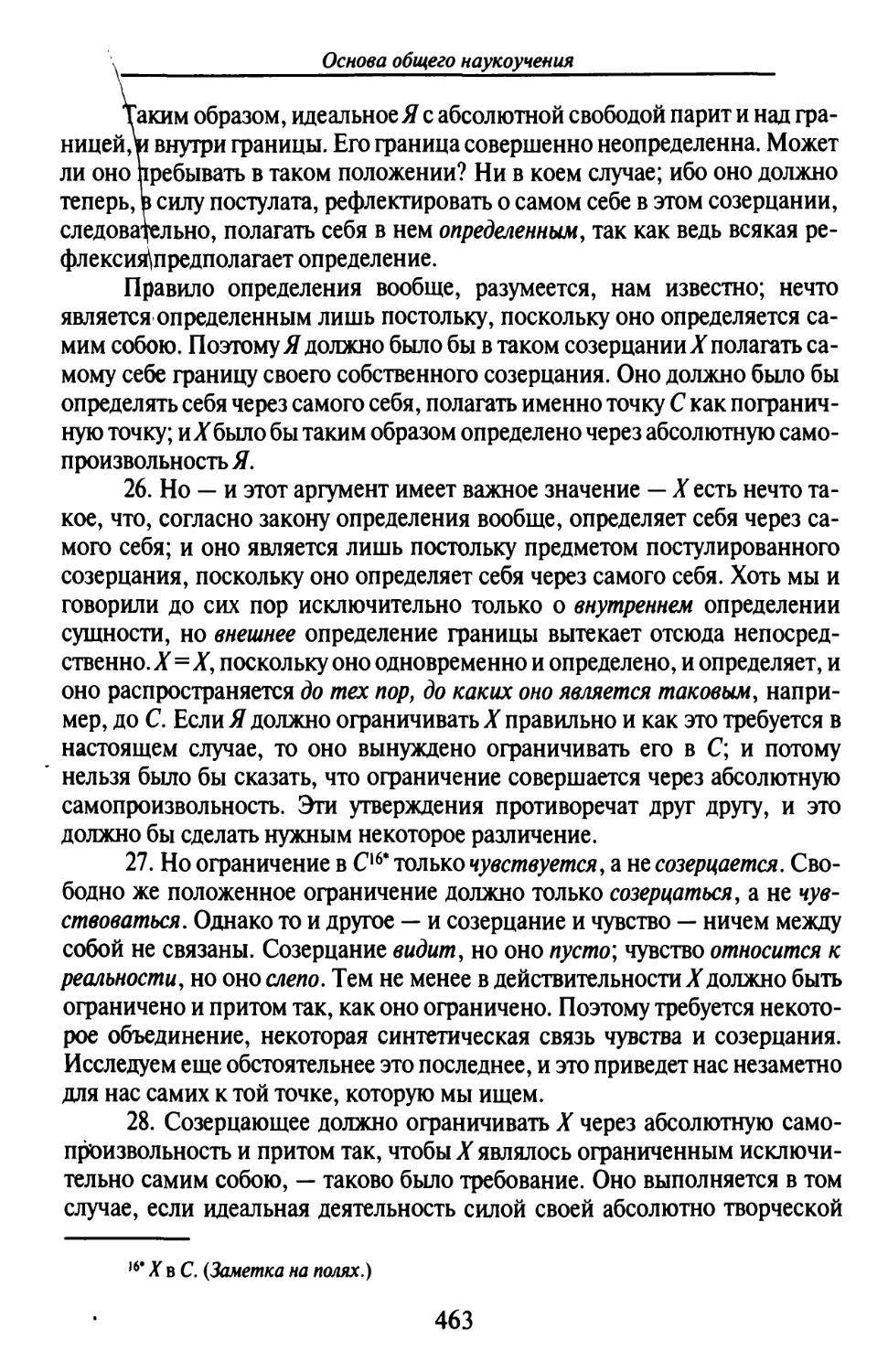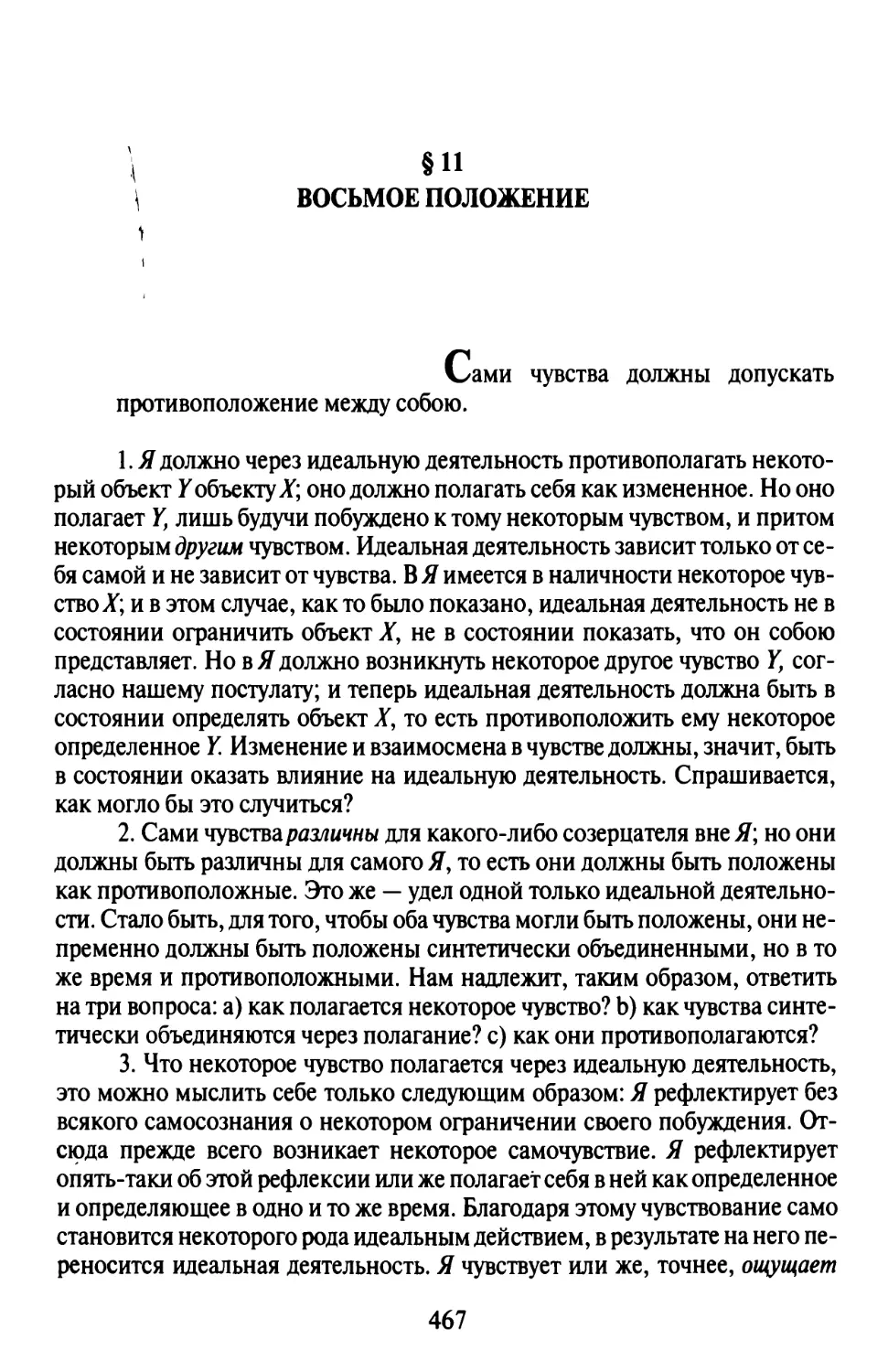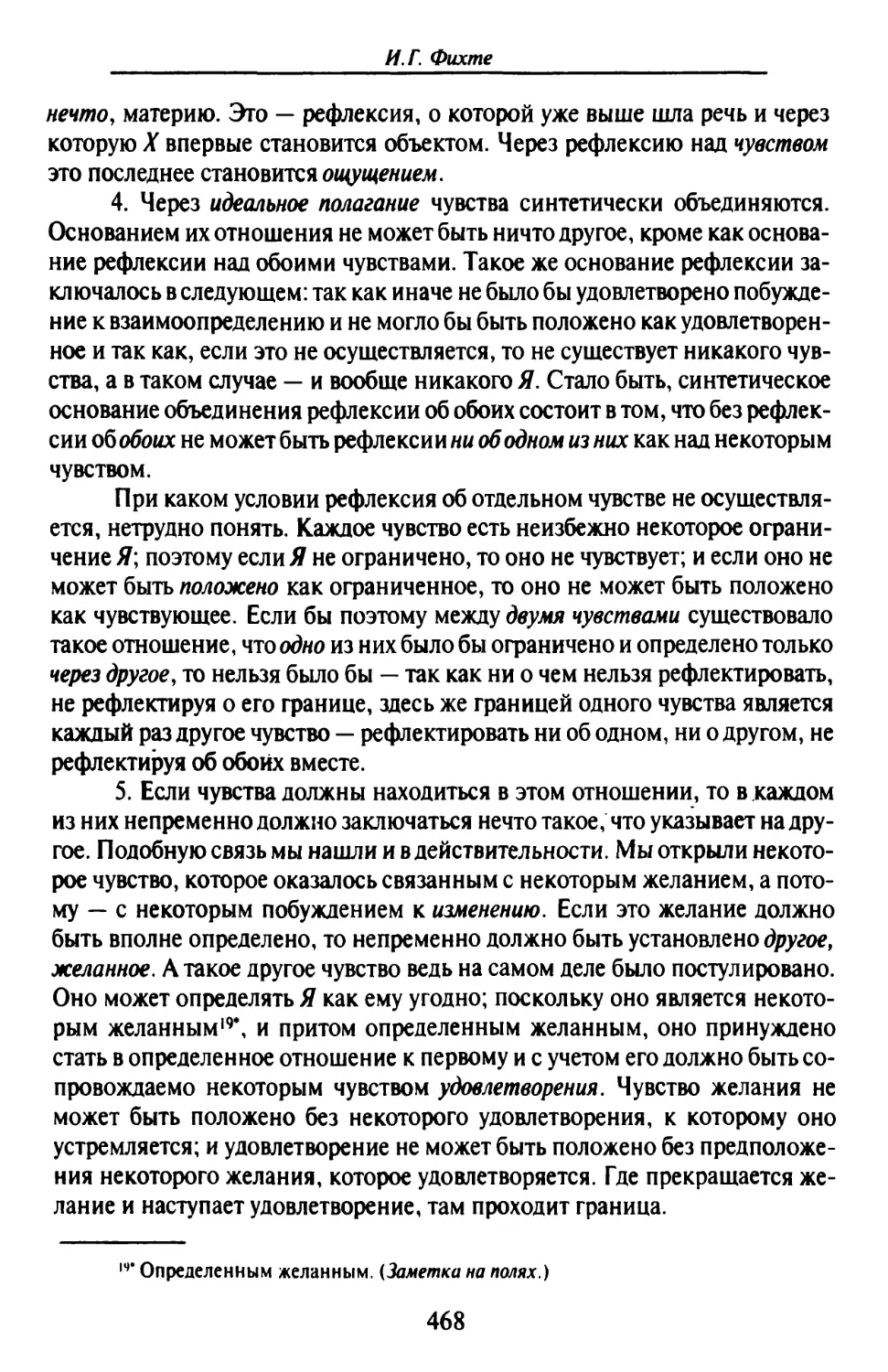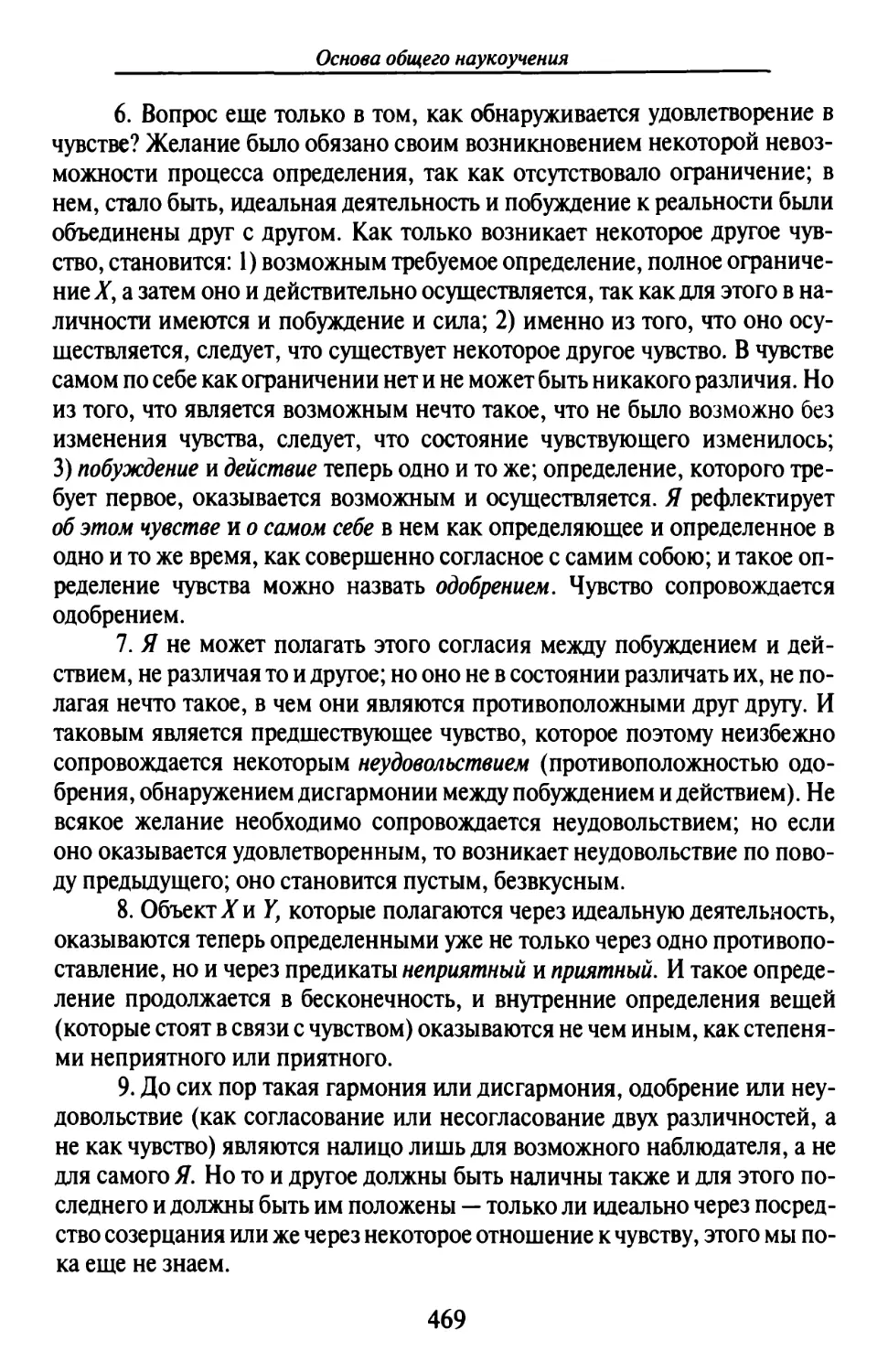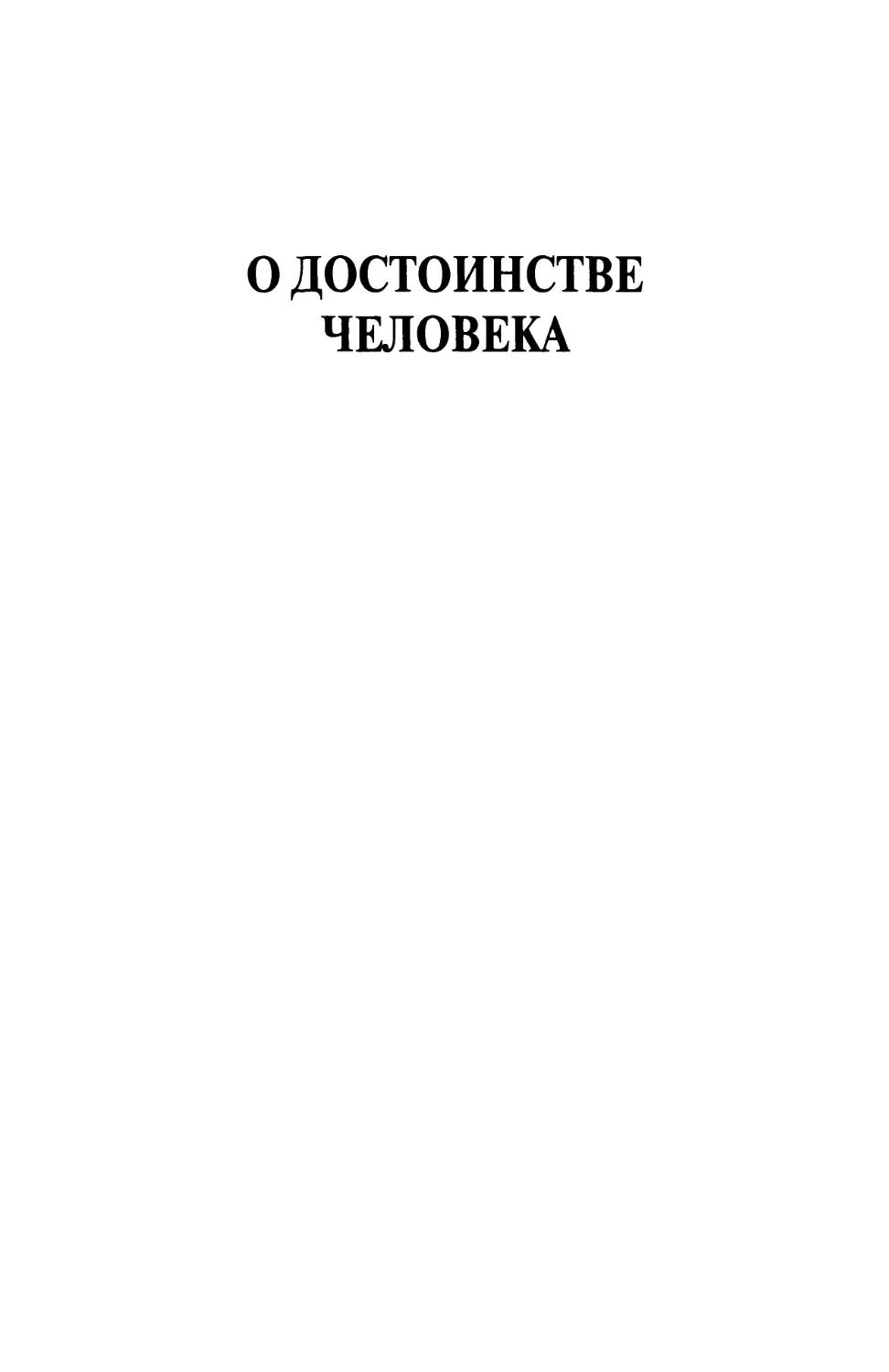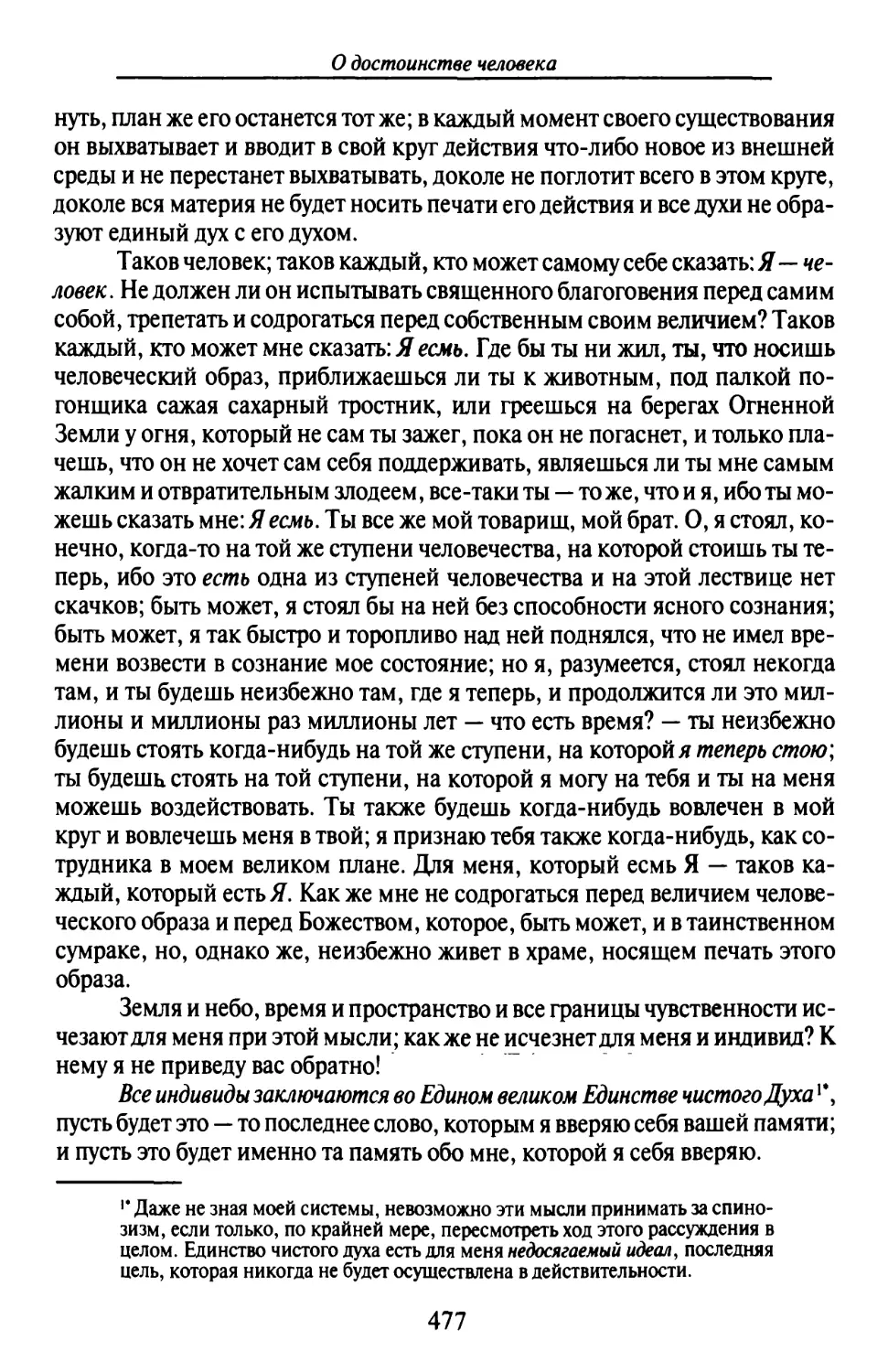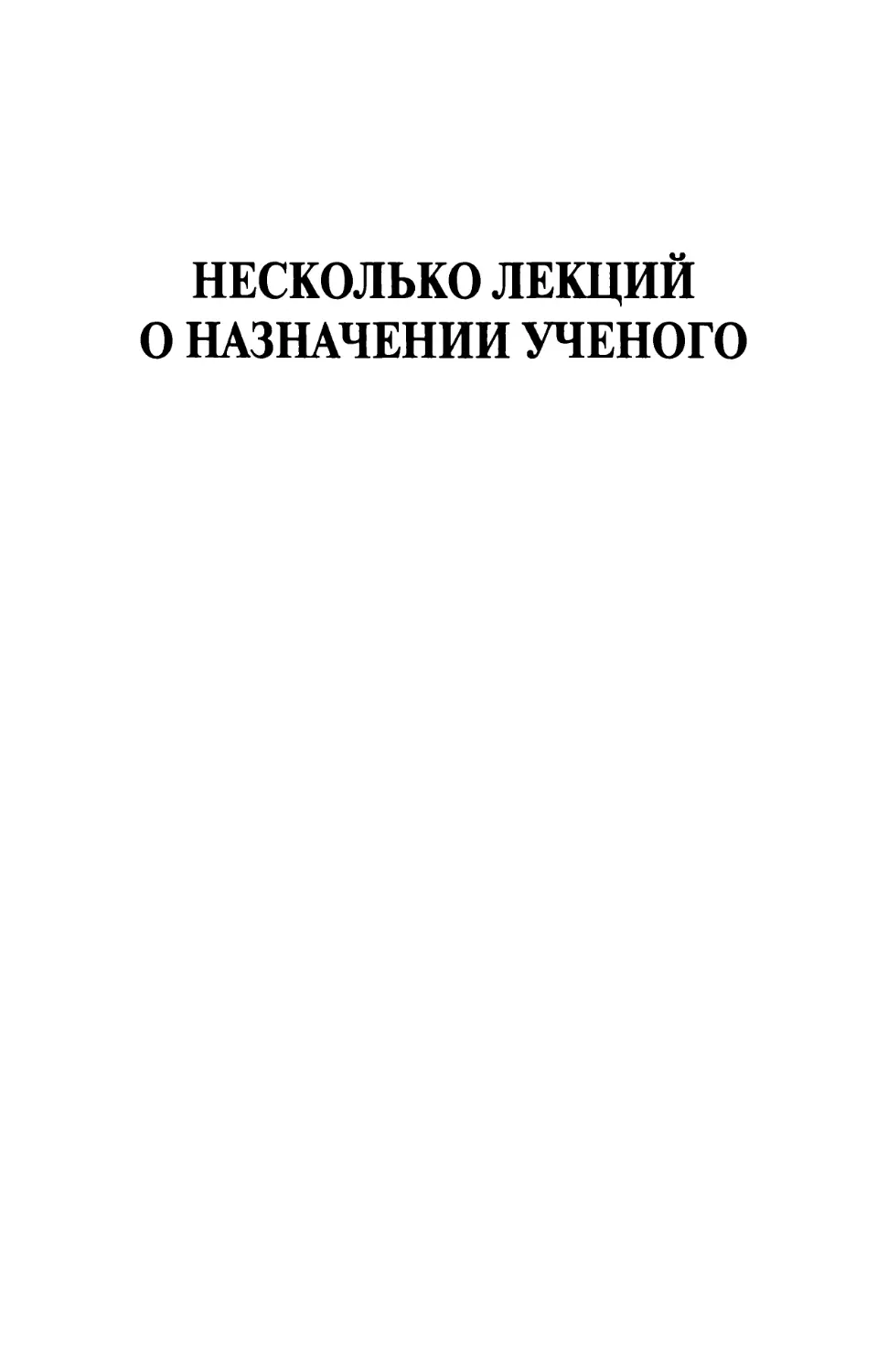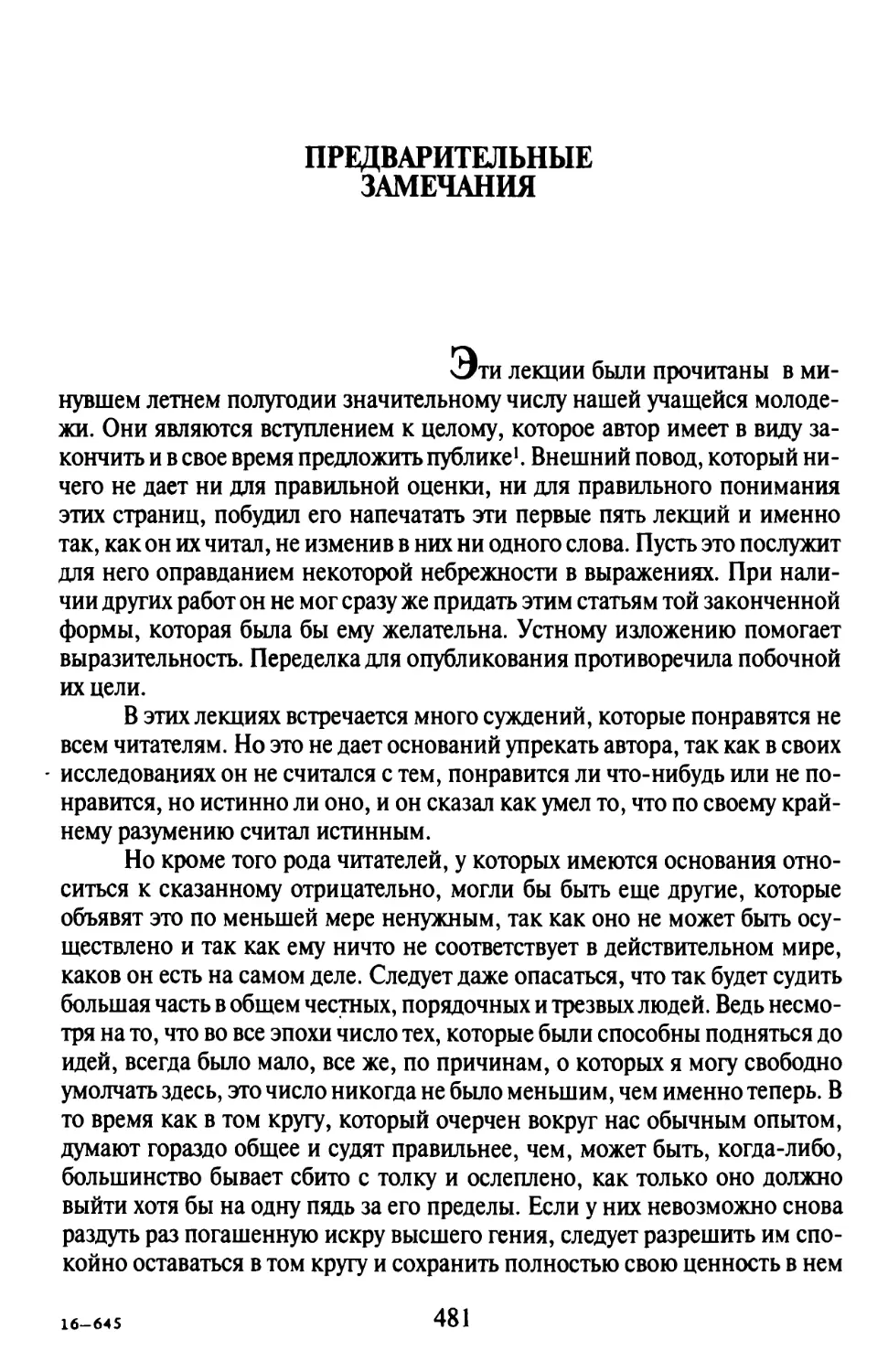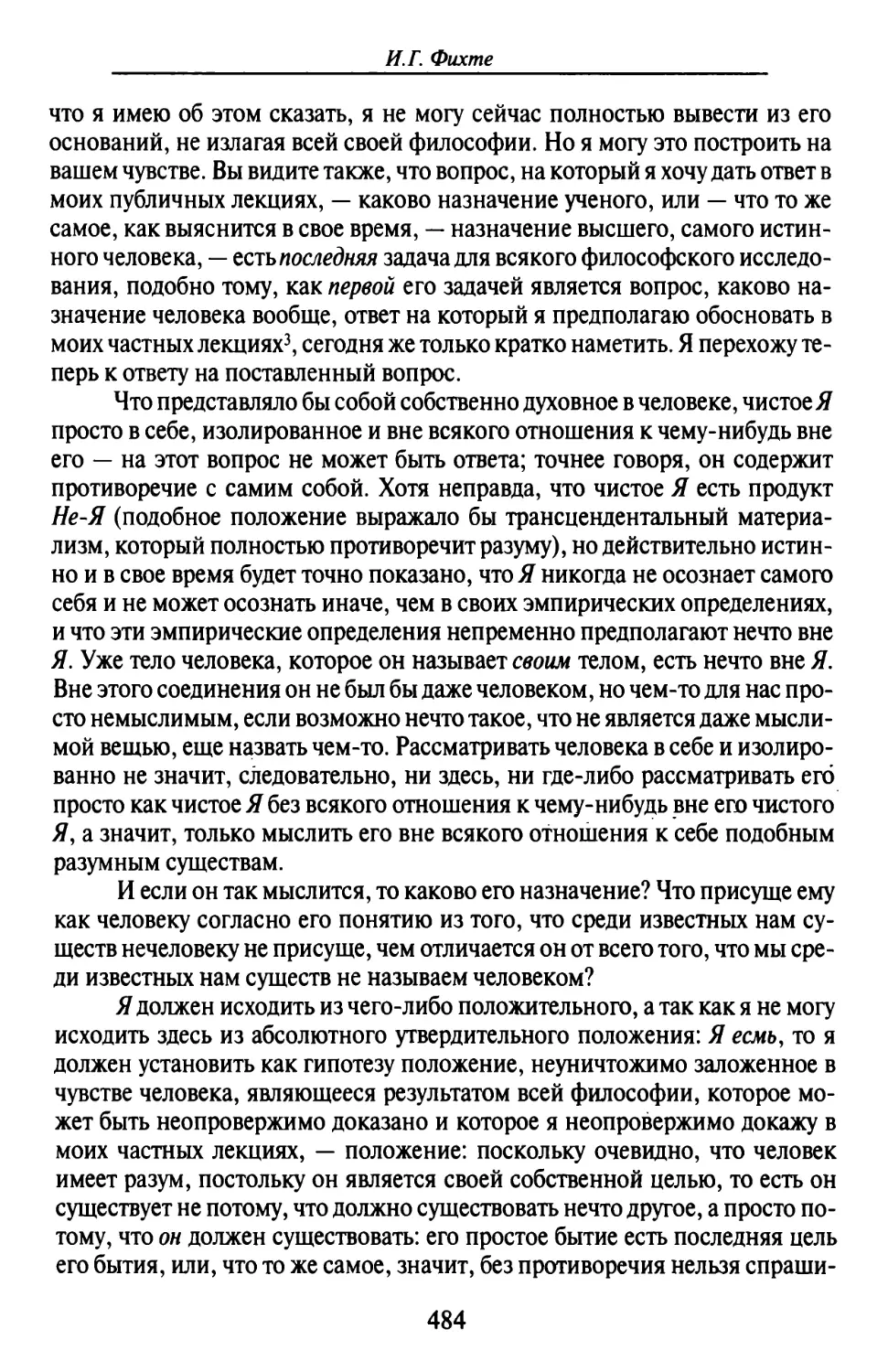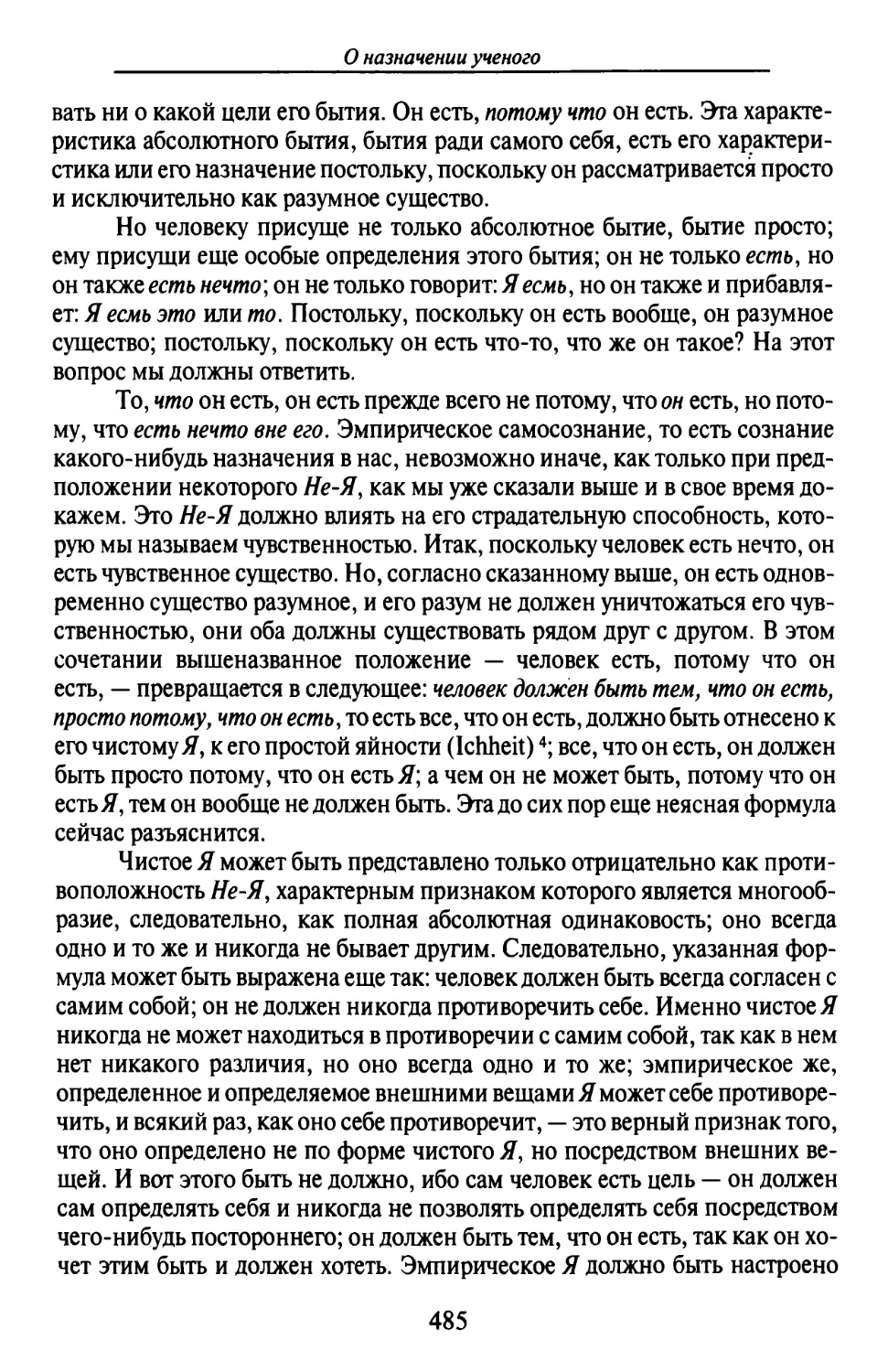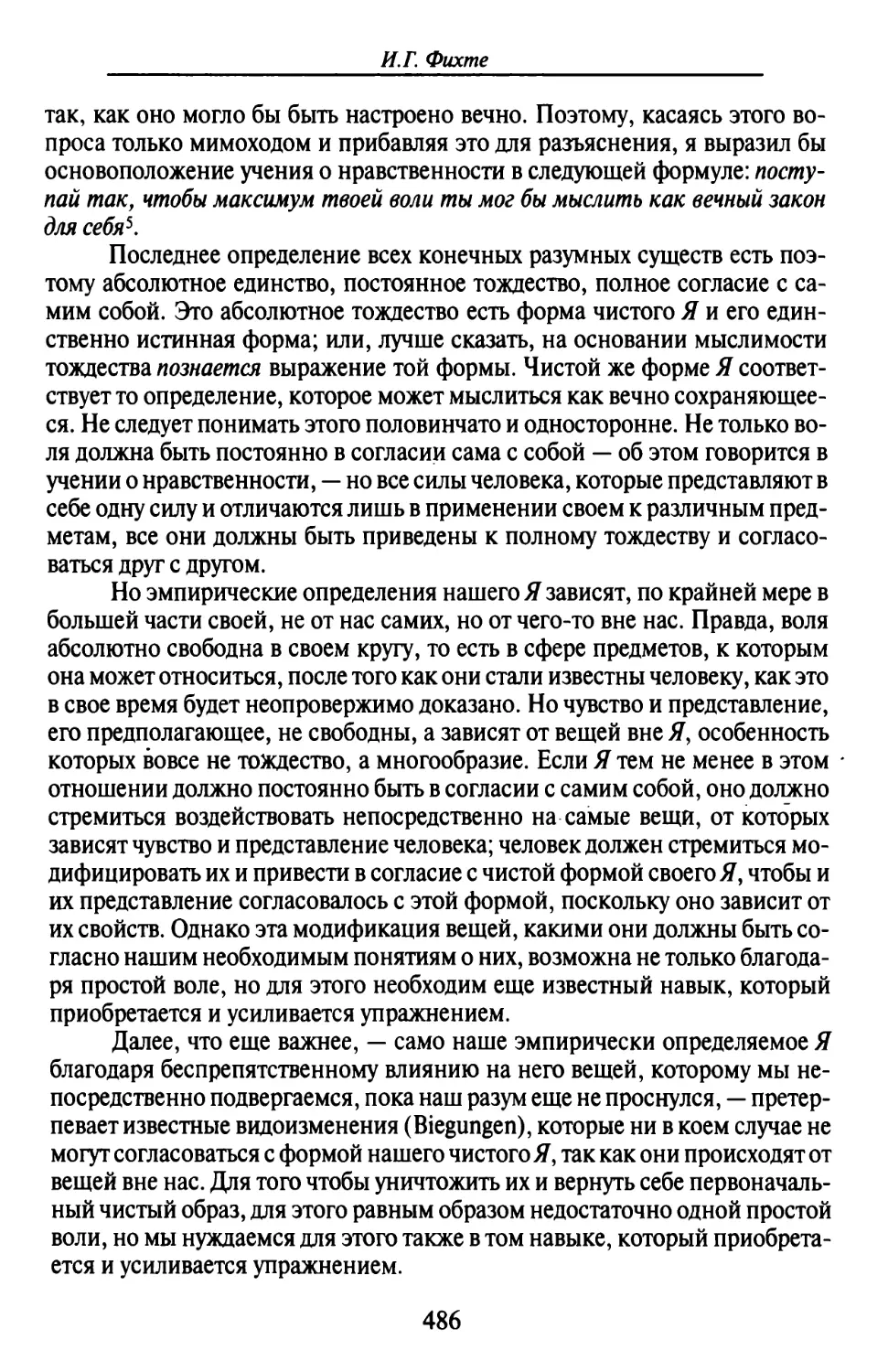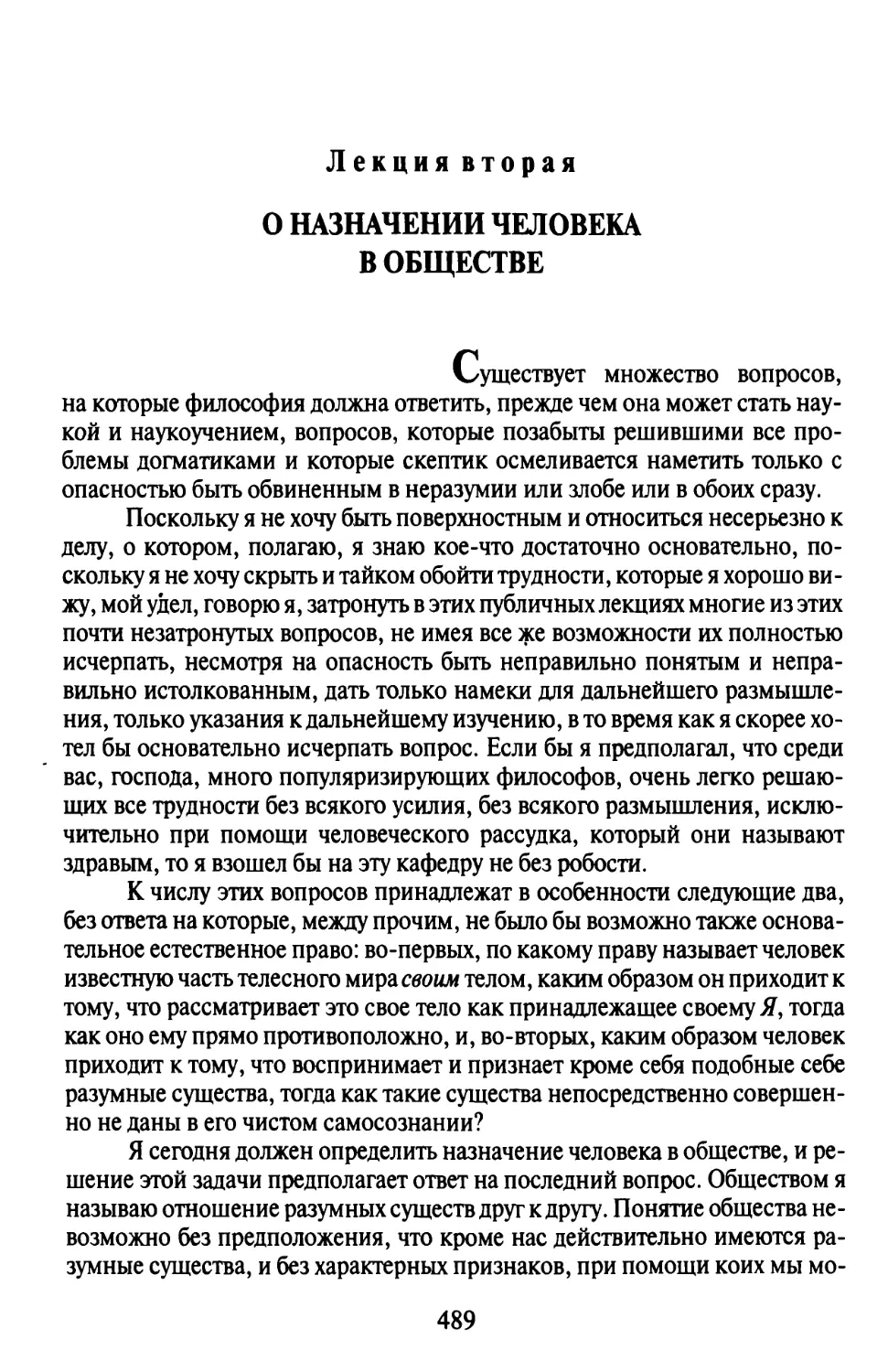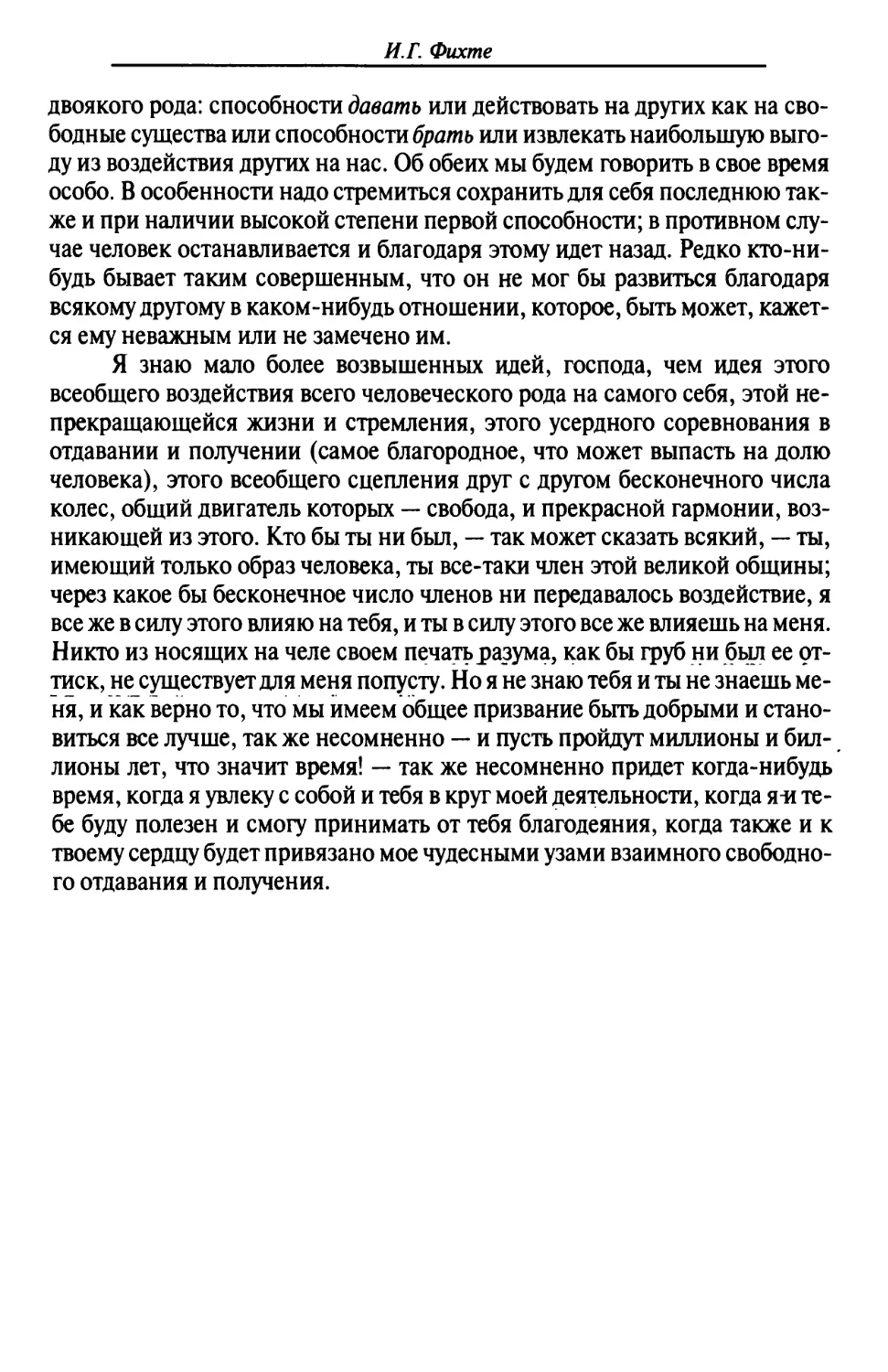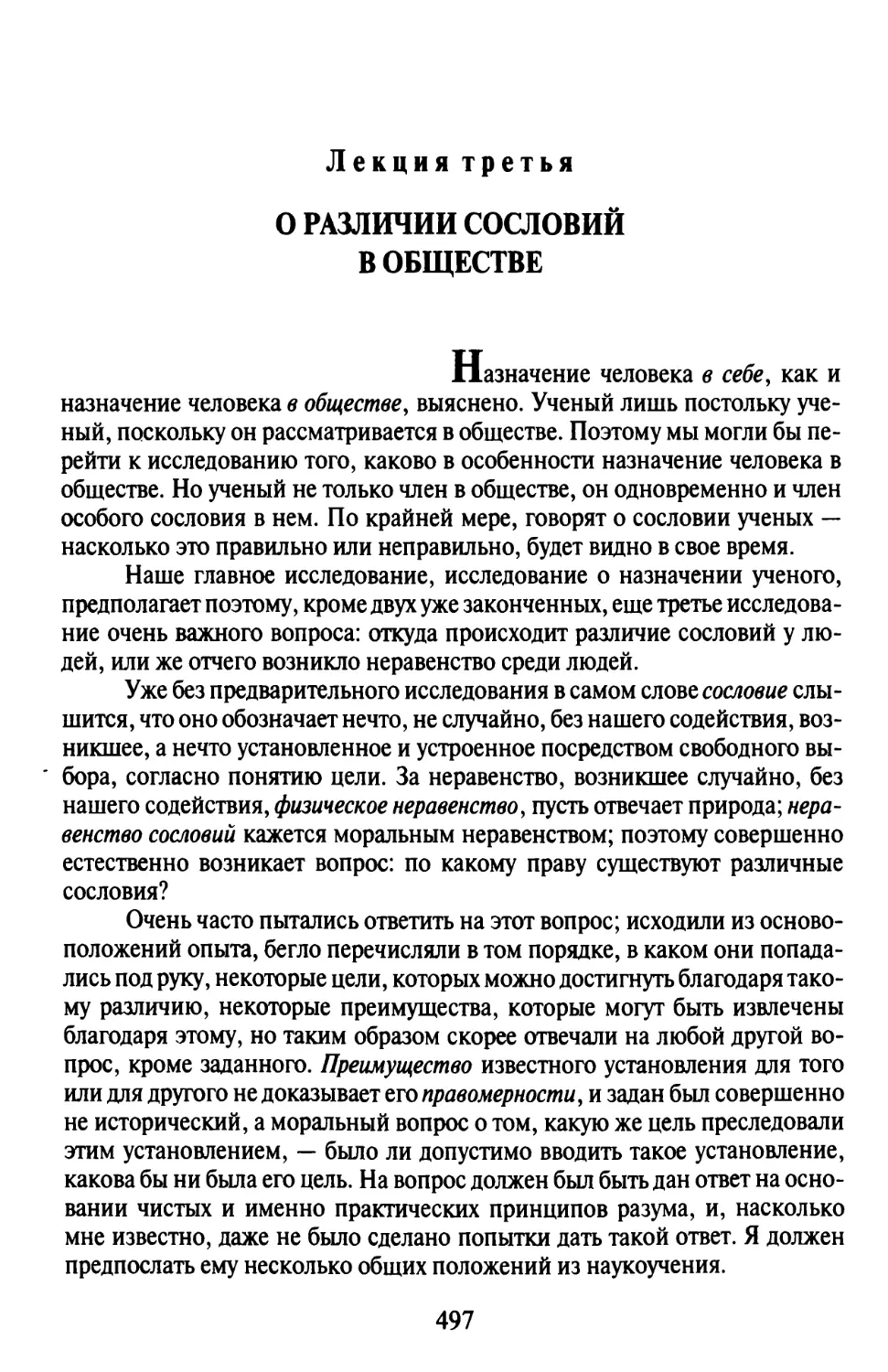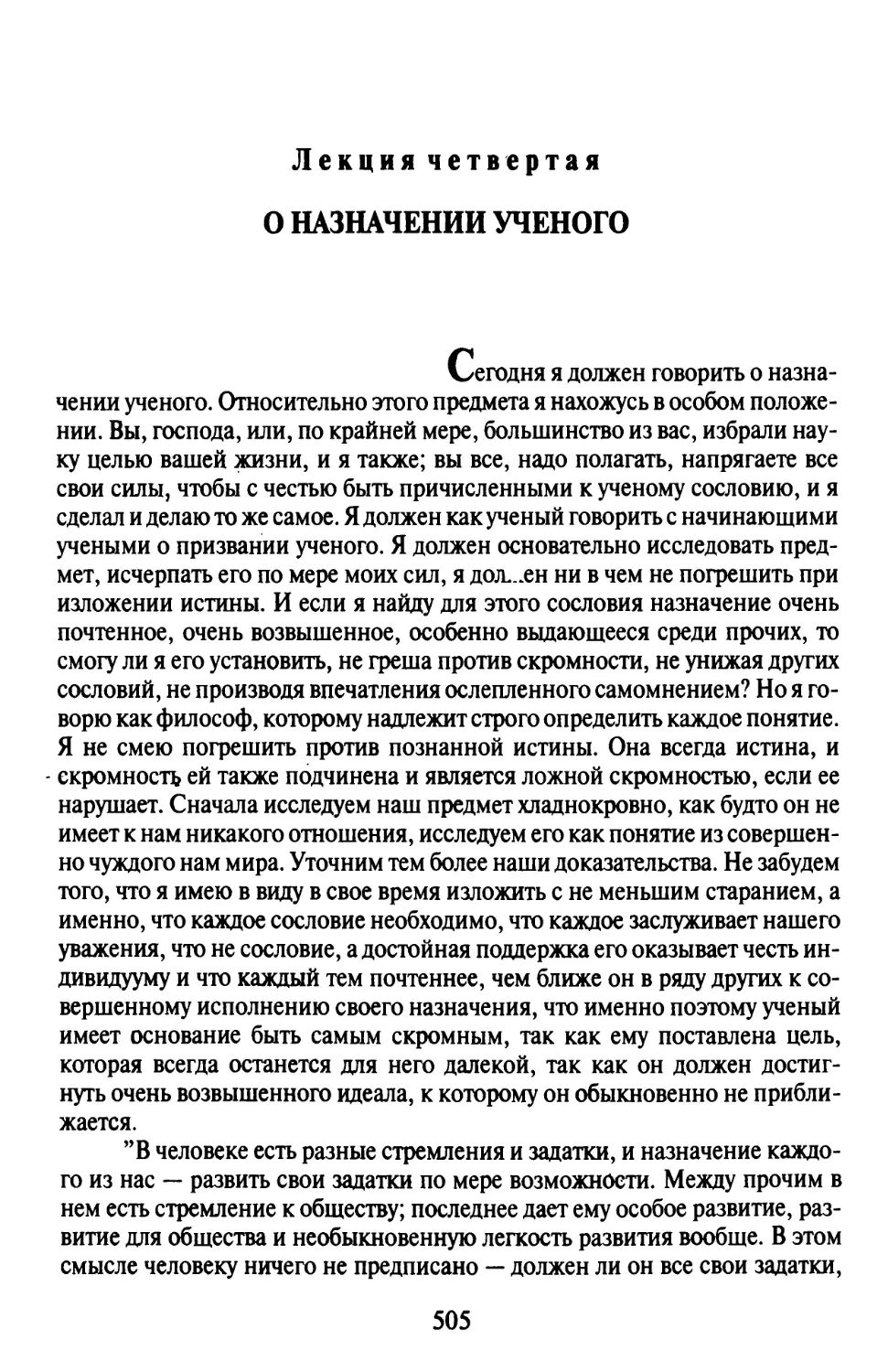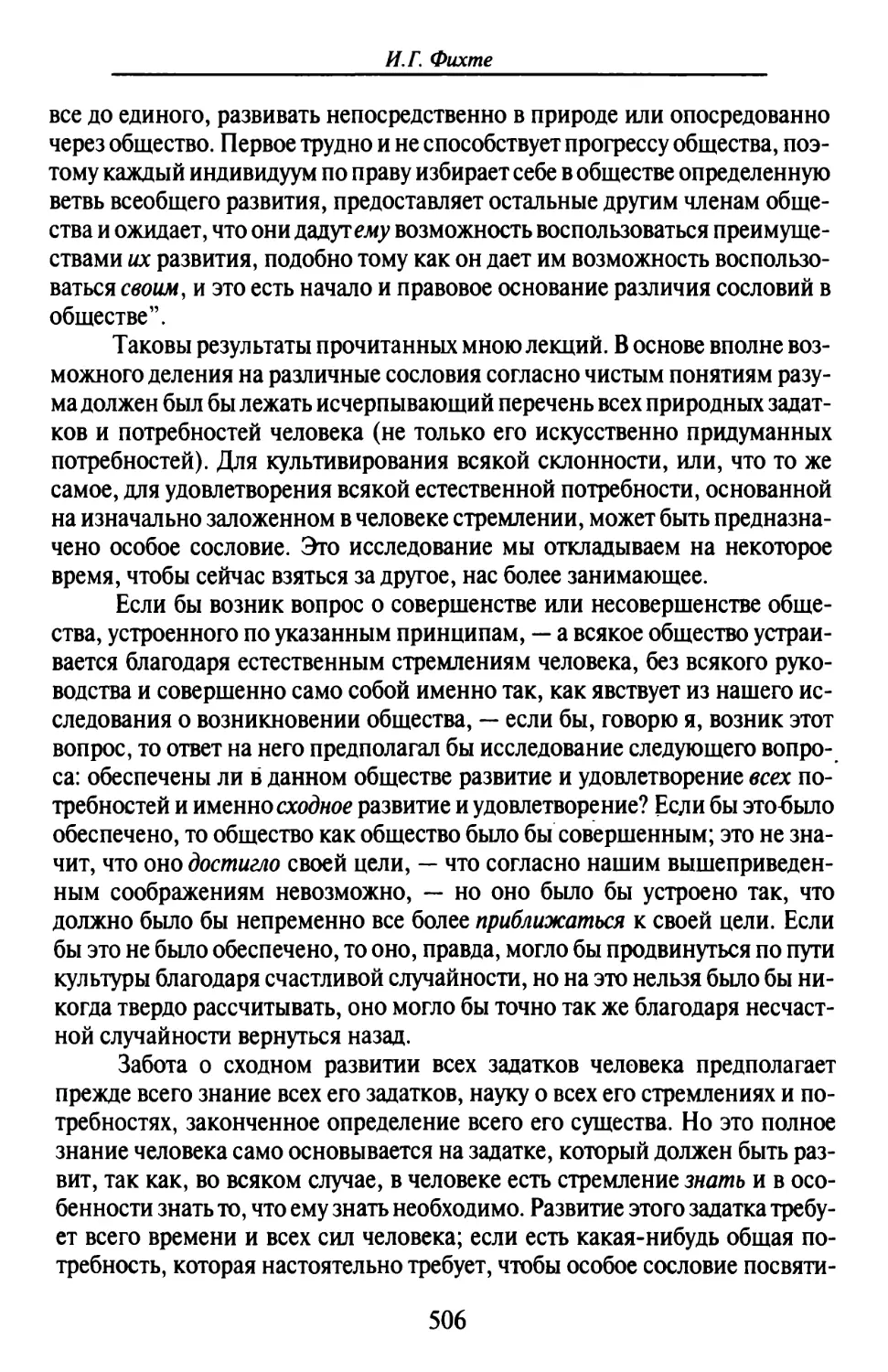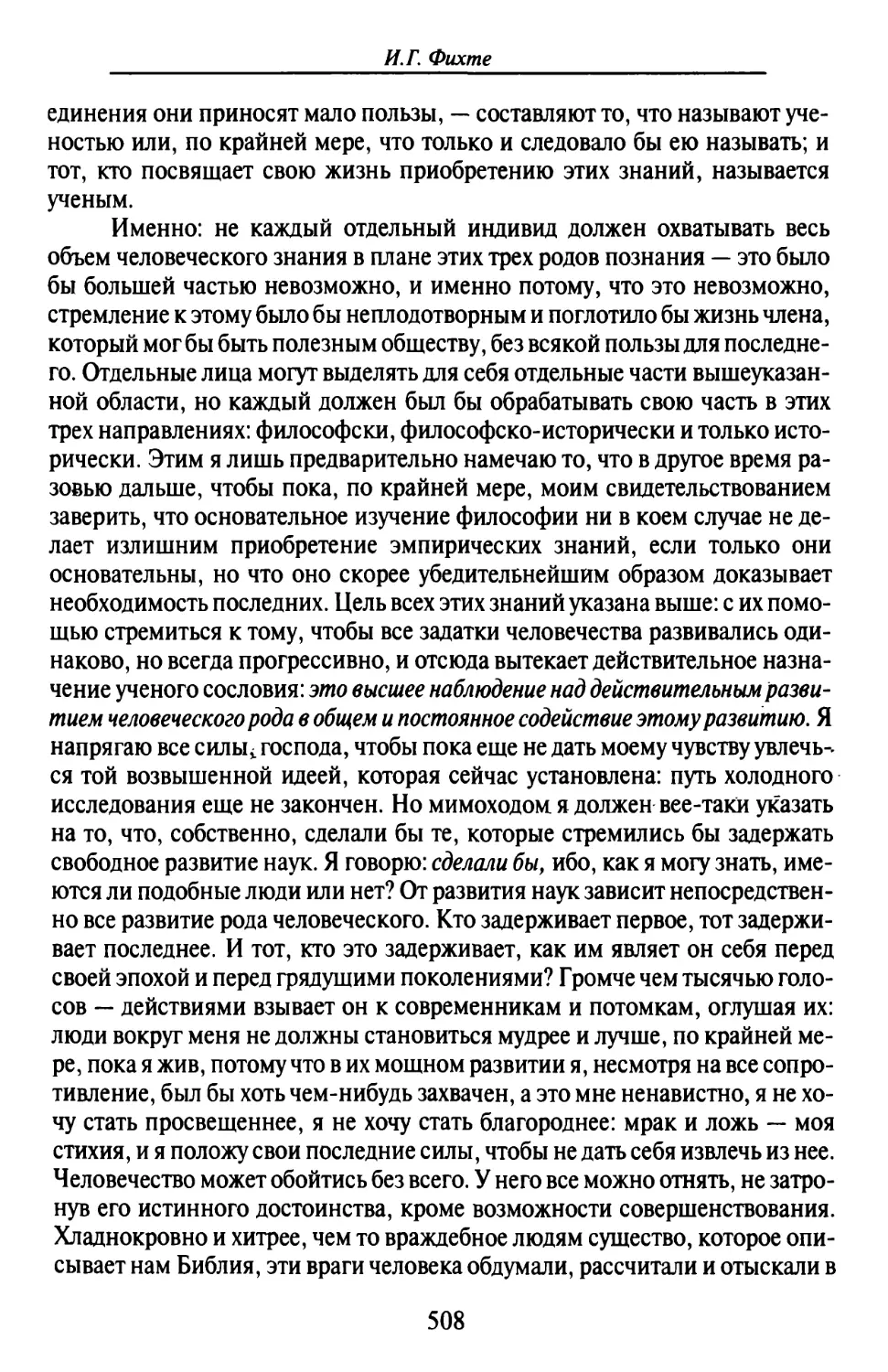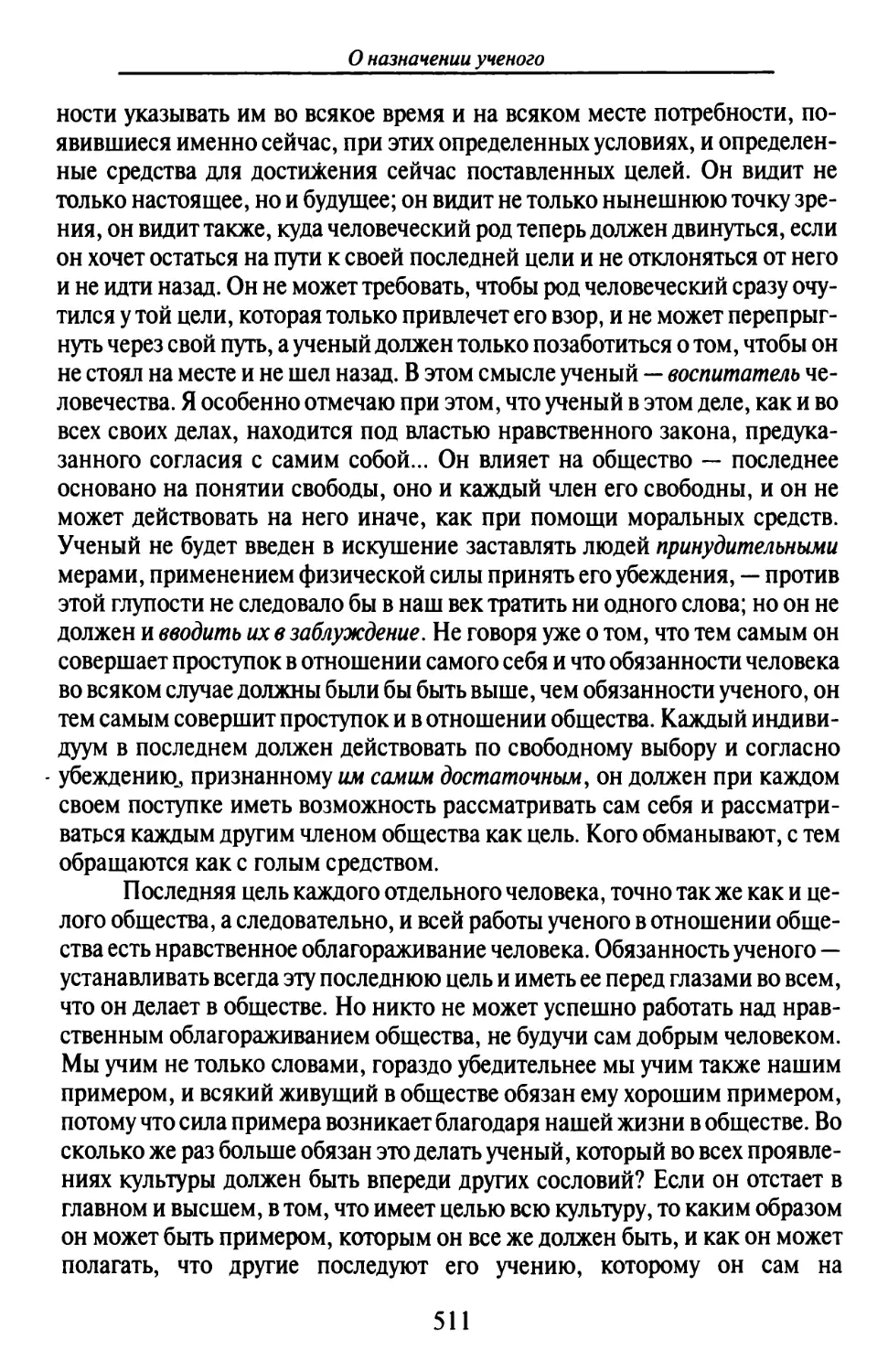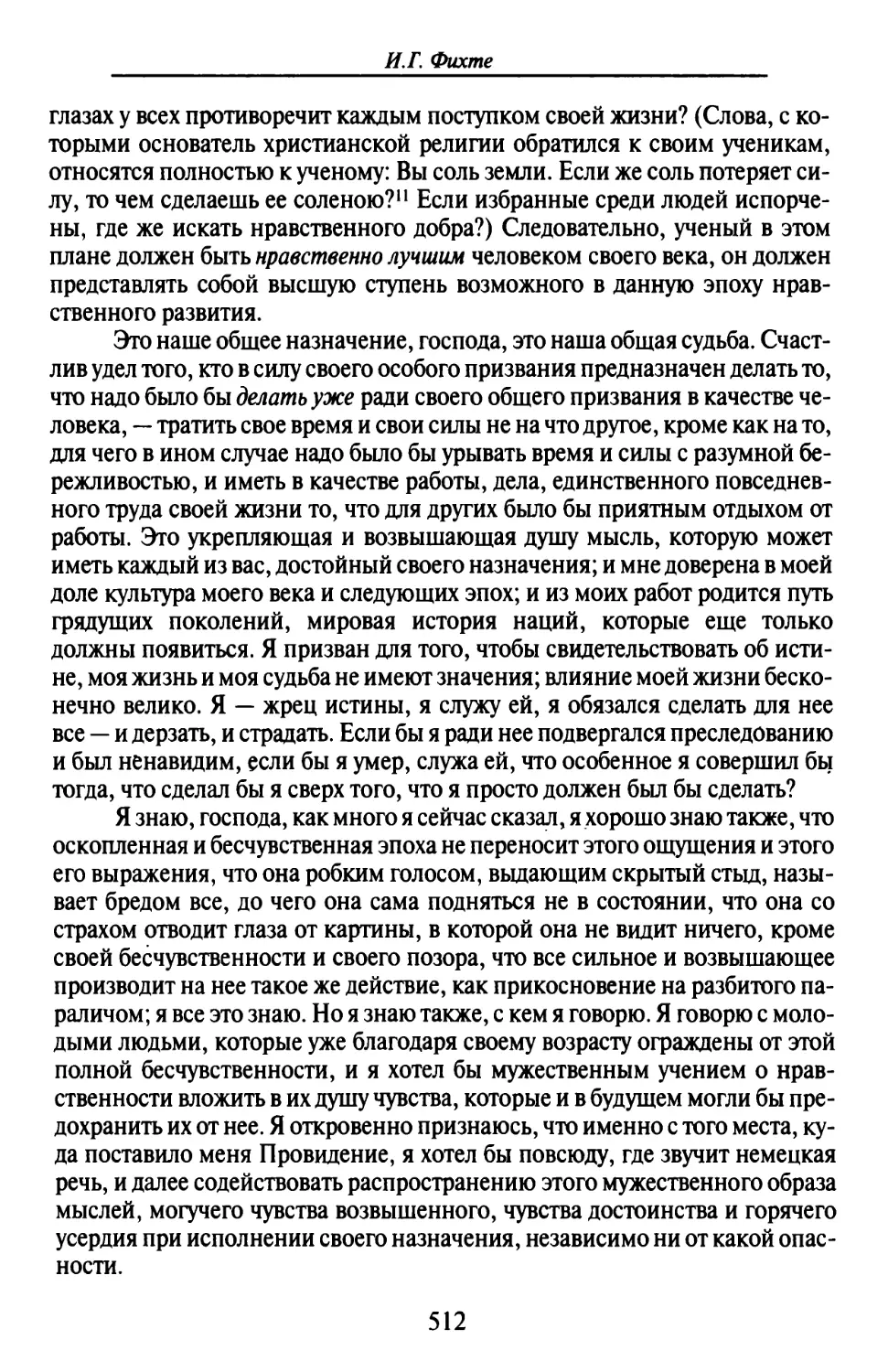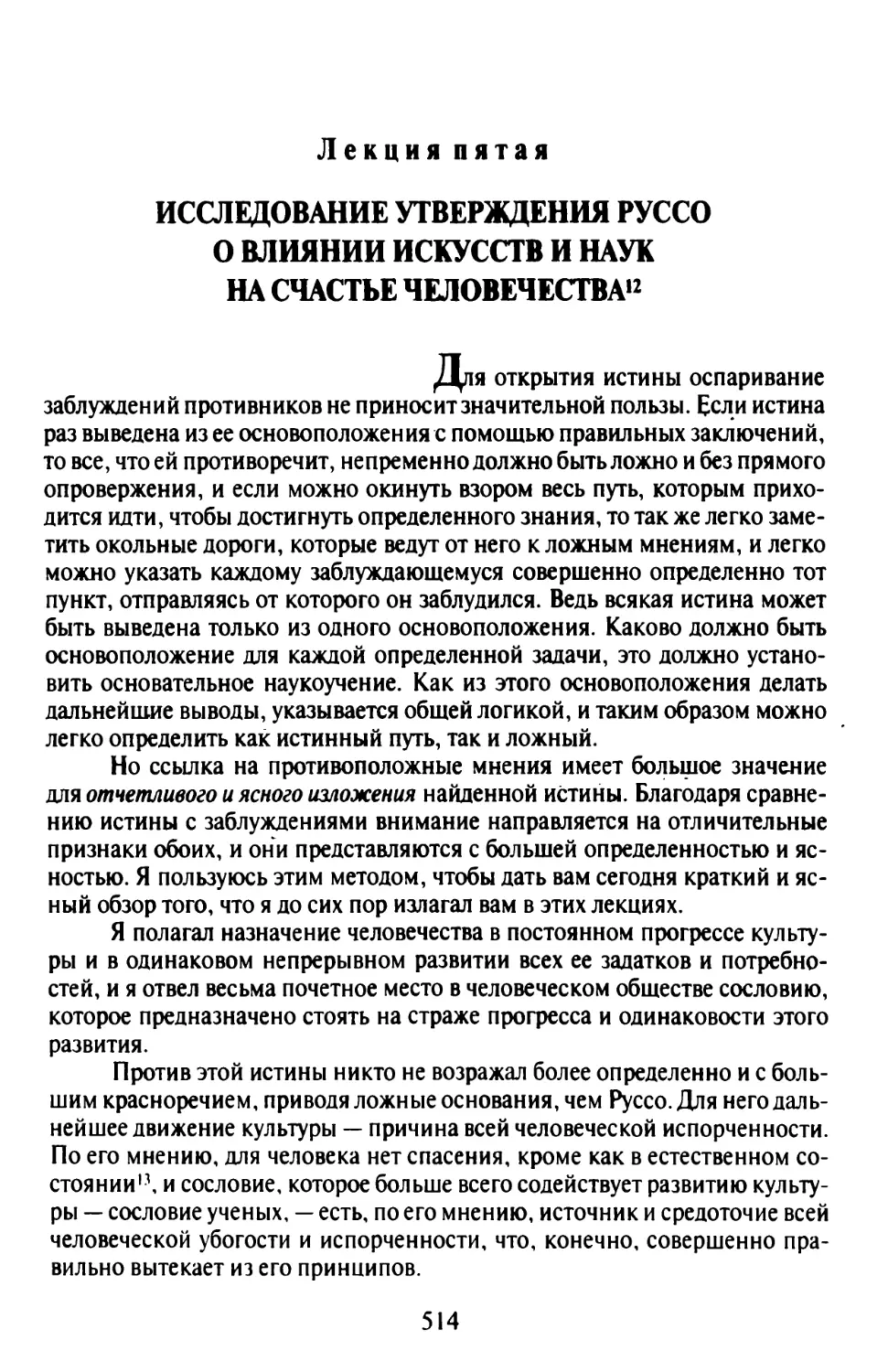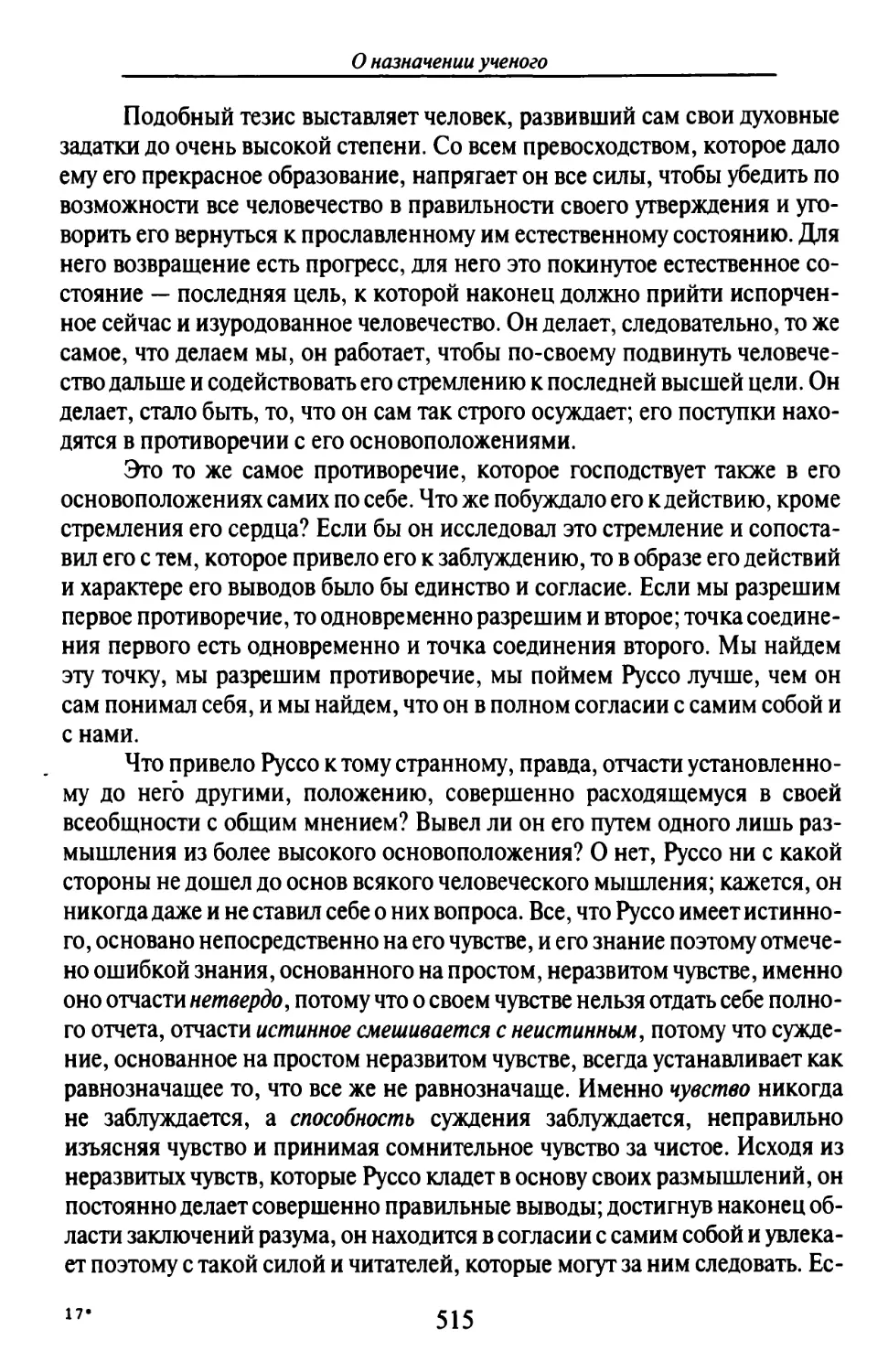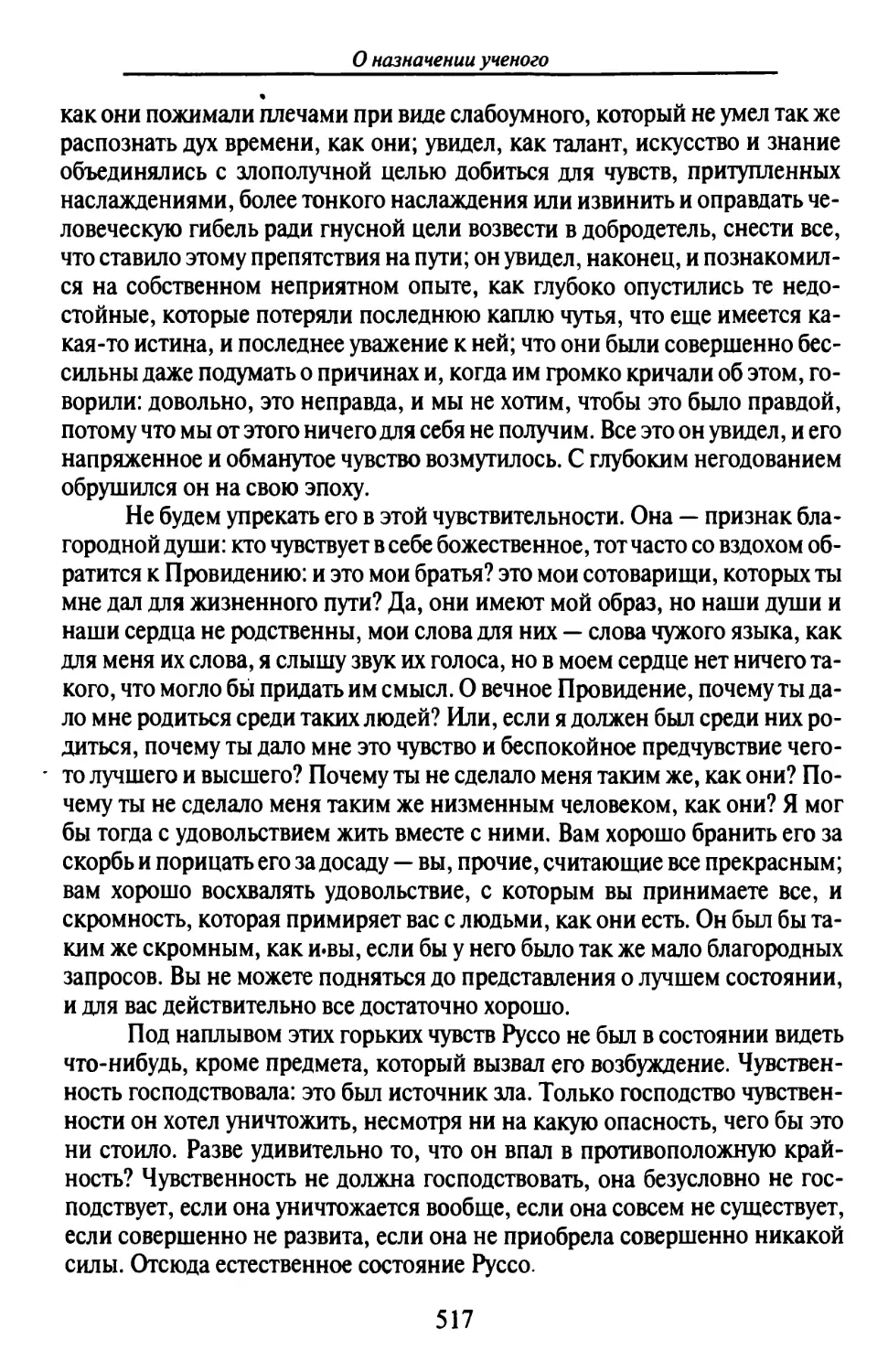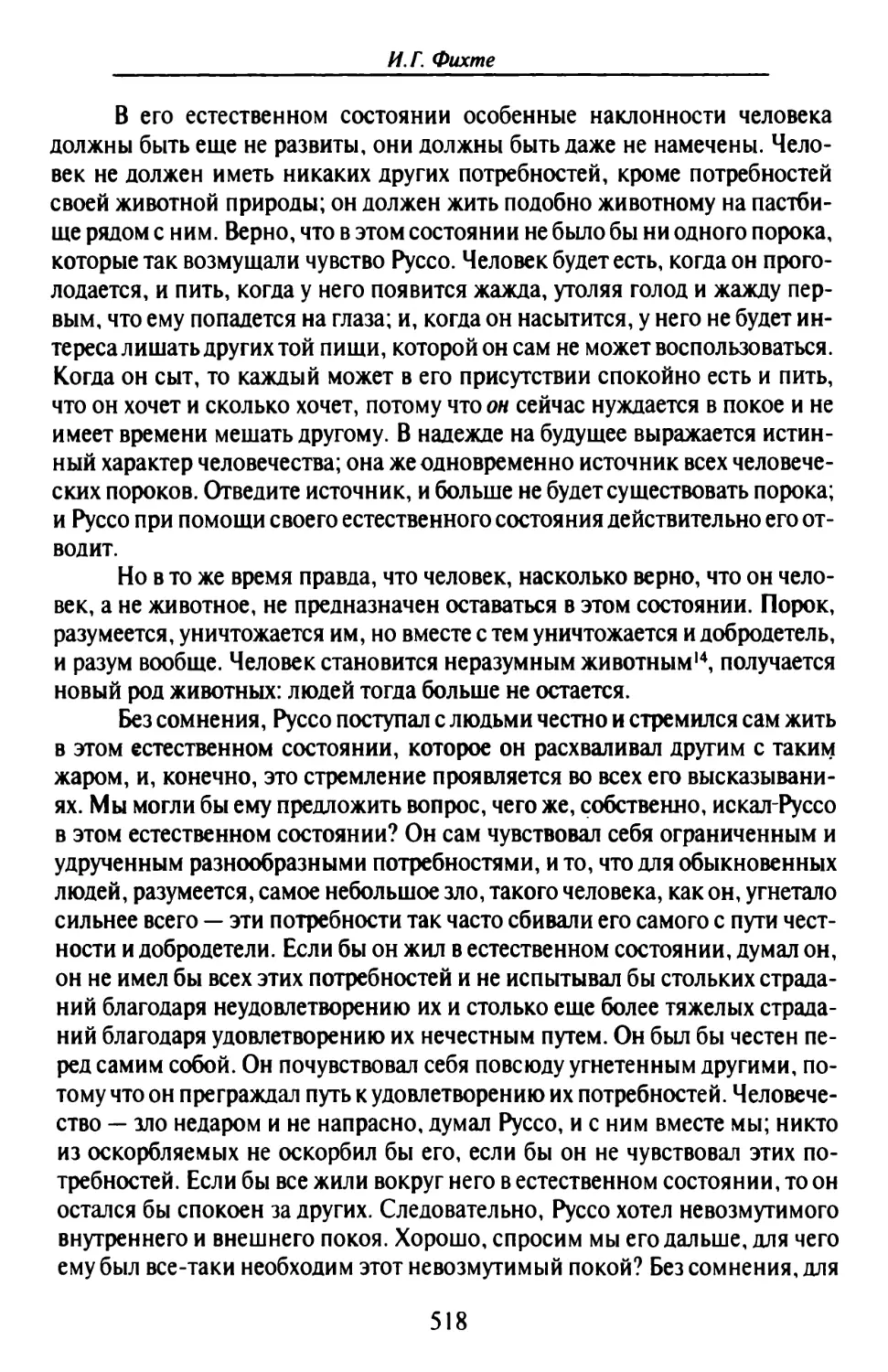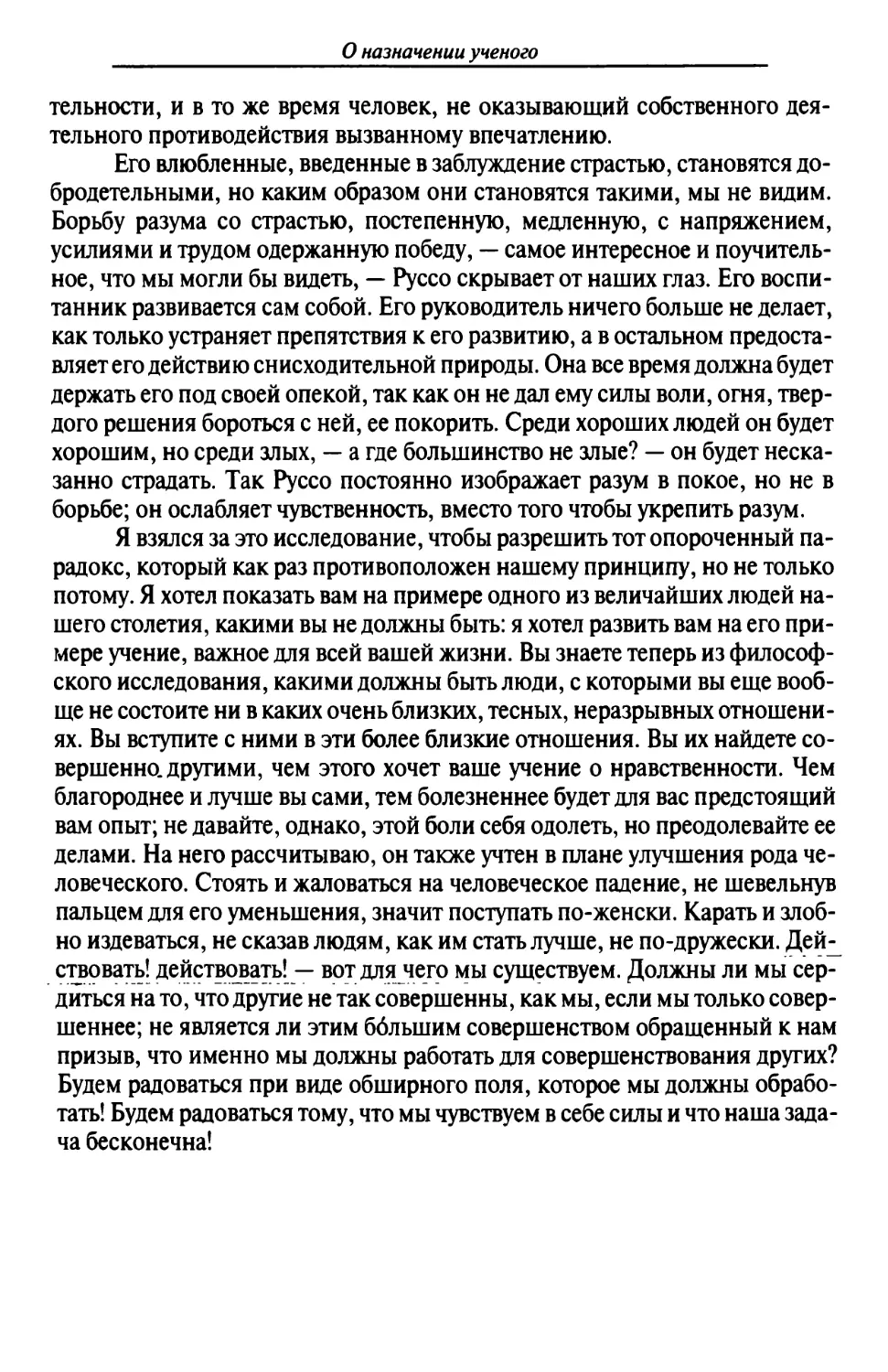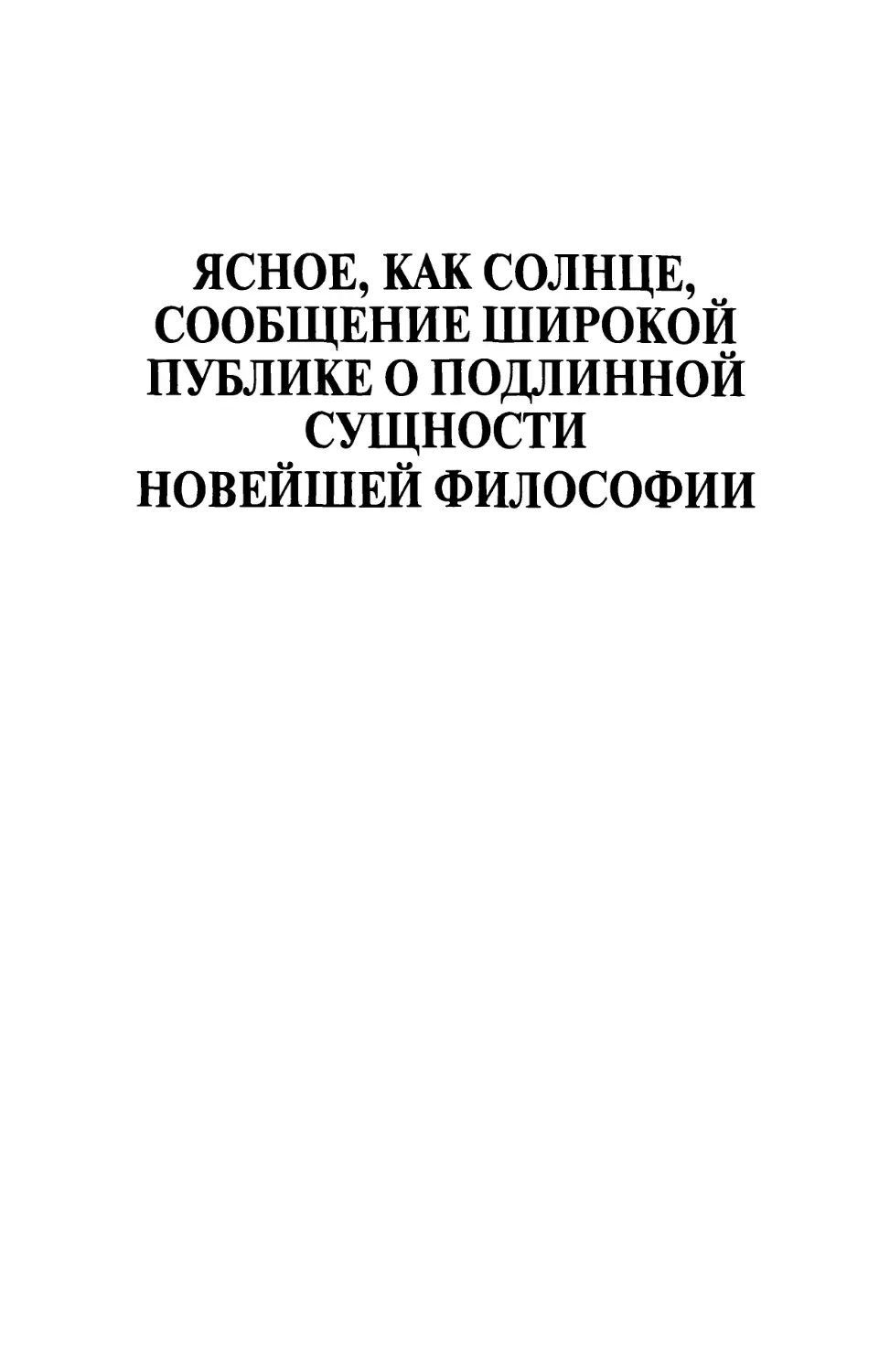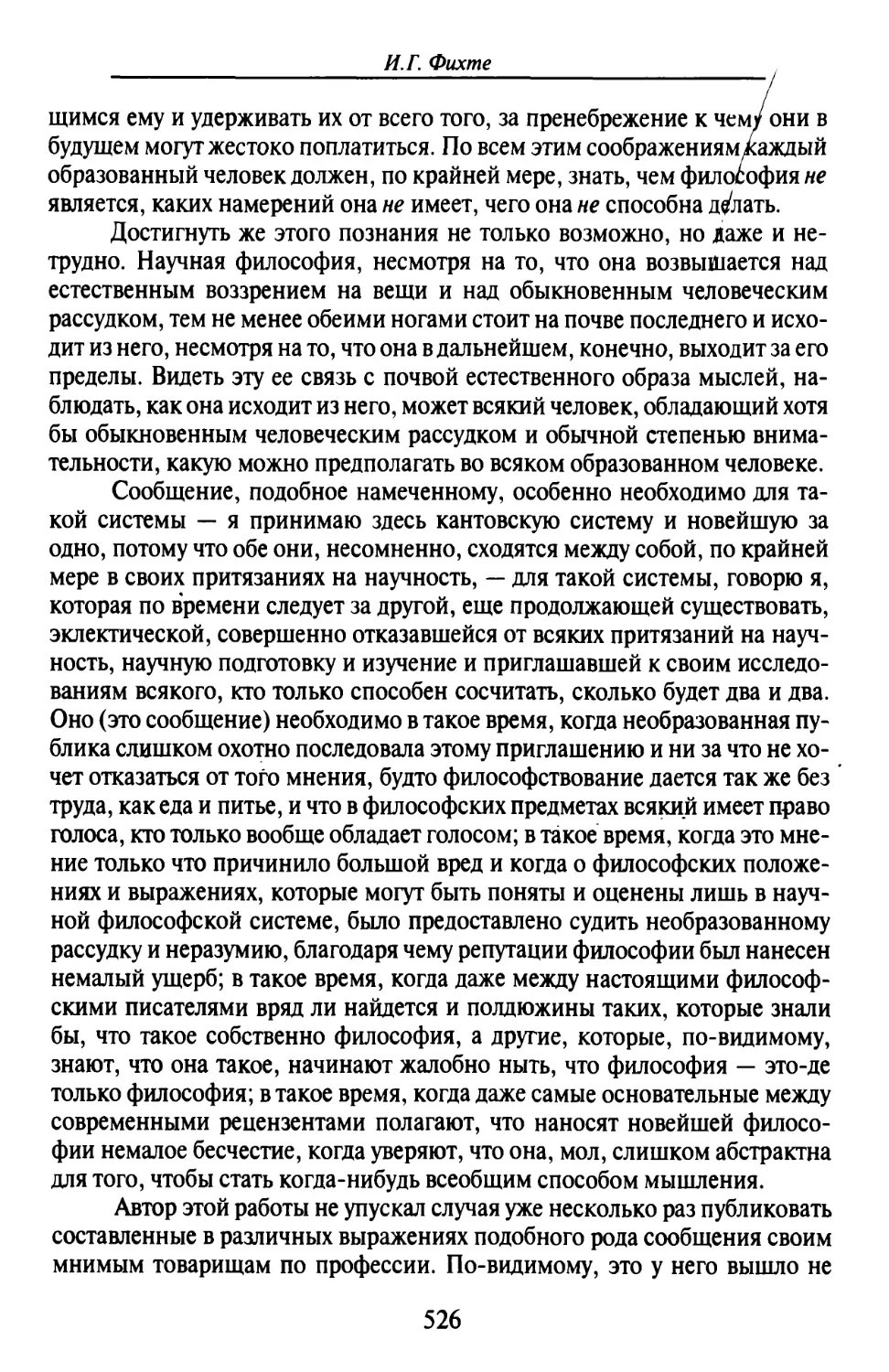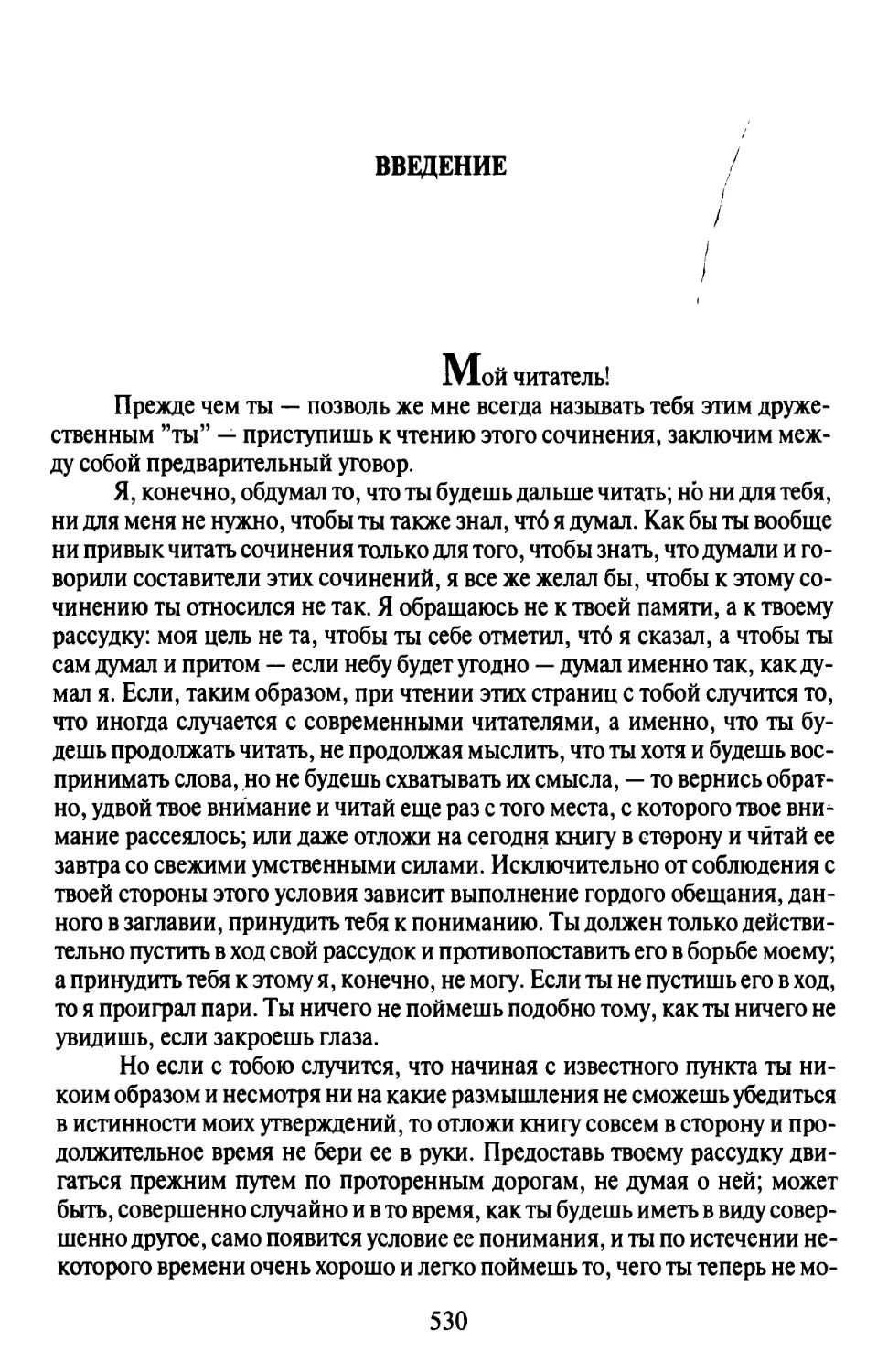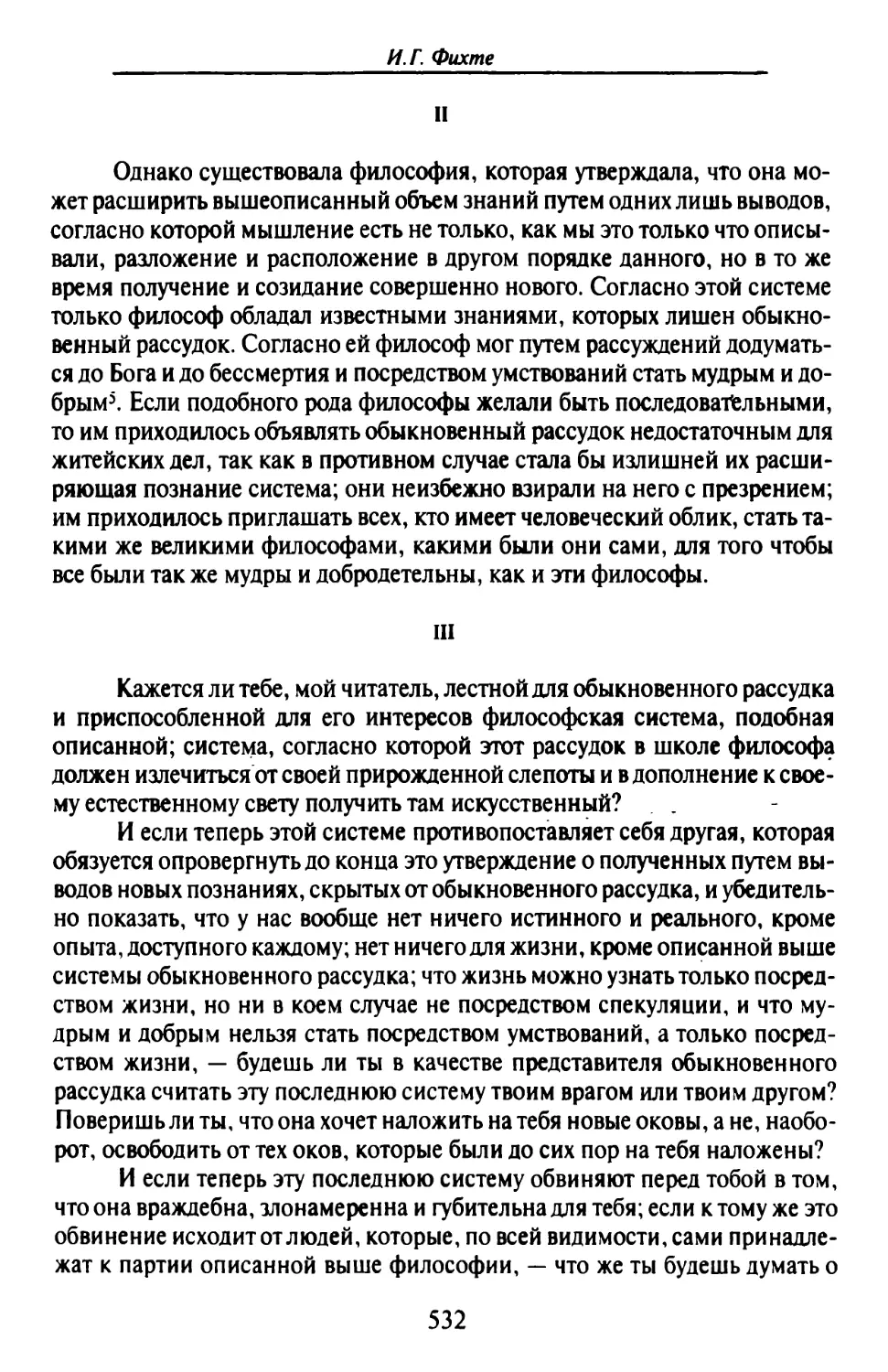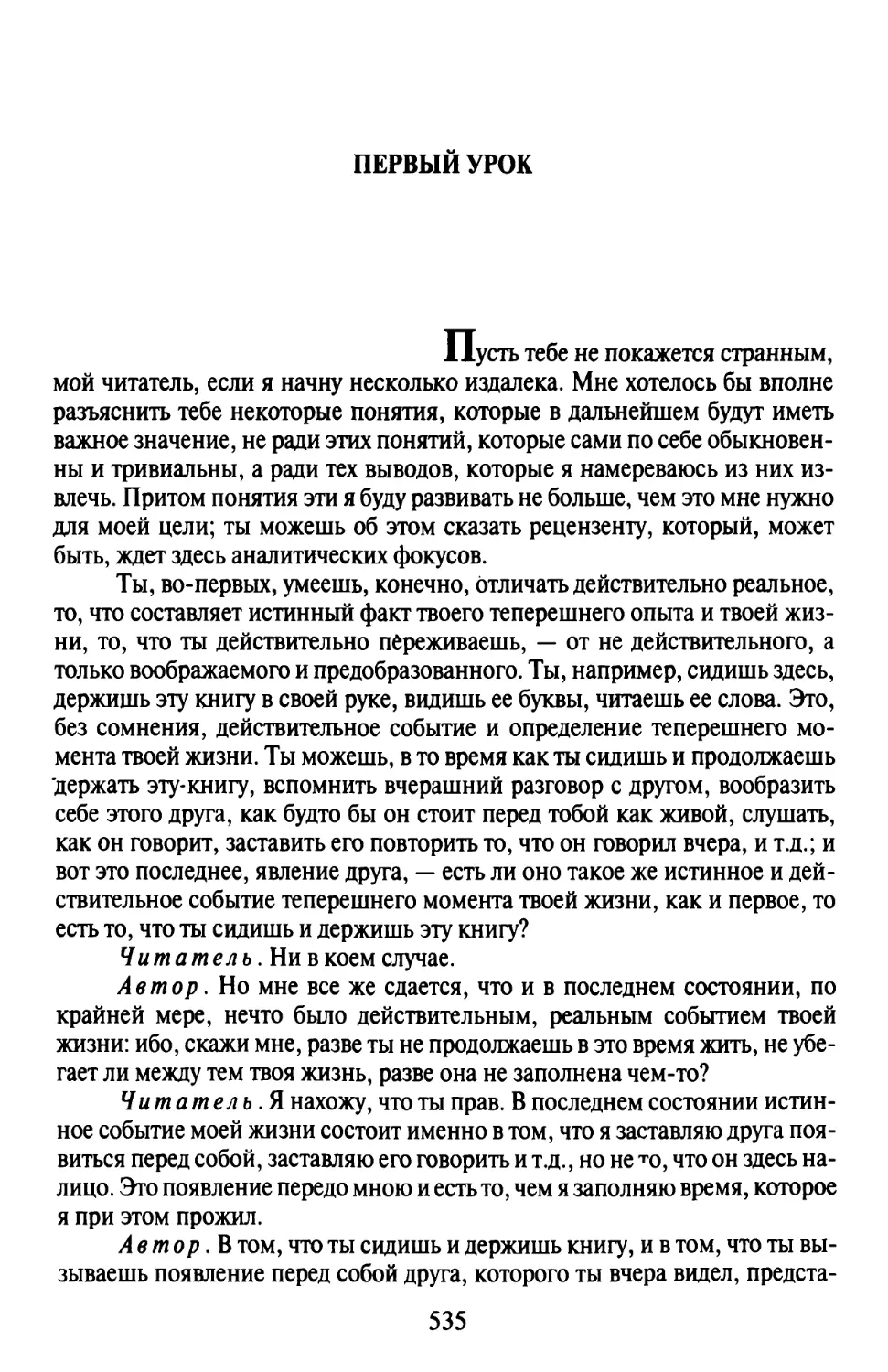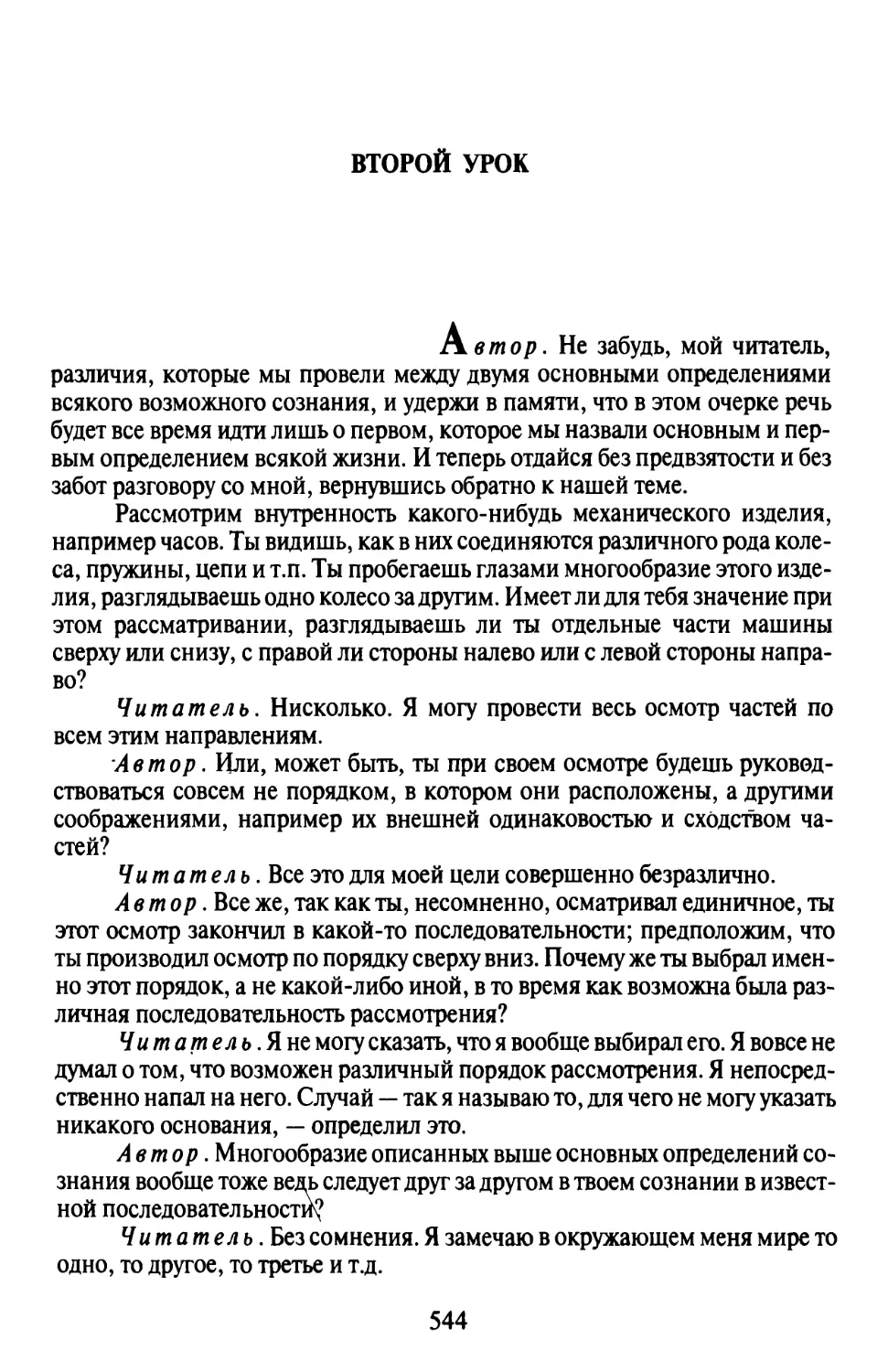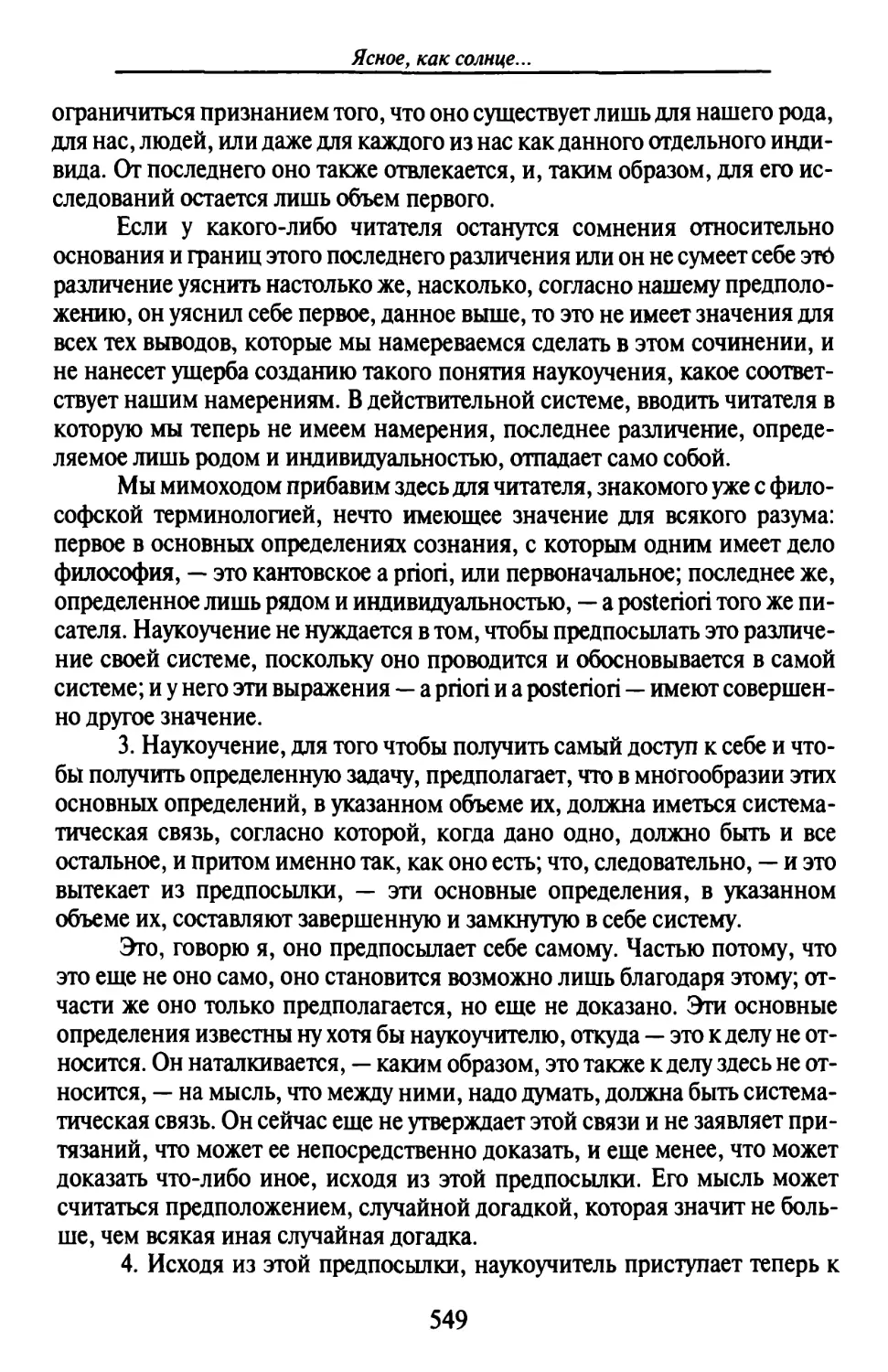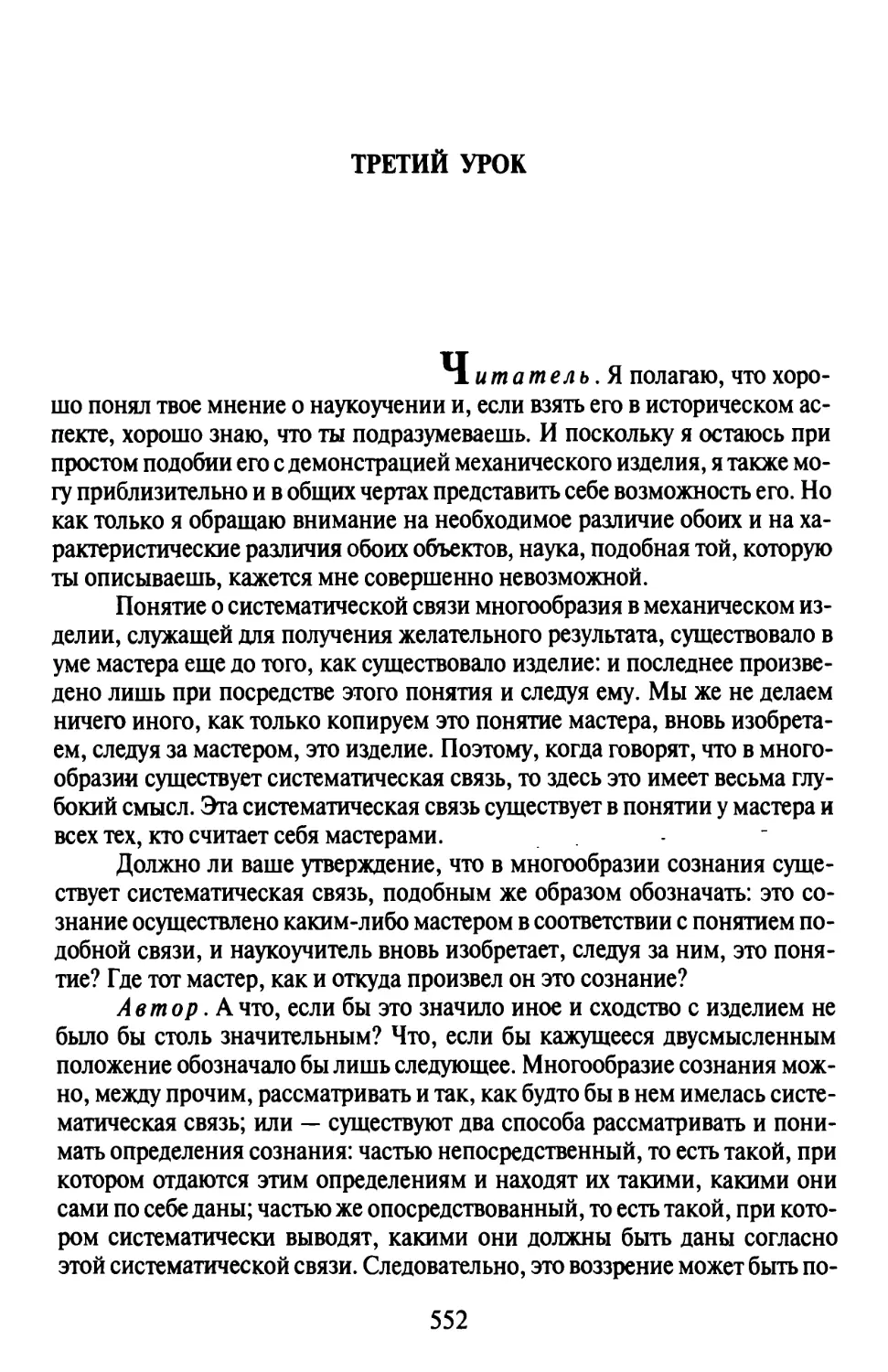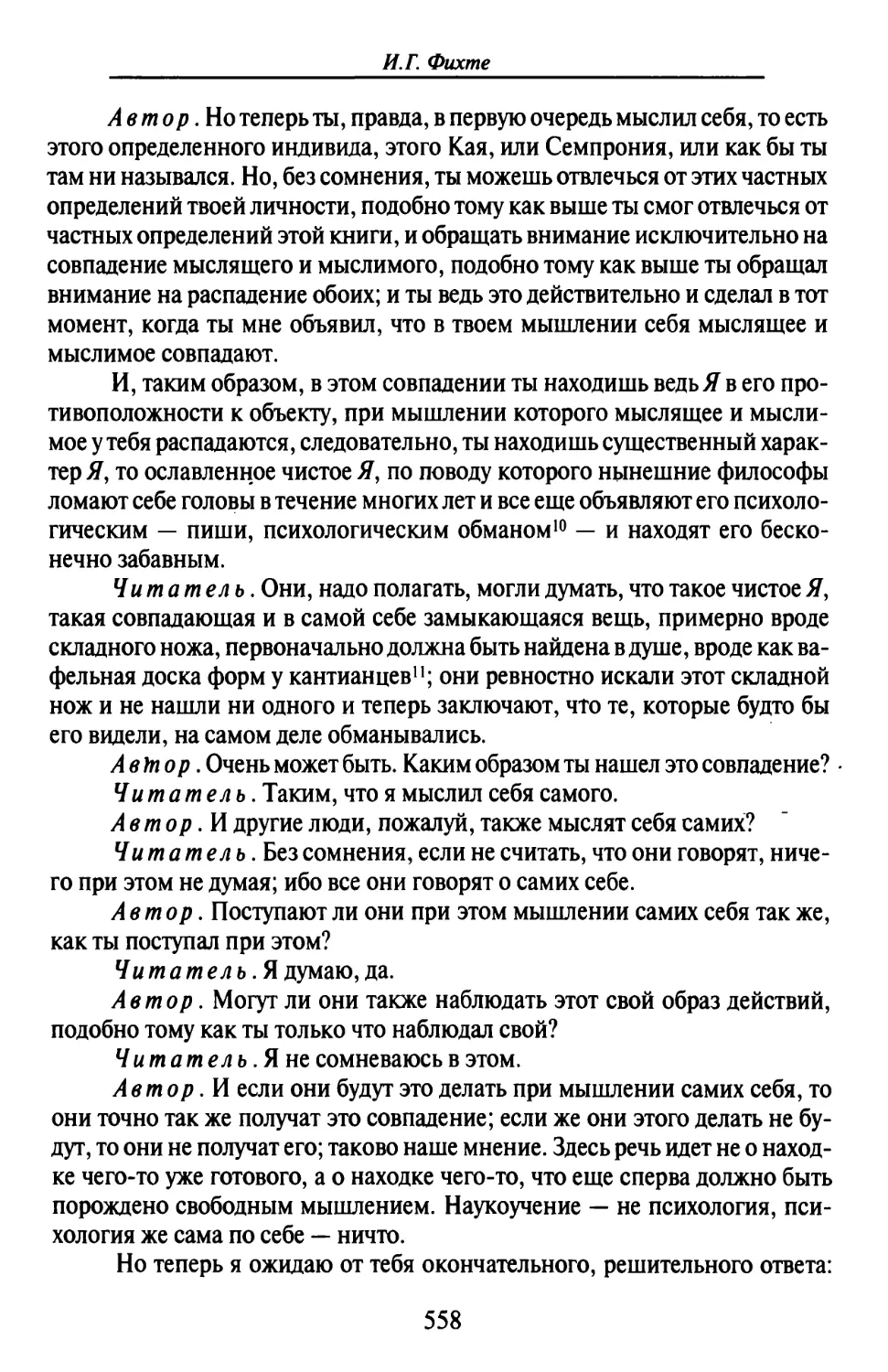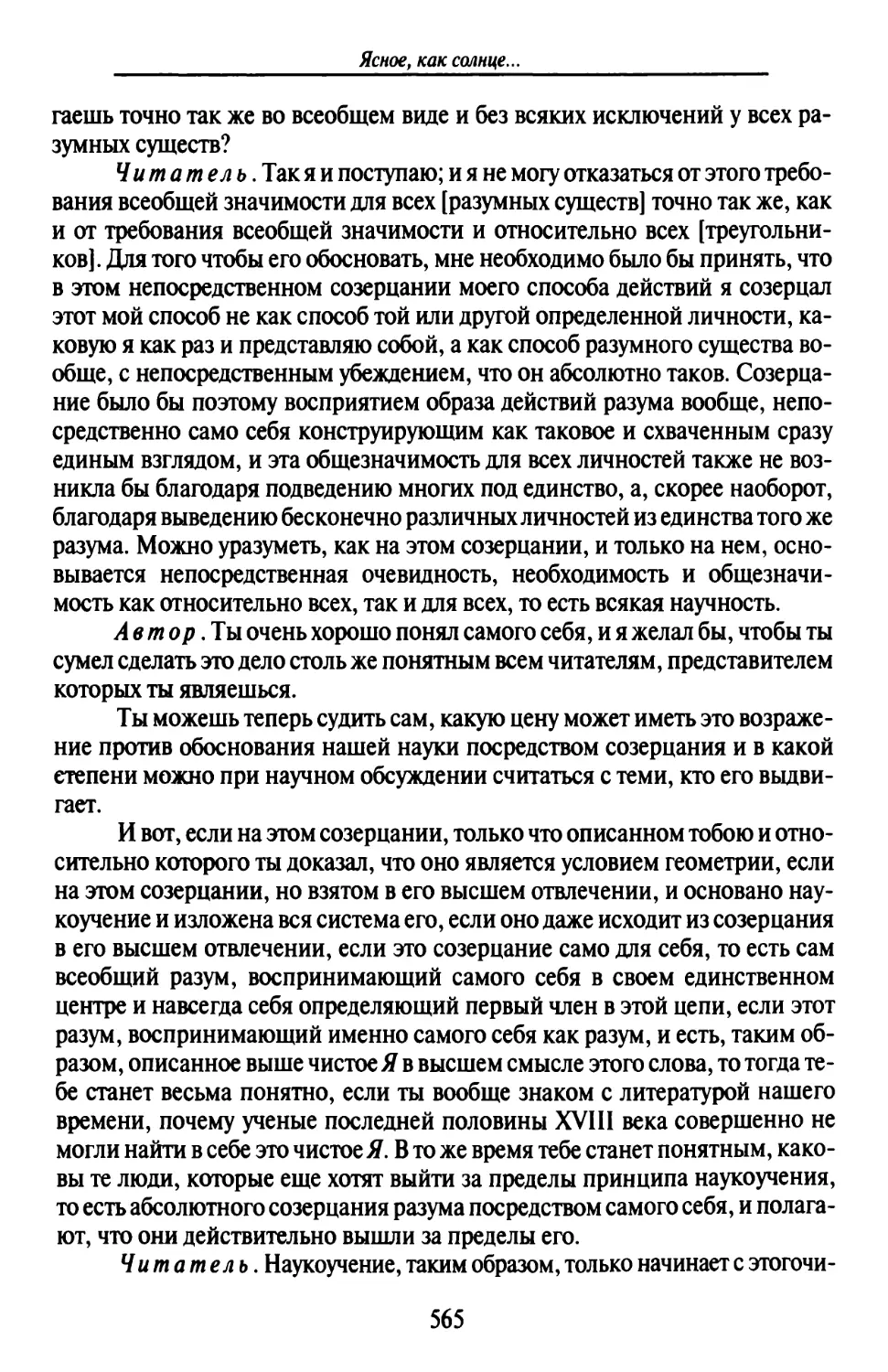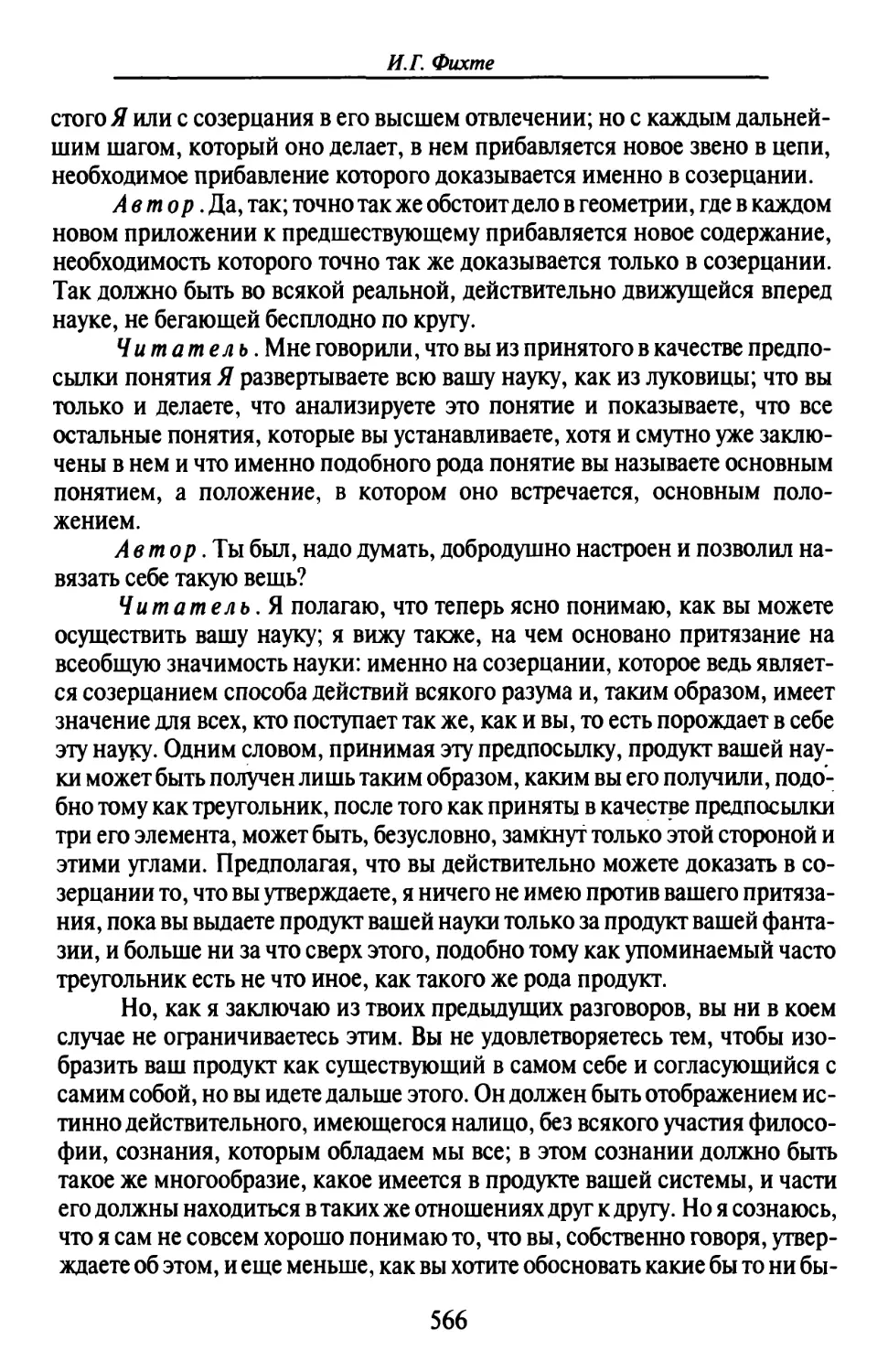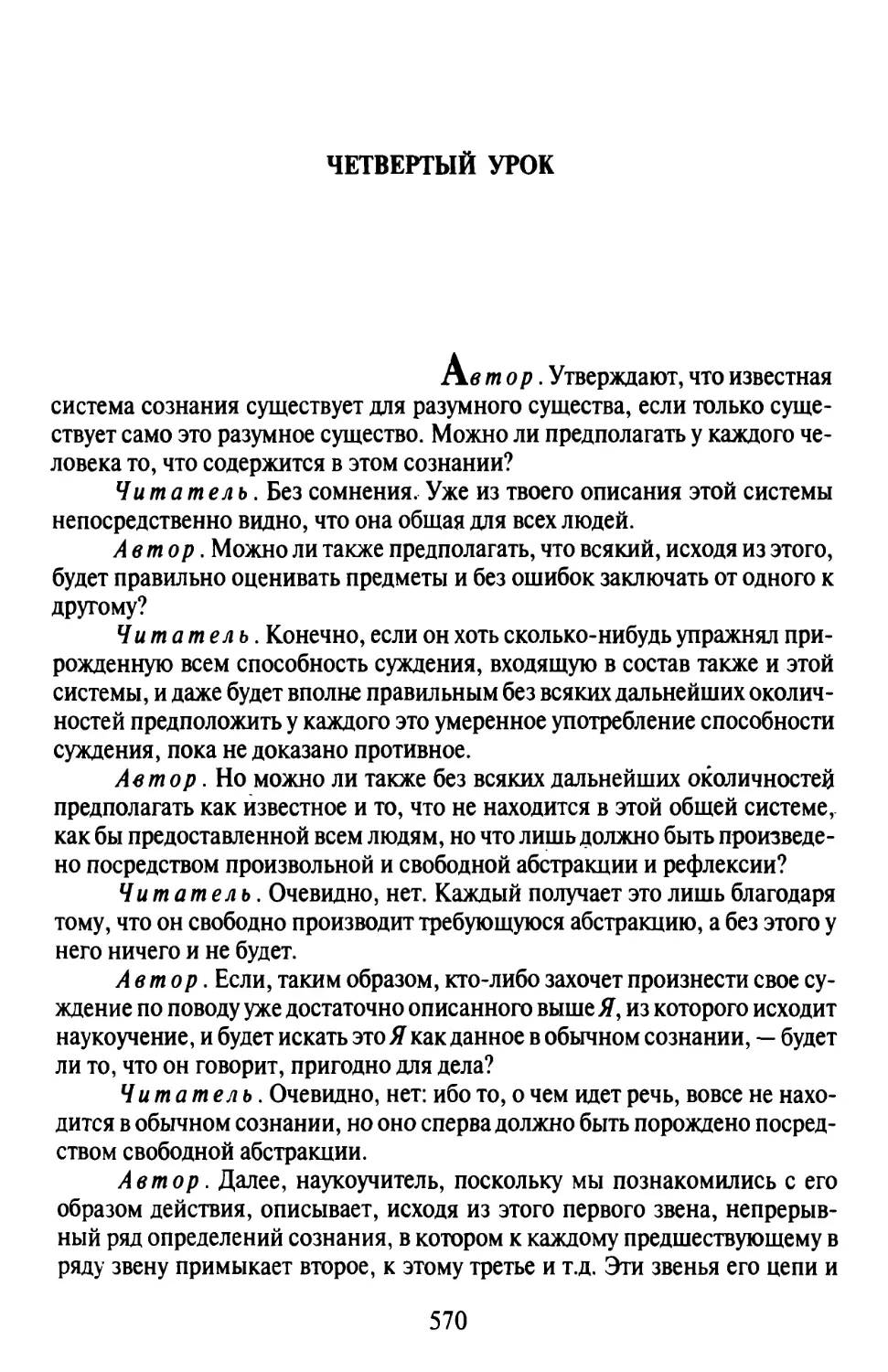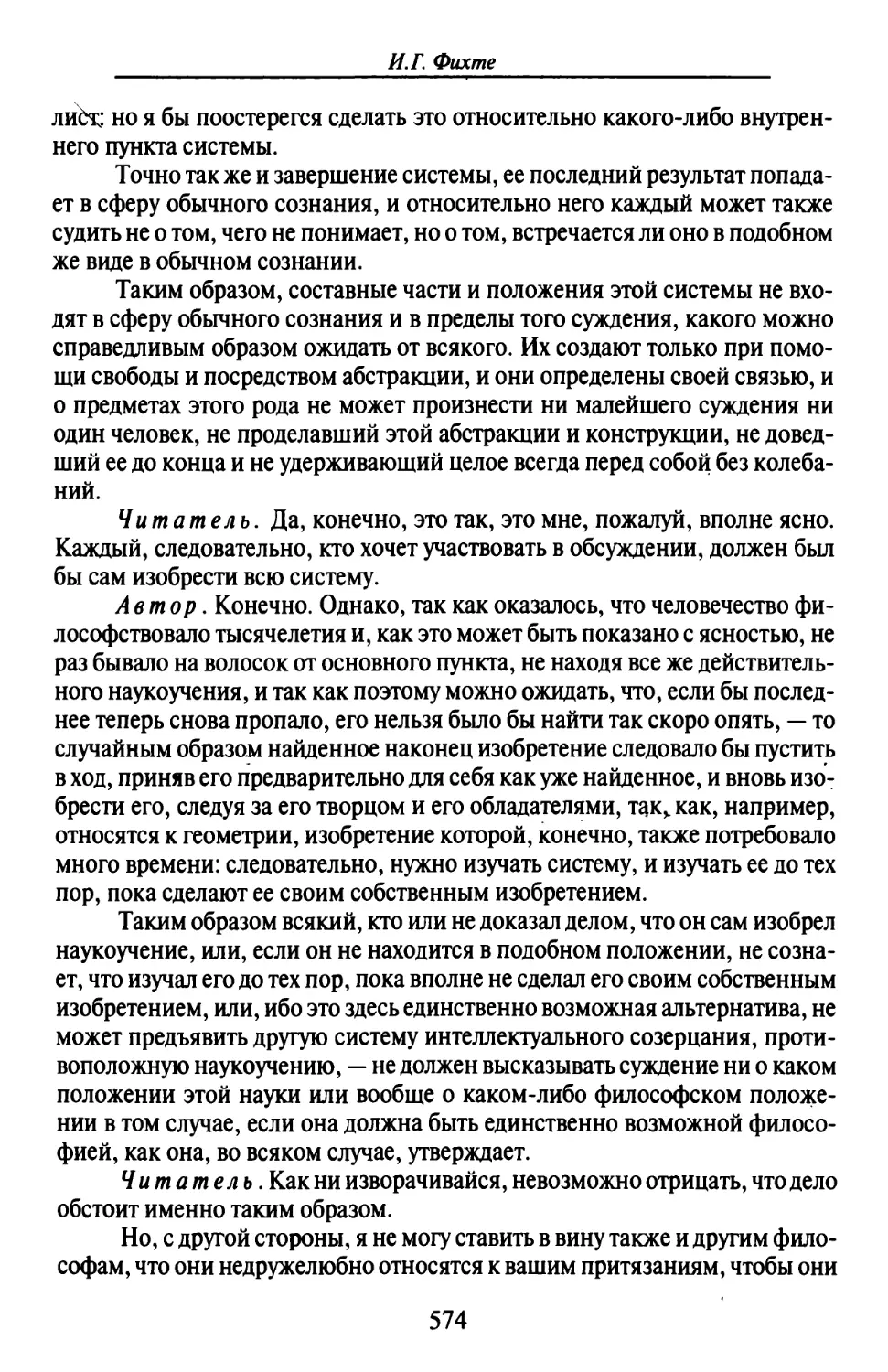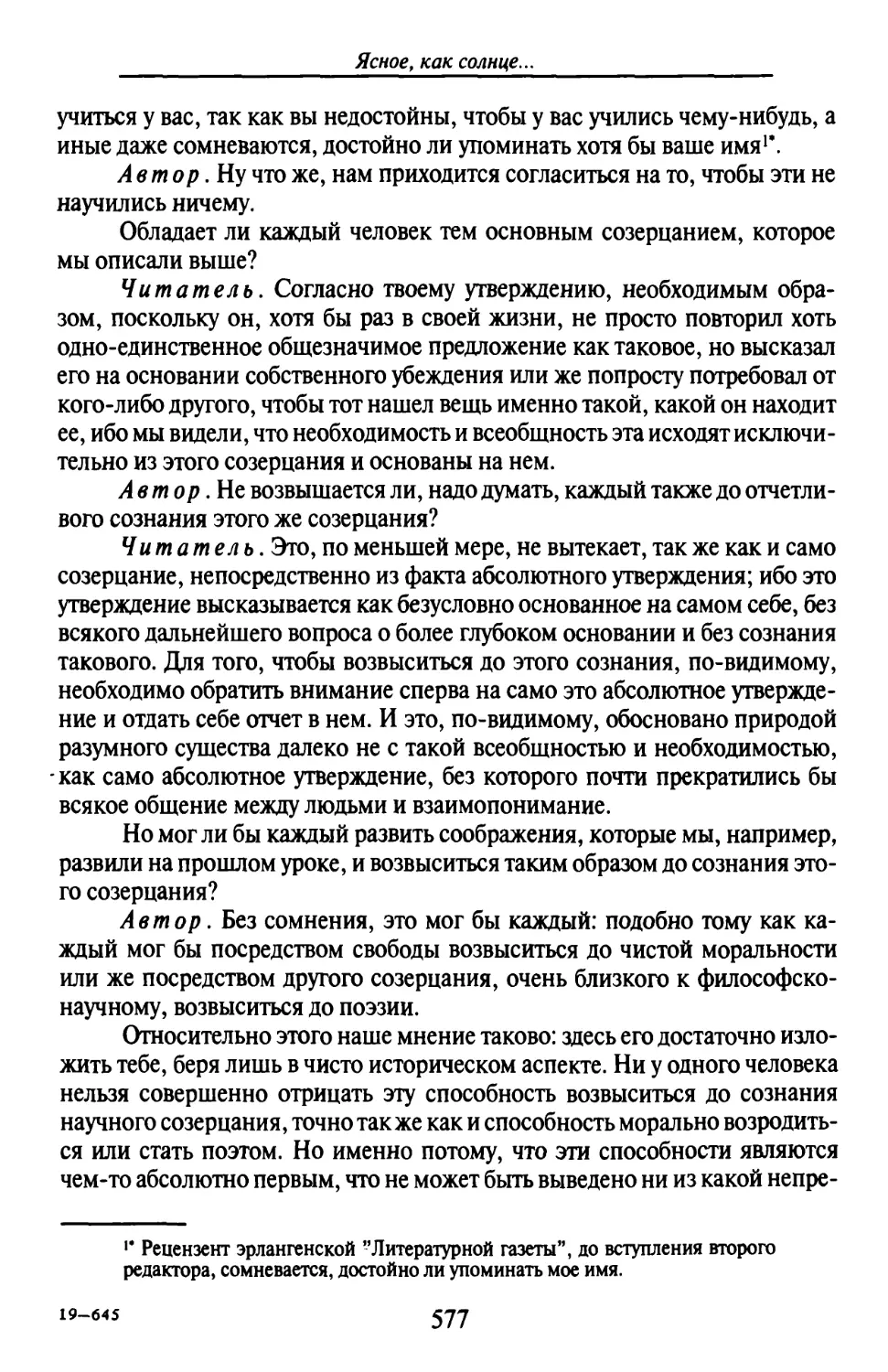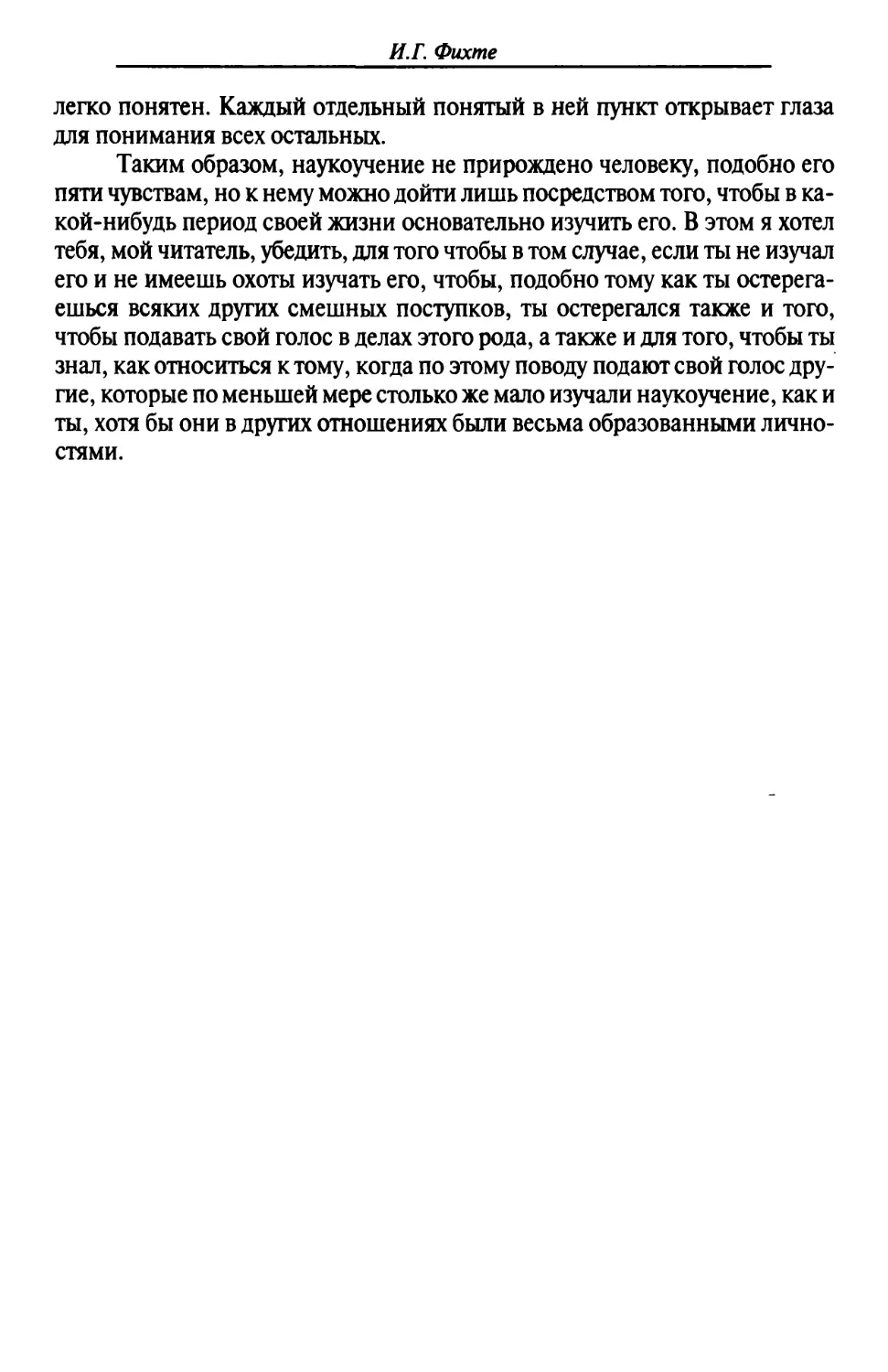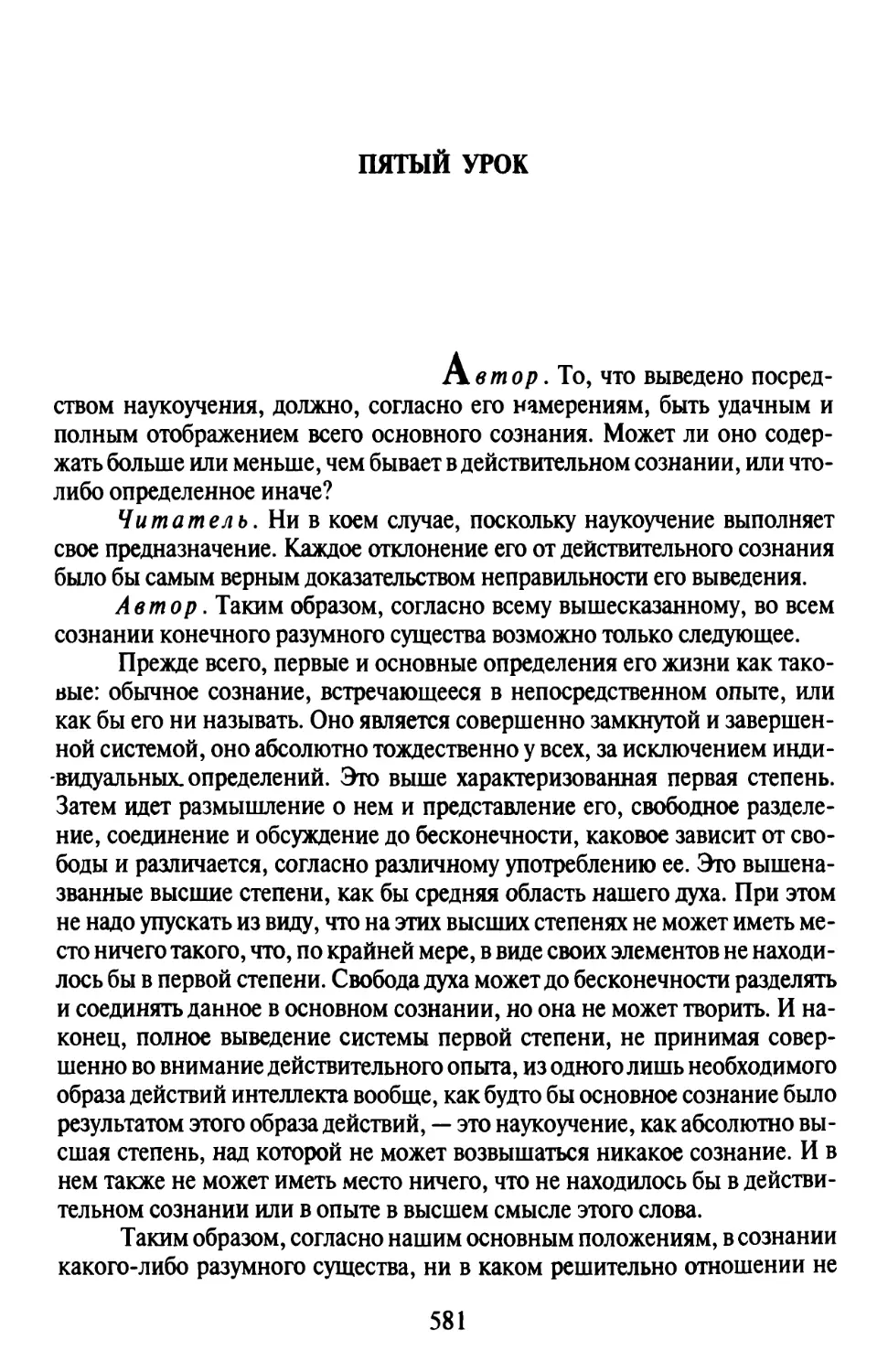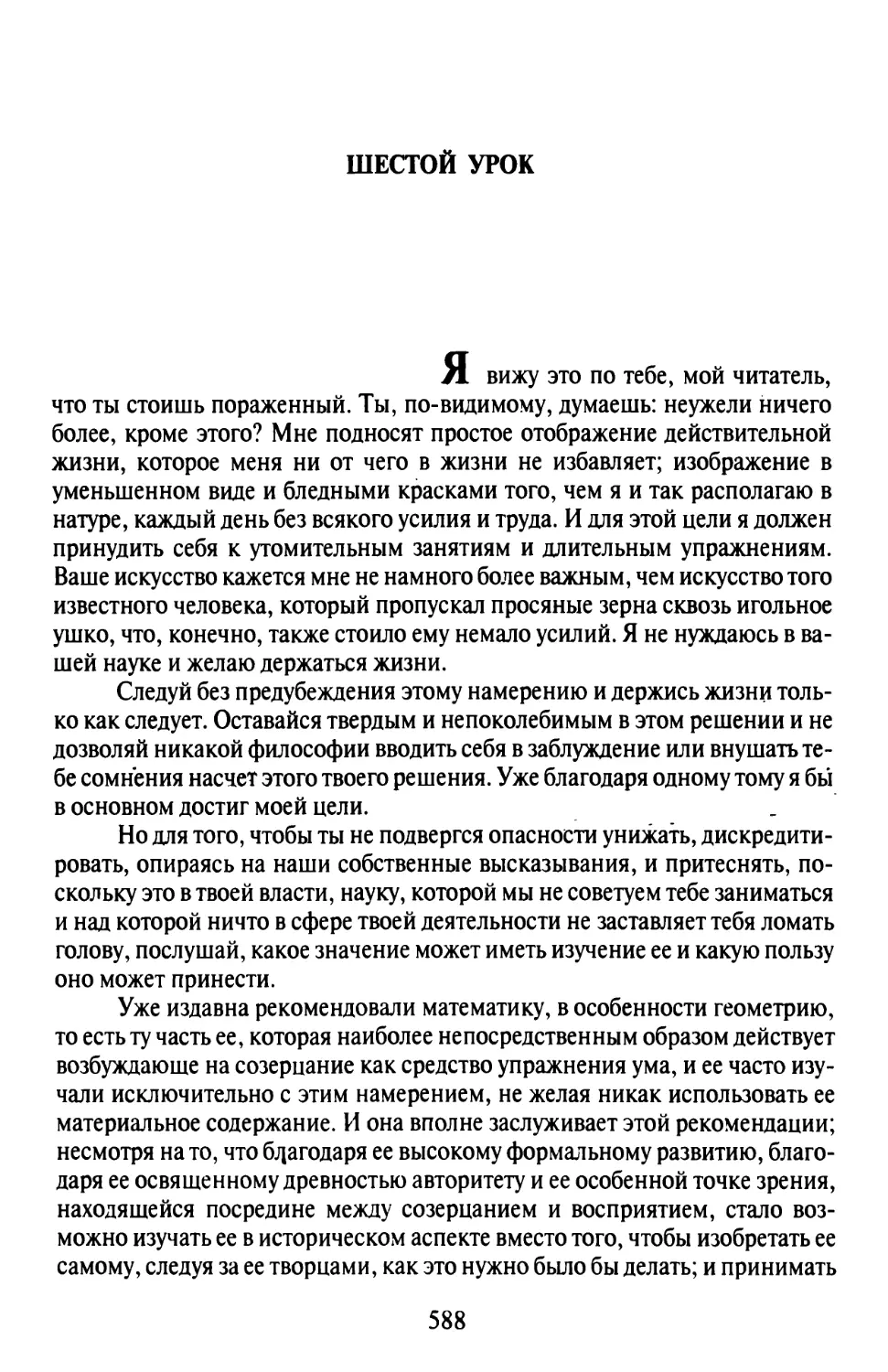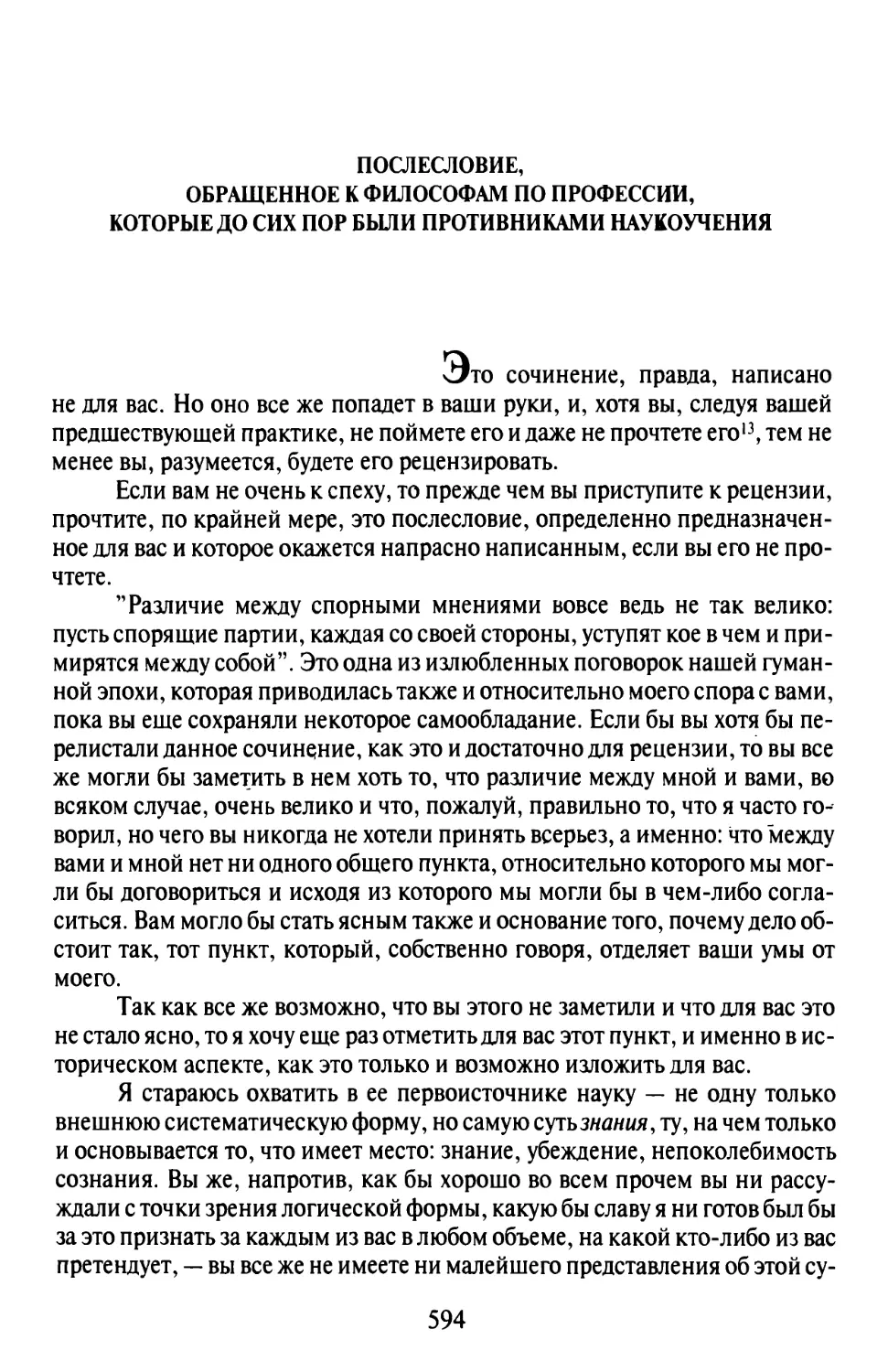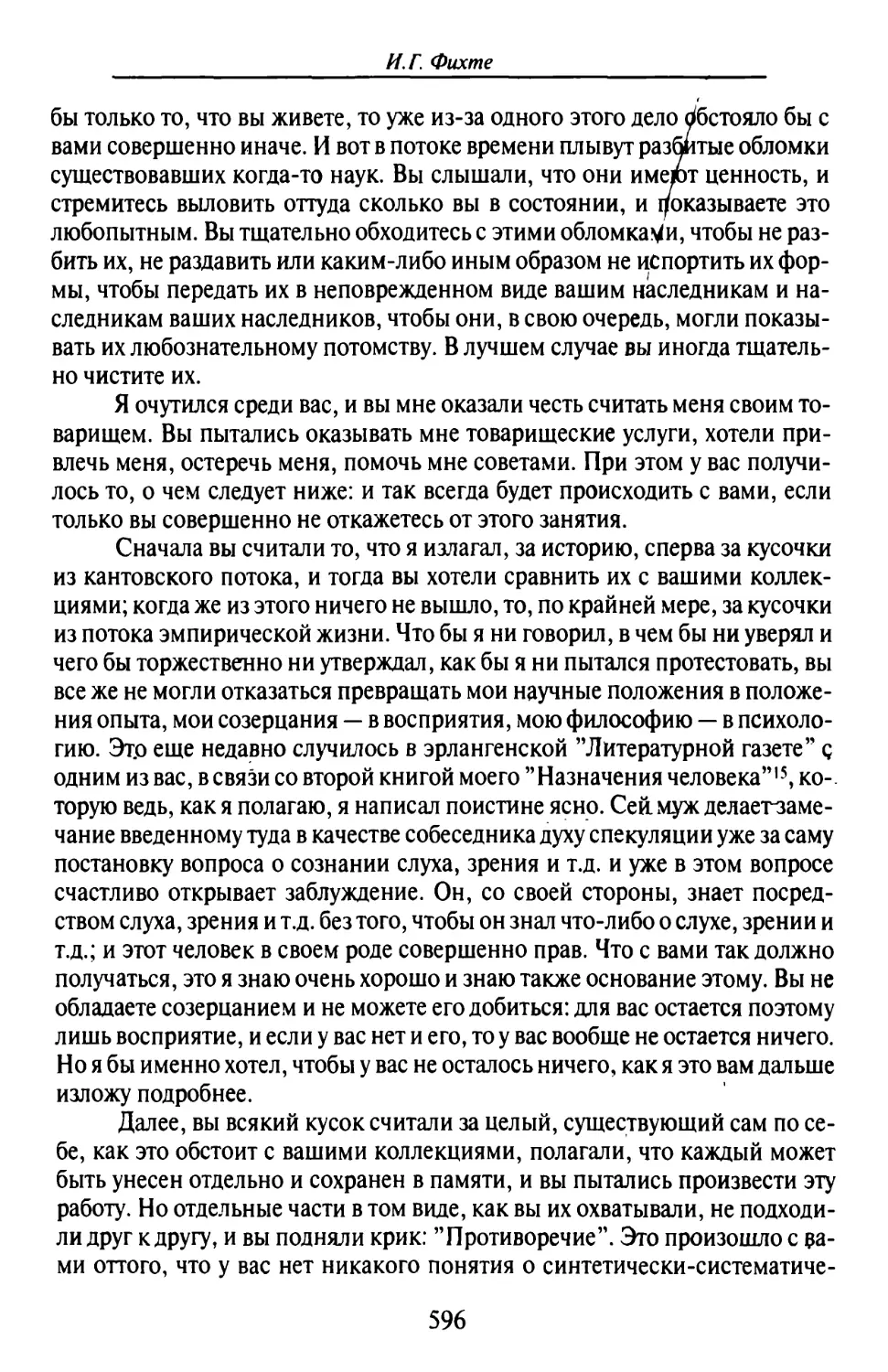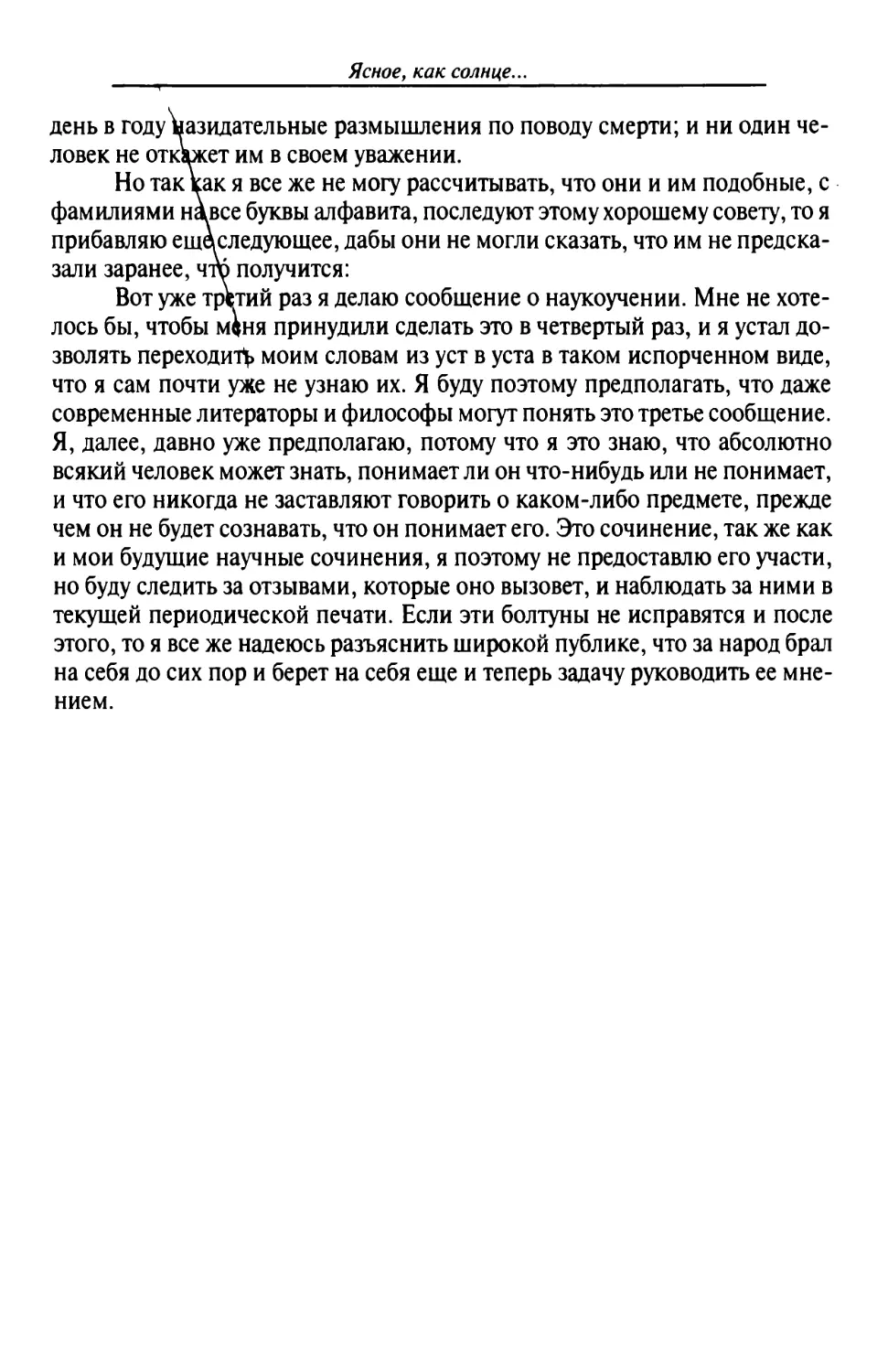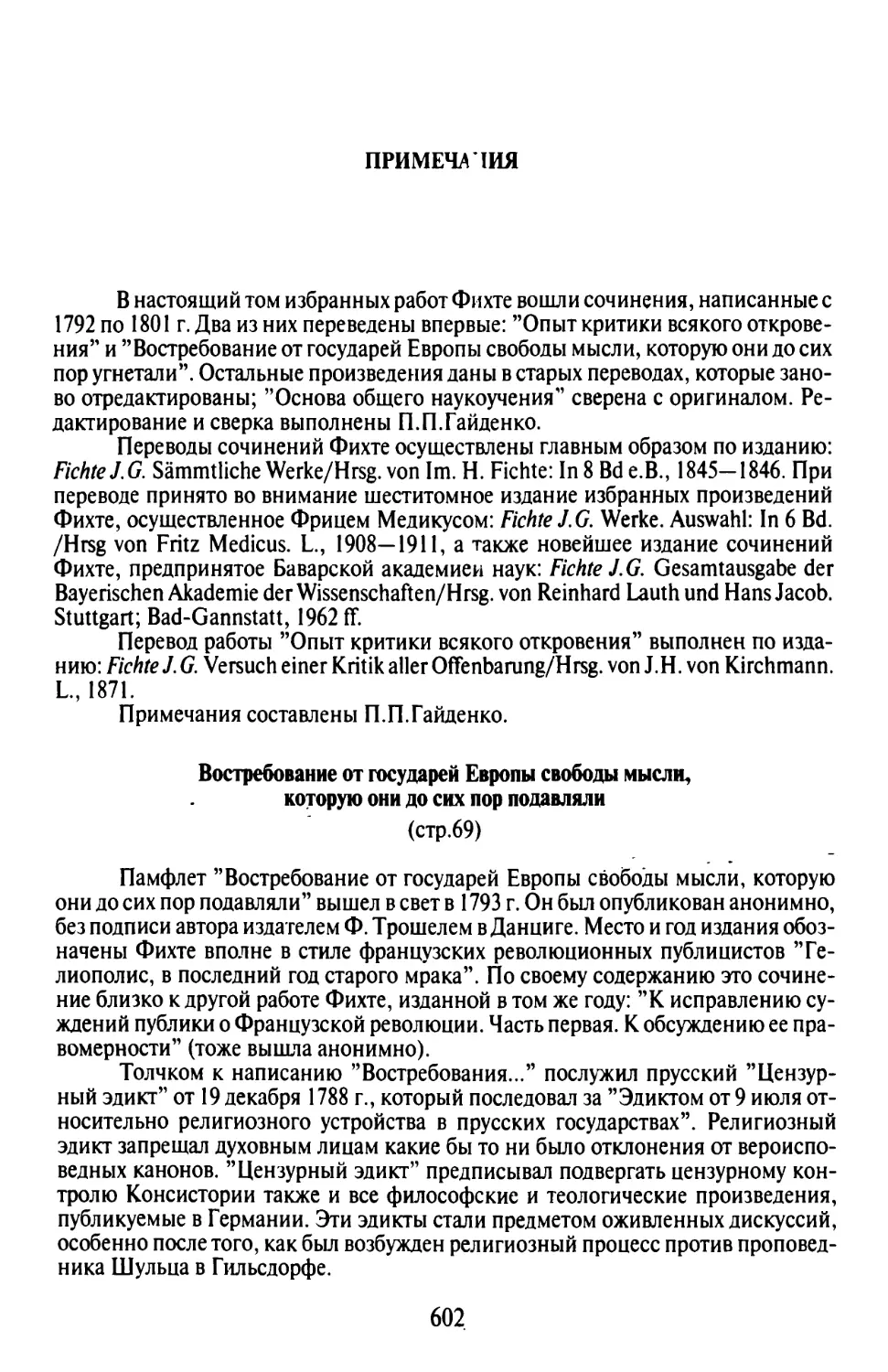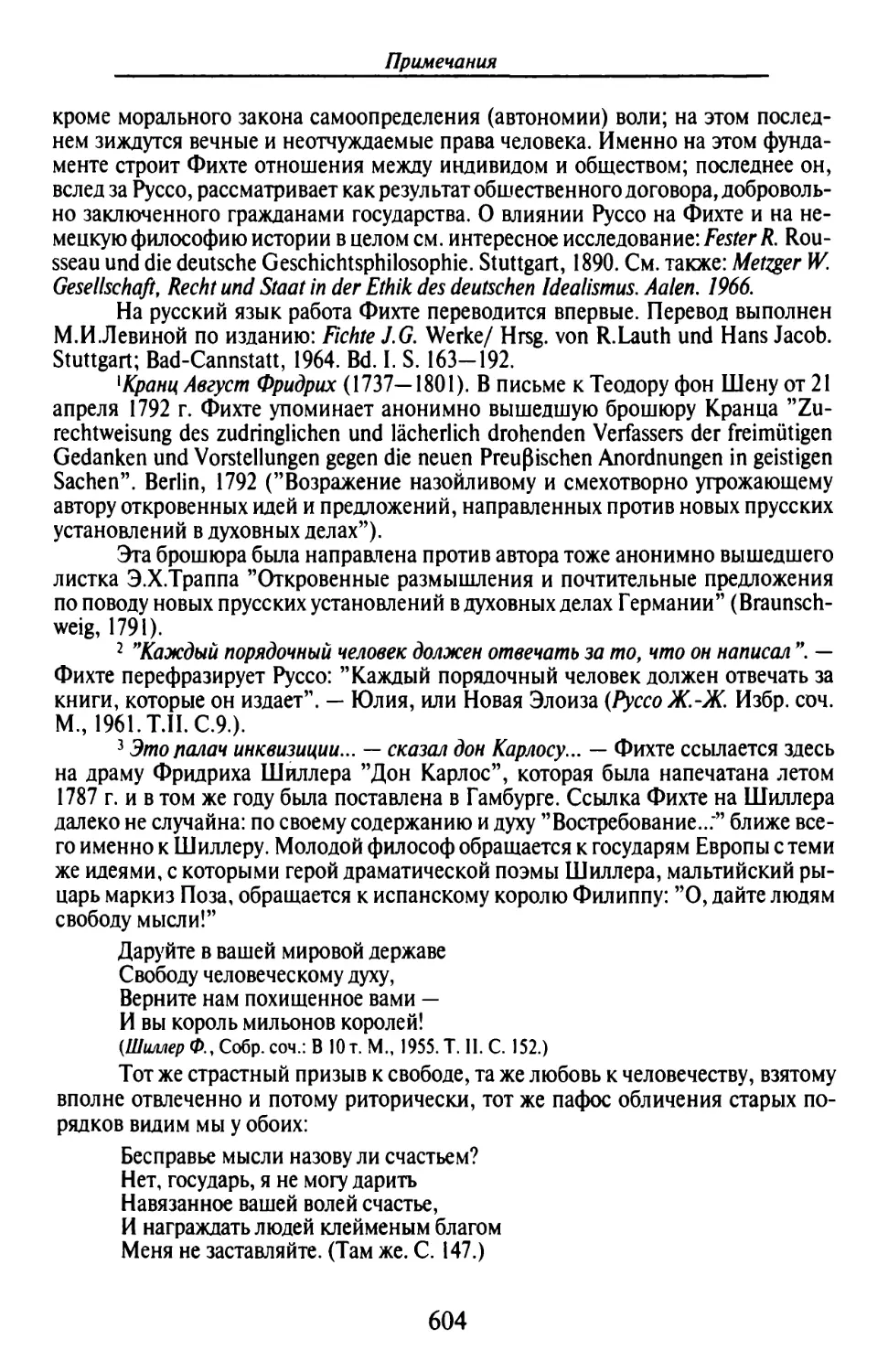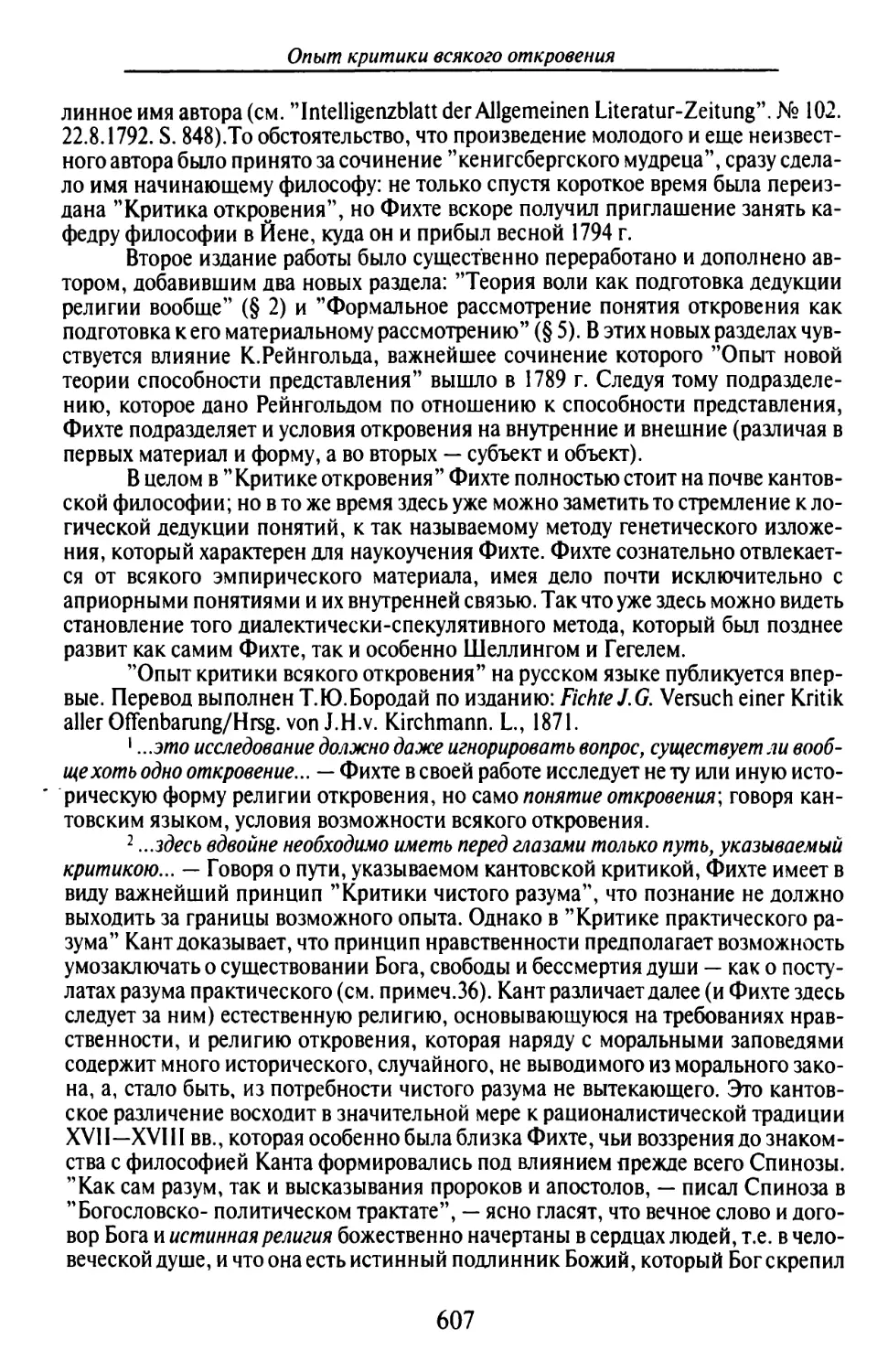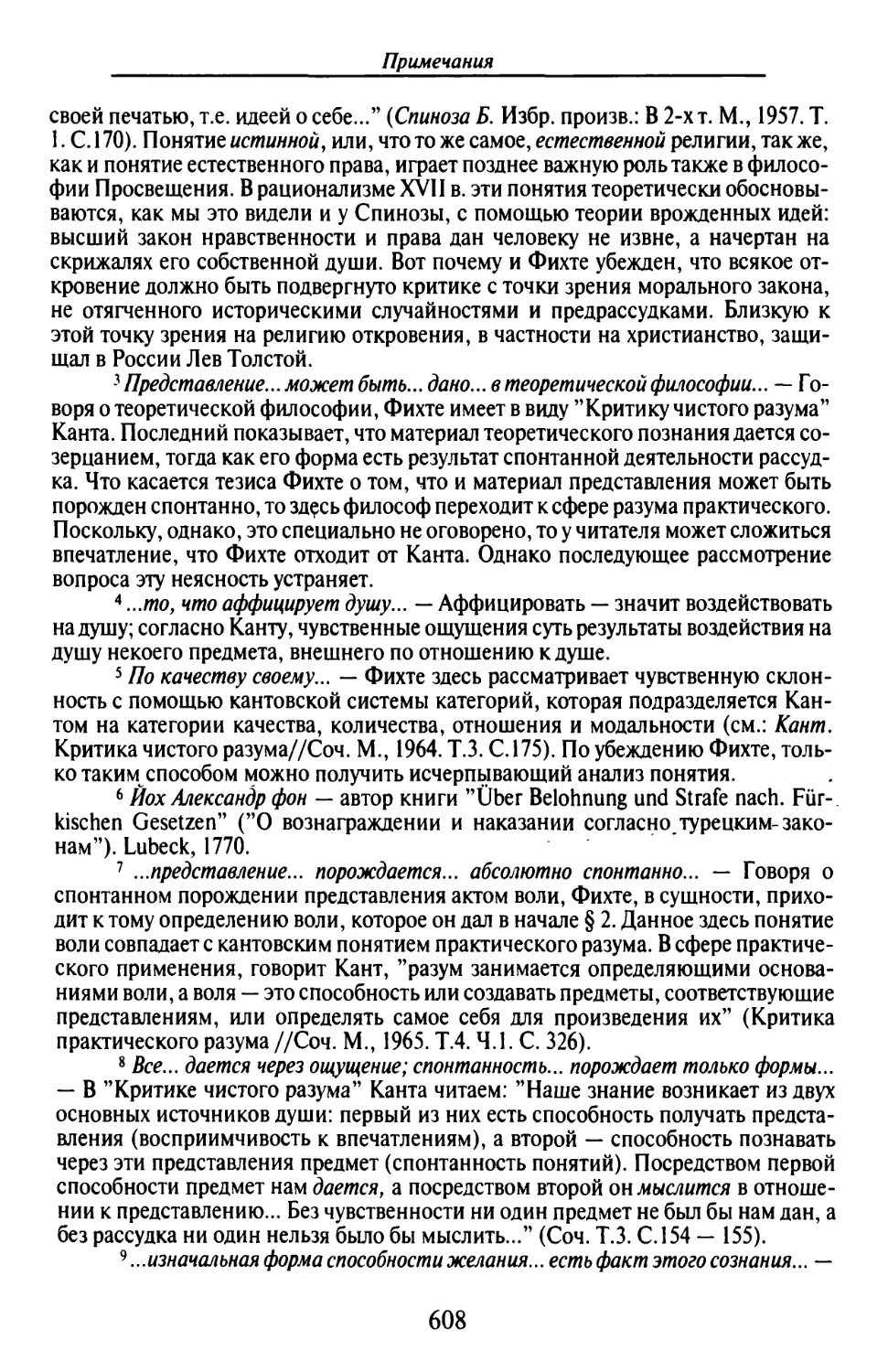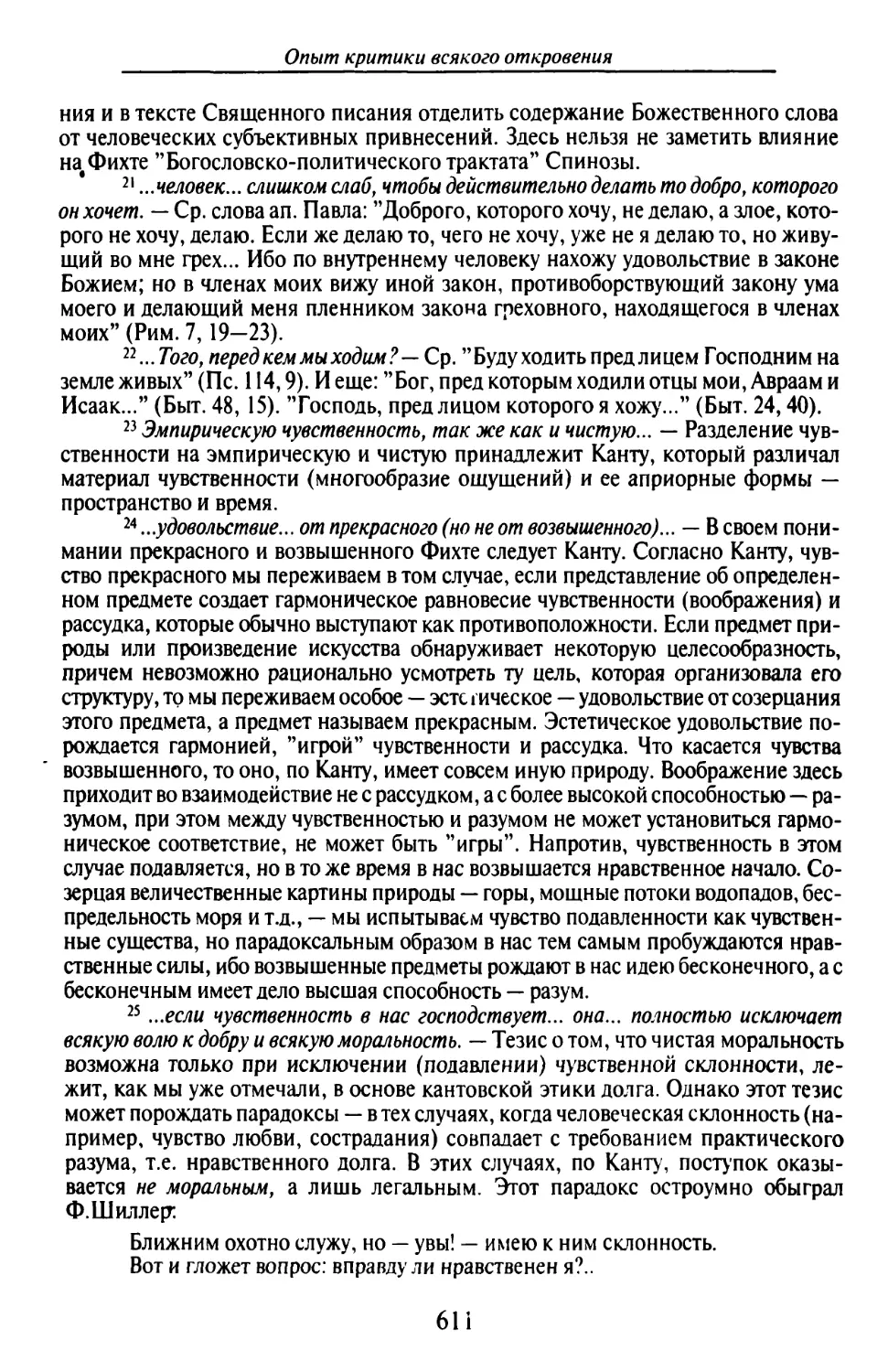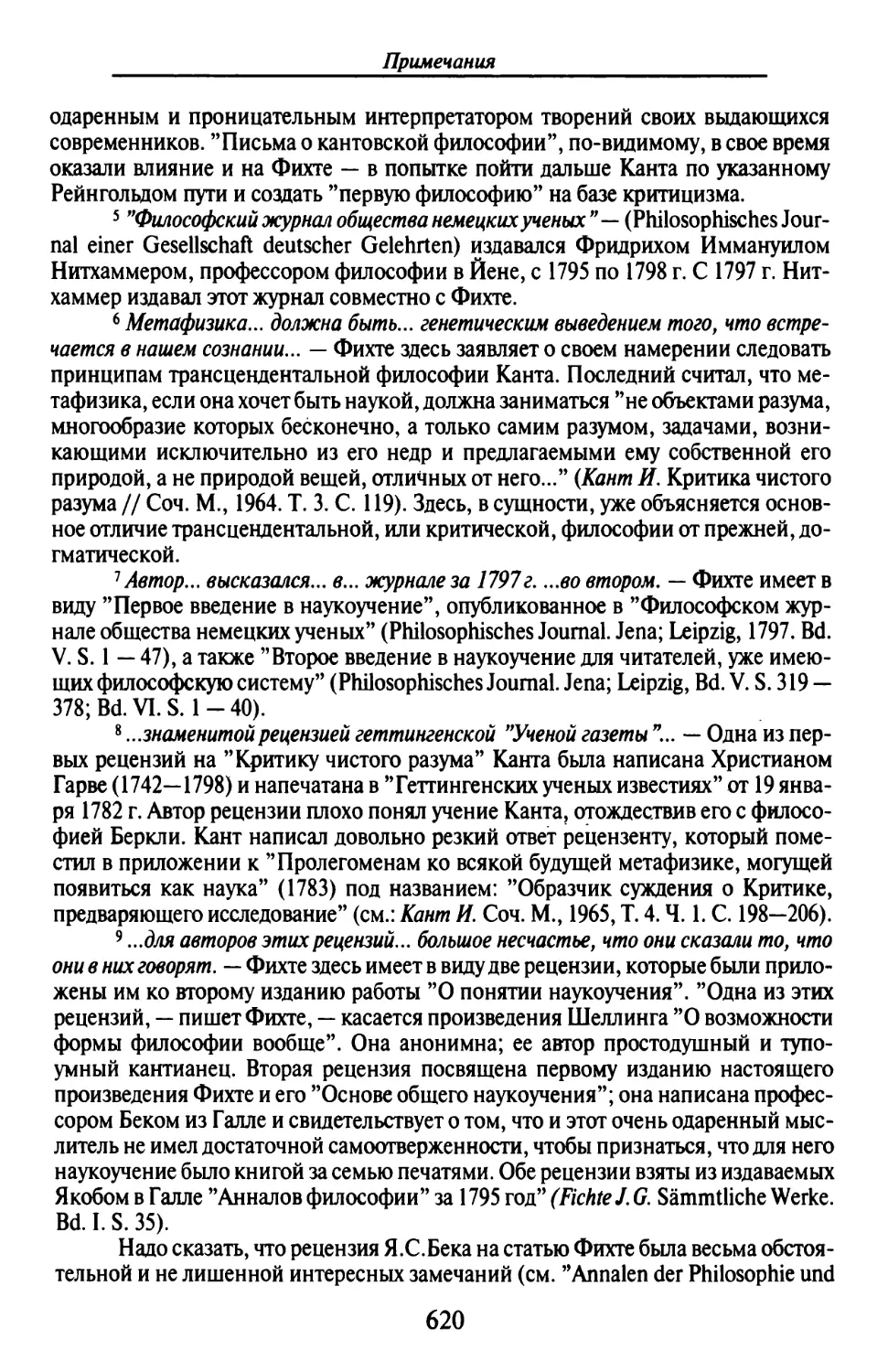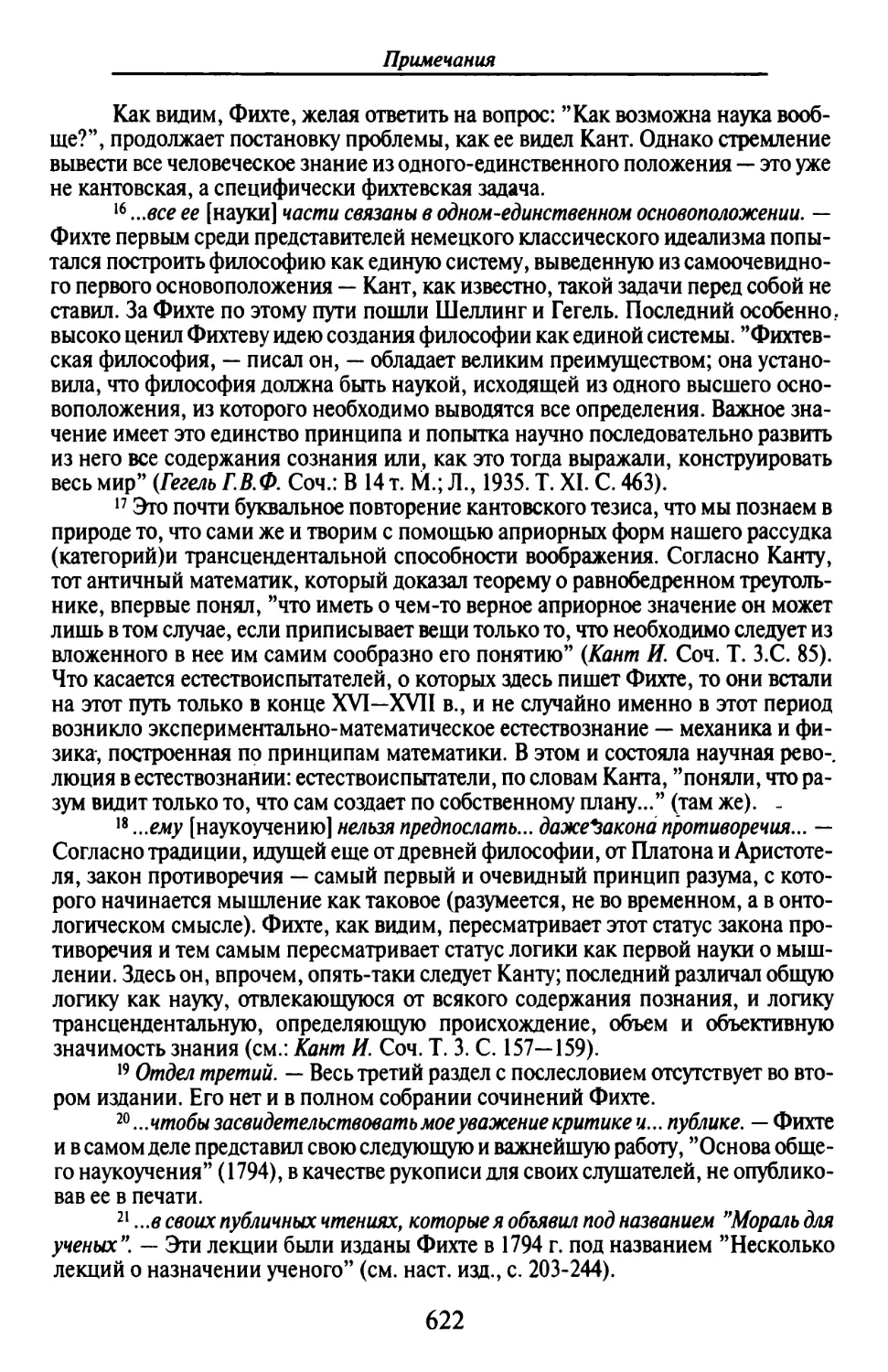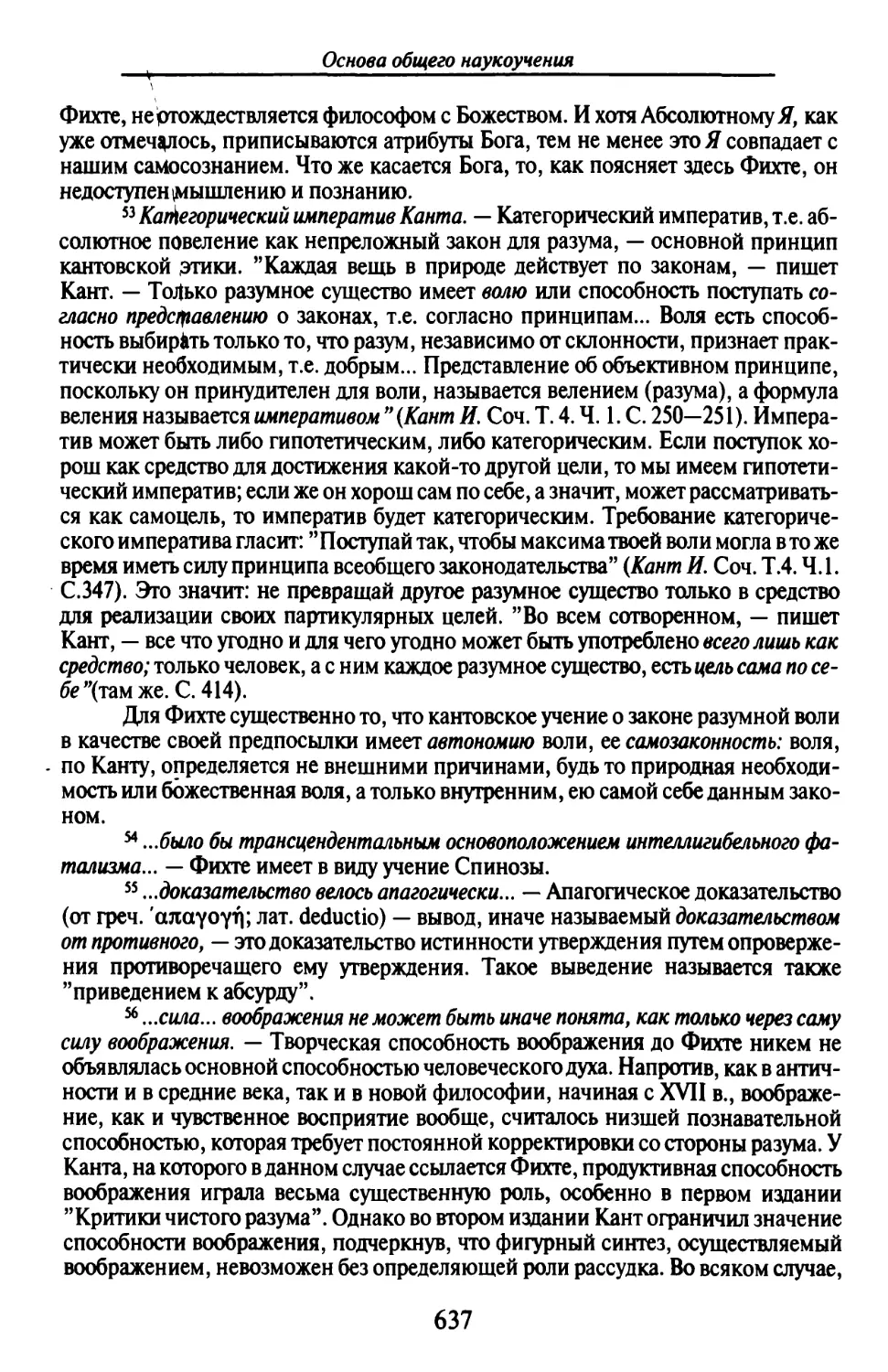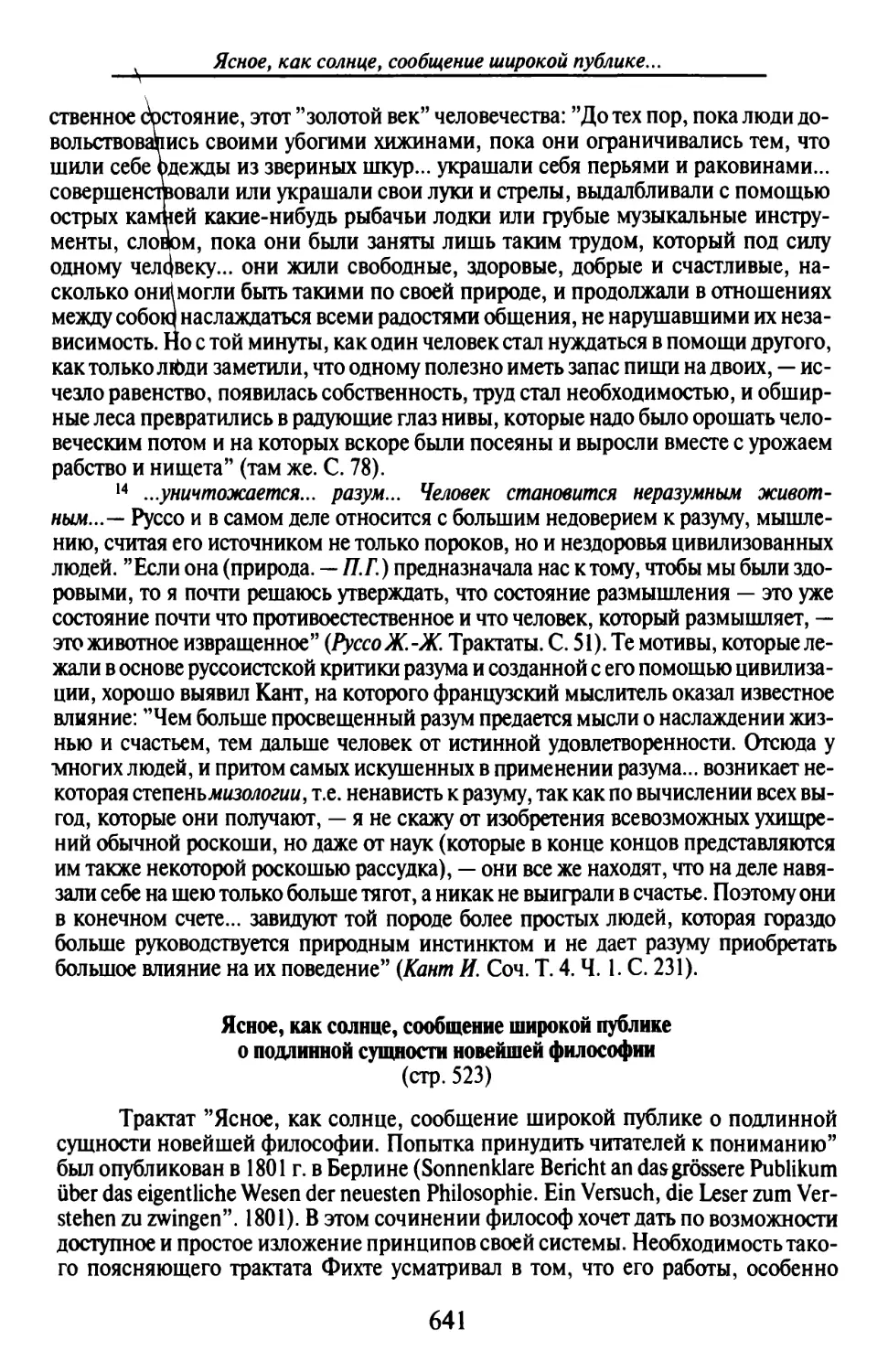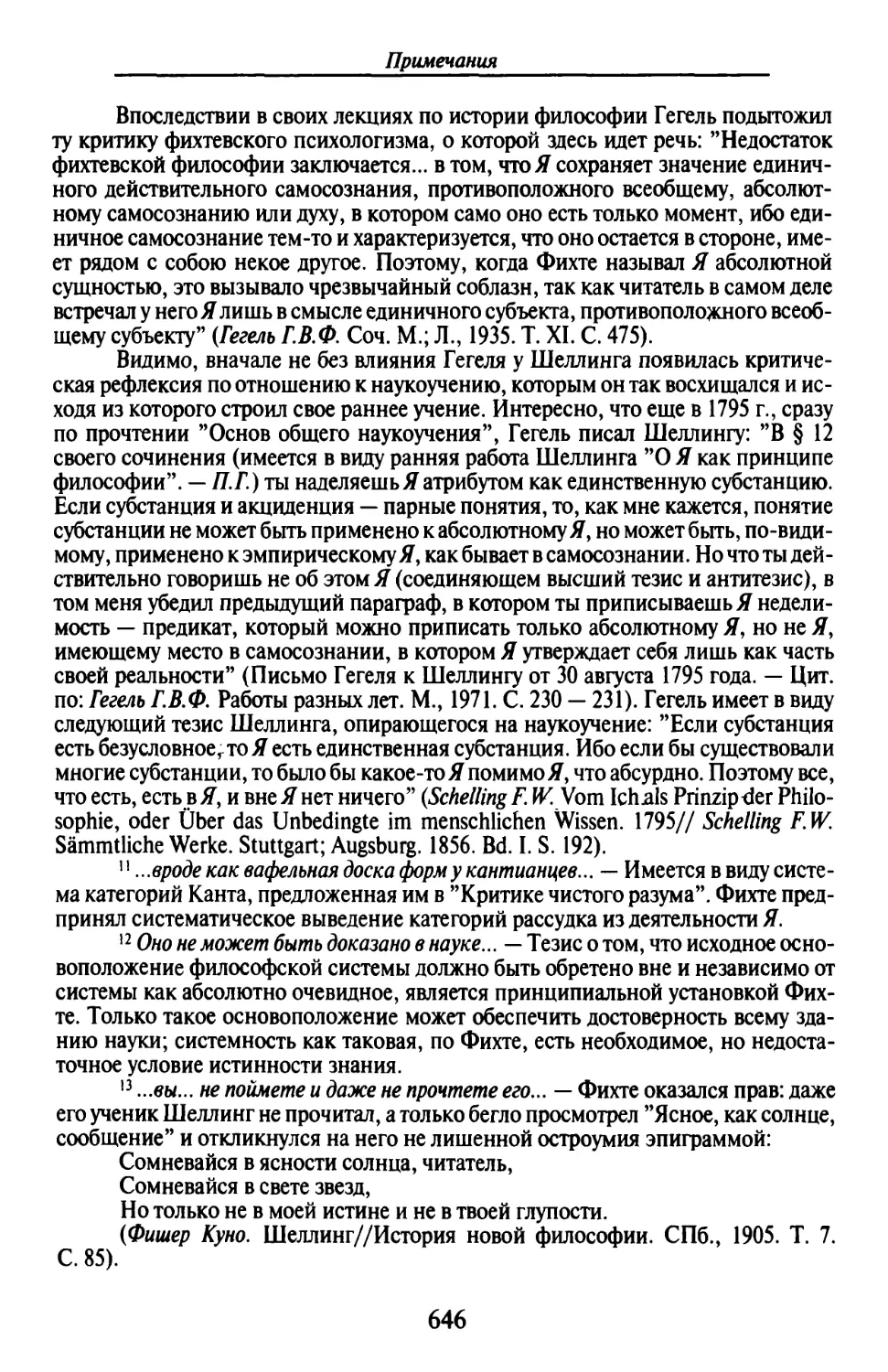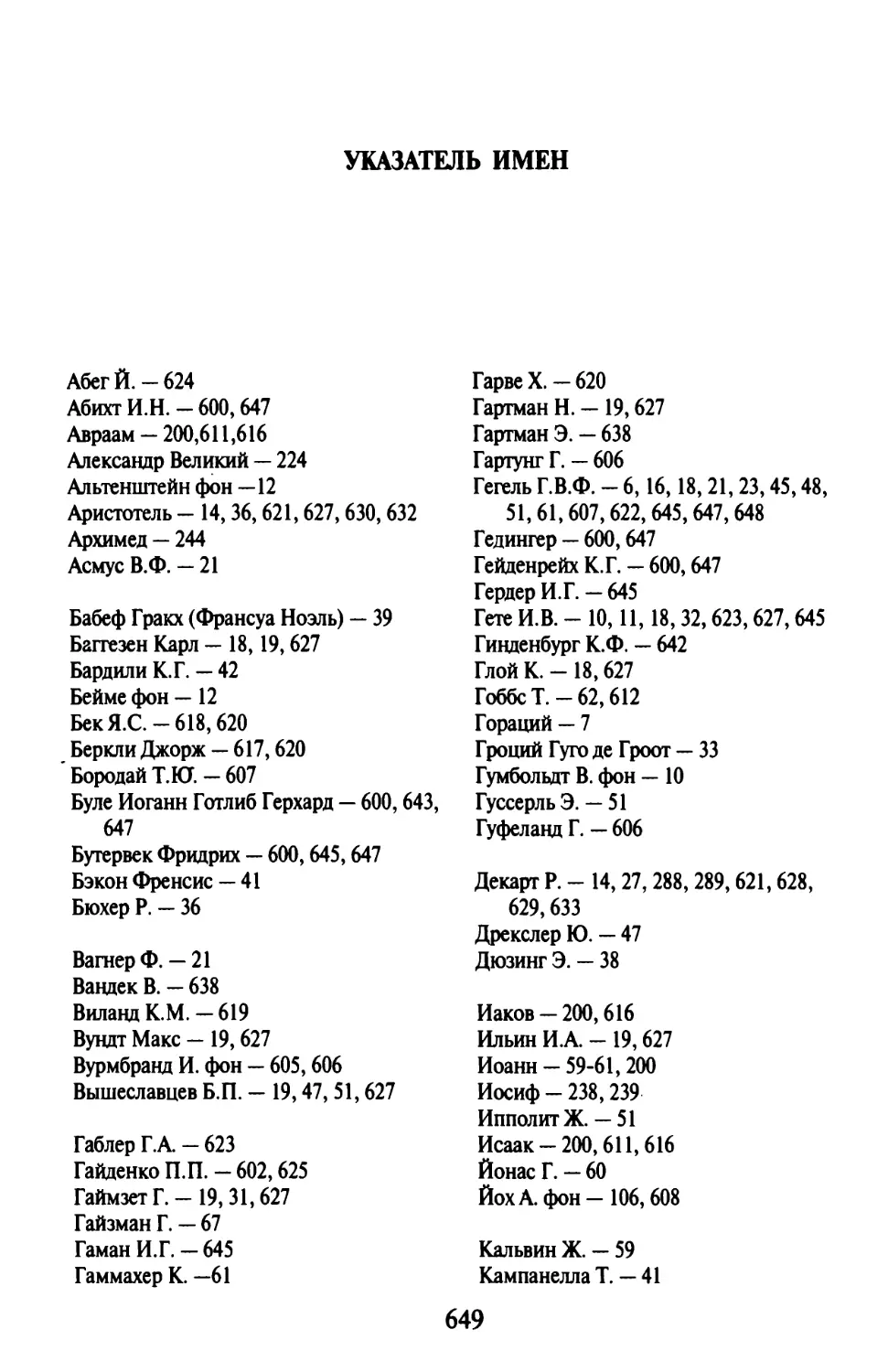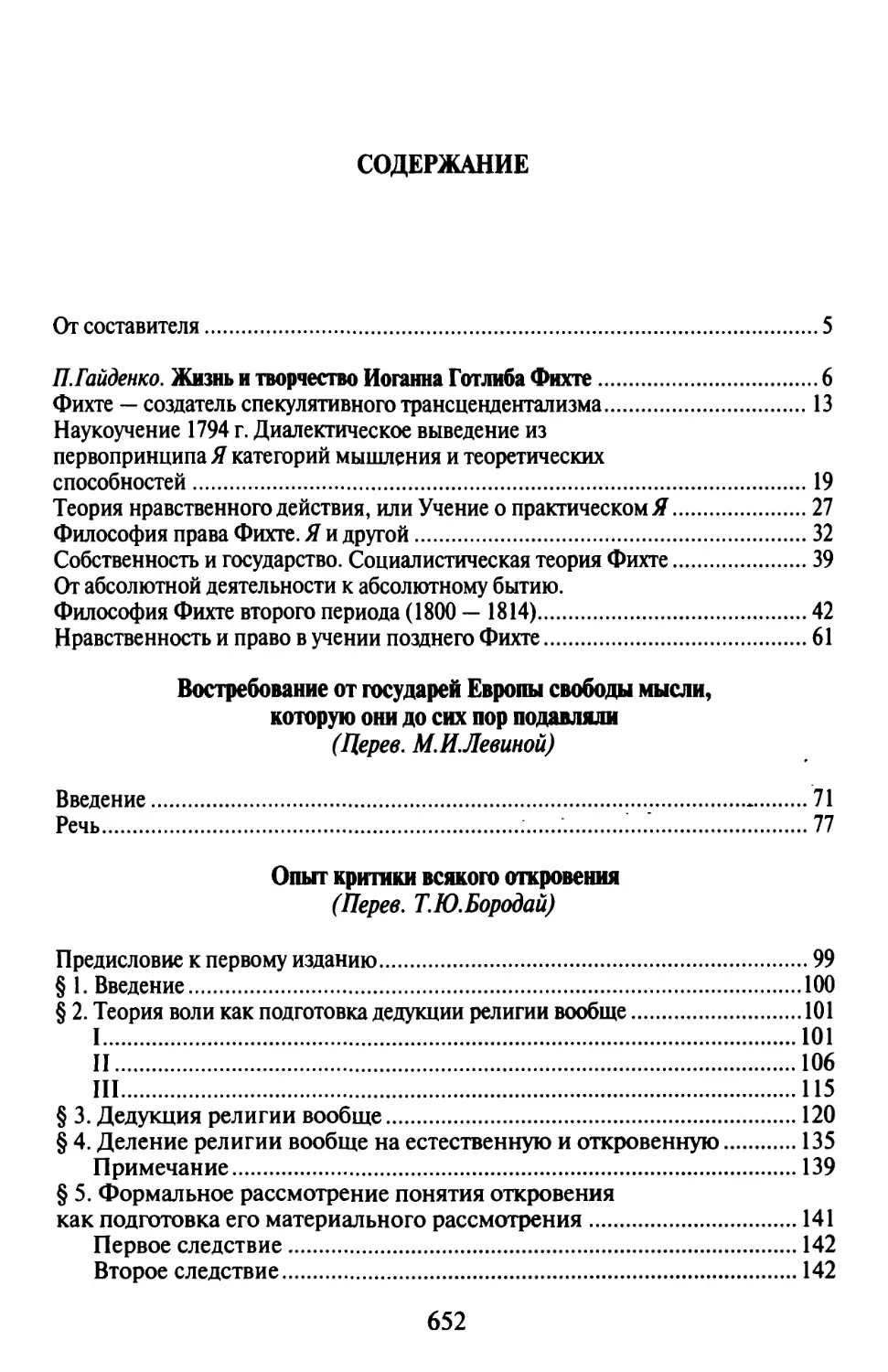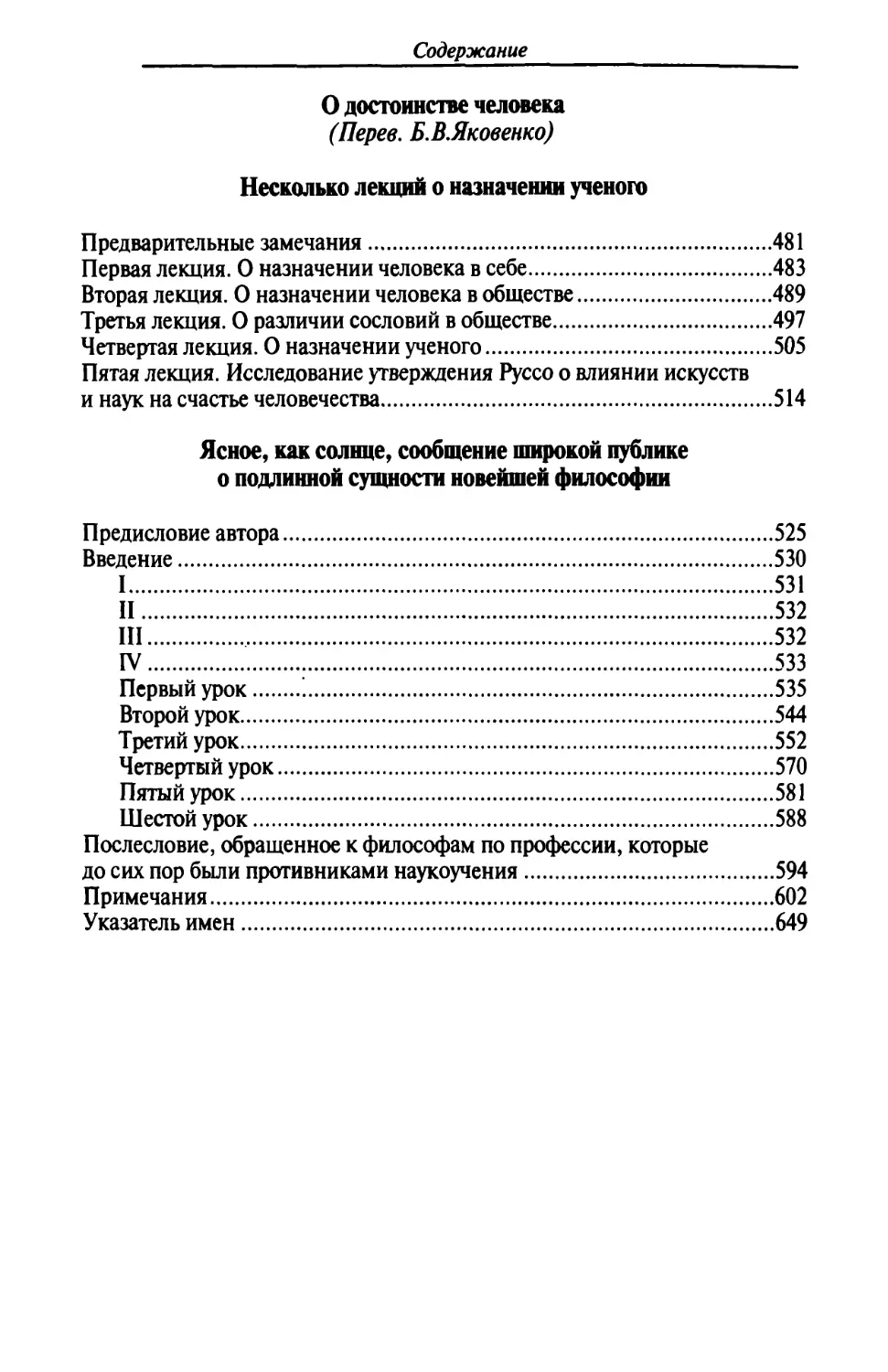Author: Готлиб И.
Tags: переводная литература фихте жизнеописание научно издательский центр ладомир классический идеолизм
Year: 1995
Text
Иоганн Готлиб
ФИХТЕ
СОЧИНЕНИЯ
Работы 1792 - 1801 гг.
Издание подготовлено
П. П. Гайденко
Научно-издательский центр «Ладомир»
Москва
1995
Johann Gottlieb
FICHTE
(1762-1814)
Составление, общая редакция,
вступительная статья и примечания
П.Гайденко
Переводы
М. Левиной, Т. Бородай, Л. Успенского, Б. Яковенко
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
В настоящее издание избранных
произведений Фихте включены важнейшие работы первого периода,
начиная с самых ранних — "Опыта критики всякого откровения" (1792) и
"Востребования от государей Европы свободы мысли, которую они до сих
пор подавляли" (1792) и кончая трактатом 1801 г. "Ясное, как солнце,
сообщение широкой публике об истинной сущности новейшей философии".
Ранними произведениями, в которых уже намечены мировоззренческие
отправные точки и теоретические контуры будущего учения,
предваряются сочинения 1794 г. — "О понятии наукоучения, или так называемой
философии", "Основа общего наукоучения", "О достоинстве человека", "О
назначении ученого". Именно в этом цикле сочинений Фихте впервые
изложил основные положения своей системы, которая затем
корректировалась и перерабатывалась философом во второй период. Некоторые
уточнения мы находим уже в "Ясном, как солнце..." трактате, замыкающем
книгу.
Часть публикуемых здесь произведений уже издавалась на русском
языке, но давно стала библиографической редкостью. Работы же 1792 г.
переведены впервые. Старые переводы отредактированы, часть из них
сверена с оригиналом. Все помещаемые в книге сочинения Фихте снабжены
научными комментариями.
В последующих двух томах избранных произведений предполагается
издать работы Фихте главным образом второго периода. К ним
принадлежат завершающая первый период "Система учения о нравственности
согласно принципам наукоучения" (1798), а также "Назначение человека"
(1800), "Замкнутое торговое государство" (1800), "Основные черты
современной эпохи" (1804— 1805), "Наставление к блаженной жизни, или
Учение о религии" (1806), "Наукоучение в его общих чертах" (1810) и "Факты
сознания" (1810—1811). Сюда же предполагается поместить наиболее
интересное из переписки Фихте. "Система учения о нравственности",
"Наставление к блаженной жизни" и переписка переведены впервые.
5
П.П.ГАЙДЕНКО
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО
ИОГАННА ГОТЛИБА ФИХТЕ
И оганнГотлиб Фихте (1762- 1814)
принадлежит к числу классиков философской мысли. Его идеи живы
сегодня, как и полтора столетия назад, и будут жить, пока существует
философия. Ибо, подобно великим произведениям искусства, памятники
философского гения не умирают. Фихте — непревзойденный аналитик
сознания и самосознания, этих ключевых понятий новоевропейской
философии. Творчество Фихте — важное звено в развитии немецкого
классического идеализма. Учение Фихте так же вырастает из трансцендентального
идеализма Канта, как системы Шеллинга и Гегеля — из наукоучения
Фихте. Системы этих философов настолько органично между собой связаны,
что — за исключением Канта, родоначальника трансцендентальной
философии, — не могут быть поняты вне этой связи. Каждая из них предлагает
решение тех проблем и затруднений, которые намечаются у
предшественника.
И тем не менее было бы большим заблуждением считать, что всякое
последующее во времени философское учение полностью превосходит-
предыдущее, "снимает" его, преодолевая его слабые стороны и развивая
заложенное в нем положительное содержание. Хотя такое-представление
льстит самолюбию каждого нового поколения философов, но оно же
составляет источник их духовной ограниченности. Так, например,
совершенно очевидно, что учение Гегеля отнюдь не решает тех проблем,
которые были поставлены Кантом, вопреки тому, что думал об этом сам Гегель
и многие его последователи. Кант и Гегель и сегодня спорят между собой, и
их спор о вещи в себе, о природе диалектики, о понимании человеческой
личности и нравственных ценностей не менее актуален в конце нашего
века, чем в начале прошлого.
В той мере, в какой Фихте примыкает к Канту и развивает его идеи,
он тоже существенно отличается от Гегеля. Но Фихте, конечно, далеко не
во всем продолжает Канта: он перестраивает критическую философию,
создавая свое учение, в центре которого — самосознание,
самодеятельность, свобода, диалектика абсолютного и конечного Я. Именно эта
диалектика подготовила почву для создания философских систем и Шеллинга
и Гегеля.
6
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
* * *
Иоганн Готлиб Фихте родился 19 мая 1762 г. в селе Рамменау (Обер-
лаузитц) в крестьянской семье. Его отец и дед были сельскими ткачами:
помимо сельского хозяйства, занимались кустарной выделкой лент. Фихте
был первенцем в семье, где, кроме него, росло еще семеро детей. Хотя у
мальчика рано обнаружились хорошие способности — живой ум и
отличная память, но семья Фихте была слишком бедной для того, чтобы дать
сыну образование. Помог счастливый случай. В Рамменау был
замечательный пастор, чьи проповеди привлекали не только жителей деревни, но и
многочисленных соседей из окрестных мест. Маленький Фихте любил эти
проповеди, и пастор нередко занимался с ним, поясняя то, что ребенку
было непонятно.
Однажды богатый соседний помещик, барон фон Мильтиц, приехал
в Рамменау к родственникам, желая послушать знаменитого пастора, но
опоздал и застал лишь самый конец проповеди. Ему, однако, сказали, что
есть мальчик, который может воспроизвести проповедь. Каково же было
удивление фон Мильтица, когда и в самом деле восьмилетний Фихте почти
дословно повторил проповедь, и притом не только осмысленно, но и с
большим воодушевлением — вот с каких ранних лет проснулся в будущем
философе дар проповедника! Восхищенный барон решил дать мальчику
образование: устроил его в школу и взял на себя расходы по обучению.
Фихте окончил городскую школу в Мейссене и в 1774 г. был принят в
закрытое дворянское учебное заведение — Пфорту. В 1780 г. Фихте поступил
на теологический факультет Йенского университета.
Однако бедность давала о себе знать. Хотя семья фон Мильтица,
умершего вскоре после поступления Фихте в Пфорту, помогала ему вплоть
до первых лет учебы в университете, однако помощь эта была
недостаточной; чтобы продолжать учебу, Фихте вынужден был давать частные уроки,
что отнимало у него много времени и мешало вовремя сдавать экзамены.
Фихте переезжает из Йены в Лейпциг, но затем, не имея средств окончить
университет, оставляет учебу и с 1784 г. работает в качестве домашнего
учителя в разных семействах Саксонии.
С сентября 1788 г. Фихте получает место домашнего учителя в
Цюрихе, где с увлечением погружается в изучение языков: переводит всего Сал-
люстия, несколько од Горация, кое-что из Руссо и Монтескье, пишет
статью о "Мессии" Клопштока. В Цюрихе Фихте знакомится со своей
будущей женой, Иоганной Ран, племянницей Клопштока, происходит
помолвка. Однако женитьба молодых людей несколько лет откладывается:
обстоятельства им не очень благоприятствуют. Наконец, в октябре 1793 г.
Фихте женится на своей невесте, в которой обретает до конца дней духовно
7
П. П. Гайденко
близкую и преданную подругу. Небольшое состояние жены открывает
теперь для него возможность заняться любимым делом — философией — без
постоянной необходимости заботиться о хлебе насущном.
А стремление предаться философским размышлениям у Фихте с
каждым годом возрастало. Еще в 1790 г. он открыл для себя сочинения Канта,
и они полностью захватили его. "Я посвящу этой философии по меньшей
мере несколько лет моей жизни, — писал Фихте невесте, — и все, что я
отныне в течение нескольких лет буду писать, будет только о ней. Она
невероятно трудна, и ее непременно нужно сделать более легкой" К По словам
философа, он теперь не хочет ничего иного, кроме как по возможности
более популярно изложить принципы кантовской философии и с помощью
красноречия добиться их воздействия на человеческое сердце2. Именно в
этом настроении летом 1792 г. Фихте приезжает в Кенигсберг и в течение
месяца пишет свою первую большую работу — "Критика всякого
откровения", где развивает идеи Канта применительно к теологии. Послав
рукопись на отзыв Канту, Фихте получает его одобрение и поддержку,
благодаря которой работа быстро выходит в свет, а ее автор обретает широкую
известность в философских кругах. Отчасти этой известностью Фихте опять-
таки обязан счастливой случайности: книга появилась без указания имени
автора, и читатели приписали ее авторство самому Канту. Последнему
пришлось устранить недоразумение и назвать имя молодого начинающего
философа: последний тем самым сразу же попал в ряд выдающихся ученых
и в конце 1793 г. получил приглашение занять кафедру философии в Йене.
В течение двух лет — 1792 и 1793 гг. — Фихте много и плодотворно
работал и над другой темой, которая давно занимала его. Тема эта —
Французская революция, которая в тот период была предметом всеобщего
интереса и обсуждения в Германии, как, впрочем, и во всей Европе.
Первоначальное воодушевление, вызванное событиями 1789 г., впоследствии, по
мере нарастания террора, особенно в 1793 г., сменилось вполне понятным
неприятием и осуждением. В 1792 г. Фихте пишет статью "Востребование
от государей Европы свободы мысли, которую они до сих пор угнетали", а
вслед за ней, уже в 1793 г., — большое сочинение, название которого
говорит само за себя: "К исправлению суждений публики о Французской
революции. Часть первая: к обсуждению ее правомерности". Обе работы
вышли анонимно, без подписи автора. В них Фихте защищает идеи
Французской революции, прежде всего право на свободу мысли как одно из
неотчуждаемых прав человека, которое составляет важнейшее условие духовного
развития личности, и намечает ряд проблем философии права и государст-
1 J.G.Fichte's Leben und literarischer Briefwechsel/Hrsg.von seinem Sohne I.H.
Fichte.2-e Aufl. L., 1862. Bd.I. S.81.
4bid.,S.83.
8
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
ва, ставших впоследствии одним из центральных предметов исследования
философа. Оба сочинения получили широкий резонанс в печати; имя
автора недолго оставалось неизвестным, и революционно-демократические
настроения молодого Фихте были восприняты в разных общественных
кругах далеко не однозначно.
Таким образом, когда Фихте весной 1794 г. приехал в Йену, чтобы
занять предложенную ему кафедру философии, которая освобождалась его
предшественником Карлом Рейнгольдом в связи с переходом в Киль, его
имя было достаточно хорошо известно и привлекло на его лекции большое
число слушателей. Публичные лекции Фихте, посвященные теме
"Назначение ученого", посещало так много людей, что большая аудитория Йен-
ского университета не могла вместить всех желающих. Вот что сообщал
Фихте своей жене, еще не переехавшей к нему в Йену: "В прошлую
пятницу я читал свою первую публичную лекцию. Самая большая аудитория
Йены оказалась слишком тесной; вход и двор были полны народа; сидели и
стояли на столах и скамьях, тесня друг друга... Теперь я могу сказать с еще
большей уверенностью, что все приняли меня с распростертыми
объятиями, и очень многие достойные люди желают лично со мной
познакомиться. Этим я обязан отчасти моей известности, которая в действительности
гораздо больше, чем я думал..."3
Молодых слушателей увлекал пафос Фихте, резко критиковавшего
старые феодальные порядки во имя разума и свободы: "Всякий,
считающий себя господином других, сам раб. Если он и не всегда действительно
является таковым, то у него все же рабская душа, и перед первым
попавшимся более сильным, который его поработит, он будет гнусно ползать...
Только тот свободен, кто хочет все вокруг себя сделать свободным..." 4
Идеи Просвещения, как видим, нашли в лице Фихте своего защитника.
Однако эти идеи получили в творчестве немецкого философа
неожиданную трансформацию: из сферы социально-политической они были
перенесены в сферу умозрительно-спекулятивную, где дали новые и богатые
плоды.
Кроме публичных, Фихте читал и курс частных лекций,
предназначенных уже не для широкой публики, а для студентов, которым он излагал
содержание своей системы. Программа этого курса была предварительно
подготовлена и напечатана под заголовком: "О понятии наукоучения, или
так называемой философии". Лекции Фихте составили содержание его
важнейшего сочинения первого периода — "Основы общего
наукоучения", которое печаталось отдельными листами по ходу чтения лекций
3 Fichte's Leben und literarischer Briefwechsel. Bd.I. S.211-212.
4 Фихте И.Г. О назначении ученого (M. 1935. С.79-80.) См.наст.изд. С.481
9
П.П. Гайденко
и было предназначено для слушателей. Несмотря на то, что наукоучение
было весьма трудным для понимания и вызывало много вопросов не
только у студентов, но и у коллег-философов, дидактический дар и ораторское
искусство Фихте облегчало восприятие сложного построения.
Йенский период в творчестве Фихте был очень продуктивным: им
был написан, помимо названных, еще ряд исследований, в том числе две
большие работы — "Основы естественного права согласно принципам
наукоучения" (1796) и "Система учения о нравственности согласно
принципам наукоучения" (1798). В этих произведениях получили свое
обоснование и развитие те идеи, контуры которых были намечены в сочинениях
1792 — 1793 гг., посвященных Французской революции.
В 1795 г. Фихте вместе со своим другом Ф.И.Нитхаммером, тоже
профессором философии в Йене, стал издавать "Философский журнал
общества немецких ученых", в котором публиковались многие работы
самого Фихте и близких ему философов. Так, в 1797 г. в этом журнале были
опубликованы, в частности, "Первое введение в наукоучение" и "Второе
введение в наукоучение для читателей, уже имеющих философскую систему";
здесь Фихте разъяснял принципы наукоучения и указывал путеводную
нить для понимания своей системы.
Йенский период был, пожалуй, самым счастливым в жизни Фихте.
Его известность и влияние росли. Выдающиеся умы стали приверженцами
наукоучения, среди них — Карл Рейнгольд, уже знаменитый философ, и
молодой Фридрих Шеллинг, восторженно приветствовавший новую
систему и объявивший себя учеником Фихте. Уважение и признание Фихте
приобрел у таких людей, как Гете, Якоби, Вильгельм фон Гумбольдт,
братья Фридрих и Август Шлегели, Шиллер, Тик, Новалис. Романтики Йен-
ской школы создавали свои культурно-исторические и эстетические
теории под непосредственным влиянием наукоучения. И материальная
сторона жизни Фихте теперь тоже была обеспечена. Вначале, правда, его
жалованье сверхштатного профессора не превышало 200 талеров в год: на его
приватный курс записалось сперва только 26 студентов. Однако к концу
первого семестра число слушателей возросло до 60, а во втором семестре —
до 200. Вместе с гонорарами за свои сочинения Фихте получал теперь до
3000 талеров в год; часть денег он отсылал родственникам в Рамменау, а в
1797 г. смог даже купить себе дом в Йене.
Однако кипучая деятельность молодого профессора была
неожиданно прервана. В 1798 г. возник так называемый "спор об атеизме",
переросший в общественный скандал, в результате чего весной 1799 г. Фихте был
вынужден подать в отставку. Поводом к обвинению Фихте в атеизме
послужила публикация в 1798 г. в "Философском журнале" статьи одного из
10
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
слушателей Фихте Форберга "О развитии понятия религии", с которой
Фихте как редактор журнала был не во всем согласен, а потому сопроводил
ее своей статьей — "Об основании нашей веры в божественное миропра-
вление". И Форберг и Фихте опирались на предложенное Кантом
моральное обоснование религии. При этом Форберг доказывал, что религия
вообще не есть вера, что она даже не нуждается в понятии Бога и сводится, в
сущности, к добрым поступкам, а потому может получить лишь
моральную санкцию и, значит, вполне совместима с атеизмом. Соглашаясь с
Форбергом в том, что сущность религии — в нравственных поступках,
Фихте, однако, подчеркивал, что такие поступки требуют веры в
сверхчувственный миропорядок, который является, по убеждению философа,
подлинным предметом религиозной веры.
Вскоре после выхода журнала появилась анонимная брошюра с
характерным названием: "Послание одного отца своему сыну-студенту о
фихтевском и форберговском атеизме". Автор брошюры не захотел
замечать различия между атеизмом Форберга и религиозным пантеизмом
Фихте и в грубой форме обрушился на безбожный образ мыслей,
пропагандируемый "Философским журналом", имеющим дурное влияние на нравы и
опасным для молодежи.
Брошюра наделала много шума; обнаружилось, что у Фихте есть
немало недоброжелателей, которые раздували разразившийся скандал.
Саксонское правительство предписало конфисковать "Философский
журнал", запретить его дальнейшее издание и наказать издателей. Фихте был
вынужден публично оправдываться; он написал "Судебную
оправдательную записку по обвинению в атеизме", которая, однако, благодаря
полемическому темпераменту философа и его чувству независимости скорее
сама превратилась в обвинение против его оппонента. Все попытки друзей
и высоких покровителей Фихте, среди которых был, в частности, Гете,
уладить скандал и сохранить для Фихте возможность дальнейшей работы в
Йенском университете не принесли желаемых результатов: философ
предпочел уйти в отставку, нежели в чем-то поступиться своими принципами.
Оставаться после этого в Йене Фихте не захотел и летом 1799 г.
переехал в Берлин. Тут он завязывает дружеские связи с романтиками —
Ф.Шлегелем, Л.Тиком, Ф.Шлейермахером. Дружба скрашивает его жизнь
в разлуке с семьей, которая еще некоторое время остается в Йене.
По-прежнему Фихте продолжает много писать. Он завершает уже ранее начатое
сочинение "Назначение человека" (1800), в котором намечается новый
этап его развития — не без влияния Якоби, чья доброжелательная и
глубокая критика наукоучения дала толчок к новым поискам разрешения
трудностей, обнаружившихся в "Основе общего наукоучения". В том же году
выходит в свет работа "Замкнутое торговое государство", которую Фихте
11
П. П. Гайденко
считал лучшим своим произведением, а год спустя, в 1801 г., — трактат
"Ясное, как солнце, сообщение широкой публике об истинной сущности
новейшей философии".
Берлинская молодежь неоднократно просила Фихте прочитать
частный курс лекций, и с осени 1800 г. он выполняет эту просьбу. В течение
нескольких лет он читает лекции, на которые, как и в Йене, стекается много
публики: в числе его слушателей не только студенты, но и вполне зрелые
люди: среди них — министр фон Альтенштейн, придворный советник фон
Бейме и даже австрийский посол при Берлинском дворе князь Меттерних.
Зимой 1804 — 1805 гг. философом был прочитан курс лекций на тему:
"Основные черты современной эпохи", где была разработана концепция
философии истории, а в 1806 г. — лекции по философии религии, которые
вышли в свет под названием "Наставления к блаженной жизни, или
Учение о религии".
Начало нового столетия было омрачено для Фихте разрывом с его
молодым другом Ф.Шеллингом, прежде считавшим себя последователем
наукоучения. Полемика с Шеллингом побудила Фихте заново обратиться
к обоснованию и прояснению принципов наукоучения, к чему, впрочем,
он пришел уже ранее под влиянием Якоби, и не случайно именно 1800-й
год стал рубежом в творчестве философа: он во многом уточняет как
трактовку свободы, так и исходный пункт своего учения — понятие Я.
Еще более драматическим событием в жизни Фихте, как и других его
соотечественников, оказалось поражение немцев в войне с французами и
оккупация Берлина Наполеоном осенью 1806 г. Фихте оставил Берлин и
переехал в Кенигсберг, где работал до весны 1807 г. Однако семья
философа оставалась в Берлине, и в конце лета 1807 г. он вынужден был вернуться.
В декабре этого года Фихте читал в оккупированном Берлине свои
знаменитые "Речи к немецкой нации", в которых взывал к национальному
самосознанию немцев, побуждая свой народ к единению и борьбе против
оккупантов. Это был гражданский подвиг философа, требовавший большого
мужества.
Нервное напряжение подорвало силы философа, и весной 1808 г. он
заболел. Болезнь была длительной и тяжелой, Фихте долго не мог работать.
Но, когда в 1810 г. вновь открылся Берлинский университет, он согласился
принять предложенную ему должность декана философского
факультета. Вскоре Фихте избрали ректором университета — должность, которую
было нелегко исполнять такому прямому, темпераментному и
лишенному "дипломатических" качеств человеку, каким был Фихте. Уже через
полгода Фихте подал прошение об отставке, которая была ему дана
весной 1812 г.
Поражение наполеоновских войск в России открывало наконец не-
12
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
мцам возможность освободиться от французской оккупации.
Патриотический подъем вдохновлял Фихте: именно осенью 1812 г. он занялся новой
переработкой наукоучения, написал сочинения "Об отношении логики к
философии, или О трансцендентальной логике", "Факты сознания",
"Вводные лекции в наукоучение".
Однако творческий подъем продолжался недолго. В начале 1814 г.
жена Фихте, в течение нескольких месяцев ухаживавшая в госпитале за
больными и ранеными, заболела тифом; Фихте заразился от нее и
скончался 29 января 1814 г. За 51 год Фихте благодаря своей неуемной энергии и
трудолюбию сделал поразительно много. Тем не менее многие замыслы
философа остались неосуществленными: смерть слишком рано унесла его
в могилу. Недюжинные силы Фихте, — и те, витальные, какими наделила
его природа, и духовные, которые он обрел сам и пытался с помощью
своего учения передать и другим, — были истощены борьбой с препятствиями,
которые ему приходилось преодолевать с юношеских лет и которые еще
умножались благодаря его неукротимому и неуступчивому характеру, не
допускавшему компромиссов. Жизнь Фихте строилась на тех же
принципах, что и его учение: он не признавал никакого дара, все хотел получить
только деятельностью, трудом, самопреодолением. Здесь философ был
последователен: он сам жил так, как учил жить других.
ФИХТЕ - СОЗДАТЕЛЬ СПЕКУЛЯТИВНОГО ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИЗМА
В отличие от трансцендентальной философии Канта, критическое
острие которой направлено против спекулятивного духа рационализма
XVII в., Фихте создает новую форму идеализма — спекулятивный
трансцендентализм. Парадоксально, но факт: в некоторых отношениях Фихтево
наукоучение оказалось ближе к Спинозе, которого немецкий философ
считает своим антиподом, чем к Канту, которого он объявляет своим
учителем.
Считая себя прямым продолжателем критической философии
Канта, Фихте пишет в 1794 г.: "Автор до сих пор глубоко убежден, что никакой
человеческий ум не проникает дальше границы, у которой стоял Кант, в
особенности в своей "Критике способности суждения"; ее, однако, он сам
никогда не определял и не выставлял как последнюю границу конечного
знания. Автор знает, что он никогда не будет в состоянии сказать того, на
что Кант уже не указал опосредованно или непосредственно, яснее или
туманнее" 5. Вслед за Кантом Фихте считает, что философия должна стать
строго научной, и убежден, что только трансцендентальная философия,
5 Фихте И.Г. Избр. свч.М.,1916.Т.1.С4.
13
П. П. Гайденко
как она задумана Кантом, может достигнуть этой цели. Все остальные
науки должны обрести свой фундамент именно в философии. Задача
последней — обосновать науку как общезначимое достоверное знание, а потому
Фихте называет философию "учением о науке" — Wissenschaftslehre.
Спецификой научного знания является его систематическая форма:
все положения науки выводятся из одного принципа и тем самым
составляют единое целое. Через этот исходный принцип, который Фихте
называет первым основоположением науки, вся система знания обретает
достоверность, но при одном условии: если первое основоположение
является абсолютно достоверным. Здесь Фихте близок к Декарту, тоже
стремившемуся найти достоверный исходный пункт, который мог бы служить
надежным фундаментом всего научного здания.
Абсолютно очевидным и непосредственно достоверным
основоположением будет только такое, которое лежит в фундаменте самого
сознания и без которого невозможно последнее, подчеркивает Фихте. Значит, в
сознании нужно искать не то, что содержится в нем, не факты сознания, а
само сознание, его сущность, его глубочайшее ядро. А это, по Фихте, есть
самосознание: Я есмь, Я есмь Я.
В свое время Аристотель сформулировал первое условие научного
знания: его, по Аристотелю, составляет закон тождества — А есть А. И
Фихте, в сущности, также исходит из закона тождества, но — что весьма
характерно — в особой, субъективной форме. А это немаловажное
обстоятельство, Согласно Аристотелю, мое сознание тождественно себе
постольку, поскольку верно, чтоЛ есть А; по Фихте,Л есть А верно потому, что вер-'
но Я есмь Я. Логический закон заменен субъективной очевидностью
самосознания — то, что уже до Фихте осуществил Декарт.
Однако первое основоположение наукоучения отличается от
картезианского çogito. Если у Декарта "мыслю, следовательно, существую" есть
акт знания, акт созерцания, то у Фихте это — акт вол и, волевого самополага-
ния, действия. Акт самосознания, по Фихте, парадоксален: он есть
действие и в то же время продукт этого действия. В эмпирической сфере
действие и его продукт всегда различаются — это различие, собственно, и
составляет признак эмпирического. Самосознание же — нечто уникальное в
том смысле, что оно само себя порождает. Поэтому Фихте называет акт
самосознания Tathandlung — дело-действие, как перевел этот термин на
русский язык Б.Яковенко. В акте самосознания совпадают субъект
(действующее, активное, рождающее) и объект (страдательное, пассивное,
рождаемое).
Итак, первое основоположение есть начало сознания, условие его
возможности. Очевидность этого основоположения коренится не в
природе, а в свободе, она носит не теоретический, а практический характер. Я
14
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
есмъ — это не суждение, как его понимает традиционная логика; акт,
которым полагается это утверждение, есть акт произвольный, свободный, а
потому оно не должно и не может быть доказано теоретически. Вступить на путь
наукоучения — значит самому произвести этот акт, породить свое Я из
глубин собственного духа, а вместе с тем породить и сам дух как таковой —
родиться в духе. Сознай свое Я, создай его актом этого осознания — таково
требование философского обращения. Это апелляция к воле, а не к
теоретическому разуму.
Свою систему Фихте строит, выводя ее из полученного первопринци-
па. Именно в этом отношении он ближе к Спинозе, чем к Канту. Кант,
подобно эмпирикам, исходит из факта существования наук —
естествознания и математики — и ставит вопрос о том, как возможен этот факт, то есть
какие условия должны быть выполнены, чтобы стали возможны
синтетические априорные суждения, составляющие основу наук. Поэтому Канту
чужда мысль о выведении системы знания из единого первопринципа.
Что же касается Спинозы, то он, как и Фихте, создает систему,
рационально-логическим путем выводя следствия из принятого основополо-
жениягТолько у Фихте исходным пунктом является принцип Я, в то время
как Спиноза исходит из принципа субстанции, или, на языке Фихте, из
принципа Не-Я. Не без основания Фихте считает наукоучение как
критическую философию противоположностью спинозизма как наиболее
продуманной системы догматической философии6. Но, при всей этой
противоположности, между системой Фихте и системой Спинозы есть
своеобразное "зеркальное" совпадение: и та и другая представляют собой
варианты пантеизма, только у Спинозы это пантеизм природы, а у Фихте
пантеизм свободы. Субстанция Спинозы, как и Я Фихте, есть причина самой
себя. Положение субстанция есть представляет собой такое же абсолютно
достоверное и ниоткуда более не выводимое первое основоположение, что
иЯесмь.
В юности Фихте увлекался философией Спинозы; под влиянием
кантовского трансцендентализма он стал противником спинозистского
"догматизма", однако следы прежнего увлечения явственно видны в его
системе. Не случайно Фихте вновь реабилитирует интеллектуальную ин-
6 "В том и состоит сущность критической философии, — пишет Фихте, —
что в ней устанавливается некоторое абсолютное Я, как нечто совершенно
безусловное и ничем высшим не определимое... Напротив того, догматична
та философия, которая приравнивает и противополагает нечто самому Я в
себе, что случается как раз в долженствующем занимать более высокое
место понятии вещи (Ens), которое вместе с тем совершенно произвольно
рассматривается как безусловно высшее понятие... Критицизм имманентен
потому, что он все полагает в Я, догматизм же трансцендентен, ибо он идет за
пределы Я" (Фихте И.Г. Избр.соч.Т.1.С96).
15
П. П. Гайденко
туицию как основной способ постижения внеэмпирического мира — ту
самую интеллектуальную интуицию, которую признавал докантовский
рационализм, но отверг Кант. Правда, обоснование интеллектуального
созерцания у Фихте трансформируется: он трактует его как созерцание
сознанием собственного действования.
В акте самомышления, благодаря которому Я впервые возникает для
себя, слиты, по Фихте, действие и созерцание этого действия. Действие в
самом его существе не может быть предметом опосредствованного знания,
то есть знания через понятия, оно может быть постигнуто лишь
непосредственно, то есть дано в созерцании: ведь это мое собственное действие, оно
тождественно со мною самим7. Фихте убежден, что он рассуждает в духе
кантовского критицизма. Под отвергаемой им интеллектуальной
интуицией Кант подразумевает непосредственное созерцание
сверхчувственного бытия, говорит Фихте. Но и в наукоучении нет речи о созерцании
сверхчувственной данности — речь идет об интеллектуальном созерцании со
стороны Я своей собственной деятельности.
А между тем расхождение между Кантом и Фихте в этом вопросе
принципиально. Наделяя человеческий интеллект способностью к
созерцанию, Фихте, в сущности, снимает различие между ним и божественным
интеллектом. То, что Кант считал прерогативой божественного
интеллекта — порождение бытия в акте его созерцания — становится у Фихте
атрибутом Я. Именно поэтому он считает возможным вывести из первоприн-
ципа —Я — не только форму, но и содержание всего сущего. Так на месте
кантовского критицизма возникает спекулятивный трансцендентализм,
который затем получает свое дальнейшее развитие сначала у Шеллинга, а
затем у Гегеля.
Кант объявил вещи в себе непознаваемыми именно потому, что у
человека нет способности непосредственного постижения
сверхчувственного бытия — интеллектуальной интуиции. Вернув интеллектуальному
созерцанию его права гражданства в философии, Фихте пересматривает и
кантовское учение о вещи в себе.
Понятие вещи в себе действительно сопряжено у Канта с рядом
противоречий. Первое противоречие лежит на поверхности. Кант считает
вещь в себе причиной ощущений; но понятие причины, будучи категорией
рассудка, применимо только в границах опыта и не может быть отнесено к
вещам в себе. На это противоречие как раз и указал Фихте, считавший
понятие вещи в себе остатком неизжитого Кантом догматизма. Согласно
Фихте, все определения сознания должны быть развиты из самой
деятельности самосознания. Пассивное Я—то, что Кант называл восприимчивое-
7 См.: Фихте И.Г. Избр. соч. T.I. С.451.
16
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
тыо к впечатлениям, или аффицируемостью души, — тоже должно быть
объяснено из самого Я. Другими словами, сама конечность Я должна быть
понята как продукт его бесконечности.
В теоретической философии Канта Я не порождает, а лишь предна-
ходит себя: вот почему у Канта акт трансцендентальной апперцепции не
есть акт интеллектуальной интуиции, Напротив, Фихте убежден, что в акте
самосознания порождается само Я.
При этом у Фихте не вполне расчленены два различных понимания
самосознания. Говоря о том, что в любом акте восприятия, мышления,
созерцания и т.д. я примысливаю свое Я, Фихте, в сущности, повторяет кан-
товское положение о том, что Ямыслю сопровождает все мои
представления. Но, по Канту, это происходит само собой, без того "акта свободы",
посредством которого мы, по Фихте, собственной волей порождаем свое Я.
На различие между кантовским и фихтевским пониманием самосознания
указывал Шеллинг. "...Нужно отметить необходимость для нас во всяком
случае отличать самосознание как акт от простого эмпирического
сознания; обычно именуемое нами сознанием является чем-то лишь
привходящим в представлениях об объектах и поддерживающим тождественность в
смене представлений: все это носит исключительно эмпирический
характер, поскольку здесь я хоть и сознаю самого себя, но лишь в качестве
представляющего"8. Кантовскую трансцендентальную апперцепцию Я мыслю,
которая сопровождает все наши представления, Шеллинг, как видим,
считает эмпирическим сознанием, в отличие от фихтевского "Яесмь Я". И это
потому, что у Канта сознание преднайдено, а не впервые рождено актом
свободного самополагания.
Почему же все-таки, несмотря на столь важное различие между
пониманием самосознания, интеллектуальной интуиции и вещи в себе
Фихте считает себя продолжателем дела Канта?
Дело в том, что акт свободного самополагания, самопорождения Я
имеет место и у Канта, но не в теоретической, а в практической сфере.
Принцип автономии воли, из которого исходит Кант в "Критике
практического разума", как раз и есть требование свободного
самопорождения нашего Я. Этот принцип Фихте делает краеугольным камнем своей
системы, но при этом сразу оговоримся, — системы первого периода
(1794-1800)9.
Фихте вслед за Кантом признает примат практического разума над
8 Шеминг. Система трансцендентального идеализма. Л., 1936.С.47.
9 Разъяснение этого важного момента мы находим у Шеллинга, в ранних
своих работах полностью следовавшего Фихте. Ставя вопрос о том, какой
именно принцип объединяет теоретическую и практическую философию,
Шеллинг пишет: "Таким должен быть принцип автономии, который
обычно ставится во главе лишь практической философии; если же автономию
17
П. П. Гайденко
теоретическим, но ради преодоления дуализма снимает непереходимую
для Канта грань между умопостигаемым и чувственным мирами. Тем
самым он расширяет принципы практической философии Канта, делая их
универсальной основой всего сущего. Этого, однако, можно достигнуть
только путем превращения человеческого разума в разум мировой,
божественный. Фихте подготавливает, таким образом, философию тождества
мышления и бытия, которая затем развивается Шеллингом и Гегелем.
Деятельность трансцендентального субъекта, которая у Канта была
ограничена, становится у Фихте универсальной: все, что выступает для нас
как предмет, должно быть понято как продукт деятельности. Вопрос
теперь упирается в субъект деятельности: что это за Я, которое производит из
себя весь мир? Кто имеется в виду: отдельный индивид, человек как
представитель рода (а тем самым — человечество) или, наконец, сам Бог?
Фихте недвусмысленно говорит о том, что необходимо отличать
индивидуальное Я от Я абсолютного. Но в то же время абсолютное Я не может
существовать как некая субстанция вне и независимо от конечных
эмпирических субъектов — индивидуальных Я.
Как справедливо отмечает немецкий философ, исследовательница
творчества Фихте, Карен Глой, "Я первого основоположения
характеризуется предикатами, которые обычно приписываются Богу: абсолютность,
бесконечность, неограниченность, отсутствие противоположности. При
описании абсолютного Я Фихте использует категории, которыми
традиционно пользовалась теология и философия Спинозы, например causa sui
(причина самого себя), Aseität (самобытие), ens necessarium (необходимое
сущее) и omnio realitatis (всереальность)" ,0.
Неудивительно, что еще при жизни философа первое
основоположение, то есть абсолютное Я, получило разное толкование у его
современников и критиков. Один из первых критиков Фихте, Баггезен,
следующим образом интерпретировал его первопринцип: "Я есмь, потому что Я
есмь!" — Так может воскликнуть только чистое Я; а чистое Я — это не
Фихте, не Рейнгольд, не Кант: чистое Я есть Бог" и. В том же духе толковали
абсолютное Я Гете и Шиллер, не без юмора упоминавшие в письмах фихтев-
ское Я, для которого мир — вроде мяча: Я бросает его, а потом вновь ловит с
помощью рефлексии 12.
расширить до принципа всей философии в целом, то весь
трансцендентальный идеализм окажется всего лишь развитием этого принципа" (Шел-
тшнг.Указ. соч.С.267).
10 Gloy К. Die drei Grundsätze aus Fichtes "Grundlage der gesamten
Wissenschaftslehre" von 1794/Philosophisches Jahrbuch. Jg.91.2.Halbband.Frei-
buiB.München, 1984.S.290—291.
11 Fichte in vertraulichen Briefen seiner Zeitgenossen/Hrsg, von H.Schulz. В.,
1923. S.15.
•4bid.S.27,47f.
18
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
И сегодня вопрос о сущности фихтевского Я остается по-прежнему
спорным. Точку зрения, близкую к высказанной Баггезеном, разделяют
Р.Кронер13, Г.Радермахер14 и другие. С другой стороны, Н.Гартман, Г.Гай-
мзет, М. Вундт, В.Янке считают, что Я первого основоположения надо
понимать как идею, или идеал, к которому стремится конечное,
эмпирическое Я, но которого оно может достигнуть только в бесконечном прогрессе.
Н.Гартман подчеркивает, что абсолютное Я — это человеческое
самосознание;15 его мнение разделяют М.Вундт и В.Янке. Согласно Г.Гаймзету,
абсолютное Я имеет у Фихте лишь идеальный статус: речь идет об идее Бога
в человеческом сознании, идее, которая тождественна моральному
миропорядку, который должен быть осуществлен в ходе бесконечного
исторического процесса16. Сходную точку зрения разделяют также русские
философы И.А.Ильин, давший глубокий анализ диалектики субъекта в наукоу-
чении17, и Б.П.Вышеславцев, чья работа о Фихте до сих пор остается
лучшей в отечественной литературе18.
Как видим, проблема соотношения конечного и бесконечного Я в
наукоучении не простая. Тут нельзя говорить о двух субъектах: речь идет о
постоянно распадающемся единстве абсолютного и относительного Я. И
понятно, что этот вопрос оказался для Фихте роковым: на протяжении
двух десятилетий он пытался его разрешить, постоянно перерабатывая и
уточняя свою систему.
НАУКОУЧЕНИЕ 1794 г. ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ПЕРВОПРИНЦИПА Я КАТЕГОРИЙ МЫШЛЕНИЯ
И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
Посмотрим теперь, каким образом Фихте строит свою систему,
исходя из первопринципа #есл<ь Я. Этот первопринцип, будучи актом чистой
деятельности, самоочевиден. Второе положение так же безусловно, как и
первое, и вводит категорию отрицания. Оно гласит: "Не-Я не естьЯ".
Третье положение, в отличие от первых двух, является уже частично
обусловленным: оно еще безусловно со стороны содержания, но со стороны
формы обусловлено несовместимостью двух первых основоположений. В
самом деле, если Я есть деятельность, полагающая самое себя (ее продукт —
13 Kroner R. Von Kant bis Hegel. Tünbingen, 1921.Bd.l. S.399,431.
14 Radermacher H. Fichtes Begriff des Absoluten. München, 1970. S.20-25.
15 Hartmann N. Die Philosophie des deutschen Idealismus. В., 1923. Bd.l.S.52.
l6Heimsoeth H. Fichte. München, 1923. S.147.
17 Ильин ИЛ Кризис идеи субъекта в наукоучении Фихте Старшего//Вопро-
сы философии и психологии. М., 1912.Kh.112.
18 Вышеславцев Б. Этика Фихте. М.,1914.
19
П. П. Гайденко
Яесмъ Я), то как она может в то же время быть деятельностью отрицающей,
полагающей противоположное себе Не-Я? Как возможно, чтобы эти две
противоположно направленные деятельности взаимно друг друга не
уничтожали? Другими словами, как возможно сознание, ибо сознание, по
Фихте, — это одновременная данность Я и Не-Я.
Это возможно только в том случае, говорит Фихте, если эти
деятельности друг друга ограничивают. Но поскольку деятельности полагания и
противополагания бесконечны, то ограничить каждую — значит
допустить, что они уничтожают друг друга отчасти. Но это означает допущение
делимости их, то есть их количественного определения.
Между тем, согласно традиционному пониманию духа (а
самосознание, разумеется, есть духовный акт), Я, или ум, не есть нечто делимое.
Бесконечно делимой является материя и материальные предметы, но никак не
предметы умопостигаемые — душа, ум, Бог.
Фихте, однако, выходит из положения тем, что наряду с делимым Я
допускает Я высшее, неделимое. То Я, которому противостоит Не-Я,
говорит он, не тождественно первоначальному, исходному Я первого
основоположения. И в самом деле: если бы мы имели только делимое # и делимое
Не-Я, которые взаимно ограничивали бы друг друга и не имели бы ничего
третьего, то единство сознания распалось бы. Такое третье, однако,
имеется. Это абсолютное Я. Соответственно третье основоположение гласит: "Я
противополагаю в Я делимому Я делимое Не-Я"19.
Вместе с понятием делимости, говорит Фихте, мы получаем
логический принцип основания, который звучит так: А отчасти равно А. Принцип
делимости позволяет найти у двух противоположностей общий признака,
в котором они едины. В случае, когда мы сравниваем противоположности,
X именуется основанием отношения; когда же мы различаем одинаковое, X
выступает как основание различия. Третье основоположение является
первым синтезом: в нем соединяются первые противоположности — Я и Не-Я,
и он есть основа всех прочих синтезов.
Таким образом, первые три основополагания дают нам три
вида-действия: тетическое, антитетическое и синтетическое. Синтез,
следовательно, имеет в качестве своего условия антитезис: в дальнейшем мы поймем,
почему так должно быть с необходимостью. Движение от тезиса к
антитезису и затем к синтезу составляет основу диалектики Фихте.
Диалектический метод Фихте состоит в последовательном процессе
опосредования противоположностей. Чтобы противоположности не
уничтожали друг друга, между ними помещается нечто третье — основание их
отношения; но в нем противоположности соприкасаются, совпадают; что-
19 Фихте И.Г. Избр.соч.Т.1. С.87.
20
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
бы этому воспрепятствовать, в середине опять помещают новое звено.
Этот процесс можно продолжать неограниченно. Точку ставит сам
философ, когда с помощью этого приема оказываются выведенными все
теоретические способности.
Это движение характерно, однако, только для теоретической
философии, и вот почему. Всякий синтез, как мы уже знаем, является
продуктом предшествующего антитезиса20. Имея дело с синтезом, мы всегда,
таким образом, имеем дело с продуктом, оставляя без внимания ту
деятельность, которая производит этот продукт. А это имеет место при
теоретическом отношении субъекта к объекту, потому что именно познающий
субъект имеет дело с данностью, предстающей ему в виде внешнего предмета и
воспринимаемой им отнюдь не как продукт деятельности его собственного
Я. При теоретическом отношении субъект выступает как определяемый
объектом; хотя при этом он тоже деятелен, но его деятельность от него
скрыта. Вот почему теоретическое наукоучение исходит всегда уже из
некоторого данного синтеза — продукт деятельности Я необходимо есть
синтез противоположностей. И задача состоит в разложении (анализе)
синтетического единства на составляющие его противоположности и в новом
соединении их.
Принцип делимости, с помощью которого Фихте синтезирует
противоположности, есть количественный принцип. Поэтому диалектику
Фихте называют количественной. Благодаря принципу делимости
противоречие отчасти устраняется. В такой форме у Фихте появляется
диалектическая категория снятия, которую впоследствии успешно применяет
Гегель. У Фихте же снятие происходит "геометрическим способом", как
отмечает немецкий философ Ф.Вагнер: "Если две величины (Я и Не-Я)
равны третьей (количеству), то они равны и между собой"21.
Посмотрим теперь, как работает созданный Фихте метод. Первым
положением теоретического наукоучения, непосредственно выводимым
из третьего основоположения, является следующее: Я полагает себя как
определенное через Не-Я. В этом положении содержится противоречие. В
самом деле, Я по определению активно, но, будучи определяемым через
Не-Я, оно выступает как пассивное. Эти два противоположных
определения уничтожают друг друга, чем разрушается единство сознания. Чтобы
избежать этого, вводится уже известный прием: две противоположности
20 В.Ф.Асмус справедливо подчеркивает, что "у Фихте антитезис не
выводится, как у Гегеля, из тезиса, а просто ставится рядом с ним — как его
противоположность, и только в синтезе эта противоположность устраняет-
ся"(Асмус В.Ф. Фихте // Философская энциклопедия. М.,1970. Т.5.С.374).
21 Wagner F. Der Gedanke der Persönlichkeit Gottes bei Fichte und Hegel, Güter-
sloh, 1971, S.69.
21
П. П. Гайденко
должны друг друга ограничить, в результате чего возникает новый синтез:
Я определяется отчасти самим собой, отчасти — Не-Я. Это значит, что,
сколько реальности полагает в себя Я, столько же отрицания полагает оно в
Не-Я, и наоборот. Таков синтез взаимоопределения; в нем порождается
категория взаимодействия.
Рассмотрим теперь каждое из синтезированных положений:
"Яполучает определение" и "Я определяет себя само". Начнем с первого
утверждения: Не-Я определяет Я. Оно противоречит первому основоположению,
согласно которому вся реальность (то есть деятельность) принадлежит Я.
Значит, надо так истолковать утверждение "Не-Я определяет Я", чтобы
при этом активность не могла все-таки принадлежать Не-Я. А это
возможно только при условии, что страдательное состояние Я (ибо получение
определения от чего-то другого есть именно страдательное состояние) мы
будем понимать не как наличие деятельности в Не-Я, но как отсутствие
деятельности в самом Я. Это будет способом разрешения противоречия
между двумя положениями: Не-Я определяет Я и вся реальность полагается
самим Я. Новый синтез гласит: Не-Я обладает для Я реальностью, лишь
поскольку Я находится в состоянии аффекта (страдательности), помимо же
этого условия Не-Я лишено всякой реальности.
Здесь Фихте предлагает свое истолкование тех явлений сознания,
ради объяснения которых Кант апеллировал к вещи в себе, аффинирующей
нашу чувственность. Страдательное состояние, по Фихте, возникает
потому, что абсолютное Я не может сознать само себя, не становясь при этом
конечным. Таким образом, в отличие от Канта, постулировавшего
реальность вещи в себе, Фихте выводит не только формы сознания, но ихго
содержание из чистой деятельности самого Я.
Последний синтез дает, по Фихте, категорию причинности. То, чему
приписывается деятельность, называется причиной, а то, чему
приписывается страдание — следствием. Поскольку причина и следствие
рассматривается здесь вне условий времени (в чистом Я), то они должны
мыслиться как одно и то же (активность и страдательность могут меняться
местами). В действительности здесь имеются в виду разные Я: деятельное —
абсолютное, страдательное — относительное, конечное. Стало быть,
вопрос стоит так: каким образом абсолютное Я превращается в человеческое,
конечное?
Я полагает всю полноту реальности. "Но эта реальность в Я
представляет собой некоторое количество, именно некоторое безусловно
полагаемое количество"22. Но если в Я полагается некоторое количество
деятельности, то, поскольку это не вся деятельность, она уже есть страдание, хотя
22 Фихте И.Г. Избр.соч. T.I. С.115.
22
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
бы сама по себе она и была деятельностью. Иначе говоря, вводя количество
деятельности, мы тем самым отрицаем ее как неделимую (по Фихте —
беспредельную: неделимое и беспредельное у Фихте совпадают), а тем самым
переводим ее в страдательное состояние. Таким образом, деятельность
конечного Я выступает одновременно и как деятельность, и как страдание.
Поясняя примером, что означает такое соединение противоположностей,
Фихте пишет: "...понятие мышления противоположно самому себе; оно
обозначает некоторую деятельность, если относится к мыслимому
предмету; оно обозначает некоторое страдание, если относится к бытию вообще,
ибо бытие должно быть ограничено для того, чтобы стало возможным
мышление"23. Под бытием разумеется здесь бесконечная, беспредельная
деятельность абсолютного Я. Всякая определенная деятельность Я уже
будет страданием, поскольку всякий предикат Я (Я мыслю, Я стремлюсь, Я
представляю и т.д.) есть уже его ограничение. Конечное Я выступает как
ограничение бесконечного, оно соотносится с бесконечным как предикат
с субъектом, как акциденция с субстанцией. Таким образом, здесь
получена категория субстанциальности.
Как видим, Фихте пытается логически вывести из первого
основоположения все основные категории человеческого мышления. Полагающее
Я дает категорию реальности, противополагающее — категорию
отрицания', соединение их в первом синтезе дает категорию ограничения
(отношения)', конкретизация категории отношения во втором синтезе порождает
категорию взаимоопределения (взаимодействия)', виды
взаимоопределения — причинность (полученная в третьем синтезе) и субстанциальность
(четвертый синтез). "Это — первая разумная попытка на протяжении всей
истории выводить категории, — отмечает Гегель. — Но это поступательное
движение от одной определенности к другой есть только анализ с точки
зрения сознания, а не переход, совершающийся в себе и для себя" 24.
Различие точек зрения Фихте и Гегеля принципиально. Фихте так же не
принял критику Гегеля, как и Гегель — методологическую установку Фихте,
требующую все рассматривать "с точки зрения сознания". Эту установку
Фихте считал главным завоеванием трансцендентальной философии, а
поворот к объективному идеализму, осуществленный Шеллингом и
Гегелем, считал отказом от трансцендентализма и возвращением к докантов-
скому догматизму.
Вернемся, однако, к фихтевскому выведению. В третьем синтезе, как
мы помним, было получено положение "Страдание Я определяется
деятельностью Не-Я", а в четвертом синтезе утверждение: " Страдание Я опре-
кфихтеИ.Г. Избр.соч.Т.1.С.П8.
24 Гегель. Соч.: В 14 т. М; Л., 1935. T.XI. С.470.
23
П. П. Гайденко
деляется деятельностью самого же >Г\ Как видим, снова воспроизведено
противоречие — "Я определяется собою" и "Я определяется Не-Я"; это
противоречие Фихте формулирует теперь следующим образом: "Я не
может полагать в себе никакого страдательного состояния, не полагая в Не-Я
деятельности; но оно не может положить в Не-Я никакой деятельности, не
положив в себе некоторого страдания"25. Чтобы разрешить противоречие,
требуется новый синтез, в котором причинность соединилась бы с
субстанциальностью. Синтез же происходит через взаимное ограничение
противоположностей: каждое из утверждений должно иметь силу только
отчасти. Вот результат пятого синтеза: Я полагает в себе отчасти страдание,
поскольку оно полагает деятельность в Не-Я; но отчасти оно не полагает в
себе страдания, поскольку оно полагает в Не-Я деятельность. И,
соответственно, наоборот: полагая деятельность в Я, Я отчасти полагает страдание
в Не-Я, а отчасти не полагает; стало быть, не всей деятельности,
положенной в Я, соответствует страдание в Не-Я. И наоборот. Эту деятельность,
которой в противочлене ничего не соответствует, Фихте называет
независимой деятельностью. Можно было бы сказать проще: в одном отношении
деятельности в Я не соответствует страдание в противочлене, а в другом —
соответствует. В том отношении, в котором соответствует, можно говорить
о взаимообмене действия-страдания; в том же, в каком не соответствует, —
о независимой деятельности.
Теперь независимая деятельность определяет взаимосмену
действия-страдания, а эта взаимосмена в свою очередь — независимую
деятельность.
Какую проблему решает Фихте на данном уровне своего
диалектического выведения? В предшествующей философии, включая в известной
мере и Канта, деятельное состояние означает активность самого сознания
и, соответственно, субъекта, а страдательное состояние предполагает, что
на сознание действует нечто вне его. Взаимосмена действия-страдания в
этом случае объясняется наличием не зависящего от сознания бытия
(независимого бытия). Фихте же независимого бытия не признает (вне Я ничего
нет). Поэтому он хочет объяснить взаимосмену действия-страдания,
исходя из независимой деятельности самого Я. Но как можно допустить
деятельность сознания, которая не зависит от сознания? Только при условии, что
эта деятельность будет бессознательной. В кантовской философии уже была
рассмотрена такая деятельность, которая находится на грани между
сознательной и бессознательной: это деятельность продуктивной способности
воображения. Именно продуктивная способность воображения и есть не-
25 Фихте И.Г. Избр. соч. T.I. С. 125.
24
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
зависимая деятельность, которая определяет взаимосмену
действия-страдания и сама, в свою очередь, определяется этой взаимосменой. Обоюдное
определение независимой деятельности и взаимосмены есть взаимное
определение конечной и бесконечной деятельностей Я. "Эта взаимосмена
Я в себе и с самим собою, в которой оно одновременно полагает себя
конечным и бесконечным, — взаимосмена, которая состоит как бы в
некотором борении с самим собою и таким образом воспроизводит себя самое
тем, что Я хочет объединить несоединимое, — то пытается принять
бесконечное в форму конечного, то, будучи оттеснено назад, снова полагает его
вне конечного и в тот же самый момент опять старается уловить его в
форму конечного, —эта взаимосмена есть способность силы воображения"26.
Продуктивная способность воображения, бессознательная деятельность Я
лежит, согласно Фихте, в фундаменте сознания, составляя главную
функцию теоретического Я.
Деятельность продуктивной способности воображения Фихте
описывает следующим образом: "Способность синтеза своею задачею имеет
объединять противоположности, мыслить их как единое... Но она не в
состоянии это сделать; однако задача все-таки есть налицо; и таким образом
возникает борьба между неспособностью и требованием. В этой борьбе дух
задерживается в своем движении, колеблясь между обеими
противоположностями; он колеблется между требованием и невозможностью его
выполнить; но именно в таком-то состоянии, и только в нем одном, он
удерживает их обе одновременно, или — что то же — он превращает их в такие
противоположности, которые могут быть одновременно схвачены мыслью и
закреплены, придает им тем, что он их касается, отскакивает от них и затем
снова касается, по отношению к себе некоторое определенное содержание и
некоторое определенное протяжение (которое в свое время обнаружится
как множественное в пространстве и времени). Это состояние носит
название состояния созерцания (Anschauen). Действенная в нем способность уже
была выше отмечена как продуктивная сила воображения"27.
Это колебание нашего духа между требованием синтезировать
противоположности и невозможностью это сделать, составляющее сущность
продуктивной способности воображения и теоретического познания
вообще, соответствует тому процессу преодоления противоположных
определений в Я, который описан Фихте в "Наукоучении 1794 г." и с помощью
которого произведены пять основополагающих синтезов, давших
основные логические категории. Ведь и здесь происходит постоянное колебание
исследующего ума между противоположностями, которые примиряются с
26Fichte J.G. Werke: In 6 Bd. /Hrsg. von F.Medicus. L., 1908 - 1911. Bd.I. S.409.
27 Фихте И.Г. Избр.соч.Т.1.С200 - 201.
25
П. П. Гайденко
помощью введения посредствующего звена и все-таки постоянно
воспроизводятся снова — на следующем этапе.
Борьба продуктивного воображения с самим собой, выступающая
для сознания как акт созерцания, порождает то, что мы называем
реальностью. Ибо реальность — и здесь Фихте тоже продолжает Канта — дается
нам только через созерцание. Стало быть, вся реальность есть продукт
бессознательной деятельности творческого воображения. Но именно потому,
что эта реальность творится, так сказать, из "ничего", и творится в
известной мере условно (дух колеблется между требованием и невозможностью
его выполнить!), она носит, строго говоря, иллюзорный характер.
Здесь Фихте далек от Канта и кантовской теории познания. Именно
потому, что не разум и не рассудок, а продуктивная способность
воображения поставлена в центр наукоучения и объявлена основой всех остальных
теоретических способностей, теоретическая функция Я оказывается в
целом лишенной всякой почвы без соотнесения с практической
способностью. Как природа для Фихте не имеет самостоятельного бытия, а
существует только как средство преодоления для практического Я, так и
познавательное отношение к предмету есть только момент, необходимый для
осуществления практического, нравственного действия. Без этого
последнего сама по себе она есть фикция, иллюзия, лишенная всякой реальности.
К такому выводу Фихте пришел уже в 1800 г., хотя все предпосылки
для него уже содержались в "Наукоучении 1794 г.". Уничтожив
существование вещи в себе как не зависимой от Я, Фихте с неизбежностью должен
был осознать, чтотеоретическая сфера самостоятельного значения не
имеет. Если фантазия играет в познании не вспомогательную, как у Канта, а
ведущую роль, то в сфере теоретической всякое бытие исчезает. Остается
только мираж. "Нигде нет ничего постоянного, ни вне меня, ни во мне,
есть только непрерывная смена. Я нигде не знаю никакого бытия, не знаю
даже своего собственного. Нет никакого бытия. Я сам вообще не знаю и не
существую. Есть образы: это единственное, что существует... Я сам один из
этих образов... Вся реальность превращается в чудесную грезу, без жизни, о
которой грезят, и без духа, который грезит..."28 Чтобы обрести подлинное
бытие, мы должны, по Фихте, оставить сферу теоретического Я и
обратиться к Я практическому.^
Нельзя не отметить, что Фихте отменяет традиционное определение
свободы: пока Я бессознательно — оно, по Фихте, свободно, когда оно
сознает — оно не свободно. Таково положение в теоретической сфере. Это и
понятно: деятельное Я — бессознательно, оно сознает только продукт
собственной деятельности, уже отчужденный от самой активности Я. Для ра-
28 Fichte J.G. Werke: In.6 Bd.Bd. III. S.341.
26
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
ционализма XVII в., напротив, бессознательное состояние
отождествлялось с пассивным (вспомним учение о страстях души у Декарта, состояние
аффекта у Спинозы, наконец, бессознательную деятельность монад у
Лейбница). Смутное, неотчетливое, не вполне осознанное состояние — это, по
Лейбницу, пассивное состояние монады; чем яснее сознание, тем ближе
оно к чистому акту божественной монады. Даже в своем учении о
бессознательном состоянии монад Лейбниц остается интеллектуалистом. У Фихте
же именно бессознательное — свободно, деятельно, безусловно; напротив,
сознание, впервые возникающее через рефлексию, то есть созерцающее,
теоретическое сознание — пассивно, ограниченно, не свободно.
Созерцательное отношение к миру тем самым объявляется несвободным отношением
к нему: сущность свободы — в самоопределяющейся деятельности. Кант
положил начало этому перевороту, Фихте довел его до конца.
ТЕОРИЯ НРАВСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, ИЛИ УЧЕНИЕ О ПРАКТИЧЕСКОМ Я
Уже у Канта практический разум получил приоритет по отношению
к теоретическому: если теоретическое познание имеет дело с миром
явлений, то нравственная сфера касается мира умопостигаемого. В мире
нравственном человек сам дает себе закон и должен следовать ему, здесь
человек свободен, он должен признавать свободными и других людей; в мире
природы царит необходимость, там нет места для такой категории, как
цель. Напротив, в мире нравственном каждый человек должен
рассматриваться не только как средство, но также и как цель; телеология, полностью
"изгнанная новым естествознанием из природы, находив свое прибежище в
сфере нравственно-практической и становится здесь основным понятием.
У Фихте теоретическая деятельность полностью теряет свою
самостоятельность, а потому практическое Я оказывается в конечном счете
единственной подлинной реальностью; Фихте превращает
телеологические принципы практического разума в универсальные;
причинно-следственные связи, составляющие специфику природного мира, выступают
как неистинная форма целевых. Природа предстает как бессознательно
творимый дух и получает свое объяснение и свою цель в другом — в
свободной нравственной деятельности. Природа необходима как препятствие,
которое должно преодолевать человечество ради осуществления задач
практического Я; не будь этого препятствия, человеку не на чем было бы
выковывать свой дух как способность к самопреодолению. Поскольку
природа есть продукт бессознательной деятельности теоретического
субъекта, то можно сказать, что последний — необходимая предпосылка
существования субъекта практического; в свою очередь только обращение к
практическому Я позволяет объяснить, почему существует Я теоретиче-
27
П. П. Гайденко
ское. Теоретическое и практическое Я взаимно предполагают друг друга —
и это тот круг, в котором движется философия Фихте.
Обратившись к учению о практическом Я, мы сможем наконец
ответить на вопрос: откуда берется то первое ограничение деятельности Я, тот
"первотолчок", благодаря которому появляется на свет конечное Я? Ведь
если бы деятельность Я не испытала никакого ограничения, то она уходила
бы в бесконечность, а потому не могло бы вообще возникнуть никакого
теоретического Я, никакой рефлексии, возвращающей деятельность в ее
исходный центр.
Первотолчок необходим для того, чтобы возникло само конечное Я, а
вместе с ним и Не-Я. В момент толчка рождается Я, потому что
абсолютную деятельность, которую постулирует Фихте, невозможно назвать
деятельностью Я в строгом смысле слова. Это хорошо поясняет Шеллинг:
"Поскольку Я мыслится по ту сторону сознания, оно еще не есть
индивидуальное Я, так как индивидуальным оно становится только в момент
самосознания. Следовательно, Я, мыслимое по ту сторону сознания,
является одинаковым и тождественным для всех человеческих индивидов..."29
В результате первого ограничения, первого толчка возникает, таким
образом, индивидуальное, психологическое, или малое Я. Теперь понятно,
почему наукоучение должно двигаться в круге. "То, что конечный дух, —
пишет Фихте, — неизбежно бывает принужден полагать вне себя нечто
абсолютное (некоторую вещь в себе) и тем не менее, с другой стороны,
вынужден признавать, что это нечто является наличным только для него
(представляет собой некоторый необходимый ноумен), есть тот круг, который
он может продолжать до бесконечности, но из которого он не в состоянии
выйти"30.
Если основной формой деятельности теоретического Я было
воображение, то основной формой практического Я является стремление,
влечение, побуждение (Trieb). Стремление свойственно лишь индивидуальному
Я, ибо в момент своего рождения оно испытывает препятствие, преодолеть
которое — изначальный импульс конечного Я. "Я бесконечно, — говорит
Фихте, — но только по своему стремлению. Оно стремится быть
бесконечным. Но в понятии самого стремления содержится уже конечность, так как
то, чему не оказывается сопротивления, не является конечным" 31.
Стремление, как и воображение, может существовать только при условии, что
имеет место противоположно направленная деятельность, которая
воспринимается самим конечным Я как препятствие; благодаря ему
стремящееся Я находит себя ограниченным в своем стремлении.
"Schelling. Sämtliche Werke: In 10 Bd. Stuttgart; Augsburg, 1861. Bd.10. S.94.
30 Фихте И.Г. Избр.соч.Т.1. C.259 - 261.
3|Тамже.С248.
28
Жизнь и творчество И.Г. Фихте
Как же протекает, по Фихте, деятельность стремления, какие этапы
проходит оно в своем развитии? На первой ступени стремление предстает
как влечение к объекту. Это — чувственное влечение, и объект его —
эмпирически данный природный предмет. Однако и в этом первичном
стремлении Фихте различает два аспекта: влечение к удовлетворению чувственной
потребности, с одной стороны, и влечение к самостоятельности, к власти
над объектом. Если первая сторона выражает эмпирическое начало в
индивиде, то вторая — его сверхэмпирическое начало, момент самости,
самосознания. Однако первоначально эти два момента еще не явлены для
сознания, не расчленены. Чтобы они выступили как различные, сознание
должно рефлектировать по поводу своего стремления. Рефлексия
позволяет субъекту подняться над непосредственностью своего влечения,
подчинить свои природные склонности собственной своей воле. Становясь
господином собственной природы, человек тем самым потенциально
становится господином всей природы вообще. Это — цель практического
разума, согласно Фихте: все природное должно быть подчинено нравственным
целям, ибо именно в природе — как самого человека, так и внешней по
отношению к нему — коренится, по Фихте, конечность человека. Движение
к освобождению от конечности предполагает овладение природой и
подчинение ее целям человека. Сами эти цели носят не утилитарный, а
идеальный характер: своей деятельностью человек, как убежден Фихте, вносит
в мир природы порядок, гармонию, смысл.
Философия деятельности Фихте первого периода есть, таким
образом, учение о всемогуществе и всеблагости человека, который должен
превратить нетолько Землю, но и Вселенную из Хаоса в Космос. Человеку
отводится миссия, которую раньше считали прерогативой бесконечного
творца — Бога. Благодаря тому, что между конечным и бесконечным Я у
Фихте нельзя провести определенную границу, в его системе нет места
Богу как самостоятельной субстанции. Бог Фихте — это нравственный
миропорядок, а он устанавливается благодаря самополаганию бесконечного Я.
Не случайно творца наукоучения обвиняли в атеизме: нет ничего выше
человека, говорит Фихте, поскольку человек выступает как свободное, то
есть победившее в себе чувственное начало существо. Когда-то человек
трепетал перед величием Бога, потом — перед величием природы; теперь,
наконец, он должен понять, что он сам, его автономная нравственная воля
есть единственный предмет, перед которым можно испытывать
благоговение. Полагая в основу наукоучения принцип абсолютной автономии воли,
самоопределения нашего нравственного Я, Фихте, как выразился один из
его последователей в XX в. немецкий теолог Герман Шварц, создает
"новый аксиологический Завет о самосозидании духовной жизни"32.
»SchwarzH. Fichte und wir. Osterwerk; Harz, 1917.S.105.
29
П. П. Гайденко
Строго говоря, в качестве автономного в человеке выступает
бесконечное Я, но это не мешает Фихте в идеале отождествлять конечное Я с Я
абсолютным, что и делает возможным рассмотрение человека как творца и
устроителя всекосмической жизни.
И какое же идиллическое будущее рисуется восторженному взору
молодого Фихте! Человек будет все более одухотворять себя, а тем самым и
свою природную среду. "...Там, где он вступает, пробуждается природа;
под его взглядом готовится она получить от него новое, более прекрасное
создание... В его атмосфере воздух становится легче (! — П.Г.), климат
мягче и природа проясняется в надежде превратиться через него в жилище и
хранительницу живых существ"33. Что-то сказал бы Фихте сегодня! Воздух
современных городов становится все тяжелее, а живые существа,
населяющие леса, моря и океаны, находятся под угрозой вымирания: сколько из
них уже занесено человеком в Красную книгу, а сколько уже опоздали
занести! Экологический кризис выявил оборотную сторону могущества
человека, о которой не подозревал Фихте. Сама история оказалась критиком
учения об абсолютной деятельности Я — спекулятивного
трансцендентализма Фихте, в котором природа низводится на уровень чистого средства, а
потому обезбоживается и обездушивается: все, что в ней может быть
благого и прекрасного, должно быть создано в ней самим человеком.
В таком виде предстает у Фихте положение кантовской философии о
том, что мир опыта, эмпирически данная природа есть результат
активности трансцендентального субъекта. В основе понятия природы у Фихте
лежит закон инерции — основной принцип механики нового времени. Фих-'
тево отношение к природе полностью обусловлено теми представлениями
механистического естествознания, которые вытеснили из"сознания
ученых XVIII в. прежние — античные и возрожденческие понятия о природе
как начале жизни, как органической целостности. "Природе вообще как
таковой, — пишет Фихте, — следует приписать силу косности (vis inerti-
ае)... Природа как таковая, как Не-Я и объект вообще, имеет только покой,
только бытие; она есть то, что есть, и постольку ей нельзя приписать
никакой деятельной силы" 34.
Эта косность, инерция природного начала характерна и для человека
как чувственного, а значит, природного существа. Именно она, согласно
Фихте, есть корень изначального зла в человеке. В отличие от Канта,
видевшего источник радикального зла в испорченности самой человеческой
воли, ранний Фихте, в полном соответствии с принципом деятельности,
активности как единственно положительного начала в мире, считает исто-
33 Фихте И.Г. Избр.соч.Т.1.С402.
34 Fichte J.G. Werke. In 6 Bd. Bd.2, S.593 - 594.
30
Жизнь и творчество И.Г. Фихте
ком зла пассивность, инертность природного начала в человеке.
Очевиден антитрадиционализм Фихтевой теории изначального зла.
Приверженность привычному, обжитому и упорядоченному миру
объявляется Фихте источником всех пороков в человеке и всех зол в
общественной жизни — более яркого выражения революционности раннего
Фихте и его учения трудно себе представить. Против человеческой
свободы и автономии выступает не только внешняя природа, но и природа в
самом человеке — и ту и другую он должен одолеть и полностью заставить
служить своей воле.
Фихте пересматривает христианскую доктрину первородного греха,
объявляя источником зла саму природу в ее инертности. Он считает, что
преодолеть это зло может только сам человек, тогда как, согласно
христианскому учению, чудо спасения от греха невозможно без божественной
благодати. Человек, по Фихте, способен совершить такое чудо, потому что
его Я в глубине своей тождественно божественному. Строго говоря,
рождение в свободе, с которого начинается само наукоучение, — это и есть
наибольшее чудо, начало и источник всех прочих удивительных и чудесных
вещей, порождаемых Я. Такое учение можно было бы назвать крайним
антропоцентризмом и индивидуализмом, если бы этот антропоцентризм на
каждом шагу не оборачивался теоцентризмом, а индивидуализм —
крайней тоталитарностью. Это — тот же самый переход индивидуализма в
крайнюю тоталитарность, который мы видим у идеологов Французской
революции, и подоплека у них та же, что и у Фихте: отвержение традиции и
опора исключительно на чистый разум отдельного индивидуума, на
идеалистические представления о природе человеческой и исторической
реальности.
Моральный ригоризм Фихте носит героический характер: в своем
самоосуществлении человек не может рассчитывать ни на что, кроме
собственного Я и его воли к свободе: никакая данность — ни историческая, ни
природная, ни божественная, не может служить ему опорой в этой его
деятельности. Как отмечает немецкий философ Г.Гаймзет, только
самодеятельность есть для Фихте этическая ценность35.
В философии Фихте нашел свое выражение дух протестантизма. И
отношение к преданию и традиции, и этически окрашенный
рационализм, и настаивание на автономии индивидуальной воли, на ее
самозаконности вне и независимо от всякой общины, и отношение к природе как к
средству для нравственного самосовершенствования человека — все это
35 "Актуализм, определивший Фихтево понимание всего духовного,
обнаруживает здесь его ценностную тенденцию: чистая деятельность,
самодеятельность как таковая есть основная этическая ценность" (Heimsoeth.H. Fichte.
S.151).
31
П. П. Гайденко
возможно именно на протестантской почве. Даже фихтевское требование
рассматривать практический разум, то есть волю, как определяющую
способность Я, а теоретический разум, интеллигенцию, как вторичную и
производную представляет собой рационалистический аналог лютеровского
"sola fide" (только верой).
Однако и различие между Фихте и лютеранством весьма
существенное: практический разум, нравственная деятельность — это нечто от веры
отличное: не на Боге как трансцендентном и всемогущем существе, а на
начале бесконечной самодеятельности Я основаны все надежды Фихте на
спасение человека. Хотя протестантизм и отводит важное место
нравственно-этическому аспекту христианской религии, однако он все же не
может быть сведен до конца к этому аспекту, — и это отличает его от
философии Фихте. Как утверждает неофихтеанец Г.Шварц, философия Фихте
"открывает возможность более высокого типа религиозности (чем все
существовавшие прежде. — П.Г.), хотя здесь нет речи ни о трансцендентном,
ни об имманентном Боге"36. Последнее справедливо вполне: Фихте —
особенно в первый период — не признает трансцендентного Бога
христианской религии, как его понимали древние отцы церкви, католическая и
православная церковь и даже основатели протестантизма, настаивавшие
именно на трансцендентности Бога. Что же касается "имманентного
Бога", то здесь возможны разные подходы к Его пониманию: от пантеизма,
признающего Бога имманентным природе, как это мы видим у Спинозы,
Лессинга и Гете, до мистики, которая считает Бога имманентным
человеческому Я, взятому в его корне, источнике и глубине. И хотя пантеизма в
его спинозистском варианте Фихте не разделяет, но к мистике —в
частности к Мейстеру Экхарту — Фихте достаточно близок.
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА ФИХТЕ. Я И ДРУГОЙ
В учении, которое исходит из самодостоверности и самоочевидности
Я, естественно возникает вопрос: как обосновать возможность
существования многих Я, многих самосознаний? Если попытаться вывести другие Я
из первого основоположения, так, как Фихте выводит существование
явлений эмпирического мира и, соответственно, теоретических
способностей, с помощью которых эти явления конструируются, то другие Я не
будут обладать никакой иной реальностью, кроме феноменальной, — ведь
36 Schwarz H. Fichte und wir.S.94. Шварц убежден, что Фихте находится в
полной гармонии с христианством, особенно если принять во внимание ту
роль, какую играет в его учении Евангелие от Иоанна.
32
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
теоретическое познание имеет дело только с феноменами. Но приписать
человеческим существам только феноменальную реальность — значит, с
теоретической точки зрения, впасть в солипсизм, а с практической —
отменить ту самую свободу, ради обоснования которой Фихте, собственно, и
предпринял свое построение. Ибо реализация свободы самосознательного
Я возможна только совместно со всеми остальными людьми, в сообществе
и сотрудничестве с ними — не случайно же исторически проблема свободы
обсуждалась всегда в связи с вопросом о праве, государстве, обществе.
Философия права еще со времен Гуго Гроция есть учение о предпосылках
свободного действия людей, о границах и условиях такого действия.
Именно в философии права и Фихте обсуждает вопрос о
возможности реализации человеческой свободы. Но не только этот вопрос: в силу
самой особенности наукоучения, начинающего с принципа самосознания, в
философии права Фихте решает и задачу выведения чужой
индивидуальности, чужого Я. Более того, в философии права он выводит также понятие
человеческого тела, которое, в отличие от других тел природы, не является
только продуктом теоретических способностей — в противном случае
невозможно было бы, к примеру, считать нарушением права телесное
повреждение, нанесенное другому лицу. Тем самым Фихте устанавливает чисто
практический характер органов человеческой чувственности, видя в них не
продукты природы, а орудия целесообразной человеческой деятельности.
Главный вопрос науки о праве, по Фихте, гласит: "Как возможна
община (Gemeinschaft) свободных существ как таковых" 37. Именно так этот
вопрос был поставлен Французской буржуазной революцией. Свобода,
как показывает Фихте, невозможна вне правового состояния — последнее
необходимо отличать от состояния естественного, в котором не может быть
реализована никакая свобода. Фихте подчеркивает, что в этом вопросе он
следует за Кантом, который в своем трактате "К вечному миру" (1795), в
отличие от Руссо, различает "естественное право" и "естественное
состояние". "Наша теория, — пишет Фихте, — полностью согласуется с
утверждениями Канта, что состояние мира, или правовое состояние, не есть
состояние естественное..." 38
Фихте — более резкий противник теории естественного права Руссо,
чем даже Кант39. С другой стороны, в своем раннем варианте философии
права "Основы естественного права в соответствии с принципами
наукоучения" (1796) он, в отличие от Канта, убежден, что правовая сфера не
может быть произведена из нравственной: она занимает как бы особое — про-
37 Fichte J. G Werke: In 6 Bd. Bd.2.S.89.
38 Ibid. S. 17.
39 См.об этом: Gurwitsch G. Kant et Fichte, interprètes de Rousseau//Revue de
métaphysique et de morale. 76.1971. P.385 - 405.
2-645
33
П. П. Гайденко
межуточное — положение между законами природы и нравственными
законами. "Хотя правило права: ограничивай свою свободу понятием о
свободе всех остальных лиц, с которыми ты вступаешь в контакт, — и получает
новую санкцию для совести через закон абсолютного согласия с самим
собой (нравственный закон), однако философское рассмотрение
нравственного закона составляет предмет морали, а отнюдь не теории права, которая
должна быть особой, не зависимой от других, наукой"40.
Правовой закон, утверждает Фихте, требует, чтобы человек,
живущий в обществе с другими людьми, ограничивал свою свободу, позволяя
тем самым осуществлять свою свободу и всем остальным. Однако
правовой закон, продолжает Фихте, отнюдь не требует, чтобы человек жил в
обществе именно данных людей: каждый человек волен жить в том
государстве и обществе, в каком он хочет. Но, живя в определенном государстве,
он тем самым уже дает согласие соблюдать законы последнего.
Это рассуждение предполагает, что государство есть результат
договора между его гражданами, и в силу договора каждый обязан либо
подчиняться принятым законам, либо избирать себе другое государство, законы
которого ему более по душе. Это — либерально-индивидуалистическая
концепция государства, основанная на принципах общественного
договора, широко распространенная в XVIII в. В Германии договорную
концепцию государства разделял Кант, и ранний Фихте следует здесь за Кантом. С
таким пониманием государства и отношения к нему индивида тесно
связана идея Канта о "праве всемирного гражданства"4I, в духе которого и
Фихте строит свою государственно-правовую теорию в этот, еще
"космополитический", период его развития. Правда, этот период у Фихте
продолжается не очень- долго: уже после 1800 т., а особенно во время наполеоновских
войн, философ пересматривает договорную концепцию государства и ее
предпосылки — индивидуализм и космополитизм.
Исходное положение философии права Фихте гласит: "Конечное
разумное существо не может полагать себя, не приписывая себе свободной
действенности" 42. Свободная действенность Я определяет себя, полагая
некоторый объект — Не-Я, и этот объект ограничивает ее. Только в том
случае, если действенность Я ограничивается объектом, само практиче-
40 Fichte J.G. Werke: In 6 Bd. Bd.2. S. 14. Это отделенное положение права не
так легко сохранить. Сам Фихте в "Опыте критики всякого откровения", в
сущности, выводил право из нравственного закона, а в ранних статьях
("Требование от государей Европы свободы мысли" и "К исправлению
суждений публики о Французской революции") включал право в сферу нрав-
ственности
41 Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1966. Т.6.С.276.
42 Fichte J.G. Werke: In 6. Bd. Bd.2. S.21.
34
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
ское Я выступает как конечное разумное существо. Но для того, чтобы Я
было определенным эмпирическим индивидом, ограничивающее его Не-Я
должно быть определенным эмпирическим предметом. А полагание
определенного предмета может иметь место только в определенный момент времени.
Чем же определяется этот момент времени? Объектом он определяться не
может — в этом случае последнее основание деятельности Я лежало бы не в
нем самом, что невозможно, потому что тогда это была бы не практическая
деятельность, а теоретическое созерцание. Значит, акт полагания должен
быть объяснен из самого Я и в то же время не может быть объяснен из него,
ибо ведь это акт полагания границы для его деятельности. Как может сама
деятельность полагать себе границу?
Как видим, в философии права воспроизводится тот же
методологический прием, который имеет место в общем наукоучении Фихте. Но здесь
подлежит решению другая задача: нужно найти объект, который
побуждает индивида к самоопределению. "Описанное воздействие, — пишет
Фихте, — было необходимым условием всякого самосознания... Поскольку
описанное воздействие есть нечто ощущаемое, оно есть некоторое
ограничение Я, и субъект должен полагать его как таковое; но нет ограничения без
чего-то ограничивающего. Поэтому субъект должен, поскольку он
положил ограничение, полагать также нечто вне себя как основание этого
ограничения ... Что же это должно быть за основание?.. Воздействие было
понято как некоторый призыв субъекта к свободной деятельности..."43
Призыв же, что нетрудно понять, может исходить не от объекта, а
только от другого субъекта, а потому и приходится с необходимостью
допустить существование других Я вне и независимо от нашего самосознания.
Такое решение удовлетворяет условиям поставленной задачи: воздействие
исходит от субъекта (в противном случае тут не будет самоопределения),
но в то же время и не от субъекта — не от того субъекта, который
самоопределяется. Оно исходит от Я и не от Я — от другого Я.
Итак, условием самосознания конкретного эмпирического
индивида может быть только наличие других разумных (свободных) существ.
Обращенный к индивиду призыв к свободному действию Фихте называет
воспитанием свободного человека. Немецкое "воспитание", "образование
(Bildung)", подобно греческой "пайдейе", есть единственный путь к
рождению свободных людей, и не случайно воспитанию и образованию в
Германии начиная с XVII в. придается большое значение. Без другого Я мое
собственное не может стать свободным, ибо свобода присуща человеку не
от природы, а есть продукт общества и культуры. "Человек (как и все конеч-
чные существа вообще) только среди людей становится человеком; и так
43 Fichte J. G. Werke: In 6. Bd. Bd.2. S.39 - 40.
2*
35
П. П. Гайденко
как он не может быть ничем другим, кроме как человеком... то из этого
следует, что если вообще должны быть люди, то должны быть многие"**.
Что человек есть существо социальное, было известно задолго до
появления немецкого идеализма; еще Аристотель определял человека как
существо разумное и социальное. Специфика фихтеанского
доказательства социальной природы человека в том, что оно строится как
идеалистическая по своему характеру дедукция множественности эмпирических
индивидов из принципа самосознания. Как в теоретическом наукоучении
Фихте выводит из самосознания всю природу, так в философии права из
самосознания же он выводит другие самосознания. В силу специфики
исходного принципа дедукция других Я происходит на почве практического,
а не теоретического разума: не созерцание открывает мне существование
других подобных мне существ и не путем теоретического мышления я
узнаю (умозаключаю) об их существовании — последнее открывается мне
в моем практическом действии, в момент реализации моей свободы — в
качестве необходимой предпосылки такой реализации.
Согласно Фихте, мы не познаем, а признаем существование других
подобных нам существ. При этом характерно, что Фихте предлагает два
разных способа признания других Я: в философии права это внешний
призыв другого свободного человека как причина моего самоопределения к
свободе (кстати, оно будет тогда не совсем самоопределение); в философии
нравственности признание других личностей осуществляется, как уже
было показано Кантом, через нравственный закон. Этот последний требует
видеть в других людях такие же самосознательные и свободные существа,
как мы сами, и запрещает рассматривать их лишь как средство для нашего
самоутверждения. Отсюда следует, что нравственность и право должны
быть органически между собой связаны, но в своей ранней философии
права Фихте озабочен как раз их разграничением.
В чем же лежат мотивы такого разделения права и нравственности?
Видимо, одним из мотивов является стремление Фихте в этот период
поддержать идею разделения церкви и государства — церкви как института
нравственного воспитания и государства как института правового45.
В философии права Фихте не ограничивается выведением другого Я
и связанного с этим коллективного сознания 46. Отправляясь от положе-
« Fichte J.G. Werke: In 6. Bd. Bd.2. S.43.
45 См.об этом: Bucher R. Staat und Kirche in der Philosophie J.G. Fichte.
Tübingen, 1952.
46 Сам термин "коллективное сознание" у Фихте еще не встречается, но мысль о
том, что только благодаря взаимодействию индивидов становится возможным
сознание со всеми своими определениями, явственно прослеживается в
философии права 1796 г. Не случайно этой работой так заинтересовались социологи в
XX в. Так, западногерманский социолог Г.Шельский строит свою теорию ге-
майншафта на базе философии права раннего Фихте. См.: Schelsky H. Theorie der
Gemeinschaft nach Fichtes Naturrecht von 1796. В., 1935. S. 15 - 17.
36
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
ния, что признание возможно лишь как взаимное признание47, он
стремится также показать, что человеческая индивидуальность представляет
собой не природную, а социально-практическую реальность. При этом
Фихте поясняет, что такое признание каждый из индивидов должен
осуществлять не просто перед судом собственной совести (это сфера морали, а
не права), а специфическим образом: путем слияния воедино чужого и
моего сознаний, то есть путем создания общего сознания. Это слияние как
раз и конституирует правовую реальность. Отличительный признак
правовой сферы в том, что она касается не внутренного мира человеческого Я,
его образа мыслей, умонастроения и т.д., а только внешних действий.
Право, в отличие от нравственного закона, не требует от человека доброй воли, а
требует лишь поступков, соответствующих закону. Закон же обязывает
признавать свободу всех разумных существ в государстве, то есть не
мешать им в их самореализации. В результате действия каждого должны
ограничиваться определенной областью, определенными объектами, на
которые эти действия направлены. Индивидуальность, таким образом,
определяется через различие, благодаря которому правовые субъекты
выступают как отрицательно определяющие друг друга: индивидуальность
другого — это то, что не есть моя индивидуальность. Следовательно,
индивидуум, по Фихте, есть категория правовая, а не природная.
Создавая таким образом понятие индивидуальности, Фихте
пытается учесть ту критику, которая была высказана многими современниками
по поводу наукоучения 1794 г.: в нем не было дедуцировано различие
между абсолютным ЯиЯ индивидуальным. Еще до написания "Философии
права" 1796 г. Фихте в письме к Якоби объясняет свой замысел: "Мое
абсолютное Я—явно не индивидуум: так истолковали меня оскорбленные
придворные и раздраженные философы, чтобы приписать мне постыдное
учение практического эгоизма. Индивидуум должен быть выведен из
абсолютного Я. К этому наукоучение незамедлительно приступит в философии
права. С помощью дедукции можно обнаружить, что конечное существо
может мыслить себя только как чувственное существо в сфере чувственных
существ, на одну часть которых оно воздействует как причина (на тех,
которые не могут начинать [причинный ряд. — П.Г.]), а с другой частью (на
которую оно переносит понятие субъекта) оно вступает во
взаимодействие, и постольку оно называется индивидуумом. (Условия
индивидуальности называются правами.)... Коль скоро мы рассматриваем себя как
индивидуумов — а мы всегда так рассматриваем себя в жизни, а не в филосо-
47 "Я могу требовать от определенного разумного существа признавать меня
за разумное существо лишь постольку, поскольку я сам обращаюсь с ним
как с разумным" (Fichte J.G. Werke: In 6 Bd. Bd.2. S.48).
37
П. П. Гайденко
фии и поэзии, — мы находимся на той же точке рефлексии, которую я
называю практической (а исходящую из абсолютного Я—спекулятивной)"48.
Фихтева концепция человека полемически заострена против
руссоизма с его постулатом о человеке, первоначально жившем вне общества.
Однако при этом у немецкого философа остается общая с Руссо
договорная теория государства: исходным пунктом для обоих оказывается не
целое, а отдельный индивид и его права.
С понятием индивидуальности Фихте связывает наличие у
конечного разумного существа материального тела. Тело также является знаком
конечности, и без него индивидуальное Я невозможно. Подчеркивая
необходимость тела для реализации правовых отношений между индивидами,
Фихте пишет: "Разумное существо не может полагать себя, не приписывая
себе материального тела..."49
Как видим, само человеческое тело есть реальность не природная, а
нравственно-правовая. "Выведенное материальное тело, — пишет
философ, — положено как сфера всех возможных свободных действий лица — и
ничего более. В этом одном состоит его сущность"50. Тело предстает как
чистое орудие воли, как ее наглядное воплощение. Подобно тому, как
внешняя природа, по Фихте, есть лишь средство (препятствие для
упражнения воли) для достижения целей нравственного Я, точно так же и
природа, явленная в виде нашего тела, служит целям воли и есть чистое орудие, а
не нечто существующее само по себе.
"Для Фихте, — отмечает современная исследовательница Э.Дю-
зинг, — principium individuationis (принцип индивидуации) есть прежде
всего материя, а точнее — телесность Я... Для него "индивидуальность" не
есть представление некоторой индивидуальной духовной энтелехии или
монадического саморазвития отдельного человека в его своеобразии, а
некое относительное понятие (relationaler Begriff). Индивидуальность лиц
создается в отношении противоположности и во взаимоотношениях Я и
Ты в практических действиях"51.
Фихтевское требование полной и гарантированной справедливости,
по духу своему родственное идеалам Французской революции и
оборачивающееся непримиримой критикой всякого исторического государства —
за то, что оно не идеально, — привело философа к пересмотру вопроса о
природе собственности, что он делает в работе "Замкнутое торговое
государство" (1800).
48 Fichtes Leben und literarischer Briefwechsel. Hrsg. von I.H.Fichte. Bd.2. S. 166.
49 Fichte J.G. Werke: In 6 Bd. Bd.2. S.60.
50 Ibid. S.63.
51 DüsingE. Das Problem der Individualität in Fichtes früher Ethik und Rechtsleh-
re//Fichte-Studien. Bd.3. Sozialphilosophie. Amsterdam; Atlanta, 1991. S.36.
38
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
СОБСТВЕННОСТЬ И ГОСУДАРСТВО.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ФИХТЕ
В отличие от Локка, Юма и Канта, считавших, что государство
должно охранять права и собственность индивидов, приобретенные
независимо от него, Фихте предлагает иную теорию государства. Согласно Локку,
государство должно гарантировать человеку три основных,
"прирожденных" его права: на жизнь, на свободу и на собственность. Те же права
признает неотъемлемыми и Фихте. Однако он не согласен признать, что
собственность существует независимо от государства и что оно обязано только
ее охранять. "Назначение государства, — пишет философ, — состоит
прежде всего в том, чтобы дать каждому свое, ввести его во владение его
собственностью, а потом уже начать ее охранять"52.
Такое расширение прав государства по отношению к индивиду
обосновывается требованием равенства всех людей, которое, согласно Фихте,
должно быть не только юридическим, но и экономическим. Равенство —
этот центральный лозунг Французской революции — Фихте толкует в духе
Г.Бабефа, защитника "уравнительного аграрного закона", однако,
пытается предложить новое философское обоснование идеи равенства, так же
как и новое понимание собственности.
Антифеодальная направленность фихтеанской трактовки
собственности очевидна. Фихте не согласен с теми, кто рассматривает
собственность как право на обладание какой-нибудь вещью, и прежде всего самой
"прочной" из "вещей" — землей. Основой собственности, по Фихте,
должна быть не вещь, не объект, а деятельность. "Наша теория устанавливает
первую и первоначальную собственность, основу всякой другой, в
исключительном праве на определенную свободную деятельность "Ч
"Земля принадлежит тем, кто ее обрабатывает" — этот
демократический принцип явственно слышен в словах Фихте о том, что в отношении к
земле "человеку предоставлена лишь возможность целесообразно ее
обработать и использовать"54. Собственность на вещи означает, таким образом,
только право препятствовать всем остальным людям "воздействовать" на
указанные вещи.
Именно потому, что идеальным выражением собственности
является собственность не на землю, а на обработку вещи, в том числе и земли,
вообще собственность на свободную деятельность, образцовым сословием
оказываются не землевладельцы (дворяне), а ремесленники, или, говоря
52 Фихте И.Г. Замкнутое торговое государство. М.,1923. С.ЗЗ.
53Тамже.С82.
«Тамже.С.в*
39
П. П. Гайденко
обобщенно, производители любого рода: даже земледельцы теперь
рассматриваются по модели ремесленников — как специалисты по обработке
почвы.
Характерная особенность фихтевской теории — настаивание на том,
что собственность — это не столько результат деятельности, сколько ее
условие и предпосылка. В самом деле, если в собственности главное — право
на деятельность, то она призвана служить обеспечением будущей
деятельности, ее условием и гарантом, Фихте идет дальше английской
политэкономии, в частности Адама Смита. Считая труд источником всякого богатства,
Смит в то же время определял собственность как вещь, а потому не
дискриминировал прошлого, накопленного результата деятельности. Говоря о
роли государства по отношению к собственникам, Смит замечает: "Только
под покровительством гражданских властей владелец ценной
собственности, приобретенной трудами многих лет, а быть может, и многих поколений,
может (курсив мой. — П.Г.) спокойно спать... Где нет собственности или
где, по крайней мере, собственность не превышает стоимости двух-трех
дней труда, там существование правительства не необходимо"55. Смиту
чужда социалистическая идея Фихте о необходимости передачи государству
функции перераспределения собственности с целью уничтожения
неравенства.
В идеальном государстве Фихте должна быть не только поровну
распределена сфера свободной деятельности между отдельными
индивидами — акт, посредством которого возникает собственность, — но и
обеспечена для всех возможность реализовать эту деятельность. А проблема тут
возникает в связи с тем, что население по необходимости должно быть
разделено на два сословия — тех, кто добывает естественный продукт
(земледельцы), и тех, кто его обрабатывает (ремесленники, промышленники).
Если земледельцы получают свои права на деятельность уже тем одним,
что им принадлежит определенный участок земли, то для
промышленников эти права может обеспечить только государство. В самом деле, как
уравнять в правах тех, кто не имеет недвижимой — земельной —
собственности, с теми, кто ее имеет? Что может дать государство ремесленнику,
точнее, промышленнику (Фихте, как и другие политэкономы XVIII в., не
делает еще принципиального различия между фабрикантом и теми, кто
работает на фабрике, относя их всех к сословию "художников")? "Очевидно,
только гарантию в том, что он всегда будет иметь работу или сбыт своему
товару, и в обмен на них — приходящуюся на него долю в благах страны"56.
55 Смит Адам. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.;
Л., 1935. С.249.
56 Фихте И.Г. Замкнутое торговое государство. С.88.
40
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
Согласно Фихте, государство должно гарантировать своим
гражданам право на труд. Для этого оно должно регулировать процесс разделения
труда и определять число людей, занимающихся той или иной
деятельностью. Но чтобы такое регулирование было возможным, необходимо
изолировать население идеального государства от окружающего мира.
Идеальное государство должно замкнуть свои границы.
Фихте убежден, что главным источником богатства нации является
не приток денег, как это полагали меркантилисты, и не увеличение
непосредственного природного продукта, даваемого земледелием, как
доказывали физиократы, а результаты труда, приносимые промышленностью.
Государство должно стать монополистом в национальной экономике, а
для этого нужно оградить ее от внешних связей и контактов. Изоляция от
внешнего мира, однако, не означает прекращение торгового обмена в
стране, не означает ущемления торгового сословия; Фихте отнюдь не
призывает вернуться к натуральному хозяйству.
Только замыкание национального государства, прекращение
торговли и обрыв всех внешних связей с окружающим миром может, по
убеждению Фихте, обеспечить равенство и справедливость в распределении
совокупного продукта, прекратить экономическую конкуренцию, эту "войну
всех против всех". До сих пор нация была связана общими законами и
общим судом, то есть политико-юридически; в идеальном государстве она
будет связана также и общим "национальным имуществом", то есть
экономически. Но для этого необходимо изъять у населения "мировые
деньги", прежде всего золото и серебро, и ввести местные деньги, имеющие
обращение только в данном государстве.
Итак, для граждан идеального государства отношения с заграницей
запрещены полностью; исключение составляют только ученые и самые
выдающиеся художники: наука и искусство, как убежден наш философ,
носят всеобщий характер, а потому не могут развиваться в изоляции.
Утопические государства нового времени нередко представлялись
их создателям совершенно замкнутыми и изолированными от внешнего
мира: не случайно они и помещались, как правило, на островах и у Томаса
Мора, и у Кампанеллы, и у Фр.Бэкона. У последнего, кстати, в "Новой
Атлантиде" никто из жителей не должен соприкасаться с внешним миром,
кроме ученых; последние специально посылаются за границу, чтобы
узнавать о новых открытиях и внедрять их на родине. У Платона, создателя
первой такого рода утопии, тоже была мечта о государстве, которое самой
природой было бы изолировано от других и размещалось бы на острове —
отсюда его интерес к затонувшей Атлантиде. Фихте же планирует создание
"острова" на Европейском континенте; будущее Германии грезится ему в
виде "искусственного острова" — замкнутого торгового государства.
41
П. П. Гайденко
Конечно, политическое учение Фихте в известной мере обусловлено
специфической для Германии того времени социальной и экономической
ситуацией. Экономическая отсталость Германии, особенно по сравнению
с Англией и Францией, политическая раздробленность ее,
затруднявшая — в силу таможенных перегородок между отдельными княжествами —
ее хозяйственное развитие, — все это не могло не вызывать стремления к
объединению страны как условию ее экономического благосостояния.
Однако только экономической отсталостью Германии
национальный вариант фихтеанского социализма не объяснить. Тут перед нами —
обычная судьба всякого радикализма, экстремизма: Фихтево требование
полного освобождения индивида обернулось тоталитаризмом "идеального
государства".
Социалистическая утопия Фихте с самого начала таит в себе
глубокое противоречие. Мыслитель, у которого принцип свободы составляет
альфу и омегу его учения, приходит к требованию регламентации всей
жизни и деятельности индивидов, составляющих идеальное государство.
Последнее определяет оптимальный способ разделения труда, указывает
каждому, какую профессию он должен избрать, устанавливает цену всех
продуктов труда и само становится, таким образом, посредником обмена.
При этих условиях человек целиком определяется государством; в такой
парадоксальной форме Фихте предлагает реализовать неотъемлемое право
каждого на свободу деятельности.
ОТ АБСОЛЮТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К АБСОЛЮТНОМУ БЫТИЮ.
ФИЛОСОФИЯ ФИХТЕ ВТОРОГО ПЕРИОДА (1800 - 1814)
Переход к новому столетию оказался весьма драматичным для
Фихте. 1799—1801 гг. стали переломными в его творчестве. И это не случайно.
Не говоря уже о нашумевшем "споре об атеизме", вынудившем философа
в 1799 г. покинуть Йенский университет, где так счастливо началась его
академическая деятельность, — в том же году с резкой критикой наукоуче-
ния выступил Кант, чей авторитет был для Фихте вне всяких сравнений.
Фридрих Якоби, глубину мысли которого наш философ неоднократно
отмечал и дружбой с которым очень дорожил, в своей работе "Письмо к
Фихте" (1799) квалифицировал трансцендентальный идеализм как нигилизм
(сам этот, ставший затем столь популярным термин впервые был
употреблен именно Якоби) и безбожие. И наконец, Карл Рейнгольд, одним из
первых приветствовавший рождение "новейшей философии" и
объявивший себя последователем Фихте, в 1800—1801 гг. отошел от наукоучения,
предпочтя ему "логический реализм" мало известного тогда К.Г.Бардили.
42
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
Но, пожалуй, самым болезненным для Фихте был разрыв его с младшим
другом и учеником — Шеллингом, который тоже пришелся на начало
нового столетия57.
Все это, вполне естественно, вызвало у Фихте потребность заново
обосновать, углубить, а во многом и пересмотреть принципы раннего нау-
коучения.
Интересно, что еще в 1798 г., в своей работе "Система учения о
нравственности согласно принципам наукоучения", философ развивал те
идеи, которые составили содержание его работ 1794 г. Определяя ключевое
понятие нравственности — понятие воли, Фихте видит в воле стремление к
абсолютному самоопределению, исключающему какую бы то ни было
зависимость от Не-Я. Эта зависимость выражается прежде всего во
влечениях58. Воля как чистая автономия, самозаконность предполагает
освобождение как от влечений, так и от подчинения какому бы то ни было внешнему
закону, который дан воле извне (гетерономию). Отсюда вытекает
положение философии нравственности: существенный характер Я состоит в
самодеятельности ради самодеятельности.
Я, как подчеркивает Фихте, во всех отношениях есть свое
собственное основание; в практической сфере оно абсолютно полагает само себя.
Свободное, а значит разумное, существо абсолютно, самостоятельно, есть
основание самого себя. Первоначально, то есть без своего содействия, оно
есть ничто; не только чем-то определенным, но и вообще сущим оно делает
себя само — своим свободным, спонтанным актом.
Стала быть, свобода, как ее понимает здесь Фихте, есть принцип
самостоятельности. Моральное существование, по словам философа, — это
непрерывное законодательство: разумная воля постоянно дает законы
самой себе. Прекращение такого законодательства означает, что наступило
неморальное состояние. Что же касается содержания морального закона,
то оно сводится только к абсолютной самостоятельности и невозможности
определяться чем бы то ни было, кроме самого Я. Принцип
нравственности, заключает Фихте, есть необходимая мысль разума о том, что он
должен определять свою свободу согласно понятию самостоятельности.
1800 год стал рубежом в творческом развитии Фихте. Начиная с этого
периода Фихте постепенно переходит от абсолютизации принципа
деятельности к углубленному религиозно-мистическому созерцанию. При
57 Интересный анализ этого периода в развитии не только Фихте, но и
немецкого идеализма в целом дан в работе: Lauth R. Hegel vor der
Wissenschaftslehre. Stuttgart, 1987.
58 От объектов своего влечения зависит тот человек, который ищет только
наслаждения; такой человек, по Фихте, является лишь естественным
(природным), но аморальным существом: он не самодостаточен, а определяется
чем-то данным, вне его существующим.
43
П. П. Гайденко
этом пересматриваются и основные положения этики, и правовая теория,
и учение о государстве: существенно смещаются акценты в понимании
свободы; создается философско-историческая концепция, весьма
пессимистически оценивающая современное состояние человечества;
углубляется критика Просвещения с ее
индивидуалистически-космополитической установкой.
На эволюции воззрений философа сказалось изменение
социальной и политической ситуации в Европе на рубеже двух столетий. В 1799 —
1800 гг. наметился поворот в общественном сознании Германии по
отношению к Французской революции: даже те, кто принимал ее и
приветствовал, к началу нового столетия вынуждены были задуматься над ее итогами.
К ним, очевидно, принадлежал и Фихте, один из энтузиастических
защитников идеалов Французской революции в своих первых сочинениях и
наиболее яростных противников Наполеона с того самого момента, как тот
пришел к власти.
Немалую роль в эволюции воззрений Фихте сыграли романтики —
Фр.Шлегель, Шлейермахер, ближайший ученик и последователь Фихте —
Шеллинг. И не в том смысле, что Фихте принял те поправки, уточнения, ту
интерпретацию, которую его учение получило у Шлегеля или
Шеллинга, — как раз наоборот: по большей части Фихте отталкивался от
романтического истолкования наукоучения, не принимал ни эстетизма
романтиков, ни натурфилософии Шеллинга, которую считал уступкой пантеизму,
ни культа эстетической индивидуальности Шлейермахера. Одним словом,
Фихте стремился спасти наукоучение от тех, кто, по его мнению, искажал
его истинное содержание — прежде всего от учеников и продолжателей.
Был, однако, один пункт, который стал главным предметом
размышлений Фихте второго периода — вопрос о субъективизме
наукоучения. Вокруг этого вопроса развернулась полемика между Шеллингом и
Фихте, получившая отражение в переписке философов как раз в 1800 г.
Для объяснения изначальной ограниченности Я (первотолчка), из
которого исходит наукоучение 1794 г., Шеллинг предлагает выйти за
пределы Я. Фихте решительно с ним не согласен. Он убежден, что выйти за
пределы Я — значит оставить почву трансцендентальной философии и
вернуться к спинозизму. Фихте, однако, согласен со своим младшим
другом, что необходимо уточнение исходного понятия наукоучения —
понятия Я. До сих пор, по утверждению самого Фихте, он разрабатывал свою
систему, оставаясь в рамках Я как конечной интеллигенции. И хотя в этих
рамках ему удалось вывести природу, однако не удалось ясно показать, что
такое сама конечная интеллигенция и в каком отношении она находится к
Абсолюту, а тем самым остался неясным источник конечности (ограниченности)
малого Я. Признавая этот недостаток своей системы, Фихте вслед за Шел-
44
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
лингом согласен допустить в природе некоторое умопостигаемое начало,
не выводимое из конечной интеллигенции. Это уже серьезный шаг к
пересмотру наукоучения59.
Шеллинг обвиняет Фихте в том, что последний отождествил
Абсолют с деятельностью Я. По отношению к наукоучению 1794 г. упрек
Шеллинга справедлив. Фихте признает некоторую справедливость критики
Шеллинга и говорит, что уже в его последней работе "Назначение
человека" сделана попытка — правда, еще только в виде намека — пересмотреть
психологическое понимание Я в раннем наукоучении 60. Более того, как
явствует из письма Шеллингу от 15 января 1802 г., Фихте вообще больше
не отождествляет Абсолют со сферой знания. Абсолютное знание, пишет
Фихте, имея в виду уже, видимо, и позицию Гегеля, а не только
Шеллинга, — это Абсолютное, взятое в его отношении к многообразию, а не
Абсолютное само по себе.
Шеллингово понимание Абсолюта как безразличия идеального и
реального, мышления и созерцания Фихте считает возвращением к
спинозизму: Шеллинг, по Фихте, уже с самого начала находит в Абсолюте то, что
еще только должно быть из него выведено. Каким образом из Абсолютного
возникает бесконечность многообразного, или, говоря словами Платона,
из единого возникает многое — вот, по Фихте, главный вопрос
спекулятивной философии. "Откуда, — пишет он, — происходит форма, в которой
выступает Абсолютное... в чем, собственно, коренится эта форма, то есть
каким образом Абсолютное сперва становится бесконечным, а затем
превращается в тотальность многообразного, — это вопрос, который должна
решить доведенная до конца спекуляция и которую Вы с необходимостью
должны игнорировать, так как Вы уже находите эту форму в Абсолютном и
одновременно с ним. Именно здесь, в области, которую Вы закрыли для
себя Вашей новой системой... лежит идеализм наукоучения и идеализм
Канта, а вовсе не глубоко внизу, куда Вы его поместили"61.
Суть критики Фихте в адрес Шеллинга в том, что у Шеллинга многое
изначально дано вместе с Единым; по мнению Фихте, с которым в этом
пункте можно согласиться, это и есть главное отличие пантеистического
понимания Бога. "Так обстоит дело, — продолжает Фихте, — у Спинозы.
Единое должно бытьвсел* (точнее, бесконечным, так как для Спинозы,
собственно, тотальности не существует)... Но каким образом Единое
становится всем и все становится Единым, то есть какова точка перехода,
поворота и реального тождества, —об этом Спиноза нам не может сказать;
поэтому, охватывая все, он утрачивает Единое, а постигая Единое, утрачивает
59 J.G.Fichtes Leben und literarischer Briefwechsel. Bd.2. S.321—322.
»Ibid.S.322.
61 Ibid. S.357-358.
45
П. П. Гайденко
все. По этой причине Спиноза и отождествляет без дальнейшего
доказательства две основные формы Абсолютного, бытие и мышление, точно так
же, как это делаете и Вы, что совершенно неправомерно с точки зрения
наукоучения. Но мне кажется ясным, что Абсолютное может иметь только
абсолютное проявление, то есть только одно (простое, вечно равное себе)
проявление в отношении к многообразию; и это есть абсолютное знание.
Само же Абсолютное есть не бытие, но и не знание, и не тождество, или
безразличие обоих, — оно есть именно Абсолютное, и всякое другое слово
здесь излишне"62.
Фихте формулирует то принципиальное изменение, которое
определяет характер его системы во второй период: наукоучение теперь есть не
теория Абсолюта, а теория абсолютного знания. Что же касается самого
Абсолюта, то он, по Фихте, не может иметь никакого определения, ибо стоит
выше всякого возможного знания. Поэтому его нельзя назвать ни бытием,
ни знанием, ни тождеством, ни безразличием бытия и знания, как
определяет Абсолют Шеллинг в начале 1800-х годов.
В своем понимании Абсолюта Фихте, таким образом, в
определенной мере возвращается к традициям неоплатонизма, которые в Германии
нашли свое продолжение в мистике Экхарта. Согласно неоплатоникам,
высшее начало всего сущего — Единое — не может быть ни постигнуто, ни
определено, поскольку оно "не допускает причастности себе"63.
Рассмотрение Единого как раз в связи с проблемой причастности мы находим
впервые в диалоге Платона "Парменид", к которому восходят
неоплатонические спекуляции о природе Единого. В "Пармениде" различается
Единое, которому ничто не причастно, и Единое, которому причастно
многое. Такое же различение проводит вслед за Платоном и Прокл.
Единое, не допускающее причастности себе, есть высшее из начал. "Все, не
допускающее причастности себе, — гласит § 1 "Первооснов теологии", —
дает существование тому, что допускает причастность себе" м.
Прокл, как видим, решает проблему Абсолюта иначе, чем Спиноза; у
Спинозы, как справедливо отмечал Фихте, Единое есть все, и все есть
Единое. Согласно же Проклу, Единое как высшее первоначало не существует
во всем, ибо "то, что существует во всем, будучи разделенным на все, в
свою очередь нуждается в том, что объединяет это разделенное"65. Единое
поэтому предстает в двух ипостасях: Единое как таковое, не допускающее
причастности себе, и Единое, которому причастно все, но оно уже является
вторичным и есть "Единое во всем". Единое, не допускающее причастно-
61 J.G.Fichtes Leben und literarischer Briefwechsel. Bd.2. S.366-367.
63 Прокл. Первоосновы теологии/Перев. А.Ф.Лосева. Тбилиси, 1971. С.40.
64 Там же.
65 Там же.
46
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
ста себе (ибо причастность есть начало множественности), находится вне
всякого отношения, а потому непостижимо. Во всех рассуждениях и
размышлениях мы имеем дело уже с Единым, причастным многому, то есть
уже как бы с образом, отображением Единого, а не с ним как таковым.
Вот порядок, установленный Проклом: "Не допускающее
причастности себе предшествует допускающему ее, а это последнее предшествует
тому, что причастно (ему). Ибо, коротко говоря, первое есть Единое до
многого; допускающее же причастность себе находится во многом, оно
есть и Единое, и не Единое вместе, а все причастное (чему-то) не едино и в
то же время едино"66.
Нетрудно увидеть, что Фихтево Абсолютное, не имеющее никаких
определений, — это Проклово Единое, не допускающее причастности
себе67. А то Единое, которому причастно многое, Фихте называет
абсолютным знанием. "Абсолютное, — пишет он, — может иметь только одно
проявление в отношении к многообразному: это проявление есть абсолютное
знание" 68. Таким образом, знание, по Фихте, оказывается единственным
способом явления Абсолюта, его присутствия во многом, во всем.
Мы не видим оснований для различения после 1800 г. еще двух
периодов в творчестве Фихте — периода абсолютного знания (с 1800 г. до
1806 г.) и абсолютного бытия (с 1806 г. до конца жизни), как это делает
немецкий философ ЮДрекслер69. Из писем к Шеллингу видно, что уже
начиная с 1801 г. Фихте не рассматривает абсолютное знание в качестве
высшего первоначала. Он видит в нем обнаружение Абсолюта, способ
откровения его для Я—позднее он называет его также образом, ликом (Gesicht) —
ибо как данный для Я, как открытый Я он только и может быть предметом
мысли. Вот как представляет себе Фихте соотношение Абсолюта и его
образа во второй период: "Сам по себе безусловно существует только еди-
66 Прокл. Первоосновы теологии. С.40—41.
67 Близость наукоучения второго периода к неоплатонизму подчеркивал в
свое время Б.Вышеславцев, указывая на сходство систем Фихте и Плотина:
"Внимательный и беспристрастный исследователь философии Фихте,
знакомый вместе с тем с Плагином, будет на каждом шагу с удивлением
убеждаться в глубоком внутреннем сходстве этих систем; он увидит, что второй
период философии Фихте (а к нему только и относится, конечно, это
сходство) углубляется и уясняется при помощи Плотина. И у Плотина
восхождение к последнему Единому оставляет за собою ступени предметного
чувственного мира, мира возникновения и уничтожения, природы... затем —
души, сознания, далее — разума, мира идей, как и у Фихте определяемого
как противопоставление, расчленение, чтобы наконец прийти к тому, что
лежит по ту сторону всякого разумения... Вместе с тем это высшее Единое...
лежит в основе всего, все держит собою" {Вышеславцев Б. Этика Фихте.
С.241).
68 J.G.Fiches Leben und literarischer Briefwechsel. Bd.2, S.367.
69 Drechsler J. Fichtes Lehre vom Bild. Stuttgart, 1955.
47
П. П. Гайденко
ный Бог, и Бог не есть мертвое понятие, только что нами высказанное, но
он сам в себе есть чистейшая жизнь. Он не может в самом себе изменяться
или определяться и делать себя иным бытием, ибо в его бытии дано все его
бытие, и вообще все возможное бытие, и ни в нем, ни вне его не может
возникнуть новое бытие. Итак, если знание все же должно быть и не должно
быть самим Богом, то, так как ничего нет, кроме Бога, оно может быть
только Богом, но Богом вне Бога; бытием Бога вне его бытия; его
обнаружением, в котором он вполне таков, как он есть, оставаясь в то же время в
самом себе вполне таковым, как он есть. А такое обнаружение есть образ
или схема"70.
У позднего Фихте, таким образом, Единое, или первожизнь, не
совпадает с Я, с абсолютным знанием. В наукоучении 1804 г. Фихте пишет, что
"жизнь как таковая не может состоять в опосредовании (Durch), хотя
форма, какую принимает жизнь, как переход от одного к другому, заключается
в опосредовании"71. Как замечает в этой связи немецкий философ В.Янке,
"Фихте (в последний период. — П.Г. ) противостоит сильному соблазну
нового времени поставить бессмертное Я на то место, которое в
рациональной теологии занимал Бог философов"72.
Здесь мы видим отличие позднего Фихте от Гегеля (как и от
Шеллинга времен переписки с Фихте): Гегель был убежден, что абсолютное
знание есть полное самораскрытие Бога и что говорить о Боге, как он
существует сам в себе, и об абсолютном знании — это совершенно одно и
то же. Не случайно Гегель критически относился к творчеству позднего
Фихте, считая, что самым высоким достижением его учения была система
1794 г., несмотря на недостатки психологизма и субъективизма,
на-которые Гегель неоднократно указывал73.
70 Фихте И.Г. Факты сознания. СПб., 1914. С. 135.
71 Fichte J.G. Nachgelassene Werke/Hrsg, von I.H.Fichte. Bd.2. S.170.
nJanke W. Einheit und Vielheit. Gründzüge von Fichtes Lebens-und Bildlehre//
Einheitskonzepte in der idealistischen und in der gegenwärtigen Philosophie.
Bern; Frankfurt / M.; New York; P., 1987. S.47.
73 В европейской философии настолько утвердилась идея прогрессивного
развития, предполагающая несомненное превосходство каждого
последующего мыслителя над предыдущим, что в течение XIX и даже XX в. немногим
удавалось в полной мере оценить значение второго этапа в творчестве
Фихте, когда философ попытался преодолеть ту тенденцию к пантеистическому
имманентизму, которая получила свое наиболее законченное выражение в
учении Гегеля. И понятно: гегельянски ориентированная история
философии второй половины прошлого века склонна была именно в Гегеле видеть
вершину не только немецкого идеализма, но и европейской философии
вообще. Тем ценнее те немногие исследования, в которых пересматривается
этот глубоко укоренившийся предрассудок. К ним, в частности,
принадлежит уже упомянутая работа известного немецкого философа РЛаута "Hegel
vor der Wissenschanslehre", где автор обстоятельно показывает, что Гегель, в
сущности, вернул трансцендентальную философию к догматизму, против
48
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
При этом, однако, важно иметь в виду, что абсолютное знание, по
Фихте, не есть результат действия Бога, подобно тому как в первом
варианте наукоучения относительное Я и Не-Я были результатом деятельности
абсолютного Я. Бог-Бытие, в отличие от Бога -Образа не может быть прича-
стен многому, а потому ему чужда какая бы то ни была деятельность,
изменение, стремление и т.д. Абсолютное знание есть только следствие бытия
высшего Абсолюта. "Если эта система (т.е. абсолютное знание. — П.Г.)
существует, то она безусловно существует только потому, что существует Бог,
и так же верно, как он существует, и она не может не быть, — это может
стать ясным только через непосредственное бытие схемы, ибо она
существует только непосредственно. Но никоим образом не следует
представлять ее как действие Бога, вызванное особым актом его, ибо таковой
вызвал бы изменение в нем самом; но ее следует рассматривать как
непосредственное следствие Его бытия" 74.
Отсюда ясно, что схема не есть творение Бога в том смысле, в каком
которого так страстно выступал Фихте, и в своем истолковании понятия
свободы зачеркнул то, что до него было достигнуто Кантом и Фихте.
Необходимо отметить, что одна из наиболее глубоких работ, где в
полной мере оценено значение того поворота, который совершил поздний
Фихте, принадлежит перу выдающегося русского мыслителя Л.МЛопати-
на. Я имею в виду речь Лопатина, прочитанную на торжественном
заседании Московского психологического общества, устроенном 22 марта 1914 г.
в память столетия со дня смерти Фихте, и опубликованную в журнале
"Вопросы философии и психологии" в 1914 г. (кн.123, III. С.120—142). В своей
речи Лопатин дал краткий, но глубоко продуманный анализ раннего
наукоучения, а затем показал содержание того перелома в миросозерцании
Фихте, который произошел во второй период. "Часто раздаются голоса, что во
взглядах Фихте в течение его жизни не произошло никаких существенных
изменений и что система его всегда оставалась одною и той же... Мне
кажется, что источник разногласий в этом пункте зависит от того, о чем именно
ставится вопрос: о системе Фихте или о миросозерцании Фихте? Если иметь в
виду только его систему в тесном значении слова, т.е. только внешнюю схему
его умозрительных построений, то с известным основанием можно
говорить, что она мало изменилась во второй период творчества Фихте: к ней
только были прибавлены новое начало и новый конец. Но если речь
подымется о миросозерцании Фихте в его живом целом, то... отрицать
происшедшие в нем очень важные преобразования — значит идти против всякой
очевидности. Если один и тот же человек то отрицает Бога и открыто
проповедует атеизм, то горячо верит в независимую реальность Бога и даже в нем
одном только и усматривает реальность, если этот человек то полагает
самостоятельную действительность только в индивидуальном человеческом Я,
то видит в мнимой самостоятельности этого Я лишь образ образа и тень
тени; если, наконец, он то признает за высшую задачу жизни безграничное
осуществление своей свободы и самодеятельности, то, напротив, ищет
смысла жизни в самоотверженной любви к людям и о забывающем о себе
единении с Богом и радостном Его созерцании, — можно ли... настаивать,
что в миросозерцании этого человека никаких существенных перемен не
произошло?" (Лопатин Л. М. Общее миросозерцание Фихте .//Вопросы
философии и психологии. 1914. Кн.123. С. 140—141.)
74 Фихте. Факты сознания. С. 135.
49
П. П. Гайденко
понимает мир и человека христианская теология. Нет речи у Фихте и об
эманации или истечении образа Бога, — неоплатоническая традиция здесь
не принимается Фихте: ведь у него речь идет не о соотношении двух разных
уровней, так сказать, объективного бытия, как у неоплатоников, а о
соотношении бытия и его образа, то есть бытия и знания — о соотношении,
поставленном в центр внимания новым временем, и особенно —
трансцендентальным идеализмом. То, что в ранний период получило имя Я (со всем
нерасчлененным многообразием значений), во второй период Фихте чаще
называет знанием, пытаясь тем самым ослабить субъективистское звучание
исходного понятия своей системы. Однако и принцип Я сохраняет свое
значение и нередко встречается в работах второго периода, ибо именно с
помощью понятия Я Фихте хочет подчеркнуть важнейший для него
принцип непосредственной очевидности, непосредственной достоверности
как важнейшее требование трансцендентализма.
Фихте хотел бы снять упрек в субъективном идеализме, в
индивидуализме также и применительно к своему раннему наукоучению. "Очень
часто наукословие понимали так, — пишет он, — как будто оно приписывает
индивиду действия — например, создание всего материального мира и т.п.,
которые совершенно ему не могут принадлежать... Утверждающие это
люди впали в это недоразумение потому, что сами приписывают индивиду
гораздо больше, чем следует... Неправильно поняв наши первые
основоположения, они принуждены вносить эту ошибку в дальнейшее развитие
нашей системы. ...Но они совершенно ошибаются: не индивид, а единая,
непосредственная, духовная жизнь есть создатель всех явлений и самих
являющихся индивидов. Поэтому-то наукословие строго требует, чтобы
эту жизнь представляли чистой и без всякого субстрата (таковым у наших
обвинителей именно и служит индивид, и отсюда все их заблуждения)" 75.
Единая жизнь, или знание, — вот то, с чем теперь имеет дело науко-
учение. Фихте так и говорит: "...предмет нашего исследования — жизнь,
или, что то же, — знание..."76 Знание — не принадлежность того, кто знает,
скорее знающий есть принадлежность знания. "Знание безусловно, оно
имеет самостоятельное существование и есть единственное
самостоятельное существование, нам здесь известное"77.
Когда Фихте говорит об абсолютном знании как о той почве, на
которой стоит наукоучение, то может сложиться не совсем адекватное
представление о смысле этого понятия, поскольку неизбежно возникает
ассоциация с аналогичным термином гегелевской философии. Абсолютное
знание у Фихте не означает полностью завершенного, законченного зна-
75 Фихте И.Г. Факты сознания.С.58—59.
76 Там же. С. 125.
77 Там же. С. 128.
50
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
ния, которое содержит в себе исчерпывающую "информацию" обо всем
сущем. Такое понимание абсолютного знания в рамках фихтевского
идеализма невозможно, поскольку, в отличие от Гегеля, Фихте всегда отделяет
фактическое содержание любого знания от его всеобщих условий
возможности, которые только и исследует (дедуцирует) наукоучение.
Соотношение всеобщего и особенного Фихте трактует не так, как Гегель, а так, как
Кант. Абсолютное знание как особый термин означает у Фихте только, что
Абсолютное явлено нам только как знание и только в этом качестве может
быть предметом философии78.
Во второй период Фихте, как видно из всего изложенного, двигался к
объективному идеализму и в этом направлении уточнял принципы своей
системы. В этом отношении он развивался в русле общей тенденции,
характерной для немецкой философии первой трети XIX в. Как справедливо
отмечает Б.Вышеславцев, "движение в сторону абсолютного идеализма
(преодолевающего субъективный идеализм) захватывало тогда всех: и
Фихте, и Шеллинга, и Гегеля, и Шлейермахера, и Шлегеля, и Якоби. Все
они мыслили совместно"79.
Но если учение об Абсолюте и его образе — абсолютном знании — не
может быть понято ни как философский вариант христианского учения о
сотворении мира Богом, ни как неоплатоническая идея эманации, то к
какой же традиции восходит Фихте, есть ли у него исторические
предшественники? Учение Фихте позднего периода (а в известной мере и раннего)
по духу своему близко к немецкой мистике, особенно к Мейстеру Экхарту,
у которого заложена тенденция к пантеизму, — и именно пантеизму
свободы, который мы находим у Фихте. Даже особенности развития Фихте от
субъективного идеализма к объективному во многом можно объяснить,
обратившись к мистике Экхарта. Как раз у Экхарта происходит сближение
божественного и человеческого, какого не допускает ортодоксальная
христианская доктрина, а именно: глубина человеческой души оказывается
вынесенной за пределы тварного бытия. Поэтому душа у Экхарта именует-
78 Это значение термина "абсолютное знание" у Фихте правильно
охарактеризовал Ж.Ипполит. "Абсолютное знание является (для Фихте. — П.Г.) не
историческим концом знания, а оправданием его открытости. Спросить:
"Как возможен опыт?" — это все равно, что спросить: "Как возможна
встреча, если она не скрывает в себе абсолютной трансценденции?" "Мы
встречаем лишь то, что постигаем, но постигаем мы лишь то, с чем встречаемся".
Встреча и постижение взаимно обусловливают друг друга — это тема,
которую в абстрактном виде проводит Фихте" (Hyppolite J. Die Fichtesche Idee der
Wissenschaftslehre und der Entwurf Husserls. // Husserl et la pensée moderne.
Den Haag, 1959. P.185). Действительно, абсолютное знание есть исходное
условие открытости опыта. Ипполит, правда, описывает учение. Фихте в
терминах современной феноменологии, но это потому и возможно, что
Гуссерль, как и Фихте, строит свое учение как трансцендентальную
философию.
79 Вышеславцев Б. Этика Фихте. С.345.
51
П. П. Гайденко
ся "вечным Словом Божиим"80, по существу, Богом-Словом, и каждый
человек в темной и непостижимой глубине своей души есть, таким образом,
Сын Божий, Иисус Христос. Вот почему Экхарт вправе сказать, что "у Бога
во всем существе Его нет ничего столь сокровенного, что было бы
недостижимо для души..."81. Таким образом, происходит снятие
трансцендентности Бога по отношению к человеческой душе, освобожденной от своих
конечных, эмпирических определений: в своей непостижимой глубине душа
оказывается трансцендентной всему сотворенному миру, а Бог перестает
быть трансцендентным по отношению к этой сокровенной глубине души.
Согласно Экхарту, каждый человек в праоснове своей души есть
Богочеловек, Иисус Христос; последний, таким образом, теряет свою историчность
и уникальность и становится вечным началом в каждом человеке. "Чем
больше человек отрекается ради Бога от самого себя и становится единым с
Богом, тем больше он Бог и тем меньше он творение..."82.
Экхарт различает внешний (тварный) и внутренний (нетварный)
уровни души. К внешнему уровню принадлежат способности души,
которые могут существовать лишь деятельным образом и связывают человека с
внешним, сотворенным миром. Внутренняя же глубина от этих
способностей и от всякой деятельности отрешена. Поэтому, отвернувшись от
множества сотворенных вещей и погрузившись в темное лоно своей души, где
нет ни деятельности, ни движения, ни изменения, ни множества, а только
тишина и покой, человек, по Экхарту, получает возможность вернуться к
Божеству, слиться с Ним воедино. "Свет души... имеет больше единства с.
Богом, чем с какой- либо из сил души..." 83 Блаженство же "заключается в
том, чтобы Бог и я стали одно..."84.
Именно возможность вынести человеческое Я за пределы всего твар-
ного создает предпосылку пантеизма свободы, как мы назвали философию
Фихте. Пантеизм природы, как он выразился у Спинозы, в качестве
предпосылки имеет отрицание тварности мира и тем самым отрицание
трансцендентного христианского Бога; фихтеанский же пантеизм первого
периода отвергаеттварностьЯ—той "части" души, в которой последняя сли-
тасЪбгом. В результате отвергается также трансцендентность Бога по
отношению к душе, как это было и у Экхарта, а творение мира (ибо
эмпирический мир, природа не обладает у Фихте самостоятельным бытием)
предстает в форме порождения его творческой деятельностью Я.
В первый период Фихте, в сущности, отождествляет Бога с бессозна-
80 Духовные проповеди и рассуждения Мейстера Экхарта. М.,1912. С. 139.
81 Там же. С. 120.
82Тамже.С38.
83 Там же. С.38.
84 Там же. С. 53.
52
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
тельной деятельностью абсолютного^, которое обретает сознание только в
Я конечном, в человеке. Стало быть, подлинную реальность Бог имеет
лишь в единстве с человеком — в виде единства-противоположности
абсолютного и конечного Я. Такое рассуждение неприемлемо не только для
христианской теологии, но и для античной, средневековой и
новоевропейской философии, включая и Канта. С точки же зрения пантеизма свободы
Фихте, Бог и человеческое Я настолько сомкнуты, что провести границу
меж ними, в сущности, невозможно, граница то возникает, то исчезает: это
и есть "пульсация", составляющая диалектический метод Фихте. В рамках
этого построения Бог претерпевает становление, развитие:
диалектический процесс порождения мира из первопринципаЯ — это есть эволюция,
порождение самого абсолюта. Именно здесь источник обвинений Фихте в
атеизме: наукоучение и в самом деле не признает трансцендентного
личного Бога христианской религии. Человек, по Фихте, если он освободится
от своего природного, определяемого чувственными влечениями
бездуховного состояния, станет Богом: он и есть та точка, в которой
самореализуется Бог. Любопытно замечание Фридриха Шлегеля, близкого друга
Фихте, высказанное в рецензии на работы философа 1806—1807 гг.: "У
Фихте возникает затруднение: как избежать своеобразного политеизма?..
Согласно Фихте, каждый живущий в божественной идее разумный
индивидуум создает нечто совершенно новое... отличное от созданного всеми
другими и совершенно оригинальное. Но так как вечное Божество,
открывающееся в этом индивидууме, существует лишь постольку, поскольку оно
открывается, а каждый индивидуум — совершенно особенный и отличный
от остальных, то отсюда, видимо, следует, что все эти индивидуумы, все
истинные герои и религиозные деятели — это множество божественных
индивидуумов, или индивидуальных богов" 85.
Шлегель оговаривает, что речь идет, конечно, не о богах в смысле
пантеистической мифологии древних, — и мы хорошо знаем, о каких
индивидуальных богах ведет речь теоретик романтизма: в его интерпретации
единство абсолютного и конечного Я являют нам художественно
одаренные натуры — гении. Именно романтический культ гениальной
индивидуальности (вернее, множества индивидуальных богов-гениев) расцвел на
почве Фихтева божественного Я благодаря прежде всего кружку Шлегелей,
особенно Фридриха. Однако сама по себе постановка вопроса о множестве
богов, точнее, человекобогов постхристианской эпохи, незнакомых
античности, по отношению к Фихте вполне уместна. Титанизм фихтеанства,
особенно раннего периода, связан с тем, что человек наделяется неведо-
85 Schlegel F. Studien zur Philosophie und Theologie. München; Paderborn; Wien,
1975. S.78.
53
П. П. Гайденко
мой ему прежде мощью и возможностями: он действительно несет в себе
Бога, и нет иного Бога, кроме присутствующего в духе человека. В этом
смысле прав А.Ф.Лосев, указывая, что философия раннего Фихте
представляет собой доведение до логического конца возрожденческого
обожествления человеческой личности. "Человеческая личность, воспитанная в
течение полутора тысяч лет на опыте абсолютной личности, захотела
теперь сама быть Абсолютом, — пишет А.Ф.Лосев, характеризуя дух
Ренессанса. — Но такой универсальный субъективизм будет достигнут только в
конце XVIII в. в творчестве раннего Фихте. Ренессанс еще не был способен
на такую абсолютизацию человеческой личности" 86.
От общего духа Ренессанса Фихте отличает стремление к
аскетическому требованию преодоления в себе всякого чувственно-телесного
начала: вообще отношение к природе у него носит резко выраженный
антивозрожденческий характер. Человек только в духе един с божественным
началом, и тут он возвышается до самого Абсолюта. Это — путь, каким пошла
ранневозрожденческая мистика, получившая широкую поддержку и
развитие в эпоху Реформации.
Но тут возникает вопрос: мы указали на связь с немецкой мистикой
именно раннего Фихте, а как же обстоит дело с его учением второго
периода? В каком отношении теперь стоит Фихте к учению Мейстера Экхарта?
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим, как изменилось
отношение Фихте к принципу деятельности. Переход на точку зрения
абсолютного знания потребовал нового осмысления места и роли деятельности в,
системе Фихте. Соответственно меняется и содержание этики Фихте. В
первый период Фихте, по существу, отождествил этику и.религию:-коль
скоро Бог понимался как нравственный миропорядок, то следование
категорическому императиву, деятельное воплощение в жизнь нравственного
закона исчерпывает религиозную сферу человеческой жизни. Теперь в
работе "Наставление к блаженной жизни" Фихте излагает новое учение о
ступенях, или стадиях духовного развития.
Самой первой ступенью, самым поверхностным, как говорит Фихте,
способом восприятия мира является точка зрения "чувственного знания";
здесь "действительно сущим считается то, что является предметом
внешних чувств"87. В критике этой чувственной ступени сознания Фихте
ранний и поздний не расходятся. Более высокий тип мировоззрения — тот,
который постигает мир как "некоторый закон и порядок" 88. Только с этого
момента, по Фихте, вообще начинается духовная жизнь. "Закон для такого
мировоззрения есть первое, что поистине существует и благодаря чему су-
^ЛосевАФ. Эстетика Возрождения. М., 1978. С.289.
87 Fichte J.G. Werke: In 6 Bd. Bd. 5. S. 178.
88 Ibid.
54
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
шествует все остальное. Свобода и человеческий род для нее — второе, они
существуют потому, что закон свободы полагает свободу и свободные
существа. Открывающийся во внутреннем мире человека нравственный
закон является для этого мировоззрения единственным основанием
самостоятельности человека, единственным аргументом в пользу этой
самостоятельности. Наконец, чувственный мир для этой точки зрения —
третье; он есть лишь сфера свободного действия человека. Существует он
благодаря тому, что свободное действие необходимо полагает объекты этого
действия"89.
Описанная точка зрения — не что иное, как позиция самого Фихте в
первый период — в 1794 г.; эту же точку зрения он развил в "Философии
нравственности" 1798 г., следуя учению Канта, как он сам признавал.
Фихте и не отказывается признать эти факты своей биографии, он делает
только небольшие оговорки, цель которых показать, что все-таки и в 1798 г. он
не до конца разделял принципы кантовской этики. "В философской
литературе, — пишет Фихте, — самый точный и самый последовательный
пример этого воззрения — это Кант, если проследить его путь не далее, чем до
"Критики практического разума". Подлинный характер этого образа
мыслей, который мы выше выразили в виде положения, что реальность и
самостоятельность человека доказываются только через господствующий в нем
нравственный закон и что он только благодаря этому становится чем-то в
себе, Кант выражает теми же словами. Что касается нас, то и мы
принимали, проводили и, нужно признать, не без энергии высказывали это
мировоззрение как точку зрения, обосновывающую философию права и
нравственности в нашей разработке этих двух дисциплин, хотя и нигде не
признавали ее высшей "90.
Говоря о своем отличии от Канта также и в ранний период, Фихте,
возможно, имеет в виду свое стремление уже тогда преодолеть кантовский
дуализм чувственного и нравственного. Подлинно нравственным
является, по Фихте, только тот, кто с радостью следует велению долга, в ком,
иначе говоря, склонности совершенно умолкают, и ничто уже не
противостоит требованиям категорического императива. Таким человеком может
быть лишь святой. Но хотя Фихте и стремился таким путем избегнуть кан-
товского дуализма чувственности и нравственности, дуализма,
предполагающего обычного, греховного, а не святого человека, но что касается
основного закона нравственности, то вплоть до 1800 г. Фихте вслед за
Кантом все же ставил его в центр своего учения.Ъолее того, нравственный
миропорядок молодой Фихте считал, по существу, самим Богом. Теперь, как
"9Fichte J.G. Werke: In 6 Bd. Bd. 5. S. 179.
90 Ibid. S.180.KypcHB мой. - П.Г.
55
П. П. Гайденко
видим, он объявляет это свое учение лишь промежуточным этапом на пути
духовного развития.
Третья точка зрения на мир, — говорит Фихте, — это "точка зрения
истинной и высшей нравственности. Для нее, как и для только что
описанной второй точки зрения, закон духовного мира также есть высшее, первое
и абсолютно реальное; здесь оба воззрения сходятся. Но закон третьей
точки зрения — это не закон, упорядочивающий наличное, а скорее закон,
творящий нечто новое..."91 Творческий закон выше закона
упорядочивающего: последний касается только формы идеи и в этом смысле формален,
второй касается идеи самой по себе, во всей ее полноте и жизненности.
"Истинно реальное и самостоятельное есть, с этой точки зрения, святое,
доброе, прекрасное; вторым является человечество, призванное
изобразить все это в себе; упорядочивающий закон в человечестве — это третье. С
этой точки зрения, он есть только средство, для того чтобы ради истинного
назначения человечества дать ему внутренний и внешний покой. Наконец,
четвертое: чувственный мир, с этой точки зрения, есть всего лишь сфера
для развертывания внешнего и внутреннего, низшего и высшего, свободы
и моральности..."92
Реализация этой высшей нравственности, по Фихте, — культурное
творчество, то есть наука, искусство, социальное и
государственно-правовое строительство. Истинная нравственность у Фихте теперь сродни
творческому эросу Платона, и не случайно, отмечая исторические примеры
этого "третьего воззрения на мир", Фихте указывает прежде всего на
Платона, а также на своего современника Якоби 93. Человек, живущий
сообразно творческому закону, не нуждается в том, чтобы вести постоянную
борьбу с чувственными влечениями ради требований категорического
императива, и сами влечения перестают быть непросветленными
вожделениями, животными побуждениями эгоистического индивида: они не
противостоят духу, а сливаются с ним. Такой человек — шиллеровская
"прекрасная душа"; в основе ее действий лежит нравственность любви, а не
мораль долга. Но и эта третья точка зрения не является теперь для Фихте
высшей, она еще основана на признании за миром и мирским сущим
самостоятельного значения.
Лишь на более высокой ступени, на ступени религии,
преодолевается, по Фихте, расщепление бытия на божественное и мирское. Человек
теперь сознает, что "есть один лишь Бог, а вне его — ничто" *. Это точка
зрения мистики, именно мистики Экхарта; Фихте во второй период сближа-
91 Fichte IG. Werke: In 6 Bd. Bd. 5. S.180-181.
92 Ibid. S.181.
93Ibid.S.182.
94 Ibid. S. 182.
56
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
ется с Экхартом также и в том аспекте, который прежде отличал его от
последнего: он ставит теперь религиозное созерцание Бога, слияние с Богом
во внутреннем созерцании выше всякой деятельности. "Поднимись на
точку зрения религии, и все покрывала исчезнут: мир со своим мертвым
принципом умрет для тебя, и само Божество вновь войдет в тебя, в своей
первой и изначальной форме, как жизнь, как твоя собственная жизнь..."95
Мы узнаем здесь unio mystica (мистический союз) Экхарта, в
котором Бог и человек уже не различены, а едины. Не в рефлексии и не в
деятельности, а в созерцании и любви видит Фихте высшее единство Бога и
человека. Трудно не согласиться с исследователем Фихте В.Ритцелем, что
"мистическое учение Экхарта и идеализм позднего Фихте совпадают... во
многих существенных моментах" %.
Фихте, как видим, выступает теперь не только против свободы как
аффекта самостоятельности, что отчасти он делал уже в "Философии
нравственности" 1798 г.; он стремится преодолеть и точку зрения подчинения
нравственному закону, ибо такое подчинение все еще не дает, по его
нынешнему убеждению, полного освобождения от самой свободы, от остатков
"самости"97. Только на религиозной стадии человек полностью
преодолевает субъективность свободы, а с ней — и расщепленность, входящую в
мир вместе с сознанием. "Как пред моральностью исчезают все внешние
законы, так пред религиозностью умолкает даже внутренний закон...
Человеку моральному часто бывает трудно исполнять свой долг; ему нередко
приходится жертвовать своими глубочайшими склонностями и самыми
дорогими чувствами. Тем не менее он выполняет это требование: так
должно быть, и он подавляет свои чувства и заглушает свою скорбь. Он не
смеет позволить себе вопрос, к чему эта скорбь и откуда происходит это
раздвоение между его... склонностями и... требованием закона... Для
религиозного человека этот вопрос решен однажды на всю вечность. То, что
восстает в нем и не желает умирать, есть менее совершенная жизнь,
стремящаяся... к самоутверждению; и, однако, необходимо отказаться от этой
низшей жизни, для того чтобы в нас расцвела более высокая и
благородная" 98.
Религиозная точка зрения, как видим, противостоит моральной, как
мистическая — дуалистической. Война с дуализмом — это своего рода
призвание Фихте: он начинает свою философию, пытаясь преодолеть кантов-
95 Fichte J.G. Werke: In 6 Bd. Bd.5. S. 183.
96 Ritzel W. Fichtes Religions Philosophie. Stuttgart, 1956. S.164.
97 "Источник категорического императива в душе — устойчивое
безразличие по отношению к вечной воле, а источник этого безразличия —
сохраняющаяся вера в нашу, по крайней мере формальную, самостоятельность"
(Fichte J. G. Werke: In 6 Bd. Bd.5. S.230).
98 Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи. С.213 — 214.
57
П. П. Гайденко
ский дуализм между явлением и вещью в себе, между теоретическим и
практическим разумом, и завершает свою эволюцию стремлением
покончить с дуализмом самого практического разума, основанного на
противостоянии склонности и долга. Этот дуализм связан с двойственной
природой человека, соединяющего в себе "небо" и "землю", свободу и природу.
Фихте хочет преодолеть этот дуализм, считая, что на стадии религиозной
человек способен полностью превозмочь в себе чувственно-природное
начало и — при жизни, а не после смерти — войти в мир вечного. "Религия, —
говорит он, — абсолютно возвышает причастного ей человека над
временем как таковым и над тленностью и дает ему непосредственное обладание
единою вечностью"99. Но для достижения этой точки зрения, точнее, этой
ступени бытия, надо, по Фихте, пройти "через чистую нравственность",
потому что "нравственность приучает к повиновению, и лишь к
искусившемуся в повиновении приходит любовь..."100.
Так завершается путь Фихте; от провозглашения принципа
абсолютно свободной и гордой самости, через последующую критику "аффекта
самостоятельности", составляющего основу этой самости, к требованию
подчинения нравственному закону и, наконец, к убеждению в том, что
только повиновение способно пробудить в душе высшую любовь — любовь
к Богу.
Казалось бы, достигнутая точка зрения есть наивысшая: в самом
деле, что может быть выше жизни в Боге, растворения в нем? Но Фихте не
был бы самим собой, если бы остановился на этой ступени: ради
мистического слияния с Богом он пожертвовал автономной этикой долга, но не
смог пожертвовать еще более дорогим ему принципом знания. Возможна,
оказывается, позиция, возвышающаяся над религиозной: это — точка
зрения знания, на которую можно встать только благодаря наукоучению. Нау-
коучение, по Фихте, сстъпознание того, что религия вносит в мир какфакт.
Наукоучение раскрывает генезис этого факта, оно есть наука о нем,
особая, новая теология очищенного от ложных извращений христианства.
Наукоучение, таким образом, есть пятая, и высшая, точка зрения.
Таким образом, знание о вечном, согласно Фихте, выше, чем даже
жизнь в вечном. Именно в знании, и только в нем, мы достигаем полного
тождества с Абсолютом. Тут у Фихте находит свое выражение один из
мотивов позднеантичного гностицизма, представители которого именно в
знании видели средство религиозного спасения. В этом совпадении,
пожалуй, нет ничего удивительного: гностицизм I—II вв. представлял собой
попытку философского осмысления и рационалистической интерпретации
христианства; именно в сакрально-эзотерическом знании видели гности-
99 Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи. С.213 — 214.
100Тамже.С215.
58
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
ки подлинное откровение истины, а потому толковали новозаветное
откровение в понятиях платоников, пифагорейцев, Филона
Александрийского. "Весь мир и особенно сам же человек представлялся (гностикам. —
П.Г.) самооткровением божественного разума — Логоса. Задача гностика-
философа поэтому и сводилась к толкованию смысла мировой жизни и к
открытию в ней крупиц истины, рассеянных повсюду, но более всего
сконцентрированных в разуме человека, этом наисовершеннейшем органе
откровения Логоса", — пишет исследователь античного гностицизма
Л.И.Писарев 101
С гностицизмом Фихте сближает также убеждение в том, что
природа, чувственный мир в целом, в том числе и телесное, чувственное начало в
человеке лишено всякого самостоятельного значения; у гностиков
чувственно-телесное начало вообще представляет собой источник зла в мире.
Тенденция к гностицизму заложена и в учении Экхарта о тождестве
очищенного от внешнего бытия человека с Богом; как раз в этом пункте, как
мы видели, Фихте оказывается ближе всего к Экхарту. Отвергая ценность
церковного предания, а вместе с тем и исторический характер откровения,
не принимая идею священства как посредничества между Богом и
человеком, протестантизм в определенной мере содействует укреплению
гностической тенденции в истолковании христианства. Однако, с другой
стороны, Лютер и Кальвин отрицательно относятся к рационалистической
спекуляции102. Еще у Фомы Кемпийского, близкого к
немецко-нидерландскому предреформационному движению "Братьев общей жизни", мы
встречаем предостережение против попыток конечным разумом постичь
Бога. Лютер же, как известно, выступал против отвлеченных спекуляций
традиционной теологии, называя разум "потаскухой дьявола".
Общим с гностиками является стремление Фихте к
принципиальному противопоставлению Ветхого и Нового заветов, а также апостолов
Павла и Иоанна: первый, согласно Фихте, был выразителем иудаистской
тенденции в христианстве, тогда как последний проповедовал истинную
религию. "По нашему мнению, — говорит Фихте, — существуют две в
высшей степени различные формы христианства: христианство Евангелия
Иоанна и христианство апостола Павла, к единомышленникам которого
принадлежат остальные евангелисты, особенно Лука. Иисус Иоанна не
знает иного Бога, кроме истинного Бога, в котором мы все существуем,
101 Писарев Л.И. Очерки из истории христианского вероучения
патриотического периода. Казань, 1915. T.I. С. 178.
102 См. об этом: Философия эпохи ранних буржуазных революций. М., 1983.
С.77: "Реформаторы абсолютизируют Библию как единственный источник
откровения и, соответственно, решительно утверждают бессилие
человеческого познания".
59
П.П. Гайденко
живем и можем быть блаженны и вне которого — только смерть и небытие,
и (прием вполне правильный) с этой истиной он обращается не к
рассуждению, а к внутреннему, практически пробуждаемому чувству истины в
человеке, не зная никаких других доказательств, кроме этого
внутреннего" 103. Иоанн, согласно Фихте, потому и может обращаться "к чувству
истины в человеке"104, что его христианство — не историческая религия, а ре-
гилия, от века существующая: "Его учение так же древне для него, как мир,
и есть первая, изначальная религия..." 105
В своих поздних работах Фихте не устает повторять, что истинное
христианство не возникло исторически, не было впервые возвещено
Иисусом Христом, а есть религия вечная, "древняя как мир". Все, что
отклоняется от него, является просто его искажением, привнесением в него
временных и преходящих, "конечных" моментов. Одним из роковых для
подлинного христианства искажений Фихте считает учение апостола Павла.
"Совсем иное следует сказать о Павле, благодаря которому Иоанн был
отнесен на второй план в самом начале существования христианской церкви.
Павел, став христианином, не хотел, однако, признать неправоту своей
прежней религии, иудейства; обе системы должны были поэтому
соединиться и сплестись одна с другою. Это и было выполнено как нельзя более
искусно"106. В своем стремлении отделить религию Иисуса от религии
Моисея Фихте имеет предшественников, о которых мы уже говорили:
учение некоторых из гностиков I—II вв. Как пишет историк религии
Л.И.Писарев, гностики, "в сущности, все были антииудаистами (только в
различной степени)"107.
С апостолом Павлом Фихте связывает "вырождение христианства",
продуктом которого оказалась римская католическая церковь. Именно
Павел, согласно Фихте, первым истолковал христианство как "договор" с
Богом, служащий залогом спасения человека; а ведь освобождение от
грехов с помощью определенных ритуальных действий — одно из главных об-
103 Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи. С.87—88.
104 Чувство истины — это и есть непосредственная очевидность, к которой
всегда обращался Фихте как к последнему основанию достоверности.
105 Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи. С.88.
106 Там же.
107 Писарев Л. И. Очерки из истории христианского вероучения
патриотического периода. T.I. С. 172. По вопросу об отношении различных
гностических сект к иудаизму существует большая литература, в ней представлены
разные точки зрения на этот вопрос. Большинство исследователей сходятся
в том, что, как правило, гностические течения выступали против
соединения Нового завета с Ветхим. Многие гностики даже объявляли
ветхозаветного Иегову дьяволом, виновником мирового зла. В этом отношении, по
свидетельству древних христианских писателей, особенно характерно
учение гностика Маркиона (см.: Трофимова М.И. Историко-философские
вопросы гностицизма. М, 1979; Jonas H. The Gnostic Religion. Boston, 1958).
60
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
винений католической церкви протестантами. "Христианство, — пишет
Фихте, — ...не есть средство примирения и очищения от грехов; человек
никогда не бывает в состоянии отколоться от Божества, а поскольку он
мнит себя отпавшим и отделившимся от Него, он — ничто и как таковое не
может грешить..."108
Обращаясь к Евангелию от Иоанна как "вечной религии", истины
которой открыты разуму каждого непредубежденного человека, Фихте
выступает за некое универсальное и внецерковное, по существу,
христианство. Последнее получило широкое распространение как раз в конце XVIII
— начале XIX в. не только в Германии, но и во всей Европе, включая и
Россию. Этому отчасти способствовало распространение в конце XVIII в. идей
так называемых "вольных каменщиков" и широкое вовлечение
образованного сословия в масонские ложи, к одной из которых принадлежал и
Фихте109. Хотя мировоззрение Фихте тесно связано с его протестантским
воспитанием, но проповедуемая им универсальная, "вечная" религия имела
своих адептов также среди католиков и православных. Немецкий
идеализм, начиная с Фихте и кончая Гегелем, был одним из влиятельных
философских течений, способствовавших созданию и укреплению внецерков-
ной, секуляризованной формы христианства, которая для многих
представителей интеллигенции XIX в. послужила средством освобождения от
церкви и перехода к внерелигиозному мировоззрению. У Фихте, а особенно у
Гегеля, не церковь, а государство оказалось наделенным религиозной
функцией и получило едва ли не всю полноту тех нравственных полномочий,
которыми раньше обладала церковь110.
Именно во второй период трансформируются представления Фихте
о сущности государства и права — он предлагает новое их обоснование.
НРАВСТВЕННОСТЬ И ПРАВО В УЧЕНИИ ПОЗДНЕГО ФИХТЕ
Напомним, что точка зрения Фихте на проблему отношения права и
нравственности на протяжении его жизни менялась не раз. В работах
108 Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи. С. 172.
109 Как показывает биограф Фихте Ф.Медикус, Фихте был членом
Берлинской ложи масонов и пытался предложить свое учение масонскому ордену
для распространения и тем самым сообщить ордену как бы новый
освящающий смысл {Medicus F.Einleitung zu Fichtes Werke. Bd.I. S.CXLH). В 1802 и
1803 гг. Фихте выступал с докладами о сущности ордена "вольных
каменщиков", который был напечатан под названием "Письма к Константу".
Подробно об этом см.: Xavier Léon. Fichte et la loge Royale York à
Berlin/Revue de metaphysigue et de morale. XVI. 1908. P.813—843. См. также новейшее
исследование: Hammacher К., Fichte und Freimurerei// Fichte-Studien. Bd.2.
Amsterdam, 1990. S.I38-159.
110 У Гегеля государство есть "действительность нравственной идеи" (Соч.:
В 14 т. М.; Л., 1934. T.VII. С.263).
61
77. П. Гайденко
1792 — 1794 гг. Фихте вслед за Кантом выводил право из нравственного
закона. С 1795 и по 1800 г. он отделял право и, соответственно, государство
как носителя правопорядка от мира нравственного, пытаясь показать не
только их содержательное различие, но и разное их происхождение. Даже в
работе "Назначение человека" (1800), переломной в творчестве Фихте, мы
видим дуализм права и нравственности. Правовое государство и его
совершенствование составляют, согласно Фихте, цель земной жизни, которую
надо отделять от высшей, нравственной жизни, так же отличающейся от
низшей, земной, как моральность — от легальности111.
Иной подход к этому вопросу мы встречаем в сочинениях 1806—
1814 гг. В "Основных чертах современной эпохи" (1806) Фихте не
разделяет больше земную жизнь и жизнь вечную, как он это делал раньше;
конечную цель земной жизни, поясняет он теперь, составляет устроение всех
человеческих отношений на основе свободы и разума112. А это, как мы
знаем, и есть высшая цель уже не просто правового государства, но
нравственности и религии. Такое понимание государства отличается от принятого
прежде самим Фихте. Не случайно в своей философии истории,
изложенной в "Основных чертах современной эпохи", философ больше не
обращается к идее общественного договора, исходящей из интересов
отдельного индивида, хотя еще и рассматривает проблемы естественного права, без
которого невозможно создать теорию правового государства, если
исходить из разрозненных эгоистических индивидов и их не зависимого друг от
друга существования.
Предметом критики Фихте в 1806 г. становится теория
общественного договора Гоббса, согласно которой индивиды, живущие сообразно
своим эгоистическим интересам, не в состоянии вынести тотальной
"войны всех против всех" и потому ради собственной пользы договариваются
ограничить свободу каждого, передав власть в руки государя. Фихте
считает, что перейти к правовому состоянию от чистого бесправия и эгоизма
невозможно: разум не может возникнуть из неразумия. Поэтому Фихте
постулирует существование так называемого разумного (нормального)
народа, который отличается от остальных диких племен, живущих
исключительно по своим природным склонностям и в соответствии с
вожделениями (пародия на состояние первобытного общества у Руссо). От
столкновения этих двух различных обществ и начинается человеческая история, то
есть постепенное развитие в направлении к разуму и свободе. "Это
постепенное восхождение, — пишет философ, — не может происходить ни в со-
111 Fichte IG. Sämtliche Werke: In 8 Bd. /Hrsg. von I.H.Fichte. В., 1845-1846.
Bd.IV.S.260-261.
112 Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи. С. 147 и ел.
62
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
стоянии невинности, среди нормального народа, ни в состоянии
первоначальной некультурности, среди дикарей. Оно невозможно в первом
состоянии, ибо на этой ступени люди живут сами по себе в совершеннейшем
общественном строе и не нуждаются в принуждении или надзоре; здесь
каждый естественно исполняет справедливое, полезное для целого, хотя об
этом не думает ни сам он, ни кто-нибудь другой за него... Так же мало
возможно описанное возвышение на степень абсолютного государства и во
втором состоянии, когда всякий заботится только о себе, и именно
единственно о своих первичных животных потребностях, и никто не
возвышается до понятия о чем-нибудь высшем. Поэтому развитие государства
могло начаться и продолжаться только в образовавшемся от слияния обеих
половин нашего рода историческом человеческом роде в собственном
смысле"113.
Фихте нигде не упоминает о том, что сам он в ранних работах тоже
разделял концепцию общественного договора, но очевидно, что теперь с
этой концепцией покончено114. Тем самым, в сущности, отвергнуты и
правовые принципы либерального государства, что особенно ясно видно в
последующих сочинениях Фихте. Так, в работе "Теория государства, или Об
отношении изначального государства к царству разума" (Die Staatslehre
oder Über das Verhältnis des Urstaates zum Vernunftreiche) Фихте
противопоставляет идеальное государство ложному представлению о задачах и
назначении государства, распространенному в его время. Согласно этому
представлению, государство необходимо для того, чтобы сохранить суще-
- ствование людей и их собственность как средство к существованию. Таким
образом, по Фихте, государство оказывается всего лишь средством для
сохранения собственности, то есть частных, эгоистических интересов
отдельных людей. Такое представление возникает оттого, говорит Фихте, что
земная жизнь людей становится высшей целью, а общественный союз,
каким является государство, превращается в средство. Между тем на самом
деле высшей целью человека является не сохранение животной жизни, а
достижение ее нравственно-религиозного смысла — осуществление в себе
образа Божия. Только этим оправдывается существование государства:
оно должно гарантировать свободу ради осуществления этой высшей цели
человеческого рода115.
113 Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи. С. 134.
114 Как объясняет один из исследователей творчества Фихте, Ганс Юрген
Фервейен, в период войны с французами, когда Германия была
оккупирована Наполеоном, принцип общественного договора — уважать общее
благо ради собственной пользы — мог быть с успехом обращен к немцам
завоевателями-французами; поэтому Фихте не мог не обратиться против этого
принципа.
115 См.: Fichte J.G. Sämtliche Werke: In 8 Bd. Bd.IV. S.402 ff.
63
П. П. Гайденко
Как мы помним, в "Замкнутом торговом государстве" Фихте отверг
принципы либеральной теории государства ради равенства всех граждан в
отношении собственности; теперь он подвергает критике сам принцип,
согласно которому цель государства — в сохранении жизни и
собственности граждан. Тем самым между правом и нравственностью снимается
прежний водораздел, и государство, в сущности, превращается в средство к
достижению религиозного спасения граждан, то есть получает функцию,
раньше принадлежавшую церкви. Юридическое начало подчиняется
нравственному. Как пишет по этому поводу Б.Чичерин, право у Фихте
является не более чем подготовительной ступенью к нравственности, ее
предварительным условием. "Оно (право. — П.Г.) нужно только как
искусственное учреждение, пока в обществе не водворился еще нравственный
порядок. Здесь свобода одного лица может прийти в столкновение со
свободою других; следовательно, необходимо определение принадлежащей
каждому сферы деятельности. Там же, где нравственное начало сделалось
господствующим, область свободы каждого определяется самим
нравственным законом, а потому юридические определения становятся
излишними, и право тем самым упраздняется"116.
Хотя такая ситуация может иметь место только в идеальном
государстве, где нет больше людей, руководствующихся эгоистическими
стремлениями, где каждый человек действует только во имя общего блага и
поэтому достиг полного упразднения своей самости, тем не менее уже ив
реальном государстве, как убежден Фихте, главной заботой должно стать
воспитание граждан с целью сделать их свободными от эгоизма. Здесь
фихтеанская теория государства в некоторых важных пунктах смыкается с утопией
Платона — с той, однако, разницей, что выросшая на основе
христианского мировоззрения философия Фихте не признает столь жесткого, как у
Платона, членения сословий: к жизни в духе, то есть в свободе, согласно
Фихте, должны быть воспитаны все граждане. "Теория общества Фихте, —
пишет Фервейен, — может служить примером крайнего перехода от
"индивидуализма" к "универсализму"..."117
Если в первый период Фихте связывал вопрос о воспитании и
воспитателе (учителе) прежде всего с высоким назначением науки в обществе и с
важной миссией университета, то есть с деятельностью сословия ученых,
то теперь роль учителя становится более универсальной. Учитель теперь —
воспитатель всего народа, осуществляющий важнейшую
социально-историческую миссию — перевода общества из состояния эгоизма и своекоры-
1.6 Чичерин Б. История политических учений. М., 1977. 4.IV. С.188.
1.7 Venveyen H. Recht und Sittlichkeit in J.G.Fichtes Gesellschaftslehre. Freiburg;
München, 1975. S.81.
64
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
стая к состоянию разума и свободы. А свобода индивида — не забудем —
состоит прежде всего в подчинении индивидуальных интересов всеобщим,
в освобождении от эгоизма. Именно из среды учителей (у Платона —
философов) должны назначаться правители в идеальном государстве Фихте:
правитель тоже в некотором смысле выступает как воспитатель народа. В
истинном государстве, по Фихте, все социальное устройство определяется
сословием учителей и вся народная жизнь есть продукт их деятельности
как высших носителей свободы и нравственности 118.
Таким образом, на место правового государства у позднего Фихте
встает государство как носитель принципа нравственности, государство
как нравственная община, носитель высших ценностей духовного мира. В
"Речах к немецкой нации" — лекциях, читанных Фихте в 1807 — 1808 гг.,
он поясняет, что в XIX в. наступил кризис свободы, понимаемой
формально-юридически. Обществу предстоит перейти на новый уровень — к
реальной свободе, то есть к осуществлению нравственного закона, в противном
случае неизбежна гибель свободы.
Именно у Фихте с четкостью и остротой намечено принципиальное
различие понятий, ставших для немецкой философии и социологии
традиционными — Gemeinschaft и Gesellschaft, общества и общности
(общины); связь людей в общине — глубоко внутренняя,
нравственно-религиозная, в отличие от связей формально-правовых и внешних, характерных для
общества. Это различение особенно подробно проведено Фихте в его
"Речах к немецкой нации", произнесенных в Берлинском университете как
раз во время оккупации Пруссии французами; он произнес их не просто
ученому сословию, а обращаясь к немецкому народу, чтобы пробудить его
национальные чувства и сознание общенационального единства, которое
могло бы дать немцам силы к сопротивлению оккупантам.
Именно Gesellschaft — формально-правовое государство,
получившее оправдание и обоснование в либерально-индивидуалистических
теориях XVIII в., становится здесь объектом критики Фихте. Отвергая
космополитизм, который он сам приветствовал в молодости, философ теперь
считает, что внутренняя живая связь, которая одна может лечь в основу
государства, существует только внутри национального единства народа,
связанного общностью языка и нравов. Государство не может родиться на
основании договора, оно не есть сумма индивидов, связанных между собой
на основании формально-юридических установлений; для возникновения
государства, считает теперь Фихте, нужна естественно выросшая
общность, спаянная душевными и духовными узами, воплощенными в язы-
118 См.: Fichte J.G., Sämtliche Werke: In 8 Bd. Bd.IV. S.450-453.
3-645 65
П. П. Гайденко
ке. Язык, как теперь убежден Фихте, есть посредник между чувственным
миром и миром духа, он имеет громадное влияние на развитие народа,
сопровождая жизнь человека от рождения и до смерти и определяя
глубинный душевный слой человека. Именно благодаря общему языку люди
имеют общим этот глубочайший душевный корень, а потому их связь —
органическая, а не механическая, как это бывает в тех случаях, когда индивидов
связывает лишь взаимный интерес.
Призывая к освобождению от власти завоевателей, Фихте убежден,
что не столько оружие, сколько нравственное воспитание народа может
стать средством к такому освобождению. "Борьба оружием кончена, —
говорит он. — Теперь, как только мы этого захотим, начнется новая борьба
принципов, нравов, характеров"119. Источник силы народа — в его духе, и
именно отсюда, по Фихте, надо начать обновление нации.
В жизни каждого народа бывают ситуации, когда он может
освободиться от иноземного владычества только высшим напряжением своих
сил, подчинив все остальные задачи этой главной. Именно такая ситуация
сложилась для немцев в тот самый период, когда Фихте мужественно
обратился к соотечественникам и воззвал к их патриотическому чувству:
"Никто не может помочь вам, кроме вас самих... Человеческие отношения
могут быть созданы только самим человеком и никакой другой внешней по
отношению к нему силой..."120 Однако такую ситуацию нельзя
абсолютизировать и делать основанием для понимания природы общества, ибо в
этом случае неизбежно пренебрежение сначала формально- правовой сто:
роной дела, а затем в конечном счете и той самой реальной свободой
личности, ради которой Фихте и строил свое наукоучение. И в самом деле, в
увлечении своей идеей Фихте пишет: "Во время войны (имеется в виду
освободительная "тотальная" война. — П.Г.) человеком движет не дух
спокойной гражданской (bürgerliche) любви к конституции и к законам, а
пожирающее пламя более высокой любви к отечеству, охватывающее нацию
как проявление вечного, за которое благородный радостно жертвует
собой, а неблагородный, существующий только ради благородного, обязан
собой пожертвовать..."121 Это уже принуждение ради осуществления
высшего нравственного принципа, а ведь сам Фихте хорошо показал, что
свободу и нравственность нельзя навязать принудительно, принуждение
возможно лишь в сфере права, где регулируются внешние отношения, а не
в сфере нравственности, где речь идет о внутренних побуждениях
человеческой души и совести. Если добро насаждать силой, то не миновать "кош-
119 Fichte J.G. Sämtliche Werke: In 8 Bd. Bd. VII. S.470.
'M Ibid., S.487.
121 Ibid. S.386-389.
66
Жизнь и творчество И. Г. Фихте
мара злого добра", когда для достижения цели все средства считаются
хорошими.
Проблема соотношения нравственности и права, над которой Фихте
размышлял много лет, — одна из наиболее сложных в философии. Ибо
хотя совершенно очевидно, что право и нравственность не могут быть
полностью отделены, ибо корень у них общий, тем не менее различия между
ними тоже весьма существенны.
В последние годы вновь оживился интерес к Фихтевой теории
нравственности и права. Полемика по этим вопросам развернулась, в
частности, в третьем томе "Fichte-Studien" между немецкими философами
Г.Гайзманом и Р.Шотки122. Эта полемика еще раз выявила актуальность
тех проблем, которые занимают так много места в творчестве Фихте.
В заключение подчеркнем еще раз, что гипертрофия принципа
субъективности, отождествление Абсолюта с Я, невозможность провести
границу между Богом и человеком — вот главная черта наукоучения первого
периода, когда на основе критической философии Канта Фихте создавал
пантеизм свободы. Стержень пантеизма свободы, как его развил Фихте в
работах 1792 — 1798 годов, — человекобожество: Бог обретает реальность
только в человеке и через человека; процесс порождения мира из перво-
принципа Я — это и есть эволюция самого Бога. Во второй период
философ стремится преодолеть человекобожество, отличая образ Бога —
абсолютное знание — от самого Бога как бытия, как "чистейшей жизни", как
того Единого, что лежит в основе всего сущего, будучи в то же время
трансцендентным ему.
122 Geismann Georg. Fichtes "Aufhebung" des Rechtsstaates. Schottky Richard.
Rechtsstaat und Kulturstaat bei Fichte. Eine Erwiderung // Fichte-Studien.
Amsterdam; Atlanta, 1991. Bd.3. S.86-153.
3*
67
ВОСТРЕБОВАНИЕ
ОТ ГОСУДАРЕЙ ЕВРОПЫ
СВОБОДЫ МЫСЛИ,
КОТОРУЮ ОНИ
ДО СИХ ПОР ПОДАВЛЯЛИ
РЕЧЬ
Noctem peccatis et fraudibus objice nubem'.
Гелиополис,
в последний год старого мрака
ВВЕДЕНИЕ
L/ уществуют ученые господа,
полагающие, что могут внушить нам достаточно веское мнение об
основательности их мышления, безоговорочно отвергая с помощью предиката декла-
мационности все, написанное с некоторой живостью. Если эти
страницы каким-либо образом попадут в руки одного из этих основательных
господ, то я заранее готов сознаться, что они предназначались отнюдь не для
того, чтобы исчерпать столь богатый содержанием предмет; автор
стремился лишь к тому, чтобы с некоторой теплотой довести ряд относящихся
к данной теме идей до наиболее сведущей части публики, оказывающей
своей высокой точкой зрения и громко звучащим мнением достаточно
серьезное влияние на всеобщее суждение. С основательностью к этой
публике вообще нелегко подступиться. Однако если упомянутые основательные
люди не найдут на этих страницах и следа прочной и глубокой системы, ни
одного не вполне недостойного дальнейшего размышления намека, то
вина может отчасти лежать и на них самих.
Одно из характерных свойств нашего времени заключается в том,
что порицание с готовностью направляют в адрес государей и великих
мира сего. Прельщает ли легкость писать сатиры на государей или считается,
что посредством кажущегося величия предмета можно возвыситься и
самому? В эпоху, когда большинство немецких государей стремится
отличиться своей доброй волей и популярностью, когда они столько делают,
чтобы уничтожить этикет, который некогда утверждал неодолимую
пропасть между ними и их согражданами и был для них самих столь же
обременительным, сколь вредным для тех; когда, в частности, многие делают вид,
что ценят ученых и ученость, — в такое время это особенно бросается в
глаза. Тот, кто не может засвидетельствовать перед собственной совестью, что
он уверен в своем деле и готов нести все последствия, которые распростра-
*Прегрешения скрой ночной тьмою, а обманы — туманом (лат.).
В настоящем издании в сносках, обозначенных звездочкой, даются
переводы. Сноски, обозначенные арабской цифрой со звездочкой,
принадлежат самому Фихте, à сноски, обозначенные только арабской цифрой,
отсылают читателя в конец книги — в раздел "Примечания".
71
И. Г. Фихте
нение признанной и полезной истины может иметь для него самого, с
таким же достоинством, с каким эта истина была высказана, либо надеется
на мягкосердечие государей, обвиненных в столь серьезных недостатках,
либо на собственную незначительность и неизвестность, способные
предотвратить какие-либо последствия. Автор этой работы ни своими
утверждениями, ни тоном своего изложения не предполагает нанести обиду
кому-либо из государей мира, напротив, надеется объединить их всех. Ему не
могло, конечно, остаться неизвестным предположение, что в некоем
большом государстве действуют прямо противоположно тем принципам,
которые он пытается здесь обосновать, но он знал также, что в соседних
протестантских государствах происходит большее, не вызывая ни у кого особого
волнения, потому что к этому с давних пор привыкли. Он знал, что
исследовать то, что должно или не должно произойти, легче, чем выносить
объективное суждение о тщу что действительно происходит, но его положение
не позволило ему получить данные для основательного суждения о
последнем; знал, что даже в тех случаях, когда не все действия как таковые
заслуживают оправдания, движущие их причины могут тем не менее быть очень
благородны, — а в нашем случае он готов восхититься изобретательной
добротой, направленной на то, чтобы посредством видимости попытки
лишить нас того блага, длительное пользование которым сделало нас
равнодушными к нему, пробудить в нас желание более горячо ценить его и с
большим рвением пользоваться им; поразиться редкостным
великодушием, обдуманно поставившим себя и своих близких под угрозу быть
непонятыми, подвергнуться клевете и ненависти, и все это лишь для того, чтобы
содействовать просвещению и возвысить его; он знал, наконец, и то; что
самой этой работой он предоставляет каждому государству желанную
возможность посредством разрешения ее печатать и ее открытой продажи,
распределения ее среди духовных лиц и т.д. доказать чистоту своих
устремлений. Ни одно государство, в котором эти страницы будут напечатаны и
поступят в открытую продажу, не может быть обвинено в желании подавить
просвещение. Если автор ошибся, то любящий истину г. Кранц1 не
преминет опровергнуть его. Не из политических, а из чисто литературных
соображений автор не указывает своего имени. Каждому, кто имеет право
спросить об этом и законным образом спросит, он без всяких опасений
назовет себя; а в свое время он это сделает и без каких-либо вопросов, ибо он
вместе с Руссо полагает, что chaque honnête homme doit avouer, ce qu'il a
écrit*.
Мы не будем останавливаться здесь на вопросе о том, насколько
меньше бедствий испытывает человечество при большинстве из суще-
* Каждый порядочный человек должен отвечать за то, что написал2 (фр.).
72
Востребование от государей Европы свободы мысли
ствующих государственных устройств, чем оно испытывало бы в
состоянии полного распада; достаточно и того, что человечество испытывает
бедствия — и должно их испытывать; страны, где существуют наши
государственные устройства, — это страны усилий и труда; страны наслаждения не
существует под луной. Но именно эти бедствия должны служить
человечеству движущим побуждением научиться пользоваться своими силами,
укрепиться в борьбе с бедствиями и в трудно достигаемой победе над ними
для будущего наслаждения. Человечество должно было быть несчастным,
но оно не должно оставаться таковым. Устройство государств, источник
общих бедствий, не могло быть, правда, лучше до сих пор — иначе оно
было бы лучше, — но оно должно все время улучшаться. Это происходило на
протяжении тех периодов истории человечества, которые мы способны
проследить, и будет происходить, пока существует история человечества,
двумя способами: либо посредством насильственных скачков, либо
посредством постепенного, медленного, но уверенного поступательного
движения. Посредством скачков, насильственного сокрушения и
преобразования государства народ может в течение полувека продвинуться
больше, чем за десять лет, — правда, это полустолетие преисполнено нужды и
мучительных усилий, — но он может также вернуться к пройденному и
быть отброшенным к варварству предыдущего тысячелетия. Всемирная
история дает нам примеры как одного, так и другого. Насильственные
революции всегда — смелое, рискованное предприятие человечества; если
они удаются, то достигнутая победа стоит всех перенесенных тягот; если же
они не удаются, то вы прорываетесь от одних бедствий к другим, еще более
тяжким. Более верно постепенное продвижение к большему
просвещению, а с ним — к улучшению государственного устройства. Успехи,
которых вы достигаете, менее заметны, пока они происходят, но, оглядываясь
назад, вы видите большой отрезок преодоленного пути. Так, в течение
нынешнего столетия человечество, в особенности в Германии, без всякого
шума прошло большой путь. Правда, готические линии здания еще почти
повсюду проступают; новые, прилегающие к нему строения, еще далеко не
объединены в прочное целое; однако они все-таки существуют и их
начинают обживать, а старые разбойничьи замки рушатся. Если нам не станут
мешать, люди будут все больше уходить из них, предоставляя их в качестве
обиталища скрывающимся от света совам и летучим мышам; новые же
строения разрастутся и постепенно будут объединяться во все более
стройное целое.
Таковы были наши надежды; и их хотели у нас похитить
подавлением нашей свободы мысли? — и их мы могли позволить похитить?
Препятствие продвижению человеческого духа ведет лишь к двум возможностям:
первая, наименее вероятная, — мы останавливаемся там, где мы находи-
73
И. Г. Фихте
лись, отказываемся от всех притязаний на уменьшение наших бедствий и
увеличение нашего счастья, позволяем поставить нам преграды, которые
мы согласны не преступать. Вторая, более вероятная, возможность состоит
в том, что сдерживаемое естественное развитие прорывается силой, рушит
преграды и все, что оно встречает на своем пути, человечество жестоко
мстит своим угнетателям, революции становятся неизбежными. Из
страшного зрелища такого рода, свидетелями которого мы были, еще не
извлечены должные уроки. Боюсь, что уже нет больше времени, или это — уже
последний момент, когда еще можно убрать плотины, которые, имея перед
глазами это зрелище, все еще противопоставляют движению
человеческого духа, убрать их, чтобы он не прорвал их насильственно и не подверг
страшному опустошению прилегающие окрестные поля.
Нет, все, все отдайте, народы, только не свободу мысли. Посылайте
непрестанно ваших сыновей в дикое побоище, чтобы они убивали людей,
которые их ничем не обидели, и либо погибли от болезней, либо принесли
их в качестве добычи в ваши мирные жилища; непрестанно отнимайте по-,
следний кусок хлеба из рук голодающего ребенка и бросайте его собаке
фаворита — все, все отдайте; только одно, этот посланный небом палладий
человечества, этот залог того, что человечеству предстоит еще иной
жребий, чем терпеть, нести тяготы и быть раздавленным ими, — только это
одно сохраните. Ужасны могут быть требования, которые предъявят вам
последующие поколения, — вернуть им то, что передали вам для вручения
им ваши отцы. Если бы они были так же трусливы, как вы, не находились
ли бы вы все еще в унизительном духовном и физическом рабстве
духовного деспота? В кровавопролитных битвах достигли они того, что вы можете
сохранить, проявив лишь некоторую твердость;
Только не ненавидьте из-за этого ваших государей; ненавидеть вам
следует самих себя. Один из главных источников ваших бед в том, что у вас
слишком высокие понятия о них и их помощниках. Верно, они рьяно
шарят во тьме полуварварских веков и полагают, что нашли великолепную
жемчужину, напав на след какой-либо максимы тех времен; считают себя
очень мудрыми, если, найдя эти убогие максимы, они заставляют себя
сохранить их в памяти; но вы можете быть полностью уверены в одном: о том,
что им следовало бы знать, об их собственном, истинном назначении, о
ценности и правах человека им известно меньше, чем самому
невежественному из вас. Да и как это может быть им известно? — им, для которых
существует особая истина, определяемая не принципами, на которых
основана всеобщая человеческая истина, а государственным строем,
положением их страны, ее политической системой, — им, чьи головы с ранних
лет с особым тщанием лишают общей формы человеческих голов,
насильственно придавая им ту, которой только и соответствует подобная истина,
74
Востребование от государей Европы свободы мысли
— в чье нежное еще сердце с детства врезают максиму: все люди, Ваше
величество, которых Вы здесь видите, существуют для Вас, они — Ваша
собственность1* . Как им, даже если им стало бы это известно, найти силу это
постигнуть? — им, чей дух искусственно лишили полета посредством
расслабляющего нравственного учения, ранних пороков, а если у них нет к
ним склонности, посредством позднего суеверия. Невольно возникает
предположение о постоянном чудодейственном вмешательстве
провидения, если мы обнаруживаем в истории несравненно больше слабых, чем
жестоких правителей; я, во всяком случае, рассматриваю все пороки,
которые правителям не присущи, как добродетели и благодарен им за все то зло,
которое они мне не причиняют. И подобных государей уговаривают
подавить свободу мысли — и не из-за вас. Вы можете мыслить, исследовать и
проповедовать на крышах ваших домов, что вам заблагорассудится;
сателлиты деспотизма не обращают на вас внимания; их власть слишком
прочна; вы можете быть убеждены или не убеждены в правомерности их
требований, что им до того? Они уж сумеют принудить вас к повиновению
бесчестием, голодом, тюремным заключением или казнями. Однако своими
исследованиями вы поднимаете шум, — правда, они не преминут
позаботиться о том, чтобы охранить слух государя, — однако может же, может же
ведь случиться, что когда-нибудь несчастное слово все-таки дойдет до его
ушей, что он попытается проникнуть глубже, станет наконец более
мудрым и познает, что может дать мир ему и вам. Вот это только они и
пытаются предотвратить; и здесь вы, народы, не должны позволить
препятствовать вам! -
Взывайте, взывайте во весь голос к вашим государям, пока они не
услышат, что вы не позволите отнять у вас свободы мысли и докажете
своим поведением серьезность ваших уверений. Не давайте себя испугать
упреком в нескромности. На что же посягает ваша нескромность? Она
может посягать на золото и алмазы короны государя, на пурпур его одежды;
но не на него. Не слишком большая уверенность в себе требуется для того,
чтобы поверить, будто государям можно сказать нечто такое, чего они не
знают.
И прежде всего, все вы, у кого для этого достаточно сил, объявите
беспощадную войну тому первому предрассудку, тому ядовитому
источнику, из которого проистекают все наши беды, тому утверждению, что
назначение государей — заботиться о нашем счастье; преследуйте этот
предрассудок во всех укрытиях, во всей системе нашего знания, где он мог
притаиться, пока он не будет истреблен на земле и не вернется в ад, откуда он
■' Слова, сказанные воспитателем Людовика XV этому мальчику
королевской крови при большом стечении народа.
75
И.Г. Фихте
пришел. Нам неизвестно, что способствует нашему счастью: если
государю это известно и если он поставлен для того, чтобы вести нас к счастью, то
мы должны с закрытыми глазами следовать за нашим вождем; он делает с
нами что хочет, а если мы задаем ему какие-либо вопросы, то он словом
своим заверяет нас, что это необходимо для нашего счастья; он вешает
человечеству веревку на шею со словами: тише, все это на благо тебе2*. Нет,
государь, ты не наш Бог. От него мы ждем счастья, от тебя — только
защиты наших прав. Добрым по отношению к нам ты быть не должен, ты должен
быть справедливым.
v Это сказал дон Карлосу палач инквизиции при такого рода занятии. Как
странно, однако, бывают схожи люди различных профессий!3
76
РЕЧЬ
В ремена варварства прошли,
народы, те времена, когда вам именем Бога осмеливались внушать, что вы —
стада скота, и Бог создал вас на земле для того, чтобы вы служили дюжине
сынов Божьих, несли их бремя, были бы им слугами и служанками,
необходимыми для их удобств, и, наконец, давали бы себя убивать; что Бог
будто бы передал им свое неоспоримое право собственности на вас и что они в
силу божественного права и в качестве наместников Бога на земле могут
мучить вас за ваши грехи: вы знаете или можете удостовериться в этом,
если еще не знаете, что вы — даже не собственность Бога, но что он глубоко
запечатлел в вашей груди вместе со свободой божественный знак не
принадлежать никому, кроме самих себя. Не осмеливаются они больше вам
говорить и это: мы сильнее вас, мы могли бы давно убить вас всех; мы были
настолько добры, что не сделали этого; тем самым ваша жизнь — наш дар;
однако мы подарили ее вам не даром, а дали в лен; следовательно, мы
требуем, чтобы вы использовали ее к нашей выгоде, и лишить вас ее, когда она
нам больше не понадобится, нельзя считать несправедливым. Вы
научились, если эти заключения имеют силу, понимать, что вы более сильные, а
они более слабые; что их сила заключена в ваших руках и что они окажутся
ничтожными и беспомощными, если ваши руки перестанут их
поддерживать; это они увидели на примерах, которые до сих пор бросают их в дрожь.
Не станете вы также в дальнейшем верить им, что все вы слепы,
беспомощны и неспособны сами принять решение, если они не будут отечески вести
вас за руку, как малых детей; еще недавно они своими неправильными
решениями, которые не принял бы даже самый наивный из вас, показали,
что они знают не больше вас и что способны ввергнуть в беду себя и вас
потому, что полагают, будто знают больше вас. Не внимайте больше таким
обманчивым уверениям; возьмите на себя смелость спросить государя,
который хочет властвовать над вами, по какому праву он властвует над вами?
По праву наследования, утверждают некоторые наемники
деспотизма, которые относятся не к самым тонким его защитникам. Но
предположим, что ваш ныне живущий государь мог получить это право в наследство
от своего отца, а тот, в свою очередь, от своего и так далее, — но от кого
получил это право тот, кто был первым, а если у него этого права не было, то
77
И. Г. Фихте
как мог он передать по наследству право, которого не имел? И затем,
полагаете ли вы, хитрые софисты, что людей можно наследовать, как стадо
скота или пастбище для них? Истина не лежит просто на поверхности, как
полагаете вы; она лежит глубже, и я попрошу вас сделать небольшое усилие и
попытаться выявить ее вместе со мной3*.
Человек не может быть ни передан по наследству, ни продан, ни
подарен; он не может быть ничьей собственностью, потому что он —
собственность самого себя и должен оставаться таковой. Глубоко в груди он
несет божественную искру, возвышающую его над животной природой и
делающей его гражданином мира, первым членом которого является Бог;
эта искра — его совесть. Она велит ему просто и безусловно хотеть этого и
не хотеть того; и велит это свободно из собственного побуждения, без какого-
либо принуждения извне. Для того чтобы повиноваться этому внутреннему
голосу, — а он этого требует безусловно, — человек не должен испытывать
принуждения извне, должен быть свободным от всякого чужого влияния.
Поэтому никто чужой не должен распоряжаться им; он должен
действовать сам в соответствии с требованиями его внутреннего закона: он
свободен и должен оставаться свободным; приказывать ему может только этот
его внутренний закон, ибо это его единственный закон, и он действует
вопреки этому закону, если позволяет навязать себе другой — в нем
уничтожается человек, и он низводится до уровня животного.
Если этот закон — его единственный закон, то во всех случаях, когда
этот закон молчит, он может делать что хочет; он имеет право на все, что не
запрещено этим единственным законом. К области незапрещенного
относится и то, без чего вообще невозможен какой-либо закон, свобода и
личность, затем то, что требуется законом; следовательно, можно сказать, что
человек имеет право на условия, в которых он только и может действовать
сообразно своему долгу, и на действия, которых требует его долг. От этих
прав никогда не следует отказываться; они неотчуждаемы; отчуждать их
мы не имеет права.
На действия, дозволяемые законом, я также имею право: но я могу и
не пользоваться этим дозволением нравственного закона, тогда я не
пользуюсь своим правом; я от него отказываюсь. Таким образом, права второго
типа отчуждаемы; но человек должен от них отказываться добровольно, он
ни в коем случае не должен их отчуждать; ибо в противном случае его
3* Я попросил бы не пропускать эту краткую дедукцию прав, неотчуждаемых
и отчуждаемых, договора, общества, прав государей, а внимательно ее
прочесть и добросовестно и благожелательно воспринять, так как в противном
случае последующее окажется непонятным и лишенным силы
доказательства. Впрочем, и для другого употребления неплохо обрести определенные
понятия в этой области, хотя бы для того, чтобы не судить превратно в
обществе более умных людей.
78
Востребование от государей Европы свободы мысли
\
принуждал бы другой закон, а не закон в нем, а это неправомерно, как со
стороны того, кто это совершает, так и со стороны того, кто этому
подчиняется в тех случаях, когда он может поступить иначе.
Если мне дозволено отказаться от моих отчуждаемых прав без
всяких условий, дозволено подарить их другим, то я могу отказаться от них и
на известных условиях, могу обменять их на отчуждаемые права другого.
При подобном обмене одних отчуждаемых прав на другие отчуждаемые
права возникает договор (контракт)4. Я отрекаюсь от осуществления моих
прав при условии, что другой также отречется от осуществления своих
прав. Подобные отчуждаемые по договору права могут быть лишь правами
на внешние действия, а не правами на внутренние убеждения; ибо в
последнем случае ни одна из сторон не могла бы удостовериться в том, выполняет
ли другая сторона условия или нет. Внутренние убеждения — искренность,
уважение, дружба, благодарность, любовь — даруются свободно, а не
приобретаются в качестве прав.
Гражданское общество основывается на подобном договоре всех его
членов с одним или одного его члена с другими, да и не может
основываться ни на чем другом, так как совершенно неправомерно, чтобы человек не
сам устанавливал для себя законы, а предоставлял это другому.
Гражданское общество становится значимым для меня лишь потому, что я
добровольно принимаю его — в силу какого знака, здесь значения не имеет — и
таким образом сам устанавливаю для себя закон. Я не могу позволить
навязать себе какой-либо закон, не отказываясь тем самым от своей
человеческой природы, своей личности и свободы5. В этом общественном договоре
каждый член общества отказывается от некоторых своих отчуждаемых
прав при условии, что другие члены общества также откажутся от своих.
Если член общества не выполняет договор и берет назад
отчужденные им права, то это дает обществу право принудить его выполнить
условия договора посредством нарушения его прав, предоставленных ему
обществом. Этому он добровольно подчинился посредством договора. Так
возникает исполнительная власть.
Исполнительная власть не может осуществляться всем обществом —
это привело бы к вредным последствиям, — поэтому она передается
нескольким или одному члену общества. Член общества, которому она
передается, именуется государем.
Следовательно, государь имеет свои права вследствие передачи их
ему обществом; но общество не может передать ему права, которыми оно
само не располагает. Таким образом, вопрос, который мы хотим здесь
исследовать — имеет ли князь право ограничивать нашу свободу мысли, —
основан на следующем: могло ли государство иметь такое право?
Возможность свободно мыслить есть главный отличительный
признак человеческого рассудка, который отличает его от рассудка животного.
79
И. Г. Фихте
В последнем также существуют представления; но они необходимым
образом следуют друг за другом, создают друг друга, подобно тому как одно
движение машины необходимо создает другое. Действенно противостоять
этому слепому механизму ассоциации идей, при котором дух пребывает
лишь в страдательном состоянии, собственной силой, собственным
свободным произволом придать последовательности идей определенное
направление — преимущество человека, и чем в большей степени он
отстаивает это свое преимущество, тем больше он человек. Способность
человека, посредством которой он может пользоваться этим преимуществом,
есть именно то, посредством чего он свободно волит; выражение свободы в
мышлении, так же, как выражение ее в волении, есть внутренняя
составная часть его личности; единственное условие, позволяющее ему сказать: я
есмь, есмь самостоятельное существо. Это выражение свободы, так же, как
и предшествующее, обеспечивает ему его связь с миром духов и приводит
его в соответствие с ним; ибо в этом незримом царстве Божьем должна
господствовать согласованность не только в волении, но и в мышлении. Более
того, это выражение свободы подготавливает нас к непрерывному и более
сильному другому выражению: посредством свободного подчинения
наших предрассудков и наших мнений закону истины мы вообще впервые
учимся склоняться и умолкать перед идеей закона; этот закон усмиряет
наше своекорыстие, которое хочет управлять нравственным законом.
Свободная и бескорыстная любовь к теоретической истине, потому что она
истина, — самая плодотворная подготовка к нравственной чистоте
убеждений. И от этого тесно связанного с нашей личностью, с нашей
нравственностью права, от этого со всей очевидностью проложенного для нас
созидающей мудростью пути к моральному облагораживанию мы мотлиотка-
заться в общественном договоре? Мы имели право отчуждать
неотчуждаемое право? Означало ли наше обещание при вступлении в ваше
гражданское общество нечто другое, чем: мы обещаем уподобиться животным,
чтобы вам стоило меньше труда укротить нас? И подобный договор был бы
правомерным и значимым?
Однако кто же хочет этого? — взывают они к нам; разве мы не
предоставили вам достаточно ясно и торжественно право мыслить свободно? И
мы готовы согласиться с этим; готовы забыть вызванные страхом попытки,
направленные на то, чтобы лишить нас наилучших вспомогательных
средств; готовы забыть, с какой быстротой в каждый новый свет пытаются
внести прежний мрак4*; не будем спорить о словах — да, вы разрешаете нам
4' Именно так учение, которое было, по-видимому, предназначено для того,
чтобы освободить нас от проклятия закона и подчинить нас закону свободы,
использовали сначала в качестве опоры схоластической теологии, а совсем
недавно — в качестве опоры деспотизма. Мыслящим людям не пристало
ползать у подножья трона и выпрашивать разрешение служить скамейкой
для ног королей.
80
Востребование от государей Европы свободы мысли
мыслить, ибо не можете воспрепятствовать этому; но вы запрещаете нам
сообщать наши мысли: вы посягаете, следовательно, не на наше
неотчуждаемое право свободно мыслить, а посягаете лишь на то, чтобы мы могли
свободно сообщать мыслимое нами.
Но дабы мы могли быть уверены, не спорим ли с вами о
несуществующем, надо решить вопрос: имеем ли мы изначально подобное право?
можем ли мы это доказать? Если мы имеем право на все, что не
воспрещено нравственным законом, — кто мог бы указать на запрещение сообщать
свои убеждения? рассматривать ли право другого запрещать подобное
сообщение как оскорбление права собственности? Вы утверждаете: другой
человек может быть потревожен этим в наслаждении своим покоящимся
на его сложившихся убеждениях счастьем, в своих приятных ему
заблуждениях, в своих сладких грезах; однако как это может произойти от одного
только моего поступка, если он не выслушает меня, не прислушается к
моим речам и не воспримет их как форму своей мысли? Если он будет
потревожен, то он потревожит себя сам, а не я его. Здесь полностью
присутствует отношение, при котором одни дают, другие берут. Разве я не вправе
разделить с кем-либо мой хлеб, разрешить кому-либо погреться у моего
костра, зажечь светильник от моего огня? Если тот, другой, не захочет
моего хлеба, пусть он не протягивает руку за ним; если ему не нужно тепло
моего огня, пусть он отойдет от моего костра; права навязывать ему мои
дары — этого права я действительно не имею.
Но поскольку это право свободного сообщения основано не на
заповеди, а только на разрешении нравственного закона и тем самым,
рассмотренное само по себе, не неотчуждаемо; поскольку, далее, для
возможности его осуществления требуется согласие другого, его готовность принять
мои дары, то само по себе как будто мыслимо, что общество раз и навсегда
уничтожило это согласие, что оно с каждого члена взяло при его
вступлении в общество обещание никому вообще не сообщать своих убеждений.
Однако с этим всеобщим отказом, отказом независимо от лица, дело
обстоит, по-видимому, не так серьезно, как могло бы показаться; ибо разве
не сыпались на нас с невероятной щедростью, как из рога изобилия, дары
привилегированных в государстве лиц и разве не наше упорное
неповиновение является помехой тому, что они до сих пор не одарили нас
редчайшими сокровищами? Однако согласимся с тем, с чем нам так не хочется
соглашаться, а именно, что мы могли при вступлении в общество
отказаться от права сообщать наши мысли: тогда этому праву свободно давать
противостоит право свободно брать; первое не может быть отчуждено без того,
чтобы одновременно не было отчуждено и второе. Допустим, что у вас
было право заставить меня обещать, что я никому не уделю часть своего хлеба;
было ли у вас одновременно и право принудить несчастного голодающего
81
И. Г. Фихте
есть ваше противное ему месиво или умереть? Вы хотите разорвать
прекраснейшие узы, связывающие человека с человеком, позволяющие духу
переливаться в другой дух? Хотите уничтожить сладчайшие отношения
людей, право свободно и радостно давать и брать, наиблагороднейшее, чем
люди обладают? Впрочем, что я говорю о чувстве, обращаясь к вашим
иссушенным сердцам? Пусть холодное, сухое заключение разума, которое вы
не сможете опровергнуть вашими софистическими ухищрениями,
докажет вам неправомерность вашего требования. Право свободно брать все то,
в чем мы нуждаемся, — составная часть нашей личности; в наше
назначение входит свободно пользоваться для нашего духовного и нравственного
образования всем тем, что находится перед нами; без этого условия
свобода и моральность были бы для нас даром, использовать который мы не
можем. Одним из самых богатых источников нашего обучения и образования
является сообщение духа духу. Отказаться от права черпать из этого
источника мы не можем, не отказываясь одновременно от нашей духовности,
нашей свободы и личности; следовательно, нам нельзя отказаться от этого
права; следовательно, и другому нельзя отказаться от своего права
позволить нам черпать из этого источника. Посредством неотчуждаемости
нашего права брать становится неотчуждаемым и его право давать.
Навязываем лимы наши дары, вы хорошо знаете сами. Знаете, предоставляем ли
мы должности и почетные места тем, кто делает вид, будто мы убедили их;
лишаем ли мы должностей и званий тех, кто не слушает наших лекций и не
читает наших трудов; оскорбляем ли мы публично и прогоняем ли мы тех,
кто в своих писаниях выступает против наших принципов. Если при этом
все-таки ваши работы используются для упаковки наших; если на нашей
стороне более светлые умы и лучшие сердца нации, а на вашей — глупцы,
лицемеры и продажные писаки — это объясните сами как можете.
Но, восклицаете вы, мы ведь совсем не запрещаем тебе раздавать
хлеб; только яд тебе предлагать не следует. Но как быть, если то, что вы
называете ядом, является моей ежедневной пищей, которая дает мне
здоровье и силу? Следует ли мне сначала убедиться в том, что слабый желудок
другого не перенесет ее? Умер он от того, что я дал ему эту пищу, или от
того, что он съел ее? Если он не мог ее переварить, то ему не следовало ее есть:
я не запихивал ее в него5*, это исключительно ваша привилегия. Но
предположим, что данное мною другому я действительно считал ядом; как вы
докажете, что я дал ему ее с намерением отравить его? Кто, кроме моей
совести, может быть судьей в этом деле? Однако не будем прибегать к
подобиям.
5* Класть детям в рот хорошо разжеванную предварительно кашу в
провинциях называют запихивать.
82
Востребование от государей Европы свободы мысли
Мне дозволено распространять истину, но не заблуждение.
О, что может для вас, утверждающих это, называться истиной —
что заблуждением? Без сомнения, не то, что мы, другие, считаем
таковым; в противном случае вы бы поняли, что ваше ограничение
полностью устраняет данное разрешение, что вы левой рукой отнимаете то,
что дали правой; что совершенно невозможно сообщать истину, если не
разрешено также распространять заблуждения. Однако выскажусь более
понятно.
Без сомнения, вы говорите здесь не о субъективной истине; вы ведь
не хотите сказать: я могу распространять то, что я честно и по совести
считаю истинным, но не распространять ничего такого, что я сам
признаю ошибочным и неверным. Без договора между мной и вами вы не
можете предъявлять правомерное требование к моей правдивости; ибо
она является только внутренним, а не внешним долгом: общественный
договор вам эту возможность не представляет, так как вы никогда не
можете быть уверены в том, что я выполню свое обещание, ибо вы
неспособны читать в моем сердце. Если бы я обещал вам быть правдивым и вы
это обещание приняли, то вы были бы, правда, обмануты, но по своей
вине; я, по существу, ничего вам не обещал, так как в силу моего
обещания вы обрели бы право, осуществление которого физически
невозможно. Если я преднамеренно вам солгал, если я сознательно и обдуманно
предлагаю заблуждение вместо истины, то я действительно заслуживаю
презрения; но этим я наношу оскорбление только себе, а не вам; это —
лишь дело моей совести.
Следовательно, вы говорите об объективной истине; и в чем она
заключается? — О, мудрые софисты деспотизма, вы, которые никогда не
затрудняетесь в том, чтобы дать дефиницию, — она заключается в
совпадении наших представлений о вещах с вещами в себе. Таким образом,
смысл вашего требования таков — я краснею за вас, говоря это: если мое
представление действительно совпадает с вещью в себе, то я могу его
распространять; если же оно с ней действительно не совпадает, то мне
следует молчать о нем.
Совпадение наших представлений с вещами в себе возможно
двумя способами, а именно, если либо вещи в себе действительно
создавались нашими представлениями, либо наши представления — вещами в
себе. Поскольку в человеческой способности познания встречаются оба
случая, но в таком тесном переплетении, что мы не можем отчетливо
отделить их друг от друга, то совершенно ясно, что объективная истина в
самом строгом значении этого слова просто недоступна рассудку
человека и любого конечного существа; что тем самым наши представления
83
И.Г. Фихте
никогда не совпадают и не могут совпадать с вещами в себе.
Следовательно, распространения истины в этом смысле слова вы от нас требовать
никоим образом не можете.
Тем не менее существует известный необходимый способ, как вещи
должны являться нам всем в соответствии с характером нашей природы и в
той мере, в какой наши представления совпадают с этой необходимой
формой познаваемости; мы можем называть ее объективно истинной, а
именно, если называть объект не вещью в себе, а вещью, необходимым образом
определенной законами нашей способности познания и созерцания
(явлением)6. В этом смысле все то, что создается в соответствии с правильным
восприятием необходимыми законами нашей способности познания, есть
объективная истина. Помимо этой применимой к чувственному миру
истины существует еще одна в бесконечно более высоком значении этого
слова, так как мы должны познавать этот характер вещей не только
посредством восприятия, а сами создавать их с помощью чистейшей и
свободнейшей самодеятельности в соответствии с изначальными понятиями
права и того, что не есть право. То, что соответствует этим понятиям,
истинно для всех духов и для отца духов; и понять истины такого рода обычно
можно с легкостью и уверенностью; наша совесть возглашает их нам. Так,
например, вечная, человеческая и божественная истина состоит в том, что
существуют неотчуждаемые права человека, что к ним относится свобода
мысли, — что тот, кому мы передали нашу власть, чтобы он защищал наши
права, действует в высшей степени неправомерно, пользуясь именно этой •
властью для подавления этих прав и особенно свободы мысли. Из
подобных моральных истин нет исключения; они никогда не могут быть
проблематичны, но всегда могут быть сведены к необходимо значимому
понятию правого. Об истинах такого рода, которые вас вообще мало
интересуют и часто внутренне неприемлемы, вы, следовательно, не говорите; ибо
спор идет не о них — вы говорите о первой человеческой истине. Вы
приказываете, чтобы мы не утверждали ничего, что не выведено согласно
необходимым законам мышления из правильного восприятия. Вы — великодушные,
мудрые, добрые отцы человечества; вы приказываете нам всегда
правильно вести наблюдение и всегда делать правильные умозаключения; вы
запрещаете нам заблуждаться, дабы не распространять заблуждения.
Благородные опекуны, этого мы и не хотим, оно нам так же неприятно, как вам.
Все дело только в том, что мы не знаем, когда мы заблуждаемся. Не могли
бы вы, чтобы ваш отеческий совет был для нас приемлем, дать нам
твердый, всегда применимый, безошибочный критерий истины?
Об этом вы тоже подумали заранее; ни в коем случае не следует,
например, говорите вы, распространять старые, давно опровергнутые заблу-
84
Востребование от государей Европы свободы мысли
ждения. Опровергнутые заблуждения? Но для кого они опровергнуты? Не
думаете ли вы, что мы повторяли бы эти заблуждения, если бы их
опровержения казались нам убедительными, удовлетворяли бы нас; не думаете ли
вы, что мы предпочитаем заблуждаться, а не мыслить правильно,
предпочитаем безумствовать, а не быть умными, что нам достаточно признать
заблуждение таковым, чтобы сразу же подхватить его; или вы полагаете, что
мы просто из стремления к гениальничанью и из озорства, лишь для того,
чтобы дразнить и сердить наших добрых опекунов, привносим вещи в мир,
прекрасно зная, что они являются заблуждением?
Значит, эти заблуждения давно опровергнуты, говорите вы нам,
скрепляя это своим словом. Тогда они должны быть опровергнуты, по
крайней мере, для вас, так как вы ведь будете честны по отношению к нам.
Не скажете ли вы нам, сиятельнейшие сыны Земли, в течение скольких
бессонных ночей вы открыли то, что до сих пор не смогли еще открыть
столь многие мужи, свободные от всех ваших правительственных забот и
посвятившие весь свой досуг подобным исследованиям? Или, быть может,
вы открыли это без каких-либо размышлений и изучений, просто с
помощью вашего божественного гения? Но мы понимаем вас, и нам уже давно
следовало бы вместо этих весьма сухих, с вашей точки зрения и точки
зрения ваших сателлитов, исследований изложить ваши истинные мысли. Вы
говорите совсем не о том, что мы, другие, называем истиной или
заблуждением, — какое вам до этого дело? Да и кто бы решился омрачить подобны-
. ми мрачными спекуляциями тем, кто олицетворяет собой надежду страны,
годы, в течение которых они отдыхали в ожидании будущих
правительственных забот? Вы разделили между собой и вашими подданными силы
человеческой души. Им вы уступили мышление — правда, не для вас и не
для самих себя, так как при вашем правлении это совершенно не нужно, —
они могут, если хотят, заниматься этим в свое удовольствие, но без каких-
либо дальнейших последствий. Хотеть за них будете вы. Эта живущая в вас
общая воля и определит истину. Истинно, таким образом, то, что вы хотите
считать истинным, ошибочно то, что вы хотите считать ошибочным.
Почему вы этого хотите, такой вопрос не задаем ни мы, ни вы. Ваша воля как
таковая — единственный критерий истины. Подобно тому как наше золото и
серебро, так и наши понятия обретают ценность лишь при наличии на нем
вашей печати.
Если непосвященному взору разрешено бросить взгляд на мистерии
государственного управления, для которого требуется глубокая мудрость,
ибо у его руля всегда стоят, как известно,мудрейшие и лучшие из людей, то
позвольте мне сделать несколько робких замечаний. Если я не льщу себе
чрезмерно, то я вижу ряд преимуществ, которые вы при этом имеете в виду.
85
И. Г. Фихте
Подчинить себе тело человека вам нетрудно; вы можете забить его ноги в
колодки, надеть на его руки кандалы, может также в крайнем случае
запретить ему говорить, что не следует, под страхом голода или смерти. Однако
вы ведь не можете всегда присутствовать с вашими колодками, с
кандалами или с палачами — даже ваши шпионы не могут быть повсюду; к тому же
столь трудное управление не оставило бы вам времени для удовольствий,
свойственных человеку. Вам надо, следовательно, подумать о средстве,
которое позволило бы вам вернее и надежнее подчинить человека, чтобы он и
без колодок и кандалов дышал бы только так, как вы ему указываете.
Парализуйте в нем первый принцип самопроизвольной деятельности — его
мысль; когда он не посмеет больше мыслить иначе, чем вы ему
приказываете, будь то через его духовника или посредством ваших религиозных
эдиктов, он станет полностью той машиной, которая вам нужна, и тогда вы
сможете использовать его по своему желанию. Меня восхищает в истории,
в излюбленном вашем предмете занятий, мудрость ряда первых
христианских императоров. С каждым новым правлением истина менялась; ее
приходилось один или несколько раз менять и на протяжении одного
правления, если оно длилось достаточно долгое время. Дух этих максим вы
усвоили, но — простите начинающему в вашем искусстве, если он ошибается, —
вы еще недостаточно глубоко проникли в него. Одну и ту же истину
слишком долго сохраняют в качестве истины; в этом недостаток искусства
государственного управления в новое время. Народ в конце концов привыкает
к этой истине и считает свою привычку верить в нее доказательством ее ис--
тинности, тогда как он должен верить в нее исключительно и абсолютно
только в силу вашего авторитета. Подражайте поэтому, государи,
полностью вашим достойным образцам; отвергайте сегодня то, во что вы вчера
повелевали верить, и одобряйте сегодня то, что вы отвергали вчера, дабы
они никогда не отвыкали от мысли, что источником истины является
только ваша воля. Так, например, вы слишком долго хотели, чтобы одно^ было
равно трем; они вам поверили и, к сожалению, настолько к этому
привыкли, что уже давно отказывают вам в должной благодарности, полагая, что
они сами открыли это. Отомстите за посягательство на ваш авторитет;
прикажите как-нибудь, чтобы одно было одним — конечно, не потому, что
обратное внутренне противоречиво, а потому, что вы так хотите.
Как видите, я понимаю вас; но мне приходится иметь дело с
необузданным народом, который интересуется не вашими намерениями, а
вашими правами. Что мне отвечать?
Вопрос о правах — неудобный вопрос. Сожалею, что здесь мне
придется расстаться с вами, после того как я так дружелюбно беседовал с вами
до сих пор.
86
Востребование от государей Европы свободы мысли
Если бы вы располагали правом устанавливать, что нам следует
считать истиной, то вы должны были бы получить это право от общества, а оно
иметь его посредством договора. Возможен ли подобный договор? Может
ли общество предписать своим членам в качестве условия договора—не
верить в определенные положения, ибо в этом, поскольку это является
внутренним убеждением, оно никогда не сможет убедиться, — но только
внешне признавать их, то есть не говорить, не писать ничего,
противоречащего им, не учить ничему, что шло бы вразрез с ними, — я стараюсь
высказать это положение по возможности мягче.
Физически такой договор был бы возможен. Если бы эти нерушимые
положения были определены настолько твердо и ясно, что каждому, кто
высказался бы против них, можно было бы с достоверностью доказать
это, — согласитесь, что в этом заключено серьезное требование, — то его
можно было бы за это в самом деле наказать как за внешний проступок.
Но возможно ли это также морально, то есть имеет ли общество
право требовать такое обещание, а член общества его давать; не отчуждались
бы в таком договоре неотчуждаемые права человека, что недопустимо ни в
каком договоре, и не стал ли бы подобный договор неправомерным и не
имеющим силы? Свободное исследование любого возможного объекта
размышления в любом возможном направлении и за пределами всех
границ является, без сомнения, правом человека. Никто, кроме самого
человека, не должен определять его выбор, его направленность, его границы.
Это мы доказали выше. Здесь возникает только вопрос: не может ли он сам
посредством договора полагать себе такие границы? Он может таким
образом ограничить свои права на внешние поступки, которые не
предписываются, а только разрешаются нравственным законом. В этом случае его
ничего вообще не заставляет действовать, разве что склонность; эту
склонность он действительно может в тех пределах, в которых ее не ограничивает
нравственный закон, ограничить добровольно наложенным на себя
законом. Однако когда он достигает этой границы размышления, нечто
заставляет его действовать, перейти эти границы и выйти за их пределы, это —
сущность его разума, стремящегося в беспредельность. Назначение его
разума в том, чтобы не признавать абсолютной границы, и только благодаря
этому он становится разумом, а человек только благодаря этому —
разумным, свободным, самостоятельным существом. Следовательно,
размышления, уходящие в беспредельность, — неотчуждаемое право человека.
Договор, которым человек положил бы себе такую границу, не
означал бы, правда, непосредственно: я хочу быть животным, — но означал бы:
я хочу лишь до известной точки (если бы эти поддержанные государством
положения действительно были общезначимыми для человеческого разу-
87
И. Г. Фихте
ма, что мы вам вместе с множеством других трудностей подарили) — хочу
до известной точки быть разумным существом, но как только я ее
достигну, — неразумным животным.
Как только доказано неотчуждаемое право исследовать за пределами
тех установленных результатов, доказана одновременно и
неотчуждаемость права сообща проводить исследование за их пределами. Ибо для
кого право есть цель, для того оно служит и средством, если на его пути не
стоит какое-либо другое право; и одно из замечательнейших средств
продвижения состоит в том, чтобы учиться у других; следовательно, каждый
имеет неотчуждаемое право воспринимать до беспредельности
свободно даруемые поучения. Если это право не должно быть устранено, то и
право другого, право давать такого рода поучения, должно быть
неотчуждаемо.
Поэтому общество не имеет права требовать подобных обещаний
или принимать их; ибо это противоречит неотчуждаемому праву человека:
ни один член общества не имеет права давать подобное обещание; ибо это
противоречит личности другого и возможности, что он вообще будет
поступать морально. Каждый, кто дает такое обещание, действует вопреки
долгу, и как только он это поймет, его долгом станет взять свое обещание
назад.
Вас пугает смелость моих выводов, друзья и слуги старого мрака;
ведь людей вашего толка испугать легко. Вы надеялись, что я сохраню, по
крайней- мере, некоторое колебание, некоторое "поскольку, правда" и.
оставлю открытой небольшую лазейку для вашей религиозной клятвы,
ваших символических книг и т.д. Но даже если бы я это сделал, я не открыл
бы ее здесь для вашего удовольствия; именно потому, что с вами так
бережно обращались, позволяли вам слишком упорно торговаться, с такой
осторожностью старались не касаться нарывов, причиняющих вам самую
острую боль, омывали вашу черноту, стремясь не замочить при этом вашу
кожу, — именно поэтому вы стали столь громогласны. Однако теперь вам
придется постепенно привыкнуть взирать на истину, без скрывающего ее
покрова. Но и я не лишу вас утешения. Чего вы боитесь в тех незнакомых
странах, за пределами вашего горизонта, куда вы никогда не попадете?
Спросите людей, которые там бывают, действительно ли столь велика
опасность быть съеденными моральными гигантами, поглощенными
скептическими морскими чудовищами? Вы же видите, что смелые,
совершающие кругосветные путешествия люди, живя среди вас, отличаются, во
всяком случае, не меньшей моральной устойчивостью, чем вы. Почему же
вы так пугаетесь внезапно вторгающегося озарения, которое возникло бы,
если бы каждому было дозволено разъяснять все, что он может? Человече-
88
Востребование от государей Европы свободы мысли
ский дух вообще движется лишь по ступеням от ясности к ясности; вы в
ваш век прокрадетесь вместе с другими, вы сохраните вашу маленькую
кучку избранных и убеждение в своих великих заслугах. А если дух время от
времени совершает посредством революции в науках значительный
прогресс, — то и об этом не беспокойтесь. Даже если вокруг вас для других
забрезжит день, вас и ваших столь дорогих вашему сердцу питомцев ваши
тусклые глаза сумеют удержать в уютном полумраке; для вашего утешения
вокруг вас станет даже еще темнее. Вам ведь это должно быть известно из
опыта. Разве после яркого света, отличающего науку особенно в последнее
десятилетие, в ваших головах не возникла еще большая путаница, чем
раньше?
А теперь разрешите мне, государи, вновь обратиться к вам. Вы
пророчите нам неимоверные бедствия от неограниченной свободы мысли.
Лишь для нашего блага вы берете ее себе, отнимаете ее у нас, как у детей
отнимают вредную игрушку. Вы поручаете находящимся под вашим
надзором газетным писакам рисовать нам огненными красками беспорядки,
которые производят разделенные в своих воззрениях и возбужденные
различными мнениями умы; указываете нам на кроткий народ, который
опустился до бешенства каннибалов, на то, как он жаждет крови, а не слез, как
он прорывается к месту казней более рьяно, чем к обычным зрелищам, как
он показывает с ликующими криками еще кровоточащие оторванные
члены своих соотечественников, как дети вместо мяча гоняют окровавленные
головы7, — а мы не станем вам напоминать об еще более кровавых
празднествах, которые деспотизм и фанатизм в их обычном союзе устраивали
именно для этого народа, не станем напоминать о том, что это — плоды не
свободы мысли, а следствие предшествующего длительного рабства духа,
не скажем вам, что нигде нет такой тишины, как в гробу. Мы готовы во
всем согласиться с вами, готовы сразу же с раскаянием броситься в ваши
объятья и со слезами просить укрыть нас у вашего отцовского сердца от
всех грозящих нам бед, как только вы ответите нам еще на один
почтительно предложенный вопрос.
Скажите, вы, кому надлежит, как мы узнаем из ваших уст, в качестве
благодетельных гениев-хранителей надзирать за счастьем наций; вы,
которые — вы так часто нас в этом уверяли — лишь в этом видите цель вашей
нежной заботы, — скажите, почему же при вашем высоком надзоре воды
все еще уничтожают наши поля, а ураганы — наши насаждения? Почему
пламя все еще вырывается из недр земли, пожирая нас и наши дома?
Почему меч и болезни уносят тысячи ваших любимых детей? Прикажите же
сначала урагану, чтобы он утих, а потом уж приказывайте утихнуть буре наших
возмущенных мнений: пошлите сначала дождь нашим полям во время
засухи, дайте нам всеоживляющее солнце, когда мы вас об этом молим, а за-
89
И.Г.Фихте
тем дайте нам и дарующую блаженство истину6*. Вы молчите? Этого вы не
можете?
Хорошо же! Тот, кто это действительно может, кто из развалин
опустошения построит новые миры, а из затхлости тления — живые тела, кто
возродит над потухшими вулканами цветущие виноградники, над
гробами — дома, жизнь и радость людей — будете ли вы гневаться, если мы этому
человеку уступим и ту заботу, наименьшую из всех его забот, —
уничтожить, смягчить зло, которое мы навлекли на себя тем, что пользовались его
скрепленной божественной печатью грамотой, или, если мы должны
претерпеть это зло, чтобы мы использовали его посредством нашей
собственной силы для высшей культуры нашего духа.
То, что вы не хотите, государи, быть нашими мучителями, — это
хорошо; что вы хотите быть нашими богами — нехорошо. Почему вы не
хотите решиться спуститься к нам, быть первыми среди равных? Правление
миром вам не удается; вы это знаете. Я не хочу здесь — мое сердце слишком
мягко — приводить все промахи, которые вы до сих пор ежедневно
совершали, кажущиеся грандиозными планы, которые вы каждые три месяца
меняли, не хочу указывать вам на горы трупов ваших людей, которых вы
рассчитывали — и были в этом твердо уверены — с триумфом возвратить
домой. Когда-нибудь, обозревая вместе с нами часть великого твердо
осуществляемого плана, вы удивитесь, что предпринятыми вами действиями
вы слепо способствовали целям, о которых никогда не помышляли.
Вы грубо обмануты; счастья из ваших рук мы не ждем, мы ведь
знаем, что вы люди, — мы ждем защиты и возвращения наших прав,, которые
вы отняли у нас, вероятно, по ошибке.
6* Ваш друг, рецензит в октябрьском номере8 №261 Afllgemeine]
Literarische] Z[eitung], правда, не хочет, чтобы революции сравнивали с явлениями
природы. В качестве явлений, с его дозволения, то есть не по своим
моральным основаниям, а по своим последствиям в чувственном мире, они в
самом деле находятся под действием законов природы. Вы не сумеете показать
ему книгу и место в ней9, которое позволило бы ему убедиться в этом, ая не
могу здесь сделать это. И вообще, вы можете при случае дать понять этому
вашему другу, что он смело может обратиться к более основательным
занятиям философией. Тогда он при его пространных знаниях и мужественной
речи значительно лучше, чем он это делал до сих пор, защищал бы ваше дело
и одновременно дело человечества. У вас никогда не было лучшего друга,
чем философия, конечно, если для вас друг и льстец не едины. Откажитесь
поэтому от того ложного друга, который с рождения служил первому
попавшемуся и дозволял каждому пользоваться им, с помощью которого — это
случилось не столь давно — вас, находящихся во власти одного умного
человека, так же угнетали, как вы теперь с помощью этого же ложного друга
угнетаете ваши народы.
90
Востребование от государей Европы свободы мысли
Я мог бы вам доказать, что только свобода мысли,
беспрепятственная и неограниченная свобода мысли создает и укрепляет благо
государств; я мог бы ясно показать это посредством неотвратимых оснований;
мог бы привести исторические примеры; мог бы указать вам и на
нынешние маленькие и большие страны, которые процветают и на ваших глазах
стали процветающими благодаря свободе мысли: но я не хочу этого делать.
Я не хочу восхвалять вам истину в ее естественной божественной красоте с
помощью сокровищ, которые она принесет вам в дар. Я о вас лучшего
мнения, чем все те, кто действовал таким образом. Я считаю вас способными
внять голосу строгой, но прямой истины: государь, ты не вправе угнетать
свободу нашей мысли: а то, на что у тебя нет права, ты никогда не должен
делать, даже если вокруг тебя рушатся миры и ты вместе со своим народом
будешь погребен под их руинами. О разрушенных мирах, о тебе и о нас,
погребенных под руинами, позаботится тот, кто дал нам права, которые ты уважал.
Да и в чем заключается то земное счастье, на которое мы должны
надеяться, если бы вы даже могли действительно дать нам его? Загляните в
ваши сердца, вы, которые могут наслаждаться всеми радостями,
даруемыми нам земной жизнью. Вспомните о радостях, которыми вы
наслаждались. Стоили ли они ваших забот перед наслаждением, отвращения и
пресыщения, которые следовали за ним? И вы вновь хотите ради нас ввергнуть
себя в эти заботы? О, поверьте, — все блага, которые вы можете нам дать,
ваши сокровища, ваши орденские ленты, ваш блестящий круг или расцвет
торговли, денежное обращение, избыток средств существования —
наслаждение всём этим в качестве наслаждения не стоит пота благородных
людей, не стоит ваших забот и нашей благодарности. Только как орудие
нашей деятельности, как ближайшая цель, к которой мы стремимся, имеют
они некоторую ценность в глазах разумного человека. Единственное наше
счастье на земле — если уж счастье должно быть — заключается в
свободной, беспрепятственной самопроизвольной деятельности, деятельности
собственными силами, направленной на наши собственные цели, которых
мы достигаем с трудом, с усилиями и напряжением. Вы ведь обычно тоже
указуете нам на мир иной, но награды его вы большей частью связываете с
добродетелями страдающего человека, с пассивным терпением и
покорностью своей доле. Да, мы взираем на этот иной мир, который не столь резко,
как вы думаете, отделен от посюстороннего мира10, его гражданское право
мы уже здесь несем глубоко затаенным в нашей груди и не разрешим вам
отнять его у нас. Там уже теперь хранятся плоды наших деяний, а не нашего
страдания; они уже созрели под лучами более мягкого солнца, чем то,
которое присуще нашему климату; позвольте же нам здесь суровым трудом
обрести силы для наслаждения ими.
91
И.Г. Фихте
Следовательно, на нашу свободу мысли вы, государи, никакими
правами не располагаете; не располагаете и решением о том, что верно или
неверно; не располагаете правом определять для нашего исследования его
предмет или устанавливать его границы; правом препятствовать нам
сообщать результаты нашего исследования, верны они или неверны, кому или
как мы хотим; у вас нет и никаких обязательств по отношению к ним;
ваши обязательства связаны только с земными целями, а не с неземной
целью просвещения. По отношению к нему вы можете держаться чисто
страдательного поведения; оно не относится к числу ваших забот. Однако, быть
может, вы хотите сделать больше, чем вы должны. Ну что ж! посмотрим,
что вы способны совершить!
Верно, вы, государи, — великие люди, вы действительно наместники
Божества — не вследствие врожденного величия вашей природы — не в
качестве благодетельных ангелов-хранителей человечества, — но вследствие
великой задачи защищать права людей, которые им дал Бог, вследствие
тяжких и непреложных обязанностей, которые подобная задача возложила
на ваши плечи.
Высокая мысль: миллионы людей говорили мне — гляди, мы
божественного происхождения и печать нашего происхождения на нашем
челе, — мы знаем, какое достоинство придает нам то, что мы не утверждаем
права, которые мы принесли с собой из родительского дома на эту Землю,
—мы, миллионы, не утверждаем их; мы кладем их в твои руки; пусть они
будут для тебя священны из-за их происхождения, пользуйся ими от нашего
имени — будь нашим приемным отцом, пока мы не вернемся в дом нашего
настоящего отца.
Вы распределяете в государстве должности и звания; вы раздаете
богатство и почести; вы помогаете нуждающимся и даете хлеб бедным — но
тот, кто скажет вам, что это благодеяние, допустит грубую ложь. Вы не
можете совершать благодеяния. Должность, предоставляемая вами, — не
подарок; это — часть вашего бремени, которую вы, передавая ее наиболее
достойному, перекладываете на плечи гражданина вашего государства; если
должность получит менее достойный, это будет хищение у общества и у
наиболее достойного. Почести, которые вы предоставляете,
предоставляете не вы; каждому они уже до этого были предназначены его добродетелью,
и вы являетесь лишь высокими инстанциями, знакомящими с этим
общество. Деньги, которые вы раздаете, никогда не принадлежали вам; это было
доверенное имущество, которое общество дало вам, с тем чтобы вы таким
образом могли удовлетворять все его потребности, то есть потребности
каждого отдельного гражданина. Это общество распределяет деньги вашими
руками. Голодающий, которому вы даете хлеб, имел бы его, если бы
общественный союз не принудил его отдать этот хлеб; общество возвращает ему
92
Востребование от государей Европы свободы мысли
через ваше посредство то, что принадлежало ему. Если бы вы делали все
это с безупречной мудростью, с неподкупной добросовестностью, никогда
бы не ошибались, никогда бы не заблуждались, то вы делали бы только то,
что является вашим долгом.
Вы хотите сделать и большее. Ну что же! Ваши сограждане
являются таковыми не только в государстве, но и в мире духов11, где вы занимаете
не более высокий ранг, чем они. В качестве таковых вы не должны
предъявлять им требования, и они вам не должны их предъявлять. Вы можете
искать истину для себя, сохранять ее для себя, наслаждаться ею со всей
доступной вам восприимчивостью; они не имеют права препятствовать вам в
этом. Вы можете предоставить исследованию истины вне вас идти своим
чередом, совершенно не заботясь о ней. Вам совсем не надо использовать
власть, влияние, положение, которые общество вам дало, для
споспешествования просвещению — общество дало вам все это не для того. То, что
вы в этой области сделаете, является полностью проявлением вашей
доброй воли, избытком; на этом пути вы действительно можете заслужить
благодарность человечества, по отношению к которому, впрочем, несете
лишь непременные обязанности.
Чтите и уважайте сами истину, и пусть это будет заметно. Мы знаем,
правда, что в мире духов вы равны нам и что уважение могущественного
властителя столь же не делает истину священнее, сколь преклонение перед
ней ничтожнейшего в народе; знаем, что и вы своим подчинением истине
чтите не ее, а самих себя; но тем не менее мы иногда — а многие среди нас
- всегда — настолько чувственны, что полагаем, будто блеск того, кто
преклоняется перед истиной, придает ей новый блеск. Используйте во благо
это ослепление, пока оно не исчезло, — пусть ваши народы всегда думают,
что есть еще нечто более великое, чем вы, что существуют еще более
высокие законы, чем те, которые издаете вы. Подчиняйтесь публично вместе с
ними этим законам, и ваши сограждане преисполнятся большим
почтением к ним и к вам.
Прислушивайтесь к голосу истины, каким бы ни был ее предмет, и
позвольте ей всегда приближаться к вашему трону, не бойтесь, что его
блеск от этого потускнеет. Или вы хотите, боясь света, укрыться от нее?
Чего вам ее бояться, если ваши сердца чисты? Подчиняйтесь, если она не
одобрит ваши решения; откажитесь от ваших заблуждений, если она вас в них
изобличит. Вы ничем не рискуете при этом. Что вы смертные люди, то есть
что вы не безгрешны, мы знали всегда и узнаем это не только после вашего
признания. Подобное подчинение не будет для вас бесчестием; чем вы
могущественнее, тем оно почетнее. Вы ведь могли бы продолжать ваши
действия, кто мог бы помешать вам в этом? Вы могли бы сознательно и
убежденно продолжать быть несправедливыми, кто посмел бы в лицо упрек-
93
И. Г. Фихте
нуть вас в этом? назвать вас тем, чем вы действительно были бы? Но вы
добровольно решаетесь почтить самих себя и поступать правильно и
посредством этого подчинения закону правого, которое делает вас равным
ничтожнейшему из ваших рабов, вы переноситесь одновременно в ранг
высшего конечного духа.
Величием вашего земного ранга и всеми вашими внешними
преимуществами вы обязаны рождению. Если бы вы родились в хижине пастуха,
то та рука, которая держит теперь скипетр, держала бы пастушеский посох.
Каждый разумный человек будет благодаря этому скипетру чтить в вас
общество, которое вы представляете, но, поверьте, не вас. Знаете ли вы, кому
адресованы наши глубокие поклоны, наше почтительное поведение, наш
раболепный тон? Представителю общества, не вам. Нарядите соломенное
чучело в ваше королевское одеяние, вложите ему ваш скипетр в пустую
руку, посадите его на ваш трон и приведите нас к нему. Не думаете ли вы, что
нам здесь будет не хватать невидимого дуновения, которое якобы исходит
только из ваших божественных личностей, что наши спины будут менее
гибкими, наше поведение менее почтительным, наши слова менее
робкими? Неужели вам никогда не приходило в голову желание выяснить, в
какой мере вы обязаны нашим почтением самим себе? Каково было бы наше
отношение к вам, если бы вы были только одним из нас?
От ваших царедворцев вы этого не узнаете. Они, заметив, что вы
склонны это выслушивать, будут торжественно уверять вас, что почитают и
любят вас только как личность, а не государя.
Не узнаете вы этого и от мудрецов, даже если кто-нибудь из них и
сможет продержаться в том воздухе, которым дышат ваши царедворцы. Он
ответил бы на ваш вопрос представителю общества, а не вам. Увидеть
подчас, как в зеркале, в поведении наших сограждан наши личные качества —
эта привилегия дана только частным лицам; истинные достоинства
королей оценивают вслух только после их смерти.
Если вы все-таки хотите получить ответ на этот вопрос, а он стоит
того, вы должны дать его себе сами. Приблизительно в той степени, в
которой вы можете уважать себя сами, когда вы видите себя не в обманчивом
отражении вашего самомнения, а в чистом зеркале вашей совести, в этой
степени уважают вас и ваши сограждане. Следовательно, если вы хотите
знать, не будет ли тот, кто поет теперь песнопения в вашу честь, сочинять
про вас сатирические куплеты, если вас лишат короны и скипетра, не будут
ли те, кто теперь почтительно уступают вам дорогу, толпиться вокруг вас,
отпуская озорные шутки, не станут ли в первый день насмехаться над вами,
на второй — холодно презирать вас, а не забудут ли вообще о вашем
существовании на третий; или, напротив, и тогда еще будут уважать в вас
человека, которому, чтобы быть великим, не надо быть королем, — то спросите
94
Востребование от государей Европы свободы мысли
об этом се.бя сами. Если вы стремитесь ко второму, а не к первому, хотите,
чтобы мы почитали вас ради вас самих, то вы должны стать достойными
уважения. Но ничто не делает человека столь достойным уважения, как
свободное подчинение истине и праву.
Вы не должны препятствовать свободному исследованию;
способствовать его проведению вы можете — и едва ли это возможно посредством
чего-либо иного, чем проявлением вашего собственного интереса и
покорностью, с какой вы выслушаете его результаты. Знаки почета, которые
вы можете дать любящим истину исследователям — они редко нужны им
ради других и никогда не нужны для себя; их почет не зависит от ваших
подписей и печатей, он живет в сердцах их современников, которые
просвещаются благодаря им, в анналах потомков, которые будут зажигать
свои факелы от огня их лампад, в мире духов, где данные вами титулы не
имеют значения; награды — но что я говорю награды? возмещение за
затраченное время на службе других — лишь скудное воздаяние,
обязательство общества по отношению к ним. Их подлинные награды более
возвышенны. Это — свободная деятельность и широкое распространение их
духа. Их они добиваются сами, без вашей помощи. Но и те воздаяния —
давайте им их так, чтобы они не позорили их и оказывали честь вам, давайте
их так, чтобы они могли бы быть и отвергнуты. Никогда не давайте их с
целью подкупа — вы купите тогда не служителей истины — они никогда не
бывают продажны.
Направляйте занятия исследовательского духа на нынешние
настоятельные потребности человечества, но направляйте их уверенно и мудро,
не как властители, а как свободные участники в труде, не как
господствующие над духом, а как товарищи, радостно разделяющие его плоды.
Принуждение противно истине, она может процветать только в свободе страны
своего рождения, в мире духов.
И прежде всего — научитесь же наконец распознавать ваших
подлинных врагов, единственно виновных в оскорблении величества, в
осквернении ваших священных прав и вас самих. Это — те, кто советует
вам оставлять ваши народы в слепом незнании, распространять среди них
новые заблуждения и сохранять старые, препятствовать проведению
свободного исследования всех видов, запрещать его. Они считают ваши
владения владениями тьмы, которые при свете просто не могут существовать;
полагают, что ваши притязания могут быть осуществлены лишь под
покровом ночи и что господствовать вы можете только над ослепленными и
обманутыми. Тот, кто советует государю препятствовать развитию
просвещения в его народе, прямо говорит ему: твои требования таковы, что они
возмущают здравый человеческий рассудок, ты должен его подавить; твои
принципы и действия не терпят света; не позволяй твоему подданному
95
И. Г. Фихте
стать более просвещенным, иначе он проклянет тебя; твой рассудок слаб;
не позволяй народу стать умнее, иначе он превзойдет тебя; твоя стихия —
мрак и ночь, их ты должен распространять вокруг себя; света дня ты
должен бежать.
Подлинное доверие и уважение к вам чувствуют лишь те, кто
советует вам распространять просвещение. Они считают ваши притязания
настолько обоснованными, что им не может повредить свет, ваши намерения
столь добрыми, что в любом освещении они должны только выиграть,
ваше сердце столь благородным, что вы выдержите зрелище ваших ошибок в
этом свете и сами захотите увидеть их, чтобы можно было исправить. Эти
люди требуют от вас, чтобы вы, подобно Божеству, жили при свете и могли
бы пригласить всех людей почитать и любить вас. Слушайтесь только их, и
они дадут вам совет, не ожидая ни хвалы, ни воздаяния.
ОПЫТ КРИТИКИ
всякого
ОТКРОВЕНИЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ
К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
ч^7 то сочинение называется опытом,
но не потому, что все исследования подобного рода непременно должны
быть слепым нашариванием дна в потемках и не могут дать никакого
определенного результата, а потому, что я не отваживаюсь пока приписать себе
той зрелости, какая потребна для достижения точного результата. Во
всяком случае, первоначально эта рукопись отнюдь не предназначалась для
печати; затем она удостоилась одобрения весьма уважаемых мужей; они-то
и подали мне мысль представить ее на суд публики.
Вот она. Ее внешность, наряд, стиль — дело моих рук; упреки в их
адрес коснутся только меня, и это не столь существенно. Результат же
касается истины, и это более существенно. Он должен быть подвергнут
суровой, но внимательной и беспартийной проверке. Мой подход был, во
всяком случае, беспартийным.
Я мог ошибиться; более того, если бы я не ошибся, это было бы
чудом. В каком тоне заслужил я быть наставленным на путь истинный,
решать публике.
Всякую поправку, в каком бы тоне она ни была сделана, я приму с
благодарностью; всякое замечание, какое покажется мне противным
истине, опровергну, насколько смогу. Ей, истине, посвящаю я себя
торжественно при моем первом выступлении перед публикою. Невзирая на
партию, невзирая на собственную честь мою, буду я всегда признавать
истинным то, что таковым считаю, откуда бы оно ни исходило, и никогда не буду
признавать истинным то, что почитаю ложным. Да простит мне публика,
что в этот первый и единственный раз я говорил перед нею о себе самом.
Для нее мои заверения едва ли важны; но важно было для меня самого
взять ее в свидетели моей торжественной клятвы.
Кенигсберг, декабрь 1791г.
§1
ВВЕДЕНИЕ
mL сть один по меньшей мере
примечательный феномен, обнаруживающийся наблюдательному взору во всех
нациях, от едва вышедших из состояния совершенной дикости до
высокоразвитых обществ: всюду распространены мнения о сообщении между
высшими существами и людьми, предания о сверхъестественных
воздействиях и влияниях божественного на смертное. Здесь грубее, там утонченнее,
все они тем не менее сводятся к одному общему понятию откровения. Это
понятие, по-видимому, заслуживает внимания в силу одной уже своей
всеобщности; и философии, претендующей на основательность, куда
больше пристало заняться поисками его истоков, исследовать его
претензии и реальные возможности и на основании всего этого вынести ему
приговор, нежели, не глядя и не слушая, с ходу ссылать его в страну грез или
зачислять в разряд выдумок мошенников. А так как это исследование должно
быть философским, оно должно исходить из априорных принципов. А
именно, если понятие откровения, как это можно допустить, по крайней
мере предварительно, должно относиться к религии лишь постольку,
поскольку ею определяется практический разум, то оно должно полностью
абстрагироваться от особенностей, которые могли бы быть присущи
какому-либо одному данному откровению. Более того, это исследование
должно даже игнорировать вопрос, существует ли вообще хоть одно
откровение, для того чтобы установить общие принципы, имеющие силу вообще
для всякого откровения '.
Предмет этот имеет, по всей видимости, чрезвычайно существенное
значение для всего человечества, и относительно него поэтому у каждого
человека есть право голоса, причем почти все пользуются этим правом, так
что этот предмет повсеместно оказывается либо бесконечно чтимым, либо
столь же безмерно презираемым и ненавистным. А потому при
исследовании его слишком легко дать увлечь себя предвзятому мнению. Вот почему
здесь вдвойне необходимо иметь перед глазами только путь, указываемый
критикою2, и идти по нему, не сворачивая, не отвлекаясь ни на какую
возможную цель, дожидаясь, пока этот путь не приведет нас к решению, а не
стремясь обосновать результат, данный заранее.
100
§2
ТЕОРИЯ ВОЛИ КАК ПОДГОТОВКА
ДЕДУКЦИИ РЕЛИГИИ ВООБЩЕ
D олением (Wollen) называется
определение себя сознанием собственной деятельности к порождению
некоторого представления. Способность определять себя этим сознанием
самодеятельности называется способностью желания — и то и другое в самом
широком смысле. Воление отличается от способности желания как
действительное от возможного. Быть может, сознание самодеятельности,
происходящее в волении, порой обманывает нас: этот вопрос мы оставим
покамест неисследованным и нерешенным.
Представление, которому предстоит быть порожденным, может
быть либо дано — в той мере, в какой может быть дано представление, то
есть в своем материале — как это предпосылается в качестве доказанного и
признанного в теоретической философии;3 либо же самодеятельность
порождает его вместе даже и с материалом. Возможность или
невозможность этого мы разберем в своем месте.
Материал представления, за исключением тех случаев, когда он
должен быть порожден абсолютно спонтанно, может быть дан только рецеп-
тивности (восприимчивости), и только в чувственном ощущении — ибо
даже априорно данные формы созерцания и понятия постольку, поскольку
они должны составить материал представления, должны быть даны
ощущению — в данном случае внутреннему. Следовательно, всякий объект
способности желания, которому соответствует представление, материал
которого не порождается абсолютно спонтанно, обусловлен
чувственностью и есть объект эмпирический. Так что, будучи рассмотрена с этой
точки зрения, способность желания не поддается никакому определению а
priori; то, чему предстоит стать ее объектом, должно ощущаться и быть
доступным ощущению, и всякому волению должно предшествовать
представление материи воления (то есть материала того представления, которое
должно быть порождено волением).
Однако простая способность определять себя — путем
представления материала некоего представления — к порождению самого этого
представления, отнюдь не полагает еще такого определения — как возможное
101
И. Г. Фихте
еще не полагает действительного. В самом деле, представление не должно
определять: в этом случае субъект играл бы чисто страдательную роль — то
есть был бы определяем, а не определял бы себя сам, — номы должны
определять себя через представление, причем это "через" сразу же становится
совершенно ясным. А именно, должен непременно существовать некий
медиум (посредник), определимый, с одной стороны, представлением, к
которому субъект относится чисто страдательно, а с другой стороны, —
спонтанностью, сознание которой составляет исключительную особенность
всякого воления; и этот медиум мы называем склонностью.
С одной стороны, то, что аффицирует душу (Gemüth)4 в чувственном
ощущении как чисто страдательную, составляет материал или материю
чувственного ощущения, а не его форму, которая дается ему душою через
ее самодеятельность1*.
Таким образом, склонность, поскольку она восходит к чувственному
ощущению, может определяться только через материальное в нем, через
непосредственно воспринятое в момент аффицирования. То, что в
материи чувственного ощущения способно определять склонность, мы
называем приятным, а саму склонность, поскольку она им определяется, —
чувственной склонностью; все эти разъяснения мы даем сейчас
исключительно ради уточнения смысла слов.
Со своей стороны, чувственное ощущение вообще разделяется на
ощущение внешнего и внутреннего чувства; из них первое созерцает
изменения явлений в пространстве опосредованно, второе же созерцает
модификации нашей души — поскольку они суть явления — непосредственно
во времени; соответственно склонность, поскольку она вызывается
восприятием первого рода, может быть названа грубо-чувственной, поскольку
же второго — тонко-чувственной, но в обоих случаях она относится только
к приятному, поскольку и насколько оно приятно. Заметное предпочтение
второй разновидности, то есть тонко-чувственной склонности, могло бы
основываться только на том, что ее объекты доставляют больше
удовольствия, но ни в коем случае не на том, что они будто бы доставляют
удовольствие другого рода. Тот, чьи склонности определялись бы предпочтительно
второй разновидностью чувств, мог бы в лучшем случае похваляться, что
он больше смыслит в удовольствиях; он ничего не смог бы возразить тому,
кто, не аргументируя, заявил бы, что тонкие удовольствия — это ерунда, а
грубые — куда лучше. В самом деле, здесь ведь пошла бы речь о
чувственных удовольствиях, а о них нельзя спорить; и к тому же всякое приятное
''Эта форма эмпирического созерцания, поскольку оно эмпирическое,
составляет предмет чувства прекрасного. При правильном понимании с этой
стороны открывается наиболее легкий путь для проникновения в область
эстетической способности суждения.
102
Опыт критики всякого откровения
аффицирование внутреннего чувства в конце концов может быть сведено к
приятным внешним ощущениям.
Но если, с другой стороны, эта склонность должна определяться
спонтанностью, то такое определение будет осуществляться либо по
каким-то известным законам, просто воздействующим на нее через
спонтанность, то есть не непосредственно спонтанностью; либо вообще без всяких
законов, то есть непосредственно абсолютною спонтанностью.
Для первого случая в нас имеется особая способность, прилагающая
каждый данный закон к данному материалу, а именно, способность
суждения; следовательно, не что иное как способность суждения должна
определять нашу чувственную склонность в соответствии с законами рассудка.
Но этого она не может делать так, как это делает ощущение: она не может
дать склонности материал, ибо способность суждения вообще ничего не
дает, а лишь упорядочивает данное многообразие в синтетическое
единство.
Конечно, все высшие способности души доставляют своей
деятельностью более чем достаточно материала для чувственной склонности:
однако они не дают его самой склонности — ей дает его ощущение.
Деятельность рассудка при мышлении, возвышенные картины, открываемые
перед нами разумом, обмен мыслями между разумными существами и
т.п. — все это может служить неиссякаемым источником удовольствия; но
черпаем мы из этого источника точно таким же образом, каким извлекаем
удовольствие из приятного щекотания нёба лакомствами — посредством
ощущения.
Дале'е, многообразие, которое способность суждения упорядочивает
для того, чтобы определить чувственную склонность, необязательно должно
принадлежать одному какому-то созерцанию — такое упорядочение она
должна производить для рассудка, чтобы обеспечить ему теоретическое
познание в понятиях. Здесь же нет никакого определения материала
формой, ибо чувственная склонность определяется только материалом, а
отнюдь не понятиями, — примечание, чрезвычайно важное для теории
способности желания, ибо, упустив его из виду, мы пойдем по ложному пути и
попадем в другую область — эстетической способности суждения, — так
вот, не понятиями, а многообразными приятными ощущениями. Во время
такой деятельности способность суждения поставлена целиком и
полностью на службу чувственности; чувственность поставляет и многообразие,
и мерило для сравнения; рассудок же не дает ничего, кроме правил
системы.
По качеству своему5 искомый нами предмет непосредственно дан
ощущением: это положительно приятное, что означает то же самое, что и
"определяющее чувственную склонность", и далее неразложимо. Прият-
103
И. Г. Фихте
ное приятно потому, что оно определяет склонность, и оно определяет
склонность потому, что приятно. Стремиться исследовать, почему нечто
непосредственно приятно ощущению и каким оно должно быть, чтобы
быть ему приятным, значило бы впасть в противоречие: ведь в таком случае
мы старались бы свести его к понятиям, и оно стало бы приятно для
ощущения не непосредственно, а через посредство понятий. Отрицание
приятного называется неприятным, а ограничение приятного —
безразличным для ощущения.
По количеству объекты чувственной склонности оцениваются по их
экстенсивности или интенсивности: мерилом для такой оценки служит
непосредственное ощущение.
По отношению, где опять-таки просто приятное соотносится с
просто приятным, оно оценивается 1) относительно его влияния на
устойчивость самой способности ощущения, как она представляется именно
непосредственно ощущением; 2) относительно его влияния на возникновение
или умножение других приятных чувственных ощущений — причинное
воздействие приятного на приятное; 3) относительно возможности или
невозможности сосуществования нескольких приятных ощущений
одновременно.
Наконец, помодальности оно может быть квалифицировано
следующим образом: 1) возможность — для некоего ощущения быть приятным,
по сравнению с предыдущими ощущениями подобного рода; 2)
действительность — что оно приятно; 3) необходимость — получения ощущений:
здесь склонность переходит в инстинкт.
Когда это многообразие, которое в ощущении просто приятно,
упорядочивается по законам рассудка, возникает понятие счастия: понятие о
таком состоянии ощущающего субъекта, в котором он наслаждается в
соответствии с правилами, так, что одно приятное ощущение уступает место
другому, большей интенсивности или экстенсивности; ощущение,
уменьшающее способность к ощущению, сменяется таким, которое ее
усиливает; изолированное — таким, которое само порождает из себя целый ряд
других приятных ощущений или же может сосуществовать со множеством
других, усиливая их; наконец, просто возможное наслаждение,
необходимо приятные ощущения и те, что действительно приятны в настоящий
момент — все они сменяют и поддерживают друг друга. Если составить по
этому наброску систему, получится учение о счастии, оно же — искусство
исчисления чувственного наслаждения2*, которое, однако, не могло бы
быть общезначимым, если бы покоилось на чисто эмпирических
принципах. Каждому пришлось бы завести свою собственную систему, ибо ка-
2* В свое время оно называлось также и этикой (Sittenlehre).
104
Опыт критики всякого откровения
ждый только сам может судить, что ему приятно и что — еще приятнее; эти
индивидуальные системы совпадали бы лишь по форме, поскольку форма
дается необходимыми законами рассудка, но не по материи. При таком
определении понятия счастья окажется совершенно справедливым
утверждение, согласно которому мы не можем знать, что именно составит
счастье другого и, более того, — в чем мы сами станем полагать наше
собственное счастие через час-другой.
Если такое понятие счастья расширить с помощью разума до
необусловленного и неограниченного, получится идея блаженства; будучи точно
так же основана только на эмпирических принципах, она никогда не
может быть определена общезначимым образом. В этом смысле каждый
имеет свое собственное учение о блаженстве; даже сравнительно
общезначимое учение о нем будет невозможным и противоречивым.
Однако через подобную чисто опосредованную определимость
чувственной склонности спонтанностью нам не удастся дать ее подлинное
определение; ибо уже для одного того, чтобы существовала возможность
такой определимости, нам пришлось бы молчаливо допустить
существование, по крайней мере, еще одной способности, а именно способности хоть
как-то задерживать определение склонности, совершающееся
посредством ощущения. Ибо без этого было бы решительно невозможно какое бы
то ни было подчинение различных видов приятного законам рассудка, ни
сравнение их, результатом которого определяется воля. В самом деле,
такое задержание никак не может осуществляться самой способностью
суждения пс законам рассудка: для этого закона рассудка должны были бы
быть также и практическими, что прямо противоречит их природе.
Следовательно, нам придется принять наше второе допущение, а именно: что
подобное задержание осуществляется непосредственно спонтанностью.
Однако не только это задержание, но также и конечное
действительное определение воли не может осуществляться только через одни законы
рассудка; ибо все, что мы совершаем в нашей душе по этим законам,
происходит с чувством необходимости, противоположным тому сознанию
самодеятельности, которое отличает всякое воление; стало быть, оно
должно совершаться непосредственно через спонтанность.
Не следует, однако, из всего сказанного до сих пор, преждевременно
делать вывод, что мы пошли на небольшую подтасовку и от нашего
сознания самодеятельности в волении непосредственно заключили к
действительному существованию такой самодеятельности. В самом деле, сознание
самодеятельности, или свободы, которое само по своей природе есть не что
иное как отрицание (отсутствие чувства необходимости), не могло бы
возникнуть из одного лишь не-сознания подлинной причины, сначала
задерживающей, а затем определяющей нашу склонность; и все-таки, если бы
105
И. Г. Фихте
мы не нашли никакого другого основания для свободы, то есть для
независимости от принуждения природных законов, следовало бы признать, что
она должна возникать хотя бы даже и из этого3*. Тогда философия Йоха6
была бы единственно истинной и единственно последовательной; но тогда
не было бы и никакой воли, и можно было бы доказать, что все проявления
воли — обман; разница между мышлением и волением была бы лишь
кажущейся, а человек был бы машиной, в которой представления цепляются за
представления, как в часах — колесики за колесики. (От таких выводов, к
которым приводят самые убедительные заключения, нет иного спасения,
кроме как в признании практического разума и, что то же самое, его
категорического императива.)
Итак, до сих пор мы всего лишь анализировали некое предполагаемое
понятие воли постольку, поскольку она должна определяться низшею
способностью желания; мы показали, как возможно определение воли
чувственной склонностью, если некая воля существует; но доказывать, что
воля существует, мы покамест не хотели и не могли, да и не делали вида,
будто можем. Подобное доказательство .могло бы, пожалуй, наметиться в ходе
исследования допущенной нами второй возможности, а именно, что
представление, которое должно быть порождено действием воли,
порождается — вместе с его материалом — не через ощущение, а абсолютно
спонтанно, то есть производится сознанием через спонтанность7.
и
Все, что может служить только материалом и ничем иным, дается
через ощущение; спонтанность, со своей стороны, порождает только
формы8, следовательно, предполагаемое нами представление должно было бы
быть представлением о чем-то таком, что само по себе есть форма, и только
как объект другого представления относительно (в отношении этого
другого представления) бывает материалом. Так, например, пространство и
время — сами по себе формы созерцания — служат материалом
представлению о пространстве или времени.
Формы являются сознанию только в их применении к объектам.
Изначально лежащие в чистом разуме формы созерцания, понятий и идей
меняются к своим объектам с чувством необходимости: они,
следовательно, заявляют о себе сознанию принудительно, а не свободно, а потому и
называются данными, а не порожденными.
Если эта искомая нами форма-должна явить себя сознанию как
порожденная абсолютно спонтанно (а не как данная принудительно), она
должна это делать в применении к объекту, определимому абсолютно
3* То есть из не-сознания какой-либо другой причины, определяющей
склонность. ( Примеч.пврев.)
106
Опыт критики всякого откровения
спонтанно. Но в качестве такового нашему самосознанию дан только
один-единственный объект — способность желания; значит, эта форма
должна быть, с объективной точки зрения, формою способности желания.
Если эта форма станет материалом для представления, то материал этого
представления будет порожден абсолютной спонтанностью. Таким
образом, мы имеем наконец представление, которое искали, но оно в то же
время должно остаться единственным в своем роде, ибо условия его
возможности подходят единственно только к способности желания, — и
поставленный нами вопрос разрешен. Итак, то обстоятельство, что подобная
изначальная форма способности желания и сама изначальная способность
желания благодаря этой форме действительно являют себя в нашей душе
нашему сознанию, — есть факт этого сознания; и за пределами этого
последнего, единственно общезначимого принципа всякой философии нет
более никакой философии. Итак, только этот факт впервые удостоверяет
нас в том, что человек имеет волю9.
В этой связи становится (мы коснемся здесь этого лишь мимоходом)
совершенно ясно, как возможны представления — вернее, единственное
представление, материал которого не дан в чувственном ощущении, а
порожден абсолютной спонтанностью, — и как возможны производные от
него представления, выходящие за пределы всякого опыта в чувственном
мире; каким образом материал этих представлений, сам по себе чисто
духовный, чтобы быть воспринятым нашим сознанием, должен быть
определен формами, данными нам для предметов чувственного мира. Однако
такие определения, поскольку они делаются необходимыми не благодаря
условиям вещи в себе, а благодаря условиям нашего самосознания,
должны быть приняты не за объективные, а только за субъективные, но при
этом также за общезначимые для всякого дискурсивного рассудка, ибо они
опираются на законы чистого самосознания. Впрочем, они не должны
быть распространяемы шире, нежели того требует возможность их
восприятия чистым самосознанием, ибо в противном случае они утратят свою
общезначимость. Наконец, становится совершенно ясным, что этот
переход в область сверхчувственного — единственно возможный для конечных
существ.
Так вот, — поднимем нить наших рассуждений снова там, где мы ее
выпустили из рук, — так вот, поскольку для способности желания
изначально определена ее форма, постольку эта способность не определяется
каким-либо данным объектом, а сама задает себе объект посредством этой
формы: то есть если эта форма становится объектом представления, то это
представление должно быть названо объектом способности желания.
Представление же это есть идея безусловно справедливого. Применительно к
воле эта способность побуждает нас хотеть просто потому, что хочется.
107
И. Г. Фихте
Эту чудесную способность в нас называют высшею способностью желания,
и ее характерное отличие от низшей способности желания заключается в
том, что первой не дается объект — она дает его себе сама, а второй
непременно должен быть дан объект. Первая — абсолютно самодеятельна,
вторая — во многих отношениях только страдательна.
Однако для того, чтобы эта высшая способность желания, которая
ведь тоже есть всего лишь способность, могла произвести воление как
действительное действие души и тем самым некое эмпирическое
определение, — для этого требуется еще нечто большее. А именно: всякое юление,
если рассматривать его как действие души, происходит с сознанием
самодеятельности. Но то, на что обращена самодеятельность в этом действии,
само не может уже быть самодеятельностью, по крайней мере в этой
функции: поскольку, если спонтанность воздействует на объект, он будет
чисто страдательным, а значит, аффекцией10. Однако a priori присущая
высшей способности желания необходимая форма воли никогда не может
аффицироваться спонтанностью, данной в эмпирическом самосознании:
это совершенно противоречило бы ее изначальности и ее необходимости.
Либо мы принуждены будем окончательно отказаться от утверждения, что
воля в конечных существах определяется этой необходимою формой, либо
нам нужно обнаружить нечто посредствующее, что, с одной стороны,
производилось бы абсолютной спонтанностью этой формы, а с другой —
определялось бы спонтанностью в эмпирическом самосознании4 *. Для того,
чтобы удовлетворять второму условию, оно должно определиться
страдательно, то есть быть аффекцией способности ощущения. Но для того, чтобы,
согласно первому условию, порождаться абсолютной спонтанностью", оно
не может быть аффекцией способности ощущения какою-либо материей
— а значит, поскольку помимо этого никакие положительные аффекции
способности ощущения немыслимы, оно вообще не может быть
положительной аффекцией, а только отрицательной — подавлением,
ограничением аффекции. Но способность ощущения, поскольку она есть чистая ре-
цептивность, не аффицируется — ни положительно, ни отрицательно —
спонтанностью, а аффицируется только данностью чего-либо
материального. Следовательно, постулированное нами отрицательное определение
вообще не может касаться рецептивности (то есть быть, к примеру,
устранением или сужением чувственности как таковой); оно должно относиться
4* Дело в том, что в силу характерной особенности конечных существ — быть
страдательным объектом аффинирования и определять самих себя
спонтанно, при всяком объяснении их деятельности приходится допускать
опосредующие способности, которые, с одной стороны, могут быть определяемы
страдательно, а с другой — деятельно.
108
Опыт критики всякого откровения
чувственности постольку, поскольку чувственность определяется
спонтанностью, соотнесена с волей и называется чувственной склонностью.
Поскольку такое определение отсылает нас обратно к абсолютной
спонтанности, постольку оно только отрицательно — оно есть подавление
притязания склонности определять волю. Поскольку же оно соотносится с
ощущением этого уже происходящего подавления, оно позитивно и
называется чувством уважения. Это чувство есть одновременно и та точка, в
которой сливается воедино разумная и чувственная природа конечных
существ.
Чтобы пролить по возможности больше света на лежащий перед
нами путь, остановимся сейчас на этом важном чувстве и осмыслим его
согласно моментам суждения. Итак, как мы только что выяснили, по своему
качеству чувство уважения есть положительная аффекция внутреннего
чувства, возникающая в результате уничтожения чувственной склонности
как единственного определяющего мотива воли, то есть тем самым в
результате ограничения воли.
Количество чувства уважения условно определимо и допускает
градацию интенсивности и экстенсивности — в отношении форм воли
эмпирически-определимого существа к закону; безусловно и всецело определенно не
допускает градации интенсивности и экстенсивности — просто уважение
как таковое — по отношению к простой идее закона; безусловно и
неопределимо, бесконечно — по отношению к идеалу, в котором закон и форма
воли — одно.
Что касается отношения, то это чувство относится к Я как субстанции
либо в чистом самосознании — и тогда оно становится уважением к нашей
высшей духовной природе, которое проявляется эстетически в чувстве
возвышенного; либо в самоосознании эмпирическом и для согласования
наших особенных форм воли с законом — это или удовлетворение собою, или
стыд перед самим собой. Либо же это чувство относится к закону как основе
нашего обязательства — это просто уважение как таковое, чувство
необходимого примата закона и нашего столь же необходимого ему подчинения;
либо, наконец, относится к закону, мыслимому как субстанция — это наш
идеал.
Наконец, по модальности уважение возможно по отношению к
эмпирически определимым разумным существам; действительно по
отношению к закону и необходимо по отношению к абсолютно святому существу.
Нечто вроде уважения — добавим здесь для разъяснения — следует
предполагать во всех конечных существах, у которых необходимая форма
способности желания еще не является необходимо также и формою воли;
но у существа, у которого способность и действие, мышление и воля —
одно, уважение к закону немыслимо.
Поскольку это чувство уважения определяет волю как эмпириче-
109
И. Г. Фихте
скую способность и само со своей стороны определяется в волении
самодеятельностью (для какой надобности потребовалось нам отыскать себе
подобное чувство), постольку оно называется склонностью. Но склонность
действительного воления может быть уважением только через отнесение к
Я, ибо никакое воление невозможно без самосознания (свободы) — и,
следовательно, только в форме самоуважения. Это самоуважение, в свою
очередь, может быть, как мы только что сказали, либо чистым — просто
уважение к человеческому достоинству в нас, либо эмпирическим —
удовлетворенностью от действительного утверждения такого достоинства. Гораздо
благороднее и возвышеннее кажется, по крайней мере при теоретическом
рассмотрении, определять себя чистым самоуважением, — простою
мыслью: я должен поступить именно так, если желаю быть человеком, —
нежели эмпирическим, то есть мыслью: ежели я поступлю так, я смогу быть
доволен собою как человек. Однако на практике обе эти мысли сливаются
столь нераздельно воедино, что и самому внимательному наблюдателю
едва ли удастся точно определить долю одной и другой в его волеопределе-
нии.
Из всего сказанного ясно, что принцип "уважай самого себя" есть
совершенно верная максима нравственности. Понятно также, почему
благородные души чувствуют перед самим собою куда больше почтения и
страха, чем перед могуществом всех сил природы, и одобрение
собственного сердца ценят куда выше, чем восхваления всего света.
Итак, поскольку это самоуважение рассматривается как активное
побуждение, определяющее волю если и не необходимо к действительному
хотению, то, во всяком случае, деятельно к склонности, — постольку-оно
называется нравственным интересом, который может быть либо чистым —
интересом к человеческому достоинству как таковому, либо
эмпирическим — интересом к человеческому достоинству в нашей эмпирически
определимой самости. Но всякий интерес необходимо должен
сопровождаться чувством удовольствия, а действительно осуществленный интерес
должен эмпирически порождать чувство удовольствия, и потому
эмпирическое самоуважение проявляется также и как удовлетворенность собою.
Хотя этот интерес всегда отнесен к самости, но он означает нелюбовь к
самости, ^уважение к ней; уважение же по происхождению своему есть
чувство чисто нравственное. Иногда называют всякое чувственное
побуждение корыстным, а нравственное — бескорыстным, и в целях разъяснения
это, пожалуй, вполне допустимо. Мне, однако, такое название кажется не
всегда уместным — по крайней мере, там, где требуется четкая
определенность; ибо и нравственное побуждение, чтобы вызвать действительное
воление, тоже должно быть, отнесено к самости; кроме того, эмпирические
признаки излишни там, где уже умеются рассмотренные нами выше
110
Опыт критики всякого откровения
трансцендентальные. Но то обстоятельство, что изначальное необходимое
определение способности желания порождает интерес, более того,
интерес, подавляющий все чувственное, возможно лишь благодаря тому, что
это определение имеет форму категорического закона и объясняется только
из этой предпосылки5*. Позволю себе задержаться некоторое время на этом
вопросе.
Уважение — удивительное чувство, проявляющееся, пожалуй, в
каждом человеке, необъяснимое из всей его чувственной природы и
непосредственно указующее на его связь с горним миром. И самое
удивительное при этом, что это чувство, хотя и поддающееся давлению нашей
чувственности, сопровождается неким невыразимым удовлетворением, по
характеру своему совершенно отличным от всякого чувственного
удовольствия, а по степени бесконечно ее превышающим. Кто хоть раз глубоко и
искренне ощутил это удовлетворение6*, глядя вниз на грозное низвержение
рейнских водопадов или вверх на вечные глыбы льда, грозящие каждый
миг обрушиться на его голову и испытывая возвышающее чувство: "Я
противостою вашей мощи"; кто хоть раз испытал чувство собственного
достоинства от свободного и обдуманного подчинения хотя бы только идее
всеобщего необходимого закона природы, подавляющего его склонность
или его мнение; кто, наконец, пережил то же чувство, свободно жертвуя
самым для себя дорогим ради исполнения долга, — разве променяет он все
это на какое-нибудь чувственное наслаждение? Что чувственное
побуждение, с одной стороны, и чисто нравственное — с другой, вступают в проти-
5Тади ясности добавлю: такая вещь как интерес к благу имеет силу лишь
применительно к конечным, то есть эмпирически определимым существам,
применительно же к существу бесконечному такое высказывание вовсе
невозможно. Поэтому в чистой философии, абстрагирующейся от всех
эмпирических условий, должно без всяких ограничений приниматься
положение: благо должно осуществляться просто потому, что оно благо. А для
чувственно определимых существ это положение следует ограничить: благо
вызывает интерес просто потому, что оно благо, и этот интерес должен
определить волю осуществлять его, если форма воли должна быть чисто
моральной.
6* Разве не стоило бы нам при воспитании детей обращать больше внимания
на развитие чувства возвышенного? Это путь, который открыла перед нами
сама природа, чтобы мы могли перейти от чувственности к моральности,
путь, который в наши дни так часто уже в очень раннем возрасте застилается
туманом фривольности и игривости и, между прочим, также завесой
теодицей и учений о счастье. Nil admirari — omnia humana infra se posita cernere
(Ничему не удивляться — все человеческое почитать ниже себя. —Лат.) —
разве не ощутимо в этих словах невидимое веяние этого духа, который так
привлекает нас — там меньше, тут больше — к классическим сочинениям
древних? Чем вскоре стали бы мы по сравнению с ними при нашем, без
сомнения, более развитом чувстве гуманности, если бы только захотели
уподобиться им также и в этом отношении? А что мы сейчас по сравнению с
ними?
111
И. Г. Фихте
воборство в человеческой воле, легко объясняется тем, что оба они
проявляются в одном и том же субъекте. Но вот то, что первому так мало
удается побудить второе, более того, что оно уступает и склоняется перед одной
лишь идеей закона и получает более глубокое удовольствие, оставшись
неудовлетворенным, нежели будучи удовлетворено, — этот, говоря одним
словом, категорический характер закона, его абсолютная безусловность
указывает на наше высшее происхождение и на наш духовный
источник, — это божественная искра в нас и залог того, что Мы — Его Рода; и вот
тут-то созерцание переходит в удивление и восхищение. Добравшись до
этого пункта, извиняешь самой смелой фантазии ее полеты, полностью
примиряешься с благородным источником всех грез пифагорейцев и
платоников, хотя и не принимаешь их выводов.
Тем самым был бы также рассеян наконец мрак, до сих пор
затрудняющий понимание кажущегося столь суровым положения критики, что
добро никоим образом не должно быть связано с нашим блаженством11, —
затрудняющий в особенности для добрых душ, имеющих живейший
интерес к справедливому как таковому. Они совершенно правы, настаивая на
собственном самоощущении, что к подлинно хорошим решениям
побуждает их все же нечто иное, как интерес. Но только источник этого
интереса, если решение их было чисто нравственным, им следует искать не в
чувственности, а в законодательстве чистого разума. Ближайшее основание их
воли, определяющее последнюю, правда, не с необходимостью, но
посредством склонности, есть, конечно, удовольствие внутреннего чувства от
созерцания справедливого. Однако причина того, что подобное созерцание
доставляет им удовольствие, заключается отнюдь не в какой-либо аффек-
ции внутренней рецептивности материей некой идеи, что было бы просто
невозможно, но в данном a priori необходимом определении способности
желания как высшей способности.
Допустим, я спросил бы кого-нибудь: "Предпочел ли бы ты, даже
если бы не верил в бессмертие души, скорее в муках пожертвовать жизнью,
нежели совершить несправедливость?" — и он бы мне ответил на это:
"Даже на этих условиях я предпочел бы умереть, причем ради себя самого, ибо
смерть, уничтожающая меня в несказанных муках, не столь невыносима
для меня, как жизнь, которую придется влачить с чувством, что жить я
недостоин, со стыдом и презрением к самому себе". Он был бы совершенно
прав, поскольку имел бы в виду эмпирическое побуждение к своему
решению. Но напрасно он искал бы в чувственном ощущении причину того, что
он в этом случае вынужден был бы презирать себя, и желал бы скорее
пожертвовать жизнью, чем обречь себя на подобное к себе презрение, — ибо
никакими усилиями, никакими ухищрениями не смог бы он извлечь из
ощущения чего-либо подобного уважению или презрению.
112
Опыт критики всякого откровения
Однако сам по себе этот интерес еще не возбуждает с
необходимостью действительное воление; для того требуется еще одно действие
спонтанности в нашем сознании, благодаря которому только и совершается
воление как действительное действие нашей души. Выступающую в этой
функции выбора и данную сознанию эмпирически свободу произвола (liber-
tas arbitrii), которая проявляется также и при определении воления
чувственною склонностью и состоит в способности выбирать не только между
определением нравственным или чувственным побуждением, но и между
многими противоречащими друг другу чувственными определениями,
помогая составить о них суждение, — эту свободу произвола следует отличать
от абсолютно первого проявления свободы через практический закон
разума, где свобода отнюдь не может быть названа произволом (ибо закон не
оставляет нам выбора, повелевая с необходимостью), но означает только
негативно полное освобождение от принуждения природной
необходимости, с тем чтобы нравственный закон не опирался ни на какие лежащие в
теоретической натурфилософии основания как на свои предпосылки и
обеспечивал в человеке способность определять себя самому независимо
от природной необходимости. Без этого абсолютно первого проявления
свободы второе — чисто эмпирическое — не могло бы сохраниться, оно
было бы пустой видимостью, и первое же серьезное размышление
уничтожило бы прекрасный сон, в котором мы увидели бы себя на миг
освобожденными от оков природной необходимости.
Если я не ошибаюсь, смешение этих двух столь различных
проявлений свободы есть одна из главных причин того, что лишь с огромным
трудом удавалось помыслить моральную (а не физическую) необходимость,
посредством которой закон должен повелевать свободе. Дело в том, что если
мы станем включать в понятие свободы признак произвола, — мысль, от
которой до сих пор не могут отделаться столь многие, — тогда, конечно,
моральная необходимость не сможет соединиться с таким понятием
свободы. Но об этом не может быть и речи применительно к первому
изначальному проявлению свободы, благодаря которому она единственно и может
сохраняться. Разум, независимо от чего бы то ни было вне его, абсолютно
спонтанно и самостоятельно дает сам себе закон; это — единственно
правильное понятие трансцендентальной свободы. Этот закон повелевает
просто потому, что он — закон, необходимо и безусловно, и здесь нет места
никакому произволу, никакому выбору между различными
определениями через этот закон, поскольку он определяет только одним единственным
образом.
И вот еще что следует добавить. Эта трансцендентальная свобода,
как исключительная особенность разума, поскольку он есть практический
разум, должна быть приписана всякому моральному существу, а следова-
113
И. Г. Фихте
тельно, также и бесконечному. Но поскольку эта свобода соотнесена с
эмпирическими условиями конечных существ, ее проявления имеют силу
только при этих условиях; следовательно, в Боге нельзя предполагать ни
свободы произвола, ибо она основывается на определимости существа не
только практическим законом разума, но и другими, а Бог определяется
только этим законом, ни уважения к закону, ни интереса к правому как
таковому; так что философы, отказывающие Богу в свободе в таком смысле
слова — свободе, обусловленной рамками конечности, — были тут
абсолютно правы.
А с тем, чтооы это разделение, имевшее наряду с главною задачей —
снять незамеченные трудности критики откровения еще и побочную —
разъяснить некоторые темные пункты в критической философии вообще и
отворить новую дверь перед теми, кто не знал ее до сих пор или был ее
противником — пусть войдут теперь через нее, — чтобы это разделение не
породило недоразумения и не было неверно истолковано самими
критическими философами в том смысле, что добродетель якобы низводится через
него вновь до служанки удовольствия, мы разъясним наши мысли с
помощью следующей таблицы.
Воление, определение через самодеятельность к порождению
представления, рассмотренное какдействие души, бывает
А
чистое
Если представление,
равно как и определение,
порождено абсолютной
самодеятельностью. Это
возможно лишь в одном
существе, только
деятельном и никогда не
страдательном — в Боге.
В
не чистое
в
Если определение, но не
представление,
порождается через
самодеятельность. При определении
через чувственное
побуждение в конечных
существах.
Если представление, но не
определение, порождается
самодеятельностью.
Однако уже в силу самого
понятия воления определение
всегда должно
порождаться самодеятельностью;
следовательно, подобный
случай мыслим лишь при
том условии, что
определение в собственном смысле,
то есть как действие,
происходит через
спонтанность, а определяющее
побуждение есть аффек-
ция. Нравственное
определение воли в конечных
существах посредством
побуждения
самоуважения как нравственного
интереса.
114
Опыт критики всякого откровения
Чистое воление, таким образом, в конечных существах1 невозможно,
ибо воление — дело не чистого духа, а эмпирически определимого
существа; зато возможна чистая способность желания, как способность,
присущая не эмпирически определимому существу, а чистому духу и одним уже
своим присутствием обнаруживающая нашу духовную природу. Именно
так, а не иначе, насколько я, во всяком случае, сумел понять, объяснил себя
сам чистый разум и через своего полномочного среди нас толкователя, что
может быть установлено путем сравнения настоящего изложения с
"Критикой практического разума" 7*12.
ш
Аффекция стремления к счастью, вызываемая нравственным
законом, возбуждающим уважение, является лишь негативной по отношению
к закону. Так же мало способствует счастью и самоуважение, если счастье,
как это и должно быть, полагается только в приятном. Более того, одно из
них растет по мере того, как уменьшается другое, так что человек тем
больше может уважать себя, чем больше своего счастья он принес в жертву
долгу. И тем не менее следует ожидать, что нравственный закон будет аффи-
цировать стремление к счастью даже и как таковое также и позитивно, хотя
бы и опосредованным образом, чтобы не нарушать единства человека,
определяемого как чисто, так и эмпирически. А так как этот закон
претендует в нас быть главенствующим, то этого следует даже требовать8*.
Стремление к счастью первым делом ограничивается нравственным
- законом согласно известным правилам; я не имею права хотеть всего, к
чему могло бы определить меня это стремление. Благодаря этой первой,
чисто негативной законосообразности побуждение, прежде беззаконное и
слепое, зависевшее от слепой природной необходимости, начинает
подчиняться вообще закону, и становится позитивно законосообразным (но еще
не законным) даже там, где закон ничего не говорит — при условии, что
закон для него абсолютно значим, — именно благодаря молчанию закона. Я
не имею права хотеть того, что запрещает нравственный закон, но я имею
право хотеть всего, чего он не запрещает. Это не значит, однако, что я
должен этого хотеть, ибо закон хранит полное молчание, и все зависит от мое-
7* Это говорится не ради доказательства, a Kai'&vtfpcDJiov (от человека;
грен.). Всякое утверждение должно либо держаться на собственных ногах,
либо падать. Мало почитает Канта тот, кто не заметил по всему облику и
изложению его сочинений, что он хотел сообщить нам не букву, а дух свой; еще
менее он проявляет к Канту благодарности.
8* Пренебрежение этой частью теории воли, а именно развитием
позитивного определения чувственного побуждения через нравственный закон,
необходимо приводит к стоицизму в теории нравственности — к принципу
самодостаточности, а если быть последовательным, то и к отрицанию Бога и
бессмертия души.
115
И. Г. Фихте
го свободного произвола. "Иметь право" (dürfen) есть одно из тех понятий,
чье происхождение написано у них на лбу. В самом деле, оно очевидно
обусловлено нравственным законом', натурфилософия знает только "мочь"
(können) или "не мочь", но не знает никакого "иметь право". Однако
нравственным законом оно обусловлено лишь негативно, а окончательное
позитивное определение остается за склонностью.
То, что разрешено в силу молчания закона, называется — будучи
соотнесено с законом — негативно не неправым, а будучи соотнесено с
происходящей отсюда законосообразностью побуждения — позитивно правом.
На все, что не неправо, я имею право-.
Поскольку закон своим молчанием дает побуждению право,
постольку побуждение будет только законосообразным', наслаждение
благодаря этому молчанию будет (морально) только возможным. Это заставляет
нас предположить некую модальность правомерности побуждения и
позволяет ожидать, что благодаря практическому закону — опосредованно —
побуждение может стать также и законным, что наслаждение благодаря ему
же может стать действительным. Это не следует понимать так, будто
чувственность в ее рецептивности должна положительным образом приятно
аффинироваться нравственным законом; о невозможности этого было уже
сказано более чем достаточно. Дело в том, что наслаждение должно стать
не физическим, а морально-действительным. В это несколько необычное
выражение мы внесем сейчас полную ясность. Подобное моральное
осуществление наслаждения должно опираться опять-таки на
вышеописанное негативное определение побуждения законом. Благодаря ему
побуждение впервые получает право. Однако тут мы можем столкнуться со
случаями, когда закон берет это право назад. Так, каждый, вне всякого
сомнения, имеет право на жизнь; и, тем не менее, пожертвовать своей жизнью
может оказаться в один прекрасный день долгом. Но если закон берет
право назад, то он, по-видимому, формально противоречит сам себе. Однако
закон не может себе противоречить, не утрачивая своего законного
характера, не переставая быть законом и не теряя свою силу. Это приведет нас
прежде всего к заключению, что все объекты чувственного побуждения
могут быть только явлениями, а не вещами в себе — в противном случае
нравственный закон вступил бы в противоречие с самим собой; что,
следовательно, подобное противоречие коренится в объектах, поскольку они
суть явления, и тем самым является лишь кажущимся противоречием. Это
положение, вне всякого сомнения, есть постулат практического разума
* Вопрос попутно: должен ли первый принцип естественного права быть
императивом или тезисом? Должна ли эта наука преподноситься в тоне
практической или теоретической философии?
116
Опыт критики всякого откровения
точно так же, как оно есть теорема разума теоретического. Следовательно,
не должно быть и никакой смерти самой по себе, никакого страдания,
никакого самопожертвования во имя долга — кажимость всех этих вещей
основана только на том, что делает вещи явлениями.
Но так как наше чувственное побуждение вызывается явлениями и
так как закон оправдывает его как таковое, то есть постольку, поскольку
оно именно вызывается явлениями, то закон не может взять обратно и
этого права; он требует примата и благодаря этому примату должен повелевать
также и миру явлений. Но он не может делать этого непосредственно, ибо
позитивно он обращен только к вещи в себе, к нашей высшей, чисто
духовной способности желания; следовательно, это должно происходить
опосредованно, то есть через чувственное побуждение, на которое он действует во
всяком случае негативно. Так возникает позитивная законность
побуждения, производная от его негативного определения через закон. Так, у того,
кто умирает во имя долга, нравственный закон отнимает данное ранее
право; однако закон не может сделать этого, не противореча самому себе.
Следовательно, это право отнято у него лишь постольку, поскольку он есть
явление (здесь — во времени): его стремление к жизни, оправданное
законом, требует назад это право именно как явление, то есть во времени, и
через это правовое востребование становится законным для мира явлений.
Напротив, тот, кто, не вняв обращенному к нему требованию закона, не
пожертвовал своей жизнью, будет вынужден (если нравственный закон
должен иметь силу также и в мире явлений) потерять ее как явление
согласно причинности этого закона10*.
Из этой законности побуждения возникает понятие "быть
достойным счастья " в качестве второго момента правомерности. "Достойный " —
понятие, очевидно соотнесенное с нравственностью и невыводимое ни из
какой натурфилософии. Ясно, что слово "достойный" обозначает нечто
большее, чем просто право на что-то: право на наслаждение мы признаем
за многими людьми, которых в то же время отнюдь не считаем такого
наслаждения достойными, но мы никогда не поступим наоборот — не сочтем
кого-либо достойным счастья, на которое он изначально (а не
гипотетически) не имеет права. Наконец, и в самом употреблении этого понятия мы
обнаруживаем его негативное происхождение: ибо, чтобы судить, достоин
ли кто-либо наслаждения, нам приходится отвлечься от действительного
наслаждения. Это один из внешних признаков истинности критической
философии морали: мы не можем ступить в ней и шагу, не натолкнувшись
10* Какое удивительное совпадение! "Кому дорога его жизнь, тот потеряет ее;
но кто ее потеряет, тот сохранит ее для вечной жизни", — сказал Иисус13.
Это — то же самое, к чему мы только что пришли.
117
И. Г. Фихте
на какой-нибудь из принципов, глубоко запечатленных в
общечеловеческом чувстве, причем объяснить этот принцип удается только исходя из
критической философии, и она объясняет его легко и ясно. Так и здесь:
одобрение и требование воздаяния (jus talionis) есть общечеловеческое
чувство. Мы охотно согласимся, чтобы каждому пришлось испытать то, что он
сделал другим, чтобы ему было воздано по его поступкам. Это значит, что
мы, пусть даже и в самом обыденном суждении, признаем явления
чувственного побуждения человека как законные для мира явлений; мы
предполагаем, что его образ действий должен иметь силу общего закона —
применительно к нему.
Эта законность побуждения требует полного согласования судьбы
разумного существа с его нравственным поведением — первый постулат
практического разума, обращающегося к чувственным созданиям. Этот
постулат требует, чтобы всегда осуществлялось то явление, которое
должно было бы осуществиться, если бы побуждение было законно
определено нравственным законом и само являлось бы законодателем по
отношению к миру явлений. И Ъот тут-то мы мимоходом и незаметно обошли
одну трудность, ни одним из противников критической философии до сих
пор, насколько я знаю, не замеченную, но, тем не менее, критическую
философию весьма отягощающую, а именно: как может нравственный закон,
применимый как таковой только к форме воли моральных существ, быть
отнесен к явлениям чувственного мира — ведь это необходимо должно
было бы произойти для того, чтобы можно было постулировать согласование
судеб моральных существ с их поведением, да и для всех прочих,
выводимых отсюда постулатов разума. Эта применимость нравственного закона к
явлениям чувственного мира становится совершенно ясной из одной уже
только законности стремления к счастью по отношению к миру явлений,
которая, в свою очередь, выводится из негативного определения этого
стремления.
И наконец, третий момент модальности. Если право и достоинство
будут мыслиться во взаимосвязи и право в этой взаимосвязи утратит свой
позитивный характер как законосообразность чувственной склонности11*,
а достойность утратит характер негативный как во'зникшая из-за
упразднения права повелением, тогда возникнет понятие, позитивно для нас
избыточное, ибо от него отмысливаются все ограничения, но негативно
обозначающее некое состояние, в котором нравственному закону не приходится
ограничивать какую бы то ни было чувственную склонность, за неимением
таковой: бесконечное счастье с бесконечным правом на него и достойно-
г Бог не имеет никаких прав, ибо у него нет чувственных склонностей.
118
Опыт критики всякого откровения
стью его12* — блаженство, идея неопределимая, но поставленная перед
нами нравственным законом как конечная цель. Мы постоянно
приближаемся к ней, поскольку склонности в нас приходят во все большее
соответствие с нравственным законом14, а следовательно, и права наши должны
становиться все шире, но достичь его, не уничтожив ограничений
конечности, мы никогда не можем. И таким образом, понятие всего высшего
блага, или блаженства, оказалось выводимым из законодательства
практического разума. Первая часть его — святость — является чистой; она
выводится из позитивного определения высшей способности желания этим
законом, что разъяснено в критике практического разума настолько
полно, что повторения здесь не понадобилось. Вторая часть — блаженство (в
узком смысле) — не чистая; она выводится из негативного определения
низшей способности желания этим законом. Мы вынуждены были
исходить из эмпирических предпосылок, чтобы вывести вторую часть, но это не
должно сбивать нас с толку. Во-первых, хотя определяемый предмет и был
эмпирическим, но зато определяющий — чисто духовным. Во-вторых, от
выведенной из этих определений разумной идеи блаженства должно было
быть отмыслено все эмпирическое, и эта идея должна была мыслиться как
чисто духовная, что, правда, едва ли возможно для чувственных существ.
|2* Оба последних понятия стоят здесь только для того, чтобы обозначить
пустое место некой идеи, возникающей из их соединения и для нас
немыслимой.
§3
ДБДУКЦИЯ РЕЛИГИИ
ВООБЩЕ
И з требования нравственного
закона не противоречить самому себе, отменяя данные им однажды
чувственному побуждению права, мы выше вывели опосредованную законность
самого этого побуждения, а из нее — полную согласованность судеб
разумных существ с их моральными настроениями, которую нам пришлось
допустить. В то же время побуждение, хотя и получает отсюда законные права,
как моральная способность, имеет законодательной силы не больше, чем
способность физическая, ибо оно само скорее зависит от эмпирических
законов природы и принуждено пассивно дожидаться от них своего
удовлетворения. Следовательно, противоречие нравственного закона самому
себе применительно к эмпирически определимым существам не снимается
принципиально, а лишь отодвигается несколько дальше: ибо если закон и
дает побуждению право требовать своего удовлетворения, то побуждение^
ищущее не просто права, а утверждения в своем праве, не может
удовлетвориться этим; несмотря на разрешение нравственного закона получить
удовлетворение, оно, как и прежде, остается неудовлетворенным. Поэтому
нравственный закон, чтобы не противоречить самому себе и не перестать
быть законом, должен сам утвердить эти данные им права; тем самым он
должен повелевать также и природе, даже не повелевать — властвовать над
ней. Однако этого он не может делать в существах, которые сами
страдательно аффицируются природой, но лишь в таком существе, которое
определяет природу совершенно самодеятельно, в котором соединяются
моральная необходимость и абсолютная физическая свобода. Такое существо
мы называем Богом. А значит, существование Бога нам придется
предположить — столь же неоспоримо, как и нравственный закон, Бог есть.
В Боге властвует только нравственный закон, причем без всякого
ограничения. Ьотсвят и блажен и — если отнести последнее определение к
чувственному миру — всемогущ.
Бог должен — этого требует от него моральный закон —
осуществлять полное согласование нравственности конечных разумных существ с
их счастьем, ибо только через него и в нем разум властвует над чувственной
природой: он должен быть абсолютно справедливым.
120
Опыт критики всякого откровения
Под понятием всего существующего вообще мыслится не что иное,
как ряд причин и следствий согласно природным законам в чувственном
мире и свободные решения моральных существ в сверхчувственном. Бог
должен видеть первый ряд весь целиком, ибо в силу своей причинности он
определил законы природы через свободу и дал первый толчок
развивающемуся по этим законам причинно-следственному ряду. Он должен знать
также и все решения: ибо все они определяют степень моральности того
или иного существа, и эта степень является масштабом, согласно которому
должно раздаваться разумным существам счастье в соответствии с
требованием морального закона, исполнителем которого является Бог. А так
как, кроме этих двух рядов, для нас не мыслимо ничего, то мы должны
мыслить Бога всеведущим.
До тех пор, пока конечные существа остаются конечными, они будут
подчинены — ибо таково понятие конечности в морали — не только
законам разума, но и другим законам; следовательно, сами по себе они никогда
не смогут достичь полного согласования счастья с нравственностью15. И,
однако, нравственный закон требует этого совершенно безусловно.
Поэтому закон этот никогда не может потерять свою силу, ибо он никогда не
будет осуществлен; его требование никогда не прекратится, ибо никогда не
будет выполнено. Он остается в силе вечно. Его требование, обращенное к
тому святому существу, — вечно содействовать высшему моральному благу
во всех разумных естествах; вечно поддерживать равновесие между
нравственностью и счастьем. Это существо само непременно должно быть
вечным, чтобы'соответствовать вечному моральному закону, определяющему
его природу; и согласно тому же закону оно должно даровать вечность
также и всем разумным существам, к которым обращен этот закон и от
которых он требует вечности. Следовательно, необходимо, чтобы был вечный
Бог и чтобы каждое моральное существо длилось вечно, — в противном
случае конечная цель морального закона окажется невозможной.
Эти положения, поскольку они непосредственно связаны с
требованием разума дать нам, конечным существам, практический закон и
неотделимы от этого требования, мы называем постулатами разума. В самом
деле, эти положения не составляют содержания повелений закона — ведь
практический закон не может давать теоремы, но они необходимо должны
быть допущены, чтобы разум был законодательным. Подобное допущение,
без которого мы не можем признавать закон вообще, мы называем верой16.
Но поскольку оба эти положения основаны на применении нравственного
закона к конечным существам, как это стало достаточно ясно из
проведенной выше дедукции, а не на возможности закона самого по себе (такое
исследование для нас трансцендентно), постольку оба они в этой форме
только субъективны, то есть имеют силу лишь для конечных существ; но зато
121
И. Г. Фихте
для них эти положения общезначимы, ибо основаны на простом понятии
моральной конечности, без различения ее особенных модификаций. Как
мог бы созерцать свое бытие и свои свойства бесконечный рассудок, мы не
можем знать, не будучи сами этим рассудком.
Определения в понятии Бога, которое создал практически
обусловленный моральной заповедью разум, можно разделить на два главных
класса: первые непосредственно вытекают из самого понятия, то есть из
того, что Бог целиком определяется нравственным законом, и только им
одним;13* другие определения даются ему применительно к возможности
конечных моральных существ — ведь именно ради этой возможности нам
и пришлось допустить его существование. Определения первого класса
представляют Бога как наисовершеннейшую святость, в которой
предстает взору весь нравственный закон как идеал всякого морального
совершенства и в то же время — как единственно блаженного, ибо он —
единственно святой. А значит, Бог предстает и как воплощенное достижение
конечной цели практического разума — то самое высшее благо,
возможность которого он постулирует. Согласно определениям второго класса
Бог предстает как высший правитель мира по моральным законам, как
судья всех разумных духов. Первый класс определений представляет Бога в
себе и для себя, в его бытии, и в них он выступает как совершеннейший
блюститель морального закона; вторые рассматривают воздействие его
бытия на другие моральные существа, и в них он является высшим, никому
не подчиненным исполнителем велений морального закона, а значит, и
законодателем; причем это следствие здесь не совсем еще ясно, ниже мы
разберем его подробнее.
Пока мы будем оставаться при этих наших истинах как таковых, мы
будем иметь теологию, которую иметь нам необходимо для того, чтобы
наши теоретические убеждения не вступали в противоречие с практическим
определением нашей воли; но у нас еще не буяет религии, которая, в свою
очередь, оказывала бы влияние на определение воли как его причина. Так
как же возникает из теологии религия?
Теология есть просто наука, мертвое знание без практического
влияния; религия же, по самому значению слова, должна обозначать нечто нас
связывающее, и связывающее крепче, чем мы были бы связаны без нее.
Достаточно ли строго такое толкование этих слов, чтобы воспользоваться им
здесь, мы выясним чуть ниже.
Во-первых, теология, основанная на таких принципах, какие мы
рассмотрели выше, никогда не может быть, по всей очевидности, только
13* Когда речь идет о Боге, обращенное к нему требование практического
разума называется не повелением, а законом. Оно высказывает о Боге не
долженствование, а бытие; применительно к нему оно не императивно, а
конститутивно.
122
Опыт критики всякого откровения
наукой без практического влияния; она возникла под воздействием
предшествующего определения способности желания и потому непременно
должна оказать на нее обратное воздействие. При всяком определении
низшей способности желания мы должны допустить, по крайней мере,
возможность объекта нашего желания, и через это допущение желание,
бывшее прежде слепым и неразумным, станет оправданным и
теоретически разумным; таким образом, здесь осуществляется непосредственное
обратное воздействие. Однако определение высшей способности желания,
состоящее в том, чтобы хотеть добра, разумно само по себе, ибо оно
осуществляется непосредственно через закон разума и не нуждается в
оправдании через признание возможности его объекта: напротив, не признать
такую возможность бы..о бы противоразумно, следовательно, отношение
здесь обратное. Низшая способность желания впервые получает
определение через свой объект; у высшей способности желания объект впервые
получает реальность через определение воли.
Понятие о чем-то безусловно правом*4*, в частности здесь — о
необходимой согласованности степени счастья существа разумного или
рассматриваемого как таковое со степенью его нравственного совершенства,
заложено в нашей природе a priori, независимо от природных понятий и
возможного посредством них опыта. Если мы рассмотрим эту идею только
как понятие, невзирая на то, что она определяет собой способность
желания, то она будет и всегда останется для нас не более как законом, данным
разумом нашей способности суждения и повелевающим нам, рефлектируя
по поводу известных вещей в природе, рассматривать их не только в их
бытии, но и в их долженствовании. В таком случае соответствие реального
положения вещей этой идее должно было бы, как кажется на первый взгляд,
оставлять нас совершенно равнодушными, не вызывая в нас ни
удовольствия, ни интереса.
м* Слово "правое" (recht) (следует непременно отличать его от "права"
(einem Rechte), о котором твердят преподаватели естественного права)
обладает одним отличительным свойством: оно не может иметь степеней
сравнения. Не существует, к примеру, чего- либо настолько хорошего или
настолько благородного, чтобы невозможно было даже помыслить нечто еще
лучшее или благороднейшее; но правое может быть только одно: все, к чему
приложимо это понятие, либо безоговорочно право, либо безоговорочно не
право, третьего здесь не дано. Ни латинское "honestum" (честность,
добродетель; лат.), ни греческое "каХоу K'ayavov" (благородство, доблесть,
добродетель; греч.) не имеют такого свойства. (Разве что только латинское
"par" (равный; здесь: подобающий; лат.): "egisti uti par est"?) Счастье для
нашего языка, что этим словом еще не успели злоупотребить и отнять у него
это замечательное свойство, что могло случиться чрезвычайно легко при
наличии вкуса к превосходным степеням и преувеличениям, а также мнения,
что если какое-то действие, например, назвать "правым", то этим еще
ничего не сказано, необходимо назвать его по меньшей мере "благородным".
123
И. Г. Фихте
Однако даже и тогда все, что вне нас, оказывалось бы отвечающим
заключенному внутри нас a priori понятию права, являлось бы
целесообразным для данного нам разумом способа рефлектировать о вещах и,
следовательно, должно было бы непременно пробуждать в нас чувство
радости, ибо на всякую целесообразность мы взираем с удовольствием. Именно
так это и происходит в действительности. Радость по поводу крушения
злобных замыслов или обнаружения и наказания злоумышленников, или
же, напротив, по поводу успеха, которым увенчались честные усилия, или
по поводу признания непризнанной добродетели, или воздаяния
справедливому за все невзгоды и ущерб, какие он потерпел на стезе добродетели, за
принесенные им жертвы, — эта радость есть всеобщее чувство,
коренящееся в сокровеннейших глубинах человеческой природы, никогда не
иссякающий источник нашего интереса к поэзии. В таком мире, где все
соответствует правилам права, нам нравится гораздо больше, чем в мире
действительном, где мы на каждом шагу сталкиваемся, как нам кажется, с
нарушением этих законов. Впрочем, нравиться нам может нечто и без того,
чтобы мы почувствовали в нем заинтересованность, то есть без того, чтобы
мы пожелали его существования; таково, например, наше удовольствие от
прекрасного. Будь удовольствие от правого такого же рода, правое было бы
объектом только нашего одобрения. Тогда, встречая предмет, отвечающий
понятию правого, мы неизбежно испытывали бы удовольствие, а встречая
предмет, ему противоположный, — неудовольствие; однако в нас никоим
образом не могло бы возникнуть желание, чтобы вообще стало возможным
существование чего-то, к чему было бы приложимо это понятие. Таким
образом, здесь имело бы место всего лишь определение чувства удовольствия
и неудовольствия, без малейшего определения способности желания.
Понятие долженствования уже само по себе указывает на некое
определение способности желания, а именно: хотеть, чтобы известный объект
существовал. Да и общечеловеческий опыт подтверждает, что мы
необходимо применяем это понятие к известным предметам и неуклонно желаем,
чтобы они ему соответствовали. Так, в мире поэтических творений, в
трагедии или романе мы не прежде почувствуем себя удовлетворенными, чем
будет спасена, по крайней мере, честь невинно преследуемого и признана
его невиновность, а несправедливый преследователь будет разоблачен и по
заслугам наказан, даже если бы это противоречило обычному порядку
вещей в мире. Это верное доказательство того, что мы не можем заставить
себя рассматривать такие предметы как действия моральных существ в их
последствии только в соответствии с причинностью природных
законов, — нам необходимо сравнивать их с понятием права. Мы обычно
говорим в таких случаях, что пьеса не окончена. Точно так же не можем мы
ощутить себя удовлетворенными и событиями действительного мира, когда ви-
124
Опыт критики всякого откровения
дим, например, злодея на вершине благополучия, увенчанного богатством
и славой, или добродетельного человека, умирающим в безвестности,
преследовании и неисчислимых муках, — мы не можем остаться довольны,
если это конец спектакля и занавес опускается раз и навсегда. Значит, наше
удовольствие от того, что право, есть не только одобрение, но связано еще
и с интересом.
Впрочем, бывают и такие удовольствия, которые действительно
связаны с интересом, но мы, тем не менее, никак не можем приписать им
особую причинность в порождении их объекта, мы не желаем, да и не можем
желать прибавить хоть малейшую долю к существованию предмета этого
удовольствия. Желание такого существования есть благое пожелание (pi-
um desiderium). Как бы страстно мы ни желали, нам придется смириться с
тем, что мы не можем заявить на него сколько-нибудь обоснованных
претензий. Так, желание многих разновидностей приятного есть всего лишь
праздное желание. Кто, например, не пожелает после затянувшейся
непогоды ясного дня? Однако подобному желанию мы никак не можем
приписать причинности в порождении ясного дня.
Если бы с нашим удовольствием от нравственно доброго дело
обстояло так же, как и с этими вещами, о которых только что шла речь, то мы
не могли бы иметь никакой теологии и ни в какой религии не нуждались
бы. Ибо как бы искренне ни желали мы в последнем случае беспорочной
жизни моральных существ и всемогущего, всезнающего и справедливого
судии их действиям, из одного только нашего желания, как бы всеобще и
сильно оно ни было, нельзя было бы заключить о реальности его объекта и
признать эту реальность хотя бы субъективно значимой.
Однако определение нашей способности желания моральным
законом к тому, чтобы желать правого, должно иметь причинность и, по
крайней мере, отчасти порождать свой объект. Мы непосредственно
вынуждены рассматривать право в нашей собственной природе как нечто
зависящее от нас, так что, когда мы обнаруживаем в себе что-то противоречащее
этому понятию, мы испытываем не просто неудовольствие, как при
неисполнении благого пожелания, и не просто досаду на самих себя, как при
отсутствии предмета нашей заинтересованности, в котором мы сами
повинны (как, например, при нарушении нами правил здравого смысла), —
нет, в таком случае мы испытываем нечто совсем другое — раскаяние,
стыд, презрение к самому себе. Итак, что касается, во всяком случае, права
в нас, тут моральный закон в нас требует полной причинности в его
порождении. Что же до права вне нас, то здесь он не может ничего требовать
прямо, ибо мы не можем рассматривать его право тоже как непосредственно
от нас самих зависящее, поскольку оно порождается не моральными
законами, а физической силой. Таким образом, в последнем случае моральный
125
И. Г. Фихте
закон производит в нас только желание права, но отнюдь не стремление
осуществить его. Это желание права вне нас, то есть желание счастья,
которое соответствовало бы уровню нашей моральности, возникло
действительно через моральный закон. Разумеется, желать счастья вообще
побуждает нас природа; однако она заставляет нас желать счастья безусловно,
неограниченно, не принимая во внимание чего бы то ни было вне нас.
Благодаря же моральным понятиям, то есть как разумные существа, мы вскоре
смиряемся с мыслью, что можно желать счастья лишь в той мере, в какой
мы его достойны, и такое ограничение стремления к счастью, независимо
от всякого религиозного наставления, глубоко запечатлено во всяком,
даже самом необразованном человеке, составляя основу для любого
суждения о целесообразности человеческих судеб и для того, наиболее
распространенного как раз среди невежественнейшей части человечества
предрассудка, будто тот, кого постигает исключительно злая судьба,
непременно должен быть исключительно злым человеком.
Это желание ни в коем случае не является ни незаинтересованным —
то есть таким, исполнению которого мы, конечно, порадуемся, но, если
оно не исполнится, быстро успокоимся, — ни неоправданным. Более того,
сам моральный закон делает право в нас условием права вне нас (это совсем
не означает, что закон требует от нас послушания на том условии, что нам
будет разрешено ожидать ровно столько же счастья, сколько мы выкажем
послушания, — ибо он повелевает без всяких условий, — нет, он
представляет нам всякое счастье возможным только как условие нашего
послушания; в самом деле, заповедь есть нечто безусловное, а счастье — нечто
обусловленное ею). Этого он достигает, приказывая нам подчинять наши
действия принципу общезначимости, ибо всеобщее значение (а не просто
значимость) морального закона и полное соответствие счастья каждого
разумного существа степени его моральности суть понятия тождественные. А в
том случае, если бы правило права никогда не становилось бы и не могло
бы стать общезначимым, требование причинности морального закона к
порождению права в нас сохранялось бы, конечно, в нас как факт, однако
исполнение его in concreto * в природе, подобной нашей, было бы
решительно невозможно. Стоило бы нам, совершая моральный поступок,
задать себе вопрос: "А что же я, собственно, делаю?" — как наш
теоретический разум принужден был бы ответить: "Борюсь за то, чтобы сделать
возможным решительно невозможное, гонюсь за химерой, действую явно
неразумно". А стоило бы нам опять прислушаться к голосу закона, и нам
тотчас пришлось бы вынести суждение: "Я мыслю, очевидно, неразумно,
объявляя невозможным то, что установлено для меня как безусловный
принцип всех моих поступков". Следовательно, в подобном состоянии —
сколь бы постоянным ни было в нас требование морального закона иметь
* Конкретно (лат.).
126
Опыт критики всякого откровения
свою причинность в нас — продолжать исполнять его по правилам было бы
решительно невозможно. Наше непослушание или послушание зависело
бы от того, чье повеление возьмет перевес в нашей душе — практического
или теоретического разума (причем если практического, то, очевидно,
теоретически недопустимая возможность конечной цели морального закона
будет молчаливо допущена и принята в самом нашем действии), но
решить, какой способности отдать предпочтение — после того как
практическая способность утратит свою власть над теоретической, — мы будем не в
состоянии. Вследствие этого мы снова окажемся не свободными и не
моральными и не вменяемыми существами, а всего лишь игрушкой случая
или машиной, определяемой природными законами. Следовательно,
теология, построенная на вышеуказанных основаниях, будучи рассмотрена in
concreto, никоим образом не является просто наукой, но уже
непосредственно при своем возникновении есть религия в силу того, что только она
одна, снимая противоречие между нашим теоретическим и практическим
разумом, делает возможным продолжение причинности морального
закона в нас.
Это приоткрывает нам, помимо всего прочего, подлинный момент
морального доказательства бытия Божия; но этого мы коснемся здесь
лишь мимоходом. Во все времена считалось вполне ясным и без труда
понятным, каким именно образом из теоретически признанных истин
можно вывести практические следствия, которые будут иметь потом ту же
самую степень достоверности, как и истины, из которых они были выведены.
-Например, из нашей теоретически a priori достоверной зависимости от
Бога вытекает долг вести себя по отношению к Богу сообразно этой
зависимости. Такой ход умозаключения всегда считался легко понятным только
потому, что был привычным; на деле же он совсем непонятен, потому что
неверен, ибо теоретическому разуму не может быть приписана власть над
практическим. Напротив, из практического требования, безусловно
априорного и не основанного ни на каких теоретических положениях как
своих предпосылках, могут быть выведены теоретические положения, ибо
как раз практическому разуму должно приписать власть над
теоретическим, в согласии, впрочем, с собственными законами последнего. Таким
образом, подлинный ход умозаключения должен быть прямо
противоположным, а если здесь и имело место недоразумение, то лишь оттого, что
моральный закон не мыслился как безусловно априорный, а его
причинность — как безусловно необходимая (конечно, не в теоретическом, а в
практическом смысле).
Итак, противоречие между теоретическим и практическим разумом
снято, и распоряжение правом перешло отныне в руки такого существа, в
котором правило права не просто общезначимо (allgemeingültig), но обще-
127
MS. Фихте
значаще (allgemeingeltend) и поэтому может гарантировать нам право также
и вне нас. Это правило общезначаще для природы, которая хотя и не
моральна, однако влияет на счастье моральных существ. А поскольку на это
счастье оказывает влияние также поведение других моральных существ,
постольку и эти последние могут рассматриваться как природа. Поэтому
Бог определяет действия, порожденные в природе причинностью их воли,
но не определяет саму их волю.
Однако моральные существа как таковые, то есть взятые с точки
зрения их воли, не могут определяться волею всеобщего законодателя так, как
определяется неморальная природа, — ибо в противном случае они
перестали бы быть моральными существами; а значит, и определение первых
этою волей должно быть совсем другим, нежели определение природы.
Последняя сама никогда не может стать моральной, а может только быть
приведена в согласие с моральными идеями разумного существа;
моральные же существа должны быть свободны и служить — только сами по
себе — первопричинами моральных определений. Таким образом, в
отношении природы Бог является, собственно, не законодателем, а двигателем,
определяющей причиной: она — простой инструмент, а совершающий
моральное действие — только Он.
Со своей стороны моральные существа — и не только потому, что
они в силу природных законов деятельны, но и постольку, поскольку они в
силу тех же самых законов страдательны, — суть части природы и, в
качестве таковых, объект определения природы сообразно моральным идеям,
поскольку именно эти последние отмеряют им подобающую долю счастья,
и они как моральные существа полностью существуют в моральномлюряд-
ке, если степень их счастья соответствует степени их нравственного
совершенства.
Тем самым мы впервые вступаем, если можно так выразиться, в
сношения с Богом. Мы вынуждены теперь при всяком нашем решении
обращать взор к Нему, как к Тому, кто один точно знает моральную цену наших
решений, ибо именно ему предстоит определять в соответствии с ними
нашу судьбу, и его одобрение или неодобрение будет для этих решений
единственно правильным приговором. Наш страх, наша надежда, все наши
ожидания связаны с Ним: только в Его понятии о нас мы находим себе
истинную цену. Необходимо возникающее в нас при этом священное
благоговение перед Богом, будучи сопряжено с жаждой счастья, которого мы
можем ждать только от Него, определяет нашу высшую способность желания,
заставляя нас хотеть права вообще (этого способность желания не может,
ибо сама возникает благодаря уже совершившемуся ее определению), — но
нашу эмпирически определимую волю, заставляя ее беспрерывно и
продолжительно порождать в нас вышеупомянутое благоговение. Таким
128
Опыт критики всякого откровения
образом, здесь мы имеем дело уже с религией, основанной на идее Бога,
определяющего природу сообразно моральным целям, а в нас основанной
на желании счастья; она не столько помогает нам исполнять нашу
обязанность быть добродетельными, сколько заставляет страстно желать
исполнения ее17.
Однако всеобщее значение божественной воли для нас какпассивных
существ позволяет сделать вывод о ее общезначимости для нас также и как
существ активных. Бог судит нас по закону, который может быть дан ему не
иначе, как через Его разум, судит, следовательно, по своей, определенной
моральным законом, воле. Значит, в основе Его суждения лежит Его воля
как общезначимый закон для всех разумных существ, в том числе и
активных; а постольку, поскольку они пассивны, их согласие с этой волей
служит им мерой положенной доли счастья. Насколько применимо такое
мерило, ясно с первого же взгляда, ибо разум никогда не может себе
противоречить, но во всех разумных существах говорит одно и то же;
следовательно, определенная моральным законом воля Бога должна быть совершенно
однозначна с теми законами, которые даны нам тем же самым разумом. А
значит, для легальности наших поступков совершенно безразлично,
сообразуем ли мы их с законом разума потому, что наш разум того требует, или
потому, что Бог хочет того, чего требует наш разум; выводим ли мы наш
долг (Verbindlichkeit) из простого веления разума или из воли Божией; но
вот вполне ли это безразлично для моральности наших поступков, из всего
предыдущего не совсем еще ясно и требует дальнейшего исследования.
Выводить наш долг из Божьей воли — значит признавать Его волю как
таковую законом для нас и тем самым считать себя обязанными к
святости, поскольку Он от нас этого требует. В таком случае речь пойдет уже не
просто об осуществлении воли Бога сообразно материи воления, но о
некоем долге, основанном на форме этой воли: мы поступаем в соответствии
с законом разума потому, что это божественный закон.
Тут возникают следующие два вопроса: существует ли обязанность
повиноваться воле Божией как таковой и на чем она может быть основана?
И второй: каким образом мы узнаем, что закон разума в нас есть закон
Божий? Начнем с ответа на первый.
Уже само понятие Бога дается нам только нашим разумом и
реализуется только благодаря ему — постольку, поскольку он повелевает a priori;
решительно немыслимо, чтобы мы могли прийти к этому понятию каким-
либо другим путем. Далее, разум обязывает нас повиноваться его закону,
не указывая нам какого-либо высшего, чем он сам, законодателя, так что
он будет сбит с толку и попросту уничтожен, перестанет быть разумом,
если мы допустим, что ему повелевает еще нечто иное, нежели он сам. И если
он представляет нам волю Бога как вполне равнозначную его закону, то он,
5-645
129
И. Г. Фихте
конечно, обязывает нас повиноваться также и этой воле, но обязывает
опосредованно; эта обязанность основана не на чем ином, как на совпадении
Божьей воли с законом собственного разума, и никакое повиновение Богу
невозможно иначе, как только из повиновения разуму. Отсюда,
во-первых, уже достаточно ясно, что и, с точки зрения моральности наших
поступков, совершенно безразлично, рассматриваем ли мы себя обязанными
к чему-либо потому, что этого требует наш разум, или потому, что этого
требует Бог. Однако из этого совсем еще не ясно, для чего может вообще
понадобиться последнее представление, ибо его действенность
непременно предполагает действенность первого: в самом деле, прежде чем станет
возможна воля повиноваться Богу, душа должна быть уже определена к
тому, чтобы хотеть повиноваться разуму; к тому же это последнее
представление не кажется ни более всеобщим, ни более сильным в определении
нашей воли, нежели первое, от которого оно зависит и благодаря которому
только и становится возможным. Допустим, однако, что нам удалось бы
показать, что представление об обязательности повиновения Богу при
известных условиях действительно расширяет наше волеопределение. Тем
не менее и в этом случае следовало бы сначала выяснить, обязательно ли
вообще нам пользоваться этим представлением; а насчет этого из всего
вышесказанного непосредственно следует, что хотя разум и обязывает нас
повиноваться воле Божьей по ее содержанию (voluntati ejus materialiter
spectatae), поскольку она полностью совпадает с законом разума, однако
он не требует от нас непосредственно никакого иного повиновения, кроме
повиновения закону разума и ни по какой иной причине, кроме той, что
это закон разума, и, следовательно, разум не обязывает ни к какому
повиновению воле Божией как таковой (voluntatem ejus formaliter spectatam),
ибо обязательны только непосредственные практические законы разума.
Таким образом, практический разум не содержит никакого требования
считать волю Бога как таковую законом для нас, но лишь разрешение; так
что если бы мы a posteriori обнаружили, что это представление определяет
нас сильнее, то благоразумие посоветовало бы нам пользоваться именно
им, однако ни при каких обстоятельствах использование этого
представления не может стать долгом. Итак, религия, то есть признание Бога
моральным законодателем, не обязательна, тем более, что, как бы велика ни была
для нас необходимость признавать существование Бога и бессмертие
нашей души — ибо без такого допущения требование причинности
морального закона в нас было бы абсолютно невыполнимо, и эта необходимость
настолько же общезначима, как и сам моральный закон, — несмотря на все
это, мы никак не можем сказать, что обязаны принимать эти положения —
ведь обязательность имеет силу лишь применительно к практическому.
А насколько велико будет значение представления о Боге как зако-
130
Опыт критики всякого откровения
нодателе, действующем через этот закон в нас, зависит от степени влияния
этого представления на определение воли, а оно, в свою очередь, зависит
от тех условий, при которых разумные существа могут определяться этим
представлением. В самом деле, если бы можно было доказать, что это
представление необходимо уже для того, чтобы сообщить требованию разума
силу закона (но выше мы показали, что это не так), тогда оно имело бы
силу для всех разумных существ; если можно показать, что оно облегчает во-
леопределение во всех конечных разумных существах, тогда оно
общезначимо для них; если же условия, при которых оно облегчает и расширяет во-
леопределение, мыслимы только в человеческой природе, тогда оно
значимо для всех людей — если эти условия заключены во всеобщих
человеческих свойствах, или только для некоторых — если они заключены в
особенных свойствах.
Определение воли к тому, чтобы повиноваться закону Божию
вообще, может совершиться только через закон практического разума; должно
полагать, что это — прочное и постоянное расположение (Entschluss)
души. Можно, однако, представить себе такие случаи применения закона,
когда один только разум недостаточно силен, чтобы определить волю, и
для усиления своей действенности нуждается в представлении о том, что
тот или иной поступок заповедан Богом. Недостаточность разумного
требования как такового не может вызываться иной причиной, кроме
уменьшения нашего уважения к разуму в этом особенном случае; а уважение
может уменьшиться только оттого, что закону разума, определяющему вы-
. сшую способность желания, противоречит закон природы, определяющий
нашу склонность, и это совершается в одном и том же субъекте, а именно в
нас, и поэтому если достоинство закона будет определяться по достоинству
законодательствующего субъекта, то оба закона (т.е. разумный и
природный) могут в данном случае показаться равносильными и равноценными.
Это не говоря уже о том, что мы в подобных случаях склонны сами себя
обманывать, за воплями склонности мы не слышим голоса долга, нам может
казаться, что мы очутились в таком положении, где нами распоряжаются
лишь одни природные законы; да даже если предположить, что мы четко и
ясно различаем требования обоих законов и правильно видим границу
между ними — что, собственно, является нашим долгом в любом подобном
случае, — легко может случиться, что мы решим только здесь
один-единственный раз сделать исключение из общего правила, только
один-единственный раз поступить вопреки ясному требованию разума, ибо мы
думаем, что за наш поступок отвечаем только перед собой, и больше ни перед
кем, и вообще кому какое дело, разумно или неразумно мы желаем
поступить; никому, кроме себя, мы не вредим и не перечим — нам-то, конечно,
придется понести наказание, поскольку существует моральный судья на-
S*
131
И. Г. Фихте
ших поступков, но уже самим фактом подчинения этому наказанию мы,
как нам кажется, искупили наше неповиновение; грешили мы на
собственный страх и риск. Подобный недостаток уважения к разуму
происходит, следовательно, от недостаточного уважения к себе; но уж в этом-то,
нам кажется, мы как-нибудь перед собой отчитаемся. Но если
выступающий в подобных случаях долг явится нам в виде Божией заповеди или, как
это собственно и происходит, закон разума везде и во всех своих
применениях будет являться нам как божественный закон, тогда он будет явлен нам
в таком существе, которое мы уже не вольны уважать или не уважать;
каждым своим сознательным неповиновением ему мы не просто делаем
исключение из правила, а отрицаем разум вообще; мы грешим не против
одного из частных правил, выведенных из него, но против его первого
требования; с нас снята ответственность и обязанность налагать на самих себя
наказание. Мы ответственны теперь перед таким существом, одна мысль о
котором неизбежно должна внушать глубочайший трепет благоговения, не
почитать которое было бы величайшей нелепостью, и перед ним-то мы
отвечаем, помимо всего прочего, также и за отказ ему в должном уважении —
а этого не искупить никаким наказанием.
Идея Бога-законодателя, действующего посредством морального
закона в нас, основывается, таким образом, на овнешнении нашей
сущности, на переносе субъективного на некое существо вне нас18, и это овнеш-
нение есть собственный принцип религии, поскольку она должна служить
волеопределению. Она не может, собственно, усилить вообще наше
уважение к моральному закону, ибо всякое уважение к Богу основано на
признанном совпадении Его с этим законом, а следовательно, на уважении к
самому закону. Однако она может увеличить наше уважение к решениям
разума в тех отдельных случаях, где обнаруживается сильное
противодействие склонности. Отсюда понятно, почему, — хотя вообще именно разум
должен впервые определить нас к тому, чтобы повиноваться Божьей
воле, — все же в отдельных случаях представление о долге повиновения Богу
может определить нас, в свою очередь, к тому, чтобы повиноваться разуму.
Попутно следует еще заметить, что подобное уважение к Богу и
основанное на нем уважение к моральному закону, поскольку он —
божественный, должно основываться также лишь на совпадении его с этим
законом, то есть на его святости, ибо только при таком условии оно будет
уважением к моральному закону, которое одно только должно быть
мотивом всякого морального поступка. Если же уважение к Богу будет
основываться, скажем, на желании втереться в его доверие и снискать его
благорасположение или на страхе перед его справедливостью, то в основе
нашего повиновения будет лежать отнюдь не уважение к Богу, а только
себялюбие.
132
Опыт критики всякого откровения
Наличие склонностей, противоречащих долгу, следует
предположить во всех конечных существах; ибо понятие конечного в морали как раз
и состоит в том, что оно определяется не только моральным, но и другими
законами, то есть законами своей природы. А едва ли можно найти
причину или какие бы то ни было условия, в силу которых природные законы
всегда совпадали бы для какого-нибудь природного существа — как бы
высоко оно ни стояло — с моральным законом. Но, с другой стороны,
невозможно также определить, насколько эта борьба склонности против закона
может ослабить уважение к нему просто как к закону разума и почему она
непременно должна ослаблять его настолько, что закон, чтобы быть
действенным, должен освящаться идеей божественного законодательства; и
мы не можем не испытывать значительно большего почтения к тому
разумному существу, которое не нуждается в подобном представлении для
своего волеопределения — не оттого, что в нем слабее склонности, ибо тут
не было бы заслуги, а оттого, что в нем сильнее уважение к разуму, чем к
существу, в нем нуждающемуся. Таким образом, религии, поскольку она
должна использоваться не просто как вера в постулаты практического
разума, но и как момент волеопределения, не может быть приписана
субъективная общезначимость хотя бы только для людей (ибо только о них может
идти здесь речь); но, с другой стороны, невозможно доказать также и того,
что для конечных существ вообще и для людей в их земной жизни в
частности доступна столь высокая добродетель, которая позволила бы им
обойтись вовсе без этого момента.
Перенос законодательного авторитета на Бога основан, как явствует
из вышесказанного, на том, что ему через его собственный разум должен
быть дан закон, значимый для нас, ибо он нас по нему судит; этот закон
должен полностью совпадать с данным нам нашим собственным разумом
законом, по которому мы должны действовать. Таким образом, получится
два самих по себе совершенно независимых друг от друга закона,
совпадающих только в их принципе — чистом практическом разуме, оба —
значимые для нас, оба — одинаковые по содержанию и различающиеся только
в отношении субъектов, в которых они находятся. В таком случае о любом
требовании нравственного закона в нас мы можем с уверенностью
заключить, что точно такое же требование обращено к нам в Боге и что,
следовательно, повеление закона в нас тождественно повелению закона Божия по
материи; мы не можем, однако, сказать, что повеление закона в нас уже
как таковое, то есть по форме, есть повеление Божие. Последнее
положение дозволительно было бы принять лишь в том случае, если бы у нас были
веские основания рассматривать нравственный закон в нас как зависимый
от нравственного закона для нас в Боге, то есть считать его источником
божественную волю.
133
И. Г. Фихте
Теперь представляется вполне безразличным, станем ли мы
рассматривать приказания нашего разума как совпадающие с приказаниями нам
Бога или считать их сами непосредственными приказами Бога; разве что в
последнем случае понятие законодательства примет вполне законченный
вид; и кроме того, при противоборстве склонности долгу последнее
представление будет, безусловно, придавать вес требованию разума.
Считать божественную волю причиной нравственного закона в нас
можно в двух смыслах, а именно: либо причиной содержания
нравственного закона, либо причиной только существования нравственного закона в
нас. Первое предположение абсолютно неприемлемо — это ясно из
вышеизложенного, — ибо оно вводило бы гетерономию разума и подчиняло
бы право безусловному произволу, то есть устраняло бы право. Мыслимо
ли второе и имеется ли для него разумное основание — это придется
выяснить в дальнейшем исследовании.
Итак, теперь нам придется искать ответа на следующий вопрос:
имеется ли у нас какое-либо основание рассматривать Бога как причину
существования в нас морального закона? Или то же самое, сформулированное в
виде задачи: мы должны искать принцип, исходя из которого
божественная воля может быть признана основанием существования морального
закона в нас. Из вышесказанного ясно, что нравственный закон в нас
содержит божественный закон для нас, что он materialiter * и есть Его закон; но
вот есть ли он Его закон также и по форме, то есть издан ли он именно им и
именно в качестве его закона, как это требуется для полноценного понятия
законодательства, — об этом-то и ставится сейчас вопрос, который можно
выразить и так: действительно ли Бог издал для нас закон? Можем ли мы
указать какой-либо факт, который был бы именно фактом такого
законодательства?
Будь этот вопрос задан теоретически, просто для того, чтобы
расширить наше познание, мы могли бы удовлетвориться, и не получив на него
ответа; более того, и не пытаясь ответить на него, мы могли бы быть
уверены a priori, что удовлетворительный ответ тут просто невозможен, ибо речь
идет о причине сверхъестественного предмета — морального закона в нас,
то есть категория причинности прилагается к ноумену. Однако поскольку
вопрос задан практически — для расширения нашего волеопределения,
постольку мы, во-первых, просто не можем так сразу от него отмахнуться,
а, во-вторых, заранее ограничиваем свои требования, полагая, что нас
удовлетворит даже и субъективный, то есть любой значимый для законов
нашего мышления ответ.
* С точки зрения содержания (лат.).
134
§4
ДЕЛЕНИЕ РЕЛИГИИ ВООБЩЕ
НА ЕСТЕСТВЕННУЮ И ОТКРОВЕННУЮ
1$ наиболее общем значении
теология становится религией тогда, когда положения, принятые для
определения нашей воли через закон разума, действуют на нас практически. Такое
воздействие может быть направлено на всю нашу способность желания,
порождая гармонию различных ее функций, ибо теоретический и
практический разум приходят в согласие и требуемая причинность последнего в
нас становится возможной; только такое воздействие впервые приводит
человека в состояние единства и направляет все его функции к
единственной конечной цели. Либо же воздействие производится на особенную
способность, а именно негативно — только на нашу способность ощущения:
по отношению к высшему идеалу всяческого совершенства в нас
вызывается глубокое благоговение, а по отношению к единственно
справедливому судье нашей моральности и, в соответствии с нею, праведному
вершителю нашей судьбы — доверие, священный трепет и благодарность. Эти
ощущения не должны, собственно, определять волю; но они призваны
увеличить действенность уже происшедшего определения. Разумеется, не
следует стремиться к бесконечному усилению этих ощущений, в
особенности поскольку они опираются на понятие Бога как нашего морального
судьи — все вместе эти ощущения составляют то самое, что зовется
благочестием, — ведь это легко может сломить в нас подлинную моральность, а
именно: хотеть того, что право только потому, что оно право. Либо же,
в-третьих, воздействие это оказывается непосредственно на нашу волю:
требованию закона прибавляет веса то, что это требование Бога; именно
так возникает религия в наисобственнейшем смысле слова.
Что нравственный закон в нас по своему содержанию может быть
отождествлен с божественным законом в нас — это ясно уже из самого
понятия Бога как независимого исполнителя закона разума. Можно ли их
отождествить по форме — это нам придется теперь выяснить. Атак как при
этом речь отнюдь не будет идти о законе самом по себе, как он содержится
в нас, но только об авторе закона, то, говоря о божественном
законодательстве, мы можем вполне абстрагироваться от его содержания (materia),
рассматривая лишь форму. Итак, задача перед нами такая: найти принцип, из
135
И. Г. Фихте
которого Бог познается как моральный законодатель; или ставится вопрос:
явился ли Бог нам как моральный законодатель и каким образом он это
сделал?
На это возможны два ответа: либо это произошло в нас как
моральных существах, то есть в нашей разумной природе; либо вне ее. Но в нашем
разуме — поскольку он чисто априорно законодателен — нет ничего, что
давало бы нам право на подобное допущение; нам придется,
следовательно, искать что-то вне нашего разума, что-то такое, что снова возвращало
бы нас к нему, давая нам возможность выводить из его законов больше,
чем сами по себе эти законы позволяют; в противном случае нам следует
вовсе отказаться от мысли из этого принципа познать Бога как
законодателя. Помимо нашей разумной природы нашему рассмотрению и познанию
предлежит чувственный мир. В нем мы находим повсюду порядок и
целесообразность; все указывает на то, что он возник согласно понятиям
разумного существа. Но ко всем целям, к которым приводит нас
рассмотрение чувственного мира, наш разум должен найти последнюю — конечную
цель как безусловное по отношению к обусловленному. Но в нашем
познании все обусловлено, за исключением цели, поставленной перед нами
практическим разумом, — высшего блага, которое одно повелевается нам
просто и безусловно. Значит, только оно одно и может быть искомой
конечной целью, и субъективное устройство нашей природы принуждает нас
его за таковую признать. Ни одно существо не могло бы иметь подобной
конечной цели, за исключением того, чья практическая способность
определяется одним только моральным законом, и ни одно существо не могло
бы подчинить подобной цели природу, за исключением того, кто сам_опре-
деляет собою природные законы. Это существо — Бог. Следовательно,
Бог — творец мира. Ни одно существо не способно быть объектом этой
конечной цели, кроме моральных существ, ибо только они одни способны
стремиться к высшему благу. Значит, мы сами как моральные существа (то
есть объективно) являемся конечной целью творения. Но как чувственные
существа, то есть подчиняющиеся природным законам, мы являемся
также и частью творения, и все устройство нашей природы — поскольку оно
подчинено этим законам — есть создание Творца, то есть Того, Кто
определяет законы природы своей моральной природой.
Но зависит ли от природы то, что наш разум говорит в нас именно
таким, а не иным образом? Очевидно, что нет; а вот зависит ли от нее, чтомы
являемся именно моральными существами? Это вопрос сугубо
диалектический. Ибо, во-первых, в этом случае мы неизбежно отмысливали бы от
самих себя понятие моральности, но в то же время предполагали бы, что
мы — это все еще мы, то есть что мы сохраняем самотождественность — а
это невозможно допустить; во-вторых, этот вопрос требует объе:сгивных
136
Опыт критики всякого откровения
утверждений относительно области сверхчувственного, где мы не вправе
ничего утверждать объективно15*. Но поскольку для нас решительно все
равно, просто ли не сознавать в себе морального закона или вообще не
быть моральными существами; поскольку, далее, наше самосознание
целиком подчинено законам природы, постольку — и это совершенно
правильный вывод — от устройства чувственной природы конечных существ
целиком зависит то обстоятельство, что они сознают в себе моральный
закон, и более того, — если наши предыдущие выкладки были верны — что
они суть моральные существа. А так как Бог — создатель этого устройства,
то проявление в нас морального закона через самосознание следует
рассматривать как Его проявление, а конечную цель, которую моральный
закон перед нами ставит, — как Его конечную цель, которую Он имел в виду,
создавая нас. Итак, поскольку мы признаем Бога творцом нашей природы,
постольку мы должны признать его также и нашим моральным
законодателем, ибо наше сознание морального закона в нас стало возможным
только благодаря тому самому устройству, какое мы имеем. Это богоявление
происходит через сверхъестественное в нас, и нас не должно смущать, что
для познания его мы вынуждены были прибегнуть к помощи внешнего ему
понятия, именно — понятия природы. Ибо, с одной стороны, понятие
возможной конечной цели, без которого понятие природы оказалось бы для
нашего исследования совершенно бесполезным, дает нам только разум,
открывая тем самым для нас возможность познания Бога как творца; с
другой стороны, само по себе такое познание еще не позволило бы нам
представить Бога как законодателя, если бы не моральный закон в нас, само
существование которого есть искомое явление нам Бога.
Второй из двух мыслимых для нас способов, которым Бог мог бы
явить себя нам в качестве морального законодателя, относился к области,
лежащей вне сверхъестественного в нас, то есть в чувственном мире, — ведь,
кроме этих двух, никакого третьего объекта у нас нет. Но поскольку ни из
понятия мира вообще, ни из какого-либо предмета или события в мире мы
не можем — во всяком случае посредством природных понятий, которые
одни только и применимы к чувственному миру, — заключить к чему-либо
сверхъестественному, а в основе явления Бога как морального
законодателя лежит нечто сверхъестественное, постольку подобное явление должно
было бы произойти только через такой факт, чью причинность мы сразу
же, то есть без предварительных умозаключений, помещали бы в некое
сверхъестественное существо, и чью цель — будь то явление Бога в качестве
,5* На вопрос: "Почему вообще должны быть моральные существа?" —
ответить легко: моральный закон требует от Бога обеспечить существование
высшего блага помимо Его самого, а это возможно только при существовании
моральных существ.
137
И. Г. Фихте
морального законодателя или что-нибудь другое — мы усматривали бы
тотчас же, то есть непосредственно через восприятие, если такое вообще
возможно.
Покамест наше исследование представляет нам два принципа
религии, поскольку она основывается на признании формального
законодательства Бога; один из них — принцип сверхъестественного в нас, другой —
принцип сверхъестественного вне нас. Возможность первого мы уже
показали; возможностью второго — о ней-то, собственно, и идет речь в этой
книге — нам предстоит заняться дальше. Религию, основывающуюся на
первом принципе, мы можем назвать естественной, поскольку она
прибегает к понятию природы вообще; а религию, в основании которой лежит
второй принцип, мы называем om/c/ювенном(geoffenbarte)религией, ибо для
того, чтобы мы получили ее, требуется некое таинственное,
сверхъестественное средство, исключительно для этой цели предназначенное19.
Субъективно, на уровне привычки (Habitus) разумного духа, — то есть в
качестве религиозности, — обе эти религии могут прекрасно уживаться в
одном индивидууме и составлять единую религию, ведь основываются они
хотя и на противоположных, однако не на противоречивых,
взаимоисключающих принципах.
Прежде чем двигаться дальше, мы должны заметить, что здесь мы
вели речь только о формальном принципе законодательства, полностью
абстрагируясь от его содержания, и вопроса о содержании законодательства
(legislatio materialiter spectata), в соответствии с обоими различными-
принципами мы даже не касались. Ясно, что согласно первому принципу,
помещающему явление законодателя в нас, и само законодательство
следует искать тоже в нас, именно в нашей разумной природе. Но вот второй
принцип допускает два варианта. Либо явление законодателя вне нас
отсылает нас назад к нашей разумной природе, и все откровение, если его
пересказать, говорит нам не более того, что Бог есть законодатель и что
начертанный у нас в сердце закон есть Его закон. Либо же оно — тем же
путем, каким обнаруживает нам Бога в качестве законодателя, —
предписывает нам также и особый Его закон. Не исключено, что в каком-либо
конкретном данном откровении может быть и то, и другое.
ПРИМЕЧАНИЕ
С/ о времени появления критики
неоднократно поднимался вопрос: как возможна религия откровения? —
Вопрос этот, правда, был актуален всегда, но только теперь, когда свет
критики озаряет тропу наших исследований, его можно хотя бы поставить
должным образом. И все же мне кажется, что при всех, во всяком случае
известных мне, попытках этот узел скорее разрубался, нежели распутывался.
Один правильно дедуцирует возможность религии вообще,
устанавливает ее критерии и вдруг совершает три чудовищных прыжка: 1)
смешивая религию в самом широком и в самом узком смысле слова; 2)
смешивая естественную религию и религию откровения; 3) смешивая религию
откровения вообще и христианство, — и приземляется с тезисом: именно
такая религия разума и есть христианская религия. Другой, от которого
все-таки не укрылось, что в христианстве есть что-то сверх того,
отождествляет этот "избыток" просто с большей степенью чувственного
воплощения абстрактных идей. Однако разум не дает и не может дать нам
априорного закона относительно того, каким именно образом должны мы
представлять себе идеи, реализованные с помощью его постулатов. Каждый,
даже самый тонкий мыслитель, прилагая эти идеи к себе в практическом
отношении, примешивает к ним немного чувственности, и чем грубее,
чувственнее сам человек, тем больше ее примешивается — доля ее
незаметно увеличивается с каждой новой ступенью человеческой грубости. Ни
одна конкретная религия не может быть совершенно очищена от
чувственности; ибо всякая религия вообще основана на потребности
чувственности. А "больше" или "меньше" еще не дает нам права разделять религии по
этому признаку. В самом деле, если членить по способу представления, то
где будут кончаться пределы религии разума и начинаться область религии
откровенной? В конце концов, у нас получилось бы столько же религий,
сколько существует письменных или устных изложений религиозных
истин, более того — сколько вообще имеется субъектов, исповедующих эту
религию; понять, почему одно изложение религиозных истин должно
считаться авторитетнее другого, можно было бы, только обратившись к тому,
от кого это изложение исходит, а понять, откуда взялась ссылка на сверхъ-
139
И. Г. Фихте
естественный авторитет, которую мы уже отметили как характерный
признак откровенной религии вообще, было бы и вовсе невозможно. Это
уклонение с единственно возможного пути дедукции понятия откровения
произошло оттого, что было забыто общеизвестное правило логики:
понятия, дающие право производить деление, должны быть подчинены одному
и тому же родовому понятию, но между собой должны иметь видовые
различия. Понятие религии вообще есть родовое понятие. Если подчиненные
ему понятия естественной и откровенной религии должны различаться как
виды, то они должны различаться либо по своему содержанию, либо —
если это невозможно, как мы можем предполагать a priori, — по своим
познавательным принципам; в противном случае всякое разделение будет
фиктивным, и нам придется совершенно отказаться от допущения
откровенной религии. Указанное нами выше понятие в обыденном
словоупотреблении испокон веков связывалось со словом "откровение". Все
основатели религиий в доказательство истинности своих учений ссылались не на
определение нашего разума, не на теоретические доказательства, а на
сверхъестественный авторитет, и требовали веры в него, полагая ее
единственным правомерным путем убеждения16*.
,6*Они претендовали не на то, чтобы развить в нас нечто, и без того в нас за-
ложенное, но на то, чтобы сказать нам нечто совершенно новое, доселе
неслыханное; хотели считаться не мудрыми, человеколюбивыми
наставниками, но вдохновенными посланниками божества; какое право имели они на
это, — мы сможем ответить лишь позже или, скорее, ответ сам получится в
дальнейшем изложении.
§5
ФОРМАЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ
ПОНЯТИЯ ОТКРОВЕНИЯ КАК ПОДГОТОВКА
ЕГО МАТЕРИАЛЬНОГО* РАССМОТРЕНИЯ
О предшествующих параграфах мы
перешли от понятия религии к понятию возможного откровения,
материалом которого могли бы быть основоположения религии. Они были бы
содержательным моментом понятия откровения в нашем рассудке — в том
случае, если бы возможность такого понятия, до сих пор лишь
предполагаемая, подтвердилась. Теперь же попытаемся исследовать его с точки
зрения его формы.
По форме откровение есть ътсообщения, и все, что имеет силу по
отношению к его родовому понятию, тем самым имеет силу и по отношению
к нему.
Внутренних условий всякого сообщения бывает два: первое — то, что
сообщается, материал сообщения; второе — каким способом сообщается,
его форма. Внешних условий тоже два: сообщающий и тот, кому
сообщается. Мы займемся вначале внутренними условиями.
Сообщаемое может стать сообщаемым только при том условии, что я
не знал этого раньше. Если я это уже знал, то другой сообщает мне только
тот факт, что он знал это тоже, и тогда материал сообщения будет иной.
Вещи, необходимо известные каждому, не могут быть предметом сообщения.
Знания, возможные a priori или философские мы развиваем, мы
постепенно подводим к ним другого: я могу показать кому-то ошибку в его
рассуждении, могу продемонстрировать равенство двух треугольников, но не
сообщаю этого. Напротив, исторические знания, возможные лишь a
posteriori, сообщаются, но не доказываются, ибо в конечном счете в них всегда
оказывается нечто, a priori не выводимое — некое свидетельство
эмпирической чувственности. Они принимаются в силу авторитета. Авторитет есть
доверие к нашей способности правильно наблюдать и к нашей
правдивости. Правда, даже и a priori возможные знания могут быть приняты в силу
авторитета, как, например, искусный механик принимает многие
математические законы без исследования или доказательства их — на основании
свидетельства других или своего собственного опыта относительно их
применимости. Подобное познание, будучи по своему материалу
философским, по форме своей в субъекте будет чисто историческим. Принятие его
основывается в конечном счете на свидетельстве внутреннего чувства того,
кто однажды исследовал данное положение и нашел его истинным.
* Содержательного. (Примеч.перев.).
141
И. Г. Фихте
ПЕРВОЕ СЛЕДСТВИЕ
Только исторические знания — исторические по крайней мере по
форме, а тем более и по материи, — то есть только восприятия, могут быть
предметом сообщения. Если же на подобных восприятиях строятся
затем дальнейшие заключения (comparative)*, а из них выводятся
всеобщие истины, тогда уже ничего не сообщается, а только демонстрируется.
Перейдем теперь ко второму внутреннему признаку сообщения.
Если восприятия могут быть сообщены только в форме исторических знаний,
то они, становясь предметом сообщения, оказываются не формой, а
материалом последнего; следовательно, они должны быть даны нашей рецеп-
тивности. Но в таком случае — если отвлечься от внешнего условия —
наличия сообщающего, все наше эмпирическое знание было бы нам
сообщено, ибо все оно без исключения дано нам через восприятие. Однако если
кто-то причиняет нам чувственное ощущение непосредственно, мы не
скажем о получаемом таким образом знании, что его нам сообщают: мы
скажем, что познаем это сами. Если кто-нибудь, к примеру, даст нам
понюхать розу, мы не скажем, что он сообщает нам запах розы: то есть он не
сообщает ни того, что запах розы нам приятен ни того, насколько именно
приятен; об этом можно судить только с помощью непосредственного
ощущения. Мы могли бы лишь, пожалуй, сказать, что он сообщал нам о
запахе розы, то есть связал в нашем представлении наш субъект с
представлением некоего определенного опыта. Собственно сообщение, однако,
может состояться лишь тогда, когда не наш, а другой какой-либо субъект
связывается в нашем представлении с предикатом какого-либо
восприятия. Разумеется, сама эта связь осуществляется, в свою очередь, вследствие
нашего субъективного восприятия. Но материалом сообщения служит не
это восприятие нашего субъекта, а другое восприятие другого субъекта.
ВТОРОЕ СЛЕДСТВИЕ
Сообщаемое восприятие не непосредственно: оно дается через
восприятие некоего представления о нем. Это в собственном смысле
сообщенное восприятие может проходить через длинный ряд звеньев; в
таком случае оно передается традицией. Супернатуралист, полагающий
существование Бога познаваемым только посредством откровения,
считает, будто Бог сообщает нам, что он сам — Бог — воспринимает
свое существование; а его — Бога — сообщению должно доверять;
следовательно, и т.д., — что представляет собой, без сомнения, порочный
круг в доказательстве.
* Путем сравнения {лат.).
142
Опыт критики всякого откровения
\ Перейдем теперь к внешним условиям сообщения. Для всякого
сообщения нужен сообщающий. Если мы, на основании определенных
восприятий другого, сами заключаем, что он должен был получить то или иное
определенное восприятие, то в этом случае не другой сообщает нам свое
восприятие, а оно для нас обнаруживается — или мы обнаруживаем его
сами. Таким образом, в сообщающем мы предполагаем произвольную, то
есть сознательную спонтанность, — только тогда он будет сообщающим.
При этом он должен хотеть сообщить нам не вообще что-нибудь, а
известное определенное представление, которое он не только имеет сам, но
которое он думает породить в нас с помощью своего понятия об этом
порождении. Понятие же такое называется целевым понятием.
i ТРЕТЬЕ СЛЕДСТВИЕ
Таким образом, всякое сообщение предполагает в сообщающем
понятие о представлении, которое он хочет вызвать, как о цели его действия.
Следовательно, сообщающий должен быть разумным существом, а его
действие и возбужденное этим действием в другом представление
должны соотноситься как моральное основание и следствие.
Наконец, для сообщения нужен кто-то, кому нечто сообщается.
Если он вообще ничего не узнает; или узнает, но не то что хотел сообщить ему
другой; или узнает, но иным путем, не из сообщения этого другого, значит,
сообщение — во всяком случае, желаемое — не состоялось.
ЧЕТВЕРТОЕ СЛЕДСТВИЕ
Действие сообщающего должно, следовательно, так относиться к
порождаемому в другом представлению, как физическая причина
относится к действию. Что подобное отношение возможно, то есть что
разумное существо благодаря целевому понятию через свободу может
стать физической причиной, это должно быть постулировано ради того,
чтобы сообщение как таковое вообще было возможным; однако это не
может быть доказано теоретически.
Понятие откровения как входящее в родовое понятие сообщения
должно иметь все вышеуказанные признаки, но может иметь и многие
другие; это значит, что оно может полностью определять известные,
различным образом определимые признаки сообщения; мы же, поскольку
рассматривали его до сих пор чисто эмпирически, должны придерживаться
обычного словоупотребления.
Обычно слово "откровение "—если иметь в виду материю — мы
употребляем только применительно к очень важным верованиям или глубоко
сокровенным познаниям, до которых не каждый может дойти сам. Однако
143
И.Г. Фихте
поскольку этот признак лишь относителен: ведь важность или неважность,
трудность или легкость зависят только от субъективного мнения, —
постольку очевидно, что такое определение для философии не годится.
Равно не годится и другое, столь же употребительное определение,
принимающее во внимание сообщающего: откровением называют по
преимуществу сообщения, полученные от неземных существ, демонов и т.п.
Так, все языческие оракулы считались откровениями. То, что
открывающий должен быть свободным и разумным существом, то есть
принадлежать к тому самому родовому понятию, к какому принадлежат и демоны,
следует уже из самого понятия сообщения; но как провести четкую грань
между демонами и, например, людьми, — на этот вопрос ответить не так-
то просто. Все разграничения будут здесь лишь относительны и случайны.
Таким образом, у нас не остается никакого пригодного для
философии четкого определения откровения, кроме того, что сообщение может
принести всякий свободный дух, будь то конечный или бесконечный, а
дать откровение — только дух бесконечный; такое определение вполне
отвечает и обычному употреблению слова "откровение" и "открывать".
Определения, относящиеся к сообщению, будут относиться также и
к откровению; а значит, как это вытекает из третьего и четвертого
следствий, все знания и учения, получаемые из рассмотрения чувственного
мира, первоосновой которого мы должны считать Бога, из откровения
исключаются. Посредством такого рассмотрения нам ничего не
сообщается — мы познаем сами, точнее, мы полагаем, что из чувственного мира мы
познаем то, что сами незаметно туда внесли. А именно, мы рассматриваем
явления в чувственном мире отчасти как цели сами по себе, отчасти, как
средства для совсем иных целей — но отнюдь не для возможного
наставления. Однако поскольку при таком рассмотрении не исключено также и
познание, в особенности познание Бога, нашей зависимости от Него и
нашего вытекающего отсюда долга; поскольку, далее, раз такое познание
возможно, то понятие о нем может быть перенесено нами на Бога и
приписано Ему в качестве замысла, которым Он будто бы руководствовался при
творении мира, — постольку могло бы показаться на первый взгляд
вероятным, что и всю систему явлений можно рассматривать как откровение.
Однако, не говоря уже о том, что подобное познание сверхчувственного из
чувственного мира совершенно невозможно; что мы сами незаметно
приносим в чувственный мир духовные понятия, полученные нами совсем
другим путем, а потом думаем, что нашли их именно здесь, в чувственном
мире, — и без того подобный замысел Божий нельзя было бы признать
последним, то есть конечною целью творения. Познание не может быть
конечной целью, ибо всегда останется вопрос: а почему, собственно, я
должен познавать Бога? Познание могло бы быть лишь средством для какой-
то более высокой цели, а значит — не самой высшей целью творения; а
144
Опыт критики всякого откровения
между этой высшей целью и познанием, которое должно было бы быть при
ней предусмотрено, причинно-следственное отношение отсутствует.
Кроме того, в этой системе из рассмотрения мироздания необязательно
получается такое познание; опыт показывает, что очень многие судят о
мироздании согласно совсем другим законам, тем самым здесь опять-таки
отсутствует отношение причины и следствия, так что творение не есть
откровение.
Откровение, насколько мы до сих пор определили это понятие, есть
восприятие, возбуждаемое в нас Богом сообразно понятию какого-либо
даваемого нам таким путем наставления (каким бы ни был его материал);
наставление является целью откровения. Это последнее отношение 17*, о
котором здесь, собственно, идет речь, характеризовали также словом
непосредственное. Против этого нельзя возразить, если только тем самым не
хотят сказать, что наше восприятие ъряду действующих причин должно
следовать сразу же за действием Бога (оно должно быть обозначено как В, если
действие Бога в этом ряду обозначить как А); а между тем это не так, ибо
между действием Бога и нашим восприятием может стоять сколь угодно
много промежуточных звеньев. Если же словом "непосредственное" хотят
выразить только то, что в ряду конечных причин понятие Бога о наставлении,
которое следует дать нам, должно быть Л, а наше знание — В, то это будет
совершенно верно.
Логическая возможность понятия откровения не подлежит
сомнению: ведь если бы в его определениях было противоречие, оно вскоре
обнаружилось бы. Его физическая возможность опирается на постулат
нравственного закона, требующий, чтобы свободное разумное существо в
соответствии с понятием цели могло быть причиной в чувственном мире; нам
уже пришлось принять этот постулат применительно к Богу — в противном
случае наличие практического закона в чувственных существах было бы
невозможно.
Однако как только мы попытаемся приложить понятие откровения к
какому-либо факту, возникают серьезные трудности. Если бы речь шла
только о том, что в нас осуществляется некое восприятие и
предусмотренное при этом познание, если бы нам не нужно было выяснять причину
этого явления, — тогда мы могли бы считать наше исследование теперь уже
законченным. Нас интересовала бы тогда только материя откровения,
которую мы бы спокойно принимали. Но сейчас ведь материя откровения
интересует нас менее всего — нам важна, только и исключительно, его форма.
Ведь нам не просто должно быть сообщено нечто вообще; это нечто
познается нами исключительно лишь потому, что мы признаем его за открове-
17' Имеется в виду отношение между действием Бога и нашим восприятием.
(Примеч. ред.),
145
И. Г. Фихте
ние. Бог должен сообщить нам некое знание, которое становится знанием
лишь постольку, поскольку его сообщает не кто иной как Бог. Это
происходит оттого, что вера в любое сообщение в силу самой природы этого
понятия основывается исключительно на авторитете сообщающего, как это
показано выше.
Итак, более важный вопрос, на который нам еще предстоит
ответить, таков: можем мы знать, что именно Бог в соответствии с понятием
цели произвел в нас известное восприятие?
Поначалу можно было бы подумать, что мы узнаем об этом из
материала представления, произведенного в нас восприятием, например, если
бы кому-нибудь предстало явление, которое объявило бы себя Богом и в
качестве такового дало бы ему ряд наставлений. Однако в том-то и
заключался вопрос: как он мог бы узнать, было ли это явление произведено
действительно Богом или же он сам обманулся либо его обмануло какое-то
другое существо? Вопрос касается причинной связи, а такие связи
являются результатом не восприятия, ^умозаключения 18*.
Подобное заключение возможно было сделать, как казалось раньше,
двумя способами, а именно: либо a posteriori, поднимаясь от данного
восприятия как действия к его причине; либо a priori — спускаясь от известной
причины к действию. Мы исследуем возможность первого заключения, от
которого теологии до сих пор жаль отказаться, хотя и было сделано все
возможное, чтобы его неправильность со всей очевидностью бросилась ей в
глаза.
Есть два пути, позволяющие подняться от восприятия к познанию
его причины, не воспринимаемой как таковая: а именно, подниматься
либо по ряду действующих причин, либо по ряду причин конечных (целевых). В
первом случае я определяю понятие причины через воспринятое действие.
Например, движется некий груз. Я применяю к этому восприятию законы
движения и заключаю: причиной этого является некая физическая сила в
пространстве, действующая с той или иной силой, и т.д. Восприятие,
которое должно a posteriori привести меня к понятию откровения, должно быть
необъяснимо с помощью физических законов — в противном случае я
искал и нашел бы ему причину не выходя за пределы этих законов, и мне не
нужно было бы переносить ее на свободную первооснову всех законов.
Следовательно, единственный разумный предикат этой причины будет
субъективен и негативен: она для меня неопределима — предикат, на который мне
дает полное право отсутствие сознания, что я ее определяю. Однако когда я
сразу же и без всякого дальнейшего основания объявляю это субъективно
18* Кому не нравится, что я сказал, тот пусть считает, что я ему этого не
говорил. Однако я знаю читателей, которым необходимо сказать это во всяком
случае.
146
Опыт критики всякого откровения
неопределимое А абсолютно объективно неопределимым (а здесь и не
может быть никакого другого основания, кроме отсутствия сознания, что я
его определяю), в этом случае я следую, конечно, склонности моего духа
переходить всегда, как только возможно, к безусловному как таковому; но
неправомерность такого шага в данном случае не нуждается теперь в
дальнейшем порицании. Мы, конечно, вынуждены вообще допустить
абсолютно первое звено в ряду причин; однако ни о каком определенном звене
мы не можем сказать: вот это — первое. Ибо ряд — я имею в виду ряд
действующих причин — бесконечен, и, поднимаясь по нему, мы никогда не
сможем дойти до конца. Если мы закончим где-нибудь наш подъем, мы
допустим тем самым существование такого бесконечного, которое конечно,
а это будет противоречие.
Давайте попробуем достигнуть в ряду целевых причин того, чего не
можем достигнуть в ряду действующих.
Мы получаем некое восприятие, и за ним во времени следует
восприятие некоего знания в нас, которого мы прежде в себе не
воспринимали. Законы мышления принуждают нас мыслить оба восприятия в некой
причинной связи друг с другом: первое — причина второго как его
действия. Теперь попробуем, наоборот, мыслить знание как причину
восприятия, порождающего знание, то есть допустим, что это восприятие
было возможно только благодаря произведенному им знанию. Если к такому
допущению не принуждает нас необходимость, значит, мы допускаем
нечто произвольно и без основания; это будет всего лишь наше мнение.
Необходимость (субъективная или объективная — это вскоре выяснится)
принуждает нас сделать подобное допущение только в том случае, если
восприятие и полученное с его помощью наставление соотносятся как часть и
целое, и если ни часть без целого, ни целое без всех своих частей не может
быть мыслимо. Такое соотношение не только возможно само по себе; оно
действительно существует во многих случаях исследуемого вида. Я
принужден тогда мыслить обе вещи в целевой взаимосвязи; я не в состоянии
объяснить восприятие, если я не поставлю понятие возникающего из него
знания, которое следует после него во временном ряду, а значит, и в ряду
моих ощущений, — не поставлю его первым в ряду моих суждений, который
управляется спонтанностью. До сих пор я полностью имею на это право.
Теперь, однако, я переношу субъективный закон возможности моего
суждения на возможность вещи в себе и заключаю: поскольку мне
необходимо мыслить понятие действия прежде причины, постольку оно должно и
быть прежде нее в каком-нибудь разумном существе; заключение, к
которому толкает меня склонность считать все субъективно значимое
значимым также и объективно, однако она еще не дает мне на это права. На по-
147
HS. Фихте
добном, столь очевидным образом подтасованном заключении не может
основываться ни одно разумное убеждение.
Но предположим, что мы признали бы за вами право сделать такое
заключение: тогда у вас было бы, конечно, основание допустить некое
свободное разумное существо как причину исследуемого явления, для
которого было бы определимо то самое, неопределимое для вас в ряду
действующих причин у4; и этим разумным существом тогда сможет быть первый
попавшийся человек, который знает хотя бы немного больше, чем вы; но что
же дает вам право ставить на это место именно бесконечное существо? "То,
чего л не могу понять, сможет понять только бесконечный рассудок". Если
это заключение — не дерзкая самонадеянность, то что же тогда
самонадеянность? Куда скромнее и последовательнее рассуждают языческие
теологи, признающие причиной необъяснимых явлений демонов, но не
бесконечный дух, а в наше время — простой народ, объясняющий такие явления
действиями колдунов, привидений и кобольдов.
Итак, теоретически признать некое явление за откровение a
posteriori совершенно невозможно.
Точно так же невозможно и теоретическое доказательство a priori.
Достаточно только назвать требования такого доказательства, чтобы
показать его невозможность и его противоречия. А именно, необходимо было
бы показать, исходя из данного a priori теоретической натурфилософией
понятия о Боге необходимость того, чтобы в Боге наличествовало понятие
некоторого эмпирически определенного откровения и решение его
осуществить.
Поэтому нам придется признать невозможность проникнуть в
понятие откровения со стороны формы, а если не представится никакого иного
пути, то придется и вовсе отвергнуть реальную возможность самого
понятия. Но выше мы подошли к этому понятию со стороны его материи, идя от
понятия религии. Так что теперь нам нужно попробовать с помощью
материального рассмотрения достигнуть того, что не удалось нам с помощью
формального.
То, что понятие откровения не выдерживает критики со стороны его
формы, сразу исключает из его объема все, что не относится к религии, ибо
теперь только от нее одной оно ожидает еще своего подтверждения; в то
время как первоначально мы не могли определить возможного
содержания откровения. Теперь же мы прибавляем к этому понятию еще один
признак, а именно: сообщаемое в откровении должно быть непременно
религиозного содержания; тем самым определение этого понятия завершено.
§6
МАТЕРИАЛЬНОЕ* РАССМОТРЕНИЕ
ПОНЯТИЯ ОТКРОВЕНИЯ
Все религиозные понятия могут
быть выведены только a priori из постулатов практического разума, как это
было показано выше в § 3, где проводилась действительная их дедукция. А
так как понятие откровения должно иметь своим предметом известную
форму подобных понятий, причем не со стороны его формы (то есть не в
качестве понятия), и потому может быть выведено только со стороны его
содержания, если мы хотим удостоверить его реальную возможность, то
искать его истоки нам следует в области чистого практического разума.
Оно должно быть выводимо a priori из идей практического разума,
которым хотя и предпосылается опыт как таковой, однако лишь опыт вообще,
из которого ничего не заимствуется и не познается, но которому,
напротив, предписывается закон согласно практическим принципам. Опыт в
данном случае будет оцениваться не как опыт по теоретическим законам, а
как момент волеопределения по законам практическим, и речь в нем будет
идти не о правильности или неправильности сделанного наблюдения, а о
его практических следствиях. Здесь дело обстоит иначе, чем в области
понятий о природе: там при дедукции какого-либо понятия a priori мы можем
и должны показать, что без этого понятия невозможен никакой опыт
вообще — если это понятие чистое, либо невозможен какой-то данный
определенный опыт, если это не чистое понятие. Когда же мы находимся в
области разума, мы можем и вправе показать только то, что если некоторое
понятие не имеет априорного происхождения, то, действуя в соответствии с
разумом, невозможно принять некоторый опыт за то, за что он сам себя
выдает.
Здесь это тем более необходимо, что понятие откровения, если идти
тем путем, который уже обнаружил свою сомнительность, обещает нам Бог
весть какие познания в области сверхчувственного и грозит открыть дорогу
любым вымыслам и мечтаниям, если оно не априорно и мы,
следовательно, не можем предписать ему законы, в соответствии с которыми затем
будем сообразовывать все его a posteriori возможные применения и с
помощью которых сможем его ограничивать. Необходимо, следовательно, до-
* Содержательное. (Примеч. ред.).
149
И. Г. Фихте
казать, что это понятие разумно возможно только a priori и что оно поэтому
должно подчиняться законам того принципа, благодаря которому оно
возможно. Либо же, если оно не является априорным и претендует на то,
чтобы исполнять свое назначение целиком и исключительно a posteriori,
придется признать, что оно насквозь ложно и фиктивно, так что от этого
исследования всецело зависит его судьба. Таким образом, указанное
исследование есть центральный пункт всей этой критики.
Но предположим даже, что возможность априорного
происхождения понятия откровения из идеи разума могла бы быть выведена путем
дедукции; нам все равно пришлось бы выяснять, дано ли оно a priori или
a priori создано и сконструировано (erkünstelt), и возникает сильное
подозрение, что оно скорее сконструировано, судя по тому, каким странным
путем переходит оно из мира идей в мир чувственный и обратно. Если это
подозрение подтвердится, это будет, конечно, свидетельствовать отнюдь
не в пользу понятия откровения: известно ведь, что разум в области
сверхчувственного может заноситься мечтами в беспредельное и создавать
поэтические фантазии, но из того, что он может нечто мыслить, еще отнюдь не
следует возможность, чтобы этой идее вообще что-либо соответствовало.
Остается, впрочем, еще один путь, которым можно извлечь эту идею,
выделив ее из пустых грез разума, а именно: если в опыте найдется
эмпирически данная практическая — ибо речь идет о практическом понятии —
потребность, которая гарантирует этому понятию, не данному, конечно,
a priori, если и не апостериорность, то, во всяком случае, некоторое оправ-,
дание. Этот опыт тогда даст то, чего не хватало для априорного
обоснования правомерности этого понятия: он возместит недостающую этому
понятию данность. Отсюда, конечно, еще не будет следовать, что само это
понятие априорно, но только то, что a priori невозможно доказать его вообще
полную пустоту.
Это ограничение и определяет подлинный характер априорной
дедукции понятия откровения. Эта дедукция должна показать не то, что
такое понятие действительно a priori существует, но лишь то, что оно a priori
возможно; не то, что всякий разум a priori необходимо должен им обладать,
но что всякий разум, если последовательность его идей движется в этом
направлении, может его иметь. Первое было бы возможно лишь в том
случае, если бы можно было указать некую априорную данность чистого
разума, как, например, в виде идеи о Боге, об абсолютном мировом целом и
т.д. — здесь перед разумом вставала необходимая задача найти для всякого
обусловленного абсолютно безусловное, что и побуждало разум прийти к
этим понятиям. А так как здесь такой априорной данности не
обнаруживается, то дедукция понятия откровения может и вправе показать только его
возможность как идеи и поскольку оно есть идея.
150
Опыт критики всякого откровения
Этой дедукции не противоречит никакая историческая19* дедукция
происхождения этого понятия среди людей, с какой бы степенью
очевидности ни удалось ей показать, что оно возникло первоначально из
действительных фактов чувственного мира, которые по невежеству
приписывались сверхъестественным причинам или же были результатом
умышленного обмана. Не противоречит этой дедукции даже и неопровержимое
доказательство того, что ни один разум не пришел бы к этой идее без
эмпирически данной потребности, если бы такое доказательство было возможно.
Ибо в первом случае происхождение этого понятия было бы in concreto,
конечно, совершенно неправомерным, но это ни в малейшей степени не
уменьшало бы возможности мыслить правомерное возникновение его in
abstracto*: во всяком случае, эмпирическая данность хотя и была бы
причиной того, что мы пришли к этому понятию, но лишь случайной причиной;
поскольку понятие откровения не определяется содержанием полученного
опыта (а априорная дедукция как раз и должна показать невозможность
этого), постольку опыт не будет его принципом. Другое дело—значимость
этого понятия, то есть позволяет ли разум допустить, что ему будет
соответствовать что-либо вне нас; эта значимость может быть, конечно, только
эмпирически дедуцирована и, следовательно, будет распространяться не
дальше, чем значимость той данности, из которой она выведена.
Давайте обратимся для ясности к примеру. Понятие злого первоприн-
ципа наряду с добрым есть очевидно априорное понятие, ибо оно не может
быть дано ни в каком опыте; оно есть идея разума; следовательно, его
возможность должна быть выводима с помощью дедукции, если только оно не
противоречит принципам разума. Но эта идея a priori не дана, а создана; ибо
для нее невозможно привести никакой данности чистого разума. В опыте же
обнаруживается много данностей, которые, по-видимому, оправдывают
существование этого понятия и могли бы быть случайными причинами его
возникновения. Теперь, если только эти данности его действительно
оправдывают; если мы желаем использовать его только для удовлетворения
практической, хотя и обусловленной эмпирически, потребности, а не.для
теоретического объяснения природы; наконец, если оно не противоречит
практическому разуму, — тогда мы вполне могли бы, несмотря на то, что его
значимость основывается лишь на эмпирических данностях, признать его по
меньшей мере идеей, которой что-либо может соответствовать.
Из первой дедукции возможности понятия откровения a priori, по-
видимому, не очень много удалось извлечь; не приходится отрицать, что
эта дедукция была бы пустым и бесполезным делом, если бы не было
показано, что если это понятие невозможно a priori, то оно вообще не сообразно
разуму. Следовательно, его ценность целиком зависит от данной дедукции.
,9*Вообще все те, кто опровергает критическую философию с помощью
исторических, географических, физических дедукций, не поняли первого
положения той философии, которую они опровергают.
* Абстрактно (лат.).
151
§7
ДЕДУКЦИЯ ПОНЯТИЯ ОТКРОВЕНИЯ
ИЗ ПРИНЦИПОВ ЧИСТОГО РАЗУМА A PRIORI
hj ели мыслить конечные моральные
существа, то есть такие существа, которые помимо морального закона
подчиняются еще и законам природы как данные, то, поскольку моральный
закон должен действовать как причина не только в той части этих существ,
которая непосредственно подчиняется его законодательству, и только ему
одному (то есть в их высшей способности желания), но и в той их части,
которая подчинена в первую очередь природным законам, можно
предположить, что действия этих двух видов причин (чьи законы совершенно не
зависимы друг от друга) на волеопределение подобных существ окажутся
между собой в противоборстве. Противодействие природного закона
закону нравственному по своей силе может быть разным, в зависимости от
особенностей чувственной природы таких существ; и можно мыслить такую
степень противодействия, при которой нравственный закон полностью
перестает действовать в качестве причины в их чувственной природе,
утрачивая свою силу или навсегда, или только в некоторых случаях. Но чтобы
подобные существа не утратили полностью всякую способность клюраль-
ности, сами чувственные побуждения должны определять их чувственную
природу к тому, чтобы она позволила определить себя моральным
законом. А чтобы тут не было противоречия — ведь желать использовать
чувственные побуждения как определяющие основания чистой моральности
есть, безусловно, противоречие — сформулировать это можно только так:
чисто моральные побуждения должны быть донесены до этих существ
чувственным путем. Единственное чисто моральное побуждение есть
внутренняя святость права. Она представлена постулатом чистого
практического разума в Боге in concreto (следовательно, доступным для
чувственности образом), а сам Бог предстает как моральный судья всех разумных
существ по данному ему его собственным разумом закону, то есть как
законодатель этих существ. Эта идея о воле святейшего существа как о моральном
законе для всех моральных существ, с одной стороны, полностью
идентична с понятием внутренней святости права, следовательно, с единственным
чисто моральным побуждением, а с другой стороны — доступна чувствам.
Таким образом, она одна отвечает условиям стоящей перед нами задачи.
152
Опыт критики всякого откровения
Однако ни одно существо не в состоянии заставить эту идею дойти до него
через чувственную природу либо, если она уже имеется и осознана в нем,
заставить ее чувственным путем подтвердиться, поскольку оно не является
законодателем этой природы, каковым, согласно постулатам
практического разума, является моральный законодатель конечных разумных
существ. Значит, сам Бог должен был возвестить им себя и свою волю как
закон для них в чувственном мире. Но в чувственном мире вообще так мало
содержится указания на законодательную святость, что мы могли бы
скорее заключить, исходя из него и с помощью применимых к нему понятий,
что ничего сверхъестественного вообще нет. И хотя мы, связавши понятие
свободы с понятиями, применимыми к чувственному миру и получивши
из них возможное понятие моральной конечной цели мира, могли бы
заключить к моральному законодательству (см.§ 4),все же такое заключение
уже предполагает в заключающем субъекте причинность морального
закона, действие которой уже усилило не только сознание моральной заповеди,
возможное лишь по природным законам, но также и твердую волю к
укреплению действенности в субъекте этой заповеди с помощью
свободного отыскания и употребления всякого годного для того средства. Однако
такой причинности в рассматриваемых нами чувственно обусловленных
существах мы не предположили. А значит, Бог должен был возвестить им
себя как законодателя в каком-то совершенно особом, исключительно для
этой цели и для этих существ предназначенном явлении чувственного
мира. И поскольку Бог определен моральным законом к тому, чтобы
содействовать как можно более высокой моральности во всех разумных
существах любыми моральными средствами, постольку нужно ожидать, что как
только подобные существа действительно появятся, он прибегнет к этому
средству, если только это будет возможно физически20*.
Эта дедукция дает то, что она обещала. Дедуцированное понятие есть
действительно понятие откровения, то есть понятие о некоем
произведенном причинностью Бога в чувственном мире явлении, с помощью
которого Бог открывает себя как морального законодателя. Оно дедуцировано
исключительно из априорных понятий чистого практического разума, из
просто и безусловно постулированной причинности морального закона во
всех разумных существах, из единственного чистого мотива этой
причинности — внутренней святости права; дедуцировано из понятия Бога, кото-
2°* Читателю, имеющему хотя бы смутное представление о ходе и цели
данной работы, не приходится напоминать, что этой дедукции отнюдь не
приписывается объективная значимость, обосновывающая a priori
теоретическое доказательство, но только субъективная, достаточная для эмпирически
обусловленной веры. Это ясно, даже если бы кто-нибудь захотел
преднамеренно неверно истолковать смысл нашего изложения, стремясь ввести
читателя в заблуждение. (Добавлениеко 2-му изд.).
153
И. Г. Фихте
рое необходимо допустить как реальное для возможности этой
постулированной причинности, и из его определений. Непосредственным
результатом этой дедукции оказывается право подвергать критике разума все, что
выдает себя за откровение, то есть всякое явление чувственного мира,
которое должно мыслиться как отвечающее этому понятию. Ибо если
получить понятие откровения из данного явления a posteriori никоим образом
невозможно, но оно само всегда наличествует как априорное понятие,
дожидаясь явления, которое соответствовало бы ему, то очевидно, что
решать, отвечает ли вот это данное явление своему понятию или нет, есть
дело разума; и разум не ожидает здесь закона от явления хотя бы уже потому,
что сам ему закон предписывает20. Далее, все условия, при которых некое
явление может быть признано божественным откровением, диктуются
разумом, а именно: оно может быть признано таковым, только если будет
полностью совпадать с этим дедуцированным понятием. Эти условия мы
назовем критериями божественности откровения. Итак, все, что
выставляется в качестве подобного критерия, должно быть выводимо из этой
дедукции, и все, что из нее выводимо, есть подобный критерий.
Но наша дедукция не дает и больше того, что она обещала. Понятие,
которое требовалось вывести, было объявлено только как идея;
следовательно, перед дедукцией и не стояла задача доказывать его объективную
значимость, с каковой задачей у нее, впрочем, и не было особенных
шансов справиться. Все, что от нее требуется, — это показать, что понятие,
которое нужно дедуцировать, не противоречит ни самому себе, ни какому-
либо из принципов, которые должны быть допущены. Далее, это понятие
оказалось не данным, а созданным (conceptus non datus, sed ratiocinatus);
следовательно, ей не нужно отыскивать какую-либо данность чистого
разума, благодаря которой оно было бы дано, чего она и не обещала. Из этих
двух определений вытекает предварительное следствие, а именно: если бы
и было дано в чувственном мире такое явление, которое полностью
согласовывалось бы с этим понятием (откровение, имеющее все критерии
божественности), то все же нельзя было бы признать за этим явлением ни
объективной, ни даже субъективной для всех разумных существ
значимости, но принять это явление как действительно таковое можно было бы
только при наличии еще и других условий. Необходимая для этого понятия
данность, а именно, существование таких моральных существ, которые без
откровения были бы неспособны к моральности, отсутствует в чистом
разуме и может быть дана только в опыте; она предполагается как гипотеза, и
дедукция понятия откровения не обязана показывать ее действительность,
чего, впрочем, она и не могла бы сделать, будучи априорной дедукцией по
отношению к эмпирической данности; для этой дедукции совершенно
достаточно, чтобы эта предпосылка не противоречила самой себе и была бы
154
Опыт критики всякого откровения
тем самым вполне мыслимой. Но именно потому, что эту данность
приходится ожидать от опыта, это понятие не будет чисто априорным.
Физическая возможность соответствующего этому понятию явления не может
быть доказана дедукцией этого понятия, ибо она ведется из принципов
практического, а не теоретического разума, но может ею только
предполагаться. Моральная возможность подобного явления, безусловно, требуется
для того, чтобы было возможно понятие, и в общем следует из
возможности вышепроизведенной дедукции. Но вот не будет ли какое-либо данное
in concreto откровение противоречить этому требованию — это уже дело
прикладной критики данного откровения, а при каких именно условиях
оно не будет ему противоречить — дело критики понятия откровения
вообще.
Из всего до сих пор сказанного ясно, каким путем двигаться нам
дальше в нашем исследовании. Мы уже показали возможность этого
понятия как такового, то есть его мыслимость. Окажется ли оно вообще пустым
или разумно ожидать чего-либо ему соответствующего — это зависит от
эмпирической возможности (а не просто мыслимости), предпосланной
ему в качестве его условия эмпирической данности. Итак, именно ею нам
и следует заняться прежде всего. Впрочем, критика всякого откровения
вообще не может установить относительно этой данности ничего, кроме ее
абсолютной возможности; в то время как критика конкретного явления,
претендующего быть откровением, должна была бы, напротив, показать
определенную действительность предполагаемой эмпирической
потребности, как "мы сможем доказать только ниже.
Нет нужды доказывать, что можно мыслить как физически
возможное явление, произведенное через свободу сообразно понятию цели в
чувственном мире вообще, а следовательно, и откровение — ведь мы уже
приняли это положение, требуя возможности причинности морального закона
по отношению к чувственному миру. И все же мы предпримем кое-какое
исследование этой физической возможности — не для доказательства, а
для разъяснения, а также ради нескольких вытекающих отсюда следствий,
важных для корректировки понятия откровения.
По завершении обоих этих исследований должно стать совершенно
ясно, разумно ли вообще ожидать чего-то, что соответствовало бы
понятию откровения, или нет. Для того же, чтобы можно было применить это
понятие к особому, конкретно данному откровению, потребуется еще
точное расчленение самого понятия откровения. Все условия, при которых
возможно подобное применение понятия к явлению, должны заключаться
в понятии и могут быть выведены из него путем его анализа. Они
называются критериями. Поэтому, как только мы завершим предстоящие нам
155
И. Г. Фихте
сейчас исследования, следующей нашей задачей будет установить эти
критерии и доказать их.
Тем самым будет полностью удостоверена возможность не только
ожидать чего-то вообще соответствующего этому понятию, но и
применять его к действительно данному явлению. Однако даже если подобное
применение будет вполне возможным, в этом еще нельзя будет усмотреть
основание для того, чтобы признать его действительным. Следовательно,
лишь после отыскания подобного основания можно будет считать критику
всяческого откровения законченной.
§8
О ВОЗМОЖНОСТИ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ДАННОСТИ,
ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПОНЯТИЕМ ОТКРОВЕНИЯ
Опыт, предполагаемый дедукцией
понятая откровения из априорных принципов практического разума,
должен быть следующим: могут существовать такие моральные существа, в
которых моральный закон утрачивает свою причинность навсегда или
только в известных случаях. Моральный закон требует причинности по
отношению к высшей способности желания, чтобы определять волю; он
требует причинности через волеопределение и по отношению к низшей
способности желания, чтобы дать моральному субъекту полную свободу от
принуждения природной склонности. Если упраздняется первый вид
причинности, то не будет воли, чтобы признавать вообще какой-либо закон и
повиноваться ему; если же не будет действовать только второй вид, то
человек при всей своей доброй воле будет слишком слаб, чтобы действительно
делать то добро, которого он хочет21. Эмпирическую возможность этой
гипотезы и требуется доказать, то есть нужно показать — исходя не из
устройства чело.веческой природы вообще, поскольку оно должно познаваться
только всеобщим и априорным образом, а из ее эмпирических
определений — возможность и вероятность того, чтобы нравственный закон
утратил в человеке свою причинность. Тем самым мы получим и ответ на
вопрос, почему понадобилось откровение и почему человек не мог обойтись
одной естественной религией. Причины этого не могут лежать в
устройстве человеческой природы вообще, поскольку она познаваема a priori, но
только в случайных ее определениях; ибо в противном случае мы могли бы
доказать существование потребности в откровении уже a priori, могли бы
привести для него некоторую данность чистого разума, и понятие о нем
было бы чем-то данным. Но чтобы ясно увидеть границы, отделяющие
область, в которой доступна разумная религия, от области, в которой
появляется естественная религия, и, наконец, от той, где оказывается
необходимой религия откровения, будет очень полезно исследовать сначала
отношение человеческой природы к религии — как вообще, так и в особенных
ее определениях.
Человек как часть чувственного мира подчинен законам природы. В
своей познавательной способности он принужден переходить от созерцаний,
157
И. Г. Фихте
подчиненных законам чувственности, к понятиям, а в своей низшей
способности желания определяться чувственными побуждениями. Но как
существо сверхчувственного мира, по своей разумной природе, человек
определяется через свою высшую способность желания совсем другим
законом, и этот закон, предъявляя к нему свои требования, открывает перед
ним перспективы познаний, не обусловленных ни созерцанием, ни
понятиями. Но поскольку его познавательная способность непременно связана
с указанными условиями, так что без них он ничего не может помыслить,
постольку он вынужден ставить в те же условия и эти предметы
сверхприродного мира, хотя и понимает, что подобный способ представления имеет
лишь субъективную, а не объективную значимость и что он не дает ему
права ни на теоретические, ни на практические выводы. Его низшая
способность желания, определяемая чувственными побуждениями,
подчинена высшей и никогда не должна определять его волю там, где говорит долг.
Это существенное устройство человеческой природы. Таким должен быть
человек, и таким он может быть, ибо все, что мешает ему быть таким, не
существенно для его природы, а случайно, и потому может быть не только
отмыслено, но и действительно отброшено от нее. В каком же отношении
находится такой человек к религии? Нужна ли она ему? И какая? И зачем?
Ближайшее следствие этого изначального устройства человеческой
природы таково, что моральный закон выступает для него как требование,
а не высказывание, он говорит ему о должном, а не о сущем. Человек
сознает, что он может действовать и иначе, нежели повелевает этот закон;
следовательно, согласно его собственному представлению, действуя мо- '
рально, он приобретает некую ценность и заслугу. Эта ценность, которую
человек приписывает самому себе, дает ему право ожидать блаженства,
соответствующего этой ценности; но дать самому себе блаженство для него
не так просто, как приписать самому себе ценность; а потому человек
ожидает его от высшего исполнителя закона, существование которого
открывает ему сам закон. Этому существу отдано все его уважение, ибо оно
обладает бесконечной ценностью, рядом с которой его собственная ценность
исчезает, превращаясь в ничто; к нему обращено все его расположение,
ибо все то доброе, чего он может ожидать, он ожидает только от него.
Человек не может оставаться равнодушным к этому постоянно находящемуся
рядом с ним наблюдателю, соглядатаю, судье своих самых тайных
помыслов, к этому справедливейшему за них воздаятелю. Он должен желать
выказать ему свое восхищение и уважение, а это он не может сделать никаким
иным способом, как только оказывая ему самое полное послушание ради
Него и во имя Его.
Это — чистая Религия разума. Религиозность этого рода не ожидает
от мысли о законодателе облегчения в волеопределении, но ждет лишь удо-
158
Опыт критики всякого откровения
влетворения своей потребности выказать Ему свое расположение. Она
ждет от Бога не приказания повиноваться Ему, но только разрешения,
добровольно повинуясь, взирать на Него при этом. Она не мнит оказать Богу
милость тем, что служит Ему; напротив, как высшей милости ждет она от
Него позволения служить Ему. Это — наивысшее моральное совершенство
человека. Оно предполагает не только твердую волю действовать всегда
нравственно добро, но еще и полнейшую свободу. Невозможно
определить a priori, способен ли in concreto какой-нибудь человек к такому
моральному совершенству; во всяком случае, при нынешнем положении
человечества это совсем невероятно.
Вторая степень морально доброго предполагает ту же самую твердую
волю, которая в целом повинуется моральному закону, но не предполагает
полной свободы в отдельных случаях. Чувственная склонность еще борется
против чувства долга и одерживает победу столь же часто, как и терпит
поражения. Причины такой моральной слабости не заложены в существе
человеческой природы, они случайны; отчасти она вызывается телесной
конституцией того или иного субъекта, благоприятствующей большей
пылкости и большей продолжительности страстей; отчасти — и главным
образом — нынешним состоянием человечества, из-за чего мы куда
раньше приучаемся действовать по природным побуждениям, нежели из
моральных оснований, и куда чаще оказываемся в таком положении, что
вынуждены определяться первыми, а не вторыми, так что наше воспитание
как природных людей (Naturmenschen) значительно опережает наше мо-
. ральное образование. Атак как в этом состоянии предполагается серьезная
воля к моральному действию и, следовательно, живое, деятельное
нравственное чувство, постольку эта слабость должна быть крайне неприятна
человеку и он должен страстно искать и использовать любые средства,
какие могли бы облегчить ему его определение через моральный закон. Если
перед нами стоит задача обеспечить моральной склонности перевес над
склонностью чувственной, то добиться этого можно двумя способами:
либо ослабляя чувственную склонность, либо усиливая стремление к
нравственному закону и уважение к нему. Первое достигается с помощью
технически-практических правил, основанных на природных принципах;
этим правилам каждый должен научиться с помощью собственных
размышлений, опыта и эмпирического самопознания. Они не входят в круг
нынешнего нашего исследования. Стремление к моральному закону
можно усилить, не нанеся при этом ущерба моральности, только с помощью
живого представления о внутренней возвышенности и святости его
требований, только с помощью более острого чувства долженствования и
обязанности (des Sollens und Müssens). А как может обостриться в нас это чувство?
— Только если перед нами всегда будет витать представление о некоем со-
159
И. Г. Фихте
вершенно святом существе, повелевающем и нам быть святыми. В нем мы
видим согласие с законом уже не как то, что должно быть, а как то, что
есть; в нем мы видим воплощение необходимости быть именно таким. Что
может усилить нравственное чувство больше, чем представление о том, что
за неморальные действия презирать себя будем не только мы сами —
несовершенные существа — нет, нас станет презирать само высшее
совершенство? Что если мы преодолеем самих себя и ради долга пожертвуем своими
излюбленными склонностями, то не только мы сами, но и сама святость
должна будет нас уважать? Что может заставить нас внимательнее
прислушиваться к голосу совести и охотнее следовать ему, чем уверенность, что в
нем мы слышим голос Святейшего, незримо следующего за нами,
наблюдающего самые тайные помыслы нашего сердца — Того, пред кем мы
ходим? 22 А так как склонность восстает в субъекте против этого нового
момента нравственного закона, грозящего ей уничтожением, то разум, со
своей стороны, будет пытаться укрепить этот момент, доказав его полную
обоснованность; он станет искать доказательство для понятия Бога как
морального законодателя и найдет его в понятии Бога как творца мира. Это
вторая степень нравственного совершенства, обосновывающая
естественную религию.
Эта религия должна стать средством волеопределения в отдельных
случаях, когда склонность начинает бороться против долга; однако первое,
высшее определение воли — к тому, чтобы повиноваться моральному
закону вообще — должно быть ей предпослано, ибо она не дается человеку — ее
надо искать, а чтобы ее искать, нужно ее хотеть.
И наконец, степень глубочайшего нравственного падения разумных
существ — это когда отсутствует воля признавать моральный закон и ему
повиноваться, когда их способность желания определяется единственно
чувственными побуждениями. На первый взгляд кажется, что если в
обществе, наряду с лучшими в моральном отношении людьми, обнаруживается
достаточно много субъектов подобной степени испорченности, то это еще
отнюдь не доказывает необходимости откровения; ведь лучшие люди
могут, — более того, это их прямой долг — развить в худших путем обучения и
образования моральное чувство и довести их до того, чтобы они ощутили
потребность в религии, — так примерно могут нам возразить. Мы, однако,
не станем покамест пускаться в рассуждения на эту тему, а постараемся
поставить вопрос в такой форме, чтобы ответ на него был решающим для
доказательства эмпирической потребности в откровении: возможно ли было
когда-нибудь, чтобы все человечество или, по крайней мере, ряд стран и
народов оказались в состоянии столь глубокого нравственного падения?
Чтобы быть в состоянии ответить на этот вопрос, мы должны сначала
поточнее определить понятие эмпирической чувственности.
160
Опыт критики всякого откровения
Чувственность вообще, а именно эмпирическую чувственность
можно было бы подходящим образом описать как неспособность к
представлению идей; тем самым мы сразу укажем две ошибки: теоретическую
ошибку — что мы либо не можем мыслить идеи вовсе, либо мыслим их не иначе,
как под условием эмпирической чувственности; и практическую — что мы
не можем определяться идеями, которая необходимо вытекает из первой
ошибки. Эмпирическую чувственность, так же как и чистую, можно
подразделить на два рода: внешнюю и внутреннюю23. Внешняя чувственность в
плане теоретическом имеет место, когда человек мыслит все как
эмпирически обусловленное внешними чувствами, как слышимое, осязаемое,
видимое и т.д. и при этом действительно желает все видеть, слышать, осязать;
с этим всегда бывает связана полнейшая неспособность к размышлению, к
выведению последовательного ряда заключений, будь то даже только
относительно предметов природы. В плане практическом — когда человек
определяется только тем, что доставляет удовольствие внешнему чувству.
Эту ступень чувственности называют также грубой чувственностью.
Внутренняя чувственность — в теоретическом плане — состоит в том, что
человек мыслит себе все только модифицируемым согласно эмпирическим
условиям нашего внутреннего чувства и действительно хочет все
модифицировать; в плане практическом — когда человек не дает определять себя
чем-то более высоким, нежели удовольствие, доставляемое внутреннему
чувству. Сюда относится удовольствие от игры, от поэзии, от прекрасного
(но не от возвышенного)24, даже от размышления; от ощущения своей
силы; сюда относится даже сострадание, хотя оно — самая благородная из
чувственных склонностей. В том случае, если чувственность в нас
господствует, то есть мы определяемся только и исключительно ее склонностью, а
не моральным законом, она, несомненно, полностью исключает всякую
волю к добру и всякую моральность25. У большинства людей она, конечно,
преобладает, и в большинстве случаев они определяются только ею; и тем
не менее они при этом не вовсе неспособны к чисто моральным действиям:
как правило, у них достает морального чувства, по крайней мере, на то,
чтобы в исключительных случаях или при известных обстоятельствах
ощутить свой образ действий как неподобающий и заслуживающий наказания
и устыдиться его. Но предположим даже, что они никогда не применяли бы
моральный закон к себе самим, никогда не испытывали бы ни стыда, ни
раскаяния из-за своего собственного несовершенства; все же и тогда их
суждения о действиях других, их часто весьма сильное неодобрение этих
действий из чисто моральных оснований показало бы, что они не вовсе не
способны к моральному чувству. Можно предположить, что на людей такого
сорта следует воздействовать как раз с той самой стороны, где они еще
обнаруживают некоторую чувствительность к моральности — побудить их
6-645
161
И. Г. Фихте
руководствоваться самим теми принципами, которые они применяют по
отношению к другим, чтобы открыть им глаза на их собственное состояние
и так постепенно привести их к доброй воле, а от нее в конце концов и к
религиозности.
Таким образом, для обоснования необходимости откровения
требуется доказать, что возможны такие люди и целые роды человеческие, в
которых господствующая чувственность уничтожила моральное чувство
либо совершенно, либо в такой большой степени, что даже и
вышеописанным путем нельзя на них воздействовать26; это люди, которые или совсем
не сознают в себе морального закона, или сознают так слабо, что на этом
фундаменте в них ничего не построишь. A priori можно помыслить, что
человечество либо было в этом состоянии изначально, либо же попало в него
благодаря разным превратностям судьбы — когда оно, не прекращая
изнурительной борьбы с природой за собственное существование, было
вынуждено постоянно устремлять все помыслы на то, что лежало под ногами, не
могло думать ни о чем, кроме настоящего, не могло внимать никакому
закону, кроме закона нужды. В таком положении не может пробудиться
моральное чувство, не могут развиваться нравственные понятия. Но
человечество — за исключением особенных случаев — не станет долго
задерживаться в подобном положении; с помощью опыта оно создаст для себя
правила и абстрагирует максимы своего поведения. Эти максимы, возникшие
на основании одного лишь природного опыта, будут и применимы только
к нему и часто будут противоречить возможным моральным правилам. За:
тем, сохраняемые благодаря их природности и в силу всеобщего примера,
они станут, умножаясь, передаваться из поколения в поколение; и теперь
уже они будут уничтожать возможность моральности, после того как
благодаря им будет отчасти преодолена настоятельная нужда, препятствовавшая
моральности прежде. Вспомните жителей Огненной Земли, проводящих
свою жизнь в состоянии, близком к животному; вспомните, что
большинство островитян Южных морей не считают, по всей видимости, кражу
пороком и нимало ее не стыдятся; вспомните тех негров, которые ничтоже
сумняшеся продают в рабство жену или детей за глоток спиртного,
вспомните — и вы сочтете, пожалуй, что первое наше предположение находит
достаточное подтверждение в опыте; а чтобы убедиться в правильности
второго, достаточно изучить нравы и максимы цивилизованных народов.
Как же человечеству перейти из этого состояния к моральности, а
через нее — к религии? Может ли оно само найти религию? Чтобы
определеннее ответить на этот вопрос, нужно сравнить предпосылки,
необходимые для этого, с его состоянием. Чтобы решить, способен ли какой-либо
народ в его настоящем состоянии к нравственности вообще или нет,
недостаточно рассмотреть его поведение; на том основании, что известный на-
162
Опыт критики всякого откровения
род сплошь и рядом и без малейшего признака стыда совершает поступки,
противоречащие первейшим принципам всякой морали, было бы
поспешно заключать, что этот народ лишен всякого морального чувства. Надо
исследовать, не обнаружится ли у этих людей хотя бы понятия о долге
вообще, как бы темно оно ни было. И даже если мы обнаружим, например, хотя
бы только, что они верят в соблюдение договора, даже если не могут
обеспечить этого соблюдения силой, а другая сторона оказывается по каким-
либо причинам заинтересованной в его нарушении; что, основываясь на
этом доверии, они готовы идти на риск; что при нарушении договора они
выказывают куда больше возмущения и негодования, чем выказывали бы,
потерпев точно такой же ущерб, но без обмана доверия, — у таких людей,
придется признать, есть понятие долга вообще. А ведь без такой веры в
соблюдение договоров людям просто невозможно объединиться в
общество 27. Значит, каждый народ, если только он объединен хоть в какое-нибудь
общество, не вовсе лишен морального чувства. Но, к сожалению, все те, в
ком господствует чувственность, пользуются обычно моральным чувством
не в качестве основания для определения своих собственных действий, а
скорее — да, пожалуй, и исключительно — как принципом суждения о
действиях других. Они даже доходят до того — особенно если чувственность
уже принята в максиму, — что самопожертвование, пренебрежение
корыстью ради долга считают смешной глупостью и стыдятся его, рассматривая
тем самым самих себя как подчиненных всегда и постоянно одному только
природному понятию; наконец, они поступают достаточно
последовательно, думая так не только о себе, но и о другом, — однако лишь до тех пор,
пока тут не будут затрагиваться их личные интересы и нарушение долга
другим не затронет их собственных выгод. Только в этом последнем случае
они вдруг вспоминают о существовании долга — вот почему развитие этого
понятия там, где мы встречаем его соединенным с господствующей
чувственностью, кажется нам очень подозрительным и дает нам право думать,
что оно здесь порождено одним лишь принципом чувственности —
принципом своекорыстия. Итак, с чувственностью, если она господствует,
несоединима даже просто воля быть морально добрым. А поскольку такая
воля необходима для того, чтобы искать религию как средство более
сильного определения моральным законом, то человечество, находясь в этом
состоянии, никогда не сможет само найти религию, ибо не может
отправиться ее искать.
Да даже если бы оно и могло ее искать, оно все равно не сможет ее
найти. Для того, чтобы убедиться, — как мы показали это выше, — что
посредством морального закона к нам обращается именно Бог, требуется
прежде всего понятие о творении мира некой вне мира находящейся
причиной. К этому понятию человечество — даже еще очень необразованное
б*
163
И. Г. Фихте
человечество — придет легко. Оно a priori вынуждено мыслить абсолютную
тотальность условий, и оно завершает ряд условий тем раньше и скорее,
чем меньше оно образованно и менее способно мысленно проследить
длинный ряд. Оттого среди грубо-чувственных людей так распространена
вера в сверхъестественные причины, в бесчисленных демонов.
Чувственность более образованная поднимется, вероятно, к понятию единственной
первопричины, искусного Архитектора мира. Но для религии нам нужно
понятие не такого, аморального творца мира, а чтобы прийти к последнему,
мы нуждаемся в понятии моральной конечной цели мира. Тут опять-таки
чувственность без труда дойдет до понятия возможных целей в мире,
поскольку сама она руководствуется представлением о целях, обделывая
здесь внизу свои дела; однако понятие моральной конечной цели творения
доступно лишь образованному моральному чувству. Человек только
чувственный никогда не доберется ни до него, ни — через него — до принципа
религии.
Прежде всего, если бы даже отыскался способ донести до него
религию, зачем она ему? Самый лучший моральный человек, у которого есть не
только серьезная воля повиноваться моральному закону, но и полная
свобода, нуждается в религии, как мы видели, лишь для того, чтобы
удовлетворить каким- нибудь образом своему чувству уважения и благодарности
к высшему существу. Человек, имеющий только серьезную волю, но не
имеющий полной свободы, нуждается в религии для того, чтобы добавить
к авторитету морального закона еще один новый момент, благодаря кото-,
рому сила чувственной склонности получила бы противовес и он обрел
свободу. Человек, у которого нет даже и воли признавать нравственный
закон и повиноваться ему, нуждается в ней для того, чтобы впервые создать в
себе эту волю, а затем с ее помощью и свободу. Поэтому здесь религия
должна идти совсем по другому пути. Чистая религия разума, так же как и
естественная религия, основывалась на моральном чувстве; напротив,
религия откровения должна сама сначала это чувство создать. Первая не
встречала никакого сопротивления: все склонности субъекта были готовы
принять ее; второй приходилось лишь в отдельных случаях бороться со
склонностями, но в целом она являлась желанной и званой гостьей;
последней же предстоит не только выдержать натиск всех неморальных
склонностей, но и сломить общее сопротивление признанию какого бы то
ни было закона вообще, преодолеть отвращение, которое вызовет к себе
она сама, желая сделать закон значимым. Следовательно, она и может и
будет использовать более важные моменты, насколько это допустимо,
чтобы не причинить ущерба свободе, то есть чтобы не действовать против
своей же собственной цели.
Каким же путем может эта религия дойти до человечеств подобного
164
Опыт критики всякого откровения
склада? Ну, разумеется, тем же самым, каким доходит до него все, что оно
мыслит и чем определяется, — путем чувственности. Бог должен открыться
людям через чувства и непосредственно через чувства потребовать от них
повиновения.
Но тут возможны два варианта. Либо Бог через сверхъестественное
действие в чувственном мире с помощью размышления пробудит в сердце
одного или нескольких человек, которых Он изберет посредниками между
собою и человечеством, моральное чувство, и тем же путем возведет затем
на этом фундаменте принцип всякой религии, а затем даст им повеление
сделать по отношению к остальным людям-то же, что он сделал по
отношению к ним. Либо же он прямо возвестит им этот принцип и обоснует его
своим авторитетом Господа. В первом случае нам не было бы нужды
допускать самого Бога в качестве непосредственной причины этого
сверхъестественного действия, хотя бы мы и признали всеобщую нравственную
испорченность человечества, однако что мешает одному из возможных
высших по сравнению с нами моральных существ оказаться причиной
подобного действия? С другой стороны, если нам удастся все же отыскать
убедительные аргументы, чтобы признать причиной подобного действия
непосредственно Бога, то их нисколько не поколеблет возражение, будто Богу
не пристало выступать в роли педагога; ибо согласно тому, что мы знаем о
Боге, ему не подобает только то, что противно моральному закону.
Впрочем, в любом случае, — какое бы моральное существо ни оказалось
причиной такого развития человечества, — мы имели бы здесь дело не с
откровением, а с естественной религией, донесенной до нас сверхъестественным
путем. Если этот способ был возможен и достаточен для достижения цели,
то не было нужды ни в каком откровении, то есть ни в каком
непосредственно основанном на божественном авторитете возвещении о Боге как
законодателе. Давайте допустим на минуту, что Бог решил этим способом
воспользоваться. Вне всякого сомнения, Он породит в душах тех, на кого
воздействует, разумное убеждение. Они, в свою очередь, следуя его
повелению и своему собственному чувству, ставящему им в обязанность
распространять дальше моральность, обратятся к остальному человечеству и
будут пытаться тем же путем создать в нем то же самое убеждение, какое было
создано в них. Ни в человеческой природе вообще, ни в эмпирическом
характере предполагаемых нами людей нет ничего такого, что делало бы
задачу этих избранников недостижимой, — лишь бы только их стали
слушать, лишь бы они сумели обеспечить себе внимание. Но как могут они
добиться, чтобы их слушали люди, заранее предубежденные против того, к
чему должны привести их объяснения? Что могут они предложить этим
людям, страшащимся размышления, как они добьются того, чтобы эти
люди все-таки взяли на себя труд поразмыслить и в результате были бы выну-
165
И.Г. ФИХТЕ
ждены признать истиной религию, которая хочет ограничить их
склонности и подчинить их закону? Таким образом, остается только последний
вариант: они вынуждены будут возвещать человечеству свои учения,
опираясь на божественный авторитет и в качестве его посланников.
Но и здесь намечаются, по-видимому, две возможности, а именно:
Бог либо основывает веру также и этих своих посланников исключительно
на авторитете, либо же хочет и ожидает от них, что они по собственному
усмотрению возвестят всем прочим людям как подкрепленное
божественным авторитетом то, что просто путем размышления каким-то образом
родилось в их сердце, — возвестят, увидев, что не осталось никакого другого
средства донести до них религию. Однако последнее невозможно: ибо в
таком случае Бог желал бы, чтобы его посланные лгали и обманывали —
пусть и с наиблагороднейшими намерениями; но ложь и обман, с каким бы
намерением они ни совершались, всегда останутся несправедливостью,
ибо они никогда не могут стать принципом всеобщего
законодательства;28 Бог же никогда ничего несправедливого желать не может.
Наконец, в-третьих, можно представить себе, что Бог захотел, чтобы
эти будто бы боговдохновенные впали в заблуждение и приписали
сверхъестественным причинам некое основанное на авторитете известие о Боге
как моральном законодателе, которое на самом деле возникло в них
совершенно естественно, например, вследствие перевозбуждения фантазии
желанием получить такое известие. Поскольку, однако, любой
категорический ответ на этот вопрос, как положительный, так и отрицательный,
может основываться только на теоретических принципах (ведь речь идет об
объяснении природного явления из законов природы, но никакая
натурфилософия не заходит настолько далеко, чтобы быть в состоянии доказать,
что нечто в чувственном мире возможно только согласно законам природы
или что нечто согласно им невозможно), постольку это утверждение,
будучи применено к разъяснению какого-либо конкретного откровения, не
может быть никогда ни доказано, ни опровергнуто; впрочем, оно и не
относится к исследованию возможного происхождения религии
откровения — оно ведь исходит исключительно из практических принципов. В
любом случае, известное действие, рассматриваемое как природное явление,
могло возникнуть из доступных нашему пониманию природных законов, а
в то же время, сообразно пониманию какого-нибудь разумного существа,
его следовало бы приписать некой сверхъестественной причине, по
крайней мере вплоть до достижения известной моральной цели. Итак,
сформулировано разделительное предложение: некоторые мнимо вдохновенные
были либо действительно вдохновлены Богом, либо они были обманщики,
либо они были мечтатели, — правильнее и мягче сказать, несовершенные
естествоиспытатели. Этого разделительного предложения далеко не доста-
166
Опыт критики всякого откровения
точно для того, чтобы обосновать содержащиеся в нем категорические
утверждения. Ибо, во-первых, понятия, поставленные здесь в один ряд как
равноправные члены деления, не упраздняют взаимно друг друга.
Возможность принять последнее утверждение должна быть доказана или
опровергнута, исходя из природных законов; возможность первых двух может быть
удостоверена только из практических принципов; но это разные
принципы, так что из первого может быть выведено утверждение того, что второй
отрицает. Таким образом, последний случай и один из двух первых
возможны одновременно, и только первые два друг другу противоречат. Во-
вторых, невозможность последнего положения невозможно доказать
никогда — ни в каком конкретно данном случае. Впрочем, все это будет
окончательно разъяснено впоследствии, там, где пойдет речь о физической
возможности ожидаемого сверхъестественного действия в чувственном мире.
И хотя всегда остается возможность последнего случая, с которой мы
ничего не можем поделать, мы не позволим ей держать нас в
неопределенности и вводить в заблуждение, и потому подведем следующие, вполне
достоверные итоги всему до сих пор доказанному: человечество может зайти
в своем моральном разложении так далеко, что к нравственности людей
можно будет вернуть не иначе как посредством религии, а к религии
привести не иначе, как посредством чувств. Религия, которая должна
воздействовать на подобных людей, не может быть основана на чем-либо кроме
непосредственного божественного авторитета; а поскольку Бог не может
желать, чтобы какое-нибудь моральное существо этот авторитет
придумывало, постольку Ему самому приходится освятить подобную религию
своим собственным авторитетом.
Но к чему этот авторитет? И на чем собирается Бог его утвердить,
имея дело с людьми до такой степени чувственными? Очевидно, не на
возвышенном, которое они не чувствуют и не уважают; не на своей
собственной святости, ибо это предполагало бы в них уже наличное моральное
чувство, которое в данном случае еще только должно быть развито религией;
значит, на том, что они по своей природе способны восхищаться: на своем
величии и могуществе как господина над природой и их господина.
Однако тогда получается гетерономия29, а она не создает моральности, она в
лучшем случае вынуждает к легальности:30 мы сообразуем свое поведение с
содержанием морального закона только потому, что этого хочет сверхмо-
гущее существо, — и, следовательно, основанная на таком авторитете
религия противоречила бы самой себе. Но ведь этот авторитет должен
обеспечить не послушание, а только внимание к дальнейшему — к
разъяснению мотивов послушания. А внимание, как эмпирическое определение
нашей души, возбуждается естественными средствами. Более того, было
бы явным противоречием пытаться вынудить внимание путем угроз и
167
И. Г. Фихте
страха наказания со стороны этого могущественного существа либо, — еще
того хуже, — физическими средствами, или стараться выманить у них это
внимание, завлекая обещаниями наград; противоречием потому, что страх
и надежда больше рассеивают, чем возбуждают внимание, и результатом
их может быть лишь механическое согласие, а не основанное на разумном
размышлении убеждение, которое одно только и может составить основу
всякой моральности; противоречие потому, что это с самого начала
извращало бы принцип всякой религии и представляло бы Бога таким
существом, которому можно угодить не только моральными убеждениями, но и
чем-то другим, — в данном случае выслушиванием без всякой охоты
вещей, не представляющих никакого интереса и боязливым и
бессмысленным их повторением. Однако представление о столь великом могуществе
способно пробудить в нас не только страх, — во всяком случае, пока мы не
считаем себя противоборствующими ему, — но также и восхищение и
уважение, опирающиеся здесь, правда, на патологические, а не моральные
основания31, но с большой силой привлекающие наше внимание ко всему,
что исходит от могущественного существа. До тех пор пока Бог являет себя
не моральным законодателем, а просто говорящим с нами лицом, мы и не
считаем себя находящимися с Ним в противоборстве; а как только Он явит
себя законодателем, Он явит нам одновременно и свою святость, которая
тотчас освободит нас от всякого страха перед его могуществом, ибо
удостоверит нас в том, что он никогда не воспользуется им против нас
произвольно, но воздействия его на нас всегда будут полностью зависеть от нас са- #
мих. Таким образом, обращенное к нам Богом в возможном откровении
требование внять Ему опирается на его могущество и бесконечное величие
и не может опираться на что-либо другое, ибо существа, нуждающиеся в
откровении, поначалу и не могут вместить никакого другого
представления о Боге. Но второе его требование — повиноваться Ему — не может
опираться ни на что, кроме Его святости, ибо в противном случае не будет
достигнута цель всякого откровения — способствовать чистой моральности;
однако это возможно только после того, как понятие святости и уважение к
нему будут заранее развиты с помощью откровения. У нас есть
возвышенное изречение, в котором это выражено ясно: "Вы должны быть святы, ибо
Я свят, говорит Господь"32. Господь говорит как господин и тем самым
требует от всех внимания. Но требование святости он обосновывает не
этим своим господством, а своею собственной святостью.
Однако остается нерешенным вопрос: каким образом эти люди, чье
нравственное чувство еще не разбужено, могут судить, кто говорит к ним:
Бог или нет? И здесь нам придется ответить на возражение, которое давно
уже должно было зародиться в душе каждого читателя. В предыдущем
параграфе мы доказали, что понятие откровения возможно разумным обра-
168
Опыт критики всякого откровения
зом только a priori, a posteriori же возникнуть не может; в этом параграфе
мы показали, что возможно некое состояние и, более того, что до этого
состояния может опуститься все человечество, когда человек не может дойти
a priori до понятия религии, а следовательно, и до понятия откровения. Но
тут ведь, — могут нам возразить, — форменное противоречие; его можно
представить нам в виде такой дилеммы: либо люди уже чувствовали некую
нравственную потребность, которая побуждала их искать религию, и
имели уже все моральные понятия, которые могли бы разумно убедить их в
истинности этой религии, — но тогда они не нуждались бы в откровении,
обладая уже религией a priori ; либо они не ощущали подобной потребности и
не имели таких понятий, — но тогда ничто и никогда не могло бы убедить
их в божественности какой-либо религии, исходя из моральных
оснований; из теоретических они тоже не могли бы в этом убедиться; значит, они
вообще не могли бы в этом убедиться, и откровение, следовательно,
невозможно. Однако ведь из этого еще не следует, чтобы люди, мало сознающие
в себе моральное повеление и неспособные поэтому начать поиски
религии, то есть люди, нуждающиеся в откровении, не могли бы впоследствии
и именно с помощью этого откровения развить в себе моральное чувство и
изощриться в нем настолько, чтобы поставить под вопрос откровение и
подвергнуть его разумному исследованию: может оно быть божественного
происхождения или нет. Некое учение возвестило им себя как
божественное и возбудило этим в них, по крайней мере, внимание. Они либо тотчас
приняли его за божественное, не имея на то решительно никаких
оснований, ибо не могли ни вывести этого из теоретических принципов, ни
исследовать с точки зрения моральных, так как моральное чувство их
оставалось до сих пор неразвитым, — их счастье, если им помог в этом случай;
либо они тотчас его отвергли — опять-таки совершенно безосновательно;
либо же, наконец, они оставили этот вопрос нерешенным до тех пор, пока
найдутся какие-либо разумные основания для того или другого
суждения, — и в этом единственном случае они поступили разумно. Говорит ли к
ним Бог или нет — ни одного из этих двух категорических утверждений,
возможных из теоретических оснований, они никогда не могли бы
доказать; могли Бог к ним говорить — это можно было выяснить только из
содержания того, что было им сказано от имени Бога; значит, для начала надо
было это выслушать. Но по мере того, как они в это вслушивались,
развивалось их моральное чувство, а значит, развивалось одновременно и понятие
религии и ее возможного содержания, не важно, пришла она к ним
посредством откровения или нет; теперь уже они могли и даже вынуждены были
сравнивать возвещенное им в качестве божественного откровение с только
что развившимся в них априорным понятием откровения для того, чтобы
разумно удостовериться в его истинности, чтобы вынести свое суждение в
169
И. Г. Фихте
зависимости от совпадения или несовпадения этих двух понятий
откровения; тем самым видимое противоречие полностью снимается. Разумное
признание некоего данного откровения как божественного возможно
только исходя из априорных оснований; но случайные причины развития
этих оснований могут и должны быть в известных случаях даны a posteriori.
Впрочем, все эти наши исследования больше подготовили, чем
решили и развили действительно существенный вопрос. Так вот, если,
согласно всему до сих пор сказанному, разумное признание некоего
откровения в качестве божественного не может осуществиться в нас прежде,
нежели по совершенном развитии в нас морального чувства; если, далее, всякое
решение повиноваться божественному закону может покоиться только на
этом чувстве и на основанной, в свою очередь, на нем нашей воле
повиноваться разуму (см. § 3), — тогда божественный авторитет, на который могло
бы опираться любое данное откровение, теряет, по-видимому, всякий
смысл в тот самый момент, когда он наконец может быть признан. В самом
деле, до тех пор пока подобное откровение еще работает на то, чтобы
образовать в человеке восприимчивость к моральности, человек совершенно не
в состоянии решить, может ли оно вообще быть божественного
происхождения, ибо такое решение может быть лишь результатом рассмотрения
данного откровения с точки зрения моральных принципов. Но как только
моральное чувство разовьется настолько, что человек станет способен к
подобному рассмотрению, тогда, по-видимому, будет достаточно уже
одного этого морального чувства, чтобы определить его к повиновению
моральному закону как таковому. И хотя, как мы опять-таки показали
выше (см. § 3), даже при наличии самой твердой воли повиноваться
моральному закону просто как закону разума, возможны отдельные случаи, когда
требуется усилить причинность морального закона представлением о том,
что он есть закон божественный, — несмотря на все это в субъекте,
которого откровение сделало восприимчивым к моральности, вполне возможно
представление об этом божественном законодательстве — как с точки
зрения материи этого представления, сообразно практическим принципам
разума, так и с точки зрения его формы, которую обеспечивает
применение его к понятию мира; так что неясно, почему субъект должен считать
это представление данным ему через некое сверхъестественное действие в
чувственном мире. Итак, нам необходимо указать такую потребность,
конечно, только эмпирическую, которую могло бы удовлетворить лишь
определенное представление о провозглашении Бога моральным
законодателем путем некоего действия в чувственном мире: в противном случае все
это представление окажется никчемным, а понятие откровения — пустым;
ведь выходит, что вера в него может быть полезна лишь до тех пор, пока оно
невозможно, а как только оно становится возможным, оно утрачивает всю
170
Опыт критики всякого откровения
свою пользу. Ведь не можем же мы допустить, что вся польза откровения
заключается в благочестивых чувствах к благости Божией, снисходящей к
нашей слабости, и прочих тому подобных, возникающих в нас из этого
представления ощущениях, — а другой пользы пока не остается.
Но выше, дедуцируя понятие откровения, мы допустили в качестве
предпосылки его реальной возможности наличие не только таких
моральных существ, в которых моральный закон утратил свою причинность
навсегда, но и таких, в которых он теряет ее только в отдельных случаях. Где
нет даже воли признавать нравственный закон и повиноваться ему, там
моральный закон вовсе лишен причинности; где, напротив, есть воля, но
нет полной свободы, там он теряет свою причинность в отдельных случаях.
Мы сейчас уже показали, каким образом откровение восстанавливает
действенность морального закона в первом из этих двух случаев; оказывает ли
оно какое-либо только ему свойственное, только ему доступное действие
также и во втором — вот вопрос, на который нужно теперь ответить.
Поскольку в первом случае разум еще не может признать откровение тем, за
что оно само себя выдает, постольку эту его функцию можно было бы
назвать функцией откровения в себе, так как оно совершенно независимо от
нашего способа представления, или откровения с точки зрения его
материи (ftinctio rationis materialiter spectatae*). Напротив, то, что предстоит
сделать откровению во втором случае, можно, пожалуй, назвать функцией
откровения, поскольку мы признаем его таковым, или с точки зрения его
формы (functio revelationis formaliter spectatae **); a так как откровение
становится откровением только благодаря тому, что мы признаем его
таковым, то это второе и будет откровением в самом точном смысле.
Выше, рассматривая функцию откровения с точки зрения материи,
мы совершенно правильно предположили, что она имеет отношение
только к тем субъектам, в которых нет даже воли подчиняться законам разума;
что объектами откровения в этой его функции не могут быть те, у кого
хватает воли, а недостает только полной свободы, чтобы эту волю
осуществлять; что для установления свободы в таких субъектах вполне достаточно
естественной религии. А так как благодаря откровению в его первой
функции стало бы возможным волеопределение через моральный закон и,
значит, все разумные существа должны были подняться на вторую ступень
морального совершенства, то никакая функция откровения с точки зрения
его формы не могла бы осуществляться, то есть оно не влияло бы на
создание свободы в существе, которому на этой второй ступени всегда
достаточно для этого естественной религии. А так как это — функция откровения в
[кция откровения с точки зрения содержания {лат.).
нкция откровения с точки зрения формы {лат.).
171
И.Г. Фихте
самом точном смысле, то тем самым могло бы быть доказано, что никакая
вера не имеет истинной потребности в откровении; а если откровение все
же имеет место, то это, видимо, противоречит вышеприведенному
положению о достаточности естественной религии для установления свободы.
Итак, прежде всего нам надо исследовать, мыслимо ли, чтобы
представление о свершившемся откровении влияло надушу, восстанавливая
угнетенную свободу воли, а затем, если такое влияние обнаружится, исследовать,
могут ли, и если да, то в какой мере, сосуществовать оба эти утверждения.
Одна из особенностей эмпирического характера человека
заключается в том, что пока одна из его душевных способностей более других
возбуждена и оживленно деятельна, все остальные — и чем дальше они от нее
отстоят, тем в большей степени — бездеятельны и ослаблены 33, причем
слабость их тем больше, чем активнее деятельность первой силы.
Насколько тщетны были бы попытки определить к чему-либо другому того, кто
определен чувственным влечением или находится в состоянии бурного
аффекта, настолько же несомненно, напротив, возможность такого
возвышения души с помощью идей, такого напряжения ее в размышлении, при
котором чувственные впечатления теряют почти-всю свою силу. Если в этих
случаях нужно воздействовать на человека, то это будет возможно — почти
без исключений — только с помощью той самой способности, которая в
нем сейчас деятельна: на все остальные едва ли удастся произвести хоть
какое-то впечатление, а если и удастсяг впечатление будет недостаточно
сильное, чтобы определить волю человека.
Некоторые душевные способности связаны более тесными узами
родства и потому способны оказывать большее влияние друг на друга, чем
на прочие. Того, кто весь захвачен чувственным влечением, бесполезно
удерживать разумными доводами; но это может удаться без особого труда,
если представить ему другое чувственное впечатление посредством
воображения — не потребуется даже наличия какого-либо чувственного
объекта, то есть непосредственного чувственного восприятия. Все способности,
определимые эмпирической чувственностью, находятся между собой в
таком соответствии.
Впечатления, получаемые этими способностями, являются
причиной всех противоборствующих долгу определений воли: это может быть
чувственное восприятие — либо непосредственно соответствующее
предмету вне нас, либо репродуцируемое эмпирической способностью
воображения; аффекты; страсти. Что может противопоставить человек
подобному определению, чем уравновесить его, если оно так сильно, что
полностью заглушает голос разума? Очевидно, что такой противовес может быть
доставлен в душу только такой способностью, которая была бы, с одной
стороны, чувственной и, следовательно, могущей противодействовать
172
Опыт критики всякого откровения
определению чувственной природы человека, а с другой стороны, —
свободно определимой и спонтанной; такая душевная способность есть
способность воображения. Итак, именно она должна принести в душу
единственный возможный мотив моральности — представление о
законодательстве Святого. В естественной религии это представление основывается
на принципах разума; но если этот разум, как мы предполагаем,
совершенно подавлен, то все продукты его предстают темными, неопределенными,
не внушающими доверия. Итак, принципы этого представления также
должны быть представимы с помощью способности воображения. А
принципами этими будут факты чувственного мира или откровение.
Нужно, чтобы человек в такие моменты мог сказать себе: Бог есть,
ибо он говорил и действовал; Он хочет, чтобы я сейчас поступил не так, ибо
он недвусмысленно, в таких-то выражениях и при таких-то
обстоятельствах и т.п. запретил это; в свое время мне непременно придется
отчитаться перед Ним при известных определенных торжественных
обстоятельствах в том решении, которое я сейчас приму. Но если подобные
представления должны произвести на человека впечатление, надо, чтобы он мог
признавать лежащие в основе этих представлений факты вполне
подлинными и верными; они, таким образом, не должны быть плодом его
собственного воображения, а должны быть даны ему. Что подобное
представление отнюдь не наносит ущерба чистой моральности и вызванный ими
поступок не становится оттого менее моральным, следует
непосредственно из нашей предпосылки: представляемый способностью воображения в
- чувственном виде мотив есть не что иное, как святость законодателя, и
чувственным в нем является только способ передачи (Vehikulum).
Но не страдает ли часто чистота мотива оттого, что способ его
передачи — чувственный? И не влияет ли страх перед наказанием или надежда
на воздаяние гораздо сильнее на наше повиновение закону, возникшее
благодаря представлению откровения, нежели чистое уважение к святости
законодателя? Всеми этими вопросами общая критика откровения,
собственно, не обязана заниматься; ей достаточно показать, что это не
необходимо in abstracto и безусловно не дозволено in concreto, если мы хотим
иметь подлинную религиозность, а не утонченную форму себялюбия. Но
поскольку это все же происходит, и притом даже слишком легко;
поскольку, далее, невозможно показать достаточно всеобщим образом когда, в
какой степени и почему вообще бывает необходимо подобное подкрепление
морального закона с помощью представления об откровении; поскольку,
наконец, никак не приходится отрицать, что в нас существует всеобщее,
без сомнения, основанное на моральном законе побуждение тем больше
уважать разумное существо, чем меньше требуется подкреплять в его душе
идею справедливого для того, чтобы побудить его поступать согласно ей, —
173
И.Г. Фихте
постольку нельзя отрицать, что куда больше чести было бы человечеству,
если бы ему всегда было достаточно естественной религии для того, чтобы
повиноваться моральному закону в любом случае. И в этом смысле вполне
непротиворечивыми оказываются два наших тезиса, а именно что a priori,
до получения действительного опыта, нельзя понять, почему непременно
понадобилось представление о каком-то откровении для того, чтобы
восстановить поврежденную свободу; но что почти всеобщий опыт — и в нас
самих, и в других — ежедневно учит нас, что мы, во всяком случае,
достаточно слабы, а потому нуждаемся в подобном представлении.
§9
О ФИЗИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ОТКРОВЕНИЯ
риорное понятое откровения,
оправдываемое a posteriori указанием потребности эмпирической
чувственности, ожидает сверхъестественного действия в чувственном мире.
Возможно ли такое вообще? Да и мыслимо ли вообще, чтобы нечто помимо
природы имело причинность в природе? Займемся ответом на этот
вопрос — отчасти для того, чтобы внести немного больше света, — по крайней
мере настолько, насколько требует наше нынешнее предприятие, — в
крайне темное до сих пор учение о возможности сосуществования
необходимости по законам природы и свободы по моральному закону; отчасти же
для того, чтобы из разъяснения этого вопроса вывести одно немаловажное
для оправдания понятия откровения следствие.
Возможность такого сосуществования вообще есть первый
априорный постулат практического разума: ведь он определяет нашу высшую
способность желания, то есть сверхъестественное в нас к тому, чтобы оно
стало причиной вне себя, в чувственном мире, не важно, будет ли это мир
внутри нас или вовне, — здесь это одно и то же.
Прежде всего следует напомнить, что существует очень большая
разница между двумя высказываниями. Первое из них: "Воля, как высшая
способность желания, свободна". Мы подразумеваем под этим, что воля не
подчинена законам природы, и это сразу же очевидно, потому что воля как
высшая способность не является частью природы, а есть нечто
сверхчувственное. И второе высказывание: "Подобное определение воли
становится причинностью в чувственном мире". Здесь мы требуем, чтобы нечто,
подчиненное законам природы, определялось тем, что само не составляет
часть природы; это будет, по всей видимости, противоречие, во всяком
случае, оно будет упразднять понятие природной необходимости,
благодаря которому и становится впервые возможным понятие природы вообще.
В связи с этим следует прежде всего напомнить, что вообще до тех
пор, пока идет речь только об объяснении природы, нам абсолютно не
дозволено допускать какую бы то ни было причинность посредством
свободы, потому что вся натурфилософия ничего не знает о подобной
причинности; и наоборот, до тех пор, пока идет речь только об определении вы-
Ал
175
И. Г. Фихте
сшей способности желания, нет ни малейшей необходимости принимать
во внимание существование природы вообще. Причинность морального
закона и причинность природного бесконечно различны как по виду
причинности, так и по своим объектам. Природный закон повелевает с
абсолютной необходимостью, моральный — приказывает свободе; первому
подчинена природа, второму — мир духов. "Необходимо" (muss) - вот
лозунг (ключевое слово) первого; "должно" (soll) — второго; они говорят о
совершенно разных вещах, и, даже если противопоставить их друг другу, они
не будут друг другу противоречить: ибо они просто не пересекаются.
Однако их действия пересекаются в чувственном мире и не могут
друг другу противоречить, ибо в противном случае окажется невозможным
либо познание природы, с одной стороны, либо постулируемая
практическим разумом причинность свободы в чувственном мире — с другой.
Возможность такого сосуществования двух совершенно независимых друг от
друга законодательств может быть мыслима не иначе, как через их общую
зависимость от некоего более высокого законодательства, лежащего в
основе их обоих, но для нас абсолютно недоступного34. Если бы мы могли
основать мировоззрение на принципе этого последнего законодательства,
тогда одно и то же действие, представляющееся нам применительно к
чувственному миру и согласно моральному закону свободным, а в природе,
возведенное к причинности разума, кажущееся нам случайным, мы
признали бы совершенно необходимым. Поскольку, однако, мы этого не можем,
постольку очевидно, что, как только мы примем в расчет причинность
посредством свободы, мы не сможем признать все явления в чувственном
мире в качестве необходимых в соответствии с одними лишь законами
природы, но многие должны будем признать случайными, так что не
сможем объяснить их все из законов природы, но некоторые вынуждены будем
объяснить только по законам природы35. Объяснять же нечто только по
законам природы означает следующее: допускать причинность материи
действия вне природы, а причинность формы действия в природе. По законам
природы должны объясняться все явления чувственного мира, ибо в
противном случае они никогда не смогли бы стать предметом знания.
Давайте теперь попробуем применить эти положения к ожидаемому
сверхчувственному воздействию Бога на чувственный мир. Согласно
постулатам разума Бога следует мыслить как такое существо, которое
определяет природу в соответствии с моральным законом. Следовательно, в нем
объединены оба законодательства, и в основе его мировоззрения лежит тот
самый принцип, от которого они оба вместе зависят. Это значит, что для
Бога нет ничего естественного и ничего сверхъестественного, ничего
необходимого и ничего случайного, ничего возможного и ничего
действительного. Вот это, и не более, можем мы утверждать о Нем отрицательно, выну-
176
Опыт критики всякого откровения
жденные к тому законами нашего мышления; но если бы мы захотели
определить модальность его рассудка позитивно, мы стали бы
трансцендентными. Таким образом, вопрос может стоять не о том, как Бог может
мыслить возможность сверхъестественного действия в чувственном мире и
сделать ее действительной, а о том, как мы можем мыслить себе какое-то
явление в качестве действия сверхъестественной причинности Бога?
Наш разум вынуждает нас выводить всю систему явлений, весь
чувственный мир в конечном счете из причинности через свободу по законам
разума, то есть, собственно, из причинности Бога. Весь мир для нас —
сверхъестественное действие Бога. Так что вполне можно было бы даже
подумать, что Бог с самого начала вплел в общий план целого первую
естественную причину некоего известного явления, отвечавшего одному из его
моральных замыслов (здесь мы имеем полное право говорить с
человеческой точки зрения, ибо мы предлагаем не объективные истины, а
субъективные мыслительные возможности). Возражение, обыкновенно
выдвигавшееся против этого: зачем, мол, было Богу добиваться обходным путем
того, что он мог сделать напрямик, — основывается на грубом
антропоморфизме: как будто бы Бог подчиняется условиям времени. В этом случае
явление могло бы быть объяснено целиком и полностью из законов
природы — вплоть до сверхъестественного источника самой природы в целом,
если бы только мы могли охватить природу целиком во всех ее связях
одним взглядом; и в то же самое время нужно было бы рассматривать это
явление как результат действия причинности божественного понятия о
некой моральной цели, которая должна быть благодаря этому достигнута.
Мы можем предположить и вторую возможность: допустим, Бог
действительно вмешался в уже начатый и продолжающийся по законам
природы ряд причин и действий и произвел через непосредственную
причинность своего морального понятия другое действие, нежели то, которое
должно было бы последовать через простую причинность природных
существ по природным законам. Но этим мы еще не определили, в каком
именно звене цепи он должен был бы вмешаться: в том ли, которое
непосредственно предшествует намеченному действию, или же он в состоянии
сделать это и в звене, быть может, чрезвычайно далеко отстоящем от него
по времени и количеству промежуточных действий. Если мы допустим
второй случай, то сможем правильно объяснять интересующее нас явление
по природным законам из предшествующего ему явления —
предположим, что мы знаем все природные законы в совершенстве — а это, в свою
очередь, из предшествующего и так далее до бесконечности, пока не
наткнемся наконец на такое действие, которое не сможем уже объяснить из
природных законов, а только по ним. Но предположим, что мы могли или
хотели бы проследить этот ряд естественных причин только вплоть до ка-
177
И. Г. Фихте
кого-то известного пункта; в таком случае было бы весьма вероятно, что то
не объяснимое естественным путем действие не попало бы в положенные
нашему исследованию границы; но это отнюдь не давало бы нам права
заключить, что искомое явление вообще не может быть действием
сверхъестественной причинности. Следовательно, только в первом случае мы
сразу вслед за самим явлением натолкнулись бы на некую необъяснимую
из природных законов причинность, что позволило бы нам теоретически
допустить здесь причинность сверхъестественную.
Но разве Бог не хочет, чтобы это действие признал
сверхъестественным чувственный человек, который таким путем должен удостовериться,
что Бог является источником откровения? Недопустимо было бы сказать,
будто Бог желает, чтобы мы сделали ложный вывод и на нем обосновали
теоретическое допущение природного явления, которое было бы
следствием внеприродной причинности. Но, с другой стороны, поскольку этот
вывод вовсе не должен обосновывать убеждение (чего он и не может), а
должен обосновать всего лишь внимание, постольку было бы совершенно
достаточно для этой цели, чтобы мы временно, пока не приобретем
способности к моральному убеждению, допустили лишь теоретическую
возможность того, что это явление могло бы быть следствием сверхъестественной
причинности. А для этого (то есть для того, чтобы мыслить его
теоретически возможным, ибо чтобы признать его морально возможным, согласно
предыдущему нашему рассуждению, не требуется даже этого) нужно
только одно: чтобы мы не видели никаких естественных причин данного
явления. В самом деле, если я не могу объяснить какое-то происшествие из
законов природы, то я могу подумать, как велит мне разум, что.причина
этого — либо в том, что я не знаю тех природных законов, по которым оно
возможно, либо в том, что оно по природным законам вообще невозможно21*.
21' Я думаю, что если бы Христофор Колумб, предсказавший жителям Испа-
ньолы лунное затмение только для того, чтобы получить от них провиант,
использовал этот же случай как божественное знамение, удостоверяющее,
что он послан к ним Богом с моральными целями, у них не было бы
никакого разумного основания отказать ему во внимании, ибо успешное
исполнение его предсказания должно было быть для них решительно необъяснимо
по законам природы. И если бы он основал на этом знамении религию,
полностью соответствующую принципам разума, то туземцы не только ни в
коем случае ничего на этом не потеряли бы, но и могли бы продолжать
держаться своего глубочайшего убеждения в непосредственно божественном
происхождении этой религии вплоть до тех пор, пока не изучили бы лучше
природные законы и не узнали бы из истории, что Колумб их тоже хорошо
знал и, значит, обошелся с ними не совсем честно. После этого они уже не
могли бы продолжать считать ее божественным откровением, однако были
бы по-прежнему обязаны признавать ее и дальше божественной религией по
причине ее полного согласия с моральным законом.
178
Опыт критики всякого откровения
Кого же подразумевает здесь это мы? Очевидно, тех, и только тех, кого
имеет в виду божественный план возбуждения внимания. Допустим, что
после того, как цель была бы достигнута и человечество поднялось бы до
способности моральной веры в божество откровения, удалось бы доказать,
благодаря более глубокому проникновению в законы природы, что
известные явления, считавшиеся сверхъестественными и служившие
обоснованием откровения, вполне могут быть объяснены из законов природы. Тем
не менее из одного этого отнюдь нельзя было бы еще вывести заключения,
отрицающего божественность подобного откровения, — разумеется, если
в основе его лежало невольное заблуждение, а не сознательный,
преднамеренный обман: в самом деле, ведь всякое действие, в особенности если мы
приписываем его первопричине всех природных законов, может быть
одновременно и совершенно естественным, и сверхъестественным, то есть
произведенным причинностью божественной свободы с понятием о
моральном замысле.
Результатом всего вышесказанного можно считать следующее:
догматическому защитнику откровения так же мало позволено заключать от
необъяснимости известного явления из законов природы к
сверхъестественной причинности, а тем более непосредственно к причинности Бога,
как непозволительно и догматическому противнику откровения заключать
от объяснимости именно этих явлений из законов природы, что здесь
невозможна ни сверхъестественная причинность вообще, ни причинность
Бога в частности. Весь этот вопрос не может быть разъяснен догматически,
по теоретическим принципам, но должен исследоваться только морально,
по принципам практического разума, что и было более чем
удовлетворительно показано выше; но вот каким именно образом это должно
осуществляться, будет показано лишь в дальнейшем ходе нашего повествования.
§10
КРИТЕРИИ БОЖЕСТВЕННОСТИ ОТКРОВЕНИЯ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕГО ФОРМЫ
Чтобы мы были в состоянии
разумно убедиться в том, что некое данное откровение — от Бога, мы должны
иметь твердые критерии такой божественности. Поскольку понятие
откровения возможно a priori, то именно с этим понятием мы и должны будем
сопоставлять a posteriori данное откровение, то есть из этого понятия
должны выводиться критерии его божественности.
До сих пор мы рассматривали понятие откровения исключительно с
точки зрения его формы, поскольку она должна быть религиозной,
совершенно абстрагируясь от возможного содержания какого-либо конкретно
данного откровения; таким образом, сейчас нам предстоит только
окончательно установить критерии божественности откровения с точки зрения
его формы. Но в форме откровения, то есть в простом возвещении Бога как
морального законодателя посредством сверхъестественного явления в
чувственном мире, мы можем различить два момента, а именно: внешний, то
есть обстоятельства, при которых состоялось такое возвещение, и
средства, с помощью которых оно произошло; а с другой стороны —
внутренний, то есть само возвещение.
Априорное понятие откровения предполагает эмпирически данную
моральную потребность в нем, без которой подобное предприятие
божества было бы излишним и абсолютно бесцельным, а потому разум не мог
бы мыслить его как морально возможное; эмпирическая дедукция условий
действительности этого понятия вывела и эту потребность. Таким
образом, должно быть доказано, что ко времени появления какого-либо
откровения, претендующего на божественное происхождение, действительно
была налицо подобная потребность и что среди тех людей, которым
предназначалось это откровение, в то время не существовало другой религии,
отвечавшей всем критериям божественности, — или что такая религия не
могла быть легко сообщена им естественными средствами. Откровение, о
котором можно показать такое, может быть от Бога; откровение, о
котором можно показать противоположное, точно не от Бога. Необходимо
совершенно недвусмысленно установить этот критерий, дабы положить
преграду всякому мечтательству и всевозможным незваным пророкам ныне-
180
Опыт критики всякого откровения
шних или будущих времен. Если некое откровение искажено в своем
содержании, то долг и право всякого добродетельного человека —
восстановить его изначальную чистоту; но для этого совсем не нужно какого-либо
нового божественного авторитета, достаточно ссылки на уже имеющееся
откровение и развития истины из нашего морального чувства. А
возможности одновременного сосуществования двух божественных откровений
этот критерий отнюдь не исключает: в том случае, если обладатели этих
откровений не в состоянии сообщить их друг другу.
Бог должен быть причиною действий, через которые совершается
откровение. Но все неморальное противоречит понятию Бога. Таким
образом, всякое откровение, возвещенное, утвержденное, передававшееся
неморальными средствами, — безусловно не от Бога. Обманывать всегда и везде
неморально, каковы бы ни были при этом намерения. Так что если некто,
называющий себя Божьим посланцем, поддерживает свой авторитет с
помощью обмана, он действует против божественной воли. К тому же
действительно поддерживаемый Богом пророк никогда не нуждается в
обмане. Он исполняет не свой, а божественный замысел, и потому может
спокойно предоставить Богу решать, в какой мере и каким образом этот
замысел поддержать. Но нам могут возразить, что воля-то божественного
посланца свободна, и он может захотеть — из самых лучших намерений —
сделать больше, чем ему поручено, захочет вызвать к своему делу еще
больше доверия, чем ему уже оказали, и тем самым будет вовлечен в обман.
Тогда ведь не Бог будет причиной обмана, а человек, которым он
воспользовался. Мы не можем утверждать, что Бог вообще не может воспользоваться
неморальными или морально слабыми людьми для распространения
откровения; как же иначе, если нет других? А там, где имеется наибольшая
потребность в откровении, конечно же, и не может быть других. Но Бог не
может разрешить им использовать неморальные средства — по крайней
мере, при исполнении его поручения; если бы их свободная воля увлекала
их к этому, он должен был бы воспрепятствовать им своим
всемогуществом. Ибо если обман вдруг открылся, — а всякий обман может
открыться, — возможны были бы два варианта. Либо возбужденное было внимание
исчезнет, уступив у людей место досаде, что их водили за нос, и недоверию
ко всему, исходящему из этого или подобных источников, что
противоречит замыслу и цели этого предприятия. Либо же, если учение уже
достаточно авторизовано, то вместе с ним оказывается авторизованным и обман;
всякий сочтет вполне дозволенным для себя то, что было дозволено для
посланца Бога; а это противоречит моральности и понятию всякой религии.
Конечная цель всякого откровения есть чистая моральность. Она
возможна только через свободу, так что вынудить ее нельзя. И не только ее:
не достигается принуждением и внимание к представлениям, цель кото-
181
И. Г. Фихте
рых — развить чувство моральности и облегчить определение воли при
противоборстве склонности; более того, — принуждение здесь прямо
противопоказано. Итак, ни одна божественная религия не должна была ни
возвеститься, ни распространиться посредством принуждения или
преследования; ибо Бог не может пользоваться средствами, противными цели, не
может даже допустить использование подобных средств другими при тех
намерениях, какими он руководствуется: ведь тем самым эти средства
были бы оправданы. Таким образом, всякое откровение, возвещенное и
утвердившееся путем преследований, безусловно не от Бога. А такое
откровение, для возвещения и утверждения которого были использованы только
и исключительно моральные средства, может быть от Бога. Таковы
критерии божественности откровения с точки зрения его внешней формы.
Перейдем к внутренней.
Всякое откровение должно обосновывать религию, а всякая религия
основывается на понятии Бога как морального законодателя. Таким
образом, откровение, открывающее нам Бога как нечто другое, например,
желающее научить нас теоретически понимать его сущность или
представляющее его как политического законодателя, не будет, во всяком случае,
тем, чего мы ищем; не будет откровенной религией. Итак, всякое
откровение должно возвещать нам Бога как морального законодателя, и только
откровение, имеющее именно такую цель, мы можем, опираясь на моральные
основания, считать исходящим от Бога.
Повиновение моральным повелениям Бога может основываться
лишь на почтении и уважении к Его святости: в противном случае оно не
будет чисто моральным. Таким образом, всякое откровение, желающее
побудить нас к повиновению посредством других мотивов, например, угрожая или
обещая награды, не может быть от Бога; ибо подобные мотивы
противоречат чистой моральности. Не подлежит, правда, никакому сомнению и
ниже будет нами обосновано, что откровение может либо прямо
формулировать обещания морального закона как обещания Бога, либо подводить нас
к тому, чтобы найти подобные обещания в нашем собственном сердце. Но
они должны подаваться только как следствия, а не как мотивы22*.
22* Если бы мы могли доказать, что можно на разумных основаниях признать
истинность некоего откровения Бога как политического законодателя
(допустим, в качестве подготовки к моральному откровению) — ведь
возможность признания истинности означает одновременно возможность или
невозможность всего этого дела (впрочем, доказать это, как явствует из
сказанного выше в § 5, почти невозможно), в таком случае повиновение
подобным законам несомненно не только могло бы, но и должно было бы
основываться в подобном откровении на страхе наказания и надежде на
воздаяние, поскольку конечной целью политических законов является простая
легальность, а она надежнее всего достигается именно такими
побудительными мотивами.
182
§11
КРИТЕРИИ БОЖЕСТВЕННОСТИ ОТКРОВЕНИЯ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕГО ВОЗМОЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(materiae revelationis*)
(сущность откровения вообще есть
возвещение Бога как морального законодателя через сверхъестественное
действие в чувственном мире. Некое конкретно данное откровение может
содержать рассказы о тех или иных действиях, средствах, мероприятиях,
обстоятельствах и т.д. Все, сюда относящееся, принадлежит к внешней
форме откровения и подчинено тем же критериям. Но при этом остается
еще совершенно неясным, куда в результате такого возвещения
законодателя будет положен сам закон с точки зрения его содержания. Откровение
может прямо отослать нас к нашему сердцу; или же оно может установить
то, что скажет наше сердце, еще и в виде особого высказывания Бога,
предоставляя нам самим сравнивать первое с последним. Возвещение Бога
как законодателя, если облечь его в слова, будет звучать так: "Бог есть
моральный законодатель". А так как нам приходится облекать его в слова, то
мы можем и это назвать содержанием — а именно, содержанием возвещения
самого по себе, значением формы откровения. А если, кроме этого, нам
будет сказано еще что-то, то это и будет содержанием откровения.
Первое, то есть само по себе возвещение, мы можем помыслить себе
a priori, а если a posteriori нам будет дана и потребность в нем, то можем его
и желать и ждать. Мы не можем только сами его реализовать — реализация
этого понятия должна совершиться через некий факт в чувственном мире.
Таким образом, мы никогда не можем знать a priori, как именно и каким
образом будет дано откровение. Второе, то есть, что откровение будет
иметь какое-либо содержание вообще, мы ожидать a priori не можем, так
как это не относится к сущности откровения; но зато мы совершенно а
priori можем знать, каково может быть это содержание. И тем самым перед
нами сразу возникает вопрос: можем ли мы ожидать от откровения таких
поучений и разъяснений, до которых наш разум, предоставленный самому
себе и не руководимый никакой сверхъестественной помощью, никогда не
смог бы дойти сам, не только при тех случайных обстоятельствах, в
которых он находился и находится, но вообще в силу своей природы? К реше-
*Содержания откровения ijiam.).
183
И. Г. Фихте
нию этого вопроса мы можем приступать тем спокойнее, что даже в том
случае, если нам придется ответить на него отрицательно, согласно
вышеприведенной дедукции, установившей, что для нас имеет значение,
собственно, лишь форма откровения, мы можем уже не опасаться
возражения, будто бы откровение вообще излишне, если не может научить нас
ничему новому.
Эти поучения, которые должны быть почерпнуты только из
сверхъестественных источников, могут иметь своим предметом либо расширение
нашего теоретического познания сверхчувственного, либо более близкое
определение наших обязанностей. Следовательно, мы могли бы ожидать
от откровения расширения нашего теоретического познания? Чтобы
ответить на этот вопрос, необходимо решить сначала два других: возможно ли
такое расширение морально, то есть не идет ли оно вразрез с чистой
моральностью? И затем, возможно ли оно физически, то есть не противоречит ли
оно природе вещей? И наконец, не противоречит ли оно понятию
откровения, а следовательно, самому себе?
Итак, возможно ли оно морально? Идеи сверхъестественного,
реализуемые практическим разумом, суть следующие: свобода, Бог, бессмер-
тие%. То, что мы — что касается нашей высшей способности желания —
свободны, то есть имеем высшую, независимую от законов природы
способность желания, есть непосредственный факт. То, что мы —
применительно к понятию Бога — нуждаемся для морального определения воли в
том, чтобы Бог был, чтобы он был всесвятой, всеправедный, всемогущий, все-,
знающий, высший законодатель и судья всех разумных существ, — в это нас
непосредственно заставляет поверить наше моральное определение тс
тому, чтобы желать конечной цели нравственного закона. То, что мы должны
быть бессмертны, вытекает непосредственно из требования реализовать
высшее благо, требования, обращенного к нашей конечной природе,
которая сама по себе не способна удовлетворить этому требованию, но должна,
а потому и может становиться все более способной к этому. Что же еще
хотим мы узнать об этих идеях? Хотим ли мы усмотреть связь природного
закона и закона свободы в сверхчувственном субстрате природы? Но если мы
не получим одновременно достаточной силы для того, чтобы подчинять
законы природы нашей свободе, это не даст нам ни малейшей практической
пользы; если же мы получим такую силу, то перестанем быть конечными
существами и будем богами. Хотим ли мы получить определенное понятие о
Боге, узнать его сущность, какова она в себе? Но для чистой моральности
это не только не будет поддержкой, но будет даже помехой. Бесконечное
существо, которое мы познаем, которое во всем своем величии предстает
нашему взору, силой принудит и заставит нас повиноваться его приказам;
свобода будет уничтожена, чувственная склонность умолкнет навеки, и мы
184
Опыт критики всякого откровения
утратим всякую заслугу, всякую возможность совершенствования, всякую
радость и закалку, которую дает нам борьба, и из свободных существ с
ограниченными знаниями превратимся в моральные машины, хотя и
обладающие большим знанием. Хотим ли мы, наконец, проникнуть уже
теперь во все предначертания нашего будущего существования? С одной
стороны, это лишит нас чувства счастья, какое может дать нам постепенное
улучшение нашего состояния; в один миг мы проглотим все наслаждение,
отпущенное нам для существования вечного; с другой стороны, будущее
вознаграждение, сделавшись нам точно известным, будет слишком сильно
определять нас, отнимая у нас свободу, заслугу и самоуважение. Все
подобные знания будут не увеличивать, а уменьшать нашу моральность, а этого
Бог хотеть не может; следовательно, это морально невозможно. А
возможно ли это физически? То есть не противоречит ли это законам природы, а
именно нашей природы, к которой должны быть обращены подобные
поучения? Знания о сверхъестественном, которые могут быть даны нам в
откровении, должны соответствовать нашей познавательной способности,
подчиняться законам нашего мышления. Эти законы суть категории, без
которых для нас невозможно ни одно определенное представление. Если
бы эти знания ей не соответствовали, то все поучение прошло бы для нас
впустую, будучи совершенно непонятным и непостижимым, так что мы бы
его все равно что не получали. Если же они были бы приведены в
соответствие с ней, то сверхчувственные предметы были бы тем самым низведены
в чувственный мир, сверхприродное сделалось бы частью природы. Я не
буду поднимать здесь вопроса о том, не противоречит ли практическому
разуму подобное облечение в чувственную форму, данное как объективно
значимое, — это станет ясно ниже. Но уже сейчас ясно, что таким путем мы
приобрели бы познание такого сверхчувственного, которое уже не есть
сверхчувственное, и тем самым не только не достигли бы нашей цели —
проникнуть в мир духов, но и утратили бы тот единственный правильный
взгляд на него, который возможен для нас с точки зрения практического
разума. И наконец, не противоречит ли подобное ожидание самой природе
откровения? 23* Поскольку невозможно, чтобы поучения подобного рода
были обращены к нашему разуму, определяемому через моральный закон,
таким образом, чтобы разум поверял их — совпадают ли они с ним или нет,
23' Я прошу каждого, кого еще возмутит это подлежащее доказательству
утверждение, обратить внимание особенно на следующее: либо вся критика
откровения должна быть отменена и должна быть подтверждена
возможность апостериорного теоретического убеждения в божественности
некоторого данного откровения (в таком случае следует придерживаться § 5); либо
же неизбежно придется допустить, что откровение не может расширить
нашего сверхчувственного познания. (Примеч. ко 2-му изд.)
185
И. Г. Фихте
ибо они никак не могут быть основаны на этих принципах (ведь если бы они
на них основывались, то наш разум, предоставленный самому себе,
должен был бы прийти к ним и без всякой посторонней помощи), — постольку
вера в их истинность не может основываться ни на чем, кроме
божественного авторитета, к которому апеллирует откровение. Но для
удостоверения истинности самого этого божественного авторитета имеется одно-
единственное основание — разумность учений, которые им
обосновываются (согласие этих учений не с умствующим, а морально-верующим
разумом). А потому сам этот божественный авторитет не может, в свою
очередь, стать основанием удостоверения того, что вначале должно служить
основанием удостоверения его собственной истинности. Если бы был
мыслим какой-нибудь иной путь к разумному признанию божественности
некоего откровения, если бы, к примеру, чудеса или предсказания, то есть
вообще необъяснимость какого-либо события с помощью естественных
причин могла бы дать нам право приписывать его происхождение
непосредственному действию Боса — каковое заключение, однако, как мы уже
показали выше, было бы очевидно ложным, — в таком случае было бы
мыслимо и то, что наше обоснованное таким путем убеждение в
божественности данного откровения вообще могло бы послужить обоснованием для
нашей веры в каждое из отдельных его поучений. Однако поскольку эта вера
в божественность некоего откровения вообще возможна только благодаря
вере в каждое из отдельных его высказываний, постольку ни одно
откровение как таковое не может обеспечить истинности какому бы то ни было
утверждению, если оно не может обеспечить ее самому себе. Итак,
невозможна разумная вера в какое-либо поучение, возможное только через
откровение, и всякое требование подобного рода будет противоречить
возможности признать истинными сообщения, данные в откровении, а
следовательно, и понятию откровения как такового. Таким образом, перехода в
сверхчувственный мир, неосуществимость которого показала нам критика
со стороны предоставленного самому себе теоретического разума, мы не
вправе ожидать также и от откровения; мы должны полностью и навсегда
оставить надежду на определенное знание о том мире для нашей
теперешней природы, каков бы ни был источник такого знания24*.
24* Дабы предотвратить чересчур поспешные выводы и несостоятельные
приложения данного тезиса, подчеркнем еще раз, что здесь идет речь только
о положениях, возвещаемых как объективно значимые, и что многое, на
первый взгляд кажущееся расширением нашего знания о
сверхчувственном, на деле может быть только либо облечением в чувственный образ
непосредственных постулатов разума, либо результатом приложения этих
постулатов к известным данным опыта. А если так, то все это, следовательно,
отнюдь не исключается нашим критерием. Но доказательство этого относится
не к нашему предмету, а к прикладной критике какого-либо особенного
откровения.
186
Опыт критики всякого откровения
Или, быть может, мы вправе ожидать от откровения каких-либо
практических максим, моральных предписаний, которые мы не в
состоянии вывести сами из нашего разума и с одной его помощью? Моральный
закон в нас есть голос чистого разума, разума in abstracto. Разум же не
может не только противоречить самому себе, но и говорить по-разному в
разных субъектах, ибо его требование есть наичистейшее единство, и потому
всякое различие было бы одновременно противоречием. Как разум
говорит нам, точно так же он говорит и всем разумным существам, точно так же
он говорит и самому Богу. Следовательно, Он не может дать нам ни какой-
либо иной принцип, ни какие-либо указания для особых случаев, которые
основывались бы на ином принципе, ибо Он сам определяется тем же
принципом, и никаким иным. Особые правила, возникающие в результате
приложения принципа к особенному случаю, разумеется, различаются в
зависимости от случаев, с которыми может столкнуться субъект в
соответствии со своей природой25*, однако все они должны быть выводимы с
помощью одного и того же разума из одного и того же разума. Другой вопрос,
будут ли в состоянии все конкретно данные эмпирически определенные
субъекты выводить эти правила в каждом особенном случае с одинаковой
правильностью и легкостью и не потребуется ли им при этом посторонняя
помощь — не такая, которая сделала бы это за них и выдала бы им лишь
результат, удостоверив его правильность своим авторитетом (это обосновало
бы, даже при условии верного выведения правила, лишь легальность, а не
моральность), но такая, которая руководила бы ими при выведении
правил; однако для этого нет надобности в откровении — такую услугу может и
должен оказать всякий более мудрый человек менее мудрому.
Итак, невозможно ни морально, ни теоретически, чтобы откровение
учило нас тому, к чему без него наш разум не мог бы или не должен был бы
прийти; и ни одно откровение не может требовать веры к подобным
поучениям. Однако по одной этой причине совершенно отказать какому-либо
откровению в божественном происхождении было бы несправедливо, ибо
предполагаемые поучения подобного рода, даже если они и не выводимы
из закона практического разума, необязательно должны ему
противоречить.
Но что же может оно содержать, если оно не должно содержать
ничего нам не известного? Вне всякого сомнения, именно то, к чему ведет
практический разум a priori: моральный закон и его постулаты.
25* Так, к примеру, существует безусловно верное правило: никогда не
принимай решений в горячке аффекта. Но это правило, как эмпирически
обусловленное, не может иметь всеобщего применения даже к людям, ибо
вполне возможно и должно быть возможно, чтобы человек был способен
полностью освободиться от всех бурных аффектов.
187
И. Г. Фихте
Относительно морали, которая может быть дана посредством
откровения, мы уже выше провели различение: откровение может либо прямо
отсылать нас к закону разума в нас как к божественному закону, либо
утверждать в нас с помощью божественного авторитета принцип этого
закона как сам по себе, так и в его приложении к возможным случаям.
Если имеет место первое, тогда такое откровение не содержит
никакой морали — его мораль содержится в нашем собственном разуме.
Следовательно, сейчас нам стоит рассмотреть только второй случай, откровение
утверждает в качестве божественного закона, с одной стороны, принцип
всякой морали, облекая его в слово, а с другой — специальные максимы,
возникшие из приложения его к эмпирически обусловленным случаям.
Что принцип морали должен быть дан правильно, то есть должен вполне
соответствовать моральному закону в нас, и что религия, моральный
принцип которой противоречит этому, не может быть от Бога, — это
непосредственно ясно; точно так же и право откровения возвещать этот
принцип как божественный закон принадлежит уже к самой форме
откровения и дедуцируется вместе с нею. Но вот относительно специальных
моральных предписаний возникает вопрос: должно ли откровение выводить
каждое из этих специальных правил из возвещенного им как
божественный закон морального принципа или же оно может просто, без
дальнейших доказательств, обосновать их божественным авторитетом? Если
божественный авторитет, право повелевать нам, основывается единственно на
Его святости, чего требует уже сама форма всякой религии, претендующей-
на божественность, тогда уважение к Его повелению, поскольку это Его
повеление, также и в специальных случаях есть не что иное, как уважение к
самому моральному закону. Следовательно, откровение вправе
представлять подобные повеления просто как заповеди Бога, без дальнейшей
дедукции их из принципа. Но есть еще один вопрос: не может ли каждое из
этих особенных предписаний откровенной морали быть правильно
дедуцировано из принципа хотя бы задним числом и не должно ли всякое
откровение отсылать нас в конечном счете к этому принципу?
Поскольку в возможности божественного происхождения
откровения как вообще, так и в каждой особенной части его содержания мы можем
удостовериться только при условии полного согласия его с-практическим
разумом, а подобное удостоверение применительно к особенной
моральной максиме возможно только через eç выведение из принципа всякой
морали, постольку — и это вытекает отсюда непосредственно — всякая
максима, данная в божественном откровении как моральная, должна быть
выводима из этого принципа. Впрочем, если какая-то максима не
выводится из него, это еще не значит, что она ложна, это значит только, что она
не относится к области морали; она ведь может относиться к области тео-
188
Опыт критики всякого откровения
ретической, политической, технической, практической и т.п. Так,
например, высказывание: "Должны ли мы делать зло, чтобы из него получилось
благо?", то есть благо в будущем, есть всеобщее моральное повеление,
поскольку оно может быть выведено из принципа всякой морали, а
противоположное высказывание будет этому принципу противоречить. Напротив,
такие максимы как: "И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя
рубашку, отдай ему и верхнюю одежду" 37 и т.п. — суть не моральные
предписания, но лишь значимые в специальных случаях правила политики, которые
сами по себе остаются в силе только до тех пор, пока не столкнутся с
какими-либо моральными предписаниями, ибо этим последним должно быть
подчинено все остальное. Если откровение содержит правила последнего
рода, то отсюда совсем не следует еще, что оно не божественно или что эти
правила ложны, — это зависит от совсем других доказательств из тех
принципов, которым они подчинены; отсюда следует только то, что эти
правила не относятся к содержанию религии откровения как таковой, и
ценность их должна выводиться из чего-то другого. Но откровение, которое
содержит максимы, противоречащие принципу всякой морали, которое
санкционирует, к примеру, благочестивый или неблагочестивый обман,
нетерпимость к инакомыслящим, дух преследования, вообще какие бы то
ни было средства распространения истины, отличные от поучения, — это
откровение, безусловно, не от Бога, ибо воля Бога сообразна моральному
закону, и Бог не может хотеть того, что противоречило бы моральному
закону, как не может и допустить, чтобы кто-то возвещал подобное от его
имени, действуя к тому же по его повелению.
Во-вторых, все особенные случаи, в которых выступают моральные
законы, не может предвидеть a priori конечный рассудок, а бесконечный,
предвидя их все, не может сообщить о них конечным существам, и ни одно
откровение, следовательно, не может содержать всех возможных
специальных правил морали. Поэтому откровение должно все-таки в конечном
счете отсылать нас либо к моральному закону в нас, либо к его всеобщему
принципу, утверждаемому откровением в качестве божественного и
совпадающему с этим законом. Это относится, собственно, уже к форме, так
что откровение, не исполняющее этого условия, не отвечает своему
собственному понятию и не есть откровение. А вот будет ли оно исполнять
первое или второе, или и то и другое вместе, — на этот счет не имеется
никакого априорного закона разума.
Итак, всеобщий критерий божественности религии с точки зрения
ее морального содержания таков: только такое откровение, которое
утверждает принцип морали, совпадающий с принципом практического разума, и
только такие моральные максимы, которые могут быть из него выведены,
может быть от Бога.
189
И. Г. Фихте
Вторую часть возможного содержания религии составляют
положения, которые достоверны в качестве постулатов разума и которые
обусловлены возможностью конечной цели морального закона в чувственно
обусловленных существах; они, следовательно, даны благодаря нашему
волеопределению и в то же время в свою очередь облегчают определение
нашей воли. Эту часть содержания религии называют догматикой. Можно
называть ее так и впредь, лишь бы при этом имелась в виду только ее
материя, а не способ доказательства, лишь бы не думали, что это название дает
право рассуждать догматически, то есть представлять эти положения как
объективно значимые. Что откровение не может научить нас в этой
области ничему сверх того, что и так вытекает из принципов чистого разума, мы
уже показали выше. Так что здесь нам остается выяснить только один
вопрос: на чем откровение может основывать нашу веру в эти истины? В
свете всего, что было выяснено выше, остаются только два возможных случая:
или откровение выводит их из морального закона в нас, который оно
утверждает как божественный закон и потому дает нам эти положения как
бы с непосредственным божественным поручительством; или же оно
утверждает их непосредственно как божественные решения — либо просто
как таковые, либо как решения определенной моральным законом
божественной сущности, не выводя их специально из этого закона. Первый
способ обоснования нашей веры вполне соответствует методу разумной и
естественной религии, и потому его правомерность не вызывает сомнений.
Относительно же второго способа возникают следующие два вопроса: не-
потерпит ли ущерб наша свобода, а тем самым и наша моральность, если
мы будем рассматривать всего лишь постулируемые обещания морального
закона как обещания, данные бесконечным существом? И не должны ли
все эти заверения быть выведены хотя бы задним числом из конечной цели
морального закона? Что касается первого, то тут ясно сразу, что если
откровение представляет нам Бога только как Единственного Святого, как
точнейший слепок морального закона, — как и подобает делать
откровению, тогда всякая вера в Бога есть вера в моральный закон,
представленный in concreto38. Что же касается второго, то здесь, если некоторое учение
нельзя вывести из конечной цели морального закона, возможны
опять-таки два случая: либо оно просто не выводится, либо оно противоречит
закону.
Если известные догматические утверждения противоречат конечной
цели морального закона, то они противоречат и понятию Бога, и понятию
всякой религии; и откровение, содержащее подобные утверждения, не
может быть от Бога. Бог не только не может дать право делать такие
утверждения — он не может допустить их во имя достижения цели, пусть даже она
совпадала бы с его собственной, поскольку сами они противоречат его
190
Опыт критики всякого откровения
цели. Если же они просто из нее не выводятся, не противореча ей прямо, то
отсюда не следует заключать, будто все откровение не может быть от Бога;
ибо Бог пользуется услугами людей, а люди могут заблуждаться, могут
сами выдумывать фантастические нелепости и ставить их, быть может, с
самыми лучшими намерениями рядом с божественными поучениями, чтобы
сотворить, как им кажется, еще больше добра. Богу же не подобает
ограничивать их свободу, разве что они захотят дать цели прямо
противоположное употребление. Отсюда, однако, несомненно следует одно, а именно,
что все высказывания подобного рода суть не божественное откровение, а
человеческое добавление к нему39, так что в дальнейшем мы можем не
обращать на них никакого внимания, разве лишь постольку, поскольку из
каких-либо других оснований выяснится вдруг их ценность. Подобные
положения, совершенно неспособные служить моральной цели, обещают чаще
всего чисто теоретические открытия, и когда они говорят о вещах
сверхъестественных, эти последние по большей части не могут мыслиться,
поскольку они не могут подчиняться условиям категорий. Если бы они как
объективные утверждения были обусловлены категориями, тогда они были
бы не просто не выводимы из морального закона, но прямо противоречили
бы ему, как мы покажем в следующем параграфе.
Наконец, откровение может предлагать ряд воодушевляющих и
побуждающих к добродетели средств — они могут быть связаны с большей
или меньшей торжественностью, могут быть предназначены для
общественного или же для индивидуального употребления. Поскольку всякая
религия представляет Бога только как морального законодателя,
постольку все, что не является повелением морального закона в нас, не будет и
божественным повелением, и нет иного средства угодить Богу, кроме
соблюдения этих повелений40. Следовательно, эти побуждающие к добродетели
средства не должны превращаться в саму добродетель, эти рекомендации не
нужно путать с заповедями, обязывающими нас исполнять наш долг; не
должно оставаться никакой двусмысленности относительно того, что уже
само употребление этих средств, а может быть даже и только оно одно,
поможет нам заслужить одобрение Божества, — соотношение между этими
средствами и моральным законом должно быть точно определено. На это
могут возразить: если мудрое существо хочет цели, оно хочет также и
средств. Но оно хочет их лишь постольку, поскольку они действительно
средства или станут ими. Кроме того, раз эти средства должны будут
применяться в чувственном мире и мы тем самым попадаем в область понятия
природы, мудрое существо может хотеть их, лишь поскольку они в нашей
власти. Так, например, совершенно верно и прекрасно известно всякому,
кто умеет молиться, что молитва, — будь то благоговейное созерцание
Бога, или просьба, или благодарение, — властно заставляет умолкнуть нашу
191
И. Г. Фихте
чувственность и с силой возносит наше сердце могучим чувством любви к
нашему долгу. Но как можно обязать холодного, неспособного к
энтузиазму человека, — а не исключено ведь, что есть и такие, — возвысить свое
созерцание до благоговейного восторга и воодушевления; как можем мы
принудить его оживить идеи разума с помощью воображения, если
субъективные причины лишили его такой способности, — ведь она есть всего
лишь эмпирическое определение. Как можем мы принудить его ощутить
какую-либо потребность настолько сильно, пожелать чего-нибудь
настолько пламенно, чтобы он полностью забыл себя и стал обращаться со
своим желанием к сверхъестественному существу, про которое — будучи в
здравом уме и трезвой памяти — он знает, что оно и без него все знает и без
него все ему даст, чего он заслуживает и что ему положено, если эта его
потребность — не плод воображения. Так что подобные вспомогательные
средства следует принимать только за то, что они есть на самом деле, и не
ставить в один ряд с безусловно требуемыми моральным законом
действиями. Исполнение их не требуется, но только рекомендуется тому, кто
сам чувствует в них потребность; они суть не столько повеление, сколько
разрешение. Всякое откровение, приравнивающее их к моральным законам,
определенно не от Бога; ибо ставить что бы то ни было в один ряд с
требованиями морального закона противоречит этому закону.
Но какие же действия подобных средств на нашу моральную
природу вправе обещать нам откровение: только естественные или
сверхъестественные, то есть такие, которые не связаны необходимо с этими средства-,
ми по законам природы как действия с их причинами, но производятся в
случае употребления этих средств некой сверхъестественной причиной вне
нас? Давайте допустим на миг последнее, а именно, что наша воля
определяется какой-то сверхъестественной причиной вне нас сообразно
моральному закону. Но никакое волеопределение, если оно совершается не из
свободы и не посредством свободы, не будет сообразным моральному закону.
Следовательно, наше допущение противоречит самому себе, и всякий
поступок, который явился бы результатом такого определения, не был бы
моральным, а значит, не мог бы иметь ни малейшей заслуги, не стал бы для
нас источником уважения или счастья. Мы были бы в этом случае
машинами, а не моральными существами, и совершенный таким способом
поступок был бы в ряду наших моральных действий просто нулем. Но даже если
бы нам и пришлось признать все это — мы вынуждены это сделать, — все
же к этому можно было бы кое-что добавить: подобное волеопределение
могло бы быть произведено в нас благодаря применению тех средств вовсе
не для того, чтобы повысить нашу моральность, что конечно же
невозможно, но для того, чтобы благодаря сверхъестественно произведенному в нас
действию создать некий ряд в чувственном мире, который стал бы сред-
192
Опыт критики всякого откровения
ством для определения других моральных существ по законам природы,
причем мы сами выступали бы, разумеется, просто как машины. Что же до
того, кем скорее воспользуется Бог для этой цели — нами или кем
другим, — будет зависеть от условий употребления того средства.
Не будем пускаться сейчас в обсуждение вопроса, какую ценность
для нас имело бы то, что именно мы использовались бы в качестве машин,
способствующих благу или что это были бы другие машины; ибо и в этом
отношении ни одно откровение не может дать общезначимых обещаний
такого рода: в самом деле, ведь если бы каждый, выполнив указанное
условие, приводил бы тем самым в действие в себе чуждую, сверхъестественную
причинность, этим упразднялись бы не только все законы природы вне
нас, но и всякая моральность в нас. Мы не вправе, конечно, отрицать, что
могли быть особенные случаи, когда подобные действия входили в
божественный план, — если мы не отрицаем принцип откровения вообще. Мы
не вправе также отрицать, что некоторые из этих действий могут быть
связаны со своими условиями как со своего рода инструментами, — мы
просто не можем этого знать. Но если в каком-то откровении есть рассказы,
предписания или обещания, касающиеся этих средств, то они
принадлежат к внешней форме откровения, а не ко всеобщему его содержанию. Во-
леопределение, совершаемое сверхъестественными причинами вне нас,
упраздняет моральность; поэтому всякая религия, которая при каких бы то
ни было условиях обещает подобные волеопределения, противоречит
моральному закону, а значит, безусловно, не от Бога.
Выходит, следовательно, что откровение может обещать только
естественные следствия, порождаемые указанными средствами. Пока мы
говорим о средствах, возбуждающих добродетель, мы остаемся в пределах
понятия природы. Само средство принадлежит к чувственной природе; то,
что должно быть определено с помощью этого средства, есть чувственная
природа в нас; наши неблагородные склонности должны быть ослаблены и
подавлены; более благородные должны быть подкреплены и возвышены;
моральное волеопределение должно не совершаться благодаря им, а
только облегчаться. Таким образом, все должно быть необходимо связано здесь
как причина с действием, и эта связь должна ясно усматриваться. Мы не
утверждаем, разумеется, что эту связь должно показывать откровение.
Задача откровения — практическая, а подобная дедукция есть дело теории и
потому может быть предоставлено собственному размышлению каждого.
Откровение может удовлетвориться тем, чтобы указать нам на эти средства
как рекомендованные Богом. Надо только, чтобы такую
причинно-следственную связь можно было показать задним числом; ибо Бог, знающий
нашу чувственную природу, не может рекомендовать для ее улучшения
таких средств, которые не соответствовали бы ее собственным законам. И
7-645
193
И. Г. Фихте
потому всякое откровение, предлагающее средства к укреплению
добродетели, относительно которых нельзя будет указать естественного пути,
каким они могли бы способствовать добродетели, — такое откровение не от
Бога, по крайней мере постольку, поскольку оно это делает. Мы вправе
добавить сюда и такое ограничение: если подобные средства не вменяются в
обязанность, если от них не ожидают сверхъестественных действий, то
рекомендация их не противоречит морали, она просто пуста и бесполезна 26\
26* Отсюда, однако, не следует, что известное средство, бесполезное для
какого-то субъекта или даже для большинства, вообще ни для кого не может
быть полезно. В нынешние времена мы, как мне кажется, слишком далеко
зашли в нашем пренебрежении ко многим аскетическим упражнениям из
ненависти к злоупотреблениям, которые совершались в связи с ними в
прежние времена. Каждый, кто когда-нибудь работал над собой, знает, что
подавлять свою чувственность, даже и тогда, когда ни один закон этого прямо
не предписывает, вообще хорошо и полезно, — хотя бы только для того,
чтобы ослаблять ее и самому становиться свободнее.
§12
КРИТЕРИИ БОЖЕСТВЕННОСТИ ОТКРОВЕНИЯ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ
ЭТОГО СОДЕРЖАНИЯ
Поскольку откровение вообще уже
по самой своей форме существует ради потребностей чувственности,
постольку весьма вероятно, что оно опустится до чувственности и в своем
способе изложения, — для этого только нужно доказать, что чувственность
имеет в этом особую потребность. В то же время такая вещь как способ
изложения есть нечто настолько малосущественное и малохарактерное для
откровения, что мы даже не можем требовать a priori, — как это было
показано выше, — чтобы откровение вообще имело какое-либо содержание,
чтобы оно вообще делало что-либо сверх возвещения Бога как автора
морального закона.
Чувственность вообще в силу сопротивления склонности всегда
более чем готова признать исполнение морального закона невозможным и
повеление его обращенным не к себе. Так вот, откровение ясно и
недвусмысленно обращает этот закон к чувственности; впрочем, голос долга и
без того всегда говорит в чувственном человеке, только он плохо слышен за
криками желания, заглушён ложными понятиями, которые это желание
производит во множестве, невнятен, когда должен говорить человеку о его
собственных поступках, хотя в сфере собственно рассудка этот голос
повелевает. Но и самый грубый, самый нечувствительный человек слышит его,
когда речь идет об оценке такого поступка, при котором его склонность ни
с какой стороны не затрагивается. И даже если только при таких
обстоятельствах он начнет различать его, если только в этих случаях голос долга
будет пробуждаться в нем от обычного бездействия и он станет узнавать его
ближе и привыкать к нему, — рано или поздно человек этот все равно
начнет и в себе ненавидеть то, что отталкивает его в других, в конце концов
захочет сам стать таким, какими он хотел бы видеть других. Нелепость
желания, чтобы все вокруг меня было справедливо и чтобы при этом я один
оставался несправедлив, слишком бросается в глаза, чтобы хоть один
человек захотел себе в таком желании признаться. Так доведем же его до того,
чтобы каждый раз, как он совершит несправедливость, он вынужден был
бы в этом признаваться! Как этого достичь? С помощью моральных
примеров. Значит, откровение может облечь свою мораль в притчи, и чем боль-
7»
195
И. Г. Фихте
ше, тем лучше оно будет отвечать человеческой потребности. Пусть к
несправедливым деяниям оно вызывает презрение, а к справедливым —
особенно таким, для свершения которых потребовались большие жертвы и
усилия, — всеобщее восхищение и желание им подражать.
Что откровение имеет полное право преподносить свое
нравственное учение в таком виде, не подлежит никакому сомнению, так же как и то,
что представленные им в качестве образцовых поступки должны быть
чисто моральными; из самой цели откровения следует, что оно не должно
превозносить двусмысленные или тем более откровенно дурные поступки
как хорошие, а совершающих их людей превозносить как образец для
подражания. Всякое откровение, которое делает это, противоречит моральному
закону и понятию Бога, и потому не может быть божественного
происхождения.
Всякое откровение должно представлять идеи разума: свободу, Бога,
бессмертие. Что человек свободен — этому учит каждого непосредственно
его самосознание; и он сомневается в этом тем менее, чем менее он
извратил умствованием свое естественное чувство. Возможность всякой
религии и всякого откровения предполагает свободу. Поэтому представлять эту
идею чувственно обусловленному разуму не есть дело откровения, да ни
одному откровению и не приходится это делать, — достаточно снять
фиктивные диалектические возражения против нее: ведь оно не умствует, а
повелевает и обращается не к умствующим, а к чувственным субъектам. Но
вот идея Бога — это уже дело откровения. Мыслить Бога подчиненным
условиям чистой чувственности — во времени и пространстве — вынужден
всякий, кто хочет его мыслить, если он — человек. Мы можем быть сколько
угодно убеждены, что эти условия для него не подходят, можем сколь
угодно тонко это доказывать, все равно эта ошибка вкрадется к нам незаметно
еще в самом ходе доказательства. Вот мы хотим мыслить Бога как нашего
современника в настоящем, и не можем не примысливать его в том месте,
где мы находимся; мы хотим мыслить Бога предвидящим наши грядущие
судьбы, наши свободные решения, и мы мыслим его так, будто из времени,
в котором он теперь есть, он прозревает время, в котором его еще нет. К
таким представлениям должно приспосабливаться изложение всякой
религии; ибо она должна обращаться к людям и не может говорить никаким
другим языком, кроме человеческого. Но эмпирической чувственности
нужно еще больше. Внутреннее чувство, эмпирическое самосознание
подчинено условию восприятия многообразия постепенно и последовательно,
когда одна часть присоединяется к другой, и невозможно воспринять чего-
либо, что не отличалось бы от предыдущих моментов, а потому
эмпирическое сознание не может замечать ничего, кроме изменений. Его мир есть
беспрерывная цепь модификаций. Под этим условием оно будет мыслить и
196
Опыт критики всякого откровения
самосознание Бога. Вот, например, человеку нужен свидетель чистоты его
помыслов при принятии известного решения. Бог заметил, — так станет
он думать про себя, — что происходило в моей душе. Или вот он устыдился
какого-то неморального поступка; его совесть напоминает ему о святости
законодателя. Наверное, он обнаружил всю мою испорченность,
проявившуюся в этом поступке, — думает человек. Но ведь он заметит и раскаяние,
которое я сейчас испытываю, — продолжает человек про себя. Вот он
принимает уже по-настоящему твердое решение работать отныне со всем
тщанием над своим совершенствованием. Он чувствует, что ему недостает на
это сил. Он борется с собой и, слишком слабый в борьбе, в поисках
помощи обращается с молитвой к Богу. Бог прислушается к моей слезной
неустанной мольбе, — думает он, — и решит мне помочь. Во всех этих случаях
человек мыслит себе Бога так, будто сам может влиять на него. Он
предполагает в Боге аффекты и страсти, чтобы Бог мог принять участие в его
собственных; сострадание, сожаление, милосердие, любовь, удовольствие и
т.п. Высшая или глубочайшая ступень чувственности, которая все
подчиняет условиям внешнего чувства, требует еще большего. Она хочет
телесного Бога, который в самом прямом смысле видел бы ее поступки, слышал
бы ее слова, с которыми она могла бы беседовать, как со своим другом.
Может ли откровение снизойти до таких потребностей — об этом нечего и
спрашивать; но вот вправе ли и насколько далеко оно вправе заходить
здесь — на этот вопрос должна дать ответ критика откровения.
Цель всех поучений подобного рода — способствовать чистой
моральности и такому ее изложению, при котором она получает чувственное
воплощение, в особенности способствовать чистой моральности в
чувственном человеке. И поскольку чувственное воплощение совпадает с этой
целью, постольку откровение может быть божественным; если же оно
противоречит такой цели, откровение безусловно не божественно.
Чувственное воплощение понятия Бога может противоречить
моральным свойствам Бога и, следовательно, всякой моральности вообще,
во-первых, непосредственно, а именно, когда Бог наделяется такими
страстями, которые прямо противны моральному закону, когда ему
приписываются, например, гнев и мщение из своеволия, предвзятая любовь или
ненависть, основанные не на моральности объектов этих страстей, а на чем-
либо другом. Такой Бог не был бы образцом для нашего подражания, не
был бы существом, достойным нашего уважения, — он был бы лишь
предметом трусливого, до отчаяния доводящего страха. Но это ведь
противоречит уже форме всякого откровения, требующей, чтобы законодателем был
святой Бог. А вот если бы Богу приписывалось, например, живое
негодование по поводу неморального поведения конечных существ, это отнюдь не
противоречило бы моральному понятию Бога; ибо это всего лишь чув-
197
И. Г. Фихте
ственное изображение необходимого действия Божьей святости, действия,
которое для нас непознаваемо в том виде, в каком оно есть в Боге. И если в
каком-нибудь языке, не имеющем определенных слов для более тонких
модификаций аффектов, это негодование было бы названо гневом, то и
это, будучи понято в духе людей, говорящих на этом языке, не
противоречит понятию Бога. Опосредованно же будет противоречить моральности
всякое чувственное изображение Бога в том случае, если оно будет
представлено как объективно значимое, а не как простое снисхождение к нашей
субъективной потребности. Ибо из всего,- что значимо по отношению к
объекту самому по себе, я могу делать выводы и на их основании далее
определять объект. Но если мы станем делать выводы, исходя из какого бы
то ни было чувственного условия Бога, считая последнее объективно
значимым, мы с каждым шагом все больше будем вступать в противоречие с
его же моральными свойствами. Так, например, если Бог действительно
видит и слышит, он должен получать и удовольствия посредством этих
чувств; в таком случае мы вполне можем доставить ему чувственное
удовольствие, вполне возможно, что запах сжигаемых жертв или
выставляемых на алтарь яств действительно нравится ему27*, и тогда у нас есть
средство угодить ему кое-чем другим кроме моральности.
Если мы действительно можем определять Бога через наши
ощущения, склонять его к состраданию, к милосердию, к радости, тогда он уже не
Неизменный, Самодостаточный, Вечно Блаженный, тогда он определим
чем-то еще помимо морального закона; тогда мы вполне можем надеяться,
что, стеная и сокрушаясь, заставим его обойтись с нами иначе, нежели
заслуживает того степень нашей моральности. Поэтому все-подобные
чувственные изображения божественных свойств должны сообщаться не как
объективно значимые; не должно оставаться никакой двусмысленности
насчет того, устроен ли Бог таксам по себе или же, снисходя к нашим
чувственным потребностям и в помощь им, он позволяет нам так его
мыслить41. Но за исключением этого одного условия мы не можем
предписывать ни одному откровению априорных законов, определяющих,
насколько далеко вправе оно заходить в чувственном воплощении понятия Бога:
это целиком зависит от эмпирически данных потребностей эпохи, для
которых оно в первую очередь и предназначено. Если, к примеру, какое-то
27' О том, что евреи в древние времена действительно делали подобные
выводы, свидетельствуют выступления пророков против этого заблуждения;
что они и в новейшие времена не поумнели, доказывают до смешного
ребяческие представления о Боге, содержащиеся в их талмуде: виновата ли в
этом их религия или они сами, мы здесь выяснять не будем. Но откуда
взялась у многих христиан средних и новейших веков столь безумная мысль,
будто известные возгласы, например, "Господи, помилуй", "Отче Господа
нашего Иисуса Христа" и т.п. —нравятся Богу больше, чем другие?
198
Опыт критики всякого откровения
откровение, чтобы, с одной стороны, удовлетворить всем потребностям
грубейшей чувственности, а с другой стороны, сохранить понятие Бога во
всей его чистоте, представит нам некое вполне чувственно обусловленное
существо как отпечаток моральных свойств Бога, поскольку они отнесены
к людям как воплощенный практический разум (koyov) и одновременно
Бога людей, то у нас еще не будет оснований отказать такому откровению,
или даже только этому изображению его в божественном происхождении.
Лишь бы только это существо представлялось так, чтобы соответствовать
указанной цели, и лишь бы эта подмена не утверждалась как объективно
значимая, но была бы представлена как простое снисхождение к
чувственности, которая в нем нуждается 28*, и лишь бы, что и следует из
вышесказанного, каждому была предоставлена свобода пользоваться этим
представлением или нет, в зависимости от того, находит ли он для себя в этом
моральную пользу. Итак, только такое откровение может быть
божественного происхождения, которое придает антропоморфному Богу не
объективную, а субъективную значимость.
Понятие бессмертия души основывается на абстракции, которую
чувственность, в особенности самая глубокая ступень чувственности,
сделать не в силах. Своя собственная личность для каждого достоверна
непосредственно через самосознание; "Я есмъ " и "Я есмъ самостоятельное
существо" — этого человек не позволит отнять у себя никакими
умствованиями. Но вот какие из определений этого его # чистые, а какие
эмпирические, какие даны внутреннему чувству или внешнему и через них, а
какие — через чистый разум, какие из них существенны, а какие всего лишь
случайны и зависят лишь от его нынешнего положения — этого он не
различает и различить не способен. До понятия души как чистого духа он,
может быть, и никогда не дойдет; а если дать ему это понятие в готовом виде,
то, как правило, он не получит ничего, кроме слов, не имеющих для него
никакого смысла. Так что он не может мыслить продолжения
существования своего Я иначе, как вместе со всеми его нынешними определениями.
Поэтому если откровение хочет снизойти до этой его слабости, — а оно
всегда будет почти принуждено к этому, чтобы стать понятным, — оно
облечет эту идею в тот единственный образ, в каком человек только и может
ее помыслить, и представит ее как продолжение существования всего, что
он сейчас причисляет к своему Я; поскольку же он с очевидностью
предвидит, что какая-то часть этого в будущем обречена на гибель, — постольку
откровение представит ее как воскресение 29*. А осуществление полного
28'" Видевший Меня видел Отца"42 — Иисус сказал это не прежде, чем
Филипп потребовал от Него показать ему Отца.
29* Что Иисус, например, имел в виду именно бессмертие, когда говорил о
воскресении, и что оба понятия в то время понимались как совершенно
равнозначные, явствует не только из его речей об этом предмете, приводимых у
199
И. Г. Фихте
согласия между моральностью и счастьем предстанет в виде картины
всеобщего допроса и Судного дня, с распределением наказаний и наград.
Но откровение не вправе выдавать эти образы за объективные истины.
Правда, не надо думать, что, если мы примем эти чувственные
изображения за объективно значимые, то из этого последует такое же прямое
противоречие морали, какое следует из объективной антропоморфности
божества. Причина этого следующая. Бог целиком сверхчувствен; понятие
о нем возникает только и исключительно из чистого разума a priori. Нельзя
искажать это понятие, не искажая одновременно принципов разума.
Однако понятие бессмертия — не чистое понятие, выводимое из
разума, оно предполагает возможный опыт, — а именно, что существуют
конечные разумные существа, действительность которых не дается
непосредственно чистым разумом. Поэтому чувственное представление
бессмертия могло бы претендовать на то, чтобы выводить свою объективную
значимость либо из конечности моральных существ, либо из их моральной
природы. В первом случае это не будет противоречить принципам морали,
ибо доказательство должно будет вестись из теоретических принципов,
которые с моральными не пересекаются. Во втором случае доказательство
должно будет вестись исходя из свойств, общих для всех моральных
существ, следовательно, также и для Бога; таким образом, сам Бог оказался
бы привязанным к законам чувственности, результатом чего явились бы
все возможные противоречия с моралью. Морали совсем не противоречит
то, что Я, человек с земным тленным телом, не могу существовать иначе,
чем с подобным телом, и, более того, — с тем же самым телом, которым я'
обладаю сейчас; что это тело, в силу каких-то, предположим, лежащих в
его природе причин, должно сначала на какое-то время подвергнуться
разложению и только потом снова может соединиться с моей душой и т.д. Но
морали будет противоречить утверждение, что Бог связан подобным
условием, ибо в таком случае его природа будет определяться чем-то иным
помимо морального закона. Поскольку, однако, этот пункт при утверждении
Иоанна, где он несколько раз говорит о беспрерывном продолжении
существования своих приверженцев, не прибегая к образу воскресения, но,
впрочем, и не вдаваясь в различение между душой и телом и не обращая
внимания на возможное возражение — телесную смерть43. Это
становится совершенно очевидным, помимо прочего, из его доказательства
Kap'érH)p(i)jtov (применительно к человеку; греч.) против саддукеев44.
Приведенное им речение Бога — если в остальном наше рассуждение было
правильно — не доказывает ничего, кроме продолжения существования
Авраама, Исаака и Иакова во времена Моисея, но никак не может быть понято
как доказательство собственно воскресения плоти. Саддукеи
удовлетворились этим доказательством Иисуса, из чего следует, что и они именно так
понимали дело и отрицали не просто телесное воскресение, но бессмертие
вообще45.
Противоречия, возникшие в результате слишком грубого
представления этого учения, вынудили уже Павла заняться его более точным
определением.
200
Опыт критики всякого откровения
объективной значимости понятия воскресения вполне может оставаться
нерешенным, постольку и из этого утверждения самого по себе еще не
следует ничего, противного морали.
Однако подтвердить правомерность такого объективного
утверждения нечем и доказать его нельзя. Божественный авторитет тут не поможет,
ибо откровение опирается на авторитет Бога лишь как святого; а из
моральной природы Бога подобное условие нашего бессмертия невыводимо
потому, что в противном случае оно должно было бы так же
непосредственно выводиться из чистого разума a priori. Откровению вообще нечего
делать с теоретическими доказательствами, — стоит ему ими заняться, и
это уже не религия, а физика, которая уже не вправе требовать веры, но
обязана принуждать к убеждению, а убеждение действует лишь до тех пор,
пока хватает доказательств. Но теоретическое доказательство воскресения
невозможно, поскольку в этом понятии должно быть сделано заключение
от чувственного к сверхчувственному.
Итак, только такое откровение может быть божественным, которое
дает чувственно воплощенное изображение нашего бессмертия и морального
суда Божия над конечными существами не как объективно, а как
субъективно значимое (то есть не для людей вообще, а только для тех чувственных
людей, которые нуждаются в подобном изображении). Если же оно совершает
первое, то на этом основании еще нельзя отказать ему в возможности
божественного происхождения вообще, ибо подобное утверждение не
противоречит морали, оно просто невыводимо из ее принципов; однако, по крайней мере,
в том, что касается этого утверждения, откровение не божественно.
Придает ли откровение своим чувственно воплощенным
представлениям чистых идей разума объективную или только субъективную
значимость, можно узнать — даже если в самом откровении это не выражено
специально, поскольку это все-таки желательно во избежание
всевозможных недоразумений, — из того, строит ли оно на них выводы или нет. Если
да, тогда очевидно, что оно придает им объективную значимость.
Так как эмпирическая чувственность, согласно своим особым
модификациям, изменяется у различных народов и в различные эпохи, и
поскольку под влиянием хорошего откровения она должна все больше
уменьшаться, постольку это будет критерием хотя и не божественности
откровения, но все же его возможного предназначения для многих эпох и народов,
если тела, в которые облечен дух, будут скреплены не слишком прочно и
крепко, если это будут лишь легкие очертания, которые без труда можно
приспособить к духу самых разных народов и времен. То же самое относится
и ко всем рекомендуемым в откровении средствам поощрения и укрепления
моральности. Под руководством мудрого откровения, находящегося в
мудрых руках, и то и другое должно все больше освобождаться от примеси
грубой чувственности, ибо в ней должно будет оставаться все меньше нужды.
201
§13
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК
ЭТИХ КРИТЕРИЕВ
Оыдвинутые нами критерии суть
условия возможности применения нашего априорного понятия
откровения к некоему чувственно данному явлению, с тем чтобы судить,
откровение это или нет. Это не условия применения понятия вообще — об этом
пойдет речь только в следующем параграфе, — но условия его применения
к определенному данному опыту. Чтобы удостовериться в том, что мы не
упустили ни одного из таких условий и что, кроме приведенных нами, их
больше нет (ведь если бы мы, напротив, выдвинули лишние, которые в
действительности не являются таковыми, это тотчас выяснилось бы, ибо
мы не смогли бы вывести их из понятия откровения), нам надо, держась
какой-нибудь путеводной нити, еще раз произвести обзор всего этого
понятия на предмет обнаружения всех его определений; а такая путеводная
нить — для всех возможных понятий — есть таблица категорий.
Понятие откровения есть понятие о таком явлении в чувственном.
мире, которое по своему качеству должно производиться непосредственно
божественной причинностью. Таким образом, критерием явления,
отвечающего этому понятию, будет то, что оно произведено без помощи каких-
либо средств, противоречащих понятию божественной причинности, а
таковыми будут все неморальные средства. По своему субъективному
количеству (ибо объективное количество не дает нам собственно критерия — на
нем только основывается воспоминание о том, что несколько откровений
могут быть даны одновременно у удаленных друг от друга народов) это
явление должно быть значимым для всех чувственных людей, которые в
нем нуждаются. Таким образом, наличие людей, нуждающихся в
откровении, является условием всякого конкретно данного откровения. Таковы
критерии откровения с точки зрения его внешней формы. Они являются
результатом математических определений46 понятия откровения, как это и
должно быть по самой природе дела.
С точки зрения категории отношения это явление в своем понятии
будет отнесено к цели, каковой является содействие чистой моральности.
Это значит, что всякое конкретно данное откровение должно иметь в виду
эту цель (и это должно быть доказуемо), хотя необязательно, чтобы оно
202
Опыт критики всякого откровения
этой цели достигало, ибо это противоречило бы самому понятию
моральных, то есть свободных существ, в которых только и может быть
осуществлена моральность. Но способствовать достижению этой цели в
чувственных существах возможно только одним способом: через возвещение Бога
как морального законодателя; и послушание этому законодателю будет
моральным только тогда, когда будет основываться единственно на
представлении о его святости. Это возвещение и одновременно чистота
выдвигаемого откровением мотива требуемого послушания составляют, таким
образом, критерий всякого откровения.
Наконец, с точки зрения модальности мы допустили откровение в
его понятии только как возможное; и поскольку это к самому понятию как
таковому ничего не добавляет, но обозначает только отношение этого
понятия к нашему рассудку, постольку отсюда не может быть получено
какое-либо условие применения понятия к некоему конкретно данному
откровению, то есть какой-либо критерий откровения. А вот что следует
отсюда для возможности применять его вообще — это мы увидим в
следующем параграфе.
Таковы критерии откровения с точки зрения его формы, но
поскольку сущность откровения как раз и состоит в особой форме уже a priori
наличной материи, то это — единственно существенные для него критерии;
и, помимо приведенных нами, никаких других быть не может, ибо в
понятии откровения не содержится больше никаких определений.
Материя откровения дана a priori чистым практическим разумом и
сама по себе подчиняется той же самой критике, что и он. Поскольку она
рассматривается как материя откровения, единственным ее критерием, —
с точки зрения как содержания, так и изложения, модифицирующего
содержание, — будет полное ее согласие с высказыванием практического
разума. С точки зрения качества необходимо, чтобы откровение высказывало
то же, что и разум; чтобы оно не претендовало сказать больше, чем
практический разум (ибо невозможно, чтобы в нем говорилось меньше:
откровение должно выдвигать такой принцип, в котором содержится все, могущее
стать содержанием религии, хотя бы и не в развернутом виде). С точки
зрения отношения оно должно быть подчинено единственному моральному
принципу и должно все выводить из последнего; с точки зрения
модальности материя откровения должна выступать не как объективная, а как
субъективная, общезначимая. Теперь, после всего сказанного, набросать
таблицу всех критериев всякого возможного откровения по порядку
категорий не составит ни малейшего труда.
203
§14
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТЬ НЕКОЕ ДАННОЕ
ЯВЛЕНИЕ ЗА БОЖЕСТВЕННОЕ ОТКРОВЕНИЕ
С/ обственно, до сих пор мы
установили только одно — полную мыслимость откровения вообще, то есть
непротиворечивость понятия такого откровения. А так как в этом понятии
постулируется некое явление в чувственном мире, то необходимо
установить условия, при которых это понятие применимо к какому-либо
явлению. Такими условиями и были найденные с помощью анализа
определения понятия, которое предстоит применять.
Но вот чего мы еще не успели, более того, — к чему мы не наметили
даже еще и возможных подходов, — это удостоверить реальность вне нас,
соответствующую этому понятию, чего требует сама его природа. В самом
деле, если какое-то понятие дано a priori как применимое в чувственном мире
(как, например, понятие причинности), то достаточно доказать, что оно
дано, чтобы удостовериться тем самым и в его объективной значимости. Если
же понятие лишь создано a priori, как, например, понятие треугольника или
Пегаса, то сама конструкция его в пространстве непосредственно
гарантирует ему реальность, и суждение типа: "это треугольник" или "это Пегас" —
означает не что иное, как суждение: "это — изображение понятия, которое я
себе создал". В подобном суждении уже предполагается, что к реальности
данного понятия не относится ничего, кроме самого понятия, и что только
его следует рассматривать как достаточное основание всего, что ему
соответствует. Однако в a priori созданном понятии откровения для
удостоверения его реальности предполагается еще и нечто иное, а именно: наличие в
Боге понятия, подобного нашему. Категорическое суждение: "это
откровение" не означает просто, что данное явление в чувственном мире есть
изображение одного из моих понятий, но означает, что оно есть изображение
некоего божественного понятия, соответствующего одному из моих
понятий. Чтобы сделать правомерным подобное категорическое суждение, то
есть чтобы гарантировать понятию откровения реальность вне нас, нужно
доказать, что это понятие имело место в Боге и что известное явление есть
преднамеренное изображение этого понятия.
Подобное доказательство могло бы вестись либо a priori, либо а ро-
204
Опыт критики всякого откровения
stdriori. В первом случае нужно было бы в самом понятии Бога отыскать
необходимость того, чтобы он не только имел понятие об откровении, но и
желал бы создать его изображение. Это аналогично тому, как из
обращенного к Богу требования морального закона даровать вечность конечным
существам, чтобы они могли исполнить повеление закона, вечно
сохраняющее свою силу, мы с необходимостью должны заключить, что понятие
о бесконечной длительности конечных моральных существ существует не
только как понятие в Боге, но должно быть реализовано Богом и вовне. Без
особых напоминаний понятно, что такого сода доказательство — конечно,
только субъективное, но зато общезначимое — давало бы очень много,
даже больше того, что мы хотели: вне зависимости от всякого чувственного
опыта оно давало бы нам право допустить абсолютное существование
откровения независимо от того, будет ли существовать в чувственном мире
явление, соответствующее его понятию, или нет. Но такое доказательство
невозможно: в этом мы уже убедились раньше. В самом деле, мы имеем о
Боге только моральное понятие, данное чистым практическим разумом.
Если бы в нем было нечто такое, что позволило бы нам приписать Богу
понятие откровения, то тем самым нам было бы дано одновременно и само
понятие откровения, причем было бы дано a priori. Но выше мы уже
пытались отыскать в чистом разуме такую данность — и тщетно; именно потому
мы и пришли к выводу, что понятие откровения — не данное, а всего лишь
созданное.
Это доказательство могло бы вестись и a posteriori. В таком случае
надлежало бы показать из определений данного в природе явления, что его
- могла бы произвести только непосредственная божественная
причинность, а эта последняя могла бы действовать не иначе, как согласно
понятию откровения. Однако не нужно и объяснять, что подобное
доказательство бесконечно превосходило бы силы человеческого духа: ибо
достаточно только назвать требования подобного доказательства, чтобы отпугнуть
наш дух от этого предприятия; впрочем, и это будет, пожалуй,
излишним, — об этом уже шла речь выше30*.
30* В то же время нельзя отрицать, что в человеческой природе заложено
всеобщее, непреодолимое стремление заключать от непостижимости
какого-либо события по природным законам к его существованию в силу
непосредственной божественной причинности. Это стремление происходит из
стоящей перед нашим разумом задачи отыскать для всякого
обусловленного полную совокупность условий. И если мы, будучи почему-либо не в силах
продвигаться дальше в этих поисках условий, перейдем сразу к
необусловленному (или — что то же самое — к первому условию всякого
обусловленного), тогда мы тотчас же получим всю искомую совокупность и нам не
придется утруждать себя дальнейшими поисками. Поскольку, однако,
подобная поспешность заключения, стремление перескочить через
необозримый ряд условий, открывает слишком широкие просторы для всякого меч-
205
И. Г. Фихте
Теперь, после того как нам пришлось отказаться от надежды полуУ
чить строгое доказательство, можно было бы еще попытаться сделать недо(-
казуемое положение, по крайней мере, вероятным. Вероятность же
достигается тогда, когда мы обнаруживаем ряд оснований, который должен был
бы вести к достаточному основанию для данного положения, однако мы не
можем тем не менее указать как данное ни само это достаточное
основание, ни то, которое служило бы для него достаточным основанием, и т.д.:
чем ближе к этому достаточному основанию нашего положения, тем выше
будет степень вероятности. Так вот, приниматься за поиски этого
достаточного основания можно было бы либо a priori (спускаясь от причин к
действиям), либо a posteriori (поднимаясь от действий к причинам). В
первом случае следовало бы выявить в Боге такое свойство, которое — если бы
к нему присоединялось еще и некое основание к определению — выявить
невозможно; оно побуждало бы Бога осуществить понятие откровения.
Осуществить не вообще, ибо выше, в § 7, мы нашли, что это побуждение
заложено уже в определении нравственным законом к тому, чтобы
распространять вовне себя моральность всеми возможными средствами, — а в
соответствии с эмпирически данными определениями именно этого
особенного откровения. Так, например, от мудрости Божией по аналогии, зная
способ ее воздействия (то есть связавши это априорное понятие с опытом), мы
можем заключить — но не доказать, ибо против этого могут существовать
доводы, которых мы не знаем, — что конечные существа, обладающие
телами, правда, все более утончающимися телами, будут продолжать свое
существование. Однако, не говоря уже о том, что в силу своего устройства дух'
наш не может признать за чем-либо ни малейшей истинности на
основании одних только вероятных априорных доводов, мы, кроме того, никогда
не сможем отыскать в Боге подобного определения. Во втором случае (то
есть в случае доказательства a posteriori) следовало бы одну за другой
устранять все причины, на основании которых могло бы произойти известное
событие, не считая божественной причинности, пока их не останется всего
одна или две. Тогда мы, во всяком случае, попадем в тот ряд оснований, ко-
тательства и всевозможных нелепостей, постольку следует без малейших
колебаний выступать против нее при всякой возможности. И только в том
случае, если мы уже заранее узнали, что объяснение известного события из
божественной причинности будет иметь последствия не вредные, а, даже
напротив, полезные для моральности, — только в этом единственном случае
можно было бы, пожалуй, немного отступить от столь необходимой во всех
остальных случаях строгости, обуздывающей наш разум, и, пойдя навстречу
стремлению человеческого духа, предоставить в этом пункте место
благодетельной вере, пусть даже будет доказуема ее недостоверность — не правда
ли? (1-е изд.)
206
Опыт критики всякого откровения
торые позволяют признать для известных явлений в чувственном мире
божественную причинность. Ибо, рассуждая теоретически, первое
основание в пользу происхождения известного события от непосредственного
воздействия Бога — это невозможность для нас объяснить его
возникновение из естественных причин. Однако это всего лишь первый член ряда,
протяженность которого нам неизвестна, и эта протяженность сама по се-
белто всей вероятности, немыслима для нас, так что в конечном счете этот
пеовый член исчезает, растворяясь в ничто, на фоне бесконечного
множества подобных. Таким образом, мы не в состоянии привести даже вероят-
нымоснований, которые давали бы нам право на категорическое суждение
о тоЦ что нечто является откровением.
j На мгновение кому-нибудь может показаться, что эту вероятность
можйо обосновать, показав совпадение того, что похоже на откровение, с
его критериями. Однако если перед нами будет нечто, сходное с
откровением, и мы найдем, что к нему приложимы все критерии истинности
откровения, — какое суждение будем мы вправе произнести о нем? Все эти
критерии суть моральные условия, только при наличии которых — и
никоим образом помимо них — подобное явление может быть создано Богом
в соответствии с понятием откровения, но отнюдь не наоборот: не условия
действия, которое может быть произведено только Богом и сообразно
этому понятию. Будь они этим последним, они давали бы нам право, устраняя
причинность всех прочих существ, произнести суждение: "это есть
откровение". Поскольку, однако, они — всего лишь первое, постольку они дают
нам право лишь на суждение: "это может быть откровением". Иными
словами, если предполагается, что в Боге имеется понятие об откровении и
что он должен желать изобразить его в чувственном мире, то в данном
явлении нет ничего противоречащего предположению, что оно может быть
одним из подобных изображений. Так что в результате рассмотрения всех
этих критериев мы получаем только проблематическое суждение, что
нечто могло бы быть откровением; зато уже это проблематическое суждение
совершенно достоверно.
В этом суждении высказываются, собственно, две вещи. Во-первых,
вообще возможно, что Бог имел понятие откровения и должен был желать
изобразить его, — это ясно уже непосредственно из сообразности разуму
понятия откровения, в котором допускается такая возможность. И,
во-вторых, возможно, чтобы определенное явление, претендующее быть
откровением, было его изображением. Это последнее суждение может и по
справедливости должно быть высказано о всяком явлении, заявившем себя как
откровение, прежде его исследования; и именно в следующем смысле:
возможно, что оно отвечает критериям откровения. В этот момент (до
исследования) проблематическое суждение составляется из двух проблематиче-
207
И. Г. Фихте
ских. По завершении же исследования, если оно окажется в пользу явле/
ния> заявившего себя как откровение, первое будет уже не проблематиче/-
ским, а вполне достоверным: явление отвечает всем критериям
откровения. Поэтому отныне можно с полной уверенностью, не дожидаясь
дополнительных данных и не опасаясь ниоткуда никаких возражений,
утверждать, что оно может быть откровением. Таким образом, исследование1 с
точки зрения критериев дает нам именно то, что оно и может давать, — ßii-
вод, причем не вероятный, а совершенно достоверный, относительно Tof о,
может ли данное явление иметь божественное происхождение; но
исследование решительно ничего не говорит о том, действительно ли оно
таково, ибо этот вопрос перед данным исследованием вообще не ставился.
По завершении этого исследования в душе нашей устанавливается —
или, по крайней мере, должно установиться — полнейшее равновесие
между "за" и "против" в том, что касается категорического суждения; она
не склоняется еще ни в одну сторону, но при первом же случае готова
склониться в ту или иную. Ни один, даже малейший момент, который мог бы
склонить нас к отрицательному суждению, немыслим без противоречия
разуму; немыслимо ни строгое, ни достаточное для вероятного
предположения доказательство, ибо отрицательное доказательство здесь так же
невозможно, как и положительное, и по тем же самым причинам.
Невозможно и определение способности желания практическим законом, ибо
допущение откровения, содержащего в себе все критерии божественности, ни в
чем не противоречит этому закону. (Впрочем, вполне мыслимо определе-.
ние низшей способности желания склонностью, которая может настроить
нас против признания откровения. И, не впадая в грех нелюбви к
ближнему, можно допустить, что некоторые не желают признавать вообще
никакого откровения по причине такого определения, однако подобная
склонность очевидно противоречит практическому разуму.) Итак, должен быть
найден какой-нибудь момент для утвердительного суждения, в противном
случае мы будем вынуждены навсегда остаться в подобной нерешимости. А
так как и этот момент не может быть ни строгим, ни достаточным для
вероятного предположения доказательством, то он должен быть определением
способности желания.
В такое же положение мы уже попадали и раньше — в связи с
понятием Бога. Наш разум, ищущий для всякого обусловленного полную
совокупность его условий, привел нас в антологии к понятию всереальнейшего
существа, в космологии — к первопричине, в теологии — к разумному
существу, из понятий которого мы можем вывести целевую связь, которую
нашей рефлексии необходимо предполагать в мире повсюду. Нельзя было
обнаружить решительно никакой причины, по которой бы этому понятию
не могло соответствовать нечто и вне нас; но тем не менее наш теоретиче-
208
Опыт критики всякого откровения
схий разум не в силах был гарантировать ему такую реальность. Однако
закон практического разума поставил перед нами в качестве цели нашей во-
лишекую конечную цель, возможность которой становилась мыслима для
на1 только при допущении реальности понятия Бога. А поскольку мы этой
кожечной цели безусловно желаем и, следовательно, должны допустить ее
возможность также и теоретически, постольку нам придется допустить
одновременно и ее условия: существование Бога и бесконечную
длительность всех моральных существ. Здесь, таким образом, понятие, значимость
которого до сих пор была несомненно проблематична, было реализовано
не Посредством теоретических доказательств, но ради определения
способности желания.
Сейчас перед нами стоит точно такая же задача. А именно: в нашей
душе имеется некое понятие, само по себе вполне мыслимое; и после того
как в чувственном мире будет дано явление, имеющее все критерии
откровения, не может возникнуть уже решительно ничего, что противоречило
бы допущению этой его значимости. Невозможно, однако, привести ни
одного теоретического доказательства, которое уполномочивало бы нас
принять его значимость. Таким образом, она полностью проблематична.
Однако сразу бросается в глаза, что путь решения этой задачи не во
всем совпадает с путем решения той. В самом деле, понятие Бога было
a priori дано нашим разумом, было для нас совершенно необходимо как
таковое, и потому мы не могли просто так, по прихоти отклонить задачу
нашего разума решить что-нибудь определенное относительно его
значимости вне нас.-Напротив, для понятия откровения мы не можем привести
подобной априорной данности, так что вполне могло случиться, что мы или
вовсе не имели бы этого понятия, или могли бы спокойно отмахнуться от
вопроса о его значимости вне нас как совершенно бесполезного. Из того,
что оно не дано a priori, уже непосредственно следует, что невозможно
обнаружить какого-либо априорного волеопределения, которое определяло
бы нас к тому, чтобы предположить его реальность, потому что в таком
случае это волеопределение и было бы той самой априорной данностью,
которой нам недоставало. Это станет совершенно ясно, если вспомнить, что
возможность стоящей перед нами a priori конечной цели мыслима только
при допущении существования Бога и бесконечной длительности
конечных моральных существ. Но понятие откровения вовсе не имеет дела с
этими положениями с точки зрения их материи, скорее возможность его
самого уже предполагает их; речь идет скорее о принятии известной формы
подтверждения этих положений. Таким образом, из определений высшей
способности желания моральным законом нельзя вывести побудительный
момент к тому, чтобы принять значимость понятия откровения. Но, может
быть, удастся вывести его из определения низшей способности
209
И. Г. Фихте
желания посредством высшей и в соответствии с моральным законом?
Моральный закон прямо повелевает нам, невзирая на возможность ил^
невозможность, вообще или в отдельных случаях выступать в качестре
причины в чувственном мире. Высшая способность желания благодаря
этому получает определение безусловно хотеть добра и в свою очередь
определяет низшую способность желания (на которую действуют и
природные законы) хотеть средств к осуществлению упомянутого добра, хотя
бы в самой себе (в своей чувственной природе). Высшая способность
желания хочет просто цели, низшая — средств к ее достижению. Вспомним
теперь, что, согласно приведенному нами в § 8 разбору формальной функции
откровения, которая есть одновременно и единственная существенная его
функция, для чувственного человека, в котором склонность борется
против долга, одно из средств помочь последнему одержать верх над первой —
это представить себе законодательство святейшего существа в чувственных
условиях. Но такое представление и есть откровение. А значит, низшая
способность желания непременно должна при вышеуказанных условиях
желать реальности понятия откровения, а так как против этого не
существует никаких разумных доводов, то она и определяет душу к тому, чтобы
принять его как действительно реализованное, то есть допустить как
доказанное, что известное явление есть действительно преднамеренное
изображение понятия откровения, произведенное божественной
причинностью, и относиться к нему в соответствии с этим допущением.
Определение к тому, чтобы посредством низшей способности
желания хотеть реальности представления, предмет которого мы не можем соз- '
дать сами, есть не что иное, ткжелание, какою бы.причиной оно ни было
возбуждено; следовательно, в основе восприятия известного явления как
божественного откровения лежит всего-навсего желание и ничего больше.
А так как подобное обыкновение — верить во что-то потому, что сердце
этого желает, немало и не без оснований уже бывало порицаемо, то нам
придется прибавить еще лишь несколько слов с тем, чтобы если и не
доказать правомерность подобного обыкновения, то хотя бы отвести
возражения против него в настоящем случае.
Чтобы одно лишь желание могло дать нам право допускать
реальность его объекта, оно должно основываться на определении высшей
способности желания моральным законом и возникнуть благодаря ему.
Допущение действительности его объекта должно облегчать нам исполнение
нашего долга, причем не просто в том или ином случае, — речь идет
вообще о поведении, сообразном долгу. Надо также показать, что допущение
противоположного затруднило бы для желающего субъекта подобное
сообразное долгу поведение — и вот почему: лишь относительно такого рода
желания мы можем привести основания, почему нам вообще хочется пред-
210
Опыт критики всякого откровения
полагать реальность его объекта и почему мы не хотим просто махнуть ру-
ксй на этот вопрос. Выше мы показали уже достаточно ясно, что желание
откровения относится именно к такому разряду.
К этому критерию допустимости желаемого ради одного только
желания следует добавить еще второй критерий, — а именно полнейшую
уверенность в том, что при подобном допущении мы никак не можем впасть в
заблуждение, так что для нас это равносильно полнейшей истинности,
равносильно тому, как если бы никакое заблуждение вовсе не было здесь
возможно. Такая уверенность — причем в высшей степени сильная —
возникает при допущении откровения, имеющего в себе все критерии
божественности, то есть при допущении, что известное явление произведено
непосредственно божественной причинностью в соответствии с понятием
откровения. Ошибочность этого допущения мы никогда не сможем
обнаружить, даже если будем умнеть и развиваться целую вечность, и никто не
сможет нам ее доказать. Ведь для этого нужно было бы показать —
поскольку теоретическому разуму это допущение безусловно неподсудно, —
что оно противоречит практическому разуму, а именно данному им
понятию Бога. Но если бы это было так, мы бы уже и сейчас это видели, ибо
моральный закон для всех разумных существ один, на какой бы ступени
своего существования они ни стояли. Еще меньше может быть обнаружена
подобная ошибка позднейшим опытом, как это случается обычно с другими
человеческими желаниями, направленными главным образом в будущее.
Ибо каким-должен быть опыт, чтобы он мог открыть нам, что действие,
-полностью соответствующее понятию, в Боге не произведено
причинностью этого понятия? Это очевидно невозможно. Или каким был бы опыт в
случае действия божественной причинности, из отсутствия которого мы
могли бы заключить, что это не она?
Наше исследование дошло до такого пункта, дальше которого оно
идти не может: до усмотрения полной возможности откровения как
вообще, так и в частности — в определенном данном явлении. Для нас (для всех
конечных существ) исследование закрыто окончательно: в его конечном
пункте мы пришли к полной уверенности, что нет и никогда не будет
решительно никакого доказательства ни за, ни против действительности
откровения и что никогда ни одно существо не узнает, как тут вправду
обстоит дело, кроме одного только Бога. Наконец, если бы кто-нибудь
допустил — как единственный путь для нас узнать правду об этом деле, — что
сам Бог мог бы нам это сообщить, то это было бы новое откровение, насчет
объективной реальности которого у нас возникли бы все те же самые
сомнения, так что мы снова оказались бы точно там же, где были и до того. А
так как из всего сказанного можно заключить с полной уверенностью, что
для нас тут невозможно вообще никакое заблуждение и при этом определе-
211
И. Г. Фихте
ние способности желания побуждает нас высказать на этот счет
утвердительное суждение, то мы можем вполне уверенно последовать этому
определению зг.
Так вот, это допущение откровения, правомерно основывающееся
на определении способности желания, есть вера, которую в отличие от чи-
зи Давайте на примере от противного яснее представим все сказанное здесь
об условиях, позволяющих верить во что-то только потому, что сердце
желает этого. В самом деле, кто-нибудь мог взяться доказать, что в будущей
жизни возобновится общение бывших друзей, поскольку хорошие,
расположенные к дружбе люди желают такого возобновления. Но далеко он с
подобным доказательством не ушел бы. Можно, правда, сказать, что исполнение
самого тяжкого долга будет значительно облегчаться человеку, если он
знает, что его возлюбленный друг пребывает в вечности и что с каждой тяготой
он все прочнее гарантирует себе грядущее наслаждение блаженством
общения с покойным другом. Подобного рода мотивов можно было бы указать
здесь бесчисленное множество. Не стоит, однако, торопиться приписывать
им в силу этого объективную реальность: ведь они способствуют отнюдь не
чистой моральности, а всего лишь легальности, и потому наше стремление
вывести это сердечное желание из определения высшей способности
желания моральным законом — напрасный труд. Вообще, единственное
желание, которое с полным правом может претендовать на столь возвышенное
Ьроисхождение, — это желание отыскать следы божественного морального
правления во всей природе и по преимуществу в нашей собственной жизни,
|i в частности желание признать истинность откровения. Что касается
второго условия, то уже здесь в этом дольнем мире, мы можем представить себе
по аналогии достаточно много оснований, по которым подобное
воссоединение в будущей жизни противоречило бы цели. Так, например, если иметь
в виду цель всестороннего развития, то общение с бывшим другом, уже
исполнившим свою роль в нашем образовании, может быть совершенно
бесполезным, а то даже и вредным. Или, быть может, его присутствие нужнее и
полезнее для целого в одной связи, а наше — в другой и т.д. Предположение
о реальности этого желания отвечает только последнему условию. В самом
деле, в бесконечной длительности можно ожидать этого воссоединения,
если оно не приурочено к какой-то определенной точке этой длительности, и
таким образом опыт никогда не опровергнет его действительности.Впро-
чем, на том же самом основании невозможно доказать и обратное — что это
желание будет удовлетворено. И если нет других доказательств (одно,
вообще-то, есть, но и оно достаточно лишь для вероятного предположения), то
человеческой душе придется ограничиться здесь надеждой, то есть
мотивированной посредством определения способности желания склонностью
суждения ъодну сторону, когда речь идет о предмете во всех прочих
отношениях проблематичном.
В остальном же это предположение точно так же неопровержимо,
как и непосредственные постулаты практического разума — существование
Бога и вечная жизнь моральных существ. Продолжение нашего
существования есть само по себе предмет непосредственного опыта, однако
опровергнуть веру в продолжение существования с помощью опыта нельзя; ибо
когда мы не существуем, у нас не может быть никакого опыта. Далее, до тех
пор пока.мы, то есть моральные существа, продолжаем существовать, не
может быть поколсблена и вера в Бога. Ее нельзя поколебать ни с помощью
доводов (ибо на теоретические доводы она не опирается, ее подтверждает
вечно значимый закон практического разума), ни с помощью опыта; ведь
существование Бога никогда не может стать предметом опыта, а, следователь-
212
Опыт критики всякого откровения
сто разумной веры в Бога и бессмертие, направленной на нечто
материальное, мы назовем формальной, эмпирически обусловленной верой.
Различие между обоими видами веры и все то, что мы можем сказать
о втором из них, обнаружится из сопоставления состояния души при
каждом из них согласно порядку категорий.
Итак, по качеству вера в обоих случаях есть свободное допущение
реальности понятия, не вынужденное и не удостоверенное никакими
основаниями: понятия в первом случае данного, во втором — созданного, в
первом случае с целью отрицательного определения низшей способности
желания (§ 2) через высшую, во втором — ради положительного
определения низшей способности желания посредством того отрицательного. На
эти различия мы уже указывали и последствия их уже развили выше. Но
здесь обнаруживается и еще один новый момент. А именно: чисто
разумная вера просто допускает, что понятию, в данном случае понятию Бога,
вообще соответствует какой-то предмет вне нас (ибо веру в бессмертие
можно рассматривать как простое производное от существования Бога,
так что здесь не нужно уделять ей специальное внимание). Вера же в
откровение предполагает не только это, но также и соответствие этому понятию
некоторого данного явления. Таким образом, в последнем случае душа
продвигается, по-видимому, на шаг дальше и делает более смелое
предположение, нуждающееся в более основательном оправдании. На самом
деле, однако, это различие лежит в природе обоих понятий, и шаг, делаемый
во втором случае, не смелее, чем в первом. Действительно, понятие Бога
дано нам уже a priori полностью определенным, то есть настолько,
насколько оно вообще может быть определено нами, и никакой опыт и
никакие заключения, сделанные из допущения его существования, не могут
определить его дальше. Следовательно, единственное, что может дать его
реализация, — это допустить существование соответствующего ему
предмета; она не в состоянии ничего к нему прибавить, ибо этот предмет может
быть определен только этим единственным a priori данным способом.
Понятие же откровения подразумевает, что должен быть дан некий опыт, а
опыт как таковой, поскольку он, опыт, вовсе не может быть определен
но, из отсутствия такого опыта нельзя заключать о его несуществовании. Но
по тем же самым причинам эти положения никогда ни для одного
конечного существа не смогут стать предметом знания, но на веки веков должны
будут остаться предметом веры. Ибо для существования Бога мы никогда не
найдем других оснований, кроме моральных, поскольку никакие другие
невозможны. Что же касается нашего собственного существования, то хотя
мы и будем удостоверены в нем в каждый данный момент непосредственно
через наше самосознание, но ожидать его продолжения в будущем у нас не
будет никаких иных оснований, кроме моральных.
213
И. Г. Фихте
a priori, но должен быть принят как определимый самым разнообразным
способом a posteriori. Допускать его реализованным означает и может
означать не что иное, как мыслить его данным в полной определенности;
но эта полная определенность должна быть дана через опыт.
Следовательно, допущения реальности этого понятия вообще (in abstracto), не бывает;
оно может быть реализовано только через приложение к определенному
явлению (in concreto), а уже через это приложение происходит то же самое,
что и в чисто разумной вере: допускается, что априорному понятию
соответствует нечто вне его.
Что касается количества веры, то здесь может идти речь только о
субъективном количестве, ибо никакая вера не претендует на объективную
значимость, — в противном случае она не была бы верой. В этом
отношении чистая разумная вера общезначима для всех конечных разумных
существ, ибо она основывается на априорном определении способности
желания моральным законом к тому, чтобы желать чего-то с
необходимостью, и направлена на a priori данное чистым разумом понятие. Ее,
конечно, нельзя никому навязывать, поскольку она основана на определении
свободы, но можно от каждого требовать и каждому внушать. Что
эмпирически обусловленная вера не может претендовать на подобную
общезначимость — это ясно сразу же. Во-первых, она направлена на понятие, которое
не дано, а только создано a priori, и потому не находится необходимо в
человеческой душе. Если кто-то не обрел это понятие, то он не сможет и
допустить его изображения, так что мы напрасно станем предполагать в нем
такое допущение, поскольку не можем достоверно предположить, есть ли у
него само это понятие. Во-вторых, чтобы допустить изображение этого
понятия, душа определяется всего лишь желанием, основанным на
эмпирической потребности. Так что если кто-нибудь не ощущает в себе этой
потребности — исторически он может сколько угодно знать о том, что ее
ощущали другие, — в нем никогда не сможет возникнуть желание допустить
откровение, а следовательно, не возникнет и вера в него. Только в
единственном случае возможна, по крайней мере, мимолетная вера даже и без
ощущения в себе этой потребности: если кто-то, сам не нуждаясь в
откровении, вынужден воздействовать с его помощью на сердца других, в нем
нуждающихся. Живое, горячее и сообразное его долгу желание
распространять в меру своих сил моральность также и среди других людей,
соединившись с убеждением, что по отношению к ним это возможно лишь с
помощью откровения, заставит его использовать последнее. Но он не сможет
воспользоваться им с подлинной энергией, если сам не будет говорить как
убежденный и верующий. Симулировать эту веру было бы противно
истине и чистоте души, а потому морально невозможно. Возникающая отсюда
настоятельная потребность верить в откровение в этой ситуации действи-
214
Опыт критики всякого откровения
тельно породит в нем самом веру, по крайней мере, до тех пор, пока
сохранится эта потребность, хотя позднее он, охладев, должен будет снова
постепенно освободиться от этих представлений 32\
Из всего сказанного следует, что веру в откровение не только нельзя
навязать, но и требовать ее можно не от каждого и не каждому можно
внушить.
Для веры в откровение необходимы два условия: во-первых, чтобы
человек хотел быть добрым, а во-вторых, чтобы он нуждался в
представлении о свершившемся откровении как в средстве осуществить в себе
добро33*. Точно так же возможны две причины и для неверия. Нужно, чтобы
человек либо вовсе не имел в себе доброй воли и потому ненавидел и
отвергал бы все, в чем можно хотя бы заподозрить намерение побудить нас к
добру и ограничить наши склонности; либо чтобы человек, имея наилучшую
волю, просто не нуждался бы в поддержке откровения для приведения ее в
действие. Первая структура души есть глубокая моральная порча;
последняя — если только в основе ее лежит не естественная слабость наших
склонностей и не умерщвляющий их образ жизни, но деятельное уважение
к добру ради него самого — есть подлинная сила. Это можно сказать без
всякого страха ущемить в чем-нибудь достоинство откровения, ибо при
действительно господствующей любви к добру, без которой невозможна
вообще никакая вера, нечего бояться, что кто-нибудь станет отвергать
откровение, если будет чувствовать на себе хоть какое-нибудь его
благотворное влияние. А из какого из этих двух источников проистекает неверие у
того или иного определенного субъекта, можно судить только по плодам.
Дабы предупредить, однако, слишком поспешные выводы из нашего
рассуждения, надобно заметить, что в отличие от веры в откровение
критика его понятия претендует на общезначимость. Ибо этой последней не
нужно обосновывать ничего, кроме абсолютной возможности откровения
как в понятии, так и в допущении чего-то, этому понятию соответствую-
32* Что это не пустое умствование, но подтверждается также и на опыте, в
особенности при произнесении публичных речей к народу, вероятно,
признает — если и не публично, то, во всяком случае, в сердце своем — каждый
учитель религии. Может быть, для себя лично он и не пользуется
заимствованными из откровения представлениями, но в остальном соединяет живое
чувство своего предназначения с честностью (что очень немало).
Происходит это благодаря вдохновению и с помощью воображения, что не дает
основания осуждать его, ибо только таким путем может и должно
воздействовать откровение вообще.
33* Таковы были и максимы Иисуса. О первом случае: "Клохочет творить
волю Пославшего Меня, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно";47 и
наоборот: "Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету"48.0 втором:
"Не здоровые имеют нужду во враче, но больные...Я пришел призвать не
праведников, но грешников к покаянию"49. В этих словах я не нахожу
никакой иронии.
215
И. Г. Фихте
щего; и она делает это из априорных принципов, а потому общезначимым
образом. Так что благодаря ей всякий может смело признавать, что не
только откровение вообще возможно, но что и любое действительно
данное в чувственном мире явление, отвечающее всем критериям откровения,
может быть таковым. Но она должна удовольствоваться только этим, и
этим же может и должен удовольствоваться всякий разумный человек, не
чувствующий потребности использовать откровение ни для себя, ни для
других: критика принудит его признать, что вера тех, кто верит в
откровение, разумна и что следует совершенно оставить их в покое и не мешать им
обладать откровением и пользоваться им.
С точки зрения отношения чистая разумная вера относится к чему-то
материальному, откровенная же вера — лишь к определенной форме этого
a priori данного и уже предположенного признанным материального. По
поводу этого различия, достаточно ясного и вытекающего из всего
вышесказанного, стоит сделать еще одно небольшое замечание. Тот, кто не
принимает какой-то определенной формы откровения, тем самым отнюдь еще
необязательно отрицает и его материю — Бога и бессмертие; более того, он
вовсе не обязательно наносит этим ущерб своей вере в них, ибо и без этой
формы может их мыслить и употреблять для определения своей воли.
Наконец, с точки зрения модальности чисто разумная вера, если ей
предпослана возможность конечной цели морального закона, выражается
аподиктически. В самом деле, раз мы допустили, что есть абсолютное
право, для нас будет просто необходимо думать, что есть Бог и что моральные
существа живут вечно. Вера же в откровение может выражаться лишь
категорически: известное явление есть откровение, — а не просто непременно
должно быть откровением; ибо как бы ни были мы уверены в том, что
опровергнуть подобное наше суждение невозможно, все же само по себе и
противоположное всегда остается возможным.
§15
ОБЩИЙ ОБЗОР ЭТОЙ КРИТИКИ
Прежде чем стало возможным
какое бы то ни было исследование о понятии откровения, нужно было хотя
бы предварительно определить это понятие. Дело здесь обстояло для нас не
так хорошо, как с данными понятиями в чистой философии, которые мы
прощупываем до самого их первого зарождения и видим, как они на глазах
появляются и растут. Понятие откровения, напротив, заявляет себя как
эмпирическое и, по крайней мере на первый взгляд, не может привести для
себя никакой априорной данности, хотя при ближайшем рассмотрении и у
него обнаруживается априорная возможность. Поэтому предварительно
нам пришлось обратиться в связи с ним к языковому словоупотреблению,
что мы и сделали в § 5. Поскольку, однако, это понятие — как можно было
предполагать уже заранее, а в § 5 стало окончательно ясно и доказуемо, —
имеет разумный смысл лишь применительно к религии, постольку нашей
критике должна была быть предпослана дедукция религии вообще, с тем
чтобы впоследствии можно было вывести исследуемое нами понятие из
высшего по отношению к нему (§ 2, 3,4).
(Итак, первый предмет исследования этой критики: соответствует ли
понятие откровения языковому употреблению всех времен и народов,
которые когда-либо гордились или гордятся откровением; и именно потому,
что мы имеем дело не с данным, а с созданным понятием. Обнаружь мы
противное — и вся наша работа, как бы правильно и основательно ни
исследовали мы самими нами вопреки языковому употреблению
придуманное понятие, оказалась бы пустой игрой, упражнением в умствовании,
лишенным какой-либо существенной пользы. Однако и языковое
употребление не способно вести нас дальше предварительного определения понятия:
оно может указать нам его род и видовое отличие, но не более; в противном
случае была бы упразднена возможность всякой критики, и заблуждение
было бы освящено и увековечено34*.)
Вслед за этим предварительным определением понятия следовало
рассмотреть, подлежит ли оно вообще философской критике и пред каким
^{Добавление к 1-му изд. ).
217
И. Г. Фихте
именно судом следует ему предстать со своим делом. Первое зависело от
того, возможно ли оно a priori; второе должно было выясниться в
результате действительно априорной дедукции его из тех принципов, из которых
оно оказалось бы выводимо; ведь всякое понятие очевидно принадлежит к
области того принципа, из которого оно выведено. Такая дедукция и была
дана в § 5,6,7, и благодаря ей стало ясно, что наше понятие подлежит суду
практического разума. Второй пункт, то есть эта самая априорная
дедукция, должен быть подвергнут особенно строгой проверке, ибо от ее
возможности зависит и возможность всякой критики этого понятия вообще, и
правильность данной его критики; ею же подтверждается или
опровергается и сама разумность критикуемого понятия.
Поскольку при этой дедукции обнаружилось, что исследуемое
понятие не может иметь никакой априорной данности, но ожидает ее a
posteriori, постольку следовало доказать возможность искомой данности в
опыте—но только возможность. Это было сделано в § 8. Таким образом, при
проверке этого параграфа следует обратить внимание только на то,
правильно ли указана эмпирическая потребность в откровении, которая и есть
искомая данность, а не на то, действительно ли она выявлена и может ли
быть выведена из эмпирических определений человечества возможность
возникновения подобной потребности.
В § 9 обсуждается также и физическая возможность откровения,
относительно которой, собственно, и не могло возникнуть никаких
вопросов. Она обсуждается не столько из соображений систематической
необходимости,- сколько ради придания большей ясности положению о том, что •
исследование возможности откровения никоим образом не подлежит суду
теоретического разума, что, собственно, и так уже было ясно из дедукции
понятия откровения.
По завершении всех этих исследований должно было стать
совершенно очевидно, что не только понятие откровения вообще само по себе
мыслимо, но что в случае возникновения в нем эмпирической
потребности можно ожидать и вне его чего-то ему соответствующего. Поскольку,
однако, это соответствующее должно быть явлением чувственного мира и
потому должно быть дано и не может быть создано, постольку человеческий
дух ничего здесь больше не может поделать, кроме как приложить это
понятие к подобного рода явлению, и критике ничего не остается, кроме как
руководить им при этом, то есть твердо установить условия, при которых
подобное приложение возможно. Эти-то условия и были развиты в § 10,11,
12. Поскольку же они суть не что иное, как полученные в результате
анализа определения самого понятия откровения, постольку при их проверке
следует обратить внимание только на то, действительно ли они
проистекали из этого понятия и все ли они здесь приведены. Проверку последнего
пункта должен был облегчить § 13.
218
Опыт критики всякого откровения
Поскольку, однако же, это понятие оказалось такого рода, что
действительное применение его к какому-либо данному опыту всегда только
произвольно и не опирается ни на какое принуждение разума, постольку в
§ 14 еще предстояло показать, на чем вообще основывается это
применение (и в какой мере оно соответствует разуму). Также и эта последняя
дедукция разумности такого обращения с понятием откровения нуждается в
специальной проверке.
Из этого краткого обзора ясно, что критика откровения ведется,
исходя из априорных принципов, ибо на исследовании эмпирической
данности для понятия откровения она останавливается лишь затем, чтобы
показать его возможность; и что она поэтому — если только ни в одном из
перечисленных пунктов не будет обнаружено ошибок — по праву претендует
на всеобщую значимость. Если же обнаружится, что в настоящей редакции
этой критики подобные ошибки были допущены, чего конечно же и
следует ожидать, и если в то же время путь для возможной критики намечен
здесь правильно, что должно выясниться в самое ближайшее время, то
поправить их, в особенности совместными усилиями, должно быть,
нетрудно, и тем самым удастся установить общезначимую критику всякого
откровения.
Благодаря этой критике будет наконец отныне полностью
удостоверена возможность откровения как такового и возможность веры в какое-то
определенное данное откровение в частности, если только оно было перед
этим оправдано перед судом своей специальной критики; все возражения
. против этого принуждены будут навсегда умолкнуть, и все споры навеки
будут прекращены 35*. Благодаря ей будет обоснована всякая критика
каждого специального откровения, поскольку она утверждает общие
основания всякой подобного рода критики согласно критериям всякого
откровения. После выяснения исторического вопроса, чему именно учит данное
откровение, вопроса, который в отдельных случаях легко может оказаться
самым трудным, — благодаря критике станет возможно с полной
достоверностью решить, может ли данное откровение быть божественного
происхождения или нет, и если да, то верить в него спокойно, не страшась
никаких разоблачений.
35* В основе этих споров лежит антиномия понятия откровения, и потому
они вполне диалектичны. "Признание откровения невозможно", —
заявляет первая сторона. "Признание откровения возможно", — говорит вторая.
Выраженные таким образом, оба положения прямо противоречат друг
другу. Но если сформулировать первое так: "Признание откровения
невозможно, если исходить из теоретических оснований", а второе так: "Признание
откровения ради определения способности желания, то есть вера в
откровение, возможно", — тогда они не будут противоречить друг другу, и могут оба
одновременно быть истинными, да и являются таковыми согласно нашей
критике.
219
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Всем, наверное, случалось
замечать, что любые спекуляции или рассуждения, имеющие вид спекуляции,
оказывают на человеческую душу мало влияния. Нам, конечно, приятно
заниматься спекуляцией; мы с удовольствием принимаем ее результат,
если не находим против него никаких доводов, но мы ничуть не
огорчились бы, если бы вышло иначе. В практическом отношении мы мыслим и
поступаем по-прежнему, так что основанное на спекуляции положение
лежит в душе, по-видимому, мертвым капиталом, не принося ни дохода,
ни процентов, как будто бы его там и не было. Так было испокон веков со
спекуляциями всех идеалистов и скептиков. Они мыслили как никто и
поступали как все50.
Но настоящая спекуляция, если и не имеет необходимых
практических последствий в человеческой жизни (хотя, утвердившись, она,
вероятно, и захочет и сможет их иметь), все же затронет подлинный интерес и
не будет принята столь холодно и равнодушно — в том ей порукой
предмет, ею рассматриваемый. В самом деле, в человеческой душе не может
не быть интереса ко всему, что относится к религии, и это совершенно
естественно: ведь религия стала возможна лишь через определение
способности желания; таким образом, эта теория подтверждается всеобщим
опытом, и приходится только удивляться, почему уже давным-давно кто-
нибудь не вывел ее из этого опыта. Представим себе, что кто-нибудь
принялся бы опровергать какое-нибудь другое непосредственно достоверное
положение, например, что между двумя точками возможна только одна
прямая линия, — мы, скорее всего, посмеялись бы над ним или его
пожалели, но вряд ли бы мы на него рассердились. А если бы какой-нибудь
математик вздумал при этом разгорячиться, так либо из недовольства
самим собою, что он не в силах тотчас же разъяснить тому его заблуждение,
либо же предполагая, что за столь упрямым отрицанием кроется злая
воля — его, математика, рассердить (то есть неморальное). Однако даже и
это неудовольствие будет совсем иного рода, нежели то, какое охватыва-
220
Опыт критики всякого откровения
ет каждого, и больше всего — самого образованного человека, когда кто-
нибудь отрицает бытие Бога или бессмертие души; гнев наш в этом
случае перемешан со страхом и отвращением — несомненный знак, что мы
рассматриваем эту веру как драгоценное наше достояние, а того, кто
посмеет на это достояние покуситься — как нашего личного врага. Этот
интерес тем шире, чем больше идей мы соотносим с религией и можем с ней
связать; и потому следует еще серьезно задуматься, прежде чем решать,
действительно ли терпимость, господствующая в душе, где ей не на что
опереться, где не бывало долгих и пристальных размышлений, может
считаться чертой, достойной уважения. Из этого же самого интереса
проистекает и, наоборот, то ощутимое отвращение, которым мы раз и
навсегда проникаемся к представлениям, казавшимся нам когда-то
священными, после того как, взрослея, мы убеждались или давали убедить
себя в том, что они таковыми не являются. А ведь о других мечтах нашей
юности, вроде бескорыстной готовности всех людей помогать друг другу
или чистейшей невинности, достойной пастухов Аркадии и т.п., мы
вспоминаем со смешанным скорбно-радостным чувством, возвращаясь
в те годы, когда мы еще могли предаваться столь приятным мечтам; не
стоит и говорить, что представления, этим мечтам противоположные,
равно как и те житейские опыты, благодаря которым мы оставили мечты
и познакомились с действительностью, никак не могут быть нам сами по
себе приятны. Но о заблуждениях первого рода мы еще долго потом
вспоминаем с досадою; и много требуется времени и размышлений, чтобы и
на них взглянуть хладнокровно; феномен, которого никак не объяснишь
темным представлением о вреде, происходящем от подобного рода идей
(ведь не то что на представление, а и на самый настоящий очевидный
вред мы глядим обычно с большим равнодушием); единственное
объяснение — что святое дорого нам и что всякую чужеродную примесь к нему
мы воспринимаем как его осквернение. Этот интерес проявляется,
наконец, даже и в том, что никаким другим родом знаний мы не стремимся
так поделиться, как религиозными воззрениями, если почитаем их за
лучшие, как будто бы они несли нам величайшую честь; мы жаждем
сообщить их другим, заведомо будучи уверены, что это предмет для всех без
исключения интересный. Правда, правила хорошего тона запрещают
подобного рода беседы, но ведь, с другой стороны, именно это
обстоятельство свидетельствует, по-видимому, о всеобщей и чрезмерной к ним
склонности.
Итак, здесь мы можем быть совершенно спокойны и уверены, что
нынешнее наше исследование не будет воспринято совсем без всякого
221
И. Г. Фихте
интереса; но опасность подстерегает нас с другой стороны: именно этого
интереса нам и приходится бояться, поскольку, обернувшись против нас,
он помешает читателю спокойно рассмотреть и взвесить доводы, если
читатель заподозрит или действительно обнаружит, что результат не
вполне совпадает с его предвзятым мнением. И потому нам кажется здесь
нелишним еще раз посмотреть (совершенно невзирая на обоснование
результата и так, как будто мы прошли не предписанный нам a priori путь,
который неизбежно привел бы нас к тому же самому результату, как и в
том случае, если бы конечный вывод целиком зависел от нас самих),
могла ли бы быть у нас причина желать результата лучшего или же этот
настоящий — наивыгоднейший для нас во всех отношениях, о каком мы
только могли мечтать, — короче, рассмотреть полученный нами
результат независимо от его истинности и только с точки зрения его
полезности.
Но здесь мы столкнемся прежде всего с теми, кто скажет нам —
разумеется, из самых лучших побуждений, — что подобного рода
исследование есть затея глупая, ничего из нее выйти не может и нынешнее наше
исследование лучше всего было бы совсем бросить; они и слышать не
хотят о том, чтобы сводить к принципам что-либо связанное с
откровением, всякую попытку проверить его они отталкивают с ужасом. Однако и
они, если захотят быть искренними, признают, что они сами слишком
низкого мнения о своей вере. Пускай же решают сами, больше ли им
придутся по душе те, кто уважительно держится на расстоянии, полагая
дело откровения раз и навсегда проигранным перед всеми инстанциями
и вполне безнадежным; для кого человек, дорожащий своей честью, не
может принимать откровение всерьез; для кого нет заслуг даже и в том,
чтобы окончательно разгромить его и уничтожить, — почему бы, дескать,
хотя бы только и из жалости, не пощадить тех, кто привязан к
откровению всем сердцем, и не позволить им тешиться этой, в сущности,
невинной игрушкой. Впрочем, до этих нам нет здесь, собственно, никакого де-
т: из них вряд ли кто возьмется читать эту книжку; мы обращаемся лишь
: тем, кто допускает проверку откровения.
Настоящая проверка согласно нашему намерению должна была бы
ыть самой строгой из всех возможных. Так что же мы благодаря ей
потеши? Что приобрели? И чего больше — потерь или приобретений?
Потеряли мы все наши шансы на завоевания, как объективные, так
субъективные. Отныне мы не можем больше надеяться проникнуть с
мощью откровения в царство сверхчувственного и вынести оттуда Бог
ль какую добычу; нам придется скромно удовлетвориться тем, что бы-
222
Опыт критики всякого откровения
ло дано нам раз и навсегда в полное наше снаряжение. Столь же мало
можем мы дальше надеяться подчинить себе других и принудить принять
участие в общем наследстве или в этом новом, якобы завоеванном
приобретении как пожалование от нас; нет, нам придется каждому заняться
собственными делами и тем ограничиться.
Приобрели же мы благодаря настоящей критике полнейший покой
и уверенность в нашей собственности, уверенность перед лицом
назойливых благодетелей, навязывающих нам свои дары, с которыми мы не
знаем, что нам делать; уверенность перед лицом и других возмутителей
спокойствия, которые норовят оскорбить и опорочить все то, чем сами не
умеют воспользоваться. И тем и другим нам нужно только напомнить об
их бедности: они так же бедны, как и мы, и в этом отношении мы
отличаемся от них только тем, что знаем о ней и сообразуем с нею наши
расходы.
Так чего же больше — потерь или приобретений? Потеря надежды
постигнуть сверхчувственное — это, конечно, огромная, невосполнимая,
непереносимая потеря; но если бы вдруг при ближайшем рассмотрении
оказалось, что подобное проникновение ни для чего нам не нужно, что
мы даже никогда не можем быть уверены, действительно ли мы туда
проникаем или только обманываемся на этот счет, то, быть может, нам легче
было бы утешиться.
-Что реальность всех идей о сверхчувственном может быть
предметом не объективной достоверности, а только веры, было показано
достаточно. Всякая до сих пор рассмотренная нами вера основывается на
определении способности желания (высшей — вера в существование
Бога и бессмертие души; на определении низшей через высшую — вера в
предвидение и откровение) и, в свою очередь, облегчает это определение.
Мы достаточно ясно доказали также, что невозможны такие идеи,
поверить в реальность которых нас побуждало бы непосредственное или
опосредованное определение через практический закон. Так что теперь
спрашивается только, не является ли возможной такая вера, которая
возникала бы не через подобное определение и, в свою очередь, не облегчала
бы его. В первом случае легко установить, имеется ли здесь
действительно вера in concreto или нет. Это выясняется из практических следствий,
которые такая вера, как облегчающая волеопределение, непременно
должна повлечь за собой. Но вот в последнем случае, где практические
последствия такого рода невозможны и вера есть нечто лишь
субъективное, установить о ней нечто твердо определенное представляется
трудным, и нам не остается, по всей видимости, ничего иного, как поверить
223
И. Г. Фихте
всякому честному человеку на слово, когда он говорит нам, что верит в то
или в это. И все же нам, может быть, удастся и об этом кое-что выяснить.
Никто, наверное, не станет отрицать, что нередко человек убеждает
других или самого себя, будто он во что-то верит, в то время как он просто
ничего не имеет против этого и спокойно оставляет этот факт на том
месте, куда его уже поместили. Такой является почти всякая историческая
вера, если только она не опирается на определение способности
желания, как, например, вера в исторический аспект откровения или вера
историка-профессионала, неотделимая от уважения к своему делу и от
убеждения в его важности, с какими он непременно должен относиться к
своим изнурительным исследованиям; такова же вера нации в событие,
укрепляющее ее национальную гордость. Чтение о происшествиях и
поступках существ, имеющих одинаковые с нами понятия и страсти,
занимает нас весьма приятным образом, и наше удовольствие несколько
возрастет, если нам позволено будет предполагать, что подобные люди
действительно жили. И мы предполагаем это тем охотнее, чем больше
интересует нас история, чем больше находим мы в ней сходства с нашими
собственными обстоятельствами или с нашим образом мысли. Однако
мы не стали бы слишком огорчаться, особенно в некоторых случаях, если
бы все это оказалось всего лишь вымыслом. Ну и пусть это неправда, зато
прекрасно придумано, — так бы мы, пожалуй, подумали. Как же нам
достичь здесь достоверности относительно самих себя? Единственная
истинная проверка: поступаем ли мы в соответствии с нашей верой, станем
ли поступать, если представится случай применить ее? Такой
эксперимент всегда можно устроить даже и относительно тех мнений, которые
сами по себе не могут иметь никакого практического применения. Для
этого достаточно спросить у себя по чистой совести: станешь ли ты
отстаивать истинность данного мнения, заключив пари на часть или на все
свое имущество, на жизнь свою или свободу, если будет возможность
выяснить о нем что-либо достоверное? Таким образом, мы искусственно
создадим практическое применение мнению, которое само по себе
никаких практических следствий не имеет. Так, если бы мы предложили
кому-нибудь побиться об заклад на все его имущество, что Александра
Великого никогда не было, он, пожалуй, мог бы на это без колебаний
согласиться только потому, что при сколь угодно полной его честности в нем
не могла бы не возникнуть темная задняя мысль, что никакой опыт,
способный решить этот спор, теперь уже невозможен. Другое дело, если бы
мы предложили ему поспорить на тех же условиях, что не существует
никакого далай-ламы, с тем чтобы тотчас же потом версифицировать это
224
Опыт критики всякого откровения
путем непосредственного опыта; тут он, пожалуй, заколебался бы и тем
самым обнаружил бы, что с его верой в этом пункте не все
благополучно. И если бы подобное пари, со столь же значительными ставками,
было заключено по поводу веры в сверхчувственные вещи, понятие
которых не дано a priori чистым практическим разумом, и потому вера в
них не может иметь ровно никаких практических последствий, то
очень легко могло бы случиться, что, отказавшись от такого пари, мы
тем самым обнаружили бы, что не верили в них, а лишь убедили сами
себя, будто верим. И даже если бы мы такое пари действительно
приняли, то это все равно не доказало бы нашей веры, ибо никогда нельзя
было бы быть уверенным, не было ли в самой глубине души у нас
задней мысли о том, что наше плутовство все равно не будет раскрыто,
так что, заключая это пари, мы ровно ничем не рискуем, ведь спор о
подобного рода идеях вовеки неразрешим ни с помощью аргументов,
ни с помощью опыта. И хотя невозможно было бы доказать и того, что
вера в реальность подобных идей вовсе не возможна, тем не менее из
всего сказанного легко заключить, что даже сами с собой мы никогда
не сможем до конца выяснить, имеем ли мы вообще эту веру, а это ведь
равносильно тому, как если бы она вообще сама по себе не была
возможна. Отсюда мы можем судить, следует ли нам так уж сильно
горевать об утрате нашей надежды получить посредством откровения
расширенные представления о сверхчувственном мире.
Что же касается второй нашей потери, то мы попросим каждого
перед своей собственной совестью честно ответить на вопрос, для чего
ему, собственно, нужна религия: для того ли, чтобы возвыситься над
другими и чваниться перед ними, для удовлетворения ли его гордости,
его жажды власти над совестью других, которая куда сильнее жажды
власти над телами; или же для того, чтобы сделать себя самого лучше. В
то же время она нужна нам и для других: во-первых, чтобы
распространять среди них чистую моральность; однако при этом мы имеем право
лишь объяснять и показывать, что чистой моральности нельзя достичь
никаким иным путем, — и тогда мы охотно станем избегать всякого
другого, если только отнесемся к объяснениям всерьез; во-вторых, для
того, чтобы — если первое нам не удастся — обеспечить себе с их
стороны хотя бы легальность, — желание само по себе вполне правомерное.
И, изыскивая возможности достичь желаемого, мы безусловно не
найдем способа более легкого, чем напугать человека, который и без того
боится темноты, а напугавши, направить его туда, куда нам хочется, и
манипулировать им, сколько нашей душе угодно, заставляя его в чая-
8-645
225
И. Г. Фихте
нии будущего рая предавать без сопротивления огню свое бренное тело.
Но если нам докажут, что из такого обращения с религией неизбежно
вытекает полное уничтожение всякой моральности, то мы, пожалуй, сами
охотно откажемся от насилия, на которое не имеем никакого права, тем
более что и желаемой легальности можно достичь другими средствами,
проще и надежнее, и без столь вредных последствий для моральности.
Итак, мы подсчитали наши убытки. Подведем же теперь итог
прибыли!
Мы приобретаем полную уверенность в нашей собственности.
Отныне мы можем пользоваться ею для своего совершенствования без
страха, что нашу веру отнимут у нас какими-нибудь умствованиями; без
опасения, что ее высмеют; не робея обуздывать глупость и слабодушие.
Всякое опровержение нашей веры должно быть ложно; всякая насмешка
должна обернуться против произнесшего ее.
Мы приобретаем полную свободу совести — свободу не от того
насилия над совестью, которое совершается физическими средствами и
которого, собственно говоря, и не бывает: ибо внешнее принуждение хотя и
может заставить нас на словах признать то, чего оно хочет, но не в силах
заставить нас в сердце помыслить что-нибудь подобное; а от бесконечно
более жестокого духовного принуждения, которое совершается с
помощью морального давления и моральных пыток, через уговоры,
вымогательства, угрозы, доставляющие нашей душе Бог весть сколько
ужаснейших зол. Все это неизбежно приводит душу в состояние смятения и
страха, и она мучается до тех пор, пока ей не удастся наконецобманутьсаму
себя и самой себе симулировать веру, — симуляция куда более страшная,
чем полное неверие, ибо последнее развращает характер лишь до тех пор,
пока длится, первая же поражает его до основания без надежды на какое-
либо последующее улучшение, так что подобный человек никогда в
жизни больше не сможет испытать ни малейшего уважения, ни малейшего
доверия к самому себе.
Таковы неизбежные последствия желания основать веру на страхе
и запугивании, а уже на этой вынужденной, вымученной вере —
моральность (вещь второстепенную: есть она — очень хорошо, нету — вера и
одна нам ее заменит). Эти последствия мы и имели бы уже каждый раз,
если бы подходили к делу с достаточной последовательностью и если бы
Творец не создал человеческую природу слишком хорошо для того,
чтобы она легко позволяла так вывернуть себя наизнанку.
Из всех этих основоположений вытекает, что есть только один-
единственный путь к порождению веры в сердцах людей — путь, кото-
226
Опыт критики всякого откровения
рый, вне всякого сомнения, предписывает также и христианство: научить
людей, развивая в них моральное чувство, прежде как следует полюбить и
оценить добро и тем самым пробудить в них решимость стать добрыми
людьми; затем заставить их всесторонне почувствовать свою слабость и
только тогда открыть им возможную поддержку откровения — и они
уверуют до того, как им закричат: веруйте!
А теперь можно предоставить решение вопроса о том, чего больше:
потерь или приобретений сердцу каждого из наших читателей, причем
мы гарантируем и небольшое попутное приобретение: всякий сможет
лучше узнать это сердце из того приговора, который оно здесь
произнесет.
О ПОНЯТИИ НАУКОУЧЕНИЯ,
ИЛИ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ
ФИЛОСОФИИ
ПРЕДИСЛОВИЕ
К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
Чтение новых скептиков, в
особенности Энезидема1 и превосходных сочинений Маймона2, вполне убедило
автора этой статьи в том, что для него и раньше было в высокой степени
вероятным, именно, что философия еще не возведена даже и новейшими
стараниями остроумнейших людей в ранг достоверной науки. Он думал
найти причину этого и открыть легкий способ совершенно удовлетворить
все вполне обоснованные требования скептиков к критической
философии и вообще так примирить догматическую и критическую систему в их
спорных притязаниях, как примиряются критической философией
спорные притязания различных догматических систем1*. Не привыкши
говорить о предметах, которые он еще должен создать, он или выполнил бы
свой план, или же навсегда умолчал бы о нем, если бы настоящий повод не
показался ему поводом рассказать о том, что занимало его, и о работах, ко-
- торым он предполагает посвятить будущее.
Настоящее исследование не притязает ни на какую иную
значимость, кроме гипотетической. Но из этого совершенно не следует, что
автор вообще не положил в основание своих утверждений ничего, кроме
недоказанных предположений, и что они не должны быть результатом более
глубоко идущей и твердой системы. Правда, он надеется только по
истечении нескольких лет быть в состоянии изложить ее для публики в достойной
форме; но уже теперь он ожидает справедливого суда, того, что ее не будут
отрицать, не проверивши в целом.
'• Собственно спор, идущий между обеими и в котором скептики по праву
приняли сторону догматиков, а с ними и здравого человеческого рассудка,
который в высокой степени должен быть принят во внимание, правда, не
как судья, но как допрашиваемый по пунктам свидетель, мог бы быть
предметом спора о связи нашего познания с некоторой вещью в себе; этот же спор
мог бы быть разрешен будущим наукоучением в том смысле, что наше
познание связано с вещью в себе, правда, не непосредственно через
представление, но посредством чувства, что вещи несомненно представляются
только как явления, но что они чувствуются как вещи в себе; что без чувства
невозможно никакое представление; но что вещи в себе познаются только
субъективно, то есть лишь поскольку они влияют на наше чувство. (1-е изд.).
231
И. Г. Фихте
Первое назначение этих листов было — дать возможность
учащимся юношам высшей школы, в которой автор призван преподавать,
судить, могут ли они довериться его руководству на пути к первой из наук и
могут ли они надеяться, что он внесет в нее столько света, сколько им
нужно, чтобы пройти этот путь без опасного спотыканья; второе —
получить суждение его доброжелателей и друзей о своем предприятии.
Для тех, которые не принадлежат ни к первым, ни ко вторым, на
случай, если им попадет эта работа в руки, предназначаются следующие
замечания.
Автор до сих пор глубоко убежден, что никакой человеческий ум не
проникнет дальше границы, у которой стоял Кант, в особенности в своей
"Критике силы суждения";3 ее, однако, он нам никогда не определял и не
выставлял как последнюю границу конечного знания. Автор знает, что
он никогда не будет в состоянии сказать того, на что Кант уже не указал
опосредованно или непосредственно, яснее или туманнее. Он
представляет будущим эпохам измерить гений человека, который с той точки, на
которой он нашел философскую силу суждения, словно руководимый
вдохновением свыше, так мощно двинул ее к ее конечной цел и. Он также
глубоко убежден, что после гениального ума Канта философия не могла
обрести более высокого дара, чем систематический ум Рейнгольда;4 и он
признает почетное место, которое всегда будет утверждаться за
элементарной философией последнего при дальнейших успехах, каких
необходимо должна достигнуть философия в чьем бы то ни было лице. Не в его
образе мыслей злостно отрицать чьи-либо заслуги или желать их
уменьшить; он видит, что каждая ступень, на которую когда-либо поднялась
наука, должна быть достигнута, прежде чем она будет в состоянии
ступить на высшую; он воистину не почитает за личную заслугу быть
призванным счастливым случаем к работе после превосходных тружеников;
и он знает, что вся заслуга, которая здесь может иметь место, опирается
не на счастье нахождения, но на честность искания, и об этом каждый
может только сам себя судить и вознаградить.Он сказал это не ради тех
великих людей и не ради им подобных, но ради других, не столь великих.
Кто находит лишним, что он это говорит, тот не принадлежит к тем, для
кого это сказано.
Кроме этих серьезных людей есть еще шутники, которые
предостерегают философа — не делаться смешным, ожидая от своей науки
слишком многого. Я не хочу решить, смеются ли они все от души в силу
прирожденной веселости и нет ли среди них таких, которые только
принуждают себя к смеху, чтобы отбить охоту у неопытного в жизни
исследователя от предприятия, на которое они по понятным причинам смотрят не-
232
О понятии наукоучения
доброжелательно*. Так как я, насколько могу судить, до сих пор не давал
выражением столь высоких ожиданий пищи их насмешке, то, может
быть, мне будет позволено просить, не ради философов и еще менее ради
философии, но ради них самих, воздержаться от смеха до тех пор, пока
предпринятый труд окончится неудачей и будет заброшен. Пусть тогда
они и насмехаются над нашей верой в человечество, к которому сами
принадлежат, и над нашими надеждами в его великое призвание, пусть
тогда они повторяют столь часто, сколь они в этом нуждаются, — свое
утешение: помочь человечеству нельзя; каким оно было, таким оно
всегда и будет!
* Malis rident alienis — они смеются над чужими бедами (лат.).
ПРЕДИСЛОВИЕ
КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
ч^/то маленькое произведение
распродано. Я нуждаюсь в нем, чтобы ссылаться на него в моих чтениях. Если
не считать некоторых статей в "Философском журнале общества немецких
ученых"5, оно доселе остается единственным, в котором
философствование в наукоучении само служит предметом философского исследования;
поэтому оно и служит введением в эту систему. Эти основания побудили
меня выпустить новое его издание.
Даже цель и сущность этой работы часто не понимались, несмотря
на ее определенное" заглавие и содержание; и при втором издании будет
необходимо точнее высказаться об этих предметах в предисловии, что я
считал совершенно бесполезным в первом издании.
Метафизика, которая только должна быть не учением о мнимых
вещах в себе, но генетическим выведением того, что встречается в нашем
сознании6, может, в свою очередь, стать предметом философского
изучения, — могут быть предприняты исследования о возможности, действи-'
тельном значении и правилах такой науки; и для обработки самой науки
это было бы весьма полезно. Система подобных исследований в
философском отношении называется критикой; по крайней мере, следует только
указанное обозначать этим именем. Критика сама не есть метафизика, но
лежит вне ее: она относится к метафизике точно так, как последняя
относится к обыкновенному воззрению естественного рассудка. Метафизика
объясняет это воззрение, а сама получает объяснение в критике.
Собственно критика критикует философское мышление: если сама философия
также должна называться критической, то про нее можно только сказать, что
она критикует естественное мышление. Чистая критика, например кан-
товская, которая себя объявила критикой, всего менее чиста, в большей
своей части она сама — метафизика; она критикует то философское, то
естественное мышление: это совершенно нельзя было бы поставить ей в
упрек, если бы только она вообще частью определенно указала на только
что сделанное различие, частью же указывала бы при отдельных
исследованиях, в какой области они лежат: чистая критика, говорю я, не заключает
в себе ни малейшей примеси метафизических исследований; чистая мета-
234
О понятии наукоучения
физика — прежние обработки наукоучения, которые объявляли себя
метафизикой, не были в этом отношении чистыми, да и не могли быть таковы-
мйi так как этот необычный образ мысли мог проложить себе путь лишь с
помощью критических намеков; чистая метафизика, говорю я, не
содержит дальнейшей критики, кроме той, которая должна быть применяема
уже до нее.
Сказанное точно определяет сущность настоящей работы. Она —
часть критики наукоучения, но ни в коем случае не само наукоучение или
его часть.
Я сказал, что она — часть этой критики. Она занимается в
особенности установлением по содержанию отношения наукоучения к
обыкновенному знанию и к возможным, с точки зрения последнего, наукам. Но есть
еще иной способ рассмотрения, который может очень много
способствовать получению правильного понятия нашей системы, ограждению его от
ложных толкований и его укоренению; это — рассмотрение отношения по
форме трансцендентального мышления к обыкновенному, то есть
описание точки зрения, с которой трансцендентальный философ смотрит на все
знание и его настроения в умозрении. Автор полагает, что с достаточной
ясностью высказался относительно этих вопросов в своих двух введениях к
новому изложению наукоучения (в вышеуказанном журнале за 1797 г.), в
особенности во втором7 . Наука и ее критика взаимно поддерживают и
объясняют друг друга. Только когда будет возможно чистое изложение
самого наукоучения, станет легко дать систематический и законченный от-
- чет о его приемах. Да простит публика автору предварительные и неполные
работы, доколе он сам или кто-либо другой не сможет их закончить.
В этом новом издании изменено только несколько оборотов и
выражений, которые не были достаточно определенными; опущены некоторые
примечания под текстом, которые втягивали систему в споры, от которых
она пока еще может себя избавить, и весь третий отдел — гипотетическое
разделение наукоучения, которое имело при своем составлении только
временное значение и содержание которого с того времени гораздо
подробнее и яснее изложено в основаниях всеобщего наукоучения.
Выпуская снова произведение, в котором я впервые заявил мою
систему, может быть, кстати немного рассказать о том, как до сих пор
принимали эту систему. Только немногие были столь благоразумны, чтобы
сначала спокойно помолчать и несколько обдумать; большинство же
откровенно выказали свое глупое изумление перед новым явлением и встретили
его слабоумным смехом и пошлым издевательством. Из этих последних
более добродушные предполагали в оправдание автора, что все дело было
только неудачно задуманной шуткой, но другие всерьез ожидали, что
вскоре его можно будет поместить для призрения в "известные благотворитель-
235
И. Г. Фихте
ные учреждения". Было бы очень поучительным вкладом в историю
человеческого духа, если бы можно было рассказать, как принимались
некоторые философские теории при их первом появлении; и подлинная утрата
состоит в том, что мы уже не обладаем вырвавшимися во время первого
удивления суждениями современников о некоторых старых системах. В
отношении кантовской системы есть еще время издать собрание первых
рецензий о ней с знаменитой рецензией геттингенской "Ученой газеты"8
во главе и сохранить для будущих эпох эти курьезы. Для наукоучения я хочу
взять на себя это дело сам и, чтобы положить начало, прилагаю к этому
произведению две замечательнейшие рецензии, само собою разумеется,
без всяких к ним замечаний. Философская публика, которая теперь лучше
знакома с моей системой, не нуждается в подобных замечаниях, а для
авторов этих рецензий и так достаточно большое несчастье, что они сказали то,
что они в них говорят9.
Все же, несмотря на этот отпугивающий прием, эта система имела
вскоре после того более счастливую судьбу, чем какая выпала на долю
какой-либо другой. Многие молодые высокоодаренные головы схватились
за нее, и один заслуженный ветеран философской литературы после
долгой и глубокой проверки высказал ей свое одобрение10. От объединенных
усилий столь многих ясных голов можно ожидать, что вскоре она,
достаточно многосторонне изложенная и широко примененная, вызовет то
изменение в настроении философствования, а через него и научного
мышления вообще, которое она имеет в виду. Несмотря на сходство оказанного ей
первого приема с приемом ближайшей предшествовавшей системы или,
как полагают знатоки, другого изложения той же самой системы11, что я не
без достаточных оснований принимаю также (я, впрочем, торжественно
отказываюсь далее спорить об этом), несмотря на сходство обеих систем,
говорю я, все же, хотя, как это уже понятно о кантианцах, прием,
оказанный наукоучению, был более грубым и невежественным, чем прием,
оказанный сочинениям Канта, я предполагаю, что обе системы или
изложения будут иметь неодинаковый успех в образовании толпы рабских и
грубых подражателей. Отчасти надо бы надеяться, что немцы испуганы только
что происшедшим печальным событием и не возложат на себя два раза
подряд ярмо подражания; отчасти мне кажется, что избранное доселе
изложение, избегающее мертвой буквы, равно как и внутренний дух этого
учения, защитит его от бессмысленных повторений; нельзя ожидать также
и от друзей этого учения, что они хорошо отнесутся к подобному
почитанию.
Для завершения системы следует сделать еще необычайно много.
Сейчас едва только заложено основание, едва сделано начало постройки; и
автор хочет считать все свои предшествовавшие работы лишь за предвари-
236
О понятии наукоучения
тельные. Твердая надежда, которую он теперь может питать, что ему не
прцдется изложить свою систему наудачу в той индивидуальной форме, в
которой она ему впервые представилась, в мертвой букве, для какой-либо
будущей эпохи, которая его поймет, но что он придет по этому предмету к
соглашению уже со своими современниками и с помощью их советов, при
совместном участии многих, приведет ее к более общей форме и оставит ее
живо 1 духе и образе мыслей эпохи; все это изменяет план, который он на-
метилпри первом ее опубликовании. Он не будет теперь идти далее в
систематическом развитии системы, но постарается сначала многосторонне
изложить открытое доселе и сделать его совершенно ясным и очевидным
для каждого беспристрастного человека. Начало этой работы уже
положено в вышеназванном журнале, и она будет продолжаться, как только
позволят это мои ближайшие занятия в качестве академического доцента.
Многие, ставшие мне известными, замечания, показали, что благодаря
этим статьям зародился свет в сознании многих; и если в образе мысли
публики о новом учении не произошло более общего изменения, то это
происходит оттого, что этот журнал не особенно распространен. Для этой
же цели я, как только позволит мне время, выпущу новый опыт строгого и
чисто систематического изложения основ наукоучения.
Йена, день Михайловской ярмарки 1798 г.
Отдел первый
О ПОНЯТИИ НАУКОУЧЕНИЯ ВООБЩЕ
ГИПОТЕТИЧЕСКИ УСТАНОВЛЕННОЕ I
ПОНЯТИЕ НАУКОУЧЕНИЯ
Чтобы соединить разделенные
партии, вернее всего исходить из того, в чем они согласны.
Философия есть наука] в этом настолько же совпадают все описания
философии, насколько они разделены при определении объекта этой
науки. Что, если это отсутствие согласия происходит оттого, что понятие
науки, за которую единодушно признается философия, не вполне развито?
Что, если определение этого единственного всеми принятого признака
окажется вполне достаточным, чтобы определить самое понятие
философии?
Наука имеет систематическую форму; все положения в ней
связываются в одном-единственном основоположении и в нем объединяются в
единое целое, это также признают все. Но разве этим исчерпывается
понятие науки?
Допустим, что кто-либо, основываясь на каком-нибудь
безосновательном недоказуемом положении, например, что в воздухе находятся
существа с человеческими склонностями, страстями и понятиями,, но с
эфирным телом, развил систематическую естественную историю этих
существ, что само по себе вполне возможно; разве мы признали бы за науку
подобную систему, какая бы ни была в ней строгая последовательность и
как бы ни были тесно связаны между собой ее отдельные части? Или,
положим, кто-нибудь приведет какое-либо единичное положение, например,
рабочий, — утверждение, что установленная перпендикулярно по прямому
углу к горизонтальной плоскости колонна, продолженная до
бесконечности, не будет склоняться ни к одной из сторон плоскости; об этом
положении он раньше слышал и нашел ему подтверждение в многократном
опыте;2* тут всякий признает, что он обладает наукой о сказанном, хотя он и не
может систематическим образом, геометрически, доказать свое
положение из первого основоположения своей науки. Почему мы не называем
наукой ту стройную систему, основанную на недоказанном и недоказуе-
2* Или какой-либо неученый крестьянин приведет факт, что иудейский
историк Иосиф жил в эпоху разрушения Иерусалима. (Добавление к 1-му изд. )
238
О понятии наукоучения
мом положении, и почему мы называем наукой знание второго, не
связанное в его уме ни с какой системой?
Без сомнения, потому, что первая при всей своей правомерно-
школьной форме все же не содержит ничего, что можно знать; а последний
без всякой школьной формы высказывает нечто, что он действительно
знает иможет знать.
I Сущность науки, как можно было бы заключить отсюда, состоит
поэтому в свойствах ее содержания и в отношении последнего к сознанию
того,1о котором говорят, что он знает; и систематическая форма при этом
была ры только случайна, для науки она была бы не целью, но только лишь
средством для цели.
\Это может быть принято в качестве предварительного допущения.
Если по какой-нибудь причине человеческий дух может только очень
немногое знать достоверно, все же остальное может только мнить,
предполагать, чуять, произвольно допускать и все же по какой-либо причине не
может удовлетвориться этим ограниченным и неверным знанием, то не будет
для него другого средства его расширить и утвердить, как только
сравнивать недостоверные знания с достоверными и из сходства или различия —
да разрешат мне предварительно эти выражения, пока я не получу время,
чтобы их объяснить, — из сходства или различия первых с последними
заключать о их достоверности или недостоверности. Если бы они были
подобны какому-либо достоверному положению, он мог бы с
достоверностью допустить, что они также достоверны; если бы они были ему
противоположны, ен знал бы, что они, стало быть, ложны, и был бы застрахован от
дальнейшего о них заблуждения. Он бы достиг этим если и не истины, то,
по крайней мере, освобождения от заблуждения.
Скажу яснее. Наука должна быть единым целым. Положение, что
колонна, установленная на горизонтальной плоскости под прямым углом,
стоит перпендикулярно3*, будет для того, кто не имеет никакого связного
знания геометрии, несомненно чем-то целым и постольку наукой.
Но мы рассматриваем также и всю геометрию как науку, хотя она
содержит и многое другое, кроме этого положения; как и в силу чего
множество положений, самих по себе различных, становятся одной наукой,
одним и тем же целым?
Без сомнения, в силу того, что отдельные положения не были бы
вообще наукой, а становятся ею только в целом, только через свое место в
нем и отношение к нему. Но через простое соединение частей никогда не
может возникнуть нечто такое, чего нельзя было бы найти в одной из ча-
3* Или что Иосиф жил в эпоху разрушения Иерусалима (1-е изд.).
239
И. Г. Фихте
стей целого. Если бы ни одно из соединенных положений не имело
достоверности, то и происшедшее через объединение целое не будет ее
иметь.
Отсюда следует, что должно быть достоверным, по крайней мере,
одно положение, которое придавало бы другим свою достоверности так
что если и поскольку это первое достоверно, то должно быть достоверно и
второе, а если достоверно второе, то постольку же должно быть достоверно
и третье и т.д. Таким образом многие, сами по себе, может быть, оченн
различные, положения будут, именно потому, что они все имели
достоверность и одинаковую достоверность, иметь одну общую достоверность и
через это будут образовывать только одну науку.
Только что названное нами безусловно достоверное положение, —
мы допустили только одно такое, — не может получить свою достоверность
через объединение с другими, но должно ее иметь уже до него; ибо в
соединении многих частей не может произойти ничего, что не заключалось бы
ни в какой части. Но все прочие положения должны получить свою
достоверность от него. Оно должно быть достоверным и установленным до
всякого связывания. Никакое же из других положений не должно быть
таковым до связывания, но должно получить свою достоверность лишь через
него.
Вместе с этим отсюда ясно, что наше сделанное выше допущение
есть единственно правильное и что в науке может быть только одно
положение, которое до связывания достоверно и установлено. Если бы было не-.
сколько подобных положений, то они или не были бы совершенно связаны
с другими и тогда не принадлежали бы к одному и тому же целому, но
образовали бы одно или несколько отдельных целых или же были бы с ним
связаны. Но положения не должны быть между собой связаны иначе, чем
через одну и ту же достоверность: если достоверно одно положение, то
должно быть достоверно и другое, и если одно не достоверно, то не должно
быть достоверным и другое; и только взаимное отношение их
достоверности должно определять их связь. Но это не может иметь силу по
отношению к положению, которое имеет достоверность, независимую от других;
если его достоверность должна быть независима, то оно достоверно даже и
тогда, если другие не достоверны. Следовательно, оно вообще не связано с
ними через достоверность. Такое достоверное до соединения и
независимое от него положение называется основоположением. Каждая наука
должна иметь основоположение, она по своему внутреннему характеру
даже могла бы состоять из одного-единственного, самого по себе
достоверного положения, которое в таком случае, правда, не может быть названо
основоположением, так как оно ничего не обосновывает. Но она не может
240
О понятии наукоучения
иметь более одного основоположения, ибо тогда она образовала бы не
одку, но несколько наук.
1 Кроме положения, достоверного до объединения, наука может
содержать еще несколько положений, которые познаются как достоверные
толькф в связи с ним и таким же образом, и в той же мере, как и оно. Эта
связь, как только что было указано, состоит в том, что показывается, что
если положение А достоверно, то должно быть достоверным и положение
В, а если это достоверно, то таковым должно быть и положение С, и т.д.; и
эта связь называется систематической формой целого, состоящего из
отдельных частей. Для чего же нужна эта связь? Несомненно не для того,
чтобы проделать фокус объединения, но чтобы дать положениям
достоверность, которую само по себе ни одно из них не имеет: таким образом
систематическая форма — не цель науки, но только нечто случайное, при
условии, если наука состоит из многих положений, применимое средство для
достижения ее цели. Она не сущность науки, но случайное свойство
последней. Наука есть здание; главная цель этого здания — устойчивость.
Фундамент устойчив, и, как только он заложен, цель тем самым была бы
достигнута. Но так как нельзя ни жить на голом фундаменте, ни
защищаться им одним против намеренного нападения врагов или против слепой
непогоды, то на фундаменте возводят по бокам стены и над ними крышу. Все
части постройки скрепляются с фундаментом и друг с другом, и через это
здание становится устойчивым; но не для того строят устойчивое здание,
чтобы его скреплять, но скрепляют для того, чтобы здание было устойчиво;
и оно устойчиво именно потому, что все части покоятся на твердом
фундаменте.
Фундамент устойчив, и он утвержден не на каком-нибудь новом
фундаменте, но на твердой поверхности земли. На чем же мы должны
возвести фундамент нашей научной постройки? Основоположения нашей
системы необходимо должны быть достоверны еще до построения самой
системы. Их достоверность не может быть доказана в ее пределах, но каждое
такое возможное доказательство уже предполагает эту достоверность. Если
они достоверны, то все, что из них следует, также достоверно, но откуда же
следует их собственная достоверность?
И если бы мы ответили также и на этот вопрос, то разве перед нами
не возникнет новый, отличный от первого? При постройке нашего
научного здания мы хотим рассуждать следующим образом: если
основоположение достоверно, то достоверно и другое определенное положение. На
чем основывается это "то"? Что именно обосновывает необходимую связь
между обоими положениями, вследствие которой одному присуща та же
достоверность, которая присуща и другому? Каковы условия этой связи,
241
И. Г. Фихте
почему мы знаем, что они суть ее условия, условия исключительные и
единственные? И как мы приходим вообще к тому, чтобы признать
необходимую связь между различными положениями и исключительные, но
исчерпывающие условия этой связи?
Короче: как можно обосновать достоверность основоположения в
себе, как можно обосновать правомочие определенным образом выводить из
него достоверность других положений?
То, что должно заключать в себе само основоположение, и то, что
оно должно сообщить всем прочим положениям, встречающимся в науке,
я назову внутренним содержанием основоположения и науки вообще;
способ, которым основоположение должно передать другим положениям это
содержание, я назову формой науки. Поэтому вопрос ставится так: как
возможно вообще содержание и форма науки, то есть как возможна сама
наука?
Нечто, в чем будет дан ответ на этот вопрос, будет само наукой и
именно наукой о науке вообще.
До исследования нельзя определить, возможен ли ответ на
указанный вопрос или нет, то есть имеет ли все наше знание познаваемое твердое
основание или, как бы тесно ни были между собой связаны его отдельные
части, все же в конце концов оно не основано ни на чем или, по крайней
мере, ни на чем для нас. Но если знание должно иметь свое основание для
нас, то вышеуказанный вопрос должен допускать ответ, и должна
существовать наука, где такой ответ на него дается; а если есть такая наука, то
наше знание имеет познаваемое основание. Таким образом, до
исследования нельзя ничего сказать об обоснованности или безосновности нашего
знания; и возможность требуемой науки может быть доказана лишь через
ее осуществление.
Наименование такой науки, возможность которой до сего времени
проблематична, произвольно. Если, однако, можно показать, что почва,
которая по всему полученному доселе опыту представляется годною для
построения науки, уже застроена принадлежащими ей зданиями и есть
только одно незастроенное место, именно то, которое нужно для науки о
науках вообще; и если далее можно найти под знакомым именем
(философии) идею науки, которая хочет быть или стать наукой и которая не может
прийти сама с собой к согласию о месте, на котором она должна быть
построена, то не будет ошибочным указать ей найденное пустое место.
Разумелось ли до сих пор под словом "философия" именно это или нет, не
имеет значения; и тогда эта наука, если бы она действительно сделалась
наукой, не без права отбросила бы имя, какое доселе она носила далеко не из
чрезмерной скромности, имя, подобающее знахарству (Kennerei), люби-
242
О понятии наукоучения
тельству, дилетантизму. Нация, которая найдет эту науку, будет, конечно,
достойна дать ей имя на своем языке4*; и она может называться тогда
просто наукой или наукоучением. Так называемая до сих пор философия стала
бы таким образом Наукой о науке вообще.
4* Она была бы также достойна дать ей на своем языке прочие условные
выражения, и через это самый язык и нация, которая говорит на нем, получила
бы решительное преимущество перед всеми другими языками и нациями
{примеч. к 1-му изд.).
Существует даже система философской терминологии, необходимая
во всех своих выведенных частях посредством правильного следования
законам метафорического обозначения трансцендентальных понятий; только
один основной знак предполагается произвольным, так как всякий язык
совершенно произволен в своей исходной точке. Поэтому философия,
которая по своему содержанию имеет значение для всякого разума, становится
по своему обозначению вполне национальной, рожденной из глубины
нации, которая говорит на этом языке, и, в свою очередь, совершенствующей
ее язык до высшей определенности. Эту систематическую национальную
терминологию можно установить, однако, только тогда, когда имеется
законченной сама система разума во всем своем объеме и в совершенном
развитии всех своих частей. Определением этой терминологии завершает свое
дело философская система суждения; это — дело, которое во всем своем
объеме может легко оказаться слишком большим для целой человеческой
жизни.
Это и есть причина того, почему автор до сих пор не выполнил того,
что он как бы обещает в настоящем примечании, но пользуется теми
условными выражениями, которые он раньше находил, были ли они немецкими,
или латинскими, или греческими. Для него вся терминология — только
временная, до тех пор, пока она когда-либо не будет — если это суждено ему
или кому-нибудь другому — установлена обязательною навсегда и для всех.
По этой причине он вообще меньше заботился о своей терминологии и
избегал окончательного ее установления; он также не сделал никакого
употребления из некоторых метких замечаний других по этому вопросу
(например, из предложенного различия догматизма и догматицизма), которые
годны лишь для современного состояния науки. Он будет продолжать
давать своему изложению необходимую каждый раз для его цели ясность и
определенность с помощью описания и многообразия оборотов.
243
§2
РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ НАУКОУЧЕНИЯ
Пе следует умозаключать из
определений. Это значит, что если в описании некоторой вещи, существующей
независимо от нашего описания, мыслим без противоречия некоторый
признак, то отсюда без дальнейшего основания нельзя заключать, что
последний должен быть найден поэтому в действительной вещи. Или же это
значит, что относительно вещи, которая сама должна быть произведена
нами по образованному о ней понятию, выражающему ее цель, нельзя
заключить из мыслимости этой цели о выполнимости ее в действительности.
Но никогда это не может значить, что при умственном или физическом
труде нельзя ставить перед собой цель и пытаться выяснить эту цель себе,
прежде чем приступить к работе, а что следует предоставить игре своего
воображения или своих пальцев то, что получится.
Изобретатель аэростатов мог, конечно, вычислить величину
последних и отношение заключенного в них воздуха к атмосферному и отсюда —
скорость движения своих машин, еще не зная, найдет ли он такой газ,
который будет в достаточной мере легче атмосферного; и Архимед мог
вычислить свою машину, которой он хотел сдвинуть с места земной шар, хотя
он наверно знал, что не найдет места вне силы притяжения, откуда он мог
бы привести ее в действие. Такова же и наша только что описанная наука.
Как таковая она не есть что-либо существующее независимо от нас и без
нашего содействия; скорее она есть нечто, что должно быть впервые
произведено свободой нашего духа, действующего в определенном
направлении, если таковая свобода существует, что мы пока также не можем знать.
Определим сначала это направление: составим себе ясное понятие о том,
чем должен быть предмет нашего исследования. Можем мы его выполнить
или нет, это будет видно из того, выполним ли мы его в действительности.
Сейчас вопрос не в этом, но в том, что мы, собственно, должны делать; и
этим определяется наше определение.
1 .Описанная наука должна быть прежде всего наукой о науке вообще.
Каждая возможная наука имеет основоположение, которое в ней не может
быть доказано, но должно быть заранее достоверным. Где же должно быть
доказано это основоположение? Без сомнения, в той науке, которая долж-
244
О понятии наукоучения
на обосновать все возможные науки. В этом отношении наукоучение
должно сделать два дела. Прежде всего оно должно обосновать
возможность основоположений вообще; показать, как, в какой мере, при каких
условиях и, может быть, в какой степени что-либо может быть
достоверным и, вообще, что это значит быть достоверным; далее, оно должно, в
частности, вскрыть основоположения всех возможных наук, которые не
могут быть доказаны в них самих12.
Каждая наука, если она должна быть не отдельным, оторванным
положением, но целым, состоящим из многих отдельных частей, имеет
систематическую форму. Эта форма, условие связи выведенных положений с
основоположением и основание правомочия — заключать из этой связи,
так что первые положения необходимо должны быть такими же
достоверными, как и последнее, также не может быть доказана в отдельной науке,
если только эта последняя должна быть единым целым, а не заниматься
чуждыми, не относящимися к ней предметами, как не может быть в ней
доказана истинность се основоположения, но уже предполагается для
возможности ее формы. Общее наукоучение обязано, таким образом, обосновать
систематическую форму для всех возможных наук.
2. Само наукоучение есть наука. Оно также поэтому должно иметь
основоположение, которое в нем не может быть доказано, но должно быть
предположено как условие его возможности как науки. Но это
основоположение также не может быть доказано ни в какой другой высшей науке;
ибо иначе эта высшая наука была бы сама наукоучением, а та наука, коей
основоположение еще должно было бы быть доказано, не была бы им. Это
основоположение наукоучения, а через наукоучение и всех наук и всего
знания, поэтому безусловно не может быть доказано, то есть не может быть
сведено ни к какому высшему положению, из отношения к которому
вытекала бы его достоверность. Тем не менее оно должно давать основание
всякой достоверности; оно должно быть поэтому достоверным, и
достоверным в себе самом ради самого себя и через самого себя. Все прочие
положения достоверны потому, что можно показать, что они в каком-либо
отношении равны ему. Это же положение должно быть достоверным просто
потому, что оно равно самому себе. Все прочие положения будут иметь
только опосредованную и выведенную из него достоверность, оно же
должно быть достоверно непосредственно. На нем основывается все знание, и
без него было бы невозможно вообще никакое знание. Оно же не
опирается ни на какое другое знание, но оно есть положение знания вообще. Это
положение безусловно достоверно, это значит: оно достоверно, потому
что оно достоверно5*. Оно — основание всякой достоверности, то есть все,
5* Нельзя без противоречия спрашивать о причине его достоверности.
{Заметка на полях.)
245
И. Г. Фихте
что достоверно, достоверно потому, что оно достоверно, и ничто не
достоверно, если оно не достоверно. Оно — основание всякого знания, иначе
говоря, мы знаем, что оно высказывает, потому что мы вообще знаем; мы
знаем его непосредственно, если только что-нибудь знаем. Оно
сопровождает всякое знание, содержится во всяком знании, и всякое знание его
предполагает.
Наукоучение, поскольку оно само есть наука, если оно только
должно состоять не из одного-единственного основоположения, но из многих
положений (что это так будет, можно предвидеть уже потому, что оно
должно установить основоположения для других наук), оно должно, говорю я,
иметь систематическую форму. Но оно не может ни заимствовать эту
систематическую форму от какой-либо другой науки в отношении ее
определения, ни ссылаться на доказательство ее в другой науке в отношении ее
значимости, ибо оно само должно установить для всех прочих наук не
только основоположения и через это — их внутреннее содержание, но также и
форму и тем самым — возможность связи многих положений в них. Оно
должно поэтому иметь эту форму в самом себе и обосновывать ее через
самого себя.
Достаточно несколько расчленить предыдущее, чтобы понять, что
собственно этим сказано. То, о чем мы нечто знаем, называется
содержанием, а то, что мы об этом знаем, — формой положения. (В положении:
Золото есть тело, то, о чем мы нечто знаем, будет золото и тело, а то, что мы о
них знаем, будет, что они в известном отношении равны и постольку одно,
может быть положено вместо другого. Это — утвердительное положение, и
отношение будет его формой.)
Никакое положение невозможно без формы или содержания.
Должно быть нечто, о чем мы знаем, и нечто, что мы об этом знаем. Первое
положение всякого наукоучения должно поэтому иметь и то, и другое
содержание и форму. Далее, оно должно быть достоверно непосредственно и
через самого себя — это может значить лишь то, что содержание его
определяет его форму, и, наоборот, его форма определяет его содержание. Эта
форма может подходить только к этому содержанию, а это содержание —
только к этой форме. Всякая другая форма при этом содержании
уничтожает самое положение и вместе с ним всякое знание, и всякое другое
содержание при этой форме также уничтожает самое положение, а с ним
всякое знание. Форма безусловно первого основоположения наукоучения,
таким образом, не только дана им самим положением, но и установлена как
безусловно значимая для его содержания. Если бы, кроме этого одного
безусловно первого, было еще несколько основоположений наукоучения,
которые должны были бы быть отчасти безусловными, отчасти же обусло-
246
О понятии наукоучения
вленными первым и высшим6* (ибо иначе не было бы единственного
основоположения), то абсолютно первое в таком основоположении могло бы
быть только или содержание, или форма, и обусловленное точно так же
было бы или содержанием, или формой. Положим, содержание является
безусловным, тогда абсолютно первое основоположение, которое должно
нечто обусловливать во втором, ибо иначе оно не было бы абсолютно
первым основоположением, будет обусловливать форму второго; и, согласно с
этим, эта форма будет определяться в самом наукоучении через его высшее
основоположение. Или, допустим, наоборот, пусть безусловное будет
форма, тогда первым основоположением необходимо определится содержание
этой формы, а через него и форма, поскольку она должна быть формой
некоторого содержания; следовательно, и в этом случае форма определяется
наукоучением, а именно его основоположением. Такого же
основоположения, которое не определялось бы ни по форме, ни по содержанию
абсолютно первым основоположением, быть не может, если вообще должно
быть абсолютно первое основоположение, наукоучение и система
человеческого знания. Поэтому не может быть более трех основоположений:
одного абсолютного, определенного безусловно через самого себя, как по
форме, так и по содержанию; одного определенного через самого себя по
форме и одного определенного через самого себя по содержанию.
Если есть еще другие положения в наукоучении, то все они должны
быть определены и по форме и по содержанию через основоположение.
Наукоучение должно поэтому определять форму всех своих положений,
-поскольку они рассматриваются в отдельности. Подобное определение
отдельных положений, однако, возможно не иначе как посредством
взаимного определения. Но каждое положение должно быть определено
совершенно, то есть его форма должна подходить только к его содержанию, а не к
какому-либо другому, а это содержание — только к той форме, в которой
оно есть, а не к какой-либо другой; ибо в противном случае положение не
будет подобно основоположению, поскольку оно достоверно (вспомним
только что сказанное), и, следовательно, не будет достоверно.
Если теперь все положения наукоучения должны быть различны, так
как иначе они не были бы множеством положений, но одним и тем же
положением, многократно повторенным, то никакое положение не может
получить свое совершенное определение иначе, чем через
одно-единственное положение между другими, и тем самым точно определяется весь
ряд положений, и никакое из них не может стоять в другом месте ряда,
кроме того, в котором оно стоит. Каждое положение наукоучения получает от
6* Ибо в первом случае они были бы не основоположениями, но
выведенными положениями, ибо иначе оно во втором случае не было бы и т.д.
{Заметка на полях.)
247
И. Г. Фихте
определенного другого свое определенное место и само определяет
определенному третьему его место. Наукоучение же определяет самому себе и
через себя самого форму своего целого.
Эта форма наукоучения имеет необходимую значимость для
содержания последнего, ибо если абсолютно первое основоположение
непосредственно достоверно, то есть если его форма подходит только к его
содержанию, а его содержание — только к его форме, им же определяются
все возможные следующие положения непосредственно или
опосредованно по содержанию или по форме, если они, так сказать, уже в нем
содержатся, то по отношению к ним должно быть верным то самое, что верно
относительно первого, то есть что их форма подходит только к их
содержанию, а их содержание только к их форме. Это касается отдельных
положений; но форма целого есть не что иное, как форма отдельных положений,
мыслимая в одном, и то, что верно относительно каждого в отдельности,
должно быть верным и для всех, мыслимых как единое целое.
Но наукоучение должно дать форму не только себе самому, но и всем
другим возможным наукам и твердо установить значимость этой формы для
всех. Это немыслимо иначе, как при условии, что все, что должно быть
положением какой-либо науки, уже содержится в каком-либо положении
наукоучения, а следовательно, уже установлено в нем в подобающей ему
форме. Это открывает нам легкий путь, чтобы возвратиться к содержанию
абсолютно первого основоположения наукоучения, о котором мы теперь
можем сказать несколько более, чем раньше.
Допустим, что знать достоверно значит не что иное, как иметь созна- '
ние неразрывности определенного содержания с определенной формой
(это будет только словесным объяснением, тогда как реальное объяснение
знания безусловно невозможно). Если так, то уже теперь можно будет
приблизительно усмотреть, как абсолютно первое основоположение всего
знания определяет свою форму только своим содержанием, а свое
содержание только своей формой и тем самым всякому содержанию знания
может быть определена его форма; ибо всякое возможное содержание
покоится на содержании первого основоположения. Поэтому, если наше
предположение правильно и должно существовать абсолютно первое
основоположение всякого знания, то содержание этого основоположения
должно быть таким, которое содержало бы всякое возможное содержание,
но само бы не содержалось ни в каком другом. Это содержание было бы
безусловно-абсолютное.
Легко заметить, что при предположении возможности такого
наукоучения вообще, в особенности же при предположении возможности его
основоположения, всегда предполагается, что в человеческом знании
действительно есть система. Если подобная система должна в нем быть, то
248
О понятии маукоучения
можно, даже независимо от нашего описания наукоучения, доказать, что
должно существовать подобное абсолютно первое основоположение.
Если подобной системы нет, то возможно мыслить только два
случая. Или вообще нет ничего непосредственно достоверного — наше знание
представляет множество рядов, или один бесконечный ряд, в котором
каждое положение обосновывается высшим, а это, в свою очередь, тоже
высшим и так далее. Мы строим наши жилища на земле, она покоится на
слоне, слон на черепахе, а она еще Бог весть на чем; и так далее до
бесконечности. Если наше знание создано так, то, конечно, мы не можем изменить
его; но тогда мы не имеем и никакого твердого знания; мы, может быть,
дошли до некоторого достоверного члена в ряду, и до него мы все нашли
твердым; но кто же может поручиться, что мы не убедимся в отсутствии под
ним основания, если пойдем еще глубже и не будем вынуждены от него
отказаться. Достоверность знания оказывается мнимой, и мы не можем быть
никогда уверены в ней на следующий день.
Или возьмем второй случай — наше знание состоит из конечных, но
многих рядов, каждый ряд заключается основоположением, которое
обосновывается не каким-либо другим, но только самим собою; но таких
основоположений, которые все обосновываются сами собой и безусловно
независимо от всех остальных, а следовательно, не имеют между собою
никакой связи, но совершенно изолированы, существует много. В нас,
положим, вложены многие врожденные истины13, которые все одинаково вро-
. ждены и в отношении связи которых мы не можем ожидать никакого
дальнейшего прозрения, так как последнее лежит за пределами врожденных
истин; или в вещах вне нас есть многообразное простое, которое
сообщается нам впечатлением, производимым на нас вещами, но в связь его мы не
можем проникнуть, ибо над простейшим в впечатлениях нет ничего еще
более простого. Если дело обстоит так, если само человеческое знание по
своей природе так отрывочно, как действительное знание у многих людей;
если первоначально в нашем духе заключено множество нитей, которые
между собой не связаны ни в какой точке и не могут быть нигде связаны, то
мы опять-таки не можем спорить против нашей природы. В этом случае
наше знание в той области, на которую оно простирается, будет, конечно,
знанием прочным; но это будет не единое знание, г множество наук.
Правда, наше жилище в этом случае стояло бы крепко, но оно не было бы
единым, скрепленным в одно целое зданием, а собранием комнат, где нам
было бы невозможно переходить из одной в другую. Это было бы жилище, в
котором мы бы всегда блуждали и с которым мы никогда бы не освоились.
В нем не было бы света, и мы со всеми нашими богатствами оставались бы
бедными, ибо мы никогда их не считали бы, никогда не рассматривали бы
как целое и никогда не могли бы знать, чем мы, собственно, обладаем; мы
249
И. Г. Фихте
никогда не могли бы применить часть их для улучшения остального, ибо
никакая часть не имела бы отношения ко всему прочему. Более того, наше
знание никогда не было бы законченным; мы ежедневно должны были бы
ожидать, что в нас откроется новая врожденная истина или что опыт даст
нам нечто новое простое. Мы должны были бы всегда быть готовыми
выстроить для себя где-либо новый домик. Тогда не было бы нужно никакого
общего наукоучения, чтобы обосновать другие науки. Каждая была бы
обоснована сама на себе. Было бы столько наук, сколько отдельных
непосредственно достоверных основоположений.
Но если в человеческом духе должны быть не только один или
несколько обломков системы, как в первом случае, или несколько систем,
как во втором, но одна законченная и единственная система, то должно
быть такое высшее абсолютно-первое основоположение. Если от него
наше знание будет распространяться по многим рядам, из которых, в свою
очередь, тоже будут исходить многие ряды и так далее, то тем не менее все
они должны прочно охватываться единственным кольцом, которое ни к
чему не прикреплено, но держит своей собственной силой и себя, и всю
систему. Мы имеем здесь держащийся собственной силой притяжения
земной шар, центральная точка которого со всемогущей силой притягивает
все, что бы мы ни построили на его поверхности, а не где-либо в воздухе,
притом перпендикулярно, а не под кривым углом, и не позволяет вырвать
пылинку из своей сферы.
Существует ли подобная система и то, что является ее условием —
подобное основоположение, об этом мы не можем ничего решить до
исследования. Основоположение не допускает доказательства не только как
простое положение, но и как основоположение всего знания. Остается
сделать следующую попытку. Если мы найдем положение, которое имеет
внутренние условия основоположения человеческого знания, то посмотрим,
не имеет ли оно и условия внешние, можно ли свести к нему все то, что мы
знаем или думаем, что знаем. Если нам это удастся, то мы доказали через
действительное установление науки, что она возможна и что существует
система человеческого знания, которой она есть изображение. Если это
нам не удастся, то подобной системы или вообще не существует, или же мы
ее только не открыли и должны предоставить открытие ее нашим более
счастливым продолжателям. Утверждать же, что вообще таковой не
существует, потому что мы ее не открыли, есть притязание, опровергать которое
ниже достоинства серьезного исследователя.
250
Отдел второй
§3
ОБЪЯСНЕНИЕ ПОНЯТИЯ НАУКОУЧЕНИЯ
Научным объяснением
какого-нибудь понятия (а ясно, что здесь может идти речь ни о каком другом, кроме
как об этом высшем из всех объяснений) я называю такое, когда указывают
его место в системе человеческих наук вообще, то есть показывают, какое
понятие определяет ему его место и какое другое определяется через него.
Но понятие наукоучения так же мало может иметь место в системе всех
наук, как понятие знания вообще. Скорее, оно само есть место для всех
научных понятий и указывает им место в себе самом и через посредство
самого себя. Ясно, что здесь речь идет о гипотетическом объяснении, то есть
вопрос ставится так: предполагая, что уже существуют науки и что в них
есть истина (чего вовсе нельзя знать до общего наукоучения), как
относится имеющее быть установленным наукоучение к этим наукам?
И на этот вопрос ответ также заключается в простом понятии
наукоучения. Науки относятся к нему как обоснованное к своей основе; они не
указывают ему его место, но оно указывает всем им их место в себе самом7*
и через самого себя. Соответственно с этим здесь надлежит сделать только
дальнейшее развитие этого ответа.
1) Наукоучение должно было бы быть наукой всех наук. Отсюда
прежде всего возникает вопрос: как оно может поручиться, что
обосновываются не только науки известные и доселе изобретенные, но и все,
могущие быть изобретенными и возможные, и что им исчерпана вся область
человеческого знания?8*
2) Оно должно было бы в этом отношении давать всем наукам их
основоположения. Соответственно с этим все положения, которые суть
основоположения в какой-либо отдельной науке, суть вместе и внутренние
положения наукоучения; одно и то же положение следует рассматривать с
двух точек зрения: как положение, содержащееся в наукоучении, и как
основоположение, стоящее во главе частной науки. Наукоучение выводит
дальнейшие заключения из положения как содержащегося в нем; и част-
7* Собственно не в наукоучении, но в системе знания, отображением
которой оно должно быть. (Заметка на палях.)
8* Это против Энезидема14. (Заметка на полях. )
251
И. Г. Фихте
ная наука умозаключает из этого же положения как своего
основоположения. Таким образом, или в обеих науках мы имеем одно и то же, то есть все
частные науки содержатся в наукоучении не только по своим
основоположениям, но и по своим выведенным положениям, так что нет никаких
частных наук, а есть только части одного и того же наукоучения; или же в
обеих науках умозаключения производятся различным образом, что тоже
невозможно, так как наукоучение должно давать всем наукам их форму;
или, наконец, к положению наукоучения должно прибавиться еще нечто,
что, впрочем, не может быть заимствовано откуда бы то ни было, кроме
наукоучения, если это положение должно стать основоположением
частной науки. Возникает вопрос, каково же это привходящее или же, так как
это привходящее составляет сущность различия, какова определенная
граница между наукоучением и каждой частной наукой?
3) Наукоучение, далее, должно определить в этом же отношении
всем наукам их форму. Как это может произойти, уже указано выше. Но на
нашем пути с теми же притязаниями встает другая наука под именем
логика. Следует разрешить спор между обеими, надлежит исследовать, как
наукоучение относится к логике.
4) Наукоучение само есть наука, и выше уже определено, что оно в
этом отношении должно дать. Но поскольку оно — просто наука, знание в
формальном значении слова, оно — наука о чем-нибудь; оно имеет
некоторый предмет, а из вышесказанного ясно, что этот предмет — не что иное,
как система человеческого знания вообще9*. Возникает вопрос, как
относится наука как наука к своему предмету как таковому.
9* Ибо наукоучение ставит вопрос: 1) Как возможна наука вообще?15 2)
Наукоучение притязает на то, чтобы исчерпать человеческое познание,
построенное на одном-единственном основоположении.{Заметка на полях.)
§4
В КАКОЙ МЕРЕ НАУКОУЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕРЕНО,
ЧТО ОНО ИСЧЕРПАЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ
ВООБЩЕ?
Ьывшее доселе человеческое
знание, истинное или воображаемое, не есть человеческое знание вообще.
Положим, что некий философ действительно охватил первое и мог бы дать
доказательство путем совершенной индукции, что оно содержится в его
системе, но этим он еще далеко не выполнил бы задачу философии
вообще; ибо как мог бы он посредством своей индукции из предыдущего опыта
доказать, что в будущем не будет сделано открытие, которое не подойдет
под его систему? Не более основательным выходом было бы утверждение,
что он хотел исчерпать только возможное для настоящей сферы
человеческого существования знание; ибо если его философия имеет значение
только для этой сферы, то он не знает никакой другой возможной сферы,
не знает, следовательно, и ее границ, которые должны быть исчерпаны его
философией; он произвольно провел границу, значимость которой едва ли
может быть доказана чем-нибудь, кроме предыдущего опыта, которому
всегда может противоречить, даже в указанной сфере, будущий опыт. Если
человеческое знание вообще должно быть исчерпано, то безусловно и
необходимо должно быть определено, что человек может знать не только
на теперешней ступени своего существования, но и на всех возможных и
мыслимых ступенях?10*
,0* Ответ на одно возможное возражение, которое, впрочем, мог бы сделать
только популярный философ! (Добавление к 1-му изд. )
Подлинные задачи человеческого духа бесконечны как по их числу,
так и по объему; их разрешение было бы возможно только через
завершенное приближение к бесконечному, что само по себе невозможно, но они
таковы только потому, что они даются как бесконечные. Существует
бесконечное множество радиусов бесконечного круга, центр которого дан; и как
только дан центр, даны и весь бесконечный круг, и бесконечно многие его
радиусы. Одна конечная точка последних, правда, лежит в бесконечности;
но другая лежит в центре, и эта последняя — обща всем. Центр дан;
направление линий также дано, ибо они должны быть прямыми линиями:
следовательно, все радиусы даны (единичные радиусы из бесконечного числа
таковых определяются через постепенное развитие нашей первоначальной
ограниченности как долженствующие быть проведенными; но они этим не
даны; даны они одновременно с центром). Человеческое знание бесконечно
по степеням; но по качеству своему оно полностью определяется своими
253
О понятии наукоучения
Это возможно только при следующих условиях: прежде всего следует
показать, что установленное основоположение исчерпано, а затем что
другое основоположение, кроме установленного, невозможно.
Основоположение исчерпано, если на нем построена полная
система, то есть если основоположение необходимо приводит ко всем
установленным положениям, а все установленные положения необходимо снова
приводят к нему. Если в целой системе не встречается положения, которое
может быть истинно, если основоположение ложно или которое может
быть ложно, если основоположение истинно, это будет отрицательное
доказательство того, что никакое положение не является излишне взятым в
систему; ибо то, которое не принадлежало бы к системе, могло бы быть
истинным, если основоположение ложно, и ложным, если бы
основоположение и было истинным. Если дано основоположение, то должны быть даны
все положения; в нем и через его посредство дано каждое отдельное
положение. Из того, что мы говорили выше о связи отдельных положений в нау-
коучении, ясно, что эта наука производит указанное отрицательное
доказательство в себе самой и через себя. Им доказывается, что наука вообще
систематична, что все ее части связаны в одном-единственном
основоположении16. Наука есть система, иначе говоря, она закончена, когда далее
не может быть выведено ни одно положение; и этим дается положительное
доказательство, что в системе нет ни одного недостающего положения.
Вопрос лишь в следующем: когда и при каких условиях может быть выведено
какое-либо дальнейшее положение; ибо ясно, что только относительный и.
отрицательный признак, — я не вижу, что может следовать дальше, —
ничего не доказывает. Ведь после меня может прийти другой, который увидит
нечто там, где я ничего не видел. Мы нуждаемся в положительном
признаке для доказательства, что дальше безусловно и необходимо ничего не
может быть выведено; и таким признаком может быть только то, что само
основоположение, из которого мы исходим, есть вместе с тем и последний
результат. Тогда было бы ясно, что мы не могли бы идти дальше, не
проделывая сызнова тот путь, который мы уже раз прошли. При последующем
установлении науки будет видно, что она действительно проделывает этот
круг и покидает исследователя у той самой точки, из которой она вместе с
ним вышла; что она таким образом также приводит второе положительное
доказательство в себе и через себя саму11*.
законами и может быть вполне исчерпано. Задачи ставятся и должны быть
исчерпаны, но они не разрешены и не могут быть разрешены. (Последнее
предложение — заметка на полях.)
"* Наукоучение, следовательно, имеет абсолютную целостность. В нем одно
ведет ко всему и все к одному. Оно — единственная наука, которая может
быть закончена. Законченность поэтому — ее отличительный признак. Все
254
И. Г. Фихте
Но если установленное основоположение и исчерпано и на нем
построена целостная система, то отсюда еще не следует, что тем самым
человеческое знание исчерпано вообще: разве только мы сначала предположим
то, что должно быть доказано, а именно, что это основоположение есть
основоположение человеческого знания вообще. К такой целостной
системе, правда, ничего не может быть ни прибавлено, ни отнято; но что
мешает тому, что в будущем, хотя бы даже до сих пор и не было ничего
подобного, через умножение опыта достигнут до человеческого сознания такие
положения, которые не опираются на это основоположение и которые,
следовательно, предполагают одно или несколько других
основоположений? Короче говоря, почему рядом с этой законченной системой не может
находиться в человеческом духе еще одна или несколько, систем? Они,
правда, не имели бы ни с первой системой, ни между собою ни малейшей
связи и хотя бы самой незначительной общей точки, но они и не должны
иметь этого, если они образуют не одну, а многие системы. Таким образом,
если должна быть удовлетворительно доказана невозможность таких
новых открытий, то следует доказать, что в человеческом знании может быть
только одна-единственная система. Так как это положение, что все
человеческое знание представляет одно-единственное связанное в себе самом
знание, само должно быть частью человеческого знания, то оно может
обосновываться единственно на установленном как основоположение
человеческого знания положении и никак иначе не может быть доказано, как
через него. Этим был бы пока, по крайней мере, добыт тот результат, что
другое когда-либо достигшее до человеческого сознания
основоположение было бы не только другим и отличным от установленного
основоположения, но и противоречащим последнему по форме. Ибо при
вышеуказанной предпосылке в установленном основоположении должно бы
содержаться положение: "В человеческом знании есть одна-единственная
система". Следовательно, каждое положение, которое не должно было бы
принадлежать к этой единственной системе, было бы не только отличным
от этой системы, но даже противоречило бы ей уже самим фактом своего
существования, поскольку эта система должна была бы быть единственной
возможной. Оно противоречило бы выведенному положению
единственности системы, и, так как все положения этой системы неразрывно
связаны между собой, так что, если какое-либо одно из них истинно,
необходимо все должны быть истинны и, если какое-либо ложно, необходимо все
ложны, то оно противоречило бы каждому положению системы и в особен-
другие науки бесконечны и никогда не могут быть закончены, ибо они не
возвращаются вспять к своему основоположению. Наукоучение может это
доказать для всех и дать основание для этого. {Заметка на полях.)
255
О понятии наукоунения
ности — ее основоположению. Предположим, что и это чуждое положение
было бы систематически обосновано вышеописанным способом в
сознании; тогда система, к которой оно принадлежит, должна, уже в силу одного
формального противоречия своего существования, противоречить мате-
риально* первой системе и опираться на основоположение, прямо
противоположное первому основоположению; так что если бы первое,
например, гласило: Я есмь Я, то второе должно было бы утверждать: Я есмь не Я.
Из этого противоречия еще не должна и не может прямо быть
выведена невозможность подобного второго основоположения. Если в первом
основоположении заключено положение: система человеческого знания
должна быть единой, то в нем содержится также и то положение, что этой
единой системе ничто не должно противоречить; но оба положения —
только следствия из него самого, и как только принимается абсолютная
значимость всего того, что из него следует, тем самым уже принимается,
что оно есть абсолютно первое и единственное основоположение и
безусловно господствует в человеческом знании. Следовательно, здесь есть
круг, из которого человеческий дух никогда не может вырваться; и будет
совершенно правильным — определенно признать этот круг, чтобы не
впасть в затруднение когда-нибудь, вследствие неожиданного его
открытия. Он заключается в следующем: если положение X есть первое высшее и
абсолютное основоположение человеческого знания, то в человеческом
знании есть одна единая система; ибо последнее вытекает из положения Л":
так как в человеческом знании должна быть одна единая система, то полр-
жение X, которое действительно (согласно установленной науке)
обосновывает систему, есть основоположение человеческого, знания вообще, и
основанная на нем система есть эта единая система человеческого знания.
Нет причины выходить из этого круга. Требовать, чтобы он был
уничтожен, — значит требовать, чтобы человеческое знание было совершенно
безосновно, чтобы не было ничего безусловно достоверного, но чтобы все
человеческое знание было только обусловлено, и никакое положение не
имело бы значение само по себе, но каждое значило бы только под
условием, что значит то положение, из которого оно следует; одним словом, этим
мы утверждали бы, что вообще нет истины непосредственной, а есть
только истина опосредованная, ее нет без чего-либо, чем она опосредована. Кто
имеет охоту исследовать, может всегда исследовать, чтобы он знал, если бы
я не было бы Я, то есть если бы он не существовал и не мог бы отличить
никакое Не-Я от своего Я.
* Здесь: содержательно; противоречить материально — противоречить по
содержанию.
256
§5
КАКОВА ГРАНИЦА, КОТОРАЯ
ОТДЕЛЯЕТ ОБЩЕЕ НАУКОУЧЕНИЕ
ОТ ЧАСТНОЙ, ИМ ОБОСНОВАННОЙ НАУКИ?
JV1 ы нашли выше (§ 3), что одно и то
же положение не может быть в одинаковом отношении и положением
общего наукоучения, и основоположением какой-либо частной науки, но
что должно привзойти еще нечто, если оно должно быть последним. — То,
что должно привзойти, может быть взято только из общего наукоучения,
ибо в нем содержится все возможное человеческое знание; но там оно не
должно заключаться в положении, которое теперь, через его прибавление,
возвышается до степени основоположения частной науки; ибо иначе это
положение было бы уже там основоположением, и мы не имели бы
границы между частными науками и частями общего наукоучения.
Следовательно, должно быть единичное положение наукоучения, которое соединяется
с положением, долженствующим стать основоположением. Так как здесь
мы должны ответить не возражение, не непосредственно исходящее из
понятия наукоучения, но вытекающее из предположения, что кроме науко-
* учения существуют еще отдельные от него науки, то мы можем ответить на
него не иначе, как также предположением; и мы сделали пока достаточно,
показав хотя бы некоторую возможность требуемого ограничения. Что оно
дает истинную границу, хотя бы это и было так на самом деле, этого мы
здесь не можем, да и не должны доказывать.
Поэтому допустим, что наукоучение содержит те определенные
действия человеческого духа, которые он вынужденно и необходимо
производит, все равно, условно или безусловно; пусть оно при этом устанавливает
как высшее основание объяснения этих необходимых действий вообще
способность человеческого духа определять себя безусловно без
принуждения и понуждения к действию вообще; таким образом, было бы дано через
наукоучение некоторое необходимое и некоторое не необходимое
свободное действование. Действия человеческого духа, поскольку он действует
необходимо, были бы определены наукоучением, но они не были бы им
определены, поскольку он действует свободно. Положим далее, что и
свободные действия должны быть определены из какого-либо основания; в
таком случае это не могло бы произойти в наукоучении: так как речь идет
об определении, это должно было бы произойти в науках и именно в частных
9-645
257
О понятии о наукоучения
науках. Предмет же этих свободных действий не может быть чем-либо
другим, кроме данного через наукоучение необходимого, так как нет ничего,
чего бы оно не дало, и оно вообще ничего не дает, кроме необходимого.
Поэтому в основоположении частной науки должно быть определено
действие, которое наукоучением оставлено свободным: наукоучение дало бы
основоположению необходимое и свободу вообще, частная же наука дала
бы этой свободе ее определение, и, таким образом, была бы найдена точная
линия границы; и как скоро некоторое свободное в себе действие получало
бы определенное направление, мы бы тем самым переходили из облас-
тищобщего наукоучения в сферу частной науки. Я поясню это двумя
примерами.
Наукоучение дает, как необходимое, пространство и точку как
абсолютную границу; но оно предоставляет воображению полную свободу
полагать точку где ему угодно. Как только эта свобода определяется,
например, чтобы двигать точку для ограничения неограниченного пространства
и этим проводить линию12*, мы уже находимся не в области наукоучения,
но в сфере частной науки, которая называется геометрией. Задача вообще
ограничивать пространство по определенному правилу или конструкция в
пространстве есть основоположение геометрии, и последняя тем самым
резко отделяется от наукоучения.
Через наукоучение нам дана, как необходимая, некоторая
природа13*, которая должна рассматриваться как не зависимая от нас по своему
бытию, и даны законы, по которым она должна быть наблюдаема14*; но
способность суждения сохраняет при этом свою полную свободу
применять или не применять эти законы; или же при разнообразии как законов,
так и предметов, — применять какой ей угодно закон к любому предмету,
например, рассматривать человеческое тело как простое вещество или как
12* Вопрос к математикам. — Не содержится ли понятие прямизны уже в
понятии линии? Существуют ли другие линии, кроме прямых? И не является
ли так называемая кривая линия не чем иным, как совокупностью
бесконечно многих, бесконечно близких точек? Происхождение последней как
пограничной линии бесконечного пространства (от Я, как центра, проводятся
бесконечно многие, бесконечные радиусы, которым, однако, наша
ограниченная сила воображения должна полагать конечную точку, эти конечные
точки, мыслимые как одно целое, и есть первоначальная круговая линия),
как мне кажется, ручается за это; а отсюда ясно, что задача измерить ее через
прямую линию бесконечна (и ясно, почему она должна быть бесконечной) и
может быть разрешена только при совершенном приближении к
бесконечности. Отсюда ясно также, почему нельзя определить прямую линию.
{Примеч. к 1-му изд.)
13* Некоторое безусловно независимое от законов простого представления
Не-Я.(1-еизд.)
м* Как ни странным это может показаться многим естествоиспытателям, но
в свое время будет показано, что можно строго доказать, что они сами
вкладывают в природу те законы, которым они предполагают научиться от нее
258
И. Г. Фихте
организованную или как одушевленную животной жизнью материю. Но
как только способность суждения получит задачу рассматривать
определенный предмет по определенному закону15*, чтобы увидеть, совпадает ли
он с ним и в какой мере, она уже не свободна, но подчинена правилу; а
поэтому мы находимся уже не в сфере наукоучения, но в области другой науки,
которая называется естествознанием. Задача вообще связывать каждый
данный в опыте предмет с каждым данным в нашем духе законом природы
есть основоположение естествознания; оно все слагается из
экспериментов (но не из пассивного отношения к беспорядочным воздействиям
природы на нас), которые мы ставим произвольно и которым природа может
соответствовать или не соответствовать: и этим естественная история
достаточно отделена от наукоучения вообще.
Таким образом, уже здесь видно то, что мы упоминаем лишь
вскользь, — почему только наукоучение будет обладать абсолютною
целостностью, а все же прочие науки будут бесконечны. Наукоучение
содержит только необходимое; если оно необходимо во всяком рассмотрении,
то оно необходимо и в отношении количества, то есть необходимо
ограничено. Все другие науки исходят из свободы как нашего духа, так и
безусловно не зависимой от нас природы. Если это должна быть действительная
свобода, если она не должна определяться безусловно никаким законом, то
ей нельзя приписать и никакой определенной области действия, что было
бы возможно только благодаря некоторому закону. Таким образом, от ис-
. черпывающего наукоучения нечего ждать какой-либо опасности для
бесконечного совершенствования человеческого духа; совершенствование не
только не уничтожается наукоучением, но скорее наоборот, оно им
удостоверяется и ставится вне всякого сомнения, и духу дается задача, которую он
никогда не может завершить.
через наблюдение, и что самое малейшее, как и самое величайшее — как
строение ничтожнейшей былинки, так и движение небесных тел допускают
вывод до всякого наблюдения из основоположения всего человеческого
знания. Правда, никакой закон природы и вообще никакой закон не
достигнет сознания, если не дан предмет, к которому он применяется; правда, не
все предметы одинаково необходимы и не все в одинаковой мере должны
согласовываться с ними; правда, никакой единичный предмет не
согласуется вполне с ними и не может вполне согласоваться: но именно поэтому
правда то, что мы научаемся законам не через наблюдение, но кладем их в
основу всякого наблюдения, и что они суть не столько законы для не
зависимой от нас природы, сколько законы для нас самих, как мы должны
наблюдать эту природу. {Примеч. к 1-му изд.)
15' Например, допускает ли животная жизнь объяснения из неорганической,
является ли кристаллизация переходом от химического соединения к
организму, одинакова ли или различна сущность магнетической и
электрической силы и т.д. (Заметка на полях.)
9»
259
§6
КАК ОТНОСИТСЯ ОБЩЕЕ
НАУКОУЧЕНИЕ В ОСОБЕННОСТИ К ЛОГИКЕ?
Наукоучение должно устанавливать
форму для всех возможных наук. Этим же, по общему мнению, в котором
тоже должно быть нечто истинное, занимается и логика. Как относятся
между собой обе эти науки, как относятся они в особенности к тому делу,
на которое обе притязают?
Как только мы вспомним, что логика должна давать всем
возможным наукам только одну форму, наукоучение же не лишь одну форму, но и
содержание, нам уже будет открыт легкий путь, чтобы углубиться в это
крайне важное исследование. В наукоучении форма никогда не отделена
от содержания, а также и содержание — от формы; в каждом его
положении то и другое связано теснейшим образом. Если в положениях логики
должна заключаться только форма, но не содержание возможных наук, то
положения эти не являются вместе с теми положениями наукоучения, но
совершенно отличаются от них; а следовательно, и вся наука не есть ни
само наукоучение, ни даже часть его. Сколь бы странным ни показалось это
кому-либо при современном укладе философии, логика вообще не
философская, но отдельная частная наука, отчего, конечно, достоинство ее не
терпит никакого ущерба.
Если она такова, то должно быть обнаружено определение свободы,
посредством которого научное мышление переходит из области
наукоучения в логику и в котором, следовательно, лежит граница между обеими
науками. Такое определение свободы легко показать. Именно в
наукоучении содержание и форма необходимо соединены. Логика должна
установить только форму, отдельную от содержания; это отделение, так как оно
не первоначально, может быть произведено только свободой. Свободное
отделение чистой формы от содержания будет, таким образом, тем, что
дает бытие логике. Такое отделение называют отвлечением; и, таким
образом, сущность логики состоит в отвлечении от всякого содержания
наукоучения.
Но, таким образом, положения логики были бы только формой, что
невозможно; ибо в понятии положения вообще содержится, что оно
должно иметь и то и другое, и содержание и форму (§ 1). Поэтому то, что в нау-
260
И. Г. Фихте
коучении является только формой, должно быть в логике содержанием; и
это содержание должно снова получить общую форму наукоучения,
которая здесь, однако, определенно мыслится как форма логического
положения. Это второе действие свободы, через которое форма делается своим
собственным содержанием16* и возвращается к себе самой, называется
рефлексией. Никакое отвлечение невозможно без рефлексии и никакая
рефлексия — без отвлечения. Оба действия, мыслимые отдельными друг от
друга и рассматриваемые каждое само по себе, суть действия свободы; но
если оба именно в этой отделенной и отнесены друг к другу, то при
наличии одного другое необходимо; для синтетического же мышления оба суть
одно и то же действие, рассматриваемое с двух сторон.
Отсюда вытекает определенное отношение логики к наукоучению.
Первая не обосновывает последнее, но последнее обосновывает первую:
наукоучение безусловно не может быть доказано из логики, и ему нельзя
предпослать, как значимого, никакого логического положения, даже
закона противоречия18; наоборот, всякое логическое положение и вся логика
должны быть доказаны из наукоучения, — должно быть показано, что
установленные в последнем формы суть действительно формы достоверного
содержания в наукоучении. Таким образом логика получает свою
значимость от наукоучения, но не наукоучение от логики.
Далее, не наукоучение обусловливается и определяется логикой, но
логика — наукоучением. Наукоучение не получает от логики даже своей
формы, но имеет эту форму в себе самом и устанавливает ее только для
возможного отвлечения через свободу. Более того, наукоучение
обусловливает значимость и применимость логических положений. Формы, которые
устанавливает последнее, не могут быть применены в обыкновенном
процессе мышления и в частных науках к какому-либо другому содержанию,
кроме того, которое они уже объемлют в наукоучении. Эти формы не могут
быть с необходимостью применены ко всему содержанию, которое они
охватывают в наукоучении, ибо в таком случае не возникла бы частная
наука, но повторились бы лишь части наукоучения, — но применимы
необходимо к части последнего, к содержанию, заключающемуся в том содержа-
' нии. Таким образом, построенная вне этого условия частная наука будет
воздушным замком, как бы логически правильно ни выводились в ней
заключения 17\
Наконец, наукоучение необходимо — не как ясно продуманная,
систематически установленная наука, — но как природная склонность;
логика же — искусственный продукт человеческого духа в его свободе. Без пер-
|6* Формой формы как своего содержания (1-е изд.).
|7' Таковы докантовские догматические системы, которые устанавливают
ложное понятие вещи. (Заметка на полях.)
261
О понятии о наукоучения
вого вообще не было бы возможно никакое знание и никакая наука; без
последней все науки были бы только позднее выполнены. Наукоучение —
исключительное условие всякой науки; логика — в высокой мере
благодетельное изобретение, обеспечивающее и облегчающее научный прогресс.
Я изложу выведенное сейчас систематически на примерах.
А =А — это без сомнения логически правильное положение, и,
поскольку оно таково, его значение заключается в следующем: если А
положено, то А положено. Тут возникают два вопроса: положено ли А? И в какой
мере, и почему А положено, если оно положено? Или как вообще
связываются вместе эти "если" и "то".
Положим: А в вышеуказанном положении значит Я и имеет свое
определенное содержание; тогда положение будет гласить: Я есмь Я; или
же — если Я положено, то Я положено. Но так как субъект полагания есть
абсолютный субъект, субъект безусловно, то в этом единственном случае
вместе с формой положения полагается его внутреннее содержание. Я
положено потому, что Я себя положило. Я есмь потому, что Я есмь. — Логика,
следовательно, говорит: если А есть , есть А: наукоучение же утверждает:
так как А (это определенное А = Я) есть, то есть Л. И через это будет
разрешен и вопрос, положено ли А (это определенное Л)? Ответ будет таков: оно
положено, ибо оно положено. Оно положено безусловно и необходимо.
Положим, что А в вышеприведенном положении означает не Я, но
что-нибудь другое; тогда из вышесказанного следует усмотреть условие,
при котором можно сказать: А положено, и посему мы правомочены за-:
ключать: еслиЛ положено, то оно положено. Именно положение^ =А
первоначально значимо только для Я; оно выведено из положения
наукоучения —Я есмь Я\ следовательно, всякое содержание, к которому оно
применимо, должно находиться в Я и в нем содержаться. Никакое А, стало быть,
не может быть чем-либо иным, как только положенным в Я, и, таким
образом, наше положение будет гласить: что положено в Я, то положено; если Л
положено в Я, то оно положено (поскольку именно оно положено как
возможное действительное или необходимое), и, таким образом, оно
бесспорно истинно, если Я должно быть Я. Если, далее, Я положено, потому что
оно положено, то все, что положено в Я, положено, потому что оно
положено; и если только А есть нечто положенное в Я, то оно положено, если
оно положено; таким образом и второй вопрос также получает ответ.
§7
КАК ОТНОСИТСЯ НАУКОУЧЕНИЕ
КАК НАУКА К СВОЕМУ ПРЕДМЕТУ?18*
ое положение в наукоучении
имеет форму и содержание: мы знаем нечто, и есть нечто, о чем мы это
знаем. Но и само наукоучение есть наука о некотором предмете, а не самый
этот предмет. Следовательно, оно будет вообще со всеми своими
положениями формой некоторого, уже до него данного, содержания. Как
относится оно к этому содержанию, и что следует из этого отношения?
Объект наукоучения есть, согласно всему предыдущему, система
человеческого знания. Она существует независимо от науки о ней, но
устанавливается последнею в систематической форме. Что же представляет
собой эта новая форма, чем отличается она от той формы, которая должна
быть дана до науки, и как вообще отличается наука от своего объекта?
То, что присутствует в человеческом духе независимо от науки,
может быть также названо его действиями. Они суть то нечто, что есть в
наличности; они совершаются некоторым определенным способом; через
этот определенный способ одно из них отличается от другого; и это
отличие есть то, как они совершаются. Таким образом, в человеческом духе
изначально, до нашего знания, есть содержание и форма, и то и другое
неразрывно связаны; каждое действие совершается определенным способом по
некоторому закону, и этот закон определяет действие. Если все эти
действия связаны между собою и управляются общими, особенными и
единичными законами, то для возможного наблюдателя есть в наличности
некоторая система.
Но совершенно не необходимо, чтобы эти действия в самом деле
совершались в нашем духе одно за другим по порядку времени в той
систематической форме, в которой они будут выведены как вытекающие друг из
друга; так что сначала совершится то, которое содержит в себе все другие и
создает высший наиболее общий закон, а затем те, которые объемлют в
себе менее и т.д. Далее из сказанного совершенно не следует, что все они
совершались в чистом, не смешанном виде, так чтобы многие, которые могут
быть различаемы возможным наблюдателем, не явились бы в
действительности как одно единое действие; например, если высшее действие интел-
18' Следует заметить, что от этого вопроса мы до сих пор совершенно
отвлеклись, так что все предыдущее рассуждение следует изменить после ответа
на него. (Заметка на полях.)
Кажд
263
О понятии о наукоунения
лигенции19* будет полагать ее саму20*, то совершенно не необходимо, чтобы
это действие было по времени первым из тех, что достигают ясного
сознания; и так же мало необходимо, чтобы оно когда-либо достигло сознания в
чистоте, чтобы интеллигенция 21* была способна когда-либо мыслить "Я
есмь", не мысля при этом ничего другого, — того, что не есть она сама 22\
Тут мы имеем уже весь материал для возможного наукоучения, но не
саму эту науку. Чтобы создать последнюю, необходимо еще одно действие
человеческого духа, не содержащееся среди всех этих действий, оно
заключается в том, чтобы возвести к сознанию свой образ действия вообще. Так
как оно не должно содержаться среди тех действий, -которые являются
необходимыми, необходимые же все суть налицо, то оно должно быть
действием свободы. Наукоучение, таким образом, поскольку оно должно быть
систематической наукой, возникает совершенно так же, как и все
возможные науки, поскольку они должны быть систематическими, через
некоторое определение свободы; последняя здесь определяется в особенности к
тому, чтобы вообще возвести к сознанию способ действия
интеллигенции;23* и наукоучение отличается от других наук только тем, что объект
последних есть само свободное действие, объект же первого—действия
необходимые.
Нечто, что уже само по себе есть форма, необходимое действие
интеллигенции24*, через это свободное действие воспринимается как
содержание в некоторую новую форму, в форму знания или сознания; и таким
образом это действие будет действием рефлексии. Указанные
необходимые действия выделяются из ряда, в котором они сами по себе могут
встречаться, и утверждаются раздельными и чистыми от всякой примеси; таким'
образом это действие будет также и действием отвлечения; рефлексия
невозможна без предварительного отвлечения.
Форма сознания, в которую должен быть принят вообще
необходимый образ действия интеллигенции25*, несомненно сама принадлежит к ее
необходимым способам действия; способ действия интеллигенции
несомненно воспринимается в ней совершенно так же, как и все, что в ней
воспринимается; поэтому сам по себе не представляет трудности ответ на
вопрос: откуда берется для целей возможного наукоучения эта форма? Но
если мы оставим в стороне вопрос о форме, то вся трудность сосредоточится
в вопросе о содержании. — Если необходимый способ действия
интеллигенции26* сам по себе должен быть принят в форму сознания, то она уже
,9* Действие человеческого духа {1-е изд.).
20* Свое собственное существование^ изд. ).
2|* Человеческий дух {1-е изд.).
22* Без того, чтобы в то же время не мыслить, что нечто не есть Я (2-е изд.).
23* Способ действия человеческого духа {1-е изд.).
24* Человеческого духа {1-е изд. ).
25* Человеческого духа {1-е изд.).
26* Человеческого духа {1-е изд.).
264
И. Г. Фихте
должна быть известной как таковая, следовательно, должна быть уже
принятой в эту форму; тут мы попали бы в круг.
Согласно сказанному выше этот способ действия вообще должен
быть отделен рефлектирующим отвлечением от всего, что не есть он. Это
отвлечение происходит через свободу, и философствующая способность
суждения27* вовсе не руководится в нем слепым принуждением. Вся
трудность, следовательно, заключается в вопросе: по каким правилам
поступает свобода в этом отделении? Откуда узнает философ 28*, что он должен
принять как необходимый способ действия интеллигенции29* и что он
должен оставить как нечто случайное?30*
Этого он безусловно не может знать, пока не возведено к сознанию
то, что он еще только должен возвести к нему, что было бы противоречиво.
Следовательно, для этого действия нет и не может быть никакого правила.
Человеческий дух делает различные попытки; через слепое хождение
вокруг да около он приходит к рассвету и уже затем переходит отсюда к
светлому дню. Его ведут первоначально смутные чувства31*, происхождение и
действительность которых должно показать наукоучение; и мы до сих пор
не имели бы никакого ясного понятия и были бы все глыбой земли,
оторванной от почвы, если бы не начали сначала смутно чувствовать то, что
только после ясно узнали. — Это же подтверждает и история философии; и
мы теперь указали настоящую причину, почему то, что лежит совершенно
открыто в каждом человеческом духе и что каждый может схватить руками,
если оно ему ясно представлено, достигло первоначального сознания
немногих только после множества блужданий вокруг да около. Все
философы стремились к указанной цели, все хотели с помощью рефлексии
отделить необходимый способ действий интеллигенции32* от ее случайных
условий; и все действительно отделяли ее, только более или менее чисто,
более или менее полно. В целом же философская способность суждения
двигалась все дальше вперед и все более приближалась к своей цели.
27' Человеческий дух (1-е изд.).
28* Человеческий дух {1-е изд.).
29* Как необходимый образ действия интеллигенции. (Добавление ко 2-му изд. )
30* Как случайное. (Добавление ко 2-му изд.)
31 " Отсюда следует, что философ нуждается в смутном чувстве правильного
или гении не в меньшей степени, чем поэт или художник, только в другом
роде: последний нуждается в чувстве красоты, первый — в чувстве истины,
которое несомненно существует.
Один достойный уважения философский писатель рассердился, —
мне не вполне ясно, отчего и почему, — на это невинное замечание. "Пусть
оставят пустое слово "гений" канатным плясунам, французским поварам —
прекрасным душам, художникам и т.д., а для серьезных наук установят
лучше теорию изобретения". — Да, это следовало бы сделать, и это,
несомненно, будет сделано, как только наука дойдет до возможности такого
изобретения. Но в какой мере вышесказанное стоит в противоречии с подобным
предприятием и как же должна быть изобретена сама такая теория изобретения? Не
через теорию ли изобретения теории изобретения? А эта как? (2-е изд.)
32' Человеческого духа (1-е изд. ).
265
И. Г. Фихте
Эта рефлексия — не поскольку она вообще производится, так как в этом
отношении она свободна, но поскольку она производится сообразно законам,
поскольку, при условии, что она вообще имеет место, определяется ее род —
также принадлежит к необходимым способам действия интеллигенции 33*.
Поэтому ее законы должны встретиться в системе этих способов действия
вообще34*, и впоследствии, по завершении науки, несомненно можно
увидеть, удовлетворили ли мы этим законам или нет: следовательно, мы могли
бы верить, что, по крайней мере, впоследствии будет возможно очевидное
доказательство правильности нашей научной системы как таковой.
Но законы рефлексии, которые мы в процессе научного изучения
нашли единственно возможными для того, чтобы с их помощью
установить наукоучение35*, — если они и согласуются с теми, которые мы
гипотетически предположили как правила нашего действования, — суть сами
результат предшествующего применения последних. Здесь поэтому
открывается новый круг: мы предположили некоторые законы рефлексии и
находим теперь в процессе научного изучения те же самые законы как
единственно правильные36*, следовательно, мы были совершенно правы в
нашем предположении и наша наука по форме правильна. Если бы мы
предположили другие законы, то, без сомнения, нашли бы в науке и другие как
единственно правильные;37* спрашивается только, согласуются ли они с
предположенными или нет; если бы они не согласовывались с ними, то
было бы совершенно очевидно, что или предположенные или найденные
или, вернее всего, и те и другие были бы ложны. Мы, следовательно, не
можем на основании такого доказательства после того, как оно дано, заклю-.
чать об указанной ложности логического круга, но мы заключаем из
согласия предположенного и найденного38* о правильности системы. Но это —
только отрицательное доказательство, которое обосновывает одну лишь
вероятность. Если предположенные и найденные рефлексии не
согласуются между собою, то система очевидно ложна. Если они совпадают, то она
может быть правильной. Но отсюда не следует, что она необходимо
должна быть правильной; ибо если в человеческом знании есть только одна
система, и, значит, при правильном умозаключении можно найти подобное
согласование только одним-единственным способом, все же останется
возможным случай, что согласование произведено случайно двумя или более
обусловливающими согласование неправильными умозаключениями. Дело
обстоит совершенно так, как если бы я делал поверку деления
умножением. Если я получу в качестве произведения не желаемую величину, но
какую-нибудь другую, то, наверное, я где-нибудь сосчитал неверно; если я
33* Человеческого духа (1-е изд.).
м* В системе человеческого духа (1-е изд.).
35* Единственно наукоучение. (Добавление ко 2-му изд.)
и* Единственно правильные. (Добавление ко 2-му изд.)
37' Единственно правильные, (добавление ко 2-му изд.)
38' Предположенного и найденного. (Добавление ко 2-му изд.)
266
О понятии о наукоучения
получу желаемую величину, то вероятно, что я сосчитал правильно, но
только вероятно; ибо я мог бы в делении и в умножении сделать ту же
самую ошибку, например, в обоих случаях получить результат 5x9=36; и
тогда согласование ничего бы не доказывало. Так же обстоит дело и в науко-
учении: оно не есть только правило, но вместе с этим исчисление. Кто
сомневается в правильности нашего произведения, не сомневается тем самым
в том вечно значимом законе, что надо полагать один множитель столько
раз, сколько в другом есть единиц; быть может, этот закон ему столь же
близок к сердцу, как и нам; он сомневается только в том, действительно ли
мы его соблюдали.
Поэтому даже при высшем единстве системы, которое есть
отрицательное доказательство ее правильности, всегда остается еще нечто, что
никогда не может быть строго доказано, но может быть только допущено
как вероятное, а именно, что само это единство возникло не случайно —
через неправильное умозаключение. Можно многими способами
увеличить эту вероятность; можно несколько раз продумать ряды положений,
когда они уже не присутствуют в нашей памяти; можно проделать
обратный путь и идти от результата назад к основоположению; можно
рефлектировать снова о самой своей рефлексии и т.д. Вероятность будет все больше,
но то, что было простой вероятностью, никогда не станет достоверностью.
Если мы при этом сознаем, что мы честно исследовали39* и не стремились к
получению заранее предположенных результатов, то можно совершенно
удовлетвориться этой вероятностью и требовать от каждого, кто
сомневается в надежности нашей системы, чтобы он показал нам ошибку в наших
умозаключениях, но никогда нельзя притязать на непогрешимость.
Система человеческого духа, коей изображением должно быть наукоучение, аб-
39* Философ нуждается не только в чувстве истины, но и в любви к ней. Я уже
не говорю о том, что он не должен стараться утвердить заранее
предположенные результаты софизмами, которые он сознает,'но при этом надеется,
что они не будут открыты никем из его современников; тогда он сам знает,
что не любит истину. Но относительно этого каждый сам себе судья, и никто
не имеет права обвинять в этой недобросовестности другого, если нет
совершенно ясных тому доказательств. Но он должен быть настороже и против
непроизвольных софизмов, которым никакой исследователь не подвержен
более, нежели исследователь человеческого духа: он должен не только
смутно чувствовать, но довести до ясного сознания, как свое высшее правило,
то, что он ищет только истину, какова бы она ни была; он должен даже
приветствовать ту истину, что вообще нет истины, если только она окажется
истиной. Никакое положение, каким бы сухим и каверзным оно ему ни
казалось, не должно быть безразличным для него — все должны быть для него
одинаково священны, ибо все они принадлежат к системе истины и каждое
поддерживает всех. Он никогда не должен спрашивать, каковы будут
последствия, но должен прямо идти своей дорогой, какими бы ни были эти
последствия. Он не должен бояться никаких трудов и всегда сохранять
способность — отказаться от труднейших и глубокомысленнейших работ, как
только их неосновательность будет ему доказана или будет открыта им
самим. Если он и тогда ошибется, то это будет лишь та участь, которая доселе
постигала всех мыслителей.
267
И. Г. Фихте
солютно достоверна и непогрешима; все, что в ней обосновано, безусловно
истинно; она никогда не заблуждается, и то, что когда-нибудь было или
будет необходимым40* в какой-либо человеческой душе, — истинно. Если
люди ошибались, то ошибка коренилась не в необходимом, но
рефлектирующая сила суждения совершила ее в своей свободе, спутав один закон с
другим. Если наше наукоучение — удачное изображение этой системы, то оно
безусловно достоверно и непогрешимо, как и она; но вопрос именно в том,
удачно ли наше изображение и в какой мере41*. А этому мы никогда не
можем привести строгого доказательства, но только обосновать вероятное
доказательство. Оно будет истинным только при условии, если и
поскольку оно удачно. Мы не законодатели человеческого духа, но его
историографы, — не газетные о нем писатели, а прагматические историки.
Сюда присоединяется еще и то обстоятельство, что система может
быть действительно верна в целом, хотя бы отдельные ее части и не имели
полной очевидности. Мы можем здесь и там делать неправильные выводы,
могут быть пропущены промежуточные положения, доказуемые
положения могут быть представлены без доказательства или доказаны
неправильно—и важнейшие результаты все же будут правильны. Это кажется
невозможным; кажется, что малейшее уклонение от прямой линии необходимо
должно привести к бесконечно возрастающему уклонению: и это
несомненно было бы так, если бы человек должен был бы всего, что он знает, до:
стигнуть ясным мышлением; и если бы в нем гораздо более не властвовала
независимо от его сознания основная способность разума и новыми
отклонениями от прямого пути формально и логически правильного
рассуждения не возвращала бы его снова к единственно верному материально ре-
4°* Необходимым. {Добавлениеко 2-му изд.)
4|* Скромность этого замечания противопоставили последующей большой
нескромности автора. Конечно, он не мог предвидеть, с какими
возражениями и с каким изложением этих возражений он будет иметь дело, и знал
большинство философских писателей далеко не так хорошо, как он их знает
теперь; иначе он не упустил бы возможности высказать заранее свой образ
мысли также относительно тех случаев, которые действительно произошли.
Между тем предыдущее замечание не заключает в себе ничего, что стояло бы
в противоречии с последующим поведением автора. Выше он говорит о
возражениях против его выводов, но до сих пор так далеко его противники еще
не зашли; они еще спорят об основоположении, то есть обо всем том облике,
который автор дает философии; но об этом, по глубокому его убеждению,
тогдашнему и теперешнему, не может быть никакого спора, если только
спорящие сознают, о чем идет речь; на такое возражение он действительно
не рассчитывал. Он говорил о возражениях, которыми их авторы пытаются
придать себе хотя бы видимость основательности, хотя бы видимость того,
что эти возражения действительно что-либо показывают и доказывают, но
ничего подобного нет в возражениях тех, кого якобы поразила его мнимая
нескромность. — Вот объяснение, необходимости которого автор раньше не
мог предположить. Болтовня, творцы которой не приобрели нужных
предварительных знаний и не проделали необходимых предварительных
упражнений, из которой сразу видно, что они не знают, о чем идет речь, которая
ведется с лаем и визгом, не может произойти от рвения к прогресу науки и,
268
О понятии о наукоучения
зультату, которого он никогда не мог бы достигнуть посредством
правильного умозаключения из неправильных промежуточных положений42*, если
бы чувство часто не исправляло старые заблуждения через новое
отступление от прямого пути рассуждения и не приводило бы его вновь туда, куда
он никогда не возвратился бы через правильное умозаключение.
Следовательно, если и должно быть установлено общезначимое нау-
коучение, все же философствующая сила суждения будет в этой области
работать для непрерывного его усовершенствования43*, она всегда будет
заполнять пропуски, оттачивать доказательства и еще точнее определять
определения.
К этому я должен добавить еще два замечания.
Наукоучение предполагает известными и значимыми правила
рефлексии и абстракции; оно по необходимости должно это делать и не
должно этого стыдиться, не должно делать из этого тайну и скрывать это. Оно
может выражать себе делать заключения совершенно так же, как и всякая
другая наука; оно может предполагать все правила логики и применять все
понятия, в которых оно нуждается. Но эти предположения делаются
только для того, чтобы сделать наукоучение понятным, следовательно, без
извлечения из них каких-либо заключений. Все доказуемое должно быть
доказано, — все положения, кроме первого и высшего основоположения,
должны быть выведены. Так, например, ни логический закон
противоположения (противоречия, который обосновывает все анализы), ни закон
достаточного основания (нет ничего противоположного, что не было бы
равно в чем-либо третьем, и нет ничего равного, что не противополагалось
бы в некотором третьем, обосновывающем все синтезы) выведены не из
абсолютно первого основоположения, но из двух покоящихся на нем
основоположений. Оба последние, правда, суть также основоположения, но не
абсолютные; в них только есть нечто абсолютное. Эти положения так же,
как и логически покоящиеся на них положения, должны, правда, быть не
доказаны, но выведены.
Скажу еще яснее. — То, что устанавливает наукоучение, — это
мыслимое и выраженное в словах положение; то в человеческом духе, что
соответствует этому положению, есть некоторое его действие, которое само по
себе вовсе не необходимо должно быть мыслимо. Это действие не
вынуждает нас предполагать ничего, кроме того, без чего оно было бы невозмож-
стало быть, должна вытекать из недостойных мотивов (зависти,
мстительности, славолюбия, жажды гонорара и т.д.). Подобная болтовня не
заслуживает ни малейшего снисхождения, и возражения на нее не имеют
отношения к правилам научного спора.
Почему эти истолкователи из этого и других подобных замечаний не
делают единственно возможного заключения, что тон, который им не
нравится, вызван только их собственным тоном? (2-е изд.)
42* Если бы человек был только мыслящее, но не чувствующее в то же время
существо.
43* Совершенства (1-е изд.).
269
И. Г. Фихте
ным как действие; и это предполагается не молчаливо; напротив,
обязанность наукоучения — установить это предположение ясно и определенно
как такое, без которого будет невозможно действие. Например, пусть будет
действие D четвертым в ряду, тогда ему должно предшествовать действие
С, и оно должно быть доказано как исключительное условие возможности
действия D44*, а последнему, в свою очередь45*, должно предшествовать
действие В. Действие же А просто возможно: оно совершенно безусловно,
следовательно, ему ничего не должно и не может быть предпослано. Но
самое мышление действия А есть совершенно другое действие, которое
предполагает гораздо больше. Положим, что это мышление будет в ряду
установленных действий Д тогда ясно, что для него должны быть предположены
А, В, С, и так как это мышление есть первое дело наукоучения, то они
должны быть предположены молчаливо. Впервые в положении D будут
доказаны предположения первого; но тогда будет снова предположено многое.
Форма науки поэтому постоянно предшествует ее содержанию, вот почему
наука как таковая имеет лишь вероятностный характер. Изложенное и
изложение составляют два различных ряда. В первом не предполагается
ничего недоказанного; для возможности второго должно быть необходимо
предположено нечто, что может быть доказано только впоследствии.
Рефлексия, которая господствует во всем наукоучении, поскольку
оно есть наука, есть представление; но отсюда отнюдь не следует, что все, о
чем мы рефлектируем, — также только представление. В наукоучении
представляется Я; но из этого не следует, что оно представляется только в
качестве представляющего46*, в нем могут быть найдены и другие
определения. Я как философствующий субъект бесспорно — только предста-'
вляющее; Я как объект философствования может быть еще чем-то сверх
того. Представление есть высшее и абсолютно первое действие философа
как такового; абсолютно первое действие человеческого духа, конечно,
может быть иным. Что оно будет таким, это вероятно до всякого опыта уже
потому, что представление может быть совершенно исчерпано и его
способ действия абсолютно необходим, а следовательно, должен иметь
последнее основание своей необходимости, которое, в качестве последнего
основания, не может иметь никакого высшего над собой. При этом
предположении наука, построенная на понятии представления, может быть в
высокой мере полезной пропедевтикой к науке, однако она не может быть
самим наукоучением. Но из данных выше объяснений определенно
вытекает, что все способы действия интеллигенции47*, которые наукоучение
должно исчерпать, могут достигнуть сознания только в форме
представления, — только в той мере и в том виде, в каком они представляются.
'* Возможность действия D (добавление ко 2-му изд.).
5* В свою очередь (добавление ко 2-му изд.).
5* Представляется только интеллигенцией (1-е изд.).
7* Человеческого духа (1-е изд.).
270
Отдел третий19
§8
ГИПОТЕТИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
НАУКОУЧЕНИЯ
олютно первое
основоположение должно быть общо всему наукоучению, ибо оно должно обосновать не
только часть человеческого знания, но все знание. Разделение возможно
только через противоположение, члены которого, в свою очередь, должны
быть равны некоторому третьему.
Положим, Я будет высшим понятием, и Я противополагается Не-Я,
тогда ясно, что последнее не может противополагаться без того, чтобы
быть положено, и притом быть положено в высшем понятии — в Я. Таким
образом, Я подлежало бы рассмотрению с двух точек зрения: как такое, в
котором полагается Не-Я; и как такое, которое противополагается Не-Я и,
следовательно, само полагается в абсолютном Я. Последнее Я, поскольку
оба полагаются в абсолютном Я, должно быть равно в нем Не-Я и в том же
отношении ему противоположно. Это могло бы быть мыслимо только при
условии чего-то третьего в Я, в чем оба были бы равны, и это третье было
бы понятием количества. Оба имели бы количество, определимое своим
противоположным48*. Если Я определяется через Не-Я (по своему
количеству), то оно зависимо; оно называется интеллигенцией, и
рассматривающая его часть наукоучения есть его теоретическая часть; ее основу
составляет выводимое из основоположений и доказываемое ими понятие
представления вообще.
Но Я должно быть определено абсолютно и безусловно через себя
самого: если оно определяется через Не-Я, то оно не определяет себя самого,
что противоречит высшему и абсолютно первому основоположению.
Чтобы избегнуть этого противоречия, мы должны допустить, что Не-Я,
которое должно определять интеллигенцию, само определяется через Я,
которое в этом действовании не будет представляющим, но будет иметь
абсолютную причинность. — Но так как подобная причинность должна
совершенно упразднить противолежащее Не-Я, а с ним вместе и от него
зависящее представление, то допущение ее противоречит второму и третьему
48* При этом понятия Я, Не-Я и количества (предела) безусловно априорны.
Из них выводятся через противоположение и сравнение все другие понятия.
Абс
271
И. Г. Фихте
основоположению, и она должна быть представлена как противоречащая
представлению, как непредставимая, как причинность, которая не есть
причинность. Но понятие причинности, которая не есть причинность, есть
понятие стремления. Причинность мыслима только при условии
законченного приближения к бесконечности, что само по себе немыслимо. —
Это оказавшееся необходимым понятие стремления кладется в основу
второй части наукоучения, которая называется практической.
Эта вторая часть сама по себе — самая важная; первая, правда, не
менее важна, но только как основание для второй и потому, что вторая без нее
совершенно непонятна. Во второй части теоретическая часть впервые
получает свое определенное ограничение и твердое основание, поскольку
установлением необходимого стремления дается ответ на вопросы: почему
мы должны вообще представлять при условии наличности воздействия; по
какому праву относим мы представления к чему-то вне нас как к их
причине; по какому праву мы вообще принимаем совершенно определенную
законами способность представления (каковые законы представляются не
как внутренние законы способности представления, но как законы
стремящегося Я, применение коих обусловлено воздействием
противоборствующего Не-Я на чувство). В этой части обосновывается новая,
совершенно определенная теория приятного, прекрасного и возвышенного,
закономерности природы в ее свободе, учение о Боге, о так называемом
человеческом здравом смысле и о естественном чувстве истины, и, наконец,
естественное право и учение о нравственности, основоположения коих не
только формальны, но и материальны. Все это — через установление трех
абсолютов. Первый из них — абсолютное Я и самоданные законы, предста-
вимыб при условии некоторого воздействия Не-Я: Второй — абсолютное,
независимое и свободное от всех наших законов Не-Я, представимое при
условии, что оно выражает их положительно или отрицательно, но всегда в
конечной степени. И наконец, третий Абсолют — наша абсолютная
способность — определяется в меру воздействия Я и Не-Я и представима при
условии, что она отличает воздействие Не-Я от действия Я.
Академическим гражданам, согражданином которых я считаю за
честь быть в скором времени, известно из объявлений о лекциях, какие
чтения я предполагаю вести о науке, понятие которой я пытался развить;
здесь я только могу им об этом сказать лишь то, что я надеюсь дать им для
обеих ее частей печатное руководство на правах рукописи для моих
слушателей 49*. Избранные мною лекционные часы я укажу после моего
прибытия в обычном месте.
49* Последнее не для того, чтобы сузить права критики, но чтобы
засвидетельствовать мое уважение критике и представительнице ее — публике20.
272
О понятии о наукоучения
Я должен выяснить еще один вопрос.
Как вам, без сомнения, известно, науки изобретены не для
праздного занятия ума и не для потребностей утонченной роскоши. В последнем
случае ученый принадлежал бы именно к тому классу, к которому
принадлежат все такие живые орудия роскоши, которая есть только роскошь, да и
в этом классе его первенство было бы спорно. Все наше исследование
должно быть направлено к высшей цели человечества — к
облагораживанию рода, коего мы — сочлены; от питомцев наук, как от центра, должна
распространяться человечность в высшем смысле этого слова. Всякое
приращение, которое получает наука, умножает обязанности ее служителей.
Поэтому становится все более необходимым серьезно ответить на
следующие вопросы: каково, собственно, назначение ученого? Какое ему
отведено место в порядке вещей? В каком отношении находятся ученые между
собой, к другим людям вообще и в особенности к различным отдельным
сословиям последних? Как и какими средствами могут они всего лучше
выполнить обязанности, налагаемые на них этими отношениями, и как
они должны подготовить себя к этому уменью? На эти вопросы я и
попытаюсь ответить в своих публичных чтениях, которые я объявил под
названием "Мораль для ученых" 21. Не ожидайте от этих бесед систематической
науки; недостатки ученых чаще обнаруживаются в действовании, чем в
знании. Давайте же скорее объединяться в эти часы, как общество друзей,
которых связуют более нежели одни узы, чтобы взаимно вдохновлять друг
друга высоким, пламенным чувством наших общих обязанностей.
ОСНОВА
ОБЩЕГО НАУКОУЧЕНИЯ
(На правах рукописи для слушателей)
1794 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ
КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
При выработке нового изложения
наукоучения творцу этой науки стало снова ясно, что никакое другое его
изложение не может сделать нынешнее первое совершенно лишним и
ненужным. Большая часть философствующей публики, по-видимому, еще
не настолько подготовлена к новому взгляду, чтобы для нее не было
полезно столкнуться с одним и тем же содержанием в двух весьма различных
формах и затем признать его за одно и то же. Далее, ход данного изложения
таков, что всегда будет очень полезно сводить к нему тот метод, которому
должно будет следовать новое изложение и который рассчитан скорее на
понятность, пока не появится строго научное изложение. Наконец, в
нынешнем изложении многие из главных пунктов представлены с такой
обстоятельностью и ясностью, превзойти которую автор не надеется. В
новом изложении он принужден будет неоднократно ссылаться на образцы в
этом роде.
Вот те причины, которые побудили нас озаботиться о новой
перепечатке без изменений этого первого, уже распроданного изложения. Новое
изложение появится в будущем году.
Берлин, август 1801 г.
Фихте
ПРЕДИСЛОВИЕ
.Мне нечего было бы сказать
публике об этой книге, которая, собственно говоря, для нее не предназначалась,
если бы она не была самым нескромным образом выставлена перед одной
частью ее и притом еще в незаконченном виде. Пока что ограничусь
относительно этого только таким замечанием!
Я думал и продолжаю еще думать, что открыл тот путь, по которому
философия может достигнуть положения очевидной науки. Я скромно
заявил об этом1, я изложил то, как бы я разрабатывал эту идею и как я теперь,
при изменившемся положении, должен ее разработать, и начал приводить
мой план в исполнение. Это было естественно. И столь же естественно
было, что другие знатоки и деятели науки исследовали, проверяли, обсуждали
мою идею и старались опровергнуть меня, какими бы причинами —
внутренними или внешними — ни объяснялось при этом их недовольство тем
путем, которым я хотел вести науку. Но зачем же понадобилось отвергать
мои утверждения так прямо безо всякой проверки, стараться всего больше
о том, чтобы извратить их, и пользоваться каждым случаем для того, чтобы
со страстью их поносить и о них злословить, — это остается непонятным.
Что же могло вывести из себя до такой степени этих критиков? Должен ли я
говорить с почтением о тех, кто повторяет чужие слова и высказывает
поверхностные суждения, что не внушает мне ни малейшего уважения? Что
должно было обязать меня к этому? Особенно при том условии, что у меня
было немало своего дела, и каждый кропатель мог бы спокойно идти своей
дорогой, если только не заставлял меня очищать самому себе место
изобличением его кропательства.
Или их враждебное отношение имело еще какое-нибудь основание?
Для честных людей, для которых только и имеет смысл говорить это, скажу
следующее. Чем бы ни было мое учение, — истинной философией или
фантастикой и бессмыслицей, это не имеет значения для моей личности,
если только я честно вел исследование. Счастье открытия истинной
философии так же мало повысило бы ценность моей личности, как мало
понизило бы ее несчастье — впасть в новые ошибки на основе ошибок всех
времен. О моей личности я вообще не думаю; к истине же я пламенно стрем-
278
Основа общего наукоучения
люсь, и то, что я считаю за истинное, я буду всегда повторять так энергично
и так решительно, как только могу.
В настоящей книге, если присоединить к ней еще сочинение "Очерк
особенностей наукоучения по отношению к теоретической способности"2,
я, как мне думается, настолько полно изложил мою систему, что всякий
знающий ее будет в состоянии дать себе полный отчет в основании и
объеме этой системы, а также в том, как, опираясь на это основание, нужно ее
строить дальше. Мое положение не позволяет мне дать какие-либо
определенные обещания относительно того, когда и как я продолжу ее
разработку.
Мое изложение я сам считаю чрезвычайно несовершенным и
недостаточным, отчасти потому, что оно было предназначено для моих
слушателей, причем я мог всегда вносить добавления изустным изложением, и
должно было появляться в свет отдельными листами по мере надобности
их для моих лекций; отчасти же потому, что я старался по мере
возможности избегать прочно установленной терминологии, которая представляет
наиудобнейшее средство для буквоедов — вытравить из всякой системы ее
дух и превратить ее в сухой остов. Я буду придерживаться этого правила и
при дальнейших обработках системы, пока не будет достигнуто ее
конечное и совершенное изложение, сейчас же я совсем не собираюсь
заниматься дальнейшими пристройками, а хотел бы только побудить публику
вместе со мною обдумать будущее построение. Тогда можно будет из одной
только общей связи уразуметь целое и составить о нем общее
представление, не определив еще с точностью ни одного отдельного положения.
Такой метод, разумеется, предполагает добрую волю — воздать системе
сообразно с ее достоинствами, а не преднамеренное старание видеть в ней
лишь ошибки.
Я слышал много жалоб на темноту и непонятность той части этой
книги, которая стала известна до сих пор во внешних кругах, а равно и
сочинения "О понятии наукоучения".
Если жалобы, высказанные по поводу этого последнего сочинения,
касаются главным образом его восьмого параграфа3, то возможно,
конечно, что я был не прав, изложив там основные положения системы,
определяемые у меня ею в ее целом, без самой системы, и понадеявшись, что
найду у читателей и критиков достаточно терпения, чтобы оставить все в том
же неопределенном виде, в каком я там все оставил. Если же жалобы
относятся ко всему сочинению, то я наперед признаюсь, что для таких людей,
которым оно было непонятно, я в сфере умозрения никогда не буду в
состоянии написать ничего понятного. Если упомянутое сочинение
знаменует границу их понимания, то оно представляет и границу моей
понятности. Наши умы разделены между собою этой границей, и я прошу их не
279
И. Г. Фихте
тратить время на чтение моего сочинения. Такое непонимание может
иметь какое угодно основание; но уже в самом наукоучении заключается
некоторое основание того, почему оно должно навсегда остаться
непонятным для некоторых читателей. А именно: оно предполагает способность
свободы внутреннего созерцания. Ведь каждый философский писатель
имеет полное право требовать, чтобы читатель не упускал нити
рассуждения и не забывал ничего предшествующего, когда он обращается к
последующему. Ничего такого, чего при таких условиях нельзя было бы понять в
этих сочинениях и что при этом не должно было бы необходимым образом
быть правильно понято, мне, по крайней мере, в них неизвестно. Во
всяком случае, я думаю, что сам автор книги имеет право голоса при ответе на
этот вопрос. То, что мыслилось с полной ясностью, понятно. А я знаю, что
мыслил все с полной ясностью, так что мог бы каждое свое утверждение
довести до любой степени ясности, если бы у меня было для этого
достаточно времени и места.
Особенно же я считаю нужным напомнить, что я не хотел сказать
моему читателю всего, но стремился оставить ему кое-что также и для его
собственного размышления. Есть целый ряд недоразумений, которые я,
конечно, предвижу и которые я мог бы устранить двумя словами. Но я не
сказал и этих двух слов, так как я хотел способствовать самостоятельному
мышлению. Наукоучение вообще не должно навязываться, а должно быть
потребностью, как то было у его автора.
Будущих критиков этого сочинения я прошу рассматривать
сочинение в целом и на каждую отдельную мысль смотреть с точки зрения целого.
Рецензент из Галле4 высказывает предположение, что я хотел просто
пошутить; и другие критики сочинения "О понятии наукоучения",
по-видимому, думали то же самое. Так легкомысленно проходят они мимо сущности
дела, а их замечания настолько забавны, как если бы они на шутку
отвечали шуткой.
Ввиду того, что при троекратной переработке этой системы мои
мысли относителЕно отдельных ее положений каждый раз оказывались
измененными, можно ожидать, что и при дальнейшем размышлении они
будут меняться и развиваться. Я сам буду над этим работать самым
тщательным образом и буду рад каждому идущему к делу замечанию других. Далее,
сколь бы глубоко я ни был убежден в том, что те основоположения, на
которых зиждется вся эта система, непоколебимы, и как бы сильно ни
выражал я в разных местах это мое убеждение, имея на то полное право,
все-таки остается возможность, — правда, для меня пока немыслимая, что они
все же будут поколеблены. Я был бы рад даже и этому, так как истина
от этого выиграла бы. Пусть только займутся ими и попытаются
поколебать их.
280
Основа общего наукоучения
Что такое, собственно говоря, моя система, и в какой класс можно ее
поместить, — представляет ли она собою осуществление подлинного
критицизма, как я думаю, или что-нибудь другое (как бы ее при этом ни
именовать), все это не важно. Я не сомневаюсь, что ей подыщут не одно имя и
что ее будут обвинять во многих прямо противоположных ересях. Пусть
будет так, — только пусть мне не указывают на старые опровержения, а
опровергают непосредственно.
Йена, на Пасхальную ярмарку,
1795 г.
Часть первая
ОСНОВОПОЛОЖЕНИЯ ВСЕГО НАУКОУЧЕНИЯ
§1
ПЕРВОЕ СОВЕРШЕННО БЕЗУСЛОВНОЕ
ОСНОВОПОЛОЖЕНИЕ
JVlbi должны отыскать абсолютно
первое, совершенно безусловное основоположение всего человеческого
знания. Быть доказано или определено оно не может, раз оно должно быть
абсолютно первым основоположением.
Оно должно выражать собою то дело-действие (Thathandlung)5,
которое не встречается и которого нельзя встретить среди эмпирических
определений нашего сознания, которое, напротив того, лежит в основании
всякого сознания и только одно делает его возможным •>*. При изложении
такого дела- действия следует опасаться не столько того, что при этом не
будет мыслиться то, что нужно мыслить, — ибо об этом позаботилась уже
природа нашего духа, — сколько того, что при этом будет мыслиться то,
чего не следует мыслить6. Это делает необходимым рефлексию о том, что
можно было бы, пожалуй, сначала признать за такое дело-действие, и
отвлечение от всего того, что к нему в действительности не относится.
Даже и эта отвлекающая рефлексия не в состоянии сделать фактом-
сознания то, что таковым не является; но она дает возможность
установить, что такое дело-действие должно быть необходимо мыслимо как
основание всякого сознания.
Законы (законы общей логики), согласно которым необходимо
должно мыслиться такое дело-действие как основание человеческого
знания, или — что то же — правила, согласно которым совершается указанная
рефлексия, еще не обнаружены, не раскрыты как значимые; но они
молчаливо предполагаются как нечто известное и установленное. Только
позднее они будут выведены из того основоположения, установление
которого правильно лишь при условии их правильности. Это — круг, но круг
неизбежный (см. "О понятии наукоучения", § 7). А так как он неизбежен и
является свободно признанным кругом, то и при установлении высшего
основоположения можно ссылаться на все законы общей логики.
Приступая к этому размышлению, мы должны отправиться от
какого-либо положения, которое не откажется признать каждый человек. Та-
'* Это упускается из виду всеми теми, кто по этому поводу замечает, что либо
то, что высказывается первым основоположением, не встречается среди
фактов сознания, либо же оно противоречит им.
282
Основа общего наукоучения
ких положений могло бы быть, конечно, и несколько. Мышление
свободно; и не имеет значения, из какой точки оно исходит. Мы избираем такое
положение, от которого до нашей цели расстояние всего короче.
Если только это положение будет признано, вместе с ним должно
быть признано как дело-действие также и то, что мы хотим положить в
основу всего наукоучения; и размышление должно показать, что его как
таковое надлежит признать одновременно с этим положением. Мы
установим какой-нибудь факт эмпирического сознания, и затем одно за другим
от него будут отделяться эмпирические определения, пока не останется
лишь то, чего уже безусловно нельзя отмыслить прочь и от чего далее уже
ничего более нельзя отделить.
1. Положение:^ естьЛ (то же, что иА=А, так как таков смысл
логической связки) признается каждым и притом без всякого размышления над
ним; оно признается за нечто совершенно достоверное и установленное7.
Но если бы кто-нибудь стал требовать его доказательства, то в ответ
на это мы не прибегли бы к доказательству, а сказали бы, что это
положение безусловно достоверно, то есть без всякого дальнейшего основания на
то. Отвечая так и вызывая тем, без сомнения, всеобщее одобрение, мы
приписываем себе этим способность полагать нечто безусловным образом.
2. Утверждением, что только что приведенное положение
достоверно, не утверждается то, что А существует. Положение: А есть А не
однозначно с положением Л есть или существует некоторое А. (Бытие,
полагаемое без предиката, выражает собою нечто совсем другое по сравнению с
бытием, которое полагается с предикатом, о чем см. ниже.) Положим, А
означает заключающееся между двумя линиями пространство; в таком
случае первое положение остается по-прежнему истинным, тогда как
положение — А есть — было бы явно ошибочным. Но этим мы утверждаем:
если Л есть, то естьЛ. Следовательно, о том, есть ли А вообще или нет, вовсе
не поднимается вопроса. Вопрос касается не содержания положения, а
только его формы. Спрашивается не о том, о чем что-либо известно, а о
том, что известно о каком-либо предмете, что бы это ни был за предмет.
Следовательно, утверждением, что вышеприведенное положение
безусловно достоверно, устанавливается то, что между таким если и таким
то существует необходимая связь. Необходимая связь между ними и есть
то, что полагается безусловно и без всякого дальнейшего основания.
Предварительно я буду называть эту необходимую связь = Х.
3. Относительно того, существует ли само Л или не существует, этим
еще ничего не полагается. Таким образом, возникает вопрос: при каком же
условии А существует?
а) X по меньшей мере полагается в Я и через посредство Я, ибо в
вышеупомянутом суждении судит ведь Я и судит согласно X как некоторому
закону. Этот последний, следовательно, дан Я\ а так как он устанавливает-
283
И. Г. Фихте
ся безусловно и без всякого дальнейшего на то основания, то он должен
быть дан Я самим же Я.
в) О том, полагается ли Л вообще и как оно полагается, мы ничего не
знаем. Но так как ^ должно означать собою некоторую связь между
неизвестным полаганием А и некоторым при условии такого полагания
абсолютным полаганием того же самого Л, то по меньшей мере, поскольку
такая связь полагается, А полагается в Я и через посредство Я, точно так же,
как иХ.Х возможно лишь в отношении к какому-нибудь Л, но Л"
действительно полагается в Я; стало быть, и А должно полагаться в Я, поскольку с
ним соотнесено X.
с) Устоит в отношении к тому Л, которое в вышеуказанном
положении занимает логическое место субъекта, а равно и к тому Ау которое
занимает там логическое место предиката — ибо оба они воссоединяются через
X. Стало быть, оба они, поскольку они полагаются, полагаются в Я; и то из
них, которое стоит в роли предиката, полагается безусловно на том
условии, что полагается также и то, которое стоит в роли субъекта.
Соответственно этому вышеуказанное положение может быть выражено также
следующим образом: если Л полагается в Я, оно полагается или же оно
существует.
4. Таким образом, Я через посредство X полагает следующее: А есть в
наличности для судящего Я безусловно и исключительно в силу его поло-
женности в Я вообще, то есть им полагается, что в Я—будет ли оно
преимущественно полагающим, или судящим, или еще каким — есть нечто, что
равно себе всегда, что всегда остается одним и тем же. И безусловно
полагаемое X можно выразить также следующим образом: Я-Я\Я есмь Я.
5. Путем такой операции мы уже достигли незаметным образом
положения: Я есмь (правда, не как выражения некоторого дела-действия, но
все же как выражения некоторого факта).
Ибо X полагается безусловно, — это факт эмпирического сознания.
Л'же равно положению: Я есмь Я; следовательно, и это положение
полагается безусловно.
Но положение: Я есмь Я имеет совсем другое значение, чем
положение Л есть А. А именно: это последнее положение обладает содержанием
лишь при некотором определенном условии. Если А полагается, то оно,
как Л, полагается, конечно, вместе с предикатом А. Но этим положением
совершенно еще ничего не решается относительно того,.полагается ли оно
вообще, следовательно, полагается ли оно с каким-либо предикатом.
Положение же Я есмь Я имеет безусловную и непосредственную значимость,
так как оно тождественно положению^2*; оно имеет значимость не только
2* То есть выражаясь совсем просто: Я, полагающее А в роли предиката,
благодаря тому, что оно полагается в роли субъекта, знает необходимым
образом о своем субъекто-положении, стало быть, о самом себе, зрит вновь себя
самого, есть для себя самого оно само.
284
Основа общего наукоучения
по форме, но также и по своему содержанию. Им Я полагается не под
условием, а как таковое, с предикатом его равенства самому себе. Оно, стало
быть, положено; и положение может быть также выражено следующим
образом: Я есмь.
Это положение: Я есмь пока основано только на факте и обладает
единственно лишь фактической значимостью. Ежели положение А = А
(или, выражаясь точнее, то, что в нем безусловно полагается = X) должно
быть достоверно, то достоверным должно быть также и положение: Я есмь.
Ну, а то, что мы принуждены признать X за нечто безусловно достоверное,
есть факт эмпирического сознания; и то же самое относится, стало быть, и
к положению: Я есмь, на котором основывается X. Соответственно с этим
основанием для объяснения всех фактов эмпирического сознания
является то, что прежде всякого положения в Я должно быть положено само Я.
(Основанием всех фактов, говорю я — и это зависит от доказательства того
положения, что Л'есть высший факт эмпирического сознания, лежащий в
основании всех других и во всех других содержащийся, — это же
положение должно было бы быть допущено без всяких доказательств, несмотря на
то, что все наукоучение занято тем, как бы его доказать.)
б) Возвратимся к той точке, из которой мы вышли.
а) Положением А -А осуществляется суждение. Всякое же суждение
есть, согласно эмпирическому сознанию, некоторое действие
человеческого духа; ибо оно обладает в эмпирическом самосознании всеми
условиями действия, которые в целях рефлексии нужно предполагать
известными и установленными.
в) В основании же этого действия лежит нечто, в свою очередь уже не
основывающееся ни на чем более высоком, именно Х = Я есмь.
с) Следовательно, нечто, безусловным образом положенное и на себе
самом основанное, есть основание некоторого достоверного (и, как то
станет ясно по изложению всего наукоучения, всякого) действия
человеческого духа, стало быть, являет собою его чистый характер — чистый
характер деятельности как таковой, оставляя в стороне ее отдельные
эмпирические условия.
Значит, полагание Я самим собою есть его чистая деятельность. Я
полагает себя самого, и оно есть только благодаря этому самоположению. И
наоборот, Я есмь, и оно полагает свое бытие благодаря только своему
бытию. Оно является в одно и то же время и тем, что совершает действие, и
продуктом этого действия, а именно: действующим началом и тем, что
получается в результате этой деятельности. Действие и дело суть одно и то же,
и потому Я есмь есть выражение некоторого дела-действия, и притом дела-
действия единственно только и возможного, как то должно выясниться из
всего наукоучения.
7. Обратимся теперь еще раз к рассмотрению положения: Я есмь Я.
а) Я полагается безусловно. Положим, что в этом положении Я, зани-
285
И. Г. Фихте
мающее место формального субъекта3*, означает собою безусловно
полагаемое Я, а Я, занимающее место предиката, — сущее Я. В таком случае
безусловно значимым суждением, что они суть одно и то же, высказывается или
безусловно полагается следующее: Я есть, потому что оно положило себя.
Ь) Я в первом смысле и Я во втором смысле должны быть друг другу
совершенно равны. Потому можно также обратить вышеуказанное
положение и сказать: Я полагает себя самого просто потому, что оно есть. Оно
полагает себя единственно лишь через свое бытие и есть единственно через
то, что оно положено.
Это совершенно уясняет, в каком смысле мы употребляем здесь
слово Я, и приводит нас к определенному объяснению Я как абсолютного
субъекта. То, бытие (сущность) чего состоит единственно только в том, что
оно полагает себя самого как сущее, есть Я как абсолютный субъект8.
Поскольку оно полагает себя, оно есть, и, поскольку оно есть, оно полагает
себя. И соответственно с этим #, безусловно, необходимо для Я. Что не
существует для себя самого, не есть Я.
(К пояснению сказанного! Приходится сталкиваться с вопросом:
чем был я до того, как пришел к самосознанию? Естественный ответ на это
таков: я не был ничем, так как я не был Я. Я есть лишь постольку, поскольку
оно сознает себя самого. Возможность подобного вопроса зиждется на
смешении Я как субъекта с Я как объектом рефлексии абсолютного
субъекта, и вопрос этот сам по себе совершенно недопустим. Я представляет
самого себя, вбирает постольку самого себя в форму представления и только
тогда становится чем-то, объектом. Сознание получает в этой форме
некоторый субстрат, который существует и в отсутствии действительного
сознания и к тому же еще мыслится телесным. Представляя себе такое
положение вещей, затем спрашивают: чем был я до тех пор, то есть что такое
субстрат сознания? Но и в таком случае незаметно для себя примысливают
абсолютный субъект как субъект, созерцающий этот субстрат.
Следовательно, при этом примысливают незаметно как раз то, от чего хотели
отвлечься, и тем самым противоречат себе. Ничего нельзя помыслить
без того, чтобы не примыслить своего Я как сознающего самого себя; от
3* Во всяком случае, это так также и согласно логической форме каждого
положения. В положении^ =А первое А есть нечто такое, что полагается вЯли-
бо безусловно, как и само Я, либо же на каком-нибудь основании, как любое
определенное Не=Я. При этом Я действует как абсолютный субъект, и
потому первое Л именуется субъектом. Вторым Л обозначается то, что преднахо-
дится Я, делающим себя самого объектом своей рефлексии, как нечто в нем
самом положенное, потому что оно сперва положило в себе это нечто.
Судящее Я высказывает, собственно, нечто не об А, а о самом себе, — а именно,
что находит в себе некоторое Л. И потому-то второе А именуется
предикатом. Таким образом в положении Л =В А означает то, что полагается в
данный момент. В же — то, что уже найдено как положенное. Есть выражает
переход Я от положения к размышлению над положением.
286
Основа общего наукоучения
своего самосознания никогда нельзя отвлечься. Следовательно, ни один
вопрос, подобный вышеозначенному, не может быть разрешен, ибо такие
вопросы нельзя ставить себе, если хорошенько поймешь себя самого.)
8. Если Я есть лишь постольку, поскольку оно себя полагает, то оно
есть также лишь для полагающего и полагает лишь для сущего. —Я есть
для Я. — Если же оно полагает себя безусловно лишь таким, каково оно
есть, оно полагает себя необходимым образом и существует с
необходимостью для Я. Я есмь только для меня; для меня же Я есмь необходимо (говоря:
для меня, я уже полагаю мое бытие).
9. Полагать самого себя и быть — утверждения, применительно к Я,
совершенно одинаковые. Положение: Я есмь, потому что Я положил
себя, — может быть потому выражено также и следующим образом: Я есмь
безусловно потому, что Я есмь.
Далее, полагающее себя Я и сущее Я совершенно равны друг другу,
суть одно и то же. Я есть то самое, чем оно себя полагает; и оно полагает
себя как то самое, что оно есть. Таким образом: Я есмь безусловно то, что Я
есмь.
10. Непосредственным выражением раскрытого теперь смысла дела-
действия может быть признана следующая формула: Я есмь безусловно, то
есть Я есмь безусловно потому, что Я есмь, и Я есмь безусловно то, что Я
есмь; в обоих случаях — для Я.
Если поставить повествование об этом деле-действии во главе
наукоучения, то его нужно будет выразить следующим образом: Я
первоначально полагает безусловно свое собственное бытие**9.
Мы отправились из положения А =А не в том предположении, чтобы,
исходя из него, можно было бы доказать положение: Я есмь, а потому, что
нам необходимо было отправиться от чего-нибудь достоверного, данного в
эмпирическом сознании. Но само наше исследование показало, что не
положение А=А служит основанием для положения Я есмь, а, наоборот, это
последнее положение обосновывает собою первое.
Если отвлечься в положении: Я есмь от определенного содержания —
от Я и оставить только форму, данную вместе с этим содержанием, —
форму заключения от положенности к бытию, как то должно быть сделано в
целях логики (см. "Понятие наукоучения" § 6), то в качестве
основоположения логики получится положение А =А, которое только в наукоучении
4* Все это значит, если прибегнуть к помощи других слов, которыми я стал с
тех пор выражаться, следующее: Я есть по необходимости тождество
субъекта и объекта, — субъект-объект; и оно является таким прямо, без всякого
дальнейшего посредства. Таков смысл, говорю я, всего вышесказанного.
Без этого не так-то легко, как это можно было бы думать, понять это
утверждение и уразуметь его чрезвычайную важность, которой до Наукоучения
постоянно пренебрегали. Поэтому нельзя опустить предшествующих его
разъяснений. {Примеч. ко 2-му изд.)
287
И. Г. Фихте
может получить свое доказательство и определение. Доказательство: Л есть
А потому, что Я, которым положено было Л, равно тому, в котором оно
положено; определение: все, что есть, есть лишь постольку, поскольку оно
положено в Я; вне же Я нет ничего. Никакое возможное А в
вышеуказанном положении (никакая вещь) не может быть ничем другим, кроме как
чем-либо положенным в Я.
Если, далее, отвлечься от всякого суждения как определенного
действия и иметь в виду только данный в указанной выше фо^ме вид действо-
вания человеческого духа вообще, то мы будем иметь категорию
реальности. Все, к чему применимо положение А-А, имеет, поскольку это
положение к нему применимо, реальность. То, что полагается одним только
положением какой-либо вещи (чего-либо в Я положенного), составляет в ней
реальность, есть ее сущность.
(Маймоновский скептицизм10 опирается в конечном счете на
вопрос о нашем праве применять категорию реальности. Этого права нельзя
вывести ни из какого другого, мы к этому безусловно уполномочены.
Скорее из него должны быть выведены все другие возможные права; и сам
маймоновский скептицизм незаметным образом предполагает его, признавая
правильность общей логики. Однако может быть указано нечто такое, из
чего выводится в свою очередь каждая категорий; это — Я как абсолютный
субъект. Относительно всего остального, к чему только она должна быть
применима, нужно показать, что на него реальность переносится из Я, что
оно необходимо должно быть, поскольку есть Я.)
На наше положение, как абсолютное основоположение всего
знания, намекал Кант в своей дедукции категорий; но он нигде не установил
его определенно как основоположение11. До него Картезий указывал
подобное же положение: cogito ergo sum*, которое не только должно было
быть меньшей посылкой и заключением некоторого силлогизма, коего
большая посылка гласила: quodcunque cogitât, est**, — но которое он
считал для себя возможным рассматривать также как непосредственный факт
сознания12. В таком случае оно значило то же, что cogitans sum, ergo sum ***
(или, как выразились бы мы, sum, ergo sum)****. Но в таком случае
Прибавка cogitans ***** совершенно излишня. Нет необходимости мыслить, если
существуешь, но необходимо существовать, если мыслишь. Мышление
отнюдь не составляет сущности бытия"й есть лишь особое его определение;
кроме него существует ряд иных определений нашего бытия. Рейнгольд
* Мыслю, следовательно, существую (лат.).
** То, что мыслит, существует {лат.).
*** Существую как мыслящий, следовательно, существую (/шт.).
**** Существую, следовательно, существую (лат.).
***** Мыслящий (пат.).
288
Основа общего наукоучения
устанавливает принцип представления13; и в картезианской форме его
основоположение гласило бы так: repraesento, ergo sum *, или, правильнее,
repraesentans sum, ergo sum **. Он делает значительный шаг вперед по
сравнению с Картезием. Однако, если он имеет в виду создать не только
пропедевтику к науке, а и саму науку, этот шаг недостаточен; ибо и
представление не составляет сущности бытия, а есть лишь особое его определение;
кроме этого, существуют еще и другие определения нашего бытия, даже
если бы для того, чтобы достигнуть эмпирического сознания, они и должны
были пройти через среду представления.
За пределы нашего положения в указанном смысле вышел Спиноза14.
Он не отрицает единства эмпирического сознания, но полностью отрицает
чистое сознание. По его мнению, весь ряд представлений эмпирического
субъекта относится к единому чистому субъекту так, как отдельное
представление к ряду. Для него Я (то Я, которое он называет своим или же я называю
моим Я) есть не безусловно потому, что оноЪстъ] а~потому~что естъ~нечпю
другое. Правда, Я, по его мнению, есть Я для Я, но он спрашивает при этом,
чем Бы оно было для чего-то вне Я. Такое "вне=Я" было бы равным образом
некоторым Я, по отношению к которому положенное Я (например, мое Я) и
все возможные, могущие быть положенными Я были бы видоизменениями.
Он отделяет чистое и эмпирическое сознание. Первое он полагает в Боге,
который никогда не сознает себя, так как чистое сознание никогда не
достигает сознания; второе же он полагает в отдельные модификации Божества15. В
таком виде егосистема вполне последовательна и неопровержима, так как
она находится в такой сфере, куда разум не может за ней следовать. Но она
лшие]^^ ей право выходить за пределы
данного в эмпирическом сознании чистого сознания? Нетрудно показать, что
толкнуло его к его системе; это — необходимое стремление установить в
человеческом познании высшее единство16. Это единство имеется в его
системе, и ошибка лишь в мнении, будто он заключает из теоретически разумных
оснований там, где он на деле был влеком лишь чисто практической
потребностью; ошибка в том, что он думал, будто он устанавливает нечто
действительно данное, тогда как на деле он установлял лишь некоторый
скрытый, но навсегда недостижимый идеал. Его высшее единство мы снова
обретем в наукоучении, но не как нечто такое, что есть, а как нечто такое, что
должно, хотя и не может быть нами произведено. Я замечу еще, что если
переступить за пределы Я есмь, то неизбежно придешь к спинозизму. (Что
Ле^бницев^систёма^ взятая мыслё
как спинозизм, показывает в своей весьма поучительной статье: "О про-
грессах философии... и т.д."18 Саломон Маймон.) Существуют только две
вполне последовательные системы: критическая, которая признает такую
границу, и спинозистская, которая ее переходит.
* Представляю, следовательно, существую (лат.).
** Существую как представляющий, следовательно, существую (лат.).
10-645
289
§2
ВТОРОЕ, ПО СВОЕМУ СОДЕРЖАНИЮ
ОБУСЛОВЛЕННОЕ ОСНОВОПОЛОЖЕНИЕ
В торое основоположение не может
быть ни доказано, ни выведено по той же самой причине, по какой нельзя
этого* сделать и с первым. Поэтому и в данном случае совершенно так же,
как выше, мы будем исходить из некоторого факта эмпирического
сознания; оперировать с ним мы будем так же, как в первом случае, пользуясь
одинаковым на то правом.
1. Положение:Л не =А будет, без сомнения, каждым признано
совершенно достоверным и неоспоримым, и вряд ли можно ожидать, чтобы кто-
нибудь стал требовать его доказательства.
2. Если же такое доказательство оказалось бы все же возможным, то в
нашей системе (правильность которой сама по себе, конечно, до полного
завершения науки проблематична) его можно было бы получить только из
положения: А=А.
3. Но такое доказательство невозможно. Ибо, если даже
предположить самое большее, а именно, что установленное положение совершенно
одинаково с положением: — А= —А, а следовательно, —А одинаково с
некоторым, полагаемым в Я, и что положение это имеет в таком случаесле-
дующий смысл: если противоположное Л полагается, то оно полагается, —
то и тогда бы тут полагалась безусловно та же самая связь (=Х), как и выше;
то есть тут не было бы никакого положения, выведенного из положения:
А=А, а фигурировало бы просто само это положение. И таким образом,
действительно форма этого положения, поскольку оно является только
логическим положением, подчиняется высшей форме, форменности вообще,
единству сознания.
4. Совершенно не затронутым остается еще вопрос: полагается ли
противоположность А и на условии какой формы чистого действия! Если
бы вышеустановленное положение было выведено, это условие в свою
очередь должно бы было выводиться из положения: А=А. Но такого условия из
него никак не может получиться, так как форма противоположения не
только не содержится в форме положения, а, наоборот даже,
противоположна ей. Противоположное, стало быть,противополагается без всякого
условия и непосредственно. —А полагается как таковое единственно
потому, что оно полагается.
290
Основа общего наукоучения
Таким образом, достоверность того, что среди действий Я находится
некоторое противоположение, — та же, что и достоверность наличности
положения: — А не = А среди действий эмпирического сознания. И это
противоположение, если рассматривать его только со стороны его формы,
представляет собою некоторое непосредственно возможное действие,
никаким условиям не подчиняющееся и никаким более высоким основанием
не обосновываемое.
(Логическая форма положения как положения, подчиняется (как
только установлено положение: — А - — А) условию тождества субъекта и
предиката (то есть представляющего Я к Я представляемого в качестве
представляющего). Но и самая возможность противоположения как такового
тоже предполагает тождество сознания; и путь, проделываемый
действующим в этой функции Я, оказывается, собственно говоря, следующим: А
(просто положенное) =А (тому, которое служит предметом размышления).
ЭтомуЛ, как объекту размышления, силой абсолютного действия
противополагается — Л, и затем относительно этого последнего признается, что
оно противоположно также и просто положенному Л, так как первое А
равно этому последнему. Это же равенство основывается (§ 1) на тождестве Я
полагающего с Я размышляющим, далее предполагается, что действующее
в обоих актах и о них судящее Я есть одно и то же Я. Если бы оно могло быть
противоположно самому себе в обоих этих действиях, то — А было бы =А.
Следовательно, переход от полагания к противополаганию также
возможен лишь через тождество Я.
5. Итак, противоположное, поскольку оно есть противоположное
(как простая противность вообще), полагается через это абсолютное
действие, и только через него. Всякая противоположность как таковая
существует лишь в силу действия Я, а не по какому-либо другому основанию.
Противоположность полагается вообще только силою Я.
6. Ежели какое-либо—А должно быть положено, то должно быть
положено и некоторое/!. Следовательно, действие противоположения в
некотором другом отношении также обусловлено. Возможно ли вообще
какое-нибудь действие, — это зависит от некоторого другого действия;
действие, значит, со стороны содержания обусловливается как действие
вообще; оно является действием по отношению к другому действию. То, что
действие совершается именно так, а не иначе, это не обусловлено;
действие со стороны своей формы (в отношении своего как) безусловно.
(Противополагание возможно лишь при условии единства сознания
полагающего и противополагающего. Если бы сознание первого действия
не было связано с сознанием второго, то второе полагание не было бы про-
яшвополаганием, а лишь просто полаганием. Только через отношение к
некоторому полаганию оно становится противополаганием.)
10*
291
И.Г. Фихте
7. До сих пор шла речь о действии как только действии, о способе
действия. Теперь мы перейдем к его продукту = — А.
В — А мы можем, в свою очередь, различить два момента: его форму и
его содержание. Форма определяет в нем то, что оно вообще являет собою
некоторую противоположность (какому-либо А). Если оно
противоположно какому-нибудь определенному А, оно обладает содержанием; само оно
не есть что-либо определенное.
8. Форма —А определяется безусловным действием: —А есть
некоторая противоположность потому, что оно являет собою продукт противопо-
лагания. Содержание же определяется через А. —А не есть то, что есть А.
Все его существо заключается в том, что оно не есть то, что есть Л. Я знаю
относительно —А, что оно являет собою противоположность некоторому
А. Знать же, что из себя представляет или не представляет то, о чем я знаю
только что сказанное, я могу лишь при том условии, что знаю А.
9. Первоначально ничто не полагаетсая, кроме Я; и только это
последнее есть то, что полагается безусловно (§ 1). Значит, только одному
Я можно и безусловно противополагать. Но противоположное Я есть —
Не-Я.
10. Сколь несомненна среди фактов эмпирического сознания
наличность безусловного признания достоверности положения: —А не — А,
столь же несомненно Я безусловно противополагается некоторое Не-Я. Из
этого первоначального противоположения выводится все то, что мы
только что сказали о противоположении вообще; стало быть, все это имеет по
отношению к нему первоначальную значимость: по форме оно,
следовательно, совершенно безусловно, со стороны же материи — обусловлено. И
таким образом было бы найдено второе основоположение всего
человеческого знания.
11. В силу простого противоположения Не-Я должно быть присуще
противоположное всему тому, что присуще Я.
(Обыкновенно полагают, что понятие Не-Я есть лишь общее
понятие, возникшее благодаря отвлечению от всего представляемого. Но
нетрудно показать неосновательность такого объяснения. Как только я
должен представить себе что-нибудь, мне необходимо противопоставить его
представляющему. И конечно, в объекте представления может и должно
находиться некоторое X, благодаря которому объект этот выступает как то,
что должно быть представлено, а не как представляющая инстанция. Но
никакой другой предмет не может дать мне понять, что все то, в чем
заключается этот X, есть не представляющая инстанция, а то, что должно быть
представлено. Чтобы я мог утверждать какой-либо предмет, я должен уже
его знать; он должен, стало быть, содержаться во мне, представляющем,
первично до всякого возможного опыта. И это до того бросается в глаза,
292
Основа общего наукоучения
что всякий, кто этого не понимает и не поднимается отсюда до трансцен
дентального идеализма, бесспорно должен быть духовно слеп.)
Из материального положения: Я есмь возникло путем отвлечения от
его содержания чисто формальное и логическое положение: А=А. Из
установленного в настоящем параграфе положения при помощи такого же
отвлечения возникает логическое положение: — А не =А, которое я именую
принципом противоположения. Мы пока еще не можем надлежащим
образом его определить или выразить в словесной формуле, причина чего
выяснится в следующем параграфе. Если, наконец, отвлечься совершенно
от определенного акта суждения и иметь в виду лишь форму заключения от
противоположения к не-бытию, то получится категория отрицания. И ее
сущность тоже можно будет как следует понять только в следующем
параграфе.
§3
ТРЕТЬЕ, ПО ФОРМЕ СВОЕЙ
ОБУСЛОВЛЕННОЕ ОСНОВОПОЛОЖЕНИЕ
V/ каждым шагом вперед, который
мы делаем в нашей науке, мы все больше и больше приближаемся к той
области, где все может быть доказано. В первом основоположении ничего не
следовало доказывать и ничего нельзя было доказать; оно было безусловно
и по форме, и по содержанию и достоверно без какого-либо высшего
основания. Во втором основоположении хоть и нельзя было вывести действия
противоположения, но как только это действие было хотя бы только по
форме безусловно положено, можно было строго доказать, что
противоположное неизбежно должно быть =Не-Я. Третье основоположение почти
всецело доступно доказательству, так как оно определяется не так, как
второе основоположение со стороны содержания, а, наоборот, со стороны
формы определяется, в отличие от второго, не одним, а двумя
положениями.
Это основоположение определяется со стороны своей формы и
только со стороны содержания является безусловным. Это значит, что задача
действия, им устанавливаемая, определенно задается двумя
предшествующими положениями, решение же ее не дается. Решение осуществляется
безусловно и непосредственно властным велением разума.
Мы начнем, стало быть, с дедукции, выводящей задачу, и пойдем с
нею так далеко, как окажется возможным. Невозможность продолжить
дедукцию покажет нам, конечно, где нам придется ее оборвать и сослаться на
указанное безусловное веление разума, вытекающее из задачи.
А)
1. Поскольку полагается Не-Я, Я не полагается, так как через Не-Я Я
совершено уничтожается.
Не-Я же полагается в Я, так как оно противополагается. А всякое
противоположение предполагает тождество Я, в котором нечто полагается
и противополагается положенному. Следовательно, Я не полагается в Я,
поскольку в нем полагается Не-Я.
2. Но Не-Я может быть полагаемо лишь постольку, поскольку в Я (в
тождественном сознании) полагается некоторое Я, которому оно может
294
Основа общего наукоучения
быть противопоставлено. Итак, Не-Я должно быть полагаемо в
тождественном сознании.
Следовательно, в нем необходимо полагается также и Я, поскольку
должно быть положено Не-Я.
3. Эти два заключения противоположны друг другу: оба они развиты
из второго основоположения анализом, и, стало быть, оба заключаются в
нем. Значит, второе основоположение противополагается само себе и
уничтожает само себя.
4. Но оно уничтожает себя само лишь постольку, поскольку
полагаемое уничтожается противополагаемым, следовательно, поскольку оно
само имеет значимость. И вот оно должно уничтожаться само собою и быть
лишено значимости.
Следовательно, оно не уничтожает себя.
Второе основоположение уничтожает себя; но, с другой стороны,
оно себя не уничтожает.
5. Если дело обстоит так со вторым основоположением, то и с
первым оно обстоит не иначе. Оно тоже уничтожает себя самого и не
уничтожает себя самого.
Ибо-
если Я=Я, то все, что полагается в Яу полагается.
И все второе основоположение должно быть полагаемо в Я и вместе
не должно быть в нем полагаемо.
Следовательно, Я не = Я, но Я = Не-Я и Не-Я = Я.
В) Все эти выводы получены из установленных основоположений
согласно законам рефлексии, принятым как значимые; все они поэтому
должны быть правильны. Если же они правильны, то тем самым
разрушается тождество сознания — этот единственный фундамент нашего знания.
Этим определяется наша задача. А именно: должен быть найден
некоторый А", через посредство коего все эти выводы могли бы оказаться
правильными, без нарушения тождества сознания.
1. Противоположности, которые подлежат объединению, находятся
в Я как сознании; потому и А" также должно быть в сознании.
2. И Я и Не-Я оба суть — продукты первичных действий Я\ и само
сознание есть такой продукт первого первоначального действия
#—положения Я самим собою.
3. Но согласно сделанным выше выводам действие, продуктом
которого является Не-Я — противоположение, совершенно невозможно безХ
Следовательно, сам одолжен быть продуктом, и именно продуктом
первоначального действия Я. Следовательно, существует действие
человеческого духа = Y, продуктом которого является X.
4. Форма этого действия вполне определяется вышеозначенной за-
295
И. Г. Фихте
дачей. Противоположности Я и Не-Я должны быть через нее соединены,
уравнены друг с другом, не уничтожая при этом друг друга.
Вышеупомянутые противоположности должны быть приняты в тождество единого
сознания.
5. Как это можно было бы сделать и каким образом это удастся
сделать, через это вовсе еще не определяется; это определение не содержится в
задаче, и его никак нельзя из нее извлечь. Поэтому мы должны, как это
приходилось нам делать и выше, прибегнуть к эксперименту и задаться
вопросом, как можно соединить в мыслив и —Л, бытие и небытие,
реальность и отрицание — так, чтобы они при этом друг друга не разрушали и не
уничтожали?
6. Едва ли кто-либо ответит на этот вопрос иначе, чем следующим
образом: они будут друг друга взаимо ограничивать. Следовательно, если
такой ответ правилен, действие Убудет взаимо ограничением обеих
противоположностей, а Сбудет обозначать гранииу.
Не следует понимать мое утверждение в том смысле, будто понятие
границ есть понятие аналитическое, которое заключается в соединении
реальности с отрицанием и может быть оттуда развито. Хотя
противоположные понятия даются двумя первыми основоположениями, а
требование их соединения заключается в первом, тем не менее способ их
соединения в них вовсе не содержится; он определяется особым законом нашего
духа, который должен быть вызван к действию в сознании указанным
экспериментом.
7. Но в понятии границы содержится больше, чем искомый Л"; в нем
одновременно содержится понятие реальности и отрицания, которые
объединяются. Поэтому, чтобы получить Л'в чистом виде, мы должны еще
произвести отвлечение.
8. Ограничить что-нибудь — значит уничтожить его реальность путем
отрицания не всецело, а только отчасти19. Следовательно, в понятии
границ, кроме понятий реальности и отрицания, заключается еще понятие
делимости (способности количественного определения вообще, не
какого-либо определенного количества). Это понятие и есть искомый Х\ и,
следовательно, действием Y как Я, так и Не-Я, просто полагаются как делимые.
9. Как Я, так и Не-Я полагаются как делимые. Ибо действие К не
может следовать за действием противоположения, то есть оно не может быть
так рассматриваемо, как будто бы это последнее действие его впервые
делало возможным, так как согласно вышеприведенному доказательству без
него уничтожает себя, и, стало быть, невозможно самое
противоположение. Далее, действие Уне может и предшествовать действию
противоположения, так как оно предпринимается лишь для того, чтобы сделать
возможным противоположение, и делимость есть ничто в отсутствии чего-ли-
296
Основа общего наукоучения
бо делимого. Стало быть, оно совершается непосредственно в этом
последнем и вместе с ним. Эти два действия представляют собою одно и то же и
различаются только в рефлексии. Поэтому, поскольку Я
противополагается некоторое Не-Я, и то Я, которому противополагается нечто, и то Не-Я,
которое противополагается, полагаются делимыми.
C) Теперь нам предстоит еще только исследовать, действительно ли
установленным действием решается задача и все противоположности
объединяются.
1. Первый вывод получает теперь следующий вид. Я не полагается в Я
постольку, то есть в той части реальности, поскольку, то есть в которой
полагается Не-Я. Некоторая часть реальности, то есть та ее часть, которая
присваивается Не-Я, уничтожается в Я. Этому положению не
противоречит второе положение. Поскольку полагается Не-Я, должно быть
полагаемо также и Я; а именно, они оба полагаются вообще как делимые, по их
реальности.
Только теперь, благодаря установленному понятию, можно сказать о
них обоих: они суть нечто. Абсолютное Я первого основоположения не
есть нечто (оно не обладает никаким предикатом и никакого предиката не
может иметь); оно есть безусловно лишь то, что оно есть, и этому нельзя
дать дальнейшего объяснения20. Теперь через это понятие до сознания
доведена вся реальность; и из нее на долю Не-Я приходится та часть, которая
не присуща Я, и наоборот. То и другое представляют собою нечто; Не-Я —
то, что не есть Я, и наоборот. Не-Я, будучи противопоставлено
абсолютному Я (которому оно может быть противопоставлено лишь постольку,
поскольку оно представляется, а не поскольку оно есть в себе, как то будет в
свое время показано), являет собою безусловное ничто', будучи
противопоставлено ограниченному Я, оно знаменует собою отрицательную величину.
2. Я должно быть равно самому себе и все же самому себе
противопоставлено. Но оно равно самому себе в отношении сознания; сознание
едино, но в этом же сознании полагается абсолютное Я как неделимое.
Наоборот, то Я, которому противополагается Не-Я, делимо. Следовательно, Я,
поскольку ему противополагается Не-Я, само противополагается
абсолютному Я.
Таким образом, все противоречия объединяются при сохранении
единства сознания; и это служит как бы проверкой того, действительно ли
установленное понятие правильно.
D) Ввиду того, что, согласно нашему предположению, которое
может быть доказано лишь по завершении наукоучения, возможно только
одно совершенно безусловное, только одно обусловленное со стороны
содержания и только одно обусловленное по форме основоположение, и не
более, — то сверх установленных основоположений уже не может быть ни-
297
И. Г. Фихте
каких других. Совокупность того, что является безусловно и
непосредственно достоверным, теперь исчерпана, и я могу выразить все это в
следующей формуле: Я противополагаю в Я делимому Я— делимое Не-Я.
За пределы этого познания не заходит никакая философия;
добраться же до него должна каждая основательная философия; и, поскольку она
это делает, она становится наукоучением. Все, что отныне будет
происходить в системе человеческого духа, должно быть выведено из
установленных основоположений.
1. Мы объединили противоположные Я и Не-Я посредством понятия
делимости. Если отвлечься от определенного содержания, от Я и Не-Я, и
удержать только одну форму объединения противоположностей через
понятие делимости, то получится логическое положение, которое до сих пор
именовалось принципом основания: А отчасти = — А и наоборот. Каждая
противоположность равна своей противоположности в некотором одном
признаке -Х\ и все одинаковое противополагается тому, что с ним
одинаково в некотором признаке -X. Такой признак =Х называется
основанием, в первом случае — основанием отношения, во втором случае —
основанием/ш/шчш*. Ибо уравнивать или сравнивать противоположное значит
соотносить, а противополагать уравненное значит различать. Это
логическое положение доказывается и определяется установленным нами
материальным основоположением.
Оно доказывается, ибо
а) Все противоположенное = — А противополагается А, a это А
полагается.
Положением какого-либо — А уничтожается А, но вместе с тем и не
уничтожается.
Следовательно, оно уничтожается лишь отчасти; и вместо X в А,
которое не уничтожается, в — А полагается не — X, а сам X; и, стало быть, А =
— А в X. И это было первое.
в) Все уравненное (А = В) равно самому себе в качестве положенного
ъЯА=А.В = В.
И вот В полагается -А, следовательно, В не полагается через А; ибо,
если бы оно им полагалось, то оно было бы -А и не было бы = В. (То есть
было бы не два положенных момента, а только одно положение.)
Если же В не полагается через полагание А, оно постольку = — А; и
через уравнение того и другого не полагается ни А, ни В, а каком-нибудь А",
который = Хи=Аи = В. И это было второе.
Отсюда ясно, каким образом может быть правомерно положение Л =
В, которое само по себе противоречит положению Л =А. Х=X, А =Х, В -X;
298
Основа общего наукоучения
следовательно, Л = В, поскольку они оба = Х\ но Л = — 2?, поскольку они оба
+ -JT.
' Одинаковости противополагаются друг другу, а противоположности
уравниваются только в одной части. Ибо если бы они противополагались во
многих частях, то есть если бы в самих противоположностях были
противоположные признаки, то одинаковость обоих относилась бы к тому, в чем
равны подвергаемые сравнению моменты, и они не были бы,
следовательно, противоположны; и наоборот. Каждое обоснованное суждение имеет,
стало быть, только одно основание отношения и только одно основание
различения. Если же оно их имеет несколько, оно представляет собою уже
не одно суждение, а несколько.
2. Логический принцип основания определяется вышеозначенным
материальным основоположением, то есть его значимость, в свою очередь,
ограничивается; оно имеет силу только для одной части нашего познания.
Различные вещи могут быть противопоставлены или уподоблены
друг другу в каком-либо признаке лишь при том условии, что они вообще
равны или противоположны. Этим, однако, совсем еще не утверждается,
что все, что бы ни появлялось в нашем сознании, просто и без всякого
дальнейшего условия должно быть подобно чему-либо другому и
противоположно чему-нибудь третьему. Суждение о том, чему ничто не может
быть уподоблено и чему ничто не может быть противопоставлено, совсем
не подчиняется принципу основания, так как оно не подчинено условию
его значимости; оно ничем не обосновывается, но само обосновывает все
возможные суждения; оно не имеет никакого основания, но само
представляет основание всего обоснованного. Предметом подобных суждений
является абсолютное Я\ и все суждения, субъектом которых оно является,
имеют силу просто и без всякого основания; об этом ниже мы будем
говорить подробнее.
3. То действие, которое в сравниваемых [вещах] ищет признака, в
коем они противополагаются друг другу, называется антитетическим
приемом; обыкновенно же его именуют аналитическим приемом, что менее
удобно, отчасти потому, что при таком обозначении не совсем
исключается взгляд, будто из понятия можно добыть путем его раскрытия нечто
такое, чего сначала в него не вложили синтезом21, отчасти же потому, что
первым наименованием яснее обозначается, что этот прием представляет
собою противоположность синтетического. Синтетический же прием
состоит как раз в том, что в противоположностях ищется тот признак, в
котором они равны друг другу. По своей чисто логической форме, совершенно
отвлеченной от всякого познавательного содержания, а также и от того,
как оно достигается, суждения, получающиеся первым путем,
называются антитетическими, или отрицательными, суждения же, получаю-
299
И. Г. Фихте
щиеся последним путем, — синтетическими, или утвердительными.
4. Раз логические правила, которым подчиняется всякий антитезис и
синтез, выводятся из третьего основоположения наукоучения, то из него
выводится, стало быть, и правомочие вообще всякого антитезиса и
синтеза. Но при изложении этого основоположения мы видели, что
первоначальное действие, им выражаемое, действие сочетания
противоположностей в некотором третьем, невозможно без действия противополагания и
что это последнее, в свою очередь, невозможно без действия сочетания;
стало быть, оба эти действия неразрывно связаны друг с другом и могут
быть разъединены лишь в рефлексии. Отсюда следует, что логические
действия, основывающиеся на этих первоначальных действиях и
представляющие собою, собственно говоря, лишь их отдельные и более частные
определения, равным образом невозможны одни без других. Никакой
антитезис невозможен без синтеза, ибо антитезис ведь заключается в
разыскании у подобных элементов противоположного признака; но подобные
элементы не были бы подобны, если бы не были уподоблены сначала
некоторым синтетическим актом. В чистом антитезисе мы отвлекаемся от того,
что они сначала были уравнены таким актом; они просто принимаются
при этом как равные, без исследования того, почему это так; рефлексия
направляется тут лишь на противоположное в них, и это последнее благодаря
тому доводится до ясного и отчетливого сознания. Также и наоборот,
никакой синтез невозможен без антитезиса. Противоположности должны
быть объединены; но они не были бы противоположны, если бы они не
были противоположены чрез некоторое действие Я, от которого в синтезе мы
отвлекаемся, дабы путем рефлексии довести до сознания лишь основание
отношения. Следовательно, по содержанию вообще не существует чисто
аналитических суждений; и при их помощи нельзя не только далеко
продвинуться вперед, как говорит Кант, но совсем нельзя двинуться с места.
5. Знаменитый вопрос, который Кант поставил во главу угла
"Критики чистого разума"22: как возможны синтетические суждения a priori, —
получает таким образом свое самое общее и наиболее удовлетворительное
разрешение. Мы выдвинули в лице третьего основоположения такой
синтез противопоставленных Я и Не-Я, посредством полагаемой их
делимости, о возможности которого нельзя ставить дальнейшего вопроса и для
которого нельзя привести никакого основания. Этот синтез
непосредственно возможен; мы уполномочены к нему без всякого дальнейшего
основания. Все прочие синтезы, которые должны иметь силу, должны в
нем заключаться; они должны быть осуществляемы одновременно в нем и
вместе с ним; поскольку это доказано, тем самым дается самое
убедительное доказательство того, что и они обладают таким же значением, как он.
6. Все они должны заключаться в нем', и этим нам предначертывается
300
Основа общего наукоучения
самым определеннейшим образом тот путь, которым мы должны идти в
дальнейшем в нашей науке. Тут должны быть синтезы; стало быть, нашим
постоянным приемом отныне (по крайней мере, в теоретической части
нажоучения, так как в практической его части дело обстоит как раз
наоборот, как то в свое время будет показано) будет синтетический прием;
каждое положение будет содержать в себе некоторый синтез. Но ни один
синтез невозможен без предшествовавшего ему антитезиса, от которого мы,
оджако, отвлекаемся, поскольку он является действием, и отыскиваем
только его продукт — противоположное. Мы должны, следовательно, при
каждом положении исходить из указания противоположностей, которые
подлежат объединению. Все установленные синтезы должны содержаться
в высшем синтезе, нами только что осуществленном, и допускать свое
выведение из него. Нам надлежит, таким образом, заняться разысканием в
связанных им Я и Не-Я, поскольку они связаны между собою им,
оставшихся противоположных признаков, и затем соединить эти признаки
через новое основание отношения, которое, со своей стороны, должно
заключаться в высшем изо всех оснований отношении, затем в связанных
этим первым синтезом противоположностях нам надлежит снова искать
новых противоположностей; эти последние вновь соединить посредством
какого-нибудь нового основания отношения, содержащегося в только что
выведенном основании. И должны продолжать так, сколько будет
возможно: пока не придем в конце концов к таким противоположностям, которых
уже нельзя будет более связать между собою, и благодаря этому перейдем в
область практической части. Таким образом, ход нашего изложения
определен, надежен и предписан самим существом дела; и мы можем заранее
знать, что при надлежащей внимательности невозможно будет ошибиться,
идя по этому пути.
7. Сколь мало возможен антитезис без синтеза или синтез без
антитезиса, столь же мало возможны они без тезиса, без некоторого безусловного
положения, через которое просто полагается как таковое некоторое А (Я),
не будучи ни с чем уравниваемо и ничему другому противопоставляемо.
Будучи поставлен в связь с нашей системой, тезис придает целому
крепость и завершение. Наша система должна быть системой, и притом
системой единой; противоположности подлежат объединению, пока еще есть
хоть что-нибудь противоположное, доколе не будет достигнуто абсолютное
единство. Последнее, как то будет показано в свое время, может быть
достигнуто, конечно, только путем законченного приближения к
бесконечному, что по существу своему невозможно. Необходимость
противополагать и связывать определенным образом основывается непосредственно на
третьем основоположении; необходимость же вообще связывать покоится
на первом, высшем и абсолютно безусловном основоположении. Форма
301
И. Г. Фихте
системы основывается на высшем синтезе; то же, что вообще должна быть
какая-нибудь система, на абсолютном тезисе.
Этих разъяснений достаточно для применения сделанного
замечания к нашей системе вообще; но существует еще другое, обладающее
большею важностью, применение его к форме суждений, которого мы по
многим основаниям не должны обходить здесь молчанием. А именно, раЛи
аналогии, подобно тому, как существуют антитетические и синтетические
суждения, должны бы также существовать и тетические суждения, которые
были бы в каком-либо определении прямо противоположны первым. И
действительно, правильность суждений первых двух родов предполагает
некоторое основание, именно двойное основание, — основание
отношения и основание различения, которые оба могут быть указаны, а если
суждение должно быть доказано, то и должны быть указаны. Например,
птица — животное. Тут основанием отношения, которое служит предметом
рефлексии, является то определенное понятие животного, согласно коему
оно состоит из материи, из организованной материи, из материи,
наделенной животной жизнью; основанием же различия, от которого отвлекаются,
является специфическое различие разных животных видов,
выражающееся в том, что они имеют две или четыре ноги, наделены перьями, чешуей
или покрытой волосами кожей. Или же: растение не есть животное. Тут
основанием различия, на которое направляется рефлексия, является
специфическое различие между растением и животным; основанием же
отношения, -от которого отвлекаются, является организация вообще. Тетиче-
ское же суждение есть такое, в котором нечто не приравнивается и не
противополагается ничему другому, а только полагается себе равным; оно,
следовательно, не могло бы предполагать никакого основания отношения
или различения. Тем третьим, что оно, согласно логической форме, все же
должно предполагать, была бы просто некоторая задача, задаваемая
некоторому основанию. Первоначальным высшим суждением этого рода
является утверждение: Я есмь, в котором об Я ничего не высказывается и место
предиката сохраняется до бесконечности пустым для возможного
определения Я. В этом роде — все суждения, которые подводятся под это, то есть
под абсолютное положение Я (если даже они не всякий раз имеют # своим
логическим субъектом); например, человек свободен. Это суждение
рассматривается либо как суждение положительное (в каковом случае оно
значило бы: человек принадлежит к классу свободных существ), и тогда
нужно было бы указать основание отношения между человеком и
свободными существами, которое, как основание свободы, содержалось бы в
понятии свободного существа вообще и понятии человека в частности; но, не
говоря уже о трудности найти такое основание, нельзя указать даже класса
свободных существ. Либо это суждение рассматривается как суждение от-
302
Основа общего наукоучения
Ьицательное; в таком случае человек в нем противополагается всем
существам, подчиняющимся закону естественной необходимости; но тогда
нужно было бы указать основание различия между необходимым и ненеоб-
фдимым и показать, что оно заключается не в понятии человека, а в
понятии противоположных существ; вместе с тем было бы необходимо указать
такой признак, в котором они совпадают. Но человек, поскольку по
отношению к нему может иметь силу предикат свободы, то есть поскольку он
абсолютен и не является ни представленным, ни представимым
субъектом, не имеет ничего общего с естественными существами и, стало быть,
также и не противополагается им. Однако же в силу логической формы
суждения, которая положительна, оба понятия должны быть объединены; но
frx нельзя объединить ни в каком понятии, а только в идее такого Я,
сознание которого не определяется ничем внешним ему, а скорее само
определяет одним своим сознанием все, вне его находящееся; но эта идея, в свою
очередь, немыслима, так как она содержит в себе для нас противоречие.
Однако она установлена для нас ради высшей практической цели. Человек
должен до бесконечности все более и более приближаться к недостижимой
по существу своему свободе. Так, суждение вкуса: "А красиво" есть
(поскольку в А наличен признак, присущий также и идеалу прекрасного) тети-
ческое суждение; ибо я не могу сравнивать этот признак с идеалом, так как
я не знаю этого последнего. Задача моего духа, возникающая из его
абсолютного положения, есть скорее нахождение такого идеала; но эта задача
могла бы быть решена только по совершенном приближении к
бесконечному. Поэтому Кант и его последователи совершенно справедливо назвали
эти суждения бесконечными23, хотя никто из них, насколько мне известно,
не дал им отчетливого и определенного объяснения.
8. Для тетического суждения нельзя, стало быть, привести никакого
основания; но образ действия человеческого духа при тетических
суждениях вообще основывается на полагании Я единственно и только самим
собою. Сравнение этого обоснования тетических суждений вообще с обосно-
ванем суждений антитетических и синтетических очень полезно и дает
наиболее ясное и определенное понимание своеобразного характера
критической системы.
Все противоположности, противополагающиеся друг другу в каком-
либо понятии, выражающем собою основание их различия, согласуются
вновь в каком-либо высшем (более общем, большем по объему) понятии,
которое называют родовым понятием; то есть при этом предполагается
некоторый такой синтез, в котором заключаются обе противоположности,
заключаются именно постольку, поскольку они уподобляются друг другу
(например, золото и серебро содержатся, как нечто одинаковое, в понятии
металла, которое не содержит в себе того понятия, в котором они противо-
303
И. Г. Фихте
полагаются друг другу, в данном случае, например, не содержат
определенного цвета). Отсюда — логическое правило определения, гласящее, что
определение должно указывать родовое понятие, содержащее в себе
основание отношения, и специфическое различие, содержащее в себе
основание различия. В свою очередь, все одинаковое противополагается одно
другому в некотором низшем понятии, выражающем какое-либо
отдельное определение, от которого в суждении отношения отвлекаются; то есть
всякий синтез предполагает предшествующий антитезис. Например, в
понятии тела отвлекаются от различия цветов, определенной тяжести, от
различия вкусов, запахов и т.д.; и таким образом все, что заполняет собою
пространство, непроницаемо и наделено какой-либо тяжестью, может
быть телом, сколь бы противоположны ни были тела между собою
относительно упомянутых признаков. (Какие определения являются более
общими или более специальными и, стало быть, какие понятия играют роль
более высоких или более низких понятий, будет установлено наукоучением.
Чем меньше вообще тех посредствующих понятий, при помощи которых
данное понятие выводится из высшего понятия, — из понятия
реальности, — тем оно само выше; чем больше их, тем оно ниже. Уявляется
определенно более низким понятием, чемА", если в ряду его выведения из
высшего понятия встречается X; и точно так же наоборот.)
Но с тем, что безусловно полагается, — с Я дело обстоит совсем
иначе. В то же самое время, как ему противополагается некоторое Не~Я, оно
ему и приравнивается, но только не в более высоком понятии (которое бы их
обоих заключало в себе и предполагало бы некоторый более высокий
синтез или по меньшей мере тезис), как то бывает при всех остальных
сравнениях, а в более низком понятии. Для того, чтобы быть уравнено с Не-Я,
Ясамо должно быть опущено до более низкого понятия, понятия делимости;
но в этом же понятии оно противополагается понятию Не-Я. Здесь имеет
место, стало быть, не восхождение, как бывает в иных случаях при каждом
синтезе, а //«схождение. Я и Не-Я, поскольку они уравниваются и
противополагаются через понятие взаимной ограничимости, сами суть нечто
(акциденции) в Я как делимой субстанции; они положены Я как абсолютным
не допускающим ограничения субъектом, которому ничто не равно и
ничто не противополагается. Поэтому все суждения, логическим субъектом
которых является ограничимое или определимое Я или же нечто
определяющее Я, должны быть ограничены или определены чем-либо высшим.
Все же суждения, логическим субъектом которых является безусловно
неопределимое Я, не могут быть определяемы ничем высшим, так как
абсолютное Я ничем высшим не определяется. Они обосновываются и
определяются единственно лишь сами собою.
В том и состоит сущность критической философии, что в ней устана-
304
Основа общего наукоучения
вливается некоторое абсолютное Я как нечто совершенно безусловное и
ничем высшим не определимое; и если эта философия делает
последовательные выводы из этого основоположения, она становится наукоучени-
ем[ Напротив того, догматична та философия, которая приравнивает и
противополагает нечто самому Я в себе; что случается как раз в
долженствующем занимать более высокое место понятии вещи (ens), которое
вместо с тем совершенно произвольно рассматривается как безусловно
высшее понятие. В критической системе вещь есть то, что полагается в Я\ в
догматической же системе она представляет собою то, в чем полагается
само Я. Критицизм имманентен потому, что он все полагает в Я, догматизм
же трансцендентен> ибо он выходит за пределы Я. Поскольку догматизм
может быть последователен, спинозизм является наиболее
последовательным его продуктом24. Если поступать с догматизмом согласно его
собственным основоположениям, — как то, конечно, и следует, — то его
нужно спросить о том, почему он признает свою вещь в себе без всякого
высшего основания на то, тогда как относительно Я он задавал вопрос о
высшем основании; почему вещь в себе имеет абсолютную значимость, тогда
как Я должно было быть ее лишено. В оправдание он не в состоянии
сослаться на какие-либо правомочия, и потому мы вправе требовать, чтобы,
следуя своим собственным основоположениям, он ничего не принимал без
основания, чтобы он указал и для понятия вещи в себе, в свою очередь,
высшее родовое понятие, повторил затем то же самое для этого последнего, и
так далее до бесконечности. Последовательно развитый догматизм, таким
образом, либо отрицает, что наше познание вообще имеет основание, что
вообще в человеческом духе есть некоторая система, или же он
противоречит самому себе. Последовательно развитый догматизм есть скептицизм,
сомневающийся в своем сомнении; ибо он неизбежно должен разрушить
единство сознания, а вместе с ним всю логику. Следовательно, это даже
вовсе и не догматизм; он противоречит самому себе, выдавая себя за тако-
5* Существуют только две системы: критическая и догматическая:
скептицизм в той форме, как он выше определен, вовсе не представляет собою
системы, так как он отрицает самую возможность системы вообще. Но
отрицать такую возможность он может только систематически, стало быть, он
противоречит себе самому и лишен всякого смысла. Природа человеческого
духа уже позаботилась о том, чтобы он был сверх того и невозможен. Еще
никогда ни один человек не был всерьез таким скептиком. Совсем другое
дело — критический скептицизм, скептицизм Юма25, Маймона26, Энезиде-
ма27, который раскрывает недостаточность даваемых доселе оснований и
тем самым указывает, где следует искать оснований более надежных. Он
приносит науке, во всяком случае, пользу, если и не всегда со стороны
содержания, то уж непременно со стороны формы. И плохо понимает выгоды
науки тот, кто отказывает в должном уважении проницательному скептику.
305
И. Г. Фихте
Так, Спиноза полагает основание единства сознания в некоторой
субстанции, в которой сознание с необходимостью определяется как со
стороны материи (определенного ряда представления), так и со стороны
формы единства28."Но я спрашиваю его: в чем заключается, в свою очередь,
основание необходимости этой субстанции как со стороны ее материи
(различных заключающихся в ней рядов представления), так и со стороны
ее формы (согласно которой в ней должны исчерпываться и образовывать
некоторую целостную систему все возможные ряды представления)? Но
для такой необходимости он не указывает мне никакого дальнейшего
основания, а говорит: это просто так есть. И он говорит мне это потому, что
он вынужден принять нечто абсолютно первое, некоторое высшее
единство. Но в таком случае он должен был бы остановиться на данном ему в
сознании единстве и не имел надобности изобретать еще высшее единство,
так как его к этому ничто не вынуждало.
Было бы совершенно невозможно объяснить, как мог бы
какой-нибудь мыслитель когда-либо выйти за пределы Я либо, выйдя за эти
пределы, найти способ где-нибудь остановиться, если бы мы не находили в
качестве совершенно достаточногооснования этого явления
некоторойПрактической данности. Именно эта последняя, а не какая-либо теоретическая
данность, как то, по-видимому, думали, побуждала догматика выходить за
пределы Я, — а именно чувство зависимости нашего Я, поскольку оно
является практическим, от некоторого Не-Я, совершенно не
подчиняющегося нашему законодательству и постольку свободного. Практическая же
данность принуждала догматика и к тому, чтобы стараться где-нибудь
остановиться, — именно чувство необходимого подчинения всякого#е-Я
практическим законам Я и единства его с ними; причем это единство
никоим образом не являет собою как предмет понятия чего-либо
существующего в наличности, а представляет собою как предмет некоторой идеи
нечто, что должно существовать и должно быть нами создано, как то станет
ясно в свое время.
Отсюда, наконец, явствует, что догматизм вообще вовсе не является
тем, за что он себя выдает, что вышеприведенными выводами мы
поступили по отношению к нему несправедливо и что сам он неправ в отношении к
себе, навлекая на себя такие выводы. Его высшим единством не является в
действительности и не может быть ничто, кроме единства сознания; и его
вещь представляет собою субстрат делимости вообще или же ту высшую
субстанцию, в которой полагаются оба момента, и Я и Не-Я (мышление и
протяжение Спинозы29). До чистого абсолютного Я он вовсе не
возвышается, не говоря уже о том, что ему не удается перешагнуть за его пределы.
Он доходит в тех случаях, когда, как в системе Спинозы, ему удается пойти
дальше всего, до нашего второго и третьего основоположения, но никогда
306
Основа общего наукоучения
ie достигает первого абсолютно безусловного основоположения;
обыкновенно он так высоко не поднимается. Критической философии было
предоставлено сделать этот последний шаг и тем дать завершение наукоуче-
нЖю. Теоретическая часть нашего наукоучения, которая тоже будет
развита только из"двух по^ладних~основоположени
значении первого основоположения, действительно являет собою
систематический спинозизм, как тостанет ясно в свое время (с той лишь
разницей, что Я каждого человека самб представляет собою единственную
высшую субстанцию). Но наша система присоединяет еще практическую
часть, которая обосновывает и определяет первую и тем дает всей науке
завершение, исчерпывает все то, что может быть найдено в человеческом
духе, и этим вновь примиряет с философией здравый человеческий рассудок,
оскорбленный всею докантовской философией, нашей же теоретической
системой на первый взгляд отторгнутый от философии без всякой
надежды на примирение.
9. Если отвлечься от определенной формы суждения, от того, что оно
есть противопоставляющее или сравнивающее суждение, построенное на
основании различия или на основании отношения, и имеет в виду лишь
общую черту действенности этого рода действия, которая состоит в том,
чтобы ограничивать одно другим, то получится категория определения
(ограничения, у Канта — лимитация30). А именно, определением
называется положение количества вообще, будь то количество реальности или
количество отрицания.
Часть вторая
ОСНОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
§4
ПЕРВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Прежде чем вступить на наш путь,
поразмыслим над ним немного. Итак, мы установили три логических
основоположения: основоположение тождества, обосновывающее собою,
все остальные, и затем два других, обосновывающихся взаимно в
первом, — основоположение противоположения и основоположение
основания. Два последних основоположения делают вообще впервые возможным
синтетический метод; они устанавливают и обосновывают его форму. И
мы, стало быть, не имеем надобности ни в чем дальнейшем для того, чтобы
при размышлении быть уверенными в формальной значимости нашего
метода. Равным образом, в первом синтетическом действии в основном
синтезе (синтез Я и Не-Я) дано уже содержание для всех возможных
будущих синтезов, и мы не нуждаемся ни в чем дальнейшем также и с этой
стороны. Из этого основного синтеза должно быть возможно вывести все то,
что относится к сфере наукоучения.
Но если что-нибудь должно быть возможно вывести из него, то в
соединяемых им понятиях неизбежно должны содержаться другие понятия,
до сих пор еще не установленные; и наша задача найти их. При этом
приходится действовать следующим образом. Согласно § 3, все синтетические
понятия возникают через объединение противоположностей. Поэтому
прежде всего необходимо заняться разысканием таких противоположных
признаков у установленных понятий (в данном случае у Я и Не-Я,
поскольку они полагаются как взаимно друг друга определяющие); это и
осуществляется рефлексией, которая представляет собою произвольное действие
нашего духа. Я сказал: заняться разысканием. Значит, при этом
предполагается, что они, эти признаки, уже имеются в наличности и совсем не
должны еще только быть искусственно созданы нашим размышлением
(чего это последнее вообще не может сделать), то есть предполагается
некоторое первоначально необходимое антитетическое действие Я.
Рефлексия имеет своей задачей установить это антитетическое
действие, и постольку эта рефлексия прежде всего аналитична. А именно:
дойти при помощи рефлексии до ясного сознания того, что противоположные
признаки, содержащиеся в каком-либо определенном понятии =А, проти-
308
Основа общего наукоучения
воположны, — значит проанализировать понятие А. В нашем же случае
необходимо особенно отметить то, что рефлексией анализируется
понятие, которое ей совсем еще не дано, но должно быть впервые найдено
анализом. Анализируемое понятие в нашем случае имеется до совершения
анализа = X. Возникает вопрос: как может быть анализируемо понятие,
еще неизвестное?
Никакое антитетическое действие, хотя оно и предполагается в
целях возможности анализа вообще, невозможно без какого-либо
синтетического действия, а именно: всякое определенное антитетическое действие
требует с необходимостью своего определенного синтетического действия
(§ 3). Оба тесно объединены между собою, представляют одно и то же
действие и различаются только в рефлексии. Следовательно, от антитезиса
можно заключить к синтезису; равным образом, можно установить и то
третье, в чем обе противоположности объединяются, но только не как
продукт рефлексии, а как ее находку и как продукт того первичного
синтетического действия Я, которое поэтому как действие подобно до сих пор
установленным действиям тоже не должно доходить до эмпирического
сознания. Таким образом мы попадаем с этого момента в круг исключительно
синтетических действий, которые, однако же, не являются такими
абсолютно безусловными действиями, как первые. Но нашей дедукцией будет
показано, что это все действия, и действия Я. И это столь же несомненно,
сколь несомненно, что первый синтез, из которого они получаются путем
развития и с которым образуют одно и то же, есть такое действие Я; а то, что
этот синтез таков, столь же несомненно, как и то, что таково же высшее
дело-действие Я, посредством которого Я полагает себя самого. Действия,
которые будут установлены, суть действия синтетические; размышление
же, их устанавливающее, аполитично.
Но те антитезисы, которые предполагаются ради возможности
анализа, совершаемого рефлексией, должны быть мысленно взяты как
предшествующие, то есть как такие антитезисы, от которых зависит
возможность синтетических понятий, которые должны быть указаны. Однако
никакой антитезис невозможен без синтеза. Следовательно, высший синтез
должен быть предположен как уже совершившийся, и нашей задачей
должно быть разыскание такого синтеза и его определенное установление.
Правда, собственно говоря, такой синтез должен уже быть установлен в
предыдущих параграфах; но ведь легко могло бы оказаться, что вследствие
перехода в совершенно новую часть науки понадобилось бы указать еще на
нечто особенное.
И. Г. Фихте
А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕГО АНАЛИЗУ
Как Я, так и Не-Я — оба полагаются через Я и в Я как допускающие
взаимное ограничение друг другом, то есть так, что реальность одного из них
уничтожает реальность другого, и наоборот (§ 3).
В этом положении заключаются два следующих положения:
1 .Я полагает Не-Я как ограниченное через Я. Из этого положения,
которое в будущем, именно в практической части нашей науки, будет играть
большую роль, в настоящий момент, как, по крайней мере, кажется,
нельзя еще сделать никакого употребления. Ибо до настоящего момента Не-
Я представляет собою ничто; оно лишено реальности, и потому
совершенно невозможно себе представить, как в нем может быть через Я уничтожена
какая-нибудь реальность, которой оно вовсе не имеет, — как может оно
быть ограничено, когда оно представляет собою ничто. Таким образом, это
положение представляется совершенно негодным для пользования, по
меньшей мере Тюка Не-Я не будет каким-либо способом сообщена
реальность. Правда, то положение, в котором оно содержится, а именно: что Я и
Не-Я взаимно ограничивают друг друга, положено; но зато совсем еще
проблематично, полагается ли им и содержится ли в нем только что
установленное положение. Я может быть также ограничиваемо Не-Я только и
только в том смысле, в каком оно его сначала само ограничило, — в каком
ограничении получило свое начало впервые в самом Я. Может быть, Не-Я
ограничивает совсем не Я в себе, а только ограничения. В таком случае
вышеприведенное положение было бы истинно и правильно без того, чтобы
Не-Я нужно было приписывать абсолютную реальность, и без того, чтобы
установленное выше проблематически положение содержалось в нем.
2. В том же положении заключается еще следующее: Я полагает себя
самого ограниченным через Не-Я. Из этого положения можно сделать
применение, и оно должно быть принято как нечто достоверное, так как
его можно вывести из вышеустановленного положения.
Я полагается сначала как абсолютная, а затем как допускающая
ограничение, способная к количественному определению реальность,
именно как реальность, способная к ограничению через Не-Я. Но все это
полагается через Я; таковы моменты нашего положения.
(Впоследствии мы увидим:
1. Что последнее положение обосновывает теоретическую часть нау-
коучения, но только по завершении последнего, как то и должно быть при
синтетическом методе.
2. Что первое, пока проблематическое, положение обосновывает
практическую часть науки. Но так как оно само проблематично, то равным
310
Основа общего наукоучения
образом проблематичной является и возможность такой практической
части. Отсюда понятно,
3. Почему рефлексия должна исходить из теоретической части;
оставляя без внимания то, что в дальнейшем окажется, что не теоретическая
способность делает возможной практическую, а наоборот, практическая —
теоретическую (что разум по своей сущности только практичен и лишь
через применение своих законов к ограничивающему его Не-Я становится
теоретическим). Рефлексия должна поступать так потому, что мыслимость
практического основоположения основывается на мыслимости
теоретического основоположения. А при рефлексии ведь дело идет как раз о мысли-
мости.
4. Отсюда следует, что то разделение наукоучения на теоретическое и
практическое наукоучение, которое мы здесь сделали, только
проблематично (по каковой причине мы и принуждены были произвести его только
так — мимоходом и не в состоянии были провести резкую пограничную
линию, которая как таковая еще неизвестна). Мы еще совсем не знаем,
доведем ли мы теоретическую часть наукоучения до завершения или же, быть
может, мы натолкнемся на противоречие, которое окажется совершенно
непобедимым; тем менее можем мы знать, будем ли мы вынуждены из
теоретической части перейти в особую практическую часть.)
В. СИНТЕЗ СОДЕРЖАЩИХСЯ В УСЛОВЛЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ ВООБЩЕ, В ОБЩИХ ЧЕРТАХ
Положение: Я полагает себя как определенное через Не-Я, только что
было выведено из третьего основоположения. Если верно это
основоположение, то верным должно быть также и оно. Но оно должно быть верно; это
так же достоверно, как то, что единство сознания не должно быть
уничтожено и Я не должно переставать быть Я (§ 3). Следовательно, и положение
наше необходимо должно иметь силу постольку, поскольку должно
оставаться нерушимым единство сознания.
Прежде всего мы обязаны проанализировать его, то есть посмотреть,
содержатся ли в нем противоположности, и если да, то что это за
противоположности.
Я полагает себя как определенное через Не-Я. Следовательно, Я
должно не определять, а само быть определяемым. Не-Я же должно
определять, полагать границы для реальности Я. Стало быть, в установленном
нами положении прежде всего заключается следующее положение:
Не-Я определяет (деятельно) Я (которое постольку находится в
страдательном состоянии). Я полагает себя определенным абсолютною
деятельностью. Всякая деятельность, по меньшей мере насколько мы это те-
311
И. Г. Фихте
перь можем уразуметь, должна исходить из Я. Я ввело и самого себя, и Не-Я
в количественное определение. Но то, что Я полагает самого себя как
определенное, значит, очевидно, то же самое, что Яопределяет себя само. Стало
быть, в установленном положении заключается следующее положение:
Я определяет себя само (путем абсолютной деятельности).
В настоящий момент мы совершенно отвлекаемся от вопроса, не
противоречит ли каждое из обоих положений самому себе, не содержит ли
оно внутреннего противоречия и, следовательно, не разрушает ли оно себя
само. Но зато непосредственно очевидно, что положения наши
противоречат друг другу взаимно, что Я не может быть деятельным, раз оно должно
пребывать в страдательном состоянии, и наоборот.
(Правда, понятия деятельности и страдательного состояния еще не
выведены и не раскрыты как противоположные; но и нет никакой
надобности выводить что-либо еще из этих понятий как противоположных; мы
воспользовались здесь этими словами лишь с той целью, чтобы яснее
высказать свою мысль. Что в одном из положений утверждается именно то,
что в другом отрицается, и наоборот, это очевидно; а это ведь, конечно,
противоречие.)
Два положения, заключающихся в одном и том же положении,
противоречат друг другу, стало быть, они взаимно уничтожаются; равным
образом уничтожается и то положение, в котором они содержатся. Так
именно обстоит дело с вышеустановленным положением: оно, стало быть,
уничтожает себя само.
Но оно не должно уничтожать себя, если только не должно быть
разрушено единство сознания. Нам нужно, стало быть, попытаться
объединить указанные противоположности (то есть согласно вышесказанному
это не значит, что мы должны, погрузившись в рефлексию, измыслить для
них путем какой-нибудь хитрости некоторую точку объединения; это
значит, что так как единство сознания полагается одновременно с тем
положением, которое грозит его разрушить, то в нашем сознании такая точка
объединения уже должна быть налицо, и что наше дело лишь отыскать ее
при помощи рефлексии. Мы только что проанализировали синтетическое
понятие =Х, которое действительно имеется тут в наличности, и из
найденных анализом противоположностей мы должны заключить, что за понятие
представляет собой неизвестный X).
Приступим к решению нашей задачи.
Итак, в одном положении утверждается то, что в другом отрицается.
Стало быть, реальность и отрицание разрушают друг друга и вместе с тем
должны не уничтожаться взаимно, а быть объединены (§ 3) путем
ограничения или определения.
Поскольку утверждается: Я определяет себя само, постольку Я при-
312
Основа общего наукоучения
писывается абсолютная полнота реальности. Я может определять себя
единственно лишь как реальность, так как оно положено просто как
реальность (§ 1), и в нем не положено никакого отрицания. При этом, раз Я
должно определять самого себя, это не значит, что оно уничтожает в себе
реальность, так как этим оно было бы поставлено в противоречие с самим
собою; но это должно значить, что Я определяет реальность и посредством
ее — себя самого. Оно полагает всю реальность как некоторое абсолютное
количество. За пределами этой реальности больше нет никакой
реальности. Эта реальность полагается в Я. Стало быть, Я определено постольку,
поскольку определена реальность.
Кроме того, следует еще заметить, что это — абсолютный акт Я, тот
самый акт его, который изображается в § 3, где Я полагает себя самого как
количество, и который, в предвидении дальнейших следствий, должен был
теперь быть установлен ясно и отчетливо.
Не-Я противополагается Я; и в нем пребывает отрицание так же, как
в Я — реальность. Раз в Я положена абсолютная полнота реальности, то в
Не-Я неизбежно должна быть положена абсолютная полнота отрицания; и
само отрицание должно быть положено как абсолютная полнота.
Оба момента, абсолютная полнота реальности в Я и абсолютная
полнота отрицания в Не-Я, должны быть объединены путем определения.
Стало быть, Я определяет отчасти себя само, отчасти же получает
определение; другими словами, положение следует взять в двояком значении,
причем оба его значения должны существовать рядом друг с другом.
Но оба они должны быть мыслимы как одно и то же, то есть в том
отношении, в котором Я получает определение, оно должно определять себя
само; и в том же отношении, в котором оно себя определяет, оно должно
получить определение.
Что Я получает определение, это значит, что в нем уничтожается
реальность. Если, следовательно, Я полагает в себе только одну часть
абсолютной полноты реальности, оно тем самым уничтожает в себе остальную
часть этой полноты и полагает часть реальности, равную уничтоженной
реальности путем противоположения (§ 2) и равенства количества с самим
собою (§ 3) в Не-Я. Степень есть всегда степень, будь то степень реальности
или отрицания. (Разделите, например, полноту реальности на десять
равных частей; положите затем пять из них в Я; тем самым вы положите
неизбежно в Я пять частей отрицания.)
Сколько частей отрицания полагает в себе Я, столько же частей
реальности полагает оно в Не-Я, причем эта реальность в противоположном
как раз и уничтожает в нем реальность. (Если, например, пять частей
отрицания полагаются в Я, то тем самым пять частей реальности полагаются в
Не-Я.)
313
И. Г. Фихте
Следовательно, Я полагает в себе отрицание, поскольку оно полагает
в Не-Я реальность, и полагает в себе реальность, поскольку оно полагает в
Не-Я отрицание. Оно полагает, стало быть, себя как
самопредъявляющееся, поскольку оно получает определение, и полагает себя получающим
определение, поскольку оно само собою определяется. Таким образом
задача, поскольку она была выше поставлена, разрешена.
(Поскольку она была поставлена. Ибо вопрос о том,, как может Я
полагать в себе отрицание или же в Не-Я — реальность, все еще остается без
ответа; а пока нельзя решить этого вопроса, почти ничего и не достигнуто.
Мы отмечаем это для того, чтобы кажущееся ничтожество и
недостаточность нашего разрешения никого не приводили в смущение.)
Мы только что предприняли новый синтез. Понятие,
устанавливаемое в этом синтезе, подводится под более высокое родовое понятие
определения, так как им полагается количество. Но если это действительно другое
понятие и если обозначаемый им синтез должен быть действительно
новым синтезом, то должно быть возможно указать специфическое отличие
его от понятия определения вообще, — указать основание отличия этих
двух понятий. Определением вообще, устанавливается лишь количество,
безразлично как и каким образом; нашим же теперь только что
установленным синтетическим понятием полагается количество одного через
количество другого, ему противоположного, и наоборот. Определением
реальности или отрицания Я определяется одновременно и отрицание или
реальность Не-Я, и наоборот. Я могу исходить из какой мне угодно
противоположности и всякий раз в то же самое время определяю действием
определения другую противоположность. Это более определенное
определение хорошо было бы называть взаимоопределением (по аналогии с
взаимодействием). Это — то же самое, что у Канта называется отношением
(Relation)31.
С. СИНТЕЗ ЧЕРЕЗ ВЗАИМООПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В САМОМ ПЕРВОМ ИЗ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
Вскоре мы увидим, что для разрешения главной трудности синтез
через взаимоопределение не дает значительных результатов. Зато для метода
мы получаем в нем твердую основу.
Если в главном положении, установленном в начале параграфа,
заключаются все противоположности, которые должны быть здесь
объединены (а они должны в нем содержаться согласно сделанному выше замечав
нию относительно метода), если, далее, они должны были быть
объединены с помощью понятия взаимоопределения, то противоположности,
заключающиеся в объединенных уже общих положениях, должны уже быть
314
Основа общего наукоучения
необходимо косвенно объединены — через взаимоопределение. Подобно
тому как частные противоположности содержатся уже в установленных
общих противоположностях, точно так же и объединяющее их синтетическое
понятие должно подводиться под общее понятие взаимоопределения. Нам
надлежит, стало быть, проделать с этим понятием совершенно то же самое,
что мы выше проделали с понятием определения вообще. Мы определили
его само, то есть мы ограничили сферу его объема меньшим количеством,
поставив как условие, что количество одного момента должно быть
определяемо его противоположностью, и наоборот. И таким образом мы
получили понятие взаимоопределения. Согласно только что приведенному
доказательству, нам надлежит теперь точнее определить само это понятие, то
есть ограничить его сферу при помощи особого дополнительного условия.
И таким образом мы получим синтетические понятия, которые объемлют-
ся более высоким понятием взаимоопределения.
Это даст нам возможность определить эти понятия путем
установления их точных границ, чем будет устранена всякая возможность их
смешения и незаметного перехода из области одного в область другого. Всякое
заблуждение тотчас же обнаруживается недостатком в точном
определении.
Не-Ядолжно определять Я, то есть оно должно уничтожать в этом
последнем реальность. Это возможно лишь при том условии, что оно в себе
самом содержит ту часть реальности, которую оно должно уничтожить в Я.
Следовательно, Не-Я имеет в себе реальность.
Но вся-реальность целиком полагается в Я. Не-Я же противоположно
Я; следовательно, в него полагается одно лишь отрицание и никакой
реальности. Все Не-Я есть отрицание; и, следовательно, оно не содержит в
себе никакой реальности.
Эти два положения уничтожают друг друга взаимно. Но оба они
содержатся в положении: Не-Я определяет Я. Следовательно, это положение
само себя уничтожает.
1. Это противоречие не разрешается еще понятием
взаимоопределения. Правда, если мы предположим абсолютную полноту реальности как
допускающую деление, то есть допускающую увеличение или уменьшение
(хотя даже само право на такое предположение еще не выведено нами), то
мы можем по произволу выделять из нее части и при таком условии
должны будем неизбежно полагать их в Не-Я\ это все следует из понятия
взаимоопределения. Но как же приходим мы к тому, чтобы выделять из
реальности Я отдельные части? Вот вопрос, пока еще не затронутый этим
понятием. Правда, рефлексия, следуя закону взаимоопределения, полагает
реальность, уничтоженную в одном моменте, в противоположный ему
момент, и наоборот, если только она где-либо вообще уничтожила реаль-
315
И. Г. Фихте
ность. Но что же вообще уполномочивает или принуждает ее браться за
осуществление взаимоопределения?
Выскажемся определеннее. В Я реальность полагается безусловно. В
третьем основоположении, притом совершенно определенно, только что
было положено Не-Я как некоторое количество', но ведь всякое количество
есть нечто, следовательно, есть реальность. И, однако же, Не-Я должно
быть отрицанием, следовательно, как бы реальным отрицанием
(отрицательной величиной).
Согласно понятию чистого отношения, совершенно безразлично,
какой из двух противоположностей будет приписана реальность и которой
из них отрицание. Это будет зависеть от того, который из двух объектов
послужит для рефлексии точкой отправления. Именно так обстоит дело в
математике, которая совершенно отвлекается от всякого качества и имеет в
виду только количество32. Само по себе совершенно безразлично, назову
ли я положительными величинами шаг назад или шаг вперед; все здесь
зависит только от того, склоняюсь ли я считать конечным результатом сумму
первых или же сумму вторых. Так обстоит дело и в наукоучении. Что в Я
есть отрицание, то в Не-Я есть реальность, и наоборот. Только это, и не
более того, предписывается понятием взаимоопределения. Буду ли я
называть то, что заключается в Я, реальностью или отрицанием, всецело
зависит от моего произвола, ибо речь идет лишь об относительной6*
реальности.
Таким образом, в самом понятии реальности оказывается
двусмысленность, вводимая как раз понятием взаимоопределения. Если эту двут
смысленность нельзя преодолеть, тем самым уничтожается единство
сознания: Я есть реальность, и Не-Я есть тоже реальность; в таком случае они
уже более не противополагаются, и Яуже Не=Я, но = Не-Я.
2. Если указанное противоречие должно быть удовлетворительным
образом разрешено, то прежде всего необходимо устранить
вышеупомянутую двусмысленность, за которою в таком случае оно скрывается и потому
может быть не действительным, а только кажущимся противоречием.
Источником всякой реальности является Я, так как оно есть
непосредственное и безусловно полагаемое. Только через посредством и вместе
с ним дается и понятие реальности. Но Я есть потому, что оно полагает
себя, и полагает себя потому, что оно есть. Следовательно, самополагание и
бытие суть одно и то же. Но понятие самополагания и деятельности вообще
суть, в свою очередь, одно и то же. Значит, всякая реальность деятельна, и
6* Замечательно, что в обыкновенном словоупотреблении слово
"относительный" всегда употребляется правильно, всегда означает то, что
отличается только количественно и ничем иным отличаться не может, и тем не менее
со словом "отношение", от которого происходит слово "относительный",
не связано никакого определенного понятия.
316
Основа общего наукоунения
все деятельное есть реальность. Деятельность есть положительная,
абсолютная реальность (в противоположность только относительной
реальности).
(Чрезвычайно важно при этом мыслить понятие деятельности во
всей его чистоте. Им не может быть обозначаемо что-либо такое, что не
содержалось бы в абсолютном положении # самим собою, ничего такого, что
не заключалось бы непосредственно в положении: Яесмь. Отсюда ясно, что
при этом следует совершенно отвлечься не только от всех условий
времени, но и от всякого объекта деятельности. Дело-действие Я, поскольку оно
полагает свое собственное бытие, не обращается на какой-либо объект, а
возвращается в себя само. Только тогда, когда Я представляет себя самого,
оно становится объектом. Силе воображения очень трудно удержаться от
того, чтобы не вмешивать этого последнего признака объекта, на который
направляется деятельность, также и в чистое понятие деятельности; но
достаточно быть предупрежденным относительно этого обмана для того,
чтобы по меньшей мере в выводах отвлекаться от всего того, что может быть
результатом такого вмешательства.)
3. Я должно быть определено, то есть в нем должна быть уничтожена
реальность, или же деятельность, как мы только что определили понятие
реальности. Стало быть, в нем полагается противоположность
деятельности. Противоположность же деятельности называется страдательным
состоянием. Страдание есть положительное, абсолютное отрицание, и
постольку оно противоположно отрицанию только относительному.
(Было бы хорошо, если бы слово "страдание" имело поменьше
посторонних значений. О том, что здесь идет речь не о болезненном
ощущении, конечно, излишне даже упоминать. Но, пожалуй, следует отметить,
что здесь нужно отвлечься от ъсехвременных условий, а затем также и от
всякой деятельности в противоположенном, причиняющей страдание.
Страдание есть простое отрицание только что установленного чистого понятия
деятельности, и притом отрицание количественное, так как это понятие
само количественно; ибо простое отрицание деятельности, отвлеченное от
всякого количества последней и потому =0, было бы покоем. Все в Я, что не
заключается непосредственно в "Яесмь" и не полагается непосредственно
положением Я его собственными силами, является для него страданием
(состоянием аффекта вообще).
4. Если в то время, когда Я находится в состоянии страдания, должна
быть сохранена абсолютная полнота реальности, то, согласно
вышесказанному, в силу закона взаимоопределения в Не-Я неизбежно должна быть
перенесена деятельность равной же степени.
И таким образом получает свое разрешение вышеупомянутое
противоречие. Не-Я как таковое само по себе лишено какой бы то ни былореально-
317
И. Г. Фихте
сти; но оно имеет реальность, поскольку Я страдает — в силу закона
взаимоопределения. Это положение: Не-Я обладает для Я реальностью
(насколько, по крайней мере, мы это сейчас усматриваем)лишь постольку,
поскольку Я находится в состоянии аффекта, помимо же этого условия аффек-
ции Я, Не-Я не имеет никакой реальности — это положение чрезвычайно
важно по своим последствиями
5. Выведенное теперь синтетическое понятие объемлется более
высоким понятием взаимоопределения, так как в нем количество одного
момента, Не-Я, определяется количеством противоположного момента, Я.
Но оно в то же время и специфически отличается от этого понятия. А
именно, в понятии взаимоопределения было совершенно безразлично, которая
из двух противоположностей определяется другою, которой из них
приписывается реальность и которой — отрицание. В нем определялось
количество, только количество, и более ничего. В данном же синтезе
распределение ролей отнюдь не безразлично; напротив, тут определено, какому из
двух членов противоположения присуща реальность, а не отрицание, и
которому присуще отрицание, а не реальность. В данном синтезе, таким
образом, полагается деятельность, и притом столько же деятельности в
одном из моментов, сколько страдания в противоположном ему моменте,
и наоборот.
Этот синтез будет именоваться у нас синтезом действенности (лри-
чинности). То, чему приписывается деятельность и постольку не
приписывается страдания, называется причиною (первореальностью,
положительной безусловно полагаемой реальностью, что прекрасно выражается
словом Ursache34); то же, чему приписывается страдание и постольку не
приписывается деятельности, называется следствием — Bewirkte (продуктом,
следовательно, такой реальностью, которая зависит от другой реальности
и не является первореальностью). Будучи мыслимы в связи, причина и
следствие называются действием (Wirkung). Продукт же действия
(Bewirkte) никогда не следовало бы называть действием (Wirkung).
(В понятии действенности, согласно тому, как оно только что было
выведено, нужно совершенно отвлечься от эмпирических условий времени;
и его прекрасно можно мыслить также и без них. Отчасти время еще не
выведено до сих пор, и мы еще не вправе здесь пользоваться его понятием;
отчасти же вообще совсем неверно, что причину как таковую, то есть
поскольку она действительно выражается в каком-либо определенном
действии, следует мыслить как нечто во времени предшествующее
следствию, — как это в свое время станет ясно в самом схематизме. Причина и
следствие должны даже мыслиться посредством синтетического единства
как одно и то же. Не причина как таковая, а субстанция, которой
приписывается действенность, предшествует действию во времени в силу основа-
318
Основа общего наукоучения
ний, которые будут указаны. Но в этом смысле также и та субстанция, на
которую производится воздействие, предшествует во времени
порожденному в ней следствию.)
Д. СИНТЕЗ ПОСРЕДСТВОМ ВЗАИМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ДВУХ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ВО ВТОРОМ
ИЗ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
Второе положение, установленное как содержащееся в нашем
главном положении—Я полагает себя как определенное, то есть определяет
себя самого, — само заключает в себе противоположности и, стало быть,
уничтожает себя. А так как оно не может уничтожать себя, не уничтожая
косвенно также и единства сознания, то мы должны постараться объединить
заключающиеся в нем противоположности при помощи нового синтеза.
a) Я определяется; оно есть определяющее начало (то есть слово
"определять" стоит тут в действительном залоге) и потому действенно.
b) Оно определяет себя; оно есть определяемое и потому находится в
страдательном состоянии (определяемость по своему внутреннему смыслу
всегда обозначает страдание, ограничение реальности). Стало быть, Я
одновременно в одном и том же действии является и действенным, и
страдательным. Ему в одно и то же время приписывается и реальность, и
отрицание, что, без сомнения, есть противоречие.
Это противоречие нужно разрешить через понятие
взаимоопределения; и, несомненно, оно было бы совершенно разрешено, если бы вместо
вышеприведенных положений можно было бы мыслить лишь следующее:
Я определяет деятельностью свое страдание или же страданием свою
деятельность. В таком случае оно было бы в одном и том же состоянии
одновременно и действенно и страдательно. Весь вопрос лишь в том, возможно
ли мыслить такое положение и как его мыслить.
Для того, чтобы всякое определение вообще (всякое измерение)
было возможно, необходимо установить некоторый масштаб. Но таким
масштабом не могло бы быть ничто другое, кроме самого Я, так как
первоначально с безусловностью полагается только Я.
Но в Я полагается реальность. Следовательно, Я должно быть
полагаемо как абсолютная полнота (стало быть, как некоторое такое
количество, в котором содержатся все количества и которое может быть мерилом
для них всех) реальности, и притом первоначально и безусловно, если
только синтез, сейчас установленный только проблематически, должен
быть возможен, а противоречие должно быть разрешено
удовлетворительным образом. Итак,
1. Я полагает безусловно, без всякого на то основания и помимо ка-
319
И, Г. Фихте
кого-либо условия, абсолютную полноту реальности как некоторое
количество, больше которого, единственно в силу этого самого полагания, не
может быть никакое другое; и этот абсолютный максимум реальности оно
полагаете себе самом. Все, что полагается в Я, есть реальность, и всякая
реальность, какая только есть, полагается в Я (§ 1). Но эта реальность в Я
представляет собою некоторое количество, именно некоторое безусловно
полагаемое количество (§ 3).
2. Через этот безусловно полагаемый масштаб и посредством его
применения должно быть определяемо количество любого недостатка
реальности (количество страдания). Но ведь недостаток есть ничто; и
недостающее есть ничто. (Небытие не может быть воспринимаемо.)
Следовательно, его можно определить только тем, что определена будет остальная
часть реальности. Таким образом, Я в состоянии дать определение только
ограниченному количеству своей реальности; и его определением
определяется одновременно также и количество отрицания. (Посредством
понятия взаимоопределения.)
(Мы тут еще полностью отвлекаемся от определения отрицания как
противоположности реальности в себе, в Я и сосредоточиваем наше
внимание лишь на определении некоторого количества реальности, которое
меньше чем полнота.)
3. Количество реальности, не равное полноте, само есть отрицание, а
именно отрицание полноты. Оно противополагается полноте как
ограниченное количество. Всякая же противоположность есть отрицание того,
чему "она противополагается. Всякое определенное количество есть
полнота.
4. Но если должно быть возможно противоположить полноте такое
количество, следовательно, сравнить его с нею (по правилам всякого
синтеза и антитезиса), то между ними должно быть налицо какое-нибудь
основание их отношения; и таким основанием является в этом случае понятие
делимости (§ 3). В абсолютной полноте нет частей; но ее можно сравнивать
с частями и отличать от них. Так можно удовлетворительно разрешить
вышеупомянутое противоречие.
5. Чтобы как следует уразуметь это, поразмыслим над понятием
реальности. Понятие реальности равно понятию деятельности. Что всякая
реальность полагается в Я, это значит, что в нем полагается всякая
деятельность, и наоборот: что все в Я есть реальность, это значит, что Я только
деятельно; поскольку оно деятельно, оно есть только Я; поскольку же оно не
деятельно, оно есть Не-Я.
Всякое страдание есть не-деятельность. Страдание поэтому никак
нельзя определить иначе, как только соотнося его с деятельностью.
Это, конечно, вполне соответствует нашей задаче, согласно которой
320
Основа общего наукоучения
страдание должно быть определено посредством деятельности, путем
взаимоопределения.
6. Страдание может быть поставлено в отношение к деятельности
только при том условии, если оно обладает каким- либо общим с ней
основанием отношения. Но таким основанием не может быть ничто иное,
кроме общего основания отношения между реальностью и отрицанием,
основания отношения количества. Страдание может быть через количество
поставлено в отношение к деятельности, а это значит, что страдание есть
некоторое количество деятельности.
7. Для того, чтобы можно было мыслить некоторое количество
деятельности, нужно иметь какой-нибудь масштаб деятельности, то есть и
иметь деятельность вообще (что выше было названо абсолютной полнотой
- реальности). Количество вообще есть мера.
8. Если в Я полагается вообще вся деятельность, то полагать
некоторое количество деятельности значит уменьшать ее; и такое количество,
поскольку оно не есть вся деятельность, есть страдание, хотя в себе оно —
также деятельность.
9. Таким образом, положением некоторого количества
деятельности, противоположением его деятельности не постольку, поскольку она
есть деятельность вообще, а поскольку она есть вся деятельность,
полагается некоторое страдание. Другими словами, такое количество деятельности
как таковое само полагается как страдание и определяется как таковое.
(Определяется, говорю я. Всякое страдание есть отрицание
деятельности; некоторым количеством деятельности отрицается полнота ее. И
поскольку это происходит, количество принадлежит к сфере страдания. Если
же его рассматривать вообще как деятельность, то в таком случае оно не
принадлежит к сфере страдания, но исключается из нее).
10. Таким образом, мы теперь нашли такой X, который является
одновременно и реальностью, и отрицанием, и деятельностью, и
страданием.
a) X есть деятельность, поскольку он ставится в отношение к Не-Я,
потому что оно полагается в Я, и притом в Я полагающее и действующее.
b) X есть страдание, поскольку он полагается в отношении к полноте
деятельности. Он не есть деятельность вообще, а некоторая определенная
деятельность, некоторый род деятельности, принадлежащий к сфере
деятельности вообще.
(Проведите какую-нибудь окружность =Л, и вся содержащаяся в ней
плоскость Л" будет противоположна бесконечной плоскости в бесконечном
пространстве, которая исключается. Проведите в окружности Л
какой-нибудь другой круг В, и содержащаяся в нем плоскость = Y будет, во-первых,
заключаться в сфере А, но вместе с тем подобно ей противополагаться бес-
11-645
321
И. Г. Фихте
конечной плоскости, исключенной А, и постольку совершенно равняться
плоскости^. Поскольку же вы будете рассматривать ее как содержащуюся
в В, она будет противополагаться исключенной бесконечной плоскости, а
следовательно, и той части плоскости X, которая в ней не лежит. Таким
образом, пространство Y противополагается самому себе; действительно,
оно является либо частью плоскости X, либо же самостоятельно
существующей плоскостью Y.)
Пример: Я мыслю есть прежде всего выражение деятельности; Я
полагается тут как мыслящее и постольку как действующее. Но затем оно есть
и выражение отрицания, ограничения, страдания; ибо мышление
представляет собою особое определение бытия, и его понятием исключаются все
остальные виды бытия. Стало быть, понятие мышления противоположно
самому себе; оно обозначает некоторую деятельность, если относится к
мыслимому предмету; оно обозначает некоторое страдание, если
относится к бытию вообще, ибо бытие должно быть ограничено для того, чтобы
стало возможно мышление.
Каждый возможный предикат Я означает собою некоторое
ограничение его. Субъект: Я есть безусловно деятельное или сущее. Предикатом
же (например, Я представляю, Я стремлюсь и т.д.) эта деятельность
заключается в некоторую ограниченную сферу. (Как это происходит и благодаря
чему, об этом здесь еще не место говорить.)
11. Теперь можно вполне уяснить себе, как может Я определять
своею деятельностью и ее посредством свое страдательное состояние и как
может оно быть одновременно и деятельным, и страдательным. Оно
является определяющим, поскольку оно полагает себя с абсолютной
самопроизвольностью в одну какую-либо определенную сферу изо всех,
содержащихся в абсолютной полноте его реальностей, и поскольку рефлексия
сосредоточивается только на этом абсолютном полагании и отвлекается от
границ положенной сферы. Оно оказывается определяемым, поскольку оно
рассматривается как нечто, полагаемое в этой определенной сфере,
притом в отвлечении от самопроизвольности полагания.
12. Мы нашли первоначальное синтетическое действие Я, которым
разрешается установленное противоречие, а благодаря этому — и
некоторое новое синтетическое понятие, которое нам надлежит еще исследовать
несколько обстоятельнее.
Это понятие знаменует собою, подобно предшествующему ему
понятию действительности, некоторое более определенное
взаимоопределение; и мы уясним себе то и другое самым наилучшим образом, если
сравним их как со взаимоопределением, так и между собою.
Согласно правилам определения вообще, они должны быть:
322
Основа общего наукоучения
а) оба равны взаимоопределению, Ь) ему противоположны, с) равны друг
другу, поскольку они противоположны взаимоопределению, d)
противоположны друг другу.
a) Они равны взаимоопределению в том, что в них обоих, как и в нем,
деятельность определяется страданием или же реальность — отрицанием
(что то же самое), и наоборот.
b) Они оба противополагаются ему, ибо во взаимоопределении
только полагается вообще некоторая смена, но не определяется при этом.
Остается предоставленным усмотрению каждого, совершать ли переход от
реальности к отрицанию или же от отрицания к реальности. В обоих же
последних выведенных синтезах порядок смены установлен и определен.
c) Именно в том, что порядок в них обоих установлен, они подобны
друг другу.
d) Что же касается самого порядка смены, они в этом
противоположны. В понятии причинности деятельность определяется страданием, а в
только что выведенном понятии страдание определяется деятельностью.
13. Поскольку Я рассматривается как охватывающее в себе весь и
всецело определенный круг всех реальностей, оно есть субстанция.
Поскольку же оно полагается в такую сферу этого круга, которая не всецело
определена (как и чем она определяется, пока остается за пределами
исследования), постольку оно акцидентально, или же в нем имеется некоторая
акциденция. Граница, отделяющая эту особую сферу от всего круга, и есть
то, что делает акциденцию акциденцией. Она представляет собою
основание различия между субстанцией и акциденцией. Она заключается в круге;
поэтому акциденция находится в субстанции и пребывает в ней. Но она
исключает нечто из целого круга; поэтому акциденция не есть субстанция.
14. Никакая субстанция не может быть мыслима безотносительно к
акциденции, так как Я становится субстанцией только через положение
возможных сфер в абсолютный круг; только благодаря возможным
акциденциям возникают реальности, так как в противном случае все реальности
просто были бы одним и тем же. Реальности Я суть его способы действия;
но есть субстанция, поскольку в нем полагаются все возможные способы
действия (виды его бытия).
Никакая акциденция не мыслима без субстанции, так как для того,
чтобы можно было понять, что нечто есть некоторая определенная
реальность, я должен это нечто поставить в связь с реальностью вообще.
Субстанция есть вся смена, мыслимая вообще; акциденция есть нечто
определенное, которое сменяется вместе с каким-либо другим сменяющимся.
Первоначально есть только одна субстанция — Я. В этой единой
субстанции полагаются все возможные акциденции, следовательно, все
возможные реальности. Каким образом несколько акциденций единой суб-
11*
323
И. Г. Фихте
станции, подобных в каком-либо признаке, могут постигаться вместе и даже,
в свою очередь, быть мыслимы как субстанции, акциденции которых
определяются различием таких признаков между собою, — различием,
существующим наряду с подобием, — это мы увидим в свое время.
Примечание. Неисследованной и совершенно не выясненной
осталась отчасти та деятельность Я, посредством которой оно различает и затем
сравнивает само себя как субстанцию и акциденцию, отчасти же то, что
побуждает Я предпринимать это действие; причем, насколько мы можем
заключить из первого синтеза, этим побуждающим началом должно быть,
конечно, действие Не-Я. Таким образом, как это обычно бывает при
всяком синтезе, в середине все как следует соединено и связано; но не то мы
видим на обоих крайних концах.
Это замечание освещает с новой стороны дело, осуществляемое нау-
коучением. Оно будет и далее продолжать вдвигать посредствующие
звенья между противоположностями; но этим противоречие не будет вполне
разрешено, а будет только передвинуто далее. Правда, когда между
объединенными членами, относительно которых при более близком их
рассмотрении оказывается, что они все же не полностью объединены,
помещается какой-нибудь новый член, то, конечно, последнее указанное
противоречие отпадает; но для того, чтобы разрешить его, пришлось взять новые
конечные точки, которые, в свою очередь, противополагаются друг другу и
должны снова быть соединяемы.
Подлинной высшей задачей, содержащей в себе все другие задачи,
является следующая: как может Я непосредственно воздействовать на Не-
Я или же Не-Я — на Я, раз оба должны быть друг другу противоположны.
Между ними помещают какой-нибудьX, на который они оба воздействуют
и через который они, стало быть, косвенно воздействуют и друг на друга.
Но тотчас же замечают, что ведь и в этом Xдолжна быть какая-нибудь
точка, в которой Я и Не-Я непосредственно совпадают. Чтобы этому
воспрепятствовать, вместо проведения точных границ помещают между ними
некоторое новое посредствующее звено = Y. Но очень скоро оказывается, что
и в нем, как в X, должна быть какая-либо точка, в которой бы
противоположности непосредственно соприкасались. И можно было бы так
продолжать до бесконечности, если бы узел затруднения был, правда, не
разрешаем, а разрубаем неким властным предписанием разума, которое не
делается философом, а только указывается им, а именно повелением: так как Не-
Я никак не может быть соединено с Я, то вообще не должно быть никакого
Не-Я.
На это можно еще посмотреть и с другой стороны. Поскольку Я
ограничивается Не-Я, оно конечно; в себе же самом, поскольку оно полагается
его собственной абсолютной деятельностью, оно бесконечно. Оба эти его
324
Основа общего наукоучения
момента, бесконечность и конечность, должны быть объединены между
собой. Но такое объединение само по себе невозможно. Долгое время,
правда, спор будет улаживаться через посредничество; бесконечное
ограничивает конечное. Но в конце концов конечность вообще должна быть
уничтожена, так как окажется совершенно невозможным достигнуть
искомого объединения; все границы должны исчезнуть, и должно остаться
одно только бесконечное Я как нечто единственное и всеединое35.
Предположим, что в непрерывном пространстве А в точке m
находится свет, а в точке п — тьма. Так как пространство непрерывно и между m
и п нет никакого hratus'a*, то между обеими точками должна быть
где-нибудь такая точка <?, которая в одно и то же время является и светом и тьмою,
что внутренне противоречиво. Предположите в промежутке между ними
посредствующее звено — сумерки. Допустим, что они тянутся от/? до q;
тогда в/? сумерки будут граничить со светом, а в q — с тьмою. Но этим ведь вы
произвели только простое перемещение и отнюдь не разрешили
противоречия удовлетворительным образом. Сумерки представляют собой смесь
из света с тьмою. А ясный свет может граничить в точке/? с сумерками
только в том случае, если точка/? будет в одно и то же время q — светом и
сумерками; а так как сумерки только тем отличаются от света, что они являются
также и тьмою, то — только в том случае, если точка эта будет
одновременно и светом и тьмою. И точно так же обстоит дело с ограничением в точке q.
Следовательно, противоречие может быть разрешено только следующим
образом: свет и тьма вообще не противоположны между собой, а
различаются лишьло степени. Тьма есть только чрезвычайно незначительное
количество света. Совершенно так же обстоит дело и с отношением между Я и
Не-Я.
Е. СИНТЕТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ, ИМЕЮЩЕЙ МЕСТО
МЕЖДУ ДВУМЯ УСТАНОВЛЕННЫМИ ФОРМАМИ ВЗАИМООПРЕДЕЛЕНИЯ
Я полагает себя как определяемое через Не-Я. Таково было то главное
положение, от которого мы отправились и которого нельзя было нарушать
без того, чтобы в то же время не нарушалось и единство сознания. Однако в
нем заключались противоречия, которые нам надлежало разрешить.
Прежде всего возник вопрос о том, как может Я в одно и то же время и
определять, и быть определяемое Мы ответили на него так: определять и быть
определяемым значит в силу понятия взаимоопределения одно и то же. А
именно: поскольку Я полагает в себе некоторое определенное количество
отрицания, оно в то же время полагает и некоторое определенное количе-
* Зияния (греч.).
325
И. Г. Фихте
ство реальности в Не-Я, и наоборот. Оставалось задать себе вопрос о том,
во что же должна быть полагаема реальность, в Я или же в Не-Я? На это,
при помощи понятия действенности, был дан следующий ответ: в Я
должно быть полагаемо отрицание или страдательность, и такое же точно
количество реальности или деятельности должно быть — согласно правилу
взаимоопределения вообще — полагаемо в Не-Я. Но как может быть
полагаемо в Я некоторое страдательное состояние? Таков был дальнейший
вопрос. И на это при помощи понятия субстанциальности был дан такой
ответ: страдательность и деятельность в Я суть одно и то же, так как ведь
страдательное состояние есть не что иное, как менее значительное количество
деятельности.
Но такими ответами мы втянули себя в круг. Если Я полагает в себе
деятельность некоторой менее значительной степени, то, разумеется, оно
тем самым полагает в себе некоторое страдательное состояние, а в Не-Я —
некоторую деятельность. Но Я не может быть наделено способностью
полагать в себе исключительно лишь деятельность некоторой менее
значительной степени; ибо в силу понятия субстанциальности оно полагает в
себе всю деятельность и не полагает в себе ничего иного, кроме
деятельности. Следовательно, полаганию в Я деятельности менее значительной
степени должна была бы предшествовать некоторая деятельность Не-Я; и эта
последняя должна была бы действительно уничтожить некоторую часть
деятельности Я прежде, чем Я могло бы совершить полагание в себе
некоторой менее значительной степени ее. Однако это тоже невозможно, так
как при помощи понятия действенности Не-Я может быть наделено
некоторой деятельностью лишь постольку, поскольку в Я полагается некоторое
страдательное состояние.
Постараемся — пока еще не в методической форме — пролить
побольше света на главный пункт, подлежащий обсуждению. При этом да
будет мне позволено считать пока понятие времени известным.
Предположите в качестве первого случая, согласно одному только понятию
действенности, что ограничение Я обязано своим происхождением всецело и
исключительно лишь деятельности Не-Я. Представьте себе, что Не-Я в
момент времени/! не оказывает действия на Я. В таком случае вЯналична вся
реальность и нет в нем никакого отрицания; и, следовательно, согласно
вышесказанному, в Не-Я не полагается никакой реальности. Представьте
себе далее, что Не-Я в момент времени В воздействует на Я деятельностью в
три степени. В таком случае, в силу понятия взаимоопределения, в Я
уничтожается, конечно, три степени реальности и на место их полагается три
степени отрицания. Но при этом Я находится в чисто страдательном
состоянии. Правда, степени отрицания в нем полагаются; но они полагаются
при этом только для любого разумного существа, находящегося вне Я, на-
326
Основа общего наукоучения
блюдающего Я и Не-Я в указанном действии и судящего о них согласно
правилу взаимоопределения, и не для самого Я. Для этого было бы
необходимо, чтобы Я могло сравнить свое состояние в момент Л со своим
состоянием в моменте В и провести различие между различными количествами
своей деятельности в эти моменты. Между тем пока еще не показано, как
это возможно. В предположенном случае Я было бы, конечно, ограничено,
но не сознавало бы этого своего ограничения36. Или, говоря словами
нашего положения, оно было бы, конечно, определяемым, но оно не полагало бы
себя как определяемое; только какое-нибудь внешнее ему существо могло
бы положить его как определяемое.
Или предположите в качестве второго случая, согласно одному
только понятию субстанциальности, что Я как таковое совершенно независимо
от какого бы то ни было воздействия Не-Я, обладает способностью
полагать в себя произвольно некоторое уменьшенное количество реальности
(предположение трансцендентного идеализма37, а именно —
предустановленной гармонии38, которое составляет такой идеализм); при этом
мы оставляем совершенно без внимания то обстоятельство, что такое
предположение противоречит уже безусловно первому основоположению.
Дайте Я еще в обладание также и способность сравнивать это уменьшенное
количество с безусловным целым и мерить его меркой этого последнего.
Сделав такое предположение, представьте себе Я в момент Л обладающим
уменьшенной деятельностью в две степени, в моменте же В —
уменьшенной деятельностью в три степени. В таком случае нетрудно понять, как мо-
жетЯ признать себя в обоих моментах ограниченным, и при этом в
моменте В ограниченным более, чем в моменте А. Но нет возможности понять
при этом то, как может Я относить такое ограничение насчет чего-то в Не-
Я, как его причины. Оно должно было бы скорее самого себя счесть за
причину этого ограничения. Говоря словами нашего положения: Я полагало
бы себя, конечно, в таком случае как определяемое, но только не как
определяемое через Не-Я. (Правомерность подобного отнесения к Не-Я
отрицается, конечно, догматическим идеалистом, и постольку он
последователен. Однако же он не может отрицать самого факта отнесения, — этого еще
не приходило в голову никому. Но в таком случае он должен по меньшей
мере объяснить этот признаваемый им факт, отвлекаясь от его
правомерности. Но этого он не в состоянии сделать, исходя из своего
предположения, и потому его философия остается неполной. Если же он, сверх того,
еще принимает существование вещей вне нас, как то случается в учении о
предуставленной гармонии, по меньшей мере у некоторых из лейбницев-
ских последователей, он оказывается, кроме того, также и
непоследовательным.)
327
И. Г. Фихте
Каждый из двух синтезов, будучи употребляем в отдельности, не
объясняет, таким образом, того, что они должны объяснить, и
вышеуказанное противоречие, стало быть, сохраняется: если Я полагает себя как
определяемое, оно не определяется через Не-Я; если же оно определяется
через Не-Я, — оно не полагает себя само как определяемое.
I. Сформулируем теперь это противоречие с полной
определенностью.
Я не может полагать в себе никакого страдательного состояния, не
полагая в Не-Я деятельности; но оно не может положить в Не-Я никакой
деятельности, не положив в себе некоторого страдания. Оно не может
одного без другого; не в состоянии ни того, ни другого в отдельности; не
может, стало быть, ничего из этого. Значит:
1. Я не полагает в себе страдания, поскольку оно полагает
деятельность в Не-Я, и не полагает деятельности в Не-Я, поскольку полагает в себе
страдательное состояние: оно вообще не полагает (надо иметь в виду, что
отрицается при этом не условие, а обусловленное, что речь идет не о правиле
взаимоопределения вообще как таковом, а о применении его вообще к
данному случаю), как то было только что доказано.
2. Но Я должно полагать в себе страдание, а постольку и деятельность
в Не-Я, и наоборот (в силу заключения из выше положенных с
безусловностью положений).
II. В первом из настоящих положений отрицается то, что
утверждается во втором.
Они относятся друг к другу, стало быть, как отрицание и реальность.
Отрицание же и реальность объединяются через количество. Оба
положения должны иметь силу; но оба они должны иметь ее только отчасти. Их
нужно мыслить следующим образом:
1. Я полагает в себе отчасти страдание, поскольку оно полагает
деятельность в Не-Я, но отчасти оно не полагает в себе страдания, поскольку
оно полагает в Не-Я деятельность; и наоборот. (Выражаясь точнее:
взаимоопределение имеет силу в некотором отношении и допускает применение;
в некотором же другом отношении оно не допускает применения.)
2. Я полагает страдательное состояние в Не-Я лишь отчасти,
поскольку оно полагает деятельность в Я; отчасти же оно не полагает
страдания в Не-Я, поскольку оно полагает деятельность в Я. (Утверждать это,
значило бы, что в Я полагается некоторая деятельность, которой в Не-Я не
противополагается никакого страдания, а в Не-Я — некоторая
деятельность, которой в Я не противополагается никакого страдания. Будем пока
называть деятельность этого рода независимой деятельностью, в
ожидании более близкого ее изучения.)
III. Но такая независимая деятельность в Я и Не-Я противоречит
закону противоположения, который теперь, через закон взаимоопределе-
328
Основа общего наукоучения
ния, получил большую определенность. Она противоречит, стало быть,
особенно понятию взаимоопределения, которое господствует в нашем
настоящем исследовании.
Всякая деятельность в Я определяет страдательное состояние в Не-Я
(позволяет умозаключить к такому состоянию), и наоборот. И это в силу
понятия взаимоопределения. Но вот теперь установлено положение:
Некоторая деятельность в Я не определяет в Не-Я никакого
страдания (не позволяет умозаключить к такому страданию); некоторая же
деятельность в Не-Я не определяет никакого страдания в Я.
Это положение относится к предыдущему как отрицание к
реальности. Значит, они должны быть объединены при помощи определения, то
есть каждое из них может иметь силу только отчасти.
Первое положение, против которого направляется противоречие,
есть положение взаимоопределения. Это положение должно иметь силу
только отчасти, то есть оно само должно быть определено, а его сила
должна получить благодаря какому-то правилу некоторый определенный
объем. Или же, формулируя это несколько иначе, независимая
деятельность Я и Не-Я независима только в некотором определенном смысле. Что
это значит, сейчас станет ясно, ибо
IV. Согласно вышесказанному, в Я обязательно должна быть такая
деятельность, которая определяет собою в Не-Я некоторое страдательное
состояние и сама им определяется; и, наоборот, в Не-Я обязательно должна
быть такая деятельность, которая определяет в Я некоторое страдательное
состояние и сама им определяется. К этой деятельности и к этому
страдательному состоянию может быть применено понятие взаимоопределения.
Одновременно в них обоих должна быть налична некоторая
деятельность, которая не определяется никаким страдательным состоянием
другой, как то было только что постулировано с тем, чтобы разрешить
обнаруживающееся противоречие.
Оба положения должны быть совместимы друг с другом; стало быть,
должно быть возможно мыслить их при помощи некоторого
синтетического понятия, объединенными в одном и том же акте. Но таким понятием не
может быть никакое другое, кроме понятия взаимоопределения.
Положение, в котором они мыслились бы объединенными, было бы таково.
Взаимным действием (Wechsel=Tun) и страданием (действием и
страданием, обоюдно определяющимися через посредство
взаимоопределения) определяется независимая деятельность; и наоборот, независимой
деятельностью определяется взаимное действие и страдание. (То, что
принадлежит к сфере взаимности, не принадлежит к сфере независимой
деятельности, и наоборот; так что каждая сфера допускает определение ее сферою
ей противополагающейся.)
329
И. Г. Фихте
Если бы это положение подлежало утверждению, было бы ясно:
1. В каком смысле независимая деятельность Я и независимая
деятельность Не-Я определяют взаимно друг друга, а в каком нет. Они
определяют друг друга не непосредственно; они взаимоопределяются косвенно,
через их взаимное действие и страдание.
2. Как может положение взаимоопределения одновременно и иметь,
и не иметь силу? Оно приложимо к взаимосмене и независимой
деятельности; но оно не приложимо к независимой деятельности и независимой
деятельности в себе. Ему соподчиняются взаимосмена и независимая
деятельность, а не независимая деятельность и независимая деятельность в себе.
Поразмыслим теперь над смыслом вышеустановленного
положения. В нем содержится три следующих положения:
1. Взаимным действием и страданием определяется некоторая
независимая деятельность.
2. Некоторой независимой деятельностью определяется взаимное
действие и страдание.
3. Обе стороны взаимно определяются друг другом, причем
безразлично, будем ли мы переходить от взаимного действия и страдания к
независимой деятельности или же, наоборот, от независимой деятельности к
взаимному действию и страданию.
I
Что касается первого положения, то мы должны прежде всего
исследовать, что значит вообще, что некоторая независимая деятельность
оказывается определяемой некоторым взаимодействием. Затем мы должны
применить его к наличным случаям.
1. Взаимным действием и страданием определяется вообще
некоторая независимая деятельность (полагается некоторое определенное
количество этой последней). Как было указано, мы избегаем этим определения
самого понятия взаимоопределения, то есть ограничения некоторым
правилом объема его значимости. Определение же достигается путем указания
основания. Как только основание применения этого положения указано,
применение в тот же момент получает ограничение.
Как раз в силу положения о взаимоопределении, полаганием
деятельности с одной стороны непосредственно полагается страдательное
состояние с другой, ей противоположной, и наоборот. Между тем хоть из
положения о противопоставлении и явствует, что в том случае, если вообще
должно быть положено какое-нибудь страдание, оно должно с
необходимостью быть положено в противоположность деятельной стороне, однако
же вопрос о том, почему вообще должно быть положено какое-либо страда-
330
Основа общего наукоучения
ние и почему нельзя оставаться при деятельности с одной стороны, то есть
почему вообще должно происходить некоторое взаимоопределение, этим
еще не решается.
Страдательное состояние и деятельность как таковые
противоположны; тем не менее деятельностью должно быть непосредственно
полагаемо страдание, и наоборот; следовательно, в силу положения об
определении они должны с необходимостью также и уподобляться друг другу в
чем-то третьем = X (причем это третье делает возможным переход от
страдания к деятельности и обратно, без перерыва единства сознания и без
того, чтобы в нем возникал, так сказать, hiatus). Этим третьим является
основание отношения между действием и страданием во взаимосмене (§ 3).
Это основание отношения не зависит от взаимоопределения;
наоборот, это последнее зависит от него. Не основание отношения становится
возможным в силу взаимоопределения, а это последнее в силу него.
Поэтому основание отношения хоть и полагается в рефлексии при помощи
взаимоопределения, но полагается как нечто независимое от него и от того, что
сменяется через его посредство.
Далее, оно определяется в рефлексии взаимосменою, то есть когда
полагается взаимоопределение, основание отношения полагается в такую
сферу, которая объемлет собою сферу взаимоопределения; им как бы
описывается вокруг окружности взаимоопределения круг больших размеров, с
тем чтобы придать ему через это надежности. Основание отношения
заполняет сферу определения вообще, взаимоопределение же занимает
только часть ее, как то ясно уже из предыдущего и должно быть здесь
упомянуто в целях рефлексии.
Это основание есть некоторая реальность или же — если
взаимоопределение мыслится как акт — некоторая деятельность. Таким образом,
через взаимоопределение вообще определяется некоторая независимая
деятельность.
(Из предыдущего равным образом известно, что основанием всякого
взаимоопределения является абсолютная полнота реальности. Эта
последняя вообще не может быть уничтожена, и потому то количество ее, которое
уничтожается с одной стороны, должно быть положено со стороны ей
противоположной.)
2. Применим теперь это общее положение к отдельным под него
подходящим и наличным случаям.
а) Через посредство взаимопонятия (Wechselbegrifï) действенности
страдательным состоянием Я полагается деятельность Не Я. Это — один из
указанных видов взаимосмены: им должна быть полагаема и определяема
некоторая независимая деятельность.
Взаимоопределение исходит из страдательного состояния. Это по-
331
И. Г. Фихте
следнее полагается; им и через его посредство полагается деятельность.
Страдательное состояние полагается в Я. В понятии взаимоопределения,
получает свое полное обоснование тот факт, что, если этому
страдательному состоянию должна противополагаться некоторая деятельность, она с
необходимостью должна быть полагаема со стороны противоположной Я,
в Не-Я. При таком переходе существует, конечно, и должно существовать
какое-нибудь связующее звено или же некоторое основание, являющееся
тут основанием отношения. Таковым, как известно, является количество,
равное самому себе в Я и Не-Я, — в страдании и деятельности. Оно
представляет собою основание отношения, которое мы подходящим образом
можем обозначить как идеальное основание. Стало быть, страдательное
состояние в Я является идеальным основанием деятельности Не-Я. Только
что испробованный метод был вполне оправдан правилом
взаимоопределения.
Совсем другой вопрос — вопрос о том, должно ли и почему вообще
должно быть применено здесь правило взаимоопределения? Можно без
колебаний согласиться с тем, что после того как в Я положено
страдательное состояние, в Не-Я будет положена деятельность; но почему вообще
при этом будет положена деятельность? Этого вопроса нельзя разрешать
опять-таки при помощи положения о взаимоопределении; ответ на него
должен быть дан при помощи более высокого положения об основании.
В Я.полагается некоторое страдательное состояние, то есть
некоторое количество его деятельности уничтожается.
Это страдательное состояние или же это уменьшение деятельности
должно иметь какое-нибудь основание, ибо уничтожаемое-должно
представлять собой некоторое количество, каждое же количество определяется
каким-либо другим количеством, благодаря которому оно является
именно данным, не меньшим и не большим количеством, как то следует
согласно положению об определении (§ 3).
Основание такого уменьшения не может содержаться в Я (оно не
может возникнуть из Я непосредственно из его первоначальной сущности),
ибо Я полагает в себе только деятельность, а не страдание; оно полагает
себя единственно лишь как существующее и не полагает себя как
несуществующее (§ 1). В Я не содержится основание; это же положение, в силу
противоположения, согласно которому Не-Я присуще то, что не присуще
Я (§ 2), равнозначно следующему положению: основание уменьшения
заключается в Не-Я.
Тут дело идет уже не об одном только количестве, но и о качестве.
Страдание противополагается сущности Я, поскольку эта последняя
заключается в бытии, и лишь постольку основание страдания не могло быть
полагаемо в Я и должно было быть полагаемо в Не-Я. Страдание полагает-
332
Основа общего наукоучения
ся как качество, противоположное реальности, как отрицание (не только
как менее значительное количество деятельности, см. в этом параграфе).
Основание же некоторого качества называетсядашньш основанием.
Некоторая деятельность Не-Я, от взаимосмены не зависимая и возможностью
этой последней уже предполагаемая, есть реальное основание
страдательного состояния; и она полагается для того, чтобы мы имели для
страдательного состояния реальное основание. Следовательно, вышеуказанной
взаимосменой полагается некоторая от нее не зависимая, ею предполагаемая
деятельность Не-Я.
(Отчасти ввиду того, что мы достигли сейчас одной из ясных точек, с
которой весьма удобно обозреть всю систему в целом, отчасти же для того,
чтобы даже на самое короткое время не предоставить в распоряжение
догматического реализма того подтверждения, которое он мог бы извлечь
для себя из вышеприведенного положения, подчеркнем еще раз, что
заключение к некоторому реальному основанию в Не-Я основывается на
том, что страдание в Я знаменует собою нечто качественное (что с
необходимостью, конечно, нужно принять при рефлексии над одним только
положением действенности) и что оно поэтому лишь постольку имеет
значимость, поскольку ее может иметь такое предположение. Когда мы
обратимся к исследованию второго взаимопонятия, понятия
субстанциальности, то окажется, что в рефлексии над ним страдательное состояние не
может быть мыслимо как нечто качественное, а лишь как нечто
количественное, как простое уменьшение деятельности, что, стало быть, в этой
рефлексии, где отпадает основание, отпадает и обоснованное, и Не-Я становится
снова чисто идеальным основанием. Словом: если объяснение
представления, то есть вся умозрительная философия исходит из того, что Не-Я
полагается как_причина_представления, а этоЪоследнее как его следствие, то
Не-Я является реальным основанием всего; оно есть простопотому, что
есть, и то, что оно есть (спинозовский рок); даже Я оказывается толькрслу^
чайным моментом (Akzidens) его, а вовсе не субстанцией; и мы получаем
таким образом материальный спинозизм, знаменующий собою догмати-
ческий~реализм, — систему, предполагающую отсутствие высшего
возможного отвлечения, а именно отвлечения от Не-Я, и лишенную всякого
основания, так как она не устанавливает последнего основания. Напротив,
если объяснение представления исходит от того, что субстанцией этого
последнего является Я, само же представление есть его случайный момент, то
Не-Я оказывается уже не реальным, а только идеальным основанием
представления: оно лишено, стало быть, какой бы то ни было реальности за
пределами представления; оно не есть субстанция, не есть что-либо само
по себе существующее и безусловно положенное, а только случайный
момент Я. В этой системе нельзя было бы привести никакого основания для
333
И. Г. Фихте
ограничения реальности в Я (для того воздействия (Aftektion), благодаря
которому возникает представление). Всякая возможность
соответствующего исследования здесь окончательно отпадает. Такая система
представляла бы собою догматический идеализм, который, правда, предпринял
высшее отвлечение и потому является вполне обоснованным, но который
не полон, так как он не все объясняет, что должно получить свое
объяснение. Соответственно с этим, действительно спорным вопросом между
реализмом и идеализмом является вопрос о том, какой путь следует избрать
для объяснения представления. Как мы увидим в теоретической части
нашего наукоучения, этот вопрос остается совершенно без ответа, то есть он
разрешается так: оба пути правильны; при некотором определенном
условии приходится пойти одним из них, при противоположном же ему
условии — другим: но этим человеческий, то есть всякий конечный разум
ввергается в противоречие с самим собою и запутывается в круг; той системой,
в которой все это раскрывается, является критический идеализм,
установленный последовательнее и полнее всего Кантом. Указанное
противоборство разума с самим собою должно быть преодолено, хотя бы это и не
было возможно в пределах теоретического наукоучения. И так как от
абсолютного бытия Я отказаться нельзя, то спор должен разрешиться в пользу
выводов последнего рода совершенно так же, как и в догматическом
идеализме (с тою только разницей, что наш идеализм — не догматический, а
практический, определяет не то, что есть, а то, что должно быть). Но это
должно быть выполнено таким образом, чтобы получило объяснение то,
что должно быть объяснено; а этого именно и не в состоянии был сделать
догматизм. Уменьшенная деятельность Я должна быть объяснена из
самого Я; последнее основание ее должно быть полагаемо в Я. Это достигается
тем, что Я, являющееся в этом отношении практическим, полагается как
нечто такое, что должно содержать в себе основание существования Не-Я,
уменьшающего деятельность разумного Я: как бесконечная идея, которая
как таковая сама не может быть мыслима и при помощи которой потому не
столько уясняется то, что должно быть объяснено, сколько показывается,
что оно не может быть объяснено и почему не может; так что узел не столько
распутывается, сколько отодвигается в бесконечность.)
Через посредство взаимосмены между страдательным состоянием Я
и деятельностью Не-Я полагается некоторая независимая деятельность
этого последнего39. В равной мере она и определяется той же самой
взаимосменой: она полагается для того, чтобы обосновать полагаемое в Я
страдательное состояние; потому ее пределы не идут дальше пределов этого
последнего. Для Я первоначальная реальность и деятельность Не-Я
существует лишь постольку, поскольку оно страдает. Положение, что без
страдательного состояния в Я нет деятельности в Не-Я, сохраняет силу и в тех слу-
334
Основа общего наукоучения
чаях, когда речь идет об этой деятельности как о деятельности, не
зависимой от понятия действенности и знаменующей собою реальное основание.
Даже вещь в себе существует лишь постольку, поскольку в Я полагается по
меньшей мере хотя бы возможность страдания (канон, получающий свое
полное определение и применимость только в практической части).
Ь) Посредством понятия субстанциальности деятельностью в Я
(случайный момент в Я) полагается и определяется в нем же самом некоторое
страдательное состояние (некоторое отрицание). Оба эти момента
находятся во взаимосмене; их обоюдное определение представляет собою
вторую форму вышеустановленного взаимоопределения. Этой взаимосменой
тоже должна быть положена и определена некоторая от нее независимая и
в ней не участвующая деятельность.
Сами по себе деятельность и страдание противоположны; и конечно,
одним и тем же актом, которым полагается с одной стороны какое-либо
определенное количество деятельности, может быть, как мы это видели
выше, положено с противоположной стороны равное ей количество
страдания, и наоборот. Но то, что деятельность и страдание полагаются при
этом одним и тем же актом не в чем-либо разном, а в одном и том же, — это
противоречиво.
Правда, это противоречие уже было разрешено выше при дедукции
понятия субстанциальности, вообще тем, что страдание само по себе и
согласно своему качеству должно быть не чем иным, как деятельностью, по
количеству же — деятельностью меньшей, чем целое. И таким образом,
можно бьую в общем легко представить себе, как некоторое меньшее
количество может быть измеряемо при помощи абсолютной полноты и
полагаемо как меньшее благодаря тому, что оно количественно не равно ей.
Основанием отношения обоих моментов является теперь
деятельность. Как полнота их обоих, так и неполнота есть деятельность. Однако же
и в Не-Я полагается деятельность, а именно, равным образом не равная
полноте, ограниченная деятельность. Поэтому возникает вопрос: чем
должна отличаться ограниченная деятельность Я от ограниченной
деятельности Не-Я? Спрашивать же об этом — значит спрашивать о том, как
вообще при таких условиях различать еще Я и Не-Я? Ибо то основание
различия между ними, благодаря которому первое из них должно было быть
деятельно, а второе страдательно, отпало (обстоятельство, которое мы
очень просим читателя не обойти своим вниманием).
Если подобное различие невозможно, то невозможным является и
требуемое взаимоопределение, а равно и вообще ни одно из выведенных
определений. Деятельность Не-Я определяется страдательным состоянием
Я; страдательное же состояние Я определяется тем количеством его
деятельности, которое остается после уменьшения. Так что для того, чтобы
335
И. Г. Фихте
сделать возможным отнесение к абсолютной полноте деятельности Я, тут
предполагается, что уменьшенная деятельность есть деятельность Я — того
же самого Я, в котором полагается и абсолютная полнота. Уменьшенная
деятельность противоположна полноте той же деятельности; полнота же
полагается в Я; стало быть, противоположность полноты или же
уменьшенная деятельность должна была бы, согласно вышеупомянутому
правилу противопоставления, быть положена в Не-Я. Но, если б она была в него
положена, она не была бы более связана с абсолютной полнотой никаким
основанием отношения; взаимоопределение тогда не имело бы места, и
все выведенное до сих пор тем самым было бы уничтожено.
Следовательно, уменьшенная деятельность, которая как
деятельность вообще не могла бы быть отнесена к полноте, должна обладать еще
одним свойством, способным доставить основание отношения, — таким
свойством, благодаря которому она становится деятельностью Я и никак
не может быть деятельностью Не-Я. Таким свойством Я, которого никак
нельзя приписать Не-Я, является безусловное полагание и безусловная поло-
женность, без всякого основания (§ I). Такая уменьшенная деятельность
должна была бы быть, таким образом, абсолютной.
Но быть абсолютным и не иметь основания значит (§ 3) быть
совершенно неограниченным; и, однако, рассматриваемый акт Я должен быть
ограниченным. На это мы должны ответить следующее: лишь постольку,
поскольку этот акт есть вообще акт и не более, как акт вообще, он должен
быть свободен от ограничения каким бы то ни было основанием, каким бы
то ни было условием; акт может совершаться, может и не совершаться; сам
по себе акт совершается с безусловной самопроизвольностью. Поскольку
же акт должен направляться на какой-либо объект, он ограничен; в этом
случае тоже он мог бы и не совершаться (несмотря на воздействие, идущее
от Не-Я, если представить себе на мгновение его возможным без усвоения
его Я путем рефлексии); но если только он совершается, он должен с
необходимостью направляться именно на этот объект и не может быть
направлен ни на какой другой.
Следовательно, при помощи указанного взаимоопределения
полагается некоторая независимая деятельность. А именно, сама по
взаимосмене участвующая деятельность является независимой, но не постольку,
поскольку она участвует в ней, a постольку, поскольку она является
деятельностью. Поскольку же она участвует во взаимосмене, она ограничена и
постольку является страданием. Она рассматривается с двух точек зрения.
Эта независимая деятельность определяется затем взаимосменой, а
именно, исключительно только в рефлексии. Чтобы сделать возможной
взаимосмену, деятельность должна была быть признана абсолютной.
Таким образом достигается установление не абсолютной деятельности вооб-
336
Основа общего наукоучения
ще, а абсолютной деятельности, определяющей некоторую взаимосмену.
(Она именуется силой воображения40 (как мы увидим это в свое время.)
Такая деятельность полагается лишь постольку, поскольку определению
подлежит какая-либо взаимосмена; и таким образом ее объем определяется
объемом самой этой взаимосмены.
п
Независимой деятельностью определяется некоторое взаимодеяние и
страдание. Таково то второе положение, которое нам надлежит
исследовать. Мы должны:
1. Вообще разъяснить это положение и тщательно отличить его
смысл от смысла предшествовавшего положения.
В предыдущем положении за исходный пункт была взята
взаимосмена. Она предполагалась там как совершающаяся. Поэтому там речь шла о
материи взаимосмены, о находящихся во взаимосмене моментах, а не о
форме ее как таковой (как переходе от одного момента к другому). Если
должна существовать взаимосмена, — так в общем мы рассуждали, — то
должны быть в наличности и те члены, которые могли бы взаимно сменять
друг друга. Как же возможны эти последние? И вот мы указали на
независимую деятельность как на их основание.
В данном же случае точкой отправления будет не взаимосмена. В
данном случае мы отправимся от того, что делает взаимосмену вообще
возможной как таковую со стороны ее чистой формы как переход от одного
момента к другому. Прежде дело шло об основании материи взаимосмены,
ныне дело будет идти об основании ее формы. Это формальное основание
взаимосмены тоже должно быть некоторой независимой деятельностью; и
вот это-то утверждение нам надлежит теперь доказать.
Мы сможем еще явственнее выделить основание отличия формы
взаимосмены от ее материи, если сделаем предметом нашей рефлексии
нашу же собственную рефлексию.
В первом случае взаимосмена предполагается как совершающаяся.
Тут, значит, рефлексия направляется только на возможность участвующих
во взаимосмене членов, вопрос же о том, каким способом она может
совершаться, остается совершенно в стороне. Магнит притягивает железо;
железо притягивается магнитом: вот два положения, которые находятся во
взаимосмене, то есть из них одно полагается другим. Таков
предположенный факт, и притом предположенный как нечто обоснованное. Поэтому
здесь не спрашивается о том, кто полагает одно из двух через посредство
другого и как это вообще бывает, что одно положение полагается другим;
но дело ограничивается лишь вопросом, почему к сфере положений, из ко-
337
ИГ. Фихте
торыходно может быть полагаемо вместо другого, принадлежат именно оба
указанных. В них обоих должно содержаться нечто такое, что делает их
способными находиться во взаимосмене. И вот это-то, стало быть, тот
материальный момент, который делает их взаимосменяющимися
положениями, должен быть сейчас установлен.
Во втором случае рефлексия направляется на само совершение
взаимосмены и, следовательно, полностью отвлекается от этих положений,
между которыми происходит взаимосмена. Тут спрашивается уже не о том,
по какому праву с указанными положениями обращаются как с
взаимосменяющимися, а о том, как вообще совершается взаимосмена. И вот тут-то
оказывается, что помимо железа и магнита должно еще существовать их
обоих наблюдающее разумное существо, которое в своем сознании
соединяет понятия их обоих и является принужденным придавать одному из них
предикат, противоположный предикату другого (притягивать,
притягиваться).
В первом случае имеет место простая рефлексия над явлением —
рефлексия наблюдателя; во втором случае осуществляется рефлексия об этой
рефлексии — рефлексия философа о способе наблюдения.
Теперь же, после того как установлено, что независимая
деятельность, которой мы ищем, должна определять форму взаимосмены, а не
одну только ее материю, нам ничто не мешает с помощью эвристического
метода отправиться в нашей рефлексии от взаимосмены, поскольку
исследование должно быть этим значительно облегчено.
2. Приложим теперь в общих чертах разъясненное положение к
отдельным случаям, в нем содержащимся.
а) Во взаимосмене действенности страдательным состоянием в Я
полагается некоторая деятельность в Не-Я, то есть некоторая определенная
деятельность «е полагается в Я или же у него отнимается и, наоборот,
полагается в Не-Я. Чтобы получить в чистом виде одну только форму этой
взаимосмены, мы должны отвлечься как от того, что полагается, от
деятельности, так и от тех членов, в которых она не полагается и полагается, от Я и
Не-Я. И тогда, в виде чистой формы, нам остается некоторое полагание
через неполагание (приписывание благодаря отрицанию) или же перенесение.
Таков, стало быть, формальный характер взаимосмены в синтезе
действенности и, следовательно, материальный характер той деятельности, которая
сменяется (в активном же смысле — совершает взаимосмену).
Эта деятельность независима от взаимосмены, которая благодаря ей
становится возможной и ею совершается; и потому взаимосмена не
является условием ее возможности.
Эта деятельность независима от членов взаимосмены как таковых,
так как только благодаря ей они становятся взаимосменяющимися члена-
338
Основа общего наукоучения
ми; это она ставит их в отношение взаимосмены. Сами по себе они могли
бы прекрасно существовать и без нее; тогда они изолированы друг от друга
и не находятся между собою в отношении взаимосмены.
Но всякое полагание является характерным свойством Я;
следовательно, вышеупомянутая деятельность перенесения для того, чтобы было
возможно определение посредством понятия действенности, оказывается
присущей Я. Я переносит деятельность из Я в Не-Я; оно уничтожает, стало
быть, постольку деятельность в себе. А это, согласно вышеизложенному,
значит, что оно полагает в себе посредством деятельности некоторое
страдание. Поскольку Я деятельно при перенесении деятельности на Не-Я,
постольку Не-Я страдательно: деятельность переносится при этом на него.
(Не следует преждевременно смущаться тем, что это положение
своим установлением противоречит первому основоположению, из
которого только что, при рассмотрении ближайшего из предшествующих
положений, была выведена независимая от всякой взаимосмены реальность
Не-Я. Достаточно пока того, что оно при помощи правильных дедукций с
таким же успехом получается из доказанных предпосылок, как и то
положение, которое ему противоречит. В свое время основание их объединения
обнаружится без всякого произвольного содействия с нашей стороны.)
Пусть также не оставляют без внимания того, что выше было сказано
следующее: эта деятельность не зависит от той взаимосмены, которая
становится возможна благодаря ей. Но нет ничего невозможного в
существовании еще какой-нибудь другой взаимосмены, по отношению к которой
независимая деятельность не является условием возможности.
Несмотря на все те ограничения, которые пришлось претерпеть
установленному положению, мы все же благодаря ему достигли по
меньшей мере признания того, что Я даже постольку, поскольку оно находится
в страдательном состоянии, тоже должно быть деятельно, хотя и не только
деятельно. Легко могло бы случиться, что это было бы весьма важным
результатом, с избытком вознаграждающим все труды по исследованию.
Ь) При взаимосмене субстанциальности деятельность должна быть
полагаема посредством абсолютной полноты как ограниченная; то есть то
в абсолютной полноте, что исключается границей, полагается при этом
как нечто не полагаемое полаганием ограниченной деятельности — как
нечто, в ней недостающее. Следовательно, чисто формальным характером
этой взаимосмены является некоторое «епслагание через посредство
некоторого полагания. Недостающее полагается в абсолютной полноте; оно не
полагается в ограниченной деятельности; оно полагается как неполагае-
мое во взаимосмене. При этом точкой отправления, согласно вышеустано-
вленному понятию субстанциальности, служит полагание как таковое, а
именно — некоторое полагание абсолютной полноты.
339
И. Г. Фихте
Материальным характером того действия, которое полагает саму эту
взаимосмену, должно поэтому быть тоже неполагание посредством пола-
гания, и именно посредством абсолютного полагания. Откуда берется не-
положенность в ограниченной деятельности, которая при этом
рассматривается как уже данная, и что бы это было такое, что обосновывает такую не-
положенность, это остается здесь совершенно в стороне. Ограниченная
деятельность предполагается наличной; и мы не спрашиваем себя о том,
как это она как таковая оказывается наличной; мы спрашиваем себя лишь
о том, как может она находиться во взаимосмене с безграничностью.
Всякое полагание вообще, а абсолютное полагание в особенности,
является присущим Я. Действие, которым полагается сама данная
взаимосмена, исходит из абсолютного полагания и является, значит,
действием Я.
Это действие или деятельность Я совершенно независимо от той
взаимосмены, которая им впервые только полагается. Оно само прямо
полагает одного из членов взаимосмены, абсолютную полноту; и только
через его посредство полагает оно другой ее член как уменьшенную
деятельность, как нечто меньшее, нежели полнота. О том, откуда могла взяться
при этом деятельность как таковая, — об этом вопрос не ставится, ведь как
таковая она не является членом взаимосмены; она становится им только
кж уменьшенная деятельность; а таковой она становится лишь через
полагание абсолютной полноты, через отнесение к этой последней.
Указанная независимая деятельность исходит из полагания; но
существенное значение при этом имеет, собственно говоря, неполагание.
Поэтому мы можем постольку обозначить ее как своего рода отчуждение
(Entaeussern). Некоторое определенное количество абсолютной полноты
выключается при этом из деятельности, полагаемой как уменьшенная, и
рассматривается как нечто находящееся не в ней, а вне ее.
При этом не следует упускать из виду характерного отличия этого
отчуждения от недавно установленного перенесения. При этом последнем
тоже ведь нечто исключается из Я; но от этого там отвлекаются и
предметом своего внимания делают, собственно говоря, лишь то, что это
исключаемое нечто полагается в противополагаемое. В настоящем же случае,
наоборот, мы имеем простое исключение. Вопросы о том, полагается ли
исключенное во что-либо другое и что такое это другое, не имеют по меньшей
мере к настоящему случаю никакого отношения.
Установленной деятельности отчуждения должно быть
противополагаемо некоторое страдание. Так оно и есть, конечно, на деле, а именно:
некоторая часть абсолютной полноты отчуждается, полагается как непола-
гаемая. Деятельность имеет некоторый объект; некоторая часть полноты
является этим объектом. О том, какому субстрату реальности присуще это
340
Основа общего наукоучения
уменьшение деятельности или же это страдание, — Я или Не-Яу — об этом
здесь нет речи; и многое при этом зависит от того, чтобы делаемые выводы
не шли дальше того, что следует вывести из установленного положения, и
форма взаимосмены воспринималась во всей своей чистоте.
(Каждая вещь есть то, что она есть; она наделена теми реальностями,
которые оказываются положенными, раз только она положена Л =у! (§ 1).
Утверждение, что что-нибудь является ее случайным признаком, значит
прежде всего, что это нечто не полагается ее полаганием; оно не
принадлежит к существу вещи и должно быть исключено из ее первоначального
понятия. Именно это-то определение случайного признака мы теперь
объяснили. Однако в известном смысле и он тоже приписывается вещи и
полагается в нее. В свое время мы увидим также и то, какое этим создается для
него значение.)
ш
То и другое — взаимосмена и независимая от нее деятельность
должны одинаковым образом взаимоопределять друг друга. Поступая так
же, как и до сих пор, мы должны сперва исследовать, что может значить это
положение вообще, а затем применить его к отдельным подходящим под
него случаям.
1. Как в независимой деятельности, так и во взаимосмене мы снова
провели двоякого рода различие; мы различили между собою форму взаи-
мосмены и ее материю; а по образцу этого различения мы различили
независимую деятельность, определяющую форму, и независимую
деятельность, которая в рефлексии определяется материей. Поэтому подлежащее
изучению положение нельзя подвергнуть исследованию прямо в том его
виде, как оно установлено; ибо, если мы теперь заговорим о взаимосмене,
то неизвестно будет, имеем ли мы при этом в виду ее форму или же ее
материю; и точно так же дело обстоит с независимой деятельностью.
Следовательно, сначала и во взаимосмене, и в независимой деятельности оба
момента должны быть соединены: это же может быть осуществлено только
при помощи синтеза взаимоопределения. Значит, в установленном
положении снова должны содержаться три следующих:
a) Независимая от формы взаимосмены деятельность определяет
собою деятельность, независимую от материи, и наоборот, то есть обе эти
деятельности определяют друг друга взаимно и таким образом
синтетически соединяются.
b) Деятельность, независимая от формы взаимосмены, определяет
деятельность, независимо от материи взаимосмены, и наоборот; то есть
обе определяются взаимно и объединены синтетически.
341
И. Г. Фихте
c) Форма взаимосмены определяет ее материю, и наоборот, то есть
они определяют друг друга взаимно и таким образом синтетически
соединяются. И только после этого оказывается возможным понять и
разъяснить то положение, что
d) взаимосмена (как синтетическое единство) определяет
независимую деятельность (как синтетическое единство), и наоборот, то есть обе
они определяют друг друга взаимно и таким образом синтетически
соединяются.
А) Та деятельность, которая должна определять форму взаимосмены
или же взаимосмену как таковую и быть от взаимосмены совершенно
независимой, есть переход от одного из участвующих во взаимосмене членов
к другому, переход как таковой (не как действие вообще); та деятельность,
которая определяет материю взаимосмены, является такою
деятельностью, которая полагает в члены ее то, что делает возможным переход от
одного из них к другому. Эта последняя деятельность составляет тот
искомый выше X, который содержится в обоих взаимочленах и только в них
обоих и может содержаться, а никак не в одном только из них; этот Л" не
позволяет удовольствоваться полаганием одного из членов (реальности или
отрицания), но принуждает нас одновременно полагать и другой член, ибо
он обнаруживает неполноту одного из них при отсутствии другого. На этом
Сдержится и необходимо должно держаться и протекать единство
сознания для того, чтобы не возникало никакого hiatus'a, то есть он (X) есть как
бы проводник сознания. Первая же деятельность представляет собою само
сознание, поскольку оно при помощи этого X движется и протекает над
взаимочленами, является чем-то единым, хотя бы он и сменял при этом
свои объекты, члены и должен бы был их сменять для того, чтобы быть
единым.
Что первое определяет собою второе, значило бы, что переход сам
обосновывает то, на чем он свершается; переход становится возможным
тут лишь в силу самого перехода (идеалистическое утверждение). Что
последнее определяет собою первое, значило бы, что то, на чем переход
свершается, обосновывает переход как действие; его положением
непосредственно полагается сам переход (догматическое утверждение). Что они
определяют друг друга взаимно, значит, следовательно, что переходом как
переходом во взаимочлены полагается то, посредством чего может быть
совершен переход, и что благодаря тому, что они полагаются как
взаимочлены, между ними непосредственно осуществляется взамосмена.
Переход оказывается возможным благодаря тому, что он совершается; и он
возможен при этом лишь постольку, поскольку действительно совершается.
Он обосновывается сам собою; он совершается просто потому, что
совершается, и представляет собою абсолютное действие, свободное от всякого
342
Основа общего наукоучения
определяющего его основания и какого бы то ни было условия вне его
самого. Основание тому, что от одного члена совершается переход к другому,
лежит в самом сознании, а не вне его. Сознание должно переходить просто
потому, что оно есть сознание; и hiatus возник бы в нем в том случае, если
бы оно не переходило, просто потому, что оно не было бы тогда сознанием.
В) Форма взаимосмены и ее материя должны взаимно определять
друг друга.
Как мы о том совсем недавно напоминали, взаимосмена становится
отличной от предполагаемой ею деятельности в силу того, что отвлекается
от этой деятельности (например, от деятельности наблюдающего ума,
который в своей рассудочной деятельности полагает взаимочлены как взаи-
мосменяющиеся). Взаимочлены мыслятся при этом как взаимосменяю-
щиеся своими собственными силами; на вещи тут переносится то, что
заключается, быть может, только в нас самих. В свое время станет ясно, в
какой мере эта абстракция обладает действительным значением и в какой
нет.
В этом смысле члены сами взаимосменяются. Обоюдное их
проникновение друг в друга составляет форму; деятельность и страдание,
непосредственно происходящие в обоих при этом взаимном проникновении и
допущении, есть материя взаимосмены. Ради краткости мы намерены
именовать ее взаимным отношением взаимочленов. Упомянутое только
что проникновение должно определять отношение членов, то есть
отношение должно быть определяемо непосредственно и через одно только
проникновение „проникновением как таковым без всякого дальнейшего
определения; и наоборот, отношение между взаимочленами должно
определять их проникновение, то есть одним только их отношением, без всякого
дальнейшего определения, полагается, что они проникают друг в друга.
Простым их отношением, которое мысленно берется здесь как
определяющее до взаимосмены, уже полагается их проникновение (в них это не
какой-либо случайный признак, без которого они могли бы еще
существовать); и проникновением их, которое мысленно берется тут как
определяющее до отношения, полагается одновременно также и их отношение.
Их проникновение и их отношение суть одно и то же.
1. Они так относятся друг к другу, что оказываются во взаимосмене;
и, помимо этого, они вообще не имеют друг с другом никакого взаимного
отношения. Если они не полагаются как взаимосменяющиеся, они вообще
не полагаются.
2. Благодаря тому, что между ними, согласно одной только форме,
полагается взаимосмена, некоторая взаимосмена вообще, всецело и без
всякой иной помощи определяется одновременно и материя этой
взаимосмены, то есть ее вид, количество полагаемого ее действия и страдания и
343
И. Г. Фихте
т.д. Они взаимосменяются с необходимостью и притом только
единственным возможным образом, определяемым исключительно тем, что они
взаимосменяются. Если они полагаются, то тем самым полагается
некоторая определенная взаимосмена; если полагается некоторая определенная
взаимосмена, то тем самым полагаются и они. Они и некоторая
определенная взаимосмена суть одно и то же.
С) Независимая деятельность (как синтетическое единство)
определяет взаимосмену (как синтетическое единство), и наоборот, то есть обе
они определяют друг друга взаимно и сами синтетически объединяются.
Деятельность как синтетическое единство есть некоторый
абсолютный переход; взаимосмена есть некоторое абсолютное самим собою
сполна определяемое проникновение. Что первое из них определяет собою
второе, значило бы, что проникновение взаимочленов полагается только в
силу перехода. Что второе определяет собою первое, значило бы, что, раз
только члены осуществляют проникновение, деятельность с
необходимостью должна перейти от одного к другому. Что то и другое определяют друг
друга обоюдно, значит, что если только полагается одно из них, тем самым
полагается и другое, и наоборот; от каждого из членов сравнения можно и
должно переходить к другому. Все есть одно и то же. Целое же просто
полагается; оно основывается на самом себе.
Чтобы сделать это положение более вразумительным и подчеркнуть
его важность, применим его к подходящим под него положениям.
Деятельность, определяющая форму взаимосмены, определяет все
то, что"происходит при взаимосмене; и, наоборот, все то, что происходит
при взаимосмене, определяет эту деятельность. Взаимосмена
исключительно со стороны своей формы, то есть проникновение членов друг в
друга, невозможна без действия перехода; посредством перехода полагается
как раз проникновение взаимочленов. Наоборот, через проникновение
взаимочленов полагается переход; если только они полагаются как
проникающие, неизбежным образом осуществляется и переход. Без
проникновения нет перехода, без перехода нет проникновения: то и другое суть одно
и то же и могут быть различаемы только в рефлексии. Далее, та же самая
деятельность определяет и материальный момент взаимосмены;
необходимым переходом впервые полагаются взаимочлены как таковые, а так
как они полагаются лишь как таковые, то они и вообще полагаются при
этом впервые; и наоборот, если только полагаются взаимочлены как
таковые, полагается и деятельность, которая переходит и должна переходить.
Таким образом, можно исходить из какого угодно из различенных
моментов; если только полагается один из них, вместе полагаются и три
остальных. Деятельность, определяющая материальный момент взаимосмены,
определяет всю взаимосмену целиком; она полагает то, на чем можно, а
344
Основа общего наукоучения
потому и необходимо совершать переход; стало быть, она полагает
деятельность формы, а через это и все остальное.
Таким образом, деятельность возвращается в саму себя через
взаимосмену; и взаимосмена возвращается в себя через деятельность. Все
воспроизводит само себя, и тут невозможен никакой hiatus; отправляясь от
любого из членов, приходят ко всем остальным. Деятельность формы
определяет деятельность материи, эта последняя определяет материю
взаимосмены, эта — ее форму; форма взаимосмены определяет
деятельность формы и т.д. Все они суть одно и то же синтетическое состояние.
Действие возвращается к самому себе, двигаясь в круге. Круг же в целом
полагается безусловно. Он есть потому, что он есть; и высшего основания
для этого привести нельзя.
Применение этого положения обнаружится только в дальнейшем.
3. Теперь нам надлежит применить к отдельным подходящим под
него случаям то положение, что взаимосмена и рассматривавшаяся до сих
пор как независимая от нее деятельность должны взаимно определять друг
друга; и прежде всего:
a) к понятию действенности. Рассмотрим постулируемый этим
синтез согласно только что установленной схеме: а) во взаимосмене
действенности деятельность формы определяет деятельность материи, и наоборот;
ß) в ней форма взаимосмены определяет деятельность материи, и
наоборот; у) синтетически объединенная деятельность определяет синтетически
объединенную взаимосмену, и наоборот, то есть они сами оказываются
синтетически объединенными.
b) Деятельность, которую надлежит предположить для того, чтобы
была возможна взаимосмена, постулируемая в понятии действенности,
является, согласно чистой форме, некоторого рола перенесением, полагани-
ем через неполагание. Благодаря тому, что (в известном отношении) полага-
ния не происходит (в некотором другом отношении), оно осуществляется.
Этой деятельностью формы должна определяться деятельность материи
взаимосмены. Эта последняя деятельность фигурировала как своего рода
независимая деятельность Не-Я, благодаря которой только и становился
возможным тот член, из которого исходила взаимосмена, — страдание в Я.
Что эта последняя деятельность определяется, обосновывается, полагается
посредством первой, значит очевидно, что эта деятельность Не-Я сама
полагается благодаря первой, посредством ее функции полагания, и притом
полагается лишь постольку, поскольку нечто не полагается (что такое
может представлять собою это неполагаемое, нашему исследованию тут еще
не подлежит). Для деятельности Не-Я этим предусматривается некоторая
ограниченная сфера; и этой сферой является деятельность формы. Не-Я
действенно лишь постольку, поскольку оно полагается как действенное
345
И. Г. Фихте
через Я (которому присуща деятельность формы), путем некоторого непо-
лагания. Нет деятельности Не-Ябез полагания через неполагание.
Наоборот, деятельность материи, стало быть, независимая деятельность Не-Я,
должна обосновывать и определять деятельность формы, следовательно,
перенесение, полагание через неполагание. Согласно всему
вышесказанному, это очевидно значит следующее: она должна определять переход как
переход, она должна полагать тот А', который указывает на неполноту
одного из членов и тем принуждает полагать его как взаимочлен, а через него
еще и некоторый второй член, с которым он взаимосменяется. Этим
членом является страдание как страдание. Таким образом, Не-Я обосновывает
неполагание и тем определяет и обусловливает деятельность формы. Эта
последняя полагает через неполагание и безусловно не иначе; но
неполагание, а следовательно, и все постулированное действие в его целом
обусловливается некоторой деятельностью Не-Я. Полагание через неполагание
включается в сферу некоторой деятельности Не-Я. Без деятельности Не-Я
нет полагания через неполагание.
(Тут мы подходим совсем близко к вышеуказанному противоречию,
но только в несколько смягченном виде. В своем результате рефлексия
второго рода обосновывает своеобразный догматический идеализм: вся
реальность Не-Я есть единственно лишь из Я перенесенная реальность. В
своем результате рефлексия второго рода обосновывает своеобразный
догматический реализм: перенесение не может быть осуществлено, если не
предположить уже некоторой независимой реальности Не-Я, некоторой вещи в себе.
Подлежащий теперь осуществлению синтез имеет поэтому своей задачей
не более и не менее как разрешить противоречие и отыскать средний путь
между идеализмом и реализмом.)
Оба положения должны быть синтетически объединены между
собою, то есть должны быть рассматриваемы как одно и то же. Это
происходит следующим образом: то, что в Не-Я является деятельностью, в Я есть
страдание (в силу положения о противополагании); мы можем, значит,
полагать страдательное состояние Я вместо деятельности Не-Я.
Следовательно—в силу постулированного синтеза — в понятии действенности
страдательное состояние Я и деятельность его, неполагание и полагание,
являются совершенно одним и тем же. В этом понятии положения: "Я не полагает
ничто в себе" и "Я полагает нечто в Не-Я" утверждают одно и то же: ими
означается одно и то же действие, а не различные действия. Ни одно из них
не обосновывает другого; ни одно из них не обосновывается другим, ибо
они суть одно и то же.
Поразмыслим еще над этим положением. Оно содержит в себе
следующие положения: а) Я не полагает нечто в себе, то есть оно полагает
нечто в Не-Я; Ъ) полагаемое этим в Не-Я есть именно то, чего не полагает или
что отрицает неполагаемое в Я. Действие возвращается в себя; поскольку Я
346
Основа общего наукоучения
не должно чего-либо полагать в себе, оно само есть Не-Я. Но так как оно
должно быть, то оно должно и полагать; а так как оно не должно полагать в
Я, то оно должно полагать в Не-Я. Но как бы ясно ни было доказано теперь
это положение, все равно здравый человеческий рассудок продолжает
восставать против него. Мы постараемся вскрыть основание такого
противодействия для того, чтобы успокоить требования здравого человеческого
рассудка, — по меньшей мере на то время, пока мы не сможем их
действительно удовлетворить обозначением той сферы, в которой они
господствуют.
В двух установленных только что положениях совершенно ясна
двусмысленность в значении слова "полагать". Эту двусмысленность
чувствует здравый человеческий рассудок, и отсюда его противодействие. Что Не-
Я чего-либо не полагает в Я или же отрицает нечто — значит, что Не-Я доя Я
вообще не является полагающим, а только отменяющим (aufhebend);
поэтому постольку оно противополагается Я согласно своему качеству и
является реальным основанием некоторого определения в Я. Но утверждение,
что Я не полагает чего-либо в Я, не означает того, что оно вообще является
неполагающим; ибо, без сомнения, Я является полагающим, когда оно
чего-либо не полагает, когда оно что-либо полагает как отрицание. В
действительности утверждение это значит, что Я является только отчасти
неполагающим. Поэтому Я противополагается себе самому не со стороны
качества, а лишь со стороны количества, оно является, стало быть, лишь
идеальным основанием некоторого определения в самом себе. Что Я не полагает
в себе чего-либо и что оно полагает это нечто в Не-Я, значит одно и то же: Я
является поэтому основанием реальности Не-Я тем же самым способом,
каким оно является онованием определения в себе самом, основанием
своего страдания. Оно является лишь идеальным основанием.
Это только idealiter* полагаемое в Не-Я должно realiter** быть
основанием некоторого страдания в Я, идеальное основание должно стать
реальным основанием; и этого не в состоянии понять и допустить
догматическая склонность человека. Мы можем поставить человека в силу этой его
склонности в чрезвычайно затруднительное положение, если допустим,
что Не-Я в том смысле, в каком оно — согласно его желанию — является
реальным основанием, воздействует на Я без всякого содействия со
стороны этого последнего, как бы доставляет некоторый материал41, который
еще только должен быть создан, — и затем спросим: каким же образом
реальное основание может стать идеальным (что, однако, должно случиться,
если только в Я должно быть положено и через посредство представления
доведено до сознания хотя бы какое-нибудь страдательное состояние); это
* Идеально (лат.).
** Реально (лат.).
347
И. Г. Фихте
вопрос, разрешение которого совершенно также, как и разрешение
вышеприведенного вопроса, предполагает непосредственное соприкосновение
Я и Не-Я и на который ни он сам, ни все его поборники не дадут нам
никогда сколько-нибудь основательного ответа. Оба вопроса разрешаются
нашим синтезом; и на них нельзя ответить иначе, как только при помощи
некоторого синтеза; то есть один из них должен получить свой ответ от
другого, и наоборот.
Следовательно, более глубокий смысл вышеустановленного синтеза
таков: идеальное основание и реальное основание суть одно и то же в понятии
действенности (а потому и повсюду, так как реальное основание
обнаруживается только в понятии действенности). Это положение,
обосновывающее критический идеализм, а через то объединяющее идеализм с
реализмом, не умещается как следует у людей в голове, и то, что оно не умещается
там, происходит из-за недостатка способности к отвлечению.
А именно, если различные вещи вне нас связываются друг с другом
посредством понятия действенности, то приходится различать, —
насколько правомерно или неправомерно это, мы увидим в свое время, — между
реальным основанием их взаимоотносимости и ее идеальным основанием.
В вещах самих по себе должно быть налично нечто от нашего
представления независимое, благодаря чему они проникают друг в друга
независимо от нашего содействия; основание же того, что мы связываем их
между собою, должно содержаться в нас, хотя бы, например, в нашем
ощущении. Таким образом, однако, мы и нашеЯполагаем вне нас в виде
некоторого Я в себе, в виде некоторой безо всякого нашего содействия и неиз-,
вестно как существующей вещи; и вот какая-нибудь другая вещь должна
воздействовать на него без всякого содействия с нашей стороны,
наподобие того, как магнит действует на кусок железа7*.
7* Не столько для моих слушателей, сколько для других — ученых и
философских читателей, которым как-нибудь попадет в руки это сочинение, я
предназначаю следующее примечание. Большинство людей легче было бы
побудить считать себя за кусок лавы с луны, чем за некоторое Я. Поэтому
они не поняли Канта и не почуяли его духа; поэтому не поймут они и этого
изложения, хотя в нем на самое первое место поставлено условие всякого
философствования. Кто еще не достиг согласия с самим собою
относительно этого пункта, тот не в силах понять никакой основательной философии;
да он и не нуждается в ней. Природа, машиною которой он является, будет
руководить им без всякого содействия с его стороны во всех делах, которые
ему надлежит выполнить. Философствование требует самостоятельности;
самостоятельность же может дать себе только сам человек. Мы не должны
хотеть видеть без помощи глаз, но мы не должны также и утверждать, что
глаз видит. (Примеч. к 1-му изд.).
При первом появлении этого примечания в кругах, близких автору,
над ним неоднократно смеялись некоторые лица, чувствовавшие себя им
задетыми. Я хотел бы выбросить его из этого издания, однако мне на память
приходит, что оно, к сожалению, сохраняет свою силу и теперь. (Примеч. ко
2-му изд.).
348
Основа общего наукоучения
Но Я — ничто за пределами Я, ибо оно само есть Я. Если сущность Я
заключается только в том, что оно полагает себя, в таком случае для него самопо-
лагание и бытие — одно и то же. В нем реальное основание и идеальное
основание суть одно и то же. И наоборот, само неполагание и небытие суть
для Я опять-таки одно и то же; реальное основание и идеальное основание
отрицания также суть одно и то же. Если это выразить частично, то
положения: "Я не полагает чего-либо в себе" и "Я не есть что-либо" — суть
опять-таки одно и то же.
Что нечто не полагается (realiter) в Я, значит поэтому, очевидно,
следующее: Яне полагает в себе (idealiter) это нечто; и наоборот, утверждение,
что Я чего-либо не полагает в себе, значит, что оно не полагается в Я.
Что Не-Я должно оказывать действие на Я, что оно должно нечто
уничтожить в Я, значит, очевидно, что оно должно уничтожить в Я
некоторое полагание, должно сделать так, чтобы Я чего-либо не полагало в себе.
Если при этом тем, на что оказывается действие, должно действительно
быть Я, то на него невозможно оказать никакого иного воздействия, кроме
того, которым оно побуждалось бы к некоторому неполаганию в себе.
Наоборот, что для Я должно существовать некоторое Не-Я, не может
значить ничего иного, кроме того, что Я должно полагать реальность в Не-
Я; ибо для Я нет, да и не может быть никакой другой реальности, кроме
реальности, через него положенной.
Что деятельность Я и Не-Я суть одно и то же, значит, что Я может не
полагать в себе чего-либо только благодаря тому, что оно полагает это
нечто в Не-Я; и полагать в себе что-либо оно может лишь благодаря тому, что
- не полагает его в Не-Я. Полагать же вообще Я должно с необходимостью,
поскольку оно есть некоторое Я; но только не непременно в себе.
Страдательное состояние Я и страдательное состояние Не-Я суть тоже одно и то
же. Что Я не полагает чего-либо в себе — значит, что это нечто полагается в
Не-Я. Деятельность и страдание Я суть одно и то же; ибо поскольку оно
чего-либо не полагает в себе, оно полагает его в Не-Я. Деятельность и
страдание Не-Я суть одно и то же. Поскольку Не-Я должно воздействовать на Я,
должно уничтожить в нем нечто, постольку в нем полагается силою Я нечто
равное. Таким образом, с очевидностью раскрывается полное
синтетическое объединение. Ни один изо всех названных моментов не является
основанием другого; но они все суть одно и то же.
Следовательно, вопрос о том, каково основание страдания в Я,
вообще нельзя разрешить, менее же всего его можно разрешить, предположив
некоторую деятельность Не-Я как вещи в себе; ибо в Я нет никакого
чистого страдания. Но, разумеется, остается еще другой вопрос, а именно
вопрос о том, каково же основание всей только что установленной
взаимосмены? Утверждать, что взаимосмена вообще прямо и без всяких основа-
349
И. Г. Фихте
ний полагается и что суждение, полагающее ее как наличность, есть тети-
ческое суждение, нельзя, ибо безусловно полагается только одно Я; в
чистом же Я не содержится никакой такой взаимосмены. Однако тотчас же
становится ясно, что подобное основание непостижимо в теоретическом
наукоучении, так как оно не содержится под основоположением этого
последнего, утверждающим, что Я полагает себя как определяемое Не-Я, а
скорее предполагается этим основоположением. Следовательно, такое
основание, если только оно вообще может быть обнаружено, должно
лежать за пределами теоретического наукоучения.
Таким образом, господствующий в нашей теории критический
идеализм оказывается определенно установленным. Он догматичен против
догматического идеализма и реализма, доказывая, что ни деятельность Я
сама по себе не является основанием реальности Не-Я, ни деятельность Не-Я
сама по себе не является основанием страдания в Я. Что же касается
вопроса о том, что является основанием принимаемой между ними
взаимосмены (ответа на который ждут от него), то он довольствуется своим
незнанием и констатирует, что исследование этого лежит за пределами теории. В
своем объяснении представления он не исходит ни из какой-либо
абсолютной деятельности Я, ни из абсолютной деятельности Не-Я, а
отправляется от некоторой такой определенности, которая является одновременно
и определением, так как в сознании непосредственно не содержится и не
может содержаться ничего другого. Чем это определение, в свою очередь,
будет определяться, это остается в теории совершенно нерешенным
вопросом; и эта неполнота толкает нас тоже за пределы теории, в
практическую часть наукоучения.
Вместе с тем совершенно уясняется столь часто употреблявшееся
выше выражение: сокращенная, уменьшенная, ограниченная деятельность Я.
Так обозначается та деятельность, которая направляется на нечто в Не-Я,
на некоторый объект; следовательно, своего рода объективное действова-
ние. Действование Я вообще или же его полагание совершенно
неограниченно и не может быть ограничено; полагание же им Я является
ограниченным в силу того, что оно должно полагать некоторое Не-Я.
ß) Форма чистой взаимосмены в понятии действенности и ее
материя взаимно определяют друг друга.
Выше мы видели, что чистая взаимосмена вообще может быть
отличена от независимой от нее деятельности только при помощи рефлексии.
Когда взаимосменение (Wechseln) полагается в члены самой
взаимосмены, то деятельность остается в стороне, и взаимосмена рассматривается
лишь сама в себе и как взаимосмена. Какой из способов рассмотрения
правилен и не являются ли, может быть, все они неправильными, если
применять их изолированно, — все это станет ясно в свое время.
350
Основа общего наукоучения
Во взаимосмене как таковой, в свою очередь, можно различать
форму и материю. Формой взаимосмены является простое обоюдное
проникновение взаимочленов друг в друга как таковое. Материей же ее является
то в них обоих, что делает возможным и необходимым их взаимное
проникновение. Характерной формой взаимосмены в действенности является
возникновение через уничтожение (становление через исчезновение). (При
этом следует — обратите на это внимание — совершенно отвлечься от
субстанции, на которую производится действие, от субстрата уничтожения, а
стало быть, и от всякого временного условия. Если такой субстрат будет
полагаем, то, конечно, в отношении к нему, и возникающее тоже будет
полагаемо вовремя. Но от этого нужно отвлечься, как бы это ни было трудно для
силы воображения, ибо субстанция не вступает во взаимосмену: только
нечто в нее (субстанцию) входящее и нечто этим входящим вытесняемое
^уничтожаемое вступают между собою во взаимосмену, и о том, что вступает во
взаимосмену, речь идет лишь постольку, поскольку оно туда вступает.
Например, X уничтожает -X. Разумеется, -X существовал ранее того, чем был
уничтожен; если только он должен быть рассматриваем как
существующее, то, естественно, он должен быть полагаем в предшествующее время, а
X, ему в противоположность, — в последующее время. Однако же он
должен быть мыслим не как существующий, а какие существующий. Но
существование Хи не существование — Xотнюдь не суть в различных временах,
но суть в одном том же моменте. Следовательно, если нет чего-либо такого,
что принуждало бы нас полагать момент в какой-нибудь ряд моментов,
они совсем не суть во времени.) Материей, подлежащей исследованию
взаимосмены, является существенное противобытие (несовместимость по
качеству).
Что форма этой взаимосмены должна определять ее материю, значит
следующее: так как и поскольку члены взаимосмены взаимно уничтожают
друг друга, они существенно противоположны. (Действительное)
обоюдное уничтожение определяет круг существенного противобытия. Если они
не уничтожают взаимно друг друга, они не являются существенно
противоположными (essentialiteropposita *). Это парадокс, против которого тоже
восстает только что указанное непонимание. А именно, руководствуясь
внешней видимостью, полагают, что при этом совершается
умозаключение от случайного к существенному. Правда, от наличного уничтожения
можно-де умозаключать к существенному противобытию; но нельзя
умозаключить в обратном порядке от существенного противобытия к
наличному уничтожению; для того, чтобы это произошло, должно
присоединиться еще одно условие, а именно, непосредственное влияние их друг на
* Существенно противоположные {лат.).
351
И. Г. Фихте
друга (например, если взять тела, нужно еще присутствие их в одном и том
же пространстве). Оба существенно противоположных момента могли бы
ведь существовать изолированно, вне какого бы то ни было соединения; от
этого они не сделались бы менее противоположными; но друг друга они
все же в таком случае не уничтожили бы. Источник этого недоразумения, а
равно и способы его преодоления, станет сейчас ясным.
Материя этой взаимосмены должна определять ее форму, значит,
существенная противоположенность определяет взаимное уничтожение;
лишь при условии, что члены друг другу существенно противоположны
лишь поскольку это так, эти члены могут взаимно уничтожать друг друга.
Если наличное уничтожение будет вообще полагаться в сферу
противоположенное™, но только при этом не будет заполнять ее целиком, а лишь
некоторую ограниченную ее часть, граница которой определяется
дополнительным условием действительного влияния, то всякий, не колеблясь,
признает справедливость установленного положения, а парадоксальность
его сведется, пожалуй, только к тому, что оно впервые нами ясно
установлено.
Но материя взаимосмены и ее форма должны определять друг друга
взаимно, то есть из простого противобытия должно следовать взаимное
уничтожение, а стало быть, также и проникновение, непосредственное
влияние, из обоюдного же уничтожения — противобытие. Они знаменуют
собою одно и то же; они противополагаются сами по себе или же
уничтожают друг друга взаимно. Их влияние и их существенная
противоположенность суть одно и то же.
Поразмыслим еще над этим результатом. То, что полагается,
благодаря предпринятому синтезу, между взаимочленами, есть необходимость
их соединения: это тот А", который обнаруживает неполноту каждого из них
в отдельности и может содержаться только в них обоих. При этом
возможность отделить бытие в себе от бытия во взаимосмене отвергается; оба
члена полагаются как взаимочлены и вне взаимосмены совсем не полагаются.
Здесь от реального противобытия в умозаключении совершается переход к
противополаганию или идеальному противобытию, и наоборот: реальное
и идеальное противобытие суть одно и то же. Затруднение, которое
вырастает при этом перед здравым человеческим рассудком, исчезает, если
только вспомнить, что одним из членов взаимосмены является Я, которому
противоположно только то, что оно себе само противополагает, и которое
является противоположным только тому, чему оно себя само
противополагает. Таким образом настоящий результат есть только воспроизведение
прежнего в другом виде.
у) В действенности взаимно определяют друг друга и тоже образуют
синтетическое единство деятельность, взятая как синтетическое единство,
352
Основа общего наукоучения
и взаимосмена, взятая как синтетическое единство.
Деятельность как синтетическое единство мы можем назвать
опосредствованным полаганием (опосредствованным приложением)
(употребляя последнее слово в утвердительном смысле как полагание реальности
через посредство некоторого ее неполагания); чистая же взаимосмена как
синтетическое единство состоит в тождестве существенного противобы-
тия и реального уничтожения.
1. Первым из них определяется последнее; это значит, что опосред-
ствованность полагания (в которой тут, собственно, все дело) является
условием и основанием того, что существенное противобытие и реальное
уничтожение суть совершенно одно и то же; благодаря тому, что полагание
является опосредствованным и поскольку это так, противобытие и
уничтожение тождественны.
a) Если бы осуществлялось непосредственное полагание тех членов,
которые должны взаимосменяться, то противобытие и уничтожение были
бы различны. Предположите, что Л и В суть взаимочлены. Предположите,
что прежде всего А=А, а В=В; но что затем, согласно некоторому
определенному количеству, А является равным также и -В, а В является равным
также и -А. В таком случае оба они могли бы быть полагаемы в их
первоначальном значении и тем не менее не уничтожать при этом друг друга. То, в
чем они противополагаются, было бы тут оставлено в стороне; они не были
бы поэтому полагаемы как существенно противоположные (сущность
которых заключается в чистой противоположенности) и друг друга взаимно
уничтожающие, ибо они были бы при этом полагаемы непосредственно,
независимо друг от друга. Но в таком случае они были бы полагаемы не как
простые взаимочлены, а как реальность в себе (А=А, § 1). Взаимочлены
могут быть полагаемы только опосредствованно', А является равным — 5, и
ничем более; В является равным -А, и ничем более; и из этой
опосредствованное™ полагания следует существенное противобытие, взаимное
уничтожение и тождественность обоих.
Ибо:
b) если А полагается только как противоположность В и не может
быть отмечено никаким другим предикатом, а В полагается только как
противоположность А и тоже не допускает приложения к себе никакого
другого предиката (в том числе и предиката вещи, который всегда склонна
примешивать сюда не привыкшая еще к точной абстракции сила
воображения), если, следовательно, А должно быть полагаемо как реальное не
иначе, как при условии, что В не будет полагаться, а В должно быть
полагаемо как реальное не иначе, как при условии, что Л не будет полагаться, то
ясно, что их общая сущность состоит в том, что каждое из них полагается
неполаганием другого, — иначе говоря, заключается в противобытии, а
12-645
353
И. Г. Фихте
также — если отвлечься от той действенной интеллигенции, которая
полагает, и сосредоточить свое размышление на взаимочленах как таковых, — в
том, что они взаимно друг друга уничтожают. Их существенное противо-
бытие и их взаимное уничтожение являются, стало быть, тождественными
постольку, поскольку каждый из членов полагается лишь неполаганием
другого, и только так.
Согласно же вышесказанному, именно таково отношение между Я и
Не-Я. Я (рассматриваемое при этом как абсолютно действенное) может
перенести реальность на Не-Я только тем, что оно не полагает ее в себе; и
наоборот, оно может перенести реальность в себя только тем, что не полагает
ее в Не-Я. (Что этот пункт не противоречит вышеустановленной
реальности Я, станет ясным при более близком его определении; да и теперь уже
это отчасти ясно: речь идет совсем не об абсолютной, а о перенесенной
реальности.) Их сущность — поскольку они должны взаимосменяться —
состоит поэтому лишь в том, что они противополагаются и взаимно
уничтожают друг друга. Поэтому опосредственностью полагания (или, как в
дальнейшем это станет ясно, законом сознания: без субъекта нет объекта, без
объекта нет субъекта), и только ею одной, обосновывается существенное
противобытие Я и Не-Я, а благодаря этому и вся реальность как Не-Я, так и
Я, поскольку она должна быть полагаема лишь как полагаемая, должна
быть идеальна; ибо абсолютная реальность-не теряется при этом; она на-
лична в полагающем. Эта опосредственность — в тех пределах, до которых
мы дошли в нашем синтезе, — не должна, в свою очередь, быть обосновы-.
ваема тем, что ею обосновано; она не может так обосновываться и согласно
правильному употреблению принципа основания. В том,-что уже было
установлено, в реальности Не-Яиъ идеальной реальности #, не
заключается поэтому основания такой опосредствованности. Следовательно, оно
должно бы заключаться в абсолютном Я, а эта опосредствованность
должна бы сама быть абсолютна, то есть через себя и в себе самой, обоснована.
Этот, здесь вполне правомерный, способ умозаключения приводит к
некоторому новому идеализму, еще более отвлеченному, чем был
предыдущий. В предыдущем идеализме некоторая сама по себе полагаемая
деятельность была уничтожаема природою и сущностью Я. Она, сама по себе
являясь вполне возможной деятельностью, была уничтожаема прямо и без
всякого дальнейшего основания; и благодаря этому стали возможны
некоторый объект, некоторый субъект и т.д. В этом идеализме из Я развивались
представления как таковые, совершенно неизвестным для нас и
недоступным нам образом; как бы в какой-то последовательной, то есть чисто
идеалистической, предустановленной гармонии.
В нынешнем же идеализме деятельность вообще находит свой закон
354
Основа общего наукоучения
непосредственно в себе самой: она является опосредствованной, и не
является никакой другой, только и только потому, что она такова. Таким
образом в Я не уничтожается никакой деятельности: опосредствованная
деятельность в нем налицо, а непосредственной вообще не должно быть. Из
опосредствованности же этой деятельности можно вполне объяснить все
остальное, — реальность Не-Я и постольку отрицание Я, отрицание Не-Яи
постольку реальность Я. Тут из Я развиваются представления, согласно
некоторому определенному и доступному познанию закону его природы. Для
них возможно тут указать некоторое основание, но только не для закона.
Этот последний идеализм с необходимостью отменяет предыдущий,
так как он подлинным образом объясняет из высшего основания то, что
оставалось для прежнего идеализма необъяснимым. Первый идеализм
можно даже опровергнуть идеалистически. Основоположение такой
системы гласило бы: Я конечно просто потому, что оно конечно.
Но если такой идеализм и поднимается выше предыдущего, он не
достигает все же той высоты, которой нужно достигнуть, — не достигает
просто полагаемого и безусловного. Правда, в нем безусловно полагается
некоторая конечность; однако же все конечное, согласно своему понятию,
ограничивается своей противоположностью; и абсолютная конечность
представляет собой внутренне противоречивое понятие.
В целях различения я обозначаю вышеупомянутый первый
идеализм, уничтожающий нечто само по себе полагаемое, именем
качественного идеализма, последний же идеализм, первоначально полагающий для
себя некоторое ограниченное количество, именем количественного
идеализма.
2. Тем, что сущность взаимочленов заключается в чистом противо-
бытии, определяется опосредованность полагания; она возможна лишь
при условии первой. Если сущность взаимочленов состоит еще в
чем-нибудь, помимо простого противобытия, то тотчас же становится ясно, что
через посредство неполагания одного из них во всей его сущности второй
тоже во всей его сущности полагается отнюдь еще не полностью, и
наоборот. Если же их сущность не состоит ни в чем ином, кроме этого, то ежели
только они должны быть полагаемы, они могут быть полагаемы лишь
опосредованно, как то и явствует из только что сказанного.
Но таким образом существенное противобытие, противобытие в
себе, устанавливается как основание опосредованности полагания. Оно
просто налично в этой системе и не может быть еще как-либо объяснено;
опосредованность же полагания им обосновывается.
И вот, подобно тому, как первый способ умозаключения
устанавливает своего рода количественный идеализм, данный способ приводит к
некоторого рода количественному реализму42, который, разумеется, необхо-
12»
355
И. Г. Фихте
димо отличать от выше установленного качественного реализма43. При
этом последнем на Я производится некоторое воздействие некоторым
Не-Я, имеющим независимую от Я реальность в себе самом, благодаря
этому воздействию деятельность Я отчасти парализуется; реалист же только
количественный довольствуется в таком случае своим неведением и
признает, что полагание реальности в Не-Я совершается для Я лишь в силу
закона основания. Но он утверждает реальную наличность некоторого
ограничения Я, происходящего без всякого содействия со стороны самого Я —
будь то абсолютная деятельность, как утверждает качественный идеалист,
или некоторый в природе Я содержащийся закон, как утверждает
количественный идеалист. Качественный реалист утверждает независимую от
Я реальность некоторого определяющего начала; количественный
реалист утверждает независимую от Я реальность лишь некоторого
определения.^ Я имеется некоторое определение, основание которого не должно
быть полагаемо в Я\ это является для количественного реалиста фактом;
возможность исследовать основание этого определения как таковое
отрезано для него, то есть определение это просто налично для него без всяких
оснований. Разумеется, он должен относить его, согласно
заключающемуся в нем самом закону основания, к чему-либо в Не-Я как реальному
основанию; но он знает, что этот закон заключается только в нем, и потому не
вводится этим в обман. Каждому сразу же бросится в глаза, что такой
реализм представляет собою не что иное, как идеализм, установленный выше
под именем критического, и что Кант также установил именно этого рода
реализм и на той степени рефлексии, на которую он себя поставил, не мог
и не хотел установить реализм какого-либо иного рода8*.
От описанного только что количественного идеализма
установленный теперь реализм отличается тем, что, хоть они оба и принимают
некоторую конечность Я, первый из них принимает при этом лишь просто по-
8* Кант доказывает идеальность объектов, отправляясь от предполагаемой
идеальности времени и пространства;44 мы же, наоборот, будем доказывать
идеальность времени и пространства из доказанной идеальности объектов.
Он нуждается в идеальных объектах для того, чтобы заполнить время и
пространство; мы же нуждаемся во времени и пространстве для того, чтобы
поместить идеальные объекты. Поэтому наш идеализм, который, однако,
отнюдь не догматичен, а критичен, идет несколько дальше его идеализма.
Здесь не место ни показывать, что Кант прекрасно знал также и то, чего он
не говорил (что можно, впрочем, показать с полнейшей очевидностью), ни
указывать те основания, почему он и не мог и не хотел сказать всего, что
знал. Установленные здесь и еще подлежащие установлению в дальнейшем
принципы, очевидно, лежат в основе его принципов, как в том может
убедиться каждый, кто пожелает освоиться с духом его философии (которая
ведь должна была иметь дух). Что он в своих критиках хочет создать не
науку, а только пропедевтику к ней, об этом он сам неоднократно говорил45.
Поэтому трудно понять, почему его поклонники не хотят ему поверить
только в этом.
356
Основа общего наукоучения
лагаемую его конечность, второй же — случайную, которая, однако, тоже
не поддается дальнейшему объяснению. Количественный реализм
отменяет качественный как необоснованный и излишний тем самым, что он и
без него, — правда, впадая в ту же ошибку, — вполне объясняет то, что
должно быть им объяснено: наличность некоторого объекта в сознании.
Впадая в ту же ошибку, — говорю я. А именно, он совершенно не в состоянии
объяснить того, как может некоторое реальное определение стать
идеальным, как может некоторое само по себе наличное определение стать
определением для полагающего Я. Разумеется, теперь показано уже, как через
существенную противоположенность определяется и обосновывается опо-
средствованность полагания.
Но чем же обосновывается полагание вообще? Если полагание
должно произойти, то оно может быть осуществлено, разумеется, только
опосредованно; но ведь полагание само по себе является абсолютным
действием Я, в этой своей функции совершенно неопределенного и
неопределимого. Следовательно, данная система несет на себе гнет уже не раз
отмечавшейся выше невозможности перехода от ограниченного к
безграничному. Количественному идеализму не приходится бороться с этой
трудностью, ибо он вообще уничтожает переход; но зато он сам уничтожается тем
очевидным противоречием, что просто полагает нечто конечное. Надо
надеяться, что наше исследование пойдет именно тем путем, который указан
выше, и что благодаря синтетическому объединению обоих синтезов
критический количественный идеализм выступит как средний путь между
объяснениями обоего рода.
3. Опосредствованное™ полагания и существенное противобытие
определяют друг друга взаимно; они заполняют одну и ту же сферу и
поэтому суть одно. Сразу же ясно, как нужно мыслить это для того, чтобы оно
вообще было мцслимо как возможное; а именно: бытие и положенность,
идеальное и реальное отношение, противополагание и
противоположенность должны быть одним и тем же. Далее, сразу же ясно, при каком
условии это возможно; а именно: если полагаемое в отношении и полагающее
суть одно и то же, то есть если полагаемое в отношении есть Я, Я должно
находиться с каким-либо X, который постольку с необходимостью должен
стать'некоторым Не-Я, в таком отношении, что он будет полагаться лишь
через посредство неположенности другого, и наоборот. Я же, поскольку
оно есть действительно некоторое Я, находится в некотором определенном
отношении лишь постольку, поскольку оно полагает себя как стоящее в
этом отношении. Значит, совершенно безразлично, скажем ли мы
относительно Я: оно полагается в это отношение, или же: оно полагает себя в это
отношение. Оно лишь постольку может быть перемещено в это отношение
(realiter), поскольку оно себя в нем полагает (idealiter); и оно может
полагать себя в нем лишь постольку, поскольку оно туда перемещается, ибо
357
И. Г. Фихте
одним только простым полагаемым Я такое отношение не полагается, а
скорее ему противоречит.
Постараемся сделать еще яснее важное содержание нашего синтеза.
Лишь опосредованное полагание как Я, так и Не-Я, то есть полагание Я
лишь посредством неполагания Не-Я, а Не-Я — лишь через неполагание Я,
является — предполагая, конечно, установленное в начале нашего
параграфа главное положение всего теоретического исследования, из которого
мы развили все вышеизложенное, и не предполагая ничего другого, —
законом для Я. (Следовательно, Я представляет собою повсюду безусловно
полагающее начало; но в настоящем исследовании мы от этого
отвлекаемся; Я является полагаемым лишь при том условии, что Не-Я будет полагаемо
при этом как неполагаемое, что оно будет отрицаться.) Прибегая к
общепринятому способу выражения, это значит: Я, поскольку оно здесь
рассматривается, есть простая противоположность Не-Я, и ничего больше; а Не-Я
есть простая противоположность Я, и ничего больше. Без Ты нет Я; без Я
нет Ты. Ради ясности мы будем уже теперь именовать в этом, и только в
этом, смысле Не-Я объектом, a Я — субъектом, хотя мы еще и не в
состоянии пока показать, насколько подходящи такие наименования.
Независимо от этой взаимосмены Не-Я не должно быть именуемо объектом, а
независимое от нее Я не должно быть обозначаемо как субъект. Значит, субъект
есть то, что не есть объект, и, кроме этого, он не имеет пока никакого
другого предиката; объект же есть то, что не есть субъект, и, кроме этого, он не
имеет пока никакого другого предиката.
Если в основание объяснения представления кладется этот закон и о
каком-либо дальнейшем основании уже не спрашивается, то преждезсего
нет никакой надобности в каком-либо воздействии Не-Я, которое
принимается качественным реалистом с той целью, чтобы обосновать наличное в
Я страдание; в таком случае нет надобности даже в этом страдании (аффек-
ции, определении), которое принимает количественный реалист для
своего объяснения. Предположите, что Я должно вообще полагать в силу своей
сущности; это положение мы докажем в дальнейшем главном синтезе.
Я может полагать либо только субъект, либо только объект, и притом их
оба — только опосредованно. Пусть оно полагает объект; но тогда оно с
необходимостью уничтожает субъект, и в нем возникает некоторое
страдательное состояние; оно относит это страдательное состояние неизбежным
образом к некоторому реальному основанию в Не-Я, и таким образом
возникает представление некоторой независимой от Я реальности Не-Я. Или
же оно полагает субъекта; но в таком случае оно необходимо уничтожает
полагаемый объект, и тогда, в свою очередь, возникает некоторое
страдательное состояние, которое оказывается отнесенным уже к деятельности
субъекта и порождает представление некоторой независимой от Не-Я ре-
358
Основа общего наукоучения
альности Я (представление о некоторой свободе Я, которая в нашей
настоящей дедукции является, конечно, только представляемой свободою).
Таким образом, отправляясь от среднего члена, как то, разумеется, и
должно быть в силу закона синтеза, мы достигаем полного объяснения и
обоснования (идеального) страдания Я и (идеальной) независимой
деятельности как Я, так и Не-Я.
Но так как установленный закон является очевидным образом
некоторым определением (деятельности Я как таковой), то он должен иметь
какое-нибудь основание, и наукоучение обязано указать это его основание.
При этом, если не вдвинуть путем нового синтеза какого-нибудь нового
среднего члена, как то и должно быть, то можно будет искать этого
основания лишь в ближайшим образом ограничивающих это определение моментах,
в полагании Я или в его страдании. Первое из них берет в качестве
основания определения количественный идеалист, превращающий указанный
закон в закон полагания вообще; второе же из них берется
количественным реалистом, который выводит указанный закон из страдательного
состояния Я. Согласно первому, указанный закон есть нечто субъективное и
идеальное, имеющее свое основание только в Я; согласно второму, этот
закон объективен и реален и не имеет своего основания в Я. Где же должен он
иметь его или должен ли он вообще иметь какое-нибудь основание, —
относительно этого исследование ответа не дает. Разумеется,
устанавливаемое, как нечто необъяснимое, воздействие (Affektion) Я должно быть
отнесено к какой-либо вызывающей его реальности в Не-Я; но это происходит
только вследствие некоторого объяснимого и как раз воздействием этим
объясняемого закона в Я.
Результатом нашего только что установленного синтеза является то,
что оба они неправы, что упомянутый закон и не только субъективен и
идеален, и не только объективен и реален, но что основание его должно
лежать одновременно и в объекте, и в субъекте. Относительно же того, как он
может лежать в них обоих, исследование в данный момент пресекается, и
мы довольствуемся простым неведением. В этом-то как раз и заключается
тот критический количественный идеализм, установление которого мы
выше обещали. Однако, так как вышепоставленная задача еще не вполне
разрешена и мы имеем перед собою еще несколько синтезов, то надо
думать, что в будущем можно будет сказать нечто более определенное
относительно обоснования этого рода.
Ь) Перейдем теперь к понятию субстанциальности и будем
обращаться с ним так же, как мы обращались с понятием действенности.
Соединим сначала синтетически деятельность формы с деятельностью
материи; затем соединим синтетически форму чистой взаимосмены с ее
материей; и, наконец, соединим друг с другом синтетически возникающие
отсюда единства.
359
И. Г. Фихте
d) Сначала обратимся к деятельности формы и материи (причем
предполагается известным из вышеизложенного, в каком смысле будут
определяться тут эти обозначения).
При этом и в данном случае, и во всех последующих главным
предметом, о котором, собственно, будет идти речь, является правильное и
определенное понимание того, что характерно для субстанциальности
(вследствие противоположности с действенностью).
Деятельность формы в этой особой взаимосмене представляет
собою, согласно вышесказанному, некоторое неполагание через посредство
абсолютного полагания; полагание некоторого нечто как чего-то непола-
гаемого посредством полагания некоторого другого как полагаемого:
отрицание через утверждение. Неполагаемое должно, значит, все же быть
полагаемо; оно должно быть полагаемо как неполагаемое. Оно не должно,
стало быть, быть вообще уничтожено, как при взаимосмене
действенности, а только исключено из некоторой определенной сферы. Оно
отрицается поэтому не путем полагания вообще, а только путем некоторого
определенного полагания. Этим полаганием, которое в этой своей функции
является определяемым, а следовательно, как объективная деятельность также
и определяющим, должно быть равным образом определяемо и (как
полагаемое) полагаемое, то есть оно должно быть полагаемо в некоторую
определенную сферу как нечто ее заполняющее. И вот становится понятно,
каким образом через посредство подобного полагания может быть полагаемо
нечто другое как неполагаемое; оно не полагается только в эту сферу и не
полагается в нее или исключается из нее именно через то, что ее заполнить •
должно то, что в нее полагается. Этим действием, однако, исключенное
еще отнюдь не полагается в какую-либо определенную сферу; его сфера
получает благодаря этому только один отрицательный предикат; его
сфера — не эта сфера. Какова его сфера и вообще является ли она
какой-нибудь определенной сферой, это отсюда еще ничуть не уясняется.
Следовательно, определенным характерным свойством формальной деятельности при
взаимоопределении через субстанциальность является исключение из
некоторой определенной, заполненной и постольку обладающей полнотою (в ней
содержащегося) сферы.
При этом трудность заключается, очевидно, в том, что исключаемое
=В должно быть, разумеется, тоже полагаемо и только в сфере А не должно
полагаться; сфера же Л должна полагаться как абсолютная полнота; откуда
будет следовать, что В вообще не может быть полагаемо. Следовательно,
сфера Л должна быть полагаема в одно и то же время и как полнота и как
неполнота. Она полагается как полнота в отношении к Л; она полагается
как неполнота в отношении к исключаемому В. Но ведь сама сфера В не
является определенной; она определяется лишь отрицательно, как сфера
—А. Следовательно, если все принять во внимание, А полагалось бы в та-
360
Основа общего наукоучения
ком случае, как определенная и постольку целостная, совершенная часть
некоторого неопределенного и постольку несовершенного целого. Пола-
гание такой высшей сферы, заключающей в себе обе сферы — определенную и
неопределенную, — было бы в таком случае именно той самой
деятельностью, благодаря которой достигалась бы возможность только что
установленной формальной деятельности, и, следовательно, той деятельностью
материи, которую мы ищем.
(Пусть дан определенный кусок железа =С, который двигается
вперед. Вы полагаете при этом железо просто, как оно полагается через одно
только свое понятие (в силу положения А=А, § 1) -А как абсолютную
полноту, и не находите в его сфере движения =!?; и вы поэтому полаганием А
исключаете В из сферы А. Однако же вы не уничтожаете этим движения
куска железа =С; вы отнюдь не хотите безусловно отрицать его возможность;
следовательно, вы полагаете движение за пределы сферы А в некоторую
неопределенную сферу, так как вы совершенно не знаете, при каком
условии и в силу какого основания кусок железа =С станет двигаться. Сфера А
представляет собою полноту железа, и в то же время она не есть такая
полнота, так как в нее не входит движение С, которое тоже ведь есть железо.
Значит, вы должны провести вокруг обеих сфер некоторую более высокую
сферу, которая охватывала бы в себе то и другое — и движущееся, и
неподвижное железо. Поскольку железо заполняет собою эту более высокую
сферу, оно является субстанцией (а не постольку, поскольку оно заполняет
собою сферу А как таковую, как то обыкновенно ошибочно полагают; в
этом отношении оно является вещью, определенной для себя самой, через
одно свое понятие, согласно положению Л =Л); движение же и недвижение
суть его акциденции. Что недвижение присуще ему в ином смысле, чем
движение, и на чем это основывается, — мы увидим в свое время.)
Что деятельность формы определяет деятельность материи, значило
бы в таком случае, что некоторая более обширная, хотя и неопределенная,
сфера может быть полагаема лишь постольку, поскольку из абсолютной
полноты нечто исключается и полагается как в ней не содержащееся;
только при условии действительного исключения возможна некоторая высшая
сфера; без исключения нет более обширной сферы; то есть без акциденции
в Я нет Не-Я. Смысл этого положения теперь ясен, и мы добавим лишь
несколько слов относительно его применения. Я полагается первоначально
как себя полагающее; и постольку самополагание заполняет сферу его
абсолютной реальности. Если оно полагает некоторый объект, то такое
объективное полагание необходимо исключить из этой сферы и поместить в
противоположную сферу самонеполагания. Полагать некоторый объект и
не полагать себя — значит одно и то же. Из этого действия исходит внешнее
рассуждение; оно утверждает: Я полагает некоторый объект или же
исключает нечто из самого себя просто потому, что оно это исключает и без како-
361
И. Г. Фихте
го-либо высшего основания на то: а через это исключение впервые
становится возможной более высокая сфера полагания вообще (мы отвлекаемся
от того, будет ли при этом полагаться Я или Не-Я). Ясно, что такого рода
способ умозаключения идеалистичен и согласуется с вышеустановленным
количественным идеализмом, согласно которому Я полагает нечто как
некоторое Не-Я просто потому, что оно его полагает. В такой системе,
следовательно, понятие субстанциальности должно бы было быть объяснимо
именно так, как оно было объяснено выше. Далее, здесь в общем ясно, что
самополагание совершается в двояком отношении количества; с одной
стороны, как абсолютная полнота; с другой стороны, как определенная
часть некоторой неопределенной величины. Это положение может иметь в
будущем последствия чрезвычайной важности. Далее, ясно, что
субстанция обозначает собою не длящееся, а всеохватывающее46. Признак
длительности присущ субстанции лишь в некотором, весьма вторичном смысле.
Что деятельность материи определяет и обусловливает деятельность
формы, значило бы в таком случае, что более обширная сфера прямо
полагается как некоторая более обширная сфера (следовательно, вместе с
подчиненными ей сферами Я и Не-Я); и лишь благодаря этому оказывается
возможным исключение как подлинное действие Я (при наличности еще
одного привходящего условия). Ясно, что этот способ умозаключения
приводит к реализму, и именно к реализму качественному. Я и Не-Я
полагаются как противоположные: Я является вообще полагающим; то, что оно
полагает себя при некотором определенном условии, а именно, когда оно не
полагает Не-Я, есть случайное обстоятельство и определяется посредством
основания полагания вообще, которое не лежит в Я. В таком способе
умозаключения Я фигурирует как некоторое представляющее существо,
которое должно сообразоваться со свойствами вещей в себе.
Однако ни один из двух способов умозаключения не должен иметь
силы; но оба они должны быть взаимно видоизменены друг другом. Так
как Я должно нечто исключить из себя, то должна получить существование
и быть положена некоторая высшая сфера; и так как некоторая высшая
сфера есть и полагается, Я должно из себя исключить нечто. Короче
говоря, Не-Я есть потому, что Я противополагает себе нечто; Я же
противополагает себе нечто потому, что есть и полагается некоторое Не-Я. Ни одно из
двух не обосновывает другого, но то и другое составляют одно и то же
действие Я, которое может обнаруживать различия только в рефлексии.
Теперь сразу же становится ясно, что такой результат равен вышеустановлен-
ному положению — идеальное и реальное основания суть одно и то же — и
может быть из него объяснен, что, следовательно, этим результатом так же,
как упомянутым положением, устанавливается критический идеализм.
ß) Форма взаимосмены в субстанциальности и материя ее должны
определять друг друга взаимно.
362
Основа общего наукоучения
Форма взаимосмены заключается во взаимном исключении и
взаимной исключенное™ взаимочленов друг другом. Если А полагается
как абсолютная полнота, то В исключается из его сферы и полагается в
неопределенную, хотя и определимую сферу В. Наоборот, если В
полагается (если рефлексия направляется на В как полагаемое), то Л исключается
из абсолютной полноты, а именно; оно не подводится уже более под
понятие ее, сфера Л теперь не является уже больше абсолютной полнотой, но
оказывается вместе с В частью некоторой неопределенной, хотя и
определимой сферы. Это последнее обстоятельство нужно хорошенько принять
во внимание и правильно понять, так как от этого зависит все остальное.
Следовательно, форма взаимосмены есть взаимное исключение
взаимочленов из абсолютной полноты.
(Возьмите железо вообще и в себе самом; вы будете иметь в нем
некоторое определенное совершенное понятие, заполняющее свою сферу.
Предположите, что железо движется вперед; в таком случае вы имеете
такой признак, который не заключается в данном понятии и потому из него
исключается. Но так как вы все же приписываете это движение железу, то
определенное прежде всего понятие железа имеет силу уже не как
определенное, а лишь как доступное определению; в нем недостает некоторого
определения, которое вы определите в свое время как притяжимость
магнитом.)
Что касается материи взаимосмены, то теперь ясно, что в форме
взаимосмены, как она только что была представлена, остается неопределен-
. ным, что же такое собственно полнота: если исключенным должно быть В,
то полноту заполняет сфера А; если же, наоборот, должно быть полагаемо
В, то обе сферы, и В и А, заполняют неопределенную, но допускающую
определение полноту. (От того, что и эта последняя сфера Л и В должна еще
быть определена, мы здесь совершенно отвлекаемся.) Эта
неопределенность не может оставаться. Полнота в обоих отношениях является
полнотою. Но если каждая из сфер сверх этого не имеет еще какого-либо другого
признака, которым бы они различались между собой, то невозможной
оказывается вся постулированная взаимосмена; ибо в таком случае полнота
едина, и наличным является лишь один взаимочлен; следовательно,
вообще нет никакой взаимосмены. (Или же, выражаясь понятнее, но менее
точно: представьте себе себя мысленно как зрителей этого взаимного
исключения. Если вы не сможете различить при этом две полноты, между
которыми пролагается взаимосмена, для вас не будет взаимосмены. Не
сможете же вы провести такого различения, если между ними, поскольку они
суть не что иное как полнота, не окажется какого-либо А", согласно
которому вы тут ориентируетесь.) Следовательно, в целях возможности
постулированной взаимосмены должна быть предположена определимость
полноты как таковой: должно быть предположено, что обе полноты можно как-
363
И. Г. Фихте
нибудь различать; и эта определимость представляет собою материю
взаимосмены, — то, на чем взаимосмена продолжается и благодаря чему
единственно она закрепляется.
(Если вы полагаете железо само по себе, то есть изолированно и без
всякой для вас заметной связи с чем-либо вне его, приблизи^льно так, как
оно дано в общем опыте, свободном от научного познания
естествоведения, между прочим и как устойчивое на своем месте, то движение не
входит в состав его понятия, и вы вполне правы, относя это движение за счет
чего-то вне его, когда оно дано вам в явлении как нечто движущееся. Если
же вы станете все же приписывать движение железу, в чем вы тоже будете
правы, то понятие это уже не будет более полным, и вам надлежит
определить его в этом отношении далее и, например, ввести в его состав
притяжимость посредством магнита. Этим устанавливается некоторое различие.
Если вы исходите из первого понятия, в таком случае устойчивость на
месте оказывается существенной для железа, и только движение в нем
является случайным; если же вы исходите из второго понятия, то устойчивость
оказывается столь же случайной, как и движение, ибо первая точно так же
обусловливается отсутствием магнита, как второе — его присутствием. Вы
будете, стало быть, лишены ориентировки, если вы не в состоянии
установить некоторого основания для того, почему вы должны исходить из
первого, а не из второго понятия, и наоборот; то есть, вообще говоря, если
нельзя каким-нибудь образом определить, о какой полноте надлежит
рефлектировать, о просто ли положенной и определенной или же о той,
которая возникает благодаря этой, и исключенному — о полноте определимой
или, наконец, об обеих.)
Форма взаимосмены определяет свою материю, в таком случае это
значило бы, что полнота в вышеустановленном смысле определяется
взаимным исключением, то есть что этим последним указывается, которая
из обеих возможных есть абсолютная полнота и из которой из них нужно
исходить. То, что исключает из полноты нечто другое, есть, поскольку оно
исключает, полнота, и наоборот, и, кроме этого, нет иного основания для
ее определения. Если посредством просто полагаемого Л исключается В, то
А постольку есть полнота; если рефлексия будет направлена на В и А
поэтому не будет рассматриваемо как полнота, то постольку А+В, само по себе
являющееся неопределенным, будет определимой полнотою. Полнотою
является определенное или определимое в зависимости от того, что при
этом будет иметься в виду. Хотя такой результат и не представляется чем-
либо новым и, по-видимому, в нем сказано то самое, что мы знали уже до
синтеза, тем не менее перед синтезом мы имели все же надежду отыскать
какое-нибудь основание для определения. Нынешний же наш результат
совершенно рассеивает эту надежду; его значение отрицательно; и он гово-
364
\ Основа общего наукоучения
риг нам: вообще невозможно никакое иное основание определения, кроме
как посредством отношения.
(В предыдущем примере можно исходить из просто положенного
понятия железа, и тогда устойчивость на месте оказывается существенной
для железа; или же можно исходить из его определимого понятия, и тогда
устойчивость является случайным признаком. И то и другое правильно в
зависимости от того, что имеется в виду, и относительно этого нельзя
указать никакого вносящего определенность правила. Различие тут только
относительно.)
Что материя взаимосмены определяет ее форму, значило бы в таком
случае, что определимость полноты в вышеизложенном смысле, которая,
следовательно, полагается, так как она должна определять нечто другое (то
есть определение является действительно возможным, и существует
некоторый^, согласно которому он совершается, но заниматься
расследованием которого нам здесь не надлежит), определяет взаимное исключение.
Одно из двух, либо определенное, либо определимое, есть абсолютная
полнота, и в таком случае другое не является ею. Потому имеется также и нечто
абсолютно исключенное — то, что исключается через такую полноту. Если,
например, определенное является абсолютной полнотою, то исключаемое
таким путем оказывается абсолютно исключаемым. Следовательно, —
таков результат настоящего синтеза, — существует абсолютное основание
полноты, и полнота эта не является только относительной.
(В приведенном выше примере не безразлично, будем ли мы
исходить из определенного понятия железа или же из доступного определению
понятия его и будем ли мы считать устойчивость на месте существенным
его моментом или же случайным признаком. Если предположить, что в
силу какого-нибудь основания нужно было бы исходить из определенного
понятия железа, то в таком случае абсолютной случайностью было бы
только движение, а не устойчивость.)
То и другое должны определять друг друга взаимно, а не одно из двух
другое; это значит, — чтобы без дальнейших околичностей обратиться
прямо к сути дела, — что абсолютное и относительное основание определения
полноты должны представлять собою одно и то же, отношение должно
быть абсолютным, а абсолютное должно быть не чем иным, как некоторым
отношением.
Постараемся сделать этот чрезвычайно важный результат еще яснее.
Определением полноты определяется одновременно и то, что должно быть
исключено, и наоборот: это — тоже отношение, но о нем не возникает
никакого вопроса. Вопрос в том, какой из обоих возможных способов
определения следует принять и утвердить. На это в первом члене был дан ответ:
ни тот и ни другой; тут нет никакого другого определенного правила,
кроме следующего: если взять один из них, то можно постольку не брать друго-
365
И. Г. Фихте
го, и наоборот; который же из них следует взять, об этом нельзя сказать
ничего определенного. Во втором члене на вопрос был дан такой ответ: нужно
взять один из них, и касательно этого должно быть некоторое правило. Что
же это за правило, должно, естественным образом, оставаться
неопределенным, так как основанием определения того, что подлежит
исключению, должна быть определимость, а не определение.
Оба положения объединяются настоящим положением; им
утверждается, стало быть, следующее: конечно, есть правило, но не такое
правило, которое устанавливает какой-нибудь из обоих способов определения, а
такое, которое устанавливает оба способа как долженствующие друг другом
взаимно определяться. Ни та, ни другая из рассмотренных доселе сфер не
есть искомая полнота; они обе, будучи друг другом взаимно определены,
осуществляют впервые эту полноту. Следовательно, речь идет о некоем
отношении между обоими способами определения, между определением через
отношение и абсолютным определением; и этим отношением впервые
устанавливается искомая полнота. Абсолютной полнотою должно быть не
А и не А+В, но А, определенное через А+В. Определимое должно быть
определено определенным, а определенное — определимым; и
возникающее отсюда единство есть та полнота, которую мы ищем. Ясно, что таков и
должен быть результат нашего синтеза; но несколько труднее понять, что
этим может быть сказано.
Что определенное и определимое должны друг друга взаимно
определять, очевидно, значит, что определение долженствующего быть
определенным "заключается как раз в том, что оно является чем-то определимым.-
Оно есть нечто определимое и сверх того — ничего больше; в этом состоит
вся его сущность. Эта же определимость представляет собою искомую
полноту, то есть определимость есть некоторое определенное количество, она
имеет свои границы, за которыми не бывает уже никакого определения; и в
пределах этих границ заключается вся возможная определимость.
Применим этот результат к наличному у нас случаю, и тотчас же все
станет ясно. Я полагает себя. В этом состоит его безусловно полагаемая
реальность; сфера этой реальности исчерпана и заключает потому в себе
абсолютную полноту (безусловно положенной реальности Я). Я полагает
некоторый объект. Необходимым образом это объективное полагание
должно быть исключено из сферы самополагания Я. Тем не менее это
объективное полагание должно быть приписано Я; и отсюда мы получаем затем
сферу А+В как (до сих пор не ограниченную) полноту действий Я.
Согласно настоящему синтезу, обе сферы должны определять друг друга взаимно:
А дает то, что оно имеет, — абсолютную границу; А +В дает то, что оно
имеет, — содержание. И вот Я оказывается полагающим некоторый объект и
не полагающим тогда субъекта, или же полагающим субъекта и не
полагающим в таком случае объект — поскольку оно полагает себя как пола-
366
Основа общего наукоучения
Уающее согласно этому правилу. Таким образом, обе сферы совпадают
друг с другом и только в соединении своем заполняют некоторую
единственную ограниченную сферу; и постольку определение Я состоит в
определимости через субъект и объект.
Определенная определимость есть та полнота, которую мы искали;
такую полноту именуют субстанцией. Никакая субстанция невозможна как
таковая, если мы не будем исходить при этом из положенного безусловно,
то есть в данном случае из Я, которое полагает только себя самого, то есть
если мы из него не исключим что-то, в данном случае некоторое
положенное Не-Я или некоторый объект. Но субстанция, которая как таковая не
должна быть ничем иным, как определимостью, но все же при этом в
некотором роде определенной, утвержденной, установленной
определимостью, продолжает быть неопределенной и не является субстанцией (не есть
нечто всеохватывающее), если она не определяется, в свою очередь, через
нечто безусловно положенное, в данном же случае — через самополагание.
Я полагает себя как себя полагающее, благодаря тому что оно исключает
Не-Я, или — как полагающее Не-Я, благодаря тому что оно исключает себя.
Самополагание происходит при этом дважды, но в двух весьма различных
отношениях. Самополаганием первого рода обозначается безусловное по-
лагание, самополаганием второго рода — обусловленное и некоторым
исключением Не-Я определимое полагание.
(Пусть будет определением железа как такового устойчивость на
месте', тогда изменение места тем самым исключено, и постольку железо не
представляет собою субстанции, так как оно является тут неопределимым.
Однако же изменение места должно быть приписано железу. Это
невозможно в том смысле, что устойчивость на месте через то будет совершенно
уничтожена, так как в таком случае уничтоженным оказалось бы и само
железо в том виде, как оно полагается; следовательно, изменения места
нельзя приписывать железу, что, однако, противоречит требованию.
Значит, устойчивость может быть уничтожена только отчасти, и изменение
места определяется и ограничивается устойчивостью, то есть изменение
места осуществляется только в сфере некоторого определенного условия
(например, присутствие некоторого магнита) и не имеет места за
пределами этой сферы. Вне этой сферы имеет место опять-таки устойчивость. Кто
не видит того, что устойчивость берется здесь в двух весьма различных
значениях, сначала как нечто безусловное, а затем как нечто обусловленное
отсутствием магнита?)
Продолжим далее применение вышеустановленного
основоположения: точно так же, как А+В определяется через А, определяется и само В,
так как оно входит в состав определенного теперь определимого; А же само
является, как выше было показано, чем-то определимым. Но поскольку В
само оказывается определенным, им может быть определяемо также и
367
И.Г. Фихте
Л+Д; и так как должно иметь место некоторое абсолютное отношение,
только это последнее должно заполнять собою искомую полноту, тоА+В
должно с необходимостью быть определяемо через В. Следовательно, если
А+В полагается и А постольку полагается в сфере определимого, то А+В
опять-таки определяется через В.
Это положение станет тотчас же ясным, если применить его к
наличному случаю. Я должно исключать нечто из себя самого: вот действие, до
сих пор рассматривавшееся как первый момент всей подлежащей
исследованию взаимосмены. Я вывожу отсюда далее — и так как я нахожусь здесь в
области основания, то я имею право делать дальнейшие выводы —
следующее: если Я должно исключать из себя нечто, в таком случае это нечто с
необходимостью должно быть полагаемо в нем до исключения, то есть
независимо от исключения; стало быть, оно является безусловно полагаемым,
так как мы не в состоянии привести для этого никакого высшего
основания. Если мы отправимся от этой точки, то исключение Я будет
знаменовать собою нечто в безусловно полагаемом, — поскольку это последнее
действительно таково, — неполагаемое и должно быть исключено из его
сферы: такое исключение не существенно для него. (Если объект
одинаково полагается совершенно непостижимым образом в Я (ради возможного
исключения) и постольку, без сомнения, должен быть объектом, то для
него случайно, что он оказывается исключенным и — как то выяснится
дальше — в силу такого исключения представляемым. Сам по себе — не вне Я, а
в Я — он существовал бы без такого осуществления. Объект вообще (здесь
В) есть определенное: исключенное через субъекта (здесь А +В) есть опре-'
делимое. Объект может быть исключен, может быть и не исключаем, — он
всегда остается объектом в вышеуказанном смысле слова.' Тут положен-
ность объекта встречается дважды; но кто не видит того, насколько
различны значения такой положенности: сначала он полагается безусловно и
просто; затем же — под условием некоторой исключенности через Я.)
(Из полагаемого как устойчивое железа должно быть исключено
движение. Движение, согласно понятию железа, не было положено в
железе; теперь оно должно быть исключено из железа; оно должно,
следовательно, быть положено независимо от этого исключения, именно
положено безусловно в смысле неположенности через железо. [Это значит, —
выражаясь понятнее, но не так точно, — что, если движение должно быть
противополагаемо железу, то оно для этого уже должно быть известно. Но оно
не должно быть известно через железо. Следовательно, оно известно
откуда-нибудь иначе; и, так как мы не принимаем здесь во внимание ничего,
кроме железа и движения, то оно является просто известным.] Если мы
отправимся от этого понятия движения, то для него будет случайно, что оно,
между прочим, присуще также и железу. Оно — понятие — составляет тут
существенное, железо же для него есть нечто случайное. Движение, стало
368
Основа общего наукоучения
еыть, просто полагается. Из его сферы исключается железо как нечто
устойчивое на месте. Теперь устойчивость отменяется, и железу
приписывается движение. Понятие движения встречается здесь дважды: сначала
как безусловное, а затем как обусловленное уничтожением устойчивости в
железе.)
Следовательно, — и в этом состояло вышеустановленное
синтетическое положение, — полнота заключается только в полном отношении, и не
существует вообще ничего самого по себе устойчивого, что бы ее собою
определяло. Полнота заключается в полноте некоторого отношения, а не
какой-либо реальности.
(Члены отношения, будучи рассматриваемы в отдельности, суть
акциденции', их полнота есть субстанция, как выше уже было сказано. Здесь
нужно только еще установить это категорически для тех, кто не в
состоянии сами сделать столь нетрудного вывода, что под субстанцией надо
разуметь не что-либо неподвижно закрепленное, а только некоторую
взаимосмену. Если субстанция должна быть определена — что было достаточно
выяснено, — или же если в качестве субстанции должно мыслиться
что-нибудь определенное, то взаимосмена должна, конечно, исходить из какого-
нибудь члена, который закрепляется постольку, поскольку взаимосмена
должна быть определена; но закрепляется этот член при этом не
безусловно, так как я могу взять исходной точкой равным образом и
противоположный ему член. И в таком случае тот член, который прежде был
существенным, закрепленным, устойчивым, оказывается случайным, как то можно
пояснить на вышеприведенных примерах. Акциденции, будучи
синтетически объединены, дают субстанцию; и в этой последней не содержится
ничего, кроме акциденций: субстанция, будучи анализирована, распадается
на акциденции, и после полного анализа субстанции не остается ничего,
кроме акциденции. Никакого длительно сохраняющегося субстрата,
никакого носителя акциденций не нужно предполагать; любой случайный
момент, выбираемый тобою сейчас, является всякий раз своим собственным
носителем и носителем противоположного случайного момента, без того,
чтобы была надобность еще в каком-нибудь особенном носителе.
Полагающее Я, благодаря самой удивительной из своих способностей, которой в
свое время мы дадим более обстоятельное определение, удерживает до тех
пор исчезающий случайный момент, пока не сравнит с ним того, что его
вытесняет. Именно эта почти всегда недооценивавшаяся способность
образует из непрерывных противоположностей единство, именно она
становится между моментами, которые должны были бы взаимно уничтожать
друг друга, и тем самым сохраняет тот и другой; именно она одна делает
возможными жизнь и сознание, в особенности сознание как некоторый
поступательный временной ряд; и она делает все это единственно лишь
через то, что она на себе и в себе несет такие акциденции, которые лишены
369
И. Г. Фихте
всякого общего им носителя и не могли бы иметь такового, так как они
взаимно уничтожались бы.)
у) Деятельность как синтетическое единство и взаимосмена как
синтетическое единство должны взаимно определять друг друга и, в свою
очередь, образовать некоторое синтетическое единство.
Деятельность как синтетическое единство всего короче может быть
описана как некоторое абсолютное соединение и закрепление
противоположностей, некоторого субъективного и объективного, в понятии
определимости, в котором эти противоположности все же остаются
противоположенными. (Для разъяснения и установления некоторой высшей точки
зрения прошу сравнить изложенный здесь синтез с вышенамеченным
объединением Я и Не-Я вообще посредством количества (§ 3). Подобно тому как
тем Я сначала было просто положено в отношении качества как
абсолютная реальность, здесь просто полагается нечто, то есть что-то
определенное посредством количества, в Я или же Я полагается просто как
определенное количество; тут полагается нечто субъективное как только
субъективное; и такое действие выражает собою тезис, именно некоторый
количественный тезис, в отличие от вышеупомянутого качественного. Но все
способы действия Я должны исходить из некоторого тетического действия.
[В теоретической части наукоучения и в пределах того ограничения,
которое мы предписали себе тут нашим основоположением, это действительно
некоторый тезис, так как мы ради такого ограничения не можем пойти
дальше; хотя если бы мы однажды перешли эту границу, то обнаружилось
бы, что такое действие есть также и некоторый синтез, долженствующий
привести к высшему тезису.] Подобно тому как выше Я вообще было
противопоставлено некоторое Не-Я как противоположное качество, так и
здесь субъективному противополагается нечто объективное путем
простого исключения его из сферы субъективного, следовательно, просто через
посредство количества (ограничения, определения), и такое действие есть
количественный антитезис, как прежнее действие выражало собою
качественный антитезис. Но ни субъективное не должно быть уничтожаемо
объективным, ни объективное — субъективным, точно так же, как выше Я
вообще не должно было быть уничтожаемо через Не-Я, и наоборот; оба они
должны продолжать существовать рядом друг с другом. Они должны
поэтому быть синтетически объединены и объединяются через нечто третье, в
чем они равны — через определимость. Оба они — не субъект и объект как
таковые, а субъективное и объективное, полагаемые посредством тезиса и
антитезиса, являются взаимно друг другом определимыми и, лишь
поскольку они таковы, могут быть объединены, а также закреплены и
фиксированы действующей в синтезе способностью Я (силой воображения). Но
совершенно так же, как то было выше, и здесь антитезис невозможен без
тезиса, так как противополагать что-либо можно только чему-либо поло-
370
Основа общего наукоучения
енному; но и сам требующийся здесь тезис невозможен по своему
содержанию без содержания антитезиса; ибо прежде, чем что-либо будет просто
определено, то есть прежде, чем к нему будет применено понятие
количества, оно должно уже существовать по своему качеству. Следовательно,
вообще должно существовать нечто такое, в чем деятельное Я проводит для
субъективного некоторую границу, отдавая остальное объективному. По
форме же, совершенно так же, как было выше, антитезис невозможен без
синтеза, так как иначе антитезисом уничтожалось бы полагаемое, —
следовательно, антитезис был бы уже не антитезисом, а сам был бы тезисом.
Таким образом, все три действия суть лишь одно и то же действие; и только в
рефлексии о них могут быть различены отдельные моменты этого единого
действия.)
Что касается чистой взаимосмены, то если форма ее — взаимное
исключение взаимочленов — и содержание — обширная сфера, содержащая
в себе оба исключающих друг друга члена, — синтетически объединяются,
взаимное исключение само является обширной сферой, а обширная сфера
сама есть взаимное исключение, то есть взаимосмена состоит всецело и
исключительно в отношении; в нем не содержится больше ничего, кроме
взаимного исключения, только что указанной определимости. Легко
видеть, что это и должно было быть посредствующим звеном синтеза; но зато
несколько труднее вообразить себе при голой определимости, при голом
отношении, без всего того, что находится в отношении (от чего здесь, да и
во всей теоретической части наукоучения вообще приходится
отвлекаться), нечто такое, что не является абсолютным ничто. Постараемся
побудить к этому силу воображения, насколько это окажется для нас
возможным. А и В (нам уже известно, что этим обозначаются, собственно говоря,
А+В в его определении через А и то же самое А+В в его определении через
В, но для нашей цели мы можем от этого отвлечься и называть то и другое
прямо Л и В), — А и В, следовательно, противоположены, и если одно из
них полагается, то другое не может быть полагаемо: и тем не менее они
должны существовать вместе, не уничтожая друг друга взаимно, и притом
не только отчасти, как то требовалось до сих пор, а всецело и как
противоположности; и задача заключается в том, чтобы это мыслить. Но нельзя
мыслить то и другое вместе иначе и ни при каком другом возможном
предикате, кроме как постольку, поскольку они взаимно уничтожают друг
друга. А не может быть мыслимо и В не может быть мыслимо отдельно; но
встреча, их воздействие (Eingreifen) друг на друга должно быть мыслимо, и
только это является точкой их объединения.
(Предположите в физическом пункте X в момент времени А свет, а
тьму в непосредственно следующий за ним пункт времени В: этим свет и
тьма оказываются резко друг от друга отграниченными, как то и должно
быть. Но моменты/! и В ограничивают друг друга непосредственно, и меж-
\
371
И. Г. Фихте
ду ними нет никакой пустоты. Вообразите себе между ними явственную
границу Z Что же такое находится в Z? Не свет, так как этот последний
находится в момент Л, 7же не естьЛ; точно так же это и не тьма, так как тьма
находится в моменте В. Следовательно, это — и не то, и не другое. Но с тем
же успехом я могу сказать, что там находится и то и другое, так как если
между Л и В нет никакой пустоты, то и между светом и тьмою нет ее, и они,
следовательно, соприкасаются в Z непосредственно. Могут сказать, что
при таком рассуждении я превращаю Z, которое должно бы быть только
границей, с помощью силы воображения в некоторый момент; и, конечно,
так это и есть на самом деле. Сами моменты А и В возникли не иначе, как
путем такого расширения посредством силы воображения. Я могу поэтому
распространить Z при помощи одной силы воображения; и я должен это
сделать, если я хочу мысленно представить себе непосредственное
ограничение моментов А и В друг другом. Вместе с тем, таким образом, в нас
производится эксперимент над удивительной способностью продуктивной
силы воображения, каковая способность получит в скором времени свое
объяснение, без которой в человеческом духе ничего нельзя объяснить и на
которой легко может быть основан весь механизм человеческого духа.
а) Получившая только что объяснение деятельность определяет
объясненную нами взаимосмену. Это может означать, что встреча
взаимочленов как таковых обусловливается некоторой абсолютной
деятельностью Я, благодаря которой это Я и противополагает и объединяет
объективное и субъективное. Только в Я и единственно лишь в силу такого
действия Я они становятся взаимочленами; только вЯи благодаря такому
действию Я они встречаются друг с другом.
Ясно, что установленное положение имеет идеалистический смысл.
Если признавать установленную здесь деятельность исчерпывающей
сущность Я, поскольку это последнее является интеллигенцией, как то
возможно, конечно, лишь при наличии некоторых ограничений, то процесс
представления заключается в том, что Я полагает нечто субъективное и
противополагает этому субъективному нечто другое как объективное, и
т.д.; и таким образом мы имеем перед собой начало для некоторого ряда
представлений в эмпирическом сознании. Выше был установлен закон
опосредствованности полагания, согласно которому ничто объективное не
может быть полагаемо без того, чтобы при этом не уничтожалось
субъективное, и наоборот, — что, разумеется, и в данном случае сохраняет свою
силу; и отсюда должна была бы объясняться взаимосмена представлений.
Теперь к этому присоединяется определение, что оба они — субъективное
и объективное — должны быть синтетически объединены, должны
полагаться одним и тем же актом Я; и этим должно бы объясняться единство
того, в чем состоит взаимосмена при противоположении взаимочленов, —
единство, которого нельзя было бы объяснить при помощи одного только
372
\ Основа общего наукоучения
закона опосредованности. Таким образом, мы имели бы некоторую
интеллигенцию со всеми возможными ее определениями единственно и только
посредством абсолютной самопроизвольности. Я было бы в таком случае
или полагало бы себя таким, каким полагало себя, и в силу того, что
полагало бы себя таким. Однако, как бы далеко ни идти в таком направлении, в
конце концов все же придется натолкнуться на нечто, в Я уже наличное, в
чем один из моментов будет определяться как нечто субъективное, а другой
момент противополагаться ему как нечто объективное. Правда,
наличность того, что должно быть субъективно, может быть объяснена из пола-
гания Я непосредственно самим собою; но этого нельзя достигнуть по
отношению к наличности того, что должно быть объективно; ибо ?то послел
нее не полагается одним только полаганием Я. Таким образом,
установленное положение не вполне объясняет то, что подлежит объяснению.
Ь) Что взаимосмена определяет деятельность, значило бы, что хоть
противоположение и объединение деятельностью Я возможны и не в силу
реальной наличности противоположностей, они возможны все же в силу
их простой встречи и соприкосновения в сознании, как это только что
было объяснено: эта встреча является условием такой деятельности. Все дело
только в том, чтобы правильно понять это.
Против установленного идеалистического объяснения только что
было сделано следующее напоминание: если в Я нечто определяет как
субъективное, нечто же другое благодаря этому определению исключается
из сферы Я как объективное, то должно быть показано, как может это
последнее, подлежащее исключению, все же быть налично в Я\ и вот,
согласно вышеприведенной дедукции, объяснить этого нельзя. Такое
возражение устраняется в пределах настоящего положения следующим образом:
подлежащее исключению объективное совсем не должно непременно быть
в наличности; достаточно только одного того, чтобы для Я существовал,
так сказать, некоторого рода толчок (Anstoss)47; то есть субъективное в силу
какого-нибудь, но только вне деятельности Я лежащего, основания
должно быть лишено возможности дальнейшего распространения. Ведь в
подобной невозможности распространения состояла бы описанная выше
чистая взаимосмена, или же чистое воздействие; эта взаимосмена не
ограничивала бы Я действенным образом, а вменяла бы ему задачу
самоограничения. Всякое же ограничение совершается через противоположение;
потому, чтобы выполнить такую задачу, Я должно было бы противопоставить
подлежащему ограничению субъективному нечто объективное, а затем
синтетически соединить их, как то только что было показано; и таким
образом оказалось бы возможным вывести все представление целиком.
Подобное объяснение, как то сразу же бросается в глаза, реалистично; только
в основании его лежит реализм гораздо более отвлеченный, чем все ранее
установленные формы его; а именно: в нем принимается не какое-либо
373
И. Г. Фихте
вне Я существующее Не-Я, а равно и не какое-либо ъЯ наличное
определение, а лишь задача некоторого определения, долженствующего быть
предпринятым этим Я в самом себе, или же голая определимость Я.
Можно было бы на мгновение остановиться на мысли, что эта задача
определения сама есть тоже некоторое определение и что настоящее
рассуждение в таком случае ничем не отличается от вышеустановленного
количественного реализма, который принимает наличность некоторого
определения. Однако различие может быть тут установлено с ясностью. В
первом случае определение было дано; здесь же оно еще только должно быть
осуществлено через самопроизвольное действие Я. (Разрешим себе
заглянуть немного вперед — и мы установим это различие еще определеннее. А
именно, в практической части мы увидим, что определимость, о которой
здесь идет речь, представляет собою некоторое чувство. Чувство же,
разумеется, есть определение Я, но только не Я как интеллигенции, то есть не
того Я, которое полагает себя как нечто определяемое через Не-Я, а об этом
только и идет здесь речь. Следовательно, такая задача определения не есть
само определение.)
Настоящее рассуждение впадает в ошибку, присущую всем формам
реализма: оно рассматривает Я просто как некоторое Не-Я и потому не
объясняет того перехода от Не-Я к Я, который должен быть объяснен. Если
мы сделаем то допущение, которое здесь требуется, то определимость Я
или же задача определения Я будет, разумеется, полагаться, но только без
всякого .содействия со стороны Я; отсюда можно будет, конечно,
объяснить, как Я может быть определимо для чего-либо вне Я и через его
посредство, но нельзя будет объяснить, как оно может быть определимо через Я и
для него (как упомянутая задача определения когда-либо сможет стать его
наукой, чтобы оно само с знанием определялось бы согласно ей), между
тем как требуется именно это последнее. Я является, по самой своей
сущности, определимым лишь постольку, поскольку оно полагает себя
определимым, и лишь постольку может оно себя определять; как это возможно,
установленный способ умозаключения не объясняет.
с) Оба способа умозаключения должны быть синтетически
объединены; деятельность и взаимосмена должны друг друга обоюдно
определять.
При этом нельзя было бы предположить, что взаимосмена или же
голый без всякого содействия со стороны полагающего Я наличный толчок
ставит Я задачу самоограничения, так как подлежащее объяснению не
заключалось бы в таком случае в основании объяснения. Потому следовало
бы предположить, что такой толчок имеется налицо не без содействия со
стороны Я, что он производится на деятельность Я при полагании им
самого себя; что стремящаяся из себя ко внешнему деятельность Я как бы оттал-
374
Основа общего наукоучения
кивается обратно (рефлектируется) в себя самое, откуда естественным
образом вытекает самоограничение, а из него и все остальное, что требуется.
Таким путем взаимосмена и деятельность на самом деле были бы
взаимно определены и синтетически объединены, как того и требовал ход
нашего исследования. Толчок (не полагаемый полагающим Я) действует
на Я, поскольку Я действенно, и потому он лишь постольку является
толчком, поскольку Я действенно; его возможность обусловливается
деятельностью Я: без деятельности Я нет толчка. И, в свою очередь, деятельность
определения Я через посредство самого себя была бы в таком случае
обусловлена толчком: без толчка нет самоопределения. Далее, без
самоопределения нет ничего объективного и т.д.
Постараемся получше освоиться с тем чрезвычайно важным
окончательным результатом, которого мы теперь достигли. Деятельность (Я) в
объединении противоположностей и встреча (сама по себе и в отвлечении
от деятельности Я) этих противоположностей друг с другом должны быть
объединены, они должны представлять собою одно и то же. Главным
различием является при этом различие между объединением и встречей;
потому мы глубже всего проникнем в дух установленного положения, если
предадимся размышлению насчет возможности объединить эти различия.
Нетрудно уяснить себе, каким образом встреча обусловливается и
должна обусловливаться некоторым объединением. Противоположности
сами по себе являются совершенно противоположными; они не имеют
друг с другом ничего общего; когда полагается одна из них, другая может и
не быть полагаема: встречаются же они друг с другом лишь постольку,
поскольку между ними полагается граница, которая не полагается ни
положением одной из них, ни положением другой; она должна быть положена
отдельно от них. Но в то же время граница эта есть не что иное, как нечто
им обеим общее; следовательно, полагать их границу — значит объединять
их, причем, однако, такое их объединение тоже является возможным не
иначе, как через положение их границы. Они встречаются единственно
лишь при условии некоторого объединения, — для чего-либо
объединяющего и благодаря ему.
Объединение, или, как мы можем теперь сказать точнее, полагание
некоторой границы обусловливается некоторого рода встречей или же, —
так как действенное в ограничении, согласно вышесказанному, само, а
именно только как действенное, должно быть одним из встречающихся, —
полагание границы обусловливается толчком, действующим на
деятельность этого действенного. Это возможно лишь при том условии, если
деятельность действенного, сама по себе и будучи предоставлена себе самой,
уходит в безграничность, неопределенность и неопределимость, то есть в
бесконечность. Если бы она не уходила в бесконечность, то из ограничения
действенного совсем не следовало бы, что на деятельность его был прои£-
375
И. Г. Фихте
веден толчок; ибо это могло бы быть ограничение, полагаемое только
одним его понятием, как то и должно было бы признать по отношению к
такой системе, в которой устанавливалось бы лишь одно конечное Я. В
таком случае, конечно, в пределах, положенных действенному его
собственным понятием, могли бы иметься новые ограничения, от которых можно
было бы умозаключить к наличности какого-либо толчка извне, и это
должно было бы определяться чем-либо другим. Из ограничения же
вообще, как мы это должны здесь признать, такого заключения вывести никак
нельзя.
(Противоположности, о которых идет здесь речь, должны быть
просто противоположены; у них не должно быть никакой точки объединения.
Все же конечное не обнаруживает в своих пределах такого безусловного
противоположения: все конечное равно себе в понятии определимости;
все конечное является сплошь определимым одно другим. Это — общий
признак всего конечного. Точно так же и все бесконечности, поскольку
может существовать много бесконечностей, равны друг другу в понятии
неопределимости. Следовательно, нет ничего до такой степени прямо
противоположного и ни в каком признаке друг с другом несхожего, как
конечное и бесконечное; стало быть, именно они-то и должны быть теми
противоположностями, о которых здесь идет речь.)
И та и другая противоположности должны представлять собою одно
и то же. Это, коротко говоря, значит: без бесконечности нет ограничения; без
ограничения нет бесконечности; бесконечность и ограничение объединяются в
одном и том же синтетическом звене. Если бы деятельность Я не уходила в
бесконечность, оно не могло бы само ограничивать эту свою деятельность;
оно не было бы в состоянии положить никакой границы для нее, — что оно
тем не менее должно сделать. Деятельность Я состоит в безграничном
самополагании: на пути своем она встречает противодействие. Если бы она
покорилась этому противодействию, то деятельность, лежащая за
пределами противодействия, была бы совершенно уничтожена и отменена; Я же
постольку вообще не полагало бы. Но оно должно, разумеется, полагать и
за пределами этой линии. Оно должно ограничивать себя, оно должно
постольку полагать себя как не полагающее себя; оно должно в этом объеме
полагать неопределенную, неограниченную, бесконечную границу (выше
=/?); и если оно должно это делать, то оно с необходимостью должно быть
бесконечным. Далее, если бы Я не ограничивало себя, оно не было бы
бесконечным. Я есть только то, чем оно себя полагает. Что оно бесконечно,
значит, оно полагает себя бесконечным: оно определяет себя при помощи
предиката бесконечности: стало быть, оно ограничивает самого себя (Я)
как субстрат бесконечности; оно отличает себя самого от своей
бесконечной деятельности (причем обе эти возможности представляют собою одно
и то же); и оно должно было так поступать, раз Я должно было быть
376
Основа общего наукоучения
бесконечно. Эта уходящая в бесконечность деятельность, которую оно
отличает от себя, должна быть его деятельностью; она должна быть ему
приписываема; следовательно, Я в одно и то же время в одном и том же
неделимом и не подлежащем расчленению действии снова должно воспринимать
в себя эту деятельность (А+В определять через А). Если же оно принимает
ее в себя, то она оказывается определенной и, следовательно, не является
уже бесконечной; однако она должна быть бесконечной и потому должна
быть полагаема за пределами Я.
Такая взаимосмена Я в себе и с самим собою, в которой оно
одновременно полагает себя конечным и бесконечным — взаимосмена, которая
состоит как бы в некотором борении с самим собою и таким образом
воспроизводит себя самое, причем Я хочет воссоединить несоединимое, — то
пытается ввести бесконечное в форму конечного, то, будучи оттеснено
назад, снова полагает его вне конечного и в тот же самый момент опять
старается уловить его в формы конечного, — такая взаимосмена есть сила.
Таким путем встреча и объединение получают, в свою очередь,
полное объединение. Встреча, или же граница, сама является продуктом
постигающего в постижении и ради постижения (абсолютный тезис силы
воображения, которая постольку безусловно продуктивна). Поскольку Я и
этот продукт его деятельности противоположны между собой,
противоположными друг другу являются и оба встречающихся, и в границе ни один
из них не полагается (антитезис силы воображения). Поскольку же оба они
снова объединяются — поскольку упомянутая продуктивная деятельность
должна быть приписана Я, — граничащие моменты сами объединяются в
их границе. (Синтез силы воображения, которая в этом своем
антитетическом и синтетическом занятии является непродуктивной
(воспроизводящей), как мы это увидим еще яснее в свое время.)
Противоположности должны быть объединены в понятии голой
определимости (а не в понятии определения). Таков был один из главных
моментов требуемого объединения. И нам надлежит подвергнуть его
новой рефлексии, каковая рефлексия определит и полностью осветит только
что сказанное. А именно: если граница, полагаемая между
противоположностями ( из которых одною является само противополагающее, другая же
по своему существованию лежит совершенно за пределами сознания и
полагается только в целях необходимого ограничения), полагается как
твердая, устойчивая, неизменная граница, то обе противоположности
оказываются объединенными определением, а не определимостью; но и в таком
случае не была бы выполнена требующаяся во взаимосмене
субстанциальности полнота (А+В было бы определяемо в таком случае только
определенными и не было бы определяемо в то же самое время неопределенным
В). Значит, такая граница не должна быть признаваема за твердую границу.
Так оно и есть, конечно, согласно данному только что объяснению дей-
377
И. Г. Фихте
ственнрй в этом ограничении способности силы воображения. Эта
способность полагает в целях определения субъекта некоторую бесконечную
границу как продукт своей в бесконечность уходящей деятельности. Она
старается приписать себе эту деятельность (определить Л +В через А); если бы
она этого достигла в действительности, то это была бы уже не та
деятельность; положенная в некоторый определенный субъект, она сама
оказывается определенной и, следовательно, не является уже бесконечной; сила
воображения поэтому вынуждается обратиться вспять до бесконечности
(ей дается в виде задачи определение Л +/? через В). Следовательно,
наличной оказывается одна только определимость, — недостижимая на этом
пути идея определения, а не само определение. Сила воображения не
полагает вообще никаких твердых границ, так как она сама не имеет никакой
твердой точки зрения; только разум полагает нечто твердое тем, что сам он
впервые фиксирует силу воображения. Сила воображения есть
способность, парящая между определением и неопределением, между конечным
и бесконечным; и потому-то, конечно, через ее посредство А+В
определяется одновременно и определенным А и неопределенным В, что составляет
тот синтез силы воображения, о котором мы только что говорили. В
упомянутом парении сила воображения обозначается через свой продукт; она
порождает этот последний как раз во время своего парения и через него.
(Это парение сила воображения между двумя несоединимостями,
это борение ее с самой собою и есть то, что, как это выяснится в будущем,
растягивает состояние Я в нем самом, в некоторый момент времени. (Для
чистого-разума самого по себе все является одновременным; только для
силы воображения существует время.) Долго, то есть дольше одного
мгновения, сила воображения не выдерживает этого, исключая чувство
возвышенного, при котором возникает изумление, остановка взаимосмены во
времени; разум выступает снова (благодаря чему возникает рефлексия) и
заставляет ее ввести В в определенное А (субъект); но, в свою очередь, А,
полагаемое как нечто определенное, должно быть ограничено некоторым
бесконечным В, с которым сила воображения поступает именно так, как
выше было показано; и так дело продолжается до осуществления полного
определения разума (здесь теоретического) самим собою, когда у силы
воображения уже более нет никакой надобности ни в каком
ограничивающем В запредельном разуму, то есть до осуществления представления
представляющего. В практической же области сила воображения
продолжает двигаться до бесконечности по направлению к совершенно
неопределимой идее высшего единства, которое было бы возможно лишь при
законченной бесконечности, что само является невозможным.)
1. Не прибегая к бесконечности Я — к некоторой абсолютной,
устремляющейся в бесконечное и безграничное творческой способности
его, — нельзя объяснить даже возможности представления. Эта абсолют-
378
Основа общего наукоучения
ная творческая способность синтетически выведена и доказана теперь из
постулата, что некоторое представление должно быть; означенный
постулат содержится в положении: Я полагает себя как определяемое через Не-Я.
Но можно уже предвидеть, что в практической части нашей науки
упомянутая способность будет сведена к какой-то еще высшей.
2. Все трудности, становившиеся нам поперек дороги, получили
удовлетворительное разрешение. Задача состояла в том, чтобы объединить
между собою противоположности, Я и Не-Я. Они прекрасно могут быть
объединены силой воображения, объединяющей противоречащее. Не-Я
само есть продукт самоопределяющегося Я и отнюдь не есть что-либо
абсолютное и вне Я положенное. Такое Я, которое полагает себя как себя
самополагающее, или же субъект, невозможно без некоторого
вышеописанным образом созидаемого объекта (определение Я, его собственная
рефлексия над самим собою как над чем-то определенным возможна лишь
при том условии, что оно ограничивает себя само чем-либо себе
противоположным). Только вопрос о том, как и благодаря чему происходит в Я
толчок, который необходимо предположить для объяснения
представления, должен оставаться пока без ответа: ибо вопрос этот лежит за
пределами теоретической части наукоучения.
3. Поставленное во главе всего теоретического наукоучения
положение: Я полагает себя как определенное через Не-Я, является совершенно
исчерпанным; а все противоречия, в нем заключавшиеся, сняты. Я не в
состоянии полагать себя иначе, чем так, что при этом оно будет определяться
.через Не-Я (без объекта нет субъекта). Постольку оно полагает себя как
определенное. Влияние с тем оно полагает себя также и как определяющее,
так как ограничивающее начало в Не-Я есть его собственный продукт (без
субъекта нет объекта). Требуемое взаимодействие не только оказывается
возможным, но без такого взаимодействия то, что требуется в
установленном постулате, оказывается даже совсем немыслимым. То, что прежде
имело только проблематическое значение, теперь получило
аподиктическую достоверность. Вместе с тем этим доказано, что теоретическая часть
наукоучения совершенно закончена; ибо законченной является каждая
наука, основоположение которой исчерпано; основоположение же бывает
исчерпано, когда исследование, пройдя свой путь, возвращается к нему.
4. Но если теоретическая часть наукоучения исчерпана, то это
значит, что установлены и обоснованы все моменты, необходимые для
объяснения представления; и, следовательно, нам остается отныне только
применять и объединять уже доказанное. Однако, прежде чем вступить на этот
путь, будет полезно и важно для полного уразумения всего наукоучения
сделать предметом рефлексии самый этот путь.
5. Нашей задачей было — исследовать, мыслимо ли и с какими
определениями мыслимо проблематически установленное положение: Я пола-
379
И. Г. Фихте
гает себя как определенное через Не-Я. Мы пытались осуществить эту
задачу путем всевозможных определений его, исчерпав их в
систематической дедукции; мы вводили мыслимое постепенно во все более и более
узкие круги путем выключения несостоятельного и немыслимого и таким
образом шаг за шагом все более и более приближались к истине, пока не
нашли наконец для того, что должно было мыслиться, единственного
возможного способа его мыслить. Если упомянутое положение истинно
вообще, то есть без тех особых определений, которые оно теперь получило, — а
что оно истинно, это — постулат, основывающийся на высших
основоположениях, — если оно в силу настоящей дедукции истинно только именно
таким образом, то установленное является в то же время и некоторого рода
фактом, изначально осуществляющимся в нашем духе. Я постараюсь
высказать мою мысль яснее. Все установленные в течение нашего исследования
мысленные возможности, которые мы мыслили себе, и мыслили притом с
сознанием нашего о них мышления, все они были тоже фактами нашего
сознания, поскольку мы философствовали; но то были факты,
искусственно вызванные к жизни самопроизвольностью нашей способности
рефлексии, согласно правилам рефлексии. Установленная ныне мыслительная
возможность, оставшаяся единственною по удалении всего того, что было
изобличено как ложное, первоначально есть тоже такой искусственно
порождаемый самопроизвольностью философствования факт; она является
таким фактом, поскольку она доводится до сознания (философа) через
посредство рефлексии; или же, что будет еще точнее, — сознание такого факта
есть некоторый искусственно осуществляемый факт. Но поставленное во
главе нашего исследования положение должно быть, кроме того, еще
истинно, то есть ему должно соответствовать нечто в нашем духе; при этом
оно должно быть истинно только установленным единственным образом;
следовательно, нашей мысли этого рода первоначально в нашем духе
должно с необходимостью соответствовать нечто наличное независимо от
нашей рефлексии; и в этом высшем смысле слова я называю
установленное фактом; в том же смысле все остальные приведенные мыслительные
возможности не являются фактами. (Так, например, в течение нашего
исследования нам приходилось, конечно, сталкиваться с реалистической
гипотезой, согласно которой материя представления должна быть дана
извне; мы с необходимостью должны были помыслить эту гипотезу, и мысль
о ней была фактом рефлектирующего сознания; но при ближайшем
рассмотрении мы нашли, что такая гипотеза противоречила бы
установленному основоположению, так как то, чему извне была бы дана материя, ни в
коем случае не было бы Я, как то должно быть согласно требованию, а было
бы некоторым Не-Я; что, следовательно, такой мысли ничто не может
соответствовать извне, что такая мысль совершенно пуста и должна быть от-
380
Основа общего наукоучения
брошена как мысль, принадлежащая не к трансцендентальной, а к
трансцендентной системе.)
Кроме того, еще следует мимоходом отметить, что хотя в наукоуче-
нии и устанавливаются факты, благодаря чему оно отличается от всякой
бессодержательной формальной философии, как система реального
мышления, в нем, тем не менее, недозволительно прямо постулировать
что-либо в качестве факта, а необходимо доказать, что это нечто является фактом,
как то и было сделано в настоящем случае. Ссылка на факты,
заключающиеся в пределах общего, никакой философской рефлексией не
руководимого сознания, приводит, если только быть последовательным и не ставить
заранее перед собою те результаты, которые еще только должны быть
добыты, единственно лишь к обманчивой популярной философии, которая
не есть философия. Если же установленные факты должны находиться вне
упомянутых пределов, то ведь нужно же знать, как мы приходим к
убеждению, что они существуют как факты; и ведь в самом деле необходимо,
чтобы это убеждение можно было сообщить; а такое сообщение подобного
убеждения представляет собою доподлинно доказательство того, что
факты эти суть факты.
6. По всем вероятиям, такой факт должен иметь в нашем сознании
последствия. Если только это — факт в сознании некоторого Я, то прежде
всего Я должно полагать его как нечто наличное в его сознании; и так как
это должно иметь свои трудности и быть возможно только некоторым
определенным образом, то, пожалуй, нелишне будет показать, как оно его
в себе полагает. Выражаясь яснее, Я должно объяснить себе указанный
факт; но оно не в состоянии объяснить его себе иначе как согласно законам
своего существа; а это — те же законы, согласно которым осуществлялась
до сих пор и наша рефлексия. Этот способ Я обрабатывать в себе,
видоизменять, определять указанный факт — все его обхождение с этим
последним становится отныне предметом нашей философской рефлексии. Ясно,
что с этого момента вся эта рефлексия перемещается на совсем иную
ступень и приобретает совсем другое значение.
7. Предыдущий ряд рефлексии и ряд последующий различаются
прежде всего по своему предмету. В предыдущем ряду рефлексия
направлялась на мыслительные возможности. И предмет рефлексии — а именно
указанные мыслительные возможности, но только сообразно правилам
некоторой исчерпывающей синтетической системы, — и форма ее, самое
действие рефлектирования порождалось прежде самопроизвольностью
человеческого духа. Оказывалось, что то, над чем она рефлектировала,
хотя и заключало в себе нечто реальное, но это реальное нечто было смешано
в нем с ненужным добавлением, которое надлежало постепенно выделить,
чтобы в конце концов осталось только одно для наших намерений, то есть
для теоретического наукоучения вполне истинное. В будущем ряду ре-
381
И. Г. Фихте
флексии рефлексия будет направляться на факты; предметом этой
рефлексии является, в свою очередь, рефлексия, а именно рефлексия
человеческого духа об обнаруженной в нем данности (которая, разумеется, может
быть названа данностью лишь как предмет такой рефлексии человеческого
духа о самом себе, так как за пределами такого случая это — факт).
Следовательно, в будущем ряду рефлексии предмет рефлексии не будет уже
порождаться одинаковой с нею рефлексией, а только осознаваться через ее
посредство. Отсюда явствует вместе с тем, что с этого момента мы уже не
будем более иметь дела с голыми гипотезами, в которых незначительное
истинное содержание должно быть отделено от ненужных добавлений, но
что всему тому, что с этого момента будет установлено, с полным правом
можно будет приписывать реальность. Наукоучение должно быть своего
рода прагматической историей человеческого духа. До сих пор мы
работали лишь над тем, чтобы добиться доступа в ее сферу, лишь над тем, чтобы
быть в состоянии наконец установить некоторый несомненный факт. Мы
имеем теперь этот факт перед собою; и потому отныне наше, разумеется,
не слепое, а экспериментирующее восприятие может спокойно следовать
за ходом событий.
8. Оба ряда рефлексии различаются между собою по своему
направлению. Отвлечемся предварительно совершенно от искусственной
философской рефлексии и остановим наше внимание лишь на одной
первоначально необходимой рефлексии, которую человеческий дух должен
произвести над упомянутым фактом (и которая с этого момента будет предметом
более высокой философской рефлексии). Ясно, что один и тот же челове--
ческий дух может рефлектировать над данным фактом лишь согласно тем
законам, согласно которым факт этот был найден; следовательно,
согласно тем законам, с которыми сообразовалась наша предыдущая рефлексия.
Эта последняя исходила из положения: Я полагает себя как определяемое
через Не-Я, и описывала свой путь вплоть до факта; нынешняя
естественная рефлексия, которая должна быть установлена в качестве необходимого
факта, исходит из факта, и так как применение установленных
основоположений может достичь своего конца не ранее, чем после того, как
упомянутое положение само будет установлено как факт (не ранее того, как Я
будет полагать себя как самополагающееся, определяясь через Не-Я), она
должна с необходимостью идти дальше вплоть до положения.
Следовательно, она проходит целиком тот же самый путь, какой уже описала
предыдущая рефлексия, но только в обратном направлении; и философская
рефлексия, которая в состоянии лишь просто следовать за первою из них и не
должна предписывать ей никаких законов, неизбежно принимает такое
направление.
9. Раз рефлексия принимает с этого момента обратное направление,
то установленный факт становится в то же время начальной точкой воз-
382
Основа общего наукоучения
вратного движения и для рефлексии философствования; это — точка, в
которой являются связанными два совершенно различных ряда и в которой
конец одного из них примыкает к началу другого. В этой точке, стало быть,
должно лежать основание для отличения прежней дедукции от дедукции,
получающей значение ныне. Наш метод был синтетическим и остается
таковым все время: установленный факт сам является синтезом. В этом
синтезе прежде всего объединяются две противоположности из первого ряда;
таково было бы отношение этого синтеза к первому ряду. Но в том же
синтезе должны заключаться также и две противоположности для второго ряда
рефлексии, дабы были возможны анализ и получающийся отсюда синтез.
И так как в синтезе может быть объединено не более двух
противоположностей, то моменты, соединяемые в нем как конец первого ряда, должны
быть те же, что и моменты, долженствующие быть снова разъединены для
того, чтобы начался второй ряд. Но если это все так, то второй ряд совсем
не является вторым; это — просто первый ряд в обратном порядке, и наш
метод является лишь простым повторным разрешением, которое ни к чему
не приводит, ни на волос не увеличивает наших познаний и ни на один шаг
не подвигает нас вперед. Следовательно, члены второго ряда, поскольку
они таковы, должны все же чем-то отличаться от членов первого ряда, хотя
бы они и были при этом им подобны; и такое отличие они могут получить
единственно и только через посредство синтеза и как бы при прохождении
через него. Стоит труда как следует изучить это различие
противоположных членов, поскольку они являются членами первого или второго рядов,
и это может пролить яркий свет на самый важный и характерный пункт
настоящей системы.
10. Противоположностями в обоих случаях являются субъективное и
объективное; но до синтеза и после него они как таковые имеют весьма
различный вид в человеческом духе. До синтеза это — просто
противоположности, и только; одна из них есть то, что не есть другая, а другая есть то, что
не есть первая; они означают голое отношение, и только. Они
представляют собою нечто отрицательное и лишены безусловно какой бы то ни было
положительности (совершенно так же, как в вышеприведенном примере
свет и тьма в Z, когда это последнее рассматривается лишь как чисто
мысленная граница). Они являют собою голую мысль, лишенную какой бы то
ни было реальности, и к тому же еще — лишь мысль о некотором
отношении. Как только выступает первое, второе оказывается тотчас
уничтоженным; но, так как это второе может выступить только в форме предиката
противоположности другого, так как, следовательно, вместе с его
понятием одновременно выступает понятие другого, которое и уничтожает его, то
и оно тоже не может выступить. Следовательно, нет вообще ничего в
наличности и ничего не может быть; наше сознание остается
незаполненным, и в нем нет решительно ничего. (Правда, без благодетельного обмана
383
И. Г. Фихте
силы воображения, которая незаметно подставляла под упомянутые голые
противоположности некоторый субстрат, мы не смогли бы произвести и
всех предыдущих исследований; без нее мы не были бы в состоянии
помыслить о них, так как они не составляли собою абсолютно ничего, а ничто не
может быть и предметом рефлексии. Этому обману нельзя было помешать,
да и не нужно было мешать; его результат должно было только вычесть из
суммы наших выводов и исключить, как то в действительности и было
сделано.) После синтеза противоположности являют собою нечто такое, что
можно охватить мыслью и закрепить в сознании и что как бы заполняет собою
последнее. (Они являются теперь для рефлексии, с ее соизволения и
разрешения, тем, чем они, конечно, и ранее были, но только незаметно и при
постоянных возражениях с ее стороны.) Совершенно так же, как выше свет и тьма
в Z как границе, силою воображения растянутой в некоторый момент, тоже
ведь знаменовали собою нечто такое, что себя уничтожало не безусловно.
Такое превращение совершается с ними, когда они проходят как бы
сквозь синтез; и надлежит показать, как и каким образом синтез может
сообщить им нечто такое, чего они ранее не имели. Способность синтеза
имеет своей задачей объединять противоположности, мыслить их как
единое (ибо требование предъявляется сначала, как то бывало и прежде
всякий раз, к мыслительной способности). Но она не в состоянии это сделать;
однако задача все-таки налицо; и таким образом возникает борьба между
неспособностью и требованием. В этой борьбе дух задерживается в своем
движении, колеблясь между обоими противоположностями; он колеблется
между требованием и невозможностью его выполнить; но именно в таком-
то состоянии, и только в нем одном, он удерживает их обе одновременно
или, что то же, превращает их в такие противоположностиТ которые могут
быть одновременно схвачены мыслью и закреплены, придает им тем, что
он их касается, отскакивает от них и затем снова их касается, по отношению
к себе некоторое определенное содержание и некоторое определенное
протяжение (которое в свое время обнаружится как множественное в
пространстве и времени). Это состояние носит название состояния созерцания.
Действенная в нем способность уже была выше отмечена как
продуктивная сила воображения.
11. Мы видим, что то самое обстоятельство, которое угрожало
отрезать всякую возможность для теории человеческого знания, оказывается
теперь единственным условием, при котором мы в состоянии осуществить
такую теорию. Мы не догадывались о том, как это случится, что мы сможем
когда-либо объединить абсолютные противоположности; теперь мы
видим что без абсолютных противоположностей объяснение
совершающегося в нашем духе было бы вообще невозможно, ибо та способность,
которая обусловливает собою все это совершающееся — продуктивное
воображение, — была бы невозможна без этих абсолютных противоположностей,
384
Основа общего наукоучения
несовместимостей, совершенно несоизмеримых понимающей
способности Я. А это служит в то же время явным доказательством того, что наша
система правильна и что она даст исчерпывающее объяснение того, что
нужно объяснить. Предположенное оказывается возможным объяснить
только через найденное, а найденное — только через предположенное. Как раз
из абсолютного противоположения вытекает весь механизм человеческого
духа; и весь этот механизм не может быть объяснен иначе, как через
некоторое абсолютное противоположение.
12. Этим вместе с тем вполне раскрывается смысл одного выше уже
высказанного, но еще не совсем тогда выясненного утверждения: а именно,
как могут идеальное и реальное быть одним и тем же; каким образом
оказываются они различными только через различный способ их рассмотрения и
как можно от одного из них умозаключать к другому. Абсолютные
противоположности (конечное субъективное и бесконечное объективное) являют
собою до синтеза нечто только мыслимое и идеальное (употребляя это слово
в том значении, как мы его здесь все время понимали). Поскольку они
должны и вместе с тем не могут быть объединены мыслительной способностью,
они получают благодаря колебанию духа, который в этой своей функции
именуется силой воображения, реальность, так как они становятся
благодаря этому доступны созерцанию; то есть они получают реальность вообще;
ибо не существует никакой другой реальности, кроме как через посредство
созерцания, да и не может существовать никакой другой. Поскольку от этого
созерцания снова отвлекаются, — что возможно, конечно, только для спо-
- собности мышления, а не для сознания вообще, — такая реальность снова
становится чем-то только идеальным; она обладает тогда лишь таким
бытием, которое возникает в силу законов способности представления.
13. Таким образом, здесь развивается то учение, что всяческая
реальность — само собою разумеется, для нас, ибо только так оно и может быть в
системе трансцендентальной философии — порождается только силой
воображения. Один из крупнейших мыслителей нашего времени, который,
насколько я понимаю, учит то же самое, называет это обманом посредством
силы воображения48. Но ведь каждому обману должна противополагаться
истина, каждое заблуждение должно быть устранимо. Но если будет
показано, как то и должно быть сделано в настоящей системе, что на таком
действии силы воображения основывается возможность нашего сознания,
нашей жизни, нашего бытия для нас, то есть нашего бытия в качестве Я, то в
таком случае оно окажется неустранимым, если только мы не должны
отвлекаться от Я, что противоречило бы самому себе, так как отвлекающее не в
состоянии отвлекаться от самого себя; следовательно, способность
воображения не обманывает, а дает истину, и притом единственную возможную
истину. Предполагать, что она обманывает, значило бы обосновывать
скептицизм, который учит сомнению в своем собственном бытии.
13-645
385
ДЕДУКЦИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
I
Укрепимся сначала как можно
тверже на той точке, которой мы достигли.
Устремляющаяся в бесконечность деятельность Я, в которой именно
потому, что она устремляется в бесконечность, нельзя установить никаких
различий, испытывает некоторый толчок, и деятельность, которая при
этом отнюдь не должна быть уничтожена, отражается, обращается
вовнутрь; она получает прямо противоположное направление.
Представим себе устремляющуюся в бесконечность деятельность в
образе прямой линии, идущей из А через В по направлению к С и т.д. Она
могла бы подвергнуться толчку еще до С или же после него; но
предположим, что она его испытывает именно в С; и основание этого заключается,
согласно вышесказанному, не в Я, а в Не-Я.
При наличности такого условия, устремляющаяся по направлению
от А к С деятельность Я будет отражена от С по направлению к А.
Но на Я, поскольку оно должно быть только Я, не может быть
произведено никакого воздействия без ответного с его стороны действия. В Я
нельзя ничего уничтожить, нельзя, следовательно, уничтожить и
направления его деятельности. Стало быть, отраженная по направлению к А
деятельность должна, поскольку она является отраженной деятельностью,
тотчас же оказывать и обратное действие по направлению к С.
Таким образом мы получаем между А и С двойное, с самим собою
борющееся направление деятельности Я, в котором направление, идущее от
С к А, может быть рассматриваемо как страдание, а направление, идущее
от Л к С, — как чистая деятельность, причем оба направления составляют
одно и то же состояние Я.
Это состояние, в котором объединяются между собою совершенно
противоположные направления, есть именно деятельность силы
воображения; и следовательно, мы имеем теперь совершенно определенным
образом то, чего искали выше, — некоторую деятельность, которая возможна
лишь через страдание, и некоторое страдание, возможное лишь через
деятельность. Пребывающая между А и С деятельность Я есть деятельность
сопротивляющаяся; но таковая невозможна без отраженности его деятельно-
386
Основа общего наукоучения
сти; ибо всякое сопротивление предполагает нечто такое, чему
оказывается сопротивление: оно есть страдание, поскольку первоначальное
направление деятельности Я оказывается отраженным; но быть отраженным
может только такое направление, которое есть в наличности как именно это
направление, и притом во всех пунктах деятельности Я. Оба направления,
кА и к С, должны быть налицо в одно время; и именно то, что они наличны
одновременно, решает вышеупомянутую задачу.
Состояние Я, поскольку деятельность этого последнего полагается
между А и С, есть состояние созерцания, ибо созерцание есть своего рода
деятельность, которая возможна не без некоторого страдания, и своего
рода страдание, которое возможно не без некоторой деятельности.
Созерцание таким образом определено для философской рефлексии, но лишь как
таковое; оно остается еще совершенно неопределенным по отношению к
субъекту в качестве акциденции Я, так как для этого надлежало бы иметь
возможность отличать его от других определений Я, между тем как это пока
невозможно; и столь же неопределенным остается оно по отношению к
объекту, так как для этого надлежало бы иметь возможность отличать
нечто созерцаемое как таковое от несозерцаемого, между тем как это тоже
пока оказывается невозможным.
(Ясно, что принявшая снова свое первоначальное направление дея-
тельностьЯустремляется также и за С. Но поскольку она распространяется
за С, она не является уже сопротивляющейся деятельностью, так как за
пределами С нет толчка, а следовательно — не является и созерцающей
-деятельностью. Значит, в С созерцающее и созерцаемое подвергаются
ограничению. Устремляющаяся за С деятельность не есть созерцание, и
объект ее не есть созерцаемое. В свое время мы увидим, что
представляют собою то и другое. В настоящий момент мы хотели бы только отметить,
что пока оставляем без рассмотрения нечто, к чему мы потом снова
возвратимся.)
и
Я должно созерцать; и если только созерцающее должно
действительно быть некоторым Я, то это значит не более и не менее как следующее:
Я должно полагать себя как созерцающее; ибо что-либо может быть
присущим Я лишь постольку, поскольку оно само приписывает себе это
нечто.
Что Я полагает себя как созерцающее, значит прежде всего, что оно
полагает себя в созерцании как деятельное. Что это может значить еще
сверх того, выяснится само собою по ходу исследования. Поскольку же оно
полагает себя деятельным в созерцании, оно противополагает себе нечто,
что в созерцании не деятельно, а страдательно.
13»
387
И. Г. Фихте
Чтобы ориентироваться в этом исследовании, нам достаточно
вспомнить хотя бы о том, что было сказано выше по поводу взаимосмены в
понятии субстанциальности. Обе противоположности, деятельность и
страдание, отнюдь не должны уничтожать или снимать друг друга; они
должны сохраняться рядом друг с другом: они должны просто взаимно
исключать друг друга.
Ясно, что созерцающему как деятельному должно
противополагаться созерцаемое. Спрашивается только, как и каким образом может быть
полагаемо такое созерцаемое.
Нечто созерцаемое, которое должно противополагаться Я, —
постольку созерцающему, — необходимо есть некоторое Не-Я\ и отсюда
следует прежде всего, что действие Я, полагающее такое созерцаемое, не есть
рефлексия; это не деятельность, направляющаяся внутрь, а деятельность,
устремляющаяся на внешнее; следовательно, она, насколько это теперь
нам ясно, — деятельность созидающая. Созидается созерцаемое как
таковое.
Далее ясно, что Я не может сознавать свою собственную
деятельность при этом созидании созерцаемого как такового, так как деятельность
эта не становится предметом рефлексии, не приписывается Я. (Только в
философской рефлексии, которая осуществляется нами теперь и которую
мы должны всегда самым тщательным образом отделять от общедоступной
и необходимой, она приписывается Я.)
Созидательной способностью всегда является сила воображения;
стало быть, упомянутое полагание созерцаемого совершается через силу
воображения и само есть некоторое созерцание (всматривание в активном
смысле в некоторое неопределенное нечто).
Это созерцание должно противополагаться некоторой деятельности
в созерцании, которую Я приписывает самому себе. В одном и том же
действии одновременно должны, следовательно, быть наличны некоторая
деятельность созерцания, которую Я приписывает себе через посредство
рефлексии, и некоторая другая деятельность, которую оно себе не
приписывает. Эта последняя есть чистое созерцание; первая тоже должна быть
такой, но она должна быть рефлектирована. Спрашивается, как это
происходит и что отсюда следует?
Созерцание как деятельность устремляется к С, но является лишь
постольку созерцанием, поскольку эта деятельность противодействует
противоположному устремлению — к А. Если такого противодействия нет,
то деятельность — уже не созерцание, а просто деятельность.
Подобная деятельность созерцания должна быть рефлектирована, то
есть идущая к С деятельность Я (которая постоянно остается одною и той
же деятельностью) должна быть направлена к Л, и притом как деятель-
388
Основа общего наукоучения
ность, противодействующая противоположному направлению (так как в
противном случае это была бы не эта деятельность, не деятельность
созерцания).
При этом возникает следующая трудность: деятельность # уже
однажды рефлектирована через толчок по направлению кЛ, теперь она должна,
и притом в силу абсолютной самопроизвольности (так как Я должно
полагать себя как созерцающее просто потому, что оно есть Я), опять-таки быть
рефлектирована в том же самом направлении. Если оба эти направления
не будут различены, то никакое созерцание не будет рефлектировано, а
будет только многократно повторяться на один и тот же лад; ибо деятельность
при этом — одна и та же: это — одна и та же деятельность Я; и направление
остается при этом одним и тем же направлением от С к А. Упомянутые
направления должны, следовательно, быть различаемы, если только должна
быть возможна требуемая рефлексия; и вот, прежде чем мы сможем пойти
дальше, нам надлежит решить задачу, как и чем они различаются между
собою.
ш
Определим точнее эту задачу. Еще не приступая к самому
исследованию, можно уже приблизительно понять, как может быть отличено первое
направление деятельности Я, идущее к А, от второго подобного ему
направления. А именно, первое рефлектируется только в силу одного толчка
извне, второе же — в силу абсолютной самопроизвольности. Стоя на той
ступени нашей философской рефлексии, на которую мы произвольно стали с
самого начала исследования, мы можем, конечно, подметить это различие;
но задачей является — раскрыть и подметить именно это,
предполагающееся ради возможности всякой философской рефлексии как первичный
факт естественного сознания. Вопрос в том, как человеческий дух
первоначально приходит к такому различению между некоторым отражением
деятельности извне и некоторым отражением ее изнутри. Это различие и
есть то, что должно быть выведено как факт и через такое выведение
доказано.
Я должно быть определено предикатом созерцающего и этим должно
быть отличено от созерцаемого. Таково было то требование, от которого
мы отправились; отправляться от какого-либо другого мы не могли. Я как
субъект созерцания должно быть противоположено его объекту и тем
впервые отличено от Не-Я. Ясно, что мы будем лишены в этом исследовании
какой-либо точки опоры и будем вращаться в безысходном кругу, если
только не будет сначала закреплено созерцание в себе и как таковое. Тогда
только будет возможно определить отношение к нему как Я, так и Не-Я.
389
И. Г. Фихте
Таким образом, возможность разрешить вышепоставленную задачу
зависит от возможности закрепить само созерцание как таковое.
Эта последняя задача одинакова с только что установленной, — с
задачей провести различие между первым направлением к А и вторым
направлением; и одна из них решается посредством другой. Если только
созерцание само является закрепленным, в нем уже содержится первое
отражение (Reflexion) по направлению к А; и тогда, без боязни впасть в смешение
и прийти ко взаимоуничтожению утверждений, может осуществиться
рефлексия уже не первого направления к А, а созерцания вообще по
направлению к А.
Созерцание как таковое должно быть закреплено, чтобы его можно
было понять как одно и то же. Но созерцание как таковое отнюдь не есть
что-либо закрепленное; оно выражает собою колебание силы воображения
между противодействующими друг другу направлениями. Что оно должно
быть закреплено, это значит, что сила воображения не должна более
колебаться, так как этим созерцание было бы совершенно уничтожено и
упразднено. Но этого не должно быть; следовательно, в созерцании
должен сохраниться хотя бы продукт такого состояния — след от
противоположных направлений, не совпадающий с которым-нибудь из них самих, а
представляющий собою нечто сложенное из них обоих.
Такое закрепление созерцания, которое только в силу этого и
становится созерцанием, содержит в себе три следующих момента. Сюда
относится прежде всего действие закрепления или же утверждения. Все это
закрепление совершается ради рефлексии через самопроизвольность,
совершается через эту самопроизвольность самой рефлексии, как это
обнаружится сейчас; следовательно, действие закрепления присуще просто
полагающей способности в Я, или же разуму. Затем, сюда относится
определенное или становящееся определенным; и, как мы уже знаем, — это с и л а
воображения, деятельности которой положена некоторая граница.
Наконец, сюда относится то, что возникает благодаря определению: продукт
силы воображения в ее колебании. Ясно, что раз только искомое
закрепление может быть осуществлено, должна существовать и некоторая
способность такого закрепления; но такая способность не есть ни определяющий
разум, ни созидательная сила воображения, следовательно, это —
посредствующая между ними способность. Это — способность, в которой
приобретает устойчивость (besteht) изменчивое, в которой оно как бы
становится вразумительным (verständigt) (как бы останавливается) и которая
потому по праву носит имя рассудка (Verstand). Рассудок есть рассудок лишь
постольку, поскольку в нем что-либо закрепляется; и все, что
закрепляется, закрепляется единственно в рассудке. Рассудок можно описать как
закрепленную разумом силу воображения или же как разум, снабженный
390
Основа общего наукоучения
объектами через силу воображения. Рассудок — что бы время от времени
ни рассказывали об его действиях — есть покоящаяся, бездеятельная
способность духа, есть простое хранилище созданного силою воображения,
определенного разумом и подлежащего дальнейшему определению.
(Только в рассудке есть реальность (хотя и только посредством силы
воображения); рассудок — это способность действительного; только в нем
впервые идеальное становится реальным: потому слово "рассудить"
(verstehen) выражает собою также некоторое отношение к чему-то такому, что
должно приходить извне, без содействия с нашей стороны, и допускать
вполне только истолкование и усвоение. Сила воображения творит
реальность; но в ней самой нет никакой реальности; только через усвоение и
овладение в рассудке ее продукт становится чем-то реальным. Тому, что
мы сознаем как продукт силы воображения, мы не приписываем
реальности; приписываем же мы ее тому, что мы находим наличным в рассудке,
которому мы приписываем отнюдь не способность созидания, а лишь
способность сохранения. Мы увидим, что при естественной рефлексии,
которая противоположна рефлексии искусственной и
трансцендентально-философской, можно в силу самых ее законов идти только до рассудка; а в нем
мы находим, конечно, нечто данное этой рефлексии как материал
представления; при этом остается несознанным, как это данное нечто попало в
рассудок. Отсюда-то рождается наше твердое убеждение в реальности
вещей вне нас, наличных без всякого с нашей стороны содействия, так как
мы не отдаем себе сознательного отчета в способности их сотворения. Если
бы мы в повседневной рефлексии так же сознавали, как мы действительно
можем это сознавать в рефлексии философской, что вещи попадают в
рассудок посредством силы воображения, то мы опять стали бы все
признавать за обман и благодаря этому чинили бы такую же неправду, как и в
первом случае.)
rv
Вернемся к той точке нашего рассуждения, на которой мы прервали
его, так как нам было невозможно непосредственно продолжать его далее.
Я рефлектирует свою деятельность, идущую в созерцании по
направлению к С. В силу вышеприведенного основания эта деятельность не
может быть рефлектирована как деятельность, противодействующая
некоторому противоположному, от С к А идущему направлению. Но она не может
быть рефлектирована и как деятельность, устремляющаяся на внешнее
вообще, так как в таком случае это была бы вся бесконечная деятельность Я,
которая не может быть рефлектирована, а не совершающаяся в созерцании
деятельность, коей рефлексия необходима.
391
И. Г. Фихте
Следовательно, она должна быть рефлектирована как деятельность,
идущая до С, в С ограниченная и определенная, и это первое.
Стало быть, в С созерцающая деятельность Я ограничивается
абсолютной, в рефлексии действующей деятельностью. Но так как эта
деятельность только рефлектирует, сама же (помимо нашей настоящей
философской рефлексии) не бывает предметом рефлексии, то ограничение в С
противополагается Я и приписывается Не-Я. За пределами С полагается в
бесконечность посредством некоторого темного, не рефлектированного и
определенным образом неосознанного созерцания некоторый
определенный продукт абсолютно творческой силы воображения, который
ограничивает способность рефлектированного созерцания, и это — как раз
согласно тому же правилу и в силу того же основания, согласно которым был
вообще положен первый неопределенный продукт. Это составляет второе.
Этот продукт есть Не-Я, благодаря противоположению которого Я вообще
впервые определяется как Я для настоящей надобности, а логический
субъект положения Я созерцает — впервые становится возможным.
Определенная таким образом деятельность созерцающего Я
является, по крайней мере со стороны своего определения, закрепленной и
включенной в рассудок для дальнейшего определения; так как без этого
противоречащие деятельности Я перекрещивались бы и взаимно уничтожали
друг друга.
Эта деятельность направляется от А к С и должна быть осознана в
этом направлении, но только посредством некоторой рефлектирующейv
следовательно, идущей по направлению от С к А деятельности Я. Ясно, что
в этом осознании встречаются противоположные направления, что,
следовательно, это осознание должно совершаться посредством способности
противоположностей, то есть силы воображения, и, значит, само должно
быть некоторого рода созерцанием. И в этом заключается третье. Сила
воображения в настоящей своей функции не является творческой, а только
осознает (ради полагания в рассудке, а не ради сохранения) то, что уже
создано и включено в рассудок, а потому называется репродуктивной.
Созерцающее должно иметь — и притом как таковое, то есть как
действенно определенное, в качестве противопоставленного себе некоторую
деятельность, которая не является той же самой деятельностью, а есть
другая деятельность. Но деятельность всегда есть деятельность, и до сих пор в
ней нельзя ничего различить, кроме ее направления. Этим же
противоположным направлением является направление от С кЛ, возникшее
благодаря отраженное™ извне и сохраненное в рассудке. И в этом заключается
четвертое.
Это противоположное направление само должно быть предметом
созерцания, поскольку этим должно определяться наличное в созерцании
392
Основа общего наукоучения
направление; и таким образом вместе с определением созерцающего
осуществляется также и некоторое, хотя и не рефлектированное, созерцание
созерцаемого.
Но само созерцаемое должно быть определено как созерцаемое, если
только оно должно быть противопоставлено созерцающему. А это
возможно лишь посредством рефлексии. Вопрос лишь в том, какая
устремляющаяся на внешнее деятельность должна быть рефлектирована; ибо рефлек-
тированной должна быть некоторая устремляющаяся на внешнее
деятельность; деятельность же, направляющаяся в созерцании от Л к С, дает
созерцание созерцающего.
Выше было упомянуто, что для ограничения созерцания вообще в С
творческая деятельность Я должна идти неопределенно далеко за пределы
С. Эта деятельность отражается из бесконечности через С по направлению
к А. Но в направлении от С к А идет сохраняющее свой след в рассудке
первое направление, которое противодействует в созерцании присвоенной Я
деятельности от А к С и по отношению к ней должно быть присвоено
противоположности Я, то есть Не~Я. Эта противоположная деятельность
созерцается как некоторая противоположная деятельность; и в этом
заключается пятое.
Это созерцаемое должно быть определено как таковое; а именно как
созерцаемое, противополагающееся созерцающему; следовательно,
определены посредством некоторого несозерцаемого, которое ведь есть
некоторое Не-Я. Последнее же как абсолютный продукт деятельности Я лежит
' за пределами С (вещь в себе и для себя как ноумен49. Отсюда —
естественное различие между представлением и представляемой в нем вещью). В
сфере же между Си А заключается созерцаемое, которое, согласно своему
определению, понимается в рассудке как нечто реальное. И в этом
заключается шестое.
Они относятся друг к другу как деятельность и страдание (реальность
и отрицание) и, значит, объединяются через взаимоопределение. Без
созерцаемого нет созерцающего, и наоборот. Опять-таки, если (и поскольку)
полагается некоторое созерцаемое, то (постольку) полагается некоторое
созерцающее, и наоборот.
То и другое должно быть определено, так как Я должно полагать себя
как созерцающее и постольку противополагать себя Не-Я\ но для этого оно
нуждается в некотором твердом основании различия между созерцающим
и созерцаемым; а такого основания, согласно выше данным объяснениям,
взаимоопределение не дает.
Если только одно из двух получает дальнейшее определение, то
посредством первого его получает также и другое, и именно потому, что они
находятся между собой во взаимоопределении. Но одно из двух, в силу того
393
И. Г. Фихте
же самого основания, должно определяться не через другое, а через самого
себя, так как в противном случае мы не вышли бы из круга
взаимоопределения.
v
Созерцающее как таковое, то есть как деятельность, определяется
уже тем, что оно находится во взаимоопределении; оно являет собою
некоторую деятельность, которой в противоположном соответствует некоторое
страдание, — некоторую объективную деятельность. Такая деятельность
определяется, далее, некоторой необъективной, следовательно, чистой
деятельностью, деятельностью вообще и безусловно.
То и другое — противоположны; то и другое должны также
синтетически объединяться, то есть взаимно определяться друг другом: 1.
Объективная деятельность — деятельностью просто. Деятельность вообще есть
условие всякой объективной деятельности; она — реальное основание этой
последней. 2. Деятельность вообще не может определяться объективной
деятельностью иначе, как через ее противоположность, страдание;
следовательно, — через некоторый объект деятельности и, следовательно, через
объективную деятельность. Объективная деятельность есть основание
определения, или же идеальное основание деятельности вообще. 3. Та и
другая определяются взаимно друг другом, то есть между ними должна
быть проведена граница. Эта последняя есть переход от чистой
деятельности к объективной и наоборот, — условие, над которым можно рефлекти1
ровать или же от которого можно отвлечься.
Это условие как таковое, то есть как граница чистой и объективной
деятельности, созерцается посредством силы воображения и фиксируется
в рассудке; и то и другое — вышеописанным образом.
Созерцание есть объективная деятельность при наличии некоторого
определенного условия. Будь она безусловной, она была бы не
объективной, а чистой деятельностью.
В силу определения через взаимосмену созерцаемое тоже является
созерцаемым лишь при наличности некоторого определенного условия.
Без этого условия оно вовсе не было бы созерцаемым, а представляло бы
собою нечто просто положенное, некоторую вещь в себе: голое страдание
как противоположность чистой деятельности.
VI
Как в отношении к созерцающему, так и в отношении к
созерцаемому созерцание есть нечто обусловленное. Этим признаком поэтому еще
394
Основа общего наукоучения
нельзя различить то и другое, созерцающее и созерцаемое; и нам надо
искать дальнейших определений. Постараемся определить условие
созерцания для обоих и посмотрим, нельзя ли их будет различить посредством
него.
Что абсолютная деятельность становится посредством условия
некоторого рода объективной деятельностью, значит, очевидно, что
абсолютная деятельность как таковая снимается и уничтожается; и что по
отношению к ней налично некоторое страдание. Стало быть, условием всякой
объективной деятельности является страдание.
Это страдание должно быть созерцаемо. Но страдание может быть
созерцаемо лишь как невозможность противоположной деятельности, как
чувство принуждения к некоторому определенному действию, что,
разумеется, возможно для силы воображения. Это принуждение фиксируется в
рассудке как необходимость.
Противоположностью такой страданием обусловленной
деятельности является деятельность свободная, созерцаемая в воображении как
некоторое колебание самой силы воображения между совершением и
несовершением одного и того же действия, между схватыванием и
несхватыванием одного и того же объекта в рассудке, и понятая в рассудке как
возможность.
Обоего рода деятельности, которые сами по себе противоположны,
синтетически объединяются между собой. 1. Принуждение определяется
через свободу; свободная деятельность определяет себя самое к определен-
* ному действованию {самовозбуждение). 2. Свобода определяется через
принуждение. Только при условии некоторого уже наличного определения
через страдание самодеятельность, все еще свободная в самоопределении,
определяет себя к некоторому определенному действию.
(Самопроизвольность может рефлектировать только при условии некоторой рефлексии,
уже совершившейся в силу толчка извне: но она не должна рефлектировать
также и при этом условии.) 3. Та и другая определяются взаимно в
созерцании. Взаимодействие между самовозбуждением созерцающего и
возбуждением извне является тем условием, при котором созерцающее
становится созерцающим.
Благодаря этому вместе с тем оказывается определенным также и
созерцаемое. Вещь в себе и для себя является предметом созерцания при
условии взаимодействия. Поскольку созерцающее действенно,
созерцаемое страдательно; поскольку созерцаемое действенно (и постольку оно
есть вещь в себе), страдающим является созерцающее. Далее, поскольку
созерцающее деятельно, постольку оно не является страдающим, и
наоборот; и точно так же обстоит дело с созерцаемым. Но отсюда нельзя
почерпнуть никакого твердого определения, и мы, значит, не избавляемся от на-
395
И. Г. Фихте
шего круга. Следовательно, нужно продолжать наши определения. А
именно, мы должны постараться определить участие каждого из обоих
моментов в обнаруженном взаимодействии через него самого.
VII
Деятельности созерцающего, которой в объекте соответствует
некоторое страдание и которая потому уже содержится в упомянутом
взаимодействии, противополагается такая деятельность, которой в объекте не
соответствует никакого страдания, которая поэтому направляется на само
созерцающее (деятельность в самовозбуждении); и ею, значит, должна
была бы быть определена первая деятельность.
Такая определяющая деятельность должна была бы быть созерцаема
через посредство силы воображения и фиксируема в рассудке совершенно
так же, как установленные до сих пор роды ее.
Ясно, что также и объективная деятельность созерцающего не может
иметь иного основания, чем деятельность самоопределения: если бы
поэтому можно было определить эту последнюю деятельность, то и первая
была бы также определена, а вместе с нею и участие созерцающего во
взаимодействии, а благодаря тому — и участие созерцаемого.
Обоего рода деятельности должны определять друг друга взаимно: 1.
В себя самое возвращающаяся деятельность должна определять
объективную деятельность, как это только что было показано; 2. Объективная же
деятельность должна определять деятельность, в себя самое возвращаю^
щуюся. Сколько объективной деятельности, столько и деятельности самое
себя определяющей к определению объекта. Но объективная деятельность
позволяет определять себя посредством определения объекта, а
следовательно, через свое посредство — и деятельность, совершающуюся в
самоопределении. 3. Та и другая находятся, значит, во взаимоопределении, как
только что было показано; и мы опять остаемся без твердой точки опоры
для определения.
Деятельность созерцаемого во взаимодействии, поскольку она
направляется на созерцающее, равным образом определяется через
некоторую в себя самое возвращающуюся деятельность, через которую оно
определяет себя к воздействию на созерцающее.
Согласно вышеприведенному объяснению, деятельность
самоопределения есть определение некоторого фиксированного продукта силы
воображения в рассудке посредством разума: следовательно, это —мышление.
Созерцающее определяет себя само к мышлению некоторого объекта.
Поскольку объект оказывается определенным через мышление, он
представляет собою нечто мысленное.
396
Основа общего наукоучения
Этим он определяется тотчас же как нечто определяющее себя
само—к воздействию на созерцающее. Но такое определение стало
возможным только потому, что в противоположном созерцающем должно было
быть определено некоторое страдание. Без страдания в созерцающем нет
первоначальной и в себя самое возвращающейся деятельности в объекте
как мыслимой деятельности. Без такой деятельности в объекте нет
страдания в созерцающем. Но такое взаимоопределение есть, согласно
вышеприведенному объяснению, взаимоопределение через действенность.
Стало быть, объект мыслится как причина некоторого страдания в
созерцающем, как его действия. Внутренняя деятельность объекта, которою он
определяет себя к действенности, есть нечто чисто мысленное (некоторый
ноумен, если подвести под эту деятельность при помощи силы
воображения некоторый субстрат, как то и нужно сделать).
VIII
Деятельность самоопределения к определению некоторого
определенного объекта должна быть определяема далее: ибо и теперь еще мы не
нашли твердой точки опоры. Но она (деятельность самоопределения)
определяется через посредство такой деятельности созерцающего, которая
не определяет никакого объекта как нечто определенное (=Л), которая не
направляется ни на какой определенный объект (стало быть, например, на
- объект вообще как только о&ьект).
Такой деятельности должно было бы быть возможно через
посредство самоопределения дать себе в качестве объекта Л или — А. Она была
бы поэтому по отношению к А или — А совершенно неопределенной или
свободной, — свободной рефлектировать над А или же от него
отвлекаться.
Подобная деятельность должна прежде всего стать созерцаемой
посредством способности воображения; но так как она колеблется в середине
между противоположностями, между схватыванием и несхватыванием А,
она должна быть созерцаема также и как способность воображения, то есть
в присущей ей свободе колебаться от одного к другому (совершенно так же,
как если бы мы смотрели на закон, о котором мы здесь, конечно, пока еще
ничего не знаем, как на своего рода совещание духа с самим собою).
Однако же, так как посредством этой деятельности одно из обоих, А или же—А,
необходимо должно быть утверждено (так как через ее посредством
должно быть полагаемо как нечто подлежащее рефлексии или же как нечто
такое, от чего надлежит отвлечься), то она должна с необходимостью быть
постольку созерцаема также и как рассудок. Будучи снова объединены че-
397
И. Г. Фихте
рез новое созерцание и закреплены в рассудке, они образуют то, что
называется способностью суждения™. Сила суждения есть свободная до сих пор
способность рефлектировать над объектами, уже положенными в
рассудке, или же отвлекаться от них и полагать их в рассудке при дальнейшем
определении, согласно этой рефлексии или этому отвлечению.
Обе деятельности — чистый рассудок как таковой и способность
суждения как таковая — должны, в свою очередь, взаимно определять друг
друга. 1. Рассудок определяет способность суждения. Он содержит уже в
себе те объекты, от которых способность суждения отвлекается или над
которыми она рефлектирует, и является, таким образом, условием
возможности способности суждения вообще. 2. Способность суждения определяет
рассудок; она определяет для него объект вообще как объект. Без нее
вообще не может быть осуществлена рефлексия; в ее отсутствие, следовательно,
в рассудке нет ничего закрепленного; последнее полагается впервые через
рефлексию и в целях рефлексии; следовательно, нет вообще никакого
рассудка; и таким образом способность суждения, в свою очередь, является
условием возможности рассудка. 3. Обе способности оказываются
благодаря этому определяющими друг друга взаимно. Если нет ничего в
рассудке, то нет и способности суждения; если нет способности суждения, то нет
ничего и в рассудке для рассудка, нет мышления о мысленном как таковом.
В силу взаимоопределения таким путем получает определение также
и объект. Мысленное как объект мышления, стало быть, постольку как
страдающее определяется посредством некоторого не-мысленного,
следовательно, через посредство чего-то только мыслимого (которое должно
иметь основание своей мыслимости в себе самом, а не в мыслящем,
следовательно, должно быть постольку деятельным, принуждая тем мыслящее
по отношению к нему быть страдающим). То и другое — и мысленное и
мыслимое — определяются, таким образом, взаимно друг другом: 1. Все
мысленное мыслимо. 2. Все мыслимое мыслится как мыслимое и мыслимо
лишь постольку, поскольку оно будет мыслиться как таковое. Без
мыслимого нет мысленного; без мысленного нет мыслимого. Мыслимое и мыс-
лимость как таковые суть чистые предметы силы суждения.
Только то, что признано за мыслимое, может быть помыслено как
причина созерцания. Мыслящее должно определять себя самого к тому,
чтобы мыслить нечто как мыслимое; и постольку мыслимое было бы
страдательно; но, в свою очередь, мыслимое должно определять себя самого к
тому, чтобы быть мыслимым; и постольку страдающим было бы
мыслящее. Этим опять вводится некоторое взаимодействие между мыслящим и
мысленным в мышлении; следовательно, и тут нет никакой твердой точки
опоры для определения, и мы должны продолжать далее определение
судящего.
398
Основа общего наукоунения
IX
Деятельность, которая не определяет вообще никакого объекта,
определяется такою деятельностью, которая не имеет никакого объекта,
некоторой вообще необъективной деятельностью, противоположной
объективной деятельности. Вопрос только в том, как может подобная
деятельность быть полагаема и противополагаема деятельности объективной?
Подобно тому как выше была выведена возможность отвлечься от
всякого определенного объекта =А, здесь постулируется возможность
отвлечься от всякого объекта вообще. Такая абсолютная способность
отвлечения необходимо должна существовать, если только искомое
определение должно быть возможно; и оно необходимо должно быть возможно,
если только должно быть возможно самосознание и сознание представления.
Подобная способность должна бы, прежде всего, допускать
созерцание себя самой. Сила воображения по самому существу своему вообще
колеблется между объектом и не-объектом. Она утверждается в том, чтобы не
иметь никакого объекта, то есть (рефлектированная) сила воображения
совершенно уничтожается, и это уничтожение, это не-бытие силы
воображения само созерцается посредством (не рефлектированной и потому ясного
сознания не достигающей) силы воображения. (Наличное в нас темное
представление, когда нам напоминается о том, что мы должны в целях
чистого мышления отвлечься от всякой примеси силы воображения, и есть
это очень часто переживаемое мыслителем созерцание.) Продукт такого
(нерефлектированного) созерцания должен бы был быть закреплен в
рассудке; но ведь он не должен быть ничем, не должен быть объектом,
следовательно, его нельзя закрепить. (Темное представление мысли о
некотором чистом отношении без членов этого отношения, есть нечто в этом
роде.) Стало быть, не остается ничего другого, как вообще отвлечь голое
правило разума, голый закон некоторого недоступного реализации
определения (через силу воображения и рассудок для ясного сознания); и
упомянутая абсолютная способность отвлечения, стало быть, есть сам разум.
(Чистый разум без силы воображения, взятый в теоретическом смысле; тот
разум, который Кант сделал предметом своих исследований в "Критике
чистого разума".)
Если все объективное будет уничтожено, то останется еще по
меньшей мере само себя определяющее и через себя самого определенное — Я, или
же субъект. Субъект и объект будут при этом так определяться друг другом,
что один из них будет совершенно исключаться другим. Если Я определяет
только себя самого, оно не определяет ничего за своими пределами, если
же оно определяет нечто за своими пределами, то оно определяет не только
одного себя. Но Я определяется теперь как нечто такое, что остается после
399
И. Г. Фихте
уничтожения всего объективного силою абсолютной способности
отвлечения; Не-Я определяется как нечто такое, от чего можно отвлечься при
помощи этой способности отвлечения. И, таким образом, мы достигаем
наконец устойчивой точки опоры для различения между объектом и
субъектом.
(И это на самом деле — очевидный источник всякого самосознания,
не признать который нельзя уже после его указания. Все то, от чего я могу
отвлечься (пусть даже и не сразу, но, во всяком случае, так, что я буду
отвлекаться впоследствии от того, что я сейчас еще оставляю нетронутым, а
вслед за тем, оставляя нетронутым то, от чего я сейчас отвлекаюсь), не есть
мое Я, и я противополагаю его моему Я только потому, что рассматриваю
его как такое, что я могу отмыслить прочь. Чем больше какой-нибудь
эмпирический индивидуум в состоянии отмыслить от себя, тем более
приближается его эмпирическое самосознание к чистому, начиная от
ребенка, который впервые покидает свою колыбель и тем самым научается
отличать ее от самого себя, и кончая популярным философом, который еще
признает материальные идеи-образы и вопрошает о седалище души, или-
же — трансцендентальным философом, который мыслит себе — самое
меньшее — правило того, как нужно мыслить чистое Я, и доказывает это
правило.)
х
Эта деятельность, определяющая Я через отвлечение от всего того, от
чего только можно отвлечься, сама, со своей стороны, должна была бы
быть определена. Но так как в том, от чего нечего отвлечь и в чем не от чего
отвлечься (благодаря чему Я и признается за нечто простое), нельзя ничего
уже и определить, то она могла бы быть определена лишь посредством
некоторой совсем ничего не определяющей деятельности, а то, что ею было
бы определено, могло бы определяться через некоторое совершенно
неопределенное нечто.
Действительно, такая способность совершенно неопределенного
как условие всего определенного обнаружена посредством умозаключений
у способности воображения; но она не может как таковая быть доведена до
сознания, так как в таком случае она должна была бы быть рефлектирова-
на, следовательно, определена посредством рассудка, следовательно, не
была бы уже неопределенной и бесконечной.
Я было только что рассмотрено в самоопределении как
определяющее и определенное в одно и то же время. Если посредством нынешнего
более высокого определения рефлексия будет направлена на тот факт, что
то, что определяет нечто совершенно определенное, должно быть чем-то
400
Основа общего наукоучения
совершенно неопределенным, и далее — на тот факт, что Я и Не-Я
безусловно противоположны, то если только Я будет рассматриваться как нечто
определенное, определяющим неопределенным будет Не-Я\ и, наоборот,
если Я будет рассматриваться как нечто определяющее, оно само будет
неопределенным, а определяемое им определенное будет Не-Я. И отсюда
возникает противоборство следующего рода:
Если Я рефлектирует о самом себе и тем самым определяет себя, то
Не-Я является бесконечным и неограниченным. Если же, наоборот, Я
рефлектирует о Не-Я вообще (о мироздании) и тем определяет его, то оно
само является бесконечным. В представлении Я и Не-Я находятся, стало
быть, во взаимодействии; если одно из них конечно, то другое является
бесконечным, и наоборот; одно же из них всегда бывает бесконечным. (В
этом содержится основание установленных Кантом антиномий51.)
XI
Если даже в еще более высокой рефлексии мы станем
рефлектировать о том факте, что само # является безусловно определяющим и,
следовательно, есть то, что определяет безусловно предыдущую рефлексию, от
которой зависит противоборство, то, во всяком случае, Не-Я снова
окажется чем-то определенным через Я; оно должно при этом либо быть
отчетливо определенным для рефлексии, либо быть оставлено неопределенным
для определения Я посредством самого себя в рефлексии; и таким образом
Я, поскольку оно может быть конечно или бесконечно, находится во
взаимодействии только с самим собою, — в таком взаимодействии, стало быть,
в котором оно вполне объединено с самим собою и над которым не в
состоянии возвыситься никакая теоретическая философия.
Часть третья
ОСНОВАНИЕ НАУКИ ПРАКТИЧЕСКОГО
§5
ВТОРАЯ ТЕОРЕМА
Ч положении, бывшем результатом
трех основоположений всего наукоучения: Я и Не-Я определяют друг друга
взаимно, заключалось два следующих положения: и прежде всего
положение: Я полагает себя как определяемое через Не-Я, которое мы исследовали и
по отношению к которому установили, какой факт в нашем духе должен
ему соответствовать; а затем — следующее положение: Я полагает себя как
определяющее Не-Я.
В начале предыдущего параграфа мы не могли еще знать, сможем ли
мы когда-нибудь обеспечить за этим последним положением какое-либо
значение, так как в нем предполагается определимость, а следовательно,
реальность Не-Я, для принятия которой мы там не могли привести еще
никакого основания. Теперь же посредством упомянутого постулированного
факта и при предположении его наличности постулируется вместе с тем и
реальность некоторого Не-Я, — само собою разумеется, для Я, — как ведь и
вообще все наукоучение как трансцендентальная наука не может выйти из
сферы Я, да и не должно выходить за ее пределы, — и та действительная
трудность, которая препятствовала нам принять упомянутое второе
положение, исчезает. Ежели некоторое Не-Я обладает для Я реальностью, и —
что имеет тот же смысл — ежели Я полагает его как реальное, возможность
чего, равно как и форма и способ теперь уже установлены, то Я может,
конечно, если только мыслимы иные определения положения (чего мы,
правда, еще не в состоянии знать), и себя самого полагать как
определяющее (полагающее предел, ограничивающее) ту положенную реальность.
При рассмотрении установленного положения: Я полагает себя как
определяющее Не-Я, мы могли бы действовать так же, как поступали при
рассмотрении вышеупомянутого положения: Я полагает себя как
определенное через Не-Я. И в этом положении, как и в том, содержатся
многочисленные противоположности, мы могли бы их отыскивать,
синтетически их объединять, затем опять синтетически объединять возникшие в
силу такого синтеза понятия, если только они, в свою очередь, оказались бы
противоположными и т.д.; и мы, наверное, совершенно исчерпали бы
наше положение, следуя некоторому простому и основательному методу. Но
402
Основа общего наукоунения
существует один более краткий, а потому и не менее исчерпывающий
способ его рассмотрения.
А именно, в этом положении заключается некоторая основная
антитеза, которая охватывает в себе все противоборство между Я как
интеллигенцией и постольку ограниченным существом, и им же как безусловно
положенным, следовательно, неограниченным существом, и принуждает
нас принимать в качестве объединительного звена некоторую
практическую способность Я. Мы займемся прежде всего отысканием этой
антитезы и объединением членов содержащегося в ней противоположения.
Остальные антитезы найдутся затем сами собою, и их тем легче можно
будет объединить.
I
Чтобы отыскать эту антитезу, мы пойдем наикратчайшим путем;
этот путь приведет нас вместе с тем и к признанию приемлемости, с
некоторой высшей точки зрения, главного положения всего практического
наукоучения: Я полагает себя как определяющее Не- Я;и уже с самого
начала оно приобретает этим путем высшую, а не проблематическую только
значимость.
Я вообще есть Я; оно есть совершенно одно и то же Я в силу
положенное™ самим собою (§ 1).
Поскольку Я, в частности, является представляющим, или же
интеллигенцией, оно, конечно, тоже как таковое есть нечто единое, — некоторая
способность представления, подлежащая необходимым законам; но оно
постольку совсем не является одним и тем же с абсолютным Я полагаемым
самим собою.
Ибо Я как интеллигенция хоть и является внутри этой сферы
определенным самим собою со стороны своих особых определений, поскольку
оно уже есть такая интеллигенция; и поскольку в нем нет ничего такого,
чего оно в себе не полагало бы, и в нашей теории мы настойчиво
высказывались против взгляда, будто в Я входит нечто такое, по отношению к чему
оно является чисто страдательным. Однако же сама эта сфера как таковая,
будучи рассматриваема вообще и в себе самой, полагается для Я не им
самим, а чем-то вне него находящимся; разумеется,/юд и способ
представления существует благодаря Я; но то, что Я вообще является
представляющим, определяется не силою Я, а чем-то находящимся вне Я, как мы это
видели. А именно, мы вообще были в состоянии мыслить себе
возможность представления не иначе как предполагая, что устремляющаяся в
неопределенное и бесконечное деятельность Я подвергается толчку.
Согласно этому, Я как интеллигенция вообще является зависящим от некоторо-
403
И. Г. Фихте
го неопределенного и доселе еще совсем неопределимого Не-Я; и
только благодаря такому Не-Я и его посредством становится оно
интеллигенцией9*.
Но Я должно полагаться со стороны всех своих определений только и
только самим же собою, и, следовательно, должно быть совершенно не
зависимо от какого бы то ни было возможного Не-Я.
Следовательно, абсолютное Я и интеллигентное Я (если только
дозволительно выражаться так, как будто это было два Я, ибо на деле оно
должно быть единым) не суть одно и то же, но противополагаются друг
другу, что противоречит абсолютному тождеству Я.
Это противоречие должно быть снято, и его можно снять только
следующим образом; интеллигенция Я вообще, которая приводит с собою
противоречие, не может быть устранена без того, чтобы Я не поставило
себя снова в некоторое новое противоречие с самим собою. Ибо если только
некоторое Я положено и ему противоположено некоторое Не-Я, то тем
самым, согласно всему теоретическому наукоучению, положенной является
также и некоторая способность представления со всеми ее определениями.
Равным образом Я, поскольку оно уже положено как интеллигенция,
определяется самим собою, как мы только что об этом упоминали и как мы это
доказали в теоретической части. Но зависимость Я как интеллигенции
должна быть снята, а это мыслимо лишь при том условии, что Я будет через
себя самого определять то до сих пор еще неизвестное Не-Я, которому
приписывается толчок, благодаря которому Я становится интеллигенцией.
Таким образом, Не-Я, долженствующее быть представляемым, было бы
определено абсолютным Я через такое определение непосредственно, а
представляющее Я — опосредованно. Я было бы тогда зависимо только от
себя самого, то есть было бы всецело определено самим собою; оно было бы
тем, в качестве чего оно себя полагает, и только этим одним, и
противоречие, таким образом, было бы удовлетворительным образом разрешено. И
таким образом мы предварительно доказали бы по меньшей мере вторую
половину нашего главного установленного положения, а именно
положение: Я определяет Не-Я (то есть Я есть определяющее, Не-Я есть
подвергающееся определению).
9* Кто почувствует в этих словах глубокий смысл и далеко идущие
последствия, тот будет для меня весьма желанным читателем и может спокойно
продолжать на свой лад делать из них выводы. Конечное существо конечно
только как интеллигенция; практическое законодательство, которое у него
должно быть общим с бесконечным, не может зависеть ни от чего вне его.
Равным образом и те, кто навострился по немногим основным
чертам совсем новой и в ее целом для них необозримой системы предугадывать,
если и не очень-то много, то хоть, по крайней мере, атеизм, — пусть и они
все-таки обратят внимание на это объяснение и посмотрят, как можно его
использовать. (Примеч. к 1-му изд.).
404
Основа общего наукоучения
Я как интеллигенция находилось с Не-Я, которому приходится
приписывать постулированный толчок, в причинном отношении; оно было
чем-то порожденным Не-Я как его причиной. Ибо причинное отношение
состоит в том, что через ограничение деятельности в одном моменте (или
же через некоторое количество страдания в нем), согласно закону
взаимоопределения, полагается в противоположный момент некоторое
количество деятельности, равное уничтоженной деятельности. И, если только Я
должно быть интеллигенцией, часть его устремляющейся в бесконечность
деятельности должна быть уничтожена, и деятельность эта затем
полагается, согласно указанному закону, в Не-Я. Но так как абсолютное Я не
способно ни на какое страдание вообще и должно быть абсолютной
деятельностью, и только ею одною, то, как это было только что показано,
необходимо было признать, что и это постулированное Не-Я тоже является
определенным и, стало быть, страдательным, а противоположная этому
страданию деятельность должна была быть положена в нечто ему
противоположенное, в Я, и притом не в интеллигентное Я, так как это последнее само
определено таким Не-Я, а в Я абсолютное. Подобное отношение, как то
было в силу этого признано, есть отношение причинное. Абсолютное Я
должно, стало быть, быть причиною Не-Я, поскольку это последнее
является последним основанием всякого представления; Не-Яж& — постольку
его продуктом.
1. Я безусловно деятельно и только деятельно — таково абсолютное
предположение. Отсюда прежде всего выводится некоторое страдание
Не-Я, поскольку это последнее должно определять Я как интеллигенцию;
противоположная этому страданию деятельность полагается в абсолютное
Я как определенная деятельность, как именно та самая деятельность,
которою определяется Не-Я. Следовательно, таким образом из абсолютной
деятельности Я выводится некоторая определенная деятельность его.
2. Все только что приведенное служит одновременно и к тому, чтобы
еще более уяснить вышепримененный способ выведения. Представление
вообще (не отдельные определения его) есть, вне всякого сомнения, нечто
порожденное Не-Я. Но в Я не может быть ничего такого, что
представляло бы собою нечто порожденное; ибо Я есть то, в качестве чего оно себя
полагает, и в нем нет ничего такого, чего оно не полагало бы в себе само.
Следовательно, упомянутое Не-Я должно с необходимостью само быть
продуктом Я, а именно — продуктом абсолютного Я. И, таким образом,
мы были бы свободны от всякого воздействия на Я извне и имели бы
только его действие на себя самого (которое, правда, идет окольным путем,
основания которого пока еще неизвестны, но в будущем, может быть,
и будут все же указаны).
Абсолютное Я должно, стало быть, быть причиною Не-Я в себе и для
405
И. Г. Фихте
себя, то есть только того в Не-Я, что остается, если отвлечься от всех пока-
зуемых форм представления; того в нем, чему приписывается толчок,
действующий на идущую в бесконечность деятельность Я. Ибо тот факт, что
причиною отдельных определений представленного как такового является
действующее согласно необходимым законам представления
интеллигентное Я, доказывается в теоретическом наукоучении.
Точно таким же образом, именно в силу абсолютного полагания, Я
не может быть причиной Не-Я.
Самого себя Я полагает безусловно и без всякого дальнейшего
основания, и оно должно с необходимостью полагать себя, если только оно
должно полагать что-нибудь другое. Ибо то, что не есть, не может ничего
полагать; Я же есть (для Я) безусловно и только благодаря своему
собственному полаганию себя самого.
Я не может полагать Не-Я, не ограничивая тем самым себя самого.
Ибо Не-Я совершенно противоположно Я; что есть Не-Я, то не есть Я;
поскольку, стало быть, Не-Я положено (поскольку ему присущ предикат
положенное™), постольку Я не положено. Если бы Не-Я было положено безо
всякого количества как нечто неограниченное и бесконечное, то Я совсем
не было бы положено; его реальность была бы совершенно уничтожена,
что противоречит вышесказанному. Следовательно, оно должно было бы
быть положено в определенном количестве, а реальность Я сообразно
этому была бы ограничена в размере положенного количества реальности
Не-Я. Выражения: полагать некоторое Не-Я и ограничивать Я — обладают
одним и тем же значением, как то было показано в теоретическом
наукоучении.
Но, согласно нашему предположению, # должно было полагать Не-Я
безусловно и без какого-либо основания, то есть оно должно безусловно и
без всяких на то оснований ограничивать себя или же частично не полагать
себя. Оно должно бы поэтому иметь в самом себе основание своего непола-
гания; в нем самом должен бы быть принцип самополагания и принцип са-
монеполагания. Стало быть, Я было бы в своем существе самому себе
противоположным и противоречащим; в нем заключался бы двойной
внутренне противоположный принцип, каковое допущение самому себе
противоречит, так как в таком случае в Я не было бы никакого принципа. Я
совсем не было бы, так как оно уничтожало бы себя само.
(Мы достигли теперь той точки, с которой мы можем яснее, чем
когда-либо до сих пор в нашем изложении, раскрыть смысл нашего второго
основоположения: Я противополагается некоторое Не-Я, а через то и
выяснить истинное значение всего нашего наукоучения.
Во втором основоположении абсолютна только некоторая часть
содержания; другая же часть содержания предполагает некоторый факт, ко-
406
Основа общего наукоучения
торого никак нельзя указать a priori, а можно указать только в собственном
опыте каждого человека.
Кроме полагания Я через самого себя, должно существовать еще
некоторое полагание. A priori это — только гипотеза; что такое полагание
имеется, можно показать только через некоторый факт сознания; и
каждый неизбежно должен показать себе его посредством этого факта, никто
не в состоянии доказать его другому посредством разумных оснований.
(Конечно, можно было бы свести, с помощью разумных оснований,
какой-либо допущенный факт к такому высшему факту; но такое
доказательство своим результатом имело бы только то, что другим внушалось бы
убеждение, что, допуская какой-либо факт, они тем самым допускают и
упомянутый высший факт.) Абсолютно же и безусловно обоснованным в
существе Я является то, что ежели какое-либо такое полагание существует, то
полагание это должно с необходимостью быть противополаганием, а
положенное — некоторым Не-Я. Для того, как Я может отличать от себя
что-нибудь, нельзя привести никакого высшего основания возможности;
различие это, наоборот, само лежит в основании всякого выведения и всякого
обоснования. То, что всякое полагание, которое не есть полагание Я,
должно с неизбежностью быть противополаганием, это достоверно
безусловно: то, что такое полагание существует, это каждый может показать себе
только через собственный свой опыт. Поэтому аргументация наукоучения
безусловно значима a priori; она устанавливает только такие положения,
которые достоверны a priori; реальность же она получает только в опыте.
- Для того, кто был бы не в состоянии сознать постулированный факт, — и
можно наверняка сказать, что этого не может случиться ни у одного
конечного разумного существа, — для того вся наука была бы лишена какого
бы то ни было содержания; она была бы для него пуста; и все же он должен
был бы признать за нею формальную правильность.
Таким образом, наукоучение оказывается возможным a priori, хотя
оно и должно при этом направляться на объекты. Объект же не априорен;
он дается наукоучению только в опыте; объективное значение доставляет
каждому его собственное сознание объекта, каковое сознание может быть
a priori только постулировано, а отнюдь не выведено. Следующее — только
как пример. Для Божества, то есть для такого сознания, в котором
благодаря простой положенности Я было бы положено все (но только для нас
понятие такого сознания немыслимо), наше наукоучение было бы лишено
всякого содержания, так как в таком сознании не совершалось бы
никакого иного полагания, кроме полагания Я; формальной же правильностью
оно обладало бы также и для Бога, так как форма его есть форма самого
чистого разума52.
407
И. Г. Фихте
II
Мы видели, что требование причинности Я по отношению к Не-Я,
посредством которой должно бы быть снято вскрытое нами противоречие
между независимостью Я как абсолютного существа и зависимостью его
как интеллигенции, само содержит в себе некоторое противоречие. Но
первое противоречие должно быть снято; и оно не может быть снято иным
путем, как посредством требования причинности; мы должны, стало быть,
постараться разрешить заключающееся в самом этом требовании
противоречие; и мы обращаемся теперь к этой второй задаче.
Чтобы выполнить это, постараемся сначала поглубже проникнуть в
истинный смысл этого противоречия.
Я должно иметь причинное значение для Не-Я и производить его для
возможного о нем представления, так какЯне может быть присуще ничего
такого, чего бы оно непосредственно или опосредованно не полагало само
и в себе самом, и так как оно должно быть всем, что только оно есть, через
самого себя. Стало быть, требование причинности основывается на
абсолютной сущности Я.
Я не может иметь причинного значения для Не-Я, так как в таком
случае Не-Я перестало бы быть Не-Я (перестало бы быть противоположно Я) и
само бы сделалось Я. Но ведь Я само противопоставило себе Не-Я;, и эта
противопоставленность не может быть поэтому уничтожена, если только
не должно быть уничтожено что-либо такое, что положено Я, и Я не
должно, таким образом, перестать быть Я, что противоречит тождеству Я.
Стало быть, противоречие против требуемой причинности зиждется на
том, что Я безусловно противополагается некоторое Не-Я и должно с
необходимостью оставаться ему противоположным.
Противоречие, стало быть, заключается в самом Я между
различными его аспектами. Противоречат друг другу именно эти последние; и
нужно найти посредство между ними. (По отношению к такому Я, которому
ничто не противополагалось бы, по отношению к недоступной для
мышления идее Божества, подобное противоречие совсем не имело бы места.)
Поскольку Я абсолютно, оно бесконечно и неограниченно. Все, что
существует, полагается им; и чего оно не полагает, того нет вовсе (для него
самого; вне же его нет ничего). А все то, что оно полагает, оно полагает как Я; и
оно полагает самое Я как все то, что оно полагает. Следовательно, в этом
отношении Я объемлет в себе всю, то есть бесконечную, безграничную
реальность.
Поскольку Я противополагает себе некоторое Не-Я, оно с
необходимостью полагает пределы (§ 3) и себя само полагает в эти пределы. Оно рас-
408
Основа общего наукоучения
пределяет полноту положенного бытия вообще между Я и Не-Я, и
постольку оно полагает себя, стало быть, с необходимостью как конечное.
Эти два до чрезвычайности различных действия можно выразить при
помощи двух следующих положений. Первое: Я полагает себя прямо как
бесконечное и неограниченное. Второе: Я полагает себя прямо как конечное и
ограниченное. И, таким образом, в существе самого Я> поскольку оно
заявляет о себе через свое первое и свое второе действие, должно содержаться
некоторое высшее противоречие, из которого настоящее вытекает. Как
только оно будет снято, тем самым снимется и то, которое на нем
основывается.
Все противоречия объединяются через ближайшее определение
противоречащих положений; так обстоит дело и в данном случае. В одном
смысле Я должно было бы быть полагаемо как бесконечное, а в другом
смысле как конечное. Если бы оно было положено как бесконечное и
конечное в одном и том же смысле, противоречие было бы неразрешимо, и Я
было бы не одним, а двумя; и нам не оставалось бы иного исхода, кроме
попытки Спинозы поместить Бесконечное вне нас; причем, однако,
оставалось бы совершенно без ответа (Спиноза же в силу своего догматизма не
мог даже задать себе этого вопроса), как это вообще могла возникнуть в нас
даже сама идея о том.
В каком же смысле полагается Я как бесконечное и в каком смысле
как конечное?
И то и другое приписывается ему безусловно; простое действие его
полагания является основанием как его бесконечности, так и его
конечности. Через одно только то, что оно полагает нечто, оно и в том, и в другом
случае полагает себя в это нечто, приписывает себе самому это нечто.
Потому мы должны лишь отыскать некоторое различие в голом действии
этого различного полагания, и задача будет решена.
Поскольку Я полагает себя как бесконечное, его деятельность
(полагания) устремляется к самому Я и не устремляется ни к чему другому,
кроме него. Вся его деятельность целиком направляется на Я, и эта
деятельность есть основание и объем всего бытия. Таким образом, Я бесконечно
постольку, поскольку его деятельность возвращается к себе самой;
постольку бесконечна и его деятельность, так как продукт ее, Я, бесконечен.
(Бесконечный продукт — бесконечная деятельность; бесконечная деятельность
— бесконечный продукт; вот круг, который, однако, отнюдь не ошибочен,
так как это — такой круг, из которого разум не может выйти, ибо в нем
выражается то, что безусловно достоверно через само себя и ради самого себя.
Продукт, деятельность и деятельное начало представляют тут одно и то же
(§ 1), и мы различаем их только для того, чтобы сделать для себя
возможным их выражение.) Бесконечна одна только чистая деятельность Я и одно
409
И. Г. Фихте
только чистое Я. Чистая же деятельность — это такая деятельность,
которая, не имея никакого объекта, возвращается к себе самой.
Поскольку Я полагает пределы и, согласно вышесказанному, себя
самого полагает в эти пределы, его деятельность (полагания) направляется
непосредственно не на себя самое, а на долженствующее быть
противоположным Нв-Я (§2,3). Значит, это уже не чистая деятельность, а
объективная деятельность (которая полагает себе некоторый предмет. Слово
"предмет" превосходно обозначает то, что оно должно обозначать. Каждый
предмет некоторой деятельности, поскольку он — предмет, есть неизбежно
нечто противоположное деятельности, нечто ей пред- или противо-стоя-
щее.Если противодействия нет, то нет и вообще никакого объекта
деятельности и никакой объективной деятельности; но если все же должна быть
тут деятельность, то это — чистая к себе самой возвращающаяся
деятельность. В самом понятии объективной деятельности уже предполагается,
что ей противостоит что-то и что она, таким образом, ограничена).
Следовательно, Я является конечным постольку, поскольку его деятельность
объективна.
Эта деятельность в обоих отношениях — как постольку, поскольку
она возвращается к самому деятелю, так и постольку, поскольку она
должна направляться на некоторый объект вне деятеля, — должна быть
одной и той же деятельностью, деятельностью одного и того же субъекта,
который в обоих отношениях полагает себя как одного и того же субъекта.
Между деятельностями обоего рода необходимо должна существовать
поэтому некоторая объединяющая связь, посредством которой сознание
переходило бы от одной из них к другой; и такой связью является как ра'з
требуемое здесь причинное отношение, а именно, что возвращающаяся к себе
деятельность Я относится к объективной деятельности как причина — к
следствию, что Я через первую деятельность определяет себя самого к
последней деятельности; что, стало быть, первая из них не непосредственно
направляется на само Я, а опосредованно, путем осуществляющегося
через это определение самого Я как чего-то определяющего Не-Я,
направляется на Не-Я, и таким образом была бы осуществлена требуемая здесь
причинность.
Таким образом, прежде всего требуется, чтобы действие Я, которым
оно полагает себя самого (и которое установлено было в первом
основоположении), относилось к тому действию, посредством которого оно
полагает некоторое Не-Я (каковое действие было установлено во втором
основоположении), как причина к ее действию. Однако же в общем невозможно
обнаружить такого отношения; скорее оно было найдено совершенно
противоречивым, так как в таком случае Я должно бы с необходимостью
полагать полаганием самого себя одновременно и Не-Я, следовательно, себя не
410
Основа общего наукоучения
полагать; такое действие само себя уничтожает. Выше было ясно сказано,
что Я безусловно и без каких-либо на то оснований противополагает себе
нечто; и только в силу безусловности этого действия положение, его
устанавливающее, могло получить название основоположения. Но вместе с
тем было отмечено, что хоть что-нибудь в этом действии да обусловлено, —
его продукт, — а именно то, что возникающее благодаря действию проти-
вополагания неизбежно должно быть некоторым Не-Яи ничем иным быть
не может. Мы постараемся теперь глубже проникнуть в смысл этого
замечания.
Я полагает просто некоторый предмет (некоторое противостоящее,
противоположное Не-Я). Значит, в полагании этого предмета как таковом
оно зависит только от себя самого и ни от чего другого извне. Если только
некоторый предмет вообще полагается, а его посредством вообще
полагается ограниченным Я, то таким образом оказывается осуществленным то,
что требовалось; никакой определенной границы при этом не надо иметь в
виду. Я является тут просто ограниченным: но где же проходит его граница?
В пределах пункта С или же за его пределами? И чем вообще может быть
определен такой пункт? Он остается зависимым только от
самопроизвольности Я, которая полагается вышеупомянутым "просто". Пограничный
пункт лежит там, где его полагает в бесконечности Я. Я — конечно, так как
оно должно быть ограничено; но оно бесконечно в этой своей
конечности, так как граница может быть до бесконечности передвигаема все
дальше и дальше. Оно бесконечно в отношении своей конечности и
конечно в отношении своей бесконечности. Поэтому оно не ограничивается
таким абсолютным полаганием некоторого объекта постольку, поскольку
оно ограничивает себя само безусловно и без дальнейших на то оснований;
и так как такое абсолютное ограничение противоречит абсолютной
бесконечной сущности Я, оно само является невозможным; и невозможным
является все противополагание некоторого Не-Я.
Однако же, далее, оно полагает некоторый предмет — где бы в
бесконечности оно его ни полагало при этом, — и тем самым полагает
некоторую вне его лежащую и от его деятельности (полагания) не зависящую, а,
наоборот, ей противоположную деятельность. Эта противоположная
деятельность, разумеется, должна в известном смысле (оставляя пока не
исследованным, в каком это смысле) тоже заключаться в Я, поскольку она
полагается в нем; но в другом смысле (тоже неизвестно еще в каком) она
должна заключаться в предмете. Эта деятельность, поскольку она
заключается в предмете, должна противополагаться какой-либо деятельности ( =Х)
Я; однако же не той деятельности, благодаря которой она полагается в Я,
так как с этой последней она одинакова, следовательно, какой-нибудь
другой деятельности. Стало быть, поскольку должен быть положен некоторый
411
И.Г. Фихте
предмет, — и как условие возможности такого полагания, — вЯс
необходимостью должна происходить еще некоторая от деятельности полагания
отличная деятельность ( =Х). Что же это за деятельность?
Прежде всего, это такая деятельность, которая не снимается через
предмет, так как она должна быть противоположна деятельности
предмета; обе они должны, стало быть, стоять рядом друг с другом как
положенные: таким образом, это — деятельность, бытие которой независимо от
предмета; как и, наоборот, предмет также независим от нее. Такая
деятельность должна, далее, быть основана непосредственно в Я, так как она
независима от полагания какого бы то ни было предмета, и этот, наоборот,
независим от нее; она полагается, стало быть, абсолютным действием Я,
которым оно полагает самого себя. Наконец, если, согласно
вышесказанному, должно быть возможно полагать объект в бесконечность, то и эта
противостоящая ему деятельность Я должна с необходимостью сама
устремляться в бесконечность, идти за пределы всякого возможного объекта и
сама быть бесконечной. Некоторый же объект должен быть положен, и это в
такой же мере несомненно, в какой имеет силу второе основоположение.
Стало быть, X есть полагаемая Я в самом себе бесконечная деятельность; и
она относится к объективной деятельности Я, как основание возможности
относится к обоснованному. Предмет полагается лишь постольку,
поскольку некоторая деятельностьÎ7 испытывает противодействие; без такой
деятельности Я нет и предмета. Она относится к нему как определяющее к
определенному. Лишь постольку, поскольку такая деятельность встречает-
противодействие, может быть положен предмет; и поскольку нет такого
противодействия, нет и никакого предмета.
Рассмотрим теперь эту деятельность со стороны ее отношения к
деятельности предмета. Будучи рассматриваемы сами по себе, обе эти
деятельности взаимно независимы и всецело противоположны друг другу;
между ними нет никакого отношения. Если же, согласно требованию,
должен быть положен некоторый объект, то они необходимо должны быть
поставлены в отношение друг с другом посредством полагающего некоторый
объекта. От этого отношения равным образом зависит и полагание
некоторого объекта вообще; поскольку полагается некоторый объект, они
оказываются поставленными друг с другом в отношение; и поскольку между
ними не устанавливается отношения, не полагается никакого объекта.
Далее, так как объект полагается абсолютно, просто и без всяких оснований
(действия полагания лишь как такового), то и отношение осуществляется
просто и без всяких оснований на то; и только теперь оказывается вполне
уясненным, насколько полагание Не-Я абсолютно: оно абсолютно
постольку, поскольку оно основывается на таком только от одного Я
зависящем отношении. Деятельности эти безусловно соотнесены друг с другом;
412
Основа общего наукоучения
это значит, что они безусловно полагаются как равные. Но так как они не
равны, раз должен быть положен некоторый объект, то можно сказать
лишь одно, а именно, что их равенство безусловно требуется: они должны
быть непосредственно равны между собою. Но так как в действительности
они не равны, то по-прежнему остается вопрос о том, какое же из двух
должно руководствоваться в своем направлении другим и в чем тут должно
быть признано основание равенства. Непосредственно ясно, какой ответ
должен быть дан на этот вопрос. Поскольку положено Я, положена и вся
реальность; в Я должно быть положено все; J7 должно быть совершенно
независимо, но все должно зависеть от него. Таким образом, требуется
согласие объекта с Я; и абсолютное Я требует этого именно в силу своего
абсолютного бытия ,0*.
(Пусть будет дана (в том, что потом полагается как объект)
деятельность Y (причем остается невыясненным, как она дается и какой
способности субъекта). К ней относится некоторая деятельность Я; таким образом,
мыслится некоторая деятельность вне Я (= — У), которая должна быть
равна упомянутой деятельности Я. В чем же тут заключается основание
отнесения? Очевидно, в требовании, чтобы всякая деятельность была равна
деятельности Я\ каковое требование обосновано в абсолютном бытии Я. Y
находится в том мире, в котором всякая деятельность была бы действитель-
но^равна деятельности Я, и есть идеал. Но ведь Уне находится в согласии с
— Y, а противополагается ему. Поэтому она приписывается некоторому
объекту; и без такого отнесения и абсолютного требования, его
обосновывающего, для Я не было бы никакого объекта, но оно было бы всем во всем
и по тому самому, как мы это увидим ниже, было бы ничем.)
Таким образом, абсолютное Я относит себя само непосредственно к
некоторому Не-Я (вышеупомянутое — У), которое, по-видимому, хоть и
должно быть Не-Я со стороны своей формы (поскольку оно есть вообще
|0* Категорический императив Канта53. Если где-нибудь становится ясно,
что Кант, только молчаливо, полагал в основание своего критического
метода как раз те самые предпосылки, которые устанавливает наукоучение,
так это именно здесь. Как мог бы он прийти к установлению некоего
категорического императива как абсолютного постулата согласования с чистым Я,
не исходя при этом из предпосылки некоторого абсолютного бытия Я, через
которое полагалось бы все, — или, если это не так, то по меньшей мере
должно было бы быть положенным. Большинство последователей Канта,
говоря о категорическом императиве, по-видимому, только повторяют слова
этого великого человека и еще не дошли до ясного сознания основания
правомерности некоторого абсолютного постулата. Только потому, что Я само
является абсолютным и лишь постольку, поскольку оно абсолютно,
обладает оно правом абсолютно постулировать; и такое право распространяется
при этом не дальше, как на постулат этого его абсолютного бытия, из
которого, конечно, можно было бы дедуцировать еще и многое другое.
Философия, ссылающаяся во всех тех случаях, где она не в состоянии идти дальше,
на факт сознания, едва ли много основательнее обесславленной
популярной философии.
413
И. Г. Фихте
нечто вне Я), но не должно быть Не-Я со стороны своего содержания, ибо
оно должно всецело согласоваться с Я. Но оно не может согласоваться с Я,
поскольку оно должно быть Не-Я хотя бы только со стороны формы,
следовательно, упомянутая отнесенная к этому последнему деятельность Я
отнюдь не является каким-нибудь определением (к действительному
равенству), а только некоторой тенденцией, некоторым стремлением к
определенности, — стремлением, которое тем не менее вполне правомерно; ибо
оно полагается через абсолютное полагание Я.
Результат наших предыдущих исследований, значит, таков: чистая, к
себе самой возвращающаяся деятельность Я является в отношении к
некоторому возможному объекту некоторого рода стремлением, а именно,
согласно вышеприведенному доказательству, бесконечным стремлением. Это
бесконечное стремление является до бесконечности условием возможности
всякого объекта: без стремления нет объекта.
Посмотрим теперь, насколько удовлетворяют эти из других
основоположений доказанные результаты той задаче, которую мы поставили
себе., и в какой мере оказывается разрешенным установленное
противоречие. Я, которое, будучи рассматриваемо вообще как интеллигенция,
зависит от некоторого Не-Я, лишь постольку является интеллигенцией,
поскольку в наличности имеется некоторое Не-Я, должно все же зависеть
только от одного Я: и для того, чтобы признать это возможным, мы
принуждены были, в свою очередь, принять некоторую причинность Я для
определения Не-Я, поскольку это последнее должно быть объектом интелли-,
гентного Я. На первый взгляд и беря слово во всем его объеме, такая
причинность уничтожала себя самое; в случае ее предположения
неположенным оказалось бы либо Я, либо Не-Я, и, следовательно, между ними не
могло установиться никакого причинного соотношения. Мы постарались
разрешить такое противоречие при помощи различения двух
противоположных деятельностей Я, — чистой и объективной, — и предположения,
что, может быть, первая из них относится непосредственно ко второй как
причина к своему действию, вторая же относится непосредственно к
объекту как причина к своему действию, и что, таким образом, чистая
деятельность Я по меньшей мере опосредованно (через промежуточное звено
объективной деятельности) находится с объектом в причинном
отношении. В какой же мере подтверждается такое предположение и в какой нет?
Во-первых, в какой мере чистая деятельность Я оказывается
причиною объективной деятельности? Прежде всего, поскольку никакой объект
не может быть положен, если нет в наличности некоторой деятельности Я,
которой деятельность объекта была бы противоположна, и эта
деятельность необходимо должна быть в субъекте до всякого объекта просто и
исключительно благодаря самому субъекту, следовательно, является чистой
414
Основа общего наукоучения
его деятельностью, постольку чистая деятельность Я как таковая является
условием всякой деятельности, полагающей некоторый объект. Поскольку
же эта чистая деятельность первоначально не относится ни к какому
объекту и от него так же совершенно независима, как и он от нее,
постольку она должна быть отнесена посредством некоторого тоже абсолютного
действия Я к деятельности объекта (который постольку еще не положен
как объект) • '* и должна быть с нею сравнена. Хотя такое действие и
является как таковое со стороны его формы (в том отношении, что оно
действительно совершается) абсолютным (на его абсолютном бытии основывается
абсолютная самопроизвольность рефлексии в теоретической и
абсолютная самопроизвольность воли в практической области, как мы увидим это
в свое время), все же со стороны своего содержания (в том смысле, что оно
есть некоторое отнесение и требует равенства и подчинения того, что
потом будет положено как объект) оно является опять-таки обусловленным
абсолютною положенностью Я как полнотою всякой реальности: и чистая
деятельность является в этом отношении условием акта отнесения, без
которого невозможно никакое полагание объекта. Поскольку чистая
деятельность относится только что указанным действием к некоторому
(возможному) объекту, она является, как сказано, некоторого рода
стремлением. Основание того, что чистая деятельность вообще полагается в
отнесении своем к объекту, не заключается в самой чистой деятельности;
основание же того, что если она так полагается, то полагается как некоторое
стремление, заключается в ней.
(Вышеупомянутое требование, чтобы все согласовалось с Я, чтобы
вся реальность была полагаема безусловно через Я, есть требование того,
что называют — и с правом на то — практическим разумом. Такая
практическая способность разума была до сих пор только постулирована, но не
была еще доказана. Поэтому требование доказать, что разум практичен,
которое время от времени обращали к философам, чрезвычайно справед-
м* Утверждение, что чистая деятельность сама по себе и как таковая
относится к некоторому объекту и что для этого нет надобности ни в каком
особом абсолютном действии отнесения, было бы трансцендентальным
основоположением интеллигибельного фатализма*, — самой последовательной
системой о свободе, какая была возможна до обоснования наукоучения; и,
безусловно, из такого основоположения можно было бы по праву сделать по
отношению к конечным существам тот вывод, что постольку, поскольку не
может быть положена чистая деятельность, не может быть положена и
внешняя деятельность, и что конечное существо, будучи совершенно
конечным, полагается, как то само собою понятно, не само собою, а
посредством чего-то вне его. По отношению к Божеству, то есть к такому существу,
чистой деятельностью которого непосредственно полагалась бы также и его
объективная деятельность, система интеллигибельного фатализма имела
бы силу, если бы только подобное понятие не было для нас вообще
запредельно.
415
И. Г. Фихте
ливо. Такое доказательство непременно должно быть осуществлено
удовлетворительным образом для самого теоретического разума, и от этого
последнего никоим образом не дозволительно отделываться одним
властным предписанием. Это же возможно лишь в том случае, если будет
показано, что сам разум не может быть теоретическим, не будучи
практическим: в человеке невозможна никакая интеллигенция, если в нем нет
некоторой практической способности; возможность всякого представления
основывается на этой последней способности. Но так ведь оно и есть, ибо,
как только что было показано, без стремления вообще невозможен
никакой объект.)
Нам предстоит разрешить еще одну трудность, которая грозит
опрокинуть всю нашу теорию. А именно, требуемое отнесение тенденции
чистой деятельности к деятельности последующего объекта, — каковое
отнесение совершается либо непосредственно, либо же посредством
некоторого идеала, начертанного согласно идее такой чистой деятельности, —
невозможно, если только деятельность объекта не будет уже каким-либо
образом дана совершающему отнесение Я. Если же мы делаем эту
деятельность данной ему тем же самым способом — через отнесение ее к
некоторой тенденции чистой деятельности Я, — то наше объяснение вращается в
кругу, и мы не получаем никакого первого основания отнесения вообще.
Но такое первое основание непременно должно быть указано; само собою
разумеется, — только в идее, так как оно должно ведь быть первым
основанием. '
Абсолютное Я безусловно равно самому себе: все в нем есть одно и то
же Я и принадлежит (если только дозволительно употребить
столь-неточное выражение) одному и тому же Я; тут нечего различать, тут нет ничего
множественного; Я есть всё и вместе с тем ничто, так как оно является для
себя самого ничем, не в состоянии различать в себе никакого полагающего
начала и ничего положенного. Оно стремится (что тоже говорится не
вполне точно, имея в виду некоторое будущее отнесение) в силу своего
существа утвердиться в этом состоянии. В нем обнаруживается некоторое
неравенство, а потому и нечто чужеродное. (Того, что это случится, вовсе
нельзя доказать a priori, каждый может показать себе это только в своем
собственном опыте. И далее, об этом чужеродном мы пока не можем
сказать ничего более, кроме того, что его нельзя вывести из внутренней
сущности Я, так как в противном случае оно вообще было бы чем-то
неразличимым.)
Это чужеродное неизбежно находится в борьбе со стремлением Я
быть совершенно тождественным; и если мы помыслим себе какое-нибудь
интеллигентное существо за пределами Я, которое наблюдало бы это Я в
таких его двух различных состояниях, то для этого существа Я будет пред-
416
Основа общего наукоучения
ставляться ограниченным, сила его как бы оттесненной, как мы это
допускаем, например, в телесном мире.
Однако же не какое-либо существо вне Я, а само Я должно быть тою
интеллигенцией, которая полагает такое ограничение; и мы принуждены,
таким образом, сделать еще несколько шагов дальше для того, чтобы
разрешить указанную трудность. Если Я равно себе самому, если оно
стремится с необходимостью к полному тождеству с самим собою, то оно
непременно должно восстановить в точности это не самим собою нарушенное
стремление; а таким образом ведь сделалось бы возможным сравнение
между состоянием ограничения Я и восстановлением задержанного
стремления, стало быть, некоторое прямое отнесение самого себя к самому себе
без всякого содействия объекта, если бы только можно было указать какое-
нибудь основание отношения между обоими состояниями.
Предположите, что стремящаяся деятельность Я проходит от А до С
без толчка; в таком случае вплоть до С нет ничего подлежащего
различению, так как тут не могут быть различаемы Я и Не-Я\ и вплоть до этого
пункта не имеется ничего такого, что Я могло бы когда-нибудь осознать. В С
эта деятельность, содержащая в себе первое основание всякого сознания,
но никогда до сознания не доходящая, задерживается. Но в силу своего
в1гутреннего существа она не может быть задержана; она продолжает
поэтому действовать далее за пределы С, но только уже как такая деятельность,
которая тормозится извне и, стало быть, сохраняется одною только своею
внутренней силой; и так до той точки, в которой уже нет более
сопротивления, например, до точки D [а) За пределами D она может быть так же мало
предметом сознания, как и между А и С, и в силу того же самого основания,
в) Здесь отнюдь не говорится, что Я само полагает свою деятельность как
деятельность задержанную и только через саму себя сохраняющуюся; здесь
говорится лишь, что какая-нибудь интеллигенция за пределами Я была бы
в состоянии положить ее как таковую.]
Для большей ясности будем держаться границ только что сделанного
предположения. Некоторая интеллигенция, долженствующая правильно и
соответственно существу дела полагать то, что здесь требуется, — а ведь
такой интеллигенцией являемся как раз мы сами в нашей настоящей
научной рефлексии, — должна бы с необходимостью полагать такую
деятельность, как деятельность некоторого Яу — некоторого само себя
полагающего существа, которому присуще только то, что оно в себе полагает. Стало
быть, Я должно бы непременно полагать в себе самом и задержку своей
деятельности, и ее восстановление, раз только задержанной и
восстановленной должна быть именно деятельность Я. Но она может быть
полагаема как восстановленная лишь постольку, поскольку она полагается как
задержанная, и как задержанная она может быть полагаема лишь постольку, по-
14-645
417
И. Г. Фихте
скольку она полагается как восстановленная; ибо, согласно
вышесказанному, эти моменты находятся в отношении взаимоопределения.
Следовательно, подлежащие объединению состояния оказываются уже сами по
себе синтетически соединенными; вне соединения они вообще не могут быть
положены. А то, что они вообще положены, содержится уже в понятии Я и
постулируется одновременно с этим понятием. Таким образом, нужно
было бы только положить в Я и силою Я задержанную деятельность, которая
все же непременно должна быть положена и, стало быть, восстановлена.
Всякое полагание Я исходило бы, таким образом, из полагания
некоторого чисто субъективного состояния; всякий синтез исходил бы из
некоторого в себе самом необходимого синтеза противоположностей в одном
только субъекте. Это единственно и только субъективное окажется, как мы
увидим то ниже, чувством.
Но в качестве основания этого чувства п* полагается далее некоторая
деятельность объекта; эта деятельность, таким образом, становится
данностью для производящего отнесения субъекта, конечно, как то и было нами
потребовано выше, через посредство чувства; и тогда требуемое отнесение
к некоторой деятельности чистого Я является возможным.
Все это — в целях разрешения обнаруженной трудности. Теперь
возвратимся к той точке, от которой мы отправились. Без бесконечного
стремления Я нет никакого конечного объекта в Я, — таков был результат
нашего исследования; и этим как будто снимается противоречие между
конечным,-обусловленным Я как интеллигенцией, и бесконечным и
безусловными. Если же мы присмотримся поближе к сущности дела, то увидим,
что противоречие это хоть и удалено теперь от той точки, где мы на него
натолкнулись, — между интеллигентным и не-интеллигентнымЯ, — но
вообще оно только передвинуто дальше и вводит в спор более высокие
основоположения.
А именно: нашей задачей было разрешить противоречие между
некоторой бесконечнойл некоторой конечной деятельностями одного и того
же Я; и мы разрешили его, показав, что бесконечная деятельность совсем не
является объективной, а лишь возвращающейся к себе самой, конечная же
деятельность—объективна. Теперь же бесконечная деятельность сама
оказывается, как некоторого рода стремление, отнесенной к объекту,
следовательно, постольку объективной деятельностью; и так как эта деятельность
все же должна оставаться бесконечной, но, вместе с тем, рядом с ней
должна сохраняться также и первая конечная объективная деятельность,
то мы имеем, значит, перед собою некоторую бесконечную объективную
деятельность и некоторую конечную объективную деятельность одного и
г* Условия возможности (заметка на полях).
418
Основа общего наукоучения
того же Я, каковое допущение опять-таки противоречит самому себе. Это
противоречие можно разрешить только тем, что будет показано, что
бесконечная деятельность Я объективна совсем в ином смысле, чем его
конечная деятельность.
Без сомнения, каждому тут первым же делом приходит в голову
предположение, что конечная объективная деятельность Я направляется
на некоторый действительный объект, бесконечное же его стремление
направляется на некоторый только воображаемый объект. И такое
предположение найдет, конечно, себе подтверждение. Но так как благодаря этому
ответ на вопрос вращается в порочном круге и оказывается заранее
предположенным такое различие, которое возможно лишь через различение
обеих этих деятельностей, то мы должны несколько больше углубиться в
рассмотрение этой трудности.
Всякий объект является непременно определенным, раз только он
должен быть объектом; ибо, поскольку он есть объект, он определяет само
Я, и его определение этого последнего само является определенным (имеет
свою границу). Всякая объективная деятельность является — поэтому
поскольку она — объективная деятельность — определяющей и постольку
тоже определенной, а потому также и конечной. Следовательно, и само
упомянутое выше бесконечное стремление может быть бесконечно только в
некотором определенном смысле; в некотором же другом определенном
смысле оно неизбежно должно быть конечно.
Но вот ту противополагается некоторая объективная конечная
деятельность; .она должна, значит, быть конечной в том самом смысле, в
котором стремление является бесконечным; стремление же является
бесконечным постольку, поскольку эта объективная деятельность конечна.
Стремление имеет, разумеется, некоторый конец; оно не имеет только
именно тот конец, который имеет объективная деятельность. Вопрос лишь
в том, что же это за конец.
Конечная объективная деятельность уже предполагает в целях своего
определения некоторую противоположную бесконечной деятельности Я
деятельность того, что затем определяется как объект. Она является, хоть и
не постольку, поскольку она вообще действует, так как поскольку она,
согласно вышеуказанному, абсолютна, а постольку, поскольку она полагает
определенную границу объекта (то, что он именно в такой-то и такой-то
мере противостоит Я, а не более и не менее того), зависимой,
ограниченной и конечной. Основание ее определения, а следовательно, и ее
определенности лежит за ее пределами. Объект, определенный этою постольку
ограниченной деятельностью, есть действительный объект.
В этом смысле стремление не конечно; оно идет за пределы такого
объектом предписанного определения границ и, согласно вышеизложен-
14*
419
И. Г. Фихте
ному, должно непременно идти за его пределы, если только подобное
определение границ должно иметь место. Оно определяет не
действительный мир, зависящий от некоторой деятельности Не-Яу находящейся во
взаимодействии с деятельностью Я, а такой мир, какой существовал бы,
если бы вся реальность полагалась бы одним только Я, следовательно,
некоторый идеальный мир, полагаемый исключительно только Я и не
полагаемый никаким Не-Я.
Но в какой же мере стремление является также и конечным?
Постольку, поскольку оно вообще направляется на некоторый объект и
должно с необходимостью полагать этому объекту границы, если только он
должен быть таким объектом. Не действие определения (Bestimmens)
вообще, а граница данного определения (Bestimmung) зависела у
действительного объекта от Не-Я\ у идеального же объекта и действие
определения, и граница одинаково зависят только от одного Я\ это последнее не
обусловливается никаким иным условием, кроме того, что оно вообще
должно с необходимостью полагать границы, которые оно может
распространять до бесконечности, так как такое распространение зависит только
от него одного.
Идеал является абсолютным продуктом Я; его можно до
бесконечности подымать все выше и выше; но он в каждый определенный момент
имеет свою границу, которая в следующий определенный момент ни в
коем случае не должна оставаться той же самой. Неопределенное стремление
вообще,— которое постольку, конечно, не должно бы называться
стремлением, так как оно лишено какого бы то ни было объекта, но для которого
мы не имеем никакого подходящего названия, да и не можем иметь, —
которое находится за пределами всякой определимости, — бесконечно; но
как таковое оно не доходит до сознания и не может дойти до него, так как
сознание возможно только благодаря рефлексии, рефлексия же возможна
только благодаря определению. Но как только на него направляется
рефлексия, оно становится неизбежным образом конечным. Поскольку дух
осознает, что оно конечно, он его снова расширяет; но как только он задает
себе вопрос о том, бесконечно ли оно, оно именно в силу этого вопроса
становится конечным; и так до бесконечности.
Стало быть, сополагание бесконечного и объективного само является
некоторого рода противоречием. То, что направляется на некоторый
объект, конечно; и то, что конечно, направляется на некоторый объект.
Это противоречие не может быть снято иначе, нежели тем, что объект
вообще отпадет; объект же отпадает единственно лишь в завершенной
бесконечности. Я может распространять объект своего стремления до
бесконечности; если бы в один определенный момент объект этот был бы
распространен до бесконечности, то это не был бы уже более объект, и идея
420
Основа общего наукоучения
бесконечности была бы осуществлена, что, в свою очередь, является
противоречием.
Тем не менее идея такой подлежащей завершению бесконечности
преподносится нам и содержится в глубине нашего существа. Мы обязаны,
в силу того требования, которое оно обращает к нам, разрешить
противоречие, хотя бы мы не могли мыслить себе его решение как возможное, и
предвидели, что мы ни в один момент нашего до какой угодно вечности
продленного существования не сможем мыслить его как возможное. Но
ведь именно это и является признаком нашего назначения к вечности.
И вот, таким образом, сущность Я оказывается определенной,
насколько она может быть определена, а противоречия в нем —
разрешенными, поскольку они могут быть разрешены. Я — бесконечно, но только по
своему стремлению; оно стремится быть бесконечным. Но в понятии
самого стремления содержится уже конечность, так как то, чему не
оказывается сопротивления, не является стремлением. Если бы Я было более чем
стремящимся, если бы оно обладало бесконечной причинностью, то оно
не было бы Я, оно не полагало бы себя само и потому было бы ничем.
Если бы оно не обладало этим бесконечным стремлением, то оно опять-таки
не могло бы полагать себя само, так как оно не могло бы ничего себе
противополагать; оно не было бы потому также и Я и, следовательно, было бы
ничем.
Мы изложим все выведенное до сих пор еще несколько другим
способом, дабы сделать совершенно ясным понятие стремления, чрезвычайно
важное для практической части наукоучения.
Согласно предыдущему рассмотрению, существует некоторое
стремление Я, которое лишь постольку является стремлением, поскольку
ему оказывается некоторое сопротивление и поскольку оно не может
иметь никакой причинности, стало быть, такое стремление, которое,
поскольку оно является стремлением, обусловливается также и некоторым
Не-Я.
Поскольку оно не имеет никакой причинности, сказал я только что,
следовательно, такая причинность требуется. Что подобное требование
абсолютной причинности необходимо должно первоначально заключаться в
Я, было показано на противоречии между Я как интеллигенцией и Я как
абсолютным существом, — противоречии, которое неразрешимо без него.
Поэтому доказательство велось апагогически55; было показано, что мы
должны отказаться от Я, если мы не пожелаем принять требование
некоторой абсолютной причинности.
Это требование должно допускать также и прямое и генетическое
доказательство; оно должно устанавливать свою достоверность не одной
только ссылкой на высшие начала, которым без него пришлось бы проти-
421
И. Г. Фихте
воречить, но его должно быть возможно в собственном смысле слова
вывести из этих высших начал, так чтобы стало понятно, как возникает в
человеческом духе подобное требование. Должно быть возможно обнаружить
наличность не только одного стремления к некоторой (некоторым
определенным Не-Я) определенной причинности, а и некоторого стремления к
причинности вообще, которое обосновывало бы собою первое. Некоторая
идущая за пределы объекта деятельность является стремлением именно
потому, что она идет за пределы объекта, но вместе с тем и при том только
условии, что некоторый объект уже имеется в наличности. Должно быть
возможно указать некоторое основание для выхождения Я за пределы
самого себя благодаря которому только и становится впервые возможным
некоторый объект. Это выхождение за пределы, предшествующее всякой
противодействующей деятельности и обосновывающее ее возможность со
стороны Я, должно быть обосновано единственно и только в Я; и только
через его посредство получаем мы действительную точку обьединения между
абсолютным, практическим и интеллигентным Я.
Постараемся сделать еще яснее, в чем тут, собственно, дело.
Совершенно ясно, что Я, поскольку оно безусловно себя полагает, поскольку оно
существует таким, каким себя полагает, и полагает себя таким, каково оно
есть, непременно должно быть равно самому себе, и что постольку в нем не
может иметь места ничего различного; отсюда же, конечно,
непосредственно вытекает, что если в нем должно иметь место нечто различное, то
такое различное с необходимостью должно быть полагаемо через
некоторое Не-Я. Но ежели Не-Я вообще должно полагать нечто в Я, то в таком
случае условие возможности подобного чуждого влияния должно необходимо
быть обосновано в самом Я, в абсолютном Я, до всякого действительного
постороннего воздействия; Я должно непременно первоначально и
безусловно полагать в себе возможность того, что на него будет воздействовать
нечто; помимо своего абсолютного полагания через себя само, оно должно
быть как бы открытоАеще и для некоторого другого полагания.
Соответственно с этим, в самом Я уже первоначально должна бы содержаться
некоторая различность, если только в нем должно когда-нибудь вообще
обнаружиться какое-либо различие; и при этом такая различность должна бы
быть обоснована в самом Я как таковом. Кажущееся противоречие этого
предположения разрешится само собою в свое время, и таким образом
рассеется его немыслимость.
Я должно в самом себе натолкнуться на нечто ему неоднородное,
чуждое, что должно быть отличаемо от него самого: отсюда и будет всего
удобнее исходить нашему исследованию.
Однако же это чужеродное должно быть обретено в Я и непременно
должно быть там обретено. Если бы оно оказалось за пределами Я, оно было
422
Основа общего наукоучения
бы для Я ничем, и из него ничего бы не могло последовать для Я.
Следовательно, оно должно быть непременно в каком-то определенном
отношении также и однородно Я; должно быть возможно приписать его Я.
Сущность Я состоит в его деятельности; поэтому, ежели и должно
быть возможно приписать Я подобное чужеродное, оно непременно
должно быть вообще некоторой деятельностью Я, которая как таковая не
может быть чуждою Я и только простое направление которой, быть может,
чуждо Я, основывается не в Я, а вне его. Если деятельность Я, согласно
неоднократно делавшемуся предположению, устремляется в
бесконечность, а затем в некоторой точке испытывает толчок, но не уничтожается
этим, а лишь обращается благодаря этому в себя самое, то в таком случае
деятельность Я и есть и остается, поскольку она такова, всегда
по-прежнему деятельностью Я; только то, что она обращается назад, чуждо Я и
противоречит ему. Без ответа тут остаются только такие трудные вопросы, с
ответом на которые мы проникаем одновременно также и в самую глубь
существа Я: как приходит Я к такому направлению своей деятельности вовне до
бесконечности? как может оно различать между собою направление вовне
и направление вовнутрь? и почему отраженное вовнутрь направление
рассматривается как чуждое и ъЯ не обоснованное?
Я полагает себя самого безусловно, и поскольку его деятельность
возвращается к себе самой. Направление ее является, — если только
позволительно предположить нечто еще не выведенное только для того, чтобы
дать себя понять, и если, далее, позволительно позаимствовать из учения о
природе выражение, которое входит в него впервые с настоящей
трансцендентальной точки, как то станет ясно в свое время, — направление ее,
говорю я, является только центростремительным. (Одна точка не определяет
собою линии; для того, чтобы была возможна линия, необходима
наличность непременно двух точек, хотя бы при этом вторая точка лежала в
бесконечности и означала только направление. Точно так же и в силу того же
самого основания нет никакого направления, еслювгналичности нет двух
направлений, и притом двух противоположных направлений. Понятие
направления есть понятие простой взаимосмены; одного только направления
совсем не существует, и оно просто немыслимо. Поэтому мы можем
приписать абсолютной деятельности Я некоторое направление, — некоторое
центростремительное направление, — лишь при том молчаливом
предположении, что мы откроем также еще другое центробежное направление
этой деятельности. Строго говоря, в настоящем способе представления
образом Я является математическая, себя самое через саму себя построяю-
щая точка, в которой нельзя различить никакого направления, да и вообще
ничего нельзя различить; она целиком есть там, где она есть, и содержание
ее и граница (содержание и форма) суть одно и то же.) Если в существе Я
423
И.Г. Фихте
нет ничего, кроме этой конститутивной деятельности, то оно таково же,
каким для нас является любое тело. И телу мы приписываем тоже
некоторую внутреннюю через одно его бытие положенную силу (согласно
положению А=А)\ но если только мы философствуем трансцендентально, а не
трансцендентно, мы признаем, что это нами самими полагается, что сила
эта полагается (для нас) через одно только бытие тела, а не так, чтобы
посредством самого тела и для него полагалось, что сила эта полагается. И
потому тело для нас безжизненно и бездушно и не является Я. Я должно не
только полагать себя само для некоторой интеллигенции вне его, но
должно полагать себя для себя самого; оно должно полагать себя как
положенное через себя самого. Следовательно, поскольку оно есть Я, оно
должно только в себе самом содержать принцип жизни и сознания. Поэтому,
поскольку оно есть Я, оно должно с необходимостью, безусловно и без
всякого на то основания содержать в себе самом принцип рефлексии над
самим собою; и, таким образом, мы имеем перед собою первоначально Я в
двух отношениях; отчасти постольку, поскольку оно является
рефлектирующим и поскольку направление его деятельности является
центростремительным; отчасти же постольку, поскольку оно представляет собою то,
на что направляется рефлексия, и постольку направление его деятельности
является центробежным и притом центробежным в бесконечность. Я
полагается как реальность; когда возникает рефлексия о том, обладает ли оно
реальностью, оно необходимо полагается как нечто, как некоторое
количество; но оно полагается как всякая реальность, следовательно, оно
необходимо полагается как некоторое бесконечное количество, как некоторое
количество, заполняющее собою бесконечность,
Стало быть, центростремительное и центробежное направление
деятельности — оба одинаковым образом являются обоснованными в
существе Я; оба они суть одно и то же и различаются лишь постольку, поскольку
над ними рефлектируют как над различными. (Всякая
центростремительная сила в телесном мире есть простой продукт силы воображения Я,
получающийся согласно некоторому закону разума, принуждающему вносить
во множественность единство, как то станет ясно в свое время.)
Но та рефлексия, благодаря которой оба направления могут быть
различены, невозможна, если сюда не привзойдет еще нечто третье, к чему
бы они могли быть отнесены или же что могло бы быть отнесено к ним.
При нашем предположении то требование, чтоб в Я была вся реальность (а
мы постоянно принуждены предполагать нечто такое, что еще не является
доказанным, хотя бы только для того, чтобы быть в состоянии выразить
себя; ибо, строго говоря, до сих пор не было возможно еще никакое
требование, как противоположность действительно совершающегося), оказывается
выполненным; оба направления деятельности Я, центростремительное и
424
Основа общего наукоучения
центробежное, совпадают друг с другом и являют собою только одно и то
же направление. (Предположите в пояснение к этому, что должно быть
объяснено самосознание Божие; это возможно не иначе, как в том
предположении, что Бог рефлектирует над своим собственным бытием. Но так
как в Боге рефлектированное было бы всем в одном и одним во всем и точно
так же рефлектирующее было бы всем в одном и одним во всем, то в Боге и
через его посредство нельзя было бы различить друг от друга рефлектиро-
ванного и рефлектирующего, самого сознания и его предмета, и
самосознание Бога оставалось бы, таким образом, необъясненным, как оно ведь и
останется навеки необъяснимым и непонятным для всякого конечного
разума, то есть для всякого разума, связанного законом определения того, над
чем происходит рефлексия.) Таким образом, из того, что было
предположено выше, нельзя вывести никакого сознания; так как оба принятых
направления, оказывается, никак нельзя отличить друг от друга.
Но устремляющаяся в бесконечность деятельность Я должна в
какой-то точке испытать толчок и быть обращенной вспять к себе самой; и Я,
значит, не должно заполнять собою бесконечности. Того, что это так
случается, как факта, нельзя без дальнейших околичностей вывести из Я, как
то уже неоднократно упоминалось; но, разумеется, можно показать, что
это должно неизбежно случиться, если только должно быть возможно
некоторое действительное сознание.
Высказанное требование рефлектирующего в настоящей функции
Я, чтобы рефлектированное им Я заполняло собою бесконечность,
сохраняется и не ограничивается упомянутым только что толчком. Вопрос о
том, заполняет ли оно бесконечность, и результат, состоящий в том, что
оно ее на самом деле не заполняет, но является ограниченным в С,
сохраняется; и только теперь оказывается возможным требуемое различение
двух направлений.
А именно, согласно требованию абсолютного Я, его деятельность
(постольку центробежная) должна бы устремляться в бесконечность; но
она отражается в С и становится, следовательно, центростремительной; и
теперь различение оказывается возможным через отнесение к тому
первоначальному требованию некоторой в бесконечность устремляющейся
центробежной деятельности (то, что должно быть различаемо, должно с
необходимостью быть отнесено к чему-то третьему); ибо при этом в рефлексии
оказывается наличным некоторое такому требованию отвечающее
центробежное и некоторое этому последнему противодействующее (второе,
толчком отраженное) центростремительное направления.
Вместе с тем отсюда становится ясно, почему это второе
направление рассматривается как нечто чужеродное и выводится из некоторого
принципа, противоположного принципу Я.
425
И. Г. Фихте
И, таким образом, поставленная только что задача оказывается
решенной. Первоначальное стремление к причинности вообще в Я
оказывается генетически выведенным из закона Я, состоящего в рефлектировании
над самим собою и в требовании, чтобы оно было найдено в этой
рефлексии, как вся реальность; и то и другое — постольку, поскольку оно должно
быть некоторым Я. Такая необходимая рефлексия Я над самим собою
является основанием всякого выхождения за пределы себя самого, а
требование, чтобы оно заполняло собою бесконечность, является основанием
стремления к причинности вообще; и оба эти момента обосновываются
только в абсолютном бытии Я.
Тем самым, как и требовалось, основание возможности некоторого
влияния Не-Я на Я найдено в самом Я. Я полагает себя само безусловно и
через то является в себе самом совершенным и закрытым для всякого
внешнего воздействия. Но оно должно также с необходимостью, если
только оно долженствует быть некоторым Я, полагать себя как положенное
самим собою; и через это новое полагание, относящееся к некоторому
первоначальному полаганию, оно открывается, так сказать, воздействию
извне; через одно это повторение полагания оно полагает возможность того,
чтобы в нем было также и нечто такое, что полагалось бы не через него
самого.
И то и другое полагание составляет условие воздействия Не-Я\ без
полагания первого рода не было бы никакой деятельности Я, которая
могла бы быть ограничена; без полагания второго рода эта деятельность не бы-.
ла бы ограничена для Я, Я не могло бы полагать себя как ограниченное.
Таким образом Я как Я находится в первоначальном взаимодействии с самим
собою, и только благодаря этому становится возможным влияние на него
извне.
Таким образом, мы находим наконец также и искомую точку
объединения между абсолютной, практической и интеллигентной
сущностями Я. Я требует от себя охвата всей реальности, заполнения бесконечности.
В основу этого требования с необходимостью полагается идея просто
положенного, бесконечного Я; это и есть то абсолютное Я, о котором мы
говорили. (Только здесь становится вполне ясным смысл положения: Я
полагает себя само безусловно.) Тут и речи нет о данном в действительном
сознании Я; ибо такое Я никогда не является безусловно положенным, но его
состояние постоянно обосновывается либо непосредственно, либо
опосредованно чем-либо вне Я находящимся; тут речь идет об идее Я, которая
должна с необходимостью лежать в основе его практического
бесконечного требования, но которая для нашего сознания является недостижимой и
потому никогда не может непосредственно в нем присутствовать, но зато
может входить в него опосредованно — в философской рефлексии.
426
Основа общего наукоучения
Я должно с необходимостью — и это тоже содержится в его
понятии — рефлектировать над собою относительно того, действительно ли
оно охватывает в себе всю реальность. Оно полагает в основу этой
рефлексии только что упомянутую идею и, таким образом, устремляется с нею в
бесконечность, и постольку оно практично', в этом акте оно не абсолютно,
так как, благодаря тенденции к рефлексии, оно как раз выходит за свои
пределы; а равным образом и не теоретично, так как в основании его
рефлексии лежит не что иное, как такая из самого Я происходящая идея,
причем тут совершенно отвлекаются от возможного толчка, и, стало быть, нет
в наличности никакой действительной рефлексии. Благодаря этому
возникает ряд того, что долженствует быть и что дается через одно только Я;
стало быть, ряд идеального.
Если рефлексия обращается на этот толчок и если Я рассматривает
поэтому свое выхождение за свои пределы как ограниченное, то в силу
этого возникает совсем другой ряд, — ряд действительного, который
определяется еще и чем-то другим, помимо Я как такового. И постольку Я
является теоретическим, или же интеллигенцией.
Если в Я нет никакой практической способности, то невозможна и
никакая интеллигенция; если деятельность Я доходит только до точки
толчка и не простирается за пределы всякого возможного толчка, то в Я и
для Я нет ничего препятствующего, никакого Не-Я, как то было уже
неоднократно показано. В свою очередь, если Я не есть интеллигенция, то
невозможно никакое сознание его практической способности и вообще
никакое самосознание, так как различение различных направлений
становится возможным лишь благодаря чужеродному, посредством толчка
возникающему направлению, как то только что было показано. (От того же,
что практическая способность должна с необходимостью сначала пройти
через интеллигенцию, принять сперва форму представления, для того
чтобы быть осознанной, мы здесь пока еще отвлекаемся.)
И вот, таким образом, вся сущность конечных-разумных природ
оказывается постигнутой и исчерпанной. Первоначальная идея нашего
абсолютного бытия: стремление к рефлексии над нами самими согласно этой
идее; ограничение не этого стремления, а нашего действительного
существования ,3*, через это ограничение впервые полагаемого, ограничение
,3* В последовательном стоицизме бесконечная идея Я принимается за
действительное Я\ абсолютное бытие и действительное существование там не
различаются. Поэтому стоический мудрец всем доволен и ничем не
ограничен: ему приписываются все те предикаты, которые присущи чистому Я,
или же Богу. Согласно стоической морали, мы не то что должны быть равны
Богу, а мы сами боги. Наукоучение тщательно различает абсолютное бытие
и действительное существование и полагает первое из них в основание
только для того, чтобы можно было объяснить второе. Стоицизм опровергается
427
И.Г. Фихте
его посредством некоторого противоположного принципа, некоторого
Не-Я, или же вообще посредством нашей конечности: самосознание и в
особенности сознание нашего практического стремления; определение
наших представлений (без свободы и со свободою), а через них и наших
действий, — направления нашей действительной чувственной
способности; непрерывное распространение наших пределов в бесконечность.
Сюда относится еще одно важное замечание, которого одного могло
бы быть достаточно, чтобы поставить наукоучение на его истинную точку
зрения и сделать совершенно ясным его подлинное учение. Согласно
только что сделанному разъяснению, принцип жизни и сознания, основание
его возможности хоть и содержится, конечно, в Я, но отсюда еще не
возникает никакой действительной жизни, никакой эмпирической жизни во
времени; никакой же иной принцип для нас совершенно немыслим. Если
такая действительная жизнь должна быть возможна, то для этого нужен
еще некоторый особый толчок, оказанный на Я со стороны Не-Я.
Последним основанием всякой действительности для Я является,
таким образом, согласно наукоучению, некоторое первоначальное
взаимодействие между Я и некоторым нечто вне его, о котором больше ничего
нельзя сказать, как только то, что оно должно быть совершенно
противоположное. В этом взаимодействии в Я ничего не вкладывается, не
привносится ничего чуждого; все, что только ни развивалось бы в нем до
бесконечности, развивается исключительно из него самого согласно его
собственным законам; упомянутым противоположным Я приводится в
движение только для того, чтобы действовать, и без такого перводвигателя вне
его оно никогда не начало бы действовать; и так как его существование
состоит единственно лишь в действовании, то без него оно никогда и не
существовало бы. Упомянутому же двигателю, соответственно этому, не
присуще ничего, кроме того, что он является двигателем, — некоторой
противоположной силой, которую как таковую можно только
почувствовать. 1
Таким образом, Я является зависимым со стороны своего
существования; но оно совершенно независимо, что касается до определений этого
его существования. В силу его абсолютного бытия в нем наличен
некоторый до бесконечности значимый закон этих определений; и точно так же в
нем имеется некоторая посредствующая способность, чтобы определять
свое эмпирическое существование согласно такому закону. Точка, в кото-
тем, что обнаруживается, что он не в состоянии объяснить возможность
сознания. Поэтому-то наукоучение и не является атеистическим, каковым с
неизбежностью оказывается стоицизм, если только он рассуждает
последовательно.
428
Основа общего наукоучения
рой мы обретаем себя самих, когда впервые овладеваем такой
посредствующей способностью свободы, зависит не от нас; зато тот ряд, который
будет описываться нами из этого пункта до скончания веков, будучи
мысленно взят во всем его целом, зависит всецело от нас.
Наукоучение является, таким образом, реалистичным. Оно
показывает, что сознание конечных существ совершенно не допускает
объяснения, если не допустить некоторой от них независимо существующей, им
совершенно противоположной, силы, от которой они сами зависят со
стороны своего эмпирического существования. Но оно и не утверждает
ничего, кроме такой противоположной силы, которая только чувствуется, но не
познается конечным существом. Оно берется вывести из определяющей
способности Я все возможные определения этой силы или этого Не-Я,
какие могут до бесконечности проходить через наше сознание, и, поскольку
оно — наукоучение, должно непременно быть в состоянии действительно
их вывести.
Однако, невзирая на свой реализм, эта наука не трансцендентна, но
остается по своему глубочайшему существу трансцендентальной. Правда,
она объясняет все сознание из такого нечто, которое существует
независимо от всякого сознания; но она не забывает при этом, что и в этом своем
объяснении она руководится собственными законами сознания; и
поскольку она размышляет над этим, такое независимое нечто тоже является
продуктом его собственной мыслительной силы, следовательно,
представляет собою нечто, зависимое от Я, поскольку оно должно существовать
для Я (в понятии о нем). Но ради возможности такого нового объяснения
этого первого объяснения приходится снова предположить
действительное сознание, а для его возможности — опять то нечто, от которого зависит
Я. И если теперь то, что сначала было положено как нечто независимое и
стало зависимым от мышления Я, то этим независимое отнюдь не
оказывается уничтоженным, а только передвинутым далее; и так можно было бы
продолжать до бесконечности, отнюдь не уничтожая его. Со стороны своей
идеальности всё является зависящим от Я: со стороны же реальности само
Я оказывается зависящим; но для Я нет ничего реального, что не было бы
вместе и идеальным; следовательно, идеальное основание и реальное
основание суть в нем одно и то же; и такое взаимодействие между Я и Не-Я
есть одновременно и некоторое взаимодействие Я с самим собою. Это
последнее может полагать себя как ограниченное через Не-Я, когда оно не
рефлектирует над тем, что оно само ведь полагает такое ограничивающее
его Не-Я; оно может полагать себя как ограничивающее Не-Я, когда оно
рефлектирует над этим.
То, что конечный дух неизбежно бывает принужден полагать вне
себя нечто абсолютное (некоторую вещь в себе) и, тем не менее, с другой сто-
429
И. Г. Фихте
роны, вынужден признавать, что это нечто является наличным только для
него (представляет собою некоторый необходимый ноумен), есть тот круг,
который он может продолжать до бесконечности, но из которого он не в
состоянии выйти. Системой, не обращающей на этот круг никакого
внимания, является догматический идеализм; ибо, собственно, ограничивает
нас и делает конечными существами только указанный круг; системой же,
воображающей о себе, будто она вырвалась из этого круга, является
трансцендентный реалистический догматизм.
Наукоучение занимает между двумя этими системами как раз
середину и представляет собой критический идеализм, который можно было
бы также назвать и своего рода реал-идеализмом или же идеал-реализмом.
Мы прибавим к этому еще несколько слов, с тем чтобы стать по
возможности для всех понятными. Мы сказали: нельзя объяснить сознания
конечных существ, не предположив некоторой независимо от них
существующей силы. Но для кого нельзя его объяснить в таком случае? И для
кого должно оно стать объяснимым? Кто это вообще, кто объясняет его?
Сами конечные существа. Как только мы произносим слово "объяснить",
мы находимся уже в области конечности; так как всякое объяснение
(Erklären), то есть не постижение разом, а некоторое восхождение от одного к
другому, есть нечто конечное; и действие ограничения или определения
есть как раз тот мост, по которому совершается этот переход и который Я
носит в себе самом. Противоположная сила не зависима от Я по своему
бытию и своему определению, однако же она стремится видоизменить прак- '
тическую способность Я или его внутреннее побуждение (Trieb) к
реальности; но она находится в зависимости от его идеальной деятельности, от его
теоретической способности; она существует для Я лишь постольку,
поскольку она полагается через него; и вне этого она ничто для Я. Лишь
постольку, поскольку нечто бывает относимо к практической способности Я,
оно обладает независимой реальностью; постольку же, поскольку оно
является отнесенным к теоретической способности, оно воспринимается в
Я, оказывается содержащимся в сфере этого последнего и подчиненным
законам его представления. Но, далее, как может оно быть отнесено к
практической способности, если не посредством теоретической
способности, и как может оно стать предметом теоретической способности, если не
посредством практической? Таким образом, тут снова подтверждается или
же, вернее, тут с полной ясностью обнаруживается то положение, что без
идеальности нет реальности, и наоборот. Поэтому можно также сказать,
что последним основанием всякого сознания является некоторое
взаимодействие Я с самим собою через посредство некоторого Не-Я, которое
надлежит рассматривать с нескольких сторон. Это — тот круг, из которого ко-
430
Основа общего наукоучения
нечный дух не в состоянии выйти; да и не может он хотеть из него выйти, не
отрекаясь тем самым от разума и не требуя его уничтожения.
Интересным могло бы быть возражение такого рода: если, согласно
вышеуказанным законам, Я полагает посредством идеальной
деятельности некоторое Не-Я как основание объяснения своей собственной
ограниченности и, следовательно, таким образом воспринимает Не-Я в себя
самого, то не полагает ли оно при этом и само это Не-Я как нечто
ограниченное (в некотором определенном конечном понятии)? Предположим, этот
объект — А. Но ведь деятельность Я в полагании этого А сама является
необходимо ограниченной, так как она направляется на некоторый
ограниченный объект. Однако же Я никак не может ограничивать себя самого,
не может этого и в данном случае; следовательно, ограничивая^, которое,
правда, представляет собою нечто, воспринятое в Я, оно непременно
должно быть ограничено некоторым от него совершенно еще не зависящим В,
которое не является в него воспринятым. Мы допускаем все это, но мы
напоминаем о том, что и это В, в свою очередь, может быть воспринято в Я, с
чем противник тоже согласится, а в то же время, со своей стороны,
напомнит, что для того, чтобы было возможно воспринять его в себя, Я
непременно должно опять-таки быть ограничено некоторым независимым С; и
так далее, до бесконечности. Результатом такого исследования было бы то,
что мы не были бы в состоянии до скончания веков указать нашему
противнику такой момент, в котором не было бы для стремления Я некоторой
независимой реальности вне его: он же, со своей стороны, не был бы в
состояний указать нам ни одного такого момента, в котором это независимое
Не-Я не могло бы быть представлено и таким образом сделано зависимым
от Я. Где же находится независимое Не-Я нашего противника, или его вещь
в себе, которая должна была бы быть доказана при помощи такой
аргументации? Очевидно, в одно и то же время и нигде, и повсюду. Она есть в
наличности лишь постольку, поскольку мы ее не имеем; но она
улетучивается, как только мы хотим ее уловить. Вещь в себе есть-нечто для Я, и, стало
быть, в Я включается то, что не должно иметь места é Я; следовательно, мы
имеем здесь нечто противоречивое, что, тем не менее; непременно должно
быть положено в основание всего нашего философствования как предмет
некоторой необходимой идеи и что всегда лежало в основании всякого
философствования и всех действий конечного духа, хотя это не сознавалось,
равно как и заключающееся здесь противоречие. На этом отношении вещи
в себе к Я основывается весь механизм человеческого духа, а равно и всех
конечных духов. Хотеть изменить это — значило бы хотеть уничтожить
всякое сознание, а вместе с ним и всякое существование.
Все кажущиеся и смущающие того, кто не очень-то ясно мыслит,
возражения против наукоучения возникают лишь потому, что людям не
431
И. Г. Фихте
удается овладеть только что установленной идей и твердо держаться ее.
Неправильно понимать ее можно двояким образом. Или кто-либо
рефлектирует только о том, что она, будучи идеей, должна непременно быть все же в
Я; и в таком случае человек становится, если только он является вообще
смелым мыслителем, идеалистом и догматически отрицает всякую
реальность вне нас; либо, придерживаясь собственного чувства, кто-либо
отрицает то, что очевидно имеется налицо, и опровергает аргументацию науко-
учения, исходя из властных предписаний здравого человеческого рассудка
(с которым хорошо понятое наукоучение, разумеется, теснейшим образом
согласуется), и обвиняет саму эту науку в идеализме, так как не улавливает
ее смысла. И кто-либо сосредоточивает свою рефлексию только на том
обстоятельстве, что предметом этой идеи является некоторое независимое
Не-Я\ и тогда человек становится трансцендентным реалистом или же,
если при этом оказываются усвоенными некоторые мысли Канта, без
одновременного овладения духом всей его философии, начинает, отправляясь
от своего собственного трансцендентизма, от которого он отнюдь еще не
отрешился, обвинять в трансцендентизме наукоучение и при этом не
замечает, что таким образом он бьет собственным оружием только самого
себя.
Не следовало бы делать ни того, ни другого: не следует
рефлектировать не только над первым, не только над вторым моментом, а нужно
рефлектировать над ними обоими сразу; нужно парить мыслью между
обоими противоположными определениями этой идеи. Это и есть дело шворне-'
ской силы воображения, которая, конечно, присуща всем людям, так как без
нее они не имели бы ни одного представления. Но далеко не все люди
свободно владеют этой силой для того, чтобы целесообразно творить через
нее; или же, если в какую-нибудь счастливую минуту искомый образ
наподобие молнии вдруг озарит их душу, далеко не все они оказываются
способны удержать его, исследовать и неизгладимо запечатлеть в себе для
любого употребления. От этой способности зависит, философствуют ли люди
со смыслом или без него. Наукоучение таково, что оно может быть усвоено
не с помощью просто буквы, а только с помощью духа; ибо его основные
идеи в каждом, кто его изучает, должны быть непременно порождены
творческой силой воображения; иначе и не может быть в этой науке,
восходящей до последних оснований человеческого познания, ибо все дело
человеческого духа исходит из силы воображения, сила же воображения не
может быть иначе понята, как только через саму силу воображения56.
Поэтому для того, в ком вся эта способность бесповоротно уснула или умерла,
конечно, навсегда отрезана возможность проникнуть в эту науку; но он
должен искать причины такой невозможности никак не в самой этой нау-
432
Основа общего наукоучения
ке, которая легко будет понята, если только вообще будет понята, а в
собственной неспособности 14\
И подобно тому, как установленная идея является краеугольным
камнем всего здания изнутри, точно так же на ней основывается и его
прочность извне. Невозможно философствовать о каком-нибудь предмете
и не натолкнуться на эту идею, а благодаря тому и не попасть на
действительную почву наукоучения. Каждый противник его неизбежно должен,
хотя и с завязанными глазами, спорить на его почве и прибегая к помощи
его оружия; и потому всегда будет легко сорвать с его глаз повязку и таким
образом открыть его взорам то поле, на котором он стоит. Поэтому, в силу
самой природы вещей, эта наука вполне вправе заранее заявить, что
некоторыми она будет понята извращенно, большинством же не будет понята
совсем; что она не только после достижения настоящего, чрезвычайно
несовершенного ее изложения, но и после достижения самого совершенного
изложения, какое только оказалось бы возможным для кого-нибудь, по-
прежнему во всех своих частях крайне нуждается в улучшениях, но что она
в своих основаниях не будет опровергнута ни одним человеком и никакой
эпохою.
м* Наукоучение должно исчерпывать всего человека; поэтому оно может
быть усвоено только полнотою всех его способностей. Оно не может стать
общепризнанной философией, пока образование у столь многих убивает
одну духовную силу ради другой, силу воображения ради рассудка, рассудок
ради силы воображения или же то и другое — ради памяти; при этих
условиях наукоучение принуждено замкнуться в тесном кругу людей; вот правда,
которую одинаково неприятно и говорить и слушать, но которая тем не
менее — правда.
§6
ТРЕТЬЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В стремлении Я полагается
одновременно и противоположное стремление Не-Я, которое
уравновешивает первое.
Прежде всего несколько слов относительно метода. В теоретической
части наукоучения дело у нас шло единственно лишь о познании, здесь же
дело касается познаваемого. Там мы спрашиваем: как нечто полагается,
созерцается, мыслится и т.д.; здесь же мы спрашиваем: что полагается? Если
бы поэтому наукоученйе все же должно было заключать в себе метафизику
как предполагаемую науку о вещах в себе и такая наука требовалась бы от
него, то оно вынуждено было бы отослать к своей практической части.
Одна только эта часть, как то будет становиться все яснее и яснее, говорит о
первоначальной реальности; и если бы наукоучению был задан вопрос,
каковы вещи сами по себе, то оно могло бы на это ответить только
следующим образом: таковы, какими мы их должны сделать. От этого
наукоученйе нисколько не станет трансцендентным, так как мы обретаем в нас
самих все то, что мы при этом устанавливаем; мы выносим это из нас-самих
вовне, ибо в нас самих находится нечто, что оказывается возможно
объяснить исчерпывающим образом только через нечто вне нас. Мы знаем, что
именно мы мыслим это нечто, мыслим его согласно законам нашего духа,
что мы, стало быть, никогда не можем выйти из самих себя, никогда не
можем заговорить о существовании какого-нибудь объекта без субъекта.
Стремление Я должно быть бесконечным и никогда не обладать
силой причинности. Это мыслимо лишь при условии некоторого
противоположного стремления, которое его уравновешивает, то есть обладает
равным количеством внутренней силы. Понятия такого противоположного
стремления и такого равновесия уже содержатся в понятии стремления, и
их можно при помощи анализа вывести из этого последнего. Без этих двух
понятий стремление находится в противоречии с самим собою.
1. Понятие стремления есть понятие некоторой причины, которая не
есть причина. Но каждая причина предполагает деятельность. Все
стремящееся наделено силой; если бы оно не имело никакой силы, оно не было
бы причиной, что противоречит предыдущему.
434
Основа общего наукоучения
2. Стремление, поскольку оно таково, с необходимостью наделено
своим определенным количеством как деятельность. Оно направляется к
тому, чтобы стать причиной. И, однако, оно таковой не является, оно не
достигает, стало быть, своей цели и оказывается ограниченным. Если бы оно
не было ограниченным, то оно было бы причиной и не было бы
стремлением, что противоречит предыдущему.
3. Стремящееся не ограничивается самим собою, так как в понятии
стремления содержится уже, что стремящееся направляется к
причинности. Если бы оно само себя ограничивало, оно не было бы стремящимся.
Всякое стремление с необходимостью должно, таким образом,
ограничиваться некоторой силой, противоположной силе стремящегося.
4. Эта противоположная сила тоже должна быть непременно
стремящейся, то есть прежде всего она должна устремляться к причинности. Если
бы она не устремлялась к причинности, она была бы лишена всякой точки
соприкосновения с противоположным. Но затем она отнюдь не должна
обладать какой-нибудь причинностью; если бы она обладала
причинностью, она совершенно уничтожала бы стремление противоположного тем
самым, что уничтожала бы его силу.
5. Ни одна из двух противоположностей не может обладать
причинностью. Если бы одна из них обладала ею, то тем самым уничтожалась бы
сила противоположного, и противоположности уже не были бы
противоборствующими. Следовательно, сила обеих противоположностей должна
непременно находиться в равновесии.
§7
ЧЕТВЕРТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Стремление Я, противоположное
стремление Не-Я и равновесие между ними должно непременно
быть положено.
А) Стремление Я полагается как таковое.
1. Оно вообще полагается как нечто, согласно общему закону
рефлексии; следовательно, не как деятельность, не как нечто такое, что
находится в движении и есть сама подвижность, а как нечто закрепленное,
твердо установившееся.
2. Оно полагается как некоторое стремление. Стремление
направляется к причинности; и потому, согласно своему характеру, оно должно
быть положено непременно как причинность. Однако же эта причинность
не может быть положена как направляющаяся на Не-Я; так как в таком
случае положена была бы реальная воздействующая деятельность, а
отнюдь не стремление. Поэтому она могла бы только возвращаться к себе
самой, только порождать самое себя. Стремление же, которое само себя
порождает, которое закреплено, определено и есть нечто достоверное,
называется побуждением.
(В понятии побуждения заключается: 1) что оно основывается во
внутреннем существе того, кому оно приписывается, будучи, стало быть,
порождаемо причинным воздействием этого существа на самого себя, его
самополаганием через самого себя; 2) что оно именно потому являет собою
нечто закрепленное, длящееся; 3) что оно направляется на причинность
вне себя, но не имеет ее, поскольку оно должно быть только побуждением,
единственно лишь через само себя. Побуждение пребывает, стало быть,
только в субъекте и по своей природе не выходит за его пределы.)
Таким образом, стремление необходимо должно быть положено,
если оно должно быть положено; и оно необходимо должно быть
положено, — будь то непосредственно с сознанием или без него, — если оно
должно быть в Я и если должно быть возможно некоторое такое сознание,
которое, согласно вышеизложенному, основывается на внешнем
проявлении стремления.
436
Основа общего наукоучения
B) Стремление Я не может быть положено без того, чтобы не было
положено и некоторого противоположного стремления Не-Я; ибо
стремление первого направляется на причинность, но лишено ее; основание же
того, что оно ее не имеет, заключается не в нем самом, так как в противном
случае его стремление не было бы вовсе стремлением, а представляло бы
собою ничто. Значит, если оно полагается, оно должно быть непременно
положено за пределами Я и опять-таки — лишь как стремление, так как в
противном случае стремление Я, или же, — как мы его теперь знаем, —
побуждение, было бы подавлено и не могло бы быть положено.
C) Между обоими должно быть положено равновесие.
Здесь речь идет не о том, что между ними должно быть равновесие;
это мы уже показали в предыдущем параграфе; здесь только спрашивается:
что такое полагается ъЯ и через его посредство, когда полагается
равновесие? Я стремится заполнить бесконечность; в то же время оно несет в себе
закон и тенденцию, побуждающие его рефлектировать над самим собою.
Оно не может рефлектировать над собою, не получая таким образом
ограничения, а именно: не будучи ограничиваемо — что касается побуждения —
некоторым отношением к побуждению. Положим, побуждение
ограничивается в точке С; тогда в С получаетудовлетворение тенденция к рефлексии,
побуждение же к реальной деятельности оказывается ограниченным.
Яограничивает в таком случае самого себя и полагается во взаимодействии с самим
собою; побуждением оно выталкивается дальше, рефлексией же
задерживается и останавливает себя само.
В своем объединении оба момента дают по себе обнаружение
некоторого принуждения, некоторой не-мощи (Nicht-Könnens). К не-мощи
относится: а) некоторое дальнейшее стремление; иначе того, чего я не могу,
совсем не было бы для меня; оно ни в каком смысле не было бы в моей
сфере; в)ограничение действительной деятельности; а потому и сама
действительная деятельность, так как то, чего нет, не может быть ограничено;
с) что ограничивающее находится (полагается) не во мне, а вне меня; иначе
не было бы вообще никакого стремления. Тогда не было бы никакой
не-мощи, а было бы некоторое не-желание (Nicht-Wollen). Таким образом,
упомянутое обнаружение не-мощи есть обнаружение равновесия.
Обнаружение не-мощи в Я называется чувством. В нем тесно
связывается друг с другом деятельность — я чувствую, есмь чувствующий, и эта
деятельность есть деятельность рефлексии, — ограничение — я чувствую,
есмь страдающий и бездейственный; в наличности имеется некоторое
принуждение. Это ограничение с необходимостью предполагает
некоторое побуждение к тому, чтобы идти дальше. То, что не хочет уже ничего
более, что ни в чем не нуждается, не стремится ничего объять, то свободно от
ограничений, — разумеется, для себя самого.
437
И. Г. Фихте
Чувство только субъективно. Хоть мы и нуждаемся для объяснения
его, — что является уже теоретическим действием, — в некотором
ограничивающем начале, зато нам нет надобности для его дедукции, поскольку
оно должно осуществляться в Я, ни в каком представлении, полагании
такого начала в Я.
(Тут ясно как солнце обнаруживается то, чего не могли понять столь
многие философы, не освободившиеся еще, несмотря на их кажущийся
критицизм, от трансцендентного догматизма, а именно то, что Я может
развить все, что только должно происходить в нем когда-либо,
исключительно из себя самого, ни самомалейшим образом не выходя при этом за
свои пределы и не разрывая свой круг, и каким образом оно это может; и это
необходимо должно быть, если только Я должно быть Я. В нем имеется
налицо некоторое чувство; это — некоторое ограничение побуждения; и если
оно должно быть в состоянии положить себя как некоторое определенное,
от других чувств долженствующее быть отличаемым чувство, —
возможности чего мы тут, конечно, еще не усматриваем, — то это — ограничение
некоторого определенного, от других побуждений долженствующего быть
отличаемым побуждения. Я должно непременно полагать некоторое
основание этого ограничения и должно с необходимостью полагать его вне
себя. Оно может полагать побуждение ограниченным только чем-либо
совершенно противоположным; и, таким образом, в побуждении с
очевидностью сказывается, что должно быть положено как объект. Если
побуждение определяется, например, как =Y, то в качестве объекта непременно
должно быть положено Не- Y. А так как все эти функции духа
осуществляются с необходимостью, то мы и не сознаем нашего собственного действо-
вания и неизбежно должны предполагать, что получаем извне то, что
производим сами, нашими собственными силами и согласно нашим
собственным законам. Такой метод обладает все же объективной
значимостью, так как он является единообразным методом всякого конечного
разума и так как, кроме указанной объективной значимости, нет и не может
быть никакой другой. Притязание на объективную значимость иного рода
основывается на грубом, наглядно показуемом самообмане.
Правда, мы в нашем исследовании как будто прорвали этот круг; ибо
мы приняли для объяснения стремления вообще некоторое от Я
совершенно не зависимое и ему противостремящееся Не-Я. Но основание
возможности и правомерности такого приема заключается в следующем: каждый,
кто производит вместе с нами настоящее исследование, сам является
некоторым Я, которое ведь давным-давно совершило те действия, которые
здесь дедуцируются и, стало быть, давным-давно уже положило некоторое
Не-Я (относительно которого он должен как раз из нынешнего
исследования убедиться, что оно является его собственным продуктом). Каждый
438
Основа общего наукоучения
неизбежно уже полностью проделал все дело разума и теперь по
свободному почину задается целью, как бы еще раз просмотреть счет, вглядеться в
тот путь, который он сам уже раз проделал, на примере другого #, которое
он произвольно полагает, ставит в той точке, от которой сам когда-то
отправлялся и на которой он производит эксперимент. Подлежащее
исследованию Я с течением времени само достигнет той точки, в которой
находится теперь наш наблюдатель; тогда они объединятся, и благодаря такому
объединению заданное круговое движение окажется законченным.
§8
ПЯТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Нувство само необходимо должно
быть положено и определено.
Прежде всего — несколько общих замечаний для того, чтобы
подготовиться к предстоящему чрезвычайно важному исследованию.
1. В Я первоначально есть некоторое стремление заполнить
бесконечность. Это стремление противоборствует всякому объекту.
2. Я несет в себе закон: рефлектировать над собою как заполняющем
бесконечность. Но ведь оно не в состоянии рефлектировать ни над собою,
ни над чем-либо вообще, если то, над чем оно рефлектирует, не будет
ограничено. Выполнение этого закона или же, что то же самое, удовлетворение
рефлексионного побуждения является потому обусловленным и зависит от
объекта. Оно не может быть удовлетворено без объекта; следовательно, его
можно описать также и как некоторое побуждение к объекту.
3. Через ограниченность посредством некоторого чувства это
побуждение одновременно и удовлетворяется и не удовлетворяется.
a) Удовлетворяется: Я как таковое должно непосредственно
рефлектировать над собою: оно рефлектирует с абсолютной
самопроизвольностью и поэтому является удовлетворенным со стороны формы действия.
Значит, в чувстве есть нечто такое, что позволяет относить себя кЯ,
приписывать себя ему.
b) Не удовлетворяется со стороны содержания действия. Я должно
было бы быть положено как заполняющее бесконечность, но полагается
как ограниченное. Это тоже с необходимостью обнаруживается в чувстве.
c) Но полагание такого неудовлетворения обусловливается
некоторым выхождением Я за ту границу, которая ему полагается чувством.
Непременно должно быть положено нечто за пределами положенной Я
сферы, что тоже относится к бесконечности и на что поэтому тоже
направляется побуждение Я. Это нечто должно быть с необходимостью положено как
не определенное через Я.
Исследуем, как возможно это выхождение за пределы, стало быть,
полагание этой неудовлетворенности, или же чувства, что значит то же
самое.
440
Основа общего наукоучения
I
Если только Я рефлектирует над собою, оно является ограниченным,
то есть не заполняет бесконечности, которую заполнить оно все же
стремится. Оно является ограниченным, сказали мы; то есть для некоторого
возможного наблюдателя, но еще не для самого себя. Этим наблюдателем
хотим быть мы сами, или же, что то же самое, вместо Я мы хотим полагать
нечто такое, что только наблюдается, нечто безжизненное, но чему,
впрочем, должно быть присуще то, что в нашем предположении присуще Я.
Стало быть, если вы предполагаете упругий шар =А и допускаете, что на
него производится надавливание другим телом, то:
a) Вы предполагаете в нем некоторую силу, которая проявится, как
только отступит противоположная ей сила, притом без всякого с нашей
стороны содействия, — и которая, таким образом, основание своей
действенности имеет исключительно в себе самой. Тут имеется налицо сила;
она стремится в себе самой и по отношению к себе самой к обнаружению:
это — такая сила, которая устремляется в себе.самой и к себе самой,
следовательно, — сила внутренняя, ибо такие вещи называют внутренней силой.
Это — непосредственное стремление к причинному воздействию на
самого себя, которое, однако, вследствие внешнего сопротивления лишено
всякой причинной силы. Это — равновесие стремления и
опосредованного противоположного давления в самом теле, следовательно, то самое, что
мы выше называли побуждением.
b) Пусть в противодействующем теле В будет положено то же
самое — некоторая внутренняя сила, которая противодействует обратному
действию и сопротивлению Л, которая поэтому сама является
ограниченной этим сопротивлением, основание же свое имеет исключительно в себе
самой. В В совершенно также, как и в Л, полагается сила и побуждение.
c) Если бы одна из этих сил была увеличена, то тем самым была бы
ослаблена противоположная сила; если бы одна из них была ослаблена, то
тем самым была бы увеличена противоположная сила; сильнейшая сила
обнаруживалась бы полностью, а слабейшая была бы совершенно
исключена из сферы действия первой. Ныне же они сохраняют полнейшее
равновесие, и точка их встречи является точкой их равновесия. Если эта точка
будет хотя бы самомалейшим образом сдвинута, то тем самым будет
нарушено все отношение в его целом.
И. Г. Фихте
II
Так обстоит дело со стремящимся без рефлексии предметом
(который мы называли упругим). То, что подлежит здесь исследованию, есть Я;
посмотрим, что получится отсюда.
Побуждение есть внутренняя, себя самое к причинности
определяющая сила. Безжизненное тело лишено какой бы то ни было причинности,
кроме внешней себе. Эта последняя должна быть остановлена
сопротивлением; при таком условии поэтому, через посредство его самоопределения
не возникает ничего. Совершенно так же обстоит дело с Я, поскольку оно
направляется на причинность вне себя самого; и дело обстоит с ним
вообще не иначе, если оно требует причинности исключительно только вовне.
Но Я именно потому, что оно есть некоторое Я, обладает также и
некоторой причинностью по отношению к себе самому, — причинным
действием самополагания, или же способностью рефлексии. Побуждение
должно определять силу самого стремящегося] но поскольку эта сила
должна обнаруживаться в самом стремящемся, как то надлежит для
рефлексии, постольку из определения через побуждение должно с необходимостью
вытекать некоторое обнаружение; иначе не было бы налицо никакого
побуждения, что противоречило бы сделанному нами допущению.
Следовательно, из побуждения с необходимостью следует действие рефлексии Я
над самим собою.
(Вот важное положение, проливающее яркий свет на наше исследо-,
вание. 1. Содержащаяся первоначально в Я и вышеустановленная
двойственность — стремление и рефлексия — тем самым внутренне
объединяется. Всякая рефлексия основывается на стремлении, и никакой
рефлексии не может быть, если нет стремления. С другой стороны, для Я нет
никакого стремления, а следовательно, нет и никакого стремления Я и вообще
никакого Я, если нет рефлексии. Одно следует из другого, и оба стоят друге
другом во взаимодействии. 2. Что Я должно быть непременно конечным и
ограниченным, это явствует теперь еще определеннее. Без ограничения
нет побуждения (в трансцендентном смысле): без побуждения нет
рефлексии (переход к трансцендентальному): без рефлексии нет побуждения, нет
ограничения и ограничивающего и т.д. (в трансцендентальном смысле):
так идет круговое движение функций Я и внутренне связное
взаимодействие с самим собою. 3. Равным образом здесь становится совершенно
ясно, что называется идеальной деятельностью, что именуется реальной
деятельностью, как они должны быть различаемы и где проходит граница
между ними. Первоначальное стремление Я, будучи рассматриваемо как
побуждение, — как побуждение, имеющее свое основание исключительно
только в Я, — одновременно и идеально и реально. Направление туг взято —
442
Основа общего наукоучения
на само Я: оно стремится благодаря своей собственной силе; и в то же
время — на нечто вне Я: но тут нет ничего подлежащего различению. Через
ограничение, посредством которого снимается лишь направление на
внешнее, а не направление вовнутрь, такая первоначальная сила как бы
подразделяется; и остающаяся сила, возвращающаяся в само Я, есть сила
идеальная. Реальная сила будет тоже в свое время положена. И вот здесь
снова сказывается со всей своей очевидностью положение: без
идеальности нет реальности, и наоборот. 4. Идеальная деятельность, как то скоро
окажется, есть деятельность представляющая. Поэтому отношение к ней
побуждения нужно назвать побуждением к представлению. Это побуждение
является, стало быть, первым и высшим проявлением побуждения, и через
него только остановится интеллигенцией. И так именно должно было
непременно обстоять дело, раз только какое-нибудь другое побуждение
должно было достигнуть сознания и иметь место в Я как Я. 5. Точно так же
отсюда явственнейшим образом следует подчинение теории
практическому; отсюда следует, что все теоретические законы основываются на
практических, а так как практический закон может быть только один, то на
одном и том же законе; отсюда — законченнейшая система во всем
существе; отсюда следует, что если бы побуждение могло само себя возвышать,
то благодаря этому происходило бы и возвышение постижения, и
наоборот; следует абсолютная свобода рефлексии и отвлечения также и в
теоретическом отношении и возможность, сообразно долгу, направлять свое
внимание на что-либо и отвлекать его от чего-нибудь другого, без чего не
.была бы возможна никакая мораль. Таким образом, разрушается до
основания тот фатализм, который основывается на убеждении, будто наше дей-
ствование и воление зависит от системы наших представлений; ибо здесь
устанавливается, что, напротив того, система наших представлений
зависит от нашего побуждения и нашей воли; и это ведь единственный способ
основательно опровергнуть фатализм. Словом, благодаря этой системе во
всего человека вносится единство и связь, которых недостает стольким
системам.)
ш
Но в этой рефлексии над самим собою Я как таковое не может дойти
до сознания себя, так как оно никогда не сознает непосредственно своего
действования. Тем не менее оно налично теперь как Я; само собою
разумеется, для некоторого возможного наблюдателя; и тут проходит та граница,
где Я как нечто живое отличает себя от безжизненного тела, в котором,
разумеется, тоже может быть налично некоторое побуждение. Есть нечто
такое, для чего нечто может существовать, хотя само для себя оно еще и не
существует. Но для него наличной необходимостью является некоторая
443
И. Г. Фихте
внутренняя побудительная сила, которая, однако, так как тут невозможно
никакое сознание Я, следовательно, и никакое отношение к нему, только
чувствуется, состояние, которого, конечно, нельзя описать, но которое
зато можно почувствовать и в отношении которого каждый должен быть
отсылаем неизбежно к своему собственному самочувствию. (Философ не
должен отсылать каждого к собственному самочувствию в отношении
факта (daß) (ибо этот последний должен быть при предположении Я
непременно строго доказан), а только в отношении содержания, «/md(was) этого
факта. Постулировать наличность некоторого определенного чувства —
значит поступать неосновательно. В дальнейшем, конечно, можно будет
сделать и это чувство доступным познанию, но не через него самого, а
через его последствия.)
Здесь, как мы сказали выше, живое отделяется от безжизненного.
Чувство силы есть принцип всякой жизни, есть переход от смерти к жизни.
При этом если в наличности имеется только оно одно, то жизнь остается,
разумеется, еще в высшей степени неполной; но все же она уже
отграничена от мертвой материи.
IV
a) Эта сила чувствуется как нечто побуждающее: Я чувствует себя
побужденным, как было сказано, и притом — побужденным выйти за свои
собственные пределы. (Откуда берется это выйти, это за свои пределы, пока
еще нельзя понять, но сейчас это станет ясно.)
b) Совершенно так же, как было выше, это побуждение с
необходимостью должно оказывать такое воздействие, какое оно может. Реальную
деятельность оно не определяет, то есть при этом не возникает никакого
причинного воздействия на Не-Я. Идеальную же деятельность, зависящую
исключительно лишь от самого Я, оно в состоянии определять и должно
непременно определять, поскольку оно являет собою некоторое
побуждение. Таким образом, идеальная деятельность выходит наружу и полагает
нечто как объект побуждения, — как то, что побуждение породило бы, если
бы оно обладало причинностью. (Что такое порождение через идеальную
деятельность должно иметь место, это доказано; но нельзя еще понять, как
это возможно; это предполагает еще множество других исследований.)
c) Это порождение и то, что в нем действует, отнюдь не достигает еще
тут своего сознания; следовательно, благодаря этому еще отнюдь не
возникает ни чувства объекта побуждения, которое вообще невозможно, ни
какого-либо созерцания его. Тут не возникает еще совершенно ничего; свое
объяснение благодаря предыдущему тут получает только то, как может Я
чувствовать себя как побуждаемое к чему-то неизвестному; и, таким
образом, открывается переход к последующему.
444
Основа общего наукоунения
V
Побуждение должно было быть почувствовано как побуждение, то
есть как нечто такое, что не имеет причинности. Но, поскольку оно
побуждает по меньшей мере к порождению своего объекта посредством
идеальной деятельности, оно, конечно, обладает причинностью и постольку не
чувствуется как некоторое побуждение.
Поскольку побуждение направляется на реальную деятельность, оно
не представляет собою ничего заметного и доступного чувству, так как оно
лишено причинности. Значит, оно постольку и не чувствуется как
побуждение.
Соединим оба момента вместе; никакое побуждение не может быть
почувствовано, если на его объект не направляется идеальная
деятельность; и идеальная деятельность не может на него направляться, если
реальная деятельность не будет ограничена.
В своем объединении то и другое вместе дают рефлексию Я над
самим собою как ограниченным. Но так как Я в этой рефлексии не сознает
самого себя, то она представляет собою простое чувство.
И таким образом чувство оказывается полностью дедуцированным.
К нему относятся: некоторое до сих пор еще не обнаруживающееся чувство
силы, некоторый объект его, который тоже не обнаруживается, некоторое
чувство принуждения, немощи; и это — именно то обнаружение чувства,
которое надлежало дедуцировать.
§9
ШЕСТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Чувство должно быть непременно
далее определено и ограничено.
I
Итак, Я чувствует себя ограниченным, то есть оно является
ограниченным для себя самого, а не только для зрителя, вне него находящегося,
как то было раньше, наподобие безжизненного упругого тела. Его
деятельность является для него уничтоженной, — для него, говорим мы, так как
мы, с нашей высшей точки зрения, разумеется, видим, что это оно
породило через посредство абсолютной деятельности некоторый объект
побуждения за своими пределами, а не то Я, которое является предметом нашего
исследования.
Такое полное уничтожение деятельности противоречит характеру Я.
Оно должно поэтому, поскольку оно есть Я, непременно восстановить ее, и
притом восстановить для себя, то есть оно должно поставить себя по
меньшей мере в такое положение, чтобы хотя бы только в будущей рефлексии
мочь полагать себя свободно и безгранично.
Такое восстановление его деятельности совершается, согласно
нашей дедукции, абсолютно, самопроизвольно, исключительно в силу
сущности Я и без всякого особого побуждения к тому. Рефлексия над
рефлектирующим, каковою, как будет сейчас показано, является настоящее
действие, прекращение одного действия для того, чтобы на его место было
положено другое (в то время как Я чувствует вышеописанным образом, оно
тоже ведь действует, только без сознания; на место этого действия должно
стать другое, которое делает по меньшей мере возможным сознание), —
такая рефлексия совершается с абсолютной самопроизвольностью. Я
действует в ней просто потому, что оно действует.
(Тут проводится граница между голой жизнью и интеллигенцией,
как прежде она была проведена между смертью и жизнью. Только из такой
абсолютной самопроизвольности получается сознание Я. Не через какой-
либо естественный закон и не через какое-либо следствие из него подни-
446
Основа общего наукоучения
маемся мы до разума, а через абсолютную свободу — не путем перехода, а
одним скачком. Поэтому в философии необходимо нужно исходить из Я,
так как его нельзя вывести; и потому-то предприятие материалистов
объяснить обнаружения разума из законов природы остается навеки
невыполнимым.)
2. Непосредственно ясно, что требуемое действие, совершающееся
единственно только через абсолютную самопроизвольность, может быть
лишь действием через идеальную деятельность. Но ведь всякое действие,
поскольку оно таковое, имеет некоторый объект. Настоящее действие,
которое имеет свое основание единственно и исключительно в Я и по всем
своим условиям должно зависеть исключительно от Я, может иметь своим
объектом лишь нечто такое, что наличествует в Я. Но в Я не налично
ничего, кроме чувства. Следовательно, это действие с необходимостью
направляется на чувство.
Действие совершается с абсолютной самопроизвольностью и
постольку является для возможного наблюдателя действием Я. Оно
направляется на чувство, то есть прежде всего на то, что в предыдущей
рефлексии, составлявшей собою чувство, было рефлектирующим. Деятельность
направляется на деятельность; стало быть, рефлектирующее в той
рефлексии, или же чувствующее, полагается как Я\ яйность (die Ichheit)
рефлектирующего в настоящей функции, которое как таковое вовсе не сознается,
переносится на прежнее рефлектирующее.
Я есть то, что определяет самого себя, согласно только что
приведенной аргументации. Поэтому чувствующее может быть положено лишь
постольку как'Я, поскольку оно определено к чувствованию через одно
только побуждение у стало быть, через Я, значит, через самого себя, то есть лишь
постольку, поскольку оно чувствует в себе самом самого себя и свою
собственную силу. Только чувствующее есть Я, и только побуждение,
поскольку оно вызывает чувство, или же рефлексию, принадлежит к Я. Что лежит
за этим пределом, если только за ним есть что- нибудь (и мы знаем, что
нечто, а именно побуждение ко внешнему, выходит за этот предел), то
исключается; и это нужно заметить себе, так как выключенное в свое время
непременно должно быть вновь включено.
Благодаря этому, значит, чувствуемое в настоящей рефлексии и для
нее есть тоже Я, так как чувствующее лишь постольку есть Я, поскольку оно
является определенным самим собою, то есть поскольку оно чувствует
самого себя.
II
В настоящей рефлексии Я полагается как Я лишь постольку,
поскольку оно одновременно является и чувствуемым, и чувствующим и,
следовательно, находится с самим собою во взаимодействии. Оно должно
447
И.Г. Фихте
быть положено как Я; следовательно, оно непременно должно быть
положено описанным образом.
1. Чувствующее полагается как деятельное в чувстве, поскольку оно
является рефлектирующим, и постольку в этом чувстве чувствуемое
является страдательным', оно знаменует собою объект рефлексии. В то же
время чувствующее полагается в чувстве как страдающее, поскольку оно
чувствует себя побужденным; и постольку чувствуемое, или же побуждение,
оказывается деятельным', оно есть побуждающее.
2. Но это — противоречие, которое непременно должно быть
примирено и примирить которое можно только следующим образом.
Чувствующее деятельно по отношению к чувствуемому; и в этом смысле оно только и
деятельно. (То, что оно является побужденным к рефлексии, в ней не
достигает сознания; побуждение к рефлексии тут, — а именно в нашем
философском исследовании, не в первичном сознании, — совсем не
принимается во внимание. Оно входит в то, что является предметом чувствующего и
не различается в рефлексии над чувством.) Однако оно должно все же быть
также и страдающим по отношению к некоторому побуждению. Это —
побуждение ко внешнему, которым оно действительно побуждается к
порождению некоторого Не-Я через идеальную деятельность. (В этой функции
оно, разумеется, деятельно, но совершенно так же, как и раньше,
направляется на свое страдание, над этой же своей деятельностью не
рефлектирует. Для себя самого в рефлексии над собою оно действует принужденно,
несмотря на то, что это должно казаться противоречием, которое в свое
время будет разрешено. Отсюда чувствуемое принуждение полагать нечто
как действительно существующее.)
3. Чувствуемое является деятельным через побуждение
рефлектирующего к рефлексии. В этом же самом отношении к рефлектирующему
оно является также и страдательным, так как оно является объектом
рефлексии. Но над этим последним не происходит рефлексии, так как Я
является тут положенным как одно и то же, как себя самого чувствующее, и
над рефлексией как таковой уже не рефлектирует вновь. Я, стало быть,
полагается как страдающее в некотором ином отношении, а именно,
поскольку оно является ограниченным, и постольку ограничивающее есть
Не-Я. (Каждый предмет рефлексии является необходимо ограниченным;
он обладает некоторым определенным количеством. Но в рефлексии и при
рефлексии это ограничение никогда не выводится из самой рефлексии, так
как постольку над ней не происходит рефлексии.)
4. И то и другое должно представлять собою одно и то же Я и быть
положено как таковое. Тем'не менее одно рассматривается как деятельное по
отношению к Не-Я; другое — как страдающее в том же отношении. Там Я
посредством идеальной деятельности порождает Не-Я; тут оно
ограничивается этим последним.
448
Основа общего наукоучения
5. Преодоление этого противоречия не представляет большой
трудности. Порождающее Я было само положено какстрадающее; точно также
и чувствуемое в рефлексии. Я поэтому для себя самого всегда является
страдающим по отношению к Не-Я, совсем не знает своей собственной
деятельности и над нею не рефлектирует. Поэтому-то кажется, будто чувствуешь
реальность вещи, тогда как чувствуешь только Я.
(В этом заключается основание всей реальности. Реальность — как
реальность Я, так и реальность Не-Я, — является возможной для Я только
через то отношение чувства к Я, которое мы теперь указали. Нечто такое,
что возможно лишь через отношение некоторого чувства (без того, чтобы Я
давало при этом и могло себе дать сознательный отчет в своем созерцании
его, и что поэтому кажется чувствуемым), является предметом веры.
По отношению к реальности вообще как Я, так и Не-Я имеет место
только вера57.)
§10
СЕДЬМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Побуждение само непременно
должно быть положено и определено.
Совершенно так же, как мы сейчас определили и выяснили чувство,
должно быть непременно определено и побуждение, так как оно находится
в тесной связи с чувством. Через это объяснение мы двинемся дальше и
утвердимся внутри практической способности.
1. Что побуждение полагается, значит, как известно, что Я
рефлектирует над ним. Но ведь Я может рефлектировать только над самим собою и
над тем, что есть для него и в нем, что как бы является для него доступным.
Поэтому побуждение должно уже было непременно вызвать в Я нечто,
проявить в нем себя, и именно постольку, поскольку Я уже положено как Я
через только что указанную рефлексию.
2. Чувствующее положено как Я. Это последнее было определено
чувствуемым первоначальным побуждением к тому, чтобы выйти за свои
собственные пределы и породить что-нибудь по меньшей мере через
идеальную деятельность. Но ведь первоначальное побуждение отнюдь не на:
правляется на одну только идеальную деятельность; оно направляется на
реальность', и Я определяется, стало быть, им к порождению некоторой
реальности за своими собственными пределами. Этому определению оно
никогда не может удовлетворить, так как стремление никогда не должно иметь
причинности, и противоположное стремление Не-Я должно всегда его
уравновешивать. Поэтому, поскольку оно определяется побуждением, оно
оказывается ограниченным через Не-Я.
3. В Я всегда имеется пребывающая тенденция — рефлектировать
над самим собою, если только осуществляется условие всякой
рефлексии, — некоторое ограничение. Это условие здесь имеет место;
соответственно с этим Я необходимо должно рефлектировать об этом своем
состоянии. Но в этой рефлексии рефлектирующее, как это всегда бывает,
забывает самого себя, и рефлексия поэтому не достигает до сознания. Далее,
она возникает в силу одного простого понуждения, стало быть, в ней нет ни
малейшего обнаружения свободы, и она являет собою, как и прежде, одно
только чувство. Вопрос только в том: что это за чувство?
450
Основа общего наукоучения
4. Объектом этой рефлексии является Я побужденное, стало быть,
idealiter в себе самом деятельное Я: побужденное содержащимся в нем
самом понуждением, следовательно, без всякого произвола и
самопроизвольности. Но эта деятельность Я направляется на некоторый объект,
которого Я не в состоянии реализовать как вещь, а равно не в состоянии и
представить через идеальную деятельность. Стало быть, это — такая
деятельность, которая не имеет объекта, но при этом все же непреодолимо
влекомая направляется на некоторый объект, и которая только чувствуется.
Но такое определение в Я носит имя желания; это — побуждение к чему-то
совершенно неизвестному, что обнаруживается только через потребность,
через некоторую неудовлетворенность, через некоторую пустоту, которая
ищет своего заполнения, но не указывает, откуда его ждать. Я чувствует в
себе некоторое желание; оно чувствует себя нуждающимся.
5. Оба чувства — выведенное теперь чувство желания и
вышеуказанное чувство ограничения и принуждения — должны непременно быть
различены между собою и поставлены друг с другом в связь. Ибо побуждение
должно быть определено; но оно обнаруживается через некоторое чувство;
стало быть, это чувство надлежит определить; определено же оно может
быть лишь через некоторое чувство иного рода.
6. Если бы#не было ограничено в первом чувстве, то во втором
имело бы место отнюдь не простое желание, а причинность, так как Я могло бы
тогда породить нечто за своими пределами, и его побуждение не было бы
ограничено тем, чтобы только внутренне определять само Я. Напротив
того, если бы Я не чувствовало себя желающим, оно не могло бы чувствовать
себя ограниченным, так как только через чувство желания Я выходит из
своих собственных пределов, и только через это чувство в Я и для Я
полагается впервые нечто такое, что должно быть вне его.
(Это желание имеет важное значение не только для практического
наукоучения, но и для всего наукоучения в его целом. Только через него Я
выталкивается в себе самом — из самого себя; только благодаря ему
открывается в самом Я некоторый внешний мир5*.)
7. Таким образом, оба эти чувства оказываются синтетически
объединенными, одно из них невозможно без другого. Без ограничения нет
желания; без желания нет ограничения. Но в то же время они друг другу
совершенно противоположны. В чувстве ограничения Я чувствуется
единственно лишь как страдающее, в чувстве же желания оно чувствуется также
и как деятельное.
8. Оба эти чувства основываются на побуждении, и притом на одном и
том же побуждении в Я. Побуждение ограниченного через Не-Я и только
благодаря этому способного к побуждению Я определяет способность
рефлексии, и отсюда возникает чувство принуждения. То же самое
побуждение определяет Я к тому, чтобы выйти из себя через идеальную деятель-
15*
451
И J. Фихте
ность и породить нечто за своими пределами, и так как Я является в этом
отношении ограниченным, то благодаря этому возникает некоторое
желание, а через приведенную благодаря этому к необходимости рефлектирова-
ния способность рефлексии — некоторое чувство желания. Вопрос в том,
как может одно и то же побуждение порождать нечто противоположное.
Единственно через различие тех сил, к которым оно обращается. В первой
функции оно обращается только к одной способности рефлексии, которая
лишь усвояет то, что ей дается; во второй функции оно обращается к
абсолютному, свободному, в самом Я имеющему свое обоснование
стремлению, которое направляется на творчество и действительно творит через
идеальную деятельность; мы до сих пор не знаем еще его продукта и не в
состоянии еще его познать.
9. Желание есть, стало быть, первоначальное, совершенно независимое
обнаружение содержащегося в Я стремления. Независимое, так как оно не
принимает во внимание никакого ограничения и не задерживается этим.
(Это замечание имеет важное значение, так как со временем окажется, что
это желание является носителем всех практических законов и что их
надлежит распознавать только на том, будут ли они при этом выводимы из него
или нет.)
10. В желании через ограничение одновременно возникает также и
некоторое чувство принуждения, которое непременно должно иметь свое
основание в некотором Не~Я. Объект желания (тот самый, который был бы
действительно порождена, определенным через побуждение, если бы оно
обладало причинностью, и который предварительно можно назвать
идеалом) является вполне соразмерным и сообразным стремлению Я; тот же
объект, который мог бы быть полагаем через отношение чувства
ограничения к Я (и тоже, конечно, будет положен), противоречит стремлению Я.
Эти объекты, стало быть, сами противоположны друг другу.
11. Так как в Я не может быть никакого желания без чувства
принуждения, и наоборот, — то Я является в том и другом синтетически
объединенным одним и тем же Я. Тем не менее, благодаря этим определениям,
оно становится в явное противоречие с самим собою, будучи в одно и то же
время ограниченным и безграничным, конечным и бесконечным. Это
противоречие непременно должно быть преодолено, и мы обратимся теперь к
более отчетливому его растолкованию и удовлетворительному его
разрешению.
12. Желание, как сказано, направлено к тому, чтобы действительно
породить нечто за пределами Я. Но этого оно не в силах сделать; на это Я
вообще не способно, насколько мы видим, ни в одном из своих
определений. И тем не менее это направляющееся на внешнее побуждение должно
непременно осуществить то, что оно может. Может же оно воздействовать
452
Основа общего наукоучения
на идеальную деятельность Я, определять ее к исхождению из самой себя и
порождению некоторого нечто. Об этой способности порождения здесь не
место спрашивать: она сейчас будет генетически дедуцирована; зато нужно
дать ответ на следующий вопрос, который должен с необходимостью
встать перед каждым, кто мысленно идет вместе с нами. Почему же мы не
делали этого вывода раньше, несмотря на то, что первоначально мы взяли
за исходную точку некоторое побуждение к внешнему? Ответ на это гласит
так: Я не может со значимостью для самого себя (а ведь только об этом здесь и
идет речь, ибо для возможного зрителя мы уже выше получили этот вывод)
направляться на внешнее, не ограничив уже предварительно самого себя,
так как до этого для него не существует еще ничего ни внутреннего, ни
внешнего. Такое ограничение самого себя произошло через выведенное
выше самочувствие. Но в таком случае оно равным образом не может
направляться на внешнее, если только внешний мир не открывается ему как-
либо в нем самом. А это осуществляется лишь через желание.
13. Спрашивается, как и что порождается идеальной деятельностью
Я, определенной через желание? ВЯналично некоторое определенное
чувство = X. Далее, в Я налично некоторое устремляющееся к реальности
желание. Но реальность обнаруживается для Столько через чувство;
следовательно, желание стремится к некоторому чувству. Но чувство А" не есть
желанное чувство, так как в таком случае Я не чувствовало бы себя
ограниченным и желающим, и вообще не чувствовало бы себя; а чувствовало бы
скорее противоположное чувство X. Объект, который должен был бы
непременно существовать, если бы чувство -X должно было осуществиться в Я, и
который мы сами хотим называть -X, должен был бы непременно быть
порожден. И это был бы идеал. Если бы при этом объект А'(основание чувства
ограничения X) мог быть сам почувствован, то было бы нетрудно через
простое противоположение положить объект -X. Но это невозможно, так
как Я никогда не чувствует никакого объекта, а только самого себя;
породить же объект оно в состоянии только посредством идеальной
деятельности. Или же если бы Я могло вызвать в себе самом чувство -X, то оно было
бы в состоянии сравнить между собою непосредственно оба чувства,
подметить их различие и представить их в объектах как в их основаниях. Но Я
не в силах вызвать в себе никакого чувства; в противном случае оно
обладало бы причинностью, которой оно, однако, не должно иметь. (Тут есть
вторжение теоретического наукоучения: Я не может ограничивать себя
само.) Таким образом, перед нами не более и не менее как задача
умозаключить непосредственно от чувства ограничения, которое не допускает для
себя никакого дальнейшего определения, к объекту совсем
противоположного желания; задача состоит в том, чтобы Я породило этот объект просто
по указанию первого чувства через идеальную деятельность.
453
И. Г. Фихте
14. Объект чувства ограничения есть нечто реальное: объект желания
лишен какой бы то ни было реальности; но он должен иметь ее в силу
желания, так как оно направляется на реальность. Эти два объекта
противоположны друг другу, так как через один из них Я чувствует себя
ограниченным, к другому же стремится, чтобы выйти из пределов ограничения. Тем,
чем является один, другой не является. Вот что — и не более — можно пока
сказать об обоих.
15. Углубимся дальше в исследование. Я, согласно вышесказанному,
положило себя через свободную рефлексию над чувством как Я, сообразно
основоположению: само себя полагающее, то, что в одно и то же время
является и определяющим, и определенным, есть Я. Стало быть, #
определило, вполне описало и ограничило само себя в этой рефлексии (которая
обнаружилась как самочувствие). Оно является в ней абсолютно
определяющим.
16. На эту деятельность направляется обращенное к внешнему
побуждение; оно поэтому является в данном отношении некоторого рода
побуждением к деятельности определения, к видоизменению некоторого нечто
вне Я, реальности, данной уже вообще через чувство. Я было
определенным и определяющим в одно и то же время. Что оно побуждается
побуждением ко внешнему, это значит, что оно должно быть определяющим. Но
всякое определение предполагает некоторую доступную определению
материю. Должно быть непременно установлено равновесие; следовательно,
реальность остается по-прежнему тем, чем она была, —реальностью, чем-
то, что можно отнести к чувству; для нее как таковой, как только
материи, немыслимо никакое видоизменение, кроме уничтожения и всецелого
снятия. Но ее (реальности) существование является условием жизни; что
не живет, в том не может быть никакого побуждения, и никакое
побуждение живого не может устремляться к уничтожению жизни. Следовательно,
обнаруживающееся в Я побуждение отнюдь не направляется на материю
вообще, а на некоторое особое определение материи. (Нельзя сказать:
различная материя. Материальность — совершенно проста; можно сказать:
материя с различными определениями.)
17. Это определение через побуждение есть то, что чувствуется как
некоторое желание. Таким образом, желание устремляется отнюдь не к
порождению материи как таковой, а к ее видоизменению.
18. Чувство желания было невозможно без рефлексии над
определением Я через установленное побуждение, как то само собой понятно. Эта
рефлексия была невозможна без ограничения побуждения, и притом
именно побуждения к определению, которое одно только обнаруживается
в желании. Но всякое ограничение Я только чувствуется. Спрашивается,
что же это за чувство, в котором побуждение к определению чувствуегся как
ограниченное?
454
Основа общего наукоунения
19. Всякое определение осуществляется через идеальную
деятельность. Поэтому, если требуемое чувство должно быть возможно, то через
эту идеальную деятельность непременно должен был быть уже определен
некоторый объект, а это действие определения должно было бы
непременно быть отнесено к чувству. При этом возникают следующие вопросы:
1) Как может идеальная деятельность достигнуть возможности и
действительности этого определения? 2) Каково должно быть возможное
отношение этого определения к чувству?
На первый вопрос мы отвечаем так: уже выше было обнаружено
некоторое определение идеальной деятельности Я через побуждение,
которое непрестанно должно действовать, поскольку оно это может. Согласно
этому определению, ею должно было быть положено прежде всего
основание ограничения, как в остальном самим собою вполне определенный
объект, каковой объект именно потому не достигает и не может достигнуть
сознания. Затем тотчас же в Я было обнаружено некоторое побуждение к
определению как таковому; и, согласно этому побуждению, идеальная
деятельность должна прежде всего стремиться, направляться по меньшей
мере к тому, чтобы определить положенный объект. Мы не можем сказать,
как Я должно определять объект сообразно побуждению; но мы знаем по
меньшей мере то, что, согласно этому побуждению, имеющему свое
основание в глубинах его существа, оно должно быть определяющим, в процессе
определения просто, безусловно и исключительно деятельным началом. Но
может ли, если мы отвлечемся даже от уже известного нам чувства
желания,— уже .одной наличности коего достаточно для решения нашего
вопроса, — может ли, говорю я, это побуждение к определению из чистых
оснований a priori обладать причинностью быть удовлетворенным или же
нет? На его ограничении основывается возможность некоторого желания;
на возможности желания — возможность некоторого чувства; на этом
последнем — жизнь, сознание и духовное существование вообще.
Побуждение к определению не обладает поэтому, поскольку Я есть Я, никакою
причинностью. Но основание к тому не может лежать в нем самом, как не
могло это быть и выше при стремлении вообще, ибо в противном случае это не
было бы побуждение; основание этого лежит, следовательно, в некотором
противоположном стремлении Не-Яопределять самого себя, — в некоторой
его действенности, которая совершенно независимо от Я и его
побуждения, идет своим путем и руководится своими законами, подобно тому как
это побуждение руководится своими законами.
Если, стало быть, некоторый объект и определения его стоят сами по
себе, то есть являются порожденными собственной внутренней
действительностью природы (как мы это пока гипотетически предполагаем, но
тотчас же будем реализовать для Я); если, далее, идеальная (созерцающая)
455
И.Г. Фихте
деятельность Я вытолкнута во внешний мир побуждением, как мы это
показали, — в таком случае Я определяет и с необходимостью должно
определять объект. Оно руководится в этом определении побуждением и
устремляется к тому, чтобы определять объект согласно побуждению; но в то же
время оно находится под воздействием Не-Я и является ограниченным
этим последним, — действительной природой вещи, благодаря этому не
будучи в большей или меньшей степени в состоянии определять его
сообразно побуждению.
Этим ограничением побуждения ограничивается Я; как и при
всяком ограничении стремления и совершенно таким же образом благодаря
этому возникает некоторое чувство, которое здесь является чувством
ограничения Я не через материю, а через природу материи. И тем самым
одновременно оказывается решенным второй вопрос о том, как может
ограничение определения быть относимо к чувству.
20. Рассмотрим подробнее только что сказанное и постараемся
подтвердить его более решительными доказательствами.
а) Я, как то было выше показано, определило себя через абсолютную
самопроизвольность. Эта деятельность определения и есть то, на что
направляется подлежащее ныне исследованию побуждение и побуждает ее к
выходу во внешний мир. Если мы хотим основательно ознакомиться с
определением деятельности через побуждение, то нам надлежит прежде
всего основательно рассмотреть саму эту деятельность.
Ь).В действовании она была единственно и только рефлектирующей.
Она определяла Я в той форме, в какой она находила это последнее, не
внося в него никаких изменений; она была, можно сказать, исключительно
образующею. Побуждение не может и не должно в нее вкладывать ничего
такого, чего в ней нет: оно, стало быть, побуждает ее исключительно к
копированию того, что имеется налицо и в той форме, в какой это наличное на-
лично; оно побуждает только к созерцанию, отнюдь не к видоизменению
вещи через реальную действенность. Оно должно лишь вызвать в Я
некоторое определение в той форме, в какой это определение имеется в Не-Я.
с) Тем не менее рефлектирующее над самим собою Я должно было с
необходимостью в одном отношении в себе самом содержать мерило
своего рефлектирования. А именно: оно направлялось на то, что (realiter) было
в одно и то же время и определенным, и определяющим, и полагало его как Я.
То, что нечто подобное было налицо, зависело не от Я, поскольку мы
рассматриваем его как исключительно рефлектирующее. Но почему же оно не
рефлектировало над меньшим, над одним только определенным или над
одним только определяющим? и почему — не над большим? почему не
расширило оно объема своего предмета? Основание к тому также не могло
лежать вне его самого уже потому, что рефлексия осуществлялась с абсолют-
456
Основа общего наукоучения
ной самопроизвольностью. Потому оно необходимо должно было
исключительно в себе самом иметь то, что присуще всякой рефлексии, —
ограничение себя. Что это было так, явствует также еще и из другого
рассмотрения. Я должно было быть положено. "Определенное и в то же время
определяющее" было положено как Я. Рефлектирующее имело это мерило в
себе самом и привносило его в рефлексию; так как, рефлектируя абсолютно
самопроизвольно, оно само является в одно и то же время и определяющим и
определенным.
Что же, имеется ли у рефлектирующего также и для определения
Не-Я такой внутренний закон определения, и что это за закон?
На этот вопрос нетрудно ответить по выше уже приведенным
основаниям. Побуждение направляется на рефлектирующее Я в том виде, как
оно есть. Побуждение не в силах ни прибавить что-либо к Я, ни отнять у
него что-либо: внутренний закон определения его остается один и тот же.
Все, что должно стать предметом его рефлексии и его {идеального)
определения, с неизбежностью должно (realiter) быть "в одно и то же время и
определенным и определяющим"; это относится и к подлежащему
определению Не-Я. Субъективный закон определения состоит поэтому в
следующем: чтобы нечто было в одно и то же время и определенным и определяющим
или же — было определено через себя самого; и побуждение к определению
направляется к тому, чтобы обрести его таковым, и только при таком
условии подлежит удовлетворению. Оно требует определенности, совершенной
полноты и цельности, которая содержится только в этом признаке. То, что,
-поскольку оно есть определенное, не является одновременно также и
определяющим, есть постольку причиненное (bewirktes); и это причиненное как
нечто чужеродное исключено из вещи, отделено от нее той границей, которую
проводит рефлексия, и объяснено из чего-то другого. То, что, поскольку оно
есть определяющее, не является одновременно и определенным, есть
постольку причина, и определение является отнесенным к чему-то другому, и
в силу этого исключенным из сферы, положенной для вещи, посредством
рефлексии. Лишь постольку, поскольку вещь находится сама с собой во
взаимодействии, она является вещью, и притом одной и той же вещью.
Этот признак переносится на вещи из Я через побуждение к определению;
и это замечание имеет важное значение.
(Самые обыкновенные примеры помогают тут объяснению. Почему
сладкое или горькое, красное или желтое и т.д. являет собою некоторое
простое ощущение, которое нельзя разложить далее на несколько других,
или же почему оно является вообще некоторым для себя сущим
ощущением, а не частью какого-нибудь другого? Очевидно ведь, что основание
этого должно непременно заключаться в Я, для которого оно является
простым ощущением; в Я должен поэтому иметься a priori некоторый закон
ограничения вообще.)
457
И. Г. Фихте
d) Различие Я и Не-Я остается всегда наличным при такой
одинаковости закона определения. Если рефлексия совершается над Я, то и
рефлектирующее одинаково с рефлектируемым, составляет с ним одно и то
же, определенное и определяющее; если же рефлексия совершается над
Не-Я, то они противоположны, так как рефлектирующим, как то само
собою разумеется, всегда остается Я.
e) Вместе с тем этим дается строгое доказательство того, что
побуждение к определению направляется не на реальное видоизменение, а
лишь на идеальное определение, определение для Я, воспроизведение. То,
что может быть его объектом, необходимо должно realiter всецело
определяться через самого себя, и тогда для реальной деятельности Я не остается
ничего; скорее наоборот, она находилась бы с определением побуждения в
очевидном противоречии. Если Я realiter видоизменяет, то не дано то, что
должно было бы быть дано.
21. Спрашивается только, как и каким способом должно быть дано Я
определимое; и через разрешение этого вопроса мы еще глубже проникаем
в синтетическую связь подлежащих здесь установлению действий.
Я рефлектирует над собою как над определенным и определяющим в
одно и то же время и постольку ограничивает себя (оно идет до тех самых
пор, до каких идет и определенное с определяющим); но ведь нет
ограничения без некоторого ограничивающего. Это ограничивающее,
долженствующее быть противоположным Я, не может ведь, как то постулируется в
теории, быть порождаемо через идеальную деятельность, но непременно
должно быть дано Я, заключаться в нем. И, конечно, нечто подобное лмеет
место в Я, а именно — то, что исключается в этой рефлексии, как то было
показано выше. Я полагает себя лишь постольку как Я, поскольку оно есть
определенное и определяющее; но оно является и тем и другим только в
идеальном отношении. Его стремление к реальной деятельности является
ограниченным и постольку полагается как внутренняя, замкнутая, самое
себя определяющая сила (то есть определенным и определяющим в одно и
то же время), или же, так как она лишена проявления, — как интенсивная
материя. На эту последнюю как таковую обращается рефлексия, и, таким
образом, через посредство противоположения она выносится во внешний
мир, и нечто само по себе и первоначально субъективное превращается в
нечто объективное.
а) Тут совершенно ясно, откуда берется закон: Я не в состоянии
положить себя как определенное, не противоположив себе некоторого Не-Я.
А именно, мы могли бы с самого начала умозаключить, согласно такому,
теперь достаточно известному, закону, следующим образом: если Я
должно определять себя, то оно необходимо должно противопоставлять
458
Основа общего наукоучения
себе нечто; но так как мы здесь находимся в практической части
наукоучения и потому непременно всегда должны иметь в виду побуждение и
чувство, то мы должны были и сам этот закон вывести из некоторого
побуждения. Побуждение, которое первоначально направляется на внешнее,
производит то, что оно может, и так как оно не может воздействовать на
реальную деятельность, оно воздействует по меньшей мере на идеальную,
которая по своей природе совсем не может быть ограничена, и толкает ее во
внешний мир. Отсюда возникает противоположение; и таким образом
через побуждение и в нем связуются друг с другом все определения сознания,
а в особенности сознание Я и Не-Я.
Ъ) Субъективное превращается в нечто объективное; и наоборот, все
объективное первоначально есть нечто субъективное. Вполне
подходящего примера для этого нельзя привести, так как речь здесь идет о некотором
определенном вообще, которое есть лишь некоторое определенное, и ничего
более; но нечто подобное никак не может быть налично в сознании,
основание чего мы скоро увидим. Все определенное, если только оно должно
стать наличным в сознании, необходимо есть нечто особенное. И
примерами этого последнего рода можно с полной ясностью демонстрировать в
сознании высказанное выше утверждение. Пусть, например, нечто сладко,
кисло, красно, желто и т.п. Подобное определение, очевидно, есть нечто
исключительно субъективное; и мы не думаем, чтобы кто-либо, кто только
понимает эти слова, стал бы оспаривать это. Что такое сладко или кисло,
красно или желто, — этого безусловно нельзя описать, это можно только
чувствовать-; и другим этого нельзя сообщить никаким описанием, но
каждый человек непременно должен поставить предмет в связь со своим
собственным чувством для того, чтобы в нем возникло некоторое познание
моего ощущения. Сказать можно лишь следующее: во мне есть ощущение
горького, сладкого и т.п.; и больше ничего. Но предположим даже, что
другой поставил предмет в связь со своим чувством, — откуда же вам известно,
что знание вашего ощущения возникает в нем оттого, что он ощущает
одинаково с вами? откуда вы знаете, что, например, сахар производит на его
вкус совершенно такое же впечатление, какое он производит на ваш вкус?
Правда, вы называете сладким то, что возникает в вас, когда вы едите
сахар; и он, а равно и все ваши сограждане, тоже называют это вместе с вами
сладким; но ведь это — лишь согласие в словах. Откуда вам известно, что
то, что вы оба называете сладким, для другого является именно тем, чем
оно является для вас? И с этим никогда ничего не поделаешь; искомое
лежит тут в области субъективного и не имеет в себе никакой объективности.
Лишь при синтезе сахара с некоторым определенным, самим по себе
субъективным и только благодаря своей определенности вообще объективным
вкусом мы переносимся в область объективного. Такими исключительно
459
И. Г. Фихте
субъективными ссылками на чувство отправляется все наше познание; без
чувства невозможно никакое представление вещи вне нас.
И вот это определение вас самих вы переносите тотчас же на нечто
вне вас; то, что является собственно акциденцией вашего Я, вы
превращаете в акциденцию некоторой вещи, которая должна быть вне вас (будучи
понуждаемы к тому законами, которые достаточно определенно были
установлены в наукоучении), некоторой материи, которая должна
распространяться в пространстве и заполнять его. Что это материя сама, конечно,
может быть лишь чем-то в вас наличным, лишь чем-то исключительно
субъективным, относительно этого в вас давно уже должно было закрасться по
меньшей мере подозрение, ибо ведь вы в состоянии непосредственно без
присоединения какого бы то ни было нового чувства о такой материи
перенести на нее нечто, согласно вашему собственному признанию, только
субъективное; ибо, далее, подобная материя без подлежащего перенесения
на нее субъективного для вас вовсе не существует и потому является для вас
не чем иным, как нужным вам носителем подлежащего вынесению из вас
субъективного. Когда вы переносите на нее субъективное, то она, без
сомнения, налична в вас и для вас. Если бы она была первоначально вне вас и
проникла бы в вас извне ради возможности того синтеза, который вами
должен быть осуществлен, то она должна бы была войти в вас непременно
через чувства. Но чувства ведь доставляют нам только одно субъективное
вышеуказанного рода; материя как таковая отнюдь не попадает в чувства и
может быть начертана или помыслена только творческою силою
воображения. Ведь ни увидать ее, ни услыхать, ни почувствовать вкусом или
обонянием, разумеется, нельзя; но она попадает в чувство осязания (tactils) —
так мог бы, пожалуй, возразить неопытный в отвлечении человек. Но это
чувство заявляет о себе лишь через ощущение некоторого сопротивления,
некоторой немощи, которая субъективна; сопротивляющееся ведь, надо
думать, не чувствуется при этом, а о нем только умозаключают. Это чувство
касается только поверхности, поверхность же заявляет о себе всегда через
посредство чего-либо субъективного — например, что она шероховата или
нежна, холодна или тепла, жестка или мягка и т.п.; оно никогда не
проникает внутрь тела. Но почему вы тотчас же распространяете это тепло или
этот холод, который вы чувствуете (следуя за рукой, через которую вы его
чувствуете), на целую обширную поверхность, а не сосредоточиваете его в
какой-либо одной точке?15* И, далее, как это вы приходите к тому, чтобы
предполагать между поверхностями еще какую-то внутренность тела,
которой вы, однако, не чувствуете? Это совершается, очевидно, через
творческую силу воображения. И, тем не менее, вы все же считаете эту
15* В одном пункте, который вы чувствуете? {Заметка на полях.)
460
Основа общего наукоучения
материю чем-то объективным и делаете это с полным правом на то, так как
вы всергласны, да и должны быть согласны, относительно ее
наличности, i^6o ее порождение основывается на некотором общем законе
всякого разума.
22., Побуждение было направлено на рефлектирующую над собою •
деятельность этого последнего как таковую, определяющую себя самое как
Я. В определении через его посредство, таким образом, с очевидностью
заключается, что началом, определяющим вещь, должно быть Я, а потому
заключается и то, что в этом процессе определения Я должно
рефлектировать над самим собою. Оно принуждено рефлектировать, то есть полагать
себя как определяющее. (Мы вернемся к этой рефлексии. Здесь же мы
рассматриваем ее лишь как простое вспомогательное средство для того, чтобы
нам двинуться дальше в нашем исследовании.)
23. Деятельность Я едина и не может одновременно направляться на
несколько объектов. Она должна была определять Не-Я, которое мы хотим
называть^. Теперь Я должно в этом самом процессе определения через ту же
самую деятельность, как то само собою разумеется, рефлектировать над
самим собою. Это же невозможно без того, чтобы действие определения (этого
X) не было прервано. Рефлексия Я над самим собою совершается с
абсолютной самопроизвольностью, следовательно, — также совершается и
такой перерыв. Я абсолютно самопроизвольно прерывает действие
определения.
24. Таким образом, Я является ограниченным в процессе
определения, и отсюда возникает некоторое чувство. Я является ограниченным
потому, что побуждение определения устремлялось при этом ко внешнему безо
всякого определения, то есть шло в бесконечность. Побуждение имело в
себе вообще правило рефлектировать над определенным самим собою
realiter как над одним и тем же; но оно не имело в себе никакого закона,
который требовал бы, чтобы это определенное — в нашем же случае X —
доходило до В или С и т.д. Теперь этот процесс определения оказывается
прерванным в определенной точке, которую мы будем обозначать как С. (Что
это за ограничение, нужно оставить пока без рассмотрения; но нужно
остерегаться и не иметь при этом в виду ограничения в пространстве. Здесь
речь идет об ограничении интенсивности, например, о том, что отделяет
сладкое от кислого и т.п.) Итак, тут имеется некоторое ограничение
побуждения к определению как условие некоторого чувства. Далее, тут есть
некоторая рефлексия над этим как другое условие этого чувства. Ибо,
прерывая процесс определения объекта, свободная деятельность Я направляется
на процесс определения, и ограничение направляется на него во всем его
объеме, который именно благодаря этому становится некоторым объемом.
Однако же Я не сознает этой свободы своего действования; поэтому огра-
461
И. Г. Фихте
ничение приписывается вещи. Это — чувство ограничения Я через
определенность вещи или же чувство чего-то определенного, простого. j
25. Перейдем теперь к описанию той рефлексии, которая становится
на место прерванного и через некоторое чувство обнаруживающего себя
как прерванный процесса определения. В ней Я должно полагать себя как
Я, то есть как нечто само себя определяющее в действии. Ясно, что нечто
положенное в качестве порождения Я не может быть ничем другим, кроме
как некоторым созерцанием X, некоторым образом этого последнего, но
отнюдь не самим этим Л', как то явствует из теоретических
основоположений и даже из вышесказанного. Что это нечто полагается как порождение
Я в его свободе, означает, что оно полагается как нечто случайное, как
нечто такое, что не должно было быть с необходимостью таким, каково оно
есть, но могло бы быть и иным. Если бы Я сознавало свою свободу в
процессе образования этого образа (вновь рефлектируя о самой настоящей
рефлексии), то образ был бы положен как нечто случайное по отношению к Я.
Но такая рефлексия не имеет места; потому образ неизбежно должен быть
положен как нечто случайное по отношению к некоторому другому Не-Я,
которое для нас пока еще совершенно неизвестно. Рассмотрим сказанное
сейчас в общих чертах полнее.
Чтобы соответствовать закону определения, X должно было быть
определено через самого себя (быть одновременно определенным и
определяющим). И оно является таким в силу нашего постулата. Далее,
благодаря наличному чувству X должно идти до С и не дальше; но и определено
оно должно быть также только до этих пор. (Что это должно означать,
скоро выяснится.) В Я определяющем или созерцающем idealiter не
содержится никакого основания для этого определения. Оно не обладает для этого
никаким законом. (Что же, доходит ли само себя определяющее Я только
до этих пор? Но отчасти можно Показать, что такое Я, будучи
рассматриваемо исключительно само по себе, устремляется дальше, то есть в
бесконечность; отчасти же, если бы даже там, в вещи, и должно было
содержаться какое-нибудь различие, то как проникает оно в круг деятельности
идеального Я? Как становится оно доступным для этого последнего, раз это Я
не имеет с Не-Я никакой точки соприкосновения и лишь постольку
является idealiter деятельным, поскольку оно не имеет такой точки
соприкосновения и не является ограниченным через Не-Я? Выражаясь более
простым языком: почему сладкое есть нечто другое, чем кислое, и ему
противоположно? Нечто определенное вообще представляют собою и то и другое.
Но, помимо этого общего характера, каково основание их различия? Оно
не может заключаться в одной только идеальной деятельности, так как о
том и о другом не может быть понятия. Тем не менее хоть отчасти оно
непременно должно заключаться в Я, так как ведь это — некоторое различие
для Я.)
462
\ Основа общего наукоучения
Таким образом, идеальное Я с абсолютной свободой парит и над
границей,« внутри границы. Его граница совершенно неопределенна. Может
ли оно пребывать в таком положении? Ни в коем случае; ибо оно должно
теперь, в силу постулата, рефлектировать о самом себе в этом созерцании,
следовательно, полагать себя в нем определенным, так как ведь всякая ре-
флексия\предполагает определение.
Правило определения вообще, разумеется, нам известно; нечто
является определенным лишь постольку, поскольку оно определяется
самим собою. Поэтому Я должно было бы в таком созерцании А" полагать
самому себе границу своего собственного созерцания. Оно должно было бы
определять себя через самого себя, полагать именно точку С как
пограничную точку; избыло бы таким образом определено через абсолютную
самопроизвольность Я.
26. Но — и этот аргумент имеет важное значение — X есть нечто
такое, что, согласно закону определения вообще, определяет себя через
самого себя; и оно является лишь постольку предметом постулированного
созерцания, поскольку оно определяет себя через самого себя. Хоть мы и
говорили до сих пор исключительно только о внутреннем определении
сущности, но внешнее определение границы вытекает отсюда
непосредственно. X=Х, поскольку оно одновременно и определено, и определяет, и
оно распространяется до тех пор, до каких оно является таковым,
например, до С. Если Я должно ограничивать А' правильно и как это требуется в
настоящем случае, то оно вынуждено ограничивать его в С; и потому
нельзя было бы сказать, что ограничение совершается через абсолютную
самопроизвольность. Эти утверждения противоречат друг другу, и это
должно бы сделать нужным некоторое различение.
27. Но ограничение в С16* только чувствуется, а не созерцается.
Свободно же положенное ограничение должно только созерцаться, а не
чувствоваться. Однако то и другое — и созерцание и чувство — ничем между
собой не связаны. Созерцание видит, но оно пусто; чувство относится к
реальности, но оно слепо. Тем не менее в действительности ^должно быть
ограничено и притом так, как оно ограничено. Поэтому требуется
некоторое объединение, некоторая синтетическая связь чувства и созерцания.
Исследуем еще обстоятельнее это последнее, и это приведет нас незаметно
для нас самих к той точке, которую мы ищем.
28. Созерцающее должно ограничивать X через абсолютную
самопроизвольность и притом так, чтобы X являлось ограниченным
исключительно самим собою, — таково было требование. Оно выполняется в том
случае, если идеальная деятельность силой своей абсолютно творческой
** X в С. {Заметка на полях.)
463
И. Г. Фихте
способности полагает некоторое Уза пределами А" (в точке B.C.D. и У.д., так
как определенная пограничная точка не может быть ни положена самой
идеальной деятельностью, ни дана ей непосредственно). Это Y как
противоположное некоторому нечто вынуждено 1) само быть чем-то/ то есть
определенным и определяющим в одно и то же время, согласно закону
определенности вообще; 2) оно должно быть противоположноХчЫ же его
ограничивать, то есть У относится к X, поскольку это последнее 1является
определяющим, не как определенное, а поскольку оно является
определенным, Y относится к нему не как определяющее; и наоборот. Должно
быть невозможно охватить то и другое вместе, рефлектировать о них как об
одном и том же. (Следует, конечно, заметить, что здесь речь идет не об
относительном определении или ограничении, каковое отношение,
разумеется, существует между ними; но речь идет тут о внутреннем определении и
ограничении, и такого отношения между ними нет. Каждая возможная
точкам находится во взаимодействии с каждой возможной точкой X; и
также точно обстоит дело в Y. Но затоне находится во взаимодействии каждый
возможный пункт Хс каждым возможным пунктом Yу и наоборот. То и
другое представляют собою нечто; но каждое из них есть нечто другое; и
только благодаря этому мы впервые приходим к постановке и разрешению
вопроса о том, что же они такое. Вне противопоставления всё Не-Я есть в
своем целом нечто, но только какое-либо определенное, особое нечто; и
вопрос о том, что такое то или это17*, лишен всякого смысла, так как ответ
на него получается исключительно лишь через посредство
противопоставления.)
Вот то, к чему побуждение определяет идеальную деятельность;
согласно вышеприведенному правилу, нетрудно вывести закон требуемого
действия, а именно: А" и У должны взаимно исключать друг друга. Мы
можем назвать это побуждение, поскольку оно, как здесь, устремляется к
одной только идеальной деятельности, побуждением к взаимоопределению.
29. Пограничная точка С полагается исключительно лишь через
чувство; следовательно, и Y, лежащее за пределами С, поскольку оно должно
начинаться именно в С, тоже может быть дано только через отнесение к
чувству. Единственно чувство объединяет тот и другой момент в границе.
Побуждение взаимоопределения направляется поэтому одновременно и
на некоторое чувство. В нем, стало быть, внутренне объединены идеальная
деятельность и чувство; в нем все Я — едино. И мы можем назвать его
постольку побуждением ко взаимосмене вообще. Это оно обнаруживается через
желание; объект желания есть нечто другое, нечто противоположное
наличному.
,7* Без противоположения. (Заметка на полях.)
464
\ Основа общего наукоучения
В желании идеальность и побуждение к реальности тесно
объединены дгАг с другом. Желание направляется на нечто другое; это возможно
только) если предположить некоторое предшествующее определение через
идеальную деятельность. Далее, в нем обнаруживается побуждение к
реальности (как ограниченной), так как оно чувствуется, а не мыслится и не
представляется. Здесь обнаруживается, как в некотором чувстве может
совершаться процесс побуждения ко внешнему, стало быть, как может в нем
осуществляться предчувствие некоторого внешнего мира, так как оно
видоизменяется при этом как раз через идеальную деятельность, которая
свободна от всякого ограничения. Здесь обнаруживается, далее, как возможно
обратное отнесение некоторой теоретической функции духа к
практической способности; что непременно должно было быть возможно, если
только разумное существо должно было когда-нибудь стать своего рода
законченным целым.
30. Чувство не зависит от нас, так как оно зависит от некоторого
ограничения. Я же само себя не может ограничивать. Тут должно привзой-
ти некоторое противоположное чувство. Вопрос в том, осуществится ли
внешнее условие, при котором только и возможно такое чувство? Оно
непременно должно осуществиться. Если оно не осуществляется, то Я не
чувствует ничего определенного; значит, оно не чувствует совсем ничего; оно,
стало быть, не живет и не есть Я, что противоречит предположению
наукоучения.
31. Чувство некоторого противоположного является условием
удовлетворения побуждения; следовательно, побуждение к взаимосмене чувств
вообще есть желание. Желанное оказывается, таким образом,
определенным, но единственно лишь через предикат, гласящий, что оно должно
быть чем-то другим™* для чувства.
32. Однако Я не может сразу чувствовать двух вещей, ибо оно не
может быть одновременно ограниченным в С к не ограниченным в С. Стало
быть, изменившееся состояние не может чувствоваться как изменившееся
состояние. Другое должно было бы поэтому созерцаться только через
идеальную деятельность как нечто другое и настоящему чувству
противоположное. Таким образом, в Я всегда с необходимостью были бы наличны
созерцание и чувство, и оба были бы синтетически объединены в одной и той
же точке.
Но, далее, идеальная деятельность не может замещать собою
никакого чувства и никакого чувства не в состоянии породить; она была бы в
состоянии определять свой объект поэтому только тем, что не допускала бы
его. быть чувствуемым, тем, что позволяла бы ему иметь все возможные
,8* Чем-то изменяющимся. (Заметка на полях.)
465
И. Г. Фихте
определения, за исключением того, которое налично в чувстве. Благодаря
этому вещь остается для идеальной деятельности навсегда только
отрицательно определенной; и чувствуемое остается тоже благодаря этому
неопределенным. И тут нельзя придумать никакого другого средства
определения, кроме до бесконечности продолжаемой отрицательной
деятельности определения.
(И так оно обстоит на самом деле. Что означает собою, например,
сладкое? Прежде всего нечто такое, что относится не к зрению, слуху и т.д.,
а ко вкусу. Что такое вкус, это вы должны знать уже из ощущения и можете
представить себе посредством силы воображения, но только смутно и
отрицательно (в синтезе всего того, что не является вкусом). Далее, среди
всего того, что относится к сфере вкуса, сладкое есть не кислое, не горькое и
т.д., — сколько бы отдельных определений вкуса вы тут ни перечисляли.
Если же вы перечислили уже все вам известные вкусовые ощущения, то
вам могут быть даны все новые и новые неизвестные еще вам ощущения, о
которых вы будете тогда судить следующим образом: они суть не сладкое.
Таким образом, граница между сладким и всеми известными вам
вкусовыми ощущениями продолжает еще оставаться бесконечной.)
Единственным подлежащим разрешению был бы в таком случае еще
следующий вопрос: как это доходит до идеальной деятельности, что
состояние чувствующего изменилось? Предварительный ответ: это
обнаруживается через удовлетворение желания, через некоторое чувство; из этого
обстоятельства должно последовать много важных выводов.
• ВОСЬМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
V/ами чувства должны допускать
противоположение между собою.
1. Я должно через идеальную деятельность противополагать
некоторый объект У объекту А"; оно должно полагать себя как измененное. Но оно
полагает Y, лишь будучи побуждено к тому некоторым чувством, и притом
некоторым другим чувством. Идеальная деятельность зависит только от
себя самой и не зависит от чувства. В Я имеется в наличности некоторое
чувство Х\ и в этом случае, как то было показано, идеальная деятельность не в
состоянии ограничить объект X, не в состоянии показать, что он собою
представляет. Но в Я должно возникнуть некоторое другое чувство Y,
согласно нашему постулату; и теперь идеальная деятельность должна быть в
состоянии определять объект Х> то есть противоположить ему некоторое
определенное Y. Изменение и взаимосмена в чувстве должны, значит, быть
в состоянии оказать влияние на идеальную деятельность. Спрашивается,
как могло бы это случиться?
2. Сами чувства различны для какого-либо созерцателя вне Я; но они
должны быть различны для самого Я, то есть они должны быть положены
как противоположные. Это же — удел одной только идеальной
деятельности. Стало быть, для того, чтобы оба чувства могли быть положены, они
непременно должны быть положены синтетически объединенными, но в то
же время и противоположными. Нам надлежит, таким образом, ответить
на три вопроса: а) как полагается некоторое чувство? Ь) как чувства
синтетически объединяются через полагание? с) как они противополагаются?
3. Что некоторое чувство полагается через идеальную деятельность,
это можно мыслить себе только следующим образом: Я рефлектирует без
всякого самосознания о некотором ограничении своего побуждения.
Отсюда прежде всего возникает некоторое самочувствие. Я рефлектирует
опять-таки об этой рефлексии или же полагает себя в ней как определенное
и определяющее в одно и то же время. Благодаря этому чувствование само
становится некоторого рода идеальным действием, в результате на него
переносится идеальная деятельность. Я чувствует или же, точнее, ощущает
467
И. Г. Фихте
нечто, материю. Это — рефлексия, о которой уже выше шла речь и через
которую X впервые становится объектом. Через рефлексию над чувством
это последнее становится ощущением.
4. Через идеальное полагание чувства синтетически объединяются.
Основанием их отношения не может быть ничто другое, кроме как
основание рефлексии над обоими чувствами. Такое же основание рефлексии
заключалось в следующем: так как иначе не было бы удовлетворено
побуждение к взаимоопределению и не могло бы быть положено как
удовлетворенное и так как, если это не осуществляется, то не существует никакого
чувства, а в таком случае — и вообще никакого Я. Стало быть, синтетическое
основание объединения рефлексии об обоих состоит в том, что без
рефлексии об обоих не может быть рефлексии ни об одном из них как над некоторым
чувством.
При каком условии рефлексия об отдельном чувстве не
осуществляется, нетрудно понять. Каждое чувство есть неизбежно некоторое
ограничение Я; поэтому если Я не ограничено, то оно не чувствует; и если оно не
может быть положено как ограниченное, то оно не может быть положено
как чувствующее. Если бы поэтому между двумя чувствами существовало
такое отношение, что одно из них было бы ограничено и определено только
через другое, то нельзя было бы — так как ни о чем нельзя рефлектировать,
не рефлектируя о его границе, здесь же границей одного чувства является
каждый раз другое чувство — рефлектировать ни об одном, ни о другом, не
рефлектируя об обоих вместе.
5. Если чувства должны находиться в этом отношении, то в каждом
из них непременно должно заключаться нечто такое, что указывает на
другое. Подобную связь мы нашли и в действительности. Мы открыли
некоторое чувство, которое оказалось связанным с некоторым желанием, а
потому—с некоторым побуждением к изменению. Если это желание должно
быть вполне определено, то непременно должно быть установлено другое,
желанное. А такое другое чувство ведь на самом деле было постулировано.
Оно может определять Я как ему угодно; поскольку оно является
некоторым желанным19*, и притом определенным желанным, оно принуждено
стать в определенное отношение к первому и с учетом его должно быть
сопровождаемо некоторым чувством удовлетворения. Чувство желания не
может быть положено без некоторого удовлетворения, к которому оно
устремляется; и удовлетворение не может быть положено без
предположения некоторого желания, которое удовлетворяется. Где прекращается
желание и наступает удовлетворение, там проходит граница.
'* Определенным желанным. {Заметка на полях.)
468
Основа общего наукоучения
6. Вопрос еще только в том, как обнаруживается удовлетворение в
чувстве? Желание было обязано своим возникновением некоторой
невозможности процесса определения, так как отсутствовало ограничение; в
нем, стало быть, идеальная деятельность и побуждение к реальности были
объединены друг с другом. Как только возникает некоторое другое
чувство, становится: 1) возможным требуемое определение, полное
ограничение X, а затем оно и действительно осуществляется, так как для этого в
наличности имеются и побуждение и сила; 2) именно из того, что оно
осуществляется, следует, что существует некоторое другое чувство. В чувстве
самом по себе как ограничении нет и не может быть никакого различия. Но
из того, что является возможным нечто такое, что не было возможно без
изменения чувства, следует, что состояние чувствующего изменилось;
3) побуждение и действие теперь одно и то же; определение, которого
требует первое, оказывается возможным и осуществляется. Я рефлектирует
об этом чувстве и о самом себе в нем как определяющее и определенное в
одно и то же время, как совершенно согласное с самим собою; и такое
определение чувства можно назвать одобрением. Чувство сопровождается
одобрением.
7. Я не может полагать этого согласия между побуждением и
действием, не различая то и другое; но оно не в состоянии различать их, не
полагая нечто такое, в чем они являются противоположными друг другу. И
таковым является предшествующее чувство, которое поэтому неизбежно
сопровождается некоторым неудовольствием (противоположностью
одобрения, обнаружением дисгармонии между побуждением и действием). Не
всякое желание необходимо сопровождается неудовольствием; но если
оно оказывается удовлетворенным, то возникает неудовольствие по
поводу предыдущего; оно становится пустым, безвкусным.
8. Объектен Y, которые полагаются через идеальную деятельность,
оказываются теперь определенными уже не только через одно
противопоставление, но и через предикаты неприятный и приятный. И такое
определение продолжается в бесконечность, и внутренние определения вещей
(которые стоят в связи с чувством) оказываются не чем иным, как
степенями неприятного или приятного.
9. До сих пор такая гармония или дисгармония, одобрение или
неудовольствие (как согласование или несогласование двух различностей, а
не как чувство) являются налицо лишь для возможного наблюдателя, а не
для самого Я. Но то и другое должны быть наличны также и для этого
последнего и должны быть им положены — только ли идеально через
посредство созерцания или же через некоторое отношение к чувству, этого мы
пока еще не знаем.
469
И. Г. Фихте
10. Для того, что должно быть либо идеально положено, либо
почувствовано, непременно должно быть возможно указать некоторое
побуждение. Ничто наличное в Я не налично в нем без побуждения. Поэтому
непременно должно быть возможно указать некоторое побуждение,
устремляющееся к такой гармонии.
11. Гармонирующим является то, что позволяет рассматривать себя
одновременно как определенное и определяющее. При этом, однако,
гармонирующее должно представлять собою не нечто единое, а некоторую
гармонизирующую двойственность. Таким образом, отношение было бы
следующим: А должно быть в самом себе вообще определенным и
определяющим в одно и то же время; совершенно так же и В. Но, сверх того, в них
обоих необходимо должно быть некоторое особое определение
(определение того, до какой степени), по отношению к которому Л является
определяющим, если В полагается как определенное, и наоборот.
12. Такое побуждение содержится в побуждении ко
взаимоопределению. Я определяет X через Y, и наоборот. Присмотримся к его действова-
нию в обоих этих определениях. Каждое из этих действий, очевидно,
определено через другое, так как объект каждого из них определяется через
объект другого. Это побуждение можно назвать побуждением ко
взаимоопределению. Я через самого себя или же побуждением к абсолютному
единству и завершению Я в себе самом. (Круг теперь пройден: побуждение к
определению — сначала к определению Я; затем, через посредство этого
последнего, — к определению Не-Я; а так как Не-Я представляет собою
нечто многообразное, а потому не что-либо отдельное в себе и может быть
вполне определено через самого себя, то побуждение к определению" его
через взаимосмену; побуждение ко взаимоопределению Я самим собою
посредством такой взаимосмены. Таким образом мы имеем некоторое
взаимоопределение Я и Не-Я, которое благодаря единству субъекта должно
стать некоторого рода взаимоопределением Я через самого себя. Так,
согласно прежде установленной уже схеме, оказываются пройденными и
исчерпанными способы действования Я, и это обеспечивает полноту нашей
дедукции главных побуждений Я, так как эта дедукция завершает и
заканчивает систему побуждений.)
13. Гармонизирующее, взаимно через самого себя определенное,
должно быть побуждением и действием, а) Должно быть возможно
рассматривать то и другое как само по себе определенное и определяющее в одно
и то же время. Побуждением такого рода было бы побуждение, которое
порождало бы абсолютно себя само, некоторое абсолютное побуждение,
некоторое побуждение ради побуждения. (Если выразить это в форме закона,
как то и должно быть непременно сделано, ради этого определения на
некоторой определенной ступени рефлексии, то это будет некоторый закон
470
Основа общего наукоучения
ради закона, некоторый абсолютный закон или же категорический
императив — ты должен безусловно.) Нетрудно заметить, где при таком
побуждении находится неопределенное, а именно: оно толкает нас в
неопределенное, без цели (категорический императив только формален, не имея
никакого предмета), б) Что некоторое действие одновременно является и
определенным и определяющим, означает, что действие делается потому,
что оно делается, притом ради самого действия или же с абсолютным
самоопределением и свободой. Все основание и все условия действования
содержатся тут в самом действовании. Где тут находится неопределенное,
обнаруживается тоже сразу: нет действия без объекта; поэтому здесь действие
должно было бы одновременно доставлять самому себе объект, что
невозможно.
14. Но ведь между обоими моментами, между побуждением и
действием должно быть то отношение, что они взаимно определяют друг
друга. Такое отношение требует прежде всего, чтобы действие допускало
рассмотрение себя как чего-то порожденного через побуждение. Действие
должно быть абсолютно свободным, стало быть, не должно быть ничем
определено непреодолимым образом, стало быть, также и через
побуждение. Но оно все же может обладать такими свойствами, что его можно
будет рассматривать как определенное или не определенное через
побуждение. Как же обнаруживается эта гармония или дисгармония, — вот
подлежащий разрешению вопрос, ответ на который отыщется сейчас сам
собою.
Затем это отношение требует, чтобы было возможно полагать
побуждение как определенное через действие. В Я не может быть в одно и то же
время ничего противоположного. Но побуждение и действие тут
противоположны. Как только, значит, появляется некоторое действие,
побуждение оказывается прерванным и ограниченным. Отсюда возникает
некоторое чувство. На возможное основание этого чувства направляется
действие, полагает, осуществляет его.
Если, согласно вышеприведенному требованию, действие
определяется через побуждение, то определенным через него оказывается также и
объект; он оказывается соответствующим побуждению именно тем, чего
оно требует. Побуждение оказывается теперь (idealiter) определенным
через действие; ему должен быть приписан тот предикат, что это — именно
такое побуждение, которое стремилось к этому действию.
Теперь есть налицо гармония, и возникает некоторое чувство
одобрения, которое здесь является чувством удовлетворенности, выполнения,
полного завершения (которое, однако же, длится в силу неизбежно
возвращающегося опять желания лишь один момент). Если действие не
определено через побуждение, то объект оказывается противостоящим побужде-
471
И.Г. Фихте
нию, и тогда возникает некоторое чувство недовольства,
неудовлетворенности, раздвоения субъекта с самим собою. И в таком случае побуждение
тоже является доступным определению через действие, но только
отрицательно; оно не было таким побуждением, которое имело в виду это
действие.
15. Действие, о котором здесь идет речь, есть, как и повсюду,
действие только идеальное, действие через представление. И наша
чувственная действенность в чувственном мире, в которую мы верим, доходит до нас
не иначе как через представление.
О ДОСТОИНСТВЕ
ЧЕЛОВЕКА
Не как исследование, но как излияние
порыва чувства после исследования
посвящает эти листы своим доброжелателям
и друзьям в воспоминание о блаженных
часах, которые пережил он с ними в общем
стремлении к истине.
Автор
JVlbi до конца измерили
человеческий дух, мы положили основание, на котором может быть построена
научная система как найденное изложение изначальной системы в
человеке. Мы делаем в заключение краткий обзор целого.
Философия учит нас все отыскивать в Я. Впервые через Я входит
порядок и гармония в мертвую и бесформенную массу. Только с помощью
человека распространяется господство правил вокруг него до границ его
наблюдения, и насколько он продвигает дальше это последнее, настолько
продвигаются дальше порядок и гармония. Его наблюдение указывает в
бесконечном многообразии каждому свое место, чтобы ничто не
вытесняло другое, оно вносит единство в бесконечное разнообразие. Благодаря ему
держатся вместе мировые тела и становятся единым организованным
телом, благодаря ему вращаются светила по указанным им путям. Через Я
утверждается огромная лествица ступеней от лишая до серафима, в нем —
система всего мира духов, и человек имеет право ожидать, что закон,
который он дает себе и этому миру, должен иметь силу для него; он имеет право
ждать его общего признания в будущем. В Я верное ручательство, что от
него будут распространяться в бесконечность порядок и гармония там, где их
еще нет, что одновременно с подвигающейся вперед культурой человека
будет развиваться и культура вселенной. Все, что теперь еще бесформенно
и беспорядочно, придет благодаря человеку в прекраснейший порядок, а
то, что теперь уже гармонично, будет, согласно законам, доселе еще не
развитым, становиться все гармоничнее. Человек будет вносить порядок в
хаос и план в общее разрушение, с его помощью самое тление будет строить и
смерть будет призывать к новой прекрасной жизни.
Таков человек, если мы рассматриваем его только как наблюдающий
ум; что же он есть, если мы мыслим его как практически деятельную
способность?
Он вкладывает не только необходимый порядок в вещи, он дает им
также и тот, который он произвольно выбрал; там, где он вступает,
пробуждается природа; под его взглядом готовится она получить от него новое,
более прекрасное создание. Уже его тело — самое одухотворенное, что
475
И. Г. Фихте
только могло образоваться из окружающей его материи; в его атмосфере
воздух становится легче, климат мягче и природа проясняется в надежде
превратиться через него в жилище и хранительницу живых существ.
Человек предписывает сырому веществу организоваться по его идеалу и
предоставить ему материал, в котором он нуждается. Для него то, что раньше
было холодным и мертвым, вырастает в питающее зерно, в освежающий
плод, в оживляющую виноградную лозу; и вещество вырастет для него во
что-нибудь другое, если он предпишет ему иначе. Вокруг него
облагораживаются животные, под его осмысленным взглядом они отрешаются от
своей дикости и получают более здоровую пищу из рук своего повелителя, за
которую они ему воздают добровольным послушанием.
Более того, вокруг человека облагораживаются души; чем больше
кто-либо — человек, тем глубже и шире действует он на людей, и то, что
носит истинную печать человечности, будет всегда оценено человечеством;
каждому чистому проявлению гуманности открывается каждый
человеческий дух и каждое человеческое сердце. Вокруг высшего человека люди
образуют среду, в которой приближается больше всего к центральной точке
тот, кто отличается наибольшею гуманностью.
Человеческие души стремятся объединиться и образовать единый
дух во многих телах. Все суть один рассудок и одна воля и участвуют тогда
как сотрудники в великом, единственно возможном плане человечества.
Высший человек мощно подъемлет свой век на более высокую ступень
человечества; оно оглядывается назад и изумляется той пропасти, через
которую оно пронеслось; десницей великана выхватывает высший человек из
летописи рода человеческого все то, что он может схватить..
Разбейте ту хижину из праха земного, в которой он живет! По своему
существованию он безусловно независим от всего, что вне его; он есть
только через себя самого; и уже в хижине из праха он имеет чувство этого
существования — в моменты своего подъема, когда время и пространство и
все, что не есть он сам, исчезает для него, когда его дух с силой отделяется
от тела и затем опять добровольно возвращается в него, дабы преследовать
цель, которой он может добиться, только находясь в теле. Разделите две
последние, соседние пылинки, которые теперь его окружают, он все же будет
существовать, и существовать он будет, потому что он этого захочет. Он
вечен через себя самого и собственной силой.
Стесняйте, расстраивайте его планы! Вы можете задержать их, но что
значит тысяча и паки тысяча лет в летописи человечества? То же, что
легкий утренний сон при пробуждении. Высший человек пребывает и
продолжает действовать', и то, что кажется вам исчезновением, есть только
расширение его сферы; что вам кажется смертью, есть его зрелость для
высшей жизни. Краски его планов и внешние формы их могут для него исчез-
476
О достоинстве человека
нуть, план же его останется тот же; в каждый момент своего существования
он выхватывает и вводит в свой круг действия что-либо новое из внешней
среды и не перестанет выхватывать, доколе не поглотит всего в этом круге,
доколе вся материя не будет носить печати его действия и все духи не
образуют единый дух с его духом.
Таков человек; таков каждый, кто может самому себе сказать: Я—
человек. Не должен ли он испытывать священного благоговения перед самим
собой, трепетать и содрогаться перед собственным своим величием? Таков
каждый, кто может мне сказать: Яесмь. Где бы ты ни жил, ты, что носишь
человеческий образ, приближаешься ли ты к животным, под палкой
погонщика сажая сахарный тростник, или греешься на берегах Огненной
Земли у огня, который не сам ты зажег, пока он не погаснет, и только
плачешь, что он не хочет сам себя поддерживать, являешься ли ты мне самым
жалким и отвратительным злодеем, все-таки ты — то же, что и я, ибо ты
можешь сказать мне: Яесмь. Ты все же мой товарищ, мой брат. О, я стоял,
конечно, когда-то на той же ступени человечества, на которой стоишь ты
теперь, ибо это есть одна из ступеней человечества и на этой лествице нет
скачков; быть может, я стоял бы на ней без способности ясного сознания;
быть может, я так быстро и торопливо над ней поднялся, что не имел
времени возвести в сознание мое состояние; но я, разумеется, стоял некогда
там, и ты будешь неизбежно там, где я теперь, и продолжится ли это
миллионы и миллионы раз миллионы лет — что есть время? — ты неизбежно
будешь стоять когда-нибудь на той же ступени, на которой я теперь стою;
ты будешь стоять на той ступени, на которой я могу на тебя и ты на меня
можешь воздействовать. Ты также будешь когда-нибудь вовлечен в мой
круг и вовлечешь меня в твой; я признаю тебя также когда-нибудь, как
сотрудника в моем великом плане. Для меня, который есмь Я — таков
каждый, который есть Я. Как же мне не содрогаться перед величием
человеческого образа и перед Божеством, которое, быть может, и в таинственном
сумраке, но, однако же, неизбежно живет в храме, носящем печать этого
образа.
Земля и небо, время и пространство и все границы чувственности
исчезают для меня при этой мысли; как же не исчезнет для меня и индивид? К
нему я не приведу вас обратно!
Все индивиды заключаются во Едином великом Единстве чистого Духа и,
пусть будет это — то последнее слово, которым я вверяю себя вашей памяти;
и пусть это будет именно та память обо мне, которой я себя вверяю.
'* Даже не зная моей системы, невозможно эти мысли принимать за
спинозизм, если только, по крайней мере, пересмотреть ход этого рассуждения в
целом. Единство чистого духа есть для меня недосягаемый идеал, последняя
цель, которая никогда не будет осуществлена в действительности.
477
НЕСКОЛЬКО ЛЕКЦИЙ
О НАЗНАЧЕНИИ УЧЕНОГО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ЗАМЕЧАНИЯ
vt/ти лекции были прочитаны в
минувшем летнем полугодии значительному числу нашей учащейся
молодежи. Они являются вступлением к целому, которое автор имеет в виду
закончить и в свое время предложить публике1. Внешний повод, который
ничего не дает ни для правильной оценки, ни для правильного понимания
этих страниц, побудил его напечатать эти первые пять лекций и именно
так, как он их читал, не изменив в них ни одного слова. Пусть это послужит
для него оправданием некоторой небрежности в выражениях. При
наличии других работ он не мог сразу же придать этим статьям той законченной
формы, которая была бы ему желательна. Устному изложению помогает
выразительность. Переделка для опубликования противоречила побочной
их цели.
В этих лекциях встречается много суждений, которые понравятся не
всем читателям. Но это не дает оснований упрекать автора, так как в своих
исследованиях он не считался с тем, понравится ли что-нибудь или не
понравится, но истинно ли оно, и он сказал как умел то, что по своему
крайнему разумению считал истинным.
Но кроме того рода читателей, у которых имеются основания
относиться к сказанному отрицательно, могли бы быть еще другие, которые
объявят это по меньшей мере ненужным, так как оно не может быть
осуществлено и так как ему ничто не соответствует в действительном мире,
каков он есть на самом деле. Следует даже опасаться, что так будет судить
большая часть в общем честных, порядочных и трезвых людей. Ведь
несмотря на то, что во все эпохи число тех, которые были способны подняться до
идей, всегда было мало, все же, по причинам, о которых я могу свободно
умолчать здесь, это число никогда не было меньшим, чем именно теперь. В
то время как в том кругу, который очерчен вокруг нас обычным опытом,
думают гораздо общее и судят правильнее, чем, может быть, когда-либо,
большинство бывает сбито с толку и ослеплено, как только оно должно
выйти хотя бы на одну пядь за его пределы. Если у них невозможно снова
раздуть раз погашенную искру высшего гения, следует разрешить им
спокойно оставаться в том кругу и сохранить полностью свою ценность в нем
16-645
481
И. Г. Фихте
и для него, поскольку они в нем полезны и незаменимы. Но если на этом
основании они хотят снизить до своего уровня все, до чего они не могут
подняться, если они, например, требуют, чтобы всякое печатное слово
могло быть использовано так же, как поваренная книга, или учебник
арифметики, или служебный регламент, и порочат все, что не может быть
использовано таким образом, то они сами в большой степени неправы.
Мы, остальные, пожалуй, знаем так же хорошо, как они, а может
быть, и лучше, что в действительном мире идеалы неосуществимы. Мы
только утверждаем, что на основании этих идеалов действительность
должна быть оценена и модифицирована теми, кто чувствует в себе силу
для этого. Если же их и в этом невозможно убедить, то они, будучи тем, что
они есть, теряют при этом очень мало, а человечество не теряет ничего.
Благодаря этому становится совершенно ясно, что только на них
нельзя рассчитывать в стремлении облагородить человечество. Последнее,
без сомнения, будет продолжать свой путь, теми же пусть распоряжается
снисходительная природа и посылает им во благовремении дождь и вёдро,
полезную пищу и невозмутимое движение соков и к тому же умные мысли.
Йена,
во время Михайловской ярмарки 1794 г.2
Лекция первая
О НАЗНАЧЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
В СЕБЕ
Цель лекций, которые я начинаю
сегодня, вам отчасти известна. Я хотел бы ответить или скорее побудить
вас, господа, дать себе ответ на следующие вопросы: каково назначение
ученого, каково его отношение как ко всему человечеству, так и к
отдельным его сословиям, при помощи каких средств он может вернее всего
достигнуть своего возвышенного назначения?
Ученый лишь постольку есть ученый, поскольку он
противопоставлен другим людям, которые учеными не являются; его понятие возникает
посредством сравнения, установления его отношения к обществу, под
которым понимается не только государство, но и вообще всякая
совокупность разумных людей, живущих рядом друг с другом и благодаря этому
вступающих во взаимоотношения. Назначение ученого, поскольку он им
является, мыслимо поэтому только в обществе, и, следовательно, ответ на
вопрос, каково назначение ученого, предполагает ответ на другой вопрос,
именно: каково назначение человека в обществе.
Ответ на этот вопрос предполагает ответ на еще более высокий
вопрос — каково назначение человека в себе, то есть человека, поскольку он
мыслится только как человек, только согласно понятию человека вообще,
изолированным и вне всякой связи, которая не содержится необходимым
образом в его понятии.
Сейчас я могу, конечно, сказать вам без доказательства то, что для
многих из вас, без сомнения, уже давно доказано, а другие чувствуют
смутно, но все же не менее сильно, что вся философия, все человеческое
мышление и учение, все ваши занятия, все то, что, в частности, я вам когда-либо
могу сообщить, — не имеет в виду никакой другой цели, как только ответ
на поставленные вопросы и в особенности на последний, высший: каково
назначение человека вообще и какими средствами он может вернее всего
его достигнуть. Вся философия, и прежде всего основательная и
исчерпывающая философия, предполагается, во всяком случае, не для
обоснования возможности чувства этого назначения, но, конечно, для отчетливого,
ясного и полного его познания. Это назначение человека в себе есть
одновременно предмет моей сегодняшней лекции. Вы видите, господа, что то,
16*
483
И. Г. Фихте
что я имею об этом сказать, я не могу сейчас полностью вывести из его
оснований, не излагая всей своей философии. Но я могу это построить на
вашем чувстве. Вы видите также, что вопрос, на который я хочу дать ответ в
моих публичных лекциях, — каково назначение ученого, или — что то же
самое, как выяснится в свое время, — назначение высшего, самого
истинного человека, — есть последняя задача для всякого философского
исследования, подобно тому, как первой его задачей является вопрос, каково
назначение человека вообще, ответ на который я предполагаю обосновать в
моих частных лекциях3, сегодня же только кратко наметить. Я перехожу
теперь к ответу на поставленный вопрос.
Что представляло бы собой собственно духовное в человеке, чистое Я
просто в себе, изолированное и вне всякого отношения к чему-нибудь вне
его — на этот вопрос не может быть ответа; точнее говоря, он содержит
противоречие с самим собой. Хотя неправда, что чистое Я есть продукт
Не-Я (подобное положение выражало бы трансцендентальный
материализм, который полностью противоречит разуму), но действительно
истинно и в свое время будет точно показано, что Я никогда не осознает самого
себя и не может осознать иначе, чем в своих эмпирических определениях,
и что эти эмпирические определения непременно предполагают нечто вне
Я. Уже тело человека, которое он называет своим телом, есть нечто вне Я.
Вне этого соединения он не был бы даже человеком, но чем-то для нас
просто немыслимым, если возможно нечто такое, что не является даже
мыслимой вещью, еще назвать чем-то. Рассматривать человека в себе и
изолированно не значит, следовательно, ни здесь, ни где-либо рассматривать его
просто как чистое Я без всякого отношения к чему-нибудь вне его чистого
Я, а значит, только мыслить его вне всякого отношения к себе подобным
разумным существам.
И если он так мыслится, то каково его назначение? Что присуще ему
как человеку согласно его понятию из того, что среди известных нам
существ нечеловеку не присуще, чем отличается он от всего того, что мы
среди известных нам существ не называем человеком?
Я должен исходить из чего-либо положительного, а так как я не могу
исходить здесь из абсолютного утвердительного положения: Я есмь, то я
должен установить как гипотезу положение, неуничтожимо заложенное в
чувстве человека, являющееся результатом всей философии, которое
может быть неопровержимо доказано и которое я неопровержимо докажу в
моих частных лекциях, — положение: поскольку очевидно, что человек
имеет разум, постольку он является своей собственной целью, то есть он
существует не потому, что должно существовать нечто другое, а просто
потому, что он должен существовать: его простое бытие есть последняя цель
его бытия, или, что то же самое, значит, без противоречия нельзя спраши-
484
О назначении ученого
вать ни о какой цели его бытия. Он есть, потому что он есть. Эта
характеристика абсолютного бытия, бытия ради самого себя, есть его
характеристика или его назначение постольку, поскольку он рассматривается просто
и исключительно как разумное существо.
Но человеку присуще не только абсолютное бытие, бытие просто;
ему присущи еще особые определения этого бытия; он не только есть, но
он также есть нечто; он не только говорит: Яесмь, но он также и
прибавляет: Я есмь это или то. Постольку, поскольку он есть вообще, он разумное
существо; постольку, поскольку он есть что-то, что же он такое? На этот
вопрос мы должны ответить.
То, что он есть, он есть прежде всего не потому, что он есть, но
потому, что есть нечто вне его. Эмпирическое самосознание, то есть сознание
какого-нибудь назначения в нас, невозможно иначе, как только при
предположении некоторого Не-Я, как мы уже сказали выше и в свое время
докажем. Это Не-Я должно влиять на его страдательную способность,
которую мы называем чувственностью. Итак, поскольку человек есть нечто, он
есть чувственное существо. Но, согласно сказанному выше, он есть
одновременно существо разумное, и его разум не должен уничтожаться его
чувственностью, они оба должны существовать рядом друг с другом. В этом
сочетании вышеназванное положение — человек есть, потому что он
есть, — превращается в следующее: человек должен быть тем, что он есть,
просто потому, что он есть, то есть все, что он есть, должно быть отнесено к
его чистому Я, к его простой яйности (Ichheit)4; все, что он есть, он должен
быть просто потому, что он есть Я; а чем он не может быть, потому что он
есть Я, тем он вообще не должен быть. Эта до сих пор еще неясная формула
сейчас разъяснится.
Чистое Я может быть представлено только отрицательно как
противоположность Не-Я, характерным признаком которого является
многообразие, следовательно, как полная абсолютная одинаковость; оно всегда
одно и то же и никогда не бывает другим. Следовательно, указанная
формула может быть выражена еще так: человек должен быть всегда согласен с
самим собой; он не должен никогда противоречить себе. Именно чистое Я
никогда не может находиться в противоречии с самим собой, так как в нем
нет никакого различия, но оно всегда одно и то же; эмпирическое же,
определенное и определяемое внешними вещами Я может себе
противоречить, и всякий раз, как оно себе противоречит, — это верный признак того,
что оно определено не по форме чистого Я, но посредством внешних
вещей. И вот этого быть не должно, ибо сам человек есть цель — он должен
сам определять себя и никогда не позволять определять себя посредством
чего-нибудь постороннего; он должен быть тем, что он есть, так как он
хочет этим быть и должен хотеть. Эмпирическое Я должно быть настроено
485
И. Г. Фихте
так, как оно могло бы быть настроено вечно. Поэтому, касаясь этого
вопроса только мимоходом и прибавляя это для разъяснения, я выразил бы
основоположение учения о нравственности в следующей формуле:
поступай так, чтобы максимум твоей воли ты мог бы мыслить как венный закон
для себя5.
Последнее определение всех конечных разумных существ есть
поэтому абсолютное единство, постоянное тождество, полное согласие с
самим собой. Это абсолютное тождество есть форма чистого Я и его
единственно истинная форма; или, лучше сказать, на основании мыслимости
тождества познается выражение той формы. Чистой же форме Я
соответствует то определение, которое может мыслиться как вечно
сохраняющееся. Не следует понимать этого половинчато и односторонне. Не только
воля должна быть постоянно в согласии сама с собой — об этом говорится в
учении о нравственности, — но все силы человека, которые представляют в
себе одну силу и отличаются лишь в применении своем к различным
предметам, все они должны быть приведены к полному тождеству и
согласоваться друг с другом.
Но эмпирические определения нашего Я зависят, по крайней мере в
большей части своей, не от нас самих, но от чего-то вне нас. Правда, воля
абсолютно свободна в своем кругу, то есть в сфере предметов, к которым
она может относиться, после того как они стали известны человеку, как это
в свое время будет неопровержимо доказано. Но чувство и представление,
его предполагающее, не свободны, а зависят от вещей вне Я, особенность
которых вовсе не тождество, а многообразие. Если Ятем не менее в этом
отношении должно постоянно быть в согласии с самим собой, оно должно
стремиться воздействовать непосредственно на самые вещи, от которых
зависят чувство и представление человека; человек должен стремиться
модифицировать их и привести в согласие с чистой формой своего Я, чтобы и
их представление согласовалось с этой формой, поскольку оно зависит от
их свойств. Однако эта модификация вещей, какими они должны быть
согласно нашим необходимым понятиям о них, возможна не только
благодаря простой воле, но для этого необходим еще известный навык, который
приобретается и усиливается упражнением.
Далее, что еще важнее, — само наше эмпирически определяемое Я
благодаря беспрепятственному влиянию на него вещей, которому мы
непосредственно подвергаемся, пока наш разум еще не проснулся, —
претерпевает известные видоизменения (Biegungen), которые ни в коем случае не
могут согласоваться с формой нашего чистого Я, так как они происходят от
вещей вне нас. Для того чтобы уничтожить их и вернуть себе
первоначальный чистый образ, для этого равным образом недостаточно одной простой
воли, но мы нуждаемся для этого также в том навыке, который
приобретается и усиливается упражнением.
486
О назначении ученого
Приобретение этого навыка отчасти для подавления и уничтожения
наших собственных порочных наклонностей, возникших до пробуждения
разума и чувства нашей самодеятельности, а отчасти для модификации
вещей вне нас и изменения их согласно нашим понятиям; приобретение
этого навыка, говорю я, называется культурой и так же называется
приобретенная определенная степень этого навыка. Культура различается только
по степеням, но она способна проявлять себя в бесконечном множестве
степеней. Она — последнее и высшее средство для конечной цели
человека — полного согласия с самим собой, если человек рассматривается как
разумно-чувственное существо; она сама есть конечная цель, когда
человек рассматривается только как чувственное существо. Чувственность
должна культивироваться: это самое высокое и последнее, что с ней можно
сделать.
Окончательный вывод из всего сказанного следующий: последняя и
высшая цель человека — полное согласие человека с самим собой и, —
чтобы он мог находиться в согласии с самим собой, — согласование всех
вещей вне его с его необходимыми практическими понятиями о них,
понятиями, определяющими, какими вещи должны быть. Это согласие вообще
есть то, что Кант называет высшим благом, если воспользоваться
терминологией критической философии6; это высшее благо в себе, как явствует из
сказанного, вовсе не распадается на две части, но совершенно просто; оно
есть полное согласие разумного существа с самим собой. В отношении
разумного существа, зависимого от вещей вне его, оно может быть
рассматриваемо как двоякое: как согласие воли с идеей вечно значимой воли, или
нравственное добро, и как согласование вещей вне нас с нашей волей
(разумеется, с нашей разумной волей), или блаженство. Следовательно (чтобы
кстати напомнить), совершенно неверно, что человек благодаря жажде
блаженства предназначен для нравственного добра, но скорее само
понятие блаженства и жажда его возникают только из нравственной природы
людей. Не то хорошо, что делает блаженным, но только то делает
блаженным, что хорошо. Без нравственности блаженство невозможно. Правда,
приятные чувства возможны без нее и даже в противоборстве с ней, и в свое
время мы увидим почему, но они не блаженство, а часто даже
противоречат ему.
Подчинить себе все неразумное, овладеть им свободно и согласно
своему собственному закону — последняя конечная цель человека; эта
конечная цель совершенно недостижима и должна оставаться вечно
недостижимой, если только человек не должен перестать быть человеком, чтобы
стать Богом. В понятии человека заложено, что его последняя цель должна
быть недостижимой, а его путь к ней — бесконечным. Следовательно,
назначение человека состоит не в том, чтобы достигнуть этой цели. Но он мо-
487
И. Г. Фихте
жет и должен все более и более приближаться к этой цели; и поэтому
приближение до бесконечности к этой цели — его истинное назначение как
человека , то есть как разумного, но конечного, как чувственного, но
свободного существа. Если полное согласие с самим собой называют
совершенством в высшем значении слова, как его, во всяком случае, можно назвать,
то совершенство — высшая недостижимая цель человека;
усовершенствование до бесконечности есть его назначение. Он существует, чтобы постоянно
становиться нравственно лучше и улучшать все вокруг себя в чувственном
смысле, а если он рассматривается в обществе, то и в нравственном, и
самому становиться благодаря этому все более блаженным.
Таково назначение человека, поскольку он рассматривается
изолированно, то есть вне отношения к разумным существам, ему подобным. Но
мы не изолированы, и хотя я не могу сегодня приняться за рассмотрение
общей связи разумных существ между собой, но я должен все-таки бросить
взгляд на ту связь, в которую я вступаю сегодня с вами, господа. То высокое
назначение, на которое я сегодня вкратце вам указал, есть то, что я должен
у многих подающих надежды молодых людей превратить в ясное
убеждение, которое я хотел бы сделать для вас непреложнейшей целью и
постоянным руководством всей вашей жизни, — у молодых людей,
предназначенных, в свою очередь, когда-нибудь оказать сильнейшее воздействие на
человечество в более узком или более широком кругу учением или
действием, или тем и другим, распространять дальше образование, ими самими
полученцое, и, повсюду благотворно влияя, поднять на высшую ступень
культуры наш общий братский род — в молодых людях, работая над
развитием которых, я, весьма вероятно, работаю над развитием еще не
родившихся миллионов людей. Если некоторые из вас доброжелательно
предполагают, что я чувствую достоинство этого своего особого назначения, что
я, размышляя и уча, ставлю себе высшей целью содействовать культуре и
повышению гуманности в вас, господа, и во всех, с кем вы когда-либо
будете иметь соприкосновение, и что я считаю никчемными всю философию
и всю науку, не стремящиеся к этой цели, — если вы так судите обо мне, то
вы судите (я, пожалуй, вправе это сказать) о моей воле совершенно
правильно. Степень, в какой мои силы отвечают этому желанию, не совсем
зависит от меня самого; это зависит отчасти от обстоятельств, не
находящихся в нашей власти. Это зависит отчасти и от вас, господа, от вашего
внимания, о котором я прошу, от вашего личного прилежания, на которое я
рассчитываю с полным радостным доверием, от вашего доверия ко мне, на
которое я полагаюсь и которое я постараюсь подкрепить действием.
Лекция вторая
О НАЗНАЧЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
В ОБЩЕСТВЕ
Существует множество вопросов,
на которые философия должна ответить, прежде чем она может стать
наукой и наукоучением, вопросов, которые позабыты решившими все
проблемы догматиками и которые скептик осмеливается наметить только с
опасностью быть обвиненным в неразумии или злобе или в обоих сразу.
Поскольку я не хочу быть поверхностным и относиться несерьезно к
делу, о котором, полагаю, я знаю кое-что достаточно основательно,
поскольку я не хочу скрыть и тайком обойти трудности, которые я хорошо
вижу, мой удел, говорю я, затронуть в этих публичных лекциях многие из этих
почти незатронутых вопросов, не имея все же возможности их полностью
исчерпать, несмотря на опасность быть неправильно понятым и
неправильно истолкованным, дать только намеки для дальнейшего
размышления, только указания к дальнейшему изучению, в то время как я скорее
хотел бы основательно исчерпать вопрос. Если бы я предполагал, что среди
вас, господа, много популяризирующих философов, очень легко
решающих все трудности без всякого усилия, без всякого размышления,
исключительно при помощи человеческого рассудка, который они называют
здравым, то я взошел бы на эту кафедру не без робости.
К числу этих вопросов принадлежат в особенности следующие два,
без ответа на которые, между прочим, не было бы возможно также
основательное естественное право: во-первых, по какому праву называет человек
известную часть телесного мира своим телом, каким образом он приходит к
тому, что рассматривает это свое тело как принадлежащее своему Я, тогда
как оно ему прямо противоположно, и, во-вторых, каким образом человек
приходит к тому, что воспринимает и признает кроме себя подобные себе
разумные существа, тогда как такие существа непосредственно
совершенно не даны в его чистом самосознании?
Я сегодня должен определить назначение человека в обществе, и
решение этой задачи предполагает ответ на последний вопрос. Обществом я
называю отношение разумных существ друг к другу. Понятие общества
невозможно без предположения, что кроме нас действительно имеются
разумные существа, и без характерных признаков, при помощи коих мы мо-
489
И. Г. Фихте
жем их отличить от всех других существ, которые не разумны и потому к
обществу не принадлежат. Каким образом мы приходим к этому
предположению и каковы эти признаки? Это вопрос, на который я должен ответить
прежде всего.
"И то и другое, — как существование вне нас разумных существ,
подобных нам, так и признаки, отличающие эти существа от существ,
лишенных разума, — мы почерпнули из опыта", — так могли бы, конечно,
ответить те, кто еще не привык к строгому философскому исследованию; но
такой ответ был бы неосновательным и неудовлетворительным, он совсем не
был бы ответом на наш вопрос, но относился бы к совершенно другому.
Опыт, на который они могли бы сослаться, имели и эгоисты, которые
поэтому все еще недостаточно основательно опровергнуты. Опыт учит нас
только тому, что представление о разумных существах вне нас содержится в
нашем эмпирическом сознании, и по этому поводу нет спора, и ни один
эгоист не отрицал этого. Вопрос заключается в том, отвечает ли этому
представлению что-нибудь вне его, имеются ли кроме нас разумные
существа, независимо от нашего представления, и даже если бы мы себе их не
представляли, — и об этом нам ничего не может сказать опыт, поскольку
он есть опыт, то есть система наших представлений.
Опыт в лучшем случае может показать, что даны действия, похожие
на действия разумных причин; но никогда он не может показать, что их
причины действительно существуют как разумные существа в себе, так как
существо в себе не есть предмет опыта.
Мы сами впервые вводим подобные существа в опыт, это мы
объясняем известный опыт существованием разумных существ вне нас. Но по
какому праву объясняем мы это так? Это право до его применения должно
быть точнее доказано, потому что на этом основывается его значимость, а
она не может быть основана на одном только фактическом применении; и
таким образом мы не подвинулись бы ни на один шаг вперед и
по-прежнему стояли бы перед вопросом, поставленным нами выше: каким образом
мы приходим к тому, что принимаем и признаем разумные существа
вне нас?
Теоретическая область философии бесспорно исчерпана
основательными исследованиями критиков; все вопросы, до сих пор оставшиеся
без ответа, должны получить ответ на основании практических принципов
(замечу это здесь лишь в порядке исторического указания). Мы должны
попробовать, можем ли мы на основании подобных принципов
действительно ответить на поставленный вопрос.
Высшее стремление в человеке, согласно последней нашей лекции,
есть стремление к тождеству, к полному согласию с самим собой и, чтобы
он мог постоянно находиться в согласии с самим собой, к согласованию
490
О назначении ученого
всего того, что находится вне его, с его необходимыми о том понятиями.
Его понятиям не только не должно ничто противоречить, так чтобы для
него вообще было безразлично существование или несуществование
соответствующего им объекта, но должно быть также действительно дано нечто им
соответствующее. Для всех понятий, лежащих в его Я, должно быть дано в
Не-Я соответствующее выражение, противообраз. Так определено его
стремление.
В человеке есть также понятие разума и соответствующего разуму
действия и мышления, и он непременно хочет реализовать это понятие не
только в себе, но и желает видеть его реализованным также и вне себя. В его
потребности входит, чтобы разумные существа, ему подобные, были даны
вне его.
Он не может создать подобных существ; но он кладет их понятие в
основу своего наблюдения над Не-Я и ожидает, что найдет нечто
соответствующее этому понятию. Первое, только отрицательное свойство
разумности, тотчас же заявляющее о себе, есть действие согласно понятиям,
деятельность согласно целям. То, что носит характер целесообразности,
может иметь разумного виновника, то, к чему совершенно неприменимо
понятие целесообразности, конечно, не имеет разумного виновника. Но этот
признак имеет двойное значение. Согласованность многообразия,
приводящая его в единство, есть характерная черта целесообразности; но есть
несколько родов этой согласованности, которые могут быть объяснены на
основании одних только законов природы, как раз не механических, а
именно органических; следовательно, мы нуждаемся еще в признаке, чтобы
определенно от известного опыта заключить к разумной его причине.
Природа также и там, где она действует целесообразно, действует по
необходимым законам; разум всегда действует свободно. Следовательно,
согласованность многообразия воедино, достигнутая посредством свободы,
была бы самой верной и непреложной характерной чертой разумности в
явлении. Спрашивается только, каким образом следует отличать действие,
данное в опыте посредством необходимости, от действия, равным образом
данного в опыте посредством свободы.
Я совершенно не могу вообще непосредственно сознавать свободу
вне меня; я даже не могу сознавать свободу во мне или мою собственную
свободу, так как свобода в себе есть последнее основание для объяснения
всякого сознания и поэтому никогда не может принадлежать к области
сознания. Но я могу сознавать то, что при известном определении моего
эмпирического Я посредством моей воли я не сознаю иной причины,
кроме этой самой воли; и это несознавание причины можно было бы,
конечно, также назвать сознанием свободы, если только предварительно
сделать необходимые разъяснения, и мы здесь так и будем это называть. В
491
И. Г. Фихте
этом смысле можно сознавать свой собственный поступок как
определяемый свободой.
Если же посредством нашего свободного поступка, сознаваемого
нами в указанном смысле, так изменяется способ действия субстанции,
данной нам в явлении, что этот способ действия не может быть более объяснен
на основании закона, которому он перед тем подчинялся, но только на
основании того закона, который мы положили в основу нашего свободного
поступка и который противоположен вышеупомянутому закону, то такое
измененное определение мы не можем объяснить иначе, как посредством
предположения, что причина того действия равным образом разумна и
свободна. Отсюда возникает, пользуясь кантовской терминологией,
взаимодействие сообразно понятиям, целесообразная общность (Gemeinschaft),
и она-то есть то, что я называю обществом (Gesellschaft). Понятие
общества теперь полностью определено.
К основным стремлениям человека относится желание принять
кроме себя разумные существа, ему подобные; их он может принять только
при том условии, что вступает с ними в сообщество в выше определенном
значении слова. Общественное стремление относится поэтому к
основным стремлениям человека. Человек предназначен для жизни в обществе;
он должен жить в обществе; он не полный законченный человек и
противоречит самому себе, если он живет изолированно.
Вы видите, господа, как важно не смешивать общество вообще с
особым эмпирически обусловленным родом общества, называемым
государством. Жизнь в государстве не принадлежит к абсолютным целям челове-'
ка, что бы ни говорил об этом один великий человек7, но она есть средство,
■ имеющее место лишь при определенных условиях, для основания
совершенного общества. Государство, как и все человеческие установления,
являющиеся всего лишь средством, стремится к своему собственному
уничтожению: цель всякого правительства — сделать правительство излишним.
Конечно, сейчас еще совсем не наступило время для этого, — и я знаю,
сколько мириад лет или мириад мириад лет пройдет, прежде чем такое время
наступит; здесь речь идет не о применении в жизни, но об исправлении
умозрительного положения; сейчас не время, но несомненно, что на a priori
предначертанном пути рода человеческого имеется такой пункт, когда
станут излишними все государственные образования. Это то время, когда
вместо силы или хитрости всюду в качестве высшего судьи будет признан
только разум8. Будет признан, говорю я, потому что еще и тогда люди будут
заблуждаться и в заблуждении оскорблять своих ближних, но все они
обязаны будут иметь добрую волю дать себя убедить в своем заблуждении и,
как только они в этом убедятся, отказаться от него и возместить убытки. До
тех пор пока не наступит это время, мы в общем даже не настоящие люди.
492
О назначении ученого
В соответствии со сказанным взаимодействие посредством свободы —
положительный признак общества. Последнее — самоцель, и в
соответствии с этим действия совершаются только и просто ради того, чтобы они
совершались. Но утверждением, что общество есть своя собственная цель,
совершенно не отрицается, что способ воздействия может иметь еще
особый закон, который ставит для воздействия еще более определенную цель.
Основное стремление было найти разумные существа, подобные
нам, или людей. Понятие человек — идеальное понятие, так как цель
человека, поскольку она есть цель, недостижима. Каждый индивидуум имеет
свой особый идеал человека вообще; эти идеалы хотя не различны в смысле
содержания, но все-таки отличаются по степеням; каждый оценивает
согласно своему собственному идеалу того, кого он признает за человека.
Каждый в силу этого основного стремления желает найти у всякого другого
сходство с этим идеалом; он испытывает, он наблюдает его всячески, и
если он находит его ниже идеала, то он старается поднять его до него. В этой
борьбе духов с духами всегда побеждает высший и лучший человек; таким
образом благодаря обществу возникает усовершенствование рода, и тем
самым мы также одновременно нашли и назначение всего общества как
такового. Если кажется, что высший и лучший человек как будто не имеет
влияния на более низкого и неразвитого, то нас обманывает при этом
отчасти наше суждение, так как часто мы ожидаем плода немедленно же,
прежде чем семя может прорасти и развиться, отчасти это происходит потому,
что лучший, может быть, стоит на слишком много ступеней выше, чем
неразвитый, -что они имеют слишком мало общих точек соприкосновения
друг с другом, слишком мало могут воздействовать один на другого —
обстоятельство, которое задерживает культуру невероятным образом, и
средство против чего мы в свое время укажем. Но в общем, конечно, побеждает
лучший — успокоительное утешение для друга людей и истины, когда он
наблюдает за открытой войной света с тьмой. Свет, конечно, в конце
концов побеждает; разумеется, нельзя определить времени, но когда тьма
вынуждена вступить в открытую борьбу — это уже залог победы, и победы
близкой. Тьма любит мрак, она уже проиграла, если она вынуждена выйти
на свет.
Итак, это результат всего нашего исследования — человек
предназначен для общества; к тем навыкам, которые он должен
усовершенствовать согласно своему назначению, описанному в предшествующей
лекции, относится также и общественность.
Сколь бы эта предназначенность для жизни в обществе ни вытекала
из самой глубины и чистой природы человеческого существа, она все-таки
в качестве просто стремления подчинена высшему закону постоянного
согласия с самим собой или нравственному закону и должна быть посред-
493
И. Г. Фихте
ством последнего определена далее и подведена под твердое правило; и как
только мы найдем это правило, мы найдем и назначение человека в
обществе, которое является целью нашего настоящего исследования и всех
пока имевших место размышлений.
Сначала общественное стремление определяется этим законом
абсолютного согласия отрицательно', оно не смеет противоречить самому
себе. Это стремление направлено на взаимодействие, взаимное влияние,
взаимное отдавание и приобретение, взаимное страдание и действие, а не на
чистую причинность и чистую деятельность, по отношению к которой
другой должен был бы находиться только в страдательном состоянии.
Стремление направлено к тому, чтобы найти свободные разумные существа вне
нас и вступить с ними в общение; оно направлено не на субординацию, как в
телесном мире, но на координацию. Если не хотят искомым разумным
существам вне себя предоставить возможность быть свободными, то
рассчитывают только на их теоретическую способность, но не на их свободную
практическую разумность; не хотят вступить с ними в сообщество, но
желают господствовать над ними как над более ловкими животными, и тогда
ставят свое общественное стремление в противоречие с самим собой. Но
что же я говорю: "Ставят в противоречие с самим собой"? Его скорее не
имеют совершенно, этого более высокого стремления; человечность в
таком случае в нас еще не развилась в достаточной мере; мы сами еще стоим
на низшей ступени получеловечности или рабства. Мы еще сами не
созрели до чувства нашей свободы и самодеятельности, так как в противном
случае мы непременно хотели бы видеть вокруг себя подобные нам, то есть
свободные, существа. Мы рабы и хотим держать рабов. Руссо говорит:
иной считает себя господином других, будучи более рабом, чем они; он мог
бы еще правильнее сказать: всякий, считающий себя господином других,
сам раб. Если он и не всегда действительно является таковым, то у него все
же рабская душа, и перед первым попавшимся, кто окажется сильнее и
поработит его, он будет гнусно ползать. Только тот свободен, кто хочет все
сделать вокруг себя свободным и действительно делает свободным
благодаря известному влиянию, причину которого не всегда замечали. Под его
взором мы дышим свободнее, мы чувствуем себя ничем не подавленными,
не скованными, чувствуем необычайную радость быть всем и делать все,
чего не запрещает уважение к самим себе.
Человек может пользоваться неразумными вещами как средствами
для своих целей, но не разумными существами9; он не смеет даже
пользоваться ими как средством для их собственных целей; он не смеет на них
действовать как на мертвую материю или на животное, чтобы с их
помощью достигнуть своей цели, не считаясь с их свободой. Он не смеет сделать
добродетельным, мудрым или счастливым ни одно разумное существо
494
О назначении ученого
против его воли. Не говоря уже о том, что это усилие было бы тщетным и
что никто не может стать добродетельным, или мудрым, или счастливым
иначе, как только благодаря своей собственной работе и усилиям, не
говоря, следовательно, о том, что это не в силах человека, он даже не должен
этого и желать, хотя бы он это мог или считал, что может, — потому что это
несправедливо, и тем самым он впадает в противоречие с самим собой.
Посредством закона полного формального согласия с самим собой
общественное стремление определяется также положительно, и таким
образом мы получаем настоящее определение человека в обществе. Все
индивидуумы, принадлежащие к человеческому роду, отличны друг от друга;
только в одном они вполне сходятся: это их последняя цель —
совершенство. Совершенство определено только одним образом: оно вполне равно
самому себе. Если бы все люди могли стать совершенными, если бы они
могли достигнуть своей высшей и последней цели, то они были бы
полностью равны между собой, они были бы чем-то единым, единственным
субъектом. Теперь же каждый в обществе стремится сделать другого более
совершенным, по крайней мере по своим понятиям, поднять его до своего
идеала, который он имеет о человеке. Следовательно, последняя высшая
цель общества — полное согласие и единодушие со всеми возможными его
членами. Но так как достижение этой цели, достижение назначения
человека вообще предполагает достижение абсолютного совершенства, то и
первое и второе равно недостижимо, пока человек не перестанет быть
человеком и не станет Богом. Полное согласие со всеми индивидуумами
есть, следовательно, хотя и последняя цель, но не назначение человека в
обществе.
Однако приближаться и до бесконечности приближаться к этой
цели — это он может и это он должен. Такое приближение к полному
согласию и единодушию со всеми индивидуумами мы можем назвать
объединением. Следовательно, объединение, которое должно по сплоченности
становиться все более крепким, по объему все более обширным, есть
истинное назначение человека в обществе; но так как все люди согласны и
могут быть согласными только относительно своего последнего
назначения, это объединение возможно только благодаря совершенствованию.
Поэтому мы с таким же основанием можем сказать: общее
совершенствование, совершенствование самого себя посредством свободно
использованного влияния на нас других и совершенствование других путем
обратного воздействия на них как на свободных существ — вот наше назначение
в обществе.
Чтобы достигнуть этого назначения и постоянно достигать его все
больше, для этой цели мы нуждаемся в способности, которая
приобретается и повышается только посредством культуры, и именно в способности
495
И. Г. Фихте
двоякого рода: способности давать или действовать на других как на
свободные существа или способности брать или извлекать наибольшую
выгоду из воздействия других на нас. Об обеих мы будем говорить в свое время
особо. В особенности надо стремиться сохранить для себя последнюю
также и при наличии высокой степени первой способности; в противном
случае человек останавливается и благодаря этому идет назад. Редко
кто-нибудь бывает таким совершенным, что он не мог бы развиться благодаря
всякому другому в каком-нибудь отношении, которое, быть может,
кажется ему неважным или не замечено им.
Я знаю мало более возвышенных идей, господа, чем идея этого
всеобщего воздействия всего человеческого рода на самого себя, этой
непрекращающейся жизни и стремления, этого усердного соревнования в
отдавании и получении (самое благородное, что может выпасть на долю
человека), этого всеобщего сцепления друг с другом бесконечного числа
колес, общий двигатель которых — свобода, и прекрасной гармонии,
возникающей из этого. Кто бы ты ни был, — так может сказать всякий, — ты,
имеющий только образ человека, ты все-таки член этой великой общины;
через какое бы бесконечное число членов ни передавалось воздействие, я
все же в силу этого влияю на тебя, и ты в силу этого все же влияешь на меня.
Никто из носящих на челе своем печать разума, как бы груб ни был ее
оттиск, не существует для меня попусту. Но я не знаю тебя и ты не знаешь
меня, и как верно то, что мы имеем общее призвание быть добрыми и
становиться все лучше, так же несомненно — и пусть пройдут миллионы и
биллионы лет, что значит время! — так же несомненно придет когда-нибудь
время, когда я увлеку с собой и тебя в круг моей деятельности, когда я-и
тебе буду полезен и смогу принимать от тебя благодеяния, когда также и к
твоему сердцу будет привязано мое чудесными узами взаимного
свободного отдавания и получения.
Лекция третья
О РАЗЛИЧИИ СОСЛОВИЙ
В ОБЩЕСТВЕ
Назначение человека в себе, как и
назначение человека в обществе, выяснено. Ученый лишь постольку
ученый, поскольку он рассматривается в обществе. Поэтому мы могли бы
перейти к исследованию того, каково в особенности назначение человека в
обществе. Но ученый не только член в обществе, он одновременно и член
особого сословия в нем. По крайней мере, говорят о сословии ученых —
насколько это правильно или неправильно, будет видно в свое время.
Наше главное исследование, исследование о назначении ученого,
предполагает поэтому, кроме двух уже законченных, еще третье
исследование очень важного вопроса: откуда происходит различие сословий у
людей, или же отчего возникло неравенство среди людей.
Уже без предварительного исследования в самом слове сословие
слышится, что оно обозначает нечто, не случайно, без нашего содействия,
возникшее, а нечто установленное и устроенное посредством свободного
выбора, согласно понятию цели. За неравенство, возникшее случайно, без
нашего содействия, физическое неравенство, пусть отвечает природа;
неравенство сословий кажется моральным неравенством; поэтому совершенно
естественно возникает вопрос: по какому праву существуют различные
сословия?
Очень часто пытались ответить на этот вопрос; исходили из
основоположений опыта, бегло перечисляли в том порядке, в каком они
попадались под руку, некоторые цели, которых можно достигнуть благодаря
такому различию, некоторые преимущества, которые могут быть извлечены
благодаря этому, но таким образом скорее отвечали на любой другой
вопрос, кроме заданного. Преимущество известного установления для того
или для другого не доказывает его правомерности, и задан был совершенно
не исторический, а моральный вопрос о том, какую же цель преследовали
этим установлением, — было ли допустимо вводить такое установление,
какова бы ни была его цель. На вопрос должен был быть дан ответ на
основании чистых и именно практических принципов разума, и, насколько
мне известно, даже не было сделано попытки дать такой ответ. Я должен
предпослать ему несколько общих положений из наукоучения.
497
И. Г. Фихте
Все законы разума имеют основание в сущности нашего духа, но они
доходят до эмпирического сознания только благодаря опыту, к которому
они применяются, и чем чаще наступает случай их применения, тем теснее
они сплетаются с этим сознанием. Так обстоит дело со всеми законами
разума; так обстоит дело, в частности, с практическими, которые имеют в
виду не одно только суждение, как теоретическое, но и действенность вне нас
и заявляют о себе сознанию в образе стремлений. Основа всех наших
стремлений лежит в нашей сущности, но не больше чем основа. Каждое
стремление должно быть пробуждено опытом, чтобы оно дошло до сознания, и
должно быть развито частым опытом подобного рода, чтобы стать
наклонностью, а его удовлетворение — потребностью. Но опыт не зависит от нас
самих, следовательно, от нас не зависит также пробуждение и развитие
наших стремлений вообще.
Независимое Не-Я как основание опыта, или природа,
многообразно; ни одна часть ее не равна вполне другой, это положение утвердилось и в
кантовской философии и может быть именно в ней точно доказано;
отсюда следует, что она действует на человеческий дух очень различно и нигде
одинаковым образом не развивает его способностей и задатков. Благодаря
этому различному образу действий природы определяются индивидуумы и
то, что называют их частной, эмпирической, индивидуальной природой, и
в этом смысле мы можем сказать: ни один индивидуум не равен вполне
другому в отношении его пробудившихся и развившихся способностей.
Отсюда возникает физическое неравенство, которому мы не только ровно
ничем не способствовали, но и уничтожить которое при помощи нашей
свободы мы не могли; ведь прежде чем мы сможем противостоять с
помощью свободы влиянию природы на нас, мы должны были бы дойти до
сознания и до применения этой свободы, мы же не можем достигнуть этого
иначе, как при помощи того пробуждения и развития наших стремлений,
которое от нас самих не зависит.
Но высший закон человечества и всех разумных существ, закон
полного согласия с самим собой, закон абсолютного тождества, поскольку он
путем применения к природе становится положительным и
материальным, требует, чтобы в индивидууме все задатки были развиты
однообразно, все способности проявлялись бы с возможно большим
совершенством — требование, предмет которого не может быть реализован одним
только законом, потому что, согласно сказанному, исполнение его зависит
не от одного только закона, не от нашей тем самым конечно определяемой
воли, но от свободного действия природы.
Если отнести этот закон к обществу, если предположить, что
существует много разумных существ, то в требовании, чтобы в каждом были
однообразно развиты все его задатки, должно заключаться требование,
498
О назначении ученого
чтобы все различные разумные существа были бы также однообразно развиты
и относительно друг друга. Если задатки всех в себе равны, как это есть на
самом деле, потому что они основываются на одном чистом разуме, — они
должны быть развиты у всех одинаковым образом, что является
содержанием указанного требования; таким образом результат одинакового
развития одинаковых задатков должен быть всюду равен себе; и здесь мы другим
путем приходим опять к установленной в прошлой лекции последней цели
всякого общества: полному равенству всех его членов.
Только закон, как было иным путем показано в прошлой лекции, так
же не может реализовать предмета этого требования, как и предмета
вышеприведенного, на котором он основывается. Но свобода воли должна
сможет стремиться все более приблизиться к этой цели.
И здесь проявляется действенность общественного стремления,
направленного к одинаковой цели, которое становится средством для
требуемого приближения до бесконечности. Общественное стремление, или
стремление быть во взаимодействии со свободными разумными
существами как таковыми, включает в себя два следующих стремления: стремление
к передаче знаний (Mitteilungstrieb), то есть стремление развить кого-нибудь
в той области, в какой мы особенно развиты, стремление, насколько
возможно, уравнять всякого другого с нами самими, с лучшей самостью в нас,
и затем стремление к восприятию, то есть стремление приобрести от
каждого культуру в той области, в какой он особенно развит, а мы особенно не
развиты. Таким образом посредством разума и свободы исправляется
ошибка, сделанная природой; одностороннее развитие, данное природой
индивидууму, становится собственностью всего рода, и весь род дает за это
индивидууму то, чем он обладает; он дает ему, если мы предполагаем, что
при определенных естественных условиях имеются все возможные
индивидуумы, все при этих условиях возможное развитие. Природа развила
каждого только односторонне, но, тем не менее, она все-таки развила его
во всех точках, в которых она соприкасалась с разумным существом. Разум
объединяет эти точки, противопоставляет природе твердо сплоченную и
непрерывную сторону и принуждает ее развить, по крайней мере, род во
всех его отдельных задатках, потому что она сама не захотела без этого
развить индивидуум. Уже сам разум позаботился о равномерном
распределении достигнутого развития между отдельными членами общества
посредством указанных стремлений, и он будет об этом заботиться и дальше, так
как сюда не доходит область природы.
Он позаботится о том, чтобы каждый индивидуум получил
опосредованно из рук общества все полное развитие, которое он не мог извлечь из
природы непосредственно. Общество соберет преимущества всех
отдельных лиц как общее благо для свободного пользования и размножит их по
499
И. Г. Фихте
числу индивидуумов; оно сообща возьмет на себя недостатки отдельных
лиц и благодаря этому сведет их к бесконечно малой сумме. Или, выражая
это в другой формуле, более удобной для применения к некоторым
предметам: цель всякого образования способностей заключается в том, чтобы
подчинить природу в том смысле, как я сейчас определил это выражение,
разуму, согласовать опыт постольку, поскольку он не зависит от законов
нашей способности представления, с нашими необходимыми
практическими понятиями о нем. Следовательно, разум находится с природой в
непрекращающейся борьбе; эта война никогда не может окончиться, если
мы не станем богами, но влияние природы должно и может стать слабее,
господство разума все могущественнее; последний должен одерживать над
природой одну победу за другой 10. Пусть индивидуум в отдельных своих
точках соприкосновения удачно справляется с природой, напротив, в
остальных он, быть может, непреодолимо порабощается ею. Сейчас
общество объединилось, и все действуют заодно; чего не мог одинокий, того
добьются объединенными силами все. Хотя каждый борется в
отдельности, но ослабление природы благодаря общей борьбе и победа, которая
выпадает каждому в отдельности на его долю, идут на пользу всем.
Таким образом, связь, объединяющая всех в одно тело, как раз
благодаря физическому неравенству индивидуумов приобретает новую
крепость: устремление потребности и еще более приятное устремление
удовлетворить потребности сплачивает их теснее друг с другом, и природа,
желая ослабить мощь разума, усилила ее.
До сих пор все идет своим естественным порядком: у нас весьма
различные характеры, многообразные по роду и степени их развития, но у нас
нет еще различных сословий, потому что мы еще не можем указать особого
определения посредством свободы, никакого произвольного выбора особого
рода развития. Я сказал: мы не могли указать особого определения
посредством свободы, и пусть это не поймут неправильно и половинчато.
Общественное стремление вообще относится в любом случае к свободе; оно
только побуждает, но не принуждает. Ему можно противиться и его
подавлять. Можно из человеконенавистнического эгоизма совершенно
обособиться, отказаться принимать что- нибудь от общества, чтобы не быть
обязанным давать ему что-нибудь; можно из грубой животности забыть о его
свободе и рассматривать ее как нечто подчиненное нашему голому
произволу, так как себя рассматривают не иначе как подчиненными власти
произвола природы. Но речь здесь не об этом. Предположим, что люди вообще
подчиняются общественному стремлению, тогда под его руководством
необходимо передать то хорошее, что имеешь, тому, кто в нем нуждается, и
принять то, в чем мы нуждаемся, от того, кто это имеет; и для этого не
нужно никакого особого определения или модификации общественного
500
О назначении ученого
стремления посредством нового акта свободы; и только это я и хотел
сказать.
Характерное различие заключается в следующем: пщусловиях,
которые развиты мною выше, я как индивидуум предоставляю себя природе
для одностороннего развития какого-нибудь особенного задатка во мне,
потому что я вынужден (muß); у меня нет при этом выбора, но я
непроизвольно повинуюсь ее руководству; я беру все, что она мне дает, но я не могу
взять того, чего она не хочет дать, я не упускаю ни одного повода, для того
чтобы получить такое многостороннее развитие, на какое я только
способен, я только не создаю повода, потому что этого я не могу. Наоборот, когда
я избираю сословие, если только сословие должно представлять собой нечто
свободно и произвольно избранное, как это и следует по значению
слова, — когда я избираю сословие, то я должен, разумеется, чтобы иметь
возможность выбирать, предварительно подчиниться природе, так как во мне
различные стремления и различные склонности должны быть уже
пробуждены и доведены до сознания; но с момента выбора я решаю не обращать
внимания на некоторые побуждения, которые мне хотела бы дать природа,
чтобы все мои силы и все преимущества, данные природой, применить
исключительно для развития единственного или многих определенных навыков,
и мое сословие определяется особым навыком, развитию которого я себя
посвящаю путем свободного выбора.
Возникает вопрос, должен (soll) ли я выбрать определенное сословие
или, если я не должен, могу (darf) ли я посвятить себя исключительно
одному определенному сословию, то есть одностороннему развитию. Если я
должен, если есть безусловная обязанность выбрать определенное
сословие, то из высшего закона разума может быть выведено стремление,
направленное к выбору сословия, подобно тому как такое стремление можно
было вывести в отношении общества вообще; если я только могу, то из этого
закона нельзя вывести подобного стремления, а лишь разрешение, и для
определения воли, для действительного выбора только позволенного
законом должны быть указаны эмпирические данные, которыми определяется
не закон, но лишь правило благоразумия. Как с этим обстоит дело,
выяснится из исследования.
Закон гласит: развивай, насколько только ты можешь, все свои
задатки полно и однообразно, но он совсем ничего не говорит о том, должен
ли я упражняться в природе непосредственно или опосредованно,
благодаря общению с другими. В этом отношении, следовательно, выбор
предоставлен моему собственному благоразумию. Закон гласит: подчини
природу твоим целям, но он ничего не говорит о том, что, если бы я нашел ее для
некоторых из моих целей достаточно подготовленной другими, я все же
должен развивать ее дальше для всех возможных целей человечества. Сле-
501
И. Г. Фихте
довательно, закон не запрещает выбирать особое сословие, но он этого и не
предписывает именно потому, что последнего не запрещает. Я нахожусь в
области свободного произвола: я могу выбирать сословие, и при решении
мне приходится искать совершенно других оснований, непосредственно
выводимых из закона, не для того, чтобы определить, должен ли я избрать
то или иное определенное сословие, — об этом мы будем говорить в другой
раз, — а для того, чтобы определить, должен ли я вообще избрать сословие
или нет.
При нынешних условиях человек рождается в обществе. Он больше
не находит природу дикой, но уже подготовленной разносторонним
образом для его возможных целей. Он находит массу людей, занятых в
различных отраслях, всесторонне ее обрабатывающих для пользования разумных
существ. Он находит многое готовым из того, что он в противном случае
должен был бы сделать сам. Он мог бы, пожалуй, иметь очень приятное
существование вообще, не применяя сам своих сил непосредственно к
природе, он мог бы, вероятно, достигнуть известного совершенства, пользуясь
только тем, что общество уже сделало и что оно делает в особенности для
его собственного развития. Но этого он не может: он должен отдать свой
долг обществу, по крайней мере, стремиться к этому, он должен знать свое
место, он должен хотя бы стремиться каким-нибудь образом поднять на
более высокую ступень совершенство того рода, который для него столько
сделал.
Для этого у него два пути: или он ставит себе задачей обработать
природу во всех отношениях, но тогда он должен был бы посвятить всю свою
жизнь и даже несколько жизней, если бы он имел много жизней, чтобы
только познакомиться с тем, что до него было сделано другими и что еще
остается сделать; и таким образом его жизнь была бы потеряна для
человеческого рода, хотя и не по вине его злой воли, но из-за его неблагоразумия.
Или он берется за какой-нибудь особый предмет, которому он
предварительно, вероятно, склонен посвятить себя всего, для разработки которого
он уже раньше, возможно, был наиболее подготовлен природой и
обществом, и исключительно ему себя посвящает. Развить другие свои задатки
он предоставляет обществу, которому он стремится привить культуру
избранного им предмета, и таким образом он избрал себе сословие, и этот
выбор сам по себе совершенно правомерен. Но и этот акт свободы так же
зависит, как и всякий, от нравственного закона вообще, поскольку
последний является регулятивом наших поступков, или от категорического
императива, который я выражу таким образом: не будь никогда в отношении
твоих определений воли в противоречии с самим собой — закон, которому
в этой формулировке может следовать всякий, так как определение нашей
воли совершенно не зависит от природы, но исключительно от нас самих.
502
О назначении ученого
Выбор сословия есть выбор посредством свободы, следовательно, ни
один человек не может быть принуждаем ко вступлению в какое-нибудь
сословие или исключаем из какого-нибудь сословия. Каждое отдельное
действие точно так же, как каждое общее установление, имеющее в виду
подобное принуждение, неправомерно, не говоря уже о том, что неразумно
принуждать человека ко вступлению в данное сословие или удерживать от
другого, так как никто не может в совершенстве знать особых талантов
другого, и часто общество полностью теряет своего члена из-за того, что его
ставят на неподходящее место. Не говоря уже об этом, это само по себе
несправедливо, потому что создает противоречие между нашим действием и
нашим практическим понятием о нем. Мы хотели члена общества, сделали
орудие последнего, мы хотели свободного сотрудника для нашего великого
плана, а делаем подвергающийся принуждению, страдательный инструмент
последнего; своим установлением мы убиваем в нем человека, поскольку
это от нас зависит, и совершаем преступление перед ним и перед
обществом.
Определенное сословие, дальнейшее развитие определенного
таланта выбиралось для того, чтобы иметь возможность вернуть обществу то,
что оно для нас сделало. Поэтому каждый обязан действительно
использовать свое развитие для блага общества. Никто не имеет права работать ради
самоуслаждения, отгораживаться от ближних, делать свое развитие для
них бесполезным; ведь именно благодаря работе общества он получил
возможность приобрести его; в известном смысле оно — продукт общества,
его собственность, и он отнимает у него его собственность, если не хочет
этим путем принести ему пользу. У каждого есть обязанность не только
вообще желать быть полезным обществу, но и направлять, по мере сил своих
и разумения, все свои старания к последней цели общества, именно все
более освобождать его от гнета природы, делать его все более
самостоятельным и самодеятельным, и таким-то образом благодаря этому новому
неравенству возникает новое равенство, именно сходное развитие культуры во
всех индивидуумах.
Я не говорю, что всегда бывает так, как я это сейчас изобразил, но так
это должно было бы быть согласно нашим практическим понятиям об
обществе и о различных сословиях в нем, и мы можем и должны работать,
чтобы добиться, чтобы так было. Как много могло бы сделать для этой цели
в особенности ученое сословие и как много средств для этого находится в
его власти, мы увидим в свое время.
Даже если мы рассмотрим изложенную идею безотносительно к нам
самим, то мы заметим, по крайней мере вне нас, объединение, в котором
никто не может работать для самого себя, не работая для всех остальных,
или, работая для другого, не работать в то же время и для самого себя, так
503
И. Г. Фихте
как успех одного члена есть успех всех и ущерб для одного есть ущерб для
всех; явление, которое уже благодаря гармонии, замечаемой нами в самом.
многообразном, доставляет нам глубокое наслаждение и сильно
поднимает наш дух.
Этот интерес будет еще выше, если бросить взгляд на себя и если
рассматривать себя как члена этого большого интимного объединения.
Крепнет чувство нашего достоинства и нашей силы, когда мы говорим себе то,
что каждый из нас может себе сказать: мое существование не тщетно и не
бесцельно, я — необходимое звено великой цепи, которая тянется от
развития у первого человека полного сознания его существования в вечности;
все, что было когда-либо великого и мудрого и благородного среди
людей, — те благодетели рода человеческого, имена которых я читаю в
анналах мировой истории, и многие из тех, имена которых утрачены, но их
заслуги остались — все они работали для меня: я пожинаю плоды их трудов, я
ступаю на земле, которую они населяли, по благодатным их следам. Я
могу, как только захочу, взяться за возвышенную задачу, поставленную ими
себе, делать все более мудрым и счастливым наш общий братский род, я
могу продолжать строить там, где они должны были прекратить, я могу
приблизить окончание постройки того чудесного храма, который они
вынуждены были оставить незаконченным.
"Но и мне, как и им, придется прекратить", — мог бы сказать себе
кто-нибудь. О, это самая возвышенная из всех мыслей: я никогда не
закончу, если возьмусь за эту возвышенную задачу, и насколько очевидно, что
принять ее — мое назначение, настолько же очевидно, что я никогда не
могу прекратить действовать, следовательно, никогда не могу прекратить
быть. То, что называется смертью, не может уничтожить моего творения,
потому что мое творение должно быть закончено, и оно не может быть ни в
какое время закончено, следовательно, для моего существования не
определено какое-нибудь время, и явечен.Приняв на себя ту великую задачу, я
причастился к вечности. Я смело поднимаю голову, обращаясь и к
грозным скалистым горам, и к бушующему водопаду, и к гремящим,
плавающим в огненном море облакам со словами: я вечен, я противоборствую
вашей мощи. Обрушьтесь все на меня, и ты, земля, и ты, небо, смешайтесь в
диком смятении, и вы, все стихии, пеньтесь и бушуйте и сотрите в дикой
борьбе последнюю солнечную пылинку тела, которое я называю моим, —
одна моя воля со своим твердым планом должна мужественно и спокойно
выситься над развалинами мира, так как я принял мое назначение, и оно
прочнее, чем вы, оно вечно, и я вечен, как оно.
Лекция четвертая
О НАЗНАЧЕНИИ УЧЕНОГО
l/егодня я должен говорить о
назначении ученого. Относительно этого предмета я нахожусь в особом
положении. Вы, господа, или, по крайней мере, большинство из вас, избрали
науку целью вашей жизни, и я также; вы все, надо полагать, напрягаете все
свои силы, чтобы с честью быть причисленными к ученому сословию, и я
сделал и делаю то же самое. Я должен как ученый говорить с начинающими
учеными о призвании ученого. Я должен основательно исследовать
предмет, исчерпать его по мере моих сил, я должен ни в чем не погрешить при
изложении истины. И если я найду для этого сословия назначение очень
почтенное, очень возвышенное, особенно выдающееся среди прочих, то
смогу ли я его установить, не греша против скромности, не унижая других
сословий, не производя впечатления ослепленного самомнением? Но я
говорю как философ, которому надлежит строго определить каждое понятие.
Я не смею погрешить против познанной истины. Она всегда истина, и
скромность ей также подчинена и является ложной скромностью, если ее
нарушает. Сначала исследуем наш предмет хладнокровно, как будто он не
имеет к нам никакого отношения, исследуем его как понятие из
совершенно чуждого нам мира. Уточним тем более наши доказательства. Не забудем
того, что я имею в виду в свое время изложить с не меньшим старанием, а
именно, что каждое сословие необходимо, что каждое заслуживает нашего
уважения, что не сословие, а достойная поддержка его оказывает честь
индивидууму и что каждый тем почтеннее, чем ближе он в ряду других к
совершенному исполнению своего назначения, что именно поэтому ученый
имеет основание быть самым скромным, так как ему поставлена цель,
которая всегда останется для него далекой, так как он должен
достигнуть очень возвышенного идеала, к которому он обыкновенно не
приближается.
"В человеке есть разные стремления и задатки, и назначение
каждого из нас — развить свои задатки по мере возможности. Между прочим в
нем есть стремление к обществу; последнее дает ему особое развитие,
развитие для общества и необыкновенную легкость развития вообще. В этом
смысле человеку ничего не предписано — должен ли он все свои задатки,
505
И. Г. Фихте
все до единого, развивать непосредственно в природе или опосредованно
через общество. Первое трудно и не способствует прогрессу общества,
поэтому каждый индивидуум по праву избирает себе в обществе определенную
ветвь всеобщего развития, предоставляет остальные другим членам
общества и ожидает, что они дадут ему возможность воспользоваться
преимуществами их развития, подобно тому как он дает им возможность
воспользоваться своим, и это есть начало и правовое основание различия сословий в
обществе".
Таковы результаты прочитанных мною лекций. В основе вполне
возможного деления на различные сословия согласно чистым понятиям
разума должен был бы лежать исчерпывающий перечень всех природных
задатков и потребностей человека (не только его искусственно придуманных
потребностей). Для культивирования всякой склонности, или, что то же
самое, для удовлетворения всякой естественной потребности, основанной
на изначально заложенном в человеке стремлении, может быть
предназначено особое сословие. Это исследование мы откладываем на некоторое
время, чтобы сейчас взяться за другое, нас более занимающее.
Если бы возник вопрос о совершенстве или несовершенстве
общества, устроенного по указанным принципам, — а всякое общество
устраивается благодаря естественным стремлениям человека, без всякого
руководства и совершенно само собой именно так, как явствует из нашего
исследования о возникновении общества, — если бы, говорю я, возник этот
вопрос, то ответ на него предполагал бы исследование следующего
вопроса: обеспечены ли в данном обществе развитие и удовлетворение всех
потребностей и именно сходное развитие и удовлетворение? Если бы это^ыло
обеспечено, то общество как общество было бы совершенным; это не
значит, что оно достигло своей цели, — что согласно нашим
вышеприведенным соображениям невозможно, — но оно было бы устроено так, что
должно было бы непременно все более приближаться к своей цели. Если
бы это не было обеспечено, то оно, правда, могло бы продвинуться по пути
культуры благодаря счастливой случайности, но на это нельзя было бы
никогда твердо рассчитывать, оно могло бы точно так же благодаря
несчастной случайности вернуться назад.
Забота о сходном развитии всех задатков человека предполагает
прежде всего знание всех его задатков, науку о всех его стремлениях и
потребностях, законченное определение всего его существа. Но это полное
знание человека само основывается на задатке, который должен быть
развит, так как, во всяком случае, в человеке есть стремление знать и в
особенности знать то, что ему знать необходимо. Развитие этого задатка
требует всего времени и всех сил человека; если есть какая-нибудь общая
потребность, которая настоятельно требует, чтобы особое сословие посвяти-
506
О назначении ученого
ло себя ее удовлетворению, то именно эта потребность.
Но одно только знание задатков и потребностей человека без науки
об их развитии и удовлетворении не только наводило бы глубокую печаль и
тоску, но было бы в то же время пустым и бесполезным знанием. Тот
поступает в отношении меня очень недружелюбно, кто указыает мне на мой
недостаток, не указывая мне одновременно средств, как исправить этот
недостаток, кто возбуждает во мне чувство моих потребностей, не поставив
меня в такое положение, чтобы я мог их удовлетворить. Лучше бы он
оставил меня в моем неведении, свойственном животному! Короче говоря, это
было бы не то знание, которого требовало общество, ради которого оно
должно было бы иметь особое сословие, обладающее знаниями, ибо оно не
имело в виду совершенствование рода и при помощи этого
совершенствования — объединение, как от него требуется. С этим знанием
потребностей, следовательно, должно быть связано так же знание средств их
удовлетворения, и это знание становится по праву уделом того же сословия,
потому что одно не может быть полным без другого, еще менее может стать
деятельным и живым. Знание первого рода основано на чистых положениях
разума и есть философское, знание второго рода основано отчасти на опыте
и постольку является философско-историческим (не только историческим,
ибо я должен отнести цели, которые могут быть познаны только
философски, к предметам, данным в опыте, чтобы иметь возможность
рассматривать последние как средство для достижения первых). Это знание должно
стать полезным обществу, и, следовательно, дело не только в том, чтобы
вообще знать, какие задатки человек в себе имеет и при помощи каких
средств их можно развить; подобное знание все еще оставалось бы
совершенно бесплодным. Оно должно сделать еще шаг дальше, чтобы
действительно принести желаемую пользу. Нужно знать, на какой определенной
ступени культуры в определенное время находится то общество, членами
которого мы являемся, на какую высоту оно отсюда может подняться и
какими средствами оно для этого должно воспользоваться. Теперь можно, по
крайней мере, установить путь человеческого рода с помощью основ
разума, предположив опыт вообще, до всякого определенного опыта; можно
приблизительно наметить отдельные ступени, через которые он должен
пройти, чтобы достигнуть определенной степени развития, но никак
нельзя, опираясь только на разумные основания, указать ступень, на
которой он действительно находится в данное время. Об этом надо вопросить
опыт; надо исследовать события предшествующих эпох, но философски
подготовленным оком; нужно направить внимание на то, что делается
вокруг, и наблюдать своих современников. Эта последняя часть
необходимого обществу знания является, следовательно, только исторической.
Три указанных рода познания, мыслимые в их единстве, — без объ-
507
И. Г. Фихте
единения они приносят мало пользы, — составляют то, что называют
ученостью или, по крайней мере, что только и следовало бы ею называть; и
тот, кто посвящает свою жизнь приобретению этих знаний, называется
ученым.
Именно: не каждый отдельный индивид должен охватывать весь
объем человеческого знания в плане этих трех родов познания — это было
бы большей частью невозможно, и именно потому, что это невозможно,
стремление к этому было бы неплодотворным и поглотило бы жизнь члена,
который мог бы быть полезным обществу, без всякой пользы для
последнего. Отдельные лица могут выделять для себя отдельные части
вышеуказанной области, но каждый должен был бы обрабатывать свою часть в этих
трех направлениях: философски, философско-исторически и только
исторически. Этим я лишь предварительно намечаю то, что в другое время
разовью дальше, чтобы пока, по крайней мере, моим свидетельствованием
заверить, что основательное изучение философии ни в коем случае не
делает излишним приобретение эмпирических знаний, если только они
основательны, но что оно скорее убедительнейшим образом доказывает
необходимость последних. Цель всех этих знаний указана выше: с их
помощью стремиться к тому, чтобы все задатки человечества развивались
одинаково, но всегда прогрессивно, и отсюда вытекает действительное
назначение ученого сословия: это высшее наблюдение над действительным
развитием человеческого рода в общем и постоянное содействие этому развитию. Я
напрягаю все силы*, господа, чтобы пока еще не дать моему чувству
увлечься той возвышенной идеей, которая сейчас установлена: путь холодного
исследования еще не закончен. Но мимоходом я должен вее-таки указать
на то, что, собственно, сделали бы те, которые стремились бы задержать
свободное развитие наук. Я говорю: сделали бы, ибо, как я могу знать,
имеются ли подобные люди или нет? От развития наук зависит
непосредственно все развитие рода человеческого. Кто задерживает первое, тот
задерживает последнее. И тот, кто это задерживает, как им являет он себя перед
своей эпохой и перед грядущими поколениями? Громче чем тысячью
голосов — действиями взывает он к современникам и потомкам, оглушая их:
люди вокруг меня не должны становиться мудрее и лучше, по крайней
мере, пока я жив, потому что в их мощном развитии я, несмотря на все
сопротивление, был бы хоть чем-нибудь захвачен, а это мне ненавистно, я не
хочу стать просвещеннее, я не хочу стать благороднее: мрак и ложь — моя
стихия, и я положу свои последние силы, чтобы не дать себя извлечь из нее.
Человечество может обойтись без всего. У него все можно отнять, не
затронув его истинного достоинства, кроме возможности совершенствования.
Хладнокровно и хитрее, чем то враждебное людям существо, которое
описывает нам Библия, эти враги человека обдумали, рассчитали и отыскали в
508
О назначении ученого
священнейших глубинах, где они должны были бы напасть на
человечество, чтобы уничтожить его в зародыше, и они это нашли. Против своей
воли человечество отворачивается от своего образа. Возвратимся, однако, к
нашему исследованию.
Наука сама есть отрасль человеческого развития, каждая ее отрасль
должна быть, в свою очередь, разработана дальше, если все задатки
человечества должны получить дальнейшее развитие; поэтому каждому ученому,
точно так же, как каждому человеку, избравшему определенное сословие,
свойственно стремление разрабатывать дальше науку и в особенности
избранную им часть науки; это свойственно ему, как и каждому человеку в
его специальности, но ему это свойственно гораздо больше. Что же, он
должен наблюдать за успехами других сословий и содействовать им, а сам
при этом не преуспевать? От его успеха зависят успехи в других областях
человеческого развития; он должен всегда быть впереди их, чтобы
проложить им путь, исследовать его и повести их по этому пути — и что же ему
при этом отставать? С этого момента он перестал бы быть тем, чем он
должен был бы быть; и так как он ничем другим не является, то он стал бы
ничем. Я не говорю, что каждый ученый должен действительно
разрабатывать свою науку дальше; ну, а если он этого не может? Я ведь говорю, что он
должен стремиться ее разрабатывать, что он не должен отдыхать, не
должен считать, что он исполнил свою обязанность, пока он не разработал ее
дальше. Пока он живет, он мог бы еще продвинуть ее дальше; но если
смерть настигнет его прежде, чем он осуществит свою цель, — что ж, тогда
- он в этом мире явлений освобождается от своих обязанностей и его
серьезное желание засчитывается как исполнение. Если следующее правило
имеет значение для всех людей, то для ученого оно имеет значение в
особенности: пусть ученый забудет, что он сделал, как только это сделано, и
пусть постоянно думает о том, что он еще должен сделать. Тот не ушел
далеко, для кого не расширяется поле его деятельности с каждым сделанным
им шагом.
Ученый предназначен по преимуществу для общества: поскольку он
ученый, он больше, чем представитель какого-либо другого сословия,
существует только благодаря обществу и для общества; следовательно, на
нем главным образом лежит обязанность по преимуществу и в полной
мере развить в себе общественные таланты, восприимчивость и способность
передачи. Восприимчивость уже должна была бы быть в нем особенно
развита, если он приобрел должным образом необходимые эмпирические
познания. Он должен быть знаком в своей науке с тем, что уже было до него:
этому он может научиться не иначе как посредством обучения, —
безразлично, устного или книжного, но не может развить посредством
размышления из одних основ разума. Постоянно же изучая новое, он должен со-
509
И. Г. Фихте
хранить эту восприимчивость и стремиться оградить себя от часто
встречающейся иногда и у превосходных самостоятельных мыслителей —
полной замкнутости в отношении чужих мнений и способа изложения; ибо
никто не бывает так образован, чтобы он не мог научиться еще новому и
порою не был бы принужден изучать еще что-нибудь весьма необходимое,
и редко бывает кто-нибудь так несведущ, чтобы он не мог сообщить даже
ученейшему то, чего тот не знает. Способность сообщения необходима
ученому всегда, так как он владеет своим знанием не для самого себя, а для
общества. С юности он должен развивать ее и должен всегда активно ее
реализовать. Какими средствами, это мы исследуем в свое время.
Свое знание, приобретенное для общества, он должен теперь
применить действительно ради пользы общества; он должен привить людям
чувство их истинных потребностей и познакомить их со средствами
удовлетворения последних. Но это не значит, что он должен пускаться с ними в
глубокие исследования, к которым ему пришлось прибегнуть самому,
чтобы найти что-нибудь очевидное и верное. В таком случае он имел бы в виду
сделать людей такими же великими учеными, каким он является, быть
может, сам. А это невозможно и нецелесообразно. Надо работать и в других
областях, и для этого существуют другие сословия; и если бы последние
должны были посвящать свое время ученым исследованиям, то и ученым
пришлось бы скоро перестать быть учеными. Каким образом может и
должен ученый распространять свои познания? Общество не могло бы
существовать, без доверия к честности и способности других; и это доверие,
следовательно, глубоко запечатлелось в нашем сердце; и благодаря особому
счастливому устройству природы мы никогда не имеем этой уверенности в
большей степени, чем тогда, когда мы больше всего нуждаемся в честности
и способности другого. Он может рассчитывать на это доверие к своей
честности и способности, когда он его приобрел должным образом. Далее,
во всех людях есть чувство истины, которого одного, разумеется,
недостаточно; это чувство должно быть развито, испытано, облагорожено, и
именно в этом состоит задача ученого. Но одного этого чувства для ученого
недостаточно, чтобы привести его к истинам, в которых он нуждается; но
если это чувство не искажено искусственно, — а это часто происходит как раз
из-за людей, причисляющих себя к ученым, — то его будет достаточно для
того, чтобы такой человек признал истину за таковую даже без глубоких
оснований, если другой на нее ему укажет. На это чувство истины ученый
также может рассчитывать.
Следовательно, ученый, поскольку мы до сих пор развили понятие о
нем, по своему назначению есть учитель человеческого рода.
Но он обязан познакомить людей не только с их потребностями и
средствами для удовлетворения последних в общем — он должен в особен-
510
О назначении ученого
ности указывать им во всякое время и на всяком месте потребности,
появившиеся именно сейчас, при этих определенных условиях, и
определенные средства для достижения сейчас поставленных целей. Он видит не
только настоящее, но и будущее; он видит не только нынешнюю точку
зрения, он видит также, куда человеческий род теперь должен двинуться, если
он хочет остаться на пути к своей последней цели и не отклоняться от него
и не идти назад. Он не может требовать, чтобы род человеческий сразу
очутился у той цели, которая только привлечет его взор, и не может
перепрыгнуть через свой путь, а ученый должен только позаботиться о том, чтобы он
не стоял на месте и не шел назад. В этом смысле ученый — воспитатель
человечества. Я особенно отмечаю при этом, что ученый в этом деле, как и во
всех своих делах, находится под властью нравственного закона,
предуказанного согласия с самим собой... Он влияет на общество — последнее
основано на понятии свободы, оно и каждый член его свободны, и он не
может действовать на него иначе, как при помощи моральных средств.
Ученый не будет введен в искушение заставлять людей принудительными
мерами, применением физической силы принять его убеждения, — против
этой глупости не следовало бы в наш век тратить ни одного слова; но он не
должен и вводить их в заблуждение. Не говоря уже о том, что тем самым он
совершает проступок в отношении самого себя и что обязанности человека
во всяком случае должны были бы быть выше, чем обязанности ученого, он
тем самым совершит проступок и в отношении общества. Каждый
индивидуум в последнем должен действовать по свободному выбору и согласно
убеждению, признанному им самим достаточным, он должен при каждом
своем поступке иметь возможность рассматривать сам себя и
рассматриваться каждым другим членом общества как цель. Кого обманывают, с тем
обращаются как с голым средством.
Последняя цель каждого отдельного человека, точно так же как и
целого общества, а следовательно, и всей работы ученого в отношении
общества есть нравственное облагораживание человека. Обязанность ученого —
устанавливать всегда эту последнюю цель и иметь ее перед глазами во всем,
что он делает в обществе. Но никто не может успешно работать над
нравственным облагораживанием общества, не будучи сам добрым человеком.
Мы учим не только словами, гораздо убедительнее мы учим также нашим
примером, и всякий живущий в обществе обязан ему хорошим примером,
потому что сила примера возникает благодаря нашей жизни в обществе. Во
сколько же раз больше обязан это делать ученый, который во всех
проявлениях культуры должен быть впереди других сословий? Если он отстает в
главном и высшем, в том, что имеет целью всю культуру, то каким образом
он может быть примером, которым он все же должен быть, и как он может
полагать, что другие последуют его учению, которому он сам на
511
И.Г. Фихте
глазах у всех противоречит каждым поступком своей жизни? (Слова, с
которыми основатель христианской религии обратился к своим ученикам,
относятся полностью к ученому: Вы соль земли. Если же соль потеряет
силу, то чем сделаешь ее соленою?11 Если избранные среди людей
испорчены, где же искать нравственного добра?) Следовательно, ученый в этом
плане должен быть нравственно лучшим человеком своего века, он должен
представлять собой высшую ступень возможного в данную эпоху
нравственного развития.
Это наше общее назначение, господа, это наша общая судьба.
Счастлив удел того, кто в силу своего особого призвания предназначен делать то,
что надо было бы делать уже ради своего общего призвания в качестве
человека, — тратить свое время и свои силы не на что другое, кроме как на то,
для чего в ином случае надо было бы урывать время и силы с разумной
бережливостью, и иметь в качестве работы, дела, единственного
повседневного труда своей жизни то, что для других было бы приятным отдыхом от
работы. Это укрепляющая и возвышающая душу мысль, которую может
иметь каждый из вас, достойный своего назначения; и мне доверена в моей
доле культура моего века и следующих эпох; и из моих работ родится путь
грядущих поколений, мировая история наций, которые еще только
должны появиться. Я призван для того, чтобы свидетельствовать об
истине, моя жизнь и моя судьба не имеют значения; влияние моей жизни
бесконечно велико. Я — жрец истины, я служу ей, я обязался сделать для нее
все — и дерзать, и страдать. Если бы я ради нее подвергался преследованию
и был ненавидим, если бы я умер, служа ей, что особенное я совершил бы
тогда, что сделал бы я сверх того, что я просто должен был бы сделать?
Я знаю, господа, как много я сейчас сказал, я хорошо знаю также, что
оскопленная и бесчувственная эпоха не переносит этого ощущения и этого
его выражения, что она робким голосом, выдающим скрытый стыд,
называет бредом все, до чего она сама подняться не в состоянии, что она со
страхом отводит глаза от картины, в которой она не видит ничего, кроме
своей бесчувственности и своего позора, что все сильное и возвышающее
производит на нее такое же действие, как прикосновение на разбитого
параличом; я все это знаю. Но я знаю также, с кем я говорю. Я говорю с
молодыми людьми, которые уже благодаря своему возрасту ограждены от этой
полной бесчувственности, и я хотел бы мужественным учением о
нравственности вложить в их душу чувства, которые и в будущем могли бы
предохранить их от нее. Я откровенно признаюсь, что именно с того места,
куда поставило меня Провидение, я хотел бы повсюду, где звучит немецкая
речь, и далее содействовать распространению этого мужественного образа
мыслей, могучего чувства возвышенного, чувства достоинства и горячего
усердия при исполнении своего назначения, независимо ни от какой
опасности.
512
О назначении ученого
Когда вы покинете эти пределы и разойдетесь по всем концам, я
хотел бы быть уверенным в вас повсюду, где бы вы ни жили, как в мужах,
избранница которых — истина, которые преданы ей до гроба, которые
примут ее, если она будет отвергнута всем миром, которые открыто возьмут ее
под защиту, если на нее будут клеветать и будут ее порочить, которые ради
нее с радостью будут переносить коварно скрытую злобу сильных мира
сего, пошлую улыбку суемудрия и сострадательное пожимание плечами
малодушия. С этим намерением я сказал то, что я сказал, и с этой конечной
целью я буду говорить все, что я скажу.
Лекция пятая
ИССЛЕДОВАНИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ РУССО
О ВЛИЯНИИ ИСКУССТВ И НАУК
НА СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА"
я открытия истины оспаривание
заблуждений противников не приносит значительной пользы. Если истина
раз выведена из ее основоположения с помощью правильных заключений,
то все, что ей противоречит, непременно должно быть ложно и без прямого
опровержения, и если можно окинуть взором весь путь, которым
приходится идти, чтобы достигнуть определенного знания, то так же легко
заметить окольные дороги, которые ведут от него к ложным мнениям, и легко
можно указать каждому заблуждающемуся совершенно определенно тот
пункт, отправляясь от которого он заблудился. Ведь всякая истина может
быть выведена только из одного основоположения. Каково должно быть
основоположение для каждой определенной задачи, это должно
установить основательное наукоучение. Как из этого основоположения делать
дальнейшие выводы, указывается общей логикой, и таким образом можно
легко определить как истинный путь, так и ложный.
Но ссылка на противоположные мнения имеет большое значение
для отчетливого и ясного изложения найденной истины. Благодаря
сравнению истины с заблуждениями внимание направляется на отличительные
признаки обоих, и они представляются с большей определенностью и
ясностью. Я пользуюсь этим методом, чтобы дать вам сегодня краткий и
ясный обзор того, что я до сих пор излагал вам в этих лекциях.
Я полагал назначение человечества в постоянном прогрессе
культуры и в одинаковом непрерывном развитии всех ее задатков и
потребностей, и я отвел весьма почетное место в человеческом обществе сословию,
которое предназначено стоять на страже прогресса и одинаковости этого
развития.
Против этой истины никто не возражал более определенно и с
большим красноречием, приводя ложные основания, чем Руссо. Для него
дальнейшее движение культуры — причина всей человеческой испорченности.
По его мнению, для человека нет спасения, кроме как в естественном
состоянии13, и сословие, которое больше всего содействует развитию
культуры — сословие ученых, — есть, по его мнению, источник и средоточие всей
человеческой убогости и испорченности, что, конечно, совершенно
правильно вытекает из его принципов.
Д.
514
О назначении ученого
Подобный тезис выставляет человек, развивший сам свои духовные
задатки до очень высокой степени. Со всем превосходством, которое дало
ему его прекрасное образование, напрягает он все силы, чтобы убедить по
возможности все человечество в правильности своего утверждения и
уговорить его вернуться к прославленному им естественному состоянию. Для
него возвращение есть прогресс, для него это покинутое естественное
состояние — последняя цель, к которой наконец должно прийти
испорченное сейчас и изуродованное человечество. Он делает, следовательно, то же
самое, что делаем мы, он работает, чтобы по-своему подвинуть
человечество дальше и содействовать его стремлению к последней высшей цели. Он
делает, стало быть, то, что он сам так строго осуждает; его поступки
находятся в противоречии с его основоположениями.
Это то же самое противоречие, которое господствует также в его
основоположениях самих по себе. Что же побуждало его к действию, кроме
стремления его сердца? Если бы он исследовал это стремление и
сопоставил его с тем, которое привело его к заблуждению, то в образе его действий
и характере его выводов было бы единство и согласие. Если мы разрешим
первое противоречие, то одновременно разрешим и второе; точка
соединения первого есть одновременно и точка соединения второго. Мы найдем
эту точку, мы разрешим противоречие, мы поймем Руссо лучше, чем он
сам понимал себя, и мы найдем, что он в полном согласии с самим собой и
с нами.
Что привело Руссо к тому странному, правда, отчасти
установленному до него другими, положению, совершенно расходящемуся в своей
всеобщности с общим мнением? Вывел ли он его путем одного лишь
размышления из более высокого основоположения? О нет, Руссо ни с какой
стороны не дошел до основ всякого человеческого мышления; кажется, он
никогда даже и не ставил себе о них вопроса. Все, что Руссо имеет
истинного, основано непосредственно на его чувстве, и его знание поэтому
отмечено ошибкой знания, основанного на простом, неразвитом чувстве, именно
оно отчасти нетвердо, потому что о своем чувстве нельзя отдать себе
полного отчета, отчасти истинное смешивается с неистинным, потому что
суждение, основанное на простом неразвитом чувстве, всегда устанавливает как
равнозначащее то, что все же не равнозначаще. Именно чувство никогда
не заблуждается, а способность суждения заблуждается, неправильно
изъясняя чувство и принимая сомнительное чувство за чистое. Исходя из
неразвитых чувств, которые Руссо кладет в основу своих размышлений, он
постоянно делает совершенно правильные выводы; достигнув наконец
области заключений разума, он находится в согласии с самим собой и
увлекает поэтому с такой силой и читателей, которые могут за ним следовать. Ес-
17»
515
И. Г. Фихте
ли бы на пути выводов он мог допустить также влияние чувства, то оно
вывело бы его вновь на правильный путь, с которого оно только что его
отвлекло. Чтобы менее заблуждаться, Руссо должен был бы быть либо более
тонким, либо менее тонким мыслителем, и, чтобы не дать себя ввести в
заблуждение, необходимо точно так же обладать либо очень высокой, либо
очень малой степенью тонкости мышления, либо быть полностью
мыслителем, либо не быть им совершенно.
Отрезанный от большого мира, увлекаемый своим чистым чувством
и своей живой силой воображения, Руссо нарисовал себе картину мира, и в
особенности ученого сословия, труды которого его преимущественно
интересовали в том виде, какими они должны были бы быть и какими они
непременно были бы, если бы они следовали тому общему чувству. Он
познакомился с большим миром, он окинул взором все находящееся вокруг; и
что же стало с ним, когда он увидел мир и ученых такими, какими они были
на самом деле!
Поднявшись на страшную высоту, он увидел то же, что каждый,
умеющий пользоваться своими глазами для зрения, видит всюду, — людей,
не подозревающих своего высокого достоинства и искры Божьей в них,
подобно животным, пригнутых к земле и прикованных к праху; увидел их
радости и их страдания и весь их удел, зависящий от удовлетворения их
низменной чувственности, потребность которой при каждом
удовлетворении болезненно увеличивалась до крайней степени; увидел, как они,
удовлетворяя эту низменную чувственность, не уважали ни права, ни
несправедливости, ни святого, ни нечестивого; как они всегда были готовы по-'
жертвовать всем человечеством ради любой фантазии; увидел, как они
утратили наконец всякое понимание права и несправедливости и
променяли мудрость на ловкость в извлечении своих выгод и долг — на
удовлетворение страстей; увидел наконец, как они в этом унижении искали
своего возвышения и в этом позоре — свою честь, с каким презрением они
смотрели на тех, которые не были такими мудрыми и такими
добродетельными, как они; увидел картину, которая, пожалуй, встречается и в Германии;
увидел, как те, кто должны были быть учителями и воспитателями нации,
превратились в услужливых рабов своей гибели, как те, которые должны
были своей эпохе задавать мудрый и строгий тон, старательно
прислушивались к тону, который задавали безгранично господствующая глупость и
безгранично господствующий порок; услышал, как они, обращаясь к
своим исследованиям, задумывались не о том, истина ли это, делает ли это
добрым и благородным, но о том, будут ли это охотно слушать, не о том,
выиграет ли от этого человечество, но о том, что я выиграю благодаря
этому: деньги, или благосклонный кивок принца, или улыбку красивой
женщины? Он видел, как они считали этот образ мыслей делом своей чести,
516
О назначении ученого
как они пожимали плечами при виде слабоумного, который не умел так же
распознать дух времени, как они; увидел, как талант, искусство и знание
объединялись с злополучной целью добиться для чувств, притуплённых
наслаждениями, более тонкого наслаждения или извинить и оправдать
человеческую гибель ради гнусной цели возвести в добродетель, снести все,
что ставило этому препятствия на пути; он увидел, наконец, и
познакомился на собственном неприятном опыте, как глубоко опустились те
недостойные, которые потеряли последнюю каплю чутья, что еще имеется
какая-то истина, и последнее уважение к ней; что они были совершенно
бессильны даже подумать о причинах и, когда им громко кричали об этом,
говорили: довольно, это неправда, и мы не хотим, чтобы это было правдой,
потому что мы от этого ничего для себя не получим. Все это он увидел, и его
напряженное и обманутое чувство возмутилось. С глубоким негодованием
обрушился он на свою эпоху.
Не будем упрекать его в этой чувствительности. Она — признак
благородной души: кто чувствует в себе божественное, тот часто со вздохом
обратится к Провидению: и это мои братья? это мои сотоварищи, которых ты
мне дал для жизненного пути? Да, они имеют мой образ, но наши души и
наши сердца не родственны, мои слова для них — слова чужого языка, как
для меня их слова, я слышу звук их голоса, но в моем сердце нет ничего
такого, что могло бы придать им смысл. О вечное Провидение, почему ты
дало мне родиться среди таких людей? Или, если я должен был среди них
родиться, почему ты дало мне это чувство и беспокойное предчувствие чего-
то лучшего и высшего? Почему ты не сделало меня таким же, как они?
Почему ты не сделало меня таким же низменным человеком, как они? Я мог
бы тогда с удовольствием жить вместе с ними. Вам хорошо бранить его за
скорбь и порицать его за досаду — вы, прочие, считающие все прекрасным;
вам хорошо восхвалять удовольствие, с которым вы принимаете все, и
скромность, которая примиряет вас с людьми, как они есть. Он был бы
таким же скромным, как и.вы, если бы у него было так же мало благородных
запросов. Вы не можете подняться до представления о лучшем состоянии,
и для вас действительно все достаточно хорошо.
Под наплывом этих горьких чувств Руссо не был в состоянии видеть
что-нибудь, кроме предмета, который вызвал его возбуждение.
Чувственность господствовала: это был источник зла. Только господство
чувственности он хотел уничтожить, несмотря ни на какую опасность, чего бы это
ни стоило. Разве удивительно то, что он впал в противоположную
крайность? Чувственность не должна господствовать, она безусловно не
господствует, если она уничтожается вообще, если она совсем не существует,
если совершенно не развита, если она не приобрела совершенно никакой
силы. Отсюда естественное состояние Руссо.
517
И. Г. Фихте
В его естественном состоянии особенные наклонности человека
должны быть еще не развиты, они должны быть даже не намечены.
Человек не должен иметь никаких других потребностей, кроме потребностей
своей животной природы; он должен жить подобно животному на
пастбище рядом с ним. Верно, что в этом состоянии не было бы ни одного порока,
которые так возмущали чувство Руссо. Человек будет есть, когда он
проголодается, и пить, когда у него появится жажда, утоляя голод и жажду
первым, что ему попадется на глаза; и, когда он насытится, у него не будет
интереса лишать других той пищи, которой он сам не может воспользоваться.
Когда он сыт, то каждый может в его присутствии спокойно есть и пить,
что он хочет и сколько хочет, потому что он сейчас нуждается в покое и не
имеет времени мешать другому. В надежде на будущее выражается
истинный характер человечества; она же одновременно источник всех
человеческих пороков. Отведите источник, и больше не будет существовать порока;
и Руссо при помощи своего естественного состояния действительно его
отводит.
Но в то же время правда, что человек, насколько верно, что он
человек, а не животное, не предназначен оставаться в этом состоянии. Порок,
разумеется, уничтожается им, но вместе с тем уничтожается и добродетель,
и разум вообще. Человек становится неразумным животным14, получается
новый род животных: людей тогда больше не остается.
Без сомнения, Руссо поступал с людьми честно и стремился сам жить
в этом естественном состоянии, которое он расхваливал другим с таким
жаром, и, конечно, это стремление проявляется во всех его
высказываниях. Мы могли бы ему предложить вопрос, чего же, собственно, искалРуссо
в этом естественном состоянии? Он сам чувствовал себя ограниченным и
удрученным разнообразными потребностями, и то, что для обыкновенных
людей, разумеется, самое небольшое зло, такого человека, как он, угнетало
сильнее всего — эти потребности так часто сбивали его самого с пути
честности и добродетели. Если бы он жил в естественном состоянии, думал он,
он не имел бы всех этих потребностей и не испытывал бы стольких
страданий благодаря неудовлетворению их и столько еще более тяжелых
страданий благодаря удовлетворению их нечестным путем. Он был бы честен
перед самим собой. Он почувствовал себя повсюду угнетенным другими,
потому что он преграждал путь к удовлетворению их потребностей.
Человечество — зло недаром и не напрасно, думал Руссо, и с ним вместе мы; никто
из оскорбляемых не оскорбил бы его, если бы он не чувствовал этих
потребностей. Если бы все жили вокруг него в естественном состоянии, то он
остался бы спокоен за других. Следовательно, Руссо хотел невозмутимого
внутреннего и внешнего покоя. Хорошо, спросим мы его дальше, для чего
ему был все-таки необходим этот невозмутимый покой? Без сомнения, для
518
О назначении ученого
того, для чего он действительно употребил тот покой, который ему
все-таки выпал на долю: для размышления о своем назначении и своих
обязанностях, чтобы тем самым облагородить себя и своих собратьев. Но разве в
этом животном состоянии, которое он принимал, разве имел бы он
возможность к этому без предварительного развития, которое он мог получить
только в культурном состоянии? Следовательно, он незаметно перевел в
него себя и все общество со всем развитием, которое оно могло получить
только благодаря выходу из естественного состояния; он незаметно
допустил, что оно уже должно было выйти из него и пройти весь путь развития;
и все-таки оно должно было не выходить из него и не получить развития: и
таким образом мы незаметно дошли до ошибочного заключения Руссо и
можем теперь полностью и без большого усилия разрешить его парадокс.
Руссо хотел вернуть человека в естественное состояние не ради
духовного развития, а только ради независимости от потребностей
чувственности. И, конечно, верно то, что по мере приближения человека к его
высшей цели удовлетворение его чувственных потребностей должно
становиться все легче, что усилия и заботы, связанные с поддержанием
существования на свете, должны постоянно уменьшаться, что плодородие
почвы должно увеличиваться, климат смягчаться, что должно быть сделано
бесконечное количество новых открытий и изобретений, чтобы увеличить
средства к существованию и облегчить его, что, далее, после того как разум
распространит свое господство, потребности человека будут уменьшаться,
но не потому, что он, находясь в первобытном естественном состоянии, не
знает связанных с ними удовольствий, но потому, что он может без них
обойтись; он будет всегда готов наслаждаться лучшим, когда он может его
иметь, не нарушая своих обязанностей, и может обойтись без всего того,
пользоваться чем он не может с честью. Если это состояние мыслится как
идеальное, — в этом отношении оно, как все идеальное, недостижимо, —
то это золотой век чувственного наслаждения без физического труда,
который описывают древние поэты. Итак, впереди нас находится то, что Руссо
под именем естественного состояния и древние поэты под названием
золотого века считают лежащим позади нас. (В прошлом, — напомню кстати, —
часто наблюдалось явление, что то, чем мы должны стать, описывается
как нечто, чем мы уже были, и что то, чего мы должны достигнуть,
представляется как нечто потерянное, — явление, которое имеет свое серьезное
основание в человеческой природе и которое я когда-нибудь, если
представится подходящий случай, исходя из нее, объясню.)
Руссо забывает, что человечество должно и может приблизиться к
этому состоянию только благодаря заботам, усилиям и труду. Без
применения человеческих рук природа сурова и дика, и она должна была быть
такой, чтобы человек был принужден выйти из бездеятельного естественного
519
И. Г. Фихте
состояния и возделать ее, — чтобы он сам из произведения природы стал
свободным разумным существом. Он, конечно, выйдет из этого состояния;
несмотря ни на какую опасность, он сорвет яблоко познания, потому что в
нем неискоренимо заложено стремление быть равным Богу. Первый шаг
из этого состояния ведет его к горю и трудам. Его потребности
развиваются, они настоятельно требуют своего удовлетворения: но человек от
природы ленив и косен по примеру материи, из которой он произошел.
Возникает тяжелая борьба между потребностью и косностью: первая побеждает,
вторая горько сетует. В поте лица своего обрабатывает он поле и сердится,
что на нем растут также шипы и сорные травы, которые он должен
вырывать с корнем. Не потребность — источник порока, она — побуждение к
деятельности и к добродетели: источник всех пороков — леность. Как
можно больше наслаждаться, как можно меньше делать — это задача
испорченной природы, и немало попыток, которые делаются, чтобы решить ее,
являются ее пороками. Нет спасения для человека до тех пор, пока эта
естественная косность не будет счастливо побеждена и пока человек не найдет
в деятельности, и только в деятельности, своих радостей и своего
наслаждения. Для этого существуют болезненные переживания, связанные с
чувством потребности, — они должны нас побуждать к деятельности. Это
цель всякой боли, в особенности цель той боли, которая появляется у нас
при виде несовершенства, испорченности и бедствий наших ближних. Кто
не чувствует этой боли, этого острого неудовольствия, тот пошляк. Кто его
чувствует, должен стремиться освободиться от него тем, чтобы, приложив -
все силы, достигнуть, насколько возможно, совершенства в своей сфере и
вокруг себя. Если предположим, что его работа не была плодотворной, что
он не видел в ней пользы, то все-таки чувство его деятельности, вид его
собственных сил, затраченных в борьбе со всеобщей испорченностью,
заставит его забыть эту боль. Здесь Руссо сделал ошибку. У него была
энергия, но больше энергии страдания, чем энергии деятельности; он
остро чувствовал бедствия людей, но он гораздо меньше чувствовал свою
силу помочь этому, и как он чувствовал себя, так он оценивал других. Как
он относился к этому своему особому страданию, так относилось после
него все человечество к своему общему страданию. Он определил страдание,
но не определил сил, которые имеет в себе род человеческий, чтобы себе
помочь.
Мир его праху и да будет благословенна его память! Он действовал.
Он зажег огонь во многих душах, которые продолжали то, что он начал. Но
он действовал, почти не сознавая своей самодеятельности. Он действовал,
не призывая других к действию, не сравнивая свое действие с суммой
общего зла и испорченности. Это отсутствие стремления к самодеятельности
господствует во всей системе его идей. Он — человек пассивной чувстви-
520
О назначении ученого
тельности, и в то же время человек, не оказывающий собственного
деятельного противодействия вызванному впечатлению.
Его влюбленные, введенные в заблуждение страстью, становятся
добродетельными, но каким образом они становятся такими, мы не видим.
Борьбу разума со страстью, постепенную, медленную, с напряжением,
усилиями и трудом одержанную победу, — самое интересное и
поучительное, что мы могли бы видеть, — Руссо скрывает от наших глаз. Его
воспитанник развивается сам собой. Его руководитель ничего больше не делает,
как только устраняет препятствия к его развитию, а в остальном
предоставляет его действию снисходительной природы. Она все время должна будет
держать его под своей опекой, так как он не дал ему силы воли, огня,
твердого решения бороться с ней, ее покорить. Среди хороших людей он будет
хорошим, но среди злых, — а где большинство не злые? — он будет
несказанно страдать. Так Руссо постоянно изображает разум в покое, но не в
борьбе; он ослабляет чувственность, вместо того чтобы укрепить разум.
Я взялся за это исследование, чтобы разрешить тот опороченный
парадокс, который как раз противоположен нашему принципу, но не только
потому. Я хотел показать вам на примере одного из величайших людей
нашего столетия, какими вы не должны быть: я хотел развить вам на его
примере учение, важное для всей вашей жизни. Вы знаете теперь из
философского исследования, какими должны быть люди, с которыми вы еще
вообще не состоите ни в каких очень близких, тесных, неразрывных
отношениях. Вы вступите с ними в эти более близкие отношения. Вы их найдете
совершенно, другими, чем этого хочет ваше учение о нравственности. Чем
благороднее и лучше вы сами, тем болезненнее будет для вас предстоящий
вам опыт; не давайте, однако, этой боли себя одолеть, но преодолевайте ее
делами. На него рассчитываю, он также учтен в плане улучшения рода
человеческого. Стоять и жаловаться на человеческое падение, не шевельнув
пальцем для его уменьшения, значит поступать по-женски. Карать и
злобно издеваться, не сказав людям, как им стать лучше, не по-дружески. Дей-^
ствовать! действовать!! — вотдля чего мы существуем. Должны ли мы
сердиться на то, что другие не так совершенны, как мы, если мы только
совершеннее; не является ли этим большим совершенством обращенный к нам
призыв, что именно мы должны работать для совершенствования других?
Будем радоваться при виде обширного поля, которое мы должны
обработать! Будем радоваться тому, что мы чувствуем в себе силы и что наша
задача бесконечна!
ЯСНОЕ, КАК СОЛНЦЕ,
СООБЩЕНИЕ ШИРОКОЙ
ПУБЛИКЕ О ПОДЛИННОЙ
СУЩНОСТИ
НОВЕЙШЕЙ ФИЛОСОФИИ
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
\
Некоторые друзья
трансцендентального идеализма, или системы наукоучения, дали этой системе
название новейшей философии1. Несмотря на то, что название это звучит почти
как насмешка и исходит, по-видимому, из предположения, будто ее
основатели ищут самой новейшей философии2; несмотря, далее, на то, что
основатель этой системы, со своей стороны, убежден в том, что существует
одна-единственная философия, подобно одной лишь единственной
математике, и что, как только эта единственно возможная философия найдена
и признана, не может больше возникнуть никаких новых, но что все
предшествующие так называемые философии будут с этих пор рассматриваться
лишь как попытки и предварительные работы, — он все же при выборе
заглавия популярного сочинения предпочел последовать этому
словоупотреблению, несмотря на связанный с ним риск, чем воспользоваться
непопулярным названием трансцендентального идеализма, или наукоучения.
Сообщение об этих новейших усилиях поднять философию до
степени науки, обращенное к широкой публике, не занимающейся изучением
философии как своей специальностью, является по разным соображениям
нужным и уместным. Правда, далеко не все люди должны посвятить свою
жизнь наукам, а потому далеко не все должны посвятить свою жизнь и
основе всех других наук, то есть научной философии; для того чтобы
углубиться в исследование подобной философии, необходимы такая свобода
духа, такой талант и такое прилежание, какие встречаются не у всякого. Но
все же каждый, притязающий на общее умственное развитие, должен в
общих чертах знать, что такое философия; несмотря на то, что он сам не
участвует в этих исследованиях, он все же должен знать, что она исследует; и,
несмотря на то, что он сам не проникает в ее область, он все же должен
знать границы, отделяющие эту область от той, где находится он сам,
чтобы не бояться опасности, угрожающей со стороны совершенно другого и
абсолютно чуждого ему мира тому миру, в котором он находится. Он
должен это знать, по крайней мере, для того, чтобы не совершать
несправедливости по отношению к тем людям науки, с которыми ему все же
приходится жить вместе как человеку, чтобы не давать ложных советов доверяю-
\
525
И. Г. Фихте
щимся ему и удерживать их от всего того, за пренебрежение к чем/ они в
будущем могут жестоко поплатиться. По всем этим соображениямкаждый
образованный человек должен, по крайней мере, знать, чем философия не
является, каких намерений она не имеет, чего она не способна делать.
Достигнуть же этого познания не только возможно, но даже и
нетрудно. Научная философия, несмотря на то, что она возвышается над
естественным воззрением на вещи и над обыкновенным человеческим
рассудком, тем не менее обеими ногами стоит на почве последнего и
исходит из него, несмотря на то, что она в дальнейшем, конечно, выходит за его
пределы. Видеть эту ее связь с почвой естественного образа мыслей,
наблюдать, как она исходит из него, может всякий человек, обладающий хотя
бы обыкновенным человеческим рассудком и обычной степенью
внимательности, какую можно предполагать во всяком образованном человеке.
Сообщение, подобное намеченному, особенно необходимо для
такой системы — я принимаю здесь кантовскую систему и новейшую за
одно, потому что обе они, несомненно, сходятся между собой, по крайней
мере в своих притязаниях на научность, — для такой системы, говорю я,
которая по времени следует за другой, еще продолжающей существовать,
эклектической, совершенно отказавшейся от всяких притязаний на
научность, научную подготовку и изучение и приглашавшей к своим
исследованиям всякого, кто только способен сосчитать, сколько будет два и два.
Оно (это сообщение) необходимо в такое время, когда необразованная
публика слишком охотно последовала этому приглашению и ни за что не
хочет отказаться от того мнения, будто философствование дается так же без
труда, как еда и питье, и что в философских предметах всякий имеет право
голоса, кто только вообще обладает голосом; в такое время, когда это
мнение только что причинило большой вред и когда о философских
положениях и выражениях, которые могут быть поняты и оценены лишь в
научной философской системе, было предоставлено судить необразованному
рассудку и неразумию, благодаря чему репутации философии был нанесен
немалый ущерб; в такое время, когда даже между настоящими
философскими писателями вряд ли найдется и полдюжины таких, которые знали
бы, что такое собственно философия, а другие, которые, по-видимому,
знают, что она такое, начинают жалобно ныть, что философия — это-де
только философия; в такое время, когда даже самые основательные между
современными рецензентами полагают, что наносят новейшей
философии немалое бесчестие, когда уверяют, что она, мол, слишком абстрактна
для того, чтобы стать когда-нибудь всеобщим способом мышления.
Автор этой работы не упускал случая уже несколько раз публиковать
составленные в различных выражениях подобного рода сообщения своим
мнимым товарищам по профессии. По-видимому, это у него вышло не
526
Ясное, как солнце...
совсем удачно, так как он все еще слышит с разных сторон все ту же старую
песню^Он хочет теперь попытаться, не лучше ли удастся ему это с не-фи-
лософскрй публикой, по крайней мере в том смысле, в каком употребляет
это слово автор; он хочет со всей, какая только доступна ему, понятостью
показать еще раз то, что он уже показывал несколько раз, и, как ему
кажется, очень понятно, в некоторых своих очерках. Может быть, таким образом
ему удастся добиться хотя бы и косвенным путем успеха также и у своих
товарищей по факультету. Может быть, справедливый и беспристрастный
человек, не притязающий на то, что он является знаменитым
философским преподавателем или писателем, убедится, что для философии
необходимы известные абстракции, спекуляции (умозрения) и воззрения,
относительно которых он безусловно не помнит, чтобы он ими занимался, и
которые, если бы он попытался ими заняться, ни в коем случае ему не
удадутся; может быть, он увидит, что эта философия вообще не думает и не
говорит о том, о чем думает и говорит он, что она ему ни в чем не
противоречит, потому что она совсем не говорит с ним или о нем; что философия
всем тем словам, которыми она пользуется, так сказать, совместно с ним,
придает совсем иной смысл, который становится для него совершенно
непонятным, как только слова эти вступают в заколдованный круг этой
науки. Может быть, этот справедливый и беспристрастный человек отныне
столь же спокойно будет воздерживаться от участия в философском
разговоре, подобно тому, как он воздерживается от участия в разговоре о
тригонометрии или алгебре, если он не изучал этих наук; и так только он
натолкнется на что-нибудь, относящееся к философии, он непринужденно
скажет: путь об этом столкуются между собой философы, которые ничему
другому не учились; меня это не касается, я спокойно занимаюсь своим делом.
Может быть, после того как профаны покажут хоть раз пример подобного
уместного воздержания, ученые также не будут больше так страстно
возмущаться по поводу повторных суровых запретов говорить о том, чего они,
очевидно, ни разу даже не читали.
Одним словом, философия прирождена человеку; это общее
мнение, и поэтому каждый считает себя вправе судить о философских
предметах. Я здесь совершенно оставляю в стороне, как обстоит дело с этой
прирожденной философией — об этом я буду говорить в своем месте; я только
утверждаю о новейшей, о моей, которую я сам должен знать лучше всего: она
не прирождена, но должна быть изучена, и поэтому о ней может судить
только тот, кто изучил ее. Я покажу только первое: последнее само собой
вытекает из первого.
Правда, отрицать за обыкновенным человеческим рассудком право
выражать свое суждение о материях, которые считаются также последней
целью философии — о Боге, свободе и бессмертии, — это кажется суровым,
527
И. Г. Фихте
I
принималось всегда с кислой миной, и именно поэтому не
хотят/согласиться с приведенным примером, взятым из области математики/или
какой-либо другой положительной науки, которую можно изучить, i находят
его неподходящим. Эти понятия коренятся-де в естественном,
обыкновенном способе мышления человека; следовательно, они во всяком случае в
известном отношении прирождены. Относительно новейшей философии
здесь следует только иметь в виду и помнить, что она ни в какой мере не
отрицает за обыкновенным человеческим рассудком права судить об этих
предметах, но что она, наоборот, признает за ним это право, как мне
кажется, в гораздо более сильной степени, чем какая-либо из
предшествующих философий; но она за ним признает это право лишь в его сфере и в его
собственной области, но ни в коем случае не в области философско-науч-
ной, в области, которая совершенно не существует для обыкновенного
рассудка как такового. Обыкновенный рассудок может рассуждать об этих
предметах; и, может быть, даже очень правильно, но не может обсуждать их
философски, ибо этого не может никто, кто не учился этому и не
упражнялся в этом.
Но если не хотят ни в коем случае отказаться от излюбленного
выражения — философия — и от славы быть философской головой, или
философом-юристом, философом-историком, философом-журналистом и
т.д., — то пусть согласятся с тем уже раньше сделанным предложением,
чтобы научная философия не называлась больше философией, а хотя бы
наукоучением. Обеспечив за собой это имя, наукоучение откажется от
другого названия — философии — и торжественно уступит его всякого рода
рассуждательству. Пусть тогда широкая публика оставит наукоучение и
пусть тогда каждый, кто не изучил его основательно, будет считать его за
вновь открытую неизвестную науку, вроде гинденбурговского
комбинационного учения в математике3; и пусть он поверит нашему утверждению,
что эта наука ни в чем не совпадает с тем, что они могут при желании
называть философией; она не опровергает последней, но не может быть также
опровергнута при помощи последней. Пусть их философия пользуется
тогда всевозможными почестями и знаками уважения; но пусть они нам
позволят, ввиду нашего права на естественную свободу всех людей, не
заниматься ею, как и мы просим их, чтобы они, занимаясь этой своей
философией, не обращали внимания на наше наукоучение.
Таким образом, целью этого сочинения является, собственно
говоря, следующее: оно не стремится ни к каким завоеваниям для новейшей
философии, а только к справедливому миру в пределах ее границ. Оно, это
сочинение, даже не философия в строгом смысле этого слова, а только
лишь рассуждение. Кто прочтет его до конца и полностью поймет, тот не
будет обладать благодаря ему ни одним философским понятием, предло-
528
Ясное, как солнце...
жением>и т.д.; но он получит понятие о философии; он не выйдет из
области обыкновенного человеческого рассудка и не вступит ни одной ногой на
почву философии; но он дойдет до общей пограничной черты обеих
областей. Если он отныне захочет действительно изучать эту философию, то он,
по крайнеймере, будет знать, что он в этом деле должен и на что не должен
обращать свЦ внимание. Если же он этого не захочет, то, по крайней мере,
получит отчетливое сознание того, что он этого не хочет, никогда не хотел
и действительно никогда не занимался этим; что он, следовательно,
должен воздерживаться от суждения о философских предметах; он получит
убеждение, что никакая подлинная философия не вторгается в круг его
собственных занятий и не может помешать ему.
ВВЕДЕНИЕ /
/
/
Мой читатель!
Прежде чем ты — позволь же мне всегда называть тебя этим
дружественным "ты" — приступишь к чтению этого сочинения, заключим
между собой предварительный уговор.
Я, конечно, обдумал то, что ты будешь дальше читать; но ни для тебя,
ни для меня не нужно, чтобы ты также знал, что я думал. Как бы ты вообще
ни привык читать сочинения только для того, чтобы знать, что думали и
говорили составители этих сочинений, я все же желал бы, чтобы к этому
сочинению ты относился не так. Я обращаюсь не к твоей памяти, а к твоему
рассудку: моя цель не та, чтобы ты себе отметил, что я сказал, а чтобы ты
сам думал и притом — если небу будет угодно — думал именно так, как
думал я. Если, таким образом, при чтении этих страниц с тобой случится то,
что иногда случается с современными читателями, а именно, что ты
будешь продолжать читать, не продолжая мыслить, что ты хотя и будешь
воспринимать слова, но не будешь схватывать их смысла, — то вернись
обратно, удвой твое внимание и читай еще раз с того места, с которого твое вни^-
мание рассеялось; или даже отложи на сегодня книгу в сторону и читай ее
завтра со свежими умственными силами. Исключительно от соблюдения с
твоей стороны этого условия зависит выполнение гордого обещания,
данного в заглавии, принудить тебя к пониманию. Ты должен только
действительно пустить в ход свой рассудок и противопоставить его в борьбе моему;
а принудить тебя к этому я, конечно, не могу. Если ты не пустишь его в ход,
то я проиграл пари. Ты ничего не поймешь подобно тому, как ты ничего не
увидишь, если закроешь глаза.
Но если с тобою случится, что начиная с известного пункта ты
никоим образом и несмотря ни на какие размышления не сможешь убедиться
в истинности моих утверждений, то отложи книгу совсем в сторону и
продолжительное время не бери ее в руки. Предоставь твоему рассудку
двигаться прежним путем по проторенным дорогам, не думая о ней; может
быть, совершенно случайно и в то время, как ты будешь иметь в виду
совершенно другое, само появится условие ее понимания, и ты по истечении
некоторого времени очень хорошо и легко поймешь то, чего ты теперь не мо-
530
Ясное, как солнце...
жешь понять, несмотря ни на какие усилия. Подобного рода вещи
случались также и с нами, с людьми, приписывающими себе теперь некоторую
способность мышления. Но только, ради Бога, не говори совсем об этом
предмете, пока не наступит условие понимания и действительное
понимание.
Ход моего мышления состоит в выведении, он представляет одну
сплошную цепь рассуждений. Всякое следующее рассуждение истинно для
тебя лишь при том условии, если ты нашел истинным предшествующее
ему. С того же пункта, который ты найдешь неправильным, ты не сумеешь
больше думать так, как думал я, и при этих условиях продолжение чтения
будет иметь для тебя лишь тот результат, что ты будешь знать, что я думал.
Этот успех я издавна считал весьма незначительным и очень удивлялся
скромности большинства людей, которые приписывают столь большое
значение мыслям других и столь малое своим собственным, что охотнее
проводят свою жизнь в том, чтобы узнать первые, чем рождать самим
какие-либо мысли: я совершенно запрещаю эту скромность по отношению к
моим мыслям.
А теперь приступим к делу!
I
Каждый человек, обладающий здоровыми органами чувств,
наблюдая мир вне себя и свою собственную душу, получает запас знаний, опытов
■и фактов. Далее, то, что дано через непосредственное восприятие, он даже
при отсутствии действительного восприятия может свободно возобновить
в себе, может размышлять об этом, противопоставлять друг другу
многообразие восприятий, отыскивать одинаковость в единичном, так же как и его
отличия; и таким образом, если только он обладает обыкновенным
здравым рассудком, его знание становится отчетливее, определеннее,
пригоднее; оно все более становится достоянием, которым он может
распоряжаться совершенно свободно и непринужденно; но оно ни в коем случае не
увеличивается благодаря этому размышлению; можно размышлять о
наблюдавшемся, сравнивать между собой последнее так, как оно
наблюдалось, но ни в коем случае нельзя посредством одного только мышления
создавать для себя новые предметы4.
И ты, и я, и все нам подобные обладаем этим запасом познаний и
известной, сравнительно поверхностной или более глубокой, разработкой
его посредством свободного размышления: и это и есть, без сомнения, то,
что думают, когда говорят о системе или о суждениях обыкновенного
здравого человеческого рассудка.
531
И. Г. Фихте
II
Однако существовала философия, которая утверждала, что она
может расширить вышеописанный объем знаний путем одних лишь выводов,
согласно которой мышление есть не только, как мы это только что
описывали, разложение и расположение в другом порядке данного, но в то же
время получение и созидание совершенно нового. Согласно этой системе
только философ обладал известными знаниями, которых лишен
обыкновенный рассудок. Согласно ей философ мог путем рассуждений
додуматься до Бога и до бессмертия и посредством умствований стать мудрым и
добрым5. Если подобного рода философы желали быть последовательными,
то им приходилось объявлять обыкновенный рассудок недостаточным для
житейских дел, так как в противном случае стала бы излишней их
расширяющая познание система; они неизбежно взирали на него с презрением;
им приходилось приглашать всех, кто имеет человеческий облик, стать
такими же великими философами, какими были они сами, для того чтобы
все были так же мудры и добродетельны, как и эти философы.
m
Кажется ли тебе, мой читатель, лестной для обыкновенного рассудка
и приспособленной для его интересов философская система, подобная
описанной; система, согласно которой этот рассудок в школе философа
должен излечиться от своей прирожденной слепоты и в дополнение к
своему естественному свету получить там искусственный?
И если теперь этой системе противопоставляет себя другая, которая
обязуется опровергнуть до конца это утверждение о полученных путем
выводов новых познаниях, скрытых от обыкновенного рассудка, и
убедительно показать, что у нас вообще нет ничего истинного и реального, кроме
опыта, доступного каждому; нет ничего для жизни, кроме описанной выше
системы обыкновенного рассудка; что жизнь можно узнать только
посредством жизни, но ни в коем случае не посредством спекуляции, и что
мудрым и добрым нельзя стать посредством умствований, а только
посредством жизни, — будешь ли ты в качестве представителя обыкновенного
рассудка считать эту последнюю систему твоим врагом или твоим другом?
Поверишь ли ты, что она хочет наложить на тебя новые оковы, а не,
наоборот, освободить от тех оков, которые были до сих пор на тебя наложены?
И если теперь эту последнюю систему обвиняют перед тобой в том,
что она враждебна, злонамеренна и губительна для тебя; если к тому же это
обвинение исходит от людей, которые, по всей видимости, сами
принадлежат к партии описанной выше философии, — что же ты будешь думать о
532
Ясное, как солнце...
честности или, выражаясь наиболее мягко, о знакомстве этих обвинителей
с истинным положением вещей?
IV
Ты удивляешься, мой читатель, и спрашиваешь, действительно ли с
обвинениями, выдвинутыми перед твоим судейским креслом против
новейшей философии, дело обстоит так, как я это только что описал!
Здесь я принужден перевоплотиться из личности автора вообще в
мою индивидуальную личность. Что бы обо мне ни думали и ни говорили,
я известен все же не как рабский последователь чужих мнений; и,
насколько я знаю, относительно этого пункта публика придерживается одного
мнения. Многие даже оказывают мне честь, часто отклонявшуюся мной,
считать меня основателем совершенно новой, неизвестной до меня
системы, и человек, который, по-видимому, является наиболее компетентным
судьей в этом деле, Кант, публично отказался от всякого участия в этой
системе6. Пусть дело обстоит с этим как угодно; я, во всяком случае, ни от
кого другого не научился тому, что я излагаю, не нашел ни в какой книге,
прежде чем стал излагать, и, по крайней мере, по форме оно является
вполне моей собственностью. Таким образом, я сам должен был бы лучше всего
знать, чему я сам учу. И, без сомнения, желаю сказать об этом. Ибо какая
польза была бы для меня, если бы я стал здесь торжественно уверять
широкую публику в чем-либо, что противоречит остальным моим сочинениям,
" как это могбы доказать первый встречный, знакомый с этими
сочинениями.
Я поэтому заявляю здесь торжественно: внутренний смысл, душа
моей философии состоит в том, что человек не имеет вообще ничего, кроме
опыта; человек приходит ко всему, к чему он приходит, только через опыт,
только через саму жизнь. Все его мышление — несистематическое или
научное, обыкновенное или трансцендентальное — исходит из опыта и
имеет своей целью опять-таки опыт7. Ничто, кроме жизни, не имеет
безусловной ценности и значения; всякое другое мышление, творчество и
знание имеют ценность лишь постольку, поскольку оно каким-нибудь
образом относится к живому, исходит из него и стремится вновь влиться в него.
Такова тенденция моей философии. Такова же и тенденция кантов-
ской философии, которая, по крайней мере в этом пункте, не расходится
со мной; такова же и тенденция одновременно с Кантом выступившего
реформатором в философии Якоби8, который, если бы хотел меня понять
хотя бы относительно этого пункта, меньше жаловался бы по поводу моей
системы. Такова, следовательно, тенденция всякой новой философии,
которая понимает самое себя и определенно знает, чего она хочет.
533
И.Г. Фихте
Мне незачем защищать здесь ни одну из других систем, я говорю
здесь только о моей, так называемой новейшей. В содержании этой
философии, в ходе ее развития, во всей ее форме имеются основания, которые
могут склонить некоторых верить в то, будто она стремится не к
указанному результату, а, наоборот, к противоположному; это может произойти в
том случае, если не поймут ее специфической точки зрения и будут считать
относящимся к жизни и к обыкновенному рассудку то, что сказано лишь
относительно этой специфической точки зрения. Мне, таким образом,
нужно лишь точно описать эту точку зрения и резко отделить ее от точки
зрения обыкновенного рассудка; и тогда в качестве результата окажется,
что у моей философии нет никакой иной тенденции, кроме указанной. Ты,
мой читатель, если захочешь оставаться на точке зрения обыкновенного
рассудка, получишь, в пределах этой точки зрения, самую полную
гарантию безопасности как от моей, так и от всякой другой философии; в случае
же, если ты захочешь возвыситься до точки зрения философии, то
получишь по возможности ясное введение к ней.
Я желал бы, наконец, быть раз навсегда понятым относительно тех
пунктов, которые я намереваюсь здесь излагать; я устал постоянно
повторять то, что было уже столько раз сказано.
Но я должен попросить читателя запастись терпением для
непрерывных рассуждений, где я могу прийти на помощь его памяти лишь таким
образом, что я вновь повторю доказанные предложения там, где из них
следует сделать дальнейшие выводы.
ПЕРВЫЙ УРОК
Пусть тебе не покажется странным,
мой читатель, если я начну несколько издалека. Мне хотелось бы вполне
разъяснить тебе некоторые понятия, которые в дальнейшем будут иметь
важное значение, не ради этих понятий, которые сами по себе обыкновен-
ны и тривиальны, а ради тех выводов, которые я намереваюсь из них
извлечь. Притом понятия эти я буду развивать не больше, чем это мне нужно
для моей цели; ты можешь об этом сказать рецензенту, который, может
быть, ждет здесь аналитических фокусов.
Ты, во-первых, умеешь, конечно, отличать действительно реальное,
то, что составляет истинный факт твоего теперешнего опыта и твоей
жизни, то, что ты действительно переживаешь, — от не действительного, а
только воображаемого и предобразованного. Ты, например, сидишь здесь,
держишь эту книгу в своей руке, видишь ее буквы, читаешь ее слова. Это,
без сомнения, действительное событие и определение теперешнего
момента твоей жизни. Ты можешь, в то время как ты сидишь и продолжаешь
"держать эту-книгу, вспомнить вчерашний разговор с другом, вообразить
себе этого друга, как будто бы он стоит перед тобой как живой, слушать,
как он говорит, заставить его повторить то, что он говорил вчера, и т.д.; и
вот это последнее, явление друга, — есть ли оно такое же истинное и
действительное событие теперешнего момента твоей жизни, как и первое, то
есть то, что ты сидишь и держишь эту книгу?
Чи m a m ель. Ни в коем случае.
Автор. Но мне все же сдается, что и в последнем состоянии, по
крайней мере, нечто было действительным, реальным событием твоей
жизни: ибо, скажи мне, разве ты не продолжаешь в это время жить, не
убегает ли между тем твоя жизнь, разве она не заполнена чем-то?
Читатель.Я нахожу, что ты прав. В последнем состоянии
истинное событие моей жизни состоит именно в том, что я заставляю друга
появиться перед собой, заставляю его говорить и т.д., но не то, что он здесь
налицо. Это появление передо мною и есть то, чем я заполняю время, которое
я при этом прожил.
Автор .В том, что ты сидишь и держишь книгу, и в том, что ты
вызываешь появление перед собой друга, которого ты вчера видел, предста-
535
И. Г. Фихте
вляешь себе его разговор и т.д., должно, следовательно, быть нечто общее,
на основании чего ты судишь об обоих, что они суть действительные,
реальные события твоей жизни.
В этом вчерашнем действительном присутствии твоего друга, в его
вчерашнем, действительно имевшем место разговоре, как ты это считаешь
еще и сегодня, должно в той временной связи, в которой ты представляешь
себе их сегодня, отсутствовать то нечто, вследствие чего ты считал бы их
действительными; может быть, в них даже есть что-то, противоположное
этому нечто, вследствие чего ты их сегодня не считаешь действительными
событиями?
Читатель. Это безусловно так. Для моего суждения должно быть
основание; для одинакового суждения одинаковое основание; для
противоположного же суждения — отсутствие первого основания или
присутствие основания противоположности.
Автор. Какое может быть это основание?
Читатель. Я не знаю.
Лет о р. Но ты каждое мгновение судишь о действительности и
недействительности, и судишь об этом правильно, в согласии с самим собой
и с другими разумными существами. Таким образом, основание этих
суждений должно быть перед тобой всегда в наличности; но только ты, судя,
не сознаешь его ясно. А впрочем, твой ответ: "Я не знаю" — значит не что
иное, как: "Об этом мне еще никто не рассказал". Но если бы даже тебе об
этом кто-нибудь и рассказал, то все это тебе не помогло бы; ты должен
найти это сам.
Читатель. Сколько я об этом ни думаю, я все же не могу прийти к
тому, каким образом это происходит.
А в m ор. Да это и не настоящий путь — думать и гадать. На этом пути
возникают лишь пустые, иллюзорные системы. Столь же мало возможно
прийти к этому путем умозаключений. Осознай лишь глубоко способ твоих
действий при составлении суждения о действительности^
недействительности, вглядись в самого себя — и ты тотчас же осознаешь основание
твоего способа действий и будешь внутренним образом созерцать его. Все, что
можно для тебя при этом сделать, — это руководить тобою для того, чтобы
ты попал на правильный путь; и это руководство есть вообще все, что
может сделать какое бы то ни было философское обучение. Но при этом
всегда предполагается, что ты сам действительно внутренне обладаешь тем, в
чем другой руководит тобою, созерцаешь это и рассматриваешь это. В
противном случае ты получил бы лишь рассказ о чужом наблюдении, но
отнюдь не о своем собственном; и к тому же еще непонятный рассказ, ибо то,
о чем идет речь, не может быть вполне описано словами, как составленное
исключительно из известных уже тебе вещей, но это есть нечто совершен-
536
Ясное, как солнце...
но неизвестное, становящееся известным лишь благодаря собственному
внутреннему созерцанию и обозначаемое лишь по аналогии с чем-либо
известным, чувственным; и это обозначение получает свое полное значение
лишь при посредстве созерцания.
Пусть это будет сказано тебе раз навсегда также и для подобных
случаев в будущем; и попытайся довести это дальше до сведения знаменитых
писателей, которые этого не знают и которые поэтому очень неуклюже
рассуждают об отношении философии к языку.
Но к делу. Когда ты погружен в чтение этой книги, в рассматривание
этого предмета, в разговор со своим приятелем, — думаешь ли ты тогда о
твоем чтении, твоем рассматривании, слушании, видении, осязании
предмета, о твоем разговоре и т.д.?
Читатель. Ни в коем случае. Я тогда вообще совершенно не
думаю о себе: я совершенно забываю себя самого над книгой, над предметом,
в разговоре. Поэтому и говорят: я захвачен этим или я в это погружен.
Автор .И при этом — упоминаю об этом мимоходом — в тем
большей степени, чем более внутренним, полным и живым является осознание
тобой предмета.
То половинчатое, мечтательное и рассеянное сознание, та
невнимательность и отсутствие мыслей, которые составляют характерную черту
нашей эпохи и являются сильнейшим препятствием для глубокой
философии, это именно и есть то состояние, когда не погружаются целиком с
головой в предмет, не углубляются в него и не забывают себя; но шатаются и
•колеблются между ним и самим собой.
Но как обстоит дело в том случае, когда ты заставляешь появляться
перед собой предмет, который в этой временной связи ты не считаешь
действительным, например, вчерашний разговор с твоим другом?
Существует ли тогда также нечто, во что ты погружаешься и в чем ты забываешь
себя?
Читатель. От, именно это происшедшее по моей воле
появление передо мной отсутствующего предмета и есть то, в чем я забываю
самого себя.
Автор. Но выше ты говорил, что действительно реальное в твоей
жизни составляют в первом состоянии присутствие предмета, а во
втором — твое вторичное представление предмета; здесь же ты говоришь, что
ты в обоих случаях забываешь себя самого. Таким образом, было бы
найдено искомое основание твоих суждений о действительности и
недействительности. Самозабвение было бы характерной чертой действительности;
и в каждом состоянии жизни фокус, в который ты погружаешься и в
котором ты забываешь себя, и фокус действительности составляли бы одно и то
же. То же, что отрывает тебя от себя самого, было бы действительно
происходящим и наполняющим данный момент твоей жизни.
537
И. Г. Фихте
Читатель. Я еще не вполне понимаю тебя.
Автор. Мне необходимо было уже здесь выставить это понятие и
обозначить его настолько ясно, насколько это только возможно. Впрочем,
продолжай лишь внимательно следить за нашей беседой, и я надеюсь, что
вскоре все будет для тебя совершенно ясно.
Можешь ли ты снова представить себе только что осуществленный
тобой процесс представления твоей вчерашней беседы с другом?
Читатель.Ью сомнения. Как раз это я теперь и сделал во время
нашего обсуждения этого представления. Я представил себе, собственно
говоря, не этот разговор, а процесс представления этого разговора.
Автор. Что ты считаешь в этом представлении процесса
представления подлинно фактическим, наполняющим текущие моменты твоей
жизни?
Читатель. Именно этот процесс представления представления.
Автор. Вернемся же со мной теперь снова назад и отклонимся в
сторону. Как относился в представлении вчерашнего разговора — заметь
только хорошо это представление и вглядись в свое сознание — последний,
то есть разговор, к твоему сознанию и к тому собственно фактическому,
что наполняло сознание?
Читатель. Разговор, как уже было сказано, не был
действительным событием, событием было предобразование разговора. Но последнее
не было предобразованием вообще, а предобразованием разговора, и
притом этого определенного разговора. Предобразование, как главное, имело
разговор своим последствием; последний же не был чем-то действитель-'
ным, а лишь модификацией, преходящим определением этого
действительного.
Автор. А в процессе представления этого представления?
Читатель. Действительным событием был процесс
представления представления; первичное же представление дальнейшим его
определением, поскольку это было не вообще представление представления;
далее, разговор был дальнейшим определением (представленного)
представления, поскольку было представлено не представление вообще, как это
могло бы иметь место, а определенное представление определенного
разговора.
Автор. Каждый раз реальностью, действительно и истинно
пережитым событием было бы, следовательно, то, в котором ты забываешь
самого себя; оно — начало и подлинный фокус жизни, какие бы дальнейшие
второстепенные определения этот фокус вследствие того, что он как раз
является таковым, ни повлек за собой. Я хотел бы надеяться, что все для
тебя теперь стало совершенно ясным, если только в течение этого
исследования ты сосредоточился на самом себе, созерцал внутренне самого себя и
направлял все внимание на себя.
538
Ясное, как солнце...
В то время как ты представляешь себе вчерашний разговор с твоим
другом или — чтобы (что для меня предпочтительней) не принимать нечто
воображаемое, а ввести тебя в твое теперешнее, истинное состояние
духа, — в то время как ты со мной рассуждал так, как ты рассуждал выше,.
наполнял этим твою жизнь и погружал в это свою самость, считаешь ли ты,
быть может, что в течение этого времени также продвинулось ы юред и
совершилось и кое-что другое вне тебя и твоего духа?
Читатель. Конечно. Так, например, за это время продвинулась
вперед стрелка моих часов, солнце продвинулось вперед и т.д.
Автор. Наблюдал ли ты это продвижение вперед, испытал ли его —
пережил ли ты его?
Читатель. Как я мог это сделать, ведь я же рассуждал с тобой,
погружал целиком свою самость в это рассуждение и заполнял ее этим
рассуждением?
Автор. Каким же образом ты знаешь об этом продвижении вперед
твоей часовой стрелки? — Остановимся пока на этом.
Читатель. Я раньше действительно посмотрел на мои часы и
заметил то место, на котором стояла стрелка. Я теперь снова смотрю на них и
нахожу стрелку не на том же, а на другом месте. Из известного мне раньше
благодаря наблюдению устройства моих часов я заключаю, что стрелка
в течение того времени, пока я рассуждал, постепенно продвинулась
вперед.
Автор. Считаешь ли ты, что если бы, вместо того чтобы рассуждать
со мной, ты смотрел на стрелку своих часов, то действительно в течение
этого времени воспринимал бы ее продвижение вперед?
Читатель. Конечно, я так считаю.
Автор. Таким образом, по-твоему, оба — как твое рассуждение, так
и продвижение вперед стрелки твоих часов в те же моменты времени —
суть истинные действительные события; последнее, правда, не есть
событие твоей жизни, так как ты в это время переживал нечто другое; но оно все
же могло бы стать событием твоей жизни и с необходимостью стало бы им,
если бы ты обращал внимание на часы.
Чи m a m ел ь. Да, это так.
Автор. Что же, стрелка без твоего знания и содействия
действительно и на самом деле продвинулась вперед?
Читатель. Я так считаю.
Автор. Полагаешь ли ты, что если бы ты не рассуждал, подобно
тому как и не смотрел на часы, то твое рассуждение точно так же
продвинулось бы вперед и без твоего знания и содействия, подобно стрелке часов?
Читатель. Ни в коем случае; мое рассуждение не продвигается
вперед само по себе; я должен вести его дальше, для того чтобы оно
двинулось вперед.
539
И. Г. Фихте
Автор. Как обстоит дело в этом отношении с процессом
представления вчерашнего разговора? Происходит ли оно также без твоего
содействия, подобно движению стрелки, или же ты должен его воспроизвести,
как и рассуждение?
Читатель. Если как следует продумать это, — я этого не знаю.
Правда, на этот раз я ясно сознаю, что я деятельно воспроизвел в себе это
представление по твоему требованию. Но так как в моей голове вообще
проносятся образы, вытесняют и сменяют друг друга без моего
сознательного содействия, подобно тому как движется вперед стрелка часов, то я не
могу знать, не появилось ли бы само собой и это представление и без твоего
требования, и без моего содействия.
Автор. При всем уважении, которое автор обязан оказывать своему
читателю и которое я действительно питаю к тебе, мне все же приходится
сознаться, что это твое признание служит плохим предзнаменованием для
успеха нашего собеседования. По моему мнению, грезить можно только во
сне, но наяву нельзя позволять себе, чтобы в голове проносились
появившиеся сами собою образы. Эта абсолютная свобода произвольно
придавать своему духу определенное направление и удерживать его в этом
направлении есть исключительное условие не только философского, но даже
обыкновенного здравого и правильного мышления. Надеясь, однако, что
ты, по крайней мере в течение этой беседы, будешь сопротивляться этому
слепому течению ассоциации идей и будешь удерживать эти чуждые
образы и мысли, я согласен оставить этот сомнительный пункт, касающийся-
чувственного представления, и буду придерживаться исключительно
сделанного тобой выше признания свободы рассуждения.
Согласно ему, существуют два рода действительности, которые оба
одинаково действительны, но из которых одна действительность создает
себя, вторую же приходится создавать тому, кому нужно ее существование,
и она совершенно не существует без того, чтобы быть им созданной.
Читатель. Да, по-видимому, это так.
Автор. Присмотримся к делу несколько ближе. — Итак, ты
говоришь, что стрелка твоих часов продвинулась вперед во время твоего
рассуждения. Могли бы ты сказать это, могли бы ты знать это, если бы ты после
твоего рассуждения хоть раз не обратил опять внимания на стрелку и не
сделал бы на основании действительного восприятия заключения, что она
стоит на другом месте, чем раньше?
Читатель. Без сомнения, я бы тогда не мог этого знать.
Автор. Не забудь этого. Это для меня важно. Всякая реальность
первого рода, хотя бы она сама по себе продолжала свое течение без
всякого твоего содействия и без того, чтобы ты знал об этом, и хотя бы она
существовала в себе, то есть без отношения к какому-либо возможному созна-
540
Ясное, как солнце...
нию, каковой пункт мы здесь оставим совершенно нерешенным, — всякая
такая реальность, говорю я, существует для тебя и как событие твоей жизни
лишь постольку, поскольку ты хоть каким-нибудь образом обращаешь на
нее внимание, погружаешь в нее свою самость и удерживаешь эту
реальность в своем сознании. Если обдумать это как следует, то твое
утверждение, что стрелка от одного восприятия ее до другого восприятия ее же — без
чего она никогда не вошла бы в твое сознание — в промежуточное время,
пока ты ее не воспринимал, продвинулась вперед, это твое утверждение
может обозначать не что иное как следующее: ты бы воспринимал ее в это
промежуточное время как продвигающуюся вперед, если бы ты обратил на
нее внимание. Утверждая, следовательно, что имело место какое-либо
событие вне твоей жизни, ты говоришь лишь о возможном событии твоей
собственной жизни, о возможном течении ее и о возможном наполнении
твоей жизни от первого восприятия стрелки до второго; ты восполняешь и
вставляешь туда ряд возможных наблюдений между конечными пунктами
двух действительных наблюдений. Если я тебе дал слово, что я здесь
повсюду буду говорить лишь о реальности для тебя и нигде не буду ставить на ее
место реальность без отношения к тебе, абсолютно ничего не намерен
утверждать и высказывать о ней, — то при этом условии позволишь ли ты
мне рассматривать течение внешней реальности без твоего содействия
исключительно как течение твоего собственного возможного сознания,
твоей жизни, так как ты понял, что она только таким образом становится
реальностью для тебя?
Некий читатель (который к тому же может быть знаменитым в
своей округе философом). Об этом я не хочу ничего слушать. Разве я не
говорил тебе столько раз, что это сплошное сумасбродство. Я всегда исхожу
из реальности в себе и для себя, из абсолютного бытия. Идти дальше этого я
не могу и не хочу. Различие, которое ты здесь проводишь между
реальностью в себе и реальностью для нас, и построенное тобой отвлечение от
первой, которое, как я замечаю, образует основание твоего здания, ты должен
мне сперва доказать.
Автор. Так. Ты в состоянии говорить о реальности, не зная о ней,
не удерживая ее, по крайней мере смутно, в своем сознании, не относя ее к
нему. Ты способен к большему, чем я. Отложи книгу: она написана не для
тебя.
Второй разумный читатель. Я согласен на твое ограничение
говорить лишь о реальности для нас при том условии, что ты будешь его
строго соблюдать и не будешь упоминать о реальности в себе ни при каких
обстоятельствах. Но как только ты переступишь свои границы и извлечешь
заключение, нарушая их, я также оставлю тебя.
Автор. Это вполне справедливо.
541
И Т. Фихте
Предполагая, следовательно, то положение, что речь будет идти
только о нашем отношении к реальности и к действительности, с нашим
сознанием дело обстояло бы следующим образом: всякая реальность,
какое бы имя она ни носила, возникла бы для нас благодаря погружению и
забвению нашей самости в известных определениях нашей жизни; и это
забвение самости было бы именно тем, что придавало бы этим
определениям, в которых мы забываемся, характер реальности, давало бы вообще
жизнь.
Таким образом, существовали бы, во-первых, известные, основные
и первые определения — следующее за этим противопоставление сделает
для тебя ясными эти выражения, над которыми я прошу тебя основательно
подумать, — известные основные и первые определения нашей жизни,
истинные корни ее, которые сами производят себя, сами ведут себя вперед,
которым следует лишь отдаться и которым следует только позволить
захватить нашу самость, чтобы освоить их и сделать их своей действительной
жизнью; непрерывную цепь которых, если даже уронить ее в каком-либо
месте, можно опять поднять по произволу, где протекшие моменты могут
быть восполнены с любого пункта, как с начала, так и с конца.
Я сказал, что нужно им только отдаться; ибо даже эти основные
определения не обладают способностью непреодолимо вовлечь в себя; ибо
мы обладаем, далее, способностью опять оторвать нашу самость от этих
определений, где она была погружена в забвение, возвыситься над ними и
свободно, лишь исходя из себя самих, уготовить для себя более высокую
сферу жизни и действительности. Мы можем, например, мыслить и
утвердить себя как то, что осознает в этом основном сознании, как то, что живет
в этой основной жизни. Это будет вторая степень жизни, если я назову
первой степенью пребывание в основных определениях. Можно опять-таки
утвердить себя как то, что мыслит в этом мышлении первоначального
осознания, как то, что созерцает свою собственную жизнь в этом полага-
нии ее; и это даст третью степень и т.д. до бесконечности.
Все различия между этой первой и высшими степенями — между как
бы данной заранее и дарованной нам жизнью, которую нам достаточно
лишь принять, для того чтобы сделать ее нашей действительной жизнью, и
жизнью не данною, которая может быть воспроизведена лишь
посредством самодеятельности, — состоит, по-видимому, исключительно в том,
что с каждой из высших степеней можно было бы взирать вниз и
спускаться вниз, в низшую; но с последней ничего не видно, кроме ее самой, и
невозможно спуститься вниз, кроме как в царство небытия; таким образом, в
отношении нисхождения мы ограничены ею и не можем выйти за ее
пределы, хотя ни в коем случае не ограничены в отношении восхождения
посредством рефлексии, так что по этой причине она — подлинная почва и
542
Ясное, как солнце...
корень всякой другой жизни. Поэтому выше я назвал ее первой степенью и
основными определениями всякой жизни.
Для нас здесь достаточно рассматривать эту сферу первой степени,
согласно нашему уговору, как сферу такого рода основных определений
нашей жизни, но ни в коем случае не как сферу вещей в себе и для себя, от
какового воззрения мы здесь отвлекаемся. Пусть они будут в себе и для
себя самих даже и последними: для нас они существуют только, нас они
касаются только как определения нашей жизни, посредством того, что мы их
изживаем и переживаем; и для нас здесь достаточно говорить о них лишь
по отношению к нам. Пребывающее в этой сфере называют также
преимущественно реальностью, фактом сознания. Его называют также и опытом.
Знай, мой читатель, что отныне мы будем рассматривать
исключительно эту систему первой степени; не забудь этого ни на одно мгновение;
отделяй все, что лежит в высших степенях, и отвлекись от них.
Я причисляю к этой системе первой степени все, что мы
воспринимаем: частью посредством внешних чувств в пространстве, а частью
посредством внутреннего чувства в нашей душе. Что касается последней, к
этой сфере относится также и то, что я назвал высшими степенями, правда,
не по своему содержанию, но в отношении формы, то есть тех законов, с
которыми она сообразуется и согласно которым она осуществляется
именно так, как она осуществляется. Ибо эти законы принадлежат к фактам
внутреннего чувства и воспринимаются как таковые, если внимательно
наблюдать за этими функциями души.
Главная цель теперешней беседы с тобой, мой читатель, состояла в
том, чтобы ты — впрочем, совершенно произвольно и целесообразно лишь
в отношении моей дальнейшей цели — разделил на два класса все, что
происходит в твоем сознании, и ясно понял различие того, что относится к
одному или другому классу; чтобы ты отделил то, что является продуктом
свободы и относится к высшим степеням, и при последующем
исследовании отложил это в сторону и, напротив, думал бы исключительно о том и
обращал бы внимание на то, что я назвал первой степенью. Лишь
поскольку ты понял это различие и прочно удержал его и не смешал вновь
выделенное, ты правильно поймешь, о чем мы будем рассуждать в дальнейшем.
ВТОРОЙ УРОК
Автор. Не забудь, мой читатель,
различия, которые мы провели между двумя основными определениями
всякого возможного сознания, и удержи в памяти, что в этом очерке речь
будет все время идти лишь о первом, которое мы назвали основным и
первым определением всякой жизни. И теперь отдайся без предвзятости и без
забот разговору со мной, вернувшись обратно к нашей теме.
Рассмотрим внутренность какого-нибудь механического изделия,
например часов. Ты видишь, как в них соединяются различного рода
колеса, пружины, цепи и т.п. Ты пробегаешь глазами многообразие этого
изделия, разглядываешь одно колесо за другим. Имеет ли для тебя значение при
этом рассматривании, разглядываешь ли ты отдельные части машины
сверху или снизу, с правой ли стороны налево или с левой стороны
направо?
Читатель. Нисколько. Я могу провести весь осмотр частей по
всем этим направлениям.
Автор. Или, может быть, ты при своем осмотре будешь
руководствоваться совсем не порядком, в котором они расположены, а другими
соображениями, например их внешней одинаковостью и сходством
частей?
Читатель. Все это для моей цели совершенно безразлично.
А в m ор. Все же, так как ты, несомненно, осматривал единичное, ты
этот осмотр закончил в какой-то последовательности; предположим, что
ты производил осмотр по порядку сверху вниз. Почему же ты выбрал
именно этот порядок, а не какой-либо иной, в то время как возможна была
различная последовательность рассмотрения?
Читатель. Я не могу сказать, что я вообще выбирал его. Я вовсе не
думал о том, что возможен различный порядок рассмотрения. Я
непосредственно напал на него. Случай — так я называю то, для чего не могу указать
никакого основания, — определил это.
Автор. Многообразие описанных выше основных определений
сознания вообще тоже ведь следует друг за другом в твоем сознании в
известной последовательности?
Читатель.Без сомнения. Я замечаю в окружающем меня мире то
одно, то другое, то третье и т.д.
544
Ясное, как солнце...
Автор. Находишь ли ты на первый взгляд, что необходима была
именно эта последовательность твоих наблюдений; или же ты считаешь,
что возможны были также и другие?
Читатель. Я считаю, что возможны были также и другие. Я
считаю, далее, что и та последовательность из числа нескольких возможных,
которая действительно имела место, не была избрана свободно, но что она,
так же как и последовательность моего рассмотрения многообразия в
часах, получилась такой случайно.
Авто р. К теперь вернемся к нашей машине и к твоему
рассмотрению ее отдельных частей.
В то время как ты рассматриваешь каждую отдельную часть — это
колесо, эту пружину, каждую в отдельности и самое по себе — и находишь,
что каждая определена известным образом, имеет эту определенную
форму, эту определенную величину и т.д., — кажется ли тебе невозможным,
чтобы это могло быть иначе, или ты себе можешь представить, что оно
могло бы быть устроено самым разнообразным образом иначе: быть больше
или меньше?
Читатель. Я считаю, что каждая отдельная часть, взятая сама по
себе и в качестве отдельной части, могла бы, во всяком случае, быть иной
до бесконечности. Но все части должны действовать вместе и в своем
соединении приводить к единому результату; и если я обращаю внимание на
это, то, по моему мнению, все части должны подходить друг к другу,
зацепляться друг за друга, все должны действовать на каждую, и каждая, со своей
стороны, должна действовать на все. Если я обращаю внимание на это, то,
по моему мнению, было бы, во всяком случае, возможно произвести другое
целое, например, более крупные часы или такие, которые выполняли бы
еще другие функции, кроме тех, которые действительно имеют место; и в
этом другом целом каждое отдельное колесо, которое я рассматриваю, не
только могло быть другим, но даже должно было бы быть другим. Но раз
уже передо мной должно было оказаться это целое, часы, имеющие эту
величину и выполняющие эти функции, то совершенно необходимо, чтобы
эта отдельная часть, например вот это колесо, которое я рассматриваю,
было именно таково, каково оно есть, ни на один волос иначе, потому что
таково целое, то есть в данном случае потому, что все остальные части, кроме
этого колеса, таковы, каковы они в действительности. Или, если я начну
свое обсуждение с этой отдельной части: если мы возьмем эту часть как
часть подобного механического изделия, то необходимо, чтобы все
остальные части были именно таковы, каковы они в действительности, для того
чтобы они в этом изделии как раз подошли к этой части.
Автор. Следовательно, ты, если только правильно понимаешь
механизм изделия, совершенно не нуждаешься в том, чтобы, как мы это пред-
18-645
545
И. Г. Фихте
полагали, действительно воспринимать одну часть машины за другой; но
после того как ты рассмотрел одну часть и хорошо ее понял, ты можешь,
исходя из нее, без дальнейшего действительного восприятия дополнить
свое восприятие и целиком заменить восприятие выводами; ты мог
бы, следовательно, исключительно путем выводов узнать, какие части
принадлежат к данной части, предполагая, что машина выполняет свое
назначение.
Чита m ель. Без сомнения.
Автор. Безразлично ли, с точки зрения этой цели, какую из
отдельных частей машины я тебе дам?
Читатель. Совершенно безразлично; ибо к каждой возможной
части должны подходить все прочие; по каждой возможной части можно
было бы, следовательно, заключить, как должны быть устроены все
остальные, поскольку они определены уже самим механизмом изделия.
Автор. Теперь предположи тот возможный случай, что в известном
объеме и в известных отношениях, дальнейшее определение которых сюда
не относится, — в многообразии описанной выше основной системы
всякого сознания имеется подобная связь, сходная с механической, так что
каждая отдельная часть должна подходить ко всему и все к каждой
отдельной части, и каждая часть определена всем. Разве нельзя было бы тогда по
каждой отдельной части действительного Сознания, исключительно путем
выводов, дознаться, каким окажется все остальное сознание и каким оно
должно оказаться, без того чтобы это остальное сознание действительно
имело место; подобно тому как ты, рассматривая одно колесо,
исключительно путем вывода позволяешь себе заключать, как должны быть
устроены все остальные колеса?
Предположи далее, что философия, или, если это тебе более угодно,
наукоучение, как раз и состоит в отыскивании этого многообразия
сознания путем вывода отданного к не-данному, — в таком случае ты получишь
уже теперь очень ясное понятие об этой науке. Она была бы
демонстрацией, выведением всего сознания, само собой разумеется, лишь что касается
его первых основных определений, из какого-либо данного в
действительном сознании определения его, подобно тому как ты можешь очень
хорошо представить себе демонстрацию (разъяснение) часов как целого,
исходя из одного-единственного данного тебе колеса; это была бы
демонстрация этого сознания, независимая от действительного восприятия в
сознании; подобно тому как тебе совсем не надо рассматривать остальные части
часов, для того чтобы узнать, каковы они, каковы они совершенно
несомненно в действительности, если только часы выполняют свое назначение.
Читатель.Она; если только я не вдумываюсь глубоко в то, что ты
говоришь, и не иду дальше сходства наукоучения с тем, с чем ты его срав-
546
Ясное, как солнце...
ниваешь. Но если я вникаю в дело несколько глубже, то мне твое понятие
кажется внутренне противоречивым. Наукоучение должно доставить мне
сознание основных определений моего сознания без того, чтобы эти
определения действительно имели место в моем сознании. Но как оно может
это сделать? Разве я не осознаю того, чему учит наукоучение?
А в m ор. Без сомнения; подобно тому как ты осознаешь колеса, о
наличности которых в машине ты только заключал; но ты их осознаешь не
таким образом, как если бы ты их видел и ощущал. Уже из нашего первого
исследования тебе должно было стать ясным, что может существовать
различие в характере осознавания. Для нашего случая мы ниже будем иметь
еще очень много поводов разъяснить это подробнее. Пусть поэтому
трудность эта не удерживает тебя от того, чтобы согласиться с нашим
предположением.
Читатель. Серьезно, у меня совсем нет охоты пускаться в
рассмотрение того, что получается, если то, что лишь возможно, станет
действительным или невозможное — возможным. А твое предположение
систематической связи основных определений нашего сознания кажется мне, во
всяком случае, невозможным.
Автор .Я надеюсь устранить твои возражения против возможности
моего предположения. Предварительно же выведи со мной только одно-
единственное заключение из упомянутого предположения, которое мне
крайне необходимо, для того чтобы уничтожить недоразумения другого
рода и устранить их скрытое воздействие на твою душу.
Когда ты воспринимаешь и рассматриваешь отдельную часть этих
часов и, согласно хорошо тебе известным законам механики, заключаешь,
какие еще части требуются для того, чтобы этому воспринятому тобой
отдельному придать все то назначение, всю ту действительность, какие ты в
нем усматриваешь, действительно ли ты, когда приходишь к этому
заключению, видишь эти части, ощупываешь ли ты их, выступают ли они перед
каким-либо из твоих внешних чувств?
Читатель. Отнюдь нет. Сошлюсь на примеры, данные тобой в
нашем первом собеседовании: они относятся к моему сознанию не как эта
книга, которую я держу в руке, но как представление вчерашнего разговора
с моим другом, если отвлечься от того, от чего следует отвлечься. То
действительно фактическое в этой операции, то, во что я погружаю свою
самость и в чем я теряюсь, — это не наличность этих колес, но мой процесс
представления о них, не столько воспроизведение, сколько предобразова-
ние подобных колес.
Автор. Выдаешь ли ты или какой-либо разумный человек
подобное представление, внутренний набросок, чертеж подобной машины за
действительную действующую машину, выполняющую свои функции в
18'
547
И. Г. Фихте
жизни? И скажет ли тебе кто-нибудь, после того как он описал и
демонстрировал (разъяснил), например, карманные часы: "Положи теперь эти
карманные часы к себе, они будут правильно идти; ты сможешь их
вынимать, когда захочешь, и узнавать по ним, который час"?
Читатель. Нет, насколько мне известно. Если только он не
круглый дурак.
Автор. Остерегись так говорить. Ибо так, а не иначе поступала та
философская система, о которой я упоминал во введении9 и против
которой, собственно говоря, направлена новая. Она выдавала демонстрацию
часов, и притом еще неправильную, за действительные часы, и притом
великолепные.
Но если кто-нибудь, после того как ты ему демонстрировал
карманные часы, в заключение тебе скажет: "Какая польза мне от этого, я не вижу,
чтобы я благодаря этому получил карманные часы или мог усмотреть из
твоей демонстрации, который час" или даже станет обвинять тебя, что ты
своей демонстрацией испортил ему его действительные часы или выде-
монстрировал их из кармана, — что бы ты сказал о подобном человеке?
Читатель. Что он дурак, такой же, как и первый.
Автор. Остерегись так говорить. Ибо именно это требование
действительных часов там, где обещали только демонстрацию их, является
самым основным упреком, который был брошен по адресу новейшей
философии, был брошен самыми уважаемыми учеными, самыми
основательными мыслителями нашего времени. На этом смешении действительной
вещи с демонстрацией этой вещи основаны в конечном счете все
недоразумения, которые имели место по поводу этой философии, .
Все эти возражения и все недоразумения основаны на этом одном; я
утверждаю это определенно. Ибо что мне мешает вместо всяких
предположений о том, чем может быть описываемая наука, тотчас показать в
историческом аспекте, чем она была действительно для ее творцов, которые
уже, во всяком случае, знают ее.
1. Философия, или — так как это название могло бы подать повод к
спорам — наукоучение, в первую очередь, так же как это требовалось до сих
пор от тебя, мой читатель, совершенно отвлекается от того, что мы
характеризовали выше как высшие степени сознания, и ограничивается
утверждением, которое мы сейчас выставим исключительно о первых и
основных определениях сознания, совершенно в том смысле, как мы это выше
объяснили и как ты это понял.
2. В этих основных определениях оно проводит еще дальнейшие
различения между тем, по поводу чего каждое разумное существо утверждает,
что оно должно иметь значение также и для каждого другого разумного
существа, и для всякого разума, и тем, относительно чего каждый должен
548
Ясное, как солнце...
ограничиться признанием того, что оно существует лишь для нашего рода,
для нас, людей, или даже для каждого из нас как данного отдельного
индивида. От последнего оно также отвлекается, и, таким образом, для его
исследований остается лишь объем первого.
Если у какого-либо читателя останутся сомнения относительно
основания и границ этого последнего различения или он не сумеет себе это
различение уяснить настолько же, насколько, согласно нашему
предположению, он уяснил себе первое, данное выше, то это не имеет значения для
всех тех выводов, которые мы намереваемся сделать в этом сочинении, и
не нанесет ущерба созданию такого понятия наукоучения, какое
соответствует нашим намерениям. В действительной системе, вводить читателя в
которую мы теперь не имеем намерения, последнее различение,
определяемое лишь родом и индивидуальностью, отпадает само собой.
Мы мимоходом прибавим здесь для читателя, знакомого уже с
философской терминологией, нечто имеющее значение для всякого разума:
первое в основных определениях сознания, с которым одним имеет дело
философия, — это кантовское a priori, или первоначальное; последнее же,
определенное лишь рядом и индивидуальностью, — a posteriori того же
писателя. Наукоучение не нуждается в том, чтобы предпосылать это
различение своей системе, поскольку оно проводится и обосновывается в самой
системе; и у него эти выражения — a priori и a posteriori — имеют
совершенно другое значение.
3. Наукоучение, для того чтобы получить самый доступ к себе и
чтобы получить определенную задачу, предполагает, что в многообразии этих
основных определений, в указанном объеме их, должна иметься
систематическая связь, согласно которой, когда дано одно, должно быть и все
остальное, и притом именно так, как оно есть; что, следовательно, — и это
вытекает из предпосылки, — эти основные определения, в указанном
объеме их, составляют завершенную и замкнутую в себе систему.
Это, говорю я, оно предпосылает себе самому. Частью потому, что
это еще не оно само, оно становится возможно лишь благодаря этому;
отчасти же оно только предполагается, но еще не доказано. Эти основные
определения известны ну хотя бы наукоучителю, откуда — это к делу не
относится. Он наталкивается, — каким образом, это также к делу здесь не
относится, — на мысль, что между ними, надо думать, должна быть
систематическая связь. Он сейчас еще не утверждает этой связи и не заявляет
притязаний, что может ее непосредственно доказать, и еще менее, что может
доказать что-либо иное, исходя из этой предпосылки. Его мысль может
считаться предположением, случайной догадкой, которая значит не
больше, чем всякая иная случайная догадка.
4. Исходя из этой предпосылки, наукоучитель приступает теперь к
549
И. Г. Фихте
попытке из какого-либо одного известного ему основного определения
сознания — сюда также не относится, из какого, — вывести все остальные в
качестве необходимо связанных с первым и определенных им. Если эта
попытка не удастся, то этим еще не доказано, что она не удастся в другой раз,
следовательно, не доказано, что эта предпосылка систематической связи
шэжна. Она сохраняет, как и раньше, свое значение в качестве проблемы.
Если же эта попытка удастся, то есть если действительно возможно, кроме
известного нам, вывести полностью все основные определения сознания в
исчерпывающем виде, — в таком случае предпосылка доказана на деле. Но
даже эта, ставшая отныне доказанным положением предпосылка не нужна
нам в описании самого наукоучения. Однако операция этого выведения —
это само наукоучение; где начинается это выведение, там начинается и
наукоучение; где оно завершается, там завершается и наукоучение.
. Пусть между нами, мой читатель, это будет решено и установлено; и
заметь себе это раз и навсегда: наукоучение есть систематическое
выведение чего-то действительного, первой степени сознания; и оно относится к
этому действительному сознанию как описанная выше демонстрация
часов к действительным часам. Оно, в качестве чистого наукоучения,
безусловно, не желает в каком бы то ни было из всех возможных отношений,
хотя бы наряду с этим и т.д., быть чем-либо большим, чем это, и оно не желает
совсем существовать, если оно не может быть этим. Каждый, кто выдает
его за что-либо иное или за нечто большее, совершенно не знает его.
Его объект — это в первую очередь основные определения сознания,
как таковые, как определения сознания; но отнюдь не как вещи,
действительно существующие вне сознания. Дальше мы яснее увидим, что в нем и
для него оба суть одно и то же, но что наукоучение может охватить лишь
первое воззрение; дальше мы поймем почему. Здесь же достаточно указать,
что дело обстоит именно таким образом.
Восприятие располагает ведь этими основными определениями
сознания, подобно тому как наукоучение имеет их своим объектом; или,
скорее, эти основные определения сознания суть сами восприятия; но только
оба имеют своим объектом то же самое разными способами. Подобно тому
отношению, в котором выше находилось сознание действительного
присутствия твоего друга к процессу представления этого присутствия,
действительные часы к демонстрации этих часов, — в таком же отношении
находится и действительное сознание к наукоучению. Наша самость
погружается при философствовании не в сами эти основные определения
сознания, а в копии и знаки этих определений.
Таким образом, наукоучение выводит, совершенно не принимая во
внимание восприятия, a priori то, что, согласно ему, должно происходить
именно в восприятии, то есть a posteriori. Для него тем самым эти выраже-
550
Ясное, как солнце...
ния обозначают не различные объекты, а лишь различный взгляд на один и
тот же объект; подобно тому как те же самые часы при демонстрации их
рассматриваются a priori, в действительном же восприятии a posteriori.
Это определение наукоучение дало себе само, с тех пор как оно
существует и явственно выражает это уже самим своим названием. Вряд л и
возможно понять, почему не хотят ему верить насчет того, что оно такое.
Ограничиваясь этим определением, оно оставляет спокойно всякую
другую философию быть тем, чем ей угодно: страстью к мудрости,
мудростью, мировою мудростью, жизненною мудростью и какие еше там бывают
мудрости. Оно только предъявляет без сомнения справедливое
требование, чтобы его не приравнивали к одной из них, чтобы о нем не судили и не
опровергали, исходя из их точки зрения, подобно тому как составители его
просят лишь позволения не принуждать их сотрудничать с другими
философиями и не быть клиентами у них. Оно не вдается в спор, что для того
или иного могла бы обозначать философия и каково его мнение
относительно того, что считалось издавна философией. Оно ссылается на свое
право самому определять для себя свою задачу; если что-либо другое,
кроме разрешения этой задачи, должно быть философией, то оно не
претендует быть философией.
Я надеюсь, мой читатель, что это описание наукоучения как
описание в чисто историческом аспекте вполне отчетливо и понятно и не
допускает никакой двусмысленности. Я только прошу тебя, чтобы ты его
заметил и не забыл опять при первом случае; и чтобы ты мне поверил, что я
отношусь вполне серьезно к этому описанию и что я от него не отступлю, и ,
что все, что ему противоречит, будет мною отвергнуто.
ТРЕТИЙ УРОК
Читатель.Я полагаю, что
хорошо понял твое мнение о наукоучении и, если взять его в историческом
аспекте, хорошо знаю, что ты подразумеваешь. И поскольку я остаюсь при
простом подобии его с демонстрацией механического изделия, я также
могу приблизительно и в общих чертах представить себе возможность его. Но
как только я обращаю внимание на необходимое различие обоих и на
характеристические различия обоих объектов, наука, подобная той, которую
ты описываешь, кажется мне совершенно невозможной.
Понятие о систематической связи многообразия в механическом
изделии, служащей для получения желательного результата, существовало в
уме мастера еще до того, как существовало изделие: и последнее
произведено лишь при посредстве этого понятия и следуя ему. Мы же не делаем
ничего иного, как только копируем это понятие мастера, вновь
изобретаем, следуя за мастером, это изделие. Поэтому, когда говорят, что в
многообразии существует систематическая связь, то здесь это имеет весьма
глубокий смысл. Эта систематическая связь существует в понятии у мастера и
всех тех, кто считает себя мастерами.
Должно ли ваше утверждение, что в многообразии сознания
существует систематическая связь, подобным же образом обозначать: это
сознание осуществлено каким-либо мастером в соответствии с понятием
подобной связи, и наукоучитель вновь изобретает, следуя за ним, это
понятие? Где тот мастер, как и откуда произвел он это сознание?
Автор. А что, если бы это значило иное и сходство с изделием не
было бы столь значительным? Что, если бы кажущееся двусмысленным
положение обозначало бы лишь следующее. Многообразие сознания
можно, между прочим, рассматривать и так, как будто бы в нем имелась
систематическая связь; или — существуют два способа рассматривать и
понимать определения сознания: частью непосредственный, то есть такой, при
котором отдаются этим определениям и находят их такими, какими они
сами по себе даны; частью же опосредствованный, то есть такой, при
котором систематически выводят, какими они должны быть даны согласно
этой систематической связи. Следовательно, это воззрение может быть по-
552
Ясное, как солнце...
нято лишь после того, как действительное сознание будет налицо, без того,
однако, чтобы принимать во внимание его содержание, но не до того, как
это сознание будет налицо, и это воззрение не существует не в ком ином,
как в том, кто его составляет себе, действуя с неограниченной свободой.
Наукоучитель, следовательно, и лишь он один, был бы мастером сознания,
если здесь все же может быть мастер, собственно говоря тем, кто вновь
изобретает сознание по образцу его; однако без того, чтобы можно было
предположить и принять всерьез, что существовали первоначально первый
творец и понятие, согласно которому он изготовил свое изделие.
Читатель. Следовательно, я, если правильно тебя понял, должен
представлять себе это следующим образом: сознание, как основное
определение моей жизни, существует; это достоверно, поскольку только
достоверно то, что существую я сам, — и довольно об этом. Это сознание
является в виде лишенного взаимной связи многообразия, — и довольно об этом.
Что это за сознание, я знаю потому именно, что я им обладаю, а о
дальнейшем мне, раз я стою на этой точке зрения, нечего и спрашивать.
Но, кроме того, еще ведь возможно вывести это многообразие
систематически, как такое, каким оно должно быть, именно таким, каково оно
есть, если сознание вообще должно существовать. Это воззрение, это
выведение, эта систематическая связь, получающаяся в выведении, существует
лишь для того, кто составляет себе это воззрение, и абсолютно ни для кого
другого; а о чем-нибудь дальнейшем, если стоять на этой второй точке
зрения, также не спрашивают.
Автор. Так я это и понимаю.
Читатель. Пусть будет так: несмотря на то, что и здесь я больше
усваиваю твое мнение лишь в историческом аспекте, чем действительно
понимаю его, и несмотря на то, что у меня остается еще целый ряд
вопросов.
Но далее. Мастер, который составляет себе понятие о механическом
изделии, сводит в этом понятии многообразие к единству единого
результата. Изделие должно достигать той или другой определенной цели, и
многообразие и соединенное действие этого многообразия содержат, согласно
понятию мастера, условия, при которых изделие только и может достигать
этой намеченной цели; и это единство предшествует не только изделию, но
даже и понятию многообразия. Это последнее, то есть понятие, возникает
лишь через единство и ради него и определяется им. Требуется именно
подобного рода многообразие для того, чтобы была достигнута эта цель.
Подобное понятие единства представляется мне совершенно
неразрывным с понятием систематической связи. Твой наукоучитель,
следовательно, должен был бы иметь понятие подобного единства, подобной цели
и результата всякого сознания, к чему он свел бы многообразие в качестве
условия его.
553
И. Г. Фихте
Автор .Без сомнения.
Читатель. И при этом он не может найти это единство лишь в
системе, но оно должно быть у него еще до того, как он приступит к своему
систематическому выведению; подобно тому как мастер должен знать,
какую цель преследует его изделие, еще до того, как он может начать
отыскивать средство для достижения этой цели.
Автор. Без сомнения, наукоучитель должен располагать этим
понятием единства еще до системы.
Читатель. Мастер свободно мыслит себе эту цель; он создает ее
посредством своего мышления, ибо как существование, так и устройство
изделия зависит исключительно от мастера. Так как наукоучителю ни в
коем случае не приходится творить сознание, но оно существует независимо
от него и притом таким, как оно есть, согласно твоему собственному
выражению, то он не может это единство свободно измыслить; ибо
действительно и без содействия философа существующее многообразие должно
ведь и находиться в соотношении с этим единством также без содействия
философа. Столь же мало может он, как уже сказано, найти это единство
путем своего систематического выведения; ибо уже для возможности
выведения предполагается это единство. И наконец, столь же мало может он
найти это единство посредством восприятия в действительном сознании,
ибо в последнем, согласно предположению, имеется только многообразие,
но отнюдь не единство. Как, следовательно, и каким образом прийти к
этому единству?
Автор. Для тебя достаточно будет принять, что это случилось лишь.
благодаря счастливой догадке. Он угадывает это единство. Это, правда,
дает пока только предположение. И ему приходится начать строить свою
систему наудачу. Если при этом исследовании окажется, что все
многообразие сознания может быть действительно сведено к этому предположению,
как к своему единству, то посредством этого, но только посредством этого,
доказано, что предпосылка его была правильной. Она доказана делом,
доказана посредством выполнения системы.
Читатель. И это пусть будет так. Но пойдем еще дальше. Мастеру
еще прежде чем он создает себе понятие об изделии, известны
необходимые и неизменные законы механизма, с которыми он считается; связывая
многообразие для получения задуманного результата, он знает материалы
и их свойства, из которых он хочет образовать многообразие и на
неизменность которых он точно так же рассчитывает и в своем понятии. Точно так
же и философу еще до его выведения должны были бы быть известны
неизменные законы, согласно которым многообразие сознания привело бы к
предположенному главному результату, и, если я не совсем ошибаюсь, и
материал, который был бы уже определен, согласно этим законам; был бы
определен, говорю я, без содействия философа.
554
Ясное, как солнце...
Останавливаясь пока лишь на первом, то есть на законах, я
спрашиваю, откуда философ получает знание этих законов? Угадывает ли он
их также только благодаря счастливой догадке еще раньше, чем
становится ясным, что они истинные законы? Из того, что, согласно им, из
многообразия сознания можно вывести предположенный главный
результат, как и обратно, из того, что, согласно этим законам, получается
именно этот результат, вытекает, что предположенный результат был
правильным.
Автор .Ты издеваешься над наукоучением и с большим
остроумием, чем обычно имеет место. Нет, наукоучение не поступает так, как ты
предполагаешь: это был бы явный порочный круг.
Оставайся постоянно при выбранном сравнении. Пусть наукоучи-
тель будет1 мастером, который строит механизм сознания; последний,
однако, уже существует, как он сам утверждает, — следовательно, он его
лишь изобретает вторично; он, однако, начисто изобретает его, не
обращаясь к уже существующему механизму во время своей работы.
Но великое различие заключается в том, что изготовитель
механического изделия имеет дело с мертвой материей, которую он приводит в
движение, философ же — с живой, которая движет себя сама. Он не столько
порождает сознание, сколько дает ему возможность порождать самого себя
у него на глазах. Если сознание подчинено известным законам, то оно, без
сомнения, будет определяться ими в этом своем самозарождении; он и при
этом случае будет одновременно заодно наблюдать и законы, несмотря на
то, что, собственно говоря, его интересуют не столько они, сколько
исключительно их результат, то есть совокупное сознание.
Читатель. Сознание, которое само себя зарождает и все же не
есть действительное сознание, у всех нас имеющееся и всем известное!
Автор. Отнюдь нет. Ибо это последнее не порождает себя
систематически, и его многообразие связано лишь благодаря простой
случайности. То же, которое порождает себя на глазах у философа, является только
копией действительного сознания.
Читатель. Копия, которая сама себя порождает! Я совершенно
перестаю тебя понимать; и я не пойму тебя, прежде чем ты не дашь мне
краткого наброска твоего образа действия.
Автор. Ну хорошо. Предпосылка, из которой мы исходим, это та,
что последний и высший результат сознания, то есть то, к чему все
многообразие его относится, как условие к обусловленному или как колеса,
пружины и цепи в часах к часовой стрелке, — есть не что иное как ясное и
совершенное самосознание; такое, какое мы в себе сознаем, ты, я и мы все.
Я говорю, подобное тому, какое сознаем в себе ты, я и мы все; и,
таким образом, согласно замечанию, сделанному выше, я начисто отбрасы-
555
И. Г. Фихте
ваю все индивидуальное, которое, в соответствии с предпосылкой, отныне
совсем не должно входить в нашу систему. То, что ты приписываешь
только себе, но не мне, так же, как и я, со своей стороны, совсем исключается;
разве только, если ты вообще приписываешь себе нечто, что не может
принадлежать никому другому; точно так же и я, и мы все.
Вот это — что совершенное самосознание есть высший и последний
результат всякого сознания — является, как сказано, простой
предпосылкой, которая ожидает своего подтверждения от системы.
От этого самосознания в его основном определении и исходит
выведение.
Читатель.Вето основном определении? Что это значит?
Автор. Что имеется в виду то, что в нем совершенно не
обусловлено каким-либо другим сознанием; что таким образом не может быть
получено посредством выведения, но из чего, наоборот, должно исходить
последнее. Предполагается, что многообразие сознания содержит условия
полного самосознания. Но тогда в этом самосознании должно быть дано
нечто, что само не было бы обусловлено ничем другим. Это должно быть
установлено, и из него начинается выведение.
Читатель.И каким образом ты находишь это?
Автор. Также лишь благодаря счастливой догадке; но оно, будучи
раз найденным, не нуждается в дальнейшем доказательстве и не способно
к нему, но очевидно само собой.
Читатель. Что же имеется в этом установленном, что
непосредственно очевидно, если я даже предварительно освобожу тебя от
обязанности отдать отчет о самой этой очевидности, этой непосредственной
ясности?
Автор. Установленное — это абсолютно безусловное и характерное
для самосознания.
Читатель.Я тебя пойму не раньше, чем ты мне укажешь это
непосредственное очевидное, из которого ты исходишь, это абсолютно
безусловное и характерное для самосознания.
Автор. Это — яйность, субъект — объект и больше ничего,
утверждение субъективного и его объективного, сознания и сознанного им как
единого; и абсолютно ничего больше, кроме этого тождества.
Читатель.Я много раз слышал, что всех вас находили очень
непонятными и, кроме того, смешными именно из-за этого первого пункта,
который вы должны считать совершенно ясным и общепонятным, так как
вы с него начинаете все ваши объяснения. Не согласишься ли ты, для того
чтобы я мог ответить другим, дать мне вспомогательные средства, для того
чтобы это могло стать несколько понятнее для них; впрочем, без того,
чтобы ты отклонился из-за этого от своего пути, если только и этот пункт от-
556
Ясное, как солнце...
носится уже к действительному наукоучению, а не к предварительному
сообщению о нем.
Автор. Он, во всяком случае, относится к этому сообщению; ибо
он и есть тот упомянутый уже выше общий пункт наукоучения и
действительного сознания, начиная с которого первое возвышается над
последним. Кто хочет получить совершенно ясное понятие об этой науке, должен
знать тот пункт, из которого она исходит; и подобное понятие должно быть
порождено нашим сообщением.
Что же касается, впрочем, тех толков, будто нас не поняли по поводу
этого пункта, то это абсолютно непостижимо; ибо каждый ребенок,
который только перестал говорить о себе в третьем лице и называет себя Я,
совершил уже то, о чем идет речь, и может нас понять.
Мне приходится повторить то, что я уже многократно говорил:
помысли себе нечто, например, вот эту книгу, которую ты держишь в руке.
Ты, без сомнения, можешь осознать эту книгу как то, о чем ты мыслишь, и
себя самого как мыслящего эту книгу. Кажешься ли ты себе
тождественным с этой книгой или же не тождественным?
Читатель. Очевидно, не тождественным. Я никогда не спутаю
себя самого с книгой.
Автор .И для того, чтобы ты не спутал себя самого, мыслящего, с
мыслимым, — необходимо ли для этого, чтобы это была именно книга, и
притом эта книга?
Читатель. Отнюдь нет; я отличаю себя самого от всякого предмета.
А в m ор. Ты можешь, таким образом, мысля эту книгу, отвлечься от
всего того, благодаря чему ты мыслишь книгу, и именно эту книгу, и
обращать внимание исключительно на то, что в этом мышлении ты отличаешь
себя, мыслящего, от мыслимого?
Читатель. Без сомнения. И я, действительно и на самом деле,
когда отвечал на твой поставленный выше вопрос, — отличаю ли я себя
самого от книги, — не обращал внимания ни на что иное, кроме последнего.
Автор .Ты, следовательно, отличаешь всякий предмет от себя как
мыслящего, и для тебя не существует никакого предмета, кроме данного
через это различение и посредством его.
Читатель. Да, так.
Авто р. А теперь мысли Я. Ты можешь, без сомнения, и здесь
осознать в себе мыслящего и мыслимое. Распадается ли и здесь для тебя мыслящее
и мыслимое, должны ли оба также и здесь быть чем-то не тождественным?
Читатель. Нет, именно, поскольку я мыслю себя самого, я есмь
мыслящий, ибо в противном случае я бы не мыслил, и в то же время и
мыслимое, ибо в противном случае я бы не мыслил себя, а какой-нибудь
предмет вроде книги.
557
И. Г. Фихте
Автор Mo теперь ты, правда, в первую очередь мыслил себя, то есть
этого определенного индивида, этого Кая, или Семпрония, или как бы ты
там ни назывался. Но, без сомнения, ты можешь отвлечься от этих частных
определений твоей личности, подобно тому как выше ты смог отвлечься от
частных определений этой книги, и обращать внимание исключительно на
совпадение мыслящего и мыслимого, подобно тому как выше ты обращал
внимание на распадение обоих; и ты ведь это действительно и сделал в тот
момент, когда ты мне объявил, что в твоем мышлении себя мыслящее и
мыслимое совпадают.
И, таким образом, в этом совпадении ты находишь ведь Я в его
противоположности к объекту, при мышлении которого мыслящее и
мыслимое у тебя распадаются, следовательно, ты находишь существенный
характер Я, то ославленное чистое Я, по поводу которого нынешние философы
ломают себе головы в течение многих лет и все еще объявляют его
психологическим — пиши, психологическим обманом10 — и находят его
бесконечно забавным.
Читатель. Они, надо полагать, могли думать, что такое чистое Я,
такая совпадающая и в самой себе замыкающаяся вещь, примерно вроде
складного ножа, первоначально должна быть найдена в душе, вроде как
вафельная доска форм у кантианцев11; они ревностно искали этот складной
нож и не нашли ни одного и теперь заключают, что те, которые будто бы
его видели, на самом деле обманывались.
Автор. Очень может быть. Каким образом ты нашел это совпадение? •
Читатель. Таким, что я мыслил себя самого.
Автор. И другие люди, пожалуй, также мыслят себя самих?
Чита тел ь. Без сомнения, если не считать, что они говорят,
ничего при этом не думая; ибо все они говорят о самих себе.
Автор. Поступают ли они при этом мышлении самих себя так же,
как ты поступал при этом?
Читатель.Я думаю, да.
Автор. Могут ли они также наблюдать этот свой образ действий,
подобно тому как ты только что наблюдал свой?
Читатель.Я не сомневаюсь в этом.
Автор .И если они будут это делать при мышлении самих себя, то
они точно так же получат это совпадение; если же они этого делать не
будут, то они не получат его; таково наше мнение. Здесь речь идет не о
находке чего-то уже готового, а о находке чего-то, что еще сперва должно быть
порождено свободным мышлением. Наукоучение — не психология,
психология же сама по себе — ничто.
Но теперь я ожидаю от тебя окончательного, решительного ответа:
558
Ясное, как солнце...
принимаешь ли ты всерьез, что я и другие разумные существа поступают
при мышлении самих себя точно так же, как и ты, то есть считают в этом
мышлении мыслящее и мыслимое единым?
Читатель. Я не только принимаю это, но и утверждаю, что это
совершенно достоверно, и считаю исключение в этом случае абсолютно
невозможным. Мысль Я получается только посредством этого образа
действий, и сам этот образ действий есть мысльЯ. Следовательно, каждый, кто
себя мыслит, поступает таким же образом.
Автор. Скажи, пожалуйста, мой читатель, вникаешь ли ты в мою
душу и в душу всех разумных существ; или, если ты в состоянии сделать и
это, — обозрел ли ты и перебрал ли ты все разумные существа, дабы
утверждать что-либо относительно душ их всех?
Читатель. Отнюдь нет; и все же я не могу взять обратно то, что я
утверждаю. И вот что: когда я внимательно наблюдал себя самого, я
прихожу к тому, что я утверждаю еще больше, чем было сказано, — я утверждаю,
кроме того, что каждый, исходя из себя самого, вынужден утверждать то же
самое и в отношении сознания всех других.
Автор .И как ты дошел до этих утверждений?
Читатель. Когда я внимательно наблюдаю себя самого, то
нахожу, что с моим образом действий непосредственно связано неотразимое и
непреодолимое убеждение, что ни я, ни какое-либо иное разумное
существо не сможет поступать когда-либо иначе.
Автор. Ты, таким образом, посредством этого своего образа действия
- предписываешь себе и всем разумным существам закон, и в то же время перед
тобой здесь пример упомянутой выше непосредственной очевидности.
Но теперь вернемся к нашему замыслу!
Это основное и характерное определение самосознания философ
находит еще вне своей науки и независимо от нее. Оно не может быть
доказано в науке и вообще, в качестве положения, никак не поддается
доказательству. Оно непосредственно ясно12. И в качестве основного положения
наукоучения оно также не может быть доказано иначе как посредством
самого дела, то есть посредством того, что из него действительно возможно
требуемое выведение.
При этом выведении мы поступаем следующим образом.
При мышлении самого себя, говорит себе наукоучитель, я поступаю
так, как мы только что видели. Не связывается ли хотя бы с этим моим
образом действий другой, так что мы получили бы новую основную черту и
т.д, пока мы не дошли бы до совершенно определенного самосознания и,
таким образом, получили бы систематическое выведение целого?
Читатель.Я опять не понимаю тебя. Ты спрашиваешь, не
связывается ли что-либо другое, имея в виду, без сомнения, определение созна-
559
И.Г. Фихте
ния? Каким образом оно должно быть связано, при чем и в чем? Я, по
крайней мере, в только что выполненном мною мышлении себя не сознавал
ничего другого, кроме тождества мыслящего и мыслимого.
Автор. И при этом все же, согласно моему требованию и твоему
собственному замечанию, отвлекался от кое-чего иного, что ты
одновременно мыслил при мышлении себя самого. Но ты должен был это сделать;
и наука ни к чему не пришла бы, если бы она приняла опять это
обособленное в том запутанном виде, в котором оно находилось.
Но даже в той абстракции, посредством которой ты должен был
понять свое мышление, с ней связывается нечто, и ты найдешь его, если
только достаточно внимательно всмотришься. Не представляется ли тебе,
например, это мышление самого себя как переход из какого-то другого
состояния в это определенное?
Читатель. Это, во всяком случае, так.
Автор. Полагаешь ли ты, пожалуй, также и здесь, что это
покажется так и всякому другому и что, если только он внимательно всмотрится, он
точно так же найдет это?
Читатель. Во всяком случае, я полагаю это, если внимательно
вгляжусь в себя, и предполагаю это у них. Здесь такая же непосредственная
очевидность, как и выше.
Автор. Таким же образом с этим явлением — если только мы
рассмотрим его надлежащим образом — связывается другое и с этим, при тех
же условиях, и третье; и так наукоучение продвигается шаг за шагом
вперед, пока оно не исчерпает всего многообразия сознания и не доберется до
целиком выведенного определенного самосознания.
Таким образом, в известном отношении наукоучитель сам
порождает свою систему сознания, которая, однако, в другом отношении
опять-таки порождает себя сама. А именно: первый создает повод и условие
самопорождения. В связи с тем, что он мыслит и конструирует то, чего он ни в
коем случае не имел в виду, оно возникает с абсолютной необходимостью,
сопровождаемое очевидной уверенностью, что точно так же оно должно
возникать у всех разумных существ.
Только первоначальный и первый член своей цепи наукоучитель
порождает абсолютно свободным образом. Начиная с этого начального
пункта, им руководят, но не понуждают его. Каждый новый член, который
возникает у него при конструкции предшествовавшего, ему предстоит
опять-таки сконструировать свободно, и к этому вновь примкнет новый
член, с которым он поступит так же, как с предшествующими; и так у него
постепенно получится его система. Здесь, таким образом, в этом
связывании одного многообразия с другими проявляются законы сознания,
относительно которых ты спрашивал. В конце концов, наукоучителю даже нет
560
Ясное, как солнце...
дела до понимания этих законов, ему важен исключительно их результат.
Читатель.Я вспоминаю, что слышал, будто вас упрекают в
следующем: ваша система была бы правильной и последовательной, если
согласиться с вашим основным положением. Справедлив ли этот упрек?
Автор. Если только не понимать совершенно превратно место и
значение как всей системы, так и основного положения, и если не брать их
в таком смысле, в котором они неправильны и поэтому никогда не могут
быть доказаны, одним словом, если не принимать их как психологические,
то требование доказать им основное положение может иметь лишь
следующее значение:
Или они требуют доказательства нашего права философствовать так,
как мы это делаем, а не так, как они это делают. Это их требование может
быть отклонено без дальнейших церемоний на том вполне естественном
основании, что каждый человек, бесспорно, имеет право заниматься той
наукой, какой ему будет угодно. Пусть лишь они считают наше наукоуче-
ние особой, им еще не известной наукой; взамен чего мы также будем
считать их философии за то, за что они их выдают. Только в том случае, если
бы мы сказали: их философии ничего не значат, — как мы это
действительно думаем, а также и говорим в подходящем месте, — они бы могли
принудить нас к доказательству. Но это доказательство дается в полном и
окончательном виде лишь нашим наукоучением в целом; следовательно, им все
же пришлось бы предварительно заняться изучением этой науки, прежде
чем им может быть дано доказательство правомерности этого образа
действий; или же они желают, чтобы это положение, в качестве основного
положения системы, было доказано раньше системы, каковое требование
нелепо; или же они желают, чтобы истинность содержания этого положения
была перед ними обнаружена путем расчленения имеющихся в нем
понятий. Это доказало бы, что они не имеют никакого понятия о научности и
никакого чутья научности, которая никогда не покоится на понятиях, но
всегда лишь на созерцании непосредственной очевидности. Их тогда
пришлось бы оставить в покое, не теряя с ними дальше времени.
Читатель. Но я очень опасаюсь, что именно этот последний
пункт и есть тот, который их больше всего смущает. Если каждый будет
ссылаться лишь на свое созерцание и будет его требовать от всех других, не
выводя правильно своего доказательства из понятий, то он сможет
утверждать все, что ему только угодно: придется всякое сумасбродство оставлять
безнаказанным и открыть настежь двери для всяческой фантастики; так,
опасаюсь я, будут они говорить.
Автор .В этом им никто не может помешать; им также могут верить
те, кто подобен им. От них наука совершенно отказалась. Но тебе, мой
читатель, который остался беспристрастным и которому, несмотря на то, что
561
И. Г. Фихте
ты не хочешь заняться изучением самой философии и возвыситься до
свойственного этой науке созерцания, все же должно быть дано понятие о
философии, тебе можно описать на основании других, более легких,
примеров природу и возможность этого созерцания.
Ты ведь принимаешь, что прямоугольный треугольник совершенно
определен двумя сторонами и заключенным между ними углом или же
стороной и двумя прилежащими углами, то есть что, предполагая данные
элементы, к ним должны быть присоединены именно такие другие элементы,
какие к ним присоединяются, для того чтобы получился треугольник.
Читатель. Я.принимаю это.
А в m ор. Не опасаешься ли ты, что все же может иметь место случай,
в котором дело будет обстоять не таким образом?
Читатель. Этого я отнюдь не опасаюсь.
Автор. Или не опасаешься ли ты, что какое-либо разумное
существо, которое могло бы понимать твои слова, стало бы отрицать это твое
утверждение?
Читатель.№ этого я также не опасаюсь.
Автор. Разве ты испробовал это свое положение на всех
возможных треугольниках или разве ты опросил все разумные существа, согласны
ли они с тобой?
Читатель. Как бы я мог это сделать?
Автор .Wo как же, следовательно, ты приходишь к убеждению,
которое должно иметь силу в первую очередь для тебя во всевозможных
случаях без исключения, а затем для всех других разумных существ точно так
же без исключения?
Читатель. Остановимся на первом случае, когда предполагаются
две стороны и заключенный между ними угол. Если как следует вглядеться
в себя следующим образом: я черчу в своей фантазии какой-либо угол с
конечными сторонами, ведь иначе я и не могу, и замыкаю отверстие между
сторонами этого угла прямой линией; нахожу, что возможна только одна
прямая линия, которая замыкает это отверстие, что она прилегает под
известным наклоном к обеим данным сторонам, составляя известные углы, и
что она может прилегать только под этим наклоном.
Автор. Но ведь твой произвольно проведенный угол был
определенным, имевшим столько-то градусов. Или дело обстоит иначе; разве ты
описал угол вообще?
Читатель. Как мог бы я сделать это? Я не в состоянии описать
никакого другого угла, кроме определенного, хотя бы я и не знал его меры и
не имел намерения знать ее. Благодаря простому описанию он становится
определенным углом.
Автор. И предположенные стороны были также определенными,
562
Ясное, как солнце...
имевшими известную длину. Ты имел бы, следовательно, право, ибо я уже
не говорю о целом ряде других затруднений, сказать: в этом определенном
случае, предполагая этот определенный угол и эти определенные стороны,
треугольник может быть получен лишь посредством одной возможной
стороны, определенной, которая при этом у тебя возникает, и посредством
возможной пары углов, определенных, которые при этом возникают. Ибо
ничего больше не находится в твоем внутреннем восприятии, которое,
очевидно, исходит из определенных предпосылок. Ты мог бы попытаться
проделать это с другим углом и с другими сторонами и мог бы про них
сказать то же самое, если бы в восприятии дело обстояло так же, и так далее.
Но ты бы никогда не мог распространить это утверждение на те случаи,
которых ты не испробовал, и меньше всего мог бы так дерзко и смело
говорить о бесконечности всех случаев, которых ты не мог, конечно, исчерпать
своими попытками.
Не хочешь ли ты поэтому исправить, пожалуй, выражение и
ограничить свое утверждение лишь теми случаями, относительно которых ты
предпринял свои опыты?
Читатель. Внимательно наблюдая себя и вникая внутрь себя, нет.
Я никак не могу отказаться приписать моему утверждению всеобщую
обязательность без всяких исключений.
А в m ор. Но ты, пожалуй, можешь многочисленные случаи, в которых
твое утверждение всегда без исключения оказывалось правильным,
произвольно возвысить до всеобщности и ожидать подобных же случаев лишь по
-аналогии, по привычке, по ассоциации идей или как бы это ни называть?
Читатель. Я не думаю этого. Для меня вполне достаточно одного
опыта, и он меня принуждает ко всеобщему суждению в такой же степени,
как и тысяча.
Автор .Я точно так же не думаю этого всерьез; и это положение о
произвольном возвышении многих удавшихся случаев до всеобщности
кажется мне принципом абсолютного неразумия.
А теперь, мой читатель, разреши мне быть несколько навязчивым,
разреши не отпускать тебя прежде, чем ты не отдашь мне отчета, каким
образом могла быть посредством описанного выше процесса конструкции
треугольника обоснована всеобщность твоего утверждения, от которой ты
ведь все же не хочешь отказаться?
Читатель. При всеобщности моего утверждения я, очевидно,
отвлекаюсь от определенности угла и сторон, которые я принял в качестве
предпосылки и которые я замкнул третьей стороной; так обстоит дело
фактически, и это вытекает из простого анализа моего утверждения.
Мне пришлось, следовательно, также и при конструкции самого
треугольника, и при моем наблюдении его, на котором ведь было основано
563
И. Г. Фихте
мое утверждение, точно так же отвлечься от этой определенности, только
не сознавая этого вполне отчетливо; ведь, помимо того, в заключении
должно же находиться необходимым образом все, что было в предпосылке.
Но если отвлечься от всякой определенности угла и сторон, то вообще не
остается никакого угла или сторон как находящихся перед нами
предметов; следовательно, не оставалось бы вообще ничего для моего наблюдения
или — если вы наблюдение чего-либо, находящегося перед нами и
данного, называете, как я, могу сказать, заметил это, исключительно
восприятием — не оставалось бы вообще никакого восприятия. Но так как должно
оставаться наблюдение и кое-что для него, так как, кроме него, я не мог бы
утверждать ничего, то это остающееся не может быть не чем иным, как
только осуществляемым мною проведением линий и углов. Оно,
следовательно, и должно было быть, собственно, тем, что я наблюдал.С этой
предпосылкой очень хорошо согласуется также и то, что я действительно и
отчетливо в себе сознаю относительно того процесса. Когда я чертил свой
угол, я вовсе не стремился начертить угол, имеющий столько-то градусов,
или стороны, имеющие такую-то длину, а лишь угол вообще, стороны
вообще. Определенными они стали не вследствие моего намерения, а
вследствие необходимости. Когда дело дошло до действительного описания,
они получились у меня определенными, и Бог знает почему они были
определены именно так, как они получились.
Это, лежащее вне и выше всякого восприятия, сознание
осуществляемого мною проведения линий и есть, без сомнения, то, что вы
называете созерцанием.
Автор. Это так.
Читатель. Чтобы обосновать мое всеобщее утверждение,
необходимо было бы с этим созерцанием моего конструирования треугольника
непосредственно связать абсолютное убеждение в том, что я никогда и ни в
коем случае не смогу конструировать иначе; в созерцании, таким образом,
я бы понимал и охватывал всю мою способность к конструированию сразу,
с единого взгляда, через непосредственное сознание не этого
определенного конструирования, но, безусловно, всякого моего конструирования
вообще, и притом именно в качестве такового. Таким образом,
положение — посредством трех элементов треугольника определены остальные
три — значило бы, собственно говоря, следующее: посредством моего
конструирования трех элементов определено конструирование мною трех
остальных элементов, и всеобщность, которую я утверждаю, ни в коем
случае не возникла благодаря подведению многообразия под единство, а,
скорее, наоборот, благодаря выведению бесконечно многообразного из
схваченного одним взором единства.
А в m ор. И вот это положение в его всеобщности ты далее предпола-
564
Ясное, как солнце...
гаешь точно так же во всеобщем виде и без всяких исключений у всех
разумных существ?
Читатель. Так я и поступаю; и я не могу отказаться от этого
требования всеобщей значимости для всех [разумных существ] точно так же, как
и от требования всеобщей значимости и относительно всех
[треугольников]. Для того чтобы его обосновать, мне необходимо было бы принять, что
в этом непосредственном созерцании моего способа действий я созерцал
этот мой способ не как способ той или другой определенной личности,
каковую я как раз и представляю собой, а как способ разумного существа
вообще, с непосредственным убеждением, что он абсолютно таков.
Созерцание было бы поэтому восприятием образа действий разума вообще,
непосредственно само себя конструирующим как таковое и схваченным сразу
единым взглядом, и эта общезначимость для всех личностей также не
возникла бы благодаря подведению многих под единство, а, скорее наоборот,
благодаря выведению бесконечно различных личностей из единства того же
разума. Можно уразуметь, как на этом созерцании, и только на нем,
основывается непосредственная очевидность, необходимость и
общезначимость как относительно всех, так и для всех, то есть всякая научность.
А в m ор. Ты очень хорошо понял самого себя, и я желал бы, чтобы ты
сумел сделать это дело столь же понятным всем читателям, представителем
которых ты являешься.
Ты можешь теперь судить сам, какую цену может иметь это
возражение против обоснования нашей науки посредством созерцания и в какой
степени можно при научном обсуждении считаться с теми, кто его
выдвигает.
И вот, если на этом созерцании, только что описанном тобою и
относительно которого ты доказал, что оно является условием геометрии, если
на этом созерцании, но взятом в его высшем отвлечении, и основано нау-
коучение и изложена вся система его, если оно даже исходит из созерцания
в его высшем отвлечении, если это созерцание само для себя, то есть сам
всеобщий разум, воспринимающий самого себя в своем единственном
центре и навсегда себя определяющий первый член в этой цепи, если этот
разум, воспринимающий именно самого себя как разум, и есть, таким
образом, описанное выше чистое Я в высшем смысле этого слова, то тогда
тебе станет весьма понятно, если ты вообще знаком с литературой нашего
времени, почему ученые последней половины XVIII века совершенно не
могли найти в себе это чистое Я. В то же время тебе станет понятным,
каковы те люди, которые еще хотят выйти за пределы принципа наукоучения,
то есть абсолютного созерцания разума посредством самого себя, и
полагают, что они действительно вышли за пределы его.
Читатель. Наукоучение, таким образом, только начинает с этогочи-
565
И. Г. Фихте
стого Я или с созерцания в его высшем отвлечении; но с каждым
дальнейшим шагом, который оно делает, в нем прибавляется новое звено в цепи,
необходимое прибавление которого доказывается именно в созерцании.
Автор.Ца, так; точно так же обстоит дело в геометрии, где в каждом
новом приложении к предшествующему прибавляется новое содержание,
необходимость которого точно так же доказывается только в созерцании.
Так должно быть во всякой реальной, действительно движущейся вперед
науке, не бегающей бесплодно по кругу.
Читатель. Мне говорили, что вы из принятого в качестве
предпосылки понятия Я развертываете всю вашу науку, как из луковицы; что вы
только и делаете, что анализируете это понятие и показываете, что все
остальные понятия, которые вы устанавливаете, хотя и смутно уже
заключены в нем и что именно подобного рода понятие вы называете основным
понятием, а положение, в котором оно встречается, основным
положением.
Лет о р. Ты был, надо думать, добродушно настроен и позволил
навязать себе такую вещь?
Читатель. Я полагаю, что теперь ясно понимаю, как вы можете
осуществить вашу науку; я вижу также, на чем основано притязание на
всеобщую значимость науки: именно на созерцании, которое ведь
является созерцанием способа действий всякого разума и, таким образом, имеет
значение для всех, кто поступает так же, как и вы, то есть порождает в себе
эту науку. Одним словом, принимая эту предпосылку, продукт вашей
науки может быть получен лишь таким образом, каким вы его получили,
подобно тому как треугольник, после того как приняты в качестве предпосылки
три его элемента, может быть, безусловно, замкнут только этой стороной и
этими углами. Предполагая, что вы действительно можете доказать в
созерцании то, что вы утверждаете, я ничего не имею против вашего
притязания, пока вы выдаете продукт вашей науки только за продукт вашей
фантазии, и больше ни за что сверх этого, подобно тому как упоминаемый часто
треугольник есть не что иное, как такого же рода продукт.
Но, как я заключаю из твоих предыдущих разговоров, вы ни в коем
случае не ограничиваетесь этим. Вы не удовлетворяетесь тем, чтобы
изобразить ваш продукт как существующий в самом себе и согласующийся с
самим собой, но вы идете дальше этого. Он должен быть отображением
истинно действительного, имеющегося налицо, без всякого участия
философии, сознания, которым обладаем мы все; в этом сознании должно быть
такое же многообразие, какое имеется в продукте вашей системы, и части
его должны находиться в таких же отношениях друг к другу. Но я сознаюсь,
что я сам не совсем хорошо понимаю то, что вы, собственно говоря,
утверждаете об этом, и еще меньше, как вы хотите обосновать какие бы то ни бы-
566
Ясное, как солнце...
ло дальнейшие притязания сверх тех, на которые мы только что
согласились.
Автор. Ведь ты признаешь и относительно геометрии, что она
может быть применена к действительному сознанию в жизни, и считаешь ее
за отображение части действительного сознания, подобно тому как мы
считаем наукоучение? Объясни-ка только и обоснуй это твое притязание.
Может быть, благодаря этому будет обосновано также и наше притязание.
В научной геометрии ты проводишь линию, которой замыкаешь
твой произвольно начерченный угол с его произвольно проведенными
сторонами. Ты находишь в поле треугольник с одним определенным углом
и двумя определенными сторонами, которые ты измеряешь. Нужно ли тебе
еще измерить и третью сторону?
Читатель. Ни в коем случае; я могу благодаря известному мне из
геометрии неизменному отношению этой третьей стороны к двум другим и
противолежащему углу найти ее действительную длину путем простого
расчета.
Автор .Ее действительную длину — что это значит?
Читатель. Если я ее буду действительно измерять своими
инструментами, подобно тому как я измерял первые две, то при этом измерении
получится именно та самая длина, которую я получил путем расчета.
А в m ор. И ты в этом твердо убежден?
Читатель. Да, я в этом убежден.
А в m ор. И ты готов применять этот же прием у всех возможных
треугольников, на которые ты наткнешься в поле, и не опасаешься, что тебе
встретится треугольник, который будет составлять исключение из
правила?
Читатель. Я не опасаюсь этого; и для меня совершенно
невозможно опасаться этого.
Автор. На чем основано это твое прочное убеждение в
правильности твоего определения действительного размера этой третьей стороны,
независимо от всякого действительного измерения ее?
Читатель. Если я как следует вникну в себя, то я должен мыслить
это в таком виде и могу приблизительно выразить это следующим образом:
Если две линии и лежащий между ними угол предполагаются
определенными, то этот угол может быть замкнут лишь одной-единственной
возможной определенной, то есть находящейся в данном определенном
отношении к предположенным элементам, стороной. Это действительно
для конструкции треугольника в свободной фантазии и становится
непосредственно ясным и достоверным посредством созерцания.
И вот я без дальнейших околичностей и с такой же уверенностью,
как будто бы это также содержалось в созерцании, поступаю с действитель-
567
И. Г. Фихте
ным треугольником согласно законам существующего лишь в
конструкции. Я, таким образом, фактически предполагаю, что в созерцании заодно
действительно заключалось и право на такое применение; я рассматриваю
действительную линию, как будто бы, — я говорю, как будто бы, — она
возникла посредством моей свободной конструкции, и поступаю с ней в
соответствии с этим. Я не спрашиваю о том, как обстоит дело с
возникновением ее в действительности; измерение, во всяком случае, есть повторное
конструирование, конструирование по образцу наличной линии, и
относительно него я принужден предположить, что оно совершенно одинаково
с первоначальным конструированием той же линии, которое я
предполагаю лишь в символическом смысле, но относительно действительности и
недействительности которого я, впрочем, не спрашиваю.
Автор. Этим самым ты в то же время очень ясно описал, как
обстоит дело с притязанием наукоучения на значимость в действительном
сознании. Подобно тому как в первоначальной конструкции треугольника
третья сторона определена двумя другими и заключенным между ними
углом, точно так же, согласно наукоучению, в первоначальной
конструкции известное сознание определено другим сознанием. Но это лишь
образованные посредством свободной фантазии, но ни в коем случае не
действительные определения сознания, подобно тому как линии геометра не
являются линиями в поле.
И вот, образованное в фантазии определение сознания теперь
действительно осуществляется, подобно тому как мы в поле находим угол и
две стороны, Свободная конструкция которых была возможна. Ты можешь
быть столь же твердо убежден, что вместе с оказавшимся налицо
действительным определением одновременно окажутся налицо в
действительности и те определения, которые в отображении были неразрывно связаны с
первым, и как раз такими, какими они там были описаны, и ты так и
найдешь это, если действительно произведешь наблюдение.
Каждый, кто возвысится до этой спекуляции, настолько же твердо
убежден в этом, насколько геометр убежден в том, что измерение
действительной линии подтвердит его расчет. Определения действительного
сознания, к которым он принужден применять законы свободно
конструированного сознания, подобно тому как геометр применяет законы
свободно конструированного треугольника к тем, которые находятся в поле,
представляют собой для него также как бы результаты первоначальной
конструкции, и при этом обсуждении с ними соответственно и поступают.
Имела ли действительно место подобная первоначальная конструкция
сознания раньше до всякого сознания, об этом он не спрашивает: этот
вопрос для него даже совершенно лишен всякого смысла.
Суждение есть, во всяком случае, конструирование по данному об-
568
Ясное, как солнце...
разцу, подобно измерению у геометра. Оно должно согласоваться с
первоначальным конструированием того, о чем судят, конструированием,
которое предполагается в символическом смысле и, несомненно, согласуется с
ним, если только судят правильно; подобно тому как измерение линий
непременно совпадает с расчетом, если только измеряют правильно. Только
это, и ничего больше, должно обозначать притязание наукоучения на
значимость также и вне своих пределов, а именно: в действительном сознании
в жизни; и, таким образом, это притязание, как и вся наука, основано на
том же самом непосредственном созерцании.
Таким образом, я, полагаю, дал тебе достаточно ясное понятие не
только о намерении наукоучения вообще, но также и о способе его
действий, и об основаниях этого способа действий. Оно конструирует все
совокупное сознание всех разумных существ a priori, согласно его основным
чертам, подобно тому как геометрия конструирует общие способы
разграничения пространства для всех разумных существ абсолютно a priori. Оно
начинает с самых простых и в высшей степени характерных определений
самосознания, созерцания или яйности и движется дальше, пока не будет
выведено самосознание, исходя из предпосылки, что полностью
определенное самосознание является последним результатом всех других
определений сознания; оно движется вперед таким образом, что у него к каждому
звену его Цепи все время прибавляется новое звено, относительно которого
для него из непосредственного созерцания ясно, что у каждого разумного
существа оно должно прибавляться таким же образом.
Предположим, Я -А, тогда при созерцании конструирования этого
А ты найдешь, что с ним неразрывно связано В; при созерцании
конструирования этого В — что к нему в свою очередь примыкает С; и так далее,
пока дойдут до последнего члена Л — полного самосознания, которое
оказывается замкнутым самим собою и завершенным.
ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК
Автор. Утверждают, что известная
система сознания существует для разумного существа, если только
существует само это разумное существо. Можно ли предполагать у каждого
человека то, что содержится в этом сознании?
Читатель. Без сомнения. Уже из твоего описания этой системы
непосредственно видно, что она общая для всех людей.
Автор. Можно ли также предполагать, что всякий, исходя из этого,
будет правильно оценивать предметы и без ошибок заключать от одного к
другому?
Читатель. Конечно, если он хоть сколько-нибудь упражнял
прирожденную всем способность суждения, входящую в состав также и этой
системы, и даже будет вполне правильным без всяких дальнейших
околичностей предположить у каждого это умеренное употребление способности
суждения, пока не доказано противное.
Автор. Но можно ли также без всяких дальнейших околичностей
предполагать как известное и то, что не находится в этой общей системе,
как бы предоставленной всем людям, но что лишь должно быть
произведено посредством произвольной и свободной абстракции и рефлексии?
Читатель. Очевидно, нет. Каждый получает это лишь благодаря
тому, что он свободно производит требующуюся абстракцию, а без этого у
него ничего и не будет.
Автор. Если, таким образом, кто-либо захочет произнести свое
суждение по поводу уже достаточно описанного выше Я, из которого исходит
наукоучение, и будет искать это Я как данное в обычном сознании, — будет
ли то, что он говорит, пригодно для дела?
Читатель. Очевидно, нет: ибо то, о чем идет речь, вовсе не
находится в обычном сознании, но оно сперва должно быть порождено
посредством свободной абстракции.
Автор. Далее, наукоучитель, поскольку мы познакомились с его
образом действия, описывает, исходя из этого первого звена,
непрерывный ряд определений сознания, в котором к каждому предшествующему в
ряду звену примыкает второе, к этому третье и т.д. Эти звенья его цепи и
570
Ясное, как солнце...
суть те, о которых он говорит и относительно которых высказывает свои
положения и утверждения. Каким же тогда образом может кто-либо
переходить от первого ко второму, от этого к третьему и т.д.?
Читатель. Согласно твоему описанию, исключительно дишь
посредством того, что он внутренне действительно конструирует в себе
самом первое звено, при этом вглядывается в себя, возникает ли у него при
этой конструкции первого второе звено, и каково оно; затем, в свою
очередь, конструируется второе звено, и обращают внимание, возникает ли
при этом третье, и каково оно, и т.д. Только при этом созерцании своего
конструирования он получает предмет, насчет которого делается
некоторое высказывание; и без этого конструирования для него совершенно не
существует ничего того, о чем шла речь. Так именно должно обстоять дело,
согласно данному тобою выше описанию, — такого ответа ты, без
сомнения, желал от меня.
Но я при этом наталкиваюсь еще на следующее сомнение. Эта
последовательность, которую описывает наукоучитель, состоит из разделенных
и особенных определений сознания. Но и в действительном обычном
сознании, которым без всякого наукоучения обладает каждый, существуют
обособленные многообразия сознания. Если первые являются теми же
самыми, — разделены и обособлены таким же способом, как и последние, —
то элементы в последовательности наукоучения известны также и из
действительного сознания; и нет необходимости именно в созерцании, для
того чтобы узнать их.
Автор. Вполне достаточно в данном месте сказать тебе вкратце и
беря дело лишь в историческом аспекте, что разграничения наукоучения и
действительного сознания совсем не те же самые, но совершенно отличны
друг от друга. Правда, разграничения сознания встречаются также и в нау-
коучении, но только в качестве последнего вывода. Однако на пути их
выведения в философской конструкции и в созерцании находятся
совершенно другие элементы, благодаря соединению которых вообще только и
возникает обособленное целое действительного сознания.
Привести пример этого? Я действительного сознания есть, во всяком
случае, особенное и отделенное; оно также представляет собой личность
среди многих личностей, из которых каждая для себя, в свою очередь,
называет себя Я — и именно до сознания этой личности наукоучение доводит
свое выведение. Нечто совершенно другое представляет собой то Я, из
которого исходит наукоучение; оно лишь не что иное, как тождество
сознающего и сознаваемого, и до этого отвлечения можно возвыситься лишь
посредством абстракции от всего остального в личности. Те, кто при этом
уверяют, что в понятии они не могут отделить Я от индивидуальности,
совершенно правы, если они говорят, имея в виду обычное сознание; ибо
571
И. Г. Фихте
здесь, в восприятии, это тождество, на которое они обычно совсем не
обращают внимания, и эта индивидуальность, на которую они не только
наравне с другими, но почти исключительно обращают внимание, соединены
неразрывно. Но если они вообще не в состоянии отвлечься от
действительного сознания и от его фактов, то наукоучению делать с ними нечего.
В предшествующих философских системах, которые все, только
сами не сознавая этого, вполне отчетливо стремились к описанию той же
последовательности, которую описывает наукоучение, и частью даже делали
это очень удачно, — встречается часть этих разграничений и их названий,
например, субстанция, акциденция и т.д. Но отчасти и их никто не
понимает без созерцания, получая лишь пустое слово вместо вещи, плоские
философы действительно ведь считают их за существующие вещи; отчасти же
наукоучение, так как оно возвышается до более высокой абстракции, чем
все эти системы, составляет эти обособленные части из гораздо более
простых элементов, то есть совершенно иначе; и наконец, существовавшие в
предшествовавших системах искусственные понятия частично даже и
неверны.
Таким образом, все то, о чем говорит эта наука, для того, кто
действительно конструирует эту последовательность, безусловно существует
лишь в созерцании и для него, а вне этого условия оно вовсе не существует;
и без этой конструкции все положения наукоучения не имеют никакого
смысла и значения.
Читатель. Говоришь ли ты это вполне серьезно, и должен ли я
это принимать в самом строгом смысле и без скидки на преувеличение?
Автор. Во всяком случае, ты должен принимать это в самом
строгом смысле. Я желал бы, чтобы пусть хоть относительно этого пункта нам
наконец поверили бы.
Читатель. Но тогда по отношению к наукоучению было бы
возможно только одно из двух: или понимание, или полное непонимание,
видеть правильное в нем или ничего не видеть. Но лишь очень немногие
заявляют, что они вас совсем не понимают: они полагают, что очень хорошо
понимают вас, и находят только, что вы неправы; вы же заявляете, что они
ложно понимают вас. Они должны, следовательно, находить какой-то
смысл в ваших заявлениях, но только неправильный, не тот, какой вы
имели в виду. Как это возможно после только что сделанных тобой заявлений?
Автор. Благодаря тому, что наукоучению пришлось начать свое
изложение, пользуясь наличным запасом слов. Если бы оно могло начать
сразу — чем оно, конечно, закончит — тем, что создало бы для себя
совершенно своеобразную систему знаков, знаки которой обозначали бы лишь
его созерцание и отношения их между собой, и ничего больше, кроме
этого, то оно, конечно, не могло бы быть понято ложно, но тогда оно не было
572
Ясное, как солнце...
бы также и вообще понято и не могло бы перейти из ума своего первого
творца в другие умы. Теперь же ему приходится осуществить трудное
предприятие: из запутанности слов — их даже хотели возвысить недавно до
степени судей над разумом, хотя они только мысли в зародыше, — довести
других до созерцания. До сих пор у всякого любое слово вызывает ту или
иную мысль, и, когда он его слышит, он вспоминает, что он при этом до
сих пор думал, и он, конечно, должен делать это также согласно и нашим
взглядам. Но если он не может преодолеть этих слов, являющихся
вспомогательными линиями, и всего их предшествующего значения и не может
возвыситься до самого дела, до созерцания, то он по необходимости ложно
понимает даже и там, где он понимает лучше всего, ибо то, о чем идет речь,
не было до сих пор сказано и не было обозначено словом, и оно также не
может быть сказано, но только созерцаемо. Самое высшее, чего можно
достигнуть посредством разъяснения слов, — это определенное понятие, но
именно поэтому это совершенно ложно в наукоучении.
Эта наука описывает беспрерывную последовательность
созерцаний. Каждое новое звено примыкает к предшествующему и определено
посредством него, то есть эта именно связь объясняет его и принадлежит к
его характеристике; и его созерцают правильно только если его созерцают
в этой связи. Опять-таки, третье определено вторым, а так как последнее
определено первым, то оно опосредованно определено также и первым; и
так далее до конца. Таким образом, все предшествующее объясняет
последующее; и, с другой стороны, (в органической системе, члены которой свя-
. заны не только последовательно, но также посредством
взаимоопределения, это и не может быть иначе), каждое последующее определяет, опять-
таки, все предшествующее.
Можно ли поэтому правильно понять какое-либо звено в
наукоучении, если сначала не поняли правильно все предшествующие и если при
понимании последнего не имеют их перед собой?
Читатель. Нет.
Автор. Можно ли понять какое-либо звено полностью и
совершенно, прежде чем закончили всю систему?
Читатель. Ни в коем случае, согласно тому, что ты только что
сказал.
Относительно каждого пункта можно судить, лишь исходя из его
связи; но так как каждый связан с целым, то ни об одном пункте нельзя
судить полностью, не понимая целого.
Автор. Разумеется, ни об одном пункте, который выхвачен из
действительной науки. Ибо о голом понятии этой науки, о ее сущности, цели,
образе действий можно судить, не обладая самой наукой, так как понятие
это взято из области обычного сознания и выведено из него.
Познакомиться с этим понятием и судить о нем я и приглашал тебя, читатель-неспециа-
573
И. Г. Фихте
лист,: но я бы поостерегся сделать это относительно какого-либо
внутреннего пункта системы.
Точно так же и завершение системы, ее последний результат
попадает в сферу обычного сознания, и относительно него каждый может также
судить не о том, чего не понимает, но о том, встречается ли оно в подобном
же виде в обычном сознании.
Таким образом, составные части и положения этой системы не
входят в сферу обычного сознания и в пределы того суждения, какого можно
справедливым образом ожидать от всякого. Их создают только при
помощи свободы и посредством абстракции, и они определены своей связью, и
о предметах этого рода не может произнести ни малейшего суждения ни
один человек, не проделавший этой абстракции и конструкции, не
доведший ее до конца и не удерживающий целое всегда перед собой без
колебаний.
Читатель. Да, конечно, это так, это мне, пожалуй, вполне ясно.
Каждый, следовательно, кто хочет участвовать в обсуждении, должен был
бы сам изобрести всю систему.
Автор. Конечно. Однако, так как оказалось, что человечество
философствовало тысячелетия и, как это может быть показано с ясностью, не
раз бывало на волосок от основного пункта, не находя все же
действительного наукоучения, и так как поэтому можно ожидать, что, если бы
последнее теперь снова пропало, его нельзя было бы найти так скоро опять, — то
случайным образом найденное наконец изобретение следовало бы пустить
в ход, приняв его предварительно для себя как уже найденное, и вновь
изобрести его, следуя за его творцом и его обладателями, так,, как, например,
относятся к геометрии, изобретение которой, конечно, также потребовало
много времени: следовательно, нужно изучать систему, и изучать ее до тех
пор, пока сделают ее своим собственным изобретением.
Таким образом всякий, кто или не доказал делом, что он сам изобрел
наукоучение, или, если он не находится в подобном положении, не
сознает, что изучал его до тех пор, пока вполне не сделал его своим собственным
изобретением, или, ибо это здесь единственно возможная альтернатива, не
может предъявить другую систему интеллектуального созерцания,
противоположную наукоучению, — не должен высказывать суждение ни о каком
положении этой науки или вообще о каком-либо философском
положении в том случае, если она должна быть единственно возможной
философией, как она, во всяком случае, утверждает.
Читатель. Как ни изворачивайся, невозможно отрицать, что дело
обстоит именно таким образом.
Но, с другой стороны, я не могу ставить в вину также и другим
философам, что они недружелюбно относятся к вашим притязаниям, чтобы они
574
Ясное, как солнце...
все снова пошли в учебу. Они сознают, что они все так же хорошо изучали
свою науку, как и вы; и частью даже считались в ней мастерами, в то время
когда вы сами еще только изучали первые элементы ее. Они
предполагают, — и вы сами признаете это, — что лишь благодаря им ваш ум
проснулся от своего сна. И теперь им, — а некоторые из них уже с седыми
бородами, — нужно опять пойти к вам на выучку или примириться с вашим
запрещением высказываться.
Автор. Их судьба действительно жестока, если они что-либо на
свете любят больше, чем истину и науку. Но изменить это невозможно. Так
как они очень хорошо сознают, что они никогда даже не думали обладать и
всегда отказывались от обладания тем, чем мы, согласно нашему
уверению, обладаем, то есть наукой, очевидность которой ясна, то они должны,
как бы это ни казалось им горько, приглядеться к тому, как, собственно
говоря, обстоит дело с нашим неслыханным утверждением. Знаешь ли ты для
них какой-либо другой, помимо изучения наукоучения, выход, кроме того,
чтобы они добровольно, без предварительного напоминания замолчали и
ушли со сцены?
Читатель. Тогда они — мне уже довелось слышать, как
некоторые птички щебечут об этом, — скажут: у вас такая причуда, что вы требуете
от других, чтобы они, сравнивая себя с вами, презирали себя.
Автор, Это просто продиктованный завистью оборот, который
ничем не поможет их делу. Мы не требуем от них, чтобы они
пренебрежительно думали о своих талантах вообще и о тех знаниях, на действительное
обладание которыми они до сих пор заявляли притязания; мы, наоборот,
оказываем их талантам уважение, приглашая их выслушать объяснения и
обсудить нашу науку. Что это именно мы, а не они, сделали изобретение,
мы приписываем счастливому случаю и моменту и при этом не
присваиваем себе, нашей личности никаких особых заслуг. Что зато им теперь
приходится принимать во внимание то, что владеем этим изобретением мы, а не
они, чего они никогда и раньше не утверждали, что им придется выслушать
наше сообщение об этом изобретении, — столь же мало является
адресованным к ним требованием презирать себя, сколь мало мы презираем себя,
когда читаем их книги, предполагая, что у них все же были какие-то
мысли, которых у нас не было.
Каждый, кто идет в учебу, чтобы учиться какой-либо науке,
предполагает, что учитель знает об этом больше, чем он; иначе он не шел бы
учиться; то же самое предполагает и учитель, в противном случае он не
принял бы этого предложения. Но первый, конечно, не презирает себя из-
за этого, ибо он надеется понять эту науку столь же хорошо, как и его
учитель, и именно это и является его целью.
Читатель. Они, далее, не могут знать заранее, есть ли что-нибудь
575
И. Г. Фихте
стоящее в вашем предприятии и оправдает ли оно усилия трудного и
беспрерывного изучения, которого вы от них требуете. Их уже так часто
обманывали обещаниями великой мудрости.
Автор, Этого они, во всяком случае, не могут узнать до того, как
сделают попытку; ибо требование, чтобы они нашим уверениям поверили,
было бы, конечно, смешным. Но ни мы, ни они при изучении какой-либо
науки не знали наперед пользы и важности ее, и все же нам приходилось
изучать ее, хотя бы с опасностью потерять время даром. Или, быть может,
это бывало с ними лишь до тех пор, пока они находились под ферулой
своих учителей, а с тех пор, как они стали своими собственными
господами, они уже этого больше не делали.
Им пришлось бы пойти на этот риск так же, как они рисковали в
других случаях. Или же, если они на всю свою жизнь испугались всякого
риска, то для них остается самый верный выход — замолчать и заняться
какой-либо профессией, относительно которой можно надеяться, что на нее
не так скоро будут простираться притязания наукоученых.
Читатель. Если бы у них, по крайней мере, была хоть
перспектива, что вы и ваше наукоучение войдет, может быть, в моду. Но вы сами,
несмотря на все предостережения тех, кто, надо полагать, желал вам блага, из
упрямства закрыли себе путь к этому. Вы слишком мало внушили вашим
товарищам по профессии доверия и любви к вашей личности, слишком
мало для того, чтобы они склонны были сделать вас модными. Вы
недостаточно стары. Вы относились пренебрежительно к старым, почтенным
цеховым обычаям; не предоставили сначала отрекомендовать себя в
предисловии одного из ваших учителей в качестве прилежного ученика, не искали
затем связей, не пытались честным и порядочным образом получить
похвалы и одобрения посредством посвящений, просьб о совете и
наставлений, цитируя и хваля других, не примкнули к обществу рецензентов, чтобы
таким образом пойти в гору постепенно и незаметно. Нет, вы сразу
выскочили как из-под земли со всеми вашими притязаниями столь же надменно,
как вы и сейчас держитесь. Вы почти никого не цитировали и не хвалили,
кроме как друг друга. Но как вы порицали и как вели свои войны? Вопреки
всякому действующему в литературе международному праву и обычаям,
вы никогда не предлагали соглашения и примирения, немедленно
опровергали все у ваших противников, не признавали их правоты ни в чем, где
ее у них не было, не упомянули ни звуком об их остроумии в остальных
вещах, вели войну на уничтожение. Вы способны отрицать самую известную
истину, имеющую хождение с сотворения мира, превратить ее в пыль под
руками вашего бедного противника, и ни один честный человек не знает
больше, исходя из какой предпосылки он может дискутировать с вами. Вот
почему многие задумали и громко уверяют, что они ничему не желают
576
Ясное, как солнце...
учиться у вас, так как вы недостойны, чтобы у вас учились чему-нибудь, а
иные даже сомневаются, достойно ли упоминать хотя бы ваше имя1*.
А в m ор. Ну что же, нам приходится согласиться на то, чтобы эти не
научились ничему.
Обладает ли каждый человек тем основным созерцанием, которое
мы описали выше?
Читатель. Согласно твоему утверждению, необходимым
образом, поскольку он, хотя бы раз в своей жизни, не просто повторил хоть
одно-единственное общезначимое предложение как таковое, но высказал
его на основании собственного убеждения или же попросту потребовал от
кого-либо другого, чтобы тот нашел вещь именно такой, какой он находит
ее, ибо мы видели, что необходимость и всеобщность эта исходят
исключительно из этого созерцания и основаны на нем.
Автор .Ht возвышается ли, надо думать, каждый также до
отчетливого сознания этого же созерцания?
Читатель. Это, по меньшей мере, не вытекает, так же как и само
созерцание, непосредственно из факта абсолютного утверждения; ибо это
утверждение высказывается как безусловно основанное на самом себе, без
всякого дальнейшего вопроса о более глубоком основании и без сознания
такового. Для того, чтобы возвыситься до этого сознания, по-видимому,
необходимо обратить внимание сперва на само это абсолютное
утверждение и отдать себе отчет в нем. И это, по-видимому, обосновано природой
разумного существа далеко не с такой всеобщностью и необходимостью,
- как само абсолютное утверждение, без которого почти прекратились бы
всякое общение между людьми и взаимопонимание.
Но могли бы каждый развить соображения, которые мы, например,
развили на прошлом уроке, и возвыситься таким образом до сознания
этого созерцания?
Автор. Без сомнения, это мог бы каждый: подобно тому как
каждый мог бы посредством свободы возвыситься до чистой моральности
или же посредством другого созерцания, очень близкого к философско-
научному, возвыситься до поэзии.
Относительно этого наше мнение таково: здесь его достаточно
изложить тебе, беря лишь в чисто историческом аспекте. Ни у одного человека
нельзя совершенно отрицать эту способность возвыситься до сознания
научного созерцания, точно так же как и способность морально
возродиться или стать поэтом. Но именно потому, что эти способности являются
чем-то абсолютно первым, что не может быть выведено ни из какой непре-
'* Рецензент эрлангенской "Литературной газеты", до вступления второго
редактора, сомневается, достойно ли упоминать мое имя.
19-645
577
И.Г. Фихте
рывной последовательности, столь же мало можно объяснить и то, почему
они в одном месте бывают, а в другом отсутствуют. Но опыт, как раз-то и не
поддающийся выведению из оснований, все же учит нас тому, что
некоторые люди не могут возвыситься до него, что бы с ними ни проделывали,
сколько бы ими ни руководили. В юности, когда человек еще пластичен,
он легче всего возвышается до науки, как и до поэзии. Если же эта юность
прошла и он половину своей жизни погубил, напрягая свою память,
накопляя много знаний и сочиняя рецензии, то, без большого риска быть
опровергнутым последующими результатами, можно отрицать у него
способность как к науке, так и к поэзии; хотя доказать ему эту его
неспособность нельзя.
Никто не должен обижаться, если у него отрицают этот дар
созерцания, подобно тому как никто не обижается, когда у него отрицают
поэтический талант; относительно последнего уже давно утешаются тем
изречением, что поэты рождаются, а не делаются: почему же не желают поскорее
распространить это утешительное изречение также и на философию?
Здравомыслящие люди столь же мало будут отрицать это изречение в
отношении философии, как они и до сих пор не отрицали его в отношении
поэзии. К сожалению, привыкли считать философию просто делом обычного
суждения и считают поэтому, что когда им отказывают в философском
таланте, то тем самым отказывают и в способности обычного суждения. Это,
конечно, было бы оскорбительно, но в устах наукоучения это положение
имеет совершенно иной смысл.
Однако недостаточно обладать этой способностью в общем и целом;
необходимо быть способным удерживать это созерцание, вызывать его во
всякое мгновение, когда в нем нуждаются, произвольно переноситься в тот
совершенно своеобразный мир, который оно нам открывает, и оставаться
в этом мире, отдавая себе полный отчет в том, где находишься. Нет ничего
необычного, особенно у молодых людей, в том, что их сразу озаряет свет и,
подобно молнии, освещает давнюю тьму, но едва успеешь оглянуться, как
глаза опять закрываются, наступает прежняя ночь, и необходимо опять
выжидать мгновения нового просветления. Такое состояние непригодно для
беспрерывного и систематического изучения. Созерцание должно стать
совершенно свободным и находиться всецело в нашем собственном
распоряжении. Но эта свобода достигается лишь благодаря беспрерывному
упражнению.
Далее, уже для систематического мышления как такового
необходима свобода духа, чтобы он абсолютно произвольно давал направление
своему мышлению, останавливал его на этом предмете и удерживал его на
нем до тех пор, пока тот не будет обработан в достаточной для наших
намерений степени, отвлекал его от всего прочего и сопротивлялся его напору
578
Ясное, как солнце...
на себя. Эта свобода не прирождена человеку, но должна быть при помощи
прилежания и упражнений вырвана у природы, склонной к тому, чтоб
развиваться вольно. В особенности же трансцендентальное мышление
совершенно отличается от обыкновенного в том отношении, что последнее
удерживает и как бы несет на себе то, что лежит ниже его, что уже по своей
природе должно быть обособлено и определено; первое же в качестве
своего объекта не имеет абсолютно ничего, кроме самого себя, поэтому
поддерживается лишь самим собою и лишь посредством самого себя
обособляется, разделяется и определяется. Даже у геометра есть линии и фигуры
на доске, посредством которых он фиксирует свое созерцание; наукоучи-
тель же совершенно ничем не располагает, кроме самого себя и своей
свободной рефлексии. Эту рефлексию ему требуется пронести сквозь
длинную последовательность звеньев и при каждом новом звене иметь налицо
предшествующее совершенно определенным; и при этой прочности все же
вся последовательность должна в то же время витать и ни одно
определение не должно быть окончательно завершено, так как при каждом
следующем звене ему придется определять вновь все предшествующие. Очевидно,
что у него необходимо предположить не просто обыкновенную
способность к внимательности и самодеятельности духа, но в то же время
ставшую привычной способность расположить перед своим взором весь свой
дух и фиксировать его, разделять последний самым тонким или самым
грубым образом, соединять и опять разъединять соединенное сильной и
твердой рукой, будучи уверенным, что все у него всегда останется так, как он
его оставил. Очевидно, что это не просто более высокая ступень
умственного труда, но и совершенно новый вид его, подобного которому раньше
не было; что упражнение в этом труде может быть приобретено, понятно
лишь на единственном существующем предмете его и что даже достаточно
упражнявшимся на других предметах искусным мыслителям нужно время
и прилежание для того, чтобы утвердиться в этой науке, но что и им ни в
коем случае невозможно судить о ней после первого или второго чтения ее.
И вот грубые, невежественные люди, не получившие никакого
образования, а только загрузившие свою память, неспособные даже вести связное,
объективно-научное рассуждение, должны оказаться способными с места
в карьер судить о каждом выхваченном наудачу пункте, получив о нем
понятие едва ли не из газеты; как будто бы от них требовалось лишь сказать,
слышали ли они уже где-либо хоть раз что-либо подобное.
С другой стороны, нет ничего легче, как изучение этой науки, как
только кого-либо озарит хотя бы первый проблеск ее. Она не предполагает
никаких предварительных знаний какого-либо рода, а только
обыкновенное упражнение ума. Она не расслабляет ум, а оживляет и укрепляет его. Ее
движение совершается без перерывов, а ее метод исключительно прост и
19«
579
И.Г. Фихте
легко понятен. Каждый отдельный понятый в ней пункт открывает глаза
для понимания всех остальных.
Таким образом, наукоучение не прирождено человеку, подобно его
пяти чувствам, но к нему можно дойти лишь посредством того, чтобы в
какой-нибудь период своей жизни основательно изучить его. В этом я хотел
тебя, мой читатель, убедить, для того чтобы в том случае, если ты не изучал
его и не имеешь охоты изучать его, чтобы, подобно тому как ты
остерегаешься всяких других смешных поступков, ты остерегался также и того,
чтобы подавать свой голос в делах этого рода, а также и для того, чтобы ты
знал, как относиться к тому, когда по этому поводу подают свой голос
другие, которые по меньшей мере столько же мало изучали наукоучение, как и
ты, хотя бы они в других отношениях были весьма образованными
личностями.
ПЯТЫЙ УРОК
ri. в тор. То, что выведено
посредством наукоучения, должно, согласно его намерениям, быть удачным и
полным отображением всего основного сознания. Может ли оно
содержать больше или меньше, чем бывает в действительном сознании, или что-
либо определенное иначе?
Читатель. Ни в коем случае, поскольку наукоучение выполняет
свое предназначение. Каждое отклонение его от действительного сознания
было бы самым верным доказательством неправильности его выведения.
Автор. Таким образом, согласно всему вышесказанному, во всем
сознании конечного разумного существа возможно только следующее.
Прежде всего, первые и основные определения его жизни как
таковые: обычное сознание, встречающееся в непосредственном опыте, или
как бы его ни называть. Оно является совершенно замкнутой и
завершенной системой, оно абсолютно тождественно у всех, за исключением
индивидуальных, определений. Это выше характеризованная первая степень.
Затем идет размышление о нем и представление его, свободное
разделение, соединение и обсуждение до бесконечности, каковое зависит от
свободы и различается, согласно различному употреблению ее. Это
вышеназванные высшие степени, как бы средняя область нашего духа. При этом
не надо упускать из виду, что на этих высших степенях не может иметь
место ничего такого, что, по крайней мере, в виде своих элементов не
находилось бы в первой степени. Свобода духа может до бесконечности разделять
и соединять данное в основном сознании, но она не может творить. И
наконец, полное выведение системы первой степени, не принимая
совершенно во внимание действительного опыта, из одного лишь необходимого
образа действий интеллекта вообще, как будто бы основное сознание было
результатом этого образа действий, — это наукоучение, как абсолютно
высшая степень, над которой не может возвышаться никакое сознание. И в
нем также не может иметь место ничего, что не находилось бы в
действительном сознании или в опыте в высшем смысле этого слова.
Таким образом, согласно нашим основным положениям, в сознании
какого-либо разумного существа, ни в каком решительно отношении не
581
И. Г. Фихте
может иметь место и не может найти туда доступ ничего, что в виде своих
элементов не находилось бы в опыте, и притом в опыте всех без всякого
исключения. Все получили одинаковое снаряжение и ту же свободу развивать
дальше это общее снаряжение и работать над ним; но никто не может
создать для себя что-либо. Наша философия, таким образом, есть на самом
деле та философия, которая благожелательно настроена к обычному
человеческому рассудку и обеспечивает права его, как мы выше и обещали, а
всякая другая, которая в этом отношении противоположна ей, является
противницей обычного рассудка.
Наукоучение должно дать удачное отображение основного
сознания, сказали мы выше. Может ли теперь это отображение быть самим
предметом, и выдает ли оно себя за предмет?
Читатель. Насколько я от тебя слышал и сам весьма хорошо
понял, — ни в коем случае. Установленным в нем посредством него
определениям жизни безусловно не хватает того проникающего и захватывающего
действия, благодаря которому они отрывают от нас нашу самость и
погружают ее в себя. Мы направляем здесь нашу самость исключительно на
конструирование этого определения, но ни в коем случае не на само
определение как на определение; подобно тому как я сосредоточивал свою самость
на процессе представления вчерашнего присутствия моего друга и забывал
себя в нем, но ни в коем случае не направлял своей самости на само это
присутствие.
А в m ор. Да, это так. Наукоучение выдает себя лишь за отображение
жизни, но ни в коем случае не за самое жизнь. Кто принимает его за
последнюю, тот совершенно не понимает его.
Ни одна из его мыслей, положений и изречений не являются
таковыми в действительной жизни и не подходят к действительной жизни. Это,
собственно говоря, только мысли о мыслях, которые имеешь или должен
иметь, положение о положениях, которые должно освоить, изречение об
изречениях, которые должно изречь для себя. Что с таким трудом
отучаются считать его чем-то большим, происходит от того, что предшествующие
философии выставляли притязания быть чем-то большим, и нелегко
заставить себя не рассматривать новую как одну из тех философий. Те хотели
изображать собой не просто науку, но одновременно и самое мудрость,
мировую мудрость, жизненную мудрость, и как они себя там еще переводили;
и не были поэтому ни тем, ни другим. Наша философия довольствуется
тем, чтобы быть научной, и с самого начала торжественно отказалась от
всех других притязаний уже тем, что приняла такое имя. Она не в
состоянии при помощи демонстрации сделать человека мудрым, добрым,
религиозным, точно так же, как этого не могла сделать ни одна из
предшествующих философий; но она знает, что она не в состоянии сделать это, и
582
Ясное, как солнце...
не желает того, о чем она знает, что она сделать не в состоянии. Тех, кто
может себя посвятить ей, она хочет сделать лишь людьми науки. То, что она
говорит о мудрости, добродетели, религии, для того чтобы перейти в
действительную мудрость, добродетель и религиозность, сперва должно быть
действительно пережито.
Читатель. Поэтому она, надо полагать, ни в коем случае не
превращает своего изучения и понимания ее в условие мудрости и хорошего
образа жизни.
Автор .В столь малой степени, что она, наоборот, является
открытой противницей тех, кто всякое образование и воспитание человека
сводят к просвещению его рассудка, считают, что они приобрели все, если
превратили своего воспитанника в человека, умеющего бегло рассуждать.
Она знает очень хорошо, что жизнь создается лишь посредством самой
жизни, и никогда не забывает этого.
Читатель. И она также, надо полагать, не требует этого изучения
от каждого?
Автор.Ъ столь малой степени, что она, наоборот, очень жалеет, что
полуистинные философские положения, взятые в большом количестве из
других систем, имеют уже теперь хождение среди широких народных масс.
Ко она требует, — ибо ничто не мешает уже теперь открыто заявить все ее
притязания, несмотря на то, что, может быть, понадобится еще столетие,
пока они будут выполнены, — она требует, чтобы ею обладал каждый, кто
занимается какой-нибудь наукой, кто имеет дело с воспитанием
человечества в целом и чьим занятием является управление народом или народное
образование.
Читатель. Но, несмотря на это согласие вашего учения с
обычным человеческим рассудком, в чем вы нас уверяете, вы все же не можете
отрицать того, что вы говорите: все, что существует для нас, производится
нами самими. Но это, без сомнения, утверждение, которое самым резким
образом противоречит обычному сознанию. Мы не сознаем, чтобы мы
произвели существующее в бытии, но что оно именно существует в бытии,
попросту существует в бытии: мы находим его, и находим как данное.
Автор .Я даже не понимаю толком, какое именно утверждение ты
нам приписываешь; поэтому я не знаю, должен ли я его признать в
качестве нашего или отвергнуть его. Но попробуем рассмотреть его.
Что в наукоучении каждый, кто порождает его в себе, сам
воспроизводит образ действительного сознания и, таким образом,
последовательность образов всего того, что находится в сознании как существующее в
бытии и присматривается к тому, как он их воспроизводит, — это видно из
описания нашей науки, и каждый, кто ее изучает и понимает, найдет это в
себе самом в качестве непосредственного факта. Что эта последователь-
583
И. Г. Фихте
ность порождается также и в обычном сознании — это противоречит не
только самому этому непосредственному сознанию, но даже и
собственному утверждению наукоучения и разрушило бы всю его систему. Согласно
этому учению, сознание есть законченная система, и ни одна часть его не
может существовать без всех остальных частей, как и все остальные части
не могут существовать без каждой отдельной части. Таким образом,
согласно этому учению, в обычном сознании ни в коем случае не может быть
постепенно и по порядку порождено сперва единичное Л, затем В и т.д.,
между тем как ни одно невозможно без другого; но если нужно говорить о
порождении, то целое вместе со всеми своими отдельными частями
должно быть порождено просто в один прием.
Но почему мы вздумали говорить также и здесь о порождении?
Действительное сознание существует; оно целиком и вполне завершено, как
только мы сами завершены и обладаем самосознанием, которым науко-
учение кончает как своим последним звеном. Бесспорно, согласно общему
мнению, наш существующий мир завершен, поскольку мы существуем.
Все, что может делать наша действительная жизнь, — это вникать в этот
мир, часть за частью, в том виде, в каком они имеются благодаря
необъяснимому случаю; пробегать его, анализировать и обсуждать. Утверждать,
что в действительной жизни происходит порождение ее, не имеет
совершенно никакого смысла. Жизнь не порождают, а обнаруживают. Как раз
против мнимого порождения в других философиях наша философия и
возражает.
И вот, согласно нашей философии, это абсолютно имеющееся
налицо можно в действительной жизни трактовать и обсуждать, как будто бы
оно возникло благодаря первоначальной конструкции, подобной той,
какую производит наукоучение: действительная жизнь может быть
дополнена, и к ней может быть добавлено, согласно законам подобной
конструкции, и можно быть уверенным, что действительное наблюдение
подтвердит подобного рода дополнение. Не требуется пережить непременно все,
все промежуточные члены; подобно тому как, если опираться на научную
геометрию, не требуется действительно измерять все линии, а можно
некоторые из них найти путем простого расчета.
Было бы грубым недоразумением считать это "как будто бы" за
категорическое "что", эту фикцию за рассказ о некогда, в определенное время
действительно наступившем событии. Думают ли они, что, конструируя
основное сознание в наукоучении, мы желаем им доставить историю
действий сознания до того, как было само сознание, биографию человека до
его рождения? Как бы мы могли сделать это, когда мы сами заявляем, что
сознание существует лишь вместе со всеми своими определениями; и как
бы мы могли желать получить сознание до всякого сознания и без всякого
584
Ясное, как солнце...
сознания? Это — недоразумения, против которых не принимают никаких
мер, потому что они никому не приходят в голову, пока они не происходят
действительно.
Так, все космогонии являются попытками первоначальной
конструкции вселенной из ее основных элементов. Разве творец подобной
космогонии желает сказать, что все когда-то происходило действительно
так, как он излагает в своей космогонии? Конечно нет, поскольку он
понимает самого себя и знает, о чем он говорит, ибо, без сомнения, для него
вселенная все же — органическое целое, в котором не может существовать ни
одна часть, если не существуют все остальные; она, таким образом,
совершенно не могла возникнуть постепенно, но в любое время, когда она
существовала, она должна была существовать вся целиком. Конечно,
ненаучный рассудок, который должно удерживать в границах данного и к
которому не следует обращаться с исследованиями этого рода, полагает, что он
слышит рассказ, потому что он ничего не может себе представить, кроме
рассказов. Нельзя ли из делаемого теперь столь многими предположения,
что мы нашим учением [о происхождении знания] предполагаем дать
рассказ, заключить, что они сами ничего не имели бы против того, чтобы
принять это за рассказ, если бы только это было подкреплено печатью
авторитета и древности?
Читатель. Но я все же и теперь постоянно слышу лишь о
существующих в бытии определениях сознания, о существующей в бытии
системе сознания и т.д. Но именно этим недовольны другие; согласно их
требованиям, должна существовать система вещей, а из вещей должно быть
выводимо сознание.
Автор. Теперь ты говоришь вслед за философами по профессии, от
которых я полагал, ты избавился уже раньше, а не с точки зрения здравого
человеческого рассудка и действительного сознания, с помощью которой я
только что объяснился.
Скажи мне и подумай хорошенько перед ответом: выступает ли в
тебе или перед тобой какая-либо вещь иначе, как вместе с сознанием этой
вещи или через сознание ее? Может ли, таким образом, когда-либо в тебе и
для тебя вещь отличаться от твоего сознания вещи и сознание, если только
оно описанной первой степени и совершенно определенное, отличаться
когда-либо от вещи? Можешь ли ты представить вещь без того, чтобы
сознавать ее, или совершенно определенное сознание без его вещи?
Возникает ли для тебя реальность иначе, как именно посредством погружения
твоего сознания в его низшую ступень; и не прекращается ли вовсе твое
мышление, если ты пожелаешь мыслить это иначе?
Читатель. Если я хорошо вдумался в дело, то я должен с тобой
согласиться.
20-645
585
И. Г. Фихте
Автор. Теперь ты говоришь от самого себя, из твоей души, от твоей
души. Не стремись же к тому, чтобы выскочить из самого себя, чтобы
охватить больше того, что ты можешь охватить, именно сознание и вещь, вещь
и сознание, или точнее: ни то, ни другое в отдельности, а то, что лишь
впоследствии разлагается на то и на другое, то, что является безусловно
субъективно-объективным и объективно-субъективным.
И обычный человеческий рассудок также не находит, чтобы дело
обстояло иначе: у него всегда сознание и вещь находятся вместе, и он всегда
говорит об обоих совместно. Только философская система дуализма
находит, что дело обстоит иначе, так как она разделяет абсолютно неразрывное
и полагает, что мыслит очень отчетливо и основательно, когда у нее
иссякает всякое мышление.
Это только что проведенное вместе с тобой обдумывание и это
направление мыслей каждого на самого себя кажется нам теперь таким
легким и естественным, что для этого не требуется никакого изучения, что оно
может иметь место у каждого само собой и что его можно без дальнейших
разговоров ожидать от каждого. Каждый, в ком только проснулось
сознание и кто вышел из промежуточного положения между растением и
человеком, находит, что дело обстоит именно таким образом, а кого вообще
никак нельзя довести до того, чтобы он нашел, что дело обстоит именно
таким образом, — тому никак уже помочь невозможно. Правда, иногда
считали это направление мыслей на самого себя самим наукоучением. Тогда
не было бы ничего проще и ничего легче, чем эта наука. Но она есть нечто
большее: и это Направление мыслей есть не она сама, а только первое и
простейшее, но зато непременное условие ее понимания..
Что же думать о головах тех, кто и здесь еще ищет выхода на путях
критического и трансцендентального скептицизма, то есть думает, что
можно еще сомневаться, действительно ли необходимо знание того, о чем
говорят, и кто в этом сомнении полагает истинное философское
просвещение.
Прошу тебя, мой читатель, встряхни этих грезящих и скажи им:
знали ли вы когда-либо что-нибудь без того, чтобы вы обладали сознанием, и,
следовательно, могли ли вы когда-либо со всем вашим знанием, — и так
как это знание, поскольку вы не превратились в пни и чурбаны,
неразрывно связано с вашим существом, — могли ли вы когда-нибудь со всем
вашим существом выйти за пределы определения сознания? Если вы
однажды уже поняли это, то укрепитесь в этом убеждении и заметьте это себе
раз и навсегда и отныне ничем не допускайте отклонить себя от него или
вовлечь вас в то, чтобы хоть на мгновение забыть его.
Правда, нам очень хорошо известно, что, когда вы опять-таки судите
об этих определениях сознания, то есть порождаете сознание второй степе-
586
Ясное, как солнце...
ни, оно кажется вам в этой связи сознанием по преимуществу, чистым
сознанием, отделенным от вещи; и теперь по отношению к этому чистому
сознанию то первое определение кажется вам чистой вещью, — подобно тому
как мера вашей линии также должна быть еще чем-то другим, чем самой
линией. Но после того как вы уже знаете, что для вас ничего не может
существовать, кроме определения сознания, вы не допустите себя обмануть
этой видимостью; вы также, таким образом, очень хорошо поймете теперь,
что и эта вещь есть не что иное, как подобное определение, которое только
по отношению к высшему сознанию называется вещью; подобно тому как
вы каждое мгновение можете убедиться, что ваша мера линии в любом
случае есть не что иное, как сама линия, только мысленно взятая в другом
отношении и более ясно продуманная.
Нам столь же хорошо известно, что, когда вам необходимо мыслить
постоянную систему основных определений сознания, как это вам
необходимо уже для того, чтобы получить хотя бы понятие о наукоучении, — для
вас невозможно фиксировать живое, находящееся в постоянном движении
и становлении, каким вам является ваше сознание, и удержать его перед
собой как прочное и устойчивое, чего от вас также никто и не требует; но
что, следовательно, эта система для вас, для вашего сознания, выступает в
виде системы мира; ведь и весь ваш мир, представленный даже с точки
зрения обычного сознания, есть не что иное, как именно эта, молчаливо
подразумеваемая, система основных определений сознания вообще. Но из
предшествующего размышления о себе вы должны знать и помнить о том,
что все же,-поскольку вы эту систему мыслите, о ней знаете и говорите, — а
не мыслите ее, не знаете о ней и не говорите о ней, — она, в сущности,
может быть лишь системой определений вашего сознания.
ШЕСТОЙ УРОК
71 вижу это по тебе, мой читатель,
что ты стоишь пораженный. Ты, по-видимому, думаешь: неужели ничего
более, кроме этого? Мне подносят простое отображение действительной
жизни, которое меня ни от чего в жизни не избавляет; изображение в
уменьшенном виде и бледными красками того, чем я и так располагаю в
натуре, каждый день без всякого усилия и труда. И для этой цели я должен
принудить себя к утомительным занятиям и длительным упражнениям.
Ваше искусство кажется мне не намного более важным, чем искусство того
известного человека, который пропускал просяные зерна сквозь игольное
ушко, что, конечно, также стоило ему немало усилий. Я не нуждаюсь в
вашей науке и желаю держаться жизни.
Следуй без предубеждения этому намерению и держись жизни
только как следует. Оставайся твердым и непоколебимым в этом решении и не
дозволяй никакой философии вводить себя в заблуждение или внушать
тебе сомнения насчет этого твоего решения. Уже благодаря одному тому я бы
в основном достиг моей цели. _
Но для того, чтобы ты не подвергся опасности унижать,
дискредитировать, опираясь на наши собственные высказывания, и притеснять,
поскольку это в твоей власти, науку, которой мы не советуем тебе заниматься
и над которой ничто в сфере твоей деятельности не заставляет тебя ломать
голову, послушай, какое значение может иметь изучение ее и какую пользу
оно может принести.
Уже издавна рекомендовали математику, в особенности геометрию,
то есть ту часть ее, которая наиболее непосредственным образом действует
возбуждающе на созерцание как средство упражнения ума, и ее часто
изучали исключительно с этим намерением, не желая никак использовать ее
материальное содержание. И она вполне заслуживает этой рекомендации;
несмотря на то, что бдагодаря ее высокому формальному развитию,
благодаря ее освященному древностью авторитету и ее особенной точке зрения,
находящейся посредине между созерцанием и восприятием, стало
возможно изучать ее в историческом аспекте вместо того, чтобы изобретать ее
самому, следуя за ее творцами, как это нужно было бы делать; и принимать
588
Ясное, как солнце...
ее на веру вместо того, чтобы убеждаться в ее очевидности, так что научное
образование, которое одно лишь имелось в виду, не достигалось этим, а
заключать от великого, то есть много знающего, математика к
научно-мыслящему складу ума стало теперь делом совершенно ненадежным. А именно
здесь, как для употребления в жизни, так и для дальнейшего продвижения
в науке, не имеет значения, действительно ли вникли в предшествующие
положения или же их приняли лишь на веру. Уже из одного этого
соображения можно в гораздо большей степени рекомендовать наукоучение. Без
того чтобы действительно возвыситься до созерцания, а вместе с тем, и до
научности, совершенно нельзя усвоить его, по крайней мере в том виде,
как оно излагается сейчас; и пройдут, пожалуй, столетия, прежде чем оно
примет такую форму, что его можно будет учить наизусть. Но чтобы можно
было применять его и добывать посредством него другие познания, не
овладевши им самим научно, до этого, пожалуй, если только мы не
ошибаемся, дело не дойдет никогда. Сверх того, уже по указанному выше
основанию, потому что оно не обладает никакими вспомогательными
средствами, потому что у него нет никакого иного носителя своего созерцания,
кроме самого созерцания, уже поэтому оно поднимает человеческий ум
выше, чем это в состоянии делать какая бы то ни было геометрия. Оно
делает ум не только внимательным, искусным и устойчивым, но в то же
самое время абсолютно самостоятельным, принуждая его быть наедине с
самим собой, обитать в самом себе и управлять самим собой. Всякое иное
занятие ума бесконечно легко по сравнению с ним; и тому, кто упражнялся в
нем, уже ничто более не кажется трудным. К этому следует еще прибавить
и то, что, проследив все объекты человеческого знания до их сердцевины,
оно приучает глаз во всем, что ему встречается, с первого же взгляда
находить существенный пункт и следить за ним, не упуская его из виду; поэтому
для опытного наукоучителя уже больше не может быть ничего темного,
запутанного и смутного, если только он знает предмет, о котором идет речь.
Ему всегда легче всего создавать все сначала и сызнова, поскольку он
носит в себе чертежи, пригодные для любого научного здания; он поэтому
очень легко ориентируется во всяком запутанном строении. К этому надо
добавить уверенность и доверие к себе, которые он приобрел в наукоуче-
нии как в науке, руководящей всяким рассуждением, непоколебимость,
которую он противопоставляет всякому отклонению от обычного пути и
всякому парадоксу. Все человеческие дела шли бы совершенно иначе, если
бы только люди смогли решиться доверять своим глазам. Теперь же они
осведомляются у своих соседей и у предков о том, что же они сами,
собственно говоря, видят, и благодаря этому их недоверию к самим себе
увековечиваются заблуждения. Обладатель наукоучения навсегда обеспечен
от этого недоверия к самому себе. Одним словом, благодаря наукоучению
589
И. Г. Фихте
ум человека приходит в себя и к самому себе и покоится отныне в самом
себе, отказывается от всякой чужой помощи и овладевает полностью самим
собой, подобно тому как танцор владеет своими ногами или борец своими
руками.
Если только первые друзья этой науки, которой до сих пор
занимались еще столь немногие, не ошибаются совершенно, то эта
самостоятельность ума ведет также и к самостоятельности характера,
предрасположение которого является, в свою очередь, необходимым условием
понимания наукоучения. Правда, эта наука так же, как и всякая иная наука,
никого не может сделать праведным и добродетельным человеком; но она, если
мы не очень ошибаемся, устраняет самое сильное препятствие к
праведности. Кто в своем мышлении совершенно оторвался от всякого чуждого
влияния и в этом отношении вновь создал самого себя из самого себя, тот,
без сомнения, не будет извлекать максимы знания. Он конечно же не будет
больше допускать, чтобы его ощущения относительно счастья и несчастья,
чести и позора создавались под невидимым влиянием мирового целого, и
не допустит увлечь себя тайным течением его; но он будет двигаться сам и
на собственной почве искать и порождать основные импульсы этого
движения.
Таково было бы влияние этого изучения, если обращать внимание на
одну только научную форму его, если бы даже его содержание не
обозначало ничего и не приносило никакой пользы.
Но обратим внимание на это содержание. Эта система исчерпывает
все возможное знание конечного ума, исходя из его основных элементов, и
навеки устанавливает эти основные элементы. Эти элементы могут быть до
бесконечности разделяемы и по-иному составляемы, и в этом отношении
для жизни конечного существа имеется простор, но она абсолютно не
может прибавить к ним ни одного нового элемента. То, что в виде его
элементов не существует в этом отображении, то, несомненно, противоречит
разуму. Наше наукоучение доказывает это кристально-ясным образом
всякому, кто только стал смотреть на него открытыми глазами. Поэтому с того
момента, как наукоучение станет господствующим, то есть как им станут
обладать все руководящие простым народом, который им никогда
обладать не будет, — с этого момента станет уже просто невозможным всякий
выход за пределы разума, всякая мечтательность, всякое суеверие. Все это
будет выкорчевано. Всякий, кто примет участие в этом исследовании
общей меры конечного разума, сумеет в каждый момент указать тот пункт,
где неразумное выходит за пределы разума и противоречит ему. Он сумеет
на месте осветить это противоречие всякому, кто только обладает здравым
смыслом и у кого есть добрая воля быть разумным. Так обстоит дело с
суждением в обычной жизни. Но не иначе обстоит дело и в философии, где
590
Ясное, как солнце...
некоторые шатались около нас, изъявляли притязания, возбуждали
внимание и вызывали бесконечную путаницу. Вся эта путаница будет
уничтожена навсегда с того момента, как наукоучение станет господствующим. До
сих пор философия хотела существовать и быть чем-то, но она сама толком
не знала чем, и это было даже одним из главных пунктов, относительно
которых она вела споры. Благодаря исследованию мерой всей области
конечного мышления и знания выясняется, какая часть этой области отходит к
ней после того, как все остальное или вообще не существует, или уже
занято другими науками. Подобно этому не будет иметь места и дальнейший
спор по поводу особенных пунктов и положений, после того как все
мыслимое будет доказано в научной последовательности созерцания и будет
определено в нем. Да и вообще невозможны будут больше никакие
ошибки, ибо созерцание никогда не ошибается. Наука, которая должна помочь
всем другим проснуться от сна, с этого момента сама не будет больше
находиться в состоянии сна.
Наукоучение исчерпывает все человеческое знание в его основных
чертах, сказал я; оно подразделяет знание и различает эти основные черты.
В нем поэтому находится объект всякой возможной науки; тот способ,
которым необходимо трактовать этот объект, вытекает в нем из связи объекта
со всей системой человеческого ума и из законов, которые действуют в
этой области. Наукоучение говорит работнику науки, что он может знать и
чего не может, о чем он может и должен спрашивать, указывает ему
последовательность исследований, которые ему следует произвести, и учит его,
как производить эти исследования и как вести свои доказательства. Таким
образом, благодаря наукоучению устраняется точно так же и это слепое
нащупывание и блуждание наук. Каждое исследование, которое
производится, решает вопрос раз и навсегда, ибо можно знать с уверенностью,
правильно ли оно предпринято. Наукоучение обеспечивает благодаря всему
этому культуру, вырвав ее из-под власти слепого случая и установив над
ней власть рассудительности и правила.
Таковы успехи наукоучения, что касается наук, которые ведь
должны вмешиваться в жизнь и повсюду, где ими занимаются правильно,
необходимым образом вмешиваются в нее, — косвенно, таким образом, также и
что касается самой жизни.
Но на жизнь наукоучение воздействует также и непосредственно.
Хотя оно само по себе не является правильным практическим способом
мышления, философией жизни, поскольку ему не хватает для этого
жизненности и напористости опыта, она все же дает полную картину опыта.
Кто действительно обладает наукоучением, но в жизни, впрочем, не
обнаруживает того способа мышления, который установлен в ней в качестве
единственно разумного, и не действует согласно ему, тот, по крайней мере,
591
И. Г. Фихте
не находится в заблуждении относительно самого себя, если только он
сравнивает свое действительное мышление со своим философским. Он
знает, что он глупец, и не может избавить себя самого от этого названия.
Далее, он в любую минуту может найти истинный принцип своей
извращенности, точно так же как и истинные средства своего исправления. При
малейшем серьезном размышлении о самом себе он может узнать, от каких
привычек он должен отказаться, и наоборот, какие ему нужно производить
упражнения. Если из чистого философа он не станет одновременно и
мудрецом, то вина за это лежит исключительно на его воле и на его лености:
ибо улучшить волю и дать человеку новые силы, этого не может сделать
никакая философия.
Так относится наукоучение к тем, кто может сам овладеть им. На тех
же, кто к этому неспособен, оно воздействует через посредство тех, кто ими
руководит, то есть через правителей и народных учителей.
Как только наукоучение будет понятно и принято, государственное
управление, подобно другим искусствам и наукам, перестанет бродить
ощупью и делать опыты, но подчинится прочным правилам и
основоположениям: ибо эта наука дает подобного рода основоположения. Правда, оно
не может внедрить в правителей государств добрую волю или внушить им
мужество производить то, что они признают правильным; но они, если
человеческие отношения не изменятся к лучшему, с этого момента не
смогут, по крайней мере, больше говорить, что не их вина в том, что
человеческие отношения не изменяются к лучшему. Каждый, кто сам владеет этой
наукой, сумеет сказать им, что они должны были бы делать; и если они все
же не сделают этого, то они открыто предстанут перед всем миром как
люди, которым не хватает доброй воли. Таким образом, начиная с этого
момента, человеческие отношения смогут быть доведены до того, что люди не
только получат легкую возможность стать любящими порядок и честными
гражданами, но и должны будут почти с необходимостью стать ими.
Лишь после того как эта задача будет разрешена, воспитатели и
народные учителя смогут надеяться работать с успехом. Внешнее, не
зависящее от них условие для достижения их цели будет им предоставлено.
Ловкость же, необходимая для достижения ее, зависит от них самих: ибо,
благодаря наукоучению, их дело также будет освобождено от суеверных
преданий и ремесленной рутины и подведено под твердые правила. Отныне они
определенно будут знать, от какого пункта им нужно исходить и как
продвигаться вперед.
Одним словом, благодаря принятию и всеобщему распространению
наукоучения среди тех, кому оно требуется, весь человеческий род
избавится от слепого случая и от власти судьбы. Все человечество получит свою
судьбу в свои собственные руки, оно станет подчиненным своей собствен-
592
Ясное, как солнце...
ной идее, оно с абсолютной свободой сделает отныне из себя самого все,
что только оно из себя пожелает сделать.
Все то, что я только что утверждал, может быть строго доказано и
вытекает просто из понятия наукоучения, как оно было установлено в этом
сочинении. Таким образом, можно было бы поставить под вопрос только,
то, может ли быть построено само это понятие; это будут решать те, и
только те, кто действительно построит это понятие; кто осуществит для себя
самого и изобретет, следуя за его творцом, то наукоучение, о котором
заявляют, что оно уже существует. Но данные обещания могут быть с успехом
выполнены только в том случае, если наукоучением овладеют все те, кто
возвышается над народом в качестве работников какой-либо науки или
народных воспитателей, и вопрос об этом будут решать последующие эпохи.
В настоящую же эпоху наукоучение желает только, чтобы его не отвергли,
не выслушав, и чтобы оно не впало опять в забвение; к большему оно и не
стремится; оно надеется завербовать только немногих, которые смогли бы
передать его лучшей эпохе. Если только оно достигнет этого, то этим будет
достигнута и цель как этого сочинения, так и прошлых и будущих
сочинений автора.
ПОСЛЕСЛОВИЕ,
ОБРАЩЕННОЕ К ФИЛОСОФАМ ПО ПРОФЕССИИ,
КОТОРЫЕ ДО СИХ ПОР БЫЛИ ПРОТИВНИКАМИ НАУКОУЧЕНИЯ
ч^/то сочинение, правда, написано
не для вас. Но оно все же попадет в ваши руки, и, хотя вы, следуя вашей
предшествующей практике, не поймете его и даже не прочтете его13, тем не
менее вы, разумеется, будете его рецензировать.
Если вам не очень к спеху, то прежде чем вы приступите к рецензии,
прочтите, по крайней мере, это послесловие, определенно
предназначенное для вас и которое окажется напрасно написанным, если вы его не
прочтете.
"Различие между спорными мнениями вовсе ведь не так велико:
пусть спорящие партии, каждая со своей стороны, уступят кое в чем и
примирятся между собой". Это одна из излюбленных поговорок нашей
гуманной эпохи, которая приводилась также и относительно моего спора с вами,
пока вы еще сохраняли некоторое самообладание. Если бы вы хотя бы
перелистали данное сочинение, как это и достаточно для рецензии, то вы все
же могли бы заметить в нем хоть то, что различие между мной и вами, во
всяком случае, очень велико и что, пожалуй, правильно то, что я часто
говорил, но чего вы никогда не хотели принять всерьез, а именно: что "между
вами и мной нет ни одного общего пункта, относительно которого мы
могли бы договориться и исходя из которого мы могли бы в чем-либо
согласиться. Вам могло бы стать ясным также и основание того, почему дело
обстоит так, тот пункт, который, собственно говоря, отделяет ваши умы от
моего.
Так как все же возможно, что вы этого не заметили и что для вас это
не стало ясно, то я хочу еще раз отметить для вас этот пункт, и именно в
историческом аспекте, как это только и возможно изложить для вас.
Я стараюсь охватить в ее первоисточнике науку — не одну только
внешнюю систематическую форму, но самую суть знания, ту, на чем только
и основывается то, что имеет место: знание, убеждение, непоколебимость
сознания. Вы же, напротив, как бы хорошо во всем прочем вы ни
рассуждали с точки зрения логической формы, какую бы славу я ни готов был бы
за это признать за каждым из вас в любом объеме, на какой кто-либо из вас
претендует, — вы все же не имеете ни малейшего представления об этой су-
594
Ясное, как солнце...
—т
ти знания. В^я глубина вашего существа не доходит до нее, а лишь до веры,
исходящей из\ рассмотрения его в историческом аспекте (bis zum
historischen Glaubend и ваше занятие состоит в том, чтобы, резонерствуя,
разлагать дальше предание этой веры14. Вы поэтому в своей жизни совершенно
не знали и не знкете, как чувствует себя тот, кто знает. Вы помните, как вы
смеялись, когда яри вас упоминали об интеллектуальном созерцании.
Если бы вы когда-либо знали что-нибудь и знали что-либо о знании, то вы
поистине не нашли бы это созерцание смешным.
Но мало того, что у вас нет об этом ни малейшего представления: в
темном предании до вас дошла тень того неведомого, на основании чего вы
считаете созерцание худшим выходом, самым колоссальным
заблуждением, в какое мог впасть человеческий ум. Это для вас фантастика,
буквоедство, схоластические измышления, жалкие софизмы; вы их пропускаете
там, где вы их находите, чтобы поскорее добраться до результатов (то есть
до положений, которые могут быть изучены в историческом аспекте и
удержаны в памяти) и, как говорят некоторые ваши представители, чтобы
держаться вещей, говорящих уму и сердцу. Высокое просвещение,
образование и гуманность современного философского столетия состоит именно
в том, что вы освободились от этого старомодного педантизма.
Но я уважаю как раз то и стремлюсь изо всех сил к тому, что вы
презираете и чего вы изо всех сил избегаете. У нас совершенно
противоположные мнения о том, что достойно быть целью, что пристойно и похвально; и
если эта противоположность уже раньше не нашла своего выражения, то
. причина этому исключительно вот в чем: вы добродушно полагали, что
схоластика эта является лишь временным заблуждением и что в конечном
счете я также стремлюсь к тому, к чему стремились и вы, а именно:
популярной, назидательной жизненной философии. Вы, правда, говорили о
знамениях времени, о том, что как будто стремятся вернуть обратно
старинное варварство, — которое я, правда, называю иначе, а именно:
старинной основательностью, — и что просвещение и изящная литература
немцев, — которые я называю поверхностностью и суетностью немцев, —
недавно лишь начавшие успешно развиваться, угрожают прийти в упадок,
вы это говорили, вероятно, для того чтобы предотвратить этот упадок.
Становится все очевиднее, как плохо обстоит дело в этом пункте с наукоучени-
ем, так как если бы все шло согласно ему, то это варварство, конечно,
вернулось бы обратно, а прекрасное просвещение было бы совершенно
уничтожено.
Таким образом, постигаемая вами суть доходит лишь до веры,
исходящей из рассмотрения в историческом аспекте, но не дальше. Прежде
всего, у вас есть ваша собственная жизнь, в наличность которой вы потому
именно и верите, что другие также верят в нее; ибо, если бы вы знали хотя
595
И. Г. Фихте
бы только то, что вы живете, то уже из-за одного этого дело обстояло бы с
вами совершенно иначе. И вот в потоке времени плывут разбитые обломки
существовавших когда-то наук. Вы слышали, что они имеют ценность, и
стремитесь выловить оттуда сколько вы в состоянии, и Доказываете это
любопытным. Вы тщательно обходитесь с этими обломкау и, чтобы не
разбить их, не раздавить или каким-либо иным образом не испортить их
формы, чтобы передать их в неповрежденном виде вашим наследникам и
наследникам ваших наследников, чтобы они, в свою очередь, могли
показывать их любознательному потомству. В лучшем случае вы иногда
тщательно чистите их.
Я очутился среди вас, и вы мне оказали честь считать меня своим
товарищем. Вы пытались оказывать мне товарищеские услуги, хотели
привлечь меня, остеречь меня, помочь мне советами. При этом у вас
получилось то, о чем следует ниже: и так всегда будет происходить с вами, если
только вы совершенно не откажетесь от этого занятия.
Сначала вы считали то, что я излагал, за историю, сперва за кусочки
из кантовского потока, и тогда вы хотели сравнить их с вашими
коллекциями; когда же из этого ничего не вышло, то, по крайней мере, за кусочки
из потока эмпирической жизни. Что бы я ни говорил, в чем бы ни уверял и
чего бы торжественно ни утверждал, как бы я ни пытался протестовать, вы
все же не могли отказаться превращать мои научные положения в
положения опыта, мои созерцания — в восприятия, мою философию — в
психологию. Эт.о еще недавно случилось в эрлангенской "Литературной газете" ç
одним из вас, в связи со второй книгой моего "Назначения человека"15,
которую ведь, как я полагаю, я написал поистине ясно. Сей. муж делаетзаме-
чание введенному туда в качестве собеседника духу спекуляции уже за саму
постановку вопроса о сознании слуха, зрения и т.д. и уже в этом вопросе
счастливо открывает заблуждение. Он, со своей стороны, знает
посредством слуха, зрения и т.д. без того, чтобы он знал что-либо о слухе, зрении и
т.д.; и этот человек в своем роде совершенно прав. Что с вами так должно
получаться, это я знаю очень хорошо и знаю также основание этому. Вы не
обладаете созерцанием и не можете его добиться: для вас остается поэтому
лишь восприятие, и если у вас нет и его, то у вас вообще не остается ничего.
Но я бы именно хотел, чтобы у вас не осталось ничего, как я это вам дальше
изложу подробнее.
Далее, вы всякий кусок считали за целый, существующий сам по
себе, как это обстоит с вашими коллекциями, полагали, что каждый может
быть унесен отдельно и сохранен в памяти, и вы пытались произвести эту
работу. Но отдельные части в том виде, как вы их охватывали, не
подходили друг к другу, и вы подняли крик: "Противоречие". Это произошло с
рами оттого, что у вас нет никакого понятия о синтетически-систематиче-
596
Ясное, как солнце...
ском изложении, вам известно только собрание изречений мудрецов. Для
вас каждое изложение является потоком летучего песка, где каждая
песчинка существует в закругленном виде сама по себе и понятна именно как
песчинка. Об изложении, которое подобно органическому и самого себя
организующемутелу, вы ничего не знаете. Вы вырываете из органического
тела кусочек, указываете на висящие лоскутья и кричите: "И вот это
должно считаться гладким и закругленным". Именно это и получилось у
упомянутого выше рецензента с упомянутой книгой. Знайте, — или скорее,
знайте не вы, а пусть знкет читатель-неспециалист, который, быть может,
прочтет и эту страницу, — что мое изложение, каким и должно быть всякое
научное изложение, исходит из самого неопределенного и определяет его
дальше на глазах у читателя; поэтому в дальнейшем объектам
приписываются, конечно, совершенно другие предикаты, чем те, которые им
приписывались вначале, и далее это изложение очень часто выставляет и
развивает положение, которое оно затем опровергает, и таким путем оно
посредством антитезиса движется вперед к синтезу. Окончательно определенный
и истинный результат, которым оно завершается, получается здесь лишь в
конце. Вы, правда, ищете лишь этого результата, а путь, посредством
которого его находят, для вас не существует. Для того, чтобы писать для вас так,
чтобы это было приемлемо, нужно было бы самым кратким образом
сказать, какого, собственно говоря, мнения придерживаются, для того чтобы
вы могли тогда быстренько выяснить, придерживаетесь ли и вы также
такого мнения. Если бы Эвклид был писателем в наши дни, то какие бы вы
вскрыли у-него противоречия, которыми он кишит: "В каждом
треугольнике есть три угла". Хорошо, это мы себе отметим. "Сумма углов в каждом
треугольнике равна двум прямым". "Какое противоречие! — воскликнули
бы вы. — С одной стороны — три угла вообще, сумма которых может быть
весьма различна; с другой стороны — три только таких угла, сумма которых
равняется двум прямым".
Вы исправляли мои выражения и учили меня говорить: ибо так как
вы являетесь моими судьями, то само собой понятно, что говорить вы
умеете лучше, чем я. Но вы при этом оставили без внимания то, что никому
нельзя, в сущности, советовать, как он должен говорить, прежде чем
узнают, что он хочет сказать. Вы выказывали заботу о моих читателях,
жаловались, что я пишу так непонятно, и часто уверяли, что публика, для которой
я предназначаю свои сочинения, не поймет их; вы будете уверять то же
самое и об этом сочинении, если будете следовать своей предшествующей
практике. Но вы полагали так только потому, что вы сами их не понимали
и предполагали, что у широкой публики гораздо меньше ума, чем у вас,
являющихся ведь учеными и философами. Но вы очень ошибались,
предполагая это: в течение многих лет я говорил о философии не только с начи-
597
И. Г. Фихте
1
нающими студентами, но и со всякого рода взрослыми лицами из
образованных сословий, и никогда в своей жизни я не слышал в разговоре такой
бессмыслицы, какую вы каждый день пишете для печати. /
Из этого радикального различия в направлении наших умов
возникают удивительные феномены, обнаруживающиеся в следующем: когда я
говорю что-нибудь, что кажется мне совершенно легким/естественным и
само собой разумеющимся, вы находите то же самое колоссальным
парадоксом, которого вы никак не можете разобрать; и, наоборот, то, что вы
находите необычайно плоским и общеизвестным, так что вы даже и во сне
не допускаете, чтобы кто-нибудь мог возражать против этого, мне часто
представляется столь запутанным, что мне пришлось бы говорить целые
дни, чтобы эту путаницу распутать. Эти ваши плоские положения дошли
до вас путем предания, и вы думаете, что вы понимаете и знаете их, потому
что вы так часто слышали их и сами высказывали их, не встречая
возражений.
Настоящее сочинение, конечно, полно для вас подобного рода
чудовищных парадоксов, которые вы разобьете одним из ваших плоских
положений. Для примера я приведу лишь один из этих парадоксов, первый,
пришедший мне в голову. 'То, что получается лишь благодаря простому
разъяснению слов, никогда не считается в наукоучении правильным, но,
безусловно, неправильным", — сказал я выше. Вы, если будете следовать
вашей предшествующей практике, будете приводить это положение в
качестве ясного доказательства того, до какой я дохожу бессмыслицы: "...ибо
каким же вообще образом можно достигнуть какого-либо понимания,
если не посредством правильного разъяснения употребляемых слов"; вы
будете, по вашему обыкновению, смеяться над этим, желать удачи тем
просветленным, у которых есть охота возвыситься посредством фихтевского
созерцания до этого смысла, превышающего слова, уверять относительно
себя, что вы не имеете к этому никакой охоты, — и что еще придумает ваше
остроумие. Но вы, если бы вам угодно было обратить на себя внимание,
нашли бы, хотя бы при чтении политической газеты, что даже ее вы не
понимаете, если вы схватываете только слова и анализируете их, что вам,
наоборот, и здесь приходится посредством вашей фантазии набрасывать себе
картину рассказанного события, позволить событию протекать перед
вами, конструировать его, для того чтобы действительно понять его, что вы
это действительно испокон века безошибочно делали и делаете, поскольку
вы когда-либо понимали газету и поскольку вы понимаете ее и сейчас. Но
только вы не обращали на это внимания, и я весьма опасаюсь, что вы и
теперь не найдете, что это так, несмотря на то, что я обращаю на это ваше
внимание, ибо именно слепота этого внутреннего глаза фантазии и есть
тот недостаток, в котором мы всегда упрекали вас. Но если бы вы это и за-
598
Ясное, как солнце...
метили или оказались в состоянии заметить теперь, то это все же, по
вашему мнению, совершенно не подходит к науке. Об этой науке вы всегда
полагали, что она может быть лишь изучена, и вам не приходило в голову, что
ее, собственно\оворя, так же как и рассказанные в газете события,
необходимо конструировать.
По этой-тЛ причине достаточно вам теперь растолковать, что вы так
мало до сих пор понимали наукоучение, что ни один из вас не усмотрел
даже почвы, на которой оно покоится. Но, когда вам говорят об этом, вы
сердитесь. Но почему $ы по этому поводу сердитесь? Разве мы не должны
сказать вам это? Если $ы поверили, что вы поняли его и что оно должно быть
понято именно так, *ак вы его поняли, то это было бы то же самое, как если
бы наукоучение никогда не существовало и его можно было бы самым
легким образом и бесшумно отбросить в сторону. Чтобы мы спокойно
допустили совершиться этому только для того, чтобы не получила плохую славу
ваша способность к пониманию, этого ведь вы по справедливости не
можете ожидать от нас.
Но вы и в будущем не поймете наукоучения. Если не говорить теперь
о том, что некоторые из вас, воспользовавшись странными средствами,
чтобы опорочить эту науку, поставили себя под большое подозрение
насчет того, что вас одушевляют еще и другие страсти, помимо ревности к
философии, — если не говорить об этом и отбросить это подозрение как
необоснованное, то можно было бы, вероятно, питать некоторые надежды
насчет вас, если бы только вы еще не высказались.и не высказались так
явно, не обнаружили так явно вашего глубокого убеждения. Но вы это, к
сожалению, сделали, и вы должны теперь внезапно изменить вашу природу и
выступить в таком освещении, при котором те вещи, которые вы до сих пор
излагали, и все ваше душевное состояние должны принять я не могу
описать какой жалкий вид? Пожалуй, почти со всеми, кто двигал свое развитие
в тиши, случалось, если они достигали зрелости, что, после того как они
крепко отстаивали свое убеждение, они по прошествии некоторого
времени с грустной улыбкой взирали на свои прошлые заблуждения. Но чтобы
тот, кто брал всю публику в свидетели своих заблуждений и обязан изо дня
в день писать, рецензировать и всходить на кафедру, чтобы такой человек
признал свои заблуждения и взял их обратно — это в высшей степени
редкий случай.
Так как все это обстоит таким образом, как вы и сами, хотя ни в коем
случае вслух, публично, но все же совершенно несомненно должны будете
признать, в какой-нибудь спокойный час, в сокровеннейших уголках
вашей души, — то для вас остается только один выход: отныне совсем не
открывать рта там, где дело касается наукоучения и философии вообще.
Вы могли бы обратиться к этому выходу; ибо меня вы никогда не убе-
599
И. Г. Фихте
дите в том, что ваши органы речи сами собой без вашего содействия
образуют те слова, которые вы произносите, и что ваши перья са^Аи собой
приходят в движение и выводят на бумаге те вещи, которые зат£м печатаются
под вашим именем или без него. Я всегда буду считать, что/оба они
приводятся в движение посредством вашей воли, прежде чем OHii делают то, что
они делают. /
Но так как вы могли бы сделать это, то почему бы вел не захотеть
сделать это? Я все это обдумал и передумал и не нашел абсолютно никакого
разумного основания, почему вы этому совету не только не следуете, но на
меня за него обижаетесь.
Вы не можете ссылаться на вашу ревность к истине и отвращение к
заблуждению; ибо, ввиду того, что вы, как это вам подсказывает ваша
собственная совесть, когда вы всерьез обращаетесь к ней, совершенно не
знаете, чего, собственно говоря, хочет наукоучение, и для вас вообще не
существует вся та область, в которой оно живет, — то вы не можете так же и
знать, является ли истиной или заблуждением то, что оно сообщает об этой
незнакомой области. Поэтому предоставьте совершенно спокойно под их
личную ответственность это занятие другим, кого это касается, подобно
тому как мы все предоставляем королям под их личную ответственность
управлять своим государством, объявлять войну и заключать мир, не
вмешиваясь в это. До сих пор вы только препятствовали непредвзятому
исследованию, запутывали простое, затемняли ясное, ставили на голову
стоящее вверх головой. Почему вы желаете во что бы то ни стало стоять поперек
пути? •
Или вы полагаете, что ваша честь потерпит ущерб, если вы, до сих
пор говорившие столь властно, теперь умолкнете? Ведь вряд ли вы
придаете значение мнению неразумных? (А во мнении всех неразумных вы
благодаря этому только выиграете.)
Так, говорят, что господин профессор Якоб в Галле16 совершенно
отказался от высшей спекуляции и занимается политической экономией, и в
этой области можно ожидать много удачного от его похвальной
аккуратности и его трудолюбия. Он в этом случае выказал себя мудрецом,
отказавшись быть философом: я торжественно выражаю ему свое уважение и
надеюсь, что всякий разумный человек, знающий, что такое спекуляция,
разделит это уважение. Если бы только господа Абихт, Буле, Бутервек, Гедин-
гер, Гейденрейх, Снелль, Эрхард-Шмид17 отказались от профессии, с
которой они достаточно намучились и относительно которой выяснили, что
они не созданы для нее. Пусть они займутся каким-нибудь другим
полезным делом вроде точения оптических стекол, лесоводства и земского
права, составления стихов, писания романов, пусть они служат в тайной
полиции, изучают медицину, занимаются скотоводством, пишут на каждый
600
Ясное, как солнце...
день в году назидательные размышления по поводу смерти; и ни один
человек не отюикет им в своем уважении.
Но так как я все же не могу рассчитывать, что они и им подобные, с
фамилиями навсе буквы алфавита, последуют этому хорошему совету, то я
прибавляю ещоследующее, дабы они не могли сказать, что им не
предсказали заранее, что получится:
Вот уже третий раз я делаю сообщение о наукоучении. Мне не
хотелось бы, чтобы меня принудили сделать это в четвертый раз, и я устал
дозволять переходит^ моим словам из уст в уста в таком испорченном виде,
что я сам почти уже не узнаю их. Я буду поэтому предполагать, что даже
современные литераторы и философы могут понять это третье сообщение.
Я, далее, давно уже предполагаю, потому что я это знаю, что абсолютно
всякий человек может знать, понимает ли он что-нибудь или не понимает,
и что его никогда не заставляют говорить о каком-либо предмете, прежде
чем он не будет сознавать, что он понимает его. Это сочинение, так же как
и мои будущие научные сочинения, я поэтому не предоставлю его участи,
но буду следить за отзывами, которые оно вызовет, и наблюдать за ними в
текущей периодической печати. Если эти болтуны не исправятся и после
этого, то я все же надеюсь разъяснить широкой публике, что за народ брал
на себя до сих пор и берет на себя еще и теперь задачу руководить ее
мнением.
ПРИМЕЧАНИЯ
В настоящий том избранных работ Фихте вошли сочинения, написанные с
1792 по 1801 г. Два из них переведены впервые: "Опыт критики всякого
откровения" и "Востребование от государей Европы свободы мысли, которую они до сих
пор угнетали". Остальные произведения даны в старых переводах, которые
заново отредактированы; "Основа общего наукоучения" сверена с оригиналом.
Редактирование и сверка выполнены П.П.Гайденко.
Переводы сочинений Фихте осуществлены главным образом по изданию:
Fichte J.G. Sämmtliche Werke/Hrsg, von Im. H. Fichte: In 8 Bd e.B., 1845-1846. При
переводе принято во внимание шеститомное издание избранных произведений
Фихте, осуществленное Фрицем Медикусом: Fichte J.G. Werke. Auswahl: In 6 Bd.
/Hrsg von Fritz Medicus. L., 1908—1911, а также новейшее издание сочинений
Фихте, предпринятое Баварской академией наук: Fichte J.G. Gesamtausgabe der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften/Hrsg, von Reinhard Lauth und Hans Jacob.
Stuttgart; Bad-Gannstatt, 1962 ff.
Перевод работы "Опыт критики всякого откровения" выполнен по
изданию: Fichte J.G. Versuch einer Kritik aller Offenbarung/Hrsg, von J.H. von Kirchmann.
L., 1871.
Примечания составлены П.П.Гайденко.
Востребование от государей Европы свободы мысли,
которую они до сих пор подавляли
(стр.69)
Памфлет "Востребование от государей Европы свободы мысли, которую
они до сих пор подавляли" вышел в свет в 1793 г. Он был опубликован анонимно,
без подписи автора издателем Ф. Трошелем в Данциге. Место и год издания
обозначены Фихте вполне в стиле французских революционных публицистов
"Гелиополис, в последний год старого мрака". По своему содержанию это
сочинение близко к другой работе Фихте, изданной в том же году: "К исправлению
суждений публики о Французской революции. Часть первая. К обсуждению ее
правомерности" (тоже вышла анонимно).
Толчком к написанию "Востребования..." послужил прусский
"Цензурный эдикт" от 19 декабря 1788 г., который последовал за "Эдиктом от 9 июля
относительно религиозного устройства в прусских государствах". Религиозный
эдикт запрещал духовным лицам какие бы то ни было отклонения от
вероисповедных канонов. "Цензурный эдикт" предписывал подвергать цензурному
контролю Консистории также и все философские и теологические произведения,
публикуемые в Германии. Эти эдикты стали предметом оживленных дискуссий,
особенно после того, как был возбужден религиозный процесс против
проповедника Шульца в Гильсдорфе.
602.
Востребование от государей Европы свободы мысли...
Фихте столкнулся и лично с религиозной цензурой, когда готовилась к
изданию его "Котика откровения"; церковную политику, нашедшую свое
выражение в "Эдиктах", он называл "прусской инквизицией". Как видно из его
переписки этого периода, он живо интересовался процессом против Шульца,
особенно исходом этогй процесса.
Ужесточение прусской религиозной цензуры объяснялось прежде всего
революционной ситуацией в соседней Франции, ситуацией, крайне
обострившейся как раз\ 1792—1793 гг., когда террор якобинцев, начавшийся с осени
1792 г. и особенно усилившийся после убийства Марата 13 июля 1793 г., вызвал в
Германии осуждение даже со стороны тех, кто сочувственно встретил
Французскую революцию в 1789 г. Вполне понятный ужас перед кровавыми репрессиями,
организованными революционным трибуналом, поправшим всякий закон,
привел в Германии, как и в других европейских странах, к сомнению также и в
необходимости свободы мысли, коль скоро последняя имела во Франции столь
страшные последствия. Естественно вставал вопрос: в какой мере разумно
отстаивать свободу мысли и ее публичного выражения перед лицом событий 1792
— 1793 гг. во Франции?
Террор якобинцев и каннибализм революционной толпы поставили под
вопрос идеи Просвещения, составлявшие духовную основу революции. А между
тем в Германии эти идеи тоже получили широкое распространение. В частности,
и между Кантом, чью философию с жаром популяризировал молодой Фихте, и
Жан-Жаком Руссо, в котором революционная Франция чтила своего кумира,
была достаточно очевидная связь, хотя несомненно, что Кант выступил и как
критик просветительского Разума, существенно ограничив его теоретические
притязания. Тем не менее центральный для кантовской этики принцип
автономии воли восходит к Руссо, в своем "Общественном договоре" (1762)
определившем свободу как подчинение закону, который человек сам для себя установил
(см.: Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М, 1969. С. 165).
В отличие от Канта, двойственно относившегося к идеям Просвещения,
Фихте воспринял-их с энтузиазмом, что нашло отражение не только в
содержании, но и в стилистике памфлета, риторический пафос которого весьма созвучен
настроениям французских идеологов революции. Не случайно Канту, по
свидетельству современников, не понравились работы Фихте о Французской
революции. Об этом Фихте сообщил его друг Т.Шен, и Фихте в ответ ему писал: "Я
охотно верю, что Канту, который становится старым и нерешительным, не нравится
мое сочинение, но выставляемая им причина, что я взялся не за свое дело, не
истинна. Во всяком случае, я уже недоволен большей частью высказанного мной
там, но не потому, что зашел слишком далеко, а потому, что не пошел достаточно
далеко. Естественное и государственное право, равно как и вся философия,
должны принять совсем иное направление" (Цит. по кн.: Schön Theodor von. Aus
den Papieren des Ministers und Burggrafen von Marienburg. Halle a.d. S., 1875. Bd. I.
S. 39). Это новое направление исследования философии вообще, философии
государства и права в частности, Фихте предложил вскоре в своей работе "Основа
общего наукоучения" (1794).
Памфлет "Востребование..." занимает важное место в становлении
воззрений Фихте. В нем намечаются контуры его будущей философии права и
нравственности, которая составляет одну из центральных тем его творчества. Фихте
подчеркивает здесь, что человек не имеет над собой никакого другого закона,
603
Примечания
кроме морального закона самоопределения (автономии) воли; на этом
последнем зиждутся вечные и неотчуждаемые права человека. Именно на этом
фундаменте строит Фихте отношения между индивидом и обществом; последнее он,
вслед за Руссо, рассматривает как результат общественного договора,
добровольно заключенного гражданами государства. О влиянии Руссо на Фихте и на
немецкую философию истории в целом см. интересное исследование: Fester R.
Rousseau und die deutsche Geschichtsphilosophie. Stuttgart, 1890. См. также: Metzger W.
Gesellschaft, Recht und Staat in der Ethik des deutschen Idealismus. Aalen. 1966.
На русский язык работа Фихте переводится впервые. Перевод выполнен
М.ИЛевиной по изданию: Fichte J.G. Werke/ Hrsg, von R.Lauth und Hans Jacob.
Stuttgart; Bad-Cannstatt, 1964. Bd. 1. S. 163-192.
Ч(ранц Август Фридрих (1737—1801). В письме к Теодору фон Шену от 21
апреля 1792 г. Фихте упоминает анонимно вышедшую брошюру Кранца
"Zurechtweisung des zudringlichen und lächerlich drohenden Verfassers der freimütigen
Gedanken und Vorstellungen gegen die neuen Preußischen Anordnungen in geistigen
Sachen". Berlin, 1792 ("Возражение назойливому и смехотворно угрожающему
автору откровенных идей и предложений, направленных против новых прусских
установлений в духовных делах").
Эта брошюра была направлена против автора тоже анонимно вышедшего
листка Э.Х.Траппа "Откровенные размышления и почтительные предложения
по поводу новых прусских установлений в духовных делах Германии"
(Braunschweig, 1791).
2 "Каждый порядочный человек должен отвечать за то, что он написал ". —
Фихте перефразирует Руссо: "Каждый порядочный человек должен отвечать за
книги, которые он издает". — Юлия, или Новая Элоиза {Руссо Ж.-Ж. Избр. соч.
М., 1961. Т.Н. С.9.).
3 Это палач инквизиции... — сказал дон Карлосу... — Фихте ссылается здесь
на драму Фридриха Шиллера "Дон Карлос", которая была напечатана летом
1787 г. и в том же году была поставлена в Гамбурге. Ссылка Фихте на Шиллера
далеко не случайна: по своему содержанию и духу "Востребование..." ближе
всего именно к Шиллеру. Молодой философ обращается к государям Европы с теми
же идеями, с которыми герой драматической поэмы Шиллера, мальтийский
рыцарь маркиз Поза, обращается к испанскому королю Филиппу: "О, дайте людям
свободу мысли!"
Даруйте в вашей мировой державе
Свободу человеческому духу,
Верните нам похищенное вами —
И вы король мильонов королей!
{Шиллер Ф., Собр. соч.: В Ют. М., 1955. Т. П. С. 152.)
Тот же страстный призыв к свободе, та же любовь к человечеству, взятому
вполне отвлеченно и потому риторически, тот же пафос обличения старых
порядков видим мы у обоих:
Бесправье мысли назову ли счастьем?
Нет, государь, я не могу дарить
Навязанное вашей волей счастье,
И награждать людей клейменым благом
Меня не заставляйте. (Там же. С. 147.)
604
Востребование от государей Европы свободы мысли...
Роднит Фихте с Шиллером и экстатическая устремленность в будущее:
Нет, для моих священных идеалов
Наш век еще покуда не созрел.
Я гражданин грядущих поколений. (Там же. С. 148.)
4При подобном обмене одних отчуждаемых прав на другие... возникает
договор (контракт). — В своем различении отчуждаемых и неотчуждаемых прав
человека Фихте опирается на теорию общественного договора Руссо, который писал
в работе "Об общественном договоре": "По общественному договору человек
теряет свою естественную свободу и неограниченное право на то, что его
прельщает и чем он может завладеть; приобретает же он свободу гражданскую и право
собственности на все то, чем обладает" {Руссо Ж.-Ж. Трактаты. С. 164). Вопрос о
том, какие из естественных прав человека могут быть отчуждаемы, а какие нет,
является одним из самых важных и самых спорных для сторонников концепции
общественного договора. У Руссо по этому поводу читаем: "Отказаться от своей
свободы — это значит отречься от своего человеческого достоинства, от прав
человеческой природы, даже от ее обязанностей. Невозможно никакое
возмещение для того, кто от всего отказывается. Подобный отказ несовместим с
природою человека; лишить человека свободы воли — это значит лишить его действия
какой бы то ни было нравственности" (там же. С. 156).
Именно так ставит вопрос и Фихте: есть права, которые не могут быть
отчуждаемы, ибо их отчуждение означало бы отмену свободной воли лица, а тем
самым — отмену нравственного закона, на этой свободе основанного. К таким
неотчуждаемым правам принадлежит, по Фихте, и свобода мысли; поскольку же
последняя, по убеждению философа, невозможна без свободного сообщения
мысли, то и свобода слова — неотчуждаемое право человека.
5 Я не могу позволить навязать себе какой-либо закон, не отказываясь тем
самым от... своей личности и свободы. — Фихте здесь опять-таки следует за Руссо. "К
-тому, что уже сказано о приобретениях человека в гражданском состоянии, —
писал последний в "Общественном договоре", — можно было бы добавить
моральную свободу, которая одна делает человека действительным хозяином самому
себе; ибо поступать лишь под воздействием своего желания есть рабство, а
подчиняться закону, который ты сам для себя установил, есть свобода ". Курсив мой. —
П.Г. (РуссоЖ.-Ж. Трактаты. С. 165).
6 ...существует известный необходимый способ, как вещи должны являться
нам... — Фихте воспроизводит тут кантовское учение о том, что человеческому
познанию недоступны вещи в себе; в сфере теоретической мы имеем дело только
с явлениями, которые обусловливаются субъектом, априорными формами его
чувственности (пространством и временем) и рассудка (категориями).
7 ...как дети вместо мяча гоняют окровавленные головы... — Фихте имеет в
виду многочисленные описания ужасов якобинской диктатуры и кровавых
оргий, происходивших на улицах Парижа в период правления Конвента.
8 ...рецензент в октябрьском номере... — Речь идет о рецензии Иозефа фон
Вурмбранда, помещенной во "Всеобщей литературной газете" №261 за 1792 год.
"Но как же можно вынести, — писал рецензент, — если популярный писатель
рекомендует рассматривать всю ужасную революцию и все подобные и возможные
революции как всего лишь явления природы, которые, в соответствии с общими,
законами природы, происходят столь же неизбежно, как землетрясения и бу-
605
Примечания
ри?.." (Wurmbrand Josephs von. Politisches Glaubensbekenntniß mit Hinsicht auf die
französische Revolution und deren Folgen. 1792. YIII u. 173. S.8 //Allgemeine
Literatur-Zeitung. 3. Okt. 1792. № 261).
9 Вы не сумеете показать ему книгу и место в ней... — Речь идет о книге Канта
"Критика чистого разума", которая вышла в 1781 г.; Фихте имеет в виду кантовское
различие в человеке эмпирического и умопостигаемого характера: как
эмпирическое существо, обладающее эмпирическим характером, человек и его
поступки подчиняются природным законам. Но все дело в том, что кроме мира
эмпирического человек принадлежит и миру умопостигаемому, где его поступки
совершаются по иконам пращ венным. См. Соч.: В 6 т. М., 1964. Т. 3. С.483,489 и ел.
10 ...эти.-;- иной ли;,').. ..- столь резко... отделен от посюстороннего мира... —
Иной мир, по Фихте, не есть нечто трансцендентное, не есть загробное царство,
куда душа попадает после смерти, а есть моральный миропорядок, законы
которого запечатлены в нас и сообщаются нам совестью.
1 ' ...не только в государстве, но и в мире духов... — Миром духов, или
духовных существ (mundus infelligibilis) Кант называет сообщество, живущее
исключительно по нравственным законам, каждый член которого выступает для всех
остальных как цель сама по себе. Члены этого мира суть нравственные личности,
лица, а не вещи. "Разумные существа называются лицами, так как их природа
уже выделяет их как цели сами по себе" (Кант И. Соч. Т. 4. Ч. 1. С.269). Мир духов,
или "царство целей", есть, по Канту, лишь идеал. В отличие от мира природного,
где царит необходимость, этот мир возможен благодаря свободе воли, которая
способна подчинять себя нравственному закону, ею самой устанавливаемому.
Опыт критики всякого откровения
(стр. 97)
Сочинение Фихте "Опыт критики всякого откровения" было выпущено в.
свет в 1792 г. издателем Гартунгом в Кенигсберге. Оно появилось без указания
имени автора и в большей части тиража — без авторского предисловия. Была ли
тому причиной невнимательность издателя или последний сделал это
намеренно, без ведома и согласия Фихте, не вполне ясно. Впрочем, некоторый свет
проливает на это обстоятельство Теодор Шен, ученик Канта и друг Фихте, в то время
19-летний студенте Кенигсберге, впоследствии известный государственный
деятель. "Вопреки намерениям Фихте Гартунг распорядился заготовить два
варианта титульных листов. На обложке экземпляров, продававшихся в Кенигсберге,
было помещено имя Фихте как автора; на тех же, что продавались в Лейпциге,
имя автора отсутствовало. Эта спекуляция издателя доставила Фихте больше
известности во всем ученом мире, чем он мог бы получить, не случись этого" (Schön
Theodor von. Aus den Papieren des Ministers und Burggrafen von Marienburg. Halle
a.d.S., 1875. Bd. I. S. 16). Поскольку книга по духу (и букве) была очень близка к
кантовской философии и к тому же вышла в Кенигсберге, где жил и работал
великий философ, ее авторство приписали самому Канту, тем более что среди
ученых уже было известно намерение последнего опубликовать свою философию
религии (которая и появилась в свет год спустя — в 1793 г. под названием
"Религия в пределах только разума"). Рецензент, Г. Гуфеланд, тоже принял "Критику
откровения" за сочинение Канта (см. "Allgemeine Literatur-Zeitung". № 190—191.
Jena; Leipzig, 1792). Канту пришлось разъяснить недоразумение и назвать под-
606
Опыт критики всякого откровения
линное имя автора (см. "Intelligenzblatt der Allgemeinen Literatur-Zeitung". № 102.
22.8.1792. S. 848).To обстоятельство, что произведение молодого и еще
неизвестного автора было принято за сочинение "кенигсбергского мудреца", сразу
сделало имя начинающему философу: не только спустя короткое время была
переиздана "Критика откровения", но Фихте вскоре получил приглашение занять
кафедру философии в Йене, куда он и прибыл весной 1794 г.
Второе издание работы было существенно переработано и дополнено
автором, добавившим два новых раздела: "Теория воли как подготовка дедукции
религии вообще" (§ 2) и "Формальное рассмотрение понятия откровения как
подготовка к его материальному рассмотрению" (§ 5). В этих новых разделах
чувствуется влияние К.Рейнгольда, важнейшее сочинение которого "Опыт новой
теории способности представления" вышло в 1789 г. Следуя тому
подразделению, которое дано Рейнгольдом по отношению к способности представления,
Фихте подразделяет и условия откровения на внутренние и внешние (различая в
первых материал и форму, а во вторых — субъект и объект).
В целом в "Критике откровения" Фихте полностью стоит на почве кантов-
ской философии; но в то же время здесь уже можно заметить то стремление к
логической дедукции понятий, к так называемому методу генетического
изложения, который характерен для наукоучения Фихте. Фихте сознательно
отвлекается от всякого эмпирического материала, имея дело почти исключительно с
априорными понятиями и их внутренней связью. Так что уже здесь можно видеть
становление того диалектически-спекулятивного метода, который был позднее
развит как самим Фихте, так и особенно Шеллингом и Гегелем.
"Опыт критики всякого откровения" на русском языке публикуется
впервые. Перевод выполнен Т.Ю.Бородай по изданию: Fichte J.G. Versuch einer Kritik
aller Offenbarung/Hrsg, von J.H.v. Kirchmann. L., 1871.
1 ...это исследование должно даже игнорировать вопрос, существует ли
вообще хоть одно откровение... — Фихте в своей работе исследует не ту или иную
историческую форму религии откровения, но само понятие откровения; говоря кан-
товским языком, условия возможности всякого откровения.
2.. .здесь вдвойне необходимо иметь перед глазами только путь, указываемый
критикою... — Говоря о пути, указываемом кантовской критикой, Фихте имеет в
виду важнейший принцип "Критики чистого разума", что познание не должно
выходить за границы возможного опыта. Однако в "Критике практического
разума" Кант доказывает, что принцип нравственности предполагает возможность
умозаключать о существовании Бога, свободы и бессмертия души — как о
постулатах разума практического (см. примеч.36). Кант различает далее (и Фихте здесь
следует за ним) естественную религию, основывающуюся на требованиях
нравственности, и религию откровения, которая наряду с моральными заповедями
содержит много исторического, случайного, не выводимого из морального
закона, а, стало быть, из потребности чистого разума не вытекающего. Это кантов-
ское различение восходит в значительной мере к рационалистической традиции
XVII—XVIII вв., которая особенно была близка Фихте, чьи воззрения до
знакомства с философией Канта формировались под влиянием прежде всего Спинозы.
"Как сам разум, так и высказывания пророков и апостолов, — писал Спиноза в
"Богословско- политическом трактате", — ясно гласят, что вечное слово и
договор Бога и истинная религия божественно начертаны в сердцах людей, т.е. в
человеческой душе, и что она есть истинный подлинник Божий, который Бог скрепил
607
Примечания
своей печатью, т.е. идеей о себе..." (Спиноза Б. Избр. произв.: В 2-х т. М., 1957. Т.
1. С. 170). Понятие истинной, или, что то же самое, естественной религии, так же,
как и понятие естественного права, играет позднее важную роль также в
философии Просвещения. В рационализме XVII в. эти понятия теоретически
обосновываются, как мы это видели и у Спинозы, с помощью теории врожденных идей:
высший закон нравственности и права дан человеку не извне, а начертан на
скрижалях его собственной души. Вот почему и Фихте убежден, что всякое
откровение должно быть подвергнуто критике с точки зрения морального закона,
не отягченного историческими случайностями и предрассудками. Близкую к
этой точку зрения на религию откровения, в частности на христианство,
защищал в России Лев Толстой.
3 Представление... может быть... дано... в теоретической философии... —
Говоря о теоретической философии, Фихте имеет в виду "Критику чистого разума"
Канта. Последний показывает, что материал теоретического познания дается
созерцанием, тогда как его форма есть результат спонтанной деятельности
рассудка. Что касается тезиса Фихте о том, что и материал представления может быть
порожден спонтанно, то здесь философ переходит к сфере разума практического.
Поскольку, однако, это специально не оговорено, то у читателя может сложиться
впечатление, что Фихте отходит от Канта. Однако последующее рассмотрение
вопроса эту неясность устраняет.
4 ...то, что аффицирует душу... — Аффицировать — значит воздействовать
надушу; согласно Канту, чувственные ощущения суть результаты воздействия на
душу некоего предмета, внешнего по отношению к душе.
5 По качеству своему... — Фихте здесь рассматривает чувственную
склонность с помощью кантовской системы категорий, которая подразделяется
Кантом на категории качества, количества, отношения и модальности (см.: Кант.
Критика чистого разума//Соч. М., 1964. Т.З. С. 175). По убеждению Фихте,
только таким способом можно получить исчерпывающий анализ понятия.
6 Йох Александр фон — автор книги "Über Belohnung und Strafe nach. Für-
kischen Gesetzen" ("О вознаграждении и наказании согласно
турецким-законам"). Lübeck, 1770.
7 ...представление... порождается... абсолютно спонтанно... — Говоря о
спонтанном порождении представления актом воли, Фихте, в сущности,
приходит к тому определению воли, которое он дал в начале § 2. Данное здесь понятие
воли совпадает с кантовским понятием практического разума. В сфере
практического применения, говорит Кант, "разум занимается определяющими
основаниями воли, а воля — это способность или создавать предметы, соответствующие
представлениям, или определять самое себя для произведения их" (Критика
практического разума //Соч. М., 1965. Т.4.4.1. С. 326).
8 Все... дается через ощущение; спонтанность... порождает только формы...
— В "Критике чистого разума" Канта читаем: "Наше знание возникает из двух
основных источников души: первый из них есть способность получать
представления (восприимчивость к впечатлениям), а второй — способность познавать
через эти представления предмет (спонтанность понятий). Посредством первой
способности предмет нам дается, а посредством второй он мыслится в
отношении к представлению... Без чувственности ни один предмет не был бы нам дан, а
без рассудка ни один нельзя было бы мыслить..." (Соч. Т.З. С. 154 — 155).
9... изначальная форма способности желания... есть факт этого сознания... —
608
Опыт критики всякого откровения
Как видим, Фихте считает свободу воли фактом нашего сознания: свобода
воли, по его убеждению, может быть воспринимаема, наблюдаема как
спонтанная деятельность сознания.
10 ...если спонтанность воздействует на объект, он будет... аффекцией... —
Аффекция — влияние, воздействие (лат.). См. примеч. 4.
11 ...добро никоим образом не должно быть связано с нашим блаженством... —
Это один из важнейших выводов кантовской этики долга, противостоящей
эвдемонистической этике (этике счастья). Фихте, как и Кант, считает, что понятие
счастья слишком субъективно и неопределенно, чтобы на нем можно было построить
науку о нравственности. "К сожалению, понятие счастья, — пишет Кант, — столь
неопределенное понятие, что, хотя каждый человек желает достигнуть счастья, тем
не менее он никогда не может определенно и в полном согласии с самим собой
сказать, чего он, собственно, желает и хочет" (Соч. Т.4.4.1. С.256). Кант и Фихте
строят этику на принципах разума, т.е всеобщности, тогда как счастье, по Канту, есть
"идеал не разума, а воображения", а потому принцип всеобщности сюда
неприменим (там же. С.257). Поскольку далее этика долга основана на преодолении
побуждений склонности, постольку добродетель не есть предпосылка и условие
счастья; выполнение долга, напротив, как правило, связано с самопожертвованием.
"Будет прямой противоположностью нравственности, — пишет Кант в "Критике
практического разума", — если определяющим основанием воли сделают принцип
личного счастья " (там же. С.353).
12 ...что может быть установлено путем сравнения настоящего изложения с
"Критикой практического разума ". — Этот раздел и в самом деле представляет
собой краткое изложение важнейших положений "Критики практического
разума" Канта.
13 Жому дорога его жизнь, тот потеряет ее; но, кто ее потеряет, тот сохра-
. нит ее для вечной жизни ", — сказал Иисус. — "Любящий душу свою погубит ее; а
ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную" (Иоан., 12,25).
Фихте цитирует по памяти эти строки из Евангелия; в переводе Лютера они
звучат так: "Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren; und wer sein Leben auf dieser
Welt hasset, der wird's erhalten zum ewigen Leben".
14 ...бесконечное счастье с бесконечным правом на него и достойностью его...
конечная цель. Мы постоянно приближаемся к ней, поскольку склонности в нас приходят
во все большее соответствие с нравственным законом... — Тут намечается некоторое
расхождение Фихте с Кантом. Несовместимость добродетели и счастья Кант
объясняет тем, что "для людей и всех сотворенных разумных существ моральная
необходимость есть принуждение, т.е. обязательность, и каждый основанный на
ней поступок должен быть представлен как долг, а не как образ действий, который
нравится нам сам по себе... Моральный закон именно для воли всесовершенней-
шего существа есть закон святости, а для воли каждого конечного разумного
существа есть закон долга..." (Кант. Соч. Т.4. 4.1. С. 408). Утверждая, что
"склонности в нас приходят во все большее соответствие с нравственным законом", Фихте
тем самым предполагает возможным смягчить противостояние между
склонностью и долгом, т.е. допускает приближение человека к состоянию святости (а стало
быть, и блаженства), хотя, правда, такое приближение осуществляется бесконечно
(полностью достигнуть святости, по Фихте, человек не может).
15 ...конечные существа... никогда не смогут достичь полного согласования
счастья с нравственностью. — См. пред. примеч.
609
Примечания
16 Подобное допущение, без которого мы не можем признавать закон вообще,
мы называем верой. — Как и Кант, Фихте видит в вере (или в постулатах
практического разума) необходимое условие признания нравственного закона. По словам
Канта, он ограничил знание, чтобы дать место вере; Фихте впоследствии еще
более углубляет понятие веры, идя здесь дальше Канта.
17 ...она [религия] не столько помогает нам исполнять нашу обязанность
быть добродетельными, сколько заставляет страстно желать исполнения ее. —
Фихте понимает религию слишком односторонне, сводя ее содержание к
морали. Здесь он идет за Кантом, писавшим, что "постоянное стремление к
морально-доброму образу жизни есть все, чего Бог требует от человека, чтобы тот мог
стать угодным подданным в его царстве" (Кант И. Трактаты и письма. М, 1980.
С. 172). Акцент на чисто моральной стороне религии в ущерб культу и преданию
характерен для протестантизма вообще, но особенно усилился этот акцент в
рационалистической метафизике XVII в. и в философии Просвещения XVIII в.
Так, например, у Спинозы читаем: "Хотя религия, в том виде, в каком она
проповедовалась апостолами, т.е. в виде простого рассказа об истории Христа, не
подлежит ведению разума, однако суть ее, состоящую главным образом из
нравственных правил... каждый может легко усвоить при помощи естественного света" (т.е.
разума. — П.Г.) — Спиноза Б. Избр. произв. Т. II. С. 167.
18 Идея Бога-законодателя... основывается., на переносе субъективного на
существо вне нас... — Фихте предвосхищает здесь ту критику религии, которая
впоследствии была осуществлена Л.Фейербахом, рассматривавшим Бога
именно как отчуждение человеческой сущности, как перенесение нашего
внутреннего содержания на нечто, существующее якобы вне нас. Как видим,
отождествление Бога с моральным законом в нас есть путь, ведущий в конечном <;чете к
атеизму ..Не случайно Фихте замечает, что "религия, т.е. признание Бога
моральным законодателем,^ обязательна..." Только втех случаях, когда разум
недостаточно силен, чтобы определить волю, т.е. у людей с мало развитой моральной
мотивацией необходимо, по Фихте, представление о Боге .и его заповедях —
Ткачестве внешнего, воздействующего на воображение и чувство фактора. Иначе
говоря, только слабый и нравственно неразвитый человек нуждается, по Фихте, в
религии.
19... для того, чтобы мы получили ее [религию], требуется некое...
сверхъестественное средство... для этой цели предназначенное. — Фихте различает
естественную религию и религию откровения в зависимости от их источника: он
может быть либо в нашем разуме, который есть "сверхъестественное в нас", либо в
неком сверхъестественном существе вне нас — в Боге. Здесь Фихте не вполне
солидарен с Кантом, который в "Религии в пределах только разума" видит
различие естественной религии и религии откровения в самом ихсодержании. По
Канту, религия откровения, которую он именует исторической верой, не
тождественна морали, именуемой "верой чистого разума", ибо в религии откровения
важное место занимает культ, связанный во многом с преданием и, по Канту, не
имеющий существенного значения с точки зрения морали. (См.: Кант И.
Трактаты и письма. С. 173 — 176.)
20 ...разум не ожидает... закона от явления... потому, что сам ему закон
предписывает. — Здесь кантовская формула "разум предписывает законы явлениям"
трактуется в духе просветительской критики христианства, объявившей разум
высшим судьей, который способен удостоверить божественность истин открове-
610
Опыт критики всякого откровения
ния и в тексте Священного писания отделить содержание Божественного слова
от человеческих субъективных привнесений. Здесь нельзя не заметить влияние
на#Фихте "Богословско-политического трактата" Спинозы.
21 ...человек... слишком слаб, чтобы действительно делать то добро, которого
он хочет. — Ср. слова ап. Павла: "Доброго, которого хочу, не делаю, а злое,
которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но
живущий во мне грех... Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе
Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума
моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах
моих" (Рим. 7,19-23).
22...Того, перед кем мы ходим?— Ср. "Буду ходить пред л и цем Господним на
земле живых" (Пс. 114,9). И еще: "Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и
Исаак..." (Быт. 48,15). "Господь, пред лицом которого я хожу..." (Быт. 24,40).
23 Эмпирическую чувственность, так же как и чистую... — Разделение
чувственности на эмпирическую и чистую принадлежит Канту, который различал
материал чувственности (многообразие ощущений) и ее априорные формы —
пространство и время.
24 ...удовольствие... от прекрасного (но не от возвышенного)... — В своем
понимании прекрасного и возвышенного Фихте следует Канту. Согласно Канту,
чувство прекрасного мы переживаем в том случае, если представление об
определенном предмете создает гармоническое равновесие чувственности (воображения) и
рассудка, которые обычно выступают как противоположности. Если предмет
природы или произведение искусства обнаруживает некоторую целесообразность,
причем невозможно рационально усмотреть ту цель, которая организовала его
структуру, то мы переживаем особое — эстетическое — удовольствие от созерцания
этого предмета, а предмет называем прекрасным. Эстетическое удовольствие
порождается гармонией, "игрой" чувственности и рассудка. Что касается чувства
возвышенного, то оно, по Канту, имеет совсем иную природу. Воображение здесь
приходит во взаимодействие не с рассудком, а с более высокой способностью —
разумом, при этом между чувственностью и разумом не может установиться
гармоническое соответствие, не может быть "игры". Напротив, чувственность в этом
случае подавляется, но в то же время в нас возвышается нравственное начало.
Созерцая величественные картины природы — горы, мощные потоки водопадов,
беспредельность моря и т.д., — мы испытываем чувство подавленности как
чувственные существа, но парадоксальным образом в нас тем самым пробуждаются
нравственные силы, ибо возвышенные предметы рождают в нас идею бесконечного, а с
бесконечным имеет дело высшая способность — разум.
25 ...если чувственность в нас господствует... она... полностью исключает
всякую волю к добру и всякую моральность. — Тезис о том, что чистая моральность
возможна только при исключении (подавлении) чувственной склонности,
лежит, как мы уже отмечали, в основе кантовской этики долга. Однако этот тезис
может порождать парадоксы — в тех случаях, когда человеческая склонность
(например, чувство любви, сострадания) совпадает с требованием практического
разума, т.е. нравственного долга. В этих случаях, по Канту, поступок
оказывается не моральным, а лишь легальным. Этот парадокс остроумно обыграл
Ф.Шиллер:
Ближним охотно служу, но — увы! — имею к ним склонность.
Вот и гложет вопрос: вправду ли нравственен я?..
611
Примечания
Нет тут другого пути: стараясь питать к ним презренье
И с отвращеньем в душе, делай, что требует долг.
{Шилллер Ф. Собр. соч.: В 8 т., М; Л., 1937. С. 164.)
Таким образом, категорический императив у Фихте, как и у Канта, требует
совершать добрые поступки из уважения к нравственному закону, а не из любви к
ближнему.
26 ...возможны такие люди и целые роды человеческие, в которых...
чувственность уничтожила моральное чувство... — Объясняя необходимость религии
откровения упадком моральности в обществе, Фихте тем самым, в сущности, дает
просветительское толкование религий откровения в том смысле, что для него
религия откровения ниже естественной религии (религии разума), ибо религия
откровения вынуждена прибегать к воздействию на чувственную способность,
тогда как религия естественная апеллирует к разуму. В откровении, по Фихте,
нуждаются те, кто мало сознает или совсем не сознает моральных требований
разума. "Куда больше чести было бы человечеству, — читаем ниже, — если бы ему
всегда было достаточно естественной религии для того, чтобы повиноваться
моральному закону в любом случае". И тут у Фихте тоже полное согласие с Кантом.
Последний в "Религии в пределах только разума" пишет: "Однако если можно
принять и статутарные божественные законы (сами по себе не обязательные, но
признаваемые таковыми только в качестве откровения божественной воли), — то
все же чистое моральное законодательство, через которое воля Божья
первоначально запечатлена в нашем сердце, явлпется не только необходимым условием
всякой истинной религии вообще. Оно есть также то, что, собственно, и создает
религию, а статутарные законы могут заключать в себе лишь средство для ее
поощрения и распространения" (Кант И. Трактаты и письма. С. 174).
27 ...без... веры в соблюдение договоров людям... невозможно объединиться е
общество. — Фихте стоял первоначально на точке зрения договорной теории госу»
дарства, которая получила распространение еще в XVII в. у Гоббса, Спинозы,
Локка и др., но особенное влияние приобрела в XVIII в., благодаря прежде всего
сочинению Руссо "Об общественном договоре" ( 1762). Фихте хорошо знал
работы Руссо и, так же, как и Кант, испытал на себе его влияние. В последний период
творчества Фихте пересматривает договорную теорию государства.
28 ...ибо они никогда не могут стать принципом всеобщего законодательства.
— Фихте опирается на кантовскую этику, согласно которой человеческая
разумная воля автономна, т.е. сама себе дает закон с тем, чтобы ему подчиняться.
Однако критерием для различения самозаконной воли, т.е. чистого
практического разума и субъективного произвола индивида, произвола, основанного на
себялюбии и своекорыстии, является согласно Канту всеобщий характер того
закона, который воля дает себе. Поэтому категорический императив гласит:
"Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа
всеобщего законодательства" (Кант И. Соч. Т. 4. Ч. 1. С. 347). Это, в сущности,
совпадает с известной заповедью: "Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы
делали тебе".
29 ...тогда получается гетерономия... — Понятие гетерономии (т.е.
подчинения воли закону, данному ей чем-то другим) воли противоположно приятию
автономии (самозаконности) воли, составляющему важнейший фундамент кан-
товской этики. "Автономия воли, — пишет Кант в "Критике практического разу-
612
Опыт критики всякого откровения
ма", — есть такое свойство воли, благодаря которому она сама для себя закон
(независимо от каких бы то ни было свойств предметов воления). Принцип
автономии сводится, таким образом, к следующему: выбирать только так, чтобы
максимы, определяющие наш выбор, в то же время содержались в нашем волении как
всеобщий закон" (Кант И. Соч. Т. 4. Ч. 1. С. 283). Свобода и достоинство
личности, по Канту, связаны не столько с тем, что она подчиняется моральному закону,
сколько с тем, что она сама устанавливает этот закон и только потому ему
подчиняется. В противоположность этому, гетерономия воли состоит в том, что воля
подчиняется закону, установленному не ею, а данному ей извне. "Воля в этом
случае не сама дает себе закон, а его дает ей объект через свое отношение к воле"
(там же. С. 284). Если что-то внешнее, будь то религиозный или государственный
авторитет, обстоятельства, чувственные склонности и т.д. принуждают волю
поступать согласно нравственному закону, то мы имеем гетерономию воли, и
поступки наши в этом случае будут не моральными, а лишь легальными.
30 ...гетерономия... в лучшем случае вынуждает к легальности... — Если
поступок (а точнее, максима воли, определяющая поступок) целиком
детерминируется моральным законом, и только им, то мы вправе говорить о моральности
поступка. Если же мотивы, детерминирующие волю, будут другими, то даже
тогда, когда поступок сообразуется с моральным законом, он будет лишь
легальным. "Если определение воли хотя и совершается сообразно моральным
законам, но только посредством чувства, каким бы ни было это чувство, которое надо
предположить, чтобы моральный закон стал достаточным определяющим
основанием воли, следовательно, совершается не ради закона, то поступок будет
содержать в себе легальность, но не моральность" (Кант И. Соч. Т. 4. Ч. 1. С. 369).
Единственно подлинным моральным мотивом, согласно Канту и Фихте,
является таким образом уважение к моральному закону.
3' ...восхищение и уважение, опирающиеся... на патологические... основания...
— Патологический — от древнегреческого л'адос — испытывание воздействия,
страдание, чувство. Фихте употребляет это слово в его первоначальном
значении: патологическое — значит чувственное, определяемое чувственными
склонностями человека.
32 "Вы должны быть святы, ибо Я свят, говорит Господь ". — "Святы будьте,
ибо свят Я, Господь, Бог ваш" (Лев. 19,2); см. также: Лев. 20, 7.
33 Одна из особенностей эмпирического характера человека... в том, что пока
одна из его душевных способностей более других возбуждена и... деятельна, все
остальные... бездеятельны и ослаблены... — Вслед за Кантом Фихте различает
эмпирический и умопостигаемый характер человека. Человек есть существо,
принадлежащее двум мирам — чувственно-эмпирическому и умопостигаемому. В
первом он есть явление (феномен) и подчиняется природной закономерности,
тогда как во втором он — вещь в себе (ноумен) и подчиняется закону свободы —
категорическому императиву. "Всякая действующая причина, — пишет Кант, —
должна иметь какой-то характер, т.е. закон своей каузальности... Поэтому в
субъекте чувственно воспринимаемого мира мы должны были бы, во-первых,
находить эмпирический характер, благодаря которому его поступки как явления
стояли бы согласно постоянным законам природы в сплошной связи с другими
явлениями и могли бы быть выведены из них как из их условий... Во-вторых, мы
должны были бы приписывать этому субъекту еще умопостигаемый характер,
613
Примечания
который, правда, составляет причину этих поступков как явлений, но сам не
подчинен никаким условиям чувственности и не относится к числу явлений"
(Кант И. Соч. Т. 3. С. 482).
34 Возможность... сосуществования двух... независимых друг от друга
законодательств может быть мыслима не иначе, как через их общую зависимость от.
..более высокого законодательства... но для нас... недоступного. — Фихте пытается
найти единый источник законодательства природы (muß) и законодательства
свободы (soll) в их более глубокой, недоступной нашему познанию основе. И тут
первоначально он отправляется от Канта. В "Критике способности суждения"
Кант ставит именно эту проблему, стремясь нащупать связующее звено между
природой и свободой, которые оказались у него в двух первых "Критиках" почти
полностью отрезанными друг от друга. Фихте основательно штудировал
"Критику способности суждения", намеревался даже написать о ней самостоятельную
работу, причем как раз незадолго до того, как приступил к "Критике
откровения". Согласно Фихте, оба законодательства — природы и свободы —
объединены в Боге, но постигнуть это единство мы не в состоянии, оно для нас трансцен-
дентно.
35 ...мы... не сможем объяснить их [явления в чувственном мире] все из
законов природы, но некоторые вынуждены будем объяснить только по законам природы.
— Различие двух принципов — "из законов природы" и "по законам природы" —
для Фихте очень важно: таким образом он хочет подчеркнуть, что хотя всякое
действие, явление в чувственном мире подчиняется правилам протекания
природных явлений, но по своему содержанию оно не всегда может получить
исчерпывающее объяснение, если исходить только из природной закономерности.
Здесь Фихте несколько отступает от Канта и намечает контуры своей логики
истории. Кант решает этот вопрос более однозначно. "Рассудок, — пишет он в
"Пролегоменах", — есть источник всеобщего порядка природы, так как он
подводит все явления под свои собственные законы и только этим осуществляет
опыт (по его форме), в силу чего все, что познается на опыте, необходимо
подчинено законам рассудка" (Кант И. Соч. Т. 4. Ч. 1. С. 142).
36 ...Идеи сверхъестественного... суть следующие: свобода, Бог, бессмертие.— В
докантовском рационализме учение о Боге, свободе и бессмертии души было по
традиции предметом метафизики как науки о внеэмпирических
(умопостигаемых) началах всего сущего. Кант в "Критике чистого разума" разоблачал
притязания метафизики, считая, что теоретическое доказательство бытия Бога,
бессмертия души и свободы воли невозможно. Однако эти идеи разума Кант не
устраняет из ведения философии полностью: они находят свое место в
философии нравственности в качестве постулатов практического разума. Под
постулатами практического разума Кант понимает "теоретическое, но, как таковое,
недоказуемое положение, поскольку оно неотъемлемо присуще практическому
закону, имеющему a priori безусловную силу" (Кант И. Соч. Т. 4. Ч. 1. С. 455). Как
же понимает Кант постулаты практического разума? "Это постулаты бессмертия,
свободы... и бытия Божьего. Первый вытекает из практически необходимого
условия соразмерности продолжительности существования с полнотой в
исполнении морального закона; второй — из необходимого допущения независимости
от чувственно воспринимаемого мира и из способности определения своей воли
по законам некоего умопостигаемого мира, т.е. свободы; третий — из необхо-
614
Опыт критики всякого откровения
димости условия для такого умопостигаемого мира, который был бы высшим
благом при предположении высшего самостоятельного блага, т.е. бытия" (там
же. С. 466).
37 И кто захочет судиться... отдай ему и верхнюю одежду" — Мф. 5,40.
38 ...всякая вера в Бога есть вера в моральный закон... — Здесь Фихте
недвусмысленно формулирует тезис, ставший впоследствии предметом широкой
дискуссии и критики в так называемом "споре об атеизме", что Бог — это
моральный миропорядок.
39 ...все высказывания подобного рода суть не божественное откровение, а
человеческое добавление к нему... — Мы видим здесь следы влияния на Фихте
философии Спинозы. В "Богословско-политическом трактате" последнего читаем:
"У пророков были разные мнения, даже противоположные, и разные
предрассудки..." (Спиноза Б. Избр. произведения. Т.Н. С. 38). Ср. также следующее
высказывание Спинозы: "Вера в исторические рассказы, каковы бы они в конце
концов ни были, не относится к божественному закону и сама по себе не делает
людей блаженными и представляет некоторую пользу только относительно
учения..." (там же. С. 85).
40 ...нет иного средства угодить Богу, кроме соблюдения этих повелений. —
Фихте считает богослужение, таинства, молитвы и т.д. не более чем средством,
содействующим выполнению моральных заповедей, а потому не придает им
самостоятельного значения.
41 ...Бог... позволяет нам так его мыслить. — Именно понимание Бога как
личности, как Ты, к которому обращается верующий христианин,
рассматривается Фихте всего лишь как уступка человеческой чувственности, а стало быть —
слабости. Напротив, безличный моральный миропорядок, вечный и
неизменный, мыслится Фихте как подлинный Бог. Известная близость к пантеизму, в
частности к Спинозе, здесь несомненна: ведь последний, отождествив Бога с
природой, полностью исключил из него личное начало.
42 "Видевший Меня видел Отца ". — Иоан. 14,9. Ср. "Если бы вы знали
Меня, то знали бы и Отца Моего; и отныне знаете Его и видели Его.
Филипп сказал Ему: Господи! Покажи нам Отца, и довольно для нас.
Иисус сказал ему: столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня,
Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь: "покажи нам Отца"?
Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне?.." (Иоан. 14, 7—10).
Тайне Троицы, о которой здесь идет речь, Фихте придает лишь
субъективную значимость, которая определена потребностью человека в чувственном
изображении идеи разума.
43...Иисус... имел в виду именно бессмертие... не обращая внимания на...
телесную смерть. — Фихте, вероятно, имс т в виду слова Иисуса: "Слушающий слово
Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит,
но перешел от смерти в жизнь... Истинно, истинно говорю вам: наступает время,
и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавши оживут...
не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах,
услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни..."
(Иоан. 5, 24 — 29). Ср. также: "Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из
того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день;
Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верую-
615
Примечания
щий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день" (Иоан. 6,
39-40).
Фихте, отождествляя Бога с моральным миропорядком, не принимает
онтологического значения христианских таинств, а стало быть, веры в
воскресение во плоти.
44 Это становится... очевидным... из его доказательства... против саддукеев.
— Саддукеи — иудейская секта, основанная, по преданию, Садоком, который,
видимо, был первосвященником в царствование Соломона. Саддукеи, как и
фарисеи, были противниками Христа, они отрицали не только воскресение во
плоти, но и бессмертие души. Позднее, опираясь главным образом на толкование
Пятикнижия Моисеева, саддукеи выступали со скептической критикой
христианства.
45 Саддукеи... отрицали не просто телесное воскресение, но бессмертие
вообще. — "В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет
воскресения, и спросили Его: Учитель! Моисей сказал: "если кто умрет, не имея детей,
то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему". Было
у нас семь братьев: первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену
свою брату своему; подобно и второй, и третий, даже до седьмого; после же всех
умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из семи будет она женою? Ибо все
имели ее. Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Бо-
жией; ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как
Ангелы Божий, на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам
Богом: "Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова"? Бог не есть Бог мертвых, но
живых" (Мф. 22, 23-32). См. также: Лук. XX, 27-40.
Приведя речение Бога, Иисус, по свидетельству евангелиста, "привел
саддукеев в молчание" (Мф. 22,34). Однако, по мнению Фихте, приведенное
Иисусом речение не следует понимать как аргумент в пользу воскресения во плоти.'
Воскресение души Фихте склонен толковать скорее в духе пантеизма.
46 Они являются результатом математических определений... — Категории
количества (единство, множественность, целокупность) и качества (реальность,
отрицание, ограничение) носят у Канта название математических, в отличие от
категорий отношения и модальности, названных им динамическими.
Математические категории касаются предметов созерцания, тогда как динамические —
существования этих предметов (в отношении или друг к другу, или к рассудку).
См.:&7«/и//.Соч.Т.З.С.178.
47 "Кто хочет творить волю Пославшего Меня, тот узнает о сем учении, от
Бога ли оно". — Иоан. 7,17.
48 "Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету ". — Иоан. 3,20.
49 "Не здоровые имеют нужду во враче, но больные: ...Я пришел призвать не
праведников, но грешников к покаянию ". — Мф. 9, 12 — 13.
50 Они [идеалисты и скептики] мыслили как никто и поступали как все. —
Это критическое высказывание Фихте по поводу спекулятивной философии,
сделанное вполне в духе Канта, тем более примечательно, что именно Фихте
было суждено возродить — на новой, правда, почве, — спекулятивную философию в
Германии.
616
О понятии наукоучения, или так называемой философии
О понятии наукоучения, или так называемой философии
(стр. 229)
Сочинение Фихте "О понятии наукоучения, или так называемой
философии" было издано в Веймаре в 1794 г. в качестве своего рода введения к лекциям,
которые философ читал в Иене, начиная с летнего семестра 1794 г. ("Ueber den
Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie, als Einladungsschrift
zu seinen Vorlesungen über diese Wissenschaft von Johann Gottlieb Fichte,
designierten ordentlichen Professorder Philosophie auf der Universität zu Jena". Weimar, 1794).
В этом сочинении Фихте излагает замысел и общий план своих лекций, поясняя,
в чем состоит содержание понятия наукоучения, в каком отношении находится
оно к философии Канта и каковы исходные принципы этой новой "науки о
науке". Спустя четыре года, в 1798 г., Фихте переиздает "О понятии наукоучения",
исправляя и дополняя его.
На русский язык работа была впервые переведена Л.В.Успенским и
опубликована в I томе "Избранных сочинений И.Г.Фихте" (1916) под редакцией кн.
Е.Н.Трубецкого. Перевод был выполнен по полному собранию сочинений Фихте
(Fichte J.G. Sämmtliche Werke /Hrsg. von Im.H.Fichte: In 8 Bd. В., 1845 - 1846. Bd. I.
S. 27—81) с учетом текста работы, помещенного в "Избранных сочинениях" Фихте
в шести томах, изданных Ф.Медикусом в 1908 — 1911 гг. (Fichte J.G. Werke: Auswahl
in 6 Bd. /Hrsg. und eingel. von Medicus F.L. 1908 - 1911. Bd. 1,1911. S. 155 - 215).
Мы перепечатываем здесь перевод Л.В.Успенского с некоторыми
уточнениями.
1 Энезидем — греческий философ (I в. н.э.) скептического направления,
возродивший учение древнего скептика Пиррона, который отрицал всякую
возможность достоверного знания. Современники Фихте называли Энезидемом
немецкого философа Готлоба Эрнста Шульце (1761 — 1833), основное
произведение которого — "Энезидем, или О фундаменте элементарной философии,
предложенной профессором Рейнгольдом, вместе с защитой скептицизма против
притязаний критики разума" (1792). Шульце-Энезидем был одним из
оппонентов Канта и близкого к нему в начале 90-х годов Рейнгольда: Шульце считал,
что Канту не удалось опровергнуть скептицизм Юма. Острие своей критики
Шульце направлял против кантовского учения о вещи в себе, указывая, что
только благодаря допущению вещи в себе как полностью непознаваемой причины
наших ощущений критический идеализм Канта отличается от идеализма
Беркли. Однако понятие вещи в себе, по Шульце, крайне противоречиво. Либо кан-
товская вещь в себе есть нечто независимое от нашей способности
представления — и в таком случае она есть непознаваемый X, которому невозможно
приписать какую бы то ни было причинность, либо же она есть не реальность, а только
понятие, но тогда она может быть лишь трансцендентальной идеей, которая, по
мысли самого Канта, не в состоянии обосновать наше познание (см. Aeneside-
mus, oder über die Fundamente der von Professor Reinhold gelieferten
Elementarphilosophie, nebst einer Verteidigung des Skeptizismus gegen die Anmaßungen der
Vernunftkritik. В., 1792. S. 267 ff.).
Фихте видел в Энезидеме своего скептического противника и защищал от
его критики трансцендентальный идеализм Канта. В своей рецензии на книгу
Энезидема он писал: "Мысль Энезидема о такой вещи, которая обладала бы ре-
617
Примечания
альностью и свойствами независимо не только от человеческой способности
представления, но и от всякой интеллигенции, — такую мысль не мыслил еще ни
один человек... и никто не в состоянии это мыслить; всегда при этом мыслят себя
как интеллигенцию, которая стремится познать вещь" ("Allgemeine Literatur-
Zeitung", № 47,48,49.1794 //FichteIG. Sämmtüche Werke. Bd. 1.1845. S. 19).
В работе "О понятии наукоучения" Фихте дает новое обоснование
принципов трансцендентального идеализма, учитывая именно скептическую их
критику Шульце-Энезидемом.
2 Маймон Соломон ( 1754 — 1800) — немецкий философ, по своим
воззрениям близкий отчасти к Фихте, отчасти к Юму. Сын польского раввина, Маймон
еще мальчиком изучил Ветхий завет и Талмуд; философией занимался некоторое
время под руководством М. Мендельсона, но главным образом самостоятельно.
Изучая "Критику чистого разума" Канта, Маймон постепенно формирует свою
позицию в философии, которую, однако, излагает преимущественно в форме
толкования и критики кантовского учения. Первая работа Маймона — "Опыт
трансцендентальной философии" (1790) носит именно такой
полемически-комментаторский характер. Свою точку зрения Маймон называл "эмпирическим
скептицизмом": в полемике с Кантом он отрицал всеобщность и необходимость
опытного знания, а стало быть, всей науки, тем самым возвращаясь к позиции
Юма. Как и Шульце, Маймон считает кантовское понятие вещи в себе
противоречивым: если она непредставима и полностью находится вне сознания, то ее
нельзя и мыслить, а значит, и говорить о ней; если же она может быть мыслима,
то это уже не вещь в себе. Маймон также упрекает Канта в том, что тот не вывел
два ствола человеческого познания — чувственность и рассудок — из единого
корня, каковым сам Маймон считал сознание вообще, которое есть мышление в
самом широком смысле — как синтез многообразия в единство (см. об этом
работу Маймона "Опыт новой логики, или теории мышления" (Versuch einer neuen
Logik oder Theorie des Denkens. В., 1794).
Как замечает исследователь творчества С.Маймона Б.К.Энгель, именно
первые работы Фихте, выходившие в свет параллельно с сочинениями Маймона
и привлекшие к себе общее внимание (особенно "Основа общего наукоучения",
1794), оставили в тени произведения Маймона. "Произведения Маймона
никогда не стали достоянием философских кругов. В этом повинны не только
недостаток хорошего стиля и хорошего изложения, не только неспособность
Маймона к терпеливой систематической разработке своих замыслов, но прежде всего
подавляющая конкурирующая деятельность Фихте: в 1794 г. появились
одновременно "Логика" Маймона и "Основа общего наукоучения" (Engel В. С.
Vorbemerkungen zu Maimons Schriften //Maimon S. Versuch einer neuen Logik oder Theorie des
Denkens. В., 1912. S. 409). Заметим, что "конкурирующая деятельность" Фихте
смогла затмить работы Маймона именно потому, что мысль Фихте была
выражена систематичнее и продумана глубже, чем это удалось Маймону. Тем не менее
понять формирование философских воззрений Фихте невозможно без
обращения к творчеству его современников, так же, как и Фихте, осмыслявших
кантовское учение — Шульце, Рейнгольда, Бека и конечно же Маймона. Фихте ценил
философское дарование Маймона, считая его сочинения превосходными, и
выражал "безграничное уважение" к его таланту (см. письмо Фихте Маймону,
сопровождавшее посланную последнему статью "О понятии наукоучения" (Fich-
618
О понятии наукоучения, или так называемой философии
tes Leben und literarischer Briefwechsel. Bd. 2. L., 1862. S. 443). О влиянии,
оказанном Маймоном на Фихте, см.: Kuntze Fr. Die Philosophie Salomon Maimons. В.,
1912, а также статью Б.Яковенко "Философские концепции С.Маймона"
/Вопросы философии и психологии. М., 1912. Кн. 4 — 5 (114 — 115).
3 "Критика силы суждения "(Kritik der Urteilskraft) — или, как сегодня более
принято переводить, "Критика способности суждения", вышедшая в свет в 1790
г., представляет собой третью "Критику" Канта и является важным звеном
критической философии. Если в первой — "Критике чистого разума" (1781) — Кант
дает анализ теоретической способности и ее продукта — научного и
философского знания, а во второй — "Критике практического разума" (1788) — учение о
нравственности, то предметом третьей "Критики" является анализ
телеологической способности суждения, которая реализуется либо в произведениях
искусства (субъективная телеология), либо в целесообразности органической природы
(объективная телеология).
4 Рейнгольд Карл Леонард (Г)'58 — 1823) — немецкий философ, испытавший
сильное влияние Канта, чью "Критику чистого разума" он изучал, начиная с
1785 г. Плодом этих штудий было сочинение "Письма о кантовской философии"
(Briefe über die kantische Philosophie: In 2 Bd. L., 1790—1792), ясностью мысли и
дидактическим искусством вызвавшее как общий интерес, так и одобрение
Канта. Будучи талантливым лектором, Рейнгольд пользовался уважением и
студентов, и своих академических коллег. Переписка его с Кантом, Фихте, Виландом,
Якоби отражает эволюцию самого философа и дает прекрасную панораму
духовной жизни Германии тех лет (см.: Karl Leonard Reinhold's Leben und literarisches
Wirken, nebst einer Auswahl von Briefen Kant's, Fichte's, Jacobi's und anderer
philosophierenden Zeitgenossen an ihn /Hrsg. von Reinhold E. Jena, 1825). Рейнгольд
поставил перед собой задачу углубить и развить (далее) критический идеализм
Канта. Поскольку сам Кант первоначально рассматривал "Критику чистого разума"
как пропедевтику к метафизике, Рейнгольд попытался создать основание,
метафизический фундамент для трансцендентального идеализма, т.е. элементарную
философию, или, как она по традиции именовалась, philosophia prima — "первую
философию" (см. его работу Über das Fundament des philosophischen Wissens.
Jena, 1791).
Именно на этом пути Рейнгольд встречает Фихте, который ставил перед
собой сходную цель, и, начиная примерно с 1796 г., становится приверженцем и
даже энтузиастом наукоучения (см.: Reinhold К Auswahl vermischten Schriften.
Zwei Teile. Hamburg, 1796 — 1797). Убежденный, что именно наукоучение Фихте
представляет собой последовательное завершение кантовской философии,
Рейнгольд в 1799 г. пишет две статьи: "О парадоксальности новейшей
философии" и "Послание к Фихте и Лафатеру о вере в Бога". В них он стремится
показать, что, несмотря на свою кажущуюся парадоксальность, учение Фихте не
противоречит ни здравому смыслу, ни непосредственной (так называемой
"естественной") вере — напротив, наукоучение дает глубокое спекулятивное обоснование и
того и другого.
В последние годы XVIII в. Рейнгольд, как отчасти и Фихте, испытывает на
себе сильное влияние Фридриха Якоби и некоторое время пытается объединять
принципы наукоучения с философией непосредственной веры Якоби. Натура
впечатлительная и увлекающаяся, Рейнгольд в то же время был исключительно
619
Примечания
одаренным и проницательным интерпретатором творений своих выдающихся
современников. "Письма о кантовской философии", по-видимому, в свое время
оказали влияние и на Фихте — в попытке пойти дальше Канта по указанному
Рейнгольдом пути и создать "первую философию" на базе критицизма.
5 "Философский журнал общества немецких ученых"— (Philosophisches
Journal einer Gesellschaft deutscher Gelehrten) издавался Фридрихом Иммануилом
Нитхаммером, профессором философии в Йене, с 1795 по 1798 г. С 1797 г. Нит-
хаммер издавал этот журнал совместно с Фихте.
6 Метафизика... должна быть... генетическим выведением того, что
встречается в нашем сознании... — Фихте здесь заявляет о своем намерении следовать
принципам трансцендентальной философии Канта. Последний считал, что
метафизика, если она хочет быть наукой, должна заниматься "не объектами разума,
многообразие которых бесконечно, а только самим разумом, задачами,
возникающими исключительно из его недр и предлагаемыми ему собственной его
природой, а не природой вещей, отличных от него..." (Кант И. Критика чистого
разума // Соч. М., 1964. Т. 3. С. 119). Здесь, в сущности, уже объясняется
основное отличие трансцендентальной, или критической, философии от прежней,
догматической.
7 Автор... высказался... в... журнале за 1797г. ...во втором. — Фихте имеет в
виду "Первое введение в наукоучение", опубликованное в "Философском
журнале общества немецких ученых" (Philosophisches Journal. Jena; Leipzig, 1797. Bd.
V. S. 1 — 47), а также "Второе введение в наукоучение для читателей, уже
имеющих философскую систему" (Philosophisches Journal. Jena; Leipzig, Bd. V. S. 319 —
378; Bd. VI. S. 1 — 40).
8 ...знаменитойрецензией геттингенской "Ученой газеты "... — Одна из
первых рецензий на "Критику чистого разума" Канта была написана Христианом
Гарве (1742—1798) и напечатана в "Геттингенских ученых известиях" от 19
января 1782 г. Автор рецензии плохо понял учение Канта, отождествив его с
философией Беркли. Кант написал довольно резкий ответ рецензенту, который
поместил в приложении к "Пролегоменам ко всякой будущей метафизике, могущей
появиться как наука" (1783) под названием: "Образчик суждения о Критике,
предваряющего исследование" (см.: Кант И. Соч. М, 1965, Т. 4. Ч. 1. С. 198—206).
9 ...для авторов этих рецензий... большое несчастье, что они сказали то, что
они в них говорят. — Фихте здесь имеет в виду две рецензии, которые были
приложены им ко второму изданию работы "О понятии наукоучения". "Одна из этих
рецензий, — пишет Фихте, — касается произведения Шеллинга "О возможности
формы философии вообще". Она анонимна; ее автор простодушный и
тупоумный кантианец. Вторая рецензия посвящена первому изданию настоящего
произведения Фихте и его "Основе общего наукоучения"; она написана
профессором Беком из Галле и свидетельствует о том, что и этот очень одаренный
мыслитель не имел достаточной самоотверженности, чтобы признаться, что для него
наукоучение было книгой за семью печатями. Обе рецензии взяты из издаваемых
Якобом в Галле "Анналов философии" за 1795 год" (Fichte J. G. Sämmtliche Werke.
Bd. I. S. 35).
Надо сказать, что рецензия Я.С.Бека на статью Фихте была весьма
обстоятельной и не лишенной интересных замечаний (см. "Annalen der Philosophie und
620
О понятии наукоучения, или так называемой философии
des philosophischen Geistes" 16. Stück. 6 Febr. 1795. Col. 121-124; 17. Stück. 9 Febr.
1795. Col. 129-136; 18. Stück. 11 Febr. 1795. Col. 137-144).
10... один заслуженный ветеран... высказал... свое одобрение. — По-видимому,
речь идет о К.Рейнгольде.
11 ...другого изложения той же самой системы... — Фихте, как видим,
подчеркивает, что его наукоучение есть лишь другое изложение системы Канта.
12 ...оно [наукоучение] должно... вскрыть основоположения всех... наук,
которые не могут быть доказаны в них самих. — Утверждая, что частные науки не
содержат в себе своего собственного обоснования, Фихте следует классической
традиции, восходящей к античной философии. Так, Платон, а затем и
Аристотель доказывали, что частные науки принимают в качестве исходных начал
(например, аксиом и определений в математике) положения, достоверность
которых не может быть ими доказана. "...Те, кто занимается геометрией, счетом и
тому подобным, — писал Платон, — предполагают в любом своем исследовании,
будто им известно, что такое чет и нечет, фигуры, три вида углов и прочее в том
же роде. Это они принимают за исходные положения и не считают нужным
отдавать в них отчет ни себе, ни другим, словно это всякому и без того ясно"
(Государство. 110 c-d). В новое время эту проблему рассматривал особенно тщательно
Декарт, полагавший, что все здание наук должно получить свою достоверность из
некоторого высшего принципа, достоверность которого не может ни у кого
вызывать сомнений в силу самоочевидности этого принципа. Декарт считал таким
самоочевидным положением "мыслю, следовательно, существую"; как видим,
Фихте, требующий положить в основу высшей из наук — философии
основоположение "Яесмъ Я", опирается здесь на Декарта как своего предшественника. В
высшем основоположении он, как и Декарт, видит условие достоверности также
и всех частных наук.
13 В нас... вложены многие врожденные истины... — Учение о врожденных
истинах, или врожденных идеях, было одним из краеугольных камней
рационализма XVII—XVIII вв. Врожденные идеи, согласно Декарту, Спинозе, Лейбницу,
имеют доопытное происхождение, а потому носят всеобщий и необходимый
характер; благодаря им только и может быть обоснована достоверность научного
знания. Это учение восходит к древности, к платоновской теории
"воспоминания", согласно которой душа человека еще до его рождения созерцала
умопостигаемые идеи, а потому она, как бы вспоминая виденное, собственными силами
способна к познанию идеального мира.
14 Это против Энезидема. — См. примеч. 1. Критикуя Канта, Шульце- Эне-
зидем приводит также и этот аргумент: как может трансцендентальная
философия обосновать всякое человеческое знание, в том числе и еще не возникшие
науки?
15 Как возможна наука вообще? — Вопрос о том, как возможна наука, был
центральным в "Критике чистого разума" Канта. Разъясняя в "Пролегоменах"
основные идеи критической философии, Кант подчеркивает, что он ставил
перед собой задачу ответить на вопрос: как возможна наука, т.е. достоверное,
всеобщее и необходимое знание? Этот, по словам Канта, главный
трансцендентальный вопрос разделяется им на четыре других: 1) как возможна чистая
математика? 2) как возможно чистое естествознание? 3) как возможна метафизика
вообще? 4) как возможна метафизика как наука? (см.: Кант И. Пролегомены. М.,
1937. С. 38).
621
Примечания
Как видим, Фихте, желая ответить на вопрос: "Как возможна наука
вообще?", продолжает постановку проблемы, как ее видел Кант. Однако стремление
вывести все человеческое знание из одного-единственного положения — это уже
не кантовская, а специфически фихтевская задача.
16 ...все ее [науки] части связаны в одном-единственном основоположении. —
Фихте первым среди представителей немецкого классического идеализма
попытался построить философию как единую систему, выведенную из
самоочевидного первого основоположения — Кант, как известно, такой задачи перед собой не
ставил. За Фихте по этому пути пошли Шеллинг и Гегель. Последний особенно.,
высоко ценил Фихтеву идею создания философии как единой системы.
"Фихтевская философия, — писал он, — обладает великим преимуществом; она
установила, что философия должна быть наукой, исходящей из одного высшего
основоположения, из которого необходимо выводятся все определения. Важное
значение имеет это единство принципа и попытка научно последовательно развить
из него все содержания сознания или, как это тогда выражали, конструировать
весь мир" (Гегель Г.В.Ф. Соч.: В 14 т. М.; Л., 1935. Т. XI. С. 463).
17 Это почти буквальное повторение кантовского тезиса, что мы познаем в
природе то, что сами же и творим с помощью априорных форм нашего рассудка
(категорий)и трансцендентальной способности воображения. Согласно Канту,
тот античный математик, который доказал теорему о равнобедренном
треугольнике, впервые понял, "что иметь о чем-то верное априорное значение он может
лишь в том случае, если приписывает вещи только то, что необходимо следует из
вложенного в нее им самим сообразно его понятию" (Кант И. Соч. Т. З.С. 85).
Что касается естествоиспытателей, о которых здесь пишет Фихте, то они встали
на этот путь только в конце XVI—XVII в., и не случайно именно в этот период
возникло экспериментально-математическое естествознание — механика и
физика, построенная по принципам математики. В этом и состояла научная рево-.
люция в естествознании: естествоиспытатели, по словам Канта, "поняли, что
разум видит только то, что сам создает по собственному плану... " (там же). _
18 ...ему [наукоучению] нельзя предпослать... дажеЪакона противоречия... —
Согласно традиции, идущей еще от древней философии, от Платона и
Аристотеля, закон противоречия — самый первый и очевидный принцип разума, с
которого начинается мышление как таковое (разумеется, не во временном, а в
онтологическом смысле). Фихте, как видим, пересматривает этот статус закона
противоречия и тем самым пересматривает статус логики как первой науки о
мышлении. Здесь он, впрочем, опять-таки следует Канту; последний различал общую
логику как науку, отвлекающуюся от всякого содержания познания, и логику
трансцендентальную, определяющую происхождение, объем и объективную
значимость знания (см.: Кант И. Соч. Т. 3. С. 157—159).
19 Отдел третий. — Весь третий раздел с послесловием отсутствует во
втором издании. Его нет и в полном собрании сочинений Фихте.
20... чтобы засвидетельствовать мое уважение критике и... публике. — Фихте
и в самом деле представил свою следующую и важнейшую работу, "Основа
общего наукоучения" (1794), в качестве рукописи для своих слушателей, не
опубликовав ее в печати.
21 ...в своих публичных чтениях, которые я объявил под названием "Мораль для
ученых". — Эти лекции были изданы Фихте в 1794 г. под названием "Несколько
лекций о назначении ученого" (см. наст, изд., с. 203-244).
622
Основа общего наукоучения
Основа общего наукоучения
(стр. 275)
В "Основе общего наукоучения" Фихте впервые предпринял
систематическое изложение своей теории. "Основа" была издана в 1794 г. на правах рукописи
для слушателей в издательстве Габлера в Лейгшиге. Спустя несколько лет
сочинение Фихте было переиздано в неизмененном виде в Тюбингене под названием:
"Основа общего наукоучения и очерк своеобразия наукоучения в отношении к
теоретической способности" (Fichte J.G. Grundlage der gesammten
Wissenschaftslehre und Grundriss des Eigentümlichen der Wissenschaftslehre in Rücksicht auf das
theoretische Vermögen. Tübingen, 1802). В том же, 1802 г. в издательстве Габлера в
Лейпциге Фихте выпустил второе, улучшенное, издание работы.
"Основа общего наукоучения" вызвала среди философов широкий
резонанс; однако оценки работы были разные. Горячих приверженцев встретил Фихте
среди поэтов-романтиков и близкого к ним молодого философа Шеллинга. Глава
школы йенских романтиков Фридрих Шлегель, друг и ученик Фихте, отнес
"Основу общего наукоучения" к эпохальным творениям века. "Французская революция,
"Наукоучение" Фихте и "Мейстер" Гете — величайшие тенденции эпохи, — писал
Шлегель во "Фрагментах". — Кто противится этому сопоставлению, кто не
считает важной революцию, если она не протекает шумно и в материальных формах, тот
не поднялся еще до широкой и высокой точки зрения истории человечества"
(Шлегель Фр. Эстетика, философия, критика. М., 1983. Т. 1. С. 300).
Сторонником и защитником наукоучения стал уже известный философ,
предшественник Фихте на кафедре философии Йенского университета Карл
Рейнгольд, перу которого принадлежала обстоятельная рецензия на три работы
Фихте: "Основу общего наукоучения", "О понятии наукоучения" и "Очерк свое-
- образного в наукоучении". Рецензия вышла анонимно в начале января 1798 г. во
"Всеобщей литературной газете". Рейнгольд ставит Фихте в ряд самых
выдающихся философов, считая, что в "Основе общего наукоучения" удалось
разрешить ту задачу, перед которой остановился Кант. Наукоучение, по мнению
Рейнгольда, имеет целью установить чистое знание "с помощью особой чистой
науки разума, по отношению к которой кантовская критика выступает только
как пропедевтика" (Allgemeine Literatur-Zeitung. 5 — 6 Jan. 1798. Col. 34). В
отличие от критической философии Канта, наукоучение отправляется не от опыта, а
от сверхопытных принципов чистого познания, и в этом Рейнгольд видит его
преимущество. "Об этом чисто научном употреблении разума не догадывался до
сих пор никакой догматизм и никакой скептицизм, но о нем ничего не знает и не
может знать также и критицизм; ибо его возможность нельзя предвосхитить
раньше его действительности, а следовательно, нельзя и критиковать. Вместе с
наукоучением и благодаря ему для всех наук должна была бы наступить новая
эпоха, примера которой не найти во всей истории человеческого духа...
Философия не была бы более гипотетической, исходящей из не доказанных, но самих по
себе доказуемых предпосылок, но была бы абсолютной, завершенной в своем
фундаменте строгой наукой " (ibid. Col. 38).
Далеко не так восторженно отозвался об "Основе" Кант, на чье учение
опирался Фихте. Первую часть "Основы" вместе с сопроводительным письмом
Фихте сразу же после ее выхода послал Канту, и тот получил ее 6 октября 1794 г.
623
Примечания
Когда спустя почти четыре года, в июне 1798 г. Иоганн Абег передал Канту
еще одно письмо от Фихте, Кант сказал ему: "Я читаю не все его (Фихте. — П.Г.)
произведения; но недавно я прочитал рецензию на его работу в "Йенской
литературной газете" (Кант имел в виду упомянутую рецензию Рейнгольда. — П.Г.).В
первый раз я не совсем понял, чего хотел автор (имеется в виду не Рейнгольд, а
Фихте. — ИГ. ). Я прочел рецензию вторично, и мне показалось, что я кое-что
понял, но оказалось — ничего. Он (Фихте. — П.Г.) подносит вам яблоко ко рту, но
не дает вкусить его... Он всегда остается во всеобщем, не дает примера и, что еще
хуже, не может его дать, потому что не существует того, что подходит к его общим
понятиям" (Fichte in vertraulichen Briefen seiner Zeitgenossen/ Hrsg. von Schulz
Hans. L., 1923. S. 90). Год спустя Кант дал еще более резкий отзыв о наукоучении
— см. примеч. № 4 к "Ясному, как солнце, трактату".
Очень интересно отношение к "Основе" старшего современника Фихте —
Якоби, к которому Фихте питал большое почтение и мнением которого весьма
дорожил. В августе 1795 г. он послал Якоби последние листы "Основы" и
сообщал ему: "Этим летом, проводя досуг в прелестном поместье, я вновь читал и
еще, и еще перечитывал Ваши сочинения и... удивлен поразительным сходством
наших убеждений. Публика вряд ли поверит в это сходство; быть может, и Вы,
вопреки всей Вашей проницательности, не поверите, поскольку для этого от Вас
требовалось бы разглядеть в неясных контурах начала системы всю систему в
целом. Вы ведь, как известно, реалист, а я трансцендентальный идеалист, более
твердый, чем был Кант; ибо у него есть еще многообразие опыта, правда, Бог
знает, как и откуда данное; я же утверждаю без обиняков, что даже это многообразие
производится нами посредством творческой способности" (Fichtes Leben und
literarischer Briefwechsel. L., 1862. Bd. 2. S. 166).
Фихте, таким образом, формулирует одну из главных задач, которая
должна быть разрешена в "Основе общего наукоучения": вывести из спонтанной
активности # не только форму, как у Канта, но и содержание знания, т.е. объяснить
все многообразие чувственности, не допуская аффекции Я со стороны вещи
в себе.
Ответ Якоби последовал не сразу. Только в 1799 г. он пишет автору
"Основы" большое письмо, которое вскоре вышло отдельным изданием — "Якоби к
Фихте". Гамбург, 1799. (Jacobi an Fichte. Hamburg, 1799). Здесь Якоби, с одной
стороны, дает высокую оценку философскому таланту Фихте, считая автора
"Основы" наделенным "беспримерной силой мысли" (Jacobi an Fichte. S. 12). "Я
говорю это при каждом удобном случае и готов признать публично, что считаю
Вас истинным мессией спекулятивного разума, истинным сыном обетования
абсолютно чистой, в себе и через себя существующей философии... Чистую, т.е.
абсолютно имманентную философию, философию из одного куска, истинную
систему разума можно построить только фихтевским способом" (там же. С. 14).
Но эта оценка в устах философа веры Якоби далеко не так однозначна, как
может показаться на первый взгляд. Наукоучение, по мнению Якоби, позволяет
наконец ясно понять сущность науки как таковой, относительно которой до сих
пор существовало превратное представление. "Я думаю, — обращается Якоби к
Фихте, — мы вполне согласны друг с другом относительно понятия науки...
содержание всякой науки как таковой есть лишь внутреннее действие, и
необходимый способ этого в себе свободного действия составляет всю ее сущность" (там
624
Основа общего наукоучения
же. С. 10). "В себе свободное действие" — это то, что мы называем
конструированием; оно и в самом деле совершается по определенным законам; в выявлении
субъективно-имманентной природы этих законов Фихте пошел значительно
дальше Канта — это и заметил Якоби. Якоби пишет далее, что, как и Фихте, он
хотел оы, чтобы эта наука последовательно развилась до конца, но с одним
отличием от Фихте: "Вы хотели бы этого, чтобы раскрылась основа всей истины как
заключенная в науке о знании, я же хотел бы, чтобы обнаружилось, что эта основа,
т.е. само истинное, существует необходимо вне этой науки" (там же. С. 11).
Точка зрения Якоби, таким образом, прямо противоположна фихтевской:
Фихте считает возможным, исходя из чистого Я, создать универсальную науку,
объясняющую все сущее. Якоби же убежден, что в этой науке нет как раз сущего,
в ней вообще нет ничего, кроме Я и его порождений, т.е. кроме
трансцендентальной видимости. "Именно потому, — пишет он, — что, разлагая и расчленяя, я
пришел к выводу, что нет ничего, кроме Я, мне открылось, что все было Ничем,
кроме моей способности воображения, лишь известным образом ограниченной.
Из этой способности воображения я могу затем вновь собственной
деятельностью произвести все существа, какими они были, прежде чем я признал их за
ничто в качестве для себя сущих" (там же. С. 18). Критика наукоучения становится
особенно острой, когда Якоби обращается к сфере этики. Здесь разложение
реальности в видимость, совершаемое наукоучением, сказывается самым
губительным образом. По словам Якоби, его возмущает, когда в качестве блага ему
навязывают "волю, которая хочет Ничто, пустую скорлупу самостоятельности и
свободы в абсолютно неопределенном" (там же. С. 32). По Якоби, это означает
"стремление подчинить совесть, этот самый достоверный дух, живому трупу
разумности, сделать совесть слепо законнической, глухой, немой и
бесчувственной" (там же. С. 33-34).
Критика Якоби, судя по всему, произвела сильное впечатление на Фихте,
особенно чуткого к нравственной проблематике. В вышедшей год спустя работе
"Назначение человека" Фихте поразительным образом почти полностью
воспроизводит аргументацию Якоби, направленную против наукоучения! Впрочем,
некоторое влияние Якоби заметно уже и в "Основе общего наукоучения" (см.
примеч. 3).
"Основа общего наукоучения" впервые вышла на русском языке в 1916 г. в
I томе задуманного тогда "Собрания сочинений" И.Г.Фихте в переводе Б.В.Яко-
венко. Здесь мы перепечатываем этот перевод с небольшими коррективами.
Перевод сверен П.П.Гайденко.
Перевод Б.В.Яковенко выполнен по полному собранию сочинений Фихте:
Fichte J.G. Sämmtliche Werke/ Hrsg. von Im. H. Fichte: In 8 Bd. Bd. I.S. 83 - 328.
1Я скромно заявил об этом... — Фихте имеет в виду свою работу "О понятии
наукоучения, или так называемой философии", которая вышла незадолго до
публикации "Основы общего наукоучения" — в 1794 г.
2 "Очерк особенностей наукоучения по отношению к теоретической
способности ". — Эта работа появилась в 1795 г. на правах рукописи для слушателей и была
переиздана в 1802 г. См. второй том наст. изд.
3 ...жалобы... касаются главным образом восьмого параграфа... — В § 8 Фихте
вводит и определяет понятие "чувства". Я чувствует себя, по Фихте, когда оно
обнаруживает себя ограниченным чем-то внешним; однако в действительности
21-645
625
Примечания
Я чувствует не реальность чего-то вне Я, а свое собственное состояние. Без
чувства, как поясняет Фихте, нет и представления, а потому нет и влечения — этого
основного определения практического Я. Возражения со стороны приверженцев
наукоучения вызвало то обстоятельство, что с понятием чувства Фихте связал
понятие реальности. "Реальность — как реальность Я, так и реальность Не-Я,
является возможной для Я только через то отношение чувства к Я, которое мы теперь
указали". В то же время само понятие чувства Фихте, как и Якоби, тесно связал с
понятием веры и пришел к следующему заключению: "По отношению к
реальности вообще, как Я, так и Не-Я, имеет место тол ько одна вера " (там же). Здесь мы
можем видеть, что влияние Якоби сказывается уже и в "Основе общего
наукоучения".
4 Рецензент из Гаме... — Фихте имеет в виду рецензию, опубликованную во
"Всеобщей литературной газете" в 1794 г. Intelligenzblatt der Allgemeinen
Literatur-Zeitung. 1 Okt. 1794. Sp. 899. Halle; Leipzig, 1794.
5 ...дело-действие (Thathandlung). — «Попытка перевести Thathandlung
через "дело-действие" представляет собою новшество в русской философской
литературе; она оправдывается решительной невозможностью передать это
основное понятие учения Фихте каким-либо из принятых у нас терминов. Сам Фихте
не нашел для него подходящего выражения в современной ему немецкой
философской литературе и умышленно составил его из двух слов, из коих одно
означает "дело" (That), а другое — "действие" (Handlung). По его собственному
признанию, ему нужно было выразить здесь тождество дела и действия (Handlung und Tat
sind eins und dasselbe). Раз сам автор был вынужден составить на родном ему языке
новое выражение из двух слов для передачи нового сложного понятия, было бы
удивительно, если бы переводчик оказался счастливее его и сумел выразить то же
понятие на чужом языке одним словом. Следуя примеру автора и его методу
словообразования, мы в данном случае едва ли рискуем ошибиться. Если слово "дело-
действие" звучит непривычно для русского уха, то вряд ли сто двадцать лет тому
назад слово Thathandlung было привычнее для уха немецкого». (Примеч. редактора
первого издания "Основы общего наукоучения" Е.Н.Трубецкого.)
6 При изложении... дела-действия следует опасаться... что при этом не будет
мыслиться то, чего не следует мыслить. — Нужно обратить внимание на указание
Фихте, что его абсолютно первое основоположение и соответственно
дело-действие невозможно обнаружить в сознании с помощью самонаблюдения: оно не
есть факт сознания. В отличие от Канта, исходившего при анализе Я из фактов
сознания, или, как говорит Фихте, шедшего путем индукции от частного к
общему, сам Фихте выбирает метод дедукции, идет от общего к частному. Все
парадоксы и диалектика наукоучения, однако, связаны с тем, что общее, от которого
отправляется философ, есть бесконечное, неопределенное: именно таково то дело-
действие, о котором тут идет речь. Необходимость начинать именно с
бесконечного, а не конечного, как это делал Кант, Фихте объясняет следующим образом:
"От конечного нет пути в бесконечность; зато, наоборот, можно от
неопределенной и недоступной определению бесконечности прийти посредством
способности определения к конечному" {Фихте. Очерк особенностей наукоучения по
отношению к теоретической способности // Фихте. Избр. соч. Т. 1. С. 315).
7 Положение: А есть А... А=А... признается... за... совершенно достоверное и
установленное. — Закон тождества, или противоречия, начиная с античности, ко-
626
Основа общего наукоучения
гда он был сформулирован Аристотелем, признавался самым достоверным
положением логики, условием возможности мышления вообще.
8 ...бытие... есть Я как абсолютный субъект. — В сущности, абсолютное Я
Фихте выступает в качестве Бога, ибо только в Боге самополагание и бытие
совпадают. Однако Фихте вводит Абсолютное Я не традиционным путем: оно
выступает у него не как субстанция, а как самосознание, а к этому понятию всегда
примешивается неистребимо психологический момент. Неудивительно, что еще при
жизни философа его Абсолютное # получало разные истолкования. Один из
первых критиков Фихте, Карл Баггезен, писал: "Я есмь, потому что я есмь!" — Так
может воскликнуть только чистое Я; а чистое Я — это не Фихте, не Рейнгольд, не
Кант: чистоеЯесть Бог" (Fichte in vertraulichen Briefen seiner Zeitgenossen. S. 15). В
том же духе толковали Абсолютное# современники философа — Гете и Шиллер;
в переписке не без юмора упоминается фихтевское Я, для которого мир — это
мяч: Ябросает его, а потом вновь ловит посредством рефлексии (там же. С. 27,47
и ел.). И сегодня вопрос о природе фихтевского Абсолютного Я остается
по-прежнему открытым. Точку зрения, близкую к высказанной Баггезеном, разделяют
Р.Кронер, Г.Радермахер и др. Современная исследовательница творчества Фихте
К.Глой справедливо отмечает: "Я первого основоположения характеризуется
предикатами, которые обычно приписываются Богу: абсолютность,
бесконечность, неограниченность, отсутствие противоположности. При описании
Абсолютного Я Фихте использует категории, которые традиционно употребляла
теология и философия Спинозы, например, causa sui (причина самого себя). Aseität
(самобытие), ens necessarium (необходимое сущее) и omnio realitatis (всереаль-
ность). (Gloy К. Die drei Grundsätze aus Fichtes "Grundlage der gesamten Wissen-
schaftslehre" von 1794// Philosophisches Jahrbuch. Jg. 91. 2. Halbd. Freiburg;
München. 1984. S. 290 - 291).
С другой стороны, Н.Гартман, Г. Гаймзет, М.Вундт, В.Янке считают, чтоЯ
первого основоположения надо понимать как идею, или идеал, к которому
стремится конечное эмпирическое Я, но которого не может достичь иначе, как в
бесконечном процессе движения к нему. Н.Гартман подчеркивает, что Абсолютное
Я — это человеческое самосознание (Hartmann N. Die Philosophie des deutschen
Idealismus. В., 1923. Bd. I, S. 52). Согласно Г.Гаймсету, Абсолютное Я имеет у
Фихте лишь идеальный статус: речь идет об идее Бога в человеческом сознании,
идее, тождественной моральному миропорядку, который должен быть
осуществлен в бесконечном историческом процессе (Heimsoeth H. Fichte. M., 1923. S. 147).
Близкую точку зрения разделяли и русские философы — ИАИльин, Б.
Вышеславцев {Ильин НА. Кризис идеи субъекта в наукоучении Фихте Старшего //
Вопросы философии и психологии. М. 1912. Кн. 112; Вышеславцев Б. Этика Фихте.
М., 1914).
Мне думается, что все затруднения при интерпретации Абсолютного Я
возникают оттого, что ему в принципе нельзя дать однозначную характеристику.
С одной стороны, правы те, кто указывает на божественные атрибуты
Абсолютного Я; с другой стороны, нельзя не согласиться с теми, кто видит в Абсолютном
Я идею, идеал конечного Я. Дело в том, что абсолютное бытие Я Фихте относит к
сфере практического, связывая его с принципом автономии воли,
сформулированным Кантом. Этика Канта, ее категорический императив, требует в качестве
предпосылки тезис об автономии Я, которое само дает себе закон и ему подчиня-
21*
627
Примечания
ет свои поступки. Фихте истолковывает автономное Я как Я абсолютное: "Как
мог бы он (Кант. — П.Г.) прийти к установлению некоего категорического
императива как абсолютного постулата согласования с чистым Я, не исходя при этом
из предпосылки некоторого абсолютного бытия Я, через которое полагалось бы
все... Только потому, что Я само является абсолютным и лишь постольку,
поскольку оно абсолютно, оно обладает правом абсолютно постулировать" (см. с.
627-628 настоящего издания "Основы"). Как видим, Абсолютное Я, так же, как и
кантовский категорический императив, — это не столько реальность, сколько
требование, задача, которая еще только должна быть осуществлена, т.е. это идеал
практического разума. И именно этот идеал становится у Фихте исходным и
всеопределяющим началом системы.
9 Я первоначально полагает безусловно свое собственное бытие. — Бытие Я у
Фихте определяется как продукт полагания: актом самодеятельности Я
порождает себя. Категория бытия в трансцендентальном идеализме Фихте оказывается,
таким образом, производной, зависимой от первичной деятельности Я. Фр.Шле-
гель, убежденный приверженец наукоучения, очень точно передал смысл этого
переосмысления категории бытия: "Дух — это деятельная жизнь: Я, дух, жизнь,
деятельность, движение, изменение суть одно. Бытие же состоит в постоянном
покое, неподвижности, отсутствии какого-либо изменения, движения и жизни,
т.е. в смерти (Шлегелъ Фр. Эстетика, философия, критика. М., 1983. Т. 1. С. 138).
Однако спустя небольшое время тот же Фридрих Шлегель уже более критически
подошел к этой гипертрофии субъективного начала и его активности,
порождающей все сущее: "...Источник недоразумений, встречающихся у Фихте уже на
первом шагу и тормозящих затем ход его мысли, — писал он в 1804—1805 гг., —
состоит в делании Я в противоположность нашему обретению Я как части нас
самих и как части или производного от Пра-Я" (там же. С. 155).
-10 Маймоновский скептицизм... — О философских взглядах Маймона См.
примеч. 2 к работе Фихте "О понятии наукоучения". В данном случае Фихте
имеет в виду сочинение Маймона "Streifereien im Gebiete der Philosophie"
С'Партизанские налеты в области философии"), точнее, первую часть этого сочинения,
изданную в Берлине в 1793 г. Маймон ставит здесь вопрос о реальности
принципов практической философии и приходит к заключению, что не существует
никаких всеобщих (априорных) законов опыта (например, закона о том, что все
имеет свою причину), о которых говорит Кант и с помощью которых
критическая философия могла бы подтвердить свою реальность.
11 ...Кант... нигде не установил его определенно как основоположение. — См.:
Кант И. Критика чистого разума //Соч. Т.З. С. 181 и ел. — раздел
"Трансцендентальная дедукция чистых рассудочных понятий".
12 ...Картезий... положение: cogito ergo sum... считал для себя возможным
рассматривать также как непосредственный факт сознания. — Си:. Декарт Р.
Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в
науках //Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 250—297. "...Заметив, что истина я мыслю,
следовательно, я существую столь тверда и верна, что самые сумасбродные
предположения скептиков не могут ее поколебать, я заключил, что могу без опасений
принять ее за первый принцип искомой мною философии" (там же. С. 269).
13Рейнгольдустанавливает принцип представления... — О философских
воззрениях Рейнгольда см. примеч. 4 к работе Фихте "О понятии наукоучения".
628
Основа общего наукоунения
14 Спиноза Бенедикт (1632—1677) — голландский философ, один из
ведущих представителей классического рационализма XVII в. Испытав на себе
сильное влияние Декарта, Спиноза развил его идеи в пантеистическом направлении.
Прежде чем Фихте познакомился с критической философией Канта, он изучал
философию Спинозы и находился под воздействием последней.
15 Первое [чистое сознание] он полагает в Боге... второе [эмпирическое
сознание]... полагает в отдельные модификации Божества. — В "Этике" Спинозы
читаем: "Все, что только имеет место в объекте идеи, составляющей
человеческую душу, все это должно быть воспринимаемо человеческой душой, иными
словами, в душе необходимо будет существовать идея этого..." {Спиноза. Избр.
произв.: В 2 т. М., 1957. Т.1. С. 413). "Формальное бытие идей есть модус
мышления... т.е. модус, выражающий известным образом природу Бога, поскольку Он
есть вещь мыслящая" (там же. С. 406). Эта мысль разъясняется далее: "Отсюда
следует, что сущность человека составляют известные модификации (модусы)
атрибутов Бога. В самом деле, субстанциальность... не присуща сущности
человека. Следовательно, сущность человека... составляет нечто существующее в
Боге, что без Бога не может ни существовать, ни быть представляемо..." (там же. С.
411). И далее: "Мышление составляет атрибут Бога, иными словами, Бог есть
вещь мыслящая" (там же. С. 404).
16 ...толкнуло его к... системе... стремление установить в человеческом
познании высшее единство. — Таким единством в системе Спинозы является
субстанция, т.е. пантеистически истолкованный Бог.
17 Лейбниц Готтфрид Вильгельм (1646 — 1776) — выдающийся немецкий
философ-рационалист. У Лейбница и в самом деле есть ряд моментов,
сближающих его со Спинозой, но в то же время нельзя упускать из виду, что Лейбниц дал
глубокую критику учения Спинозы, отстаивая права индивидуального начала
против спинозовского унитаризма. Маймон, а за ним и Фихте не вполне
правомерно слишком сближают системы Лейбница и Спинозы.
18 "О прогрессах философии..." — В названной статье С.Маймон писал: "В
пятом разделе я показал сходство между способом мышления Лейбница и
древнейших философов, а также указал на большое сходство, которое можно
обнаружить между Лейбницем и Платоном среди древних и между Лейбницем и
Спинозой среди новейших философов" (Maimon S. Streifereien im Gebiete der
Philosophie. T. 1. В., 1793. S. 56).
19 Ограничить что-нибудь — значит уничтожить его реальность путем
отрицания не всецело, а только отчасти. — Синтезирование противоположностей
путем их взаимного ограничения — ключевой методологический прием Фихте,
составляющий своеобразие его диалектики. Этот метод взаимоограничения
противоположностей — в данном случае наиболее радикальных—Я и Не-Я —
восходит опять-таки к Канту, а именно к кантовскому способу разрешения третьей
антиномии, где Кант устанавливает противоречие между свободной и природной
необходимостью. Это противоречие сам Кант разрешает, указывая разные сферы
применения этих двух взаимоисключающих начал: в мире явлений, по Канту,
господствует необходимость, тогда как в интеллигибельном мире, в мире вещей в
себе открывается место для свободы. В результате эти два принципа больше не
могут притязать на абсолютную реальность — они ограничивают друг друга. Это
кантовское решение проблемы Фихте позаимствовал уже в ранней работе "Опыт
629
Примечания
критики всякого откровения", где взаимно исключают друг друга два
положения: "признание откровения невозможно" и "признание откровения
возможно". Фихте прибегает к кантовскому открытию: он указывает, что оба — и тезис и
антитезис — истинны отчасти: в сфере теории откровение признано быть не
может, тогда как для веры откровение возможно.
В "Основе общего наукоучения" эта схема приобретает у Фихте
фундаментальное значение. Здесь основной синтез — синтез Я и Не-Я — объединяет
крайние противоположности — идеальное и реальное, дух и природу,
субъективное и объективное путем взаимоограничения, т.е. на основании
количественного принципа — принципа делимости. Все остальные возможные синтезы уже
имеют здесь условие своей возможности, они как бы потенциально содержатся в
первом синтезе. Взаимоопределение представляет собою исходный принцип, а
такие категории, как субстанциальность и причинность, оказываются
производными от этого начала. А поскольку взаимоопределение — это отношение, то
именно отношение играет в системе Фихте ту роль, какую в прежней философии
со времен Аристотеля играла субстанция, бытие как таковое. Вот почему
выведение отношения, т.е. взаимоопределения, оказывается первым и решающим
звеном во всем построении теоретического наукоучения. И вполне справедливо
поэтому немецкий исследователь Фихте В. Янке называет диалектический метод
Фихте, примененный в "Основе", "лимитативным", в отличие от
"спекулятивного" метода гегелевской "Логики" и от "негативной" диалектики Канта (Janke
W. Limitative Dialektik.// Fichte-Studien. Amsterdam; Atlanta. 1990. Bd. 1.
S. 20 —21).
20 Абсолютное Я первого основоположения... есть лишь то, что оно есть, и
этому нельзя дать дальнейшего объяснения. — Абсолютное Я первого
основоположения не может иметь никаких предикатов, подобно Божеству отрицательной
теологии; именно здесь можно видеть, что Абсолютное Я Фихте берет на себя
функции Бога. Но при этом оно не перестает быть Я, т.е. непосредственной
данностью сознания. Тут и заключен главный парадокс наукоучения (ср. примеч. 8).
21 ...действие, которое в сравниваемых [вещах] ищет признака...
называется... аналитическим приемом... при таком обозначении не совсем исключается
взгляд, будто... можно добыть... нечто такое, чего сначала в него не вложили
синтезом... — Фихте критикует здесь кантовское понимание аналитического суждения
как такого, в котором предикат в скрытой форме уже содержится в субъекте
суждения, в отличие от синтетического, где предикат не заключается в субъекте, а
присоединяется к нему извне. "Аналитический характер, — пишет Кант, —
имеют те суждения (утвердительные), в которых связь предиката с субъектом
мыслится вследствие тождества, а те суждения, в которых эта связь мыслится без
тождества, должны называться синтетическими (Кант И. Критика чистого разума.
С. 29). Аналитические суждения, по Канту, в отличие от синтетических, для
своего образования не нуждаются в опыте, так как они лишь выявляют путем анализа
то, что уже содержалось неявно в понятии субъекта.
22 Знаменитый вопрос, который Кант поставил во главу угла "Критики
чистого разума "... — "Истинная задача чистого разума, — пишет Кант, —
заключается в следующем вопросе: как возможны априорные синтетические суждения?"
№«/и Я. Соч. Т. 3. С. 117).
630
Основа общего наукоучения
23 Поэтому Кант и его последователи... назвали эти суждения
бесконечными..-. — Бесконечными Кант называет суждения с отрицательным предикатом.
По своей форме бесконечные суждения не отличаются от утвердительных,
например: "Душа есть нечто несмертное". Однако по содержанию эти суждения
отличаются от просто утвердительных. Это различие Кант поясняет так: "Так как
из всего объема возможных существ смертное занимает одну часть, а несмертное —
остальную, то своим суждением я высказал лишь, что душа есть одна из
бесконечного множества вещей, остающихся в том случае, если устранить все
смертное... Этим бесконечная сфера всего возможного ограничивается в том
отношении, что от нее отделяется все смертное и в остальной ее объем включается
душа..." (Кант И. Соч. Т. 3. С. 169 - 170).
24 Поскольку догматизм может быть последователен, спинозизм является
наиболее последовательным его продуктом. — Подчеркивая, что критицизм
полярно противоположен догматизму, Фихте указывает на очевидное различие:
догматизм исходит из объективно сущего, субстанции, критицизм же — из субъекта, из
Я. Хотя к догматизму можно было бы отнести всю предшествующую Фихте
философию, за исключением разве что Канта (да и то отчасти), тем не менее
наиболее продуманную и завершенную систему догматизма Фихте видит в
спинозизме, с которым и ведет постоянную полемику. Но самое интересное и неожидан-
ноесостоит в том, что из всех предшествующих философов именно к Спинозе
Фихте оказывается ближе всего. Во-первых, в плане методологическом: и тот и
другой строят монистические системы путем дедуктивного выведения следствий
из принятого основоположения, т.е. первопринципа. Во-вторых, оба начинают
со сходного определения своего первопринципа: у Фихте это — Я, которое само
вызывает себя к бытию (самополагание) и только самим собою определяется; у
Спинозы же это — субстанция, которая есть "то, что существует само в себе и
представляется само через себя..." (Спиноза. Избр. произв. Т. 1. С. 364). Как
субстанция у Спинозы, так и Я у Фихте — причина самого себя (causa sui).
Положение "субстанция есть" — столь же самодостоверно и ниоткуда не выводимо, как¥
фихтевское Яесмь. Хотя Фихте убежден, что его исток — критическая философия
Канта, однако от Канта его отличает общий со Спинозой рационалистический
априоризм, стремление вывести всю систему из единого первопринципа.
Различие в том, что у Спинозы мы видим пантеизм^природы, у Фихте — парадоксаль-
ным образом — пантеизм свободы; но оба варианта пантеизма равно
противостоят теизму как "учению о личном Боге и связанному с теизмом персонализму,
что хорошо показал уже современник Фихте Якоби.
25 Юм Давид (1711 — 1776) — английский философ эмпирико-позитивист-
ского направления, углубивший и радикализировавший ту критику метафизики,
которую он нашел у своего предшественника Джона Локка. По отношению к
возможности достоверного научного и философского знания позицию Юма
можно назвать скептицизмом: он не только доказывал невозможность создания
рационалистической метафизики, но не признавал также всеобщего и
необходимого знания в области науки (за исключением математики). Юм анализировал
человеческое познание, особенно такие фундаментальные понятия, как
причинность и субстанция, и пришел к выводу, что нельзя признавать реальным ничего,
кроме того, что основано на опыте (как внешнем, так и внутреннем) и что,
следовательно, человеческое познание не может выйти за пределы опыта. Критика
метафизики, как ее осуществил Юм, оказала большое влияние на многих филосо-
631
Примечания
фов, в том числе и на Канта; последний, однако, попытался найти выход из
юмовского скептицизма.
^Маймон. — См. примеч. 10.
21Энезидем — греческий философ-скептик, живший в I в. н.э. Этим именем
Фихте и его современники называли философа Готлоба Эрнста Шульце (1761 —
1833), назвавшего свою работу "Энезидем, или О фундаменте элементарной
философии, предложенной профессором Рейнгольдом, вместе с защитой
скептицизма против притязаний критики разума" (1792). Подробнее о взглядах Шуль-
це-Энезидема см. примеч. 1 к работе "О понятии наукоучения".
28 ...Спиноза полагает основание единства сознания в некоторой субстанции,
в которой сознание... определяется как со стороны материи... так и со стороны
формы... — В "Этике" Спиноза пишет: "Идея Бога, из которой бесконечными
способами вытекает бесконечно многое, может быть только одна. Доказательство.
Бесконечный ум... постигает только атрибуты Бога и его модусы. Но Бог един...
Следовательно, и идея Бога, из которой вытекает бесконечно многое бесконечно
многими способами, может быть только одна" (Спиноза. Избр. произв. Т. 1. С.
405-406).
29 ...мышление и протяженность Спинозы. — Согласно учению Спинозы,
мышление (интеллигенция) и протяжение суть атрибуты субстанции.
30 ...категория определения (ограничения, у Канта — лимитации). — Кант
указывает три категории качества: реальность, отрицание, ограничение
(Критика чистого разума. Кант И. Соч. Т. 3. С. 175). Как поясняет Кант, третья
категория возникает из соединения второй и первой категории данного класса (в
данном случае — качества): "ограничение — это реальность, связанная с
отрицанием" (там же. С. 178). Фихте характеризует ограничение как определение (ср.
формулу Спинозы: "Определить — значит ограничить").
31 Это — то же самое, что у Канта называется отношением... — Кант сле^
дующим образом определяет отношение: отношение есть нечто такое, что может
существовать лишь как следствие чего-то другого {Кант И. Соч. Т. 3. С. 296). В
сущности, это классическое определение отношения, восходящее еще к
Аристотелю: сущность, — говорит Аристотель, — это то, что существует само через себя,
а отношение — это то, что существует благодаря другому.
32 ...[математика]... отвлекается от всякого качества и имеет в виду только
количество. — Следует отметить, что и в математике не всегда полностью
отвлекались от качества; не случайно господство принципа относительности, а вместе
с ним и применение отрицательных величин появляется лишь в эпоху
Возрождения: ни в античной, ни в средневековой математике отрицательных величин еще
нет.
( уНе-Яне имеет никакой реальности — это положение чрезвычайно важно по
своим последствиям. — В предшествующей философии, включая и Канта,
деятельное состояние рассматривалось как спонтанная активность субъекта; что же
касается состояния страдательного, то оно объяснялось воздействием на
субъекта некоторого внешнего предмета, аффицированием чувственности со стороны
вещи в себе. Не принимая ничего, кроме Я, Фихте должен и страдательное
состояние объяснить, исходя из деятельности Я; с этой целью он ниже вводит
понятие делимого Я.
34 Ursache в переводе с немецкого означает "перво-вещь" (перво-реаль-
ность, как поясняет Фихте).
632
Основа общего наукоучения
35 ...все границы должны исчезнуть, и должно остаться одно только
бесконечное Я как нечто единственное и всеединое. — Здесь можно видеть сходство
философии Я Фихте с философией субстанции Спинозы; столь решительно
противопоставляемые Фихте как противоположность догматизма и критицизма, эти
системы сходятся между собой в стремлении устранить реальность конечного,
единичного. И Спиноза и Фихте устраняют христианский персонализм.
36 В предположенном случае Я было бы... ограничено, но не сознавало бы...
своего ограничения. — Для объяснения страдательного состояния Я без всякого
воздействия со стороны Не-Я Фихте вынужден, как видим, допустить
существование бессознательной деятельности Я, которое ограничивает себя, само того не
сознавая. Именно от Фихте ведет свое начало то широкое течение в европейской
философии и психологии, которое делает предметом своего внимания
бессознательную деятельность.
37 ...предположение трансцендентного идеализма... — Говоря о
трансцендентном идеализме, Фихте в данном случае имеет в виду учения Декарта, Спинозы,
Лейбница и других представителей докантовского рационализма, которые, в
отличие от трансцендентального идеализма Канта и самого Фихте, исходили не из
субъекта, не из Я, а из объекта {Не-Я, или субстанции). Тем самым эти
философы, по выражению Канта, пользовались рассудком недозволенным способом,
поскольку вынуждены были выходить за пределы опыта и потому применяли
понятия разума в той сфере, где они не имеют действительной значимости.
38 ...Якак таковое... обладает способностью... предустановленной гармонии...
— Теория предустановленной гармонии играла важную роль в философии
Лейбница. Согласно учению Лейбница, субстанциальные единицы бытия, монады,
будучи совершенно замкнутыми каждая в себе ("монады не имеют окон"),
неспособны воздействовать друг на друга и что бы то ни было узнавать друг о друге.
В то же время каждая из монад — а монады, по Лейбницу, суть психические
единицы, наделенные представлениями и влечениями, — переживает те же
состояния, что и все остальные, но не в силу взаимодействия, а в силу
предустановленной гармонии, которая устроена верховным мастером мира — Богом-творцом. В
силу предустановленной гармонии возникает согласованность между
состояниями монад, составляющих душу и тело, так что душа в каждый момент
представляет именно то, что происходит в теле, — без всякой причинной связи между
монадами души и тела. Таким образом, предустановленная гармония является
гарантом всеобщего мирового порядка и связи.
39 ...между страдательным состоянием Я и деятельностью Не-Я полагается
некоторая независимая деятельность... последнего. — Независимая деятельность
— это бессознательная деятельность Я, которая никогда не может быть
предметом опыта и без которой Фихте не может объяснить страдательное состояние Я,
не обращаясь к допущению вещи в себе.
40 Она [абсолютная деятельность] именуется силой воображения... —
Продуктивная способность воображения играет важную роль в учении Канта. В
"Критике чистого разума" она выступает как посредствующее звено между
чувственностью и рассудком; только с ее помощью чувственное многообразие
может быть подведено под единство понятия, т.е. может быть осуществлен
трансцендентальный синтез. Деятельность воображения, как подчеркивает Кант,
находится на грани бессознательного. Как раз бессознательный характер деятель-
633
Примечания
ности воображения особенно существенен для Фихте, поскольку ему
необходимо вывести из спонтанности Я также и его страдательное состояние (аффициро-
ванность со стороны Не-Я). Именно продуктивная способность воображения и
есть, согласно Фихте, независимая деятельность, которая определяет
взаимосмену действия-страдания и, в свою очередь, определяется этой взаимосменой. Что
значит, согласно Фихте, смена действия страданием? Эта смена есть результат
того, что деятельное Я само полагает свою противоположность и ею
ограничивает себя. Но для того, чтобы эти противоположные моменты не разорвали
единство Я, нужен некий средний термин, в качестве которого и выступает
независимая деятельность.
41 Мы можем поставить человека... в... затруднительное положение, если
допустим, что Не-Я... воздействует на Я без всякого содействия со стороны...
последнего, как бы доставляет некоторый материал... — Здесь Фихте излагает точку
зрения Канта, считавшего, что материя чувственности есть результат воздействия на
Я внешнего ему предмета.
42... данный способ приводит к... количественному реализму... — Говоря о
"количественном реализме", Фихте подразумевает Канта, реалистически
объяснявшего пассивное состояние Я, т.е. рассматривавшего ощущения как результат
аффинирования субъекта со стороны вещи в себе. Фихте видит ограниченность
позиции Канта в том, что последний не может (и не стремится) объяснить
познавательный процесс, исходя из одной лишь спонтанности Я, а потому считает закон
синтеза не субъективным и идеальным, а объективным и реальным. Другими
словами, количественный реализм, по Фихте, не выводит ограничение Я, а
рассматривает это ограничение как данное, как наличное в Я без его содействия.
Фихте убежден, что кантовскую вещь в себе следует понимать только как ноумен,
как нечто, что нами только "примысливается к явлению и, согласно этим
законам, должно примысливаться. Здесь лежит краеугольный камень кантовского
реализма... Мыслить нечто как вещь в себе, т.е. наличное независимо от меня,
эмпирического, я должен, стоя на точке зрения жизни, где Я есмь только нечто
эмпирическое; а поэтому я ничего не знаю о своей деятельности в этом
мышлении, потому что она не свободна. Лишь встав на философскую точку зрения, я
могу умозаключать об этой деятельности в моем мышлении" (Fichte J.G. Säm-
mtliche Werke: In 8 Bd. Bd. I. S.482 - 483).
43 ...[количественный реализм]... необходимо отличать от... качественного
реализма. — Реализм, по Фихте, исходит из убеждения, что содержание, материя
представлений (ощущения) дается сознанию извне. Качественным реализмом,
как видно уже из контекста, Фихте считает такую точку зрения, согласно которой
страдательное состояние Я, т.е. чувственное впечатление, есть результат
воздействия объекта, Не-Я. В терминах наукоучения качественный реалист ищет
причину ограничения в Я в активности Не-Я. Эту философскую гипотезу Фихте
полностью отвергает.
44 Кант доказывает идеальность объектов, отправляясь от предполагаемой
идеальности времени и пространства... — Кант действительно предполагает
идеальность времени и пространства как априорных форм чувственности и, исходя
из этого, доказывает идеальность объектов опыта. "...Совершенно
несомненно, что пространство и время как необходимые условия всякого (внутреннего и
внешнего) опыта суть лишь субъективные условия всякого нашего созерца-
634
Основа общего наукоучения
ния, в отношении к которому поэтому все предметы суть только явления, а не
данные таким образом вещи сами по себе... Вещь сама по себе не познается из
одних только отношений. Отсюда следует, что так как внешнее чувство дает нам
лишь представления об отношении, оно может содержать в своих
представлениях только отношение предмета к субъекту, а не то внутреннее, что присуще
объекту самому по себе. С внутренним созерцанием дело обстоит точно так же"
(КантИ. Соч.Т.З.С. 148-149).
45 ...он [Кант]... хочет создать не науку, а только пропедевтику к ней... — В
"Критике чистого разума" Кант так поясняет свою точку зрения: "Органоном
чистого разума должна быть совокупность тех принципов, на основе которых
можно приобрести и действительно осуществить все чистые априорные знания.
Полное применение такого органона дало бы систему чистого разума. Но так как
это значило бы требовать слишком многого (в русском издании не совсем точно:
"так как эта система крайне желательна". — П.Г.)и еще неизвестно, возможно ли
и здесь вообще какое-нибудь расширение нашего знания и в каких случаях оно
возможно, то мы можем назвать науку, лишь рассматривающую чистый разум,
его источники и границы, пропедевтикой к системе чистого разума. Такая
пропедевтика должна называться не учением, а только критикой чистого разума, и
польза ее по отношению к спекуляции в самом деле может быть только
негативной; она может служить не для расширения, а только для очищения нашего
разума и освобождения его от заблуждений, что уже представляет собой
значительную выгоду" (Кант И. Соч. Т. 3. С. 120—121). Тем не менее заявление Фихте о
том, что он (Фихте) создает ту самую науку философии, к которой Кант
подготовил только пропедевтику, вызвало раздражение Канта и довольно резкую оценку
наукоучения (см. примеч. 4 к работе Фихте "Ясное, как солнце").
46 ...субстанция обозначает собою не длящееся, а всеохватывающее... — Тра-
диционно-понятие субстанции обозначало прежде всего нечто само по себе
сущее, устойчивое, пребывающее и в этом смысле именно длящееся. В своем
стремлении придать несколько иной акцент понятию субстанции, определив ее
не столько как сохраняющееся, сколько как всеохватывающее, Фихте исходит из
того значения этого понятия, какое ему придал Спиноза: у Спинозы субстанция
действительно истолкована как всеохватывающее, согласно пантеистической
формуле: единое есть все.
47 ...достаточно... чтобы для Я существовал... некоторого рода толчок... —
Толчок, о котором здесь идет речь, выполняет очень важную функцию в системе
наукоучения: он впервые делает возможным само теоретическое Я, или
интеллигенцию. А поскольку Фихте отождествляет интеллигенцию с конечными, то
благодаря толчку, смысл которого выясняется только в учении о практическом Я,
впервые возникает конечное Я.
48 Один из крупнейших мыслителей нашего времени... называет это обманом
посредством силы воображения. — Фихте имеет в виду С.Маймона, который,
отправляясь от Канта, следующим образом осмыслял понятие продуктивной
способности воображения: "...Задача истинного философа не в том, чтобы
выяснить, имеет ли наше познание реальное основание вне познавательной
способности; это реальное основание может быть выведено из самой познавательной
способности, как утверждают критические философы, и если он с ними соглашает-
635
Примечания
ся, то это происходит только потому, что благодаря этому высшее возможное
систематическое единство содержится в нашем сознании, благодаря чему все в нем
может быть объяснено в точнейшей связи. Напротив, утверждения догматиков о
вещах в себе совершенно пусты, потому что из них ничего в нашем познании
объяснить нельзя. Изобретение фикций для расширения и систематического
упорядочения наук есть дело разума. Представление этих фикций как реальных
объектов есть дело силы воображения "(Maimon S. Versuch einer neuen Logik oder
Theorie des Denkens. S. XXXV-XXXVI).
49 ...абсолютный продукт деятельности Я... ноумен. — Ноумен, по Канту, в
отличие от феномена, т.е. от чувственно воспринимаемого явления, представляет
собой умопостигаемый предмет, который, по словам Канта, "следует мыслить не
как предмет чувств, а как вещь в себе (исключительно посредством чистого
рассудка)" (Кант И. Соч. Т. 3. С. 309). Но поскольку рассудок может давать
познание, лишь опираясь на чувственное созерцание, то понятие ноумена у Канта
имеет только негативное применение: "Понятие ноумена есть только
демаркационное понятие, служащее для ограничения притязаний чувственности" (там
же. С. 310). Фихте разделяет кантовское понимание ноумена.
50 ...они образуют то, что называется способностью суждения. — Поскольку
Фихте, как правило, отправляется от кантовских понятий, давая им свою
интерпретацию, то для пояснения приведем кантовское определение способности
суждения. "Если рассудок вообще провозглашается способностью устанавливать
правила, то способность суждения есть умение подводить под правила, т.е.
различать, подчинено ли нечто данному правилу... или нет" (Кант И. Соч. Т. 3. С. 217).
Мышление, согласно Канту, состоит в том, чтобы относить данное созерцание к
предмету, т.е. превращать его в нечто объективное. Сама категория рассудка не
может — без отнесения к многообразию созерцания — определять объект. Для
применения категории к этому многообразию чувственности необходима имен- '
но способность суждения, которая выполняет функцию подведения предмета
под понятие. Эту функцию способность суждения осуществляет с помощью
трансцендентальной схемы (там же. С. 305—306).
51В этом содержится основание установленных Кантом антиномий. —
Антиномии чистого разума, установленные Кантом, — это противоречия, в
которые, по Канту, с необходимостью впадает разум, когда пытается выйти за
пределы опыта. В результате возникают "умствующие положения, которые не могут
надеяться на подтверждение опытом, но и не должны опасаться опровержений с
его стороны; при этом каждое из них не только само по себе свободно от
противоречий, но даже находит в природе разума условия своей необходимости; однако,
к сожалению, и противоположное утверждение имеет на своей стороне столь же
веские и необходимые основания" (Кант И. Соч. Т. 3. С. 400). Этот разлад разума
с самим собой возникает всякий раз, когда разум пытается решить наиболее
фундаментальные философские вопросы: конечен или бесконечен мир во времени и
в пространстве; состоит ли сложная субстанция из простых частей или в мире нет
ничего простого (неделимого); следует ли допустить в мире свободную
причинность или все совершается только по законам природы; существует или нет
необходимая сущность (Бог) как причина мира.
52... форма его [Бога] есть форма самого чистого разума. — Тут мы можем
видеть, что Абсолютное Я, Я первого основоположения, из которого исходит
636
Основа общего наукоучения
Фихте, нертождествляется философом с Божеством. И хотя Абсолютному Я, как
уже отмечалось, приписываются атрибуты Бога, тем не менее это Я совпадает с
нашим самосознанием. Что же касается Бога, то, как поясняет здесь Фихте, он
недоступен мышлению и познанию.
53 Категорический императив Канта. — Категорический императив, т.е.
абсолютное повеление как непреложный закон для разума, — основной принцип
кантовской этики. "Каждая вещь в природе действует по законам, — пишет
Кант. — Только разумное существо имеет волю или способность поступать
согласно представлению о законах, т.е. согласно принципам... Воля есть
способность выбирать только то, что разум, независимо от склонности, признает
практически необходимым, т.е. добрым... Представление об объективном принципе,
поскольку он принудителен для воли, называется велением (разума), а формула
веления называется императивом "(Кант И. Соч. Т. 4. Ч. 1. С. 250—251).
Императив может быть либо гипотетическим, либо категорическим. Если поступок
хорош как средство для достижения какой-то другой цели, то мы имеем
гипотетический императив; если же он хорош сам по себе, а значит, может
рассматриваться как самоцель, то императив будет категорическим. Требование
категорического императива гласит: "Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же
время иметь силу принципа всеобщего законодательства" (Кант И. Соч. Т.4.4.1.
С.347). Это значит: не превращай другое разумное существо только в средство
для реализации своих партикулярных целей. "Во всем сотворенном, — пишет
Кант, — все что угодно и для чего угодно может быть употреблено всего лишь как
средство; только человек, а с ним каждое разумное существо, есть цель сама по
себе "(там же. С. 414).
Для Фихте существенно то, что кантовское учение о законе разумной воли
в качестве своей предпосылки имеет автономию воли, ее самозаконность: воля,
- по Канту, определяется не внешними причинами, будь то природная
необходимость или божественная воля, а только внутренним, ею самой себе данным
законом.
54 ...было бы трансцендентальным основоположением интеллигибельного
фатализма... — Фихте имеет в виду учение Спинозы.
55 ...доказательство велось апагогически... — Апагогическое доказательство
(от греч. 'алауоуп; лат. deductio) — вывод, иначе называемый доказательством
от противного, — это доказательство истинности утверждения путем
опровержения противоречащего ему утверждения. Такое выведение называется также
"приведением к абсурду".
56 ...сила... воображения не может быть иначе понята, как только через саму
силу воображения. — Творческая способность воображения до Фихте никем не
объявлялась основной способностью человеческого духа. Напротив, как в
античности и в средние века, так и в новой философии, начиная с XVII в.,
воображение, как и чувственное восприятие вообще, считалось низшей познавательной
способностью, которая требует постоянной корректировки со стороны разума. У
Канта, на которого в данном случае ссылается Фихте, продуктивная способность
воображения играла весьма существенную роль, особенно в первом издании
"Критики чистого разума". Однако во втором издании Кант ограничил значение
способности воображения, подчеркнув, что фигурный синтез, осуществляемый
воображением, невозможен без определяющей роли рассудка. Во всяком случае,
637
Примечания
той фундаментальной роли, какую способность воображения получил^ у Фихте,
Кант ей не отводил. Зато философские построения романтиков — Цкллинга,
Фр.Шлегеля, Новалиса и других — развивают именно фихтевское Понимание
воображения как центральной творческой и познавательной способности.
57 По отношению к реальности вообще... имеет место только одна вера. —
См. примеч. 3. |
58 ...только благодаря ему [желанию] открывается в самом Я... внешний мир.
— Здесь ясно видно, что Фихте, в сущности, выводит Не-Я, внешний мир, из
способности желания, т.е. из воли, предвосхищая концепцию воли А.Шопенгауэра
и Э.Гартмана. Абсолютное Я выступает у него в роли Бога-творца. !
О достоинстве человека
(стр. 473)
Сочинение "О достоинстве человека" (Über die Würde des Menschen)
представляет собой заключительную речь, произнесенную Фихте по окончании курса
лекций в Йене в 1794 г., содержание которых изложено в "Основе общего науко-
учения". Опубликованная отдельным изданием в 1794 г., эта речь представляет
собой подлинный гимн человеку, в котором слиты абсолютное и конечное Я и
который поэтому наделен божественным всемогуществом и свободой; тут
наиболее ярко выражен пафос философии Фихте и явлено его ораторское искусство,
производившее неотразимое впечатление на слушателей.
Перевод осуществлен Б.В.Яковенко.
Несколько лекций о назначении ученого
(стр. 479)
Сочинение представляет собой пять публичных лекций, прочитанных
Фихте в Йенском университете в летнем семестре. 1794 г. Эти лекции были
объявлены Фихте под названием "О морали для ученых" и вызвали огромный
интерес, так что самая большая университетская аудитория была переполнена и не
могла вместить всехжелающих послушать молодого философа, только что
занявшего кафедру в Йене. Параллельно с публичными лекциями Фихте читал в
летнем семестре специальный курс частных лекций, посвященный изложению
своей философии (см. "Основа общего наукоучения").
Впервые работа была опубликована осенью 1794 г. под названием
"Несколько лекций о назначении ученого" (Einige Vorlesungen über die Bestimmung
des Gelehrten. Jena; Leipzig, bei Ghristian Gabler, 1794).
На русском языке работа была впервые опубликована в 1935 г. под
редакцией В.Вандека. Имя переводчика неизвестно.
1 Они [лекции] являются вступлением к целому, которое автор имеет в
виду... предложить публике. — Речь идет о наукоучении как системе новейшей
философии, основы которого Фихте в тот же период излагал своим студентам и
работа над завершением которого растянулась на многие годы.
2 ...во время Михайловской ярмарки. — На Михайлов день, 29 сентября, в
Германии назначались осенние ярмарки, на которых велась и книжная торговля.
Ко дню ярмарок книготорговцы готовили выпуск новых изданий.
638
Несколько лекций о назначении ученого
3 ..л моих частных лекциях. — Речь идет о лекциях, содержание которых
Фихте изложил в "Основе общего наукоучения".
4 ...ею простойяйности (khheit)... — В русском языке трудно найти
соответствие этому философскому термину — Ichheit. Его передавали с помощью
разных словообразований: "яйность", "ячность", "ячество". Все они не очень
благозвучны проставляют желать лучшего.
5 ...поступай так, чтобы максиму твоей воли ты мог бы мыслить как вечный
закон для себя. — Опираясь на этику Канта, Фихте включает ее в новый контекст,
благодаря чему на первый план у него выходят новые моменты. Так, кантовское
основоположение нравственности гласит: "Поступай только согласно такой
максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она
стала всеобщим законом" (Кант И. Соч. Т. 4. Ч. 1. С. 260). Именно всеобщность
закона, с которым должна сообразоваться максима, т.е. субъективный принцип
свершения действия, есть, с точки зрения Канта, критерий нравственности этого
действия. У Фихте же на первом плане оказывается требование
самотождественности Я, почему он и подчеркивает вечность закона, которому подчиняется
максима индивидуальной воли. Принцип непротиворечия, логический закон
тождества оказывается таким образом фундаментом философии нравственности
Фихте.
6 Это согласие... то, что Кант называет высшим благом... — Высшее благо,
согласно Канту, есть "необходимая высшая цель морально определенной воли,
истинный объект практического разума..." (Кант И. Соч. Т. 4. Ч. 1. С. 446—447).
Такой высшей целью является добрая воля сама по себе или добродетель как
самое высокое, чего только может достичь конечный практический разум. Добрая
воля, пишет Кант, "не может быть... единственным и всем благом, но она должна
быть высшим благом и условием для всего прочего, даже для всякого желания
счастья" (там же. С. 231). Первым условием высшего блага, как его понимает
Кант, является полное соответствие убеждений человека с моральным законом.
А такое соответствие есть святость, которая, по Канту, в чувственном мире не
достижима, а может быть достигнута лишь в бесконечном процессе, возможном
только при бесконечном существовании, а значит, при условии бессмертия
души. "Следовательно, высшее благо, — пишет Кант, — возможно только при
допущении бессмертия души" (там же. С. 455).
7 ...один великий человек. — Речь идет о Канте, который считал государство
необходимым условием правового состояния общества; вне правового
состояния, по Канту, не может быть осуществлена человеческая свобода. В
соответствии с этим Кант дает следующее определение государства: "Государство — это
объединение множества людей, подчиненных правовым законам" (Кант И.
Метафизика нравов. В 2 ч. //Соч. Т. 4. Ч. 2. С. 233). Только в государстве человек
вступает в гражданское состояние, "в котором каждому будет по закону
определено и достаточно сильной властью (не его собственной, а внешней) предоставлено
то, что должно быть признано своим " (там же. С. 232).
8 ...вместо силы или хитрости всюду в качестве высшего судьи будет признан
только разум. — Фихте, как видим, разделяет утопическую веру в возможность
построения на земле совершенного общества, которое не нуждалось бы во
внешнем законе и принуждении к его исполнению, т.е. в государстве. Такая утопия
характерна для эпохи Просвещения, ею вдохновлялись идеологи Французской ре-
639
Примечания
волюции 1789 г. "Революционное стремление осуществить Царство/Божие на
земле — пружинящий центр прогрессивной культуры и начало современной
истории. Все, что не связано с Царством Божиим, представляется ей чем-то
второстепенным", — писал близкий друг Фихте Фридрих Шлегель (Шлегель Фр. Соч.:
В 2 т. М., 1983. Т. 1. С. 301). Предпосылкой этой утопии служит убеждение, что
человек по своей природе добр и что путем нравственного самовоспитания все
люди в конце концов достигнут святости. Правда, для достижения овятости
потребуются, как полагает наш философ, "мириады лет" — тезис, несколько
смягчающий революционный пафос этой утопии. [
9 Человек может пользоваться неразумными вещами как средствами для
своих целей, но неразумными существами... — Таково требование нравственного
закона — категорического императива, как его формулирует Кан1: "Поступай
так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в Лице всякого
другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к
средству" (Кант И. Соч. Т. 4. Ч. 1. С. 270).
10 ...последний [разум] должен одерживать над природой одну победу за
другой. — Фихте рассматривает природу как препятствие, которое должно быть
постоянно преодолеваемо для того, чтобы тем самым закалялась человеческая воля
и совершенствовалась нравственность. Сегодня стала совершенно очевидной
односторонность такого понимания природы, превращения ее в чистое
средство, в материал, в борьбе с которым реализуется человеческая свобода.
11 Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою ? —
Мф. 5,13.
12 Исследование утверждения Руссо о влиянии искусств и наук на счастье
человечества. — Имеется в виду сочинение Жан-Жака Руссо "Рассуждение,
получившее премию Дижонской академии в 1750 г. по вопросу, предложенному этой
же академией: "Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению
нравов?" В этом сочинении, принесшем его автору широкую известность,
доказывалось, что науки и искусства скорее способствовали порче нравов, чем их
исправлению.
13 По его мнению, для человека нет спасения, кроме как в естественном
состоянии... — Под естественным состоянием Руссо понимает изначальный способ
существования человеческого рода, когда люди были свободны и равны, не
знали собственности и связанного с ней неравенства, повлекших за собой порчу
нравов, войны и несправедливость, характерные для так называемого
общественного состояния. "Естественное состояние, — пишет Руссо, — это такое
состояние, когда забота о нашем самосохранении менее всего вредит заботе других
о самосохранении, и состояние это, следовательно, есть наиболее благоприятное
для мира и наиболее подходящее для человеческого рода" (Руссо Ж.-Ж.
Трактаты. С. 64). Основу естественного состояния составляют два "простейших
действия человеческой души" — себялюбие, под которым Руссо имеет в виду чувство
самосохранения, и сострадание. На этих двух чувствах, по Руссо, покоится и
естественное право. Убежденный, что человек есть прежде всего существо
чувствующее, а лишь потом мыслящее, Руссо видит преимущество естественного
состояния в преобладании чувства, инстинкта над разумом, природы — над
искусством, первобытной непосредственности — над цивилизацией. Идеализируя
жизнь и нравы первобытных племен, он следующим образом описывает есте-
640
Ясное, как солнце, сообщение широкой публике...
ственное (Состояние, этот "золотой век" человечества: "До тех пор, пока люди
довольствовались своими убогими хижинами, пока они ограничивались тем, что
шили себертежды из звериных шкур... украшали себя перьями и раковинами...
совершенствовали или украшали свои луки и стрелы, выдалбливали с помощью
острых камней какие-нибудь рыбачьи лодки или грубые музыкальные
инструменты, словрм, пока они были заняты лишь таким трудом, который под силу
одному человеку... они жили свободные, здоровые, добрые и счастливые,
насколько они! могли быть такими по своей природе, и продолжали в отношениях
между собою наслаждаться всеми радостями общения, не нарушавшими их
независимость. Но с той минуты, как один человек стал нуждаться в помощи другого,
как только люди заметили, что одному полезно иметь запас пищи на двоих, —
исчезло равенство, появилась собственность, труд стал необходимостью, и
обширные леса превратились в радующие глаз нивы, которые надо было орошать
человеческим потом и на которых вскоре были посеяны и выросли вместе с урожаем
рабство и нищета" (там же. С. 78).
14 ...уничтожается... разум... Человек становится неразумным
животным...— Руссо и в самом деле относится с большим недоверием к разуму,
мышлению, считая его источником не только пороков, но и нездоровья цивилизованных
людей. "Если она (природа. — П.Г.) предназначала нас к тому, чтобы мы были
здоровыми, то я почти решаюсь утверждать, что состояние размышления — это уже
состояние почти что противоестественное и что человек, который размышляет, —
это животное извращенное" {Руссо Ж.-Ж. Трактаты. С. 51). Те мотивы, которые
лежали в основе руссоистской критики разума и созданной с его помощью
цивилизации, хорошо выявил Кант, на которого французский мыслитель оказал известное
влияние: "Чем больше просвещенный разум предается мысли о наслаждении
жизнью и счастьем, тем дальше человек от истинной удовлетворенности. Отсюда у
■многих людей, и притом самых искушенных в применении разума... возникает
некоторая степеньлнш/югмм, т.е. ненависть к разуму, так как по вычислении всех
выгод, которые они получают, — я не скажу от изобретения всевозможных
ухищрений обычной роскоши, но даже от наук (которые в конце концов представляются
им также некоторой роскошью рассудка), — они все же находят, что на деле
навязали себе на шею только больше тягот, а никак не выиграли в счастье. Поэтому они
в конечном счете... завидуют той породе более простых людей, которая гораздо
больше руководствуется природным инстинктом и не дает разуму приобретать
большое влияние на их поведение" (Кант И. Соч. Т. 4. Ч. 1. С. 231).
Ясное, как солнце, сообщение широкой публике
о подлинной сущности новейшей философии
(стр. 523)
Трактат "Ясное, как солнце, сообщение широкой публике о подлинной
сущности новейшей философии. Попытка принудить читателей к пониманию"
был опубликован в 1801 г. в Берлине (Sonnenklare Bericht an dasgrössere Publikum
über das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie. Ein Versuch, die Leser zum
Verstehen zu zwingen". 1801). В этом сочинении философ хочет дать по возможности
доступное и простое изложение принципов своей системы. Необходимость
такого поясняющего трактата Фихте усматривал в том, что его работы, особенно
641
Примечания
"Основа общего наукоучения", вызывали упреки в сложности и неясности со
стороны его коллег-философов. "Ясное, как солнце, сообщение" Записано в
форме диалога Автора с Читателем и в дидактических целях разделено на шесть
"уроков". Много места уделяет здесь Фихте полемике со своими философскими
оппонентами, пытаясь устранить те недоразумения, которые вызваны
превратным пониманием его предыдущих работ. Здесь, однако, намечается уже тот
переход ко второму периоду в развитии воззрений Фихте, который мы обнаруживаем
также в работе "Назначение человека", вышедшей годом раньше — в 1800 г. В
обоих произведениях ощущается заметное влияние учения Якоби, оппонента
Канта.
На русском языке "Ясное, как солнце, сообщение" было впервые издано в
1937 г. отдельной книгой. Имя переводчика в издании не указано. В настоящем
издании мы перепечатываем этот перевод с небольшими уточнениями.
1 Некоторые друзья трансцендентального идеализма... — Фихте имеет в виду
Карла Рейнгольда, написавшего в 1799 г. работу "О парадоксальности новейшей
философии", где он защищает наукоучение Фихте от нападок его критиков,
разъясняя при этом идеи Фихте.
2 ...название это звучит почти как насмешка и исходит... из предположения,
будто ее основатели ищут самой новейшей философии... — К этому периоду
наукоучение Фихте стало объектом критики, не только со стороны противников
трансцендентальной философии, но и ее сторонников — прежде всего учителя Фихте
Канта и его ученика Шеллинга.
3 ...вроде гинденбурговского комбинационного учения в математике... — Гин-
денбург К.Ф. (1741—1808) — немецкий математик, основатель и глава школы
комбинаторного анализа, оказавшей существенное влияние на развитие
математики вТермании, особенно в последней четверти XVIII — начале XIX в.
4 ..можноразмышлять о наблюдавшемся... но... нельзя посредством одного...
мышления создавать для себя новые предметы. — Здесь Фихте вслед за Кантом
подвергает критике так называемую догматическую философию," т.е. докантовский
рационализм за неправильное понимание мышления, его возможностей и его
границ. Согласно критической философии, приверженцем которой является
Фихте, мышление не может из самого себя создавать новые предметы — оно
всегда должно опираться на созерцание, не должно выходить за пределы опыта.
"Всякое мышление... — говорит в связи с этим Кант, — должно в конце концов
прямо или косвенно через те или иные признаки иметь отношение к
созерцаниям... потому что ни один предмет не может быть нам дан иным способом"(Соч.
Т.З. С. 127). И еще: "Есть два условия, при которых единственно возможно
познание предмета: во-первых, созерцание, посредством которого предмет дается,
однако, только как явление; во-вторых, понятие, посредством которого предмет,
соответствующий этому созерцанию, мыслится" (там же. С. 187).
5 ...философ мог путем рассуждений додуматься до Бога и до бессмертия... —
Фихте полностью принимает кантовскую критику онтологического
доказательства бытия Бога и рационального доказательства бессмертия души, считая, что в
пределах теоретического разума, т.е. науки, решить вопрос о бытии Бога и о
бессмертии души, так же как и о человеческой свободе, невозможно. Как и Кант,
Фихте относит эти проблемы к сфере практического разума (т.е. философии
нравственности).
642
Ясное, как солнце, сообщение широкой публике...
6 ...%ант публично отказался от всякого участия в этой системе. — Фихте
имеет в ви|у критический отзыв Канта о наукоучении, написанный в достаточно
резкой фо^ме и опубликованный в эрлангенской "Общей литературной газете"
от 28 августа 1799 г, "В ответ на торжественное, обращенное ко мне от имени
публики приглашение рецензента "Очерка трансцендентальной философии" Буле
в № 8 эрлангенской "Литературной газеты" за 1799 год, — пишет Кант, — я
объявляю сим, что считаю наукоучение Фихте совершенно несостоятельной
системой. Ибо чистое наукоучение есть не более и не менее как одна лишь логика,
которая со своими принципами не поднимается до материального момента
познания, но как чистая логика абстрагируется от содержания этого последнего.
Пытаться выковырять из нее реальный объект — это напрасный и поэтому
невыполнимый труд, а в том случае, если это — трансцендентальная философия,
необходим прежде всего переход к метафизике. Что же касается метафизики,
соответствующей фихтевским принципам, то я столь мало склонен принимать в ней
участие, что в одном ответном письме советовал ему вместо бесплодных
хитросплетений (apices) развивать его хороший дар изложения, который может быть с
пользой применен в критике чистого разума. Но он вежливо отклонил этот мой
совет, заявив, что он "все же не будет терять из виду схоластического
момента ".Следовательно, ответ на вопрос, считаю ли я дух фихтевской философии
настоящим критицизмом, дан самим Фихте, и мне нет надобности высказываться о
ценности или неценности этой философии, так как здесь речь идет не об
оцениваемом объекте, а об оценивающем субъекте, а потому мне достаточно
отказаться от всякого участия в ней.
При этом я должен еще заметить, что мне непонятна самоуверенная
дерзость, с какой мне приписывается замысел создать только пропедевтику к
трансцендентальной философии, а не саму систему этой философии. Такой здмысел
мне никогда не мог прийти на ум, так как я сам в "Критике чистого разума"
высоко оценил завершенное целое чистой философии, объявив его лучшим
признаком ее истинности. Наконец, поскольку рецензент утверждает, будто
"Критику" нельзя понимать буквально в том, чему она дословно учит в отношении
чувственности, но будто каждый, кто хочет понять "Критику", должен прежде всего
овладеть надлежащей точкой зрения (бековской или фихтевской), так как кан-
товская буква, подобно Аристотелевой, убивает дух, — то я этим еще раз заявляю,
что "Критику" следует понимать конечно же согласно букве и лишь с точки
зрения здравого, но к таким абстрактным исследованиям достаточно приученного
рассудка.
Итальянская поговорка гласит: "Охрани нас, Боже, только от наших
друзей, с врагами же нашими мы и сами справимся!" И в самом деле, бывают
добросердечные, доброжелательно настроенные к нам друзья, которые, однако, не
всегда могут выбрать удачные средства для содействия нашим намерениям; но
бывают подчас и так называемые друзья, лживые, лукавые, замышляющие
недоброе, но при этом прикидывающиеся благожелательными (aliud lingua promtum,
aliud pectore inclusum gerere (у которых одно на уме, другое на языке, —лат. ) — по
отношению к таким трудно быть настороже и уберечься от их сетей. Но, несмотря
на это, критическая философия благодаря ее неудержимому стремлению к
удовлетворению разума как в теоретическом, так и в морально-практическом
отношении должна чувствовать себя призванной вообще к тому, чтобы ей не угрожала
643
Примечания
никакая смена мнений, никакие поправки или иначе построенная система, а
чтобы система критики, покоясь на совершенно надежном основании, была
упрочена навсегда и стала необходимой на все будущие времена для высших
целей человечества" (Intelligenzblatt der "Allgemeinen Literatur- Zeitung". 1799. № 8
// Fichtes Leben und literarischer Briefwechsel. 1862. Bd. 2. S. 161—162). На эту
резкую и даже оскорбительную критику Канта Фихте ответил в той же эрлангенской
"Литературной газете" № 122 за 1799 г. в форме частного письма к Шеллингу.
Надо отдать ему должное: его ответ Канту выдержан в спокойном и сдержанном
тоне, без желания обидеть учителя (см. Intelligenzblatt der "Allgemeinen Literatur-
Zeitung". 1799. № 122).
7 Все его [человека] мышление... исходит из опыта и имеет своей целью...
опыт. — Фихте не случайно подчеркивает, что он вслед за Кантом строит свое
учение на базе опыта, а не с помощью чисто логической спекуляции: он хотел бы
таким образом отвести от себя кантовский упрек в том, что наукоучение есть
лишь отвлеченная конструкция разума, неспособного из себя самого породить
содержание знания. А, как известно, у Канта опыту отводится очень важная роль.
Прежде всего, по Канту, "всякое наше познание начинается с опыта... Никакое
познание не предшествует во времени опыту" (Соч. Т. 3. С. 105). (Отсюда,
однако, не следует, что познание целиком происходит из опыта.) Далее, категории
рассудка могут иметь применение только к предметам опыта — в противном случае
они не дают познания, а выливаются в отвлеченные спекуляции. "Категории
посредством созерцания доставляют нам знание о вещах только через их возможное
применение к эмпирическому созерцанию, т.е. служат только для возможности
эмпирического знания, которое называется опытом. Следовательно, категории
применяются для познания вещей, лишь поскольку эти вещи рассматриваются
как предметы возможного опыта" (там же. С. 202). Таким образом, в
трансцендентальном идеализме опыт определяет границы применения чистых
рассудочных понятий (категорий).
8 Якоби Фридрих Генрих (1743 — 1818) — немецкий философ и писатель,
критик философии Просвещения и отвлеченного рационализма, которые Якоби
справедливо связывал с идеями Французской революции. С точки зрения Якоби,
источником натурализма, детерминизма и атеизма, характерных для
Просвещения, является рассудочное мышление, к представителям которого Якоби
относил не только Спинозу, французских материалистов XVIII в. и немецких
просветителей, например М.Мендельсона, но и трансцендентальный идеализм Канта и
его последователей (см. сочинение Якоби "Ober das Unternehmen des Kritizismus
die Vernunft zu Verstand zu bringen", 1801). Якоби считает кантовское учение
крайне противоречивым: задуманная Кантом дедукция объекта из субъективных
условий не осуществляется, под именем "вещи в себе" объект вводится как нечто
независимое от познающего субъекта, что разрушает исходные предпосылки
трансцендентального идеализма.
Идеализму с его рационалистическим принципом опосредствованного
знания Якоби противопоставляет реализм, который должен опираться на
непосредственный опыт бытия, а этот опыт дают нам вера, чувство и, наконец, сам/ю-
зум (Vernunft), но не конструирующий рассудок (Verstand): в отличие от
последнего, разум есть способность созерцания. Якоби стремится открыть изначальное,
безусловное бытие, не зависящее от субъективных представлений и конструк-
644
Ясное, как солнце, сообщение широкой публике...
ций. Оно может быть дано нам, по Якоби, лишь через непосредственное
откровение, первоисточник которого — Бог. Подлинное бытие, по Якоби, является
объектом не метафизического познания, но веры, той самой Belief, о которой писал
Давид Юм (см. работу Якоби "David Hume über den Glauben, oder Idealismus und
Realismus". 1786). "Благодаря вере, — пишет Якоби, — мы знаем, что обладаем
телом; мы обнаруживаем другие действительные вещи, и притом с такой же
достоверностью, с какой обнаруживаем самих себя. Все представления мы
получаем посредством свойств, существование которых мы принимаем, и нет другого
пути реального познания, ибо когда разум порождает предметы, то это — пустые
химеры. Мы, таким образом, обладаем откровением природы" (Jacobi Fr. Briefe
über die Lehre Spinozas. L., 1785. S. 216—217).
Оригинальный, широко образованный и литературно одаренный
мыслитель, Якоби был автором нескольких романов, состоял в переписке с Гете, Герде-
ром, Гаманом, Бутервеком. С1807 по 1812 г. он был президентом Баварской
академии наук.
С Фихте Якоби связывали многолетние дружеские отношения. Якоби
видел в наукоучении последовательное воплощение принципов кантовского
критицизма; он называл Фихте "мессией спекулятивного разума", считая Канта
лишь предтечей Фихте (см. сочинение Якоби "Brief an Fichte", 1799).
Исходившая от Якоби критика трансцендентального идеализма оказала известное
влияние на развитие философских взглядов Фихте: в его работах начиная с 1800 г. мы
обнаруживаем попытку по-новому понять значение веры. Дело в том, что
понятие веры у Канта отличается от трактовки этого понятия у Якоби. Здесь прав
Гегель, заметивший, что "у Канта вера есть постулат разума, требование разрешить
противоречие между миром и добром; у Якоби же она представлена сама по себе
как непосредственное добро" (Гегель Г.В.Ф. Соч. М.; Л., 1935. Т. XI. С. 410).
Высоко ценя Якоби как глубокого мыслителя, который, как мы только что
прочитали в "Ясном, как солнце, сообщении", "одновременно с Кантом выступил
реформатором в философии", Фихте пытался объединить точки зрения Канта и
Якоби, но стоял при этом все же ближе к Канту. В этом отношении особенно
характерна работа Фихте "Назначение человека" (1800).
9 ...та философская система, о которой я упоминал во введении... — См.
примеч. 2.
10 ...чистое Я... нынешние философы... объявляют его... психологическим
обманом... — Что фихтевское "чистое Я "есть Я конечное, а стало быть,
психологическое (эмпирическое), неоднократно отмечали Шеллинг и Гегель, указывая при
этом, что на основе такого психологического Я невозможно строить систему
философии. В 1800 г. вышла в свет статья Гегеля "Различие Фихтевой и Шеллинго-
вой систем философии", где автор критически анализирует исходный пункт нау-
коучения Фихте — чистое Я — и характеризует его как "субъективный субъект-
объект", а значит, как реальность психологическую. В письме к Фихте от
3 декабря 1801 г. Шеллинг объясняет, в чем он усматривает психологизм
исходных принципов Фихте: "Начиная с третьего основоположения, с которым Вы
приходите в сферу делимости, взаимного ограничения, т.е. конечного, Ваша
философия является непрерывным рядом конечных определений..." (Fichtes Leben
und literarischer Briefwechsel. Bd. 2. S. 354).
645
Примечания
Впоследствии в своих лекциях по истории философии Гегель подытожил
ту критику фихтевского психологизма, о которой здесь идет речь: "Недостаток
фихтевской философии заключается... в том, что Я сохраняет значение
единичного действительного самосознания, противоположного всеобщему,
абсолютному самосознанию или духу, в котором само оно есть только момент, ибо
единичное самосознание тем-то и характеризуется, что оно остается в стороне,
имеет рядом с собою некое другое. Поэтому, когда Фихте называл Я абсолютной
сущностью, это вызывало чрезвычайный соблазн, так как читатель в самом деле
встречал у него Я лишь в смысле единичного субъекта, противоположного
всеобщему субъекту" (Гегель Г.В.Ф. Соч. М.; Л., 1935. Т. XI. С. 475).
Видимо, вначале не без влияния Гегеля у Шеллинга появилась
критическая рефлексия по отношению к наукоучению, которым он так восхищался и
исходя из которого строил свое раннее учение. Интересно, что еще в 1795 г., сразу
по прочтении "Основ общего наукоучения", Гегель писал Шеллингу: "В § 12
своего сочинения (имеется в виду ранняя работа Шеллинга "О Я как принципе
философии". — П.Г.) ты наделяешь Я атрибутом как единственную субстанцию.
Если субстанция и акциденция — парные понятия, то, как мне кажется, понятие
субстанции не может быть применено к абсолютному Я, но может быть,
по-видимому, применено к эмпирическому Я, как бывает в самосознании. Но что ты
действительно говоришь не об этом Я (соединяющем высший тезис и антитезис), в
том меня убедил предыдущий параграф, в котором ты приписываешь Я
неделимость — предикат, который можно приписать только абсолютному Я, но не Я,
имеющему место в самосознании, в котором Я утверждает себя лишь как часть
своей реальности" (Письмо Гегеля к Шеллингу от 30 августа 1795 года. — Цит.
по: Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. М., 1971. С. 230 — 231). Гегель имеет в виду
следующий тезис Шеллинга, опирающегося на наукоучение: "Если субстанция
есть безусловноегто Я есть единственная субстанция. Ибо если бы существовали
многие субстанции, то было бы какое-то Я помимо Я, что абсурдно. Поэтому все,
что есть, есть в Я, и вне Я нет ничего" (SchellingF. W. Vom Ichals Prinzipder
Philosophie, oder Ober das Unbedingte im menschlichen Wissen. 1795// Schelling F.W.
Sämmtliche Werke. Stuttgart; Augsburg. 1856. Bd. I. S. 192).
1 ' ...вроде как вафельная доска форм у кантианцев... — Имеется в виду
система категорий Канта, предложенная им в "Критике чистого разума". Фихте
предпринял систематическое выведение категорий рассудка из деятельности Я.
12 Оно не может быть доказано в науке... — Тезис о том, что исходное
основоположение философской системы должно быть обретено вне и независимо от
системы как абсолютно очевидное, является принципиальной установкой
Фихте. Только такое основоположение может обеспечить достоверность всему
зданию науки; системность как таковая, по Фихте, есть необходимое, но
недостаточное условие истинности знания.
13 ...вы... не поймете и даже не прочтете его... — Фихте оказался прав: даже
его ученик Шеллинг не прочитал, а только бегло просмотрел "Ясное, как солнце,
сообщение" и откликнулся на него не лишенной остроумия эпиграммой:
Сомневайся в ясности солнца, читатель,
Сомневайся в свете звезд,
Но только не в моей истине и не в твоей глупости.
(Фишер Куно. Шеллинг//История новой философии. СПб., 1905. Т. 7.
С. 85).
646
Ясное, как солнце, сообщение широкой публике...
14 ...ваше занятие состоит в том, чтобы... разлагать дальше предание этой
веры. — Фихте здесь критикует тех многочисленных своих современников,
которые считали возможным заменить потребность в строгой философской системе
знания историческим анализом существовавших философских учений,
философской традиции. Ср. ниже: "Вам известно только собрание изречений
мудрецов". Тут еще раз сказалось отрицательное отношение Фихте к преданию,
традиции, характерное для протестантизма и особенно для Просвещения.
15 Это еще недавно случилось в эрлангенской "Литературной газете"... —
Речь идет о рецензии на книгу Фихте "Назначение человека", опубликованной в
эрлангенской "Литературной газете" анонимным автором: "Literatur-Zeitung".
Erlangen. 19 May 1800. Col. 769-776; 20 May 1800. Col. 777-784.
16 Якоб Людвиг Генрих (1759 — 1827) — немецкий философ-кантианец, с
1789 г. — профессор в Галле, с 1807 г. — в Харькове; в 1809 г. был назначен членом
законодательной комиссии в Санкт-Петербурге. Кроме философии, Якоб с
начала XIX в. занимался также проблемами политэкономии. В 90-х годах XVIII в.
возглавлял журнал "Философские анналы".
К наукоучению Фихте Якоб относился резко критически. По поводу так
называемого "атеизма" Фихте он принимал, по словам Шеллинга, активное
участие в "морально-политическо-судебном процессе" над философом. В письме к
Гегелю от 21 июня 1795 г. Шеллинг сообщает: В "Философских анналах" Якоба
его (Фихте. — П.Г.) третируют так, как не третировали литературные отбросы.
Все те, кого обидели его (Фихте. — П.Г.) статьи и т.д., его новая философия,
теперь ликуют" (цит. по кн.: Гегель. Работы разных лет. С. 227). В ответном письме
Шеллингу Гегель иронически замечает: "Якоб, верно, захочет выйти в дворяне
через философию Фихте, как Эберхард вышел через философию Канта..."
.(Письмо Гегеля Шеллингу от 30 августа 1795 г. Там же. С. 229).
17 Абихт, Буле, Бутервек, Гедингер, Гейденрейх, Снелль, Эрхард-Шмид... —
академические философы, большинство из которых — последователи Канта и
популяризаторы его идей. В основном это ровесники Фихте, как правило, весьма
критически настроенные к наукоучению.
Буле Иоганн Готлиб Герхард (1763 — 1821) — философ-кантианец, автор
известного "Очерка трансцендентальной философии" (1798), а также
шеститомной истории новой философии (1800 — 1805).
Бутервек Фридрих (1766 — 1828) — немецкий философ, профессор в Гет-
тингене; воззрения Бутервека формировались под влиянием Канта, Фихте и
Якоби; к философии веры последнего особенно близки произведения Бутервека,
посвященные проблемам эстетики и метафизики прекрасного.
Гейденрейх Карл Генрих (1764 — 1801) — немецкий философ-кантианец, с
1789 г. профессор в Лейпциге. Занимался главным образом проблемами
эстетики, философии права и религии. В 1796 г. опубликовал работу "Письма об
атеизме".
Снелль Христиан Вильгельм (1755 — 1834) и Снелль Фридрих Вильгельм
Даниил (1761 — 1830) — братья, философы кантианской ориентации,
популяризировавшие учение Канта, главным образом его моральную философию и
эстетику. Христиан Снелль с 1816 г. — директор гимназии в Вейльбурге; Фридрих
Снелль с 1790 г. — профессор в Гиссене.
647
Примечания
Шмид Карл Христиан Эрхард (1761 — 1812) — философ-кантианец; с 1791
г. — профессор в Гиссене, с 1793 г. — в Йене, где с весны 1794 г. работал и Фихте.
Шмид — очень плодовитый автор и издатель (издавал, в частности,
"Философский журнал по вопросам морали, религии и блага людей"). В 1793 г. Фихте в
"Общей литературной газете" опубликовал рецензию ("Giessen, b. Hever":
Skeptische Betrachtungen über die Freiheit des Willens mit Hinsicht auf die neuesten
Theorien über dieseble von Leonhard Creuzer". 1793. XVI. Vorrede (von Hrn. Prof. Schmid)
252.8"// "Allgemeine Literatur-Zeitung". 30 Okt. 1793), где подверг критике
концепцию свободы воли Леонарда Крейцера и попутно заметил, что воззрения
автора предисловия к книге Крейцера, Карла Шмида, на свободу воли имеют
слишком детерминистский характер. Шмид раздраженно реагировал на реплику
Фихте, дав нелестную характеристику только что вышедшей в свет работы Фихте
"Основа общего наукоучения". В ответ на страницах "Философского журнала",
который Фихте издавал вместе со своим другом Нитхаммером, он дал выход
своему возмущению (Fichte J. Vergleichung des vom Hrn. Prof. Schmid aufgestellten
Systems mit der Wissenschatslehre // Philosophisches Journal einer Gesellschaft
Deutscher Gelehrten. 1795. Bd. III. H. 4. S. 267 - 320). "Моя философия - ничто для
г-на Шмида по причине его бестолковости, — писал Фихте, — так же, как его
философия — ничто для меня по причине моей проницательности. Объявляю, что
все, что г-н Шмид будет говорить или клеветать относительно моих
философских взглядов, для меня совсем не существует, — и самого г-на Шмида как
философа объявляю по отношению ко мне несуществующим" (Fichtes Leben und
literarischer Briefwechsel. Bd. 1. S. 199). Неудивительно, что такого рода "отповеди"
своим философским оппонентам создали Фихте репутацию человека
нетерпимого. "У нас достаточно примеров того, что он (Фихте. — П.Г.) ведет себя неумно,
когда переходит к выпадам..." — писал Гегель Шеллингу 3 января 1807 г. {Гегель.
Работы разных лет. С. 259). Полемика Фихте со Шмидом имела продолжение и в
1795 г.: в той же "Общей литературной газете" Фихте опубликовал короткую
заметку под длинным названием: "Я вижу себя вынужденным публично возразить
против того толкования, которое благодаря известному высказыванию моего
коллеги, профессора философии г-на Шмида в Йене стало почти
общепринятым" ("Ich sehe mich genöthigt, einer Deutung öffentlich zu widersprechen, die von
einer gewissen Aeusserung meines Herrn Kollegen, des Prof. der Philosophie,Herrn
Schmid zu Jena, fast durchgängig gemacht wird"// Intelligenzblatt der Allgemeinen
Literatur-Zeitung. № 32.14 Nov. 1795).
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
АбегЙ.-624
АбихтИ.Н.-600,647
Авраам-200,611,616
Александр Великий — 224
Альтенштейн фон —12
Аристотель - 14,36,621,627,630,632
Архимед — 244
Асмус В.Ф. - 21
Бабеф Гракх (Франсуа Ноэль) — 39
Баггезен Карл - 18,19,627
Бардили К. Г. — 42
Бейме фон —12
БекЯ.С-618,620
Беркли Джорж — 617,620
БородайТ.КТ.-607
Буле Иоганн Готлиб Герхард — 600,643,
647
Бутервек Фридрих — 600,645,647
Бэкон Френсис —41
Бюхер Р. — 36
Вагнер Ф. — 21
Вандек В. - 638
ВиландК.М.-619
Вундт Макс - 19,627
Вурмбранд И. фон — 605,606
Вышеславцев Б.П. - 19,47, 51,627
Габлер Г.А. — 623
Гайденко П.П. - 602,625
ГаймзетГ-19,31,627
Гайзман Г. — 67
ГаманИ.Г.-645
Гаммахер К. —61
Гарве X. - 620
Гаргман Н. - 19,627
Гартман Э. — 638
Гартунг Г. — 606
Гегель Г.В.Ф. - 6,16,18,21,23,45,48,
51,61,607,622,645,647,648
Гедингер — 600,647
Гейденрейх К.Г. - 600,647
Гердер И. Г. — 645
Гете И.В. - 10,11,18,32,623,627,645
Гинденбург К.Ф. — 642
Глой К. - 18,627
ГоббсТ.-62,612
Гораций — 7
Гроций Гуго де Гроот — 33
Гумбольдт В. фон — 10
Гуссерль Э. — 51
Гуфелавд Г. — 606
Декарт Р. - 14,27,288,289,621,628,
629,633
Дрекслер Ю. — 47
Дюзинг Э. - 38
Иаков -200,616
Ильин И.А. - 19,627
Иоанн-59-61,200
Иосиф - 238, 239
Ипполит Ж. — 51
Исаак-200,611,616
Йонас Г. — 60
Йох А. фон-106,608
Кальвин Ж. - 59
КампанеллаТ. — 41
649
Указатель имен
Кант И.-6,8,11,13-18,22,24,26,27,30,
33,34,39,42,45,51,53,55,62,67,115,
232, 236, 288, 303, 307, 314, 334, 348,
356, 399, 401, 413, 432, 487, 533, 603,
605-614,616-647
Картезий, см. Декарт
Клопшток Ф.Г. — 7
Колумб X.-178
КранцА.Ф.-72,604
Крейцер Л.-648
Кронер Р. - 19,627
Ксавье Л. — 61
Лауг Р. - 48
Лафатер —619
Левина М.И. - 604
Лейбниц Г.В. - 27,289,621,629,633
Лессинг Г.Э. - 32
ЛоккДж.-39,612,631
Лопатин Л.М. — 49
Лосев А.Ф. — 46,54
Лука-59
Людовик XV — 75
Лютер М. - 59,609*
Маймон С. - 231, 289, 305,618,619,628,
629,632,635,636
Марат Ж.П.-603
Маркион — 60
МедикусФ.-61,602,617
Мендельсон М. — 618,644
кн.Меттерних — 12
Метцгер В. — 604
Мильтиц фон — 7
Моисей-60,200,616
Монтескье Ш.Л. де — 7
Мор Т.-41
Наполеон — 12,44,63
Новалис - 10,638
Нитхаммер Ф.И. - 10,620,648
Павел апостол - 59,60, 200,611
Пиррон —617
Писарев Л.И.-59,60
Платон - 41,45,46,56,64,621,622,629
Плотин — 47
Прокл — 46,47
Радермахер Г. — 19,627
Ран И. - 7
Рейнгольд К.Л. - 9, 10, 18, 42, 232, 288,
607, 617-621, 623, 624, 627, 628, 632,
642
Ритцель В. — 57
Руссо Ж.-Ж. - 7, 33, 38, 62, 72, 481, 514-
521,603-605,612,640,641
Саллюстий Г. К. — 7
СнелльХ.В.-600,647
СнелльФ.В.Д.-600,647
Соломон — 616
Спиноза Б. - 13,15,18,27, 32,45,46,52,
289, 305, 306, 409, 607, 608, 610-612,
, 629,631-633,635,637,644
ТикЛ.И.-10,11
Толстой Л.Н.-608
Трапп Э.Х. - 604
Трубецкой E.H. -617,626
Трофимова М.И. — 60
Трошель Ф. — 602
Успенский Л.В.-617
ФейербахЛ.-610
Фервейен Г.Ю. - 63,64
Фестер Р. - 604
Филон Александрийский — 59
Фишер К. — 646
Фома Кемпийский — 59
Форберг — 11
Чичерин Б.Н. — 64
Шварц Г.А. - 29, 32
Шеллинг Ф.В.Й. - 6,10,12,16-18,23,28,
43-48, 51, 607, 620, 622, 623, 638, 642,
644,648
Шен Т. фон-603,604,606
Шельский Г. — 36
650
Указатель имен
Шиллер Ф. - 10,18,604,611,612,627 Эвклид - 597
Шлейермахер Ф. - 11,44, 51 Энгель Б.К. - 618
Шлегель A.B. - 10 Энезидем, см. Шульце Г.Э.
Шлегель Фр. - 10, 11, 44, 53, 623, 628, Экх^ М- " 32> ^ 51>52> 54> 56« 57> 59
638,640
Шмид К.Х.Э. - 600,647,648 Юм Д. - 39, 305,617,618,631,645
Шопенгауэр А. — 638
Шотгки Р. - 67 Якоб Л.Г. - 600,647
Шульце Г.Э.-231,251,305,617,618,621, Якоби Фр.Г. - 10-12, 37, 42, 51, 56, 533,
632 619,620,624,626,631,642,644,647
Яковенко Б.В - 14,619,625,638
Эберхард - 647 Янке В- " 19>48' 627>630
СОДЕРЖАНИЕ
От составителя 5
П.Гайденко. Жизнь и творчество Иоганна Готлиба Фихте 6
Фихте — создатель спекулятивного трансцендентализма 13
Наукоучение 1794 г. Диалектическое выведение из
первопринципа Я категорий мышления и теоретических
способностей 19
Теория нравственного действия, или Учение о практическом Я 27
Философия права Фихте. Я и другой 32
Собственность и государство. Социалистическая теория Фихте 39
От абсолютной деятельности к абсолютному бытию.
Философия Фихте второго периода (1800 — 1814) 42
Нравственность и право в учении позднего Фихте 61
Востребование от государей Европы свободы мысли,
которую они до сих пор подавляли
(Дерев. МЖЛевиной)
Введение 71
Речь ........ :...'. 77
Опыт критики всякого откровения
(Перев. Т.Ю.Бородай)
Предисловие к первому изданию 99
§1. Введение 100
§ 2. Теория воли как подготовка дедукции религии вообще 101
1 101
II 106
III 115
§ 3. Дедукция религии вообще 120
§ 4. Деление религии вообще на естественную и откровенную 135
Примечание 139
§ 5. Формальное рассмотрение понятия откровения
как подготовка его материального рассмотрения 141
Первое следствие 142
Второе следствие 142
652
Содержание
Третье следствие 143
Четвертое следствие 143
§ 6. Материальное рассмотрение понятия откровения 149
§ 7. Дедукция понятия откровения из принципов чистого разума a priori 152
§ 8.0 возможности эмпирической данности, предполагаемой
понятием откровения 157
§ 9.0 физической возможности откровения 175
§ 10. Критерии божественности откровения с точки зрения
его формы 180
§11. Критерии божественности откровения с точки зрения
его возможного содержания (materiae revelationis) 183
§ 12. Критерии божественности откровения с точки зрения
возможного изложения этого содержания 195
§ 13. Систематический порядок этих критериев 202
§ 14.0 возможности принять некое данное явление за
божественное откровение 204
§ 15. Общий обзор этой критики 217
Заключение 220
О понятии наукоучения, или так называемой философии
(Перев. Л.В.Успенского)
Предисловие к первому изданию 231
Предисловие ко второму изданию 234
Отдел первый. О понятии наукоучения вообще 238
- § 1. Гипотетически установленное понятие наукоучения 238
§2. Развитие понятия наукоучения 244
Отдел второй 251
§ 3. Объяснение понятия наукоучения 251
§ 4. В какой мере наукоучение может быть уверено, что оно
исчерпало человеческое знание вообще? 253
§ 5. Какова граница, которая отделяет общее наукоучение от
частной, им обоснованной науки? 257
§ 6. Как относится общее наукоучение в особенности к логике? 260
§ 7. Как относится наукоучение как наука к своему предмету? 263
Отдел третий 271
§ 8. Гипотетическое разделение наукоучения 271
Основа общего наукоучения
(Перев. Б. В.Яковенко)
Предисловие ко второму изданию 277
Предисловие 278
Часть первая. Основоположения всего наукоучения 282
§ 1. Первое совершенно безусловное основоположение 282
653
Содержание
§ 2. Второе, по своему содержанию обусловленное основоположение 290
§ 3. Третье, по форме своей обусловленное основоположение 294
Часть вторая. Основание теоретического знания 308
§4. Первое положение 308
A. Определение синтетического положения, подлежащего анализу 310
B. Синтез содержащихся в установленном положении
противоположностей вообще, в общих чертах 311
C. Синтез через взаимоопределение противоположностей,
содержащихся в самом первом из противоположных положений 314
D. Синтез посредством взаимоопределения двух противоположностей,
содержащихся во втором из противоположных положений 319
E. Синтетическое объединение противоположности, имеющей место
между двумя установленными формами взаимоопределения 325
1 330
II 337
III 341
Дедукция представления 386
1 386
II 387
III 389
IV 391
V 394
VI 394
VII 396
VIII 397
IX ....; 399
X 401
XI ..., -...; Т 402
Часть третья. Основание науки практического 402
§5. Вторая теорема 402
1 403
II 408
§ 6. Третье положение 434
§ 7. Четвертое положение 436
§ 8. Пятое положение 440
1 441
II 442
III 443
IV 444
V 445
§9. Шестое положение 446
1 446
II 447
§ 10. Седьмое положение 450
§ 11. Восьмое положение 467
654
Содержание
О достоинстве человека
(Перев. Б.В.Яковенко)
Несколько лекций о назначении ученого
Предварительные замечания 481
Первая лекция. О назначении человека в себе 483
Вторая лекция. О назначении человека в обществе 489
Третья лекция. О различии сословий в обществе 497
Четвертая лекция. О назначении ученого 505
Пятая лекция. Исследование утверждения Руссо о влиянии искусств
и наук на счастье человечества 514
Ясное, как солнце, сообщение широкой публике
о подлинной сущности новейшей философии
Предисловие автора 525
Введение 530
1 531
И 532
III 532
IV . 533
Первый урок 535
Второй урок 544
Третий урок 552
Четвертый урок 570
Пятый урок 581
Шестой урок 588
Послесловие, обращенное к философам по профессии, которые
до сих пор были противниками наукоучения 594
Примечания 602
Указатель имен 649
В настоящее время готовится к печати второй том сочинений Фихте. В него
включены следующие работы: "Очерк особенностей наукоучения по отношению к
теоретической способности" (1795), "Первое введение в наукоучение" (1797),
"Второе введение в наукоучение для читателей, уже имеющих философскую
систему" (1797), "Опыт нового изложения наукоучения" (1797), "Система учения о
нравственности согласно принципам наукоучения" (1798), "Назначение человека"
(1800), "Замкнутое торговое государство" (1800), а также наиболее интересное из
переписки Фихте. "Система учения о нравственности" и переписка Фихте на
русский язык переведены впервые
Иоганн Готлиб Фихте
СОЧИНЕНИЯ
Работы 1792-1801 it.
Редактор О.К.Логинова
Художественный редактор Е.В. Гаврилин
Технический редактор Т. Г. Иванова
Корректор О. Г. Наренкова