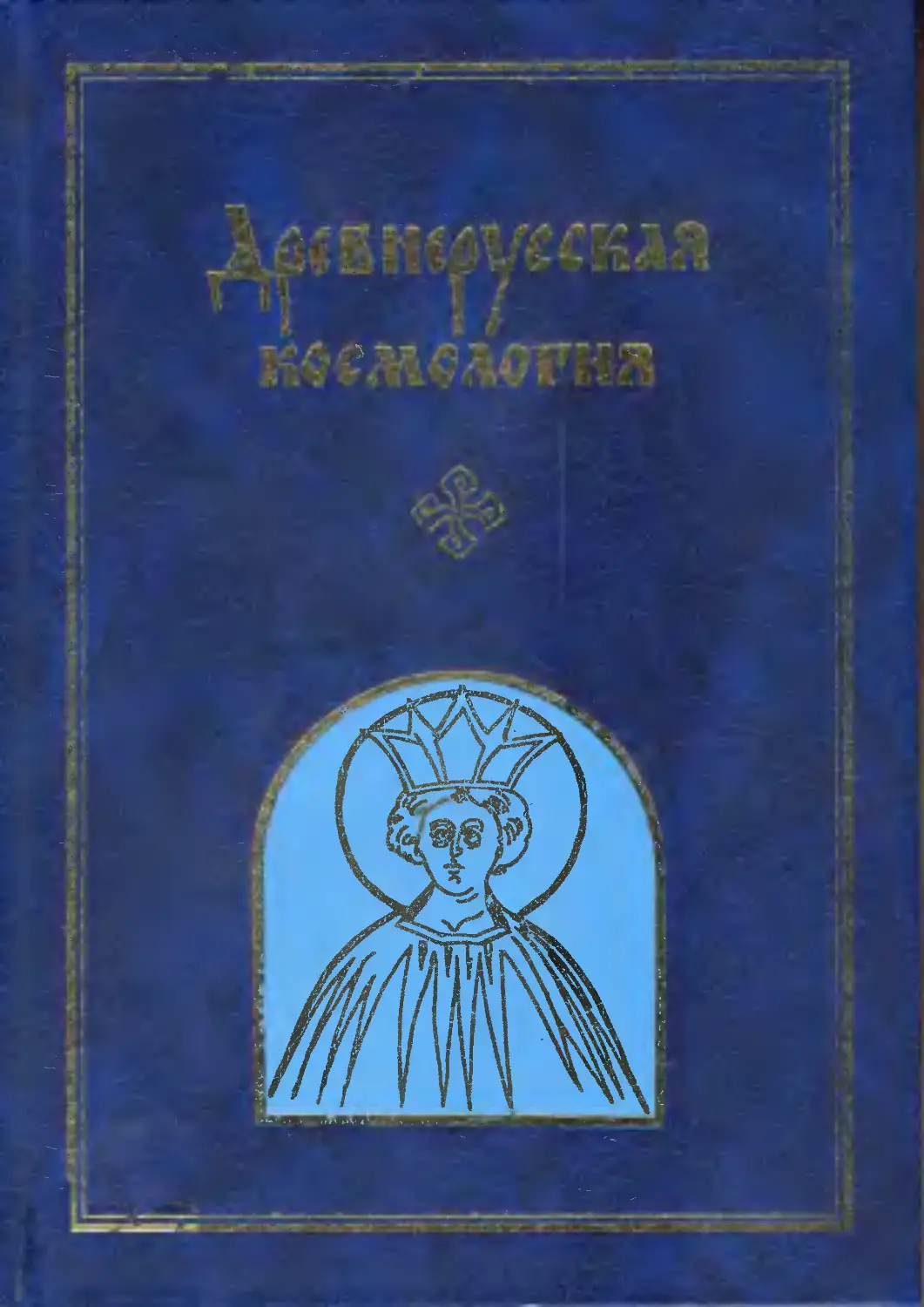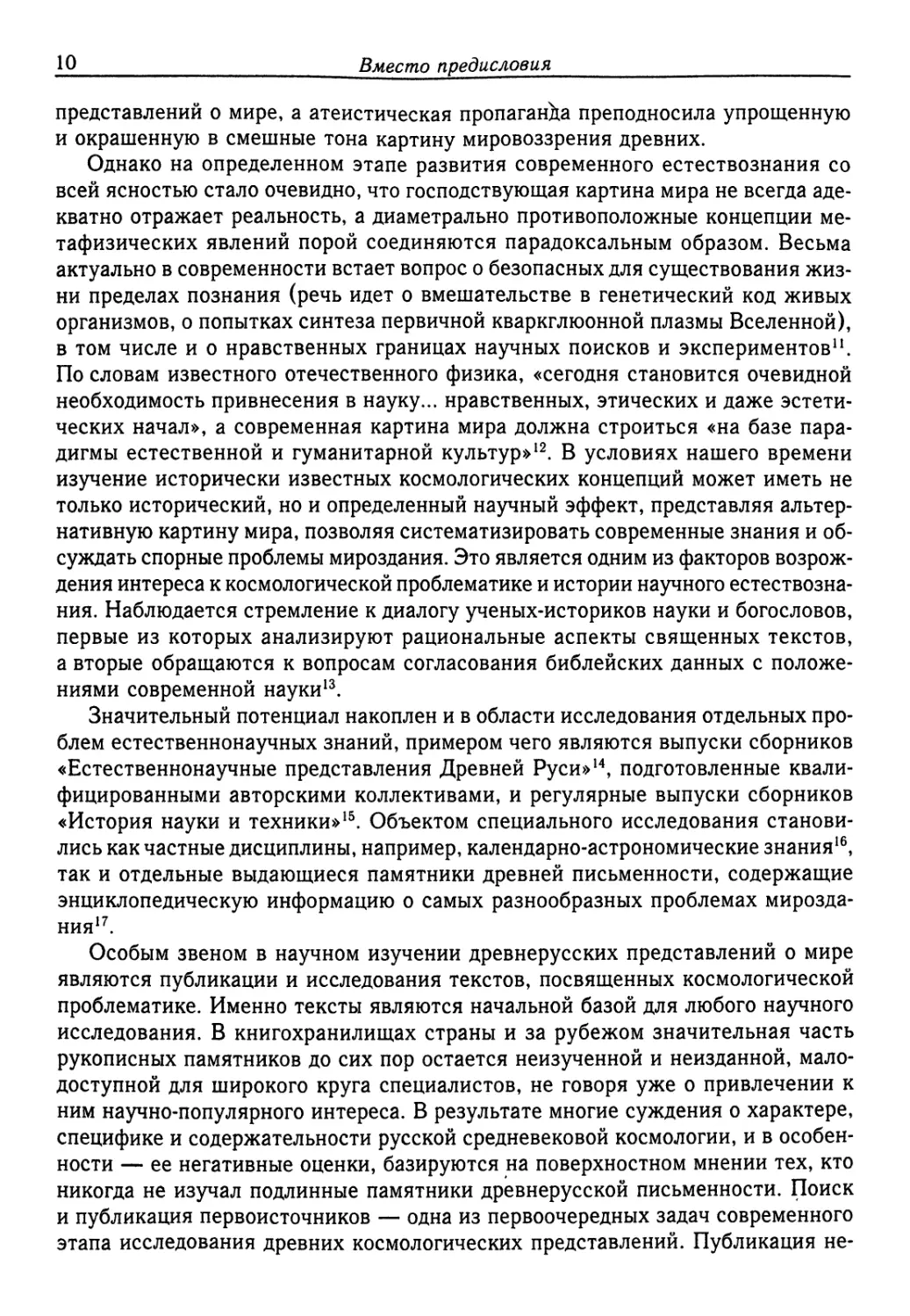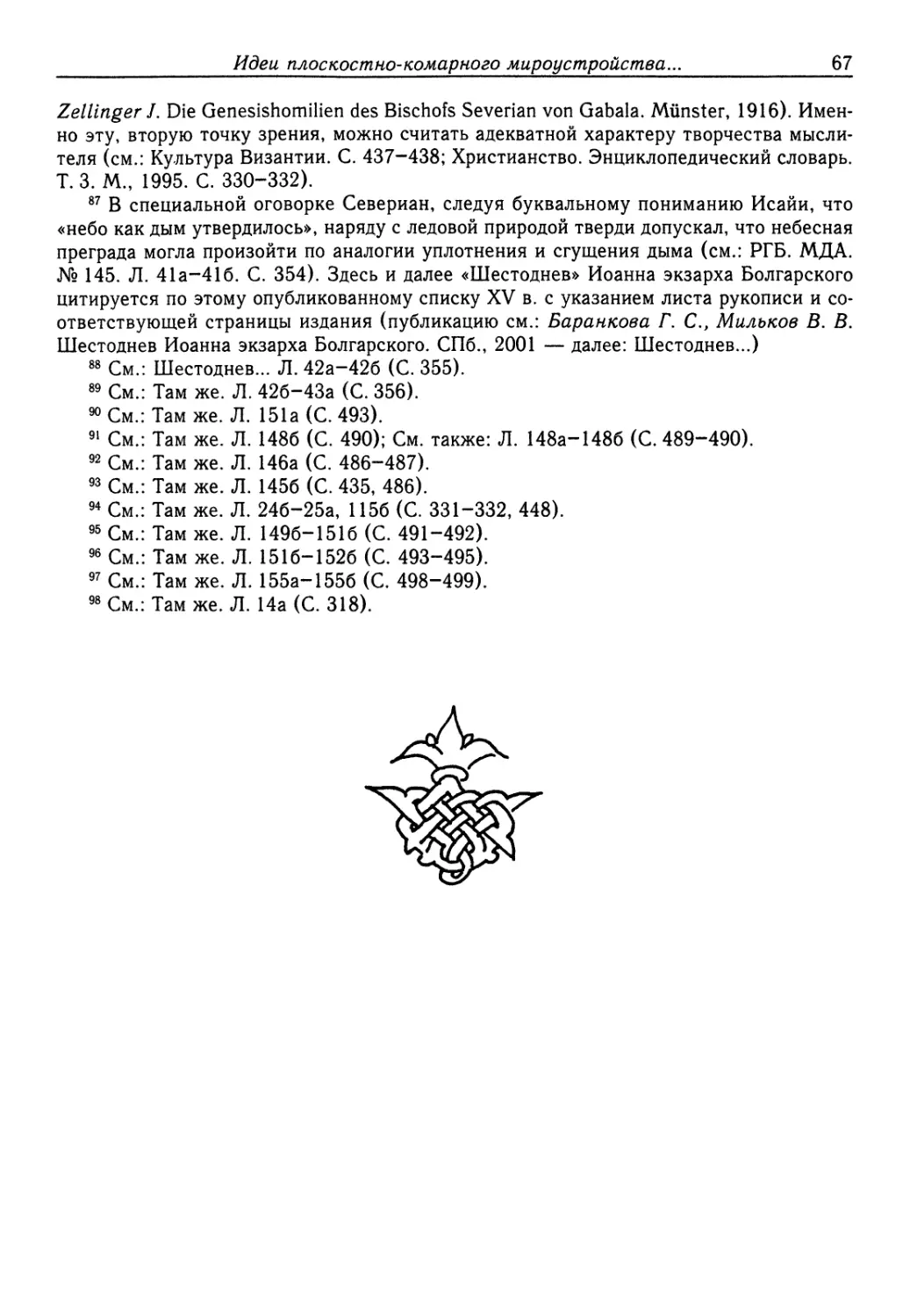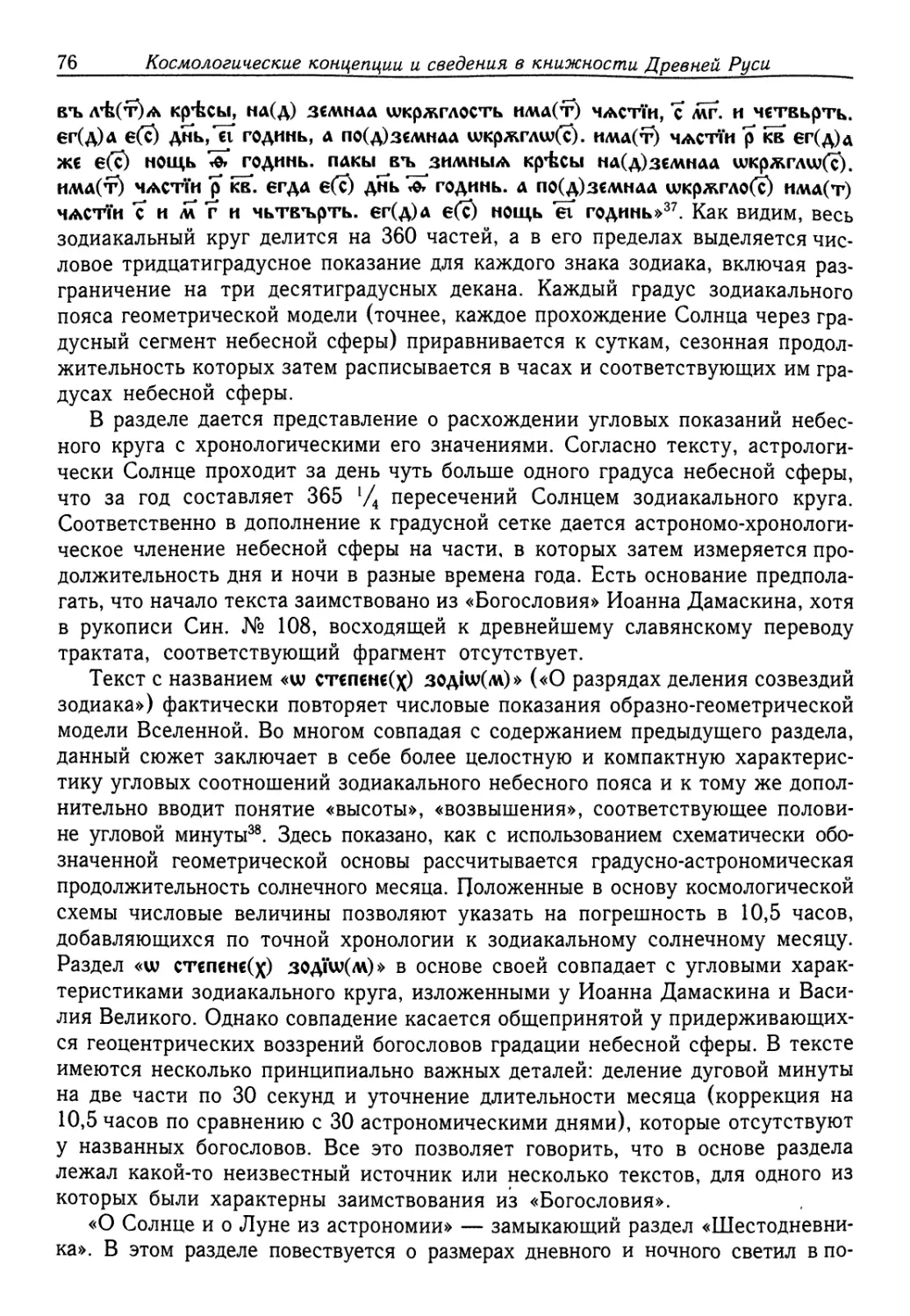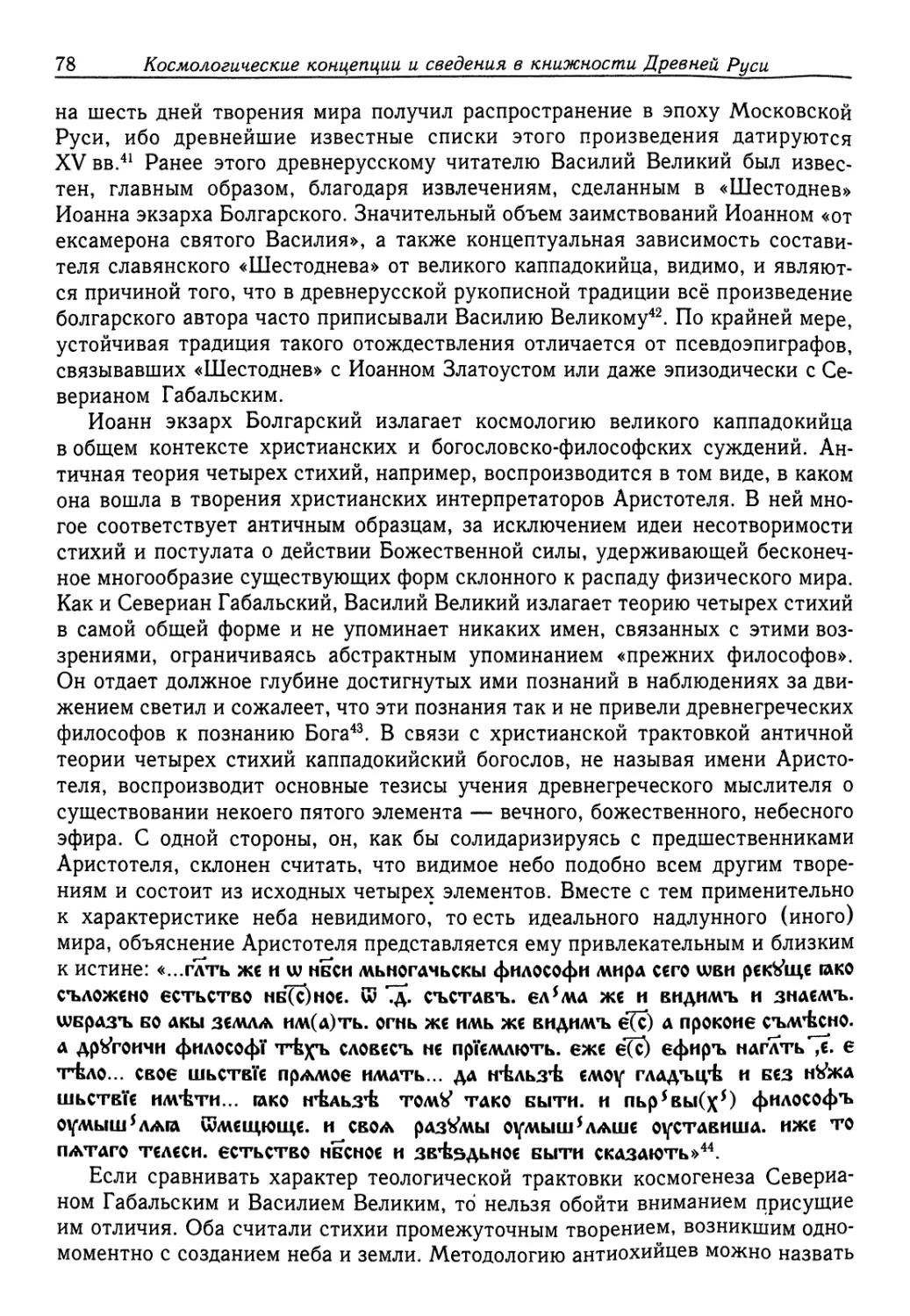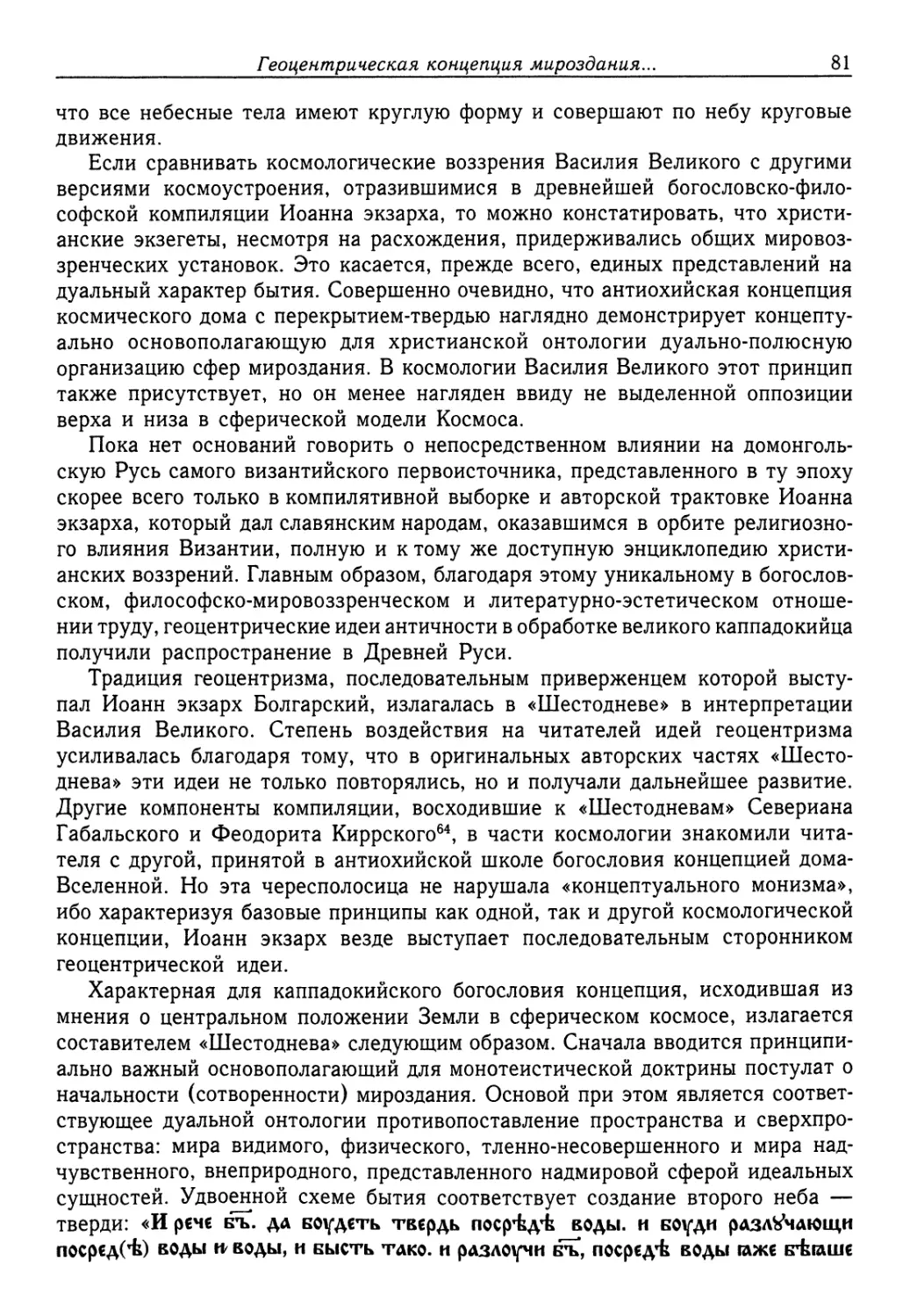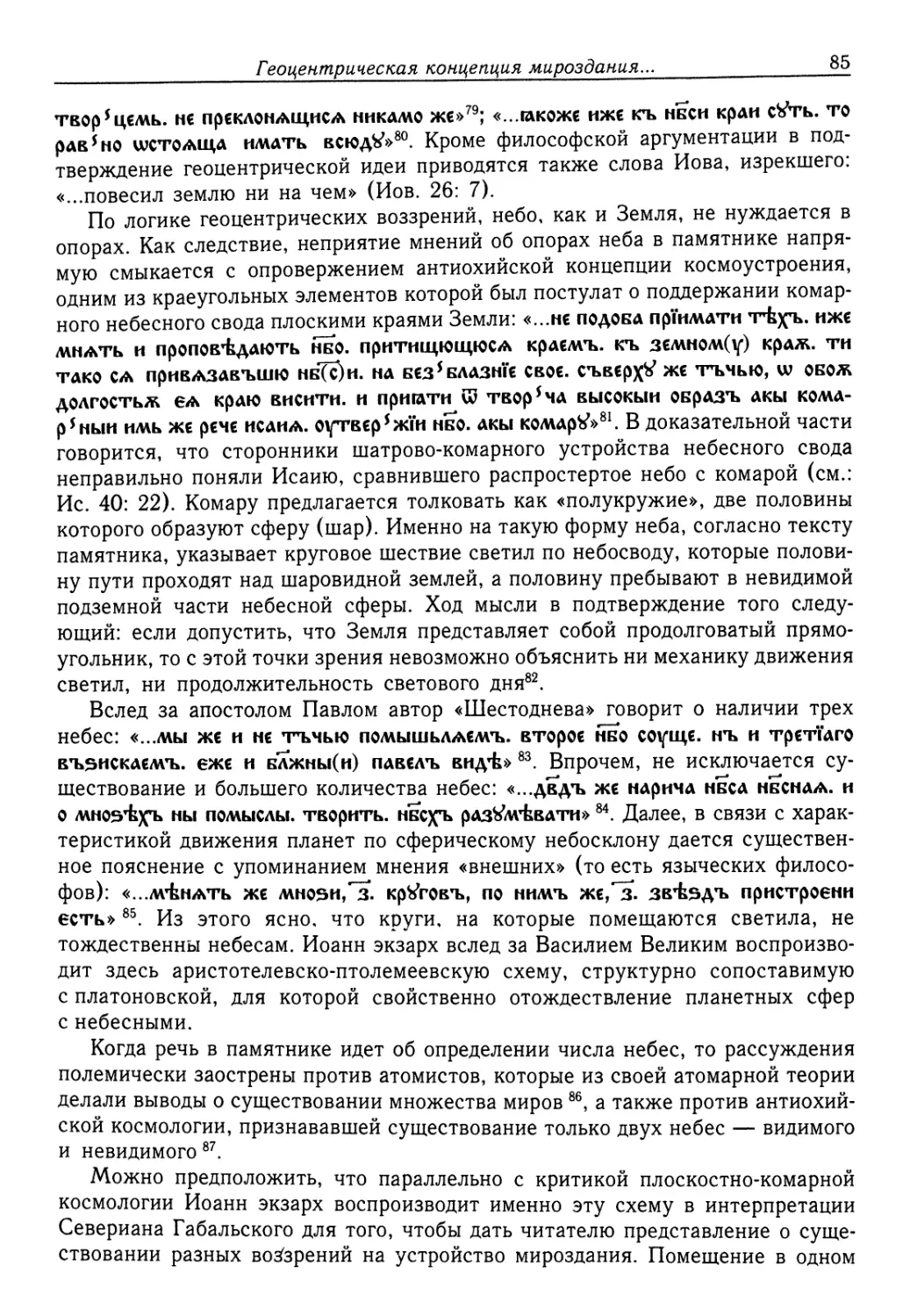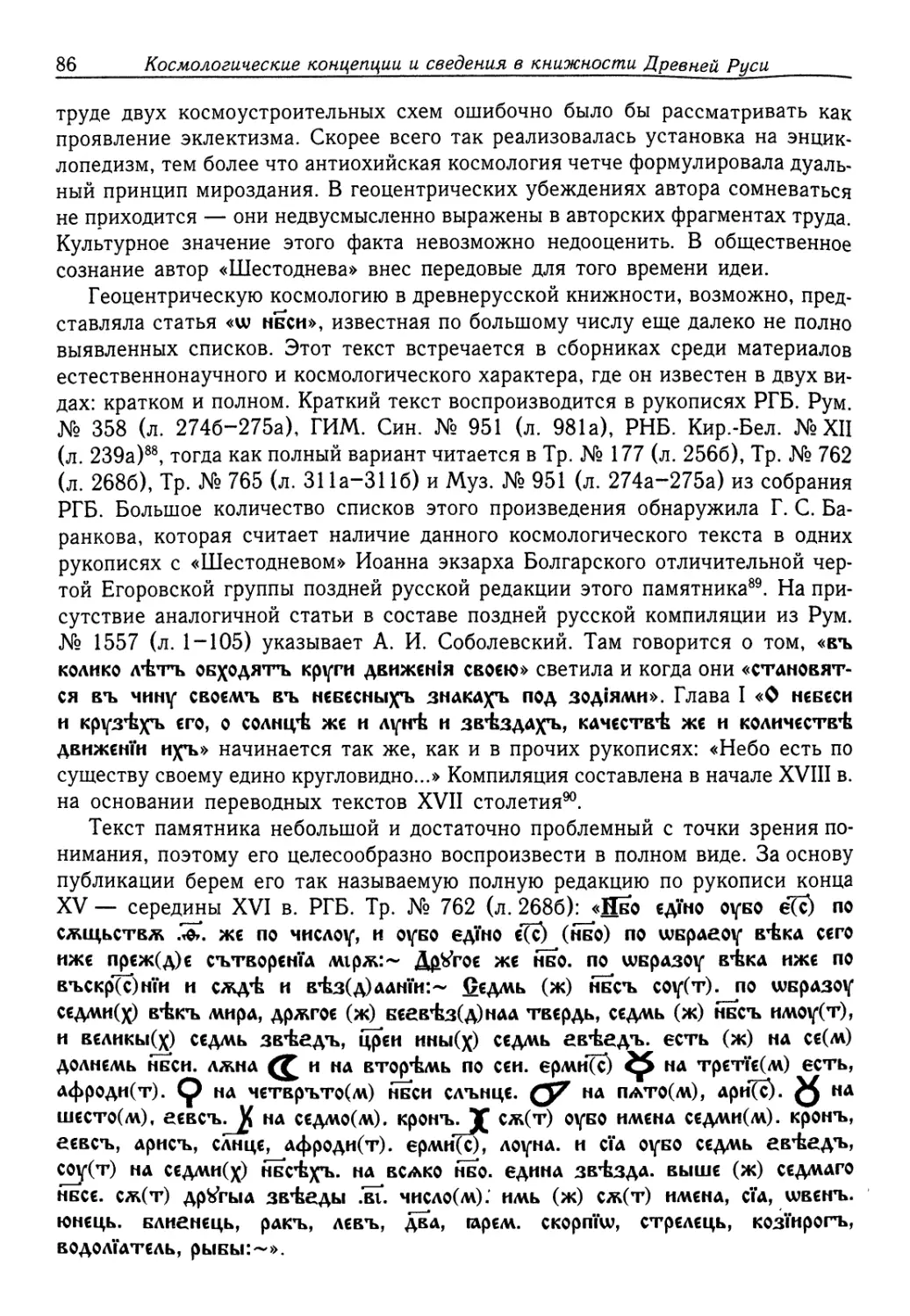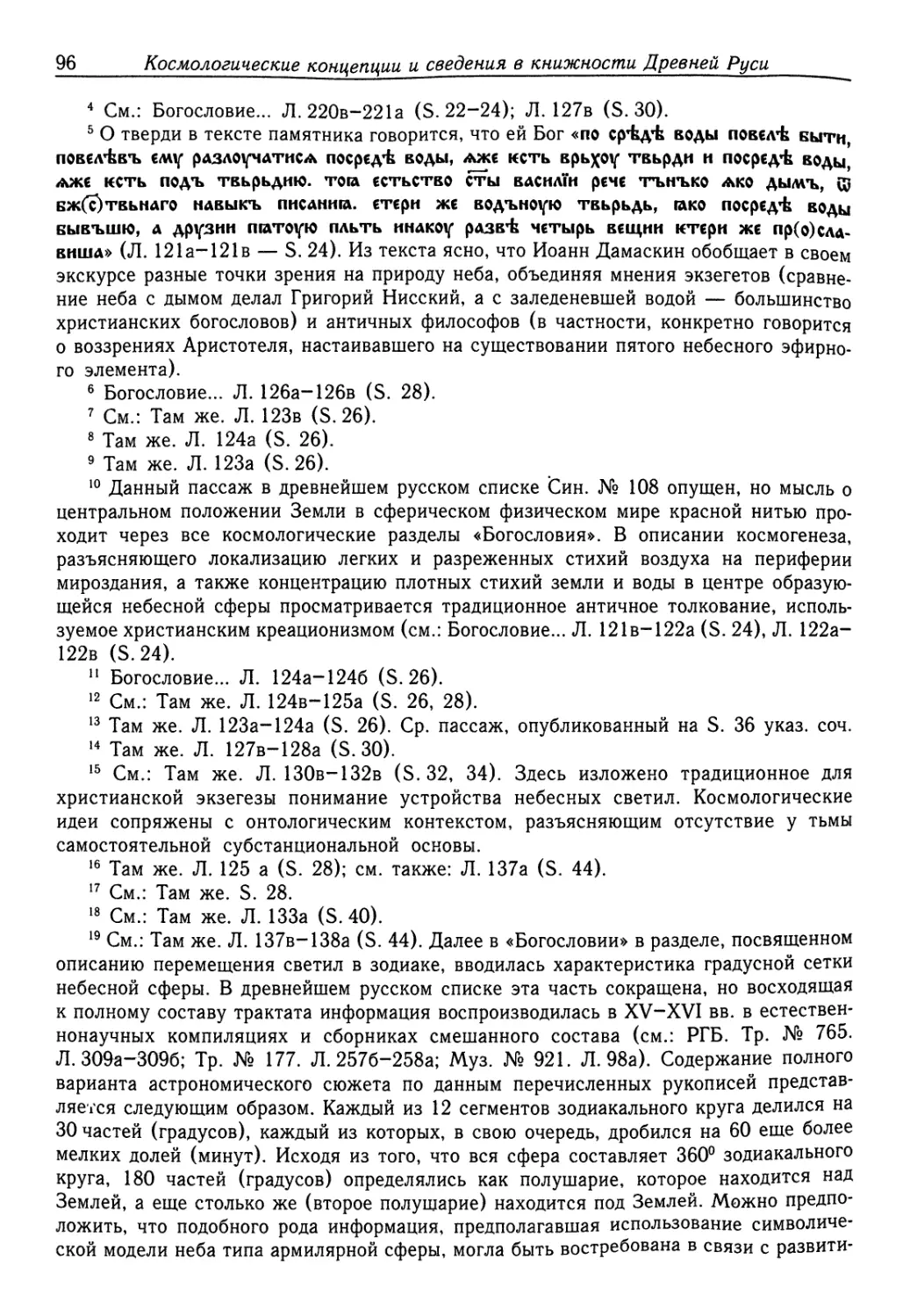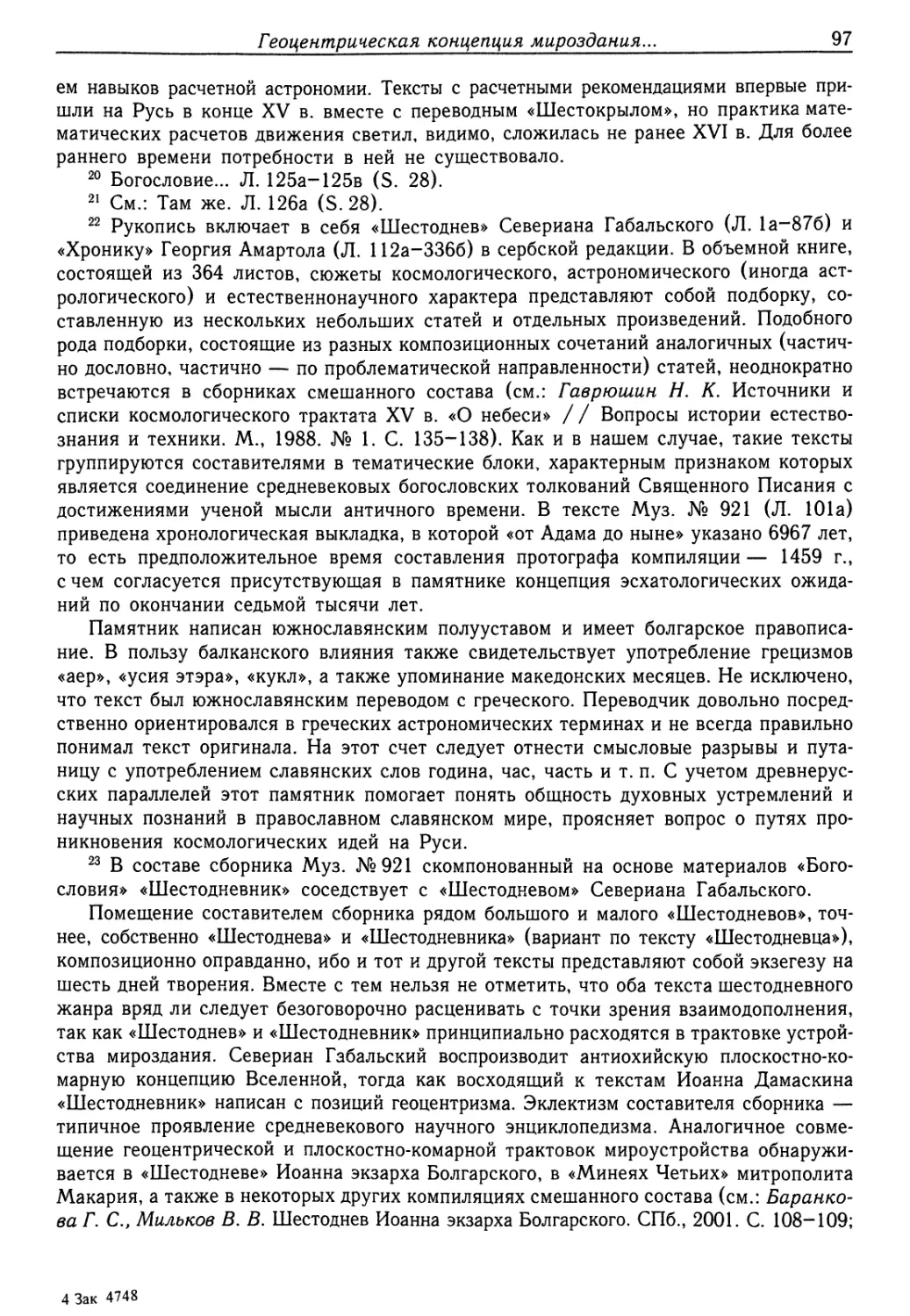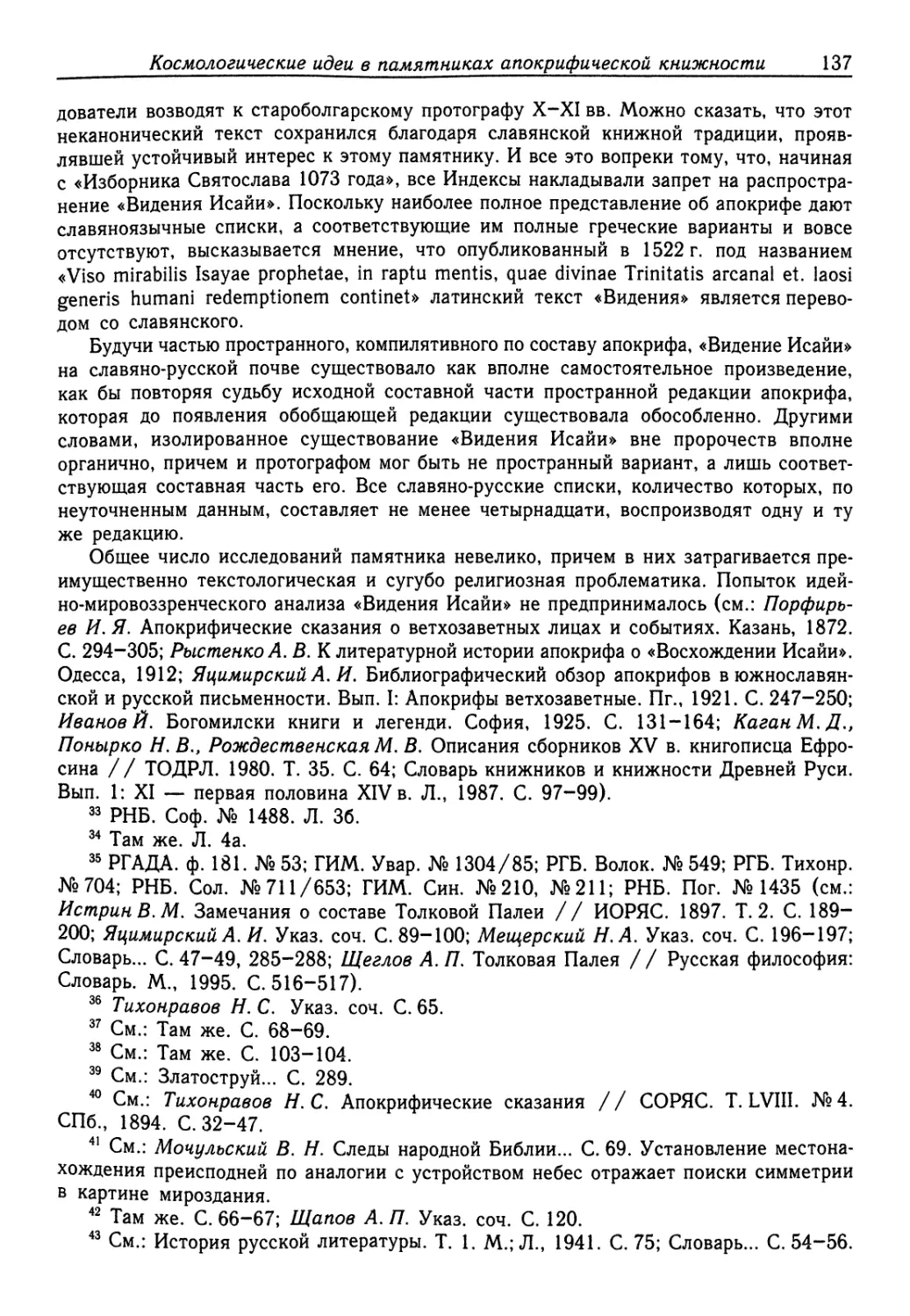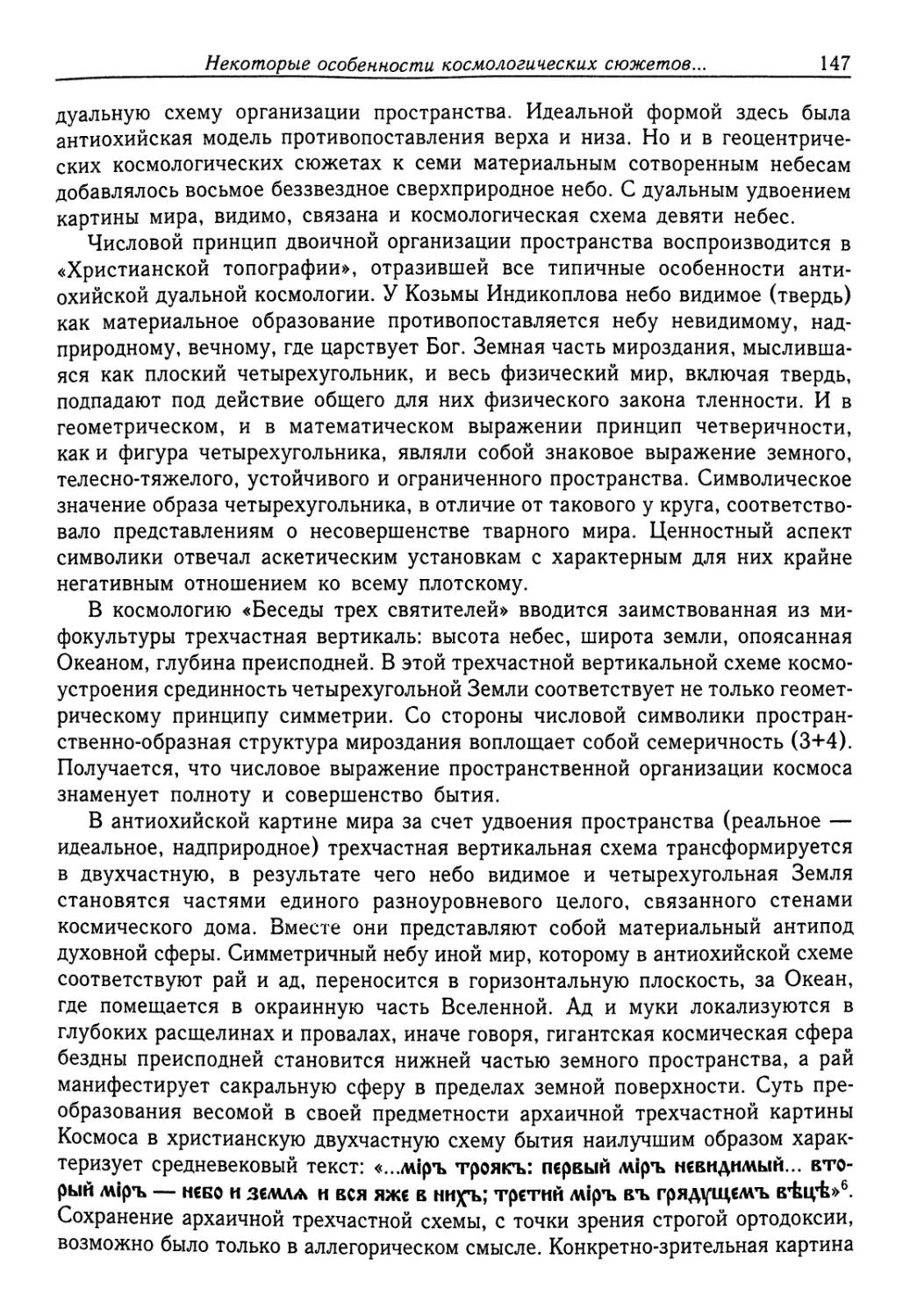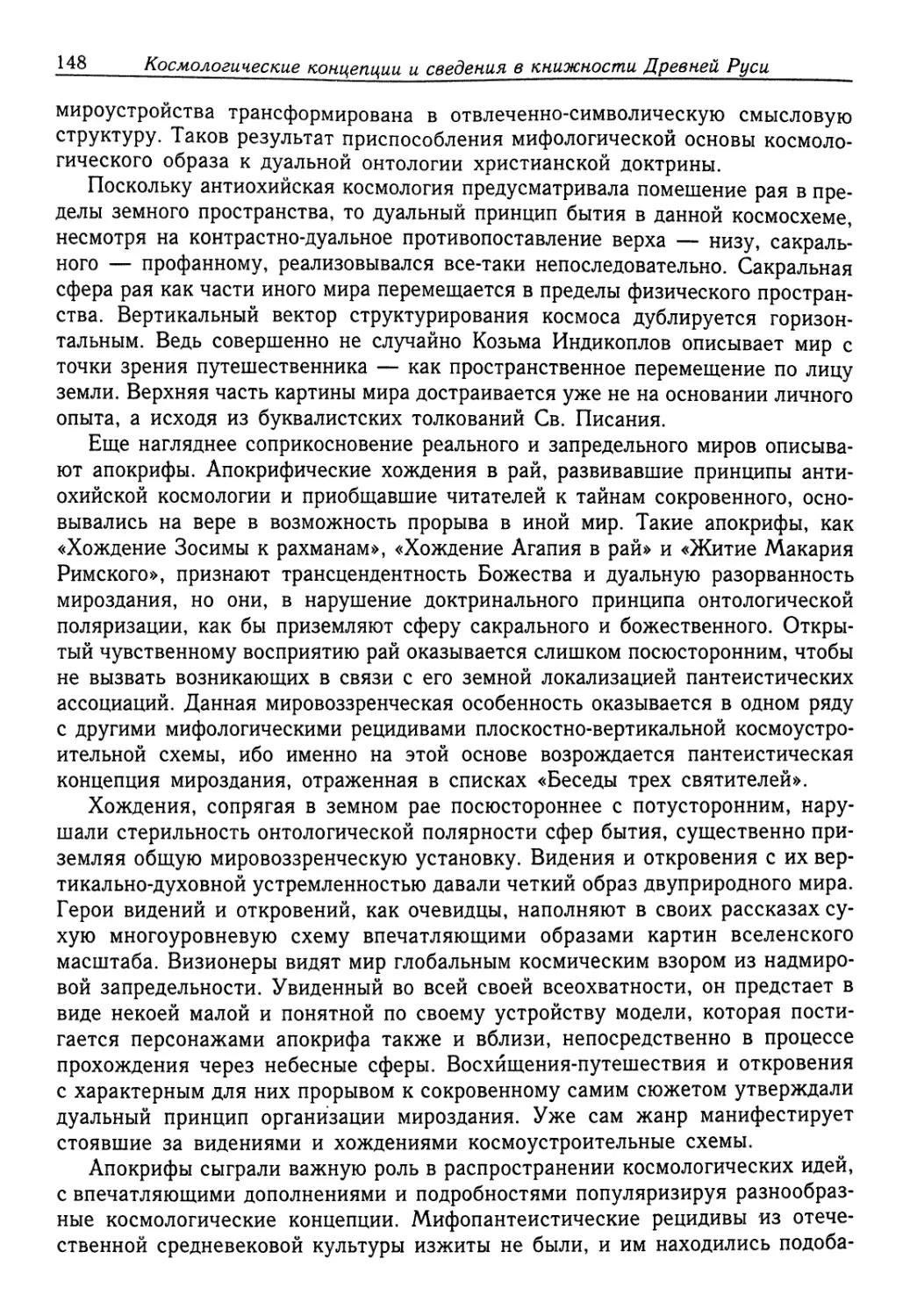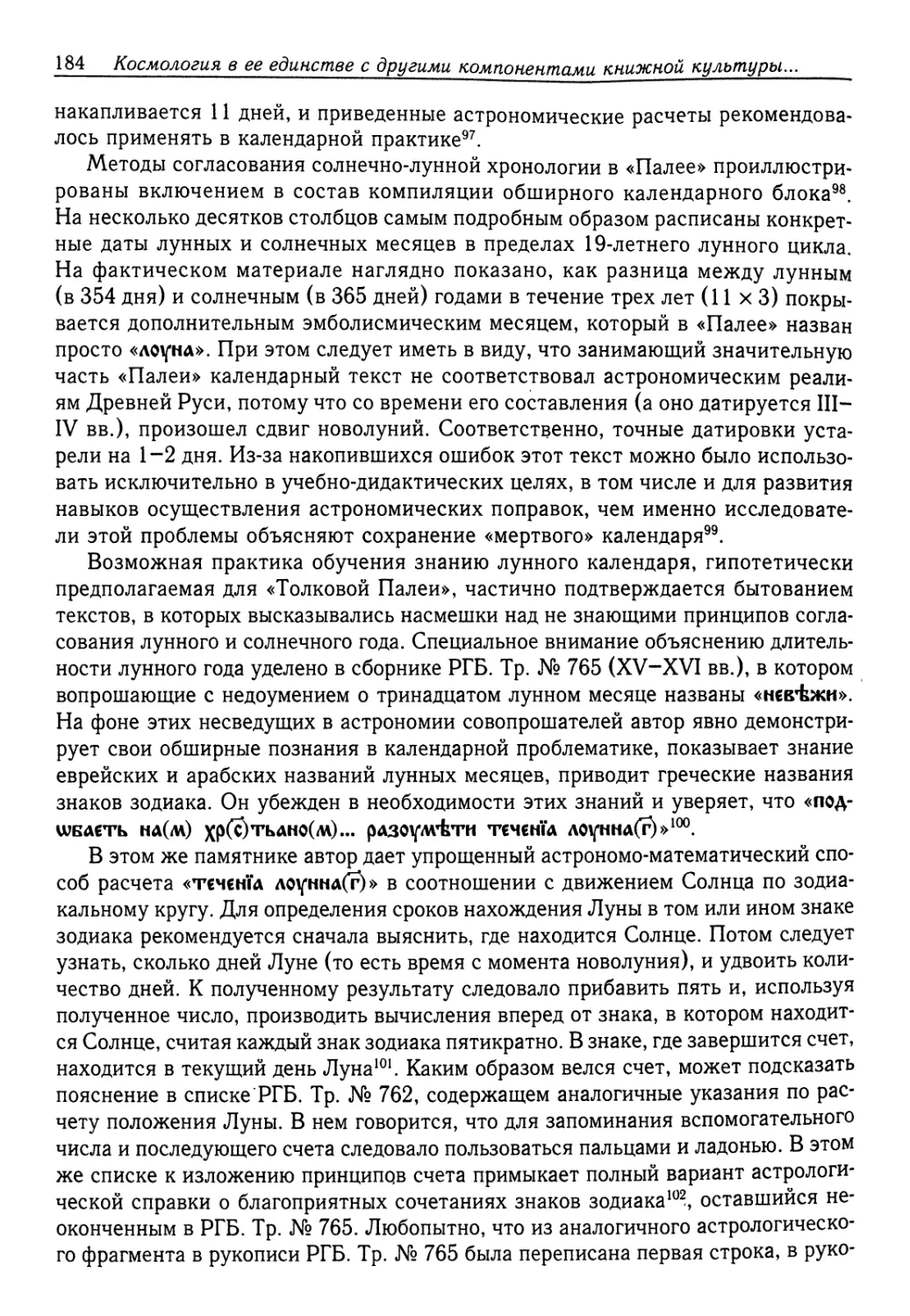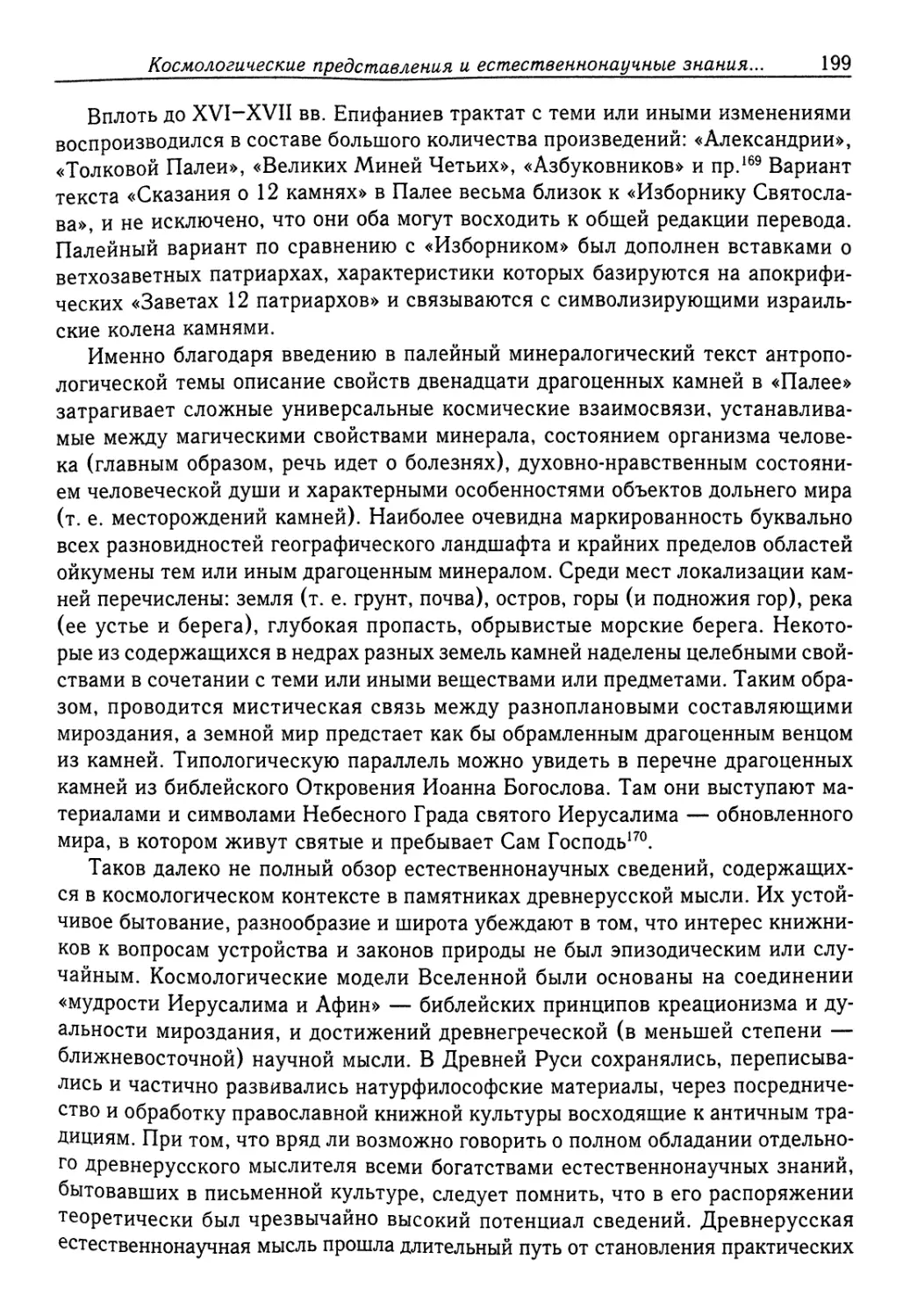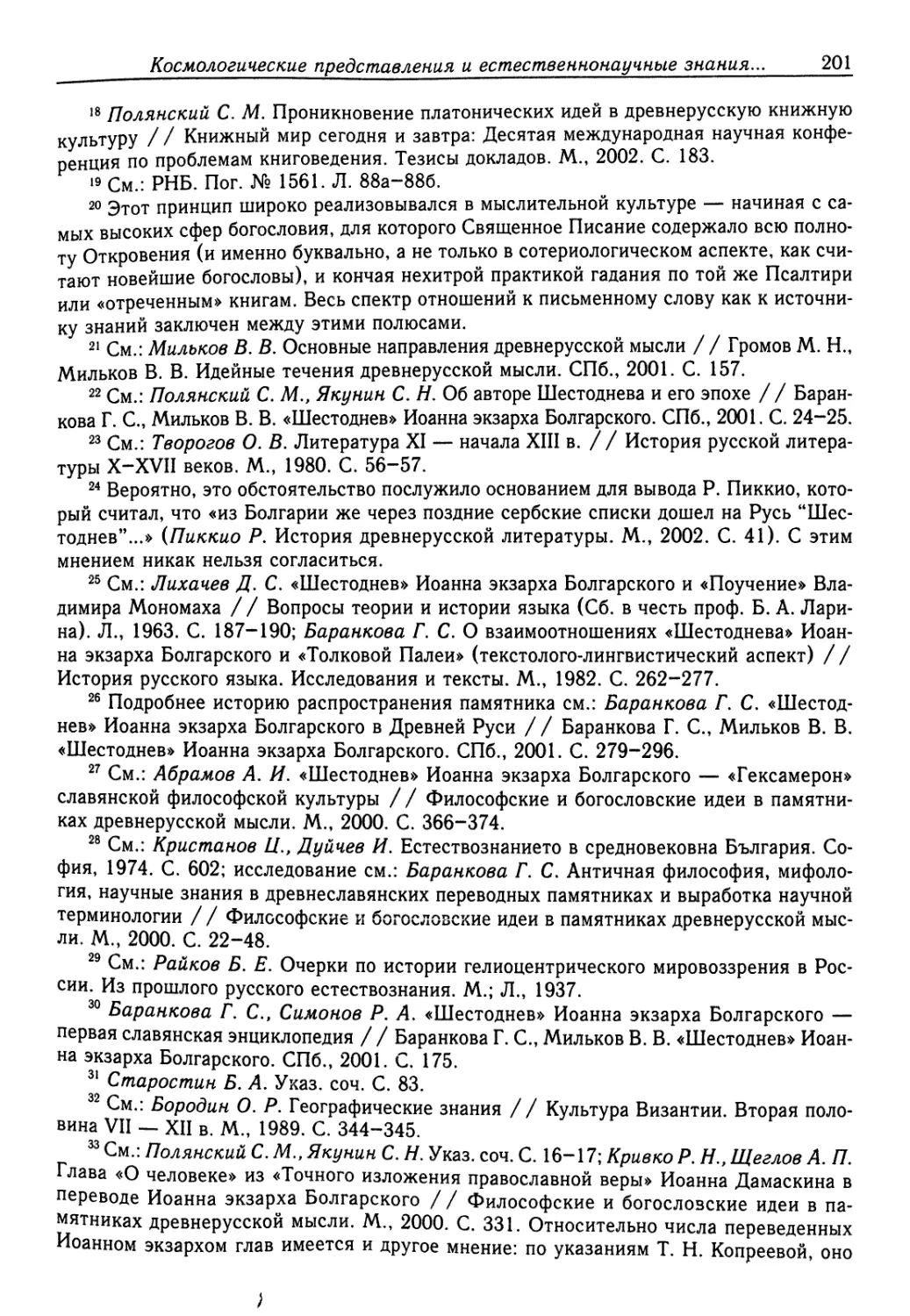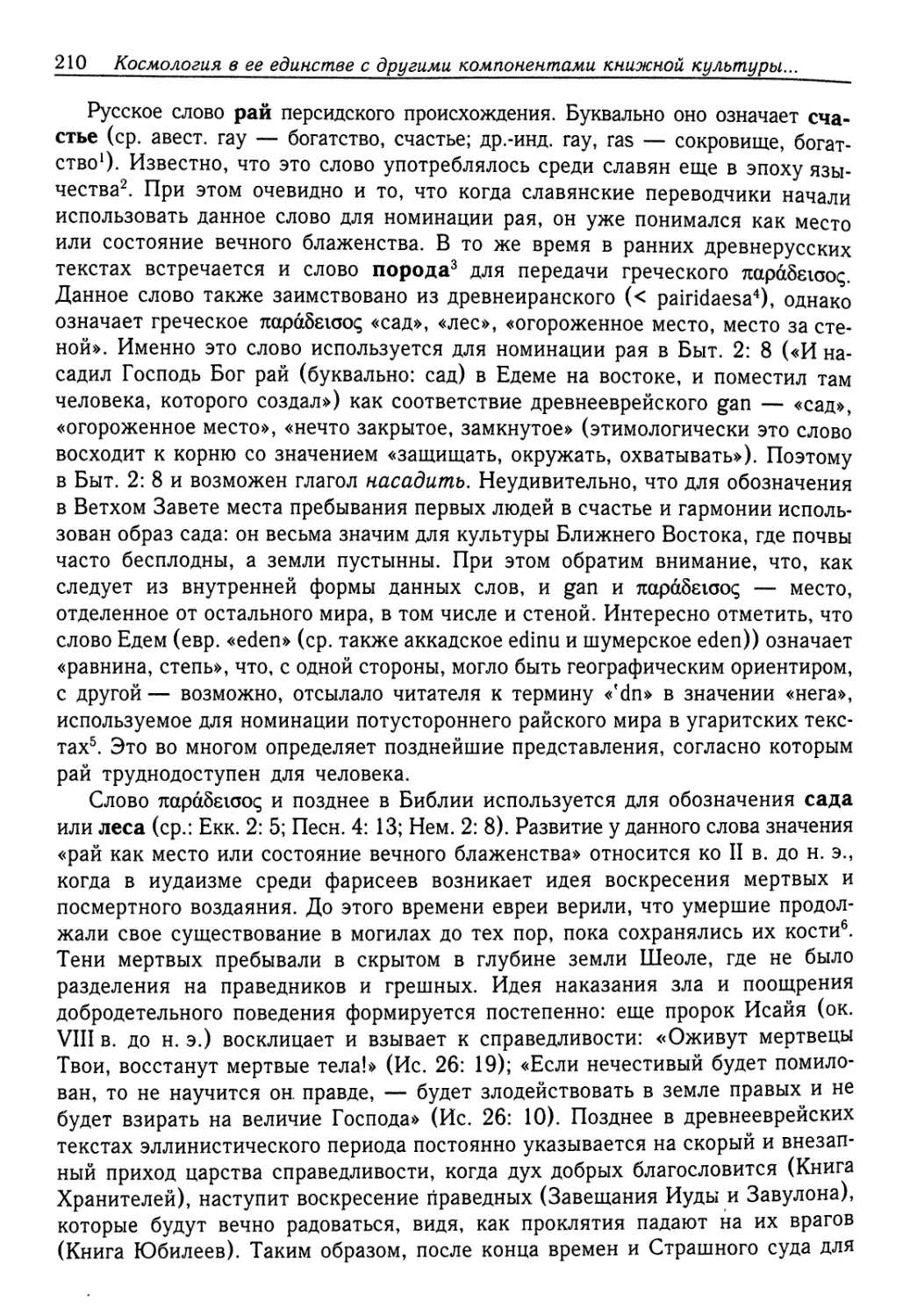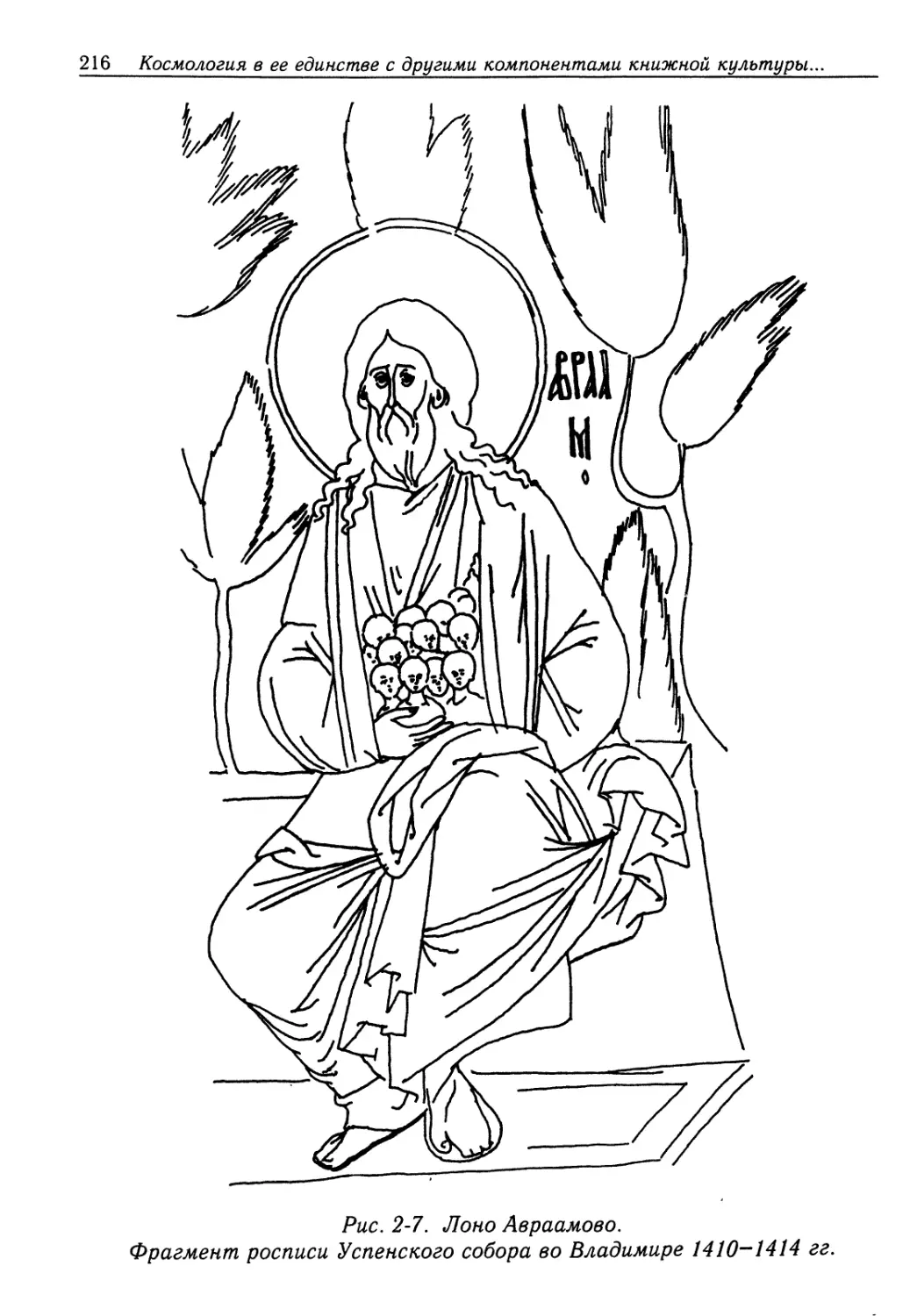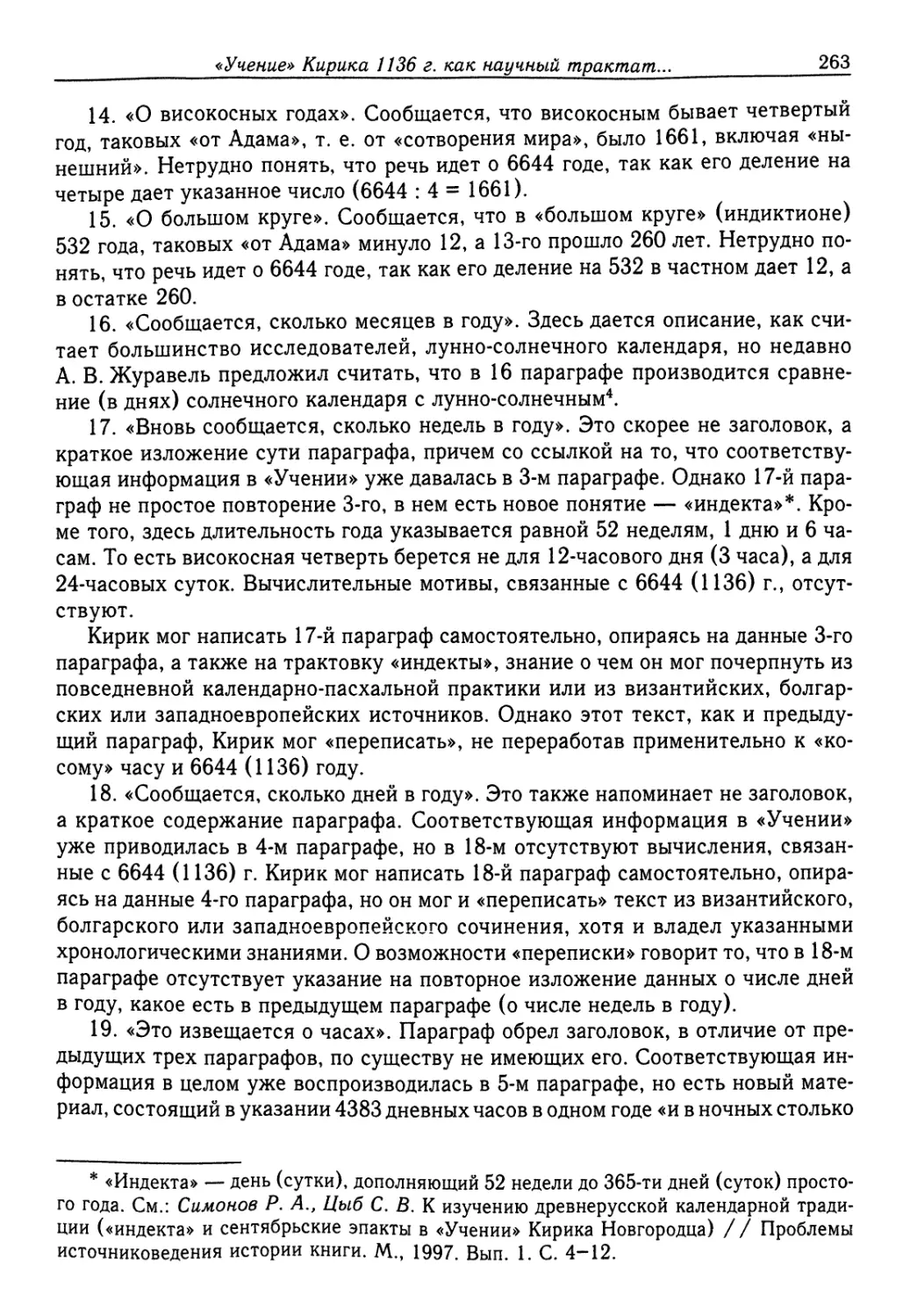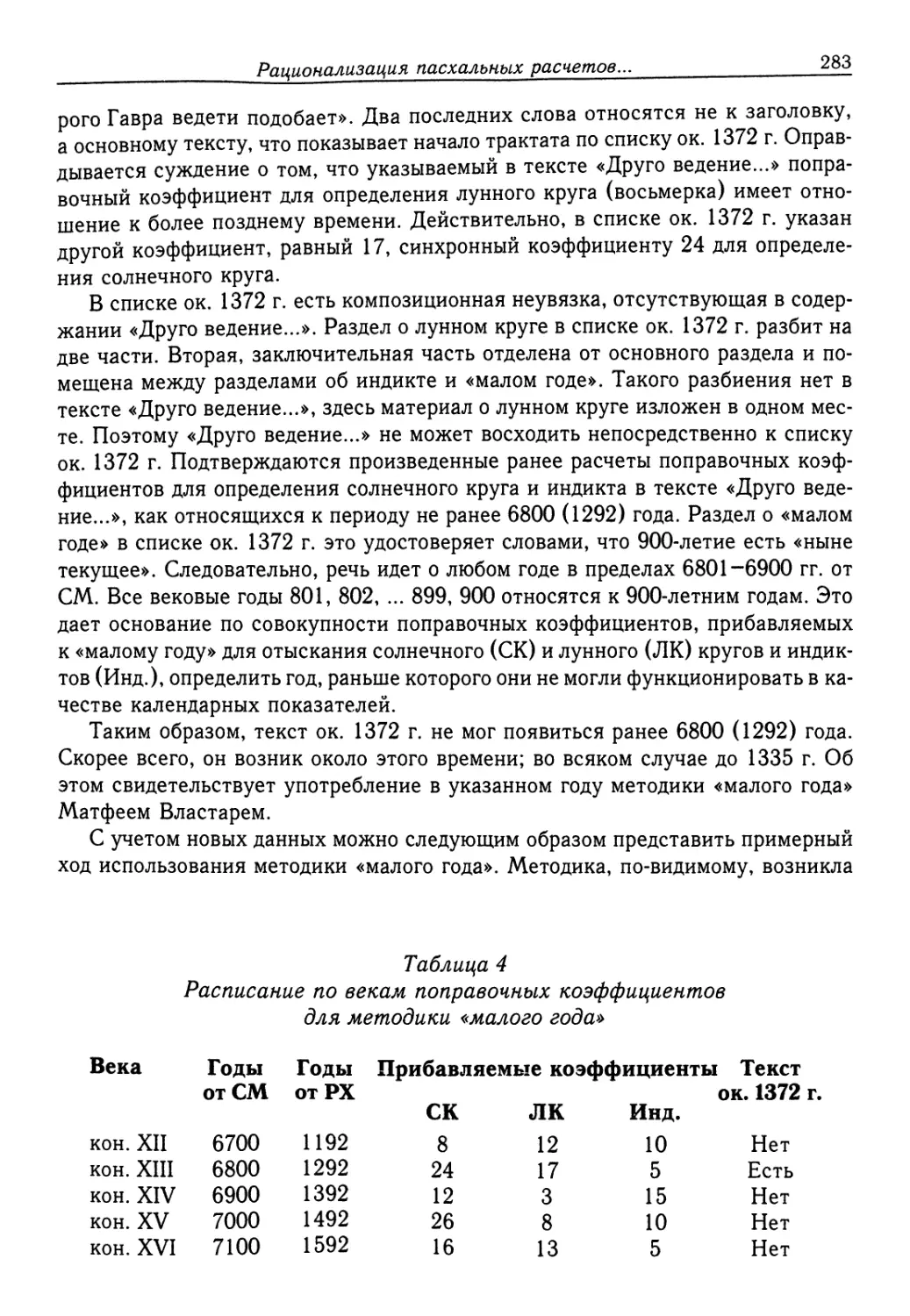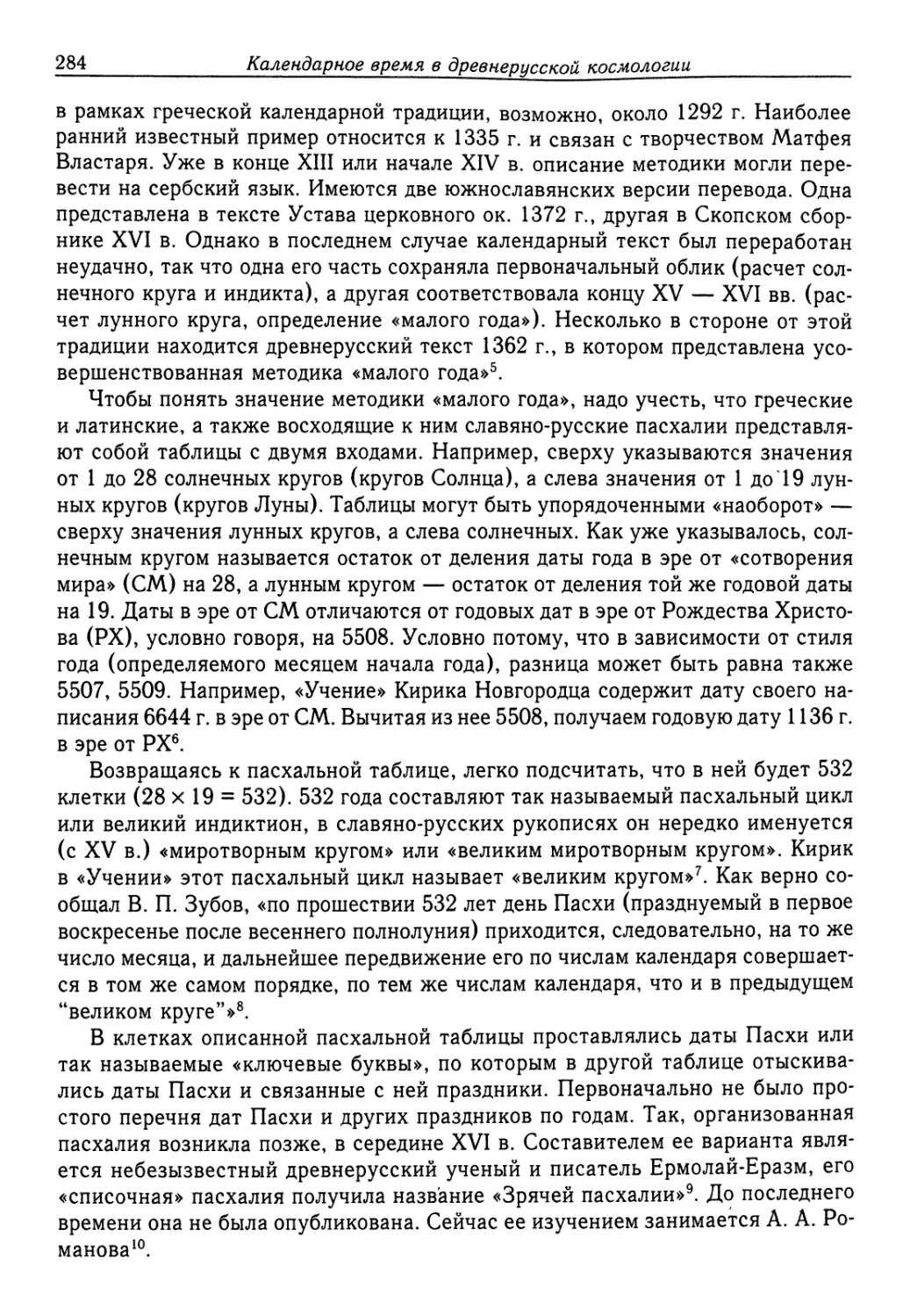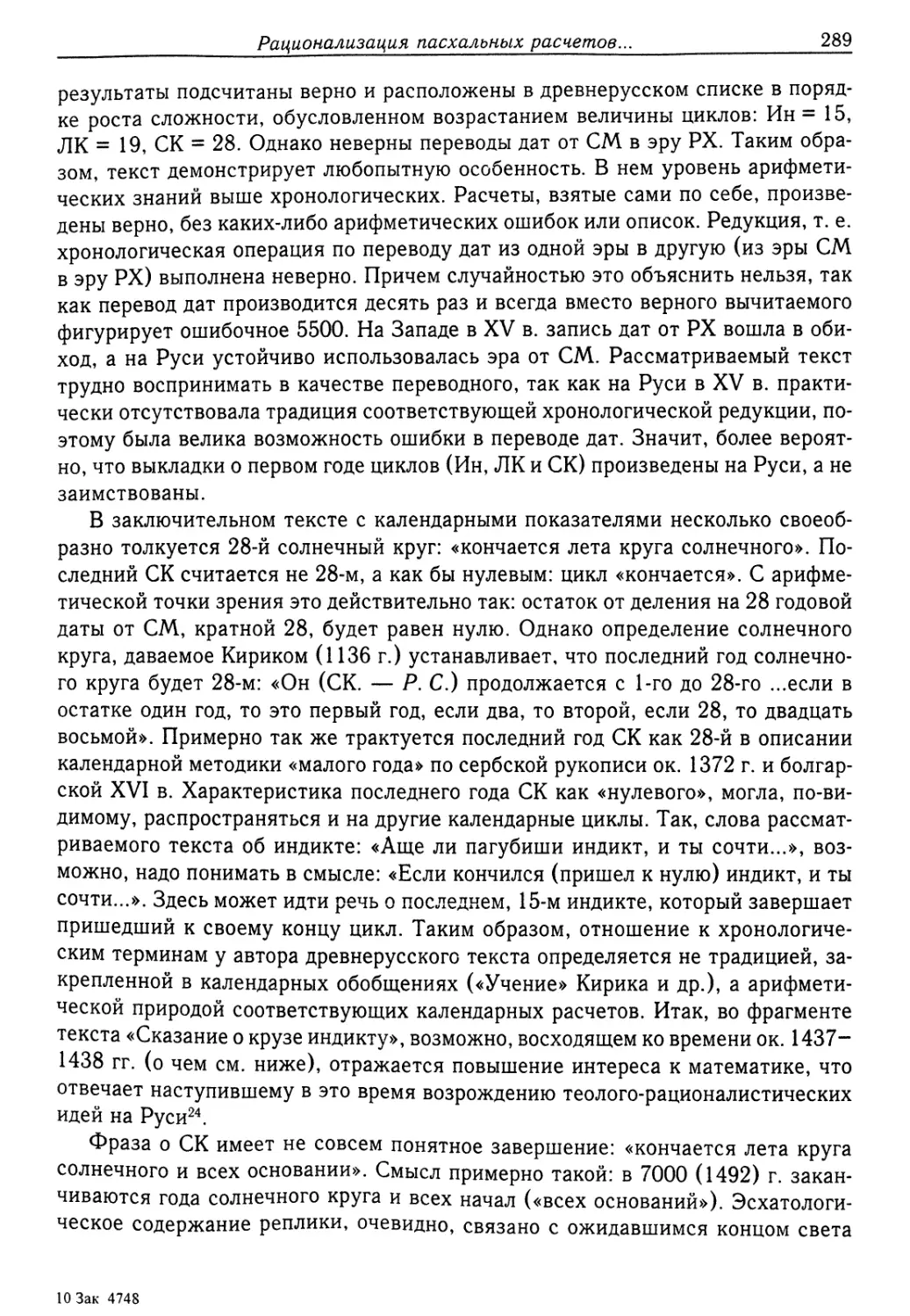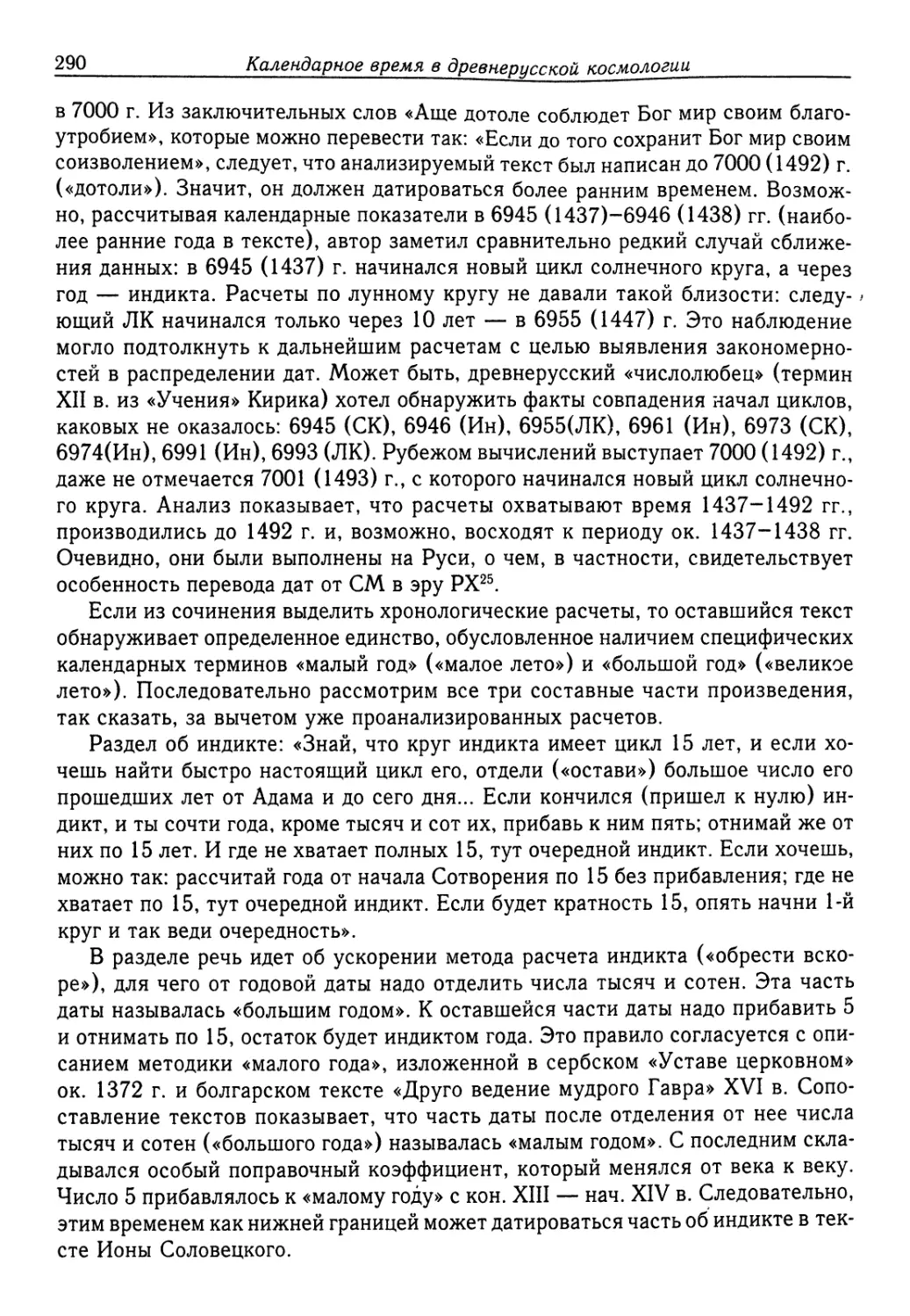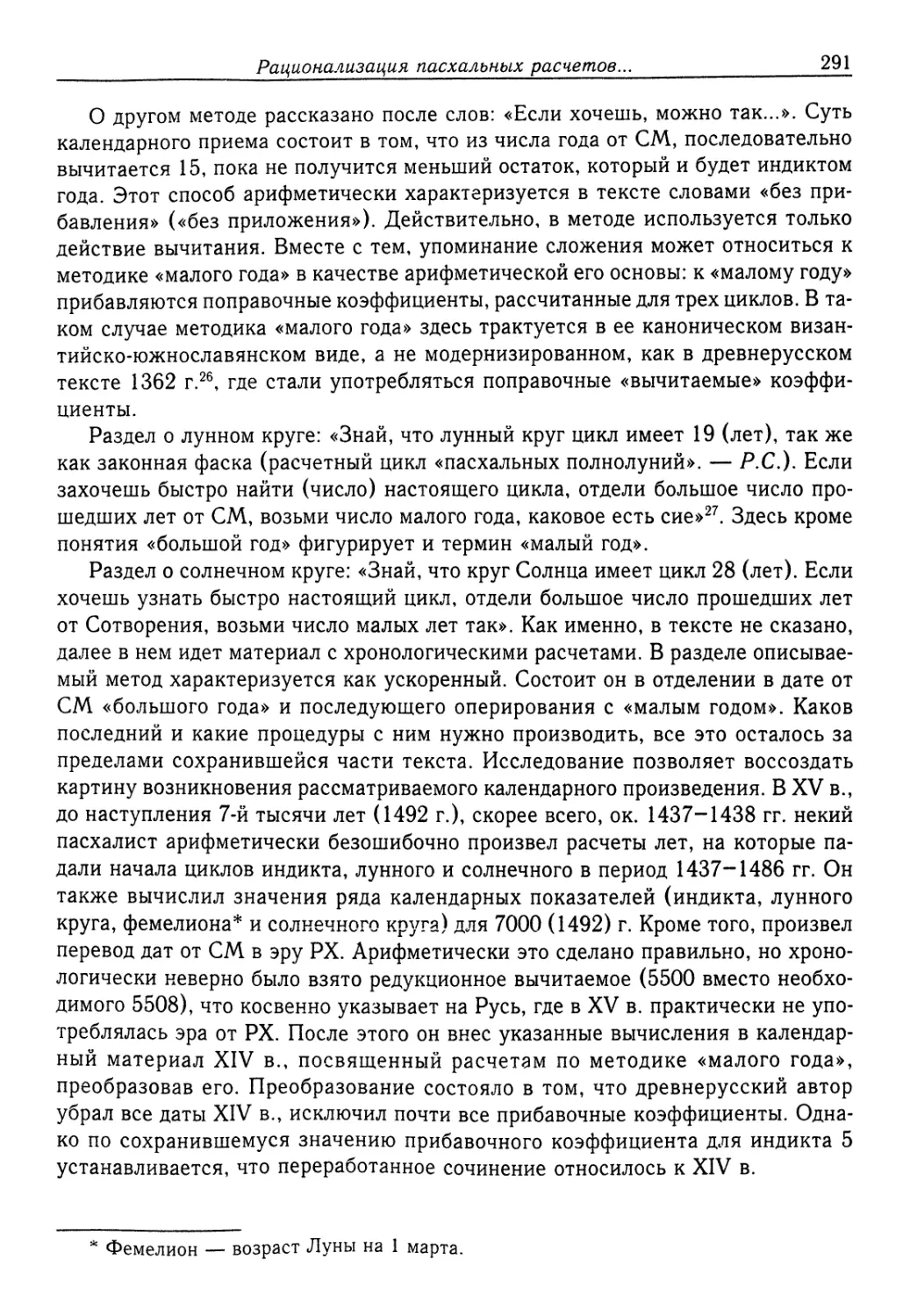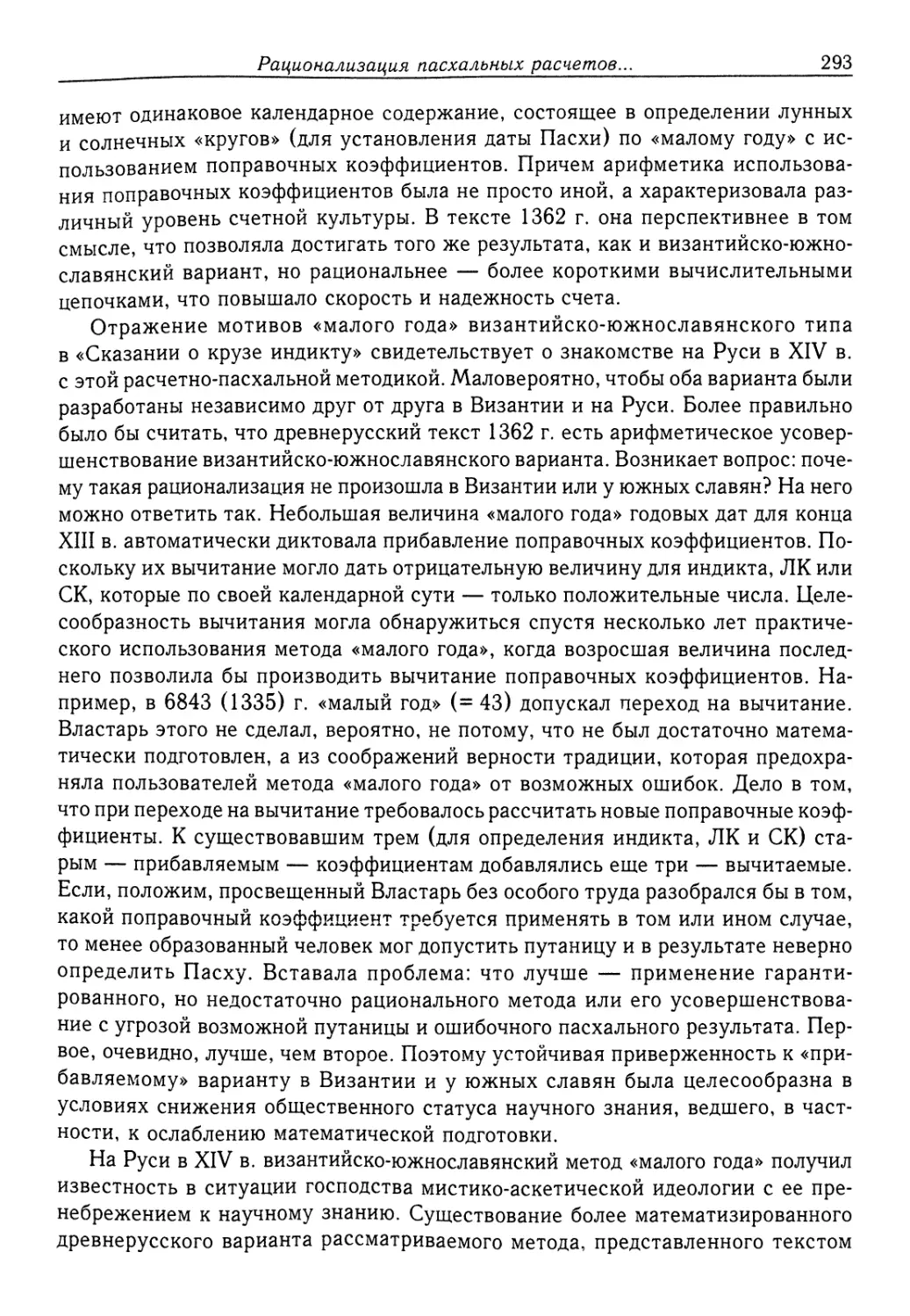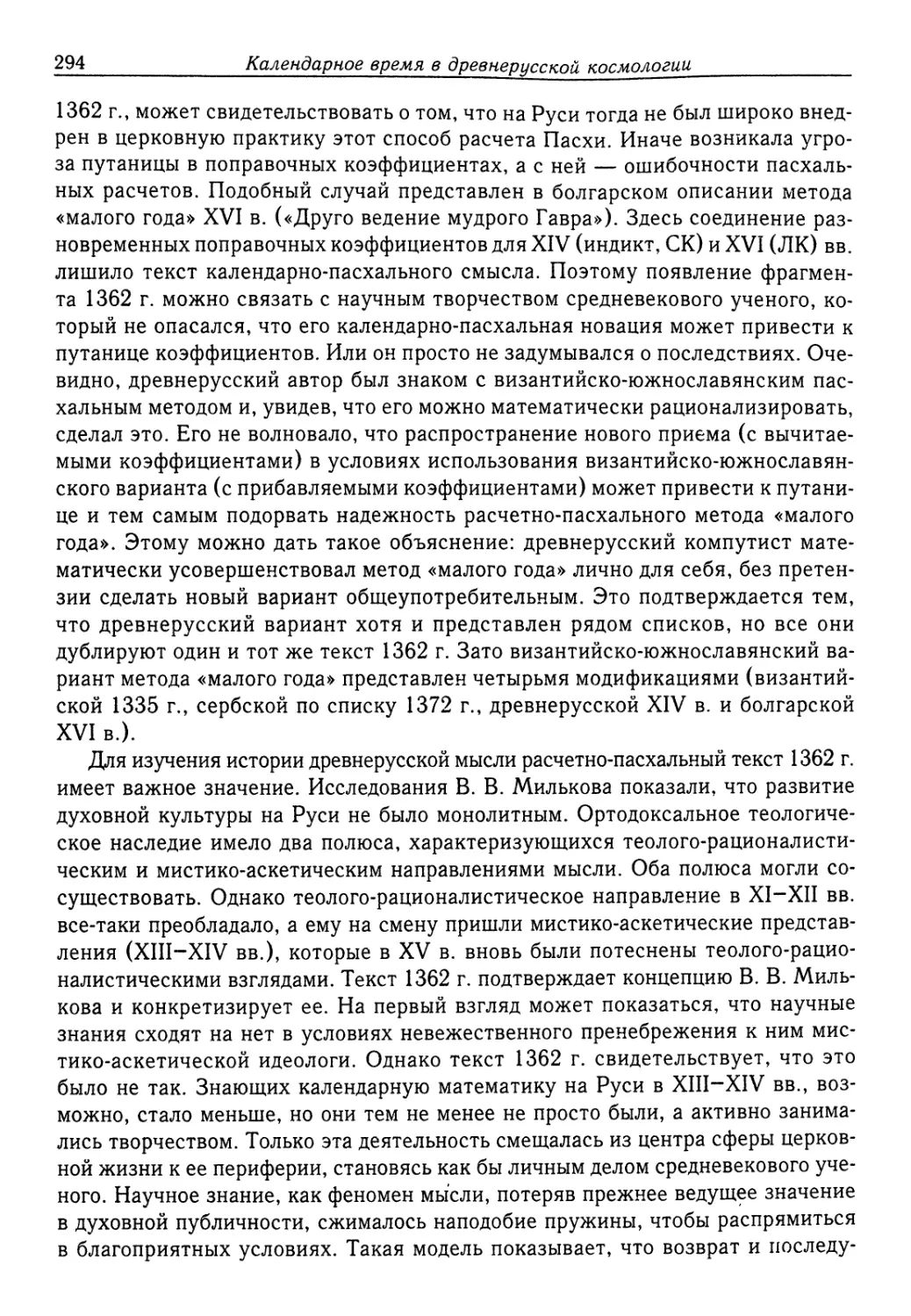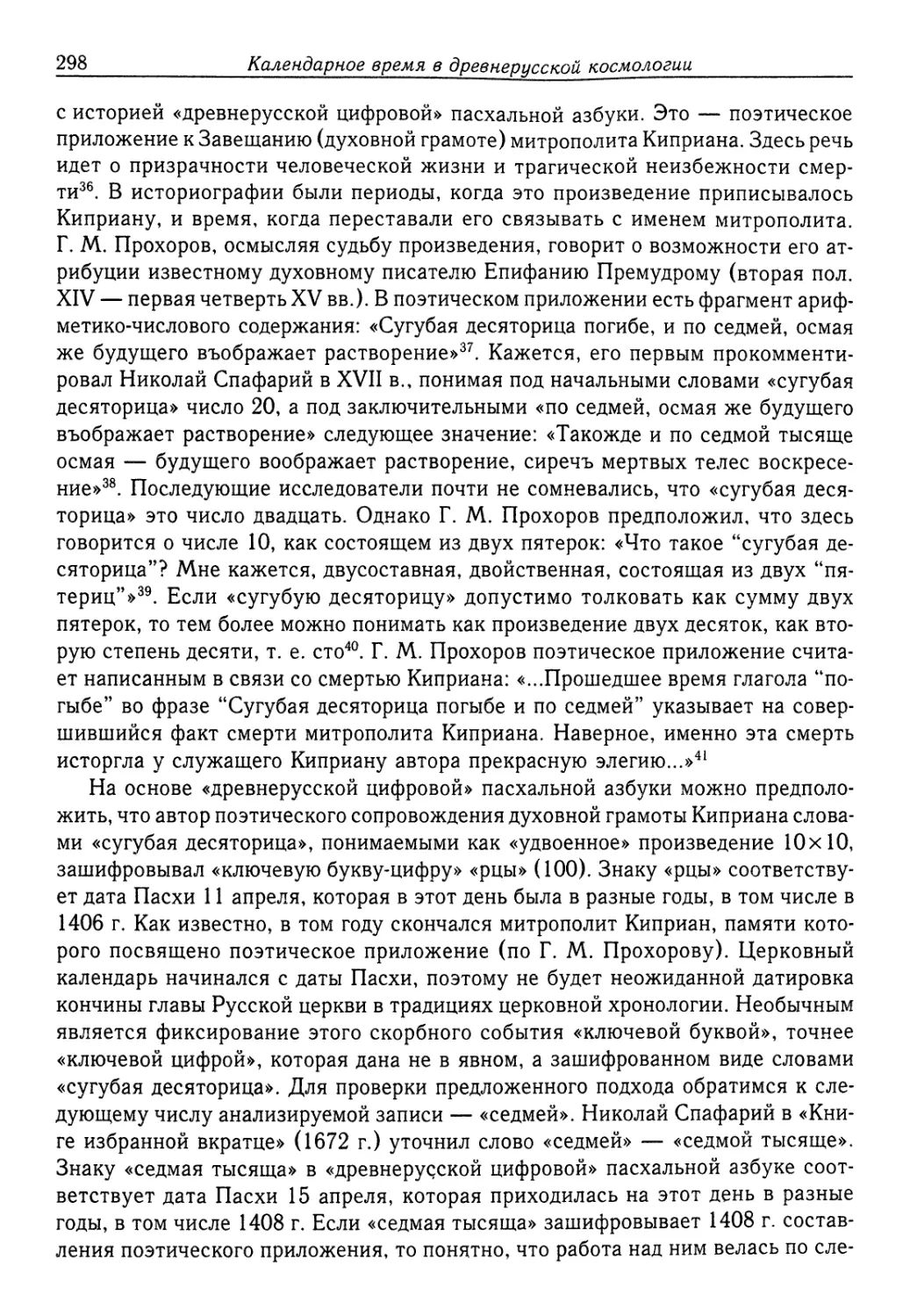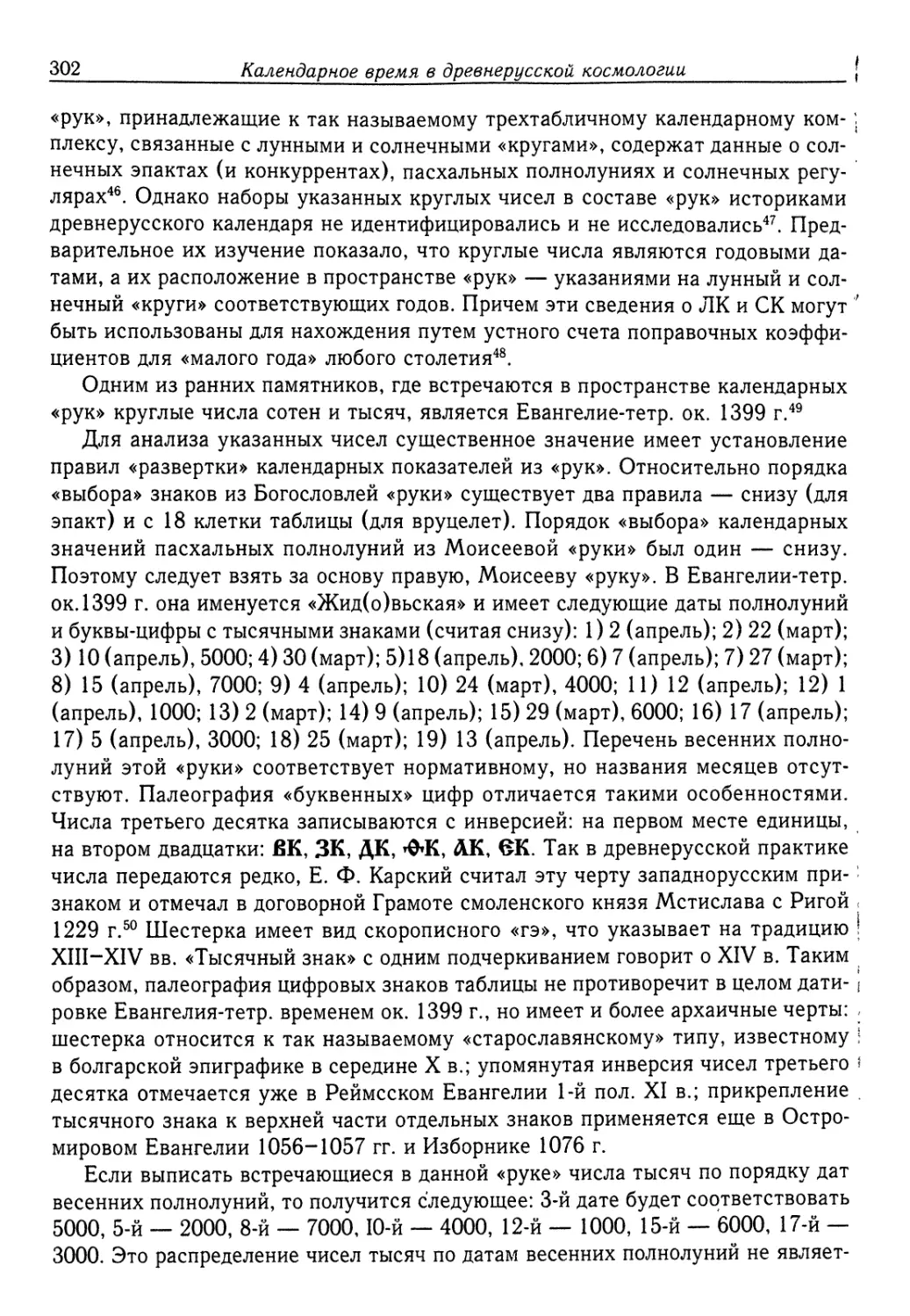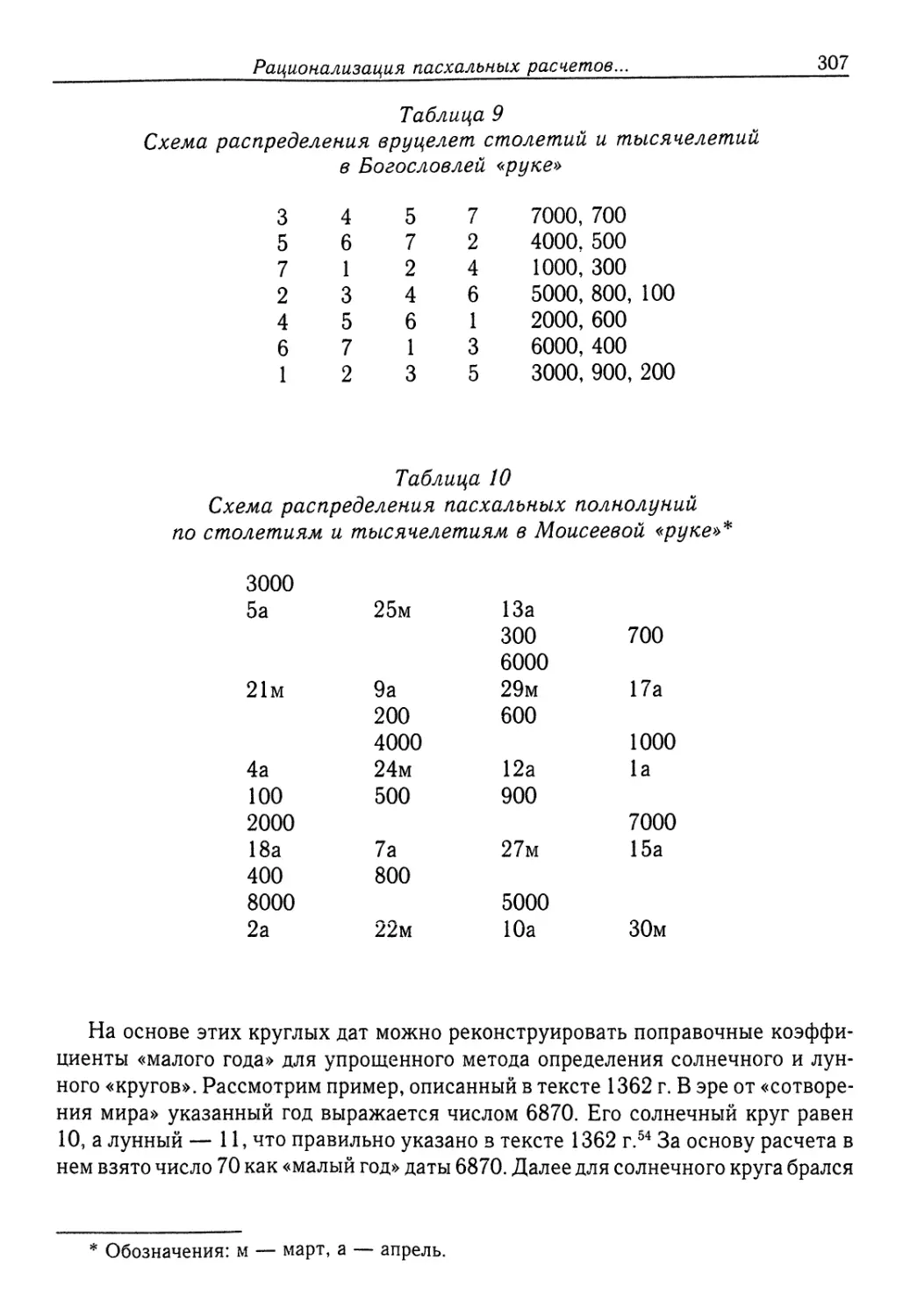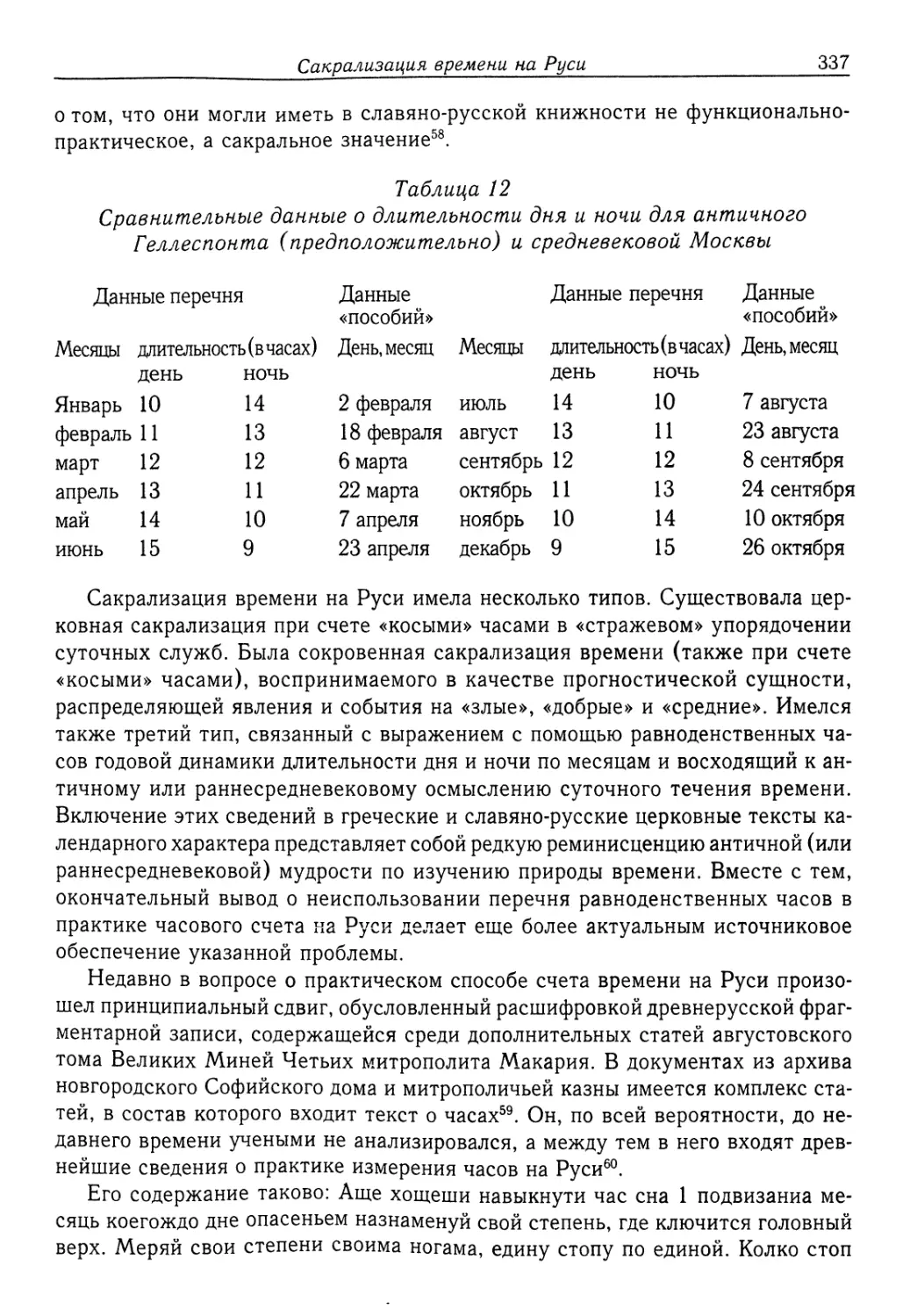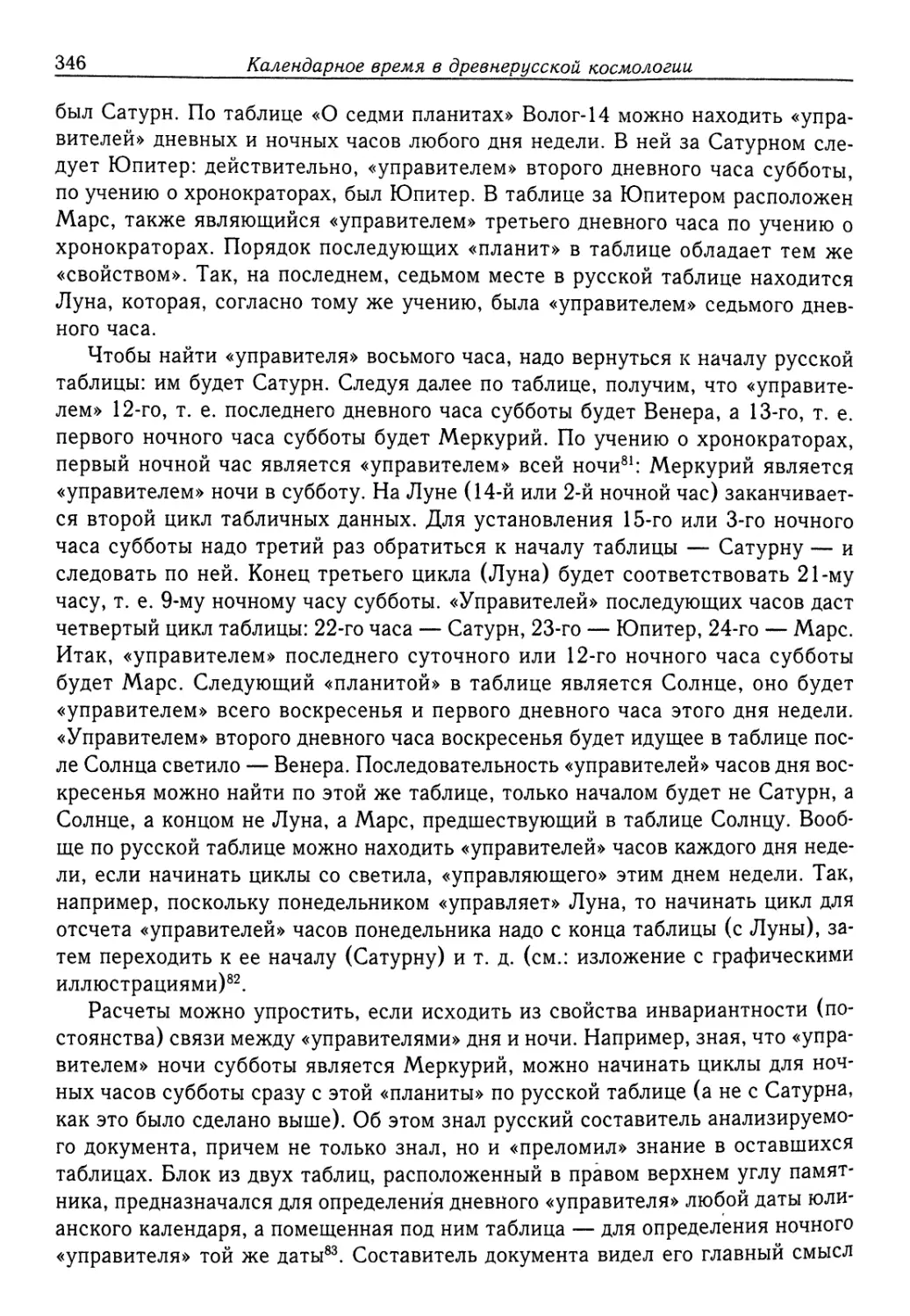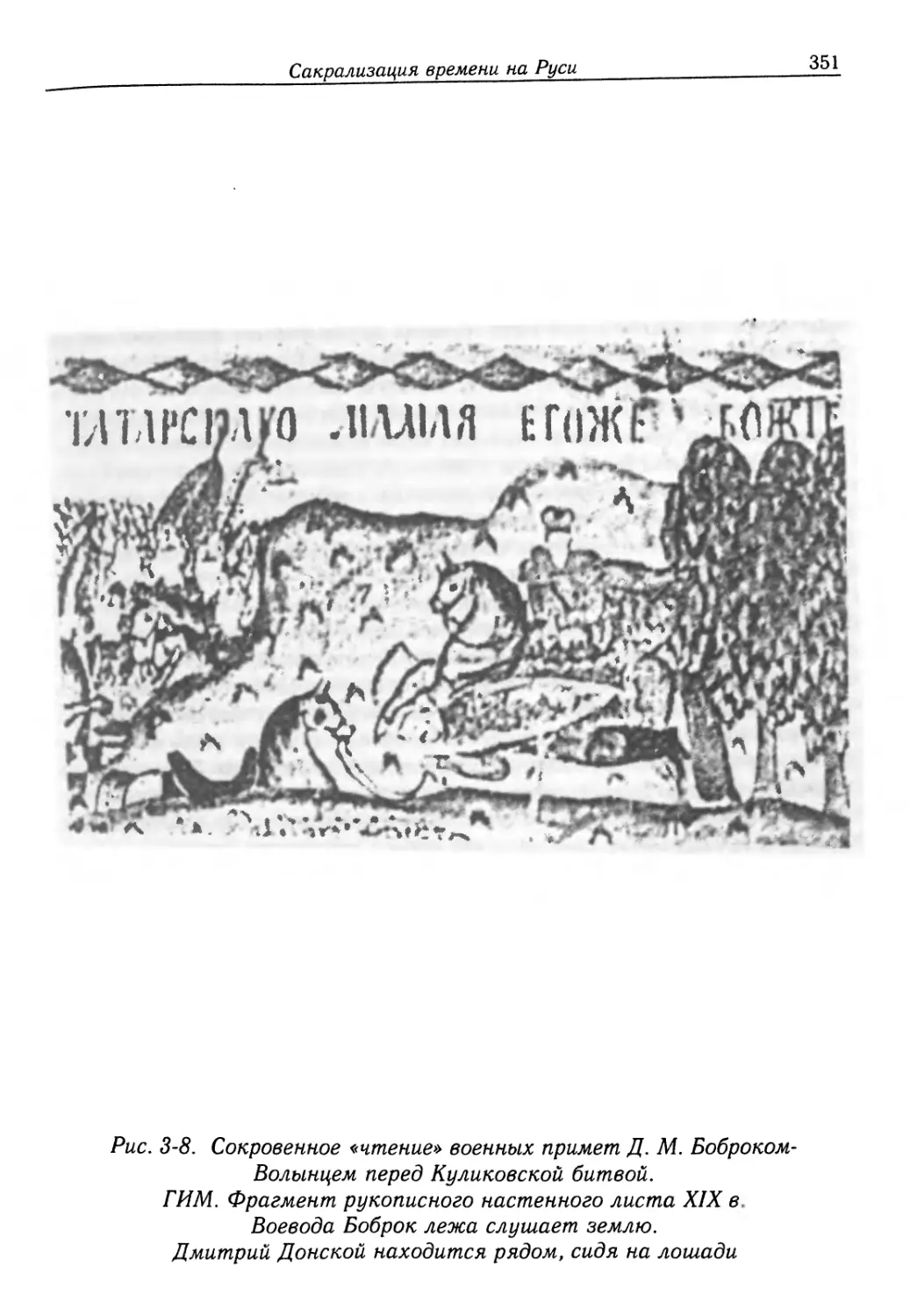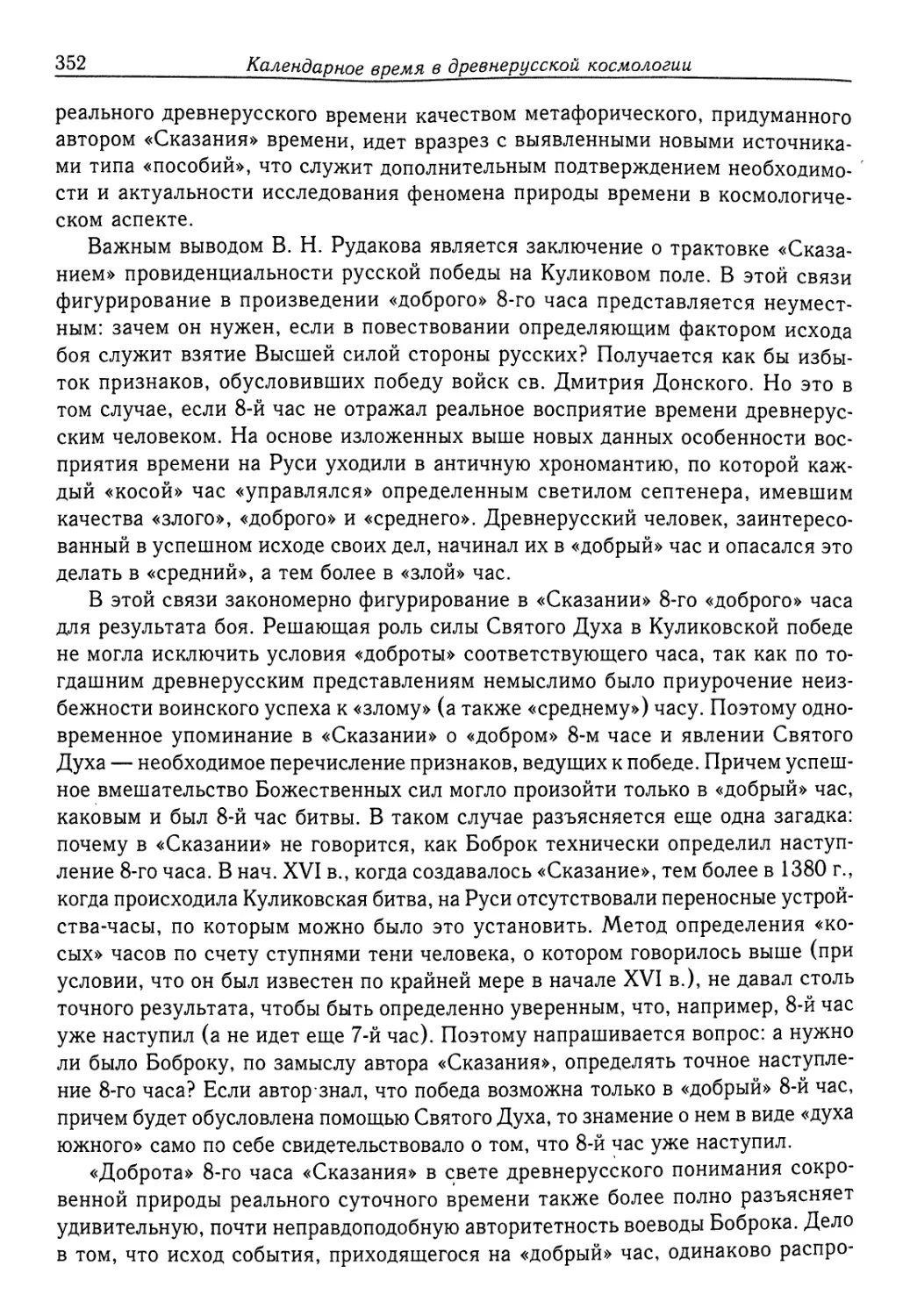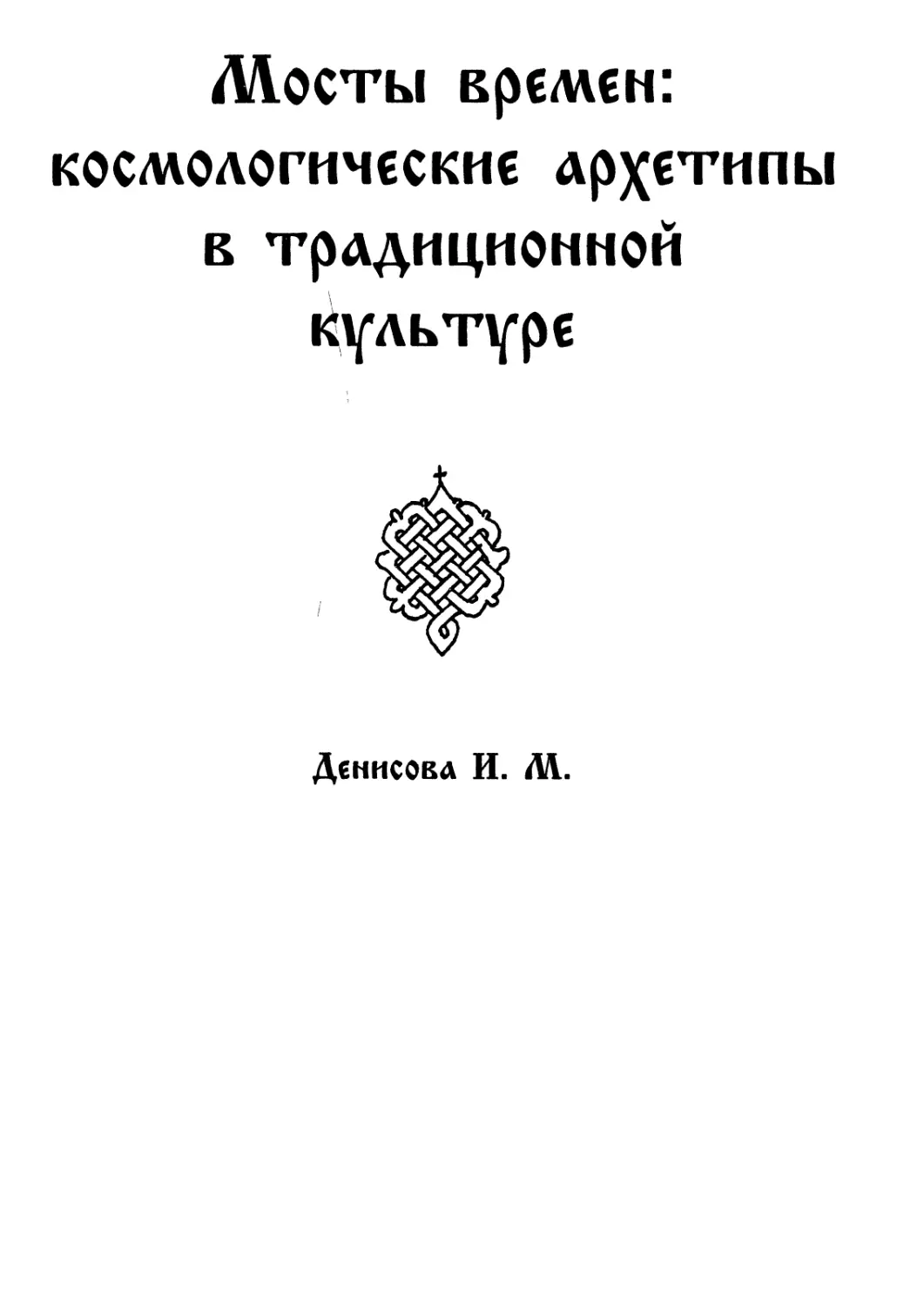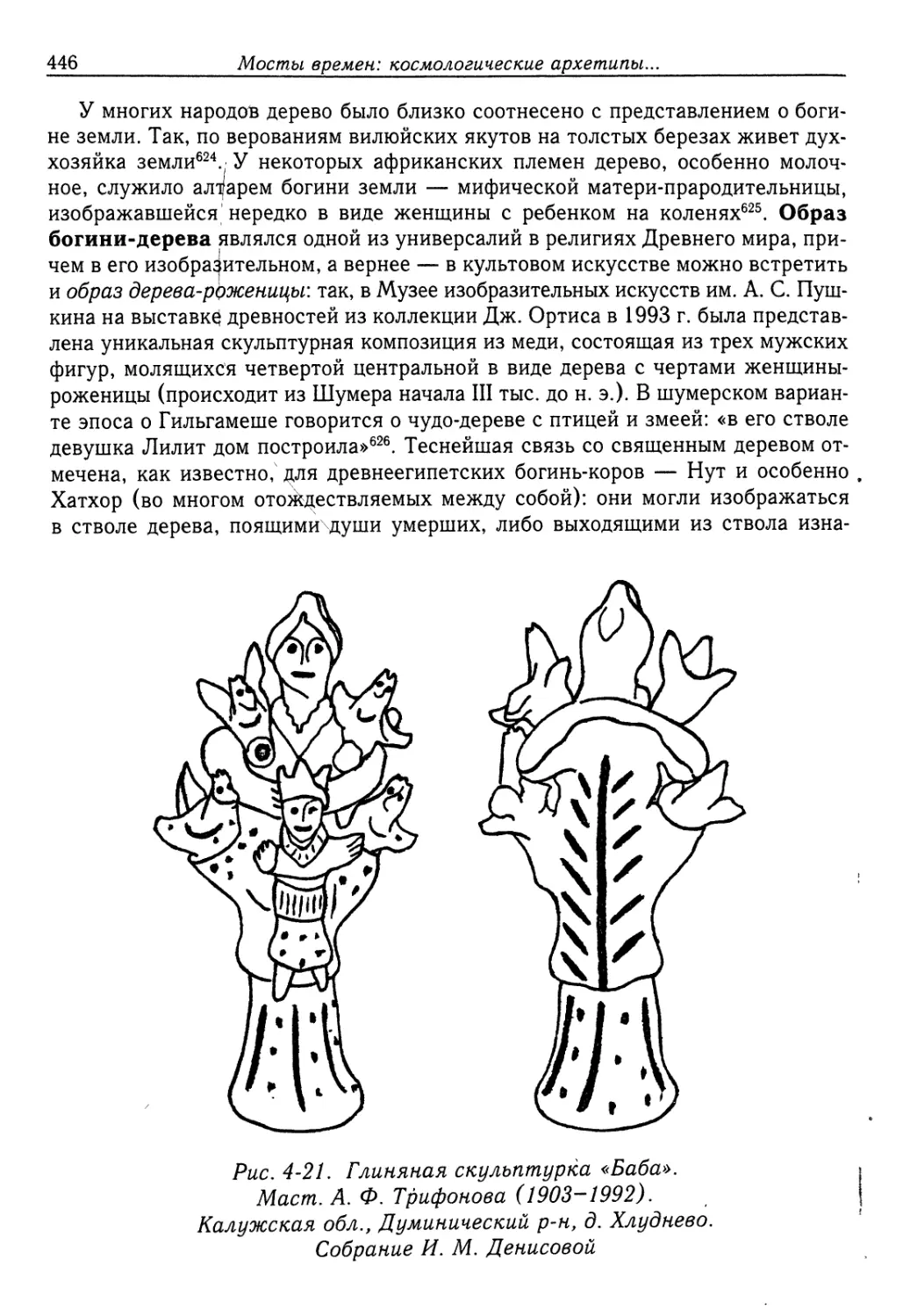Author: Мильков В.В. Григорьев А.В. Денисова И.М. Полянский С.М. Симонов Р.А.
Tags: метафизика вселенная метагалактика космология философские науки астрофизика философия славянская мифология древнерусская космология
ISBN: 5-89329-649-4
Year: 2004
Серия
памятники древнвруоокой мысли
Исследования и тексты
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
Древнерусская
космология
Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2004
УДК 113/ 119(470):524.8
ББК 87(2)41+22.632г
Д73
Авторский коллектив:
Григорьев А. В., Денисова И. М., Мильков В. В.,
Полянский С. М., Симонов Р. А.
Д73 Древнерусская космология / Отв. ред. Г. С. Баранкова. — СПб.:
Алетейя, 2004. — 480 с. — (Серия «Памятники древнерусской мысли.
Исследования и тексты»).
ISBN 5-89329-649-4
Исследование посвящено выявлению космологического компонента в
идейном наследии Древней Руси и анализу единства космологических,
естественнонаучных, календарно-математических и географических воззрений. В работе
рассматриваются геоцентрическая, плоскостно-комарная, а также разнообразные
апокрифические и архаические модели космоустроения, дается анализ
календарного времени в древнерусской космологии. В русской народной культуре на
фоне широких типологических параллелей выявляются рудименты представлений
о земле и окружающем мире как о зооантропоморфном «вселенском существе».
Книга написана на материале переводных и оригинальных памятников
древнерусской и древнеславянскои письменности, разнообразных статей из рукописных
сборников смешанного содержания, в качестве источника привлечены также
материалы народного творчества.
УДК113/119(470):524.8
ББК 87(2)41+22.632г
f
Издание осуществлено при финансовой поддержке
И Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)
(проект № 01-06-87066)
ISBN 5-89329-649-4
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2004
© «Алетейя. Историческая книга», 2004
© Григорьев А. В., Денисова И. М , Мильков В. В.,
Полянский С. М., Симонов Р. А., исследования, 2004
© Агарков А. Н., художественное оформление, 2004
0 HAlfMHblX АСПСКТАХ
изучения космологических
представлений
б Древнем Русн
Полянский О. М.
Вместо предисловия
Гч
71
Космология в ряду интересов мыслителей Древнего мира и Средневековья
занимала особое место. Этот факт давно замечен исследователями, и
не только применительно к отечественной религиозно-философской
мысли1. Каждой культуре, известной в истории человечества, каждой цивилизаци-
онной формации присущ своеобразный тип взглядов на проблемы космоустрое-
ния. Свойственное человеку постижение закономерностей и загадок реально
существующего мира неизбежно происходит в рамках некоего цельного образа
мироздания, формирующегося в культуре в ту или иную эпоху. Что же
касается наших современных знаний о космологических представлениях в Древней
Руси, то они еще весьма далеки от полноты и совершенства. В этой
перспективной для комплексного анализа области исследования, несмотря на разработку
отдельных специальных проблем, пока еще не существует фундаментальных
обобщающих трудов, характеризующих общую картину древнерусских
космологических представлений, проясняющих историю их становления и развития,
их взаимосвязь с другими сферами духовной и материальной культуры.
Исследовательский подход к проблематике древних космологических
взглядов таит в себе опасность поверхностного отношения к воззрениям наших
далеких предков. Тот ученый, который считает космологию предшествующих эпох
«примитивной» и «отсталой», заведомо пренебрегает предметом своего
исследования. Как в свое время справедливо отмечал Б. А. Старостин, «во многих
случаях сведения, сообщаемые древними источниками, представляются нам
более ошибочными, чем они есть на самом деле, потому что мы вкладываем в них
иное содержание»2. Действительно, вопрос об адекватном понимании
терминологии и понятийном аппарате далеко не праздный. К примеру, Иоанн экзарх
Болгарский, широко читаемый в Древней Руси мыслитель, воспроизводил
такую мысль Платона: «л'Ьто (время) же с нксмъ вы(с). да к^п'но выв'ша, к^пно
же, и рдсыплстдсА»3. В современной интерпретации эти слова могут означать
не что иное, как единство пространства и времени во Вселенной. Но означает
ли это, что в данном случае современный ученый и древний мыслитель
оперируют одним и тем же метафизическим принципом?
Исследователь призван не «учить» древнего книжника, победоносно замечая,
что он не знал многое из того, что сегодня знаем мы, а должен преодолеть барьер
8
Вместо предисловия
непонимания его мировоззрения, правильно восстановить картину мироздания,
какой она представлялась древнему мыслителю. Отметим, что современный
исследователь, занимающийся проблемами древней космологии, сталкивается
с определенными трудностями, в том числе ментального порядка, ввиду ее
своеобразной специфики и теологического характера. Историк, филолог или
философ в этом случае вторгается в сферы, сопредельные с богословием, вынужден
прибегать к богословской проблематике и литературе. В таком предмете
разграничить пределы компетентности науки и теологии крайне сложно. При этом
возникает риск, что отдельные аспекты останутся либо непонятыми, либо
отнесенными к ведомству богословия и категорически исключенными из поля внимания.
Между тем космологическая концепция, формально не носящая догматический
характер, в Средневековье понималась именно как вероучительная проблема.
Потребность религиозного сознания (а таковым, безусловно, являлось сознание
Древней Руси) в организованной космологической схеме несомненна. Но
неизбежный, казалось бы, мифологический характер религиозной доктрины, отнюдь
не представляет враждебного начала по отношению к «таящейся в подполье»
зарождающейся науке.
Важным критерием любой космологической доктрины (в том числе
современной) является ее пригодность для последующего познания мироздания и
возможность с помощью этой картины получать те практические результаты этого
познания, в которых нуждается общество на данном отрезке своего исторического пути.
Иными словами, космологическая концепция напрямую связана с уровнем и
возможностями естественнонаучных знаний. Более того, она аккумулирует эти
знания, объединяет их в некую универсальную картину мира, которая по
необходимости всегда далека от стопроцентной объективности и подчинена разносторонним,
во многом — утилитарным задачам. С этой точки зрения средневековая
религиозная космология обладала достаточно емким наукосодержащим познавательным
потенциалом. Именно поэтому достигшие таких труднопостижимых глубин
современные естественные науки своим рождением обязаны древней космологии,
а возникшие на раннем этапе формы космологических воззрений генетически
предшествовали современной концепции4. И если мы замечаем несовершенство этих
форм, то справедливости ради следует напомнить, что современное
естествознание далеко не достигло абсолютного совершенства и универсализма.
К сожалению, отрицательное или снисходительно-поучительное отношение
к космологии древних в прошедшем столетии негативно сказалось на качестве
процесса научного изучения данной проблематики. Космологические воззрения
становились далеко не первостепенным предметом внимания в трудах,
касающихся истории науки. Да и специальных работ по развитию научного
мировоззрения долгое время практически не было: вопросы истории науки
поднимались лишь в трудах по истории России и истории русской культуры5. В эпоху
крайней политизации историко-философской отрасли науки даже в
хрестоматийной литературе применительно к древней учености высказывалось мнение,
что «в Киевской Руси было сравнительно мало очагов высокой культуры»6. От-
О научных аспектах изучения космологических представлений... 9
ношение к средневековой науке как к мифологической и псевдонаучной
области культуры, зажатой тисками «клерикализма» и теологии, препятствовало
изучению ее развития, вычленению подлинно научных элементов ее содержания.
Обвинения в адрес древних с высоты новейших знаний XX столетия звучали не
только из уст представителей идеологизированной пропагандистской критики.
Например, уничижительный приговор автору «Толковой Палеи» за
приверженность «обскурантистской» космологии «Христианской топографии» и
обвинение в том, что он «в бранчиво-агрессивном (sic!) тоне проводит... идеи Козьмы
Индикоплова, придавая им почти догматическое значение»7, был вынесен в
среде русской научной эмиграции — в книге В. Н. Ильина, богослова, агиографа
и литургиста, окончившего в Киевской Духовной Академии три факультета,
которого трудно заподозрить в агитпропаганде и атеизме.
Приверженность к удобно укладывающейся в рамки официальной науки
системе взглядов определила односторонность в подходе к изучению
древнерусской космологии. Этот фактор затронул даже те работы, в которых глубоко и
аргументированно анализировалась история отдельных космологических
концепций, бытовавших в памятниках древнерусской мысли. В частности,
вышесказанное относится к труду Б. Е. Райкова «Очерки по истории
гелиоцентрического мировоззрения. Из прошлого русского естествознания». Автор, которого
невозможно обвинить в незнании материала, в общих чертах давая очерк
истории развития на Руси астрономических взглядов в средневековую эпоху, тем
не менее ничего не говорит о таком важном общеславянском памятнике мысли,
как «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского8.
Одним из первых и значительных по охваченным материалам трудов по
истории русского научного мировоззрения стала книга Т. И. Райнова «Наука в
России в XI-XVII вв.», увидевшая свет накануне Великой Отечественной
войны9. Автор систематизировал сведения по истории науки в допетровской Руси,
привлек и охарактеризовал значительное число древнерусских источников.
Невзирая на то, что многие из выводов Т. И. Райнова в настоящее время
признаны устаревшими, его труд остается важной (и в некоторых отношениях пока
невосполненной) работой10.
В послевоенные годы в Советском Союзе в силу ряда причин преобладал
приоритет физико-математических и технических дисциплин, признанных
стратегическими отраслями науки. Были сделаны передовые открытия во многих
научных областях (расщепление атомного ядра, выход в околоземное космическое
пространство), имеющие основополагающее значение для современной
космологии. Конечно, с безмерной высоты этих знаний никто сегодня не станет говорить
о сколь-нибудь серьезном применении древних космологических представлений,
но именно они стали вызывать все более устойчивый интерес специалистов. При
этом на какое-то время возник определенный диспаритет между потребностью
изучения древней космологии и ее интерпретацией официальной пропагандой.
В популярном варианте знания древних подавались максимум как исторические
курьезы, искусственным образом оставляя в тени изучение истории древних
10
Вместо предисловия
представлений о мире, а атеистическая пропаганда преподносила упрощенную
и окрашенную в смешные тона картину мировоззрения древних.
Однако на определенном этапе развития современного естествознания со
всей ясностью стало очевидно, что господствующая картина мира не всегда
адекватно отражает реальность, а диаметрально противоположные концепции
метафизических явлений порой соединяются парадоксальным образом. Весьма
актуально в современности встает вопрос о безопасных для существования
жизни пределах познания (речь идет о вмешательстве в генетический код живых
организмов, о попытках синтеза первичной кваркглюонной плазмы Вселенной),
в том числе и о нравственных границах научных поисков и экспериментов11.
По словам известного отечественного физика, «сегодня становится очевидной
необходимость привнесения в науку... нравственных, этических и даже
эстетических начал», а современная картина мира должна строиться «на базе
парадигмы естественной и гуманитарной культур»12. В условиях нашего времени
изучение исторически известных космологических концепций может иметь не
только исторический, но и определенный научный эффект, представляя
альтернативную картину мира, позволяя систематизировать современные знания и
обсуждать спорные проблемы мироздания. Это является одним из факторов
возрождения интереса к космологической проблематике и истории научного
естествознания. Наблюдается стремление к диалогу ученых-историков науки и богословов,
первые из которых анализируют рациональные аспекты священных текстов,
а вторые обращаются к вопросам согласования библейских данных с
положениями современной науки13.
Значительный потенциал накоплен и в области исследования отдельных
проблем естественнонаучных знаний, примером чего являются выпуски сборников
«Естественнонаучные представления Древней Руси»14, подготовленные
квалифицированными авторскими коллективами, и регулярные выпуски сборников
«История науки и техники»15. Объектом специального исследования
становились как частные дисциплины, например, календарно-астрономические знания16,
так и отдельные выдающиеся памятники древней письменности, содержащие
энциклопедическую информацию о самых разнообразных проблемах
мироздания17.
Особым звеном в научном изучении древнерусских представлений о мире
являются публикации и исследования текстов, посвященных космологической
проблематике. Именно тексты являются начальной базой для любого научного
исследования. В книгохранилищах страны и за рубежом значительная часть
рукописных памятников до сих пор остается неизученной и неизданной,
малодоступной для широкого круга специалистов, не говоря уже о привлечении к
ним научно-популярного интереса. В результате многие суждения о характере,
специфике и содержательности русской средневековой космологии, и в
особенности — ее негативные оценки, базируются на поверхностном мнении тех, кто
никогда не изучал подлинные памятники древнерусской письменности. Поиск
и публикация первоисточников — одна из первоочередных задач современного
этапа исследования древних космологических представлений. Публикация не-
О научных аспектах изучения космологических представлений... 1^
возможна без адекватного прочтения памятника, анализа его терминологии,
попытки понять сложную семантику текста. Авторы предлагаемой вашему
вниманию книги далеки от «пораженческих настроений» относительно
возможности корректного перевода древних памятников и, уважая лингвистический
талант Г. Г. Шпета, отнюдь не разделяют его характеристики языка
древнерусских философских произведений как «фантастически исковерканного»
и «тарабарского»18. Напротив, снабжение современной публикации списков
древних текстов переводом и научным комментарием заметно обогащает
практическую значимость введения новых памятников в научный оборот,
поскольку в этом случае они становятся доступными не только филологам и владеющим
древнерусским языком историкам и философам, но и представителям разных
естественнонаучных дисциплин. В этих условиях создается возможность
комплексного и всестороннего анализа идейного содержания космологических
текстов, что повышает эффективность изучения памятников, позволяет
квалифицированно соотнести содержащиеся в них сведения с достижениями
современной науки.
Наряду с публикациями текстов в наши дни делаются и начальные попытки
по систематизации их материалов и обобщающему анализу древнерусских
космологических знаний. В данной области уже имеются некоторые удачные
издания, но работа исследователей в этом направлении весьма далека от
окончательных выводов19. Пока еще не очерчен весь круг памятников древнерусской
письменности с космологическим контекстом. Несмотря на перспективные
поиски, досконально не выявлены гипотетически предполагаемые древнерусские
(а в некоторых случаях — греческие, южнославянские и другие) протографы
ряда памятников, а также источники излагающихся в них идей. В этих
условиях пока еще объективно затруднено появление фундаментальных обобщающих
трудов по вопросам космологических знаний.
Специфика современного состояния научного изучения космологии в
Древней Руси обусловила цели и содержание настоящего издания. Среди авторов
научных разделов этой книги — как признанные ученые с многолетним опытом
исследовательской работы, так и молодые специалисты, активно изучающие
космологическую проблематику. Несмотря на разные способы изложения и
анализа материала, для участников лежащего перед вами издания общим
является старательное стремление избежать уничижительных оценочных
характеристик и ярлыков. Авторы осознают, что космологические доктрины
древности, при всей их мифологичности и насыщенности образами (в том числе
поэтикой), не являются побочным продуктом теологии, уводящим становящуюся
научную мысль Средневековья в сторону от реальности. Ниже мы попытаемся
обозначить некоторые научные аспекты изучения космологической
проблематики Древней Руси, отразившиеся в работах авторов настоящего издания.
Характеризуя мысль, культуру, общественный строй и многое другое в
истории Древней Руси, современные исследователи неизбежно вглядываются в
потемки языческой эпохи. Сегодня это не только традиция, но и научная
потребность, призванная дать объективную характеристику славянской мифологии,
12
Вместо предисловия
в силу разных причин становящейся предметом для фальсификаций и
недостоверных околонаучных спекуляций20. Безусловно, наши сведения о
космологических теориях в дохристианской Руси ограничены в силу отсутствия прямых
письменных источников. Элементы дохристианской космологии восточных
славян выявляются в основном по материалам археологии, фольклористики и
этнографии. Некоторый объем сведений удается почерпнуть, анализируя вероучения
древнерусских еретических течений, в которых отразились элементы народной
космогонии. Восстанавливая доступные научному обозрению черты славянской
мифологии, ученые выявляют наличие космогонических мифов, пантеона божеств,
определенных взглядов на стратиграфию мироздания. Однако многие
составные части космологии в дохристианскую эпоху либо не были выработаны или
детализированы, либо остаются недоступными для аналитического изучения21.
Поэтому обобщенную космологическую доктрину в оформленном виде ученые
обнаруживают только после принятия христианства. Ее основные постулаты
базируются на содержании переводных богословских текстов22.
С Крещением Руси и распространением в ней переводной, а затем — и
оригинальной литературы на славянскую почву стали переноситься учения,
возникшие на христианском Востоке и в Византии. В распоряжении
древнерусских книжников оказалось множество произведений, содержащих сведения по
космологии, географии, астрономии и астрологии, календарю и компутистике,
многим другим направлениям естественнонаучной мысли. Это не означает, что
средневековая космология Руси была полностью заимствованной и являлась
пассивным воспроизведением или упрощенным повторением византийской
космологии. Многие архетипические черты славянской и зависящей от
античности византийской космологии были типологически общими или созвучными, в
таком случае они воспринимались сознанием первых поколений древнерусских
мыслителей с полным доверием. Однако это не исключало избирательного
характера направления работы по компилятивному составлению письменных
памятников. Теоретический арсенал не исчерпывался унаследованной от
язычества и принесенной из Византии и балканских православных стран традицией.
Видную роль в становлении и развитии древнерусской космологии сыграли
творческие синтез и анализ, в русло которых вовлекались не только христианские,
но и иноверные доктрины23. При этом переводные тексты сознательно
отбирались русскими книжниками и помещались в оригинальные отечественные
компиляции. Заимствованные Русью космологические идеи были не просто
скопированы, они были сознательно отобраны и освоены.
Значение космологии не ограничивалось рамками письменности, а
распространение через переводную литературу космологических представлений нельзя
рассматривать как явление чисто образовательного порядка. Эти
космологические взгляды были органической составной частью культуры русского
Средневековья, обогащавшейся за счет разных влияний и сохранившей
собственный неповторимый облик. Есть основания говорить о значительных
культурных последствиях знакомства Руси с космологическими концепциями. Эти идеи
оказались напрямую причастными к явлениям материальной и художественной
О научных аспектах изучения космологических представлений... 1_3
культуры, а также к находящимся в процессе становления
естественнонаучным знаниям. Таким образом, Древняя Русь не была замкнутым,
изолированным ареалом в рамках наследия мысли мировой цивилизации, она была тесно и
творчески связана с ним, о чем свидетельствует весь комплекс памятников
материальной и духовной культуры24.
Проблеме обобщающей характеристики различных космологических
доктрин в Древней Руси посвящен раздел настоящей книги, написанный В. В. Миль-
ковым («Космологические концепции и сведения в Древней Руси»). Опираясь
на данные о славянском язычестве и на самые древние рукописные источники
космологического содержания, автор систематизирует различные типы
космологических идей, бытовавшие в отечественной культуре. На основании
анализа конкретных источников в отдельных главах своей статьи В. В. Мильков
описывает различные модели Вселенной, известные по древнерусским
памятникам: плоскостно-комарную и геоцентрическую, а также апокрифические и мифо-
архаические неканонические концепции космоустроения.
Основные постулаты воспринятой Русью христианской космологии были
сформулированы в наиболее древних произведениях энциклопедического
характера, которые были особенно читаемы русскими грамотниками. Эти
произведения на многие столетия определили космологические взгляды; многочисленные
космологические пассажи, присутствовавшие в них, многократно
тиражировались книжниками в сборниках смешанного содержания в качестве
самостоятельных статей и блоков, без указания первоисточника. При этом уже в
домонгольскую эпоху на Руси стали известны противоположные космологические
теории: геоцентрическая и плоскостно-комарная. В отдельных памятниках
постулаты, присущие той или иной доктрине, соседствуют и отражают попытку
компилятора примирить обе доктрины, либо воспроизведены для «полноты»
изложения, либо совмещены из-за невнимательности и «некритичности»
составителя. В других случаях книжник, напротив, отдает заведомое предпочтение
какой-либо концепции и полемизирует с утверждениями несогласных с ней.
Наиболее характерными памятниками, по которым древнерусский читатель
знакомился с геоцентрическим описанием мироздания, восходящим к аристо-
телевско-птолемеевской концепции, были составленный в Болгарии «Шесто-
днев» Иоанна экзарха Болгарского, переведенное у южных славян «Богословие»
Иоанна Дамаскина, «Беседы на Шестоднев» Василия Великого, вероятно
древнерусский перевод «Шестоднева» Георгия Писиды, а также апокрифические
«Книга Еноха», «Видение апостола Павла», «Видение Исайи», «Откровение
Авраама», «Хождение Богородицы по мукам». Геоцентризм — это не простая
абстрактная схема, а первая приближающаяся к настоящей науке космология, на основе
которой стали возможны расчетные геометрически-математические модели
небесной механики. Впервые с такого рода научной астрономией
древнерусский читатель познакомился благодаря «Шестокрылу» и «Космографии» «жи-
довствующих», а в XVI и XVII веках астрономы и астрологи уже вовсю
пользовались точными расчетами в предсказаниях затмений и в календарных
вычислениях25.
14
Вместо предисловия
Другой круг памятников популяризировал представления о плоскостно-комар-
ном устройстве Вселенной по типу гигантскогб дома. Эта концепция восходила
к античной космологической концепции Анаксимена—Демокрита. Главный
памятник, бывший основным источником распространения плоскостно-комар-
ной космологии в Средневековье, — «Христианская топография» Козьмы Ин-
дикоплова, был переведен древнерусскими книжниками непосредственно с
греческого оригинала26. Схожие взгляды воспроизводила «Толковая Палея»,
происхождение которой после долгой научной дискуссии большинство ученых
считают древнерусским и однозначно относят к домонгольской эпохе27.
Отразилась эта концепция и в других памятниках, к которым относятся
многочисленные сборники энциклопедического характера. Вертикально-плоскостная антио-
хийская схема космоустроения имеет немалое значение для изучения культуры
Древней Руси. Вне предложенной ею модели Дома-космоса невозможно
представить символику средневекового храма и его росписей, где каждая деталь
обозначала ту или иную сферу мироздания28.
Особым блоком следуют неканонические произведения с апокрифической
космологией, содержащие пантеистические взгляды. В этом круге памятников
нашли отражение черты народных глубоко архетипических воззрений. В
«Прении Панагиота с Азимитом» и некоторых редакциях «Беседы трех святителей»
присутствовали такие характерные мифо-архетипические элементы, как Древо
Мира, Мировой Океан, опоры островной земли в виде китов и столбов,
пустынный Тартар. Здесь имеются прямые аналогии с описанием образа мира Гомером
и Гесиодом.
Космологические концепции в памятниках древнерусской
религиозно-философской мысли были тесным образом связаны с прикладными специальными
знаниями, необходимыми в практической жизни человека. Категория времени
являлась отдельной составляющей средневековой космологии, и для более
полного понимания осмысления времени в Древней Руси важное значение имеет
характеристика способов его исчисления. Сведения по хронологии и
календарному счету времени, связанные с космологическими доктринами, стали
предметом подробного анализа в главе «Календарное время в древнерусской
космологии», написанной Р. А. Симоновым. Этот раздел представляет собой
обобщающий итог длительной кропотливой работы ученого в данной сравнительно
малоизученной области знаний Древней Руси. Опираясь на солидный
многолетний опыт изучения этой проблематики в древнерусской книжности, Р. А.
Симонов начинает свое исследование с выявления взаимосвязи космологической
доктрины и хронологии.
Основы календарной системы были известны на Руси еще в дохристианскую
эпоху. Одним из доказательств этого является обнаруженный и расшифрованный
академиком Б. А. Рыбаковым сельскохозяйственный календарь, относящийся к
Черняховской археологической культуре29. На это же указывают фиксируемые
этнографией материалы о сроках проведения полевых работ, сбора продуктов
дикой природы. В пользу существования лунного и лунно-солнечного
исчисления времени свидетельствуют сохранившиеся до наших дней в некоторых ела-
О научных аспектах изучения космологических представлений... 15
вянских языках и диалектах оригинальные названия месяцев. С принятием
христианства на Руси вводился солнечный юлианский календарь, основные
принципы которого были установлены в ходе реформы римского календаря,
проведенной Юлием Цезарем по расчетным рекомендациям александрийского
астронома Созигена. К моменту принятия Русью юлианского счисления эта календарная
система уже накопила пяти-шестидневную погрешность30. Однако это не
становилось проблемным вопросом для древнерусских компутистов. Предметом
главных астрономо-календарных расчетов являлась Пасхалия, для определения
которой требовалось специальное согласование лунного и солнечного календарей.
Космологические принципы ложились в основу объяснения средневековыми
книжниками различия между обращением «большого» и «малого» светил.
Библейские основания для средневекового счета времени черпались в толкованиях
на рассказ о сотворении мира. В качестве излюбленного стиха, который
средневековые астрономы предпосылали астрономическим расчетам, были слова о
сотворении Солнца и Луны «для отделения дня от ночи, и для знамений, и
времен, и дней, и годов» (Быт. 1: 14). Есть целый ряд свидетельств, что
древнерусские ученые достаточно рано освоили сложные механизмы календарного счета
и были способны самостоятельно производить самые сложные расчеты.
В этом свете особый интерес Р. А. Симонова вызывает кирилло-мефодиев-
ская традиция рационалистической трактовки времени, нашедшая свое
отражение уже в древнерусском восприятии времени в XI веке, в частности в
«Слове о законе и благодати» митрополита Илариона. Своеобразным памятником,
свидетельствующим о глубине и значительной самостоятельности календарно-
математических знаний на Руси в домонгольскую эпоху, является «Учение о
числах» Кирика Новгородца (1136 г.). В этом, в своем роде уникальном
произведении космологическая проблематика особенно явственно проступает в
той части, в которой речь идет о циклах поновления различных стихийных и
вещественных составляющих мироздания31. Вопрос о происхождении идеи о по-
новлении и ее принадлежности к тому или иному первоисточнику до сих пор
наукой не решен однозначно, хотя круг идейно родственных течений мысли,
главным образом — античной, гипотетически обозначен32. Степень
самостоятельности Кирика в его оригинальном сочинении можно прояснить при
сопоставлении памятника с типологически родственным кругом календарных
текстов. Как отдаленный образец «Учения» выступают так называемые «семиты-
сячники», своим происхождением обязанные балканскому православному
ареалу и указывающие на византийскую культурную ориентацию Руси33.
Вместе с тем в силу специфики математических знаний Средневековья и в связи с
потребностью в дальнейших расчетах Пасхалии в условиях прерванных
контактов с византийской ученостью на Руси разрабатывались новые и
усовершенствовались старые методики. Упрощенная пасхальная методика «малого
года» нашла отражение в целом ряде древнерусских рукописей. В тесной связи
с общекосмологическим пониманием природы времени стоит вопрос о
богослужебном времени и его согласовании с реально принятым на Руси счетом
часов. Р. А. Симонов разъясняет и этот вопрос, в качестве любопытного примера
16
Вместо предисловия
ссылаясь на традицию усеченного Песенного последования приходского
богослужения, в котором исключались службы «Часов».
Еще одна из проблем роли счета времени на Руси, тесно связанная с
вопросами космологии, — это мистическая вера в «добрые» и «злые» часы,
письменно зафиксированная уже в «Послании» старца Филофея дьяку Мисюрю Муне-
хину34. Осужденное старцем суеверие тем не менее имело широкое
распространение среди населения Руси, что отразилось в книжной культуре в виде статей
с практическим руководством по определению благоприятных и несчастливых
дней и часов, в которые следовало (или напротив, не стоило) начинать
всевозможные мероприятия и бытовые действия. В устной народной культуре
пережитки такой веры сохранились до наших дней в пожелании «В добрый час!» и
в понятии «неудачный день» («не день»).
Космологические идеи, представленные в средневековых памятниках,
оказывали влияние на практическую географию и картографию. Космология в
древности непосредственно смыкалась с географией, которая не выделялась в
качестве самостоятельной области знания. Начальные опыты по описанию и
схематическому изображению земного пространства производились в согласовании
с общей космологической концепцией и на деле иллюстрировали именно ее,
реальная же география часто может только угадываться под символическими
трактовками. При построении общего образа мироздания мыслителя прошлого
чрезвычайно волновал вопрос о местоположении рая. Рассуждения и споры о
локализации рая выступали неотъемлемой частью космогонии. Прекрасный сад
вечного блаженства, несмотря на ясное библейское указание о том, что врата
земного рая затворены херувимом с пламенным оружием (см.: Быт. 3: 24),
пленял умы, манил искателей счастливой доли, становился предметом
многочисленных апокрифических повествований и богословских дискуссий, с теми или
иными указаниями на место его расположения3?. Этот локус мироздания
воспринимался как некая граничащая со сверхъестественным миром зона, от
которой уже недалеко до краев Вселенной и места пребывания Божества.
Вопрос о связи древних представлений о рае с практической географией
стоит в центре внимания А. В. Григорьева, посвятившего свое исследование
анализу различных исторических концепций понимания и локализации рая
(раздел: «Древнерусская космология и практическая география»). Исследователь
отмечает, что разнообразные библейские сообщения о местонахождении рая
не давали однозначного указания на его географию, конкретные географические
названия не всегда могли быть отождествлены с реальными, либо толковались
символически. Поскольку на этом основании возникала некая свобода в
интерпретации рая, среди опиравшихся на Священное Писание экзегетов сложились
разные традиции в определении сущности и локализации райского сада. При
этом в качестве восполняющей библейские пробелы информации богословы
приводили дохристианские сведения о месте вечного блаженства, истоки образа
которого уходят глубоко в общеиндоевропейские мифологические
представления Для представителей греческой образованности такими субстратными
материалами служили положения античных мыслителей, в Древней Руси к хрис-
О научных аспектах изучения космологических представлений... 17
тианским (и связанным с христианством) апокрифам добавлялись пережитки
национального восточнославянского язычества. А. В. Григорьев обращает
внимание на ближневосточные (иудейские), раннехристианские и древнерусские
представления о рае. Предпосылки для двух принципиально различных
восприятий рая отмечаются еще в ветхозаветной традиции и во многом исходят из
принципов подхода к библейскому толкованию: рай то выступает как конкретное
место на земле, то воспринимается аллегорически, как пласт бытия,
недоступный для чувственного восприятия и, следовательно, для пространственной
локализации. Среди представителей раннехристианской мысли первой точки зрения
придерживались антиохийцы, следовавшие принципу буквализма в отношении
Библии и отрицательно относившиеся к сведениям античности. Напротив, кап-
падокийские богословы, наряду с текстами Священного Писания
обращавшиеся к наследию античных философов, учили, что рай нужно понимать утонченно,
как состояние души. Если по отдельным вопросам космологии между
некоторыми представителями этих богословских школ порой и не возникало серьезных
разногласий, то все-таки в целом космологические доктрины были абсолютно
различными. По преимуществу именно антиохийцы, опираясь на буквальное
понимание рая, выдвигали на основе интерпретации библейских текстов
различные версии местонахождениярая на земле в рамках плоскостно-комарнои
модели мироздания. Эти опыты нашли свое отражение в средневековом
графическом материале: в миниатюрах к космологическим трактатам и на
средневековых картах. «Рай на востоке», отделенный от ойкумены Океаном,
располагали там, где на землю опирается небесный свод. По другому толкованию,
отраженному в очень популярном на Руси «Житии Макария Римского», рай
находился на окраинных землях ойкумены36. Изобиловали подробными
описаниями путешествия в рай многочисленные апокрифические тексты.
Древнерусские представления о земном рае характеризуются сложным
напластованием различных ближневосточных, раннехристианских (с
включенными в них античными данными), апокрифических и мифологических
восточнославянских представлений. В ходе процесса христианизации и
распространения переводной литературы для образованной части древнерусского общества
стали доступны различные представления о рае. В истории отечественной
мысли оставил заметный след архиерейский диспут о природе и местонахождении
рая. В XIV в. новгородский архиепископ (1331-1352 гг.) Василий Калика
адресовал полемическое «Послание о земном рае» тверскому епископу Феодору
Доброму. В нем излагались базировавшиеся на апокрифических повествованиях
представления о рае как о чувственной реальности37.
Несмотря на то что современная наука может дискутировать о понимании
рая только в культурологическом аспекте, в своем прошлом она многим
обязана этому, казалось бы, сказочному предмету. Как ни странно, но далекое от
реальности антиохийское понимание рая скрывало в себе императив к практическим
поискам райской земли, коль скоро она где-то существует. Антиохийская
локализация рая влекла к границам неизведанного, к крайним пределам земли, наивные
смельчаки всерьез пускались на поиски затерянного рая и вместо него открывали
18
Вместо предисловия
новые земли, страны и материки. Великие географические открытия на пороге
Нового времени: плавание Колумба в Америку, движение русских поморов на
Север38, русское освоение необъятных просторов Сибири совершались с
ожиданием, что наконец-то будет достигнута сказочная благодатная страна
благополучия и счастья.
Средневековые памятники, в которых присутствовали космологические
повествования, часто сопровождали их информацией по практическим
естественнонаучным знаниям. Этот комплекс представлений стал предметом изучения
С. М. Полянского в разделе «Космологические представления и
естественнонаучные знания в Древней Руси». Соседство начальных научных знаний и
обобщающе-мировоззренческих концепций — это не только следствие
неоднократно описанного филологами энциклопедизма средневековой литературы. Оно
демонстрирует совокупный интерес древнего книжника ко всем областям
мироздания и пронизывающим их глобальным законам бытия. Соединение порой
идейно-разноплановых исходных материалов свидетельствует о своего рода
«синтетическом» подходе к анализу бытия, в рамках которого вызревают не
только естественнонаучные, но и доктринально-философские схемы,
тяготеющие если не к научному, то к наукообразному формату. Эта тенденция
наиболее ярко обрисовывается на пороге Нового времени, как бы доводя
обозначенную тенденцию до логического завершения и одновременно обнаруживая
критическую точку ее развития, когда многовариантные комбинации по сути одних
и тех же идей уже не порождают качественно новых идейно-концептуальных
оттенков или новых возможностей для научного поиска.
Средневековый ученый не разграничивал отдельных дисциплин в общей и
сложной науке о Вселенной, отдельные специализированные отрасли будут
обособлены гораздо позднее. А пока «только универсальное знание почиталось
истинным знанием»39. Согласно этому средневековому принципу, все
элементы естественнонаучных знаний, в том числе знаний о человеке, были
комплексными составляющими космологической доктрины. Это предопределило
тяготение изложения естественнонаучного материала к текстам космологического
порядка; и напротив — общие космологические взгляды, доктринально
сформулированные в энциклопедических памятниках, получали практическое
выражение в самом широком круге рукописных статей, посвященных
характеристике природных явлений.
Интерес к естественнонаучной проблематике, стремление к познанию и
объяснению закономерностей окружающего мира вызывали к жизни десятки
достаточно кратких и емких статей естественнонаучного содержания, во многом
базировавшихся на материалах авторитетных в восточно-христианском мире
произведений космологического характера. Книжники кропотливо
переписывали фрагменты «Шестодневов» разных авторов и редакций, «Палеи Толковой»,
«Богословия» Иоанна Дамаскина, различных апокрифов и «отреченных» книг,
руководствуясь именно естественнонаучными запросами. Порой компиляторы
проявляли целенаправленную избирательность в подборе идейно родственных
текстов; также случалось, что идейно непримиримые памятники, канонические
О научных аспектах изучения космологических представлений... 19
и явно апокрифические мотивы соседствовали друг с другом. По содержанию
эти разнообразные статьи исследователями систематизируются в несколько
предметно-тематических групп, внутри которых оказываются родственные
тексты. Это различные «Громники», «Колядники», статьи «О небе», «О радуге»,
«О дванадесяти зодеях», календарно-астрономические таблицы, рекомендации
по астрономическим расчетам, описания небесных знамений с предсказаниями
будущего. В свое время текстуальное сходство списков некоторых статей этого
ряда и их частое взаимное соседство в рукописных сборниках дало основание
Н. К. Гаврюшину предположить возможность существования отдельного
оригинального древнерусского трактата XV века по космологии, протограф
которого объединял большинство статей естественнонаучного содержания40.
Сегодня этот вопрос еще не прояснен окончательно и исследователи продолжают
дискуссию о том, в какой мере естественнонаучные статьи можно отнести к
общему первоисточнику. Однако в любом случае ясно, что гипотетический
протограф не дошел до нас в чистом виде, а его вероятные статьи имели вполне
самостоятельную ценность и независимое бытование в книжности (что не
отвергается и самим автором этой интересной версии)41.
Систематизация разрозненных естественнонаучных статей, вычленение
этого материала из космологического контекста — актуальная научная задача еще
и потому, что без этого мы не сможем получить представления об общей сумме
естественнонаучных знаний, доступных древнерусскому мыслителю. Внимание
исследователя обращено к конкретным проблемам элементов
естественнонаучных знаний, соседствующих в рукописных памятниках с космологическими
мотивами.
При анализе проблемы использованы источники, практически аналогичные
тем, которые привлекали другие авторы книги. Однако применяется подход,
направленный на акцентацию даже не столько космологических, сколько
сопутствовавших им в памятниках естественнонаучных материалов. Дело в том, что в
масштабных космологических трудах типа «Шестодневов» Василия Великого, Севе-
риана Габальского, Иоанна экзарха Болгарского, Георгия Писиды, «Богословия»
Иоанна Дамаскина и «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова
естественнонаучная проблематика была сопутствующим, но не первым проблемным узлом
повествования. При возникновении естественнонаучных запросов это
побуждало книжников подвергать космологический контекст фундаментальных трудов
такой компилятивной обработке, в результате которой появлялись варианты
текстов с достаточно сжатым и четким описанием астрономической, астрологической
и другой разносторонней проблематики. Такая задача решалась в компилятивных
текстах, представлявших собой обработанную выборку из упомянутых
произведений. В этих памятниках тематически направленно излагались богословские
толкования Священного Писания, наряду с изложением достижений античной
научной мысли и мифологии. Потребность в направленном «справочном» материале
порой приводила к тому, что компилятивный текст помещался в книгах
практически сразу вслед за пространными «Шестодневами», позволяя удовлетворить
конкретный интерес по практическому наблюдению за мирозданием.
20
Вместо предисловия
Памятники древнерусской космологической и естественнонаучной мысли
в определенном кругу продолжали оставаться авторитетными даже во время
развития научного естествознания Нового времени. Ими по-прежнему
продолжало пользоваться духовенство, купечество, их читали грамотные крестьяне,
вплоть до начала XX века переписывали старообрядцы. Многое из этих текстов
попало на страницы ранних печатных книг, а некоторые памятники рукописной
традиции в своем хождении дожили до той поры, когда уже сами начали
становиться предметом изучения историков и филологов.
Заключительный раздел книги — «"Живой Космос": древнейшая модель
Вселенной в мировой мифологии и русской народной культуре» — написан
И. М. Денисовой. Эта тема имеет прямое отношение к проблеме исследования,
но выводит научный вгляд за рамки собственно древнерусской космологии.
Сделанные выводы существенно расширяют поле поиска истоков и традиционных
стереотипов космологической картины. И. М. Денисова анализирует архетипи-
ческие общеиндоевропейские черты в восточнославянских народных воззрениях
на фоне сравнительно-типологических сопоставлений с материалами мировой
мифологии, суммируя сведения устного народного творчества и данные
этнографии. В рамках мировоззренческой системы исследовательницей по-новому
освещаются истоки отдельных мифологических архетипов (изначальный
океан, священный остров, древо жизни, вселенская река, потоп и др.).
Авторы приносят сердечную признательность кандидату филологических наук
Г. С. Баранковой, взявшей на себя нелегкий труд научного редактирования
материалов книги. Авторский коллектив воздает должное заинтересованности
Российского фонда фундаментальных исследований (проект №01-0687066), своим
участием восполняющего научные пробелы в столь важной и сравнительно
малоизученной области древнерусской мысли.
Примечания
1 См.: Философский энциклопедический словарь. М., 1997. С. 224.
2 Старостин Б. А. Биологические знания / / Естественнонаучные представления
Древней Руси / Сб. статей. М., 1978. С. 89.
3 РГБ. МДА № 145. Л. 21 а; по публикации списка см.: Баранкова Г. С, Миль-
ков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. СПб., 2001. С. 327.
4 См.: Философский энциклопедический словарь. С. 156-157, 224.
5 См., например: Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. I-V // Сочинения:
В 9-ти т. Т. I-V. M., 1987-1989; Милюков П. И. Очерки по истории русской культуры:
В 3-х т. М., 1993.
6 История СССР с древнейших времен до конца XVIII века. Т. I. M., 1947. С. 131.
7 См.: Ильин В. И. Шесть дней творения. Paris, 1991. С. 63-64.
8 См.: Райков Б. Е. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в
России. Из прошлого русского естествознания. М.; Л., 1937.
9 См.: Райнов Т. И. Наука в России XI-XVII вв. Очерки по истории донаучных и
естественнонаучных воззрений на природу. М.; Л., 1940.
О научных аспектах изучения космологических представлений... 21_
10 Отмеченное некоторыми учеными невнимание Т. И. Райнова к архивным
материалам (см.: Волков Л. В. О переводчиках научной литературы // Естественнонаучные
представления Древней Руси. М., 1978. С. 149) отчасти объяснимо тем фактом, что
автор стремился на склоне лет побыстрее завершить важный труд.
11 См.: Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2001. С. 108.
12 Горбачев В. В. Концепции современного естествознания. Ч. 1. М., 2001. С. 17, 191.
13 См., например: Прот. Стефан (Ляшевский). Библия и наука: Богословие,
астрономия, геология, палеонтология, археология, палеогеография, антропология, история с
элементами других наук. М., 1996; Ильин В. Н. Шесть дней творения. Paris, 1991;
Лопухин А. П. Библейская история. Монреаль, 1986; Galbiatti E., Piazza A. Pagine difficili
della Biblia (Antico Testamento). Milano, 1985; Основы социальной концепции Русской
Православной Церкви. М., 2001. Осуществляются и новые публикации основных
космологических трудов древних богословов (см.: Творения иже во святых отца нашего
Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Т. V. Ч. I. М.,1845; Репринт:
М., 1991; Книга, нарицаема Козьма Индикоплов. М., 1997), а также новые переводы их
произведений (см.: Василий Великий. Беседы на Шестоднев. М., 2001).
14 См.: Естественнонаучные представления Древней Руси / Сб. статей. М., 1978;
Естественнонаучные представления Древней Руси. М., 1988; См. также: Кузаков В. К.
Отечественная историография истории науки в России X-XVII вв. М., 1991.
15 В частности, из опубликованных там материалов см.: Гаврюшин Н. К.
Космологический трактат XV века как памятник древнерусского естествознания / /
Памятники науки и техники. М., 1981. С. 183-196.
16 Такому кругу проблем посвящены многолетние исследования Р. А Симонова,
наиболее значительные из статей которого собраны в издании: Симонов Р. А.
Естественнонаучные знания Древней Руси: Избранные труды. М., 2001.
17 См.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов / Изд. подгот. В. С. Голышенко,
В. Ф. Дубровина. М., 1997; позитивным примером является исследование славянского
«Шестоднева», см.: Баранкова Г. С, Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха
Болгарского. СПб., 2001.
18 См.: Шпет Г. Очерк развития русской философии. Т. I. Пг., 1922. С. 42-43.
19 См. аналитические статьи и публикации многих текстов в изданиях: Древняя Русь:
пересечение традиций. М., 1997; Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. СПб., 1999;
Философские и богословские идеи в памятниках древнерусской мысли. М., 2000;
Домострой / Сост., вступит, ст., пер. и коммент. В. В. Колесова; Подгот. текстов В. В.
Рождественской, В. В. Колесова и М. В. Пименовой. М., 1990; Златоструй. Древняя Русь
Х-ХШ вв. М., 1990; Византийский медицинский трактат XI-XIV вв. / Пер. с древне-
греч., вступит, ст., коммент., указ. Г. Г. Литаврина. СПб., 1997; Апокрифы Древней
Руси: Тексты и исследования. (Общественная мысль: исследования и публикации). М.,
1997; Византийские легенды: Изд. подгот. С. В. Полякова. М., 1972; Репринт: М., 1994;
Многоценная жемчужина: Лит. творчество сирийцев, коптов и ромеев в I тысячелетии
н. э. / Пер. с сир. и греч., сост., предисл. и коммент. С. С. Аверинцева. М., 1994.
20 Стоит назвать хотя бы печально знаменитую подделку — «Велесову книгу»,
которая продолжает находить своих преданных читателей даже в научной среде.
21 См.: Полянский С. М. Рецензия на книгу: Мильков В. В. Древнерусские
апокрифы // Вопросы философии. 2001. № 2. С. 188.
22 Отдельной спецификой обладали космологические идеи еретиков, порою
представлявшие конгломерат архетипических дохристианских взглядов, иноверных влияний и внешне
православной фразеологии. В качестве примера см. исследование двоеверного, с
элементами пантеистического космологизма, вероучения новгородских еретиков-стригольников:
22
Вместо предисловия
Мильков В. В. Учение стригольников / / Общественная мысль: исследования и
публикации. Вып. 4. М., 1993. С. 33-46.
23 Этот тезис в полной мере относится к текстам, связанным с ересью «жидовству-
ющих» и переведенных с еврейских оригиналов, которые, несмотря на «отреченный»
характер, имели широкое хождение (см.: Турилов А. А., Чернецов А. В. К изучению
«отреченных» книг // Естественнонаучные представления Древней Руси. М., 1988. С. 127-
128).
24 См.: Громов М. Н. Своеобразие древнерусской философской мысли //
Громов М. Н., Мильков В. В. Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001. С. 103.
25 См.: Мильков В. В. Основные направления религиозно-философской мысли
Древней Руси XI-XV вв. / Диссертация в форме научного доклада на соискание ученой
степени доктора философских наук. М., 2000. С. 42.
26 См.: Григорьев А. В. Космологические и онтологические идеи в «Христианской
топографии» Козьмы Индикоплова / / Философские и богословские идеи в памятниках
древнерусской мысли. М., 2000. С. 307.
27 См.: Михайлов А. В. К вопросу о тексте Книги Бытия в Толковой Палее //
Варшавские университетские известия. 1896. № 1. С. 21; Истрин В. М. Исследования в
области древнерусской литературы. СПб., 1906. С. 46; Адрианова В. П. К
литературной истории Толковой Палеи. Киев, 1910. С. 8; Мильков В. В. Религиозно-философское
значение «Палеи Толковой» / / Философские и богословские идеи в памятниках
древнерусской мысли. М., 2000. С. 108-109.
28 См.: Полянский С. М. Рецензия на книгу: Мильков В. В. Древнерусские
апокрифы. С. 189.
29 См.: Рыбаков Б. А. Календарь IV в. из земли полян // СА. 1962. № 4.
30 См.: Гусарова Т. Я. Хронология // Введение в специальные исторические
дисциплины. М., 1990. С. 180, табл. 2.
31 См.: «Учение о числах» Кирика Новгородца // Громов М. Н., Мильков В. В.
Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001. С. 409-410.
32 См.: Мурьянов М. Ф. О космологии Кирика Новгородца // Вопросы истории
астрономии. М., 1974. Сб. 3. С. 17; Гаврюшин Н. К. Поновление стихий в
древнерусской книжности / / Отечественная общественная мысль эпохи Средневековья. Киев,
1988. С. 208)
33 Термин «семитысячники» был в свое время предложен Р. А. Симоновым и уже
несколько десятилетий признан научным миром. На глаголические «семитысячники»,
послужившие отдаленным образцом для кириковского «Учения», в свое время
проницательно указал А. А. Турилов (см. его работу: О датировке и месте создания календар-
но-математических текстов — «семитысячников» / / Естественнонаучные
представления Древней Руси. М., 1988. С. 27, 34, 38.
34 См.: ПСРЛ. Т. XXXIII. Л., 1977. С. 142-144; ПЛДР. Конец XV — первая половина
XVI века. М., 1984. С. 442-455.
35 Особую популярность имели так называемые хождения в рай, см.: Хождение Зо-
симы к рахманам / / Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования. М., 1994. С. 107-
112; Хождение Агапия в рай // Там же. С. 125-129; Житие Макария Римского //
Там же. С. 116-122; исследование см.: Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. СПб.,
1999. С. 189-215 (раздел: Иной мир апокрифической литературы).
36 Литературные произведения о земном рае на христианском Востоке возникают в
основном в V-VII вв., впоследствии они тиражируются в списках и переводятся на
языки. См.: Житие Макария Римского / / Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования.
М., 1997. С. И6-123; современный перевод с древнегреческого см.: Жизнь, деяния и пре-
О научных аспектах изучения космологических представлений... 23
дивное сказание о святом отце нашем Макарии Римском, поселившемся у крайних
пределов земли, никем не обитаемых / / Византийские легенды / Изд. подгот. С. В.
Полякова. М., 1994. С. 37-45.
37 См.: Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. СПб., 1999. С. 190.
38 О представлениях поморов о царстве мертвых см.: Калуцков В. Н., Иванова А. А.,
Давыдова Ю. А. и др. Культурный ландшафт Русского Севера: Пинежье, Поморье. М.,
1998. С. 118 и след.
39 Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995. С. 13.
40 См.: Гаврюшин Н. К. Космологический трактат XV века как памятник
древнерусского естествознания // Памятники науки и техники. М., 1981. С. 184-185.
41 См.: Там же. С. 185, 192.
S*
Космологические
концепции и сведения
в книжности
Древней Руси
ЛАнльков ё. В.
ОвЩИ€ ЗАМ€МАНИЯ
о специфике древнерусской
космологии
2rZ»fi&u*ltii* y2jj|M
7 и
древнерусской космологии относится зафиксированный источниками
комплекс идей и воззрений, касающийся проблем космогенеза и космо-
устроения. Сразу надо сказать, что космологии, как особой науки в
синкретической средневековой культуре, не существовало, а космологические
представления являлись органической составной частью теологических построений.
Поэтому сведения космологического характера, по аналогии с философским и
естественнонаучным содержанием, аналитически вычленяются из
общебогословского контекста, составной наукозначимой частью которого они являются.
Эти сведения о мироздании распространялись в средневековой
отечественной письменности через переводы трудов христианских экзегетов, через
апокрифические произведения, а также через компиляции, составленные
славянскими или русскими авторами на основе переводных текстов. Другими
словами, речь идет о текстах космологического характера в христианской писменности
и об их усвоении славяно-русскими книжниками.
В книжном наследии Древней Руси фиксируются разные модели устроения
Вселенной. Древнерусская космология реконструируется как отраженный в
письменном наследии результат предпочтений, отданных нашими предками тем
или иным космологическим идеям. Есть все основания говорить (и это касается
не только космологии), что в процессе бытования текстов имело место не
случайное и бездумное копирование переводных источников, но их
целенаправленный отбор, в котором получили отражение и некоторые существовавшие в
устной форме автохтонные космологические идеи, для которых можно указать
аналогии в письменных текстах. Такого рода параллели наблюдаются в соотнесении
некоторых неканонических мироописаний с архаической космологией.
Древней Руси были известны плоскостно-комарная и геоцентрическая
концепции мироздания, первая из которых через переводы восходит к антиохий-
ской богословской школе, а вторая представляет концепцию каппадокийского
богословия. В древнерусской литературе получили распространение и
различные вариации этих моделей, которые запечатлены в содержании переводных
апокрифических сочинений. Восходящие к антиохийской, каппадокийской и
апокрифической традициям тексты образуют расцвеченный оттенками и
нюансами корпус космологических сведений, которыми в составе разностороннего
по тематике книжного фонда располагали представители образованной части
древнерусского общества.
к
Идеи плоскостно-комлрного
мироустройства
в древнерусских текстах
Христианской экзегезы
OfMA»t*i>iA** СП*[*Ь*(*»%ПФшнр£%'
торонниками плоскостно-комарной концепции мироустройства в
христианском мире были представители антиохийской богословской традиции.
Эталонным памятником антиохийской космологии, получившим весьма
широкое распространение в Древней Руси, была «Христианская топография»
Козьмы Индикоплова, или «Книга нарицаема Козьма Индикоплов» в
древнерусском варианте надписания этого произведения.
Многие исследователи склонны относить «Христианскую топографию»
Козьмы Индикоплова к числу книг1, наиболее популярных и авторитетных для
наших средневековых предков, а Б. Е. Райков даже полагал, что в Древней Руси
были знакомы только с космологическими идеями Козьмы Индикоплова. Он не
заметил наличия в переводных древнерусских текстах мощного пласта
противостоящего антиохийской космологии геоцентризма2. Влияние Козьмы
Индикоплова действительно было значительным. Е. К. Редину, который незадолго
до революции детально исследовал рукописную традицию бытования
памятника в древнерусской письменности, было известно 29 списков XV-XVIII вв., не-г
мецкая исследовательница А. Якобе насчитывает более 90 списков памятника
(полного текста и отрывков)3.
Древнейшим из сохранившихся списков «Христианской топографии»
является датированная 1495 г. рукопись ГИМ (Увар. № 566). Время появления на
Руси перевода этого произведения относят к концу XII — началу XIII в.4, хотя
некоторые исследователи склоняются и к более ранней датировке — рубежу
XI-XII вв.5 В пользу необычайно широкого влияния «Христианской топографии»
на умонастроения древнерусских читателей говорят не столько отдельно
учтенные списки этого произведения, сколько его фрагменты, помещенные в другие
произведения. Примером «штучной» популяризации может служить Софийский
сборник XIV-XV вв. (РНБ. Соф. № 245). Идеи Козьмы Индикоплова отразились
в хронографических рассказах о столпотворении и многочисленных сборниках
смешанного содержания, хотя важнейшим источником влияния
сформулированной им концепции на умы древнерусского общества была «Палея Толковая»,
созданная русским автором, симпатизировавшим антиохийской космологии6.
Работа выполнена при поддержке РГНФ. Грант № 02-03-18077.
с
30 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
Козьма Индикоплов представлял мироздание огромным домом с плоским и
прямоугольным земным основанием, перекрытым комарой небесного свода.
Приверженцами и популяризаторами идеи Космоса-дома в средневековом
христианском мире наряду с Козьмой были также такие представители антиохий-
ской богословской школы, как Севериан Габальский, Диодор Тарсийский, Иоанн
Златоуст, Феодорит Киррский, Феодор Мопсуестийский и др. Именно их
космологическая схема давно попала в поле зрения исследователей древнерусского
научного наследия, а порой даже выдавалась за официальную, принятую
древнерусской Церковью концепцию космоустроения. Как будет показано далее,
космологическая концепция плоскостно-комарного устройства мироздания в
древнерусской письменности существовала параллельно с космологией
геоцентризма.
Через весь текст «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова
сквозной нитью проходят полемические выпады в адрес приверженцев сферически-
геоцентрической модели Вселенной. Аналогично поступали и богословствующие
приверженцы аристотелевско-птолемеевского геоцентризма, которые, в свою
очередь, обличали несостоятельность антиохийской космологии. Взаимные
упреки обнажают принципиальную несовместимость обеих космологических
концепций.
Козьма Индикоплов, как и другие представители антиохийской богословской
традиции, категорически не приемлет мысль о шаровидной форме небесного
тела7. Соответственно отвергается базирующаяся на идее сферичности и
генетически выводимая из языческих воззрений концепция многослойности
небесных сфер: «.з. ли, и, нвсъ, ибо внешний прослАвлАЮщеи кроугоюврлтное С€во
посл'Ьдьствоующе, ни такоа надсжа нлдНкющесА, нъ въ тлении пр(с)но выти
ЛШрОу НАдНкюТСА, НИ ВЪДАМЪ Превыше HBCT* ВЫТИ ГЛЮТЬ, НИ СК0НЧАНН6
звНкз(д)Амъ, и мироу приемлють испов^дати но проАвлен'но iako есзнадсж-
наа, хрСЙтианьскои слАвНк гл€Т€, в кое м^сто C5w и. нвсъ, или .*Г вниде хОЙс,
ид€ же и мы хощшъ внТти»8. Особое возражение у Козьмы Индикоплова
вызывал античный постулат о том, что с внешней стороны небесной сферы
располагается абсолютная пустота, хотя христианские сторонники геоцентризма уже
сделали поправку на библейский принцип удвоения мира, поместив воды выше
сферического неба, а за ними иной, идеальный мир.
Поскольку Козьма представлял пространственную структуру мира
статичной, не только идея сферичности, но и сама мысль о вращении неба казалась
ему абсурдной. По его убеждению, весомым и самодостаточным аргументом,
опровергающим эти положения, было то, что основные принципы
неприемлемой концепции формулировались античными философами. Данный упрек
адресуется не «внешним» мыслителям непосредственно, а воспринявшим их идеи
христианским экзегетам: «...СЗ в^'Ъш'ниСх) филосо^ь, иж€ и прослАв5льши(х)
шврлщАбмоу выти нвси, изъюврНктс рек'шА С€го разрешима... ни вн'йшни(х)
ПОСЛЕДОВАВ!* 0\/*ЧНИЮ, НИ ВЪНО\рГрЬН€НеЛ\Оу ДХ0В*Н0Л10у Пр€ДАН1Ю, ПрТЛАГААСА
Н€ рАЗОуМ^В* Ж€ в'нНкшШХЪ МНОГОЛГЧНЫ(Х) ПОВЛ^НШ, И В*Н0\ТрЬНАГ0, Н€ВЛАД1ВА-
ГО, И Ч(С)ТАГ0 ЦрКВНАГО ОуЧСМА, И НОВАА ОумУтТ, Н€ СЪМНАСА НАЧАТЬ, Н€ П0МЫСЛ1ВЪ
Идеи плоскостно-комарного мироустройства...
31
Рис. /-/< Дуальная концепция мироздания.
Дольний и горний миры по Козьме Индикоплову.
Из рукописи XVI в.
32 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
своихъ словссъ протТвл€ША»9. Надо сказать, что Козьма Индикоплов отнюдь не
отождествлял христианских приверженцев геоцентризма с античными
философами, предлагавшими геоцентрическую космологию. Он прекрасно понимал,
что первые, в отличие от «внешних», сферическое круговращение мыслили не
извечным, а начально-конечным. Другими словами, последователи
геоцентрических воззрений из числа экзегетов заимствовали идеи античных мыслителей
и вносили в античную концепцию коррективы, задававшиеся доктринальными
постулатами о начале и конце мировой истории. Однако уже сам факт
причастности к античному наследию представлялся Козьме достаточным основанием
для обвинения своих идейных противников в несостоятельности. В этой своей
тенденциозности Козьма Индикоплов весьма уязвим, ибо и сама защищаемая
им антиохийская космология также имела своих предшественников в
античности и даже, более того, генетически была связана с архаической
мифологической космологией. Эту непоследовательность представителей антиохийской
традиции хорошо видели высокообразованные каппадокийцы, указывая в своей
полемике с оппонентами на античных предшественников плоскостно-комарно-
го мироустройства10.
Расхождения между последователями каппадокийской и антиохийской школ
касались не только космологии и отношения к античному наследию. Они
напрямую проявились при решении проблем гносеологии, натурфилософии и в
отношении к методам толкования Св. Писания11. Что же касается воплощения в
творчестве принципов дуальной христианской онтологии, то оба направления в этом
были весьма последовательны, и принципиальных расхождений здесь не
наблюдается.
Козьма Индикоплов, как и все экзегеты, независимо от принадлежности к
тому или иному богословскому направлению, исходит из основополагающего для
христианской доктрины принципа удвоения бытия. В своем трактате он
противопоставляет мир физический, несовершенный и тленный, сфере надприрод-
ных идеальных сущностей, где пребывает Судья и Промыслитель мира — Бог
(рис. 1-1). Оба мира разделяет «эшелонированная» граница из двух небес.
Верхняя ее зона, где располагаются духовные существа, непосредственно
примыкает к вечному надприродному сверхпространству. Функцию
разграничивающего перехода от материальности к нематериальности, в силу своих особых
онтологических свойств промежуточности между материальным и духовным,
выполняет первое небо, которое было сотворено вместе с Землей. Ближайшим
к сотворенному природному миру, как верхняя окраинная часть его, является
второе небо, названное твердью, которое Творец поместил между первым небом
и Землею («срсд'к положУвъ»)12. Нижнее небо (твердь) по причине своей
материальности — видимо. Назначение разлитых по поверхности тверди небесных
вод — охлаждать мир от огня светил («посла на ХР€1Г|ТТЬ нб(с)омь поуч'жы...
и тако протУвТтСА пламснТ») и служить для отражения лучей Солнца и Луны
(«оуко ащ€ бы прозрачно нво, вса лоучА гор*к т€чаш€»)13. Но главное его
назначение — быть границей с тонким духовным, но тем не менее сотворенным
миром невидимого неба: «...се жзо прсвышнсе, нами невидимо, но светло пам€
Идеи плоскостно-комарного мироустройства...
33
СЛНЦА И НАр€ЧС БГЪ ТВердЬ НБО. ВОДЫ АЖ€ Превыше НБСЪ. W ТВ€рдТ ДАЖ€ ДО
высоты комлрныА, м*Ьсто есть второе еж€ есть цр(с)тво нкСс)ное, иде же
Х(с)с възнесъсл, п5рьвыи(х) вс^Сх) взыд€ шбновивъ поуть, оудокенъ и жГвъ,
СТОИТЬ Ж€ НБО И АЖС ПОД НИМЬ ТВСрДЬ НА Н€М Ж€ СТОАТЬ ВОДНЫА ТЫ Б€3(д)нЫ
пролУты не вжУею силою д'рьжУмл но бжьимь слово(м) оутвержено»14. Из тек-
ста ясно, что второе небо имеет комарную форму, а первое является как бы
перегородкой, расположенной ниже этой небесной комары.
Козьма Индикоплов утверждает, что «зсмла свазана съ первы(м) неюмь по
широте»15. Верхнее небо смыкается с нижним, и вместе они образуют жесткую
связь с плоскостным водно-земным пространством — «краев!" неси vuboh. с крли
земными суть свазанУ»16. В пространственной схеме космоустроения нижний
этаж мироздания, так же как и небо, представлялся двухчастным, только
структурированное разграничение зон прилагалось к горизонтальной плоскости. В
центральной части основания всего мироздания в окружении вод помещалась Земля,
на которой был расположен освоенный человеком мир. За пространством Океана
локализовались отделенные от ойкумены непроходимой водной границей
окраинные части Вселенной, на которые и опиралось небо: «...wk оноу стрлноу wk€-
ана зсмла е(с) шкроужАЮщи vukcaha»17; «Тлче совокоупллеть водоу въ едУнъ
съставъ, и Авллеть соушю, землю toy "лрекь, покровеноу преж(д)е S3 во(д), и
творить морл, еже есть, сел оуко зсмла ижр(5)тъ, вн^шнаа ж€ в'ноутрьоу-
ДОу, р€К0МАГ0 VUKCAHA, И ИЖ€ ИС\ОДАЩА ИЗ Н€ГО ,Д, ПОСТНЫ, И ИЗЛ1ВАЮЩА НА
ЗСМЛЮ С1Ю, WKCAHA рАЗ(д)тЬлАЮ1ЦА ОуКО, ИЖ€ СПС, И WK OHOY CTpAHOY 3€МЛЮ»18.
Населенное людьми пространство представлялось христианскому мыслителю
прямоугольным, длина которого в два раза превышала ширину: «...ижрАЗъ же
3€МЛА р€Ч€МЬ 1АК0 Ж€ €СТЬ, С5 ВЪСТОКА ДО ЗАПАДА, И ШНрОТА 3€МЛА, С5 С^ВСрА
до юга, рАз(д)гЬлАеть Ж€ сию на двое»19.
На дальней, заокеанской, прилежащей к небу восточной части земного
пространства Козьма Индикоплов помещает рай: «И пакы юкрСйтъ, еж€ е"с., wk
ohoy стрлноу и и>кр(с)тъ vukcaha землю, иде Ж€ на в*стои/Ь л€жить, рли, ид€
же и крли нб(с)и свазанъ с крли земными»20. Как и другие представители анти-
охийской традиции, Козьма Индикоплов являлся безусловным приверженцем
концепции земного рая?\ о котором, буквалистски трактуя данные Св.
Писания, он неоднократно повествует в своем трактате22. Рай для него — это место
где люди жили до потопа. После того как волны принесли ковчег к горам
Араратским, потомки Ноя оказались перемещенными из райских предместий к
срединной зоне дольнего творения. Здесь они обосновались, расплодились по
странам света, после чего, согласно легенде, пространство было поделено людьми
между сыновьями Ноевыми23. Переселение из прилегающего к небу рая
объясняется промыслом Божиим: «...члка рлди на землю сию. лоучшю соущоу, и
подоБноу рлеви»24.
В «Христианской топографии» Козьмы Индикошюва также говорится, что
из-за океанских райских мест дуют благовонные ветры и «исходащ€ множество
птича»25. Пассаж о птицах поразительно соответствует распространенному
в Древней Руси поверью о том, что птицы прилетают из рая. С учетом того
2 Зак. 4748
34 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
обстоятельства, что памятник в отечественной письменности имел широкое
распространение, можно предположить, что он мог быть одним из возможных
источников таких представлений.
В описании картины мироздания Козьма Индикоплов последовательно
проводит мысль о разграничении горней и дольней сфер, причем по аналогии
маркируются и нижние зоны вселенского устроения. Вертикальная
стратификация неба как бы повторяется в горизонтальной стратификации земного
пространства, разделенного на две ценностно неравнозначные сферы. Примыкающие
к небу земные края наделялись особыми сакральными свойствами. Из
близости к небу и проистекают особые характеристики этой части мира. Как
следствие, земля райская, находящаяся об «ону стрлноу wkcana» (т. е. в пределах
физической реальности нижнего мира), объявлялась недосягаемой. Пределы ее
так же недостижимы, как недосягаемо небо для простых смертных: «...и
немощно бФтЬ npCAC'rbTV WKCAHA IAKO И НА НБО НА(м) ВЗЫТИ, ТЛ*ЬнН0Л1Ь С01|ЧЦе(Л|)»26.
Только в апокрифах избранники Божий попадают за пределы непреодолимой
границы. Это герои хождений в рай из повествований, в которых
воспроизводятся разные варианты антиохийской концепции рая как географической реалии27.
Пространственное устроение мироздания Козьмой Индикопловом мыслилось
замкнутым по подобию дома. Комара этого дома-Космоса соответствовала
крыше, а твердь — потолку: «Ибо въ прьвыи днь створТ тлъстоты з(д)анис(л1), а
ВЪ ДрО\ГЫИ днь KpACOTOlf ИЗЪЮВрАЖСНШ И СЛОуЖБЫ 3(Д)АНИ6МЬ, 1АК0 С€ ЧТО
ГЛЮ СЪТВОрИ НБО НС СО\ЧЦА, НС С С ГО НО прСБЫШНАГО, СИ6 БО ВЪ БТОрЫИ ДНЬ БЫТ?),
створ? бъ нбо вышнее, нбо нбси г(с)ви, и превыше (ж) еТс) сего, i ako в5 домоу
двопокровн'Ь, ср'ЬдопрТАтенъ покровъ посреди тако единъ до(м) соз(д)абъ бъ,
посреди столю положТ нбо се, и превыше воды»28. Процитированная
характеристика воспроизводится богословом со слов авторитетнейшего представителя
антиохийской традиции Севериана Габальского. Как и Севериан, Козьма стены
космического дома представлял в виде вертикальных плоскостей, которыми
небесный свод опирается на водно-земное плоскостное основание мироздания.
Чтобы дать наглядно-образное представление о космоустроении, Козьма
Индикоплов уподобляет его конкретному материальному объекту — скинии,
походной шатровой палатке, которая, согласно Библии, была устроена
Моисеем по повелению Бога и являлась местопребыванием Иеговы (рис. 1-2). Скиния
использовалась древними евреями как походный храм, в котором проводились
общественные богослужения во время исхода из Египта. Образ скинии в
приложении к истолкованию пространственного строения мироздания
синонимичен образу дома. Однако через уподобление частей мироздания частям скинии
вводится ценностная, символико-религиозная оценка космических сфер.
В «Христианской топографии» формулируются основные принципы
символических толкований. Ход мысли здесь следующий: Моисей устроил «сЬнь»
(скинию) по «шврАЗОу соущую всего мфА». В создании сени-скинии
заключалась реализация божественного плана. По мнению экзегета, Бог таким образом
раскрывал людям тайну мироустройства. Скиния, с ее опирающимися на
столбы стенами и шатровым покрытием, знаменовала собой уменьшенную модель
Идеи плос кос тно-комар ного мироустройства...
35
Рис. 1-2'. Скиния — образная модель мироздания.
«Христианская топография» Козьмы Индикоплова.
ГИМ.Муз.Мо 1152. Л. 69
36 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
огромного космического дома с плоским основанием, стенами и комарным
завершением. Прямоугольные ее очертания уподоблялись прямоугольнику водно-
земного основания мироздания. По подобию священной постройки
соотношение сторон прямоугольных пределов нижнего космического яруса было таковым,
что длина в два раза превышала ширину.
Горизонтальное размежевание объектов мироздания также имело свою
символику. Прообразом в данном случае выступала разделявшая пространство
скинии пополам завеса и примыкавшие к ней части помещения. Завеса являлась
границей между так называемой первой скинией — местом отправления
ритуалов — и второй скинией, которая более известна как Святая Святых. Эта
внутренняя, сакральная, часть являлась святилищем. Здесь хранился Ковчег завета
с десятью заповедями. Вслед за детальным описанием строения скинии в
«Христианской топографии» подробно истолковывается космосимволическое
значение каждой части. «Внешний храмъ сего видУмдго лир а» — пространство от
земли до тверди. Ограда скинии «назнамснаа морс, глемое ижеднъ».
Расположенная по периметру скинии ограда, повторяющая пропорции ее
прямоугольных очертаний, «ндзндменоуд wb OHOif стрлноу землю, иде же е(с) рли на
В5ОСТОЦ€, ИД€ (Ж) И КрАИ НБА П5рЬВАГО, КОМАрОЮ ВИДНАГО, КрАбМЬ 3€МЛ|' БСАКО СО-
вокоуплАвмю». Семь свечей светильника толкуются как семь светил небесных,
помещаемых, согласно антиохийской космологической схеме, в физическом
пространстве ниже тверди. В предметной модели Космоса этому соответствует
нахождение светильника, как того требует закон, в первой скинии, прообразующей
видимый мир. Святая Святых и Ковчег завета с изображением херувимов на его
крыше подается как «идердз... нб7с)ныихь С5 тверд!», то есть знаменует
приближенную к Богу духовную сферу мироздания, или второго комарного неба29.
В окраинной земной части мироздания, с северной его стороны, согласно
Козьме Индикоплову, помещаются высокие горы, с помощью которых
объясняется наступление ночи. Представители антиохийского богословия, в отличие
от приверженцев геоцентрической концепции, считали, что светила движутся
по горизонтальным (над Землею) кругам. Когда Солнце заходит за гору, земное
пространство оказывается в тени и погружается в ночную темноту. Движущей
силою светил названы ангелы, которые, исполняя повеление Божие, водят
небесные тела «и двизати вса «ако послоушлТвУи воиш црвУ»30. Специальные ангелы
приставлены к управлению природными стихиями. Разъяснение небесной
механики можно квалифицировать как часть космологии памятника, которая
дополняет серию аллегорических космологических суждений.
Особое внимание в «Христианской топографии» уделяется рассмотрению
сопряжения частей мироздания и незыблемости его основ. Согласно
памятнику, огромный Космос держится одной только силою Бога: «...еже ничемоу же
нсподи выти по(д) землею, тако въ nwB'k. повысивши землю ни на чем же»31.
Козьма Индикошюв опровергает все нетелеологические попытки поисков
земных опор в виде воздуха, воды и огня. В этих рассуждениях присутствует
критика античных космологии. Конкретных имен автор «Христианской топографии»
не называет, хотя адресат его полемических выпадов устанавливается с
достаточно большой степенью вероятности. Известно, что в космологических кон-
Идеи плоскостно-комарного мироустройства...
37
цепциях Фалеса и Парменида роль земной опоры отводилась воде. По мнению
Анаксимена, Анаксимандра и атомистов, опорную роль в космоустроении
выполнял воздух. Автор объявляет древних мыслителей «е'Фтвсн'Ьишилли», а их
идеи несостоятельными. По его убеждению, незыблемость и устойчивость такого
сложного образования, как мироздание, с точки зрения естественной не может
быть доказана, ибо земля всего тяжелее и потому с неизбежностью должна
«всако в си(х) плдашсса». Любые попытки поиска конечных опор среди
физических реалий объявляются «недоуменными». Единственно надежное и
убедительное для понимания основание миру — твердь божественной силы: «...вгь
именование всемоу ту положи, оустроивъ в своей тверди»32.
Выше уже отмечалось, что стремление противопоставить собственные
убеждения идеям древнегреческих философов у Козьмы Индикоплова сочеталось
с очевидными рецидивами, унаследованными от античности. Конечно, они не
были обозначены явно. Автор «Христианской топографии» воспроизводит, хотя
и в препарированном виде, но тем не менее восходящие к античности
космологические архетипы33.
От античности остались в наследство не только отдельные космологические
элементы, но и сам принцип ярусно-вертикального строения космических зон.
В общем контексте преемственность практически не ощущается. На фоне
обличений древнегреческих идей господствует знаковое выражение христианских
мировоззренческих установок. Однако типологическая близость антиохийской
космологии к античным архетипам фиксирует сохранение отдельных античных
идей, изъятых из контекста отвергнутых дохристианских воззрений.
Антиохийская космология, которую выражал Козьма Индикоплов, оказала
заметное влияние на космологические сюжеты переводной и оригинальной
древнерусской книжности (Хронографы, «Беседа трех святителей», «Вопросы и
ответы Афанасия к князю Антиоху»), но на этом фоне выделяется «Палея
Толковая», которая, как не без основания полагают исследователи, была создана
славянским или древнерусским автором34. В богатейшее содержание памятника,
созданного на компилятивной основе35, составной частью вошла антиохийская
концепция плоскостно-комарного мироустройства.
«Палея Толковая» — один из авторитетнейших и широко известных в
древнерусской культуре богословско-энциклопедических трудов36, получивший
распространение, по крайней мере, с XII в. (а может быть, и раньше) и дошедший
до нас в списках XIV-XVI вв.37«Палея Толковая» — компилятивный труд,
принадлежащий к жанру полемической богословской экзегезы. Памятник имеет
универсальный характер, ибо помимо сугубо богословских аспектов
составитель «Палеи» вложил в свое произведение сведения самого широкого
характера (естественнонаучные, антропологические, астрономические, календарные,
медицинские, географические, климатологические, исторические), что
позволяет отнести «Палею» к разряду древней «энциклопедии». В нем
рассматриваются различные аспекты бытия мира и человека: космогенез, сотворение Адама
и устройство человеческого организма, взаимодействие души и тела, формы
духовных сущностей и природных стихий, естественнонаучные трактовки
физических явлений, библейский этап истории человечества. Тематический памятник
38 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
выстроен из толкований на бытийные и исторические разделы ветхозаветной
части Библии, но при этом трактуются проблемы философско-мировоззренче-
ского характера38. Философская проблематика в «Палее», как и вообще в
христианской экзегезе, присутствует имплицитно, будучи синкретически слитой
с теологией39. Это обусловлено обобщающе-установочным,
общемировоззренческим назначением произведения40.
Философски значимая проблематика религиозного текста отражает разные
аспекты осмысления действительности, в том числе и космологические.
Создатели «Палеи Толковой» сформулировали основные принципы средневековой
онтологии, охарактеризовали сущностные стороны бытия41. Историософские идеи
присутствуют в контексте исторических мотивов как концептуальные
принципы осмысления событийной последовательности во времени, проявляющейся
в смене значимых для человечества эпох42. В произведении постулируется
весьма важный гносеологический принцип, утверждающий познаваемость мира43.
Космологическое содержание «Палеи Толковой» относится к философскому
блоку проблем произведения, поскольку напрямую связано с наиболее общими
воззрениями на мир и соединено с трактовками предельных оснований бытия.
Палейные сведения о мироздании содержатся в толкованиях на первый, второй
и четвертый дни творения, содержание которых в наибольшей степени космич-
но. Космогенез описывается с позиций доктринально выверенного
креационизма как последовательное сотворение мира из ничего, при этом повествование
о развертывании вселенских сфер материальной действительности
полемически заострено против языческого взгляда на мир как на генезис извечно
превращающихся бытийных состояний живой и неживой природы.
В компиляции мироустройство характеризуется в соответствии с
достаточно архаичным и более примитивным, по сравнению с геоцентрической
концепцией мироустройства, вариантом антиохийской космологии (Севериан Габаль-
ский, Козьма Индикоплов), где Вселенная представлена по образному подобию
дома — с плоской Землей, на края которой опирается «комарный» свод неба44.
Составитель палейного текста неоднократно обращается к характеристикам
такой космический реалии, как небесная твердь. Последняя, согласно «Палее
Толковой», появляется во второй день творения путем сгущения
первоначальных вод (рис. 1-3). Твердь трактуется в памятнике как своеобразная небесная
перегородка, которая разделяет высшее небо и поднебесную часть физического
(материального) мира и разграничивает небесные воды от вод земных.
Космическая функция разлитых поверх тверди небесных вод — служить вселенским
охладителем и защищать мир от жара, испускаемого светилами: «пГ рлзд'ЬлАеСт)
ВОДЫ. ДА Iffe КАКО ПАКОСТЬ ТВОрА(т) СВ'ЬтИЛНИЦЫ ТИ Т6ПЛ0ТАЛЛИ СИ1АЮЩИ К
горной тверди, того ради обстрой кезлгЬрн^ю т# и рй(з)дгЬли оустоужлеть и
ПрОХЛАЖАб(т) ОуСТОуЖАб(т) ТВбрДЬ TOlf. К Н6И Ж€ СВ^ТИЛНИЦЫ ТЫ Т6ПЛ0ТАМИ
сииио(т) »45.
В «Палее Толковой» твердь уподобляется небесному потолку мироздания,
который имеет ледовую или хрустальную природу, правда, в качестве варианта
приводится сравнение тверди со сгустившимся дымом46.
Идеи плоскостно-комарного мироустройства...
39
Рис. 1-3. Разделение вод.
Миниатюра «Толковой Палеи», изображающая Землю в окружении
Мирового Океана, небесную сферу светил и твердь,
разделяющую горний и дольний миры.
ГИМ. Увар. №516/1303
40 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
В Священном Писании не конкретизируется природа тверди, а все суждения
на этот счет есть результат естественнонаучных умозаключений толкователей.
Если в мифах древних народов небу придавались свойства камня, металла и
прозрачной твердой поверхности47, то христианские экзегеты, вне зависимости от
того, придерживались ли они геоцентрической или плоскостно-комарной
концепции мироустройства, преимущественно считали твердь заледеневшими
водами48. Со сгустившимся дымом сравнивали твердь Георгий Писида и Григорий
Нисский49. Василий Великий, в отличие от других богословов, не решался
соотнести с твердью какую-либо определенную материальную субстанцию,
ограничиваясь указаниями на ее плотное естество и превосходную крепость50. Разные
гипотезы природы тверди перечисляет Иоанн Дамаскин и вслед за Василием
Великим не присоединяется ни к одной из них51. Составитель «Палеи»
воспроизводит точку зрения антиохийского богословия. В сравнении с дымом
косвенно могли отразиться взгляды Григория Нисского и Георгия Писиды.
Неоднократное обращение к рассуждениям о вселенской роли тверди в
контексте космологического повествования обусловлено не структурной рыхлостью
компиляции, но причинами идейного порядка. Твердь в бытийной
стратиграфии является базовым элементом структурной организации пространства,
имеющим наряду с чисто функциональным еще и глубокое философско-мировоз-
зренческое значение. Образ тверди присутствует в тех частях повествования,
которые имеют отношение к формулированию основных онтологических
принципов христианской доктрины. В палейной картине мира твердь — видимая
материальная граница в дуальной структуре мироздания. В соответствии с
христианскими представлениями она отделяет идеальную сферу от физической
природной реальности, являясь последним материальным звеном в ценностно-
иерархической организации бытия.
Составитель «Палеи» резко враждебно относится к сторонникам идеи
многоярусности небес, причем он однозначно связывает эти представления с иудейской
традицией53. Его предвзятость — прямое логическое следствие антииудейской
тенденциозности содержания созданного им памятника. Одной из
отличительных черт еврейской средневековой натурфилософии действительно является
представление о многослойности небес. Однако сама идея ярусного устройства
надземной части мироздания чрезвычайно древняя, она имела широкое
хождение на Древнем Востоке и в античную эпоху.
В трансформированном виде идея ярусного устройства мироздания
содержалась в христианизированных элементах аристотелизма, вариантах
геоцентрической космологии, которые составитель «Палеи» также отвергал54.
Хотя в православной экзегезе не идет речь о многослойных небесных
ярусах, а лишь говорится о дуальной, через посредство пограничной тверди
структуре мироздания, составитель «Палеи» исключает всякие возможные
ассоциации с многослойностью и в этой своей антииудейской полемической
направленности отступает от четких и ясных установок православного богословия. Говоря
о тверди, составитель стремился провести взгляд на некую монолитность неба
и избежать концепции многоярусности небес (рис. 1-4). Слова апостола Павла
Идеи плоскостно-комарного мироустройства... 41_
Рис. 1-4. Небо небес: ноуменальная сфера, где пребывает Бог,
Отграниченная от Земли воздушной сферой
с поясами движения светил. «Толковая Палея».
ГИМ. Увар. №516/1303
42 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
о восхищении до третьего неба (2 Кор. 12: 1-4), в соответствии с такой
трактовкой, воспринимались не под углом зрения ярусного строения Вселенной, а
как подъем выше небесной тверди55. Принятие тезиса о существовании
нескольких небес для автора было неприемлемо, ибо это была точка зрения,
критикуемая в «Палее» как присущая языческим философам и иудеям.
В «Палее» неоднократно встречаются критические высказывания по
проблемам космологии, из которых следует, что идея множественности небес так же
неприемлема, как и принцип сферического космоустроения. В контексте
космологических суждений речь, таким образом, велась о важнейших элементах
отвергнутой геоцентрической концепции. Это тем более примечательно, что
составитель «Палеи» делал извлечения из произведений, излагавших
геоцентрическую космологию. В вопросах характеристики картины мира составитель
«Палеи» строго последователен. Даже тогда, когда воспроизводились тексты
Василия Великого и Иоанна Дамаскина, то все, что касалось аристотелевско-
птолемеевской геоцентрической сферической модели в этих первоисточниках
компиляции, либо сокращалось, либо излагалось невнятно. Критические
высказывания составителя в адрес геоцентризма в силу этого анонимны: «глют
бо нНщыи баснословцы. IAK0 по(д) землею тече(т) слнцс и лоунл с прочылли
звездами, иже бо древле здАвше столпъ. и на высотгЬ бывша и в ctferfc oi/vua
своего соблазниша(са). вид'квше св'Ьтилннка и звезды швы К?х°АА1Н<ш н
ОБрАЩАЮЩАСА ЛЛГГкшА Кр#ГЛОЮБрА(т) Н0\* БЫТИ НБО\*. НО И ПИСАН16 Ж6 Н6 ТАКО
ны оучи(т). но и толюу САллоллоу HBOif hhkakw (ж) движыллоу С5 въсто(к) к
ЗАПА(Д)^. НИ КрОуГЛОШБр'ЬтСНЪН БО БЫТИ ТБбрДИ. W СбМЪ OlfBO БЖ6СТВ6НЫИ
ДБЫ(Д) ПрОБ'кдЫ И рбЧб БЛГ(с)вИТ6 ГА ВСИ АГГЛИ 6Г0 СИЛНИИ Кр'кпОСПЮ TBOpA-
щеи слово е(го)»56. В христианском богословии представлений о сферической
форме тверди придерживался неоднократно цитируемый в произведении
Василий Великий и другие представители каппадокиискои традиции, которые как
прямой адресат критики, в ближайшем соседстве с извлечениями из великого
каппадокийца, не обозначены. Мнения экзегетов-геоцентристов строились на
христианизированных трактовках Аристотеля, который считал, что
(сферическое) небо вращается57.
Подобного рода умолчание, думается, делалось прежде всего в расчете на
неподготовленного читателя и являлось хорошо продуманным полемическим
приемом, позволившим сблизить ярусно-сферическую космосхему с иудейской
традицией и одновременно не бросить тень на представлявших иную традицию
богословия экзегетов. Выпады против геоцентризма и идеи множественности
небес можно расценивать как осмысленное дистанцирование одновременно и
от иудаизма, и от античности, а также и от богословской традиции,
удерживавшей элементы античного научного наследия58.
В «Толковой Палее» наблюдается определенный эклектизм. С одной
стороны, согласно воспроизведенной в компилятивном труде антиохийской
космологии, под ледовым перекрытием тверди перемещаются движимые ангельскими
силами планеты, о которых в тексте говорится дважды — один раз в общей фор-
Идеи плоскостно-комарного мироустройства...
43
ме, другой — конкретно поименно. К планетам относятся пять плавающих звезд
(Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн), а также Солнце и Луна, собственно
же звезды, вверенные попечению служебных ангелов, локализуются ниже
планетных поясов. С другой стороны, опираясь на авторитет Иоанна Дамаскина,
безусловного сторонника геоцентризма, составитель «Палеи» обосновывает
существование особых воздушных поясов, которые выполняют роль своеобразных
путей для планет. На посылках антиохийской космологии базируется
объяснение смены дня ночью, которая происходит по причине сокрытия Солнца
северными туманами в процессе горизонтального его движения над землей. Из «Шес-
тоднева» Иоанна экзарха заимствованы расчеты размеров Земли, хотя в
первоисточнике эти расчеты сделаны исходя из представлений о сферической форме
земного тела59.
Если в представлениях о космоустроении составитель «Палеи» следовал
антиохийской космологии, то в объяснении механики передвижения звезд
наблюдается некоторое отступление от антиохийской традиции. Например, антио-
хиец Севериан Габальский считал, что звезды жестко соединены с твердью, и
в этом объяснении он недалеко ушел от анаксименовского образа звезд,
вбитых, по подобию гвоздей, в небо 60. Но в антиохийской космологии небо
неподвижно, и здесь есть противоречие, ибо картина звездного неба изменяется.
Так что причастность ангелов к движению звезд выглядит вполне логичной.
При воспроизведении сведений из трудов Иоанна Дамаскина и Иоанна
экзарха Болгарского составитель «Палеи», придерживавшийся иных
космологических взглядов, сталкивался с определенными трудностями, которые решал
не правкой текста, а умелым комбинированием фрагментов. В результате таких
приемов составитель «Палеи» привел описание движения планет, восходящее
к геоцентрической космологии, в некоторое соответствие с плоскостно-комар-
ной концепцией мироздания. Пояса в его компиляции воспринимаются как
круговые траектории планет над земной плоскостью. По иному воспринимается
восходящий к «Шестодневу» постулат об округлой форме Земли. Впрочем,
прямой ревизии плоскостной версии земного устроения в этом положении древние
книжники, возможно, могли и не усматривать, потому что в отличие от Козьмы
Индикоплова и Севериана Габальского, учивших о прямоугольной форме
Земли, некоторые богословы (Иоанн Златоуст, например) представляли ее
округлой плоскостью.
Остается сказать о космологическом значении палейной ангелологии.
Бесплотные небесные силы относятся в произведении к творению первого дня и
отождествляются с первозданным светом. В небесной иерархии чинов, которая
описывается в характеристиках, близких Псевдо-Дионисию Ареопагиту (силы,
начала, господства, престолы, власти, херувимы, серафимы)61, отражены
представления об устройстве ноуменальной сферы мироздания. Служебные
ангелы, согласно «Палее», управляют природными стихиями и движением светил62.
Таким образом они детерминируют природные процессы в масштабах
мироздания. Небесная ангельская иерархия и повинующиеся ей служебные духи —
44 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
неотъемлемый элемент созданного «Палеёй» образа мира, элемент, который
характеризует не только архитектонику мироздания, но и механику вселенских
перемен.
Антиохийский вариант космоустроения популяризировался по мере
распространения в древнерусской книжности текстов, возникших на основе
переработки «Палеи Толковой». В качестве примера можно указать на разновидность
«Шестодневца», которым начинается Краткая Хронографическая редакция
«Палеи Толковой»63.
Космологические сюжеты в составе «Шестодневца» читаются по рукописям
БАН. 24.5.8; РНБ. Пог. № 1434; Пог. № 1436; Сол. № 866/976; РНБ. Соф.
№ 1448; ГИМ. Син. № 318; РНБ. Карамз. F.IV.603 64. По своему составу «Шес-
тодневец» является производным от сокращения шестодневной части
«Толковой Палеи», осуществленного последовательно, без перестановки частей и без
внесения дополнительных текстовых включений. Проиллюстрируем это на
примере рукописного текста из собрания БАН.24.5.8 (XVI в.), который имеет
название «Слово из Палеи, которая зовется очи палейные»65.
Содержание начальной части «Шестодневца» совпадает с
соответствующими разделами из «Палеи Толковой». К творению первого дня относится создание
материальных первостихий, бесплотных сил (служебных духов), населяющих
ноуменальную сферу Космоса и управляющих природными стихиями: «первое
СОТВОрИ БГЪ АГГЛЫ CBVUA ДХнГТ. ЧИНОВЪ. А ЧИНЪ АГГЛЫ. 15. АрХАНГГЛЫ. 7. НАЧАЛА.
X ВЛАСТИ. 7. СИЛЫ!*. ПрТс)ТЛИ. 3. гТЙдЬСТВУа.ТТ. Х*р#ВИЛ\И. %. ССрАфиМИ Ш€С-
токрылАт'ш. Т. чинъ в демоны преложысл: Сотвори бгь изначала в первы
ДНЬ В н(д)ЛЮ. А. ИБО. В. 3€Л\ЛЮ. 7. БСЗДНЫ.^Д. В^ТрЫ Т. ВОЗДУХ1*.!*. ВОДЫ $ Н€1А
Ж€ бСТЬ СГГЬГЬ. Л€ДЪ. ГОЛО(Т). рОСЫ. ГрА(д). М5ГЛА. ТМА. ИГГЬИ. 3€МЛА Ж€ Б'Ь
НбВИДИМЛ И N6 ОукрАШ€НА. С0ДрЪЖА1ШСА к'жТИМЪ ПОВСЛ'ЪнИеМЪ. И ТМА BCpXOlf
[вездны и] дхъ бжУи ношАшесА верх^ воды, шживлага водное естество, и реме
БГЪ ДА Б#Д€Т* СВ^ТЪ. И БЫ(С) ТАКО. БЫША ВО СВ^ТИЛЫ АГГЛЫ. СВ'ктИЛЫ Ар-
Ханглы. св^тилы вса мины сл&КАще. и трепещуще лица елвы бжТа. ctfr же и
СЛЙКеВШИ ДСИ. Аг"гЛЫ ШБЛАКОМЪ. АГГЛЫ рОСАМЪ. АГГЛЫ ГрАДОМЪ. ИНЬЮ. АГГЛЫ
м*гламъ. агглы гром#. агглы зим'Ь и лед#. агглы весн^ и wcen^ и всЬмъ
здАниемъ вса же си всликаа д^ла сот[во]ри бгъ. в первый днь»66.
Иерархия ангельекцх сил в цитируемом отрывке близка классификации
Дионисия Ареопагита. Для текста характерен обратный порядок перечисления
чинов (т. е. снизу вверх, а не сверху вниз), а также мена мест господств и
престолов в структуре иерархии. В описании шести первых творений неявно
присутствует четверица стихий.— онтологическая основа материальной сферы
мироздания: земля самотождественна первоэлементу земли; с первоэлементом
воздуха можно соотнести воздух и ветер, как одно из проявлений данной
материальной сущности; вода также упоминается повторно как бездна. Отсутствие
четкости в попытках отождествления первотворении с четырьмя стихиями, как
уже отмечалось, характерно для буквалистской традиции антиохийского
богословия, которую представляет «Палея Толковая»67. Концепция служебных ду-
Идеи плоскостно-комарново мироустройства...
45
хов совпадает с высказыванием на этот счет антиохийца Козьмы Индикоплова
и восходит к апокрифическим источникам Епифания Кипрского («Книга
Еноха», «Откровение Варуха», т. н. «Малое Бытие» и др.). Аналогичный палейному
текст со ссылкой на Епифания Кипрского имеется в «Повести временных лет»68.
В «Шестодневце» по сравнению с «Палеёй Толковой» сокращению
подверглись антииудейские полемические отступления и критика языческих
воззрений на безначальность мироздания. Уменьшены в размерах космологические
суждения об основаниях мироздания и описание разделения света и тьмы.
Творение второго дня характеризуется в традиционном ортодоксальном
ключе. Твердь, несущая на себе небесные воды, представлена здесь границей,
разделяющей дуально организованные сферы мироздания69. Как и в «Палее
Толковой», предназначение тверди — остужать жар находящихся под нею светил.
Однако по сравнению с первоисточником опущено уподобление мироздания дому
с ледовым перекрытием, что значительно ослабляет звучание присущих тексту
мотивов антиохийской космологии, обозначенных в «Палее Толковой» четко
и ясно.
Выхолащивание характерных черт антиохийской космологии сказалось и на
содержании толкований к четвертому дню творения, где «Слово из Палеи»
воспроизводит наиболее насыщенную (в контексте данного памятника) подборку
сведений прямого космологического характера. В этой подборке (а точнее,
выборке из «Палеи Толковой») описывается перемещение светил по небу, но в
редакции «Шестодневца» уже отсутствуют уточнения о путях движения
небесных тел и не говорится о соотнесенности этих путей с той или иной
космологической схематикой. Сокращены астрономические и календарные
характеристики Солнца и Луны, а также отсутствует опровержение геоцентризма. Из
космологических сведений сохранено лишь упоминание о локализации планет в нижней
половине пространства между твердью и землею, а также указание на то, что
светила приводятся в движение ангелами.
Ввиду важности текста, отличающегося к тому же от других частей
«Шестодневца» внепалейными реминисценциями, приводим фрагмент о четвертом
дне в полном виде: «сотвори вгк ск^тилныкы bcai'kha. слнц#. л^ноу. и звезды.
[0СВ*Ь]щАТИ 3€МЛЮ. 6ГДА р€М€ БГЬ ДА Б#Д€ТЬ СВ'ЬтЪ. И БыТ?) СВ*ктЪ Н€ МСр-
ЦАА. 6ГДА Ж€ ТВ€рДИ ПОВСЛ^Ь БЫТИ. И СЗ СТИНА т[в*Ь]рДИ БЬ|(с) ТМА. 6ГДА
OYBO... СИАЮЩ^. И ПрОГОНА[€]тСА.... СТ'ЬнЬ ТМ*Ь. ИН tf..... СВ<ЬтИЛНИ1& Т€К#ЩИ
СВО[€].... Т€М€Н16. И TOY *БИН€ ВрАТИТСА СтЬнЬ. И СВ^ТНЛНИКОу ПОЗНАВШОу
ЗАПА(Д) СВОИ. АБИ6 ПО ВС€И 3€МЛИ БЬ|(с!) ТМА. СЖС б(с) НОЩЬ. А ЗВЁЗДЫ ИСПОДИ
СО\ТЬ ПО(Д) ТВ€рДИЮ. НИЖ€ ДВОЮ МАСТЬЮ ВЫСОТЫ НБСНЫ1А ДБИЖИМИ. И ШБрАЩА-
€ми невидимыми минами агглъ. на(д) нею же есть. з. планитъ. а. плани(д)
НАрИМА€ТСА. КрОНЪ 30\ГАЛ*Ь. СО\[{т) ИД€Ж€ €СТЬ Пр7с)тл*Ь БИ1*. В. ПЛАНИДЪ ебОуСЪ
м€Ш€тргЬи мств€ргь. г. плънидъ. Аррисъ. мехирь. вторниТк).^д плани(д). ш€-
МОСЪ. СЛНЦ€. TOY €СТЬ Н€(Д)ЛА [...] ПЛАНИ(д). АфрОДИТЪ. 30у(ГрА ?). ПАТО(к).
НА С6И ПЛАНИДЕ. ЗАрАНи[цА] ЗВЕЗДА, е. ПЛАНИДЪ. Г€рМИ(С>. [о]УДАр[ид]. Ср*ДА.
3. ПЛАНИ(Д). КАМОрЪ. ИД€Ж€ €®. ЛОуНА. ПОН(д) €ЛНИКЪ. ПО(д) С€Ю ПЛАНДОЮ ЗВЁЗДЫ
46 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси _^
ОуТВ€рж(д)€НЫ. €ГДА Ж€ ОуСТОуПАеТЬ СЛНЦС НА 0\*ЖНА1А МАСТИ. И БЫВА€ТЬ ЗИМА
6ГДА ПрИБЛИЖАСТСА СЛНЦС КО cijBGp/R. И Т€ПЛОТОЛ СЛНЦД БЫВАСТЬ Л'БТО»70.
В целом фрагмент о четвертом дне творения составлен путем соединения
нескольких небольших выдержек из пространного рассказа «Палеи Толковой».
Описание планет в «Палее Толковой» следует сразу после описания размеров
небесных тел71, соответственно и в «Слове из Палеи» эти сведения должны
читаться ниже. Однако в рассматриваемой рукописи пассаж о планетах не связан
с перестановкой палейных фрагментов. В комментируемом сюжете это вставка
из другого источника, на что указывает употребление арабских названий,
следование иному, чем в протографе, порядку септенера, а также увязка планет
с днями недели. Зависимость дней недели от планет имеет астрологическую
природу и восходит к древним обычаям посвящения каждого первого часа дня
одной из планет септенера (например, первый час воскресенья закреплялся
за Солнцем, первый час понедельника находился под покровительством Луны
и т. д.)72.
Употребление арабских названий планет — случай весьма редкий в
древнерусской письменности. Исследователи указывают на употребление арабских
терминов в описаниях «плавающих» светил в Син. № 231. XVII в.; Син. № 232.
XVII в.; Пог. № 943. Л. 756 XV в.73
Е. Г. Водолазкин не исключает, что арабские реминисценции попали в
древнерусскую книжность из астрологических сочинений, которые могли
оказаться среди далеких от идейной чистоты арабоязычных источников переводной
письменности конца XV в. Исследователь считает, что, несмотря на
сомнительное происхождение арабизмов, их роль в фиксируемых контекстах «близка к
декоративной»74. Однако обнаруженная в тексте астральная зависимость дней
недели от планет позволяет более определенно говорить о внеканоническом
источнике такого рода сведений. Аналогичная увязка дней недели с планетами
имеется в рукописи РНБ. Q.XVII.56 и Виленском № 222. В данном случае
можно предполагать влияния, шедшие через склонных к астрологии «жидовству-
ющих», восточно-семитские связи которых сводились к прямой трансляции
гебраизмов и к обращению текстов еврейских авторов на арабском языке.
Новым элементом, отсутствующим в «Палее Толковой», является
последовательное соотнесение первых дней творения с днями недели и информация
о планетах, которая оказывается дополнительным компонентом к палейным
фактам и свидетельствует о достаточно широком кругозоре составителя этой
редакции. Прочие астрономические и естественнонаучные мотивы
воспроизводимого сюжета выдержаны в русле палейных трактовок и отличаются от
геоцентрических трактовок аналогичных сюжетов75.
В заключение следует отметить, что шестодневная часть Краткой
Хронографической «Палеи», полученная в результате сокращения «Палеи Толковой»,
стала значительно беднее со стороны своего научного содержания, чем протограф,
а интерес редактора в значительной степени сместился с космологической
тематики на проблемы ангелологии. Тем не менее открывающий краткую хроно-
Идеи плоскостно-комарного мироустройства...
47
графическую редакцию «Шестодневец» являлся одним из путей
распространения положительных знаний в кругах читающей части общества. Характер
сокращения космологических сюжетов позволяет говорить об индифферентном
отношении создателей Краткой Хронографической «Палеи» к выражению
собственных космологических предпочтений. Создается впечатление, что за
правкой текста стоит стремление нивелировать различные космологические
традиции в христианстве. В результате космологические суждения аморфны и
неконкретны, за ними не просматривается четкой космоустроительной схематики.
Но и в такой форме элементы исходной антиохийской космологии выглядят
достаточно репрезентативными в общем контексте памятника, а богословски
образованный читатель без особого труда мог соотнести усеченные фрагменты
«Палеи Толковой» с плоскостно-комарной концепцией мироздания.
Дальнейшее размывание космологической проблематики в составе
толкований на шесть дней творения демонстрирует «Слово о возникновении мира»,
которое, по сути дела, представляет собой разновидность краткого «Шестодне-
ва». Оно входит в состав сборника конца XIV в. из собрания РГАДА. Ф. 181
(МГАМИД). № 370/82076. Этот памятник еще более лаконично, по сравнению
с основанным на «Палее Толковой» списком БАН.24.5.8, с которым он имеет
много текстуальных совпадений, излагает особенности космоустроения. В
рамках традиционного библейского принципа, фиксировавшего удвоенность бытия,
в рукописи РГАДА описываются три триады иерархии бесплотных сил
ноуменальной сферы и структура физической части неба видимого. Постулируется
общая для «Палеи Толковой» и для рассмотренного выше «Шестодневца»
структура мироустройства: от тверди до орбиты наивысшей из семи планет
распростерто пространство неизмеримой высоты, в котором нет ничего, кроме
воздуха. Пути движения планет, перемещаемых ангелами, располагаются в
несколько этажей (поясов), а ниже их локализуются звезды. По сравнению со «Словом
из Палеи» добавлено, что те звезды, которые расположены на нижних поясах,
светят светлее77.
Из контекста следует, что твердь рассматривалась как беззвездная плоскость.
Эта деталь, так же как и тезис об ангельском управлении светилами,
обнаруживает зависимость текста от антиохийской космологии. Те же самые
постулаты антиохийской космологии в «Палее Толковой» излагаются более четко,
ибо они соотнесены со структурными представлениями о мироздании: «1ако
ЗВЁЗДЫ ВСА ИСПОДН COY(T) П0(Д) ТВ€рД1ю И(Ж€) ДВОЮ ЧАСТ1Ю ВЫСОТЫ НБ(с)нЫ1А
движими и ОБрдщдеми СЗ сло\*(ж)вы... невидимы^) силъ. на(д) ними же е(сть)
з планнть»78. В отличие от шестодневной композиции из рукописи БАН.24.5.8,
порядок планет септенера в «Слове о возникновении мира» отражает
«халдейскую» (т. е. древневавилонскую) астрономическую традицию. Под поясами здесь
понимаются не ярусы небес, а орбиты движения планет, последовательность
которых в перечне отражает возрастание средней скорости перемещения каждой
последующей планеты в ряду относительно предыдущей. Кроме этих
разрозненных деталей антиохийской космологии, которые могли распознать при чтении
48 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
весьма немногие подготовленные книжники, никаких прямых указаний на плос-
костно-комарное устроение Вселенной рассматриваемый текст не содержал.
Среди толкований на шесть дней творения обнаружена рукопись (РГБ.
Тр. № 39), в которой декосмологизация содержания доведена почти до
абсолюта79. В тексте никаких других сведений космологического значения, кроме
случайно сохранившегося упоминания о безмерной, наполненной воздухом и
эфиром высотном пространстве, разделяющем твердь и планету Крон, не
содержится 80. Отметим также, что к «Шестодневцу» примыкает небольшое произведение,
озаглавленное «Отн(хи) изврАнныл СЗ книгы глсмыа, палс(а)» (л. 195г—198а),
развивающее космологическую тему в сюжете о размерах небесных тел и
дающее весьма своеобразную интерпретацию астрономических мотивов во
фрагментах о знамениях, данных посредством светил 81.
Декосмологизированное (за исключением конвоя и случайного мотива,
нарушающего логику изложения) повествование в Тр. № 39 является
сокращенным, почти конспективным вариантом «Шестоднева», то есть кратким
повествованием о происхождении мироздания, основанным на мотивах первой главы
библейской книги Бытия. «Шестодневы» разных авторов в Средневековье были
одним из излюбленных жанров литературы. На их основе возникали
лаконичные переработки, одна из версий которых содержится в Тр. № 39. В данном
случае содержание подборки в значительной мере дополнено
апокрифическими подробностями. «Шестодневец» из Тр. № 39 весьма близко совпадает с «Шес-
тодневцем» из РГАДА. Ф. 181. № 370/820 (XIVb.), который отличается от
троицкого списка большей полнотой и исправностью чтений82.
В богатейшем книжном наследии Древней Руси встречаются варианты «Шес-
тодневцев», в которых принципы антиохийской космологии формулировались
вполне четко, несмотря на краткость формы. Ярким примером может служить
сборник ГИМ. Син. № 548 (20-е гг. XVII в.), в содержание которого включен
«Шестодневец» из «Исторической Палеи» особого состава. Небо здесь
описывается так же, как и в «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова —
в виде комары, опирающейся краями на четырехугольное основание (л. 9а). Сам
мир уподоблен дому, стены которого разграничивают дуальную реальность: «Во
вторый днь, в пн(д)лннкъ, восхоти Бгь единъ домъ на два мирл устроити»
(л. 156). Новым по сравнению с другими «Шестодневцами» является образ
креста мироздания, который распростерт от неба до земли и которым «вссляньстУи
концы оутвсрьжАЮтсА. по широте I по долготе» (л. 10а). Ангельская иерархия
и падение демонов описываются здесь сходно с тем, как это сделано в Тр. № 39,
рукописи РГАДА и Син. № 682 (л. 16а), но при этом дьявол назван Самоилом,
который «прТллъ &k \Б вга минь и сл&кб^ нвсное строенУс. земное влюденТе...»
(л. 25а). Начало творения в синодальном «Шестодневце» отнесено к 18 марта.
Имеются антииудейские полемические выпады, свидетельствующие о
зависимости этого произведения от «Толковой Палеи»83.
Таким образом, «Шестодневцы», восходящие к «Палее Толковой», сохраняя
разную по объему информацию космологического характера, в конечном счете
опирались на антиохиискую космологию и объективно являлись источником
Идеи плоскостно-комарного мироустройства...
49
представлений о плоскостно-комарном мироустройстве. Даже когда источники
несли минимум сведений, они тем не менее могли усваиваться фрагментарно и
подспудно, но в характерных для этой космологии деталях. «Шестодневцы»
скорее всего восходят к переработкам разных «Шестодневов», в результате чего
они не только текстуально отличаются друг от друга, но и дают концептуально
разные версии космоустроения. Идеи геоцентризма, в отличие от
рассмотренных выше памятников, развиваются, например, в основанном на «Богословии»
Иоанна Дамаскина «Шестодневнике» (Муз. № 921. Л. 94а-101 а)84. Как видим,
жанр «Шестодневца» представлен достаточным разнообразием его конкретных
воплощений и это при том, что для сравнения взято весьма ограниченное число
имеющихся в распоряжении списков, тогда как обширный массив
разновидностей и редакций кратких гексамеронов еще ждет своего исследования.
Еще одним источником распространения идей плоскостно-комарной
космологии в Древней Руси был «Шестоднев» Севериана Габальского, который
нашим средневековым предкам стал известен в составе компилятивного «Шес-
тоднева» Иоанна экзарха Болгарского предположительно с XII в., а с XV в.
получил распространение как самостоятельное произведение. Сохранившиеся
списки «Шестоднева» Севериана Габальского позволяют говорить о
сложившейся традиции бытования этого памятника85. Севериан Габальский являлся одним
из ярких представителей антиохийской богословской школы86. В своем
произведении он развивал типичные для антиохийской традиции богословские и
научные воззрения, составной частью которых была гипотеза об устройстве
Вселенной в виде дома с плоским основанием, ледовым потолком и комарным сводом-
крышей.
Согласно трактовке Севериана Габальского, приведенной в «Шестодневе»
Иоанна экзарха, космогенез второго дня творения протекал следующим
образом: из жидких и разреженных вод в результате застывания и отвердения
образовалась твердь, поверх которой разлилась половина водного естества, другая
же половина вод осталась внизу87. Далее антиохийский богослов сравнивает
поверхность тверди с котлом, а полезное назначение горних вод сводит к роли
охладителя, ибо без них светила небесные, преисполненные огненного жара,
должны были бы растопить твердь и испепелить Вселенную88. Одновременно
он называет твердь отражателем, отбрасывающим свет лучей Солнца к Земле,
но в связи с этим воспроизводит утвердившееся в античной натурфилософии
мнение, что весь свет по природе своей всегда идет только вверх, и если бы не
было тверди, отражающей лучи вниз, вся земля была бы погружена во мрак.
Так неожиданно античная реминисценция включается в логику рассуждений
христианского автора и при этом помещается в ближайшем соседстве с
выпадами против еретиков и древнегреческих философов.
Двухъярусность созданного Богом мира экзегет постулирует в весьма
необычной по форме аллегории, в основу которой положен архаический
антропоморфный образ головы-Ъеба, где собственно голову он уподобил небу горнему,
а нёбо, что над языком, тверди. Головной мозг символизировал невидимую,
горнюю, в прямом и переносном смысле находящуюся в «мысленных сферах», часть
50 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
мироздания, а то, что ниже тверди — материальную часть мироздания,
доступную чувствам и выразимую словами89. Пространственную схему мироздания
по Севериану Иоанн экзарх в этой части компиляции не воспроизводит. Антио-
хийская точка зрения на устройство Вселенной дана в самых общих чертах в
IV Слове «Шестоднева» Иоанна экзарха, где говорится о плоской форме Земли,
об опоре комарного свода на окраинные части Вселенной, об осуждении
геоцентрической концепции космоустроения, которая как объект критики
однозначно приписана эллинам90.
В целом фрагмент из Севериана Габальского в IV Слове имеет полемическую
направленность и нацеливает на доктринально правильное восприятие
творения. Присутствует также ставшая лейтмотивом для всего IV Слова критика
астрологии91. Воспроизводится рассматривавшийся прежде в связи с
воззрениями Василия Великого постулат о соединении вещества света с формой
светил92. Здесь же находим также повторяющийся в текстах Василия Великого и
Иоанна экзарха аргумент против обожествления светил93. Тематика этой части
произведения напрямую приводит к антиязыческой полемике, ибо в
большинстве языческих учений Солнце считалось причиной жизни, и именно эти
мнения, по признанию Иоанна, приходилось прежде всего опровергать94.
Кроме опровержений астрологии и антиязыческих выпадов содержание
отрывка насыщено обличениями иных уклонений от правоверия. Еретическими
называются воззрения, согласно которым Отец создал Сына, а Сын — весь
видимый мир95. В ряд еретических заблуждений Северианом поставлены мнения
сторонников геоцентризма96. Естественнонаучное объяснение концентрации
небесной влаги за счет испарения также объявлено еретическим97. Несмотря
на безадресность критики, этот полемический выпад может быть адресован тем,
кто разделял идею Аристотеля о круговороте воды в природе, например
Василию Великому и другим богословам, принявшим точку зрения Стагирита.
Экзегет приписывает удержание небесной влаги всемогущему Божьему промыслу.
По его мнению, водная стихия преобразуется не в силу присущих ей
физических свойств, а повинуется воле Бога. Из контекста видно, насколько более
закрыт был влиянию античной традиции этот источник «Шестоднева», если
сравнивать его с текстами Василия Великого. Но вместе с тем к следам античного
влияния относится постулат о преобразовании материи согласно
предписанным Богом формам и сюжет, в котором говорится, что светила сотворены вне
неба, с последующим прикреплением их к тверди98. Аналогичное мнение о
прибитых к небосводу звездах высказывал Анаксимен. Если между обеими
точками зрения и существует какая-то связь, античные корни мотива тщательно
замаскированы.
Суммируя наблюдения, можно сказать, что тексты Севериана Габальского,
Козьмы Индикоплова, «Палеи Толковой» и большого количества кратких «Шес-
тодневцев» представляют в древнерусской письменности космологическую
традицию антиохийского богословия. Благодаря Севериану Габальскому и другим
антиохийским богословам, а также безымянным авторам, ориентировавшимся
на эту традицию, наглядный и понятный образ Вселенной получил широкое от-
Идеи плоскостно-комарного мироустройства...
51
ражение в памятниках древнерусской письменности. Совокупный потенциал
рукописных текстов, знакомивших с принципами плоскостно-комарного
мироустройства, выглядел столь внушительно, что у исследователей одно время даже
существовала иллюзия космологического монизма. Однако по мере углубления
исследований переводной литературы обозначились четкие контуры других
космологических традиций, которые оказали не меньшее влияние на
средневековую отечественную культуру и мировоззрение. К их рассмотрению мы теперь
и переходим.
Примечания
1 См.: Илюшина Л. А. Христианская топография Козьмы Индикоплова //
Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога
рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 2. Ч. 1. М., 1976. С. 158; Пиотровская Е. К. К
изучению древнерусской версии «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова / / ВВ.
Т.51.М., 1991. С. 106-107.
2 См.: Райков Б. Е. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в
России. М.; Л., 1947. С. 11-45. Д. О. Святский лишь упоминает о распространении в
Древней Руси «Шестоднева» Иоанна экзарха и текстов Иоанна Дамаскина, знакомивших с
геоцентрическими идеями, но решающую роль в формировании космологических и
астрономических знаний в древнерусскую эпоху отводит произведению Козьмы
Индикоплова (см.: Святский Д. О. Очерки истории астрономии Древней Руси / / Историко-астро-
номические исследования. 1961-1966. Вып. 7-9).
3 См.: Редин Е. К. Христианская топография Козьмы Индикоплова по греческим и
русским спискам. М., 1916. Ч. 1; Jacobs A. Kosmas Indicopleustes. Die Christliche Topo-
graphie, in slavischen Ubersetzung // Byzantinoslavica. 1979. T. 40. Fasc. 2. S. 183-198.
4 См.: Дурново Н. Н. Введение в историю русского языка. М., 1969. С. 110;
Илюшина Л. А. Указ. соч. С. 159; Книга нарицаема Козьма Индикоплов. М., 1997. С. 7.
5 См.: История русской литературы. М.; Л., 1941. Т. 1. С. 59, 205.
6 Подробнее см. ниже примеч. 36-63.
7 См.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов. М., 1997. С. 57.
8 Там же. С. 125. См. также: Там же. С. 63-64.
9 Там же. С. 208.
10 См. примеч. 48-50.
11 См.: Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского — общеславянский
памятник богословско-философской мысли / / Шестоднев Иоанна экзарха
Болгарского. V Слово. М., 1996. С. 24-29.
12 См.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов. С. 108. См. также: С. 201, 273.
13 Там же. С. 274-275.
14 Там же. С. 119-120. См. также: С. 84, 108-109.
15 Там же. С. 120.
16 Там же.
17 Там же. С. 67.
18 Там же. С. 99. '
19 Там же. С. 64.
20 Там же. С. 67.
52 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
21 См.: Культура Византии: IV — первая половина VII в. М., 1984. С. 435-439; Миль-
ков В. В. Церковные, народные и античные представления об ином мире в их
отношении к апокрифическому образу рая // Древняя Русь: пересечение традиций. М., 1997.
С. 250-282.
22 См.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов. С. 67-70, 114.
23 См.: Там же. С. 65.
24 Там же. С. 69.
25 Там же. С. 65.
26 Там же. С. 70.
27 Иллюстрацией здесь может служить неканонический текст «Хождения Зосимы к
рахманам». Это сложный, составленный из нескольких частей памятник V-VI
столетий, перевод которого получил распространение на Руси (РГАДА. Ф. 381. Сильвестор-
ский сб. № 53; ГИМ. Син. № 114 и др. Древнейший список апокрифа входит в
«Успенский сборник ХП-ХШ вв.»). В «Хождении» повествуется о том, как прославившийся
отшельническими подвигами старец Зосима, преодолевая многочисленные земные
преграды (пустыню, угрозы лютых зверей, бури, землетрясения), достигает
непреодолимой реки Евмасион. В апокрифе говорится о том, что рай окружала поднимавшаяся из
вод облачная стена. Она ограждала его от любых сообщений с внешним миром — даже
птицы и ветер ее не преодолевали. Зосима, однако, попадает на противоположную
сторону, куда его переносят на своих ветвях чудесные деревья. За преградой Зосима
наблюдает жизнь праведных людей. Таким образом, обитель блаженных в ином мире,
отделенном пограничной рекой, оказывается одновременно и изолированной от
реального мира, и доступной избраннику Божию (см.: Памятники отреченной русской
литературы / Собраны и изданы Н. Тихонравовым. Т. 2. М., 1863. С. 81-92).
Рай «Хождения Зосимы» при всей его изолированности и обилии сказочно
неземных качеств — это часть мира дольнего, наделенная наивысшими в ценностном
отношении характеристиками. Это некая пограничная сфера на стыке материального и
идеального миров.
Другим ярким примером, формулирующим идею доступности рая, является
содержание «Хождения Агапия в рай». Апокриф довольно рано вошел в древнерусскую
письменность (Успенский сборник ХП-ХШ вв.) и с незначительными дополнениями,
отразившими русские реалии в. сочетании с фольклорными мотивами, воспроизводился в
рукописных вариантах вплоть до XIX столетия (см.: Словарь книжников и книжности
Древней Руси. Вып. 1: XI — первая половина XIV в. Л., 1987. С. 462-463). Согласно
апокрифической трактовке, рай как бы и не принадлежит миру, но одновременно
является его частью. Земной рай доступен для достижения только весьма своеобразными
средствами. Переправа Агапия на корабле вызывает ассоциации с индоевропейскими
представлениями о пути мертвых через Мировой Океан или переправу через реку мертвых
в лодке Харона (ср. также широко распространенную традицию погребения в ладье и за
водной преградой). В апокрифическом цикле о земном рае мотив непреодолимой стены
также мог возникнуть из древних представлений о пути в царство мертвых (см.: Миль-
ков В. В. Древнерусские апокрифы. СПб., 1999. С. 627-651). «Выключенность» земного
рая из природного мира оказывается неполной, а точнее говоря, условной. Райская
страна — это наиболее удаленная, а также самая совершенная часть мироздания. На
двойственную природу апокрифического земного рая указывают следующие его признаки:
водная граница, символизирующая в архаической культуре иной мир, гора, стеклянная
или облачная стена, которые локализуются на Востоке и соответствуют
символическому обозначению верха (неба). Напомним, что рай апокрифические ходоки ищут там, где
небо сходится с землей.
Идеи плоскостно-комарного мироустройства... 53
Апокрифы, дополняя друг друга, давали опору вере в реальность земного рая, в то,
что он существует сейчас, что его пределы достижимы.
При этом в космографическом смысле рассматриваемый образ неканонической
литературы коррелирует со схематикой антиохийской космологии. Установка на земную
локализацию рая конкретизируется яркими деталями конкретных описаний обители
праведных. Апокрифы имеют разные оттенки трактовки райской природы, которые, в
свою очередь, в немалой степени зависят от того, где авторы того или иного
произведения указывают локализацию рая. Помещение рая (обычно в виде града) на острове хотя
и оставляет обитель блаженных в пределах географического пространства, но
знаменует некоторое отдаление рая от человека. Разделение мироздания на онтологически
противоположные сферы уже намечено, однако не реализовано. Онтологическая картина
мира усложняется, хотя цельность ее не нарушена. Рай выступает неким проницаемым
пограничьем, образ которого сложился не без влияния языческих представлений об ином
мире и который совместил в себе черты топографической достижимости и одновременно
недоступности. В иносказательном смысле рай символизирует иной мир, который
помещен за труднопроходимыми границами. О нем можно сказать, что он «почти земной»,
с чертами небесного (высокая гора, стена). Именно такое понимание земного рая было
свойственно Василию Калике. В соответствии с верой в существование земного рая
древнерусским иерархом воспроизводятся все ветхозаветные постулаты, указывающие
на природные черты рая: локализация его на Востоке, описание четырех мировых рек,
упоминание ходоков в рай и отождествление с райскими жителями рахман (см.:
Памятники литературы Древней Руси. XIV — середина XV вв. М., 1981. С. 44-45).
Локализация рая на небесах лучше соответствоала христианской дуальной
концепции мироздания, по сущностным признакам отграничивавшей сферу божественного от
тварного природного мира. Такого рода идеи эпизодически встречаются в апокрифах,
совпадая в данной части с канонической литературой, где соответствующие
представления господствуют. Весьма показательно, что апокрифические сведения о небесном
рае мы получаем из видений, тогда как земной рай неизменно описывается в жанре
хождений.
Образ небесного рая, если говорить о его философско-мировоззренческих
основаниях, выражает идею субстанционального размежевания земного и небесного.
Представления о земном рае восходят к архаичной целостной картине мироздания, в
которой духовное и материальное первоначала органически дополняют друг друга.
28 Книга нарицаема Козьма Индикоплов. С. 273.
29 См.: Там же. С. 107-108.
30 См.: Там же. С. 82, 198, 225, 235, 263.
31 Там же. С. 234. Аналогичный тезис воспроизводит «Палея Толковая», в которой
утверждается, что Земля «ни на чем не стоит» (Палея Толковая по списку, сделанному
в Коломне в 1406 г. М., 1892. С. 7).
32 Там же. С. 62.
33 В виде плавающего блюдца представлял Землю Фалес (VII в. до н. э.), причем
Солнце, как и древние египтяне, он переправлял через Мировой Океан на лодке (см.:
Аристотель. О небе. В. 294а 30). Примерно таких же воззрений держался Гекатей
Милетский (VII в. до н. э.), говоривший о круглом, охваченном кольцом Океана, диске.
Анаксагор, Анаксимен и Демокрит считали Землю плоской, неподвижно покоящейся на
воздухе (см.: Там же. 294в 15). Правда, форму Земли и космоустроение они
рассматривали по-разному. Анаксимен сравнивал Землю с барабаном, причем диск Земли
виделся ему приподнятым с севера — за это возвышение на ночь уходило Солнце, что
предполагало движение перемещаемых космическим ветром светил не над Землей, а вокруг
54 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси _
нее (см.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.
И. 3). Анаксагор объяснял появление округлой плоскости Земли разделением теплого и
холодного, плотного и разреженного. В результате мироздание представлялось ему
окруженным эфиром, по куполу которого двигались светила — оторванные раскаленные
камни Земли (см.: Там же. И. 8). Демокрит, в отличие от Анаксагора и Анаксимена,
неподвижный диск Земли представлял четырехугольным, в длину имеющим размер в
полтора раза больше ширины.
Нетрудно заметить, что именно эти космогонические идеи античности, и в первую
очередь Демокритова гипотеза о продолговатых прямоугольных очертаниях Земли и ана-
ксименовская мысль о приподнятой северной части земной поверхности, скрывающей
собой Солнце, были восприняты некоторыми толкователями Священного Писания.
Большинство антиохийцев представляли Землю прямоугольной, а свод небес шатровым,
опирающимся на окраинные части земного прямоугольника. Феодор Мопсуестийский,
например, был ярым противником шаровидной концепции Земли, представляя
мироздание в виде рассеченного надвое цилиндра. Очертания Земли при этом мыслились
вытянутыми и прямоугольными, как об этом учил Демокрит. Такой же точки зрения
придерживались Севериан Габальский и Козьма Индикоплов. Нельзя не отметить, что идеи
Анаксимена о возвышенной части земного диска явно предвосхитили образ горы
«Христианской топографии» Козьмы Индикоплова. Оба мыслителя одинаково описывали
горизонтально-круговое обхождение Земли Солнцем, объясняя сокрытием светила за
горой смену дня и ночи. Добавим, что мысль об устройстве Земли в виде плоского
круглого диска, высказанная еще Фалесом, Гекатеем, Анаксимандром и Анаксименом,
нашла неожиданное продолжение в космологических воззрениях Ефрема Сирина (320-
379 гг.) и Иоанна Златоуста (ок. 347-407 гг.), которые, так же как и их античные
предшественники, помещали круглый диск Земли в окружении вод (см. также: Культура
Византии. С. 436 и след.).
34 Долгое время в научной литературе дискутировался вопрос: является ли «Палея»
произведением греческим, южнославянским или восточнославянским. Некоторые
ученые склонны были считать «Палею» произведением греческим, основывая свое мнение
на фактах наличия греческих источников в составе памятника, а также на сохранении
греческой этимологии в названии произведения (см.: Успенский В. Толковая Палея.
Казань, 1876. С. 116-117, 127; Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о
ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки // СОРЯС. 1890. Т. XVII.
С. 15; Срезневский И. И. Древние памятники русского письма и языка (X-XIV вв.) //
ИОРЯС. Т. X. СПб., 1861-1863. С. 191-192; Соколов М. И. Материалы и заметки по
старинной славянской литературе. Вып. 1. СПб., 1886. С. 146; Жданов И. Н. Палея //
Жданов И. Н. Сочинения. Т. I. СПб., 1904. С. 455). Первоначально мнения о греческом
происхождении «Палеи» придерживался также Н. С. Тихонравов, исходивший из того,
что древнейшая редакция наиболее близка греческим памятникам (см.: Тихонравов Н. С.
Соч. Т. 1. Дополнения. С. 114-115). Затем он изменил свое мнение и первым
высказался в пользу славянского происхождения памятника, заявив, что «Палея» «составлена
славянином по материалам греческим и славянским» (Там же. С. 110).
А. А. Шахматов считал родиной произведения Болгарию: «О древней Руси нечего и
думать. Скорее можно было бы остановиться на Византии... Но и древняя Болгария
была почвой вполне подходящею для возникновения новых памятников противоиудей-
ской литературы...» (Шахматов А. А. Толковая Палея и русская летопись. СПб., 1904.
С. 16). Как видим, вопрос о происхождении «Палеи» напрямую связан с проблемой
автора.
Идеи плоскостно-комарного мироустройства...
55
Скептики выводили греческое происхождение составителя «Палеи» из
«предполагаемой неспособности древнего славяно-русского книжника составить такой
выдающийся памятник» (Истрин В. М. Исследования в области древнерусской литературы. П. СПб.,
1906. С. 35). Наиболее ярко нигилизм выражен у В. Успенского: «Цельность, которая
высказывается в довольно удовлетворительном решении полемической задачи автора,
строгая систематичность и затем обширное знакомство автора с византийской
литературою свидетельствуют, что автором ее было лицо, знакомое со школьною мудростью а
таким, очевидно, мог быть только грек» (Указ. соч. С. 117); «Кто из русских X-XI вв.
мог быть автором столь систематичного, цельного и огромного сочинения?» (Указ. соч.
С. 127). Вместе с тем, текстологическими исследованиями достоверно установлено, что
составитель в качестве исходного библейского текста (т. е. текста, который не может
считаться позднейшей русской вставкой в компиляцию!) пользовался готовым русским
переводом Книг Бытия (см.: Михайлов А. В. Общий обзор состава, редакций и
литературных источников Толковой Палеи // Варшавские университетские известия. 1895.
№ 7. С. 1-21; Его же. К вопросу о тексте Книги Бытия пророка Моисея в Толковой
Палее // Варшавские университетские известия. 1895. № 9. С. 1-35; 1896. № 1. С. 1-23;
Его же. К вопросу о происхождении и литературных источниках Толковой Палеи / /
ИпоРЯС. 1928. Т. 1. Кн. 1. С. 49-80). Кроме того, цитировавшиеся в «Палее» тексты
«Заветов двенадцати патриархов», «Сказания о двенадцати камнях», а также
воспроизведение заимствованной из «Слов» Ефрема Сирина характеристики Иосифа, также
осуществлялось не из греческих текстов, а из их древнерусских (или древнеславянских)
переводов (см. об этом: Михайлов А. В. Общий обзор состава, редакций и
литературных источников Толковой Палеи. С. 18-19; Истрин В. М. Редакции Толковой Палеи / /
Истрин В. М. Исследования в области древнерусской литературы. I-V. СПб., 1906.
С. 71-72, 88-90).
Можно считать правомерным и обоснованным итоговый вывод В. М. Истрина: «Вопрос
о славянском происхождении Толковой Палеи можно считать поконченным. Толковая
Палея... не есть переводной с греческого оригинала памятник, а оригинальный славянский
и даже, вероятно, русский» (Истрин В. М. Замечания о составе Толковой Палеи / /
ИОРЯС. 1898. Т. 3. Кн. 2. С. 511). Ср. у А. В. Михайлова: Палея — «самостоятельная
компиляция, составленная на русской почве» ( Михайлов А. В. Общий обзор состава,
редакций и литературных источников Толковой Палеи. С. 18).
35 По лингвистическим показаниям можно судить, что составитель сам не переводил
цитируемые им в «Палее» тексты, а пользовался уже готовыми славянскими
переводными источниками (древнерусским переводом библейских книг, «Шестодневом»,
«Физиологом», «Сказанием о двенадцати камнях» из «Изборника Святослава 1073 года»,
древнерусскими хронографическими компиляциями, а также, возможно, какой-то
славяноязычной подборкой апокрифических текстов или отдельными списками апокрифов в
переводе — по крайней мере, «Заветы двенадцати патриархов» и «Откровение
Авраама», как считают исследователи, могли обращаться в древнерусской книжности в
качестве самостоятельных произведений). Определенными филологическими навыками
составитель, однако, обладал и демонстрировал умение пользоваться словарными пособиями,
проявляя склонность к этимологическому толкованию имен и прояснению смысла
воспроизводимых в тексте гебраизмов. В «Палею» включены извлечения из авторитетных в
христианском мире авторов, причем наряду с прямыми заимствованиями из первоисточников
в ней содержатся фрагменты из произведений отцов Церкви, входящие в переводные
памятники, послужившие источниками для составителя «Палеи». Сказанное относится к
«Шестодневу» Иоанна экзарха Болгарского, который, в свою очередь, во многом
являлся компилятивным переводным памятником. «Палея» в значительной мере родственна
56 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
«Шестодневу» и по характеру, и по источникам. Собственно, «Палея» и начинается «Шес-
тодневом», то есть рассказом о сотворении мира с обширными толкованиями. Эта часть
представляет компиляцию из произведений Севериана Габальского, Василия
Великого, из толкований Иоанна Златоуста на книгу Бытия, из сочинений Епифания
Кипрского, но особенно близки к «Шестодневу» натурфилософские разделы «Палеи», местами
они буквально совпадают (см.: Баранкова Г. С. О взаимоотношениях «Шестоднева»
Иоанна экзарха Болгарского и «Толковой Палеи» (текстолого-лингвистический аспект) / /
История языка. Исследования и тексты. М., 1982. С. 262-277). Это и понятно, ведь
«Шестоднев» являлся одним из источников при составлении этого памятника. Однако
сюжеты, посвященные толкованиям различных форм органической и неорганической
жизни, роли ангельского чина, схематике мироустройства и антропологической
проблематике, отличаются более широким кругом источников, использовавшихся при
компиляции. Кроме апокрифического и античного (в интерпретации Василия Великого)
элемента они вобрали в себя заимствования из «Откровения» Мефодия Патарского,
«Христианской топографии» Козьмы Индикоплова, «Паренесиса» Ефрема Сирина, «Богословия»
Иоанна Дамаскина.
36 См.: Палея Толковая по списку, сделанному в Коломне в 1406 г. М., 1892. См.
также: Истрин В. М. Замечания о составе Толковой Палеи. Вып. 2. СПб., 1898;
Илюшина Л. А. Указ. соч. С. 158-159; Щеглов А. П. Философское содержание «Толковой
Палеи» по материалам русских рукописей / Дис. канд. филос. наук. М., 1994. С. 59-63.
37 Сохранившиеся списки памятника принадлежат разным редакциям. В вопросе о
соотношении отдельных редакций «Палеи» исследователи чаще всего ориентируются
на подкрепленную обширной текстуальной базой концепцию В. М. Истрина как на
более убедительную, хотя и не во всем бесспорную (см.: Рыстенко А. В. Материалы для
литературной истории Толковой Палеи // ИОРЯС. 1908 Т. XIII. Ч. 2. С. 324-350;
АдриановаВ. П. К литературной истории Толковой Палеи. Киев, 1910. С. 5-7, 26-29;
Творогов О. В. Древнерусские хронографы. Л., 1975. С. 12-13, 18, 31-33; Словарь
книжников и книжности Древней Руси. Вып. I: XI — первая половина XIV в. Л., 1987.
С. 286).
В. М. Истрин обосновывал существование трех различных редакций «Толковой
Палеи». Первоначальной (древнейшей) редакцией он считал группу списков,
примыкающих к Коломенской Палее 1406 г. Главной отличительной особенностью первой
редакции, охватывающей события от сотворения мира до Соломона, было, по его мнению,
наличие антииудейских обличительных толкований. Вторая редакция (или Полная
Хронографическая Палея), по заключению В. М. Истрина, отличается от первой
сокращением толковательной части, расширением охвата событий вплоть до христианской истории
и значительным пополнением состава за счет включения в текст новых
апокрифических повествований и хронографических сведений. По сути дела, вторая редакция
фиксирует трансформацию толкового повествования в историческое, в результате которой
«Толковая Палея» приобретает сходство с Хронографом. Некоторые исследователи
выделяют промежуточный тип, обладающий чертами Толковой и Хронографической
редакций.
Третья редакция квалифицируется как Краткая редакция Хронографической Палеи.
Ее происхождение увязывается с сокращением Полной Хронографической Палеи,
в результате которого памятник окончательно приобрел характер чисто
исторического сочинения, близкого Хронографу (наиболее характерные списки — Пог. № 1434,
Син. № 318, Сол. № 866). Эта близость лучше всего проявляется в
Хронографической части памятника, где фиксируется наибольшее число совпадений с Полной
Хронографической Палеёй. Пути образования третьей редакции, впрочем, не вполне ясны.
Идеи плоскостно-комарного мироустройства...
57
Главный оппонент В. М. Истрина — А. А. Шахматов — обращал внимание на то, что
третья редакция местами значительно полнее второй, а это свидетельствует не в пользу
последовательного развития текста от первого к третьему виду «Палеи» и дает
основание предполагать существование некоего общего источника (или источников), к
которым могут независимо друг от друга восходить палейные редакции.
Приводим перечень выявленных списков «Палеи» по редакциям в хронологическом
порядке:
I. Толковый тип
РНБ. Собр. ПДА. А. I. 119 (XIV в.)
РГАДА. Син. типогр. № 53 (XIV в.)
РГБ. Собр. Костромской библиотеки. Ф. 138. № 320.1-2 (конец XIV — начало XV вв.)
РГБ. Тр. №38 (1406 г.)
РНБ. Кир.-Бел. №68/1145 (XV в.)
Венский список придворной библиотеки в Вене № 12 (XV в.)
ГИМ. Увар. № 516/1303 (XVI в.)
Список Киевской духовной академии. № Аа 1292 (60-е гг. XVII в.)
1-Й. Промежуточный
(между Толковым и Хронографическим) тип
РГБ. Волок, (быв. МДА) № 549 (XV в.)
ГИМ. Барс. №620 (XV в.)
РГБ. Унд. №718 (XV в.)
ГИМ. Хлуд. №182 (XVI в.)
РНБ. Сол. № 653 (конец XVI — начало XVII вв.)
РНБ. Сол. № 654 (XVII-XVIII вв.)
РНБ. Вяз. (быв. ОЛДП) № 190 (XVI-XVII вв.)
РНБ. Кир.-Бел. № 11/1088 (XV в.)
II. Хронографический тип
ГИМ. Барс. № 619 (конец XIV в.)
ГИМ. Син. №210 (1477 г.)
РГБ. Рум. №453 (1494 г.)
РГБ. Рум. №361
РГБ. Рум. №719
* РНБ. Пог. №1435 (XVI в.)
РНБ. Пог. № 1433 (XVI в.)
ГИМ. Син. №211 (XVI в.)
ГИМ. Чуд. № 348-46 (XVI в.)
РГБ. Унд. №719
ГИМ. Увар. № 1304/85 (XVI в.)
Т. н. Креховская Палея
III. Краткий Хронографический тип
БАН. 24.5.8 (XVI в.)
РНБ. Пог. № 1434 (XVI в.) и Пог. № 1436
РНБ. Соф. № 1448 (XVI в.)
РНБ. Сол. №866/976 (XVII в.)
РНБ. Карамз. FJV.603
58 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
Что касается определения исторической эпохи, в которую жил составитель, то
высказывания исследователей на этот счет зависят от того, какую страну они считают родиной
памятника. Сторонники греческого и болгарского происхождения компиляции
считают, что она была создана в первые века славянской письменности и довольно рано (уже
к XI в.) попала на Русь. К ранней датировке «Палеи» склоняется И. Н. Жданов,
ставивший вопрос о влиянии памятника на Илариона, Владимира Мономаха и «Повесть
временных лет» (см.: Указ. соч. С. 468). IX столетием датировал «Палею Толковую» В.
Успенский (см.: Успенский В. Указ. соч. С. 130). Приписывая авторство «Палеи» Мефо-
дию, к IX в. относил появление памятника А. А. Шахматов (см. его работу: Толковая
Палея и русская летопись. С. 18, 73). Те, кто связывают «Палею» с Русью, датируют ее
появление XIII в. (см.: Истрин В. М. Исследования в области древнерусской
литературы. С. 35, 46; Его же. Редакции Толковой Палеи. IV. Общие выводы // ИОРЯС. 1906.
Т. XI. Кн. 3. С. 424-426; Михайлов А. В. К вопросу о тексте Книги Бытия пророка
Моисея в Толковой Палее // Варшавские университетские известия. 1896. № 1. С. 21;
Лдрианова В. П. К литературной истории Толковой Палеи. Киев, 1910. С. 38-39).
Современные исследователи считают, что аргументация В. М. Истрина и принявших его
точку зрения на датировку «Палеи» XIII в. исследователей недостаточна (см.: Словарь
книжников и книжности Древней Руси. Вып. I: X — первая половина XIV в. Л., 1987. С. 287).
Особую точку зрения на датировку памятника высказал И. Франко, который считал,
что «Палея» «с одинаковым правом могла явиться на пространстве XI-XIV вв.», ибо
антииудейская полемика не ослабевала до XV в., что объективно создавало потребность
в подобного рода пособиях.
38 См.: Щеглов А. П. Философское содержание «Толковой Палеи» по материалам
русских летописей / Автореферат дис. канд. филос. н. М., 1994.
39 См.: Пустарнаков В. Ф. Зарождение и развитие философской мысли в пределах
религиозной формы общественного сознания эпохи Киевской Руси / / Отечественная
общественная мысль эпохи Средневековья. Киев, 1988. С. 41; Абрамов А. И. К
проблеме вычленения философского слоя в средневековых русских текстах // Там же. С. 41-
45; Сухов А. Д. Русская философия. Особенности, традиции, исторические судьбы. М.,
1995. С. 43-47.
40 Многогранное синкретическое содержание закомпоновано в полемический контекст
произведения. «Толковая Палея» — сборник, довольно пространно цитирующий книги
Ветхого Завета, не имевшие .на Руси полных списков до Геннадиевской Библии.
Многие ветхозаветные мотивы излагаются в апокрифической редакции, причем и
ветхозаветные сюжеты, и их богословские толкования сопровождаются комментариями
полемической антииудейской направленности. Обличение «жидовина» — сквозная и
идейно важная для составителя «Палеи» тема произведения. С прошлого столетия и до
нынешних дней в научной среде встречается мнение о преобладающей антииудейской
направленности «Толковой Палеи». По убеждению В. М. Истрина, главная задача
«Толковой Палеи» заключалась в толковании Ветхого Завета и в обличении иудеев (см.:
Истрин В. М. Исследования в области древнерусской литературы. СПб., 1906. С. 70-
72). Современный исследователь В. Кожинов также придерживается мнения о
полемике с иудеями как о главной задаче этого произведения и даже распространяет мысль об
антииудейской направленности литературы Киевской Руси (см.: Кожинов В. Книга
бытия небеси и земли / / Волшебная Гора: Философия, эзотеризм, культурология. Т. VII.
М., 1998. С. 2).
41 Поскольку онтологическая проблематика памятника была сопряжена с
теологией, по сути дела, выражала ее, то в полном соответствии со средневековыми
представлениями абсолютное бытие отождествлялось с Богом, как высшей, самотождественной
Идеи плоскостно-комарного мироустройства...
59
себе надприродной сущностью (см.: ГИМ. Барс. №620. Л. 1а-1г, 2б-2г). В разделе,
посвященном ангелологии, подробно характеризовались чины Божьих слуг — внепри-
родные идеальные сущности (так называемые чистые сущности), обладающие более
высоким онтологическим статусом, чем природа, но более низким, нежели Бог (см.:
Там же. Л. 1а, 2в, 8б-8г. Особый раздел посвящен описанию десятого, ангельского чина
Сатаны. Рассказ о свержении с небес подчиненных Сатане духов, о воцарении их в
преисподней, воздушной стихии и на земле имеет апокрифические черты см.: Там же.
Л. 16г-17г). В силу двойственности (сопряженность идеальности с сотворенностью)
они рассматривались в качестве связующего звена между Богом и материальным миром.
Материальный мир в религиозно-философской концепции бытия наделялся низшим
онтологическим статусом. Предельными материальными основаниями бытия в «Палее»
названы четыре первоэлемента, представления о которых заимствованы из античной
философии. Стихии — это как бы потенциальное бытие, которое становится
реальностью в акте творения мира. Материальные сущности описаны как временные (имеющие
начало и конец), зависимые от внешних причин, изменчивые и стремящиеся к распаду
(смерти). В связи с этим материальная сфера мироздания характеризуется в понятиях
креационизма, тварного несовершенства, финализма. Как некая вторичная ценность,
она всецело ставится в зависимость от идеального надприродного начала.
Говоря о богословской трактовке учения о четырех стихиях, нельзя не отметить,
что античные представления о первоматерии существенно переосмыслены. В
начальной, космогонической части «Палеи» смысл отождествления первотворений (т. е. неба
и земли) с веществом созидания (т. е. материальным основанием последующих
творений) сильно затемнен. Среди стихий земного состава названы земля, дважды вода (как
вода и бездны), дважды воздух (как воздух и ветер) и почему-то пропущен огонь (см.:
ГИМ. Барс. № 620. Л. 2а-2б). Такая же нечеткость, свойственная антиохийской
богословской традиции, фиксируется и в сочинении Иоанна экзарха Болгарского, где в
переводе из «Шестоднева» Севериана Габальского утверждается, что созданные в первый
день небо, земля и водные бездны заключали в себе стихии, ставшие первоосновой
последующих творений (см.: Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского как памятник
средневекового философствования. М., 1991. С. 134-136. Коммент. 92-102). В более
четкой форме античная теория четырех стихий воспроизводится в антропологическом
сюжете «Палеи», согласно которому тело человека состоит из четырех «составов», причем
каждая из материальных основ наделяется характерным для него качеством (см.: РГБ.
Егор. №13. Л. 45 об.).
42 Автора «Палеи Толковой» меньше всего интересует эмпирическая сторона
исторических событий. В центре его внимания — глобальный ход истории как грандиозной
драмы человечества, ее пружины и сокрытые смыслы. Весь интерес в тексте
сосредоточен на выявлении непреходящего значения ветхозаветной истории, которая в своих
частностях и деталях рассматривается как символический прообраз новозаветных
событий. Выстраивается грандиозная схема двух симметричных циклов, в которой
ветхозаветная эпоха представлена прообразом новозаветной. Правда, этот символический
параллелизм касается только священной истории. Однако важен сам принцип, согласно
которому событие утрачивает свойство неповторимости в линейной последовательности
исторического бытия. Прошлое или то, что стало небытием и сохраняет связь с
современностью лишь как факт памяти, получает возможность вновь актуализироваться на
очередном витке исторического развития.
43 Отсюда вытекает антропологическая и морально-нравственная направленность
описаний окружающей действительности (см.: ГИМ. Барс. №620. Л. 19а-20а). Конкрет-
60 Космологические концепции и сведения в книжности Дп(
ным примером этого служит часть «Палеи», представляющая собой отрывки из
«Физиолога». Сотериологическая задача процесса познания наглядно иллюстрируется на
примере характеристики образов небесных светил. По символическому толкованию,
Луна изображает естество человека, которое претерпевает возрастание, старение,
смерть, за которой должно последовать Воскресение. Солнце же является образом
неизменного и светоносного Божества. В антиохийской традиции похожее толкование
встречается у писателя-апологета св. Феофила Антиохийского (II в.): «...солнце есть
образ Бога, а луна — человека. Если первое пребывает как бы неизменным и всегда
совершенным, то луна каждый месяц умаляется и как бы умирает, а потом вновь
нарождается, символизируя будущее Воскресение. Светила светлые и блестящие —
образы пророков, менее светлые — праведников, блуждающие и падающие — образ
нечестивых и богоотступников» (Феофил Антиохийский. К Автолику. II, 15 // Ранн. отцы
Церкви. Брюссель, 1988. С. 482). Такую же символику использовал Василий Великий
в «Шестодневе» (Василий Великий. Беседы на «Шестоднев». Творения иже во святых
отца нашего Василия Великого, архиепископа Каппадокийского. Ч. I. M., 1886. С. 116-
117), откуда она скорее всего и попала в «Палею».
44 См.: ГИМ. Барс. № 620. Л. Зв (публикацию текста см.: Философские и
богословские идеи в памятниках древнерусской мысли. М., 2000. С. 118 — Далее: Палея...).
Поскольку исследователи установили факт заимствований в «Палее» из Севериана Габаль-
ского, отдельные детали космологической схемы, в частности относящиеся к описанию
основания космического дома, могут быть переложением сведений, заимствованных у
этого представителя антиохийской космологии. Комментатор новейшей публикации
текста памятника ошибочно характеризует составителя «Палеи» как сторонника
геоцентризма (см.: Щеглов Л. Комментарии к Толковой Палее // Волшебная Гора:
Философия, эзотеризм, культурология. Т. VII. М., 1998. С. 232-233).
45 ГИМ. Барс. № 620. Л. 36 (Палея... С. 117). Ср. также: Л. 2г, За-Зв (Палея... С. 116-
118).
46 См.: Там же. Л. 2г (Палея... С. 116-117).
47 См.: Мифы народов мира. Т. 2. М., 1987. С. 207.
48 Этого мнения придерживались Феофил Антиохийский, Севериан Габальский,
Феодорит Киррский. Иоанн Фелопон (начало—вторая пол. VI в.) исходил из
существования двух, образованных из отвердевшей смеси воздуха и воды небес, нижнее из
которых удерживает на себе прикрепленные светила и разлитые между двух небесных
оболочек небесные воды (см.: Культура Византии. IV — первая половина VII в. М., 1984.
С. 436-437, 442-443).
49 См.: Migne. PG. Т. 44. Col. 80.
50 Св. Василий Великий в III Беседе на Шестоднев говорит о тверди как втором из
трех небес, ссылаясь на известный отрывок из апостола Павла (2 Кор. 12: 1-4) (см.:
Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппа-
докийской. Ч. I. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1900. С. 41-57). Иоанн Дамаскин
также выделяет только три неба: воздух, твердь и беззвездную сферу (см.: Раздел
«Геоцентрическая концепция мироздания в древнерусских текстах христианской экзегезы.
Примеч. 4). Иоанн Златоуст в III Беседе на Бытие признает только одно небо, блаж.
Феодорит Киррский выделяет два: небо первого дня творения и твердь, которая разделила
воды.
Г. Дьяченко, систематизируя христианские положения о строении неба, объясняет,
что в богословии выделяются небо воздушное, звездное и превыспреннее. Небо
воздушное — пространство, или расстояние, от земли до тверди, где царят птицы небес-
Идеи плоскостно-комарного мироустройства...
61
ные (Мф. 6: 26). Там бывают воздушные явления и знамения: молнии, громы, ветры, из
него падает дождь, снег, град. Звездное небо — простирается в границах
астрономической Вселенной. Небо превыспреннее — там, где престол Бога (Мф. 5: 33; Пс. 102:
19), где Бог открывает Свое величие и славу ангелам и святым (Втор. 26: 15). Оно же
называется небо небес (Втор. 10: 14; 3 Цар. 8: 27), третье небо (2 Кор. 12: 2), рай
(Лк. 23: 42; 2 Кор. 12: 4), вышний Иерусалим (Галат. 4: 26), Иерусалим небесный (Евр.
12: 22) (см.: Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь. М., 1993. С. 339-340).
51 Творения иже во святых отца нашего Иоанна Дамаскина. Точное изложение
православной веры. М.; Ростов-на-Дону, 1992. С. 14-15.
52 См.: Там же. С. 42.
53 См.: ГИМ. Барс. № 620. Л. 36 (Палея... С. 118). Автор «Палеи» мог найти
критикуемое им изложение устройства семи небес в иудео-христианской апокрифической
«Книге Еноха праведного» (ок. I в.), известной на греческом языке, а в X-XI вв.
переведенной на славянский язык. Идею многоярусности сферических небес, наряду с
«Книгой Еноха», популяризировали такие апокрифы, как «Откровение Варуха», «Видение
Исайи», «Видение апостола Павла» (см.: Апокрифы Древней Руси. Тексты и
исследования. М., 1997. С. 64, 91-96). Справедливости ради надо сказать, что не всегда ясно,
идет ли в неканонических текстах речь о небесах и поясах движения светил (подробнее
см. раздел «Космологические идеи в памятниках апокрифической письменности»).
54 См.: ГИМ. Барс. № 620. Л. 8а (Палея... С. 124).
55 См.: Там же. Л. 8в (Палея... С. 125).
56 Там же. Л. 8а-8б (Палея... С. 124-125).
57 Ср.: Аристотель. О небе. В VIII. 289а. 30.
58 От античных реминисценций не свободны и антиохийские источники «Палеи».
В неявном виде они присутствуют в описании четверицы первотворения, а также в
образах Мирового Океана, неподвижного неба с закрепленными на нем звездами и
северных гор, отбрасывающих ночную тень при заходе за них светил.
59 См: ГИМ. Барс. № 620. Л. 8г-9а, 14а-14б (ср.: Палея... С. 125-126, 135).
60 См.: РГБ. МДА № 145. Л. 146а; Баранкова Г. С, Мильков В. В. Шестоднев
Иоанна экзарха Болгарского. СПб., 2001. С. 486-487. Идея жесткого прикрепления звезд
к небесной вращающейся сфере высказывалась также Аристотелем (см. его работу:
О небе. В VIII. 289Ь. 30).
61 См.: ГИМ. Барс. № 620. Л. 2в (ср.: Палея... С. 116).
62 См.: Там же. Л. 2в, 86, 8г (ср.: Палея... С. 116, 125). В обозначенных здесь
фрагментах палейного текста конкретизируются указания Св. Писания на служебные
функции ангелов. В «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова ангелы также
трактуются как «служсБнни дси на слоужвоу посылАбми» (Книга нарицаема Козьма Инди-
коплов. М., 1997. С. 82, 222-223). Как управители звезд, планет и небес, а также
распорядители времен, вод, земных плодов и душ человеческих предстают ангелы в
апокрифической «Книге Еноха» (см.: Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования. М.,
1997. С. 47, 50). Близкие между собой рассказы о том, как ангелы «воротят»
(направляют движение) Солнца и Луны, а при заходе дневного светила снимают с него
светоносный венец, находим в «Откровении Варуха», «Прении Панагиота с Азимитом» и в
«Вопросах от колика частей создан был Адам» (см.: РГБ. Син. № 362. Л. 248-249;
Архангельский А. С. Творения отцов Церкви в древнерусской письменности. Т. 1-Й. Казань,
1889. С. 139). Наибольшее соответствие комментируемому отрывку обнаруживается в
Ипатьевском изводе «Повести временных лет», где под 1110 г. помещен пространный
пассаж о роли ангельского чина в бытии природного мира и человеческого общества:
62 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
«гакожс пншеть премудрый впифдннн. къ коенже твлри англъ прнстдвленъ. англъ
швлаколгь и мъглдмъ. и снъту и грдду. и ^P^Y- an™*1» гласомъ и громолгь. днглъ
зимы и зноеви. и осени, и весны, и лъ^га. всему AXV твлри его на земли и таиньна(м)
вездны и су(т) скровены подъ землею, и пренсподьнии тьмы и сущи во везны бывши»
древле верху зелллл. Ш негоже тмы вечеръ и нощь, и св'Ьтъ и днь. ко всилгь твдремъ
днгли пристАвлени. тако же англъ прнстдвленъ. къ которой оуво земли да
соблюдают^ куюжьто землю. Аще суть и погани, ащс Бжин пгквъ вудеть. на кую оуво землю.
пов6л*бвд|д Англу, тому нд кую оуво землю врднью ти то чиной земл'Е англъ не вопро-
тнвнтсА повеленью Бжью. iako и се башс и нд ны ндвелъ Бъ гр^х^ РОД" ндшихъ
иноплеменннкы. погдныга. и пов'кждхуть ны повел^ньемъ Бжьимъ. whh бо ба\у води-
ми дньеломъ» (ПСРЛ. Т. 2. М., 1962. С. 262-263). Летописный текст об ангелах
пространнее и богаче содержанием, чем палейный, но оба воспроизводят финикийца Епи-
фания Кипрского (367-403), обратившегося к христианству из иудаизма. Характер
текстовых соответствий «Палеи» и первой русской летописи не изучен. Но учитывая, что
совпадения касаются не только мотивов ангелологии и что сама ветхозаветная
история, изложенная в летописной «Речи философа», воспроизводится близко палейной
трактовке, — взаимоотношения обоих памятников можно свести не только к
заимствованию из общих источников, но также и к непосредственному взаимодействию текстов.
По крайней мере гипотетический вывод о зависимости «Палеи» от летописи обоснован
А. А. Шахматовым (см. его работу: Толковая Палея и русская летопись //
Шахматов А. А. Статьи по славяноведению. СПб., 1904. Вып. 1. С. 199-272). Обаяние
картин мироздания воздействует на составителя «Палеи» столь сильно, что он склоняется
к одухотворению природных явлений, по сути — к анимизму. В православной
ангелологии нет учения об ангелах как о духах природных сил. Об ангелах говорится только
как о попечителях стран, народов и племен (см.: Архимандрит Алипий (Кастальский-
Бороздин), архимандрит Исайя (Белов). Догматическое богословие.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. С. 187). Небезынтересно, что 35 Правило Лаодикийского
поместного собора 363 г. осуждает составляющих служение ангелам и тем самым
уклоняющихся от служения Иисусу Христу (см.: Правила Православной церкви с
толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского. Т.П. СПб., 1912. С. 105).
63 О соотношении редакций «Палеи» и о характерных особенностях краткого
хронографического ее извода см.: Истрин В. М. Замечания о составе Толковой Палеи. Гл. I-
III // ИОРЯС. 1897. Т. II. Кн. 1. С. 175-209; Его же. Замечание о составе Толковой
Палеи. Гл. IV: Книга Кааф // ИОРЯС. 1897. Т. II. Кн. 4. С. 845-905; Его же.
Замечания о составе Толковой Палеи. Гл. V-XI: Златая Матица. Византийские прототипы
Толковой Палеи // ИОРЯС. 1898. Т. III. Кн. 2. С. 472-531 (тот же вариант
опубликован в СОРЯС. 1899. Т. 65. № 6); Его же. Редакции Толковой Палеи. Описание полной и
краткой Палей / / ИОРЯС. 1905. Т. X. Кн. 4. С. 135-203; Его же. К вопросу о
редакциях Толковой Палеи. Гл. V-VI // ИОРЯС. 1906. Т. XI. Кн. 1. С. 337-374; Его же.
Редакции Толковой Палеи. Взаимоотношения полной и краткой Палей в пределах текста
Палеи Коломенской // ИОРЯС. 1906. Т. XI. Кн. 2. С. 1-43; Его же. Хронографическая
часть полной и краткой Палей и «Хронограф по великому изложению» / / ИОРЯС. 1906.
Т. XI. Кн. 2. С. 20-60; Его же. Общие выводы. Таблицы // ИОРЯС. 1906. Т. XI. Кн. 3.
С. 418-450. В ином варианте это исследование опубликовано в «Журнале
Министерства народного просвещения» и отдельным оттиском — см.: Истрин В. М. Из области
древнерусской литературы // ЖМНП. 1903. Авг. С. 411-414; Окт. С. 201-218; 1904.
Февр. С. 257-284; Окт. С. 321-354; 1906. Февр. С. 185-246; Его же. Редакции Толко-
Идеи плоскостно-комарного мироустройства.., 63
вой Палеи СПб., 1907. См. также: Истрин В. М. Редакции Толковой Палеи // Ист-
рин В. М. Исследования в области древнерусской литературы. I-V. СПб., 1906. С. 70-
198; См. также: Рыстенко А. В. Материалы для литературной истории Толковой
Палеи// ИОРЯС. 1908 Т. XIII. Ч. 2. С. 324-350; Адрианова В. П. К литературной
истории Толковой Палеи. Киев, 1910. С. 5-7, 26-29; Творогов О. В. Древнерусские
хронографы. Л., 1975. С. 12-13, 18, 31-33; Словарь книжников и книжности Древней
Руси. Вып. I: XI — первая половина XIV в. Л., 1987. С. 286.
64 Принадлежность всех перечисленных списков к одной редакции текстологически
установлена проводившимися в разное время исследованиями и сличениями
рукописей. Краткая Хронографическая Палея из собрания БАН.24.5.8, по мнению
исследователей, тождественна РНБ. Пог. № 1434. XVI в. и Пог. № 1436 (см.: Словарь... С. 161).
Список Пог. № 1436 несколько отличается от прочих списков краткого
хронографического типа, сближаясь с Сол. № 866/976. Эти отличия В. М. Истрин склонен
объяснять влиянием «Исторической Палеи». А. А. Шахматов согласен с В. М. Истриным, что
это Краткая Хронографическая Палея, осложненная вставками из «Исторической Палеи»,
что сближает ее с Пог. № 1436 и отличает от прочих представителей данного типа.
Принадлежность рукописи к Краткой Хронографической редакции признана О. В. Тво-
роговым (см. его работу: Древнерусские хронографы. С. 124). Некоторые апокрифы из
Сол. № 866 издал И. Я. Порфирьев (см. его работу: Апокрифические сказания о
ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки. С. 204-208, 221 —
241). К Краткому Хронографическому типу относят также палейные списки РНБ. Соф.
№ 1448. XVI в. и РНБ. Карамз. F.IV.603 (о принадлежности списка Краткому
Хронографическому типу см.: Словарь... С. 161). Единое мнение на этот счет высказывали
также А. А. Шахматов, В. М. Истрин и О. В. Творогов.
65 История памятника и упоминание его в библиографии требуют дополнительного
разъяснения. Согласно данным описи книжной коллекции БАН рукопись происходит
из библиотеки Александра Сулакадзева, где она значилась под № 993. Видимо, та же
самая рукопись фигурировала в литературе как список И. И. Срезневского, который у
А. А. Шахматова упоминается без шифра хранения. Рукопись отнесена к Краткой
Хронографической редакции О. В. Твороговым (см. его работу: Древнерусские
хронографы. С. 32). На л. 5 в этой рукописи приводятся арабские названия планет (см. об этом:
Водолазкин Е. Г. К вопросу об арабских наименованиях планет в древнерусской
книжности // ТОДРЛ. Т. 49. СПб., 1996. С. 681). Название «Очи палейные»
применительно к Краткой редакции Хронографической Палеи является интерполяцией
составителя, необоснованно отождествившего надписанный им текст с так называемой
«Исторической Палеёй», которая являлась совершенно особым памятником и фигурировала в
списках как «Книга бытия небеси и земли» (Син. №318/591, Соф. № 1464), а иногда
как «Очи палейные» (Рум. № 359).
66 БАН. 24.5.8. Л. За-Зб.
67 Ср.: в «Шестодневе» Севериана Габальского, вошедшем в «Шестоднев» Иоанна
экзарха Болгарского (см. публикацию: Баранкова Г. С, Мильков В. В. Шестоднев...
С. 315-316, 370-371).
68 См.: ПСРЛ. Т. 2. М., 1962. С. 262-263; ср.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов.
М., 1997. С. 82, 222-223 (см. также примеч. 62).
69 См.: БАН.24.5.8. Л. Зб-4а.
70 БАН. 24.5.8. Л. 46-56. Ср.: ГИМ. Барс. № 620. Л. 8а-8б (Палея... С. 124-125).
71 См.: ГИМ. Барс. № 620. Л. 14а-146.
64 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
72 Существует магическая круговая схема, на которой равномерно откладываются
обозначения планет в порядке их обращения, а каждый из знаков соединяется лучами
с двумя противоположными ему знаками. Образуемый семиугольник, если следовать
по его граням, дает устанавливаемый порядок чередования дней недели (см.: Селеьини-
ков С. И. История календаря и хронология. М., 1970. С. 166-171. Рис. 35).
Управители дней недели по так называемой «звезде магов» идут в следующем
порядке: Солнце — воскресенье, Луна — понедельник, Марс — вторник, Меркурий —
среда, Юпитер — четверг, Венера — пятница, Сатурн — суббота. В комментируемом
тексте только для Сатурна не указан управляемый им день недели, но поскольку все
другие соответствия обозначены, легко установить, что Сатурн является хронократо-
ром субботы.
73 См.: Горский Л. В., Невоструев К. И. Описание славянских рукописей
Московской Синодальной библиотеки. Отд. II. М., 1862. С. 91-92; Рачева М. Към ранните
заемки от арабски празход в славянските язици: няколко редки астрономические назва-
ния-заемки в старобългарски или в староруски език // Старобългаристика. 1981. V.
№ 3; Чернецов А. В. Древнерусские знаки небесных светил // КСИА. 1985. Вып. 187.
С. 6; Водолазкин Е. Г. К вопросу об арабских наименованиях планет в древнерусской
книжности // ТОДРЛ. Т. 49. СПб., 1996. С. 677-678
74 См.: Водолазкин Е. Г. Указ. соч. С. 682-683.
75 По спискам РГБ. Муз. №921; РГБ. МДА. № 145. Л. 956-966, 1136-115а, 1266
(см.: Баранкова Г. С, Мильков В. В. Шестоднев... С. 445-448, 462).
76 В этот же сборник входит «Пчела», приписанная Михаилу Исповеднику
(публикацию см.: Семенов В. Древнерусская Пчела по пергаменному списку // СОРЯС. 1893.
Т. 54. № 1) и сказание святого отца Епифания Кипрского об ангелах (Л. 1806), а также
примыкающие к «сло(1)у w бытии вссХг) мирА» (Л. 1816), «Слово об Адаме» (Л. 183а),
«Слово о Ное» (Л. 184а), «Слово об Аврааме» (Л. 185а).
77 См.: РГАДА. Ф. 181. № 370/820. Л. 1826.
78 ГИМ. Барс. № 620. Л. 8г (Палея... С. 126).
79 РГБ. Тр. № 39. Л. 193а-195г. Сборник собрания Троице-Сергиева монастыря № 39
(2021) писан уставом в два столбца на пергамене. Долгое время по внешним
архаическим признакам рукопись датировалась XIV столетием (см.: Описание славянских
рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Ч. 1. М., 1879. С. 47). Однако
Идеи плоскоетно-комарного мироустройства...
65
Т. А. Сумникова по палеографическим данным предложила новую датировку: конец
XV начало XVI в., что нашло отражение в рукописной описи Троицкого собрания.
В состав сборника входят извлечения из экзегетических сочинений христианских
богословов (Слова и поучения Иоанна Златоуста, «Слово св. Ефрема о втором
пришествии» — л. 76 и др.), тексты нравственно-назидательного содержания (типа русского
по происхождению «Слова о злых женах» — л. 2366), полемические (например, «О ском-
расе» __ л. 1806, «Слово св. отца Кирила, архиепископа Кипрского о злых дусех» —
л. 2326) и житийные статьи («Житие и мучение христова Дмитрия» — л. 786; «Чудо
св. мученика Климента, епископа римского» — л. 133а; «Об успении Феодосия Печер-
ского» — л. 1876 и тому подобные), а также несколько апокрифических сюжетов («Чудо
св. Георгия об иконе» — л. 190а; «Послание Василия, архиепископа Новгородского,
Федорцу Тверскому о рае» — л. 239а).
80 РГБ. Тр. № 39. Л. 193в.
81 См.: Там же. Л. 196а-1986. Данные, заимствованные в наш текст через
посредство Краткой Хронографической редакции, взяты из «Палеи Толковой». Информация,
в свою очередь, восходит к «Шестодневу» Иоанна экзарха Болгарского.
82 Большая часть отличий касается перестановок частей внутри текста, которые
свойственны Троицкому списку. В результате инверсий рассказ об отпадении дьявола
привязывается к пятому дню творения (л. 193г-194б), тогда как правильное чтение
относит данное событие к четвертому дню творения (л. 1816-182а из РГАДА). В Тр. № 39
от сюжета о семи планетах и внешнем виде Луны остался лишь обрывок текста
величиной в две строки (л. 193в), но вместе с тем в ней имеется несколько дополнительных
чтений, отсутствующих в рукописи РГАДА (вставки нескольких цитат из Священного
Писания и пассаж о райской земле за Океаном). В общем и целом текст «Шестодневца»
(из РГАДА. Ф. 181. № 370/820) более полон и исправен, чем аналогичный «Шестодне-
вец» в Тр. № 39.
83 См.: Рукописи Синодальной (Патриаршей) библиотеки. Вып. И: Симоновское
собрание. М., б. г. С. 132-134. Из разнородных палейных текстов первой была выделена
как особая и отличная от других произведений «Историческая Палея», которую
сближает с «Палеёй Толковой» общее название и частое обращение к апокрифическим
источникам. Оба памятника заключали в себе изложение библейской истории, только
«Историческая Палея» излагала эту историю без характерной для «Палеи Толковой»
полемической окраски. К тому же в интерпретации ветхозаветного прошлого составители обоих
произведений опирались на разные авторитеты и делали свои заимствования отнюдь не
всегда из общих первоисточников. А, Н. Попов и М. Н. Сперанский обосновали греческое
происхождение «Исторической Палеи» и достаточно позднее, датируемое концом XIV —
началом XV вв., проникновение ее в древнерусскую письменность через
южнославянское посредство (см.: Попов А. И. Указ. соч. С. ХХХИ-ХХХХШ; Сперанский М. Н. Из
истории русско-славянских литературных связей. М., 1960. С. 77-85, 104-147. См.
также: Веревский Ф. Русская историческая Палея / / Филологические записки. Т. 2.
Воронеж, 1888. С. 1-18). Т. А. Сумникова скорректировала эти выводы и показала, что
русские списки восходят к болгарскому протографу, который был переведен с греческого не
позднее первой пол. XIII в. (см.: Сумникова Т. А. К проблеме перевода Исторической
Палеи // Изучение русского языка и источниковедение. М., 1969. С. 27-39; Словарь
книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2: Вторая половина XIV — XVI в. Т. 2. Л.,
1989. С. 160). Пространный перечень списков «Исторической Палеи» приводит в своей
работе Т. А. Сумникова (см.: Сумникова Т. А. Указ. соч. С. 31-32).
84 Более подробно об этом см. ниже, в разделе «Геоцентрическая концепция
мироздания в древнерусских текстах христианской экзегезы».
3 Зак 4748
66 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
85 Старшие русские списки «Шестоднева» Севериана Габальского представлены
следующими рукописями: ГИМ. Син. № 367; РНБ. Сол. № 117; РГБ. Тр. № 760; РНБ.
Сол. № 873, Сол. № 1186/1296 (119) (см.: Баранкова Г. С. Шестодневы
повествовательные / / Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей
для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 2. Ч. I. M., 1976. С. 167).
Бытование полного перевода «Шестоднева» Севериана в XV-XVII вв. фиксируется
параллельно с распространением текстов этого автора в составе компиляции Иоанна
экзарха (см.: Баранкова Г. С. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского в Древней Руси / /
Баранкова Г. С, Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. СПб., 2001.
С. 289-293). Известен также болгарский список «Шестоднева», хранящийся в
собрании РГБ. Муз. № 921. Л. 1а-87б, а также списки РНБ. Сол. № 1189/1299 и Сол. 119/
1300 (XVII в.). Весьма характерно, что «Шестоднев» Севериана очень редко
надписывался именем его составителя. Традиция псевдоэпиграфов имен авторов существовала
уже в греческих рукописях. Поэтому есть основание полагать, что протограф, которым
пользовался болгарский писатель при составлении «Шестоднева», был подписан
именем Иоанна.
86 О Севериане сохранилось мало достоверных сведений. Годы жизни яркого
проповедника и епископа из города Габалы в Сирии определяются приблизительно.
Рождение относят к концу IV в., смерть — к периоду между 415-430 гг. Известно, что одно
время Севериан Габальский был близок с Иоанном Златоустом, который даже доверял
ему управление Константинопольской епархией. Затем последовал разрыв — за
злоупотребление властью и интриги наместник влиятельного иерарха был выслан из
Константинополя. О деятельности Севериана, епископа Габальского, упоминают древние
историки — Сократ Схоластик (ок. 380-440 гг.), Созомен Саламанский (ум. ок. 450 г.),
Палладий, Исидор Севильский (570-637 гг.). Большую часть его творческого наследия
составляют проповеди (их более сотни), которые зачастую воспринимались как
принадлежавшие перу Василия Великого и Иоанна Златоуста. Подавляющая часть слов
Севериана находится в рукописях и лишь небольшая их часть была опубликована.
Вопрос о принадлежности Севериана к какой-либо богословской школе своего
времени в старой исследовательской литературе порождал разногласия, в силу малоизу-
ченности источниковедческой базы и неясностей с атрибуцией авторства из-за
псевдоэпиграфов. В начале XX века были предложены две версии ответа на этот вопрос. Проф.
Н. И. Барсов относил творческий метод Севериана к александрийской богословской
школе на том основании, что он проявил некоторую склонность к аллегорическому
толкованию Священного Писания. О творчестве Севериана Н. И. Барсов писал так: «По
внешнему строю его проповеди отличаются большой логичностью, хорошим
схематизмом; не только „слова», но и „беседы» имеют почти весь заранее начертанный оратором
или указываемый ходом мысли план. В этом отношении Севериан очень близко
сходится с Астерием Амасийским, Евсевием Кесарийским (как проповедником) и другими
ораторами церковными IV века, которые установили тематизм и строго-систематическое
изложение речи, хотя и не по всем правилам древней риторики, так как давали место в
проповеди религиозному экстазу и профетизму. При силе, яркости и остроумии мысли,
у Севериана не всегда изящна и правильна стилистически форма: недостаточно ли
хорошо знал по-гречески этот сириец, или он не имел обыкновения тщательно
обрабатывать фразу в проповедях — еще не решено; можно предполагать и то и другое» (см.:
Энциклопедический словарь / Под ред. <Е>. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Т. 29. СПб.,
1900. С. 297). Вторую же точку зрения выразил И. Целлингер, который увидел в
системе Севериана сильные следы антиохийской (сирийской) школы, которая в толкованиях
Священного Писания придерживалась буквалистической (исторической) экзегезы (см.:
Идеи плоскостно-комарного мироустройства...
67
ZellingerJ. Die Genesishomilien des Bischofs Severian von Gabala. Munster, 1916).
Именно эту, вторую точку зрения, можно считать адекватной характеру творчества
мыслителя (см.: Культура Византии. С. 437-438; Христианство. Энциклопедический словарь.
Т. 3. М., 1995. С. 330-332).
87 В специальной оговорке Севериан, следуя буквальному пониманию Исайи, что
«небо как дым утвердилось», наряду с ледовой природой тверди допускал, что небесная
преграда могла произойти по аналогии уплотнения и сгущения дыма (см.: РГБ. МДА.
№ 145. Л. 41а—416. С. 354). Здесь и далее «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского
цитируется по этому опубликованному списку XV в. с указанием листа рукописи и
соответствующей страницы издания (публикацию см.: Баранкова Г. С, Мильков В. В.
Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. СПб., 2001 — далее: Шестоднев...)
88 См.: Шестоднев... Л. 42а-42б (С. 355).
89 См.: Там же. Л. 42б-43а (С. 356).
90 См.: Там же. Л. 151а (С. 493).
91 См.: Там же. Л. I486 (С. 490); См. также: Л. 148а-148б (С. 489-490).
92 См.: Там же. Л. 146а (С. 486-487).
93 См.: Там же. Л. 1456 (С. 435, 486).
94 См.: Там же. Л. 24б-25а, 1156 (С. 331-332, 448).
95 См.: Там же. Л. 1496-1516 (С. 491-492).
96 См.: Там же. Л. 1516-1526 (С. 493-495).
97 См.: Там же. Л. 155а-155б (С. 498-499).
98 См.: Там же. Л. 14а (С. 318).
Г€ОЦ€НТриЧ€СКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
мироздания в древнерусских
Т€КСТАХ П€р€ВОДНОЙ
Христианской экзегезы
а Руси, как и в Византии, антиохийская концепция космоустроения
сосуществовала с геоцентрической. Общеизвестно, что на позициях
геоцентризма стояли представители каппадокийской школы богословия.
Геоцентрических воззрений, в частности, придерживались Василий Великий,
Георгий Писида, их последователь Иоанн Дамаскин и позднейший приверженец
геоцентризма каппадокийцев славянин Иоанн экзарх Болгарский. Взгляды на
мир этих авторов получали известность благодаря распространению переводов
их произведений в древнерусской книжности. К тому же следует отметить, что
в каппадокийском богословии утверждались передовые для средневековой эпохи
идеи геоцентризма, в отличие от более архаичных в научном отношении антио-
хийских. Восприятие традиции осуществлялось через копирование богословских
трактатов названных авторов, через распространение естественнонаучных
компиляций, а также путем тиражирования отдельных космологических сюжетов в
сборниках смешанного содержания, представлявших собою выдержки из
творений экзегетов, либо небольшие космологические статьи безымянных авторов.
По-видимому, наиболее раннее проникновение геоцентрических идей на
Русь связано с появлением в отечественной книжности текстов Иоанна Дамас-
кина и Иоанна экзарха Болгарского, которое датируется XII столетием.
Иоанн Дамаскин был авторитетным церковным автором. Его перу
принадлежит богословский трактат «Источник знания», в который составными частями
входили «Диалектика», глава «О ересях» и «Точное изложение православной
веры», известное по другим вариантам именования как «Богословие», или
«Небеса». Последняя из названных частей трактата, посвященная
онтологическим и космологическим проблемам, была переведена на славянский язык еще
в начале X столетия Иоанном экзархом Болгарским и под названием «Слово о
правой вере» была известна в древнерусском списке конца XII — начала XIII вв.1
Из обнаруженных нами в книгохранилищах более поздних списков
«Богословия» можно назвать РГБ. Гранк. № 46 (XV в.), а также РНБ. Сол. № 106/
106 (XV в.) и РГБ. Тр. № Ц7 (конец XV— нач. XVI вв.). К XVI столетию
Работа выполнена при поддержке РГНФ. Грант № 02-03-18077.
н
70 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
относятся список «Богословия» Иоанна Дамаскина из библиотеки Соловецкого
монастыря (№ 307/327), рукопись из собрания ГИМ. Син. № 442 (Л. 2а-
1136), извлечения из «Богословия» в сборнике РНБ. Соф. № 1285 (Л. 123-162),
а также Софийский сборник № 157/34 из Центральной национальной
библиотеки Украины, который является редким образцом, объединяющим все три
части «Источника знания»2. В том же XVI столетии «Богословие» Иоанна
Дамаскина включается в состав грандиозного энциклопедического свода —
«Великие Минеи Четьи» митрополита Макария (1482-1563)3, куда входят
также и несколько других космологических текстов, написанных с позиций
геоцентризма. В частности, «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского и
переведенный еще в 1385 г. на славянский язык рифмованный в греческом своем
оригинале «Шестоднев» Георгия Писиды. Назовем также рукописи РНБ. Пог.
№ 229 (XVII в.); ГИМ. Новоспасск. № XVIII (XVII в.); РНБ. Сол. № 311/331-
317/337 (XVII в.), сборники № 107-109 из того же собрания, где
«Диалектика» объединена вместе с другими сочинениями Иоанна Дамаскина и ГИМ.
Увар. № 191/130 (XVIII в.).
В «Богословии» Иоанна Дамаскина воспроизводится четко
сформулированная геоцентрическая схема, в соответствии с которой характеризуются все
элементы мироздания. Основополагающей посылкой суждений является
постулат о дуальности сотворенного мира, который конкретизируется в
контексте рассуждений об онтологических признаках трех небес4. Небом экзегет
называет твердь, относительно природных качеств которой он приводит
несколько толкований (дымное естество, водная основа и состав из четырех стихий),
но не склоняется ни к одной из гипотез 5. Небесная твердь мыслилась крайней
границей материальной сферы, выше которой находится внешнее небо, так
называемое небо небес, или небо первого дня творения. По принципу
полярности ниже тверди локализовалась воздушная сфера, которая, в отличие от
двух других небес, называлась греческим термином «уранос» (т. е. в
переводе — тоже небо, только, в отличие от неба в христианском понимании, «уранос»
являлся для античных греков обожествленным физическим пространством):
«ксть же оуво нбо нбснок прьвое ибо врь\у сь| твьрьдь во ндрече въ нево.
ОБЫМЬНО Ж€ ВЖЬСТВЬНОМОу ПИСАНЬЮ И ВЪЗДОуХ* н^0 НАр€КОВАТИ, НМЬ Ж€ ЗЬрИМЪ
гор*к. оурлносъ во cia съказасть блнньскы горНк зьр^ньк»6. Как явствует из
последующего содержания, сфере «ураноса»-неба принадлежат
перемещающиеся в воздушных высях светила7.
Небесная твердь представлялась Иоанну Дамаскину шарообразной («овьло
есть hiso»)8, двигавшейся по кругу («кроугьмь ж€ глть hiso гр!адггь»)9 и
заключавшей в срединной своей части покрытую водой Землю 10. Земля
располагалась в центре мироздания, будучи равноудаленной от небесной сферы:
«рлвьноу глть СЗстоупити отъ него и оукромь землю, съ горы же, съ стрлны
И ЗДОЛу... ВСЮДОу ВЫ1ШС ЛГЬСТО НБО ЮБИМАГГЬ, А ЗШЛ1А Д0ЛЬН€К» И.
В «Богословии» говорится, что вращение небесной сферы увлекало за собой
планеты12, которые в плавающем движении перемещались в семи ярусах
Геоцентрическая концепция мироздания...
71
(поясах) надземного пространства и при этом двигались в противоположном
вращению неба направлении — от запада к востоку: «седмь Ж€ погдсъ мешать
НБСИ, ДРуГЪ ДрОуГА ВЫШНИЙ. ГЛТЬ Ж€ К И ТЪНЪКА €СТЬСТВА 1АК0 И ДЫМЬНА,
ТИ НА К0€МЬ Ж€ ПОГАС* КДИНЪ СЗ ПЛАНИТЬ. ССДЛЛЬ ВО ПЛАНПЪ р^ША! СЛЪНЬЦС,
ЛОуНЮ, ДИЮ, €рЛ\ИЮ, Ар€А, АфрОДИТИ И КрОНА. АфрОДИТЪ Ж€ ГЛЮТЬ ИЖ€ ОВЪГДА
ДНЬНИЦА, ОВЪГДА ЗАХОДЬНГАГА БЫВА€ТЬ. ПЛАНЕТЫ Ж€ А ЗОВуТЬ, ИМЬЖС СупрОТИВЬ
НБСИ ШЬСТВИ€ СВ0€ ТВОрСАТЬ. НБСИ ВО И ДруГЫИМЪ ЗВ^ЗДАМЪ ЦГГЪ ВЪСТОКА
НА ЗАПАДЪ Гр1АД0уЩ€Л\Ъ, ТИ СДИНИ \Я ЗАПАДА НА ВЪСТОКЪ ШЬСТВЬС ИМОуТЬ»13.
Как видим из приведенного отрывка, физические свойства небесных поясов
сравниваются с дымом. Вместе с этим допускалось, что пояса могли иметь
также воздушную, или твердую непроницаемую природу: «нбо мъножьствълль
НБСА НАрИЦАТИ. HBO ОуБО НБСНОК Х0ТГЛ р€ЩИ, НБСА Н€Е€СЬСКАГА р€Ч€, €Ж€
1АВЛ1А€ТЬ НБО НБСЬНОК, €Ж€ BpbXV ТВЬрДИ; И ВОДЫ Ж€ ГАЖ€ СуТЬ ВрЬХОу НБ€СЪ,
или въздухл и твьрьди или С€дл\и по1асъ твьрьдьныихъ или твьрдь
игвычАШь евр€искыил\ь ллножьскы нвса нлремсмл. вес оуво Бытьемь, тьльн(о)
есть, по €Стьствьноу#л\у въсл^дованью»14. Другими словами, не исключались
разные решения проблемы, в том числе и древнеиудейские космологические
толкования о которых речь пойдет в следующем разделе.
Ночное и небесное светила экзегетом рассматривались как вместилища
света15. При этом смена суток описывалась с геоцентрической точки зрения,
ибо причиной ночи объявлялся бег Солнца при его круговом перемещении под
Землю: «да надъ зшьлею соущоу елнцю дни выти соудоу, а подъ землею
подъшьдъшю елнцю сьдс нощь тамо днь»16. Звезды локализовались
одновременно как в надземной, так и в подземной частях небесной сферы. Автор
допускал, что в дневном положении звезды не видны, так как Солнце своими
яркими лучами скрывает их и Луну17. Светила, кроме того, рассматривались
как знамения времени и погоды18. Пространственное перемещение Солнца
анализировалось в пределах зодиакальных созвездий, зодиакальный круг
делился на двенадцать частей, каждая из которых соответствовала месячному
периоду перемещения Солнца в зодиаке19.
Являясь сторонником геоцентрической концепции мироздания, Иоанн Да-
маскин тем не менее не был безусловно категоричен в своих суждениях и
допускал иные трактовки космоустройства. В качестве возможного варианта
космологической гипотезы он приводит несколько постулатов, выдвигавшихся
сторонниками плоскостно-комарной концепции дома-Вселенной. Среди них
сравнение неба с комарным перекрытием палатки и характеристика
горизонтального перемещения светил, в течении суток обходящих по кругу плоскую
ЗемЛЮ: «А ДрОуЗИИ ПЛАТЪ ОБЬЛА рАЗуЛГБВАША ИБО, \Я СТГО ДВДА ГЛ*ЩА
"прОПИНАГА НБО 1АК0 И КОЖЮ", €Ж€ 1АВЛГА€ТЬ ПОКрОВЪ; И ЕЛАЖ€НЫИ ИСАИ ГА
"поставлии нбо 1Ако и комлроу"; и Акоже и заход1а елнце ж€ и лоунл и звезды
овиноують о зелии С5 запада къ полоунощи, ти тако пакы къ въетокоу
придуть»20. Причина плюрализма — признание непостижимости сущности
небес и недоступность опытному исследованию огромных пространств
физической части мироздания21.
72 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
В славяно-русской письменности космологические идеи Иоанна Дамаскина
распространялись также в форме извлечений из «Богословия». В виде
небольших по объему тематических подборок они включались в сборники смешанного
содержания. Типичным примером такого сборника является рукопись второй
четверти XVI в. из собрания РГБ. Муз. № 921, в которой содержится «Шес-
тодневник», составленный из материалов трактата Иоанна Дамаскина в
сочетании с фрагментами других произведений22. Первый, открывающий подборку
блок в Муз. № 921 надписан «От Шестодневника», что тематически и
содержательно должно подкрепляться толкованиями на шесть дней творения.
Однако собственно «Шестодневник» (л. 94а-99б) охватывает, вопреки названию,
лишь события первого и четвертого дней творения, то есть события,
непосредственно выводящие на необходимость космологического и астрономического
толкования Библии23.
В свою очередь «Шестодневник» распадается на разделы, с собственными
надписаниями:
Раздел «О свете и светилах дневных и ночных» (л. 94а-95б) повествует о
природе светового первотворения, высшей сфере неподвижных звезд, семи
плавающих планетах и соответствующих им небесных поясах — особых
круговых траекториях, по которым они движутся. Космические объекты
описываются в памятнике как вместилище первозданного света: «ре(ч) въ бзди св*к(т).
и бы(*с) свН^т). въ пръвыи днь сътвори въ свН^т). великое богатство.
ДОБрОТЖ Н КрАСОТЖ ВНДНЛЛЫА С€А ТВАрН. АЩ€ BW $ИМ€ШИ СвНктЬ. ТО ВЪС'Ь-
ЧЬСКАА ВЪ ТЪЛГЬ БЛ^ДЛ^т). СВОСЖ лН^ТЫ Н€ МОГЛНЦС: 1АВИТИ... СВЕТИЛО Ж€ 6(C).
н€ самь св^Ст), пж св^та въм^стилищс»24. Рассуждения о свете и светилах
восходят к текстам Иоанна Дамаскина25.
В подборке далее описываются семь планет септенера, последовательность
которых соответствует так называемому «халдейскому ряду» (в зависимости
от возрастания скорости перемещения их по небу). Планеты локализуются
ниже неба (тверди), на семи внутренних жестких орбитах: «пр'ЬхиКд)"1*1^ же
ти(д) нимь сжща на сс(д)мш крж(г). исподни(х) и не npTbxw(A)Hbm(X)- и
М€Ж(д)0у СОКОЛ СЪ ЗАПАДА НА ВЪСТОКЫ ИДЖ(т). МЬЧЬ(т) Ж€ НБО НА ССБ'Ь
свон(м) влленТемь. глдр^А прНкходныл ты звезды долоу. любо поюсь, любо
в^нець. любо кржпивь С€(д)мь»26. Подобная интерпретация заставляет
вспомнить одну из допускавшихся Иоанном Дамаскиным трактовок семи
планетных поясов27. В тексте, как видим, сохранены и другие объяснения природы
планетных орбит.
Небу, охватывающему семь сферических небесных поясов,
приписывается круговое движение в направлении от севера к западу28. С движением неба
связывается разбрасывание в пространство искр от неподвижно
прикрепленных к тверди звезд29. Таким наивным образом описывается падение
метеоритов. Подобного рода объяснение отсутствует в «Богословии» и, возможно,
восходит к космологии Гераклита30, хотя не ясно, к каким христианским текстам
с подобного рода античными реминисценциями может восходить столь
оригинальная интерпретация космических явлений.
Геоцентрическая концепция мироздания...
73
Цмы Л*АС9В* *в*Ы
Рис. 1-5. Семь небесных поясов
над пространством Земли и окружающим ее Океаном.
/ Пасхалия XVIII в. РГБ. Ф. 242. № 66
74
Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
В разделе «Строение всего мира» (л. 956-966, 986) характеризуются
образная модель и структурные координаты Вселенной, а также двенадцать
частей зодиакальной полосы на небесной сфере. Здесь описываются
зодиакальные созвездия и механика перемещения неподвижных созвездий в пределах
небесной сферы.
К космологическим характеристикам раздела относятся данные о вращении
небесной сферы вокруг центра, который назван в двух вариантах: Иксень и
Коло: «нво е(с) глать. шкржглшО) оврлзо(л\), рАЗлгкренУе въсего мир a. w нем
Ж€ СА ВбрТИ(т) КрЛГЛюОЙ Нв(с)СКАА. 6Ж6 С А ИКССНЬ НАрИЦА€(т), СИр^м) КОЛА.
ПО ЛЮДСКОМОу ПрОЗВАЖЮ. КрАИ Ж€ КС€Н€ ОВрО^Тб СА НАрИЦАб(т) ВЪССГО Л\ирл,
wbo сЬверскыи. а дроугос южескыи, по широчгЬ»31. Таким образом, в тексте
обозначен северный полюс мира — Полярная звезда, в созвездии Малой
Медведицы. Вокруг этой точки все звезды на небе описывают окружность.
Подобные же движения звезды совершают в Южном полушарии. Древние
представляли циклически повторяющиеся «беги небесные» (кроме планет) —
как перемещение вокруг постоянного центра жестко связанных с небесной
сферой звезд. Ось, соединяющая Северный и Южный полюса, называется осью
мира. В нашей геоцентрической модели речь идет об оси небесной сферы, вокруг
которой та вращается. В действительности эта ось, а соответственно и ось
мира, проходит рядом с Полярной звездой. Последняя и в нашем тексте, и в
народной космологии фигурирует в качестве видимого знака центра
вращающегося неба. В развитие мысли об устройстве небесной сферы методом
конкретного сравнения с Млечным Путем вводится понятие меридиана —
линии, соединяющей полюса мира, а также принципы определения широтных
координат мироздания32.
Перемещение светил по небу характеризуется в Муз. № 921 следующим
образом: «лгЬнат же дв'ЬнлдбС'Ьтб зодУисчгЬи зв'Ьзд'Ь сдици на неси, на трс-
Т1€(л\) крлде'Ь нвсб, нлрицлш^ зодУискыи коуклъ сир'ЬОч) крж(г). противо(м)
тсмснУс имащУи, слнцоу же и лоун'Ь, и прочУимь пртЬх^(А)ны(л\) звтЬз(д)амь.
чр'ЬСс) wB*fe же на Д6САТ6 зодУисчгЬи зв'Ьзд'Ь, прИ^ДАСт) сТи С€(д)л\ь
npTfex^A"bi(x) звтЬз(д)ь. сии же сл(т) шегЬма на дссЬтс зодУискыма звНгздАМА,
имен, а овснь в" тоурь. сир'ЬСм) юнець. "г влизнець. д рлкь. 7 лб(в). % д^ва.
3 ГАр€МЬ. U СКОрША ^Г СТр^ЛбЦЬ. Т К031И рОГЬ. А1. ВОДНИКЬ. вГ ВСЛЬрЫБЬ.
ТАК0Ж(Д)€ ГЛАТЬ. СЛНЦ€ 0\[ К06Ж(д)0 30Д1ИСКЫА ЗВЁЗДЫ Пр^БЫВАСТЬ м(с)ць
единь. и дв^ма на д€САТб л\(с)цал\а. оба на дссЬтс зодУисчгЬ звН^зСд)*
преходить, по си(л\) же зодУискымь 5&кз(д)ал\ь. древнУи л\(с)ца сл(т) чинили
и знал\€нУи(х) смотрили»33. Этот отрывок представляет собой переделку текста
Иоанна Дамаскина, которая выразилась в сокращении и перестановке частей
(ср.: «Богословие». Л. 137в-138в. S.44). Описание движения зодиака в
противоположном Солнцу и Луне направлении, которое должно читаться в
«Богословии», заменено здесь текстом, локализующим зодиакальный круг в
третьем ярусе неба. По сравнению с оригиналом перечисление зодиакальных
созвездий дается без указания даты вхождения Солнца в соответствующий
знак. Видимо, это было сделано потому, что далее в компиляции помещается
Геоцентрическая концепция мироздания...
75
особый раздел «Движение Солнца в каждый месяц», в котором и содержится
эта информация. В основу календарной росписи движения Солнца в зодиаке
положена таблица из «Богословия» Иоанна Дамаскина, с помощью которой
был составлен перечень планет, вошедший в примыкающую выше часть
подборки, также скомпилированную из текстов Иоанна Дамаскина (см.: л. 986).
В отличие от оригинала, календарные сроки вхождения Солнца в
соответствующий месяцу знак зодиака в разделе о движении Солнца названы халдейскими.
Ко всем датам начала месяцев сделана поправка в семь дней. В результате
получилось сравнение древнего (халдейского) и приемлемого для автора эллинского
календарей. Поправка может отражать погрешности, которые накапливали
хронометрические системы из-за несоответствия счета точному хронометру неба.
Часть, озаглавленная «Движение Солнца в каждый месяц», содержит
календарную роспись солнечных месяцев с указанием точных сроков прохождения
дневным светилом соответствующего каждому месяцу знака зодиака, причем
сопоставляются числовые параметры эллинской и халдейской (шумерской)
календарных традиций34. Сюда же примыкает раздел, условно озаглавленный
нами [«О сезонах»], где расписаны сезонные перемены и характерные для
каждого времени года соотношения продолжительности дня и ночи. Циклы
смены четырех времен года выделяются по критерию таких астрономических
явлений, как равноденствия и солнцевороты, при этом помесячная
календарная роспись сезонов увязана, как и у Иоанна Дамаскина, с отнесением каждого
сезона к соответствующей ему стихии из состава так называемой четверицы.
В тексте обозначены качественные характеристики стихий (а соответственно
сезонов), при этом речь идет о влиянии господствующих в каждое время года
стихий на состояние жидкостей в человеческом организме35. Такая трактовка
причинно-следственных связей не может считаться вполне ортодоксальной,
ибо предполагает зависимость земных перемен от астральных сил.
Следующий раздел озаглавлен «О том, каково пространство между
звездами, или О знаках, на которые оно разделяется»36. Он содержит словесное
описание образной геоцентрической модели Вселенной, с выделением на ней,
как на небесном глобусе, разделенного на дуговые градусы и минуты
зодиакального пояса. Ввиду астрономической важности сюжета в контексте
космологического повествования приведем его полностью: «Аже е(с) рАСтолже зв^адь.
ли знАмеши ими же рлзлоучлемо. едина же кааж(д)о зодТискаа ^вгЬз(д)л
ил\а(т) десять, и три. масти же .л. ино же е(с) ча(с). ино же днь. днь во
е(с) трислтнлА, и шестьдесАтнАА и патнаа дНш». въсего aHjta. а чисти
ТрИСЪТНАА И ШеСТЬДеСАТНАА. ИПОСТАСЬ 30ДШСКАГ0 КрЛГА. ИЛ\А(Т) Ж€ МАСТЬ
ЧАСОВЬ, f. A f ЧАСОВЬ. МАСТИ б(с). Т§ Т И ЧЬТВрЪТЬ. ПАКЫ Ж€ бДИНЬ ЧАСЬ.
имать тънинь. f еже е(с) чгьнНгишиСх) т^ьнинь. три тысжща и шестьдесА(т).
сир'Ь(м) дши. има(т) же oyko нво. частТи т fe. и чьтвръть на(д) зел\лел
nWAb ОКРУГЛОСТИ 6(C). ЧАСТ1И, р П Н Б Н ПШЛЬ. ГОДИНА 6ДИ(НА). ЧАСА ДВА,
И ПОЛЬ ЧАСА. СИр'Ь(ч) Л ДШИ. ПАКЫ П0(д) 3€МЛ€Л ПОЛЪ ЮКрЖГЛОСТИ б(с). ЧАСТ1И
"р гГ и & и тиль, година едина часа два и поль часа. быва6(т) же на равнины
пролитныА и есенныА. ег(д)л има(т) днь вГ године, и нощь вГ године.
76 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
въ л^СтЭа криксы, на(д) зсмнлл юкржглость имл(т) частУи, "с мг. и ч€твьрть.
6г(д)А 6(C) ДНЬ, €1 ГОДИНЬ, А ПО(д)3€МНАА ЮКр;*ГЛи>(с). ИМД(т) ЧАСТЕЙ "р KB 6Г(д)д
ж€ е(с) нощь ^оГ годинь. пакы въ зимныа кр*ксы на(д)з€мнаа юкржглюСс).
има(т) частУи р" кв. 6гда 6(c) ань tOr годинь. а по(д)з€мнаа кикржгло(с) има(т)
частУи "с и м *г и чьтвърть. 6г(д)а е(с) нощь 61 годинь»37. Как видим, весь
зодиакальный круг делится на 360 частей, а в его пределах выделяется
числовое тридцатиградусное показание для каждого знака зодиака, включая
разграничение на три десятиградусных декана. Каждый градус зодиакального
пояса геометрической модели (точнее, каждое прохождение Солнца через
градусный сегмент небесной сферы) приравнивается к суткам, сезонная
продолжительность которых затем расписывается в часах и соответствующих им
градусах небесной сферы.
В разделе дается представление о расхождении угловых показаний
небесного круга с хронологическими его значениями. Согласно тексту,
астрологически Солнце проходит за день чуть больше одного градуса небесной сферы,
что за год составляет 365 1/4 пересечений Солнцем зодиакального круга.
Соответственно в дополнение к градусной сетке дается астрономо-хронологи-
ческое членение небесной сферы на части, в которых затем измеряется
продолжительность дня и ночи в разные времена года. Есть основание
предполагать, что начало текста заимствовано из «Богословия» Иоанна Дамаскина, хотя
в рукописи Син. № 108, восходящей к древнейшему славянскому переводу
трактата, соответствующий фрагмент отсутствует.
Текст с названием «w ст€П€Н€(х) зод!и7(м)» («О разрядах деления созвездий
зодиака») фактически повторяет числовые показания образно-геометрической
модели Вселенной. Во многом совпадая с содержанием предыдущего раздела,
данный сюжет заключает в себе более целостную и компактную
характеристику угловых соотношений зодиакального небесного пояса и к тому же
дополнительно вводит понятие «высоты», «возвышения», соответствующее
половине угловой минуты38. Здесь показано, как с использованием схематически
обозначенной геометрической основы рассчитывается градусно-астрономическая
продолжительность солнечного месяца. Положенные в основу космологической
схемы числовые величины позволяют указать на погрешность в 10,5 часов,
добавляющихся по точной хронологии к зодиакальному солнечному месяцу.
Раздел «w степенях) зод'ЛИМ» в основе своей совпадает с угловыми
характеристиками зодиакального круга, изложенными у Иоанна Дамаскина и
Василия Великого. Однако совпадение касается общепринятой у
придерживающихся геоцентрических воззрений богословов градации небесной сферы. В тексте
имеются несколько принципиально важных деталей: деление дуговой минуты
на две части по 30 секунд и уточнение длительности месяца (коррекция на
10,5 часов по сравнению с 30 астрономическими днями), которые отсутствуют
у названных богословов. Все это позволяет говорить, что в основе раздела
лежал какой-то неизвестный источник или несколько текстов, для одного из
которых были характерны заимствования из «Богословия».
«О Солнце и о Луне из астрономии» — замыкающий раздел «Шестодневни-
ка». В этом разделе повествуется о размерах дневного и ночного светил в по-
Геоцентрическая концепция мироздания...
77
перечнике и по окружности, а также об особенностях масштабного восприятия
крупных небесных объектов в удаленной перспективе. Раздел «О Солнце и
о Луне из астрономии»39 — единственный из всего состава «Шестодневника»
обнаруживает близкие соответствия «Шестодневу» Иоанна экзарха
Болгарского, «Палее», «Златой Матице» и сборникам естественнонаучного характера,
эталонным среди которых считается компилятивный трактат в рукописном
сборнике ГИМ, Син. №951. В последнем воспроизводятся аналогичные
соотношения Земли, Луны и Солнца (нач.: глють во писменл, кольмл воли е(с)
слннныи кру(г) з€л\на(г) кругл — л. 2956). Следует признать, что проблема
взаимоотношения текстов в пределах перечисленных выше памятников и
история возникновения самого сюжета не представляются ясными. Наш
фрагмент скорее всего отразил соединение заимствования из «Шестоднева» Иоанна
экзарха с краткой цитатой из «Богословия» Иоанна Дамаскина, дополненной
прямым указанием на то, что в распоряжении составителя находился некий
«Шестодневец» Иоанна Дамаскина. Не подлежит сомнению компилятивный
характер заключительного раздела «Шестодневника»40.
Сведения о размерах солнечного, лунного и земного «кругов» (тел) могли
прийти разными путями, в том числе и через знакомство с текстами Иоанна
экзарха. Заимствования из «Богословия» Иоанна Дамаскина в этой статье
минимальные. Во всех предшествующих разделах «Шестодневника»
соотношения компилятивных компонентов обратные: преобладают заимствования из
«Богословия» Иоанна Дамаскина в виде прямой цитации (л. 94а, 956, 98а),
переложения (л. 100а) и комбинирования фрагментов заимствований из
разных частей первоисточника (л. 966, 98а-98б, 99а-99б). Фиксируются также
отдельные соответствия с «Шестодневом» Иоанна экзарха Болгарского (л. 946,
98а, 1016) и несколько ^атрибутированных фрагментов (л. 946, 956-966).
На сводно-компилятивный характер «Шестодневника» указывают также
повторы (ср. разделы «О сезонах» и «Стихии каждого сезона») и несогласованность
в повторяющихся перечислениях планет. Так, при соотнесении планет с днями
недели со вторником — марсовым днем — ошибочно соотнесен Зевс—Юпитер,
тогда как с четвергом — днем Юпитера — неверно сравнивается Ар—Марс
(л. 946). Отметим также замену в параллельных перечнях Солнца термином
Берень (л. 94б-95а). Все вместе позволяет говорить о том, что основу
космологического текста, которым начинается анализируемая компиляция в Муз.
№921, составили сведения из «Богословия» Иоанна Дамаскина. Тем не менее
это не сокращенное извлечение первоисточника, а вполне самостоятельное
произведение, перекомпонованное и дополненное из «Шестоднева» Иоанна
экзарха Болгарского и каких-то неизвестных пока источников.
Большую роль в космологическом образовании наших средневековых
предков играли богословские тексты Василия Великого, а именно экзегеза на шесть
дней творения, которая вошла в историю духовной литературы под названием
«Десять бесед на Шестоднев».
Творения Василия Великого издавна влияли на отечественную культуру.
Из всех его трудов наибольшей известностью пользовались апологетические
творения и «Шестоднев». Полный перевод толкований великого каппадокийца
78 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
на шесть дней творения мира получил распространение в эпоху Московской
Руси, ибо древнейшие известные списки этого произведения датируются
XV вв.41 Ранее этого древнерусскому читателю Василий Великий был
известен, главным образом, благодаря извлечениям, сделанным в «Шестоднев»
Иоанна экзарха Болгарского. Значительный объем заимствований Иоанном «от
ексамерона святого Василия», а также концептуальная зависимость
составителя славянского «Шестоднева» от великого каппадокийца, видимо, и
являются причиной того, что в древнерусской рукописной традиции всё произведение
болгарского автора часто приписывали Василию Великому42. По крайней мере,
устойчивая традиция такого отождествления отличается от псевдоэпиграфов,
связывавших «Шестоднев» с Иоанном Златоустом или даже эпизодически с Се-
верианом Габальским.
Иоанн экзарх Болгарский излагает космологию великого каппадокийца
в общем контексте христианских и богословско-философских суждений.
Античная теория четырех стихий, например, воспроизводится в том виде, в каком
она вошла в творения христианских интерпретаторов Аристотеля. В ней
многое соответствует античным образцам, за исключением идеи несотворимости
стихий и постулата о действии Божественной силы, удерживающей
бесконечное многообразие существующих форм склонного к распаду физического мира.
Как и Севериан Габальский, Василий Великий излагает теорию четырех стихий
в самой общей форме и не упоминает никаких имен, связанных с этими
воззрениями, ограничиваясь абстрактным упоминанием «прежних философов».
Он отдает должное глубине достигнутых ими познаний в наблюдениях за
движением светил и сожалеет, что эти познания так и не привели древнегреческих
философов к познанию Бога43. В связи с христианской трактовкой античной
теории четырех стихий каппадокийский богослов, не называя имени
Аристотеля, воспроизводит основные тезисы учения древнегреческого мыслителя о
существовании некоего пятого элемента — вечного, божественного, небесного
эфира. С одной стороны, он, как бы солидаризируясь с предшественниками
Аристотеля, склонен считать, что видимое небо подобно всем другим
творениям и состоит из исходных четырех элементов. Вместе с тем применительно
к характеристике неба невидимого, то есть идеального надлунного (иного)
мира, объяснение Аристотеля представляется ему привлекательным и близким
к истине: «...глть женш нвхи мьногачьскы философи л\ирл сего wbh ры&ще iako
съложено естьство нб7с!)но€. СЗ "X съставъ. ел5мл же и вндилгь и знасмъ.
ЮБрлзъ во акы з€мла ил\(а)ть. огнь же имь же видилгь ё(с) а прокопе сългЬсно.
А ДР^ГОИМИ фиЛОСОф'Г ЧГБХЪ СЛОВбСЪ Н€ Пр|"€Л\ЛЮТЬ. 6Ж6 бОЙ бфирЪ НАГЛТЬ ^€. 6
чгЬло... свое шьствУб прлмое имать... да н'ЬльзН* сл\оу глад*ыгЪ и вез н#жа
шьствУс илгЬти... iako н'ЬаьзН* том# тако выти, и пьр5вы(х*) философа
оул\ыш5лАга йлищюще. и своа разумы оумыш'лАше оустлвишА. иже то
патаго тблеси. естьство нвхнос и звНгэдьное выти сказають»44.
Если сравнивать характер теологической трактовки космогенеза Севериа-
ном Габальским и Василием Великим, то нельзя обойти вниманием присущие
им отличия. Оба считали стихии промежуточным творением, возникшим
одномоментно с созданием неба и земли. Методологию антиохийцев можно назвать
Геоцентрическая концепция мироздания...
79
адаптационной и поэтому несколько искусственной из-за буквализма. Каппа-
докиец Василий Великий в меньшей степени видоизменял смысл высказываний
древнегреческих мыслителей, поэтому сообщаемая им информация об
античности была более достоверна. Его тексты выигрывают в точности, четкости,
последовательности. В приложении античной философемы к задачам теологии
он не ищет сложных объяснений и, избегая натяжек, ограничивается
утверждением сверхъестественного порядка вещей: «...итнь ж€, и вод#, и воздоух1*.
прсшврАзи гакоже уртЬ, и в сЙцТб приведе. гакоже коемоуж(д)о тер5па башс.
оутвлри ж€ сей всей рлзълич^ными частьи»45.
В постулировании принципов креационизма мнения каппадокийца Василия
и антиохийца Севериана совпадают: оба отмежевываются от античности, но в
то же время демонстрируют сохранение античных реминисценций, когда
творение мира объясняется с помощью архаичной модели, оперирующей
понятиями материи и формы. В иерархии творений они одинаково ставят на первое
место бесплотные невидимые сущности, а лишь затем физические реалии в
порядке их материализации (от подвижного легкого огня до пассивного
уплотнения земного)46. Совпадения авторских позиций, как они отражены в
компиляции, наблюдаются и по другим вопросам. И Василий Великий, и Севериан
Габальский в равной мере ставят своей задачей опровержение лживых
языческих верований и мнений древнегреческих философов47.
В «Шестодневе» космогенез второго дня творения характеризуется словами
Василия Великого, причем христианская трактовка подается в резкой
полемически заостренной против античных космологии форме. Последовательность
развертывания космических сфер здесь соответствует Библии. Василий
Великий, как и Севериан Габальский, придерживался мнения о том, что обилие вод
выполняет охладительную функцию в мироздании, что твердь играет роль
перемычки, разделяющей небо видимое и невидимое, из которых первое
представляет мир физический, а второе — идеальный надприродный (иной) мир48.
В текстах Василия Великого прежде всего указывается на кардинальное
отличие античной и христианской картин мира. Суть высказываемых суждений
имеет онтологический смысл. «Хитроумные еллины» представлены
защитниками идеи «единосущности» небесной природы: «...w неси, елинн хытрН*. исъЕгк-
сЬдовали. то унлтъ и газыкъ да илгь оур'Ьжють. неже того акы истин5на
ГфИАТИ. еДИНО ВО М^НАТЬ HBO. A Н€ ИЛ\0уЩ<\ €Л\0у ВТОрАГО 6СТ€СТВА, ИЛИ
третьлго рекоуще. н^ лз'Ь ел\оу выти въ единъ съставъ все са вокоутл. гакоже
е л\ощ*но»49. Подобные суждения действительно соответствуют
пантеистическим представлениям о единстве мироздания. Христианство предлагало
совершенно особую, отличную от античности картину мира. Разграничение двух
небесных сфер как бы удваивало бытие, помещая по разные стороны тверди
идеальную и реальную сферы мироздания, каждая из которых наделялась
принципиально несовместимыми качественными свойствами.
В рассматриваемом отрывке Василий Великий, не называя имени
Аристотеля, опровергает воззрения Стагирита на устройство и природу неба:
«...едино ко лгЬнать кр^гомь. грАдыи тйло. и С€ с коньце(л\5)»; «...с€ же глть оуво иже
припрАЗАЮть твАрь къ творьцю, и мнать ж не твореноу соущоу СЗ пер5вы(х5)
80
Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
кощюнъ. на обыч'ныа лжа грлд^щимь»50. Идеи о круговом вечном движении
небесного эфира были сформулированы Аристотелем в трактате «О небе»51.
В противовес Аристотелю Василий утверждает: «...не м(о)зи вез5 начала
МН^ТИ ВИДИМАА СИ ЧЛЧ(е). НИ ИМЬ Ж€ Кр^ГЪЛЛЬ ТА ОБИХОДАТЬ 1АЖ€ ПО НЕСИ
грлдйть»52. В критике «еллинских басен» о существовании бесчисленных
множеств миров узнается мнение Демокрита, который из атомарной
концепции сделал вывод о неизбежности бесчисленного умножения миров53. Сам же
каппадокийский богослов, ссылаясь на ап. Павла, количество небес определял
в числе трех, но наряду с этим он признавал еще существование семи особых
кругов, по которым перемещаются светила: «...л\ьл же и н€ тъчью помышьла-
шъ. второе ибо соуще. н*ъ и третУлго възнскАемъ. еже и блжны(и) павслъ вид^.
ДВДЪ Же НАрИЧА НБСА НБСНАА. И О МНО^Х1* НЫ ПОМЫСЛЫ. ТВОрИТЬ. НБСХ'Ь
рлзЙиН^вАти. м'Ьнать же мно^иГз. кр^говъ, по нимъ же, з. зв'Ьздъ пристроенн
есть. причитАно же то еТс) дроугь по дрЙН*»54. Принято считать, что Василий
Великий, как и другие представители каппадокийского богословия, отверг
учение Аристотеля о вечности неба, но, используя наследие античной мысли,
воспроизвел все основные принципы аристотелевского геоцентризма55.
Многие научные сведения, излагаемые Василием Великим в толкованиях на
четвертый день творения, напрямую связаны с геоцентризмом. Характерно,
что Василий Великий и Иоанн экзарх оперируют одной и той же научной
информацией, восходящей к античности.
В рассуждениях о сменах времен года сезонными поворотами Солнца56 и
в приемах логических доказательств больших размеров светил57
каппадокийский богослов обнаруживает зависимость от Аристотеля58. Иоанн экзарх
повторяет эти мотивы в авторской части IV Слова. Однако, указывая на Василия
как на источник своих рассуждений, он привносит дополнительную
информацию античного происхождения. Если ход рассуждений о больших размерах
небесных светил восходит к Василию Великому, который, в свою очередь,
руководствовался установками Аристотеля59, то конкретные цифровые величины
земной окружности ближе всего соответствуют расчетам Эратосфена Кирен-
ского (276-194гг. до н.э.)60.
Иоанн экзарх в полном согласии с Василием Великим объясняет создание
Солнца и Луны соединением первозданного рассеянного света с сосудами как
формами светил61. Он даже несколько подправляет каппадокийского
богослова, не без некоторого влияния древней мифологической архаики
уподоблявшего обретение света Солнцем небесной колеснице, которая включала в себя, как
в форму, первобытный свет62. Не исключено, что образ сосуда, несущего в себе
огонь небесного светила, мог восходить к концепции Парменида, считавшего,
что небесные светила — это сгустки огня, удерживаемые своеобразными
«чашами»63. Античный источник здесь скрыт и адресно не указан, впрочем, это
мог быть не только Парменид, но и кто-то из более поздних его интерпретаторов.
Иоанн экзарх рассуждает о форме светил и движении их по небосводу. Он
описывает перемены лунного образа, Которые квалифицирует как
доказательства округлой формы Луны. Рассуждения о Луне здесь соответствуют
рассуждениям на тот же счет Василия Великого. Далее следуют дополнения о том,
Геоцентрическая концепция мироздания...
81
что все небесные тела имеют круглую форму и совершают по небу круговые
движения.
Если сравнивать космологические воззрения Василия Великого с другими
версиями космоустроения, отразившимися в древнейшей богословско-фило-
софской компиляции Иоанна экзарха, то можно констатировать, что
христианские экзегеты, несмотря на расхождения, придерживались общих
мировоззренческих установок. Это касается, прежде всего, единых представлений на
дуальный характер бытия. Совершенно очевидно, что антиохийская концепция
космического дома с перекрытием-твердью наглядно демонстрирует
концептуально основополагающую для христианской онтологии дуально-полюсную
организацию сфер мироздания. В космологии Василия Великого этот принцип
также присутствует, но он менее нагляден ввиду не выделенной оппозиции
верха и низа в сферической модели Космоса.
Пока нет оснований говорить о непосредственном влиянии на
домонгольскую Русь самого византийского первоисточника, представленного в ту эпоху
скорее всего только в компилятивной выборке и авторской трактовке Иоанна
экзарха, который дал славянским народам, оказавшимся в орбите
религиозного влияния Византии, полную и к тому же доступную энциклопедию
христианских воззрений. Главным образом, благодаря этому уникальному в
богословском, философско-мировоззренческом и литературно-эстетическом
отношении труду, геоцентрические идеи античности в обработке великого каппадокийца
получили распространение в Древней Руси.
Традиция геоцентризма, последовательным приверженцем которой
выступал Иоанн экзарх Болгарский, излагалась в «Шестодневе» в интерпретации
Василия Великого. Степень воздействия на читателей идей геоцентризма
усиливалась благодаря тому, что в оригинальных авторских частях «Шесто-
днева» эти идеи не только повторялись, но и получали дальнейшее развитие.
Другие компоненты компиляции, восходившие к «Шестодневам» Севериана
Габальского и Феодорита Киррского64, в части космологии знакомили
читателя с другой, принятой в антиохийской школе богословия концепцией дома-
Вселенной. Но эта чересполосица не нарушала «концептуального монизма»,
ибо характеризуя базовые принципы как одной, так и другой космологической
концепции, Иоанн экзарх везде выступает последовательным сторонником
геоцентрической идеи.
Характерная для каппадокийского богословия концепция, исходившая из
мнения о центральном положении Земли в сферическом космосе, излагается
составителем «Шестоднева» следующим образом. Сначала вводится
принципиально важный основополагающий для монотеистической доктрины постулат о
начальности (сотворенности) мироздания. Основой при этом является
соответствующее дуальной онтологии противопоставление пространства и
сверхпространства: мира видимого, физического, тленно-несовершенного и мира над-
чувственного, внеприродного, представленного надмировои сферой идеальных
сущностей. Удвоенной схеме бытия соответствует создание второго неба —
тверди: «И р€нс въ. да воудсть твердь поср'Ьд'Ь воды, и воуди рдзл^чдющи
посреди) воды и воды, и высть тако. и рдзлоучи въ, посреди воды 1аж€ вЧнаше
82 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
ПО(д) ТВСрДИО. И ПОСРЕДИ ВОДЫ 1АЖ€ Б^ГДШС НА(д) ТВбрдУЮ. И ВЪЗВА БЪ ТВбрдь
HISO, Н ИЗВ€Д€ БЪ, П€рВО€ Ш НСВЫТЬА. НБО Н 3€Л\ЛЮ, И ВЪЗДОуСх)- И wrHb- и ВОДОу...
ВЪЗСМЛЮЩС, Ш ЖИТКЫА. И СКОрОЛ'ЪюЩААСА ВОДЫ СО^щУа. НА Ж6СТ0ЧИИ1Ш6
естьство прсведъ. и претворивъ, и тако и толико. притрлное в€лУчь€. wb^chbt^
на възд^'шьн'Ъмь, i макц^мь естьствъ*, и ндрскъ присношьствьно кружное.
шьствТе илгЬти. и повели ХРАНИТИ- ИЖ€ положи на своемь шбильствъ* жнд*ьи/Ьи
водНг. и долъ* л^ющемоуСА естьствоу. никако же ни рлзливАти на долъ»65. Как
видим, тверди здесь, в соответствии с античными представлениями о
шарообразности неба, приписывается сферическая форма, а сама крайняя ледово-водная
граница природного мира рассматривается как подвешенная на воздушном
мягком естестве. Одновременно Иоанн экзарх говорит о круговом движении
неба, и в этом он присоединяется к каппадокийской традиции, базировавшейся
на геоцентрической концепции Вселенной. Однако в «Шестодневе»
обнаруживаем тезис о вечности кругового движения (присношьствьно кружное шьствУс),
что позволяет определить подлинный источник, которым пользовался Иоанн
экзарх. Василий Великий, Григорий Нисский, Георгий Писида и Иоанн Дамас-
кин, как известно, восприняли аристотелевско-птолемеевскую схему космо-
устроения, приспособив ее к христианству (то есть положив начало и конец
шаровидного Космоса в Боге). Иоанн по каким-то причинам воспроизводит
явно идущий вразрез с креационизмом и финализмом принцип вечности неба —
один из краеугольных принципов космологии Аристотеля66. В памятнике
неоднократно еще будет сказано о начально-конечной природе неба, в том числе
и о заблуждениях античных философов на этот счет. Но в приведенном
контексте аристотелевский постулат оставлен без корректировки, что нарушает
логику пассажа, посвященного сотворению неба.
Далее Иоанн экзарх следует за Василием Великим и приписывает
божественной силе удерживание вод на поверхности круговращающейся тверди:
«...како толика ширость. и по истине величье притрлно€. кр^гомъ са вертить,
Беспръхмене, держл на вышн'ш стрлИ* са. пълзоко естьство не рлзливлсмо.
ВОДЪ ЧГВСХ) МИОГЫХЪ ТЪЧ1Л АКЫ Н6 ПрОПОВ'ЬдАЮЩЮ. ИЗДрАДНОС, ВбЛИЧТС. ТВОрЦА
премоудрости, и рлзоул\А, и силы»67. Здесь аристотелевские характеристики
неба воспроизводятся в христианской их интерпретации. В богословии
давались различные объяснения сдерживания вод на тверди: за счет плоскостности
внешней стороны тверди, из-за равномерного распределения вод по всей
сферической поверхности тверди (Георгий Писида), а также благодаря
существованию на поверхности тверди складок. Видимо, в отличие от своих
античных предшественников, Иоанн экзарх, как и Василий Великий, считал
нецелесообразным искать естественное объяснение там, где реализуется замысел
Бога. Поэтому в тексте памятника сформулирован прямой выпад против
философов, которые по «ряду естественному» подвергают сомнению
возможность водам удержаться на выпуклой сфере неба: «...в поустошь, глють дроузУи
р€К#Щ€ КАКО МОЖбТЬ, НА ОБЛ'Ь И КрЙГОВАЧГБ Т€Л€СИ, ЖИДКОЕ И ДОЛОу СА Л'БА,
во(д)нос естество, не полъзати, и доло'у тещи, но тако не д€ржил\0€ держит 5са.
А И ПАЧ€ ПОр'ЬвАЮЩИ Пр*(с)нО. НА НШ* Ж€ ЛбЖИТЬ Т6Л6СИ В€рТА. НООДЬМА Ж€Н€ТЬ
6. но егдл лгЬнимь в™ что творАщл. то н€ л\05и по рАдоу ест€Ств€нолюу
Геоцентрическая концепция мироздания...
83
рАЗоулгк&АТи, гакожс и в насъ БывАбмос. но Кггвьрнь, выше естественАТг)
ПОРАДИ1А»68.
В космологии «Шестоднева» много внимания уделено вопросу о природе
неба и даже излагаются различные точки зрения на этот счет. Например,
обличаются заблуждения тех, кто состав неба сводил к одному из
первоэлементов или их сочетанию: «...wbh во рНгшА. простыми вещьми, ггккАи/Ьми.
сложено с#ще нво. а дрООэТи рНгшл венмн строено»69. Конкретно адресат
критики не назван, но ясно, что речь идет об античных мыслителях. Впрочем, в
нашем случае мыслитель, которого критиковал Иоанн экзарх, узнается
определенно. Говоря о существовании особого пятого элемента — круговращающе-
гося небесного тела, качественно отличного от сущностных свойств четырех
первоэлементов, — автор текста безусловно характеризует аристотелевскую
идею небесного эфира: «...дрйЫи же wboh(x5) тк^ь не прТлшА. нъ патымь
чгЬломь. прозвАША е кролгЬ четыри ст^х'ш соуще. рекыш вещ'ш. ил\ь же кр^гомь
ГрАДбТЬ HHAK0 ИДЫН. А Н€ IAK0 Ж€,"д. ПрОСТА СТОДОЛ- К06ЖД0 ВО И(Х5) М'ЬнАТЬ
рекоуще. прлмос шести- имоуСт). и естсствомь тгьчТл. рекъшс горН; или дол'Ь.
А НвТс!)Н0€ В6ЛИМ16 Н€ (и)л\Ы ПрАЛ\(о)ГО Ш6СТВ1А, Кр^ГОМЬ грАДСТЬ. ДА ТОГО дН^ЛА
мНгнАть СЗ инаго соуще ест€ствл. а не С5 четыре ст^Уи. ихъ же во pallia шьстТа
Различьна соуть. лгкхт* ноужл выти различУж сЙцном(#) словеси»70.
Метод освоения составителем «Шестоднева» античного наследия можно
выразить формулой: опровергая — заимствуй. Несмотря на критическую
характеристику Стагирита, Иоанн заимствует у этого античного философа не
только идею сферичности, но и ее обоснование. Именно к Аристотелю восходит
пассаж «Шестоднева» о том, что небо, в отличие от прочей физической
реальности, не имеет прямолинейного движения и в силу своей сферической
формы может двигаться только по кругу.
Часто в аристотелевском духе «Шестоднев» характеризует небо как
ограниченное в размерах и движущееся по кругу шаровидное тело («объло и
кругов ато тгкло нбВ€Сно€»). Однако тут же аристотелевско-птолемеевская
характеристика неба приводится в соответствие с библейским креационизмом: «...н€
Л\(0)5Н Б€3* НАЧАЛА ЛигЬтИ ВИДИМ А А СИ чХч(б). НИ ИМЬ Ж6 Кр^ГЬМЬ ТА ОБИ-
ХОДАТЬ 1АЖ€ ПО НВСИ ГрАДСТЬ. НИ ИМЬ Ж6 KptflV НАЧАЛО npHnbpB6H€M0V ЧЮВЬСТВ^
ншемоу нерлз^мно есть, то чгЬмь ни вез5 начала соуще. кр^гомь и>внош€ны(м)ь
естество мьн'Ьти»71, «...да н€ вез начала, ни приснос&ц'нА мни нвеи спростл.
Ж ПО бСТбСТВбНОМ^ ЧИН# рАЗ^мНгВАИ ТВОрАЩА ШССТВ^в. 1АК0Ж6 ГрАДЙЦОу
МЬНИШИ В0Д#. 1АЖ€ НА НбМЬ»72.
Собственные суждения о шаровидности Земли и срединном ее положении
в небесной сфере составитель «Шестоднева» предваряет историческим
очерком геоцентризма. Детально, хотя и без увязки с конкретными именами
мыслителей, воспроизводятся основополагающие постулаты космологических
концепций древности. В типичной для богословского трактата манере
критически оцениваются идеи античных мыслителей. Достаточным основанием для
опровержения чуждых автору концепций является традиционное указание на
их взаимную противоречивость. Поэтому в критическом ключе и
констатируется, что «первые философы» много и противоречиво высказывались о форме
84 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
и положении Земли. Одновременно автор текста совершенно недвусмысленно
обозначил своих идейных предшественников: «...мноз'Ь ко естсствсници, и СЗ
ближ'нихъ. и \3 мнимыхь философа, w ложи зслмгЬлль. и wspAS't 6А. дол5га
словсса сътворишл вссйдоующс. но внидоша в5 супостат*ныа. др^гъ ко
дроугоу рлзйиы. и рлзориш(л) др^гь дроугоу оулшшлсньс. и едГны(А) истины
Н€ ИЗООКР'ЬТОША. WBH БО ПрОСЛАВИША, НА Ср€Д# Л€ЖАЩ# 3€Л\ЛЮ»73.
Отдельным блоком перечислены в «Шестодневе» отличные от геоцентризма
воззрения: «...множаишТи. н€пост#пимоу ж лгЬнать. ил\ь же на срсд'Ь естестве-
ноб ложе имать. др^зТи же соупротивъ силль пропов^д^ють. присно окр(л)щд-
ЮЩ&А И ИД^ЩОу ПОСрСД'Ь. ДР^51И Ж€ ПАКЫ. WBOH(x) Т^Х1* н€ прТбМЛЮТЬ. НО ПАЧ€
огнь лгЬнать на сред1*; соущь. им5 же чСйтн'Ъе ё(с) зсл\ли. рекоуще. чсстн'Ьи-
шеллоу. ч(с)тнтЬиш€ лгЬсто дерьжлти подобасть»74. Здесь воспроизведена
космологическая концепция пифагорейцев, которая дается Иоанном,
по-видимому, в интерпретации Аристотеля75.
В тексте памятника имеются полемические выпады в адрес противников
геоцентризма. Тем мыслителям, которые считали Землю круглой и
шаровидной, противопоставлены сторонники идеи плоской и четырехугольной Земли76.
Сегодня мы можем лишь гипотетически предполагать, кого подразумевал автор
текста, неоднократно демонстрировавший глубокое знание античной
философии. Но он критиковал не столько античных философов, сколько сторонников
плоскостно-комарной концепции мироустройства в среде экзегетов. Элементы
этой концепции, взятой на вооружение последователями антиохийской
традиции, были разработаны в дохристианской древности.
В историческом экскурсе космологических идей составитель «Шестоднева»
не замалчивает фактов заимствования церковными авторами мнений прежних
философов: «...се €(с) в'Ьд'Ьти подоба. и 1акожс и црквши пов'Ьстници. въсл'Ьд'ъ
всейдоуюСт5) др^гыхь философа, первых^ бссЬдовав'шихъ w земли»77.
Поэтому и обобщенная характеристика воззрений древних в таком контексте вполне
уместна. Добавим также, что для христианского автора неприемлемы
ошибочные космологические гипотезы о существовании земных опор. В античности
в качестве опор, которыми Земля удерживается в космическом пространстве,
называли воду (Фалес, Парменид), или воздух (Анаксимен, Анаксимандр).
В христианском мире рудименты этих представлений также получили
распространение, что нашло отражение в некоторых редакциях текстов «Беседы трех
святителей». С точки зрения геоцентризма, искать конечные опоры Земли
бессмысленно. Поэтому, развивая античные идеи о неподвижном центре
мироздания, автор «Шестоднева» выдвигает утверждение, что Земля подвешена
«ни на чем же», на равноудаленном расстоянии от окружности небесной
сферы: «...да сего д'Ъла на нслль же посл^д^се и>прст5СА, не ллогоуть изоовр'Ъ-
сти. да т^мь оунишА рещи, wkHjuigna есть на срсд'Ь. да тИшь всюд# по
6CT€CTB(y) Н€ ЗЫБЛСТЬСА И НИ НА ЧТО Ж€ Пр€КЛАНА6Т5СА. НИ СЪВрАЩАСТЬ ИМ5
же на срсд'Ь лежить»78; «...да и iab^ есть, iako (ж) ни с горы, ни съ дола, ни съ
СТрАНЫ. Н€ ИМАТЬ, 6Л\Ъ Ж€ СА ПриТИЩСТЬ. ИЛИ ОПрСТЬ. Н*Ъ ВСЮД# Н€ Д€р5ЖИЛ\А
соущл. лежить посреди всего. ил\ь (ж) и WBp'feTC вселлощ'нылгь хфт'ЬнТслль
Геоцентрическая концепция мироздания...
85
ТВОр5Ц€Л\Ь. Н€ ПрСКЛОНАЩИСА НИКАМ О Ж€»79; «...1АКОЖС ИЖ€ КЪ НЕСИ крДИ С#ТЬ. ТО
рлв*но юстоаща имать всюд#»80. Кроме философской аргументации в
подтверждение геоцентрической идеи приводятся также слова Иова, изрекшего:
«...повесил землю ни на чем» (Иов. 26: 7).
По логике геоцентрических воззрений, небо, как и Земля, не нуждается в
опорах. Как следствие, неприятие мнений об опорах неба в памятнике
напрямую смыкается с опровержением антиохийской концепции космоустроения,
одним из краеугольных элементов которой был постулат о поддержании комар-
ного небесного свода плоскими краями Земли: «...не подоба прУимлти т^х^. иже
МНАТЬ И ПрОПОВ'ЬдАЮТЬ НБО. ПриТИЩЮЩЮСА крАШЪ. КТ> 3€МН0М(у) крАЛ. ТИ
ТАКО СА приВАЗАВЪШЮ НВ(с)и. НА Б€35БЛАЗШ€ СВО€. СЪВбрХ^ Ж€ ТЪЧЬЮ, W ОКО*
долгостьл ел крлю висити. и придти \3 твор*чА высоким окрлзъ акы
комариный имь ж€ рече исана. о^ргвер'жш нбо. акы комлр^»81. В доказательной части
говорится, что сторонники шатрово-комарного устройства небесного свода
неправильно поняли Исайю, сравнившего распростертое небо с комарой (см.:
Ис. 40: 22). Комару предлагается толковать как «полукружие», две половины
которого образуют сферу (шар). Именно на такую форму неба, согласно тексту
памятника, указывает круговое шествие светил по небосводу, которые
половину пути проходят над шаровидной землей, а половину пребывают в невидимой
подземной части небесной сферы. Ход мысли в подтверждение того
следующий: если допустить, что Земля представляет собой продолговатый
прямоугольник, то с этой точки зрения невозможно объяснить ни механику движения
светил, ни продолжительность светового дня82.
Вслед за апостолом Павлом автор «Шестоднева» говорит о наличии трех
небес: «...мы ж€ и не тъчью помышьласмъ. второе ибо соущ€. нъ и трстТлго
възискашъ. еже и блжны(и) павслъ видЪ» 83. Впрочем, не исключается
существование и большего количества небес: «...двдъ же НАричА нбса нбснаа. и
о мноз'Ьх'ь ны помыслы, творить, нбсхъ раз^мЬвати» 84. Далее, в связи с
характеристикой движения планет по сферическому небосклону дается
существенное пояснение с упоминанием мнения «внешних» (то есть языческих
философов): «...м'Ьнать же мно5и,1:. кр^говъ, по нимъ жс,^. зв^дъ пристроени
есть»85. Из этого ясно, что круги, на которые помещаются светила, не
тождественны небесам. Иоанн экзарх вслед за Василием Великим
воспроизводит здесь аристотелевско-птолемеевскую схему, структурно сопоставимую
с платоновской, для которой свойственно отождествление планетных сфер
с небесными.
Когда речь в памятнике идет об определении числа небес, то рассуждения
полемически заострены против атомистов, которые из своей атомарной теории
делали выводы о существовании множества миров86, а также против
антиохийской космологии, признававшей существование только двух небес — видимого
и невидимого 87.
Можно предположить, что параллельно с критикой плоскостно-комарной
космологии Иоанн экзарх воспроизводит именно эту схему в интерпретации
Севериана Габальского для того, чтобы дать читателю представление о
существовании разных воззрений на устройство мироздания. Помещение в одном
86 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
труде двух космоустроительных схем ошибочно было бы рассматривать как
проявление эклектизма. Скорее всего так реализовалась установка на
энциклопедизм, тем более что антиохийская космология четче формулировала
дуальный принцип мироздания. В геоцентрических убеждениях автора сомневаться
не приходится — они недвусмысленно выражены в авторских фрагментах труда.
Культурное значение этого факта невозможно недооценить. В общественное
сознание автор «Шестоднева» внес передовые для того времени идеи.
Геоцентрическую космологию в древнерусской книжности, возможно,
представляла статья «w неси», известная по большому числу еще далеко не полно
выявленных списков. Этот текст встречается в сборниках среди материалов
естественнонаучного и космологического характера, где он известен в двух
видах: кратком и полном. Краткий текст воспроизводится в рукописях РГБ. Рум.
№ 358 (л. 274б-275а), ГИМ. Син. № 951 (л. 981а), РНБ. Кир.-Бел. №ХИ
(л. 239а)88, тогда как полный вариант читается в Тр. № 177 (л. 2566), Тр. № 762
(л. 2686), Тр. № 765 (л. 311а-311б) и Муз. № 951 (л. 274а-275а) из собрания
РГБ. Большое количество списков этого произведения обнаружила Г. С. Ба-
ранкова, которая считает наличие данного космологического текста в одних
рукописях с «Шестодневом» Иоанна экзарха Болгарского отличительной
чертой Егоровской группы поздней русской редакции этого памятника89. На
присутствие аналогичной статьи в составе поздней русской компиляции из Рум.
№ 1557 (л. 1-105) указывает А. И. Соболевский. Там говорится о том, «въ
колико л'Ьтъ обходятъ круги движешя своею» светила и когда они
«становятся ВЪ ЧИЖ/" СВ0€М*Ь ВЪ НСБССНЫХЪ ЗНАКАМ ПОД 30Д|ЯМИ». Глава I «О НекеСИ
и круз^х1* его, о солнце же и A\[trk и зв'йздахъ, качестве же и количестве
движенУи ихъ» начинается так же, как и в прочих рукописях: «Небо есть по
существу своему едино кругловидно...» Компиляция составлена в начале XVIII в.
на основании переводных текстов XVII столетия90.
Текст памятника небольшой и достаточно проблемный с точки зрения
понимания, поэтому его целесообразно воспроизвести в полном виде. За основу
публикации берем его так называемую полную редакцию по рукописи конца
XV — середины XVI в. РГБ. Тр. № 762 (л. 2686): «Нво едУно ovko ё® по
сжщьствж .хЬ. же по числоу, и 01/130 едУно €(с) (нво) по wspaeov в^кл сего
иже преж(д)е сътворенТа мгрж:~ Д^^гос же нво. по wspa30v в^кл иже по
въскр(с)нУи и сл^уЬ и втЬз(д)Ааши:^ Седмь (ж) нксъ cov(t). по ювразоу
седми(х) в'йкъ мира, другое (ж) Б€евгкз(д)наа твердь, седмь (ж) нксъ hmov(t),
и великы(х) седмь зв'Ьедъ, цреи ины(х) седмь ев'Ьгд'ъ. есть (ж) на се(м)
долнемь неси, ллна (J и на втор^мь по сей. ермиТс) 3jS на третГе(м) есть,
афроди(т). (J) на четврътоСм) нкси слънце. Q7 на пато(м), ари(с). ^ на
шесто(м), еевсъ^ на седмо(м). кронъ.^ сж(т) ovko имена седми(м). кронъ,
еевсъ, арнсъ, елнце, афроди(т). ерми(с), ло\[на. и сУа ovko седмь ев^едъ,
соу(т) на седми(х) нбсЪх1»- нл всако нбо. едина звезда, выше (ж) седмаго
нбс€. сл(т) др^гыа зв^еды .вь число(м). имь (ж) сж(т) имена, сУа, ювенъ.
юнець. влиенець, ракъ, левъ, два, яхрълх. скорпУи?, стрелець, козУирогь,
водолУатель, рывы:~».
Геоцентрическая концепция мироздания...
87
В произведении используется космологическая фактура, но в жанровом
отношении это не научный текст, а аллегорическое толкование элементов
мироустройства, которые наделяются символическим смыслом, призванным
раскрыть основополагающие принципы креацио-финалистической
христианской доктрины.
Текст дает нетипичное для других памятников число небес. Благодаря
переводным произведениям в Древней Руси знали концепцию двух (антиохиец
Козьма Индикоплов), трех (последователи каппадокийского богословия, Иоанн
Дамаскин и Иоанн экзарх Болгарский), а также семи (как в большинстве
апокрифических произведений) или восьми (как в «Откровении Авраама»)
небес. Среди других нетипичных вариаций в определении числа небес укажем
на фольклорную интерпретацию апокрифических мотивов, где встречается
упоминание о том, что Сатана в соперничестве с Богом вытеснил его на
двенадцатое небо и, окружив одиннадцатое небо холодом, отгородил таким
образом подвластный ему мир91.
В процитированном тексте фигурируют девять небес. Вместе с тем видно,
что предполагаемая схема отражает совмещение дуальной концепции бытия,
вычленявшей небо видимое и невидимое, с космологической моделью семи
небесных планетных сфер. Попробуем обосновать это положение.
Трансцендентная небесная сфера олицетворяет собой вечную
ноуменальную бесконечность «иж€ пр^жСдЭс сътворша мироу», то есть иной
божественный мир в дуальной картине бытия. С ней сопоставляется другая небесная
сфера — сотворенная и подверженная изменениям, которая рассматривается
не в установленной Богом физической данности, а в состоянии послеапокалип-
сического преображения: «другое же нбо по окрдзоу в^кд иже по въкрСйнТи
слд'Ь и втьз(д)АанУи». Речь в аллегорическом образном сравнении идет о «небе
новом» (Отк. 21: 1), о кардинальном изменении природы сотворенных небес,
которые «содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и
погибели нечестивых человек» (2 Пет. 3: 7) и которые, по втором пришествии,
как ризы переменятся (Пс. 101: 27). В смысле обозначаемой здесь в
аллегорическом ключе эсхатологической перспективы автор текста вполне обоснованно
заявлял, что «ибо едино е(с) по слицествоу», что нельзя было бы сказать, если
бы речь шла о простом сопоставлении «горнего» и «долнего» небес.
На первый взгляд можно посчитать, что заявленный с самого начала
постулат о единой природе всех небес («ибо едино по слицествоу. Д€ва(т) же
по числом») идет вразрез с доктринальным разграничением ноуменальной и
физической сфер бытия, ибо «таким образом сводят различие двух миров в
плоскость одного пространства»92. По этой же причине, видимо,
анализируемый текст был квалифицирован как апокрифический93. На самом деле идейно-
мировоззренческие установки текста, ни с точки зрения соблюдения основных
принципов вероучения, ни с точки зрения космологических деталей
повествования, не идут вразрез с ортодоксией. Аллегорические трактовки и неловкость
перевода несколько затемнили смысл повествования. В глаза, кроме тезиса о
единой природе небес, сразу бросается количественное несоответствие
названного в тексте числа небес общей сумме описанных памятником небес:
88 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Риси
с одной стороны, названы девять сотворенных небес, число, казалось бы,
покрывается перечисленными затем семью «планетными» небесами, твердью и
упоминанием двенадцати зодиакальных созвездий, для которых в тексте не
указано особого неба. Однако, по логике повествования, зодиакальные созвездия,
так же как и другие неподвижные звезды, должны вращаться, прикрепляясь
к жесткому небу, если таковым небом не мыслилась сама звездная твердь.
Кроме этого, упомянуто еще два неба: горнее и дольнее, причем последнее
объемлет собой девять выше перечисленных небес. Следовательно, речь идет
не о небесах в дифференцированном смысле, а о разделении двух ярусов
мироздания, на ноуменальное и дробное, девятичленное, физическое.
Если ограничиваться только краткой версией трактата «w неси»,
представленной Рум. № 358, Кир.-Бел. № XII и Син. № 951, то наличествующие в ней
противоречия следует признать действительно неразрешимыми. На самом
деле, это лишь преамбула к полному изводу, вторая, конкретизируемая часть
которого позволяет снять возникающие при восприятии преамбулы вопросы.
Семь планетных небесных сфер отождествляются с семью веками мира («сс(д)м
ж€ HK(c)b сж(т). По ижрдзоу С€(д)л\и(х) в'Ъковь л\ирл>), при этом
подчеркивается, что именно апокалипсическая символика семиярусных планетных сфер,
как и вообще семеричности, в христианском Средневековье рассматривается
как исходное основание для вывода о единой природе всего небоздания («и оуво
еДННО ИБО НСПр^ЛЪСТНО ГЛ6ТСА»).
Символическое толкование образа семи небес раскрывает
эсхатологическую перспективу для тварного мира. Получается, что уже при создании мира,
в само его устройство (символика здесь зиждется на аналогии: семь веков —
семь небес) было промыслительно заложено Творцом указание на
неизбежность апокалипсического преображения, которое должно завершиться
слиянием неба долнего с небом горним и образованию послеэсхатологического неба.
Некоторые недоговоренности и противоречия, однако, остаются. Такое
ощущение, будто переводчика или одного из первых переписчиков текста
смутил тезис о единой природе небес и числовые расхождения. Не исключено,
что на славяно-русской трактовке текста сказалось то, что он был слегка
«подправлен», ибо если учитывать неупоминание неба для зодиакальных созвездий,
то семь планетных небес вместе с твердью и божественной небесной сферой
как раз дают заявленные девять небес и позволяют манифестировать
важнейший для христианства дуальный принцип мироздания. Однако при такой
логике игнорируется основная мировоззренчески-назидательная идея
произведения, а именно — неизбежно ожидаемое эсхатологическое преображение
бытия. Именно в этом заключено смысловое ядро символических толкований,
где аллегорические значения несут основную нагрузку, а космологическая
фактура — лишь повод порассуждать о важнейших для христианского учения
истинах. Общая картина, тем не менее, получается смазанной, а отсутствие
четкости в передаче мысли славяно-русского перевода допускает
неоднозначные толкования. Впрочем, противоречие в определении числа небес было
явлением весьма распространенным. Например, в компилятивной подборке
космологических текстов, датирующейся XVII в., имеется подобный нашему
Геоцентрическая концепция мироздания...
89
сюжет о девятиярусном членении мироздания (Гл. 3. «w NEcfex1*»- Нач.: «бжс
яжс прсдрскохъ о девяти круговъ нксныхъ...» — л. 9). Буквально по соседству
с этими рассуждениями повествуется о восьми небесах, самое тонкое из
которых отождествляется с «превысшим» небом (л. 4). Остальные семь небес
отождествляются здесь с семью планетными сферами («wCTpOAoriA солнчном^
И Л^ННОМ^ И ЗВ^ЗДНОМ^ Т€Ч€ШЮ И ВСА НБЛА ДВИЗАНИА» — РНБ. Q.XVII.
№117).
Поскольку трактат имеет преимущественно богословско-символическую, а
не научно-познавательную направленность, можно ставить вопрос о том
уровне космологических знаний, который в произведении отражен, учитывая при
этом, что текст устойчиво помещается в тематические подборки
естественнонаучного характера. Несмотря на то что текст сложен для понимания, все-
таки с достаточной долей вероятности можно предположить, что в подоснове
аллегорических толкований отразилась геоцентрическая космоустроительная
схема, хотя все ее особенности и детали не проявлены. Если наши
гипотетические соображения верны, то * мироздание по этой модели представлялось
в виде семи концентрических планетных кругов («седем же нвеь ил\у(т), и
всликыи(х) з зв'Ьздь»). Над ними локализуются 12 зодиакальных созвездий
(«выше же С€(д)лллго нвсс. сл(т) дроугыл звтЬз(д)ы. вГ mhcaw(m)»). Венчает
концентрические и имеющие физическую природу небеса — твердь, которая,
судя по другим христианским текстам, в силу пограничности обладает особой
природой, но все же являющейся «по подобию льда» творением. Если зодии
мыслились в пределах звездной тверди, то в девятерицу небес могли включать
семь планетных ярусов, восьмую твердь и девятое небо-небес. Из текста
следует, что в эсхатологической перспективе дольние небеса преобразуются и
приобретут единую природу с превысшим небом. Постулат о положении Земли
и форме небесных сфер в этой схеме нигде не заявлен, но его можно с
достаточной долей вероятности предполагать, ибо антиохийская концепция плоскост-
но-комарного устройства знает только три неба — горнее, дольнее и твердь,
а траектории планетно-звездного движения увязываются с воздушными
поясами. Здесь более четко выражен дуальный принцип, и скорее всего именно его
пытались подчеркнуть создатели краткой версии.
Близкую геоцентризму схему космоустроения воспроизводят тексты,
уподоблявшие строение Вселенной яйцу. В рукописной традиции они
фигурировали под названиями «О земном устроении», «Указ о земли Ивана Дамаскина»
либо непосредственно «w latuvfc». Древнерусские книжники проявляли
большой интерес к идее яйцеобразного строения мира и многократно
воспроизводили этот текст в рукописных сборниках XV-XVII вв. Космологическая статья
читается в следующих древнерусских рукописях: РГБ. Рум. № 358 (XV в.);
РНБ. Кир.-Бел. №ХИ (XV в.); РНБ. Кир.-Бел. № 11/1088 (XV в.); Собрание
МГУ. № 1396 (сер. XVI в.); ГИМ. Барс. № 396 (конец XVI — начало XVII вв.);
ГИМ. Барс. № 1518 (конец XVI — начало XVII вв.); ГИМ. Епарх. № 367
(конец XV в.); а также, РНБ. Пог. № 1643; РНБ. Q.I.1007 и Сим. № 5994. Если
в Рум. № 358 и Кир.-Бел. № XII сюжет представлен единым блоком, без
выделения составных частей, то в рукописи ГИМ. Син. № 951 (XV в.) текст
90 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
распадается на несколько частей: «земное устроение ниже четвероугольно...»
(л. 281а-282в); «неции глаголют яко на седмих столпех...» (л. 282а-283б);
«имать яйце желчия посреде» (л. 2836). Четкое разделение текста на части
фиксируется сербской рукописью Горицкого сборника 1441-1442 гг., которая,
по мнению исследователей, восходит к общему с древнерусскими списками
источнику95. Таковым источником, как полагает С. Н. Гукова, мог быть так
называемый Анонимный учебник по космологии и географии96,
представленный греческими рукописями Paris. 2219, f. 23; Волок. 3632, f. 335; РНБ. Греч.
№ 844, а по мнению Н. К. Гаврюшина, близкий славянским переводам Neap. II.
С. 33, f. 471-47397.
Проанализируем содержание космологического текста «О земном
устроении» по опубликованной его рукописи (Кир.-Бел. № XII).
В нем геоцентрические воззрения полемически противопоставляются иным
концепциям мироздания. Автор отвергает мнение о четырехугольной,
треугольной и дискообразной формах Земли, заостряя свою полемическую
тенденциозность главным образом против антиохийских экзегетов98.
Как приверженец космологической гипотезы о центральном положении
шаровидной Земли в несимметрично-сферической Вселенной, автор текста
«О земном устроении» отвергал идею существования земных опор. Для него
в равной мере неприемлемы мнения, что Земля или опирается на столбы, или
стоит на водах: «...ггЬции ж€ глаголят, яко на седмих стлъпох стоить ЗелигЬ,
€Ж€ N'fcCTb ИСТИНА. А|Ц€ ВО НА С€ДМИХ СТОЛЪПОХ ЗШЛ*Ь ВИССЛА БЫ, СТЛЪПИ ГД€
БЫША БЫЛИ ВЪДРуЗСНН... ИнИИ Ж€ ГЛАГОЛЯТ, ЯКО НАД ВОДАМИ НОСИМА €СТЬ 3€AUVfe,
приводящс два свидетеля, глаголяща: "Утвръждьшому Земля на водах"... ни
же водами носится, ни же стлъпы, но тъчию божисю силою, — яко премудрость
уво воды, силу ж€ стлъпы»99. Концепция земных опор здесь опровергается
вопреки прямым указаниям Писания на этот счет. Сначала автор цитирует
высказывания Иова об «основаниях Земли» (Иов. 38: 4), воспроизводит тезис
псалмопевца «об утверждении Земли на водах» (Пс. 135: 6), пересказывает
знаменитую притчу Соломона об утверждении семи столпов Премудрости
(Пс. 9: 1), сакральный образ которых поставлен в связь с трактовкой столпов
как небесных опор (ср.: Иов. 26: 11). Затем все постулаты, основанные на
буквалистской методологии, опровергаются вполне рациональной логикой,
базирующейся на рассуждениях о четырех основах (стихиях) мироздания.
По убеждению автора, Земля не может пребывать утвержденной на водах, ибо
количество разлитой в мироздании воды соразмерно земной субстанции.
Исходной посылкой такого мнения объявляется постулат о равном сопряжении
между собой четырех стихий, природные массы которых пребывают в
уравновешенном количественном соотношении друг с другом, а в силу этого
равенства ничто не может преобладать и служить основанием всего мироздания.
Кроме того, указывается, что при поиске конечных оснований нельзя не
учитывать, что земля пребывает в смешении с водами100. «Естественной» логике
в таких рассуждениях отдается явное предпочтение перед авторитетом истин
откровения. Возникавшие в связи с этим противоречия предлагалось
разрешать на путях аллегорической трактовки цитат из Священного Писания. В ряду
Геоцентрическая концепция мироздания...
91
предложенных трактовок воды уподобляются Премудрости, а столпы — силе
Бога. Таким образом, преобразованным рациональным суждениям придается
как бы высший статус достоверности.
Из посылки о присутствии в мире могущественной надприродной силы,
к действию которой сводится логика онтологических суждений и объяснение
устойчивости мироздания, делается основополагающий для христианской
геоцентрической космологии вывод, что Земля ни на чем не висит, а держится
повелением Божиим. Данный тезис подкрепляется авторитетом Иоанна Дамас-
кина: «...З^мл^ же ни на чем же висит, тьчию на въздусгЬ, яко же Иоаннь
Дамаскинь глаголсть: "Въдрузивы ни на чем же Земля повелением си"»101.
Автор текста причисляет себя к единомышленникам последнего из отцов
Церкви. На самом же деле речь могла идти лишь о совпадении мнений только по
одному вопросу — о центральном безопорном положении Земли во Вселенной.
Дамаскин был сторонником аристотелевско-птолемеевской схемы космоустрое-
ния, в основу которой положен образ небесной сферы, равноотстоящей от
находящейся в центре шаровидной Земли.
Сочинение «О земном устроении» представляет собой особый тип
геоцентризма, который и геоцентризмом-то можно назвать лишь с некоторыми
оговорками, поскольку пространственный образ мироздания уподоблен яйцу, в
котором прообразующий Землю желток далеко не равномерно отстоит от
изогнутой поверхности космоса, мыслившегося наподобие яичной скорлупы.
Правда, сам текст не дает возможности делать выводы о несимметричности
очертаний внешних границ космоса. В нем, даже вопреки очевидному
несоответствию прообразу, говорится о равноудаленности Земли-желтка от поверхности
скорлупообразного неба. Воспроизводится и классический для геоцентризма
принцип многослойности небес. В качестве символического прообраза много-
слойности указывается на наличие в яйце пленочек, разделяющих его на части:
«...в'Ьд'кти же подов act, яко ким же оврлзом имат яйце жлъчию поср'Ьд'к, около
же жслъчия есть мязьдрицА, връху Ж€ мяздриця б'Ьлта яйцу, по Б'Ьл'гЬ же пакы
APYrAA мяздрицА, и по ней чрюпкл, и окружается сдино от друглго, сице рлзум'Ьи
и о мирН*. бсть яко же яйце: есть уво жлъчь та вънутръшн'йА ЗслмНЬ, окръсть
же Зелии есть въздух, яко же лгездрицл; воздух* же окружАеть нсбо, яко же
и в'Ьлту окружлет мяздрицА яичьна; нсбо же окружАеть APYroc нсбо, яко же
RPrbXY к'йлты яичныя APYrA мездрицл есть; и тако сдино нсбо другл имат,
инъ — иное, дажс до дсвятаго нсвссс. Зри, прочес: яко же и мяздрицА яичнаа,
и друглл мяздрицА връху в^лты, и чрюпкл его окружлють окръсть жлъчь и
никогда отлучаются, но въеюду окружлется кругь их, и поср'кд* их есть жлъчь
та, сице суть и окръсть Зсл\лею въздух и "€всса, и нс отлучАЮтся никогда, но
отвъеюду окружАют Землю — и от гор*к, и от долу, и отвъеюду. Зелия же носится
на самой ср'Ьд'Ь, яко же н^кос перо, иво колико отстоить нсбо от горного лица
ЗСМНАГО, ТОЛИКО ОТСТОИТЬ ОТ ЛИЦА ДОЛН'БГО, И ОТ ВЪСТОКА, И ЗАПАДА, И С^ВСрА, И
полудния. И отвъеюду отстоить Зслм* от невесъ, и нс прикАслстся ему»102.
В разбираемом космологическом отрывке далеко не все постулаты выглядят
убедительно. Из предложенного читателю предметно-образного уподобления
совершенно неясно, каким образом перечисленные пленочки могут символи-
92 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
зировать девять небесных сфер. Числового аналога между пленочками яйца и
небесами явно не получается. Прежде, когда автору надо было
противопоставить собственную точку зрения буквалистской трактовке Св. Писания, он в
довольно сомнительных, с точки зрения канона, рассуждениях о стихиях строго
придерживался естественной логики доказательств. Теперь же в обосновании
идеи геоцентризма и многослойности небес с позиции предметно-образных
уподоблений демонстрируется непоследовательность и вольные натяжки.
Древнерусского читателя, перед которым стояла дилемма выбора предпочтений
между соперничавшими космологиями, такого рода неувязки в содержании
переводного памятника могли насторожить. О степени интереса в обществе к
идеям несимметричного геоцентризма можно судить по частоте встречаемости
образов Космоса-яйца. На сегодняшний день известно более десяти случаев
включения в рукописные сборники статей рассматриваемой традиции103.
Реальное количество обращавшихся в древнерусской литературе текстов такого рода,
а также их реминисценций, конечно же, было более представительным, но в
общем пропорциональном отношении к числу памятников, отразивших
сферически-геометрический тип геоцентризма, данный культурный пласт невелик.
Одним из наиболее интересных образцов этого типа геоцентрической
традиции является недавно обнаруженный и опубликованный Н. К. Гаврюшиным
фрагмент о яйцеобразном устроении Вселенной, который под названием «Указ
о земли Ивана Дамаскина» находился в составе «Великих Миней Четьих»
митрополита Макария. В нем говорится о том, что Земля, как желток по
отношению к скорлупе, отовсюду окружена небом. Небо же «непрестанно»
«обращается и ходит» вокруг Земли, а она сама «висит на вздус'Ь посреди небесные
праздности не прикасался нигтуЪ к невесному т^лу, но отстоит отовсюду от
Н€Б€С HCnpHKOCHOBCHHO»104.
Содержанию фрагмента придана полемическая заостренность против иных
концепций космоустроения: «...земное устроеше ниже четвероуголно, ниже
троеголно, ниже паки кругла, но устроено €СТЬ яйцевидным устроеш'ем»105.
Одновременно опровергаются воззрения о существовании столбовых и водных
опор Земли106. Отрывок можно бы было расценивать как свидетельство
осознанного размежевания сторонников яйцевидного и шаровидного вариантов
геоцентризма аристотелевско-птолемеевского толка, но в нем, как и в Кирилло-
Белозерской статье «О земном устроении», постулируется равное отстояние
Земли от всех сторон неба. Этот тезис нарушает четкость восприятия заданной
по образу яйца пространственной схемы космоустроения. Есть и отличия
между обоими произведениями. Среди уподоблений сфер мироздания
строению яйца отсутствует упоминание о многослойности небес и о
соответствующей им символике в материальном прообразе.
В ареал произведений, распространявших сведения о яйцеобразном
устройстве космоса, входит «Прение Панагиота с Азимитом», начальная редакция
которого утверждала, что «прьвок ибо к(с) гако и гаице юкроугло, и iako и котель,
тако ксть неГо». Вторая редакция этого произведения ту же идею яицевидности
Вселенной воспроизводит в иной интерпретации: «лицемъ видимо и оузорно
гако кр^гъ, м*кдь влещасл и вид'Ьшемъ гако ледъ»107.
Геоцентрическая концепция мироздания...
93
В составе древнерусских сборников встречаются и такие восходящие к
яйцевидному варианту геоцентризма тексты, переписчики которых утратили
интерес к космологическому значению содержания. Есть образцы, в которых
космический образ яйца превращен в выразительный нравственно-религиозный
символ. Например, в статье рубежа XVI-XVII вв. «w tamrfe» аллегорический
смысл яйцеобразного космоса выражен так: «Нкоу и земли по(до)кно шце по
всш(#) чего рл(ди) червлено шщс на вели (к) днь ганце применено ко всей твлри.
скорлупа околнго пл'Ъва акы облаци, в^лоСк) акы воды. Желто(к) акы зсмаа. а
сыроТс) сре(ди) 1аица акы rp^feCx) в мир*, гь нашь ic хс въскрс(е) \3 мртвы(х).
всю тва(р) wkhobh своею к(р)овУю. iako (ж) гаице оукрАСи. а сыро(с) гр^хов"^
ИССЙцТ, 1АК0 (Ж) 1АИЦ€ ОПУСТИ. На ВЪСКр(с)Ш€ ГН€, Дрл(г) ДрЛГА Ц€лЛ(м)
чсрвлены(м) шщемъ, рскЛце хс въекрес, а држгын СЗв'ЬщасСт) въ истиноу
въекрее хс. жн(до)в€ ко звахл га прТо)рком, а не творцл нб/r и земли и все(и)
ТВАри, i рАСПАША €Г0. ТОГО РА(ДИ) ГАВЛеНО 1АИЦС МТО ВЪ ИСТШЛ рАСПАТСА
творец) нкл и земли. И въекрес из мртвы(х) хс втГ на(ш). i лнцс(м)
прообразована ОБЛИЧСШС ЖИ(Д0)В0МЪ»108.
Из сравнения процитированного текста с вышерассмотренными отрывками
видно, что во всех этих произведениях присутствует общий для них смысло-
значимый мотив яйца, которое олицетворяет собой наглядно-символический
образ мироустройства. Совпадения, правда, ограничиваются лишь
несколькими базовыми принципами космогонической схемы, уподобляющей Землю
желтку, а небо — скорлупе яйца. Внутри этой схемы разные памятники дают
различные ряды природно-космических соответствий. В «Указе о земном
устроении» белок уподоблен воздуху, что на первый взгляд соответствует
признанию существования только одного неба, прообразуемого скорлупой. В
статье «О земном устроении», наоборот, акцентируется внимание на многослой-
ности небес, с которыми соотносятся разделяющие состав яйца пленочки.
С пленочкой, обволакивающей желток, сравнивается воздух. Белок уподоблен
небесной части мироздания, также разделенной на сферы пленочками.
Скорлупа же, в ее символическом смысле, знаменует замкнутую границу
Вселенной. Согласно такой космологической схеме, со скорлупой ассоциируется
крайняя небесная сфера, заключающая внутри себя небесные сферы меньшего
радиуса, которые, в свою очередь, со всех сторон окружают Землю. Правда, в
яйце не набирается пленочек-соответствий девяти заявленным небесным
ярусам. Даже с учетом внешней небесной сферы (скорлупы) и неопределенной
небесно-воздушной сферы (пленочки вокруг желтка) получается наглядная
модель всего лишь трехслойного строения небес, тогда как на словах заявлено
о существовании девяти небес. Что конкретно в космологической схеме мини-
трактата «О земном устроении» символизирует белок — непонятно. Ясно
только, что речь идет о небесной сфере, расположенной выше воздуха. В
отрывке «О яйце» белок прямо уподоблялся водам. Можно бы было
предположить, что это небесные воды, но этому препятствует сравнение примыкающей
к скорлупе пленочки с облаками.
Сопоставив приведенные тексты, относящиеся к рассмотренной версии
космоустроения, имеем основания констатировать расхождения в толковании
94 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Риси
конкретных элементов, отмечая в то же время, что неизменным и общим для
всех них был символический образ космоса, пространственно мыслившийся
устроенным по подобию яйца. По данным источников, яйцеподобная схема
космоустроения предстает неустоявшейся и даже не лишенной противоречий
в деталях. Но связанная с ней космологическая идея имела все же
геоцентрический смысл, в связи с чем рассматриваемые тексты были одним из
источников распространения геоцентрических воззрений в Древней Руси.
Остается открытым вопрос о генетических истоках подобного рода
воззрений, хотя возможные адресаты могут быть намечены уже сейчас. Уподобление
космоса яйцу было известно античности. Эмпедокл помещал Землю в центре
движущейся яйцеобразной оболочки космоса, пифагорейцы учили о
преобразовании мирового яйца в шаровидный космос, в то время как орфики
соотносили скорлупу с небом, а желток с Землею109.
Идея уподобления Вселенной яйцу в конечном счете восходила к
архаическим космогониям, связывавшим происхождение мира из яйца. Согласно версии
Геродота, мир разворачивается из яйца птицы Феникс. В одном из
древнеиндийских мифов говорится, что когда еще не существовало ничего кроме водной
бездны, в ней плавало яйцо — Золотой Зародыш мироздания. В «Калевале»
Вайнемяйнен творит мир из яйца, упавшего в море. Вавилонский миф также
повествует о положенном в море яйце неба, которое высидел голубь110. Но
здесь мы выходим еще на одну параллель с апокрифо-космогоническими
мифами о творении мира на море Тивериадском. Исходной ипостасью посвященных
этому космогоническому сюжету апокрифов выступает творческая пара —
водоплавающие птицы-гоголи111. Мотив яйца здесь отсутствует, но он, судя по
древним аналогам этого сюжета, является утраченным элементом мифа. Круг
религиозно-мировоззренческих установок, задававшихся разными
апокрифическими текстами, но восходящих к одним и тем же архаическим
мифологическим архетипам, замкнулся. Есть основания считать, что яйцеподобный вариант
геоцентрической космологии наряду с идеями о шарообразности Земли
привносил в общественное сознание Древней Руси элементы мифологического
традиционализма. Возможно, что сама идея о шарообразности Земли восходит
непосредственно к мифу о мировом яйце, который был знаком многим
архаическим культурам. Не исключено, что, отталкиваясь от этих мифов, античные
мыслители сделали вывод о шаровидности Земли112, а средневековые тексты
отразили христианизированные переработки трансформированного научной
мыслью древнего архетипа.
Пока не обнаружены прямые источники столь оригинальной
космологической концепции, нельзя исключать возможности связи ее, опосредованно,
конечно, с орфической философией или даже с древними мифокультурами.
Однако древнерусским читателем эта концепция скорее всего могла
восприниматься как родственная аристотелевско-птолемеевской космологии с ее идеей
центрального положения шарообразной Земли в сферичном мироздании.
Вместе с тем представление о яйцеобразности Вселенной ошибочно было бы
однозначно смешивать с аристотелевско-птолемеевским (или, иначе говоря, сим-
Геоцентрическая концепция мироздания...
95
метрично-сферическим) геоцентризмом, распространявшимся в христианском
мире вместе с авторитетной традицией каппадокийского богословия.
В строгом смысле, космологическую концепцию, представленную в Кир.-
Бел. № XII, Рум. № 358, Син. №951 и в других списках, корректно
квалифицировать как асимметрическую разновидность геоцентризма, близкую, но не
тождественную каппадокийской космологии. В противостоянии антиохийской
концепции дома-Вселенной обе разновидности геоцентризма вполне могли
восприниматься «комплементарно» по отношению друг к другу, ибо
вырабатывали в общественном сознании представления о положении шаровидной Земли
в центре Космоса. По крайней мере, взаимной полемичности, свойственной
антиохийской и каппадокийской космологиям, ни в одной из рассмотренных
рукописей не фиксируется. Однако имеются и существенные различия двух
геоцентрических теорий, касающихся деталей ярусного устройства и формы
внешней границы физического мира.
Из сказанного ясно не только то, что единообразия космологических
трактовок даже среди приверженцев геоцентризма в кругу рассмотренных
памятников не наблюдается, но и то, что количество текстов, выражавших
геоцентрическую идею, было не меньшим, чем массив рукописей с противоположной
(т. е. плоскостно-комарной) космологической направленностью.
Высказывавшееся в литературе Б. Е. Райковым мнение о господстве в Древней Руси
сформулированных Козьмой Индикопловом воззрений113 несостоятельно. И
сама антиохийская космология была представлена в древнерусском книжном
наследии более широко, и противоположная ей геоцентрическая космология
завоевывала прочные симпатии у отечественных грамотников. Думается,
допустимо говорить о более или менее равной репрезентативности двух
разнородных космологических концепций в древнерусской культуре.
Примечания
1 ГИМ. Син. № 108. Опубликован: Богословие св. Иоанна Дамаскина в переводе
Иоанна, екзарха Болгарского // ЧОИДР. Кн. 4. 1877. См. также: Сводный каталог
славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI—XIII вв. М., 1984. С. 162-
163. Новейшую публикацию «Богословия», осуществленную в соответствии с
современными требованиями лингвистического воспроизведения памятников, см.: Des HI.
Johannes von Damascus. "Ек&еок; акрфт^ xfj<; 6p$o86£oo татбох; in der Ubersetzung des
Exarchen Johannes Herausgegeben von Linda Sadnik // Monumenta linguae slavicae
dialecti veteris. T. V. / Ed.: R. Aitzetmuller, J. Matl, L. Sadnik. Wiesbaden, 1967. T. XIV
(V, 2) / Ed.: R. Aitzetmuller, L. Sadnik, E. Weiher. Freiburg, 1981; T. XVI (V, 3) / Ed.:
R. Aitzetmuller, L. Sadnik, E. Weiher. Freiburg, 1983 (Далее — Богословие... Ссылки
делаются с указанием листа рукописи и страниц по публикации Л. Садник).
2 См.: Громов М. И., Козлов Н. С. Русская философская мысль X-XVII веков. М.,
1990. С. 16.
3 ГИМ. Син. №989. Л. 44 и след. (см.: Гаврюшин И. К. Первая русская
энциклопедия // Памятники науки и техники. 1982-1983. М., 1984. С. 122).
96 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
4 См.: Богословие... Л.220в-221а (S. 22-24); Л. 127в (S. 30).
5 О тверди в тексте памятника говорится, что ей Бог «по ср'кд'к воды повслИк бытн
повсл'квъ ему рдзлоучдтнсА посреди воды, ажс ксть врьхоу твьрдн и посреди воды
АЖ€ КСТЬ ПОДЪ ТВЬрЬДНЮ. Т01А ССТЬСТВО СТЫ ВАСНЛ1Н р€М6 ТЪНЪКО АКО ДЫМЪ, Ц>
вж(с)твьнаго навыкъ пиелита, стерн же водъноую твьрьдь, га к о посреди воды
бывъшю, а друзнн пютоую пльть индкоу рлзв^ мстырь вещий ктери же пр(о)слл-
внша» (Л. 121а-121 в — S. 24). Из текста ясно, что Иоанн Дамаскин обобщает в своем
экскурсе разные точки зрения на природу неба, объединяя мнения экзегетов
(сравнение неба с дымом делал Григорий Нисский, а с заледеневшей водой — большинство
христианских богословов) и античных философов (в частности, конкретно говорится
о воззрениях Аристотеля, настаивавшего на существовании пятого небесного
эфирного элемента).
6 Богословие... Л. 126а-126в (S. 28).
7 См.: Там же. Л. 123в (S. 26).
8 Там же. Л. 124а (S. 26).
9 Там же. Л. 123а (S. 26).
10 Данный пассаж в древнейшем русском списке Син. № 108 опущен, но мысль о
центральном положении Земли в сферическом физическом мире красной нитью
проходит через все космологические разделы «Богословия». В описании космогенеза,
разъясняющего локализацию легких и разреженных стихий воздуха на периферии
мироздания, а также концентрацию плотных стихий земли и воды в центре
образующейся небесной сферы просматривается традиционное античное толкование,
используемое христианским креационизмом (см.: Богословие... Л. 121в—122а (S. 24), Л. 122а-
122в (S.24).
11 Богословие... Л. 124а-124б (S. 26).
12 См.: Там же. Л. 124в-125а (S. 26, 28).
13 Там же. Л. 123а-124а (S. 26). Ср. пассаж, опубликованный на S. 36 указ. соч.
14 Там же. Л. 127в-128а (S. 30).
15 См.: Там же. Л. 130в-132в (S. 32, 34). Здесь изложено традиционное для
христианской экзегезы понимание устройства небесных светил. Космологические
идеи сопряжены с онтологическим контекстом, разъясняющим отсутствие у тьмы
самостоятельной субстанциональной основы.
16 Там же. Л. 125 a (S. 28); см. также: Л. 137а (S, 44).
17 См.: Там же. S. 28.
18 См.: Там же. Л. 133а (S. 40).
19 См.: Там же. Л. 137в—138а (S. 44). Далее в «Богословии» в разделе, посвященном
описанию перемещения светил в зодиаке, вводилась характеристика градусной сетки
небесной сферы. В древнейшем русском списке эта часть сокращена, но восходящая
к полному составу трактата информация воспроизводилась в XV-XVI вв. в
естественнонаучных компиляциях и сборниках смешанного состава (см.: РГБ. Тр. № 765.
Л. 309а-309б; Тр. № 177. Л. 257б-258а; Муз. № 921. Л. 98а). Содержание полного
варианта астрономического сюжета по данным перечисленных рукописей
представляется следующим образом. Каждый из 12 сегментов зодиакального круга делился на
30 частей (градусов), каждый из которых, в свою очередь, дробился на 60 еще более
мелких долей (минут). Исходя из того, что вся сфера составляет 360° зодиакального
круга, 180 частей (градусов) определялись как полушарие, которое находится над
Землей, а еще столько же (второе полушарие) находится под Землей. Можно
предположить, что подобного рода информация, предполагавшая использование
символической модели неба типа армилярной сферы, могла быть востребована в связи с развити-
Геоцентрическая концепция мироздания...
97
ем навыков расчетной астрономии. Тексты с расчетными рекомендациями впервые
пришли на Русь в конце XV в. вместе с переводным «Шестокрылом», но практика
математических расчетов движения светил, видимо, сложилась не ранее XVI в. Для более
раннего времени потребности в ней не существовало.
20 Богословие... Л. 125а-125в (S. 28).
21 См.: Там же. Л. 126а (S. 28).
22 Рукопись включает в себя «Шестоднев» Севериана Габальского (Л. 1а-87б) и
«Хронику» Георгия Амартола (Л. 112а—3366) в сербской редакции. В объемной книге,
состоящей из 364 листов, сюжеты космологического, астрономического (иногда
астрологического) и естественнонаучного характера представляют собой подборку,
составленную из нескольких небольших статей и отдельных произведений. Подобного
рода подборки, состоящие из разных композиционных сочетаний аналогичных
(частично дословно, частично — по проблематической направленности) статей, неоднократно
встречаются в сборниках смешанного состава (см.: Гаврюшин Н. К. Источники и
списки космологического трактата XV в. «О небеси» // Вопросы истории
естествознания и техники. М., 1988. № 1. С. 135-138). Как и в нашем случае, такие тексты
группируются составителями в тематические блоки, характерным признаком которых
является соединение средневековых богословских толкований Священного Писания с
достижениями ученой мысли античного времени. В тексте Муз. № 921 (Л. 101а)
приведена хронологическая выкладка, в которой «от Адама до ныне» указано 6967 лет,
то есть предположительное время составления протографа компиляции — 1459 г.,
с чем согласуется присутствующая в памятнике концепция эсхатологических
ожиданий по окончании седьмой тысячи лет.
Памятник написан южнославянским полууставом и имеет болгарское
правописание. В пользу балканского влияния также свидетельствует употребление грецизмов
«аер», «усия этэра», «кукл», а также упоминание македонских месяцев. Не исключено,
что текст был южнославянским переводом с греческого. Переводчик довольно
посредственно ориентировался в греческих астрономических терминах и не всегда правильно
понимал текст оригинала. На этот счет следует отнести смысловые разрывы и
путаницу с употреблением славянских слов година, час, часть и т. п. С учетом
древнерусских параллелей этот памятник помогает понять общность духовных устремлений и
научных познаний в православном славянском мире, проясняет вопрос о путях
проникновения космологических идей на Руси.
23 В составе сборника Муз. №921 скомпонованный на основе материалов
«Богословия» «Шестодневник» соседствует с «Шестодневом» Севериана Габальского.
Помещение составителем сборника рядом большого и малого «Шестодневов»,
точнее, собственно «Шестоднева» и «Шестодневника» (вариант по тексту «Шестодневца»),
композиционно оправданно, ибо и тот и другой тексты представляют собой экзегезу на
шесть дней творения. Вместе с тем нельзя не отметить, что оба текста шестодневного
жанра вряд ли следует безоговорочно расценивать с точки зрения взаимодополнения,
так как «Шестоднев» и «Шестодневник» принципиально расходятся в трактовке
устройства мироздания. Севериан Габальский воспроизводит антиохийскую плоскостно-ко-
марную концепцию Вселенной, тогда как восходящий к текстам Иоанна Дамаскина
«Шестодневник» написан с позиций геоцентризма. Эклектизм составителя сборника —
типичное проявление средневекового научного энциклопедизма. Аналогичное
совмещение геоцентрической и плоскостно-комарной трактовок мироустройства
обнаруживается в «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского, в «Минеях Четьих» митрополита
Макария, а также в некоторых других компиляциях смешанного состава (см.: Баранко-
ва Г. С, Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. СПб., 2001. С. 108-109;
4 Зак 4748
98 Космологические концепции и сведения в *-ин*г.нлсти Древней Руси
Гаврюшин Н. К. Первая русская энциклопедия // Памятники науки и техники. 1982-
1983. М., 1984. С. 121-122).
24 Муз. № 921. Л. 94а.
25 Рассуждения о свете восходят к Иоанну Дамаскину — ср.: «в начало оуко сътвори
ВЪ СВ'БТЪ, рСКЪШб ВЪ ПрЬВЫИ ДНЬ, КрАШбНЬС И OlfTBApb ВС€И ВИДИМЕЙ ТВАрИ. ОТГЬНМИ
во св'ктъ, да все въ тшъ* незнаемо воудсть» (Богословие... Л. 131а). Усеченная
цитата из трактата Иоанна Дамаскина: «св'ктилниколгь первотворны св'бтъ родитель
вложи, не 1ДК0Ж6 не нмыТ иного св'ктл, но да не воудстъ прлзденъ св'ктъ тон.
св^тилникъ во 6(c) самъ той свъчгъ, но св'ктоу ишрдзъ» (Богословие... Л. 1326.
S. 36).
26 См.: Муз. № 921. Л. 95а.
27 См. об этом выше, примеч. 14. В однозначности трактовки вместе с тем ощущается
влияние каких-то других источников, оказавших влияние на космологические
представления составителя. Не исключено обобщение воззрений Аристотеля, который в
трактате «О небе» доказывал, что светила не перемещаются в воздушном пространстве
самостоятельно, что каждая из планет и все неподвижные звезды прикреплены к своим
небесным сферам (см.: Аристотель. О небе. Гл. VII—XII). Сходным образом та же идея
формулируется в «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского: «СЗв'бща, шблол/п* игсрд-
зомъ все соуще, рекше, и елнце, и лоунд. и звезды, но и к неси прнвАЗлномъ,
юбъходнтн видимое се швношенье. прнвлздньб же то манить, въчннеше. и прнмАщеше
кь свонмь кр^гимлъ» (Шестоднев... Л. 1266. С. 462).
28 См.: Муз. № 921. Л. 94в. Ср. выше, примеч. 9. В тексте подборки
воспроизводится общий постулат христианских экзегетов, придерживавшихся геоцентрических
воззрений — ср.: Богословие... Л. 132 (S. 36); Шестоднев... Л. 112а (С. 444); см. также ниже
в Муз. № 921. Л. 966. Богословы, в данном случае каппадокийского направления,
находились под влиянием идей Аристотеля (ср.: Аристотель. О небе. X. 29lb). Мнения
о круговом движении неба придерживались также Григорий Нисский, Георгий Писида
и Максим Исповедник.
29 Муз. № 921. Л. 95а.
30 Ср.: Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. M., 1989. С. 177.
31 Муз. № 921. Л. 956. Этимологически слово «кола» совмещает в себе значение
центра, вращения, круга. В аналогичном нашему случаю именовании Полярная звезда
упоминалась в 70-х годах XV в. Афанасием Никитиным: «...на Великую ночь Волосыни
да Кола в зарю вошли, а Лось (т. е. Большая Медведица) головою стоить на восток»
(Хождения за три моря Афанасия Никитина. Л., 1986. С. 38). Согласно архаическим
народным представлениям Полярная звезда звалась прикол-звездой, а созвездие
Большой Медведицы — Конь на приколе (см.: Даль В. Толковый словарь живого
великорусского языка. Т. III. M., 1955. С. 416).
32 Муз. № 921. Л.95б-96а.
33 Там же. Л. 96а-96б.
34 См.: Там же. Л. 97а, 986 (нумерация дана с учетом перестановки листов в
оригинале).
35 См.: Там же. Л. 97а-97б, 99а-99б (отражена перестановка спутанных листов).
В компиляции с большими изменениями, сокращениями и дополнениями
воспроизводятся сведения из VII главы «Точного изложения православной веры», имеющей
название «О свете, огне, светилах, также о Солнце, Луне и звездах» (ср.: Богословие...
Л. 133а-136в. S. 40-43). Против оригинала большинство календарных сроков
сдвинуты на один-два дня: летнее солнцестояние определяется 23 июня вместо 24, конец лета
Геоцентрическая концепция мироздания...
99
приурочен к 23 сентября вместо 25, конец осени датируется 24 декабря вместо 25.
Вносится отсутствующая у Иоанна привязка начала предлетнего времени к 20 марта,
а также для каждого квартала добавляется указание на прохождение Солнца через
созвездия зодиака и указывается продолжительность годовых сезонов в днях. Кроме
того, появляется увязка предлетнего времени со стихией воздуха, лета — со стихией
огня, осени — со стихией земли, зимы — со стихией воды, тогда как в тексте Иоанна
Дамаскина речь идет лишь о качественных характеристиках светил. Добавление
в переработанный текст Иоанна Дамаскина о четверице стихий сделаны в духе
присутствующего в подборке раздела «Стихии каждого сезона», который можно считать
кратким онтологическим резюме, дублирующим идею зависимости погоды от
соответствующей сезону стихии.
36 Муз. № 921. Л. 98а-98б.
37 Там же.
38 См.: Там же. Л. 100а.
39 См.: Там же. Л. 102а-1026.
40 Раздел по содержанию соответствует статье «о трех крузех» (Син. № 951. Л. 2956),
фрагменту из «Златой Матицы» (Пог. № 1024. Л. 191в-192б). Аналогичный текст
читается также в авторской части IV Слова «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского
(по рукописи МДА № 145. Л. 109а). Те же сведения, с небольшими расхождениями,
обнаруживаем в «Палее Толковой» (Барс. №620. Л. 14а—146; Тр. №39. Л. 297а).
Публикацию некоторых из приведенных здесь текстов см. в след. изд.: Буслаев Ф.
Историческая хрестоматия церковно-славянского и древнерусского языков. М., 1861.
Стлб. 684-685; Философские и богословские идеи в памятниках древнерусской мысли.
М., 2000. С. 161-162; Баранкова Г. С, Мильков В. В. Шестоднев... С. 440-441).
Взаимоотношение текстов не изучено, хотя высказывались предположения, что
источником «Златой Матицы» в этой части не может быть «Палея», в то же время сама
«Палея» много заимствует из «Шестоднева» (текстологические соображения см.:
Истрин В. М. Замечания о составе Толковой Палеи // СОРЯС. Т. 65. № 6. 1898.
С. 134; Гаврюшин Н. К. Космологический трактат XV в. С. 188-190).
41 О древнерусских переводах творений Василия Великого см.: Архангельский А.
К изучению древнерусской литературы. СПб., 1888. С. 22-37. Кроме указанных в этой
работе назовем также список РНБ. ПДА № 31 (конец XV — начало XVI вв.). В 1656 году
в Москве был издан «Шестоднев» Василия Великого, переведенный с греческого языка,
который вошел в состав сборника «Богодухновенныя книги великих пастырей и
учителей всея вселенныя». Четырехтомное издание сочинений Василия Великого вышло в
Москве в 1787-1790 гг. Московской Духовной академией в 1845-1848 гг. издан перевод всех
творений Василия Великого в семи частях. Второе, сверенное по греческим
подлинникам издание вышло з 1891-1892 гг.
42 См.: Баранкова Г. С. Шестодневы повествовательные // Методические
рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей,
хранящихся в СССР. Вып. 2. Часть I. M., 1976. С. 166-167; Аверинцев С. С. Эволюция
философской мысли // Культура Византии. IV — первая половина VII вв. М., 1984.
С. 69-73.
43 См.: Шестоднев... Л. 166, 186 (С. 320, 324).
44 Там же. Л. 18а-19а. (С. 323-325). Ср.: в другом месте памятника имеется
опровержение мнения Аристотеля о том, что небо совечно с Богом, что само небо божественно,
безначально и бесконечно (л. 166). Постановку вопроса о небе как особой извечной
стихии Василий Великий отвергает, но одновременно он пытается усмотреть во взглядах
100 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Риси
античного философа мотивы, которые явно не противоречат христианскому учению о
бытии. Когда вопрос касается дуального принципа мироздания, Василий почти
союзник Аристотеля, когда же речь идет о натурфилософских основаниях физического
мира — Василий Великий солидаризируется с идеями Эмпедокла, несовместимыми,
по его мнению, с концепцией пятого элемента как части единого космоса.
45 Шестоднев... Л. 32а (С. 338).
46 См.: Там же. Л. 12а, ср. л. 176 (С. 316, 323).
47 См.: Там же. Л. 9а (С. 312).
48 См.: Там же. Л. 66б-67а, 686 (С. 384-385, 388).
49 Там же. Л. 64а (С. 382).
50 Там же.
51 См.: Аристотель. О небе. 269а 5, 270Ь 5-30.
52 Шестоднев... Л. 56а (С. 372).
53 См.: Там же. Л. 646 (ср.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях
великих философов. IX. 44).
54 Шестоднев... Л. 65а (С. 383).
55 См.: Культура Византии. С. 440-441.
56 См.: Шестоднев... 1386 (С. 477).
57 См.: Там же. Л. 141а (С. 480).
58 Ср.: Аристотель. О возникновении и уничтожении. В. X; Метеорологика. А. VIII.
235Ь.
59 Иоанн воспроизводит каппадокийца суммарно и в общих чертах (см.: Творения,
иже во святых отца нашего Василия Великого архиепископа Кесарии и Каппадокии.
Ч. 1. 1900. С. 63, 100-101. Ср.: Аристотель. Метеорологика. А. VIII. 235Ь).
60 В данном вопросе составитель «Шестоднева» игнорирует мнение Стагирита,
предлагавшего исчислять окружность Земли мерой в 400 000 стадий, тогда как Эратосфен
определял эту величину в 250 000 стадий. На самом деле Иоанн экзарх воспроизводит
размеры земной окружности более точные, чем у Эратосфена, и близкие к реальным.
Источник числовых характеристик Земли, Луны и Солнца еще предстоит выяснить.
Подробнее об этом см.: Баранкова Г. С, Мильков В. В. Шестоднев... С. 148-149.
61 См.: Шестоднев... Л. 106а, 107а (С. 435, 438).
62 Ср.: Творения... С. 88.
63 См.: Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М., 1989. С. 227.
64 О составе и источниках «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского см.:
Баранкова Г. С. Шестодневы повествовательные. С. 168-169; Шестоднев Иоанна экзарха
Болгарского как памятник средневекового философствования. М., 1991. С. 4.
По подсчетам Г. С. Баранковой, «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского,
опирающийся на аристотелевскую концепцию космоустроения, был обнаружен в 47 списках
XV-XVIII вв., причем автором учтены были главным образом книгохранилища
Москвы и Санкт-Петербурга (см.: Баранкова Г. С. К текстологическому и
лингвистическому изучению «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского / / Восточнославянские языки
и источники для их изучения. М., 1973. С. 172-215). Это произведение появилось на Руси
не позднее начала XII в., поскольку установлено влияние «Шестоднева» на творчество
Владимира Мономаха (см.: Лихачев Д. С. «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского
и «Поучение» Владимира Мономаха // Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской
литературе. Л., 1986. С. 137-140; Словарь... С. 482; Шестоднев Иоанна экзарха
Болгарского как памятник средневекового философствования. С. 5).
65 Шестоднев... Л. 486-496 (С. 363-365).
Геоцентрическая концепция мироздания...
101
66 См.: Шестоднев... Л. 49а-49б, 50а (С. 363-364). Ср.: Аристотель. О небе. А. 269а 5;
270а 20; 272Ь 25; 279а 25; 280а 30; В. 283Ь 25; 284а 10; 285а 30.
67 Шестоднев... Л. 496. Ср. Л. 55а-56б (С. 364, 371-372). Вопрос о дуальном
восприятии мироздания, сводившийся к ценностному противопоставлению небесного и
земного, в связи с созданием водной бездны и небесных вод, уже возникал в «Шестодневе»
и был представлен в интерпретации Севериана Габальского (см.: I Слово. Л. 14а).
Иоанн экзарх воспроизводит точку зрения, согласно которой небесные воды
наделяются положительными свойствами (разумность, благость), в противоположность
отрицательным характеристикам земных вод (враждебность бездн). В этих случаях адресат
критики неясен. Если Севериан имел в виду еретиков-дуалистов, то Иоанн, скорее
всего, излагает какую-то богословскую концепцию с дуалистической окраской. В
качестве предположения укажем на некоторые точки соприкосновения комментируемого
высказывания со взглядами Григория Нисского, склонявшегося к мистическому
дуализму неоплатонических идей Оригена. Он наделял воды, разлитые над твердью, особыми
свойствами, отличавшими небесную влагу от земной. Благодаря этим свойствам воды
не испаряются от воздействия на них огня (см.: Migne. PG. Т. 44. Col. 80).
68 Шестоднев... Л. 50а (С. 365).
69 Там же. Л. 536 (С. 369).
70 Там же. Л. 53б-54а (С. 369-370). Ср.: Аристотель. О небе. А. 269 а 15.
71 Шестоднев... Л. 56а (С. 372).
72 Там же. Л. 57 а (С. 374). Ср.: Определение сущности неба в «Шестодневе» во
многом соответствует Аристотелю (ср.: Аристотель. О небе. А. 276а 15; 277Ь 10;
279а 5; «...по необходимости должно существовать некое простое тело, которому
свойственно двигаться по кругу в соответствии с его собственной природой» — О небе.
A. 269а 5). Неприемлемым для христианства было то, что Аристотель считал небесный
эфир вечным, а его свойства божественными (см.: Аристотель. О небе. А. 270Ь 5-30;
B. 284а 10).
73 Шестоднев... Л. 576 (С. 374).
В этом отрывке не поясняется, какие именно космологические воззрения автор
имел в виду. По логике повествования речь идет только о геоцентрических концепциях.
Считается, что первым идею сферического устройства Вселенной высказал Парменид
(конец VI — пер. пол. V в. до н. э.), поместивший разделенную на климатические пояса
шарообразную Землю в центре вращающихся сферических небес. Равновесие Земли в
центре полой сферы он объяснял равноудаленностью ее от всех периферийных
плоскостей космоса (см.: Фрагменты ранних греческих философов. Т. 1. М., 1989. С. 283).
Не исключено, что Парменид лишь усовершенствовал концепцию Анаксимандра
Милетского (ок. 610 — ок. 540 гг. до н. э.), заложившего своим учением основы
геоцентризма. Анаксимандр считал, что в процессе космогенеза из универсального первоначала
(архе) легкая огненно-воздушная субстанция сосредоточилась на периферии космоса,
образовав три огненные небесные сферы, сквозь отверстия в которых пробивается свет
звезд. В силу тяжести земные массы и воды собрались в центре Вселенной, а огонь
иссушил часть вод, обнажив цилиндрическую (по некоторым данным, шаровидную)
Землю. Земля покоится в центре движущихся сфер в равновесии, по причине равноуда-
ленности от крайних точек Вселенной (см.: Диоген Лаэртский. П. 1; Мнения
философов. III. 10. 2; Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. 1. 7.1; Аристотель.
О небе. В. 295Ь 10). Дальнейшее развитие геоцентрической космогонической схемы
дает Эмпедокл (490 — ок. 430 гг. до н. э.). Он учил, что кристаллообразное (по подобию
102 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
льда) небо состоит из огненно-воздушного твердого вещества, по которому
перемещаются светила. В центре яйцеобразной сферы находится неподвижная Земля (см.:
Мнения философов. II. 11. 2; 31. 4; Диоген Лаэртский. VIII. 77). Точку в развитии
геоцентрической концепции поставил Аристотель (см.: Аристотель. О небе. В. 295Ь
25; 296Ь 25: 297а 5; 298а 5). Иоанн экзарх дает здесь обобщенную характеристику
античной геоцентрической картины мира, хотя и не считает ее вполне истинной, ибо
космогенез выводится им из акта творения.
74 Шестоднев... Л. 576 (С. 374).
75 Ср.: Аристотель. О небе. В. 293а 20-30: «...в центре, утверждают они,
находится огонь, а земля — одна из звезд — движется по кругу вокруг центра, вызывая смену
дня и ночи... по их мнению, наиболее ценному (телу) надлежит занимать более ценное
место: огонь превосходит по ценности землю... отсюда они делают вывод, что в центре
сферы находится не земля, а скорее огонь». С достоверностью можно утверждать, что
подобных взглядов придерживался Филолай, помещавший движущуюся вокруг
центрального огня (Гестии) Землю, которая вместе со светилами охвачена сферой (Олимпом).
76 См.: Шестоднев... Л. 58а (С. 374-375).
77 Шестоднев... Л. 586 (С. 375-376).
78 Там же. Ср.: Аристотель. О небе. В. 295Ь 25.
79 Шестоднев... Л. 59а-59б (С. 376-377).
80 Там же. Л. 60а (С. 377).
81 Там же. Л. 60б-61а (С. 378-379).
82 См.: Там же. Л. 61б-63а (С. 379-381).
83 Там же Л. 65а (С. 373) (ср.: «Знаю человека во Христе, который назад тому
четырнадцать лет, — в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает, —
восхищен был до третьего неба» (Кор. 12: 2)).
84 Шестоднев... Л. 65а (С. 383).
85 Там же.
86 «...Ббсмнсмене нбсс соуть, и мнръ многы рекыш твари, иже егдд обличать а. гако
rptfck ееекдоують. оухыщренд н о^казающс зсмлслгкрТи рекоуще. нНгсть сствд иного,
имь же бы другое него было, развив того единого» (Там же. Л. 646. С. 383). В данном
случае в «Шестодневе» говорится о взглядах античных атомистов, приписывавших
различным атомам различные геометрические конфигурации. На несостоятельность
этих взглядов указывал цитируемый в «Шестодневе» Аристотель (О небе. А. 276Ь;
ЗОЗа-ЗОЗЬ; С. 304а 15; 305а-306Ь). Гераклиту также приписывали утверждение, что
огонь состоит из пирамид. Платон атомы земли представлял в виде равнобедренных
треугольников, а атомам других стихий приписывал вид прямоугольных треугольников
(Тимей. 53 и след.). Поэтому, когда Василий, вслед за Аристотелем, обличал
геометрический атомизм, он мог иметь в виду не только атомистов, но сразу всех античных
мыслителей, склонявшихся к геометрико-корпускулярным воззрениям (ср.: О небе.
С. 304а 10-15).
87 См.: Шестоднев... Л. 64а-64б (С. 382-383).
88 В последнее время установлено, что краткая версия этого сюжета входила в
состав космологического раздела анонимного учебника по естествознанию и в
космологический трактат ученого-богослова конца XI — начала XII в. Евстратия Никейско-
го. Были также указаны греческие рукописи, содержащие данный фрагмент, — Paris.
2219. f. 23; Paris. 2317. f. 23 (см.: Polesso-Schiavon P. Un trattato inedito di raeteorologia
di Eustrazio di Nicea // Rivista di Studi Bizantini e neoellenici. Roma, 1965-1966. № 2-
3 (XII-XIII). P. 285-304; Гукова С. Я. Указ. соч. С. 146).
Геоцентрическая концепция мироздания...
103
89 См.: Баранкова Г. С. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского в Древней Руси //
Баранкова Г. С, Мильков В. В. Шестоднев... С. 293.
90 См.: Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV-XVII вв.
Библиографические материалы // СОРЯС. Т. LXXIV. № 1. СПб., 1903. С. 132-133.
91 См.: Городцов П. А. Западносибирские народные легенды о творении мира и борьбе
духов // ЭО. 1909. №1. Кн. 80. С. 54-55.
92 Гаврюшин И. К. Космологический трактат XV века как памятник древнерусского
естествознания // Памятники науки и техники. 1981. М., 1981. С. 187.
93 См.: Музейное собрание рукописей. Описание. Т. I. M., 1961. С. 224.
94 См.: Гаврюшин Н. К. Первая русская энциклопедия. С. 122; Его же. Источники
и списки космологического трактата XV в. «О небеси» / / Вопросы истории
естествознания и техники. М., 1988. № 1. С. 137-138.
95 См.: Padoiueeuh H. Козмографски и географски одломци Горичког зборника //
Зборник радова Византолошког института. Београд, 1981. Т. XX. С. 178-180.
96 См.: Гукова С. Н. Космографический трактат Евстратия Никейского // ВВ.
Т. 47. 1986. С. 154.
97 См.: Гаврюшин Н. К. Космологический трактат XV века как памятник
древнерусского естествознания. С. 195.
98 См.: Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина XV века. М., 1982.
С. 200 (далее: ПЛДР).
Поименно объекты критики в памятнике не обозначены. Можно лишь
предполагать, что опровержения адресуются и христианским экзегетам, и античным
философам, космологические идеи которых перешли в богословскую литературу. В виде
плоского продолговатого прямоугольника вслед за Феодором Мопсуестийским
представляли Землю многие антиохийцы (Севериан Габальский, Козьма Индикоплов и др.)
(см.: Культура Византии: IV — первая половина VII в. М., 1984. С. 435-439). Но они
лишь развивали идеи, сформулированные задолго до них, в эпоху античности. Еще
Демокрит подметил, что Земля продолговата и имеет длину в полтора раза больше
ширины (см.: Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М., 1989. С. 137). Имеются
также сведения о том, что Демокрит представлял Землю округлой, выгнутой в
середине (см.: Рожанский И. Д. Развитие естествознания в эпоху античности. М., 1979.
С. 226). Отвергая мнение о дискообразной форме Земли, автор текста, возможно,
полемизирует с антиохийцами, ибо такие крупнейшие представители этой школы, как
Иоанн Златоуст и Ефрем Сирин представляли Землю округлым плоским диском (см.:
Культура Византии. С. 436). Нельзя не отметить, что в этом вопросе они
придерживались той же точки зрения, что и Фалес, Гекатей Милетский, Анаксимен и Анакси-
мандр. В статье «О земном устроении» уподобление Земли треугольнику скорее всего
представляет собой полемическую гиперболу, которую не следует воспринимать в
прямом смысле. Видимо, так в утрированной форме охарактеризованы «заблуждения»
Платона, который атомам Земли приписывал геометрическую форму равнобедренных
треугольников, а на самом деле являлся сторонником геоцентрической концепции
Вселенной, помещая шаровидную Землю в центр сферического неба (см.: Платон.
Тимей. 53 и след.).
99 ПЛДР. С. 200-202.
100 См.: Там же. С. 202. В пику оппонентам, помещающим Землю на водах, вводится
восходящее к Аристотелю мнение о подземных хранилищах вод. Поскольку «по
видимости» земли больше, чем вод, подземные веды должны быть огромными, чтобы
уравнять воды и землю. Кроме того, Океан, окружающий Землю, занимает пространство
104 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
большее, чем видимая Земля. Океан лишь по видимости превосходит землю. В сумме
видимые и невидимые субстанции вод и земли уравновешены. Они неразлучны и в
сочетании действуют друг на друга, как магнит и железо (см.: Там же. С. 209).
101 Там же. С. 202.
102 Там же. С. 204.
103 ГИМ. Епарх. № 367. Л. 42а-55а (кон. XV в.); ГИМ. Барс. № 396. Л. 3946-3986
(кон. XVI — нач. XVII в.); ГИМ. Барс. № 1518. Л. 266-286, 306-316 (кон. XVI в. —
нач. XVII в.); МГУ. № 1396. Л. 2846-2866, 292а-304а (сер. XVI в.); ГИМ. Воскр.
№ ЮЗ. Л. 22б-40а (XV в.); РГАДА. Ф. 201 (1). № 161. Л. 602а; ГИМ. Син. № 997.
Л. 1479а-1479б (1530-е гг.); ГИМ. Син. № 183. Л. 701б-702а; РНБ. Кир.-Бел. №ХП.
Л.219а-239а (XV в.); РНБ. Пог. № 1643; РНБ. Кир.-Бел. № 11/1088 (об этом см.:
Гаврюшин Н. К. Первая русская энциклопедия. С. 122, 129. Публикацию некоторых
списков произведений см.: Буслаев Ф. Историческая хрестоматия
церковнославянского и древнерусского языков. М., 1861. Стлб. 695 и след.; ПЛДР: Вторая пол. XV в.
М., 1982. С. 200-204; Гаврюшин Н. К. Космологический трактат XV в. как памятник
древнерусского естествознания // Памятники науки и техники. М., 1981. С. 183-
197).
104 Гаврюшин Н. К. Первая русская энциклопедия. С. 129.
105 Там же.
106 См.: Там же.
107 См.: Попов А. Историко-литературный обзор древнерусских полемических
сочинений против латинян. М., 1875. С. 255, 269. О рукописной традиции этого
памятника и распространении его в древнерусской книжности см.: Попов А Указ. соч. С. 254-
281; Архангельский А. С. Творения отцов Церкви в древнерусской письменности. Т.
I'll. Казань, 1889. С. 136-141.
108 РГБ. Унд. № 573. Л. 276а-277б.
109 «Устройство, которое мы приписываем сфере, как говорят орфики, подобно яйцу.
Назначение, которое имеет скорлупа в яйце, во Вселенной имеет небо, и подобно тому,
как эфир окружает небо, — так пленка скорлупы... Оболочка в яйце сохраняет
устройство воздуха, желток яйца — устройство земли, самая же внутренняя часть
желтка имеет устройство воды» (Achillis Tail. Isagoge ad Agati Phenomena // PG.
T. 19. Col. 941 ВС. — Текст Ахилла Татия воспроизводится в переводе С. Н. Гуковой.
См. ее работу: Космографический трактат Евстратия Никейского. С. 147-148).
Аналогичных орфикам взглядов придерживался Эмпедокл, который утверждал, что космос
имеет форму яйца. Ср.: «Космос похож на лежащее яйцо» (Фрагменты ранних
греческих философов. С. 365).
110 См.: Щапов А. Я. Исторический очерк народного миросозерцания и суеверия //
Щапов А. П. Сочинения. Т. 1. СПб., 1906. С. 103-104; Евсюков В. В. Мифы о
Вселенной. Новосибирск, 1988. С. 31-32. Вероятно, какие-то отголоски этих мифов оказали
влияние на космологическую схему Эмпедокла, помещавшего неподвижную землю в
центр яйцеобразной вращающейся сферы кристаллоподобного прозрачного неба (см.:
Мнения философов. II. 112; 31. 4). Но еще большее влияние эти древние мифологемы
о мировом яйце оказали на пифагорейскую трактовку происхождения мироздания,
согласно которой до начала творения существовала огромная темная бездна. Эта
«последняя бесконечность» охватывала все; не имея ни границ, ни дна, ни опоры. Зевс,
представляя несмешанную единицу, источает из себя первоматерию («корень жизни»,
отождествлявшейся с четверицей и с числовой десятерицей), которая сгущается и
превращается в мировое яйцо. Оплодотворенное эфиром (нусом), оно превращается в ми-
Геоцентрическая концепция мироздания...
105
ровой шар, объемлющий собой рождающиеся космические божества. Происходит
распад на небо и землю, знаменующий становление видимого мира (см.: Лосев А. Ф.
Античный космос и современная наука. М., 1927. С. 22-24).
111 См.: Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. М., 1999. С. 97-101.
1.2 См.: Романский И. Д. Развитие естествознания в эпоху античности. С. 196.
1.3 См.: Райков Б. Е. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в
России. С. 11-45.
К0СМ0Л0ГИЧ€СКИ€ ИД€И
В ПАМЯТНИКАХ АПОКрифиМ€СКОЙ
КНИЖНОСТИ
АНГЛ* ГК*
С/Щ6
гч
А
ТцГ покрифические сведения, касающиеся описания устройства Вселенной,
//Л не пРивлекали специального внимания исследователей. Исключение
Br JBL составляет разве что «Книга Еноха», в ярких, впечатляющих образах
раскрывающая сокровенные тайны мироздания1. Памятник этот безусловно
один из наиболее интересных переводных космологических текстов
древнерусской эпохи. Однако его значение для отечественной культуры вряд ли может
быть правильно оценено вне контекста произведений аналогичного
содержания. Ведь наряду с «Книгой Еноха» в древнерусской письменности достаточно
широкое распространение имели также многие другие неканонические
сочинения, представлявшие древнерусскому читателю не менее выразительные, чем
апокриф о Енохе, образцы космологических сюжетов. По материалам только
одной «Книги Еноха» нельзя судить ни об особенностях апокрифической
космологии в целом, ни тем более о воззрениях на устройство Вселенной,
свойственных нашим средневековым предкам. Ведь «Енох» не входил в
репертуар наиболее распространенного чтения апокрифического толка. Славянский
вариант «Книги Еноха» был известен на Руси в XI—XII вв. в так называемой
краткой редакции, которая, по мнению Н. А. Мещерского, была
непосредственно переведена с еврейского языка на русский, а затем извлечения из нее вошли
в состав «Мерила Праведного» (с XIV в.)2. Текст полной редакции представлен
тремя поздними списками, относящимися к XV-XVII вв.3
В первую очередь надо принять во внимание то обстоятельство, что сюжет-
но-тематически апокрифической «Книге Еноха» в древнерусском арсенале
неканонической письменности соответствуют «Откровение Варуха»,
«Откровение Авраама», «Видение Исайи» и «Видение апостола Павла», которые
вместе образуют значительный по размерам раздел неканонической
древнерусской литературы, обладавший внушительным потенциалом влияния на
общественное сознание.
Порой нелегко бывает отличить, идет ли в апокрифах речь о небесных
сферах с точки зрения геоцентризма или о кругах движения светил в пределах
поднебесной крыши, как это предполагалось приверженцами плоскостно-вертикаль-
ной модели мироустроения, уподобленной дому. Кроме того, даже внешне
схожие между собой космологии в апокрифической их интерпретации представляют
различные религиозно-мировоззренческие традиции. Не всегда четко
обозначенные в апокрифах признаки космологических концепций требуют специаль-
108 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
ного изучения. Есть основания говорить, что перечисленные памятники могут
относиться к разным космологическим традициям.
Обычно в видениях раскрываются тайны иного (надприродного) мира:
даются наглядные характеристики Бога, раскрывается роль ангельского чина
во «взаимоотношениях» трансцендентного Божества с природным миром и
человеком. Варуху, Еноху, Павлу и другим достойным избранникам Бога
открываются тайны прошлого и будущего, а также грандиозные картины
мироздания. Особенно зримо и впечатляюще рисуются уготованные людям рай
и адские муки. В перечисленных произведениях эта зримая наглядность
прилагается к раскрытию «механики» движения светил и к объяснению разного
рода природных явлений. Вознесенным в запредельные сферы открываются
космические масштабы мироздания, увиденные необыкновенно
проницательным взором, от которого не может укрыться ничего из того, что делается на
земле и на небесах.
Вот эти-то всеохватность и чудесная открытость обыденному сознанию
неявленного запредельного придают рассматриваемому апокрифическому
циклу особую ценность, ибо уже сам масштаб видения мира, задаваемый этими
неканоническими текстами, предполагает наибольшую степень обобщения
отраженных в апокрифическом цикле видений (откровений), знаний и
представлений, максимально приближающих данный жанр к философско-мировоззрен-
ческой интерпретации бытия.
Большей частью апокрифические модели космоустроения вписывались в
монотеистическую доктрину, причем установки, задававшиеся принятыми в том
или ином богословском направлении схемами, варьируются незначительно.
Но в ряде древнерусских текстов встречаются и космологические сюжеты,
отражающие пантеистически-эманационную концепцию бытия.
Непохожим на другие произведения цикла апокрифических видений как раз
и является «Книга Еноха», своеобразие содержания которой отличает ее от
любого из аналогичных произведений. Обратимся к содержанию «Книги
Еноха». На нетипичных чертах произведения и особенностях космологических
представлений, отразившихся в рассказе о том, как Енох пересек несколько
небесных ярусов и наблюдал их устройство, следует остановиться подробнее.
Когда Енох был вознесен над землей, ангелы поставили его на облаках,
которые окружал аер. Эта ближайшая к земле облачно-воздушная сфера
являлась хранилищем снега, льда и росы. Каждая из этих природных стихий
управлялась своими ангелами. Здесь же помещались двести ангелов, управлявших
движением звезд и планет. На первом небе, кроме того, Еноху показали
огромное море, которое по своим размерам превышало море земное4. Из
описания неясно, что это за хранилища небесных вод: не исключено, что так
характеризуются хляби небесные. Ясно одно — первое небо имеет материальную
природу и как сугубо физическая часть мироздания локализуется ниже тверди.
Принцип структурной стратификации мироздания такой же, как и в
большинстве богословских текстов, воспроизводивших дуальную концепцию бытия.
Служебные функции ангелов по управлению природными процессами в «Книге
Еноха» аналогичны характеристике ангелов стихий и планет в «Христианской
Космологические идеи в памятниках апокрифической книжности 109
топографии» Козьмы Индикоплова и в отразившей его влияние «Толковой
Палее»5.
На втором, «темном», небе Енох видел ангелов, которые висели в вери-
гах> — это чин отпавшего от Бога Сатаны. Место небесных мук обликом
своим напоминает ад, хотя это тюрьма для падших ангелов, а собственно ад
помещается в апокрифе на северной стороне третьего неба. В этой стороне,
которая, согласно средневековой символике, знаменует собой принадлежность
к нечистому и греховному, в беспросветной тьме горит темный огонь и
протекает огненная река. Там же есть и морозные места, предназначенные для
мучений, где орудуют немилостивые ангелы с устрашающим оружием6.
Примечательно, что рай также помещается на третье небо. Только место
праведников обнаруживается героем-визионером в противоположной аду южной
стороне, символическая локализация которой ценностно соотносима с теплом,
светом, святостью. Согласно апокрифическому описанию, это несказанной
красоты место, наполненное благоуханием и всяческим изобилием. Рай
третьего неба охраняют триста ангелов, а посередине его находится огромное древо
жизни, на котором произрастают все земные плоды. Корни же этого чудесного
дерева простираются до земли. В «Книге Еноха» древо райское напоминает
авестийское древо всех семян и одновременно индоевропейское Древо мира.
Этот мифоархаический образ символически воплотил в себе глубочайшей
древности представления о вертикальной ярусной структуре Вселенной,
сферы которой образуют неразрывное целое7. Поскольку в апокрифе райское древо
предстает явно в облике Древа мира, части которого олицетворяют зоны
Вселенной, то соответствующие этому символическому образу представления
явно не вяжутся с геоцентрическими установками текста. Скорее всего такого
рода рассогласования имеют отношение к перенесению в апокриф мотивов
из разных источников.
Несколько необычен апокрифический образ райских источников, которые,
струясь из-под корней чудесного Древа, молоком, медом, елеем и вином,
расходятся из рая на сорок частей и обтекают землю, обращаясь кругом наподобие
воздушных стихий. Образ круговращающихся вод на первый взгляд может
быть истолкован геоцентрически, но без дополнительных пояснений ни с
вертикальной, ни с ярусно-сферической схемой космоса райско-земные потоки
соотнесены быть не могут.
Не имеет прямых аналогов локализация рая и ада на третьем небе. Если
обитель праведных экзегеты представляли расположенной как на небесах, так
и в пределах земного пространства, то юдоль мучений традиционно
связывалась с подземной, нижней сферой мироздания или с крайней периферией
Вселенной, но опять-таки она находилась в провалах, расщелинах и колодцах,
то есть обязательно ниже уровня горизонта. Так, место мучений, которое видит
апостол Павел, оказывается по ту сторону Океана, обходящего Вселенную.
Апокриф «О всей твари» также помещает рай и муки на острове за Океаном8.
В «Хождении Богородицы по мукам» Мария попадает в места мучений после
того, как ад «разверзся». Для молитвы за грешное человечество она вместе
с воинством семи небес возносится из подземной преисподней на небесную
ПО Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
высоту к престолу Бога Отца, то есть перемещается из низшей в крайнюю
высшую (и в онтологическом, и в ценностном смысле) пространственную сферу
Мирового универсума9. В «Житии Макария Римского» места мучений
помещаются в окраинной части Вселенной, на путях, ведущих к раю. Стенания
грешников доносятся из глубоких подземных пропастей либо из кишащего змеями
озера10. Само слово «ад» означает преисподнюю, нижнее место, хотя в
канонических текстах ни наглядные очертания, ни само местоположение ада не
конкретизируются. В Св. Писании характеристики ада сводятся к указаниям на
тьму (Мф. 8: 12), плач и скрежет зубовный (Мф. 8: 12; 22: 13; 25: 30), муку
вечную (Мф. 25: 46), огонь (Мф. 13: 12), пытки (Мф. 24: 51). В «Апокалипсисе»
упоминается еще озеро огненное (Отк. 20: 10; 21: 8).
Несмотря на популяризацию идеи земного рая, которая осуществлялась
апокрифами через произведения приверженцев антиохийской традиции
богословия (Севериан Габальский, Козьма Индикоплов),' в общественном сознании
средневековой эпохи устойчиво держались представления о структурном
соотнесении рая с верхом, а ада с низом мироздания, что было прямым
следствием дуалистической разорванности бытия на мир физический и иной мир, куда
переселялись души умерших. Представления о рае небесном и подземном аде
формировались на основе ключевого для христианского вероучения постулата
о сошествии Иисуса Христа в ад, откуда в рай были выведены томившиеся там
праведники. Эта тема первоначально была разработана в апокрифическом
«Евангелии Никодима». Событие сошествия в ад, как и событие крестной смерти
и последующего Воскресения, оказалось в ряду центральных сакральных
моментов, связанных с явлением в мир Бога Сына. Как следствие,
апокрифический факт сошествия Христа в ад и связанные с ним понятия ада и рая были
освящены самой практикой пасхального богослужения, что нашло отражение
и в посвященных этой теме гимнах Романа Сладкопевца11.
Что касается описания течения рек, связывающих рай и землю, то
противоречия не возникало, если рай мыслился земным, как это имеет место в
трактовке Севериана Габальского, Козьмы Индикоплова, в апокрифическом
«Житии Макария Римского» и в «Беседе трех святителей». Парадоксальную связь
райских рек одновременно и с небесным источником, и с земной географией
предполагал Ефрем Сирин, считавший, что преобразование райских вод в
земные происходит неведомым образом и не подвержено естественному
истолкованию12. «Видение апостола Павла», видимо следуя той же логике, помещает
исток земных рек в небесный рай13.
В небесной топографии «Книги Еноха» обнаруживается совершенно
неожиданный и нелогичный, с точки зрения ценностного восприятия сфер
мироздания, переход с описания идеальных качеств второго и третьего небес к
воспроизведению вполне физического образа четвертого неба, куда помещаются
светила. На этом небе Енох видит пути Солнца и Луны, которые минуют
расположенные в восточной и западной его частях врата и совершают свой ход
на колесницах, влекомых ангелами. На пятом небе, как и на вт.ором, опять
встречаем отверженных Богом ангелов, тогда как на шестом находится место
пребывания полчищ светлых ангелов. Эти славные ангелы сияют сильнее Солн-
Космологические идеи в памятниках апокрифической книжности 111
ца. Богом они поставлены, чтобы следить за жизнью небесной и земной.
Назначение этих ангелов — измерять и блюсти движение светил,
контролировать ход времени, произрастание плодов земных и все состояние природы.
Тут же ангелы-хранители людей и все начальники над ангельскими чинами —
херувимы, серафимы, архангелы. На седьмом небе Еноху предстал сам Господь,
в сиянии великом восседающий на престоле. Престол Бога пребывает в
превеликом свете окружавших его архангелов, херувимов, серафимов и прочих
бесплотных ангельских чинов и господств14.
В целом общая схема многослойности семи небес отражает представление о
полярности мира дольнего (физического) и мира горнего (высшего, где
пребывает Бог). Самым материальным по своим свойствам оказывается первое небо,
ноуменальная же сфера локализуется в высшей точке мироздания. Однако
говорить о четкости воплощения дуального принципа бытия в этой схеме не
приходится. Сверженный чин Сатаны оказывается и на втором, и на пятом небе,
что выше рая, расположенного на третьем небе. Согласно апокрифу, ад
помещается выше земли, да к тому же он не является местом мучений отпавших ангелов
и князя тьмы. Вполне физическими характеристиками наделено четвертое небо,
в пределах которого перемещаются Солнце и Луна. Физические тела этого
небесного яруса как бы вклиниваются между дематериализованными небесными
сферами. Причем светлую духовную природу имеют только шестая и седьмая
небесные сферы. В итоге обрисована некая размытая модель дуального
универсума, резко отличающаяся от строго иерархической концепции семи небес
апокрифического «Откровения Исайи», где каждая последующая сфера обладает
более высоким онтологическим и ценностным статусом по сравнению с
нижележащей. Кстати, прямого указания на геоцентризм послойное описание небес
в «Книге Еноха» не содержит, а этот тезис, который в ряде работ считается само
собой разумеющимся, надо еще доказать. К тому же ни библейских
представлений о тверди, ни античных идей о крайней эфирной границе мироздания в
рассматриваемом апокрифе не отразилось.
Вторая часть «Книги Еноха» сюжетно являет собой рассказ Бога, в котором
Он раскрывает Еноху замысел и тайну творения. Эта часть текста отлична от
предыдущих как в описании небесного устройства, так и с точки зрения
онтологических установок. Процесс космогенеза здесь трактуется в духе пантеи-
стически-эманационных воззрений. Во второй части апокрифа повествуется
о том, как Бог первоначально низводит из себя Адоила — субстанцию света
превеликого, затем этот эон (век) трансформируется во все духовные
создания, над которыми Бог водружает свой престол: «...и повсл^х) въиспръниСх)
да сънидсСт) едино CJ н€ви(д)ми(х) видимо, и съниде адоил прНЬвслиТк) з^ло и
СМОТрИ(х) €Г0. И С€ ВЪ мр'Ьв* ТЪ ИМИ СВ^ТА ВСЛИКАГО. И Р€К0(Х) КЪ Н€МОу
РАЗ(Д)РГЬШИСА АД0ИЛ€. И ВЗД" ВИ(ди)МО рАЖ(д>А€МО ИС Т€В€. И рАЗДР^ШИСА
НЗЫД€ СВТЬ(Т) Пр'ЬвбЛИСк). И АЗЬ Ж€ СргЬдгк СВ*ктА. И КАКО НОСАЩОуСА CB'feTOlf И
$ СВ^ТА ВЪЗЫД€ В^КЬ ВСЛНКЫ IABA*fe€ ВСА ТВАрЬ. ЛЖ€ АЗЬ ПОМЫСЛИ(х) СЪТВО-
рити. и вид*Ь(х) iako влго, и постави(х) C€Erfe пр'ЬстоТл), и стЬдо(х) на н€(м)»15.
Затем из преисподней было выведено материальное начало — Архас, из кото-
112 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
рого разворачивается «основание нижним» и все части физического мира. От
света и тьмы были распростерты воды (бездны), из камней образована суша,
а от блеска очей Бога был произведен заключенный в камень молнийный огонь.
Из высеченных кремниевых искр создается бесплотное воинство. С
аналогичными «Книге Еноха» пантеистическими мотивами мы встречаемся и в «Беседе
трех святителей». Они воспроизводятся в сюжетах о творении суши из
поднятой со дна твердой земной (илистой) субстанции и в помещаемом там же
рассказе о создании человека из кремниевых искр.
Процесс творения, а точнее, эманации, когда каждая последующая часть
возникает из уже существующей, завершается созданием человека от семи
природных частей. Адам, как с точки зрения символики имени, образованного
от четырех сторон света, так и по субстанциальности своей, наделяется
космическими чертами. Бог, природа и человек в силу сущностного родства как
бы взаимно пронизывают друг друга, что резко отличает сформулированную
во второй части «Книги Еноха» мировоззренческую концепцию от библейских
установок на разграничение идеального и материального миров, на
противопоставление Бога и природы. Аналогичную «Книге Еноха» пантеистическую
трактовку мира и человека встречаем в «Сказании от скольких частей создан
был Адам» и в апокрифических сюжетах о составах человеческого тела,
которые, как и рассматриваемый текст, отражают архаические мифологические
представления.
Описание небес во второй части «Книги Еноха» совпадает с небесной
топографией первой части апокрифа. И дело отнюдь не в повторе в связи с развитием
темы. В апокрифе явно оказались слитыми версии нескольких источников, ибо
воспроизводится совершенно иная, нежели в начале «Книги Еноха», концепция
небесного устроения.
Вот как описывается появление неба в процессе космогенеза. Исходно
существовала бездна вод, представлявшая собой смешанную субстанцию
света и тьмы. Бездна, к которой было причастно божественное первоначало, через
эманацию Адоила и Архе разграничивала сферы видимого и невидимого. Затем
произошло образование семи небесных кругов, заключивших в себе свойства
стекла и льда, что было сделано, как сказано в апокрифе, для «ц;вхож(д)€Н1А
вода(м) инимъ cthx'ia(m)»16. В первый день творения твердь была поставлена
вверху высохших дольних вод, собранных в одном месте и названных морем.
Во второй день огненная природа была дана светилам. После насаждения рая
в третий день, на четвертые сутки светила были помещены на семи поясах, для
которых еще в первый день были утверждены ледово-хрустальные небесные
круги. Ближайший круг был предназначен для Луны, второй — для Гермеса
(Меркурия), третий — для Зевса (Юпитера), четвертый — для Солнца.
Следующие — соответственно для Ареса (Марса), Афродиты (Венеры) и Крона
(Сатурна). Ниже, в воздушном пространстве, были помещены все меньшие
небесные светила (то есть звезды)17.
В эманационной концепции (ведь космические образования — производные
от света и жидкой бездны) фигурирует только одно небо — твердь,
распростертая как комара под плоскостью вод. Находящиеся ниже круги прохожде-
Космологические идеи в памятниках апокрифической книжности П_3
ния планет совсем не тождественны семи небесам, по которым путешествовал
Енох. Пояса — образования сугубо материальные и плотные, небеса же —
сферы проницаемые и жестких оболочек не имеющие. Планеты и звезды, как
следует из сюжета путешествия Еноха, помещаются в нижней воздушной
части первого неба, а Солнце — на четвертом небе. Формально это можно было
бы сопоставить с четвертым солнечным поясом второй части апокрифа, но если
в первом случае Луна локализуется вместе с Солнцем на четвертом небе, то
во втором ей отводится нижний, ближайший к земле небесный круг. В
остальном же описание поясов и небес несопоставимо вовсе. По сути, небеса и пояса
планет — это разные космологические понятия, обозначающие различные
реалии верхней части мироздания. За небесными характеристиками в обеих
частях «Книги Еноха» и с точки зрения общих установок, и в деталях описания
мироустройства стоят разные религиозно-мировоззренческие и
космологические концепции. Если в визионерском сюжете в авторе рассказа о путешествии
Еноха по небесам еще можно с некоторой осторожностью предполагать
сторонника геоцентрического строения мира, то в эманационной части очень четко
прорисована замкнутая (по антиохийскому типу) схема мироздания. Много-
слойность небесных поясов, конечно же, не тождественна многоярусности
сферических небес. Ведь о поясах перемещения светил (то есть особых,
непересекающихся путях их движения) говорили такие выдающиеся антиохийцы, как
Севериан Габальский и Козьма Индикоплов, а геоцентрист Иоанн Дамаскин
отделял представления о трехслойности сферических небес от понятия семи
поясов светил: «...говорятъ, что есть семь поясовъ неба: одинъ — выше
другого. И разсказываютъ, что оно — тончайшей природы, какъ дымъ, и что въ
каждомъ поясе находится одна изъ планетъ. Ибо утверждали, что есть семь
планетъ: Солнце, Луна, Юпитеръ, Меркурий, Марсъ, Венера и Сатурнъ»18.
В апокрифическом «Сказании о семи планитах», воспроизводящем
усложненную образом подземных устоев схему антиохийской космогонии, находим
описание семи поясов, в пределах которых движутся планеты. Им отводится
пространство над твердью: «...надъ твердью поясы 7 планетъ, а на всехъ
поясехъ стоятъ ангелы, а по поясамъ стоятъ звезды, и которая планита ниже
стоитъ, те звезды светлее»19.
Ярусное устройство небес описывается в апокрифическом «Откровении
Варуха»20. Переводное неканоническое произведение «Откровение Варуха»
повествует о восхищении героя апокрифа на небо, где он чудесным образом
познает тайны мироустройства. На фоне других апокрифических видений и
откровений «Откровение Варуха» имеет целый ряд только ему присущих
особенностей, отличающих рассматриваемый апокриф от других неканонических
сочинений онтологической тематики. Важнейшей особенностью произведения
является наличие в нем мифологических образов, причем образы эти не
относятся к разряду неявных и завуалированных реминисценций архаики, но
воспроизводят очевидные мифологемы, расцвечивающие фантастической
экзотикой основные смысловые блоки содержания21.
Сказочно-мифологические мотивы чередуются с библейскими
апокрифическими описаниями ада и рая. Некоторые характеристики обители праведных
114 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
и юдоли мучений напоминают описания из «Видения апостола Павла», по
сравнению с которыми соответствующие образы «Откровения Варуха» беднее и
схематичнее.
История бытования и распространения списков «Откровения Варуха» в
подробностях еще не изучена, хотя исследователи говорят о значительной
популярности этого апокрифического сочинения в древнерусском обществе. В составе
рукописных сборников текст апокрифа встречается в двух редакциях, одна из
которых (так называемая полная и наиболее адекватно отражающая греческий
протограф) в существующих публикациях представлена южнославянскими
списками22. Другая редакция, которую еще называют русской или краткой,
представляет собой сокращенный вариант южнославянской версии23.
Обратимся к рассмотрению космологических мотивов произведения.
Общее количество небес в одном случае в содержании текста определено пятью24,
в другом просто неопределенно говорится о небесах во множественном числе25.
Вообще составить четкое представление о пространственных перемещениях
героя апокрифа нелегко, ибо конкретных характеристик поочередно
открывавшихся Варуху небесных сфер не дано. С самого начала апокрифа в нем
говорится о том, как «...вънсзлпоу имъ ма анлъ приводе ма въ~а € ибо. и въ
трстьсс и показа ми двьри В6ЛИКЫ1Д СЗверсты з'кло»26. Упоминание
открывшихся в небесах дверей позволяет считать, что природа небесных сфер мыслилась
твердой. О масштабах пространства можно судить по тому, что перелет занял
восемь дней. Из текста неясно, на каком из небесных кругов Варуху
встретились дивного облика люди. Живущими на небесах существами гибридного
облика, сочетающими черты человеческие, орлиные и козлиные, оказались
наказанные Богом строители Вавилонской башни.
В «Откровении Варуха», к сожалению, мы не найдем космологических
уточнений, проясняющих, по какому из небес мыслилось движение Солнца и Луны.
Апокрифический образ колесниц дневного и ночного светил очень похож на
описание небесных колесниц в «Книге Еноха». Отличие состоит в том, что,
согласно «Откровению Варуха», солнечную колесницу влекут крылатые кони,
лунную — волы (рис. 1-6), тогда как в «Книге Еноха» небесную колесницу
движут ангелы. В обоих апокрифических рассказах присутствует космическая
птица Феникс, сопровождающая Солнце и предохраняющая мир от
губительного воздействия солнечного жара27. В апокрифическом рассказе о Варухе
повествуется о том, как с наступлением дня открывается 50 дверей пяти небес
и из них на землю исходит громкий звук, пробуждающий петухов28. По этой
косвенной детали можно заключить, что автор апокрифа и Солнце, и птицу
Феникс помещал выше пятого неба. Еще на каком-то небе, локализация
которого не уточняется, располагалась встретившаяся Варуху гора с озером,
питающим дождевые облака29.
Прочие путешествия Варуха, судя по характеру описания, с небом не
связаны, хотя в самом тексте обратное перемещение героя сверху вниз не
оговорено. В конце путешествия Варух оказывается на некоем, поле,
отделенном от высотных мест обитания вавилонян вратами и сорокадневным полетом.
Здесь герой встречает фантастического змея, пьющего воду из моря (Океана,
Космологические идеи в памятниках апокрифической книжности 115
Рис. 1-6. Небесные колесницы Солнца и Луны.
Годуновская Псалтирь. 1397 г.
РГБ. Егор. № 80. Л. 420
116 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
окружающего Вселенную). Вода в море не убывает, ибо его питают 373 реки,
среди которых узнаются и райские реки. Здесь же повествуется о рае, который
наделен земными чертами30. Сюжет о питании райскими источниками земных
вод постоянно присутствует в описаниях земного рая. На локализацию рая в
нижней части универсума указывает и такая подробность сюжета, из которой
мы узнаем, что во время пребывания ангела и Варуха у врат царства
праведных к ним с небес спускается Михаил архангел, а затем вновь сквозь врата
небесные поднимается ввысь, чтобы предстать пред Богом с молитвою за людей.
Поскольку место мук автор апокрифа помещает по соседству с раем, а случай
локализации «Книгой Еноха» ада на небесах является маргинальным, логично
было бы предположить, что в настоящем памятнике речь идет о земном
расположении ада и соответственно о низшей части мироздания. Кроме того,
образ ненасытного мифического змея вполне можно отождествить с адом.
Более конкретной картины мироздания апокриф не дает. С
определенностью в тексте говорится лишь о многослойности небес, и ничего не сообщается
об их форме. Земная топография рая в сочетании с образом соседствующего
с ним Океана указывает на горизонтальную перспективу их размещения. Такая
схема устройства нижнего яруса мироздания вряд ли может быть совмещена
со сферической моделью Вселенной. Поэтому и упоминание апокрифом небес
во множественном числе, скорее, относится не к многоэтажности небесных
сфер, а отражает представление о небесных поясах, тем более что аналогичный
образ жестких и прозрачных оболочек с дверцами для межъярусного общения
давался в уже рассматривавшейся нами эманационной части «Книги Еноха».
Другой апокриф из этой тематической серии — «Видение Исайи» — был
включен в состав знаменитого «Успенского сборника ХП-ХШ вв.»31. В
действительности древнерусские книжники познакомились с этим произведением
значительно раньше, на что с определенностью указывает «Речь философа» из
«Повести временных лет», куда вошли извлечения из апокрифа. В одной из
своих «библиографических приписок» на полях книги о знакомстве с
содержанием памятника сообщает небеспристрастный к апокрифическому чтению
книгописец Ефросин — монах Кирилло-Белозерского монастыря, один из
самых образованных книжников XV столетия. Всего в рукописных собраниях
выявлено 12 сборников, заключающих в своем составе это произведение32.
По рассказу героя апокрифического «Видения Исайи», ему последовательно
были открыты семь небес, расположенных выше тверди. Сначала ангел
возводит Исайю на высоту, где на тверди он видит вражду дьявольских сил. В
трактовке апокрифа «брань небесная» является прообразом того, что делается на
земле. Выше тверди, на первом небе, Исайя видит престол, а на престоле
ангела в великой славе. Слева и справа от него находятся бесплотные силы,
славящие сидящего на престоле. На втором небе, высота которого была «как
от первого неба до земли», открывается аналогичная картина: «...и паки возвсдс
МА НА ВТОрОС ИБО. ВЫСОТА Ж€ НСБССИ B'klAlllC IAK0 СЗ ПрЪВАГО НБСС ДО 5СМЛА. ВИД^Х
же то iako и на перв^мъ нвеи. десница и шоупш агглы»33. Переходя с третьего
на четвертое, а затем с пятого на шестое небесные уровни, Исайя поочередно
минует престолы с предстоящими ангелами, величие и слава которых нарас-
Космологические идеи в памятниках апокрифической книжности 117
тают по мере удаления от земли. В последовательности небес просматривается
принцип иерархического их строения, ибо бесплотное население заоблачных
сфер организовано в порядке жесткого соподчинения. Вышестоящие ангелы
управляют ангелами нижележащего яруса.
Сущностные свойства небес в апокрифической характеристике «Видения
Исайи» предстают абсолютно внеприродными: «...ничто же гако urr оного мирл
зд'Ь н€ имсноустсА»34. Высшее, седьмое, небо, где пребывает Бог, венчает
череду космических ярусов. Исайя обнаруживает здесь вышедших из одежд
плоти праведников. Они вместе с бесчисленным ангельским воинством славят
пребывающего в ослепительном свете Господа. Перед величием запредельных
высот спадала пелена всех тайн бытия. От пребывающих на седьмом небе не
могло утаиться ничего из свершающегося в мире.
Памятник представляет большой интерес для характеристики
мировоззрения и идейных запросов той части книжников, которые ценили и многократно
переписывали текст. Во-первых, в апокрифе воспроизводится образ
многоярусных небес. Герой путешествует по семи небесам, расположенным
послойно на периферии тверди, заключающей собой воздушное пространство вокруг
Земли. В этой своей части апокриф идейно-тематически примыкает к «Книге
Еноха» и «Откровению Авраама», воспроизводящих многоярусную
космологическую схему. Но если «Книга Еноха» аналогичную идею множественности
космических ярусов совмещает с пантеистической концепцией бытия, то в
рассматриваемом памятнике детальным описанием иерархически
структурированных многослойных небес подчеркивается трансцендентность
божественной сферы и онтологическое разграничение земного и небесного, плотского и
духовного. В описании наращивания славы и сияния небес по мере удаления
их от Земли, оценивающейся, как и все плотское, в категориях тьмы и
несовершенства, присутствует четко выраженная идея иерархизма, которая как бы
конкретизирует общую дуалистически-онтологическую мировоззренческую
установку памятника.
Абсолютизации разграничения духовного и материального начал бытия
соответствуют ценностные установки на негативное восприятие плотского
мира как находящегося во власти и распоряжении Сатаны. В качестве
идеальной цели провозглашается стремление к достижению небесного блаженства,
к слиянию с Богом, прообразом чего и является чудесное восхождение пророка
к престолу Вседержителя, благо осуществляется оно не во плоти, как иные
небесные путешествия (Еноха и Ильи, например), а в некоем духовном экстазе,
преодолевающем трансцендентную изолированность ангельско-божественной
сферы мироздания. Характерно, что стремление к Богу выглядит не как
однонаправленное волевое движение снизу вверх, а предполагает
божественное избранничество, когда через откровение запредельное раскрывается
достойному избраннику Божию. Поэтому идейный подтекст апокрифического
повествования заключается в том, что человек, причастный пленению
плотским, не способен подняться до божественного.
Особую смысловую линию апокрифа представляет рассказ о сошествии
Сына Божьего, который на пути своего нисхождения через вселенские ярусы
118 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
преобразовывался по образу обитателей каждого из небес. Более конкретных
указаний на строение космоса в этом апокрифическом памятнике не
содержится. Четко определен лишь принцип многослойности небес, которые, в отличие
от аналогичных характеристик верха мироздания в «Книге Еноха» и
«Откровении Варуха», являются реалиями исключительно внеприродными,
принадлежащими сфере идеальных сущностей. Образы апокрифа наилучшим образом
подчеркивают дуальный принцип устройства мироздания. Кроме того,
«Видение Исайи» четко, ясно и наглядно формирует принцип вселенского иерархиз-
ма. Соответствующая ему модель организации бытия идеально вписывается
в дуалистическую христианскую доктрину.
Как можно видеть, космологические аспекты апокрифического рассказа
о видении Исайи оказываются лишь побочной, да к тому же и четко не
обозначенной в ясных понятиях темой. О том, что автор апокрифа руководствовался в
своих образах геоцентрической гипотезой, можно лишь догадываться,
предполагая, что именно с геоцентризмом соотносится описание ярусов небес. Как
убеждает анализ «Книги Еноха» и «Откровения Варуха», с небесными ярусами
в древности вполне могли отождествляться пояса движения светил. В
рассматриваемом же памятнике небеса дематериализованы, что отличает их от при-
родно-прозрачных твердых планетных поясов. Непроницаемость небес в
«Видении Исайи» относится не на счет перегородок, как в «Откровении Варуха»,
но обусловлена принадлежностью к иному миру.
Еще один апокриф, который можно поставить в связь с геоцентрической
космологией, — это «Откровение Авраама», входившее в состав «Палеи
Толковой». Встречается «Откровение Авраама» в составе хронографических
сборников, а также в «Палее Хронографической». Древнейшие сохранившиеся
списки памятника относятся к XIV-XVbb., хотя и преобладают рукописи,
датированные XVI в.35 Таким образом, только сохранившийся «тираж»
памятника составляет несколько десятков.
Содержание произведения представляет собой рассказ библейского героя
о том, что он увидел с высот мироздания, будучи вознесен туда на крыльях
голубя: «...и възнссс ма на край пламснс огнснаго. и взидо(х)мъ iako многи
В'ЬтрЫ НА НБО 0^К€рЖ€Н0€. НА ПрОСТ€рТЬИ(х). ВИД^Х) НА A€p*fe. НА НЮЖ€
взыдохо(м) высотоу св^тъ силныи. сж€ нс ваш€ лз* сказатТ»36. Упоминание
такой незначительной детали, как крылья (рис. 1-7), при всей фантастичности
повествования, позволяет все-таки сделать заключение о воздушной природе
небес. В этой детали нельзя не усмотреть принципиально иного устройства
верхней части мироздания, чем в «Откровении Варуха», где в твердых
оболочках различных небесных ярусов имеются люки для проникновения с одного
уровня на другой.
Авраам, согласно апокрифическому повествованию, сразу оказывается на
восьмом небе, где в свете и славе великой его встречает сам Господь Бог
(рис. 1-8). Творец сообщает своему избраннику тайны прошлого и будущего,
раскрывая в этом рассказе Аврааму идею замысла создания мира. С восьмого
неба, называемого то «простсртисм», то «твердью», Авраам видит сквозь
разверзнутое «протлженис» нижележащие семь небес. Описание их весьма схема-
Космологические идеи в памятниках апокрифической книжности П9
Рис. 1-7. Вознесение Авраама на небеса.
«Откровение Авраама». Сильвестровский сборник XIV <
РГАДА
120 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
4^.
Uf ТЛМЬ ГИ
Рис. 1-8. Авраам на небе.сах перед Престолом Господним.
«Откровение Авраама». Силъвестровский сборник XIV в.
РГАДА
Космологические идеи в памятниках апокрифической книжности 121
тично и общо: там есть огонь, свет, роса, множество ангелов, исполняющих
повеление огненных духов восьмого неба, силы звездные37.
Несмотря на лаконизм описания, отдельные детали в характеристике небес
сопоставимы с аналогичными космологическими фрагментами «Книги Еноха».
Не совпадает, однако, названное в «Книге Еноха» и в «Откровении Авраама»
число небесных ярусов. Кстати, в последнем, как и в прежде рассмотренных
апокрифах, даются картины многослойности небес при полном умолчании
о характере строения мироздания. Соотнесенность апокрифических образов
с геоцентрической моделью мироздания весьма вероятна, но не безусловна.
К циклу апокрифов, в содержании которых можно усмотреть влияние
геоцентрических воззрений, относятся и «Заветы двенадцати патриархов».
Здесь говорится о том, как во сне Левию открывается картина небесного
устроения. Из пересказа сна, в котором отразились представления об
оригинальной космологической модели, следует, что между первым и вторым небом
висит вода. Третье небо характеризуется как высота и светлость
необыкновенная. Здесь сосредоточены ангельские силы, предназначенные для отмщения в
судный день. Выше четвертого неба располагаются пояса планетные. С высоты
седьмого неба Левий, как Енох, Павел и другие визионеры, восхищенные на
небеса, видит всю неправду и грехи человеческие. Еще он видит духов, которые
направляются с высот для отмщения неправедным людям38. Как «Книга Еноха»
или «Богословие» Дамаскина, «Завет Левия» не смешивает пояса светил с
небесами. Прямых аналогов прорисованному в апокрифическом тексте образу
мироздания среди рассматриваемых нами текстов не обнаружено.
В апокрифических произведениях неоднократно встречаются разрозненные
упоминания о многослойности небес, которые могли бы быть связаны с
геоцентрическими воззрениями их авторов. Утверждать это с определенностью, конечно
же, нельзя, ибо часто обо всем, что касалось характеристики небес, говорилось
там кратко, попутно, в контексте, далеком от космологической темы. Так,
буквально вскользь упоминается о воинстве семи небес в «Хождении Богородицы
по мукам», когда Мария взывает к архангелу Михаилу вступиться перед
Господом за грешников39.
Эсхатологическая версия «Видения пророка Исайи о последнем веке», в
сравнении с «Видением Исайи», совершенно лишена интереса к устройству
мира. Общим мотивом в связи с вознесением героя остается только
упоминание семи небес40. Неопределенные указания на создание Богом семи высших
небес содержатся в апокрифической «Книге Бытия». Здесь не уточняются
концептуальные принципы устройства небесной многослойности, но вводится
описание семи низших поясов (устоев) Земли41.
Можно сказать, что мнение о существовании семи небес стало широко
распространенным именно благодаря апокрифам. Как расхожее понятие, без
космологических уточнений, оно неоднократно воспроизводится в списках
«Беседы трех святителей»: «...колико с(с) нсвсс? ':з» (то есть ответ — семь)42.
Представление о многослойности небес отразилось в «Видении апостола
Павла». Запрет на чтение и распространение этого памятника накладывался
практически всеми списками запрещенной литературы, начиная с Индекса
^22 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
«Изборника Святослава 1073 года» и кончая «Погодинским Номоканоном».
Однако, вопреки запретам, этот апокриф цитируется составителем «Слова
некоего христолюбца, ревнителя по правой вере», которое в XIV в. было
включено в состав знаменитого «Паисьевского сборника». Переработка апокрифа,
известная под названием «Слово от епистоли святого апостола Павла»,
датируется ХИ-ХШ вв. Вместе с другими сокращенными вариантами
апокрифического текста («Слово о видении Павла апостола», «Слово о епистоле святого
Павла») в XV-XVI вв. памятник постоянно присутствует в составе сборников
типа «Златоуст» и «Измарагд»43. Общее количество списков памятника не
учтено, но здесь надо иметь в виду, что сборники, в которые входил данный
апокриф, относятся к числу наиболее распространенных в составе
древнерусской книжности.
Герой апокрифа побывал на третьем небе, где помещался рай, и спускался
в бездну, где были расположены муки. Во время пребывания на тверди ему
встретились властители страшные, что напоминает описание «Книгой Еноха»
духов нечестивых, населявших второе и четвертое небеса. В апокрифическом
видении повествуется, как с высот Павлу открываются тайны посмертной
участи людей. Он видит души умерших и сопровождающих их
ангелов-хранителей, восходящих к еще большим высотам, откуда доносятся раскаты голоса
Бога. На третьем небе Павел лицезреет райские реки, которые парадоксальным
образом являются в то же время началом четырех великих земных рек44.
В данном случае опять напрашивается сравнение с образом рая из «Книги
Еноха», в которой исток четырех великих земных рек помещался на третьем
небе.
Во время посещения ада взору Павла является «начало небесное»,
основанное на окружающем Вселенную Океане45. Таким образом, в характеристику
мироздания вводится четкое указание на плоскостное восприятие
водно-земного пространства. Окраинная часть водного горизонта представлена в
апокрифе опорой неба. Отраженная в «Видении апостола Павла» космологическая
схема, равно как и аналогичные космологические характеристики мироздания
в эманационной части «Книги Еноха», а также, возможно, и в «Откровении
Варуха», дают основания считать, что не все описания многослойности небес
имеют отношение к геоцентризму. Безусловно, непричастны к
геоцентрической космологии «Видение апостола Павла» и эманационная часть «Книги
Еноха». Под тот же критерий скорее всего подходит и «Откровение Варуха», *
хотя безусловно достоверных аргументов в пользу этого все-таки нет.
Остальные апокрифические описания многослойности небес с определенной долей
46
вероятности можно гипотетически связать с геоцентрическими воззрениями .
В древнерусских переводах сохранились произведения, которые предлагали
апокрифические варианты плоскостно-комарных космологических схем. В них
вводится новый по сравнению с содержащимся в сочинении Козьмы Индико- ;
плова мотив устоев мироздания, выявляющий глубокую мифологическую арха- i
ику. В остальном космологические идеи очень похожи на те, которые
формулировали в своих трактатах антиохийцы. Едва ли не подобного рода
произведения имел в виду Козьма Индикоплов, когда, подчеркнуто отмежевываясь
Космологические идеи в памятниках апокрифической книжности 123
от античности, он подвергал критике тех, кто изыскивает естественные опоры
земли. Желание предупредить о непричастности собственной космологии к
схожим космологическим схемам, видимо, также имело место.
Сопоставимую в ряде деталей с предложенной Козьмой Индикопловом
космологическую схему воспроизводит апокриф «О всей твари», известный по
Троице-Сергиевому списку № 774 1531 года. Здесь многие постулаты
соответствуют антиохийской традиции. Как и в «Христианской топографии»,
основание Вселенной полагается в Божьей силе и одновременно опровергаются
мнения о существовании устоев Земли: «...ни на чслгъ жс землю по пов'Ьлснъсм
СИ. А НС АКО ТО БЛАД0СЛ0[в)цА ГЛЮ(т) НА СЛМЪ ИЛИ НА ИНОМЪ ЗСЛ1ЛА СТОИ(т)»47.
В предлагаемой апокрифом космогонической схеме комарный свод неба
опирается на четырехугольную землю. Движение светил, в полном соответствии
с антиохийской традицией, локализуется в воздушной сфере, заключенной
между небом и землей. Далее в тексте идут заимствованные из разных
источников сведения, причем некоторые из них даже не согласованы между собой.
Из содержания апокрифа следует, что наступление ночи начинается после
того, как ангелы снимают венец с Солнца, которое «в нощи по окиан^ ниско
л^тиСт) не wmaTc)»48. Затем вводится мифологический мотив: когда Солнце
трижды перед утром омывается в «Окияне», огромная птица Кур, разбуженная
поднявшимися волнами, бьет крыльями и будит всех петухов земных. Этот Кур
имеет поистине космические размеры — море достигает ему лишь до колена,
а голова поднимается до небес. В другой части апокрифического текста описан
гигантский «столпъ зовс(м)и адаматинъ»49. Как и Кур, он поднимается из Океана
до неба. Оба образа близки между собой, ибо имеют мифокосмический
характер. Они, как Древо мира, подчеркивают единство частей космоса. У гигантского
Кура обнаруживаются некоторые общие черты с Фениксом из «Прения Пана-
гиота с Азимитом». Пробуждение петухов, согласно этому памятнику,
происходит после того, как солнечная птица начинает бить крылами50.
Смена дня и ночи объясняется в апокрифе манипуляциями ангелов с венцом
Солнца. Аналогичные трактовки суточных перемен даются в «Откровении
Варуха», «Книге Еноха», апокрифических вопросах «От колика частей был
создан Адам» и «Прения Панагиота с Азимитом»51. Иное объяснение явлению
давал Козьма Индикоплов и антиохийцы, руководствовавшиеся естественной
логикой.
В апокрифе «О всей твари» высота космического дома, перекрытого комар-
ною небесною крышею, определяется равной поперечнику Земли. Согласно
такой логике расчетов, земное пространство могло мыслиться квадратным.
Плоскость Земли описывалась плавающей среди вод: «...нсво же кр^глвидно
КОМАрОЮ А ЗСМЛА НА "X #ГЛЫ. СЛИКО ЖС СЗ КОНСЦ ЗСЛ1ЛА ДО КОНСЦЬ Т0ЛИК0. Ж6 ДО
невеси толико жс и до воды на ней зсл\ла плавас(т). той жс вод^ нНк(с) конца»52.
О характере земной поверхности в тексте ничего не говорится, но, судя по
тому, что наступление ночной темноты объясняли передачей снятого
светящегося венца Солнца в руки ангелов, она вряд ли мыслилась иначе как более или
менее равнинная.
124 Космологические концепции и сведения в книжности Древ!
В силу компилятивности апокрифического текста характер высказанных
суждений достаточно противоречив. Постулируя существование бескрайней
бездны вод, которые объявлялись естественной опорой Земли, апокриф тут же
возвращается к антиохийской модели мироздания, убеждая читателя в том, что
«за лкианоллъ Ж€ €(с)ть з€л\ла нл н€и же рли и лл^ки»53. Какая из двух названных
земель является опорой неба? Как сочетается тезис о бесконечности вод с
постулатом об окраинных землях Вселенной? Почему сначала говорится, что
Земля ни на чем не основана, а затем опорой ее названы бесконечные воды?
На все эти встающие при чтении памятника вопросы ясного ответа нет.
Видимо, составитель текста был далек от интереса к собственно космологии
и, механически соединив разные фрагменты, не устранил заключенные в них
противоречия.
Антиохийская космологическая схема сочетается в апокрифе с явно
дохристианской концепцией земных опор, в качестве которых в данном случае
выступают воды. В контексте неканонического произведения присутствуют
явные мифологические архетипы: Мировой Океан, Кур, а также столп, подобно
Древу мира связующий сферы космоса воедино. Соотношение идеального и
материального начал мироздания еще не получили четкого
мировоззренческого осмысления. Характерно, что далекий от понимания богословских тонкостей
компилятор текста не ощущал отличий антиохийской и мифологической
космологии и посчитал возможным дополнить антиохийскую схему архаическими
элементами. Автор неканонического памятника «пустил Землю в плавание» по
безднам вод и тем самым дал основание для сопоставления мотива плавающей
Земли с широко распространенным в апокрифической литературе сюжетом об
огромных морских китах, удерживающих ее на себе.
В переводных древнерусских апокрифах китам, несущим на себе Землю,
отводится не просто фантастически-функциональная, а в полном смысле слова
мифокосмологическая роль. Причем далеко не всегда воды играют роль самого
нижнего основания мироздания. В памятниках чаще говорится о многослойных
устоях, нижние этажи которых включаются в вертикальную структуру единого
космоса. Например, согласно списку «Беседы трех святителей» из Соловецкого
собрания (РНБ. Сол. № 925/1035), Земля держится на китах, плавающих по
морю. Дно моря, в свою очередь, держится на «железном столпие»,
опирающемся на неугасимый огонь54.
Специфика бытования «Беседы трех святителей» требует пояснения. Ввиду
чрезвычайной неустойчивости состава вопросов и ответов «Беседы»
некоторые исследователи отказались от попыток выделения устойчивых редакций
этого памятника55. При полном отсутствии признаков какой-либо
систематизации варианты «Беседы трех святителей» компоновались из общедоступных
понятий о мире и вере, соединяя в себе библейско-апокрифический и
фольклорный элементы56. В большинстве списков «Беседы», количество которых
исчисляется многими и многими десятками, почти всегда присутствуют тексты
космогонической тематики, представляющие разнообразные варианты
апокрифической космологии57.
Космологические идеи в памятниках апокрифической книжности 125
Обратимся к сопоставлению некоторых космологических версий
памятника. В отличие от упоминавшегося уже Сол. № 925/1035, в другом списке
«Беседы» описывается сложная структура устоев с участием китов: Землю
держит «вода высока», ниже нее располагается «великий камень», который
стоит на четырех золотых китах, плавающих в огненном море. Это огненное
море держит другой огонь, вдвое больший огненного моря58.
Еще по одному варианту «Беседы» известен кит, называемый «великорыби-
ем» и «змеем елеафом». Это извергающее огонь чудовище, с огненным
дыханием которого связываются эсхатологические ожидания, помещается на
огненном море59. Апокрифического кита скорее можно считать мифологическим
олицетворением подземных вулканических сил, чем гигантской рыбой.
Высвеченная данной апокрифической редакцией мифологическая грань мотива кита-
чудовища позволяет ставить вопрос о возможном олицетворении в одном
образе водных и огненных подземных стихий, что и отразилось в смешении
черт рыбы и чудовища. Возможно, какие-то воспоминания об этом образе
сохранились в облике Индрик-зверя. Индрик русских духовных стихов — это
могущественное подземное чудовище, живущее в глубоких недрах и
распоряжающееся током подземных вод60. В апокрифе «Подвиги Федора Тирона»
обнаруживаем синонимичный Индрику образ архаического змея — властителя
подземных вод. Этот хозяин подземелий распоряжается водами. Об отношении
змея и Индрика к огненной стихии не говорится, как не говорится в
большинстве апокрифов и о причастности китов к огненному морю. Все-таки есть
некоторые основания полагать, что разновременные, полустершиеся грани
мифологического образа гигантского чудовища, объединяющего черты рыбы и
подземного зверя, имеют отношение к мифопоэтическому олицетворению
глубинных огненно-водных бездн, в сокрытую толщей земной поверхности
тайну которых пыталось проникнуть мифологическое сознание. Интерес к этой
мифологической тематике и отразили древнерусские переводы апокрифов.
Среди вариантов «Беседы трех святителей» есть текст, который усложняет
традиционный для этого произведения мотив устоев мироздания. Сначала
разворачивается обычная для «Беседы» космологическая картина: Земля
плавает по водам, воды держатся камнем, камень опирается на китов, несущих
свою ношу по реке огненной, которую, в свою очередь, держит
нижерасположенный огонь. Но в эту схему вводится дополнительная опора — некий
«первопосаженный дуб», коренья которого на силе Божией стоят: «В. Дл скажи
лли що дрьжить землю. рсТч). Вода висока. В. Дл що дрьжить воду. О. Клл\€нь
плосснь в€льми. В. Дл що дрьжить камень. О. Камснь дрьжить 4 китовс зллты.
В. Дл что дрьжить китов€ зллты. Р€Ч€. Р*Ькл огньнл(А. Да что дрьжить того
огнпл? Реме, други огнь €Ж€ к(с) пожечь того огнпл 2 чести. Дл что дрьжить того
огн1л. РсТч) доувь железный. Дзиллитъ рсТч). А подь зшлк що кТс). Плнлгиоть
рече. Водл. л здол*Ь тьма, л здолс огнь, л здолс лдь. а здол€ троись, л поздол€
ТАртлрь»61. Совершенно очевидно, что в данном случае мы имеем слияние
вертикальной космоустроительной схемы с сакральным образом Древа мира,
в мифокультуре олицетворявшего собой все ярусы Вселенной. Как прорастает
126 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
дуб сквозь космические зоны, в тексте не говорится. Грани этого архаического
образа отразили другие апокрифы. В «Прении Панагиота с Азимитом»,
например, говорится о могучем райском древе, крона которого достигает небес.
В апокрифе «О всей твари» столб пронизывает Океан и упирается в небо.
Дополняя друг друга, тексты дают представление о мифологическом
понимании единства мира по вертикали.
Новые детали к описанию нижней части мироздания добавляет список
«Беседы трех святителей» из РНБ. Сол. № 1138. В нем говорится о том, что
Землю несут на себе по Океану три великих кита, а тридцать малых китов
закрывают собой маленькие оконца по его периметру. Дно вод опирается на
великое железное семистолпие, в пределах которого помещается адово
жилище. Столпие держится огнем неугасимым, а под тем огнем находится денница,
что «прежде мира была сотворена». Там же помещаются необычные, неясные
по своему значению существа, крылатые и бессмертные, летающие мыслью,
«как паучина». Все мироздание, кроме того, «обдержится» воздухом, а киты в
оконцах наделяются привлекающим рыб райским запахом62. Упоминание
райского запаха дает основание заключить, что рай мыслился помещенным за
морем, в окраинной части Вселенной. В целом же мы имеем еще один вариант
устройства мира, объединяющий архаическую идею устоев с элементами антио-
хийской космологии, локализующей рай в пределах земного пространства.
В тех вариантах апокрифической «Беседы трех святителей», где наряду с
нижними устоями мироздания подробно описывается небесная сфера, звучит
тема тождества космоса и Бога. К примеру, в сербском списке «Беседы» из
собрания М. Слепче творение мира описывается как эманация Бога: Господь
выдохнул из недр своих рай, от голоса его произошел гром, от лица — солнце,
слово явилось молнией. Хрустальное небо, опирающееся на столбы железные,
а также воды, облака и звезды образуются волевым актом творения. Затем на
Тивериадском море по повелению Бога появляются три кита, а на тех китах —
Земля. Здесь же встречаем распространенный апокрифический сюжет о
гоголе, который назвался Сатаной. Из поднятого им со дна моря камня, точнее, из
искр от ударов переломленных его частей, Бог создает ангелов, а Сатана —
бесов63.
В сербской редакции «Беседы» эманационный принцип выдержан
непоследовательно. Мотивы эманации, когда мир разворачивается из Бога, а очередное
творение возникает из предыдущего, сочетаются с элементами креационизма,
когда отдельные части мира появляются сразу из ничего как результат
волевого творческого акта Бога. Нельзя не отметить, что тождественными Богу
оказываются только некоторые небесные объекты и связанные с небом
природные явления. Нижний же ярус мироздания, кроме поверхности вод моря
Тивериадского и китов, удерживающих на себе Землю, в данной редакции
апокрифа не обрисован.
Самая полная мифоапокрифиче.ская характеристика мироздания
содержится в тексте «Беседы трех святителей» из Сол. № 925/1035 (XVJI в.). Здесь как
бы объединены и обобщены разбросанные по разным вариантам «Беседы»
космологические сведения, выстроенные в целостную картину космоустроения:
Космологические идеи в памятниках апокрифической книжности 1_27
«В* р€М€ ЧТО €СЪ ВЫСОТА НК(с)нА1А ШИрОТА 3€(м) HAIA ГЛуБИНА МО(р)СКАА И р€М€
П€(т)рЪ ПрИНИ(|К) ВИД€ рИ5Ы «ДИНЫ Л*кжАЩА, V СуДЛ(р) ИЖ€ Е& НА ГЛАВ€ €ГО Н€
С рИЗАМИ Л€ЖИ(Т) НО WCOBH СВИ(т) НА €ДИНО(м) М€(с)тНк. Г р€М€ С^ДА(р) ВС ДВА
ПЛАТА СЛ^Ж€(В)НЫ1А НА БЛЮД€ В рИ£Ы €ГО В€(р>ХНЫ€. НБО. Пр€ИСПО(д)ня(|А)
Е^Зд[на] СТОИ(Т) IAKW рИ5А СТИХА(р) Ш€(с)ТАГО НВА. €ГО. А ПОПлХс) Ж6Л€(з)нО€
СТ01АНИ€ WKOAO В€ЛИКОГО MOplA НА Н€(м) Ж€ 3€(м) Л1А ПЛАВА€(т), А ПА(т)рАХИ(л)
ВХОДТЛИСХОСД). А ПО(Д) П01АСО(м) 3€(м) Л1А ТОЛСТ01А €А 1AKW СЗ ВОСТОКА Т ДО ЗАПАДА
И ПОВ€Л€ €ГО Г(С)АНЬ АНГЛО(м) СОГНАТИ n€H\f MO(p)CK\flO V Съ(т)вОрИТИ Зб(м)лЮ НА
Тр€ХЪ КИТ€(Х) В€ЛИКИ(Х) НА Три(т)Ц€ТИ МАЛы(х) КИТО® ЗАЛ1АЖ€(т) ТрИЦ€(т)
WKO(a) МОРСКИХ!* А ДША. l(x)- Тр€ТИ1А ЧаТс)ТЬ рАИСКИГА BOHIA 1Ду(т) рЫВЫ НА TV
ВОНЬ Y Т€(Л\) СЫТЫ БЫВАЮ(Т). А ГЛУБИНА (ж) ТОГО MOptA В€ЛИКОГО ^Л. рОТОГЬ,
Т0(Л)ЩИНА КА*(к) 3€(Л\)Л1А ТО(л)СТА ДНО Ж€ По(т) Т€(м) МОр€(м) В€ЛИКИ(м) ро(в)нО
К Ж€Л€(з)НОМу СТО(л)пИЮ. ТОГО Ж€ MOptA ДНО СТОИ(т). НА С€Л\И ТЫС€ЩА(х)
сто(л)пб(х) ту тоже €сть i адово жилище ту то(ж) и АнтихриТс^тт* с в газ л (н).
А МиТх)» АрТх)лГ€ЛЪ ПО(т)В€(р)ЖА€(т) €ГО ТОЖ€ СТО(л)пИ€ €ГО. Во(з)вЫШ€НО
СТОИ(Т) IAKO ТОГО Л\ОрГА ТО(ж) СТО(л)ПИ€ СТОИТЬ НА ИТН€ Н€1/ТАСИМО(м) ПО(д)
Т€(м) ЮГН€(М) TlfTO (Ж€) €СТЬ Д€НИЦА 1АЖ€ Пр€(ж) СО*(л)нЦА СОТВОрбНА. И Т\ €СТЬ
ЛЮДИС КриЛАТИ Л€ТАЮ(Т) IAKO ПАучИНА МЫСЛИЮ А СМб(р)тИ Н€Ту и(м). ТО Ж€ ИНОГО
ничего но во(з)д#(х) ежи" '»" евстъ д€(р)житъ, то ти есть зв€(з)да iako ризл.
fi р€Ч€ ГД€ П€(р)В€€. БГЬ БЫ(л) 1Ж€ Н€ Б€ СВ€ТА И р€Ч€. Три КОМАрЫ НА Н€Б€С€(х),
В Т€(Х) КОМАр€(х). АГН€Ц€(м) TlfTO {(С) С^ДАрЬ А CBCTtf Нб(т) КО(н)ЦА Г прОТО-
(л)куи ми троицу, И р€Ч€. в т€(х) комлр€(х) Йтцъ У снъ I стыи дхъ, св€(т) есть
А Др^ГЫИ СВ€(Т) UTHb €СТЬ. В р€Ч€ С5 Ч€ГО С\((т). а(г)гЛИ Со(т)вОр£НЫ Г р€Ч€ СЗ ДХА
Г0С)ДН1А Т \Jd СВ€ТА V Gj ГН1А. И р€Ч€. СЗ М€ГО С0(Д)НЦ€ СО(т)вОр€НО €С*Ь Ё р€Ч€. Ш
Н^(т)р€НИ1А рИ5Ы Г(С)ДН1А. Г р€Ч€ СЗ М€ГО A\fHA С0(т)В0р€НА БЫСТЬ. Ё p€M€ СЗ А€рА
СЗ Пр€(с)тОЛА Г(С)АН1А И СЗ BO(3)AVXa *■ Р€%1€- €^ТА А(Г)Г€ЛА ГрО(м)НА1А НАИ€
€Л€1н)сКИИ СТАр€(ц) ПСр^ЛЪ НАХО(р) €СТЬ ЖИДОВиТн). А ДВА €СТА А(г)гЛА МО(л)нИ-
ИНА»64.
Характеристика верхней части мироздания процитированной редакции
соответствует сведениям сербского списка М. Слепче, по сравнению с
которым опущено описание гоголя. Большинство мотивов апокрифа встречается в
списках «Беседы» из сборников РНБ. Сол. №942 и Сол. № 1138. Совпадения
касаются описания трех китов на море Тивериадском, характеристик устоев
мироздания, включающих рассказ об опирающемся на огонь столпии, сведений
о локализации ада, о помещении в самом нижнем ярусе мироздания крылатых
бессмертных существ и некоторых других частностей. Расхождения
заключаются в изменениях последовательности чередования подземных ярусов.
По-разному локализуются несущие землю киты — то на водах, то в подземном
огненном море. Нет в Сол. №925/1035 и образа камня, держащего море. Его
замещает опирающееся на столпие дно. Нет также и конечной опоры в виде
дуба с могучими корнями.
* В рукописи имена трех святителей, участников «Беседы», обозначаются
сокращенно, только начальными буквами: И — Иоанн, В — Василий, Г — Григорий.
128 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
Предложенный сборником Сол. №925/1035 вариант космоустроения
лучше, чем в иных текстах, представляет пантеистически-эманационный характер
происхождения мира: ангелы появляются от света, огня и Святого Духа.
Солнце — от внутренней ризы Господней, а Луна — от воздуха и престола
Бога. Антропоморфное восприятие космоса отразилось в отождествлении
мироздания с одеждами Бога, что, как и эманация, фактически означает тождество
мира и Бога. Проецирующиеся на зоны мира элементы одежды в знаковом
смысле указывают на то, что той или иной сфере мира соответствует
определенная часть обожествленного космического тела, воспринимавшегося
антропоморфно 65.
В нашем тексте сударь — головное покрывало, — как и голова в
мифологических олицетворениях космоса, обозначал верхнюю, небесную часть
мироздания. Стихарь — длинный, с широкими рукавами подризник —
прообразовывал многослойностью одежных покровов многослойность небес («стихарь
шестого нбВА €ia»). Преисподняя была уподоблена нижней части одеяния (риз).
Круг пояса в горизонтальном значении образа знаменовал кольцо Океана,
охватывающего Землю. В целом же пояс, как предметно-символический знак,
в символике вертикальной стратификации олицетворял собой срединную,
пограничную часть мироздания, центр мира, его водно-земную плоскость,
которая отделяла нижние устои от небесных сфер.
Едва ли случайно антропомифологические характеристики космоса в
рассматриваемой редакции «Беседы» соединены с рассказом о сотворении Адама
из природных стихий66. Этим подчеркивалась космичность Адама,
обнаруживающая тот же мифологический код, что и антропоморфный образ мира.
В свое время еще А. П. Щапов указал на соответствующий архаическим
воззрениям смысл апокрифа, в котором мифологические мотивы решительно
преобладали над библейскими67. Уточняя это верное наблюдение, можно
добавить, что такой характер имел весь обозначенный нами цикл апокрифических
космологических описаний. Этот цикл сохранил под оболочкой христианских
терминов и понятий, не раскрывавших доктринальной сути проблем,
древнейшие индоевропейские мифологические архетипы. Прототипы многих
космологических идей апокрифической «Беседы трех святителей» обнаруживаются в
мифокультуре. Когда Ксенофан сформулировал постулат о том, что Земля
уходит своими корнями в бесконечность, а Эмпедокл заявил о существовании
бесконечных глубин Земли68, то оба античных философа попросту повторили
одно из положений Гесиода о корнях Земли и пустынного моря69. В его
космологии мифологический образ корней обозначал собой одновременно и истоки,
и крайние пределы физического пространства земли, воды, неба и пустынных
путей. В картине мира, по Гесиоду, ниже корней помещался только Тартар —
дно мира и великая бездна, в которой обитают сон, ночь, смерть, и Стикс —
ответвление Океана, опоясывающего Вселенную. Поскольку Гесиод
упоминает о шее Тартара, которую в три слоя опоясывает ночь, исследователи
уподобили нижний этаж многоярусной Вселенной своеобразному подвалу
вселенского здания, или гигантскому космическому сосуду, в котором свирепствуют
вихри и из которого растут корни мира70.
Космологические идеи в памятниках апокрифической книжности 129
ел
CNO
5?н«0
//hU\}
эпТЦнЛ
\ъ*}~н*
C-Pt
Рис. 1-9. Символический образ мироздания.
Из рукописи, содержащей «Шестоднее» Севериана Габальского.
В рисунке нашли отражение архаические представления
о Тартаре и воздушных сферах. РГБ. Муз. № 921. XV в.
5 Зак. 4748
130 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
Парадоксально совпадают апокрифические описания космоса с образом
мира по Гомеру. В «Илиаде» и «Одиссее» отразились представления о космосе
как об огромном жилище. Основание этого космического дома — плоская,
ограниченная в своей пространственной протяженности Земля. Земной диск
окружает Океан, названный прародителем всего. Полусферический свод
металлического неба держат атланты, с которыми ассоциируются небесные
опоры апокрифов. Гора Олимп, считавшаяся обителью богов, сливалась с небом.
Здесь, ниже небесной тверди, но выше эфирной среды облаков, пребывают
боги. Воздух, разлитый по поверхности земли, делает богов невидимыми.
Солнце при заходе скрывается в водах Океана и выходит с другой его стороны.
В подвале космического дома расположено подземное царство мертвых, с
выходом наружу в Океан. Ниже залегает глубинная бездна Тартара — тюрьма
бессмертных богов71. Вертикальная организация структурных элементов мира
в античной мифологии и в апокрифических текстах совпадают.
Многие образы апокрифических текстов генетически восходят к глубокой
дохристианской архаике. Уподобление мироздания одновременно Богу, дому и
человеку выражает пантеистическую идею тождества мира с Богом и
человеком. Для сравнения приведем пример, отразивший отождествление Космоса
с Богом, демонстрирующий аналогичную символику антропоморфных
олицетворений:
Как скоро проглотил он* силу Фалеса перворожденного
И строение мира вместил в своем пространном лоне,
Смешалась с его глазами сила и крепость божества,
Так очутилась теперь внутри Зевса, со всею Вселенною,
Расширенного эфира и неба слепящая высота.
Широты неизмеримого моря и зеленеющей земли,
И необъятный океан, и крайние глубины в преисподней,
И реки, и Понт безграничный, и все прочее,
Все бессмертные, блаженные боги и богини,
Все, что произошло и часто после имеет произойти,
Все это в лоне Зевса вместе соединилось...
Зевс был первый (первобожество) и
Зевс последний (как Кронид) громовержец.
Зевс глава, Зевс середина; из Зевса все произошло.
Зевс был муж и вечный Зевс был дева
(он соединил в себе все творческие силы);
Зевс твердыня земли и звездами усеянного неба.
Зевс дыхание всего и поток неустающей теплоты.
Зевс корень моря, Зевс солнце и луна;
Зевс властелин, Зевс сам первовиновник Вселенной
Одна сила: один дух, могучая основа мира.
* Зевс. — В. М.
Космологические идеи в памятниках апокрифической книжности 131
И одно божественное тело, в котором все круговращая:
Огонь и вода и земля и эфир, ночная тьма и дневной свет,
И Метис (прозорливость), первый рождатель и Эрот
Ибо все это вмещается в пространном мировом теле Зевса
Его голова и прекрасное лицо его.
Это блестящее небо, и кругом как бы золотые локоны,
В несказанной красоте носятся сверкающие звезды.
Два золотых рога, по одному с двух сторон,
Составляют восход и заход, врата небесных богов
(восходящие и заходящие звезды, небесные тела);
Глаза — это солнце и противостоящая луна.
Истый царственный дух есть негибнущий эфир;
Ибо он все слышит и наблюдает. Ибо нет
Ни речи, ни голоса, ни шума, ни вести,
Что утаились бы от ушей Зевса, всемогущего Кронида.
Такую бессмертную голову, такую мысль имеет он.
Столь же блестяще у него туловище, неизмеримое, несокрушимое,
Крепкое, с сильными членами, гигантское;
Плечи бога и грудь и широкая спина,
Это — далеко простирающийся воздух и крыльями окрылен,
Так что носится повсюду; его священное лоно
Есть общая мать-земля и высоко поднятые вершины гор,
А посередине пояс из волн глухо шумящего моря.
Подошвы его ног — корень земли,
Мрачный тартар и край на свет многорадостный
Все извести из лона, являя чудо за чудом п.
Тождество космического значения дома и человека* отразилось в
перенесении антропоморфных названий на элементы избы: причелины с солярной
символикой украшений (ср.: чело, голова — символ неба, глазницы окон и т.д.).
Взаимозаменяемость космических олицетворений отразилась и на семантике
греческого термина «космос» (космос;), который служил для обозначения
мироздания и отдельных его частей (неба, земли, света), а также имел значения
«порядок», «строение», «устройство» и мог называть людей, украшения, наряд.
Существование синонимичных в мифологическом восприятии образов А. Ф.
Лосев объяснял тем, что создание представления о едином осуществляется через
его части: «Если космос, взятый целиком, состоит из бесконечного количества
частей, то и любая его часть состоит тоже из бесконечного количества частей,
и в этом отношении целый космос и любая часть его совершенно
тождественны... ибо во всякой своей части он опять присутствует весь целиком, и опять
его можно делить сколько угодно»73.
* Существовали и другие символические модели мира (Древо мира, одежда, на
которую проекция космоса перешла непосредственно с тела).
132 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
В древнерусской переводной письменности наряду с «Беседой» счастливо
сохранился материал, обнаруживающий архаические представления о
тождестве мира, дома и человека. В «Вопросах и ответах Афанасия князю Антиоху»
мир, по принципу составляющих его четырех первооснов (стихий),
объявляется четырехугольным пространством: «...отъ четырех конецъ глемъ миру
состлвлену выти, проявленно уво яко четыри есть концы, востокъ и запад, и
полунощь, и полдень, четыри сти^я рлждлет рекше теплое и студеное и сухое
и мокрое, взыщем прочее, кое стихиа отъ коея части MipCKie рАждлется»74.
Дальнейшее развитие этой мысли приводит автора «Вопросов» к утверждению
о том, что плоть человека, состоящая уже из тех же четырех стихий,
уподоблена дому телесному, составленному из четырех стен: «...в си(х) четырех
состлвех яко же в четырех стЬнахъ в дому чгЬлесне рлвно некоей голувицы
ЗАтворенА есть душа, во время уво смерти повел^шем божшм отступлютъ друг
от другА четыре составы, яко же вы реклъ. разорятся четыре стйны ХР^му.
отходит яже внутрь зАтворенля голувицА рекше душа, и первое уво отступлет
кров. сир'Ьч теплый животный состав. чгЬм же мертвая чгЬлесл желчь уво имут
по смрти. и гл'Ьнъ. и слуз. кров же никако же»75. Та же глубоко мифологическая,
архетипическая мысль о тождестве Бога, дома, человека и космоса выражена
народными поверьями: небо — это не только риза Бога, но и терем Господа,
звезды — это одновременно и «зирки» (то есть небесные глаза) и окна неба,
сквозь которые вылетают ангелы. Не случайно, что когда античная наука
перешла к более абстрактному геометрическому представлению о Вселенной
как о шаре, Эмпедокл обосновал новое космологическое видение негативным
антропоморфизмом. Его Сферос предстает как божественное единство любви
и вражды. Космический Сферос ни по каким признакам не сходен с человеком:
«...нет ни рук у него... нет ни быстрых колен, ни ступней, ни частей детородных:
равный самому себе отовсюду был шар, или сфера»76.
Может возникнуть закономерный вопрос: какое отношение имеют
переводные тексты апокрифов и их древнегреческие аналоги к идейной жизни Древней
Руси? В диссертации Т. С. Галиченко, защищенной в 1987 г., было убедительно
показано, что славянская мифология заключала в себе индоевропейские
универсалии, которые, в силу устного характера культуры славян, не нашли
отражения в собственных памятниках письменности. В мифологических
сюжетах апокрифов по ассоциации мотивов узнавалось свое, созвучное славянскому
мировосприятию. Поэтому переводные мифоапокрифические тексты
«оживали» в отечественной культуре. Это не значит, что греческие мифологемы были
зеркальным подобием славянских. Совпадали смыслозначимые узловые идеи
переводных текстов с соответствующими им воззрениями, существовавшими
в устной форме. Именно поэтому при трансляции чужого мифа в нашу
культуру через переводные памятники абсолютно преобладала мотивность в ущерб
сюжету77. Отсюда же и различие вариаций мифокосмологического сюжета
«Беседы трех святителей», в которых независимо от нюансов интерпретации
повторяются несколько мифокосмологических образов синонимического зна- -
чения. Наличие их в переводной литературе стало той своеобразной формой
отражения традиционных пережитков мифологизма в общественном сознании
Космологические идеи в памятниках апокрифической книжности 133
Древней Руси, которые во вторичном своем приложении оказались важным
смыслозначимым элементом отечественной культуры. В простонародной и не
чуждой двоеверия среде сохранялся интерес к мифу, который не могла
удовлетворить христианская книжность. Церковная цензура не способствовала
сохранению в книжности такого рода произведений. Поэтому в рукописях
количество сюжетов, смыкавшихся с языческим традиционализмом и
двоеверием, минимально.
Типологически космологические сюжеты «Беседы» более всего
соответствуют концепции Козьмы Индикоплова, отражая синтез антиохийских
представлений о мире как доме с древними языческими космогониями. В тех случаях,
когда «Беседа трех святителей» воспроизводила откровенно пантеистическую
трактовку бытия, космология, типологически сходная с антиохийской, а
генетически связанная с мифокультурой, представляла близкие и понятные двое-
верной среде архаические воззрения.
Мифоапокрифическая космология «Беседы» и космологические идеи
Козьмы Индикоплова, несмотря на их концептуальные различия, генетически
восходят к единой традиции. Общая для обоих произведений архаическая основа,
близкая народному миропониманию, возможно, и породила тот резонанс,
который вызвали оба памятника в отечественной культуре. Для неизжитого
мифологического мировосприятия в общественном сознании Древней Руси были
одинаково близкими и восходящая к Гомеру архаика «Беседы», и не чуждый
этой архаике образ космического дома антиохийцев.
В остальных случаях апокрифические тексты рисуют либо неопределенную
космологическую картину, либо воспроизводят геоцентрическую концепцию
в разных, расцвеченных яркими и наглядными образами вариантах.
Примечания
1 В данном случае утверждение не распространяется на работы филологов,
дававших общую характеристику апокрифа и практически не касавшихся анализа
апокрифической космологии. В качестве источника, содержащего сведения об устройстве
мироздания, «Книгу Еноха» привлек Т. Райнов (см. его работу: Наука в России XI-
XVII веков. Очерки истории донаучных и естественнонаучных воззрений на природу.
М.;Л., 1940. С. 36-41).
2 См.: Мещерский Н.А. К истории текста славянской книги Еноха // ВВ. Т. 24.
1964. С. 91-108. Извлечения из «Еноха», распространявшиеся вместе со списками
«Мерила Праведного» в XV-XVI вв., указывают лишь на интерес к теме праведного
суда, а отнюдь не к космологическому содержанию памятника, воспроизводимого
немногочисленными рукописями краткой редакции (ГИМ. Увар. №3(18). Л. 6266-
6396 (XV в.); БАН. №45.13.4. Л. 3576 и след. (XVI в.); Рукопись Белградской
народной библиотеки №443. Л. 1а-25а (XVI в.); Рукопись Венской библиотеки № 125.
Л. 3056-3386 (XVI в.); РГБ. Барс. 6. №. Л. 9а-34а (XVII в.).
3 БАН. №13.13.25. Л. 93а-125а (XV-XVIbb.); Рукопись Белградской народной
библиотеки №321. Л. 269а-232а; ГИМ. Увар. № 1828. Л. 522а-547а (XVII в.); ГИМ.
Хлуд. список 1679г. (см.: Мещерский Н.А. Апокрифы в древней славяно-русской
134
Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
письменности (ветхозаветные апокрифы) / / Методические рекомендации по описанию
славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР
Вып. 2. Ч. 1. М., 1976. С. 203).
4 См.: Соколов М. И. Славянская Книга Еноха Праведного. М., 1910. С. 4-5.
5 Ср.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов. М., 1997. С. 82, 223, 235; Палея
Толковая по списку, сделанному в Коломне в 1406 г. М., 1892. С. 69-71.
6 См.: Соколов М. И. Указ. соч. С. 6, 8.
7 См.: Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования. М., 1997. С. 56. Примеч 11
12.
8 См.: Там же. С. 66. Тихонравов И. С. Памятники отреченной русской литературы
Т. 1. СПб., 1863. С. 350.
9 Златоструй: Древняя Русь Х-ХШ вв. М., 1990. С. 283, 289.
10 См.: Апокрифы Древней Руси. С. 118.
11 См.: МНМ. Т. 1. М., 1987. С. 37-38; Великие Минеи Четьи. Ноябрь. Дни 13-
15. СПб., Стлб. 1894-1903.
12 PG. Т. I. Col. 1221.
13 См.: РГБ. Рогож. №608. Л. 2486.
14 См.: Соколов М.И. Указ. соч. С. 10-22.
15 Соколов М. И. Указ. соч. С. 25.
16 Там же. С. 26.
17 См.: Там же. С. 28-29.
18 Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. СПб., 1894. С. 53.
19 Цит. по: Щапов А. П. Смесь христианства с язычеством и ересями в
древнерусских народных сказаниях о мире // Щапов А. П. Сочинения. Т. 1. СПб., 1906. С. 36.
20 Публикацию памятника см.: Златоструй. С. 257-282; Мильков В. В.
Древнерусские апокрифы. СПб., 1999. С. 476-499.
21 Например, в картинах, которые открываются Варуху при восхищении на небеса,
пророку предстают гибридного (с чертами птиц, людей и животных) вида чудовища,
в которых Бог превратил дерзостно штурмовавших небо строителей Вавилонской
башни. Воздаяние здесь описано по типу реинкарнации.
Возьмем другой пример: Варух рассказывает еще об одном увиденном им на
небесах чудовище — гигантском, космических масштабов змее, который пьет воду
Мирового Океана, предотвращая затопление земли. Змей держит уровень земных вод
и не лопается, и это при том, что сотни рек, включая райские, непрестанно питают
Океан-море. С одной стороны, здесь можно предположить, что апокрифом
воспроизводится некое символическое иносказание, объясняющее природные процессы
круговорота воды в природе. С другой — образ змея вызывает прямые ассоциации с
древними мифами о змеевидных существах и с фольклорными описаниями водных чудовищ,
укрощенных героями сказок и духовных стихов. Одновременно образ змея
символизирует ад ненасытный.
Варух видит на небесах огненную колесницу Солнца, влекомую крылатыми конями
в сопровождении ангелов. Само Солнце выступает в антропоморфном обличье в виде
мужа со светящимся венцом на голове. В женском, как это и свойственно
пантеистически-антропоморфному мировосприятию, обличье предстает в апокрифическом
рассказе Луна, колесницу которой в сопровождении ангелов влекут волы. Если принять
во внимание, что в мифологическом сознании конь прочно ассоциировался с Солнцем,
а Луна с волом (быком), да к тому же вспомнить архаические поверья и мифы
некоторых древних народов о колесницах небесных светил, то мифологические
реминисценции в апокрифическом контексте вполне можно отнести к особому смысло-
Космологические идеи в памятниках апокрифической книжности Г35
значимому пласту повествования, синкретические аналоги которых редко встречаются
в произведениях христианской литературы.
Мифологические ассоциации вызывает детально прорисованный в апокрифе образ
чудесной сказочной птицы Феникс, которая выступает спутницей Солнца,
покровительницей мира и вместе с зависящими от нее земными петухами является
провозвестницей света.
К тому же кругу дохристианских по своему происхождению образов относится
описание громадной небесной горы, где локализуется огромное озеро и собираются все
птицы мира, включая особенно выделяющихся среди них четырех гигантских птиц.
Близкие соответствия этому мифоапокрифическому образу находим в «Ригведе»,
повествующей о Рипейских горах — крайне периферийном по отношению к обжитому
миру, сакральном центре, объединяющем в себе черты земного и внеземного.
Представления о высоких горах типа Высокой Хары или Меру постоянно присутствуют в кругу
пережиточных архаических воззрений многих древних народов. Здесь помещается
страна блаженных предков и богов, отсюда берут начало реки Вселенной, в этих,
недоступных простым смертным, краях живут связующие сакральный и реальный миры
священные птицы, подобные индийской носительнице опьяняющей сомы Гаруде, сюда
в облике птиц слетаются души умерших, здесь же зимуют земные птицы, по поверьям,
возвращающиеся из райских мест весною. Апокрифическое «Откровение Варуха»
предстает слишком насыщенным образами, не имеющими ни прямого, ни косвенного
отношения к христианству.
22 См.: NovakovicSt. Otkrivene Varuhove // Starine. Kn. 18. U Zagreby, 1886. S.203-
209; Лавров П. А. Апокрифические тексты // СОРЯС. Т. 67. 1899. С. 149-151;
Соколов М. И. Апокрифическое откровение Варуха / / Древности: Труды славянской
комиссии Императорского Московского археологического общества. Т. 4. Вып. 2. М.,
1907. С. 201-258.
23 РГБ. Син. №363; РГБ. Ф. 299. №173. Л. Зб-7а. Синодальный список №363
прежде публиковался Н. С. Тихонравовым (см. его работу: Апокрифические
сказания // СОРЯС. Т. 58. 1894. С. 48-54). Перевод по этому изданию был осуществлен
А.Ю.Карповым (см.: Златоструй: Древняя Русь Х-ХШ вв. М., 1990. С. 276-282).
24 См.: РГБ. Син. №363. Л. 2486.
25 См.: Там же. Л. 250а.
26 Там же. Л. 246а.
27 См.: Там же. Л. 248а-248б. Ср.: Апокрифы Древней Руси. С. 49.
28 См.: РГБ. Син. № 363. Л. 9486.
29 См.: Там же. Л. 249а.
30 См.: Там же. Л. 246б-248а. Повествование о рае, виноградной лозе и потоке
интерполировано в апокриф, но черты, указывающие на земную топографию рая, не
противоречат описанию впадающих в Океан райских рек. Все эти мотивы связаны с
концепцией земного рая.
31 Древнейший русский список из Успенского сборника ХИ-ХШвв. (ГИМ. Син.
№ 1063/4) опубликован (см.: Успенский сборник ХИ-ХШвв. М., 1971. С. 169-177).
Опубликован также сербский список XIV в. (см.: Попов А. И. Описание рукописей и
каталога книг церковной печати библиотеки А.И.Хлудова. М., 1872. Отд. 7. № 195.
С 414-419). По списку XV в. (РНБ. Соф. № 1488. Л. 1б-10а) апокриф опубликован
в кн.: Милъков В. В. Древнерусские апокрифы. С. 499-527.
См.: Яцимирский А. И. Библиографический обзор апокрифов в южнославянской
и русской письменности. Вып. I: Апокрифы ветхозаветные. Пг., 1921. С. 34, 247-250;
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1: XI — первая половина XIV в.
136
Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
Л., 1987. С. 95-98 (далее — Словарь...); Каган М. Д., Понырко И. В.,
Рождественская М.В. Описание сборников XV в. книгописца Ефросина // ТОДРЛ. Т. 35. Л.,
1980. С. 64.
Древнерусские тексты неканонического произведения, известные как «Видение
Исайи», — это вторая часть большого неканонического сочинения, куда, кроме того,
входит апокрифическое описание пророчеств и мученической смерти Исайи. В полном
виде состоявшее из разнородных и разновременных частей произведение дошло до нас
в так называемой эфиопской версии, которая представлена несколькими списками
XV-XVIIIbb. Объединивший в себе несколько исходных источников, пространный
вариант апокрифического произведения был известен под названием «Вознесение
(восхождение) Исайи». О древнем происхождении памятника свидетельствуют кумран-
ские рукописи, в которых отражено содержание апокрифа.
Апокриф, особенно его вторую часть, можно рассматривать как преисполненное
ярких подробностей дополнение к канонической книге пророка Исайи, где говорится, что
Исайя был восхищен на небо и предстал перед Богом. В Древней Руси канонические
пророчества обнаружены уже в XII в. в «Паремийнике Григоровича» (РГБ. Рум. №2
[1685]). В канонических пророчествах видят указание на будущее рождение Марией
Христа и предвосхищение событий последних времен. О неизбежности наказания в
связи с гибелью мира говорится также в первой части пространного варианта апокрифа.
Первая часть «Видения Исайи», где повествуется о мученической смерти пророка
от перепиливания деревянною пилою, была известна Иустину, Тертуллиану и Ориге-
ну. Кроме того, Епифаний свидетельствовал, что еретики-архонтики используют в
своих целях «Вознесение Исайи». Учитывая датировку реминисценций апокрифа в
христианской письменности, а также то обстоятельство, что само его происхождение
связывают с кумранской общиной, время появления неканонического памятника можно
отнести к I—II вв. н. э.
В первой части, некогда состоявшей из пяти глав, кроме описания мученической
смерти, на которую Исайя был предан царем Манассией, говорилось о предвосхищении
пророком своей кончины и о запрещении им царю Езекии пойти против воли Господа
и умертвить сына своего Манассию, когда тот услышал такое пророчество. Здесь же
говорилось об уединении пророка и оплакивании им беззаконий в Израиле. Давались
предсказания разрушения Иерусалима, пришествия Христа, который в тексте эвфеми-
чески назван Возлюбленным и о котором говорилось, что он должен принять облик
человека и претерпеть унижения и мучения от иудеев. Говорилось также о Распятии,
о Воскресении на третий день, которое должны возвестить посланные Возлюбленным
(то есть Сыном Божиим) 12 апостолов, о Вознесении Христа на седьмое небо, о том,
что спасение уготовано тем, кто уверует в Возлюбленного. Часть пророчеств
посвящена описанию знамений «последних времен», в связи с чем говорилось о воцарении
на земле князя мира — убийцы своей матери, о вражде и соперничестве его с Богом,
о явлении Возлюбленного с праведниками, об уничтожении его гневом мира, ибо мир —
это область, над которой властвовал Вериал (Сатана).
Полный греческий текст первой части до нас не дошел. Видимо, не последнюю роль
здесь сыграли греческие Индексы запрещенных книг. Обнаружены лишь греческие
фрагменты, относящиеся к V-VI вв., и переработка всего текста, осуществленная в XII в.
(т. н. Греческая легенда). Существуют также фрагменты этого апокрифа на коптском
и латинском языках, относящиеся к IV-VI вв.
Вторая часть, в которой описывается восхождение пророка Исайи на небо,
является экстатическим видением сокровенных тайн внеприродных сфер. Она
представлена сербскими, болгарскими и древнерусскими списками XII-XVI вв., которые иссле-
Космологические идеи в памятниках апокрифической книжности 137
дователи возводят к староболгарскому протографу X-XI вв. Можно сказать, что этот
неканонический текст сохранился благодаря славянской книжной традиции,
проявлявшей устойчивый интерес к этому памятнику. И все это вопреки тому, что, начиная
с «Изборника Святослава 1073 года», все Индексы накладывали запрет на
распространение «Видения Исайи». Поскольку наиболее полное представление об апокрифе дают
славяноязычные списки, а соответствующие им полные греческие варианты и вовсе
отсутствуют, высказывается мнение, что опубликованный в 1522 г. под названием
«Viso mirabilis Isayae prophetae, in raptu mentis, quae divinae Trinitatis arcanal et. laosi
generis humani redemptionem continet» латинский текст «Видения» является
переводом со славянского.
Будучи частью пространного, компилятивного по составу апокрифа, «Видение Исайи»
на славяно-русской почве существовало как вполне самостоятельное произведение,
как бы повторяя судьбу исходной составной части пространной редакции апокрифа,
которая до появления обобщающей редакции существовала обособленно. Другими
словами, изолированное существование «Видения Исайи» вне пророчеств вполне
органично, причем и протографом мог быть не пространный вариант, а лишь
соответствующая составная часть его. Все славяно-русские списки, количество которых, по
неуточненным данным, составляет не менее четырнадцати, воспроизводят одну и ту
же редакцию.
Общее число исследований памятника невелико, причем в них затрагивается
преимущественно текстологическая и сугубо религиозная проблематика. Попыток
идейно-мировоззренческого анализа «Видения Исайи» не предпринималось (см.: Порфирь-
ев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 1872.
С. 294-305; Рыстенко А. В. К литературной истории апокрифа о «Восхождении Исайи».
Одесса, 1912; ЯцимирскийА. И. Библиографический обзор апокрифов в
южнославянской и русской письменности. Вып. I: Апокрифы ветхозаветные. Пг., 1921. С. 247-250;
Иванов Й. Богомилски книги и легенди. София, 1925. С. 131-164; Каган М. Д.,
Понырко Н. В., Рождественская М. В. Описания сборников XV в. книгописца Ефро-
сина // ТОДРЛ. 1980. Т. 35. С. 64; Словарь книжников и книжности Древней Руси.
Вып. 1: XI — первая половина XIV в. Л., 1987. С. 97-99).
33 РНБ. Соф. № 1488. Л. 36.
34 Там же. Л. 4а.
35 РГАДА. ф. 181. № 53; ГИМ. Увар. № 1304/85; РГБ. Волок. № 549; РГБ. Тихонр.
№704; РНБ. Сол. №711/653; ГИМ. Син. №210, №211; РНБ. Пог. №1435 (см.:
ИстринВ.М. Замечания о составе Толковой Палеи // ИОРЯС. 1897. Т. 2. С. 189-
200; ЯцимирскийА. И. Указ. соч. С. 89-100; Мещерский И. А. Указ. соч. С. 196-197;
Словарь... С. 47-49, 285-288; Щеглов А. Я. Толковая Палея // Русская философия:
Словарь. М., 1995. С. 516-517).
36 Тихонравов И. С. Указ. соч. С. 65.
37 См.: Там же. С. 68-69.
38 См.: Там же. С. 103-104.
39 См.: Златоструй... С. 289.
40 См.: Тихонравов Я. С. Апокрифические сказания // СОРЯС. Т. LVIII. №4.
СПб., 1894. С. 32-47.
41 См.: Мочульский В. Н. Следы народной Библии... С. 69. Установление
местонахождения преисподней по аналогии с устройством небес отражает поиски симметрии
в картине мироздания.
42 Там же. С. 66-67; Щапов А. П. Указ. соч. С. 120.
43 См.: История русской литературы. Т. 1. М.; Л., 1941. С. 75; Словарь... С. 54-56.
138 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
44 См.: РГБ. Рогож. № 608. Л. 238а (публикацию см.: Мильков В. В. Древнерусские
апокрифы. С. 499-527).
45 См.: Там же. Л. 241а.
46 Имеется один случай, когда в апокрифической традиции обнаруживается
отражение геоцентрической тематики, не связанной с описанием небес. В «Повествовании
о Соломоне и Китоврасе» упоминается двуглавый муж, живущий под землею, где
солнце восходит с запада и обходит землю снизу (см.: Тихонравов Я. С. Указ. соч. Т. 1.
С. 258). Здесь концепция геоцентризма совмещается с пифагорейскими воззрениями
на антиподов.
47 Тихонравов Я. С. Памятники отреченной русской литературы. СПб., 1863. Т 1
С. 348.
48 Там же. С. 349.
49 См.: Там же. С. 350.
50 См.: Архангельский А. С. Творение отцов Церкви в древнерусской письменности
Т. I—II. Казань, 1889. С. 140.
51 См.: Архангельский А. С. Указ. соч. С. 199; ср.: Златоструй: Древняя Русь X-
XIII вв. М., 1990. С. 278-279; Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования. М.,
1997. С. 49.
52 Тихонравов Я. С. Указ. соч. Т. И. С. 140, 350.
53 Там же. С. 350.
54 См.: Щапов А. Я. Исторический очерк... С. 111.
55 См.: Архангельский А. С. Указ. соч. С. 189-190.
56 См.: Словарь книжников и книжности Древней Руси: Вторая половина XIV — XVI вв.
Ч. 1. Л., 1988. С. 89-93.
57 См.: Мочулъский В. Следы народной Библии в славянской и древнерусской
книжности. Одесса, 1893. С. 66-71; Архангельский А. С. Указ. соч. С. 113 и след.;
Щапов А. П. Смесь христианства с язычеством и ересями в древнерусских народных
сказаниях о мире // Щапов А. П. Сочинения. Т. 1. СПб., 1906. С. 33-46.
58 См.: Щапов А. Я. Исторический очерк... С. 111.
59 См.: Там же.
60 См.: Голубиная книга. Русские народные духовные стихи. XI-XIX вв. М., 1991.
С. 41; Федотов Г. Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. М.,
1991. С. 69.
61 Архангельский А. С. Указ. соч. С. 140.
62 См.: Веселовский А.Н. Разыскания... // СОРЯС. 1891. Т. 53. Вып. 6. С. 133.
63 См.: Щапов А. Я. Указ. соч. С. 100. Эманационный принцип космологического
описания в рассматриваемой редакции «Беседы трех святителей» соответствует
антропоморфическому пантеизму космогенеза «Голубиной книги» (см.: Там же. С. 101).
Описание неба, опирающегося на железные столбы, встречается также в «Прении Панагио-
та с Азимитом» и в апокрифическом повествовании о Макарии Римском (см.:
Мочулъский В. Я. Следы народной Библии в славянской и древнерусской письменности.
Одесса, 1893. С. 66; Тихонравов Я. С. Указ. соч. Т.Н. С. 39).
64 РНБ. Сол. №925/1035. Л. 1736-1746. Данный текст неоднократно
публиковался (см.: Щапов А. Я. Смесь христианства с язычеством и ересями. С. 33-34;
Архангельский А. С. Указ. соч. С. 113-114).
65 О космической символике одежды см.: Пигилова Т. А. Народная культура. М., 1993.
С. 30-41.
66 См.: Щапов А. Я. Смесь христианства с язычеством и ересями. С. 35.
67 См.: Там же. С. 33.
Космологические идеи в памятниках апокрифической книжности 139
68 См.: Аристотель. О небе. 394а 20-25.
69 См.: Гесиод. Теогония. 726-728.
70 См.: Романский И. Д. Развитие естествознания в эпоху античности. М., 1979.
С 130-131. Некоторые исследователи, правда, считают описание Тартара поздней
вставкой в «Теогонию», ибо этих сведений не дают ни Платон, ни Аристотель.
Довольно позднее появление мифического образа подземного царства нельзя
исключить вовсе, ибо архаическим сознанием обожествлялся и олицетворялся только
видимый мир. Раскрытие неведомых бездн — это результат абстрагирующей работы
сознания предвосхищавшей идею иного мира мировых религий.
71 См.: Илиада. II, 412; IV, 166; VI, 19, 421; XIV, 246; XVII, 425, 504; XVIII, 395.
Одиссея. III, 2; XII, 379-381; XV, 329, 505, 523; XX, 65.
72 Цит. по: Новицкий О. Постепенное развитие древних философских учений. Киев,
1860. Т.П. С. 160-162.
73 Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука. М., 1927. С. 139.
74 Архангельский А. С. Указ. соч. Т. 1-Й. С. 11, 28.
75 Там же. С. 167.
76 Цит. по: Романский И. Д. Указ. соч. С. 167, 202-203.
77 Галиченко Т. С. Мировоззрение древних славян и античная культура
(сравнительно-типологический анализ) / Дис... канд. филос. наук. Киев, 1987. С. 36-37, 41.
Некоторые осокенности
космологических сюжетов переводной
литературы Древней Руси
\ШЛА&Ъ6НЪ<ТрЛнУ&Н€/кНА ■
I.
П:
одводя итог, можно сказать, что в богатейшем книжном наследии
Древней Руси встречается большое количество произведений космологиче-
, ской тематики. Они имеют разную жанровую природу, но при этом чисто
космологических трактатов и узкотематических подборок среди них нет. Даже
в тех текстах, где проблемам космологии уделялось большое внимание,
концепции космоустроения формулировались в контексте сугубо богословских
сочинений, наиболее интеллектуализированные образцы которых представляли собой
синкретический сплав религиозно-философских трактовок бытия. В этих
богатых содержанием текстах догматико-вероучительные вопросы тесно
переплетались с проблемами онтологии и космологии, а следовательно, и с
воспроизведением соответствующих элементов научно-философского наследия античности,
сохраненных и переработанных богословами применительно к установкам
христианской доктрины. Такими произведениями были энциклопедические
трактаты: «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского, «Богословие» Иоанна Дамаскина,
«Палея Толковая». В них представлены базовые принципы христианских
воззрений. Космологические идеи были частью этих общих воззрений. Малым
подобием таких трактатов, сочетающих богословски-бытийный и космологический
аспекты, является апокриф «О всей твари».
Можно выделить также группу произведений, посвященных проработке
каких-то отдельных тем религиозной проблематики, но при этом содержащих
в своей повествовательной канве космологические сюжеты. К такого рода
произведениям относится географический трактат Козьмы Индикоплова,
включавший описание Земли в общую картину мироздания. Имеется также
довольно однотипный блок, в который входят апокрифические видения и откровения
(такие, как «Книга Еноха», «Видение Исайи» и др.). Чисто содержательно эти
неканонические произведения в образной и доступной форме давали читателю
представление о Боге, ангелах и сферах иного мира, где пребывают идеальные
сущности, но при этом в канву картин запредельного как бы подспудно
вводилось описание небесной топографии, обнажавшее лежащие в ее основе космо-
устроительные схемы. К произведениям, содержащим космологическую
проблематику, относятся многочисленные редакции «Беседы трех святителей»,
Работа выполнена при поддержке РГНФ. Грант № 02-03-18077.
142 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
в чрезвычайно подвижном составе которой в образной форме занимательного
диалога дается описание мироздания.
Такова была специфика средневековой религиозной литературы,
допускавшей существование элементов научного знания лишь настолько, насколько они
не противоречили догматическим установкам и мировоззренческим
постулатам вероучительной христианской доктрины. Духовная литература была
предназначена, в первую очередь, для решения вопросов дидактических и лишь
отчасти касалась проблем познания бытия, к разряду которых, собственно,
и относится космология.
Наконец, надо назвать такие произведения, в содержании которых
отдельные идеи космологического значения высказывались попутно и не были
напрямую связаны с истолкованием картины мира (например, «Житие Макария
Римского», «Хождение Богородицы по мукам», «Видение апостола Павла» и др.).
Эти случайные фрагменты расширяют ареал древнерусских произведений
космологической тематики и, дополняя их, позволяют составить более полное
представление о космологических воззрениях прошлого. Такие малые и сюжетно
не обособленные фрагменты, даже будучи рассеянными в контекстах
разнородных сочинений, безусловно, исподволь влияли на общественное сознание и
вместе с научно содержательными сочинениями участвовали в формировании
космологических воззрений наших предков.
Даже при далеко не полных наших знаниях о количестве учтенных списков
тех или иных произведений масштабы представленности космологических
идей в культуре эпохи сопоставимы с такими традиционно-массивными
блоками отечественного духовного наследия, которые представляют сферу
литературы философизированного богословия, права, торжественного красноречия и
пр. А ведь это часть наследия, которая самым тесным образом соприкасается
с наукой, философией и мифологией.
Говорить об однородности и оригинальности древнерусской космологии не
приходится в связи с тем, что собственных космологических теорий выработано
не было. Космологические представления наших предков базировались на идеях
переводных текстов, сознательно отбиравшихся отечественными книжниками и
помещавшихся в оригинальные русские компиляции. Яркими образцами таких
сводных трудов, состоявших из прошедших оригинальную обработку
заимствованных источников, являются памятники энциклопедического характера: «Палея
Толковая», «Великие Минеи Четьи» митрополита Макария, подборки
натурфилософского содержания из сборников (типа Син. № 951; Кир.-Бел. № XII и т. д.).
Есть еще одно важное обстоятельство, с которым приходится считаться при
сопоставлении различных космологических традиций Древней Руси. Не только
в книжности в целом, но даже в рамках одного произведения уживались
разнородные по своим идейно-мировоззренческим основаниям космологии.
Выше уже говорилось, что и каппадокийская геоцентрическая, и антиохийская
комарная космологии (или тексты адептов этих концепций) нередко
оказывались друг с другом в соседстве по воле авторов и составителей. Так, Иоанн
экзарх Болгарский, являясь, безусловно, приверженцем Василия Великого и
сформулированной им геоцентрической картины мира1, в то же время парал-
Некоторые особенности космологических сюжетов... 143
лельно воспроизводит некоторые космологические воззрения антиохийца
Севериана Габальского2. Или другой пример — Иоанн Дамаскин. Будучи одним
из наиболее последовательных приверженцев каппадокийского богословия, он
параллельно излагает и аристотелевско-птолемеевскую концепцию
мироздания, и мнения о небе как о потолке, или комаре, что напрямую восходит к
представлениям о космическом доме. Аналогичную неопределенность он
проявляет тогда, когда допускает, что в равной мере вероятны воззрения на
водную и воздушную опоры Земли, включая и утверждения, что она держится
«ни на чем же». Для него как бы не существовало проблемы выбора между
этими концепциями: «обаче любо тако, любо инако, все божиемь повеленьемь
бывает»3. К тому же вспомним, что в «Палее Толковой» формулируемая
составителем космология Козьмы Индикоплова соседствует с обширными
включениями из предпочитавшего геоцентризм Иоанна экзарха, а также с описанием
сферического устройства мироздания апокрифическим текстом «Откровение
Авраама», тоже входившим в состав этого памятника. Если к тому же учесть,
что в «Великих Минеях Четьих» те же две разнородные концепции объединены
в рамках одного свода, куда, кроме того, попала и «Книга Еноха», с самым
выразительным из всех имеющихся описаний многослойности небес, то можно
высказать предположение об определенной индифферентности сначала
славянских, а затем русских и компиляторов к решению проблемы, которую
невозможно проверить эмпирически или обосновать четкими постулатами Св. Писания.
Надо также сказать, что наряду с представлявшими космологию
геоцентризма текстами в «Великих Минеях Четьих» была помещена «Христианская
топография» Козьмы Индикоплова4. По инициативе митрополита Макария
обеим концепциям, таким образом, был придан официальный статус. Несмотря
на очевидную разнородность и несовместимость космологических идей
помещенных в «Минеи Четьи» произведений, оставался открытым вопрос о том,
какая из двух точек зрения должна считаться истинной и наиболее
соответствующей установкам Св. Писания. Споры об этом велись еще экзегетами.
И представители каппадокийского богословия, защищавшие геоцентризм, и их
оппоненты из лагеря антиохийцев, к которому принадлежал развивавший идеи
Севериана Габальского Козьма, адресовали резкие взаимные обличения друг
другу. С учетом неоднократно выраженной в текстах взаимной полемической
заостренности обоих направлений логично было бы ставить вопрос о
предпочтениях, которыми руководствовались переводчики и переписчики текстов при
выборе ориентации на ту или другую богословскую традицию.
Видимо, установку на интеграцию взаимоисключающих трактовок
мироустройства считали приемлемой далеко не все. Источники прямо указывают
на то, что некоторые древнерусские книжники вслед за своими греческими
учителями четко осознавали несовместимость разных космологических
концепций. Причину споров в одном случае прямо и без обиняков связывали с
наличием противоречий в Священном Писании: «Сомнительно есть мнозш
вопрошение се, книга Бытсйская два нсвсси глет, стыя же апостол Павсл трстис
Н6В0 ВИД€, ПрорОК Ж€ ДАВЫД И Ч€ТВ€рТ0€ ГЛАГОЛ€Т, ЯКО Ж€ р€Ч€ ПСАЛОМ. ()МИ.
ХВАЛИТ6 €Г0 Н€Е€СА Н6Б6С. ВСДОМО Ж€ БуД^И ЗАН6 ЯКОЖб €СТ€СТВО Ч€ЛОВ€Ч€СКО€,
144 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
И €ДИН Ч€ЛОВ€К ГЛАГОЛ€ТСЯ И ПАКИ МНОЗИ Ч€ЛОВ€ЦЫ, ТАКС И Н€Б€СНО€ €СТ€СТВО,
И €ДННО Н€БО И МНОГА Н€Е€СЛ В Б0Ж€СТВ€Н0М ПИСАНИН ГЛАГОЛЮТСЯ»5.
Возможность обосновать библейскими цитатами несовместимые между собой
космологические постулаты, равно как и демонстрация некоторыми идеологами
православия отказа от выбора космологических предпочтений, естественно, не
способствовали резкому размежеванию приверженцев той или иной гипотезы
мироустройства. Но таковое, безусловно, существовало уже в силу того, что
представители антиохийской и каппадокийской традиций не были согласны между
собой в решении проблем космологии, а их взаимные полемические выпады,
тиражировавшиеся авторитетными произведениями, не могли остаться у
читателей без последствий. «Всеядность» некоторых сводов можно объяснить либо
намерением ознакомить с разными точками зрения, либо какими-то другими
причинами. По крайней мере, включение в «Шестоднев» антиохийской концепции,
при явном предпочтении геоцентризма, носило четко выраженный
информационно-справочный характер. В «Палее» соотношение предпочтений, видимо, было
обратное. О предпочтениях той или иной версии на Руси пока можно говорить на
основании количественного сравнения списков, притом что часть древнерусских
книжников могла вслед за Иоанном Дамаскиным и не делать принципиального
различия между концептуально несхожими космологическими воззрениями.
О тотальном эклектизме вместе с тем говорить все же не приходится. Различия
в предпочтениях космологических схем, и даже их оттенков внутри каждой
космологической концепции, как неопровержимо свидетельствуют
канонические и неканонические материалы, существовали. К конкретному
рассмотрению этих различий мы теперь и переходим.
Имеющиеся в нашем распоряжении тексты позволяют утверждать, что в
древнерусскую эпоху были известны и имели своих приверженцев несколько
космологических концепций:
1) геоцентрическая, генетически связанная с каппадокийской традицией
христианства;
2) плоскостно-вертикальная, структурированная по подобию дома и
разрабатывавшаяся сторонниками антиохийского богословия;
3) пантеистическая, восходящая к архаическим мифокосмологическим
схемам и дававшая в условиях неизжитого двоеверия книжное соответствие
простонародной устной космологии.
С учетом привносившихся апокрифами вариаций космологических сюжетов
спектр известных Древней Руси космологии, казалось бы, претендует на то,
чтобы быть более обширным. Однако нельзя не отметить, что расхождения в
пределах предлагавшихся космологических схем все же были незначительны
и тяготели к трем вышеобозначенным направлениям космологической мысли.
Апокрифические видения и откровения, к примеру, не совпадали друг с другом
в определении числа небесных сфер (от трех до девяти в разных памятниках).
В них по-разному описывалось устройство небес в связи с локализацией рая,
мук, небесных чинов и ярусов передвижения светил. Но внося разнобой в
описание конкретных деталей мироустройства, эти апокрифы вместе с «Шестодне-
вом», «Богословием» и им подобными авторитетными текстами являлись провод-
Некоторые особенности космологических сюжетов... 145
никами геоцентрических идей. Причем свойственная апокрифам
высокохудожественная образная манера подачи материала способствовала лучшему
усвоению общественным сознанием самого принципа геоцентризма. Частным
вариантом геоцентризма являлись статьи, уподоблявшие мироздание гигантскому
яйцу с шаровидным желтком-Землей в центре и несимметричным скорлупооб-
разным небом («О небе», «О небесном устроении», «О яйце», «Указ о земли
Иоанна Дамаскина»).
Уже в эпоху античности не делали особого различия между сферическим
и яйцевидным образами Вселенной, и космос Эмпедокла трактовался то как
шаровидный Сферос, то как имеющий форму яйца. Предельно ясное в своей
наглядности уподобление космоса яйцу, а также распространение идей каппа-
докийской космологии утверждали в общественном сознании представления о
шаровидности Земли, а сравнение формы неба со скорлупой можно считать
весьма незначительным отступлением от авторитетной в христианской веро-
учительной литературе шаровидной космологической схемы. Принципиально
нехристианское объяснение мирозданию давали только
пантеистически-антропоморфные апокрифические мотивы, которые сопоставимы с тяготевшим к
мифологической архаике двоеверным восприятием бытия.
Геоцентрическая космология — это по-научному сложная космология,
предназначенная для интеллектуальной элиты. Космология же Козьмы Индикопло-
ва, напротив, достаточно наглядна и дает простое и доступное для
неподготовленных людей объяснение мироустройства. Каждая из космологических схем
представляла авторитетную в христианском мире богословскую традицию.
Обе космологии (и каппадокийская, и антиохийская) были приспособлены к
христианской доктрине, ибо четко проводили доктринальный принцип
дуальной онтологии, в соответствии с которым разграничивались сферы реального
и надприродного. пространства. Картина мира, как следствие, удваивалась.
Бесконечное, вечное и совершенное в силу своей идеальной природы
сверхпространство, с одной стороны, противопоставляется созданному и конечному
в своем бытии материальному миру, а с другой, — окружает его. К этому
тварному и несовершенному физическому пространству и прилагаются космо-
устроительные схемы. Если в геоцентрической каппадокийской традиции иной
мир, где пребывает Бог, выносился за пределы сферического мироздания,
высшие ярусы которого населялись приближенными к первоначалу
идеальными сущностями, то, согласно антиохийской космологической традиции, Бог
пребывает за пределами созданного им космического дома, а в верхней,
пограничной между мирами, комарной части, действуют ангелы — сущности
идеальные, но сотворенные и потому обладающие способностью выступать в роли
посредников между Богом и природой.
Каппадокийская традиция освоила и приспособила к христианству
античные идеи сферического мироустройства, в разное время формулировавшиеся
Парменидом, Эмпедоклом, Платоном и обобщенные сначала Аристотелем, а
затем Птолемеем. Аналогичную трансляцию космологических идей античных
философов в христианство осуществляли антиохийцы, сохранившие к тому же
генетически связанную с языческими космогониями схему космоустроения.
J46 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
Воспроизводимая ими древняя схема, согласно которой Земля представлялась
плоским четырехугольником, а мир уподоблялся дому, известна со времен
Гесиода и Гомера. Мысль о четырехугольном плоском устроении Земли
формулировалась Демокритом, а идея размещения высоких гор на краю земной
плоскости, объясняющая наступление ночи заходом за них Солнца, восходит
к учению Анаксимена. В целом же, с поправкой на дуальную христианскую
онтологию, схема антиохийской космологии проста: противопоставление
недоступного верха освоенному низу. Архетипы мифа в такой редакции,
естественно, не изжиты. Ведь не случайно именно с этой концепцией космоса-дома
типологически была схожа апокрифическая эманационно-пантеистическая
версия мироустройства. От антиохийской космологии она отличается прежде
всего отсутствием в концепции бытия наделенной статусом высшей реальности
идеальной сферы. Бог как бы пребывает внутри космического дома, сливаясь
с его частями. Естественно, что вследствие заложенных в антиохийской
космологии архетипов она оставалась чревата рецидивами мифологизма.
Предлагавшаяся геоцентрической концепцией идея многоярусного
устройства небесных сфер лучше, чем простая дуальная вертикаль, соответствовала
христианскому принципу иерархизма. Иерархия небес и населявших их
небожителей онтологически (и соответственно в ценностном восприятии) отражала
динамическую последовательность в ряду элементов мироздания. Сущностный
статус каждого такого яруса по мере удаления его от земного материального
мира и приближения к Богу возрастал. Антиохийский вариант дуальности
можно было бы охарактеризовать как контрастный, а каппадокийский —
мягкий, последовательный, «эшелонирующий» границу между мирами.
Круговая геоцентрическая схема с ее условностью, геометричностью и
отстраненностью от предметности выглядит доктринально безупречно, в отличие
от конкретно-наглядного уподобления космоса дому, предлагавшегося
антиохийской космологией.
В средневековую эпоху геометрические и числовые принципы космоустро-
ения заключали в себе важный, символически значимый смысл. Круговая
сфера неба воспринималась как знаковый образ совершенства и вечности.
Сферический геоцентризм в космологии — это идеальное выражение
представлений о космическом равновесии, симметрии и гармонии всего мироздания.
Такой символизм вполне соответствовал представлениям о периферийных,
граничащих с запредельной сферой небесных кругах, где помещались ангелы
и Бог. Шаровидная Земля, с точки зрения подобной символики, также должна
была восприниматься как совершенное творение. Действительно, каппадокий-
ской традиции, с ее сферическим геоцентризмом, присуща тенденция к
оправданию тварного начала как причастного Богу. Абсолютная гармония
идеального и материального, с точки зрения христианства, была исключена, но
определенную тенденцию развития воззрений в этом направлении сферическая
космология открывала.
Гармонию космоустроения отражала также числовая симзолика космоса.
Не случайно количество небес чаще всего определялось семью, что
соответствовало представлениям о полноте и совершенстве. Христианство предлагало
Некоторые особенности космологических сюжетов...
147
дуальную схему организации пространства. Идеальной формой здесь была
антиохийская модель противопоставления верха и низа. Но и в
геоцентрических космологических сюжетах к семи материальным сотворенным небесам
добавлялось восьмое беззвездное сверхприродное небо. С дуальным удвоением
картины мира, видимо, связана и космологическая схема девяти небес.
Числовой принцип двоичной организации пространства воспроизводится в
«Христианской топографии», отразившей все типичные особенности анти-
охийской дуальной космологии. У Козьмы Индикоплова небо видимое (твердь)
как материальное образование противопоставляется небу невидимому, над-
природному, вечному, где царствует Бог. Земная часть мироздания,
мыслившаяся как плоский четырехугольник, и весь физический мир, включая твердь,
подпадают под действие общего для них физического закона тленности. И в
геометрическом, и в математическом выражении принцип четверичности,
как и фигура четырехугольника, являли собой знаковое выражение земного,
телесно-тяжелого, устойчивого и ограниченного пространства. Символическое
значение образа четырехугольника, в отличие от такового у круга,
соответствовало представлениям о несовершенстве тварного мира. Ценностный аспект
символики отвечал аскетическим установкам с характерным для них крайне
негативным отношением ко всему плотскому.
В космологию «Беседы трех святителей» вводится заимствованная из ми-
фокультуры трехчастная вертикаль: высота небес, широта земли, опоясанная
Океаном, глубина преисподней. В этой трехчастной вертикальной схеме космо-
устроения срединность четырехугольной Земли соответствует не только
геометрическому принципу симметрии. Со стороны числовой символики
пространственно-образная структура мироздания воплощает собой семеричность (3+4).
Получается, что числовое выражение пространственной организации космоса
знаменует полноту и совершенство бытия.
В антиохийской картине мира за счет удвоения пространства (реальное —
идеальное, надприродное) трехчастная вертикальная схема трансформируется
в двухчастную, в результате чего небо видимое и четырехугольная Земля
становятся частями единого разноуровневого целого, связанного стенами
космического дома. Вместе они представляют собой материальный антипод
духовной сферы. Симметричный небу иной мир, которому в антиохийской схеме
соответствуют рай и ад, переносится в горизонтальную плоскость, за Океан,
где помещается в окраинную часть Вселенной. Ад и муки локализуются в
глубоких расщелинах и провалах, иначе говоря, гигантская космическая сфера
бездны преисподней становится нижней частью земного пространства, а рай
манифестирует сакральную сферу в пределах земной поверхности. Суть
преобразования весомой в своей предметности архаичной трехчастной картины
Космоса в христианскую двухчастную схему бытия наилучшим образом
характеризует средневековый текст: «...лиръ троякъ: первый лиръ невидимый... вто-
рый лиръ — нсво и зсмлА и вся яжс в иихъ; третий лиръ въ грядущшъ в^ц*»6.
Сохранение архаичной трехчастной схемы, с точки зрения строгой ортодоксии,
возможно было только в аллегорическом смысле. Конкретно-зрительная картина
148 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
мироустройства трансформирована в отвлеченно-символическую смысловую
структуру. Таков результат приспособления мифологической основы
космологического образа к дуальной онтологии христианской доктрины.
Поскольку антиохийская космология предусматривала помещение рая в
пределы земного пространства, то дуальный принцип бытия в данной космосхеме,
несмотря на контрастно-дуальное противопоставление верха — низу,
сакрального — профанному, реализовывался все-таки непоследовательно. Сакральная
сфера рая как части иного мира перемещается в пределы физического
пространства. Вертикальный вектор структурирования космоса дублируется
горизонтальным. Ведь совершенно не случайно Козьма Индикоплов описывает мир с
точки зрения путешественника — как пространственное перемещение по лицу
земли. Верхняя часть картины мира достраивается уже не на основании личного
опыта, а исходя из буквалистских толкований Св. Писания.
Еще нагляднее соприкосновение реального и запредельного миров
описывают апокрифы. Апокрифические хождения в рай, развивавшие принципы анти-
охийской космологии и приобщавшие читателей к тайнам сокровенного,
основывались на вере в возможность прорыва в иной мир. Такие апокрифы, как
«Хождение Зосимы к рахманам», «Хождение Агапия в рай» и «Житие Макария
Римского», признают трансцендентность Божества и дуальную разорванность
мироздания, но они, в нарушение доктринального принципа онтологической
поляризации, как бы приземляют сферу сакрального и божественного.
Открытый чувственному восприятию рай оказывается слишком посюсторонним, чтобы
не вызвать возникающих в связи с его земной локализацией пантеистических
ассоциаций. Данная мировоззренческая особенность оказывается в одном ряду
с другими мифологическими рецидивами плоскостно-вертикальной космоустро-
ительной схемы, ибо именно на этой основе возрождается пантеистическая
концепция мироздания, отраженная в списках «Беседы трех святителей».
Хождения, сопрягая в земном рае посюстороннее с потусторонним,
нарушали стерильность онтологической полярности сфер бытия, существенно
приземляя общую мировоззренческую установку. Видения и откровения с их
вертикально-духовной устремленностью давали четкий образ двуприродного мира.
Герои видений и откровений, как очевидцы, наполняют в своих рассказах
сухую многоуровневую схему впечатляющими образами картин вселенского
масштаба. Визионеры видят мир глобальным космическим взором из надмиро-
вой запредельности. Увиденный во всей своей всеохватности, он предстает в
виде некоей малой и понятной по своему устройству модели, которая
постигается персонажами апокрифа также и вблизи, непосредственно в процессе
прохождения через небесные сферы. Восхищения-путешествия и откровения
с характерным для них прорывом к сокровенному самим сюжетом утверждали
дуальный принцип организации мироздания. Уже сам жанр манифестирует
стоявшие за видениями и хождениями космоустроительные схемы.
Апокрифы сыграли важную роль в распространении космологических идей,
с впечатляющими дополнениями и подробностями популяризируя
разнообразные космологические концепции. Мифопантеистические рецидивы из
отечественной средневековой культуры изжиты не были, и им находились подоба-
Некоторые особенности космологических сюжетов...
149
ющие соответствия в фонде переводной апокрифической книжности. Если
«Беседа трех святителей» непосредственно знакомила с мифологической
космологией, то переводы каппадокийских и антиохийских богословов
привносили на Русь христианскую обработку античных космологии. Античное наследие,
которое архетипически сохранялось в этих космологиях, оказывало сильное
влияние на отечественную культуру. Освоение Древней Русью
дохристианских идей в христианской обработке можно рассматривать как особый,
глубинный, тип традиционализма, распространявшегося по книжным каналам.
В синкретических религиозных текстах философские и научные знания
античности были присущи не столько богословской, сколько космологической их
составляющей. Поэтому космологические сюжеты можно считать тем каналом,
через который античное наследие проникало на Русь. Античные мотивы
космологии так же, как и восприятие древнерусской культурой отдельных
философских идей, можно назвать книжным инвариантом православно-языческого
синкретизма, отличавшегося от двоеверия тем, что античная составляющая
практически не несла враждебной христианскому мировоззрению нагрузки. Ее
роль приближалась к нейтральному научному компоненту, и только отдельные
апокрифы нарушали стерильность синкретических образований, обнажая
исходные и несовместимые с доктриной архетипы.
Распространение космологических представлений через переводную
литературу нельзя рассматривать как явление чисто образовательного порядка.
Есть основания говорить о значительных культурных последствиях знакомства
Древней Руси с космологическими концепциями. Геоцентризм, например, это
не просто абстрактная схема, а по-настоящему первая научная космология, на
основе которой стали возможными расчетные геометрические модели
небесной механики. Впервые с такого рода научной астрономией древнерусский
читатель познакомился благодаря «Шестокрылу» и «Космографии» жидовству-
ющих, а в XVI-XVII столетиях астрономы и астрологи уже пользовались
точными расчетами в предсказаниях знамений и в календарных исчислениях.
Не меньшее, если даже не большее культурное значение для Древней Руси
имела вертикально-плоскостная антиохийская схема космоустроения. Вне
предлагавшейся ею модели космоса-дома невозможно представить символику
храма и его росписей (ср.: хоромы-дом), где каждая часть культовой постройки
и соответствующий ей сюжет в художественном убранстве символически
обозначали ту или иную сферу мироздания, а сам храм олицетворял
по-христиански дуальное представление о Вселенной. Трехчастная схематика
устроения мира получила отражение в иконописи, в частности в сюжете «Страшного
суда» (рис. 1-10).
Заимствованные Русью из инокультурной среды космологические идеи были
не просто скопированы, они были сознательно отобраны и освоены.
Пришедшее к нам в переводах наследие не было грудой мертвых и никому не нужных
текстов. Многочисленные их копии стали живой составной частью,
обогащавшейся за счет различных влияний, но не терявшей собственного лица
культуры русского Средневековья. Значение космологии не ограничилось рамками
150 Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси
Рис. 1-10. Образ мироздания на иконе Страшного суда,
с изображением трансцендентной сферы, воздушной сферы мытарств,
островного положения Земли
в окружении Мирового Океана и мучений в подземных пропастях.
Лицевой иконописный подлинник
Некоторые особенности космологических сюжетов... 151
письменности. Космологические идеи оказались напрямую причастными к
материальной и художественной культуре, а также к древнерусской математике,
географии и астрономии. Через космологию научные и философские знания
античности проникали на Русь гораздо большими порциями, чем это
происходило через посредство чисто богословских текстов, отличавшихся
предвзятостью по отношению ко всему дохристианскому.
Примечания
1 См.: Баранкова Г. С. Об астрономических и географических знаниях //
Естественнонаучные представления Древней Руси. М., 1978. С. 48-62; Мильков В. В. Ше-
стоднев Иоанна экзарха Болгарского — общеславянский памятник богословско-фило-
софской мысли // Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. V Слово. М., 1996. С. 34.
2 См.: Шестоднев... Л. 276-486 (С. 350-363).
Справедливости ради надо сказать, что Иоанн экзарх компилирует тексты разных
авторов очень умело. Что касается космологии, то из Севериана Габальского он
заимствует главным образом те положения, которые формулируют базовые
общехристианские идеи. Извлечения из сочинения антиохийского богослова имеют отношение
преимущественно к рассуждениям о дуальной природе бытия. Речь в компиляции идет
о создании наряду со сверхчувственным небом первого дня, связанного с локализацией
духовных сущностей, второго видимого неба, которое ввиду принадлежности к
физическому миру имеет сугубо плотную (телесно-тяжелую) природу, образованную
сгущенной водой (льдом). Не противоречит каппадокийским воззрениям и объяснение
предназначения разлитых по верху небесной тверди вод служить предохранителем от жара
небесного огня (л. 41а-42б). В остальном он старается избегать постулатов, которые
бы вступали в противоречие с каппадокийской интерпретацией аристотелевско-птоле-
меевской схемы сферического устройства мироздания, притом что элементы
полемичности в адрес чуждых антиохийству воззрений при сплошной цитации все же
сохранялись.
3 Цит по: Райнов Т. Наука в России XI-XVII веков. М.; Л., 1940. С. 82.
4 ГИМ. Син. №997. Л. 11796 и след. (см.: Гаврюшин Н. К. Первая русская
энциклопедия. С. 122).
5 Мочульский В. Н. Апокрифический элемент в вопросах и ответах Афанасия к кн. Ан-
тиоху. Одесса, 1900. С. 16.
6 Цит. по: Щапов А. П. Исторический очерк... С. 99.
О
■з
ь
Z
St
Э
3*
г
И
If
5
И
О
3
EaSSSaE3^^i3sBKSas
**4^<JB/ft^WA СШ
14РПРЧ
КОСМОЛОГИЯ В €€ €ДИНСТВе
с другими компонентами
книжной культуры
Древней Руси
Полянский С. ЛЛ.
Григорьев А. В.
К0СЛ\0Л0ГИЧ€СКИ€ пр€ДСТАВЛ€НИЯ
И €СТ€СТВ€НН0НА1/"ННЫ€ ЗНАНИЯ
в Древней Руси
ГС
A
Общис замечания
Потребность в представлениях о мире и его законах является неотъемлемой
чертой человека как существа познающего. Поэтому неслучайно «устройство
мироздания является одной из самых волнующих тем со времен греческой
натурфилософии до современных космогонических и космологических теорий»1.
Ответы на вопросы об устройстве мира дают космологические научные
дисциплины. Если для самой общей оценки исторического пути развития этой отрасли
знания воспользоваться нынешней терминологией, то в течение разных
периодов становления науки о мире объем понятия «космология» претерпевал
колебания между противоположными полюсами: космология либо широко
приравнивалась к метафизике, либо в узком смысле сводилась к астрономии2. В
современном понимании предметом космологии является изучение строения,
происхождения и эволюции Вселенной как целого3. Таким образом, сегодня
космология — это одна из естественнонаучных дисциплин.
Что же касается вопроса о соотношении космологии и естественных наук
в Средневековье, то оно было скорее обратным в сравнении с современной
парадигмой. Естественнонаучные знания представляли собой частичные аспекты
общей космологической доктрины. Дело в том, что применительно к
средневековому знанию нынешняя дефиниция космологии справедлива, но с известным
умолчанием об эволюции и максимальным усилением акцента на
происхождении (творении) и устройстве именно целого мироздания. Проблема
происхождения и единства мира как универсума в Средние века была весьма актуальна
и носила характер еще более острый, нежели она имела в философии Платона,
в которой впервые была четко сформулирована4. Принцип восприятия единства
мира, к которому на новом уровне возвращается современная наука (так
называемый холистический подход к проблемам мироздания), является важным
итогом античного этапа развития научных знаний и преемственно переходит в
науку Средневековья5. Древнерусская мысль в данном случае не была исключением
из общеевропейской средневековой космологии, соединявшей идеи о миротво-
Исследование осуществлено при поддержке РГНФ, грант № 01-03-00313 а.
156 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
рении с элементами античных натурфилософских знаний и представлениями
об универсальной связи макро- и микрокосмоса6.
В силу специфики познавательного подхода к ряду вопросов в общей и
сложной науке о Вселенной средневековый ученый не разграничивал отдельных
дисциплин. Как в свое время говорил замечательный русский ученый, в эмиграции —
профессор литературы Софийского университета П. М. Бицилли, в Средние века
существовало представление, «что в мире все связано одно с другим, все
держится вместе. Человечество есть только дробь космоса, и его жизнь является
частью космической жизни»7. Согласно этому средневековому принципу, все
элементы естественнонаучных знаний, в том числе знаний о человеке,
автоматически оказывались комплексными составляющими, вписывающимися в
космологическую доктрину. Это предопределило тяготение к изложению
естественнонаучного материала в текстах космологического порядка; и напротив —
общие космологические взгляды, доктринально сформулированные в
энциклопедических памятниках, получали практическое выражение в самом широком
круге рукописных статей, посвященных характеристике природных явлений.
Таким образом, соседство начальных научных знаний и
обобщающе-мировоззренческих концепций — это не только следствие энциклопедизма
средневековой книжности. Оно демонстрирует совокупный интерес древнего
книжника ко всем областям мироздания и пронизывающим их глобальным законам
бытия. Соединение порой идейно-разноплановых исходных материалов
свидетельствует о своего рода «синтетическом» подходе к анализу бытия, в рамках
которого вызревают не только натурфилософские, но и общекосмологические
схемы, тяготеющие если не к научному (в современных терминах), то к
наукообразному формату.
Характеризуя уровень включенных в космологическую средневековую
концепцию естественнонаучных представлений, преждевременно говорить о
самостоятельных областях научных знаний. Отдельные дисциплины, которые
можно отождествлять с современными точными естественными науками, из
космологии вычленяются постепенно8. Специализированные отрасли науки более или
менее ясно будут обособлены только на выходе из Средневековья. Однако, как
показал Р. А. Симонов на примере анализа конкретных материалов, «уже в XII в.
было своеобразное разделение древнерусской науки как бы на
фундаментальную и прикладную»9. Из этого вытекает два существенных вывода: во-первых,
наука на Руси уже в домонгольскую эпоху обнаруживает движение к
специализации (в средневековом смысле), и во-вторых, такое развитие предполагает
деятельность не одиночки, а определенного коллектива с разносторонними
интересами10.
Тенденция к специализированному практическому познанию наиболее ярко
обрисовывается на пороге Нового времени, как бы доводя средневековый метод
до логического завершения и одновременно обнаруживая критическую точку
его развития, когда многовариантные комбинации по сути одних и тех же идей
(и компилятивных текстов) уже не порождают качественно новых
идейно-концептуальных оттенков или новых возможностей для научного поиска. Сущест-
Космологические представления и естественнонаучные знания... 157
венно изменяется и сама эпистемологическая парадигма, обрисовываются иные
цели и формы познавательной деятельности.
Сложный путь миропонимания от античной натурфилософии до
современного естествознания включал заметный отрезок количественных описаний
протекающих в природе процессов и накопления наблюдений над фактами
феноменального мира. Касаясь этой стадии становления естественнонаучных знаний,
Т. И. Райнов некогда отмечал, что «черпая из богатого фонда античной науки,
наши переводные и привозные источники ограничиваются минимумом
количественных данных, изображая природу по возможности с помощью категорий и
понятий качественного характера»11. Бесспорность этого общего вывода,
касающегося ряда переводных памятников Х-ХШ вв. и верного для произведений
типа «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова, позднее была
потеснена замечанием Г. С. Баранковой, указавшей на большой объем количественных
научных данных о природе в «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского12.
Противоречит тезису Т. И. Райнова и довольно высокий для Средневековья
уровень математических знаний Древней Руси, о чем свидетельствуют
многолетние наблюдения Р. А. Симонова13. Последние исследования убедительно
показывают, что математические критерии в описании природных стихий и процессов
были достоянием целых групп древнерусских книжников еще в домонгольское
время14.
Противоположные предположения сделаны упомянутыми учеными не
только потому, что ими анализировались принципиально разные памятники,
тяготеющие к противоположным идейным направлениям древнерусской мысли. Как
в свое время справедливо отмечал Б. А. Старостин, «во многих случаях
сведения, сообщаемые древними источниками, представляются нам более
ошибочными, чем они есть на самом деле, потому что мы вкладываем в них иное
содержание»15. Это справедливое замечание приложимо к специфике всего
древнерусского научного мышления, приемы которого порой рассматриваются
односторонне, а задачи и принципы научного познания в древности
понимаются идентично современным. Важно учесть, для каких целей средневековый
человек познавал окружающий мир, каковы были творческие методы древних.
Внимание к этим проблемам уже проявлено исследователями отечественной
мысли. В последнее время получили обобщающую оценку творческие методы,
при помощи которых в древнерусском постижении природы упорядочивался
эмпирический материал. М. Н. Громов, а вслед за ним В. С. Горский выделяют
три метода: художественно-образный, символический и зарождающийся
научный16. Важно учитывать нераздельное применение всех этих подходов в
древних памятниках. Если же мы попытаемся изолированно отдать предпочтение
тому или иному методу, выделяя его преимущественно перед всеми
остальными по своим вкусам, а не по реалиям памятника, то мы неизбежно создадим
искусственные умозрительные конструкции. При всей кажущейся для нас
несовместимости, обозначенные подходы не воспринимались средневековым мышлением
как взаимоисключающие и использовались одновременно. Поэтому
древнерусские изложения естественнонаучных материалов порой столь своеобразны,
158 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
идеализированы, поэтичны, обращены к эстетическому и нравственному
чувству человека, пропитаны символикой и аллегорическими назиданиями.
Практическая обращенность знаний к человеку — не только характерная
методологическая особенность средневекового мышления. Это
свидетельствует о специфической «гуманитарной» черте древнерусской космологии — она
рассматривала связь мироздания с человеком; ее свойствами были
антропоморфизм и антропоцентризм. Как ни парадоксально, этот подход, некогда однозначно
расцениваемый как наивный, возрожден в современном естествознании уже на
научной основе — в виде антропного принципа, предполагающего, что природа
такова, какова она есть, только потому, что в ней живет человек17. Антропный
принцип, в полном соответствии с древней космологией, не позволяет
исключить из общей картины мироздания человека.
Средневековый антропоцентризм постулировал тесную взаимосвязь
человечества и мироздания — начиная от богословской концепции грехопадения
Адама, которое имело космические масштабы, и кончая описанием
человеческой души, разума и тела (вплоть до бытовых медико-гигиенических
рекомендаций, поставленных в зависимость от явлений макрокосмического порядка). Этот
фактор универсальной взаимосвязи живой и неживой материи стимулировал
интерес к знаниям о человеке, привлекал внимание к письменным источникам,
в которых содержались античные или переработанные античные сведения по
анатомии, врачеванию недугов, диетологические советы.
Специфической составляющей естественнонаучной компоненты
космологической доктрины является ее теологический характер. Образы мироздания
воспроизводились не только в натурфилософских, но и в сугубо богословских и
литургических текстах. Однако в последнем случае возможно говорить скорее
о религиозной поэтике, а не о естественнонаучных материалах. Литургические
памятники не имели целью воспроизведение естественнонаучной информации.
Не только богослужебные, но и многие другие произведения с космологическим
контекстом не всегда изобиловали естественнонаучными данными, потому что
изложение этих сведений тяготело к памятникам определенных жанров
древнерусской письменности. Попытаемся дать краткий обзор таких произведений.
Окзор памятников, в которых космологическая
КАрТИНА НАИБ0Л€€ НАСЫЩСНА
€СТ€СТВ€ННОНАуМНЫМИ СВ€Д€НИЯМИ
Для средневекового мыслителя процесс познания теснейшим образом
связывался с книгой, письменным словом. Во многих случаях изучить явление
окружающего мира означало скорее не наблюдение его непосредственного течения,
а представляло задачу отыскать, прочитать и воспроизвести то, что однажды
уже подмечено и написано. Поэтому «древнерусская книга выступала для ее
читателей в роли уникального проводника в мир насыщенных и разнообразных
знаний, являясь едва ли не главным посредующим звеном в плодотворном диа- ^
Космологические представления и естественнонаучные знания... 159
логе культур»18. Не случайно в одном древнерусском тексте говорится, что царь
Соломон научился всей мудрости мира, прочитав все книги19. Иными словами,
считалось, что познавать мир можно и нужно через написанное слово,
потенциально содержащее всю полноту буквальных или иносказательных ответов на
любые вопросы бытия20. Именно поэтому распространение письменности с
принятием христианства современниками воспринималось как приобщение к
великому источнику мудрости.
Среди памятников богословской литературы, переведенных в начальный
период древнерусского христианства, можно обнаружить такие произведения,
авторы которых не отвергали всех достижений, выработанных философией и
естественными науками в предшествующую эпоху21. Именно благодаря им
формировались древнейшие произведения славянской литературы, наполненные
естественнонаучным содержанием. Одним из наиболее ранних и полных
памятников общеславянской письменности, отразившим проблемы космологии и
насыщенным элементами естественнонаучных знаний, является «Шестоднев»
Иоанна экзарха Болгарского (864/865-927 гг.), который по праву носит
название «первой славянской энциклопедии». Время составления этого
замечательного памятника широко датируется годами правления болгарского князя и царя
Симеона (893-927 гг.). Сузить эту датировку с достаточно вескими
основаниями пока не удается22. Древнеболгарский памятник со временем получил
распространение у южных и восточных славян. Всего известно более 50 полных
его списков, древнейшим из которых является сербский 1263 г., хранящийся в
ГИМ (Син. № 345)23. Старшие же из сохранившихся русских списков «Шесто-
днева» относятся к XV в.24 Однако отечественные исследователи фиксируют
знакомство древнерусского читателя с этим литературным памятником уже
в XI—XII вв. Оно находит свое подтверждение в «Слове о законе и благодати»
митрополита Илариона, в «Поучении Владимира Мономаха», многочисленные
фрагменты «Шестоднева» включены в состав «Толковой Палеи»25.
По-видимому, протограф его ранней русской редакции с характерными русизмами,
отразившийся в этих памятниках, поступил на Русь в XI столетии именно благодаря
непосредственным русско-болгарским литературным связям26.
Бытование памятника в рукописной традиции продолжалось вплоть до XVIII
столетия и оказало исключительно глубокое воздействие на древнерусскую мысль27.
Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что «Шестоднев» являлся
родоначальником славянской естественнонаучной терминологии28. Включая в свой
состав обширные фрагменты из «Шестодневов» Василия Великого, Севериана Га-
бальского, трудов Феодорита Киррского и других ранневизантийских отцов
Церкви, памятник оказался глубоко насыщен античными сведениями космологического
и естественнонаучного характера. Не менее содержательны и самостоятельные
части текста, принадлежащие непосредственно Иоанну экзарху, которые
свидетельствуют о весьма высоком уровне его богословских и «внешних» познаний.
«Шестоднев» состоит из пролога и шести «Слов», посвященных дням
творения. В них рассказывается о небе, светилах, о Земле, разнообразных природных
явлениях, о животном мире, о человеке. Эти сведения довольно полно отразили
160 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
естественнонаучные представления того времени, что позволяет называть «Ше-
стоднев» «первой славянской энциклопедией». Весьма существенно, что в
произведении последовательно проводилась геоцентрическая схема космоустрое-
ния, которая таким образом стала доступной древнерусским мыслителям уже
в начальный период становления отечественной книжности.
Этот факт заставляет существенно скорректировать позицию
исследователя Б. Е. Райкова, суммарно проанализировавшего астрономические концепции,
предшествовавшие гелиоцентрической астрономии в России и при этом
совершенно обошедшего вниманием «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского.
Б. Е. Райков пришел к выводу, что формирование космологических взглядов до
XVIII в. шло в основном под влиянием Козьмы Индикоплова29. Как ни странно,
подобное суждение является достаточно распространенным. Частично оно
подкрепляется фактом включения «Христианской .топографии» Козьмы
Индикоплова в Минеи Четьи митрополита Макария, что расценивается как
свидетельство канонизации изложенных там взглядов. Однако в состав Миней Четьих
вошел и «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского. Но означает ли это только
равнозначную авторитетность двух произведений для «всеядного» в таком
случае читателя? Современными исследователями выдвинуто предположение,
объясняющее присутствие и длительное сосуществование
идейно-противоречивых текстов с космологическим содержанием. В древнерусской литературе в
течение веков сосуществовали два направления в развитии взглядов на
природу. Одно из них, почти целиком основанное на буквальном толковании Священ- 9
ного Писания и трудах богословов антиохийской школы, мало отвечало
задачам воспроизведения реальной картины мира. Другое же, наряду с
достижениями средневековой христианской мысли, сохраняло интерес к античным
традициям, допускало более широкий взгляд на мир «и в объяснении
происходящих в нем явлений в ряде случаев исходило из закономерностей самой
природы, которые в конечном счете возводились к созидающей силе Творца»30. С
точки зрения обозначенной нами проблематики произведения этого типа для нас
будут представлять наибольший информативно-познавательный интерес.
Касаясь значения «Шестоднева» для древнерусской мысли, справедливо
заметить, что он стал законодателем целого направления в книжной культуре и
«задавал тон» для многих памятников идейно близкого круга. Эти
произведения, тяготеющие к религиозно-философскому направлению теологического
рационализма, отличались большой насыщенностью сведений
естественнонаучного характера, дополняющего канву общих космологических концепций. В
отличие от Козьмы Индикоплова, Иоанн экзарх и другие (большей частью —
анонимные) авторы этого направления воспроизводили значительный объем
конкретных научных данных из различных областей знаний. Для их текстов
характерна восприимчивость к элементам античной, византийской и восточной
науки, и именно благодаря таким памятникам, по замечательному
высказыванию Б. А. Старостина, «совокупное знание представляло собой в Древней Руси
на определенных этапах более открытую систему в смысле обмена
информацией, нежели где-либо еще в Европе»31,
Космологические представления и естественнонаучные знания... 161
В XII в., а может быть — и раньше, на Руси появилось переведенное
Иоанном экзархом Болгарским «Слово о правой вере» Иоанна Дамаскина, которое в
литературе чаще фигурирует под названием «Богословие» и представляет
собой третью часть сочинения «Источник знания»32. Многие аспекты этого
сочинения отразились в «Шестодневе» Иоанна экзарха, и может быть перевод
«Слова о правой вере» был предпринят с практической целью. Самый старший
славянский список произведения дошел до нас в русском изводе по рукописи кон.
XII — нач. XIII в. (ГИМ. Син. № 108). Из ста глав памятника Иоанном экзархом
было переведено только сорок восемь, наиболее близких к естественнонаучной
тематике. Пропущенными оказались разделы, в которых содержатся сложные
рассуждения о богословских предметах, детальное изложение взглядов
еретиков и их опровержение33. В «Слове о правой вере» естественнонаучная
проблематика наиболее полно представлена в главах 15-27 (или во второй книге —
по позднейшей пагинации). Они касаются происхождения тварного мира,
стратиграфии неба, природы и движения светил, календарного счисления времени,
сущности рая и проблемы человека.
В науке высказывалось мнение, что труд Иоанна Дамаскина не приобрел на
Руси широкой известности и популярности34. Однако по мере изучения этого
памятника стала очевидной ошибочность такого предположения. Болгарский
исследователь X. Трендафилов, специально занимавшийся проблемами
распространения «Богословия» на Руси, выявил 80 его русских списков, отметив, что
подборки из него весьма распространены в сборниках энциклопедического
содержания. Примером этого может служить подборка статей, озаглавленная «От
Шестодневника переписано» из рукописи РГБ. Муз. № 921 (л. 94а-104а). Она
наполовину состоит из многочисленных цитации и пересказа космологических
и естественнонаучных разделов «Слова о правой вере». Текстологические
особенности и следы балканского влияния, а также сходство фрагментов с «Шес-
тодневом» Иоанна экзарха дают основания предполагать, что источником для
подборки послужил не сам перевод «Слова о правой вере», а какая-то
промежуточная компиляция. Очевидно, что изучение древнерусских переводов «Слова
о правой вере» и рукописной традиции «Диалектики» Иоанна Дамаскина
является перспективным направлением научного исследования35.
Значение и популярность «Слова о правой вере», как и любого другого
памятника древнерусской письменности, определяется не только числом
дошедших списков. Не меньшую значимость имеют идеи, которые произведение
донесло до древнерусских читателей. И если в теологическом плане Иоанн Да-
маскин зависел от раннехристианских отцов Церкви, то в космологических и
естественнонаучных разделах он воспроизводил натурфилософские сведения
из сочинений Платона и Аристотеля36. А если оценивать значение
геоцентрических идей, которые очень четко проводились в «Слове о правой вере», то
нужно отметить, что это была наиболее современная для той эпохи
космологическая концепция, довольно широко дополненная элементами
естественнонаучных знаний античного мира37. И поэтому следует признать, что Древняя Русь,
уже на раннем этапе христианизации (ведь распространение «Шестоднева»
6 Зак 4748
162 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
и «Богословия» фиксируется по крайней мере уже в XII веке) получила наиболее
передовую космологическую схему, обобщавшую достижения античной науки.
«Палея Толковая» — один из авторитетнейших и широко распространенных
в древнерусской культуре богословско-энциклопедических трудов.
Произведение получило распространение по крайней мере с XII в. (а может быть и
раньше), и дошло до нас в списках XIV-XVI вв.38 Композиционно «Толковая Палея»
представляет собой сборник, довольно пространно и с дополнениями
излагавший книги Ветхого Завета, из которых не все имели на Руси полные списки до
Геннадиевской Библии (1499 г.). Жанровой особенностью произведения
является подчинение задаче богословской экзегезы. При этом целый ряд сугубо
религиозных проблем включает в себя построения онтологического,
натурфилософского, гносеологического значения. Памятник имеет универсальный
характер, ибо помимо сугубо богословских аспектов составитель «Палеи» вложил
в свое произведение сведения самого широкого характера: космологические,
естественнонаучные, астрономические, медицинские, исторические.
Космологический контекст «Палеи» включает в себя толкования шести дней
творения, которые, в свою очередь, соединены с информацией из различных
областей знаний. Для оценки естественнонаучной проблематики в обширном
тексте «Палеи» немаловажно то, что в форме критики методом от противного
она знакомила читателя с различными неортодоксальными взглядами на
проблемы мироздания (например, с древнегреческим учением о самозарождении
жизни, которое развивали Анаксагор, Анаксимандр и Аристотель). Имена
мыслителей не называются, поэтому осуждение идей «внешних» мыслителей
выглядит анонимным. Общая критическая установка по отношению к их идеям не
позволяла вносить позитивную характеристику трудов или направлений
античной мысли, да это и не являлось самоцелью для составителя. Общий стиль па-
лейного текста отличается меньшей степенью рационализации, чем в эталонах
богословской экзегезы Иоанна Дамаскина, Василия Великого, Кирилла
Философа или Иоанна экзарха Болгарского. Прямого античного влияния и научных
сведений в памятнике также значительно меньше, чем в «Шестодневе» Иоанна
или «Слове о правой вере» Иоанна Дамаскина. Для автора «Палеи» весьма и
весьма характерна склонность к апокрифам и близкой для простонародной
среды интерпретации дохристианских пережитков39. Высказывалось мнение, что
«Палея» — это «народная Библия, образовавшаяся из древнего
апокрифического сборника»40. Однако анализ структуры и составных частей произведения
убеждает в более сложном происхождении и предназначении произведения41.
При описании космогенеза и в натурфилософских комментариях к нему
«Палея» неоднократно воспроизводит фрагменты из «Шестоднева» Иоанна
экзарха Болгарского, главным образом из той его части, которая излагает антио-
хийскую космологию. В компиляции мироустройство характеризуется в
соответствии с достаточно архаичным и более примитивным в сравнении с
геоцентрической концепцией антиохийским вариантом космологии (Севериан Габальскии,
Козьма Индикоплов), где Вселенная представлена как образное подобие дома
с плоской Землей, на края которой опирается «комарный» свод неба42. В «Па-
Космологические представления и естественнонаучные знания... 163
лее» значительно меньший объем, чем в «Шестодневе», занимает
естественнонаучная проблематика. Однако это не может служить основанием для вывода,
что «Палея» по невнимательности компилятора сохранила «обрывки» научного
знания в урезанном виде, а в остальном же была вообще «обскурантистским»
произведением43.
При анализе такого рода памятников, как «Толковая Палея», надлежит
учитывать специфику и уровень научного мышления Средневековья, те задачи и
возможности, которые открывались перед мыслителем той эпохи. В известной
степени применительно к «Палее» позволительно ставить вопрос о
«реабилитации» научной мысли Средних веков: если результаты постижения тайн
мироздания средневековым ученым отличаются от современной картины мира, то
это вовсе не означает, что «книжный муж» заблуждался; он добросовестно
оперировал доступными ему исследовательскими методами и стремился привлечь
максимум имевшихся в его распоряжении источников. С точки же зрения
постижения глобальной космологической картины мира средневековый книжник
был много счастливее современных ученых, потому что ему было «почти все
ясно».
Принцип и задачи познания окружающего мира «Толковая Палея»
утверждает очень четко и лаконично: «Все творение составлено Божией благодатью и
познаваемо ради человека»44. Этим предзадана антропологическая и морально-
нравственная направленность описаний окружающей действительности — от
космологических сюжетов до аллегорических толкований свойств различных
животных. Повадки и свойства видов животного мира как раз используются
для назидательных примеров для человечества. Подобные описания входят в
состав как «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского, так и «Палеи Толковой»,
и сгруппированы в качестве отдельного текстового и сюжетного блока. Этот
натурфилософский раздел позволительно сближать с «Физиологом», или «Ес-
тествословом», который в Средние века был известен и в качестве
самостоятельного произведения. В нашем случае важно то, что отрывки из «Физиолога»
послужили своеобразным зоологическим комментарием к описанию устройства
Вселенной. Первоначально «Физиолог» возник в П-Ш вв. н. э. (видимо, в
Александрии) на основании античных и восточных литературных и устных
источников. В различных переработках он был известен всему европейскому
Средневековью, в том числе имел хождение и на Руси45. «Физиолог» оказал огромное
влияние на различные жанры христианской литературы. Особенностью этого
памятника является сопряжение зоологических и нравственных характеристик.
Подчиненный задачам христианского вероучения, он становится
«классическим трактатом по зоологии, символике и руководством нравоучительным»46.
Следует уточнить, что в самостоятельных «Физиологах» легендарное сильно
затушевывает реальное, хотя в основу положены общеизвестные свойства и
повадки животного мира. V Слово «Шестоднева» и соответствующий ему раздел
«Палеи» все-таки отличаются от классического «Физиолога» тем, что в этих
памятниках естественнонаучное содержание не вытеснено символическим. Эти
произведения отразили своеобразный прогресс в «становлении биологического
164 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
факта» и промежуточный этап в эволюции описания живого мира от древних
символических притч до поздних сборников «Луцидариусов», содержащих
попытки механического истолкования природных явлений47.
Внимание к космологии наблюдается не только в фундаментальных
памятниках энциклопедического значения. Развивающийся интерес к
естественнонаучной проблематике, стремление к познанию и объяснению
закономерностей окружающего мира порождали потребность определить в рамках
общемирового масштаба место для конкретных природных явлений. Эти потребности
вызывали к жизни десятки достаточно кратких и емких статей
естественнонаучного содержания, во многом опиравшихся на материалы авторитетных в вос-
точнохристианском мире произведений космологического характера.
Книжники кропотливо выписывали космологические фрагменты «Шестодневов»
разных авторов и редакций, «Палеи Толковой», «Богословия» Иоанна Дамаскина,
различных апокрифов и «отреченных» книг, целенаправленно руководствуясь
именно естественнонаучными запросами. Порой компиляторы проявляли
последовательную избирательность в отборе тематически родственных текстов.
Но также случалось и обратное: концептуально противоречащие памятники,
канонические и явно апокрифические фрагменты соседствовали друг с другом.
Содержание этого пласта разнообразных памятников давно анализируется
исследователями и систематизируется в несколько предметно-тематических групп,
внутри которых оказываются родственные тексты. Это различные «Громники»,
«Колядники», статьи «О небе», «О радуге», «О дванадесяти зодеях», календар-
но-астрономические таблицы, рекомендации по астрономическим расчетам,
описания небесных знамений с предсказаниями будущего. В свое время
текстуальное и композиционное сходство многих статей в списках памятников этого
ряда и их частое взаимное соседство в рукописных сборниках дало основание
Н. К. Гаврюшину предположить возможность существования отдельного
оригинального древнерусского трактата XV в. по космологии, протограф которого
объединял большинство статей естественнонаучного содержания48.
Исследователь особо выделил рукопись середины XV в. «О небеси» (ГИМ. Син. № 951)
в качестве «самого полного из всех доселе известных древнерусских сочинений
специального свода космологических, астрономических и метеорологических
знаний»49. Показательно, что источниками древнерусского трактата «О
небеси» являлись космологические и естественнонаучные фрагменты
«Шестодневов» Георгия Писиды и Иоанна экзарха Болгарского, «Палеи Толковой»50,
«Диалектики» Иоанна Дамаскина, «Четверокнижия» Клавдия Птолемея.
Выявляются связи этого текста с византийским трактатом Евстратия Никеиского
(1050-1120 гг.), ученика осужденного по обвинению в ереси философа Иоанна
Итала51.
Сегодня еще нет окончательного заключения специалистов о том, в какой
мере естественнонаучный корпус «О небеси» восходит к общему
первоначальному трактату. Однако в любом случае ясно, что гипотетический протограф,
объединивший в момент своего возникновения разнообразные материалы, не
дошел до нас в чистом виде, а составлявшие его статьи имели вполне самостоя-
Космологические представления и естественнонаучные знания... 165
тельную ценность и независимое бытование в книжности. Это не отвергается и
самим автором интересной версии о едином древнерусском натурфилософском
трактате52.
Как пример родственного естественнонаучному трактату текста можно
упомянуть сборник из Румянцевского собрания РГБ № 358 (л. 263а-277а),
который в числе других памятников Н. К. Гаврюшиным был подробно текстуально
сопоставлен с трактатом «О небеси» из Син. № 95153. Рукопись содержит
статьи географического характера, повествующие о размерах, форме и устройстве
Земли, о четверице стихий как материальной основе мироздания, о морях,
облаках и грозовых явлениях, о «падающих» звездах. В качестве продолжения
естественнонаучной подборки следуют статьи антропологического содержания:
«Слово о частях и членах тела» и «Рассказ некоего писателя о душе».
В масштабных трудах типа «Шестодневов» Василия Великого, Севериана
Габальского, Иоанна экзарха Болгарского, Георгия Писиды, «Богословия»
Иоанна Дамаскина естественнонаучная проблематика не была единственным
проблемным узлом повествования. В связи с этим ощущалась потребность в
дополнительном, достаточно сжатом и четком описании астрономической,
астрологической и разнообразной естественнонаучной проблематики. Эту задачу
решали компилятивные тексты, зачастую представлявшие собой обработанную
и расширенную выборку из упомянутых произведений. В них тематически
направленно излагались богословские толкования Священного Писания наряду с
изложением достижений античной научной мысли и мифологии в
опосредованной средневековой письменностью форме. Потребность в направленном
«справочном аппарате» порой приводила к тому, что такой компилятивный текст
помещался в книгах практически сразу вслед за пространными «Шестодневами»,
позволяя удовлетворить конкретный интерес по практическому наблюдению за
звездным небом и связанным с ним прогнозированием. Общие космологические
взгляды, доктринально сформулированные в энциклопедических памятниках,
получали практическое выражение в самом широком круге рукописных статей,
посвященных характеристике природных явлений.
Примером памятника, воспроизводящего избранные мотивы шестодневного
цикла творения, может служить подборка, которая по надписанию первой
статьи условно называется «От Шестодневника» (РГБ. Муз. № 921. Л. 94а-104а),
в рукописном сборнике второй четверти XVI в. отделенная лишь несколькими
листами от «Шестоднева» Севериана Габальского54. Сюжетной основой этого
небольшого произведения (за исключением примыкающих «Громника» и
хронологической приписки) является толкование дней творения. Впрочем,
вопреки названию, внимание обращено вовсе не на каждый из шести дней творения
мира, а лишь на те дни, действия которых непосредственно выводили на
необходимость космологического и астрономического дополнения начальных стихов
Библии. Исходным материалом для изложения устройства мироздания в Муз. № 921
могла послужить какая-то компиляция, восходящая к «Богословию» Иоанна
Дамаскина, что подтверждается выявленными текстуальными параллелями.
Воспроизводимая в рукописи «От Шестодневника» концепция Иоанна Дамаскина
166 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
построена на позициях геоцентризма, тогда как в «Шестодневе» Севериана Га-
бальского изложена антиохийская плоскостно-комарная модель Вселенной. Это
не позволяет абсолютно безоговорочно расценивать композиционно
оправданное помещение обоих памятников шестодневного жанра в нашем сборнике как
взаимодополнение. Проявленный в данном случае эклектизм составителя
вовсе не банальная неразборчивость или непонимание, а типичное проявление
средневекового энциклопедизма.
В тексте «От Шестодневника» прослеживается стремление систематизиро-
ванно разложить по пунктам вопросы происхождения и строения звездного неба,
движения Солнца и планет, зависящих от астрономических явлений
календарных циклов и событий в природе и среди людей на Земле. Подробно
охарактеризованы хронологические и астрономические термины, даны практические
прогностические рекомендации в связи с явлением грома в разные месяцы года.
Другой вариант конспективного изложения проблематики шести дней
творения представлен в «Шестодневце» из сборника РГБ. Тр. № 39. Ф. 304. XVI в. .
(л. 193а-195г). Космологический контекст сгруппирован вокруг
последовательного перечисления дней творения с описанием и количественным итогом «дел»
Божиих, произведенных в эти дни. Любопытно, что применительно к познанию
Адамом земных созданий прилагается рассуждение о том, что Бог всему
изначально дал имя, а Адамов дух соединялся с мыслью Божией и тем самым первый
человек познавал имена и сущность вещей мироздания55. В такой
интерпретации суждение типологически сходно с мнением Максима Исповедника о
предварительном создании логосов вещей и в завуалированной форме тяготеет к
платоническому учению об идеях и познании путем «припоминания» душой
виденного ею в Божественном мире.
Источником для составления сокращенной компиляции по
естественнонаучной проблематике становились не только «Шестодневы», но и другие
произведения, которые также включали в себя материалы по дням творения и
вопросам мироздания. «Слово из Палеи» (БАН 24.5.8. Л. За-7а) было списано из
краткой хронографической редакции «Толковой Палеи» и представляло собой
разновидность «Шестодневца». Фактически в данном случае это производное
от сокращения шестодневной части «Толковой Палеи», осуществленного
достаточно элементарно, без перестановки частей и без внесения
дополнительных посторонних текстовых включений. В результате в сравнении с
хронографической редакцией «Палеи» «Шестодневец» стал значительно беднее научным
содержанием, а интерес сместился с космологической проблематики к ангело-
логии. Тем не менее статья содержит позитивные научные знания. Они
касаются информации о планетах: приводятся арабо-семитские названия небесных тел,
планеты связываются с теми или иными днями недели (л. 5а), указываются
реальные размеры небесных тел. «Избранными стихами» из «Палеи» так же
дополнен уже упомянутый «Шестодневец» РГБ. Тр. № 3956. Характерно, что для
выписки использованы аналогичные места с размерами небесных тел и привлечен
палейный пассаж «О радуге». Избирательность указывает на позитивный
естественнонаучный интерес компиляторов.
Космологические представления и естественнонаучные знания... 167
Календарно-астрономическая проблематика, включенная в контекст
описания мироздания в подборке «От Шестодневника» и родственных ему текстов,
могла становиться предметом отдельного внимания книжников, что находило
свое отражение в самостоятельных текстовых блоках. К такому типу
относится календарно-астрономическая статья из РГБ. Тр. № 765 (л. 307а—3116).
Сборник смешанного характера, в котором помещена статья, относится к концу XV —
первой половине XVI столетия. В начале статьи сообщаются подробные
характеристики движения Луны, принципы соотношения лунного и солнечного года
и их месяцев. Приводятся еврейские и ассиро-вавилонские названия лунных
месяцев и указывается их продолжительность. Вслед за этим речь идет о
делении знаков зодиака и помесячная роспись движения Солнца и Луны. Подборка
дополнена прогностическим материалом из «Колядника», позволяющим судить
о будущем годе по дню недели, на который придется Рождество Христово.
Отрывок «Колядника» смыкается с фрагментом «О небеси», описывающим
геоцентрическое многоярусное строение Вселенной, что позволяет делать
предположения об авторе подборки как о приверженце подобного рода взглядов.
Конгломерат сведений, связанных в контексте с астрономо-астрологической
проблематикой, представлен в рукописи РГБ. Тр. № 762 (л. 255а, 260а-278а).
Рукопись датируется концом XV — первой половиной XVI века, а в
предпосланном статье летописце события обрываются на 1492 годе (л. 2546).
Составитель подборки объединил довольно разные по составу и происхождению
тексты, свод производит впечатление чисто механического соединения материала,
также не исключены следы работы «цензуры». Однако текст представляет
собой достаточно целое в идейно-тематическом плане, отражая интерес к
изменению временной составляющей бытия и жгучее стремление накануне истечения
«седьмой тысячи лет» проникнуть в тайну будущего. Отдельные тематические
пласты подборки демонстрируют спектр естественнонаучных интересов
компилятора. Это вспомогательная таблица эпакт и оснований; статьи о движении
Солнца и Луны по знакам зодиака; раздел «О годовом круге и воздушных
изменениях»; стихи об основных качествах двенадцати месяцев и о знамениях в
небесных светилах. Характерно, что многие из материалов подборки Тр. № 762
встречаются в других рукописях смешанного состава, но, будучи
скомпонованными в иных комбинациях и специфическом сопровождении, они не выглядят
до такой степени единым органическим целым, как Тр. № 762. По сути, рукопись
очень четко дает направленное изложение цельного образа взаимосвязанного
мироздания, в котором и небо с его светилами, и человек с его земными делами,
планами и недугами подчинены универсальным законам. В памятнике при этом
не отведено места действию Промысла. Такой подход ориентировал на поиск
естественных закономерностей внутри «дольней» материальной сферы бытия,
затушевывая проблематику проявления Божественной воли.
В качестве примера неортодоксальных попыток поиска универсального
закона бытия и системного объяснения всех превращений мироздания с точки
зрения обновляющихся круговых циклов можно назвать рукопись РГБ. Юдинск.
№ 2. Начальная часть текста, озаглавленная «Сказание о том, за сколько лет
168 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
каждый круг обновляется», принадлежит к числу календарно-математических
памятников древнерусской литературы. Весь текст «Сказания» условно можно
разделить на две части: первая — «Сказание о поновлении кругов» (л. 2896-
29066), предположительно родственное «Учению о числах» Кирика Новгородца
(разделы 10-13) и текстам так называемых «Семитысячников», с демонстрацией
расчета дня Пасхи по таблице Пасхалии; вторая — без заглавия —
заимствована из «Толковой Палеи» (л. 29066-2956) и посвящена вопросу о величине
небесных тел и природным знамениям. Разноплановые и разные по первоначальным
источникам части произведения объединены общей естественнонаучной
проблематикой — расчетом движения и соотношения обращения небесных светил,
наблюдением астрономических явлений с вытекающим прогнозом погоды,
учением о происхождении и устройстве Вселенной. Памятник отразил
средневековые взгляды на проблемы мироздания с конкретными практическими
рекомендациями по изучению природных явлений. Вытекающие из библейского
креационизма элементы линейной хронологии соседствуют с примерами
замкнуто-кругового восприятия времени и цикличности поновления природных
стихий. Здесь обнаруживается подспудная тенденция к восприятию античного
наследия. В сфере натурфилософского толкования бытия структура мироздания
анализируется как подчиненная числовым закономерностям, что
типологически созвучно идеям пифагорейцев и Платона. Наряду с маловыясненным
вопросом об источниках космоциклических идей не менее важен только недавно
отмеченный факт широкого распространения этих идей в древнерусской
книжности. Н. К. Гаврюшин выявил целый пласт памятников, натурфилософская
концепция которых родственна античным идеям о поновлении стихий. Это
позволило ему высказать мнение, что концепция была достоянием широкого
круга древнерусских грамотников: даже в XVIII в. статьи о поновлении
продолжали тщательно переписываться книжниками57. Вне сомнения, изложенные в этих
текстах взгляды о циклических обновлениях мироздания являлись важным
самостоятельным звеном в естественнонаучных представлениях Древней Руси.
Присоединенная в РГБ. Юдинск. № 2 к вполне самодостаточному блоку,
содержащему хронологические сведения о периодах поновления материальной
сферы мироздания, вторая половина памятника носит компилятивный
характер. Она составлена из выборочных мест «Палеи Толковой», которые, в свою
очередь, восходят к 6 Беседе на Шестоднев Василия Великого, трудам Иоанна
Дамаскина, «Шестодневу» Иоанна экзарха Болгарского. Избранные палейные
стихи «О знамениях» включались в состав многочисленных рукописных
сборников, не считая множества списков самой «Толковой Палеи». Как и во многих
других памятниках, соединение идейно-разноплановых исходных материалов
демонстрирует энциклопедизм составителя, своего рода «синтетический» подход
к анализу бытия, в рамках которого вызревают не только естественнонаучные,
но и доктринально-философские схемы, тяготеющие если не к научному, то к
наукообразному формату. Эта тенденция наиболее ярко обрисовывается на
пороге Нового времени, как бы доводя обозначенную тенденцию до логического
завершения и одновременно обнаруживая критическую точку ее развития, ко-
Космологические представления и естественнонаучные знания... 169
гда многовариантные комбинации по сути одних и тех же идей и текстов уже не
порождают качественно новых идейно-концептуальных оттенков или новых
возможностей для научного поиска.
Сравнительно поздней статьей является «Сказание царя Соломона, что есть
большая печать и откуда и как она пришла к нему» (РНБ. Пог. № 1561. Л. 88а-
96а), составленное в XVII в., но продолжающее традиции предшествующего
периода. Здесь космологическая и естественнонаучная проблематика, следуя
традиции, смыкается с астрологическими предсказаниями. В беллетристическую
канву произведения включены сведения по космологии, самостоятельный
календарный блок, астрономические сведения о небесных телах, сопряженные
с изложением элементов античных мифов о божествах светил, апокрифические
легенды. В тексте наряду с естественнонаучными сообщениями существенное
место занимают предсказательные приметы, прогностический смысл которых
типологически сопоставим с предсказаниями по «Луннику» и знакам зодиака.
Астрономо-астрологические мотивы напрочь затеняют тематику начального
блока о царе Соломоне, в который вплетены необъясненные
буквенно-цифровые сочетания и далеко уходящие от фактов библейской истории
апокрифические подробности. Единство разноплановых частей текста, как и во многих
более ранних памятниках, скорее всего не сюжетное, а идейно-мировоззренческое.
Несмотря на конгломерат мистических, астрологических и апокрифических
сведений самого разного происхождения и давности, произведение
характеризуется вниманием к истории календаря и астрономии, которое можно
рассматривать как зачатки научного подхода Нового времени. Подробно и со знанием
дела излагается движение планет по небосклону, их восход и орбиты, а
протограф сочинения, вероятно, был снабжен даже иллюстрациями, ссылки на
которые сохранились в рукописи. Герой повествования Соломон выступает в
качестве родоначальника астрономии, календаря, географии и геодезии.
Легендарный сюжет о введении Соломоном системы счисления времени, при всей его
исторической недостоверности, свидетельствует о том, что составитель
воспринимал календарную систему как продукт теоретического обобщения,
основанного на наблюдениях за звездным небом и знакомстве с книжными знаниями.
Рассказ о названиях и особенностях движения планет септенера включает в
себя исторический экскурс, сообщающий читателю переработанные мотивы
античных мифов о божествах светил. При этом утверждается, что названия
планет давались в древности людьми в честь своих кумиров — реально
существовавших жрецов или других героев, удивлявших всех исключительными
способностями (в том числе и жестокостью). По закону магического соответствия
планетам усваиваются «характеры» и этические принципы их земных
прообразов. Тем не менее, мировоззренчески составитель подошел к оценке календар-
но-астрономических знаний как сложившихся исторически. Вообще мистико-
мифологический и естественнонаучный аспекты в данной статье присутствуют
слитно и порой достаточно непоследовательно. Это отражает специфику
научного мышления XVII столетия, которое стало переломным для общественного
сознания. Стремление составителя в небольшом по объему трактате сочетать
170 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
самые разные сведения по космологии, истории астрономии, астрологической
прогностике, минералогии, мифологии и ангелологии, попытка отразить всю
полноту «халдейских, и персидских, и афинских, и эллинских, латинских и
скифских, славянского народа» знаний и изложить универсальный закон знания в
магической тайнописи (по-видимому, уже не понимаемой) на печати царя
Соломона, свидетельствуют о широких естественнонаучных запросах составителя.
Впрочем, не обошлось и без курьезов, базирующихся на невнимательном или
тенденциозном отношении к многократно опосредованным источникам. В
одном эпизоде из античной мифологии любвеобильный Зевс был обвинен в таком
ужасном поведении, которое в древних мифах ему вовсе не приписывали. Как
полагают исследователи, эта ошибка произошла благодаря неверному
переводу текста мифологического сюжета с греческого58. Также нетипична для
традиционной астрологии характеристика Юпитера как «злой» планеты, которая,
скорее всего, обусловлена тенденциозным подбором фактов мифической биографии
божества. Вообще же статья «Сказание царя Соломона» интересна
удивительным сочетанием, можно сказать, нагромождением апокрифических легенд и
мотивов, многие из которых бытовали начиная с античности и ветхозаветных
времен и кончая фольклорными легендами, сохранявшимися в русской деревне
еще в XIX веке59. В этом свете статью можно расценить как поздний и едва ли не
последний пример, когда «научная» и «высокая» культура еще была связана с
народным мировоззрением и мифологией, включала элементы религиозной,
книжной и фольклорной культуры Средневековья.
Грядущий XVIII век Просвещения далеко и надолго разведет в разные
стороны науку и традиционно-религиозное мировоззрение, породит особый класс
«жрецов» науки — ученую интеллигенцию, которая будет практиковать
качественно иные подходы к научному познанию мира; новый научный класс во
многом будет «кастово-замкнутым» как в силу специфики мировоззрения и
интересов, так и в силу социально-сословного барьера. Но это не означает, что
памятники древнерусской естественнонаучной мысли сразу и бесповоротно были
преданы забвению. Ими по-прежнему продолжало пользоваться духовенство,
купечество, их читали грамотные крестьяне, вплоть до начала XX века
переписывали старообрядцы. Древнерусская мудрость длительное время продолжала ^
жить в рамках культуры Нового времени60. Многое из этих текстов попало на j
страницы ранних печатных книг, а некоторые памятники рукописной традиции j
дожили до того времени, когда уже сами начали становиться предметом изуче- *
ния историков и филологов. |
ВоПрОСЫ €СТ€СТВ€НН0НАуЧН0Г0 ЗНАНИЯ
в космологическом контексте
В произведениях древнерусской литературы наблюдается поиск
универсальных мировых принципов строения природы, фундаментального обобщения
закономерностей. Учеными отмечено, что для средневекового мировоззрения были
Космологические представления и естественнонаучные знания... 171
характерны две составляющие — символизм и иерархизм61. Поэтому
мыслитель Средневековья стремился найти каждому объекту и явлению видимого и
невидимого мира определенное место в общей иерархии мироздания. Значимость
объекта определялась его близостью к божественному. И каждый объект
видимого мира становился зримым символом явлений мира сверхчувственного.
Поэтому познание «естественных» вещей получало не только «оправдание», но и
некоторый стимул в виде своей конечной цели — постижения божественной
премудрости. В «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского прямо поставлен
вопрос о необходимости занятий естественными науками и о соотношении
естествознания и богословия. Со ссылкой на Священное Писание Иоанн экзарх
приводит слова Севериана Габальского: «бгсловссТю во фусиолопд корень е(с)»62.
Противники естественного знания обличаются как отказывающиеся не только
от видимого мира, но и от пророков, апостолов и Самого Спасителя.
С таких богословских обоснований начиналось описание мироздания,
структурно построенное как иерархически постепенный переход от глобальных макро-
космических объектов (Вселенная, планеты, звезды) к земному миру и
микрокосму — человеку. Наиболее детально и подробно с точки зрения
насыщенности естественнонаучными материалами общая концепция строения Вселенной
излагалась в текстах, содержащих идеи геоцентризма.
В «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского воспроизводится
геоцентрическая модель Вселенной. Согласно Иоанну экзарху, Земля находится в центре
мироздания. Она представляет собой шар, не имеющий никакой опоры, кроме
всеохватывающей Божественной силы, и со всех сторон окруженный
воздушной атмосферой. С этих позиций в «Слове второго дня» Иоанн критикует плос-
костно-комарную теорию строения мира: не следует принимать мнения тех, кто
считает, будто бы небо своими краями опирается на землю и связано с прочной
земной основой. Те, кто так думает, заблуждаются и безумно считают своим
учителем великого Исайю, сказавшего: «Утвердившего небо, как шатер» (ср.:
Ис. 40: 22). Подобие небесного свода мы наблюдаем потому, что видим только
одну половину небесной сферы, охватывающей всю землю. Небо делится на два
полукружия — одна полусфера находится над землей, совершая движение
вместе с шестью созвездиями зодиака, вторая в это время не видна, так как
движется «под землей» с остальными шестью созвездиями63.
Для подтверждения этих мыслей и для объяснения равноденствия и
чередования времени суток Иоанн экзарх приводит следующие примеры. Если бы Земля
имела плоскую форму, то солнце освещало бы дольше всего два края
поверхности. Если бы Земля была четырехугольной, то день постоянно длился бы шесть
часов (24 : 4 = 6), а ночь — восемнадцать (6 х 3), так как три остальные грани
четырехугольника в это время не освещаются солнцем64. Эти доводы Иоанн
экзарх признает достаточно убедительными для того, чтобы считать Землю
круглой, а не многогранной или плоской.
Внимание Иоанна экзарха привлекали сведения о сравнительных размерах
небесных тел. Длину большого круга земной сферы он определяет в 252 000 стадиев,
а диаметр более 80 000 стадиев, что довольно близко соответствует действитель-
172 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
ности. А вот размеры светил значительно отличаются от современных данных
и справедливы только в сравнительном аспекте (какое меньше или больше):
лунная окружность 125 000 стадиев, диаметр Луны более 40 000 стадиев, а
диаметр Солнца 3 000 000 стадиев. По мнению исследователей, сведения о размерах
небесных тел отражают тот факт, что в X веке сохранялись и еще несколько
веков спустя продолжали переписываться античные данные о параметрах
астрономических объектов. По наблюдению Г. С. Баранковой, в 13 списках «Шестодне-
ва» XV-XVII вв. эти размеры воспроизведены безошибочно65. Из «Шестодне-
ва» же эти данные почти без искажений были заимствованы в «Толковую Палею»
Иоанн экзарх излагает деление Земли и неба на «пояса». На поверхности
Земли имеется пять поясов или полос. На двух крайних — северной и южной —
никто не живет, так как там царит сильный холод. На третьей, экваториальной,
тоже никто не живет, там палит нестерпимый зной. На двух оставшихся поясах
сосредоточено все живое. Жителей северного и южного поясов следует
называть «имеющими одну тень», а тех, кто живет под экваториальным небом
(противоречие с ранее изложенным материалом) — «имеющими тень на обе
стороны», потому что солнце сияет прямо над их головами66. Таким образом, Иоанн
экзарх косвенно признает существование «антиподов», которое подвергалось
жесткой критике со стороны ранних отцов Церкви67.
Деление Земли на пояса выглядит аналогией стратиграфии звездного неба.
Иоанн экзарх предполагает, что есть много кругов, вместе с которыми
движутся прикрепленные к ним звезды, однако среди них пока известны лишь
некоторые, отождествленные с конкретными звездами и получившие свои
соответствующие имена. Один из постоянно наблюдаемых в Северном полушарии кругов —
арктический, к нему прикреплены созвездия Большой и Малой Медведицы.
Противоположный круг — антарктический, всегда видимый жителями Южного
полушария. Посредине всего мира проходит экваториальный круг,
разделяющий небесную сферу надвое. Когда Солнце находится на этом круге, наступают
дни равноденствия, тогда день равен ночи. Между арктическим
(антарктическим) и экваториальным кругами находятся поворотные круги, проходя через
которые Солнце минует точки зимнего (в Южном полушарии) и летнего (в
Северном) солнцеворотов. Поворотные круги расположены под углом по
отношению к зодиакальному кругу, чем объясняется разная длительность дня и ночи в
течение года и смена сезонных циклов68. Относительно этого материала можно
считать, что Иоанн экзарх сообщает о наклоне эклиптики к плоскости
небесного экватора. Анонимно ссылаясь на «некоторых вельми о звездах
потрудившихся», писатель воспроизводит достижения древнегреческих ученых,
приверженцев шарообразной формы Земли. В пассаже о распределении Земли на пять
поясов он скорее всего следует Аристотелю или Страбону, которые разделили
Землю на пять поясов и утверждали, что для жизни пригодны только
умеренные полосы69. Геоцентрическую идею о том, что шарообразная Земля помещена
в центре сферических вращающихся небес, впервые высказал Парменид70.
Таким образом, вместе с «Шестодневом» древнерусские книжники осваивали
обширный пласт знаний, восходящий к античной натурфилософии.
Космологические представления и естественнонаучные знания... 173
Рис. 2-1. Антиподы.
«Христианская топография» Козьмы Индикоплова.
ГИМ. Увар. № 566. 1495 г. Л. 39 об.
174 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
«Толковая Палея», заимствовавшая значительные по информационной
насыщенности фрагменты текста из «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского,
представляет отличную от «Шестоднева» космологическую концепцию. Однако
воспринятая ею как единственно каноническая плоскостно-комарная доктрина
не везде проводится последовательно. Диссонансом к ней звучат
естественнонаучные материалы из «Шестоднева» и «Богословия», не подвергшиеся
целенаправленной подгонке. При работе над своим произведением составитель
«Палеи», соединявший сведения Иоанна Дамаскина и Иоанна экзарха Болгарского,
сталкивался с такого рода противоречиями, но умело согласовывал разные
космологические концепции, достигая этого не правкой текста, а умелым
комбинированием фрагментов. Стратиграфию мироздания составитель «Палеи» изложил,
в общем следуя концепции замкнуто-конечного строения Вселенной,
устроенной по образцу дома. Согласно воспроизведенным в труде принципам антиохий-
ской космологии, под ледовым покрытием небесной тверди перемещаются
движимые ангельскими чинами планеты, каждая из которых имеет свой пояс, то
есть траекторию, или орбиту. К планетам, со ссылкой на Иоанна Дамаскина,
относятся пять «плавающих» звезд (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн),
а также Солнце и Луна71. В этом случае обращение к трудам геоцентрического
направления позволило воспроизвести позитивные естественнонаучные
сведения, не вписывающиеся в рамки плоскостно-комарной теории.
В разделе о сотворении в четвертый день светил отражены и другие
астрономические сведения, заимствованные из «Шестоднева». В «Палее»
воспроизводятся такие же данные о размерах Земли, Луны и Солнца, которые
характеризуются по длине окружности, величине диаметра и во взаимном отношении.
Длина земной окружности определяется в 250 000 стадиев, а диаметр в 80 000 стадиев.
Размеры Луны составляют 120 000 и 40 000 стадиев соответственно. Для
Солнца указывается только диаметр в 3 000 000 стадиев. Данные о величине Земли
наиболее близко соответствуют расчетам Эратосфена, а погрешность
составляет всего 2 000 стадиев (против реальных 252 000 стадиев). Что же касается
масштабных соотношений Земли с Луной и Солнцем, то в средневековой (и
античной) астрономии не было общепринятых воззрений на этот счет. Можно лишь
отметить, что палейное обозначение величины Солнца совпадает с расчетами
Посидония, однако реальные авторы этих сведений в древнерусской
книжности так и остаются неизвестными. Достоверно, что эти данные заимствованы
из «Шестоднева», при написании которого Иоанн экзарх ориентировался на
античную геоцентрическую традицию в интерпретации Василия Великого.
В «Палее» мнение о сферической конфигурации неба и о его вращении
подвергнуто жестокой критике и названо «соблазном», а взгляды о движении Солнца
и звезд «под землей» отнесены на совесть «сочинителей басен»72. Объяснение
смены дня и ночи в «Палее» базируется на посылках антиохийской космологии:
описывается суточное горизонтальное движение Солнца, ежедневно
скрывающегося в северных туманах, что приводит к наступлению ночи. Присутствуют
пассажи об изменении лунного облика (умаление света), которые объясняются
Космологические представления и естественнонаучные знания... 175
Рис. 2-2. Гора на севере, за которую заходят светила.
«Христианская топография» Козьмы Индикоплова.
РГБ. МДА. № 102. XVI в.
176 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
по Василию Великому, и рассуждения о полезных погодных приметах по
перемене «зрака» светил.
Сколь бы ни была желаемой для составителя попытка привести в
соответствие с плоскостно-комарной доктриной описание движения планет,
восходящее к геоцентрической концепции, она не удалась полностью. Пояса в
компиляции воспринимаются как круговые траектории планет над земной плоскостью.
Иначе, нежели в строгом следовании Козьме Индикоплову, выглядит постулат
об округлой форме Земли, восходящий к «Шестодневу». Его можно принять за
рецидив геоцентризма, сохраненный для воспроизведения размеров Земли.
Впрочем, возможно, что прямого отступления от плоскостной версии земного
устроения в этом постулате древние книжники и не усматривали, потому что
в отличие от Севериана Габальского и Козьмы Индикоплова, учивших о
прямоугольной форме Земли, некоторые богословы (например, Иоанн Златоуст)
представляли ее округлой плоскостью (диском).
При всей значительности и изобилии наукосодержащего материала в «Шесто-
дневе» Иоанна экзарха, при сравнительно меньшей, но все-таки довольно
конкретной естественнонаучной составляющей «Толковой Палеи», картина общей схемы
мироздания в этих памятниках теряется в значительном объеме авторского и
компилятивного текстов. Ее изложение не является единственной задачей и
сопутствует богословской и иной проблематике. Видимо, эта ситуация не во всех
случаях удовлетворяла направленный интерес книжников, что вынуждало искать
другие образцы описания структуры мироздания. Любопытный по лаконичности,
содержательности и систематизации пример изложения геоцентрической модели
Вселенной представлен в натурфилософской подборке в рукописи РГБ. Муз. № 921
(л. 94а-101а). Стиль подборки отличается обстоятельностью изложения
материала, демонстрирует весьма широкие познания составителя, свободно
обращающегося к историческим экскурсам в области календарной астрономии.
В статье «Строение всего мира» (л. 956-966) в духе геоцентризма
говорится, что небо устроено «округлым образом». Центр, вокруг которого вращается
небесная сфера, называется Иксень, и для ясности добавлено пояснение, что
по народному названию — это Коло. Эти филологические особенности
наталкивают на гипотезу о греческом протографе текста. В данном случае в виду
имеется Полярная звезда, вокруг которой, как кажется наблюдателю на Земле,
все звезды на небе описывают окружности. Края небесной сферы (по широте)
называются северным и южным поясами, а по долготе на равном расстоянии
идут отходящие от двенадцати созвездий зодиака лучи, то есть меридианы.
Меридианы, идущие по небосводу от Северного полюса к Южному (т. е. по
долготе), перпендикулярно пересекают широтные пояса. Для ясности внесено
наглядное сравнение меридианов с Млечным Путем, дуга которого в одном из
положений пересекает ночной небосклон как раз близко к полюсу и Полярной
звезде. Таким образом, вводится широтно-меридиональная модель небесной
сферы, исходя из которой любая точка мироздания имеет трехмерные
координаты: широту, долготу и глубину (последняя определяется как удаленность
сверху — к поверхности Земли).
Космологические представления и естественнонаучные знания... ' 177
Рис. 2-3. Армилярная сфера.
Евангелие. РНБ. Греч. № 118. XII-XVI вв.
178 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
Столь же детально и с наглядными пояснениями в РГБ. Муз. № 921
поясняется небесная механика. В разделе «О свете и о светилах дневных и ночных»
(л. 94а-95б) обстоятельно перечисляются все известные небесные тела и
дается характеристика их движения. Семь подвижных «плавающих» звезд
(планеты) перечислены сначала с фонетически измененными греческими
названиями: Солнце, Луна, Зевс, Ярем, Ар, Афродита, Крон. Затем приводятся
названия, которые дали планетам «древние латинские словесники»: Солнце, Луна,
Марс, Меркурий, Иов73, Венера, Сатурн. Порядок перечисления планет
соответствует так называемому «халдейскому ряду», в котором планеты
расположены по возрастанию средней скорости74. Семь «подвижных» звезд (планеты)
сообразно своим траекториям свободно движутся под «зодийским кругом» по
долготе и ширине, проходя по небесной сфере через секторы всех двенадцати
созвездий.
Упомянута получившая от тех же «словесников» имя «блуждающая звезда» —
комета, которая беспорядочно движется «с востока на запад и с запада на
восток, через юг на север и с севера на юг». Падающие вниз «звезды» — метеориты
и болиды — это искры небесного огня от «неподвижных» звезд, движущихся
вместе с небом. Такое представление восходит к античным взглядам: Гераклит
трактовал светила как сгустки огня, а Аристотель считал падающие звезды
воспламенением от соприкосновения идущих от поверхности земли сухих
воздушных испарений75.
Далее на л. 96а-97б сообщается, что «непреходные» (неподвижные» звезды
объединяются в созвездия зодиака и составляют собой «образ» (т. е.
изображение животных или предметов). Эти «непреходные» звезды поставлены выше
планет и имеют раз и навсегда фиксированное положение на третьей небесной
сфере, именуемой «зодиакальный круг». Вместе с небом созвездия вращаются
по долготе с востока на запад с постоянной скоростью, в одни и те же времена
совершая похожий путь. Для разъяснения, почему движение созвездий не
вызывает их взаимного смещения, использован наглядный пример, основанный
на принципе «относительного движения систем». Созвездия зодиака
предлагается уподобить кильватерному строю кораблей («лодьи в след идуща»),
плывущих по фарватеру с определенным интервалом и равной скоростью. В этом
случае наблюдателю, находящемуся в любой из лодок, остальные будут казаться
неподвижными.
После этого в тексте следует последовательное раскрытие изложенных
положений: описывается движение Солнца по месяцам через созвездия зодиака,
вводится деление на более мелкие дуговые части (градусы или сутки, минуты и
секунды) пространства между созвездиями (л. 98а-б; 100а).
Вопросы устройства Земли детально затрагиваются в сборнике XV в. РГБ.
Рум. № 358 (л. 263а~267б). В нем излагается разновидность геоцентризма,
близкая к элементам мифологической концепции космогенеза, отраженной в
апокрифических источниках. Сначала указаны размеры земной поверхности —
200000 стадиев от востока до запада, и в два раза меньше — 125 000 стадиев —
с севера на юг. Исходя из этих размеров делается вывод, что Земля не может
Космологические представления и естественнонаучные знания... 179
быть квадратной, треугольной или сфероидной. По форме Земля похожа на
вытянутое яйцо, утверждается в рукописи. Как желток в центре яйца, Земля
находится посередине мироздания, со всех сторон она окружена, как белком,
небом, а скорлупа соответствует небесной тверди. Небо постоянно вращается,
и созвездия одно за другим скрываются под Землю, чтобы потом снова выйти
из-под нее. Автор повествования не соглашается с теми, кто утверждает, что
Земля будто бы держится на чем-либо, потому что небо имеет возможность
свободно вращаться и под Землей. Он высказывается против мнения, что Земля
стоит на семи столпах, потому что эти столпы потребовали бы для себя опоры;
Земля не может держаться на водах, и причина этого уже иного,
онтологического порядка. Поскольку мир сложен из четырех уравновешивающих друг
друга стихий, а из них вода ничуть не сильнее других, то поддерживать три
остальные стихии она не может. Божьим Промыслом Земля держится ни на чем, со
всех сторон окружена воздушной атмосферой и равноудаленным от земной
поверхности небом. Это мнение подкреплено ссылкой на авторитет астрономов и
геометров. Расстояние от Земли до небесной тверди равно 3 650 000 поприщ,
путь такой длины человек смог бы пройти только за 500 лет (указано, что это
подсчеты халдеев).
Несколько ниже, после естественнонаучного объяснения механизма
землетрясения, пассажа о стихиях и статьи «О четырех морях» в рукописи РГБ. Рум.
№ 358 содержатся мифологические географические сведения об Океанской реке
(л. 271а—2716). Источник этой реки находится на востоке, она вытекает из
райских врат, до которых доходил Макарий Римский. Разделяясь на два рукава —
северный и южный — Океанская река омывает всю сушу, и рукава вновь
соединяются на западе. Относительно возможности существования «заокеанской»
суши приводятся противоречивые суждения: никакой земли с другой стороны
Океана нет, однако «некоторые» говорят, что на юге есть южная часть земли.
Ее не следует путать с раем, потому что рай находится на востоке. Океанская
река обтекает очень большое пространство.
Таким образом, геоцентрическая модель мироздания, изложенная в
натурфилософской подборке из РГБ. Рум. № 358, широко дополненная
апокрифическими деталями, прямо апеллирует к легендарным житийным сюжетам. Мотив
водной преграды, отделяющей рай от остального мира, в своей основе имеет
древние мифологические представления о пограничной реке (синоним моря,
океана), разделяющей мироздание на две части: свой мир, доступный для
познания, мир живущих, и иной мир, неведомый мир умерших, «потустороннее»
(не «по ту» ли «сторону» мифического Океана?) царство76.
Общая характеристика устройства мироздания в ряде памятников
следовала в направлении поиска универсальных законов природы, по сути, физических
законов мироздания. В качестве одного из всеобщих свойств окружающего мира
в памятниках геоцентрического характера описывается закон непрестанного
кругового движения сфер мироздания, обнаруживающийся уже в «Шестодневе»
Иоанна экзарха Болгарского («прнсношьствьно кружное шьствУс»)77. Эта
универсальная закономерность привлекалась для объяснения причин многих природных
180 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры..,
явлений. Обращение звездного неба и планет — одна из наиболее глобальных
иллюстраций этого закона. Каким образом принцип или закономерность
обращающихся «кругов» мироздания распространялся для истолкования процессов
буквально во всех сферах материального бытия, показывают труды Кирика
Новгородца и типологически похожая (но с рядом конкретных отличий) статья
в рукописи РГБ. Юдинск. № 2. В этих памятниках детально описываются
циклы («круги») «поновлений» сфер мироздания. Довольно загадочные пункты по
поводу «обновлений» излагаются наряду с данными астрохронологии о
солнечных и лунных кругах, хронологическими росписями количества индиктов, лет,
месяцев, недель, дней и часов со дня творения мира и рекомендациями по их
расчетам78. Учение о поновлений составляющих мироздания не имеет
соответствий ни в букве библейского текста, ни в ортодоксальном вероучении,
поэтому источники такого рода идей ищут в античной натурфилософии79. Через
замкнуто-круговую модель времени Кирик воспроизводит и родственные
архаические воззрения о вечном повторении макрокосмических природных процессов.
В пунктах 10-13 и 15 «Учения о числах» речь идет о земном поновлений сроком
40 лет, морском — 60 лет, отличном от него водном — 70 лет, и о «большом
круге» (т. е. «Великом Индиктионе», периоде повторяемости
последовательности сроков христианской Пасхи) длительностью 532 года80.
Исследователями отмечено, что четверица космических стихий (воздух, огонь,
вода, земля) соотносились с основными элементами мироздания81. В этом
случае можно было бы ожидать у Кирика перечень обновления для всех основных
носителей первоэлементов, но в «Учении о числах» соответствие поновляемых
сфер и четырех первостихий угадывается лишь аналитически. По непонятной
причине Кирик (или кто-то из его переписчиков) пропустил разделы об
обновлении звездном и ветреном, которые могли бы дополнить текст стихиями огня и
воздуха. Тот факт, что в конечном итоге поновления сводятся к четырем
составляющим бытия, наблюдается в рукописи РГБ. Юдинск. № 2, где перечень
«поновляемых кругов» более полный, причем с разной степенью развернутости
он воспроизводится дважды. Первый раз — в небольшой статье «Сказание о
том, за сколько лет каждый круг обновляется», вслед за которой идут
рекомендации пасхальных расчетов и вставка из «Толковой Палеи». В «Сказании»
указывается, что небесный круг обновляется за 100 лет, земной за 90, морской
за 60, звездный за 5, ветреный за 4, водный — за 70 лет82. В данном месте
трудно объяснить причину отличия периода земного обновления от указанного Ки-
риком, тем более что второй раз эта тематика в Юдинск. № 2 несколькими
листами ниже прозвучит иначе в «Слове о состоянии неба и земли, моря и всех
вод»83. В этом фрагменте содержится перечень сроков обновления с
наглядными рекомендациями расчетов, сколько прошло полных кругов обновления той
или иной стихии от начала мира и какой порядковый номер года текущего круга
обновления. Часть воспроизведенных сроков противоречит тем, которые были
указаны выше: обновление земли — 40 лет, неба — 80 лет84.
Принцип циклического повторения составляющих мироздания, буквально
заявленный в памятниках, содержащих статьи о поновлений, с точки зрения
Космологические представления и естественнонаучные знания... \8\_
современного естествознания вовсе не так уж безоснователен. Типологически
он роднится с современной моделью «пульсирующей Вселенной», согласно
которой наш материальный мир на макроуровне переживает повторяющиеся
циклы существования, и сегодня это уже учитывается при проведении физических
экспериментов85. По обратной аналогии по отношению статей о поновлении тоже
возникает вопрос: каково могло быть практическое назначении расчетов
водных, воздушных, земных и прочих кругов? Эта постановка вопроса отнюдь не
безосновательна, поскольку стиль большинства рекомендаций произведения Ки-
рика и идейно родственных ему текстов носит «прикладной» характер (ведь
внимание уделено пасхальным расчетам). Пасхалия требует применения только
солнечных и лунных кругов, так что для нее рекомендации по расчетам кругов по-
новления стихий являются излишней информацией. С какой целью приводились
советы по расчету поновления земных или морских кругов, пока не ясно даже
гипотетически.
Во всяком случае, взаимосвязь между временем и процессами во Вселенной
хорошо понималась уже в «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского: «л'Ьто
(время) Ж€ С НВСЛГЬ Бы(с). ДА К#П5НО ЕЫВ*ША К^ПИО Ж€, И рАСЫПЛ€ТАСА»86, ЧТО
на языке современной физики может быть названо
пространственно-временным континиумом. Как составляющая естественнонаучного знания, этот
принцип служил обоснованием для основ различных систем счисления времени по
движению небесных тел, санкционировал принципиальную возможность
такого счисления.
Подробное внимание к движению неба характерно для трактатов, отразивших
гелиоцентрическую космологию. Их составители пунктуально излагали сведения
по астрономии, описывая принципы небесной механики и календарных
наблюдений за обращением небесных тел. В «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского
высказано уважительное и благодарное отношение к ученым древности,
занимавшимся астрономией и календарно-математическими расчетами, и тем стройным
и полезным для церковного учения знаниям, «иже со\ть изоовр'Ьли прсжнУи моу-
жи... иж€ хытрость соуть выкли, Астрономшскйк... зоволми мати. матици»87.
На основании анонимного обращения к этому полезному опыту
предшествующих мыслителей, Иоанн экзарх вводит понятие солнечного года. Год
определяется как период движения светила между двумя последовательными
прохождениями исходной точки эклиптики, что в современной астрономии
соответствует сидерическому, или звездному году88: «СЗ него ж€ ндченьше зьнамсньа. и паки
ДО ТОГО Ж€ М^СТА ДОШ€СТВ'|А. . мНЬры ГОДНЫА И Л^ТЬНЫА, СКОи'чАВАЮТЬ lAB'fe»89.
Годовой путь движения Солнца, названный в «Шестодневе» и затем в
«Толковой Палее» живоносьиыи, животный, зодшскыи кр^гь, зодиакъ, — состоит из
двенадцати созвездий зодиака — зодж, или животных^. Солнце за 24 часа
(сутки) проходит одну часть (градус) зодиакального круга, а Луна за это же
время — 13 частей (градусов). За месяц Солнце минует один знак зодиака, а за
весь год полностью обходит весь «животный» круг. Луна проходит один знак
зодиака за 2 дня 7 часов и одну треть часа, а за лунный месяц длительностью
28 дней и 8 часов обходит весь зодиакальный круг90.
182 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
Рис. 2-4. «Астрономы зрят хитростию по небу».
Миниатюра из рукописи Кариона Истомина «Любви знак». 1689 г.
Космологические представления и естественнонаучные знания... 1_83
В отличие от описания солнечного года, в «Шестодневе» не дается четкого
определения лунного года, однако во всех случаях указывается, что лунный год
на 11 дней короче, поэтому для согласования с солнечным требуется
дополнительный «приложный месяц», и что таким образом считали годы евреи и
древние греки91. В данном случае древнеболгарский автор находился под
текстуальным влиянием Василия Великого, не излагавшего в своих «Беседах на Шесто-
днев» календарных принципов счисления времени и описывавшего движение,
убывание и возрастание Луны в основном в символических толкованиях92.
Также не исключено, что сравнительно малое внимание Иоанна экзарха к
лунному счислению объясняется непривычностью его славянской аудитории и
прямого адресата — болгарского царя Симеона — к подобным календарным
системам.
Теоретические и практические сведения о солнечном и особенно лунном
счислении получили дальнейшее развитие в «Толковой Палее». Этот памятник,
следуя за авторитетом древнеболгарского мыслителя, также демонстрирует
положительное отношение к астрономической науке, одновременно отвергая ложные
методы астрологии, критика которой не оригинальна и восходит к «Шестодне-
ву». В блоке положительных астрономических сведений приводятся
рассуждения о роли светил в измерении времени и знамениях относительно погоды и
урожая. Описывается годовое и суточное движение Солнца и характерные
перемены в его положении по отношению к знакам зодиака — «Kptfnf зодеккому».
Сообщается, что годовой круг Солнца состоит из 12 месяцев, или знаков
зодиака, эти промежутки светило минует за 30 дней93; иными словами,
астрономическое время измеряется промежутками прохождения Солнца в зодиаке. Более
мелкое счисление времени приравнивалось к 24 часам, которые, в свою очередь,
подразделялись на ночные и дневные часы94, имевшие, как показал Р. А.
Симонов, переменную протяженность в зависимости от сезонов года95.
Определенный дефицит информации о лунном календаре в «Шестодневе»
Иоанна экзарха Болгарского, очевидно, вызвал потребность его восполнения в
«Толковой Палее». Для древнерусских грамотников лунный календарь имел
практическое значение прежде всего в связи с расчетами сроков празднования
Пасхи, для которых требовалось умение обращаться с юлианскими и лунными
датами. Лунные даты приобретали значение в связи со средневековыми
методиками лечения и разнообразными прогностическими гаданиями, часто
воспринимавшимися вполне легальными и нейтральными. Поскольку лунная
хронология оказывалась востребованной, то в «Палее» параллельное с солнечным
годом и более детальное, чем в «Шестодневе», обоснование принципов лунного
счисления времени возникло не случайно. В отличие от Солнца, Луна проходит
свой месячный круг за 27 с одной третью дня. Таким образом, в «Палее»
обозначена длительность сидерического месяца, в течение которого Луна совершает
свои полный путь по небосклону. В палейной компиляции отражена и другая
традиция, по которой лунный месяц длится 30 суток96. Сравнивая лунную и
солнечную систему календаря, составитель указывает на сравнительно меньшую
продолжительность лунного месяца. В результате этого несоответствия за год
184 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
накапливается 11 дней, и приведенные астрономические расчеты
рекомендовалось применять в календарной практике97.
Методы согласования солнечно-лунной хронологии в «Палее»
проиллюстрированы включением в состав компиляции обширного календарного блока98.
На несколько десятков столбцов самым подробным образом расписаны
конкретные даты лунных и солнечных месяцев в пределах 19-летнего лунного цикла.
На фактическом материале наглядно показано, как разница между лунным
(в 354 дня) и солнечным (в 365 дней) годами в течение трех лет (11 х 3)
покрывается дополнительным эмболисмическим месяцем, который в «Палее» назван
просто «лоунА». При этом следует иметь в виду, что занимающий значительную
часть «Палеи» календарный текст не соответствовал астрономическим
реалиям Древней Руси, потому что со времени его составления (а оно датируется III-
IV вв.), произошел сдвиг новолуний. Соответственно, точные датировки
устарели на 1-2 дня. Из-за накопившихся ошибок этот текст можно было
использовать исключительно в учебно-дидактических целях, в том числе и для развития
навыков осуществления астрономических поправок, чем именно
исследователи этой проблемы объясняют сохранение «мертвого» календаря99.
Возможная практика обучения знанию лунного календаря, гипотетически
предполагаемая для «Толковой Палеи», частично подтверждается бытованием
текстов, в которых высказывались насмешки над не знающими принципов
согласования лунного и солнечного года. Специальное внимание объяснению
длительности лунного года уделено в сборнике РГБ. Тр. № 765 (XV-XVI вв.), в котором
вопрошающие с недоумением о тринадцатом лунном месяце названы «невежи».
На фоне этих несведущих в астрономии совопрошателей автор явно
демонстрирует свои обширные познания в календарной проблематике, показывает знание
еврейских и арабских названий лунных месяцев, приводит греческие названия
знаков зодиака. Он убежден в необходимости этих знаний и уверяет, что «под-
WBACTb НА(М) ХР(С)ТЬАН0(М)... рАЗОуЛгЬтИ Т€М€ЖА Л0\ТШа(г)»100.
В этом же памятнике автор дает упрощенный астрономо-математический
способ расчета «тсчсжа лоуннаСг)» в соотношении с движением Солнца по
зодиакальному кругу. Для определения сроков нахождения Луны в том или ином знаке
зодиака рекомендуется сначала выяснить, где находится Солнце. Потом следует
узнать, сколько дней Луне (то есть время с момента новолуния), и удвоить
количество дней. К полученному результату следовало прибавить пять и, используя
полученное число, производить вычисления вперед от знака, в котором
находится Солнце, считая каждый знак зодиака пятикратно. В знаке, где завершится счет,
находится в текущий день Луна101. Каким образом велся счет, может подсказать
пояснение в списке РГБ. Тр. № 762, содержащем аналогичные указания по
расчету положения Луны. В нем говорится, что для запоминания вспомогательного
числа и последующего счета следовало пользоваться пальцами и ладонью. В этом
же списке к изложению принципов счета примыкает полный вариант
астрологической справки о благоприятных сочетаниях знаков зодиака10?, оставшийся
неоконченным в РГБ. Тр. № 765. Любопытно, что из аналогичного
астрологического фрагмента в рукописи РГБ. Тр. № 765 была переписана первая строка, в руко-
Космологические представления и естественнонаучные знания... 185
писи она зачеркнута, а дальнейшее изложение качеств знаков прервано вовсе103.
Видимо, переписчик механически продолжил копирование исходного текста,
приняв астрологический пассаж за продолжение инструкции по наблюдению за
Луной. Однако, осознав астрологическое содержание рекомендаций, он не стал
далее копировать текст, содержащий «нечестивые» советы104.
Наряду с «течением лунным» одним из наиболее излюбленных типов
статей, воспроизводимых книжниками в естественнонаучных подборках, были
росписи порядка движения Солнца по небосклону в каждый месяц. Фрагменты,
озаглавленные «О том, когда входит Солнце в определенный знак зодиака»105,
«Движение Солнца в каждый месяц»106, «О годовом круге и воздушных
изменениях»107, с некоторыми вариациями излагали восходящие к «Богословию» Иоанна
Дамаскина календарные росписи годового движения Солнца в знаках зодиака108.
Роспись сроков прохождения Солнца через зодиакальные знаки существовала
как в кратком варианте, так и в пространном, расширенном за счет
медико-диетологических рекомендаций, как это сделано в рукописи РГБ. Тр. № 762109. А вот
в подборке «От Шестодневника» РГБ. Муз. № 921 объяснение принципов
разделения годового круга движения Солнца по знакам зодиака дополнено еще
и вполне достоверной исторической справкой. В ней поясняется, что римские
императоры, «бывшие самодержцами всего мира», дали названия каждому
месяцу в память о своих именах и в честь языческих богов110.
С календарной тематикой и описанием движения планет тесно связаны
статьи «О знамениях», содержащие указания о погодно-метеорологических
явлениях в зависимости от оптических состояний светил. Нередко в них
естественнонаучная информация перемежается астрологическими прогнозами или
аллегорически-символическими трактовками. Почти буквально совпадают описания
примет по Луне, содержащиеся в «Шестодневе» Иоанна экзарха и «Толковой
Палее», которые, в свою очередь, восходят к Василию Великому111. Приметы
привлекали специальное внимание переписчиков, выписывавших их в качестве
самостоятельных фрагментов. Об этом свидетельствует включение упомянутого
палейного отрывка о знамениях в состав компиляции РГБ. Юдинск. № 2 (л. 2916-
2926). Во всех трех обозначенных памятниках знамения трактуются одинаково.
Появление вместе с Солнцем побочных солнц на востоке или на западе
рассматривается как примета сильного ветра и обильного дождя, если эти солнца
видны на севере или юге — то это признак скорого ветра с направлением от
соответствующей стороны света. Как авторитетная и данная Самим Иисусом
Христом излагается следующая примета: «Будет ненастье, ибо небо багрово»112. Если
солнечные лучи будут пригибаться к Солнцу, или облака при восходе покажутся
мутными, а при заходе «загоревшимися», то это признак тихой и ясной погоды.
Аналогичным образом излагаются приметы по виду Луны. Если трехдневная
Луна будет тонкой и чистой, то это предвещает долгую хорошую погоду. Если же
она тонка, но не чиста, а красновата, это предзнаменует сильные ветры.
Окруженная со всех сторон как бы венцом Луна указывает на ненастье, если же венец
потемнеет, то ненастье будет сильным. Выводы о предстоящей погоде также
ставятся в зависимость от облика разных «рогов» лунного серпа113.
186 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
Вероятно, метеорологические наблюдения подобного рода являлись
результатом опыта многих поколений. Вообще удивительные небесные явления,
собирательно называемые знамениями, постоянно упоминаются в летописях, и,
казалось бы, вне всякой контекстуальной связи с описанием космоса или без
отношения к изложению естественнонаучных знаний114. В «Повести временных
лет» под 6573 г. содержится заметка о наблюдавшемся знамении: на западе
после захода солнца появлялась «звезда великая, с лучами как будто кровавыми»
(по-видимому, это была комета). Далее здесь же прилагается подробное
описание, какие бывают знамения. Летописец приводит многочисленные
свидетельства из древней истории, наглядно устанавливая связь между явлениями
космоса и социума115. Как отметил М. Н. Громов, знамения для средневекового
осмысления мира служили «ярко зримыми впечатляющими знаками причастности
человечества к мировому универсуму... зашифрованным символическим образом
человек Средневековья пытался выразить отношение своего эмпирического
бытия к мировому космосу, установить взаимосвязь между социальными и
природными явлениями»116. Невзирая на внешнюю наивность, эти попытки являются
свидетельством поиска мировых закономерностей развития.
Значительный объем естественнонаучных сведений в древнерусских
космологических трактатах сообщается в связи с описанием устройства земной
части мироздания. Некоторые природоведческие суждения базируются на
античном учении о материальном субстрате бытия, который в памятнике представлен
в виде четверицы первоначал. Причастность одного из них, а именно — огненной
стихии, к физическим явлениям специально исследуется в особых разделах
«Толковой Палеи», которые озаглавлены «О природе огня» и «О громе». Согласно этим
естественнонаучным материалам, огонь как энергия потенциально присутствует
и в камне, и в дереве, и в облаке, до поры оставаясь незримым. Таким образом
вводится философское обоснование для объяснения природно-грозовых явлений,
а происхождение молнии объясняется столкновением туч, по аналогии с
действием огнива и кресала. Причиной отсутствия молний в зимнее время названо
отсыревание земного воздуха, а это значит, что природному явлению дается
объяснение с точки зрения естественнонаучной логики.
Образование дождевых и снежных осадков в «Палее» описывается близко к
аристотелевской точке зрения, а естественнонаучное истолкование грозовых
явлений соответствует взглядам Анаксагора. При этом восходящее к античной
научной традиции разъяснение причинности погодно-стихийных явлений
соседствует с телеологическим и даже отчасти архаически-мифологическим
разъяснением природы. Иссечение молнии, по «Палее», производится столкновением
мягких и влажных облаков, а видимый грозовой эффект этого удара
приписывается Божьему повелению. С одной стороны, гром трактуется как шум, которым
сопровождается раздирание облаков ветрами, а с другой стороны — все эти
стихийные проявления ставятся в зависимость от действия особых чинов
ангелов, которые производят и гром, и излияние дождя.
Интересное дополнение к аналогичному объяснению механизма появления
грома и молнии дано в подборке космологических и натурфилософских фраг-
Космологические представления а естественнонаучные знания... 1_87
ментов в сборнике XV в. из РГБ. Рум. № 358117. Столкновение облаков в ней
сравнивается с действием кремния и железа, когда они ударяются друг о друга:
в обоих случаях слышен грохот и высекается огонь. Составитель сборника
допускает именно такое объяснении грозы и подчеркивает, что «другой причины
возникновения грома и молнии быть не может: только когда есть облака —
тогда есть и громы, причем вначале гром и лишь затем молния»118. Для
подтверждения второй части этого в общем-то неверного с точки зрения естествознания
постулата автор привлекает пример чисто бытовой ситуации, когда
наблюдатель издалека смотрит, как колют дрова, и видит сначала обрушивающийся на
полено топор и лишь позднее слышит звук удара. «Так же и молнию мы видим
сразу, а гром слышим позже», тем не менее гром первичен119. Ход рассуждения
мысли древнего книжника, доказывающего ошибочное мнение, казалось бы,
обнаруживает правильное знание сравнительной скорости распространения
света и звука в воздушной среде. Однако нельзя принять это предположение
за полностью достоверное. Заметный акцент в тексте делается на
несоответствие скорости действия различных человеческих чувств: зрение
воспринимает быстрее слуха120. v
В «Толковой Палее» излагается описание явления радуги. Ей
приписывается свойство необыкновенного насоса собирать морскую воду в облака как в меха,
опреснять соленость и горечь воды, делая ее пригодной для орошения плодов.
Образ радуги-насоса известен древним мифам, но в «Палее» способность
радуги перемещать воду объясняется сверхъестественным действием
божественного повеления. Палейный пассаж «О радуге» заинтересовал составителя
космологической подборки в рукописи РГБ. Тр.-Серг. № 39. После краткого «Шес-
тодневца» с перечислением «дел Божиих» по дням творения (л. 193а-195г) автор
компиляции включил в текст «Стихи избранные из книги, глаголемой Палея»
(л. 195г-200г), относящиеся к астрологической и естественнонаучной
тематике. Среди иллюстраций природных явлений в видимой части мироздания
рассказ о радуге особенно выделен составителем вероятно благодаря мотиву
восхваления величия Божия, к которому он обращается неоднократно. Полихром-
ность радужной дуги трактуется предельно символически: зеленый цвет
знаменует премудрость и силу Бога, белый — цвет Духа Святого, красный —
цвет крови Иисуса Христа121.
Наряду с телеологическим толкованием круговорота вод «по повелению Бо-
жию» посредством радуги в самой «Палее» находится и другой вариант
естественнонаучного объяснения этого процесса, данный еще Аристотелем. Описание
испарения дается в связи с разъяснением причин регуляции уровня мировых
вод. В идейно-мировоззренческом плане важно, что данные
природно-климатические явления трактуются физически и сводятся к трансформации агрегатных
состояний воды. Как видим, компилятивная форма изложения позволяла
знакомить читателя «Палеи» с различными точками зрения.
Влияние античной научной традиции на трактовку природных процессов в
«Палее» и «Шестодневе» Иоанна экзарха проявилось в сюжетах
землеописания, восходящих через тексты Василия Великого к Аристотелю. В сокращенном
188 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
изложении первоисточника говорится, что через земные пустоты и протоки
осуществляется связь всех земных вод, начиная от рек и водоемов и кончая
морями с окружающим ойкумену Мировым Океаном. Это находит соответствие в
изложенной в «Метеорологике» Аристотеля идее опреснения морских вод
путем подземной фильтрации, которая происходит во время движения от Океана
к земным истокам рек и родников. К Аристотелю же восходит объяснение
причины сохранения постоянного уровня мировых вод путем взаимодействия
испарения с невидимым водным круговоротом по подземным жилам,
обеспечивающим баланс между стоком рек и наполненностью Океана.
В древнерусских естественнонаучных текстах явления грозы и бывающей
после нее радуги относятся к разряду «небесных знамений», то есть
символических знаков природы, указывающих на закономерности и явления более
высшего надмирного порядка. Радужное знамение трактуется в духе библейского
повествования как знак того, что на земле больше не будет потопа122. Однако
принцип действия этого знамения рассматривается весьма механически: если
бы не было радуги, поднимающей воды, то водяные облака снова бы
переполнили своим излитием землю123. Встречающееся в памятниках толкование
знамения радуги достаточно однообразно, почти стандартно и в целом не
противоречит каноническому библейскому тексту.
Этого нельзя сказать про объяснение грома и молнии, с которыми связан
целый отдельный жанр отреченной гадательной литературы. Относящиеся к нему
произведения часто входили составной частью в подборки космологического и
натурфилософского содержания. Авторство так называемых «Громников»124 в ряде
случаев приписывается византийскому императору «царю Ираклию» (575-641 гг.;
на троне с 610 г.), будто бы собравшему эти материалы из астрономических
трактатов125. На достаточно древнее происхождение этого типа памятников
указывает принятый в нем мартовский стиль; характер распределения работ и явлений
годичного цикла свидетельствует о том, что «Громник» изначально рассчитан на
более южные страны с климатом, отличающимся от среднерусского126. Так,
например, речь идет о громе и дождях в январе, дождливой зиме, среди конкретных
предсказаний есть сделанные для Аравии и Египта127.
«Громники» содержат прогнозы о природных катаклизмах, урожайности
сельскохозяйственных культур, поведении диких животных и явлениях
социального порядка (эпидемии, смуты, войны в разных странах) в зависимости от
появления грома в каждый из двенадцати лунных месяцев года128. Судя по «Громни-
ку» из рукописи РГБ. Муз. № 921, воспроизводящему таблицу движения Солнца
по знакам зодиака, в древнерусских вариантах «Громника» речь могла идти
также о месяцах юлианского, а не лунного года129.
Предполагаемая в «Громнике» возможность иметь суждение об успехах
хозяйственной деятельности человека в зависимости от знамений грома,
невзирая на непригодность отдельных предсказаний для Руси, обусловливала
популярность и распространенность этого вида гадательной литературы (на что
указывает круг интересов кирилловского книжника Ефросина, переписавшего
в одном из своих сборников статью «А сия знамения о грому»130). В. Н. Перетц
Космологические представления и естественнонаучные знания... 189
выявляет шесть редакций «Громника», каждая из которых находит свое
соответствие в греческих протографах131.
Природное явление, которое чувственный опыт наблюдения связывает с
громом — молния, — послужило основой для другой гадательной книги «Молниян-
ник». В этом произведении среди признаков, по которым осуществляются
предсказания, названы очертания молнии, день месяца и места, в которые молния
ударяет. Гадания приурочены к движениям по знакам зодиака Солнца, а не Луны.
Причину этого исследователи видят в синкретическом облике верховного
божества ясного неба Зевса (а на славяно-русской почве — Перуна и Ярилы-Даждь-
бога), объединившем черты богов-громовержцев и солнечного божества132.
К «Громнику» и «Молнияннику» в подборках часто примыкает еще одно
гадательное произведение — «Колядник»133, в котором прогнозы делаются в
зависимости от того дня недели, на который придется Рождество Христово134. Размер
текста и репертуар предсказательных ситуаций в этом памятнике небогат:
вопросы сезонной погоды, урожайность, здоровье, смерть, войны, смуты. Набор
прогнозов носит настолько общий характер, что вполне мог быть адресован самым
широким социальным слоям, как власть имущим, так и простолюдинам. Зацик-
ленность способа предсказаний на недельном круге вносит элемент курьезности
в содержание пророчеств: не слишком разнообразные катаклизмы должны
повторяться чисто механически через сравнительно короткий промежуток лет.
Формально «Колядник» не содержит никакой астральной подоплеки,
связывающей прогностику с явлениями небесной механики. Но несмотря на
видимую утрату в памятнике естественнонаучного содержания, его корни уходят в
архаическую астрологию, связывавшую каждый день недели с покровительством
одной из планет септенера. Кроме этого, праздник Рождества являлся
сакральной датой христианского календаря, наиболее близкой к дню зимнего
солнцеворота. Поэтому не исключена возможность генетического родства пророчеств «Ко-
лядника» с дохристианскими языческими обычаями празднования календ
(calendae) и связанных с ним гаданий. В дохристианскую же эпоху уходит
корнями происхождение обычаев, связанных с практикой гадания по грому и молнии135.
Характер древнерусских наблюдений за небесными явлениями не
ограничивался только магическими и астрологическими манипуляциями, но, без
сомнения, включал позитивную естественнонаучную компоненту. Геоцентрическая
космологическая концепция, в которой присутствовало понятие о механике
движения звездного неба и планет, давала естественнонаучное объяснение смены
четырех сезонов года вследствие годового движения Солнца136. Каждый из
сезонов начинается с момента прохождения светила через одну из четырех
астрономических точек — равноденствия или солнцеворота: «Разделяется же весь год
на четыре сезона: на весну, на лето, на осень и на зиму, то есть на равноденствия
и солнцевороты»137. Даты прохождения светила через основные точки эклиптики
по средневековым расчетам оказывались близкими к фиксированным срокам
великих христианских праздников. Поэтому в некоторых текстах время смены
сезонов для благочестивого читателя увязывалось с торжественными
событиями из Священной истории: весна начинается с Благовещения (25 марта), лето
190 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
с Рождества Иоанна Предтечи (24 июня), осень с Зачатия Иоанна Предтечи
(23 сентября), зима — с Рождества Христова (25 декабря)138. Распределение
сезонов по этим датам юлианского календаря плохо согласуется с климатическими
реалиями средних широт средневековой Руси, тем не менее они приведены в
соответствие с непереходящими праздниками богослужебного годового круга.
В подборке «От Шестодневника» в рукописи РГБ. Муз. № 921 отдельное
внимание уделено вопросу о том, когда наиболее правильно полагать начало
нового года. Новолетие связывается с прохождением Солнца через конкретную
точку эклиптики, обозначающую начало какого-либо сезона. В качестве обзора
изложены примеры принятых у разных народов традиций: халдеям
присваивается обычай начинать новый год в день весеннего равноденствия, египтянам и
македонцам — во время осеннего равноденствия, не уточненным «другим»
народам — в летний солнцеворот, и наконец римлянам — в зимний солнцеворот.
Среди возможных четырех вариантов предпочтение отдается весеннему
равноденствию, которое по праву является первым, так как «в это время сотворил
Бог все видимое творение»139, и именно в эту пору начинает оживать природа.
Последовательная смена сезонов в природе уподобляется образу
последовательной смены стадий существования живого мира и человека. На
онтологическом уровне каждая стадия обоснована разными вариантами сочетания
признаков четырех основных элементов материального бытия: огня, воды, воздуха
и земли. Каждое из четырех времен года в Муз. № 921 характеризуется
преобладанием в климате парных комбинаций признаков, присущих элементам чет-
верицы стихий, составляющих мироздание: сухого и мокрого, теплого и
холодного140. Весной бывает мокро и тепло, она уподобляется стихии воздуха, а в
человеческом микрокосме ей соответствует кровь. Лето теплое и сухое, его стихия
огонь и желтая желчь. Осень сухая и холодная, она подобна земле, которой
соответствует черная желчь. Зима мокрая и холодная, она подобна воде, а в
человеческом организме стихии зимы соответствует слизь141.
Типологически такой взгляд восходит к апокрифу «Галеново на
Гиппократа», отразившему античный взгляд на соответствие стихий космоса стихиям
микрокосма человеческого существа142. В этом памятнике циклической смене
сезонов соответствуют четыре возраста в жизни человека, когда
вышеназванные элементы преимущественно умножаются в организме. До 14 лет
увеличивается количество крови, свойства которой определяют характер детей как
горячий и легкий. Этот возраст подобен весне. До 30 лет умножается красная
желчь, этот возраст подобен лету, а характер юношей пылкий и страстный.
После 30 и до 45 лет умножается черная желчь, это осень, характер зрелых
людей, суровый и крепкий. В старом 80-летнем возрасте наступает пора
умножения флегмы, то есть мокроты, старые люди холодны и податливы под
влиянием господствующей мокроты143. Таким образом, в течение жизни человек
сменяет четыре типа темперамента, определяемых в соответствии с античной
классификацией, основанной на свойствах основных жидкостей человеческого тела.
Причины возрастных болезней, согласно трактату «Галеново ца Гиппократа»,
кроются в чрезмерном увеличении количества свойственной возрасту жидкости.
Здоровье же человека определяется как «хорошее сочетание первоэлементов.
Космологические представления и естественнонаучные знания... 19J[
Рис. 2-5. Олицетворение четырех стихий.
Миниатюра. XVII в. БАН
192 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
из которых составлено тело: теплого, сухого, холодного, влажного»144. Поэтому
медико-биологические рекомендации, сопровождающие в апокрифе описание
сезонов года и возрастов жизни, базируются на принципе достижения
гармоничного соотношения между жидкостями организма. В качестве средств для
соблюдения правильного баланса в организме приводятся конкретные советы
по соблюдению диеты, кровопусканию и приему слабительных средств для
«очищения желудка»145.
Похожие рекомендации в статье «О годовом круге и воздушных
изменениях» из рукописи РГБ. Тр. № 762 выглядят еще более детальными, поскольку
распределены не по сезонам года, а по месяцам, точнее — по нахождению
Солнца в том или ином знаке зодиака. Методология же в точности соответствует
принятой в «Галеново на Гиппократа»: аналогичным образом указания
мотивируются господством сочетания основных качеств четырех стихий мироздания
в том или ином знаке.
Представления о взаимосвязи состояния человеческого микрокосма и
явлений макрокосмического порядка отразились не только в рекомендациях по
профилактике, но и в советах по лечению уже возникших недугов.
Астрологическое прогнозирование исхода болезни и определение благоприятных для
успешного лечения дней месяца присутствуют в сборнике РГБ. Тр. № 177 в статье
«О разболевшемся человеке смотри внимательно»146. Статья входит в подборку
с преобладанием внеканонических текстов астрономо-астрологического,
медико-диетического и прогностического характера, примыкающую к «Богословию»
Иоанна Дамаскина (характерные контекст и соседство подчеркивают
взаимосвязь естественнонаучных и космологических сюжетов).
В статье «О разболевшемся человеке...» помещено практическое указание,
как по времени начала болезни составлять прогноз на выздоровление. Для
этого рекомендуется рассчитать нахождение Луны в конкретном знаке зодиака в
день начала заболевания и с помощью «часоблюдца»-гороскопа определить
качество найденного знака. Если знак добрый, то больной, если даже много и
тяжело проболеет, не умрет. Если же Луна в день заболевания находилась в недобром
знаке, то заболевший уже не исцелится. Зависимость всего течения
заболевания от «Течения лунного» выглядит абсолютизированной. Автор
прямолинейно призывает буквально следовать приведенному принципу прогнозирования:
«И так всегда определяй судьбу больных, и не будешь обманут этой приметой»147.
Далее в рукописи для практического использования приводится таблица
прохождения Луны по знакам зодиака для конкретных дней каждого лунного
месяца148. В целом же статья «О разболевшемся человеке...» может быть
охарактеризована как принадлежащая к жанру астрологической литературы и
типологически соотнесена с «Лунниками» — произведениями предсказательного
жанра. В ней болезнь и выздоровление рассматриваются не как
психосоматические процессы, в определенной мере связанные с метеорологическим
фактором, а как астрологически трактуемые явления макрокосмического порядка.
После выяснения прогноза на исход болезни в благоприятном случае
надлежало применять лечение. Советы по применению самых разнообразных снадо-
Космологические представления и естественнонаучные знания... 193
бий, действие которых было обосновано целебными и магическими свойствами
трав и некоторых веществ, нашли отражение в многочисленных средневековых
«Травниках» и «Лечебниках»149. Наряду с фармакологическим воздействием,
одним из основных средств лечения болезней человека в Средневековье было «от-
ворение» крови, практиковавшееся при самых разнообразных недугах.
Внимание многочисленных рукописей обращено к выяснению особенностей сроков
проведения операции кровопускания. Наиболее распространенными являются
указания на возможность кровопускания в определенные часы конкретных дней
лунного месяца, что отразилось в текстах разнообразных «Лунников»150. Эти
памятники представляли собой произведения гадательно-предсказательного
жанра, переведенные с греческого языка не позднее XV в. и бытовавшие в
нескольких типах, определяемых в зависимости от целей и способов гадания.
Содержащие указания на время кровопускания «Лунники» В. Н. Перетцем отнесены
к четвертому типу «Лунников» с медико-биологическими рекомендациями151.
Советы относительно сроков лечения и кровопускания в «Лунниках» порой
носили весьма запутанный и противоречивый характер. Например, в рукописи
РГБ. Тр. № 762 (л. 274а~275б) выделены три следующие друг за другом
самостоятельные рубрики, в которых расписаны благоприятные и неблагоприятные
для лечения порядковые дни лунного месяца, периоды лунного года,
конкретные неблагоприятные дни в каждом лунном месяце. Сведения этих рубрик
находятся во взаимном противоречии, и никаких специальных правил согласования
взаимно исключающих рекомендаций не приводится. Например, раздел «О
кровопускании» советует отворять кровь во второй день неназванного (что
вероятно выглядит как любого) лунного месяца в полуденное время. Рубрика
«Необходимо делать кровопускания» исключает как неблагоприятные вторые
числа июня, июля, августа и сентября. Следующий раздел «О днях, в которые плохо
совершать кровопускание и лечить» объявляет неблагоприятными вторые дни
январской, сентябрьской, ноябрьской и декабрьской Луны. Таким образом, одни
и те же даты относились и к благоприятным, и к несчастливым дням, а сами
рекомендации вряд ли можно было соблюсти последовательно.
Дополнительную сложность и путаницу вносили не принятые в привычном для
средневекового русского читателя обиходе даты лунного календаря, при воспроизведении
которых переписчик порой забывал об их лунном характере и воспринимал их
как юлианские даты. Характерно, что в конце раздела о кровопускании в
рукописи РНБ. Соф. № 74 на л. 3796 специально дописано пояснение: «это указаны
лунные месяцы».
К типологической разновидности «Лунников», посвященных кровопусканию,
относится «Лунник жильный», который в сборниках либо выделяется в
качестве отдельной статьи152, либо без названия примыкает к разделам «О качестве
крови при кровопускании»153. «Лунник жильный» назван так древними
составителями в какой-то мере не вполне корректно, так как медицинский эффект
процедуры кровопускания в нем увязан не с лунными фазами, а с конкретными
«жилами» — то есть венами, на которых «отворяется» кровь. В то же время эта
статья в естественнонаучных подборках дополняет основной текст «Лунника»,
7 Зак 4748
194 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
поскольку проясняет порядок отворения крови, о чем не говорится в
«Лунниках» с астрономическими датами. В частности, говорится, что кровопускание из
«соборной жилы»154 на обеих руках оказывается полезным «для всего тела», а
подобная процедура на «главной жиле»155 лечит болезни лица, зубов и горла156.
Что же касается в целом общебиологической проблематики, в сравнении
с астрономией или географией она была менее тесно вплетена в канву
христианской картины мира в домонгольскую эпоху, о чем писал Б. А. Старостин157.
Из этого обобщения следует исключить круг антропологических вопросов,
пристально рассмотренных еще в таких ранних доктринальных трудах, как «Шес-
тоднев» Иоанна экзарха Болгарского и «Толковая Палея»158. Внимательное
отношение к описанию животного мира, повадок представителей разных видов
фауны, дополненное аллегорически-символическим толкованием явлений
животного мира, обнаруживается в составе «Естествословов» или «Физиологов»,
включенных в состав этих энциклопедических памятников и соседствующих
с космологическими пассажами. Как самостоятельное произведение,
«Физиологи» возникли во И-Ш вв. (видимо — в Александрии) на основе восточных
и античных источников. В контексте Слова пятого дня «Шестоднева» и
заимствовавшей из него фрагменты «Естествослова» «Палеи» этот текст
зоологического трактата не является «Физиологом» в чистом виде. Его скорее можно
отнести к разновидности интерполированного «Физиолога», в котором
типичные для этого памятника статьи растворяются в других жанрах. В нашем
случае это происходит в канве повествования о шести днях творения, где
естественнонаучные и нравственные характеристики животных привлекаются для
описания красоты мудрого замысла мироздания159.
Зоологический раздел «Шестоднева» Иоанна экзарха, помимо наблюдений и
фактов из жизни животного мира, содержит начальные попытки обобщения и
классификации видов животных. Для самых разных классов живых существ
Иоанн экзарх довольно настойчиво и последовательно прилагает общую
методику классификации, основанную на характеристике среды обитания,
социальной организации отдельных видов фауны, способов питания и воспроизведения
потомства, возможности приручения человеком. Так, например, о рыбах
говорится, что одни из них плавают на мелководье, а другие в глубинах, некоторые
виды рыб передвигаются поодиночке, а другие — косяками, никакая рыба не
может быть приручена160. По виду пищи Иоанн экзарх выделяет рыб,
питающихся илом, тиной, водорослями и мошками, отдельно указывая, что большая
часть рыб является хищниками — съедают друг друга. Морские обитатели
также разделяются на мечущих икру и живородящих. К последним отнесены киты,
дельфины, тюлени, вьюны и мокрицы. Каждый род рыб водится в свойственных
ему пределах водной стихии. Морских пресмыкающихся древнеболгарский
писатель классифицирует по степени окостенелости наружных покровов: черепо-
кожие — раковины, гребешки, морские улитки и прочие обитатели моря,
имеющие костяной панцирь, мягкочерепные — раки, крабы и им подобные,
мягкотелые — имеющие мягкую и слабую плоть моллюски, полипы, каракатицы,
драконы, мурены, угри. Особо внимательного описания из рыб удостоились
Космологические представления и естественнонаучные знания... 195
чмкч
Рис. 2-6. Сотворение рыб, птиц и зверей.
Лицевая Библия
196 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
мурена, морской еж, рыбка ехиния, киты и опасные ядовитые рыбы (рыба-меч,
рыба-молот, рыба-пила, морские собаки и зайцы, скаты-хвостоколы).
Подмеченные повадки этих существ, за исключением морского ежа и китов,
наделены отрицательными символическими толкованиями, указывающими на
нежелательное для благочестивого человека поведение. В противоположность
им, описание китов исполнено восхищения и почтительного опасения перед
такими огромными животными («и эти киты... такие животные, которые на страх
и ужас нам созданы»). Благодарных отзывов удостоился морской еж,
маленький и невзрачный на вид, перед началом бури восходящий на скалистые камни,
тем самым подавая предупреждение морякам. Морской еж послужил поводом
для обличения предсказателей-астрологов, так как, не зная положения звезд
и способов гаданий, он от Бога узнает о грядущем ненастье161.
Как и для рыб, говорит Иоанн экзарх, есть общее разделение и для птиц,
несмотря на их значительные отличия по многим признакам. К птицам, по
принятому в Средневековье взгляду, он относит насекомых (ос и пчел) и летучих
мышей. По этому поводу Б. А. Старостиным сделано специальное замечание,
которое должно предостеречь от поспешного обвинения древнего писателя в
ошибочных взглядах: «Если в "Шестодневах" летучие мыши и крылатые
насекомые объединялись с птицами в один "образ", т. е. группу птиц, то это
означает прежде всего, что за самим термином "птица" стояло иное содержание,
нежели теперь»162.
Далее Б. А. Старостин, характеризуя биологические знания Древней Руси,
отметил еще один важный для анализа аспект, который, возможно, было бы
справедливо распространить на изучение всей древнерусской системы знаний.
Для суждения об уровне развития биологического знания важно обращать
внимание не только на количество и верность приводимых фактов, но и на характер
системы знания в целом: представляет ли она собой регулярное исследование,
либо она включена как частица в систему иного плана, либо является невычле-
ненным аспектом восприятия мира данной цивилизацией. По мнению Б. А.
Старостина, до XVI в. включительно на Руси в отношении биологии
осуществлялась последняя реальность163. С одной стороны, этот вывод подтверждает
нераздельность в древнерусском сознании живой и космической составляющих
мироздания; с другой стороны, находит свое подтверждение в эволюции образа
изложения биологического материала в древнерусской книжности.
Среди наблюдаемых нами памятников наибольшая научная систематизация
сведений о природе присутствует как раз в наиболее ранних произведениях,
носящих заметные следы опосредованного влияния античных знаний. В «Шес-
тодневе» Иоанн экзарх упоминает о попытке «некоторых» ввести
универсальную классификацию для птиц, в которую в будущем могли бы вписываться и
новые, пока не установленные виды. Таково, говорит Иоанн, предложенное
«некоторыми» разделение на разрезистоперых (например — орлы), кожеперых
(летучие мыши), мягкоперых (осы и пчелы) и жесткоперых (жуки)164. Видимо, эта
классификация неприемлема для Иоанна экзарха, потому что он сразу же
предлагает как самодостаточное и более верное разделение в соответствии с буквой
Космологические представления и естественнонаучные знания... 197
Писания на чистых и нечистых. Но и это обобщение не удовлетворило автора,
поэтому он тут же вернулся к своему уже опробованному на классификации
рыб методу. Иоанн экзарх делит птиц на плотоядных, зерноядных и
питающихся «всем, что попадается», объясняя тем самым различие в морфологии разных
видов. Также птицы подразделяются по возможности приручения и дрессуры,
общественному или одиночному образу жизни, обитанию вблизи от людей или
в пустынных местах. Целый гимн Иоанн экзарх слагает в адрес пчелы,
восхваляя ее трудолюбие, строительную премудрость, общественный образ жизни,
подчинение своему царю, то есть пчелиной матке. Не меньшей похвалы
удостоились бдительность журавлей, поочередно несущих ночную охрану спящей стаи,
и разум и милосердие аистов, согревающих и кормящих своих престарелых
родителей. Ласточка, лепящая свой домик из грязи, удивляет своим примером,
как нужно не поддаваться унынию в нищете. Зимородок, ради выведения
птенцов которого затихает море, убеждает в том, что у Бога нужно просить тишину
для спасения, а горлица служит образцом чистоты вдовства165.
Характер воспроизведенных Иоанном экзархом сведений показывает, что он
не ограничился «Физиологом» и через посредничество «Шестоднева» Василия
Великого обратился к античным знаниям о живом мире, в частности к
«Истории животных» Аристотеля. Таким образом, за счет введенной классификации,
основанной на мотивах переработанной каппадокийским богословием античной
методологии, биологический раздел труда Иоанна экзарха оказался достаточно
отличающимся от «Физиолога».
Гораздо меньшей степенью обобщений характеризуется биологический
раздел «Толковой Палеи», также касающийся свойств животного мира в рассказе
о пятом дне творения. На наш взгляд, это иллюстрирует обратную переработку
заимствованного биологического материала — от системного знания в сторону
«невычлененного аспекта восприятия мира» (по Б. А. Старостину).
Отталкиваясь от биологических материалов «Шестоднева» Иоанна экзарха, «Палея»
воспроизводит их в весьма измененном виде. Составитель «Палеи» заранее
«капитулирует» перед трудностями систематизации множества видов: «Кто сможет
описать все виды рыб, птиц и пресмыкающихся, которые Божиим повелением
произвела вода? Если кто-то покусится всех их перечислить и ясно назвать, тот
человек может и звезды небесные пересчитать, и море измерить черпаком»166.
Отсутствие систематизации в зоологических пассажах «Палеи» приводит к тому,
что описания животных переходят исключительно в аллегорическую плоскость.
«Палея» в духе «Физиолога» избирает только нравственно-символический
метод описания, касаясь назидательных свойств зимородка-алконоста, рыбы-
многоножки (полипа), «злокозненной» кукушки, ядовитой мурены, тюленя и
мифической птицы-феникс. Весьма слабый отголосок обобщения
просматривается в упрощенном разделении всех живых существ на «полезных» и
«бесполезных», из которых первые даны на благо человеку, а ненужные — ядовитые
и свирепые — оставлены вроде некоего пугала, чтобы люди не забывали
прибегать за помощью к Творцу. Для подтверждения этого вывода составитель
подыскивает и приводит из житий примеры, вовсе отсутствующие в исходных
198 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
фрагментах «Шестоднева». Тем не менее, при сравнительной обедненности
естественнонаучной компоненты в рассказах о животных, палейный текст
биологического содержания отражает тенденцию тяготения статей с переработками
мотивов «Физиолога» к космологическому циклу шести дней творения.
Как иллюстрацию этого факта можно привести избирательную палейную
компиляцию из рукописного сборника РГБ. Тр. № 39. В нем к весьма
лаконичному, почти конспективному (и не зависящему от «Палеи») «Шестодневцу»
(л. 193а-195г) присоединены «Стихи избранные из книги, глаголемой Палея»
(л. 195г-198а). После фрагментов о знамениях и размерах светил читаются па-
лейные статьи об алконосте, многоножице, жегуле (цапле), мурене, тюлене,
фениксе и орле (л. 1986-2006). Видимо, биологические характеристики мира
живой природы понимались древнерусскими мудрецами как необходимый атрибут
космологических текстов, в силу нераздельного восприятия мироздания и
населяющей его живой стихии.
Любопытным и сравнительно малоизученным разделом древнерусских
естественнонаучных знаний является минералогия. Вопросу о свойствах
драгоценных камней посвящен специальный фрагмент «Толковой Палеи». В нем
естественнонаучные материалы оказались вплетены в канву библейских
сюжетов в рамках трактата о двенадцати камнях на наперснике ветхозаветного
первосвященника. На первый взгляд, взаимосвязь этой отрасли
естественнонаучного знания с космологической проблематикой не столь очевидна, однако
она присутствует имплицитно и доступна для аналитического раскрытия
именно в той части, в которой представленные в качестве отдельного текстового блока
минералогические сведения являлись дополнением по отношению к книге
Левит (мы намеренно не углубляемся в собственно библейскую минералогию).
Палейный текст о разновидностях камней обретает тем большую ценность,
поскольку теоретических памятников по свойствам минералов в Древней Руси
известно не так уж много. Едва ли не больше сохранились описи драгоценных
камней с характеристикой внешних признаков камня, которые наряду с
предметами материальной культуры позволяют судить о знаниях древнерусских
мастеров относительно физических свойств камня.
Если предпринять краткий экскурс в историю бытования минералогической
проблематики в древнерусской книжности, то следует отметить, что интерес к
данной тематике проявился уже в самых ранних памятниках письменности и
сохранялся достаточно устойчиво. Первым (и долгое время — единственным)
сводом по минералогии был переводной трактат Епифания Кипрского (367-
403 гг.) о камнях на наперснике первосвященника, входящий в состав
«Изборника Святослава 1073 года»167. В своем труде Епифаний использовал античные
сведения и восточные легенды о камнях. Также полагают, что он
воспользовался некоторыми естественнонаучными трудами Плиния Старшего (I в.).
Повествование в «Изборнике» воспроизводит греческий текст в сокращении:
статья 51 «Что был ефуд, которым вопрошал святитель Бога» и статья 53 «Святого
Епифания. О 12 камнях, которые были на логии святителевы надеты»168.
Космологические представления и естественнонаучные знания... 199
Вплоть до XVI-XVII вв. Епифаниев трактат с теми или иными изменениями
воспроизводился в составе большого количества произведений: «Александрии»,
«Толковой Палеи», «Великих Миней Четьих», «Азбуковников» и пр.169 Вариант
текста «Сказания о 12 камнях» в Палее весьма близок к «Изборнику
Святослава», и не исключено, что они оба могут восходить к общей редакции перевода.
Палейный вариант по сравнению с «Изборником» был дополнен вставками о
ветхозаветных патриархах, характеристики которых базируются на
апокрифических «Заветах 12 патриархов» и связываются с символизирующими
израильские колена камнями.
Именно благодаря введению в палейный минералогический текст
антропологической темы описание свойств двенадцати драгоценных камней в «Палее»
затрагивает сложные универсальные космические взаимосвязи, устанавлива-
мые между магическими свойствами минерала, состоянием организма
человека (главным образом, речь идет о болезнях), духовно-нравственным
состоянием человеческой души и характерными особенностями объектов дольнего мира
(т. е. месторождений камней). Наиболее очевидна маркированность буквально
всех разновидностей географического ландшафта и крайних пределов областей
ойкумены тем или иным драгоценным минералом. Среди мест локализации
камней перечислены: земля (т. е. грунт, почва), остров, горы (и подножия гор), река
(ее устье и берега), глубокая пропасть, обрывистые морские берега.
Некоторые из содержащихся в недрах разных земель камней наделены целебными
свойствами в сочетании с теми или иными веществами или предметами. Таким
образом, проводится мистическая связь между разноплановыми составляющими
мироздания, а земной мир предстает как бы обрамленным драгоценным венцом
из камней. Типологическую параллель можно увидеть в перечне драгоценных
камней из библейского Откровения Иоанна Богослова. Там они выступают
материалами и символами Небесного Града святого Иерусалима — обновленного
мира, в котором живут святые и пребывает Сам Господь170.
Таков далеко не полный обзор естественнонаучных сведений,
содержащихся в космологическом контексте в памятниках древнерусской мысли. Их
устойчивое бытование, разнообразие и широта убеждают в том, что интерес
книжников к вопросам устройства и законов природы не был эпизодическим или
случайным. Космологические модели Вселенной были основаны на соединении
«мудрости Иерусалима и Афин» — библейских принципов креационизма и
дуальности мироздания, и достижений древнегреческой (в меньшей степени —
ближневосточной) научной мысли. В Древней Руси сохранялись,
переписывались и частично развивались натурфилософские материалы, через
посредничество и обработку православной книжной культуры восходящие к античным
традициям. При том, что вряд ли возможно говорить о полном обладании
отдельного древнерусского мыслителя всеми богатствами естественнонаучных знаний,
бытовавших в письменной культуре, следует помнить, что в его распоряжении
теоретически был чрезвычайно высокий потенциал сведений. Древнерусская
естественнонаучная мысль прошла длительный путь от становления практических
200 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
наблюдений над природой в долгую дописьменную эпоху родового строя до
методики организации знания и классификации наук. Постепенно шло
количественное и качественное возрастание знаний о мире, наряду с практически
статуарными в историческом плане художественным и символическим методами
систематизации эмпирических данных развивается зарождающийся научный
метод постижения окружающего мироздания. При всей слитности этих
методов в русской литературе эпохи Средневековья по преобладанию научного
метода можно выделять сочинения, носящие наиболее наукообразный характер171.
Они отражают становление отдельных естественнонаучных дисциплин в
качестве самостоятельных отраслей науки, выделяющихся из средневековой
космологии.
Примечания
1 Громов М. Н. Структура и типология русской средневековой философии. М., 1997.
С. 154. См. также: Павленко А. Н. Европейская космология: основания
эпистемологического поворота. М., 1997.
2 См.: Философский энциклопедический словарь. М., 1997. С. 224.
3 См.: Горбачев В. В. Концепции современного естествознания. Ч. 1. М„ 2001. С. 98,
229.
4 См.: Горский В. С. Философские идеи в культуре Киевской Руси XI — начала XII в.
Киев, 1988. С. ИЗ.
5 Характерным произведением конца античности, где отразилась попытка понять
окружающий мир, вопросы духовности, жизни и смерти, морали и этики, была поэма
Лукреция Кара (I в. до н. э.) «О природе вещей».
6 См.: Громов М. Н. Указ. соч. С. 154.
7 Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995. С. 13.
8 См.: Философский энциклопедический словарь. С. 224.
9 Симонов Р. А. Древнерусская наука «рядом» с Кириком / / Книжный мир сегодня
и завтра: Десятая международная научная конференция по проблемам книговедения:
Тезисы докладов. М., 2002. С. 173.
10 См.: Там же. С. 173.
11 Райнов Т. И. Наука в России XI-XVII вв. Очерки по истории донаучных и
естественнонаучных воззрений на природу. М.; Л., 1940. С. 99.
12 См.: Баранкова Г. С. Об астрономических и географических знаниях //
Естественнонаучные представления Древней Руси / Сб. статей. М., 1978. С. 61.
13 Наиболее значимые статьи этого автора собраны в издании: Симонов Р. А.
Естественнонаучная мысль Древней Руси. Избранные труды. М., 2001.
14 См.: Симонов Р. А. О новом древнерусском тексте 1138 г. / / Симонов Р. А.
Естественнонаучная мысль Древней Руси: Избранные труды. М., 2001. С. 77.
15 Старостин Б. А. Биологические знания // Естественнонаучные представления
Древней Руси / Сб. статей. М., 1978. С. 89.
16 См.: Громов М. Н. Систематизация эмпирических знаний в Древней Руси //
Естественнонаучные представления Древней Руси / Сб. статей. М., 1978. С. 47;
Горский В. С. Указ. соч. С. 125.
17 См.: Горбачев В. В. Указ. соч. Ч. 1. С. 15-16.
Космологические представления и естественнонаучные знания... 201
18 Полянский С. М. Проникновение платонических идей в древнерусскую книжную
культуру / / Книжный мир сегодня и завтра: Десятая международная научная
конференция по проблемам книговедения. Тезисы докладов. М., 2002. С. 183.
19 См.: РНБ. Пог. № 1561. Л. 88а-88б.
го Зтот принцип широко реализовывался в мыслительной культуре — начиная с
самых высоких сфер богословия, для которого Священное Писание содержало всю
полноту Откровения (и именно буквально, а не только в сотериологическом аспекте, как
считают новейшие богословы), и кончая нехитрой практикой гадания по той же Псалтири
или «отреченным» книгам. Весь спектр отношений к письменному слову как к
источнику знаний заключен между этими полюсами.
21 См.: Мильков В. В. Основные направления древнерусской мысли // Громов М. Н.,
Мильков В. В. Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001. С. 157.
22 См.: Полянский С. М., Якунин С. И. Об авторе Шестоднева и его эпохе // Баран-
кова Г. С, Мильков В. В. «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского. СПб., 2001. С. 24-25.
23 См.: Творогов О. В. Литература XI — начала XIII в. // История русской
литературы X-XVII веков. М., 1980. С. 56-57.
24 Вероятно, это обстоятельство послужило основанием для вывода Р. Пиккио,
который считал, что «из Болгарии же через поздние сербские списки дошел на Русь
"Шестоднев"...» (Пиккио Р. История древнерусской литературы. М., 2002. С. 41). С этим
мнением никак нельзя согласиться.
25 См.: Лихачев Д. С. «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского и «Поучение»
Владимира Мономаха / / Вопросы теории и истории языка (Сб. в честь проф. Б. А.
Ларина). Л., 1963. С. 187-190; Баранкова Г. С. О взаимоотношениях «Шестоднева»
Иоанна экзарха Болгарского и «Толковой Палеи» (текстолого-лингвистический аспект) / /
История русского языка. Исследования и тексты. М., 1982. С. 262-277.
26 Подробнее историю распространения памятника см.: Баранкова Г. С.
«Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского в Древней Руси // Баранкова Г. С, Мильков В. В.
«Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского. СПб., 2001. С. 279-296.
27 См.: Абрамов А. И. «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского — «Гексамерон»
славянской философской культуры / / Философские и богословские идеи в
памятниках древнерусской мысли. М., 2000. С. 366-374.
28 См.: Кристанов Ц., Дуйчев И. Естествознанието в средновековна България.
София, 1974. С. 602; исследование см.: Баранкова Г. С. Античная философия,
мифология, научные знания в древнеславянских переводных памятниках и выработка научной
терминологии / / Философские и богословские идеи в памятниках древнерусской
мысли. М., 2000. С. 22-48.
29 См.: Райков Б. Е. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в
России. Из прошлого русского естествознания. М.; Л., 1937.
Баранкова Г. С, Симонов Р. А. «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского —
первая славянская энциклопедия / / Баранкова Г. С, Мильков В. В. «Шестоднев»
Иоанна экзарха Болгарского. СПб., 2001. С. 175.
31 Старостин Б. А. Указ. соч. С. 83.
32 См.: Бородин О. Р. Географические знания // Культура Византии. Вторая
половина VII — XII в. М., 1989. С. 344-345.
33 См.: Полянский С. М., Якунин С. Н. Указ. соч. С. 16-17; Кривко Р. Н., Щеглов А. П.
Глава «О человеке» из «Точного изложения православной веры» Иоанна Дамаскина в
переводе Иоанна экзарха Болгарского / / Философские и богословские идеи в
памятниках древнерусской мысли. М., 2000. С. 331. Относительно числа переведенных
Иоанном экзархом глав имеется и другое мнение: по указаниям Т. Н. Копреевой, оно
;
202 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
равнялось пятидесяти четырем (см.: Копреева Т. Н. Неизвестные отрывки из
«Богословия» Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна экзарха Болгарского в списке XV века / /
Старобългаристика. 1983. Т. VII. № 4. С. 93-100). Издания памятника см.: Богословие
св. Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна, екзарха Болгарского / Публикация О. М. Бо-
дянского, А. Н. Попова // ЧОИДР. 1887. Кн. 9; Des HI. Johannes Damascus «"Ек9еоц
dicp|3f|<; xr\q 6p0o56£ou moiscx;» in der Ubersetzung des Exarchen Johannes / Herausge-
geben von Linda Sadnik // Monumenta linguae slavicae dialecti veteris / Ed.: R. Aitzet-
muller, J. Mate, L. Sadnik. T. V. Wiesbaden, 1967 (опубликован список ГИМ. Син. № 108,
озаглавленный «Олово о правки B'fep'fe»). Русский перевод «Богословия» см.: Иоанн Да-
маскин. Точное изложение православной веры. Ростов-на-Дону, 1992.
34 См.: Бородин О. Р. Указ. соч. С. 345.
35 См.: Трендафилов X. «Богословие » Иоанна Дамаскина в литературе Древней
Руси // АДД. М., 1994; Он же. «Богословие » Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна
экзарха Болгарского («Небеса») и оригинальные произведения древнерусской
литературы XI-XVII вв. // Преславска книжовна школа. Т. 3. Шумен, 1998. С. 85-118.
«Диалектика» выявлена в количестве более 200 списков. См.: Гаврюшин Н. К. «Диалектика»
на Руси // Памятники науки и техники. 1987-1988. М., 1989. С. 202-236; Он же.
О ранних списках славяно-русской «Диалектики» / / Записки отдела рукописей. Вып. 45.
М., 1986. С 279-285.
36 См. предисловие А. Бронзова к публикации: Иоанн Дамаскин. Точное
изложение православной веры. М.; Ростов-на-Дону, 1992. С. LIX (59 по второй пагинации).
37 См.: Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. СПб., 1999. С. 138.
38 См.: Палея Толковая по списку, сделанному в Коломне в 1406 г. М., 1892. См.
также: Истрин В. М. Замечания о составе Толковой Палеи. Вып. 2. СПб., 1898;
Щеглов А. П. Философское содержание «Толковой Палеи» по материалам русских
рукописей. Диссертация канд. филос. н. М., 1994. С. 59-63.
39 См.: Мильков В. В., Полянский С. М. «Палея Толковая» (антропологический
раздел). Вводная часть // Громов М. Н., Мильков В. В. Идейные течения древнерусской
мысли. СПб., 2001. С. 569.
40 Пиккио Р. Указ. соч. С. 37.
41 См.: Мильков В. В., Полянский С. М. Указ. соч. С. 561-570.
42 См.: ГИМ. Барс. № 620. Л. Зв.
43 См.: Ильин В. Н. Шесть дней творения. Paris, 1991. С. 63-64.
44 «Палея Толковая» / / Философские и богословские идеи в памятниках
древнерусской мысли. М., 2000. С. 154 (в пер. А. М. Камчатнова).
45 См.: Пиккио Р. Указ. соч. С. 41.
46 Вяземский П. П. О литературной истории «Физиолога» / / Памятники древней
письменности. Т. 1. Вып. 1. СПб., 1878-79. С. 61.
47 См.: Старостин Б. А. Указ. соч. С. 87.
48 См.: Гаврюшин Н. К. Космологический трактат XV века как памятник
древнерусского естествознания // Памятники науки и техники. М., 1981. С. 184-185.
49 Гаврюшин Н. К. Источники и списки космогонического трактата XV в. «О небе-
си» // Вопросы истории естествознания и техники. М., 1988. С. 132-135.
50 Относительно первичности палейного текста по отношению к трактату мнения
ученых не совпадают: М. Н. Громов называет «Толковую Палею» среди источников
трактата, Н. К. Гаврюшин на основании текстуальных сопоставлений и ссылки на В. М. Истри-
на делает предположение, что автор «Палеи» пользовался отдельными составляющими
трактата (см.: Громов М. Н. Структура и типология русской средневековой философии.
С. 154; Гаврюшин Н. К. Космологический трактат XV века как памятник древнерусского
естествознания. С. 188).
Космологические представления и естественнонаучные знания... 203
51 См.: Гукова С. Н. Космографический трактат Евстратия Никейского //
Византийский временник. М., 1986. Т. 47. С. 145-146; см. также: DelatteA. Un manuel byzantin
de cosmologie et de geografie / / Bulletin de la classe des lettre et des sciences morales et
politiques. Bruxelles, 1932. 5 serie. T. 18; Draseke /. Zu Eustratios von Nicaa // Byzanti-
nische Zeitschrift. 1896. Bd. 5, H. 2.
52 См.: Гаврюшин Н. К. Указ. соч. С. 185, 192; дополнительно см.: Его же.
Византийская космология в XI веке // Историко-астрономические исследования. М., 1983.
Т. 16.
53 См.: Гаврюшин Н. К. Космологический трактат XV века как памятник
древнерусского естествознания. С. 185-187.
54 В тексте приводится хронологическая выкладка, позволяющая определить
предположительное время создания протографа. От времени сотворения Адама и «до ныне»
указано 6967 лет, то есть 1459 г. (см.: РГБ. Муз. № 921. Л. 101а).
55 См.: РГБ. Тр. № 39. Л. 194г-195а.
56 См.: Там же. Л. 195г-198б, 200б-200г.
57 См.: Гаврюшин Н. К. «Поновление стихий» в древнерусской книжности //
Отечественная общественная мысль эпохи Средневековья. Киев, 1988. С. 209-212.
58 См.: Турилов А. А., Чернецов А. В. К изучению «отреченных» книг / /
Естественнонаучные представления Древней Руси. М., 1988. С. 125.
59 Ср., например, деталь об измерительной «верви» царя Соломона в нашем тексте и в
легенде, записанной в XIX в. в Орловском уезде (см.: Народные русские легенды А. Н.
Афанасьева. Новосибирск, 1990. С. 95).
60 См.: Громов М. Н. Указ. соч. С. 175.
61 См.: Баранкова Г. С, Симонов Р. А. Указ. соч. С. 143.
62 Шестоднев. РГБ. МДА № 145. Л. 2556.
63 См.: Там же. Л. 606-616.
64 См.: Там же. Л. 616. По мнению Г. С. Баранковой, отраженному в переводе этого
места «Шестоднева», указание о трех гранях следует выделять в качестве примера для
трехгранной земли (см.: Баранкова Г. С, Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха
Болгарского. СПб., 2001. С. 696). В этом случае наступает противоречие с заявленной
длительностью дня в 6 часов (тогда как 24 : 3 = 8), совпадающей с длительностью дня
для четырехгранной поверхности. Для трехгранной поверхности день постоянно
длился бы 8 часов, а не 6. Вероятно, следует исключить и возможную описку писца,
поскольку числительное «шесть» в древнерусском написано прописью (см.: РГБ. МДА
№ 145. Л. 61624). К тому же у Иоанна восьмичасовая длительность дня признается для
зимнего солнцеворота, а вот шестичасовой день действительно невозможен. Поэтому
мы считаем, что весь отрывок РГБ. МДА № 145. Л. 61620-25 относится к
четырехгранной земле, а перевод мог бы выглядеть следующим образом: «Если бы на четверти была
[разделена земля], то постоянно бы день имел [продолжительность] 6 часов, а ночь 18,
так как три грани этой фигуры [будут в темноте], ибо, как мы сказали, каждая грань
солнечными лучами освещается шесть часов».
65 См.: Баранкова Г. С. Об астрономических и географических знаниях. С. 52.
66 См.: РГБ. МДА № 145. Л. 11 За-1136.
67 См.: Баранкова Г. С. Указ. соч. С. 59; Райков Б. Е. Очерки по истории
гелиоцентрического мировоззрения в России. Из прошлого русского естествознания. М.; Л., 1937.
* См.: РГБ. МДА № 145. Л. 1136-1146.
69 См.: Баранкова Г. С. Указ. соч. С. 57.
См.: Мильков В. В. Основные направления древнерусской мысли. С. 161.
;
204 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
71 См.: ГИМ. Барс. № 620. Л. Зв-Зг; 146.
72 См.: Там же. Л. 8а-б.
73 Лат. Jovus — Юпитер.
74 Наблюдение сделано Р. А. Симоновым.
75 См.: Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. M., 1989. С. 177;
Аристотель. О небе. VII. 5-15.
76 См.: Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования. М., 1997. С. 131.
77 См.: Баранкова Г. С, Мильков В. В. Указ. соч. С. 104.
78 Затруднение связано с тем, что ни в античном наследии, ни в античных
реминисценциях в средневековых текстах не обнаружено прямых аналогий этому разделу (см.:
Пиотровская Е. К. Об одном списке «Учения о числах» Кирика Новгородца / / ТОДРЛ
Л., 1985. Т. 40. С. 380).
79 См.: Мильков В. В., Симонов Р. А. «Учение о числах» Кирика Новгородца //
Громов М. Н., Мильков В. В. Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001. С. 397.
80 См.: РНБ. Пог. № 76. Л. 344а-344б.
81 См.: Мильков В. В., Симонов Р. А. Указ. соч. С. 414.
82 См.: РГБ. Юдинск. № 2. Л. 289б-290а.
83 См.: Там же. Л. 295б-297а. Аналогичный фрагмент, датируемый 1138 годом,
встречается в сборнике 1446 г., переписанным писцом Олешкой (см.: РНБ. Кир.-Бел. № 10/
1087. Л. 3276-3286). По этому списку фрагмент был подробно проанализирован Р. А.
Симоновым в сопоставлении с «Учением о числах» Кирика Новгородца (см.: Симонов Р. А.
О новом древнерусском тексте 1138 г. С. 70-87). Следует отметить, что в указанной
работе Р. А. Симонова (с. 72) предложен в качестве возможного иной вариант перевода
заглавия рукописной статьи: «Слово о восстановлении [порядка] неба и земли и моря и
воды». Нам кажется более оправданным перевод древнерусского поставлсжс в нашем
контексте как «состояние», со смыслом, аналогичным латинскому status.
84 Впрочем, не исключена порча текста, так как в древнерусском оригинале
написание цифр местами испорчено, в больших составных числах буквы с цифровыми
значениями порой пропущены и только угадываются либо нечетко выделены среди слогов и
предлогов.
85 См.: Зельдович Я. Б., Новиков И. Д. Строение и эволюция Вселенной. М., 1975;
Горбачев В. В. Указ. соч. Ч. 1. С. 105.
86 РГБ. МДА № 145. Л. 21а; по публикации списка см.: Баранкова Г. С, Мильков В. В.
Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. СПб., 2001. С. 327.
87 См.: РГБ. МДА № 145. Л. 111а, 1116, 112а.
88 См.: Баранкова Г. С. Указ. соч. С. 54.
89 РГБ. МДА № 145. Л. 1116.
90 См.: Там же. Л. 1116; ср.: Палея Толковая // ГИМ. Барс. № 620. Л. 6г-7а.
91 См.: Баранкова Г. С. Указ. соч. С. 54.
92 Ср.: Святитель Василий Великий. Беседы на Шестоднев. М., 2001. С. 190-195.
93 См.: ГИМ. Барс. № 620. Л. 6г-7а.
94 См.: Там же. Л. 6г.
95 См.: Симонов Р. А. Древнерусский источник о применении «косого»
(переменного) часа на Руси // Симонов Р. А. Естественнонаучная мысль Древней Руси:
Избранные труды. М., 2001. С. 218.
96 См.: ГИМ. Барс. № 620. Л. 7а.
97 См.: Там же. Л. 9г.
98 См.: Там же. Л. 9г-14а.
Космологические представления и естественнонаучные знания... 205
99 См.: Симонов Р. А. Календарь Палеи Толковой, переписанной в Коломне (1406 г.),
с учетом других списков / / Проблемы истории Московского края: Тезисы докладов.
М., 1999. С. 10-11.
100 См.: РГБ. Тр. № 765. Л. 307а-309а (использован перевод А. В. Григорьева).
101 См.: Там же. Л. 3106.
102 См.: РГБ. Тр. № 762. Л. 262б-263а.
103 См.: РГБ. Тр. № 765. Л. 310а.
104 Это не помешало переписчику вместо астрологического фрагмента поместить
«Колядник», который, по-видимому, не был отнесен к крамольным знаниям из-за того,
что весьма благочестивым основанием прогностических предсказаний в нем служило
Рождество Христово и вполне нейтральные дни недели.
105 См.: РГБ. Тр. № 765. Л. 3096 -310а.
106 См.: РГБ. Муз. № 921. Л. 986.
107 См.: РГБ. Тр. № 762. Л. 263а-265а.
108 См.: ГИМ. Син. № 108. Л. 137в-138в. Ср. с русским переводом «Богословия»:
Иоанн Дамаскин. Указ. соч. С. 129-132. Композиционно и текстуально к Иоанну Да-
маскину наиболее близок вариант «От Шестодневника переписано», представленный в
списке РГБ. Муз. № 921. Л. 94а-1006.
109 См.: РГБ. Тр. № 762. Л. 263а-265а.
110 См.: РГБ. Муз. № 921. Л. 966.
111 См.: Шестоднев. РГБ. МДА № 145. Л. 1096-1 Па; Палея Толковая. ГИМ. Барс.
№ 620. Л. 14в-15б; Василий Великий. Беседы на Шестоднев // Творения иже во
святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Ч. I. M.,
1845. С. 102-103.
112 См.: Мф. 16: 3. Стоит заметить, что в евангельском контексте применяющие эту
примету фарисеи обличаются как лицемеры.
113 См.: Палея Толковая. ГИМ. Барс. № 620. Л. 14г-15а.
114 Например, см.: Сказание о знамениях // ПСРЛ. Т. XXXIII. Л., 1977. С. 147.
115 См.: Повесть временных лет (по Лаврентьевскому списку) //Се Повести
временных лет (Лаврентьевская летопись). Арзамас, 1993. С. 126-127.
116 Громов М. Н. Указ. соч. С. 145.
117 См.: РГБ. Рум. № 358. Л. 273б-274а.
118 См.: Там же. Л. 2736. Использован перевод А. В. Григорьева.
119 См.: Там же. Л. 274а.
120 Отношение к слуху как к менее совершенному чувству в сравнении со зрением
наблюдается у митрополита Киевского Никифора I в его «Послании о посте и
воздержании чувств», адресованном Владимиру Мономаху (см.: Послания митрополита
Никифора. М., 2000. С. 80; Полянский С. М. Богословско-философские взгляды
митрополита Никифора // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 2(4). Июнь, 2001. С. 103.
121 См.: РГБ. Тр. № 39. Л. 200г.
122 См.: Быт. 9: 9.
123 См.: РГБ. Тр. № 39. Л. 2006.
124 Греч. — PpovxoXoyia.
125 См.: РГБ. Муз. № 921. Л. 101а. Громник из Императорской Венской библиотеки
был обозначен «творением премудрого Ираклия, царя перского» (см.: Дьяченко Г.
Полный церковно-славянский словарь. М., 1993. С. 1075).
126 См.: Громник (комментарий) // Домострой. М., 1990. С. 298.
127 См.: РГБ. Муз. № 921. Л. 101а-103б.
128 См.: Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. С. 350.
;
206 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
129 См.: РГБ. Муз. № 921. Л. 101а-102а.
130 См.: РНБ. Кир.-Бел. № 9/1086. Л. 194б-195а.
131 См.: Перетц В. Н. Материалы к истории апокрифа и легенды: III. К истории Гром-
ника и Лунника. СПб., 1903. С. 128-130.
132 См.: Милъков В. В. Древнерусские апокрифы. С. 351.
133 Греч. — KaA,av8oA,6yia.
134 См.: РГБ. Тр. № 762. Л. 2676-2686; Ср.: РНБ. Q. XVII. № 176. Л. 130-131; обры-
вок «Колядника», сходного с Тр. № 762, см.: РГБ. Тр. № 765. Л. 311а.
135 Гадание по молнии некоторые исследователи считают этрусским по
происхождению (см.: Андреева М. А. Политический и общественный элемент византийско-сла-
вянских гадательных книг // Byzantinoslavica. Praha, 1930. Ro6. II. S. 61.
136 См.: Баранкова Г. С. Указ. соч. С. 59.
137 РГБ. Муз. №921. Л. 97а.
138 См.: РНБ. Соф. № 74. Л. 379а.
139 РГБ. Муз. №921. Л. 97а.
140 В средневековом византийском медицинском трактате, отразившем общий
источник подобного рода представлений, влияние комбинаций качеств четверицы стихий
на климатические изменения отмечено с большей универсальностью, чем в ряде
древнерусских памятников. В нем под рубрикой «О благорастворении воздуха»,
описывающей атмосферные изменения, помещена характеристика четырех ветров, среди
которых восточный несет тепло и сухость, западный — холод и сухость, южный — тепло и
влажность, а северный — холод и влажность (по тексту Cod. Plut. VII, 19 из
Библиотеки Лоренцо Медичи во Флоренции см. публикацию: Византийский медицинский
трактат XI-XIV вв. / Пер. с древнегреч., вступит, статья, коммент. и указ. Г. Г. Литаврина.
СПб., 1997. С. 33.
141 См.: РГБ. Муз. № 921. Л. 100а.
142 О происхождении апокрифа, отразившихся в нем взглядах и истории его
бытования на Руси см.: Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования. М., 1997. С. 220-
228.
143 См.: РГБ. Тр. № 177. Л. 259а-260а.
144 Галеново на Гиппократа / / Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования.
М., 1997. С. 220 (в пер. Л. Н. Смольниковой).
145 См.: РГБ. Тр. № 762. Л. 273б-274а.
146 См.: РГБ. Тр. № 177. Л. 2656-2696.
147 См.: Там же. Л. 2656.
148 См.: Там же. Л. 266а-270а. Кроме свойственного для этого памятника способа
прогнозирования исхода болезни по добрым и неблагоприятным дням, известно также
предсказание, основанное на магии чисел. Нумерологические манипуляции сводились
к суммированию числовых значений кириллических букв, составляющих имя больного
и дату его рождения. Затем суммарное число делилось на 30, а полученный результат
соотносился с фиксированными рядами цифр. Одна половина из них указывала на смерть,
другая — на скорое выздоровление (см.: РГБ. Тр. № 762. Л. 2766).
149 См.: Травник / / Домострой. М., 1990. С. 226-239; Лечебник / / Там же. С. 240-
259; Византийский медицинский трактат XI-XIV вв. СПб., 1997.
150 См.: РГБ. Тр. № 762. Л. 274б-276а.
151 См.: Перетц В. Н. Материалы к истории апокрифа и легенды: И. К истории
Лунника. СПб., 1901. С. 43 и след.
152 См.: РНБ. Соф. № 74. Л. 379а.
153 См.: РГБ. Тр. № 762. Л. 272а.
Космологические представления и естественнонаучные знания... 207
154 Вероятно, Venum basilaris. Пользуясь случаем, выражаем признательность О. Н.
Семеновой за подсказанные медицинские соответствия.
155 Вероятно, Venum cubitalis media.
i56 См.: РНБ. Соф. № 74. Л. 379а.
157 См.: Старостин Б. Л. Указ. соч. С. 87.
158 См.: Антропологический раздел «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского (Слово
шестого дня) см.: РГБ. МДА № 145. Л. 207а-276а. Перевод этого места, выполненный
Г. С. Баранковой, см.: Баранкова Г. С, Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха
Болгарского. СПб., 2001. С. 785-826; См. также: Палея Толковая (антропологический раздел).
ГИМ. Барс. № 620. Л. 21г-43а. Публикацию этого фрагмента древнерусского текста
с переводом, сделанным А. М. Камчатновым, см.: Громов М. И., Мильков В. В.
Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001. С 561-712.
159 См.: Палея Толковая. ГИМ. Барс. № 620. Л. 18в-22а.
160 См.: Шестоднев. РГБ. МДА № 145. Л. 167а-167б.
161 См.: Там же. Л. 167б-177а.
162 Старостин Б. А. Указ. соч. С. 89.
1ёз См.: Там же. С. 89-90.
164 Из классификации видно, что под «некоторыми» Иоанн экзарх имел в виду
Аристотеля и его последователей.
165 См.: Там же. Л. 182а-187б.
166 Палея Толковая. ГИМ. Барс. № 620. Л. 18г (перевод А. М. Камчатнова).
167 Публикацию греческого текста «Сказания о 12 камнях» см.: PG. Т. 43. Col. 293-
301. Славянский текст см.: Изборник Святослава 1073 г. / Факсимильное изд. Под ред.
Л. П. Жуковской. М., 1983. Л. 152в-154а.
168 См.: Изборник Святослава 1073 г. Л. 151в-г; 152в-154а.
169 См.: Макеева И. И. Минералогические сведения в русских памятниках XVI-
XVII вв. // Естественнонаучные представления Древней Руси. М., 1988. С. 141-142.
,70См.:Отк. 21: 11, 18, 19.
171 См.: Громов М. Н. Систематизация эмпирических знаний в Древней Руси. С. 36.
Древнерусская космология
и практическая география.
По данным средневековых
предстАвлений о рле
еловек издревле стремился понять, как устроен мир. Уже в поэмах
Гомера мы найдем восходящее к архаическим представлениям описание
Земли как плоского диска, который со всех сторон окружен Океаном,
и неба, имеющего форму свода. Данные космологические представления
начинают оказывать влияние на практическую географию и картографию. Так, в
сочинении представителя милетской школы Гекатея (VI в. до н. э.) содержатся
подробное описание ойкумены и карта, на которой Земля, так же как ее
описывает Гомер, изображена в виде диска, омываемого Океаном. Мифы,
архаические представления, записи путешественников и непосредственные
наблюдения легли в основу космологических концепций античных ученых. Так,
Анаксимен предполагал, что небесные светила не опускаются под Землю, а
проходят под ее северной приподнятой частью. Эта гипотеза позднее будет
заимствована богословами антиохийской школы и найдет отражение, в
частности, в картах византийских рукописей «Христианской топографии» Козьмы
Индикоплова. Представления о шарообразности Земли, высказанные Парме-
нидом, а позднее Аристотелем, легли в основу книги Эратосфена из Кирены
(Ш-П вв. до н. э.) «География».
Древнерусский читатель был достаточно знаком с космологическими
теориями античности, и не только потому, что они критиковались и
переосмыслялись в сочинениях раннехристианских богословов. В трудах отцов Церкви
главное место занимал анализ Священного Писания, а, как известно, в
библейских текстах отражены архаические греческие и ближневосточные
представления об устройстве мира. В то же время одним из отличий от архаических
греческих идей является наличие в библейской космологии рая. Место, где он
находится, не только уточняется христианскими, в том числе и
древнерусскими богословами на протяжении нескольких веков, красочно описывается в
многочисленных теологических сочинениях и апокрифах, оригинальных и
переводных, но и наносится на географические карты и упоминается в итинерариях —
руководствах для путешественников.
Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 01-03-00313 а.
ч
210 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
Русское слово рай персидского происхождения. Буквально оно означает
счастье (ср. авест. ray — богатство, счастье; др.-инд. ray, ras — сокровище,
богатство1). Известно, что это слово употреблялось среди славян еще в эпоху
язычества2. При этом очевидно и то, что когда славянские переводчики начали
использовать данное слово для номинации рая, он уже понимался как место
или состояние вечного блаженства. В то же время в ранних древнерусских
текстах встречается и слово порода3 для передачи греческого тшра8ешо<;.
Данное слово также заимствовано из древнеиранского (< pairidaesa4), однако
означает греческое яарабешод «сад», «лес», «огороженное место, место за
стеной». Именно это слово используется для номинации рая в Быт. 2: 8 («И
насадил Господь Бог рай (буквально: сад) в Едеме на востоке, и поместил там
человека, которого создал») как соответствие древнееврейского gan — «сад»,
«огороженное место», «нечто закрытое, замкнутое» (этимологически это слово
восходит к корню со значением «защищать, окружать, охватывать»). Поэтому
в Быт. 2: 8 и возможен глагол насадить. Неудивительно, что для обозначения
в Ветхом Завете места пребывания первых людей в счастье и гармонии
использован образ сада: он весьма значим для культуры Ближнего Востока, где почвы
часто бесплодны, а земли пустынны. При этом обратим внимание, что, как
следует из внутренней формы данных слов, и gan и яара8ешо<; — место,
отделенное от остального мира, в том числе и стеной. Интересно отметить, что
слово Едем (евр. «eden» (ср. также аккадское edinu и шумерское eden)) означает
«равнина, степь», что, с одной стороны, могло быть географическим ориентиром,
с другой — возможно, отсылало читателя к термину «*dn» в значении «нега»,
используемое для номинации потустороннего райского мира в угаритских
текстах5. Это во многом определяет позднейшие представления, согласно которым
рай труднодоступен для человека.
Слово тшр&беккх; и позднее в Библии используется для обозначения сада
или леса (ср.: Екк. 2: 5; Песн. 4: 13; Нем. 2: 8). Развитие у данного слова значения
«рай как место или состояние вечного блаженства» относится ко II в. до н. э.,
когда в иудаизме среди фарисеев возникает идея воскресения мертвых и
посмертного воздаяния. До этого времени евреи верили, что умершие
продолжали свое существование в могилах до тех пор, пока сохранялись их кости6.
Тени мертвых пребывали в скрытом в глубине земли Шеоле, где не было
разделения на праведников и грешных. Идея наказания зла и поощрения
добродетельного поведения формируется постепенно: еще пророк Исайя (ок.
VIII в. до н. э.) восклицает и взывает к справедливости: «Оживут мертвецы
Твои, восстанут мертвые тела!» (Ис. 26: 19); «Если нечестивый будет
помилован, то не научится or правде, — будет злодействовать в земле правых и не
будет взирать на величие Господа» (Ис. 26: 10). Позднее в древнееврейских
текстах эллинистического периода постоянно указывается на скорый и
внезапный приход царства справедливости, когда дух добрых благословится (Книга
Хранителей), наступит воскресение праведных (Завещания Иуды и Завулона),
которые будут вечно радоваться, видя, как проклятия падают на их врагов
(Книга Юбилеев). Таким образом, после конца времен и Страшного суда для
Древнерусская космология и практическая география 211
праведников возвратится блаженное состояние, утраченное человеком после
грехопадения Адама и Евы, когда святые будут есть плоды с древа жизни
(Завещание Левия). Эти представления, по всей вероятности, и отражены в
Откровении Иоанна Богослова, сообщающего: «Дух говорит церквам:
побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия» (Отк. 2: 7).
Таким образом, возникает убеждение, что так называемый первый рай, в
котором находились первые люди, существует скрыто от людей (возникает идея
промежуточного рая) и проявится после апокалипсиса. Среди иудейских
богословов рождаются разные предположения о том, где локализуется
промежуточный рай: на земле, на высокой горе7 или непосредственно на небесах. Эти
представления фиксируются и в библейских текстах: так, судя по Быт. 2: 10-
14, рай состоял из нескольких земель: земли Хавила (предположительно
Колхида, Персия, Индия или Египет), орошаемой рекой Фисон; земли Куш
(возможно, в южной Месопотамии) и Ассирии. В Быт. 13: 10 рай уподобляется
земле Египетской8. В то же время во 2 Послании апостола Павла к Коринфянам
представлена идея рая на «третьем небе»: «Знаю человека во Христе, который
назад тому четырнадцать лет (в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю:
Бог знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке (только
не знаю — в теле, или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал
неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12: 2-4).
Евангельский эпизод «Преображение Христово» (ср.: «По прошествии дней
шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору
высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его как солнце,
одежды же Его сделались белыми как свет. И вот, явились им Моисей и Илия,
с Ним беседующие» (Мф. 17: 1-3)) возможно, отражает иудейские
представления о местонахождении рая на высокой горе. Видимо, именно в этом
«промежуточном» раю продолжают свое существование пророки и праведники
(ср. появление Моисея и Илии в цитированном выше отрывке). Туда же, по
всей вероятности, попадает разбойник, исповедовавший Христа на кресте:
«Другой же [разбойник]... сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда при-
идешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же
будешь со Мною в раю» (Лк. 23: 40-43). Возможно, «промежуточный рай» —
это и есть лоно Авраамово, о котором говорится в Лк. 16: 22: «Умер нищий и
отнесен был Ангелами на лоно Авраамово».
Впрочем, в позднем иудаизме сформировалась и точка зрения, согласно
которой рая нет в земной пространственной реальности, это особый пласт
бытия9. Даже указание в Быт. 2: 8, что «Господь Бог насадил рай на востоке»,
переосмысливается, так как слово «восток» по-еврейски может быть понято и
как наречие спереди, впереди. Также аллегорически понимаются указания на
четыре реки, которые исходят из рая. Это четыре выхода из состояния
гармонии, характеризующие мучительные пути познания добра и зла10.
Таким образом сформированы в иудаизме и отражены в Священном
Писании представления, которые позднее мы можем встретить в раннехристианских
и древнерусских текстах: рай — это огороженное, закрытое от человека
212 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
место. Он не только существовал во времена первых людей, но и существует
сейчас: на высокой горе, в небесах или на земле. Человек может указать на
географической карте, где конкретно рай локализуется, и даже, преодолевая
многочисленные трудности, добраться до него.
Ближневосточные представления, отраженные в Священном Писании,
осмысляются раннехристианскими отцами Церкви.
Необходимо отметить, что даже в сугубо религиозных текстах их авторы
обращались не только к богословской проблематике. Параллельно с
догматическими толкованиями в данных произведениях формируются идеи
мировоззренческого значения, закладываются основы христианского миропонимания,
вытекающие из установок на правильное понимание Бога, мира и человека,
вводятся такие философские категории, как бытие, вещество, элемент, даются
понятия о материи, времени, движении, рассказывается об устройстве
Вселенной. Космологические идеи, представленные в данных текстах, оказывали
влияние на практическую географию и картографию.
Изначально среди христиан не было единства в объяснении мироустройства
и оценке античности. Существовали две основные идейные традиции, нашедшие
позднее отражение в древнерусских текстах: лояльные к античному наследию
геоцентристы каппадокийского направления противостояли антиохийским
богословам, которые, придерживаясь концепции плоскостно-комарного
мироустройства, занимали непримиримую позицию по отношению к языческим
мудрецам и философам11.
Представители александрийско-каппадокийской школы стремились
создать цельную систему знания, синтезируя сведения, полученные из Библии
и античных источников. В первую очередь они опирались на церковную
традицию, Священное Предание. Однако при этом они указывали, что «живой
смысл Писания, или Логос, будучи невидимым и нематериальным, становится
видимым и слышимым в словах Писания, но он беспределен... и не может быть
исчерпан никакими толкованиями»12. Значит, возможны многочисленные
индивидуальные толкования в рамках традиции с привлечением иных
источников. Данная школа зарождается в Александрии — одном из крупнейших
центров эллинистической культуры, — именно поэтому характер толкования
Библии александрийскими богословами носил согласно греческой традиции по
большей части умозрительный характер. Человек должен овладеть
основанным на Откровении совершеннейшим и цельным знанием, неразрывно
соединенным с высоким нравственным характером. При этом полученное знание
нужно не для какого-то практического применения: ценнейшее само по себе,
оно дает человеку внутреннее совершенство и счастье как в настоящем, так
и в будущем.
В отличие от александрийцев и каппадокийцев, богословы антиохийскои
школы свою концепцию строили исключительно на материале Священного
Писания. Мышление антиохийцев тяготело к аналитизму: из Библии
выбирались эпизоды и цитаты, на анализе которых и строилась космологическая
концепция. Осторожное отношение к античному наследию было отчасти обу-
Древнерусская космология и практическая география 213
словлено тем, что антиохийцы были продолжателями традиций сирийской
школы, представители которой нередко называли греческую философию
«бабьими сказками и ребячьими бреднями»13. Впрочем, необходимо признать, что
антиохийцы все же не были столь категоричными, как сирийцы, заимствуя
античные методы (в первую очередь разработанные Аристотелем) и идеи: так,
космология, представленная в их сочинениях, не являлась полностью
оригинальной, но имела предшественников, таких как Анаксимен, Демокрит, а также была
связана с архаическими мифологическими представлениями об устройстве
мира. Антиохийцы придавали первостепенное значение Святоотеческому
Преданию: истина, данная людям через Иисуса Христа, не развивается, а
постепенно раскрывается посредством Церкви, которая объединяет и согласует
мнения последователей Христа. Именно поэтому Писание должно изучаться
преимущественно под руководством признанных авторитетов и не служить
предметом для обсуждения.
Существовало несколько нашедших отражение в практической географии
и картографии космологических представлений, по которым расходились
представители александрийско-каппадокийской и антиохийской школ.
Великие каппадокийцы (Василий Великий, Григорий Нисский, Григорий
Богослов и др.) считали Землю и небесные сферы шарообразными. Впервые
данная теория была сформулирована еще в V в. до н. э. Парменидом или
пифагорейцами, а затем развита Евдоксом Книдским, Платоном, Аристотелем
и Птолемеем14. В отличие от них антиохийцы указывали, что небесное тело
является комаровидным, то есть имеет форму свода. Это небо, которое было
создано Богом в первый день творения (см.: Быт. 1). Края первого (превышнего)
неба связаны с плоской землей или опираются на столбы. Именно поэтому небо
не может вращаться. Земля же представлялась антиохийцам плоской и
четырехугольной (Феодор Мопсуестийский, Севериан Габальский, Козьма Инди-
коплов). Здесь представители антиохийской школы опираются на Библию:
моделью мира для них служит скиния — палатка, или шатер, который
установил Моисей в качестве помещения для богослужения по повелению Бога в
пустыне у Синая (см.: Исх. 25: 9; 26: 30; 38: 21 и др.). Покрытие скинии было
шатровым, ее стены опирались на столбы. В скинии находились священные
предметы: за первой завесой, в Святом — жертвенник, стол для хлебов
предложения и светильник; за второй завесой, в Святая Святых — ковчег
завета15. Именно четырехугольный стол для хлебов предложения и
символизирует землю: «въ п'рьвои ж€ еЪни, пропи//сл€ть на югь, св'Ътилникь ^з
свъщь HAvfcA. по числу // нед'Ьлномоу, ^крл(з) имуще св'Ьтилъ св^тащиСх)
НМ трА//п€зою, лежащей на с^вер* сже есть на земли, на ней же //
П0В€Л*квА€ТЬ ДВА НА ДССАТЬ Х^БА пр€(д)Л0Ж€ША, П0Л0//Ж€НИА, ПОВССДНСВНА-
АГО, ПО ЧИСЛОу ДВОЮ НА ДССАТС М(с)ЦЮ, НА КЫИЖ(д)0 1фАИ ТрАПСЗЫ, TpY ХЛ^БЫ»
V«lB Библии] описывается, что в первой скинии [на южной стороне находится]
светильник, по образцу светил, [в котором] семь свеч по числу дней недели.
lt-емь свеч] светят над столом, лежащим на севере, то есть на земле, на котором
повелевает положить двенадцать хлебов повседневного предложения
[Бог|
214 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
по числу двенадцати месяцев, на каждом краю стола по три хлеба»16). Такой
Земля и изображалась на многих византийских картах: в Ватиканской IX в.,
Лаврентианской и Синайской X-XI вв. рукописях «Христианской
топографии»17, в Псалтыри из библиотеки Барберини (XI в.), а также на мозаичной
карте в церкви св. Дмитрия в Никополе (597 г.)18. В «Житии» ирландского
монаха-путешественника Брендана содержится рассказ о гигантской колонне,
поддерживающей небеса: «Была она цвета серебра, однако на прочность
казалась тверже мрамора. Колонна [эта] была из чистого кристалла... Святой
Брендан измерил одну из четырех сторон этой колонны. А мера была в
четыреста локтей, и это только одна из сторон колонны»19.
С другой стороны, среди антиохийских богословов бытовала и другая точка
зрения, согласно которой Земля — это плоский круг. Впервые данную точку
зрения высказал Ефрем Сирин. По всей вероятности, именно эти взгляды
отражены в картах из Лаврентианской и Синайской X-XI вв. рукописей
«Христианской топографии» Козьмы Индикоплова, где изображена Земля как
небрежно очерченная половина овала; в Ватиканском Октатевхе № 746 мы
найдем полукруглый остров, омываемый Океаном20. Так же Земля изображена
на миниатюрах в славянском переводе «Христианской топографии» Козьмы
Индикоплова (на л. 37 Земля овальной формы, на л. 38 — как большая
половина овала, на л. 96 об. она овальная, несколько вытянутая в длину)21.
В этой связи возникал практический вопрос: существует ли земля, кроме
обитаемой?
Каппадокийские богословы, считая нашу планету шарообразной,
предполагали, что также существует противоположная ойкумене часть земли, где
живут антиподы. Против данной теории выдвигались различные аргументы.
Так, Козьма Индикоплов в своей известной и на Руси «Христианской
топографии» воспроизводит доводы ритора Лактанция22: «ащс ли и w противно //
многы(х) испытод'Ълно хои*€ТЬ взыскати кто, множа//с кощюны и(х)
СЗкрысть мнимыа ми, ноги во члкоу ин^/мь иогамъ члка къ исподоу
ПРОТИВНО ПРИКАСАШЫ // WBA Ж€ ПОСТАВЛЬШ€, ИЛИ НА 3€МЛИ ИЛИ В ВОД*, ИЛИ
НА // ВОЗДОуС*, ИЛУ ВЪ ОГН'Ь, ИЛИ В К0€МЬ М^СЧГк Х0ТАЩ€, КАКО ЮБрАЩЮТСА
WB0H прАВИ, КАКО НС ИЖ€ ЛИ 0\*К0 Про//СТО ПО сТЙСТВу СТОИТЬ, ДР^ЫИ Ж€
чреТс) €(С)СТВ0 СТОИТЬ, // ДОЛОу ГЛАВОЮ WBp^TAACA, В6(3)СЛ0В€СНА Ж€ И ЧЮЖА
НАШ€//Г0 €(С)СТВА И OlfCTABA С01/ТЬ ТАКОВАА, КАКО ЛИ ПАКЫ Д0//ж(д)у БЫВШЮ
НА WBOW ПрИНОСИТСА МОЩНО. АЩ€ ЛИ Стршь//ГЛАВЪ ХОЖ€Ж€, СТр€МЪГЛАВЪ
ИТУ И ДОЖ(д)у НА Н€Ю Н0уж(Д>А е//СТЬ РАЗУЛГЬВАТУ, и ПО ПРАВД* П0СМ*€ТСА
КТО СМ«ЬШНЫИ//МЪ СИМЬ СЛОЖ€НИШЬ, В€35В^ЩНА И В€СЧУННА р€Тч)€Н1А» [«ЕСЛИ
же кто-то захочет узнать об антиподах, исследуя [этот вопрос], то ему
откроется больший вздор, который они [каппадокийцы] проповедуют. [Может ли
быть так, что] ноги [одного] человека к ногам другого человека прикасаются,
оказавшись снизу, [то есть] с противоположной стороны [их]? Если два
человека захотят встать на земле, или в воде, или на воздухе, или- [даже] в огне,
или в каком-то другом месте, как они (окажутся и удержатся) друг напротив
друга? [Это возможно только в случае, если] один [человек] просто стоит
Древнерусская космология и практическая география 2Н>
согласно [своей] природе, другой же сохраняет свое положение
противоестественным образом, находясь вниз головой. Такие мнения (взгляды) неразумны
и чужды нашей природе и [естественному] закону. А еще [спросим]: как пойдет
дождь на этих двух людей? Если человек ходит вниз головой, то, надо понимать,
и дождю [должно] идти снизу вверх. И справедливо посмеются над смешной
этой гипотезой, над неясными и безрассудными [их] словами»]23. Кроме этого,
против теории антиподов выдвигались и доводы богословского характера: если
предполагать существование антихтона, то и на нем мог быть сотворен человек
и могли произойти ветхозаветные события24. Потому если Платон четко
говорит о противоположной ойкумене земле (Тимей, 24 е), то в средневековых
текстах, в том числе и в древнерусских, достаточно осторожно сообщается об
антихтоне и антиподах25. Тем не менее в раннем Средневековье встречаются
карты с изображением земли антиподов (так называемые «карты Макробиева
типа»26), такие, как иллюстрации к комментарию Макробия на «Сон Сципиона»
Цицерона, в том числе весьма древние карты в рукописях трактата Марциана
Капеллы «Брак Меркурия с Филологией» (ок. 300 г.)27.
Антиохийские богословы рассматривали вопрос об антихтоне так: если
небесный свод жестко прикреплен к Земле, которая со всех сторон окружена
Океаном, значит, за Океаном должна находиться другая земля, на которую и
опирается небесный свод. Так, в «Христианской топографии» Козьмы Индикопло-
ва мы читаем: «прьвос ибо вкоуггк съ зшлыо, кдмдрою вУдндго край, с край,
сказано» («[небо] краями комаровидимого (сферического) свода связано вместе
с землей с западной и восточной сторон»)28. Исходя из принципа буквального
толкования Писания, некоторые антиохийцы, опираясь на Быт. 2: 8 («И
насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого
создал»), предположили, что именно на той земле, на которую опирается комара
небесного свода, и находится рай. Это одна из распространенных гипотез, но
далеко не единственная.
Рассуждения о том, где локализуется рай, содержатся во многих
средневековых сочинениях.
Ориген, александрийский богослов III в. н. э., считал, что рай недоступен
чувственному восприятию. Он не земной, а «духовный», находящийся на третьем
небе, куда был «восхищен» апостол Павел. Эта точка зрения повторяет (или
заимствует) иудейские представления о «промежуточном» рае, который
существует на небесах (рис. 2-7). Идеи Оригена были усвоены и переработаны как
каппадокийцами, так и антиохийцами.
Как указывали каппадокийцы, и рай и ад, о которых в Писании говорится
«достаточно соматически», следует понимать более утонченно. Возможно, так
обозначаются «некие догматы, относящиеся к душе»29. Именно поэтому в
трудах каппадокийских богословов библейские образы получают
аллегорическое объяснение. Рай — это сама природа человека в духовном состоянии, муж
и жена — ее высшие и низшая сторона, или ум и чувство. Древо познания
Добра и зла — чувственная видимость материальных предметов, которая
может обольстить ум при посредстве чувства (Григорий Нисский) или нечто
216 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
Рис. 2-7. Лоно Авраамово.
Фрагмент росписи Успенского собора во Владимире 1410-1414 гг.
Древнерусская космология и практическая география 217_
прекрасное по своей природе, чем мы можем воспользоваться во зло (Максим
Исповедник), змей — чувственное наслаждение и одновременно дьявол,
подчиняющий себе человека.
Позднее богословы, опирающиеся на традиции каппадокийской школы,
считали рай и чувственным и духовным30 или допускали следующее: нельзя
отрицать, что существуют представления о чувственном рае, однако возникли
они как отражение того, что происходило в области духовного бытия31. Эта
идея, кстати, подобна представлениям, характерным для позднего иудаизма.
Богословы антиохийской школы, как уже отмечалось выше, стремились к
буквальному пониманию Священного Писания и выдвигали на основе
различных интерпретаций библейского текста гипотезы о точном местонахождении
рая на Земле.
I. Рай, отделенный от ойкумены Океаном. Как считали большинство
антиохийцев, согласно Быт. 2: 8 рай находится на востоке, по всей видимости,
на земле, на которую опирается небесный свод. Именно в этом земном раю
и совершается грехопадение. После того как Бог наказывает Адама и Еву, Он
отправляет их на «землю терновну». Она помещается здесь же, в Эдеме.
Данные представления отражены в византийских и древнерусских апокрифах:
так, в «Исповедании Евы» и «Житии Адама и Евы» указывается, что Адам и
Ева, изгнанные из рая, живут близ райских мест. Им отведена седьмая часть
Эдемского сада. Незадолго до смерти Адама Сиф и Ева отправляются в рай,
чтобы принести растения для облегчения болезни Адама32. После убийства
Авеля Каин получает новое наказание: «iako G5 бга СЗгнанъ, iako пишстса,
изыде каинъ G5 л|//цл ежил, и всслиса в5 землю наидъ33, да реме iako из5гна//
НЪ БЬ|(С) КАИНЪ G5 ЛИЦА ВЖА, И ПОСЛАНЪ ВЫ(с) В5 ЗАТ0Ч€НИ€ В5 36//Л1ЛЮ З5Л0\»
(«Он был изгнан Богом, так как написано: "Пошел Каин от лица Бога и
поселился в земле Наид", то есть сказано, что Каин был изгнан Богом и был
послан в заточение в плохую землю»)34. Последовал запрет общения потомков
Каина, называемых сынами человеческими, и потомков третьего сына Адама
и Евы — Сифа, которых называют сынами Божьими. Это наименование
возникает потому, что, согласно распространенному мнению, которое приводится,
например, в «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова, «част'Ь чгкмь
АВЛАЮЩЮСА, ИЖ€ //БЛИЗЬ С01/*Щ€ ОА/ТО рАА СНВ€ СИфОВИ, IAK0 ПО(д) ПрОЛ\ЫСЛО(л\)
ка«//€(м) соущ*, и чАСТ^Ье къ вгу БесЬдоующс пр(с)но снв€ вжш//нАрицА-
ХоусА» («Бог часто приходил и являлся тем, кто жил недалеко от рая, — детям
Сифа, которые находились под покровительством Господа и нередко
разговаривали с Ним. Оттого они назывались сынами Божьими»)35. После нарушения
запрета общения сынов Божьих и человеческих Господь насылает на Землю
потоп, в результате чего спасен только праведник Ной, который переплывает
в ковчеге на землю, «где сейчас живут люди». Она кажется спасшимся намного
лучше райской, то есть имеется в виду не собственно Эдем, а места, где жили
люди после грехопадения. Она кажется лучше потому, что в Эдеме после
проклятия Бога земля «растила» Адаму только «терния и волчцы» и он
«питался полевой травой» (Быт. 3: 17-18). После потопа рай на краю ойкумены
218 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
недоступен — только святые или блаженные могут добраться до него (см.:
византийские и древнерусские апокрифы, например «Хождение Агапия в рай»).
Данная точка зрения находит отражение в практической географии: на
миниатюрах, представленных в византийских рукописях «Христианской
топографии Козьмы Индикоплова», рай изображается в виде цветущего сада,
отделенного от ойкумены Океаном (в Ватиканской IX в., Лаврентианской и Синайской
X-XI вв.). В Ватиканском Октатевхе № 746 рай прорисован более подробно,
включая древо добра и зла и райское озеро36. Об озере в раю сообщают
византийские апокрифы «Откровение Варуха», где воды этого озера наполняют
облака, которые затем проливаются на Землю дождем37, а также «Видение апостола
Павла».
Согласно Ефрему Сирину, рай расположен на острове в Океане. Возможно,
источником данной точки зрения, как считают исследователи, наряду с
библейскими образами послужило древнегреческое представление о
местонахождении посмертной обители праведников на островах в океане (так называемые
острова Блаженных)38. Об этих островах впервые упоминается у Гомера в
«Одиссее» (IV, 526-568), который указывает, что там «ни метелей, ни ливней,
ни хладов зимы не бывает». Плутарх в жизнеописании Сертория дает
достаточно конкретное описание данных островов: «Они отделены один от другого
очень узким проливом, находятся в десяти тысячах стадиях от африканского
берега... Острова пользуются приятным климатом благодаря своей
температуре и отсутствию резких перемен во временах года»39. В то же время, в отличие
от античных воззрений, как следует из концепции Сирина, воды Океана
образуют стену, которая преграждает человеку путь в рай, что согласуется с
внутренней формой греческого яарабешо^, рай — недоступное, огороженное
место. Эта точка зрения находит отражение в византийских и древнерусских
апокрифах. В «Хождении Зосимы к рахманам» (V-VI вв.) рай окружает
поднимающаяся из вод облачная стена. В рассказе об Аполлинарии Тирском
герой встречает в море блестящую стену40. В сочинении «О всей твари»
указывается, что рай и муки помещаются на острове, отделенном Океаном от
четырехугольной Земли41. Идеи Ефрема Сирина находят отражение и в
практической географии: так, остров святого Брендана был назван по имени
открывшего его монаха, который отправился на поиски рая после встречи со
святым Баринтом, вместе со своим сыном, уже побывавшим в блаженной земле.
В «Житии св. Брендана» (сохранившийся текст восходит к XI в.) райский
остров описывается так: «[Там] росло много трав и плодов... Мы обходили его
в течение пятнадцати дней, но не смогли обнаружить его предела. И не
видели мы ни одной травы, которая не цвела бы, и ни одного дерева, которое не
плодоносило бы. Камни же там — только драгоценные... [На острове
путешественники обнаруживают реку,] текущую с востока на запад»42. Как считают
исследователи, эта легенда была известна и на Руси43. В послании
новгородского архиепископа Василия Калики' к тверскому епископу Феодору Доброму
(составлено около 1347 г.) также сообщается, что новгородские
путешественники достигли острова, где находился рай: «и то мъчто святаго рАя находилъ
Древнерусская космология и практическая география
219
Моиславъ Новгородець и сынъ его Ияковъ; а вс*х "Х1* был0 тРи к>МЬ1 1лаДьи],
И ОДИНА ИЗ HH\b ПОГИБЛА... А ДВ*Б... ПрИНССЛО К ВЫСОКЫМЪ ГОрАМЪ. И ВИД*ЬшА
НА ГОр* ТОЙ НАПИСАНЪ Д*ЬисуСЪ ЛАЗОреМЪ ЧЮДНЫМЪ... И СВ^БТЬ БЫСТЬ ВЪ
М*СТ€ ТОМЪ САМОСИЯН€НЪ, ЯКО Н€ МОЩИ ЧЛОВ*Ку ИСПОВ*ДАТИ. А НА ГОрА)(Ъ
т-Ьх^ ликованиа многа слышаху™»44 в 1489 г- путешественник Иоанн де Хозе
также описал остров вблизи Индии, на котором находилась гора Эдем. В лучах
заходящего солнца на горе высвечивались стены рая45. Интересно, что в
классических древнегреческих источниках острова Блаженных также
отождествлялись с реально существующими островами в Атлантическом океане,
например Азорскими или Канарскими46.
Подробное описание рая, находящегося на острове, содержится в апокрифе
«Хождение Агапия в рай». В нем сообщается о «двух частях рая». Агапий
добирается через Океан на корабле до райской земли, где он видит райских
птиц, Христа и двенадцать апостолов в окружении херувимов и серафимов
Собственно рай, как сообщается в апокрифе, отделен от мира неприступной
стеной: [Агапий] «шедъ многы дни и овр^те ст^ны яж€ стоять отъ земля
до некеси» [«Агапий шел много дней и нашел стены, которые стоят от земли до
неба»]47. В этой части рая Агапия поражает яркий свет, «седмицею сеТг) св'Ъта
светлее» [«в семь раз земного света светлее»]48. Отметим для сравнения, что
представления о двух частях рая — Эдеме и собственно саде (рае) как
«лаборатории» Бога — характерны для позднего иудаизма49. Агапий описывает
крест высотой до неба, виноградник и райский источник. Именно из данного
источника, по представлениям отцов Церкви, опиравшихся на Быт. 2: 10-14,
берут начало четыре реки Земли: Геон, Фисон, Тигр и Евфрат (см.: Быт. 2)
(рис. 2-8). Две последние были хорошо известны ученым Средневековья. Геон
большинство богословов отождествляли с Нилом, Фисон — с Гангом50. В то
же время Козьма Индикоплов считает, что Фисон — это не только Ганг, но и
Инд: «[фисонь во идеи]скоую // стрлноу, [юже прозывлютъ н^цыи, инд и
гагги]нъ» («Первая река — это Фисон в Индии, которую также называют Инд
и Ганг»)51. В славянских текстах предполагалось, что Фисон является Дунаем:
«Р'БКА ИСХОДИТЬ ИЗ €Д€МА [и] рАЗЛО^ЧАСТЬСА На"Х НАЧАТЪКЫ. ВЪ ТИГръ, ВЪ
нилъ, въ ефрлтъ, въ тъ иже въ писанТи глемъ есть фисонъ. его же мНЬна(т)
нына мноэи доунлвл соущл» [«Река выходит из Едема... и разделяется на четыре
реки: на Тигр, Евфрат и реку, которую в Писании называют Фисон, его теперь
многие называют Дунав (Дунай)»]52. Несмотря на то что эти реки вытекают
из одного источника в раю, который отделен от ойкумены океаном,
предполагалось, что данные реки текут под землей до своего известного всем истока:
«въспрГимше гл[мъ, четыре р^ки. iako же вжств€но]е пТсанТ//с глть, и[схо-
ДАще из рлА, океАНА проходАтъ] и въ//сходать [на землю сУю]», —
сообщается в «Христианской топографии» Козьмы Индикошюва [«[Эти реки]
вытекают из рая и приходят под Океаном на землю, [где сейчас живут люди]»]53.
В «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского говорится, что «рЧжА великл...
напаа€ть рли. Шкоудоу течеть въ д^пиноу. и погрлзлеть подъ зъмиик недов^ндо-
М*Ь. 1АК0Же САМЪ ВНЬСТЬ. ИЖе ПОуТЬ ПОСТЛА... И ПО РАЗБИЛА М*БСТА И35ВИВА€Т5СА
220 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
Рис. 2-8. Райские реки и свиток небес.
Лицевой летописный свод XVI в. ГИМ
Древнерусская космология и практическая география 221
ИСХОДА. ОВр'ЬтЛбТЬ ВО СА ОБА ВЪ ефиОШИ. ОВА Ж€ р*КА ВЪ ЗАПАДЕ. ОВА Ж€
на въстоц^.» [«большая река, орошающая рай... течет в подземное место и
растекается невидимым путем, который знает только сам Тот, кто положил его,
и по разным местам расходится она, выходя одной рекой в Эфиопии, другой
рекой — на западе, третьей же — на востоке»]54. В древнерусской рукописи
из сборника «Цепь златая» также указывается, что Тигр, протекающий в
Ассирии... «течет с востока, затем уходит под землю и снова появляется в
Армении, пробиваясь в Ассирию»55. Четыре райские реки изображены на карте в
Ватиканском Октатевхе № 746. На карте Андрея Бианко 1436 г. рай помещен
непосредственно в истоке четырех рек на юге Азии56.
Бытовало мнение, что, следуя течению одной из этих рек от истока до устья,
можно было дойти до границ рая. Так, Шаридип, царь Бенгалии, отправил
экспедицию вверх по реке Ганг, считая ее библейским Фисоном57. В то же
время многие средневековые богословы, особенно каппадокийцы,
придерживаясь аллегорического пониания рая, указывали на бесперспективность
подобных путешествий. Эта точка зрения находит отражение в древнерусских
текстах. В «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского сообщается: «почто же
сице. не да ли въз5 врегы р^чьныа шедъше оврАщоуть рли. но да воудсть
неведомо члкы. лще во бы льз^ дойти, то никто же бы преже богаты^
не овр'клъ породы. ноИкь ю есть заключила. СЗ оувогыхъ. и СЗ богаты^, да
точию. но доврыми д^лы овр^тлетсА поуть той. колико са троужАША
ПАтрнАрси. и прТо)роци стТи. x0TAUA€ вид^ти рли нъ не овр^тошА.
рАЗБОиникъ же погргь тон овр^те. не шедъ имь но в^ровлвъ по истине, иже
глть. азъ есмь поуть» [«Почему это так? Не для того ли, чтобы люди, шедшие
по берегу реки, не нашли рая, но чтобы [его местонахождение] было неведомо
людям. Если бы [до рая] можно было дойти, то никто раньше богатых не нашел
бы его, но Бог скрыл его и от бедных и от богатых, чтобы только с помощью
добрых дел они нашли туда дорогу. Сколько трудились патриархи и святые
пророки, желая видеть рай, и не обрели его! Разбойник же нашел этот путь,
не идя по нему, но поистине уверовав [в Христа], в того, который говорит: "Я
есмь путь"»]58.
П. Рай на окраинных землях ойкумены. Как полагал равеннский Аноним
со ссылкой на Афанасия Александрийского, рай находится на окраинных
землях ойкумены, в Индии, так как ветры доносят оттуда запах ладана.
Наличие в Индии и Брахмании пряностей и других ароматических веществ
служило, по всей видимости, достаточным основанием для того, чтобы считать,
что рай находится недалеко. Безусловно, он также воспринимается как
труднодоступное место, поскольку он был отделен от населенных земель
непроходимыми горами и пустынями. Даже Александр Македонский не смог добраться
до рая, в то же время некоторые святые и блаженные люди могут если не
достичь блаженной земли, то хотя бы приблизиться к ней. Такое путешествие
святого Макария, который не дошел всего 20 поприщ до рая, описывается в
его «Житии», а также в трактате Евстратия, известном и древнерусскому
читателю59. Западная Церковь, следуя Августину, воспринимала рай не только
222 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
как духовный, но и как чувственный. Именно поэтому точка зрения равеннского
Анонима нашла отражение в средневековых итинерариях и картах. Так, в
латинском тексте «Подорожных от Эдема», входящем в Expositio totius mundi,
указывается, что рай находится на расстоянии 70 дневных переходов от Брах-
мании. Древнерусский читатель мог узнать данные сведения из апокрифа
«Ответы Афанасия Антиоху».
В то же время нередко в сочинениях антиохийских богословов не
указывается, где конкретно локализуется рай; обычно содержится лишь отсылка к
Книге Бытия: «знал\€нат[и во хота вжественное пислше непре^^/Урное рлл,
1АК0 велие н*ккое соуще, и простръто на въ/Устоц^» [«Те, кто хочет узнать
из Писания о размерах рая, [пусть знают], что рай — это большое место,
находящееся на востоке»]60. Отметим, что богословы каппадокийской школы
обычно не ограничивались простой констатацией факта, а включали в свои
сочинения подробные объяснения. Данная традиция находит отражение и в
древнерусских текстах. Так, в «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского
указывается: «въсади рАи^Ёгь въ еделЛ на въстоц'к. почто не во ино(и)
СТрАН^... СЗнЮДОу НАЧАЛО Т€Ч€НИЮ СВ^ТИЛНИКОМА. СЗтОуДОу НАЧАЛО ЖИТИЛ
ЧЛЧЮ прСЖС В^СТЬ ДА€ТЬ БЪ БОуДОуЩШОу НА ВЪСТОЦ^ рАА ПОЛАГАСТЬ ЧЛКА.
ДА ПОКАЖСТЬ, 1ДК0ЖС И ТЪИ СВ^ТИЛНИЦИ ВТ* СХОДА ЩС Т€К0\ТЬ НА ЗАПАДЪ, И
ЗАХОДАТЬ. ТАКО Ж€ И CtA\0\[ ОТТ* ЖИТИА. ВЪ СМрТЬ Т€ЩИ. И ЗАЙТИ ПО ОБрАЗОу
свНггилномоу» [«"Насадил Бог рай в Едеме на востоке". Почему не в иной
стране..? Откуда начало течения светил, оттуда и начало жизни человеческой.
Бог дает предзнаменование будущему. На востоке рая поселяет человека,
чтобы показать, что как и те восходящие светила текут на запад и заходят, так
и сему (человеку) [надлежит] идти от жизни к смерти и закончить жизнь
("заходить") по образу светил»]61.
Наряду с земным раем существует и «промежуточный» рай, находящийся
на небесах. В терминологии раннехристианских богословов это иная
реальность, «достойная будущего [мира]»62. Это Царство Небесное, куда вознесся
Христос, «взошел самым первым, открыв легкий (действительный) путь к
[вечной] жизни»63. Тем самым [люди] получили надежду на лучшую жизнь
[в будущем]64. Сюда был восхищен апостол Павел. Эти идеи сходны с
фарисейскими представлениями, согласно которым Царство Божие (Небесное)
понималось как грядущее Царство Бога на Земле, которое установит посланный Им
Мессия. Для большинства антиохийцев принципиально важно: небесный рай
существует только вместе с земным. Отрицание земного рая воспринимается
как ересь, восходящая к воззрениям Оригена. В древнерусских текстах обычно
воспроизводится точка зрения Епифания Кипрского, который являлся автором
полемических сочинений против Оригена. Так, в сборнике «Цепь златая»
указывается: «въспросъ чю/вьствсненъ ли есть рли. или / рлзоулиТн)-
тл^неТн) ли. или т тл^н^Сн) // iako щ два и€рТс)лл\А писание пов'ЬдасСт) /
НБ(С)НЫИ И 3€Л\НЫИ. ТАКО Ж€ И ДВА pAIA. / СДИНЪ Д)(ВНЫИ. А ВТОрЫИ
чювьствсныи. / СЗ него же и ниловскига. и ефрл/товы р'Ьки исхода(т) на
землю, иде же адалгь и евгА. и злмш и САдове» («Спрашиваем: воспринимается
Древнерусская космология и практическая география
223
рай чувствами или [только] разумом? Тленен он или нетленен? // Как
повествует Священное Писание о двух Иерусалимах: небесном и земном —
так и существует два рая: один духовный, а другой — чувственный. [Именно]
в [этом рае, который мы можем воспринять] чувствами, берут начало реки Нил
и Евфрат. Там пребывали Адам, Ева, змей, и сад в раю был посажен»)65. «Аще
ЛИ НА 3€МЛИ Н^Тс) pAia Н€ С\ТЬ ИСТИ/ННА В рОДЬСТВ^ ПИСАНА1А. ИНАКО / ГЛСТЬ.
то ov*€ н^Тс) ничто же hctI/hha особнаго» [«Если на Земле нет рая, это
неправда. Это подтверждает Книга Бытия [Священного Писания]. И нет другой
истины»]66; «да Аще / оуво w\K$) pAia чювьственнА на земли / то оуже ни
источника ни р*кки. / не четыре^ верхоГв). ни смокви. ни / древл. лще ли
ни древл н^Тс) то ни е/вгы. / гаже глсть С5 него, лще ли н^Тс:)// евги. то
и адама. лще ли wffi$) ада/ma. то ни члвкъ но кощунА оуже и/тиГн)на и
инако глет(с) все. по БоОгЭопА/гуБномоу юригеону» [«Если бы не было на Земле
рая, постигаемого [нашими] чувствами, то не было бы и источника, реки,
четырех рукавов [этой реки], смоковницы, дерева [добра и зла]. Если же не было
дерева, то не было и Евы, что ела его плод. Если же не было Евы, то не было
бы Адама и [всех] людей. Кто говорит так, — это вздор, восходящий к богопа-
губному Оригену»]67.
Нередко небесный рай приобретает земные черты. Так, в «Откровении Вару-
ха» ангел привел Варуха «втГа е нво. и въ третье» [в первое небо и в третье]68.
Здесь он видит Древо познания добра и зла, которое оказывается виноградом,
а также райские реки, впадающие в море. Эти представления отражены в
миниатюре из «Христианской топографии Козьмы Индикоплова», где Христос
восседает в Царстве Небесном, а вокруг Него изображены деревья райского сада69.
Точка зрения, согласно которой четыре великие реки вытекают из
источника, находящегося в небесном рае, а затем стекают на землю, также была
популярной. Это положение оспаривает Епифаний Кипрский, что находит
отражение в древнерусских источниках: «породА же реТч) в едкм'к на въсто/
къ источникъ же ре(ч) исхожАше / изъ едемА. и не ре*(ч) сохожАше да не /
мнНкти нАчне(м) на неси, с горы гла/лъ бы iako сходи(т). но реТч) р^кл исхо/
ди(т) изъ едемА. и рАЗД^ЛАетьТс) на / "X верхи» [«Сказано, что именно в
Эдеме находится источник, [воды которого] исходят [на Землю] — не сказано
"сходят", чтобы не подумали, что рай на небесах. [Глагол] "сходить" [был бы
употреблен, если бы говорилось] об источнике, сходящем с горы. Но сказано:
исходит река из Эдема и разделяется на четыре рукава»]70.
В апокрифе «Видение апостола Павла» предстает сложная структура
небесного рая. На третьем небе существует «Эдемский рай», где растет Древо
познания добра и зла и находится источник четырех великих рек: Фигона
(Фисона), Стигома (Гиона), Тигра и Евфрата. Именно здесь пребывали Адам
и Ева, теперь же это обитель праведников. В то же время отдельно описывается
некая небесная «земля обетованная», где также текут четыре великие реки.
Названия, однако, совпадают лишь частично: Фусний (Фисон), Гионий (Гион),
Фипр (Тигр) и Евфрат. Здесь находится Град Христов, окруженный 12 стенами,
в котором также пребывают пророки и праведники. По всей вероятности, это
224 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
так называемый «промежуточный» рай. По мнению средневековых авторов, он
открылся для людей после Воскресения Христова71. Неясно, правда, в каких
отношениях в данном тексте «промежуточный рай» находится с «первым
раем», где, как указывалось выше, также находятся праведники. Возможно, это
контаминация в повествовании разных источников. Наконец, в Христовом
Граде описываются ворота в Небесный Иерусалим, которые откроются, когда
«на землю придет Христос и воцарится в мире». Также закрытые двери в
Царство Небесное видит герой в «Откровении Варуха».
С другой стороны, и земной рай в апокрифах может описываться как
отражение рая небесного. Примером является упоминаемое выше сочинение
«Хождение Агапия в рай». Переплыв через море на корабле, Агапий попадает в райский
сад, где видит не только райских птиц, но и херувимов, серафимов, славу,
воссылаемую ангелами на седьмом небе. Как указывают исследователи,
чувственные реалии здесь — прообраз того, что происходит на небесах72.
Рай, находящийся на небесах, описывается и в других сочинениях,
известных древнерусскому читателю: «Хождение Богородицы по мукам», «Житие
Андрея Юродивого», «Смерть Авраама» и др. В то же время начиная с XV в.
на Руси появляются произведения, в которых находит отражение исихастская
традиция, согласно которой рай понимался как некий материально-идеальный
мир, соответствующий молитвенному состоянию человека. Среди таких
сочинений текст из сборника XV в. под названием «Который есть мысленный рай»
(РГБ, Ундол. № 1, лл. 459-461), а также текст XVIII в. «О еже кий есть
мысленный рай и кий иже в нем сади и божественнии сих плоди» (РНБ, № Q.I.
274, л. 181 )73. Рай оказывался и не небесным и не земным, он открывается в
самом человеке, а значит, поиск рая на Земле бесполезен, его невозможно
изобразить и на географических картах.
Отметим в заключение сходство в иудейских и раннехристианских
представлениях о рае, согласно которым он локализуется на высокой горе,
уходящей в небеса. По древнееврейским воззрениям, четыре горы в Галилее (Мф.
5: 1; 14:23; 15:29; 28: 16), гора испытаний (Мф. 4: 8) и гора, на которой
происходит Преображение (Мф. 17: 1), о которых сообщается в Евангелиях,
символизируют мировую гору — это центр мира, место, где начинается тво-,
рение, отсюда же распространится новый порядок реальности после конца
времен74. Поэтому такая гора изображена как в древнееврейских апокалиптиче-'
ских текстах (Ис. 25: 6; Дан. 2: 35; Юб. 4: 26; 1 Енох. 24: 1-6; 52: 1-6; 77: 4),
так и в византийских апокрифах. Согласно «Откровению Варуха», в раю нахо-.
дится высокая гора, похожая на небо. Посреди той горы было многоводное
озеро75. В «Откровении Мефодия Патарского» сообщается, что «изводе сифъ
родт* свои rop'fc на гору блн(з) Ыщп рАЮ» [«вывел Сиф род свой наверх, на
гору, которая была около рая»]76. В «Житии Макария Римского» горы по
приближении к раю поднимались выше небес77. В западноевропейских легендах
сообщается, что заблудившиеся рыцари оказывались у стен райской горы; одни
путешественники, пытавшиеся проникнуть в рай, теряли рассудок, другие же
пытались подняться наверх, обвязавшись веревками, но их вытаскивали оттуда
Древнерусская космология и практическая география 225
только мертвыми78. Данные факты отражают иудейские и раннехристианские
представления, согласно которым рай — огороженное, закрытое от человека
место. По всей вероятности, эти легенды были известны и на Руси. В своем
послании, ссылаясь на данные очевидцев («а т^Ьх1*» крАТ€, лирк€и[, кто видел
рай,] и ныггЬча д^ти и bhymata довры здоровы»79), Василий Калика пишет:
«А на горАХ т^х*1»!» где находится рай, путешественники] лнкованна [хоровое
пение] многа слышлхоуть... Повел'ЬшА единому друп/* своему взыти... на гору
ту, вид*Ьти св^т-отъ и ликованныя гласы; и кысть, яко взидс на гору ту,
И АБИ€ ВЪСПЛ€СНуВЪ руКАМИ, И ЗАШЁЛСЯ, И ПОБ^ЖС ОТ ДруГОВЪ СВОИХ!» К
сущему глАсу... ДругАго поеллшл, но и [он] с великою рАдостию пов^же от
них- Послаша третиАго..., привязАвъ ужищи [веревки, канаты] за ногу ему.
[Он,] въсплескАвъ радостно, и поБ^же, в радости забывъ ужищА на нозНЬ
своей. Они же зденушл его ужищомъ, и томъ члеу овр^теся мертвъ. Они
же поб^гоша вспять, не дано есть имъ далс того вид^ти»80. — заключает
Василий Калика. Данные представления нашли отражение и в документах
путешественников: как уже отмечалось, Иоанн де Хозе описывает остров вблизи
Индии, гора на которой называется Эдемом81.
Таким образом, как мы видим, древнерусские представления о рае
обнаруживают сходство с идеями, высказанными в греческих патристических
сочинениях. В свою очередь отцы Церкви, формируя христианское понимание рая,
опираются как на Священное Писание, в котором отражены шумерские и
древнееврейские воззрения, восходящие к архаической космологии, так и на
античные греческие тексты. Представления о мире, в том числе и о том, где
локализуется рай, нашли отражение в практической географии: в миниатюрах
древних рукописей, средневековых картах, итинерариях и записях
путешественников, отправлявшихся на поиски рая. Даже читая русские сказки, мы
также нередко встречаем описания «иного царства», где насажены богатые
сады с золотыми, серебряными, медными деревьями, на которых растут
золотые или молодильные яблоки82.
Примечания
1 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 3. М., 1996. С. 435.
2 Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951. С. 411.
3 Ср. например^ «прНкстоуплНшикмъ породоу погоувивъше въ цретво нвенос
призваны выхомъ блгодати га нашего». Рукоп. РНБ, F, п. 1.46, 1°, 198 л. XII в. Л. la.
(См. также: Малинин В. Н. Златоструй XII в. СПб., 1910. С. 1).
4 Фасмер М. Указ. соч. С. 435-436.
5 См.: Тантлевский И. Р. Введение в Пятикнижие. М., 2000. С. 104. О Ба'лу. Угарит-
ское поэтическое повествование / Пер. с угаритского, введение и комментарии И. Ш. Шиф-
мана. М., 1999. С. 45, 254, 272.
6 Бикерман Э. Дж. Евреи в эпоху эллинизма. М.; Иерусалим, 2000. С. 325 и ел.
Ср.: Иез. 28: 13, 14: «Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были
украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс,
8 Зак 4748
226 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, все, искусно усаженное у тебя в
гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был
помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе
Божией, ходил среди огнистых камней». И. Р. Тантлевский указывает на возможную
связь описания райской Горы в Иез. 28 с шумерской концепцией «Горы человека жизни
(то есть бессмертия)», на которой произрастали вечнозеленые (бессмертные) кедры,
срубив которые Гильгамеш рассчитывал обрести вечную жизнь. Обратим внимание
также, что шумерский термин «кур», использовавшийся для номинации потустороннего
мира, также имел значение «большая гора». См.: Тантлевский И. Р. Указ. соч. С. 109.
8 Вихлянцев В. Библейский словарь. М., 1994.
9 Берман Б. И. Библейские смыслы. М., 1997. С. 41.
10 Берман Б. И. Там же. С. 45.
пПри характеристике богословских школ использованы следующие работы: Аве-
ринцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997; Бриллиантов А. И.
Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скота Эриугены.
СПб., 1998; Бычков В. В. 2000 лет христианской культуры sub specie aesthetica. T. 1.
М.; СПб., 1999; Дьяконов А.П. Типы высшей богословской школы в древней Церкви
III—IV вв. // Ученые записки Российского православного университета ап. Иоанна
Богослова. Вып. 3. М., 1998. С. 6-55; Карсавин Л. П. Святые отцы и учители Церкви.
М., 1994; Сагарда А. И., Сидоров А. И. Антиохийская богословская школа и ее
представители / / Ученые записки Российского православного университета ап. Иоанна
Богослова. Вып. 3. М., 1998. С. 139-192; Сидоров А. И. Начало александрийской школы:
Пантен. Климент Александрийский // Ученые записки Российского православного
университета ап. Иоанна Богослова. Вып. 3. М., 1998. С. 56-138; Филарет (Гумилев-
ский), архиеп. Историческое учение об отцах Церкви. М., 1996, а также
первоисточники.
12 Бриллиантов А. И. Указ. соч.
13 Карсавин Л. П. Указ. соч.
14 Культура Византии: IV — первая пол. VII в. М., 1984. С. 432.
15 О символическом значении скинии см.: Евр. гл. 9. Подробнее см.: Библейская
энциклопедия. М., 1990; Нюстрем Э. Библейский словарь. М., 1997.
16 Книга нарицаема Козьма Индикоплов. М., 1997. Л. 9 об. Русский перевод
цитируется по: Григорьев А. В. Космологические и онтологические идеи в «Христианской
топографии Козьмы Индикоплова» как отражение взглядов антиохийской
богословской школы // Громов М. Н., Мильков В. В. Идейные течения древнерусской мысли.
М., 2001. С. 934.
17 Гукова С. Н. Карта мира Козьмы Индикоплова / / Вспомогательные
исторические дисциплины. 1986. Т. 17. С. 307-308.
18 Культура Византии: IV — первая пол. VII вв. С. 359-360.
19 Цитируется по: Романов С. Атлантида!: Факты. Свидетельства. Комментарии.
СПб., 2001. С. 166-167. Перевод Горелова Н. С.
20 Культура Византии: IV — первая пол. VII вв. С. 361.
21 Книга нарицаема Козьма Индикоплов. Л. 3 об.
22 De opificio Dei, III, 24.
23 Книга нарицаема Козьма Индикоплов. Л. 3 об. Русский перевод цитируется по:
Григорьев А. В. Указ. соч. С. 928.
24 Культура Византии: IV — первая пол. VII вв. С. 343.
25 Сборник XV в. РГБ. Рум. № 358. Л. 271а.
Древнерусская космология и практическая география 227
26 Miller К. Маррае mundi. Die altesten Weltkarten. T. III. Stuttgart. 1898. S. 75.
27 Культура Византии: IV — первая пол. VII вв. С. 463.
28 Книга нарицаема Козьма Индикоплов. Л. 36 об. Русский перевод цитируется по:
Григорьев А. В. Указ. соч. С. 935.
29 Григорий Нисский. Dialogus de anima et resurrectione. Migne. PG. T. 46. 80B-85B.
30 «Лежа на востоке, выше всей земли, будучи благорастворенным и освещаемым
кругом тончайшим и чистейшим воздухом, изобилуя вечно цветущими растениями,
насыщенный благовониями, наполненный светом, превышая представление о всякой
чувственной прелести и красоте, он поистине божественное место и обиталище,
достойное тех, кто создан по образу Божию... таким образом, божественный рай, я
думаю, был двойной [то есть чувственный и духовный]. См.: Творения преподобного
Иоанна Дамаскина. Источник знания. М., 2002. С. 205-207. Ср. у Григория Синаита:
6 яар&5£юо<; 5vcto<; saxiv, а1с®г|т6<; ка1 vofjxo<; (Migne. PG. T. 150. 1242), в славянском
переводе: «рли соугоувь есть, чювьствныи и мысльныи» (ГИМ, Син. 923, л. 40). См.
также: Успенский Б. А. Древнерусское богословие: проблема чувственного и
духовного опыта (представления о рае в середине XIV в.) // Русистика. Славистика.
Индоевропеистика. М., 1996. С. 108.
31 См. подробнее: Бриллиантов А. И. Указ. соч. С. 322.
32 Памятники отреченной литературы. Т. 1. СПб., 1863. С. 350; Милъков В. В.
Древнерусские апокрифы. СПб., 1999. С. 298-300.
33 Ср.: Быт 4: 16 «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток
от Едема».
34 Книга нарицаема Козьма Индикоплов. Л. 34. Здесь и далее текст «Христианской
топографии» Козьмы Индикоплова, а также фрагменты из сборников «Цепь златая»
даются в переводе А. В. Григорьева.
35 Книга нарицаема Козьма Индикоплов. Л. 34.
36 Айналов Д. Эллинистические основы византийского искусства. СПб., 1900.
С. 216-218.
37 Милъков В. В. Указ. соч. С . 491-92.
38 См.: ТомсонДж.О. История античной географии. М., 1953. С. 267-68. См.
также: Милъков В. В. Указ. соч.
39 Цит. по: Романов С. Атлантида!: Факты. Свидетельства. Комментарии. С. 148.
40 Веселовский А. Н. Параллели к сказанию о земном рае // Филологические
записки. 1875. Вып. III. С. 1-7.
41 Памятники отреченной литературы. Т. 1. СПб., 1863. С. 350.
42 Цитируется по: Романов С. Атлантида!: Факты. Свидетельства. Комментарии.
С. 162. Перевод Горелова Н. С. О мотиве посещения рая в западной литературе см.
также: Graf A. Miti, leggende e superstizioni del Medio Evo. V.l-2. Torino. 1892-1893;
Wright J. K. The Geographical Lore of the Time of Crusades: A Study in the History of
Medieval Science and Tradition in Western Europe. New York, 1965; Patch H.R. The
Other World According to Descriptions in Medieval Literature. New York, 1970 и др.
43 Успенский Б. А. Указ. соч. С. 118. См. также: SedeVnikov A.D. Vasilij Kalika:
L'histoire et la legende / / Revue des etudes slaves. T. 1. 1927. P. 233; Серебрянский Н. И.
Очерки по истории псковского монашества. М., 1908. С. 529.
44 ПЛДР: XIV — сер. XV в. М., 1981. С. 46-48.
45 Милъков В. В. Указ. соч. С. 197.
46 Томсон Дж. О. История античной географии. М., 1953. С. 267-268; Романов С.
Указ. соч. С. 154-155.
228 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
47 Л. 109 об. См.: Мильков В. В. Указ. соч. С. 643. В данной книге представлен
древнерусский текст апокрифа по рукописи сер. XVII в. из собрания Попова (РГБ. Ф. 236.
№ 56. Л. 104 об.-115). Русский текст цитируется в переводе Л.Н.Смольниковой.
48 Мильков В. В. Указ. соч. С. 644.
49 Берман Б. И. Указ. соч. С. 42.
50 Начиная с сер. XIX в. исследователи идентифицируют данные реки с двумя
крупными каналами Евфрата. См.: Speiser E.A. The Rivers of Paradise // Festschrift
J. Friedrich. Heidelberg. 1959. P. 473-485.
51 Книга нарицаема Козьма Индикоплов. Л. 17 об.
52 См.: Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. СПб., 2001. Л. 266а. С. 639. Здесь
и далее цитаты из «Шестоднева» даются в переводе Г. С. Баранковой. См. также:
Kretschmer К. Die physische Erdkunde im christlichen Mittelalter. Wien, Olmutz, 1889. S. 79.
53 Книга нарицаема Козьма Индикоплов. Л. 17 об.
54 Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. Л. 2676. С. 641
55 «Цепь златая». РГБ. Юдинск. № 2, кон. XV— нач. XVI вв. Л. 242а.
56 См. Мильков. В. В. Указ. соч. С. 197.
57 Там же.
58 Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. Л. 2676. С. 641.
59 Сборник XV в. РГБ. Рум. № 358. Л. 2716.
60 Книга нарицаема Козьма Индикоплов. Л. 17 об.
61 Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. Л. 2646. С. 585.
62 Книга нарицаема Козьма Индикоплов. Л. 36. См. также: Евр. 9.
63 Книга нарицаема Козьма Индикоплов. Л. 37.
64 Книга нарицаема Козьма Индикоплов. Л. 39.
65 «Цепь златая». РГБ. Юдинск. №2, кон. XV— нач. XVI вв. Л. 240 об.-241а.
66 Там же. Л. 242а.
67 Там же. Л. 242а-242б.
68 См.: Мильков В. В. Указ. соч. С. 488. В данной книге представлен древнерусский
текст апокрифа по рукописи кон. XV — нач. XVI вв. (РГБ. Син. № 363. Л. 246-250 об.).
Русский текст цитируется в переводе М. М. Матвеевой.
69 Книга нарицаема Козьма Индикоплов. Л. 6.
70 «Цепь златая». РГБ. Юдинск. №2, кон. XV— нач. XVI вв. Л. 2416.
71 Такой же точки зрения придерживается новгородский архиепископ Василий ,
Калика. См.: ПЛДР XIV— сер. XV вв. М., 1981. С. 46-47; Мильков В. В. Указ. соч.
С. 202 и ел.
72 Мильков В. В. Указ. соч. С. 649.
73 См.: Мильков В. В. Указ.соч. С. 199-200. Клибанов А. И. Реформационные
движения в Росиии в XIV— первой половине XVI вв. М., 1960. С. 49-54, 140-150,
358-366.
74 Тищенко С. В. Основные мотивы интерпретации Матфея / / Канонические
Евангелия. М., 1993. С. 200-201; Элиаде М. Космос и история. М., 1987. С. 38 и ел., с. 152
и ел. Образ мировой горы характерен не только для евреев, но и для других народов:
это индийская Хара Березай, иранская Меру. См. также примечание 7.
75 Мильков В. В. Указ. соч. С. 491-492. 4
76 Мильков В. В. Указ. соч. С. 649.
77 Мильков В. В. Указ. соч. С. 195.
78 Веселовский А. Н. Параллели к сказанию о земном рае // Филологические
записки. 1875. Вып. III. С. 1-7.
79 ПЛДР: XIV — cep.XV в. М., 1981. С. 46-48.
Древнерусская космология и практическая география 229
80 ПЛДР: XIV — cep.XV в. М., 1981. С. 48.
81 Мильков В. В. Указ. соч. С. 197.
82 См.: Трубецкой Е. Три очерка о русской иконе. М., 2000. Ср.: «И я посмотрел
на землю ту и увидел, [что] по ней течет река, [имеющая] молоко и мед. И были на
берегу реки той деревья посажены, [и были деревья те] полны плодов, и каждое дерево
приносило ежегодно по тринадцать плодов, сладких [и] разных». Видение апостола
Павла / / Мильков В. В. Указ. соч. С. 568. Русский текст цитируется по переводу
Л. Н. Смольниковой.
Космологические представления,
отраженные во внутренней форме
и семантике русских
Бивлейских фразеологизмов
бычно, исследуя историю отдельных библейских выражений в русском
языке, исследователи возводят их к тексту Священного Писания. При этом
недостаточное внимание уделяется эллинистическим и иудейским
воззрениям на мироустройство, нередко непосредственно определяющим
внутреннюю форму и семантику определенных фразеологических выражений. В
данном исследовании будут рассмотрены русские фразеологизмы темна вода во
облацех (Пс. 18: 11), разверзлись хляби небесные (Быт. 7: 11),
возвращается ветер на круги своя (Екк. 1: 6) и быть на седьмом небе с целью установить,
как в их внутренней форме и семантике находят отражение космологические
представления древних народов.
Согласно архаическим иудейским космологическим представлениям, в
первый день творения были созданы земля и опирающееся на нее посредством
столбов небо (др.-евр. Samayim)1. Вероятно, данные представления были
заимствованы иудеями у шумеров и аккадцев, которые считали землю плоским
диском, над которым возвышается жестко связанный с землей небесный
купол2. По всей вероятности, первоначально речь шла об одном небе, однако
употребление слова Samayim во множественном числе и начальные стихи
первой главы Книги Бытия (Быт. 1: 1-8): «В начале сотворил Бог небо и землю...
И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды.
И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая
над твердью... И назвал Бог твердь небом», — привели иудейских мудрецов к
мысли, что существует два неба: твердь и место над твердью («небо вышнее,
превышнее», где находится престол Божий). «Одно небо существовало в
первый день творения, — комментируют современные исследователи, — когда
земное и небесное сливалось. Во второй день земное... выделилось из творения,
обрело свою верхнюю границу. Бог призвал твердь исполнять функцию неба
для Земли»3. В то же время в Книге Юбилеев (написана в период между 250
и 175 гг. до н. э.) в пересказе Быт. 1: 6-8 снято упоминание о том, что твердь
также понимается как небо: «И во второй день Он [Бог] сотворил твердь между
водами; и разделились воды в тот день: половина их поднялась вверх, и
половина опустилась вниз под твердь, которая в середине, на поверхность земли»4.
Возможно, это указывает на то, что небо первого дня творения и твердь долгое
время воспринимаются как одно небо.
О
232 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
Второе небо, или твердь (евр. raqia srpn — «небесный свод», первоначально —
«о чем-либо растянутом», «о некоем пространстве»5) обычно представлялось
как нечто твердое и непроницаемое (возможно, кристаллическое, созданное
изо льда или металла)6. Оно служит для того, чтобы поддерживать
находящиеся над ним воды (Быт. 1: 7), а также, по позднейшим иудаистским воззрениям,
«огонь, снег, лед, приготовленные на день повеления Господа во время
праведного суда Божия»7. Однажды Бог уже таким образом наказал людей, когда
открыл затворы небесных решеток или шлюзов (Книга Юбилеев указывает,
что их было семь8, другие апокрифы говорят о двух небесных отверстиях9), и
вода, находящаяся над твердью, устремились на Землю. Так начался Великий
Потоп. Данный факт определяет внутреннюю форму выражения разверзлись
хляби небесные «о проливном дожде» (Быт. 7: 11 «В шестисотый год жизни
Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись
все источники великой бездны, и окна небесные отворились»). Некоторые
исследователи интерпретируют небесные хляби как облака или потоки воды,
исходя из греческого текста, где используется слово катаррактг|<; — буквально:
«низвергающийся», обычно «водопад». Однако древнееврейское 'arubbah пэ*п$
означает именно «решетка», «шлюз или его затвор», «окно», «водовод», и нет
оснований понимать его как-нибудь иначе. Обратим внимание на то, что и слово
катарр<хктг|<; у Плутарха встречается в сходном значении «опускная решетка»10.
Через небесные шлюзы может изливаться не только наказание, но и
божественная благодать: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем
была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою
ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до
избытка?» (Мал. 3: 10).
Согласно пророку Исайе, небесные шлюзы (решетки) — необходимый
компонент мироустройства, и их исчезновение будет свидетельствовать о
конце света: «Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму; и кто выйдет из ямы,
попадет в петлю; ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли
потрясутся» (Ис. 24: 18).
Обратим внимание, что славянское слово хлябь напрямую соотносится и
с древнееврейским, и с греческим соответствием. Хотя, как фиксируется в
словаре М. Фасмера, внутренняя форма этого слова затемнена11, а во
фразеологических словарях отмечается, что это слово «интерпретируется
по-разному... и имеет, по-видимому, значение «бездна, пропасть, простор, глубина»
(само же выражение разверзлись хляби небесные означает «открылись
небесные просторы»)12, как убедительно доказывает И. Г. Добродомов, славянское
хлябь восходит к в.-нем. Klappe «клапан», «окно»13. Это показывает, что первые
славянские переводчики, возможно Кирилл и Мефодий, владели не только
греческим языком, но и древнееврейским.
В тверди существуют ворота, из которых восходят солнце, луна и звезды14.
Солнце представляется находящимся на колеснице (колесницах)15 с 12
отверстиями. Из таких отверстий «исходит тепло и свет на Землю»16. Данные
колесницы приводятся в движение ветром: «Колесницы, в которых оно [солнце] под-
Древнерусская космология и библейская фразеология 233
нимается, гонит ветер; и солнце, заходя, исчезает с неба и возвращается через
север, чтобы достигнуть востока» (Енох. 13: 72); «Я видел ветры, которые
несут солнечный круг и все звезды к заходу» (Енох. 4: 18)17. Однако
существует и другая концепция, согласно которой солнце не скрывается за твердью, а
проходит к своему восходу по северной части небосклона, скрываясь в бездне
или за высокими горами. Таким образом, оно становится невидимым, и
наступает ночь. Данные космологические представления восходят еще к учению
Анаксимена. Возможно, в эпоху эллинизма они были заимствованы иудеями
и определили внутреннюю форму БФЕ возвращается ветер на круги своя.
В Екк. 1: 5-6 сообщается: «Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту
своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится,
кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои». Таким
образом, в данном случае речь идет о ветре, который приводит в движение
«солнечную колесницу». Впрочем, некоторые исследователи указывают, что и
в стихе 6 имеется в виду не ветер, а солнце, опираясь на Таргум к Екк. 1: 6:
«Солнце проходит южную сторону днем, делает круг и проходит по северной
стороне ночью, совершая путь над бездной. Оно делает круг и приходит на юг
от нисана18 до таммуза19, оно проходит круг и возвращается на север от тишри20
до тебефа21. Оно выходит за границы востока утром и входит в границы запада
вечером»22. Однако, по нашему мнению, спор о том, как необходимо читать стих 6:
возвращается ветер или возвращается солнце на круги свои не настолько
принципиален, поскольку, как уже говорилось выше, речь идет о ветре,
приводящем в движение солнце. Данные представления накладываются на
античные греческие воззрения и фиксируются в раннехристианских
богословских сочинениях и их переводах на славянский язык: «принимАю//щ€ oybo по
K*<(c!)TR€HH0M0Y ПИСАНИЮ, \Я ВСТОКЬ СЛНЦА UJ€//CTR0Y»01HA ПО RTb3(A)0YX°Y
ЮЖНЫА МАСТИ ВЪЗВЫШАСМА // И АВЛАЮЩАСА ВС€И 3€МЛИ. К С^ВбрОу ВЫСОТА
же З€мл1а, северное и запа(д)но€, ср'Ьдоприимноу творить нощь, // wk онъ
ПОЛЪ 3€МЛА С6А, ЦИфьТЙтЬ WK€AHA, WKpT^Tb СИХЬ // МАСТИИ; ТаМ6 К T0M0Y
НА ЗАПАДЕ БЫВЪ СЛНЦ€. ПО ВЫ/ДОТ^ 3€МЛА, И Т€КЫИ BCpXOY WKCAHA, ПО
сНквернымъ странамъ, творить гор*Ь нощь, дондсж€ wкpoYЖA//A приидсть
ПАКЫ НА ВСТОКЫ, И ВЪЗВЫША€МО ПАКЫ // ПО ЮЖНЫМЪ ЧАСТСМЪ, №БЬ€МЛ€ТЬ
BC€A€HH0Y>0 СИ//Ю. 1АК0 Ж6 И Бж7с)ТВ€Н0€ ПИСАНИС ГЛТЬ Пр€Л\(д)рЫИ СОЛОМА//
НЪ, ВЗЫД€ТЬ СЛНЦ€, И ЗАИДСТЬ СЛНЦ€, И НА M*fcCT0 CB0//€ приИДСТЬ. ВЪСХОДА
само tamo mccTBOY€Tb, къ // ioroY, и ижроужлсть к сЬвероу. wкpoYЖA6ть
KpOYrb, // И ВЪ КрОуГЫ €Г0 №БрАЩА€ТЬ ДХЪ, Д)СЪ 3(Д)6 BTb3(A)0YXb НАрИМСТЬ.
1АК0 ПО BT>3AYX0Y Р6(М) WKpOYЖ€HИA. СЗ ВЪСТОКЬ ДО ЮГА, // СЗ ЮГА, ДО ЗАПАДА,
И ^_ЗЛПААЛ> И \Б ЗАПАДА ДО С*Ьв€рА, И СЗ сЬвсрА, ПА//КЫ НА ВЪСТОКЫ, И НОЩТ
и дни сьтвлрАСТь, и вещи» [«Согласно Божественному Писанию, солнце
восходит и следует по воздушной части южной стороны небосклона, поднимаясь
и являя себя всей земле. Из-за гор, протянувшихся от севера на запад, на
севере бывает ночь с другой стороны океана, вокруг этих частей. Затем когда
находится солнце за высотами земли, двигаясь по верху океана, на севере, [у нас]
наступает ночь, [которая длится до тех пор,] пока, не сделав круг, солнце снова
234 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
не придет на восток, поднимется в южной части [небосклона], тем самым оно
движется вокруг обитаемого мира. Также и Божественное Писание говорит через
премудрого Соломона: «Восходит солнце и заходит солнце, и на место свое
приходит». Когда оно восходит, оно следует на юг, движется на север и делает круг,
В пространстве его обращает дух. Духом здесь называется ветер, так как сказано,
что [солнце] по воздуху описывает круг с востока на юг, с юга на запад, с запада
на север и с севера снова на восток, и дни и ночи наступают, и солнцестояния»]23.
В Священном Писании встречаются и другие толкования строения тверди.
Весьма распространенным является представление второго неба как массы
облаков24. Эта идея отражена во внутренней форме русского библейского
фразеологизма темна вода во облацех «о чем-то непонятном, мудреном,
неясном» (Пс. 18: 11).
Данное выражение восходит к славянскому тексту Библии и Септуагинте:
«И ПОЛОЖИ ТЛ1# ЗАКрОВЪ СВОИ: WKjKCTb €Г0 С€Л€Ш€ €Г0: Tt/ИНа ВОДА ВО WBAAl^Xb
возд&шныхъ»\ ка1 ё&ето oKOxoq атгокркрт^ аотоб гаЗкАхо абтоб f| окг|\т] абтоО
oKOT8iv6v C5cop ev v8(p£Am<; depcov, буквально: «...вокруг Него шатер Его —
темная вода в облаках "низшего слоя" воздуха [или мрачных, черных
облаках]»25. Синодальный перевод Библии зависит от древнееврейского оригинала:
«И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, облаков
воздушных» (iwpnti Щ2У тггош). В то же время, обращаясь к древнееврейскому
тексту, мы можем понять, что точный и определенный перевод в данном случае
вряд ли возможен. Действительно, сотош — это «мрак вод» (или воды,
поскольку евр. пча (mayim) может использоваться и для единичных предметов).
А вот еврейское 2У Cab) является многозначным: это и «облако», в первую
очередь, плотное, черное, грозовое, а чаще — «масса облаков»; «прах», «муть»
и даже «чаща, заросли как убежище»26. Слово рцщ (shachaq) также может
означать «облако (только легкое)», а также «небо» или «пыль»27. Итак, только
описательно мы можем передать смысл данного оборота: завеса темной воды,
находящейся в плотных «грозовых» массах (гуще) облаков, скрывает Бога,
который пребывает за этой завесой как в убежище. Данные космологические *
идеи опираются на религиозные представления иудеев, которые считали, что
«Он [Бог] повелел, чтобы Его Шехина (то есть пребывание Бога в мире)
находилась в темноте»28. Мысль о том, что Господь скрывается во мраке густых
облаков, проводится в Библии неоднократно; при этом авторы постоянно
полемизируют с теми, кто считает, что Бог, скрываясь за облаками, не видит
того, что происходит на Земле: «И ты говоришь: что знает Бог? может ли Он »
судить сквозь мрак?» (Иов. 22: 13), «Облака — завеса Его, так что Он не видит,
а ходит только по небесному кругу» (Иов. 22: 14). В Библии подчеркивается,
что Господь скрывается от людей не для того, чтобы не видеть, а для того, чтобы
Его не видели, и каково на самом деле Его жилище, не дано познать человеку.
«Кто может также постигнуть протяжение облаков, треск шатра Его?» —
восклицает автор Книги Иова (Иов. 36: 29). Обратим внимание, что слово пэш
cheshkah («темнота», «мрак» [вод]) уже в древнееврейском языке было мета- j
форой непонимания, неясности29. j
Древнерусская космология и библейская фразеология 235
Итак, в иудейской космологии первоначально было распространено
представление о дуальной структуре небес. Впоследствии данные представления
получают дальнейшее развитие, которые отражаются во внутренней форме
русского библейского фразеологизма быть на седьмом небе («испытывать
большую радость, счастье, блаженство»)30. По мнению большинства
исследователей, данный оборот связан с древними представлениями об устройстве
мира, описанными Аристотелем в сочинении «О небе». В справочниках и
словарях обычно указывается, что, согласно Аристотелю, небо состоит из семи
неподвижных кристальных сфер, на которых закреплены звезды и планеты31.
Однако, на наш взгляд, это объяснение представляется не совсем точным.
Дело в том, что классическая модель космоса, которая включала семь кругов,
или сфер, оформилась еще в пифагорейской школе к IV в. до н. э. На этих
небесных сферах располагались «светила» — Луна, Солнце, Меркурий,
Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Данную точку зрения пифагорейцев излагает
Тимей (прототипом данного героя послужил философ-пифагореец Тимей из
Локр Эпизефирейских, род. ок. 490 г. до н. э.) в одноименном диалоге Платона:
«Чтобы время родилось из разума и мысли Бога, возникли Солнце, Луна и пять
светил, именуемых планетами. Сотворив одно за другим их тела, Бог поместил
их, числом семь, на семь небесных кругов, по которым совершалось
круговращение иного»32. Итак, как считали пифагорейцы, данные сферы не являются
неподвижными: при вращении они издают определенные тона, что рождает
«стройные созвучия»33 или «гармонию (музыку) сфер». Платон дополняет
концепцию пифагорейцев, указывая, что на «каждом из кругов восседает по
Сирене; вращаясь вместе с ними [кругами], каждая из них издает только один
звук, всегда той же высоты»34. В то же время Аристотель, воспроизводя в своем
сочинении «О небе» данную теорию, подвергает ее сомнению: «Утверждение,
согласно которому движение [светил] рождает гармонию, поскольку, мол,
[издаваемые ими] звуки объединяются в консонирующие интервалы, при всей
своей остроумности и оригинальности тем не менее не верно»35. Выражение
музыка (гармония) сфер в русском языке также является устойчивым и
фиксируется в работе М. И. Михельсона36. Автор замечает: «Некоторые писатели,
говоря о гармонии сфер, утверждали, что один Пифагор, писавший об этом,
слышал эту гармонию»37. На основании анализа источников мы можем
конкретизировать высказанное мнение: выражение музыка (гармония) сфер
отражает идеи Пифагора, которые разделяет и, дополняя, воспроизводит Платон.
В дальнейшем иерархия небес только усложняется. Филолай из Тарента
(представитель пифагорейской школы, кон. V в. до н. э.) указывает, что число
небесных сфер равно десяти. Платон в диалоге «Тимей», соглашаясь с
пифагорейцами, что в космосе существует семь кругов, по которым движутся
планеты38, тем не менее вводит еще один «внешний» небесный круг,
выражающий природу тождественного, истинного, благого. Даже «пифагореец» Тимей
в одноименном диалоге Платона указывает: «Полное число времени полного
года завершается только тогда, когда все восемь кругов, различных по
скорости, одновременно придут к своей исходной точке»39. Даже стройное созвучие
236 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
(гармония) небес создается именно из восьми звуков40. Предшественник
Аристотеля Евдокс Книдский (род. ок. 400 г. до н. э.) увеличил число небесных
сфер до 27, поскольку Солнцу и Луне было придано по три сферы, остальным
планетам — по четыре, кроме того существовала так называемая сфера
неподвижных звезд. Каллипп из Кизика (IV в. до н. э.) добавил по одной сфере
для Меркурия, Венеры и Марса и по две — для Солнца и Луны, получив в итоге
34 небесных круга.
Наконец, в сочинениях Аристотеля мы встречаем учение о семи светилах,
но не о семи небесах. Слово oupavo<; («небо») у данного автора используется
по крайней мере в трех значениях: 1) «в одном смысле, — указывает
Аристотель, — мы называем небом субстанцию крайней сферы Вселенной, или
естественное тело, находящееся в крайней сфере Вселенной, ибо мы имеем
обыкновение называть небом прежде всего крайний предел и верх
/Вселенной], где, как мы полагаем, находятся все божественные существа; 2) в другом
смысле [небо] — тело, которое непоредственно примыкает к крайней
сфере Вселенной и в котором помещаются Луна, Солнце и некоторые из звезд,
ибо о них мы знаем, что они на небе; 3) еще в одном смысле мы называем небом
[все] тело, объемлемое крайней сферой, ибо мы имеем обыкновение называть
Небом [мир] Целое и Вселенную»41 (таким образом, в третьем значении
Аристотель имеет в виду космос в целом). При этом отмечается, что Солнце,
Луна и планеты не располагаются на отдельных небесных кругах: «у тела
должно быть несколько несущих сфер»42. Кроме того, Аристотель вводит так
называемые нейтрализующие сферы между внешними сферами планет, доведя
количество небесных кругов до 56. При этом данный философ подчеркивает в
своих сочинениях: «Небо не только одно, но... нескольких не могло бы быть,
а кроме того — ...оно вечно, ибо неуничтожимо и не возникло»43. Итак,
представление о семи небесах восходит к воззрениям пифагорейской школы,
и до Аристотеля оно фиксируется в сочинениях Платона.
М. И. Михельсон в своей работе «Русская мысль и речь» считает
выражение быть на седьмом небе библейским, отмечая, что в Библии встречаются
разные названия неба. Это представление, по его мнению, в дальнейшем
перешло в Коран, где упоминается о семи небесах44. Действительно, о семи
небесах говорится в сурах 2, 17, 40, 65, 67, 71 и 7845, и из контекста видно,
что на седьмом небе, по всей вероятности, находится Бог. Значит, быть на
седьмом небе означает испытывать радость и блаженство от близости к
Господу. Данное представление, как указывает Михельсон, заимствовано в Коран
из Библии. Однако в Священном Писании мы не встретим упоминания о семи
небесах. Как говорилось выше, согласно иудейским космологическим
представлениям, вероятно, первоначально речь шла об одном небе, позднее — о двух
небесах.
В эпоху Второго Храма распространилось и учение о 3 небесных сферах,
где третье небо — небеса небес, самое близкое место к Богу,(ср.: Пс. 67: 34).
Эту мысль выразил в Новом Завете апостол Павел: «Знаю человека во Христе,
который назад тому четырнадцать лет (в теле ли — не знаю, вне ли тела —
Древнерусская, космология и библейская фразеология 237
не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке
(только не знаю — в теле, или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай
и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор.
12: 2-4). В христианстве третье небо отождествляется с вышним
Иерусалимом (Гал. 4: 26), а второе небо получает название звездное небо, которое
простирается в границах астрономической Вселенной46. Теорию, согласно
которой существуют три неба, отстаивали такие христианские богословы, как
Василий Великий (III Беседа на Шестоднев47) и Иоанн Дамаскин48.
Сторонником концепции двух небес являлся Феодорит Киррский, а вслед за ним и многие
представители антиохийской школы, в том числе Севериан Габальский и
Козьма Индикоплов. Последний так комментирует слова апостола Павла: «Не
обманись, слыша [слова] Божественного Павла: "...взятого до третьего неба"!
Ибо не три неба [имеются в виду], не больше. Не это он хочет сказать. Он не
противоречит Моисею, но говорит, что взято расстояние от Земли до высоты
неба, кроме его трети, чтобы сказать этим, что только он [человек] был взят
от Земли, но не дошел до третьей части расстояния высоты неба»49.
Итак, в Священном Писании нет упоминания о семи небесах, однако мы
можем найти его в Талмуде. На это указывается в словаре В. П. Беркова,
который сопровождает выражение быть на седьмом небе пометкой «из
Талмуда или Корана»)50. Данные сведения требуют уточнения. Действительно, в
«Теологическом словаре Нового Завета» отмечается, что в позднем иудаизме (II в.
н. э. и позднее) говорилось о трех, пяти или десяти небесах51, но обычно их
семь, у каждого неба есть свое собственное имя: самое низкое небо — vilon,
или занавес. Второе небо — raqia52, или небесный свод, небеса солнца, луны
и звезд. На третьем небе, shahaqim, произрастает манна для благочестивых. На
четвертом небе, sebol, находится вознесенный Иерусалим и алтарь. Пятое небо,
maon, — это небо служащих ангелов. На шестом небе, mahon, находятся
сокровища снега и радуги. На седьмом небе, aravot, обитает правосудие,
праведность, добродетель, жизнь и мир (можно предположить, что данные слова
заменяют священный непроизносимый иудеями тетраграмматон имени Божия)53.
Наши исследования показывают, что концепция семи небес отражена и в
датированном памятнике древнееврейской литературы эллинистического
периода «Заветы двенадцати патриархов» (конец III в. до н. э.). Повествование
построено так, что, по всей видимости, автор отталкивается от более
традиционного представления о трех небесах: «И вошел я из первого неба во второе
и видел там воду, висящую посредине того и этого. И еще я видел третье небо,
гораздо более светлое и сияющее, чем те два; ибо высота в нем была безмерна.
И сказал я Ангелу: «Для чего так?» И сказал Ангел ко мне: «Не удивляйся сему,
ибо другие четыре неба ты увидишь, более сияющие и несравнимые». Итак,
выслушай о семи небесах. Низшее [небо] ради того более печально, поелику
видит все неправды людей. Второе имеет огонь, снег, лед, приготовленные на
день повеления Господня во время праведного суда Божия; в нем находятся духи
воздаяний для отмщения беззаконным. В третьем находятся силы воинств,
назначенные на день суда — сотворить отмщение духам заблуждения и Велиара;
238 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
те же, которые на четвертом [небе], выше сих, суть святые. Ибо в высшем из
всех [то есть в седьмом] обитает великая слава [Бог] во святом святых превыше
всякой святыни. Когда [ты] войдешь туда; ибо ты близ Господа будешь стоять,
и служителем Его будешь, и тайны Его будешь возвещать людям» (Завет
Левия, III54).
Представления о семи небесах содержатся и в апокрифе «Вознесение
Исайи». Данный текст, как предполагают, возник во II—I вв. до н. э., однако до
нашего времени не дошел. Во II—IV вв. н. э. греческую (а может быть, и
коптскую версию) данного текста использовали гностики. К концу XII в. в Европе
появляется латинский текст данного памятника; существует и древнерусская
версия апокрифа55. В тексте сообщается о семи небесах, на которых
располагаются ангелы, славящие Господа. На последнем, седьмом, небе вознесенный
Исайя видит как Бога, так и «неких праведников, которые, сбросив плотские
одеяния, пребывали в небесных одеждах и находились в великой славе»56.
Исайя рассказал о своем видении царю Езекию и его приближенным, сообщив
в конце: «Когда он [ангел, несущий Исайю,] вознесся на седьмые небеса, все
праведники пели Ему... Я видел прекрасного ангела, сидящего по левую руку
от Него, который говорил мне: "Этого достаточно для тебя, Исайя, ибо ты видел
то, что не познал ни один сын плоти... И не может этого познать сердце
человеческое, сколь многое Бог приуготовил для всех, кто любит Его". Итак, —
сказал в заключение Исайя собравшимся, — пребывайте в Святом Духе с тем,
чтобы вы могли обрести ваши одеяния и троны, венцы славы, находящиеся на
небесах!»57
Прохождение героя через семь небесных сфер описывается и во «Второй
Книге Еноха», сохранившейся в славянском переводе X-XI вв., который
восходит к иудаистскому оригиналу I в. н. э., испытавшему месопотамское,
египетское и иранское влияние. Так формируются представления о седьмом
небе как месте пребывания не только Бога, но и праведников, пребывающих
в состоянии вечного блаженства (напомним, что, согласно Аристотелю, над
небом пребывают лишь божественные существа58). Эти идеи позднее мы
встретим в гностических текстах («Пастырь Гермы»59) и в Коране. Затем
данные рассказы в составе ветхозаветных апокрифов приходят и на Русь («Книга
Еноха», «Вознесение Исайи», «Хождение Агапия в рай»). Впрочем, с
представлениями о семи небесах славяне знакомятся и через посредство сочинений
отцов Церкви. Так, у Иоанна Дамаскина в «Точном изложении православной
веры», известном в переводе Иоанна экзарха Болгарского под названием
«Богословие» и сохранившемся в многочисленных списках, самый старший из
которых относится к концу XII — началу XIII в.,60 мы встречаем изложение
концепции о семи небесах: «У неба же, говорят, есть семь поясов, один выше
другого. И утверждают, что оно тончайшей природы, словно дым, и что в
каждом поясе есть семь планет»61. Придерживаясь трехслойной структуры небес, ,
Дамаскин тем не менее не отрицал и возможности существования данных семи
поясов: «Желая сказать о небе неба, он [Давид] говорит о небесах небес, что
обозначает небо неба (Пс. 148: 4), находящееся поверх тверди, а также и воды,
Древнерусская космология и библейская фразеология 239
находящиеся поверх небес, [то есть] или воздуха и тверди, или семи поясов
тверди, по обычаю, свойственному еврейскому языку, называемой во
множественном числе небесами»62. Таким образом, внутренняя форма и семантика
БФЕ быть на седьмом небе определяется пифагорейскими представлениями
об устройстве мира, которые в эллинистический период проникают в
Палестину, где заимствуются и уточняются (седьмое небо — место пребывания не
только Бога, но и праведников; герои ветхозаветных апокрифов («Заветы
двенадцати патриархов», «Книга Еноха», «Вознесение Исайи») попадают на
седьмое небо, возвещая тайны Бога людям). Затем зафиксированные в
апокрифах и сочинениях отцов Церкви представления о семи небесах приходят на Русь.
Примечания
1 Kittel G., Friedrich G. The Theological Dictionary of the New Testament. Michigan,
1985.
2 См.: Тантлевский И. Р. Введение в Пятикнижие. М., 2000. С. 98; Крамер С. И,
История начинается в Шумере. М., 1991. С. 91.
3 БерманБ. И. Библейские смыслы. М., 1997. С. 17.
4 Книга Юбилеев, или Малое Бытие // Ветхозаветные апокрифы. СПб., 2001.
С. 125.
5 Щедровицкий Д. В. Введение в Ветхий Завет. Книга Бытия. Ч. I. M., 1994. С. 34.
6 Согласно шумерским представлениям, твердь была сделана из олова, который
называли «небесным металлом». См.: Тантлевский И. Р. Указ. соч. С. 98: Крамер С. Н.
Указ. соч. С. 91. Возможно, твердь имеется в виду, когда в Книге Еноха говорится о
стене на небесах: «Я приблизился к одной стене, которая была устроена из кристал-
ловых камней» (Енох. 3: 14). Данные представления позднее нашли отражение в
космологических патристических сочинениях, в частности у Севериана Габальского и Козьмы
Индикоплова.
7 Заветы двенадцати патриархов // Ветхозаветные апокрифы. СПб., 2001. С. 275.
8 «И Бог открыл семь окон небесных, чтобы они изливали воду с неба на землю».
Там же. С. 138-139.
9 Согласно иудейским апокрифам, для стока верхних вод в небе были два окна
(отверстия) — для этого Бог сдвинул с места 2 звезды из созвездия Плеяды.
Впоследствии, чтобы приостановить потоки дождя, Бог закрывает отверстия парой звезд из
созвездия Медведицы. Фрэзер Д. Д. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1997. С. 88.
10 Liddell И. G.t Scott R. Greek-English Lexicon. Oxford, 1992.
11 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. IV. М., 1996.
12 Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Словарь русской фразеологии:
историко-этимологический справочник. СПб., 2001. С. 605; Шанский Н.М. Что значит
слово хлябь} / / Русский язык в грузинской школе. Тбилиси, 1970. № 4. С. 24, 78.
13 Добродомов И. Г. К этимологии церковнославянского хлябь (хлавь) / /
Этимология 1981. М., 1983. См. также: Мурьянов М. Ф. Семантика ц.-слав. хлабь.
Этимология 1979. М., 1981.
14 Книга Еноха // Ветхозаветные апокрифы. СПб., 2001. С. 70-78. Автор
предполагает, что в тверди существует 12 ворот (6 на западе и 6 на востоке).
15 О колесницах солнца, которые создавали идолопоклонники, см.: 4 Цар. 23: 11.
240 Космология в ее единстве с другими компонентами книжной культуры...
16 Книга Еноха. 14, 75. Указ. соч. С. 77.
17 Там же. С. 34.
18 Нисан (авив, абиб) — месяц еврейского календаря, соответствующий марту—
апрелю.
19 Таммуз — месяц еврейского календаря, соответствующий июню—июлю. С
нисана до таммуза максимальная долгота дня.
20 Тишри (афаним) — месяц еврейского календаря, соответствующий сентябрю—
октябрю.
21 Тебеф — месяц еврейского календаря, соответствующий декабрю—январю.
С тишри до тебефа долгота дня минимальна.
22 John Gill's Expositor. Ont. 1999.
23 «Христианская топография» Козьмы Индикоплова. Цитируется по славянскому
переводу греческого текста: Книга нарицаема Козьма Индикоплов. М., 1997. Л. 9-9 об.
Здесь и далее цитаты из Козьмы Индикоплова в переводе А. В. Григорьева.
24 В Книге пророка Исайи мы находим и сравнение второго неба с дымом:
«Поднимите глаза ваши к небесам, и посмотрите на землю вниз: ибо небеса исчезнут, как дым,
и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут; а Мое спасение пребудет
вечным, и правда Моя не престанет» (Ис. 51: 6). Однако древнееврейское ]ш Cashan)
«дым» может быть переведено и как «облако пыли». В Ис. 40: 22 сообщается: «Он есть
Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней — как саранча пред Ним;
Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья». Здесь
второе небо — это тонкая ткань — древнеевр. doq «завеса», «покров», «пелена»,
«тонкая ткань» (от daqaq «превращать в порошок, пыль»). Возможно, внутренняя
форма данного слова отражает обиходные представления иудеев: внутренние дворы их
домов в жаркую или дождливую погоду перекрывались навесом. Однако не исключено,
что здесь также имеется в виду «облако пыли», как и в Ис. 40: 22.
25 dfjp, dspoq — воздух, туман, мрак (низший слой воздуха в отличие от aiBfjp).
26 Whitaker R. Revised BDB Hebrew-English Lexicon. Philadelphia, 1995. P. 728.
27 Whitaker R. Там же. Р. 1007.
28 John Gill's Expositor. Ont. 1999.
29 Whitaker R. Указ. соч. Р. 798.
30 В работе М. И. Михельсона «Русская мысль и речь»: «высшая степень радостного
возбуждения». Автором также фиксируется выражение над семью поясами
небесными сам Бог. Михельсон М. И. Русская мысль и речь. Т. 1. М., 1997. С. 597, 616-617.
31 Бирих А. К., Мокиенко Б. М., Степанова Л. И. Указ. соч. С. 399. Ср. также:
Ашукин Н.С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. М., 1987. С. 218; Бартаньян Э.А.
Из жизни слов. М., 1973. С. 152.
32 Платон. Тимей, 38 c-d.
33 Платон. Государство, 617 Ь.
34 Там же.
35 Аристотель. О небе, II, 290, 10-15.
36 Михельсон М. И. Указ. соч. С. 577.
37 Там же.
38 Платон. Тимей, 38 c-d.
39 Там же. 39 е.
40 Платон. Государство, 617 Ь.
41 Аристотель. О небе, II, 278 b 10-20.
42 Там же. 293 а.
43 Там же. 277 Ь.
Древнерусская космология и библейская фразеология 241
44 Михельсон М. И. Указ. соч. С. 616-617. Ср. также: Займовский С. Г. Крылатые
слова: Справочник цитаты и афоризма. М.; Л., 1930. С. 57.
45 См.: Коран. М., 1963.
46 Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь. М., 1900. С. 407.
47 Василий Великий. Беседа на Шестоднев / / Творения иже во святых отца нашего
Василия Великого, архиепископа Каппадокийского. Ч. I. M., 1886. С. 41-57.
48 Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. М., 1992. С. 407.
49 Цитируется по древнерусскому переводу «Христианской топографии» Козьмы
Индикоплова: Книга, нарицаема Козьма Индикоплов. М., 1997. Л. 84 об.
50 Уолш И. А., Верков В. П. Русско-английский словарь крылатых слов. М., 1984.
С. 130.
51 Kittel G., Friedrich G. Указ. соч.
52 В синодальном переводе Библии — твердь.
53 Сантала Р. Апостол Павел, человек и учитель, в свете иудейских источников.
СПб., 1997. С. 97, Hagiga 12b.
54 Заветы Двенадцати патриархов // Ветхозаветные апокрифы. СПб., 2001. С. 274-
275.
55 Там же. С. 392-393; Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. СПб., 1999. С. 499-
527.
56 Цитируется по переводу с латинского текста. Вознесение Исайи / /
Ветхозаветные апокрифы. СПб., 2001. С. 400. Существует и древнерусский вариант апокрифа,
который носит название «Видение Исайи», где сообщается: «и гако взыдохов'Ь на семое
нво и вид^Сх) toy св'вСт) дивный // и неисповедимый, и агглы весчислены и прв|[д)ники»
(Л. 6-6 об.). Мильков В. В. Указ. соч. С. 510.
57 Цитируется по переводу с латинского текста. Вознесение Исайи. Указ. соч. С. 400.
В древнерусском тексте: «и iako взыдс на семое нво и восггбша и вси прв(д)ници.
и вси аггли и вса силы...» (Л. 10). Мильков В. В. Указ. соч. СПб., 1999. С. 515.
58 Аристотель. Указ. соч., 278 в.
59 Kittel G., Friedrich G. Указ. соч.
60 Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI-
XIII вв. М., 1984. С. 162-163.
61 Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания. М., 2002. С. 192.
62 Там же. С. 193-194.
L&AT-y
Календарное время
в древнерусской
космологии
Симонов Р. А.
КллендАрное осмысление времени
в рамках дологического
РАЦИОНАЛИЗМА
Вводные замечания
христианских памятниках Средневековья вопросы богословия и
устройства мира (космологии) были тесно взаимосвязаны. Славяно-русская
космология рассматривалась в материально-пространственных формах
существования мира и человека. При этом разрабатывались подходы к таким
философским категориям, как бытие, элемент, вещество, движение и др. Важное
место в средневековой космологии отводилось времени. Календарное
(«человеческое») время начиналось с «сотворения мира», а заканчивалось его
«скончанием». Таким образом, осмысление времени, а также бытия, космоса велось в
неразрывном единстве с материально-пространственным существованием мира.
Само же время было своеобразной формой этого существования. Отсюда
проистекают временные оценки бытия и связанные с ними теологические идеи фи-
нализма.
Однако в этом общем представлении христианской теологии нет-нет да и
слышались оптимистические нотки трактовки времени, как бы находившиеся вне
эсхатологических ожиданий. Таким является, например, «Учение им же ведати
человеку числа всех лет», написанное Кириком Новгородцем (1110 — после 1156)
в 1136 году. В зачине произведения (библейской цитате, призванной выразить
главную мысль изложения) нет речи о конце света. Свое сочинение,
посвященное расчетной пасхалистике, он начинает с канонического библейского
положения о сотворении мира. Этот центральный момент христианской космологии
он мыслит как начало календарного времени, необходимого человеку, причем в
тексте Кирика ни слова не говорится о конце мира. Можно допустить, что он
принадлежал к немногим мыслителям, которые не связывали
светопреставление с наступлением календарного 7000-летия. Об этом говорит то, что Кирик
отказался от такой трактовки хронологии, связав ее с конкретным годом
написания трактата. Тем самым он приблизил изложение понятий христианского
календаря к своему современнику, лишив их эсхатологической «окраски».
Эсхатологическая трактовка календаря мешала его техническому
совершенствованию, так как делала такую работу почти бессмысленной в глазах человека,
Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 01-03-00313 а.
£
246
Календарное время в древнерусской космологии
ожидавшего неизбежно-достижимого конца света. Кирик смещал акцент
отношения к хронологии от креационизма к насущным нуждам сегодняшнего дня с
его календарными заботами. Вклад Кирика и его древнерусских
единомышленников в осмысление категории пространства-времени заключается в
соединении в явном виде хронологии и космологии, которые прежде были разъединены,
существовали и разрабатывались независимо друг от друга. Однако можно
отметить, что в рамках богословия хронология всегда имела неявное космологическое
значение, так как объективно мир развивается в пространстве и времени.
Кириковский подход способствовал разработке эффективных методов
пасхальных расчетов (точных и в то же время простых), что служило нуждам
церковной практики, «привязанной» к дате Пасхи, менявшейся от года к году (с
полным циклом в 532 года). День Пасхи как начало христианского календаря са-
крализовал время в христианском духе. Поэтому пасхалистика как учение о
способах установления даты Пасхи вносила в теологию ощущение реальности
сакрализованного времени. Это придавало креационистический смысл приуго-
товлению к встрече с вечностью, эсхатологическому преобразованию космоса.
В философском отношении средневековое время воспринималось не только
ограниченным (имеющим начало и конец), но и обладавшим свойством
цикличности. Цикличность времени — наследие античности. В «Учении» Кирика
четко выражен античный циклизм в «поновлениях» неба, земли, моря и воды.
Кирик заключает циклизм в начально-конечные рамки бытия мира, соединяя
линейную и круговую модели времени. Обновление стихий есть, по существу,
обозначенная на вселенском уровне преемственность жизни. Тогда космос в
совокупности чувственно воспринимаемых стихий должен мыслиться как некое
вселенское подобие живого организма. Такая идея «очеловечения» времени
представлена в памятниках древнерусской книжности «Часы на седмь дни» (сер. XV в.)
и «По сему часы разумети» (кон. XV — нач. XVI вв.). Представленная здесь
трактовка времени отличается от современного восприятия тем, что наделяет
время прогностическим качеством. Существовало четкое распределение по
недельному циклу «качеств» часов как «злых», «средних» и «добрых».
Руководствуясь таким распределением, древнерусский человек мог прогнозировать свою
жизнь по правилам типа: в «добрые» дни начинать (в «злые» не начинать) все
свои дела. В представлении современного человека время безразлично к его
нуждам. Указанные документы свидетельствуют, что мир средневековых людей
был иным, более «очеловеченным», связанным с его нуждами, это существенно
расширяет наши представления о древнерусской космологии. «Очеловечение»
времени в древнерусской традиции смыкается с осмыслением космоса как
«очеловеченной» сущности: По архаическим представлениям, отраженным,
например, во второй части «Книги Еноха» и др. апокрифах, человек (Адам) по своему
божественному происхождению является олицетворением космоса,
наделяется Богом космическими чертами. Бог, природа и человек в силу сущности
родства в известном смысле взаимно пронизывают друг друга. «Очеловечение»
времени в древнерусской традиции дополняет и конкретизирует эту архаическую
космологическую трактовку. Она расходится с библейской установкой на раз-
Календарное осмысление времени в рамках теологического рационализма 247
граничение идеального и материального миров, на противопоставление Бога
и природы.
«Сотворение мирд» как начало отсмста времени
в свете вивлейской экзегетики
С развитием государственности у славян закрепился византийский способ
счета времени по константинопольской эре, называемой также древнерусской,
где исходным бралось «сотворение мира», 5508 г. до РХ. Так, в этой системе
записаны годы договоров русских князей с греками X в., даты на берестяной
грамоте 1029 г. и некоторых граффити — с первой половины XI в., русских
датированных книг, начиная с Остромирова Евангелия 1056-1057 гг. С этим
способом датировки погодных статей связано название русских историко-хроноло-
гических произведений — летописей — и древнейшего дошедшего до нас
летописного свода — «Повести временных лет» (нач. XII в.).
Знаменитое календарно-математическое «Учение им же ведати человеку
числа всех лет» (1136 г.) Кирика Новгородца начинается словами: «Понеже
искони сътвори Бог небо и землю, всю видимую сию тварь. Да есть оттуду до сего
времени лет 6644»*. Далее Кирик писал: «От зачала твари мира до сего
времени месяцев книжных есть 79728»К Кирик отсчитывает время от «сотворения
мира». В библейской традиции оно имело хронологическую протяженность: «В шесть
дней [Бог] сотворил небо и землю, море и все, что в них»2. Для понимания
понятия «сотворение мира» как начала отсчета времени важное значение имеет
толкование следующих слов Библии: «И назвал Бог свет днем, а тьму назвал ночью, и
был вечер и было утро, день один» (Быт. 1: 3). В «Шестодневе» Иоанна экзарха
Болгарского (кон. IX — нач. X вв.) этому вопросу уделяется серьезное
внимание: «Почему же не сказал он "день первый", но "день один"? Хотя более
подходящим было бы сказать ему, желавшему обозначить второй, третий и
четвертый день, назвать так и тот день, который старше всех этих дней, то есть
первый день»3. С. Н. Якунин комментирует это место так: «Первый день творения,
как период формирования предматерии, требует соответствующего (отличного
от остальных дней творения) наименования того временного отрезка, в
который было осуществлено (произведено) это действие. Этот временной отрезок в
Св. Писании именуется «день один»4. И далее: «Не "первый день", а "день один",
так как последнее наименование выделяет первый день творения из целого ряда
последующих дней и определяет его как исключение. Он еще не стал типичным
днем, а находится в стадии формирования последующего мира»5.
Таким образом, в Библии не говорится, когда появился первый день, с
которого нужно вести счет времени. Кирик в «Учении», опираясь на существующую
в Византии и Руси традицию, использует формулу «от Адама». Но между первым
* Запись чисел в «Учении» дается в «буквенной» нумерации.
248 Календарное время в древнерусской космологии
и последним днем творения, когда появился Адам, находились дни, среди
которых мог сформироваться первый для счета день. Поэтому счет «от Адама», строго
говоря, будет неточным. По сути, это имелось в виду еп. Северианом Габаль-
ским (кон. IV — нач. V вв.) и излагавшим его взгляды в Шестодневе Иоанном
экзархом, адресовавшим «арианам и несторианам и другим еретикам» упрек в
попытках узнать дату рождения Христа, вопреки принципиальной
невозможности познания человеком счета времени, выраженной словами: «Нам не дано
знать время и часы, которые Отец установил в своей власти»6.
На основе изложенного выявляются два противоположных подхода в
рамках христианской традиции к понятию «сотворение мира» как началу отсчета
времени. Это подход Василия Великого (IV в.) и его единомышленников,
которые считали принципиально невозможной строгую хронологию и «сотворение
мира» как точку отсчета понимали в качестве условной и приблизительной,
поэтому хронологические расчеты ими не одобрялись. Второй подход был
присущ людям, которые по неким теоретическим соображениям или по другой
причине игнорировали богословские тонкости, отстаивавшиеся византийскими
отцами Церкви. Кирик объективно примыкал ко второму подходу. Он, видимо,
не подозревал о богословских спорах (или пренебрегал ими), в ходе которых сама
возможность исчисления времени признавалась проблематичной, более того, он
написал научный трактат, решавший проблемы счета времени христианского
календаря. Был ли Кирик в этом одинок или такое отношение к хронологии было
типичным на Руси? О последнем может свидетельствовать то, что в «Повести
временных лет», где до Кирика употребляется формула «от Адама» для
характеристики начала временных интервалов по типу «от Адама до потопа» (любезно
сообщено А. А. Туриловым), встречаются близкие к арианству взгляды7.
Рассмотренный вопрос сложнее, чем кажется на первый взгляд, так как
допускает сближение двух рассмотренных подходов. Василий Великий (в
переводе Иоанна экзарха) говорил, воспроизводя слова Моисея, что «так как первым
делом [Бога] было [создание] света, а последним — человека, сначала
посредством слова Бог делает свет, затем же посредством дела (действия) —
человека, начиная светом и светом заканчивая [творение]»8. Это показывает, что если
свет породил день, то человек как обладатель умственного света может
символизировать мысленный день, а поэтому от него можно вести начало счета
времени. Такая трактовка позволяет связать «сотворение мира» с началом отсчета
времени по формуле «от Адама». Но, строго говоря, она позволяет лишь
обойти, но не решить проблему отсчета времени, так как, следуя Библии, нужно
считать, что первый физический световой день появился до сотворения Адама.
Усвоив византийские календарные сведения, в том числе и понятие
«сотворение мира» в качестве начала отсчета времени по формуле «от Адама», на Руси,
однако, избежали духовного воздействия теологов (Василия Великого и др.),
считавших принципиально невозможными точные хронологические подсчеты
из-за отсутствия в Библии указания о первом дне, а также из-за разъяснения
Христа апостолам: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец
положил в своей власти» (Деян. 1: 7).
Календарное осмысление времени в рамках теологического рационализма 249
Св. Кирилл-Константин
как сторонник рационалистической трактовки времени
Предтечей Кирика в рационалистическом подходе к трактовке времени был
Константин-Кирилл. В его Житии указывается, что среди предметов, которые
он изучал в Константинополе, были математические: геометрия, арифметика,
астрономия. Причем, как считает Б. Н. Флоря, геометрии он учился у Льва
Математика, а остальным предметам — у Фотия9. В Житии
Константина-Кирилла содержатся данные о том, что применял он эти знания в хронологии. Есть
в VI главе Жития фрагмент, содержание которого косвенно подтверждает
высокое место естественных наук в представлениях Философа. В нем
повествуется о религиозном диспуте между Константином и арабами. При этом агиограф в
качестве показателя интеллектуального развития последних, наряду с другими
факторами, указывает на их знакомство с геометрией и астрономией:
«Агаряне, люди умные и начитанные, наученные геометрии, и астрономии, и другим
учениям»10. Такой позитивный подход автора Жития к естественным наукам мог
быть обусловлен аналогичным отношением к ним Философа. Еще пример
содержит XIII глава Жития, где говорится о расшифровке Константином
пророческой надписи на чаше из драгоценного камня в Софийском соборе
Константинополя. Надпись содержала число, правильно истолковав которое Константин
установил, что надпись является пророческой датой рождения Иисуса Христа.
Для этого правильного вывода надо было разбираться в библейской исторической
хронологии, требующей от тех, кто занимается ею, умения производить
довольно трудоемкие подсчеты. Многие люди до Константина безуспешно пытались
расшифровать надпись, которую «никто не мог ни прочесть, ни перевести»11.
Константину это удалось потому, что он владел богатыми знаниями о
календаре и умел хорошо оперировать числами. Это и позволило ему решить трудную
хронологическую задачу, которая не поддавалась другим.
Следующий пример содержится в XVII главе Жития. Здесь говорится, что
когда Константин-Кирилл находился в Риме, то к нему обращались люди как
к ученому и мудрому человеку и просили объяснить различные сложные
вопросы. Приходили и поспорить с ним по проблемам религии. «Еврей же некий
также приходил и спорил с ним, и сказал ему однажды: "По расчету лет не пришел
еще Христос, о котором говорят книги и пророки, что родится от девы".
Философ же, рассчитав все годы от Адама по поколениям, показал ему со всей
тонкостью, что (уже) пришел, и сколько лет прошло с того времени до этой поры, и,
научив его, отпустил»12.
Для убеждения оппонента в том, что он заблуждается, Константину
необходимы были знания об иудейской и христианской календарных системах, данные
по хронологии ветхозаветной и евангельской истории и твердые навыки в
сложном счете.
Думается, что приведенные сведения существенно дополняют представления
о Константине-Кирилле как о мыслителе рационалистического толка в
богословии. Житие говорит о том, что он, будучи одним из образованнейших людей
250
Календарное время в древнерусской космологии
своего времени, обладал выдающимися знаниями и навыками по арифметике —
основе его хронологических интересов.
Имея глубокие знания в области календаря и хронологии,
Константин-Кирилл, надо думать, их воплотил в какой-то форме в процессе миссионерской
деятельности по приобщению славян к христианству. В середине IX в. им
совместно с братом Мефодием была создана глаголическая азбука13. Затем на
славянский язык братья перевели богослужебные книги и организовали церковную
деятельность. Она могла функционировать при соблюдении определенных
временных требований, пронизывающих все богослужение: от суточных служб к
недельным, идущим внутри годового цикла, как календарного, так и
пасхального, который начинался с праздника Пасхи, дата которого менялась от года к году,
имея цикл в 532 года.
Считается, что Никейский собор 325 г. установил правило, по которому
христианская Пасха отмечается в ближайшее воскресенье после полнолуния,
наступающего вслед за днем весеннего равноденствия (21 марта по старому
стилю). В соответствии с этим правилом была составлена таблица марто-апрель-
ских весенних (пасхальных) полнолуний на основе 19-летнего метоновского
цикла. Указанное сложное правило было введено для того, чтобы христианская
Пасха не совпадала с еврейской. Пасхальные полнолуния — это даты
еврейской Пасхи (по версии христиан), которые были рассчитаны, по-видимому, ни-
кейскими компутистами на ближайшие 19 лет. Они таковы: 2а, 22м, 10а, 30м,
18а, 7а, 27м, 15а, 4а, 24м, 12а, 1а, 21м, 9а, 29м, 17а, 5а, 25м, 13а (условные
обозначения: м — март, а — апрель). Для определения даты пасхального
полнолуния любого года в эре от сотворения мира (СМ) число года делили на 19 и
находили остаток («лунный круг»). Величина «лунного круга» показывала, сколько
надо отсчитать значений в перечне дней пасхальных полнолуний, чтобы
получить искомую дату. Далее надо было узнать день недели найденного
пасхального полнолуния, для чего существовали свои правила. Найдя день недели даты
пасхального полнолуния, отсчитывали от него воскресенье. Днем христианской
Пасхи было это воскресенье, ближайшее к дате найденного пасхального
полнолуния (еврейской Пасхи).
Древнейший славянский перечень пасхальных полнолуний датируется XII в.
Он был записан круглой глаголицей в старославянском «Синайском
служебнике» XI в. Особенностью глаголического перечня дат полнолуний является их
обратный порядок. Акад. И. И. Срезневский, первым исследовавший
глаголический список пасхальных полнолуний, обратил внимание на необычную запись
дат «навыворот, то есть что 19 год поставлен на первом месте, а 1-й на
девятнадцатое»14. Этому феномену записи дат пасхальных полнолуний он не дал
объяснения. Если учесть, что пасхальные полнолуния — это рассчитанные
христианами даты еврейской Пасхи, то их запись по-еврейски, то есть справа
налево, может выражать форму календарной аутентичности. Календарные
источники Никейского собора 325 г. не сохранились. Глаголический перечень с
еврейским порядком дат полнолуний может восходить к никейской традиции или
выражать результат осмысления Константином-Кириллом календарных хрис-
Календарное осмысление времени в рамках теологического рационализма 251
тианских традиций. Во всяком случае глаголический перечень полнолуний, по-
видимому, восходящий через писцов-глаголитов к творчеству славянских
первоучителей, отражает принцип календарной аутентичности. Это тем более
вероятно, что для общехристианской календарной письменности не типична
запись пасхальных полнолуний по-еврейски.
Если сторонники Василия Великого негативно относились к хронологии, так
как Священное Писание исключало возможность точных календарных
расчетов, то представители календарной аутентичности, в том числе, очевидно,
славянские первоучителя Константин-Кирилл и Мефодий, а также их последова-
тели-глаголиты, относились к хронологии как адекватному знанию. В предмет
календарной аутентичности входило историко-христианское изучение
хронологии с целью выяснения и сохранения ее библейских корней. Это следует из
Жития Константина-Кирилла, в котором обсуждается раскрытие им
зашифрованного хронологического прорицания о дате рождения Христа. Здесь же
показывается необходимость знания истории хронологии во всей совокупности
календарных систем, отразившихся в Библии. Указанные знания позволили
Константину-Кириллу одержать победу в важном для христианства идеологическом
споре о времени пришествия (рождения) Иисуса. К этой же группе
представлений относится выражение календарных показателей в близкой к библейской
форме. Такой формой, например, является еврейский порядок дат в
глаголическом перечне пасхальных полнолуний. Он как бы вписывал правило
определения дат христианской Пасхи в контекст трактовки ветхозаветной Пасхи. Хро-
нолого-временные представления Константина-Кирилла конкретизируют
мнение о кирилло-мефодиевской философско-рационалистической традиции как
оригинальной, высокоинтеллектуальной, нацеленной на овладение
энциклопедическими знаниями и чуждой изоляционизма идеологии.
КАЛ€НДДрНО-МЛТ€ЛЛДТИМ€СКИ€ ЗНАНИЯ
в древнерусском восприятии времени в XI веке
Как известно, на Руси кирилло-мефодиевская традиция нашла яркое
отражение в календарно-математическом творчестве XII в. новгородца Кирика: «Он
являлся одним из наиболее ярких представителей теолого-рационалистическо-
го направления отечественной мысли»15. Однако новые источники
свидетельствуют, что отмеченная традиция получила распространение на Руси уже в XI в.
в конкретной форме календарной аутентичности: инструментарии в виде «рук»
для решения сложной вычислительной задачи по определению даты
христианской Пасхи. Распространенным видом пасхального табличного инструментария
в славяно-русской традиции являются «руки» с отставленным большим
пальцем и календарными значениями на четырех сомкнутых пальцах. В «Скалигеро-
вом Каноннике» 1331-1332 гг. библиотеки Лейденского университета отсчет
пасхальных полнолуний по «руке» ведется по-еврейски справа налево. На ладони
ниже пальцев в двух небольших кружках дается название: «Рука» «Жидовск(а)»
252
Календарное время в древнерусской космологии
(рис. 3-D16. Таким образом, два древнейших славяно-русских варианта записи
пасхальных полнолуний — глаголический XII в. и в виде «Жидовской» «руки»
1331-1332 гг. имеют еврейский порядок выбора дат справа налево.
Пасхальные «руки» были парными. Правая «рука» пасхальных полнолуний
в славяно-русской традиции встречается в паре с левой, содержащей 28
значений так называемых «солнечных эпакт». Обе «руки» симметричны. Левая «рука»,
как и правая, имеет отставленный большой палец. А числа записаны в
«буквенной» нумерации (как и на правой «руке») на четырех сомкнутых пальцах. Счет
по левой «руке» «Скалигерова Канонника» велся снизу слева направо, а
задавался надписью в двух небольших кружках в нижней части ладони: «Рук(а)»,
«Круг» и на большом пальце: «Иоанъ Бо(го)словець»17.
В еврейском порядке полнолуния получили известность на Руси, возможно,
сразу после установления христианства в 988 г. Об этом косвенно
свидетельствует как то, что такой порядок пасхальные полнолуния сохраняют только в
одной древнерусской книге — «Скалигеровом Каноннике» 1331-1332 гг., так
и особая форма таблиц в виде «рук», которая известна преимущественно в
древнерусской календарно-пасхальной практике. «Руки» наглядно выражают, в
каком порядке надо выбирать календарные показатели из таблиц. Они
представляли собой изображения открытых ладоней — правой для дат полнолуний,
левой — для «солнечных эпакт». Календарные данные располагались на сомкнутых
четырех пальцах «рук» параллельными рядами в направлении снизу вверх.
Отставленные в стороны большие пальцы задавали ход «выборки» из «рук»
календарных показателей. Данные левой «руки» считывались слева направо от
большого пальца «руки», данные правой — справа налево, также от большого
пальца этой «руки». На «руках» и рядом с ними в «Скалигеровом Каноннике»
1331-1332 гг. имеются записи, содержащие важную информацию. На левой
«руке», в которой счет эпакт велся слева направо, написано имя апостола и
евангелиста Иоанна Богослова, а выше «руки» сообщалось о «выборе» эпакт по
«солнечному кругу». Из этого следует, что левая «рука» соотносилась с
новозаветной традицией и византийско-римским солнечным календарем. Правая
«рука», из которой даты пасхальных полнолуний «выбирались» справа налево,
именовалась «жидовской», а выше ее содержалось указание о считывании
календарных дат по «лунному кругу». Из этого следует, что правая «рука»
соотносилась с ветхозаветной традицией и еврейским лунным календарем, что
подтверждается также ее именованием «Рука святого пророка Моисея Законодавца» в
позднейших рукописях, например XV в. Вместе обе пасхально-календарные «руки»
выражали идею объединения Пасхой священных для христиан текстов Библии —
Ветхого и Нового Завета.
Методическая мысль, основанная на использовании рисунка ладони, имела
мнемоническое назначение как средство для запоминания разнонаправленно-
сти информации «рук» с целью правильного расчета Пасхи. Уже ко времени
«Учения» Кирика Новгородца (1136 г.) направление считывания календарной
информации из «рук», по-видимому, было унифицировано по одному, привычному для
славян направлению чтения и письма — слева направо. Очевидно, что первона-
Календарное осмысление времени в рамках теологического рационализма 253
X
•а»
е
>-*
<;
V
5
( Р- «s * *
OO
OO
1 в
CO ^
—. Q
if
15
о .
Q 6
^ о
* I
§. *
<§ 6
* о
^ =s
5
254 Календарное время в древнерусской космологии
чальным автором «рук» был довольно сведущий в богословии, календаре и
лингвистике человек. Но он наблюдал русское общество со стороны, поэтому не учел
возможной невостребованности мнемоничности «рук» в древнерусском
обществе, где не представляли другого направления при чтении и письме, кроме как
слева направо. Скорее всего, разработчик «рук» не принадлежал к коренному
населению Руси, а прибыл вместе с киевским митрополитом, который
назначался Константинопольским патриархом, то есть был греком или южным
славянином. Первые киевские митрополиты-греки приезжали из Византии со
свитой просвещенных людей, которые играли немаловажную роль в становлении
христианской культуры на Руси. Оживление просветительной деятельности,
обусловленное появлением на Руси получивших греческое образование людей,
говорит в пользу того, что уже в первые годы христианства в их среде мог
появиться табличный инструментарий в виде «рук», разработанный для
пасхально-календарных нужд русской Церкви.
Отражение календарной Аутентичности
в «Олове о законе и благодати» митрополитл ИллрионА
Об употреблении в Древней Руси уже в 1-й половине XI в. «рук» в традиции
календарной аутентичности, то есть правой (пасхальных полнолуний) с
еврейским счетом справа налево и левой (солнечных эпакт) с греко-римским счетом
слева направо может свидетельствовать «Слово о законе и благодати»
митрополита Илариона. Чтобы показать это, обратимся к краткой энциклопедии
православных понятий и терминов — Синтагме, составленной в XIV веке
духовным писателем Матфеем Властарем (Властарисом).
Резонно задаться вопросом: не мог ли Иларион, работая над «Словом о
законе и благодати», использовать таблицы в виде «рук» для расчета (проверки) даты
Пасхи? В историографии обсуждается вопрос о значительном весе в «Слове»
мотивов двух важных христианских праздников Пасхи и Благовещения как
факторе появления произведения в год совпадения или максимального сближения
дат этих праздников. Благовещение празднуется по юлианскому календарю
всегда в один и тот же день — 25 марта. Пасха празднуется, как говорилось выше,
в разные дни марта-апреля, которые определяются по особым правилам. В
период 1037-1050 гг., когда было создано «Слово», Пасха 25 марта не
отмечалась. Значит, не было Кириопасхи — совпадения ее с Благовещением. Однако
дважды в этот период происходило максимальное сближение дат праздников.
В 1038 и 1049 гг. Пасха была 26 марта, и расстояние между ею и
Благовещением (25 марта) было минимальным. Н. Н. Розов на основе того, что содержание
«Слова» Илариона было пронизано мотивами указанных праздников,
предположил создание произведения в каком-то из этих годов. Причем по ряду
соображений он предпочтительным считал 1049 г.18 Недавно А. Н. Ужанков вернулся
к вопросу о точной дате написания «Слова», сняв сомнения Н. Н. Розова по
поводу 1038 г. Кроме того, он обратил внимание на то, что в 1038 г. происходи-
Календарное осмысление времени в рамках теологического рационализма 255
ли важные юбилеи: 50-летие принятия христианства Русью и 60-летие
действующего великого князя Ярослава Мудрого, именуемого в произведении каганом.
Кроме того, на 1037/1038 г. приходилось 500-летие Софийского собора в
Константинополе, освящение церкви Благовещения на Золотых воротах в Киеве,
завершение строительства Софии Киевской и оборонительных сооружений
вокруг Киева. «Примечательно, — пишет А. Н. Ужанков, — что все эти события
так или иначе отражены в "Слове" и, надо полагать, именно они в
неповторимом более в истории стечении и послужили поводом для его написания»19. В
указанных обстоятельствах важно убедиться, что по «рукам» действительно
можно рассчитать Пасху в 1038 г. и установить, какие календарные и
математические знания нужно было при этом иметь.
По «рукам» христианская Пасха в 1038 г. могла определяться следующим
образом. Число года 1038 в эре от СМ-5546 — делилось на 19, при этом в остатке
получалось число 10 — «лунный круг» этого 6546 (1038) года. По правой «руке»
отсчитывая календарные показатели снизу вверх и при этом считая их в каждой строке
по-еврейски справа налево, на 10-м месте найдем показатель КД, который в
традиции византийской (и древнерусской) «буквенной» нумерации равен 24. Так как в
правой «руке» помещались пасхальные полнолуния, т. е. числа «еврейской Пасхи»
в марте и апреле, то надо было определить месяц, к которому относится 24-е число.
Девятнадцать дат пасхальных полнолуний имели следующую структуру:
самой ранней датой было 21 марта, а самой поздней — 18 апреля. Все 20-е числа
(и 30-е число) относились к марту, а все числа первого и второго десятка —
к апрелю. Зная это, древнерусский компутист мог установить, что пасхальное
полнолуние («еврейская Пасха») в 1038 г. приходилось на 24 марта. Для проверки,
обратившись к воспроизведенному выше перечню пасхальных полнолуний,
убеждаемся, что в нем на 10-м месте находится дата 24 марта. Христианская
Пасха в этом году была в следующее воскресенье после 24 марта. Для
определения дня недели 24 марта 1038 г. использовалась левая «рука».
Предварительно находился «солнечный круг» 6546 (1038) года делением числа 6546 на 28;
искомым значением «солнечного круга» оказывается остаток 22. В левой «руке»
на 22 месте находится солнечная эпакта, в цифровом значении равная 6. В
соответствии с известной методикой20, далее нужно найти остаток от деления на
семь числа, получающегося по формуле х + у + z -1, где х — эпакта, т. е. 6; у —
число весеннего полнолуния, т. е. 24; z — так называемый «солнечный регу-
ляр», для каждого месяца. Значения «солнечных регуляров» в «Скалигеровом
Каноннике» даются в особой таблице, в которой для марта регуляр равен 5. Итак,
x + y + z-l=6 + 24 + 5-l=34. При делении 34 на 7 в остатке получается 6,
что соответствует пятнице21. Итак, пасхальное полнолуние в 1038 г. было 24
марта в пятницу, значит, 25 марта было субботой, а 26 марта — воскресеньем.
Вывод: христианская Пасха в 1038 г. была 26 марта. Этот результат согласуется с
данными историографии22. Таким образом, с помощью метода календарных «рук»
«Скалигерова Канонника» можно определить, что в 1038 г. день христианской
Пасхи был 26 марта. Для этого требовалось уметь находить величины лунного
и солнечного «кругов» в конкретном 6546 (1038) году, знать, как для этого года
256 Календарное время в древнерусской космологии
определяется пасхальное полнолуние (дата «еврейской Пасхи») по правой «руке»
и соответствующая «солнечная эпакта» по левой «руке», а также владеть
расчетной методикой отыскания по этим данным конечного результата — даты
христианской Пасхи. Требовались следующие математические знания для
использования «рук». Надо было сравнительно хорошо разбираться в «буквенной»
нумерации. Так, для определения того, к какому месяцу — марту или апрелю —
относятся даты пасхальных полнолуний (правая «рука»), следовало знать, как
записывались числа в пределах дат месяца. Также нужно было производить
элементарные вычисления с использованием действий сложения, вычитания и
деления (методом последовательного вычитания) сравнительно небольших чисел.
Самым сложным было умение делить четырехзначные числа лет в эре от СМ на
двузначные. Это было в Средние века под силу немногим. По образному
выражению В. Беллюстина, человека, умевшего так делить, считали «чуть не
гением»23. Таким «чуть не гением» был Кирик, который в своем «Учении» приводил
при делении многозначных чисел на двузначные не только требуемые остатки,
но и ненужные для задачи отыскания лунных и солнечных «кругов» частные.
В свете слов В. Беллюстина, Кирик этим, возможно, хотел показать высокий
(для Средневековья) уровень своей математической подготовки.
Для отыскания солнечных и лунных «кругов» достаточно было найти лишь
остаток от деления числа года в эре от СМ соответственно на 28 и 19 и не
вычислять частное. Это была задача менее сложная, чем отыскание и остатка, и
частного. Остаток от деления можно было получить методом последовательного
вычитания. Так, для нахождения «солнечного круга» 1038 г. нужно было
произвести следующие вычисления на основе вычитания. Указанный год в эре от СМ
выражался числом 6546. Для получения остатка от деления этого числа на 28
надо сперва вычесть из него одно из больших чисел, кратных 28, например 2800.
Получим: 6546 - 2800 = 3746. Из последнего числа вычитаем еще раз 2800.
Получим: 3746 - 2800 = 946. Из полученного числа 946 вычтем в 10 раз
меньшее, кратное 28 число 280. Получим: 946 - 280 = 666. Из найденного числа
вычтем еще раз 280, будет: 666 - 280 = 386. Из последнего числа вычтем еще pas
280, получим 106. Теперь, последовательно вычитая 28, найдем остаток: 106 -
28 = 78; 78 - 28 = 50; 50 - 28 = 22. Число 22, являющееся остатком от деления
числа года 6546 (1038) на 28, будет «солнечным кругом» указанного года.
Аналогично можно получить «лунный круг» 6546 (1038) г. Следовательно,
величины солнечного и лунного «кругов» можно было вычислить не посредством
«настоящего деления» (с получением частного), а упрощенным методом,
основанным на последовательном вычитании. Для этого нужно было быть просто
смышленым человеком (а не «чуть не гением»), владеющим начатками
арифметики. Такие люди на Руси, очевидно, были в первой половине XI в. в среде
образованного духовенства.
В разделе «Синтагмы», посвященном пасхальным расчетам, рассматриваются
пасхально-вычислительные понятия лунного и солнечного «кругов». Причем эти
понятия трактуются в контексте пасхальной традиции обоих Заветов —
Ветхого и Нового, то есть ветхозаветной (еврейской) Пасхи и христианской: «Св(я-
Календарное осмысление времени в рамках теологического рационализма 257
тые) отцы составили канон (таблицу), расположенный в столбцах и
изображающий круги обоих светил, солнца и луны. В круге луны показана почти в
точности ветхозаветная Пасха, а в круге солнца Пасха христианская»24.
Матфей Властарь, заявляя в «Синтагме» о существовании связи между
«кругом луны» и ветхозаветной Пасхой, а также между «кругом солнца» и
христианской Пасхой, ассоциирует календарные «круги» с самими светилами — Луной
и Солнцем — и переносит их характерные особенности свечения на религии:
иудаизм и христианство. И далее он пишет: «...Луна, изображая Моисеев
закон, тускло освещающий, в ночи заблуждения многобожного, истину богопо-
знания, таинство для небольшой части людей неизреченное, и как бы во мраке
скрывающий совершенный свет Трисвятого Божества, — не без основания
показывает ветхозаветную Пасху. Напротив, Солнце, приятное всем для зрения,
изображая светлое благодати озарение, простирающее ясный и открытый луч
истины, как бы в полдень, изображая Солнце правды, открывающее для всех
познание Троицы, — справедливо показывает истинную (христианскую)
Пасху»25. Поразительно, что в «Слове о законе и благодати» Илариона дается
аналогичное толкование: «Ведь исчезает свет луны, лишь только воссияет солнце.
Так и закон (миновал) в явление благодати... Христиане же созидают спасение
свое в (сиянии) солнца благодати»26. По Матфею Властарю, Луна также
ассоциируется с Моисеевым законом (иудаизмом), Солнце — с «благодати озарением»
(христианством). Луна тускло освещает «истину богопознания» для
большинства людей. Солнце же, «изображая светлое благодати озарение», открывает
для всех «луч истины». Тем самым наглядно демонстрируется превосходство
христианства, как ясной и поэтому доступной массам религии, над иудаизмом.
Соотношение между одинаковым сюжетом о Луне и Солнце в «Слове»
Илариона и «Синтагме» выглядит примерно как описание художественного образа и
комментария к нему. Текст (воспринимаемый как комментарий) Матфея
Властаря пространен и детален. Кроме того, он придает художественным
метафорам Илариона отчетливый календарный смысл. Это достигается путем
увязывания света Луны и Солнца с праздником Пасхи. Луна «показывает
ветхозаветную Пасху». Солнце «показывает истинную (христианскую) Пасху». Используя
логическую посылку о том, что только христианская Пасха является истинной,
Матфей Властарь подводит читателя к закономерному выводу о
предварительности учения иудаизма. Таким образом, для заключения о превосходстве
христианства над иудаизмом, к которому читатели «Слова» могли прийти на основе
художественных ассоциаций, «Синтагма» привлекала логическое мышление.
Комментируя сравнения Луна — иудаизм, Солнце — христианство в «Слове»
Илариона, В. В. Мильков предположил, что они имеют календарный смысл:
«Отождествление основано на том, что иудеи вели счет по лунному календарю,
тогда как христиане пользовались солнечным»27. Это предположение В. В. Миль-
кова не расходится с «Синтагмой» Матфея Властаря, в которой особенности
календарных расчетов ветхозаветной и христианской Пасхи на основе понятий
лунного и солнечного «кругов» действительно порождают ассоциации Луна —
иудаизм, Солнце — христианство.
9 Зак 4748
258
Календарное время в древнерусской космологии
Табличный инструментарий, который мог использовать Иларион при
расчете даты Пасхи в 1038 г., скорее всего, соответствовал «рукам», которые
представлены в «Скалигеровом Каноннике» 1331-1332 гг. Здесь над
изображениями «рук» имеются тексты, отсутствующие в других вариантах календарных
«рук». Запись над правой «еврейской» «рукой» (пасхальных полнолуний)
сообщает, что она передает ход «лунного круга»: «А си рука кругъ луны идет».
Текстуальная связь правой «еврейской» «руки» с «лунным кругом» могла вызывать
ассоциацию: иудаизм — Луна. Надпись над левой Богословлей «рукой»
(солнечных эпакт) говорит, что по ней отсчитывается «солнечный круг»: «А си рука
кругъ слн(е)чный просчитають». Текстуальная связь левой «христианской»
«руки» могла породить ассоциацию: христианство — Солнце.
Если Иларион пользовался календарными «руками» типа «Скалигерова
Канонника», то у него могли возникнуть указанные ассоциации. И действительно,
соответствующие метафоры в «Слове» имеются. Доказательством того, что
Иларион мог на них «выйти» через календарно-пасхальные «руки» типа
«Скалигерова Канонника», может служить аналогичный материал «Синтагмы» Матфея
Властаря, известного византийского духовного писателя XIV в.
Иларион мог пользоваться подобными «руками» для расчета (проверки) даты
Пасхи в 6546 (1038) г., для чего должен был знать начала арифметики:
древнерусскую «буквенную» нумерацию, сложение и вычитание. Митрополит
Иларион принадлежал к рационалистическому направлению (кирилло-мефодиевско-
го толка) древнерусского богословия. Дополнительной составляющей этой
идеологии в свете изложенных новых данных теперь можно считать его возможное
приобщение к принципу календарной аутентичности через календарные «руки».
Математика занимала, вероятно, большее, чем считалось раньше, место в
древнерусском восприятии времени в системе космологии. Древнерусские кален-
дарно-математические знания частично отражались и в таких сферах духовной
жизни, которые считались далекими от нее.
Примечания
1 Кирик Новгородец. Учение им же ведати человеку числа всех лет / / Историко-
математические исследования. Вып. 6. М., 1953. С. 174-175.
2 Баранкова Г. С, Мильков Я. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. СПб.,
2001. С. 663.
3 Там же. С. 678.
4 Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского как памятник средневекового
философствования. М., 1991. С. 66.
5 Там же. С. 187.
6 Баранкова Г. С, Мильков В. В. Указ. соч. С. 666.
7 Кузьмин А. Г. Принятие христианства на Руси // Вопросы научного атеизма. М.,
1980. № 25. С. 7-35.
8 Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского как памятник средневекового
философствования. М., 1991. С. 69.
Календарное осмысление времени в рамках теологического рационализма 259
9 Сказания о начале славянской письменности / Вступ. ст., пер. и коммент. Б. Н. Фло-
ри. М., 1981. С. 109.
10 Там же. С. 75.
11 Там же. С. 86.
12 Там же. С. 91.
13 Миронова Т. Л. Проблемы эволюции графико-орфографических систем древне-
славянского культурного наследия. М., 1999. С. 121-122.
14 Срезневский И. И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных
памятниках // Записки Академии наук. СПб., 1866. Т. 9. Кн. 1, прилож. 3, № 19. С. 89.
15 Мильков В. В., Милькова С. В. Идеи древнегреческой философии в творчестве
древнерусских мыслителей // Древняя Русь: пересечение традиций. М., 1997. С. 71.
16 Van den Baar. A Russian Church Slavonic Kanonnik (1331-1332). Mounton. The
Hague-Paris, 1968. P. 218-219.
17 Ibid. P. 222-223.
18 Розов Н. Н. Синодальный список сочинения Илариона — русского писателя XI в. / /
Slavia. Т. 32. Кн. 2. Praha, 1963. С. 141-175.
19 Ужанков А. Я. Из лекций по истории русской литературы XI — первой трети
XVIII вв. «Слово о законе и благодати» Илариона Киевского. М., 1999. С. 21.
20 Симонов Р. А, Кирик Новгородец — ученый XII века. М., 1980. С. 86-88.
21 Там же. С. 87
22 Ужанков А. Н. Указ. соч. С. 6, 136
23 Беллюстин В. Как постепенно дошли люди до настоящей арифметики. М., 1941.
С. 99.
24 Матфей Властарь. Собрание по алфавитному порядку всех предметов,
содержащихся в священных и божественных канонах, составленное и обработанное
смиреннейшим иеромонахом Матфеем, или Алфавитная Синтагма М[атфея] Властаря / Пер. с греч.
Николая Ильинского. М., 1996 (репринт). С. 368.
25 Там же. С. 368.
26 Слово о законе и благодати / / Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1997.
Том 1.С. 30, 31.
27 Мильков В. В. Осмысление истории в Древней Руси. 2-е изд. СПб., 2000. С. 254.
«Умение» Кирикд 1136 г.
как нАучный трактат, посвященный
КАЛ€НДАрНО-Л\АТ€Л1АТИМ€СКОЛ\у
осмыслению Бремени б контексте
средневековой космологии
к
Содержание «умения» Кирикл Новгородца
ирик — ученый и религиозный мыслитель XII в. во время написания
«Учения о числах» (1136 г.) был диаконом и доместиком Антониева
монастыря в Новгороде. Кроме календарно-математического «Учения» он
написал в сер. XII в. (уже будучи иеромонахом) «Вопрошание» богословского
характера. Оба труда характеризуют Кирика как высокообразованную для
своего времени творческую личность.
Учение известно в пяти списках: 1. РНБ, Пог. № 76, XVI в. Л. 342-346;
2. СПб. Отд. ИРИ РАН, Археогр. Ком. № 245 (б. Соф. № 475), XVI в. Л. 45 об.-
50 об.; 3. РНБ, Соф. № 1161, кон. XVI — нач. XVII вв. Л. 219; 4. РГАДА, ф. 196
(Мазурина), № 1069, XVIII в. Л. 115 об.-116 об.; 5. РГБ, ф. 256 (Рум.), № 35,
начХ1Хв. Л. 1-4.
Содержание произведения Кирика по параграфам таково:
1. «Бог изначально сотворил небо и землю и всю видимую тварь, с той поры
(считаем) до настоящего времени 6644* года». Библейская фраза о сотворении
мира.
2. «Знание количества месяцев». Здесь говорится, что от начала сотворения мира
«до сего времени» прошло 79728 месяцев и каждый год состоит из 12-ти месяцев.
Нетрудно установить, что указанное число получается, если умножить на
12 число года 6644. Таким образом, хотя явно число этого года во 2-м параграфе
не указано, но оно выражено в месяцах: 79728 = 6644 х 12.
3. «Учение о счислении недель». Сообщается, что в 6644 годах содержится
346673 недели и 3 дня, а расчеты следует производить из условия: в году 52
недели, один день и четверть дня.
В действительности, в 6644 годах будет содержаться 346 674 недели и 3 дня.
Сравнение записи числа по Погодинскому списку с другими списками «Учения»
показывает, что в этом случае неточность записи обусловлена особенностями
счета на абаке — вычислительном приспособлении, существовавшем и в
Древней Руси1.
* В «Учении» числа выражены в «буквенной» нумерации, годовая дата
«сотворения мира» (6644 г.), которая переводится в эру от РХ как 1136 г.
в эре от
262
Календарное время в древнерусской космологии
4. «Как узнать количество дней». Сообщается, что в том же количестве лет
(6644) содержится 2 426 721 день, что расчеты следует производить из
условия: в году 365 дней и четверть дня. Таким образом, хотя в 4-м параграфе это
количество лет явно не указано, оно присутствует выраженным в днях: 6644
года по юлианскому календарю действительно содержат 2 426 721 день.
5. «Исследование (количества) часов». В 5-м параграфе говорится, что в том
же количестве лет (6644) содержится 29 120652 часа. В списках «Учения»
число десятков — 50 — либо пропущено, либо искажено. Причем это искажение
имеет неслучайный характер, объясняемый особенностями счета на
древнерусском абаке2. Указывается, что часы — дневные («кроме нощи»), которых
всегда 12. С древности был известен так называемый «косой» час. Этот час
отличался от современного тем, что был переменной величиной. Светлое и отдельно
темное время суток делилось на 12 равных частей. В зависимости от
географической широты и времени года «косые» часы меняли свою длительность. Так,
летом на широте Новгорода дневной «косой» час мог втрое превышать ночной.
Это обусловливалось тем, что на этой широте светлое время суток иногда
превышает втрое темное, зимой — наоборот. Применение «косого» часа имело
важное календарное значение. «Косой» час позволял всюду одинаково считать по
12 часов для дня и ночи. Поэтому счет часов до 12 (отдельно для дня и ночи)
никак не говорит о «нерусскости» трактата Кирика. Он сохранял известность
на Руси примерно до XV-XVI вв.3
6. «А вот наставление об индикте». Сообщается, что индикт — 15-летний
цикл, начинающийся с сентября. Указывается, сколько индиктных циклов
содержится в 6644 годах и какой идет год последнего цикла.
7. «Как можно познать солнечный круг». Сообщается, что «солнечный круг» —
28-летний цикл, начинающийся с октября. Указывается, сколько солнечных
кругов (СК) прошло за 6644 года и какой идет год СК последнего цикла.
8. «Как можно узнать круг лунный». Сообщается, что таковым является
19-летний цикл, начинающийся с января. Указывается, сколько лунных кругов
(ЛК) прошло за 6644 года и какой идет год ЛК последнего цикла.
9. «О веках мира». Сообщается, что «веком» называется тысячелетие, а
прошло 6 «веков» и седьмого минуло 644 года.
10. «Об обновлении неба». Сообщается, что небо обновляется каждые 80 лет,
что за 6644 года прошло 83 полных и идет 4-й год последнего обновления.
Вычисления сделаны верно.
11. «О земном обновлении». Сообщается, что земля обновляется каждые 40 лет,
что до настоящего времени (6644 г.) прошло 166 полных и идет 4-й год
последнего обновления. Вычисления сделаны верно.
12. «На каком году обновляется море». Сообщается, что море обновляется
за 60 лет, что до настоящего времени (6644 года) прошло 110 полных
обновлений и идет 44-й год последнего обновления. Вычисления сделаны верно.
13. «Обновление воды». Сообщается, что вода обновляется каждые 70 лет,
что до настоящего времени (6644 года) прошло 94 полных обновления и идет
64-й год последнего обновления. Вычисления верны.
«Учение» Кирика 1136 г. как научный трактат... 263
14. «О високосных годах». Сообщается, что високосным бывает четвертый
год, таковых «от Адама», т. е. от «сотворения мира», было 1661, включая
«нынешний». Нетрудно понять, что речь идет о 6644 годе, так как его деление на
четыре дает указанное число (6644 : 4 = 1661).
15. «О большом круге». Сообщается, что в «большом круге» (индиктионе)
532 года, таковых «от Адама» минуло 12, а 13-го прошло 260 лет. Нетрудно
понять, что речь идет о 6644 годе, так как его деление на 532 в частном дает 12, а
в остатке 260.
16. «Сообщается, сколько месяцев в году». Здесь дается описание, как
считает большинство исследователей, лунно-солнечного календаря, но недавно
А. В. Журавель предложил считать, что в 16 параграфе производится
сравнение (в днях) солнечного календаря с лунно-солнечным4.
17. «Вновь сообщается, сколько недель в году». Это скорее не заголовок, а
краткое изложение сути параграфа, причем со ссылкой на то, что
соответствующая информация в «Учении» уже давалась в 3-м параграфе. Однако 17-й
параграф не простое повторение 3-го, в нем есть новое понятие — «индекта»*.
Кроме того, здесь длительность года указывается равной 52 неделям, 1 дню и 6
часам. То есть високосная четверть берется не для 12-часового дня (3 часа), а для
24-часовых суток. Вычислительные мотивы, связанные с 6644 (1136) г.,
отсутствуют.
Кирик мог написать 17-й параграф самостоятельно, опираясь на данные 3-го
параграфа, а также на трактовку «индекты», знание о чем он мог почерпнуть из
повседневной календарно-пасхальной практики или из византийских,
болгарских или западноевропейских источников. Однако этот текст, как и
предыдущий параграф, Кирик мог «переписать», не переработав применительно к
«косому» часу и 6644 (1136) году.
18. «Сообщается, сколько дней в году». Это также напоминает не заголовок,
а краткое содержание параграфа. Соответствующая информация в «Учении»
уже приводилась в 4-м параграфе, но в 18-м отсутствуют вычисления,
связанные с 6644 (1136) г. Кирик мог написать 18-й параграф самостоятельно,
опираясь на данные 4-го параграфа, но он мог и «переписать» текст из византийского,
болгарского или западноевропейского сочинения, хотя и владел указанными
хронологическими знаниями. О возможности «переписки» говорит то, что в 18-м
параграфе отсутствует указание на повторное изложение данных о числе дней
в году, какое есть в предыдущем параграфе (о числе недель в году).
19. «Это извещается о часах». Параграф обрел заголовок, в отличие от
предыдущих трех параграфов, по существу не имеющих его. Соответствующая
информация в целом уже воспроизводилась в 5-м параграфе, но есть новый
материал, состоящий в указании 4383 дневных часов в одном годе «и в ночных столько
* «Индекта» — день (сутки), дополняющий 52 недели до 365-ти дней (суток)
простого года. См.: Симонов Р. А., Цыб С. В. К изучению древнерусской календарной
традиции («индекта» и сентябрьские эпакты в «Учении» Кирика Новгородца) // Проблемы
источниковедения истории книги. М., 1997. Вып. 1. С. 4-12.
264
Календарное время в древнерусской космологии
же». Действительно: 365 х 12 + 3 = 4383. Следовательно, в одном дне берется
по 12 «косых» часов, в году — 365 дней и четверть дня длительностью 3 часа.
О високосной четверти дня говорится в 3-м параграфе, но также явно не
сообщается, что она равна 3 часам. Кирик мог написать 19-й параграф
самостоятельно, опираясь на данные 3 и 5 параграфов, а также произведя расчеты о
числе часов в одном году. Он мог и «переписать» текст из византийского,
болгарского или западноевропейского календарно-хронологического сочинения, где
приводилось число «косых» дневных часов в одном годе — 4383.
20. «О количестве часов в одном дне. Все знают, и я сообщу, что в одном дне
12 часов и в ночи столько же». Аналогичная информация сообщалась в 5-м
параграфе «кроме ночных... во дне* 12 часов». Кирик 20-й параграф мог написать
на основе устной традиции без обращения к каким-либо письменным
материалам, о чем свидетельствует его уточнение, что об этом «все знают», чего в
других случаях он не пишет.
21. «О дробных часах каждого дня». Сообщается, что дробных часов 60, а так
как во дне 12 часов, то в каждом часе 5 дробных, «а также и ночью». Количество
дробных часов моделируется умножением на 5 числа дневных часов: 12 х 5 = 60.
22. «Вторых же дробных в одном первом дробном [часе] 5, а во дне их 300».
Количество вторых дробных получается умножением на 5 числа первых
дробных: 60 х 5 = 300.
23. «Также и третьих дробных в одном втором дробном часе 5, а во дне их
1500». Количество третьих дробных моделируется умножением на 5 числа
вторых дробных: 300 х 5 = 1500.
24. «Четвертых же дробных в третьем дробном также 5, а во дне их 7500».
Количество четвертых дробных моделируется умножением на 5 числа третьих
дробных: 1500x5 = 7500.
25. «Пятых же дробных в четвертом дробном 5, а во дне их 37 500».
Количество пятых дробных моделируется умножением на 5 числа четвертых дробных:
7500 х 5 = 37 500.
26. «Шестых же дробных в пятом дробном опять-таки 5, а во дне их 187 500».
Количество шестых дробных моделируется умножением на 5 числа пятых
дробных: 37500x5= 187 500.
27. «Из шестых дробных получаются седьмые дробные, из одного 5. А седьмых
дробных "часец" в одном дне 937 500, столько же и в ночи. Больше же этого не
бывает, т. е. дробные от седьмых дробных не рождаются». Количество седьмых
дробных моделируется умножением на 5 числа шестых дробных: 187 500 х 5 =
937 500.
Параграфом 27 завершается материал о дробных часах (параграфы 21-27),
что отмечается в тексте: дробные «от седьмых дробных не рождаются».
Параграфы (22-27) не имеют самостоятельного заголовка и являются фактически
продолжением параграфа 21.
Материал о дробном делении часа имеется только в Погодинском списке
«Учения», в остальных его нет. По языку он отличается от основного текста
«Учения», что отметил В. В. Иванов5. Композиционно он также выпадает из об-
«Учение» Кирика 1136 г. как научный трактат... 265
щей канвы произведения Кирика и не связан с 6644 (1136) г. ни словесно, ни
вычислительно. Еще одно наблюдение. Вычисления в 4 и 5 параграфах «Учения»
показывают, что они получены на расширенном 8-уровневом абаке. На таком абаке
можно подсчитать число 8-х дробных часа, чему противоречат сакраментальные
слова 27 параграфа, что дробные часы «от седьмых дробных не рождаются». А это
значит: текст о дробных делениях часа первоначально отсутствовал в «Учении»
Кирика. Материал о дробном делении часа (21-27 параграфы) не входил в
«Учение» Кирика 1136 г. (он был присоединен к нему позднее).
Завершается «Учение» своеобразным обобщением, в котором говорится, что
трактат написан в 6644 (1136) г. Сообщается, сколько лет осталось до начала
седьмого тысячелетия, указывается индикт 6644 г., сколько прошло солнечных,
лунных и больших «кругов» и какие идут года текущих «кругов». Сообщается,
что 6644 г. — високосный, а также указываются даты еврейской и
христианской Пасхи, дни недели Благовещения и Петрова дня. Говорится, где писалось
сочинение (Новгород), кем (сообщаются биографические данные Кирика), при
каких правителях — византийском (царь Иоанн), русских — светском
(новгородский князь Святослав Ольгович, с указанием его возраста и года правления) и
духовном (новгородский архиепископ Нифонт). Затем приводится возраст
Кирика — в годах, месяцах, неделях, днях и часах. Таким образом, исторические и
биографические сведения даются не сами по себе, а в хронологическом
«оформлении», для чего используются рассматриваемые в «Учении» календарные
понятия. Причем данные о дробном делении часа не фигурируют, что также
свидетельствует, что этот материал не входил в первоначальный текст «Учения».
Текст «Учения» по Погодинскому списку XVI в. показывает, что параграфы,
входившие в трактат 1136 г. (кроме материала о дробном делениии часа и 2-3-го
параграфов, предшествующих ему), структурно однородны. Они посвящены
какому-то хронологическому понятию юлианского календаря, которое
арифметически истолковывается. Причем по особенностям арифметического истолкования
текст «Учения» дифференцируется. Так 2-5-й параграфы начинаются с
указания общего числа соответственно месяцев, недель, дней и часов,
содержащихся в 6644 годах. После этого разъясняется, как были найдены эти числа, из чего
только и можно узнать, сколько месяцев, недель, дней и часов содержится в
одном годе. В 1-5 параграфах нет определений: годом, месяцем, неделей, днем,
часом называется такая-то единица счета времени.
Следующие параграфы «Учения» (6-9-й) относятся к основным циклам
юлианского календаря. Структура этих параграфов несколько отличается от
предыдущих. Вначале говорится о величине каждого из циклов, а в конце — об их
общем числе в 6644 годах и количестве лет последнего цикла (на 6644-й год).
Если из 6-9-го параграфов убрать вычислительную часть, то останется набор
основных понятий юлианского календаря, с указанием величины циклов:
индикта, солнечного и лунного кругов, «века» (тысячелетия).
10-13-й параграфы «Учения» посвящены так называемым обновлениям
(неба, земли, моря, воды). Структура этих параграфов, по существу, совпадает
со структурой предыдущих (6-9). В начале говорится о величине каждого цикла,
затем — об общем их количестве в 6644 годах, в конце сообщается количество
266
Календарное время в древнерусской космологии
лет последнего цикла (на 6644-й год). Если из параграфов об обновлениях изъять
вычислительную часть, то останутся данные о величине поновлений, о чем Ки-
рик мог узнать из византийских или западноевропейских произведений.
Оригинальное содержание параграфов об обновлениях — арифметические расчеты,
связанные с 6644 (1136) г.
В следующих параграфах (14-15-й) продолжается тема юлианского
календаря, в них рассказывается о високосе и индиктионе. Структура та же, что в
предыдущих параграфах. В начале дается числовая характеристика понятий, затем
указывается конкретное их количество, содержащееся в 6644 годах, и в
конце — состояние на 6644 (1136)-й год. Если из 14-15-го параграфов исключить
арифметическую информацию, то останутся стандартные данные о високосе и
индиктионе, которые имелись во многих византийских и западноевропейских
календарных сочинениях. Из них Кирик мог узнать о соответствующих
понятиях. Оригинальное содержание 14-15-го параграфов составляют расчеты,
связанные с 6644 годом.
Параграфы 16-20-й не содержат вычислений, связанных с 6644 годом. Именно
они могли быть переписаны Кириком из какого-либо календарного сочинения,
но не обязательно. Так, содержание 16-го параграфа согласуется с данными об
употреблении в Древней Руси лунно-солнечного года. Информация 17-20-го
параграфов о количестве в году недель, дней и часов уже сообщалась ранее в 3-5-м
параграфах. Это понимал и Кирик, так как в начале 17-го параграфа сообщал,
что соответствующие данные приводились ранее. Следовательно, если он и
переписывал этот текст, используя некое сочинение, то делал это с пониманием
смысла. А это не исключает, что при составлении 17-20-го параграфов он
пользовался и своим же «Учением» (3-5-м параграфами).
Как говорилось выше, параграфы (21-27-й), скорее всего, первоначально не
входили в «Учение». Они служили обучению счету на 6-уровневом абаке, а как
показывают первые параграфы «Учения», Кирик пользовался 8-уровневым
абаком. Это значит, что текст о дробном делении часа, если он был написан
Кириком, возник до «Учения» или независимо от него. В отличие от подавляющего
большинства параграфов, материал о дробных делениях часа никак не связан
с 6644 (1136) годом, поэтому не является типичным для «Учения», а это
говорит о том, что он не перерабатывался Кириком, а значит, его могли включить
в «Учение» позже.
Заключительный историко-биографический текст Кирика в арифметическом
отношении является типичным для «Учения». Здесь в самом начале
указывается год написания трактата — 6644 (1136) г. Сообщаются хронологические
характеристики этого года, в конце приводятся расчеты, связывающие жизнь
Кирика с указанным годом. В 6644 (1136) г. ему исполнилось 26 лет, свой возраст
он также выразил в месяцах, неделях, днях и часах.
«Учение» характеризует Кирика как высокообразованную для своего
времени и творческую личность. В трактате дается своеобразная философско-ми-
ровоззренческая проработка категории времени. В произведении содержатся
обширные, по существу исчерпывающие представления о разнообразных
понятиях и единицах счета времени, используемых в церковном (юлианском) кален-
«Учение» Кирика 1136 г. как научный трактат... 267
даре. Вместе с тем в «Учении» представлены мотивы лунно-солнечного
календаря, по-видимому сохранившегося в народной среде первой трети XII в. на Руси.
Это свидетельствует о том, что Кирик допускал равноправие разных по
происхождению и связи с религиозными системами способов восприятия времени.
Разделы о цикличности обновления природных стихий выводят «Учение» за
рамки христианского финализма. По сути, корни исчисления стихий восходят к
античной философии, не связывающей развитие мира с его гибелью, конкретно —
к пифагорейцам, обусловливающим существование мира природными
ритмами. К пифагорейцам же восходит методология «Учения» в целом, согласно
которой все выражается и познается числом. Для трактата Кирика характерно
почти полное отсутствие богословских рассуждений. Формальное
согласование текста с установками веры исчерпывается цитатой из Священного
Писания, с которой начинается произведение: в нем не находится места
теологическим рассуждениям. Все содержание «Учения» сосредоточено на выявлении
числовых и соответствующих им природных закономерностей. Кирик выступает
крупным представителем рационалистической ветви древнерусской
религиозной мысли, пережившей в XI—XII вв. краткий период расцвета, в чем-то
созвучной раннему европейскому Ренессансу.
Таким образом, самобытность «Учения» Кирика, его неповторимость в
значительной степени определяются арифметическими расчетами, относящимися
к 6644 (1136) году. Но это не значит, что Кирик не руководствовался некими
образцами. Ими могли быть так называемые «семитысячники».
«Осмитысямники» как отдаленный ОБрлзец «учения»
«Семитысячники» — тексты, содержащие сведения о числе месяцев, недель,
дней и часов, високосов, високосных часов, индиктов, солнечных и лунных
«кругов» в 7000 лет.
А. А. Турилов, изучая «семитысячники», пришел к выводу, что они
возникли в Великой Моравии или Болгарии в последней трети IX — первой половине
X вв. Очевидно, уже в XI в. они из Болгарии попали на Русь. В «семитысячни-
ках», по словам А. А. Турилова, «до определенной степени сходных с
"Учением" Кирика», встречается материал об обновлениях, аналогичный (но не
тождественный) приводимому в «Учении». «Семитысячники» не были протоориги-
налом трактата Кирика, они «послужили ему лишь образцом и схемой». Причем
«выявление источника трактата Кирика ничуть не умаляет ценности "Учения"
и заслуг его автора»6.
В связи с установлением отдаленного источника для «Учения» в виде «семи-
тысячников» возникает вопрос о том, как соотносится их арифметическая
основа. А. А. Турилов отмечал, что, «учитывая большое число ошибок "семиты-
сячников", можно предположить еще одно назначение трактата Кирика: в
своем "Учении" он хотел дать исправное календарно-математическое руководство,
свободное от огрехов, накопившихся уже в современных ему списках расчетов
на 7000 лет»7. А. А. Турилов не касается вопроса о том, достаточно ли было Кирику
268
Календарное время в древнершы^ космологии
одного ознакомления с «семитысячниками», чтобы овладеть математическими
знаниями для выполнения соответствующих расчетов, или необходимыми
умениями он должен был обладать заранее, и какими именно. Начатое более 20 лет
назад изучение арифметической природы «семитысячников» в сравнении с
«Учением» Кирика8 дало следующие результаты. Типичные для «семитысячников»
расчеты производились так. В качестве исходных брались данные о количестве
единиц счета времени в одном году. Например, в «семитысячнике» Сборника
конца XVIII в.9 указывается: месяцев 12, недель 52, дней (суток) 365 и 6 часов,
часов 8766*. Количество часов в году считали из условия наличия 24-х часов
в сутках (365 х 24 + 6 = 8766), что оговорено в тексте указанием на суммар-
ность «часов дневных и нощных». Далее в «семитысячнике» № 695 приводится
количество тех же единиц в 10 годах: месяцев 120, недель 520, дней (суток)
3652 и 12 часов, часов 87 660. В тексте не отмечено, как получены результаты,
но структура вычислений ясна: каждое число найдено умножением
предыдущих чисел на 10. Нуждается в пояснении расчет числа дней. Умножением 365
на 10 получается 3650 дней; умножением 6 часов на 10 получается 60 часов или
(24 х 2 + 12) часов, что значит 2 дня (суток) + 12 часов. Окончательно: 3650 +
2 дня + 12 часов = 3652 дня +12 часов. Следовательно, в тексте подсчет верен.
Затем в «семитысячнике» № 695 дается число тех же единиц в 100 годах:
месяцев — 1200, недель — 5200, дней (суток) — 36 525, часов — 876 600**. В
тексте не раскрыто, как найдены эти результаты, но структура вычислений ясна:
каждое число получено умножением предыдущих чисел на 10. Нуждается в
пояснении число дней. Умножением 3652 дней на 10 получается 36 520 дней,
умножением 12 часов на 10 получается 120 часов = 24 часа х 5 = 5 дней (суток)
Окончательно: (36520 + 5) дней = 36 525 дней (суток), следовательно, в тексте
подсчет верен.
Далее в «семитысячнике» № 695 приводится число тех же единиц в 1-й
тысяче лет: месяцев — 12 000, недель — 52 000, дней (суток) — 365 250, часов —
8 766 000. В тексте не разъяснено, как получены эти результаты, но структура
вычислений ясна: каждое число подсчитано умножением предыдущих чисел
на 10. Затем в «семитысячнике» № 695 указывается количество тех же единиц
в 7000 лет: месяцев — 84 000, недель — 364 000, дней (суток) — 2 556 750,
часов — 61 362 000***. В тексте не сообщается, как найдены эти результаты, но
структура вычислений ясна: каждое число получено умножением предыдущих
чисел на 7 (см. табл. 1).
* В рукописи № 695 первая цифра (8 тыс.) записана вместо «И» с тысячным знаком
ошибочно в виде «fi» с тысячным знаком. Путаница могла произойти из-за сходства «И»
и «fi» в кириллице.
** В рукописи № 695 цифра десятка тысяч (7 «тем») записана ошибочно вместо
знака «земля» в окружности знаком «зело» в окружности.
*** Погрешности в записи чисел для '7000 лет в рукописи № 695 проанализированы
в работе: Симонов Р. А. Малоизвестные русские средневековые источники по
хронологии— «семитысячники» // Историко-астрономические исследования. М., 1975.
Вып. 12. С. 111.
«Учение» Кирика 1136 г. как научный трактат... 269
Таблица 1
Структура вычислений в <<семитысячнике» № 695
Годы
1
10
100
1000
7000
Месяцы
12
120
1200
12 000
84 000
Недели
52
520
5200
52 000
364 000
Дни (сутки)
365,25 (365 дн. и 6 ч.)
3652,5 (3652 дн. и 12 ч.)
36 525
365 250
2 556 750
Часы
8766
87660
876 600
8 766 000
61 362 000
Структура числовых данных «семитысячника» № 695 вскрывает
арифметическую природу их получения, состоящую в применении действий сложения и
умножения на 10 и 7. Текст № 695, по характеристике А. А. Турилова, есть
«наиболее поздняя редакция памятника».
Самые краткие редакции «содержат сведения о числе месяцев, недель, дней,
часов, високосов и високосных часов, солнечных и лунных кругов в 7000 лет»10.
Краткий «семитысячник» представлен в Сборнике 2-й пол. XVII в.11 Здесь в
начале указываются числа (с ошибками в записи) месяцев, недель, дней и часов
в 7000 лет. Относительно двух последних единиц времени говорится, что они
найдены «кроме високосных», и отдельно указывается число високосных дней
и часов. Далее приводится количество солнечных и лунных кругов в 7000 лет
и непонятно к чему относящееся дополнение: «А високосов 902 (или 402*)».
По сравнению с «семитысячником» рукописи № 695, краткий «семитысячник»
(рук. № 628) содержит итоговые данные (см. табл. 1, нижняя строка) с
дополнениями. Поэтому не совсем понятно, как арифметически они получены, ибо
в «семитысячнике» № 628 отсутствуют исходные данные (см. табл. 1, верхняя
строка). Скорее всего они использовались для расчетов, но остались «за
кадром» или были выпущены при дальнейшем редактировании.
Так, в «семитысячнике» Сборника 3-й четверти XVI в.12 даются начальные
количества: месяцев 12, недель 52, дней (суток) 365 и 6 часов, часов 8766
(число искажено в части единиц и десятков). Затем сразу указываются числа
единиц времени в 7000 лет: месяцев, недель, дней, часов, високосных дней,
солнечных и лунных кругов. Сравнивая тексты № 695 (см. табл.1), № 628 и № 529,
можно заключить, что данные для 7000 лет в части основных единиц (месяц,
неделя, день, час) либо приводились в «семитысячниках» явно (напр., № 695,
№ 529), либо служили базой для расчетов, но в текст не вошли (наиболее
краткие «семитысячники», напр. № 628).
* 900 и 400 в древнерусской «буквенной» нумерации записываются сходными по
начертвнию знаками «цы» и «ук». Мало вероятно, но все же возможно, что здесь
зашифрован год переписки протографа № 628 — 1608-й — числом содержащихся в дате
високосных дней, так как 1608 : 4 = 402.
270 Календарное время в древнерусской космологии
Можно так реконструировать вычислительный процесс для начальной
части «семитысячников»: за основу брались количества единиц времени в году:
12 месяцев, 52 недели, 365 дней (суток) с четвертью, 8766 часов. Затем эти
данные последовательно умножали на 10, получались результаты для 10, 100, 1000
лет. Наконец, последние четыре числа умножались на 7 и получались
окончательные данные о количестве указанных единиц счета времени в 7000 лет. Этот
вычислительный процесс представлен «семитысячником» № 695 и отражен в
табл. 1. Возможно, начальные данные о количестве единиц времени в одном году
сразу умножались на 7000. Такой вычислительный процесс представлен в
рукописи № 529 и отражен в первой и последней строках табл. 1. Но могло быть и
так. В «семитысячнике» № 529 результаты получались как в № 695, т. е. путем
троекратного умножения на 10 и однократного на 7, но эти промежуточные
умножения не вошли в окончательный текст рукописи № 529. В любом случае
следует заключить, что результаты «семитысячников» по единицам счета времени
получались путем арифметического действия умножения, без применения деления.
Это — важная особенность «семитысячников», поскольку в древности и Средние
века умение выполнять деление ставилось очень высоко, о чем знают
специалисты. Как указывалось выше, историк математики В. Беллюстин отмечал, что тогда
человек, умевший делить, «признавался чуть не гением». В этом свете
стремление избежать деления в «семитысячниках» выглядит вполне понятным. О том,
что авторы «семитысячников» избегали производить деление, говорит также то,
что в этих произведениях выделены високосные дни и часы.
Сравнивая «семитысячники» с «Учением» Кирика 1136 г., легко обнаружить
между ними общность и различие. Почти общей является номенклатура
календарных понятий, различие заключается в объеме и уровне расчетов. В
«семитысячниках» вычисления не выносятся на обсуждение, Кирик же часто
объясняет, как получается тот или иной результат. Авторы «семитысячников»
избегают деления, Кирик, напротив, как бы специально подчеркивает свое умение
делить. Так, указывая номера лунного и солнечного «кругов» для 6644 (1136) г.,
Кирик сообщает о величине частных от деления 6644 соответственно на 19 и
28. Этот результат (частные) не имеет календарного значения, а лишь
подчеркивает арифметическое мастерство Кирика.
Об этом же говорит постоянное внимание Кирика к остаткам, которые
получаются при делении 6644 на величину календарных циклов. Например,
сообщая в п. 10 о числе обновлений неба (83), прошедших за 6644 года, он
указывал, что идет 4 год последнего обновления. Значит, Кирик, делил 6644 на 80
(цикл обновления неба), находил частное 83 и остаток 4. Так он поступал
постоянно, как бы демонстрируя свое умение производить деление. Иной подход
к арифметике расчетов представлен в «семитысячниках». Здесь остатки от
деления не указываются, что снижает точность расчетов. Так, информация о том,
что в 7000 г. содержится ровно 369 «лунных кругов» («семитысячник» № 628),
является приближенной. Деление 700,0 на 19 (цикл «лунного круга») дает
величину 368 и 8 в остатке. Указание вместо этих значений числа 369 является
огрублением расчетов, что наводит на мысль о получении этого приближенного
результата без употребления деления.
«Учение» Кирика 1136 г. как научный трактат... 27\_
Как могли получить этот результат, минуя деление, позволяет установить
недавно обнаруженный текст 1138 г.13 Он состоит из основной части и
своеобразной преамбулы. В обеих частях речь идет о обновлениях «стихий», как у
Кирика, — с теми же величинами циклов, но циклы идут в другом порядке. По-
видимому, текст 1138 г. возник в качестве отклика на «Учение» Кирика и имел
целью уточнить последовательность «стихий» в порядке: земля, небо, море, вода
(у Кирика: небо, земля, море, вода). Для обоснования истинности порядка
«стихий» автор текста 1138 г. воспроизвел преамбулу, представлявшую собой,
очевидно, византийский источник с поновлениями в указанном «некириковском»
порядке. Идущий после преамбулы древнерусский текст соответствует уровню
арифметики «Учения». В нем указываются частные от деления числа 6646,
соответствующего 1138 г., на циклы «стихий» и остатки, дающие текущий год всех
четырех циклов. Текст 1138 г. обладает оригинальной вычислительной
особенностью по сравнению с «Учением» Кирика, состоящей в указании
дополнительных сведений: о числе лет, остающихся до завершения каждого цикла всех
четырех «стихий». Византийская преамбула текста 1138 г. «не знает» деления.
Здесь приводятся лишь целые числа поновчений «стихий» от Адама, т. е. от
«сотворения мира» (СМ) (не выходящие за предел 862 г.). Самым ранним
указывается 6320 (812) г., и сообщается, что от СМ прошло 79 обновлений неба
(циклов в 80 лет). Также сообщается о числе полных циклов трех других «стихий».
Такое изложение не позволяет точно датировать византийскую преамбулу, но
зато дает возможность моделировать «безделительный» арифметический метод.
Он состоял в последовательном «удесятерении», как в «семитысячниках» (см.
табл. 1), с промежуточным удвоением14.
Применив этот метод к расчету числа «лунных кругов» (ЛК) в 7000 лет,
можно реконструировать то, как было получено указываемое в «семитысячниках»
число 369. За основу брался исходный цикл ЛК в 19 лет. Его удесятерение
давало 190, удвоение — 380, что соответствовало 20 ЛК, вторичное удвоение — 760,
что соответствовало 40 Л К. Удесятерение 190 давало 1900, что
соответствовало 100 ЛК, удвоение — 3800, что соответствовало 200 Л К.
Таблица 2
Расчет количества лунных крувов (ЛК) в 7000 лет
190
380
+ 760
1900
3800
7030
19
7011
19
6992
10
20
40
100
200
370
1
369
1
368
272 Календарное время в древнерусской космологии
Суммирование полученных чисел давало 7030, что соответствовало 370 ЛК.
Значит, в 7030 годах (в эре от СМ) содержалось 370 ЛК. Если теперь из 7030
вычитать по 19, то легко найти соответствующие величины ЛК, наиболее близкие
к 7000 лет. Вычтя один раз 19, получим, что в 7011 годах содержится 369 ЛК.
Вычтя еще один раз 19, получим, что в 6992 годах содержится 368 ЛК (см. табл. 2).
В «семитысячниках» указывается 369 ЛК. 368 ЛК соответствует 6992 г., «не
добирающему» 8 лет до 7000 лет и поэтому не отвечающему идее «семитысяч-
ника» как перечня хронолого-календарных понятий и циклов, содержащихся в
7000 лет. При делении 7000 на 19 в частном получается 368 и 8 в остатке,
именно так и поступил бы Кирик, который сообщил бы, что в 7000 лет содержится
368 ЛК и идет 8 год последнего Л К. Для «семитысячников», где указывались
целые числа циклов, это было неприемлемо, поэтому в них приводилось
избыточное число 369 ЛК, соответствующее 7011 годам, но зато отвечающее принципу
«семитысячности»: 368 ЛК «не дотягивали» до него, так как соответствовали лишь
6992 годам, а 369 ЛК отвечали, хотя и выходили на 11 лет за пределы 7000 лет.
Рассмотренный пример показывает, что арифметика «семитысячников» ближе
к византийской преамбуле текста 1138 г., чем к «Учению» Кирика. Отсюда
вытекает, что «семитысячники» были образцом для хронолого-календарной, а не
арифметической составляющей «Учения». Арифметика «Учения» стоит на
более высоком уровне, требующем умения производить деление. Большая
арифметическая «продвинутость» «Учения» бросается в глаза тем ученым, которые
занимались «семитысячниками». Это, в частности, представлено у А. А. Тури-
лова, который отмечал, что «Кирик самостоятелен в расчетах, которые он
делал применительно к своему времени»15.
В результате проведенного в настоящей работе исследования можно
заключить, что в рассматриваемых средневековых хронолого-календарных
памятниках критерием арифметического мастерства выступает действие деления.
«Семитысячники» и византийская преамбула 812-862 гг. древнерусского текста
1138 г. характеризуются «избеганием» деления. Это следует считать
естественной особенностью календарно-арифметической «массовой» культуры
Средневековья. В этой связи кажется удивительной высота арифметического уровня,
демонстрируемого Кириком в «Учении», с его стремлением подчеркнуть свое
умение производить деление. Такой же уровень арифметики представлен в
древнерусской части текста 1138 г. Это значит, что Кирик был не одинок, и его
обращение в «Учении» к числолюбцам, промузгам и риторам отражает существование
на Руси феномена соревновательности, аналогичного тому, который известен в
западноевропейской средневековой университетской среде. В домонгольской
Руси не было университетов, но имелись элементы университетской культуры,
как, например, ученая состязательность16. Указанному же уровню, по-видимому,
отвечала развитая арифметика «Учения» и древнерусской части текста 1138 г.
Этот уровень арифметики «возвышался» над более массовыми знаниями в
области вычислительной культуры. Исследования последних лет, опирающиеся и
на археологические находки, свидетельствуют о наличии на Руси системы
обучения счету на абаке — вычислительном приспособлении с использованием
сливовых и вишневых косточек в россыпи17.
«Учение» Кирика 1136 г. как научный трактат...
273
Таким образом, арифметическая составляющая «Учения» представляет это
произведение в качестве оригинального средневекового трактата, созданного
в Новгороде в 1136 г. и отражающего более развитую вычислительную
культуру по сравнению с «семитысячниками», послужившими отдаленным образцом
для Кирика в своей хронолого-календарной составляющей.
«Учение» Кирика
И ВИЗАНТИЙСКАЯ К^ЛЬТурНАЯ орИСНТАЦИЯ Р\ХИ
По высказанному в конце XIX века мнению знаменитого слависта В. Н.
Щепкина, творческое отношение древнерусской книжной школы к кирилло-мефо-
диевской традиции проявлялось «во-первых, в тщательном удалении
диалектических особенностей глаголического (македонского) наречия... Во-вторых, была
предпринята последовательная сверка славянского текста с греческим»18. По
недавней оценке древнерусской книжной культуры Б. А. Успенским, ее
«ориентация была греческой, письменность — болгарской»19. По Г. А. Хабургаеву,
«кириллические книги (графика которых ориентирована на греческую!)...
должны были способствовать восприятию на Руси церковнославянского языка как
славянской версии византийской книжной культуры, что со временем
формирует своеобразную „еллино-славянскую» культурную идеологию»20.
Трактовка «Учения» с указанной позиции приводит к следующему
результату. Очевидно, что не все аспекты древнерусской культуры испытывали
одинаково сильное византийское влияние. Достаточно заметно оно в области
арифметики. Это обусловливалось особенностью «несовпадения» числовых систем
в глаголице и кириллице. При «переводе» текстов с одного вида славянского
письма на другой возникали неизбежные «сбои» в числах21. Такие ошибки в
случае их массовости могли породить немалую проблему при отсутствии их
необходимой «поверки» на Руси людьми, знающими византийскую нумерацию,
употреблявшуюся в кириллице. Это могло до неузнаваемости изменить смысл
канонических церковных текстов, что имело бы негативные сдерживающие
последствия развития древнерусской духовной культуры. И то, что греческий
арифметический контроль на Руси сразу был действенным, привело к тому, что
нумерация в древнерусской кириллице обрела византийский облик, тогда как
в южнославянской кириллице произошел симбиоз византийской и
глаголической нумерации22.
Нетрудно представить, что с учетом важности правильного «перевода» цифр
(алфавитной нумерации), в рамках «учения книжного», организованного на Руси
св. Владимиром, обучали греческой нумерации. Сохранились соответствующие
учебные тексты в виде «цифровых алфавитов», представляющих собой
перечень «буквенных» знаков, последовательно выражавших единицы (а, в, г, д, с,
s, з, и, ^), десятки (i, к, л, м, н, |, о, п, q), сотни (р, с, т, у, ф, Х> Ч>» w> л)> тысячи
(знаки единиц с «хвостиками» слева), десятки тысяч (знаки единиц в
окружностях), сотни тысяч (знаки единиц в окружностях из точек).
274
Календарное время в древнерусской космологии
Письму на Руси обучали при помощи кирилической азбуки. Если основных
цифровых знаков было 27, то буквенных значительно больше. Кроме того, перечень
славянских цифр не совпадал с алфавитом, например, буква «б» в кириллице не
имела цифрового значения. По буквенной азбуке нельзя было обучать цифрам,
а по цифровой — буквам. Оба перечня дополняли друг друга и составляли
основу обучения грамоте на Руси. Древнейший буквенный алфавит записан на
берестяной грамоте XI в. Древнейшие цифровые алфавиты относятся к кон. XIII —
XIV в., они записаны на берестяных грамотах, пергаменных рукописях и стене
храма. Это — наиболее ранние сохранившиеся оригиналы русских
математических документов23. Для сравнения — древнейшие списки «Учения» Кирика
датируются XVI в., задачи для обучения счету на абаке (из «Русской правды») —
XV в., текст 1138 г. — XV в. То, что цифровых алфавитов обнаружено
значительно меньше, чем буквенных, может говорить о том, что в процессе «учения
книжного» более массовый характер имело обучение фонетическому письму,
а счетом овладевали на следующем этапе обучения.
По-видимому, вначале арифметическое обучение в рамках «учения
книжного» осуществлялось греческими духовными и светскими представителями свиты
киевского митрополита-грека. Затем, по возможности (где-то и параллельно),
обучением византийской нумерации занялись местные грамотеи. Открытие
новых церквей на территории такого большого государства, как Русь, требовало
огромного числа богослужебных книг, что привело при Ярославе Мудром в
1037 г. к модернизации обучения и организации книжного дела, сущностью
которого был перевод книг с греческого24, или перенос на Русь славянских книг
греками. Это могло поднять статус арифметической образованности,
базировавшейся на византийской нумерации. Об этом свидетельствуют, в частности,
особенности самых древних русских датированных кириллических записей. Это
берестяная грамота 1029 г., граффити 1052 и 1054 гг. Софии Киевской,
датированные записи Остромирова Евангелия 1056-1057 гг., Тмутараканского камня
1068 г., Изборника Святослава 1073 г., Изборника 1076 г., Миней 1096, 1097 гг.
Здесь даты даются в эре от СМ и начинаются с числа 6000, обозначенного в
византийской нумерации буквой з с тысячным знаком в виде «хвостика»,
присоединенного слева в верхней части знака (или без него).
В болгарских датированных каменных кириллических надписях X в. шестерка
приобрела обратный поворот е. Шестерка с таким поворотом усваивалась и на •
Руси. Так, в Минее 1097 г. в тексте датированной записи содержится число
месяца (26 марта) с шестеркой в болгарской форме, а годовая дата с начальным
знаком 6 тысяч — в византийской форме с тысячным «хвостиком»25. Этот
пример показывает, что арифметические сведения о больших числах, начиная с
тысяч, на Руси первоначально усваивались через византийское посредство.
В наиболее раннем граффито в Софии Киевской на греческом языке дата 6540
(1031-1032) г. имеет византийский поворот шестерки и записана в
ультрамартовском стиле26. Он появился на Руси примерно в 30-х гг. XI в. и считается
местной календарной чертой27. Но, возможно, ультрамартовский календарный стиль I
усваивался Русью и через византийцев, есть данные о его применении греками
«Учение» Кирика 1136 г. как научный трактат... 275
и славянами28. А может быть, граффито с датой 1031-1032 гг. отражает факт
приобщения к греческой грамотности древнерусского математически
образованного человека. Итак, освоение византийской арифметической культуры на
Руси было стимулировано потребностями древнерусской книжности:
необходимостью правильной передачи богослужебных и иных текстов, содержащих
числа, даты, а также воспроизведения хронологических сведений.
Недавние исследования С. В. Цыба показали, что разнобой в летописном
датировании одних и тех же событий обусловлен преимущественно не
ошибками при копировании дат переписчиками, а сложностью согласования разности-
левых календарных записей в одном летописном своде29. Это показывает, что
расхождения летописных датировок могли быть обусловлены не недостатком
нумерационных знаний летописцев, а проблемами хронологической
образованности. Отсюда вытекает важный вывод: развитие арифметической культуры на
Руси могло направляться также потребностями в знаниях хронологии.
Еще одной стороной, стимулировавшей развитие древнерусско-византийских
контактов в области арифметики, была торговля. Сохранились торгово-бухгал-
терские записи X в. на керамике с территории Тмутаракани и Саркела-Белой
Вежи. Они представляют собой столбцы двух- и трехзначных чисел в
византийской нумерации с параллельными знаками типа тамг и отдельными греческими
словами. Не исключено, что они — древнерусского происхождения, но могли быть
и греческими30. В любом случае эти «бухгалтерские» (термин акад. Б. А.
Рыбакова) записи свидетельствуют, что торгово-финансовая деятельность в
районах военно-политических контактов Руси предполагала умение счета с
применением греческой нумерации. О том, что счет на такой основе в ближайшее
столетие интенсивно развивался на Руси, свидетельствует сохранившийся в
составе «Русской Правды» задачник для обучения счету на абаке. Памятник
имеет сложную структуру. Условия задач связаны с международными
алгебраическими сюжетами о многолетней прогрессивной прибыли от стад и посевов.
Фабула задач могла возникнуть на Востоке или в Западной Европе; их текст,
скорее всего, попал на Русь через Византию, о чем говорит греческая основа
применявшейся здесь нумерации. Однако денежная система по переводу
натуры на деньги в задачах не византийская, а самая древняя русская, вышедшая
из употребления в кон. XI —- нач. XII в.31 Указанный факт говорит о том, что в
XI в. на Руси существовал национальный творческий (повышенный) аспект
обучения арифметике. Использование абака тем самым включало Русь в число стран
с развитой счетной культурой (воспринятой через Византию или другие страны).
Обучение счету на абаке на Руси велось, судя по задачам, очень
квалифицированно, с использованием шестизначных чисел. Учителя-вычислители,
приспособившие абак для древнерусской денежной системы и переделавшие под нее
учебные задачи, должны были иметь высокий уровень математической культуры.
Все это характеризует возможность существования на Руси к концу XI в.
достаточно развитого арифметического «пространства». Ему соответствовал
сформировавшийся примерно в это время региональный вариант византийской
нумерации с кириллическим а «юсом малым» в значении 900. До этого на Руси
276
Календарное время в древнерусской космологии
употреблялась византийская система из 27 основных цифровых знаков с «сам-
пи» в значении 900 типа треножника, как в Изборнике Святослава 1073 г.32
Наиболее сложной сферой, использовавшей арифметические знания на Руси,
являлась вычислительная пасхалистика, предметом которой был расчет дня
Пасхи. Древнейшие документы, характеризующие этот способ на Руси, так
называемые «руки» (Иоанна Богослова — левая, Моисея Законодавца — правая),
представлены в эпиграфике кон. XII — XIII вв. и пергаменных рукописях XIV в.
Как уже говорилось выше, для их «функционирования» нужно было знать
величину лунных и солнечных «кругов» (ЛК, СК) данного года, т. е. остатки от
деления четырехзначной даты года в эре от СМ на 19 (для ЛК) и соответственно на
28 (для СК). Следовательно, использование календарных «рук» автоматически
свидетельствует о высокой средневековой арифметической культуре с ее
умением выполнять деление. Реалии, связанные со знакомством Илариона
(будущего первого русского по национальности киевского митрополита) с «руками»,
как отмечалось, содержатся в его знаменитом «Слове о законе и благодати».
О том, что из узкой сферы непростых календарных вычислений (с делением)
лунный и солнечный «круги» к нач. XII в. уже перешли в разряд хронологических
терминов, свидетельствует летописная статья «Повести временных лет», где для
6615 (1108) г. приводятся величины ЛК и СК. В «Учении» Кирика 1136 г. прямо
«руки» не названы, но имеются косвенные свидетельства, что он ими
пользовался для отыскания даты Пасхи. По-видимому, «руки» ко времени Кирика стали
распространенным и привычным пасхальным инструментарием. Зато Кирик
специально оговаривал дважды — при изложении расчетов по определению ЛК и
СК, — что на основе этих понятий он определил дату Пасхи в 6644 (1136) г.33
Указанная особенность «Учения» решительным образом отличает его от «семи-
тысячников», где нет никаких упоминаний ни о Пасхе, ни о том, как ее
рассчитывать. Это позволяет понять, почему Кирик не пошел по пути реанимации «се-
митысячника» как типа календарно-арифметического произведения на 7000 лет.
Его целью, очевидно, было создание теоретического трактата по расчетной пас-
халистике с учетом арифметического обобщения понятий юлианского
календаря*. Он использовал «семитысячники» для полноты данных о номенклатуре
понятий юлианского календаря, нацелив изложение на главный вопрос —
реальное вычисление Пасхи в 1136 г. Поэтому расчеты по календарным понятиям
в «Учении» фиксировались на этом году, а не на далеком 7000 г.
* Примечательно, что найденный недавно фрагмент «Учения» по списку кон. XVI —
нач. XVII в. состоит из одного параграфа о солнечном круге, где сообщается о
необходимости указанного знания для расчета Пасхи. Это может свидетельствовать о том, что
не позже начала XVII в. назначение трактата Кирика осознавалось как руководство для
расчетной пасхалистики. См.: Романова А. А. Фрагмент «Учения им же ведати
человеку числа всех лет» в рукописи Кирилло-Белозерского собрания / / V Международная
научная конференция «Информационные технологии в печати»: Тезисы докладов /
Международная академия информатизации. М., 1998. С. 24-26.
«Учение» Кирика 1136 г. как научный трактат... 277
Успешность миссии Кирилла и Мефодия по христианизации славян
предполагала обеспеченность не только необходимыми богослужебными книгами, но
и инструментарием для правильного определения дня Пасхи. Из Жития
Кирилла-Константина следует, что он знал арифметику и проявлял интерес к
календарным расчетам. Есть основание предполагать, что у славянских
первоучителей были таблицы, которые встречаются в составе древнерусских календарных
«рук». Об этом говорит сохранившаяся глаголическая таблица XII в.,
аналогичная по содержанию (но не по форме) «руке» Моисея. Первые болгарские
пасхальные таблицы, очевидно, не были «ручными». Об этом свидетельствует иное
оформление упомянутой глаголической таблицы, а также Норовских таблиц
XIV-XVI вв., имеющих прямоугольную форму34. Форму «рук» могли придать
кирилло-мефодиевским таблицам греки, прибывшие на Русь в связи с ее
христианизацией и привезшие с собой славянские книги и другие материалы,
созданные до середины X в. и сохранившиеся в греческих монастырях35.
Использование греческой хронологии стимулировало развитие арифметики
на Руси, до того зависевшей в основном от интересов торговли. Византийская
культурная ориентация сыграла важную роль генератора и катализатора в
развитии арифметических знаний на Руси. Русские оказались способными
учениками, не только усваивавшими, но и разрабатывавшими дальше календарно-
арифметические представления. Своеобразными вершинами этого творчества
являются «Учение» Кирика 1136 г. и древнерусская часть текста 1138 г.
Недавно Вяч. Вс. Иванов, отмечая необходимость при изучении культуры
Древней Руси учитывать произведения, сохранившиеся в позднейших списках,
привел в качестве примера «Учение» Кирика36. При этом он полемизировал с
нейропсихологическими построениями Р. Хелли о якобы полуграмотном
характере древнерусской культуры, разрабатываемыми в рамках обсуждения
проблемы «молчания древнерусской культуры»37. Действительное высокое
положение арифметики и расчетной пасхалистики в домонгольской Руси, которое
характеризуется известными ранее и найденными недавно памятниками,
обобщенными с учетом византийской культурной ориентации, также отвергает
мнение Р. Хелли. Значительные успехи древнерусской арифметики
свидетельствуют о более высокой интеллектуальности древнерусской культуры, чем принято
считать на Западе.
Примечания
1 Симонов Р. А. Древнерусская книжность (В свете новейших источников кален-
дарно-арифметического характера): Учебное пособие. М., 1993. С. 112-113.
2 Там же. С. 118-119.
3 Симонов Р. А. «Косой час» и первые московские куранты / / Живая старина. 1997.
№ 3. С. 24-26.
4 Журавель А. В. Кирик о книжных и небесных месяцах: новое прочтение //
Тезисы докладов 37-й научно-технической конференции / Московский гос. ун-т печати. М.,
1997. С. 221-222.
278
Календарное время в древнерусской космологии
5 Иванов В. В. Замечания по поводу языковых особенностей сочинений Кирика
Новгородца о числах и счете (1136 г.) / / Историко-математические исследования. М., 1973.
Вып. 18. С. 278-279.
6 Ту рилов А. Л. О датировке и месте создания календарно-математических текстов —
«семитысячников» // Естественнонаучные представления Древней Руси. М., 1988
С. 27, 38.
7 Там же. С. 38.
8 Симонов Р. А. Малоизвестные русские средневековые источники по хронологии —
«семитысячники» // Историко-астрономические исследования. М., 1975. Вып. 12.
С. 109-112.
9 РГБ, ф. 218, № 695. Л. 73-73 об.
10 Турилов А. А. Указ. соч. С. 30, 31.
11 РГБ, ф. 310, № 628. Л. 206.
12 РГБ, ф. 529. Л. 696-696 об.
13 Симонов Р. А. О новом древнерусском тексте 1138 года //
Историко-математические исследования. Вторая серия. М., 1995. Вып. 1 (36). С. 66-84.
14 Там же. С. 71-72.
15 Турилов А. А. Указ. соч. С. 38.
16 Симонов Р. А. Ученая состязательность как информационно-коммуникативное
явление в Древней Руси // Современные проблемы книговедения. М., 1998. Вып. 12.
С. 102-104.
17 Симонов Р. А. Древнерусская книжность... С. 75-156.
18 Щепкин В. Я. Рассуждения о языке Саввиной книги. СПб., 1899. С. IV.
19 Успенский Б. А. История русского литературного языка. Munchen, 1987. С. 25,
33-34.
20 Хабургаев Г. А. Первые столетия славянской письменной культуры: Истоки
древнерусской книжности. М., 1994. С. 162.
21 Лихачев Д. С. Текстология. 2-е изд. Л., 1983. С. 67-68.
22 Симонов Р. А. Указ. соч. С. 52-60.
23 Там же. С. 62-64.
24 Шахматов А. А. Повесть временных лет. Пг., 1916. Том I. Вводная часть. Текст.
Примечания. С. 192.
25 Каринский Н. М. Образцы письма древнейшего периода истории русской книги.
Л., 1925. Табл. 14.
26 Высоцкий С. А. Средневековые надписи Софии Киевской. Киев, 1976. С. 198-201.
27 Цыб С. В. Древнерусское времяисчисление в «Повести временных лет». Барнаул,
1995. С. 66.
28 См.: Добрев И. Как да тълкуваме датите в старите писмени паметници // Сла-
вянска палеография и дипломатика. София, 1980. С. 154, 158.
29 Цыб С. В. Указ. соч. С. 93.
30 Рыбаков Б. А. Русская эпиграфика X-XIV вв. (состояние, возможности,
задачи) // История, фольклор, искусство славянских народов. М., 1963. С. 57.
31 Симонов Р. А. Древнерусская книжность... С. 78-105.
32 Там же. С. 55-57.
33 Симонов Р. А. Новое в изучении творчества Кирика Новгородца (XII в.) //
Восьмая научная конференция по проблемам книговедения: Тезисы докладов. М., 1996.
С. 203-205.
34 Симонов Р. А. Древнерусская книжность... С. 141.
35 Хабургаев Г. А. Указ. соч. С. 161-162.
■Учение» Кирика 1136 г. как научный трактат... 279
36 Иванов Вяч. Вс. Нейропсихологические модели и возможности их применения к
истории русской средневековой культуры / /Московская Русь (1359-1584): культура
и историческое самосознание. М., 1997. С. 200.
37 Hellie R. Late Medieval and Early Modern Russian Civilization and Modern Neuro-
science // Московская Русь (1359-1584): культура и историческое самосознание. М.,
1997. С. 146-165.
Рационализация пасхальных рлсчстов
в слАвяно-русской письменной
ТРАДИЦИИ
Г\
71
Разработка пасхальной методики «малого года»
в условиях снижения интеллектуальности в богословии
KXIII-XIV вв. на Руси произошло затухание теолого-рационалистиче-
ского направления в древнерусской духовной мысли.
«Оригинальная, нацеленная на овладение энциклопедическими
знаниями, а также чуждая изоляционизма традиция была вытеснена в процессе визан-
тизации на периферию идейной жизни»1. Возобладали идеи мистико-аскетиче-
ской философии, проникавшие в страну вместе с традицией аскетического
монашества. Антиинтеллектуализм этого направления «допускал парадоксальную
возможность превосходства необразованного монаха над ученой премудростью
философа»2. Это неизбежно вело к снижению научного толкования времени в
рамках расчетной пасхалистики. Неумение рассчитывать ежегодную дату Пасхи
представляло угрозу всей церковной жизни. Поэтому должны были разрабатываться
расчетно-пасхальные приемы на основе облегченных вычислений. Такие
упрощенные методы предназначались для людей, недостаточно хорошо владевших
«численной философией» (термин В. В. Милькова), в которой на Руси ранее, в
первой половине XII в., преуспевали Кирик Новгородец и другие компутисты.
Ко времени принятия христианства на Руси в 988 г., возможно, произошло
размежевание ученых-компутистов с массой священнослужителей, которые
были основными потребителями их календарных разработок. Арифметическим
критерием размежевания выступало действие деления, производить которое
могли немногие. Календарное творчество ученых было, в частности, направлено
на создание необременительных в математическом отношении методик расчета
дня Пасхи. На Руси могли сразу культивироваться календарные знания уровня
византийских ученых-компутистов (Кирик Новгородец и др.). Этим решалась
жизненно важная проблема календарного обеспечения Церкви. В
историографии справедливо обосновывается значимость духовной книжности для
функционирования Церкви и связанных с ней институтов. Но при этом не следует
упускать из виду, что вся духовная литература могла превратиться для Церкви
в малополезную груду книг вне календаря, так как литургическая служба
велась в строгих хронолого-временных рамках, связанных с главной
христианской датой — днем Пасхи.
282
Календарное время в древнерусской космологии
Поскольку пасхальные расчеты отличаются сложностью, то в
историографии расчетно-пасхальные традиции на Руси, недавно приобщившейся к
христианству, априори сводились к заимствованию готовых пасхалий из Византии
и с Запада. В последнее время стала возобладать точка зрения о возможном
существовании на Руси своей национальной расчетной пасхалистики. Недавно
открытый календарный трактат 1138 г. свидетельствует, что высоким уровнем
календарно-арифметических знаний обладал не только Кирик. Его «Учение о
числах» подвергалось своего рода рецензированию со стороны современников,
в ходе которого они демонстрировали столь же высокий уровень календарно-
арифметических знаний, как Кирик. При этом происходило сопоставление двух
уровней счетно-календарной культуры: продвинутой, использующей деление
многозначных чисел, и ослабленной, таковое обходящей. По-видимому, ученые-
компутисты были озабочены вопросом сохранения в неизменности смысла
календарных методик, упрощающих пасхальные вычисления, путем придания им
своеобразного — канонического — вида. Об этом как будто бы говорит
использование в неизменном (каноническом) виде так называемой методики «малого
года» Матфеем Властарем (Властарисом) в 1335 г. — в соответствии с ее
описанием в сербском рукописном «Уставе церковном» ок. 1372 г.3 Методике
«малого года» также посвящен текст по трактату «Друго ведение мудрого Гавра»,
обработанному в XVI в., вероятно в Болгарии, Виссарионом Дебырским.
«Друго ведение...» является сделанной в кон. XV — XVI вв. переработкой
календарного произведения, по-видимому восходящего к кон. XIII в., аналогичного
сохранившемуся (с утратой названия) в сербской рукописи ок. 1372 г. Этот
материал из Скопского сборника XVI в. был издан Цв. Чоловой4.
Оба календарных текста близки между собой. Более всего различается
определение «малого года», даваемое в каждом случае для своего хронологического
периода. Существующая между текстами общность позволяет проверить
верность высказанных ранее суждений по содержанию произведения «Друго
ведение мудрого Гавра», сделанных на основе арифметических расчетов. Так,
подтверждается неточность конъектуры Цв. Чоловой о делении на семь числа года
при нахождении солнечного круга. Как мне приходилось писать, в тексте «Друго
ведение...» должно стоять не семь, а 28, что теперь удостоверяется реальным
списком ок. 1372 г. Не оправдывается длинное название «Друго ведение муд-
Таблица 3
■ Сравнительные данные
по спискам пасхальной методики «малого года»
Текст ок. 1372 г. «Друго ведение...»
Солнечный круг 24 24
Лунный круг 17 8
Индикт 5 5
Рационализация пасхальных расчетов...
283
рого Гавра ведети подобает». Два последних слова относятся не к заголовку,
а основному тексту, что показывает начало трактата по списку ок. 1372 г.
Оправдывается суждение о том, что указываемый в тексте «Друго ведение...»
поправочный коэффициент для определения лунного круга (восьмерка) имеет
отношение к более позднему времени. Действительно, в списке ок. 1372 г. указан
другой коэффициент, равный 17, синхронный коэффициенту 24 для
определения солнечного круга.
В списке ок. 1372 г. есть композиционная неувязка, отсутствующая в
содержании «Друго ведение...». Раздел о лунном круге в списке ок. 1372 г. разбит на
две части. Вторая, заключительная часть отделена от основного раздела и
помещена между разделами об индикте и «малом годе». Такого разбиения нет в
тексте «Друго ведение...», здесь материал о лунном круге изложен в одном
месте. Поэтому «Друго ведение...» не может восходить непосредственно к списку
ок. 1372 г. Подтверждаются произведенные ранее расчеты поправочных
коэффициентов для определения солнечного круга и индикта в тексте «Друго
ведение...», как относящихся к периоду не ранее 6800 (1292) года. Раздел о «малом
годе» в списке ок. 1372 г. это удостоверяет словами, что 900-летие есть «ныне
текущее». Следовательно, речь идет о любом годе в пределах 6801-6900 гг. от
СМ. Все вековые годы 801, 802, ... 899, 900 относятся к 900-летним годам. Это
дает основание по совокупности поправочных коэффициентов, прибавляемых
к «малому году» для отыскания солнечного (СК) и лунного (ЛК) кругов и
индиктов (Инд.), определить год, раньше которого они не могли функционировать в
качестве календарных показателей.
Таким образом, текст ок. 1372 г. не мог появиться ранее 6800 (1292) года.
Скорее всего, он возник около этого времени; во всяком случае до 1335 г. Об
этом свидетельствует употребление в указанном году методики «малого года»
Матфеем Властарем.
С учетом новых данных можно следующим образом представить примерный
ход использования методики «малого года». Методика, по-видимому, возникла
Таблица 4
Расписание по векам поправочных коэффициентов
для методики «малого года»
Века
кон. XII
кон. XIII
кон. XIV
кон. XV
кон. XVI
Годы
от СМ
6700
6800
6900
7000
7100
Годы
отРХ
1192
1292
1392
1492
1592
Прибавляемые коэффициенты Текст
ок. 1372 г.
СК ЛК Инд.
8
24
12
26
16
12
17
3
8
13
10 Нет
5 Есть
15 Нет
10 Нет
5 Нет
284
Календарное время в древнерусской космологии
в рамках греческой календарной традиции, возможно, около 1292 г. Наиболее
ранний известный пример относится к 1335 г. и связан с творчеством Матфея
Властаря. Уже в конце XIII или начале XIV в. описание методики могли
перевести на сербский язык. Имеются две южнославянских версии перевода. Одна
представлена в тексте Устава церковного ок. 1372 г., другая в Скопском
сборнике XVI в. Однако в последнем случае календарный текст был переработан
неудачно, так что одна его часть сохраняла первоначальный облик (расчет
солнечного круга и индикта), а другая соответствовала концу XV — XVI вв.
(расчет лунного круга, определение «малого года»). Несколько в стороне от этой
традиции находится древнерусский текст 1362 г., в котором представлена
усовершенствованная методика «малого года»5.
Чтобы понять значение методики «малого года», надо учесть, что греческие
и латинские, а также восходящие к ним славяно-русские пасхалии
представляют собой таблицы с двумя входами. Например, сверху указываются значения
от 1 до 28 солнечных кругов (кругов Солнца), а слева значения от 1 до 19
лунных кругов (кругов Луны). Таблицы могут быть упорядоченными «наоборот» —
сверху значения лунных кругов, а слева солнечных. Как уже указывалось,
солнечным кругом называется остаток от деления даты года в эре от «сотворения
мира» (СМ) на 28, а лунным кругом — остаток от деления той же годовой даты
на 19. Даты в эре от СМ отличаются от годовых дат в эре от Рождества
Христова (РХ), условно говоря, на 5508. Условно потому, что в зависимости от стиля
года (определяемого месяцем начала года), разница может быть равна также
5507, 5509. Например, «Учение» Кирика Новгородца содержит дату своего
написания 6644 г. в эре от СМ. Вычитая из нее 5508, получаем годовую дату 1136 г.
в эре от РХ6.
Возвращаясь к пасхальной таблице, легко подсчитать, что в ней будет 532
клетки (28 х 19 = 532). 532 года составляют так называемый пасхальный цикл
или великий индиктион, в славяно-русских рукописях он нередко именуется
(с XV в.) «миротворным кругом» или «великим миротворным кругом». Кирик
в «Учении» этот пасхальный цикл называет «великим кругом»7. Как верно
сообщал В. П. Зубов, «по прошествии 532 лет день Пасхи (празднуемый в первое
воскресенье после весеннего полнолуния) приходится, следовательно, на то же
число месяца, и дальнейшее передвижение его по числам календаря
совершается в том же самом порядке, по тем же числам календаря, что и в предыдущем
"великом круге"»8.
В клетках описанной пасхальной таблицы проставлялись даты Пасхи или
так называемые «ключевые буквы», по которым в другой таблице
отыскивались даты Пасхи и связанные с ней праздники. Первоначально не было
простого перечня дат Пасхи и других праздников по годам. Так, организованная
пасхалия возникла позже, в середине XVI в. Составителем ее варианта
является небезызвестный древнерусский ученый и писатель Ермолай-Еразм, его
«списочная» пасхалия получила название «Зрячей пасхалии»9. До последнего
времени она не была опубликована. Сейчас ее изучением занимается А. А.
Романова10.
Рационализация пасхальных расчетов...
285
Недавно немецкий ученый Г. Зименс вновь обратился к творчеству Кирика
Новгородца, посчитав необходимым охарактеризовать его толкование
солнечного, лунного «кругов» и «великого круга». Не обошел Г. Зименс вниманием
загадку вычислительной культуры Кирика, приняв вероятным использование им
абака: «Трудно сказать, как Кирик умножал эти числа, вероятно, при помощи абака.
В прим.: Р. А. Симонов подтверждает 900-летие древнерусского абака»11.
В небольшом календарном тексте 1362 г., посвященном солнечному и
лунному «кругам», описывается пасхальная таблица, в которой на пересечении
столбца, соответствующего солнечному кругу данного года, и строки,
соответствующей лунному кругу этого же года, указывается дата Пасхи12. В
древнерусских рукописных книгах такой таблицы нет или она не обнаружена13. В них
представлена сходная таблица, в которой по сравнению с описанной в тексте
1362 г. строки и столбцы переставлены местами, а на их пересечении помещена
«ключевая буква». В качестве хронологических показателей солнечный и
лунный «круги» указаны в летописной статье 6615 (1108) г. «Повести временных
лет», когда трактат Кирика еще не существовал, а до рождения его автора
оставалось 2 года14. В качестве хронологических показателей солнечный и лунный
«круги» встречаются редко, причем в статье 6615 г. они выступают своего рода
стилеобразующими приметами15.
Очевидно, солнечный и лунный круги Кириком находились как остатки от
деления даты 6644 (1136) года в эре от СМ соответственно на 28 и 19, о чем
свидетельствуют указываемые им частные отделения, а не только искомые
остатки. В средневековый период эта арифметическая процедура относилась к
разряду сложных, так как еще не существовало современных удобных способов
деления. Для людей, которые не умели производить деление, разрабатывались
упрощенные методы отыскания солнечных и лунных «кругов». Такой метод
описан в сербской рукописи ок. 1372 г. и представлен в трактате «Друго ведение
мудрого Гавра» по болгарскому списку XVI в.16 Метод состоял в том, что вместо
четырехзначного числа, выражавшего год в эре от «сотворения мира», бралось
двузначное — два его последних разряда: единиц и десятков. Из этого числа,
называемого «малым годом», вычитался (или к нему прибавлялся) особый
коэффициент, рассчитываемый примерно на каждый век. Из «малого года» (после
учета поправочного коэффициента) последовательно вычитались числа 28 и 19
до получения величин солнечного и лунного «кругов»17.
Очевидно, что расчеты солнечного и лунного «кругов» имели два уровня
сложности. Низший не предполагал умения выполнять деление
четырехзначных чисел на двузначные. Ему соответствуют упрощенные способы счета типа
оперирующих с «малым годом». Высший уровень требовал умения производить
деление. Ему соответствовали, например, знания Кирика и автора
древнерусского текста 1138 г. В условиях снижения интеллектуальности в богословии
для определения дат Пасхи было важно разработать упрощенный способ
отыскания солнечных и лунных «кругов» по дате года в эре от СМ, т. е. без употреб-
леня действия деления, каковым и являлся метод «малого года».
286 Календарное время в древнерусской космологии
Усовершенствование методики «малого года»
в древнерусском рлсметно-пдехлльном тексте 1362 года
Древнерусский текст с изложением метода «малого года» расчета Пасхи
на примере 6870 (1362) г. датирован и прокомментирован Р. А. Симоновым в
1990 г.18 Ранее он был опубликован в составе книги Рафли А. А. Туриловым
и А. В. Чернецовым по списку кон. XVII — нач. XVIII в.19 Сейчас известно
несколько списков XVII в. текста 1362 г., обнаружен и опубликован А. А. Рома-'
новой самый ранний список памятника XV в.20 В тексте 1362 г. вычисления
ведутся для «настоящего лета», но соответствующий 6870 год полностью не
указывался, а приводился его «малый год» — 70. Таким образом, для
расшифровывания даты имеется неполная информация о годе 6870, в записи которого
цифра сотен неизвестна. Однако в тексте есть данные, которые позволяют найти
неизвестный разряд: 1) При делении числа 6870 на 28 в остатке должно
получиться 10; 2) При делении числа 6870 на 19 должно получиться 11; 3) Число
6804 должно быть кратно 28; 4) Число 6802 должно быть кратно 19. Все
изложенные данные согласуются с тем, что неизвестное число сотен равно 8.
Значит, год, в который были произведены расчеты, — 6870, т. е. 1362 г. от РХ
(6870-5508= 1362).
Кирик в «Учении» не сообщает, как он использовал данные о солнечном и
лунном «кругах» для определения дня Пасхи в 1136 г. Текст 1362 г. показывает,
что день Пасхи отыскивался по прямоугольной таблице с двумя входами. В ней
слева указывались номера лунных кругов, а сверху — солнечных. На
пересечении соответствующих строки и столбца находилось указание дня Пасхи для
данного года.
Календарный текст 1362 г. имеет важное историко-научное значение. Его
существование свидетельствует о том, что «Учение о числах» Кирика 1136 г. и
фрагмент 1138 г. не были единственными точно датированными
произведениями календарного характера, имевшими распространение на Руси до XV в., что
эволюция древнерусских календарных произведений шла в направлении
сокращения трудоемкости арифметических операций. В тексте 1362 г. применяется
для этого следующая идея. Если требуется найти остаток от деления
многозначного числа А на а, то можно облегчить вычисления, снизив порядок числа А
путем вычитания из А числа, кратного а. Таким путем, например,
четырехзначное число можно свести к двузначному числу, расчеты с которым производить
значительно проще. Так, в тексте 1362 г. вместо того, чтобы число 6870 делить
соответственно на 28 и 19, за основу расчетов бралась «малая лета веком», т. е. 70.
Правомерность такой замены заключается в том, что из даты 6870
предварительно вычиталось число 6804, кратное 28 (6804 = 28 х 243), и число 6602,
кратное 19 (6802 = 19 х 358). В первом случае получалось 66, а во втором 68.
Поэтому для нахождения солнечного круга из 70 вычитался поправочный
коэффициент 4, разность 66 делилась на 28, остаток от деления 10 давал текущий
солнечный круг для 1362 г. Для нахождения лунного круга из 70 вычитался
Рационализация пасхальных расчетов...
287
поправочный коэффициент 2, разность 68 делилось на 19, остаток от деления 11
давал текущий лунный круг для 1362 г.
Исследования показывают, что вычислительный способ расчета в тексте 1362 г.
мог использоваться с конца XIII в. по 1391 г. Затем требовались вычисления новых
поправочных коэффициентов.
Метод, изложенный Кириком, был универсальным, годным для любого года
юлианского календаря, но он требовал умения делить четырехзначные числа на
28 и 19 и производить менее сложные арифметические операции. Способ
вычислений в тексте 1362 г. имел преимущество в том отношении, что позволял
путем элементарных расчетов решать сравнительно сложную календарную
задачу по определению дня Пасхи. Правда, этот способ мог функционировать
ограниченное время — с конца XIII в. примерно в течение столетия. Затем его
следовало скорректировать. Существование текста 1362 г. свидетельствует о том,
что в XIV в. на Руси велись научно-методические поиски по разработке таких
способов календарных расчетов, которые путем минимальных вычислений
позволяли бы достигать максимального результата.
Текст 1362 г. отличается от византийско-южнославянских описаний
методики «малого года» (по сербскому списку ок. 1372 г. и болгарскому XVI в.)
рядом особенностей. Он связан с конкретным 6870 (1362) годом, тогда как визан-
тийско-южнославянские описания содержат общие сведения, «приложимые»
к годам конца XIII — XIV в. (точнее, 6801-6899 гг. в эре от СМ). В нем также
арифметически иначе вводятся поправочные коэффициенты. В византийско-
южнославянских трактовках метода они прибавляются к «малому году»: 5 для
индикта, 17 для ЛК и 24 для СК. В тексте 1362 г. поправочные коэффициенты
вычитаются из «малого года»: 2 в случае ЛК и 4 — СК (коэффициент для
индикта здесь отсутствует). Вычитание поправочных коэффициентов для годов
примерно с середины первой половины XIV века, а особенно ближе к его концу,
делает вычисления более рациональными. Так, по византийско-южнославянской
методике для 6870 (1362) г. при вычислении ЛК = 11 пришлось бы прибавить
17 к «малому году» 70, а затем четырежды вычесть 19 (70 +17—19 - 19 - 19 -
19 = 11). При вычислении СК = 10 пришлось бы прибавить 24 к 70, а затем
трижды вычесть 28 (70 + 24 - 28 - 28 - 28 = 10). По методике текста 1362 г.
вычислительные цепочки короче. Для ЛК: 70 - 2 - 19 - 19 - 19 = 11, для СК:
70 - 4 - 28 - 28 = 10. Кроме того, используется только одно действие —
вычитание (в византийско-южнославянском случае — сложение и вычитание).
Следовательно, методика «малого года» в тексте 1362 г. по сравнению с византий-
ско-южнославянскими описаниями является более усовершенствованной в
математическом отношении.
Это можно также проиллюстрировать на примере использования метода
«малого года» в календарных расчетах Матфея Властаря. А. А. Романова любезно
предоставила автору настоящей работы выписку из «Синтагмы» Властаря,
содержащую его календарные расчеты по молдавскому списку
(южнославянского оригинала) 7003 (1495) г., хранящемуся в Российской национальной
библиотеке (С.-Петербург), собрание Погодина. № 254. Л. 202 об.- 212.
288
Календарное время в древнерусской космологии
Анализ записи «Синтагмы» Властаря показывает, что указываемый в ней
«малый год» равный 43, имеет отношение к 6843 (1335) г. Властарь верно
сообщает, что лунный круг в том году был равен 3, а солнечный круг — 11.
Описываемые им расчеты соответствуют византийско-южнославянскому способу.
К «малому году» 43 он прибавляет величины поправочных коэффициентов для
лунного (17) и солнечного (24) «кругов», получая соответственно 60 и 67.
Последовательно вычитая из 60-и 19 (60 - 19 - 19 - 19 = 3), а из 67-и 28 (67 - 28 -
28 = 11), он находит искомые значения лунного (3) и солнечного (11) «кругов»
6843 (1335) г.
По древнерусской методике текста 1362 г. Властарю пришлось бы иметь дело
с меньшими числами. Для определения лунного круга — вычесть из «малого
года» 43 двойку: 43 - 2 = 41, далее 41- 19- 19 = 3(19 вычитается дважды, а не
как выше — трижды). Для определения солнечного круга — вычесть из
«малого года» 43 четверку: 43 - 4 = 39, далее 39 - 28 = 11 (28 вычитается один раз, а
не как выше — два). Таким образом, методика «малого года» текста 1362 г. дает
реальную экономию в счете.
Следует учитывать, что в Синтагме Властаря материал о «малом годе»
находится в разделе о Пасхе и пасхальных расчетах, написанном в 1335 г. Его
автор дополнил в 1337 г. методом определения лунных и солнечных «кругов»
как остатков от деления на 19 и 28 не самой даты года, а его индиктиона. Это
позволяло упростить расчеты, так как четырехзначное делимое (число года)
заменялось на трехзначное (число индиктиона)21. Если Властарь и был
знаком в 1335-1337 гг. с методом, применимым позже в древнерусском тексте
1362 г., то он его не воспроизвел и не использовал в Синтагме. Нельзя
исключать, что «вычитаемый» вариант метода «малого года» был разработан на Руси
как бы в развитие «продвинутой» счетной традиции XII в. (Кирика и др.) и
остался неизвестным Властарю. Следовательно, в условиях господства на Руси
в XIII—XIV вв. мистико-аскетической идеологии интерес к научному знанию
мог сохраняться через восприятие календарного времени в рамках расчетной
пасхалистики.
Этот вывод как будто бы усиливается при учете календарного текста
«Сказание о крузе индикту». Этот небольшой трактат содержится среди материалов
Ионы Соловецкого22, а также в рукописных Святцах первой трети XVII в.23, о
чем любезно было сообщено автору А. А. Романовой. Текст представляет собой
комплекс из трех небольших статей, посвященных следующим основным
понятиям юлианского календаря: индикту, лунному и солнечному «кругам». Каждая
часть имеет отдельный заголовок: «Сказание о крузе индикту», «О крузе закон-
ныя фаскы», «О крузе солнечном». Название первой календарной статьи
воспринимается в качестве заголовка всего комплекса. Он содержит также
выкладки календарно-арифметического характера.
Их изучение показывает, что средневековым автором они производились
с целью выявления годовых дат в эре от «сотворения мира» (СМ), с которых
начинались циклы индиктов (Инд.), лунные (ЛК) и солнечные (СК). Указанные
Рационализация пасхальных расчетов...
289
результаты подсчитаны верно и расположены в древнерусском списке в
порядке роста сложности, обусловленном возрастанием величины циклов: Ин = 15,
ЛК = 19, СК = 28. Однако неверны переводы дат от СМ в эру РХ. Таким
образом, текст демонстрирует любопытную особенность. В нем уровень
арифметических знаний выше хронологических. Расчеты, взятые сами по себе,
произведены верно, без каких-либо арифметических ошибок или описок. Редукция, т. е.
хронологическая операция по переводу дат из одной эры в другую (из эры СМ
в эру РХ) выполнена неверно. Причем случайностью это объяснить нельзя, так
как перевод дат производится десять раз и всегда вместо верного вычитаемого
фигурирует ошибочное 5500. На Западе в XV в. запись дат от РХ вошла в
обиход, а на Руси устойчиво использовалась эра от СМ. Рассматриваемый текст
трудно воспринимать в качестве переводного, так как на Руси в XV в.
практически отсутствовала традиция соответствующей хронологической редукции,
поэтому была велика возможность ошибки в переводе дат. Значит, более
вероятно, что выкладки о первом годе циклов (Ин, ЛК и СК) произведены на Руси, а не
заимствованы.
В заключительном тексте с календарными показателями несколько
своеобразно толкуется 28-й солнечный круг: «кончается лета круга солнечного».
Последний СК считается не 28-м, а как бы нулевым: цикл «кончается». С
арифметической точки зрения это действительно так: остаток от деления на 28 годовой
даты от СМ, кратной 28, будет равен нулю. Однако определение солнечного
круга, даваемое Кириком (1136 г.) устанавливает, что последний год
солнечного круга будет 28-м: «Он (СК. — Р. С.) продолжается с 1-го до 28-го ...если в
остатке один год, то это первый год, если два, то второй, если 28, то двадцать
восьмой». Примерно так же трактуется последний год СК как 28-й в описании
календарной методики «малого года» по сербской рукописи ок. 1372 г. и
болгарской XVI в. Характеристика последнего года СК как «нулевого», могла,
по-видимому, распространяться и на другие календарные циклы. Так, слова
рассматриваемого текста об индикте: «Аще ли пагубиши индикт, и ты сочти...»,
возможно, надо понимать в смысле: «Если кончился (пришел к нулю) индикт, и ты
сочти...». Здесь может идти речь о последнем, 15-м индикте, который завершает
пришедший к своему концу цикл. Таким образом, отношение к
хронологическим терминам у автора древнерусского текста определяется не традицией,
закрепленной в календарных обобщениях («Учение» Кирика и др.), а
арифметической природой соответствующих календарных расчетов. Итак, во фрагменте
текста «Сказание о крузе индикту», возможно, восходящем ко времени ок. 1437-
1438 гг. (о чем см. ниже), отражается повышение интереса к математике, что
отвечает наступившему в это время возрождению теолого-рационалистических
идей на Руси24.
Фраза о СК имеет не совсем понятное завершение: «кончается лета круга
солнечного и всех основании». Смысл примерно такой: в 7000 (1492) г.
заканчиваются года солнечного круга и всех начал («всех оснований»).
Эсхатологическое содержание реплики, очевидно, связано с ожидавшимся концом света
10 Зак 4748
290 Календарное время в древнерусской космологии
в 7000 г. Из заключительных слов «Аще дотоле соблюдет Бог мир своим благо-
утробием», которые можно перевести так: «Если до того сохранит Бог мир своим
соизволением», следует, что анализируемый текст был написан до 7000 (1492) г.
(«дотоли»). Значит, он должен датироваться более ранним временем.
Возможно, рассчитывая календарные показатели в 6945 (1437)-6946 (1438) гг.
(наиболее ранние года в тексте), автор заметил сравнительно редкий случай
сближения данных: в 6945 (1437) г. начинался новый цикл солнечного круга, а через
год — индикта. Расчеты по лунному кругу не давали такой близости: следу- >
ющий ЛК начинался только через 10 лет — в 6955 (1447) г. Это наблюдение
могло подтолкнуть к дальнейшим расчетам с целью выявления
закономерностей в распределении дат. Может быть, древнерусский «числолюбец» (термин
XII в. из «Учения» Кирика) хотел обнаружить факты совпадения начал циклов,
каковых не оказалось: 6945 (СК), 6946 (Ин), 6955(ЛК), 6961 (Ин), 6973 (СК),
6974(Ин), 6991 (Ин), 6993 (ЛК). Рубежом вычислений выступает 7000 (1492) г.,
даже не отмечается 7001 (1493) г., с которого начинался новый цикл
солнечного круга. Анализ показывает, что расчеты охватывают время 1437-1492 гг.,
производились до 1492 г. и, возможно, восходят к периоду ок. 1437-1438 гг.
Очевидно, они были выполнены на Руси, о чем, в частности, свидетельствует
особенность перевода дат от СМ в эру РХ25.
Если из сочинения выделить хронологические расчеты, то оставшийся текст
обнаруживает определенное единство, обусловленное наличием специфических
календарных терминов «малый год» («малое лето») и «большой год» («великое
лето»). Последовательно рассмотрим все три составные части произведения,
так сказать, за вычетом уже проанализированных расчетов.
Раздел об индикте: «Знай, что круг индикта имеет цикл 15 лет, и если
хочешь найти быстро настоящий цикл его, отдели («остави») большое число его
прошедших лет от Адама и до сего дня... Если кончился (пришел к нулю)
индикт, и ты сочти года, кроме тысяч и сот их, прибавь к ним пять; отнимай же от
них по 15 лет. И где не хватает полных 15, тут очередной индикт. Если хочешь,
можно так: рассчитай года от начала Сотворения по 15 без прибавления; где не
хватает по 15, тут очередной индикт. Если будет кратность 15, опять начни 1-й
круг и так веди очередность».
В разделе речь идет об ускорении метода расчета индикта («обрести
вскоре»), для чего от годовой даты надо отделить числа тысяч и сотен. Эта часть
даты называлась «большим годом». К оставшейся части даты надо прибавить 5
и отнимать по 15, остаток будет индиктом года. Это правило согласуется с
описанием методики «малого года», изложенной в сербском «Уставе церковном»
ок. 1372 г. и болгарском тексте «Друго ведение мудрого Гавра» XVI в.
Сопоставление текстов показывает, что часть даты после отделения от нее числа
тысяч и сотен («большого года») называлась «малым годом». С последним
складывался особый поправочный коэффициент, который менялся от века к веку.
Число 5 прибавлялось к «малому году» с кон. XIII — нач. XIV в. Следовательно,
этим временем как нижней границей может датироваться часть об индикте в
тексте Ионы Соловецкого.
Рационализация пасхальных расчетов...
291
О другом методе рассказано после слов: «Если хочешь, можно так...». Суть
календарного приема состоит в том, что из числа года от СМ, последовательно
вычитается 15, пока не получится меньший остаток, который и будет индиктом
года. Этот способ арифметически характеризуется в тексте словами «без
прибавления» («без приложения»). Действительно, в методе используется только
действие вычитания. Вместе с тем, упоминание сложения может относиться к
методике «малого года» в качестве арифметической его основы: к «малому году»
прибавляются поправочные коэффициенты, рассчитанные для трех циклов. В
таком случае методика «малого года» здесь трактуется в ее каноническом визан-
тийско-южнославянском виде, а не модернизированном, как в древнерусском
тексте 1362 г.26, где стали употребляться поправочные «вычитаемые»
коэффициенты.
Раздел о лунном круге: «Знай, что лунный круг цикл имеет 19 (лет), так же
как законная фаска (расчетный цикл «пасхальных полнолуний». — Р.С.). Если
захочешь быстро найти (число) настоящего цикла, отдели большое число
прошедших лет от СМ, возьми число малого года, каковое есть сие»27. Здесь кроме
понятия «большой год» фигурирует и термин «малый год».
Раздел о солнечном круге: «Знай, что круг Солнца имеет цикл 28 (лет). Если
хочешь узнать быстро настоящий цикл, отдели большое число прошедших лет
от Сотворения, возьми число малых лет так». Как именно, в тексте не сказано,
далее в нем идет материал с хронологическими расчетами. В разделе
описываемый метод характеризуется как ускоренный. Состоит он в отделении в дате от
СМ «большого года» и последующего оперирования с «малым годом». Каков
последний и какие процедуры с ним нужно производить, все это осталось за
пределами сохранившейся части текста. Исследование позволяет воссоздать
картину возникновения рассматриваемого календарного произведения. В XV в.,
до наступления 7-й тысячи лет (1492 г.), скорее всего, ок. 1437-1438 гг. некий
пасхалист арифметически безошибочно произвел расчеты лет, на которые
падали начала циклов индикта, лунного и солнечного в период 1437-1486 гг. Он
также вычислил значения ряда календарных показателей (индикта, лунного
круга, фемелиона* и солнечного круга) для 7000 (1492) г. Кроме того, произвел
перевод дат от СМ в эру РХ. Арифметически это сделано правильно, но
хронологически неверно было взято редукционное вычитаемое (5500 вместо
необходимого 5508), что косвенно указывает на Русь, где в XV в. практически не
употреблялась эра от РХ. После этого он внес указанные вычисления в
календарный материал XIV в., посвященный расчетам по методике «малого года»,
преобразовав его. Преобразование состояло в том, что древнерусский автор
убрал все даты XIV в., исключил почти все прибавочные коэффициенты.
Однако по сохранившемуся значению прибавочного коэффициента для индикта 5
устанавливается, что переработанное сочинение относилось к XIV в.
* Фемелион — возраст Луны на 1 марта.
292 Календарное время в древнерусской космологии
В отличие от других обнаруженных произведений, связанных с календарным
понятием «малого года», здесь применяется «симметричный» термин «большой
год». Редактор-автор XV в. понимал, что прибавочные коэффициенты,
предназначенные для XIV в., не годились для XV в. Он их исключил из окончательного
варианта (сохранившийся один из трех мог остаться по недосмотру). Не
использовал их в своих расчетах и не стал вычислять прибавочные коэффициенты
для XV в., так как его текст относится не к пасхальным, а календарно-арифме-
тическим расчетам особого рода.
Они были связаны с подсчетом годовых дат, с которых начинались циклы
индикта, лунного и солнечного «кругов» в эре от СМ, а также переводом
соответствующих дат в эру от РХ. Возможно, эта идея была подсказана исходным
текстом XIV в. Так, начало цикла ЛК в 6860 г. соседствовало с началом цикла
СК в 6861 г., что встречалось в календарной «жизни» редко. Причем эти даты в
эре от РХ выражались одним и тем же годом — 1353 г. Это объяснялось тем, что
в условиях мартовского календарного стиля, который широко использовался в
XIV в., из годовых дат с марта по декабрь вычиталось 5508, а из годовых дат для
января и февраля — 5507. Лунные круги начинались с января, поэтому из 6860
надо было вычесть 5507 (6860 - 5507 = 1353). Солнечные круги начинались с
октября, поэтому из 6861 надо было вычесть 5508 (6861- 5508 = 1353).
Получался один и тот же 1353 г. Если указанная догадка верна, то в несохранившем-
ся тексте XIV в., который был переработан на Руси, возможно, ок. 1437-
1438 гг., отражался этот любопытный случай. Он-то и мог натолкнуть
древнерусского автора XV в. на идею о подсчете дат начала календарных циклов (Инд.,
ЛК и СК) с целью обнаружения схождения годовых дат и их редукции в эру
от РХ. В таком случае исходный текст XIV в., содержащий сведения о визан-
тийско-южнославянском методе «малого года», можно условно датировать
временем ок. 1353 г. Из этого следует, что не только в 1335 г. Властарю, но и
в 1353 г. на Руси «вычитаемый» метод «малого года» не был известен. Возможно,
он был разработан лишь в 1362 г. автором соответствующего древнерусского
текста.
Проведенный анализ позволяет поставить вопрос о том, что существовало
два варианта пасхальной методики «малого года»: византийско-южнославян-
ский и древнерусский. Первый отражен в четырех модификациях: 1. В
восходящем к кон. XIII — нач. XIV в. описании метода по сербскому списку ок. 1372 г.;
2. В тексте 1335 г. из Синтагмы Матфея Властаря; 3. В реминисценциях текста
XIV в., переработанного на Руси в XV в. («Сказание о крузе индикту»); 4. В
восходящей к кон. XIII — нач. XIV в. болгарской дефектной переработке XVI в.
(«Друго ведение мудрого Гавра»). Арифметической особенностью византийско
южнославянского варианта является прибавление поправочных коэффициентов
к «малому году». Древнерусский вариант представлен единственным текстом
1362 г. в нескольких идентичных списках, начиная с XV в. Арифметической
особенностью этого варианта является вычитание поправочных коэффициентов из
«малого года». Оба варианта, византийско-южнославянский и древнерусский,
Рационализация пасхальных расчетов...
293
имеют одинаковое календарное содержание, состоящее в определении лунных
и солнечных «кругов» (для установления даты Пасхи) по «малому году» с
использованием поправочных коэффициентов. Причем арифметика
использования поправочных коэффициентов была не просто иной, а характеризовала
различный уровень счетной культуры. В тексте 1362 г. она перспективнее в том
смысле, что позволяла достигать того же результата, как и византийско-южно-
славянский вариант, но рациональнее — более короткими вычислительными
цепочками, что повышало скорость и надежность счета.
Отражение мотивов «малого года» византийско-южнославянского типа
в «Сказании о крузе индикту» свидетельствует о знакомстве на Руси в XIV в.
с этой расчетно-пасхальной методикой. Маловероятно, чтобы оба варианта были
разработаны независимо друг от друга в Византии и на Руси. Более правильно
было бы считать, что древнерусский текст 1362 г. есть арифметическое
усовершенствование византийско-южнославянского варианта. Возникает вопрос:
почему такая рационализация не произошла в Византии или у южных славян? На него
можно ответить так. Небольшая величина «малого года» годовых дат для конца
XIII в. автоматически диктовала прибавление поправочных коэффициентов.
Поскольку их вычитание могло дать отрицательную величину для индикта, ЛК или
СК, которые по своей календарной сути — только положительные числа.
Целесообразность вычитания могла обнаружиться спустя несколько лет
практического использования метода «малого года», когда возросшая величина
последнего позволила бы производить вычитание поправочных коэффициентов.
Например, в 6843 (1335) г. «малый год» (= 43) допускал переход на вычитание.
Властарь этого не сделал, вероятно, не потому, что не был достаточно
математически подготовлен, а из соображений верности традиции, которая
предохраняла пользователей метода «малого года» от возможных ошибок. Дело в том,
что при переходе на вычитание требовалось рассчитать новые поправочные
коэффициенты. К существовавшим трем (для определения индикта, ЛК и СК)
старым — прибавляемым — коэффициентам добавлялись еще три — вычитаемые.
Если, положим, просвещенный Властарь без особого труда разобрался бы в том,
какой поправочный коэффициент требуется применять в том или ином случае,
то менее образованный человек мог допустить путаницу и в результате неверно
определить Пасху. Вставала проблема: что лучше — применение
гарантированного, но недостаточно рационального метода или его
усовершенствование с угрозой возможной путаницы и ошибочного пасхального результата.
Первое, очевидно, лучше, чем второе. Поэтому устойчивая приверженность к
«прибавляемому» варианту в Византии и у южных славян была целесообразна в
условиях снижения общественного статуса научного знания, ведшего, в
частности, к ослаблению математической подготовки.
На Руси в XIV в. византийско-южнославянский метод «малого года» получил
известность в ситуации господства мистико-аскетической идеологии с ее
пренебрежением к научному знанию. Существование более математизированного
древнерусского варианта рассматриваемого метода, представленного текстом
294 Календарное время в древнерусской космологии
1362 г., может свидетельствовать о том, что на Руси тогда не был широко
внедрен в церковную практику этот способ расчета Пасхи. Иначе возникала
угроза путаницы в поправочных коэффициентах, а с ней — ошибочности
пасхальных расчетов. Подобный случай представлен в болгарском описании метода
«малого года» XVI в. («Друго ведение мудрого Гавра»). Здесь соединение
разновременных поправочных коэффициентов для XIV (индикт, СК) и XVI (ЛК) вв.
лишило текст календарно-пасхального смысла. Поэтому появление
фрагмента 1362 г. можно связать с научным творчеством средневекового ученого,
который не опасался, что его календарно-пасхальная новация может привести к
путанице коэффициентов. Или он просто не задумывался о последствиях.
Очевидно, древнерусский автор был знаком с византийско-южнославянским
пасхальным методом и, увидев, что его можно математически рационализировать,
сделал это. Его не волновало, что распространение нового приема (с
вычитаемыми коэффициентами) в условиях использования византийско-южнославян-
ского варианта (с прибавляемыми коэффициентами) может привести к
путанице и тем самым подорвать надежность расчетно-пасхального метода «малого
года». Этому можно дать такое объяснение: древнерусский компутист
математически усовершенствовал метод «малого года» лично для себя, без
претензии сделать новый вариант общеупотребительным. Это подтверждается тем,
что древнерусский вариант хотя и представлен рядом списков, но все они
дублируют один и тот же текст 1362 г. Зато византийско-южнославянский
вариант метода «малого года» представлен четырьмя модификациями
(византийской 1335 г., сербской по списку 1372 г., древнерусской XIV в. и болгарской
XVI в.).
Для изучения истории древнерусской мысли расчетно-пасхальный текст 1362 г.
имеет важное значение. Исследования В. В. Милькова показали, что развитие
духовной культуры на Руси не было монолитным. Ортодоксальное
теологическое наследие имело два полюса, характеризующихся теолого-рационалисти-
ческим и мистико-аскетическим направлениями мысли. Оба полюса могли
сосуществовать. Однако теолого-рационалистическое направление в XI—XII вв.
все-таки преобладало, а ему на смену пришли мистико-аскетические
представления (XIII—XIV вв.), которые в XV в. вновь были потеснены теолого-рацио-
налистическими взглядами. Текст 1362 г. подтверждает концепцию В. В.
Милькова и конкретизирует ее. На первый взгляд может показаться, что научные
знания сходят на нет в условиях невежественного пренебрежения к ним мис-
тико-аскетической идеологи. Однако текст 1362 г. свидетельствует, что это
было не так. Знающих календарную математику на Руси в XIII—XIV вв.,
возможно, стало меньше, но они тем не менее не просто были, а активно
занимались творчеством. Только эта деятельность смещалась из центра сферы
церковной жизни к ее периферии, становясь как бы личным делом средневекового
ученого. Научное знание, как феномен мысли, потеряв прежнее ведущее значение
в духовной публичности, сжималось наподобие пружины, чтобы распрямиться
в благоприятных условиях. Такая модель показывает, что возврат и последу-
Рационализация пасхальных расчетов...
295
ющее функционирование теологического рационализма на Руси после
примерно двухвекового господства мистико-аскетической идеологии обеспечивалось
личным научным творчеством древнерусских ученых, сохранявших и в этот
период высокий уровень средневековой календарной математики, заданный
ранее Кириком и другими представителями теолого-рационалистической
идеологии XI—XII вв.
Создание на математической основе древнерусских «Буквенных»
цифр XIV в. «греческой» пасхальной лзвуки
«Пасхальная азбука» — это 35 знаков, каждый из которых соответствует
определенной пасхальной дате. Они называются «ключевыми буквами» и
составляют «наполнение» табличных пасхалий, имеющих 19 столбцов (лунный
круг) и 28 строк (солнечный круг), в пересечении которых образуются 532
клетки (великий индиктион). 532 года — пасхальный цикл, в пределах которого
наступает христианская Пасха в одну из 35 дат от 22 марта до 25 апреля по
юлианскому календарю (старому стилю). В 532-х клетках таблицы находятся 35
ключевых букв в различных комбинациях. Определив по известным правилам
лунный и солнечный «круги» данного года, в пасхальной таблице на
пересечении соответствующего столбца и строки находят нужную ключевую букву, т. е.
знак пасхальной азбуки. По другой таблице отыскивают искомый день Пасхи и
даты связанных с ней чтимых Церковью событий и праздников. Наиболее
распространенной до сих пор пасхальной азбукой является «русская». В Средние
века на Руси употреблялись также «латинская» и «греческая» пасхальные
азбуки. Последняя, как пишет А. М. Пентковский, появилась в конце XIV в. и
использовалась в XV-XVI вв.28 Он объясняет, что именование пасхальной азбуки
«греческой» является условным, и связывает его с тем, что в основе ее «лежал
греческий оригинал с особым порядком букв»29.
В действительности это не так. Если знаки «греческой» пасхальной азбуки
расположить по порядку их числового значения, то из них составится
древнерусский «цифровой алфавит». Причем среди 35 знаков «греческой» пасхальной
азбуки нет нецифровых, и если их расположить в порядке «цифрового
алфавита», то в нем не будет пропусков. Судя по данным русской рукописи,
содержащей древнерусскую «цифровую» пасхальную азбуку, относящейся к концу
XIV в.30, над некоторыми знаками «греческой» пасхальной азбуки видны
«титла», а по бокам — точки, т. е. они воспринимались как «буквенные» цифры;
о том же свидетельствуют тысячные «хвостики». В составе «греческой»
пасхальной азбуки содержались три типично славяно-русских знака. Это «юс малый»
(900), знак «цы». используемый на Руси в начале XIV в. в значении 800, а ближе
к концу XIV в. — 900, и «от», известный как 800. Это обусловило увеличение
основных знаков «греческой» пасхальной азбуки до 28. Они были дополнены
до 35 семью знаками с «хвостиками», обозначавшими числа от 1 до 7 тысяч.
296 Календарное время в древнерусской космологии
Следует учесть, что «коппа» — 90 здесь имеет не греческий, а древнерусский
облик, сходный с «че» (рис. 3-2).
Итак, получен заранее непредсказуемый, но «чистый» по точности
результат — «греческая» пасхальная азбука состоит не из греческих букв, а из
греческих в своей основе «буквенных» цифр, которые издавна употреблялись на Руси
и, русифицировавшись, сменили некоторые греческие знаки на кириллические
(«от», «цы», «юс малый»).
Источником «греческой» пасхальной азбуки, очевидно, был некий
«цифровой алфавит» XIV в., похожий на сохранившиеся образцы, например, в
Синайском апостоле кон. XIII — нач. XIV в.31 (рис. 3-3) или берестяной грамоте № 342
нач. XIV в.32 В «греческой» пасхальной азбуке не соблюдался порядок
«цифрового алфавита» от единицы («аза») до семи тысяч («земли» с «хвостиком»). Если
бы она была упорядочена по примеру «русской» пасхальной азбуки, где знаки
идут в алфавитном порядке от «аза» до «юса малого» или йотированного «аза»,
то цифровая природа «греческой» пасхальной азбуки была ясна сразу.33
Открытия математической основы «греческой» пасхальной азбуки имеет
большое значение. Математические знания востребовались Церковью сразу
после принятия христианства на Руси. Они использовались при
переписывании книг, в церковной хронологии, а также в расчетной пасхалистике. Причем
сохранившиеся от домонгольского времени календарно-пасхальные таблицы не
содержат пояснений, как ими пользоваться. Уровень и объем математических
знаний, необходимых для работы с таблицами, устанавливается
исследователями путем реконструкций, которые обычно не находят прямого отражения в
источниках, а имеют лишь опору в календарно-математических знаниях
вообще. Оставалось неясным, были ли доступны эти знания средневековому
человеку, а если были, то в каком облике. Установление цифровой основы
«греческой» пасхальной азбуки показывает, какие именно математические знания
использовались для ее конструирования. Ими были сведения о древнерусской
«буквенной» нумерации, представленные в «цифровых алфавитах» XIV в. Один(
из них был положен в основу так называемой «греческой» пасхальной азбуки,
которую правильно надо называть «древнерусской цифровой» пасхальной аз-[
букой. |
А. М. Пентковский высказал предположение, что появление «греческой»!
пасхальной азбуки, вероятно, связано с деятельностью митрополита Киприа-;
на34. Митрополит Киевский и всея Руси Киприан (ок. 1330 — 16.09.1406) —j
один из видных иерархов в истории Русской церкви. По национальности он был.»
южным славянином — болгарином или сербом. Приобщение Киприана к духов-\
ной книжности происходило в Константинополе, на Афоне и других центрах)
православной культуры. Около 1375 г. он был рукоположен в митрополита «киев-1
ского, русского и литовского». С 1381-1382 гг. начинается спорадическое пребы-i
вание Киприана в качестве митрополита в Москве, где он окончательно утвердил-,
ся в 1390 г. Ему принадлежит много переводов и оригинальных произведений35.!
Существует древнерусское поэтическое сочинение, как будто бы связанное
Рис. 3-2. «Цифровой алфавит» XIV в., находившийся в основе «греческой» пасхальной азбуки.
Воссоздание по Евангелию-тетр. Ок. 1399 г. РГБ
Рис. 3-3. «Цифровой алфавит» Синайского Апостола.
Кон. XIII — нач. XIV в. Синай, монастырь св. Екатерины
298
Календарное время в древнерусской космологии
с историей «древнерусской цифровой» пасхальной азбуки. Это — поэтическое
приложение к Завещанию (духовной грамоте) митрополита Киприана. Здесь речь
идет о призрачности человеческой жизни и трагической неизбежности
смерти36. В историографии были периоды, когда это произведение приписывалось
Киприану, и время, когда переставали его связывать с именем митрополита.
Г. М. Прохоров, осмысляя судьбу произведения, говорит о возможности его
атрибуции известному духовному писателю Епифанию Премудрому (вторая пол.
XIV — первая четверть XV вв.). В поэтическом приложении есть фрагмент ариф-
метико-числового содержания: «Сугубая десяторица погибе, и по седмей, осмая
же будущего въображает растворение»37. Кажется, его первым
прокомментировал Николай Спафарий в XVII в., понимая под начальными словами «сугубая
десяторица» число 20, а под заключительными «по седмей, осмая же будущего
въображает растворение» следующее значение: «Такожде и по седмой тысяще
осмая — будущего воображает растворение, сиречъ мертвых телес
воскресение»38. Последующие исследователи почти не сомневались, что «сугубая
десяторица» это число двадцать. Однако Г. М. Прохоров предположил, что здесь
говорится о числе 10, как состоящем из двух пятерок: «Что такое "сугубая
десяторица"? Мне кажется, двусоставная, двойственная, состоящая из двух "пя-
териц"»39. Если «сугубую десяторицу» допустимо толковать как сумму двух
пятерок, то тем более можно понимать как произведение двух десяток, как
вторую степень десяти, т. е. сто40. Г. М. Прохоров поэтическое приложение
считает написанным в связи со смертью Киприана: «...Прошедшее время глагола "по-
гыбе" во фразе "Сугубая десяторица погыбе и по седмей" указывает на
совершившийся факт смерти митрополита Киприана. Наверное, именно эта смерть
исторгла у служащего Киприану автора прекрасную элегию...»41
На основе «древнерусской цифровой» пасхальной азбуки можно
предположить, что автор поэтического сопровождения духовной грамоты Киприана
словами «сугубая десяторица», понимаемыми как «удвоенное» произведение 10x10,
зашифровывал «ключевую букву-цифру» «рцы» (100). Знаку «рцы»
соответствует дата Пасхи 11 апреля, которая в этот день была в разные годы, в том числе в
1406 г. Как известно, в том году скончался митрополит Киприан, памяти
которого посвящено поэтическое приложение (по Г. М. Прохорову). Церковный
календарь начинался с даты Пасхи, поэтому не будет неожиданной датировка
кончины главы Русской церкви в традициях церковной хронологии. Необычным
является фиксирование этого скорбного события «ключевой буквой», точнее
«ключевой цифрой», которая дана не в явном, а зашифрованном виде словами
«сугубая десяторица». Для проверки предложенного подхода обратимся к
следующему числу анализируемой записи — «седмей». Николай Спафарий в
«Книге избранной вкратце» (1672 г.) уточнил слово «седмей» — «седмой тысяще».
Знаку «седмая тысяща» в «древнерудской цифровой» пасхальной азбуке
соответствует дата Пасхи 15 апреля, которая приходилась на этот день в разные
годы, в том числе 1408 г. Если «седмая тысяща» зашифровывает 1408 г.
составления поэтического приложения, то понятно, что работа над ним велась по еле-
Рационализация пасхальных расчетов...
299
дам события, а не спустя много лет, и зашифровка производилась в единой
системе. Третье число поэтического приложения — «осмая» — в Соловецком списке
XVII-XVHI вв. толкуется как «осмая же будущего века»42. Слово «век» в
древнерусской календарной традиции имело значение тысячелетия. Об этом
говорится в «Учении» Кирика Новгородца43. Следовательно, смысл слов может быть
таким: «Осмая (тысяща) будущего века». Знак «осмая тысяща» отсутствует в
«древнерусской цифровой» пасхальной азбуке, так как предельным в ней
является знак «седмая тысяща». В этом свете упоминание «осмой тысящи» как
отсутствующей «ключевой буквы-цифры», возможно, иносказательно выражает
принципиальную недатируемость некоторых событий. Если принять
приведенные разъяснения, то арифметико-числовой фрагмент поэтического приложения
к духовной грамоте Киприана приобретет следующий смысл:
«Сугубая десяторица погыбе», что значит 1406 г. смерти Киприана.
«И по седмой ( тысяще )», что значит 1408 г. написания текста.
«Осмая же ( тысяща ) будущего
въображает растворение», что выражает открытие неведомого
будущего или его исчезновение.
Запись числительными «ключевых букв-цифр» в поэтическом приложении
говорит о том, что автор, предположительно Епифаний Премудрый (по Г. М.
Прохорову), осознавал числовую природу знаков соответствующей пасхальной
азбуки. Раскрытие таинственных чисел как «ключевых букв-цифр» в поэтическом
произведении может свидетельствовать о том, что древнерусский автор ставил
в заслугу покойному митрополиту введение «древнерусской цифровой» (в
историографии неточно-«греческой» ) пасхальной азбуки. Это согласуется с
указанным выше мнением А. М. Пентковского о том, что ее появление связано с
деятельностью митрополита Киприана.
Выше уже упоминалось, что самая ранняя «древнерусская цифровая»
пасхальная азбука, представленная в пергаменном Евангелии-тетр ок. 1399 г.44,
использует «коппу» в форме, близкой к «че», как и в других русских рукописях
XV--XVI вв. Но есть рукописная книга, где «коппа» как «ключевая
буква-цифра» начертана по-гречески. Это «Псалтырь с восследованием» 2-й половины XV в.
из собрания РГБ45. Здесь воспроизводится 532-клеточная таблица «великого
индиктиона» по типу той, которая описана в начале настоящего раздела. Среди
«ключевых букв-цифр», «наполняющих» эту таблицу, содержатся отмеченные
три древнерусские «буквенные» цифры в кириллическом начертании — «от»,
«цы», «юс малый». Однако «коппа» здесь имеет не древнерусскую, а греческую
форму. Кроме того, над таблицей содержится надпись по-гречески «Круг
солнца», которая неумело дублируется тем же почерком по-древнерусски, с
сохранением трех первых греческих букв и ошибкой в начертании буквы «цы» в слове
«солнца»: ее вертикальная «ножка» неумело поставлена не справа, а слева.
Палеографический анализ свидетельствует о том, что, возможно, рассматриваемую
300
Календарное время в древнерусской космологии
таблицу «великого индиктиона» составил грек или южный славянин,
передавший «коппу» по-гречески, а все остальные «ключевые буквы-цифры» в
кириллическом начертании. В той же рукописи на листах, расположенных вблизи
таблицы «великого индиктиона», воспроизводится пасхальная азбука, в
которой «коппа» имеет типичный древнерусский вид.
Возможно, греческое осмысление таблицы «великого индиктиона»
произошло спустя более полувека после появления «древнерусской цифровой»
пасхальной азбуки (т. е. во время, близкое к переписке «Псалтири с восследовани-
ем» во 2-й пол. XV в.), а первоначально никаких греческих «следов» в ней не
было. Но исправления «коппы» греком могло не быть, так как греческую форму
имеет этот цифровой знак 90 и у южных славян. Тогда находит объяснение
присутствие в пасхальной азбуке рассматриваемого «великого индиктиона»
кириллических «буквенных» цифр «от», «цы» и «юса малого», которые известны в
южнославянской, но не византийской традиции. Греческая запись могла
появиться позже и не принадлежать возможному южнославянскому составителю или
редактору таблицы «великого индиктиона».
Учитывая, что митрополит Киприан, по-видимому, имел отношение к
созданию «древнерусской цифровой» пасхальной азбуки, нельзя исключать, что он
сам или кто-то из его окружения «приложил руку» к протографу таблицы
«великого индиктиона», известной нам по рукописной «Псалтири с восследовани-
ем» 2-й половины XV в., и что она отражает близкий к первоначальному облик
анализируемой пасхальной азбуки.
Таким образом, в XIV в. массовыми математическими документами были
«цифровые алфавиты», и вновь появившийся интерес к рационализму в
церковных кругах связан именно с ними, как свидетельствует история «греческой»
пасхальной азбуки. Следовательно, возрождение интеллектуальных
устремлений русского православия, обусловленное тягой к календарно-математическим
знаниям, возрождается примерно к концу XIV в. Математическо-цифровая
основа так называемой «греческой» пасхальной азбуки воочию доказывает не
только интерес, но своего рода ориентирование Русской церкви в это время на
математику, причем, возможно, в лице самого высокого иерарха — митрополита
Киевского и всея Руси Киприана.
i
Влияние просветительских идей
на метод «малого года» в конце XIV в.
в связи с возрождением теолого-рАционАлистимеских взглядов
Введение в правление митрополита Киприана «греческой» пасхальной
азбуки, имевшей математическо-цифровую основу, знаменует на Руси примерно
с конца XIV в. переход от мистико-аскетических представлений вновь к теолого-
рационалистическим. В этом свете расчетно-пасхальный текст 1362 г.
показывает, что во второй половине XIV в. древнерусская компутистика сохраняла
Рационализация пасхальных расчетов...
301
сравнительно высокий математический уровень. В условиях господства мисти-
ко-аскетической идеологии она не оказывала заметного влияния на
общественное сознание, а была уделом личных научных интересов отдельных ученых.
Однако в связи с оживлением теолого-рационалистических взглядов,
наступившим в это время, компутистика, как и во время Кирика Новгородца в XII в.,
вновь проявила себя в общественно-церковной жизни.
В конце XIII в., очевидно, в Византии был разработан расчетно-пасхальный
метод «малого года», получивший также распространение у южных славян
(в Сербии и Болгарии) и на Руси. Его основная идея состояла в упрощении
расчета ежегодных календарных показателей лунного и солнечного «кругов», зная
которые можно было легко по таблицам найти Пасху данного года. Объективно
метод «малого года» разделял людей по уровню их календарно-математических
знаний на ученых и профанов. Знавшие календарную математику ученые-ком-
путисты рассчитывали поправочные коэффициенты для «малого года», без чего
нельзя было выполнять последующие сравнительно элементарные, доступные
профанам вычисления. Метод «малого года» позволял вычислительную пасха-
листику сделать более доступной широким церковным кругам, приближая ком-
путистику к практическим нуждам обычных клириков. Такое расширение
сферы распространения компутистики коррелирует с приходом на смену
представителям теолого-рационалистической идеологии (с достаточно высоким уровнем
знаний по календарной математике) менее «отягощенных» ею приверженцев
мистико-аскетических взглядов.
Возврат на Руси к теолого-рационалистической идеологии не был полным
повторением ее предшествующего состояния при Кирике. Качественное
отличие новой волны древнерусского теологического рационализма от его кирилло-
мефодиевского варианта XI—XII вв. проявилось также в усовершенствовании
метода «малого года». Идеологический «перелом», происходивший на Руси
примерно с конца XIV в., хронологически совпал с объективным кризисом в
применении метода «малого года». Дело в том, что поправочные коэффициенты,
рассчитанные в конце XIII в., для конца XIV — XV в. не годились. Так, в 6900
(1392) г. «малый год» был равен нулю, а в предыдущем 6899 (1391) г. — 99. Это
был последний год, для которого справедливы поправочные коэффициенты,
рассчитанные в конце XIII в. для «малого года». В новой календарной ситуации
требовалось рассчитать новые поправочные коэффициенты для конца XIV — XV в.
Ученый-компутист мог это сделать сравнительно просто. Но как избавить
пасхальную практику от неизбежной путаницы профанами поправочных
коэффициентов: предотвратить использование старых коэффициентов (для конца XIII —
XIV в.) вместо новых — для конца XIV — XV в.?
Выход из положения мог быть в разработке простого в арифметическом
отношении (и эффективного в календарном) способа расчета поправочных
коэффициентов для методики «малого года». В указанной связи автором работы были
изучены наборы круглых чисел сотен и тысяч в составе календарных «рук»,
встречающиеся в древнерусских рукописях конца XIV — XVII в. Таблицы в форме
302 Календарное время в древнерусской космологии {
«рук», принадлежащие к так называемому трехтабличному календарному ком- :
плексу, связанные с лунными и солнечными «кругами», содержат данные о
солнечных эпактах (и конкуррентах), пасхальных полнолуниях и солнечных регу-
лярах46. Однако наборы указанных круглых чисел в составе «рук» историками
древнерусского календаря не идентифицировались и не исследовались47.
Предварительное их изучение показало, что круглые числа являются годовыми
датами, а их расположение в пространстве «рук» — указаниями на лунный и
солнечный «круги» соответствующих годов. Причем эти сведения о ЛК и СК могут '
быть использованы для нахождения путем устного счета поправочных
коэффициентов для «малого года» любого столетия48.
Одним из ранних памятников, где встречаются в пространстве календарных
«рук» круглые числа сотен и тысяч, является Евангелие-тетр. ок. 1399 г.49
Для анализа указанных чисел существенное значение имеет установление
правил «развертки» календарных показателей из «рук». Относительно порядка
«выбора» знаков из Богословлей «руки» существует два правила — снизу (для
эпакт) и с 18 клетки таблицы (для вруцелет). Порядок «выбора» календарных
значений пасхальных полнолуний из Моисеевой «руки» был один — снизу.
Поэтому следует взять за основу правую, Моисееву «руку». В Евангелии-тетр.
ок.1399 г. она именуется «Жид(о)вьская» и имеет следующие даты полнолуний
и буквы-цифры с тысячными знаками (считая снизу): 1)2 (апрель); 2) 22 (март);
3) 10 (апрель), 5000; 4) 30 (март); 5)18 (апрель), 2000; 6) 7 (апрель); 7) 27 (март);
8) 15 (апрель), 7000; 9) 4 (апрель); 10) 24 (март), 4000; 11) 12 (апрель); 12) 1
(апрель), 1000; 13) 2 (март); 14) 9 (апрель); 15) 29 (март), 6000; 16) 17 (апрель);
17) 5 (апрель), 3000; 18) 25 (март); 19) 13 (апрель). Перечень весенних
полнолуний этой «руки» соответствует нормативному, но названия месяцев
отсутствуют. Палеография «буквенных» цифр отличается такими особенностями.
Числа третьего десятка записываются с инверсией: на первом месте единицы,
на втором двадцатки: ВК, ЗК, ДК, ♦К, АК, 6К. Так в древнерусской практике
числа передаются редко, Е. Ф. Карский считал эту черту западнорусским при-'
знаком и отмечал в договорной Грамоте смоленского князя Мстислава с Ригой <
1229 г.50 Шестерка имеет вид скорописного «гэ», что указывает на традицию I
XIII-XIV вв. «Тысячный знак» с одним подчеркиванием говорит о XIV в. Таким
образом, палеография цифровых знаков таблицы не противоречит в целом дати- |
ровке Евангелия-тетр. временем ок. 1399 г., но имеет и более архаичные черты: ,
шестерка относится к так называемому «старославянскому» типу, известному !
в болгарской эпиграфике в середине X в.; упомянутая инверсия чисел третьего *
десятка отмечается уже в Реймсском Евангелии 1-й пол. XI в.; прикрепление .
тысячного знака к верхней части отдельных знаков применяется еще в
Остромировом Евангелии 1056-1057 гг. и Изборнике 1076 г.
Если выписать встречающиеся в данной «руке» числа тысяч по порядку дат
весенних полнолуний, то получится следующее: 3-й дате будет соответствовать
5000, 5-й — 2000, 8-й — 7000,10-й — 4000, 12-й — 1000, 15-й — 6000, 17-й —
3000. Это распределение чисел тысяч по датам весенних полнолуний не являет-
Рационализация пасхальных расчетов...
303
ся случайным, а характеризует расчет лунных кругов для каждого тысячелетия.
Чтобы убедиться в этом, надо найти остатки от деления на 19 чисел 1000,... 7000.
Результат таков*: 11000:191 = 12, 12000:191 =5, 13000:191 = 17, 14000:191 = 10,
15000 :191 = 3, 16000 :191 = 15, 17000 : 191 = 8. Получается полное совпадение
остатков от деления чисел 1000, ...7000 на 19 с номерами дат полнолуний, в
клетках которых проставлены в «руке» соответствующие числа тысяч. Из этого
следует, что числа 1000,... 7000 выражают года в эре от СМ, для которых были
рассчитаны лунные круги.
Таблица 5
Распределение лунных кругов тысячелетий
по клеткам «руки» полнолуний
Тысячелетия 5000 2000 7000 4000 1000 6000 3000
Лунные круги тысячелетий 3 5 8 10 12 15 17
Номер клетки «руки» 3 5 8 10 12 15 17
полнолуний с тысячелетием
Так как номера дат полнолуний, куда вписывались тысячелетия, совпадают
с лунными кругами последних, то можно реконструировать процесс внесения
в Моисееву «руку» данных о 1000, ...7000 годах. Найдя лунный круг каждого из
указанных тысячелетий, последние проставляли затем в той клетке «руки»
полнолуний, номер которой совпадал с величиной лунного круга этого года.
На том же листе 192 об. Евангелия-тетр. ок. 1399 г. приводится Богословля
«рука» (левая)» которая имеет одоименное название. Счет календарных чисел
в ней ведется с 18 номера, судя по обведенному кружком стоящему на этом
месте «а», «рука» соответствует 28-летнему циклу конкуррент (вруцелет),
пришедшему в древнерусской календарной практике на смену циклу эпакт. Так как
это произошло не ранее XIV в., то «рука» является одним из ранних свидетельств
употребления вруцелет — в конце XIV в. Числа тысячелетий здесь приводятся
не внутри «руки», а слева от нее в такой последовательности (сверху вниз):
6000, 3000, 7000, 4000, 1000, 5000, 2000. Этот порядок не корреспондируется
с последовательностью тысячелетий в Моисеевой «руке», что естественно, так
как Богословля «рука» имеет отношение не к 19-летнему циклу лунного круга,
а к 28-летнему циклу солнечного круга. Поэтому для понимания смысла
последовательности тысячелетий у Богословлей «руки», найдем их солнечные круги
делением на 28. Итак, 11000 : 281 = 20, 12000 : 281 = 12, 13000 : 281 = 4, 14000 :
281 = 24, 15000 : 281 = 16, 16000 : 281 = 8, |7000 : 281 = 28. Теперь сопоставим
найденные солнечные круги с соответствующими им солнечными эпактами,
Путем вертикальных черт выражаются остатки от деления.
304
Календарное время в древнерусской космологии
конкуррентами (вруцелетами) в последовательности тысячелетий, записанных
слева от Богословлей «руки», и знаков первого столбца «руки» (сверху вниз).
Таблица 6
Распределение солнечных кругов тысячелетий
по клеткам «руки» вруцелет
Тысячелетия 6000 3000 7000 4000 1000 5000 2000
Солнечные круги тысячелетий 8 4 28 24 20 16 12
Солнечные эпакты веди добро зело аз глаголь есть земля
Конкурренты (вруцелета) глаголь есть земля веди добро зело аз
Знаки левого столбца глаголь есть земля веди добро зело аз
Богословлей «руки»
Сопоставление данных показывает, что порядок тысячелетий,
расположенных слева от Богословлей «руки», не случаен, так как в той же
последовательности идущие календарные знаки левого столбца совпадают с конкуррентами
(вруцелетами), а не солнечными эпактами соответствующих лет. Это
позволяет следующим образом реконструировать работу древнерусского вычислителя.
Вначале он нашел солнечный круг каждого тысячелетия. Затем отсчитал от
18 знака (обведенного кружком) в Богословлей «руке» вруцелето и рядом с ним
написал соответствующее тысячелетие. Причем этими вруцелетами оказались
все семь знаков левого столбца «руки».
Рассмотренные вычисления солнечного и лунного кругов тысячелетий,
представленные в Евангелии-тетр. ок. 1399 г., не являются исключением. Их можно
встретить при календарных «руках» других древнерусских рукописей. Особен-
ный интерес представляют случаи с расширенной номенклатурой этих круглых
чисел, Например, таковыми являются «руки» в «Круге миротворном» кон. XVI — *
сер. XVII в.51 Здесь в «руке» полнолуний, названной «Рука святаго пророка
Таблица 7
Распределение лунных кругов столетий и тысячелетий по клеткам
«руки» полнолуний
Столетия и 400 800 5000 100 500 900 7000 200 600 1000 300 700 3000
тысячелетия 8000 2000 4000 6000
Лунные круги
столетий и 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 15 16 17
тысячелетий
Номер клетки
«руки» 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 15 16 17
полнолуний
Рационализация пасхальных расчетов...
305
Моисея Законодавца», многие табличные клетки заняты круглыми числами
(одним или двумя).
По порядку они распределяются так: 1) 2 (апрель), 400, 8000; 2) 22 (март),
800; 3) 10 (апрель), 5000; 4) 30 (март); 5) 18 (апрель), 100, 2000; 6) 7 (апрель),
500; 7) 27 (март), 900; 8) 15 (апрель), 7000; 9) 4 (апрель); 10) 24 (март), 200,
4000; 11) 12 (апрель), 600; 12) 1 (апрель), 1000; 13) 2 (март); 14) 9 (апрель);
15) 29 (март), 300, 6000; 16) 17 (апрель), 700; 17) 5 (апрель), 3000; 18) 25 (март);
19) 13 (апрель). В клетках «руки», где нет сотенных и тысячных чисел, стоят
«буквенные» даты и названия месяцев: «март» или «април». В клетках «руки»,
где имеются сотенные и тысячные числа, названия месяцев отсутствуют.
Палеография букв-цифр не противоречит датировке рукописи концом XVI — сер. XVII вв.
Тысячные знаки содержат два перечеркивания и прикреплены к средней и
нижней части «буквенных» цифр. Шестерка имеет форму латинской буквы «эс».
Восемьсот передается диграфом «от», девятьсот — буквой «цы». Года 1000,... 7000
находятся на тех же местах, что и в Моисеевой «руке» Евангелия-тетр. ок. 1399 г.
Поэтому найдем лунные круги новых чисел: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700,
800, 900, 8000. Результат таков: 1100 : 19| = 5, 1200 : 191 = 10, 1300 : 191 = 15,
|400: 191 = 1, [500 : 19| =6, 1600 : 19| = И, 1700 : 19| = 16, 1800 : 19| =2,
1900 : 191 =7, 18000 : 191 = 1. Найденные раньше и вычисленные теперь
лунные круги для вековых годов и 8000 лет свидетельствуют о том, что они
совпадают с номером полнолуний, у которых проставлены соответствующие года (см.
табл. 7).
Внесение в Моисееву «руку» данных о 100, ... 900, 8000 годах было таким
же, как и для рассмотренных выше 1000,... 7000 годов. А именно: найдя лунный
круг каждого из столетий и 8000 лет, последние проставляли в той клетке «руки»
полнолуний, номер которой совпадал с величиной лунного круга этого года.
На том же листе 61 об. Круга миротворного приводится вторая таблица,
названная «Рука Иоанна Богослова. Крузи солнцу на двадесят на осемь лет». Эта
«рука» существенно отличается от обычной Богословлей таблицы, в которой
конкурренты (вруцелета) начинаются с 18-й клетки, тем, что в ней счет знаков
ведется снизу, как в «руках» для солнечных эпакт52. Кроме того, здесь вековые
года и тысячелетия проставлены не слева, как было в Евангелии-тетр. ок. 1399 г.,
а справа от таблицы. Причем в правом столбце этой Богословлей «руки»
содержатся те же семь вруцелет, которые соответствуют 1000, ... 7000 годам в
Евангелии-тетр. ок. 1399 г. (но в другом порядке). Эти тысячелетия дополнены
вековыми годами (без 8000 г., в отличие от Моисеевой «руки»), имеющими
соответствующие вруцелета, в чем можно убедиться, найдя их солнечные круги.
Результат таков: 1100 : 281 = 16, 1200 : 281 = 4, 1300 : 281 = 20, 1400 : 281 = 8,
1500 : 281 =24, 1600 : 281 = 12, 1700 : 281 =28, 1800 : 281 = 16, 1900 : 281 =4.
Теперь по вычисленным солнечным кругам найдем конкурренты (вруцелета)
в рассматриваемой Богословлей «руке» и распределим соответствующие
столетия в порядке календарных знаков правого столбца (сверху вниз) (см.
табл. 8).
306
Календарное время в древнерусской космологии
Таблица 8
Распределение солнечных кругов столетий и тысячелетий
по клеткам «руки» вруцелет
Столетия и тысячелетия
Солнечные круги
Конкурренты (вруцелета)
Знаки правого столбца
Богословлей «руки»
700
7000
28
земля
земля
500
4000
24
веди
веди
300
1000
20
добро
добро
100
800
5000
16
зело
зело
600
2000
12
аз
аз
400 200
6000 900
3000
8 4
глаголь есть
глаголь есть
Сопоставление результатов показывает, что порядок столетий и
тысячелетий, расположенных справа от Богословлей «руки», не случаен, так как в той
же последовательности идущие календарные знаки правого столбца совпадают
с конкуррентами (вруцелетами) соответствующих лет. Это позволяет
следующим образом реконструировать работу древнерусского вычислителя. Вначале он
нашел солнечный круг каждого столетия и тысячелетия. Затем отсчитал снизу в
Богословлей «руке» конкурренту (вруцелето) и рядом записал
соответствующее столетие и тысячелетие. Причем этими вруцелетами оказывались все семь
знаков правого столбца.
Можно высказать следующее объяснение расположению сто- и
тысячелетий рядом с Богословлей «рукой», а не в клетках таблицы, как в Моисеевой
«руке». Богословля «рука» содержит 28 клеток, а имеющая ту же площадь
Моисеева «рука» в полтора раза меньше клеток — 19. Поэтому клетки
Богословлей «руки» в полтора раза меньше клеток Моисеевой таблицы.
Дополнительные записи перегрузили бы клетки Богословлей «руки». Перегрузка не так
заметна для клеток Моисеевой «руки». Кроме того, клетки с дополнительными
числами в Богословлей «руке» заняли бы один крайний столбец, а в Моисеевой
«руке» они расположены вразброс. Если числа лет вынести из нее и
расположить с краю таблицы, то не будет понятно, к каким клеткам они относятся.
Наоборот, вынесение дополнительных чисел из крайнего столбца Богословлей
«руки» позволяет понять, что они относятся к клетке, которая расположена
рядом. Таким образом, запись столетий и тысячелетий рядом с Богословлей
«рукой», а не внутри ее, обусловлено стремлением сохранить информативность
таблицы, не перегружая ее записями (см. табл. 9, 10).
Какое практическое значение имели расчеты солнечных и лунных кругов
столетий и тысячелетий в таблицах-«руках»? У соответствующих «рук» в
древнерусских рукописных книгах об этом ничего не говорится (см., например,
кроме рассмотренных, Богословли «руки», рядом с которыми указаны круглые даты
тысячелетий, в рукописях53) (рис. 3-4).
Рационализация пасхальных расчетов...
307
Таблица 9
Схема распределения вруцелет столетий и тысячелетий
в Богословлей <*руке»
3 4 5 7 7000, 700
5 6 7 2 4000, 500
7 12 4 1000, 300
2 3 4 6 5000, 800, 100
4 5 6 1 2000,600
6 7 13 6000,400
12 3 5 3000,900,200
Таблица 10
Схема распределения пасхальных полнолуний
по столетиям и тысячелетиям в Моисеевой «руке»*
3000
5а
21м
4а
100
2000
18а
400
8000
2а
25м
9а
200
4000
24м
500
7а
800
22м
13а
300
6000
29м
600
12а
900
27м
5000
10а
700
17а
1000
1а
7000
15а
30м
На основе этих круглых дат можно реконструировать поправочные
коэффициенты «малого года» для упрощенного метода определения солнечного и
лунного «кругов». Рассмотрим пример, описанный в тексте 1362 г. В эре от
«сотворения мира» указанный год выражается числом 6870. Его солнечный круг равен
10, а лунный — 11, что правильно указано в тексте 1362 г.54 За основу расчета в
нем взято число 70 как «малый год» даты 6870. Далее для солнечного круга брался
Обозначения: м — март, а — апрель.
308
Календарное время в древнерусской космологии
\UAUH AtkmtA
м
НА
%.
г
л*
XL.
HI
nvi\
ив
Ж
А
й
9 - I
г 5'
-■* ?i
*i-*l|
i Ч£л4<<m*/t**<$*««* caff ,
I/ I
A«fH«fH НАЛ/ /IfirnrfflJ
Pwc. 3-4. Календарные «руки» со столетиями и тысячелетиями
«Круга миротворного. Кон. XVI в.
РНБ. СПб.
Рационализация пасхальных расчетов...
309
поправочный коэффициент, равный 4. После его вычитания из «малого года»
получалось число 66. Из него дважды вычиталась величина цикла солнечного
круга 66 - 28 - 28 = 10. Так получалось значение солнечного круга 1362 г.,
равное 10. Для отыскания величины лунного круга 1362 г. брался поправочный
коэффициент, равный 2. После его вычитания из «малого года» получалось
число 68. Из него трижды вычиталась величина цикла лунного года 68 - 19 - 19 -
19 = 11. Так определялось значение лунного круга 1362 г., равное 11. В тексте
1362 г. не раскрывается, как получаются поправочные коэффициенты. Ясно,
что их расчет крайне важен, так как только в случае их известности работает
методика «малого года». Предполагалось, что для их определения нужно было
уметь делить четырехзначные числа на двузначные. Оказалось, что деления
можно было избежать, а как конкретно это делалось, и показывают расчетные
данные о солнечных и лунных кругах в таблицах-«руках».
От 6870 (1362) г. после выделения из него «малого года», равного 70,
остается число 6800, которое называлось «большим годом»*. Оно представляет собой
«сумму годов» 6000 и 800. Для обеих дат по Богословлей «руке» Круга
миротворного можно найти солнечные круги отсчетом знаков от первой клетки
нижней строки до клетки, рядом с которой справа от таблицы стоят эти числа.
Числу 6000 соответствует 8-я клетка, значит, 6000 г. имеет солнечный круг, равный
восьми. Числу 800 соответствует 16-я клетка, значит, 800 г. имеет солнечный
круг, равный 16. Солнечный круг «большого года» 6800 будет равен сумме
найденных значений 8 + 16 = 24. Это значит, что через четыре года завершится
полный цикл солнечного круга, и число 6804 г. будет кратно 28. Отсюда
следует, что поправочным коэффициентом (солнечным) для «малого года» будет
разность между годом, кратным 28, и «большим годом»: 6804 - 6800 = 4. Это
соответствует истине и согласуется с текстом 1362 г.
Теперь реконструируем поправочный коэффициент для отыскания
лунного круга 6870 (1362) г. по «малому году» 70. Как и в предыдущем случае, после
выделения из 6870 г. «малого года» остается «большой год» 6800, состоящий
из двух слагаемых 6000 и 800. Для каждого из этих лет по Моисеевой «руке»
находим лунный круг. Число 800 записано во второй клетке Моисеевой «руки»,
значит, лунный круг 800 г. равен двум. Число 6000 записано в 15-й клетке
Моисеевой «руки», значит, лунный круг 6000 г. будет равен 15. Лунный круг
«большого года» 6800 будет равен сумме найденных значений 2 + 15 = 17. Это
значит, что через два года завершался полный цикл лунного круга, и число
6802 г. будет кратно 19. Отсюда следует, что поправочным коэффициентом
(лунным) «малого года» будет разность между годом, кратным 19, и
«большим годом»: 6802 - 6800 = 2. Это соответствует истине и согласуется с
текстом 1362 г.
* Так в рукописном Сборнике кон. XVI — 1-й четв. XVII вв. из собрания РНБ.
Q.XVII.67. Л. 148 об.
310
Календарное время в древнерусской космологии
На основе изложенного можно сформулировать общее правило для
отыскания поправочных коэффициентов. В соответствии с «малым годом» конкретной
даты в эре от «сотворения мира» устанавливается ее «большой год». По
календарным «рукам» отыскиваются солнечный и лунный круги тысячелетия и
столетия «большого года». Затем складываются величины солнечного (отдельно
лунного) кругов тысячелетия и столетия, что дает солнечный и лунный круги
«большого года» (если сложение дает число, превышающее 28 в случае
солнечного года или 19 в случае лунного, то из него вычитается величина
соответствующего цикла). «Вычитаемым» поправочным коэффициентом (солнечным) будет
разность между 28 и солнечным кругом «большого года». «Вычитаемым»
поправочным коэффициентом (лунным) будет разность между 19 и лунным кругом
«большого года». Правило позволяет для «малого года» конкретной даты в эре
от «сотворения мира» устно находить по календарным «рукам» со столетиями и
тысячелетиями поправочные коэффициенты. В этом заключалось практическое
назначение и главная календарно-вычислителъная ценность записей сто- и
тысячелетий для «рук».
Итак, материалы о круглых сто- и тысячелетиях в таблицах-«руках» (и при
них) позволяют до конца раскрыть механизм облегченного расчета солнечных и
лунных «кругов» по «малому году» дат в эре от «сотворения мира». Ранее
обнаруженные и исследованные источники об этом методе оставляли в стороне
вопрос об отыскании поправочных коэффициентов. Теперь понятно, как,
опираясь на данные о солнечных и лунных кругах круглых сто- и тысячелетних дат,
не прибегая к письменным расчетам, т. е. устно, можно было найти
поправочные коэффициенты для «малых годов».
Примерно в конце XIV в. в древнерусской расчетно-пасхальной практике
календарные «руки» были дополнены данными о лунных и солнечных «кругах»
для полных сотен и тысяч лет, выраженных круглыми числами. Указанные
данные позволяли легко, на уровне устного счета, определять поправочные
коэффициенты для метода «малого года». Необходимость этого обусловливалась тем,
что в конце XIV в. надо было переходить на новые поправочные коэффициенты.
Старые «прибавляемые» поправочные коэффициенты были: ЛК = 17, СК = 24,
а новые соответственно ЛК = 3, СК = 12. Упрощенный прием определения
поправочных коэффициентов связан с суммированием лунного и солнечного
«кругов» разрядов сотен и тысяч, составляющих «большой год» даты. Так,
«большой год» даты 6900 (1392) г. состоит из суммы разрядов сотен 900 и тысяч 6000.
При отыскании поправочного коэффициента для ЛК надо было установить
номера клеток Моисеевой «руки», в которых находились числа 900 и 6000. Число
900 находилось в седьмой клетке Моисеевой «руки», значит, 900 год имел ЛК = 7.
Число 6000 находилось в 15-й клетке Моисеевой «руки», значит, 6000 год имел
ЛК = 15. ЛК «большого года» 6900 равен сумме найденных значений (за
вычетом 19, если таковая превышает 19). Следовательно, 7 + 15 - 19 = 3, что дает
ЛК = 3 для 6900 (1392) г. А из этого следует, что поправочный коэффициент,
Рационализация пасхальных расчетов...
311
прибавляемый к «малому году», начиная с 6901 (1393) г., для ЛК равен трем.
При отыскании поправочного коэффициента для СК надо было установить
номера клеток Богословлей «руки», рядом с которыми указаны числа 900 и 6000.
Число 900 располагалось рядом с четвертой клеткой Богословлей «руки»,
значит, 900 год имел СК = 4. Число 6000 находилось рядом с восьмой клеткой
Богословлей «руки», значит, 6000 год имел СК = 8. Солнечный круг «большого года»
6900 равен сумме найденных значений СК = 4 + 8 = 12. Следовательно,
поправочный коэффициент, прибавляемый к «малому году», начиная с 6901 (1393) г.,
для СК = 12. Поправочные коэффициенты, вычитаемые из «малого года»,
получались путем вычитания найденных «прибавляемых» коэффициентов из
величин соответствующих циклов ЛК = 19 и СК = 28. А именно: новые
«вычитаемые» коэффициенты для ЛК = 16 (19 - 3 = 16), СК = 16 (28 - 12 = 16).
По-видимому, изложенный простой прием определения поправочных
коэффициентов был разработан на Руси. Об этом свидетельствует наличие
дополнительных данных о ЛК и СК в виде набора круглых чисел сотен и тысяч
лет в пространстве календарных «рук», встречающихся в древнерусских
рукописях кон. XIV-XVII вв. (при отсутствии информации о них в
южнославянских и византийских памятниках). Кроме того, понятие «большой год»,
являющееся ключевым в описанном приеме определения поправочных
коэффициентов, явно названо в древнерусском календарном тексте, содержащем
реминисценции метода «малого года». В византийско-южнославянских
изложениях метода «малого года» термин «большой год» как будто бы не
встречается.
Еще одним аргументом в пользу древнерусской разработки простого, но
эффективного расчета поправочных коэффициентов является усилившееся
примерно в конце XIV в. внимание церковных кругов к рационализму, выразившееся,
в частности, во введении «греческой» пасхальной азбуки на математическо-
цифровой основе. Как показали исследования В. В. Милькова, интерес к теолого-
рационалистическим представлениям удерживался на протяжении XV-XVI вв.
В предыдущий период, в XI-XII вв.. существование теологического
рационализма на Руси обеспечивалось в том числе и развитием календарной
математики в трудах Кирика Новгородца и др. В период возрождения теолого-рационали-
стических представлений можно было априори ожидать, что оно также будет
опираться на календарную математику. Однако и в период господства мистико-
аскетической идеологии древнерусская календарная математика продолжала
сохранять достаточно высокий научный уровень, о чем свидетельствует текст
1362 г.
Оживление интереса к календарной математике должно было опираться на
те знания в области расчетной пасхалистики, которые к этому времени
утвердились в православной компутистике. Таковым был метод «малого года»,
разработанный в конце XIII в., очевидно, в Византии и получивший распространение
и в славянском мире (в Сербии, Болгарии и на Руси). Именно метод «малого
312
Календарное время в древнерусской космологии
года» был усовершенствован в древнерусском тексте 1362 г., а к концу XIV в.
неизбежно должны были возникнуть осложнения при его дальнейшем
использовании в связи с необходимостью замены старых поправочных
коэффициентов на новые. Поэтому интерес к математике, появившийся в это время в связи
с возрождением идей теологического рационализма, должен был проявиться
именно в обращении древнерусских компутистов к методу «малого года». Ими,
по-видимому, и был разработан простой, но надежный прием расчета
поправочных коэффициентов.
В отличие от «продвинутых» умений ученых-компутистов, какими владел
Кирик Новгородец и др., новый упрощенный календарный способ расчета
поправочных коэффициентов соответствовал арифметическим знаниям на
уровне устного счета. Возможно, древнерусские ученые XI—XII вв. не особенно
стремились сделать сложные календарно-математические знания доступными как
можно большему кругу людей, включая тех, которые имели недостаточную
вычислительную подготовку. Это отличает их от стремления ученых-компутистов
в конце XIV в. сделать календарные вычисления доступными людям, не
получившим достаточных календарно-математических знаний. Можно
предположить, что такая метаморфоза в сознании ученых-компутистов обусловлена
сменой идеологий, в результате чего богословско-рационалистические
представления были замещены в общественном сознании мистико-аскетическими
умонастроениями с их устремлениями к простоте и интеллектуальной безыс-
кусности. В этих условиях возрождение идей рационализма в теологии на Руси
могло привести к осознанию средневековыми интеллектуалами необходимости
просвещения широких масс. Примером может служить отношение
ученых-компутистов к разработке календарных приемов, имеющих высокую
научно-практическую эффективность и в то же время доступных для слабо подготовленных
в математике людей. Можно полагать, что теолого-рационалистические
взгляды конца XIV-XVI вв. характеризовались не только интересом к научным
знаниям, но и стремлением к их адаптации в народной, недостаточно образованной
среде, т. е. стремлением к просветительству.
Примечания
1 Милъков В. В. Основные направления религиозно-философской мысли Древней
Руси XI-XV вв. Диссерт. "в форме научн. докл. ...докт. филос. наук. М., 2000. С. 21.
2 Там же. С. 24.
3 РГБ, ф. 270.11. № 27. Л. 5-5 об.
4 Чолова Цв. Естественонаучните знания в средновековна България. София, 1988.
Приложение 3. С. 337-338.
5 Симонов Р.А. Древнерусский календарный фрагмент 1362 г. //
Источниковедение и вспомогательные исторические дисциплины. Теория и методика. М., 1990. С. 147-
152.
Рационализация пасхальных расчетов...
313
6 Кирик Новгородец. Учение им же ведати человеку числа всех лет // Историко-
математические исследования (ИМИ). М., 1953. Вып. 6. С. 174-191.
7 Там же. С. 184.
8 Зубов В. П. Примечания к «Наставлению, как человеку познать счисление лет»
Кирика Новгородца // ИМИ. М., 1953. Вып. 6. С. 196.
9 Дмитриева Р. П. Ермолай-Еразм (Ермолай Прегрешный) // Словарь книжников
и книжности Древней Руси. Л., 1988. Вып. 2. Часть I. С. 221.
10 Романова А. А. Ермолай-Еразм и его трактат «Круг пасхалии, по нему же
Христианы празднуем Пасху» / / Букинистическая торговля и история книги. М., 1997. Вып. 6.
С. 3-8.
11 Зимменс Г. Вычисление Пасхи в Новгороде в XII веке // Новгородский
исторический сборник. СПб., 1997, Вып. 6 (16). С. 124, 126.
12 Симонов Р. А. Древнерусский календарный фрагмент 1362 г. //
Источниковедение и вспомогательные исторические дисциплины. Теория и методика. М., 1990. С. 147-
152.
13 Пентковский А. М. Календарные таблицы в русских рукописях XIV-XVI вв. //
Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописных книг. М., 1990.
Вып. 3. Часть I. С. 136-197.
14 Симонов Р. А. Новое в изучении творчества Кирика Новгородца (XII в.) //
Восьмая научная конференция по проблемам книговедения: Тезисы докладов. М., 1996.
С. 203-205.
15 Симонов Р. А. О календарном стиле статьи 6615 г. Повести временных лет (опыт
компаративного анализа) / / Источниковедение и компаративный метод в
гуманитарном знании: Тезисы докладов и сообщений научной конференции. М., 1996. С. 332-
334.
16 Симонов Р. А. «Друго ведение мудраго Гавра ведети подобает» //
Букинистическая торговля и история книги. М., 1994. Вып. 3. С. 56-62.
17 Подробнее см.: Симонов Р. А. Древнерусский календарный фрагмент 1362 г.
С. 147-152.
18 Там же.
19 Туриллов А. А., Чернецов А. В. Отреченная книга Рафли // ТОДРЛ. Л.: Наука,
1985. Т. 40. С. 293.
20 Романова А. А. Методика «малого года» для расчета круга солнца и луны в
русской рукописи XV века / / Букинистическая торговля и история книги. М., 1997. Вып. 7.
С. 13-15.
21 Симонов Р. А. Уточнение датировки Синтагмы Матфея Властаря / / Точное
гуманитарное знание: традиции, проблемы, методы, результаты: Тезисы докладов и
сообщений научной конференции / РГГУ. М., 1999. С. 133-134.
22 Романова А. А. Некоторые виды древнерусских календарно-хронологических
источников конца XV-XVI вв. // Книговедение: новые имена: Сборник статей / МГАП.
М., 1996. С. 21-22.
23 РГБ, ф. 247, № 631. Л. 135-135 об.
24 Древняя Русь: пересечение традиций. М., 1997. С. 451.
25 Симонов Р. А. Комбинированный календарный текст XIV и XV вв. из материалов
Ионы Соловецкого // Букинистическая торговля и история книги. М., 1988. Вып. 7.
С. 4-5.
26 Симонов Р.А. Древнерусский календарный фрагмент 1362 г. С. 147-152.
27 В передаче текста из Ионы Соловецкого (РНБ. Q.XVII.67. Л. 148 об.), написанном
весьма мелким почерком и содержащем утраты, А. А. Романова слово «сие» прочитала
314
Календарное время в древнерусской космологии
как указание на величину «малого года» — ке (25), правда, под вопросом. Это
послужило основанием для датировки 1317 годом исходного текста XIV в. Список РГБ. Ф. 247.
№ 631 помог прочесть это место правильно, как слово «сие» (а не ке = 25), и отказаться от
датировки текста 1317 годом.
28 Пентковский А. М. Указ. соч. С. 192.
29 Там же. С. 154.
30 РГБ, ф. 304.Ш. № 6. Евангелие-тетр. ок. 1399 г. Л. 185-186 об.
31 Симонов Р. А. Математический документ конца XIII — начала XIV в. в
древнерусской пергаменной рукописи // Памятники науки и техники. 1982-1983. М., 1984.
С. 110-114.
32 Симонов Р. Л. Древнерусская книжность (В свете новейших источников кален-
дарно-арифметического характера). М., 1993. С. 63-64.
33 Симонов Р. А. «Греческая» пасхальная азбука — древнерусский
неупорядоченный «цифровой алфавит» XIV века / / Материалы 40-й научно-технической
конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и научных сотрудников /
МГУП. М., 2000. Часть 2. С. 87-88.
34 Пентковский А. М. Указ. соч. С. 192.
35 Дробленкова Н. Ф., Прохоров Г. М. Киприан / / Словарь книжников и
книжности Древней Руси. Л., 1988. Вып. 2. Часть 1. С. 464-475.
36 Прохоров Г. М. Памятники переводной и русской литературы XIV-XV вв. Л.,
1987. С. 123-146.
37 Там же. С. 127.
38 Николай Спафарий. Эстетические трактаты / Подготовка текстов и
вступительная статья О. А. Белобровой. Л., 1978. С. 47.
39 Прохоров Г. М. Указ. соч. С. 142.
40 Словарь русского языка: В 4-х томах / Институт русского языка АН СССР. М.,
1984. Т. 4. С. 300.
41 Прохоров Г. М. Указ. соч. С. 146.
42 Там же. С. 130.
43 Кирик Новгородец. Учение им же ведати человеку числа всех лет / / Историко-
математические исследования. М., 1953. Вып. 6. С. 182-183.
44 РГБ, ф. 304ЛИ. № 6. Евангелие-тетр. ок. 1399 г. Л. 185-186 об.
45 РГБ, ф. 304, № 322. Псалтырь с восследованием 2-я пол. XV в. Л. 346 об.
46 Климишин И. А. Календарь и хронология. 3-е изд. М., 1990. С. 366-372.
47 См. например: Пентковский Л. М. Календарные таблицы в русских рукописях
XIV-XVI вв. // Методические рекомендации по описанию славяно-русских
рукописных книг. М., 1990. Вып. 3. Часть I. С. 136-197.
48 Симонов Р. А. Представления о времени в допетровской Руси на основе новых
данных о пасхальных расчетах / / Философские и богословские идеи в памятниках
древнерусской мысли. М., 2000. С. 355-365.
49 РГБ, ф. 304.Ш. № 6. Евангелие-тетр. ок. 1399 г. Л. 185 об.
50 Карский Е. Ф. Славянская кирилловская палеография. М., 1979. С. 217.
51 РГБ. Ф. 173.1. № 103. Круг миротворный кон. XVI — сер. XVII в. Л. 61 об.
52 Симонов Р. А. Неизвестная календарная таблица «Круга миротворного» / /
Тезисы докладов 37-й научно-практической конференции
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и научных сотрудников / МГУП. М., 1997. С. 212-213.
53 РГБ. Ф. 173.1. № 103. Круг миротворный кон. XVI— сер. XVII в. Л. 61 об.;
ГЛМ. Ф. 226. № 142. Сборник 1-й пол. 1520-х гг. Л. 22 об.; РНБ, F.I.471. Круг миро-
Рационализация пасхальных расчетов...
315
творный кон. XVI в. Л. 6 об.; РГБ, ф. 304. № 239. Устав церковный Иерусалимский
1-й пол. XV в. Л. 325 об.; РГБ, ф. 304. № 322. Псалтирь с восследованием 2-й пол.
XV в. Л. 345.
54 Симонов Р.А. Древнерусский календарный фрагмент 1362 г. С. 147-152.
Оакралнзация времени
НА РуСИ
FZ
ZA
«Косой» час и осмысление природы
БОГОСЛуЖСБИОГО ВрСМСНИ
онятие часа встречается в славяно-русских памятниках древнейшей
поры. Однако до последнего времени не было ясности по поводу его
содержания. По мнению историка Д. И. Прозоровского, высказанному
еще в 1881 г., на Руси существовало два типа часов. Применялись часы равной
длительности по 60 мин (т. е. как теперь) и использовались так называемые
«косые», они же «иудейские» часы1. Это мнение по существу сохраняется в
науке до сих пор. Что такое «косой» час, сейчас знают преимущественно
специалисты по вспомогательным историческим дисциплинам. А между тем в
древности и Средние века он был широко распространен, восходя к культуре
Древнего Вавилона. «Косой» час равнялся 12-й части дня и отдельно 12-й части ночи.
Ото дня ко дню длительность «косого» часа менялась в зависимости от времени
суток, времени года и географической широты. Правда, два раза в год, в период
весеннего и осеннего равноденствия, когда день равнялся ночи, дневные и
ночные «косые» часы были одинаковыми, практически равными 60 мин (отсюда
«равноденственный час»). Известный хронолог Н. В. Степанов, кажется, первым
выявил и проанализировал древнерусские летописные сведения о датировке
событий «косыми» часами, также касался счета ими в «Учении» Кирика
Новгородца (1136 г.)2. Тем не менее Н. В. Степанов не находил эти факты достаточно
вескими, чтобы считать вопрос об употреблении на Руси «косых» часов
окончательно решенным3. После Н. В. Степанова были обнаружены новые
древнерусские источники о «косом» часе. В одном из них автору настоящей работы
довелось найти прямое указание на то, что «косой» час являлся
общеупотребительным в средневековом Пскове («яко мы чтем») и противопоставлялся часу
постоянной длительности «якож латыни чтут часы»4. Соответствующий
памятник известен по списку 3-й четв. XVII в. трактата «Предисловие святцам»5, а
восходит он, по-видимому, ко 2-й пол. XVI в., когда жил написавший текст о
часах ученый пскович Иван Рыков. Н. В. Степанов же сомневался в
употреблении «косого» часа на Руси до XIII в. Поэтому обсуждавшаяся им проблема
могла получить положительное решение путем обнаружения прямого
свидетельства о применении «косого» часа в древнерусской практике XI—XII вв.
п
318
Календарное время в древнерусской космологии
Такое свидетельство было недавно обнаружено и проанализировано
автором совместно с А. В. Журавелем6.
В Густынской летописи имеется следующая запись под 1033 г.: «В се лето
бысть затменя солнца страшное, июня 29, от часа шестого до часа осмого»7.
В летописях астрономические события сравнительно редко выражаются в
часах, кроме того, в разночтениях Густынской летописи имеется указание на
затмение не 29 июня, а 29 июля 1033 г. Эти особенности обуславливают
необходимость более углубленного изучения текста, в том числе с
использованием астрономической компьютерной программы RedShift-З. Оказалось, что
действительно 29 июня 1033 г. было полное солнечное затмение. Наибольшей
величины оно достигало севернее Милана, длилось там 2 ч 49 мин: от 11 ч
25 мин до 14 ч 14 мин по Гринвичу (далее — GT). На широте западноукраин-
ской Хусты, где, вероятно, в Средние века находился Густынский монастырь,
затмение началось в 10 ч 20 мин, а закончилось в 13 ч 15 мин по GT, т. е.
длилось 2 ч 55 мин.
Чтобы разобраться в летописной записи 1033 г., необходимо учесть
особенности счета часами в соответствующую историческую эпоху. В XI в. в
Византии и Западной Европе чаще использовался «косой» час.
Можно предположить, что в летописной записи 1033 г. речь идет об
измерении времени в «косых» часах. Проверка на основе указанной компьютерной
программы подтвердила это.
По ее данным, день 26 июня 1033 г. на широте Хусты начался в 3 ч 3 мин, а
закончился в 17 ч 59 мин GT, т. е. равнялся 14 ч 56 мин Разделив это время на
12, получим длительность «дневного часа»: 1 ч 14 мин 40 сек. Два «дневных часа»
будут равны 2 ч 29 мин 20 сек. Длительность затмения на соответствующей
широте была почти на 20 мин больше (2 ч 49 мин - 2 ч 29 мин 20 сек = 19 мин
40 сек). Для оценки этого факта нужно иметь в виду следующее: полдень на
широте Хусты наступал в 10 ч 29 мин GT, что в «косых» часах соответствовало
летописным 6-и часам. Однако начало затмения, имевшее место за 9 мин до
этого, летописцем или не было замечено, или отсутствовал способ выражения
соответствующей величины времени, равной 9 мин до полудня. Фаза затмения за
указанные 9 мин весьма незначительная, и то, что она не была замечена в XI в.,
вполне закономерно. Даже определив астрономический момент затмения,
летописец, вероятно, затруднился бы выразить его словесно.
Таким образом, и безукоризненная точность астрономического наблюдения,
и способ ее адекватного выражения в 1033 г., скорее всего, отсутствовали.
Указание же в Густынской летописи временного отрезка «от часа шестого до часа
осмого» является достаточно точным, закономерно не учитывающим
небольшую фазу закрытия Солнца Луной в начале затмения (9 мин) и его конце (ок.
10 мин). Такая точность астрономических наблюдений, вообще говоря, для
Средневековья очень высока, так как тогйа люди заранее не располагали
расчетными данными о времени наступления затмения, какие имеют современные
наблюдатели. Для средневековых астрономов обычно было неожиданным наступле-
Сакрализация времени на Руси
319
ние затмения и поэтому они могли его заметить не сразу, а лишь спустя
некоторое время.
Важным обстоятельством является почти буквальное совпадение
астрономического факта времени солнечного затмения 1033 г. на широте Хусты с
указанием времени затмения в Густынской летописи. Это совпадение может
служить решающим свидетельством в пользу проведения наблюдения солнечного
затмения в указанном году непосредственно в Густынском монастыре.
По-видимому, указанное совпадение является уникальным случаем. Для сравнения
следует учесть, что, например, в Киеве затмение 1033 г. началось спустя
примерно час после полудня и длилось до девятого «косого» часа, т. е. происходило
на час позже, чем указано в Густынской летописи.
Фактором местного, густынского происхождения записи может являться
также эмоциональная характеристика затмения как «страшного», без
пояснения, что под этим подразумевалось. Можно думать, что летописец сам испытал
тягостные переживания, связанные с неожиданным наступлением сумерек,
сопровождавшихся криками домашних животных и испуганных людей,
последующим их беспокойным поведением и пр. Он эти ощущения обобщил словом
«страшное». Если бы запись о затмении попала в Густынскую летопись из
другого источника, то потребовалось бы разъяснение слова «страшное»,
неполностью понятного густынскому летописцу, если бы он не наблюдал затмение сам.
Итак, Густынская летопись доносит до современности самый ранний для Руси
случай использования «косого» часа. Запись о солнечном затмении 1033 г. вместе
с тем может иметь более глубокое историческое значение. Первая половина XI в.
для Руси характеризуется языковой многозначностью факторов культурного
значения и примыкающих к ним явлений эзотерического характера. Так,
древнейшая берестяная грамота 20-х гг. XI в. содержит заклинание на немецком
языке. Граффито Софии Киевской, выражающее дату 1031/1032 гг. в
ультрамартовском календарном стиле, написано на греческом языке. Пасхально-расчетные
таблицы типа «рук», появившиеся в указанный период, мнемонически
выражают разнонаправленность «римской» календарной информации (слева направо)
и еврейской (справа налево). «Руки», отражающие кирилло-мефодиевскую
(глаголическую) практику, были адаптированы в древнерусскую пасхалистику, по-
видимому, через греческое посредство.
Указанные примеры, в ряду которых находится запись о «косом» часе в
летописной статье 1033 г., возможно, характеризуют первую половину XI в.,
когда происходило приобщение новообращенной Руси к христианской культуре,
как период интенсивного переноса и адаптации многих позитивных явлений
культуры, заимствованных у соседей.
Встает вопрос: как согласуется установленный факт о функциональном
использовании «косого» часа на Руси в 1-й пол. XI в. с церковной богослужебной
практикой?
Завеса над этим вопросом была приоткрыта, когда летом 2000 г. Новгородской
археологической экспедицией (руководитель — акад. В. Л. Янин) был найден
320
Календарное время в древнерусской космологии
уникальный фрагмент Псалтири начала XI в., записанный по воску на цере. Текст
на воске свидетельствует, «что его писал опытный мастер», причем «не
болгарин и не серб, а русский»8. Он состоит из двух псалмов: 75 и 76-го. Номер первого
сохранился, а второго — нет. В затертом на воске тексте содержались также
иные псалмы: 67-й и некоторые другие. Кроме основного текста имеются также
следы надписей тем же почерком, процарапанные на верхних и нижних частях
деревянных рамок, которые служат как бы полями для восковых страниц.
Расшифровка этих следов раскрыла связный текст, характеризующий книгу,
начало которого такое: «Псалтырь без чина службы и без всех часов...»9 К
последнему слову А. А. Зализняк и В. Л. Янин сделали важное примечание: «Часы —
церковная служба, совершаемая в определенные часы четыре раза в день»10.
Следовательно, ученые «часами» древней записи считают службы суточного
цикла, именуемые Часами. В монастырском богослужебном цикле, принятом
Русской православной церковью для обычных храмов (не только монастырских)
в 1682 г., действительно Часов четыре (1-й, 3-й, 6-й, 9-й). Однако в Византии ко
времени принятия христианства на Руси в 988 г. суточное богослужение в
обычных храмах (не монастырских) велось и в виде Песенного последования, где
Часов было три (3-й, 6-й, 9-й). Скорее всего, в записи на цере нач. XI в. речь
идет о богослужебном круге Песенного последования, а не монастырского
богослужения, так как монахов и монастырей на Руси в нач. XI в. еще не было.
Как отмечает Ю. И. Рубан, «Часы (obpai) — это богослужения суточного
цикла, получившие свое родовое (!) название вследствие строгой смысловой и
хронологической соотнесенности с определенными часами ("стражами")
суток»11. «Стражи» (римские) восходят к вавилонской системе счета времени,
равняясь трем «косым» часам. «Стражевое» просхождение суточного
церковного богослужения (Песенного последования), о котором упоминает Ю. И.
Рубан, отражается в совпадении счета Часов с порядком «страж». Завершение
первой дневной «стражи», идущей с рассвета и равной трем «косым» часам,
совпадает со службой, обозначаемой как 3-й Час. Завершение второй дневной
«стражи», идущей после первой «стражи» и равной трем «косым» часам,
совпадает со службой, обозначаемой как 6-й Час. Завершение третьей дневной
«стражи», идущей после второй «стражи» и равной трем «косым» часам, совпадает
со службой, обозначаемой как 9-й Час. Завершение последней — четвертой —
дневной «стражи», идущей после третьей «стражи» и равной трем «косым»
часам, совпадает со службой, именуемой Вечерней. Следующие службы идут
через две «стражи»: Полунощница и Утреня, каждая через шесть ночных «косых» .
часов. Полунощница приходилась на полночь, что отражено в названии
службы. Ей была симметрична дневная служба, обозначаемая как 6-й Час и совпада-,
ющая с полуднем. Остальные службы симметричны относительно оси 6-й Час — ,
Полунощница (полдень-полночь): 3-й Час симметричен 9-му Часу, Утреня —
Вечерне.
Ю. И. Рубан, считающий, что на Руси Песенное последование появилось,
одновременно с официальным принятием христианства в 988 г., с сожалением |
Сакрализация времени на Руси
321
констатирует: «прямых свидетельств этой древнейшей практики нет»12. Судя
по процитированной записи на деревянных «полях» Новгородской восковой
псалтыри нач. XI в., на Руси в этот период было известно суточное
богослужение по Часам, что служит важным косвенным свидетельством появления
Песенного последования на Руси сразу после 988 г., как полагает Ю. И. Рубан.
Известно 25 древнерусских пергаменных Служебников XIII — нач. XV вв.,
содержащих молитвы Песенного последования и являющихся наиболее
древними из числа сохранившихся13. Причем в 24 из них XIII-XIV вв., кроме
последнего по времени — начала XV в., нет молитв на дневные Часы. Следовательно,
по принятию христианства Песенное последованне на Руси содержало службы
по дневным Часам, как о том свидетельствует Новгородская псалтырь на цере
нач. XI в., а затем дневные Часы исчезли из Служебников. Чем это
объясняется? Ю. И. Рубан отказался от предположений, не ставя судьбу этого
богослужения в связь с ордынским порабощением Руси14. Действительно, наличие
древнерусских Служебников с молитвами Песенного последования без дневных
Часов, датируемых временем после нашествия на Русь татаро-монголов, не
значит, что «усечение» суточного богослужения произошло в результате или в связи
с ним. Отказ от дневных служб по Часам, возможно, обусловлен
«нестыковкой» русского суточного счета времени с тем, который был представлен в
византийском богослужении15.
Цикл византийского богослужения, начинающийся с захода Солнца: Вечерня-
Полунощница-Утреня-Часы (3-й, 6-й, 9-й), соответствует восприятию суток
древними народами, имеющему отражение в Библии. Отсюда заход Солнца был
принят за начало суточного богослужения у ранних христиан и сохраняется до
сих пор. На Руси, по-видимому, с дохристианского времени счет суток был иным:
он начинался с восхода Солнца (а не с захода). Какое значение имеет отсчет
суточных служб, приуроченных к заходу Солнца, в условиях начала суток с
восхода Солнца? В связи с этим условием суточное течение времени будет иметь
следующие особенности:
1. Первые сутки, начавшись с восходом Солнца и миновав световой день,
дойдут до ночи, с которой пойдут сутки, отсчитываемые с заката. Значит,
ночное время первых суток совпадет в обеих системах.
2. С окончанием ночи в «рассветной» системе 1-е сутки закачивались, а в
«закатной» они переходили в дневную фазу. С новым восходом Солнца в
«рассветной» системе начались 2-е сутки, а в «закатной» продолжались первые.
Дневное время в системах оказалось разным: в «закатной» оно относилось к 1-м
суткам, а в «рассветной» — ко 2-м. Закончился день, наступила ночь. В «рассветной»
системе эта ночь завершает 2-е сутки, а в «закатной» открывает. Значит,
ночное время 2-х суток, как и 1-х, совпадает в обеих системах.
3. Заканчивается вторая ночь, наступает новый (третий) день. В
«рассветной» системе день относится к новым, третьим суткам, а в «закатной» —- к
старым, вторым суткам. Поэтому дневное время в системах не совпадает. Прошел
день, наступила ночь. В «рассветной» системе эта ночь завершает 3-й сутки,
11 Зак 4748
322 Календарное время в древнерусской космологии
а в «закатной» — открывает. Значит, в обеих системах ночью идут одинаковые
3-й сутки: ночью время совпадает.
Итак, в рассматриваемых системах суточного счета ночное время
совпадает: всегда идут одинаковые сутки, дневное время не совпадает: «рассветная»
система опережает «закатную» на одни сутки. Из этого следует математически
обусловленный вывод о течении времени богослужебного цикла. Если он
сложился в «закатной» системе, то при его переносе в церковную традицию
«рассветной» системы «одновременными» окажутся службы Вечерня-Утреня в том
смысле, что для этих служб будет идти одинаковое время в обеих системах.
Дневные службы 3-го, 6-го, 9-го Часов «закатной» системы остаются в
прошедших сутках «рассветной» системы, поэтому они не могут использоваться в
богослужении последней, так как время этих служб «ушло». В чем это может
проявляться в духовной книжности? При понимании того, что церковные службы
суточного цикла должны отражать принцип совпадения времени, службы
Вечерня-Утреня отложатся текстуально в духовной литературе, а дневные (3-й,
6-й, 9-й Часы) — нет. Возможно, такое понимание зафиксировано
древнерусской традицией Песенного последования, представленной во всех
Служебниках XIII—XIV вв., которые содержат молитвы служб Вечерня-Утреня при
отсутствии служб дневных Часов.
Значение такого вывода состоит в следующем: на Руси в какой-то момент
осознали, что календарная основа введенного византийского богослужебного
круга расходилась с древнерусской практикой счета времени. Церковные
деятели, которые принимали решения по вопросам литургии, могли быть
проинформированы древнерусскими учеными-компутистами о том, что разные
начала суточного счета приводят к несовпадению хода времени, из-за чего дневная
часть богослужебного времени оказывалась в прошедшем, вчерашнем
времени. Эта временная несообразность могла быть исправлена путем переноса
начала богослужебного цикла с Вечерни на Утреню или исключением из
Песенного последования служб по Часам (3-му, 6-му, 9-му).
Были ли на Руси ученые соответствующего уровня, и если да, то в какое
время? В первой половине XII в. отмечается подъем календарно-математиче-
ского творчества и появляется интерес к нехронологическим расчетам
временных циклов в «Учении» Кирика Новгородца 1136 г.16 и трактате 1138 г.17 Из
исследований В. В. Милькова вытекает, что Кирик как религиозно-философский
мыслитель углубленно занимался природой времени: «По сути говоря, в
"Учении" дается философско-мировоззренческая проработка категории времени...
В трактате Кирика циклизм из области хронологии переносится в сферу
натурфилософского толкования бытия»18. Из этого следует, что Кирик, сочетая в себе
качества крупного средневекового математика и мыслителя, глубоко
интересовавшегося природой времени, занимаясь церковными установлениями (о чем
говорит его «Вопрошание»), мог заметить временную «нестыковку» порядка
церковных служб с древнерусским суточным счетом и осознать необходимость
исправления богослужебной практики.
Сакрализация времени на Руси
323
После создания Кириком «Учения» (1136 г.) и в процессе последующего
написания «Вопрошания» его приблизил к себе могущественный и авторитетный
новгородский иерарх — архиепископ Нифонт. Направляясь в 1149 г. в Киев,
Нифонт взял с собой Кирика. В Киеве Кирик имел ученую беседу с главой
Русской церкви митрополитом Климентом Смолятичем. Имея доступ к самым
авторитетным представителям Русской церкви середины XII в., Кирик мог сообщить
Нифонту или Клименту Смолятичу о противоречивости богослужебного
времени (по сравнению с реальным суточным счетом, употребляемым на Руси) и
предложить какие-то меры для снятия этого противоречия. Однако никаких
прямых свидетельств этого нет, кроме сохранившихся 24 древнерусских
Служебников XIII—XIV вв. с Песенным последованием без дневных Часов.
В совокупности изложенные данные позволяют предположить, что
примерно в середине XII в. выдающийся новгородский математик и мыслитель Кирик
(или другой человек его учености и возможностей) мог установить, что дневная
часть богослужебного круга по Песенному последованию оказывается в
прошедшем, вчерашнем времени для принятого на Руси отсчета суток с рассвета.
Общаясь с ведущими церковными иерархами, он мог их убедить в необходимости
каких-то исправлений в суточном цикле богослужений. В любом случае факт
отсутствия в русских Служебниках XIII—XIV вв. дневных служб по Часам,
возможно, отражает попытку осмысления природы времени средневековыми
церковными учеными в их стремлении к логической безукоризненности суточного
богослужения, полностью соотнесенного с древнерусской практикой счета времени. Может
быть, указанная инициатива исходила не от Кирика, а от другого
древнерусского ученого, но от этого не умаляется важность полученного результата.
Статья Густынской летописи 1033 г. свидетельствует, что на Руси в 1-й
половине XI в. применяли «косой» час в счете суточного времени. В таком случае
упоминание церковных служб по Часам в древнерусской записи на цере нач. XI в.
позволяет заключить, что на Руси в 1-й пол. XI в. богослужебное время
воспринималось в структуре «косого» часа. В условиях использования «косых» часов
люди не могли не заметить или не знать, что церковные службы «3-й Час», «6-й
Час», «9-й Час» совпадают с реальными 3-м, 6-м и 9-м «косыми» часами.
По-видимому, этим ограничивались знания обывателей и рядовых клириков в
области природы богослужебного времени.
Ученых-компутистов и хронологов-летописцев могли интересовать и более
тонкие вопросы природы богослужебного времени. Например, вопрос о том, как
влияет на богослужебное время начало суточного отсчета. Так, в
древнерусской практике сутки начинались с восхода Солнца, а церковные службы — с
захода. В результате отсчет времени по церковным службам (от захода Солнца)
отставал на 12 «косых» часов от реального древнерусского времени,
отмеряемого от восхода. Поэтому дневные службы по Часам соответствовали уже
минувшему (прошедшему) времени по древнерусскому счету. Проводить дневные
службы по Часам в указанных обстоятельствах значило возвращать время назад, что
противоречило фундаментальному космологическому принципу необратимости
324
Календарное время в древнерусской космологии
движения времени из прошлого в будущее и никогда наоборот (вспять).
Воплощение в церковной жизни Древней Руси космологической истины о течении
времени в одном направлении — из прошлого в будущее — вело к отказу от
традиционного богослужебного цикла, начинавшегося с Вечерни: с возможным
переносом начала цикла на Утреню. В противном случае пришлось бы вообще
исключить дневные службы по Часам, как «тянущие» богослужебное время
вспять.
Оба варианта подрывали существовавшую богослужебную практику
Песенного последования для соборных и приходских церквей. Но почти не
затрагивали (находившуюся в изоляции от светских прихожан и бытовой практики счета
времени) традицию проведения монастырских служб. Распространение мисти-
ко-аскетических взглядов на Руси было связано с активной просветительской
деятельностью монашества, которое прошло школу греко-византийского
аскетизма19. По-видимому, впервые с монастырским порядком служб на Руси
познакомились по уставу Студийского монастыря, переписанному в
Константинополе по просьбе игумена Киево-Печерского монастыря св. Феодосия Печер-
ского20. Есть основания предполагать, что Ефрем, переписавший для Феодосия
устав, пробыл в Константинополе с 1055 по 1082 г.21 Из этого можно
заключить, что монастырский богослужебный цикл вошел в древнерусскую
монастырскую практику не раньше 2-й пол. XI в. Причем «после 1204 г. (вторжение в
Константинополь франков) Песенное последование в Византии в основном
исчезло, уступив место монастырскому богослужению»22. На Руси Песенное
последование к этому времени сосуществует с монастырской традицией «и
исчезает окончательно лишь к середине XVII столетия».
Хронологически начало Песенного последования приходится примерно на
момент утверждения на Руси теолого-рационалистической идеологии. Причем
определенное дезавуирование Песенного последования, выразившееся в
исчезновении из Служебников дневных Часов, приходится на XIII—XIV вв., когда
возобладали мистико-аскетические взгляды. При этом возрождение теолого-
рационалистических взглядов в конце XIV — начале XV в. совпадает с
появлением интереса к Песенному последованию.
Корреляция двух видов богослужений — для соборно-приходских и
монастырских церквей — (с переходом лишь в 1682 г. на единое богослужение по
монастырскому уставу)23 с двумя типичными для Древней Руси направлениями
религиозно-философской мысли могла иметь более глубокие корни, уходящие
в осмысление природы богослужебного времени. Возможно, в процессе такого
осмысления представители теолого-рационалистических взглядов (например,
Кирик Новгородец или другие мыслители-компутисты) пришли к выводу о том,
что несовпадение отсчета суточного времени в церковном богослужении и
древнерусском быту вело к противоречию с фундаментальным космологическим
положением о необратимости течения времени из прошлое в будущее. Однако этот
важный научный результат, очевидно, натолкнулся на глухую стену
непонимания церковных ортодоксов, так как вел к изменению начала богослужебного
Сакрализация времени на Руси
325
времени с Вечерни на Утреню. Это было неприемлемо для древнерусских
церковных кругов, так как противопоставляло их остальному христианскому миру.
Для средневековых интеллектуалов Руси оставалось средство творческого
экспериментирования в области богослужебного времени в рамках духовной
книжности. Возможно, результатом указанных экспериментов было построение
оригинальной системы Песенного последования без дневных Часов. Благодаря
распространению соответствующих текстов, «ополовинивших» и лишивших
Песенное последование дневных служб, в более выгодном положении
оказалось монастырское богослужение, которое в конце концов вытеснило Песенное
последование даже из соборно-приходского богослужения.
Из сказанного следует, что переход от теолого-рационалистических к мис-
тико-аскетическим представлениям примерно на рубеже XII—XIII вв. имел
сложную природу, обусловленную не только внешними причинами византийского
влияния, но и внутренними особенностями развития древнерусской духовной
культуры.
Сокровенная сакрализация времени на Руси
Наряду с церковной сакрализацией времени (например, в суточном
богослужении) на Руси существовала сокровенная сакрализация времени. Она,
очевидно, в наиболее архаическом виде восходит к древневавилонским
астральным верованиям, обожествлявшим Солнце, Луну и другие небесные объекты.
Так как течение суточного времени было обусловлено появлением и
исчезновением Солнца, то и сутки стали магически связываться с этим светилом. В
зародившейся древневавилонской астрологии использовалась система 12 дневных +
12 ночных «косых» часов, возможно, по числу 12 календарных месяцев. Между
прочим, хотя практически всюду в мире сейчас применяется счет часами по
60 мин, в астрологии продолжает использоваться «косой» час.
В Древнем Вавилоне каждый день недели магически связывался с семью
светилами септенера (Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн)
в следующей последовательности: Солнце — воскресенье, Луна —
понедельник, Меркурий — вторник, Венера — среда, Марс — четверг, Юпитер —
пятница, Сатурн — суббота. Каждый «косой» час семидневной недели, начиная
с первого часа субботы, также магически соотносился со светилами септенера
в порядке «халдейского ряда» (халдеями зачастую назывались вавилонские
жрецы, занимавшиеся астрологией): Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера,
Меркурий и Луна24. Обожествляемые светила септенера наделялись
определенными свойствами, которые чудесным образом якобы передавались каждому часу,
«косым» полусуткам, каждому дню недели, всей неделе, каждому месяцу и году —
в зависимости от дня недели, с которого они начинались.
В Древнем мире получили распространение предсказательные тексты,
основанные на сокровенной сакрализации времени. Так, произведения, содержащие
326
Календарное время в древнерусской космологии
соответствующие прогнозы медицинских, сельскохозяйственных и «житейских»
событий по дням (и часам) лунного месяца, в историографии нередко
именуются Лунниками. Прогнозы атмосферных явлений обычно воспроизводятся в
текстах, называемых Громниками. Общегодовой прогноз по дню недели Рождества
или первого дня Нового года называется Колядником.
Вероятно, наиболее древние известные на Руси прогностические тексты,
использующие сокровенную сакрализацию времени, содержатся в латинском
Молитвеннике Гертруды — жены великого князя Киевского Изяслава Яросла-
вича. Гертруда — дочь польского князя Мешко II и немецкой принцессы Риксы.
Ее брак с Изяславом был заключен в конце 30-х — начале 40-х гг. XI в. В
Молитвеннике после календаря на 12 месяцев по памятям святым и личных
молитв великой княгини помещены также два сокровенных текста (лл. 11-11 об.).
Один представляет собой предвещания (включая предсказания снов) по 30
лунным суткам. В другом приведены общие прогностические характеристики по
дням недели январских календ, т. е. Колядник25. Например, прогноз для первых
лунных суток: Луна весь день благоприятна, что во сне ни увидишь — к
радости. Для вторых суток: Луна плохая, не питай никаких злых замыслов, а равно и
добрых, но не благословенных. В пяти случаях указывается час (очевидно,
«косой»), с которого Луна становится благоприятной: по два раза с 6-го и 9-го часа,
один раз с 7-го часа. Кроме того, есть указание на общее время — «с утра».
Отсутствие конкретного часа здесь может свидетельствовать о том, что речь
идет о рассвете: еще не наступил первый «косой» час. Один раз в прогностике
указан неблагоприятный час для 25-х лунных суток: Луна неблагоприятна, это
предвещает будущий страх позже 8-го часа.
Таким образом, почти в четверти прогнозов (для 7 суток) указывается час.
Причем в четырех случаях часы «привязаны» к «стражам»: 6-му и 9-му часам.
Здесь пользовавшаяся прогностиком Гертруда могла руководствоваться
временем дневных церковных служб по «Часам» (6-й Час, 9-й Час). Указание «с утра»
также могло быть приурочено к службе «Утреня». Однако для определения
указываемых в прогностике 7-го и 8-го часа нужно было располагать способом
измерения времени в «косых» часах. В свете статьи 1033 г. Густынской летописи
об использовании на Руси «косого» часа, данные о часах Молитвенника
Гертруды становятся важным косвенным свидетельством существования практики
счета «косыми» часами при дворе великого князя Киевского, причем в нуждах,
так сказать, «сокровенного быта».
На основе второго сокровенного текста Молитвенника Гертруды по дням
недели январских календ определялось, каким окажется наступающий год.
Например, если январские календы придутся на воскресенье, то год будет
хорошим: «...и виноград будет добрым и овцы приумножатся, и мед будет в
изобилии, и мир будет». Если же — на вторник, то год окажется плохим: «...и очень
многие женщины умрут, и корабли будут в опасности, и цари погибнут».
Колядник отражал уходящее в глубокую древность представление о том, что
«качество» года зависело от определенных свойств его первого дня. Год сакрализо-
Сакрализация времени на Руси
327
вался по его первому дню недели, который наделялся некими волшебными
качествами, сказывавшимися на всех событиях года (отрицательно,
положительно или нейтрально).
Каким представлено время и его измерение в древнеславянских и
древнерусских текстах сокровенного характера? Древнейшим таким произведением
является небольшой дието-гигиенический текст в «Изборнике Святослава»
1073 г.26 Здесь по каждому месяцу давались диетические и гигиенические
рекомендации для сохранения здоровья: какую пищу есть или не есть, что пить и
сколько, когда воздерживаться от половой жизни и пр. Например: «1. Марта 31.
Сладъко яждь и пий. 2. априля 30. Репы не яжь... 12. Феураря 28. Сеукла не яжь».
Полный текст статьи издавался неоднократно27. Астрологическая подоплека
рекомендаций состоит в следующем. Астрология формировалась как комплекс
представлений о влиянии небесных объектов на здоровье, жизнь, характер,
деятельность людей. Лечение человека с использованием данных о расположении
звезд и планет входило в задачу ятроматематики (т. е. врачебной астрологии).
В отличие от современной медицины в древние и Средние века широко
использовались в качестве лечебного средства кровопускания, производимые в
различных точках человеческого тела, в зависимости от заболеваний.
Астрологический аспект связан с установлением благоприятных (полезных) и
неблагоприятных (вредных) дней для кровопусканий. Понятия полезности и вредности
в астрологическом смысле могли охватывать и более длительные периоды
времени, например месяцы. Но в таком случае рекомендации были более общими,
связанными в основном с диетическими и гигиеническими вопросами,
наподобие тех, которые приводятся в «Изборнике Святослава» 1073 г.
Как в случае кровопусканий, так и в дието-гигиенических рекомендациях
важную роль играло понятие календарного времени, умение его правильно
измерять по правилам единого счета времени. Для кровопусканий — это счет
днями и часами; для дието-гигиенических рекомендаций — это счет более
длительными периодами — месяцами. Так, в дието-гигиеническом тексте четко и
грамотно отражена средневековая традиция греко-римского календаря: мартовский
стиль (все месяцы занумерованы по порядку, начиная с марта), названия
месяцев (сохраняющие соответствующие звучания до сих пор в русском языке),
длительность месяцев в днях (ту же длительность они имеют и по сей день). Дието-
гигиенический текст примыкает или завершает небольшую по объему главу «О
македоньских месяцах». В ней приводятся данные о перемещениях Луны в
знаках зодиака и другие календарные и астролого-астрономические сведения,
информация о счете времени, включая данные о греко-римских названиях
месяцев28.
Следующим по времени датированным текстом, который некоторые авторы
считают астрологическим29, является раздел об «обновлениях», входящий в
«Учение им же ведати человеку числа всех лет», написанное Кириком
Новгородцем в 1136 г. В нем речь идет об «обновлении» неба через 80 лет, земли через
40 лет, моря через 60 лет и воды через 70 лет30. Историк древнерусской культуры
328 Календарное время в древнерусской космологии
М. Ф. Мурьянов полагал, что этот материал восходит к античным
мировоззренческим взглядам пифагорейской школы о круговой модели движения времени,
соответствующей характеру видимого перемещения небесных светил31.
Касаясь существующей историографии о поновлении стихий у Кирика,
В. В. Мильков отметил важный философский аспект: «С введением раздела о
цикличности поновления природных стихий "Учение" далеко выходит за рамки
христианской традиции, обнаруживая склонность автора к восприятию
античного наследия. В трактате Кирика циклизм из области хронологии переносится
в сферу натурфилософского толкования бытия. Структура мироздания
исследуется в "Учении" с точки зрения числовых закономерностей, приложимых к
первоосновам бытия»32. Такой подход оказался перспективным и привел к
некоторым дополнительным результатам в области историографической
критики33. Позднее он был далее развит В. В. Мильковым применительно к трактовке
бесконечности у Кирика, как сочетающей линейную и круговую модели
времени34.
Из другого произведения Кирика — «Вопрошания»35 — следует, что ему было
известно одно специфическое суеверие, связанное с сокровенной
сакрализацией времени. «Вопрошание» — это собрание вопросов, которые Кирик задавал
церковным иерархам, и их ответов. Значительную часть этого произведения
составляли беседы Кирика с главой новгородской церкви архиепископом
Нифонтом. Кирик спрашивал владыку о казусах, которые ему, как священнику,
встречались в процессе исповедания людей, а также обращался за
разъяснениями непонятных или сомнительных мест, которые ему попадались в книгах.
Причем Кирик интересовался и запрещенной церковью литературой, как в
случае упомянутого суеверия. Кирик процитировал Нифонту текст казуса из
неканонического («худого») «номоканунца», т. е. сборника церковных правил и
наказаний за определенные проступки. Его суть состояла в троекратном
вступлении в половую связь в определенной последовательности дней недели: сперва в
воскресенье, затем в субботу и последний раз — в пятницу, в результате чего
произошло зачатие ребенка, который впоследствии «будеть любо тать, любо
разбойник, любо блудник, любо трепетив»36. Православная церковь боролась
с такими суевериями, поэтому Нифонт, выслушав Кирика, осудил приведенное
правило, а сам сборник посчитал заслуживающим сожжения.
По этому вопросу высказывались П. Ф. Керенский и Н. Н. Кононов. Первый
писал: «Еще черноризец Кирик в XII в. коснулся поверья, связанного с
астрологией: он осудил веровавших в счастливые и несчастливые дни по отреченным
книгам»37. Второй ему возражал: «Но в словах Кирика осуждаются не
астрологические приметы по злым и добрым дням, а „худые номоканунцы»38. Если быть
точным, то Кирик в изучаемой ситуации держался индифферентно, а с
осуждением выступал Нифонт. По существу же вопроса, формально прав Керенский.
Нифонт осудил принесенную Кириком книгу исходя не из названия, а по ее
содержанию, т. е. в конце концов неприятие им «худого номоканунца» обусло-
вилось отрицательным отношением к суеверию определенного рода. Но чрез-
Сакрализация времени на Руси
329
мерно считать, что Кирику и Нифонту было ясно астрологическое существо
осуждаемого суеверия. Для такого вывода нет оснований.
В 1867 г. акад. И. И. Срезневский опубликовал календарные приписки к
тексту Ассеманиева Евангелия, одной из древнейших славянских книг,
написанных глаголицей в X-XI вв. Календарные дополнения были сделаны другим
видом славянского письма — кириллицей39. Приписки произведены в «месяце-
словной» части Ассеманиева Евангелия в разных местах на полях. Например,
нал. 121: «Листопон имат дней 31, ден имат годин 11, анощ 13, дензол 8ин20».
Первое слово — это вариант древнеславянского названия месяца октября,
далее следует указание числа дней в нем — 31. Затем приводится средняя
длительность дня и ночи в этом месяце — 11 и 13 часов. В заключение даются два «злых
дня» — 8 и 20 октября40. «Злые дни» в приписках Ассеманиева Евангелия
казались ученым загадкой. Видный русский славист акад. М. П. Сперанский
написал специальное исследование, в котором исследовал эту проблему в контексте
сведений о магии, мантике и астрологии с древности до XX в. Он установил, что
понятие «злого дня» было распространено с древности во всем мире,
находилось «в тесной связи с народными, не церковными, верованиями, с
фольклором», что «эти дни, в отличие от остальных, должны быть заранее известны
человеку, чтобы он мог себя предохранить от разного рода неудач и опасностей»41.
По вопросу датировки приписок Ассеманиева Евангелия среди ученых
имеются расхождения. И. И. Срезневский датировал их XIII в. М. Н.Сперанский
полагал, что «считать их моложе XII—XIII в. нет оснований», склоняясь в
сторону XII в.
В результате изучения приписок М. Н. Сперанский ответил на вопрос,
который тогда особенно волновал ученых, — как могли появиться приписки
суеверного характера в основном богослужебном тексте — Евангелии. «Это
объясняться может прежде всего, разумеется, тем невысоким уровнем в культурном
отношении той среды, где вращалось Ассеманово Евангелие, не ощущавшей
противоречия между евангельским и суеверным текстом». Но дело было не
только в этом, а также, «по-видимому, в том, что верование в существование добрых
и дурных дней, особенно последних, когда не следует якобы предпринимать тех
или иных или вообще никаких дел, это верование в Средние века не было
уделом только низших в культурном отношении слоев общества: вера во всякие
предсказания, гадания наравне с астрологией наполняет собой обильную
литературу вплоть до литературы высших по образованию классов не только
Византии, но и Запада даже и в эпоху Возрождения»42.
Даты «злых дней» попали в Ассеманиево Евангелие в Македонии и
свидетельствуют о вере в них славянского населения этой территории. Эта вера была
распространена повсеместно, как указывал М. Н. Сперанский. Были,
по-видимому, с нею знакомы и на Руси, о чем свидетельствует разобранный выше про-
гностик Гертруды XI в. с часами благоприятных и неблагоприятных событий
и суеверие, обсуждавшееся в XII в. Кириком и Нифонтом. Однако неизвестно о
существовании на Руси в этот период помесячных перечней злых дней, наподобие
330
Календарное время в древнерусской космологии
приписок в Ассеманевом Евангелии, они встречаются в русских памятниках,
кажется, не раньше XV в.
Среди книг, собранных, переписанных и составленных св. Кириллом
Белозерским (1337-1427), сохранилась рукопись 1-й четверти XV в. (РНБ. Кир.-Бел.
XV), в которой имеется перечень злых дней по два в каждом месяце, отличный
от приводящегося в Ассеманиевом Евангелии. Перед этим перечнем идет, по-
видимому, древнейшее сочинение XV в. на русском языке под названием
«Сказание», сочетающее советы по врачебной астрологии с вопросами сельского
хозяйства и гигиены. Содержание его таково: «Наставшаго месяца небеснаго
в 1 день до 9-го часа сеати и садити и крьвь пущати и власы стрищи. 2, 3 день —
год сухь, а не чръвень — отрасли резати; а кръвь пущай о полудни. 4 день пора-
ну кръвь пущай, а от 6-го часа въсе строити добро, 5, 6, 7 — год растучь, но
чръвень — а кръвь въ два дни порану пущай, а в 7-м весь (день) пущай. 8 — ни
сух, ни сирь — ни на что не строинь; а кръвь о полудни пущай. 9-го третиаго
часа сеати и садити и винограды отребляти, и ино въсе строити добро; но кръви
не пущай. 10, 11, 12,13, 14, 15 — лес сечи и кръвь пущати. 16 — на въсе строинь,
и кръвь пущати. 17, 18 — год ядрен скоти бити; а кръви не пущай. 19 — годь
ядрень скот бити, а кръви не пущай. 20, 21, 22, 23 — сеати и садити, кръвь
пущати, но когда небо чисто. 21 — от крови брани. 24, 25 — ни что не строинь,
токмо кръвь вечере пущай. 26, 27 — год сух вельми — отрасли неть, а кръвь
весь день пущай. 28 — сух велми, а кръвь вечере пущай. 29, 30 — тыя дни на
все строини; а кръвь в 29 порану пущай, а в 30 брани весь день»43.
Сокровенное значение «Сказания» состоит в следующем. С древности в
астрологии существует учение о благоприятствовании протекания определенных
процессов, действия и проч. в зависимости от нахождения Луны в том или ином
знаке зодиака. В древнерусских книгах благоприятными называются знаки Овна,
Близнецов, Девы и Рыб, неблагоприятными — Рака, Льва, Козерога, средними —
Тельца, Весов, Стрельца, Водолея и Скорпиона, причем последнее созвездие
характеризуется как «злейшее от средних»44. Учение о благоприятствовании в
указанном смысле применительно к «Сказанию» отразилось следующим образом.
В начале говорится: «Наставшего месяца небесного в 1 день до 9-го часа сеати и
садити и кръвь пущати и власы стрищи». Значит, Луна в первый день находилась
в некоем благоприятном знаке до 9 часов. Поэтому и рекомендовалось пускать
кровь, стричь волосы и заниматься сельским хозяйством только до этого времени.
Следует иметь в виду, что в астрологии свойство благоприятствования не
для каждого знака является одинаковым, например, знак зодиака,
благоприятный для пускания крови, может быть неблагоприятным для произрастания
злаков и пр. Это свойство учтено в «Сказании». Так, для 26-го и 27-го дней лунного
месяца рекомендуется пускать кровь, но не сажатьрастений. Надо понимать,
что в эти дни Луна находилась в благоприятных для лечения людей, но
«засушливых» знаках зодиаках Овна или Близнецов, т. е. пагубных для растений.
Возвращаясь к первому дню, можно предположить, что Луна тогда находились в
знаке Рыб, продуктивном также и для роста растений.
Сакрализация времени на Руси
331
Анализируемое «Сказание» не требовало знакомства с официальным
календарем, в нем счет дням велся для лунного месяца. Сейчас человеку трудно
установить по форме диска Луны ее «возраст» в днях. Не так было прежде. Простые
люди восполняли отсутствие «книжных» знаний о календаре умением вести счет
времени в лунных днях. Дореволюцинный ученый Н. В. Степанов,
занимавшийся историей древнерусского календаря, в одном из писем к акад. А. А.
Шахматову указывал, как на несомненный факт, на умение новгородцев XII в. по виду
диска Луны определять день лунного месяца45. Универсальность восприятия
данных о благоприятных и неблагоприятных днях в «Сказании» и других
текстах по «народной» астрологии состояла в том, что рекомендации для некоего
месяца распространялись на остальные 11. Это неверно не только с позиции
астрологии, но и здравого смысла. Например, сейчас официально указываются
несколько дней для каждого месяца, в которые происходят магнитные бури на
Солнце, с целью своевременного принятия мер людьми с неустойчивым
здоровьем. Эта информация свидетельствует, что в идее «злых» дней имеется вполне
рациональное содержание. Другое дело, как реализовалась эта идея. Никому
сейчас не придет в голову данные о магнитных бурях, например на июнь,
распространять на июль, а тем более — на все месяцы года. Не таким было
обыденное сознание средневекового человека. Оно стремилось к универсальности, что
входило в противоречие с требованиями научного знания —
руководствоваться анализом явления природы и причинно-следственными связями в нем.
Когда производился расчет благоприятного и неблагоприятного времени для
рассмотренных в «Сказании» действий: пускания крови, проведения сельхоз-
работ и пр., то имелся в виду определенный месяц определенного года. Для
другого месяца и другого года расчеты уже не годились, так как картина звездного
неба изменялась. Воспроизведенный расчет для лунного месяца толкуется в
«Сказании» как универсальный в том смысле, что, например, в первый день
любого лунного месяца благоприятным будет время до 9 часов. Это, конечно,
не так с позиции не только «научной» астрологии, но и здравого смысла.
Астрологические «народные» произведения, подобные описанному, в
русских рукописных книгах XV-XVIII вв. встречаются во многих вариантах. Ни
одно из них не содержит указания, для какого временного периода (месяца
определенного года) они составлены, т. е. выступают в качестве универсальных.
А таковыми они в действительности не являются. Этого не осознавали далекие
от «научной» астрологии люди. Оторванность от времени, для которого
произведения предназначались, служит типичным признаком их принадлежности к
«народной» астрологии.
Такое заключение относится и к другим статьям астрологического
характера, включенным Кириллом Белозерским в тот же сборник Кир.-Бел., XV. Так,
за перечнем злых дней в сборнике Кирилла следуют две статьи по врачебной
астрологии — о сроках пускания крови (первая) и о месте насечек в зависимости от
болезни (вторая). Причем сроки в статьях «не стыкуются». Так, в первой
статье говорится: «А пущай от 25 марта до 13 маиа; а от 13 маиа до 20-го не пущай».
332
Календарное время в древнерусской космологии
Во второй статье советуется пускать кровь 15 мая, т. е. в день, который не
рекомендуется первой статьей. То же самое о сроке 15 августа, рекомендуемом
второй статьей и не рекомендуемом первой.
Дело здесь не в ошибке переписчиков, а в том, что статьи составлялись в
разное время и предназначались для разных лет. Каждый год меняется картина
звездного неба, поэтому рекомендации по врачебной астрологии, составленные
по данным нахождения Луны в знаках зодиака в какой-то определенный момент,
не будут совпадать с рекомендациями, составленными в другой год, когда Луна
находится в других знаках зодиака. Поэтому для одного года 15 мая и 15 августа
будут благоприятными для кровопусканий, а для другого — нет.
В сборнике приведены переводы статей, связанных с врачебной
астрологией, авторы которых ориентировались на древнегреческого врача Гиппократа и
древнеримского ученого Галена, так как их авторитет был высок в Византии.
Эти сочинения переписывались и переводились на другие языки, в том числе и
на славянские. Аналогичные рассмотренным статьи встречаются в
древнерусских рукописях под названием, недвусмысленно указывающим на автора или
образец — «Галиново на Ипократа»46.
Соответствующий, но по-другому названный текст есть и в сборнике
Кирилла, помещенный спустя примерно 30 листов после подборки материалов о
благоприятных и неблагоприятных периодах жизнедеятельности. В состав текста
«Галиново на Ипократа» (этих имен в заголовке соответствующий статьи у
Кирилла нет) входят дието-гигиенические рекомендации на разные времена года.
Например, для осени: «24 септевериа начинается осень, — до 24 декевриа.
Подобает бежати от въкушениа многих овощей и студеных водь, и множество вина,
и утръных студений, и не съвлачити себе, аще и задушно будет, и храните себе
от гнева и ярости, и от въсекых сънедей множества. Пущати же кръвь и очища-
ти утробу от яда (пищи) воифимою, умалившися Луне»47.
Интерес представляет, как имеющая отношение к астрологии, последняя
фраза, в которой рекомендуется производить флеботомию и очищать желудок
при убывающей Луне. Чтобы рассчитать, например, на месяц или на год вперед
соответствующие периоды, надо располагать таблицей фаз Луны. Такая
таблица есть в сборнике Кир.-Бел., XV, она содержит данные о днях и часах ущерба
и рождения новой Луны в течение 19-летнего лунного цикла, начиная с января
каждого года. Здесь же указываются лунные и солнечные затмения. Как
заметил Г. М. Прохоров, статьи о добрых и злых днях, о врачебной астрологии и пр.
нужно рассматривать в совокупности с этой таблицей, идущей
непосредственно перед ними.
В период Возрождения усилилась роль магии и астрологии48. Астрология
стала частью университетского образования, особенно на медицинских
факультетах. Сложился институт астрологов-профессионалов с университетским
образованием. Они занимались врачебной деятельностью, составляли
астрологические прогнозы (судеб конкретных людей, их сообществ, государств) по
заказу состоятельных персон или для печати. Большие и малые государи, князья
Сакрализация времени на Руси
333
приглашали их к себе на службу в качестве врачей и
консультантов-предсказателей. Наиболее правильно называть этих дипломированных астрологов «ятро-
математиками», сами они подписывались как «врачи», «медики», «физикусы»,
4Q
часто — «математики», редко — «астрологи» .
Термин «математика» в астрологическом смысле употребляется в
древнерусских памятниках письменности с XV в. Слово живого языка «мафиматы»
зафиксировано в послании известного публициста Филофея «К некоему
вельможе, в мире живущему» (ок. 1524 г.). Здесь, в частности, осуждалась
деятельность Николая Булева — придворного врача и астролога великого князя
Московского Василия III — отца Ивана Грозного50.
У самого Ивана Грозного, как свидетельствуют источники, было два
придворных «математика»: Арнольф, погибший в 1571 г. во время московского пожара,
и Елисей Бомелий (Бомелиус), приехавший в Москву в 1570 г.51
Жизнь Бомелия необычна и загадочна. Он был выходцем из Вестфалии,
учился медицине в Кембридже (Англия). Написал книгу «Полезная
астрология», в которой, в частности, доказывал, что каждые 500 лет в каком-нибудь
государстве происходят «великие перемены». По обвинению в богохульстве
Бомелий был посажен в Лондонскую тюрьму. Русский посол в Англии
«выхлопотал» Бомелия для царя Ивана Грозного и привез его в Москву в 1570 г.
Царь приблизил к себе иноземца, который потакал его причудам и помогал
расправляться с неугодными придворными, чудесным образом умерщвляя их
с помощью ядов и черной магии в заранее указанный царем день и час. В
русской летописи и воспоминаниях современников астролог обличается как
«лживый колдун», порочный человек и виновник многих несчастий. Справедливо
или по навету Бомелий был обвинен в предательских сношениях с
зарубежными врагами России, брошен по царскому приказу в застенок и там замучен
(зажарен на вертеле)52.
Документы содержат сведения о колдовской деятельности Бомелия,
связанной с часами. Из них следует, что Бомелий умел таинственным образом
умерщвлять людей по приказанию Ивана Грозного, причем несчастные якобы
умирали точно в тот час, который указывал царь. Как это удавалось Бомелию, никто
точно не знал, но предполагалось, что не иначе как с помощью колдовства. По
часам он мог рассчитывать длительность действия ядов, которые давал своим
жертвам. Видимо, Бомелий очень хорошо знал свойства ядовитых веществ, в
особенности их, так сказать, временные параметры.
Для средневекового сознания время имело судьбоносное влияние на людей.
Выражалось это в восприятии часов и дней (а также более длительных
календарных единиц— недель, месяцев, лет) как «злых» (неблагоприятных), «добрых»
(благоприятных) и «средних» (промежуточных между «злыми» и «добрыми»,
при определенных условиях принимающих качества либо «злых», либо «добрых»).
Учет этого «качественного» восприятия времени позволяет более точно
представить, на чем психологически основывались ожидания приближенных Ивана
Грозного своей возможной гибели через «лихого волхва». Зная о том, что Елисей
334 Календарное время в древнерусской космологии
Бомелий может их умертвить в точно указанный грозным царем час, они,
очевидно, считали астролога своего рода повелителем времени. Волшебником,
могущим превратить в «злой» любой час, вопреки обычному течению времени, при
котором данный час был бы «средним» или даже «добрым».
Учитывая вышесказанное, следует признать, что главным и существенным
отличием от современности является утраченное теперь средневековое
осознание времени в виде некоей прогностической сущности, заранее наделяющей
предстоящие события качествами плохих, хороших или средних.
Древнерусский практический способ смета
«КОСЫМИ» ЧАСАМИ
Сложной для изучения является проблема практического счета времени
часами на Руси. Принципиально вопрос об использовании «косых» часов в
древнерусской практике XI в. можно считать решенным благодаря недавнему
изучению находившихся до этого втуне важных источников (статья 1033 г. Гус-
тынской летописи и прогностические записи в латинском Молитвеннике
великой княгини Гертруды XI в.). Однако было непонятно, как производился
реальный счет часами на Руси: с помощью какого прибора, способа или
средства. Почти единственным исследователем недавнего прошлого, пытавшимся
разобраться в этом вопросе, был М. Ф. Мурьянов. Опираясь на богатую
историографию об использовании часов-приборов с древности во всем мире, он
пришел к неутешительному выводу о том, что ничего конкретного о способах
измерения времени в Древней Руси сказать нельзя, так как никакие материальные
следы или письменные свидетельства не были известны53.
Вместе с тем, в греческих и славяно-русских памятниках встречается
следующий стереотипный перечень данных о длительности дня и ночи в часах
(обозначения: январь — 1, февраль — 2, ... декабрь — 12).
Здесь для каждого месяца указана длительность дня и ночи в
равноденственных часах, то есть часах по 60 мин, какими сейчас пользуются фактически
повсеместно. М. Ф. Мурьянов предпринял попытку установить широту, которой
отвечают эти данные. По его мнению, они соответствуют 40-градусной широте
античного Геллеспонта (южного входа в Дарданеллы). Полученный результат имеет
Таблица 11
Динамика изменения длительности дня и ночи в равноденственных часах
предположительно для античного Геллеспонта
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
День 10 11 12 13 14 15 14 13 12 11 10 9
Ночь 14 13 12 11 10 9 10 И 12 13 14 15
Сакрализация времени на Руси
335
важное историко-научное и философское значение, свидетельствующее о
высоком уровне осмысления природы времени. Дело в том, что психологически
человек не замечает самого времени, а использование «косых» часов не давало
достаточной информации о динамике годичного (помесячного) изменения светлого и
темного времени суток, так как всегда (летом и зимой, в любой географической
точке земли) в дне и ночи было по 12 «косых» часов. Использование же
равноденственных часов в 60 мин позволяет наглядно видеть, как от месяца к месяцу
изменяется реальная длительность светлого (дня) и темного (ночи) времени суток.
Неясно, какое практическое значение имел указанный перечень
равноденственных часов. М. Ф. Мурьянов высказал сомнительное предположение о том,
что он якобы использовался на Руси в качестве «пособия» для регулировки
водяных часов. При этом он рассуждал чисто теоретически, без технического
обоснования хотя бы принципиальной возможности сконструирования таких часов.
А между тем для русских значительно более северных широт (по сравнению
с Геллеспонтом) будут совсем другими соотношения между светлым и темным
временем суток по месяцам. Поэтому рассматриваемый перечень нельзя
использовать для регулировки гипотетических древнерусских водяных часов. Но
может быть, вопреки М. Ф. Мурьянову, рассматриваемые данные о часах
соответствуют широтам севернее Геллеспонта?
Проверка привела к установлению широтной полосы, которая прошла
несколько выше 40-градусной отметки: 41,5±1 градус. Установленная широтная
полоса включает в себя Константинополь, Охрид, Солунь, но уже Преслав и
Тырново находятся севернее ее верхней границы54. Следовательно, русским
широтам данные перечня не соответствуют, т. е. не имеют практического
значения для регулировки часов.
Как недавно сообщил автору А. В. Журавель, с помощью компьютерной
программы Astronomy Lab им вновь был изучен перечень часов о длительности дня
и ночи по месяцам с целью проверки гипотезы М. Ф. Мурьянова. Широтную
полосу удалось снизить при соблюдении ряда условий. Оказалось, что для 1300 года
и 30-го градуса восточной долготы данные перечня в наибольшей степени будут
соответствовать полосе 39±1 градус северной широты55. Итак, не исключено,
что действительно данные о часах были рассчитаны для Геллеспонта, как
предполагал М. Ф. Мурьянов. Но это делает еще более невероятным практическое
употребление рассматриваемого текста на Руси.
Окончательную «точку» в вопросе о невозможности использования
изучаемого перечня для регулировки гипотетических часов на Руси ставит его
сравнение с реальными русскими «пособиями» подобного рода. Соответствующие
тексты сохранились от XVII в. и отражают существовавшую в XVI-XVII вв.
традицию счета времени башенными часами с боем через каждый час (отдельно для
дня и отдельно для ночи)56. Регулировка башенных часовых механизмов часами
постоянной длительности по 60 мин — отдельно для светлого и темного времени
суток — была вытеснена в нач. XVIII в. современной традицией счета времени.
Средневековые «пособия» для регулировки часового боя представляют собой
336
Календарное время в древнерусской космологии
таблицы, в которых для месяцев указывались две даты, когда надо было
убавить или прибавить один час, и для этого переналадить ударный механизм боя
часов. Дневные часы отбивались с рассвета до заката — 1, 2, ... п раз — в
соответствии с длительностью светового дня. Ночные часы отбивались с заката
до рассвета — вновь начиная с одного удара: 1, 2, ... m — столько раз, чтобы
n + m = 24. Например, в Москве максимальное количество ударов менялось
в соответствии с «пособием» в виде круговой диаграммы «Указ часом боевым,
колико в кий день или нощь ударит в коем месяце и числе»57.
Недавно в Отдел рукописей РГБ поступил новый рукописный «Сборник цер-
ковноучителькай» 90-х гг. XVIII в. (определение содержания и датировка Г. В.
Аксеновой). Г. В. Аксенова любезно предоставила автору работы для
ознакомления эту рукопись. Поскольку в ней отсутствует пагинация, то отсылка на
конкретные листы невозможна. Примерно после 1 /6 части от начала книги имеется
несколько листов арифметического и хронологического характера. Здесь
содержатся сведения о длительности дня и ночи. Новый текст по форме отличен от
«пособий». Он не представлен в виде круговой диаграммы, как «пособия», а имеет
облик главы из большого сочинения, судя по ее номеру, указанному перед
заголовком: «Глава 64. Часы дневные и нощныя». В новом тексте отсутствует
упоминание о часовом бое и есть указание, что «час прибывает 16 дней», которого
нет в «пособиях». Проверка показывает, что «расстояние» между датами (за
исключением июня и декабря, где их нет), действительно составляет 16 дней.
Очевидно, у составителей «пособий» исходным был наблюдательный материал
о времени каждодневных восходов и заходов Солнца, который затем
равномерно упорядочивали с циклом в 16 дней. Все это говорит о том, что новый текст
возник в результате вторичной информационной обработки «пособий». Это
обусловливалось изменением исторических условий в связи с появлением с
начала XVIII в. башенных часов современного типа с отбиванием часовым колоко-
лом'два раза в сутки ударов от 1 до 12, независимо от времени года. Поэтому
отпала нужда в «пособиях» для регулировки боя часов с неравными сериями
ударов, связанными с суточными изменениями числа дневных и ночных часов.
«Пособия» перестали иметь функциональное назначение и послужили основой
для «повествовательного» материала о длительности дня и ночи,
представленного в сборнике 90-х гг. XVIII в.
Сравнение перечня равноденственных часов о длительности дня и ночи с
«пособиями» о бое часов выявляет ряд интересных особенностей. Первые
данные, растянутые на весь год, в «пособиях» уплотнены до полугода. В них
отсутствует информация для широт, где разность в длительности дня и ночи
достигает 8-10 часов. Это свидетельствует о том, что рассматриваемый материал
не пригоден для использования на широтах России, особенно в летний и
зимний периоды.
Данные о длительности дня и ночи в славянской письменной традиции
отличаются стойкой стереотипностью, несмотря на значительное пространство их
бытования — от южных болгарских широт до северных русских. Это говорит
Сакрализация времени на Руси
337
о том, что они могли иметь в славяно-русской книжности не функционально-
практическое, а сакральное значение58.
Таблица 12
Сравнительные данные о длительности дня и ночи для античного
Геллеспонта (предположительно) и средневековой Москвы
Данные перечня
Январь 10
февраль 11
март 12
апрель 13
май 14
июнь 15
14
13
12
11
10
9
Месяцы
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Данные перечня
Данные
«пособий»
длительность (в часах) День, месяц
день
14
13
> 12
11
10
9
ночь
10
11
12
13
14
15
7 августа
23 августа
8 сентября
24 сентября
10 октября
26 октября
Данные
«пособий»
Месяцы длительность (в часах) День, месяц
день ночь
2 февраля
18 февраля
6 марта
22 марта
7 апреля
23 апреля
Сакрализация времени на Руси имела несколько типов. Существовала
церковная сакрализация при счете «косыми» часами в «стражевом» упорядочении
суточных служб. Была сокровенная сакрализация времени (также при счете
«косыми» часами), воспринимаемого в качестве прогностической сущности,
распределяющей явления и события на «злые», «добрые» и «средние». Имелся
также третий тип, связанный с выражением с помощью равноденственных
часов годовой динамики длительности дня и ночи по месяцам и восходящий к
античному или раннесредневековому осмыслению суточного течения времени.
Включение этих сведений в греческие и славяно-русские церковные тексты
календарного характера представляет собой редкую реминисценцию античной (или
раннесредневековой) мудрости по изучению природы времени. Вместе с тем,
окончательный вывод о неиспользовании перечня равноденственных часов в
практике часового счета на Руси делает еще более актуальным источниковое
обеспечение указанной проблемы.
Недавно в вопросе о практическом способе счета времени на Руси
произошел принципиальный сдвиг, обусловленный расшифровкой древнерусской
фрагментарной записи, содержащейся среди дополнительных статей августовского
тома Великих Миней Четьих митрополита Макария. В документах из архива
новгородского Софийского дома и митрополичьей казны имеется комплекс
статей, в состав которого входит текст о часах59. Он, по всей вероятности, до
недавнего времени учеными не анализировался, а между тем в него входят
древнейшие сведения о практике измерения часов на Руси60.
Его содержание таково: Аще хощеши навыкнути час сна 1 подвизаниа ме-
сяць коегождо дне опасеньем назнаменуи свой степень, где ключится головныи
верх. Меряй свои степени своима ногама, едину стопу по единой. Колко стоп
338
Календарное время в древнерусской космологии
является на всяк час, тако бо дванадесять на высоту боле степеня не имуть.
Аще солнце застанет луну незашедшю, то ти уже шькнулося ея. Арип.
Перевод: Если хочешь легко узнать передвижение по одному часу каждого
дня месяца, осторожно отметь на своей тени (место), где находится верх
головы. Измеряй свою тень своими ногами: одну стопу по одной — сколько стоп
на каждый час. Так, более 12 (стоп в полдень) тень не имеет. Если Солнце
застанет Луну незашедшую, то тебе ее уже не следует принимать во
внимание. Аминь.
Текст не до конца ясен. Например, непонятно слово «шькнулося» и
значение заключительной фразы о Солнце и Луне в целом. Возможно, она не имеет
отношения к фрагменту о часах, а случайно была присоединена к нему, как
заимствованная из какого-то календарно-астрономического произведения. Тем не
менее смысл фрагмента о часах в основном понятен: отмеряя по своей тени
число ступней, человек устанавливал, какой шел час. Такой счет в виде измерения
времени «лаптем» сохранялся в русской народной среде еще в первой половине
XX века. Так, В. Д. Федоров о нем писал следующее: «Время мы измеряли
"лаптями". Делалось это так. Становишься спиной к солнцу и на какой-нибудь
былинке засекаешь свою тень, а потом пяткой к носку — раз, пяткой к носку —
два, измеряешь сапогами длину своей тени. Примерно на четырнадцатом
"лапте" стадо надо было поворачивать в сторону деревни»61. Из рассказа В. Д.
Федорова следует, что метод измерения тени ступнями («лаптями») позволял
ежедневно «привязывать» к одному и тому же моменту времени выполнение
определенной работы. При этом точная величина часа не определялась (она не была
нужна). В рассматриваемом фрагменте тот же метод имеет универсальное
назначение счета часов в течение светового дня. Значит, должна была
существовать шкала, по которой для каждого часа указывалась длина тени в стопах. Что
собой представляет такая шкала, показывает опубликованный в 1983 г. Я. Н.
Щаповым календарь по псковским рукописям XV-XVI вв.62 Соответствующие
значения здесь записаны в заключительной части всех календарных месяцев в виде
данных о количестве «стоп» на каждый час. Например, «час 1 стоп 15, час 2 стоп
10, час 3 стоп 7, ... час 11 стоп 15» (для июня). Соотнося реальное число
ступней своей тени с этими данными, человек устанавливал, какой идет час. В
каждом месяце шкала была иной, однако показателей всегда 11. Это говорит о том,
что речь идет о «косых» часах, данные о которых могли быть только для
11-дневных часов. Первое измерение тени производилось спустя один «косой» час
после рассвета, второе — спустя два часа и т. д. Двенадцатого измерения не
могло быть, так как спустя час после одиннадцатого наблюдения наступала
темнота и измерить солнечную тень становилось невозможно. Полдень
соответствовал шестому часу, остальные часы имели симметричное значение
стоп: 5-й час равнялся по числу стоп 7-му, 4-й — 8-му,... 1-й — 11-му.
Основываясь на данных о полуденных тенях в стопах, можно определить, какой
географической широте они соответствуют. Данные о полуденных тенях в стопах
псковского календаря отвечают широте Иерусалима63 (максимальное значение
Сакрализация времени на Руси 339
8 с половиной стоп). В календаре Беды Достопочтенного, соответствующем
северо-английским широтам или нашим Смоленску и Рязани, максимальным
среди полуденных теней было 11 стоп. В древнерусском фрагменте о часах
максимальным для полуденной тени было 12 стоп. Это указывает на
использование в тексте «косых» часов и более северную широту, чем расположение
Смоленска или Рязани. Это косвенно как будто бы подтверждает мнение
публикаторов комплекса статей о том, что он был составлен в Кирилло-Белозер-
ском Успенья Богородицы монастыре предположительно Паисием Ярославо-
вым и Нилом Сорским (между 1 сентября 1488 и 31 августа 1492 г.) и
отправлен новгородскому архиепископу Геннадию в связи со спорами об истечении
седьмой тысячи лет от сотворения мира64.
О неубедительности этого предположения автору сообщила А. А. Романова.
По ее мысли, единственная фраза, в которой упоминается о седьмой тысяче лет
в документе, именуемом публикаторами «посланием», не может считаться
бесспорным доказательством его создания в конце XV в., а не в более позднее
время. «Послание» по существу является комплексом статей, который находился
в черновых бумагах новгородского Софийского дома. Как считает А. А.
Романова, нет оснований рассматривать его в качестве гипотетического ответа
старцев Кирилло-Белозерского монастыря. Соглашаясь с доводами
исследовательницы, следует заметить, что они делают текст о практическом способе счета
«косыми» часами еще более загадочным. Вместе с тем его отношение к
высоким широтам может свидетельствовать о северорусском происхождении. Хотя
по факту включения в Успенский комплект ВМЧ текст датируется серединой
XVI в., его «лежание» среди черновиков Софийского дома могло иметь долгую
историю. Нельзя исключать, что в его архивные бумаги он попал раньше
середины XVI в., возможно, в XV столетии или более раннее время.
Среди материалов рассматриваемого комплекса имеется статья о «Лунном
течении». В древнерусской книжности представлены разнообразные варианты
«Лунного течения». А. М. Пентковский пришел к выводу, что это произведение
не имеет отношения к пасхальным или календарным расчетам, а на его
назначение указывает конвой из статей медико-астрологического и прогностического
содержания65. В них давались указания, в какие дни и часы рекомендуется или
не рекомендуется выполнять медицинские назначения, совершать
сельскохозяйственные работы и другие дела. Это говорит о том, что регламентирование
жизни на Руси в XV в. в соответствии с благоприятными и неблагоприятными
часами могло стать интересом достаточно широких слоев населения.
Для того чтобы руководствоваться в жизни «качественным» временем,
нужно было располагать способом его определения по «косым» часам. С начала XV в.
это можно было делать в Москве, где в 1404 г. был установлен Лазарем Серби-
ном башенный механизм для измерения времени «косыми» часами66 (рис. 3-5).
Но таких механизмов из-за их дороговизны по всей Руси насчитывались
единицы. Поэтому нужно было располагать каким-то подсобным средством
определения «косых» часов, о котором и рассказывается в расшифрованном тексте. Зная,
340
Календарное время в древнерусской космологии
Рис. 3-5. Часы, установленные в Московском Кремле в 1404 г.
Миниатюра Лицевого летописного свода. XVI в.
Сакрализация времени на Руси
341
что, к примеру, 5-й час дня в некий нужный день будет «добрым» для
отправления в путь или заключения сделки и прочих дел, поступали так. По перечням
стоп, наподобие тех, которые содержатся в Псковском календаре, находили, что
в нужный месяц 5-му часу соответствует такое-то количество стоп.
Ориентируясь на свою тень, человек дожидался, когда она будет равна соответствующему
количеству его ступней, и затем начинал выполнять задуманное дело,
сознавая, что делает это в «добрый» час.
На Руси существовали списки запрещаемых Церковью книг и знаний. Они
не особенно влияли на регламентирование в народе своей жизни по «добрым» и
«злым» часам. Об этом, например, свидетельствует послание Филофея «О злых
днях и часах» (ок. 1524 г.), в котором аргументировалось осуждение веры в злые
часы67. В 1999 г. В. В. Мильков опубликовал перечень запрещенных книг и
знаний по рукописи XVI в., в котором содержится редко встречающееся или
неизвестное по другим спискам «Часомерие»68.
Понять смысл слова «Часомерие» помогает летописная запись об установке
в Московском Кремле башенных часов в 1404 г., начинающаяся так: «Сей час-
ник наречется часомерье»69. Н. В. Пипуныров и Б. М. Чернягин последнее
слово раскрывают как «измеритель времени»70. Такое толкование нуждается в
уточнении. Если «часник» — часы, то «часомерье», результат, который дает
использование этих часов, т. е. измерение конкретного «часникового» времени, а не
просто времени. Дело в том, что у кремлевского «часника» отсутствовала
минутная стрелка: время им «квантировалось» на неравные доли меняющегося
по длительности «косого» часа. Когда мы сейчас говорим об измерении
времени, то имеем в виду его непрерывность, определяющуюся мелкими равными
долями его счета — минутами и секундами. Поэтому смысл слова «часомерье»
для русского Средневековья мог состоять не в современном понимании
однородной непрерывности времени, а в его особым образом квантированности «час-
ником».
Кроме того «часомерье», по-видимому, рассматривалось в двух ракурсах.
Один определялся потребностями соотнесения последовательности действий
и событий: начала и конца работы, церковных служб и пр. Такое использование
часомерия не вызывало недовольства властей. Наоборот, именно оно,
по-видимому, стимулировало установку башенных часов в стране. Другой аспект
часомерия, очевидно обусловленный бытовой эзотерикой веры в «злые», «добрые»
и «средние» часы, мог осуждаться властями и привести к его отнесению к
запрещенным занятиям.
Запрет на часомерие, вызванный борьбой властей с верой в «злые» и
«добрые» часы приводил, вероятно, к изыманию описания практических способов
измерения времени «косыми» часами. В результате этого соответствующих
произведений практически не осталось, о чем свидетельствует негативный
результат М. Ф. Мурьянова по их разысканию. Поэтому рассматриваемый текст
о часах является уникальным, исключительно ценным документом.
342
Календарное время в древнерусской космологии
Велико историческое значение текста о часах. Он как бы соединяет
древнерусскую метрологию и хронологию. Документ имеет хронологическое назначение,
так как он посвящен методу определения времени в «косых» часах. Однако
хронологическая цель достигается метрологическим способом — измерением тени
стоящего человека его ступнями («стопами»).
Роль хрономлнтии в сакрализации времени нл Руси
Часомерие как запрещенное русскими властями занятие, внесенное в
список отреченных знаний и книг, возможно, было также представлено набором
текстов, составляющих вкупе сокровенное произведение «Часомерие». Исходя
из предыдущего изложения, в гипотетическое «Часомерие» могло входить
описание практического способа определения текущего «косого» часа.
Единственное его изложение, вошедшее в Великие Минеи Четьи митрополита Макария,
рассмотрено выше. Возможно, подобный текст имелся в сокровенном «Часоме-
рии». Кроме того, требовались вспомогательные таблицы «стоп» (по 12
месяцам), аналогичные которым содержатся в Псковском календаре XIV в. Эти
таблицы должны были содержать данные для «стоп» широт, примерно от Киева до
Новгорода, иначе они не могли правильно «работать» для определения
текущего «косого» часа на конкретной широте. Третьим текстом в содержании «Часо-
мерия» должен быть особый набор таблиц, по которым устанавливалось
сокровенное «качество» любого наугад взятого «косого» часа (для даты каждого года)
как «злого», «доброго» или «среднего». В совокупности указанные три части
образовывали законченное эзотерическое «Часомерие», позволявшее
прогнозировать результаты жизненных событий по положительности и
отрицательности и неопределенности их исхода — в зависимости от времени наступления.
Такое трехчастное произведение, претендующее на предопределение событий,
автоматически попадало в разряд неугодных (с точки зрения духовных и
светских властей) трактатов, вносимых в списки запрещенных («отреченных»)
сочинений.
Ни среди древнерусских источников, ни в многочисленной историографии
не было и намека на существование эзотерического набора таблиц как третьей
части гипотетического «Часомерия». И тем не менее недавно он был
обнаружен71. Неизвестный ранее памятник является синтезом античных
астрологических представлений и древнерусских календарных методов. Он представляет
собой комплекс таблиц, компактно сконцентрированных в верхней части на двух
третьих площади одного листа в рукописи «Псалтирь с восследованием»
(кон. XV — нач. XVI в.), хранящейся в Отделе рукописей РГБ, фонд 354
(Вологодское собрание), № 14. Л. 663 (далее — Волог-14) (размер 20,7 х 15,3 см).
Упоминания или исследования памятника в описаниях рукописи и другой
литературе не имелось72. Документ для изучения представлял значительные
трудности, сейчас дана его полная расшифровка73. Ключом для правильного истолко-
Сакрализация времени на Руси
343
шА'
л
Ч ЕЩП
J
J
J ^ Uw? л ^.g\
1мП ^|rtf"
Iff
-■" -v;
4^V|*
u-U,
^■11Шв^^нг,д^5д1£^^Л4«
гг.. i tCcM**** r
i;» % **Mfi\ лл
--мод*' к <^-^>*м«<№ i k$iri у
Лто*А а#'«-#£*ч**£ Q *<£f t? 4 "
^ Г
^> ;*;'■
Рас. 3-6. Комплекс таблиц «По сему часы разумети дневные и ночные».
РГБ. Псалтырь с восследованием. Волог-14.
Кон, XV - нач. XVI в.
344 Календарное время в древнерусской космологии
вания послужила сводная таблица, расположенная в левом верхнем углу
памятника74, т. е. в том месте, на которое в первую очередь обращает внимание
человек, привыкший к чтению слева направо и сверху вниз. Эта таблица
является соединением (сводом) в один блок двух других таблиц (рис. 3-6).
Календарное назначение последних таблиц было установлено на славянском
материале в составе трехтабличного комплекса Норовской псалтири XIV в. в
сопоставлении с табличным текстом на стене Софии Киевской, сделанном в XIII в.
Была построена математическая модель, позволяющая на основе данных этих
таблиц определять день Пасхи любого года юлианского календаря75. Эти
результаты подтверждены специалистом в области теории и истории
календаря И. А. Климишиным76. Источниковый материал был расширен за счет
фрагмента таблицы из Старой Рязани кон. ХП~"ХШ вв. (до 1237 г.)77 и полного
трехтабличного комплекса в рукописном «Служебнике» XIV в.78 Изучение этих
календарных источников позволило сделать важный вывод об уровне календарных
знаний на Руси. В период XII-XIV вв. здесь использовался расчетный метод
определения дня Пасхи. Это решает вопрос о мере самостоятельности Руси по
ведению церковного календаря: она принадлежала к числу стран, владевших
методом расчетной (научной) пасхалистики79. Анализируемый документ кон.
XV — нач. XVI в. свидетельствует о расширении сферы научного
использования календарных таблиц. Блок из двух таблиц в левом верхнем углу документа
позволял устанавливать день недели любой даты юлианского календаря. Для
чего это нужно было, показывает таблица, расположенная под блоком из двух
таблиц и названная «О седми планитах»80. Из таблицы можно найти, каким из
дней недели «руководит» каждое из семи светил в порядке «халдейского ряда»:
Сатурн — субботой, Юпитер — четвергом, Марс — вторником, Солнце —
воскресеньем, Венера — пятницей, Меркурий — средой и Луна —
понедельником. Причем каждое из светил оказывает «злое», «доброе» или «среднее»
воздействие (рис. 3-7).
Изложенное представление восходит к древнегреческой астрологии (хроно-
мантии). Кстати, приводящийся в таблице порядок «планит» с Сатурном на
первом месте соответствует наблюдению древних вавилонян об удаленности
каждого из семи светил от Земли. В античной период эта вавилонская идея
трансформировалась в учение о хронократорах, по которому не только дни недели,
но все часы дня и ночи имели определенное светило в качестве «управителя»
с соответствующей характеристикой — «злого», «доброго» или «среднего».
Причем часы брались переменные («косые»), исходя из принципа деления светлого
периода суток (дня) на 12 равных частей (дневные часы) и темного времени
суток (ночи) на 12 равных часов (ночные часы). Получалось, что в сутках 24 часа,
но они для дня и ночи были разные, переменные. Их длительность менялась в
зависимости от времени года и географической широты. По учению о
хронократорах, первый дневной «косой» час, начинающийся с рассвета, имел то же
светило в качестве «управителя», что и день недели. Например, «управителем»
субботы был Сатурн, значит, и «управителем» первого дневного часа субботы
Сакрализация времени на Руси
345
v< •*' «чу*» v * ♦^ 4f*
\
1IIIIIHM I 1^, ..»»«»»А> i^»MM yui lull
* +
Рис. 3-7. Таблица <<0 седми планитах»
в составе комплекса таблиц
«По сему часы разумети дневные и ночные»
346
Календарное время в древнерусской космологии
был Сатурн. По таблице «О седми планитах» Волог-14 можно находить
«управителей» дневных и ночных часов любого дня недели. В ней за Сатурном
следует Юпитер: действительно, «управителем» второго дневного часа субботы,
по учению о хронократорах, был Юпитер. В таблице за Юпитером расположен
Марс, также являющийся «управителем» третьего дневного часа по учению о
хронократорах. Порядок последующих «планит» в таблице обладает тем же
«свойством». Так, на последнем, седьмом месте в русской таблице находится
Луна, которая, согласно тому же учению, была «управителем» седьмого
дневного часа.
Чтобы найти «управителя» восьмого часа, надо вернуться к началу русской
таблицы: им будет Сатурн. Следуя далее по таблице, получим, что
«управителем» 12-го, т. е. последнего дневного часа субботы будет Венера, а 13-го, т. е.
первого ночного часа субботы будет Меркурий. По учению о хронократорах,
первый ночной час является «управителем» всей ночи81: Меркурий является
«управителем» ночи в субботу. На Луне (14-й или 2-й ночной час)
заканчивается второй цикл табличных данных. Для установления 15-го или 3-го ночного
часа субботы надо третий раз обратиться к началу таблицы — Сатурну — и
следовать по ней. Конец третьего цикла (Луна) будет соответствовать 21-му
часу, т. е. 9-му ночному часу субботы. «Управителей» последующих часов даст
четвертый цикл таблицы: 22-го часа — Сатурн, 23-го — Юпитер, 24-го — Марс.
Итак, «управителем» последнего суточного или 12-го ночного часа субботы
будет Марс. Следующий «планитой» в таблице является Солнце, оно будет
«управителем» всего воскресенья и первого дневного часа этого дня недели.
«Управителем» второго дневного часа воскресенья будет идущее в таблице
после Солнца светило — Венера. Последовательность «управителей» часов дня
воскресенья можно найти по этой же таблице, только началом будет не Сатурн, а
Солнце, а концом не Луна, а Марс, предшествующий в таблице Солнцу.
Вообще по русской таблице можно находить «управителей» часов каждого дня
недели, если начинать циклы со светила, «управляющего» этим днем недели. Так,
например, поскольку понедельником «управляет» Луна, то начинать цикл для
отсчета «управителей» часов понедельника надо с конца таблицы (с Луны),
затем переходить к ее началу (Сатурну) и т. д. (см.: изложение с графическими
иллюстрациями)82.
Расчеты можно упростить, если исходить из свойства инвариантности
(постоянства) связи между «управителями» дня и ночи. Например, зная, что
«управителем» ночи субботы является Меркурий, можно начинать циклы для
ночных часов субботы сразу с этой «планиты» по русской таблице (а не с Сатурна,
как это было сделано выше). Об этом знал русский составитель
анализируемого документа, причем не только знал, но и «преломил» знание в оставшихся
таблицах. Блок из двух таблиц, расположенный в правом верхнем углу
памятника, предназначался для определения дневного «управителя» любой даты
юлианского календаря, а помещенная под ним таблица — для определения ночного
«управителя» той же даты83. Составитель документа видел его главный смысл
Сакрализация времени на Руси
347
именно в возможности дифференцированного установления дневных и ночных
«управителей» дат, что следует из общего заголовка памятника — «По сему
часы разумети дневные и ночные».
Какую связь имеет рассмотренный памятник с русской литературой по
астрологии? Прежде всего здесь следует указать на статью «Часы на седмь дни:
добры и средни и злы», содержащуюся в одном рукописном сборнике,
переписанном древнерусским книжником Ефросином в 1450-1470 гг.84 Текст был
опубликован Н. С. Тихонравовым85 и болгарскими учеными Цв. Кристановым и
Ив. Дуйчевым86. Анализ существа произведения ими не был сделан. Памятник
представляет собой расписание характеристик хронократоров для каждого часа
всех дней недели по типу: в воскресенье час 1-й добр, час 2-й добр, час 3-й зол,
час 4-й средний и т. д. Расписание генетически связано с таблицей «О седми
планитах» Волог-14, где соответствующая информация представлена в сжатом
виде. Расписание по существу является «разверткой» данных этой таблицы
(с незначительным отличием) в соответствии с учением о хронократорах,
подобно тому, как это было сделано выше. В статье XV в. указываются только
характеристики «управителей» часов — «злой», «добрый» и «средний». Эти
характеристики лишь немногим различаются в обоих источниках, но
существенно расходятся с традиционными астрологическими трактовками —
древнегреческой (птолемеевской) и так называемой «индийской», описанной Бируни87
(см. таблицу, условные обозначения: Д — добрый, 3 — злой, С — средний).
Таблица 13
Характеристики хронократоров различных традиций
Птолемей
«Индийцы»
Ефросин
Волог-14
Сатурн
3
3
д
д
Юпитер
Д
Д
3
с
Марс
3
3
С
3
Солнце
С
3
Д
Д
Венера
Д
Д
Д
Д
Меркурий
С
С
3
3
Луна
Д
С
С
С
Расхождение в характеристиках хронократоров в русских источниках
(Ефросин и Волог-14) могли произойти в результате того, что писец Волог-14
спутал (поменял местами) в таблице «О седми планитах» характеристики
расположенных рядом Юпитера и Марса. В подлиннике документа характеристики этих
хронократоров могли быть такими, как у Ефросина. В древнерусской
литературе по «народной» астрологии приводятся птолемеевские характеристики
хронократоров.
Проанализированный памятник, оказавшийся астрологическим (хрономан-
тическим) «вечным календарем» для установления качеств хронократоров днев-
348 Календарное время в древнерусской космологии
ных и ночных часов любой даты юлианского календаря, существенно
дополняет историю формирования астрологических представлений на Руси. Помимо
произведений «народной» астрологии, переводившихся с греческого,
еврейского, латинского и западноевропейских языков, в XV — нач. XVI вв.
существовали оригинальные произведения по астрологии, соединившие в себе местную рас-
четно-календарную методику с античным учением о хронократорах.
Анализ статьи «Часы на седмь дни: добры и средни и злы» сер. XV в.
показал, что используемая в ней трактовка хронократоров, отличная от
распространенной птолемеевской и «индийской», могла появиться в результате
редактирования или переделки текста88. Аналогичные оригинальные «качества»
хронократоров легли в прогностическую основу комплекса таблиц рукописи
Волог-14. Существование этих вариантов хронократоров является крайне
интересным фактом, так как в историографии представлено мнение о почти
исключительном распространении в мире птолемеевских характеристик
(«индийские» можно считать их модификацией, или наоборот). Следует учитывать, что
птолемеевские «качества» известны и в древнерусских астрологических
текстах иноземного происхождения, преимущественно относящихся к жанру
«народной литературы». Оба древнерусских текста принадлежат к другому жанру:
функциональных произведений типа «пособий» для определения сокровенного
«качества» каждого «косого» часа суток — в зависимости от дня недели — для
любой даты юлианского года. Таким образом, наличие двух однотипных текстов
с оригинальной (древнерусской) трактовкой хронократоров позволяет
заключить, что подобное им произведение, возможно, входило в гипотетическое «Часо-
мерие». На его основе, зная, как определить текущий «косой» час на данной
географической широте и располагая таблицами хронократорных
характеристик «косых» часов, можно было прогнозировать результаты типичных для
средневекового быта событий по отрицательности, положительности и
неопределенности их исхода — в зависимости от наступления конкретного «косого» часа.
Наличие указанных «пособий» свидетельствует о существовании
древнерусской прогностической традиции на основе хрономантии по «качествам» «косых»
часов. Однако сами «пособия» ничего не говорят о том, какое влияние они
оказывали на восприятие времени. Об этом могут свидетельствовать тексты,
которые написаны на основе «пособий». Такие сочинения до сих пор не выявлены.
Тем интереснее, что в известном древнерусском «Сказании о Мамаевом
побоище», очевидно, учитывается соответствующее сокровенное значение часа. На
это, по-видимому, впервые обратил внимание В. Н. Рудаков89. «Сказание»
является художественным осмыслением древнерусским автором Куликовской
битвы 1380 г. спустя более века: по последним данным, произведение написано
в начале XVI в.90
В. Н. Рудаков одним из первых подошел к «Сказанию» как художественному
произведению, содержащему глубокие, потаенные смыслы, тогда как прежде
оно преимущественно воспринималось, как памятник, реально отражающий
исторические события. Из эпизодов боя, описанных в «Сказании», в качестве пере-
Сакрализация времени на Руси
349
ломного события выделяется своевременное вступление в битву
находившегося до этого в укрытии засадного полка (содержание «Сказания» здесь и далее
дается по академическому изданию91). Своевременность появления на поле боя
резерва в «Сказании» обусловливается точным временем его выхода из засады
в «осмой час». Об этом В. Н. Рудаков пишет следующее: «Упоминание "осмого
часа"... не отражает реальный 8-й час дня (по древнерусской системе
счисления часов), а имеет символическое значение. Средневековью были известны
"добрые" и "злые" дни, были известны также и "добрые" и "злые" часы.
Возможно, автор "Сказания" имел основание полагать, что "осмой час" в субботу
8 (!) сентября 1380 года (6888 от СМ) непременно должен быть "счастливым",
отмеченным Божественной благодатью, и поэтому благоприятным для победы
русских сил»92.
В. Н. Рудаков считает 8-й час вступления в бой засадного полка «добрым»,
т. е. благоприятным для победы русских войск. При этом исследователь
полагает, что 8-й победный час не был реальным временем древнерусского часоме-
рия, а являлся числовым символом, «счасливость» которого обусловлена
повторяемостью цифры 8 в дате Куликовской битвы 8 сентября 6888 (1380 г.),
служащей знаком Божественной благодати. Такое объяснение не лишено
остроумия. Однако в свете существования древнерусских способов определения
«несчастливости» и «счастливости» реальных часов необходимо проверить,
каким был 8-й час Куликовской битвы по соответствующим сокровенным
традициям. Как пишет В. Н. Рудаков и что соответствует исторической реальности,
битва 8 сентября 1380 г. происходила в субботу. Вопреки этому, в более чем
150 списках «Сказания», за исключением позднего XVIII в. списка Основной
редакции (Печатного варианта), днем недели сражения указана пятница.
Действительно, только в пятницу (а не в субботу) 8-й час во всех сокровенных
традициях (птолемеевской, «индийской», древнерусских Ефросина и Волог-14)
имеет качество «доброго», «управляемого» Венерой93.
Итак, суждение В. Н. Рудакова о трактовке в «Сказании» 8-го часа как
«доброго», благоприятного для вступления в бой засадного полка, получает
источниковедческое основание. Автор «Сказания» мог использовать какое-то
«пособие», подобное текстам «Часы на седмь дни» (сер. XV в.) или «По сему часы
разумети» (кон. XV — нач. XVI в.). Следует учитывать, что «счастливость»
8-го часа в «Сказании» выступает лишь одним из факторов, обеспечивших
русскую победу, причем не самым важным. Главным условием победы войск
св. Дмитрия Донского было заступничество христианской Божественной силы.
В. Н. Рудаков по-новому охарактеризовал упоминаемый в «Сказании» «дух
южный», подувший сзади воинов засады, не в качестве реального южного ветра,
как преимущественно считали предыдущие исследователи, а как знамение
пришествия на помощь русским «силы Святого Духа»94. В «Сказании»
соответствующий процесс описан так: Святой Дух «вошел» в засадный полк, ворвавшийся
в гущу боя и руками воинов, ставших могучими, сокрушил врага. В этой ситуации
решающей была своевременность выступления резервного войска. Если бы оно
350
Календарное время в древнерусской космологии
вошло в сражение до сошествия Святого Духа, то ордынцы, фактически почти
разбившие основное русское войско, могли бы быстро справиться и с засадным
полком. Надо было правильно уловить момент сошествия Святого Духа и
только тогда вступать в бой, что и произошло. Уловил важный момент появления
«духа южного», правильно понял его значение и дал команду к вступлению в бой
резервной дружины воевода Д. М. Боброк-Волынец.
На первый взгляд его роль в «Сказании» кажется необычной и даже
фантастической. К описываемому времени св. Дмитрий Донской, будучи раненым, не
мог руководить сражением и фактическое руководство войсками перешло к его
двоюродному брату князю Владимиру Андреевичу Серпуховскому, стоявшему
во главе засадного полка. Вместо того чтобы принять самостоятельное
решение о выступлении в поддержку изнемогающим под натиском ордынцев
основным силам, князь Владимир Андреевич почему-то обратился за разрешением
к воеводе Боброку и получил отказ, мотивируемый тем, что не подошло для этого
благоприятное время. Когда же соответствующий момент настал, воевода не
только сообщил об этом князю Владимиру, но и сам повел воинов в победный
бой. Такое почти нереальное, могущественное положение Боброка может
объясняться его необыкновенным авторитетом. По «Сказанию», авторитет воеводы
обусловлен тем, что он был «ведуном», способным предсказывать результат боя
и на основе своего предвидения — правильно определять стратегию и тактику
боя, приведшие к победе. По мнению автора «Сказания», течение сражения и
его результат как бы «записывались» в ландшафте места боя. «Ведовство» Боб-
рока основывалось на умении «читать» эти ландшафтные «военные приметы» и
провидчески толковать их (рис. 3-8). При этом воевода был правоверным
христианином, не язычником. Рекомендация Боброка св. Дмитрию Донскому о
необходимости предварительного и постоянного молитвенного обращения всего
русского воинства за помощью к Богу и святым, осознание воеводой «духа
южного» в качестве предзнаменования вхождения в воинов резерва силы Святого
Духа находились в рамках христианской религиозности.
В. Н. Рудаков поставил вопрос о связи между наступлением «доброго» 8-го
часа и появлением «духа южного»: «Резонен вопрос, почему древнерусский
книжник именно в "осмом часу" "заставил" своего героя ожидать Божьего
заступничества». И ответил так: «Таким образом, упомянутый "осмой час", по всей
видимости, отражал своеобразное "художественное время" памятника, автор
которого с провиденциалистских позиций воспринял победу русских на
Куликовом поле»95. Говоря о «художественном времени» «Сказания», В. Н. Рудаков
вольно или невольно характеризует его отличающимся от современного
восприятия. Однако то время, которое современному читателю кажется
«художественным», для древнерусского автора могло быть вполне реальным. Судя
по прогностическим «пособиям» сер. XV — нач. XVI в., рассмотренным выше,
реальность эта заключалась в том, что время мыслилось несущим
определенную предсказательную информацию, зависящую от номера «косого» часа
(конкретного дня недели) по качеству «злого», «среднего» и «доброго». Наделение
Сакрализация времени на Руси
351
*• • * А.
лрсплга Л1ЛД1ЛЯ егожР
Pwc. 3-8. Сокровенное «чтение» военных примет Д. М. Боброком-
Волынцем перед Куликовской битвой.
ГИМ. Фрагмент рукописного настенного листа XIX в.
Воевода Боброк лежа слушает землю.
Дмитрий Донской находится рядом, сидя на лошади
352 Календарное время в древнерусской космологии
реального древнерусского времени качеством метафорического, придуманного
автором «Сказания» времени, идет вразрез с выявленными новыми
источниками типа «пособий», что служит дополнительным подтверждением
необходимости и актуальности исследования феномена природы времени в
космологическом аспекте.
Важным выводом В. Н. Рудакова является заключение о трактовке
«Сказанием» провиденциальности русской победы на Куликовом поле. В этой связи
фигурирование в произведении «доброго» 8-го часа представляется
неуместным: зачем он нужен, если в повествовании определяющим фактором исхода
боя служит взятие Высшей силой стороны русских? Получается как бы
избыток признаков, обусловивших победу войск св. Дмитрия Донского. Но это в
том случае, если 8-й час не отражал реальное восприятие времени
древнерусским человеком. На основе изложенных выше новых данных особенности
восприятия времени на Руси уходили в античную хрономантию, по которой
каждый «косой» час «управлялся» определенным светилом септенера, имевшим
качества «злого», «доброго» и «среднего». Древнерусский человек,
заинтересованный в успешном исходе своих дел, начинал их в «добрый» час и опасался это
делать в «средний», а тем более в «злой» час.
В этой связи закономерно фигурирование в «Сказании» 8-го «доброго» часа
для результата боя. Решающая роль силы Святого Духа в Куликовской победе
не могла исключить условия «доброты» соответствующего часа, так как по
тогдашним древнерусским представлениям немыслимо было приурочение
неизбежности воинского успеха к «злому» (а также «среднему») часу. Поэтому
одновременное упоминание в «Сказании» о «добром» 8-м часе и явлении Святого
Духа — необходимое перечисление признаков, ведущих к победе. Причем
успешное вмешательство Божественных сил могло произойти только в «добрый» час,
каковым и был 8-й час битвы. В таком случае разъясняется еще одна загадка:
почему в «Сказании» не говорится, как Боброк технически определил
наступление 8-го часа. В нач. XVI в., когда создавалось «Сказание», тем более в 1380 г.,
когда происходила Куликовская битва, на Руси отсутствовали переносные
устройства-часы, по которым можно было это установить. Метод определения
«косых» часов по счету ступнями тени человека, о котором говорилось выше (при
условии, что он был известен по крайней мере в начале XVI в.), не давал столь
точного результата, чтобы быть определенно уверенным, что, например, 8-й час
уже наступил (а не идет еще 7-й час). Поэтому напрашивается вопрос: а нужно
ли было Боброку, по замыслу автора «Сказания», определять точное
наступление 8-го часа? Если автор-знал, что победа возможна только в «добрый» 8-й час,
причем будет обусловлена помощью Святого Духа, то знамение о нем в виде «духа
южного» само по себе свидетельствовало о том, что 8-й час уже наступил.
«Доброта» 8-го часа «Сказания» в свете древнерусского понимания
сокровенной природы реального суточного времени также более полно разъясняет
удивительную, почти неправдоподобную авторитетность воеводы Боброка. Дело
в том, что исход события, приходящегося на «добрый» час, одинаково распро-
Сакрализация времени на Руси
353
странялся на обоих противоборствующих соперников в бою. Русские и
ордынцы на Куликовом поле в «добрый» час (при других равных возможностях)
имели одинаковую вероятность победы. Что же могло гарантировать непременный
успех? Вмешательство Высшей силы. Почему православные Божественные силы
себя в бою проявили, а ордынские — нет? Потому что воевода Боброк узнал
через прогностическое «испытание примет», что о помощи надо просить Бога
и святых заранее, а затем постоянно. Он посоветовал св. Дмитрию Донскому
распорядиться, чтобы все воины молили Бога о помощи и «вооружилися
крестом» (очевидно, нашили его на одежду). Это обеспечило русским решающую
поддержку в критический момент боя со стороны Святого Духа. Мамай,
одерживавший до этого верх в сражении, поздно спохватился, поняв, что победа
уходит от него. Он также обратился к своим богам, но они остались глухи к его
мольбе: «...и не бысть ему помощи».
В свете изложенного становится понятным, почему столь необычную роль в
«Сказании» играет воевода — «ведун», а не церковнослужитель. Одним из
ключевых атрибутов «Сказания» является «добрый» 8-й час, а вера в «злые» и
«добрые» часы осуждалась Церковью. Но запрет в меньшей степени касался
светских людей, каким был Боброк. «Ведовская» роль Боброка перекликается с
наблюдениями акад. Д. С. Лихачева о различном отношении к чудесному в
духовной и светской литературе в период русского Предвозрождения (когда
было написано «Сказание»). «В агиографической литературе чудо —
вмешательство Бога, — писал ученый, — восстанавливающего справедливость,
спасающего праведника, наказывающего провинившегося. В литературе о купцах
чудесный элемент часто — чародейство»96. В «Сказании» чародеем выглядит
Боброк, который познает будущее через сокровенное общение с природой,
благодаря своей способности к прекогнистике, которая в современной психологии
определяется так: «Способность предсказывать будущие события,
приписываемая пророкам и гадателям»97. Автор древнерусского произведения
демонстрирует интерес к античной эзотерике, используя восходящие к ней
прогностические «пособия» по часам, что также является данью возрожденческим
умонастроениям.
О внимании средневековой славянской общественности ХП-ХШ вв. к «злым»
(а не «добрым») дням свидетельствуют их позднейший кириллический перечень
(по месяцам) в глаголическом Ассеманиевом Евангелии XI в. Критикует
именно «злые» дни и часы известный псковский духовный публицист Филофей в
«Послании о злых днях и часах» (ок. 1524 г.). Как бы в противовесе с этим
находится интерес Ивана Грозного к «счастливым» дням. Известно, что опальный
князь Андрей Курбский, до побега в Литву хорошо знавший царя, упрекал его в
использовании «чаровников», приглашаемых из дальних стран, для «пытания»
о «счастливых» днях. При этом Курбский проводит аналогию с
израильско-иудейским царем Саулом, который как полководец прибегал к услугам чародейки98.
Из этого можно сделать вывод, что Грозный царь интересовался «счастливыми»
днями военных сражений. Таким образом, неслучайность мотива «доброго» часа
12 3ак 4748
354
Календарное время в древнерусской космологии
как одного из факторов Куликовской победы в «Сказании о Мамаевом
побоище» находит определенное косвенное подтверждение в знаменитой полемике
между Грозным и Курбским.
Таким образом, хрономантия в древнерусской космологии играла роль
средства сакрализации времени по прогностическому критерию «злого», «доброго»
и «среднего» дня и часа. Нет данных, раскрывающих глубину проникновения в
общественное сознание указанного типа сакрализации времени. Хронологически
его распространение относится, скорее всего, к периоду XV-XVI вв. Тогда
получили распространение механические («часник» Лазаря Сербина 1404 г.) и
описательные (по тени человека кон. XV — первая пол. XVI в.) способы
определения «косых» часов. К сер. XV — нач. XVI в. относятся «пособия» для
определения качеств часов как «злых», «добрых» и «средних». В XVI в. в России на
смену счету времени «косыми» часами приходят устройства для
равноденственных часов по 60 мин, в связи с чем прогнозирование по «злым», «добрым» и
«средним» часам постепенно сходит на нет. Лишь в памяти сегодняшних поколений
от него сохраняется крылатое благопожелание начинать дело, отправляться в
путь «в добрый час» (правда, сейчас оно воспринимается в метафорическом,
а не прямом смысле, как прежде).
Интерес представляет вопрос о значении прогностической сакрализации
времени как специфического феномена космологии. По-видимому, влияние
сакрализации времени в XV-XVI вв. распространялось на довольно широкие
слои населения, поскольку против веры в «злые» дни и часы выступала
Церковь в лице ее авторитетного представителя Филофея. Соответствующее
прогнозирование в основном касалось вопросов быта. Оно интересно как
стремление людей использовать время для повышения качества жизни через
регулирование ее предсказуемости. В «злой» день и час не начинали никаких
важных дел, в «средний» день и час избегали предпринимать какие-либо
ответственные начинания. «Добрый» час был необходимым условием
достижения любого позитивного результата, однако не гарантировавшим полный
успех.
Примечания
1 Прозоровский Д. И. О старинном русском счислении часов / / Труды второго
археологического съезда. СПб., 1881. Вып. 2. С. 162-165.
2 Степанов Н. В. Заметка о хронологической статье Кирика (XII век) / / ИОРЯС.
СПб., 1910. Т. XV. Кн. 3. С. 135.
3 Степанов Н. В. Единицы счета времени (до XIII в.) по Лаврентьевской и 1-й
Новгородской летописи // ЧОИДР. М., 1909. Кн. 4. С. 20-22.
4 Симонов Р. А. Древнерусский источник о применении «косого» (переменного) часа
на Руси / / Теория и методы источниковедения и вспомогательных исторических
дисциплин. М., 1985. С. 43.
5 РГАДА, ф. 188, on. I, № 632. Л. 42.
Сакрализация времени на Руси
355
6 Журавель А. В., Симонов Р. А. Исследование летописного свидетельства 1033 г. о
«косом» часе (с помощью компьютера) / / Информационная свобода и
информационная безопасность. Материалы международной научной конференции. Краснодар, 2001.
С. 242-245.
7 ПСРЛ. СПб., 1843. Том 2. С. 226.
8 Зализняк А. А., Янин В. Л. Новгородская псалтырь начала XI в. — древнейшая
книга Руси (Новгород, 2000) / / Вестник Российского гуманитарного научного фонда.
2001. № 1.С. 128-159.
9 Там же. С. 161.
10 Там же. С. 164.
11 Рубан Ю. А. Как молились в Древней Руси? / / Россия в IX-XX веках. Проблемы
истории, историографии и источниковедения. Сборник статей и тезисов докладов
вторых чтений, посвященных памяти А. А. Зимина. М., 1999. С. 385.
12 Там же. С. 384.
13 Там же. С. 386-390.
14 Там же. С. 384.
15 Simonov R. A., Demidov S. S. Non-traditional Forms of Mathematics in Medieval
Russia // XXI International Congress of History of Science: Book of Abstracts. Mexico
City, 2001. P. 497-498.
16 Кирик Новгородец. Учение им же ведати человеку числа всех лет // Историко-
математические исследования. М., 1953. Вып. 6. С. 182-184.
17 Симонов Р. А. О новом древнерусском тексте 1138 г. // Историко-математиче-
ские исследования. Вторая серия. М., 1955. Вып. 1 (36). С. 66-84.
18 Древняя Русь: пересечение традиций. М., 1997. С. 71-72.
19 Миронова 7\ Л. Хронология старославянских и древнерусских рукописных книг
X-XIbb. M., 2001. С. 137.
20 Там же. С. 138.
21 Творогов О. В. Ефрем (XI в.) // Словарь книжников и книжности Древней Руси:
XI — первая половина XIV в. Л., 1987. Вып. 1. С. 125.
22 Рубан Ю. А. Как молились в Древней Руси? С. 383.
23 Там же. С. 384.
24 Леманн А. Иллюстрированная история суеверий и волшебства от древности до
наших дней. М., 1901. С. 160-161.
25 Щавелева Н. И. «Астрологическое зерцало» в молитвеннике XI в. / / Историко-
астрономические исследования. М., 1994. Вып. 24. С. 244-252; Симонов Р. А.
Счастливый и несчастливый день, час // Русская речь. М., 1995. № 5. С. 65-66.
26 Изборник Святослава 1073 г. Кн. 1: Факсимильное издание. М., 1983. Л. 251а—б.
27 Чебан С. К вопросу о гигиенических предписаниях в древнерусской литературе / /
ЖМНП. СПб., 1913. Ч. 43 (январь). С. 100-121; Груздев В. Ф. Русские рукописные
лечебники. Л., 1946. С. 51; Прохоров Г. М. Книги Кирилла Белозерского // ТОДРЛ.
Т. 36. Л., 1981. С. 66.
28 22 Пентковский А. М. Календарные понятия в Изборнике Святослава 1073 г. и
их наименования / / Древнерусский литературный язык в его отношении к
старославянскому. М., 1987. С. 74; Державина Е. И. Культурные связи Древнего Киева
(Статья «О македонских месяцах» в составе Изборника Святослава 1073 г.) //
Герменевтика древнерусской литературы XI-XIV вв. М., 1992. Сб. 5. С. 263-271.
29 Хавский П. Примечания на русские хронологические вычисления / / ЧОИДР.
№6. М., 1847. С. 32; Адамантов Д. Краткая история развития математических наук
356
Календарное время в древнерусской космологии
с древнейших времен и история первоначального их развития в России. Киев, 1904.
С. 75; Обнорский С. П., Бархударов С. Г. Хрестоматия по истории русского языка. Л *
М., 1938. С. 186.
30 См.: Кирик Новгородец. Учение им же ведати человеку числа всех лет. С 182-
185.
31 My рьяное М. Ф. О космологии Кирика Новгородца / / Вопросы истории
астрономии. Сб. 3. М., 1974. С. 12-17; My рьяное М. Ф. Время (понятие и слово) // Вопросы
языкознания. 1978. № 2. С. 64.
32 Древняя Русь: пересечение традиций. М., 1997. С. 71-72.
33 Симонов Р. А. По поводу гипотезы о циклах поновлений у Кирика Новгородца
(XII в.) / / Источниковедение и краеведение в культуре России. Сб. в честь С. О.
Шмидта. М.: РГГУ, 2000. С. 45-47.
34 Громов М. Н., Мильков В. В. Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001.
С. 397.
35 Симонов Я. Л. Кирик Новгородец — ученый XII века. М., 1980. С. 21-25.
36 Се есть въпрошание Кюриково // РИБ. Т. 6. СПб., 1880. Стлб. 44.
37 Керенский П. Ф. Древнерусские отреченные верования и календарь Брюса / /
ЖМНП. № 3-5. М., 1874. № 3. С. 71.
38 Кононов Н. Н. Из области астрологии // Древности. Труды славянской
комиссии имп. Московского археологического общества. Т. 4. Вып. 1. М., 1907. С. 5.
39 Срезневский И. Я. Сведения о малоизвестных и неизвестных памятниках. П.
Глаголическая книга Евангельских чтений, Ватиканская: выписки из нее и описание //
Сб. статей, читанных в ОРЯС. Т. 1. №6-9. СПб., 1867. С. 65.
40 Более подробно см.: Симонов Р. А. Счастливый и несчастливый день, час / /
Русская речь. М., 1995. № 5. С. 66-67.
41 Сперанский М. Н. «Злые дни» в приписках Ассеманова Евангелия / /
Македонски преглед. София, 1932. Кн. 1. С. 45.
42 Там же. С. 52.
43 Прохоров Г. М. Книги Кирилла Белозерского // ТОДРЛ. Т. 36. Л., 1981. С. 66.
44 Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы. Т. 2. М., 1863.
С. 386-387.
45 Пашков А. М., Симонов Р. А. Кирик Новгородец в письмах Н. В. Степанова к
А. А. Шахматову / / Историко-астрономические исследования. Вып. XIX. М., 1987. С. 317.
46 Мильков В. В. Апокриф «Галеново на Гиппократа» в древнерусской книжности //
Проблемы источниковедения истории книги. М., 1997. Вып. 1. С. 25-31.
47 Прохоров Г. М. Книги Кирилла Белозерского // ТОДРЛ. Т. 36. Л., 1981. С. 65.
48 Гарэн Э. Магия и астрология в культуре Возрождения // Эудженио Гарэн.
Проблемы итальянского Возрождения: Избранные работы. М., 1986. С. 331-349.
49 Рабинович И. М. О ятроматематиках // Историко-математические
исследования. М., 1974. Вып. XIX. С. 225.
50 Симонов Р. А. О чем судили и ведали люди, «зовомии матиматици» // Русская
речь. 1983. №3. С. 105-111.
51 Симонов Р. А. Итальянский врач XVI века Арнольф в Москве // Архив насле-
дия-2000. М., 2001. С. 9-17.
52 Симонов Р. А. Российские придворные «математики» XVI-XVII веков //
Вопросы истории. 1986. № 1. С. 78-79.
53 Мурьянов М. Ф. Хронометрия Киевской Руси // Советское славяноведение. М.,
1988. №5. С. 4-12.
Сакрализация времени на Руси
357
54 Симонов Р. А. О географической широте, соответствующей данным о
длительности дня и ночи, встречающимся в славяно-русских рукописях / / Традиции
древнейшей славянской письменности и языковая культура восточных славян. М., 1991. С. 212.
55 Симонов Р. А. Новое о древнерусском часомерии // Материалы VII
Международной научной конференции «Информационные технологии в печати». МАИ. М., 2001.
С. 15.
56 Симонов Р. А. Русские «пособия» XVII в. о бое часов как свидетельства
наблюдений восходов и заходов Солнца // Историко-астрономические исследования. М., 1994.
Вып. 24. С. 235-243.
57 ГИМ. Барс. № 1476. Сборник XVII в. Л. 309.
58 Симонов Р. А. Использование методов компаративистики при анализе текстов о
длительности дня и ночи / / Источниковедение и компаративный метод в
гуманитарном знании: Тезисы докладов и сообщений научной конференции. РГГУ. М., 1996.
С. 340-343.
59 Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века / Под ред. В. И. Бугано-
ва. М., 1987. С. 695-697.
60 Симонов Р. А. Текст XV в. об измерении времени часами на Руси //
Вспомогательные исторические дисциплины: специальные функции и гуманитарные
перспективы: Тезисы докладов и сообщений XIII научной конференции. РГГУ. М., 2001. С. 112-
114; Симонов Р. А. Сведения XV в. о древнерусском способе измерения часов //
Вестник Литературного института. М., 2001. № 1. С. 164-166.
61 Федоров В. Д. Наше время такое... О поэзии и поэтах. М„ 1973. С. 37.
62 Щапов Я. Н. Календарь в псковских рукописях XV-XVI вв. / / ТОДРЛ. Т. 37. Л.,
1983. С. 157-183.
63 Латышев И. И., Свирлова А. К., Симонов Р. А. Анализ астрономических данных
Псковского календаря XIV в. // ТОДРЛ. Т. 37. Л., 1983. С. 184-187.
64 Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века / Под ред. В. И. Бугано-
ва. М., 1987. С. 695-696.
65 Пентковский А. М. Календарные таблицы в русских рукописях XIV-XVI вв. //
Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописных книг. М., 1990.
Вып. 3. Часть. 1.С. 170-171.
66 Полное собрание русских летописей. М.; Л., 1949. Т. 25. С. 232-233.
67 Филофей. Послание о злых днях и часах / / ПЛДР. XV — первая половина XVI в.
М., 1984. С. 442.
68 Мильков В. В. Древнерусские апокрифы / Под ред. Р. А. Симонова. СПб., 1999.
С. 349.
69 ПСРЛ. М.; Л., 1949. Т. 25. С. 232.
70 Пипуныров В. Н., Чернягин Б. М. Развитие хронометрии в России. М., 1977.
С. 12.
71 Симонов Р. А. Астрологический «вечный календарь» в русской рукописи конца
XV — начала XVI в. // Букинистическая торговля и история книги. М., 1995. Вып. 4.
С. 54-69; Simonov R. A. Russian Astrology: A New Monument of the Late Fifteenth and
Early Sixteenth Centuries / / Acts XVIII-th International Congress of Byzantine Studies:
Selected papers. Shepherstown. 1996. Vol. IV. P. 291-297, с публикацией снимка таблиц.
72 Новые поступления (1953 г.) // Записки Отдела рукописей (ГБЛ). Вып. 16. М.,
1954. С. 150 (описание рукописи № 124 дано Я. Н. Щаповым); Кудрявцев И. М., Ухо-
ва Т. Б., Шаркова М. Б., Щапов Я. Н. Описание Вологодского собрания рукописей,
фонд. 354. М., 1955. Машинопись. С. 13; Предварительный список славяно-русских ру-
358
Календарное время в древнерусской космологии
кописных книг XV в., хранящихся в СССР (Для сводного каталога рукописных книг,
хранящихся в СССР) / Составитель А. А. Турилов. М., 1986. С. 274.
73 Симонов Р. А. Астрологический «вечный календарь» в русской рукописи конца
XV — начала XVI в. // Букинистическая торговля и история книги. М., 1995. Вып 4
С. 54-69.
74 Simonov R. A. Russian Astrology: A New Monument of the Late Fifteenth and Early
Sixteenth Centuries. P. 297.
75 Симонов Р. А. Календарно-астрономические таблицы Норовской псалтыри //
Язык и письменность среднеболгарского периода. М., 1982. С. 93-102.
76 Климишин И. А. Календарь и хронология. М., 1990. С. 368-372.
77 Медынцева А. А. Эпиграфические находки из Старой Рязани // Древности
славян и Руси. М., 1988. С. 252-254.
78 Симонов Р. А. «Мисячные числа» и «вечный календарь» // Герменевтика
древнерусской литературы. Сб. 2: XVI — начало XVIII века. Институт мировой литературы
им. А. М. Горького АН СССР. М., 1989. С. 77-89.
79 Симонов Р. А «Учение» Кирика Новгородца 1136 г. и календарно-пасхальные
граффити // Труды VI Международного Конгресса славянской археологии. М., 1999. Т. 5.
С. 142-153.
80 Simonov R. A. Russian Astrology: A New Monument of the Late Fifteenth and Early
Sixteenth Centuries. P. 297.
81 Bouch-Leclerg A. L'astrologie greque. Paris, 1899. P. 480.
82 Симонов Р. А. Астрологический «вечный календарь» в русской рукописи конца
XV — начала XVI в. С. 59-62.
83 Simonov R. A. Russian Astrology: A New Monument of the Late Fifteenth and Early
Sixteenth Centuries. P. 297.
84 Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская М. В. Описание сборников XV в.
книгописца Ефросина // ТОДРЛ. Т. 35. Л., 1980. С. 7.
85 Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы. Т. 2. М., 1863.
С. 382-384.
86 Кристанов Цв., Дуйчев Ив. Естествознанието в средновековна България.
София, 1954. С. 502-505.
87 Виру ни Абу Рейхан. Избранные произведения. Ташкент, 1975. Т. 6. С. 180.
88 Симонов Р. А. Объяснение трактовки «качеств» хронократоров в древнерусском
астрономическом тексте XV в. / / Герменевтика древнерусской литературы X-XVI вв.
М., 1992. Сб. 3. С. 327-343.
89 Рудаков В. Н. «Дух южный» и «осьмый час» в «Сказании о Мамаевом побоище» / /
Герменевтика древнерусской литературы. М., 1998. Сб. 9. С. 135-157.
90 Кучкин В. А. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский в канун Куликовской
битвы / / Церковь, общество и государство в феодальной России. М., 1990. С. 114; Клосс Б. М.
Об авторе и времени создания «Сказания о Мамаевом побоище» / / IN MEMORIAM:
Сборник памяти Я. С. Лурье. СПб., 1997. С. 253-262; Симонов Р. А. Уточнение
датировки «Сказания о Мамаевом побоище» / / Вестник Литературного института. М., 2000.
№2. С. 231-234.
91 Памятники Куликовского цикла / Институт истории РАН. СПб., 1988.
92 Рудаков В. И. Указ. соч. С. 149.
93 Симонов Р. А. Русская астрологическая книжность (XI — первая четверть XVIII
века). М., 1998. С. 23-27; Он же. Логика и «управительная астрология» в «Сказании о
Мамаевом побоище» // Гербовед. М., 2000. № 11 (49). С. 118-142
Сакрализация времени на Руси
359
94 Рудаков В. Н. Указ. соч. С. 139-143.
95 Там же. С. 143, 150.
96 Лихачев Д. С. О филологии. М., 1989. С. 96.
97 Кордуэлл М. Психология. А-Я. Словарь-справочник / Пер. с англ. М., 1999. С. 245
98 Третье послание Курбского Ивану Грозному / / ПЛДР. XV — первая половина
XVI в. М., 1984. С. 103.
Заключение
овременной философией время в средневековой космологии
рассматривается нередко лишь как составляющая категории пространство-время.
Однако для более полного понимания процесса осмысления
средневековым человеком понятия времени необходимо учитывать способы измерения
времени. Эта проблема является предметом преимущественно истории науки,
при этом в исследованиях по вопросам измерения времени в странах Запада
имеются более или менее ясные ответы. Для Руси в общей постановке того же
вопроса использовался этнографический материал о применении славянами с
древности внутригодичных циклов для проведения сева, сбора ягод, грибов, меда
и пр. Учитывались применяемые славянами календарные системы лунного и
лунно-солнечного года с оригинальными названиями месяцев. Рассматривался
появившийся на Руси с введением христианства солнечный юлианский
календарь с его единицами месячного, недельного и суточного счета. До последнего
времени почти не было определенности по вопросу о том, использовали ли на
Руси счет часами и если да, то каким он был. Почти не исследовался вопрос
трансформации восприятия времени в связи с античными представлениями,
развивавшимися в контексте христианских форм древнерусского счета времени.
Еще один круг вопросов наметился в связи с работами В. В. Милькова о
наличии двух идеологий, попеременно господствовавших в Древней Руси: теоло-
го-рационалистической и мистико-аскетической. Своего рода вершиной
рационалистических интересов в XII в. считается календарно-арифметическое
творчество новгородца Кирика в области теоретического осмысления календарного
времени. Причем оно вызывает также значительный интерес в зарубежной
науке. Так, английский ученый В. Райэн охарактеризовал результаты Кирика как
невероятно высокие для предполагаемого среднего уровня древнерусской
науки1. Болгарская исследовательница Т. Славова сделала неудачную попытку
свести эту проблему к заимствованию Кириком содержания своего
знаменитого трактата «Учение им же ведати человеку числа всех лет» (1136 г.) якобы из
какого-то несохранившегося болгарского календарно-математического текста2.
Поэтому вопрос об истоках творчества Кирика в связи с изучением теолого-
рационалистического направления философской мысли на Руси приобретает
международное значение.
©
362
Календарное время в древнерусской космологии
Одним из источников теологического рационализма на Руси (в том числе и
Кирика) была кирилло-мефодиевская идеология. Недостаточно изученным
является вопрос о том, что питало рационализм св. Кирилла-Константина.
Изучение его Жития и фрагмента глаголического пасхального календаря
(возможно, восходящего к кирилло-мефодиевской традиции) позволяет сделать вывод,
что одним из побуждений славянских первоучителей к рационализму могло
быть осознание необходимости хронолого-календарного осмысления природы
времени.
Влияние на Кирика календарно-арифметических представлений,
формировавшихся в рамках кирилло-мефодиевской идеологии, подтверждается
глаголической основой «семитысячников», послуживших отдаленным образцом
для кириковского «Учения» (замечательный результат А. А. Турилова). К
этому примыкают новые данные о совпадении порядка пасхальных полнолуний
в глаголической приписке к Синайскому служебнику XI в. и в древнерусском
Скалигеровом Каноннике 1331-1332 гг. В «Учении» Кирика был обобщен тот
теоретический и практический багаж, который был уже накоплен
древнерусской календарно-арифметической средневековой наукой. Такое понимание
проблемы показывает, что «Учение» не является неожиданным и
неадекватным для древнерусской культуры явлением, а, наоборот, служит
закономерным шагом в развитии теологического рационализма кирилло-мефодиевского
типа.
Динамику взаимоотношений богословско-рационалистической и мистико-
аскетической идеологий можно проследить на том, как изменялось место ка-
лендарно-математических знаний в соответствующие периоды. В любой из них
требовались знающие календарную математику люди, однако их общественная
востребованность менялась. В XI—XII вв. календарная математика была
самоценной как общественное явление, а в XIII—XIV вв. она как бы ушла в подполье,
развивалась как личное дело того или иного компутиста. Изменился научный
«выход» календарной математики. В XI—XII вв. практические (календарные
«руки») и теоретические («Учение» Кирика) результаты отвечали довольно
высокому требованию средневековой арифметики: умению делить многозначные
числа. Со снижением в православных странах (на Руси, в Византии и у южных
славян) «веса» естественнонаучной мысли (в связи с распространением мисти-
ко-аскетических представлений) в задачи календарной арифметики стала
входить адаптация пасхальных вычислений к ограниченным возможностям
духовенства, не имевшего хороших знаний в области математики. По-видимому, в
конце XIII в. в Византии был разработан такой адаптационный способ расчета
Пасхи, получивший в историографии название метода «малого года». Однако
была одна проблема: примерно с конца каждого столетия необходимо было
рассчитывать особые поправочные коэффициенты, которые «действовали» до
конца следующего столетия. Эти коэффициенты вычисляли математики-компутис-
ты, а методикой «малого года» могли пользоваться практически многие простые
клирики.
Заключение
363
К концу XIV — началу XV в. обозначилась проблема замены старых
поправочных коэффициентов на новые. Арифметически это было сделать не так
сложно, проблема была в другом: что делать со старыми коэффициентами? Просто
так объявить, что они больше недействительны и подлежат замене на новые?
В условиях географической протяженности и этнического многообразия
православного мира это было непростым делом. Употребление старых негодных
поправочных коэффициентов вело к неверному расчету даты Пасхи, а это
подрывало церковные устои. Поэтому частная вычислительная задача перерастала в
религиозную проблему международного значения. В этой связи заслуживает
внимания остроумный подход к указанной задаче, отраженный в ряде
древнерусских рукописей конца XIV-XVII вв. Проблема поправочных коэффициентов
для метода «малого года» решалась раз и навсегда.
Почти не изученным оставался вопрос о способах счета суточного времени
на Руси и его восприятии. Недавно были открыты источники, пролившие
новый свет на характер счета времени часами на Руси. Им был так называемый
«косой» час, восходящий к культуре Вавилона, впоследствии
распространившийся в странах христианского Востока и Запада.
При этом использовался прибор типа солнечных часов. В быту также мог
применяться приближенный способ установления времени в «косых» часах по
тени человека, измеряемых его ступнями. Этот метод является архаической
модификацией солнечных часов. Он был описан в материалах Великих Миней
Четьих митрополита Макария (сер. XVI в.), а расшифрован совсем недавно. По-
видимому, этот прием относится к более раннему времени XV в. или даже
уходит в седую древность. В сочетании с указанной Кириком в «Учении»
наименьшей единицей счета времени — «косым» часом картина его использования на
Руси выглядит так. «Косой» час в Византии, а затем и на Руси был основой
суточного богослужения, что отразилось в названии дневных служб по канону
Песенного последования: «3-й Час», «6-й Час», «9-й Час». В этих
наименованиях под словом «Час» понимается соответствующий «косой» час в порядке
счета, начиная с рассвета. Традиция счета «косыми» часами получила публичное
закрепление путем установления в 1404 г. в Московском Кремле
общественных башенных часов. Подобные часы затем были поставлены в других городах
и монастырях. В XVI в. эти устройства стали заменяться менее дорогими и
сложными башенными механизмами с равноденственным часом в 60 мин.
Сферой древнерусской жизни, где происходила сакрализация времени, была,
так сказать, бытовая прогностика. Средневековые люди хотели знать, что их
ожидает в будущем. С этой целью они прибегали к различным гаданиям (манти-
ке) и тайным (сокровенным) знаниям, основанным преимущественно на магии
и астрологии. Сохранились тексты, свидетельствующие об интересе к бытовой
магии в древнерусской княжеской верхушке. Так, имеющиеся в личном
молитвеннике Гертруды, жены великого князя Киевского Изяслава, прогностические
суждения, даваемые по лунному календарю, содержат и указания на
соответствующий «косой» час. Для заключения о масштабах распространения в Древ-
364
Календарное время в древнерусской космологии
ней Руси бытовой магии до XV века нет достаточных данных. Они появляются с
XV в. в виде отреченной «народной литературы» и получают довольно широкое
распространение.
В XV-XVI вв. сокровенная сакрализация «косого» часа приобретает на Руси
уникальный характер прогностического показателя по качеству «злого»,
«доброго» и «среднего». Принцип указания для каждого часа управителя — хроно-
кратора в виде обожествляемого светила септенера (в составе Солнца, Луны и
пяти видимых планет) — восходит к древнегреческой хрономантии.
Уникальным в данном случае был принципиально иной набор «качеств» хронократоров
по сравнению с существовавшими в то время характеристиками. Практически
во всем мире тогда использовались хронократорные характеристики Птолемея.
Древнерусские характеристики резко отличаются от птолемеевских.
Причина появления оригинальных древнерусских хронократорных
характеристик не ясна. Возможно, они являются результатом переводческой или
редакторской деятельности, но, может быть, появились в качестве «научной»
(в средневековом смысле) разработки. Вопрос о происхождении
древнерусских сокровенных характеристик «косых» часов требует дальнейшего
изучения. Однако сам факт существования соответствующей оригинальной
трактовки на Руси в сер. XV — нач. XVI в. не вызывает сомнения, так как
подтверждается двумя независимыми друг от друга источниками указанного периода.
Эти источники имеют функциональное назначение для определения «качества»
любого «косого» часа дня или ночи как «злого», «доброго» или «среднего». Из
этого следует, что время тогда рассматривалось как носитель определенной
прогностической информации, возможно, связанной с территорией Руси и
соседних областей. Этот вывод, по-видимому, является новым в трактовке
времени как космологической проблемы. В науке выявлены различия в
восприятии времени по количественным основаниям, связанным со счетом: по
структуре часа (переменного «косого», постоянного равноденственного), началу
отсчета суток, по виду календарного года (лунного, лунно-солнечного,
солнечного) и пр. Однако в историографии как будто бы не ставился вопрос о
качественном различии времени, варьирующем прогностическую информацию
в зависимости от территорий.
Одним из древнерусских источников, устанавливающим обсуждаемый факт,
является структурированный в виде набора таблиц своеобразный асторологи-
ческий (точнее хрономантический ) «вечный календарь» (Волог-14). В его
составе используется трехтабличный пасхальный календарь, вероятно,
известный на Руси уже в XI—XII вв. Табличный текст в Волог-14 составлен в русле
оживления календарно-математического творчества, наступившего в кон. XIV —
нач. XV в. в связи с возобладанием интереса к богословскому рационализму,
вновь наступившему. Соединение календарно-арифметических знаний с
сокровенными, по-видимому, отражает предвозрожденческие умонастроения
(характеризующиеся известным интересом к эзотерике), появившиеся в стране в этот
период.
Заключение
365
Примечания
1 Rayan W. F. Astronomy in Church Slavonic: Linguistic Aspects of Culturael
Transmission // The Formation of the Slavonic Literary Languages. Columbus. 1985. P. 53-60.
2 Славова Т. «Учение за числата» (Учение им же ведати человеку числа всех лет),
приписвано на Кирик Новгородец / / Медиевистични изследвания. Шумен, 1996. С. 53-
57; Славова Т. Календарни текстове в България през ранното средновековие. Палейни-
ят календар и ОучсКг'с нмже в'Ьдати члку вс*к(х) л*к(т), приписвано на Кирик
Новгородец // Slavia. Praha, 2000. Ro6. 69. Se§. 3. S. 269-288.
Мосты времен:
космологические Архетипы
в традиционной
культуре
Денисова И. М.
«Живой космос»:
древнейшая модель Вселенной
в мировой мифологии
и русской народной культуре
Еогатая культура Древней Руси во многом является результатом
сохранения и развития глубочайших культурных традиций, доставшихся ей
в наследство от разных этносов и эпох, включая древние
высокоразвитые цивилизации. До самого недавнего времени элементы этих традиций
рудиментарно сохранялись в народной культуре, и типологически какая-либо
народная традиция, к примеру, конца XIX в. вполне могла быть значительно
архаичнее, чем то или иное близкое по форме культурное явление, скажем,
XII—XIII вв. Поэтому одним из источников для оценки как древних корней
отдельных элементов древнерусской культуры, так и того нового, что было со
временем привнесено христианством и развитием общества, является именно
мифологизированная народная культура, до сих пор живая в отдельных своих
традициях. Особенно это касается мировоззренческих аспектов, и в первую
очередь — реконструкции космологической картины мироздания:
воссозданная только по памятникам книжности, она, по понятным причинам, будет
довольно далека от реальности и отразит мировоззрение лишь небольшой
части населения, преимущественно — образованного. К тому же и в самой
древнерусской литературе не наблюдалось единообразия во взглядах на
устройство мироздания — в письменных памятниках можно встретить положения из
различных космологии (строение мира по образу яйца, жилища, тела божества
или первопредка, разные варианты геоцентрической концепции и др.), одни из
которых являлись отражением идей античности, другие — ранней философии
Востока, иные же уходили своими корнями в архаичные пласты мифологии1,
и именно они рудиментарно сохранялись в народной культуре и, вероятно,
были наиболее близки основным массам древнерусского населения. Конечно,
вполне адекватно воссоздать космологическую картину того времени вряд ли
возможно, и в задачи данной работы не входит обобщающая характеристика
народных воззрений на мироздание, в последних выявляются лишь рудименты
такой модели мира, которая представляется наиболее древней, но во многом
определяющей для последующих эпох, так как при рассмотрении сквозь
призму ее неожиданно начинают проясняться истоки и взаимосвязи многих
известных мифологем и архетипов, существующих как бы изолированно.
Работа выполнена при подддержке РГНФ. Грант № 01-01-00006а.
370
Мосты времен: космологические архетипы...
Собственно, сама модель мира в традиционном обществе является, как
правило, тем или иным архетипическим образом. Вопрос о природе устойчивых
мифологем и архетипов, или «доминантных символов культуры», как их
определил В. Тэрнер, встречающихся в близких вариациях у очень многих
народов мира, до сих пор остается одним из наиболее загадочных. Все более
становится ясно, что такие «доминантные символы» не есть нечто застывшее,
раз навсегда изначально данное «коллективное бессознательное», как полагал
Карл Юнг2; они «не могут быть реалиями одной лишь психики»3, а являются
скорее продуктом коллективного сознания и имеют свою историю
возникновения, становления и длительного бытования-функционирования в умах и
социально-обрядовой жизни многих и многих поколений. Анализируя природу
архетипов в ходе изучения индейской мифологии, Ю. Е. Березкин приходит
к выводу, что «архетипы представляют собой не точки, а спектры значений,
переходящие друг в друга так же плавно, как цвета в радуге, и образующие
замкнутый круг»4 (здесь и далее выделено мною. — И. Д.). Взаимосвязь, со-
подчиненость и несомненная иерархичность архетипов в рамках
мировоззренческой системы позволяли последней быть жизнеспособной и функциональной.
Сравнительному изучению доминантных символов разных культур в
последнее время уделяется все больше внимания5. Глубокое теоретическое
обоснование важности и необходимости применения
сравнительно-типологической и сравнительно-исторической методологии в подобных
исследованиях дал известный ученый Б. Н. Путилов: поиск семантических корней сюжетов
и образов, «особенно с архаической основой, требует анализа максимального
количества текстов из разных регионов, в том числе и иноэтнических...
Вариативность на уровне межрегиональном, межэтническом, международном —
постоянное качество фольклорной культуры. Оно поддерживается вовсе не
контактами этносов, миграцией сюжетов... В основе лежит типология закономерностей
фольклорного творчества... Так или иначе, любой вариативный комплекс
одной этнической традиции наилучшим образом прочитывается и толкуется в
соотнесенности с его иноэтническими вариантами, в которых запечатлены
свои оттенки семантики и свои этапы эволюции и типы разработок»6. Кроме
типологического сходства в реалиях различных мифологизированных культур
нельзя исключать, конечно, в отдельных случаях и сходства контактного или
генетического7, тем более что ныне все большее число ученых, опираясь на
результаты углубленных археологических, лингвистических, этнографических
исследований, склоняется к мысли о единых корнях многих древних
цивилизаций, а также о существовании общего субстрата у народов циркумполярной
зоны Северной Евразии, и Америки8.
Однако типологическое сходство в этом вопросе все же превалирует —
причины возникновения близких мифологем и архетипов в культурах народов,
никоим образом между собой не связанных, можно объяснить как
«одинаковостью наиболее важных явлений, требовавших осмысления», так и
«одинаковыми средствами, с которыми разные древние народы подходили к познанию
мира»9, т. е. особенностями первобытного мышления. К ним относятся в
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной...
371
первую очередь образность, ассоциативность и олицетворение
неодушевленных предметов и явлений, наряду с эмоциональностью и конкретностью10.
Основной принцип такого мышления — осмысление явления по аналогии
с более знакомым и понятным, ассоциативное отождествление объектов по
отдельным признакам — часто формальным, чисто внешним, а порой наоборот —
по близости главного функционального признака (с точки зрения древнего
человека; так, например, отождествлялись земля и женщина, тучи и стада и
т. п.). В результате такого подхода к явлениям мира в течение тысячелетий
появились «целые поля семантических ассоциаций... ассоциации
переплетаются и сменяются в зависимости от конкретных обстоятельств»11.
Сложность, многогранность явлений окружающего мира и их взаимосвязей
при лишь частичном ассоциативном совпадении отождествляемых объектов
приводили нередко к представлению этих явлений в очень разных образах в
рамках даже одной мифологической системы, причем эти образы можно
рассматривать как взаимодополняющие. «Мифопоэтическое сознание,
тяготеющее к конкретному, выражало иррациональное... допуская правомерность
нескольких подходов одновременно. ...Многосторонность образов служит тому,
чтобы должным образом осознать сложность явления»12 (характерный пример:
в одном меланезийском мифе месяц выступает одновременно и в качестве
скребка, и в роли мужчины13). Хотя, несомненно, многообразие
мифологической образности в рамках одного этноса может быть обусловлено также
и ее хронологической разнородностью, диахронным наложением
мировоззренческих систем, так как при трансформации и забвении изначальных
ассоциаций, породивших те или иные мифологемы и архетипы, последние нередко
продолжали жить благодаря традиции, частично или целиком переосмысляясь,
вплетаясь в новые ассоциативные ряды и умножая загадки мифологии. В
отдельных случаях концептуально значимый элемент прежней системы мог
выступать и в качестве ее заместителя, если актуализировались те или иные его
параметры (так, на наш взгляд, образы мира в виде Древа или жилища
являются дочерними по отношению к миру-живому существу, когда
актуальность осмысления динамики природных явлений в значительной степени
вытесняется важностью идеи многоярусного вертикального мироустройства, его
иерархичности — см. об этом ниже). В результате в лоне более поздних
мировоззренческих систем сохранялись элементы предшествующих вплоть до
самых архаичных, причем наиболее архаичные могли быть как раз очень
глубоко закреплены традицией в силу их наиболее протяженного в
хронологическом плане бытования — все это создавало подчас очень причудливую и
во многом противоречивую картину мира.
Однако сам изначальный подход древнего человека к осмыслению
мироздания как на макро-, так и на микроуровне был далеко не хаотичным из-за
присущего ему врожденного стремления упорядочить пространство вокруг
себя для облегчения координации в нем. «Более глубокий анализ позволяет
обнаружить в мифах строгую гармоничную систему взглядов и понятий,
основанную на тонкой, если не сказать изысканной, логике»14. Архаичное
372
Мосты времен: космологические архетипы...
мировоззрение раскрывается именно как система — порой очень своеобразная
и фантастическая, но достаточно цельная, если докопаться до ее корней, ибо,
как справедливо отметила О. М. Фрейденберг, «нет такой ранней поры, когда
человечество питалось бы обрывками или отдельными кусками представлений.
В самые первые эпохи истории мы застаем человека с системным
мировосприятием. Как в области материальной, так и общественной и духовной
первобытный человек с самого начала системен, и в этом его коренное отличие от
стадного животного. Чем древнее культура, тем больше в ней внутренней
связанности, неподвижности, замкнутости»15.
Мнения ученых о существовании в древности целостной системы
взглядов на мир, охватывающей все области человеческого бытия, все чаще
встречаются в научной литературе: «В настоящее время можно думать, что развитие
человеческих знаковых систем в филогенезе (истории вида) осуществляется
путем увеличения числа разных систем, вычленившихся из некоторой
гипотетической единой системы. Такая универсальная или целостная знаковая система
одновременно имела функции, частично сходные с теми, которые позднее
исполнялись системами языка, ритуала, религии, науки, искусства» (В. В. Иванов)16.
Для раннеродового общества именно такой целостной системой-моделью мира
(включая социум) являлось, по мнению отдельных ученых, представление о
нем как о живом организме — некоем первосуществе, первопредке,
способном к постоянному порождению-творению из себя жизни. Между природой,
родом и первопредком «устанавливается субстанциально-генетическое
тождество», такой «триединый» первопредок выступает «как выразитель
структурных и функциональных архетипов культуры», он «порождает природу как целое
и ее вещи как множество, порождает род как общественно единое и его
индивидов как многое»17. Интересно сопоставить это архаичное представление
о мире с достижениями современной науки в исследовании структуры
Вселенной, к которой оказываются применимы параметры живого «эволюционно
самоорганизовывающегося» организма18. В. Н. Топоров в поисках источника
наиболее архаичной модели мира указывает на «все более и более
увеличивающиеся в своем количестве и вполне надежные данные, согласно которым
человеческий организм (тело) и его функции во всем многообразии жизненного
(телесного и душевного) опыта образуют основу архаичной классификации»,
или «антропоморфичный код, с помощью которого описывается
Вселенная», что довольно наглядно отразилось и в языковых системах19. Глубокий
параллелизм между окружающим миром и телом человека или божества
отражен во многих раннефилософских системах, восходящих к мифологии20.
Для нашей темы принципиально важен ответ В. Н. Топорова на поставленный
им же вопрос: «первичен ли антропоморфный код, с помощью которого
описывается Вселенная, или космологический код, которым можно описать тело
человека, — в настоящее время, кажется, можно с достаточной уверенностью
говорить о том, что роль источника должна быть отдана человеку и его
телу. Именно по этой модели мифопоэтическое сознание первоначально
строило описание Вселенной»21. С данным постулатом согласны и другие современ-
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной...
373
ные исследователи: «мысль человека... интуитивно распознает закономерность
и известную упорядоченность явлений природы, начиная от периодичности
функционирования собственного организма»22, здесь коренится и источник
возникновения сложных абстрактных понятий пространства и времени.
Близкие идеи высказывал еще в сер. XIX в. А. Н. Афанасьев о процессе осмысления
древним человеком мира: «Он был погружен в природу... она питала его и была
ему матерью. ...Обоготворенная природа представлялась ему цельною, ...но
вместе с первыми зачатками сознания тотчас же начался анализ, мерою
которого человек поставил самого себя: другой меры он еще не знал и не мог
знать»23.
Данный подход открывает реальные пути исследования древнейших
воззрений на мир именно как мировоззренческой системы, где все явления его
представлялись когда-то тесно соотнесенными между собой как составляющие
единого живого организма (в виде его частей тела или внутренних органов с
их функциями, его внутренней и внешней динамики, а позднее — даже мыслей
и чувств, нравственных качеств и т. п.), так как первобытная мысль предельно
конкретна — «мифологическая картина мира хотя и представляет собой
обобщение, тем не менее полна конкретности, складывается из максимально
предметных и чувственно воспринимаемых образов»24. При рассмотрении
различных элементов традиционной культуры в контексте такой модели мира
проявляются порой скрытые или давно забытые семантические взаимосвязи
между ними, выявляя вероятную эволюцию представлений о Вселенной в
рамках истории культурного развития человечества. Конечно, постановка и
решение столь глобальных задач, как и ответ на вопрос, являлась ли эта модель
всеобщей универсалией, необходимым этапом в осмыслении мира древним
человеком, — возможны только при развертывании масштабных исследований
^ области сравнительной мифологии с привлечением данных других наук.
Однако отдельные звенья этого сложного мировоззренческого процесса
проявляются в ходе анализа конкретных материалов, с неизбежностью рождая
наблюдения и гипотезы более общего характера при ориентации на
сравнительно-типологическую методологию.
Праматерь Земля
Прежде всего необходимо отметить, что «концепция изоморфизма микро- и
макрокосма, в соответствии с которой Вселенная представляется космически
огромным телом человека или животного», в наиболее архаичных космогониях
ограничивается по преимуществу одной землей «и вообще сводится к
конкретной локальной территории»25. Восприятие земли как живого организма дожило
в традиционных культурах практически всех народов до наших дней26. Именно
земля — а для архаичных обществ это, главным образом, родовая
территория — представлялась в первую очередь той универсальной праматерью,
способной, по воззрениям древних, зачинать и «рожать "из себя", самостоятельно,
374
Мосты времен: космологические архетипы...
без участия мужского начала»; «земля всегда "о собе", обособленна, одна, как
всякая женщина, готовящаяся стать матерью... Она единственная
носительница цельности, полноты и совершенства в чреде поколений ее потомства; она
пособница жизни, обращающейся сама на себя бесконечное число раз, чтобы
творить эту жизнь из себя самой. Поэтому Земля — вечная мать»27.
В антропогонических мифах у самых разных народов мира известна
мифологема о земле как о первой изначальной праматери рода человеческого, и даже
более того — постоянной подательнице человеческих жизней путем
перерождения душ умерших через ее чрево28. Новозеландцы считали землю женщиной,
лежащей лицом вниз, а в мифологии африканских догонов земля
представлялась в виде распростертой с севера на юг огромной женщины с вытянутыми
с востока на запад конечностями, причем появление и исчезновение предков
в их мифах связаны с отверстиями в земле и подземными ходами29. В Библии
и в Ветхом, и Новом Завете также встречается немало отголосков
персонификации в женском образе земли-матери рода людского, всего Израиля и его
народа30. В мифологии ингушей и чеченцев женское семя мыслилось в чреве
богини земли, из которой появляется вообще все живое31. Яркие примеры
представления земли женщиной, рожающей и забирающей обратно души
людей, находим у сибирских народов: у кетов дети считались «матерью-землей
данные», которая мыслилась живым женским существом32; нганасаны
полагали, что на одном из ярусов подземного мира обитает женское божество из
глины — постоянно в лежачем положении с раскинутыми ногами, оно ловит
человеческие души (через вагину); по другой их версии, хозяином земли
является некое существо Фаннида, живущее под дерном и ожидающее к себе
умирающих людей с раскрытой пастью («в рот этой могилы... мамки вошли»,
«попали в самую брюшину земли», — говорили о своих путешествиях
шаманы); эвенки считали, что умершие попадают в «светлую землю» через широко
открытый рот голой женщины; близкие аналогии отмечены для архаичных
представлений Египта и Китая, в которых преисподняя также могла мыслиться
утробой космической женщины33. Не с этим ли кругом представлений были
связаны еще палеолитические изображения беременных женщин, и особенно —
выразительные крупные барельефы из пещеры Ла Магдален в виде лежащих
обнаженных женщин?34 Графические изображения матери-земли в виде
рожающей женщины были известны, например, в Конго35; в «позе лягушки»
представлялся ацтекский бог земли36, а у индейцев люисеньо в Южной
Калифорнии во время инициации изготовляли большое изображение «матери всего
сущего» в виде распростертой на земле человеческой фигуры с
ориентированными по сторонам света конечностями, которую в конце обряда зарывали в
землю37. Изобразительные параллели подобным образам встречаются с
глубокой древности в различных регионах38.
Примеры этих артефактов могут подсказать нам расшифровку и сложной
фигуры русской вышивки (рис. 4-1-4-3, 4-5-4-7): в ней просматриваются
черты зоо-антропоморфного женского образа в позе роженицы, порой с ярко
выраженными растительными признаками — глубоко традиционная и ветре-
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной...
375
Ж
*ДО**,>
5U3
Рис. 4-1. Полотенце. Олонецкая губ. XIX в.
Собрание РЭМ
376
Мосты времен: космологические архетипы...
чающаяся во множестве вариантов, она является одним из таких вариативных
знаковых комплексов, о которых писал Б. Н. Путилов (см. выше).
Интерпретация подобных молчаливых пиктограмм требует привлечения как материалов
из иных областей традиционной культуры данного народа, так и культурно-
исторических параллелей. Однако в силу именно своей изобразительности они
могут порой помочь: в реконструкции тех структурных взаимосвязей в системе
миросозерцания, которые почти не выявляются или присутствуют в
завуалированном виде в других видах народной культуры.
Хотя вопрос о семантике данного образа уже рассматривался в специальной
литературе и основной смысл его определен (в общих чертах — как образ
древней богини плодородия, а в одной из последних работ — более конкретно
как богини-лягушки)39, однако многоплановый космологический контекст его
остался, на наш взгляд, до конца не освещенным. Так как эти мотивы вышивки
явились отправной точкой для данного исследования, хочется несколько
акцентировать на них внимание. \В ряде вариантов можно проследить органичное
перерастание женской фигуры в сложное многосоставное дерево (рис. 4-3,
4-4) — не так давно нами была предложена детальная интерпретация этого
мотива с позиций Мирового древа40 — архетипического образа в осмыслении
мироустройства на определенной ступени общественного развития. Между
двумя этими изобразительными мотивами можно выстроить чуть ли ни полный
генетический ряд переходных форм, что позволяет подойти с параметрами
«картины мира» и к образу женской фигуры.
Изобразительный мотив сложного Древа (рис. 4-4) очень искусственен —
с одной стороны, в нем отчетливо просматриваются рудименты антропоморф-
Рис. 4-2. Подзор свадебной простыни.
Вологодская губ. Сер. XIX в. Собрание РЭМ
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 377
ности, с другой — он явно сконструирован «на основании известной идеи или
понятия», как это справедливо отметил еще В. В. Стасов41. Это можно
объяснить тем, что лежащий в его основе мировоззренческий архетип отражает,
несомненно, уже довольно высокий уровень развития абстрактного
мышления — «эпоха Мирового древа», имея в виду четко выраженное вертикальное,
трехъярусное в основе, членение мира, по мнению мифологов, падает
преимущественно на бронзовый век42, хотя начало формирования этого архетипа
могло происходить значительно раньше — некоторыми учеными оно
предполагается уже в верхнем палеолите, что не исключено, особенно если учитывать
перекличку евразийских и американских сюжетов43. В качестве
предшествующего образа, более органичного для модели живого мира, мог выступать
только такой, в котором внутренние взаимосвязи между его элементами были бы
достаточно наглядно и естественным образом проявлены.
Сам факт изображения в наших вышивках женских фигур в позе роженицы
крупным планом, часто одиночно, их многовариантность — все это указывает
Рис. 4-3. Полотенце.
Олонецкая губ. XIX в. Собрание РЭМ
378 Мосты времен: космологические архетипы...
на большую значимость образа, сохранявшуюся, видимо, вплоть до недавнего
времени. Собирателями народного искусства было отмечено бытование на
Онежском полуострове среди вышивальщиц еще в 1970-х гг. местного названия
для такой крупной фигуры — праматерь, или прародительница44. Одно из
древнейших свидетельств, дающих нам ключ к пониманию того, какой имено
смысл мог вкладываться в подобный образ, сохранилось в «Ригведе» (Х.72.4):
«$емля возникла из прародительницы,
Из земли возникло пространство мира...»45
Имеется и другой перевод с санскрита данного отрывка, который приводит
Ж. Дюмезиль: «...Части света родились, выйдя из Роженицы» («букв, из той,
у кого ноги вытянуты, как при человеческих родах»)46.
В археологических памятниках древней Европы изобразительные мотивы,
близкие вышеозначенны^ образам наших вышивок, встречались по крайней
мере уже со времен неолцта, а в VII-V тыс. до н. э. керамика с подобными
мотивами была распространена на территориях от Фессалии и Македонии
до северной Венгрии и Германии. Выразительные статуэтки в виде лежащей
Рис. 4-4. Мотив вышивки на конце полотенца.
Новгородская губ. XIX в. Собрание РЭМ
^ «Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 379
на животе женщины-лягушки (так напоминающие Праматерь наших
вышивок) имеются еще в памятниках Анатолии VI тыс. до н. э.; по изобразительным
материалам археологии и этнографии юго-восточной Европы традицию этого
образа можно проследить вплоть до сегодняшних дней47. Мифологический
образ лягушки связан в первую очередь именно с представлениями о земле.
В азиатских культурах образ лягушки/черепахи широко известен в качестве
опоры земли, а в прототипе, возможно, это был образ самой земли; в древней
Европе также существовало близкое представление48. Для неолитических и
энеолитических памятников Южной Европы, Балкан этот образ достаточно
характерен, встречается он и в наскальных изображениях Беломорья —
анализируя круг этих памятников, В. Н. Даниленко сделал вывод «о
существовании в древности особого, наделенного признаками жабы-черепахи и в то же
время антропоморфизированного символа матери-земли»*®, что
подтверждается и этнографическими материалами. У кельтов лягушка считалась
Владыкой Земли, заключая в себе силу целящих вод50. Связь лягушки/черепахи
с образом земли и с сюжетами о творении мира прослеживается в славянских
материалах, при этом были распространены сюжеты о происхождении этих
Рис. 4-5. Полотенце. Олонецкая губ. XIX в.
Собрание ВМДПиНИ
Мосты времен: космологические архетипы...
Рис. 4-6. Полотенце. Русский Север. XIX в.
Собрание ВМДПиНИ
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной...
381
животных от превращенных в них женщин, а в Полесье еще в 1970-х гг.
записаны поверья о том, что земля стоит на черепахе, которая вначале была «бу
у уж, бу жаба. Бог ей накшуу чэрап»51.
Обращает на себя внимание часто встречаемое маркирование чрева на
древних женских изображениях (например, крупных рельефных фигур
женщин-рожениц на стенах Чатал-Хююка VII тыс. до н. э. — кругом или
концентрическими кругами52). Перекрещенный ромб с четырьмя точками, как
известно, — наиболее характерный знак на лоне трипольских женских
статуэток, как и русских деревянных «панок» и глиняных «баб» — у последних
превалирует перекрещенный круг (рис. 4-8), а центр фигур вышитой
Праматери часто также маркирован — кругом, овалом, квадратом или ромбом,
нередко с перекрестием, розеткой и т.п. (рис. 4-1, 4-3, 4-5, 4-6) Значение
подобных знаков как символов идеи земного плодородия, или даже самой
земли, в настоящее время достаточно хорошо известно — так, Е. В. Антонова,
отмечая повсеместное распространение в культурах древнейших земледельцев
идеограмм в виде ромбов, квадратов и других в основе крестообразных фигур,
часто с подчеркнутым центром, акцентирует в них отражение представлений
о плодородии и о земле с четырьмя ориентирами, предполагая оформление
этих представлений на исходе мезолита.53 В древности «особый знак
ромбической формы, используемый для передачи образа земли», был распространен во
всем древнеземледельческом мире — от Индии до Балкан и Украины, сохранив-
Рис. 4-7 Золотая вышивка борушки (женского головного убора).
Вологодская губ. Район Тарноги. Нач. XIX в. Собрание Вологодского
историко-архитектурного музея-заповедника
382
Мосты времен: космологические архетипы...
шись в народном искусстве почти всех этих районов54. Удивительна перекличка
реконструируемого смысла этого знака с американскими материалами —
например, в мифологии индейского племени зуньи (семейства пуэбло) изначальная
Мать-земля, имевшая вид огромного острова, содержала все формы жизни
до их сотворения в своей четырехчастной утробе — пещерах, уподобляемых
родовым органам женщины, сквозь которые выбираются первые люди55.
Глубоко укоренившееся в культуре восточных славян почитание Матери-
земли и восприятие ее как живого существа можно считать живучим до сих
пор56. На существование идеи происхождения людей от земли указывают как
русская загадка о ней: «Кто нам всем общая мать?»57, так и поверья Полесья
о появлении детей на этот свет прямо из земли (ребенка можно найти в борозде,
на меже, дети могут произрастать вместе с растениями и т. п.58), а также
свидетельства фольклора:
«Гой, земля ecu сырая,
Земля матерая,
Матерь нам ecu родная!
Всех ecu нас породила,
Воспоила, воскормила...»59
Отдельные факты народной
культуры говорят и о бытовании в
прошлом представлений о
перерождении «через утробу земли»:
протаскивание больного ребенка сквозь
отверстие в земле, прокопанное под
межой (т. е. как бы на стыке «своего»
и «чужого» пространств) со словами:
«Ты, мать-земля, к себе прибирай,
нет — так жизни давай»60; прогон
скота во время зоолатрии сквозь
прорытый тоннель в холме или высоком
берегу реки61 и др. Определенный
интерес в этом смысле
представляет также сказка об изготовлении
стариком со старухой глиняного парня,
который начинает пожирать людей,
выходящих впоследствии вновь на
белый свет из его распоротого брюха62.
В наших сказках герой иногда
попадает в «иной мир», проходя «промеж
ноги» некоего женского персонажа
Сони, стоящей на поле63 (не здесь ли
кроется разгадка странных слов из-
Рис. 4-8.
Глиняная игрушка «Баба». 1947 г.
Мает. Дружинины И. В. и Е. А.
Архангельская обл.,
Каргопольский р-н, д. Гринево.
Собрание Каргополъского
краеведческого музея
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной...
383
«Жития Петра и Февронии»: «...через ноги в нави зрети...»64?). При
исследовании славянского фольклора встречается немало примеров представления
о возрождении умершего через мать-сыру землю, что дает основание некоторым
ученым считать ее «божеством высшего уровня славянского пантеона»65.
В древнерусской литературе имеются указания на то, что в народе бытовало
представление о земле, подобной человеческому телу: «Земля сотворена яко
человек; камение яко тело имать, вместо костей корение имать, вместо жил
древеса и травы, вместо власов былие»66. Идеи строения мира по образу
человека и человека как подобия мира были широко представлены в
бытовавшей на Руси апокрифической литературе, где изложение их сильно
расходилось с каноническим христианским и было, по мнению исследователей, явно
обогащено славянскими мифологическими воззрениями, в которых мировые
универсалии и архетипы составляли их неотъемлемую часть67. Южным
славянам известно представление, что каждое селение на земле связано с какой-
либо частью тела Бога68. У русских сохранились чисто народные свидетельства
об образе земли в виде человека, причем — именно лежащей женщины —
в загадках о земле: «Я се, я розляглясе; кабы встала, то бы до неба достала;
а руки и ноги — дак вора бы связала; а рот и глаза — так все бы рассказала»69.
(Ср. из «Ригведы» Х.22.14: «Когда безрукая, безногая земля вырастет...»70.
Интересно, что в индоевропейских языках прослеживается параллелизм слов
со значением лежать, Вселенная, женщина, середина11). Олицетворение
земли в виде лежащей женщины нередко встречается и в русской
средневековой настенной росписи, причем порой с надписью: «Солнце в землю впадае»72.
Наследники древнего окрлзл
Необходимо отметить, что многие архаичные представления о матери-
сырой земле перешли на образ Богородицы73. В Полесье говорили: «Это
роднэйшой матэры нэма, як земля. Земля свята... Это земля — маты, Божья
Маты, Господь это...»74 В народе известно также представление, что у каждого
человека три матери — «коя скорбь приняла», мать-сыра земля и Пресвятая
Богородица75. Проступает близость культа Богоматери по средневековым
церковным поучениям и «рожаницких трапез», которые устраивали, «мня Богоро-
дицю человекородицю», а на празднике повитух в конце декабря поклонялись
богородичным иконам «Блаженное чрево» и «Помощь в родах»76. В
апокрифическом образе Богоматери просматриваются порой древние черты «всеобщей
роженицы»:
«Аще Пресвятая Богородица
Помощи своей не подаст,
Не может ничто на земле в живе родиться,
И ни скот, и ни птица,
Ни человеком бысть!»77
384
Мосты времен: космологические архетипы...
Близостью образов Богородицы и матери-земли можно объяснить и тот
факт, что одним из самых известных апокрифических духовных стихов
является «Сон Пресвятой Богородицы» (где ей снится рождение будущего сына,
часто — в виде вырастающего из ее чрева древа, и последующие мучения его),
и спит она либо на престоле, либо в других сакрально отмеченных местах,
соотносимых со священным «центром мира»: «Спала Мати Мария, спала-
почивала в городе Иерусалиме, на горе на Сионе, под шатром, древом
кипарисом...» (из старинной молитвы, близкой духовному стиху78 ; ср. о Иерусалиме:
«Стоит той град поздреде земли, /Ив нем пуп земли...»79).
Мотив сна божественного персонажа нередко встречается в мифах о
творении как в Евразии, так и в других частях света, являясь характерной чертой
божества «в начале времен»80. В восточнославянских апокрифических рассказах
Бог порой принимается за творение мира, «пробудившись ото сна», или,
наоборот, засыпает на только что созданной земле, и Сатана, пытаясь сбросить
его в воду, растягивает землю81. Архаичный образ спящего божества-земли
просматривается, например, в «Калевале»: древний богатырь Випунен, «под
землей лежащий праздно, в сон глубокий погруженный», разбужен Вяйнямей-
неном (проникающим в его чрево, плавающим там в челноке по его кишкам и
разжигающим кузню — близкий сюжет известен и в чисто фольклорных
текстах карел и ижор)82. Аналогичные черты можно видеть в латышском
Юмисе, который порой рисуется спящим под дерном83, и в образах великанов,
спящих под долиной, известных у народностей Северного Кафиристана,
причем в их языках, относящихся к особой группе индоиранских, понятия долина
и мир практически идентичны84, что отражает древнее представление о мире
прежде всего как о своей родовой или освоенной территории. Поиски же
мифологических «родственников» этих архаичных образов заставляют нас
обратить внимание на этимологический ряд слов с корнем *vel-, так как
варианты наименований великанов у восточных славян — велеты, волоты,
велитни — подводят к словам со значением «дерн» (velena — лит., v$l$na —
лтш.) и именам балтийских и славянских божеств, связанных с миром
мертвых (Vels, Vielona, рус. — Белее и др.; лтш. — Велю мате — «мать
мертвых»)85, представления же о божествах подземного мира фактически
вырастают из культа земли и тесно связанного с ним культа предков86. Образ
упомянутого выше восточнославянского Велеса далеко не исчерпывается
известным определением «скотий бог» — прослеживается тесная связь его как
с подземным миром, местообитанием мертвых (чехи об умершем говорили:
«залетел за море к Велесу»), так и с культом «матери-земли»;
реконструируется также и его возможная женская ипостась (характерно, что «скотьим
богом» называли в Дмитровском р-не подвешенное ведро без дна — символ
женского плодородия) через соотнесенность с такими образами, как Мокошь,
Параскева Пятница (которую, кстати, могли называть «водяной и земляной
матушкой»), Богородица (с последней — особенно по апокрифическим
рассказам, где она с младенцем прячется от преследователя Ирода под дерево, в ко-
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 385
торое бьет гром — сюжет, известный в мифологиях древнего мира,
сопоставимый с преследованием Исиды с Гором)87. Близким именем — Вела — назван
женский полевой дух в одном из списков «Слова св. Иоанна Златоуста»,
а македонская самовила Вела — владычица земных вод (которые освобождает
от нее «положительный герой»); пара Велес-Вила реконструируется для
сербской мифологии88.
Среди образов великанов в славянской мифологии наибольшей архаикой
отличается былинный Святогор, который, кстати, тоже характеризуется
устойчивым мотивом дремоты, сна перед встречей с Ильей Муромцем: «Да
сидит на кони да засыпать-сидит», или «А богатырь едет на кони да дремлет
он»89. Его отличают и некие особые отношения с землей — это и его попытка
поднять переметную суму с тягой земной, и желание перевернуть землю,
соединив ее вновь с небом90. (Интересно, что последний мотив близок сюжету о
китайском Паньгу, который, «перевернув небо и опрокинув землю, утвердил их»91.)
Судя по отдельным эпизодам, в прототипе образа Святогора просматриваются
и женские черты, чем объясняется, вероятно, его перекличка с образом
огромной богатырши — Семигорки, Златыгорки или Латыгорки (ср. с Латыръ-
каменъ), которой присущи очень архаичные черты — власть над животными,
владение волшебной влагой, хтоничность; порой она именуется бабушкой92.
Эта былинная богатырша близка сказочной Царь-девице, чей образ,
характеризующийся также мотивом сна, реконструируется как образ владычицы
«иного мира», локализуемого в сакральном «центре» (это «дивье царство» —
остров, населенный девицами и змеями, чудо-сад с молодильными яблоками
и живой водой и т. д.), причем в ней просматриваются космические черты и,
по мнению Е. Л. Мадлевской, «Царь-девица олицетворяет не что иное, как саму
землю», а «царство героини связывается с «жизнью», т. е. в нем
сосредоточивается ее начало, источник»93. По карело-финскому эпосу также известен
девичий остров и образ чудо-девы, спящей на утесистом острове, откуда
добывается мед для пива94.
Показательна и связь имен былинных богатырши и Святогора с горами —
в некоторых вариантах былин встреченный Ильею исполинский богатырь
лежит на горах «сам как другая гора» или достигает головой до облаков95.
Олицетворение гор, их культ является фактически одной из ипостасей
культа земли. Он ярко выражен, например, у народов Южной Сибири, где
родовая гора могла считаться матерью-прародительницей («Великая гора —
мать наша!» — обращались к ней шорцы в своих молениях); в фольклоре
хакасов рождение многих героев происходит внутри такой горы, а по более
ранним воззрениям «в нутре горы зарождался каждый новый член рода», здесь
мыслилось местонахождение «некоего плодоносящего центра»96. Пещеры же
воспринимались архаичным сознанием как вход в утробу горы, земли, т. е. как
ее vulva — у бурят, например, «прямая связь богини Умай с рождающей Землей
сохранилась в архаичном обозначении пещеры как «материнское чрево» (эхы-
ын умай). К таким пещерам женщины обращались с просьбой дарования
13 3ак 4748
386
Мосты времен: космологические архетипы...
потомства»97. Существование подобного представления А. Леруа-Гуран
предполагает уже для верхнего палеолита в связи с пещерной живописью Западной
Европы98. В «Ригведе» об Индре говорится, что «он рассек чресла гор»(1.32.1)".
У древних славян культ камней, возвышенностей и пещер также был связан
с идеями зарождения жизни, продолжения рода, культом предков100, и корни
образа Святогорэ уходят, несомненно, в этот пласт представлений. Интересно,
что хакасская гора-прародительница «с развитием патриархальных воззрений...
превратилась в каменного отца всей общины, свекра молодых жен каждой
семьи» — такую гору женщины даже называли «свекром» и соблюдали по
отношению к ней Обычай избегания. В то же время она именовалась в фольклоре
и «Шестиногая Гора Лось»101, что подводит нас еще к одному аспекту
рассматриваемой проблемы.
Зооморфный оврлз земли и л\нрл
В настоящее время уже довольно хорошо известен тот факт, что у многих
народов мироздание, и в первую очередь земля, представлялись и в образах
каких-либо животных, среди которых копытные занимают одно из главных
мест102. Наиболее полно такое представление зафиксировано у орочей:
известная им земля, т. е. населенная ими и их ближайшими соседями, рисовалась им
в образе восьминогой лосихи, чей спинной хребет является горной цепью,
шерсть — лесами, паразиты — зверьем в лесу и т. д., сами же орочи живут
на восточной части этого животного, которое, переступая с ноги на ногу,
вызывает порой землетрясение103 (восьминогость, возможно, подчеркивает
постоянно функционирующее продуцирующее начало этого образа, так как
известны представления, в частности по индоевропейским загадкам, о вось-
миногом животном как о беременном104). У долган подобные воззрения были
связаны с образом оленя, у нивхов «мать Вселенной» представлялась также в
образе лося или оленя, на рогах которого висели светила, причем
местообитание ее — внутри горы, под землей105. По другим вариантам представлений
нивхов их земля (прежде всего — о. Сахалин) рисовалась в виде лежащего на
боку человека, который, переворачиваясь с боку на бок, может вызывать
страшные бедствия106. У нганасан «земля-мать» — Моу-Нямы — огромное
существо, в шкуре которого обитают люди и звери в виде насекомых и
червей107. В якутских олонхо также сохранились отголоски подобных
представлений: прекрасная «изначальная матушка-страна» образовалась «подобно греб-
невистым рогам двухлетнего зверя-оленя»108 (ср. якутскую загадку: «Кто на
себе лес несет?» — олень109).
Зооморфная модель мира концептуально очень близка антропоморфной
и, вероятно, могла уже изначально в каких-то культурах составлять с ней
единое целое как зоо-антропоморфная, хотя зооморфную модель принято
считать наиболее архаичной из известных110. О длительности существования и,
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной...
387
если можно так сказать, функционирования этой модели говорит наличие
в культурах очень многих народов мира огромного количества пережитков и
реминисценций ее, часто уже очень завуалированных. Она возникла, скорее
всего, уже в палеолите — так, для верхнепалеолитического населения Сибири,
а возможно и Европы (большая близость наскальных изображений которых
в данную эпоху отмечается многими учеными), предполагается наличие модели-
образа мира в виде огромного мамонта, чей символизм перешел впоследствии,
в неолите и бронзовом веке, на образы лося и оленя111. Из
верхнепалеолитических крупных изображений копытных животных — мамонта, бизона,
лошади, которые могли отражать круг именно этих представлений, — обращает на
себя внимание тот факт, что на туловище некоторых из них нанесены
схематичные рисунки, трактуемые исследователями как шалаши, хижины (в
основном подобные композиции обнаружены в пещерах Франции)112. Таких «хижин»
на животном чаще по две, что наводит на мысль, не попытка ли это передать
в образе животного идею окружающего мира с органично включенным в него
дуально организованным социумом? При восприятии мира первобытным
человеком в первую очередь как его родовой территории, неразрывно связанной
с человеческим коллективом, вселенная в результате «оказывается
тождественной племенному пространству и социальной структуре племени
или этноса»113. Например, у селькупов понятие «мир», «вселенная» выражено
словом тэтты — земля, имеющим значение «реально существующая земля,
страна»114. Весьма показательно в этом плане слово буга (бува, боа) в тунгусо-
манчжурских языках, передающее понятие всего окружающего: земли,
ближайшей местности, родины, вселенной, тайги, погоды, верховного божества,
управляющего жизнью животных и человеческого рода, а также — понятия
трех вертикальных миров, и даже рая и Бога (эвенки); но характерно, что у
орочей это слово относилось к образу вышеописанной лосихи-мира115.
Близкими словами обозначался круг сходных понятий и в некоторых тюрко-
монгольских языках. В то же время по-тувински буга — бык (ср. рус. — бугай),
в сказках это Сивый (Синий) Бык-исполин размером с горный хребет;
подобный образ был известен и хакасам (бык у них — пуга, такое же название
носила и определенная родовая группа); в этот ряд укладывается также
бурятский тотемный образ быка Буха-Нойон, причем в эпосе этих народов
Сивый (Синий) Бык — хозяин Алтая и связан, главным образом, с нижним
миром, землей (может являться «хозяином земли»), плодородием116. Но
одновременно дух-хозяин Алтая мог представать и в облике Белого старца или
женщины в белой одежде с ребенком на руках, верхом на светлом коне117 —
все это достаточно красноречиво указывает на очень архаичные корни образа.
В представлениях ряда сибирских народов сохранился также мифический
образ мамонта — гигантского зверя подземного мира, в котором
реконструируется «образ самой Земли»; внешний же облик его представлялся напоминающим
лося или быка — его могли называть «земляным быком»; у некоторых народов,
в частности селькупов, мамонт считался предком-прародителем118. Для тради-
388
Мосты времен: космологические архетипы...
ционного мировоззрения населения Северной Евразии отмечается наличие
общей идеи «о Матери-звере как едином источнике рождающего начала»119.
Л. Р. Кызласов, исследуя богатое археологическое наследие енисейских
племен, предполагает, что в неолите они обожествляли в образе коровы
Великую Матьгпрародительницу, породившую все сущее в мире, в том
числе — светила и людей. Это представление, по его мнению, отразилось, помимо
прочего, и в неолитическом наскальном искусстве данного региона, где
изображения женщин в позе родов наложены на профиль коровьей или бычьей
головы120. Обычно подобные композиции в древнем искусстве (т. е. соединение
женской фигуры и головы бовина, в том числе — в известных рельефах из
Чатал-Хююка VII тыс. до н. э.) было принято интерпретировать в связи с
культом быка — как оплодотворение богини мужским божеством в этом облике
или как роды богиней быка (быков). Однако пересмотр материала в некоторых
современных исследованиях приводит порой их авторов к заключению, что
«с неменьшим основанием^., можно оценивать эти композиции в русле
метафорического отождествления женщины и коровы»121. «Воспроизведенная таким
образом первозданная Оранта представляет собой древнейший
антропоморфный образ самой Земли, ...в то время, как голова коровы представляет ее же
более древнюю зооморфную ипостась»122. Соединение черт женщины и коровы
мы встречаем и в нашем народном искусстве (рис. 4-1, 4-5, 4-7, 4-9) — вышитая
Праматерь нередко изображалась с рогами, напоминающими коровьи;
косвенно на эту ее ипостась указавает и тот факт, что в вышивке тверских карел
подобная фигура носит название «копыто»123.
Культ коровы/быка (буйвола, бизона, тура) может считаться одним из
наиболее древних и устойчивых как в Евразии, так и в Африке, причем
связанным именно с картиной мира, землей, творением. Не случайно, по-видимому,
£ Европе среди погребений животных, прослеживаемых уже с верхнего
палеолита, резко преобладал бык124. В то же время в культурах Древнего мира
носителями космологических черт могли быть и другие животные — так, по эламо-месо-
потамским памятникам реконструируется образ космического козла, который
являлся и одним из воплощений Тиамат125. На раннеегипетских изделиях
(каменные и керамические сосуды и чаши IV тыс. до н. э.) космизм
просматривается в образах гиппопотама/бегемота, а также лягушки, однако в обоих
этих регионах имеются и явные следы культа коровы/быка126. Характерно
также слияние некоторых из вышеозначенных образов: например,
древнеегипетская богиня-лягушка Хекет — богиня рожениц и воскрешения — порой
выступала в ипостаси богини-коровы Хатхор127 (ср. образы огромного быка-
лягушки в калмыцком фольклоре128 и лягушек-коровниц у русских — это
якобы обращенные проклятые девицы, они по ночам выдаивают коров и сами
полны ядовитого молока129). Облик коров могли принимать все великие богини
древности — Нут, Хатхор, Иштар, Инанна, Гера, Ио и др. Древнеегипетские
Нут и Хатхор, во многом отождествляемые (и тесно связанные к тому же
с культом дерева), очень близки великой корове африканских мифов, созда-
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной...
389
Рис. 4-9. Лопасть прялки.
Русский Север. XIX в. Собрание РЭМ
390
Мосты времен: космологические архетипы...
тельнице мира и праматери всего живого130 — весьма показательно, что культ
буйволов у многих племен Судана был связан с матрилинейностью,
происхождение материнской линии возводилось к женщине-буйволице131.
Хотя египетская Нут, часто изображавшаяся в виде коровы, известна
главным образом как богиня неба, но отголоски более тесной связи ее именно с
землей можно уловить в «Текстах пирамид»: «Земля вся лежит перед тобою, ты
охватила ее, окружила ты и землю, и все вещи своими руками»132. По мнению
ученых, в древнейщие времена в Египте земля также представлялась в виде
женского божества, как в большинстве мифологий, а в мифах о творении
изначальный образ Нут обрисован лежащей в воде на груди своего супруга
Геба.133 Как известно, Нут вечером глотала, а утром снова рождала солнце,
однако такое представление могло проистекать, скорее, именно из
олицетворения земли, под которую визуально уходят утром ночные, а вечером дневное
светила. Вместе с ними тот же путь совершали, по мысли древних, и души людей,
воззрениям же об уходе душ на небо предшествовали, также дожив до наших
дней, более естественные представления о перерождении их через «чрево
земли». В «Текстах пирамид» сказано по поводу умершего фараона, что Великая
корова беременеет им и рожает его134. Богиня Исида, культ которой в
эллинистические времена в Египте вытеснил культ многих других богинь, «забирала в
свое лоно мертвых, — по словам Плутарха, — и знакомила их с бессмертной
жизнью»135, причем тот же Плутарх отмечал при описании обрядов
древнеегипетских жрецов: «...они думают, что корова, как и земля, это образ Исиды»т.
Древнегреческие Ио и великая Гера могли почитаться в облике коровы, причем
в образе Геры явно присутствуют черты хтоничности и связи с культом земли.
Величайшая из древнеиндийских богинь, «мать богов» Адити
отождествлялась как с землей (а порой и небом), так и с коровой (вышеприведенный отрывок
из «Ригведы» о возникновении земли и мира из прародительницы относится
именно к Адити). В индийских обрядах корова могла символизировать и одну из
главных богинь Лакшми, которая порой носила эпитет «мать мира» и появилась,
по некоторым версиям, из первичного океана при его пахтаньи,137 как и «корова
желаний» Сурабхи. Образ священной коровы с женской головой характерен для
индийского искусства138, а в древнеиндийской литературе земля неоднократно
именуется коровой, известен и мотив брака Рудры в образе быка с Пришни —
пятнистой коровой, олицетворяющей, по некоторым текстам, землю1,5*.
Для южной и восточной Европы в период неолита по археологическим
данным реконструируется образ космического оленя, постепенно
вытесняемый космическим быком/коровой (характерно, что у русских эти животные
были, видимо, семантически когда-то близки, так как известно даже
диалектное название для коровы алыньяш)\ в то же время имеется предположение,
что образ быка «в процессе развития как бы сращивался с образом
космической черепахи»141. В изобразительном искусстве древней Европы, отражение
подобных представлений можно видеть, в частности, в культовых сосудах в форме
бовинов, среди которых встречаются явно несущие на себе символику образа
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной...
391
земли, как, например, сосуд (предположительно светильник) IV тыс. до н. э.
с Балкан: расширенное, приземистое туловище коровы принимает форму
квадрата в проекции сверху, углы которого оформлены как горы с ведущими
на их вершины дорогами, а центр — столбовидным возвышением142. Близкую
символику, вероятно, можно предполагать в оформлении сосуда коровьими
головами по сторонам света и ромбическо-меандровым орнаментом (галыитат-
ская культура, I тыс. до н. э.)143.
По преданиям южных славян, земля стоит на быке, воле, буйволе, корове,
олене (чаще — на их рогах, или они составляют нечто вроде пирамиды с другими
животными — змеей, черепахой, рыбой); у осетин было также известно
представление о поддерживающем землю быке, который несет ее на своих рогах144.
В индоевропейских языках, по наблюдениям лингвистов, образы коровы и быка
проявляют наиболее устойчивую связь с понятием земли145. А. Н. Афанасьев
привел примеры соотнесенности коровы с землей и земным плодородием,
указав для санскритского *go (сохранившегося в рус. говядо) такие значения,
как бык, корова, земля (но также и солнечные лучи, глаз, небо)146. А. Н. Весе-
ловский акцентирует для этого корня значение именно коровы и земли, а
в мифологическом рассказе о том, как корова обогнала зайца, видит
олицетворение в этих образах соответственно земли и луны147. Судя по всему, в Древней
Руси был известен культ коровы, связанный с луной и с женщиной — так,
на Русском Севере в погребении женщины-славянки XII в. со стоянки Не-
федьево найдены бусы с пятью металлическими привесками, на трех из
которых — рельефные изображения голов коров, на двух других — лунница и
шестилучевая звезда148. Кстати, обращает на себя внимание имя небесной
коровы в «Велесовой книге» (подлинность которой, как известно, вызывает
большие сомнения — тем более этот факт интересно отметить) — она
именуется Земунш, перекликаясь с именами литовской и латышской богинь земли —
Жемина и Земес мате150.
Возможно, каким-то очень глухим отголоском древнего зооморфного образа
земли в народной культуре русских являются отрывочные легенды о некоем
подземном существе, называемом мамон, мамона, мамуна. Ему близок образ
Индрика из «Голубиной книги», а у русских сибиряков он слился с
аборигенным представлением о мамонте. Однако этот образ был известен также в
центральных губерниях России, и немаловажно, что в ряде русских говоров
мамон, мамона означает «желудок», «брюхо» (обращает на себя внимание
также корень *мам-). В заговоре из Нижегородской губ. говорится, что «до
потопа сей зверь пребывал, а после потопа погиб; до потопа он проходил горы
и каменья и истоки водные...»; этого зверя могли считать «душою земли» и
«силою или духом семян», а внешне он напоминал огромного лося или быка151
(интересно, что схематичные изображения мамонта в народном искусстве
хантов и манси довольно схожи с нашей вышитой Праматерью152). Героем
некоторых русских игр является олень, сидящий в земле — «под коренем»,
под деревом или кустом153, — напоминая этим сибирских олених-хозяек земли.
392
Мосты времен: космологические архетипы...
Образ богато плодоносящей земли явно просматривается в рождественском
пироге Коровушка, изготовлявшемся, в частности, в Весьегонском р-не
Тверской обл.: круглый, большой («как большущая-то гораздо»), он являл собой как
бы распластавшееся туловище животного, процветшее пышным разнотравьем,
в котором утопала коровья голова, а вокруг было посажено сорок маленьких
«голубочков» и множество «молодчиков» в виде тоненьких жгутиков с
головками — несомненно, это символы душ предков-потомков (семантика этого
пирога близка короваю — см. ниже)154. Соотнесенность коровы с предками, а
также с образом матери довольно явственно прослеживается в быту и обрядах
русских: ее любили называть матушка, матуха, при первом отеле ей в
некоторых местностях одевали на рога женский головной убор, а замужняя женщина,
напротив, уподоблялась корове, судя по распространенным в ряде
центральных губерний рогатым головным уборам. У украинцев был известен обычай,
по которому мать новорожденного должна была лизнуть его, как корова, а
в сказках сирота порой непосредственно обращается «мам» к завещанной
матерью корове-помощнице, прорастающей после убийства ее чудо-деревом.
Невеста при входе в дом жениха (на Русском Севере) в первую очередь шла
к коровам и, кормя их свадебным хлебом, как бы просила у них благословения,
как у пенатов дома155.
Связь образов крупных копытных с представлениями о земле предков
можно уловить и в многочисленных топонимических легендах, распространенных,
в частности, по всей Восточной Европе, включая славян. Это рассказы об
основании поселения, города на месте охоты на тура, оленя, на месте поединка
с огромным быком, либо там, куда подобное животное когда-то привело
людей156. У восточных славян довольно многочисленны следы культа древнего
тура, вымершего в Восточной Европе уже в XVII в. — в частности, в Киеве в
XII в. находилась «Турова божница», а на горе над Галицким озером в
Костромской губ. было «капище турово» близ села Туровского157. Хотя реальным
местообитанием туров были в большей степени равнины и леса, в фольклоре
весьма показательна связь их с горами: «Сидить, як тур у горах» («Баба як
тур»); «Выходила турица (вар. — царица, княгиня, красная девица, чур, чудо,
кикимора) из-под каменной горицы (вар. — из горы, из пещеры; из-под камня
горича)...»; «туры да олени по горам пошли» (вар. — «за горы»)...; Н. Ф. Сумцов
отмечал перекличку фольклорных образов тура и Святогора158.
С землей, горой сравнивается корова в заговорах при доении: «...Как с места
на место земля не шевелится, так бы и любимая скотинка (чернушка,
пеструшка и пр.) с места не шевелилась... Стой горой, дой рекой, озеро сметаны, река
молока...»159 На отпирание молока у коровы в Архангельской губ. был известен
следующий заговор:
«Стоит коровушка горою,
Бежит молочко рекою,
По пенью и по коренъю,
И по светлому по каменью.
Так бы бежало у (имя коровы) молоцко».160
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 393
Вспоминается образ скандинавской мифической коровы — матери
богов, которая вышла в начале времен из бездны и вымя которой изливало
четыре млечных реки161 (ср. довольно широко распространенную мифологему
о четырех вселенских реках, о четырех райских реках и т. п.). Молочные
протоки у коровы назывались «колодцы» или «колодези»162; кстати, А. А. Потебня
отметил, что процесс доения в сказках может выступать аналогом добывания
живой и мертвой воды, а по индийским преданиям из сосцов чудесной
коровы рассыпаются всевозможные блага163 — т. е. в ней как бы заключены
сокровища земли.
Любопытная перекличка сказочных сюжетов о добывании благ или
сокровищ из пещеры, из чрева божественной коровы (быка), либо из
раскрывающегося чудо-дерева прослежена К. Бремоном по африканским
материалам164. Характерно, что при обращении к чудо-животному герой произносит:
«Глина белая и охра красная, откройтесь». Из дерева здесь чаще получают
богатства, аналогичные добываемым из пещеры (ср. в «Ригведе» об Ашвинах:
«...приходите вы к дереву, где хранится сокровище» П.39.1.165), но в некоторых
вариантах сказок — отрезают куски мяса, сердце, как и из коровы.166. В
попадающем же внутрь такого вместилища богатств герое просматриваются черты
эмбриона, или возврата к эмбриональному состоянию, т. е. весь этот
фольклорный цикл в своей основе был, вероятно, когда-то связан все с той же идеей
возрождения, «круговорота жизни» через некий рождающий центр, в роли
которого здесь выступают изоморфные друг другу чрево коровы (быка),
пещера — т. е. «лоно земли», и сердцевина дерева.
Анализируя подобные сюжеты, В. Я. Пропп заключает: «Побывавший в
желудке зверя считался побывавшим... в ином мире», причем «в обряде и мифе
из поглотителя добываются все первые вещи, в том числе и огонь»167.
У нас близкий мотив представлен в сказках типа «Крошечка-Хаврошечка», где
героиня, пролезая сквозь ухо коровы (встречаются варианты и с быком) либо
преображается сама, либо получает блага — выполненную работу168 (в
европейских сказках в чрево черной коровы попадает порой Мальчик-с-пальчик169).
В связи с этим вспоминается русский обряд, зафиксированный в старинной
рукописи XVII в.: «Аще человек чахнет, ходячи, неоживет, ни умрет, в... день
зарезати корова, да лести на лохтях в брюхо до горла, и минет болезнь»170
(ср. с этим протаскивание больного сквозь отверстие в земле или сквозь
развилку, дупло дерева). Обряды с заворачиванием умершего или
инициируемого в шкуру коровы, быка и других животных, связанные с представлением
об уходе в «иной мир» и последующем перерождении, были известны многим
народам древности. В Древнем Египте, например, существовали церемонии
с целью возрождения «посредством кожи»171, а также изготовления в форме
коровьего брюха постамента для носилок с умершим с той же целью172. В
качестве аналога этому и описанному выше русскому обряду можно
рассматривать приведенные Дж. Дж. Фрэзером примеры индийских обрядов,
практиковавшихся еще в XVIII-XIX вв., — так, с целью излечения ребенка его
протаскивали под брюхом коровы в направлении к ее голове. В обрядах типа инициационных
394
Мосты времен: космологические архетипы...
изготовляли изображение женского начала природы в виде коровы,
женщины или только «золотого чрева», внутрь которого помещался посвящаемый I
в жидкую смесь из молока, творога, масла, коровьей мочи и помета173. В ран- !
нефилософских концепциях Древней Индии образ коровы являлся
одновременно природой и человеческим родом — от двух ее сосков живут боги (перво-
предки), от двух других — предки и люди174. Характерна перекличка
индийского обряда с орфическими — инициируемый входил в чрево Матери-земли
и получал молоко «от ее груди», перерождаясь через это175.
Животворящий водоем
Чудесное преображение героя, синонимичное перерождению, происходит
нередко после купания в молочном озере; в валахской сказке девы, живущие
в белом озере, оживляют разорванного героя, а в грузинской — герой должен ,
выкупаться в молоке коней, живущих на дне моря176. Подобные мотивы с
купанием героя В. Я. Пропп интерпретировал как его возрождение в результате
прохождения сквозь животное177. Сказочные сюжеты находят аналогии в
реальности — так, в Древнем Египте существовал развитый мифо-ритуальный
комплекс, связанный с идеей возрождения через озеро Кебху, или «озеро
жизни», в том числе — возрождения священной коровы, посвященной Иси-
де178. При сопоставлении всего этого круга представлений и обрядов возникает
вопрос: не мыслился ли подобный «возрождающий водоем» (озеро, море и
т. п.) как бы внутренним в рамках «вселенского первосущества»?
Символика воды как аналога материнского лона достаточно хорошо
известна. Она проявляется и в многозначительных строках «Ригведы» (X. 125.7):
«Я порождаю отца этого [мира]... / Лоно мое в воде, в море, / Оттуда я
распространяюсь по всем мирам, / Величием я достигаю неба», и в различных
обрядах и заговорах, связанных с роженицей179. Образ же человека-земли, как
бы заключающего в себе земные воды, сохранился, например, в чешской
загадке о старике (с палкой в руке): «На горах снег, в долине вода, в руке
лес»180 — в этой загадке до нас дошло, вероятно, воспоминание о некоем
божестве, управляющем жизнью, смертью и возрождением, так как еще в X в.
у западных славян был зафиксирован образ такого божества в виде старика
с палкой, которой он «двигает кости мертвецов из могил»181. С чешской
загадкой сопоставима и наша о человеке: «На двух колах — бочка, на бочке — кочка,
на кочке — лес...»182
В свете данного семантического круга наполняются дополнительным
содержанием представления, известные практически всем народам мира, о
подземных озерах (нередко с душами предков в них или на их берегах), подземных
реках и морях. Изначальный океан, с которым во многих мифологиях
связывается творение, мыслится нередко именно подземным и даже олицетворяется,
как египетский Нун или шумерский Абзу (Апсу) —- последний, кстати, мог
представляться и в образе козла с рыбьим хвостом183. Создание первого
человека также связывалось с Апсу, он считался потаенным, где-то в глубинах
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 395
спрятанным местом и сопоставлялся с шумерской богиней-прародительницей
Намму («мать, создавшая небо и землю»), в образе которой также
предполагается олицетворение мировых подземных вод184. По материалам Восточной
Сибири представление о подземном «потустороннем море мертвых» со входом через
пещеру реконструируется для эпохи неолита-бронзы185. В древнеиндийских
Ведах один и тот же термин употреблялся для обозначения океана,
окружающего землю в мифологической космологии, и космических вод под землей,
причем по отношению к ним встречается выражение «океан в сердце»186.
Кровавое море, озеро, как и огненное или кипящее, во многих мифологиях
также являются атрибутами нижнего мира187. «Вода в море — то кровь моя», —
говорит брату в варианте легенды «Иван да Марья» погибающая девушка, тело
которой превращается в элементы мироздания188. В большинстве апокрифов,
где речь идет о сотворении человека, кровь его берется от моря, но порой
подчеркивается идея соединения в крови стихий воды и огня — так, в
«Книге Еноха» кровь создается от росы и солнца189. В то же время, кроваво-
красная река и огненное озеро по апокрифам являются составляющими
«нижнего мира», ада190. Известны и раннефилософские представления о «жилах
земли», по которым струятся воздух, огонь и вода, а в древнекитайском
трактате VII в. до н. э. «Гуань-цзы» сказано: «Вода — это кровь и жизненная
энергия земли. Она циркулирует по своим "кровяным сосудам"»191. Подобная
перекличка микро- и макрокосма проявляется и в карело-финских заговорах,
где встречается образ «царицы кровеносных сосудов», которая может плавать
по ним в своей лодке (а в вариантах рун Вяйнямейнен проглочен хозяйкой
потустороннего мира и плавает в лодке внутри нее)192. В русских заговорах на
остановку крови с последней непосредственно сопоставляются земные, и даже
небесные воды: «...Замыкали они воды и реки, и синия моря, ключи и родники...
Как из неба синего дождь не канет, так бы у р. Б. кровь не канула»; «...Как
утихнулись... реки и ручьи и малые источники, так бы утихнулась у раба Божия
кровь горячая...»193
Огненная же мифическая река, как вся кровеносная система организма,
охватывает целиком Вселенную — «от востока и до запада, и от запада и до
севера, и от севера и до лета; и со всех четырех сторон от земли и до небеси;
от небеси и до земли»; или: «...проведи реку огненную с востока до запада,
до самой бездны, с земли до неба...»194 (Однако она порой описывалась и как
только подземная: в отреченном слове «О всей твари» посреди мифической
заокеанской земли — глубокая пропасть, где течет огненная река,
разделяющая муки и рай195.) По памятникам древнерусской литературы, великая река
Окион, обходящая Вселенную, могла представляться и не огненной196, однако
в основе это, видимо, одна и та же река. Скорее всего, наши сказочные
молочные реки с кисельными берегами имеют то же «внутреннее» происхождение —
идея пере/возрождения путем купания в молоке сопоставима, в частности, с
широко распространенной традицией, в том числе и у русских, считать
Млечный Путь дорогой душ или рекой (ср. близкие представления о Млечном Пути:
древнекитайское как о Серебряной реке, соединяющей небо и землю;
древнеиндийское как о небесном двойнике священной реки Ганг; австралийских
396
Мосты времен: космологические архетипы...
аборигенов как о Бесконечной реке, принимающей дух умершего;
колумбийских индейцев десана как о реке, чьи воды наполнены человеческим семенем
в виде пальмовых волокон; поляков, немцев и некоторых других народов
Европы как о молочной дороге, ведущей в рай, и т. п.)197. Воззрения,
аналогичные нашим, о вселенской реке, обтекающей все мироздание, встречаем у
сибирских народов, в частности у эвенков198, а в древнеиндийской мифологии
в образе подобной реки обнаруживаются отголоски связи с телом божества —
она либо вытекает из пальца Вишну, либо, будучи выпита неким мудрецом,
выпускается затем им через ухо199. Сходные мотивы имеются и в
восточнославянском фольклоре: Орда-река бежит из мизинца героини украинской
сказки, Дунай — из мизинца самого Христа в черниговской колядке200. Глубоко
символична в данном аспекте русская загадка о реке (или кринице), из которой
все село берет воду и разносит ее по домам: «Конец села забито вола, до каждой
хижки (избы) тянутся кишки»201. Здесь образ вола, через который загадывается
река, обладает одновременно и топографической, и социальной значимостью,
составляя неразрывное единство с человеческим коллективом, для которого
его внутренности с заключенной в них влагой как бы играют роль животворных
энергетических каналов202.
Интересно, что рассматриваемый ассоциативно-образный комплекс,
несомненно уходящий своими корнями в глубокую древность, вдруг неожиданно
может проявиться в современном народном творчестве, свидетельствуя,
возможно, о неведомых нам пока механизмах наследственной памяти, но скорее —
о близости образно-художественного восприятия мира людьми самых
различных эпох. К 1970-м годам относятся рисунки мастерицы глиняной игрушки из
Курской обл. В. В. Ковкиной (рис. 4-10, 4-11), где внутри лежащей коровы
мы видим мир в миниатюре, но не бытовой, а мифологический — обозначены
лишь главные сакральные элементы его: земля, переданная традиционным
сетчато-ромбическим узором почти по всему туловищу коровы, водоем в
задней его части — море или озеро, из которого прямо от вымени поднимается
дерево, будто на острове, а из-за ствола его восходит солнце203. Перед нами
совершенно архетипическая картина мира с сакральным центром посреди моря
с осью-деревом, причем этот мир заключен внутрь «вселенского животного».
В русских сказках встречаются эпизоды, в которых происходит, можно сказать,
разворачивание элементов мира из чудо-быка: брата и сестру спасает от волка
неизвестно откуда прибежавший бык, по указу которого герой достает пооче-
о 204
редно из его ушей разные предметы, и из них появляются лес, озеро и т. д.
Невольно напрашивается хотя и далекая, но очень выразительная параллель —
предание зулусов о женщине, попавшей со своими двумя детьми в желудок
слона. Они там увидели «огромные леса и большие реки, и много
возвышенностей; с одной стороны располагалось множество скал; еще было много
людей, построивших там свою деревню; и много собаке и много скота; все это
было внутри слона»; однако у тех же зулусов известно и аналогичное
представление о подземном мире с горами, реками и селениями предков, вход в который
отверстие в земле205.
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной...
397
■л-
О а^
Ковки
QQ
0С|
о
а;
^
<j
,jS
^
Q>
^
^h
<i
^
^
говски
J&
*Ч
^
об
Ч
сз
W»
*л
о.
^
^<
<\}
<\}
ъ>
1
<£>
398
Мосты времен: космологические архетипы...
fiC€A€HCKO€ СУЩЕСТВО
Вероятно, подобные широко распространенные в архаичных культурах
воззрения на подземный мир (почти идентичный наземному и часто
зеркальный по отношению к нему), который мыслился как бы в чреве живого
организма-земли, могли породить в ходе расширения представлений о мироздании
образ некоего «вселенского существа», одушевленного Космоса. Так, в «Ат-
харваведе» (IX.4) имеется специальный гимн, посвященный корове, где этот
образ явно обладает вселенскими чертами: «Земля, и Небо, и Воды охраняются
Коровой. Боги заключены в Корове. ...От коровы происходит мысль. Корова
есть то, что называют бессмертием, Корова — то, что почитается как смерть;
Корова — это вселенная, боги, люди, демоны, предки, провидцы... Кто дарит
брахману корову, приобретает весь мир»206. Известно, что и «в Древнем
Египте, Месопотамии, Инди^ земледельцы первых государств, подобно многим
племенам Африки и южнЦх районов Евразии, изображали Вселенную в виде
коровы...»207 В фольклоре европейских народов образы быка
или коровы также характеризуются порой поистине
вселенскими масштабами — в сказках чудесный бык, помогая
герою, передвигает горы, выпивает море, может поедать
звезды, а коровы-помощницы двигают рогами солнце208.
швев* .-ятт
Рис. 4-11. Рисунок В. В. Ковкиной «Корова».
1970-е гг. Курская обл., Льговский р-н, с. Кожля
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 399
Такой вселенский космизм зооморфных образов, их соотнесенность не
только с землей, но и как бы с ее противоположностью — небом и небесными
светилами — с одной стороны, мог являться результатом их эволюции в ходе
формирования более дифференцированной мифологии неба. Однако, с другой
стороны, истоки его уходят в какие-то очень древние пласты истории
человечества, когда «в образном мышлении первобытного человека небо не
отделялось от земли и водной стихии и называлось одним и тем же словом, которое
воспринималось как живое существо, находившееся в трех плоскостях:
верхней, земной и преисподней»209. Например, древние мезоамериканцы, как и
многие другие архаичные народы, «не разделяли низ и верх по отношению
к вневременному пространству потустороннего мира»210. Вторичность
мифологии неба и большую распространенность образа земли-матери по отношению
к образу неба-отца отмечали многие исследователи (в частности, Э. Б. Тайлор,
А. Ф. Лосев); в ряде мифологий, в том числе в греческой, известен мотив
рождения землей неба: Геей — Урана («спящая земля поднялась из хаоса,
и из нее родилось небо») и стоглазого Аргуса (звездное небо); а, например,
в мифе колумбийского племени уитото бог-творец ложится на землю и
вытягивает из нее небеса211. У бурят даже имя мужского бога-творца Ульгеня,
живущего на небе, происходит от имени Матери-земли212. По ацтекскому мифу
богиня земли была разорвана двумя богами на две части, из которых были
сотворены земля и небо213. В древнеиндийской мифологии имя жены Рудры —
Родаси — имело значение земля+небо («родас» означало землю), этот образ
мог также распадаться на два (две юные девушки Родаси олицетворяли землю
и небо, как и богиня Махи в двойственном числе, а в единственном — землю,
почву, страну)214. Разделение единого ранее образа отразилось в «Ригведе» и
в представлении земли и неба в образах двух коров: они описываются
полными молока, доящимися медом, обильными семенем (VI.70); «Там стояли
коровы, набухшие от молока. Великие родители удивительного — два
обращенных друг к другу (мира)...» (III. 1.7); «О Агни, (сделай) ты для нас оба мира
хорошо доящимися» (Ш.15.6)215 (ср. русскую загадку о земле и небе: «Два быка
бодутся, вместе не сойдутся»216 и борьбу Синего и Черного Быков — хозяев
моря и Алтая — в алтайском эпосе: в русских духовных стихах также имеется
явно выраженный мотив вражды земли и неба217). Как показывают
сравнительные исследования, идея противостояния неба и земли концептуально
сформировалась не ранее неолита, породив мифологему об их разделении и
опосредованно отразив определенный сдвиг в развитии сознания и социума218.
Приведенные выше примеры говорят о том, что сама мифологема об
изначальной слитности земли и неба, по-видимому, восходит к зоо-антропо-
морфной модели мира, согласно которой вся обозримая Вселенная мыслилась
на каком-то этапе как бы заключенной внутри огромного вселенского существа.
«Поверхности неба и земли смыкаются и образуют одну сплошную поверхность
объема природно-родового организма... Сердечную ритмику жизни... задает
маятник Солнц и Лун... Они поочередно восходят и заходят из родового лона,
в качестве которого выступают возвышающие деревья и горы»219. В начале
начал «Вселенная была проглочена, сокрыта мраком...» — сказано в «Ригведе»
400
Мосты времен: космологические архетипы...
(Х.88.2)220. По одной из легенд о Кришне он ребенком ел землю, а когда открыл
рот — там были видны все три мира221. Параллель этому воззрению
встречается в мифе о Зевсе, якобы когда-то проглотившем и вместившем весь мир «в
своем пространном лоне», причем он одновременно был и «муж», и «дева»222
(а главное его врплощение, как известно, — бык).
Небо достаточно органично могло восприниматься носителями подобных
представлений о мироздании «верхней границей полости, нижней границей
которой была наша земля», как мы это видим, например, у селькупов, которым
известно и выражение «нутро неба», «полость неба»223. У некоторых сибирских
народов образ мамонта приобретал также вселенские черты — «очевидно,
округлый куполообразный контур головы и спины мамонта воспринимался
человеком как свод Неба, а нижняя часть — как Земля, ...жилы с кровью —
как реки...» и т. д.224 Такой вселенской «полостью» мыслилась и космическая
черепаха в своем панцире, верх которого в «Шатапатха брахмане»
уподобляется небу, а низ — земле225. В древнекитайских текстах неоднократно
упоминается о «лоне ПоднебеснЪй», во вьетнамских — о «лоне неба», а в
древнеиндийских это представление хорошо прослеживается на описании жертвенного
коня, отождествляемого с миром: «...небо — это его спина, воздушное
пространство — его брюхо, земля — его пах...» (Брх. уп. I)226. В скифской
культуре признаками образа, олицетворявшего всю Вселенную, обладал олень227.
Не случайно слово буга в тунгусо-манчжурских языках, помимо указанных
значений, могло относиться и к небу, к верховным небесным божествам, и
к нижнему миру228, эвенкийское слово нянгня означало земля, грязь и
одновременно — небеса, небо, воздух229, а в якутской мифологии слово ютюгэн,
связанное с горным хребтом Удуген, передавало понятие не только земли,
страны, но и пропасти, нижнего мира, преисподней230.
Эти ранние представления о тесной слитности «миров» вполне логично
вытекают из зоо-антропоморфной модели мироздания, которая отражала
интуитивно и эмпирически улавливаемые ощущения трехмерности, объемности
пространства, но была еще далека от четкого выделения и мифологического
осмысления его «уровней». Осознание этих параметров и оформление их в
мифологии являлось, по-видимому, очень длительным процессом,
проходившим через выявление, прежде всего, двух уровней: горизонтальной плоскости
земли с ее четырьмя ориентирами и противопоставленного ей «иного мира»,
понимаемого вначале, скорее всего, как «нижний мир» — дуалистическое
членение мира по вертикали, по мнению большинства ученых, предшествовало
его троичному членению231. Впоследствии многие параметры «нижнего мира»
переходят на «верхний», третий, — отголоски этого встречаются довольно
часто, можно привести характерные примеры их в связи с рассматриваемым
выше осмыслением горы как чрева прародительницы: в тувинском обрядовом
тексте «путь к небесам» синонимичен проникновению вглубь горы232, а у бурят
отмечено расширение слова «гора», со временем до «небо»233. В Ведах мотив
небесного вымени соотносим с мотивом доение вымени горы — Ф. Б. Я. Кеи-
пер указывает локализацию его «под землей, где в нижней точке мировой оси
находится амрита»234. Кстати, явная архаичность зооморфных моделей ста-
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 401
вит под сомнение утвердившееся мнение о том, что горизонтальная модель
мифологического мира предшествовала вертикальной (так, например, Е. А.
Окладникова считает горизонтальную модель позднейшей235). Как представляется,
при решении этой проблемы необходимо поставить вопрос о более четком
разграничении таких понятий, как объемная, горизонтальная и вертикальная
модели мира — собственно, две последние априорно уже существовали в
первой и лишь со временем, вероятно, произошло их частичное обособление.
Впоследствии они могли довольно причудливо сочетаться, создавая в
различные эпохи усложненную, а иногда и противоречивую картину мироздания.
Если в трехъярусной модели Вселенной представления, связанные с ее
верхним ярусом, часто носят следы более позднего формирования, то надо
отметить, что многие воззрения на ночное небо вполне вписываются в
картину зоо-антропоморфного образа мира, так как оно издревле
отождествлялось с потусторонним, подземным миром. В древнеиндийской мифологии
просматривается «идентификация ночного неба Варуны с космическими
водами», находящимися под землей236. Древние египтяне выделяли в ночном небе
область Дат — группу околополярных звезд, «не знающих уничтожения» (не
заходящих за горизонт), куда улетала душа умершего для вечной жизни; эта
область в то же время могла мыслиться в подземном мире и отождествляться
с «полем тростников» и «полем жертвоприношений»237. Для древней Америки
отмечается «комплекс понятий мистического соединения и зеркального
взаимоотражения космоса и подземной сферы — так пещеры считались
воплощением Млечного Пути как творца всего сущего. Спускаясь в пещеры к
прапредкам, душа умершего возносилась по Млечному Пути...»238 (при этом у
американских индейцев пещеры также отождествлялись с утробой и родовыми
путями матери-земли). Индейцы тева (юго-запад Северной Америки) считали
Млечный Путь хребтом мифического существа, чье тело было мирозданием;
Небесным Хребтом называли его и ненцы239. У эвенков звездное небо загады-
вается следующим образом: «Шкура дикого оленя продырявлена» (звезды =
дырки от оводов)240. Нависающей ровдугой представляли небо кеты241, а
отголоски подобного древнейшего воззрения сохранились даже в одном из
ветхозаветных псалмов, где сказано, что Бог распростер небо «яко кожу»242.
Следы аналогичных представлений можно обнаружить и в
восточнославянских материалах. В древнерусской литературе нередко встречаются описания
картины мира — так, в «Житии Андрея Юродивого» пространство под первым
небом представлено бездной морской, а третье небо простерто, как кожа243.
Восточнославянские загадки о небе сохранили тот же круг образов: «Синенька
шубенка покрыла весь мир», или «Лихав волох (...волохи — кожа), розсипав
горох; стало свитать, ничого збирать» (небо и звезды)244. Последний вариант
перекликается еще с одной группой загадок, в которых исчезновение утром
звезд объясняется очень своеобразно:
«Рассыпался горох
По чистому полю...
Пришла бурая корова,
Хвост задрала, весь горох собрала».245
402 Мосты времен: космологические архетипы...
Или: «Рассыпался стакан по всем городам, никто собрать не мог, одна
корова хвост подняла, да и все убрала»246 (здесь отразились и очень древние
представления о способности вагины что-либо втягивать в себя247). По этим
загадкам ночное небо фактически оказывается как бы внутри коровы,
которая, таким образом, становится очень близка древнеегипетской Нут, ежедневно
пропускающей через себя все светила — считалось, что в ней «заключена тысяча
душ» (звезды)248. В славянских сказках также встречается близкий мотив:
«...Моя мать каждое утро рождает меня прекрасным младенцем...» — говорит
о себе солнце249.
Рис. 4-12. Глиняная игрушка «Корова».
Мает. Г. Кузнецова. Тульская обл., Одоевский р-н, д. Филимоново.
Собрание ВМДПиНИ
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 403
Отражение этой мифологемы можно уловить и в орнаментации народных
глиняных скульптурок-коровок из Каргополья, а также из с. Филимоново
Тульской обл., где корова лепилась как «богоподобное природное существо»250. В их
декоре просматриваются символы звезд, луны или ночного, подземного солнца
(круг с черным ободком и точками), а также солнца, как бы «проглоченного»
коровой и продвигающегося внутри нее, чтобы вновь родиться (рис. 4-12).
В очередной раз приходится удивляться аналогиям, встречающимся в иных
культурах. У ряда народов Центральной Азии и Сибири, в частности,
просматривается мифологема о суточном движении солнца сквозь космическую олени-
ху или лосиху — проглоченное вечером, оно вновь рождается ею утром,
представляемое порой в виде чудо-теленка; изображение рождаемого лосихой
лучистого солнца можно увидеть на якутской писанице251. Ночное звездное
небо в их мифах олицетворялось в образе пестрого быка, соотносимого также
с землей, а у древних египтян особый пятнистый бык выбирался на роль
священного быка Аписа — его черная шкура с белыми пятнами должна была
напоминать карту звездного неба, пятно на правом боку — полумесяц, а на
спине — орла, символизировавшего солнце252.
Рис. 4-13. Глиняная игрушка «Олень».
Мает. У. И. Бабкина. Архангельская обл., Каргопольский р-н, д. Гринево.
Собрание Г. М. Блинова
404
Мосты времен: космологические архетипы...
На каргопольских глиняных скульптурках, в частности мастерицы Ульяны
Бабкиной — хранительницы архаичных традиций, — нередко можно видеть
также изображение ломаных линий, порою с точками: они часто
встречаются и посередине туловищ оленей (рис. 4-13), коровок, козлов, и внизу юбок ее
«баб», и на тулове Полканихи (полуженщины-полуживотного)253. Нет
надобности напоминать, что подобная орнаментация с глубочайшей древности
являлась идеограммой воды по всему миру и вошла даже в качестве иероглифов
в ранние письменности, в том числе — шумерскую и эламскую254. Традиция
такой орнаментации на глиняных изделиях, иногда — сосудах в виде
животных, особенно коров, встречается в народном творчестве различных регионов
до последнего времени255. Сосуды в форме животных были когда-то широко
распространены в изобразительном искусстве древней Южной Европы, и
среди них, пожалуй, первое место принадлежало образам крупных копытных.
Привлекают внимание, например, сосуд IV тыс. до н. э. из культуры Винча
в форме коровы или самки оленя; критский сосуд в форме быка или коровы
III тыс. до н. э.; кипрские сосуды конца III—I тыс. до н. э., украшенные часто
также орнаментом в виде волнистых, ломаных или прямых линий256.
Еоды-коровы
В связи с этим хочется обратить внимание на очень распространенную
мифологему, хотя и довольно странную на первый взгляд, — в ней явственно
просматривается отождествление крупных копытных животных с
водами, причем как с земными (морем, озером, рекой), так и с дождевыми.
Наиболее ярко она выражена в «Ригведе» (1.32) в описании победы Индры над
Вритрой и освобождениии космических Вод: «...Как мычащие коровы,
вырвались воды на волю и напрямик поспешили к морю...» (по другим вариантам,
освобождаются именно коровы из пещер Валы; коров в Индии также считали
«матерями человечества»)257. Образ «великой коровы в воде» Метуэр был
зафиксирован в Древнем Египте уже в III тыс. до н. э.; ее двойником считают
некую корову, вставшую из воды и превратившуюся в небо, на которой по
одному мифу бог Ра поднимается из первичного океана (эта корова
отождествляется иногда с Нут, и само имя Нут, по мнению некоторых исследователей, связано
с именем океана Нун)258. В европейских сказках бык-помощник выпивает целое
море, а потом изрыгает его обратно259 (в китайской и австралийской мифологии
имеется аналогичный сюжет о лягушке, производящей этим потоп260). «Водяной
бык», изрыгающий потоки воды, известен также в наскальной живописи и
мифологии бушменов (изобразительно ему близки мотивы на армянских вишапах)261.
По мифу африканского племени шиллук первые люди появились из тыквы,
которую вынесла вышедшая из воды белая (либо светло-серая) корова262. У
индейцев като (Северная Калифорния) Вселенная представлялась огромным
рогатым животным, плывущим в мировом океане263.
Широта распространения мифологических сюжетов о водяных крупных
рогатых животных просто удивительна, причем нередко эти сюжеты связаны
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 405
с мифическим началом мира, временами предков и становления человеческого
коллектива. Так, в Северной Африке пастухи фульбе считали, что коровы
пришли к людям из болотистого водоема во времена предков, в честь чего ежегодно
устраивался большой праздник, а у борора четыре рода связывались с
четырьмя мастями быков, которых их предок разделил между своми четырьмя
сыновьями264. У бантуязычных народов известны легенды о появлении первых коров
из озера или из раскрывающейся скалы265 (обратим внимание на это тождество,
малопонятное на первый взгляд, но вполне объяснимое в свете
рассматриваемой концепции). По легенде народности кати в Северной Кафиристане
человек, у которого ежедневно исчезало в озере по корове, нырнув в это озеро,
наткнулся там на стену, где был разложен навоз (!); в озере он встретил много
людей и божественного судью, а вернулся оттуда с дарами через водопад266.
У сибирских народов «водяными» животными оказываются те же, в образе
которых представлялась земля или мир. Так, в эпосе саяно-алтайских тюрков
Сивый (Синий) Бык называется «хозяином Синего моря», он выходит из моря
или из озера, а Черный Бык — из пучины великой реки267 (как указывалось
выше, они являются также хозяевами земли или Алтая). У урмийских эвенков
имеется вариант мифа о небесной охоте, по которому чудесная лосиха убежала
от охотника в море (ср. близкий вариант мифа об Орионе) и осталась там,
превратившись в мамонта268 (интересно, что ханты считали, будто мамонт
образуется из старого оленя, залегающего в болото, потом он проваливается под
землю и ходит по нижнему миру; кроме названия «земляной бык», он имел
наименование и «водяной зверь»)269. Олень-лось Калир, который, по
представлению эвенков, был «велик, как сама земля» и являлся стражем родовой реки,
объединяющей все три мира и уходящей в нижний, имел также признаки и
водного животного — рыбий хвост270 (мифические олень-рыба и кони с
рыбьими хвостами известны и в нартском эпосе271). Трансформация такого образа,
как Калир, представляется более или менее очевидной — животное-мир со
временем превращается либо в стража одной из частей мира с
гиперболизацией характерных для этой функции черт, либо в поддержку мира или земли272.
Соответственно, такое животное сохраняет лишь какое-то отношение к
подземным живительным водам (выходит из них, ныряет или плавает в них,
сторожит и т. п.), в то время как раньше они, видимо, мыслились внутри него
(так, например, у одного из племен полуострова Малакка существовала
уверенность, что земля под ногами людей не прочна, так как она «не более чем
кожа, протянутая над бездной вод»273. Близка семантика и русской загадки
о небе, земле, лесе и лешем: «Поле водочное, огород кожаный, овцы аржан-
ские, пастух уховский»274.
У русских была очень распространена легенда о коровах водяного либо
лешего, живущих в озере или реке — часто это четыре бурых, иногда —
черных коровы, они периодически выходят на остров или берег, а человеку,
поймавшему хоть одну из них, такая корова приносит богатство. Подобные
легенды бытовали в основном на Русском Севере, где их порою помнят до сих
пор (так, в 1994 г. в ходе экспедиции в Вохомском р-не Костромской обл. нами
406
Мосты времен: космологические архетипы...
был записан вариант этой легенды275). По верованиям германцев, водяной в
виде дикого быка выходит из болота или моря, чтобы оплодотворять коров276.
В Кирилловском уезде Новгородской губ. встречались предания и о быках
«особой породы», выходивших из Вещозера ежегодно 8 сентября (Рождество
Богородицы) для жертвоприношения одного из них, и о коровах, появлявшихся
из озер Святое, Березина или даже из-под земли277. Эти предания являются
вариантами распространенных на Русском Севере легенд о выходящих из леса
с той же целью оленях или ланях, и характерно, что во многих местностях они
связаны с днями, посвященными Богоматери — ее Успением или
Рождеством278. Сопоставимы с ними и античные легенды, по которым жертвенная
корова порой добровольно вплавь добирается до места своего
жертвоприношения, и предания адыгских народов о «самоидущей корове», которая также сама
приходила на заклание каждый год279. При анализе близких легенд у
балканских славян о водяном быке (морском, озерном) Л. Раденкович приходит к
выводу, что первоначально^ нем представлялся образ родоначальника
племени, его защитник и покровитель280.
Черты предка, соотнесенность с изначальной землей-островом
просматриваются и в образе златорогой чудо-турицы из зачина былины о Василии
Игнатьевиче, а ее туры-сыновья также «водяные»:
«Да уж как плыли туры черес окиан-море,
Выплывали туры да на Буян остроф,
Они шли по Буяну, славну острову.
Им настрецю турица златорогая,
Златорогая им турица одношорсная,
Уж как та ихна матушка родимая»ш.
Былинная чародейка Марина посылает туров к морю, или «к турецкому
морю», а порою тур в былинах прямо назван «морским», что вызывало удивление
исследователей фольклора282. Малопонятным представлялся и образ
плавающего по морю оленя, встречающийся в русском, польском, сербском и болгарском
фольклоре, а также отождествление в старинной песне оленя с Дунаем283.
Эта странная связь копытных животных с водой может быть
обусловлена двумя основными факторами, если исходить из концепции зооморфной
модели земли и мира. С одной стороны, изначальная земля представлялась
лежащей на водах океана — отсюда достаточно логичен и образ
земли-животного среди вод (ср. с болгарским наименованием племенного быка буякт
название о-ва Буяна); с другой — подземные воды мыслились как бы
внутренней жидкостью животного-земли, а для образа животного-вселенной такая
ассоциация вполне органична и в отношении наземных, и даже небесных вод.
Контаминация понятий «внутреннее-внешнее», по-видимому, во многом
способствовала рождению мифологических образов морских или водяных крупных
копытных, а также появлению представлений о некоем мифическом море, не
то подземном, не то очень далеком. Остаточная символика подобного
комплекса обнаруживается, к примеру, в образе властителя моря Посейдона, который
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной...
407
в прототипе был связан с землей, земной влагой и плодородием, но также и
с образом быка285. Сравнительно-этимологический анализ слов в
индоевропейских языках выявляет связь понятий моря, бездны, пустоты с образом коровы,
причем бездна соотносится также с творением, гармонией, вселенским
порядком286. Первозданный океан, или «воды» в древнеиндийской литературе
неоднократно именуются матерями (ср. выше о коровах как «матерях
человечества»), женами, «потому что от этих вод рождается вселенная», они зачали
ее (или землю) «как своего первого зародыша», и этот зародыш,
изначальный холм рисуется покоящимся на них (иногда — в виде белого лепестка
лотоса)287. Хотя здесь просматривается некоторое противоречие, в том числе
отмечаемое Кейпером («С другой стороны, землю представляли себе как
вместилище, заключающее в себе подземные воды»288), оно, по-видимому, как-то
снималось мифологическим сознанием (ср. возникшее в кон. XIX в.
представление русских крестьян о плавающей по воде земле как шаре, также
наполненном водой289).
Чудо-остров
Мифологема первохолма среди вод, вариантом которой является
мифологема чудесного острова, — одна из самых распространенных по всему миру.
«Кочка старше прочей суши», — утверждается в карело-финском фольклоре290.
Наиболее древнее письменное свидетельство мифа о чудо-острове датируется
первой пол. II тыс. до н. э. (хотя корни его, несомненно, намного глубже) — это
древнеегипетская сказка о человеке, потерпевшем кораблекрушение,
сохранившаяся на папирусе из Эрмитажа. На острове он встречает огромного змея,
а в самом острове можно уловить черты обители мертвых и источника
всеобщего изобилия291 (образы змеи/дракона и некоего Древа нередко являются
обязательными составляющими данной мифологемы). В Древнем Египте
фактически каждый храм отождествлялся с первохолмом/островом, который
считался «средоточием созидательных сил, местом, откуда берет начало
упорядоченная жизнь вселенной»292. Уже с середины XIX в. ученые высказывали
мнение, что подобные чудо-острова не что иное, как изображение
потустороннего мира, местообитания умерших; представления об островах предков
фиксировались почти повсеместно, от австралийцев до англичан, перекликаясь
с образом рая на осторове, горе либо под водой293. В этом архетипе мы вновь
сталкиваемся с ярко выраженной контаминацией «внутреннее-внешнее» —
так, по древнеиндийской литературе священный остров Ланка «в его
мифологическом значении... можно рассматривать как аллегорию подземного мира»294.
У восточных славян, как известно, архетип подобного острова представлен
прежде всего богатым материалом заговоров, которые часто начинаются
примерно так: «На море на океане, на острове на Буяне...», или «Есть море-окиян,
средь моря-окияна стоит бел-горюч Латырь-камень...» и т. п.295 Остров Буян и
камень Алатырь почти не встречаются в одном и том же заговоре, нередко они
408
Мосты времен: космологические архетипы...
выступают как синонимичные образы — так, порой в зачине говорится: «...есть
среди моря окияна бел остров», или «...в синем море лежит белый камень»296.
Некие дерево и змея по многим текстам представлены также находящимися на
острове. Необходимо отметить, что мифическому камню-острову из наших
заговоров существовал, вероятно, реальный аналог у славян времен дунайского
единства (почитавшийся и соседними с ними народностями, в частности
фракийцами) — это рстров в Черном море неподалеку от впадения в него Дуная —
Левка или Белый, его также называли Змеиным островом — исследователи
предполагают здесь в прошлом отправление культа якобы обитавшей в пещере
большой змеи, чьи изображения были найдены на археологических предметах.
В древнегреческие времена здесь существовал культ Ахилла, связываемый
с культом мертвых, с посвященными ему в центре острова храмом из белого
местного камня и священной рощей из серебристых тополей и вязов297.
А. Н. Афанасьев в специальной статье об острове Буяне определил, на наш
взгляд, главную суть рассматриваемого архетипа: это «чудесный остров
матерей или родительниц, т. е. страна вечно юных зародышей», на нем хранятся
«семена жизни»; «это жизнь в возможности, и потому жизнь вечная», причем
этому не противоречит и местообитание здесь смерти; «под тем камнем
сокрыта сила могучая, и силе нет конца»; остров этот — аналог вырия-рая, это
изначальная земля, рожденная из моря и соотносимая с центром вселенной298
(несмотря на частую локализацию его по русским заговорам в восточной
стороне). Современные исследования подчеркивают в образе чудо-острова
семантику «некоего сакрального пространственного и временного центра посреди
вселенских вод»299.
Однако само весьма характерное для традиционных обществ представление
о негомогенности пространства, о неравной значимости его локусов и
наибольшей сакральности некоего мифического «центра» достаточно логично
вытекает из воззрений на мироздание как на живой организм, в котором особо
маркируются наиболее жизненно значимые органы300. Мифологи отмечают
связь идеи «центра» с представлением об источнике всеобщей жизни, в
конечном итоге бессмертия, причем «центр рассматривался как священный
эмбрион вселенной, своеобразный космос в космосе» — возникновение и земли, и
мира вообще мыслилось древними по аналогии с зарождением ребенка в чреве
матери («Бог создал мир яко зародыш», — сказано, например, в одном из
талмудических текстов)301, что объяснимо только при наличии представления
о некоей праматери мира. Так, по шумерской космогонии изначальная земля
в виде космической горы возникла в чреве извечно существовавшей
праматери Намму («мать, породившая небо и землю», а также богов), образ которой
был связан с мировым океаном, фактически тождественным мировым
подземным водам Абзу — в темных водах Намму скрывались семена всех вещей302.
В одном еврейском источнике сказано, что первобытный океан окружал землю
с шести сторон «подобно тому, как зародыш окружен оболочкой в утробе
матери»303.
В древнеиндийской мифологии, судя по исследованиям Ф. Б. Я. Кейпера,
существовало представление о «зачатках всей жизни» в горе, или первохолме:
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной...
409
«Он сам (Брихаспати. — И. Д.) выгнал наверх [зародышей] горы, рыжих
[коров], как если бы [он выгонял] зародышей птицы, разломав [их] скорлупы»
(Ригведа. Х.68.7); однако сам изначальный холм плавает в первозданных водах,
из которых в мифе о пахтанье добываются элементы мироздания — «в этих
водах основаны миры», из них, локализующихся под землей, питаются и корни
Древа жизни; кроме того, реконструируется представление, что эти воды,
Сома и звезды замкнуты в скале в чреве у дракона304. Мотив первоострова
просматривается и в известном мифе о зарождении жизни внутри
«размышлявших» вод в виде золотого зародыша или золотого яйца и возникновения
из него (либо из слов вышедшего из него через год божества) элементов
мироздания и времени (Ригведа. Х.121; Шатапатха-брахмана. XI. 1.6);
фактически островом можно считать и окруженную мировым океаном, расположенную
в центре земли мифическую гору Меру с главной золотой вершиной —
местообитанием Брахмы305.
В русских заговорах нередко священный остров, камень на нем (а порой и
другие элементы этого сакрального комплекса — храм, престол, стул, «лестви-
ца» и т. п.) также маркируются как золотые, что представляется далеко не
случайным: «...Под синим оболоком есть море синее, на море синем есть остров
злат, на золоте острове ее камен золот...»; «...На море окияне есть белой
камень, в золотой колыбели лежит младенец...»', «...Во Святом синем море бел
Златыръ камень...» «...Есть стое море окиян, на море окияне есть золот трес-
няк, в золоте тресняке седит бел лебедь. Стань, белой лебедь, полети, вырони
свое золотое перо лесу на возраст, а людям на прибыл...» (для роженицы
при трудных родах); «Среди-то моря Каспицково лежит сер-горюч камень; под
камышком лежит золота кадка, на кадке-то сидит красная девица»;
«...Вынимаю я, раб Божий, из-под бела Латыря камня 40 златых ларцов, вынимаю
огонь палящ негасимый...»306
Образ золота — один из самых ёмких в мифо-ритуальном аспекте. Помимо
хорошо известной солярной символики, это в первую очередь основной
атрибут вообще «иного мира», причем именно подземного (характерно, что золотое
царство в сказках обычно под землей), а золотые предметы связаны с
представлениями о долголетии и бессмертии307. На связь его с символикой сакрального
«центра» указывают, в частности, слова из «Атхарваведы» (Х.7.27-28):
«...Сначала скамбха создал это золото в середине мира. / На скамбхе [лежат]
миры, на скамбхе — тапас, на скамбхе — рита...»308 Скорее всего, именно в
контексте рассматриваемой картины мира объяснимо употребление таких
восточнославянских слов, как золотник и дъна, для наименования женской
матки. Если второе, известное в Древней Руси и сохранившееся в основном
у южных славян, могло иметь также значение вообще утробы, нутра
человека309, и ассоциативная связь здесь достаточно ясна, то первое — золотник —
раскрывается только в мифо-космологическом аспекте (ср. выше описание
«золотого чрева» женского начала природы, а также интересную параллель
в мифах индейцев северо-западного побережья Америки: женские органы при
творении похищаются с острова, в то время как мужские создаются заново310).
410 Мосты времен: космологические архетипы...
Свидетельством того, что сакральный источник жизни остров Буян мог
мыслиться когда-то золотником, т. е. маткой Вселенной, являются опять
же восточнославянские заговоры, в которых женская матка, обладающая, по
представлениям многих народов, способностью сходить со своего места (по
разным причинам)), призывается вернуться на свое место и посылается при
этом на тот же остров или камень: «на синя мора, на цеплые воды, на золотый
камянъ»; «...Ты золотничок, — заговаривается матка, — ...стань ты у родзимом
месци, обярнися камянём...», или — «...на золотым крэсли, на своим месци»311.
Подобная отсылка в заговорах известна и для различных болезней (т. е. на
остров или камень), и это конечное местоназначение их рассматривалось
исследователями как некое очень далекое, и даже нечистое, место (идея
нечистоты его явно не имеет под собой почвы, так как это всеобщий источник
всего существующего в мире, следовательно — и болезней, а попадание на него
из мира живых синоникично смерти). Однако на примере заговоров матки
ясно, что этот сакральный локус мог мыслиться и в самой женщине, на ее
внутреннем «море», красноречиво свидетельствуя в пользу параллелизма
Вселенная — женщина312. Не только «море», но и «поле» порой рисуется по
этим заговорам в таком «внутреннем мире»: «...Золотныче, молодныче, ...стань
на свое место, як пан на своим кресли. Сам Господь... тебе на золотому мисти
взоконыв, на шовковш трави, шоб ты ны бушував, по животи ны бурце-
вав...»313 (подробнее о контаминации море-поле см. ниже). Любопытную
параллель мотивам заговоров мы встречаем в сказках — в царстве чудо-царевны
(Василисы, Елены и т. п.) посреди луга стоит ее золотой трон314. Фактически
мы находим в этих заговорах весь комплекс мифического центра мира, включая
и его непременный атрибут — дерево: «Золотница-донница, стань на п у пищу,
на своим месци... (обвести веником вокруг живота, нажимая). Крепко березка
на корни стоиць, так стань золотник на своим местци того крепчей.»315 Камень
Алатырь в заговорах рисуется порой также на некоей «пуповине морской»
(к последнему образу мы еще вернемся).
Белый клмень
В контексте всего рассматриваемого круга представлений можно уловить
и тот ассоциативный ряд, который породил когда-то образ именно белого камня
на море (а иногда — и на острове). Прежде всего отметим, что у многих народов
с камнями были связаны представления о плодородии и рождаемости, в мифах
от проглоченного камня женщина может беременеть; аналогичные воззрения
просматриваются и в славянских культах камней316. Цвет чудо-камня также
оказывается связанным с данным значением, так как реконструируется
ассоциативная цепочка зародыш-сыр/творог-остров/ камень. Рассмотрим ее
более детально. В зачинах заговоров море порой также именуется белым, а
иногда этот эпитет даже добавлен к обычному «синему», как в записи XVIII в.:
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 411
«На синем белом море бел камень...»317 В сказках за белым морем находится
порой то таинственное «дивье царство», где обитает Царь-девица, растут
молодильные яблоки и бьет живая вода318. Вспомним, что в разных версиях
древнеиндийского мифа о творении путем пахтания, в результате которого из
глубины появляются и амрита, и «корова желаний» Сурабхи, и богиня Лакшми,
и многое другое, море либо именуется молочным, либо, сгущаясь,
превращается в молоко и масло319. Путем размешивания молочного моря-океана
создается земная твердь в мифологии монгольских народов (а затем и прочие
элементы мира: растения, животные, люди, боги); в алтайских мифах
встречается образ Белой матери, обитающей в мировом океане, а в текстах телеутов
взбалтываемое море с белой пеной названо лунным320 (белый цвет в мифо-
поэтической символике в наибольшей степени соотнесен именно с Луной321).
Образ «вселенского» молочного моря или озера довольно органично
вписывается в концепцию «вселенской праматери», так как многим народам
было свойственно представление, что тело женщины, а также самки животного
(и в первую очередь — молочного копытного) в значительной степени состоит
из молочной влаги (так, например, в древнеиндийской литературе существует
мотив происхождения первой женщины из принесенной Ману жертвы в виде
масла, кислого молока, сыворотки и творога — от нее произошел человеческий
род и были получены различные блага322). Процесс же возникновения
зародыша внутри этой молочной влаги во многом мыслился по аналогии с
процессом створаживания, а также — получения вторичных молочных продуктов
путем взбивания323 (ср., например, мотив создания первых женщин путем
сбивания богом масла в бурдюке, по мифам кафирских племен324). Возможно,
именно по аналогии с последним действием стала осмысляться на каком-то
этапе и функция мужчины в зачатии — так, в северомонгольских сказаниях
мать героя сравнивается порой с молочным морем, а отец — с мировой горой
Сумер325. По бурятской мифологии, божество Буха-Нойон в облике сивого
быка, проложив проход в горе, делает брод в молочном море своим фаллосом и
создает сына326. В «Ригведе» (X. 124.3) имеются глухие упоминания о некоем
Отце — «взбалтывателе сладкого напитка», который связан с
представлениями об изначальном мире327.
Основные звенья всего этого мировоззренческого пласта можно
обнаружить и в русских материалах. Если в заговорах порой подчеркивается белый
цвет моря, окружающего остров, а в сказках молочные озера связаны с идеей
перерождения, то надо отметить, что море и озеро в фольклоре могут быть
тождественны: «На мори, на сининьким озяри / Да там жи ж Ясь белых
лябедак стриляить...»; «На том синем море, на белом озере плавают гуси
серые...»328; а в Тотемском р-не Вологодской обл. есть Святое озеро, которое
народная молва считала «морской пучиной», не имеющей дна329. В
вариантах Голубиной книги говорится: «А-й Бельно озеро всем озерам мати» — в нем
крестился сам Иисус Христос (ср. в сербских песнях мотив купания
новорожденного бога в молоке)330.
412
Мосты времен: космологические архетипы...
В русских материалах также можно найти как следы олицетворения моря
в женском образе («Морская Пучина — кругом глаза», женитьба Дона на
море331), так и рудименты мифа о пахтанье — отголоски последнего В. В. На-
польских, например, предполагает в славянских космогонических легендах, где
суша или добывающий ее ныряльщик создаются из пены морской332
(«веществом жизни»! названа морская пена, созданная от плевка великой Матери-
земли, в мифе индейцев зуньи)333. Следы мифа о пахтанье находим и в поверьях
о ведьмах, которые, размешивая палкой воду в источниках, колодцах, могут
вызвать ненастье, отнять у коров молоко, а взбивая в кувшинах молоко,
изготовляют волшебную мазь или сыр к масленице334 (ср. в «Махабхарате» (1.15.2):
«Пахтайте океан, который является кувшином [амриты]»335). Свои кувшины
с молоком и сыр ведьмы хранят в глубоких погребах, т. е. в чреве земли, а
вызвать ведьму можно также с помощью кусочка сыра.
В связи с семантикой сыра/творога весьма показательна загадка о плоде
в чреве матери: «Под полом, полом стоит кринка с творогом»336, а в народных
песнях девушка после исчезновения возвращается в родительский дом «с
беленьким сыром, с маленьким сыном»337. Ритуал с сыром (творогом) являлся в
прошлом, вероятно, необходимой частью свадебной обрядности, сохранившей
глухие отголоски его. В Рязанской обл. на это указывает как свадебная
терминология, так и изготовление специальных блюд, в частности — маленьких
творожных шариков, которыми угощали супружеские пары338. Интересно,
что подобные шарики со сходным магическим значением встречаются у разных *
народов: у таджиков творожные клёцки были ритуальным блюдом,
посвященным женскому божеству Биби Се-Шамбе (близкому нашей Параскеве
Пятнице), они изготовлялись с целью излечения от бесплодия, в честь вселения
«человеческой души» в ребенка и т. п.; клецки посвящались также немецкой
Берте или Гольде; а в Индии сладкие шарики из теста, творога или риса
молящиеся приносили в храм в жертву божеству339. Символическое значение сыра,
как отмечают исследователи, «основано на его процессуальном свойстве —
заквашивании», оно проявляется у многих народов в разработанной
обрядности с «семейным сыром», где нередко просматриваются следы матримониаль-
ности (приобщение жениха к дому невесты и др.)340.
Кусок сыра (или реже — сала) местами называли коровай (вар.
каравай)341. В значительно большей степени это наименование известно для
обрядового хлеба, преимущественно свадебного, с которым сыр (творог) мог
составлять в прошлом единое ритуальное блюдо: «Вокала сыр да масло, / А
усиредины доля да щасьтя», — пели о коровае в Витебской губ.342; то же
отмечают исследователи и для рязанской свадьбы, что отразилось даже в
обращении ккороваю:
«Пекись, пекись, сыр каравай,...
Выше дуба дубова,
Выше матицы яловой...»343
^ «Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 4J_3
Глубоко семантичный образ коровая неоднократно обращал на себя
внимание исследователей344. Он соединил в себе, судя по его украшениям и по всей
обрядности, с одной стороны, символику образа мироздания, первозданной
земли, «вырея» — это изображения светил, Древа жизни в центре веточкой
и т. д. (образ земли воплощал в себе и украинский круглый хлеб — поляни-
ца345). С другой стороны, он являл собой символ человеческого рода, связи с
миром предков: птички — образы душ, фигурки новобрачных, порой окраска
в красный цвет — цвет крови. С третьей — в нем просматривается образ
коровы: в самом названии, в изображении рогов и вымени, в словах от его
имени «Я рогат и богат»; в загадке о коровае — «Промеж гор Печер лежит бык
печен, в брюхе мак толчен...» (семантика мака, как известно, связана с
плодовитостью, деторождением); обращают на себя внимание и приведенные слова
«выше матицы яловой» — последнее слово и близкие к нему широко
употреблялись у славян для названия нетельной коровы346. Интересно, что в отдельных
местностях Польши дележ свадебного коровая назывался «резанием
теленка»347. Ритуальный хлеб в виде коровы когда-то выполнял, видимо, очень
значительную семантическую функцию по всей Руси, так как просматривается
тенденция его изготовления в самой кульминационной календарной точке —
встрече Нового года, на Рождество: и на Русском Севере, и в некоторых
центральных губерниях (в том числе Московской) выпекали печенье в виде
коровок, в других местах — короваи или большой пирог наподобие «Коровушки»
(см. выше). В обрядности с рязанским короваем проявляется его
непосредственная связь с представлением о зачатии: «Съесть краюшечки — родить
Ванюшечку да Дарюшечку»348, — пели о нем, что вполне объяснимо для
символики хлеба, а тем более сыра/творога.
Однако семантический ряд представлений, касающихся сыра/творога,
значительно расширяется, если рассматривать их не просто в контексте
семейно-родовых обрядов, а в космологическом аспекте. Еще А. Н. Афанасьев
указал на широкий круг понятий, связанных с этими образами и словами,
который выводит нас на мифы о творении (в частности, для слова творог
существовало значение и «мягкая грязь»), что подтверждается также
современными этимологическими исследованиями349 (этому ряду семантически
близок и мотив сала350). Вероятно, на основе именно этого круга последовательных
отождествлений сыр — зародыш — изначальная земля в первозданных
водах Праматери возник когда-то особый континуум «иного мира» с белым
камнем/островом на молочном море. С этой точки зрения вполне естественно
и представление белого камня горячим — предположение о происхождении
эпитета «горюч» от «горяч» неоднократно высказывалось разными учеными;
оно подтверждается и некоторыми текстами заговоров: «...Напади моя тоска...
ни на воду, ни на землю... ни на бел горяч камень...»; «...и под тем кустом под
ракитовым лежит белый горячий камень»351. Образ острова-зародыша
просматривается в некоторых текстах, где он соотносится с живым существом: «...Во
светлом море океане есть улица костяная, в той улице стоит двор костяной...
414
Мосты времен: космологические архетипы...
в том дворе стоит изба костяная..., в той избе костяной сидит старой муж
костяной...»352 В фольклоре для образа младенца в утробе матери также отмечен
устойчивый эпитет «костяной» (в загадках это костяные барашек, каравашек,
огурчик и т. п., в заговорах — «голова костяная»)353. Характерно, что название
острова Буяна Связано и с кладбищем, и с идеей роста354.
Включенность в контекст «вселенской праматери» делает понятным и тот
факт, что чудо-камень может находиться как на море, порой в глубине моря,
так и в глубине земли. Последний образ представлен в распространенных у
славян (в том числе у восточных) рассказах о зимовке какого-либо человека,
порой — девочки — в яме, горе, пещере среди змей, которые всю зиму лижут
большой камень (белый, светлый, золотой), где возлежит царица змей, а под
ним может находиться целебная мазь, причем камень иногда прямо назван
«светлый камень Алатырь»355. Образы змей вокруг чудо-камня (вспомним
священный Змеиный/Белый остров Левка), вероятнее всего, передают
представления о душах умерших, ждущих своего перевоплощения и питающихся
неким «эликсиром жизни» (ср. из древнекитайской мифологии: «Духи и Души
Неба и Земли» угощаются белой нефритовой пастой, образующейся и
клокочущей в озере у подножия Дань-дерева356). Очень показателен здесь мотив
лизания — вспомним лизание первородной коровой ледяных или соляных (т. е.
белых) скал в скандинавской мифологии, от чего родились боги357, и лизание
Ильей Муромцем пены, исходящей от умирающего Святогора, чтобы получить
его силу358 (см. выше об образе пены). С этим сопоставим также сюжет сказок,
в которых герой лижет камень, найденный в желудке чудовища, желавшего
его проглотить, и получает от этого камня сакральные знания — подобные
сюжеты В. Я. Пропп интерпретирует также как рудимент сюжетов
поглощения с последующим возрождением в ином качестве, а в них нередки мотивы
плавания внутри чудовища по морю к некоей обители, острову, стране
предков, находящейся в его лоне, где герой встречает порой даже своих
умерших родственников359. Характерно, что в восточнославянской мифологии
название обители предков вырей или ирей, связываемой с островом или
далекой теплой страной, происходит, по одной из версий, от понятий водоем,
море, водоворот; эта обитель могла мыслиться в то же время и под землей360.
Так, например, в сказках герой попадает порой в райский сад с чудесными
плодами, спустившись в губокий колодец, а в русских иконах одно из
изображений рая называлось «Лоно Авраамово»361.
Контаминация местонахождения камня Алатыря (море или глубь земли)
стоит в одном ряду с известной по многим мифологиям синонимичностью моря
и подземелья362. У русских и в заговорах, и в былинах обычное явление —
перекличка мотивов море-поле (встречающиеся порой у исследователей
высказывания, что «чистое поле» и т. п. — «это ландшафтные характеристики»363,
не выдерживают критики). Например, в былине «Вдова, ее дочь и сыновья-
корабельщики» мать несет новорожденных сыновей «ко цисту полю да ко синю
морю» и, опуская их на воду, просит:
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 415
«Ты у бай, у бай, море синейе,
Уж ты пой-корми, да поле цистойе»ш.
Та же близость просматривается в «Небылице»:
«На синем море, братцы, овин горит,
По цисту полю, братцы, караб бежит»365.
Заговорные тексты могут начинаться следующим образом: «...Как в чистом
поле Акиян Святое синее море...»; «Есть вдалече, во чистом поле, ...стоит
святой остров. На том на святом острове стоит святое древо ель...»; «На том
синем Окиан-море, в чистом поле стоит белая кужлеватая береза...»; «В чистом
поле, в широком раздолье лежит белый камень Латырь...», или «...Есть в чистом
поле окиян-море, и есть на окиян-море белый камень...»366 Однако в основе
рассматриваемых образов лежит, скорее всего, не полное их отождествление,
а вхождение как составляющих в некогда единый семантический комплекс
«иного мира» — источника жизни и смерти, представляемого по аналогии
с рождающим лоном живого организма. В этом комплексе море, водоем —
та внутренняя жидкость, на которой «замешивается» жизнь, неиссякаемый
эликсир бессмертия; остров с белым камнем — матка с зародышем (а
вернее — потенциальными зародышами всей жизни во Вселенной); а поле, земля —
это само тело, плоть Праматери (на это указывают и символическое
осмысление мотива пахоты в фольклоре как коитуса, зачатия, и малопонятные слова
из загадки: «В поле женском стоит дуб веретенский...»367, и многие другие
факты).
Растительная вертикаль
Однако мы вправе задаться вопросом: чем же, в таком случае, является
почти непременный атрибут «сакрального центра» наших заговоров — дерево,
какая ассоциация могла породить этот образ, исходя из рассматриваемой
концепции? Растительная вертикаль, или знаменитое Древо жизни, выступает
в роли обязательной составляющей этого комплекса во многих мифологиях с
глубочайшей древности. В Древнем Египте считалось, что умерший фараон
отправлялся в царство Ра на таинственный остров, чтобы в середине поля
приношений найти дерево жизни и получить от него бессмертие368. Очень
выразителен образ райского белого дерева или белой башни у некоторых
грузинских племен: «В раю есть молочное озеро, в середине которого стоит
белолистное дерево, на дереве... сидят дети, резвятся, смеются, а как
проголодаются, дерево опускает ветви к озеру, дети наедаются, и дерево вновь
выпрямляется...» (в варианте с башней речь идет о душах детей и взрослых)369.
В карело-финском фольклоре герой по дороге в «холодное селение» Похьелу
встречает огненную реку с островом и деревом, на котором сидит огненный
орел370.
416
Мосты времен: космологические архетипы...
В русском фольклоре можно проследить близкую взаимосвязь дерева как
с сакральной землей-островом, так и с образами бовинов: в былинах турица
златорогая иногда выходит на о. Буяне «из-под белыя березы кудревастень-
кой», а в заговорах на том же острове из-под дуба, из-под Латыря-камня или
прямо «из толстаго святого дерева» появляется бык булатный, рог которого
сравнивается с са^им дубом (в немецкой сказке из самого рога быка вырастает
дерево, достигая небесного свода)371. В большинстве заговоров Древо
упоминается уже в зачине: «На море на Окиане, на острове на Буяне стоит крута
гора Сион-матушка, на крутой горе растет дуб-стародуб»372 и т. п. (см. выше).
Но порой такое дерево заменяется медным столбом, и этот мотив также
довольно устойчив: «На море на Окиане, среди моря белаго стоит медный
столб, от земли до неба, от востока до запада, а во том медном столбе закладена
медная медяница от болестей и хворостей»373. В другом заговоре: «...Слово мое
крепко и твердо, аки столб медян, верея железна»374. По древнерусским
апокрифам, где рисуется усложненная картина мира с многоярусными
опорами, нередко также речь идёт о некоем «столпе» — либо поднимающемся из
Океана до неба, либо поддерживающем дно моря и опирающемся на неугасимый
огонь, причем в качестве аналога столпа может выступать и дуб375. Загадочным
медным столбом заменяется дерево и в каравайных песнях: «Расьти, расьти,
кырывай, / Выше стылпа мидяныга...»376 (ср. выше в том же контексте: «выше
дуба дубова»). Рассмотрим этот образ прежде всего с точки зрения
представлений о меди.
Характеристика медный, судя по русским текстам, вряд ли имеет какое-
либо отношение к реальной меди, значение ее скорее символическое,
связанное с «иным», загробным миром. Так, в заговорах встречаются мотивы и
медного города за морем, и медного дома на острове Буяне, а порой, что
немаловажно, — под морем: «Под морем под Хвалынским стоит медный дом, а в том
медном доме закован змей огненный...»377 В апокрифических сочинениях,
бытовавших на Руси в XI—XIII вв., упоминается «ад недвижимый и весь меден»,
а также огромные медные врата ада (как и подземное огненное озеро и
железное древо с висящими на нем грешниками)378. Удивительно близок к этой
картине образ загробного мира в древнеегипетской мифологии, окрашенный,
однако, положительно, в отличие от христианского: поля «блаженных» с
оживляющим озером расположены под землей и обнесены бронзовой стеной379.
Н. Познанский, исследуя заговоры, отмечал, что железо и медь являлись
симпатическими средствами от крови380. Однако семантика этих металлов в
заговорах первоначально была, по-видимому, все же различной, иногда она выражена
особенно явственно: «...Небо надо мною медное, земля подо мною железная.
Как если сходится зоря с светом, так бы сходилась кровь с медью и медь с
кровью от всяких глаз...»381 Здесь медь явно ассоциируется с кровью. (Ср.
также в заговоре от ушиба: «Медь с медью мешается, щепота уничтожается...»
слова при поглаживании ушиба382.) Образы же медного неба и железной земли
достаточно устойчивы для заговоров, порой отмечается их «досельняя» быт-
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной...
417
ность: «...Доселева было при Агаряне царе, небо медно и земля железна...»383, —
или особо сакральная локализация: «В чистом поле, на синем море... и взойду
я, раб Божий, на Сионскую гору, и стану я, р. Б., на железном току под медным
потолком...»384 У коми старообрядцев существовало поверье, что «в последние
времена земля станет железом, небо — медью»385.
В русском приворотном заговоре разжигание трех печей — медной,
железной и кирпичной — ставится в параллель разжиганию у девушки легких,
печени и крови386 (т. е. «медному небу» здесь соответствуют легкие, а
«железной земле» — печень, которая обычно называется черной в заговорах). Чаще
«разжигаются» только медные печи, а порой — пещеры каменные387 (имеется
в виду чрево человека). Архетипическая параллель чрево — пещера, гора
явственно прослеживается и у восточных славян388. В карело-финском
фольклоре хозяйка Похьелы, т. е. «иного мира», прячет в медной горе сампо —
«некое средоточие, вместилище универсальных начал или «семян», от которых
произошли все потребляемые человеком богатства», включая плодородие
земли и сияние светил389. Пещеры являются атрибутом подземного мира-ада по
ранним апокрифам, где мы встречаем также описание узкого колодца,
уходящего в бездну — «каменье горящее во всехъ частехъ его», — в который еле
можно просунуть человека390 (ср. мотив прохождения огня, воды и медных труб —
не являются ли последние, как и вышеозначенные колодец и медные врата,
детородными путями праматери-земли? Ср. из заговора: «...И отпирай у рабы
Божией мясные ворота, и выпущай младеня...»391). Все указывает на явную
перекличку в наших заговорах представлений о микро- и макрокосме, причем
восходящую, по-видимому, еще к той архаичной стадии мировоззрения, когда
земля, подземный мир и небо мыслились в почти неразделимом единстве как
бы внутри «вселенской праматери», о чем, в частности, говорит медный цвет
неба — цвет крови, и встречающаяся соотнесенность его с легкими (т. е.
органом, наполненным воздухом). В этом аспекте интересно сопоставить
просматривающуюся по нашим заговорам параллель медная печь — женское чрево
с мотивом из тибетской мифологии, где первый умерший мифический царь
попадает по реке в чрево богини в медном кувшине392, а этот кувшин, в свою
очередь, сопоставим с образом огромного храмового медного сосуда из Ветхого
Завета, где он именуется «море», и, кстати, поддерживается двенадцатью
волами393.
Вполне оправданна в круге этих представлений замена в заговорах медного
столба огненным в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть горячесть
крови, «разжечь тело»: «...В том поле есть Окиан-море, в том море есть
Алатырь камень, на том камне стоит столб от земли до неба огненный...»394 Сходный
круг представлений можно обнаружить и в мифологиях других народов —
например, по верованиям алтайцев в подземном мире около озер (в том числе —
кровавого) есть столбовидное возвышение, где останавливаются души
умерших395. По представлениям квакиутлей (северо-западное побережье Канады),
миры соединяет медный столб, однако локализация его реконструируется
скорее в нижнем мире, он к тому же контаминируется с лестницей под дном
14 Зак. 4748
418
Мосты времен: космологические архетипы...
океана.396 В мыонгском цикле сказаний «Рождение Земли и рождение Воды»
читаем: «Дерево тю каменное, плоды медные,/...Дерево высотой до небесного
лона» (чуть нил|е это дерево называется медным, а в другом текстовом
памятнике фигурирует образ медной лестницы на небо)397. Столь далекие и в i
этническом, и в географическом, и в языковом отношении параллели говорят,
скорее всего, о типологическом сходстве представлений, возникших из
сходных мировоззренческих установок на каком-то очень раннем историческом .
этапе.
Но если дерево-столб, порою отмеченное цветом крови, органично входило
когда-то в систему живого вселенского организма, соединяя как бы внутри него !
небо и землю, а точнее — зародыш земли в виде острова/камня на внутреннем ]
море/озере, то не мыслилось ли оно аналогом пуповины такой вселенской ;
Праматери? Маркирование мифического «пупа земли» или Вселенной священ- 1
ным деревом — достаточно хорошо известный факт. Мифологи отмечают, что
в концепции творения мира из расчленяемого первочеловека (Пуруши, Имира
и т. п. — см. об этом нижё^ являющейся, несомненно, более поздней, чем
рассматриваемая мифологема живого мира-организма, «пуп первочеловека и есть
пуп вселенной»398 (кстати, саму идею создания воздушного пространства из
пупа Пуруши возможно объяснить только этой более ранней мифологемой).
В якутских эпических текстах расположенный в середине мира
«блистательный пуп земли» локализуется порой на особом медном возвышении, именно
здесь растет и огромное священное дерево, источающее живительную молочную
влагу, само же это сакральное место — «на лоне, блистающем белизной»
праматери Кыладыкы (название местности в Среднем мире), а корни Древа
уходят в Великое море и в толщу земли, достигая мифического далекого ост-
рова399(!).
В круге подобных представлений высвечивается и смысл темного места в
ряде русских заговоров, где речь идет о некоей морской пуповине, которая как
бы является продолжением дуба на острове: «...Есть Окиан-море, на пуповине
морской лежит Латырь камень, на том Латыре камени стоит булатной дуб...»400
(Ср. в загадке: «Все вещи на свете есть, двух нет, а надо бы? — Лестницы на
небо и в море»401.) Соотнесенность образа дерева с внутренними органами
проявляется как в заговорном призыве золотника-матки стать «на пупыщу»,
сопоставляемую с березкой, так и в сказках типа «Крошечка-Хаврошечка», где
чудо-яблонька вырастает порой из внутренностей или кишок коровы-матери402.
В корове-мире на рисунке народной мастерицы В. В. Ковкиной (см. выше)
дерево также «внутриутробное», вырастающее среди «моря» прямо из вымени,
напоминающего белый островок. (Возможно, к этим представлениям восходят
и истоки странного поверья, что ведьмы могут выдаивать молоко чужих коров
из обыкновеннго столба или дерева, как из соска403.)
Следы ассоциации с пуповиной сохранились, вбзможно, и в таком образе,
как дерево без ветвей и листьев: «Дерево цзяньму росло посередине сада,
находившегося в центре неба и земли... его тонкий длинный ствол врезался
прямо в облака, на нем не было веток и только на верхушке росло несколько...
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 419
наподобие зонта» (древнекитайские легенды); «Было дерево во Вселенной, не
имевшее ни листьев, ни ветвей...» (армянские заговоры); «На море на океане,
на острове на Буяне растет дуб мокрецкий, ни наг, ни одет...»; «Лежит дерево
беспрутое...»(русские заговоры)404.
Отмеченность «пупа земли», совпадающего с понятием середины мира,
особым камнем, скалой, горой или, напротив, провалом, а также священным
деревом, встречается у разных народов405. Ближе к нашей концепции идея
произрастания такого дерева из пупа земли и неба — на вершине горы, у
молочного озера, где локализуется местообитание «духа земли» и предков —
в мифологии алтайских народов; у них же известно представление об огромной
ели, растущей из «пупа земли» и связанной с божеством Йер-Суб («земля-
вода») и с душами-зародышами406. Понятие пуп неба и земли, относящееся
к священной горе, известно также у монголоязычных народов407, а у кетов, к
примеру, Полярная звезда называлась «Середины неба пупок», против него —
пупок земли, который мыслился живым женским существом (причем пуп у
людей считался связующим звеном с землей, дающей людям детей; такое же
представление отмечено и у нганасан)408. У некоторых народов довольно
явственно выражена мифологема о происхождении людей из пупа-лона земли,
или о перерождении души через «пуповину матери-земли»409.
В связи с последним мотивом обращают на себя внимание мифы, где в
качестве вертикали, по которой первые люди выбираются из земли (либо
поднимаются с земли на небо, очень близко расположенное — как правило,
в этих архаичных мифах представлены только два яруса), фигурируют корни
растений, вьющиеся побеги и стебли, шесты, веревки, нити и даже паутина.
По-видимому, это типологически более ранние и более естественные образы
для «пуповины праматери», чем дерево или столб — последние становятся
особенно актуальны уже в качестве «опоры неба» преимущественно в
трехъярусной картине мира (хотя и дерево встречается в мифах в качестве
связующего между изначальными, почти слитыми небом и землей, а иногда
вьющееся растение оплетает ствол дерева — так, по мифам австралийского племени
аранда, их предки поднимались на небо по дереву, лиане, лестнице или даже
копью410). Мифы разных народов, содержащие образ такой хрупкой
вертикали, неоднократно описаны в научной литературе (например, у индейцев
навахо имеется предание о подъеме их мифических предков по тростнику
сквозь четыре подземных слоя на поверхность, а индейцы пауни рассказывали,
как их предков вывела из чрева Матери Земли Мать Кукуруза)411. Обращает
на себя внимание такой вид вертикали, как полоска кожи, по которой,
например, в мифе африканских масаи бог спускает на землю скот, а затем,
перерезав ее, отделяет небо от земли; по бонской мифологии (Тибет)
разрубается «веревка духов» между первоначальными небесами и землей, а по
индонезийской — бог на веревке спустил первым людям камень, в котором
было заключено бессмертие, но люди не взяли его412. В китайских мифах
богиня Нюйва (кстати, с бычьей головой и телом змеи, судя по некоторым
версиям) создавала людей, опуская в глиняную жижу веревку и выдергивая комочки
420
Мосты времен: космологические архетипы...
глины413. По сказкам зырян, в подземную страну душ со своими солнцем,
луной, морями, реками и озерами с живой и мертвой водой можно попасть,
сдвинув тяжелый камень с глубокого хода в земле и спустившись туда по
длиннейшей веревке, привязанной к дереву414. С этой мифологемой
генетически связан и широко распространенный фольклорный мотив подъема героя
из подземелья, ямы и т. п., а также на башню — по веревке, дереву, палке,
хвосту коня или косе девушки; он хорошо известен и в русских сказках, причем
в качестве вертикали иногда может выступать красная нить, семантика
которой, по мнению исследователей, связана с представлением о душе,
«энергетическом канале», пуповине, связи с матерью415 (ср. также в наших сказках
выход героя из леса — аналога «иного мира» — по нити клубка, порой красной,
подаренного Бабой Ягой; в загадках кровь может ассоциироваться с клубком:
«Красненький клубочек / По двору (полю) катился, / Пылью подавился»416).
Примеры образов тонкой вертикали между ярусами мира, небом и землей
можно найти в сибирских материалах — так, нганасанский шаман для
определения пола и имени ожидаемого ребенка камлал, «идя по веревке-пуповине,
протянутой к Луне», которая называлась «женской землей»417. Мифическая
страна якутских олонхо (которую можно сравнить с нашим о. Буяном)
«соединена с землей словно бы волосяной веревкой, поддержана с неба словно бы
ниткой... изначальная матушка-страна»418 (ср. с воззрением индейцев чироки
о земле, подвешенной в виде острова к небу на четырех веревках419). По
некоторым представлениям алтайцев, центральная рыба, поддерживающая
землю, подхвачена крюком с арканом, закрепленным на небе420. Все эти, столь
различные на первый взгляд, мифологические мотивы и образы axis mundi в своей
основе обнаруживают значительную близость в рассматриваемом контексте.
В этот же семантический ряд укладывается и еще одна мифологема — образ
земли в виде цветка лотоса, поднявшегося на гибком стебле из
первозданных вод, известная и в древнеиндийской (Ригведа. Х.58.3; V.19.8), и в
древнеегипетской, и в ряде других мифологий421. У некоторых народов известны
также представления о цветке как об аналоге лона, хранящего душу ребенка
до определенного возраста422. В ранней буддийской орнаментике подводные
стебли и цветки лотоса связывались с изображением обожествленной земли, а
в древнеиндийской литературе этого времени встречаются сравнения его
лепестков с лунными дисками и с «подобиями сердец Молочного океана»т. Стебель
его, уходивший до бесконечности в глубь океана, также сопоставим с
пуповиной божества — так, по одной из легенд, Брахма появился из лотоса, росшего
из пупа Вишну, который плавал спящий в изначальном океане на кольцах
извечной Змеи, причем, по мнению В. В. Евсюкова, «Вишну здесь можно
понимать как прообраз земли» (к тому же сложный образ Вишну был связан
как с почитанием дерева ашваттхи, так и коровы, брахманы называли
ритуальное топленое масло сердцем Вишну, порой он предстает как изначальное семя,
дающее развитие всему живому, он же и бог зерна); сотворенный Брахмой мир
напоминал по форме цветок лотоса424. (Ср. также тибетское представление
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной...
421
освященном лотосе, растущем на вершине горы Меру в центре Вселенной
и олицетворяющем женское начало мироздания, а также в китайской традиции
изображение в виде лотоса Мирового древа, растущего из квадратного
пруда — символа Инь425.) В вышеописанном обряде перерождения через «золотое
чрево» последнее могло изготовляться и в виде золотого лотоса426. В
литургических церемониях Древнего Египта также одна из важных тем — рождение
и перерождение через лотос, причем «оживление для вечной жизни
происходит путем символического «прохождения» покойного через шкуру
жертвенного животного, уподобленную стеблю лотоса» (шкуру шакала Анубиса либо
быка Мневиса)427.
Если сам белоснежный
лотос, исходя из круга этих
воззрений, можно сопоставить в
рассматриваемом контексте с
нашим Бел-горюч-камнем или
о. Буяном, то стебель его в этом
случае — аналог «пуповины
морской» из заговоров. У
славян с лотосом в мифо-ритуаль-
ном аспекте сопоставима
кувшинка, называемая в народе
одоленъ-травой, причем об
аномальных цветках с одним
лишним лепестком говорили,
что в них «свет Божий»428.
В наших вышивках в центре
фигуры Праматери, как уже
отмечалось, нередко можно
видеть 4-8-угольные мотивы,
которые вполне соотносимы
с представлением о первоост-
рове внутри живой Вселенной
(рис. 4-1, 4-6), однако центр
маркирован часто и цветком,
обычно 8-лепестковым (рис.
4-1, 4-3, 4-5; ср. сходный
символ Инанны). В русской
глиняной игрушке отголоски
представлений о
«растительной пуповине», возможно,
сохранились в традициях
изображать порой веточки,
деревца на спине копытных (рис.
4-14) и на юбках «барынь» спе-
Рис. 4-14. Глиняная игрушка «Корова».
Тульская обл., Одоевский р-н} д. Филимо-
ново. Собрание ВМДПиНИ
422
Мосты времен: космологические архетипы...
реди (рис. 4-15), что удивительно перекликается с изображениями небольшого
растительного мотива в нижней части женских скульптурок анауской
культуры (Ш-П тыс. до н. э.), которые, по мнению Е. В. Антоновой, служили
олицетворением богини земли429 (рис. 4-16).
Образ хрупкой стеблевидной вертикали, соединяющей два яруса мира,
представлен в русских сказках хорошо известным сюжетом о гороховом (или
бобовом) стебле, по которому герой попадает на небо (а спускается порой
по веревке из паутинки); близкий сюжет отмечен в латышских дайнах, причем
стебель боба может контаминироваться с длинным цветком, а встречаемые
героем наверху его умершие родители находятся, тем не менее, «в темном
углу»430. В русских сказках стебель прорастает нередко из оброненной в щель
пола избы горошины, контаминируя с образом дуба, прорастающего из желудя
при аналогичных обстоятельствах431 (а
иногда — и с капустным кочешком, капуста же,
как известно, один из аналогов женского
лона в фольклоре и обрядах432; что касается
гороха, то это известный символ
плодовитости, горошины могли символизировать души
людей, зародыши — в сказках от съеденной
девушкой горошинки рождается богатырь, а
в загадках мы встречаем стойкое
отождествление гороха со звездами — также образами
душ).
В подобных сюжетах, помимо прочего,
важен и момент прорастания стебля сквозь
жилище, образ которого, с одной стороны,
соотнесен с семантикой мироздания, а с
другой — уподобляется в русских загадках
нередко корове или быку: «Стоит бычище,
проклеваны бочища» (или: «У быка быка
прорезались бока»); «Снаружи рогата, изнутри
комола» (или: «На улице рогато, изнутри ком-
лато»); труба же могла отождествляться с
внутренностями: «Сквозь потолок кишку
проволок»433. Надо отметить, что для дымового
отверстия в архаичных постройках часто
употребляли полый ствол дерева,
наделявшийся сакральными функциями — так, в Афинах
в храме главной богини над ее светильником
был устроен дымоход в виде медной
пальмы, поднимавшейся до потолка434. Хижина
в обрядах типа инициационных могла
выступать одновременно и как образ мира, и
Рис. 4-15.
Глиняная игрушка
«Баба с птицей».
Мает. А. Г. Зайцева. 1977 г.
Тульская обл., Одоевский р-н,
д. Филимоново
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 423
в качестве аналога материнского чрева, чрева праматери-животного435, что
правомерно и для похоронных обрядов (например, в срубной культуре на
территории Днепропетровской обл. известны курганные захоронения в срубе,
покрытом шкурой крупного рогатого животного, и отмечены случаи
установления внутри него дерева-столба с ветвями436; аналогичный столб в сопках
новгородских словен археологи рассматривают как символ «мирового древа»,
а саму сопку — как храм-модель мира437).
Некое строение — изба, храм, баня — в русских заговорах часто входит в
круг сакральных образов (оно стоит среди моря или на о. Буяне) и порой
обладает космическими характеристиками: «...в море окияне стоит беседа
дубовая от востока и до запада, от лета и до севера, на той на беседы дубовой стоит
престол злат...»438 (ср. мотив из мифа нивхов, явно связанный с идеей
перерождения, инициации: «На море среди воды
стояла юрта. В ней спал старик...» — он
затем переделывает героя в «железного
человека» путем варки его в котле439). А в
вариантах былины о Садко на дне моря —
изба морского царя «большая, во все
дерево»440 (кстати, и в загадках изба порой
уподобляется дереву: «Дуб дыроват, в
дубу ядра говорят»441).
Из подобных представлений,
реконструирующих нам образ как бы
«внутриутробной» axis mundi, становятся более
объяснимы истоки таких далеких от
реальности мифологем, как подводное или
подземное Древо жизни. Первая из них
контаминирует с образом «хрупкой
вертикали» в водах, который встречается в
некоторых восточнославянских
этиологических легендах, в частности белорусских:
лоза вырастает из земли, поднятой
чертом со дна моря и выплюнутой им442 (ср.
с мифом неветти — посланный Вороном
на дно туркан приносит ветку сосны, из
которой создается земля и
растительность, а по тунгусскому мифу Буга
выращивает на дне моря целую сосну443). Очень
близок этим мотивам и древнеиндийский
из «Атхарваведы» (Х.7.41): «Тот, кто
знает золотой тростник, стоящий в
море, тот действительно тайный Праджа-
пати»444. Уже к разработанным образам
Рис. 4-16.
Женская
терракотовая
статуэтка.
Алтын-Цепе.
II тыс. до н. э.
424
Мосты времен: космологические архетипы...
подводного Древа относятся, например, тибетское древо жизни Ямбу,
произрастающее на дне озера, и шумерское Кишкану — в одном из заклинаний о нем
сказано: «В Эриду растет черное дерево Кишкану, в священном месте
созданное. Его вид подобен лазурному камню, продирающемуся через весь океан...»,
а в другом памятнике говорится о его серединном положении, о том, что «его
белый хрустальный корень достигает глубины», оно связано с «сердцем
священного дома» — обиталищем могущественной Матери445. Близкий мотив
имеется в «Ригв^де» (1.24.7), где описывается священная ашваттха,
поддерживаемая Варуной, чей образ связан прежде всего с космическими подземными
водами (на дне мс^ря — его дворец):
«В бездонном (пространстве) царь Варуна
с чистой силой действия
Держит йрямо вершину дерева
(Ветви) направлены вниз. Их основания — наверху»446.
\
Происхождение образа дерева вниз ветвями, вверх корнями получает
еще одну версию в свете данной концепции — некоторые сибирские
изображения последнего, например у эвенков и долган, очень напоминают именно
пуповину: от крутой дуги спускается столбик-лесенка, завершающаяся внизу
порой кружком с маленькими фигурками оленей, птиц и деревцев447. В Америке
также можно встретить мифологему подводного дерева — к примеру, в мифах
перуанских индейцев имеется мотив о человеке-дереве на дне реки448.
Образ подземного Древа жизни встречаем, например, у сибирских татар
в виде растущих в преисподней священной ели с девятью корнями и золотого
сияющего тополя, освещающего подземную страну449. По некоторым
древнегреческим мифам гранатовое дерево представлялось растущим в саду царя
подземного мира, а произрастающими порой в пещере изображались также виноград
и яблоня450. Интересна и перекличка образа подземного Древа с «белым
островом» — так, имя Левка, кроме острова, известно в греческой мифологии и для
одной из дочерей Океана, похищенной Плутоном и превратившейся в элизиуме
теней в тополь451. По мифу тлинкитов «нижняя старуха» ушла через гору под
землю и держится там за столб, на котором стоит земля452. Подземное дерево
с листьями-душами людей было известно в верованиях народов Океании453, а
у майя можно проследить динамику развития подобного образа, причем он слит
в едином коплексе с «утробой земли» и «водами»: священное Древо, росшее, по
более ранним представлениям, в пещере, впиталось девственными водами,
выходившими из прародины предков; по ветвям и стволу души могли
подниматься в мир живых; а позже... стало считаться, что оно растет на земле, а уровни
его кроны пересекают небесные пространства»454.
Возникновение архетипического образа Древа с душами на ветвях (и с
непременным водоемом поблизости), являющегося одной из самых
распространенных мировых универсалий, вполне логично вытекает из ассоциации с
пуповиной земли-вселенной, концентрирующей вокруг себя зародыши жизни,
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 425
причем порой не только людей, но и животных, птиц и т. п. (например, в мифе
калифорнийских индейцев на дереве или пруте, росшем прямо среди
первозданных вод, в гнезде были птицы и звери, здесь же «замешивается» земля455).
Очень характерен в этом отношении рассказ нганасанского шамана о своем
посвящении — на острове подземного озера он видит дерево со множеством
людей на вершине, и дух этого дерева говорит: «Я есмъ дерево, делающее всех
людей способными к жизни»*56. Параллели встречаются буквально по всему
миру, даже по вариантам микронезийских мифов люди возникают из ветвей
дерева, происходящего из потустороннего мира457. В раннехристианской
апокрифической литературе также можно встретить отголоски этого архетипа:
так, в «Хождении Богородицы по мукам» описывается увиденное ею в аду
«дерево железное, верхние ветви [которого походили на крюки]. И было здесь
[на ветвях тех] множество мужчин и женщин, за языки подвешенных»458 —
в данном эпизоде этот древний мотив переосмыслен христианством в резко
отрицательном ключе, однако, как известно, в образе животворящего древа-
креста он сохранил и свою первоначальную возрожденческую функцию. В
Древнем Египте ветви священной сикоморы, представлявшейся по текстам росшей
посреди озера или первозданных вод Нуна, уподоблялись возрождающему
чреву богини-матери, в частности, в обряде выноса статуи Осириса (с этим
деревом могли отождествляться и Хатхор, и Нут, а «Осирис на сикоморе
ассоциировался с зернами, скрытыми в земле»)459.
Подобные представления, связанные с концептуально близкими к ним и
широко распространенными когда-то обрядами захоронения в ветвях или дуплах
деревьев с целью последующего возрождения, имплицитно отразились и в
русских загадках: «На поле (вар. — горе) на тетенском стоит столб (чаще вар. —
дуб) веретенской; никто его не обойдет, не объедет...» (отгадка — смерть);
«Стоит мост об семь верст, посреди моста (чаще вар. — «по конец моста»)
золотая яблонь (вар. — дуб, куст, столб с цветом)» (отгадка — Пасха)460.
Подобные, не очень понятные на первый взгляд, загадки о Пасхе особенно
показательны, так как в основе праздника лежит идея воскресения (причем
явно просматривается древнее представление о возрождении около Велика дня
душ умерших вообще), — странный образ дерева на мосту в этих загадках
объясним лишь в мифологическом контексте: переход душ умерших в иной мир
по мосту над морем — одна из распространенных мифологем, в том числе у
русских (таким мостом могли служить и радуга, и Млечный Путь)461, в конце
же этого перехода их ждет возрождение через чудесное Древо. К тому же
семантическому кругу можно отнести и обряды с прохождением или
протаскиванием больных сквозь развилку, ветви, корни или отверстия в стволе дерева,
хорошо известные до недавнего времени и в русской народной культуре, для
которой образ Древа с душами предков-потомков в его ветвях в виде плодов,
цветов, листьев или птиц реконструируется по самым различным материалам.
Приведем только характерные примеры из загадок (отгадки, как известно, могли
варьироваться и профанироваться, здесь важны сами образы):
426
Мосты времен: космологические архетипы...
«Стоит столб от земли до неба, «Стоит древо
В этом столбе 12 горшков, Среди самаго белаго света;
Во всяком горшке На этом древе сидит ворон
все по дитенку...» Яблоки щипает
(отгадка —, колокольня, # в ЯМУ бросает;
Новг. губ.)! Н° яма не наполняется,
i И яблоки не убывают».
(отгадка — ворон = смерть,
яблоки = люди, Зап. Сибирь)462
Интересно сбпоставить с последним мотивом образность чешской сказки,
в которой девушка поочередно превращается в желудь на старом дубе,
драгоценный камень в скале на горе, кольцо в раковине на дне моря463.
Фактически это различные образы, в которых представлялась душа, и смена ее
местонахождений (д#б — гора — море), говорящая об их семантической
взаимосвязи, весьма показательна с точки зрения концепции «вселенской
праматери». Все эти три локуса надо рассматривать, скорее всего, не в
качестве тождественных, как мы это порой встречаем в научной литературе464,
а в качестве взаимодополняющих в некогда цельной системе, хотя со
временем, несомненно, эта взаимосвязь могла утрачиваться.
Рождение нового мирл — потоп
Однако живой организм должен по законам всего живого выполнить свою
основную функцию — продолжить жизнь, породить себе подобное. И если
мифический остров — это «священный эмбрион вселенной» со своей пуповиной-
Древом, то должен иметь место и последующий акт его рождения, мыслимый по
аналогии с рождением живого существа. «Подобно тому как зародыш является
продолжением пупа, так и бог начал создавать вселенную с ее пупа, и оттуда
она распространилась в разные стороны», — говорится в одном еврейском
источнике465. М. Элиаде отмечает особую значимость «родовой» тематики в
мифологии: «Богатство "эмбриологических" образов обладает глубоким
религиозным смыслом. Словно бы вся грандиозная космогоническая драма была
составлена из таких явлений и событий, как зачатие, беременность, эмбриональное
состояние и родовспоможение»466. Это мнение поддерживается В. Н.
Топоровым: «В космогонических мифах разных традиций воспроизводится тематика и
образность родового акта»; «Миф о творении... где описывается подобный
переход от зародышевого... до широкого вселенского пространства, в частности, мог
пользоваться особым престижем и потому, что он воспроизводил структуру
акта рождения... Во всяком случае, нельзя пройти мимо того факта, что в
Древнем Египте космогония и эмбриология рассматривались как одно и то же»46'.
Особенно распространен мотив рождения и роста земли: «Мать-земля
родилась с ладонь, в большую землю расширилась», — считали кеты468. «Когда
безрукая, безногая земля вырастет / Благодаря силе своей решимости...» —
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 427
сказано в «Ригведе» (Х.22.14) (далее речь идет о низвержении змия)469. Мотив
растущего куска земли, похищаемого одним мифологическим персонажем у
другого, известен в китайской мифологии, причем он используется для
остановки потопа470. Образ растущей земли характерен почти для всех тех мифов,
где она извлекается из вод океана — первозданного или «послепотопного», так
как эти сюжеты необычайно близки в мифах о творении и о потопе471. Резонно
задаться вопросом: не здесь ли кроются корни мифологемы о всемирном
потопе — не аналог ли это вырывающихся материнских вод мифической
праматери, несущих в себе новую жизнь? Параллель водный поток — роды
явственно просматривается, например, в ритуальных текстах, произносимых
над роженицей: «Водица моя, царица, бежишь через горы, повороты, ничто
тебя не держит... Так бы рожаницы проходы были, кости расходились»
(русские заговоры)472; «В водах потока/ Возникли кости.../ В водах пучины
глубокой,/ Жестокой,/ В водовороте бездны далекой» (аккадское
заклинание I тыс. до н. э.; по комментарию к нему В. В. Евсюкова, «из дальнейшего
содержания становится ясно, что рождение младенца мыслится полностью
идентичным возникновению мира из первозданного океана»)473. Теснейшее
пересечение эмбриологии и космологии наблюдается в ходе всей родильной
обрядности, в частности и в красноречивых словах русского заговора: «...чтобы
растворить роды, как растворились небо и земля»474. Столь глобальная тема,
как мифы о потопе, существующие даже у народов, далеких от мореплавания,
требует с точки зрения предлагаемой версии, несомненно, специального
исследования, однако рискнем все же высказать некоторые соображения общего
характера, так как проблема об их истоках пока что, «несмотря на все старания
ученых решить ее, ...остается без ответа»475. Попытаемся подойти к этому
вопросу на основании только сопоставления мифологических мотивов, тем более
что идея о чисто мифологических корнях подобных легенд уже
высказывалась476, а мнения специалистов о возможности в прошлом такой вселенской
катастрофы пока также остаются на уровне гипотез; к тому же наиболее
вероятные сроки ее — IV-III тыс. до н. э.477, т. е. эпоха древних цивилизаций, —
явно слишком «молоды», и отразившие ее мифы, несомненно, являются плодом
значительно более глубокой древности.
Прежде всего, отметим достаточно характерный факт: потоп далеко не
всегда происходит от ливня, причиной его в мифах и Старого, и Нового Света может
быть и разлив «нижних», земных вод — поднятие вод океана или озера,
морской прилив, наводнение с землетрясением, разлив моря или рек, сильный
ветер, луна, упавшая с неба, и т. д. (например, море может подниматься женщиной,
живущей в преисподней, или чудовище своим хвостом взбалтывает море —
здесь можно уловить и связь с мифом о пахтанье)478. По тувинскому,
бурятскому мифам Великое море разлилось оттого, что пошевелилась «золотая
лягушка» — опора земли479. Даже по еврейским апокрифическим легендам потоп
произошел «от встречи мужских вод, падавших с неба, с женскими водами,
поднимавшимися от земли»480. Кельтское предание в Уэльсе повествует, что
некий карлик вызвал разлив озера, волны которого затопили всю землю481.
428
Мосты времен: космологические архетипы...
Аналогичная версия — разлив озера с затоплением всего мира — известна
у индейцев Канады монтанье, а по Геродоту, разлилось внутреннее море или
озеро в Фессалии (Посейдон пробил в скалах проход для него)482. В
древнеиндийской литературе известен мотив порождения вод неким первоначалом
(тамас)483. По версии о потопе из «Поэмы о Гильгамеше» во время него «Иштар
надрывалась от крика, как женщина в родовых муках» (а в отношении
«допотопных людей» сказано, что «как рыбьей икрой, кишит ими море»)484, причем
соответствовавшая аккадской Иштар финикийско-сирийская Астарта —
богиня земли, плодородия и материнства — изображалась порой в виде коровы или
женщины с коровьей головой485. Имя древнеегипетской «великой коровы»
Мехурт, по одной из версий родившей солнце, означало «великий поток» или
«великое наводнение»; по другим версиям солнце считалось то теленком
богини-Коровы, то первенцем океана Нун (и в шумерской идеограмме потопа
встречается знак, обозначающий теленка, близкий знаку солнца)486. В
мифологии африканских динка предок в образе быка был рожден во время большого
наводнения487. Интересно, что в северорусских заговорах с потоком, рекой
связаны также роды теленка (причем только теленка или ребенка): «Устья-
река, откройте роды, пролейте воды, пропустите теленочка. Аминь»488.
Очень неоднозначна и причина потопа в некоторых южноамериканских
мифах (на северо-западе Амазонии) — его устраивает некое женское
божество, связанное с луной, путем сведения ног и запруживания таким образом
рек489, а у индейцев северо-запада Северной Америки встречается образ
«нижней старухи», поддерживающей столб-опору земли и также устраивающей
наводнения490. Перекликаются эти образы с мифом племени сулка (Новая
Британия) о некоей «бабушке», создавшей море и накрывшей его камнем,
чтобы спрятать, но по вине двух ее внуков море разлилось491. Не случайны,
по-видимому, и греческие легенды, по которым воды потопа якобы стекали в
огромную пещеру или расселину в земле, около которой к тому же был отмечен
ежегодный обряд поминовения умерших с бросанием в нее медовых лепешек
и литьем воды492. С этим сопоставимы и славянские поверья о дыре
посередине земли (пупыць), откуда растекается по всей земле вода и куда она вновь
возвращается через семь лет493, и представления древних китайцев о бездонной
пучине Гуйсуй, куда стекают все земные воды и Небесная река и где находятся
острова бессмертных, на которых всё — из золота и драгоценных камней494
(ср. также «водоворот» из приведенного выше аккадского заклинания).
В мифах о потопе обращают на себя внимание также мотивы проглатывания
вод каким-либо животным — «бабушкой выпью», лягушкой и др. — с
последующим изрыганием их или разрывом живота, известные как в Америке,
так и в Азии, а также — участие в сюжете персонажей с большим животом
или беременной женщины495. Возможно, генетически восходят к ним и мотивы
смерти божества-первопредка как причина потопа — так, по исландской
легенде наводнением была разлившаяся кровь гигантов (и даже сам потоп
назван кровавым), а по скандинавским — кровь Имира, из которого творился
мир (в том числе из крови — море; в этой крови утонули все «инеистые»
великаны, лишь один укрылся со своей семьей)496.
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 429
Этот ряд продолжают такие сюжеты о причинах потопа, как пробивание
или протыкание какого-либо животного, разбивание тыквенных бутылок или
другой посуды с водой, участие острых орудий, пробивание божеством
поверхности земли, которая мыслилась кожей «над бездной вод» и т. п.497 Последний
мотив в какой-то мере сопоставим с калмыцкими представлениями о
возможности потопа: отверстие в центре земли, на горе — «пупе земли и неба» —
закрыто камнем или гигантским быком; если открыть его или противостоящее
отверстие в небе (Полярная звезда), то хлынет вода и зальет землю498.
Пробивание льда также может быть причиной потопа (кстати, мотив пробивания
льда присутствует в славянских и, в частности, в русских мифах о творении
с нырянием499, а в фольклоре пробивание льда символизирует потерю
девственности500, т. е как бы «вскрытие лона»). Интересно, что в одном старошумерском
тексте потоп тесно связан с мотивом священного соития501. Возможно, с этим
семантическим кругом сопоставим и широко известный в мифах о творении,
в том числе у русских, мотив дырки в земле502 (а также в какой-то связи может
стоять и мотив дырки в ковчеге, которая была заткнута хвостом змеи, мыши
и т. п.). В мотиве «дырка в земле» фигурирует обычно палка или столб — один
из характерных примеров встречаем в космогоническом мифе кетов: Есь
затыкает яму с нечистью столбом, черт вытаскивает, часть нечисти выпускает,
затем снова столб затыкает503. Кроме переклички с почти аналогичными
славянскими мотивами в мифах о творении, напрашивается и сопоставление с
русскими обрядами и заговорами с целью остановки крови (или мочи) прутом,
деревцем и т. п.: «чтобы остановить кровь, надо вынуть из земли кол, пустить
туда несколько капель крови и опять воткнуть кол»504.
Падение Дрша
Последний блок представлений и мифов, в котором просматриваются
рудименты растительной вертикали, может находиться в какой-то взаимосвязи
с такими мифами, где причиной потопа является падение чудесного дерева
и извержение вод, или даже крови, из его ствола. Этот мотив, довольно
далекий от реальности и основанный, главным образом, на определенной
мифологической системе представлений о мире (хотя из стволов некоторых
видов бамбука, банана и можно извлечь немного воды), в значительной степени
позволяет пролить свет и на мифологему потопа, и на многие другие темные
места традиционного мировоззрения. Наиболее характерные примеры
встречаем у некоторых сибирских и американских народов. Так, по ненецкому мифу
потоп произошел от падения священной березы с семью ветвями и семью
корнями — корни ее подгнили, и из упавшего дерева хлынула вначале кровь,
а затем огромный поток воды505. А по легенде аккаваи (Британская Гвиана)
великий дух вырастил когда-то чудесное дерево, на котором и вокруг которого
произрастали все растения и злаки; его сын рубит это дерево, чтобы рассадить
его по земле, но вода из пня, «сообщавшегося с великим водным бассейном где-
то в недрах земли», хлынула и затопила все вокруг, причем в самом пне при
430
Мосты времен: космологические архетипы...
рубке уже стояла вода с пресноводной рыбой всяких пород506 (ср.
представления душ в виде рыб). У перуанских индейцев «во множестве мифов рекой
становится срубленное мировое древо»507. В китайской мифологии падает
столб, поддерживавший небо, из-за козней против богини Нюйва некоего
Гунгуна, заливавшего водой ее владения; богиня затем заделывает дыру в небе
драгоценными камнями508. Мифологема потопа в связи с падением дерева
представлена и в известном мифе маори, только здесь этот блок явно связан
с разделением неба и земли: они разделяются их сыном Тане-Магута, «отцом
деревьев», причем он при этом упирается головой в Мать-землю (т. е. «корнями
вверх»), а его брат, бог бури, устроил огромное наводнение и расколол его
ствол в щепки509.
Глухие отголоски подобной мифологемы можно встретить у самых
различных народов, в том числе и у славян: так, в южнославянском фольклоре
известен сюжет о виле, которая прятала воду в сухом дереве — некий
герой, отдаленно напоминающий громовержца, разбивает это дерево на мелкие
кусочки и открывает путь двенадцати ручьям, предавая вилу смерти510. И в
греческих, и в славянских преданиях были распространены подобные сюжеты о
порубке дерева дриады, нимфы, вилы, и даже дуб самой Деметры был срублен
неким нечестивцем в ее роще, и из него заструилась кровь511. Принадлежность
дерева женскому божеству, и особенно богине земли, в этих сюжетах весьма
показательна. Если исходить из вышеизложенного предположения, что в виде
Древа мыслилась когда-то пуповина «вселенской праматери», коцентриру-
ющая в себе и вокруг себя зародыши всего живого в мире, в том числе и новой
земли, то становится понятно, почему в процессе «родов» нового мира это
Древо-пуповина разрывается — падает, рубится и т. п., и почему именно с этим
актом связано извержение вод.
Частью этого упавшего изначального Древа являлся, по-видимому, и
ковчег, на котором спасаются основатели будущего человечества. По мифам в
качестве его выступают колода, деревянная бочка или лодка, просто плывущее
дерево или его обрубок, либо судно из особого дерева, плот — в том числе
из плодов, или просто большой плод, например тыква, как это часто
встречается в мифах южноазиатского региона (общая семантика последней говорит
о ее возможном восприятии как аналога чрева; в данном качестве можно
рассматривать и некоторые иные средства спасения — ступу, кожаный мешок,
горшок, зерна в котором сравниваются с людьми, и др.)512 Однако ковчегу
уподобляются и непосредственно плавучий остров, плывущая гора или кусочек
земли, как, например, в мифе кетов: «Земля всплыла, на ней люди и звери»513,
т. е. человечество рождается вместе с эмбрионом земли. Собственно, ковчег
и его аналоги — это новой мир в миниатюре, где собраны семена всего сущего,
тот «рай», которому предстоит разрастись в новое мироздание. В фольклоре
восточных славян глухим отголоском этой мифологемы является, вероятно,
довольно распространенный мотив, до сих пор убедительно не
интерпретированный, — рай плывет или дерево плывет («раем» именовалось в некоторых
местах свадебное деревце):
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной...
431
«Пойду млада по двору, «На речк1 на быстрай
Взгляну млада по морю, Там рай плывет белинькяй»ш.
Какой по морю рай плывет»;
Это дерево-рай в песне вылавливается из воды, приносится в избу и
ставится на стол как многозначный символ мифической прародины и продолжения
жизни. В сербских и болгарских песнях сами новобрачные могут рисоваться
на плывущем дереве (порой варьирующемся с оленьими рогами)515,
уподобляясь спасающейся во время потопа первой человеческой чете. А в вологодских
песнях на плывущем по реке к морю деревце явно изображаются души
людей — солдатушек, вдовушек, девушек516. Известны также песенные мотивы,
в которых из плывущего явора, клена и т. п. изготовляется впоследствии храм,
а во многих преданиях Русского Севера плывущее дерево указывает место
будущего поселения или строительства церкви. Если мифологема плывущего
дерева (рая, ковчега и т. п.) действительно восходит к образности рождения
нового мира в результате разрывающейся «пуповины праматери», то,
возможно, здесь скрывается объяснение смысла и одного странного предания,
записанного нами в экспедиции в Солигаличском р-не Костромской обл. от старой
жительницы: «Говорят, когда-то одна женщина деревце какое-то родила,
умерла вскоре»517, а также — изображения на амулете из Северной Индии женщины
в позе роженицы, «из промежности которой вырастает дерево»518.
Спасающиеся во время потопа люди и другие живые существа, как правило,
находятся какой-то длительный период на горе среди воды, и часто — в ветвях
растущего на ней дерева (порой это замена ковчега), питаясь его плодами или
привязавшись к его стволу (создание нового поколения также нередко связано
впоследствии с деревом — его древесиной, листвой, зачатием от сучка,
бросанием плодов через голову, аналогичным бросанию камней по
древнегреческому мифу и т. п.). Это пребывание в ветвях или у ствола дерева
представляется также не случайным и полным сакрального смысла. В результате
его люди могут превратиться в животных, или, зависнув в ветвях на волосах
уже мертвыми, быть оживлены (как это произошло, например, с одной старой
женщиной по микронезийскому мифу)519. В мифах каренов (Бирма) два
спасающиеся брата видят манговое дерево, свешивающееся вниз с небесного
свода, младший ест его плоды и зависает в ветвях при спаде воды, а у тлинкитов
Аляски ворон-демиург прикрепляется во время потопа клювом к небесному
своду и висит десять дней520 (вспомним знаменитое висение и преображение
Одина). Все эти и многие другие факты наводят на мысль, что допотопные
люди (из которых спасаются лишь пара, чаще один человек, причем порою это
женщина, реже — одна семья) — это первоначально всего лишь зародыши, или
души людей. Как было отмечено выше, представление о местообитании
последних на священном Древе, питание от его плодов — одна из наиболее
распространенных мировых универсалий (ср., например, поверья о душах умерших детей
у нганасан: на пути в страну мертвых они встречают сочное дерево и сосут
это «дерево-мать», порхая вокруг него в образе птичек521). На образ Древа
жизни указывают многие детали в мифах о потопе, прежде всего местона-
432
Мосты времен: космологические архетипы...
хождение его на горе, а в одном индийском предании отмечен также пруд у его
ствола, несмотря на бушующий вокруг потоп522.
К тому же мифы о падении дерева во время потопа и спасающихся людях
явно примыкают к блоку мифов о разрыве изначальной связи между небом
и землей, где мифические предки обладают главным свойством
душ-зародышей — бессмертием: так, по мифу австралийского племени аранда гигантское
дерево, являющееся мостом с небом, кем-то срубается, или выдергивается его
аналог копье-мост, и земные люди становятся смертными, а в мифе бенгальских
кхази люди, взобравшиеся когда-то на ветви большого дерева, превращаются в
звезды после его порубки523. Таким образом, можно предположить, что
мифический «допотопный» период жизни «перволюдей» аналогичен внутриутробному,
а «спасение из вод» — аналог рождению (ср. в русском весеннем фольклоре
образ «утушки», которая вначале топит своих детей, а затем спасает одного —
смысл этого странного мотива раскрывается как метафора идеи
осуществленного рождения одного среди потенциальных зародышей524).
Не с этим ли связано, что спасаются во время потопа порой лишь дети? Так,
в вельской саге по водам потопа плывет только колыбель с ребенком, а по
литовскому преданию люди спасаются в ореховой скорлупе525 (известно, что
орех — распространенный символ зародыша). К этому кругу примыкает и блок
сюжетов о происхождении того или иного предка, царя, божества, святого,
согласно которым они первоначально являются в виде приплывшего чудо-
ребенка, причем порой — на дереве, либо внутри бамбука, как в хеттском
мифе526 (ср. плавание в корзине по Нилу младенца Моисея, в бочке по морю —
будущего царя Гвидона, и «чуркой» или «бревном» среди морских волн — Вяй-
нямейнена, на колене которого утка сносит яйца527). А в одном предании о Вишну
говорится, что он во время потопа плавал на листе фигового дерева в образе
крохотного дитяти по молочному морю52В. Тот же образный ряд
обнаруживается при анализе некоторых народных песен: так, исследуя семантику
литовского фольклора, Б. П. Кербелите приходит к выводу, что сюжет о плавающем
по морю в лодочке молодце, появившемся после падения искорки со стоящего
посреди поля дерева, — не что иное, как метафора зачатия, где плавающий
молодец — образ зародыша в материнском лоне529.
Несмотря на декларируемую во многих мифологиях цикличность
существования мира, по наблюдению ученых «мифы, рассказывающие о конце мира
в будущем, до удивления мало распространены»530. Реально в большинстве
традиций выделяется только два этапа — до потопа и после потопа,
последний — как бы длящийся по сей день531, причем два подобных периода
противопоставляются и в тех мифах, где рождение человечества не сопровождается
потопом. У перуанских индейцев, к примеру, четко противопоставлены «долю-
ди» и люди — первые жили когда-то только при свете луны, и исход их из Матери-
земли был связан с пещерами, реками, озерами532. Интересно, что
«допотопные» люди по греческому преданию были медными533 (см. выше о вероятной
символике этого определения, связанной с кровью). Медным рисуется и
выходящий из моря и рубящий огромный дуб карлик-богатырь из «Калевалы», а
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной...
433
в вариантах карело-финских рун птица вьет на первохолме медное гнездо,
из упавших в море яиц которого возникают элементы мира534. Медные люди,
явно имеющие отношение к «иному миру», встречаются и в русском
фольклоре—в заговорах это медный человек где-нибудь на о. Буяне, некий стрелок:
«Есть море-окиян, едет из окияна моря человек медян, конь под ним медян, и
лук медян и стрелье медное... На мху стоит сосна золотая, на сосны золотой
белка золотая. И пострелит медной человек белку золотую...»535 Удивительна
перекличка этого мотива с китайским мифом, в котором чудесное дерево
подверглось атаке монстра Чи-ю с медной головой и железным лбом (а по
другой версии, это дерево однажды чуть не потопила Вода, поднятая Ветром)536.
В русских сказках встречается сюжет, где герою помогает медный дядька, или
Медный лоб, порой синонимичный Яге и связанный с ночью, лесом; известен
также сюжет о добывании медной невесты из медного дворца, заключенного
в яблоке537 (ср. выше мотив медных плодов на первозданном медном /
каменном/ дереве из мыонгского мифа, где сказано также о «голосах женщин и
девушек» в ветвях и о превращении двух главных ветвей в супружескую пару —
творцов мира538).
В виде плодов винограда видит души умерших человек, посещающий рай
в апокрифических сказаниях, — они «явилы ся грьздовиемъ»539; однако
аналогичным образом рисуется в некоторых славянских преданиях и спасающийся
от потопа человек — в виде висящего на виноградной лозе и питающегося ее
гроздьями540. Образ виноградной лозы в некоторых ранних апокрифах — это
вариант Древа жизни, или Древа познания: так, в «Откровении Варуха» ее
сажает Сатанаил (наряду с четырьмя другими деревьями, посаженными
другими ангелами) и затем обещает Еве бессмертие от ее плодов; после же
насланного Богом потопа из рая выносится водой прут от этой лозы — его
находит Ной и сажает с позволения Бога, обещающего жизнь от этой лозы541.
Развитие этого сюжета встречаем в апокрифических сказаниях о «крестном
древе» — месте смерти и воскрешения Христа, выросшем из веточки
изначального райского дерева — последнее якобы упало после грехопадения Адама и
Евы и было вынесено из рая водами потопа542 (если вдуматься, весь этот
сюжет укладывается в вышеизложенную мифологему и развивает ее —
подобные прут, ветку, по-видимому, можно рассматривать и как аналог ковчега, и
как аналог кусочка разрываемой пуповины праматери, от которой рождается
новый мир, в данном случае — уже христианский). Ветка, или побег Древа
жизни, принесенный с неба или со священной горы, фигурирует также в
евразийском мифе об орле, который исследователи считают одним из древнейших543
и который явно примыкает к рассматриваемым мифологическим мотивам —
как известно, во многих мифах о творении птицы (распространенный образ
душ) связаны с изначальным деревом, кустом, растущим среди первозданных
вод, среди таких птиц встречается и орел544.
Обратим внимание на немаловажный факт: вопреки утвердившемуся в
научной литературе мнению о знаменующем начало творения становлении
космической вертикали — вырастании мирового Древа, разделяющего небо
434
Мосты времен: космологические архетипы...
и землю, манифестирующего победу Космоса над Хаосом, чаще во многих
мифологиях и фольклоре можно встретить мотив падения, рубки или иного
уничтожения чудесного Древа, после которого порой следует и вырастание
нового из рудиментбв старого, однако этот последний сюжет в большинстве
случаев выражен значительно слабее предыдущего. Например, в мифах нгаджу
(о-в Калимантан) в результате борьбы двух птиц-носорогов погибает мировое
Древо, а из обломюрв его и их тел возникают элементы ландшафта и первая
пара людей, долго Плававшая по океану нижнего мира545. В исследованиях
по алтайскому фольклору встречаем констатацию того, что «один из наиболее
часто повторяемых Мотивов в эпосе — гибель священного родового дерева»;
в приводимом далее примере золотой тополь, золотая коновязь и гора с тремя
вершинами разрубаются на три части богатырем, и «девять черных морей
вышли из своих берегов»5*6. Богатырь из бурятского эпоса с корнем вырывает
злато-серебряную осину, из-под которой выходит дракон547. В одной из песен
о Гильгамеше священное Дерево хулуппу, растущее на берегу Евфрата, с
корнем вырывается Южным Ветром — «управителем потопа»548.
Весь рассматриваемый комгщекс представлений можно обнаружить и в «Риг-
веде» в мифе о победе Индры над драконом Вритрой. Прежде всего,
освобождаемые в результате этого воды вполне сопоставимы с потопом: «Мчась дни
(и) ночи, они гонят (потоки)» (Ш.31.16); «Течения рек вы (Индра-Сома. — И. Д.)
привели в движение, / Сделали широкими многие моря!» (VI.72.3); «...Когда,
несясь через девяносто и девять потоков, / Ты (Индра. — И. Д.) пересекал
пространство, как испуганный орел» (I.32.14)549 и т. п. Но в гимне 1.32 имеется
и еще ряд очень характерных сравнений:
«3. ...Он убил его, перворожденного из драконов...
4. ...И породил солнце, небо и утреннюю зарю...
5. ...Как (ствол дерева), ветви (которого) обрублены топором,
Дракон лежит, прильнув к земле...
7. ...Вритра лежал, разбросанный по разным местам.
8. Через лежащего таким образом, как разрезанный тростник,
Текут, вздымаясь, воды Ману.
9. У той, чьим сыном был Вритра,
жизненная сила пошла на убыль.
Индра сбросил на нее смертельное оружие.
Сверху была родительница, внизу — сын.
Дану лежит как корова со (своим) теленком.
10. Среди неостанавливающихся, неуспокаивающихся
Водяных струй скрыто тело.
Воды омывают тайное место Вритры»550.
(В другом переводе «тростник» заменен «разорванными водорослями»551.)
Здесь вновь появляется образ теленка, а также — неведомой «родительницы»,
сопоставляемой к тому же с коровой; показателен и образ Ману -г- первоче-
ловека, спасшегося от потопа. Сравнение же дракона со срубаемым деревом
мы встречаем и в другом гимне (1.130):
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 435
4. Крепко держа в руках ваджру, И ядра,...
Он наточил для убийства дракона...
Как плотник — дерево, срубаешь ты деревья,
Как топором срубаешь.
5. Ты выпустил реки, о Индра, чтобы они мчались
Весело к морю, как колесницы...
Как дойные коровы,...
Отдающие все молоко племени...»552
Орудие же Индры — ваджра, связанная в первую очередь с молнией, по
мнению некоторых исследователей, несет на себе символику и становления
новой космической вертикали, столба, разделившего небо и землю («Для
моей лишь поднятой ваджры пусть небо дает пространство»); чтобы ее
установить, Вишну должен был сделать три шага, соотносимых с тремя ярусами
Вселенной553. В честь Индры во время новогодних празднеств в Индии
воздвигали шест на семь дней, однако после этого его бросали в реку55А (ср.
восточнославянские женские обряды с весенним деревом, которое мужчины
старались «разорить» и которое в конце также часто бросалось в реку). Вероятно,
идея утверждения нового мира заключалась первоначально именно в
ниспровержении растительной вертикали и завладении источником жизни,
плодородия — во всяком случае необходимо констатировать, что предания
о похищении мужчинами у женщин атрибутов сакральной власти, среди
которых главным являлся предмет, соотнесенный с архетипом Древа жизни
(священный шест, красные волокна на дереве и др.), известны и у
австралийцев, и у африканцев, и у американских индейцев555. Истоки широко
распространенной мифологемы похищения (сомы, амброзии, «меда поэзии», живой
воды, сампо, богатств, стад и т. п.) восходят, несомненно, к этому же мифо-
ритуальному комплексу; в русских сказках данный мотив, в частности,
проявляется в образах чудо-девицы, царицы, хранящих волшебную воду, напиток,
«молодильные яблоки» и др., которые герой-молодец стремится добыть556 (ср.
выше из загадки о земле: «...вора бы связала»).
Образ повергнутого дракона-растения Вритры встречает параллель в мы-
онгском цикле мифологических сказаний «Рождение Земли и рождение Воды»,
где огромное чудо-дерево, неожиданно быстро выросшее, также было
повергнуто, после чего оно превращается в чудовище — многоголовую змею, причем
и здесь просматривается мотив как уничтожения первозданного Древа, так и
вырастание нового после потопа557. Образ дерева-змеи как причины
потопа, похоже, был характерен для многих азиатских народов. Так, по мифудая-
ков с о. Борнео женщины принимают спящую змею за повалившееся большое
бамбуковое дерево, и после разрезания ее начинается потоп; лишь одна
спасшаяся на горе женщина получает затем огонь с помощью обвившегося о ствол
дерева ползучего растения558. У народов Юго-Восточной Азии очень
распространены мифы о спасении первой пары людей и семян будущего мира во время
потопа в тыкве как в ковчеге, которая является плодом еще «допотопного»
огромного растения, — в этих мифах также можно найти и мотивы падения
436
Мосты времен: космологические архетипы...
первичной растительной вертикали, и становления новой559. А в фольклоре фон
некая старуха просит героя-трикстера срубить дерево, растущее в реке,
которое после рубки снова вырастало560.
Мотив рубки огромного дуба, затмившего свет, известен и по карельским
и ижорским рунам — из древесины его изготовляется множество удивительных
вещей, орудий труда и т. п. (в «Калевале» подобный дуб даже назван «мать-
дерево»). Возможно, отразилась в этих рунах и идея становления новой
вертикали — в образе вырастающей ели с золотой вершиной на острове, куда бежал
Вяйнямейнен (по «Калевале», он сам ее «напел»)561. В русских материалах
также удается обнаружить следы всего этого мифологического комплекса. Так,
загадка о дороге, которая в свете концепции «поднятия мировой оси» в начале
творения могла вызывать недоумение, теперь наполняется новым смыслом:
«Когда свет зародился, тогда дуб повалился, и теперь лежит»; однако мотив
становления новой вертикали, возможно, отражен в другой загадке: «Лежит
брус во всю Русь, встанет — до неба достанет»562. Распространенный в русских
святочных колядках мотив дерево рубят (чаще — сосну, ель) также
представляется восходящим к подобному кругу воззрений («Руби, руби елку / под
золот корень / Кидайте вы ветки / за быстрые реки...» — Владимирская
губ.563), а изготовление из этого дерева мостов, церкви564 соотносимо со
становлением новой космической оси, нового мирового порядка.
Просматривается и более глубокий смысл в образе нашего сказочного богатыря Вырвидуба,
чье имя символизирует, по-видимому, не только огромную силу, но и является
наследием очень важной когда-то мифологической функции этого персонажа
(ср. выше с Индрой).
На образ героя-порубщика Древа (или иного «погубителя») надо
обратить особое внимание — он часто связан с огнем, может являться кузнецом
(как Вяйнямейнен), а топор в его руках, как, впрочем, и молот или иное близкое
орудие, указывает на признаки громовика, но он может быть связан и с
солнцем. Просматривается этот образ, например, в галицкой загадке (о ночи и
месяце): «Упал дуб на весь свет, а на коньци ковали кують»565. По мифу индейцев
чероки однажды Гром метнул молнию в полое дерево, росшее на острове, оно
загорелось — так появился огонь566 (ср. представление о полом бревне как о
матке Матери-прародительницы у австралийцев567). От приблизившегося
солнца высыхает некое древо в мифе африканского племени вакамб, способствуя
отделению неба от земли568; образ солнца встречается в близком контексте и
в древнеегипетской мифологии, где был известен мотив расщепления
священного дерева ишед богом Ра после победы над своим противником (в другом
сходном сюжете просматривается и вторая часть мифологемы: установка
столба Джед ознаменовывала победу Озириса над Сетом, который до того
«положил Джед на бок»)569. Священный ясень Иггдрасиль в «Старшей Эдде»
гибнет от огня и потопа (затем описывается вновь возрождение мира, спадение
вод и поднятие земли)570. А в норвежской сказке только топор-саморуб может
одолеть огромный дуб, выросший перед замком и затмивший весь
солнечный свет571 (интересно, что аналогичным образом описывается огромность
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 437
Древа как в карело-финском эпосе, так и в совсем иных традициях — в мыонг-
ском мифе «Рождение Земли и рождение Воды», в якутском эпосе и др., а
о Вритре, сравниваемом, как мы видели, с деревом, говорится: «...кто вырос за
один день, кто распространился среди миров»572). Образ нашего Перуна также
продолжает ряд героев-порубщиков — он расщепляет дубы (ср. выше с Ра),
чтобы поразить скрывающегося там Велеса, которому, вероятно,
предшествовало в более ранней версии женское божество (см. выше)573. Характерно, что
стебель кувшинки (см. о ней выше) могли называть водяным прострелом —
по легенде стебель прострел-травы был пронзен насквозь грозовой
стрелой574. Таким образом, все эти сюжеты, примыкающие к блоку мифов о потопе
(кстати, громовик непосредственно может насылать потоп, как в варианте
китайского мифа575), правомерно рассматривать как варианты так называемого
«основного мифа», знаменующего победу нового Космоса, однако, вопреки
утвердившемуся мнению, не столько над Хаосом, сколько над старым
Космосом, олицетворенным изначально, по-видимому, в большинстве мифологий в
образе некоего вселенского первосущества-Праматери — цельной
жизнедеятельной системе. Представления о ней могли существовать испокон веков как
о нечто само собой разумеющемся — историки религии не раз отмечали, что
так называемые «мифы о творении» — продукт определенной исторической
эпохи, на более же раннем этапе мир воспринимается как некая вечная
данность576. «Первоначально единое, целостное и самодостаточное, оно
(первосущество. — И. Д.) становится строительным материалом всего,
что есть в мире» (В. Н. Топоров)577.
Мир — ИЗ П€рВ0СуЩ€СТВА
В процессе расширения и развития представлений о мире, более
конкретного осмысления его составляющих и вычленения противоположных начал, а
также в ходе нарастания внутренних противоречий в самом родовом социуме,
древняя уравновешенная мифологическая система «вселенского первосуще-
ства», видимо, перестает удовлетворять все усложняющиеся
мировоззренческие и социальные запросы. Отжившая «праматерь-вселенная» рождает новый
мир, как бы выпуская его из себя (потоп, освобождение светил из вод или
пещер, рождение новой земли, отделение неба от земли и т. п.), а сама
погибает, убивается, расчленяется, нередко сохраняя пережиточно параметры
элементов мира для частей своего расчленяемого тела. Связанная в первую
очередь с землей и водой, она становится жертвой собственных порождений,
и в первую очередь противоположной стихии огня — в мифологиях огонь, как
правило, вторичен по отношению к воде и земле578 (победа божеств солнца или
грозы над более древним, часто женским божеством — достаточно известная
мифологема). Примеры «внутриутробного» происхождения огня, светил
можно встретить буквально по всему свету — так, например, по
меланезийскому мифу старшая из двух изначальных сестер рожает солнце, месяц и огонь,
438
Мосты времен: космологические архетипы...
а младшая крадет у нее огонь для людей579. В мифологии западных бурят известен
сюжет о рождении солнца из чрева девушки; к подобным мотивам примыкают
мифы о создании светил, молнии путем «изрыгания» богом-творцом или из его
ума580. Близкие мотивы о рождении солнца и луны, или зари и дня, женщиной
(причем спящей) встречаются и в европейских сказках — А. Н. Афанасьев не
без оснований видит в образе такой женщины воплощение земли581. По хору-
танскому верованию земля, до того как она вышла из морской бездны, была
погружена в нее вместе со всеми светилами, молнией и ветрами, а по
русским заговорам прослеживается местообитание божества грозы, огня на (или
в) Алатыре-камне — либо в образах стрелка, пророка Ильи, Огненной Марии,
либо речь идет непосредственно об огне (можно встретить прямой призыв
к «мати, царице Соломин», чтобы она приказала своим 12 дочерям «разбить
и распилить сей белый Латырь камень и вынять ...пялящий и гулящий огонь»)582.
О боге огня Агни в «Ригведе» сказано: «Великий вырос в широкой
бескрайности: / Ведь прекрасны воды> окружавшие Агни, обильны./ В лоне истины
лежал друг дома...» (III. 1.11) (чуть выше говорится, что «он сразу нашел вымя
отца. / Он выпустил его потоки...»); «Агни... укрепил высокий небосвод
горящим деревом» (III.5.10); «...сверкал он с незапамятных времен, / Когда в лоне
матери пламенел у (ее) вымени» (Ш.29.14); «Тебя в океане, в водах, в
вымени неба / Зажег, о Агни, тот... / Тебя... / В лоне вод вырастили буйволы»
(I.145.3)583
Даже в раннефилософских учениях морская пучина, рождающая из себя
элементы мироздания и переосмысляемая в ряде космогонии в первородный
Хаос, сохраняет порой параметры лона праматери. Древнекитайская
философская категория Дао, олицетворявшая Вселенную и именуемая в отдельных
трактатах «матерью всех вещей», «Великой Матерью Поднебесной»,
«глубочайшие врата рождения», уподоблялась и материнскому лону, содержащему
в себе все сущее в его потенции (творение мира описывается как
саморазвертывание Дао или отпадение от него «десяти тысяч вещей»); типологически
предшествующим этой всеобъемлющей категории в древнекитайской традиции
можно предположить образ матери-прародительницы Гуйму, утром рождавшей
небо и землю, а вечером проглатывавшей их; а у Гесиода Хаос — это первичная !
утроба, которая порождает сама себя, а затем — и все остальное584. В конечном
итоге основная значимость всего этого комплекса представлений сводилась к !
идее бессмертия души, остающейся актуальной на протяжении всей истории
человечества.
Отмеченный выше антагонизм между образом вселенской праматери и ее
порождениями особенно проявился, по-видимому, в период смены
материнского рода отцовским — именно к этому времени ученые относят распро- i
странение мифов о победе героя, связанного с солнцем, молнией, небом над j
драконом (например, Мардука над Тиамат в аккадском мифе), мужского боже- j
ства — над женским, а также мифы о расчленении585. На этот хронологический j
период указывает и тот факт, что образы мифических расчленяемых перво-
предков, из частей которых творится мир, нередко уже являются мужскими.
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной...
439
К наиболее известным из них относятся др.-инд. Пуруша, сканд. Имир, др.-кит.
Пань-Гу, хотя в Имире еще просматриваются женские черты, а в образе
Пуруши также имеется характерная деталь — он является порождением, и в то
же время сам порождает, Вирадж — олицетворение женского творческого
начала, которая к тому же могла воплощаться в корове, а позднее это имя
означает одну из ипостасей бога-творца586. В бурятском эпическом цикле
сказаний о Гэсэре смена материнского рода отцовским отразилась в свержении
богов материнского рода и рассечении тела их старейшины, причем его «[Части
тела] обосновались /... / На выходе (или в заливе) / Великого внешнего
моря, / На острове (архипелаге) / Внутреннего океана»587.
Однако известны и однозначно женские образы расчленяемых божеств,
из которых творятся элементы мира: аккадская Тиамат; ацтекская богиня
земли, разрываемая двумя богами на две части — небо и землю; ирокезская
богиня, из тела которой ее сын создает солнце и месяц; умершая дочь богини
земли из мифа гуронов, тело которой вешается на дерево и превращается в
солнце и луну, и др.588 Типологически предшествующими им можно
рассматривать мотивы с расчленением, убийством тех или иных животных, в которых
представлялась земля — например, поражение громовержцем лягушки,
«золотой жабы» или черепахи, связанное с извержением вод, — эта мифологема
фиксируется у многих народов Евразии, в том числе и у славян (отсюда
поверье: убить лягушку — вызвать дождь)589. Показателен для нашей темы
образ женского божества Синмо, воплощающей добуддийский Тибет, — в ее
распростершееся тело вонзаются «12 когтей неподвижности» — 12 храмов,
главный из которых, храм Лхасы, выстроен на озере этого божества; в
параллели с ней фигурирует образ пестрой коровы, также расчленяемой во имя
последующего творения, причем из ее шкуры возникает шатер590.
На этом этапе, по-видимому, специфическим концептуальным смыслом
наполняется образ именно шкуры животного, особенно разостланной. В «Риг-
веде», например, встречается упоминание, что Варуна «разбил землю, чтобы
разостлать [ее] для солнца, как жрец — шкуру (жертвенного животного)»
(V.85.5); в более поздних текстах говорится об укреплении изначально
плававшей земли «подобно тому, как растягивают кожу» (Шатапатха Брахмана.
П. 1.1.10), а в брахманистском ритуале играла важную роль шкура черной
антилопы, символизировавшая арийскую землю591. Ритуальное убийство и
расчленение крупного животного, части тела которого соотносились с
элементами миротворения и социумом, достаточно известны — у древних индийцев это
еще и конь в обряде «ашвамедха», у народов Сибири — медведь, олень. Бык
же или корова занимали в этом ряду одно из ведущих мест у разных народов,
видимо, также с глубокой древности, хотя исходный смысл подобных ритуалов
со временем мог стираться, оставляя для животного значение только жертвы
в дар божеству, уже чаще мужскому. Так, жертвоприношение «самоидущей
коровы» у ряда адыгских народов было посвящено богу Ахыну — великану
и прародителю с признаками копытного животного, выступавшему к тому же
в некоторых легендах в образе старухи; знаменательно, что сама процедура
440
Мосты времен: космологические архетипы...
жертвоприношения пять раз меняла место в ходе ритуала592 — скорее всего,
это рудимент маркировки в прошлом четырех сторон и центра определенной
территории, видимо родовой. Характерно, что в вышеприведенном примере из
тибетской мифологии пестрая корова убивается также по ее собственной
просьбе, части же ее тела и внутренности раскладываются на шкуре по сторонам,
а в центр — сердце (ср. также этногенетические легенды эвенков с мотивом
убийства медведя по его просьбе и раскладыванием его внутренностей,
преображенных наутро в людей, оленей593).
У русских в обрядах с коровьей шкурой просматривается значение этого
предмета не только как оберега и символа богатства и потомства, но и как
маркирующего некий сакральный центр: в красном углу избы на шкуру сажали
молодых; в северорусских девичьих гаданиях «на росстани» девушка садилась
на перекрестке на коровью шкуру, обчерчиваясь кругом, фактически — чтобы
вступить в контакт с «нечистой силой», способной приоткрыть ей будущее в
этом сакральном локусе (в Йудожском р-не Республики Карелии, на Купецком
озере, в 1993 г. мы записали рассказ, как леший чуть не утащил девку с собой
за хвост коровьей шкуры, что перекликается с поверьем, приводимым А. Н.
Афанасьевым, о возможности нечистой силы поднять на воздух в этот момент
шкуру и показать сидящей на ней все будущее594 — ср. с представлением о
ковре-самолете — медиаторе между мирами). Что же касается сакрального
расчленения животного, то именно этой теме целиком посвящена,
например, северорусская «Старина о большом быке», где убивается «великие бык»
Рободановский (весьма показательно, что его волосатая спина названа степью
в соответствии с древнерусской традицией), и части его тела используются на
потребу обществу (еда, волынка, кожаные изделия), хотя просматривается и
осуждение этих действий595. Старина является, видимо, продуктом переработки
какого-то более раннего текста, а главный персонаж ее перекликается с
образами из карельских рун — «сторогого быка, тысячеголового турсаса» в сюжете
о добывании сампо и быка неимоверных размеров («туч касается спиною»),
убиваемого для свадебного пира596. В русских сказках огромный бык порой
падает от щелчка Балды, и с него слезает вся шкура — А. Н. Афанасьев
усматривает в образе Балды трансформацию громовика, и само его имя
производит от наименования дубины, палицы, молота597. Наиболее характерный
пример семантически значимого убийства коровы или быка в сказках мы
встречаем, как уже было сказано, в текстах типа «Крошечка-Хаврошечка», где
из тела животного возникают элементы мироздания: «И разлилася криница
на том месци, и выросла яблонь над крыницой, и на той яблоньцы золотое
яблоко ды сярэбраное» (вар. — две яблони вырастают из двух зернышек,
найденных в кишках коровы)598. Прорастание из убитого животного дерева
с яблоками-светилами, возможно, является аналогом становления новой
космической оси над погибшим старым миром (ср. близкие^ мотивы из мифологии
шан и лао: спасшийся от потопа человек, взявший с собой лишь корову,
рассекает ее живот, где находит два семени тыквы, из плодов которых
впоследствии выходят люди, животные, птицы, растения; или — из ноздрей
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 441
умершего после потопа буйвола вырастает лиана с тыквами, из которых
выходит новое человечество599).
Характерным примером антропоморфного варианта рассматриваемой
мифологемы (т. е. возникновение элементов мира из тела погибающего
или убиваемого существа) у восточных славян можно считать народные
песни типа «Иван да Марья», в которых в результате случайного инцестуаль-
ного брака сестра гибнет (просит брата убить ее, либо брат сам делает это,
либо она кончает жизнь самоубийством), причем также просматривается
мотив вырастания из ее тела дерева:
«Билая березонька — то я молоденька,
Шовковая трава — то моя руса коса,
Чорнш терн — то мои чорни очи»
или:
«Вода в море — то кровь моя,
Рыба — мое тело, трава — коса,
Яблоко — личко, калина — краса моя\»т
Своеобразный с этой точки зрения песенный мотив рассмотрен В. Н.
Топоровым — здесь, напротив, девица грозится из частей тела молодца соорудить
терем, причем автор сопоставляет содержание подобных народных песен с
идеей антропоморфизации Космоса в известном апокрифическом духовном
стихе «О Голубиной книге»601, распространенном когда-то во множестве
вариантов на Руси и наиболее ярко отражающем представление о происхождении
мира и социума от частей тела Адама или Бога (Христа), который, однако, сам
в этом творении не исчезает, а как бы наполняет собою весь мир.
Мир — стоящее божество
Мифологический пласт подобных представлений, в которых мир
воспринимался как живое тело стоящего антропоморфного божества, чаще уже
мужского пола, с головой-небом, глазами-светилами и т. д., занимает одно из
фундаментальных мест в истории культуры человечества, доживая до позднего
Средневековья в философии, астрологии, алхимии.602 Он являлся, вероятно,
также одним из эволюционных этапов в развитии космологических
представлений и связан с формированием более дифференцированных воззрений на
«ярусность» мироздания: «Хронологически образ стояния-вставания
предполагает уже дуальную по вертикали структуру вселенной, возникшую после
того, как Небо и Земля были разъединены...»603 (вспомним из нашей загадки
о земле: «...Встану — до неба достану...»). Изобразительное выражение этой
идеи «вставания» женского космического божества можно встретить в русской
вышивке (прежде всего — архангельской, выполненной наиболее архаичным
двусторонним швом): крупная женская фигура как бы выходит из-под земли,
из нижнего мира тянется к небу — над линией земли-воды изображена лишь
442
Мосты времен: космологические архетипы...
%
ее верхняя часть с птицами в поднятых руках604. Образ стоящего божества-
Космоса явился результатом все более глубокого осмысления дуальности мира
в его противоположных началах, он позволял более органично отразить
становящиеся все актуальнее идеи противостояния «верха» и «низа»,
развивающиеся представления о вертикальном строении мироздания, о его трех
основных ярусах. Вплоть до последнего времени, например, в шактизме и джайнизме
многоярусная структура Вселенной могла изображаться в виде стоящей богини,
чья верхняя часть соответствовала небу, область бедер — земле, нижняя часть —
подземному миру; к тому же она воплощала в себе все пять элементов (землю,
воду, огонь, воздух, эфир)605.
В связи с реминисценциями подобного
образа Вселенной в русской народной культуре
хотелось бы отметить один любопытный факт
в апокрифе «Голубиная книга»: довольно часто
в различных вариантах его говорится о не очень
понятном на первый взгляд происхождении
месяца:
«Светел месяц от грудей его,
Самого Христа, царя небесного»606.
Для мужского образа подобное
отождествление звучит довольно-таки странно. Объяснение
можно найти только исходя из женского образа
божества, так как луна, лунный свет
устойчиво ассоциируются в фольклоре с молоком,
живительной влагой, росой, амритой и т. п.
Белые груди индийской богини Лакшми
представлялись источающими амриту, сому607. (Сома
же, как известно, — и название амброзии, и
божество месяца.) Древние индийцы были
уверены, что луна состоит из амброзии; она
убывает по мере того, как боги и души предков
поглощают ее, и прибывает, вновь
наполняемая солнцем (по другому воззрению, в фазе,
роста она принимает в себя души умерших, а I
при убывании проливает их на землю дождем);'
луна отождествлялась также с кубком Твашта-«
ра, а переделка этого кубка в четыре чаши
символизировала ее четыре фазы608. Выше-,
описанный образ многоярусной Вселенной в j
шактизме представлялся в виде женщины,
«чьи груди — солнце и луна»; по его доктрине,
«Великая Богиня Шакти существовала — и
всегда существует — как всеобщая сущность,
всепорождающее и всеохватывающее начало.
Рис. 4-17.
Глиняная игрушка
«Барыня с птицей».
Тульская обл.,
Одоевский р-н,
д. Филимоново.
Собрание ВМДПиНИ
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 443
как сама идея Матери», а по одному из мифов о ее конкретном воплощении
груди ее возникли из сияния бога Луны609.
Во многом аналогичные представления существовали, по-видимому, в
древности в Европе — об этом свидетельствуют, в частности, выразительные
глиняные статуэтки из сербского села Кличевач (средний бронзовый век,
примерно — сер. II тыс. до н. э.) в виде стоящей женщины, груди которой
отмечены знаками светил, — она воплощала, по мнению ученых, образ богини
плодородия610. Хотя, судя по столпообразной монументальности и
многоярусной орнаментации скульптурок, где на колоколообразных юбках читаются
знаки земли и воды (ряды
прямоугольников, треугольников и ломаных линий), а
выше — светил, символика их могла быть
значительно шире и отражать
представление о всей Вселенной, причем как раз в
образе стоящей богини, как бы
достигающей головой небесных сфер. Очень
близки им и некоторые русские глиняные
«бабы», особенно из тульского села Фили-
моново — в их торсах также подчеркнута
столпообразность, а в орнаменте порой
удивительно явственно читаются ярусы
мифологического мироздания даже с
ночным солнцем, как бы проходящим под
землей и «линией вод» (рис. 4-17, 4-18). Над
грудью же этих фигурок можно порой
встретить явное изображение полумесяца
(рис. 4-19) — ассоциация светил с
молоком известна и по русским загадкам: «Над
двором-двором стоит чашка с молоком»
(вар. — с творогом) — месяц; «Девка
коровку доить, а медведь в подворотню
глядить» — лунный свет и месяц;
«Пресное молоко на пол льют...» — солнечный
свет611.
Достаточно часто маркируются также
в глиняной игрушке юбки женских
статуэток декором в виде ломаной, волнистой
линии, нередко с точками, с дополнением
порой прямыми линиями, также с точками
либо без них (в каргопольской, в тульской
филимоновской — см. рис. 4-17, в
калужской хлудневской), а иногда вся юбка или
фартук «бабы» заполнены рядами
волнистых или ломаных линий, порой на синем
Рис. 4-18.
Глиняная игрушка «Барыня
с ребенком и птицей».
Тульская обл., Одоевский р-н,
д. Филимоново.
Собрание ВМДПиНИ
444
Мосты времен: космологические архетипы...
фоне; такой декор встречается и внизу женских фигур в вышивке, а также и
в настоящей женской одежде — поневах, фартуках612. Вообще женский костюм,
особенно древнерусский, во многом отражал образ трехъярусного мироздания,
и Б. А. Рыбаков полагал, что в своем праздничном костюме крестьянка XIX века
уподоблялась вселенской богине613. Традиция орнаментации нижней части
женских статуэток ломаными линиями с точками в сочетании с прямыми
вертикальными прослеживается в памятниках Европы по крайней мере с
бронзового века614. Еще в памятниках
верхнего палеолита мы встречаем
экземпляр женской костяной скульптурки,
часть туловища которой вдоль бедер
украшена орнаментом в виде
зигзагообразных линий в сочетании с прямыми
вертикальными и небольшими
ромбиками (стоянка Мезин на Десне)615, хотя
связь с «водами» в данном случае
можно, разумеется, лишь предполагать. Для
более же поздней эпохи — конца
неолита и энеолита — М. Гимбутас,
например, считает орнаментацию в виде
идеограмм воды, водных потоков ведущей в
европейской керамике и связывает ее
с образом верховного женского
божества, управляющего, в частности,
«животворной силой воды», земной и
небесной616. Не от этого ли времени дошел до
нас в русских сказках образ девицы, с
рук и ног которой постоянно льется
вода?617 На юбках некоторых из филимо-
новских глиняных «барынь» мы видим
также знаки в виде розеток в сочетании
с гребенками618 (рис. 4-20) —
идеограммами дождевых туч,
характерными для многих древнеземледельческих
культур (в том числе — для Древнего
Египта, Японии, Южной Америки)619.
Об аналогичном значении этого знака-
образа у наших предков говорят
поверья о русалках, которые с помощью
своего гребня могли затопить любое
место620.
Таким образом, к русским глиняным
скульптуркам XX века вполне можно
применить определение, данное Е. В. Анто-
Рис. 4-19.
Глиняная игрушка «Барыня».
Мает. А. И. Карпова.
Тульская обл., Одоевский р-н,
д. Филимоново.
Собрание ВМДПиНИ
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 445
новой по отношению к женским глиняным статуэткам Ш-П тыс. до н. э. из
анауской культуры (носители ее — предположительно индоевропейские
племена в Средней Азии): «Знаки и изображения на статуэтках указывали на
тождество тела божества и Космоса. Они могли находить соответствие
в гимнах и молитвах, обращенных к богине, породившей мир,
богине-дереву. ..»621 Последнее тождество, т. е. богини и дерева, мы вновь встречаем
как в русской вышивке, так и в глиняной игрушке. Особенно ярко оно выражено
в скульптурках из д. Хлуднево Калужской
обл. (рис. 4-21): изображение дерева,
подчеркивая идею вертикальности, нередко
находится на спине богини, торс которой
усажен птичками (иногда это птички с
головкой младенца622), а в некоторых из них
образы богини и дерева сливаются, и
богиня процветает пышными ветвями.
Собственно говоря, эти хлудневские скульптурки
наглядно демонстрируют нам, как вообще
формировался образ «баб» в глиняной
мелкой пластике: взаимозаменяемость
ребенка и птиц в их руках указывает, скорее
всего, на символизацию последними душ
людей, посылаемых богиней в мир. Близкую
образность встречаем еще в «Ригведе», где
описание двух птиц на священном дереве
(1.164.20) перекликается с описанием «юной,
великолепно украшенной» женщины, на
которую «уселись две (обладающие)
оплодотворяющей (силой) птицы» (X. 114.3)— в
образе этой женщины ученые видят
богиню-олицетворение Вселенной623.
«Оплодотворяющую» же силу птиц, на наш взгляд,
следует понимать как направленную не на
богиню, а от нее на мир людей — она
посылает в него души предков-потомков
(вспомним обычай выпускать птиц на
Благовещенье, порой прямо из раскрывающегося
«чрева» статуи Богоматери). В русской
вышивке птицы в руках женской фигуры, или
женщины-дерева — один из самых распро- Рис. 4-20.
страненных мотивов, также наглядно де- Глиняная игрушка
монстрирующих тождество женского боже- «Барыня с птицей».
ства и мифологического архетипа Древа Мает. А. Г. Карпова. 1965 г.
жизни (который включает, как известно, Тульская обл., Одоевский р-н,
и образы птиц-душ). дт Филимоново. Собрание РЭМ
446
Мосты времен: космологические архетипы...
У многих народов дерево было близко соотнесено с представлением о
богине земли. Так, по верованиям вилюйских якутов на толстых березах живет дух-
хозяйка земли624.; У некоторых африканских племен дерево, особенно
молочное, служило алтарем богини земли — мифической матери-прародительницы,
изображавшейся нередко в виде женщины с ребенком на коленях625. Образ
богини-дерева являлся одной из универсалий в религиях Древнего мира,
причем в его изобразительном, а вернее — в культовом искусстве можно встретить
и образ дерева-роженицы: так, в Музее изобразительных искусств им. А. С.
Пушкина на выставке древностей из коллекции Дж. Ортиса в 1993 г. была
представлена уникальная скульптурная композиция из меди, состоящая из трех мужских
фигур, молящихся четвертой центральной в виде дерева с чертами женщины-
роженицы (происходит из Шумера начала III тыс. до н. э.). В шумерском
варианте эпоса о Гильгамеше говорится о чудо-дереве с птицей и змеей: «в его стволе
девушка Лилит дом построила»626. Теснейшая связь со священным деревом
отмечена, как известно, для древнеегипетских богинь-коров — Нут и особенно
Хатхор (во многом отожествляемых между собой): они могли изображаться
в стволе дерева, поящими\души умерших, либо выходящими из ствола изна-
Рис. 4-21. Глиняная скульптурка «Баба».
Мает. А. Ф. Трифонова (1903-1992).
Калужская обл., Думинический р-н, д. Хлуднево.
Собрание И. М. Денисовой
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 447
чальной сикоморы, представленной порой как дерево с женской грудью, а Хат-
хор именовалась «госпожой сикоморы»627.
Характерный пример богини-дерева встречаем в кафирской мифологии:
могущественная «мать всех богов» Дизани появилась из ствола огромного
дерева, поднявшегося из центра озера, из «страны, недосягаемой для
смертных»628. Для протоиндийской харрапской культуры IV—III тыс. до н. э. М. Ф. Аль-
бедиль выделяет даже «основной изоморфный ряд, связывающий и
уподобляющий дерево, женщину... и «мир», т. е. освоенную часть пространства,
...а также соответствующие временные циклы» (причем это отождествление
представлено в глиптике образом рогатой богини-буйволицы в развилке
дерева, под древесной аркой и т. п.)629.
В основе столь тесного слияния образов антопоморфной богини и дерева
просматривается еще один пласт представлений, несколько иной ассоциативно-
образный ряд, нежели рассмотренный выше, и внесший свой вклад в
формирование мифологемы растительной вертикали. Необходимо учитывать, что культ
дерева многоаспектен в силу природных особенностей самого объекта культа
и его полифункциональности630 — как знак-символ дерево обладает большой
семантической ёмкостью, и в разные периоды в различных культурах и
казуальных ситуациях могли акцентироваться различные его аспекты. Так,
ассоциация дерева с позвоночником человека либо животного, вероятно,
возникла уже на заре человечества, о чем говорят данные первобытного искусства,
но на определенном этапе развития представлений о мире, когда Вселенная
мыслится в виде стоящего антропоморфного божества, эта ассоциация
актуализируется и превращается в ёмкий символ вертикальной опоры мироздания
(ср., например, о боге Мардуке: его спинной хребет — кедр, а части тела
сопоставляются с элементами мира631; в то же время по отношению к Мардуку
встречается эпитет «черный бык пропасти»632, в котором просматривается
наследие более ранней эпохи). Отождествление дерева и человека мы встречаем
также в некоторых русских загадках: «Стоит дуб, на дубе клуб, на клубе семь
дыр»; «Стоит древо, на древе костер, в костре свиньи есть»633 и т. п. Именно
в подобном тождестве лежит, видимо, основной источник формирования
архетипа трехъярусного Мирового древа, достигающего своей вершиной высших
сфер. Хронологическая глубина этого мировоззренческого пласта хотя и
глубока, но представляется все же относительно исторически обозримой (примерно
конец неолита — начало железного века), и он также отразился в тех сложных
образах русского народного искусства, попытка расшифровать которые увела
нас в глубины мировой мифологии. По вариантам образов вышивок можно
проследить, как богиня постепенно утрачивает антропоморфные черты и
превращается в сложное Древо, пережиточно сохраняющее, однако, рудименты
частей человеческого тела и особую отмеченность его «живородящего центра»
(рис. 4-3, 4-4). В некоторых вариантах угадывается идея расчленения
изображенного божества, в других — перерастание его в образ разостланной шкуры-
земли, прорастающей растениями, и может быть не случайно в тамбурной
вышивке этот сильно трансформированный образ начинает напоминать какую-
то запутанную географическую карту.
448
Мосты времен: космологические архетипы...
Ко всем рассмотренным артефактам народной культуры вполне приложимо
мнение Б. Н. Путилова, высказанное им по поводу фольклора: «...Можно
сказать, что у архаических и классических жанров значительное место занимают
замыслы, так сказать, над этнического характера... При этом вариативность
в межэтнических масштабах сохраняет одно из генеральных своих качеств —
сохранение узловых сюжетно-тематических моментов замысла, опорных
элементов семангЛики и соответствующих структурных позиций... Так в
масштабах международных возникают вариативные ряды, цепочки, комплексы...»634
Отражение именно основополагающих, надэтнических образов и идей, причем
в их хронологической динамике, угадывается в анализируемых артефактах.
Несомненно, загадки остаются, и в том обширном круге затронутых, порой
лишь тезисно, проблем пока что больше вопросов, чем ответов. Однако
необходимо констатировать, что многие «темные места» в мифологиях и
запутанные семантические связи между элементами культур в значительной степени
проясняются при рассмотрении их в контексте определенной
мировоззренческой системы — системк представлений о мироздании как о некоем
«вселенском существе», живом Космосе, включающем в себя весь окружающий мир,
а также неразрывно связанный с ним социум. Существование подобной
системы в виде образа зоо-антропоморфной Праматери реконструируется на основе
широких сравнительно-исторических и сравнительно-типологических
сопоставлений уже для достаточно ранних этапов развития человечества (скорее
всего, она складывалась в ходе формирования раннеродового общества). Об
изначальной цельности и стройности данной мировоззренческой системы
говорит тот интересный факт, что при рассмотрении в ее контексте многих
мифологем и архетипов, которые считались относительно самостоятельными
(первозданное море-океан, слитность земли и неба, огненная или вселенская
река, священный остров, священная гора, Мировое древо, всемирный потоп,
появление светил, огня и земли из вод, образ водяного или земляного
копытного животного, «основной миф» и др.), вдруг обнаруживаются их довольно
тесные взаимосвязи, тенденции к взаимоперетеканию и взаимодополнению, /
по-новому раскрываются их истоки. В очередной раз приходится удивляться
способности древних гармонизировать и одухотворять мир вокруг себя.
Примечания
1 Мильков В.В. Древнерусские апокрифы. СПб., 1999. С. 125-178; 223-246 и др.
2 ЮнгК.Г. Архетип и символ. М., 1991. С. 97-128.
3 Кереньи К. Элевсин: Архетипический образ матери и дочери'. М., 2000. С. 22. См.
чуть выше в книге этого автора (с. 18) его мнение по данному вопросу: «Если такие
утверждения, как "это архетипично" или "это архетип", приводят к тому, что
дальнейшее исследоваие представляется излишним или ненужным, тогда от подобной
терминологии в научной работе следует отказаться».
4 Березкин Ю. Е. Проблемы изучения индейской мифологии // Население Нового
Света: проблемы формирования и социокультурного развития. М„ 1999. С. 78.
^ «Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 449
5 См., например, материалы прошедшей в Гос. Эрмитаже в 1998 г. конференции:
Архетипические образы в мировой культуре. Тез. докладов Всероссийской научной
конференции. Ноябрь 1998 г. СПб., 1998.
6 Путилов Б. И. Вариативность в фольклоре как творческий процесс / / Историко-
этнографические исследования по фольклору. Сб. статей памяти С. А. Токарева. М.,
1994. С. 194-195. См. также об этой методологии: Пропп В. Я. Исторические корни
волшебной сказки. Л., 1946. С. 21; Фойт В. Семиотика и фольклор // Семиотика и
художественное творчество. М., 1977. С. 175; Евсюков В. В. Мифология китайского
неолита. Новосибирск, 1988. С. 33; Окладникова Е. А. Модель Вселенной в системе
образов наскального искусства Тихоокеанского побережья Северной Америки. СПб.,
1995. С. 10-13; и др.
7 Гринцер П. А. Эпос древнего мира // Типология и взаимосвязи литератур
Древнего мира. М., 1971. С. 136.
8 Дмитриева С. И. Мировоззренческая основа народных представлений о болезнях
русских европейского севера // Российский этнограф. № 3. М., 1993. С. 59; Горбов-
ский А. Факты, догадки, гипотезы. М., 1988. С. 73, 86.
9 Дьяконов И. М. Введение (к колл. монографии) / / Мифологии Древнего мира.
М„ 1977. С.15.
10 Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии
философии. М., 1984. С. 40; Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М., 1989. С. 136-142;
Токарев С. А. Ранние формы религии. М., 1990. С. 519-521, 550; Токарев С. А.,
Мелетинский Е. М. Мифология // МНМ. Т. 1. С. 12, 13, 19; Дьяконов И. М. Указ.
соч. С. 12-14; Он же. Архаические мифы Востока и Запада. М., 1993. С. 21, 37, 44.
11 Дьяконов И. М. Введение... С. 14.
12 Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. Указ. соч. С.38-39.
13 Токарев С. А. Указ. соч. С. 518.
14 Евсюков В. В. Мифы о вселенной. Новосибирск, 1988. С. 34.
15 Фрейденберг О. М. Миф и литература Древности. М., 1978. С. 24.
16 Иванов В. В. Проблемы этносемиотики / / Этнографическое изучение знаковых
средств культуры. Л., 1989. С. 38.
17 Лукьянов А. Е. Истоки Дао. Древнекитайский миф. М., 1992. С. 6-8.
18 Карпенко М. Вселенная разумная. М., 1992. С. 282-286; Топоров В. И. К
реконструкции балто-славянского мифологического образа Земли-Матери / / Балто-славян-
ские исследования. 1998-1999. М., 2000. С. 308.
19 Топоров В. Н. Пространство и текст // Текст: Семантика и структура. М., 1983.
С. 244, 245; Он же. Первочеловек // МНМ. Т. 2. С. 300-302.
20 См., напр.: Пять философских трактатов на тему «Афак ва анфус» (о
соотношениях между человеком и Вселенной. Критич. текст, указатели и введение А. Е. Бер-
тельса. М., 1970. С. 16-113.
21 Топоров В. Н. Пространство и текст. С. 244.
22 Дьяконов И. М. Введение... С. 16.
23 Афанасьев А. И. Языческие предания об острове Буяне // Временник Имп.
Моск. об-ва истории и древностей российских. М., 1851. № 9. 1-я паг. С. 1, 2.
24 Евсюков В. В. Мифы о вселенной. С. 18.
25 Там же. С. 101.
26 См., напр., у коми: Чувьюров А. А. Культ земли в фольклоре коми старообрядцев-
беспоповцев // Религиозный синкретизм: проблемы теоретического и исторического
исследования. Материалы IV Санкт-Петербургских религиоведческих чтений. Апрель
1997. СПб., 1997. С. 26, 27.
15 3ак 4748
450
Мосты времен: космологические архетипы...
27 Топоров В. Н. Об индоевропейской заговорной традиции (избранные главы) //
Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Заговор. М 1993
С. 74; См. также: Эдиаде М. Священное и мирское. М., 1994. С. 92. (См. здесь также
гл. Terra Mater и след. С. 88-94.)
28 Элиаде М. Указ. соч. С. 88-92; Соболев А. Н. Мифология славян. Загробный мир
по древнерусским представлениям. СПб., 2000. С. 71-73; Dieterich A. Die Mutter-Erde.
Leipzig; Berlin, 1913; Франк-Каменецкий И. Г. Отголоски представлений о матери-земле
в библейской поэзии // Язык и литература. Т. 8. Л., 1932. С. 130-131; Иванов В. В.
Антропогоническиё мифы // МНМ. Т. 1. С. 88; Charencey Н. Le folklore dans les deux
Monds. Paris, 1894. Ch. II. (De l'origine souterraine de l'espece humaine). P. 74-111.
29 Токарев С. А. Указ. соч. С. 542; Котляр Е. С. Миф и сказка Африки. М., 1975.
С. 95, 208, 210.
30 Франк-Каменецкий И. Г. Женщина-город в библейской эсхатологии / / С. Ф. Оль-
денбургу к 50-летию научно-общественной деятельности. Л., 1934. С. 535-548.
31 Гусейнов Г. Ч. Ана // МС. С. 42.
32 Алексеенко Е. А. Представления кетов о мире // Природа и человек в
религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976. С. П.
33 Эти характерные факты сгруппированы в кн.: Окладникова Е. А. Указ. соч. С. 240-
242. Здесь же см. ссылки на соответствующую литературу.
34 Абрамова 3. А. Древнейшие формы изобразительного творчества
(Археологический анализ палеолитического искусства) // Ранние формы искусства. М., 1972.
С. 24-28. Рис. 5, 9.
35 Frobenious Leo. Ekad ektab die felsbilder ferrous. Leipzig, 1937. S. 51.
36 Сегал Д. М. Мифологические изображения у индейцев северо-западного
побережья Канады // Ранние формы искусства. М., 1972. С. 366. Рис. 15д.
37 Окладникова Е. А. Указ. соч. С. 251-252.
38 Вадецкая Э. Б. Женские силуэты на плитах из окуневских могильников //
Сибирь и ее соседи в древности. Новосибирск, 1970. С. 261-264. Рис. 1, 2.; Новго-
родова Э. А. Новые данные о культе матери-прародительницы в Центральной Азии //
Центральная Азия. Новые памятники письменности и искусства. М., 1987. С. 249-252.
39 Жарникова С. В. О попытке интерпретации значения некоторых образов русской
народной вышивки архаического типа // СЭ. 1983. № 1. С. 87-94; Она же.
Обрядовые функции северорусского женского народного костюма. Вологда, 1991. С. 20-26;
Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки как исторический источник. М.,
1978. С. 120, 160; Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981. С. 480; Кос-
менкоА. П. Народное изобразительное искусство вепсов. Л., 1984. С. 76-84; Она же.
Северные узоры. Народная вышивка Карелии. Петрозаводск, 1989. С. 56-58, 82-84;
Шанеина И. И. Образы русской вышивки на обрядовых полотенцах XIX-XX вв.
(К вопросу о семантике древних образов сюжетной вышивки). Дисс. на соиск. уч. ст.
канд. ист. наук. М., 1975. С. 57-58; Баранов Д. А., Мадлевская Е. Л. Образ лягушки
в вышивке и мифопоэтических представлениях восточных славян // Сб. МАЭ.
Вып. LVII. Женщина и вещественный мир культуры у народов России и Европы. СПб.,
1999. С. 111-130. ,
40 Денисова И. М. Образ Мирового древа в русской народной вышивке / /
Денисова И. М. Вопросы изучения культа священного дерева у русских. М., 1995. С. 186-201.
41 Стасов В. В. Русский народный орнамент. СПб., 1872. С. 204.
42 Топоров В. Н. Древо мировое // МНМ. Т. 1. С. 398.
43 Фролов Б. А. Астральные мифы и'рисунки // Очерки истории
естественнонаучных знаний в древности. М., 1982. С. 57; Топоров В. Н. К происхождению некоторых
поэтических символов (Палеолитическая эпоха) // Ранние формы искусства. М.,
«Живой клсмос»: Древнейшая модель Вселенной.., 451
1972. С. 93-96; Березкин Ю. Е. Южноамериканская мифология и проблема
исторических реконструкций // Проблемы реконструкции фактов традиционной культуры.
М., 1990. С. 148-149.
44 За эти сведения приношу благодарность В. Н. Полуниной, зафиксировавшей это
название во время экспедиций 1970-х годов. ^
45 Древнеиндийская философия (начальный период) / Подгот. текста, вступ. ст. и
коммент. В. В. Бродова. М., 1963. С. 30.
46 Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986. С. 81. За указание мне
на этот факт приношу благодарность С. В. Жарниковой.
47 Gimbutas М. The Gods and Godesses of Old Europe. Los Angeles, 1974. P. 174-
179. III. 127.
48 Евсюков В. В. Восточно-азиатский неолитический миф о сотворении земли //
Каменный век Северной, Средней и Восточной Азии. Новосибирск, 1985. С. 96-100; Он
же. Мифология китайского неолита. С. 77, 78; Он же. Мифы о вселенной. С. 60, 63-68.
49 Даниленко В. Н. Космогония первобытного общества // Даниленко В. Н.,
Шилов Ю. А. Начала цивилизации. Екатеринбург, 1999. С. 59, 82.
50 Купер Дж. Энциклопедия символов. М., 1995. С. 194.
51 Судник Т. М., Цивьян Т. В. О мифологии лягушки (балто-балканские данные) / /
Балто-славянские исследования. 1981. М., 1982. С. 146; 144-152.
В гуцульском искусстве (в аппликации на кептарях) известно изображение,
близкое к фигуре Роженицы северных вышивок, причем в одних местностях его называли
рачок («некое словно бы плавающее существо с конечностями и хвостиком», по
описанию С. Б. Рождественской; отметим, кстати, что у Праматери северных вышивок
также можно видеть часто между ног нечто, напоминающее головку ребенка); в других
местностях этот мотив носил название Богородица, а в третьих, наиболее глухих —
берегиня51 (Рождественская С. Б. Народное искусство как источник изучения
исторических связей славянского и неславянского населения Карпат // История,
культура, этнография и фольклор славянских народов. X Междунар. съезд славистов.
София, сент. 1988 г. М., 1988. С. 234), однако данным словом в русском переводе XI в.
с греческого передано значение земля51 (Чичеров В. И. Зимний период русского
народного земледельческого календаря XVI-XIX вв. М., 1957. С. 54). Вряд ли можно
считать случайным и название этого узора Богородица, так как на образ последней
перешли многие представления о матери-земле (см. об этом ниже).
52 Mellaart James. Catal Huyuk. A Neolithic Town in Anatolia. London and Soinhampton.
1967. III. 28, 29, 40, VII.
53 Антонова Е. В. Орнаменты на сосудах и «знаки» на статуэтках анауской
культуры // Средняя Азия и ее соседи в древности и средневековье. М., 1981. С. 14.
54 Даниленко В. Н. Указ. соч. С. 48.
55 Элиаде М. Священные тексты народов мира. М., 1998. С. 131-134; Он же.
Космос и история. М., 1987. С. 224.
56 Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1994. С.209-227;
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1994. Т. 1. С. 138-
150; Топоров В. Н. К реконструкции балто-славянского мифологического образа
Земли-Матери. Балто-славянские исследования. 1998-1999. М., 2000. С. 239-371;
Тульцева Л. А. Социально-нравственные аспекты земледельческой обрядности //
Русские народные традиции и современность. М., 1995. С. 285-287; Белова О. В.,
Виноградова Л. И., Топорков А. Л. Земля // СД. Т. 2. С. 315-321.
57 Митрофанова В. В. Загадки. Л., 1968. № 1929. С. 71.
58 Виноградова Л. И. Откуда дети берутся? / / Славянский и балканский
фольклор. Этнолингвистическое изучение Полесья. М., 1995. С. 181, 182.
452
Мосты времен: космологические архетипы...
59 Соболев А. Н. Указ. соч. С. 72.
60 Полевые материалы автора (далее ПМА). 1992. Тетр. 2. С. 62-63, 83-84, 100,
122. Верховажский р-н Вологодской обл. Записи в Сибирском и Нижне-Коленьгском
сельсоветах.
61 Журавлев А. Ф. Домашний скот в поверьях и магии восточных славян. М., 1994
С. 116. I
62 Сказки и предания Северного края / Зап., вступ. ст. и коммент. И. В.
Карнауховой. М.; Л., 1934. № 26.
63 Мадлевская Е. Л. Указ. соч. С. 64.
64 Соболев А. Н. Указ. соч. С. 101.
65 Невская Л. Г. Мать в погребальном фольклоре / / Балто-славянские
исследования. 1982. М., 1983. С. 203, 204. !
66 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 1. С. 139, примеч. 3.
67 Мильков В. В. Указ. соч. С. 169, 170; 216-252 (гл. Апокрифическая
антропология); 440-449.
68 Плотникова А. Л.Землетрясение // СД. Т. 2. С. 314.
69 Соколовы Б. М. и ИХ М. Сказки и песни Белозерского края. Пг., 1915. С. 518; *
Митрофанова В. В. Указ. соч. № 2725. С. 90. Загадки, подобные вышеприведенной,
чаще встречаются с отгадкой «дорога», они известны в большом количестве
вариантов (Садовников Д. Загадки русского народа. СПб., 1901. № 1323 а-о. С. 136) —
ср. о дороге: «Лежит баба, говорит баба: «Если б я встала, до неба б достала...»
(Митрофанова В. В. Указ. соч. № 2729. С. 90). Их вариативность в отгадках
представляется не случайной, семантически данные образы были, видимо, очень
близки — ср., например, румынскую загадку о дороге: «Штефан длинный, как земля...» i
(Цивъян Т. В. Оппозиция мужское/женское и ее классификационная роль в модели
мира // Этнические стереотипы мужского и женского поведения. СПб., 1991. С. 90,
примеч. 25). Оба образа перекликаются к тому же с третьим — с деревом, ср. о дороге: *
«Лежит брус во всю Русь; если бы руки да ноги, то бы встал да и до неба достал...»
(Садовников Д. Указ. соч. № 1323. С. 136) и о земле: «Лежит дерево беспрутое...»
(Митрофанова В. В. Указ. соч. № 302. С. 25), дерево же является, как известно,
одним из главных образов дороги между мирами (об этом см.: Иванов В. В. Проблемы
этносемиотики. С. 44; Иванов В. В., Топоров В. Н. Славянские языковые
моделирующие семиотические системы. М., 1965. С. 166-167). Это позволяет предположить и
в загадываемой «дороге» образ мифического пути душ, восходящий в конечном итоге
к представлению о «круговороте жизни», в котором неразделимо слиты пространство
и время через аспект движения (см.: Топоров В. Н. Пространство и текст. С. 258-270),
что так разнообразно отразилось в сказочном фольклоре. Не случаен в этих загадках,
по-видимому, и мотив воровства.
70 Ригведа. Избранные гимны / Отв. ред. Г. М. Бонгард-Левин. М., 1972. С. 132.
71 Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в
индоевропейских языках. М., 1996. С. 267.
72 Багдасаров Р. В. Символика созвездий Стрельца и Центавра в русской
традиционной культуре // Древняя астрономия: Небо и человек. М., 1998. С. 17.
73 Топорков А. Л. Земля // Славянская мифология. Энциклопедический словарь.
М., 1995 (далее — СМ). С. 192-193; Тулъцева Л. А. Указ. соч. С. 287; Невская Л.%
Г. Указ. соч. С. 204. j
74 Оболенская С. Н., Топорков А. Л. .Народное православие и язычество Полесья //
Язычество восточных славян / Отв. ред. И. В. Дубов. М., 1990. С. 169. ;
75 Федотов Г. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам). М., j
1991. С. 78.
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 453
76 Чичеров В. И. Указ. соч. С. 55, 60, 61.
77 Федотов Г. Указ. соч. С. 56.
78 Марков А. Несколько народных молитв // ЭО. 1912. № 1-2. С. 217-218.
79 Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в
1899-1901 гг. Т. 1. М., 1904. № 174. С. 608.
80 Наполъских В. В. Древнейшие этапы происхождения народов уральской
языковой семьи: данные мифологической реконструкции (прауральский космогонический
миф). М., 1991. С. 138, 144-146, 150, 153, 157, 158.
81 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 476.
82 Калевала. Карело-финский эпос. / Пер. Л. П. Вельского. М., 1949. С. 174-176;
Киуру Э. С, Мишин А. И. Фольклорные истоки «Калевалы». Петрозаводск, 2001. С. 40.
83 Иванов В. В., Топоров В. Н. К проблеме лтш. Jumis и балтийского близнечного
культа // Балто-славянские исследования. 1982. М., 1983. С. 160.
84 Йеттмар К. Религии Гиндукуша. М., 1986. С. 52, 76-78.
85 Иванов В. В., Топоров В. Н. К проблеме лтш. Jumis... С. 160; Они же. Велес;
Велняс; Велс // МС. С. 120.
86 См., например, у африканских народов: Иорданский В. Б. Хаос и гармония. М.,
1982. С. 108; ср. в Ветхом Завете: «Подобны материнскому лону (вар. — ложеснам. —
И. Д.) обиталища душ в преисподней» — см.: Ветхий завет. Третья книга Ездры, 4;
Франк-Каменецкий И. Г. Отголоски представлений о матери-земле... С. 136.
87 Эти факты см.: Соболев А. Н. Указ. соч. С. 112; Успенский Б. А. Филологические
разыскания в области славянских древностей. М., 1982. С. 56-64, 134-138, 149, 151
и др.; Оболенская С. И., Топорков А. Л. Указ. соч. С. 155-156; Иванов В. В.,
Топоров В. Н. К реконструкции Мокоши как женского персонажа в славянской версии
основного мифа // Балто-славянские исследования. 1982. М., 1983. С. 175-197.
88 Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М.,
1974. С. 53; Топоров В. Н. Боги славянские // СД. С. 210; Лома А. Древние
славянские божества у сербов // Живая старина. 1998. №1. С. 3, 4.
89 Архангельские былины... Т. 3. СПб., 1910. № 114. С.617; Онежские былины,
записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1877 г. Архангельск, 1983. С. 77.
90 Смолицкий В. Г. Былина о Святогоре // Славянский фольклор. М., 1972. С. 73-76.
91 Евсюков В. В. Мифология китайского неолита. С. 39. Причем мифы о Паньгу
передают представления и о вселенной — живом существе, и о творении мира из
частей тела этого первопредка уже после его смерти: «...Тело Паньгу стало почвой...
Из туловища, рук и ног образовались четыре стороны света и пять главных гор.
Кровь Паньгу потекла по земле реками...» и т. д. — см.: Рубинштейн Р. И. Древний
Восток. М., 1974. С. 154.
92 Демиденко Е. Л. Былинная богатырша Златыгорка // Язычество восточных
славян. М., 1990. С. 121-129. Эпизоды былин о такой богатырше аналогичны отдельным
эпизодам со Святогором, и прежде всего — сажание им в карман встреченного младшего
богатыря вместе с конем, что перекликается с мотивами из саг народов Северной
Европы, в которых богатырши или иные женские мифологические персонажи сажают в
карман волов с пахарем либо переносят в карманах камни для обустройства мира,
создают из них острова (см.: Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 657-
659; Шкунаев С. В. Старуха из Бэра // МС. С. 512), карман же или передник, видимо,
изоморфен чреву таких богатырей (ср. мотив Вейнямейнен в чреве Випунена).
93 Мадлевская Е. Л. Царь-девица (К вопросу о противоборстве мужского и женского
персонажей в русской сказке) / / Материалы по этнографии. Т. I. СПб., 2002. С. 79, 59.
94 Киуру Э. С, Мишин А. И. Указ. соч. С. 60, 61, 85-87; Калевала. С. 226, 227.
95 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 669, 741.
454
Мосты времен: космологические архетипы...
96 Кызласов И. Л. Гора-прародительница в фольклоре хакасов // СЭ. 1982. № 2
С. 83-92.
97 Дашиева Н. Б. Календарь в традиционной культуре бурят. М.; Улан-Удэ, 2001. С. 191.
98 Леруа-Гуран А. Религии доистории // Первобытное искусство. Новосибирск,
1971. С. 89.
99 Ригведа. Избранные гимны. С. 111.
100 Буров В. А- Образ мировой горы у новгородских кривичей и словен // Истоки
русской культуры. М., 1997. С. 87-98; Баранов Д. А. Образ ребенка в народной
эмбриологии // Материалы по этнографии. Т. I. СПб., 2002. С. 13. По
восточнославянским материалам параллель человек — гора особенно наглядно проявляется в
заговорах, относящихся к женщине-роженице: «Тридзевяць горы расступицеся, трид-
зевяць ряки разыидзицеся, тридзевяць городы расступицеся...» — см.: Романов Е. Р.
Белорусский сборник. Вып. 5. Витебск, 1894. С. 160-161. Образность этих заговоров,
кстати, может пролить свет на распространенный сказочный мотив сходящихся и
расходящихся гор или скал с ручьями живительной воды между ними.
101 Кызласов И. Л. Указ. соч. С. 84, 86, 87.
102 Шахнович М. Й\ Первобытная мифология и философия. Л., 1971. С. 160;
Евсюков В. В. МифологиК китайского неолита. С. 101; Он же. Мифы о Вселенной.
С. 74-75, 58-62 и др.; Окладникова Е. А. Указ. соч. С. 129, 159, 198-200.
103 Аврорин В. А., Козьминский И. И. Представления орочей о вселенной, о
переселении душ и путешествиях шаманов, изображенные на «карте» / / Сб. МАЭ. Вып. 11.
М.; Л., 1949. С. 326-328.
104 Баранов Д. А. Указ. соч. С. 27.
105 Анисимов А. Ф. Космогонические представления народов Севера. М.; Л., 1959. С. 27.
106 Новик Е. С. Миф ыз // МС. С. 370.
107 Хелимский Е. А. Моу-нямы // МС. С. 376.
108 Емельянов Н. В. Сюжеты ранних типов якутских олонхо. М., 1983. С. 16-17.
109 Ионова М. Н., Пуговкина М. И. Якутские загадки // Советский фольклор.
Сборник статей и материалов. № 4-5. М.; Л., 1936. № 81. С. 248.
110 Евсюков В. В. Мифы о мироздании // Мироздание и человек. М., 1990. С. 62;
Он же. Мифология китайского неолита. С. 101; Шахнович М. И. Указ. соч. С. 160.
111 Ларичев В. Е. Мамонт в искусстве поселения Малая Сыя и опыт реконструкции
представлений верхнепалеолитического человека Сибири о возникновении Вселенной / /
Звери в камне. Новосибирск, 1980. С. 159-198. См. также ряд статей по этой теме
(С. В. Иванова, В. В. Сенкевич-Гудковой, Е. Д. Прокофьевой и др.) в Сборнике
Музея антропологии и этнографии. Т. XI. М.; Л., 1949.
112 Фомин И. И. Искусство палеолитического периода в Европе. М., 1912. Таб.
XXIX-2, XXXVIII-3; рис. 26; Столяр А. Д. Происхождение изобразительного
искусства. М., 1985. Рис. 140-142. С. 205.
113 Евсюков В. В. Восточно-азиатский неолитический миф... С. 101; см. также:
Анисимов А. Ф. Указ. соч. С. 32-33; Алексеев Н. А. Ранние формы религии тюркоязычных
народов Сибири. Новосибирск, 1980. С. 92.
114 Прокофьева Е. Д. Старые представления селькупов о мире / / Природа и человек
в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976. С. 112.
115 Василевич Г. М. Ранние представления о мире у эвенков (материалы) //
Исследования и материалы по вопросам первобытных религиозных верований. Труды
Института этнографии АН СССР. Нов. сер. Т. LI. M., 1959. С. 160-161.
116 Майногашева В. Е. Некоторые сюжеты Сивого (Синего) и Черного быков в
фольклоре Саяно-Алтайских тюркоязычных народов / / Алтайский фольклор и
литература. Горно-Алтайск, 1982. С. 137-145.
<Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 455
117 Тюхтенева С. П. Об эволюции культа гор у алтайцев // Шаманизм и ранние
религиозные представления. М„ 1995. С. 174-177.
118 Ларичев В. Е. Указ. соч. С. 195-198. Рис. 16.
119 Дашиева Н. Б. Указ. соч. С. 181.
120 Кызласов Л. Р. Древнейшая Хакасия. М., 1986. С. 207-216.
121 Балабина В. И. Фигурки животных и их символика как отражение одной из
знаковых систем древних земледельцев Европы // Российская археология. 1997. № 2. С. 40.
122 Даниленко В. Н. Указ. соч. С. 39.
123 Жуковская И. В. Вышивка тверских карел по коллекции М. В. Михайловской / /
Сб. МАЭ. Вып. XXVIII. Л., 1972. С. 188. Рис. 4.
124 Крижевская Л. Я. Погребения животных как форма проявления первобытных
верований // Реконструкция древних верований: источники, метод, цель. СПб., 1991. С. 87.
125 Даниленко В. Н. Указ. соч. С. 45-49. Табл. XVI-1.
126 Кинк X. А. Художественное ремесло древнейшего Египта и сопредельных стран.
М., 1976. Рис. 4, 10, 64-66.
127 Беляев Ю. А. Зверобоги древности. М., 1998. С. 96.
128 Неклюдов С. Ю. Алтан мелхий / / МС. С. 34; Евсюков В. В. Восточно-азиатский
неолитический миф... С. 96-98.
129 Власова М. И. Русские суеверия. СПб., 1998. С. 326.
130 Шахнович М. И. Указ. соч. С. 88, 126.
131 Богаевский Б. Л. Минотавр и Пасифая на Крите в свете этнографических данных / /
С. Ф. Ольденбургу к 50-летию научно-общественной деятельности. Л., 1934. С. 102, 103.
132 Матье М. Э. Избранные труды по мифологии и идеологии Древнего Египта. М.,
1996. С. 161.
133 Шахнович М. И. Указ. соч. С. 194.
134 Иванов В. В. Корова // МНМ. Т. 2. С. 5.
135 Бадж Э. У. Легенды о египетских богах. М., 1997. С. 77.
136 Матье М. Э. Указ. соч. С. 211.
137 Семашко И. М. Праздник Дивали и его место в индуистском календаре //
Календарно-праздничная культура народов зарубежной Азии: Традиции и инновации.
М., 1997. С. 114; Серебряный С. Д. Лакшми // МС. С. 310.
138 Гусева Н. Р. Слияние христианства с язычеством / / Древность: Арьи. Славяне.
М., 1996. Рис. на с. 129.
139 Эрман В. Г. Очерк истории ведийской литературы. М., 1980. С. 75; Топоров В. Н.
Рудра // МС. С. 471.
140 Трубачев О. Я. Происхождение названий домашних животных в славянских
языках. М., 1960. С. 40-41; Маковский М. М. Указ. соч. С. 297.
141 Даниленко В. И. Указ. соч. С. 87, 80.
142 Gimbutas M. Op. cit. III. 170; см. в этой связи также: Богаевский Б. Л. Указ.
соч. С. 95-113.
143 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. Рис. на с. 159.
144 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 163; СД. Т. 2. С. 313-315;
Кузнецов В. А. Нартский эпос и некоторые вопросы истории осетинского народа.
Орджоникидзе, 1980. С. 38.
145 Маковский М. М. Указ. соч. С. 113.
146 Афанасьев А. И. Поэтические воззрения... Т. 1. С. 653.
147 Веселовский А. Н. Сравнительная мифология и ее метод // Собр. соч. Т. 16.
М., 1938. С. 93-94.
148 Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник — экспозиция 1997 г. Подобные подвески с коровьей головой были наиболее рас-
456
Мосты времен: космологические архетипы...
пространены в бассейнах верхнего Днепра и Зап. Двины и тяготеют к балто-финскому
субстрату, хотя были популярны и в древнерусской одежде — см.: Хвощинская Н. В.
Об этнической атрибуции подвесок с изображением головок быка / / Славяне, финно-
угры, скандинавы, волжские булгары. Доклады Междунар. симпозиума. 11-14.05.1999.
Пушкинские Горы. СПб., 2000. С. 246-253.
149 Велесова книга // Русские веды. Ред. И. Б. Чистякова. М„ 1992. С. 147, 203.
150 Иванов В. В., Топоров В. Н. Жемина // МС. С. 214-215.
151 Власова М. И. Указ. соч. С. 328-331, см. также об Индрике с. 212-213.
152 Иванов С. В. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX —
нач. XX вв. М.; Л., 1954. С. 43. Рис. 22(2).
153 Бернштам Т. А. Следы архаических ритуалов и культов в русских молодежных
играх «Ящер» и «Олень» / / Фольклор и этнография: Проблемы реконструкции фактов
традиционной культуры. Л., 1990. С. 17-36.
154 Миловский А. С. Народные промыслы. Встречи с самобытными мастерами. М.,
1994. С. 83-84. Рис. на с. 84. О коровае см.: Потебня А. А. Мифическое значение
некоторых обрядов и поверий. М.,х 1865. С. 51-53; Иванов В. В., Топоров В. Н.
Исследования в области славянских д]Зевностей. С. 243-258.
155 Бушкевич С. П. Этнографический контекст одного случая экспрессивной
номинации (корова) // Этноязыковая и Этнокультурная история Восточной Европы. М.,
1992. С. 321-323, 331; Журавлев А. Ф. Указ. соч. С. 34-35; Балашов Д. М.,
Марченко Ю. И., Калмыкова Н. И. Русская свадьба. М., 1985. С. 283-285.
156 Липец Р. С. Образ древнего тура и отголоски его культа в былинах / /
Славянский фольклор. М., 1972. С. 94, 96, 97; ГацакВ.М., РикманЭ.А. Легенда о
Драгоше и отражение в ней средневековой этнической ситуации в Восточном
Прикарпатье // Этническая история и фольклор. М., 1977. С. 203-211.
157 Липец Р. С. Указ. соч. С. 97.
158 Сумцов Н. Ф. Тур в народной словесности. Киев, 1887. С. 13, 16; Садовников Д.
Указ. соч. № 1555-1566. С. 161-165; Липец Р. С. Указ. соч. С. 98.
159 Забылин М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия.
М., 1992 (репринтное воспроизведение изд. 1880 г.). С. 388-389.
160 Заговорные тексты в рукописных материалах П. Г. Богатырева //
Этнолингвистика текста: Семиотика малых форм фольклора. Вып. 2. М., 1988. С. 79.
161 Мелетинский Е. М. Аудумла // МС. С. 71; Афанасьев А. Н. Поэтические
воззрения... Т. 1. С. 656.
162 Журавлев А. Ф. Указ. соч. С. 158.
163 Потебня А. А. Указ. соч. С. 195; Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 1.
С. 674.
164 Бремон К. Бык-тайник (Трансформация одной африканской сказки) //
Зарубежные исследования по семантике фольклора. М., 1985. С. 145-166.
165 Эрман В. Г. Указ. соч. С. 199 пр. 32.
166 Кстати, только в свете происхождения подобного круга сюжетов от мифологемы
«вселенского существа» объяснимы такие странные мотивы, как отрезание от неба
кусочков первыми людьми и приготовление из них пищи, содержащиеся в преданиях
африканских эве — см.: Евсюков В. В. Мифология китайского неолита. С. 41.
167 Пропп В. Я. Указ. соч. С. 213-218.
168 Романов Е. Р. Указ. соч. Вып. 3. Витебск, 1887. С. 289-295.
169 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 741-742.
170 Забылин М. Указ. соч. С. 420.
171 Бадж Э. У. Указ. соч. С. 193; см. также: Пропп В. Я. Указ. соч. С. 187, 188;
Элиаде М. Священное и мирское. С. 118, 119.
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 457
172 Луркер М. Египетский символизм. (Сер. Символы. Кн. IX). М., 1998. С. 85.
173 Фрэзер Дж. Дж. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1985. С. 243-246.
174 Лукьянов А. Е. Становление философии на Востоке. М., 1992. С. 33.
175 Купер Дж. Указ. соч. С. 208.
176 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 620; Пропп В. Я. Указ. соч.
С. 318.
177 Пропп В. Я. Указ. соч. С. 318.
178 Матъе М. Э. Указ. соч. С. 124, 126-128.
179 Древнеиндийская философия. Начальный период. (Тексты). М., 1963. С. 34;
Грысык И. Е Лечебные и профилактические обряды русского населения бассейна Ваги
и Средней Двины: пространственные и временные координаты // Русский Север:
Ареалы и культурные традиции. СПб., 1992. С. 68-70.
180 Славянский фольклор. Тексты. М., 1987. С. 105.
181 Гаркави А. Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (с
половины VII в. до конца X в. по РХ). СПб., 1870. С. 139.
182 Садовников Д. Указ. соч. № 1722ж. С. 184.
183 Даниленко В. Н. Указ. соч. С. 46, 47.
184 Афанасьева В. К. Намму / / МС. С. 385.
185 Тиваненко А. В. Древние святилища Восточной Сибири в эпоху камня и бронзы.
Новосибирск, 1989. С. 173.
186 Кейпер Ф. Б. Я. Труды по ведийской мифологии. М., 1986. С. 160.
187 Неклюдов С. Ю. О функционально-семантической природе знака в
повествовательном фольклоре // Семиотика и художественное творчество. М., 1977. С. 209,
210.
188 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 499.
189 Мильков В. В. Указ. соч. С. 225, 228.
190 Древнерусская литература. Изображение природы и человека / Отв. ред. А. С.
Демин. М., 1995. С. 187.
191 Мильков В. В. Указ. соч. С. 234; Евсюков В. В. Мифы о Вселенной. С. 25.
192 Киуру Э. С, Мишин А. И. Указ. соч. С. 76.
193 Обрядовая поэзия. Кн. 2. Семейно-бытовой фольклор. М., 1997. С. 19; Забы-
линМ. Указ. соч. С. 290.
194 Зеленин Д. К. Из быта и поэзии крестьян Новгородской губернии // ЖС. 1905.
Вып. 1-2. С. 44; Забылин М. Указ. соч. С. 387.
195 Успенский Б. А. Указ. соч. С. 56, примеч. 46.
196 Древнерусская литература... С. 189.
197 Соболев А. Н. Указ. соч. С. 107-108; Рифтин Б. Л. Ню-лан// МС. С. 407;
Евсюков В. В. Мифы о вселенной. С. 50; Крапп Эдвин К. Астрономия: Легенды и
предания о Солнце, Луне, звездах и планетах. М., 1999. С. 486, 508; Афанасьев А. Н.
Поэтические воззрения... Т. 2. С. 288.
198 Василевич Г. М. Указ. соч. С. 169-170, 187; Напольских В. В. Указ. соч. С. 83.
199 Гринцер П. А. Ганга // МС. С. 140.
200 Мадлевская Е. Л. Указ. аб. С. 79, 105, пр. 37.
201 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 1. С. 661.
202 Перекличка образов коровы, реки, а также женского божества обнаруживается
при сопоставлении санскритской лексики с северорусскими и индийскими
гидронимами («го», «гави» — корова, «гавини» — стадо коров; «гуда» — кишки, канал,
изливания; «инду» — капля, влага, «сок луны»; богиня «Лакшми» — о связи ее с водой
и коровой см. выше: ср. с этими словами и их значением названия рек: инд. Ганга, Инд,
458
Мосты времен: космологические архетипы...
сев.-рус. Ганга, Гавишна, Гавяна и т. п., Гуда, Индога, Индега и т. п., Лакшма, Локшма,
Лекшма — см. Жарникова С. В. Древние тайны русского севера // Древность: Арьи.
Славяне. М., 1996. С. 121-123; см. также с. 91, 92.
203 Некрасова М. Народное искусство России: Народное творчество как мир
целостности. М., 1983. Илл. 75; Рондели Л. Д. Народное декоративно-прикладное
искусство. (Книга для учителя). М., 1984. Рисунок на вклейке в конце книги.
204 Никифоров А. И. Победитель змея (Из северно-русских сказок) // Советский
фольклор. № 4-5. М.; Л., 1936. С. 179-180.
205 Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. М., 1997. С. 94; Тайлор Э. Б. Указ. соч. С. 281.
206 Эрман В. Г. Указ. соч. С. 125; см. также с. 66, 75, 89, 201, примеч. 55.
207 Фролов Б. А. Указ. соч. С. 49.
208 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 1. С. 676-678.
209 Шахнович М. И. Указ. соч. С. 176; см. об этом также: Лосев А. Ф. Мифология
греков и римлян. М., 1996. С. 244.
210 Ершова Г. Г. Зодиакальный пояс в представлениях мезоамериканцев / / Дракон
и зодиак. М., 1997. С. 73.
211 Тайлор Э. Б. Указ. соч. С. 156; Лосев А. Ф. Античная философия в ее
историческом развитии. М., 1957. С. 94; Он же. Уран // МС. С. 563; Топоров В. Н.
Космогонические мифы // МНМ. Т. 2. С. 8; Элиаде М. Священные тексты... С. 87.
212 Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Человек. Общество /
Отв. ред. И. Н. Гемуев. Новосибирск, 1989. С. 41.
213 Шахнович М. И. Указ. соч. С. 204.
214 Топоров В. Н. Махи; Родаси; Рудра // МС. С. 354, 469, 471.
215 Ригведа. Мандалы V—VIII / Отв. ред. П. А. Гринцер. М., 1995. С. 172; Ригведа.
Избранные гимны. С. 97, 100.
216 Митрофанова В. В. Указ. соч. № 6. С. 18.
217 Топоров В. Н. К реконструкции балто-славянского мифологического образа
Земли-Матери. С. 261-262.
218 Евсюков В. В. Мифология китайского неолита. С. 47; Даниленко В. Н. Указ.
соч. С. 43.
219 Лукьянов А. Е. Истоки Дао. Древнекитайский миф. М., 1992. С. 14.
220 Ригведа. Избранные гимны. С. 108.
221 Норман Браун У. Указ. соч. С. 306.
222 Мильков В. В. Указ. соч. С. 168.
223 Прокофьева Е. Д. Указ. соч. С. 109.
224 Ларичев В. Е. Указ. соч. С. 193-194.
225 Евсюков В. В. Восточно-азиатский неолитический миф... С. 98.
226 Цит. по: Лукьянов А. Е. Истоки Дао. С. 43; другие приведенные факты см.: Там
же. С. 17; Никулин Н. И. Вьето-мыонгский миф о мировом древе и становление
литературы // Мифология и литературы Востока. М., 1995. С. 130.
227 Даниленко В. Н. Указ. соч. С. 110, примеч. 99.
228 Новик Е. С. Буга // МС. С. 102. ,
229 Ларичев В. Е. Указ. соч, С. 180.
230 Алексеев Н. А. Указ. соч. С. 92.
231 Евсюков В. В. Мифология китайского неолита. С. 60 (здесь см. и ссылки на мнения
других ученых); Шахнович М. И. Указ. соч.. С. 160; Прокофьева Е. Д. Указ. соч. С. 112-
114; Сегал Д. М. Указ. соч. С. 340-344.
232 Алексеев Н. А. Указ. соч. С. 56.
233 Чагдуров С. Ш. Происхождение Гэсэриады. Новосибирск, 1980. С. 130-131.
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 459
234 Кейпер Ф. Б. Я. Указ. соч. С. 162.
235 Окладникова Е. А. Указ. соч. С. 288-290 и др.
236 Кейпер Ф. Б. Я. Указ. соч. С. 162.
237 Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. Указ. соч. С. 59.
238 Ершова Г. Г. Указ. соч. С. 80.
239 Окладникова Е. А. Указ. соч. С. 252; Крапп Эдвин К. Указ. раб. С. 486.
240 Василевич Г. М. Указ. соч. С. 161.
241 Алексеенко Е. А. Указ. соч. С. 76, 79.
242 Псалом Давида о сотворении мира // Псалтирь, 103. Цит. по: Познанский Н.
Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул. М., 1995. С. 255.
243 Древнерусская литература... С. 195.
244 Садовников Д. Указ. соч. № 1806. С. 194; Афанасьев А. Н. Поэтические
воззрения... Т. 2. С. 760-761.
245 Рыбникова М. А. Загадки. М.; Л., 1932. С. 155.
246 Митрофанова В. В. Указ. соч. № 52. С. 19.
247 Ср. в связи с этим отвращающие обряды у славян: Толстой Н. И. Гениталии / /
СД. С. 494-495; по нганасанским представлениям женщине запрещалось переступать
через мужские предметы, т. к. они могли быть втянуты ею — см.: Грачева Г. Н. Следы
ранних представлений о природных связях у нганасан // Фольклор и этнография:
Проблемы реконструкции фактов традиционной культуры. Л., 1990. С. 104.
248 Бадж Э. У. Указ. соч. С. 280; Рубинштейн Р. И. Нут // МС. С. 405.
249 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 1. С. 181.
250 Семенова Т. С. Народное искусство и его проблемы (очерки). М., 1977. С. 75.
251 Дашиева Н. Б. Указ. соч. С. 181, 190. Рис. 1.
252 Там же. С. 223; Беляев Ю. А. Указ. соч. С. 98-99.
253 Блинов Г. М. Чудо-кони, чудо-птицы. М., 1977. Рис. на с. 60, 68; Дурасов Г. П.
Каргопольская глиняная игрушка. Л., 1986. Илл. на с. 137, 162, 174 и др.
254 Массон В. М., Сарианиди В. И. О знаках на среднеазиатских статуэтках эпохи
бронзы // Вопросы Древней истории. 1969. № 1. С. 90-94.
255 Очень выразителен образ приземистой тучной коровы с параллельными
волнистыми линиями и точками между ними вдоль ее тулова в гуцульской керамике
(Гоберман Д. Н. Искусство гуцулов. М., 1980. Илл. 122). Близкую орнаментацию
встречаем на тулове глиняных оленей из Ленинградской обл. (Народное искусство
Российской Федерации (из собрания ГМЭ). Авт.-сост. Л. Н. Молотова. Л., 1981. Илл. 9 в
разделе «Искусство народов Северо-Запада»). В гуцульской народной керамике имеется
также изображение коровы, вдоль хребта которой проходит волнистая полоса с
точками, а посередине туловища — поперечная волнистая линия (Гоберман Д. Н. Росписи
гуцульских мастеров. Л., 1972. Илл. на с. 165).
256 См. соответственно: Gimbutas М. Op. cit. P. 106; 111. 69, 70; Богаевский Б. Л.
Указ. соч. С. 99. Фиг. 7, 8; Сокровища Кипра. Каталог выставки / Ред. И. Сорвина.
М., 1970. № 20, 30, 31, 34, 46, 80. Илл. на с. 38.
257 Эрман В. Г. Указ. соч. С. 67, 69; Гусева Н. Р. Слияние христианства с язычеством.
С. 129.
258 Иванов В. В. Корова // МНМ. Т. 2. С. 5; Мелетинский Е. М. Мифы Древнего
мира... С.76.
259 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 1. С. 678.
260 Евсюков В. В. Восточно-азиатский неолитический миф... С. 96; Фрэзер Дж. Дж.
Указ. соч. С. 107.
261 Мириманов В. Б. Мифологические и профанные сюжеты в наскальном
искусстве Сахары // Мифология и литературы Востока. М., 1995. С. 156.
460
Мосты времен: космологические архетипы...
262 Котляр Е. С. Ньиканг // МС. С. 406.
263 Окладникова Е. А. Символы мужского и женского начал в космогонических
представлениях индейцев Северной и Центральной Калифорнии // Этнические
стереотипы мужского и женского поведения. СПб., 1991. С. 180, примеч. 2.
264 Лот А. К другим тассили. Л., 1984. С. 115-116.
265 Котляр Е. С. Гиханга // МС. С. 156-157.
266 Йеттмар К. Указ. соч. С. 73.
267 Майногашева В. Е. Указ. соч. С. 141-146.
268 Василевич Г. М. Указ. соч. С. 163.
269 Анисимов А. Ф. Указ. соч. С. 19; Иванов С. В. Указ. соч. С. 43.
270 Анисимов А. Ф. Указ. соч. С. 18.
271 Кузнецов В. А. Указ. соч. С. 34.
272 Евсюков В. В. Мифы о вселенной. С. 71.
273 Фрэзер Дж. Дж. Указ. соч. С. 100.
274 Садовников Д. Указ. соч. № 1898. С. 204.
275 Полевые материалы автора (далее — ПМА). 1994. Тетр. 3. С. 23. Запись в
д. Малое Сокерино Тихоновского с/с; Народная проза. М., 1992. С. 444-445;
Соколовы Б. М. и Ю. М. Указ. соч. С. 238; Максимов С. В. Указ. соч. С. 76, примеч.;
Ефименко П. С. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губ.
Ч. 1. М., 1877. С. 188; Ончуков Н. Е. Северные сказки. СПб., 1909. № 231.
276 Потебня А. А. Указ. соч. С. 211.
277 Соколовы Б. М. и Ю. М. Указ. соч. С. 10-12.
278 Шаповалова Г. Г. Указ. соч. С. 213-215.
279 Церен Э. Лунный бог. М., 1976. С. 204; Лавров Л. И. Доисламские верования
адыгейцев и кабардинцев // Исследования и материалы по вопросам первобытных
религиозных верований. Тр. Института этнографии АН СССР. Нов. сер. Т. LI. M.,
1959. С. 205, 212.
280 Раденкович Л. Водяной бык в преданиях балканских славян / / ПОЛУТРОПСШ:
к 70-летию Владимира Николаевича Топорова. М., 1998. С. 439-446.
281 Архангельские былины... (былина «Васька пьяница и Кудреванко царь»). Т. 3.
С. 378. № 65 (Мезень). См. также с. 53, 76, 163, 378; Т. 1. С. 311. Дальнейшее
повествование идет от имени туров и уже никак не связано с образом чудо-турицы (в вариантах
она может называться однорогой или одногнедой) на о. Буяне. Исследователи
фольклора считают этот запев наследием глубокой старины в нашем эпосе и предполагают,
что легенда о турице была когда-то самостоятельным произведением — см.: Липец Р. С.
Указ. соч. С. 100. Здесь же приводится аналогичное мнение В. Ф. Миллера.
282 Сумцов Н. Ф. Указ. соч. С. 21; Липец Р. С. Указ. соч. С. 95.
283 Шаповалова Г. Г. Севернорусская легенда об олене / / Фольклор и этнография
Русского Севера. Л., 1973. С. 221, 222.
284 Трубачев О. Н. Указ. соч. С. 42,43.
285 Лосев А. Ф. Посейдон // МС. С. 446.
286 Маковский М. М. Указ. соч. С. 36, 44.
287 Кейпер Ф. Б. Я. Указ. соч. С. 124, 183.
288 Там же. С. 118.
289 Богданов В. Народная космография // Землеведение. 1895. Кн. 1. С. 132-133.
Цит. по: Евсюков В. В. Мифы о вселенной. С. 37.
290 Киуру Э. С, Мишин А. И. Указ. соч. С. 22.
291 Францев Ю. П. Змеиный остров в древнеегипетской сказке / / Изв. АН СССР.
Отд. гуманитарных наук. VII сер. № 10. Л., 1929. С. 817-837.
292 Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. Указ. соч. С. 40.
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной..,
461
293 Тайлор Э. Б. Указ. соч. С. 286-287; Евсюков В. В. Указ. соч. С. 43;
Афанасьев А. Н. Языческие предания об острове Буяне. С. 1-24; Купер Дж. Указ. соч. С. 41.
294 Гринцер П. Я. Указ. соч. С. 168.
295 См. тексты в: Виноградов И. И. Заговоры, обереги, спасительные молитвы и
проч.// ЖС. СПб. 1907. Год XVI. Вып. I-IV; Зебницкий П. Заговоры (конца
XVII в.) // Там же. Вып. I; Мансикка В. Заговоры Шенкурского уезда // Там же.
1912. Год XXI. Вып. I; Срезневский В. И. Сборник заговоров по списку 2-й четв.
XVII в. / / Срезневский В. И. Описание рукописей и книг, собранных для Имп. АН в
Олонецком крае. СПб., 1913 и др.
296 Срезневский В. И. Указ. соч. С. 503; Виноградов Н. Н. Указ. соч. Вып. I—II. С. 44.
297 Толстой И. И. Остров Белый и Таврика на Евксинском Понте. Пг., 1918; Пя-
тышева Н. В. Археологическое обследование о. Левки (о. Змеиный) осенью 1964 г. //
Археологический сборник. Тр. ГИМ. Вып. 40. М., 1966.
298 Афанасьев А. Н. Происхождение мифа. Статьи по фольклору, этнографии и
мифологии / Сост. А. Л. Топорков. М., 1996. С. 18-27, 362, примеч. 25 (статья
Языческие предания об острове Буяне). Позднее в своем известном трехтомнике автор
больше акцентирует проекцию этого архетипа на небо в духе мифологической теории и в
чудо-камне предполагает образ солнца.
299 Топоров В. Н. Об индоевропейской заговорной традиции. С. 99.
300 Топоров В. И. Пространство и текст. С. 255-257.
301 Рабинович Е. Г. Богиня-мать; Земля; Середина мира // МНМ. Т. 1. С. 180, 467;
Т. 2. С. 428; Кейпер Ф. Б. Я. Указ. соч. С. 125.
302 Топоров В. Н. Океан мировой / / МНМ. Т. 2. С. 249; Шахнович М. И. Указ.
соч. С. 173.
303 Кейпер Ф. Б. Я. Указ. соч. С. 125.
304 Там же. С. 122, 125, 156-158, 183, примеч. 3 и 4.
305 Древнеиндийская философия. С. 68; Эрман В. Г. Указ. соч. С. 102, 154; Топоров
В. Н. Гора // МНМ. Т. 1. С. 311.
306 Срезневский В. И. Указ. соч. С. 509, 502; Виноградов Н. И. Указ. соч. Вып. I-
II. С. 25.
307 Пропп В. Я. Указ. соч. С. 263-265, 274-276; Агапкина Т. А, Виноградова Л. Н.
Золото // СД. Т. 2. М., 1999. С. 354, 355.
308 Древнеиндийская философия. С. 40.
309 РаденковиК Л. Дъна — стари словенски назив jeAHe болести / / Слово и
культура. Т. 2 / Под ред. Т. А. Агапкиной. М.., 1998. С. 190-197; Клетнова Е. Остатки
змеиного культа в пределах Смоленской губ. // Научные известия Гос. Смоленского
унта. Сер. общ.-гуман. наук. Т. 2. Смоленск, 1924. С. 154.
310 Мелетинский Е. М. Палеоазиатский мифологический эпос. М., 1979. С. 117.
311 Романов Е. Р. Указ. соч. Вып. 5. С. 58-60. № 25-27, 29, 38 и др.
312 Возвращаясь к затронутому вопросу о соотнесенности образа лягушки /жабы
с моделью мира, отметим, что космологический аспект этого образа, возможно, имеет
своим истоком в первую очередь представление в нем женской матки — на это
наиболее характерное для данного образа значение, причем с глубокой древности,
указывали многие исследователи, см.: Gimbutas M. Op. cit. P. 178, 179; Баранов Д. А.,
Мадлевская Е. Л. Указ. соч. С. 112-116. На ранних этапах в этих образах могла
мыслиться не сама земля или Вселенная, а именно ее «матка», дающая жизнь всему
в мире — отсюда, вероятно, и образ золотой жабы в восточных мифологиях. А образы
крупного копытного и лягушки в этой космологической системе могли быть
взаимодополняющими, отголоском чего, вероятно, является некоторая соотнесенность
лягушки и коровы (см. выше о лягушке-коровнице). В русских вышивках фигуры,
462
Мосты времен: космологические архетипы...
которые можно определенно считать изображением лягушки, также несколько
отличаются от образа Праматери.
313 Иванов П. В. Несколько заговоров из Старобельского уезда / / Вестник
Харьковского историко-филологического общества. Вып. 4. Харьков, 1913. С. 76.
314 Пропп В. Я. Указ. соч. С. 263.
315 Романов Е. Р. Указ. соч. Вып. 5. С. 59. № 30.
316 Буров В. А. Указ. соч. С. 87-91; Мелетинский Е. М. Указ. соч. С. 122.
3,7 Срезневский В. И. Указ. соч. С. 486; см. также: Сахаров И. П. Сказания
русского народа. Т. 1. СПб., 1841. С. 31; Забылин М. Указ. соч. С. 390.
318 Мадлевская Е. Л. Указ. соч. С. 67.
319 Мифы о пахтанье см.: Махабхарата 1.15-17; Рамаяна 1.45; Бхагават-пурана VIII.
6-12; Агни-пурана 3; Вишну-пурана 1, 9; Матсья-пурана 241 и др.
320 Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Пространство и время.
Вещный мир / Отв. ред. И. Н. Гемуев. Новосибирск, 1988. С. 120, 121, 132;
Неклюдов С. Ю. Ульгень / / МС. С. 562; Топоров В. Н. Океан мировой / / МНМ. Т. 2. С. 249.
321 Гринцер Я. А. Лунный миф в романе «Кадамбари» Баны / / Мифология и
литературы Востока. М., 1995. С. 19-24.
322 Фрэзер Дж. Дж. Указ. соч. £. 96-97.
323 За эти сведения по средиземноморскому региону выражаю благодарность Я. В. Чес-
нову. Круг подобных воззрений в связи с образом лягушки рассмотрен в ст.: Суд-
ник Т. М., Цивьян Т. В. О мифологии лягушки. С. 150-152; Баранов Д. А.,
Мадлевская Е. Л. Указ. соч. С. 119.
324 Йеттмар К. Указ. соч. С. 143.
325 Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Пространство и время... С. 132.
326 Дашиева Н. Б. Указ. соч. С. 205.
327 Кейпер Ф. Б. Я. Указ. соч. С. 155.
328 Романов Е. Р. Указ. соч. Вып. 8-9. С. 387; Турилов А. А., Чернецов А. В. К
характеристике народных верований восточных славян // Истоки русской культуры.
М., 1997. С. 101.
329 Кузнецов А. Болванцы на Лысой горе. (Очерки языческой топонимики).
Вологда, 1999. С. 71.
330 Архангельские былины... Т. 2. Прага, 1939. С. 359; Потебня А. А. Указ. соч. С. 16.
331 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 145, 227.
332 Напольских В. В. Указ. соч. С. 137.
333 Элиаде М. Священные тексты... С. 132.
334 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 3. С. 489-490.
335 Кейпер Ф. Б. Я. Указ. соч. С. 158.
336 Митрофанова В. В. Указ. соч. № 1305. С. 52.
337 Аничков Е. В. Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян. Ч. 2. СПб., 1905. С. 258.
338 Самоделова Е. А. Каравайная традиция рязанской свадьбы // Этнография и
фольклор Рязанского края (Первые Лебедевские чтения). Рязань, 1996. С. 29.
339 Зеленин Д. К. Религиозно-магическая функция фольклорных сказок / / С. Ф. Оль-
денбургу. К 50-летию... С. 232; Пять философских трактатов... С. 4р; Гусева Н. Р.
Индия... С. 92.
340 Бушкевич С. П. Указ. соч. С. 326-328.
341 Потебня А. А. Указ. соч. С. 51.
342 Романов Е. Р. Указ. соч. Вып. 8-9: Вильна, 1912. С. 387.
343 Самоделова Е. А. Указ. соч. С. 26, 28, 29.
344 Потебня А. А. Указ. соч. С. 51-53; Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования
в области славянских древностей. М., 1974. С. 243-258; Агапкина Т. А. Хлеб
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 463
(материалы к словарю полесской этнокультурной лексики)// Восточнославянский
этнолингвистический сборник. М., 2001. С. 342-344, 353.
345 Белова О. В., Виноградова Л. И., Топорков А. Л. Указ. соч. С. 315.
346 Митрофанова В. В. Указ. соч. № 4230; Трубачев О. Н. Указ. соч. С. 46.
347 Ганцкая О. А. Польские народные фигурные кондитерские изделия // Сб. МАЭ.
Вып. XXVIII. Л., 1972. С. 258.
348 Самоделова Е. А. Указ. соч. С. 29.
349 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 468; Дьяконов И. М.
Архаические мифы... С. 26-28.
350 В заговорах, например, встречается мотив добывания «доброго сала»,
врачующего и защищающего от леших и домовых, — из «злата тура», подстреленного «златым
человеком», сидящим в «златом камне» на «златом море» — см.: Срезневский В. И.
Указ. соч. С. 508. Ср. с этим также миф африканской народности динка о творении
первых людей из кома жира бога-быка его женой — богиней, вышедшей из дерева, —
см.: Котляр Е. С. Денгдит // МС. С. 182-183.
351 Виноградов Н. Н. Указ. соч. Вып. I—II. С. 48; Вып. III—IV. С. 70.
352 Познанский Н. Указ. соч. С. 205.
353 Баранов Д. А. Указ. соч. С. 19.
354 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 131-133, 140.
355 Демич В. Ф. О змее в русской народной медицине // ЖС. СПб., 1912. Год XXI.
Вып. 1. С. 46; Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 546-549.
356 Лукьянов А. Е. Указ. соч. С. 78.
357 Мелетинский Е. М. Аудумла.
358 Архангельские былины... Т. 3. СПб., 1910. № 114. С. 620.
359 Пропп В. Я. Указ. соч. С. 211-218.
360 Левкиевская Е. Е. Ирей / / СД. Т. 2. С. 422, 423; см. о связи водоворота с идеей
порождения жизни: Купер Дж. Указ. соч. С. 42.
361 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 3. С. 813; Коробко О. А., Ченская Г. А.
Рай в православной иконографии // Сакральное в истории культуры. СПб., 1997. С. 126.
362 Неклюдов С. Ю. О функционально-семантической природе знака... С. 198-211.
363 Турилов А. А., Чернецов А. В. Указ. соч. С. 103.
364 Архангельские былины... Т. 1. М., 1904. № 6. С. 35.
365 Там же. № 102. С. 433.
366 Виноградов Н. Н. Указ. соч. Вып. 1-Й. С. 25; Вып. III—IV. С. 60, 94; Обрядовая
поэзия. Кн. 2. Семейно-бытовой фольклор. М., 1997. С. 22, 24.
367 Садовников Д. Указ. соч. № 1817-а. С. 194. Пример данного значения пахоты,
в частности, см.: Киуру Э. С, Мишин А. И. Указ. соч. С. 94.
368 Пропп В. Я. Указ. соч. С. 272.
369 Гагулашвили И. Ш. О символике цвета в грузинских заговорах // Фольклор
и этнография: У этнографических истоков фольклорных сюжетов и образов. Л., 1984.
С. 214-215.
370 Киуру Э. С, Мишин А. И. Указ. соч. С. 80.
371 Сумцов Н. Ф. Указ. соч. С. 20; Познанский Н. Указ. соч. С. 202-203; Забылин М.
Указ. соч. С. 369; Афанасьев А. И. Поэтические воззрения... Т. 1. С. 657, примеч. 1.
372 Виноградов И. Н. Указ. соч. Вып. I—II. С. 31; Вып. III-IV. С. 59.
373 Забылин М. Указ. соч. С. 390; Афанасьев А. И. Поэтические воззрения... Т. 2.
С. 527, примеч. 2.
374 Виноградов И. И. Указ. соч. Вып. III-IV. С. 96.
375 Мильков В. В. Указ. соч. С. 161-165.
376 Романов Е. Р. Указ. соч. Вып. 8-9. С. 358.
464
Мосты времен: космологические архетипы...
377 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 438; см. также: Забылин М.
Указ. соч. С. 302, 303.
378 Кузнецова В. С. Дуалистические легенды о сотворении мира в восточнославянской
фолклорной традиции. Новосибирск, 1998. С. 34; Древнерусская литература... С. 187, 191.
379 Рубинштейн Р. И. Пару // МС. С. 226-227.
380 Познанский Н. Указ. соч. С. 222.
381 Срезневский В. И. Указ. соч. С. 503.
382 ПМА. 1992. Тетр. 2. С. 60. Волог. обл., Верховаж. р-н, Нижнеколеньгский с/с,
д. Фоминская.
383 Забылин М. Указ. соч. С. 290.
384 Виноградов Н. Н. Указ. соч. Вып. III—IV. С. 93.
385 Чувьюров А. А. Указ. соч. С. 27.
386 Забылин М. Указ. соч. С. 311.
387 Там же. С. 306. Образ печи как живородящего чрева встречаем в загадке о жизни
и смерти: «Печь день и ночь печет, а невидимка дошлую ковригу выхватывает»
(Садовников Д. Указ. соч. № 2038. С. 220).
388 Буров В. А. Указ. соч. С. 87-98.
389 Киуру Э. С, Мишин А. И. Указ. соч. С. 39, 47-50, 123.
390 Древнерусская литература... С. 189, 191.
391 Обрядовая поэзия. Кн. 2. С. 8.
392 Огнева Е. Д. Тригумцэнпо // МС. С. 548.
393 Ветхий Завет. III Книга Царств, гл. VII.
394 Забылин М. Указ. соч. С. 310.
395 Дьяконова В. П. Религиозные представления алтайцев и тувинцев о природе
и человеке / / Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и
Севера. Л., 1976. С. 278.
396 Сегал Д. М. Указ. соч. С. 343-345.
397 Никулин Н. И. Вьето-мыонгский миф о мировом дереве и становление
литературы // Мифология и литературы Востока. М., 1995. С. 130, 131.
398 Топоров В. Н. Пуп земли // МНМ. Т. 2. С. 350.
399 Нюргун Боотур стремительный. Якутск, 1982. С. 48-50; Емельянов Н. В. Сюжеты
якутских олонхо. М., 1980. С. 320-321; Евсюков В. В. Мифы о Вселенной. С. 93.
400 Познанский Н. Указ. соч. С. 202; Забылин М. Указ. соч. С. 369; близкий вариант
см.: Виноградов Н. Н. Указ. соч. Вып. 1-Й. С. 29.
401 Садовников Д. Указ. соч. № 2268. С. 241.
402 Романов Е. Р. Указ. соч. Вып. 3. Витебск, 1887. С. 292, 294.
403 Афанасьев А. И. Поэтические воззрения... Т. 3. С. 493-495.
404 Иванов В. В. Проблемы этносемиотики. С. 44; Одабашян А. А.
Мифологический образ центра мира в армянских заговорах / / Этнолингвистика текста.
Семиотика малых форм фольклора (Тезисы и предварительные материалы к симпозиуму). М.,
1988. С. 66; Афанасьев А. Н. Происхождение мифа. С. 26; Митрофанова В. В. Указ.
соч. № 302. С. 25.
405 Топоров В. Н. Гора. Пуп земли. // МНМ. Т. 1. С. 311-313; Т.' 2. С. 350.
406 Дьяконова В. П. Указ. соч. С. 272; Традиционное мировоззрение тюрков Южной
Сибири: Пространство и время... С. 123; Басилов В. Н. Йер-Су // МС. С. 265.
407 Неклюдов С. Ю. Алтан гадас // МС. С. 33.
408 Алексеенко Е. А. Указ. соч. С. 77-78, 85; Грачева Г. Н. Следы ранних
-представлений о природных связях у нганасан / / Фольклор и этнография: Проблемы
реконструкции фактов традиционной культуры. Л., 1990. С. 104.
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной...
465
409 Топоров В. Н. Пуп земли С. 350; Окладникова Е. А. Указ. соч. С. 254.
4,0 Элиаде М. Религии Австралии. СПб., 1998. С. 96; 140; Фрэзер Дж. Дж. Указ.
соч. С. 253.
411 Cook R. The tree of Life. Symbol of the Centre. London, 1974. P. 17; Элиаде М.
Священные тексты... С. 136; см. также: Фрэзер Дж. Дж. Указ. соч. С. 252-254, 164;
Шахнович М. И. Указ. соч. С. 119, 205; МС. С. 525, 548 и др.
412 Евсюков В. В. Мифология китайского неолита. С. 40, 41.
413 Рифтин Б. Л. Нюйва / / МС. С. 407.
414 Соболев А. Н. Указ. соч. С. 106, примеч. 2.
415 Неклюдов С. Ю. О функционально-семантической природе знака... С. 198-207,
220-221; Шинкарев В. Н. Человек в традиционных представлениях тибето-бирманских
народов. М., 1997. С. 205, примеч. 48.
416 Садовников Д. Указ. соч. № 1569. С. 165.
417 Грачева Г. Н. Указ. соч. С. 105.
418 Емельянов Н. В. Сюжеты ранних типов якутских олонхо. М., 1983. С. 15.
419 Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1996. С. 67.
420 Дьяконова В. П. Указ. соч. С. 269.
421 Семека Е. С. Антропоморфные и зооморфные символы в 4-х и 8-членных моделях
мира // Труды по знаковым системам. Т. 5. Тарту, 1971. С. 92, 114; Шахнович М. И.
Указ. соч. С. 171, 174, 181; см. также графические изображения земли в виде
многолепесткового цветка у индейцев Калифорнии: Окладникова Е. А. Указ. соч. Рис. 63;
текст на с. 204, 260, 263.
422 Шинкарев В. Н. Указ. соч. С. 128, 203, примеч. 12, 13.
423 Норман-Браун У. Указ. соч. С. 318; Гринцер П. А. Указ. соч. С. 23, 24.
424 Евсюков В. В. Мифы о Вселенной. С. 93; 174; Бонгард-Левин Г. М.
Древнеиндийская цивилизация: философия, наука, религия. М., 1980. С. 272-274, 277.
425 Шишло Б. П. Тунгусский миф о творении и его культурное пространство //
Реконструкция древних верований: источники, метод, цель. СПб., 1991. С. 204, примеч. 44.
426 фрЭзер дж% дЖщ Указ. соч. С. 244.
427 Померанцева Н. А. Эстетические основы искусства Древнего Египта. М., 1985.
С. 76. Рис. 20; о культе лотоса см. здесь же на с. 74-77.
428 Приношу благодарность С. В. Жарниковой, зафиксировавшей это название, за
сообщение мне данного факта. Об одолень-траве как аналоге восточного лотоса см.
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 416, 417.
429 Массон В. М., Сарианиди В. И. Каракумы: заря цивилизации. М., 1972. Рис.
на с. 41; Антонова Е. В. Указ. соч. С. 16.
430 Цивьян Т. В. Движение и путь в балканской модели мира. М., 1999. С. 86-89.
431 Афанасьев А. Я. Народные русские сказки. Т. 1. М., 1957. № 19, 20, 420;
Русские детские сказки. Из сб. А. Н. Афанасьева. М., 1986. С. 88-90.
432 Бернштам Т. А. Совершеннолетие девушки в метафорах игрового
фольклора // Этнические стереотипы мужского и женского поведения. СПб., 1991. С. 239.
433 Садовников Д. Указ. соч. № 17, 18, 20, ИЗ, 119. С. 2, 11.
434 Кагаров Е. Культ фетишей, растений и животных в Древней Греции. СПб., 1913.
С. 130. Дымоход в жилище осмыслялся как своеобразный «жизненный канал»
(например, хорошо известно поверье, что аист опускает новорожденного в трубу); у
тунгусоязычных народов считалось, что душа омя попадает в утробу женщины через
дым очага и так же уходит в мир мертвых, а по нганасанскому мифу через дымовое
отверстие подводного чума поднимается из океана мешочек с первой землей; ср. также
с удэгейским представлением о доме старухи-подательницы жизни, посередине
которого росло дерево душ — см.: Сем Т. Ю. Семантика образов первоисточника
466
Мосты времен: космологические архетипы...
жизни у тунгусоязычных народов // Реконструкция древних верований: источники,
метод, цель. СПб., 1991. С. 183, 184; Напольских В. В. Указ. соч. С. 148.
435 Фрэзер Дж. Дж. Указ. соч. С. 242; Элиаде М. Священное и мирское. С. 40-43, 118.
436 Отрощенко В. В. Идеологические воззрения племен эпохи бронзы на
территории Украины (по материалам срубной культуры) // Обряды и верования древнего
населения Украины. Киев, 1990. С. 11, 12.
437 Буров В. А. Указ. соч. С. 90, 93-96.
438 Срезневский В. И. Указ. соч. С. 511, см. также с. 487; близкие мотивы см.:
Зебницкий П. Указ. соч. С. 6; Мансикка В. Указ. соч. С. 126, 135; Виноградов Н. Н.
Указ. соч. Вып. I—II. С. 45. Вып. III—IV. С. 57, 63.
439 Анисимов А. Ф. Указ. соч. С. 25-26.
440 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 212.
441 Садовников Д. Указ. соч. № 118. С. 11.
442 Судник Т. М. К описанию структуры одного белорусского (восточно-полесского)
заговора // Текст: Семантика и структура. М., 1983. С. 190, примеч. 12.
443 Напольских В. В. Указ. соч. С. 158; Василевич Г. М. Указ. соч. С. 178; Шиш-
лоБ. П. Указ. соч. С. 194.
444 Кейпер Ф. Б. Я. Указ. соч. С. 178, примеч. 34.
445 Церен Э. Лунный бог. М., 1976. С. 123; Perrot Nell. Les represantations de l'arbre
sacre sur les monumants de Mesopotamie et d'Elam. Paris, 1937. P. 6, 9.
446 Цит. по: Топоров В. Н. Об индоевропейской заговорной... С. 67, примеч. 7.
447 Иванов С. В. Указ. соч. Гл. 2. Рис. 2, 9, 12.
448 Березкин Ю. Е. Мочика. Л., 1983. С. 55.
449 Майнагашев С. Д. Загробная жизнь по представлениям турецких племен
Минусинского края // ЖС. 1915. Год XXIV. Вып. 3. С. 290.
450 Керенъи К. Элевсин: Архетипический образ матери и дочери. М., 2000. С. 150, 152.
451 Тахо-Годи А. А. Левка // МС. С. 313.
452 Мелетинский Е. М. Палеоазиатский мифологический эпос. С. 116.
453 Франк-Каменецкий И. Г. Отголоски представлений о матери-земле... С. 135,
примеч. 3.
454 Ершова Г. Г. Указ. соч. С. 75.
455 Элиаде М. Священные тексты... С. 92.
456 Анисимов А. Ф. Указ. соч. С. 49.
457 Полинская М. С. На-реау // МС. С. 388.
458 Мильков В. В. Указ. соч. С. 612.
459 Померанцева Н. А. Указ. соч. С. 68, 69.
460 Садовников Д. Указ. соч. № 2027а-е, 2028а,б, 2082, 2081а-м. С. 217-218, 194,
223-224.
461 Соболев А. Н. Указ. соч. С. 113-115; Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения...
Т. 3. С. 285-290.
462 Садовников Д. Указ. соч. № 1000. С. 103; № 2036-е. С. 220; мотив загадывания
людей через ягоды, цветы, листья дерева см. № 2034-2037. С. 219-220.
463 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 713. ,
464 См., напр.: Сем Т. Ю. Указ. соч. С. 183.
465 Кейпер Ф. Б. Я. Указ. соч. С. 125.
466 Элиаде М. Религии Австралии. С. 75, 76.
467 Топоров В. Н. Пространство и текст. С. 247, 248.
468 Алексеенко Е. А. Указ. соч. С. 71.
469 Ригведа. Избранные гимны. С. 132.
470 Мелетинский Е. М. Мифы Древнего мира... С. 105.
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 467
471 Напольских В. В. Указ. соч. С. 137-159; Элиаде М. Священные тексты... С. 90-
92; 144-148.
472 Грысык Н. Е. Лечебные и профилактические обряды русского населения
бассейна Ваги и Средней Двины: пространственные и временные координаты / / Русский
Север: ареалы и культурные традиции. СПб., 1992. С. 69.
473 Евсюков В. В. Мифы о вселенной. С. 57.
474 Баранов Д. А. Указ. соч. С. 22.
475 Евсюков В. В. Мифы о вселенной. С. 34.
476 фрЭЗер Дж. Дж. Указ. соч. С. 154, 158, 159.
477 Кондратов А. М. Великий потоп. Мифы и реальность. Л., 1982. С. 132, 133.
478 Обзор мифов о потопе по всему миру см.: Фрэзер Дж. Дж. Указ. соч. С. 63-159;
два последние примера — с. 140 и 137; Емельянов В. В. Мифологема потопа и шумерская
историография // Петербургское востоковедение. Вып. 6. СПб., 1994. С. 232, прим. 1.
479 Евсюков В. В. Мифы о вселенной. С. 65; Он же. Восточно-азиатский
неолитический миф... С. 97.
480 фрЭзер дж. Дж. Указ. соч. С. 82.
481 Кондратов А. М. Указ. соч. С. 54.
482 Фрэзер Дж. Дж. Указ. соч. С. 93, 94, 132, 136.
483 Мелетинский Е. М. Мифы Древнего мира... С. 95.
484 фрЭзер Дж. Дж. Указ. соч. С. 69.
485 Беляев Ю. А. Указ. соч. С. 109.
486 Там же. С. 42; Мелетинский Е. М. Мифы Древнего мира... С. 76;
Емельянов В. В. Указ. соч. С. 236-237.
487 Котляр Е. С. Денгдит // МС. С. 182.
488 Грысык Н. Е. Указ. соч. С. 70.
489 Березкин Ю. Е. Южноамериканский миф о свержении власти женщин //
Этнические стереотипы мужского и женского поведения. СПб., 1991. С. 192.
490 Мелетинский Е. М. Палеоазиатский мифологический эпос. С. 116.
491 Токарев С. А. Указ. соч. С. 523.
492 Фрэзер Дж. Дж. Указ. соч. С. 86-87.
493 Белова О. В., Виноградова Л.Н., Топорков А. Л. Земля. С. 315.
494 Евсюков В. В. Мифы о вселенной. С. 39, 44.
495 Фрэзер Дж. Дж. Указ. соч. С. 104-107, 138, 143 и др.; Евсюков В. В. Восточно-
азиатский неолитический миф... С. 96.
496 Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975. С. 206, 213-214;
Кондратов А. М. Указ. соч. С. 53; Мелетинский Е. М. Имир // МС. С. 244;
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 638, 644, 473.
497 Фрэзер Дж. Дж. Указ. соч. С. 100, 130, 138 и др.
498 Неклюдов С. Ю. Алтан гадас / / МС. С. 33-34.
499 Напольских В. В. Указ. соч. С. 139, 147, 27.
500 Кербелите П. Б. Древо жизни: К вопросу о реконструкции фольклорных
образов // Секс и эротика в русской традиционной культуре. М., 1996. С. 344-346.
501 Емельянов В. В. Указ. соч. С. 240.
502 Напольских В. В. Указ. соч. С. 136,140-141,146,152.
503 Алексеенко Е. А. Указ. соч. С. 72.
504 Познанский Н. Указ. соч. С. 220-223.
505 Хелимский Е. А. Самодийская мифология // МНМ. Т. 2. С. 399-401.
зов фрэзер Дж. Дж. Указ. соч. С. 119.
507 Березкин Ю. Е. Мочика. С. 55.
508 Рубинштейн Р. И. Древний Восток. М., 1974. С. 154.
468
Мосты времен: космологические архетипы...
509 Тайлор Э. Б. Указ. соч. С. 135, 154, 155.
510 Топоров В. И. Еще раз о фракийском всаднике в балканской и индоевропейской
перспективе // Образ мира в слове и ритуале. Балканские чтения. I. M., 1992. С. 28,
примеч. 35. /
511 Тахо-Годи А. А. Гамадриады // МС. С. 140.
512 Фрэзер Дж. Дж. Указ. соч. С. 83, 91, 98, 100, 104, 109, 129, 134.
513 Алексеенко Е. А;Указ. раб. С. 69-70; Фрэзер Дж. Дж. Указ. соч. С. 118, 132 и др.
514 Потебня А. А. Объяснение малорусских и сродных народных песен. Т. 2.
Варшава, 1887. С. 235-236.
515 Там же. С. 237|-238.
516 Народные песни "Вологодской области / Сост. А. Межнецов. Л., 1981. № 46. С. 70.
Интерпретацию этого мотива нами в связи с образом девичьей души — «девьей красоты» —
см.: Денисова И. М. Семантика «девьей красоты» в свете культа дерева // Денисова И.
М. Вопросы изучения культа священного дерева у русских. М„ 1995. С. 69-71.
517 ПМА. 1994. Тетр.\ 2. С. 26-27. Запись в д. Великово Совегского с/с.
518 Даниленко В. Н. Указ. соч. С. 33
519 Фрэзер Дж. Дж. УказХсоч. С. 84, 96, 99, 102, 104, 108, 114, 116, 118-121, 136, 142.
520 Там же. С. 99, 140. \
521 Грачева Г. Н. Человек, смерть и земля мертвых у нганасан / / Природа и человек
в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976. С. 62.
522 фрЭзер дж% дж. Указ. соч. С. 99.
523 Элиаде М. Религии Австралии. С. 62, 64; Тайлор Э. Б. Указ. соч. С. 133.
524 См. об этом: Денисова И. М. К вопросу об истоках троицко-семицкой
обрядности / / Денисова И. М. Вопросы изучения культа священного дерева у русских. М.,
1995. С. 149. Тексты с этим сюжетом см.: Морозов И. А., Слепцова И. С. Праздничная
культура Вологодского края. М., 1993. С. 81-85.
525 Афанасьев А. И. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 646, 648.
526 Евсюков В. В. Мифы о вселенной. С. 55, 56.
527 Киуру Э. С. Мишин А. И. Указ. соч. С. 32.
528 Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 739, примеч. 1.
529 Кербелите Б. П. Указ. соч. С. 347-348. Однако с трактовкой этим автором
образа дерева исключительно как символа фаллоса в приведенном контексте позволим
себе не согласиться, хотя на каком-то этапе эта семантика, несомненно, могла стать
определяющей для данного образа. См. по этому поводу: Пруссак М. С. Древо жизни.1
(К истории культа фаллоса). М. Б. г.
530 Элиаде М. Аспекты мифа. С 63.
531 См., напр., у кетов: Алексеенко Е. А. Указ. соч. С. 69.
532 Серов С. Я. Динамика этногенетического мифа инков // Этническая история i
и фольклор. М., 1977. С. 56-60.
533 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 646.
534 Калевала. С. 15; Напольских В. В. Указ. соч. С. 29.
535 Турилов А. А., Чернецов А. В. Указ. соч. С. 104.
536 Шишло Б. П. Указ, соч. С. 200. ,
537 Эти примеры см.: Пропп В. Я. Указ. соч. С. 144-147; Потебня А. А. Мифиче-|
ское значение... С. 249.
538 Никулин Н. И. Указ. соч. С. 129-130. f
539 Древнерусская литература. С. 185. I'
540 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 650. . »
541 Мильков В. В. Указ. соч. С. 489-490. {
542 Потебня А. А. Объяснение малорусских... Т. 2. С. 234.
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 469
543 Лелеков Л. А. Симург // МС. С. 500.
544 Напольских В. В. Указ. соч. С. 29, 32, 157.
545 Членов М. А. Махатала // МС. С. 354.
546 Ямаева Е. Священное дерево и его атрибуты (На материале алтайского
героического эпоса) // Национальное наследие и современность. Горно-Алтайск, 1984. С. 170, 171.
547 Чагдуров С. Ш. Происхождение Гэсэриады. Новосибирск, 1980. С. 133.
548 Емельянов В. В. Указ. соч. С. 244.
549 Ригведа. Избранные гимны. С. 113, 118; Ригведа. Мандалы V—VIII / Отв. ред.
П.А.Гринцер. М., 1995. С. 173.
550 рИГВеда. Избранные гимны. С. 111, 112.
551 Эрман В. Г. Указ. соч. С. 68.
552 Ригведа. Избранные гимны. С. 114.
553 Эрман ВТ. Указ. соч. С. 68-69; Кейпер Ф. Б. Я. Указ. соч. С. 176, примеч. 88, 90.
554 Кейпер Ф. Б. Я. Указ. соч. С. 30.
555 Элиаде М. Религии Австралии. С. 191-200, 206-212; Котляр Е. С. Миф и сказка
Африки. М., 1975. С. 198-201; Березкин Ю. Е. Южноамериканский миф о свержении
власти женщин.
556 Толстой И. И. Черноморская легенда о Геракле и змееногой деве //
Толстой И. И. Статьи о фольклоре. М.; Л., 1966. С. 240-246; Мадлевская Е. Л. Указ. соч.
557 Никулин Н. И. Указ. соч. С. 129-130, 137-139.
558 Фрэзер Дж. Дж. Указ. соч. С. 103.
559 Стратанович Г. Г. Этногенетические мифы об исходе из яйца или из тыквы у
народов Юго-Восточной Азии // Этническая история и фольклор. М., 1977. С.62-73.
560 Котляр Е. С. Йо // МС. С. 265.
561 Киуру Э. С, Мишин А. И. Указ. соч. С. 14, 163, 172; Калевала. С. 14-21, 164; 93, 95.
562 Садовников Д. Указ. соч. № 1326, 1322. С. 136, 137.
563 Быт великорусских крестьян-землепашцев. Описание материалов этнографического
бюро кн. В. Н. Тенишева / Авт.-сост. Б. М.Фирсов, И. Г.Киселева. СПб., 1993. С. 158.
564 Поэзия крестьянских праздников / Сост. И. И. Земцовский. Л., 1970. С. 54-55.
565 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 297, примеч. 5.
566 Евсюков В. В. Мифы о вселенной. С. 22.
567 Элиаде М. Религии Австралии. С. 179, 180, 207.
568 Шахнович М. И. Указ. соч. С. 194.
569 Луркер М. Указ. соч. С. 62, 63.
570 Беовульф. Старшая Эдда... С. 188-190.
571 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 298.
572 Ригведа. Избранные гимны. С. 119 (Ш.31.13).
573 Иванов В. В., Топоров В. Н. К реконструкции Мокоши... С. 175-197, особенно
196-197; Оболенская С. #., Топорков А. Л. Указ. соч. С. 155-156.
574 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 418.
575 Мелетинский Е. М. Мифы Древнего мира... С. 105.
576 Кейпер Ф. Б. Я. Указ. соч. С. 29; Шахнович М. И. Указ. соч. С. 117-120.
577 Топоров В. Н. О некоторых предпосылках формирования категории посессив-
ности // Славянское и балканское языкознание. М., 1986. С. 156.
578 Евсюков В. В. Мифы о вселенной. С. 22-24.
579 Шахнович М. И. Указ. соч. С. 202.
580 Дашиева Н. Б. Указ. соч. С. 181; Элиаде М. Священные тексты... С. 86, 87, 93.
581 Афанасьев А. И. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 427-429.
582 Там же. С. 468, 142-144; Топоров В. Я. Об индоевропейской заговорной
традиции... С. 91.
470
Мосты времен: космологические архетипы...
583 Ригведа. Избранные гимны. С. 98; 102; 107; Огибенин Б. Л. Структура
мифологических текстов Ригведы. М., 1968. С. 34. См. также: Норман Браун У. Указ. соч.
С. 288-289; Эрман В. Г. Указ. соч. С. 69-70.
584 Евзлин М. Космогония и ритуал, М., 1993. С. 152; Чанышев А. Н. Курс лекций
по древней философии. М., 1981. С. 43-44; Шахнович М. И. Указ. соч. С. 202.
585 Шахнович М. И. /Указ. соч. С. 127, 163-168, 203-205.
586 Эрман В. Г. Указ, соч. С. 101; Штаерман Е. М. Вирадж; Мелетинский Е. М.
Имир; Топоров В. Н. ЦУруша // МС. С. 124, 243-244, 455.
587 Чагдуров С. Ш. Указ. соч. С. 120.
588 Шахнович М. И. Указ. соч. С. 127. 203-204.
589 Судник М., Цивьян Т. В. Указ. соч. С. 144, 145; Евсюков В. В. Восточно-
азиатский неолитический миф... С. 96, 97.
590 Огнева Е. Д. Синмо // МС. С. 501.
591 Эрман В. Г. Указ. соч. С. 39; Кейпер Ф. Б. Я. Указ. соч. С. 124.
592 Лавров Л. И. Указ. соч. С. 205, 212, 213.
593 Василевич Г. М. Указ. соч. С. 182, 186.
594 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 1. С. 688.
595 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом... С. 291-296.
596 Киуру Э. С, Мишин А. И. Указ. соч. С. 50; Калевала. С. 218-220.
597 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 746, 747.
598 Романов Е. Р. Указ. соч. Вып. 3. С. 289, 292.
599 Чеснов Я. В. Литлонг. Пу Лансенг // МС. С. 319, 454.
600 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 2. С. 499, прим. 2.
601 Топоров В. Н. Голубиная книга [«К плоти»]: состав мира и его распад //
Этнолингвистика текста. Семиотика малых форм фольклора. Тезисы и
предварительные материалы к симпозиуму. Ч. 1. М., 1988. С. 174.
602 Обзор подобных воззрений см.: Евсюков В. В. Мифы о вселенной. С. 78-108.
603 Топоров В. Н. Об индоевропейской заговорной традиции... С. 51, прим. 18.
604 Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного
искусства. Альбом / Сост. Г. П. Дурасов и Г. А. Яковлева. М., 1990. Илл. на с. 58, 59; см.
также на с. 41.
605 Норман Браун У. Указ. соч. С. 320-321; Терентьев А. А. Урдхвалока // МС.
С. 564; Евсюков В. В. Мифы о вселенной. С. 80-81.
606 Архангельские былины... Т. 1. № 174. С. 607; см. также: Т. 1. № 171; Т. 3. № 21.
607 Семашко И. М. Указ. соч. С. 111.
608 Эрман В. Г. Указ. соч. С. 82, 88; Древнеиндийская философия. С. 198 (Кауши-
таки-уп. 1.2).
609 Норман Браун У. Указ. соч. С. 321; Гусева Н. Р. Индия... С. 80, 81.
610 Монгайт А. Л. Археология Западной Европы. М., 1974. С. 84. Рис. на с. 85.
611 Садовников Д. Указ. соч. № 1842з, и, 1833и, 1824. С. 195-197.
612 Некрасова М. А. Указ. соч. Илл. на с. 26, 27, 31; Богуславская И. Я. Фигурки
из глины // Добрых рук мастерство. Л., 1981. Илл. на с. 30; Дурасов Г. П. Каргополь-
ская глиняная игрушка. Илл. на с. 74, 162, 201, 206, 208, 217, 225; Народное искусство
Российской Федерации. Илл. 23-25; Семенова Т. С. Указ. соч. Илл. на с. 76, 88-89,
138; Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Илл. на с. 59, 75, 151.
613 Рыбаков Б. А. Макрокосм в микрокосме русского народного искусства // ДИ.
1975. № 1. С. 31.
614 Gimbutas M. Op. cit. P. 187. 111. 149.'
615 Столяр А. Д. Указ. соч. Илл. 233(11) (разворот фигурки); Даниленко В. Н. Указ.
соч. Рис. 17-Б.
«Живой космос»: Древнейшая модель Вселенной... 471_
616 Gimbutas M. Op. cit. P. 112-114.
617 Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. Т. 1. № 173.
618 Народное искусство Российской Федерации. Илл. 45.
619 Массон В. М., Сарианиди В. И. Указ. соч. С. 94; Миллер А. А. Элементы неба
на вещественных памятниках //Из истории докапиталистических формаций. М.; Л.,
1933. Рис. 19 (1-3), 20; Даниленко В. Н. Указ. соч. Табл. XIX, XX.
620 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения... Т. 3. С. 128.
621 Антонова Е. В. Указ. соч. С. 18.
622 Некрасова М. А. Указ. соч. Илл. 70, 71.
623 Огибенин Б. JI. Указ. соч. С. 86; Эрман В. Г. Указ. соч. С. 100, 205, примеч. 109.
624 Алексеев Н. А. Указ. соч. С. 61.
625 Иорданский В. Б. Указ. соч. С. 107-108.
626 Канев И. Т. Спряжение шумерского глагола / / Переднеазиатский сб. И:
Дешифровка и интерпретация письменностей Древнего Востока. М., 1966. С. 51. Цит. по:
Иванов В. В. Проблемы этносемиотики. С. 45.
627 Померанцева Н. А. Указ. соч. С. 67-68.
628 Йеттмар К. Указ. соч. С. 98-99, 102.
629 Альбедиль М. Ф. Забытая цивилизация в долине Инда. СПб., 1991. С. 150.
630 Денисова И. М. Вопросы изучения культа священного дерева у русских. М., 1995.
С. 5, 6.
631 Афанасьева В. К. Мардук / / МС. С. 344.
632 Perrot Nell. Op. cit. P. 25.
633 Митрофанова В. В. Указ. соч. № 1374, 1369. Что же касается вообще восприятия
дерева как живого существа, то оно проявляется, например, у русских в названиях леса
«сердцевой» или «рудовый» (от «руда» — кровь), в магических действиях, когда надо
«вынуть сердце» у рябины, растущей на муравейнике (от зубной боли), а в польской
сказке — в образе дерева с золотым слитком-сердцем в стволе, в которое превратился
некий князь и др. (см.: Криничная Н. А. Дом: его облик и душа. Петрозаводск, 1992. С. 24;
Срезневский В. И. Указ. соч. С. 493; Волозова О. Б. Сон и сказка / / Образ мира в слове
и ритуале. Балканские чтения. I. M., 1992. С. 153-154). Соотнесенность образов дерева
и коровы просматривается в восточнославянских поверьях о надаивании молока
ведьмами с березы (Виноградова JI. Н., Усачева В. В. Береза // СД. Т. 1. М., 1995. С. 157).
Отождествление этих столь непохожих образов можно встретить в загадках: «Влезу на
горушку, одеру телушку; сало —- в рот, а кожу прочь» (березовица; подобные — о сосновой
мезге); «Летом — сосенка, зимой— коровка» (конопля); «Вырастет сосна — коровам
сестра» (то же) и т. п. Тот же параллелизм проглядывает в заговоре: «Как белая березонька
стоит веки по веки, не тронется, не ворохнется, так бы и теляте жило веки по веки, не
дрогнулось, не ворохнулось» (Садовников Д. Указ. соч. № 1309-1311а-г, 1347, 1353а, б.
С. 135, 140; Забылин М. Указ. соч. С. 388).
634 Путилов Б. Н. Указ. соч. С. 195.
Список сокращений
БАН Библиотека Академии наук (СПб.)
ВВ Византийский временник
ВИ Вопросы истории
ВМДП и НИ Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного
искусства
ВМЧ Великие Минеи Четьи
ГИМ Государственный Исторический музей (М.)
ГЛМ Государственный Литературный музей
ГМЭ Государственный музей этнографии АН СССР
ГРМ Государственный Русский музей (СПБ.)
ГТГ Государственная Третьяковская галерея (М.)
ДИ Декоративное искусство
ЖМНП Журнал Министерства народного просвещения
ЖС Живая старина
ИЗ Исторические записки
ИОРЯС Известия Отделения русского языка и словесности АН
ИРЛИ Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
ИЭ Институт этнографии АН СССР
КСИА Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК Краткие сообщения и доклады Института истории материальной
культуры АН СССР
ЛЗАК Летопись занятий Археографической комиссии
МАЭ Музей археологии и этнографии РАН (СПб.)
МГУ Московский государственный университет
МДА Московская Духовная академия
МИА Материалы Института археологии
МНМ Мифы народов мира
МС Мифологический словарь
ПВЛ Повесть временных лет
474
Список сокращений
ПДП Памятники древней письменности
ПДПИ Памятники древней письменности и искусства
ПЛДР Памятники литературы Древней Руси
ПМА Полевые материалы автора
ПСРЛ Полное собрание русских летописей
РГАДА Российский государственный архив древних актов (М.)
РГБ Российская государственная библиотека (М.)
РГГУ Российский государственный гуманитарный университет
РИБ Российская историческая библиотека (М.)
РНБ Российская национальная библиотека (СПб.)
РФВ Русский филологический вестник
РЭМ Российский этнографический музей
РЭО Российское этнографическое обозрение
СА Советская археология
СД Славянские древности
СлРЯ Словарь русского языка
СОРЯС Сборник Отделения русского языка и словесности
СЭ Советская этнография
ТОДРЛ Труды Отдела древнерусской литературы Института русской
литературы (Пушкинский Дом)
ЧОИДР Чтения в Обществе истории и древностей российских при
Московском университете
ЭО Этнографическое обозрение
Сокращения названий
рукописных собрании и фондов
АрхД
Барс.
Белокриниц.
Беляев
Болыы.
Вологод.
Волок.
Воскр.
Вяз.
Гильф.
Гранк.
Двинск.
Егор.
Епарх.
Собр. Архангельского древлехранилища БАН
Собр. Е. В. Барсова (ф. 48987, 52073) ГИМ
Белокриницкое собр. (ф. 75) БАН
Собр. И. Д. Беляева (ф. 29) БАН
Собр. Т. Ф. Большакова (ф. 37) РГБ
Собр. Вологодское (ф. 354) РГБ
Собр. Иосифо-Волоколамского монастыря (ф. 113) РГБ
Собр. Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря
(ф. 80370) ГИМ
Собр. П. П. Вяземского (ф. 166) РНБ '
Собр. А. Ф. Гильфердинга (ф. 182) РНБ
Собр. А. П. Гранкова (ф. 711) РГБ
Двинское собр. (ф. 65) БАН
Собр. Егорова (ф. 98) РГБ
Собр. Епархиальное (ф. 60223, 65707, 67434-67440, 68925,
76013) ГИМ
Список сокращений
475
Каргопольск. Каргопольское собр. (ф. 73) БАН
Кир.-Бел. Собр. библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря (ф. 6103)
РНБ
МДА Собр. Московской Духовной академии (ф. 173. I-III) РГБ
Муз. Музейное собр. (ф. 178) РГБ
Никифор. Собр. Н. П. Никифорова (ф. 199) РГБ
Новоспасск. Собр. Новоспасского монастыря (ф. 80370) ГИМ
Овчин. Собр. П. А. Овчинникова (ф. 209) РГБ
ОЛДП Собр. Общества любителей древней письменности (ф. 536)
РНБ
Осн. Основное собр. (ф. 31) БАН
Пог. Собр. М. Н. Погодина (ф. 583) РНБ
Попов Собр. А. Н. Попова (ф. 236) РГБ
Прян. Собр. Г. М. Прянишникова (ф. 342) РГБ
РО МГАМИД Рукописный отдел библиотеки Московского главного архива
Министерства иностранных дел (ф. 181) РГАДА
Рогож. Собр. Рогожского старообрядческого кладбища (ф. 247) РГБ
Рум. Собр. Н. П. Румянцева (ф. 256) РГБ
Самар Самарское собр. (ф. 736) РГБ
Сим. Собр. Симонова монастыря (ф. 80370) ГИМ
Син. Собр. Синодальное (ф. 80370) ГИМ
Син. Типогр. Собр. Библиотеки Московской Синодальной типографии
(ф. 381) РГАДА
Сол Собр. библиотеки Соловецкого монастыря (ф. 717) РНБ
Соф. Собр. Софийской библиотеки (ф. 728) РНБ
Стр. Собр. С. П. Строева (ф. 292) РГБ '
Текущ. Текущее собр. (ф. 61) БАН
Тит. Собр. А. А. Титова (ф. 775) РНБ
Тихвинск. муз. Собр. Тихвинского музея (ф. 12) БАН
Тр. Собр. Троице-Сергиевой лавры (ф. 304.1) РГБ
Увар. Собр. А. С. Уварова (ф. 4911, 80269-80271) ГИМ
Унд. Собр. В. М. Ундольского (ф. 310) РГБ
Хлуд. Собр. А. И. Хлудова (ф. 86795) ГИМ
Чуд. Собр. Чудова монастыря (ф. 80370) ГИМ
Шибан. Собр. П. П. Шибанова (ф. 344) РГБ
Юдинск. Собр. Г. Г. Юдина (ф. 594) РГБ
Содержание
О НАУЧНЫХ АСПЕКТАХ ИЗУЧЕНИЯ
КОСМОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
В ДРЕВНЕЙ РУСИ
(Полянский С. М.)
Вместо предисловия 6
Примечания 20
КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ
И СВЕДЕНИЯ В КНИЖНОСТИ
ДРЕВНЕЙ РУСИ
(Мильков В. В.)
Общие замечания о специфике древнерусской космологии 26
Идеи плоскостно-комарного мироустройства в древнерусских
текстах христианской экзегезы 28
Примечания 51
Геоцентрическая концепция мироздания в древнерусских
текстах переводной христианской экзегезы 68
Примечания , 95
Космологические идеи в памятниках
апокрифической книжности 106
Примечания 133^
Содержание 477
Некоторые особенности космологических сюжетов
переводной литературы Древней Руси 140
Примечания 151
КОСМОЛОГИЯ В ЕЕ ЕДИНСТВЕ
С ДРУГИМИ КОМПОНЕНТАМИ
КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ
(Полянский С. М., Григорьев Л. В.)
Космологические представления и естественнонаучные
знания в Древней Руси (Полянский С. М.) 154
Общие замечания 155
Обзор памятников, в которых космологическая картина
наиболее насыщена естественнонаучными сведениями 158
Вопросы естественнонаучного знания в космологическом контексте 170
Примечания 200
Древнерусская космология и практическая география.
По данным средневековых представлений о рае
(Григорьев А. В.) 208
Примечания 225
Космологические представления, отраженные
во внутренней форме и семантике русских библейских
фразеологизмов (Григорьев Л. В.) 230
Примечания 239
КАЛЕНДАРНОЕ ВРЕМЯ
В ДРЕВНЕРУССКОЙ КОСМОЛОГИИ
(Симонов Р. А.)
Календарное осмысление времени в рамках
теологического рационализма 244
Вводные замечания 245
«Сотворение мира» как начало отсчета
времени в свете библейской экзегетики 247
Св. Кирилл-Константин как сторонник
рационалистической трактовки времени 249
Календарно-математические знания в древнерусском
восприятии времени в XI веке 251
Отражение календарной аутентичности в «Слове о законе
и благодати» митрополита Илариона 254
Примечания 258
478
Содержание
«Учение» Кирика 1136 г. как научный трактат, посвященный
календарно-математическому осмыслению времени
в контексте средневековой космологии 260
Содержание «Учения» Кирика Новгородца 261
«Семитысячники» как отдаленный образец «Учения» 267
«Учение» Кирика и византийская культурная ориентация Руси 273
Примечания., 277
Рационализация; пасхальных расчетов в славяно-русской
письменной традиции 280
Разработка пасхальной методики «малого года»
в условиях снижения интеллектуальности в богословии 281
Усовершенствование методики «малого года» в древнерусском
расчетно-пасх&льном тексте 1362 года 286
Создание на математической основе древнерусских
«буквенных» цифр^ХГУ в. «греческой» пасхальной азбуки 295 *
Влияние просветительских идей на метод «Малого года»
в конце XIV в. в связи с возрождением \^
теолого-рационалистических взглядов 300
Примечания 312
Сакрализация времени на Руси 316
«Косой» час и осмысление природы богослужебного времени 317 ■
Сокровенная сакрализация времени на Руси 325
Древнерусский практический способ счета «косыми» часами 334
Роль хрономантии в сакрализации времени на Руси 342
Примечания 354
Заключение 360
Примечания 365
МОСТЫ ВРЕМЕН:
КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ АРХЕТИПЫ
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ
(Денисова И. М.)
«Живой космос»: древнейшая модель Вселенной в мировой
мифологии и русской народной культуре 368
Праматерь Земля ! 373
Наследники древнего образа 383
Зооморфный образ земли и мира 386
Животворящий водоем 394
Вселенское существо 398
Воды-коровы 404
Чудо-остров 407
Белый камень 410
Содержание 479
Растительная вертикаль 415
Рождение нового мира — потоп 426
Падение Древа 429
Мир — из первосущества 437
Мир — стоящее божество 441
Примечания 448
Список сокращений 473
Сокращения названий рукописных собраний и фондов 474
s*
ДРЕВНЕРУССКАЯ КОСМОЛОГИЯ
Главный редактор издательства И. А. Савкин
Ответственный редактор Г. С. Баранкова
Художественное оформление А. И. Агарков
Корректор Н. М. Баталова
Оригинал-макет Е. И. Шиленкова
ИД №04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
193019, СПб., пр. Обуховской Обороны, 13.
Тел.: (812) 567-22-39, факс: (812) 567-22-53
E-mail: aletheia@rol.ru
www.orthodoxia.org//aletheia
Фирменные магазины «Историческая книга»
Москва, Старосадский пер., 9. Тел. (095) 921-48-95
Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 55. Тел. (812) 327-26-37
t
Сдано в набор 10.02.2003. Подписано в печать 20.10.2003. Формат 70xl00%6.
Усл.-печ. л. 38,9. Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ № 4748
Отпечатано с готовых диапозитивов в Академической типографии «Наука» РАН,
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, д. 12
Printed in Russia