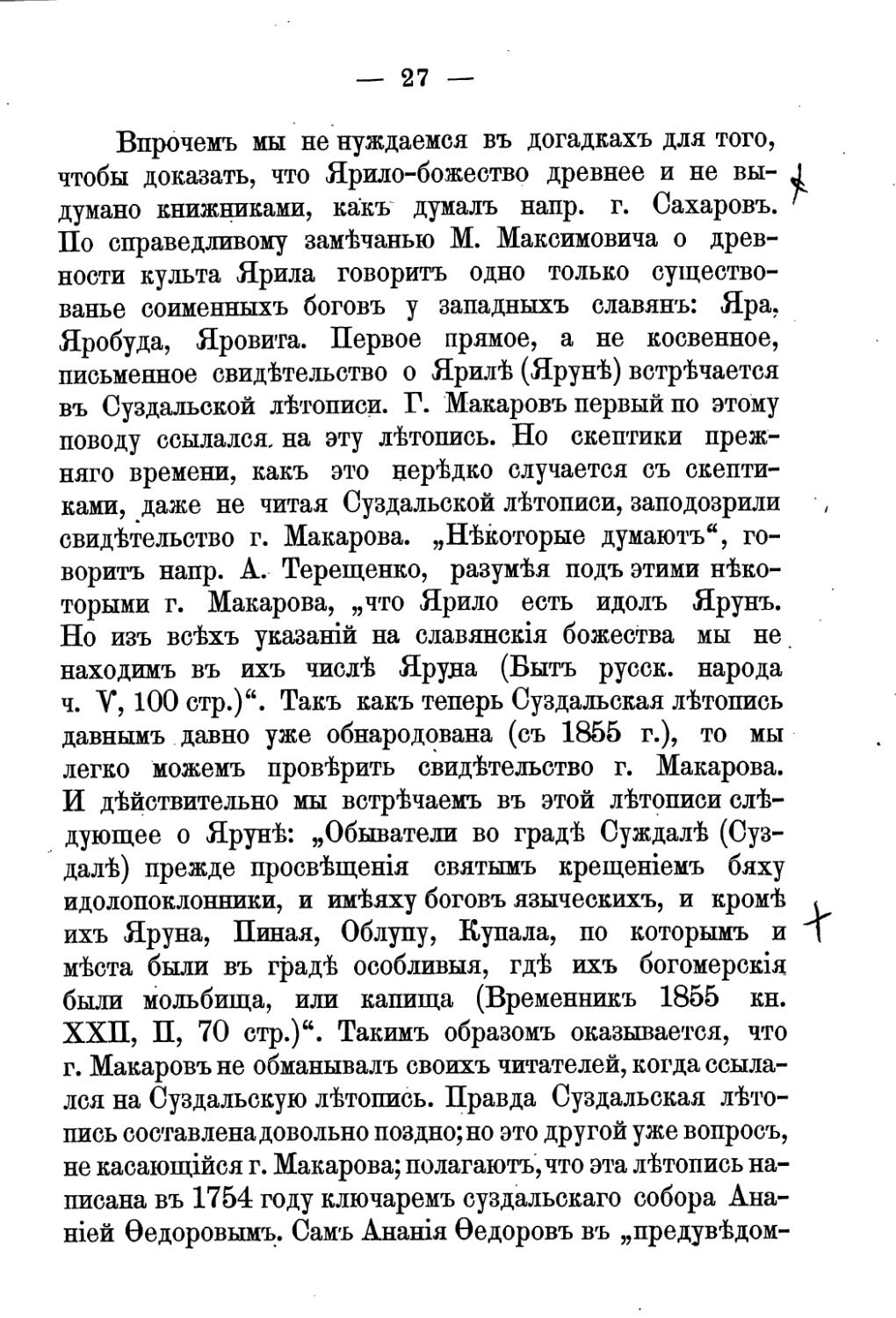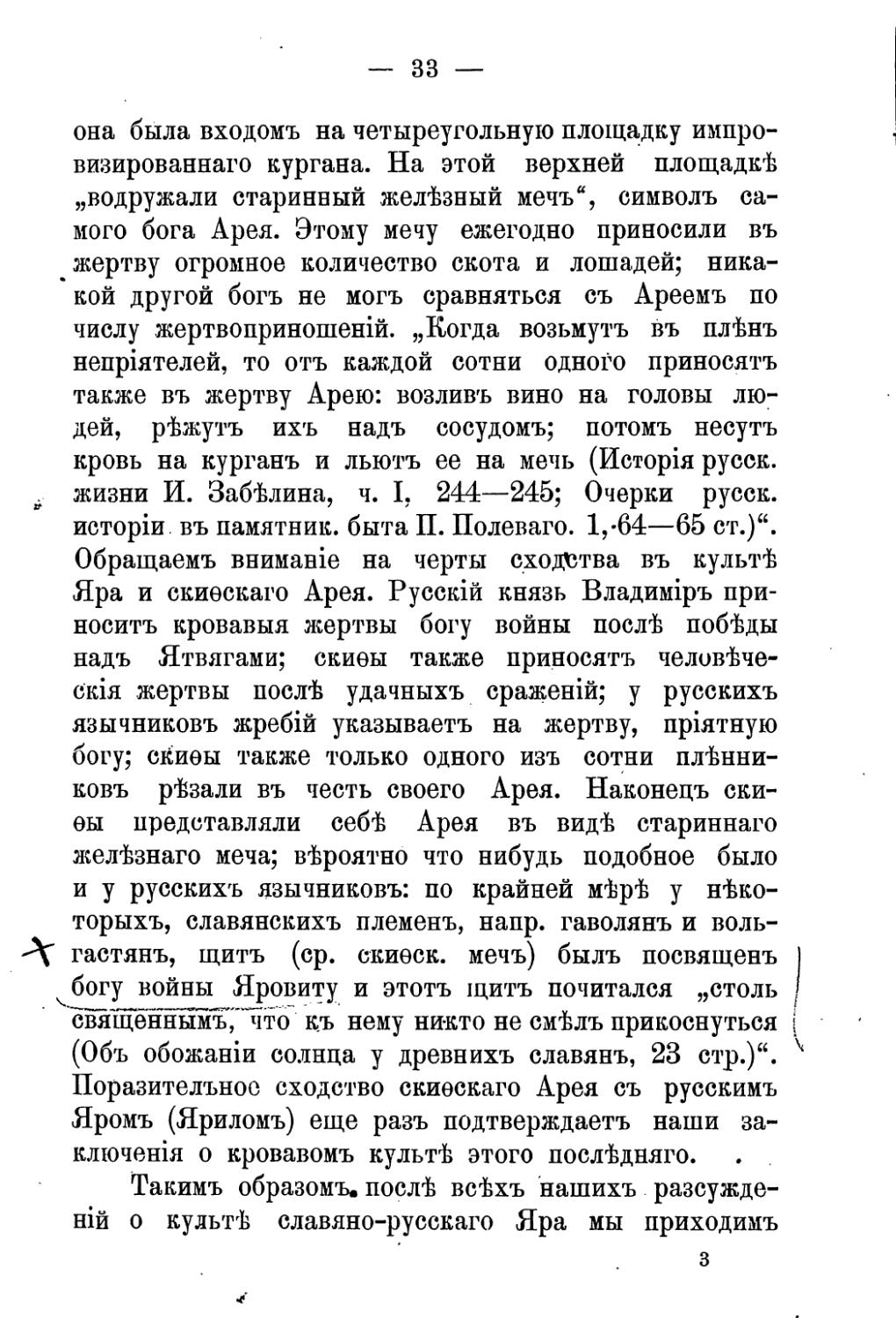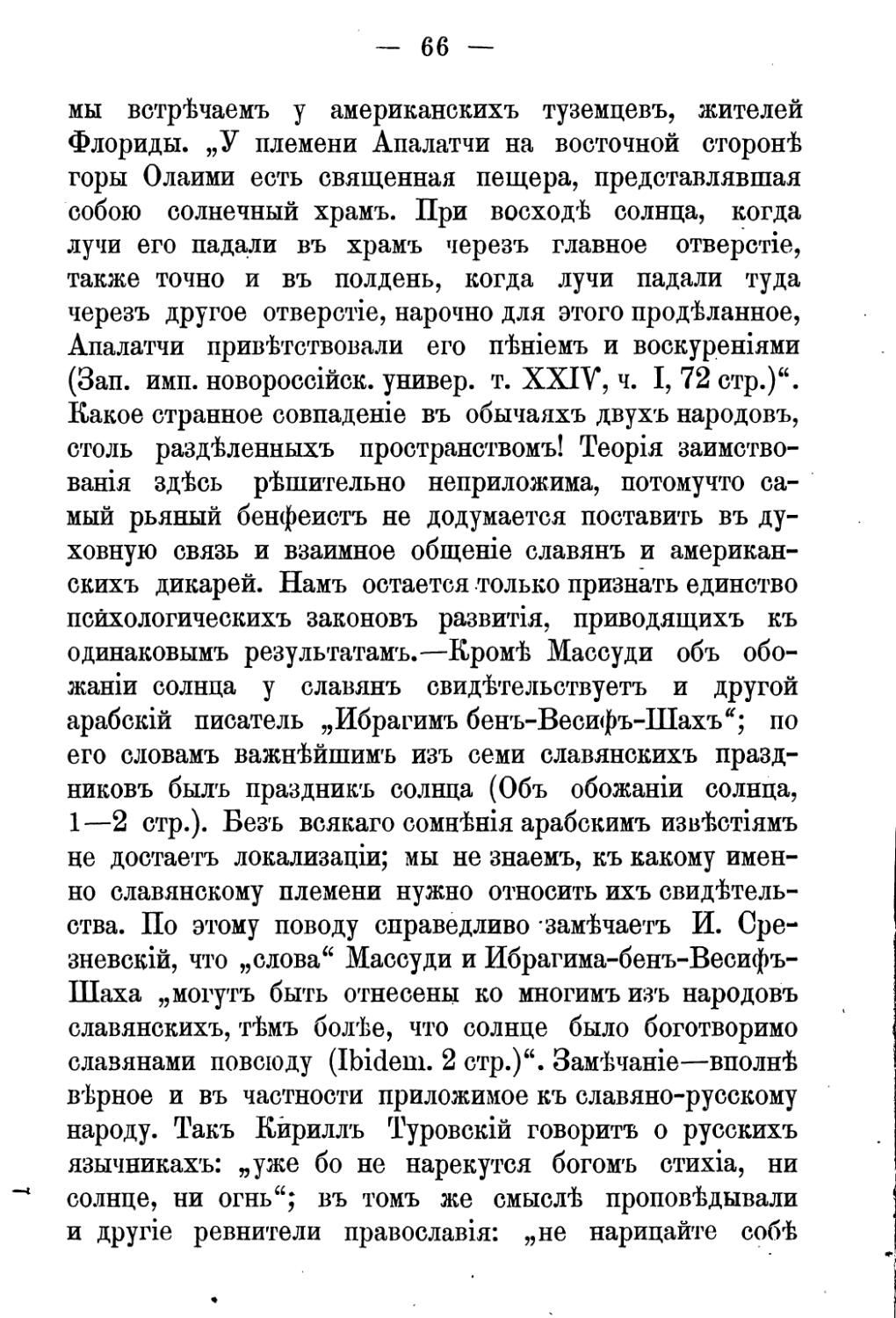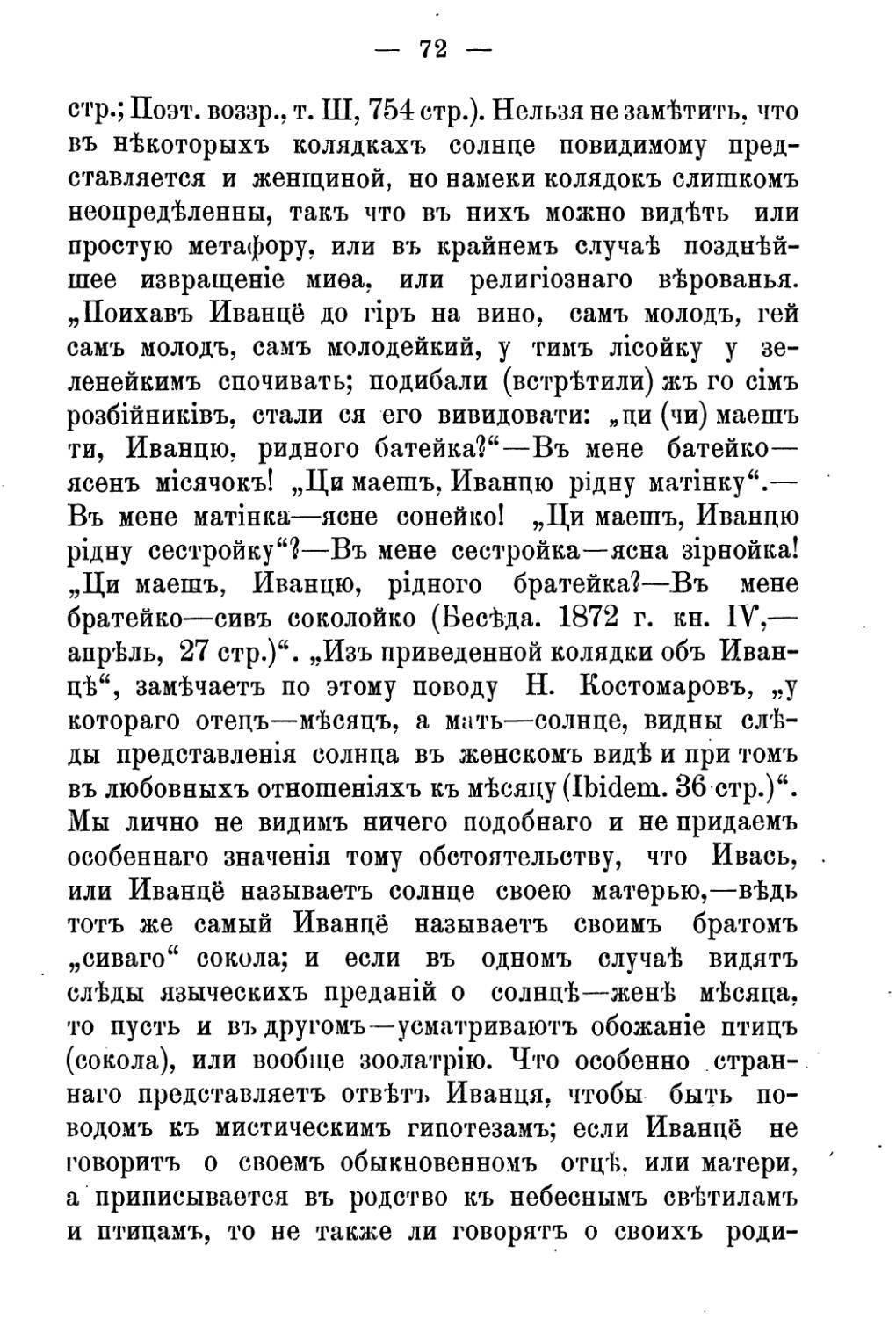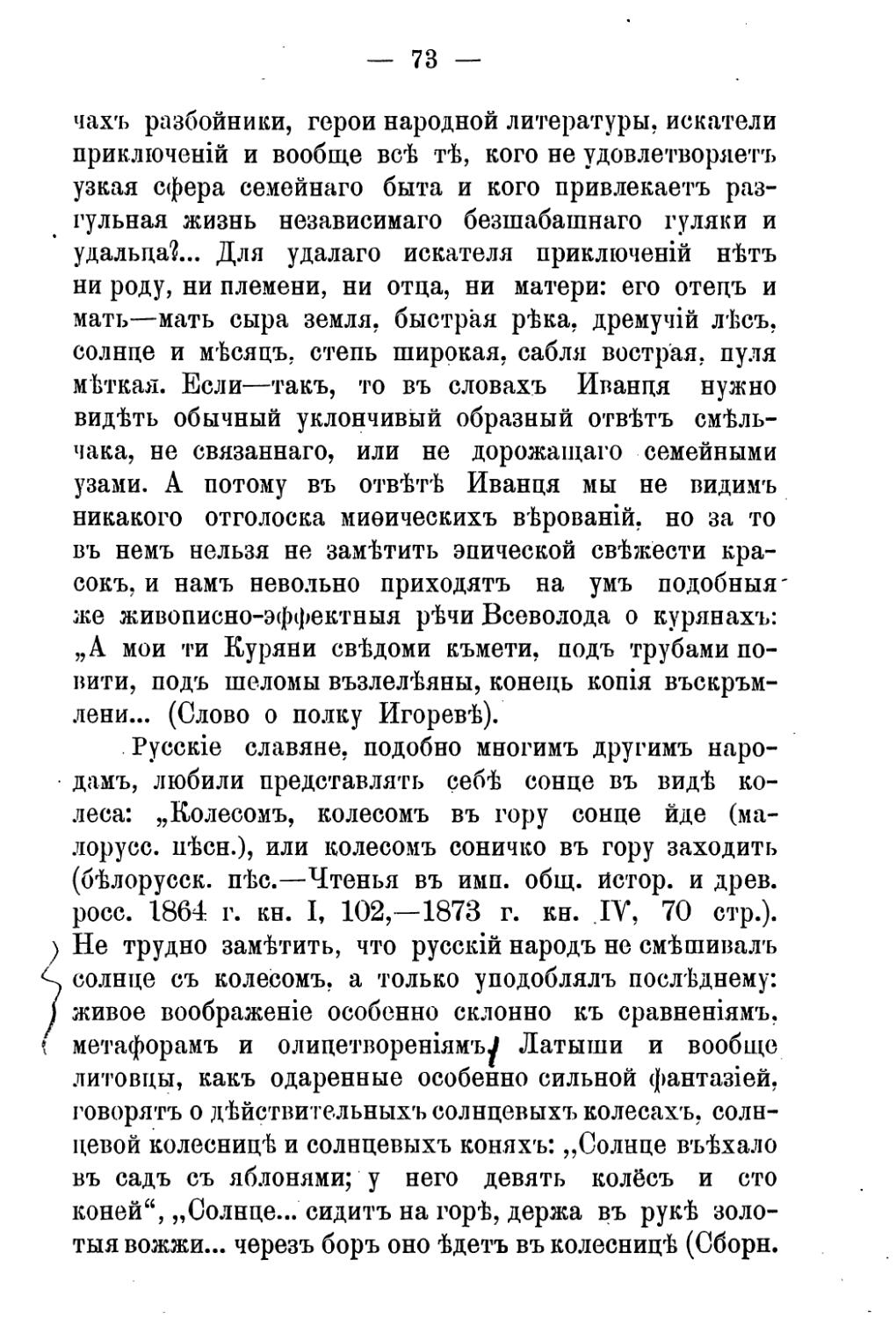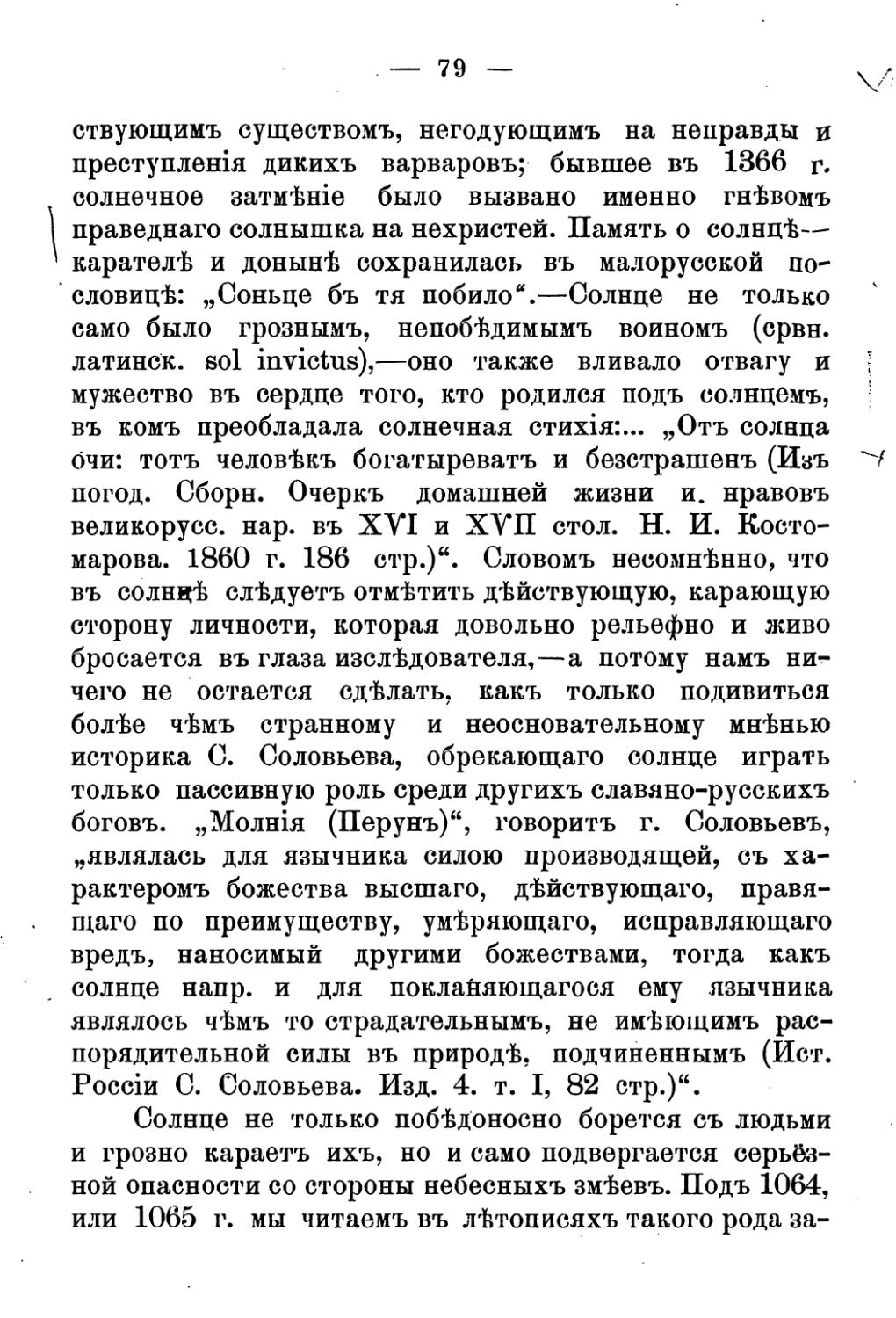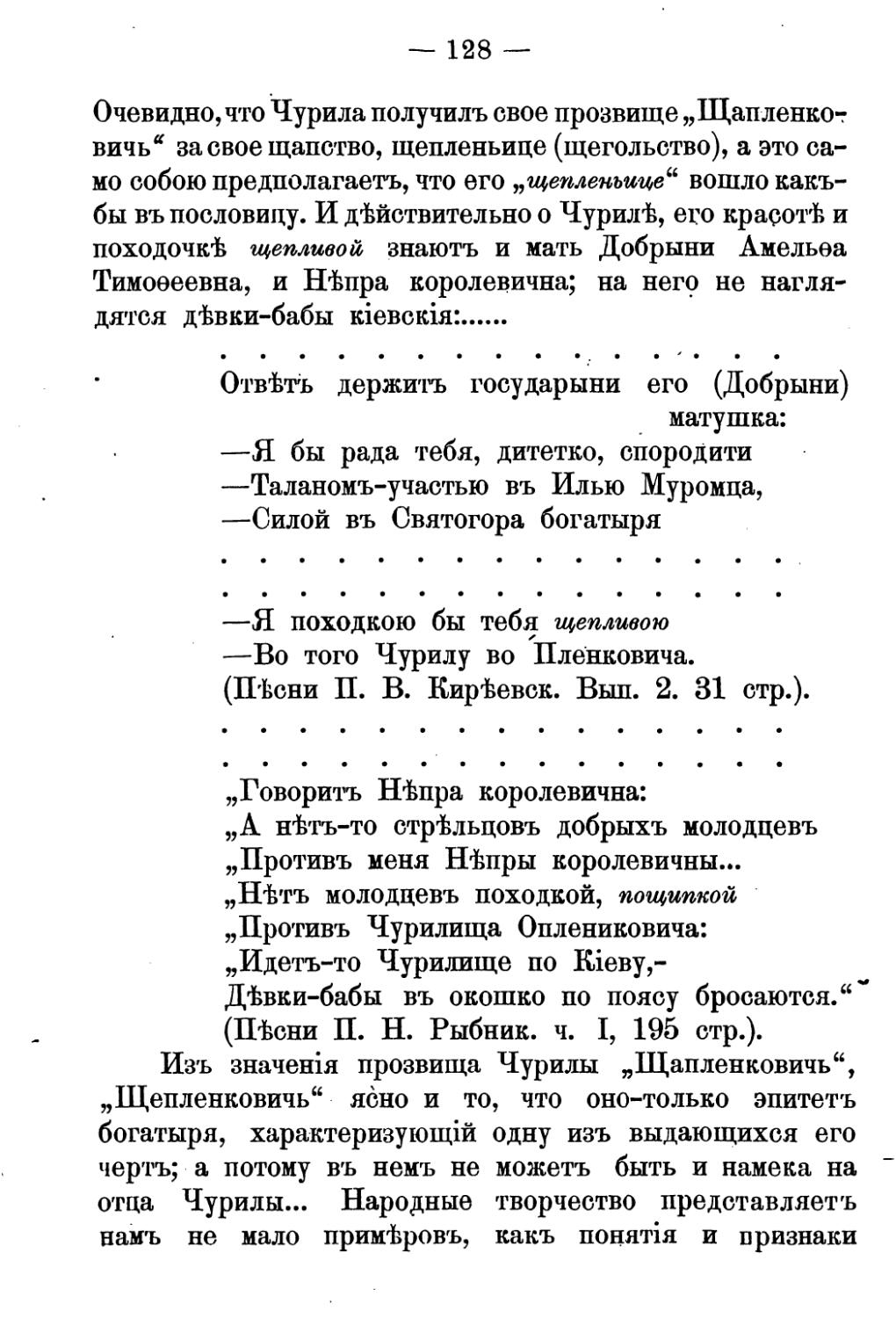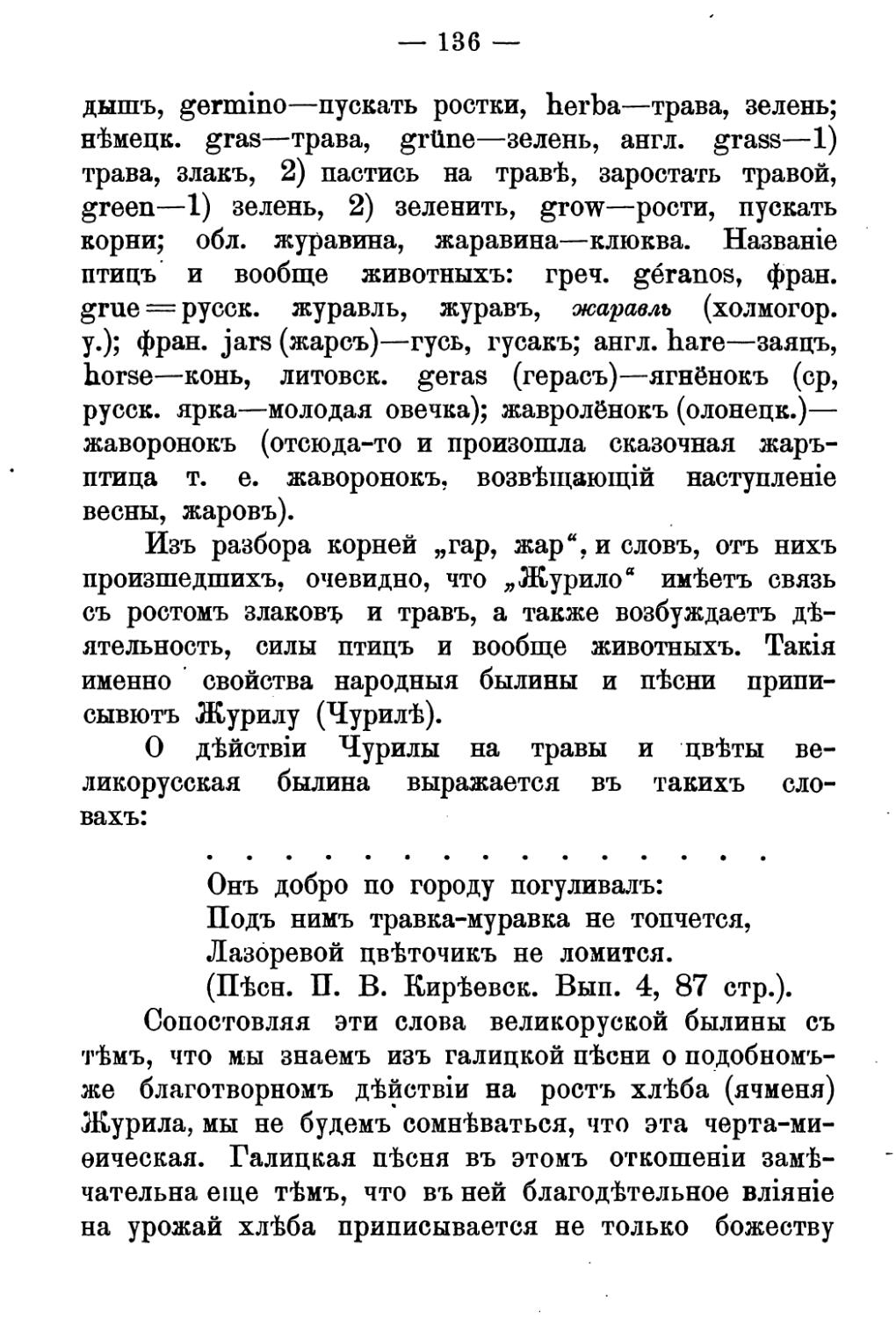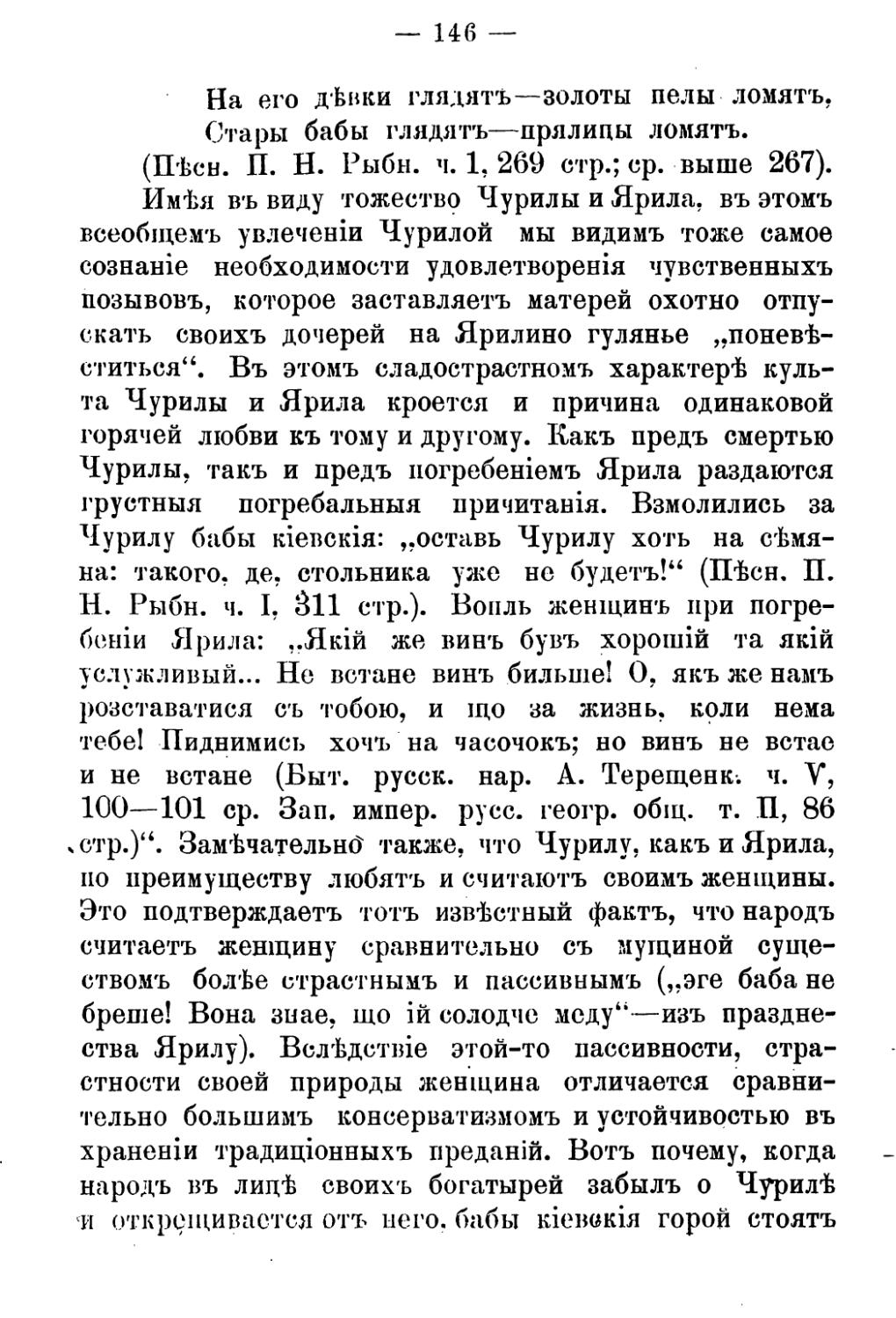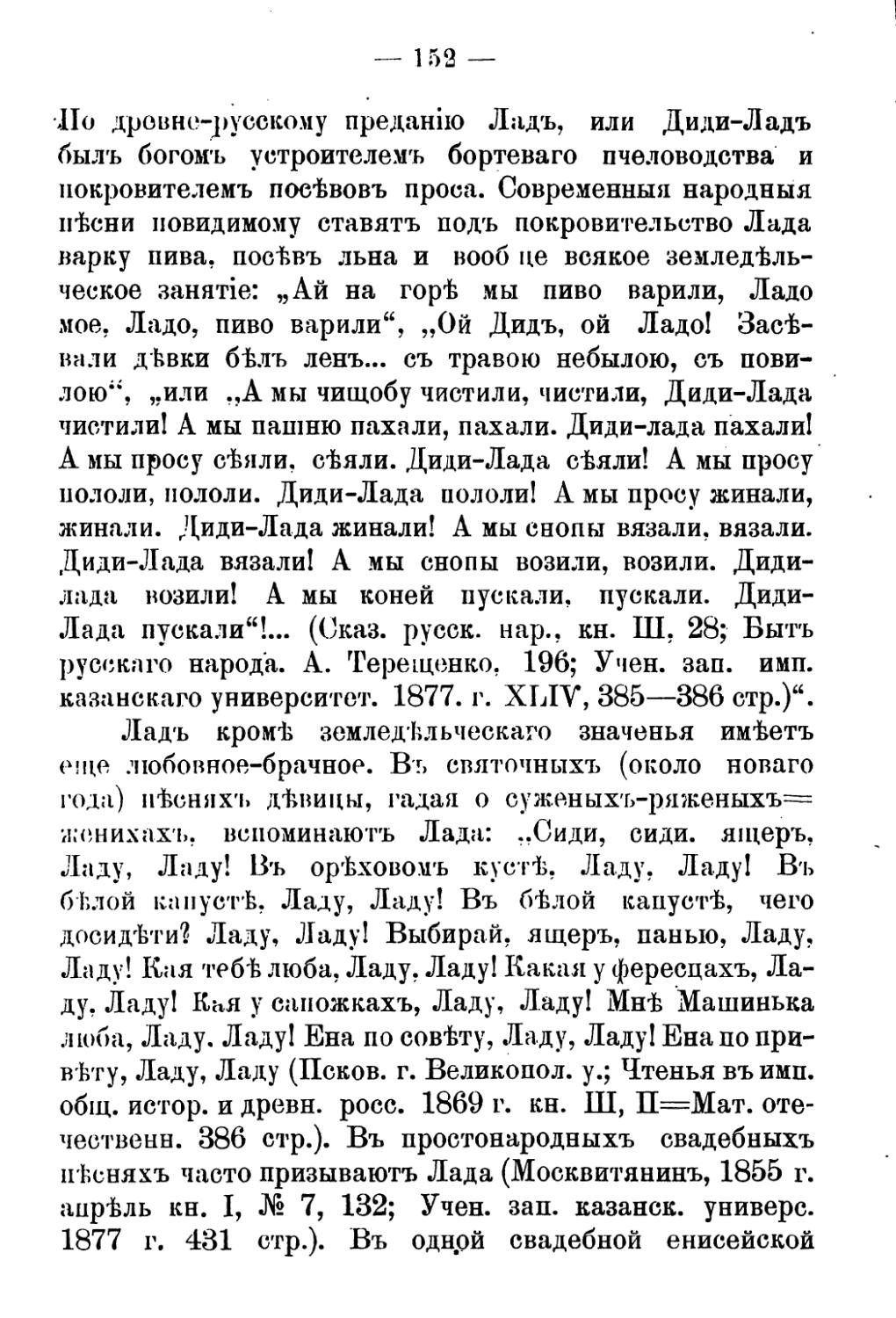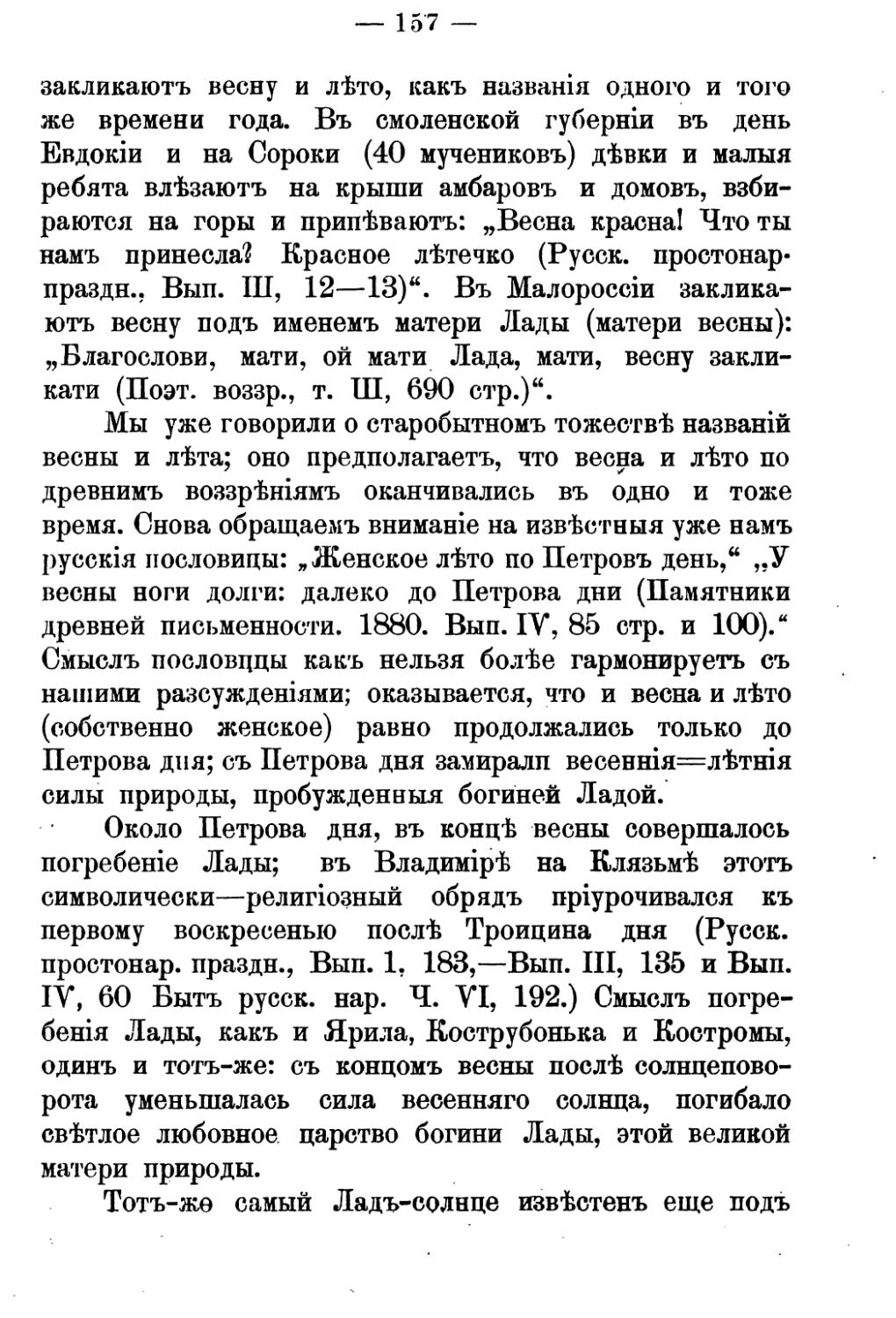Text
СТАРО-РУCCKIE
СОЛНЕЧНЫЕ
ОГИ И В О Г И И
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗСЛЗДОБАНК
МИХАИЛА СОКОЛОВА.
СИМБИРСКЪ.
Типограф1я А. Т. Токарева.
1887.
С.-Петербургъ. Цензурою дозволено 29 Марта 1887 года.
I. Древне-руссктй солнечный культъ. Историческое обозрите.
У всйхъ языческихъ народовъ: древнихъ и новыхъ, стараго и новаго света, солнце несомненно было са-мымъ уважаемымъ и любимымъ божествомъ. Съ боже-ствомъ солнца язычникъ соединялъ самыя лучппя воспоминашя своего отдаленнаго прошлаго; къ солнцу же онъ обращался съ мольбою въ своихъ нуждахъ. Справедливость требуетъ признать тотъ фактъ, «что иногда во главе языческаго Олимпа становились боги и не солнечнаго происхождешя, какъ наприм. богъ-громовникъ, или какой-нибудь полукнижный Брама (Парабрама). Но богъ-громовникъ по самому существу того небеснаго явленья, которое онъ олицетворяетъ, имеетъ значенье только местное, для некоторыхъ только странъ, и притомъ онъ всегда представляется для простодушнаго дикаря какимъ-то недоступнымъ, грознымъ и карающимъ существомъ. Книжныя панте-' истичесщя божества, въ роде Парабрамы, потому уже не могутъ прюбрести симпатш простаго народа, что они вообще мало известны въ массахъ не философствующей толпы; таюя божества, какъ придуманныя жрецами, и известны только въ ихъ ограниченномъ кругу. Вотъ почему даже и тамъ, где главнымъ богомъ
4
является не солнечное божество, солнце всетаки наиболее любимо и уважаемо. Не отъ бога-громовника, не отъ пантеистическаго существа, а отъ бога солнца производить свой родъ династш языческихъ царей. Мы разум'Ьемъ напримеръ египетскихъ фараоновъ (отъ бога солнца Ра, или Фра), индЬйскихъ царьковъ и американскихъ инковъ. Начало земледЬл!я и вообще цивилизацш приписывается также солнцу, или его детямъ (американсмя предашя дикарей, обитающихъ на возвышенностяхъ Боготы, а также инковъ). Словомъ у язычниковъ не было божества болЬе симпатичнаго и уважаемаго людьми, какимъ именно было само солнце.
Русское язычество не представляете исключешя изъ общаго правила: солнечные боги были самыми общеизвестными и любимыми на Руси.
Невидимому впрочемъ главнымъ богомъ у русскихъ язычниковъ былъ громовникъ Перунъ. Прокошй Кеса-ршскш, писатель VI века, говорите о религш древ-нихъ славянъ:. „Они (Славяне и Анты) признаютъ еди-наго бога, творца молши и грома (разумеется Перуна) единымъ господомъ вселенной, и приносить ему въ жертву быковъ и иныхъ священныхъ животныхъ". Трудно перетолковать это свидетельство, хотя вообще признано, что*<оно относится собственно только къ юго-западныцъ славянамъ. \Темъ не менее, судя по нашей летописи, Прокошево свидетельство вполне приложимо къ эпохе княжеской Руси отъ Олега вещаго до Владим1ра язычника. Мы видимъ, какъ мужи Олега, по настояшю византшскихъ императоровъ Леона и Александра, клянутся оруж!емъ своимъ и богами: Пе-руномъ и Волосомъ. Говоря о ревностномъ служеши Владим1ра языческимъ богамъ, летописецъ замечаете: „И нача княжити Володимеръ въ Киеве единъ, и по-
5
стави кумиры на холму вн1> двора теремнаго: Перуна древяна, а главу его сребрену, а усъ златъ, и Хърса, Дажьбога, и Стрибога, и Симарьгла, и Мокошь" (Лав-рент. л. подъ 980 г.). При чтенш этихъ словъ летописи невольно бросается въ глаза то самое обстоятельство, что л'Ьтописецъ сравнительно очень много говорить о Перун)}, описываетъ мелшя подробности его идола,— между тЬмъ тотъ-же самый л'Ьтописецъ, когда Д'Ьло идетъ о другихъ богахъ, едва удостоиваетъ ихъ той небольшой доли внимашя, чтобы передать хотя-бы ихъ имена, на первый разъ вообще довольно странный и, за исключёшемъ одного только Дажьбога, вообще непонятныя для современнаго русскаго человека.
Выводъ отсюда можетъ быть только одинъ: обычное мненье о главенства Перуна на русскомъ Олимп)} не совсЬмь не справедливо, или, лучше сказать, совсЬмь справедливо.
Но хотя въ историческую эпоху русскаго язычества Перунъ быль главнымъ, первенствующимъ богомъ, тЬмъ не Mefffee онъ вообще далеко не пользовался симпа'йями славяно-русскаго народа. Онъ былъ слиш-комъ уже грознымъ, своими громовыми стрелами онъ равно • разилъ какъ праваго, такъ и виноватаго; самый громъ, который олицетворялся въ Перун^, былъ сим-воломъ, npeflBicTieMb несчастья. Не даромъ и теперь еще въ числ'Ь свадебныхъ приметь мы находимъ такую: „Въ день в^нчашя ясная погода знаменуетъ счастливую жизнь, дождь—богатство, громъ—несчасйе (Воро-нежскш литерат. сборникъ. Вып. 1-й, 390 стр.) Кром)} того Перунъ ^потому уже не могъ привлечь къ ce6i внимашя русскихъ язычниковъ, что громъ и молшя, т. е. Tt небесныя явлешя, въ которыхъ онъ проявлялъ свою силу и могущество, вообще мимолетны, быстро появляются и еще скорее исчезаютъ. Въ этомъ отно-
6
шеши много выигрывало предъ Перуномъ светлое, пресветлое солнышко. ВсЪмъ нужное, всЪхъ радующее оно, казалось, не боялось враждебныхъ силъ мрака и злобы; и думалось русскому язычнику: нгЬтъ, не одолеть врагамъ (небеснымъ змеямъ) наше солнышко. Эту веру народъ выразилъ въ загадке: „Што въ ящикъ не запереть?" Въ отгадке разумеется солнце (Пермскш сборникъ, кн. 1, отд. II, 129 стр.). Такимъ образомъ Перунъ не пользовался, или не влад^лъ теми выгодами положенья, который располагали русскш народъ въ пользу солнца. Потому-то и народъ вообще худо помнитъ Перуна; это обстоятельство какъ-будто подтверждаетъ мненье техъ( изследователей, которые считали Перуна не русскимъ, а варяжско-норманскимъ богомъ, славянизированнымъ Торомъ (М. П. Погодинъ, г. Шеппингъ, Янъ Эразмъ Воцель).' Темъ не менее догадка этихъ изследователей не имеетъ прочныхъ основашй: вопервыхъ она требуетъ признать полу-сказочный разсказъ летописи о призваши варяжскихъ князей за исторически фактъ, что слишкомъ уже сомнительно, что-бы ни говорили рьяные норманисты; вовторыхъ-же—и это самое главное—народъ, хотя и худо помнитъ о Перуне, но всетаки не забылъ его окончательно (белоруссы и отчасти малоруссы).
Чемъ меныпимъ значеньемъ и любовью пользовался громовержецъ Перунъ, темъ более и ярче возвышался образъ милостиваго подателя всякихъ благъ, пре-светлаго солнца. Солнце (Дажьбогъ) было силою, оживляющею всю природу, оно возбуждало или возжигало жизнь въ растешяхъ, животныхъ и людяхъ. Но солнце ' (Дажьбогъ) не было только покровителемъ и благоде-телемъ русскаго народа; потому-то оно и благоволило къ нему, потому-то оно и было глубоко уважаемо на Руси, что было соединено кровнымъ родствомъ со всемъ
славяно-русскимъ народомъ. Русскш народъ съ неза-памятныхъ временъ считался внукомъ Даждь-бога (солнца). „Тогда при Олзе Гориславличи", читаемъ мы въ слове о полку ИгоревФ, „сЬяшется и растяшеть усобицами; погибашеть жизнь Даждь-божа внука, въ Княжихъ крамолахъ вгЬци человЪкомъ сократишась". Обращаемъ внимаше на взаимную связь и ходъ мыслей певца знаменитаго слова. Певецъ указываете на горькую, несчастную жизнь Даждь-божа внука и далее поясняете, что несчастное положенье Даждь-божа внука, или, что тоже, сокращеше вЪковъ челов'Ьческихъ (а не княжескихъ) зависитъ отъ княжескихъ междо-усобш (уд'Ьльнаго нестроетя).ХЯсно, что подъ Даждь-божимъ внукомъ разумеется весь русскш народъ, а не родъ только русскихъ князей, какъ думается нЪ-которымъ изслЪдователямъ.^ Мы разумеемъ И. Срезнев-скаго. „Подъ именемъ внука Дажь-бога“, говорите г. Срезневскш, „я понимаю Владим1ра, известнаго и въ народныхъ пЪсняхъ и сказкахъ подъ именемъ „Крас-наго солнышка". (Объ обожаши солнца у древн. слав. 16 стр.). Но вопервыхъ выраженье „Красное солнышко" есть просто ласкательное прозвище любимаго князя, и нужно быть слишкомъ уже увлекающимся ми-оологомъ, чтобы, подобно г. Срезневскому, въ другихъ случаяхъ очень трезвому изсл4дователю, или въ новейшее время Л. Воеводскому (Запис. импер. новоросс. универе. 1880 г. Т. 30, 460 стр.),—видеть въ этомъ прозвище отголосокъ народныхъ миеологическихъ пре-данш. Вовторыхъ—и это едва ли не самое главное— солнышкомъ, краснымъ солнышкомъ прозывается не одинъ только князь Владим1ръ, но и вообще любимый человекъ. Въ народныхъ песняхъ назваше солнышка поочередно носятъ хозяинъ или хозяйка въ дому, женихъ или невеста. Такъ въ одной свадебной костром-
8
ской песне невеста называетъ отца обогрЬвнымъ, Ч краснымъ солнышкомъ. „Только св’Ьтъ мой кормилецъ батюшка, мое красное солнышко, мое летнее, теплое, ты мое обогр^вное (Москвитянинъ 1855 г. апр. кн. 1, № 7, 113 стр.)“. Отсюда мы заключаемъ, что, если уже нужно видеть въ прозвище князя Владим1ра 'ч‘- указанье на то, что онъ (красное солнышко—Владим1ръ) считался потомкомъ, внукомъ Даждь-бога, тоже самое нужно думать и о каждомъ русскомъ, который, какъ хозяинъ въ дому, отёцъ семейства, или женихъ, также называется краснымъ солнышкомъ; тоже нужно сказать и о каждой русской: матери семейства, или красной дЪвиц’Ь-нев'Ьст'Ь, и онЬ происходятъ изъ рода Даждь-бога, потому что народная лЬсня каждую изъ нихъ величаетъ краснымъ солнышкомъ. Такимъ обра-зомъ въ конце концовъ после неправильныхъ догадокъ г. Срезневскаго и предполагаемыхъ выводовъ, выте-кающихъ изъ его положенья, мы опять приходимъ къ
). обычному мненпо, что подъ Даждь-божимъ внукомъ сл'Ьдуетъ разуметь весь русскш народъ (Истор. русск.
5 _ слов. И. Порфир, ч. 1, стр. 24).
Всл,Ьдств1е особенной симпатичности солнечныхъ боговъ, а также ихъ родства съ славяно-русскимъ на-родомъ, солнечный культъ сравнительно вообще довольно ярко определился на Руси; по той же самой причине, какъ мы думаемъ вопреки г. Шеппингу и Беляеву, до сихъ поръ въ простомъ народе сохранились почти все имена главныхъ исторически—извест-ныхъ солнечныхъ боговъ (а не русалокъ только, до-мовыхъ и лешихъ); все современные полуязычесше V обряды русскаго народа также вращаются около по-клонешя солнцу (Нижегор. епарх. вед. 1865 г., № 18, 24 стр.). Вт. виду особеннаго значешя русскихъ солнечныхъ боговъ и ихъ близости къ человеку, мы пе-
9
реходимъ къ историческому обзору солнечнаго культа; постараемся обрисовать образъ и выяснить характеръ русскихъ солнечныхъ боговъ, обратимъ внимаше на историческое развипе солнечнаго культа, его видоизмЬ-ненье и забвенье характерныхъ черта его.
Хърсъ, или Хръсъ, Хорсъ (осетинско-персидское хурръ, хуръ-солнце) былъ богомъ солнца; въ знакъ особеннаго уваженья и почтенья его называли вели-кимъ Хорсомъ. Объ немъ говоритъ слово о полку Иго-реве въ сл’Ьдующих'Б эпическихъ выражен!яхъ: „Все-славъ Князь людемъ судяше, Княземъ грады рядяше, а самъ въ ночь вълкомъ рыскаше; изъ Кыева дорис-каше до Куръ Тмутороканя; великому хръсови влъкомъ путь прерыскаше". Мы видимъ замечательную картину состязанья смертнаго въ беге съ самимъ солнцемъ. Волкодлакъ Всеславъ, какъ славянинъ и русски!, не боится боговъ, не признаетъ какой-нибудь судьбы, грозной для человека, и смело выступаетъ какъ-бы въ состязаше съ великимъ Хорсомъ; и действительно вещему князю удается предупредить Хорса: прежде нежели успелъ подняться Хорсъ-солнце, чтобы принять вызовъ, Всеславъ былъ. уже въ Тмутаракани (ср. Ж. М. Н. Пр., 1841 годъ, часть XXIX, IV, 34 стр. П. Прейсъ). Это состязаше Всеслава съ Хорсомъ-солнцёмъ можно сопоставить съ подобнымъ же извест-нымъ состязаньемъ болгарскаго юнака. Похвалился юнакъ, что онъ имеетъ быстраго коня и съ нимъ обгонитъ самое солнце. Сблнце оскорбляется и при-нимаетъ вызовъ. При помощи быстраго коня и Солнцевой сестрицы юнакъ действительно обгоняете солнце и по условно въ награду получаетъ солнцеву сестру. (Временникъ, 1855 г. XXII книга, 5—10).
Въ XIV и XV векахъ повидимому еще не забыли Хорса; по крайней мере такъ можно заключать изъ
10
слова некоего христолюбца и ревнителя по правой вЬрЬ:... „и в^рують въ перуна и въ хорса (Летоп. рус. литер. Н. Тихонравова, т. IV, отд. III, 89, 92, 94). Правда, можно предположить, что ревнитель по правой вЬр’Ь знаетъ Хорса по книгамъ и такимъ образомъ вооружается противъ давно изчезнувшаго идолопоклонства, что нередко случалось съ древне-русскими книжниками; однако другое слово св. Григор1я не оставляете въ насъ ни малЪйшаго сомнешя. Въ этомъ слове категорически .констатируется факте современ-наго идолопоклонства по русскимъ украйнамъ: „но и ноне по украйнамъ молятся ему проклятому богу пе-руну и хорсу.... (Jbidem. т. IV, 97 стр.) Въ конце XVI века, или начале XVII существовало еще сбивчивое, туманное понятие о Хорее, насколько можно заключать изъ апокрифической беседы трехъ святителей. Въ этой беседе на вопросъ, отчего сотворенъ былъ громъ, св. Василш отвечаете: „Два ангела тройная есть: елленскш старецъ Перунъ и Хорсъ (вар. Нахоръ) жидовинъ—два еста ангела молншна (Щаповъ, Русск. pack, старообр., 454; Правосл. Собес. 1861, ч. 1, 252; Аоан. Поэт, воззр., т. 1, 250)“. Съ перваго же раза бросается въ глаза незнанье книжникомъ русской языческой религш; не говоримъ о томъ, что неизвестный книжникъ преврат-илъ языческихъ боговъ въ анге-ловъ; можно пожалуй помириться съ темъ, что Перунъ является предъ нами въ виде ангела молнш, заведую-щаго молтей (здесь еще не такъ видна деградащя языческаго сознанья),—но за то каждому понятно, что нельзя назвать молшеноснымъ ангеломъ Хорса, потому что онъ былъ не громовникомъ у русскихъ язычниковъ, а солнечнымъ богомъ. Замечательно, что неизвестный книжникъ называете Хорса жидовиномъ,—такъ какъ въ некоторыхъ спискахъ вместо Хорса упоминается
11
Нахоръ, то можно предположить, что Хорсъ называется жидовиномъ потому, что смешивается съ библейскимъ Нахоромъ, который действительно въ некоторомъ роде жидовинъ. Въ доказательство естественности нашего предположения можемъ сослаться на Никоновскую летопись, где также вместо Люта, сына Свенельдова, неожиданно выступаетъ библейскш Лотъ. (П. С. Р. Л., т. IX) Во всякомъ случае свидетельство апокрифической беседы трехъ святителей о Хорее очень темное и спутанное; а потому на основати его нельзя делать никакихъ выводовъ о происхождеши культа Хорса.— Между темъ всетаки находятся изеледователи, которые видятъ въ этомъ свидетельстве подтверждеше своихъ апрюрныхъ предположешй о чужеземномъ про-исхожденш Хорса. Такъ напр. И. Забелинъ, задумываясь надъ темъ, что Хорсъ называется жидовиномъ, говорить намъ следующее: „Это (жидовство Хорса) подаетъ намекъ на самое место, где существовало поклонеше Хорсу, именно у Хозаръ, перешедшихъ потомъ въ Моисеевъ законъ и оттого известныхъ больше подъ именемъ жидовъ Хозарскихъ. (Истор. русск. жизни И. Забелина ч. II, 291 стр.)“. Но если следовать подобному npieMy въ науке, то пожалуй придется признать татарско-магометанское происхождете того же самаго Хорса, или Перуна, потому что въ сказаши о Мамаевомъ побоище и тотъ и другой признаются татарскими богами. „Мамай же царь видевъ напрасно своихъ побиваемыхъ и нача призывати боги своя: Перуна, Савана, Тамокоша, Ракл1я, Гурса (Хорса) и ве-ликаго своего помощника Ахмета. (Сказ, русск. нар. И. Сахарова, т. 1, кн. IV, 80 стр.). Въ настоящее время темное предаше о Хорее невидимому сохра- у
няется въ лице зловещаго Карачуна, злого бога скот- if скаго падежа. И при томъ изъ всехъ русскихъ племенъ
12 —
/
ф бол Ье всего помнятъ и знаютъ Карачуна карпато-руссы (Русс, простонар. празд. И. Снегирева, вып. 1,139 стр.; Зап. импер. pvc. геогр. общ. по отд. этнограф, т. VII, 321.).
Дажьбогъ, Дажбогъ, (Лаврент.; Ипатск., Архан-гелогород. сп.; Густинск. л.)=даже Богъ (Радзивиловск. сп.)=Дажба (Воскресенск., Никоновск., Софшск. врем., Софшск. 1-я лЬт., Тверск., Русск. врем., Степей, кн.). =Дажбъ (Болып. Макарьевск. мин.)=Дажбу богъ (Ке-* нигсбергск. сп., И. Стриттеръ)=Дашуба или Дождь. (Подроби. Л'Ьтоп., Иннокент. Гизель)=Даждь-богъ (Слово о полку Игор.) былъ богомъ солнца,—народъ называлъ его царемъ—Солнцемъ. Объ этомъ мы знаемъ не изъ филологическихъ умствовашй и произвольныхъ сближены, а изъ словъ Ипатьевской лЬтописи: „И посемъ ,_1 (Сварогt) царствова сынъ его, именемъ Солнце, его же ' наричють Дажьбогъ... Солнце царь сынъ Свароговъ, еже есть Дажьбогъ, бЬ бо мужъ силенъ... (П. С. Р. Л., Т. II, 5 стр)“ Смыслъ слова „Дажьбогъ" различные изслЬдователи объясняли различно. 0. Эминъ невидимому производите Дажьбога отъ дождя. „Дожбогъ", говоритъ онъ, „былъ у нихъ (русскихъ язычниковъ) богъ дождя, и въ нуждЬ... сему идолу покланялись (Росс, ист. Оедор. Эмина, т. I, 283—284)“. НЬтъ ничего новаго подъ луною: въ сравнительно недавнее время мнЬше Оед. Эмина повторилъ Макушевъ, приравни-ваюпцй русскаго Дажьбога къ итал!йскому дождевому Юпитеру (lupiter pluvius. О происхожденш сл. Дажьбогъ).' Конечно такое MHtflie произвольно и не нуждается въ опровержены. Но не менЬе произвольно поступали и друпе изсл’Ьдователи. Мы им'Ьемъ въ виду А. Аеанасьева и Н. И. Карцева. Г. Аеанасьевъ въ ДажьбогЬ усматриваете слово, производное отъ корня дажь-св^тъ, светлый. „Слово дажь (Дажь-богъ) есть
13 —
прилагательное отъ дагъ (готск. dags, нФмец. tag, санскр. ahan вместо баЪ.ап)=день, свете, родствен-наго съ санскр. корнемъ dah—жечь, и литовок, глаго-ломъ degu—горю (Поэт, воззр., т. I, 65)“. Къ мн-Ьино г. Аеанасьева довольно близко подходить Н. Кареевъ. По его словамъ „Дажьбога можно сблизить съ веди-ческимъ наименовашемъ зари—Dahana (Филолог, зап 1872, вып. V, 58 стр.)“. Мы не увлекаемся догадками Гриммовскихъ последователей и держимся бол-fee простого словопроизводства (некогда обычнаго въ русской / науке); по нашему мнешю слово Дажь-богъ, или Даждь-' богъ—сложно изъ „дать, даждь (дай)“ и „богъ“ и означаете. бога, подателя всякихъ благъ. Прежде всего сошлемся‘на факты'парод наго словоупотреблешя. „Въ некоторыхъ губершяхъ Росс, доселе говорятъ: Дажба, вместо: далъ бы Вогъ (Русск. простонар. празд. И. Снегир., вып. IV, 189)“. Въ новгор. г., череп, уезда, говорятъ также: „Полно тосковать, Дажь-Вогъ (дастъ богъ) все минете*, или „Подучись Дажь-Вогу (Богу-подателю), управитъ понемногу (Вести. Европы 1878 г., октябрь, т. V, 810 стр.)“. Конечно намъ могутъ возразить, что народное словоупотребленье ровно ничего не доказываете, что оно позднейшаго происхождешя и явилось тогда, когда народъ забылъ древнейшее миоическое значенье Дажьбога. Предупреждая возраженье, мы приведемъ косвенныя доказательства той мысли, что слово „Дажьбогъ" никогда не имело дру-гаго значенья, какъ только бога-подателя. Мы обра-щаемъ внимаше на следующее обстоятельство: слово „Дажьбогъ* имеете связь съ древне-русскимъ именемъ Вогданъ (Богдай, какъ Рогдай); есть на Руси геогра-фичесюя назвашя местностей, получившихъ свое имя отъ Дажьбога, какъ напр.: Дацьбоги (Дадзибоги) въ Мазовше, Даждьбогъ въ мосальск. уезде,—въ парал-
14
лель съ приведенными местностями можно сопоставить Богдаево (Тверск. губ. Весь...г...у.) и Божедаевку (Хере. г. Алекс, у.). Для всякаго очевидно, что слово „Дажьбогъ" предполагаете другое „Богданъ“, равнымъ образомъ „Дацьбоги" по смыслу тоже, что Богдаево; здесь произошла перестановка составныхъ частей, изъ которыхъ слагается слово, какъ это нередко случается въ простонародномъ говоре, напр. великорусе, медведь и малорусск. ведмедь. А потому довольно странно попросту объяснять слова „Богданъ“ и „Богдаево" и въ тоже время видеть таинственно-миоическш смыслъ въ подобныхъ же выше-приведеннымъ выражешяхъ „Дажьбогъ" и „Дацьбоги" (ср. Русск. простои, празд., вып. I, 18; Поэт, воззр. т. I, 65; Вести'. Европы 1878, т. V, 810). Словомъ имя солнечнаго бога „Дажь-£ богъ" указывало только на одну черту его личности, какъ бога подателя;\При этомъ Дажьбогъ, какъ источ-никъ всякаго благополуч!я, являлся чемъ то въ роде добраго чувашскаго бога „Тора". Будучи внукомъ Дажьбога и следовательно находясь съ нимъ какъ-бы въ родстве, сознавая, что милостивый Дажьбогъ дастъ все, что у него ни попросишь, русскш народъ чувство-валъ себя вполне счастливымъ. Это довольство своимъ жреб!емъ или судьбою выразилось въ древне-русской пословице: „Беденъ бесъ, что у него бога нетъ. (Памяти. древн. письменности 1880 г. вып. IV, 78)". Смыслъ пословицы какъ бы такой: человеку не для чего отчаиваться и жаловаться на свою горькую долю, у него есть богъ, который всегда можетъ осчастливить, или обогатить его; зачемъ особенно печалиться: ведь человекъ—не бесъ (духъ мрака), который, какъ не имЬюшдй бога, обреченъ на вечную нищету и бедность.
Уяснивши себе хотя бы одну черту въ характере Дажьбога, мы снова возвращаемся къ истолкованью
15
смысла родства русскаго народа съ Дажьбогомъ, о-чемъ мы уже отчасти говорили выше. Если слово «Дажьбогъ" значить податель, то понятно, что русский народъ называетъ Дажьбога—солнце дЪдомъ (отцемъ) въ метафорическомъ смысла, какъ кормильца-батюшку. Следовательно древне-русскш язычникъ въ томъ же смысле называлъ Дажьбога (солнце) дедомъ, въ какомъ.и ныне дети называютъ солнце отцемъ, а себя какъ бы считаютъ Солнцевыми детьми: „Ведрушко, покажись, солнышко, покажись, золотое, прогляни, солнышко, посмотри: твои дети плачутъ, есть хотятъ, пить просятъ". Само собою понятно, что если Дажьбогъ былъ дедомъ въ метафорическомъ смысле, то онъ былъ родоначальникомъ всего русскаго народа, а не династии только русскихъ князей, потому—что всяшй человекъ, какъ мы видели изъ вышеприведенной пословицы, кроме только беса, разсчитываетъ или, по крайней мере, можетъ разсчитывать на милость ,бога, а следовательно въ томъ же метафорическомъ смысле признаетъ свое сыновство, или въ более почтительной форме называетъ себя внукомъ: по отношешю къ отцу, или деду—Дажьбогу. При такой точке зрешя на предметъ мы решительно отвергаемъ предположенья техъ изследователей, которые, подобно г. Срезневскому, подъ Дажь-божимъ внукомъ разумеютъ князя Влади-Mipa и вообще русскаго князя, какъ его потомка (Собр. сочин. Шишкова, ч. VII, 74; Взглядъ на слово о полку игореве Веев. Миллера, 71—74). Въ частности по поводу сближенья Веев. Миллеромъ выраженья „Дажь-божш внукъ" съ соответствую'шцмъ______ВИЗЙНТШСКИМЪ
"^igtiogOnetos^—^рбждённый солнцемъ" заметимъ, что вообще на основаншПзербвантй' Одного народа нельзя заключать къ верованьямъ другого: иначе миоы всехъ народовъ были бы тожественны и совершенно сходны
16
другъ съ другомъ, не имЬя нащональнаго оттенка или различгя; а потому если у грековъ солнцероднымъ былъ, или назывался только императоръ, то это не мешало всему русскому народу считаться внукомъ солнца.
Намъ остается сказать еще нисколько словъ по поводу того, почему русски народъ называется именно внукомъ Дажьбога, а не сыномъ его. Некоторые изсл'Ьдователи думаютъ, что если русски народъ былъ внукомъ Дажьбога, то наверное былъ какой нибудь сынъ Дажьбога—солнца, отецъ русскаго народа; понятно, что народъ забылъ о своемъ предполагаемомъ отце и помнитъ только о деде. Такъ именно уверяетъ насъ г. Аоанасьевъ и въ доказательство своей мысли ссылается на известное предате о происхождени скиоовъ. „По скиоскому предатю", говорить г. Аоанасьевъ, „Небо родило бога—Солнце (Targitavus, Svalius), у котораго было три сына: Щитъ, Стрела и Коло (колесо, возъ и соха); эти три брата и почитались родоначальниками скиоовъ—воиновъ, кочевниковъ и пахарей. Согласно съ этимъ слово о полку называетъ русичей внуками Дажьбога (солнца)", конечно соответ-ствующаго скиоскому Таргитаву—солнцу (Поэт, воззр. т. II, 486). Мы думаемъ, что выраженье „внукъ Дажьбога" вовсе не предполагаетъ какого-то неизв'Ьстнаго отца и намъ не зач4мъ обращаться для разъясненья его къ скиоамъ. Русски народъ называлъ себя внукомъ Дажьбога, а не сыномъ, въ знакъ особеннаго благоговенья къ богу; да и вообще выраженье „внукъ Божи" было обычнымъ въ древне-русской письменности. „Во Оанчюжкой земл4", говорится въ одномъ русскомъ произведеши, „явился... Георги, прозвище--Дивить, назвался внукомъ Божимъ (Опис. церковно-слав... и русск. рукоп. импер. публич. библют. А. Бычкова.
17
С. П. В. 1882. ч. I, 277)“. А потому и не следуетъ строить сомнительныя гипотезы по поводу этого внука Дажьбога (бога).
Мы уже видели, что слово „Дажьбогъ“ до сихъ поръ удержалось въ народномъ языке; некоторые факты заставляют!, думать, что народъ вопреки мненью А. Лыпина (Вести. Евр. 1883 г. т. VI, ноябрь, 288 стр.) не только не забылъ о Дажьбоге, но хотя-бы механически помнитъ о значеши и смысле его культа. Дажьбогъ, какъ мы знаемъ, былъ однимъ изъ солнеч-ныхъ боговъ, даремъ-солнцемъ; естественно было прославлять и воспевать его около христеанскаго праздника Рождества Христова: тогда ведь древне-pyccKie язычники радовались возрождение, или просто рожденно новаго солнца, милостивато Дажьбога, который дол-женъ былъ освободить всю природу отъ оковъ зловещей богини зимы (Мораны). И действительно одна изъ современныхъ- полукнижныхъ песенъ, которыхъ немало распевается на празднике Р. Христова, упоми-наетъ о какомъ-то загадочномъ „дажьдь-нару“ (Дажьбоге), смешивая его съ Тисусомъ Христомъ, Искупи-телемъ рода человеческаго. „Достойно есть днесь удивлешя, духовному весел!е: ныне звезда на небеси явися, паче всехъ святая: ты предвозвещавши Бога нашего и на землю проявлявши, яко даждь-нару иашъ наидетъ, тако Христосъ смиренный съ небеси снидетъ (Кола., Летоп. русск. литерат. Н. Тихонравова, Т. I, отд. П, 150 стр.)“. Изъясняя эту замечательную народную песню, А. С. Великановъ замечаетъ: „Даждь“, какъ известно, есть собственное имя русь-славянскаго божества; оно отделено отъ предшествующаго слова Богъ, вместо котораго присоединено къ нему: нару, наръ-человегъ: Даждь-нару-Богочеловекъ (Разведки о древнейш. русь-славянск. грамотности А. 0. Велика
2
18
нова. 1878 г. 19 стр.)". Такимъ образомъ въ этой народной песне очевидно смешиваются туманный язы-честйя предаш я и более ясныя хриснаншая вгЬрова-шя; и действительно очень легко было сблизить ми-лостиваго Дажьбога, деда всего русскаго народа и по-родственному благоволившаго ему, съ Спасителемъ Mipa Христомъ, Который такъ возлюбилъ м!ръ, что предалъ Себя на распяйе за грехи всего Mipa, за первородный трехъ нашего праотца Адама.
Г| Яръ, Ярило, или Ярунъ (jaro—весна, галицко-д]русск. ярь-весна) былъ богомъ возродившагося весен-няго солнца и воплощалъ въ себе живительную силу * природы, буйнаго мужества и любви.—Впервые онъ упоминается въ летописи подъ именемъ „Симарьгла" (Симаергла). Но такъ какъ наше мненье не при-надлежитъ къ числу общепризнанныхъ, то мы предва-4 рительно переходимъ къ доказательствамъ въ пользу его.
Слово „Симарьгла^, имя неизвестнаго божества, упоминаемаго въ нашей первоначальной летописи, давно уже привлекало къ себе внимаше нашихъ изследователей. Объясняли это слово вообще различно; прежде всего спорили о томъ, считать-ли имя неизвестнаго бога или богини „Симарьгла" за одно слово, или видеть здесь два слова, по небрежности переписчика слитыя въ одно. Одни действительно находили здесь одно слово, а друпе видели два „Сима" и „Рьгла" и ссылались вопервыхъ- на Архангело-городскаго летописца, где вместо „Симарьгла" стоить и „сема" и „регла" и вовторыхъ на известное слово христолюбца и ревнителя по правой вере: „и верують въ перуна и въ хорса и въ мокошь и въ сима и ве рьгла".
Прежде всего поговоримъ о тЬхъ изслЬдователяхъ, которые въ имени божества „Симарьгла" видели два
19 —
слова. Одинъ нймецйй ученый, обративши свое вни-маше на первую половину слова „Симарьгла" „Сима", видитъ въ Симарьгл'Ь латышскую богиню земли Сейму (Москвит. 1851. ч. Ш, № 9 и 10, 117 стр.). П. Лрейсъ для объясненья словъ „Сима“ и „Рьгла" ведетъ насъ къ ассиршскимъ народамъ, переселеннымъ въ Палестину въ конц'Ь УП столййя предъ Р. Христовымъ. IV книга царствъ, ХУП, 30 сообщаетъ намъ, что эти народы и въ Палестинй покланялись своимъ отече-ственнымъ богамъ, изъ которыхъ намъ известны (по Библш) Ергелъ (Ergel=Nergel=Nergal) и Асимаеъ (Asimath=Asima). По мненью Прейса нашъ лйтописецъ изъ „Ергелъ" сочинилъ русскаго бога „Рьгла" (Ерьгла), а изъ „Асимаеъ"—„Сима"; конечно съ точки зренья П. Прейса такое отношенье къ дйлу нашего летописца объясняется и извиняется его невйжествомъ, которое простодушно смешивало и сливало русское язычество съ греческимъ и въ данномъ случай съ ассиршскимъ (Ж. М. Н. Проев. 1841, отд. .IV, 37—39, 41—43). Г. Микуцкш, выходя изъ anpiopnaro положенья (обыч-наго въ миеолойи природы), что имена языческихъ боговъ означаютъ, или указываютъ на свйтовыя явленья „йянье, блескъ, бйлизна", думаетъ, что древне-русскш „Симъ" предполагаетъ корень si—шять, свйтить, а „Ръглъ, Рьглъ"—корень арглъ, раглъ, санскрит, радж, рандж, греч. ’arg6s—красный, блистающш, бйлый (Матер1алы для корнев. и объяснительн. словаря русск. яз. и вс;Ьхъ славянок, нарйчш. Ст. Микуцкш, вып. П, 85 стр.).
Изъ изелйдователей, видйвшихъ въ Симарьглй одно слово, имя богини, прежде всего елйдуетъ указать на старинныхъ миеологовъ г. Стрыйковскаго и г. Руссова: по ихъ мненью Симарьгла тоже, что богиня Зимцерла. Почти Также думаетъ и одинъ изъ новйй-2*
— 20
шихъ изслЬдоватолей Н. Квашнинъ-Самаринъ; онъ сближаетъ русскую Симарьглу все съ той же польской богиней Симжерлой и переводить лингвистическое значенье этого имени словами „сивая молшя". „Нельзя ли“, говорить г. Квашнинъ-Самаринъ, „связать съ мол-шей—Марою и этой загадочной Симарглы, о которой упоминается въ древнихъ памятникахъ? Вотъ какъ мы объясняемъ себе это древнее слово. Оно сложное. Первая половина заключаете въ собе корень „с“ (свете), вторая-же въ древн'Ьйшемъ языке могла означать молнпо и родственна со словами: молшя, мелькать, моргать и т. под. Что объясненье это верно, можете доказать польская форма этого же имени Симжерла, очевидно, имеющая въ себе тотъ же корень си и другой родственный корень маргъ (моргать и сомжарить). Что-же въ конце концовъ значить слово Симарьгла? Значить оно—светлая молшя или еще точнее—сивая молшя (Беседа. 1872. кн. IV,—апрель, 236 стр.). Насколько можно судить по другой статье тогоже са-маго г. Квашнина-Самарина „О былинахъ, содержащихся въ сборнике П. С. Ефименка“, онъ и теперь еще твердо держится своего прежняго взгляда; мало того, онъ д’Ь-лаетъ еще одно предположенье о Симарьгл'Ь, замечательное по своей фантастичности. Известно, что въ нашихъ былинахъ встречаются женщины—богатыри; певцы, наши руссюе рапсоды, безразлично называютъ йхъ то поляницами, то паляницами. Никому не приходило въ голову задумываться надъ этимъ незцачитель-нымъ колебаньемъ говора, потому что о вообще часто переходить въ а не только въ великорусскомъ наречш, где всего чаще приходится наблюдать это явленье, но и въ мало-русскомъ: срв. малорусе, чого и великорусе, чаво и наоборотъ великорусе, ковалокъ и малорусе, кавалокъ. Но г. Квашнинъ-Самаринъ неожиданно де-
21
лаетъ важное открыто; оказывается, что слово паля-ница происходить не отъ поля, какъ думали (богатыри Ездили по полямъ, отправлялись на полеванье=богатыр-CKie подвиги), а отъ „палить"; паляница, толкуетъ онъ, это-эпитета богини Симарглы и въ древнейшую пору принадлежалъ только ей и следовательно только въ позднейшую эпоху, когда миоъ съ неба сошелъ на землю, этота эпитета сталь прилагаться и къ женщинамъ— богатырямъ, „паляницамъ удалымъ". „Певцы", передаемъ точныя слова самого г. Квашнина-Самарина, иногда произносить паляница, такъ что объ поле трудно въ этомъ случае думать; впрочемъ существуете другое объясненье отъ слова „палить". Если это такъ, то паляница вероятно была въ старину эпитетомъ какой нибудь богини и всего скорее—Симарглы—синей молнш (сравни имя Зореница, которое дается Заре), а впоследств!е его стали применять и къ земнымъ героинямъ (Мате-р!алы по этнографш русск. населен. Архангельск, губ. П. С. Ефименка. 1878. ч. П, 6 стр.)".
Какъ оказывается, все эти объясненья слова „Симарьгла" слишкомъ уже произвольны, чдобы быть хоть сколько нибудь научными. А потому мы не будемъ подробно разбирать ихъ и сделаемъ только несколько критическихъ замечанш. Прежде всего ответимъ на мненье г. Прейса, съ которымъ повидимому вполне соглашался г. Аоанасьевъ (Поэт, воззр. т. II, 266). Вопервыхъ считать „Сима и Рьгла" чужеземными богами мы не имеемъ ни малейшаго основашя. О Симарь-гле говорить не поученье XIV или XV века, когда заглохли язычесюя верованья, и не полукнижное сказанье, а нашъ древнейппй летописецъ. Довольно удачно на этотъ разъ говорить противъ догадки о чужезем-номь происхождеши „Сима и Рьгла" г. Квашнинъ-Са-маринъ. „О Симарьгле", замечаете онъ, „говорится въ
— 22
памятнике, относящемся къ такимъ временамъ, когда были немыслимы простодушный нелепости, въ роде напр. Мамая, призывающаго своихъ эллинскихъ боговъ: Перуна, Хорса и пр. (Беседа. 1872 кн. IV, апрель, 237 стр.)“. И притомъ, добавимъ мы, Л'Ьтописецъ кон-статируетъ фактъ современнаго Владимиру ’ (980), идолопоклонства; Владшпръ поставилъ ^кумиры, на холму вне двора теремнаго" и следовательно въ этомъ числе и кумиръ „Симарьгла"; странно-же, чтобы не сказать более, чтобы русскш народъ покланялся истукану божества, придуманна-го книжниками. Непонятно также, какъ это культъ чуже-земнаго бога, или боговъ такъ привился къ русскому народу, что сталъ совершаться публично. Вовторыхъ самое сближенье Прейсомъ „Сима" съ ассиршскимъ „Асимаоъ" и „Рьгла" съ„ Ергелъ" вообще неубедительно и не идетъ далее простого созвуч!я; оно столько-же научно, сколько подобное же произвольное сближенье г. Руссовымъ, или А. 0. Вельтманомъ Волоса (Велеса) съ Беломъ, или Ва-аломъ. Теперь вообще скажемъ о техъ изеледователяхъ, которые въ Симарьгле видятъ двухъ боговъ Сима и Рьгла; мненье этихъ изеледователей далеко не основательно. Имя божества „Симарьгла" встречается въ древнейшихъ памятникахъ, между темъ, какъ два бога Симъ и Рьглъ появляются въ позднейшихъ (напр. слова христолюбца),—а потому мы скорее всего склонны думать, что такое внезапное появленье двухъ новыхъ боговъ произошло вследспйе позднейшей порчи текста. Аналогичный примерь подобнаго рода искажены пред-ставляетъ намъ Степенная книга: тамъ вместо имени божества „Дажба" пишется „да Жаба" (книга Степенная ч. I, 138); такимъ образомъ позднейппй перепис-чикъ или книжникъ виделъ въ Дажбе какъ бы два слова „да" и „Жаба" (ср. церковно-слав. и малорусе, жаба—лягушка). Очевидно также, что въ данномъ слу-
23 —
чае была попытка осмыслить значенье неизв'Ьстнаго слова, но, какъ оказывается, попытка бол^е-ч^мъ неудачная.—Немение несправедливо и мненье т'Ьхъ изсл'Ь-дователей, которые, соглашаясь съ темъ, что Симарьгла— одно слово, видятъ въ немъ богиню Зимцерлу и следовательно существо женскаго рода. Чтобы видеть ошибку подобнаго рода изследователей, прежде всего сл£дуетъ иметь въ виду то простое обстоятельство, что „Симарьгла", какъ и „Перуна", „Хърса", стоить въ винительномъ падеже отъ глагола постави: „И нача княжити Володи-меръ въ Киеве единъ, и постави кумиры на холму, вне двора теремнаго: Перуна... и Хърса, Дажьбога, и Стри-бога и Симарьгла (980)“. А потому само собою понятно, что нельзя сказать, будто самое окончанье имени „Симарьгла" указываетъ на то, что здесь мы имеемъ дело съ женскимъ божествомъ (Москвитянинъ 1851. ч. Ш, № 9 и 10, 100 стр.). Вовторыхъ, еслибы действительно въ имени „Симарьгла" скрывалось божество женскаго пола, то въ известномъ слове христолюбца, сообразно . съ принятой тамъ транскришцей именъ языческихъ божествъ, мы должны были бы встретить формы датель-наго падежа женскаго рода „еже молятся симе (и) и рьгле (и), „какъ и „мокоши, рожанице, артемиде", между темъ тамъ употребляются формы мужескаго рода „и симу и рьглу“, какъ и „перуну, роду, артемиду" „Еже молятся огневе (и) подъ овиномъ и виламъ и мокоши и симу и рьглу и перуну и роду и рожанице (Летоп. русск. литер. Н. Тихонравова. Т. IV, отд. Ш, 90 стр.; ср. слово св. Григор1я 97 стр.).
Не соглашаясь ни съ однимъ изъ прежнихъ взгля-довъ на значенье и смыслъ таинственнаго имени „Симарьгла", мы волей, неволей должны высказать свой собственный. Мы такъ и сделаемъ. Для нашей цели прежде всего обращаемъ внимаше на различную тран-
24
скришщо этого имени въ известныхъ намъ памятни-кахъ, напр.: Симарьгла (Лаврентьевен, сп.), Семаргла (Софшск. первая лет.; Софшскш временникъ; Воскресенск. и Тверск. лет.), Семарьгла, Семаргла, Сэмаргла (Радзивиловск.; Русск. временникъ; Летоп. Русскш; Гу-стинск. лгЬт.; Л’Ьтоп. Переяславля-Суздальск.), Симанрь-гла (Никоновская л.), Симаирьгла (Никоновск. л. Арх. П), Семаергли или Семаргъ (Подроби: лет.), Сенмарек-ла (Пнвг.), Смаргла (книга Степени), Симаергла (Гер-берштейнъ), Семаергла (Иннокент. Гизель). Чтенье „Сенмарекла"—очевидно испорченное; неизвестный намъ книжникъ хотели осмыслить непонятное ему слово гла-голомъ „реку" и, нужно заметить, сделали это очень неудачно, такъ-же неудачно, какъ и авторъ подробной летописи, превративши Дажьбога въ „Дождь". Чтенье Никоновской летописи „Симанрьгла" (ошибка глаза) предполагаете другое „Симаирьгла" потому что только и легко смешать съ н; и действительно въ той же Никоновской летописи по рукописи московскаго архива министерства иностранныхъ делъ мы встречаемъ правильную транскрипцпо „Симаирьгла (П. С. Р. Л.; т. IX, 40 стр.)“. Изъ остальныхъ вар!антовъ имени „Симарьгла" мы считаемъ менее всего испорченнымъ, самымъ древними, а можете быть и вполне правильными „Симаирьгла, Симаергла, Семаергла". Изъ этого древняго, а потому также и полнаго чтенья „Семаергла произошли несколько испорченный, сокращенныя формы Семаргла, Смаргла и т.п." г— Слово „Симаергла" сложное и состоите изъ двухъ „сима, сема" и „ирьгла, ергла". „Сима"—ни что иное, какъ число семь; семь=симь, какъ великорус. шесть= малорус, шисть,—отсюда произошли двойныя формы „Симаирьгла и Семаергла". Число семь входить въ имя божества потому, что оно вообще - считалось священными у языческихъ народовъ. На это обстоятельство указывали еще И. Срезневскш. „Что число семь" гово-
25
ритъ г. Срезневскш, „было священнымъ у всЬхъ сабеи-стовъ, въ этомъ Н'Ьтъ сомненья. Вспомнимъ семь пла-нетъ и семь дней недели, семь коней солнца, семь преисподнихъ, очистительныхъ, представляющихъ семь врать солнца, Митры, семь стадъ Гелюса, седьмой день каждаго месяца, какъ день рождешя Аполлона и пр. (Объ обожаши солнца у древнихъ славянъ, 24 стр.).“ У насъ на Руси много таинственныхъ обрядовъ связывается съ Т’Ьмъ же числомъ семь: такъ зола изъ семи печей, вода изъ семи криницъ им^ють целебное д^йетчле. Тоже самое нужно сказать и о числахъ, сло-женныхъ изъ семи: 77 и 700 и т. д. Заговоръ запи-раютъ 77 замками; у Господа Бога „есть... 77 земель, 77 птицъ, 77 зверей, 77 скорбей, 77 травъ, 77 рыбъ“; „въ чистомъ поле есть 77 М'Ьдныхъ, св'Ьтлыхъ каленыхъ печей, на т4хъ 77 на М’Ьдныхъ, на свЬтлыхъ, каленыхъ печахъ есть по 77 еги-бабъ;... на море оюанЬ стоить груша, на той груше 700 дубцевъ, 700кокотовъ (сучьевъ)“. Вторая половина слова „Симаирьгла, Семаергла"—ирьгла ергла,—въ ирьглЬ, или ерглЬ мы видимъ Ярила. Ярило, какъ известно, называется также Ериломъ: какъ въ Костроме мы находимъ Ярилово поле, такъ въ Доро-гобужскомъ уЬздЬ есть Ерилово (Русск. простонародн. праздн. вып. IV, 52 стр.). Изъ Ерила посредствомъ придыхательной г образовалось Еригло, Ерьгло, какъ изъ малорусе, теди, тоди—великорусе, тогда. Ерьгло-же тоже, что „ирьгла, ергла“; замечательно также, что въ нЬкоторыхъ спискахъ слова христолюбца мы встрЬчаемь не „Рьгла, а „Ерьгла (Поэт, воззр. т. П, 266)“. Такимъ образомъ мы приходимъ къ тому заключенью/ что таинственное слово „Симаирьгла, Семаергла"—тоже, что Ерило (Ярило), Семи-ярила. Семь предшествуетъ Ери-лу и образуетъ сложное „Семи-ерило, Семаергла" по общему закону славянскаго языка вообще и русскаго
— 26
въ частности; такъ напр. всбмъ известны: Семиславъ, король польсюй, сказочная „змеивна, Семикраса" (Опис. церкв.-слав. и русс. рук. император, публич. библют. А. Бычкова, ч. I, 18; Лет. русск. литер. Н. Тихонравова, т. Ш, Ш отд. 15 стр.). Можно думать, что Ярило потому носилъ назваше „Семаергла", что онъ, подобно Руевиту (Яровиту), богу войны балтайскихъ славянъ, изображался съ семью головами подъ однимъ черепомъ. (Объ обожаши солнца у древнихъ славянъ, 24 стр.; Истор1я русск. жизни И. Забелина ч. I, 593). Если это такъ, то въ данномъ случай нужно видеть прим^ръ по-k разительнаго сходства между язычествомъ русскихъ и балтайскихъ славянъ, но только сходства, а не заимство-вашя. Самый Ярило подъ именемъ „Семаергла" является какимъ то космическимъ богомъ, олицетворяю-щимъ въ себе все силы природы (срв. Святовида и Браму съ 4 головами, двулицаго Януса),—а потому „Семаергла" отм^чаетъ собою перюдъ самаго высшаго развитая культа Ярила.
Считаемъ долгомъ заметить, что къ нашему мненью довольно близко подошелъ Ал. Фаминцынъ, который также во второй половине слова „Симаергла" видитъ Ерила, Ярила. Наше разноглаше съ Ал. Фаминцынымъ состоитъ только въ различномъ толковаши первой половины слова „Семаергла" „Семь, Симъ". Я сближаю „Семъ" съ семью (число) и вижу намекъ на семь головъ истукана русскаго бога Ярила, а г. Фаминцынъ слово „Семь, Симъ" объясняетъ изъ древне-сабинскаго Semo= Сгешй, полубогъ (Божества древнихъ славянъ вып. 1, 227).
Разумеется, все то, что мы сказали о значенш та-инственнаго имени „Семаергла", „Симарьгла"—ни более, ни менее, какъ наша догадка (гипотеза); но думаемъ и уверены, что наша догадка—самая вероятнейшая и недалека отъ того, чтобы быть фактомъ.
— 27
Впрочемъ мы не нуждаемся въ догадкахъ для того, чтобы доказать, что Ярило-божество древнее и не выдумано книжниками, какъ думалъ наир. г. Сахаровъ. По справедливому замечанью М. Максимовича о древности культа Ярила говорить одно только существованье соименныхъ боговъ у западныхъ славянъ: Яра, Яробуда, Яровита. Первое прямое, а не косвенное, письменное свидетельство о Яриле (Ярун£) встречается въ Суздальской летописи. Г. Макаровъ первый по этому поводу ссылался, на эту летопись. Но скептики преж-няго времени, какъ это нередко случается съ скептиками, даже не читая Суздальской летописи, заподозрили свидетельство г. Макарова. „Некоторые думаютъ", говорить напр. А. Терещенко, разумея подъ этими некоторыми г. Макарова, „что Ярило есть идолъ Ярунъ. Но изъ всехъ указатй на славянсйя божества мы не находимъ въ ихъ числе Пруда (Быть русск. народа ч. V, 100 стр.)“. Такъ какъ теперь Суздальская летопись давнымъ давно уже обнародована (съ 1855 г.), то мы легко можемъ проверить свидетельство г. Макарова. И действительно мы встречаемъ въ этой летописи следующее о Яруне: „Обыватели во граде Суждале (Суздале) прежде просвещешя святымъ крещешемъ бяху идолопоклонники, и имеяху боговъ языческихъ, и кроме ихъ Яруна, Пиная, Облупу, Купала, по которымъ и места были въ граде особливыя, где ихъ богомерсюя были мольбища, или капища (Временникъ 1855 кн. ХХП, П, 70 стр.)“. Такимъ образомъ оказывается, что г. Макаровъ не обманывалъ своихъ читателей, когда ссылался на Суздальскую летопись. Правда Суздальская летопись составлена довольно поздно; но это другой уже вопросъ, не касающшся г. Макарова; полагаютъ,что эта летопись написана въ 1754 году ключаремъ суздальскаго собора Ана-шей Оедоровымъ. Самъ Анашя Оедоровъ въ „предуведом-
28
лети къ любомудрымъ читателямъ" замйчаетъ, что онъ составилъ свою летопись на основаны древнихъ л'Ьто-писцевъ, древнихъ сказаны и исторы; а потому можно думать, что его свидетельство о Яруне взято изъ какого нибудь древняго памятника. Но согласимся, что Анашя Седоровъ самъ придумалъ это свидетельство, что также очень вероятно; всетаки нельзя не признать, что культъ Яруна (Ярила) древнее той эпохи, когда составлена была Суздальская летопись. По крайней мере мы знаемъ, что служеше Яруну пустило глубоше корни въ Суздале, такъ что одна улица по свидетельству той же летописи носила его имя „отъ Яруна Ярунова улица (Ibidem. 70 стр. и 77)“.
Если вообще въ нашихъ древнейшихъ летописяхъ слишкомъ мало, или почти вовсе нетъ прямыхъ свиде-^тельствъ объ Яре, или Яриле, за то нельзя сказать, чтобы не было косвенныхъ. Стоить напримеръ обратить внимание на древне-руссмя имена, чтобы видеть въ нихъ отголосокъ преданы о Яриле. Известно, что язычники вообще любили прозываться именами своихъ боговъ— явленье для насъ вообще довольно понятное: язычники съ одной стороны находили въ себе то, или другое сходство съ богами и даже въ своей гордости считали себя воплощешемъ безсмертныхъ боговъ, а съ другой стороны они хотели этимъ обстоятельствомъ приобрести себе внимаше и помощь боговъ въ трудныя минуты жизни. Тоже самое было и у насъ на Руси; не мало древне-русскихъ именъ и прозвищъ связано съименемъ' Яра. Древне-руссюя имена: Ири, посолъ Игоря (lira, Jurata по С. Гедеонову), Ярополкъ, Яраполкъ, Ярополъ, Ерполкъ, Ерополкъ, Ераполкъ, Ярославъ, Ерославъ, Эрославъ, Ярунъ, Ярышъ, или Ярошъ (старопольск.
. Ярошъ=старо-сербск. Урошъ, Белоурошъ), Ярогнедь, Ярогнедъ (конечно Ярогнева, какъ Доброгнева, Зби-
29
гн’Ьвъ, Избыгн'Ьвъ; испорченное чтенье „Рогнедь, РогнЬ-да); древне-руссия прозвища: Яръ туръ Всеволодъ, Иванъ Микулинъ сынъ Ярый, Микула Ярой. Савва Яря (П. С. Р. Л. т. П. 13, 249 стр.; т. Ш, 40, 89; т. IV, 21, 28; т. VI, 253; т. VII, 120 стр.; т. IX, 38—40; т. XV, 318; Лет. по Ипатск. списку. Изд. археограф, комм. 1871, 89 стр.; Новгородсгая л4т. 2 и 3. 1879 г., 11 стр.; Л'Ьтоп. Передел. Суздальск., 32; Временникъ. кн. X, 96, 115, 165, 253; Русск. простонар. праздн. Вып. IV, 53 стр.; Варяги и Русь С. Гедеонова, ч. I, 300—301). Въ этихъ древне-русскихъ именахъ мы ви-димъ намеки на характеръ культа Яра, или Ярила. Имя „Ярополкъ" указываете намъ на тоте факте, что Яръ былъ богомъ войны и въ частности зав4дывалъ собственно сражешемъ, рукопашной схваткой даежду двумя неприятельскими сторонами (полкомъ); имя „Яро-славъ“ раскрываете предъ нами дальнейшая черты воинственной личности Яра,—оказывается, что честь победы (слава), а следовательно и вообще удачный ис-ходъ войны всецело приписывается Яру. Яръ былъ непобедимымъ богомъ войны, жестокимъ и свирепымъ (Ярошъ=жестокш, твердый), а потому понятно, что f всегда побеждалъ тотъ, на чью сторону становился самъ А- Яръ. Вступая въ битву Яръ принималъ видъ Яръ-тура,
дикаго быка и въ такомъ образе избивалъ своихъ 5 враговъ.
Теперь мы переходимъ къ вопросу о человеческихъ жертвахъ въ честь Яра (Ярила). Основашемъ для своихъ заключешй мы считаемъ известный разсказъ летописи о предполагаемомъ принесеши въ жертву варяга-хри-стаанина. Въ данномъ случае руссюе язычники человеческою жертвою хотели возблагодарить боговъ за победу надъ врагами; страннаго въ этомъ известш нашей -летописи мы не видимъ, потому что человеческая жертвы
- 30 —
вообще были въ ходу У русскихъ язычниковъ: „Жряху имъ (кумирамъ), наричюще я богы; привожаху сыны l своя и дъщери, и жряху бесомъ, оскверняху землю требами своими, и осквернися кровьми земля руска и холмъ отъ (II. С. Р. Л., т. I, 34 стр.)“. ТгЬмъ не мен'Ье историческая критика въ лице г. Костомарова отрицаетъ самый фактъ принесешя въ жертву варяга—христаанина, считая его книжнымъ вымысломъ благочестиваго хри-с'йанскаго летописца; тотъ-же Костомаровъ и вообще отрицаетъ существоваше человеческихъ жертвоприно-шешй какъ у насъ на Руси, такъ и у прочихъ славянъ (Вести. Европы 1873 г. мартъ, 17—19). Вопреки г. Костомарову и согласно съ г. Соловьевымъ и г. Заб'Ь-линымъ мы не считаемъ себя въ праве не верить свидетельству летописи (Истор1я Россш С. Соловьева, т. I, 331; Истортя русск. жизни. И. Забелина, ч. П, 263). Дело въ томъ, что о существоваши человеческихъ жер-твоприношешй у русскихъ язычниковъ свидетельствуете целый рядъ какъ русскихъ, такъ и иноземныхъ писателей. Митрополите Иларюнъ (XI в.) въ известномъ слове „О законе, Моисеомъ даннемъ и о благодати и истине, 1исусъ Христомъ бывшимъ" съ особенной торжественностью и радостью отмечаете фактъ прекра-щешя человеческихъ жертвъ на Руси: „Уже не капища строимъ, но созидаемъ церкви Христовы; не закалаемъ ДРУГЪ ДРУга бесамъ, но Христосъ за насъ закалается ! и раздробляется въ жертву Богу и Отцу". Кириллъ Туровскш замечаете: „Отселе бо не пр!емлете требы адъ закалаемыхъ отци младенець. (Истор1я русск. церкви Макар1я т. I, 94; Нравствен, сост. русск. общ. И. Преображенскаго, 242 стр.; Поэт, воззр. т. П, 261)“. \О существоваши человеческихъ жертвоприношешй у русскихъ язычниковъ засвидетельствовалъ также Левъ Д1аконъ (Погодина. Изслед. Ш, 303, 316) и арабъ
— 31
Ибнъ-Даста. Показаше Ибнъ-Даста особенно характерно: по его словамъ руссше жрецы (врачи) приносятъ въ жертву богамъ женщинъ, мужчинъ и лошадей. Взявъ человека или животное, врачъ накидывалъ ему петлю на шею, нав’Ьшивалъ жертву на бревно и ждалъ (ждетъ), пока она не задохнется. Тогда онъ говорилъ: „Вотъ это жертва Богу (ИзвЬс'йя Ибнъ-Даста Д. А. Хволь-сонъ, 38 стр.)“. Рядъ русскихъ и иноземныхъ свиде-тельствъ не оставляетъ въ насъ никакого сомнЪшя въ томъ, что русскхе язычники нередко практиковали человеческая жертвоприношешя.
Если теперь несомненно, что человечесшя жертвы были обычнымъ явлешемъ на Руси, то нетъ уже до-статочныхъ и серьезныхъ причинъ подвергать сомне-шю и простодушный разсказъ нашей летописи о первыхъ русскихъ мученикахъ—варягахъ. Признаемъ этотъ разсказъ за несомненный фактъ и полагаемъ его въ основу для нашихъ заключенш о человече-скихъ жертвахъ въ честь Яра (Симарьгла). „Иде Во-лодимеръ“, говоритъ наша древнейшая летопись, „на Ятвягы, и победи Ятвягы, и взя землю ихъ. И иде Киеву, и творяше требу кумиромъ с людми своими; и реша старци и боляре: мечемъ жребий на отрока и девицю; на него-же надеть, того зарежемъ богомъ. Бяше Варягъ единъ, и бе дворъ его, идеже есть церкви святая Богородица, юже сдела Володимеръ; бе же Варягъ той пришелъ изъ Грекъ, держаше веру хрестеяньску, и бе у него сынъ красенъ лицемъ и ду-шею; на сего паде жребий по зависти дьяволи.... (И) реша пришедше послании к нему: „яко паде жребий на сынъ твой, изволиша бо и бози собе; да створимъ требу богомъ (983 г. Летопись по Лаврент. сп. изд. археогр. комм. 1872 г., 80 стр.)“. Обращаемъ внима-Hie на взаимную связь и последовательность событий.
32
Владилпръ приносить жертвы богамъ после победы надъ Ятвягами, очевидно, что онъ хотелъ этими жертвами возблагодарить боговъ за оказанную помощь. Всл'Ьдств1е той же самой причины, или по тому же самому поводу и старейшины съ боярами возбудили мысль о человеческой жертве; жребш, а не личный произволъ, долженъ былъ указать на то, какого юношу или девицу требуетъ себе богъ (или боги). Случайно жребш выпалъ на сына христ!анина—варяга. Для всякаго также понятно, что Владим1ръ и его бояре хотели почтить человеческою жертвою того именно бога, отъ котораго зависятъ какъ победа, такъ и по-ражеше. А мы уже видели, что такимъ богомъ, богомъ войны, былъ у русскихъ язычниковъ Яръ (Симарьгла). А потому несомненно, что предполагаемая человеческая жертва предназначилась для воинственнаго^Яра,. а не Перуна, какь ошибочно думали наши старинные историки, напр. 0. Эминъ, И. Елагинъ и митропол. Платонъ (Росс. ист. 0. Эмина, т. I, 291—292; 0пытъ повествов. о Росши. И. Елагина. Кн. Ш. 369; Истор1я россшской церкви. Платонъ 1838 г. 6 стр.).
Въ параллель съ кровавымъ культ омъ славяно-русскаго Яра (Ярила) мы не можемъ не сопоставить подобный же культъ скиескаго Арея. По словамъ Геродота скиеы—эти предполагаемые предки славянъ вообще и русскихъ племенъ въ особенности—покланялись небу и земле, солнцу и луне; но изъ всехъ боговъ скиеы особенно почитали бога войны и ему одному они строили что-то въ роде кумировъ и жертвенныхъ алтарей. Геродотъ съ своей греческой точки зрешя называетъ этого бога войны Ареемъ. Каждая скиеская община строила изъ хвороста огромный курганъ, на три гречесшя стадш въ длину и ширину; три стороны кургана—утесистыя, четвертая—покатая, потому-что
33 —
она была входомъ на четыреугольную площадку импровизированная кургана. На этой верхней площадкЬ „водружали старинный железный мечт/, символъ самого бога Арея. Этому мечу ежегодно приносили въ жертву огромное количество скота и лошадей; никакой другой богъ не могъ сравняться съ Ареемъ по числу жертвоприношенш. „Когда возьмутъ въ плЬнъ непр!ятелей, то отъ каждой сотни одного приносятъ также въ жертву Арею: возливъ вино на головы людей, рЬжутъ ихъ надъ сосудомъ; потомъ несутъ кровь на курганъ и льютъ ее на мечь (Истор1я русск.
. жизни И. Забелина, ч. I, 244—245; Очерки русск. исторш въ памятник, быта II. Полеваго. 1,-64—65 ст.)“. Обращаемъ внимаше на черты сходства въ культЬ Яра и скиескаго Арея. Русскш князь Владтпръ приносить кровавый жертвы богу войны послЬ победы надъ Ятвягами; скиеы также приносятъ человЬче-сйя жертвы посл'Ь удачныхъ сражешй; у русскихъ язычниковъ жребш указываетъ на жертву, пр!ятную богу; скиоы также только одного изъ сотни пл'Ьнни-ковъ резали въ честь своего Арея. Наконецъ скиеы представляли себ4 Арея въ видЬ старинная железная меча; вероятно что нибудь подобное было и у русскихъ язычниковъ: по крайней м4р4 у нЬко-торыхъ, славянскихъ племенъ, напр. гаволянъ и воль-гастянъ, щитъ (ср. скиеск. мечъ) былъ посвященъ I чбогу войны Яровиту и этотъ щитъ почитался „столь /
свя!цённымъ7"что къ нему никто не смЬлъ прикоснуться [ (Объ обожати солнца у древнихъ славянъ, 23 стр.)“. 4 Поразительное сходство скиескаго Арея съ русскимъ Яромъ (Яриломъ) еще разъ подтверждаетъ наши за-ключешя о кровавомъ культЬ этого последняя.
Такимъ образомъ. посл'Ь всЬхъ нашихъ разсужде-шй о культЬ славяно-русскаго Яра мы приходимъ
з
34
къ тому заключению, что на Руси не объ одномъ только Перуне можно было сказать вместе съ пидьбля-ниномъ: „ты, Перунище, до сыти еси елъ и пилъ (П. С. Р. Л., т V, 121 стр.)“«; не менее Перуна по-лучилъ жертвъ и особенно человеческихъ богъ войны Л Яръ (Симарьгла). Мы теперь знаемъ, что pyccnie язычники после каждой победы надъ врагами родины чествовали Яра человеческими жертвами; а такъ-какъ на Руси при ея всЬхъ уравнивающемъ общинномъ строе каждый имелъ равное право какъ на жизнь, такъ и на смерть, то вошло въ обычай по жреб!ю выбирать жертву, угодную богу; намъ известно также, что русскш4 богъ войны особенно, любилъ горячую, пылкую кровь Молодыхъ юношей и красныхъ девицъ. Замечательно, какъ въ этомъ отношенш Яръ сошелся во вкусахъ съ однимъ малорусскимъ змеемъ, убитымъ Кирилломъ Кожемякой. Тотъ точно также любилъ питаться мясомъ молодости: „Колись бувъ у К1еви якш-ся князь (конечно древне-русскш), лицаръ, а бувъ коло Шева змш. и кожного году посилали ёму дань: давали або молодого парубка, або дивчину. (Запис. о Южной Руси П. Кулиша, т. П, 27 стр.)“. Есть вполне основательное мненье, что по характеру миоологш и вообще религшзныхъ веровашй того или другдго народа можно составить понят1е о характере самого народа. Если это такъ, то несомненно, что кровавый культъ славяно-русскаго Яра свидетельствуетъ о томъ, что руссйе славяне были храбрымъ и воинственнымъ народомъ, а не какими то тихими и кроткими, блаженно-спокойными гипербореями, какъ ихъ хотятъ, или точнее хотели представить С. Шевыревъ и особенно М. Погодинъ.
Само собою понятно, что после крещешя языческой Руси въ 988 году прежде всего исчезло обще-
35
ственно-государственное значеше культа Яра, какъ защитника русской земли отъ нападешй или наб'Ьговъ непр!ятелей; но за то пр!апическая сторона культа Яра, или Ярила удержалась до позднейшаго времени. Тихонъ, епископъ воронежсщй, даже въ 1763 г. иринужденъ былъ бороться съ развратнымъ характе-ромъ народнаго игрища въ честь Ярила; въ настоя-щемъ XIX столЗти вооружались противъ безобразнаго Ярилова празднества тверские епископы Меоодш и Амвросш (Русск. простонар. праздн., вып. IV, 57—59 стр.; Бытъ русск. нар., ч. V, 103 стр.). Преосвященный Тихонъ называетъ Ярилово игрище идолопоклон-ническимъ, бесовскимъ, беззаконнымъ. „Изъ обстоя-тельствъ этого игрища“, зам’Ьчаетъ благочестивый епископъ, „видно, что древшй нЪкакш былъ, идолъ, прозываемый именемъ Ярило, который въ сихъ странахъ за бога почитаемъ былъ, пока еще не было хрисйан-скаго благочеспя (Русск. простонар. празд., вып. IV, 59 стр.). Конечно нельзя и думать, чтобы въ то время жители Воронежа помнили объ Яриле, какъ о древ-немъ языческомъ боге; народъ, какъ обыкновенно бываетъ, только механически удержалъ формы стараго языческаго культа. Преосвященный Тихонъ не могъ въ буквальномъ, прямомъ смысле назвать Ярилово игрище идолопоклонническимъ, но въ духовномъ смысле это нравственно—безобразное игрище действительно было языческимъ, потому что все, что отзывается потворствомъ страстямъ, служешемъ твари, а не Создателю, въ глазахъ истиннаго христаанина ни что иное, какъ тоже древнее идолопоклонство, хотя и въ иной более мягкой форме.
Въ настоящее время съ древне-русскимъ Яромъ, или Яриломъ, какъ разъ случилось именно то, что противоречить теорш эвгемеризма, снова поднимающей з*
— 36 —
свою голову въ учеши г. Каспари и г. Спенсера; русскш народъ въ язычеств!} признавалъ Ярила богомъ, а теперь представляетъ его ce6t то въ вид'Ь весельчака—горожанина (костромичи), то въ вид'Ь разбойника. Вотъ что въ 1874 г. разсказывалъ про Ярила Ф. Д. Нефедову одинъ костромской старожилъ: „Вылъ у насъ, въ Костром^, одинъ горожанинъ. Звали его Яри-д ломъ. Былъ этотъ Ярило веселаго нрава челов'Ькъ: какъ праздникъ, онъ безпрем^нно гульбище, али веселье какое зат^етъ. Народу къ нему—нисть числа, сколько завсегда собиралось. Веселье было великое. Жилъ этотъ Ярило долго, л’Ьтъ до полутораста, а потомъ и умеръ. Ярило умеръ, а гульбищъ его народъ не забылъ и каждый годъ сталъ справлять по Ярил!} поминки. Только, какъ самъ Ярило былъ челов'Ькъ веселый, то и поминки по немъ народъ справлялъ тоже веселыя; а самое мЪсто, гдгЬ народъ тешился при Ярил’Ь, прозвали Яриловкою". Г. Нефедовъ спро-силъ разсказчика: давно-ли жилъ Ярило? Тотъ отв!}тилъ: „Давно. Мн!} ужъ вотъ седьмый десятокъ на исхода, а я его не засталъ". „Кинешемцы,“ по словамъ г. Нефедова, „не помнятъ никакихъ п'Ьсенъ и предашй о Ярил!}. Говорятъ, что Ярило былъ какой то страшный разбойникъ. (Древняя и Новая Росшя 1878 г, т. П.
86 стр.)“,
Ярило не всегда былъ изв^стень подъ однимъ и т^мъ же именемъ. И въ настоящее (приблизительно) время онъ носитъ различныя прозвища: „Конюковка -(Нерехта), Солонина (Ярославль. Русс, простои, празд. вып. I, 180 стр.). Тоже самое было и въ древности.
Изъ „историческаго собрашя о богоспасаемомъ гра- . дгЬ Суждал!}“, принадлежащая перу Анаши Оедорова, мы уже знаемъ, что суздальцы въ до-христ1анск1я времена почитали между прочимъ языческихъ боговъ
— 37
„Яруна, Пиная, Облупу (Временникъ, кн. ХХП, П, 70 с.)“. Стоите только обратить внимаше на ходъ мыслей собирателя, чтобы видеть въ Пинае и Облуп'Ь того-же самаго Яруна, или Ярила; Пинай=шяный, пьяный= сказочн. Опивало; Облупа (отъ народи. облопаться)= сказочн. Объедало: оба прозвища указываютъ на неумеренность и разгулъ Ярилова празднества. Не нужно У и доказывать, какъ неосновательно анти-историческое мненье г. Афанасьева, видящего въ сказ. Опивале и Объедале бога-громовника, Перуна (Поэт, воззр. т. П. 701-703, 706—708).
Въ интересахъ сравнительнаго наследованья не мешаетъ сблизить русскаго Пиная (Ярила) съ эпитетами индшскаго бога пьянства и разврата Сомы, „Винала" и „Pavamana"—текущш струящшся (Зап. ими. новоросс. унив. т. XXXIX. ч. П, 133. Овсянико-Ку-ликовскгй)". _
Памятники XIV и XV века, какъ наприм. „Слово святаго Григор1я Богословця", или „Слово святаго отца нашего 1оанна Златоустаго" упоминаютъ о за-гадочномъ славяно-русскомъ боге Переплуте: „и верь-тячеся пьютъ ему въ розехъ (сл. Гр.)“, „иже вертячеся"^ ему шють въ розехъ (сл. 1оанн. Зл.; Летоп. русск. литерат., Н. Тихонравова, т. IV, отд. Ш, 99, 108 стр.). Изследователи обыкновенно недоумеваютъ о томъ, что это за богъ Переплутъ, въ честь котораго по скиеско-славянскому обычаю пили изъ роговъ (Очерки русск. истор. въ пам. быта, П. Полеваго, I, 90 стр.); такъ напр. Е. Толубинскш замечаете: „что такое Переплуте, остается вовсе пока необъясненнымъ (Истор. русск. церкви. Е. Голубинскаго, т. I, 2 пол. тома, 733 стр.)“. Мы думаемъ, что довольно даже иметь самую незначительную долю знатя древне-русскихъ верованш, чтобы по одному только чутью разгадать
— 38 —
этого таинственнаго Переплута. По нашему мненью Переплутъ тоже, что и Ярило: а) самое ироническое назвате неизв'Ьстнаго бога „Переплутъ" говоритъ за то, что здЪсь мы им^емъ Д’Ьло не съ собственнымъ именемъ божества, а его прозвищемъ, и при томъ того именно божества, которое вообще не имЪло одного устойчиваго имени, а такимъ богомъ, какъ мы уже видели, былъ Ярило; б) Переплутъ былъ богомъ пляски, пьянства и веселья, а мы знаемъ уже, что даже современное, значительно подновленное костромское пре-даше называетъ Ярила гулякой и весельчакомъ-горо-жаниномъ.
Отъ 1649 г. декабря 13, въ „памяти Верхотур-скаго воеводы Рафа Всеволожскаго прикащику Ирбитской слободы Григорью Барыбину" упоминается о какомъ Фо Плут’Ь: „а о РожествЬ Христов^ и до Бо-гоявленьева дни сходятся мужского и женского полу мнопе люди въ басовское сонмище, по дьявольской прелести, во многое басовское действо, играютъ во всяк1е 6tcoBcide игры; а въ навечер!е Рожества Христова, и Васильева дни, и Богоявлешя Господня, клички бйсовсйе кличутъ, Коледу и Таусень и Плуту (Акты истор. т. IV, 125 стр.)“. Некоторые изслгЬдо-ватели, им'Ья въ виду то, что въ другихъ грамотахъ ХУП в. вместо Плута говорится о плуг!, или плугахъ „Плугу, плуги", читаютъ и въ памяти Рафа Всеволожскаго „Плугу", а не „Плуту". Но такое чтенье произвольно; оно тогда только им^ло бы смыслъ и основанье, еслибы сторонники его отыскали другую котю той же памяти Рафа, гдгЬ бы вместо „Плуту"стояло „Плугу“. Теперь же можно думать, что Плутъ ХУП в. имЬ-етъ какую то связь съ древне-русскимъ Переплутомъ. „Если въ этомъ Плут1“, зам'Ьчаетъ И. Заб1;линъ, .,игЬтъ описки, то она (конечно не описка, а подобная тран-
— 39 —
скрипщя) въ своемъ имени быть можетъ сохраняетъ сл'Ъды поклонешя Переплуту (Истор. русск. жизни И. Забелина, ч. П, 298 стр.)“. НЪтъ ничего страннаго въ томъ, что русскш народъ призывалъ Плута во время святокъ: а) хрис'панскш праздникъ Рождества Христова и Богоявленья соотвгЬтствовалъ языческому торжеству по случаю нарождешя, или возрождешя солнца, а Плутъ=Иереплутъ—Ярило, какъ намъ известно, былъ солнечнымъ богомъ; б) святки были временемъ веселья, разгула, когда по словамъ памяти Рафа Вс. играли „во всяые б^совсше игры",—богомъ же пляски и веселаго разгула былъ Плутъ=Переплутъ.
Въ заключеше мы не можемъ не коснуться вопроса, почему это Ярило изв'Ьстенъ подъ такими разнообразными прозвищами. Объяснить происхождеше прозвищъ „Конюковка, Солонина" довольно легко: зд^сь очевидно ироническое отношете народнаго юмора къ древне-русскому игрищу. Но ту же самую м'Ьрку нельзя применить къ историческимъ прозвищамъ Ярила (Пинай, Переилутъ). Зд'Ьсь д'Ьйствуетъ какая-то другая причина. Известно, что сантиментальные люди даютъ любимому человеку самыя разнообразный ласка-тельныя имена; надо полагать, что т^ми же самыми мотивами руководился и русскш народъ, давъ Ярилу, какъ любимому богу, столько различныхъ именъ. По крайней M'fept, читая древне-руссйе памятники, невольно чувствуешь, что сквозь юморъ ироническихъ прозвищъ Ярила заметно просв^чиваетъ и другое чувство:’ любовь.
Ладъ и Лель, или Диди-Ладъ и Диди-Лель—боги солнца. Одна литовская п'Ьсня прямо называетъ солнце Ладомъ:„ Пасу, пасу мои овечки; тебя, волкъ, не боюсь! богъ съ солнечными кудрями в'Ьрно тебя не допустить. Ладо, Ладо-солнце (Поэт, воззр. I, 229 стр.)“! Ладъ
— 40 —
называется Диди-Ладомъ, т. е. великимъ Ладомъ (литовок. didis, diddis=вeликiй),—точно также, какъ мы видели, называется великимъ и Хорсъ, что и естественно, потому что и тотъ и другой олицетворяли въ себ^ одно и тоже солнце,—а что солнце представляется для первобытнаго, неиспорченнаго воззр^тя именно великимъ, это мы знаемъ изъ древн^йшаго богооткро-веннаго памятника письменности, Библш. Тамъ мы читаемъ: „И сотворилъ Богъ два светила: светило великое, что-бы светить днемъ, т. е. солнце, и светило малое, чтобы светить ночью, т. е м'Ьсяцъ (Кн. Бьтя, гл. 1, 16 ст.) „Лель, или Диди-Лель, обыкновенно является двойникомъ, братомъ солнца, что для насъ вполне понятно; оба эти бога—представители одного начала, именно солнечнаго.
Въ одномъ двевне-русскомъ сказаши XVH в., впервые обнародованномъ г. Карамзинымъ, разсказы-вается про двухъ родныхъ братьевъ, князей: „Дшлеля и Диди-лада “, которыхъ язычники назвали богами за то, что они научили ихъ пчеловодству". Въ новейшее время обратили внимаше на это сказаше Н. Кваш-нинъ-Самаринъ и П. Знаменскш. Н. Квашнинъ-Сама-ринъ отожествляетъ этихъ двухъ полу-историческихъ, полу-сказочныхъ князей съ древне-русскими Лелемъ и Ладомъ, богами любви и брака (Беседа 1872. Кн. IV, апрель, 260 стр.). П. Знаменскш по поводу этого мненья зам"Ьчаетъ: „Если догадка г. Квашнина-Самарина справедлива, то въ сказаши хронографа мы им4-емъ передъ собою одно изъ самыхъ близкихъ къ ми-еологическому эпосу героическихъ сказашй, въ которолъ древше герои носятъ даже самыя имена архаическаго происхождешя, прямо заимствованныя изъ древняго миоологическаго языка (Странникъ. 1883 г, шль 432 г.). Мы также думаемъ, что сказаше о Дполел'Ь и Диди-
— 41
лад'Ь не только вообще важно въ научномъ отношены, но и поучительно: изъ него мы видимъ, что миеъ действительно можетъ перейти въ исторгю, языческш • богъ можетъ появиться въ виде царя, или богатыря, а это особенно нужно помнить при современномъ не-определенномъ состояши русской миоологш, когда pyccKie бенфеисты готовы отрицать всякое вл!янье миеа на русстия былины. Мы видимъ также, что именно те боги превращаются въ царей, или богатырей, которые тесно связаны съ самымъ бытомъ народа,— такъ напр. Дполель и Дидиладъ потому-то и памятны -народу, что они некогда научили его пчеловодству. Отсюда же получаемъ и отрицательный выводъ, что те боги, которые имели только внешнее отношеше къ народу, не могли перейти въ герои русскихъ бы-линъ, а должны были просто исчезнуть изъ народной памяти. А потому уже мы a priori убеждены напр. въ томъ, что Перунъ, какъ нелюбимый богъ и не оказавши никакихъ услугъ всему русскому народу, не могъ появиться въ русскомъ былевомъ эпосе и не имеетъ никакого отношенья къ Илье Муромцу, что бы ни говорили рьяные миеологи, въ роде г. Аеанасьева, или Ореста Миллера.
Мы уже видели, что въ сказанш русскаго хронографа древне-pyccKie боги представляются историческими князьями; очевидно, что это черта поздней-шаго происхождешя, свидетельствующая о забвети, или порче первичной чистоты миеическихъ предашй: точно также, какъ мы знаемъ, и древне-русскш богъ Ярило только въ самое последнее время является въ виде весельчака-горожанина, или грознаго разбойника. Словомъ въ сказанш хронографа нельзя не заметить
искусственности и книжности, а потому прежде всего необходимо критически обследовать его. Привомз^??
i/JIEHW
— 42
это сказаше по двумъ редакщямъ г. Карамзина и А. Попова.. „Въ Сидерехъ же (Sidera), или въ Мордве и въ Черемисе, княжили тогда два брата Дполель и Дидиладъ, которыхъ язычники назвали богами за то, что они научили ихъ пчеловодству (Карамзинъ. Исто-pia государства россшскаго, т. I, примеч. 70, 297 с.)“. „Въ сихъ же, рече, тогда княжиша два брата, единому имя Дполесъ (вар. Дшлелъ), а другому Дидалакхъ (Дадалакхъ), нев'Ьгласи же боги ихъ нарицаху тогда за то, иже пчелы имъ налезше и борти верхъ древ!я устроиша (Изборникъ славянок, и русск. сочинен, и статей, внесенныхъ въ хронографы рус. редакцш. А. Поповъ, 446 стр.)“. Нельзя не заметить, что обе редакцш хронографа нисколько книжны, но во всяко мъ случае списокъ хронографа 1679 г., обнародо-ваннаго А. Поповымъ, исправнее и подробнее. Въ редакцш хронографа г. Попова стоитъ „Въ сихъ же, рече, тогда княжиша",—это „въ сихъ же", т. е. среди славянъ и въ особенности русскихъ, имЪетъ свой смыслъ, потому что впереди въ хронографе говорилось о сла-вяно-русскихъ князьяхъ: Словен’Ь, Русе, Великосане, Асане, Авехасане, Ляхе, или Лалох'Ь, и Лахерн’Ь; въ редакцш г. Карамзина является безсмысленная переделка: вместо „въ сихъ же"—„въ Сидерехъ же". Очень можетъ быть, что неизвестный намъ книжникъ. сбивался на греческое слово „Sidera", какъ догадывается г. Карамзинъ. Также совершенно некстати въ редакцш г. Карамзина упоминается о Мордве и Черемисе, хотя-бы мы знали, что и среди этихъ народовъ было развито пчеловодство. Странно также, что въ обеихъ редакцгяхъ Лель называется Дшлелемъ, или Дшле-сомъ, а не Дидилелемъ; нужно думать, что неизвестный намъ древне-русскш книжникъ помнилъ о гре-ческомъ Д1е (Зевсе) и Дюскурахъ, или просто былъ
— 43 —
сбитъ съ толку византшскимъ источникомъ. Нельзя также не заметить въ составителе хронографа замашки книжника извращать и объяснять народныя верованья. Народъ признавалъ Дидилеля и Дидилада богами, научившими народъ пчеловодству, а также небесными царями, подобными царю—Солнцу; книжникъ конечно хорошо знаетъ изъ Библш, что язычество появилось вследств!е извращетя первичнаго единобож!я, и вотъ у него вдругъ появляется мысль, что Дидилель и Дидиладъ действительно были земными царями, оказали народу не мало услугъ, напр. научили пчеловодству, а благодарный народъ после ихъ смерти при-числилъ ихъ къ сонму боговъ. Какое странное совпадете: нашъ древне-русскш книжникъ сошелся въ своей теорш съ древнимъ Эвгемеромъ, и съ новейшими изследователями: г. Спенсеромъ, г. Каспари. Темъ не менее, отбрасывая все позднейппя наслоешя въ хронографе, мы приходимъ къ тому несомненному заключенно, что на Руси въ языческую эпоху было два родственныхъ бога: Дидилель и Дидиладъ, научивпне дотоле дикш народъ пчеловодству; по словамъ хронографа эти боги „пчелы имъ налезше и борти верхъ древ!я устроиша",—значить Дидилель и Дидиладъ научили русскш народъ не садовому, или пасечному, (пасичному) пчеловодству, а лесному, бортевому; опять черта первобытной древности и простоты, привычекъ.
Начало и изобретете пчеловодства одинаково приписываются какъ Лелю, такъ и Ладу, это общая черта ихъ культа. Но во всякомъ случае Лель и Ладъ имели и свои индивидуальныя черты, а каждый изъ нихъ—свое спешальное значеше, а потому мы теперь и переходимъ къ отдельной характеристике сперва Лада, какъ имеющаго более важное значеше въ русской миеологш, и потомъ Леля.
— 44 —
Ладъ, или Диди-Ладъ не только открылъ людямъ искусство бортеваго пчеловодства, но и вообще былъ богомъ земледелья. Мы обращаемъ внимаше на одну старинную полу-обрядовую песню: „А мы просо сеяли, С'Ьяли, ой Дидъ-Ладо, сеяли, сеяли (Быт. рус. нар. А. Терещенко, ч.1¥,304—306; Сказ, русск. нар.Кн. Ш, 46—47, 72 с.). Эта песня довольно древняго происхождешя: она известна не только у вс'Ьхъ русскихъ племенъ, но также у чеховъихорватовъ(3аписк. императ.русск. географ, общ. По отд. этнографш, т. П, 389 стр.). Очевидно, что существуетъ какая то связь между Дидъ-Ладомъ и просомъ; для объяснешя ея можно предположить одно изъ двухъ: или здесь мы имеемъ д’Ьло съ темнымъ миоическимъ предатемъ, или просто съ случайностью припева: известно, что въ настоящее время народъ вспоминаетъ о Дидъ-Ладе и кстати и некстати, напр. „А мы сечу чистили, чистили; ой Дидъ-Ладо чистили!" Наше недоуменье могутъ разрешить только истори-чесшя свидетельства. Такъ напр. у Массуди мы чи-таемъ о приношенш одному изъ идоловъ проса (Массуди, 320 стр; Изследов. о языческ. богослуженш древн. славянъ. И. Срезневскаго, 67 стр.). Ибнъ-Даста сообщаетъ намъ следующее вообще о славянахъ:" Все славяне—огнепоклонники. Хлебъ, наиболее ими возделываемый,—просо. Въ пору жатвы кладутъ они про-сяныя зерна въ ковшъ, поднимаютъ его къ небу и говорить: „Господи! ты, который даешь намъ пищу, снабди теперь насъ ею въ полной мере (Известья о Хо-зарахъ.... Славянахъ и Руссахъ Ибнъ-Даста. Д. А. Хвольсонъ 30—31 стр.)“
Соединяя въ одно целое данныя народной песни и этихъ двухъ извести арабскихъ писателей, мы приходимъ къ тому убежденно, что Дидъ-Ладъ именно и былъ темъ идоломъ, которому приносили въ жертву
— 45
просо, тЪмъ богомъ, котораго славяне-огнепоклонники просили умножить просяную пищу. Нужно ИнЬтЬ въ виду и то обстоятельство, что просо и теперь самый любимый хлЪбъ русскаго народа, что выражается въ известной поговорке: каша—мать наша. Такая народная любовь къ просу-плодъ долголетней привычки. Какъ мы видели, Ибнъ-Даста свидетельствуете, что славяне особенно много засевали проса. На тотъже самый факте указывали императоръ Мав-рикш и еврей Ибрагимъ, сынъ Якуба (ИзвЬс'йя Ал-Бекри. Ч. 1, 54 стр.). Словомъ просо было древне-славянскимъ хлебомъ; его сеютъ въ более или менее умеренной полосе. Учете объ известной связи между просомъ и культомъ бога Лада возникло въ ту древнюю языческую зпоху, когда славяне, еще быть можетъ не разделенные на мелтя племена, жили около Чернаго моря и Дуная. Впоследств1е, какъ мы знаемъ, они разселились по различнымъ странамъ и къ сожалешю раздробились на слишкомъ уже мелвдя племена. Некоторый ветви славянскаго племени жи-вутъ въ такой полосе, где по климатическимъ усло-в!ямъ нельзя сеять проса; темъ не менее и они со-храняютъ воспоминаше о просе и Дидъ-Ладе. При этомъ не обошлось безъ курьёзовъ. Такъ каргопольцы (Олонец, г.) вместо проса воспеваютъ росу: „мы росу посеяли, посеяли! Ай же млада, посеяли! Мы росу вытопчемъ (Сборн. отдел, русск. языка и сло-весн. импер. академ, наукъ т. ХУП, № 3, 167 стр.). Такая замёна проса росой произошла всле-дств1е же-лашя народа осмыслить непонятное для него слово, потому что въ Каргополе, по замечашю М. А. Колосова, проса не сеютъ (Срвн. Ibidem. 133 стр.). Итакъ въ конце концовъ мы приходимъ къ тому убежденш, что Ладъ, или Диди-Ладъ по славяно-русскимъ пре-
46
дашямъ имЬлъ прямое отношенье къ возделыванью проса: просо находилось подъ его божественнымъ по-кровительствомъ. И несомненно, что Диди-Ладъ, на-учивппй русскш народъ старобытной форме бортеваго пчеловодства, первый показалъ примеръ, какъ засевать древне-русскш хлебъ: просо. Самая известность проса въ языческую эпоху жизни славяно-русскаго народа ручается за естественность происхожденья миоическаго верованья о связи между просомъ и культомъ Лада= Диди-Лада.
[- Въ некоторыхъ позднейшихъ летописяхъ и древне-русскихъ памятникахъ культъ Лада описывается довольно подробно и обстоятельно. Такъ въ Густинской летописи (ХУП в.) мы читаёмъ: „Четвертый Ладо (си есть Pluton) богъ пекелный; сего верили быти богомъ женитвы, веселья, утешешя и всякаго благо-получ!я, якоже Еллины Бахуса; сему жертвы прино-шаху хотяпця женитися, дабы его помощпо бракъ добрый и любовный былъ. Сего Ладона, беса, по не-какихъ странахъ, и доныне на крестинахъ и на бра-цехъ величаютъ, поюще своя некья песни, и руками о руки или о столъ плещуще, Ладо, Ладо, преплетаю-< ще песни своя, многажды поминаютъ (II. С. Р. Л., т. П, 257 стр.)“ Почти такъ-же и чуть-ли не съ буквальной точностью говорятъ о Ладе „Подробная летопись “ и „Синопсисъ" (Подробная летопись, ч. I, 52—53; Сказ, русск. нар; кн. I, 4 стр.; Поэт, воззр. т. I, 229 стр.). Въ свое время г. Сахаровъ указывалъ источникъ подобныхъ свидетельствъ въ сочинешяхъ гг. Кромера. Гваньини, Стрыйковскаго. Да и вообще для всякаго очевидно, что въ этихъ сведешяхъ о Ладе слиты въ одно целое данныя греческой, латинской, литовской и польско-русской миоологш. Темъ не менее Густинская летопись, за немногими исключе-
47
шями, довольно верно обрисовала характеръ русскаго Лада.—Лада, какъ солнечнаго бога, оживляющаго и возбуждающаго силы природы, действительно можно назвать „богомъ веселья, утешешя и всякаго благо-получ!я“; можно также видеть сходство между русскимъ Ладомъ и темъ италшскимъ Ладомъ, который въ Ели-сейскихъ поляхъ подаетъ счаст!е блаженнымъ духамъ и забвеше всехъ горечей (Одисаше памятниковъ... пер. Е. Классена, вып. I, 7 стр.). Нетъ ничего страннаго въ томъ, что Густинская летопись считаетъ Лада богомъ „женитвы или брака". Солнечные боги вообще являются покровителями и устроителями брака и разврата. Такова литовская богиня Мильда—богиня вес-- ны, счастия и мира; таковъ сынъ ея Каунисъ, богъ любви, и таковъ-же нашъ славяно-русскш Яръ, или Ярило. Неудивительно, если и Ладъ былъ покровите-лемъ брачущихся. Густинская летопись делаетъ вполне верное замечаше о Ладе, взятое изъ народныхъ обычаевъ того времени: „Сего Ладона... и до ныне на брацехъ величаютъ". Действительно и современный свадебныя песни часто вспоминаютъ о Ладе, признавая его покровителемъ брака, хранителемъ древне-русскихъ свадебныхъ обрядовъ, подателемъ чадород!я новой чете. Въ свадебныхъ песняхъ енисейскаго
округа Ладъ носитъ характерное прозвище: „Уряди, Дидъ-Ладо, уряди (Енисейскш округъ и его жизнь. М. 0. Кривошапкина, т. I, 98 стр.;)—это замечатель-
ное прозвище Лада довольно ясно говорить о важномъ значеши Дидъ-Лада въ свадебныхъ обрядахъ.
Безъ всякаго сомнЬшя съ течешемъ времени
смыслъ и значеше Дидъ-Лада постепенно стушевы-
вались и затемнялись. Въ одномъ заговоре изъ Дидъ-Лада скроены две лихорадки, или -трясавицы: „8-я трясавица Дида, 9-я Ладо (Летоп. русск. литерат. Н.
— 48 —
Тихонравова, т. IV, отд. Ш, 80 етр.)44 Въ этомъ отно-шеши позднейшы составитель заговора (1838 г.) сходится съ нашими .старинными миоологами, которые также ухитрились изъ Дидъ-Лада сделать двухъ боговъ: Дида и Лада (Поповъ, Чулковъ, Глинка, Кайсаровъ). Точно также въ одной галицкой гаев Kt, или гаивке (веснянке), поютъ: „Де (и) дъ, дедъ и Ладо! Жона мужа била, на добре учила (Чтен. въ импер. общ. исторы и древн. росс. 1872. Кн. I, отд. Ш, 163 стр.). Очевидно, что эта гаивка въ Дидъ-Ладе видитъ, применяясь къ современному быту, двухъ лицъ: деда= малорусск. дида и лада, ладу, т. е. мужа, или жену, любовника, или любовницу. Какъ странно: такъ-же Hi-когда умствовалъ и г. Сахаровъ (Сказ, русск. нар.; кн. I, 9 стр.); значить народъ не менее нашихъ уче-ныхъ склоненъ къ филологическимъ сближешямъ.
Ладъ=Лядъ, какъ белорусе. рабина=рябина, са-ратовск. Аткарскъ=Яткарскъ. Въ настоящее время Ладъ обыкновенно известенъ въ народномъ говоре подъ именемъ Ляда, напр,: „Убирайся къ Ляду44, „Лядъ тебя (его) возьми44, „Нутка къ Ляду! онъ мне скажете—надоела ужь ты мне44у^,'Кого ждали—поджидали, того Лядъ несетъ (Сказ, русск. нар. Кн. Ш, 95; Рус. простонар. празд. Вып. I, 139 стр.)44. Въ Ляде удержалась темная, карающая сторона бога Лада, что и естественно при современномъ забвёны языческихъ преданы; народъ мало чемъ отличаете Ляда отъ черта, или дьявола. Но всетаки прежнее светлое и благотворное значеше Лада отразилось въ томъ, что „Лядъ44 въ народномъ словоупотреблены, какъ замечено изеле-дователями, звучитъ несколько мягче, чемъ черте,— Лядъ менее зловреденъ, чемъ дьяволъ, и вообще не-сколько." индиферентенъ (Песни, Собранн. П. В. Кире-евскимъ. Вып. УП, приложены. 150 стр. ервн. 313 стр.).
— 49 —
О ЛелЬ, или Диди-Лел4, т. е. Д'Ьд'Ь, или отцЬ солнц'Ь (древне-слав. леля-д'Ьдъ, отецъ) мы знаемъ очень мало достовЬрнаго. Древше писатели и вообще старинные миоологи признаютъ Леля сыномъ матери природы и весны Лады и богомъ любви, брака и вообще всякаго благополуч!я (Подроби. л4т. ч. I, 52; Сказ, русск. нар., Кн. I, 4, 10—11 стр.). Въ новейшее время Н. Квашнинъ-Самаринъ ничего не сказалъ но-ваго о Лел4 и только повторилъ слова старинныхъ миоологовъ (Беседа. 1872. Кн. IV,—апрель, 260 стр.). Судя по женской половин! „Леля“ Лял! слЗздуетъ думать, что Лель кром! того, что научилъ людей бортевому пчеловодству, о чемъ мы говорили выше, и вообще былъ богомъ-покровителемъ земледЗшя и на-роднаго благосостояшя. Въ настоящее время (приблизительно) Лель изв'Ьстенъ у б!ло-руссовъ подъ име-немъ „Лёлю, Люлю, Л1дли“, какого то благод'Ьтельнаго духа, наводящаго на д!тей столь необходимый для нихъ сонъ,—этотъ столь желанный для д!тей „Л16ли“ грезится имъ и во сн'Ь (Прибавл. къ журн. мин. нар. просв^щ. 1846. Отд. литературн. 16 стр.).
Зимнее празднество въ честь возрождающагося" солнца было известно и въ древности. Мы разумЪемъ Коляду и Овсеня. Слово Коляда по обычному мненью происходитъ отъ лат. са!еп<1ае=фран. chalendes, ниж-нен!м. Kaland. Tt изсл'Ьдователи, которые разд4-ляютъ подобное словопроизводство, обыкновенно для объясненья русской Коляды приводятъ известное м!-сто изъ Кормчей по списку 1282 г.: „каланди соуть пьрвш въ коемьждо м4сяци днье, въ нихъ-же обычай бгЬ елиномъ творити жертвы, и въ таже евроумашя елиньстш б4аху праздници: вроумъ бо пореклъ есть Дюнисово, и иная вься яже соуть идольская прельсти и соуетьства отмЬщюще святш отъ в!рныхъ жичъя,
з
50 —
возбраняють крестьяномъ таковая творити... и не по-вел'Ьваютъ моужемъ облачатися въ женьскыя ризы, ни женамъ въ моужьскыя, еже творять на праздьникы Дю-нисовы пляшюще, ни лиць же косматыхъ възлагати на ся, ни козлихъ, ни сатоурьскыхъ... яже ныне творять селяне, не ведоуще, что творять (Поэт, воззр. т. Ш, 729—730)'4. Само собою разумеется, что съ точки зрешя ученыхъ, разделяющихъ мысль о ино-земномъ происхождеши слова „Коляда44, нечего и говорить объ особомъ языческомъ боге „Коляде44. Впро-чемъ и вообще всЬ изследователи решительно отвер-гаютъ сказашя объ идоле, или бесе Коляде: книжность подобныхъ сказашй и ихъ позднейшее происхождеше для всехъ очевидны. Такъ Густинская летопись со-общаетъ намъ следующее извесйе о Коляде: „Шестый (богъ) Коляда, ему же празникъ прескверный бяше декавр!я 24. Сего ради и ныне, аще и благодать Рож-дествомъ Христовымъ ос1я насъ и идолы погибоша, но единаче д!аволъ еще и доселе во безумныхъ память свою удержа: сему бесу въ память простая чадь сходятся въ навечер!е Рождества Христова, и поютъ песни неюя, въ нихъ же аще и о Рождестве Христовомъ по-минаютъ, но бол!е Коляду беса величаютъ (П. С. Р. Л., т. П, 257 стр.)44 Почти въ техъ-же выражешяхъ говорятъ о Коляде, какъ объ идоле, или бесе, „Подробная летопись44 и „Синопсисъ44, приписываемый Иннокенйю Гизелю (Подробная летопись, ч. I, 54—55; Поэт, воззр. т. Ш, 750 стр.). Въ Четьи Минеи св. Димитр1я въ числе боговъ, которымъ покланялись во времена св. Владим1ра, упоминается и „Коляда, богъ праздновашя, въ зиме бывающаго (Русск. простонар. праздн. Вып. I, 11 стр.)44. Мы уже говорили о книжности и позднейшемъ происхождеши подобныхъ исто-рическихъ свидетельствъ о боге Коляде, да они и
51
сами выдаютъ себя. Такъ Густинская л!топись зам!ча-етъ: „Сего ради и нын!.... сему б!су въ память простая чадь сходятся, въ навечер!е Рождества Христова"; ясно, что книжники, только им!я въ виду современный народный обычай, могли выдумать особаго бога, или идола Коляду. Т!мъ не мен!е такому слишкомъ уже неискусному вымыслу поварили наши старинные миоо-логи, какъ напр. г. Поповъ, Чулковъ, Глинка, Кайсаровъ (Сказ, русск. нар. кн. I, 10—11 стр.); даже г. Карамзинъ, ко многому относившийся критически, вполне серьезно разсуждалъ о древне-русскомъ бог! Коляд!: „24 декабря язычники pyccKie славили Коляду, бога торжествъ и мира. (Истор. госуд. росс. т. I, 91 ст.)".
О Коляд! и Овсен! довольно ясно говорится въ7 царскихъ грамотахъ XVII в. Отъ 1628 г. 24 декабря мы им!емъ грамоту царя Михаила Оедоровича и naTpi-арха Филарета: „Великш Государь Свят!йшш Фила-ретъ Никитичь Патр1архъ Московский и всеа Русш указалъ: кликать бирючю по рядомъ, и по улицамъ, и 4 по слободамъ, и въ сотняхъ, чтобъ съ кобылками не ходили и на игрища бъ MipcKie люди не сходилися, т!мъ бы смуты православнымъ крестьяномъ не было, и Коледы бъ и Овсеня и Плуги не кликали; а кто учнетъ сего Государева указу ослушаться, и т!мъ лю-демъ быть отъ Государя Царя и Великого Князя Ми-хайла Оедоровича всеа Русш въ опал!, а отъ Великого Государя Свят!йшего Филарета Никитича Патр1-арха Московского и всеа Русш въ запрещень! и въ ду- ’ ховномъ наказань! (Акты историческ. т. Ш. № 92, 96 стр.)“. Въ другой грамот! царя Алекс!я Михайловича отъ 1649 г. мы читаемъ: „В!домо намъ учинилось, что на Москв!, напередъ сего въ Кремл!, и въ Кита!, и въ В!ломъ, и въ земляномъ город!хъ, и за городомъ, и по переулкамъ... въ навечерш Рождества Христова кли-
4*
— 52 —
кали MHorie люди Коляду и У сень (Овсень), а въ на-вечерш Богоявлешя Господня кликали Плугу; да въ Москв! же чинится безчинство: мнойе люди поютъ б!совск!я скверныя п!сни. Да на Рождество Христово и до Богоявленьева дня собираются на игрища 61-совсюя... и игрецы б!совск!е—скоморохи съ домрами, и съ дудами, и съ медв!ди ходятъ (Москвитя-нинъ. 1843 г. № I, 237—240; Православн. Собес! дн. 1865 г. ч. П, 285; Странникъ. 1877 г. т. IV, , 55 стр.)".
Насколько, можно судить по древне-русскимъ па-Л) мятникамъ, въ древней Руси точно такъ-же праздновали Коляду и Овсеня, какъ и теперь. Мы встрЪчаемъ обычный вакханалш, пьянство, разврата, скомороховъ, пере-ряженыхъ, гадающихъ. Словомъ это древне-русское празднество почти во вс!хъ своихъ чертахъ удержалось 1 и въ современномъ народномъ быту. Темное предаше о древне-русскомъ бог! Плут! (Переплут!), котораго прославлялъ народъ наравн! съ Коледой и Овсенемъ, есть единственная древняя черта, не известная совре-меннымъ покол’Ьшямъ русскаго народа. Но, какъ мы вид!ли выше, некоторые изсл’Ьдователи—основательно, или не основательно, это другой вопросъ—въ Плут! просто видятъ „плугъ"; и ужъ конечно съ этой точки зр!шя „Плутъ" памяти Рафа Всеволожскаго не. им!етъ ничего общаго съ древне-русскимъ Переплутомъ.
/ Еще бол!е Коляды и Овсеня былъ изв!стенъ въ древ-/ ней Руси другой языческш праздникъ, въ честь л!тняго солнце-поворота „Купало". Купальское торжество неизменно совершалось въ ночь съ 23 на 24 поня, на канун! христтанскаго праздника рождества 1оанна Предтечи и потому оно получило хрисйанскую .форму,—однако подъ этой хрисйанской формой сохранились чисто язы-чесюя в!рованья. Еще наши древше писатели и пат
53
стыри Церкви, какъ напр. игуменъ Елизаровой пустыни Панфилъ и митр. Фотш указывали на языческш (ку-мирскш, идолопоклоннически) характеръ купальскаго празднества. Такъ напр. игуменъ Панфилъ восклицаетъ: „Что же бысть во град'Ьхъ и въ сел'Ьхъ въ годину ту? Сотона красуется, кумирское праздчаше д!яволе, и кра-соваше б'Ьсомъ его въ людехъ. И того ради двигается и востанетъ всяка непр!язненая угодгя, яко въ по-ругаше и въ безчесйе Рожеству Предотечеву, и въ посм'Ьхъ и укоризну дни его, не вгЬдущимъ истины; ' яко сущш древши идолослужител!е бесовски праздникъ
сей празднуютъ. Сице бо на всяко л'Ьто кумиромъ слу-жебнымъ обычаемъ сатана призываетъ, и тому яко жертва приносится всяка скверна и беззакоше, богомерзкое приношеше; а не яко день Рожества Предотечи великого празднуютъ, но своимъ древнимъ обычаемъ (П. С. Р. Л., т. IV, 279—280; срвн. Опис. русск. и слов, рукоп. Румянцевск. муз. Востокова, 42 стр.-)“.
Въ самыхъ древне-русскихъ памятникахъ мы можемъ найти и ответь на вопросъ, въ честь какого именно божества совершалось полуязыческое купальское торжество. Такъ въ повести „о д'Ьвицахъ Смоленскихъ, како игры творили (ХУП в.)“ читаемъ: „Было отъ города Смоленска за 30 верстъ по Черниговской дороге—случилось быть на великомъ пол! безстудному беснованью. Множество д4въ и женъ стеклися на бесовское сборище, нелепое и скверное, въ ночь, въ которую родился Пресветлое Солнце—велики 1оаннъ Креститель, первый покаянно проповедникъ, его же ради вся тварь неизреченно возрадовалась. А эти ока-янныя бесомъ научены были“. „Эта повесть, замечаете 0. Буслаевъ, заслуживаете полнаго внимашя по любопытному смешешю языческаго элемента съ христаанскимъ, по смешешю, до такой степени грубому, что пресвет-
54
лое Солнце, которому . по языческимъ обрядамъ действительно праздновали въ день Купали, какъ эпитетъ, перенесено къ Хоанну Предтече (Истор. очерки русск. народи, словесности. 0 Буслаева, т. П, 15 стр.)“.
Если купальское празднество совершалось въ честь Купала-Солнца т. е. купающагося солнца (въ хрисНанскую эпоху 1оанна Купала=Крестителя, ку-павшаго Спасителя), то понятно, что не можетъ быть и речи объ особомъ языческомъ боге=идоле Купале, о которомъ намъ говорятъ некоторые памятники, напр. „Густинская Летопись", „Подробная летопись", „Си-нопсисъ", „Жипе Князя Володимера", „Историческое собрате о богоспасаемомъ граде Суждале", „Четьи Минеи св. ДимитрХя", „Указъ Святейшаго Правительствующая Синода отъ 1721 г. апреля 17“ (П. С. Р. Л., т. П, 257; Подроби, лет. ч. 1, 53 стр.; Русск. простонар. праздн. Вып. I, П, 39—40, 168; Маякъ. 1843. т. XI, кн. XXI, гл. Ш, 52—53 стр.; Времен-никъ. 1855 г. кн. ХХП, П, 70 стр. срвн. 77).
Въ существованье выдуманнаго книжниками бога Купала верили наши старинные миеологи и историки, напр.: гг. Поповъ, Чулковъ, Глинка. Кайсаровъ, В. Н. Татищевъ и Елагинъ (Сказ, русск. нар. кн. I, 10—11; Истор. росс. В. Н. Татищева. Кн. I, часть I, 17 стр.; Опытъ повествовашя о Poccin. И. Елагина. Кн. Ш, 353). Г. Карамзинъ также верилъ сказке о Купале, боге земныхъ плодовъ (Истор. государ. росс, т. I, 90—91). Конечно для насъ далеко не важно и даже не интересно знать, какъ думали о Купале наши старинные изслЬдователи. Но для насъ любопытно именно то обстоятельство, что толки книжниковъ о боге, или идоле Купале проникли и въ народъ и такимъ образомъ произошли нЬкоторыя легенды, не дурныя впрочемъ для уха человека, настроившаго
55
свое воображеше на романтическш ладъ. Мы разумеешь напр. леренду объ иконе Владтпрской Богоматери, что въ Переяславле Залесскомъ, разсказанную С. Шевыреву какимъ то Акимомъ. „Въ новомъ соборе, говорить г. Шевыревъ изъ своихъ наблюдешй надъ Переяславлемь-Залесскимъ, нетъ ничего древняго, кроме двухъ иконъ. Одна—Владим1рской Богоматери. Объ ней существуетъ следующее народное предаше, раз-сказанное мне Акимомъ. Въ Переяславле народъ покланялся идолу Купалу. Когда Владидпръ (?) внесъ христианскую веру, Переяславцы хотели всетаки продолжать свое языческое поклонеше. Но Владим1ръ прислалъ къ нимъ икону Пресвятой Богоматери и темъ удалилъ ихъ отъ кумира. Потому и празднуютъ ей накануне того дня, какъ праздновали Купалу. А икона въ народе слыветъ до сихъ поръ Купальницей (Поездка въ Кирилло-Белозерскш монастырь. С. Ше-вырева. Часть I, 150 стр.)“.
Время купальскаго празднества совпадаетъ съ началомъ страдной поры; тогда въ самомъ разгаре сенокосъ и начинаютъ созревать рожь, или жито. На это обстоятельство указываютъ народныя пословицы и приметы, напр.: „Агрипине (Купальнице) свербитъ въ спине", или кто почитаетъ 6-ю пятницу, предшествующую празднику Тоанна Предтечи, „отъ великаго недостатка и скудости сохраненъ будетъ (Архив, исто-рико-юридическ. сведешй Н. Калачова, кн. П, половина П, Отд. IV, 76 стр.; Истор. очерки русск. нар. слов. 0. Буслаева, т. I, 504 стр.)“. Въ параллель съ этими фактами можно сопоставить известия о Купале, какъ о боге обил!я, или урожая хлеба. Такъ Густин-ская летопись сообщаете намъ: ^Пятый Купало, яко-же мню, бяше богъ обил!я, якоже у Еллинъ Цересъ, ему-же безумный, за . обил!е благодареше приношаху
56
въ то время, егда имяше настати жатва (П. С. Р. Л., т. И, 257 стр.)". Подобное предаше о Купал! есть и у жителей Устюжны. Говорятъ, что въ Устюжн!, „въ центр! самаго городища стояло некогда капище бога Купалы... Осенью, по собраши хл!ба, предками Устюжанъ, язычниками, приносились этому богу въ жертву начатки вс!хъ произведены земли и преимущественно хл!ба (Архив, историческ. и практическ. сведен. Н. Калачова. Кн. VI, отд. П, 20 стр.)“. По поводу этого предашя одинъ любитель местной старины зам!чаетъ: „Предаше о поклонеши предковъ Устюжанъ Купал! даетъ право предполагать, что и городище им!етъ языческое происхождеше, а найденный въ немъ уголья, головни и сожженный хл!бъ заставляю™ думать, не было ли оно м!стомъ бого-служешя означенному богу (Ibidem. 22 стр.)“. Словомъ нельзя не придти къ тому выводу, что, хотя различный сказашя объ особомъ бог!, или идол! Купал! очевидно нел!пы, т!мъ не мен!е выражеше „Купало богъ обил!я, или урожая" им!етъ глубокш метафори-ческш смыслъ, потому что въ древней Руси купальское празднество было торжествомъ въ честь созр!в-шаго хл!ба.
Русскш народъ, какъ и всякш другой, согласовалъ время релийозныхъ празднествъ съ своимъ досугомъ, и съ своимъ землед'Ьльческимъ бытомъ. Относительно свободнымъ временемъ крестьяне, и особенно крестьянки считаютъ весну: отъ первой пашни и до Купала, или Петрова дня. Такой взгляд! мы встр!чаемъ и въ народныхъ пословицахъ: „Женское л!то по Петровъ день", „У весны ноги долги: далеко до Петрова дни (Памяти, древней письменности. 1880. Вып. IV, 85, 100 стр.)“. Наступала рабочая пора, сталъ поспевать хл!бъ, русскому практическому народу, вообще такъ
57
трезво смотревшему на жизнь, некогда было медлить и онъ спешилъ, пока былъ досугъ, заблаговременно отпраздновать начало жатвы и отблагодарить пресв1т-лое солнце, выростившее своею все-оживляющею теплотою луговую и степную травы, жито (рожь), пшеницу и вообще, какъ говорится, всяку пашницу.
Если вообще ко времени купальскаго празднества созр"Ьвалъ хлебъ, напр. рожь, то въ частности тоже самое нужно заметить о целебныхъ, чудод'Ьйственныхъ травахъ. Все эти травы большею частью цветутъ въ купальскую ночь, тогда one достигаютъ своей зрелости и тогда же имеютъ особое чародейское значе-nie. Старинные травники и лечебники (преимущественно XVII и XVIII вв.) говорятъ о многихъ изъ нихъ. Есть напр. трава халимъ и та трава вельми добра, потому что она защищаетъ отъ нещлятелей на суде и помогаетъ безплоднымъ женамъ (Отечеств. Зап. т. LVIII, отд. VIII, 15 стр.). Другая трава „архилинт/, ростущая при большихъ рекахъ, играетъ роль оберега; обладающш ею „не боится ни д!авола, ни еретика, ни злого человека (Руск. простонар. праздн. Вып. IV, 39 стр.)“. О папоротнике мы читаемъ въ одномъ травнике: “Есть та черная напорть, растетъ въ лесахъ, въ лугахъ, ростомъ въ аршинъ и выше стебель, а на стебле малёньки листочки, а съиспода болыше листы.... а цвететъ она накануне Иванова дня въ полночь... Тотъ цветъ очень надобенъ, если кто хо-четъ богатъ и мудръ быти. А брать тотъ цветъ не просто, съ надобностями: въ Иванову ночь итти къ тому месту, где растетъ трава напороть, и очертясь кругомъ говорить: таланъ Вожш судъ твой, да воскре-снетъ Богъ (Летописи русск. литер., IV, отд. Ш, 73 стр.)“. „Въ травахъ царь есть Симтаримъ трава, о шести листахъ: первый синь, другой червленъ, тре-
— 58 —
т1й желть, четвертый багровъ..., а брать вечеромъ на Ивановъ день, сквозь золотую гривну, или серебреную; а подъ корнемъ той травы человЬкъ, и трава та выросла у него изъ ребръ. Возьми человека того, раз-р4жь ему перси и вынь сердце. Если кому дать сердца того человека, изсхнетъ (изсохнетъ) по тебе. Если мужъ жены не любить, возьми голову его и поставь противъ мужа: только что увидитъ, будетъ любить пуще прежняго. Десная рука его—добро, если которая жена мужу неверна или мужъ жене: стерши ме-зиннымъ перстомъ, дай пить. Если у которой жены детей не будетъ—печени того человека сварить въ молоке, и пить по три утра на тощее сердце, и будетъ тебе отрокъ, потомъ девица (Историческ. очерки русск. народн. слов. О. Буслаева, т. П, 38 стр.)“. Если кто хочетъ видеть дьявола и повелевать имъ, тотъ долженъ особымъ образомъ выростить чеснокъ, посадить его въ землю въ сыромъ освященномъ яйце; этотъ чеснокъ разцветаетъ всетаки въ самую Ивановскую ночь (Истор. русск. жизни. И. Забелина. Часть П, 282 стр.)“. Есть и друпя чудодейственный травы, какъ напр.: детлевина, петровъ крестъ, авбетъ, ро-стрелъ, или верба святая, папороть—безсердешная; каждая изъ нихъ имеетъ особенное значеше и уве-^личиваетъ власть человека надъ природою.
Древне-pyccKie травники и лечебники съ особен-’ нымъ удареньемъ говорятъ о томъ, что цветы, травы и коренья нужно рвать именно въ купальскую ночь, потому что только въ эту знаменательную, богатую различными дивами ночь вся растительность вообще достигала высшей степени развито! своихъ силъ. Само собою понятно, что предусмотрительные люди гораздо ранее успевали облюбовать те места, где росли нужныя для нихъ травы и коренья. Но все вообще
59
колдуны и колдуньи, женки—чаровницы, доки своего д'Ьла и простые неопытные искатели приключены выходили на поиски въ день Агрипины Купальницы, вечеромъ накануне великаго праздника 1оанна Предтечи. „Егда приходить великш праздникъ день Рожества Предотечева, но и еще прежде того великого праздника, исходятъ огавницы муж!е и жены, чаровницы, по лугомъ и по болотомъ и въ пустыни и въ дубравы, ищущи смертныя травы и прив^точрева, отравнаго зе;пя, на пагубу челов'Ькомъ и скотомъ, ту же и див!я корешя копаютъ на потвореше мужёмъ своимъ: cin вся творятъ Д'Ьйствомъ даяволимъ въ день Пре-дотечевъ, съ приговоры сатанинскими (Изъ послашя игумена Панфила, 1505 г. П. С. Р. Л., т. IV, 279 ср. Дополн. акт. истор. I, № 22)“. Въ Румянцевскомъ сборнике 1754 г. мы находимъ подобное же свидетельство: „Въ Ивановскую ночь кладовъ (поклажевъ) стерегутъ, и на травахъ парятся въ баняхъ, и травы рвутъ, и коренья копаютъ... (Опис. русск. и словенок, рукоп. Румянцевск. музея. А. Востокова. 551 стр.; срвн. Историческ. очерк, русск. словесности 0. Буслаева т. I, 482)“. Даже самъ царь Алексей Михай- • ловичъ, невидимому столь ревностно вооружавшийся противъ народныхъ суеверы, разделялъ общую веру въ благотворное, чародейское значеше купальскихъ травъ. Такъ въ 1657 году онъ писалъ къ московскому ловчему стольнику Матюшкину: „Которыя волости у тебя въ конюшенномъ приказе ведомы, и ты-бъ ве-лелъ техъ волостей крестьянамъ и бобылямъ на Рождество Тоанна Предтечи, поня въ 23 день, набрать цвету серебориннаго, да травъ империновой да мятной съ цветомъ и дятлю и дятельнаго корня, по 5 пудовъ, (Дополн. акт. Истор., Ш, 253 стр.)“.
Торжество въ честь созревшаго хлеба и собира-
60
Hie лекарственныхъ травъ—все это бытовыя стороны купальскаго празднества; но есть и друНя стороны того же самаго празднества, которыя прежде имели рели-гюзно-обрядовое значение, а теперь превратились въ простую забаву. Мы разумеешь разведенье купальскихъ костровъ, скаканье чрезъ огонь и купанье въ р'Ькахъ и озерахъ. О прыганье чрезъ огонь впервые упоминаетъ, хотя довольно неопределенно, „Слово св. отца нашего 1оанна Златоустого (XIV в.): „не токмо же преже въ поганстве, но мнози и ныне то творять, а крестьяны ся нарицающе: мосты, и просветы, и бдельники, и чересъ огнь скачуть,—мнящеся крестьяне, а поганьская дела творять (Летоп. русск. литер. Н. Тихонравова т. IV, отд. Ш, 108 стр.)“. Въ Густинской летописи мы читаемы.... „наченше поня 23 дня, въ навечер!е Рождества 1оанна Предтечи... съ вечера собираются простая чадь обоего полу, и соплетаютъ себе венцы изъ ядо-маго зел!я, или корешя, и препоясавшеся бьшемъ воз-гнетають огнь, инде же поставляютъ зеленую ветвь, и емшеся за руце около обращаются окрестъ онаго огня, поюще своя песни, преплетающе Купаломъ; потомъ презъ (польск. ргаег=чрезъ) оный огонь прескакуютъ, оному бесу жертву себе приносяще (П. С. Р. Л., т. П, 257 стр.)“. Подобное же свидетельство о купальскомъ празднестве мы находимъ и у Симеона Полоцкаго, въ его „слове о суеверш":... Третей нравъ—въ навечер!е праздника Рождества св. 1оанна Предтечи поганскимъ обычаемъ огнь возгнещаютъ, скачуть же и нарицаютъ то свое торжество Купало (Странникъ 1877 г. т. IV, 56 стр.)“.
Нельзя не заметить, что эти историческгя свидетельства о купальскомъ празднестве вполне приложимы и къ современному народному быту; и это въ особенности нужно сказать о Густинской летописи. Эти венки
— 61
(вЬнцы) удержались и до настоящаго времени. Въ Велору coin напр. Дзйвко-Купало съ завязанными глазами раздаете заранее заготовленные венки: св'Ьжш в'Ьнокъ сулитъ богатство и счастливое замужество, сухой, поблекппй—предвесНе нищеты и несчастнаго брака. По словамъ Густинской летописи было въ обычай вить венки „изъ ядомаго зелья" т. е. вероятно изъ ржаныхъ колосьевъ—вполне понятная черта, потомучто мы имй-емъ дйло съ земледйльческимъ праздникомъ; точно также, какъ известно, богъ плодородья и покровитель земле-дйлгя Ярило въ левой руке держалъ горсть ржаныхъ колосьевъ. Гуетинская летопись сообщаете намъ о ку-пальскихъ поясахъ и перевязяхъ изъ зелени—все это мы встрйчаемъ и нынй; замечательно, что белорусская красныя девицы перевязываютъ свйжею зеленью шею, руки и станъ Ляли, представляющей собою богиню весны и урожая,—какъ это близко подходите къ выраженью летописи „препоясавшеся был!емъ“. Таково вообще однообраз!е бытовыхъ формъ въ земледйльче-скихъ праздникахъ. При чтеши словъ лйтописи „ноюще свои п^сни, преплетающе Купаломъ" невольно прихо-дяте въ голову те современныя купальсьйя песни, въ которыхъ такъ часто въ виде припева повторяется неизменное „Купало, или Купала", напр.: „Купала на Ивана; купался Иванъ, та въ воду упалъ, Купала на Ивана", или „Сего дня Купала а завтра Ивана, чимъ мини моя мати торговати? Повизу я свекорка продаватй— ридного батинька куповати".
Въ параллель съ древне-русскимъ обычаемъ скакать чрезъ купальскье огни можно сопоставить современный обрядъ.—„Инде-же, какъ мы читали уже въ Густинской летописи, поставляютъ зеленую ветвь, и емшеся за руде около обращаются окрестъ онаго огня... потомъ чрезъ оный огонь прескакуютъ". „Девицы, говорите въ новейшее время г. Аоанасьевъ, въ празднич-
62
ныхъ нарядахъ, опоясанныя чернобыльникомъ и душистыми травами, съ цветочными венками на головахъ, и холостые юноши схватываются по—парно за руки и прыгаютъ черезъ разведенное пламя; судя по удачному или неловкому прыжку, имъ предсказываютъ счаспе или беды, раннее или позднее супружество (Поэт, воззр. т. Ш, 715)“. Словомъ нельзя не заметить, что скаканье чрезъ купальсюе огни имеетъ любовное значеше,—да и самый огонь вообще былъ символомъ горячей любви. Тоже самое, нужно полагать, было и въ древности. И действительно древше памятники говорить намъ о сердечныхъ, любовныхъ отношёшяхъ веселящихся на Купаловъ день, или точнее въ купальскую ночь отро-ковъ и девицъ, мужей и женъ,—эта близость и сердечность отношешй попросту переходила въ развратъ. „Егда бо пршдетъ самый праздникъ Рожество Предо-течево, тогда во святую ту нощь мало не весь градъ возмятется, и въ селехъ возбесятся въ бубны и въ сопели и гудешемъ струннымъ, и всякими неподобными играньми сатанинскими, плескашемъ и плясашемъ, же-намъ же и девамъ и главами кивашемъ и устнами ихъ непр!язненъ кличь, вся скверные бесовсюе песни, и хребтомъ ихъ вихляше и ногамъ ихъ скакаше и топта-ше; ту же есть мужемъ и отрокомъ великое падеше, ту же есть на женское и девичье шаташе блудное имъ воззреше, такоже есть и женамъ мужатымъ осквер-неше и девамъ растлеше (Изъ послашя игумена Панфила 1505 г.)“. Подобное же обличеше купальскаго разврата мы встречаемъ въ определешяхъ стоглаваго собора 1551 г.: „Русальи о Иванове дни... сходятся мужи и жены и девицы на нощное плещеваше и на безчинный говоръ и на бесовсшя песни и на плясаше и на скакаше и на богомерсшя дела, и бываетъ отрокомъ осквернеше и девамъ растлеше (Правосл. Собес. 1865 г. ч. П, 276 стр.)“.
— 63 —
Развратная сторона купальскаго празднества воплотилась въ таинственной личности „Купалолаки", покровителя любовниковъ—неудачниковъ.... „Гой оси ты государь сатана!", читаешь мы въ любовномъ закли-наши 1769 г., „пошли ко мн4 на помощь рабу своему часть б'Ьсовъ и дьяволовъ, Зеследеръ, Лореастонъ, Коржанъ, Ар дунь, Купал олака съ огнями горящими и съ пламенемъ палящимъ и съ ключами кипучими, и чтобъ они шли къ рабиц'Ь Д'Ьвиц'! или молодиц'! (конечно сообразно съ обстоятельствами) и зажигали бъ они по моему молодецкому слову ея душу и ’гЬло и буйную голову, умъ и слухъ, и ясныя очи и б'Ьлое лице, и ретивое сердце, и бурую печень, горячую кровь и вс4 т'Ьлесныя жилы и суставы и ея думу и думицу на по-хот^нье и пбгляденье, и чтобъ она раба отъ всего т'Ьлеснаго пламени не могла-бы на меня добраго молодца и на мое бйлое лицо наглядетца и насмотрецца, и шла бы она въ мою молодецкую думу и думицу и въ молодецкую телесную мою ут'Ьху (Л'Ьтоп. русск. литер. Н. Тихонравова т. Ш, отд. Ш, 92 стр.)“.
Купанье въ р^кахь и озерахъ—также необходимая принадлежность купальскаго празднества,—оно какъ-бы завершаетъ собою народное торжество. „И егда мимо нощь ходить, писали отцы стоглаваго собора, тогда отходятъ къ р’Ьк'Ь съ великимъ кричашемъ аки б^сни и умываются водою (Лравославн. Собесйд. 1865. ч. П, 276 стр.)“. Нельзя при этомъ не вспомнить словъ указа СвятЬйшаго Правительствующаго Синода (1721 г. апр. 17) о н4коемъ идол! Купал1!, ему же... приносили жертву онымъ купашемъ (Русск. простонар. праздн. Вып. I, 40 стр.)“. Словомъ очевидно, что купанье было настолько важною стороною купальскаго празднества, что еще въ древности производили самое слово „Купало" отъ купаться. Такого-же историческаго и вм'Ьст'Ь съ т^мъ есте-
ственнаго словопроизводства держатся и мнойе нов'Ьй-niie изсл'Ьдователи, какъ напр. Н. Костомаровъ, или Янъ Эразмъ Воцель; мы также разд'Ьляемъ подобный взглядъ на происхождеше слова „Купало", потому что не хотимъ безъ нужды пускаться въ хитроумныя соображешя.
II. Солнце.
Если верить Геродоту (за 450 г. до Р. Хр.), то еще древше скиеы—предки славянъ и н'Ьмцевъ—обожали Аполлона—Солнце. Но само собою разумеется, что Геродотово свидетельство слишкомъ неопределенно и условно, чтобы непременно относиться къ русскимъ племе-намъ. Гораздо определеннее и яснее известия арабскихъ писателей. Арабсше путешественники и ученые вообще считали славянъ огне-и солнпе-поклонниками. Арабъ Массу ди, писатель X века, въ своихъ „Золотыхъ Лу-гахъ“ замечаете, что въ одномъ изъ славянскихъ хра-мовъ сделаны были въ куполе отверстия и надстройки, для наблюдешя точекъ восхождешя солнца, и что тамъ вставлены были драгоценные камни съ начерташями, предсказывавшими будущее (Объ обожаши солнца... И. Срезневскш, I стр.). Въ параллель съ описашемъ славянскаго храма у Массуди нельзя не сопоставить храмъ Ютербока: „въ немъ не было идола, но просто обоготворялось явлеше перваго луча восходящаго солнца. Этотъ храмъ освещался только однимъ неболыпимъ отверстчемъ, которое было обращено на восточную сторону такъ, что онъ (храмъ) озарялся светомъ только при восходе солнца (Русск. народность въ ея поверьяхъ, обрядахъ и сказкахъ. Д. О. Шеппингъ, 10. стр.)“. Замечательно, что нечто подобное славянскимъ храмамъ
5
66
мы встр’Ьчаемъ у американскихъ туземцевъ, жителей Флориды. „У племени Апалатчи на восточной стороне горы Олаими есть священная пещера, представлявшая собою солнечный храмъ. При восходе солнца, когда лучи его падали въ храмъ черезъ главное отверстае, также точно и въ полдень, когда лучи падали туда черезъ другое отверсне, нарочно для этого проделанное, Апалатчи приветствовали его пешемъ и воскурешями (Зап. имп. новороссшск. универ, т. XXIV, ч. I, 72 стр.)“. Какое странное совпадете въ обычаяхъ двухъ народовъ, столь разделенныхъ пространствомъ! Teopin заимство-вашя здесь решительно неприложима, потомучто самый рьяный бенфеистъ не додумается поставить въ духовную связь и взаимное общеше славянъ и американскихъ дикарей. Намъ остается только признать единство псйхологическихъ законовъ развитая, приводящихъ къ одинаковымъ результатами—Кроме Массуди объ обо-жанш солнца у славянъ свидетельствуетъ и другой арабскш писатель „Ибрагимъ бенъ-Весифъ-Шахъ"; по его словамъ важнейшимъ изъ семи славянскихъ празд-никовъ былъ праздникъ солнца (Объ обожанш солнца, 1—2 стр.). Везъ всякаго сомнешя арабскимъ известаямъ не достаетъ локализацш; мы не знаемъ, къ какому именно славянскому племени нужно относить ихъ свидетельства. По этому поводу справедливо замечаете И. Сре-зневскш, чаю „слова" Массуди и Ибрагима-бенъ-Весифъ-Шаха „могутъ быть отнесены ко многимъизъ народовъ славянскихъ, темъ более, что солнце было боготворимо славянами повсюду (Ibidem. 2 стр.)“. Замечаше—вполне верное и въ частности приложимое къ славяно-русскому народу. Такъ Кйриллъ Туровскш говорите о русскихъ язычникахъ: „уже бо не нарекутся богомъ стих1а, ни солнце, ни огнь"; въ томъ же смысле проповедывали и друйе ревнители православ!я: „не нарицайте собе
— 67
бога ни въ солнци, ни въ лун'Ь; луце же ли покланя-тися лучю мрькнущему, нежь лучю безсмертному (Поэт, воззр. А. Аеанасьева т. I, 65—66 стр.)“. Въ •слов'Ь св. отца нашего 1оанна Златоустаго мы читаемъ: „Чело-в'Ьцы, забывше страха Божгя, небрежешемъ, и кретце-шя отвергошася, и приступиша къ идоломъ, и начата жрети молши и грому и солнцю и лун’Ь, а друзш Пе-рену.... (Лйтоп. русск. литерат. Н. Тихонравова т. IV, отд. Ш, Сл. VII, XIV в. 107 стр.)“. Въ „поучешиду-ховнымъ д!тямъ“ встр'Ьчаемъ такого рода наставле-nie въ Btpi: „уклоняйся предъ Вогомъ невидимыхъ: молящихся челов'Ькъ Роду и Рожаницамъ, Поревну и Аполовину и Мокоши и Перегини и всякимъ богомъ, и мерзкимъ требамъ не приближайся (Архивъ Калачова, кн. П, половина I, 104 стр.; срвн. Православ. СобесЬдн. 1865 г. ч. П, 256)“. Подъ Аполовинымъ зд1сь конечно нужно разуметь солнце—Аполлона.
Мысль объ обожанш солнца русскими язычниками была усвоена нашими старинными историками. Такъ напр. В. Н. Татищевъ, говоря о знаменитыхъ князьяхъ полянскихъ, Kit, Щек'Ь и Хорив^, зам^чаетъ: „Btporo же были тогда погани, жруще озерамъ, кладезямъ и ращешямъ, солнце же и огонь и иная почитаху яко бози, якоже и ити погани творятъ (Истор. россшск. съ древн. временъ. В. Н. Татищева кн. П, 5 стр,)“. 0. Эминъ думаетъ, что солнце было славяно-русскимъ богомъ плодород!я (Рос. ист. 0. Эмина, т. I, 10 стр.).
Слово „солнце" въ грамматическомъ отношеши колеблется между мужскимъ и женскимъ родомъ. Санскрит. суръ, cypacypja, готск. sauil, греч. helios, лат. sol, француз, soleil—мужского рода; н^мецк. die sonne, литовск. saule (саулэ, саула), женскаго рода. Обращая внимаше на это обстоятельство, П. А. Лавровскш, полемизируя съ г. Потебней, замЪчаетъ:... „Самое
68 —
солнце явилось въ женскомъ роде только въ литов-скомъ да въ позднемъ германскомъ; мужского рода оно не только въ пеласгическомъ племени, но и въ германскомъ древнемъ и въ санскрите.... савитаръ (въ санскрите), богъ солнца—тоже мужчина (Чтенья въ импер. общ. ист. и древн. росс. 1866 г. кн. П,* V= Смесь, 87 стр.)“. И действительно славяне вообще и pyccKie въ частности по. преимуществу любятъ представлять солнце въ образе мужчины: деда-всеведа, статнаго воина или красиваго юнака=парубка, а не женщины, или девушки. Такъ напр. фантаз!я хору-танъ рисуетъ солнце вечноюнымъ воиномъ, едущимъ на двуколке, запряженной двумя белыми конями и украшенной широкимъ белымъ парусомъ, котораго ко-лебаше наносить на землю тучи и гонитъ ветеръ; около него вьются птицы, которыя одне могутъ видеть его и знать, чего не знаетъ никто на земле (Объ обожаши солнца у древнихъ славянъ 9—10 стр.). Хорваты говорятъ о царе—Солнце, который въ день Ку-палы „пируетъ въ своихъ чертогахъ" и разбрасываетъ вместо стрелъ свои лучи (Ibidem. 10 стр.). Чешсшя сказки сохранили предаще о златовласомъ деде—все-веде, т. е. всеведущемъ и всевидящемъ солнце: солнце каждое утро всходить въ виде красиваго дитяти, или юноши съ светлыми, золотистыми волосами и' достигаетъ запада престарелымъ дедомъ (Поэт, воззр. т. I, 180 срвн. т. Ш, 390) По предаш-L ямъ сербовъ солнце—„Царь—Солнце", молодой и прекрасный юнакъ,х. сидитъ на золототканномъ пурпур-номъ престоле"; по словамъ одной сербской песни солнце женится на простой смертной девойке, сестре девяти братьевъ (Объ обожаши солнца 11 стр.). Почти тоже самое разсказываютъ про солнце ближайппе родичи сербовъ болгары. По болгарскимъ предашямъ
— 69
юнакъ—солнце прельщается красотою дочери Славки. „Разъ Грозданка (дочь Славки) вышла погулять въ батюшкинъ садикъ, предъ батюшкинымъ дворомъ. Тамъ то и увидало ее солнце! Увидавши ее, оно три дня и три ночи трепетало, трепетало и не заходило,,. Съ дозволенья матери и по совету Господа влюблен- ' ное солнце въ самый Егорьевъ день спускаетъ на Грозданкинъ дворъ золотыя качели; неосторожная красавица не зам’Ьчаетъ хитро придуманнаго обмана, на-чинаетъ качаться на дорогихъ качеляхъ и такимъ образомъ внезапно похищается: поднимается вверхъ вместе съ золотыми качелями. Само солнце после не-которыхъ препятствш наконецъ женится на Гроздан-ке и успокоивается (Летоп. русск. литерат. и древн., т. Ш, отд. Ш, 6—7 стр.).—По славяно-русскимъ предаш-ямъ солнце точно также представляется мужчиной, ца-ремъ, а не царицей, или красной девицей. Такъ въ Ипатьевской летописи мы читаемъ: „Солнце царь сынъ Свароговъ, еже есть Дажьбогъ, бе бо мужь силенъ (П. С. Р. Л., т. П, 5 стр.)“. По русскимъ сказкамъ солнце—царь,—оно им^етъ двенадцать сыновей и управляетъ чрезъ нихъ двенадцатью царствами (Журн. М. Н. Просвещ. 1846 г. LI, 50 стр.). Въ малорусской сказке о Кати-горошке, Покатигорошке говорится о томъ же Царе—Солнце, который каждую ночь возвращается „до своей господы“—солнцевой матери (Русск. Беседа 1856 г. Ш, 101 стр.).
Говоря о томъ, что pyccKie язычники любили представлять себе солнце въ мужскомъ образе и весьма редко въ женскомъ (порча первичной чистоты и свежести миоическаго преданья), мы не можемъ обойти, молчашемъ тЬхъ изъ нашихъ изследователей, которые думали какъ разъ наоборотъ. Имеемъ въ виду А. Потебню и Ореста Миллера. Эти изследователи, на
70
ходясь подъ вл!ятемъ западныхъ ученыхъ, въ род! Макса Мюллера, и данныхъ немецкой и литовской миеолопи, пытались доказать, что первоначально и въ русской миеологш солнпе являлось женщиною. Само собою разумеется, они не могли привести въ свою пользу ни одного древняго летописнаго свидетельства, но зато ссылались на подложныя показашя, сфабрико-ванныя нашими старинными этнографами. Ревность этихъ изследователсй доходила до смешнаго; такъ напр. они придавали особенную важность тому слиш-комъ ужь простому обстоятельству, что въ щедрив-кахъ, колядкахъ, великорусскихъ и малорусскихъ пес-няхъ хозяинъ обыкновенно величается месяцемъ, а хозяйка—солнцемъ: въ этомъ видели намекъ на то, что въ языческую эпоху русской жизни солнце представлялось женщиной, а не мушиной (Чтен. въ импер. общее, истор. и древн. росс. 1865 г. кн. Ill, I, 227— 228; Опыт. ист. обозренья русск. словесн. Ореста Миллера. Часть I, вып. I, 1865 г. 28 стр.). Мы лично въ величанш хозяина месяцемъ, а хозяйки—солнцемъ не видимъ никакого отголоска древне-языческихъ веро-ванш,—это просто вежливое, или ласковое прозвище, или прозвища и при томъ народъ вообще при неиспорченности и живости воображешя способенъ къ са-мымъ смелымъ уподобленьямъ и сравненьямъ. Нужно ' также помнить, что народъ далеко не всегда называете, хозяина месяцемъ, а хозяйку солнцемъ: здесь царитъ почти полный произволъ. Еще изъ древнихъ летопи-сныхъ сказанш мы знаемъ, что солнце было почетнымъ прозвищемъ князей и следовательно мущинъ: митрополита Кириллъ называете Александра Ярославича солнцемъ Суздальской земли, княгиня Ев дою я величаете своего мужа Димитр1я Ивановича Донского рано заходящимъ солнышкомъ (П. С. Р. Л., т. IV, 353 стр.;—
71
т. V, 6 стр.). Точно также, какъ известно, въ велико-русскихъ былинахъ ласковый князь стольно-йевскш Владиапръ прозывается краснымъ солнышкомъ; замечательно, что имя того-же самаго Владим1ра у мало-руссовъ связано съ словомъ „месяцъ,,: „Ой месяцю Володимере (Максимовичъ)“! Выводъ отсюда возмо-женъ только одинъ: народъ безразлично называете одно и тоже лицо, мущину, или женщину, то месяцемъ, то солнцемъ. Народныя песни вполне подтверждаютъ этотъ выводъ; мало того, въ нихъ иногда одно и тоже лицо въ одно и тоже время величается и месяцемъ и солнцемъ: „Не светелъ-то’ месяцъ светить, не красное солнце греете—пришелъ батюшка родимый" или „Анна (имя жены), душечка моя, Петровна, сердце мое! Я не свижу—тужу по тебе, я увижу—обрадуюся, будто красному солнышку, будто светлому месяцу (Летоп. рус. литерат. и древн. Н. Тихонравова т. IV отд. 11, 72 стр.; Пермскш сборникъ. Книж. П, 139 стр.=изъЧердыни)“.
Руссшя простонародныя песни и особенно мало-руссшя колядки часто прямо рисуютъ себе солнце въ мужскомъ образе: такъ оно нередко является братомъ или товарищемъ месяца и дробнаго дождика. „Зъ за той гори, зъ за високо!., видни ми виходятъ трёхъ бра'йвъ рщнихъ: еденъ братцейко—свггле сонейко, другий братцейко—ясенъ мюячокъ, третей братцейко— дробенъ дожчейко". „Та вжежъ до тебе въ ршъ Б1гъ приходите, въ ркъ Б1гъ приходить—три товарищи; первий товаришъ—ясне соненько, другш товаришъ та бмий мшяць, третей товаришъ—дрибнш дожчикъ" „Цы (ци) дома бываешь, пане господарь? Твои рынойки поза-метаны, твои столойки понадкрываны, за твоимъ столомъ троигостейки—еденъ гостейко—светле сонейко, другш гостейко—ясенъ месячокъ, третей гостейко—дробенъ дожджейко (Беседа. 1872 г. кн. IV,—апрель, 30—31
12
стр.; Поэт, воззр., т. Ш, 754 стр.). Нельзя не заметить, что въ некоторыхъ колядкахъ солнце невидимому представляется и женщиной, но намеки колядокъ слишкомъ неопределенны, такъ что въ нихъ можно видеть или простую метафору, или въ крайнемъ случае позднейшее извращеше миеа, или релипознаго верованья. „Поихавъ Иванцё до пръ на вино, самъ молодъ, гей самъ молодъ, самъ молодейкий, у тимъ люойку у зе-ленейкимъ опочивать; подибали (встретили) жъ го шмъ розбшнишвъ, стали ся его вивидовати: „ци (чи) маешъ ти, Иванцю, ридного батейка?"—Въ мене батейко— ясенъ мюячокъ! „Ци маешъ, Иванцю рщну матшку".— Въ мене матшка—ясне сонейко! „Ци маешъ, Иванцю ртдну сестройку“?—Въ мене сестройка—ясна з!рнойка! „Ци маешъ, Иванцю, рщного братейка?—Въ мене братейко—сивъ соколойко (Беседа. 1872 г. кн. IV,— апрель, 27 стр.)“. „Изъ приведенной колядки объ Иван-це“, замечаетъ по этому поводу Н. Костомаровъ, „у котораго отецъ—месяцъ, а мать—солнце, видны следы представленья солнца въ женскомъ виде и при томъ въ любовныхъ отношешяхъ къ месяцу (Ibidem. 36 стр.)“. Мы лично не видимъ ничего подобнаго и не придаемъ особеннаго значешя тому обстоятельству, что Ивась, или Иванцё называетъ солнце своею матерью,—ведь тотъ же самый Иванцё называетъ своимъ братомъ „сиваго" сокола; и если въ одномъ случае видятъ следы языческихъ преданш о солнце—жене месяца, то пусть и въдругомъ—усматриваютъ обожаше птицъ (сокола), или вообще зоолатрш. Что особенно стран-наго представляетъ ответъ Иванця, чтобы быть по-водомъ къ мистическимъ гипотезамъ; если Иванцё не говоритъ о своемъ обыкновенномъ отце, или матери, а приписывается въ родство къ небеснымъ светиламъ и птицамъ, то не также ли говорятъ о своихъ роди-
73 —
чахъ разбойники, герои народной литературы, искатели приключешй и вообще все те, кого не удовлетворяет!, узкая сфера семейнаго быта и кого привлекаетъ разгульная жизнь независимаго безшабашнаго гуляки и удальца?... Для удалаго искателя приключешй нетъ ни роду, ни племени, ни отца, ни матери: его отецъ и мать—мать сыра земля, быстрая река, дремучш лЬсъ, солнце и мЬсяцъ, степь широкая, сабля вострая, пуля меткая. Если—такъ, то въ словахъ Иванця нужно видеть обычный уклончивый образный ответъ смельчака, не связаннаго, или не дорожащаго семейными узами. А потому въ ответь Иванця мы не видимъ никакого отголоска миеическихъ вЬровашй, но за то въ немъ нельзя не заметить эпической свежести кра-сокъ, и намъ невольно приходятъ на умъ подобный-же живописно-эффектныя речи Всеволода о курянахъ: „А мои ти Куряни сведоми къмети, подъ трубами по-вити, подъ шеломы възлелеяны, конець кошя въскръм-лени... (Слово о полку Игореве).
PyccKie славяне, подобно многимъ другимъ наро-дамъ, любили представлять себе сонце въ виде колеса: „Колесомъ, колесомъ въ гору сонце йде (малорусе. песн.), или колесомъ соничко въ гору заходить (белорусок, пес.—Чтенья въ имп. общ. йстор. и древ, росс. 1864 г. кн. I, 102,—1873 г. кн. IV, 70 стр.).
\ Не трудно заметить, что русскш народъ не смешивалъ < солнце съ колесомъ, а только уподоблялъ последнему: { живое воображеше особенно склонно къ сравнешямъ, ? метафорамъ и олицетворешямъЛ Латыши и вообще литовцы, какъ одаренные особенно сильной фантаз!ей, говорятъ о действительныхъ солнцевыхъ колесахъ, Солнцевой колеснице и солнцевыхъ коняхъ: „Солнце въехало въ садъ съ яблонями; у него девять колёсъ и сто коней", „Солнце... сидитъ на горе, держа въ руке золо-тыя вожжи... черезъ боръ оно едетъ въ колеснице (Сборн.
74 —
антрокологич. и этногр. статей о Poccin. В. А. Дашкова. кн. П, 1873 г., 31—32 стр.)“. Проходя длинный дневной путь, солнце отъ скуки забавлялось золотыми яблоками. Такъ въ одной веснянке является предъ нами таинственное дитя—младенецъ,—играющее золо-тымъ яблокомъ: „Ой чимъ воно цятаеться? Ср1бними opi-шками. Ой чимъ воно шдкидеться. Золотимъ яблуч-комъ (ВёсЬда 1872 г. кн. УШ,—августъ 44 стр.)“. О томъ же самомъ миеическомъ дитяти говорится вообще во многихъ колядкахъ и веснянкахъ, только вместо обычнаго золотого яблока мы иногда встр'Ьчаемъ червонное яблоко, орехи и даже карты (Чтенья въ императ, общ. истор. и древн. росс. 1866 г. кн. I, Ш.=Матер1алы, 610; Поэт, воззр.; т. Ш, 755 стр.). Что это таинственное дитя есть именно солнце, объ этомъ мы знаемъ не изъ хитроумныхъ соображешй фан-тазирующихъ миоологовъ, а изъ прямого и яснаго свидетельства латышскихъ п!сенъ: „Солнце заходить вечеромъ, перебрасывая золотое яблоко: всходя утромъ на небо, оно сЬетъ чистое серебро (Сборникъ антро-пологич. и этнограф, статей, о Россш В. А. Дашкова, кн. 11, 33 стр.)“. Достигая запада, прежде бодрое солнце сильно утомлялось, изнемогало, или, говоря образно, изъ красиваго дитяти (панича) делалось или становилось с^дымь престарелымъ дедомъ; тогда, скрываясь отъ взоровъ нескромныхъ свидетелей, оно ку~-палось въ волнахъ воздушнаго океана и снова прюбре-тало свежесть силъ и молодость. О купанье солнца въ волнахъ воздушнаго океана говорить темное малорусское предате., „Сонце ся въ море купае (Поэт, воззр. т. П, 124 стр.)“ или „А въ неделю рано, море ся розыграло; а не море тото грае, але сонце ся купае (Чтенья въ импер. общ. ист. и древн. росс. 1872 г. кн. Ш, ч. Ш, 336 стр.). Нельзя не сознаться, что латышсюя песни говорятъ гораздо яснее и по
75
дробнее о томъ же самомъ купающемся солнц!}: „Когда солнце склоняется вечеромъ, оно ложится въ золотую лодочку; когда солнце всходить утромъ, лодка остается, качаясь на море (Сборн. антроп. и этнограф, стат. В. А. Дашкова, кн. П, 30 стр.)“ или „Кто ви-д'Ьлъ, кто говорилъ, что солнышко спитъ по ночамъ? Днемъ оно бродить по зеленой рощ!}, а ночью по морскимъ волнамъ (Ibidem. 33 стр.)“ Изъ сравненья' русскихъ и латышскихъ преданш очевидно, что по первичному древнему представлешю солнце всю ночь бодрствовало, ему нужно было переплыть воздушный океанъ: какъ только солнцева золотая лодочка достигала востока, солнце оставляло ее и снова пускалось въ дневной путь—начиналось утро.—Впоследств1е наивная фантаз!я младенчествующаго народа создала сказаше о солнцевой матери, о спящемъ солнце и солнцевомъ царств!}. Говорятъ, будто солнце спитъ на мягкомъ ложе, или отдыхаетъ отъ дневныхъ трудовъ на кол'Ьняхъ своей старой матери. По народному пре-дашю и ночью и зимою солнце пребываетъ въ своемъ солнечномъ царств!}. Солнце живетъ въ золотыхъ па-латахъ, у него есть сады съ золотыми яблоками, источники, текушде серебромъ и золотомъ (Поэт, воззр. т. I, 198 стр.); вс!} мелшя вещицы и домашняя посуда, въ род 1} простой кружки, или корыта, слиты изъ чистаго золота (Русск. Беседа. 1856 г. Ш, 101 стр.). Для всякаго понятно, что предате о золотыхъ ябло-кахъ, источникахъ, золотомъ корыт!} первоначально обязано своимъ происхождешемъ фигурально-образной р!}чи: золотисто—бледные лучи солнца освещаютъ земные предметы, и они кажутся золотыми. Такъ въ~^ одной малорусской песне „зелешй дубочекъ" довольно просто сов!}туетъ белой березЬ не хвалиться белизною своей коры: „Ой об!зветься зелешй дубочокъ":
76 —
ой не хвалися, бма березонька; не ти свою кору ви-бьлила... вибйило кору яснее сонце (Беседа 1872 г. кн. VIII,— августъ 28 стр.)“. Въ соответствующей латышской песне мы встречаемъ гораздо более поэти-чески-живыя выражешя о золотистыхъ лучахъ солнца: „Перкунасъ отправился за сине море сватать себе невесту; за нимъ едетъ солнце съ приданымъ, украшая лЬсныя деревья: оно даетъ дубу золотыя рукавицы, а клену перчатки золотыя: даритъ маленькой ивушке золотыя закрученыя кольца (Сборникъ антропол. и этнограф, статей В. А. Дашкова кн. П, 25 стр.).
Солнце вообще ведетъ однообразную трезвую жизнь; но само собою понятно, нельзя и ему . не повеселиться, или не поиграть; оно так'ь и делаетъ, довольно основательно замечая удивленнымъ, или осуждающимъ его лю-дямъ: „Вы, дескать, люди, целый годъ по сороку разъ играете—дайте мне поиграть хоть одинъ разъ (Чтен. въ имп. общ. истор. и древн. росс. 1873 г. кн. IV, смесь, 124 стр.)“ Играя солнце разделяется на многочисленные разноцветные круги: изъ одного солнца делается несколько солнечныхъ круговъ. Въ нашихъ летописяхъ нередко говорится о трехъ, или четырехъ солнцахъ: „1204 г. Се паки иное знамеше вел!е явися на небеси: 3 солнца на востоце, а четвертое на небеси на западЬ, а посреди неба аки месяць великъ, подо-бенъ дузе; а стояху знамешя отъ утра до полудни (Новогородская вторая летопись)", 1470 г. „А тЬ три солнца необычная снидошася вместе (Воскресенск, сп.; П. С. Р. Л., т. Ш, 128 стр.,—т. VIII, 157; Летописецъ Рус-скш. 1792 г, т. I, 355 стр.)“. Точно также, и латыш-смя песни говорятъ иногда о девяти солнцахъ: „Я спросилъ у милой Марьи: где бы мне высушить каф-танъ“? Высуши его, паренекъ, въ саду, где светятъ девять солнцевъ (Сборн. антроп. и этногр. статей
77
В. А. Дашкова кн. П, 25 стр.)“. Судя по народнымъ сказкамъ, нужно думать, что солнце неравнодушно къ дивнымъ красавицамъ, въ роде ‘ морской панны, или прекрасной Анастасш; но кажется, что въ этомъ отно-шеши солнце черезъ-чуръ ужъ несмело и стыдливо Въ сказке о Катигорошк'Ь солнцева мать спрашиваетъ своего сына—солнце: „сыне мой! отчего ты прежде всходилъ червоннымъ, а теперь всходишь бледнымъ"? Отъ того, мати, что прежде при моемъ восходе я встр’Ьчалъ прекрасную морскую пани, и какъ бывало взгляну на нее, такъ и покраснею; а теперь не вижу ее на море (Поэт, воззр., т. П, 129 стр.)“.
Г. Аеанасьевъ находитъ на Руси нечто подобное греческому миеу о Фаэтоне. Такъ по словамъ малорусской сказки добрый молодецъ, зять солнца, съ дозволешя своего тестя (солнца) садится на солнечный стулъ, и вы'Ьзжаетъ светить Mipy вместо самого „пра-веднаго солнца"; по неосторожности, или неопытности солнцевъ зять попалилъ не мало виноградниковъ (Поэт, воззр. т. Ш, 791 стр.). Значитъ русскш народъ объ-яснялъ наступлеше чрезмерно жаркихъ дней темъ, что тогда светило не солнце, а простой челов’Ькъ, хотя бы и родичъ солнца, который по непривычке, или неуменью, не могъ соразмерить свой бегъ и дать лю-дямъ столько тепла, сколько нужно. Народъ какъ бы такъ разсуждалъ: съ солнцемъ—что то случилось необычное, оно светитъ и греетъ не такъ, какъ прежде, знать и въ-заправду, что это—не опытное, вечно ровное солнце, а кто-нибудь изъ его семьи, еще непопри-выкппй къ делу. По той-же самой причине латыши думаютъ, что въ облачные дни светитъ не само солнце, а солнцева служанка: „Когда солнышко само восходить, оно светится, какъ зеркало; если же служанка со л-
— 78
нышка, то покрывается слоемъ облаковъ (Сборн. антр. и этнограф, статей В. А. Дашкова кн. П, 30 стр.)“.
Въ солнце сл'Ьдуетъ различать две стороны: деятельную, или карающую и страдательную, или пассивную. О воюющемъ солнце—карателе, истребляющемъ неугодныхъ ему людей и особенно преступниковъ, говорятъ древне-pyccKie памятники. Въ известномъ слове о полку Игореве мы читаемъ: „Ярославна рано плачетъ въ Путивле на забрале, аркучи: светлое и тре-светлое слънце! всемъ тепло и красно еси: чему господине простре горячюю свою лучю на ладе вой? Въ поле безводне жажд ею имь луци съпряже, тугою имъ тули затче (Историческ. христома'йя 0. Буслаева, 592 стр.)“.
Подъ 1366 г. русскихъ летописей мы находимъ описаше насилш и жестокостей надъ палестинскими хрис'йанами, замечательное по наивнымъ представле-шямъ о солнце. „Того же лета кн^язь Кюпрьскый плени Александрпо, грады вся пожже и Срачины по-сече; и разгневася на крестьяны царь Египетски, посла въ Антпшю и въ Терусалимъ и въ про’йя грады, что ни есть въ области, имешя крестьянсшя отня, и церкви разграбивъ загради каменьемъ, и монастыри Синайскыя запусти и разори, Михаила naTpiapxa и вся митрополиты распя, а иныхъ въверже въ темницю. Сего не терпя солнце луча своя скры: августа 7, въ въ часъ 3, бысть солнце аки треи денъ месяць, ущер-бнувшюся ему съ северные страны, мраку зелену отъ запада приходящу, и пребысть часъ, обратися рогы на полдень, потомъ къ земли, дондеже света наполнися (П. С. Р. Л., т. IV, 65 стр.; срвн. т. УШ, 14 стр.; Русски времянникъ, 1820 г. ч. I, 222; Истор. росс. В. Н. Татищева кн. IV, 207 стр.)“. Какъ можно судить по этому наивному разсказу летописи, солнце представляется не мертвымъ предметомъ, а живымъ чув-
79
ствующимъ существомъ, негодующими, на неправды я преступлетя дикихъ варваровъ; бывшее въ 1366 г. солнечное затмите было вызвано именно гн'Ьвомъ праведнаго солнышка на нехристей. Память о солнце— карателе и доныне сохранилась въ малорусской пословиц!}: „Соньце бъ тя побило".—Солнце не только само было грознымъ, непобедимымъ воиномъ (срвн. латинск. sol invictus),—оно также вливало отвагу и мужество въ сердце того, кто родился подъ солнцемъ, въ комъ преобладала солнечная стих!я:... „Отъ солнца очи: тотъ челов'Ькъ богатыреватъ и безстрашенъ (Изъ погод. Сборн. Очеркъ домашней жизни и. нравовъ великорусе, нар. въ XVI и ХУП стол. Н. И. Костомарова. 1860 г. 186 стр.)“. Словомъ несомненно, что въ солнце следуетъ отметить действующую, карающую сторону личности, которая довольно рельефно и живо бросается въ глаза изеледователя,—а потому намъ ничего не остается сделать, какъ только подивиться более чемъ странному и неосновательному мненью историка С. Соловьева, обрекающаго солнце играть только пассивную роль среди другихъ славяно-русскихъ боговъ. „Молшя (Перунъ)“, говорить г. Соловьевъ, „являлась для язычника силою производящей, съ ха-рактеромъ божества высшаго, действующего, правя-щаго по преимуществу, умеряющаго, исправляющаго вредъ, наносимый другими божествами, тогда какъ солнце напр. и для поклайяющагося ему язычника являлось чемъ то страдательнымъ, не имеющимъ распорядительной силы въ природе, подчиненнымъ (Ист. Россш С. Соловьева. Изд. 4. т. I, 82 стр.)“.
Солнце не только победоносно борется съ людьми и грозно караетъ ихъ, но и само подвергается серьёзной опасности со стороны небесныхъ змеевъ. Подъ 1064, или 1065 г. мы читаемъ въ летописяхъ такого рода за-
— 80 —
мЬтки:... „и солнце премЬнися, и не бысть светло, но акы мЬсяць бысть, егоже нев'Ьгласи глаголють сн4дае-му сущю" или „бысть знамеше въ солнц’Ь; прем4-нися солнце и не бысть светло, но аки молодой m4-сяцъ, о немъ же не разумши глаголютъ сн^даему быти отъ зм!я (Л4т. по Лавр, списку. Археограф, комм. 1872 г. 160 стр.; П. С. Р. Л., т. IX, 92—93; ЛЬтопис. Русскш, т. I, 159 стр.; Ист. росс. В. Н. Татищева кн. П, 118 стр.). Какъ оказывается, русские славяне верили, что во время солнечныхъ затм^шй небесный зм^й, или зм^Ьи хотгЬли проглотить (пожрать) ненавистное имъ солнце. Подобнаго же взгляда на причину солнечныхъ затм^шй держались калмыки (Татищевъ, кн. П, 273 примЬч. стр. 433) и древше индейцы (Поэт, воззр. т. I, 749 стр.). Какъ-бы то ни было, но между зм4емъ и солнцемъ д'Ьло доходило до рукопашной схватки, и первому иногда удавалось нанести последнему (солнцу) кровавыя раны:... „явися солнце, кровавы лучи испущающи съ дымомъ", или „погибе солнце" и потомъ „обратися въ кровь". Но небесные, или воздушные зм4и никогда не могли окончательно сгубить, или надолго задержать въ своей пасти проглоченное солнце, потому что „солнце", какъ в'Ьритъ и теперь русскш народъ „въ ящикъ не запереть (Пермск. сборн. кн. I, отд. П, 129 стр.)".
По в'Ьрованьямъ русскаго народа солнце. было богомъ плодород!я, созрЬвшихъ ягодъ и сшЬлаго хл'Ьба (напр. ржи=жита, пгаеницы=яровинки).... Происхожденье подобныхъ представлешй о солнце слишкомъ уже просто и естественно, чтобы быть для вся’каго понят-нымъ: народъ просто констатировалъ всЪмъ бросающейся въ глаза фактъ вл!яшя солнечной теплоты на спелость или созр'Ьваше земныхъ плодовъ. „И вггеръ eie, и сонце rpie, и калина cnie (Беседа 1872 г. Ан. УШ,
81
18 стр.).“ или „Охъ ты ягодка самородинка, распрекрасное мое деревцо !Ты когда взошла, когда выросла, ты когда цв!ла, когда вызрела?—Я весной взошла, л'Ьтомъ выросла, я зарей цв!ла, солнцемъ вызр'Ьла (П!сни, собран. П. В. Кир!евскимъ. Вып. УШ, 278— 279 стр.) Подобно русскимъ племенамъ и латыши видятъ въ солнц! виновника урожаевъ и неурожаевъ: „Солнышко брело по полю съ рожью, приподнявъ свой плащикъ; тамъ, гд! оно плащикъ спуститъ, рожь на пол! пригибается (Сборн. антропология, и этнограф, стат. В. А. Дашкова, кн. П, 32 стр.). Изъ представленш о солнц!, какъ о бог! плодород!я, естественно «возникло подобное же представлеше о солнц!-батюшк!, кормильц! своихъ смертныхъ д!тей: „Солнушко—вёдрушко! выглянь въ окошечко; твои д!тки плачутъ, !сть~пить просятъ (великорусок.) или „Сонечко—сонечко! виглянь у виконечко; твои дитоньки плачуть, истоньки хочуть (малорусск. Поэт, воззр., т. I, 68; Чтен. въ. имп. обществ, истор. и древн. росс. 1874 г., кн. I, матер, отечествен. 65 стр.)“.
—***Т1амъ остается сказать еще н!сколько словъ о брачномъ значеши солнца. Кормилецъ—батюшка, пре-св!тлое солнце въ своихъ заботахъ о своихъ д!ткахъ— людяхъ не оставило безъ внимашя и этотъ вопросъ, столь важный для- челов!ческаго счасйя и благопо-луч!я. Не только у насъ на святой Руси, но и вообще у аршскихъ народовъ солнечные боги были покровителями и установителями брачной жизни. По древнимъ в!дшскимъ в!ровашямъ земной бракъ былъ только подоб!емъ таинственнаго брака Сурши (солнца) съ Сомою (луною) (Разв!дки о древн!йш. русь—слав, грамотности А. С. Великанова. 118 стр.). По латышско-литовскимъ в!ровашямъ солнце—матушка (Саулэ, Саула—матула) бываетъ настолько любезна и предупре-6
— 82 —
дительна къ жениху и невесте, что охотно принимаешь на себя нелегкш трудъ готовить невестино приданое: „Перкунасъ отправился за сине море сватать себе невесту; за нимъ едетъ солнце съ приданымъ, украшая л'Ьсныя деревья", или „Месяцъ—батюшка долю выд'Ьлялъ; солнце—матушка приданое готовила (Сборн. антропол. и этнограф, статей В. А. Дашкова, кн. П, 25 стр.; Сборн. статей, чит. въ отд. русск. яз. и слов, имп. академ, наукъ, т. П, № 2., 1867 г., 5 стр-.)". Вероятно, что подобныя же представлешя о солнце ходили и у насъ на Руси. Прежде всего обращаемъ внимаше на известный книжный разсказъ Ипапев-\ ской летописи о мнимыхъ египетскихъ царяхъ Гефе-
сте и ГелюсЬ. Феостъ=Гефестъ=Соварогъ, Сварогъ * г Г уничтожилъ въ Египта бывппй до него развратъ, уста-
новилъ законный бракъ: моногамЫ („и встави единому мужю едину жену имети, и жен! за одинъ мужь по-сягати)", и издалъ стропе законы противъ прелюбо-д-Ьевъ, нрисуждавппе къ смертной казни виновниковъ. Конечно это изв-Ьспе значительно подновлено противъ Гезюда. По Гезюду Зевсъ гневался на людей, которые при помощи Прометея похитили небесный огонь. Чтобы наказать преступныхъ людей, ковачъ Гефестъ, по приказанью Зевса, создалъ изъ земли и воды чудную, прелестную и очаровательную деву Пандору. Пандора прельстила Прометеева брата, Эпиметея, который всту-пилъ съ нею въ брачный союзъ.'Д'аково было начало и происхождеше перваго брака ' .принесшаго много горя и несчастш'дотбл^ блаженному человечеству. Но возвращаемся къ Ипапевской летописи; по ея словамъ преемникомъ Феоста=Сварога былъ Гелюсъ= Солнце=Дажьбогъ. Царь—-Солнце поддерживалъ и охра-нялъ отечесшя постановлешя о браке: однажды напр. онъ приказалъ казнить любовника богатой египтянки, а
— 83 —
самое египтянку предалъ общему поругашю „и пусти ю водити по земли въ коризне=укоризне (II. С. Р. Л., т. П, 5 стр.)“. Что касается до этого места летописи, то давно-давнымъ известно, что оно взято изъ гре-ческаго хронографа Малалы. Л'Ьтопйсёцъ подставилъ Только имена руссКйХЪ боговъ. Но вместе съ т4мъ должно сознаться, что русские боги соответствовали греческимъ. А потому съ вероятностью слёдуетъ пред- ! полагать, что и русскш Дажьбогъ=Солнце, подобно । греческому Гефесту, или Гелюсу, былъ покровителемъ i брака. Такое предположеше тгЬмъ естественнее и спра- *, ведливее, что и современныя малоруссюя свадебныя-песни часто вспоминаютъ про солнце: „А въ неделю рано море ся розыграло; а не море тото грае, але сонце ся купае; то не сонце ся купае, молодый потопав (Чтен. въ импер. общ. истор. и древн. росс. 1872 г. кн. Ш Ш=Мат. Слав. 336 стр. срвн. 361)“. Косвенный указашя русскихъ суеверныхъ обрядовъ не оставляютъ сомнетя въ томъ, что . древне-русскш бракъ совершался въ честь бога-солнца и былъ подъ его покровительствомъ. Такъ и въ настоящее время, по словамъ г. Аоанасьева, въ Архангельской г. „на свадьбахъ женихъ и невеста, ихъ родичи и гости выходятъ изъ—за стола по солнцу" (Поэт, воззр., т. I, 181 стр.). Очевидно что это тотъ же самый древне-русскш языческш обычай, о которомъ упоминаетъ одинъ рукописный сборникъ второй половины ХУП столетия... „да и иныя вражьи есть затеи: кругъ стола всемъ поездомъ ходятъ (Истор. очерки русск. народи, слов. 9. Буслаева, т. I, 47 стр.)“. Чтобы понять смыслъ и значеше этихъ брачныхъ обычаевъ, нужно помнить, что и въ ведшскую эпоху у древнихъ индейцевъ все жертво-приношешя, въ томъ числе и те, которыми сопровождался брачный обрядъ, совершались „по солнцу“= 6*
84
„посолонь". Когда инд'Ьйскш жрецъ приносилъ богамъ, или богу утреннюю жертву, онъ обращался лицомъ на востокъ, полуденную—на югъ, вечернюю—на западъ: значитъ вообще релийозное служеше богамъ совершалось „посолонь", потому что и въ древней Индш, какъ нужно думать, культъбога—солнца=„лучистаго“ „Вага" предшествовалъ позднейшему культу громовника Индры (Разведки о древнейш. русь-слав. грамотности А. С. Великанова. 1878 г., 56—57,117—118, 270—271 стр.).
Въ заключенье считаемъ нелишнимъ заметить, что мы, подобно г. Аоанасьеву, думаемъ, что пристрастие русскихъ раскольниковъ=старообрядцевъ къ „церков-нымъ выходамъ посолонь" имеетъ языческое происхо-ждеше (Поэт, воззр. т. I, 181 стр.). Исторические факты вполне благопр!ятствуютъ этому предположенью. Насколько можно судить по релийознымъ спорамъ о хо-жденш, или нехождеши „посолонь", возникшимъ при великомъ князе 1оанне Ш Васильевиче и митрополите Геронйе, хождеше „посолонь" было туземнымъ обычаемъ и имело своими защитниками туземныхъ криво-толковъ, а потому очень естественно, что оно возникло изъ древне-русскихъ верованш. Между темъ сторонники митрополита Геронйя, защищавппе церковные выходы противъ солнца, ссылались на ненащональные грече-CKie обычаи аеонскихъ иноковъ: „овш по митрополитЬ (Геронйе) глахолаху архимандриты и игумены, иной рече: во Святей горе виделъ, что также свящали церковь, а со кресты, противъ солнца ходили (см. напр. 1478 и 1479 г. Софшскш второй летописи: П. С. Р. Л., т. VI, 221—222, 234 стр.; Софшск. Временникъ, ч. П, 202, 224; срвн. Церковн. Росс. Истор. митр. Платона, ч. I, 333—334; Истор. русск. церкви. Макар1я т. VI, 65 стр.)“.
II
L Хорсъ или Хросъ.
Транскрипщя имени солнечнаго божества „ Хорсъ “ вообще довольно разнообразна; словомъ переписчики и книжники также небрежно и произвольно относились къ имени Хорса, какъ и къ имени Дажьбога; отсюда произошло немало вар!антовъ этого слова: Хърсъ, Хорсъ (Лаврентьевск. л., Густинская, Никоновская, Кениг-сбергск., Л'Ьтописецъ Переяславля—Суздальск. Русск. Времянникъ; Лйтоп. Руссшй, Слово христолюбца, ркп. XIV в., Слово св. Григор1я, ркп. конца. XIV в.), Хбрсь (Слово и откровен. св. апостол, ркп. XVI в.), Хоръсъ (Ипат. л.), Харсъ (Софшск. первая л’Ьтоп., Софшск. Времянн. Воскресенск, сп., Тверск. лЪт., Книга Степей.), Хорш (Архангелогородок, л.), Хръсъ (Слово о полку Игорев^), Хросъ (см. Пролога. Слово о св. князЪ Во-лодтпр'Ь, или Жийе св. Владим1ра), Хэрсъ (Слово св. Григор1я Богосл. по рукописи Кирилло-В'Ьлозерск. мон. XVn в.), Хоурсъ (Слово св. отца нашего 1оанна Златоуст. ркп. XIV в.), Гурсъ (Сказ, о Мамаевомъ побоищ'Ь), Корша или Хорсъ=Корсъ (Синопсисъ, Подробная л'Ьтопись).
На транскрипщю имени Хорса вл!яли мнойя обстоятельства: сербсйя и болгарская рукописи, умничанье древне-русскихъ книжниковъ, выдумавшихъ наприм.
— 86
Xopin, предполагаемаго бога холода, снега и в'Ьтровъ, небрежность переписчикбвъ. Во всякомъ случай при разнообразна вар!антовъ имени Хорса нельзя обращать слишкомъ много • внимашя на всякую мелочь, чтобы видеть въ ней подтверждеше своимъ предвзятымъ взглядами многое, по поводу чего любятъ похитрить, гораздо проще объясняется небрежностью и произволомъ переписчиковъ. Говоря все это, мы имЪемъ въ виду Всеволода Миллера. Этотъ изсл’Ьдователь думаетъ напр., что транскрипщя слова о полку ИгоревЪ „Хръсъ" болгарская и противоречить русской „Хърсъ", или Хорсъ. Подобно Е. Барсову мы думаемъ гораздо проще и считаемъ обе формы слова „Хорсъ" русскими. И въ самомъ деле какъ Хърсъ (Лавр, л.) предполагаетъ Хорса, такъ и Хръсъ (слово о полку Игор.) предполагаетъ Хроса русскихъ прологовъ. (Известно, что ъ переходить въ о.).
Древне-русскш Хорсъ, или Хросъ имеетъ сходство, а можетъ быть вполне тождественъ съ Вацерадовымъ Къртомъ, дедомъ Радигоста (Радагаста), хорутанскимъ „K’rt"—омъ, литовскимъ Gurko (Гурко), или иначе прусско-литовскимъ Курко=(Гурко), Крикко, саксоно-славянскимъ Кродо. Гурко=Курко=Курхо, или Крикко, былъ по представлешямъ прусско-литовскихъ племенъ богомъ плодородья, урожая хлебовъ. и винныхъ лозъ; главный шумный праздникъ его совпадалъ съ уборкою хлеба и плодовъ (Русск. простонар. праздн. Вып. I, 95 стр., Москвитянинъ. 1851 г. ч. Ш. № 9 и 10, 107 Стр.). Сходство или родство русскаго Хорса съ литовскимъ „Гурко" было настолько очевидно и такъ само собою бросалось въ глаза, что это повидимому хорошо понимали и древне-русск1е книжники. Такъ въ Подробной летописи мы читаемъ: „Тогда Мамай виде погибель свою, нача призывати суетные боги своя,
87 —
Перуна, Оавато, Ирак;пя (ужъ конечно Геракла, Геркулеса), Гурка и мнимаго великаго способника своего Магомета (Подробная л'Ьтоп. ч. 1,169 стр.)“. Очевидно, что русскш книжникъ см'Ьшалъ Хорса русскихъ летописей съ литовскимъ „Гурко “, потому что въ другихъ вар!антахъ того же самаго сказатя говорится не о Гурке, а о Гурсе или Хорее (ср. Сказ, русск. нар. кн. IV, 80 стр.). Саксоно-славянскш „Кродо“ по значенью своему былъ почти темъ же, чемъ былъ у ли-товцевъ Гурко. Кродо представлялся, или точнее изображался въ виде старца, или по крайней мере мужа среднихъ летъ; этотъ старецъ, подпоясанный льнянымъ поясомъ, босыми ногами стоялъ на огромной рыбе, въ левой руке держалъ колесо, а въ правой сосудъ, наполненный цветами и плодами (Русск. простонар. праздн. Вып. 1,135 стр. Русск. Беседа. 1857. IV, ч. I, отд. П, 94). Изъ сопоставленья древне-русскаго Хорса съ литовскимъ Гурко и саксоно-славянскимъ Кродо можно заключать, что и нашъ Хорсъ былъ богомъ весенняго (I солнца и весенней природы: цветовъ, травъ, хлеба и плодовъ.
Некоторые изеледователи полагаютъ, что русскш Хорсъ тоже, что главный богъ сабинянъ Kurinos=Mapcy , богъ войны, а сабинскому ,,Kurinos“ соответствуётъ литовское прозвище солнца и его главнаго жреца Kuriejis (Времен, имп. обществ, истор. и древн. росс. 1853. кн. XVI, 1=изследовашя. 30 прим., 16 стр.). Не безъинтересно и мненье М. А. Максимовича о Хорее: „ Мое мнете, замечаешь г. Максимовичу то, что Хорсъ сроденъ съ греческимъ Гаресомъ или Ареемъ, съ индшекимъ Хари, съ египетскимъ Горосомъ стар-шимъ, т. е. онъ былъ богъ войны (Собрате сочинетй М. А. Максимовича, т. Ш, 654 стр.). Нетъ никакихъ особенныхъ причинъ не признавать Хорса богомъ вой
— 88 —
ны; за то кое-что говорить въ пользу этого мненья: а) двойникъ Хорса, другой солнечный богъ славяно-рус-скаго народа, Яръ, или Ярило также былъ въ одно и тоже время и богомъ урожая, плодород!я и богомъ войны, битвъ съ врагами; б) въ слов'Ь о полку Игорев’Ь в'Ьщш князь Всеславъ вступаетъ въ состязаше съ Хорсомъ „великому Хръсови влъкомъ путь прерыскаше“,—а известно, что богатырь обыкновенно вызываетъ богатыря, удалецъ— удальца. Словомъ оказывается, что древше руссюе историки были несовсЪмъ неправы, когда писали, что „славяне Хорса вместо Марса почитали. (Росс, истор. 0. Эмина, т. I, 283 стр.)“.
Нелишнимъ также считаемъ сблизить Хорса=Хар-са съ современнымъ инд'Ьйскимъ бхутомъ Хару, им1-ющимъ отношеше къ солнцу и урожаю, какъ это видно изъ индийской молитвы: „О Хару, будь милостивъ! Хару богъ, подай день не жаркш! Хару богъ! Хару—на пол'Ь семена да будутъ ровны! Хару богъ! Богъ, пусть ночью дождь идетъ! (Записки историко-филологическаго факультета импер. С.-Петербургскаго университета. 1877. ч. П. И. П. Минаевъ, 227)“.
’ Слово „ Хорсъ “ въ лингвистическомъ отношеши означаете, какъ мы уже знаемъ, солнце: персидск. Ко-решъ=Хорешъ, хоръ, хуръ=осетинск. сЬ.иг=санскр. surya, sura зйг=египетск. Seris (сирисъ), Isiris, Oseris (Озирисъ)—солнце, богъ солнца. Хорсъ им'Ьетъ не мало соотв’Ьтствующихъ себ'Ь словъ одного и того же корня какъ въ русскомъ, такъ и вообще въ славянскомъ язык!: древне-русск. и церковно-слав. кр'Ьсъ, Красины— солнщщоворотъ, solstitium, русск. воскресить, воскреснуть, нижегородок, акресилась—отдохнула, кресиво— огниво, кресать—высекать огнивомъ изъ кремня, быть на кресу, голова на кресу—быть здоровымъ и потому быть готовымъ къ работ'Ь; сюда-же нужно отнести ело-
— 89 —
венск. Kres—Ивановъ день, kresnik—мксяцъ понь, сербск. кри]есъ—Ивановскш огонь, польск. кржёсаць чешек, kresati—высекать огонь.
Вообще мы думаемъ, что не прибегая къ хитро-умнымъ, но всегда далеко неубкдительнымъ соображе-тямъ, можно довольно легко вывести слово „ Хорсъ “ изъ славянскихъ корней. Такъ напр. крксъ=кгез= солнцеповоротъ прямо созвучно съ Хорсомъ и еще бол'Ье съ Хросомъ прологовъ: е вообще переходить въ о, какъ елень—олень, Елена=Олена, а потому и крЪсъ— кресъ=кросъ, к=х, какъ коронить=хоронить, области. куторъ=хуторъ, и значить кросъ=хросъ,—такимъ обра-зомъ вообще очевидна особенная близость словъ „кресъ“ и „Хросъ“. При этомъ должно им'Ьть въ виду то обстоятельство, что имена, или прозвища славяно-русскихъ боговъ вообще совпадали съ т'Ьми явленьями, которыя они собою олицетворяли. -J
Въ русской наук!—да и не въ одной русской,— какъ известно, нктъ недостатка въ странныхъ гипоте-захъ, бьющихъ на оригинальность и эффектъ; изелк-дователи какъ будто забывали то обстоятельство, что простота и безхитростность гипотезы, или теорш—почти всегда необходимое услов!е истины. Вотъ почему мы нисколько не удивляемся, что въ русской историко-филологической наукк много толковали про чужеземное происхождеше Хорса. Начало такимъ толкамъ поло-жилъ П. Прейсъ. „Слово: Хорсъ, говорить г. Прейсъ, чужое... оно заимствовано изъ аршской вктви языковъ. Сюда принадлежитъ и ново-персидское: хоръ или хуръ— солнце... древне-персидское имя царя Кира Kyros, Kotos, Kouros“, семитская форма персидскаго слова „Корешъ“, „Хересъ“ (Ж М. Н. Проев, ч. XXIX, отд. IV, 35—36 стр.). Догадка Прейса о персидскомъ (древне-персидскомъ, зендскомъ) происхожденш Хорса усвоена была и О. Бодянскимъ (Чтенья въ импер. общ.
- 90 —
истор. и древн. росс. 1846 г. № 2, 1=изследовашя, 10—11, 19—20 стр.). Со времени г. Прейса и Бодян-скаго вошло въ привычку повторять: „Перкуны=Перу-ны, Хорсы и Семарглы—звуки прямо не славянские (Москвитянинъ 1851 г. ч. Ш. № 9 и 10, 99 стр.). К. С. Аксаковъ считаетъ Хорса, какъ и Перуна, „за-морскимъ гостемъ (Поли. собр. сочинешй К. С. Аксакова. т. I, 312 стр.)“. Гораздо неопределеннее и условнее говорить о Хорее А. Пыпинъ: „Быть можетъ... что между древними языческими божествами могли быть и заимствованный у южныхъ аршскихъ народовъ, какъ напр. странный Хорсъ (Вестникъ Европы 1876 т. V, сентябрь, 301 стр.)“. Такъ-какъ мысль о чужеземномъ происхожденш Хорса впервые была пущена въ ходъ г. Прейсомъ и у него выражена гораздо яснее и обстоятельнее, то мы и будемъ полемизировать только съ нимъ.
Г. Прейсъ представилъ три возраженья противъ туземнаго происхождетя Хорса: а) первая буква слова Хорсъ „х“ несвойственна русскому языку; народъ на-оборотъ, встречая этотъ звукъ въ иностранныхъ сло-вахъ, изменяетъ его въ к; „отъ этого Козаре, Корсунь44; б) конечная буква ,„с4’ въ слове Хорсъ невозможна въ русскомъ и вообще въ славянскомъ языке, мало того, по коренному закону славянской граматики звукъ с,— если это характеристика вменительнаго падежа,—дол-женъ былъ, при переходе слова къ славянамъ, исчезнуть совершенно4'; в) Хорсъ представляется (см. слово о полку Игореве) великимъ господиномъ и следовательно мущиной, между темъ известно, что славяне, подобно германдамъ и литовцамъ, видели въ солнце госпожу, а не господина, и следовательно женщину (Журн. М. Н. Просвещ. ч. XXIX. 1841 г. отд. IV, 35, 37 стр.).
Доказательства Прейса вообще далеко неубеди
— 91
тельны: а) если х. переходить въ к, то и наоборотъ въ томъ же русскомъ язык! к переходить въ х: лтш. kars, пр!ятный, литовок, карштасъ (собственно горячш) =русск. хороппй, каккати=хохотать, корчма=харчма (чебоксарок, у.), литовок. куртасъ=областн. хортъ; б) конечный звукъ с не чуждъ славяно-русскому языку, какъ напр.: овесъ=сербск. овасъ (а не латинск. avena), колосъ, малоруссйя имена: Ивась, Петрусь, Михась; в) солнце, какъ мы уже видкли прежде, славяне вообще и pyccKie въ частности представляли въ мужскомъ образк, а не въ женскомъ.—Если вообще доказательства въ пользу чужеземнаго происхождешя Хорса не имкютъ никакого строго-научнаго значешя, то естественно остается признать Хорса туземнымъ древне-русскимъ богомъ; созвуч!е Хорса съ персидскимъ словомъ „Корешъ“ говорить только о сходствк, а не о заимствованьк „Тождественность имени, справедливо замкчаетъ по этому поводу П. Голубовскш, только показываетъ, что персы и славяне позже раздклились, чкмъ друйе народы аршской семьи (Клевск. университетск. извкст. 1882. ч. П, 8 стр.).
Древше писатели, какъ напр. г. Стрыйковскш и г. Татищевъ, видкли въ Хорск бога веселья, пиршествъ и разврата, подобнаго Бахусу, или Вакху (Истор. росс. В. Н. Татищева ч. I, 17 стр.). Это мнкнье не совскмъ несправедливо. Такъ мы знаемъ, что Хорсъ былъ богомъ игръ и народныхъ забавь: отъ корня хоръ (Хорса) произошло слово хороводь; Д. О. Шеппингъ считаетъ его символомъ обращешя солнца вокругъ земли (Русск. народи, въ ея повкрьяхъ, обрядахъ и сказкахъ, 30 стр.). Въ связи съ корнемъ гор (Хорсомъ) можно поставить назвашя весеннихъ игръ: ,щорю, горю—дубъ“, „горю, горю—пень (Русск. Бескда. 1856 г. Ш, 95 стр.; Ве-скда 1872 г. кн. IV, 64 стр.)“. Такъ какъ весеншя игры
— 92 —
и хороводы им'Ьли любовное значеше, то неудивительно, что древне-русскш Хорсъ былъ богомъ любви и разврата. Факты языкознанья вполн'Ь подтверждаю™ эту мысль. Отъ корня „гор“, „кур“ (Хорса) происходить слова huren (н^мецк.), hure, hurei—развратничать, развратникъ, развратница, курва (распутная женщина)= сербск. курва, или курба=чешек, kurva.
Солнечный и земной огонь были вообще символами жизни: въ известной датской игр! „живъ, живъ курилка“ представляется живою горящая лучинка, или просто спичка. А помому нктъ ничего страннаго въ томъ, что Хорсъ, какъ богъ солнца, по понятаямъ язычниковъ одгЬвалъ землю цветами и растетями и возбуждалъ силы насЬкомыхъ и животныхъ. Что действительно славяне именно такъ думали о Xopci, это можно видеть изъ словъ, произшедшихъ отъ корня „гор, kres, kers“. какъ напр. гори—цв^тъ, словенок. керсница= (kersilica)—свЬтящшся ивановскш жучекъ, рус. хортъ= хорв. hart, хорут. hert=cep6cK. хрт—охотничья, гончая собака.
Память о Хорс'Ь сохранилась въ лицЬ двухъ сла-вянскихъ божковъ Корочюна Крачуна и Курента. Ко-рочюнъ (Карачунъ) очевидно тоже самое, что и Ку-рентъ: объ нихъ и вспоминаютъ славяне въ одно и тоже время, на рождественсщя святки. Болгары и словенцы называютъ рождественныя святки Крачунъ;. у карпато-руссовъ рождественски сочельникъ называется Керечуномъ=Кречуномъ (Кречунъ—вечеръ). (Историч. очерки нар. словесности 0. Буслаева, 1, 45; Поэт, воззр. т. Ш. 760). Точно также въ новгородской первой летописи весь рождественски поста изв4стенъ подъ именемъ Карачуновскаго, Корочюна: „1143 г. Стояще вся осенина дъждева, ота Госпожина дни до Корочюна, тепло, дъжгь (П. С. Р. Л., т. Ш, 9 стр.)“. Словенцы также
— 93 —
связываютъ свои предашя о Курент'Ь съ святочными играми, святками (Заговенье зовется Sveti Kurent, Русс. Беседа 1857 г. Ш, 107 стр.).
Карачунъ вообще былъ не безъизв4стенъ на Руси: такъ въ древности былъ Корочюновъ камень (Воскресенск. л.)., Карачунищйй погостъ (въ Шелонской пятин!?,—Карамзинъ. И. Г. Р. IV, примЬч. 387; Русск. простонар. праздн. Выл. I, 15 стр. и 139) Руссюя племена вообще рисуютъ Корочуна слишкомъ уже мрачными красками. „Дать Корочунъ, или Карачунъ по мненью г. Снегирева, значитъ убить, погубить (Русск. простонар. праздн. Вып. I, 139 стр.). Также толкуетъ это слово и г. Хомяковъ: „Карачунъ, санскрит, крат-гана—убшство; это слово полагаю остаткомъ нашей миоологш и корень его вероятно совпадаетъ съ сло-вомъ корча (Сравненье русскихъ словъ съ санскритскими. А. Хомякова. 1855 г. 22 стр.). Если верить г. Терещенку, то „крачунъ происходить отъ крачу, выдергиваю шерсть изъ животныхъ (Выть русск. нар. А. Терещенко, ч. VII) “. Въ виду всего этого тотъ же самый Терещенко. считаетъ Карачуна богомъ (карпато-русскимъ) домашнихъ животныхъ и птицъ; въ новейшее время И. П. Калинскш въ своемъ церковно-народномъ месяцеслове называетъ Карачуна или Крачуна злымъ божествомъ скотскаго падежа (Записки импер. русск. географическаго общества. По отдаленно этнографш. 1877 г. С. П. В. т. Vn, 321 стр.).
Какъ мрачная, злобная сторона Хорса удержалась въ Карачун!?, такъ противуположная, благодетельная сторона личности древне-русскаго. бога сохранилась въ воспоминашяхъ о божке Куренте. „Словенцы** пред-ставляютъ Курента „лукавымъ и веселымъ бесомъ, всегда со скрипкой, или дудкой, которыми онъ всякаго можетъ заставить плясать, Какъ ни страдай парень
— 94
отъ несчастной любви, онъ никогда этого не покажетъ, не то узнаетъ Курентъ, который такъ засвиститъ ему въ уши, что Ц'Ьлую нед'Ьлю будетъ шуметь въ голов'Ь. онъ исц^ляетъ игрою на скрипка больныхъ, даетъ бЪднымъ платье и пищу, который крадетъ у богачей; словомъ, это богъ веселья и радости, распространяющим повсюду добросердеч!е, довольство и счастье. (Русск. БесЬда, 1857 г. Ш, статья В. Ф. Клуна, 107 стр.)“. Нельзя не заметить, что Курентъ является по преимуществу въ вид-Ь благод'Ьтельнаго существа, хотя при случай непрочь и пошутить надъ влюблен-нымъ парнемъ. Самою важною услугою Курента было спасенье рода человгЬческаго во время потопа. По народно-краинскому (словенскому) преданью „во время потопа одинъ челов’Ькъ взобрался на высокую гору и, боясь, чтобы постепенно прибывающая вода не снесла его своими волнами, случайно ухватился за виноградную вгЬтку, которую спустилъ съ неба богъ Курентъ; во все время потопа, онъ держался за эту в1тку и питался ея гроздьями и виномъ (Знанхе 1877 г. Ш. Мартъ, 9 стр.; срвн. Поэт, воззр. т. П, 650 стр.).“.
Г. Аеанасьевъ, которому вообще какъ-то особенно полюбились боги грозъ и молнш, видитъ въ Курент! громовника Перуна; игра Курента на скрипк!, свистъ и пляска—символическое представлете бурной грозы. „Курентъ своей игрой на гусляхъ и дудк£ изщЬляетъ бол'Ьзни", это толкуетъ г. Аеанасьевъ, „весеншя грозы животворятъ природу, исц'Ьляютъ ее отъ ранъ, нане-сенныхъ рукою зимы (Поэт, воззр., т. I, 334 стр.)“. Мы думаемъ, что вообще трудно и невозможно перетолковать, что Курентъ не былъ солнечномъ богомъ. Представимъ доказательства въ пользу отождествленья Курента съ Хорсомъ, или вообще съ солнп;емъ: а) слово „Курентъ" лингвистически созвучно съ Хор-
95
сомъ, Вацерадовымъ Киртомъ, Къртомъ (прибавь носовой звукъ н. б) Курентъ—богъ веселья, пляски и всякой радости и въ этомъ опять сходится съ солнечными богами народныхъ игригцъ, пьянства, пляски и разврата: Хорсомъ, Яриломъ и Лереплутомъ; в) Курентъ протягиваетъ человеку виноградную ветку=лозу; нечто подобное говорить про самое солнце (Хорса) одна словенская сказка: „солнце даетъ королевичу Янко золотую ветку (Чтенья въ импер, общ. истор. и древн. росс. 1865 г. кн. Ш, 164 стр.)“.
РусскГе памятники ничего не говорятъ о женской половине Хорса; за то известно, что у сербовъ (свидетельство г. Дам1ановича) была богиня Хора, очевидно соответствовавшая древне-русскому богу Хорсу; сербская Хора была богиней весенней и летней теплоты разцветающей после зимняго сна природы. (Москвитянинъ, 1851 г. ч. III, № 9 и 10, 115 стр.; Русская народность въ ея поверьяхъ... Д. О. Шеп-пинга, 23, 95 стр.). Сербскую Хору мы отожествляемъ съ греческой Корой (Прозерпиной), дочерью Деметры: Кора также первоначально была богиней весны и урожая хлебовъ.
IV. Ярило и Яровища. Кострубъ=Ко-струбонько и Кострома. Страница изъ славяно-русской миоолori и и этолопи.
Яръ=Ярунъ=Ярило=Яровитъ (Herovitus)=Py-евитъ—различный назвашя одного и того же солнечнаго божества (Объ обожанш солнца. И. Срезневскаго, 23 стр.). Г. Снегиревъ сближаетъ русскаго Ярила съ гречес-кимъ Ареемъ (Ares)—богомъ войны и Еротомъ (Eros)— богомъ любви (Русск. простонар. празд. Вып. IV, 52); нельзя также не сопоставить съ Яриломъ в^дшскаго назвашя юнаго, радостнаго солнца-ребенка „Aruscha (Аруша)“, а также прозвища солнца ,,Arvan“ (Арванъ)— быстрый, б^гущш, стремительный (Л4т. русск. литер., Н. Тихонравова, т. V, 114—117 стр.). Никто не отри-цалъ, что подъ Яриломъ (Яровитомъ) нужно разуметь именно солнце, какъ это очевидно изъ фактовъ языкознанья: санскр.: aru, ravi—солнце, ра—огонь, зендск.: ri—светить, греч. argos—блистаюпцй, белый. Въ частности изсл'Ьдователи полагаютъ, что подъ Яриломъ нужно разуметь собственно молодое=ярое солнце, божество весенняго времени. „Ярило“, говорить М. А. Максимовичъ, въ собственномъ и первоначальномъ его значеши, есть богъ весны, Веснякъ (Русск. Беседа. 1856. III, 104 с.)“. Действительно въ словахъ, озна-
97
чающихъ весну, звучитъ корень „яръ": галицко и кар-паторусс. ярь-весна, польск. iar, 1аго=чешск. gar, garo =сербск. jap=rpeq. еаг=латинск. ver—тоже весна.
Отъ того-же корня „яръ" происходить слова, ука-зываюшдя на буйное мужество, неистовую страсть, любовь, какъ напр.: ярый—сердитый, вспыльчивый, страстный, яровый, яровистый-скорый, бойкш, ера, ерникъ (енисейск.)—заб!яка, ереститься—браниться, ворчать, ярость—гн^въ, похоть, ярунъ—похотливый, сербск. japur—любовный жаръ.—Причина любовнаго значешя бога Ярила довольно простая: весною вм'Ьст'Ь съ про-буждешемъ природы пробуждается и половая страсть. „23 апреля", въ день весенняго Теория, девицы молятся святому „о дарованш имъ жениховъ (Быть рус. нар. А. Терещенко. Ч. VI, 28стр.)“. „По болгарскому обычаю" раннимъ утромъ 1 мая (въ областяхъ къ югу отъ Балкана) бол'Ьзненныя и неплодородныя женщины выхо-дятъ на зелен'Ьюпщг луга и раздЪтыя катаются по росистой трав'Ь (Славянскш сборникъ. Спб. 1876 г. Т. III, отд. III, 29 стр.)“. Точно также по сказочному греческому предашю, записанному также и въ русскихъ Л'Ьтописяхъ, Амазонки весною сходятся съ первыми попавшимися мужами: „Амазоняне же мужа не имуть; но аки скотъ бесловесный единою Л’Ьтомъ къ вешнимъ днемъ оземьствени будуть, и сочтаются съ окрестными мужи, яко некоторое имъ торжьство и велико праз-деньство время то мнять; отъ нихъ заченшимъ въ чре-Bt, паки разб'Ьгнутся отсюда вси (Л'Ьт. по Лаврентьев, сп. Археограф, коммис. 1872, 15 стр. срвн. П. С. Р. Л.. Т. V, 86; Т. VII 265; Т. IX, 6; Т. XV, 25 стр.)“.
Въ связи съ корнемъ „яръ" (Яриломъ) стоять назвашя весенняго хл’Ьба и вообще растенш и травъ, какъ напр. яровое—вообще весеннш хл'Ьбъ, малорусе, яровина, яровинка—пшеница, новгородск. яровище— 7
98
поле, засеянное овсомъ, сербск. japnua, japинa=пoль-ск. jarka=4emcK. jarina—пшеница, лктше плоды. Сло-вомъ несомненно, что Ярило былъ богомъ плодовъ земныхъ, урожая хлебовъ. Такъ действительно и думаютъ объ Яриле белоруссы. По ихъ представ-лешямъ Ярило-молодой, красивый парубокъ, „разъЪз-жаюпцй на беломъ коне и въ белой мантш; на голове у него венокъ изъ весеннихъ полевыхъ цвЬтовъ, въ левой руке держитъ онъ горсть ржаныхъ колось-ёвъ, ноги босыя“. О благотворномъ вл1яши Ярила на ростъ хлебовъ, напр. ржи (жита), белорусская песня замечаетъ въ следуютцихъ поэтическихъ выражешяхъ: „А гдзежъ рнъ нагою—тамъ жито капбю, а гдзежъ ]онъ ни зырне (взглянетъ)—тамъ коласъ зацьвицё (Поэт, воззр., т. I, 441—442 стр.)“.
Ярило былъ богомъ домашняго скота, птицъ и вообще животныхъ, какъ это очевидно изъ словъ, произшедшихъ отъ корня „яръ“, напр.: русск. польск. чешек, ярка—молодая овца, овечка, сербск. ]арац— козелъ, jape, japenme—козленокъ, греч. игоз=лат. ип18=древненем. иг=англ1йск. иге, иге—ох—дикш быкъ, буйволъ, болгарок, ерица—молодая шестимесячная курица, польск. ir, jer—луговой жаворонокъ.
Согласно съ указашями лингвистики жрецъ Яро-вита (Ярила) считаетъ его не только богомъ весенней растительности, но и животныхъ: отъ Яровита зависитъ плодовитость домашняго скота. „Я богъ твой", говорить жрецъ Яровита отъ имени самаго бога; „я тотъ, который одеваетъ поля муравою, и листьями леса; въ моей власти плоды нивъ и деревъ, приплодъ стадъ и все, что служитъ въ пользу человека: все это даю чтущимъ меня, и отнимаю отъ отвергающихъ меня (изъ жизнеописашя св. Оттона. Объ обожаши солнца у древнихъ славянъ. И. Срезневскаго, 24 стр.)“.
99
Въ половин!, или въ конц! пеня солнце по народному представление достигаете наивысшей силы своего развшчя. и потомъ постепенно стареете, убываете. Съ 12 поня, т. е. со дня Петра Аеонскаго, изв!стнаго подъ именемъ солнцеповорота, „солнце, какъ говорятъ, укорачиваетъ свой ходъ, а м'Ьсяцъ идете на прибыль", или что тоже—„солнце поворачиваетъ на зиму, а л!то на жары (Зап. импер. русс, географ, общ. По отд. этнографш т. VII, 408 ст.)“. Если весною, въ конц! апреля, народъ (б'Ьлоруссы) праздно-валъ въ честь возрождающагося молодого солнца, то естественно было почтить особымъ празднествомъ и умирающее, стареющее солнце. Празднество въ честь умирающаго солнца называется Яриловымъ игрищемъ, или погребешемъ Ярила.—Хотя народъ обыкновенно и пр!урочиваетъ время солнцеповорота ко дню Петра Аеонскаго, но это только такъ говорится: въ действительности время солнцеповорота определялось-только приблизительно и притомъ оно вообще колебалось соответственно той, или другой местности, тому, или другому климату. А потому-то и погребете Ярилы (умирающаго солнца), Ярилово игрище совершалось не въ одно и тоже время, а вообще между Троицынымъ днемъ и Всесвятской неделей (Русск. простои, празд. Вып. IV, 57 стр.).
Z. Весною (въ конце апреля) народъ представлялъ себе Ярила (возрождающееся солнце) молодымъ и красивымъ (Поэт, воззр., т. 1, 441 ст.); въ этомъ отношеши и древне-руссшя книжныя воззренья не разошлись съ народными. Книжники аллегорически изображали весну=весеннее солнце въ вид! царя— отрока: „Весна подобна царю—мужу младу, оболчену въ ризу светлу и царску и венецъ на голов! его... (Правосл. Собес!дн. 1860 г. Ч. 1, 446 стр.)“. Въ
— 100 —
половин! поня солнце достигало наивысшей степени своей силы: наступала пора наиболее продолжитель-ныхъ дней и наиболее томительны хъ, сильныхъ жа-ровъ; выражаясь образно, народъ говорилъ, что это старается солнце=Ярило. А потому въ день л!тняго солнечнаго празднества Ярила представляли уже не молодымъ парубкомъ, а дряхлымъ, безобразнымъ ста-рикомъ. Такъ напр. у галичанъ (костромск. г.) изо-бражалъ собою Ярила пьяный старикъ: „Влизь Галича есть поклонная гора съ селомъ Туровскимъ... гд! и донын!, въ нед'Ьлю Вс!хъ Святыхъ, галичане собираются по три дня праздновать и гулять. Назадъ тому нисколько лФ/гъ, тамъ, напоивъ какого-нибудь старика, шутили надъ нимъ и забавлялись, какъ надъ предста-вителемъ Ярилы. Д!вки и молодцы въ праздничныхъ платьяхъ составляли круги и ходили хороводомъ съ п!снями. Всякая поселянка, приближаясь къ кругу, д!лаетъ ему поясной поклонъ, и потомъ, по пригла-шетю, вступаетъ въ хороводъ (Русск. простонар. праздн., вып. IV, 55—56 стр.)\—
Ярилово празднество обыкновенно выражалось въ безшабашномъ разгул!, пьянств!, буйств! и разврату—конечно все это ташя обпця черты, который одинаково приложимы и къ святкамъ и къ масляниц!. —Для общаго представлешя объ Яриловомъ игрищ! не м!шаетъ им!ть въ виду т! воронежсшя вакханалш въ честь бога Ярила, которымъ положилъ конецъ преосв. Тихонъ. „Въ Воронеж!", читаемъ мы у г. Снегирева, „до 1763 г. ежегодно отправлялся предъ заго-в!ньемъ Петрова поста до вторника самаго поста народный праздникъ, или игрище Ярило—остатокъ какого-нибудь тамъ древняго языческаго торжества. Въ ciw дни, на бывшую площадь въ город!, за старыми московскими воротами, стекались горожане и
— 101 —
окрестные сельсме жители и составляли родъ ярмарки; къ этимъ днямъ въ домахъ по городу делалось при-готовлеше, какъ бы къ великому празднеству. На мЬст'Ь позорища избирался м!ромъ челов'Ькъ, котораго обвязывали всякими цветами, лентами и обвешивали колокольчиками. На голову надавали ему высокш кол-пакъ, сделанный изъ бумаги, раскрашенный и развя-заный лентами; лице ему румянили, а въ руки давали позвонки. Въ такомъ наряде, подъ именемъ Ярилы ходилъ онъ, пляшучи по площади, въ сопутствовали (въ сопровожден^) народа обоего пола. Это празднество сопровождалось играми, плясками, лакомствомъ и пьянствомъ, особенно кулачнымъ боемъ, который не- * редко оканчивался смертоубйствомъ и увечьемъ людей (Ibidem, 58—59 стр.)".
Народъ вообще: „мужчины и женщины, парни и девки" съ большимъ удовольств!емъ принималъ учас’пе въ Яриловомъ празднестве: благо представлялся удобный случай повеселиться и позабавиться. „А иные", говорить преосв. Тихонъ, „праздникъ сей, какъ я отъ здешнихъ старыхъ людей слышалъ, называютъ игри-щемъ, которое издавна началось и годъ отъ году умножается, такъ что люди ожидаютъ его, какъ годового торжества. Но когда онъ приспеетъ, то убираются празднуюпце въ лучшее платье (Ibidem. 59 стр.)“. Ярилово игрище было настолько любезно народу, что самое слово „Ярило" стало нарицательнымъ именемъ: „пойти на Ярилину". „на Ярилу посмотреть" значило просто отправиться на гульбище (гулянку). Такъ напр. въ одной народной песне мы читаемъ: „Ужъ какъ звали молодца, позывали удальца, на игрище поглядеть, на Ярилу посмотреть: ты Дунай мой, Дунай, сынъ Ивановичъ, Дунай (Русск. народи, песни, собр. П. В. Шейномъ 1870, Ч. I, 186 стр.)“.—
— 102 —
Развратная сторона Ярилова игрища никому не была столь любезна, какъ именно женщинамъ и краснымъ девицамъ,—вполне понятное явлеше, потому что женщина по старобытному языческому воззренью считалась по преимуществу страстнымъ, чув-ственнымъ существомъ. „Я виделъ, говорить А. Терещенко, въ Малороссш обрядъ, еще въ юношесше мои годы, который обращалъ на себя мое особенное вни-маше. После всесвятскаго заговенья сходились по полудни женщины и казаки, чтобы погулять у шинка. Тамъ они пели и плясали до вечерней поры; потомъ, по захожденш солнца, выносили на улицу мужское соломенное чучело со всеми его естественными частями и клали въ гробъ. Развеселивппяся отъ спир-туозныхъ паровъ женщины подходили къ нему и рыдали: померъ онъ! померъ! Мужчины сходились на этотъ вопль, поднимали чучело, трясли и произносили: эге, баба не бреше! Вона знае, що in (ей, женщине, а не мужчине) солодче меду.—Женщины продолжали вопить: якш же винъ бувъ хорошш, да якш услужливый. Смотрели на него любострастно и говорили: не встане винъ билыпе. О якъ же намъ раставатися съ тобою! и що за жизнь, коли нема тебе.—Приподнимись хотя на часочекъ! но винъ не встае и не встане (Бытъ русск. народа. А. Терещенко, ч. V, 100—101 стр.)“. О разврате тверскихъ красныхъ девицъ, празд-новавшйхъ въ честь Ярила, встречаемъ довольно характерный известия: “Матери охотно отпускали своихъ дочерей на Ярилино гулянье, какъ они говорили: по-невеститься. Женихи высматривали невестъ, а невесты жёниховъ, но однако происходили дурныя послед-стчля отъ поневестивашя. Во время Ярилина разгула дозволялись обнимашя, целовашя, совершавппяся подъ ветвистыми деревьями, который прикрывали тйин-
— 103 —
ственыя ощущешя (Ibidem 102 стр., срвн. Русск. простонар. праздн. Вып. IV, 57 стр.)“. Такой разврата незамужнихъ девицъ, возведенный въ законный обычай и поощряемый матерями, довольно странное явленье, нуждающееся въ комментар!яхъ; для объясненья его мы коснемся вопроса о положеши девушки и вообще женщины въ языческую эпоху русской жизни.
По обычному воззрешю славяне вообще и pyccKie въ частности видели въ красной девице (дивчине) нечто высокое, чистое, священное. „Вообще' славянинъ, говорить В. Шульгинъ, окружилъ высокими атрибутами девическую непорочность и верилъ въ божественную силу ея: чистая дева является хранительницею скрижалей правды, которыми судъ человеческш кара-етъ кривду, огня и воды, которыми судъ Вожш обнаруживаешь невиннаго. (О состоянш женщинъ въ Poccin до Петра Вел., В. Шульгина. 1850. 40 стр.)“. Также идеализируетъ значете славянской девицы языческихъ временъ И. Забелинъ. „Вообще языческш идеалъ44, говорить г. Забелинъ, „прйсвоиваетъ женской личности существо миоическое. Она обладаешь даромъ гадашй, даромъ пророчества... На особенную высоту вещаго значенья ставить языческш идеалъ вещую деву... Язы-честя идеализацш коренились конечно на почве действительности, а действительность здесь заключалась уже въ самой природе женскаго пола, въ действ!яхъ этой природы на другой полъ. Эту-то природу языче-’ ство и олицетворяло въ поэтическихъ образахъ и въ миеахъ, которые какъ ни были многообразны, но все выговаривали одно, что въ женскомъ существе кроются непостижимыя демоничесюя силы. Чары красоты и любви были очень достаточны для того, чтобы возвысить идеалъ женщины до миоическаго существа и выростить на этой почве целый культа очаровашй во
— 104 —
всякихъ другихъ смыслахъ (Домашшй бытъ русскихъ царицъ въ XVI и XVII ст. И. Забелина. 1869. 80— 81 стр.)“.—Вообще замечено, что идеализаторы славяно-русской языческой жизни, говоря о высокомъ положенш девушки или женщины язычницы, не представили въ доказательство своихъ мыслей историчес-кихъ фактовъ; но за то они любятъ говорить о ска-зочныхъ, полуисторическихъ женщинахъ, въ род! чешской Власты, Любуши, польской Ванды, о русскихъ поляницахъ удалыхъ, напр. Настасье Королевишн!, Василис! Никулишн!... Изсл!дователи какъ-будто за-бываютъ, что народно-литературная идеализация нимало не свид!тельствуетъ о д!йствительномъ положены вещей; народно-литературная идеализащя женщины существуешь и у восточныхъ народовъ и вместе съ т!мъ она нисколько не соотв!тствуетъ действительному рабству реальной (а не сказочной) женщины. Т!-же изсл!дователи, говоря о вл!янш визан-тшскихъ поняты на русскую жизнь, признаютъ его безусловно вреднымъ для русской жёнщины; читая въ переводной русской литератур! различныя выходки противъ женщинъ, обличешя женской злобы, думаютъ, что книжные взгляды проникли ко всему русскому народу: крестьянамъ и горожанамъ. Отсюда само собою получался тотъ выводъ, что съ приняпемъ христ!ан-ства и византыскаго просв!щетя положите русской ’ женщины значительно ухудшилось сравнительно съ языческой свободой и равноправностью половъ,— въ этомъ явлены вид!ли одинъ изъ печальныхъ фактовъ историческаго регресса (0 сост. женщинъ въ Россы, Шульгина, XXV—XXVII; Домашн. бытъ русск. царицъ, Забелина, 86—90; Очеркъ исторы русской женщины., С. Шашкова. 8 стр. срвн. 21, 69—70 стр.).
Мы далеко не раздёляемъ подобныхъ взглядовъ
— 105 —
на исторически ходъ судьбы русской женщины. Какова бы ни была византийская литература, она слиш-комъ мало вл!яла на русскую жизнь; хрисйанство безотносительно къ его византиской окрас кФ, по крайней мФрФ въ релийозной идее, сравняло женщину съ мужчиной. Въ лиц! монахини русская женщина имела значеше сама по себе, въ силу своего нравственнаго превосходства, безотносительно къ замужеству. Не то было въ язычествф; толковать объ историческомъ регресс! въ положени русской женщины потому уже мы не им!емъ ни мал!йшаго права, что въ языческую эпоху русской жизни судьба женщины была еще печальнее, взгляды на женщину были еще более грубые и дик1е.
По словамъ К. Аксакова, А. Хомякова, Лавров-скаго, Ящуржинскаго, В. И. Шерцля, А. Аоанасьева самое слово „дева=дивчина“ происходитъ отъ лат. divina и санскр. корня div и означаетъ: светлая, блистающая, чистая, божественная, а позднее непороч-ная=д'Ьвственная (Поли. собр. сочин. К. Аксакова, т. I, 314; Сравненье русск. словъ съ санскр. Хомякова. 17, 19; Поэт, воззр. Аоанасьева. т. I, 225 стр. Зап. Ак. Н., т. VIII, 16; Русск. Филол. В!стн. 1880 г. т. Ш, 62; Правое л. обозрете 1884 г., ноябрь, 463)“. При такомъ словопроизводстве изеледователямъ естественно было толковать о вещемъ, священномъ зна-чени славяно-русской девы; но самый славянски и въ частности русски народъ ничего подобнаго и на ум! не держалъ: для этого онъ былъ слишкомъ трезвъ и практиченъ. „Девица, дева=сербск. дево]ка=бело-русс. дзевка=малорусс. дивчина" происходитъ отъ глагола д!ять, деяти (делать), действовать, девствовать, белорусе. дзФяцца, польск. дзяць, латыш, debt, англиск. do, готск. taujan, нФмецк. thun; и слФдова-
— 106 —
тельно слово „дева, д1вка“ по смыслу значите тоже, что работница: такъ напр. у готовь thiwi (русск. ' д'Ьва)=служанка, какъ и другое родственное слово thius=cxyra, б Ьлорусс. дзгЬцюкъ. Само собою разумеется, что такое лингвистическое значенье слова „д^ва" не подаете никакого повода толковать о ея священно-высокомъ положенш въ славянскомъ (рус-скомъ) народпомъ быту.
По мненью г. Шульгина „славянинъ окружилъ высокими аттрибутами девическую непорочность (це-ломудр!е)“; на самомъ-же деле ничего подобнаго не было, славянинъ не только не ценилъ девическаго целомудр!я, но даже презиралъ его. Такъ у арабскаго географа Алъ-Векри, писавшаго между прочимъ со словъ Массуди, мы читаемъ: „Женщины славянъ, когда выйдутъ замужъ, не прелюбодействуютъ. А когда девица кого полюбите, то она къ нему отправляется и у него удовлетворяете свою страсть. А когда мужчина женится и найдете свою жену девственною, онъ ей говорить: если бы было у тебя что нибудь хорошее, то мужчины полюбили бы тебя и ты избрала бы себе кого-нибудь, который бы тебя лишилъ невинности—и прогоняете ее и отрекается отъ нея (Изве-спя Алъ-Векри и другихъ авторовъ о Руси и Славя-нахъ. СПБ. 1878 г. ч. I, 56 стр.)“. Нетъ никакихъ разумныхъ основанш не верить известно Алъ-Векри, или считать его выдумкой, обязанной своимъ про-исхождешемъ непохвальному авторскому желашю позабавить читателей картиной странныхъ и своеобраз-ныхъ нравовъ. Не одни славяне имели подобные взгляды на взаимное отношеше половъ вообще и въ частности на девическое целомудр!е; тоже самое бытовое явлеше можно наблюдать у всехъ народовъ, стоящихъ на первобытной ступени развипя. Не будёмъ приводить
— 107 —
многочисленныхъ свид'ктельствъ въ этомъ роде. Довольно сослаться на Марко-Поло. Знаменитый путе-шественникъ пишетъ о тибетцахъ тоже самое, что Алъ-Бекри—о славянахъ. Въ Тибета, по его.словамъ, въ его время женщина темъ легче выходила замужъ, ч'Ьмъ больше она имела любовниковъ, такъ какъ, по мнению тибетцевъ, ухаживашя, которыхъ она была предметомъ, доказываюсь, что она красивее и следовательно ценнее другихъ женщинъ (Происхождеше семьи; Жиро Тёлона. Переводъ, 33 стр.).
Говоря ,о высокомъ положеши славяно-русской девушки—язычницы, г. Шульгинъ толкуетъ о древне-русскомъ приданомъ, которымъ обезпечивалась самостоятельность невесты; по его словамъ „приданое и вено отличаютъ бракъ славянскш отъ брака по праву скандинавскому,., дочь не была рабою, вещью, бы'йемъ которой отецъ могъ бы располагать по произволу (О со-стояши женщинъ въ Poccin... Шульгина. 16—20, 41 стр.)“. Все это далеко отъ печальной действительности. Славяно-руссюя племена не знаютъ приданаго, но вместо него практикуюсь кладку, куплю невестъ. Такъ бываетъ теперь и также было въ языческую эпоху славянской жизни. „Свадебный подарокъ у славянъ, „говоритъ у Алъ-Бекри Ибрагимъ сынъ Якуба, израильтянин^4, весьма значителенъ и обычаи ихъ на этотъ счетъ подобны, обычаямъ Верберовъ. И когда родятся у кого-либо две дочери или три, то онп становятся причиной его обогащенья; ежели же родятся двое сыновей, то они причина его обеднешя (Извеспя Алъ-Бекри... ч. I, 51 стр.)44.
Кстати заметимъ, что изследователи, разделяющее взгляды г. Шульгина, считаютъ русскую кладку заим-ствоващемъ у татаръ (срвн. калымъ): совсемъ неосновательное мненье. Довольно здесь припомнить, что
— 108 —
кладка=выкупъ нер!сты существуетъ и теперь у по-ляковъ и чеховъ, никогда не знавшихъ татарскаго ига (Русск. Филологически ВЬстникъ, 1880 г., т. Ш, 245 стр.).
Вообще жизнь древне-славянской и русской девицы была далеко не завидна; она была только рабою отца семьи, страстно хотела вырваться изъ семейнаго гнета, а выходъ возможенъ былъ только одинъ—это выйти замужъ: „Хочь за вола, абы (жеби) дома не була (Чтенья въ имп. общ. истор. й древн. росс. 1873. кн. IV. См'Ьсь, 10 стр.)“. Д!ло въ томъ, что pyccKie славяне, подобно китайцамъ, презрительно относились къ д!вической=незумужней жизни, считали ее не— нормальнымъ явленьемъ; но за то чадородная женщина, хотя бы . и блудница, пользовалась относительнымъ ува-женьемъ и в!сомъ въ семь!, потому что она рождала д!тей, лишшя рабоч!я руки, которыя никогда не м!-шаетъ им!ть. Въ „слов! о суев!рш“ Симеона Полоц-каго (XVH в.) читаемъ о следующей прим!т! языче-скаго происхождешя; „Аще девицу, глаголетъ, сря-щеши, безплоденъ день; аще же блудницу, получный, блапй и многа куплед!йства полный... (Стран. 1877. т. Ш, 110 стр.)“. Смыслъ приматы очевиденъ: девица—символъ безплолдя и вообще безполезности, развратная (чадородная) женщина—символъ счастия, пользы, обил!я всяческихъ благъ. Чтобы уяснить себ! столь необычное пристрастие къ развратнымъ (слово „разврата" нельзя понимать въ современномъ слиш-комъ уже грубомъ смысл!), чадороднымъ женщинамъ, нужно им!ть въ виду простые безхитростные нравы т!хъ народовъ, которые и теперь еще стоятъ почти на первобытной ступени развития и почти нимало не тронуты рукою все нивеллирующей цивилизацш. Такъ напр. о вотякахъ известно, что они цЬнятъ въ жен
— 109 —
щин! только чадородхе; чтобы фактически убедиться, обладаетъ ли этою способностью любимая девушка, вотякъ предварительно живетъ съ ней въ любовной вн^-брачной связи и женится лишь тогда, когда она делается беременною. Жена чувашенина, по словамъ г. Риттиха, прюбр^таетъ свое значенье въ семь^ только съ рождешемъ д^тей и особенно сыновей. „До рождешя сына чувашенинъ зоветъ свою жену по имени или просто жена, но съ рождешемъ его она получа-етъ свой титулы мать Василья или вообще первенца (Русск. В^стникь. 1872 г. т. CI, 710—711 стр.)“. Словомъ у вс'Ьхъ народовъ, стоящихъ на низшей ступени разви'пя, мы встр^чаемь обыкновенный матер!альный взглядъ на женщину (девушку); славяно-русскш народъ въ этомъ отношеши никогда не представлялъ и не пред-ставляетъ исключешя изъ общаго правила. Не для чего было русскому народу усвоивать изъ Византш восточные взгляды на женщину; исконные славяно-pyccKie взгляды на девицу или жену были ещё болЬе восточными и грубыми.
Поел!? того, какъ мы въ краткихъ чертахъ коснулись вопроса о положеши древне-русской красной д'Ьвицы и женщины—язычницы, мы уже можемъ уяснить ce6t брачную, развратную сторону Ярилова культа=Ярилова игрища. Уваженье и любовь древне-русскихъ дЬвицъ къ Яру, или Ярилу вытекали изъ практическихъ разсчетовъ при его помощи выйти замужъ=„сковать свадьбу крепкую". Вотъ почему весною славяно-руссшя девицы просили Ярила, в.по-слЬдств!е K)pifl=Eropifl послать имъ жениховъ „ Въ н'Ькоторыхъ мЪстахъ на Руси, говорить И. П. Калин-скш, св. Георпя (древняго Ярила) почитаютъ покро-вителемъ нев^стъ, и потому въ день его памяти д'Ьвицы ходить разубранными и молятся самому угоднику о дароваши имъ жениховъ. Подобное нашему народ
— 110 —
ному вФфованпо относительно св. великомученика Теория, какъ покровителя невестъ, и таке же обычаи существуютъ доселе въ Сибири (Записки импер. русск. географ, общ. По отделенно этнографы. СПВ. 1877 г. т. УП, 396—397 стр.)“. Яръ=Ярило не только по-сылалъ девице жениха, но и даровалъ новобрачной чете семейное соглайе и чадород!е. Не даромъ же далматсюе славяне „на своихъ свадебныхъ пирше-ствахъ“ славили Яра (Карамзинъ. Истор1я государства россшскаго. Т. I, 88; срвн. 200 примеч., 347 стр.). Тоже самое было и у насъ на Руси; по крайней M’fepb известно, что и современныя свадебныя малоруссюя песни вспоминаютъ о таинственной личности Журила, или что тоже Ярила.
Развратъ Ярилова игрища объясняется довольно просто. Матери потому охотно отпускали своихъ дочерей поневеститься, потому снисходительно, или, луч-• ше сказать, одобрительно относились къ легкому по-ведешю своихъ дочерей, что развратъ въ языческой Руси им'Ьлъ священное значение: развратная женщина была угодна богу Яру=Ярилу и не только не презира-* лась, но даже пользовалась * народнымъ уважешемъ. Узаконенный развратъ Ярилова игрища кроме рели-гюзнаго оправданья им'Ьетъ^ и бытовое: развратной славянской девице легче и скорее было возможно выйти замужъ (свидетельство Алъ-Бекри). Чтобы понять это странное явленье, нужно иметь въ виду еще одно простое обстоятельство, дополняющее показашя ара-бовъ: парубокъ—дружень обыкновенно женился на „при-сушниц'Ь красной девице, своей прежней полюбовнице". Объ этомъ читаемъ у г. Якушкина и его свидетельство согласно съ нашей древней летописью: „А Радимичи, и Вятичи, и Северо одинъ обычай имяху: живяху в лесе, якоже всякый зверь, ядуще все нечисто, и сра-
— Ill —
мословье в нихъ предъ отци и предъ снохами; и браци но бываху в них'ь, но игрища межю селы. И схожа-хуся на игрища, на плясанья и на вся б4совскыя пгЬснй, и ту умыкаху жены соб'Ь, с нею же кто свпщевашеся', имяхуть же» по двЪ и по три жены (ЛЪтопись по Ипатскому списку. Изд. археограф, комм. 1871. 7—8)“. Если же девица была ув-Ьрена, что ея дружень впо-сл,Ьдств1е женится на ней, то ей казалось уже безпо-лезнымъ хранить свое ц’Ьломудрхе: в4дь все равно ея замужество было обезпечено обычаемъ. Также думали отецъ и мать девицы, поощряя любовную связь дочери.
КромЬ безшабашнаго разгула и вакхическаго * разврата Ярилово игрище не представляете ничего особенно зам'Ьчательнаго, или оригинальнаго. Символически обрядъ, заканчивающей игрище ,.погребете Ярила" довольно простъ. Ярила, какъ известно, изображало мужское соломенное чучело (кукла), обвязанное лентами, съ болыпимъ фаллосомъ. Посл'Ь захож- z
,дешя солнца чучело—Ярила клали въ гробикъ (ящикъ) и съ плачемъ и причиташями зарывали въ могилу (Русск. простонар. праздн., Вып. I, 234; ibidem Вып. IV, 55 стр,; Вытъ русск. нар. ч. V, 100—101). Смерть и погребете Ярила справедливо сопоставляются изслФдователями съ подобною же смертью и по-гребешемъ Озириса, Дюниса, Адониса, Лингама. Смыслъ везд^ одинъ и тотъ же: посл'Ь солнцеповорота начинаете уменьшаться, замирать все—оживляющая сила отца людей и владыки всего Mipa—солнца (Ярила).
Для всякаго понятно, что по самому существу Ярилова культа встреча Ярила должна была совершаться весною, а похороны съ наступлешемъ солнцеповорота. Въ настоящее время, въ эпоху забвешя древне-'* русскихъ языческихъ миеовъ, кинешемцы (костромской губерши) пр!урочилй оба обряда почти къ одному и
— 112 —
тому же времени. „Въ Кинешме, какъ засвид'Ьтель-ствовалъ Ф. Д. Нефедовъ, Яриловъ праздникъ справляется за речкою Кинешемкою, на красивой гористой местности, покрытой л'Ьсомъ. По середине л'Ьса есть поляна, на . которой происходить торжество, называемая Яриловою пл'Ьшью. Празднуютъ Ярилп два дня: въ первый день идутъ Ярилу встрпчать, а на второй—погребать. Встреча и похороны сопровождаются сильною попойкою. Мнопе целуются и поздравляютъ другъ друга: „слава Богу, встретили батюшку"! При похоронахъ плачутъ, особенно т4, кто больше выпилъ: „погребли батюшку! приведетъ ли намъ Господь опять то его встретить (Древняя и новая Росшя. 1878. т. П, 86 стр.)“!
Женскою половиною бога Ярила является Яровина; объ ней упоминаетъ „молитва святаго священномученика Кипр1ана на прогнаше сопротивныя непр!яз-ненныя сети и на имущихъ духъ нечистый, надо вся-кймъ инымъ (Старинная рукудись изъ г. Архангельска)“.е Въ этой молитве—заговор^ Яровица представляется одной изъ лихорадокъ=трясовицъ:“... И вкругъ около всЬхъ насъ во весь свгЬтъ сохрани насъ, Господи, отъ всяюя скорби, отъ Огнянеи и отъ Гнетеи, и отъ Коркуши и отъ Трясовицы, и отъ Трясуницы и отъ черной Плясовицы, и отъ Влядовицы и отъ Яровицы... (Матер!алы по этнографш русскаго населешя Архангельской губерши, собр. П. С. Ефименкомъ. ч. П, 164 стр.). Какъ „Трясуница" по смыслу=Трясовица, такъ и Яровица=Блядовица; и следовательно въ ЯровищЬ, какъ и въ Яриле, мы встр'Ьчаемъ божеское=демони-ческое существо, покровительствовавшее любви и разврату.
Богъ разврата=любви, брака и оживающей=вос-кресающей весною природы, Яръ, или Ярило изв!>-
— 113 —
стенъ у малоруссовъ подъ именемъ Коструба=Костру-бонька. Слово Кострубъ по обычному и, нужно замё- _ тить, справедливому мненью значить нечоса, косматый и вообще, какъ говорится, чучело. Такъ въ параллель съ Кострубомъ=Кострубонькомъ можно сопоставить слк-дуюпця слова: кострубый—шероховатый, придирчивый, задорный, польск. kostrobowaty—косматый, мохнатый, неровный. Въ одной малорусской пксне парубокъ на-зываетъ кострубомъ некрасивую, безобразную дивчи-ноньку: „Ой вбйшовъ я до хатоньки, и воды напився, сидквъ кострубъ на припечку, я не подивився (Чтенья въ имп. общ. истор. и древн. росс. 1871 г. Кн. 1, матер!алы славянине, 290 ст.)“. Словомъ несомкино, что Кострубъ, Коддрубонько не собственное имя бога, а его прозвище,уко когда дано было Ярилу это прозвище—это еще вопросъ. Г. Костомаровъ полагаетъ, что насмешливое прозвище „Кострубъ" „безъ сомнЬ-н!я явилось „подъ внушешемъ хриснанскаго презрит шя къ языческимъ празднествамъ и забавамъ (Беседа. 1872: Кн. V.—Май, 80 стр.)“. Не споримъ: предположенье г. Костомарова возможно, но ужь во всякомъ случай не „несомненно". Дкло въ томъ, что иногда сами язычники относились юмористически къ своимъ богамъ (русски Переплутъ, греческш искусникъ въ обманахъ Гермесъ). Небезъизвестно, что pyccxie инородцы въ наказанье за постигшую ихъ неудачу не прочь наказать, поколотить идола=бога. Так1я же грубыя пошгйя объ отношети человека къ Богу за-мкчены и у африканскихъ негровъ: „Когда знаменитый путешественникъ по Африке Бертонъ (Burton) говорилъ восточнымъ неграмъ о Боге, они принялись любопытно разспрашивать, где его можно найти, чтобы убить, говоря: кто разоряете наши дома и убиваете нашихъ женъ и скотъ, какъ нс онъ (см. Фидол.
8
— 114 —
зап. 1872 г.)“. Отсюда мы получаемъ тотъ выводъ, что очень возможно допустить и языческое происхождеше прозвища „Кострубъ=Кострубонько“, потому что противоположное мненье далеко не убедительно.
Малорусскш Кострубъ=Кострубонько также, какъ и его двойникъ Ярило, особенно любезенъ „дивчатамъ и жёнкамъ*. Въ одной малорусской гаёв Kt (веснянке, обрядовой игре въ „Кострубонька)“ высказывается страстное желаше девушки вступить въ бракъ съ са-мимъ Кострубонькомъ (богомъ любви и брака Яриломъ): „ПргЬдь, npitAb Кострубоньку! Стану съ тобовь до шлюбоньку, въ неделю—неделеньку, на томъ си-вомъ кониченьку“, или „Пр1едь, пргЬдь, Кострубоньку! Стану съ тобовь до слюбоньку на травнийу—былиску и въ подертомъ серачиску (Чтенья въ имп. общ. истор. и древн. росс. 1866 г. кн. Ш, матер!алы славян. 696 стр,; ibidem, 1872 г. кн, I, Ш=мат. слав., 167 стр.; срвн. Beet да 1872 г. кн. V.—май., 81 стр.)“. Какъ и Ярило, Кострубонько былъ не только богомъ брака, но и разврата; о немъ существуютъ циничесюя песни и причи-ташя съ словами, неудобными для печати: „Умеръ, умеръ Кострубонько,'умеръ голубонько. Умеръ та й не дише, тилько... колыше (Беседа. 1872 г. кн. V, 80 стр.)“.
Встреча' Кострубонька, какъ и Ярила, совершалась весною, а похороны после солнцеповорота, когда умирало солнце—Кострубонько, или Ярило. Весною Кострубонько (весеннее солнце, весна) представляется оживающимъ, воскресающимъ. По сло-вамъ М. А. Максимовича некогда малоруссюя див-чата въ начале весны водили танёкъ (хороводъ) въ честь Кострубонька и громко причитали и радовались его возрождешю къ жизни: „Оживъ, оживъ нашъ Кострубонько, оживъ, оживъ нашъ голубонько (Собр. сочин. М. А. Максимовича. Кдевъ. 1877 г. т. П,
— 115 —
522 стр.)!“ Въ галицкой хороводной игре въ Костру-бонька иногда слышится пасхальное приветств!е: „Христосъ воскресъ" (Чтенья въ имп. общ. истор. и древн. росс. 1872. кн. I, Ш, 167 стр). Тоже самое, по свидетельству г. Костомарова, • бываетъ и въ западной Малороссш. „В4> 4 западной Малороссш игра въ Кострубонька сопровождается неоднократными восклицаниями „Христосъ /’воскресе“, „что“ толкуетъ г. Костомаровъ, „еще более побуждаете предполагать, что въ древности песня эта со сценическими действ!ями выражала такой образъ, который по внешнимъ признакамъ имелъ сходство съ хри-спанскимъ представлешемъ о смерти и воскресети Христа (Беседа. 1872 г. кн. V.—май, 81 стр.)“. Везъ всякаго сомнешя уже вследсттйс одного календарнаго совпадешя во времени весеннее торжество въ честь возродившагося бога—Кострубонька смешалось съ весеннимъ хрйс’йанскимъ празднествомъ воскресешя I. Христа изъ мертвыхъ; темъ не менее въ толкованш г. Костомарова нетъ ничего, противоречащаго общему характеру языческаго м!росозерцанья. Если народъ , представляетъ Кострубонька оживающимъ, то онъ могъ представлять его и воскресающимъ; по крайней мере одна малорусская гаёвка воспеваетъ воскресеше весны (Кострубонька): „Ой вже весна воскресла! Ой що же сь намъ принесла... (Чт. въ имп. общ. истор. и древн. росс. 1866 г. кн. Ш, мат. слав; 677 стр.)“.—После солнце-поворота, по про шест в! и весны, кончалось царство весен-няго солнца—Кострубонька, совершались похороны Кострубонька. Весною, судя по малорусскимъ гаёв-камъ—веснянкамъ, юноша—Кострубонько, доселе неженатый, вступалъ въ бракъ съ молодой дивчиной: „Пр1едь, пр1едь, Кострубоньку! Стану съ тобовь до шлюбоньку“... или „Слава жь тобе, святый Воже, 8*'
—116 —
ой вже мене Кострубъ возьме (Ibidem. 696 стр.)“! По окончанш весны, поел! всесвятскаго заговенья Кострубонько умиралъ и оставлялъ свою жену вдовою; въ наследство отъ своего мужа молодая вдова получала хорошую ферму, или точнее хуторъ: избу, фруктовый садъ, мельницу и прудъ. „На Украйн!“, говорить М. А. Максимовичъ, „первый понед'Ьльникъ Петровки называется розыграми и празднуется преимущественно жонками. Встарину, он! въ этотъ день хоронили соломянную куклу мужского пола, называемую Кострубонькомъ, голосили надъ нею разныя при-читашя и п!ли следующую п!сню, перемежая заунывный напЬвъ съ веселымъ: „Померъ, померъ Кострубонько, сивый милый голубонько: зосталася хатка, ище й сЬножатка, и ставбкъ и млинокъ и вишнёвенкш садокъ. Що у ставокъ купатися, а у млинокъ проспатися, а у садокъ погуляти, Кострубонька поминати (Собр. соч. М. А. Максимовича, т. П, 521 стр.)“.1
Женскою половиною малорусскаго Кострубонька является великорусская Кострома (срвн. Христомаття, Ор. Миллера ч. I. Вып. I, 6 стр.). Слово Кострома объясняется изъ областного языка. „Въ областныхъ говорахъ“, замЪчаетъ г. Аоанасьевъ, „слово Кострома означаете: прутъ, розгу и раступця во ржи сорныя травы, кучу соломы; костра, кострецъ, костёръ, кос-тера—трава метлица, костерь, костеря—жесткая кора растешй, годныхъ для пряжи, кострыка—крапива... (Поэт, воззр., т. Ш, 726 стр.). Кострома очевидно несобственное имя языческой богини, и именно богини весны. Такъ нужно думать, судя по народнымъ обря-дамъ и п!снямъ. Обращаемъ внимаше на датскую нижегородскую песенку о Костром!. П!сня соединяется съ датскою игрою въ хозяева и гости. „Девочка и мальчикъ сидятъ, представляя собою мать и сына.
Вокругъ ихъ ходятъ друпя дети, держась за руки. Они поютъ: „Кострома, Кострома, Костромушка, Кострома, я бывала у тебя, я едала киселя; кисель съ молокомъ, блины съ творогомъ, Костромушка съ мас-лицемъ (Нижегородски сборникъ А. С. Гацискаго, т. IV, 192 стр.; срвн. Чт. ими. общ. истор. 1868 г. кн. I, П, 17—18 стр).. Въ датской игре Кострому представляетъ девочка; Кострома является матерью, имеющею сына. Точно также у матери—весны есть дети, напр. дочка: „Весна, весна весняночка, де твоя дочка паняночка"? Литовская богиня весны—Мильда имеетъ сына Кауниса. Кострома рисуется въ датской п'Ьсенк.'Ь богиней плодовъ земныхъ: она раздаетъ д*Ьтямъ кисель, молоко, блины,, творогъ. Точно также весна красная вообще приходить „съ радостью, съ великою милостью: со льномъ высокшмъ, съ корнемъ глу-бокшмъ, съ хлебами обильными" и приносить людямъ яйци и колбаски, на девоньки краски, на девки в'йн-ки (Чт. имп. общ. ист. 1866 кн. Ш, Ш=мат. слав. 677 стр.)“. Белорусская Ляля, изображающая собою ту-же богиню весны, раздаетъ своимъ подругамъ— краснымъ девицамъ съестные припасы: хлебъ, молоко, масло, творогъ, сметану, яйца (срвн. кисель, молоко, блины, творогъ Костромы).
Кострому, какъ олицетвореше весны, первоначально встречали весною: въ марте или апреле. Впослед-ствте въ некоторыхъ уездахъ саратовской губерти память о Костроме была нргурочена къ новому году. „На кануне новаго года", говорить А. Терещенко, „женщины саратовской губернш хвалынскаго и пе-тровскаго уЬздовъ, сносятъ огромный ометъ (кучу) соломы и зажигаютъ его посреди улицы. Горящш ометъ называется тогда Костромою, которая окружается девушками и ими величается: „О светъ, моя
— 118 —
Кострома! У Костромушки головушка болитъ, у Ко-стромушки б'Ьло лице горитъ (Быть русск. нар., ч. VII, 116)“. Погребете, или проводы Костромы совершались около всесвятскаго заговенья. Проводы Костромы по своему значенпо были символическимъ обря-дом'ь, вполн'Ь тожественнымъ съ похоронами Кострубонька, или Ярила. Для общаго . представлешя объ этомъ символическомъ д'Ьйствш приведемъ Снегирев-ское описаше проводовъ Костромы въ пензенской и симбирской губершяхъ. „Въ пензенской и симбирской губершяхъ", говорить г. Снегиревъ, „въ Троицынъ или Духовъ день д^вки, одевшись въ худыя будниш-ныя платья, сходятся въ одно м^сто и, выбравъ изъ среды своей одну дЪвку, называемую Костромой, кладусь ее на доску |и несутъ къ р’Ьчк’Ь или пруду, гдй, сложивъ ее съ доски, начинаютъ другъ друга купать", прежде всего конечно купаютъ Кострому и потомъ сами бросаются за нею въ воду. „Выкупавшись*4, про-должаетъ г. Снегиревъ, „д'Ьлаютъ изъ лубка барабанъ, стучать въ него и, сопровождая стукъ его песнями, возврающаются домой... (Русск. простонар. праздн., вып. Ш, 134—135; срвн. Вытъ русск. нар., ч. VI, 189 стр.)".
V. Чурила и Чурилья. Журило и Дженджуриха.
Божественное солнце, известное намъ подъ именами Хорса или Ярила, является въ великорусскихъ былинахъ въ лице богатыря Чурилы, а въ малорусскихъ песняхъ въ лице волокиты Журила. Словомъ въ ве-ликорусскомъ Чурил'Ь и въ малорусскомъ Журил'Ь мы видимъ одного изъ солнечныхъ боговъ. Такъ какъ наше мненье не принадлежитъ къ числу общепризнанныхъ, то мы постараемся по возможности пообстоятельнее выяснить его.
По обычному мненью богатырь Чурила—исторически известное лице, бояринъ, или посадскш, или проще типъ древне-русскаго щеголя и ловеласа.
С. Шевыревъ видитъ въ Чурил'Ь Пленкович'Ь что-то въ роде русскаго кондотьера, „который наби-раетъ огромное войско для Владим1ра (Истор. русск. слов., вып. I, 190 стр.)“. Н. Костомаровъ считаетъ Чурилу однимъ изъ т1хъ древне-русскихъ бояръ, которые разбогатели и ополонились рабами после древлянской войны... но Чурила, перешедши въ народныя песни, скоро сделался вообще типическимъ лицомъ. „Мужской типъ волокитства и вместе изнеженности", замечаетъ г. Костомаровъ „является типически въ Чу-риле Пленковиче. Это щеголь, кружитель женскихъ
— 120 —
головъ, старо-русскш донъ-Жуанъ, или Довелась. Онъ такъ занимается собою, что когда Ьдетъ по двору своему, то передъ нимъ несутъ подсолнечники, чтобъ _д не запекло солнце б'Ьла лица его. Владим1ръ князь ни на что бол'Ье не могъ употребить его при своемъ дворЬ, какъ только на то, чтобъ созывать гостей на пиръ (Истор. монограф, и изсл’Ьд. Н. Костомарова, т. I, СНВ. 1863. 71—72, 82 стр.)“. В. П. Авенар1усъ приравниваете древне-русскаго Чурилу къ современному безшабашному гулякЬ, купеческому сынку. „Чу-рила Пленковичъ44, передаемъ его слова, „есть ярщй' типъ получившаго св'Ьтскш лоскъ того времени бога-таго купеческаго сынка, живущаго въ полное свое удовольств!е, не знающаго удержу своимъ зат'Ьямъ и поставившаго себ'Ь жизненною цЬлыо своимъ щеголь-ствомъ и удалью разудивить весь М1ръ (Книга былинъ В. II. Авенар1усъ. СИВ. 1880 г. 61 прим., XVI)44.
Вл. Антоновичъ въ объяснеше галицкой пЬсни „Журило44 замечаете: „Во всякомъ случай считаемъ нелишнимъ напомнить, что въ древней Руси издавна былъ боярскш родъ Чуриловъ или Джуриловъ, члены котораго упоминаются съ конца XIV, по начало XVII в. въ качеств’Ь сановниковъ земель: Перемышльской, Холм-ской, Галицкой и Подольской; въ последней изъ нихъ Чурилами основанъ былъ городъ Чуриловъ (нын1; Джуринъ м. Подольской губ. Ямпольскаго уЬзда), въ которомъ, въ начал'Ь текущаго стол'Ь'пя, польсшй этнографъ Т. Липинскш слыгаалъ вар!антъ настоящей П’Ьсни, но къ несчастно записалъ только двЬ первыя строчки. Въ BapiaHTi, слышанномъ Липинскимъ, имя пана удержало еще древнюю (?) форму „Чурило“ вмЬсто „Журило44. Родъ Чуриловъ принадлежалъ къ древнимъ кореннымъ боярскимъ родамъ Южной-Руси; о начал’Ь его составители генеалогш дворянскихъ не
— 121 —
имЬютъ ясныхъ свЬдешй; можетъ быть, названо этого рода тождественно съ фамильнымъ назвашемъ боярина Чюрины, упоминаемаго въ летописи подъ 1187 годомъ: „Посла князь Рюрикъ (Ростиславичъ) Гл'Ьба князя, шюрина своего съ женою, Чюрину съ женою иныи многи бояре съ женами ко Юрьевичу, къ великому Всеволоду въ Суздаль по Верхуславу—за Ростислава44 (Лаврентьевск. лЪт. стр. 443. см. Истор. п^сн. малорусе, народ, съ объясн. Вл. Антоновича и М. Драгоманова, т. I, Юевъ. 1874. 55 стр.).
П. А. Везсоновъ держится двойственнаго взгляда на лице Чурилы. Прежде всего онъ видитъ въ немъ типъ древне-русскаго горожанина, посадскаго и по-вторяетъ св’Ьдешя Ж. Паули о знаменитой фамилш. „Чурыло44. Если кто можетъ служить образцемъ древ-няго горожанина и посадскаго человека, въ его обыденности, возведенной однако творчествомъ въ богатырство, то это онъ (Чурила), богатырь—Горожанин*. богатырь—Носадскгй, досужи щеголь древней Руси, краса игръ, хоровода, бес'Ьдъ и посид1>локъ, зазноба молодицъ и д'Ьвушекъ, гроза старыхъ мужей, прислужникъ и по-таковникъ княжески, завистникъ и ругатель за’Ьзжихъ молодцевъ (ntcH. П. В. Кир’Ьевск. Москва 1861 г. выпускъ Ш, заметка П. Б. V стр.)44. Въ округ!» Пере-мышля, въ галицкой земл!; или червонной Руси, откуда явился Дюкъ, Чурыло,—знаменитая фамюпя, известная съ XV в!жа: одинъ изъ нея Мартынъ былъ знаменитый работорецъ въ XVI в!ж1> противъ татаръ и воло-ховъ; тамъ же есть отрывки какихъ то древнихъ nrh-сенъ и сопровождающая ихъ пляска Дрюурылло или Дад-рылм) (Жегота Паули, ч. П, стр. 149, 150; см. П1;сн. П. В. Кир!»евск. М. 1862. вып. IV, заметка П. Б. XCVI стр.). Признавая Чурилу Пленковича простымъ горожаниномъ, типическимъ образомъ, взятымъ изъ д'Ьй-
— 122 —
ствительной жизни древней Руси, П. А. Безсоновъ вмЬстЬ съ тЬмъ находить въ его лиц'Ь и миоичесвдя черты. По его мнЬнпо Чурила, богатырь, имЬетъ гене-+ алогическую связь съ демоническимъ существомъ Чу-ромъ (Deus Terminus),—Чуръ—сравнительно высшее существо, изъ котораго произошелъ Чурила, въ свою очередь степенью выше предполагаетъ Чура, уже не демона, а бога, который им'Ьлъ мЬсто въ доисторичес-1Йя времена., „Чур-ило, Чур-ила есть, чрезъ причасчче, производная, дальнейшая форма отъ корня Чур,"—отъ слова Чуръ (чудило, вабило, гладило, и т. п.) Чурило, именованный этимъ прозводнымъ словомъ, является бо-гатыремъ, героемъ: словомъ старшимъ, кореннымъ, должно быть обозначено существо высшее, демоническое, полубо-жеское или даже божеское (ПЬсн. КирЬевск. Вып. IV, зам. П. В. ЫХ.)“. Определяя значеше Чура, П. А. Безсоновъ признаетъ его охранителемъ собственности и неприкосновенности полей (богомъ межей) и въ этомъ соглашается съ древними русскими миеологами и зат'Ьмъ продолжаетъ: „Если Чуръ, какъ демонъ (даймонъ), по-родилъ изъ себя Чурилу богатыря, героя, или наоборотъ, Чурила богатырь им'Ьетъ выше себя, ступенью выше надъ собою Чура, какъ демона, то, продолжая постепенность, мы непременно дойдемъ до того, что надъ демоническимъ существомъ Чура стоялъ некогда Чуръ, какъ богъ... Непрем'Ьнно предполагаемъ, что Чуръ былъ богомъ, можетъ статься не первостатейнымъ, не однимъ изъ главныхъ, ибо тогда онъ сохранилъ бы божественность и въ положительной исторш, но по крайности все же съ значешемъ подлиннаго божества. Не находя его такимъ въ исторш положительной, мы должны искать лризнаковъ и характера его божества въ эпох!, доисторической (Idem, LX—LXI стр.)“.
Сравнивая наше мнЬше о Чурил'Ь съ вышеупомя
— 123 —
нутыми, заметимъ, что мы не допускаемъ никакой связи между Чурилою и какимъ—нибудь бояриномъ (Чурило, Джурило, Чюрина) и считаемъ его только божествомъ. Что-же касается мн'Ьшя П. А. Безсонова о миеологическомъ значеши Чурилы, то думаемъ, что оно фактически не доказано. Одно фонетическое созву-4ie между Чурилой и Чуромъ не даетъ еще права ставить ихъ въ таинственную связь. Если-бы одно со-звуч!е словъ имело решающее значеше, то пришлось бы пожалуй находить действительную, а не воображаемую связь между кривичами и хорватами, северянами и сербами (Иловайскш), или галичанами и галлами, народомъ „ голядь “ и кельтами, Корсь и Хорсомъ, чудскимъ племенемъ „ямь, емь“ и библейскими эми-мами. Не убедительно также мнете П. А. Безсонова о различныхъ ступеняхъ въ почиташи Чура (Чуръ— доисторическое божество Чуръ—демонъ, Чурила—богатырь). Окончаше „ило, ила“ въ „Чурило, Чурила“ не уменыпаетъ значеше кореннаго слова, а обыкновенно увеличиваетъ, придается словамъ, имеющимъ многократное действие и частое употреблеше, напр. вптрило онеж—родъ ямы передъ входомъ въ соляную варницу,— чрезъ эту яму посредствомъ широкой трубы проводится воздухъ для раздувашя огня, лепетайло—пинеж—языкъ, клепало—новгор. — валекъ... А потому изъ того, что Чуръ принялъ окончаше „ило, ила“, превратился въ Чурилу, мы еще не видимъ, чтобы онъ сталь ступенью ниже въ своемъ значеши или сталъ богатыремъ изъ демона. .Къ тому-же известно, что есть и божества съ такимъ окончашемъ, напр. Припекала (винетское божество), Ярило... Нфтъ также надобности строить апрюрныя предположен!;! о Чуре, какъ боге въ доисторическую эпоху развитая славяно-русскаго язычества; мы думаемъ, что Чурила—двойникъ Ярила, или
— 124 —
Хорса и такимъ образомъ изъясняется изъ историче-скихъ свид'Ьтельствъ и современныхъ вйровашй славян-скихъ племенъ, и въ особенности русскаго народа.
Прежде всего обращаемся къ генеалойи Чурилы, его отцу Пленку (вар. Пленъ, Пленка, Пленкб, Плен-чище). „Собственно это имя“, говорить П. А. Безсоновъ, есть Пленъ, полонъ: мы пишемъ е потому лишь, что въ нЬкоторыхъ былинахъ произносится Плёнка, Плён-ковичъ; д'Ьло въ томъ, что пленъ значитъ въ корне между прочимъ „узы", „связь", откуда пл'Ьница, пле-ницы, а эта последняя форма переходитъ въ форму плёнка, сеть, клетка, клетчатка Самое имя Плпна, полона показываете ясно, что за лицо было отцемъ Чурилы, чтб за происхождеше Чурилы. Въ эпоху ироническую, эпоху Дажбога, сознаше человеческое было въ плену у внешней, космической силы, было ею связано и въ узахъ, было само себе внепшимъ и не могло еще высвободиться къ средоточпо человеческаго духа. Потому самъ богъ этого перюда представлялся въ плену, въ узахъ, въ цепяхъ, связаннымъ; все цепенело отъ его прикосноветя; и когда, хоть обманомъ, удавалось отродиться явлешямъ новой жизни, новымъ бо-жествамъ, то онъ ревниво спешилъ или пожирать ихъ или налагать на нихъ цепи, связывать (ср. исторпо Зевса и прочихъ сравнительно новыхъ божествъ); и Гермесъ, въ ряду съ другими, когда породился къ новому бытно, и прежде чемъ взошелъ на Олимпъ, подвергся той же участи, подпалъ тому же плену (отсюда то значеше Lerma какъ цепи, отсюда значеше нашей пленицы). Въ кочевомъ быте, сопровождавшемъ этотъ перюдъ веросознашя, плпнъ игралъ не менее важную роль; человекъ, повинуясь веросознашю, зналъ только одно отношеше къ другому человеку—захвате, добычу: плпнъ означалъ первую изъ добычь, захваченнаго че
— 125 —
ловека, плпмника, полоненника", на него налагали узы, плЬницы; узы становились средствами, выражешемъ, символомъ рабства, пл'Ьнникъ былъ рабъ, рабъ былъ въ узахъ. Это была первая и важнейшая добыча, главный пленъ; и всякая добыча доставалась д,Ьйств1емъ того-же захвата и полона: отсюда плтьнъ, полонъ, ополониться полономъ,—все это получало значеше добычи вообще, имущества, богатства. Богатство было шгЬномъ, пл Ьнъ былъ богатствомъ. Первымъ предметомъ сношенш и торговли были также плпмники, рабы; ими торговали; а какъ всякая добыча была полономъ, то полонъ же былъ и предметомъ торговли. Торговля въ этомъ кочевомъ быту была меновая, переносившаяся изъ места въ место и переносившая съ собою полонъ; торговцы, даже выделившись изъ общаго кочевья, какъ особый слой, даже въ первыхъ порахъ' исторш, были людьми перехожими, странниками", отъ того ихъ назваше гость, отъ того ихъ постоянное прозвище—богатый, съ полономъ върукахъ. Итакъ, вся полнота этой жизни выражалъ полономъ, плп-номъ. Представлеше о плене и полоне, какъ существен-номъ явленш кочевья, до того было ярко въ нашихъ предкахъ, что даже среди положительной исторш они ставили полоненника въ ряду лицъ, олицетворявшихъ былой кочевой перюдъ, въ ряду калкькъ ггерехожихъ и стран-никовъ, подъ защитой церкви, въ богорадныхъ домахъ. Таковъ же былъ и Плп>нъ, отецъ Чурилы: онъ гость, гость богатый, его домъ полонъ полономъ, прежде всего рабами, потомъ всякой добычей и богатствомъ; онъ также „старый" Пленъ, изъ жизни старой, и его то домъ пред-ставлялъ старину, воспитавшую Чурилу, по немъ то, по происхождешю и по дому отеческому „давно ведалъ" Чурилу старикъ около Владимира. Но Пленъ былъ богатымъ гостемъ еще съ особымъ оттенкомъ... Ота одного и того-же корня пл-, рядомъ съ формою пл-гънъ,
— 126 —
пл-пмипа, пол-онъ, являются древнкйппе корни пал, пол, пла-., пло-., плоу-. съ согласными в, т, д, к, и т. д. откуда формы плыть, плавать, плавить, плескъ, плескать, полоскъ полоскать, плакать (точить влагу), ц. слав, плакну (юсъ)—ти (омывать), плесъ, плесо, плескъ у рыбы, полая вода, плотъ, плутиво, рыба плотва, й т. д. Плкнъ, какъ отецъ Чурилы, сохранилъ въ себе отткнокъ и этихъ развктвленш корня: по былинамъ, онъ живетъ на рккк, онъ былъ гость по морю, мореходный... его. пр!урочиваютъ морю, и называютъ отъ того Сурожа-нинъ, его помкщаютъ и на рккк Сороггъ или Сарогк, и онъ Сароженинъ (Idem. LXXX—ЬХХХП стр.). Въ другомъ м'ЬстЬ П. А. Безсоновъ отожествляетъ отца Чурилы Пленка съ чешскимъ демоническимъ суще-ствомъ Плевникъ, Пливникъ. (Plevnik, Plivnik) (Пксни П. Н. Рыбникова, ч. П. М.—1862 г. Зам. XLYIH—ХЫХ).
Нельзя не заметить, что взглядъ П. А. Безсонова на лице Пленка отличается фантастичностью и замысловатостью; но замысловатость и сложность изъяснешя ми-еа менке всего ручаются за верность такого изъяснешя, потому что „хитрая отвлеченность", какъ справедливо за-мктилъ А. Аоанасьевъ, „вообще не вяжется съ степенью умственнаго и нравственнаго развийя младенческихъ на-родовъ (а миеы, какъ известно, создаются въ эпоху младенчества народа)"! И действительно таинственная личность Пленка, отца Чурилы, объясняется гораздо проще и естественнее. Слкдуетъ только обратить вни-маше на различные вар!анты прозвища Чурилы „Плен-ковичъ". „Цыплёнковичъ". (Песни П. В. Киркевскаго, Вып. 4, 86—87 стр), Пленковичъ, (Idem. 87—88), Оплен-ковичь, Опленковъ сынъ, Опленковъ (Пксни П. Н. Рыбникова. М. 1861. ч. I, 265. 269, 292—293 стр.)., Щеп-ленковичь (Пксн. П. Н. Рыбник, ч. П, 346), Поплён-ковицъ, Попленковичь, Щипленковичь, Щапленковичь
— 127 —
(Онежсюя былины А. 0. Гильфердинга. СП. 1873. 364, 618—619, 677—681 стр.), Щапленковичь, Щапоплёнко-вичь, Щапопленковъ, Щапопленковичь (Записки ймп. рус. геогр. общ. По отдаленно этнографш. С.-П. 1873. т. 3. 531—534. 585, 587—589 стр.)“—все это вар!анты одного и того же слова. Обыкновенно—и это вполне законно и естественно—изъ множества вар!антовъ отда-ютъ предпочтете имеющимъ болЬе смысла, особенно темъ, которые находятъ себе оправдате въ исторш, или филологш. Такъ наприм’Ьръ вар!антамъ „Вольва Ще-славьевичь, Вольга Вуслаевичь, Вольга Всеславьевичъ" предпочитается вар!антъ „Вольга Святославговичъ", Bapi-антамъ „Катёнко Блудовски, Фотёй, Фотеюшко."—вар.“ Хотенъ, Хотинушка Влудовичь"; припевы „Здунинай най“, „Здунинай Дунай", „Ахъ вздунай, братцы! вздунай, сынъ Ивановичъ вздунай!,,—очевидно безсмысленны, произошли всл,Ьдств1е ошибки слуха, измены памяти, и мы, не задумываясь, предпочитаемъ более правильный: „Ахъ! Дунай, братцы, Дунай, сынъ Ивановичъ, Дунай!" Точно также мы поступимъ и съ вар!антами прозвища Чурилы „Пленковичь"; мы отдаемъ преимущество, предпочтете вар!антамъ „Щапленковичь, Щиплёнковичь, Щепленковичь", какъ наиболее свойственнымъ щапу (щеголю) Чурил'Ь. Эпитеты Чурилы „Щапленковичь, Щепленковичь“ происходятъ отъ корня щап—и такимъ образомъ принадлежать къ обширной семьЬ словъ, про-изшедшихъ отъ этого корня: „щапить, щепетиниться, щапство (древнейшее слово, встречается даже въ сло-варяхъ П. Верынды и Л. Зизашя), щапье, пощапка, пошапка (испорченное), щепленье, пощипка, щапъ, шапъ, щапливый, щепливый, щепетильный, щепнбй (дер. Княж. Гора лужск. у=красивый), щепетко (баско-щепетко), щепетно—щеголять, охорашиваться, франтить, щеголь, щегольство, щеголеватый, щеголевато, пышно, красиво.
— 128 —
Очевидно, что Чурила получилъ свое прозвище „Щапленко-вичь" за свое щапство, щепленьице (щегольство), а это само собою предполагаетъ, что его „ы<еп.-геньиг4е“ вошло какъ-бы въ пословицу. И действительно о Чуриле, его красоте и походочке щеплиоой знаютъ и мать Добрыни Амельоа Тимофеевна, и Непра королевична; на него не наглядятся девки-бабы юевсмя:....
* * л л л * • • * • а л ' л л л
Ответь держитъ государыни его (Добрыни) матушка:
— Я бы рада тебя, дитетко, спороДити
— Таланомъ-участью въ Илью Муромца,
— Силой въ Святогора богатыря
— Я походкою бы тебя щепливою Z______________________
— Во того Чурилу во Пленковича.
(Песни П. В. Киреевск. Выл. 2. 31 стр.).
„Говорить Непра королевична:
„А нетъ-то стрельцовъ добрыхъ молодцевъ „Противъ меня Непры королевичны...
„Нетъ молодцевъ походкой, пощипкой „Противъ Чурилища Оплениковича: „Идетъ-то Чурилище по Клеву,-
ДЬвки-бабы въ окошко по поясу бросаются." (Песни П. Н. Рыбник, ч. I, 195 стр.).
Изъ значешя прозвища Чурилы „Щапленковичь", „Щепленковичь" ясно и то, что оно-только эпитетъ богатыря, характеризующей одну изъ выдающихся его чертъ; а потому въ немъ не можетъ быть и намека на отца Чурилы... Народные творчество представляетъ намъ не мало примеровъ, какъ поня'йя и признаки
— 129 —
(существительныя и прилагательныя) превращаются въ определенный, живыя лица: напр. Кудреянище-отъ кудрей, Хотенъ-отъ хоть, похоть вь соответств!е отцу Блуду, Пустоволосъ-отъ . „пустой волосъ“, малорусск. Щедрикъ-ведрикъ-огъ словъ „щедровать, щедривки, щедрш, шедрый вечиръ".* Также точно изъ прозвища Чурилы „Щапленковичь“ после изменешя его въ „Плен-ковичь" создано народной фанта;йей особое лице, отецъ Чурилы „Пленко, Пленчище". Пока прозвищемъ Чурилы было характерное „Щапленковичь", „Щепленковичь“, обманъ былъ еще невозможенъ,-народная фантаз!я сдерживалась темъ,. что самое прозвище слишкомъ ясно указывало на свое происхождение и смыслъ. И действительно въ техъ народныхъ былинахъ, где Чурила называется „Щапленковичемъ, Щиплёнковичемъ, Щеплен-ковичемъ Щапопленковичемъ" мы не встречаемъ его отца Пленка. Но обстоятельства изменились: прозвище Чурилы „Щапленковичь, Щепленковичь“ перешло въПленковичь; тогда ничемъ уже не сдерживаемая народная фантаз!я стала по своему трудиться надъ разъяснешемъ непонят-наго ей выражешя. Но легко было певцамъ испортить правильное „Щапленковичь, Щеплейковичь" въ „Плен-ковичь", а трудно было осмыслить неправильное „Плен-ковичь"; въ такихъ случаяхъ народъ чемъ более старается проникнуть въ смыслъ непонятнаго слова, темъ более путаетъ (такъ изъ „залезено"—получено—произошло „залечено", изъ „пощапка"—„пошапка"). Задумываясь надъ эпитетомъ Чурилы „Пленковичь", народъ решилъ, что это—прозвище богатыря по его отцу, Пленку; затемъ уже народной фантазш, не задумывающейся переселять своихъ богатырей изъ Клева въ Черниговъ, Смоленскъ, Суздаль и Новгородъ, ничего не стоило поселить отца Чурилы стараго Пленка, Плена пониже Малаго Кдевца, на Сороге на реке и назвать по 9
— 130 —
заня'йямъ торговымъ гостемъ—Сарожениномъ (вар. Су-рожанинъ). Такъ произошла Ц'Ьлая бюграф!я новоиз-мышленнаго лица:
И выходитъ Пленчище Сорожанинъ, Встречаете князя Владшпра, Во сОни ведетъ во рЪшетчатыя, Во друйя ведетъ частоберчатыя, Во третьи ведетъ во стекольчатыя И въ теремы ведетъ златоверх!е...
(Пеон. П. Н. Рыбник, ч. I, 263 стр.).
Да говорилъ Владиапръ таково слово: „Да скажи-ко мне старый матёрый челоВ’Ькъ, Да какъ тебя да именёмъ зовутъ, Хотя зналъ у кого-бы хлеба кушати“?
—Да я Пленко да гость Сорожанинъ,
—Да я в'Ьдь Чуриловъ—отъ есть батюшко... (Онежск. былин. А. О. Гильфердинга 1062—
1063 стр.).
Изъ всего сказаннаго нами объ отцО Чурилы Пленке очевидно, что въ данномъ случай мы им'Ьемъ д'Ьло не съ д'Ьйствительнымъ, живымъ лицомъ, а съ творческимъ самообманомъ; словомъ здОсь мы встречаемся съ однимъ изъ многочисленныхъ фактовъ фило логическаго происхождешя миеа (ср. Поэт, воззр. слав, на прир. А. Аеанасьева, т. I, М. 1865. 9—10 стр.). Истор1я Пленка, гостя Сарожанина, предполагаемаго отца Чурилы, поучительна: она ясно показываетъ, какъ легко можно обмануться, впасть во всевозможныя ошибки, если наивно верить народному творчеству безъ предварительного критическаго изслгЬдовашя. Только сравнительное изучеше вар!антовъ въ связи
— 131 —
съ HCTopieft, этнографией, миеолойей и филолойей можетъ пролить свЬтъ на все темное и непонятное въ произведешяхъ народнаго творчества.
Вотъ почему для разъяснешя личности Чурилы мы прежде всего обращаемъ внимаше на различные вар1анты его имени: „Цурилушка“, „Щурила4*, „Щу-рилушка44 (Онежск. былины А. 0. Гильфердинга 530, 677—681 стр.; Зап. имп. русск. геогр. общ. т. Ш. 531—534), „Чурилище* (Пг1;сн. П. Н. Рыбник, ч. I, 195 стр.), „Журило44 (Истор. п-Ьсн. малорусе, нар. Антон... и Драгоман... 54 стр.), „Джурило44 (Вестникъ Европы. С.-П. 1874. Ноябрь. 594 стр.). Все эти ва-р1анты имени „Чурила44 фонетически одинаково правильны и законны, потому что звуки „ж44, „дж“, „ч“, ,,щ“, и „ц*4 взаимно переходятъ другъ въ друга, напр. горло, ожерелье=джерело (малорусе.); журашина, жу-рахъ (малорусе, слуга, хлопець)=джура, чура; же, оже, (древнерусс.), жеби=шо, що, щобъ (малорусе.), что, чтобы; ледачш (малорусс.)=ледащш (великорусе.); чепь (малорусск.)=ц’Ьпь, чарь (област.)=царь. Точно также мы считаемъ правильнымъ (фонетически) и не испор-ченнымъ по ошибке, или ослышке какого нибудь певца вар. „Чурива44 „Чуривушка44 (НЬсн. П. В. Кр^евск. Вып. IV, 86—87 стр.): ,,л“ здесь перешло въ „в44 по общему фонетическому закону, какъ это часто случается и въ другихъ словахъ: вовкъ (малорусс.)=волкъ (великорус.), мовчать (малор.)=молчать, свобода=сло— (а) бода (обл.).
Если справедливо, что все в apian ты имени „Чурила44 правильны, то отсюда еще не следуетъ, что все они одинаково древни. Такъ наприм’Ьръ слова „гукать, зыкнуть, зычать, зучный, звучный, зихнуть (зевать), позихаться (малор.), позевывать44 одинаково правильны: но „гукать, зихнуть44 относительно древнее, потому 9*
— 132 —
что—ближе къ первичной ономатопеической ступени происхождетя языка. Въ отношенш къ этой сравнительной древности мы отдаемъ преимущество, или предпочтете малорусскому (галицкому) вар!анту „Жу-рило“: онъ ближе къ корню „гор“, „жар“ (гореть), отъ котораго, какъ узнаемъ ниже, произошелъ.
Два обстоятельства ручаются намъ за бдлыпую древность малорусской песни о Журил-Ь (Чурил'Ь): а) въ малорусской ггЬсне мы не встр'Ьчаемъ отца Чурилы Пленка, что, какъ.мы доказали, есть позднЬйшая выдумка спещально великорусскаго ттроисхождешя; б) малорусское имя Чурилы „Журило“ фонетически сходно съ именемъ белаго мужа „Жубрила“, известнаго намъ по великорусскимъ заговорамъ и им'Ьющаго таинственное вл!яше. на ycnijx’b охоты (Зап. импер. русс, геогр. общ., по отделенно этнографш С.-П. 1869. т. П, 544 стр.). Последнее обстоятельство особенно важно и им'Ьетъ решающее значете въ виду того, что заговоры и заклинатя вообще отличаются замечательною точностью и верностью въ храненш древне-рус-скихъ обрядовыхъ предатй (А. Аеанасьевъ, А. Ве-селовскш). Вследств1е всего этого мы обращаемъ особенное внимате на галицко-малорусскую, плясовую песню о Журиле, которую и приводимъ:
„1шов Журило з м1ста, За нимъ д!вочокъ триста: Чекай, Журило, пане, Де твое вбйско стане?
У flici на швошц, При зеленш л!щинонщ.
Ой ти, Журило, ой ти, Куди до тебе зайти?
— 133 —
«•
По за гуменю, Ксеню, Не толочи ячменю. Куда Журило imoB, Туди ячменик зшшов, А куда Ксеня 1шла, Туди пшеничка зшшла.
(Въ Жолковскомъ округа, въ Галич, см. Ист. п4сн. малорус, нар. Вл. Антонов, и М. Драгоман, т. I, 54 стр.).
Таинственно-чарующее вл!яше Журила на женщинъ и ростъ хл"Ьба (ячменика)—все это таюя черты, которыя приписываются обыкновенно языческимъ бо-жествамъ. Отсюда можно уже догадываться, что Журило—языческш богъ; но является вопросъ: какой-же именно, новый, или какой нибудь уже известный, старый богъ, только подъ другимъ НИСКОЛЬКО ВИДОИЗМ'Ь-неннымъ назвашемъ? На это намъ отв'Ьтятъ факты изъ славяно-русской миоологш.
О галицкой ntcHij „Журило“ известно, что ее поютъ на свадьбахъ во время танцевъ и пляски. Въ связи съ этимъ фактомъ сопоставляемъ изв^сне Карамзина, что морлахи, живушде въ Далмацш, славятъ на своихъ свадебныхъ пиршествахъ Яра (Истор1я госуд. росс, т. I, 88 стр.). „Журило", какъ мы вид'Ьли изъ вышеприведенной п^сни, благотворно дЪйствуетъ на ростъ хл^б-ныхъ растенш: „Куда Журило плов, туди ячменик зшшовъ". Тоже самое поютъ б'Ьлоруссы объ Ярил^:
А гдз'Ьжъ joH'b нагою
Тамъ жито капою,
А гзд'Ьжъ joHb ни зырне Тамъ кбласъ зацвицё!
(Поэт, воззр. слав, на природу А. Аоанасьева. т. I, 441—442; ср. Приб. къ Ж. М. Н. П. 1846, 20—21.). Изъ этихъ фактовъ слЪдуетъ тотъ выводъ, что Журило есть тотъ же самый Яръ, или Ярило,
— 134 —
богъ животворныхъ силъ природы, пробуждающихся весною. Нельзя не заметить, что самыя имена „Журило", „Яръ“, „Ярило" фонетически почти тожественны. Имя „Журило" произошло изъ Ярила посредствомъ придыхашя „ж", какъ это случается и съ другими словами, напр. гукать (звать, кричать)=жугукать (ряз. губ.), жугакать (сарат. губ.); пкть=жупкть, жупкти (олонецк. г.) Посредствующею ступенью между Яри-ломъ и Журиломъ можетъ быть также литовскш Gurko (Гурко), богь урожая хлкба (Русск. простои, праздн. и суевкрн. обряды И. Снегирева. М.—1837. Вып. 1, 95 стр.). Въ литовскомъ Gurko очевидно является тотъ же Яръ, или Ярило съ придыхашемъ „г", какъ и въ словахъ: острый=гострый (малорусе.); сударь, осударь= государь; вкдунъ=говкдунъ (обл.). Но звукъ „г" легко переходить въ „ж“ (польск. gwiazda=жмyдcк. жвайзде; жмудск. гивену, русск. гоить=живу, жить.), и такимъ путемъ изъ Gurko (Гурко) могъ образоваться „Журило". Имена „Яръ, Ярило, Gurko, Журило и Чурила" произошли отъ одного и того-же корня и обозначаютъ дкйств!я всепожирающаго и истребляющаго огня, а также всеоживляющш теплоты солнца: „костромск. яръ—жаръ, пылъ, серб, japa—жаръ печи; горкть, жрать, жаръ, жмудск. жара—заря, фран. jour, (журъ)—день, евктъ, санскр. cur—жечь.
Отъ того же корня происходить и имя Хорса, извкстнаго намъ по лктописи Нестора. Имена „Хърсъ, Хорсъ, Корша (Поповъ), Корсъ, Хорша (Чулковъ)" происходятъ отъ корня „тар, гор, кур" (горкть, курить): санскр. kliara—жаръ, kharah—пылкш, горячш (De affinitate linguae slavicae et sanscritae. J. A. B. Dorn. Харьковъ. 1833.145 стр.), литовск. karsztas (карштасъ)— жаркш, душный, karsztis (карштисъ)—жара, духота, karsztu (каршту)—нагркваться, жмудск. карштай,
— 135 —
карштсъ—горячо. Для насъ особенно важно то, что въ сказаны о мамаевомъ побоище древне-русскш богъ „Хорсъ" является подъ именемъ „Гурса" (Сказ. русс, нар. И. Сахаров, изд. Ш. С.-П. 1841 т. I, кн. IV. 80 стр.). Если принять во внимаше, что звукъ „с" есть производственный, какъ въ русскомъ языке, такъ и въ литовскомъ (небо—небеса, небесный; слово—словеса, словесный; литовок. далисъ=русс. доля; копустасъ= капуста; чудасъ=чудо), то отбрасывая его, мы полу-чимъ назваше божества „Гуръ*, что будетъ фонетически созвучно съ литовскимъ Ghirko и „Журило".
Обобщая все вышесказанное, мы приходимъ къ тому заключешю, что Журило (Чурила) есть языческш богъ Яръ, Ярило, или, что тоже, Хорсъ (Гурсъ); теперь намъ остается только съ этой точки зркшя разсмотргЬть славяно-руссюя предашя о Журил!;, или Чурилк.
Имя бога „Журило (Чурила)", какъ заметили, происходитъ отъ корня „горъ, гар" (горкть, угаръ); слово „гореть" предполагаетъ первичную форму сёрбск. гу-рити се—сжиматься, гурнути—толкнуть, малорусс=двинуть, вернуть, подобно тому—какъ „жечь" происходитъ отъ жигануть, жикнуть, ударить, уколоть, и такимъ образомъ съ корнемъ „гор" соединяется поняйе дви-жешя, бега, роста. Отсюда-то и произошло, что этотъ корень является во словахъ, обозначающихъ ростъ ра-стешй и животныхъ. Къ объяснен™ этого послгЬдняго обстоятельства слкдуетъ прибавить и то, что теплота, жаръ, по народному сознашю, предупредившему науку, содействую™ росту и ускоряютъ его, какъ это видно изъ словъ: яро дерево, жаровой лгЬсъ—рослое дерево, рослый,' высокш лксъ (Песн. П. В. Кирёевск. Вып. 4, б и 19 стр.) Вследств1е этихъ двухъ причинъ мы и встрфчаемъ корни „гор, жаръ" въ назвашяхъ расте шй и животныхъ. Назвашя растешй: лат. germen—почка, отростокъ, заро-
— 136 —
дышъ, germino—пускать ростки, herba—трава, зелень; нЬмецк. gras—трава, grtlne—зелень, англ, grass—1) трава, злакъ, 2) пастись на трав!;, заростать травой, green—1) зелень, 2) зеленить, grow—роста, пускать корни; обл. журавина, жаравина—клюква. Назваше птицъ и вообще животныхъ: греч. geranos, фран. grue — русск. журавль, журавъ, жаравлъ (холмогор. у.); фран. jars (жарсъ)—гусь, гусакъ; англ, hare—заяцъ, horse—конь, литовск. geras (герасъ)—ягнёнокъ (ср, русск. ярка—молодая овечка); жавролёнокъ (олонецк.)— жаворонокъ (отсюда-то и произошла сказочная жаръ-птица т. е. жаворонокъ, возвещающш наступлеше весны, жаровъ).
Изъ разбора корней „гар, жар", и словъ, отъ нихъ произшедшихъ, очевидно, что „Журило" им’Ьетъ связь съ ростомъ злаковъ и травъ, а также возбуждаетъ деятельность, силы птицъ и вообще животныхъ. Тагая именно свойства народныя былины и песни припи-сывютъ Журилу (Чуриле).
О действш Чурилы на травы и цветы великорусская былина выражается въ такихъ сло-вахъ:
Онъ добро по городу погуливалъ: Подъ нимъ травка-муравка не топчется, Лазоревой цветочикъ не ломится.
(Песн. П. В. Киреевск. Вып. 4, 87 стр.).
Сопоставляя эти слова великоруской былины съ темъ, что мы знаемъ изъ галицкой песни о подобномъ-же благотворномъ действш на ростъ хлеба (ячменя) Журила, мы не будемъ сомневаться, что эта черта-ми-еическая. Галицкая песня въ этомъ откошенш замечательна еще темъ, что въ ней благодетельное вл!яше на урожай хлеба приписывается не только божеству
— 137 —
Журилу, но и Ксене: „Куда Журило 1товъ, туди ячменик ЗШШОВ, а куда Ксеня мала, туди пшеничка зЬй-шла“. Это значить, что народъ, забывая объ язычес-комъ значеши Журила, сталъ обходиться съ нимъ, какъ съ простымъ челов'Ькомъ; и коль скоро Журила приравняли къ человеку, хотя и неизвестному, то уже легко было его действ!я перенести на другихъ, ому подобныхъ людей. Такимъ путемъ произошли те песни, въ которыхъ, хотя и нетъ имени Журила, но описываются подобныя же действ!я простыхъ смерт-ныхъ: .......................................
А где утка шла, тутъ и пыль прошла, А где я млада, тутъ и рожь густа, Уколотиста, умолотиста, Еще съ колосу малёнка (мерка), съ зерна пирогъ (Чухломск. у. Русск. простои, и суевер, обряды.
М. 1838. Вып. 2. 96 стр.).
Ходить кблосъ по яри, Что по белой по пшенице, Изъ зерна-то коврига; Изъ полузерна пирогъ, Где девушки шли, Тутъ рожь густа;
Где бабы шли, Тамъ вымокла; Где мужики шли, Тамъ повыросла; Где ребята шли, Тамъ повылегла.
(Въ Переяславле Залесскомъ. Вып. 3. 119 стр.) Въ этихъ двухъ песняхъ нетъ имени божества; вместо него является девушки, мужики и даже олицетворенный колосъ. Однако действ in этихъ новыхъ лицъ
— 138 —
настолько сходны съ Журиловыми, что миоологиче-ское происхождеше пЬсенъ внЬ всякаго сомнЬшя.
Мы уже замечали, что въ одномъ великорусскомъ заговорЬ въ качеств^ властителя зверей и покровителя охотниковъ является бЬлый мужъ Жубрило; въ виду того, что въ этомъ заговор’Ь живЬе и яснЬе, чЬмъ въ былинахъ, удержалось языческое значеше древ-няго стихшнаго божества, мы и разсмотримъ его по-подробнЬе:
„Господи, Боже, благослови! Стану я, рабъ Божш, (имя. рекъ) благословись, пойду перекрестясь, изъ избы дверьми, изъ дверей воротами, въ чистое поле за воротами, ^изъ чистаго поля во темный лЬсъ. Въ темномъ лЬсу стоитъ кипарисъ-древо; подъ тЬмъ ки-парисомъ сидитъ сама Мать Пресвятая Богородица. Держитъ Она во своей десной рукЬ три прута: прутъ же-лЬзный, прутъ мЬдный, прутъ ееребрянный. Ударю я первымъ прутомъ по сырымъ лЬсамъ, ударю я другимъ прутомъ по мхамъ, по болотамъ:, сырые лЬса сшата-ются, мхи-болота сколеблются; разбЬжатся бЬлые звЬ-ри горностали на всЬ на четыре стороны: побЬгите вы, кривоноги, чернохвосты! Ударю я третьимъ прутомъ бплаъо мужа Жубрила. Ай, ты, бплъ мужъ Жубрило, самъ ты бплъ и конь подъ тобой бплъ’, за’Ьзжай и залучай со всЬхъ четырехъ сторонъ, со стока и запада, и съ лЬта и сивера: идите со всЬхъ четырехъ сторонъ, бЬлые звЬри горностали; какъ идетъ солнце и м'Ьсяцъ, и частыя мелшя звЬзды и вся луна поднебесная идетъ неотпятно, такъ идите на мой заводъ, на мои сгодья, къ моимъ плашкамъ, бЬлые звЬри горностали, а минуйте, проходите мои силья пасти: они не по васъ излажены. Кушайте по плашкамъ мои Ьствы: тЬ мои Ьствы лучше и слаще матерняго молока. Къ этому моему слову ключь и замокъ отношу я къ Ойанъ-морю;
— 139 —
есть на OiciaH'h морЬ островъ великъ, къ берегу лежитъ былъ камень Алатырь’, подъ камнемъ стоить живая щука, пожретъ тотъ мой ключь и замокъ. Кто кругомъ Оюанъ моря обойдетъ, кто около О юань моря песокъ вызоб-летъ, кто изъ Оюанъ моря воду выпьетъ, кто живую щуку добудетъ, ключь и замокъ мой достанетъ,—тотъ мой промыслъ попортить. (Шенк, у., Архан. г. зап. А. Харитоновъ; см. Отеч. Зап. 1847 г., т. LIV, отд. VIII, стр. 152—154; Записки импер. русск. геогр. общ. По отд. этногр. т. П, 544—545 стр.; Матер1алы по этнограф, русс, насел. Архангельской губ. П. С. Ефи-менка, М—1878. ч. П, 185 стр.).
Таинственный мужъ ,,Жубрило“, являющшся въ этомъ заговор^, служить связующей ступенью между малорусскимъ Журиломъ и великорусскимъ Чурилой и такимъ образомъ не оставляетъ сомн4шя въ томъ, что въ малорусскихъ и великорусскихъ предашяхъ р4чь идетъ объ одномъ и томъ-же лиц-Ь (ср. В4ст. Европы 1874, ноябрь. 593—594; Труды Шевск. акад. 1878. т. П, 387.). Малорусскш Журило предполагаетъ Жув-рила, какъ напр.: охота=охвота, зычный=звучный, польск. с1югу=хворый; ,,в“ по общему фонетическому закону переходить въ „6“ („овыдень“ (обл.)=обыден-кой, въ одинъ день, малорусе. важити=бажати, хотеть желать) и такимъ образомъ изъ Жуврила явился Жуб-рило. При описанш Жубрила народный заговоръ со-хранилъ черты явно миоологическаго происхождешя. Жубрило и конь его называются белыми: „Ай, ты, б'Ьлъ мужъ Жубрило, самъ ты б4лъ и конь подъ тобой б4лъ“. Б4лый цв4тъ, какъ известно, приписывается обыкновенно существамъ божественнымъ: такъ напр., -< б^лоруссий Б'Ьлунъ, зам^нивпий Б4лбога, представляется старцемъ съ длинною б4лою бородою, въ былой одежд'Ь; Ярило разъ4зжаетъ на быломъ кон'Ь и въ
— 140 —
былой мантш (Поэт, воззр. слав. А. Аоанасьева, т. I, 93 и 441 стр.); точно также и святой Георгш, или Егорш, замЬнившш собою Ярила,—самъ былъ и кнутъ былъ и рукавицы бплыя и борода былая (Матер, по этногр. Арх. губ. П. С. Ефименк. ч. П. 194 стр.). Въ заговорахъ считаютъ необходимымъ зачураться не только отъ колдуна и колдуньи, еретика и еретницы, ящера и ящерицы, стараго старика и девки простостоволоски, но и отъ жонки б'Ьлоголовки (Idem. 144 стр.); ясно, что белый цв'Ьтъ, даже и перенесенный съ боговъ на людей, внушаетъ къ себе благоговейное ува-жеше и даже страхъ. Слово „белый",=„малорусск. билый, белорусе, бялый, польск. bialy, литовок, baltas (балтасъ)" сродно съ греческимъ phalios, phalos—бле-стяпцй и такимъ образомъ сближается съ словами phao (греч.)—освещаю, озаряю, блистаю, phaino, свечу, phos—светъ, огонь, горящая свеча, лат. fax—пламя светило, лучина, фран. feu, и немецк. feuer, англ, fire—огонь. Изъ сопоставленья словъ, сродныхъ съ русскимъ „белый", очевидно, что белый=светлый, ясный, и потому-то эти слова обыкновенно употребляются одно на ряду съ другимъ, какъ вполне синонимическая, напр. „Догоняетъ онъ (Алеша) добраго молодца на разевете септу бплаго, на восходе солнца яснаго". Въ виду такого значешя эпитета „белый"=блестящш становится понятнымъ, почему белыми называются существа божественныя, именно солнечнаго, или ог-неннаго происхождешя, каковъ и вышеупомянутый Жубрило.—Шенкурскш заговоръ, кажется, единственный въ своемъ роде, где является белый мужъ Жубрило; въ другихъ заговорахъ обыкновенно выводится св. Георгш, заменивппй собой, какъ известно, древне-русскаго Ярила. Это обстоятельство еще разъ убеждаетъ насъ въ томъ мнеши, что „Журило, Жубрило" и „Ярило"—
— 141 —
одно и тоже лицо. Въ заключите разбора шенкурскаго заговора не можемъ не заметить, что появлеше въ немъ б'Ьлаго мужа „Жубрила“ (Чурилы) р!шительнымъ образомъ отвергаетъ всякую связь между великорус-скимъ Чурилой и какимъ бы то ни было бояриномъ (напр. Чюриной): не мыслимое—же дело, чтобы къ какому нибудь боярину обращались съ мольбой объ успешной охоте. Следовательно волей—неволей остается согласиться съ темъ, что Чурила перенесенъ въ великорусски былины изъ древне-языческихъ пре-данш, точно также, какъ подъ вл!яшемъ новыхъ христ!-анскихъ сказаны появились въ нихъ библейсюя лица: Самсонъ Нанойловичъ (Песн. П. Н. Рыбник, ч. I, Зам. УШ стр.; Онеж. был. А. С. Гильфердинг. 1296 стр. срв. Вибл. Суд. Израил. XIII гл.) и Каинъ—собака поганый (Зап. имп. русск. геогр. общ. т. Ш, 546 стр.), видоизмененный впоследств!е въ собаку сударя Калина царя.
Что касается великорусскихъ былинъ, то въ нихъ миеологическое значеше Чурилы сравнительно более замаскировано. Темъ не менее и оне представляютъ Чурилу съ его дружиной властителями птицъ и зверей (ср. Жубрила), а также речной и озерной рыбы (ср. Юровой праздникъ у сибирскихъ рыбаковъ):
Будетъ день въ половине дня, А и будетъ столъ въ полу-столе, Князь Владим1ръ распотешился, А незнаемы (?) люди къ нему появилися: Есть молодцовъ за сто человекъ, Есть молодцовъ за другое сто, Есть молодцовъ за третье сто; Все они избиты—изранены, Булавами буйны головы пробиваны,
— 142 —
Кушаками головы завязаны;
Вьютъ челомъ, жалобу творятъ: „СвЬтъ, государь, ты Владшпръ князь! 'Ьздили мы по полю по чистому, Сверхъ тоя реки Череги, На твоемъ государевомъ займище: Ничего мы въ поле не наезживали, Не наезживали зверя прыскучаго, Не видали птицы перелетныя;
Только наехали во чистомъ поле: Есть молодцовъ за три ста. (Есть молодцовъ) и за пять сотъ, Жеребцы подъ ними латиншйе, Кафтанцы на нихъ камчатные. Однорядочки-то—голубъ скурлатъ, А и колпачики—золоты плаши; Они соболи, куницы повыловили, И печерски лисицы повыгнали, Туры, олени выстрелили, И насъ избили—изранили: А тебе, осударь, добычи нетъ, А отъ васъ, осударь, жалованья нетъ, Дети, жены осиротели, Пошли по Mipy скитатися".
„Светъ, государь, ты Владтпръ князь! Т>здили мы (рыболовы) по рекамъ, по озерамъ:
На твои щаски княжецюя
Ничего не поимавали;
Нашли мы людей: есть молодцовъ За три ста и за пять сотъ, Всю они белую рыбицу повыловили,
— 143 —
Щуки, караси повыловили жь И мелкую рыбицу повыдавили.
,,'Ьздили мы (сокольники) по полю чистому, Сверхъ тоя Череги, По твоемъ государевомъ займищу, На тйхъ на пот1лпныхъ островахъ: На твои щаски княженецйя, Ничего не поимывали, не видали Сокола и кречета перелетнаго;
Только наехали мы молодцовъ За тысячу челов'Ьк'ь: ВсЬхъ они ясныхъ соколовъ повыхватали И бЬлыхъ кречетовъ повыловили, А насъ избили—изранили, Называются дружиною Чуриловою44.
(Кирша Даниловъ. 155-159; ПгЬсн. П. В. Ки-рЬевск. Вып. 4, 78—81 стр. ПЪсн. П. Н. Рыб. ч. 1, 261—262 стр; Гильфердингъ, 1059—1061,1097—1100, 1160—1162.).
Слова „гореть, Жаръ,44 оТъ которыхъ произошло имя божества „Журило/4 въ метафорическомъ смысла употребляются для означешя чувства любви, напр: „горяча любовь на свЪтЪ,44 „горитъ-кипитъ ретиво сердца по красной Д'Ьвиц'Ь (Поэт, воззр. слав. А. Афанасьев. т. 1, 448 стр.)44 Отъ этого метафорическаго значешя корня „гор44 произошли слова, указывающая на чувственную сторону человека, напр.: нймецк. huren, hure, hurer, m, hurerei, распутничать, развратничать, развратникъ, развратница, разврата, блудъ; англшск. whore, француз. §агсе=журжа сарат. й пензен. г., курва. Лат. herus, hera—хозяинъ, хозяйка,
— 144 —
нем. herr господинъ, сударь, литовок, czhras (чурасъ)— слуга, малоруск. жура журахъ, журашина, дьзюра, джура, джурила, чура, цюра—хлопецъ, оруженосецъ первоначально означали страстнаго, пылкаго человека, любовника; это первичное значеше удержали польск. ,,czurylo“ (чурыло)—блудникъ, волокита и великорусе, ала-херь (нем. herr, малорусе, жура)—любовникъ, фа-воритъ, счастливый волокита. (Воскреси, посиделки. Четверт. пятокъ. С. П. 1844. 162 стр.) Сравнеше имени божества Журила (Чурилы) съ словами одного и того-же корня указываетъ намъ на любовное значеше его личности. Малоруссшя песни и великосус-сшя былины вполне подтверждаютъ справедливость такого заключешя.
Изъ галицкой плясовой и вместе свадебной п^с-ни мы уже знаемъ о томъ чарующемъ вл!яши, которое производить Журило на „д!вочокъ.“ Изъ вар!ан-та этой пЬсни, приводимаго И. Костомаровымъ, оказывается, что не только „д!вочки“, но и молодици, кото-рымъ повидимому нетъ особенной нужды заглядываться на красавца, удалаго добраго молодца, не могли устоять противъ всеобщаго увлечешя:
Йшовъ Джурило по улищ, За Джуриломъ молодищ, Йшовъ Джурило зъ м1ста, зъ мюта За Джуриломъ д!вокъ триста....
Великоруссюя былины точно также, какъ и мало-русск1я песни, представляютъ Чурилу счастливымъ лю-бовникомъ. Не усп'Ьлъ Чурила поступить на службу къ стольному князю Влчдишру и освоиться съ новою для него должностью постельника, какъ уже вскружилъ голову княгинЬ Опраскш: „Рушила княиня (вар. княгиня) лебедь белую, загляделась она на Чуриву на Цыплёнковича, порезала княиня руку левую; со стыду
— 145 —
со сраму подъ столъ руку свесила (Песн. П. Кир. Вып. IV*. 86 стр.).” И только благодаря необыкновенному доб-родупию солнышка Владим1ра эта новая связь кйяги-ни съ Чурилой (ср. отношешя Опраксш къ Тугарину) не окончилась для нея трагически/4 ,,И стилалъ Чурила постели мягшя, складалъ крутое загловице; потЬшалъ г князя игрою на гуселкахъ, а княгиня Чурилу у души держала. Это князю не слюбилося: ,,при шла ты, княгиня, мне въ любовь, и я тебя въ этой вины прощу, а то бы тебе головка сечи (Песн. И. П. Рыбник. Ч. 1, 266 стр.)“. Другая Невская женщина Катерина Ми-кулична, просто безъ ума отъ Чурилы:- „Да помешался у меня разумъ во буйной голове, да помутились у меня-де очи ясные, смотрячись-де, Чурило, на твою на красоту (Онежск. былин. А. 0. Гильфер. 1066 стр.)44. Любовные успехи Чурилы не ограничиваются двумя— тремя- женщинами. Въ томъ-то и главное отлич!е Чурилы отъ другихъ богатырей, что обаяше его личности непреодолимое, чисто стих!йное (Песн. П. В. Киреевск. Вып. 4. Зам. LXXXIX—ХС): Чурила оча-ровываетъ буквально всехъ девокъ и бабъ шевскихъ:
Поехалъ Чуривушка по городу по Кееву, Загляделись на Чуриву всё люди—те: Где девушки глядятъ,—заборы трешшатъ, Где молодушки глядятъ,—лишь оконенки зве-нятъ, Где стары глядятъ,—манатьи на сее дерутъ.
(Idem. Вып. 4, 87 стр. ср. Онежск. был, Гильф. 1064— 1065, 1312—1313 стр.).
Идетъ Чурилушка Опленковъ сынъ: Подъ пяты—пяты воробей пролети, Около носа-то яичко кати;
10
— 146 —
На его д-Ьвки глядятъ—золоти пелы домять, Стары бабы глядятъ—прялицы ломятъ.
(П'Ьсн. П. Н. Рыбн. 4.1,269 стр.; ср. выше 267).
Им-Ья въ виду тожество Чурилы и Ярила, въ этомъ всеобщемъ увлечены Чурилой мы видимъ тоже самое сознаше необходимости удовлетворешя чувственныхъ позывовъ, которое заставляете матерей охотно отпускать своихъ дочерей на Ярилино гулянье „поневЪ-ститься“. Въ этомъ сладострастномъ характер^ культа Чурилы и Ярила кроется и причина одинаковой горячей любви къ тому и другому. Какъ предъ смертью Чурилы, такъ и предъ погребешемъ Ярила раздаются грустный погребальныя причиташя. Взмолились за Чурилу бабы кгевсшя: „оставь Чурилу хоть на сЬмя-на: такого, де, стольника уже не будетъ!“ (Шюн. П. 11. Рыбн. ч. I, 311 стр.). Вопль женщинъ при погребены Ярила: ..Якш же винъ бувъ хорошы та якы услужливый... Не встане винъ бильше! О, якъ же намъ розставатися съ тобою, и що за жизнь, коли нема тебе! Пиднимись хочъ на часочокъ; но винъ не встае и не встане (Быт. русск. нар. А. Терещенк. ч. V, 100—101 ср. Зап. импер. русс, геогр. общ. т. П, 86 ,стр.)“. Замечательна также, что Чурилу, какъ и Ярила, по преимуществу любятъ и считаютъ своимъ женщины. Это подтверждаетъ тотъ известный факте, что народъ считаете женщину сравнительно съ мугциной суще-ствомъ бол'Ье страстнымъ и пассивнымъ („эге баба не бреше! Вона знае, що ы солодче моду“—изъ празднества Ярилу). ВслЬдс'ыйе этой-то пассивности, страстности своей природы женщина отличается сравнительно большимъ консерватизмомъ и устойчивостью въ хранены традищонныхъ преданы. Вотъ почему, когда народъ въ лиц'Ь своихъ богатырей забылъ о Чурил'й и открещивается отъ него, бабы ыевсшя горой стоятъ
— 147 —
за Чурилу, и такимъ образомъ Чурила делается боже-ствомъ по преимуществу, если не исключительно, „бабь-имъ“ (П-Ьсн. П. Н. Рыбн. ч, I. стр. 305).
Русскдй народъ не только представляетъ Чурилу= Журила ловеласомъ—волокитой, а также пьяницей, плясуномъ и скоморохомъ,—въ этомъ случай Чурила, или Журило опять сходится съ веселыми, неумерен-репными солнечными богами: Хорсомъ и Я рил омъ— Переплутомъ. „Йшовъ Джурило льодомъ“, говорить одна малорусская п^сня, „шсъ горшку съ медомъ, сыну, Джурило, сыну, не толочь мого ячменю; сидкча на ко-лодщ (кладци) моргала на хлопщ (В-Ьстн. Европы, 1874, т. VI, 594 стр.)“ Какъ слово Ярило=Ярила сделалось прозвшцемъ всякаго веселаго гуляки, такъ и Чурилой называютъ всякаго кутилу, безпорядочнаго человека. Въ русскихъ лЬтописяхъ под'ь 1378 г. одинъ бояринъ Иванъ Григорьевичи, бывппй приставомъ митрополита Пимена, носитъ юмористическое прозванье „Чуриловъ Драница (ЛЬтописецъ руссклй, Н. Львова, т. П, 165; Истор, росс. В. И. Татищева, кн. IV 253)“. При ПетрЬ I Bet члены всешут’Ьйшаго, всепьянЬйшаго собора звались Чурилами. Чурила, Чурилово подворье хорошо известны всбмъ удальцамъ, лрвкимч> малымъ: „За-варуй, варуй, варуйко. Сила маленькой детинка! Проло-жилъ Сила дорогу мимо валу землянова, мимо саду зеле-нова, архирейскова большова. во Чудинскую слободку, ко Чурилову подворью, ко Варварину здоровью (Сказ, русс, нар., кн. Ш, 221 стр.)“. Въ известной народной картинка „Мыши кота погребаютъ" веселая мышка, играющая на дудк’Ь, или на флейт'Ь. прозывается именемъ весельчака—скомороха Чурилки: „деревенская мышь Чурилка сурначъ въ сопель играетъ“, или (мышь) „Чурилка сарначъ въ свир Ьлку играетъ (Сбор. отд. русс, языка и слов. имп. акад, наукъ ХХШ. кн. I. 396: т,
— 148 —
XXVI. кн. IV. 261 стр.)“. Словомъ несомненно, что Чурила былъ богомъ пьяницъ и скомороховъ. Въ связи съ разгульным?, характеромъ культа Чурилы нужно сопоставить ту пляску. „Джурылло", или „Цюрылло", о которой упоминаетъ Жегота Паули, Чурила, какъ богъ пьянства и пляски, невольно вызываетъ на сравненье съ Псреплутомъ, въ честь котораго плясали=вертелись и пили изъ роговъ: „и верьтячеся пьютъ ему въ ро-3'Ьхъ“.
Женскою половиною Чурилы=Журила является игуменья клевскаго женскаго монастыря Чурилья,— Чурилья—женскдй образъ, вполне сходный съ муж-скимъ—Чурилой, или Журиломъ. Великорусски Чурила магически привлекаетъ къ себе внимаше и любовь красныхъ девицъ, молодицъ и старухъ; за мало-русскимъ Журиломъ, какъ за греческимъ Дюнисомъ, ходятъ „толпы, войска дивчатъ и молодицъ“, тоже самое мы читаемъ и про игуменью Чурилыо: „Какъ бы русая лиса голову клонила, пошла-то Чурилья къ за-утрени; будто галицы летят, за ней старинны идутъ: ПО правую руку идутъ сорокъ Д'Ьвицъ. да по л^вую руку друга сорокъ, позади ея дпвиц?, и смтъты нп>тъ (Древ-нероссшск. стихотворешя, собранн. Киршею Данило-вымъ. 1818 г. 383 стр.)“.—Чурила или Журило представляется народомъ пьяницей—гулякой: „Йшовъ Джу-рило льодомъ, нюъ горику съ медомъ"; игуменья Чурилья точно также поитъ добрыми питьями Стафиду Давидьевну, княженецкую племянницу: „А и та-то Чурилья игуменья, отпевши заутреню, скоро поезжала по монастырю, изпроехала триста келш, и доехала ко Стафидине кельице,—и взяла съ собой питья добрыя, и стала ее лтъчить, поить (ibidem. 386)а.
Д. Ровинскш вполне справедливо сравниваетъ Чурилью съ ярыжными кабацкипи бабами, „Эта ско-
-- 149 —
ройная игуменья", говорить про Чурилыо г, Ровип-скш, „напоминаетъ обрюзглы хъ отъ пьянства бабъ, представленныхъ въ нашей пародш на всепьян'Ьйппй соборъ (Сборн. отд. русск. яз. и сл. импер. академ, наукъ, т. XXVI, кн. IV, 98 стр.)“. Но тотъ же самый Ровинскш далеко неосновательно думаетъ, будто песня про игуменью Чурилью сложена была во времена Петра 1-го (Ibidem. 97—98): а) слово Чурилья не книжное, деланное, а народное, такъ напр. Иркутск. „чурилья“ значить замарашка (Опытъ облает, великор. словаря. 260 стр.), б) великорусская Чурилья им’Ьетъ своего двойника въ малорусской Дженджурихе (ервн. Подольск. дженджуристый, польск, dzendzm’zysty-—бойкш).
Дженджуриха, какъ и Чурилья представляетъ изъ себя типъ безхозяйственной, безпечной женщины (жинки), которая годна лишь на то, чтобы гулять съ известными проходимцами и пьяницами, запорожцами. ,,0й за гаемъ, гаемъ, гаемъ зелененькимъ", чи-таемъ мы въ одной малорусской шуточной песне, „тамъ орала Дженджуриха (Дженджеруха) воликомъ черненьким'!.; наорала гони на чотир! мил5, намяла пшениченьки. „Ой Боже мы милий! Ой изъ кимъ-то. зъ кимъ-то, пшениченьку жати“?... На пмъ бош, на толопд стоять ^апорожщ. Запорожш стояли, Дженджу-рихи пытали (спрашивали): „Ой чи вона жива, чи вона умерла? Коли вона жива—ход!мъ погуляймо; коли вона вмерла—ход!мъ поховаймо“. Чого въ тебе, Дженджу-рихо, сорочка не б1ла?“—„Вже восьма недътя, якъ сорочку надша; а девъята' зима, якъ я въ церкв! була. „Чого въ тебе, Дженджурихо, не метена хата"?—Я вимету разкомъ, та вивезу возкомъ! Ой що-жъ To6i, Дженджурихо, за емггтячко дати?—Сюд1 хшъ, туди хшъ за емггтячко елмъ кшъ, а восьмая кшка, що ви-мете тггка (Труды этнографическо-статической экспе-
— 150 —
дицш въ запаДно-русскш край. П. П. Чубинскаго 1874 года т. V, 1112 стр.)“. Какъ гультай и волокита Журило не годенъ для обыденной практически-трезвой жизни, такъ и его женская половина Дженджуриха— невозможная хозяйка въ народномъ быту; да он i и сама въ этомъ сознается, называя себя „ледащей жин-кой“... „За що жъ мене, мужу, бьешъ, за ями вчинки, чи я To6i не напряла за р!къ три починки? Одинъ пряла до Р!здва, другий до Миколи, а якъ третш почала— буде до Покрови; та й не сама пряла—кума помогала, кум! дала миску ппюна и три куски сала; та не сама пряла—були помппнички, то за сало, то за хл!бъ, то за палянички. Ой ти пъэшъ, мене бъэшъ, а може бъ я робила; накупивъ веретенъ—нема мотовила: дрова въ печи не горять—такъ я пидпалила, таки тоб!, недо-в!рку, борщу наварила. Ой ти пъэшъ, мене бъэшъ— роспитаймось за що: що и ти, що и я—обоэ ледащо (Ibidem, т. V, 1182 стр.)“!
VI. Л ад ъ Ладо и Лада. Лель и Ляля.
4
Ладъ—богъ солнца. Литовцы представляютъ Лада кудрявымъ „богомъ съ солнечными кудрями (Поэт, воззр., т. I. 229: стр. срв. Бытъ русск. нар. ч. VI, 143 стр.)“. Вероятно что нибудь подобное было и у насъ на Руси; по крайней м4р1; въ древне-русскомъ слов4 св. Ефрема о книжномъ учеши мы между прочимъ чатаемъ: „Отреченный же книги суть: остроноум4я, звЬздочетья, ст4-немъ знамянье, лунное и солничная, яко 3 бываютъ солнца, или волосы простирая, или ногарая, колядникч. громникъ... (Историч. христомаччя, 0. Буслаева, 533 с.)“. Литовскш солнцевласый богъ—Ладъ (saulinejsplaukajs) и русское солнце, простирающее свои волосы—очевидно одно и тоже.
Литовцы видятъ въ Ладк землед&льческаго бога, оберегающаго стада овецъ отъ нападенш волковъ. Некоторый славянсшя племена (кроаты) считаютъ Лада богомъ весны, цв4товъ и землед’Ьльческихъ работа: „Ива красивый розы срываетъ теб4, Ладо—снятый Боже! Ладо, Ладо. Выслушай Ладо“... или: „Ладе ми Ладе, миле Ладе мой! Три дЪвойки жито жали: Ладе ми Ладе, миле Ладе мой! Одна другой говорила: Ладе ми Ладе, миле ладе мой (Начерташе славянской миоологш М. Касторскаго. СПБ. 1841 г. 125—126)“.
— 152 —
По древне-русскому преданно Ладъ, или Диди-Ладъ былъ богомъ устроителемъ бортеваго пчеловодства и покровителемъ посЬвовъ проса. Современный народным песни невидимому ставятъ подъ покровительство Лада варку пива, посЪвъ льна и вооб це всякое земледельческое заняпе: „Ай на горе мы пиво варили, Ладо мое, Ладо, пиво варили", „Ой Дидъ, ой Ладо! Засевали девки белъ ленъ... съ травою небылою, съ пови-лою", „или „А мы чищобу чистили, чистили, Диди-Лада чистили! А мы папшю пахали, пахали. Диди-лада пахали! А мы просу сеяли, сеяли. Диди-Лада сеяли! А мы просу пололи, пололи. Диди-Лада пололи! А мы просу жинали, жинали. Диди-Лада жинали! А мы снопы вязали, вязали. Диди-Лада вязали! А мы снопы возили, возили. Дидилада возили! А мы коней пускали, пускали. Диди-Лада пускали"!... (Сказ, русск. нар., кн. Ш. 28; Быть русскаго народа. А. Терещенко, 196; Учен. зап. имп. казанскаго университет. 1877. г. XLIV, 385—386 стр.)“.
Ладъ кроме земледельческаго значенья имеетъ еще любовное-брачное. Вт. святочныхъ (около новаго года) песнях'ь девицы, гадая о суженыхъ-ряженыхъ= женихахъ, вспоминаютъ Лада: „Сиди, сиди, ящеръ, Ладу, Ладу! Въ ореховомъ кусте, Ладу, Ладу! Въ белой капусте. Ладу, Ладу! Въ белой капусте, чего досидети? Ладу, Ладу! Выбирай, ящеръ, паныо, Ладу, Ладу! Кая тебе люба, Ладу, Ладу! Какая у фересцахъ, Ладу, Ладу! Кая у сапожкахъ, Ладу, Ладу! Мне Машинька люба, Ладу. Ладу! Ена по совету, Ладу, Ладу! Ена по привету, Ладу, Ладу (Псков, г. Великопол. у.; Чтенья въимп. общ. истор. и древн. росс. 1869 г. кн. Ш, П=Мат. оте-чественн. 386 стр.). Въ простонародныхъ свадебныхъ песняхъ часто призываютъ Лада (Москвитянинъ, 1855 г. апрель кн. I, № 7, 132; Учен. зап. казанск. универе. 1877 г. 431 стр.). Въ одн.ой свадебной енисейской
— 153 —
п!сн! Ладо изв!стенъ подъ характерными, прозвищемъ „Уряди, Дидъ-Ладо, уряди! „На лугу, лугу“, поютъ въ казачинской и маклаковской волостяхъ, „уряди Дидъ-Ладо, уряди"! Стояли три роты, уряди, Дидъ-Ладо, уряди! Три роты военны, уряди Дидъ-Ладо, уряди. (Енисейск, округъ и его жизнь. М. 0. Кривошапкина. СПБ. 1865 г. т. I, 98 стр.)“. Повидимому Дидъ-Ладо сряжалъ жениха и невесту къ в!нцу=свадьб!.
Царство Лада—солнца начиналось раннею весною и продолжалось до Троицина и Петрова дня. Весною призываютъ Лада въ известной обрядовой п!сн!: „А мы просо с!яли, с!яли, ой Дидъ-Ладо с!яли, с!яли (великорусе.)" или „А ми просо с!яли, с!яли, ой Дидъ-Ладо с!яли, мяли" (малорусе., Маякъ. СПБ. 1840 г. ч. X, 144; Бытъ русск. нар., ч. IV, 304—306; Л1;т. русск. литер., т. IV, отд. I. 8 стр.; Труды этнографическо-статистической экспедищи въ западно-русскш край. 1872 г. т. Ш, 66 стр.)“. На Семикъ и на Троицу молодыя д!вушки поютъ: „Благослови, Троица! Богородица! Намъ въ лЬсъ пойти, намъ в!нки завивать, ой Дидо! ой Ладо“!... (Сказ, русск. нар., кн. Ш, 260; Русск. простонар. праздн. Вып. I, 219 и вып. Ш, 117; Бытъ русск. народа, ч. VI, 159)*‘. На Петровъ день Дидъ-Ладъ=великое солнце достигаешь наивысшей силы своего развиччя. Утромъ этого дня Ладъ— солнце предается необузданной радости, то есть играетъ: въ это время солнышко, „то спрячется, то покажется, то повернется, то внизъ уйдетъ, то блеснетъ голубымъ или розовылъ, или вм!ст! разными цветами“. Завидя восходящее солнце, первые лучи, разбрасываемые великимъ Ладомъ, народъ (въ тульской г.) прив’Ьтству-етъ его песнею: „Ой Ладо! ой Ладъ! на курган! соловей гнездо завиваешь, а иволга развиваешь. Хоть ты вей, хоть не вей, соловей! Не быть твоему гн!зду
совитому, не быть твоимъ дктямъ вывожатымъ, не летать имъ по дубравЬ, не клевать имъ яровой пшеницы! Ой Ладо! ой Ладо (Русск. простонар. праздн., вып. IV, 67 стр.)“.
Женскою половиною великаго бога солнца—Лада является богиня Лада=славянская Венера (Mater verborum). Изсл'Ьдователи обыкновенно производятъ слово „Лада" отъ „ладить", „ладный" и видятъ въ та-комъ словопроизводстве указаше на любовный, мирный характеръ Лады. Такъ г. Аеанасьевъ для объясненья лингвистическаго значенья имени богини Лады зам^чаетъ: „Въ народныхъ песняхъ ладо до сихъ поръ означаетъ нежно любимаго друга, любовника, жениха, мужа, а въ женской форме (лада)—любовницу, невесту и жену... Въ областныхъ говорахъ: ладить—жить съ кемъ согласно, любовно, „въ ладу", ладъ—супружеское согласие, любовь, въ музыке: гармошя; ладковать— сватать и примирять, лады—помолвка, ладило—сватъ, ладинки—уговоръ о приданомъ, ладканя (галицк.) свадебная песня, ладный—хороппй, польск. ладны—красивый, пригожш (Поэт, воззр., т. I, 227—228). Е. Го-лубинскш, следуя г. Аоанасьеву, думаетъ, .что доныне употребляемый слова „ладный, ладить“ указываютъ на характеръ Лады (Истор1я русской церкви Е. Голу-бинскаго т. I, 2 половина. 731 стр.)“. Нельзя не заметить, что сопоставленье Лады съ словами „ладить, ладный" часто механическое и вообще основано на простомъ созвучш, далеко неубфдительномъ. При по-добномъ словопроизводстве мы должны оставить въ стороне чешскую Летницу; Летница, по Вацераду, жена Перуна и очевидно одно и тоже лицо съ славяно-русской Ладой. Въ Ладе=Летнице следуетъ усматривать олицетворете лета=весны. Обращаемъ внимате на видоизмЬношя, которымъ подверглось
слово „л'Ьто* въ различныхъ славянскихъ нарЬч1яхъ: великорусе. л'Ьто, малорусск. лито, сербск. лето, чешек, leto, болгар. л'Ьто и лято, польск. lato. Отъ формы „лЬто=1еЬо“ произошла ЛЬтница (Letnica), отъ „лято= польск. lato“ произошла богиня Лада.
Наше словопроизводство предполагаетъ несомн'Ьн-нымъ тожество Лады и Л’Ьтницы; и мы дЬйствительно думаемъ, что таже самая Лада появляется у Вацерада подъ именемъ Лктницы: подобнымъ образомъ и мужской двойникъ Лады Ладъ извЬстенъ еще подъ именемъ Леда „Ладо и Ледо" (Опытъ повЬствовашя о России. И. Елагина, кн. Ш, 322; Русек, простонародн. праздн. Вып. I, 13 стр.). Не можемъ обойти молчаш-емъ противоположное мнЬше, видящее въ Ладк и Л'Ьтниц'Ь двухъ различныхъ богинь. Мы им'Ьемъ въ виду г. Квашнина-Самарина. „Если вЬрить старинному чешскому писателю Вацераду", говорить Н. Квашнинъ-Самаринъ, „чешское имя громовницы было ЛЬтница, ибо онъ такъ называетъ супругу Перуна. Такимъ образомъ ей, выходить, было посвящено обильное грозами л Ьто, тогда какъ весна, по нЬкоторымъ указашямъ посвящалась ЛадЬ (БесЬда 1872 г. кн. IV.—Апрель. 235 стр.)“. Чтобы видеть неосновательность мненья г. Квашнина-Самарина, нужно им'Ьть въ виду то обстоятельство, что въ древности существовало только два времени года: лЬто и зима, и слЬдовательно весна и л'Ьто означали одно и тоже время тода. Такъ скверо-американ-сюя племена, по Тэйлору, знаютъ только два времени года: ,,Nipinukhe=BecHa, л'Ьто и Pipunukhe=3HMa и вм-Ь-стЬ осень". Nipinukhe приносить тепло, птицъ и зелень, a Pipunukhe опустошаетъ все своими холодными ветрами, своимъ снЬгомъ и льдомъ; одинъ приходить когда другой уходить, и онй между собою дЬлятъ м!ръ (Первобытная культура. Эдуарда В. Тэйлора. СПВ.
1872, т. 1, 277 стр.)“. ApiftCKie народы также первоначально различали только два времени года: тепла и холода, л'Ьто или, что тоже, весну и зиму,—не даромъ слово осень у различныхъ аршскихъ народовъ носить особое назваше. Славянская и руссюя племена первоначально точно также знали только л’Ьто и зиму; весна и л’Ьто были синонимами: а) весеншй праздникъ 1-го марта назывался Letnice (у чеховъ и словаковъ); б) въ русскомъ народномъ говорЬ „л'Ьто часто употребляется вмЬсто весны" (Русск. простонар. праздн., Вып. Ш, 2 стр.). ПослЬ всего нами сказаннаго кажется ненужно и доказывать, что у славянъ не wrao быть особой богини весны: Лады и особой богини л'Ьта: Летницы; де-ло въ томъ, что Лада=Л’Ьтница, какъ и весна=л,Ьто.
Съ концомъ зимы и съ таяшемъ снЬговъ открывается царство Лады=Л'Ьтницы, богини весны и л'Ьта. „Лада" приходить въ обновленный м!ръ „в'ь образе красивой женщины, украшенной ослепительными лучами солнца; утренняя роса считалась слезами этой богини (Знаше. Журналы 1877 г. Ш мартъ. ст. Л. В. Березина. 10 стр.)“. Весною съ перваго марта славяне встречали олицетворенное лето, т. е. Летницу, или Ладу. Въ марте месяце чехи (богемцы), совершая обрядъ изгнаюя смерти (Мораны) или зимы, приветсвуютъ и наступающее лето: „Griz nesem Smrt ze wsy, nowe letc do wsy; witey leto libezne, obiljcko zelene! т. e. „уже несемъ смерть изъ села (веси), а новое лето въ село; здравствуй, любезное лето, зеленый посевъ. (Русск. простонар. праздн., Вып. Ш, 8; Поэт, воззр. т. Ш, 693 стр.)!“ Словаки и венгерсюе славяне приветствуютъ лето въ следующей веснянке: „Лето, наше лето, кдесь такъ длуго було? Сидело си на ловици, не могло си къ намъ пршци (Быть русск. нар. ч. 1’, П=Встреча весны, 6 стр.)". У насъ на Руси въ одно и тоже время
— 157 —
закликаютъ весну и л1то, какъ назвашя одного и того же времени года. Въ смоленской губернш въ день Евдокш и на Сороки (40 мучениковъ) д*Ьвки и малыя ребята вл'Ьзаютъ на крыши амбаровъ и домовъ, взбираются на горы и пршгЬваютъ: „Весна красна! Что ты намъ принесла? Красное лЪтечко (Русск. простонар-праздн., Вып. Ш, 12—13)“. Въ Малороссы заклика-ютъ весну подъ именемъ матери Лады (матери весны): „Благослови, мати, ой мати Лада, мати, весну закли-кати (Поэт, воззр., т. Ш, 690 стр.)“.
Мы уже говорили о старобытномъ тожеств!; назватй весны и л’Ьта; оно предполагаетъ, что весна и л’Ьто по древнимъ воззр'Ьшямъ оканчивались въ одно и тоже время. Снова обращаемъ внимате на изв Ьстныя уже намъ руссюя пословицы: „Женское лФто по Петровъ день/ „У весны ноги долги: далеко до Петрова дни (Памятники древней письменности. 1880. Вып. IV, 85 стр. и 100).“ Смыслъ пословццы какъ нельзя бол’Ье гармонируетъ съ нашими разсуждешями; оказывается, что и весна и л^то (собственно женское) равно продолжались только до Петрова дня; съ Петрова дня замиралп весеншя=л,Ьтшя силы природы, пробужденный богиней Ладой.
Около Петрова дня, въ концЬ весны совершалось погребете Лады; въ Владтпр!; на КлязытЬ этотъ символически—религюзный обрядъ пр!урочивался къ первому воскресенью посл'Ь Троицина дня (Русск. простонар. праздн., Вып. 1, 183,—Вып. III, 135 и Вып. IV, 60 Бытъ русск. нар. Ч. VI, 192.) Смыслъ погре-бешя Лады, какъ и Ярила, Кострубонька и Костромы, одинъ и тотъ-же: съ концомъ весны поел!; солнцепово-рота уменьшалась сила весенняго солнца, погибало светлое любовное царство богини Лады, этой великой матери природы.
Тотъ-жо самый Ладъ-солнце изв'Ьстенъ еще подъ
— 158 —
именемъ Леля. Лель-несобственное назвате солнца; для объясненья его обыкновенно приводить сл!>дую1ц1я сла-вянсюя слова: древанск. Igolga—дЪдъ, полабск. лёля— отецъ, галицко—русск. лэля—дядя, церковно—слав. л’Ьла—тетка, области, леля—крестный отецъ и крестная мать, (владимгрск. г.). Очевидно, что русскш народъ называлъ солнце Лелемъ, т. е. отцомъ или дгЬдомъ потому, что признавалъ себя сыномъ или внукомъ са-маго солнца (срвн. предате о Даждь—БожгЬ внук^.) Значить, солнце было особенно любезно и дорого для русскаго и вообще славянско—литовскаго народа: литовок. 8аи1ё1е (Саулеле)=любезное, прекрасное солнце.
Лель=Лило=Лёлю, Люли—богъ весенняго всеоживля-ющаго солнца; имя его часто повторяется въ весеннихъ и вообще въ л'Ьтнихъ обрядовыхъ п’Ьсняхъ. По старобытному русскому предашю Лель былъ богомъ—устроите-лемъ и покровителемъ бортеваго пчеловодства. Лель=Лило, подобно Ярилу, благотворно вшялъ на ростъ хл’Ьбовъ: „Гд'Ь Д'Ьвки шли, тутъ и рожь густа, Лило! Лило! Рожъ густа, колосиста, Лило! Лило! Колосиста, умолотиста, Лило! Лило!“ (Троицк, п^сня чебоксарок, у., см. Учен, записки император, казанск. унивирситета. 1877. 388 с.), KpoM*fe своего землед'Ьльческаго значешя Лель=Лило им'Ьлъ еще брачное, онъ выбиралъ женихамъ нев^стъ: Т>халъ я, батюшка, улицею, Лило! Лило! Видаль я, батюшка, д!>вицъ караводъ, Лило! Лило! Выбиралъ я, батюшка, невЬсту себ^Ь, Лило! Лило! Тонку, долгу, б'Ьлу, румяну, Лило! Лило! (Ibidem 388 стр.).
ВЪлоруссы думаютъ, что Лель=Л1бли убаюкиваетъ д^тей, наводить на нихъ сладшй сонъ. (греч. Морфей). Такъ няньки, укачивая въ колыскахъ дЪтей, припЪ-ваютъ: „Ой, Люди, Люди! Придзи къ дзицяци, да дай спаци! Ой Люди, Люди! Ой Лели Лели придзи къ гась-цели! Ой Люди, Люли, приснися Пётрули! (Прибавл. къ Ж. М. Н. Проев. 1846 г. отд. литературно?, 16.)
— 159 —
Женскою половиною Леля является Ляля, богиня весны: Лель=Ляля, потому что е вообще переходите въ я, какъ напр. ведро=белорусс. вядро, няня=мало-русс. неня, ненька. А. Аеанасьевъ вполне справедливо отожествляетъ Лялю съ Ладой. „Очевидно/4 говоритъ г. Аеанасьевъ, „Ляля (Леля)“-то-же, что древняя Лада, богиня весенняго плодород!я и любви (Поэт, воззр. Т. III, 680 стр.). И действительно въ некторыхъ мало-рускихъ веснянкахъ Лада носитъ двойное имя Ляли— Лады: „Благослови, мати, ой Лелю—Ладо, мати! Весну закликати, зиму провожати (Беседа. 1872 кн. V. Май. 178 с.„).
Ляля, какъ и Лада, приходить въ самомъ начале весны: „Зимою она сидитъ взаперти, въ высокой горе,—сидитъ на золотомъ троне, вся въ беломъ. Кру-гомъ блестятъ груды золота, брильянтовъ44. Съ при-ближешемъ весны белоруссы обращаются съ мольбами къ Богу, пр. Богородице, св. Благовещешю поскорее послать Лялю, чтобъ „земелька отошла, да красна весна къ намъ пришла44. Богъ, наконецъ, посылаетъ пти-чекъ съ золотыми ключами, которыми те отмыкаютъ темницу,—и Ляля выходить на светъ Божш. Бываете» это, по народному вероватю, 25 марта. Потому въ этотъ день отъ радости никто уже не работаете»: птичка даже не вьетъ своего гнезда. Все съ песнями, пирогами идутъ на встречу Ляле и зовутъ „(гукаюте) “ ее приходить поскорее. А чтобы Ляля лучше слышала этотъ зовъ, девушки ввбираются куда нибудъ на гору или просто взлезаютъ на гумно, и оттуда кличутъ (Церковно-общественный Вестникъ. 15 августа. 1883 г. № 106, 3 стр.)44..
Явившись на светъ Божш 25 марта, „молоденькая, красивая, стройная, высокая девушка-богиня Ляля44 быстро оживляетъ пробуждающуюся отъ зимняго сна
— 160 —
природу: по ея мановешю выростаютъ травы, цв!>тутъ цветы, поднимается хлгЬбъ (жито). 22 апреля, накануне Юрьева дня совершается праздникъ въ честь уже пришедшей Ляли, такъ называемый „ляльникъ" „(на ляльнике нагуляемся) Привелемъ характерное описа-nie ляльника по П. Древлянскому. „Обыкновенно", говорить г. Древлянскш, „часа въ три по полудни на чистомъ лугу (а иногда подле дома въ огороде) собираются хороводы молодыхъ девушекъ. Выбравши изъ среды себя подругу, которая вполне выражала бы собою понятае ихъ о пригожей Ляле, хороводь белорусянокъ одеваетъ ее въ длинный белый саванъ, перевязываетъ ей шею, руки и стань разною зеленью, а на голову кладетъ венокъ изъ разныхъ весеннихъ цветовъ. Въ такомъ наряде сажаютъ девушку-Лялю на дерновую скамью, на которой съ одной стороны ноставленъ кув-шинъ съ молокомъ, сыръ, масло, яйца, сметана и творогъ, а съ другой - хлебъ; у ногъ Ляли кладутъ несколько венковъ изъ зелени, соответственно числу де-вицъ, составляющихъ хороводь. Потомъ, взявшись за руки, хороводь девушекъ пляшетъ вокругъ сидящей Ляли и поетъ въ похвалу ей песню, которую заключаете следующею просьбою: „Дай намъ жытцу, да пша-ницу. Въ агарбдзе, сенажаце, повны гряды, ровны зряды (покосы)". Напевъ этой песни очень протя-женъ, и потому ее поютъ очень долго, после каждыхъ двухъ стиховъ восклицая: Ляля, Ляля, наша Ляля! Окончивши пляску и песню, хоровода» садится у ногъ Ляли и снова поетъ: „Наша Ляля, Ляля насъ накормиць зусимъ, штобъ зъ весны на лета усё, што туте тэта, га-давала завсимъ. Ляля, Ляля, ой да Ляля, Ляля!" Туте Ляля раздаете всемъ девицамъ поочередно молоко, масло, сыръ и т. д. до техъ поръ, пока, наконецъ, ничего не останется. После этого, девушки встаюте и на-
—161 —
чинаютъ опять плясать вокругъ Ляли, придавая прежнюю песню. Во время этой пляски и песни Ляля бе-ретъ в'Ьнки и бросаетъ по одному на пляшущихъ до тЬхъ поръ, пока, наконецъ, все девицы не схватятъ по венку. В’Ьнки эти девушки хранятъ до следующей весны, а некоторый, въ случае замужества, и долее, иногда во всю жизнь, какъ нечто заветное, святое. По окончаши вс'Ьхъ этихъ церемошй, нисколько Д’Ь-вицъ, въ сопровождети прочихъ, берутъ Лялю подъ руки, сводятъ ее съ дерновой скамьи, и, напЬвая преж-шя песни, проводятъ ее домой. Саванъ и зелень, въ которые одета была Ляля, прячутъ до другой весны (Прибавлетя къ Ж. М. Н. ПросвЬщ., 1846 г. Отд. литератур., 105—107 стр.)“.
Хотя слово „Ляля“ въ смысле „ребенокъ, кукла, красотка" существуетъ почти у вс’Ьхъ славянскихъ племенъ, тЬмъ не менее некоторые изслЬдователи почему-то считаютъ Лялю только белорусскою (Поэт, воззр., т. Ш, 679 срвн. Зап. импер. новоросс. универ. 1878 г. т. XXIV, 65 стр.). На самомъ дел! Лялю знаютъ не только белоруссы, но и друхчя ветви рус-скаго народа: малоруссы и великоруссы. Въ Малороссш, напр. въ с. Малые-Дедеркалы кременецкаго уезда волынской губерши праздникъ въ честь Ляли—„ляль-никъ" (красная горка) совершается, какъ и у бело-руссовъ, 22 апреля; обрядовыя формы кременецкаго ляльника вполне тожественны съ описанными белорусскими (Труды этнографическо-статистической экспе-дицш въ западно-русскш край. П. П. Чубинскаго, т. Ш, 29—30). У великоруссовъ (чухломскаго и ко-логривск. у. костр. г.), память о Ляле также npiypo-чена къ ранней весне, радунице (радованицамъ). Тамъ въ Оомино воскресенье, на радуницу окликаютъ молодую чету новобрачныхъ следующею песнею: „Ой и
- 162 —
Лелю, молодая, о Лелю, ты вьюная, о Лелю, ты по горнице пройди, о Лелю, покажи свое лицо, о Лелю, да въ окошечко, о Лелю, покажи намъ молодца, о Лелю, своево-то вьюнца, о Лелю, да пожалуй-ко яичко, о Лелю, еще красненькое, о Лелю, что на красномъ блюд!, о Лелю, и при добрыхъ людяхъ, о Лелю (Русс, простонар. праздн., вып. IV, 195 срвн. Сказ, русск. нар.; кн. Ш, 261 стр.)! “ Хотя въ Великоросса не сохранились обрядовыя формы ляльника, и самую Лялю представляетъ не избранная девушка, а новобрачная, тЪмъ не мен'Ье очевидно, что великорусская Леля Тоже, что белорусская и малорусская Ляля: а) въ Великороссш окликаютъ новобрачную Лелю, почти въ тоже время, когда въ Белоруссии и Малороссш совершается ляльникъ, б) великорусская Леля, какъ и Ляля, раздаетъ окружаюгцимъ съестные припасы, напр. яйца“.
Въ конце этой главы считаемъ не лишнимъ сделать несколько краткихъ замечашй. Мы обыкновенно называли Ладу женскою половиною Лада, Лялю—Леля; но это не значитъ, что эти богини были женами соответствую щихъ имъ боговъ. На самомъ деле, какъ нужно заключать, изъ сравненья славяно-русской ми-еологш съ литовскою, Лада, или Ляля была матерью бога Лада или Леля. У литовцевъ Ладе-Ляле соответствуете Мильда, богиня весны, „любви, счаспя, свободы, оплодотворенья и мира".
Празднество въ честь Мильды, какъ и русской Ляли, совершалось раннею весною,—въ честь Ляли, какъ мы знаемъ, праздновали 22 апреля,—точно также литовской Мильде посвящался месяцъ апрель. Рус-скимъ богамъ Ладу и Лелю соответствуете сынъ литовской Мильды Каунисъ, богъ весенняго тепла, любви и разврата. Мы темъ более имеемъ
— 163 —
право сближать литовскую "Мйльду съ русской Ладой— Лялей, а ея сына Кауниса съ Ладомъ—Лелемъ, что самое слово Мильда не чуждо славяно-русскому языку. Какъ справедливо замЪтилъ А. К. Киркоръ, „слово Мильда происходитъ отъ литовскаго Mejle=m6ile— любовь (Изв'Ьстая императорск. археолог, общества СПБ. 1859 г. т. I, 9 стр.),“—въ связи съ именемъ Мильды можно также сопоставить русск. милый=ли-товск. meilus, чешек, smilniti—развратничать, smilstvi блудъ, zamilovati se—слюбиться. Очевидно также, что въ фонетическомъ отношеши Мильда напоминаетъ 61-лорусскаго Любмела, покровителя новобрачныхъ (При-бавл. Ж. М. Н. Проев., 1846, 102—105). и чешскаго Милека (Milek). Само собою разумеется, что проводя въ данномъ случае полную параллель между литовской и славяно-русской миеолойей, мы вместе съ темъ вполне подходимъ къ мненью нашихъ старинныхъ писателей, утверждавшихъ, что богиня Лада (Ляля) была матерью Леля=(Лада): „на игрищахъ п!шемъ Лелемъ, полелемъ возглашаютъ: такожде и матерь Ле-леву и Полелеву Ладу поюще“... (Подроби, летоп. ч. I, 52; Синопсисъ, 48—49,).
Не мешаетъ иметь въ виду еще одно обстоятельство. Ладъ и Лель научили людей пчеловодству. Сл1-дуетъ заметить;, что учеше о связи между богами и пчелами не есть только нацюнальное, славяно-русское. Можно для примера сослаться на „фигуру женскаго окрыленнаго божества съ пчелиныаъ теломъ на чеканной золотой пластинке изъ Родоса (Зап. импер. Новороссийск. университета. 1874 г. т. ХП. Часть ученая, 20 стр.).
11*
VII. Солнечные праздники.
У русскихъ славянъ, какъ и у другихъ языческихъ народовъ, было зимнее торжество въ честь декабрь-скаго солнцеповорота (болгар. декабрь=коложегъ). „Съ 12 декабря, при поворот^ своемъ на Л'Ьто, солнце", какъ ув!ряютъ pyccxie крестьяне, „наряжается по праздничному—въ сарафанъ и кокошникъ, садится въ телегу и Фдетъ въ теплыя страны. (Сахаровъ, П, 69)“. Такимъ образомъ по русскому предашю солнце возрождалось, малод'Ьло съ 12 декабря; а потому естественно было отпраздновать такое собьте. Такъ про-изошелъ язычесюя праздникъ въ честь зимняго солнцеповорота. На существованье его у русскихъ славянъ указываютъ рождественсше и новогодйе обряды, п'Ьсни: колядки, щедривки, овсеневыя, игрища, передаванья, гаданья. Малорусе йя колядки прямо воспЬваютъ царское дитя, играющее въ карты, подбрасывающее червонное яблоко (Чт. въ ими. общ. ист. и др. росс. 1866, книга I. Ш=матер1алы славянсюе. 610 стр.). А это дитя очевидно одно и тоже съ латышскимъ солнцемъ,-забавляющимся игрою съ золотымъ яблокомъ (Сбор-никъ антропологическихъ и этнографическихъ статей о Россш... В. А. Дашкова. Книга П. 33 стр.). Впро-чемъ мы не нуждаемся въ догадкахъ; что у русскихъ
— 165 —
язычниковъ былъ праздникъ въ честь зимняго солнце-поворота, въ этомъ намъ порукой почти документальное извЬсйе —сага Олафа Тригвессона, короля Норвеж-скаго, посещавшего конунга Гард арию и Валдамара, т. е. Владимхра Святославича, Святаго. „У конунга Валдамара", разсказываетъ сага, „была мать очень старая и слабая... Тамъ (въ Гардарикш) постоянно господствовало обыкновеше, что въ первый вечеръ праздника Толы, когда усядутся * по местамъ люди во дворце конунга, была приносима старушка, мать конунга, передъ тронъ его и предсказывала,—не предстоите ли какая опасная война конунгу, или его народу, или друйя подобный вещи, когда ее о томъ спрашивали (Образцовый произведешя скандинавской поэзш А. Н. Чудинова. Ч. I. Воронежъ. 1875. Отд. I, 114 стр.)“ “1ола“ (=jul, jol=Ioel)—скандинавское название языческаго праздника въ честь зимняго солнце-поворота; очевидно подобный-же праздникъ былъ и у русскихъ язычниковъ: иначе Олафъ Тригвессонъ не назвалъ бы его скандинавскимъ именемъ. Словомъ несомненно, что у русскихъ язычниковъ существовалъ зимшй солнечный праздникъ; но хотя по времени и обрядамъ этоть праздникъ совпадаете съ современными Колядой и Овсенемъ, тЪмъ не менГе въ самыхъ сло-вахъ „Коляда и Овсень" нГтъ ни малГйшаго намека на божество солнца.
1) Коляда—канунъ Рождества Христова: „уродилась Коляда накануне Рождества". PyccKie миеологи решительно запутались въ объяснена слова „Коляда", и не безъ сожаленья каждый разъ пробегаешь длинный рядъ забавныхъ словопроизводствъ: 1) Коляда=лат. calendae (Русск. простОнарод. праздн. И. Снегирева. Вып. П, 2; Поэт, воззр. славянъ на природу. А. Афанасьева. Т. Щ, 729—730; Руссюя древности 1872. 2»
—166 —
Костомаровъ, 9 стр.; Чт. въ имп. общ. истор. и древн. росс. 1872. кн. 4 Дриновъ, 75 стр.; Зап. имп. русск. геогр. общ. по от. этногр. т. VII, И. П. Калинсшй. 345; Иречекъ. Истор1я Вулгаръ. Пер. Яковлева, 72 стр.; Истор1я русской церкви. Е. Голубинскаго. Т. I, вторая половина тома, 736 стр.), 2) Коляда, коленда=ко-ленъ—даваше, т. е. коленопреклонеше предъ рожден-нымъ Спасителемъ Mipa (Линде. И. Снегирева простонар. праздн. Вып. П, 27 стр.), 3) Коляда=кол-Ьда=круговая гЬда, яства (Щепкинъ. Вып. 2, 64 стр.), 4) Коляда=клада, колода (Белорусок. пЬсни Везсонова. Ч. I, Вып. 1, 92, 93, 120 стр., а также Кальки пере-хож!е. Вып. 4, 46 стр.). 5) Коляда=греч. cholas, ados т. е. внутренности кишки (Гн'Ьдичъ), 6) Коляда=греч. kale ode (Варяги и Русь. Гедеонова. Ч, I, 21 стр.), 7) Коляда=коло-Лада, ко-Ладу (Архивъ ист. юрид. св'Ьд. 1, 29), 8) Коляда=Коленда, индшская богиня, дочь солнца и супруга Кришны (Русская Беседа, 1857. 1П. Терстенякъ, 106 стр.), 9) Коляда=коло, колесо и санскр. инд. влады чествующ1й=владыка колесницы (Беседа. 1872. П. Отд. П. Квашнинъ-Самаринъ, 66 стр.), 10) Коляда—ку-воспквать, ла-Индра гйа, слава, света, блескъ, da-холмъ т. е. ку-ль-я-да, песнь славному Индре на холме (Разведки о древнейшей русь-славянской грамотности. А. С. Великанова, 216 стр.).... Противоречия русскихъ миеологовъ—законный результата неправильной постановки вопроса о миеологическихъ ра-ботахъ; миоолопя есть синтезъ исторш, этнографш, психологш и филологш, а потому миеологъ долженъ равномерно знать все эти науки. Въ противномъ случае миеологъ никогда не будетъ стоять на высоте своего призванщ... Источникъ ошибокъ русскихъ миоо-логовъ—полное пренебрежете къ психологш миеа и къ законамъ филологш. Въ последнемъ отношенш рус-
— 167 —
CKie миеологи особенно беззаботны: имъ не нужны законы перебоя звуковъ, морфолог!я, истор!я языка,— они руководятся одними созвучиями. Часто мы видимъ хитроумныя соображенья въ т'Ьхъ случаяхъ, гд'Ь следовало бы помнить, что простота и естественность гипотезы, или теорш—верный признакъ истины. Такъ напр. смутившее русскихъ миеологовъ слово „Коляда,, объясняется довольно просто: Коляда—вознагражденье колядовщиковъ, хлебъ, кишки, колбаса, сало, ватрушки. Ручательство въ истине—народное словоупотребленье: тверск. коляда—дневной сборъ милостыни нищими, га-лицко-русс. коляда—подаянье, пища, белорусе, коляда—вознагражденье священниковъ хозяйственными продуктами, олонецк. калитка—ватрушка (Архивъ историко-юридическ. сведешй. Н. Калачова. Книги второй половина вторая. Отд. IV, 181; Запис. имп. русск. географ, общ. по отделенно этнографш. Т. V, 52; Описаше олонецкой губернш... В. Дашкова, 189 стр.; Сборникъ
отделешя русскаго языка и словесности императорской академш наукъ. Т. XVH, № 3,129 стр.). Колядки прямо называютъ колядой подаянье колядовщикамъ отъ домохозяева 1) „Тетка, лебедка, подай каледку намазану, сухую (владим!рск. губ.),“ 2) „Дайте намъ коляду, бо дал! иду (малорусе.)", 3) „Пошла Коле да колядуючи, да за ею хлопци жебруючи. Коледа! Пошла Коледа по леду, разсыпала Коледа коляду. А вы дзевочки не гу-ляйце, да йдзице, коледу сбирайце" (белорусе.— Влади-м!рск. сборникъ. Тихонравова, 40 стр.; Чт. въ имп. общ. ист. и древн. 1872 г. кн. I, Ш отд. 123; Записки императ. русск. геогр. общ. по отд. этнографш. Т. V, 75 стр.).
П) Овсень (Авсень, Усень, Говсень, Ваусень, Ва-усимъ)—олицетвореше новаго года:... „Комужъ, кому ехать по тому мосточку? Т>хать тамъ Овсеню да новому
— 168 —
году." Филологичесшя истолкованья слова „Овсень" по обыкновешю фантастичны: 1) Овсень=санскр. корню ush, ushasa, саб. ausel, этрус. usil—солнце, лит. auszra— заря (Поэт, воззр. слав, на природу. А. Аоанасьева. Т. Ш, 748; ср. взглядъ Потебни), 2) Овсень=Ацсень= Есень польскихъ старинныхъ писателей (Беседа. 1872. Кн. IV.—Ст. Квашнина—Самарина, 247), 3) Овсень или Авсень=латышск. У синь, богъ—покровитель лошадей, податель хлеба, тучныхъ пастбищъ, здоровья скота (Божества древнихъ славянъ. Ал. С. Фаминцына, 252 стр.). Г. Костомаровъ, вообще не дрлюбливаюнцй великоруссовъ, какъ смешанное племя, приписываете» происхождеше слова и обряда Овсеня финскому вл!яшю (Руссшя древности. 1872. П. 9 стр.). Терещенко и Ка-линскш производите слово „Овсень^ отъ овса: овсомъ новогодше поздравители (д'Ьти—подростки) обсыпаютъ дома сельскихъ хозяевъ (Бытъ русскаго народа. Терещенко. Ч. VII, 110; Записки импер. русск. географ, общества по отд. этнографш. Т. VII, 349). Это последнее словопроизводство нужно признать справедливымъ; оно оправдывается филолойей и символикой овса. Филологическая сближешя: Овсень=сербск. овсен., а, о, овсяной. Въ переяславскомъ у'ЬздР владим!рской гу-берши вместо Овсеня появляется Овсей (Владим1рск1й сборникъ. К. Тихонравовъ. 40 стр.); если Овсень, или Усень соблазняеть некоторыхъ миеологовъ на оближете съ латышек. Усинемъ, или польскимъ Есенемъ, то - ужъ Овсей не подаете къ тому ни малейшаго повода: связь между словами „Овсей и овесъ" сама собою бросается въ глаза. Символика овса: овесъ—символъ сча-ейя, плодород!я и довольства: 1) овсомъ обсыпаютъ новобрачную белорусскую чету („Колясомъ, соуника, колясомъ! ОбсЬй, мамухна, насъ оусомъ см. Зап. имп. русск. географ, общ. по отд. этнографш. Т. V, 614), 2) православные белоруссы въ старину накануне дня
— 169 —
св. Стефана имели обычай сыпать овесъ на священника, когда онъ выходилъ къ дверямъ церкви и—нарочно за—темъ прюстанавливался (Белорусская п^сни. Петра Безеонова. Ч. I, Вып. 1, 92 стр.). Поводомъ къ употребление овса въ качестве символа богатства и счастья послужила его плодовитость: „Овесъ и сквозь лапоть проростаетъ (Воскресныя посиделки. Первый пятокъ. С.-П. 1844 г. 39 стр.)“.
Ш) Великорусскому Овсеню соответствуете мало-русски Щедрикъ и белорусски Щедрёць; это тоже олицетворешя новаго года,—а ужъ конечно всяки желаете, чтобы новый годъ былъ щедрымъ (Щедри-комъ): недаромъ накануне новаго года бываете богатая кутья—символъ будущаго счастья, изобил!я хлеба, недаромъ и накануне и въ самый день новаго года выражаются пожеланья хорошаго урожая, приплода скота, здоровья („Сейся, родися, всяка пашниця, жито, пшениця, ячминь, овесъ, гречка, горохъ, сочевиця, на той новый рикъ)“. Накануне новаго года поются такъ называемый щедривки; такъ напр. въ малорусской слободе Самойловке балашовскаго уезда саратовской гу-берни поютъ следующую щедривку:
Щедрый вечеръ, Добрый вечеръ На счастье, на здоровье! Ой чи дома панъ хозяинъ, Чи ёго нема дома?
Ой я знаю, що винъ дома,
Седить кинци стола, На немъ шуба нова, У шубци калиточка, У калиточци симь шеляжечкивъ, Тому, сему по шеляжечку, А намъ по пирежечку, Старымъ бабамъ по паляници,
— 170 —
Щобъ родились телици.
Не пора ли насъ дарить, жаловать?
Не дашь пирога, Возьму корову за рога. Кто скоро дарить, Той сына родить, А кто не скоро дарить, Той дочь родить.
(Щедривка записана авторомъ со словъ крестьянина слободы Самойловки Павла Прокофьевича Челова).
Особый прип'Ьвъ щедривокъ „щедрый вечерь, добрый вечеръ" одинаково употребителенъ и въ Малороссы и въ Белоруссш (Чт. въ имп. общ. истор. древн. росс. 1873. кн. IV, 171),—часто повторяя слово „щедрый", щедруюшде чисто механически пришли къ мысли олицетворить новый годъ въ лице малорусскаго Щедрика, или б'Ьлорусскаго Щедреца (Прибавл. къ журналу министерства народнаго просв’Ьщешя. 1846 г. 121—124 стр.; Маякъ. 1843. т. XI. кн. XXI. гл. Ш. 37—38 стр.; Труды этнографическо-статистической экспедищи въ за-падно-руссшй край. Чубинсшй.. т. Ш, 477).
IV) Весна обыкновенно встречается подъ именами Лады и Ляли. Сына этой Ляли—весны—солнце чест-вуютъ подъ именемъ Ярила (Встреча Ярила). Но весну встречаютъ=закликаютъ и подъ ея собственнымъ именемъ. Такъ произошли веснянки; ихъ распеваютъ въ марте и апреле.
Великоруссюя веснянки.
1) Весна, весна красная! Приди, весна, съ радостью, Съ великою милостью: Съ льномъ высокшмъ, Съ корнемъ глубокшмъ, Съ хлебами обильными.
— 171 —
2). Весна красна! На чемъ пришла, На чемъ npilxaaa? На сошечк'Ь, На бороночкЬ.
(Сахаровъ. Пассекъ.) Малоруссшя веснянки.
1 .) Весна, весна, весняночка, Де твоя дочка паняночка? Моя дочка, у садочку, Шие вона сорочку, Шовкомъ та б!лыо,, Къ своему весйьлю
(БесЬда. Кн. V, 1872 г. 78—79 стр.).
2 .) Ой—вже весна воскресла! Ой що же сь намъ принесла? „Принесла мь вамъ паски, Яйци и колбаски, На девоньки краски, На д*ёвки в1нки, На молодици рубки, На парубки шлеи, Во у нихъ долги шеи.
(Чтенья въ имп.общ.истор. 1866. Кн. III, Отд. III, 677).
ПослФ поньскаго солнцеповорота (12 1юня) солнце, достигши высшей степени развитая жизненныхъ силъ, постепенно замираетъ. Символомъ замирашя солнца является обрядъ проводовъ весны. Описаше обряда: „Въ Пензенской губернш. въ посл'Ьдшй день весны, въ Духовъ день трое или четверо молодыхъ ребятъ, покрывшись пологами, образуютъ изъ себя по-доб!е лошади. Одна изъ женщинъ, наряженная въ сол-датскш мундиръ, „командуетъ тремя лошадьми". ВсЬ Д’Ьвицы провожаютъ ихъ за село и прощаются съ ними—
— 172 —
это называется „проводами весны". (Терещенко Б р. н. VI, 191—192). Проводы весны совершаются также подъ именемъ погребешя Лады и Костромы. Въ тотъ-же Духовъ день девицы пензенской и симбирской губерши выбираютъ изъ среды себя одну такъ называемую Кострому (Кострома=весна), кладутъ на доску, несутъ къ р’Ьк’Ь и купаютъ. (Снегиревъ).
V) (Купальское торжество). Тбже самые проводы весны известны подъ именемъ праздника Купалы. Чучело Купалу (Купалку) такъ-же, какъ и Кострому, топятъ въ вод’Ь. Въ тожеств'Ь весны (богини) и Купалы насъ уб’Ьждаетъ сближеше веснянокъ и купальскихъ пЬсенъ. Веснянка „Весна, весна, весняночка, де твоя дочка паняночка"=купальская пЬсня „Купалочка, гд4 твоя дочка", „Купаленька, темная ночка! ИдзЬ твоя дочка"! (Беседа. 1872. кн. V, 78 стр., 79; ср. Записки импе-раторскаго русскаго географическаго общества по отд’Ь-лешю этнографы. т. V, 91, 434). Веснянка „Вилепла весняночка вчора зъ вечора, укропомъ очи завйпала, а петрушкою ротъ запхала, ригою зуби накувала“= купальская пЬсня „Ишла Купаленька по вулицы, красками вочи зав^сиуши, стали людзи дзивицися, и стала Купаленька сварицися", или „Ишла Купалка ся-ломъ, сяломъ, завысила вочки цябромъ, цябромъ“ (Труды этнографическо-статистической экспедищи въ за-падно-русскш край. т. Ш, 113 срвн. Записки имп. русск. географ, общества по отд^лио этнографы т. V, 432). Сопоставленье веснянокъ и купальскихъ пЬсенъ показываетъ, что подъ именами „весны, весняночки и Купалы, Купалочки4’ является одна и таже миоиче-ская личность: 1) и весна и Купала одинаково им’Ьютъ дочерей, 2) народный юморъ одинаково не щадитъ и весны и Купалы „(укропомъ очи зав!шала“, „красками вочи завЬсиуши)“.
— 173 —
Въ Купальскомъ торжестве следуетъ отметить собственно два празднества: 1) въ честь Купали Аграфены Купальницы (23 поня) и 2) въ честь Купала,. Купалиша, Купальника, Ивана Купала, Яна (24 1юня). Одна белорусская песня довольно выразительно отличаетъ одно празднество отъ другого: „Сегодня Купала, завтра Иванъ, будзець, дзевочки, ли-хинько вамъ“. Какъ въ Купале мы видели весну= Кострому=Ладу=Лялю, такъ и въ ея мужскомъ двойнике Купале (именит, пад. Купало), КупалишЬ усмат-риваетъ солнце (бога)=Ярила=Кострубонька=Лада. Одна малорусская песня прямо называетъ солнце Купаломъ, движущимся по небу: „Сходилось (скатилось) Купало изъ долу до долу; часъ намъ, д!вочки, до дому, до дому „(Сборникъ Мордовцева, стр. 35.). При заб-веши старобытныхъ языческихъ преданш Купало смешивается и отожествляется съ Иваномъ Крестите-лемъ, Иваномъ Купаломъ: предашя, связывавппяся съ Купаломъ, аттрибуты (свойства) солнечнаго бога перешли на личность хрштанскаго святого Тоанна Предтечи. Вотъ почему народное предаше часто рисуетъ такой образъ Ивана Предтечи, который напоминаетъ Ярила, или Переплута. Такъ въ Малороссш праздникъ Рождества Тоанна Предтечи называется попросту Иваномъ Гулящимъ (ср. Ярило веселаго нрава человекъ. Записки имп. русс, географ, общ. по отд. этнографш. Т. VII, 415 стр.). Въ белорусскихъ купальскихъ пес-няхъ Янъ (Иванъ) является неистовымъ богомъ разврата: „То, то! Хто у насъ на дзеуки ласъ (охотникъ до девокъ)? То, то! Да у насъ Яночка на дзеуки ласъ. То, то! Да пошоу у лесъ,-на кобылу узлезъ’4. То, то! Да пошоу къ дубу:„ да яще буду.“ То, то! Да пошоу къ бярезе,—яще не годзе (довольно). То, то! Да пошоу къ ели,—да ужо додзели „(Белоруссия песни П. Безсонова. Ч. 1. Вып. 1, 32-33.)
— 174 —
Купальское торжество хорошо известно всЬмъ четыремъ в^твямь русскаго народа: малоруссамъ, червонноруссамъ, б'Ьлоруссамъ и великоруссамъ. Съ посл'Ьднииъ положеньемъ конечно не согласится г. Мордовцевъ. (Исторически В’Ьстникъ, 1884 г. декабрь. 532 стр.); ему, какъ украйнофилу, хотелось бы, чтобы о Купалтъ великоруссы не знали. Но факты говорятъ противное, нисколько не поощряя фантазш теоретиковъ: великоруссамъ известна Купальница=Купала=Купа-лочка (Снегиревъ.). Въ сел'Ь Красномъ арзамасскаго уЬзда нижегородской губернш встр'Ьчаемъ празднество подъ назвашемъ „Купальни=Купало (Нижегород-скш сборникъ А. С. Гацисскаго. Т. II, 1869 г. 358— 359 стр.).
Считаемъ доказаннымъ, что Купала и Купало—несобственный имена весны и солнца; источникъ такого прозвища весны и солнца обрядъ купанья въ р-Ькахъ и источникахъ. Не даромъ объ этомъ купань^ такъ часто говорятъ купальск!я пЬсни: „Ой Купалочка ку-палася, та на бережку сушилася," „Иванъ да Марья на ropt купалыся..., Гд'й Марья купалась, трава рас-цилалась/’ „Да купався Иванъ, да й у воду упавъ. Да купався Климъ, да й у воду впливъ...“ Слово— производство Купала и Купалы отъ купанья самое естественное: сербск. купало=купальня.
PyccKie миоологи, взявппе на себя трудъ филоло-гическаго объясненья словъ „Купало, Купала,“ по обыкновенью фантазировали;—отсюда—масса произ-вольныхъ догадокъ, которыми они мечтали обогатить русскую литературу Словопроизводства русскихъ миео-логовъ: 1) Купало=купа, copula, пара двухъ миеичес-скихъ существъ, 2) Купало=полъск. купа, русс, копна, куча хвороста, зажигаемаго въ ночь на 24 ноня, 3) Купало=копанье кореньевъ и кладовъ, 4) Купало=
— 175 —
инд. Купало, покаянникъ (Русск. простонар. праздн. Снегирева. Вып. IV, 19 стр.; Современная л'Ьтопись 1867 г. № 29. 13 августа 12 стр. С. Любецкш), 5) Купало=кип4ть, кипятиться, лат. cupio т. е. Купало— страстный человЬкъ, «Ярило (Вуслаевъ), 6) Купала= Кубела (Приложенья къ 4-му выпуску п'Ьсенъ, собран-ныхъ П. В. Кир4евскимъ. Заметка П. Везсонова. LXIII стр.; В4лорусск1я п4сни. П. Везсонова Ч. 1 Вып. 1. 118-119).
VIII. Заключен!#.
Изложивъ систему русской солнечной миеолойи, не можемъ отказать себе въ удовольствш сделать все возможные выводы изъ нея.
1) Солнечныхъ боговъ и богинь на Руси оказывается очень много: Дажьбогъ, Хорсъ, Ярило, Пере-плутъ, Пинай, Облупа, Кострубонько, Ладъ, Лель, Купало, Чурила, Журило, Яровица, Кострома, Лада, Ляля, Купала, Чурилья, Дженджуриха. Сравнительная многолюдность русскаго солнечнаго Олимпа ручается за древность солнечнаго культа. Отсюда выводъ: солнечный культъ древнее культа грома и молнш. Факты под-тверждаютъ выводъ: имена русскихъ солнечныхъ боговъ созвучны съ именами солнечныхъ боговъ другихъ аршскихъ народовъ, чего нельзя сказать о богахъ грома и молнш. Имена аршскихъ солнечныхъ боговъ: 1) русс. Хорсъ=лит. Гурко=сабинск. Кийпоз=египет. Горосъ старппй=инд. Хари, инд. бхутъ Хару=греч. Гаресъ, 2) русс. Яръ, Ярунъ, Ярило=греч. • Арей, Еротъ=инд. Аруша/ Арванъ [Aruscha, Arvan]. Имена аршскихъ боговъ грома и молнш: русс. Перунъ, греч. Зевсъ, инд. Индра, сканд. Торъ. Созвуч1е именъ аршскихъ солнечныхъ боговъ—свидетельство обще-арш-скаго происхожденья солнечнаго культа; почиташе солнца установилось до разделешя аршцевъ на существую-пця расы. Противоположное явлете, которое пред-ставляютъ имена боговъ—громовниковъ, объясняется позднейшимъ и пожалуй неаршскимъ происхождешемъ
— 177 —
культа боговъ грома и молши. Въ самомъ деле говорятъ, что Зевсъ не греческаго происхождения; скандинавски! Торъ заведомо обязанъ своимъ быйемъ монголо-финскому вл!яшю: сканд. Торъ=эстонск. Тара-богъ-старецъ, татарок. Тянгере-Вабай (д'Ьдъ)-Небо-дедъ=чувашск. Тора-богъ.
2) На славяно-русскомъ солнечномъ Олимпе замечается попарное сочетате боговъ и богинь: 1) Хорсъ и Хора, 2) Ярило и Яровица, 3) Кострубонько и Кострома, 4) Ладъ и Лада, 5) Лель и Ляля, 6) Купало и Купала, 7) Чурила и Чурилья, 8) Журило и Дженджури-ха.—Списокъ славяно-русскихъ богинь—самое веское опровержеше произвольныхъ догадокъ и категориче-скихъ уверешй Н. И. Кареева въ отсутстнйи богинь въ славянской миеолойи (Филологическ. записки. 1872 Вып. Ш, 18 стр.).
3) Релийя для первобытнаго человека заменяла ‘ собою все науки и искусства: политику, мораль, медицину, физику, психолойю, поэзпо... Вотъ почему важно проследить сравнительное сходство, или несходство релийозныхъ веровашй великоруссовъ, малоруссовъ, червонноруссовъ и белорусовъ. Степень сходства этихъ веровашй будетъ показателемъ степени родства самихъ русскихъ племенъ. Между малорусской и великорусской миоолойей можно провести полную параллель: 1) малорусе. Кострубонько=вели-корусс. Кострома, 2) малорусе. Лада=великорусс. Ладъ, 3) малорусе. Ляля=великорусс. Лель, 4) малорусск. Журило=великорусс. Чурила. Миоичесйя веровашя малоруссовъ и великоруссовъ не только сходны, какъ напр., верованья великоруссовъ и сербовъ, но почти тожественны. Можно даже указать переходный ступени, соединительныя звенья между малорусскимъ и великорусскимъ миеомъ. Такъ напр. шенкурейй (архангельской губерши) белый мужъ Жубрило является со-
— 178 —
единительнымъ звеномъ между малорусскимъ Журиломъ и великорусскимъ Чурилой. Отсюда мы смело делаемъ такой выводъ: все толки о двухъ народностяхъ, малорусской и великорусской, обязаны своимъ происхож-дешемъ наивному романтизму и страсти русскихъ уче-ныхъ къ фантазированью и оригинальничанью. Говорить и писать о -малорусской народности также ненаучно, какъ говорить о черниговской народности, новгородской, владпшрской рязанской... Что касается белорусской миеолойи, то она всегда занимаетъ серединное положеше между миоолойями: великорусской и малорусской, колеблясь, то на право, то на лево. Такъ напр. белорусе. Ярило=великорусс. Ярила и наобо-ротъ белорусе. Щедрёцъ=малорусс. Щедрикъ.
4) Русская миеолойя вообще однообразна. Миои-чесшя лица, какъ Ярило, Кострубонько, Ладъ, Лель, Купало почти ничемъ не отличаются другъ отъ друга, формы культа, обряды также удивительно схожи. Всю русскую миеолойю можно свести къ немногимъ поло-жетямъ. Въ виду всего этого мы нисколько не жа-л£емъ, что миоичесюя предашя видимо забываются на Руси, обрядовыя песни исчезаютъ. Да и вообще вос-хищеше народной миоолойей намъ всегда казалось искусственнымъ. Миоъ имеетъ значеше и интересъ только для сторонняго наблюдателя, историка и археолога. Для самаго народа миоъ, суеверный обрядъ, героическая песня вредны, потому что отвлекаютъ его отъ практической, сознательной жизни. Чемъ скорее замрутъ отголоски миоичсскаго перюда, темъ лучше. Если миоъ интересуетъ историка, этнографа, то и душевная болЬзнь интересуетъ псих!атра, телесная—врача. И какъ странно было-бы горевать объ уменьшеши душевныхъ и телесныхъ болезней, такъ не менее забавно проливать слезы по поводу
— 179 —
забвешя старобытной языческой старины. Нужно им'Ьть въ виду общенародную пользу, а не искусственные восторги историковъ.—Съ нашимъ пожелашемъ скорЪй-шаго забвешя миоической старины согласится всякш мыслитель и пастырь церкви. Мыслитель всегда пред-почтетъ сознательную жизнь безсознательной, уб'Ьжде-ше—предчувствие; пастырь церкви никогда не увлечется до самозабвешя археологическими интересами. Онъ всегда помнитъ увйщаше церкви бороться съ языче-ствомъ,—какую-бы форму оно не принимало.
-------------$62*------------
ХГЬна 1 руб. 50 коп.
-------------ОД.-------------
Продается въ г. Симбирск! у М. Е. Соколова.