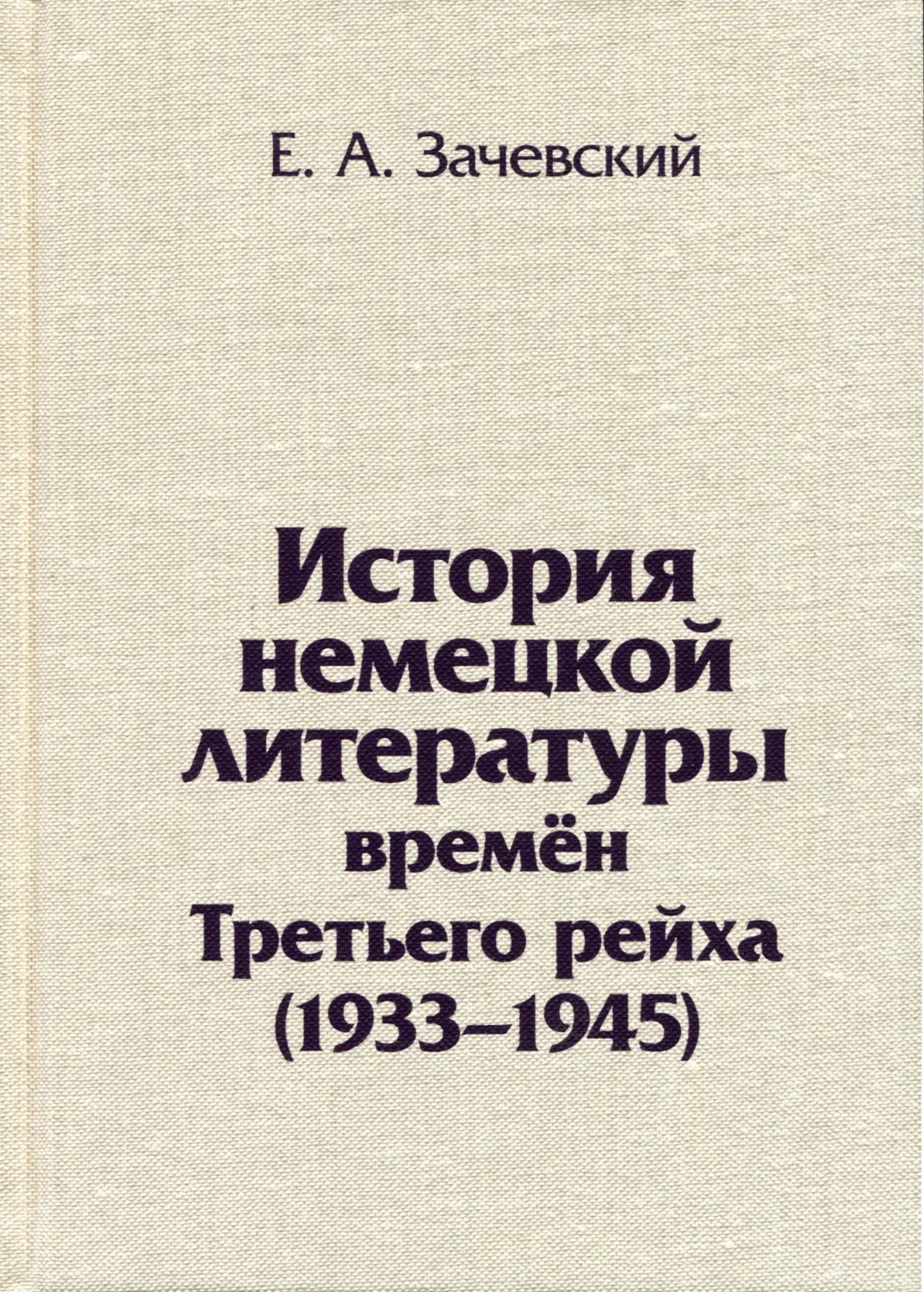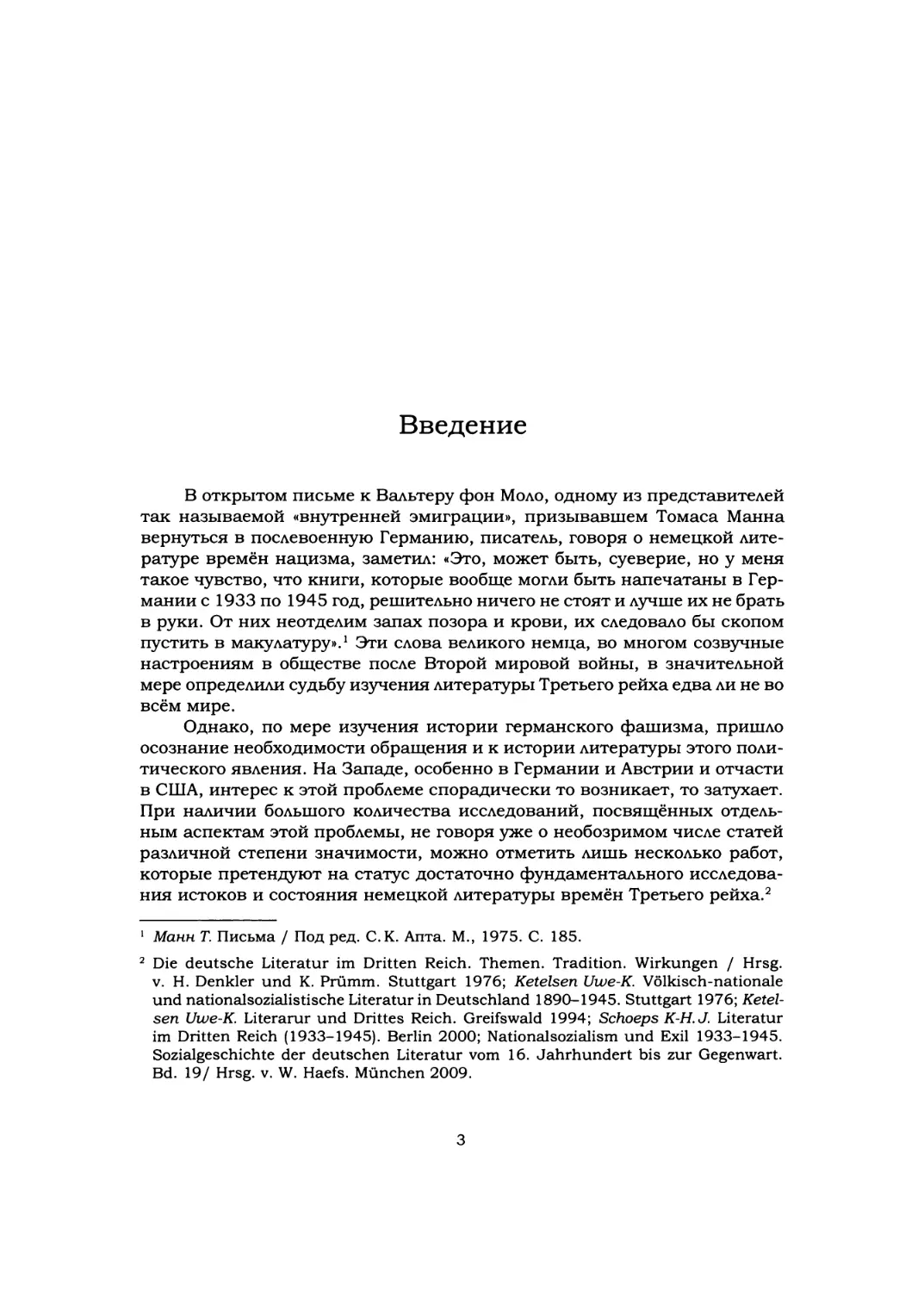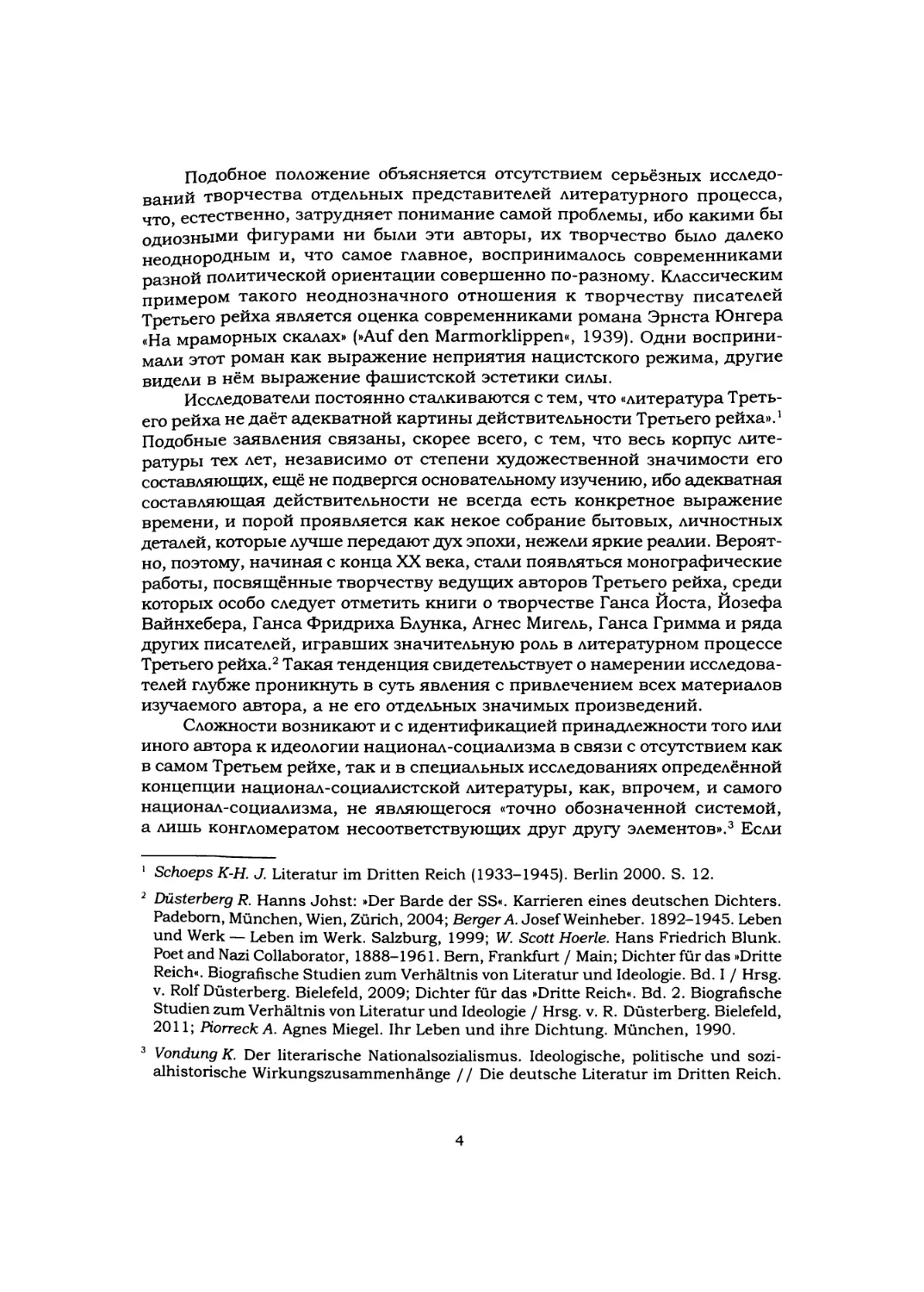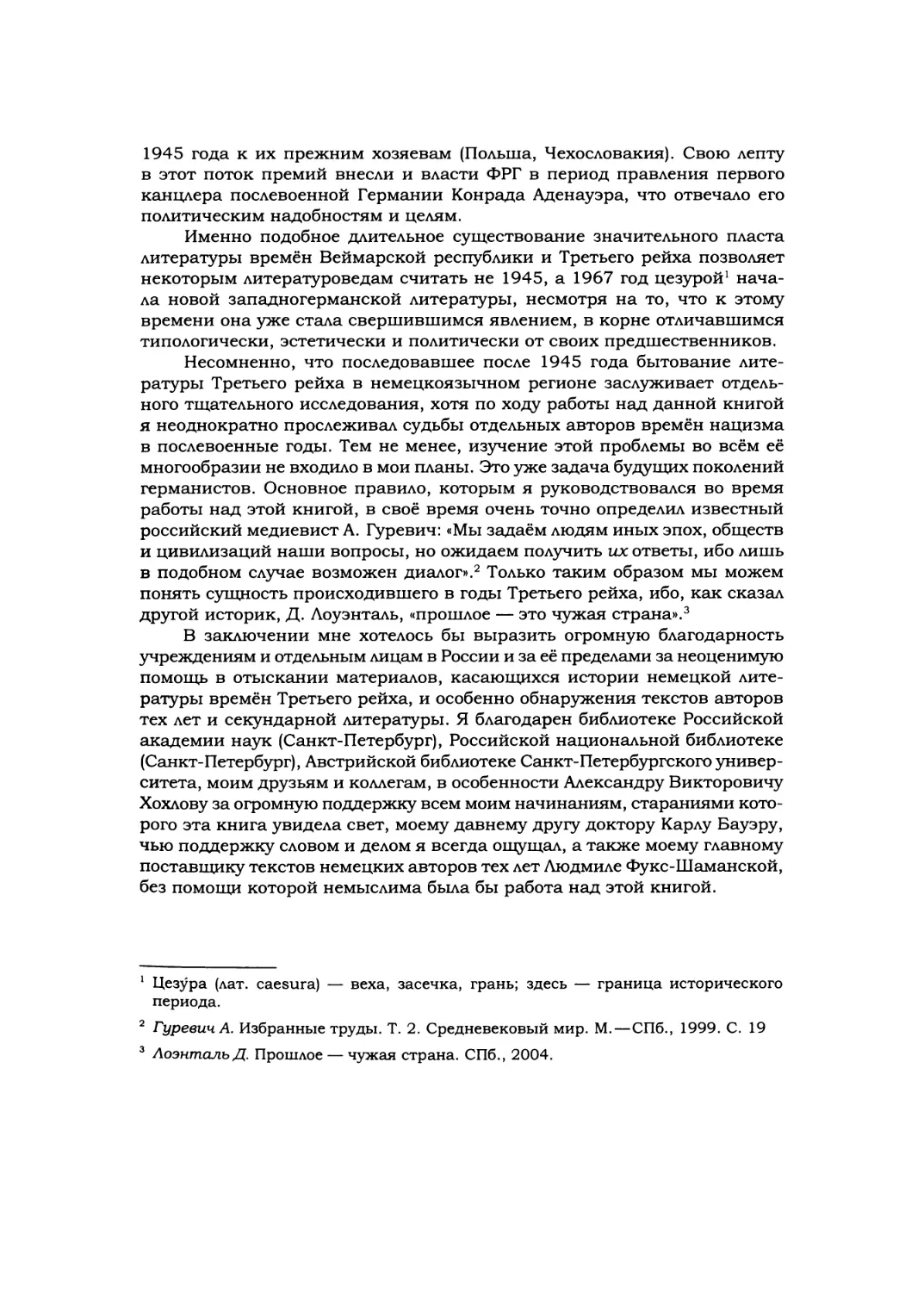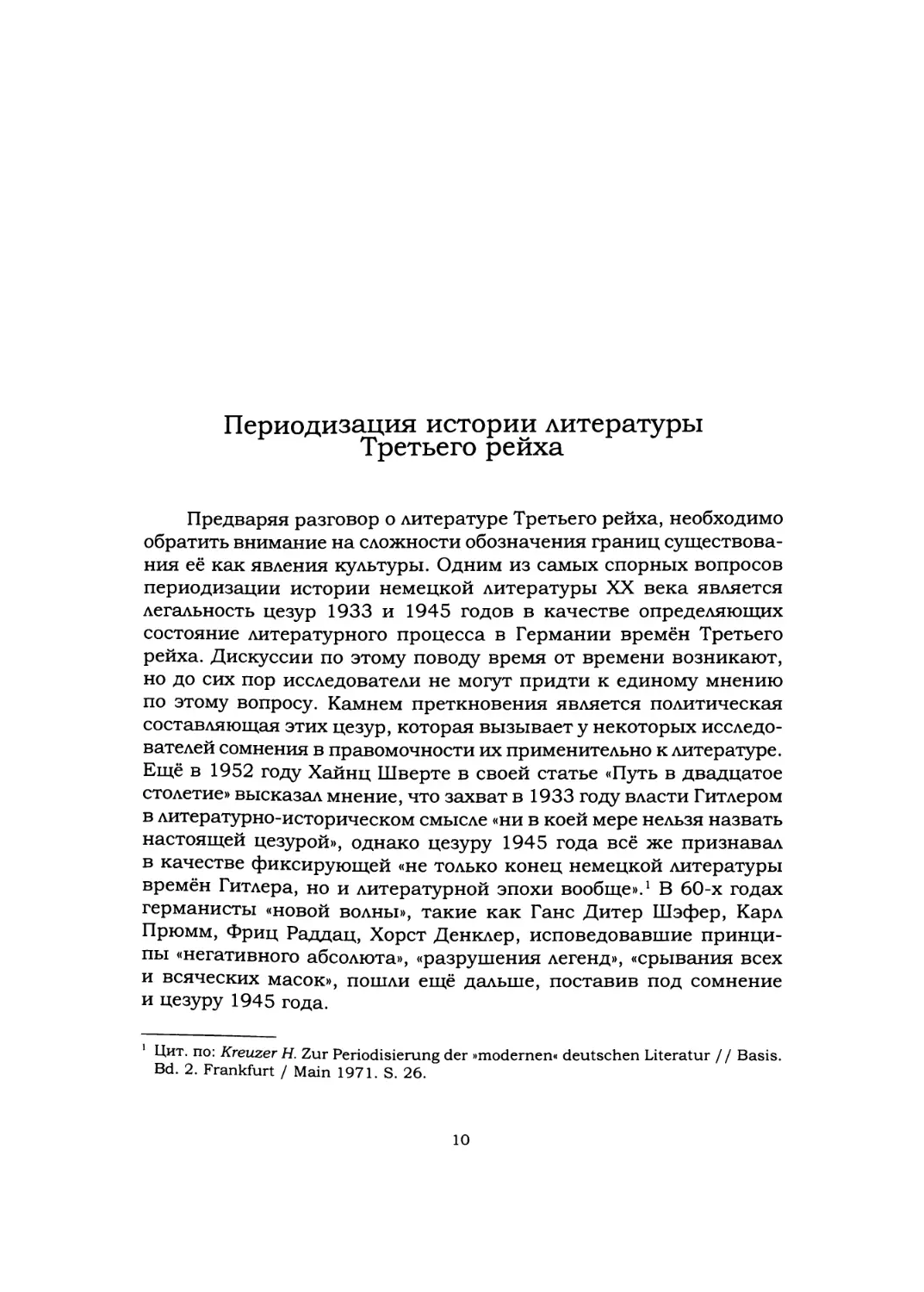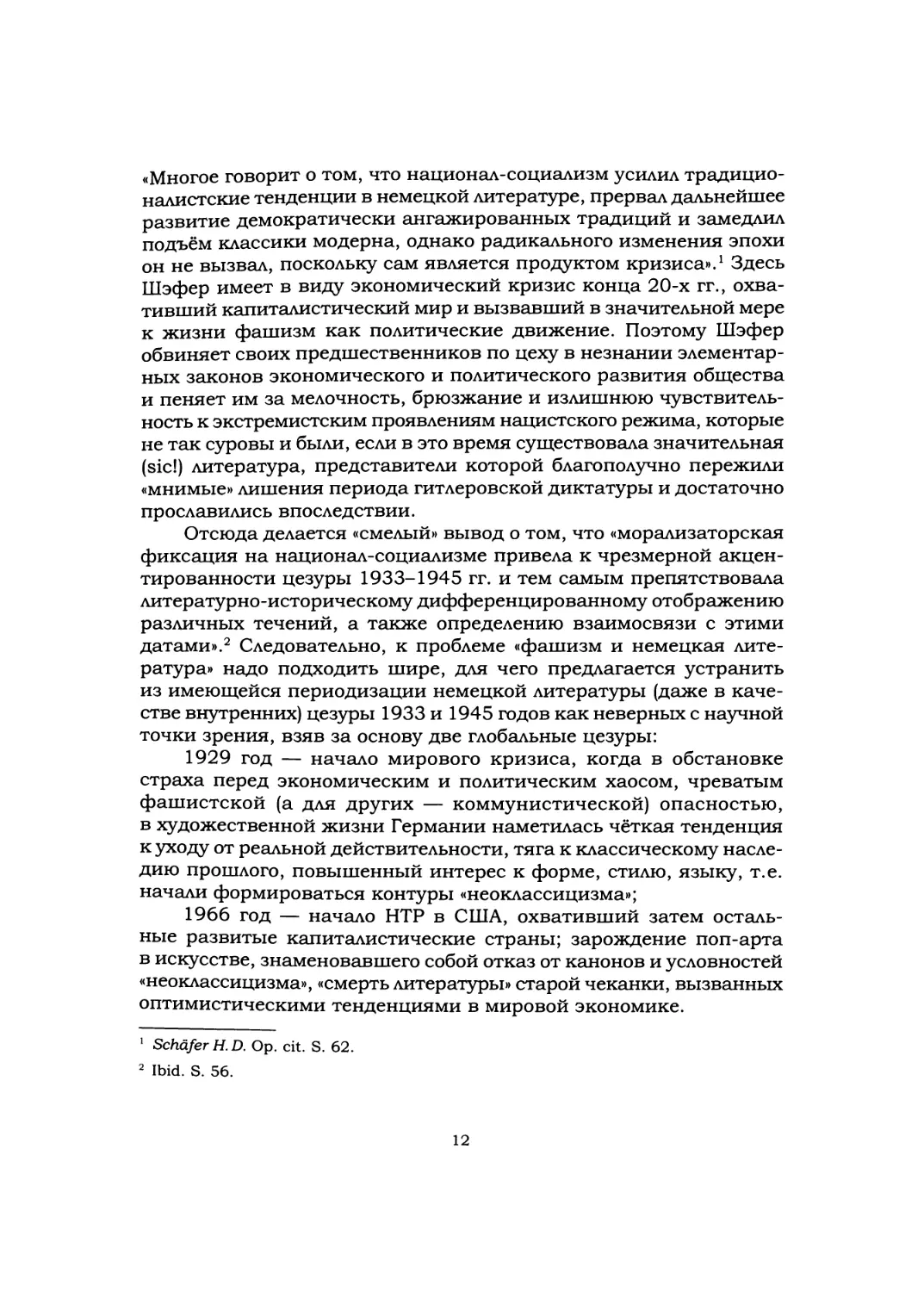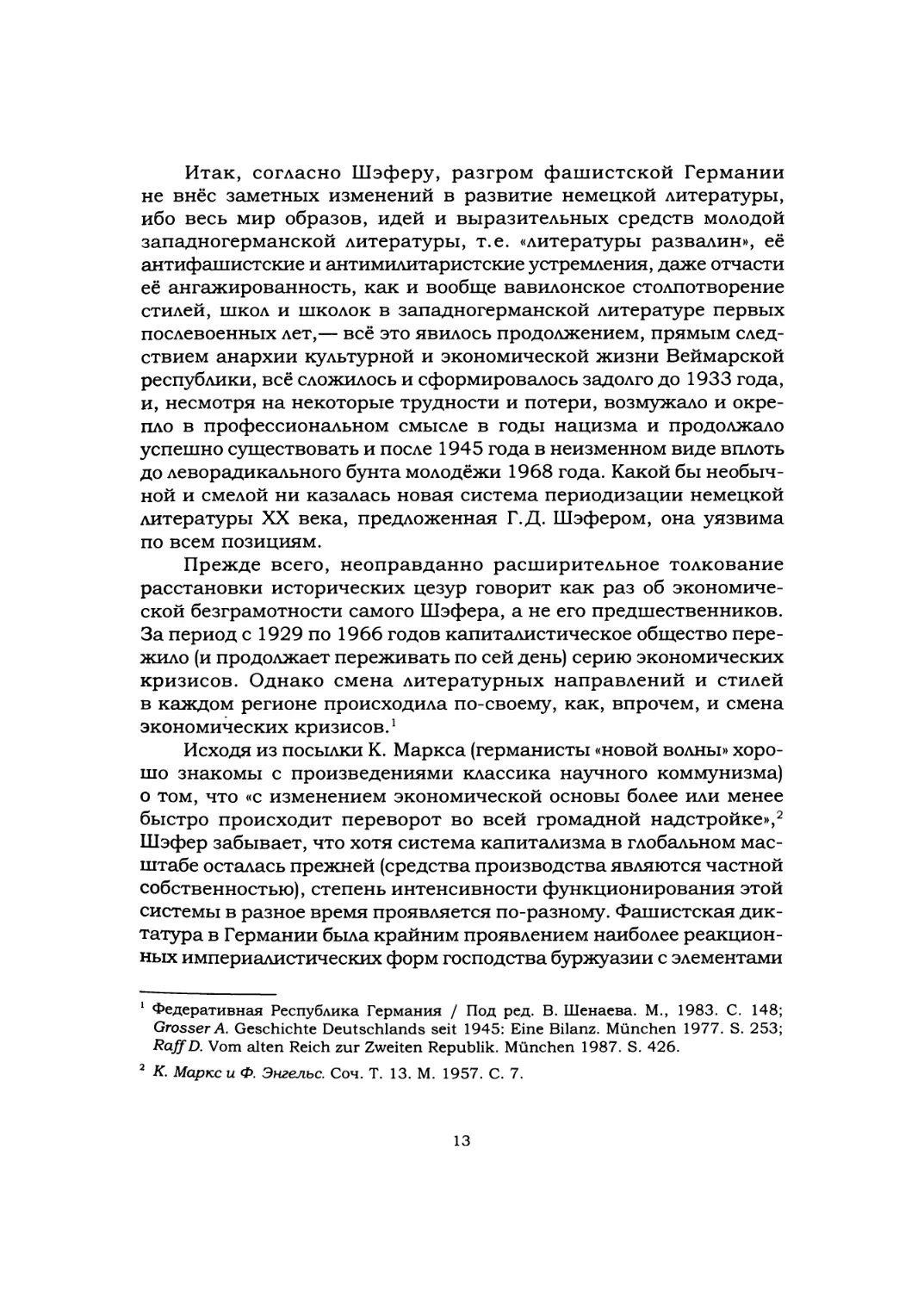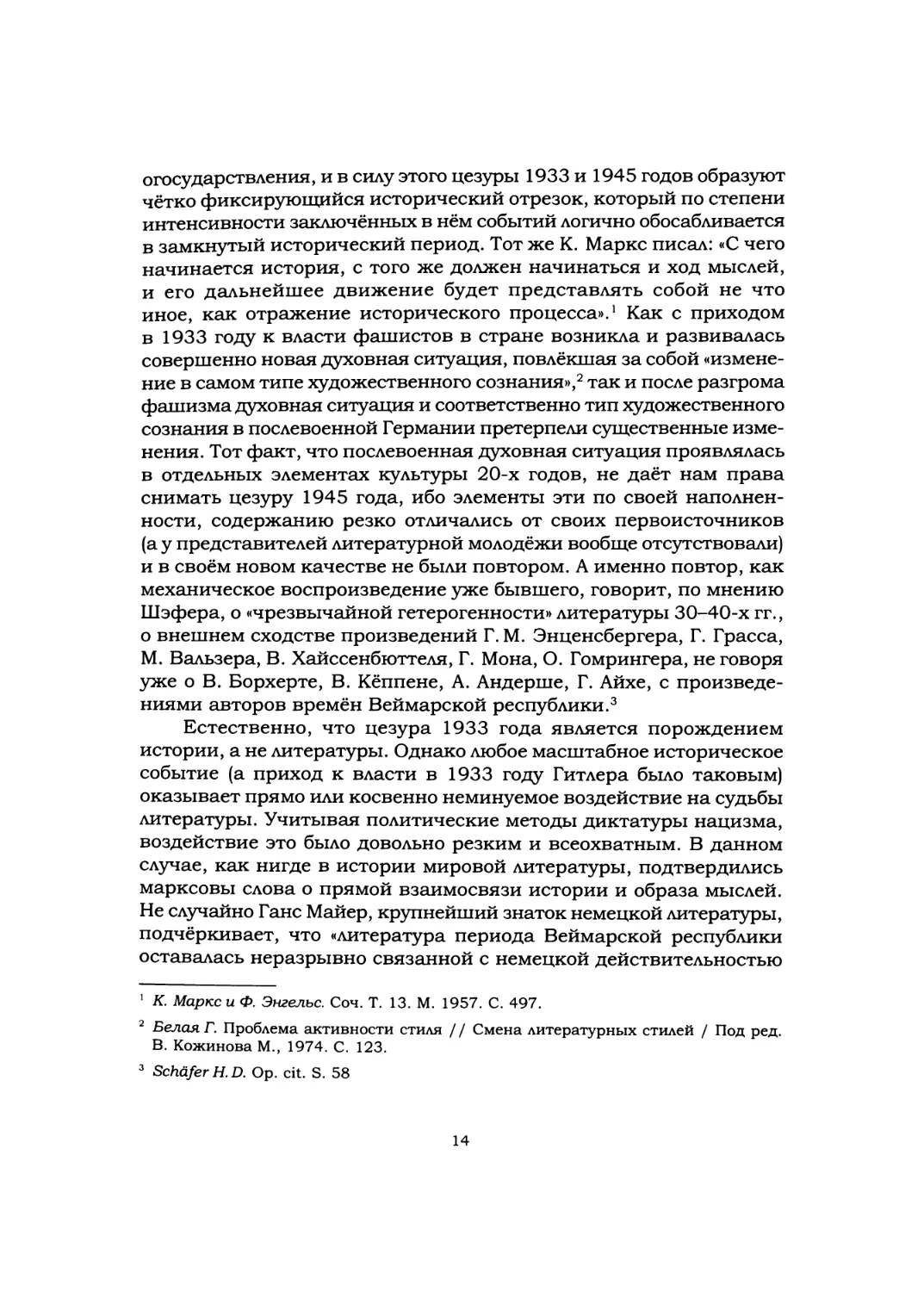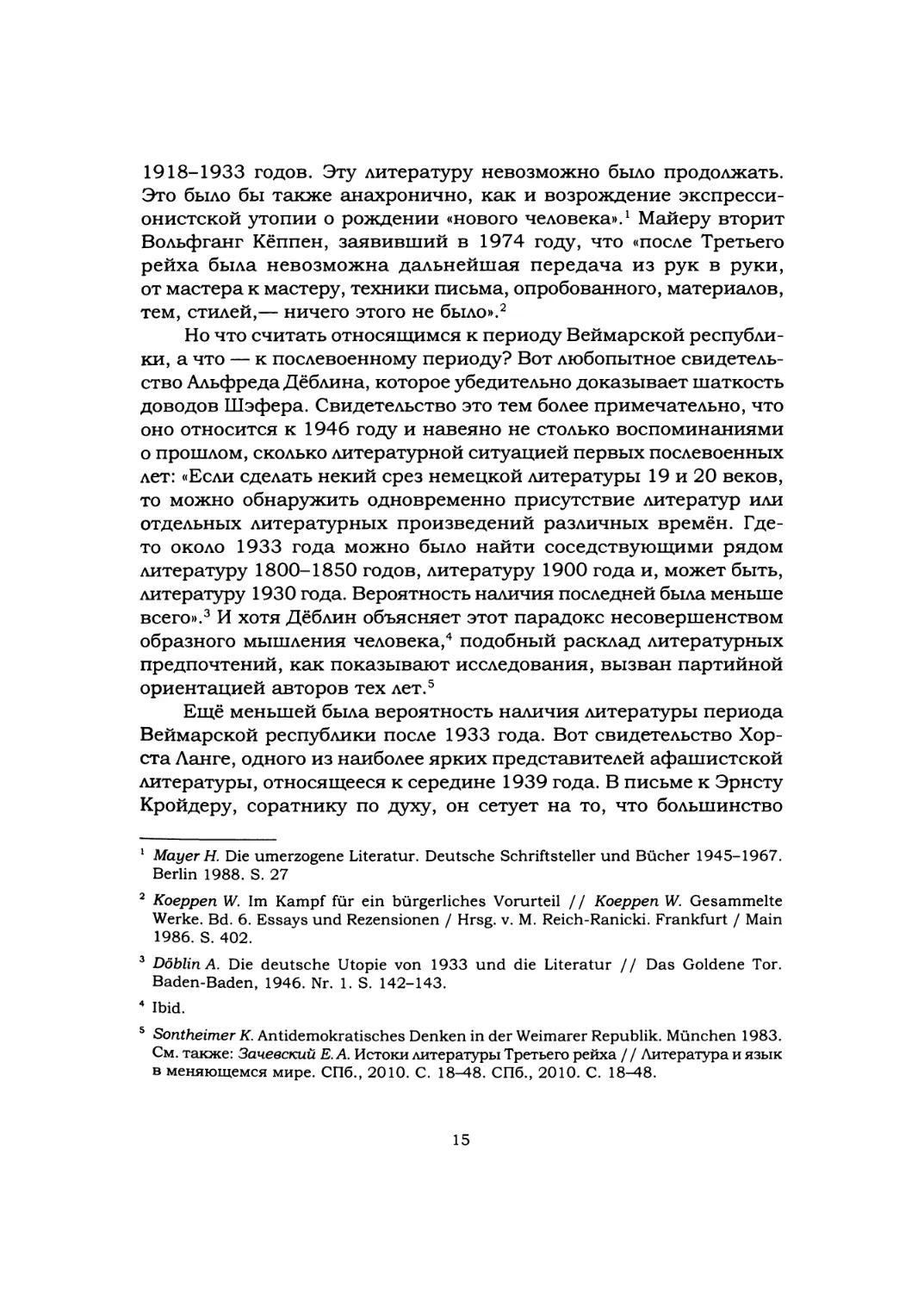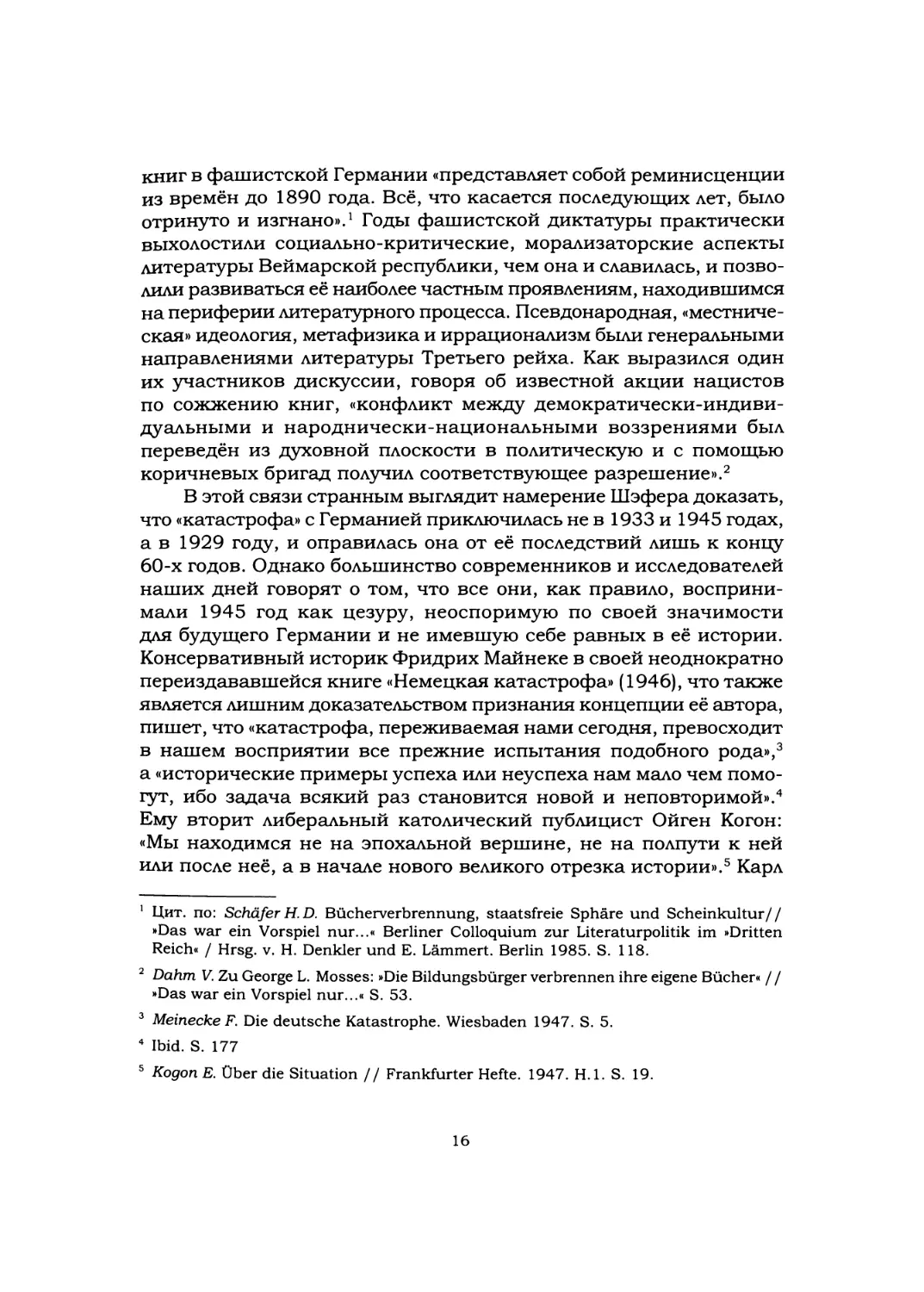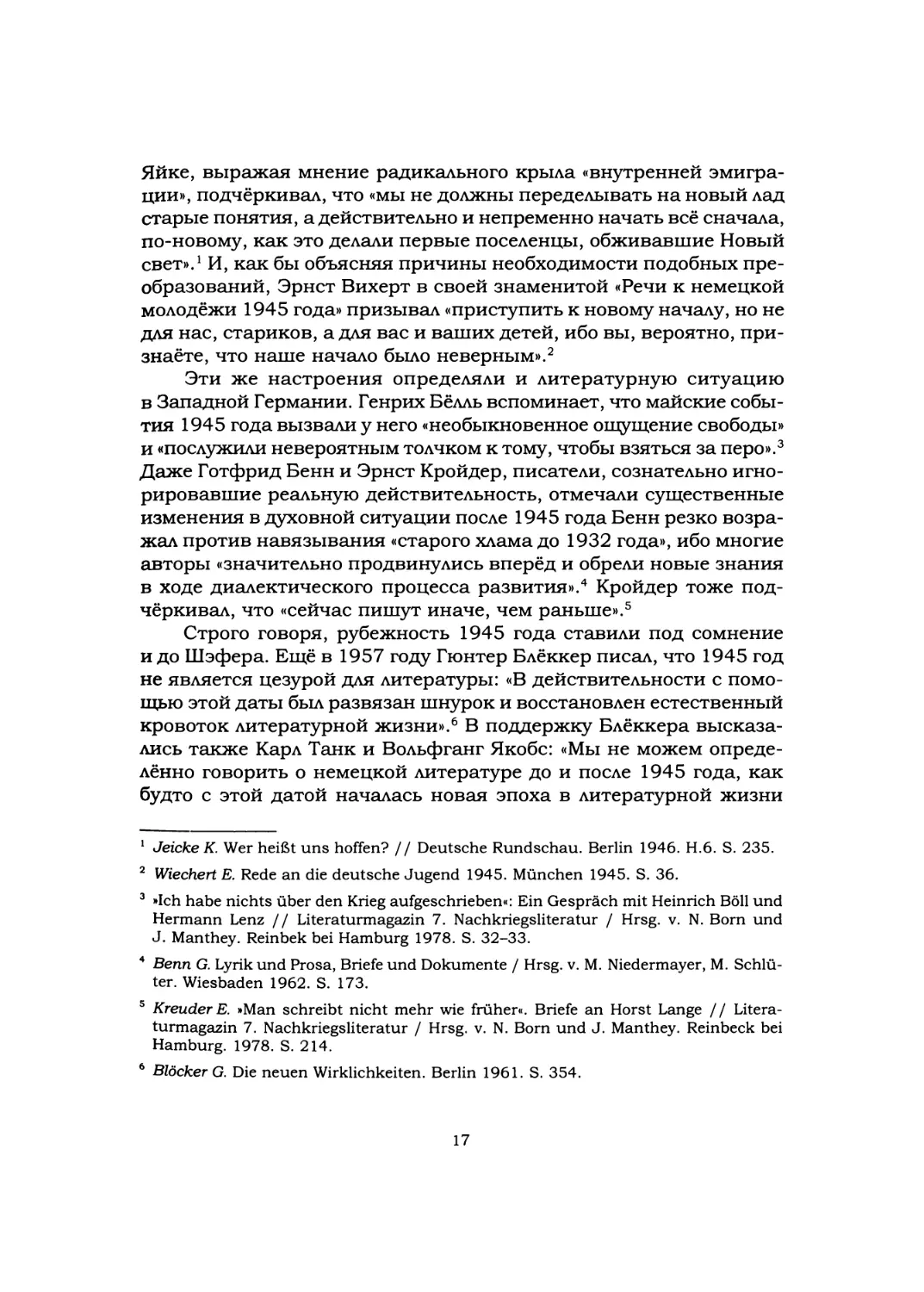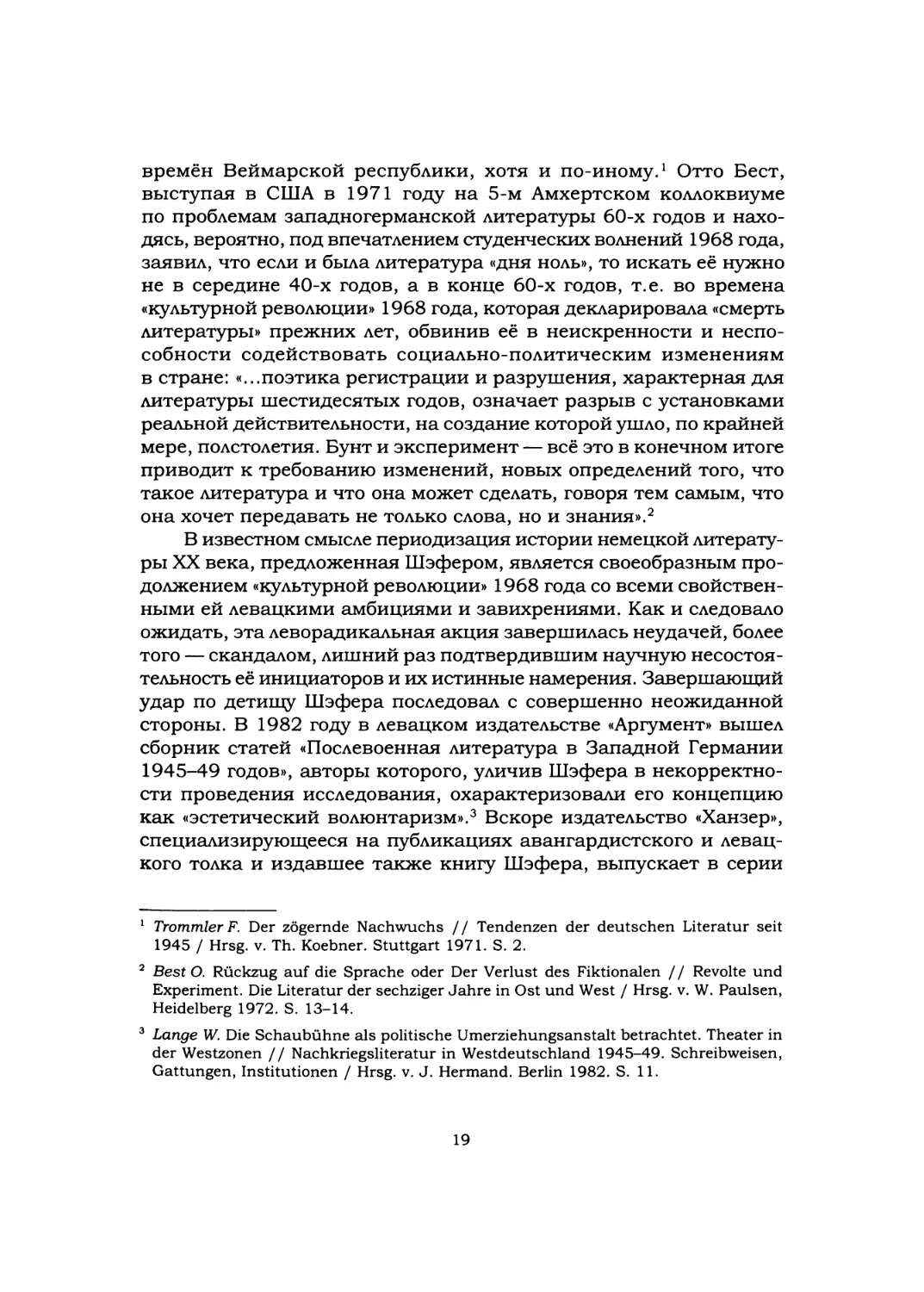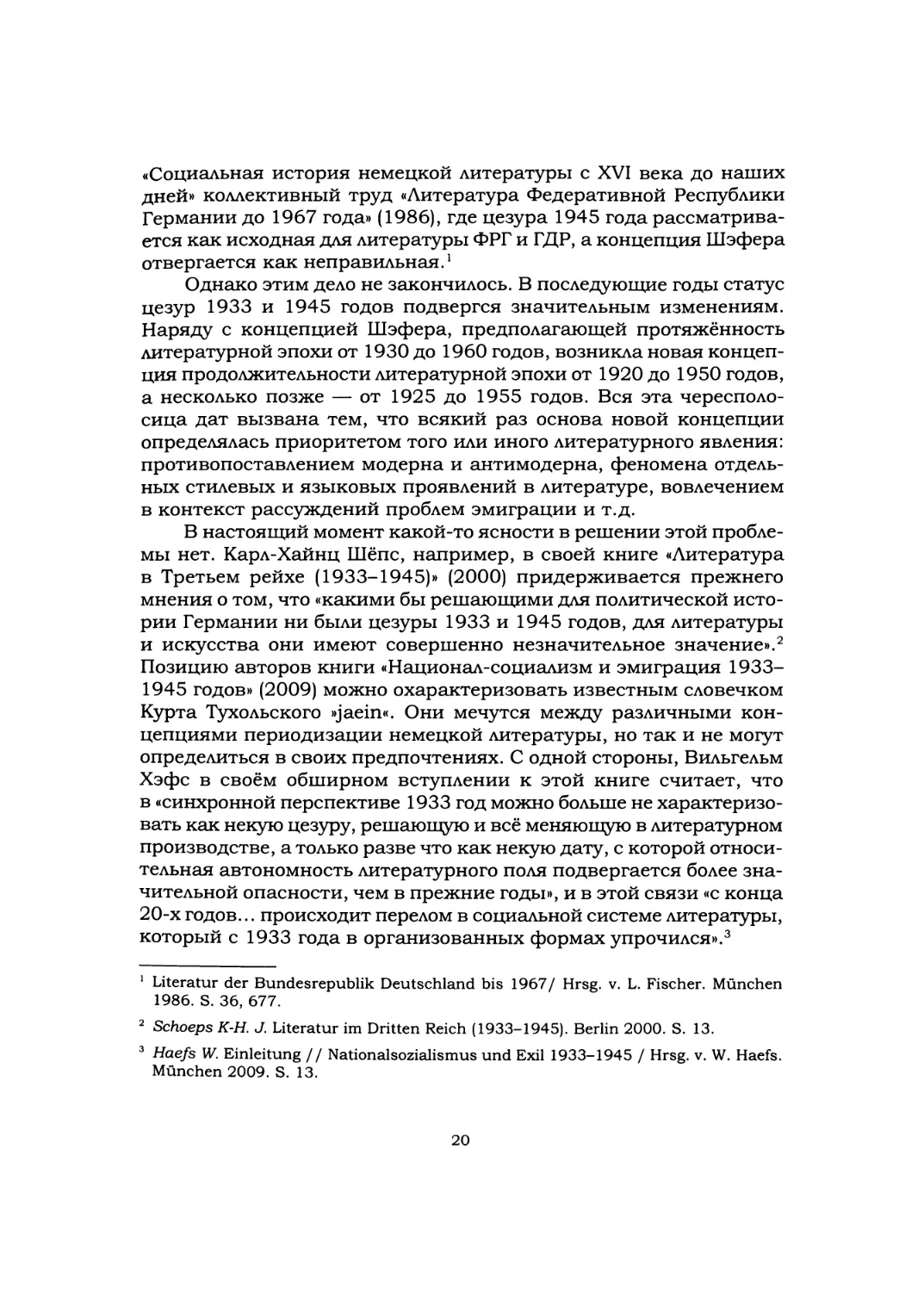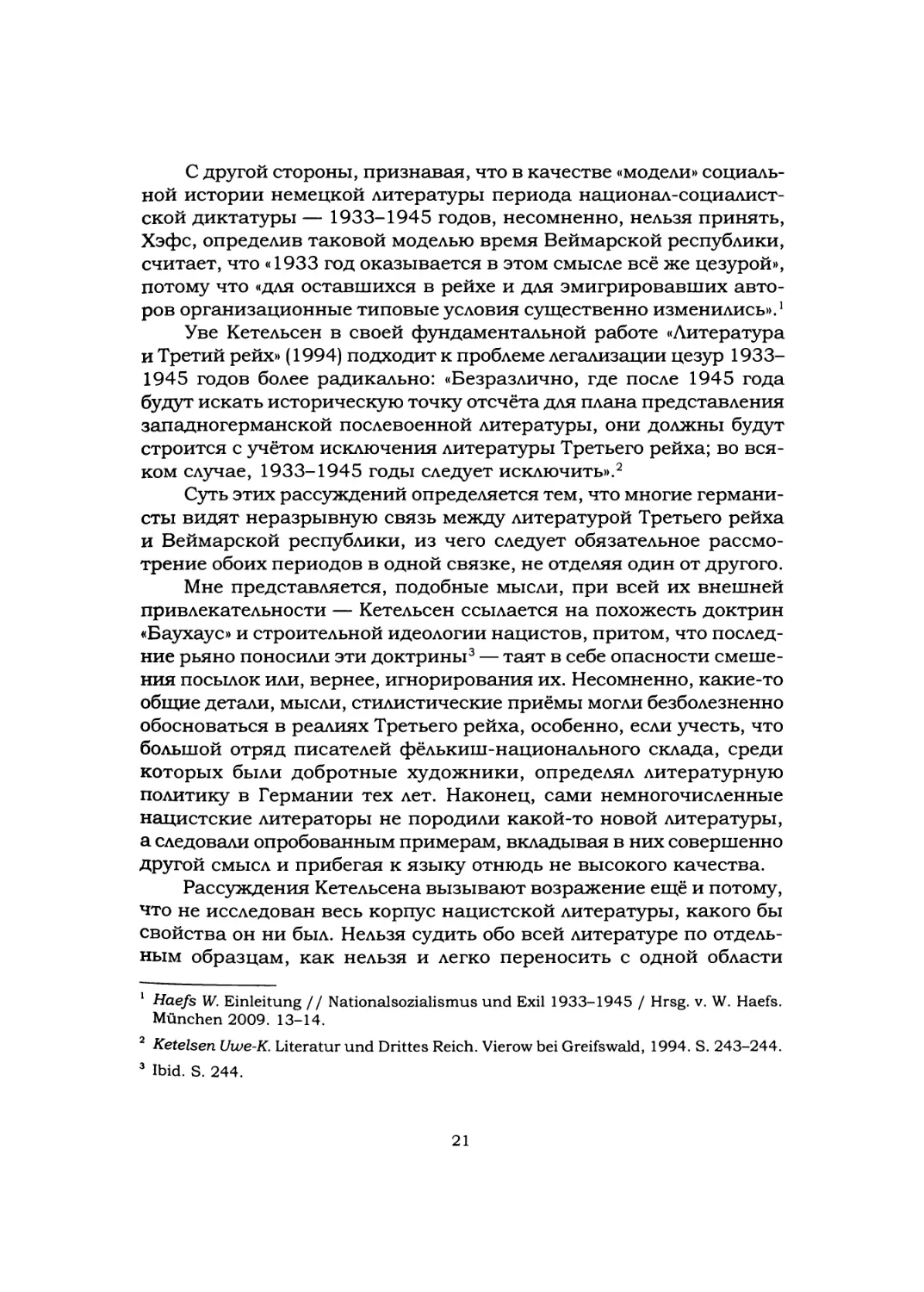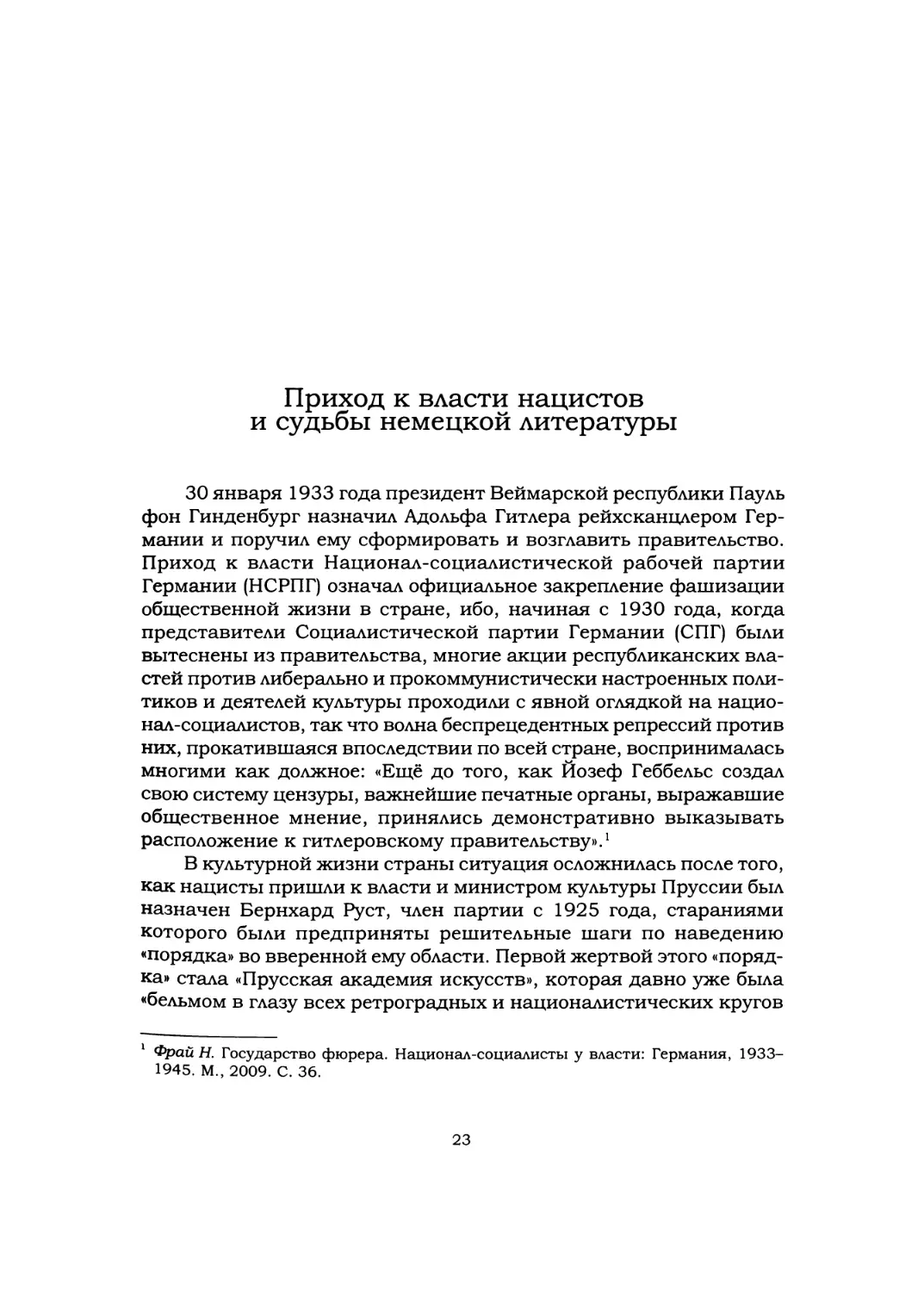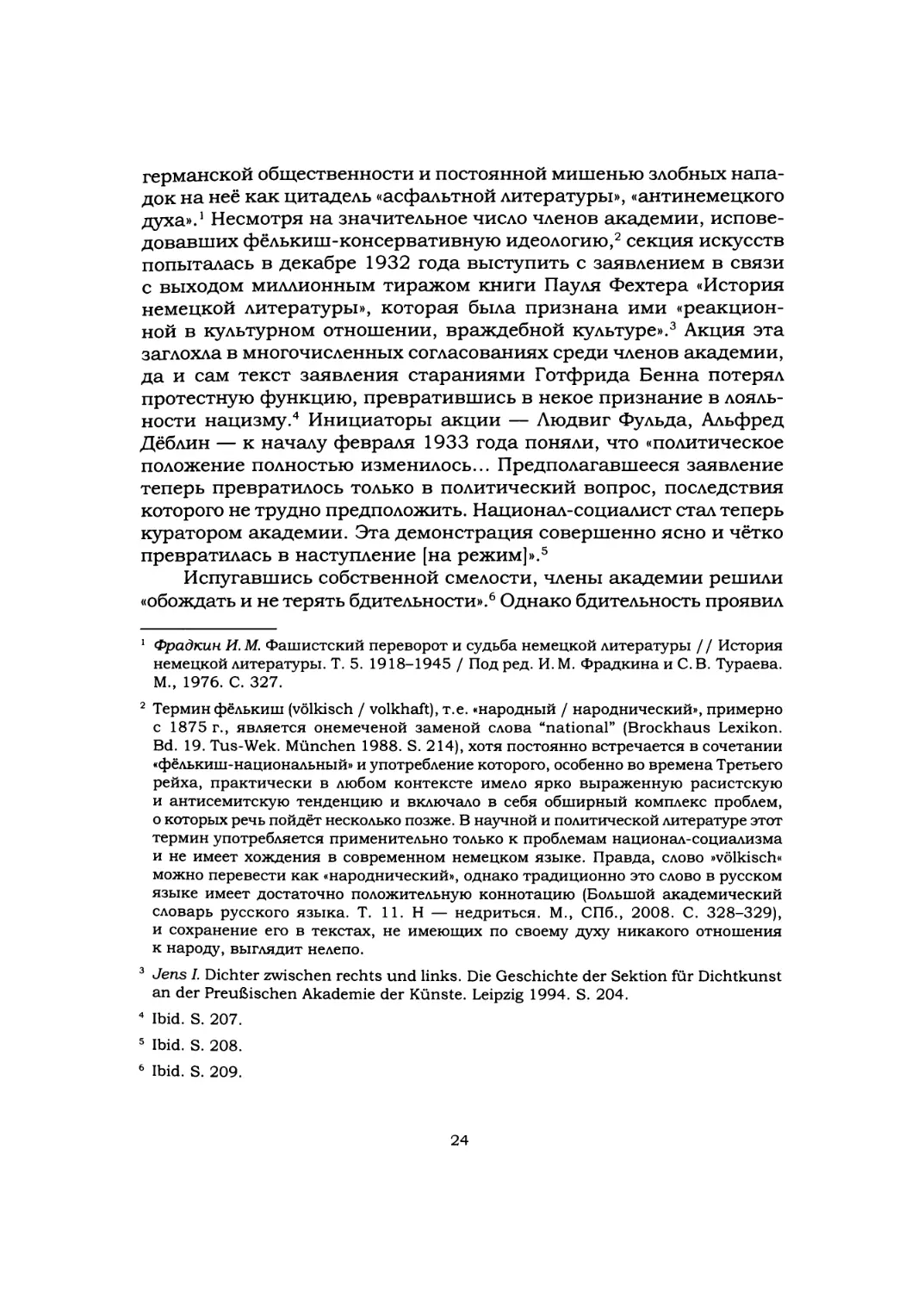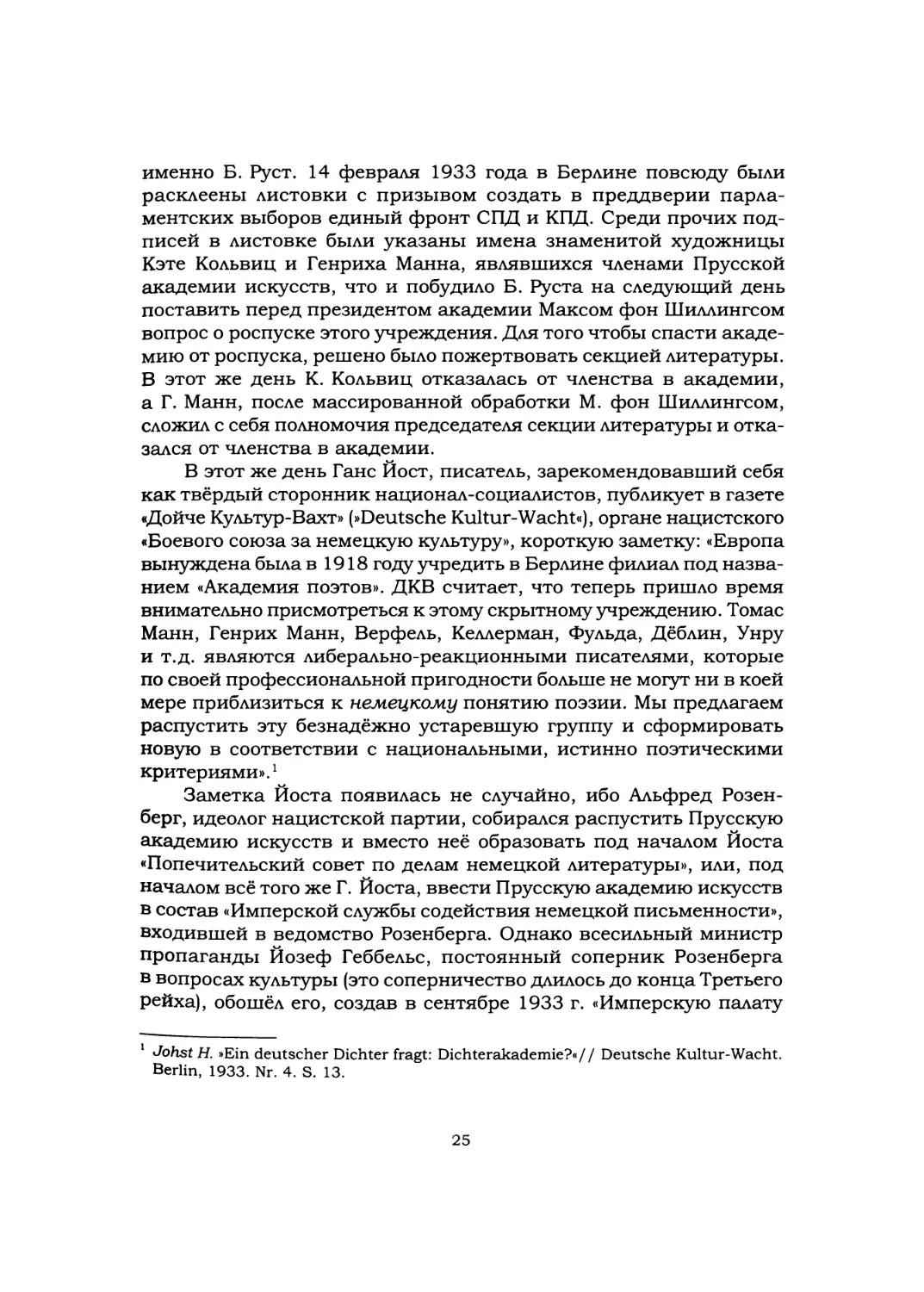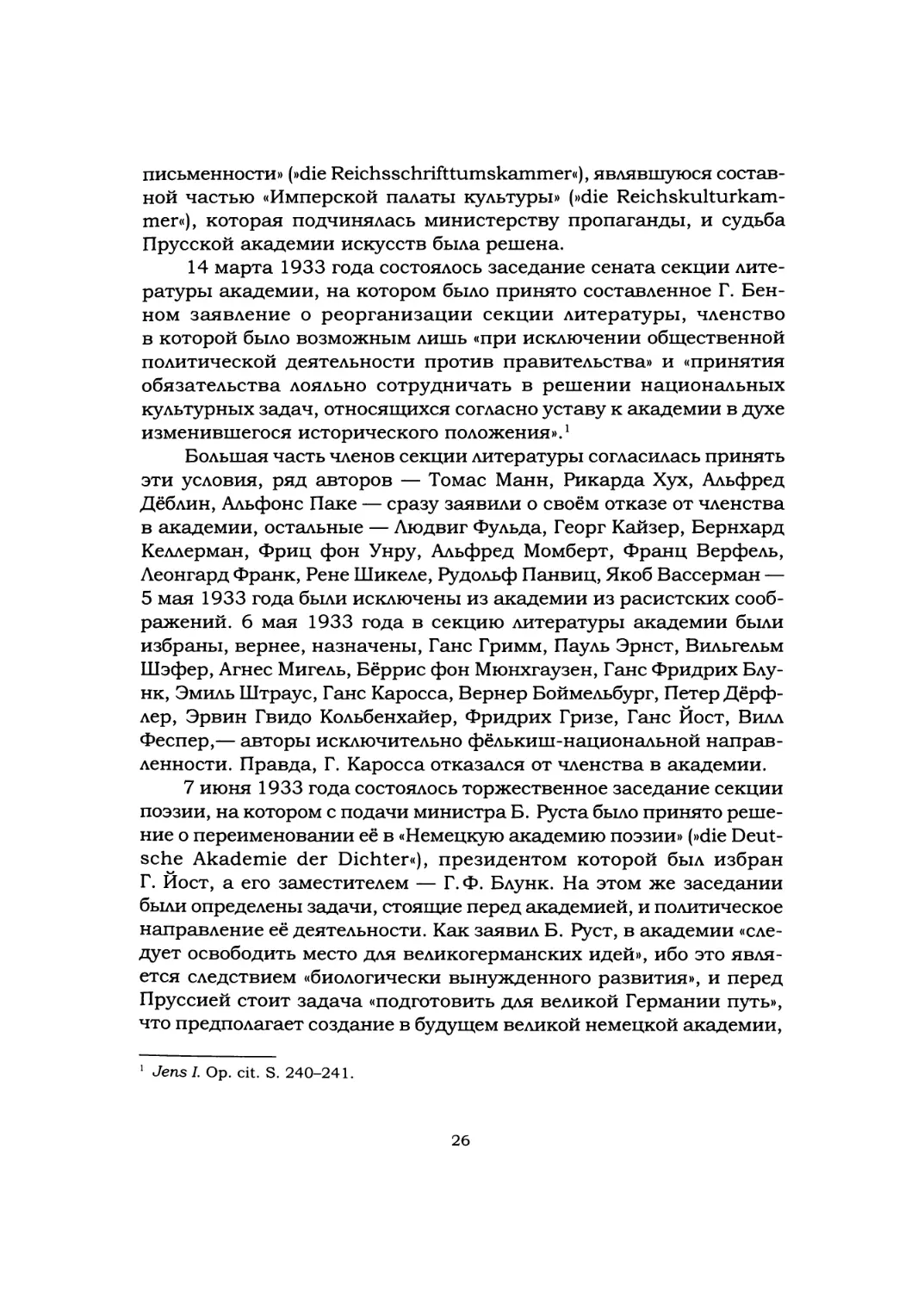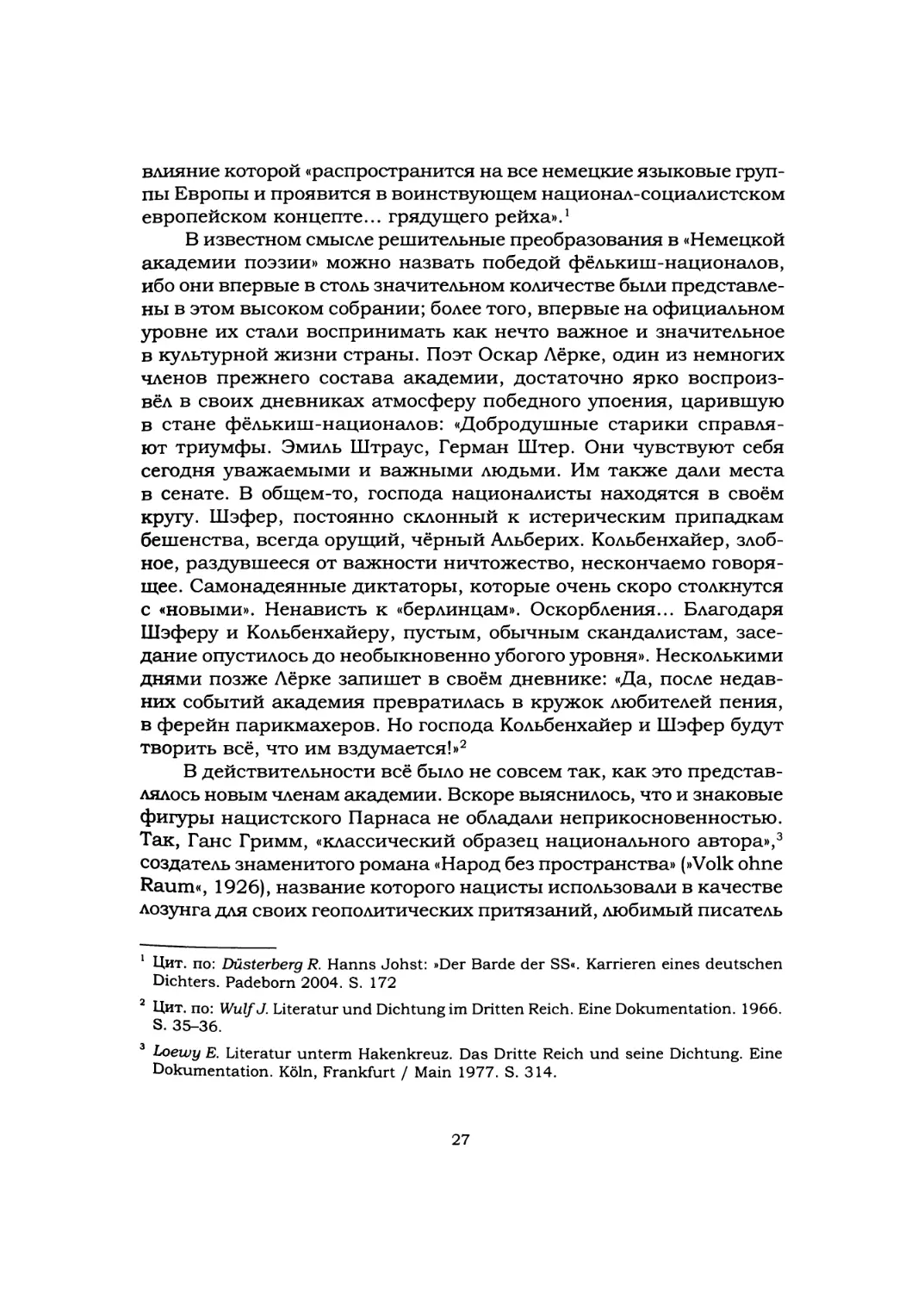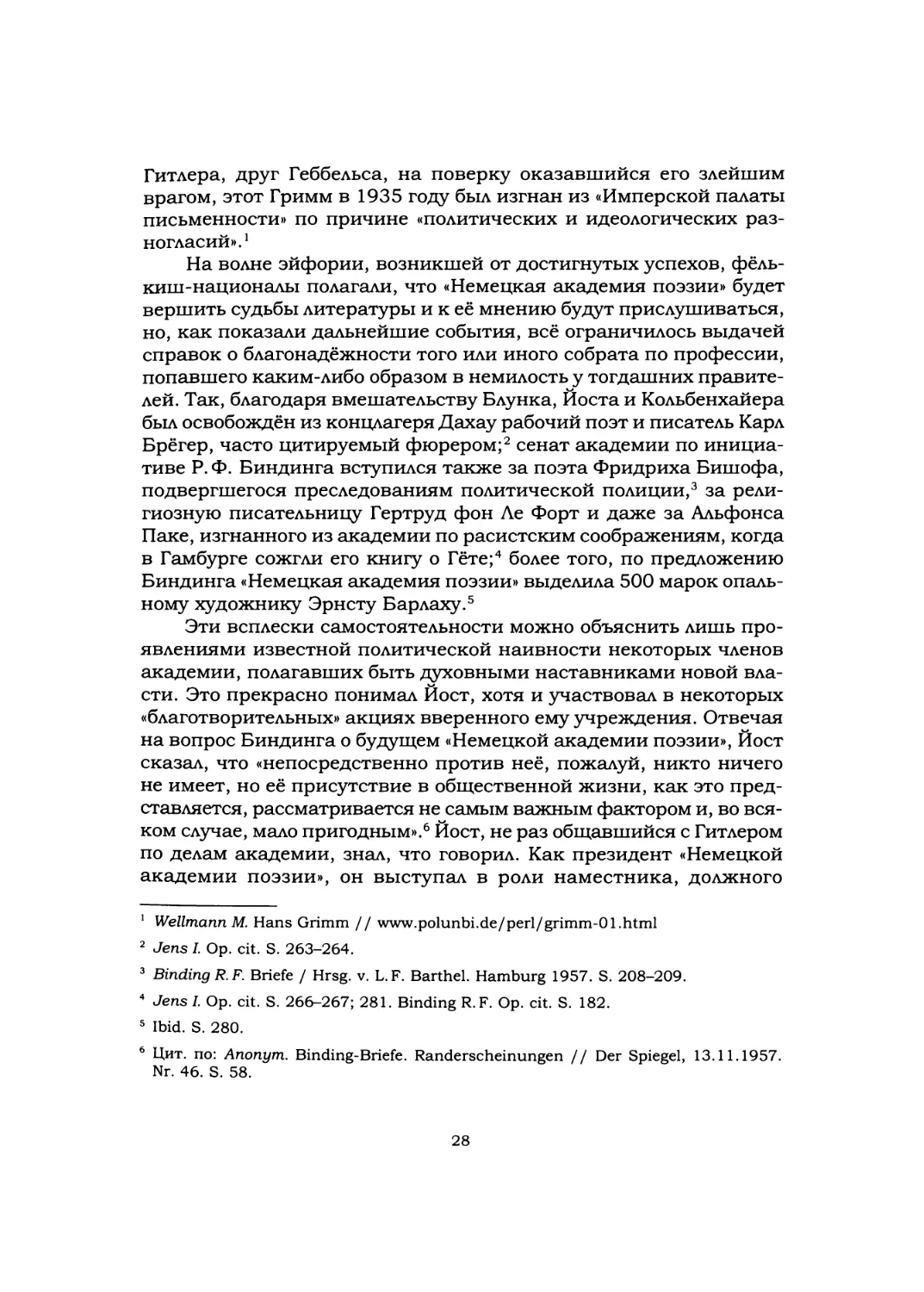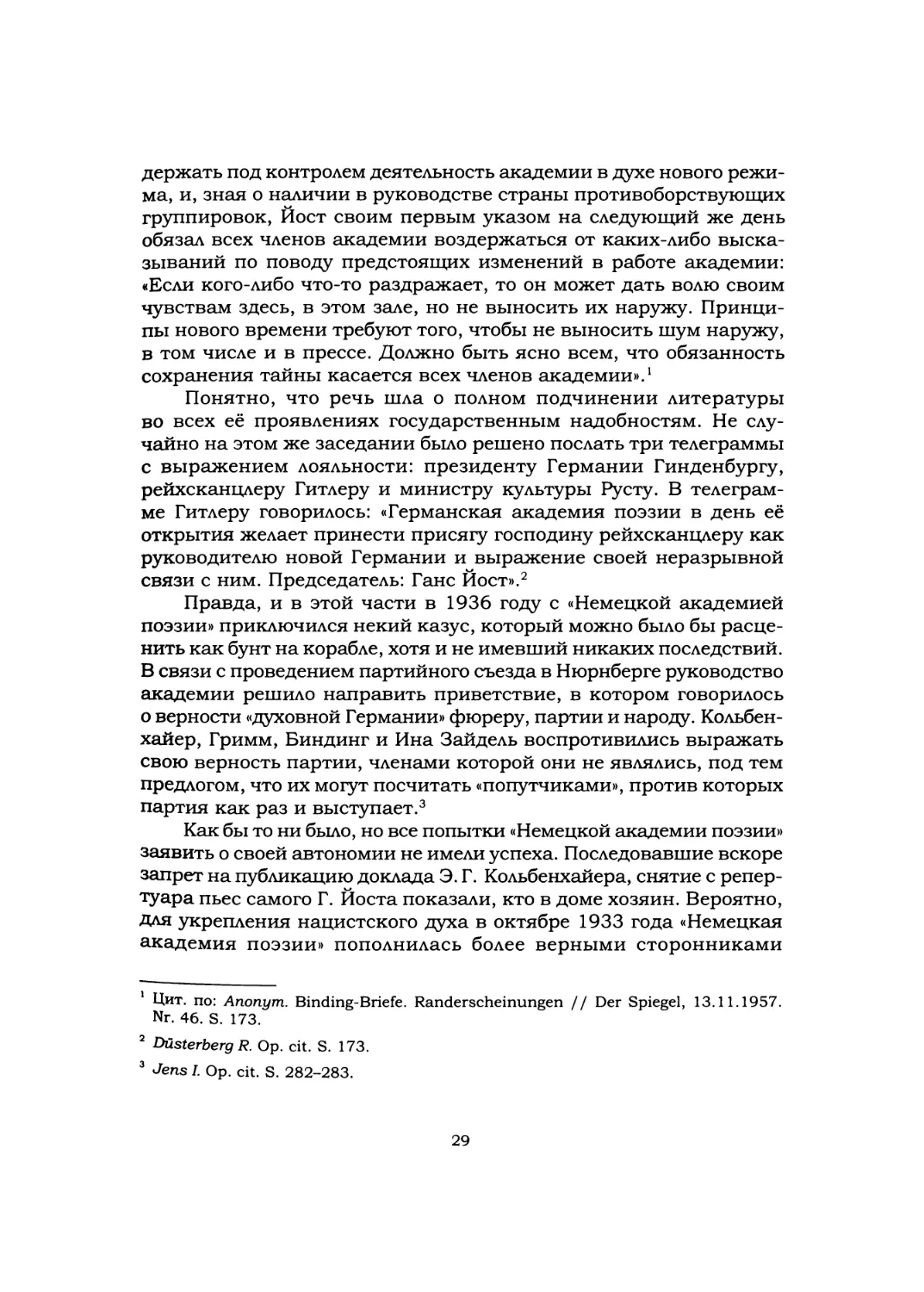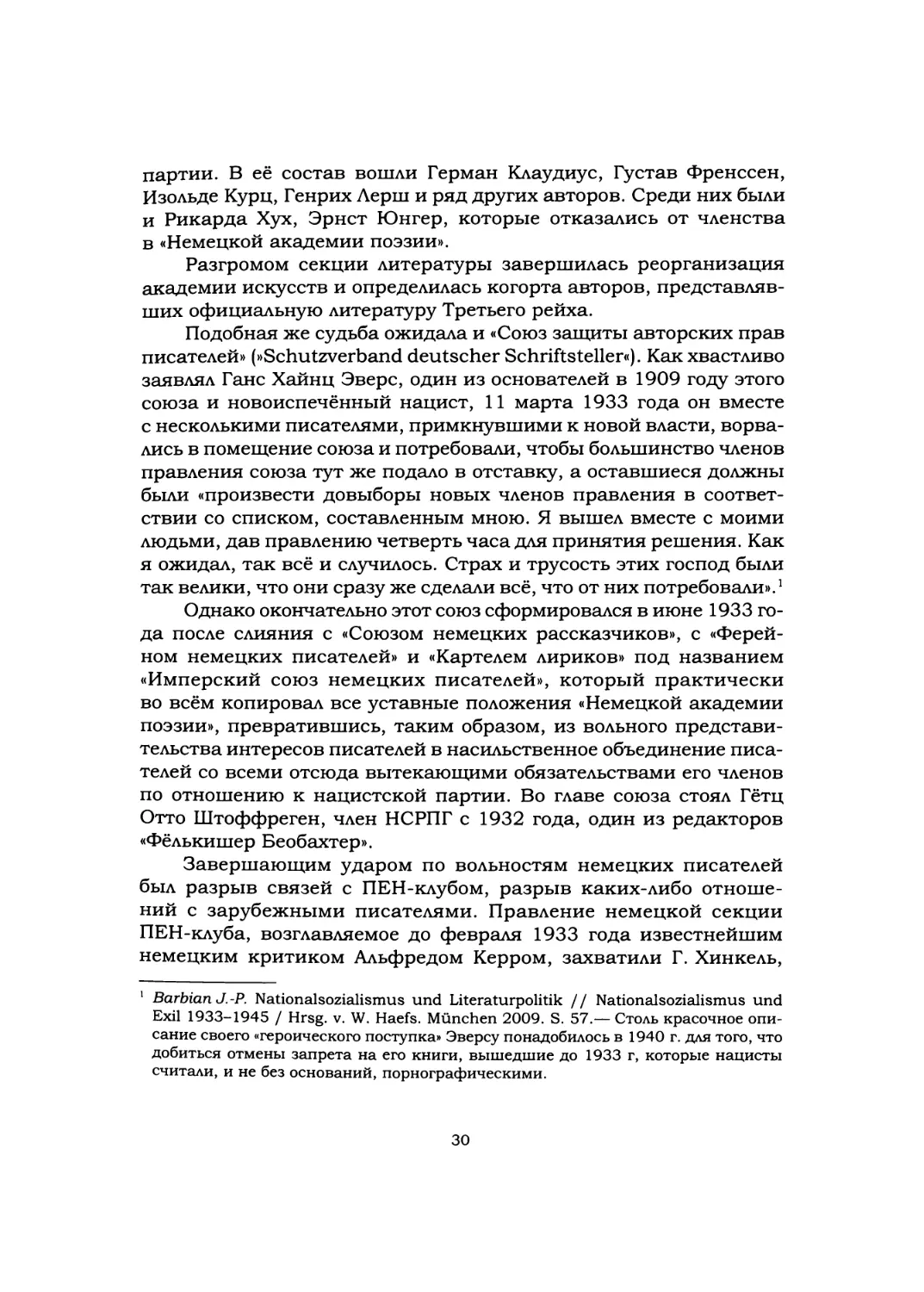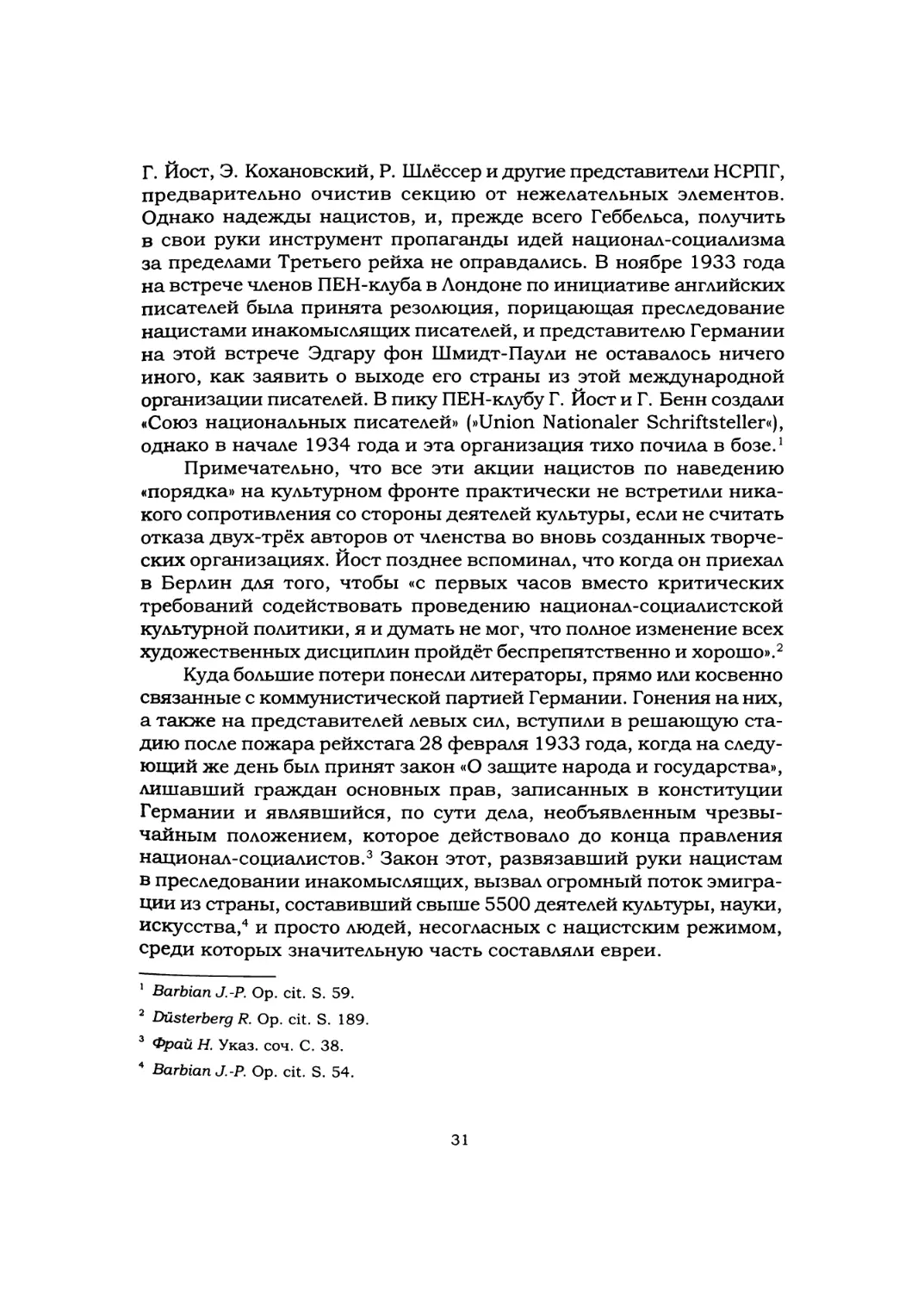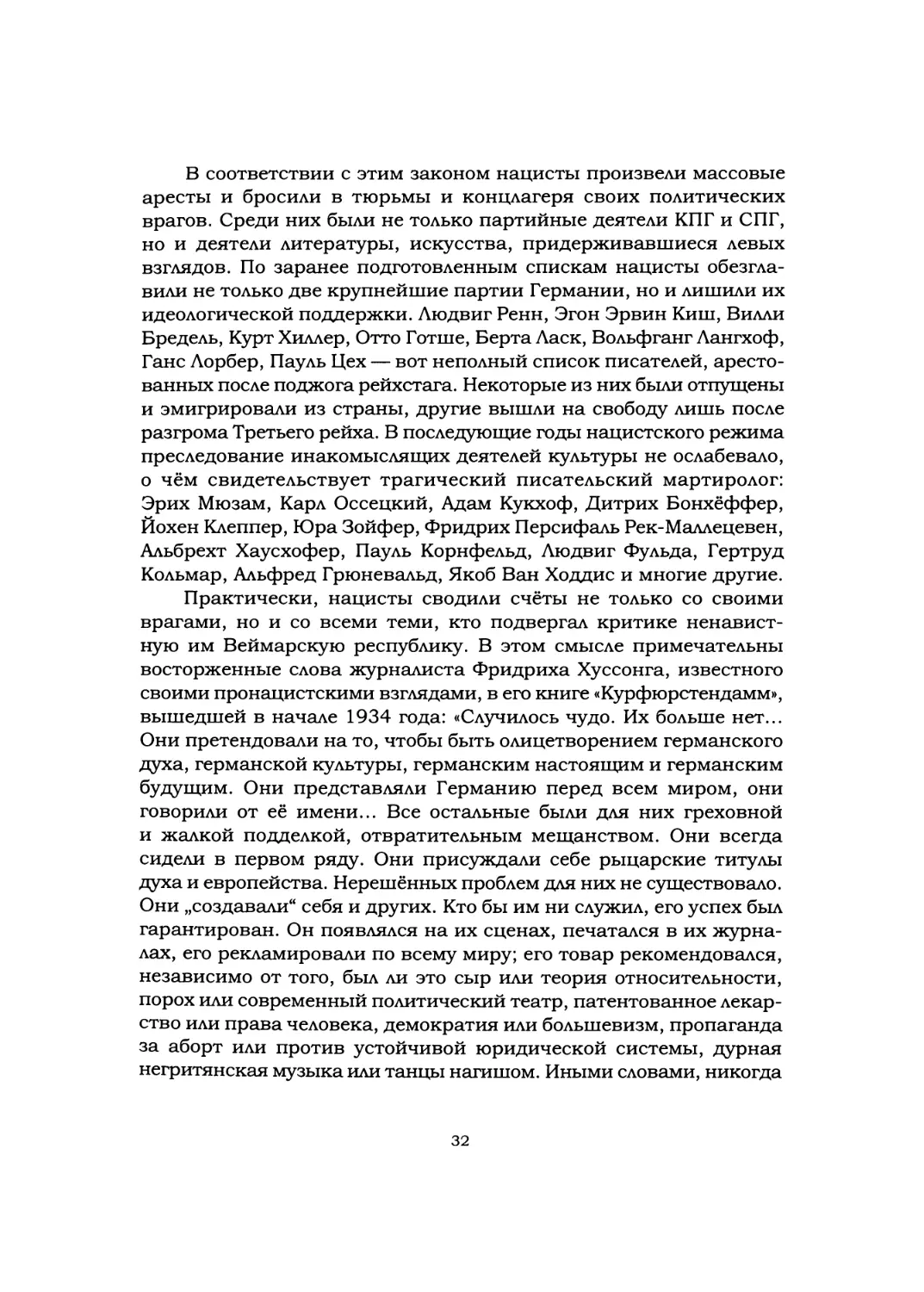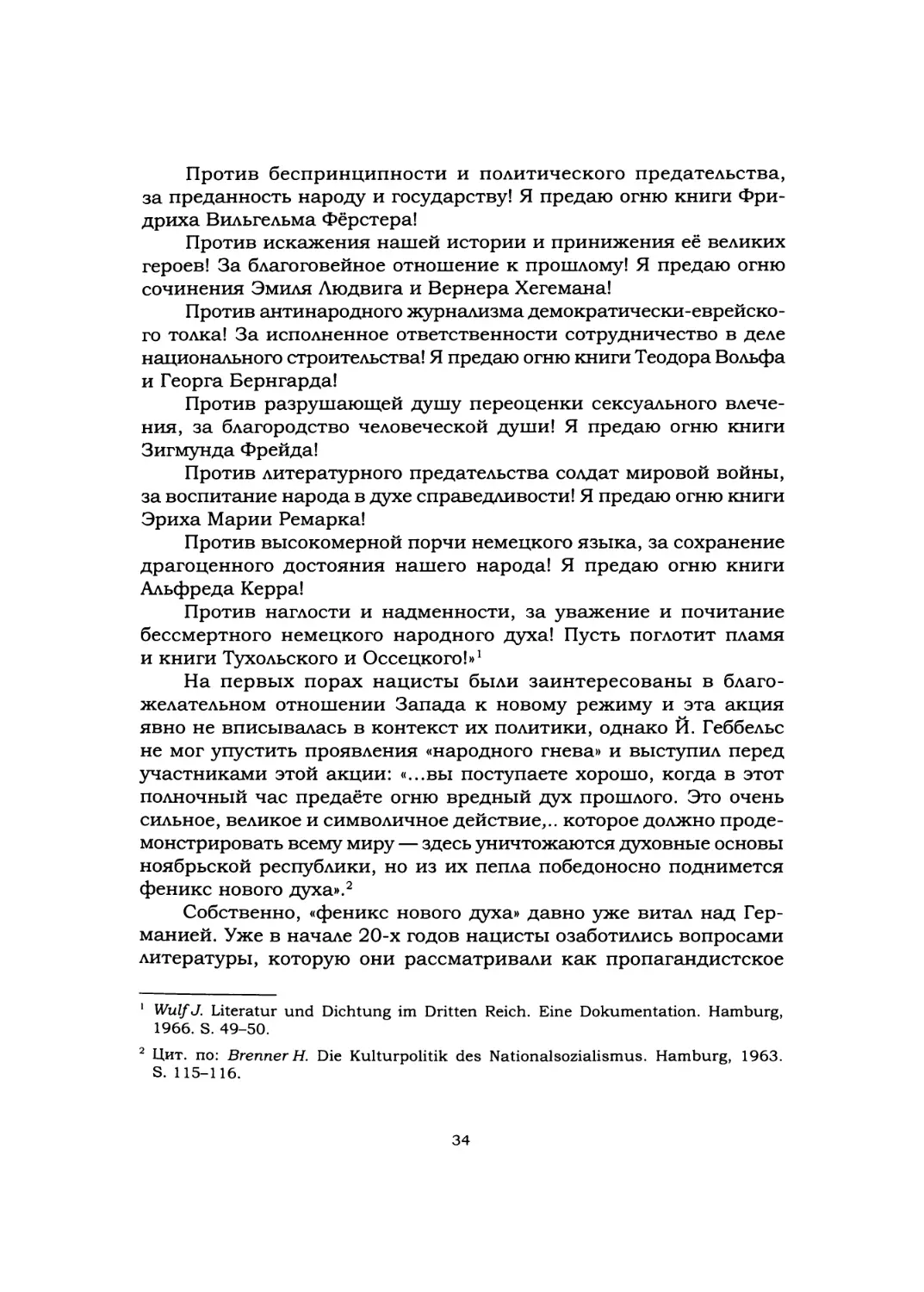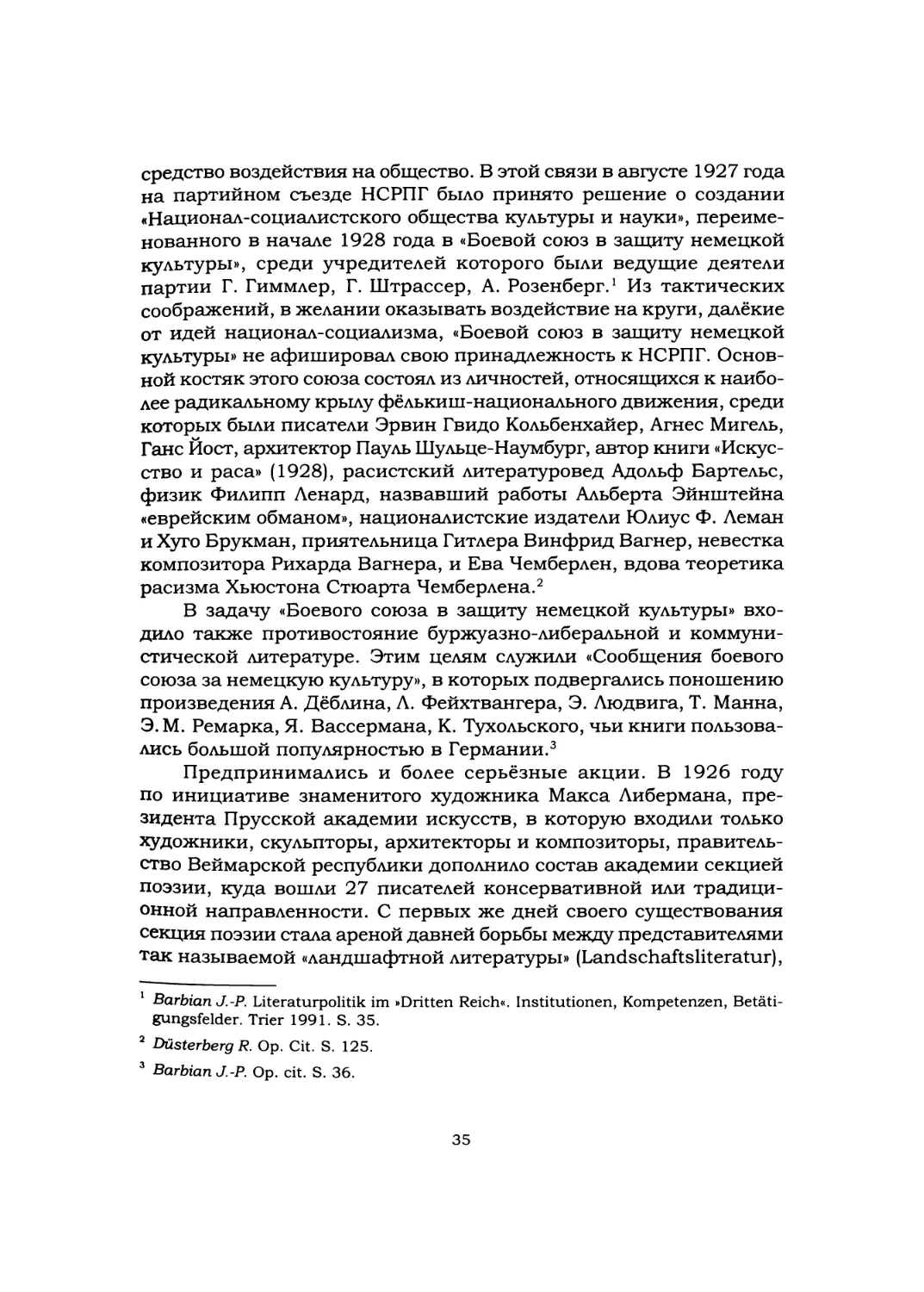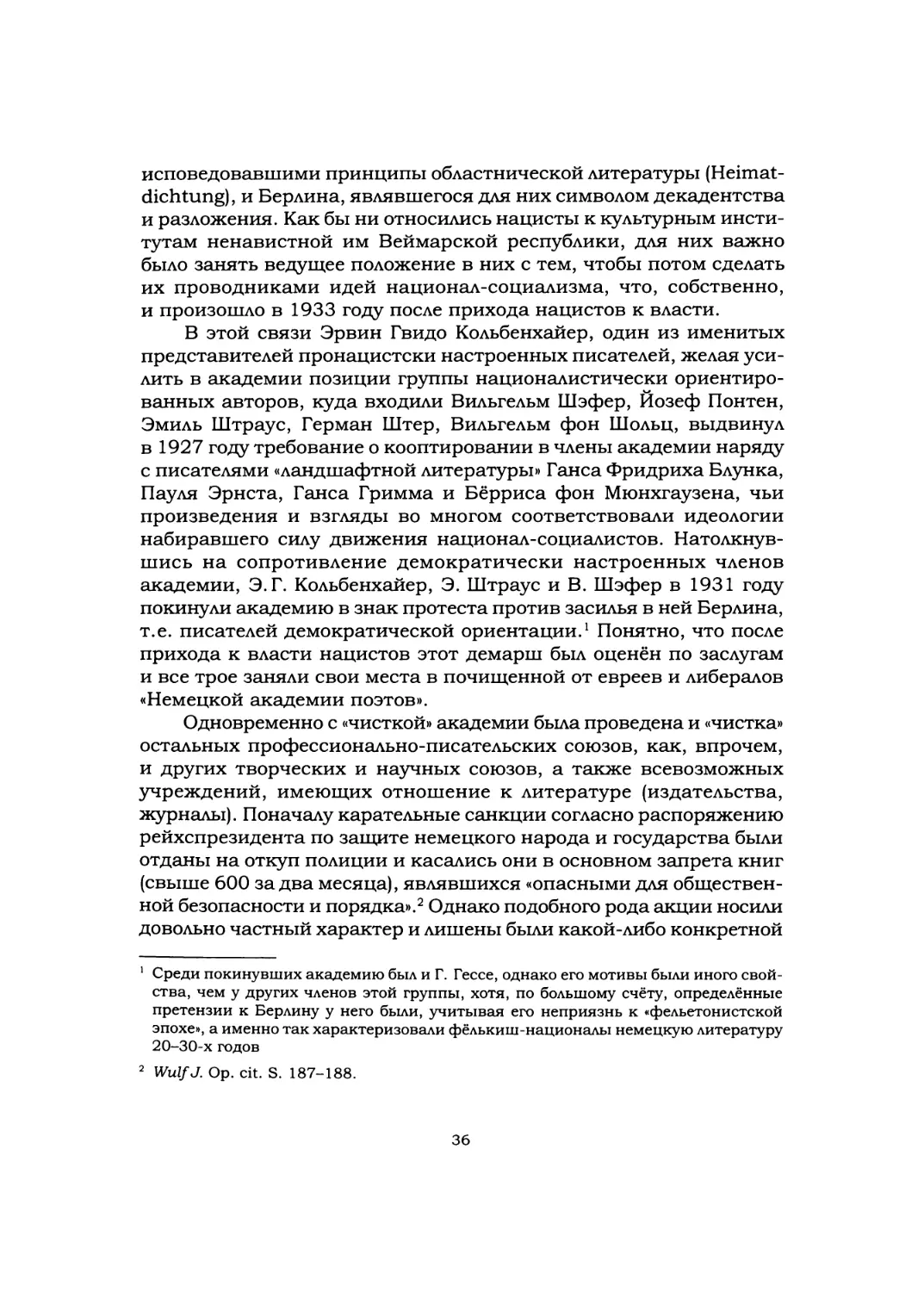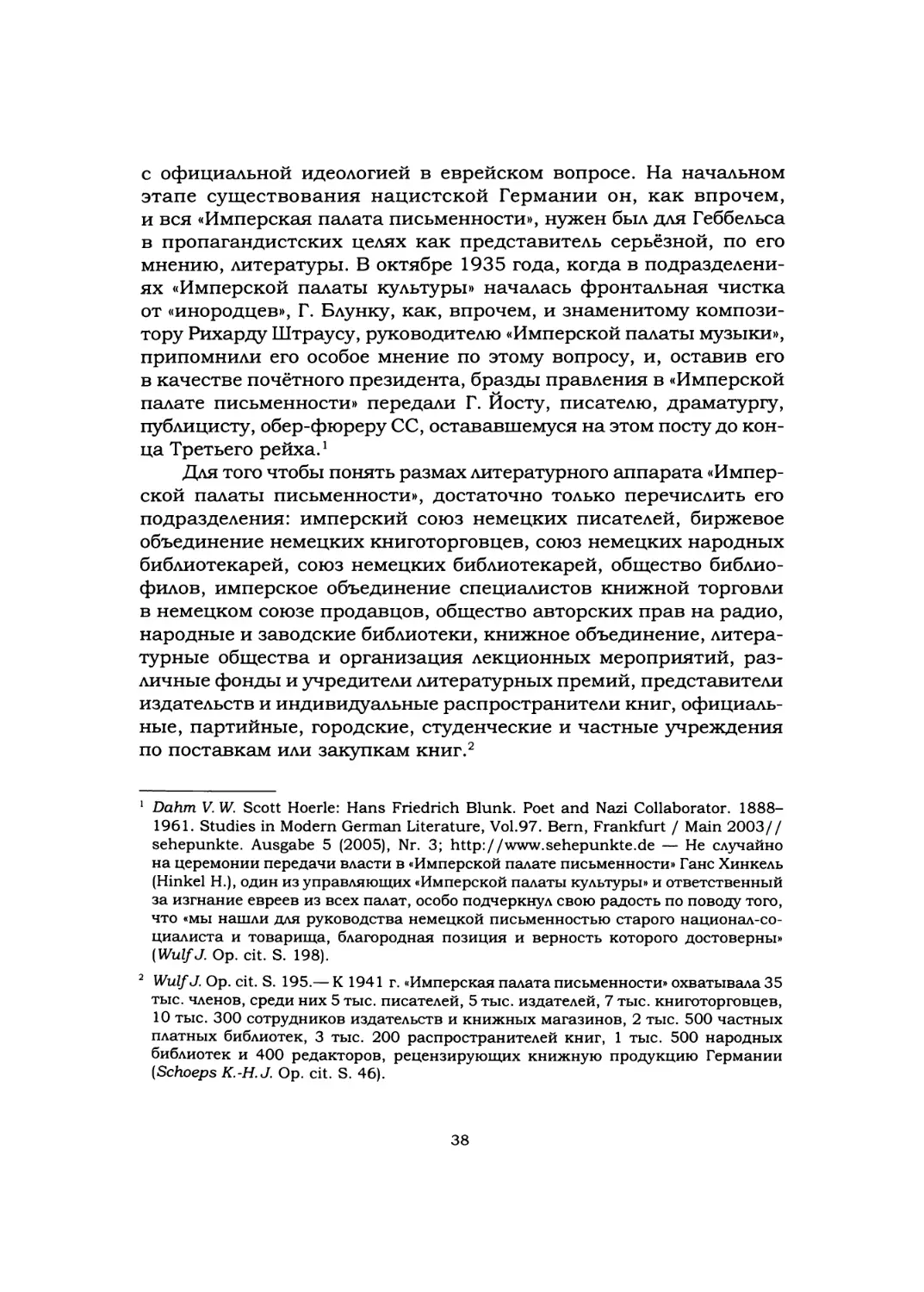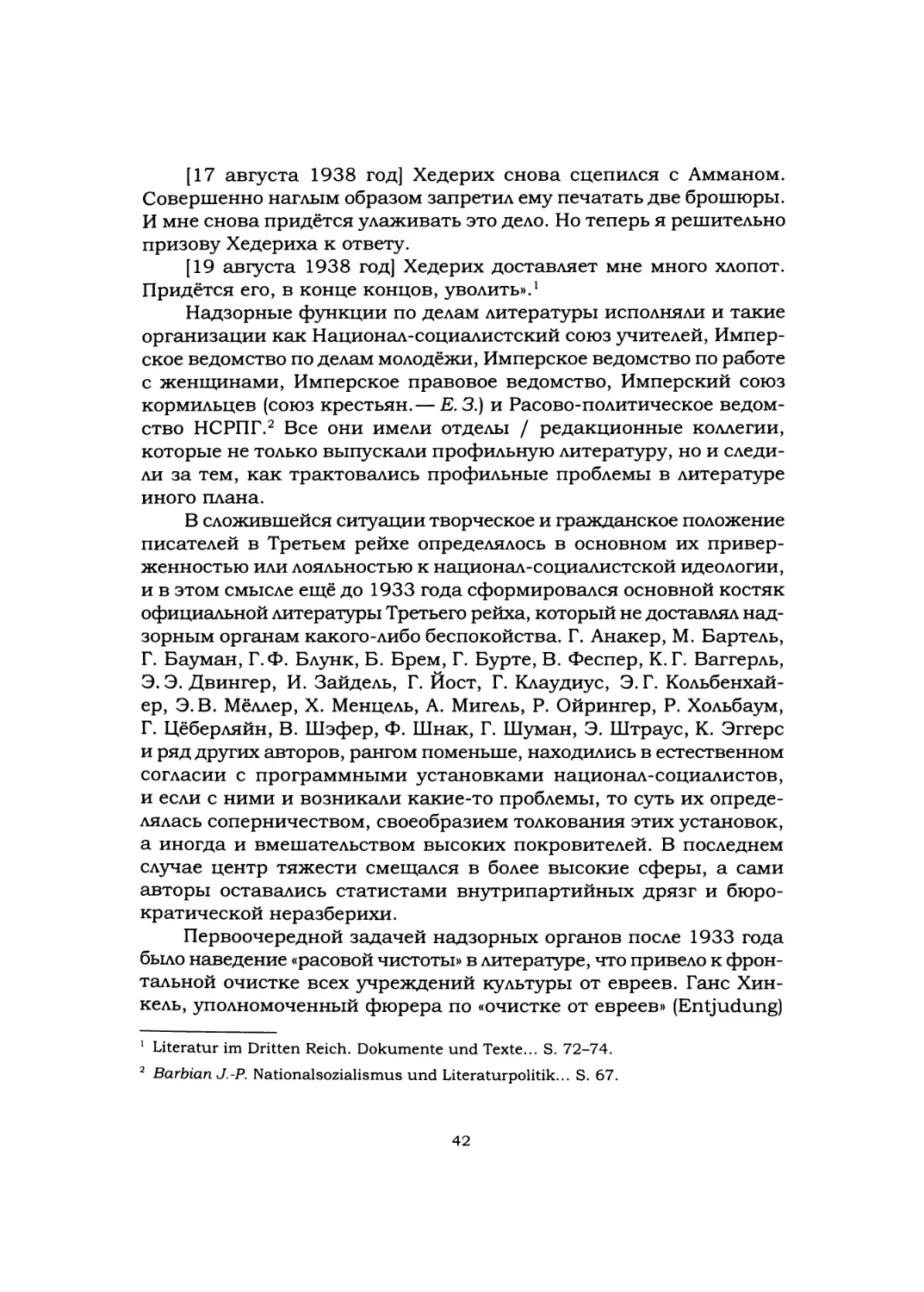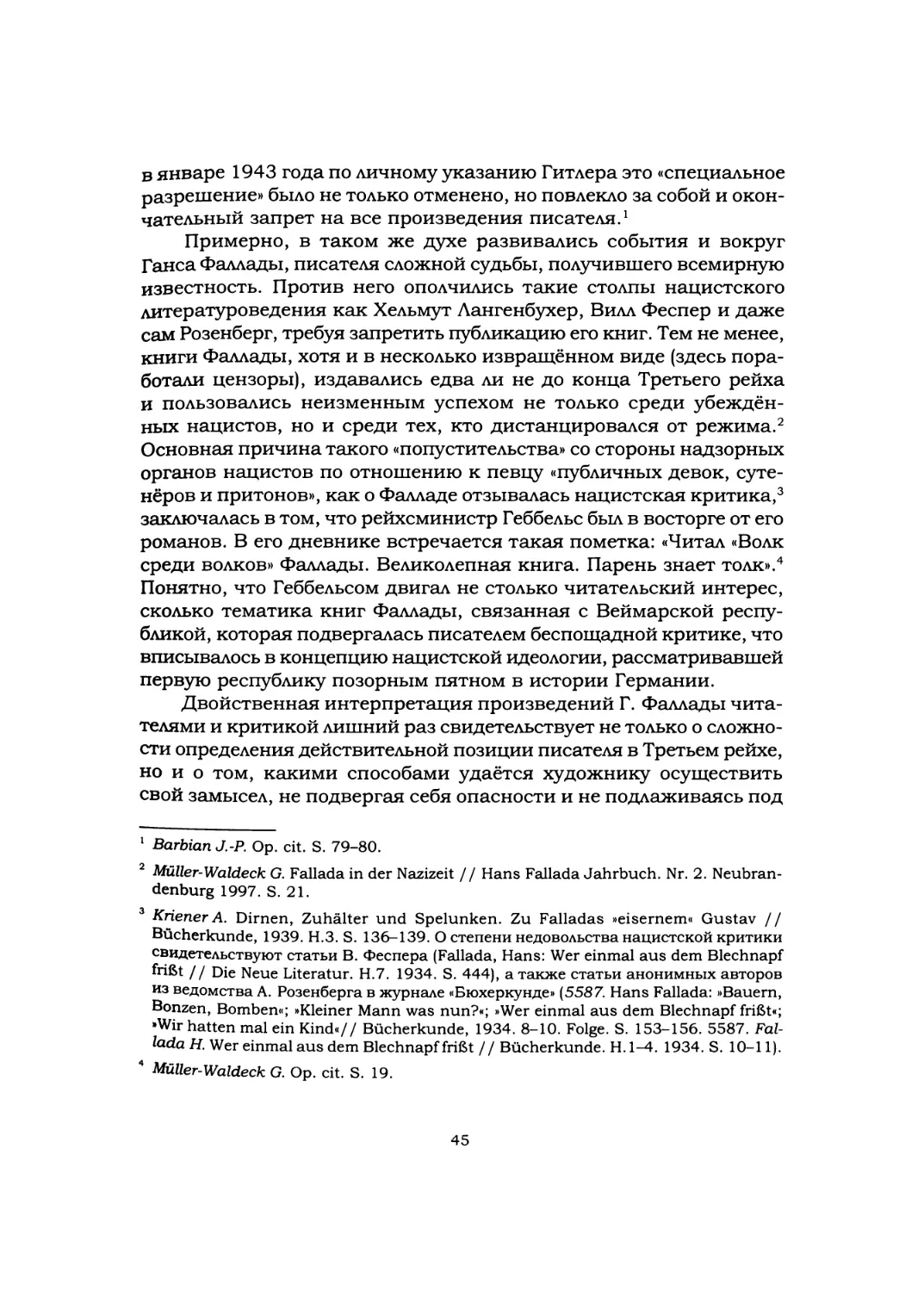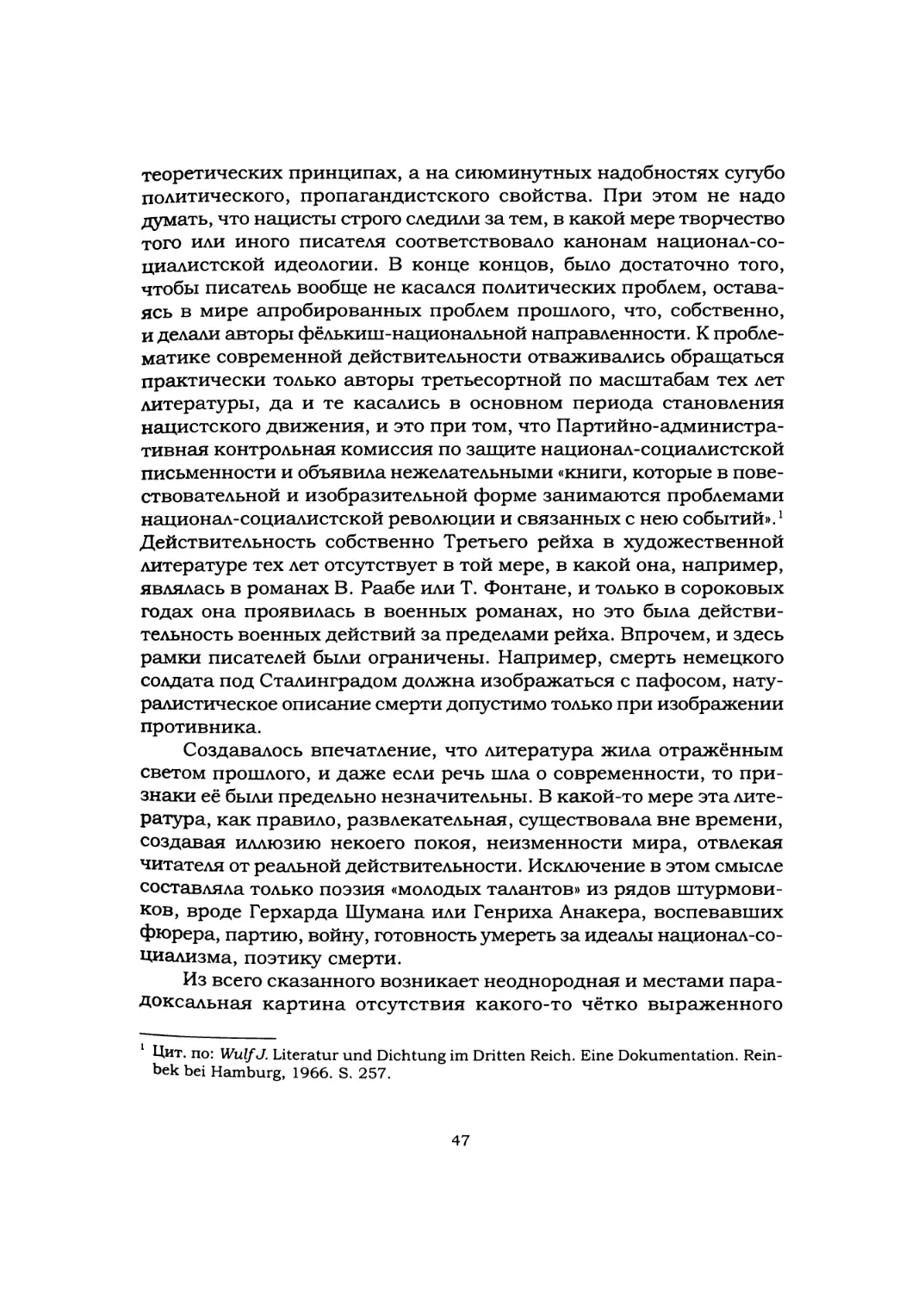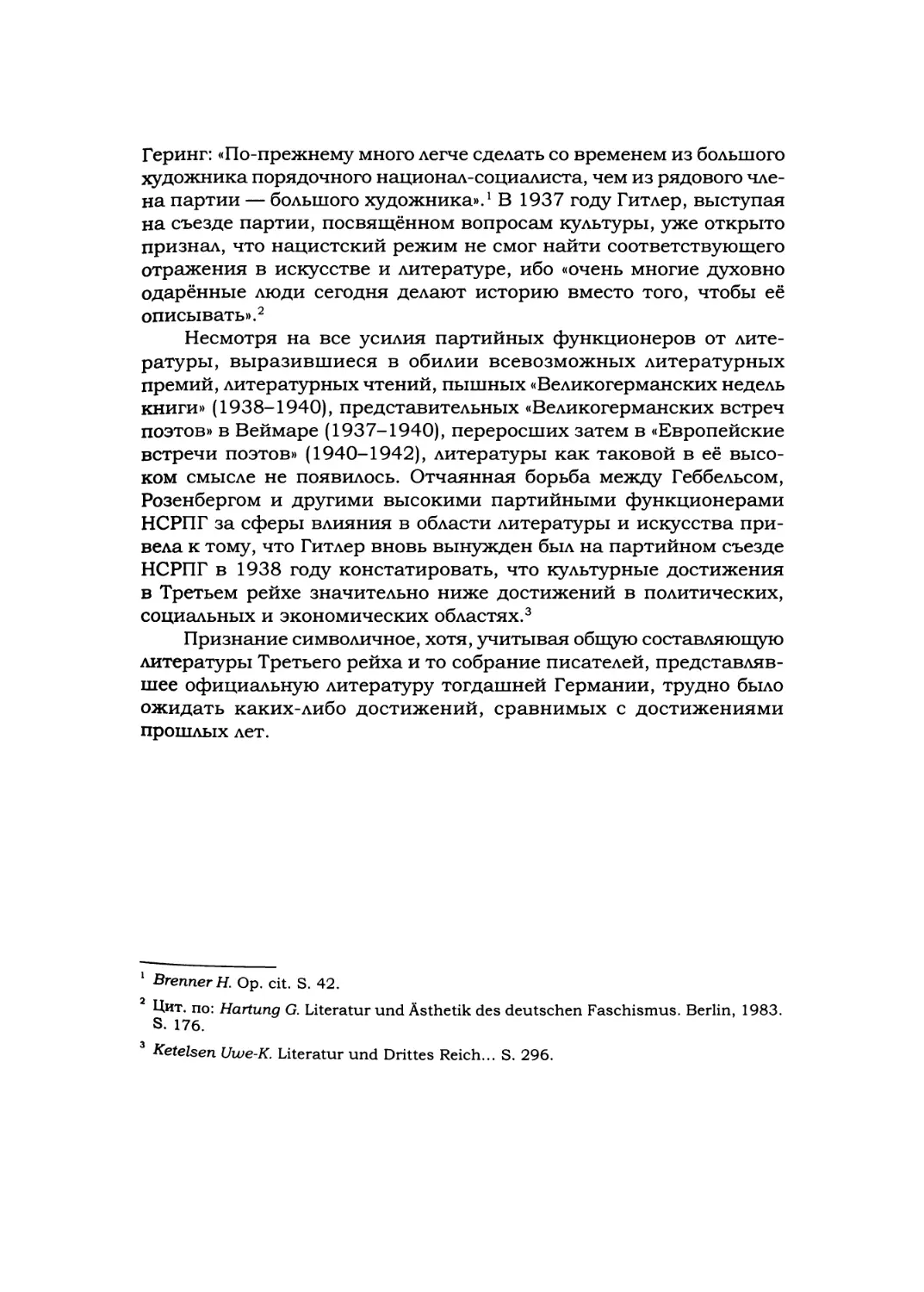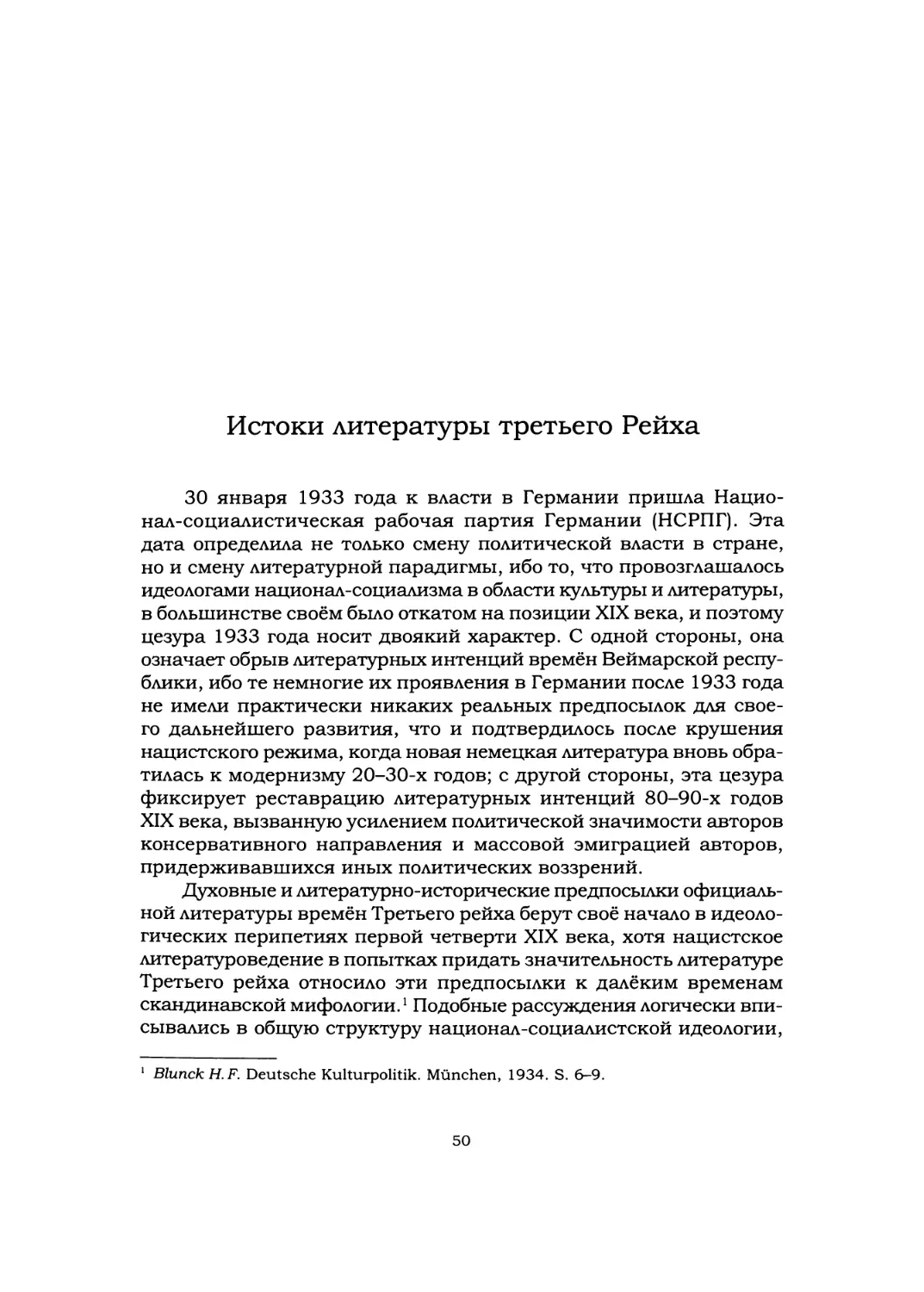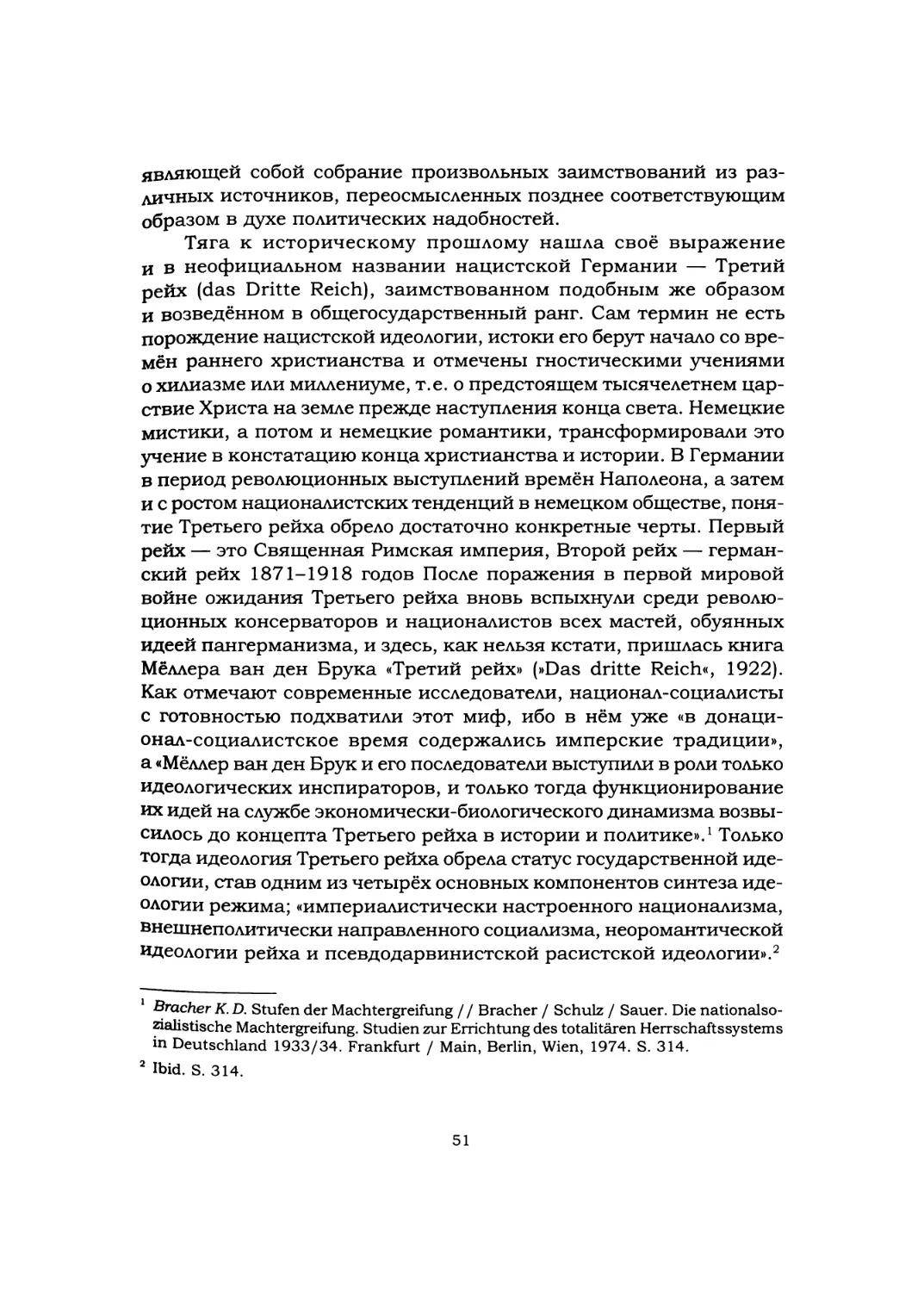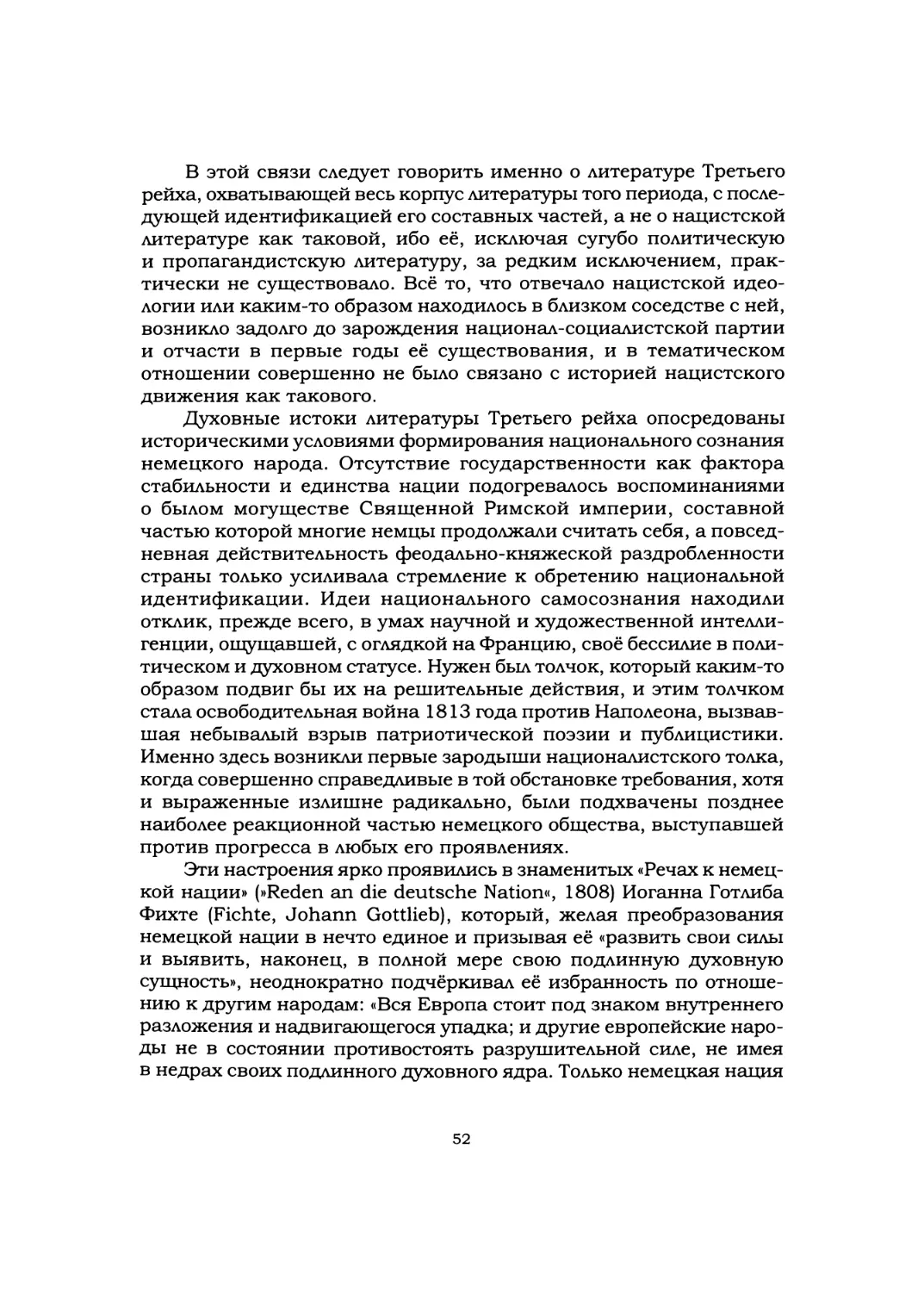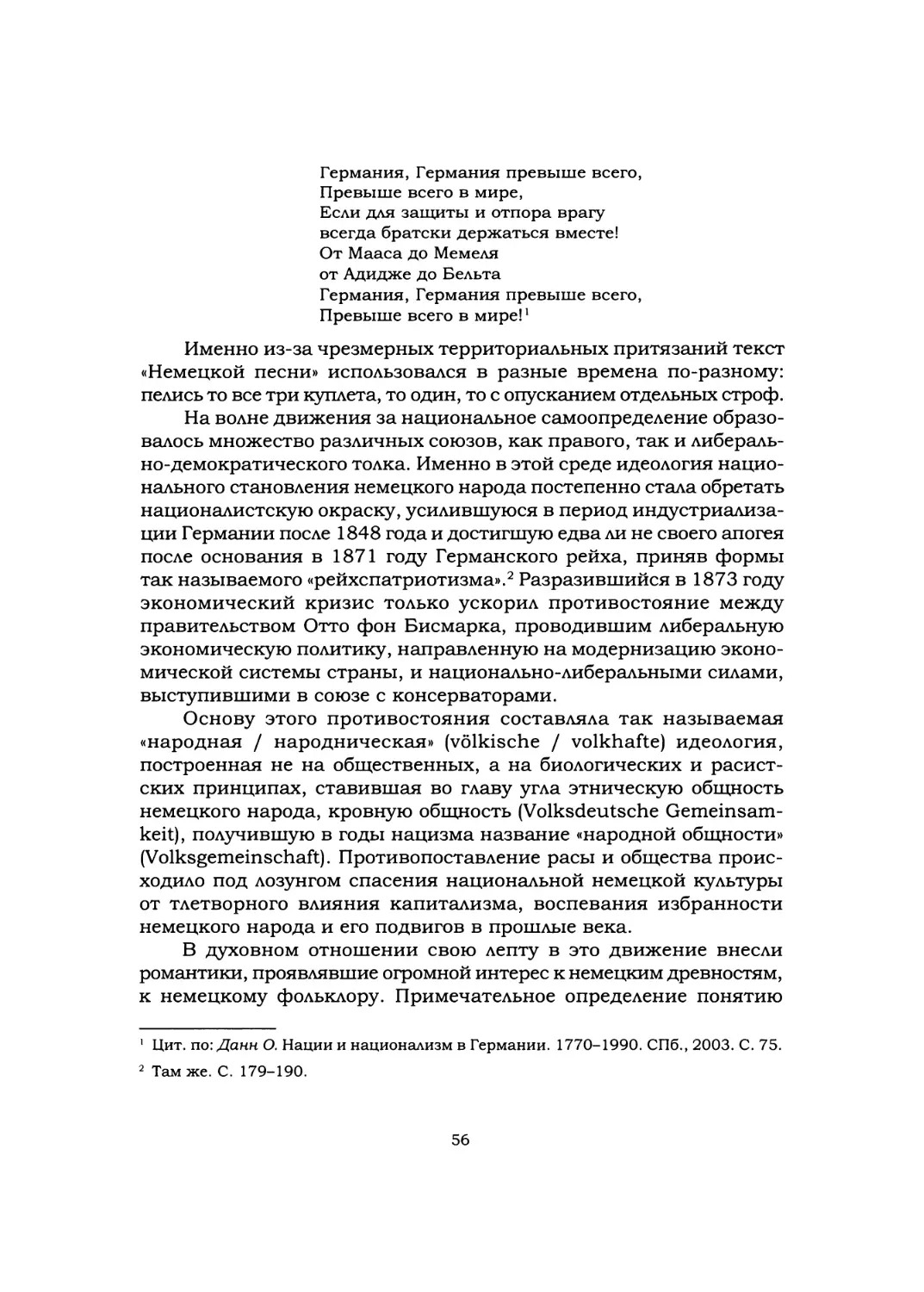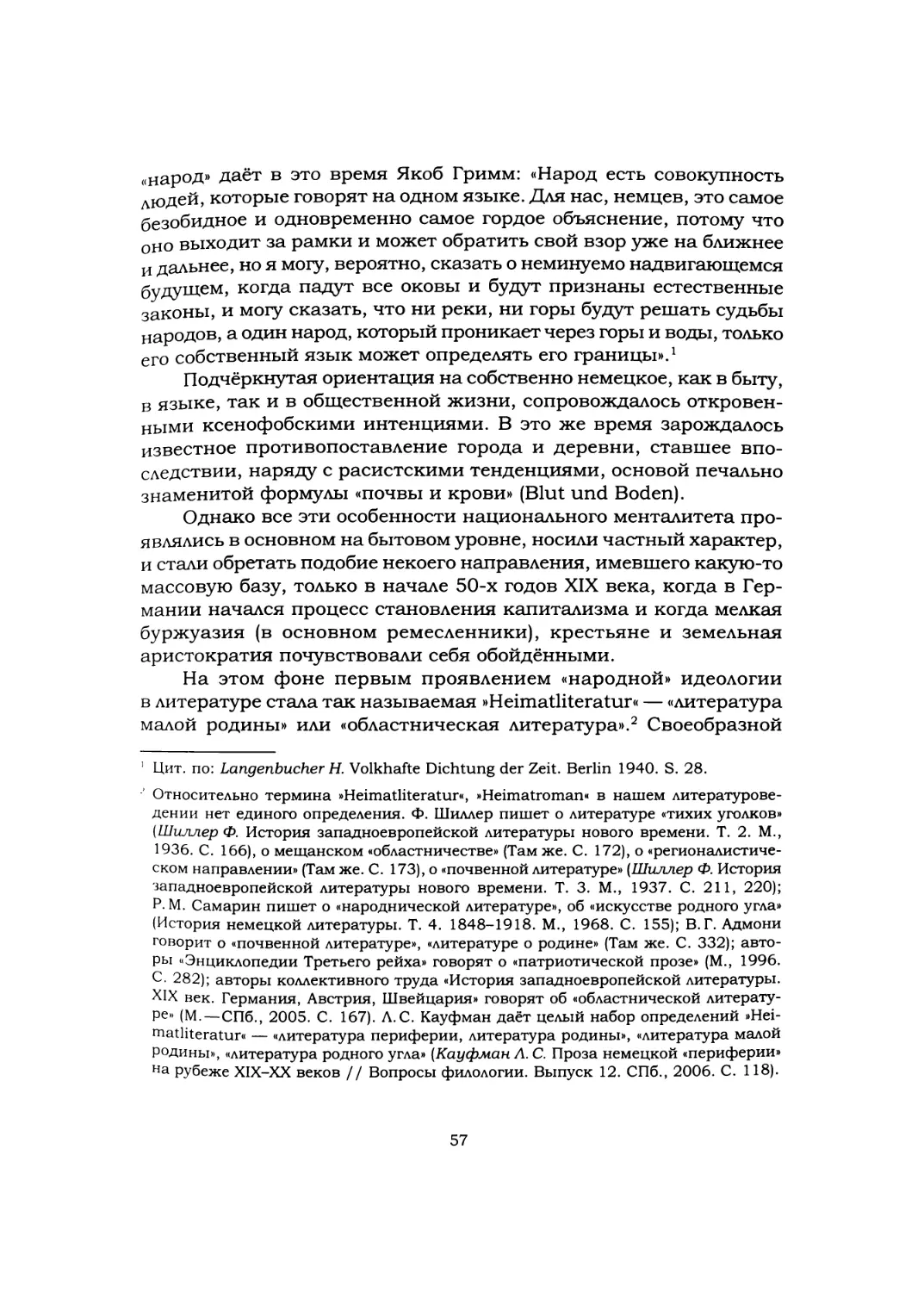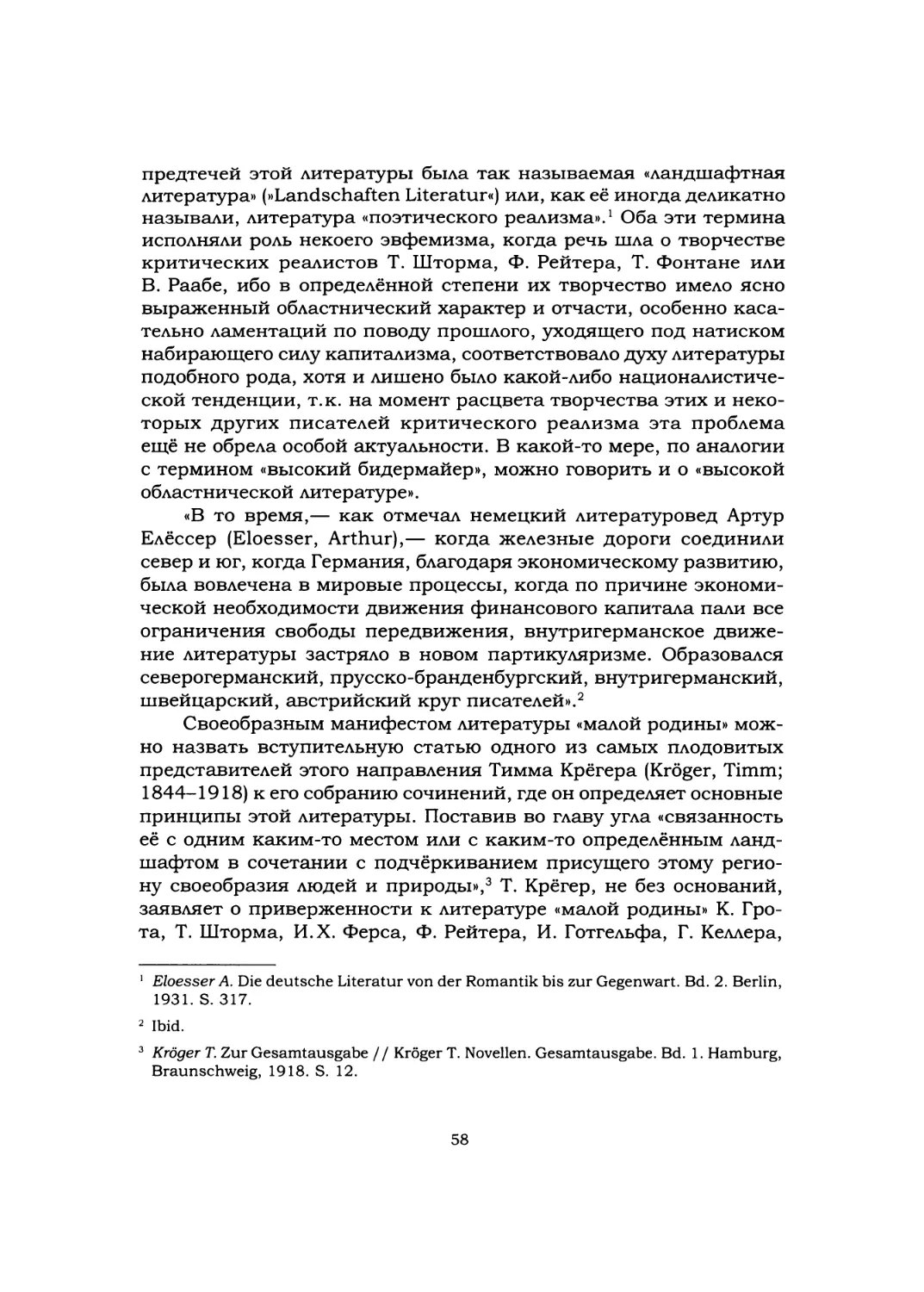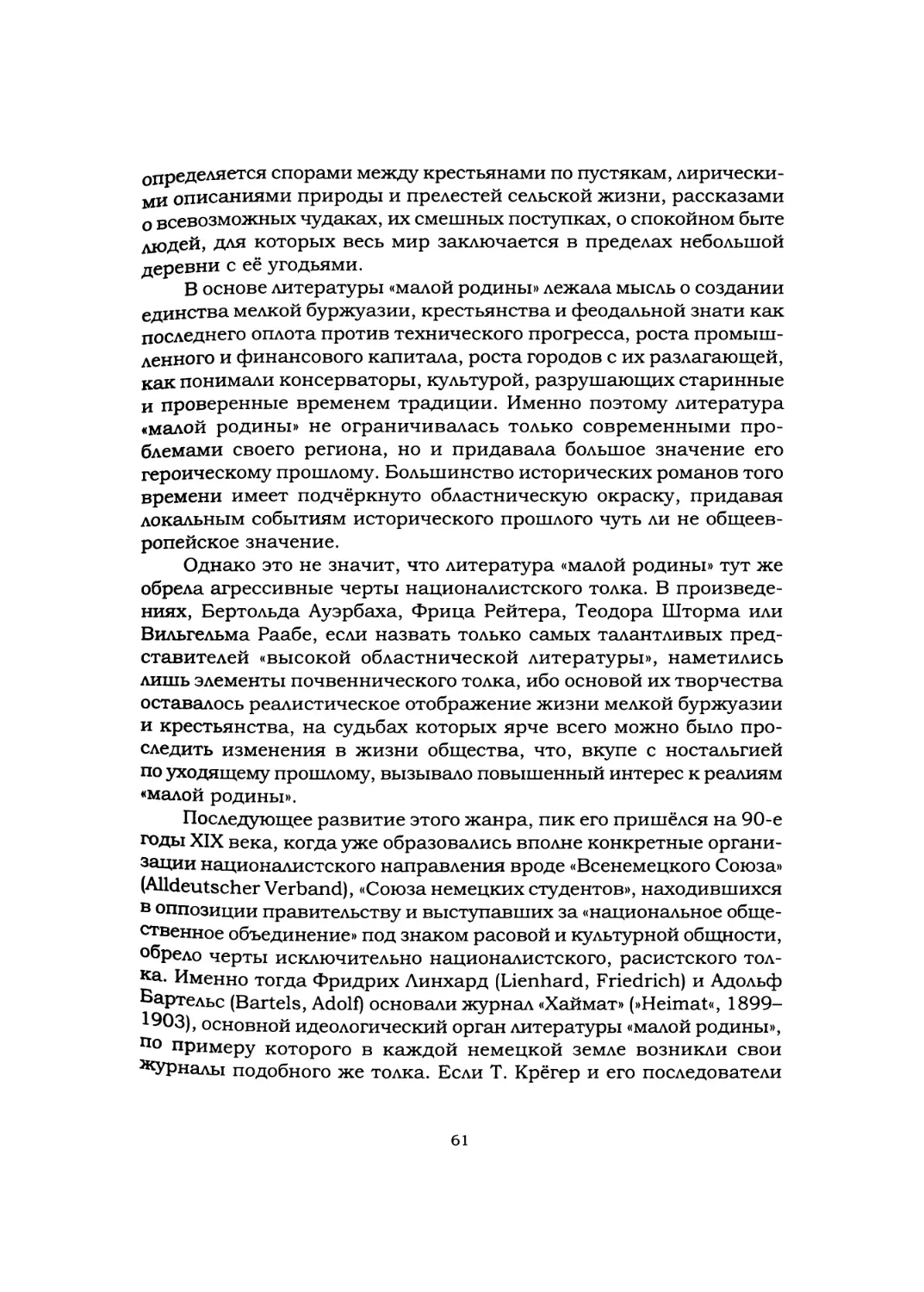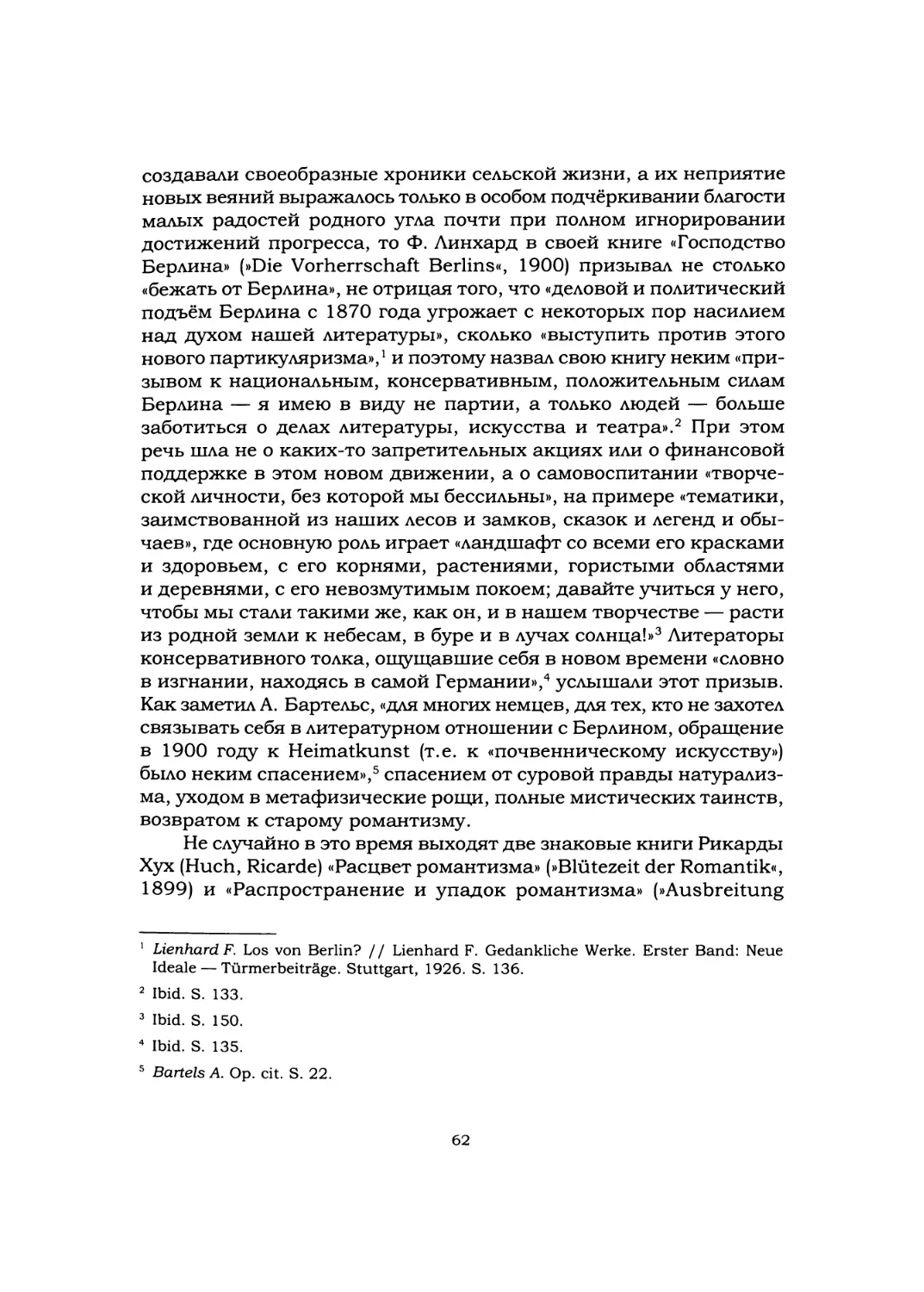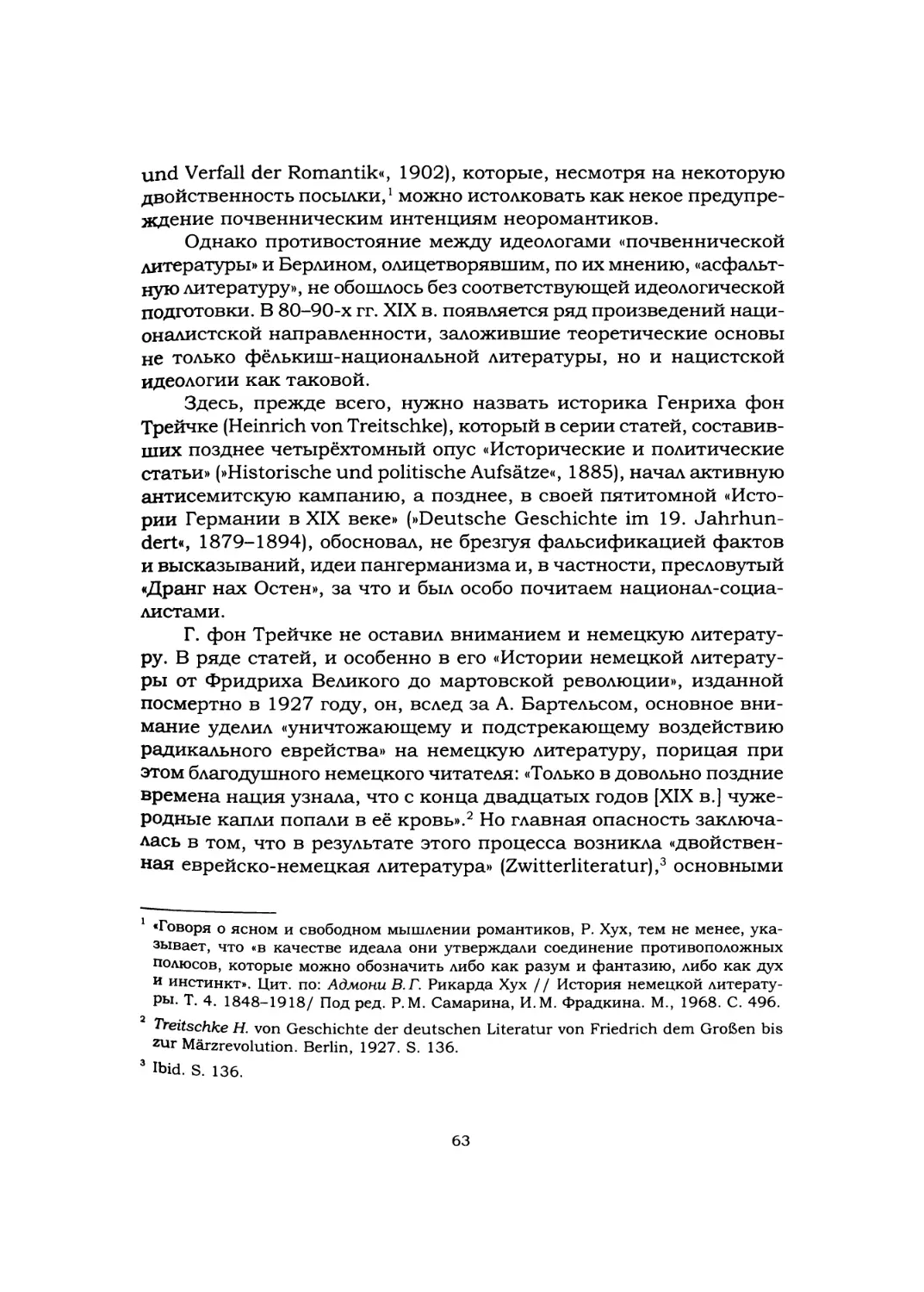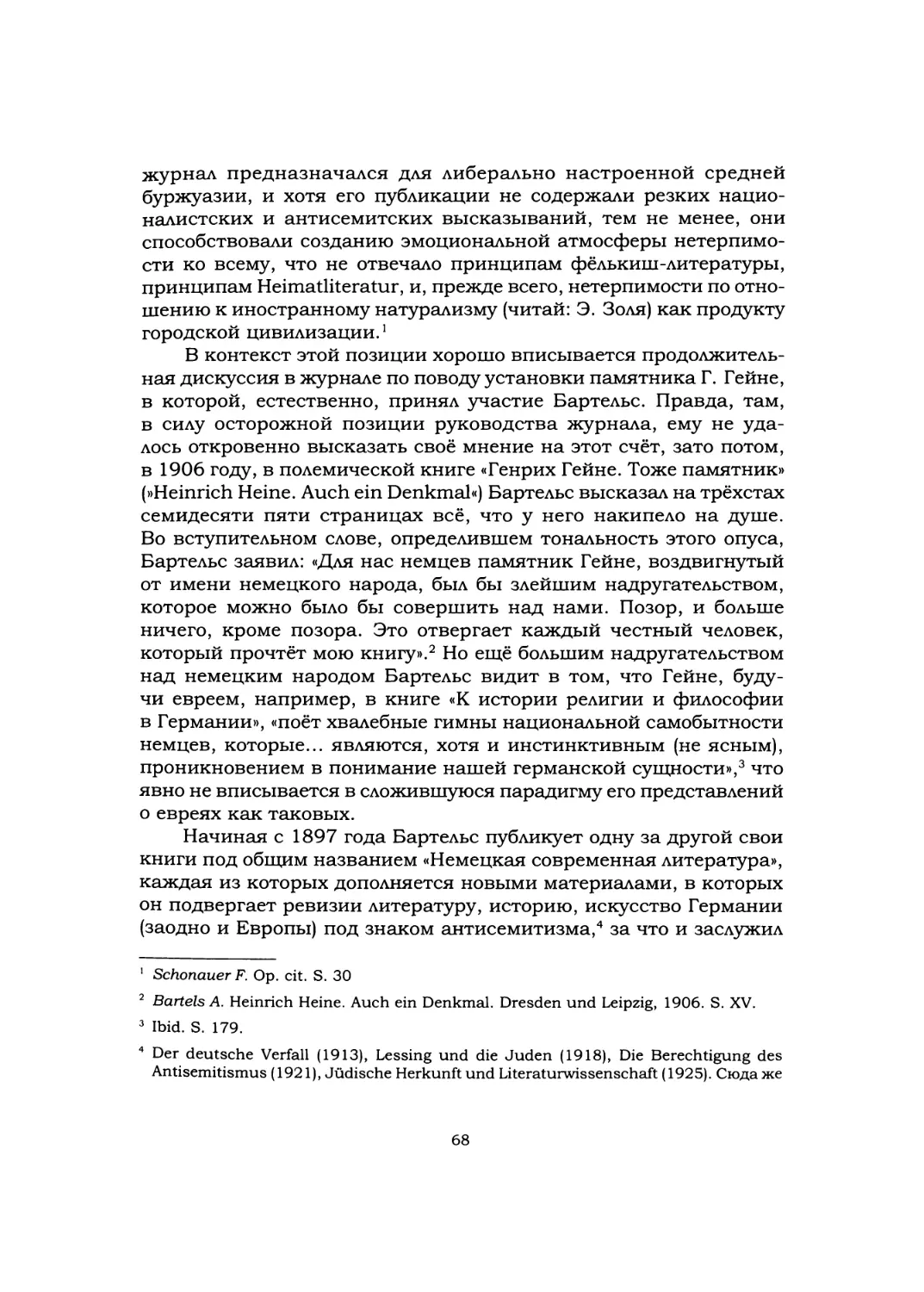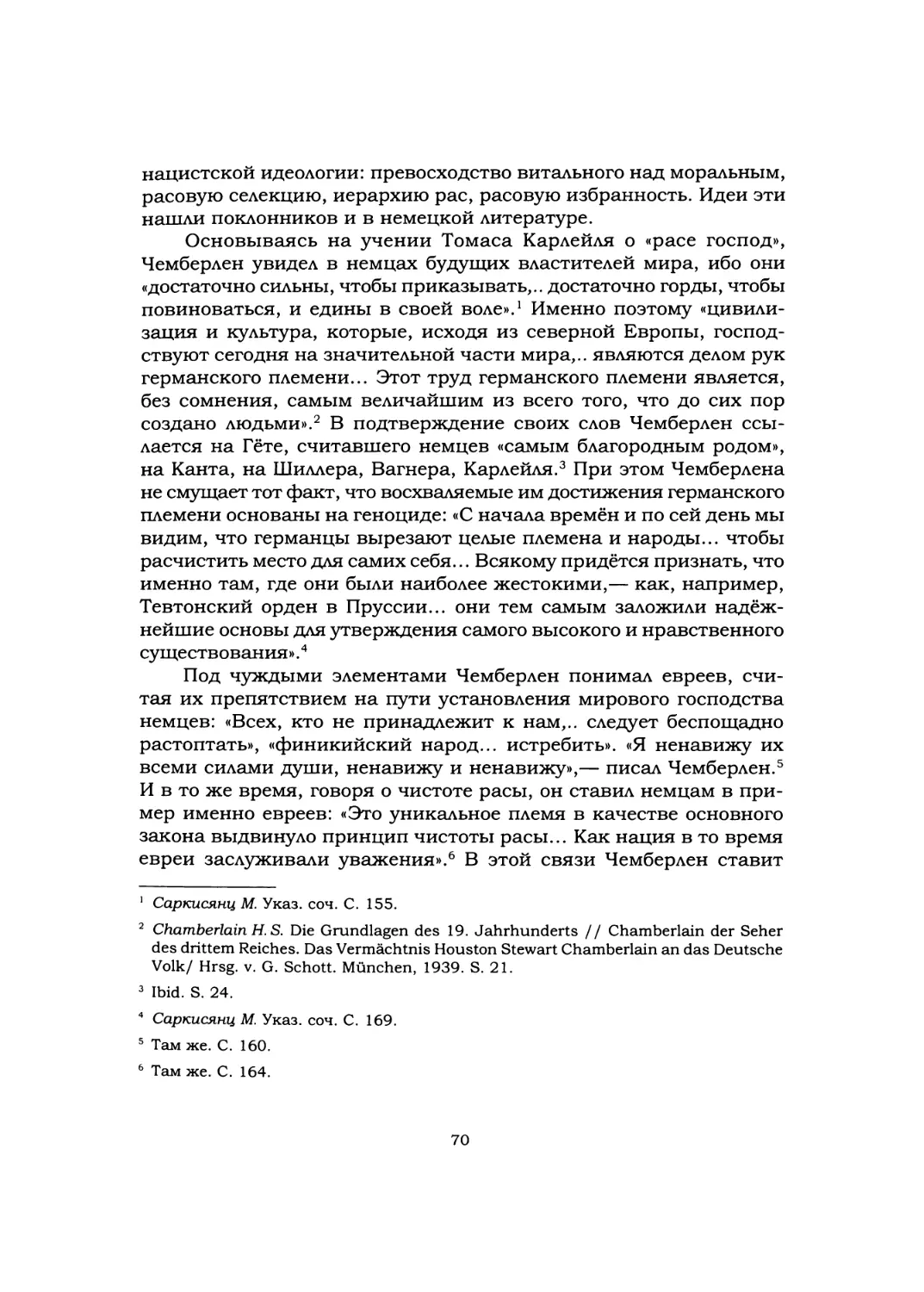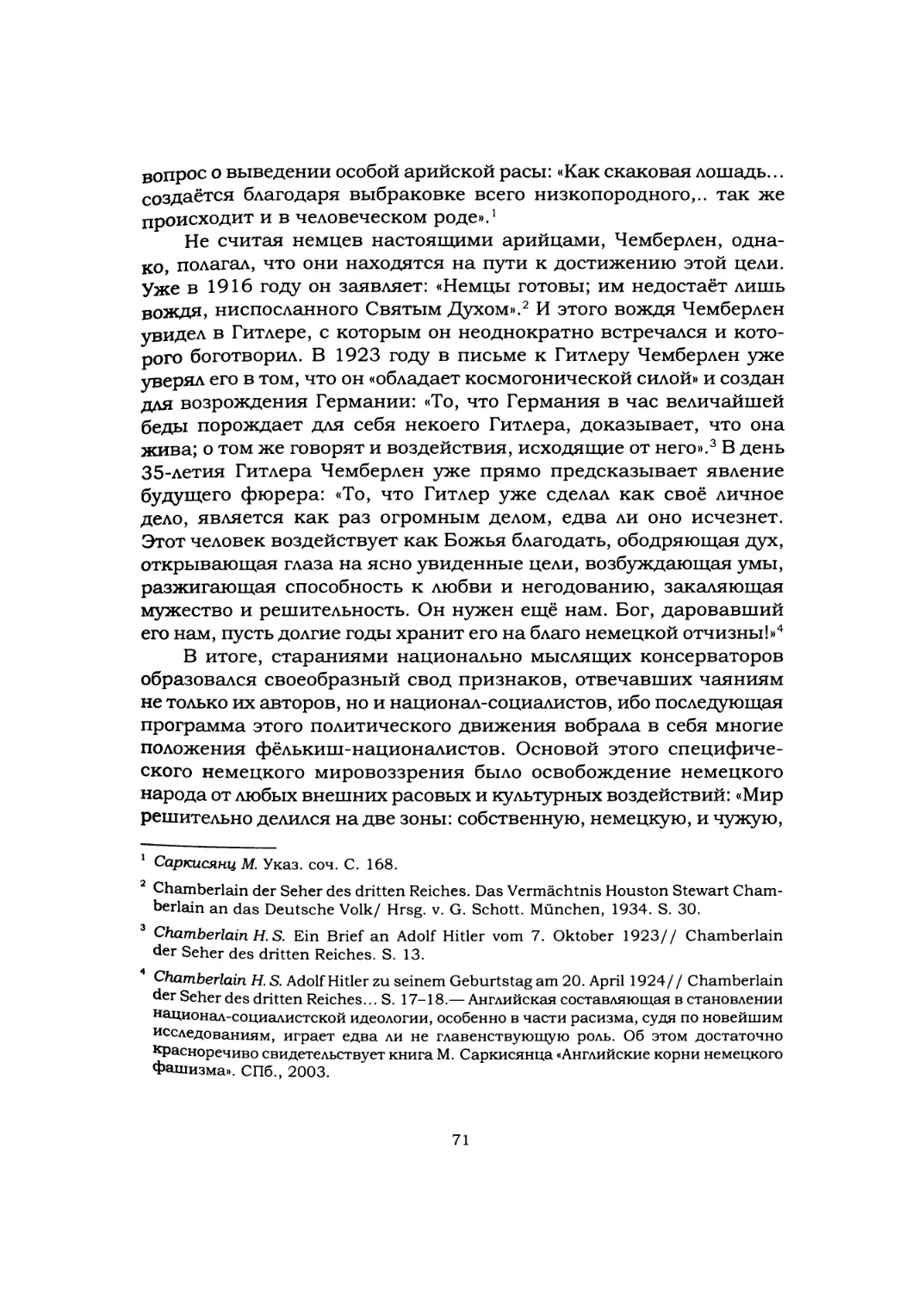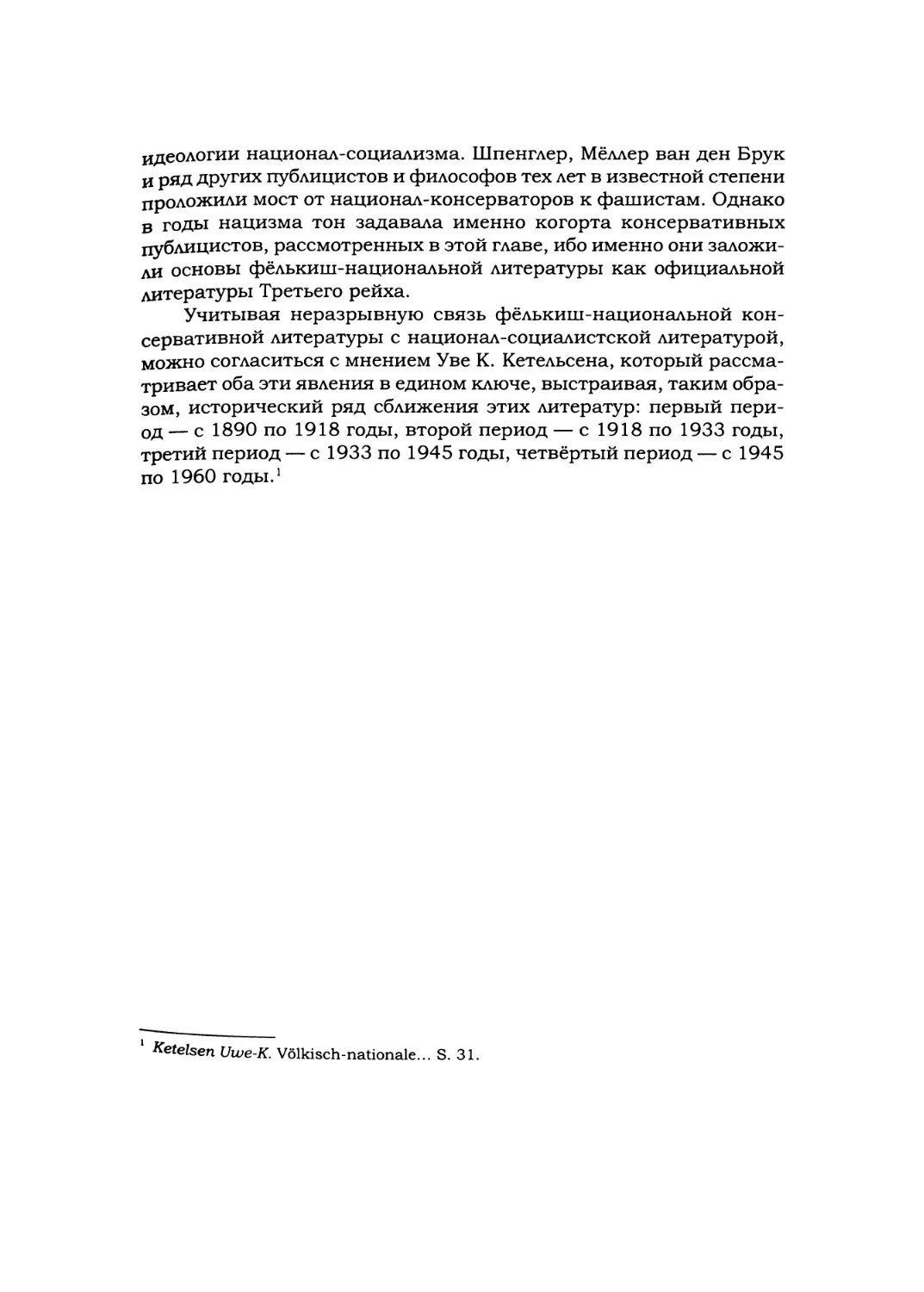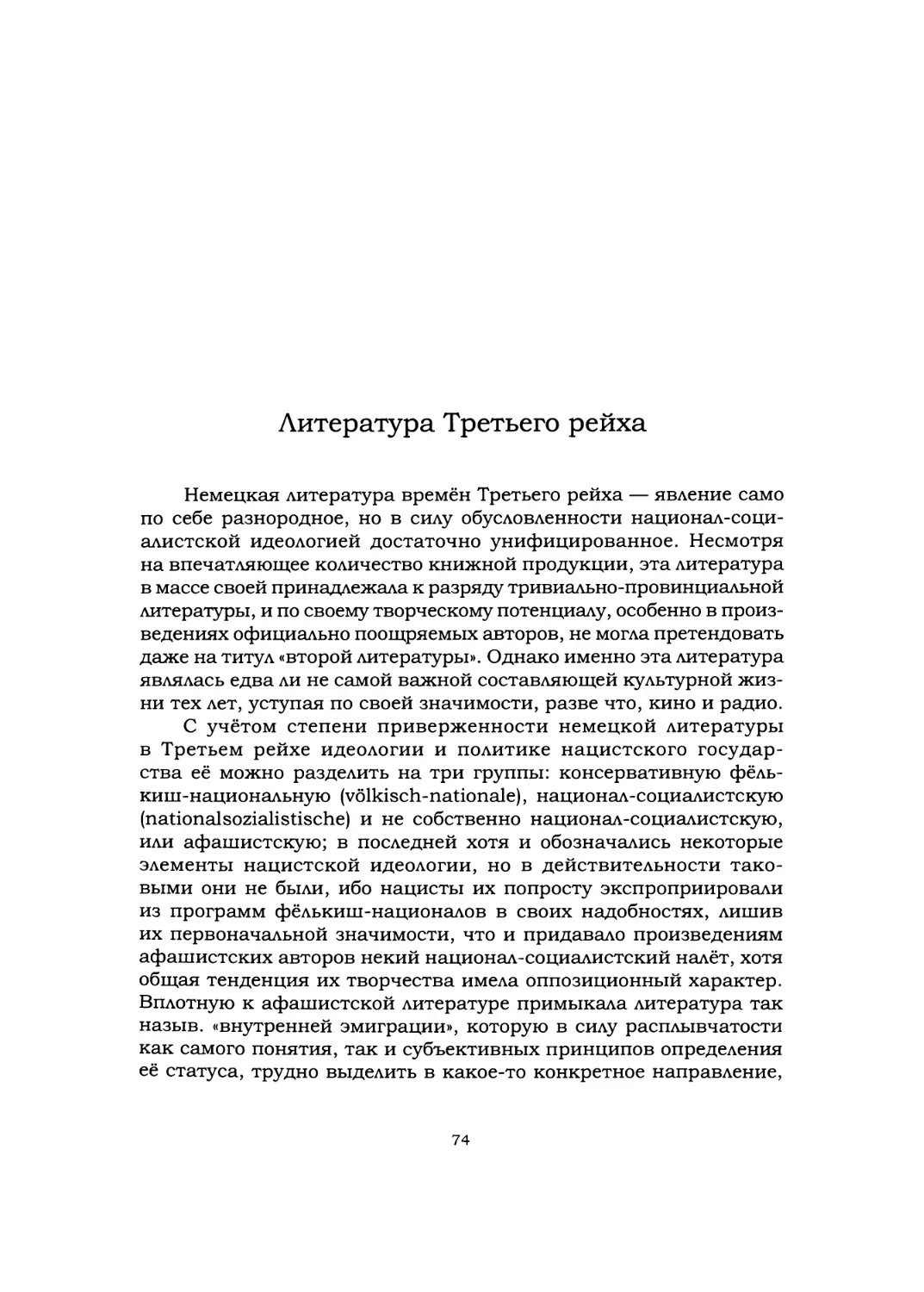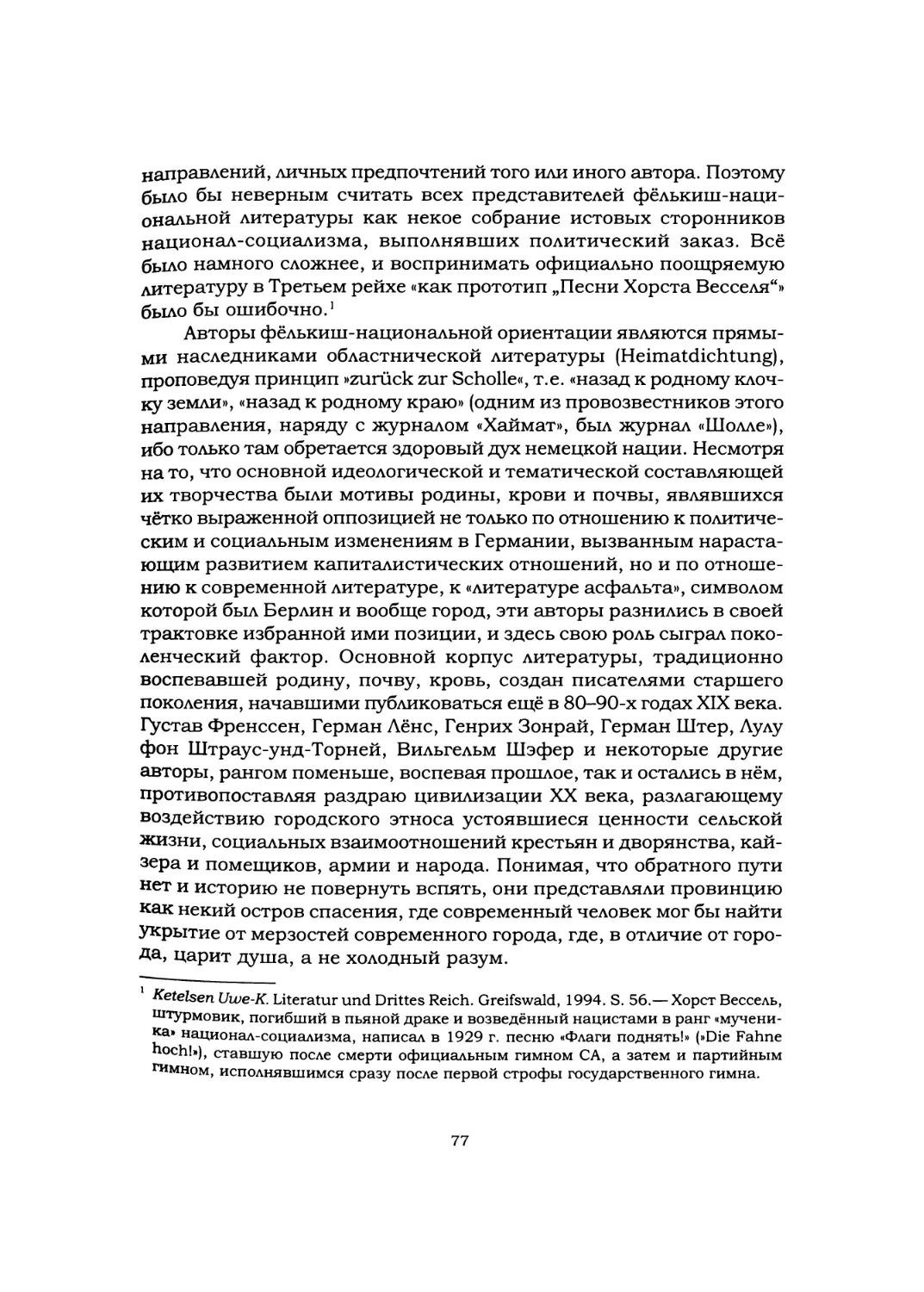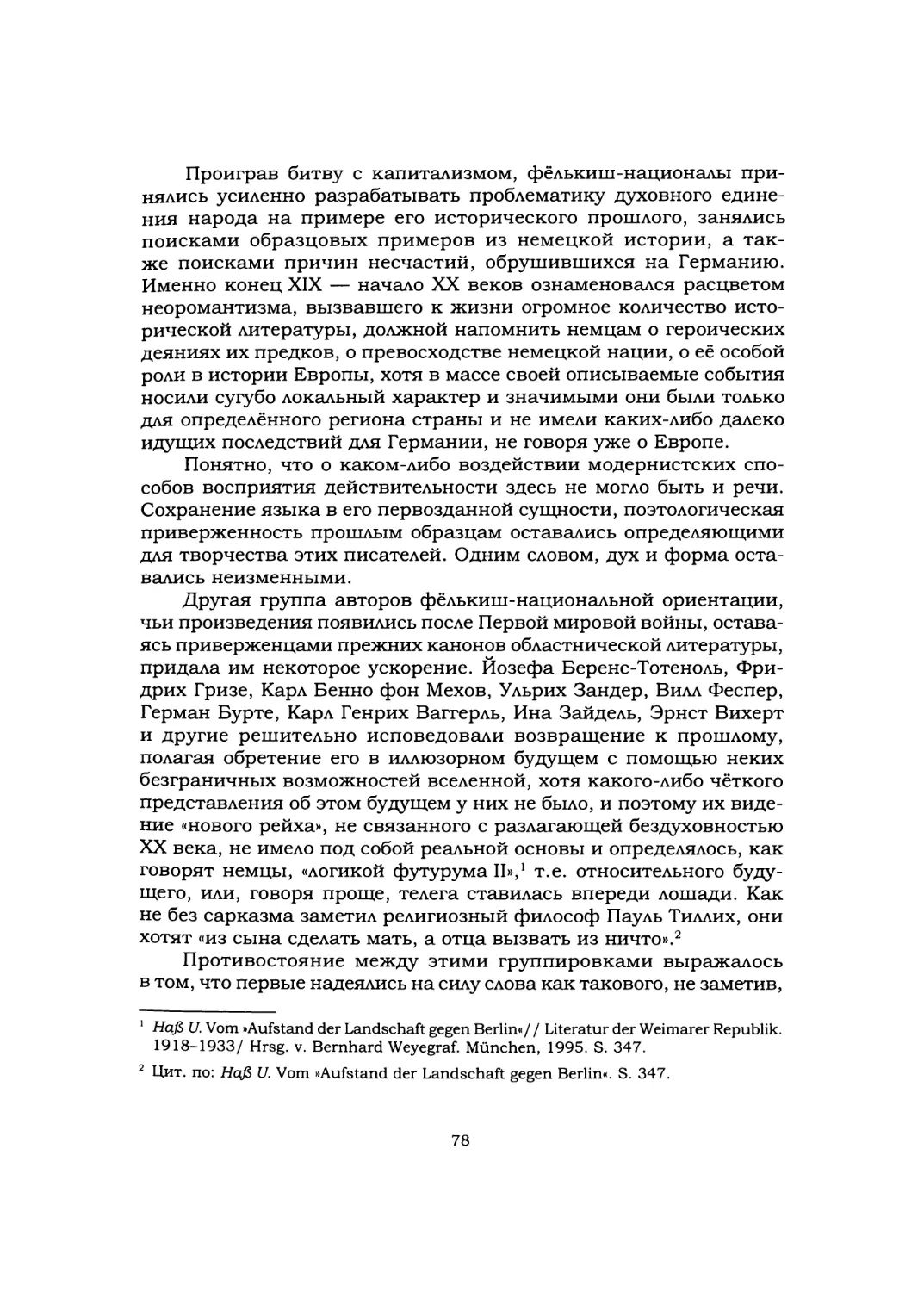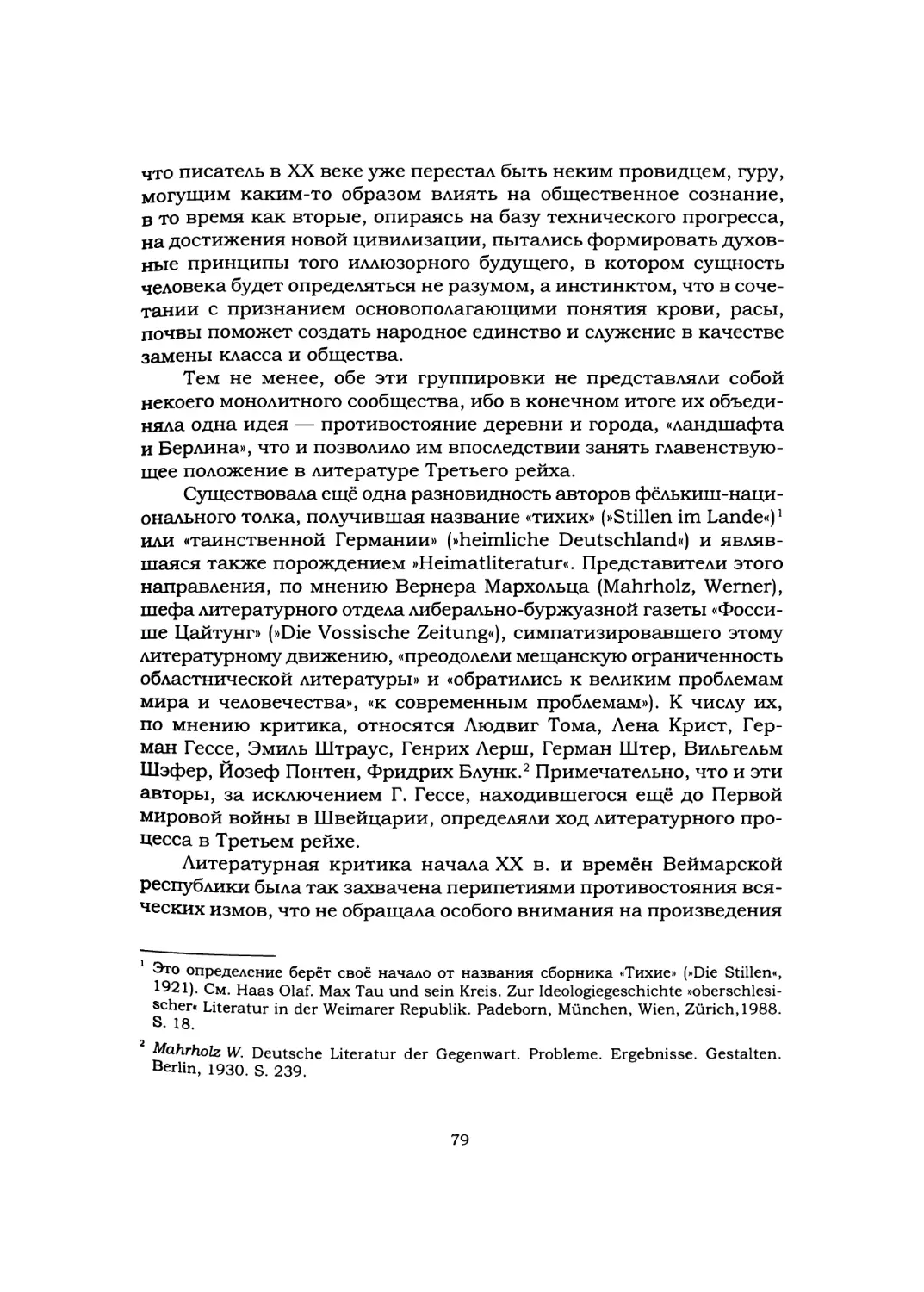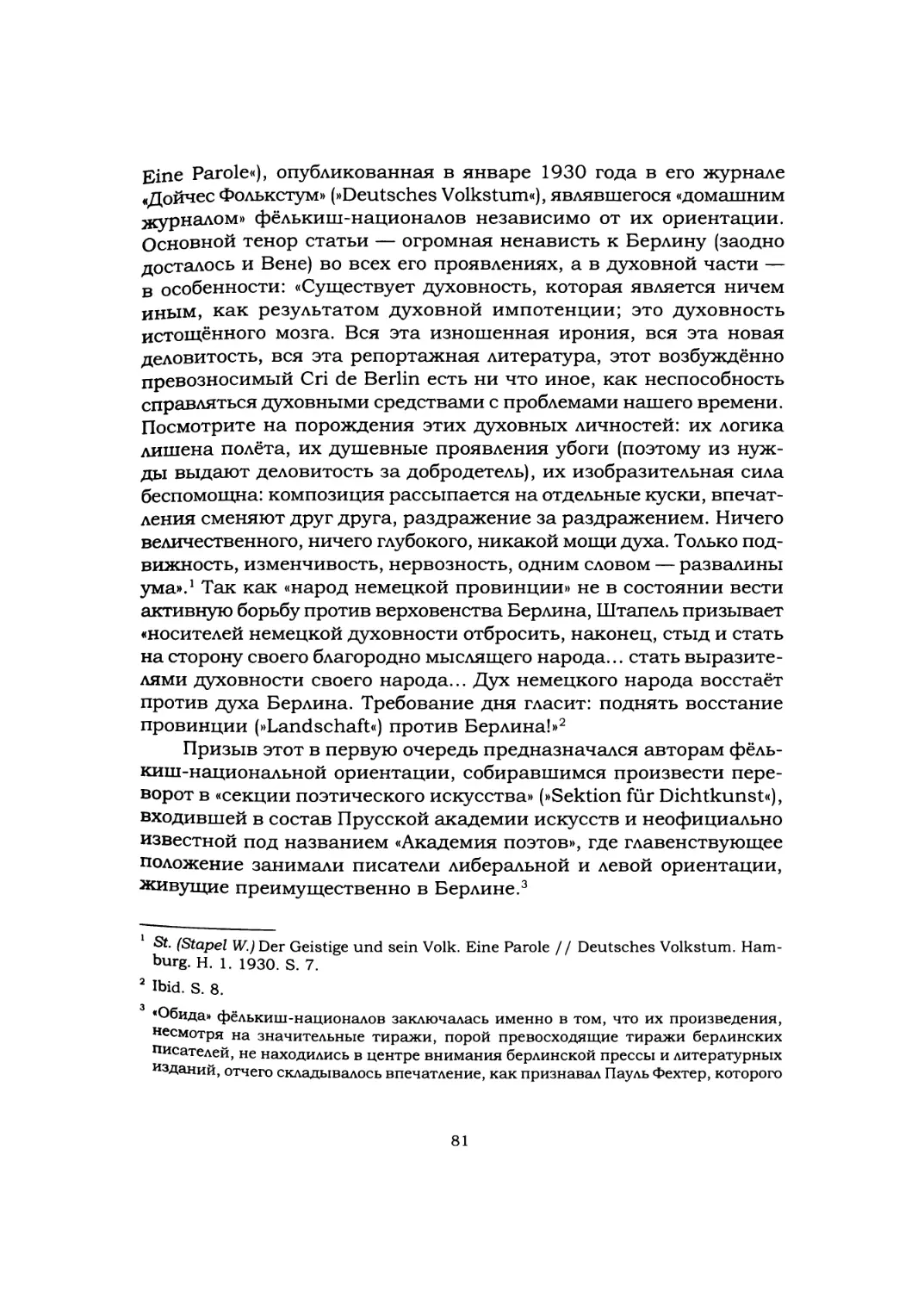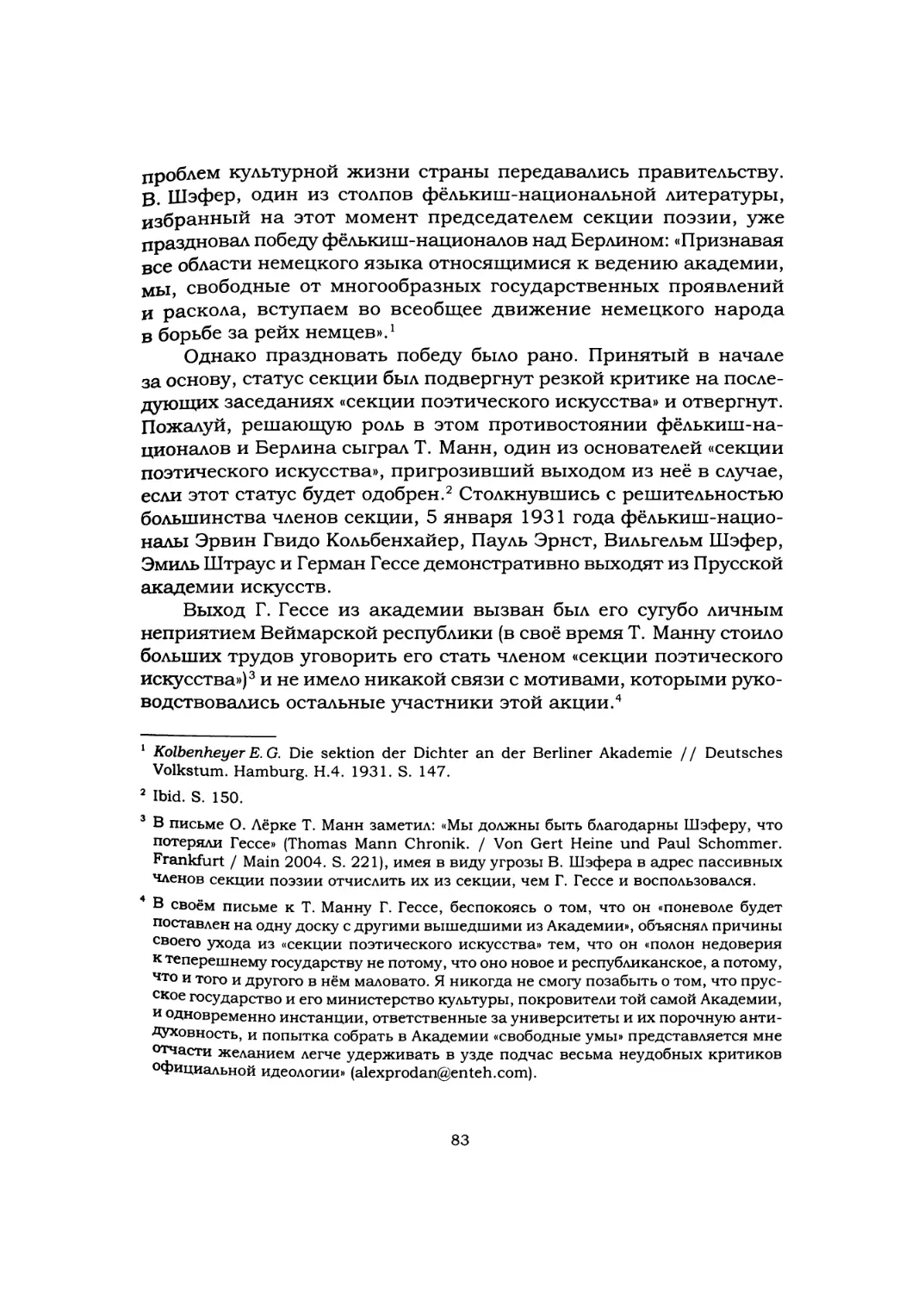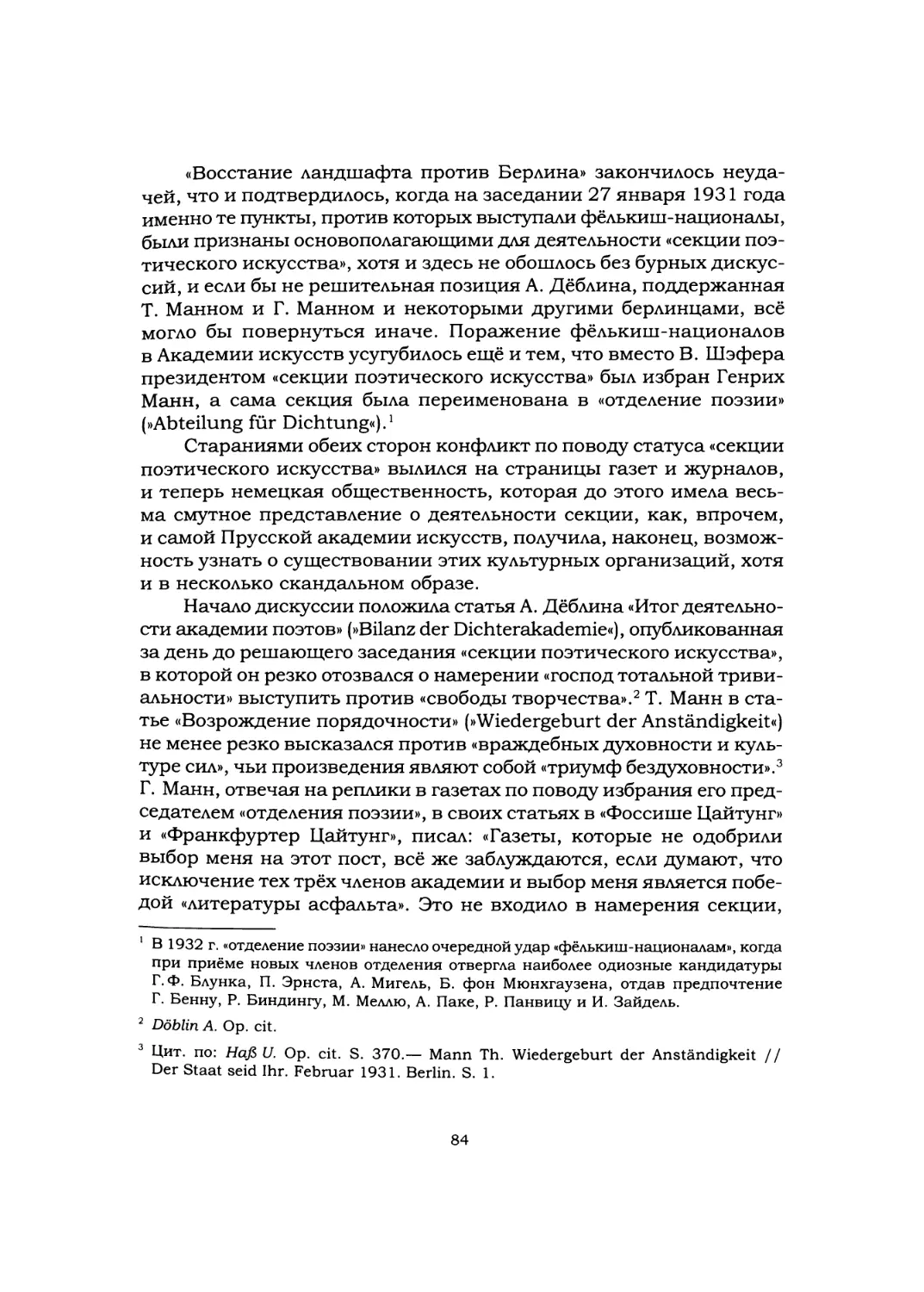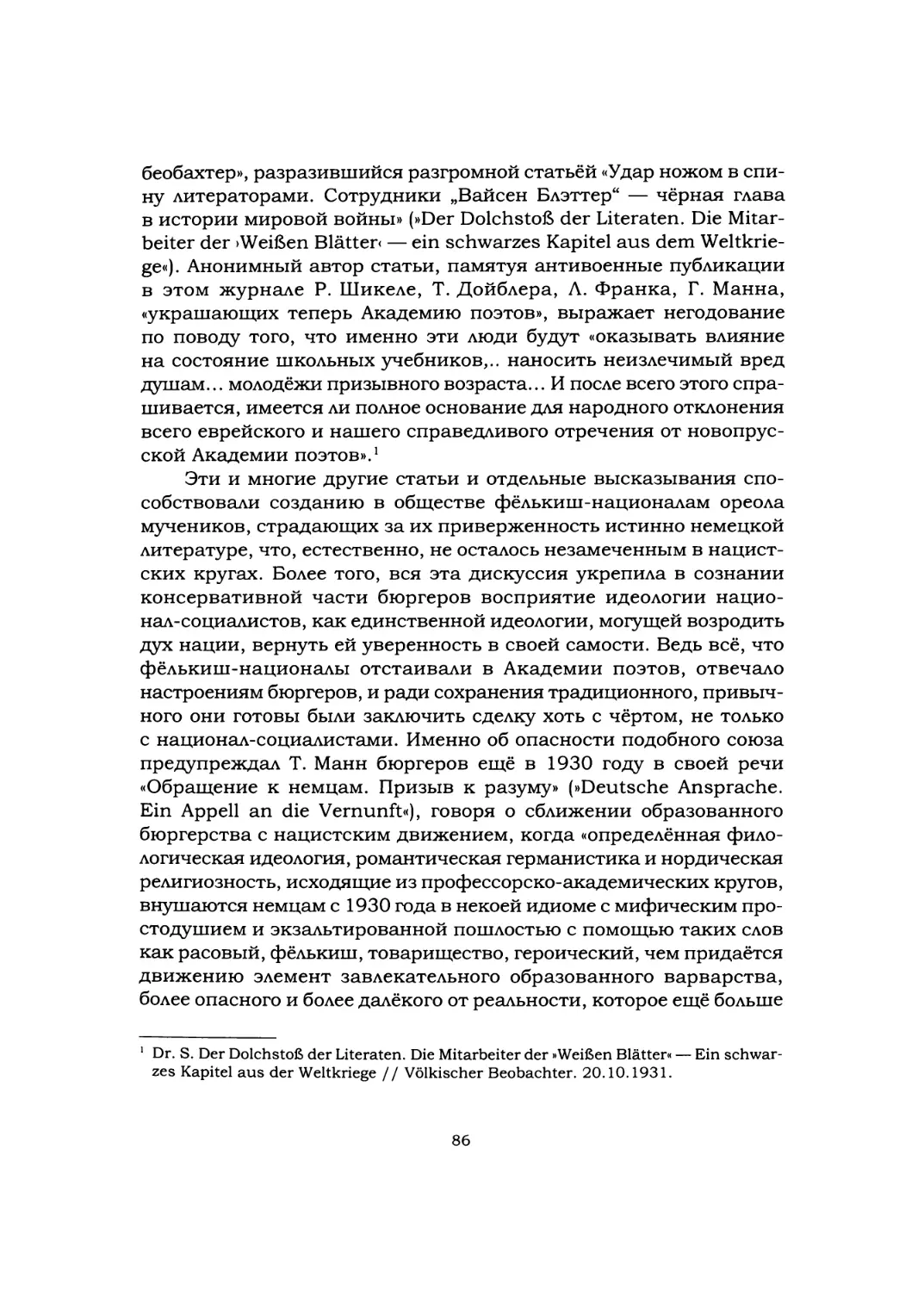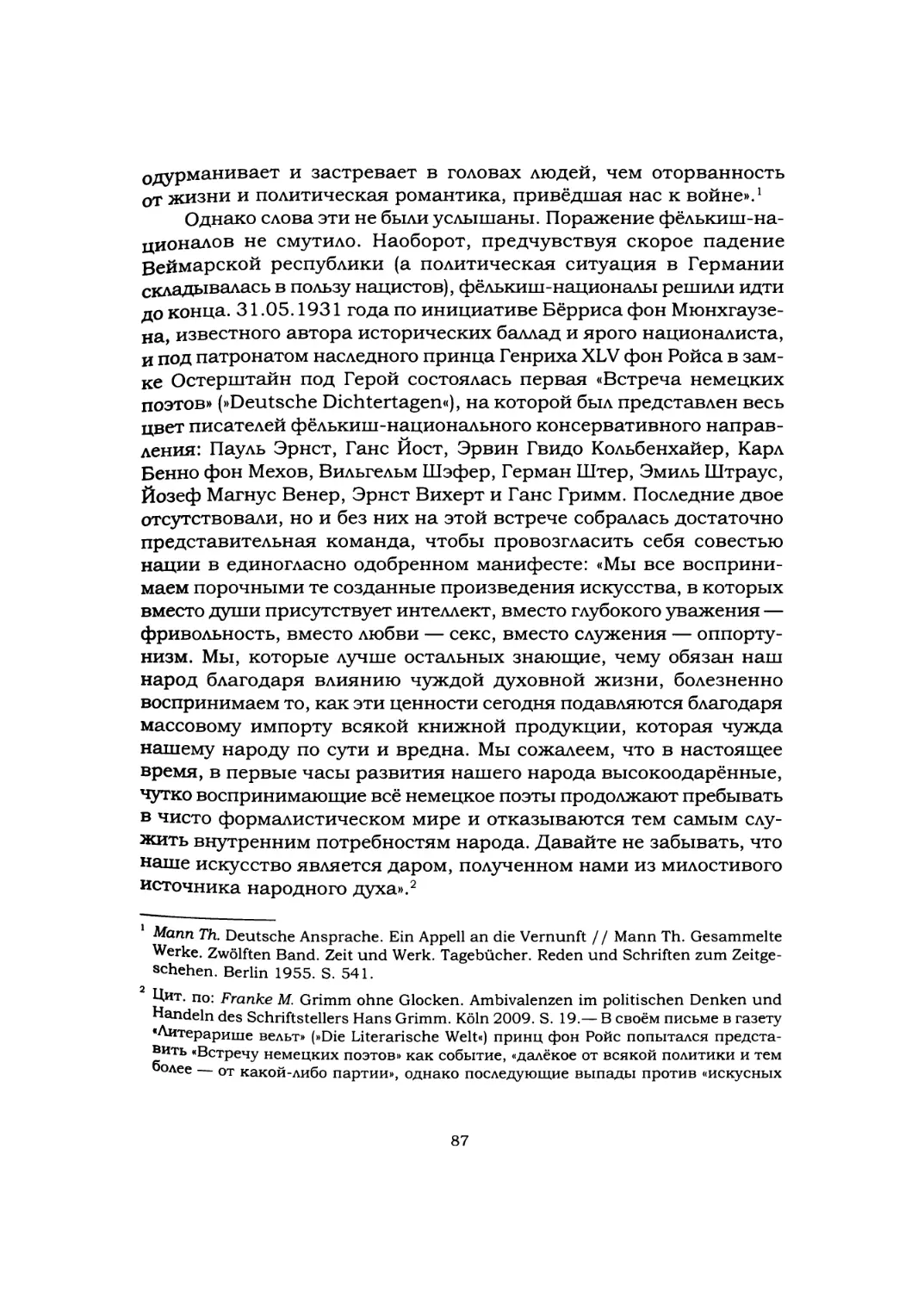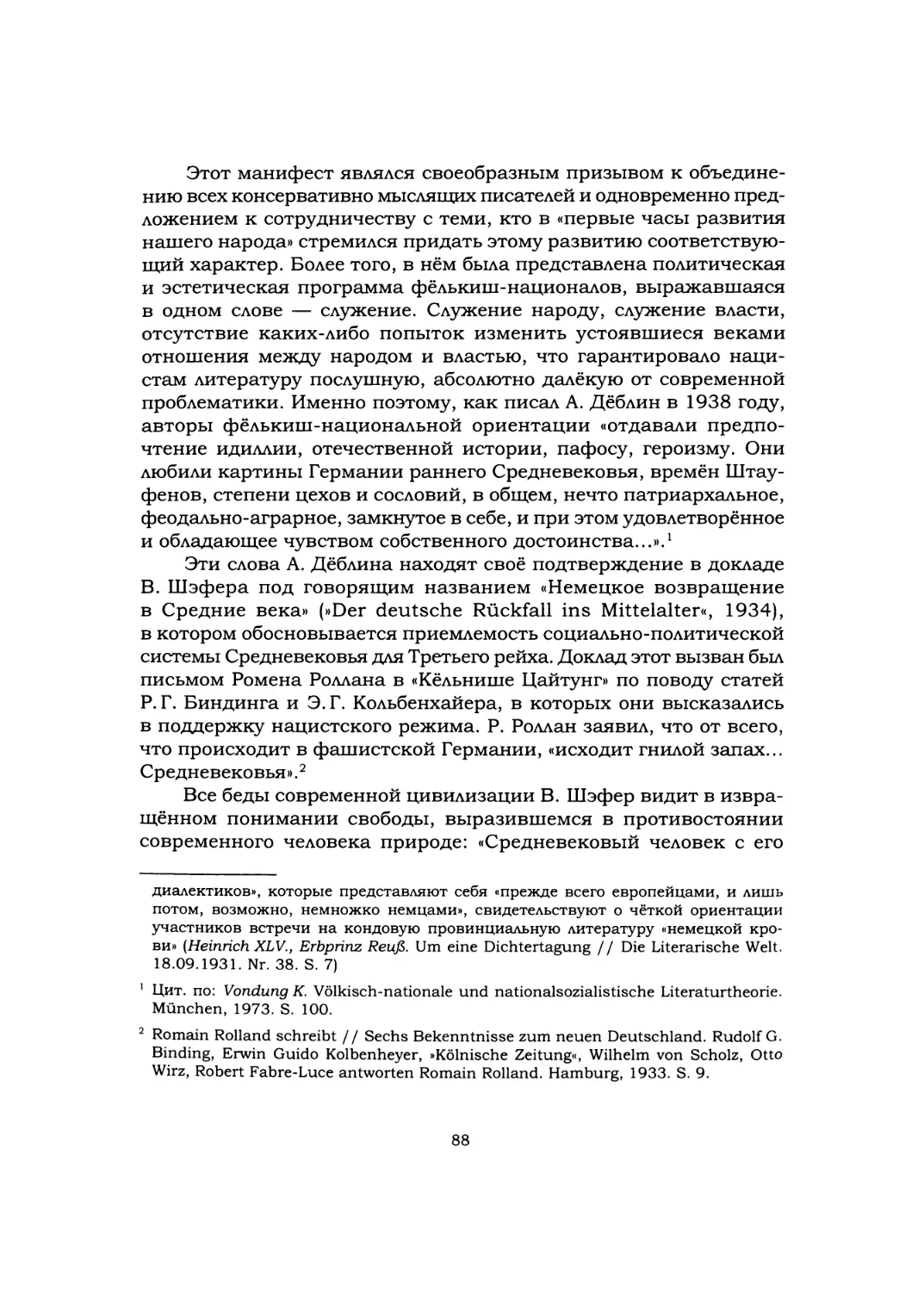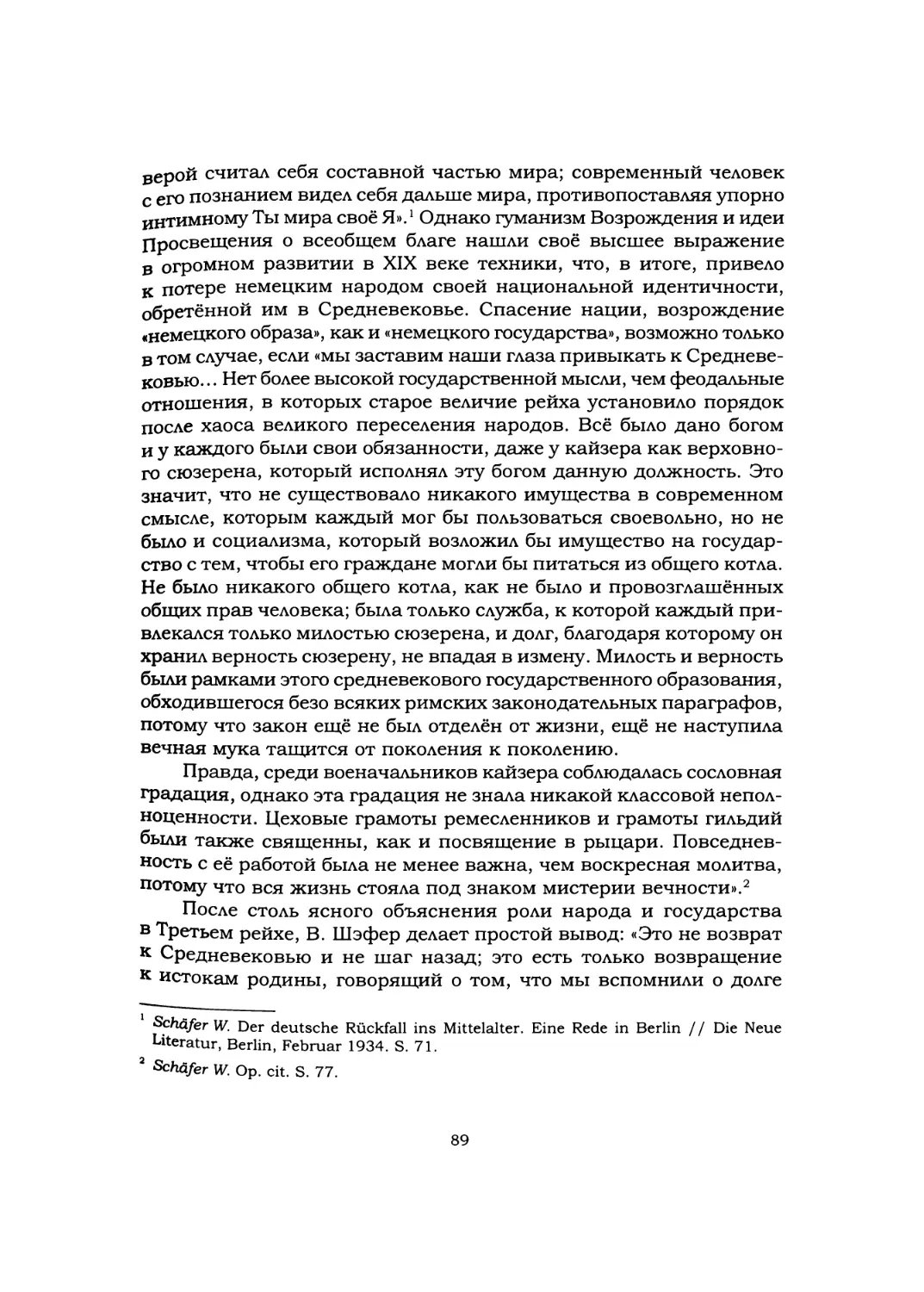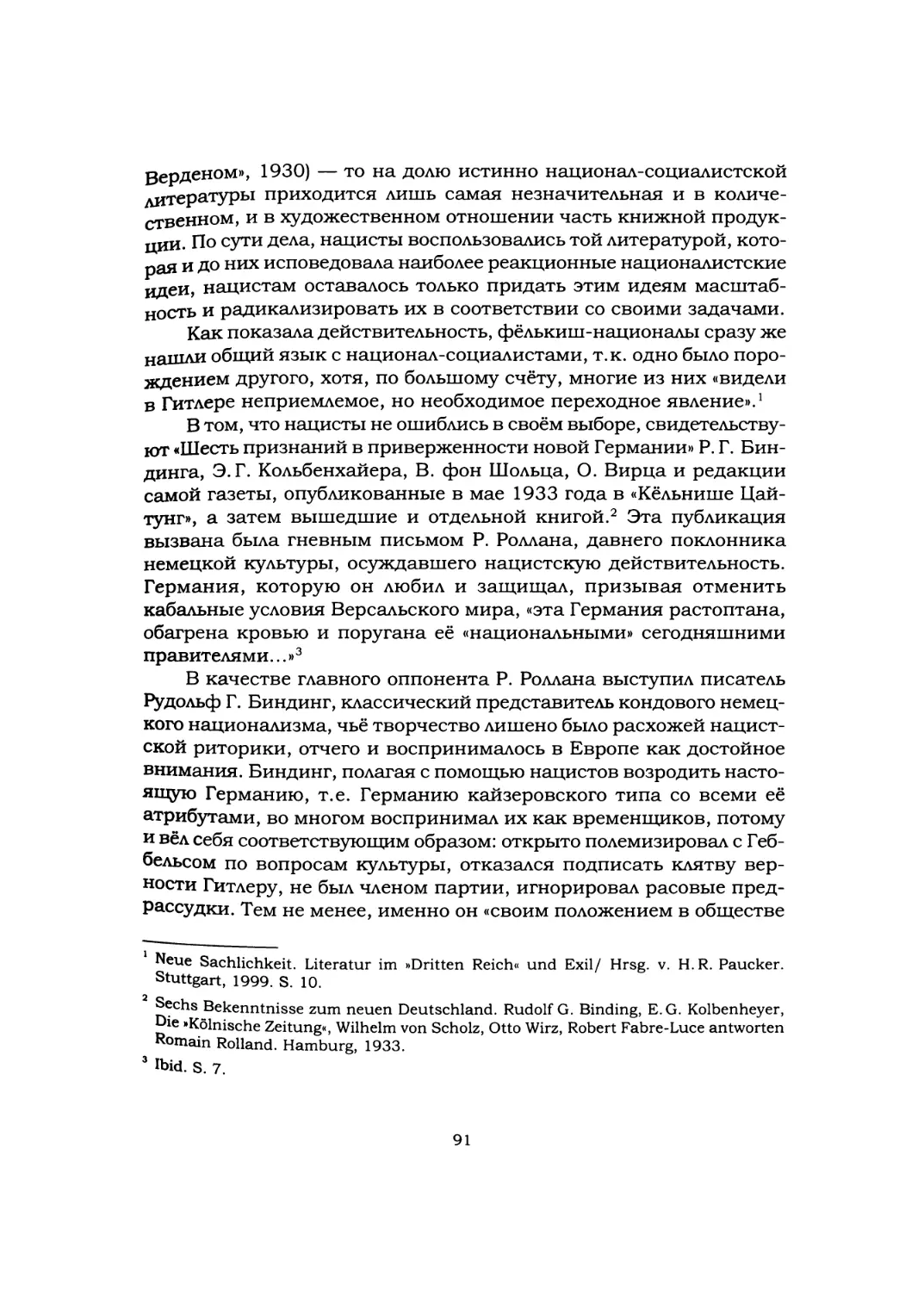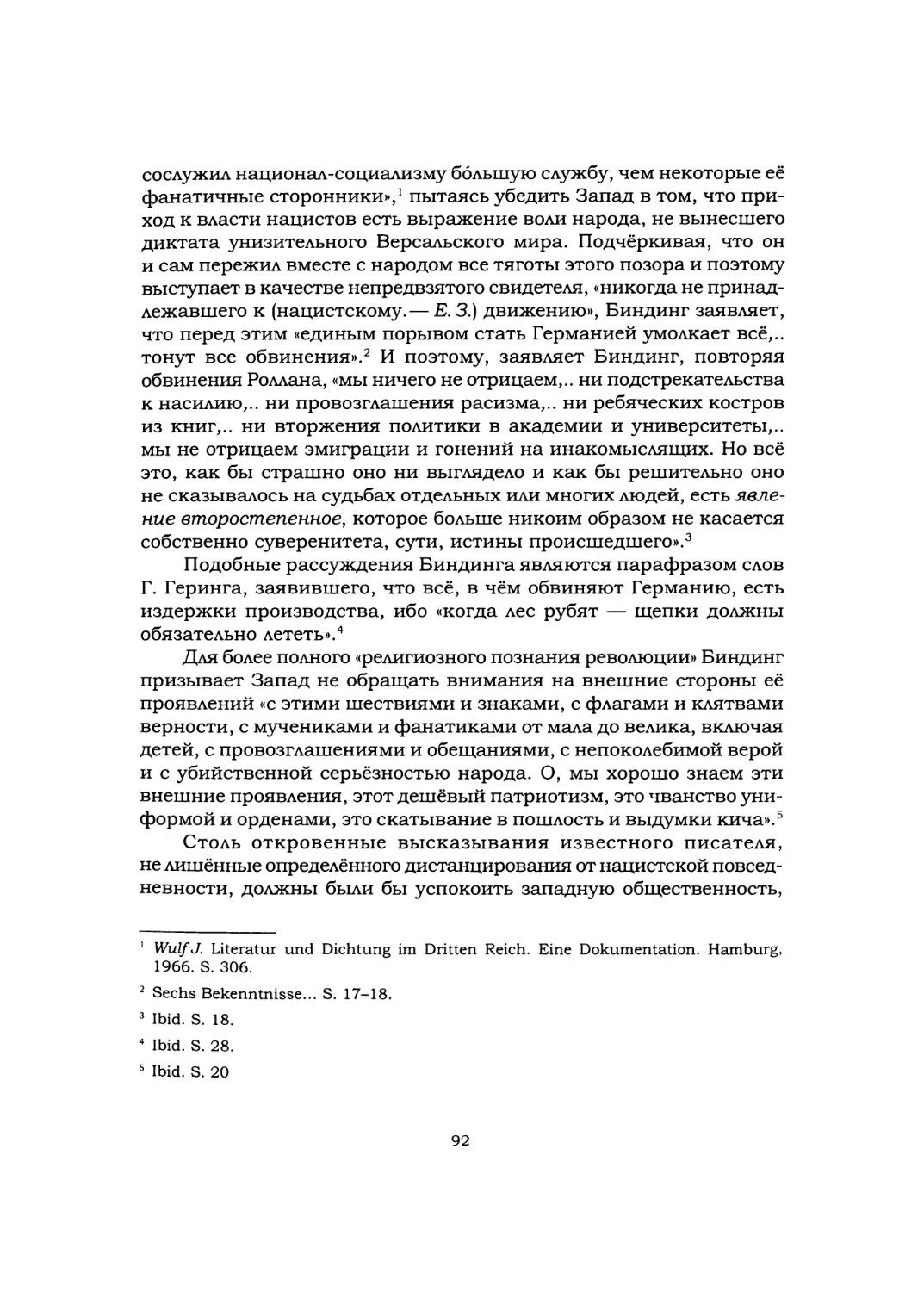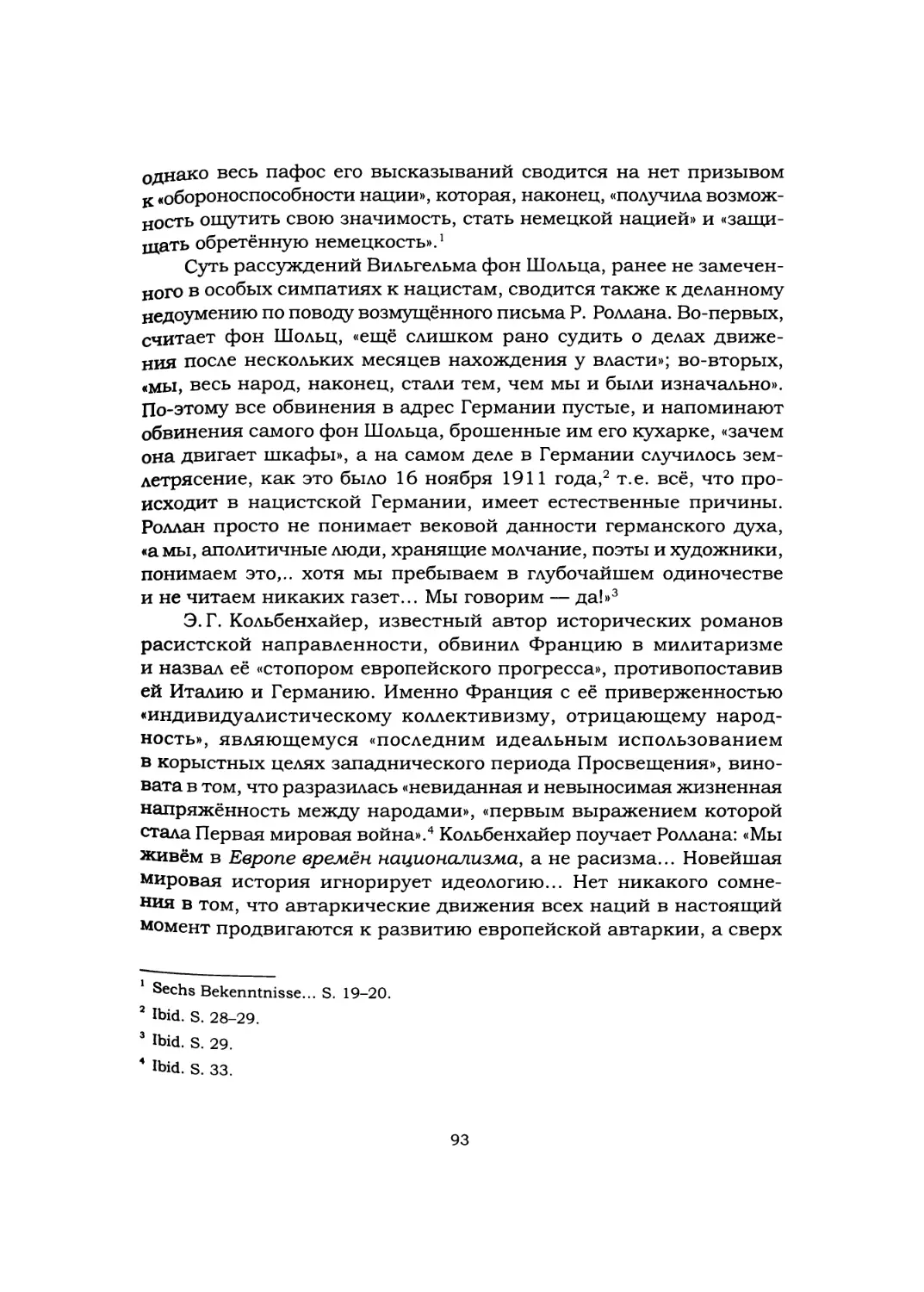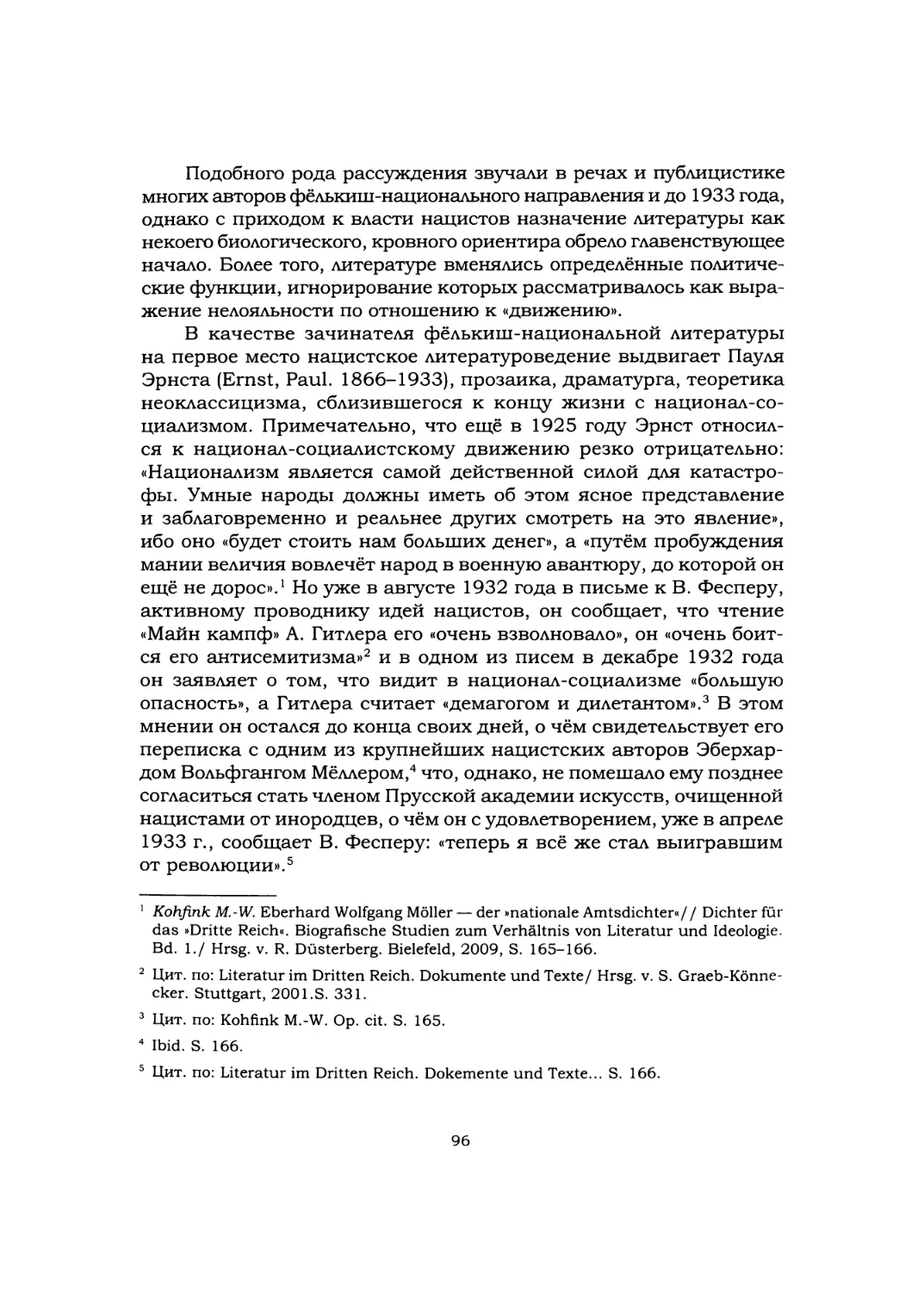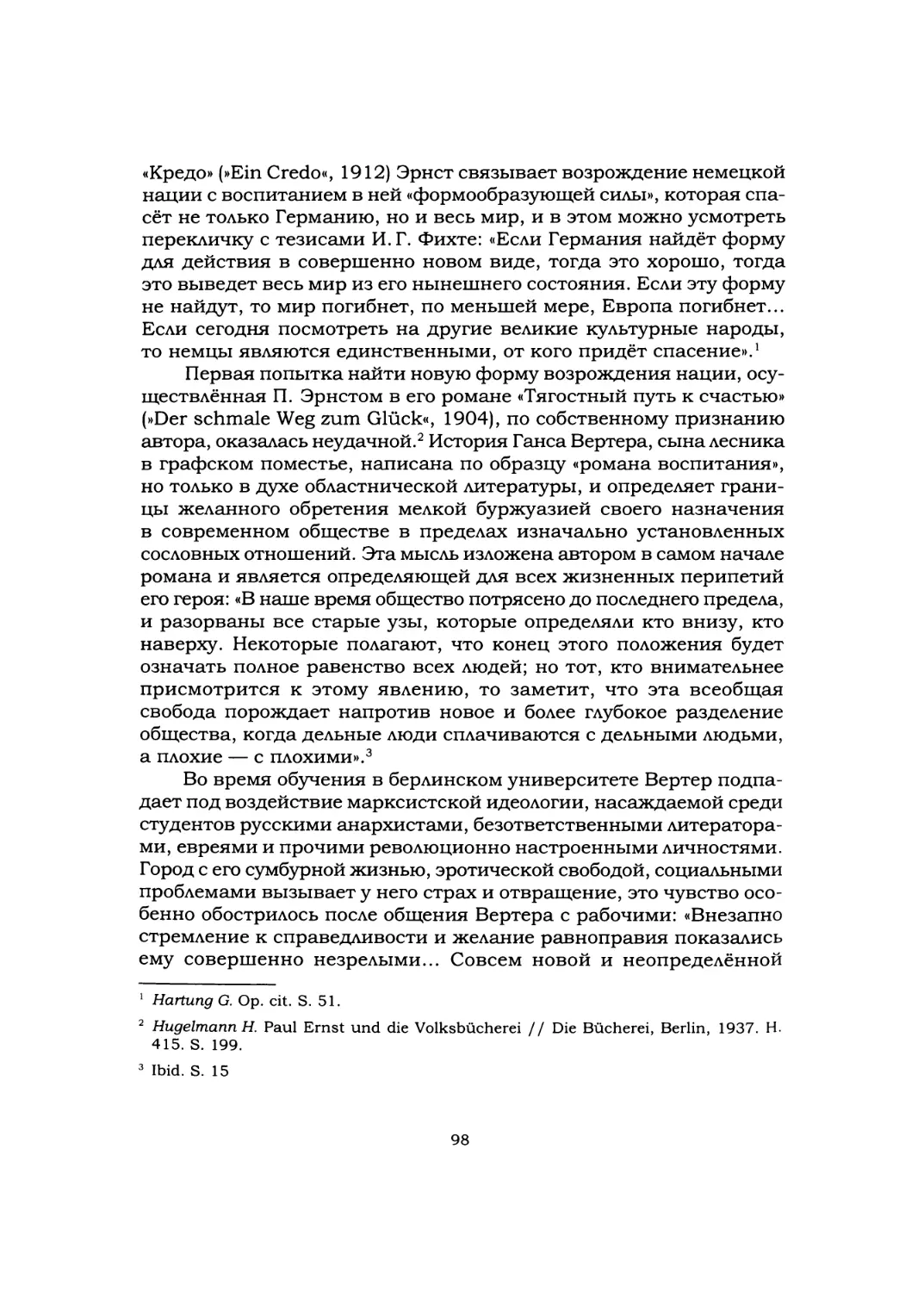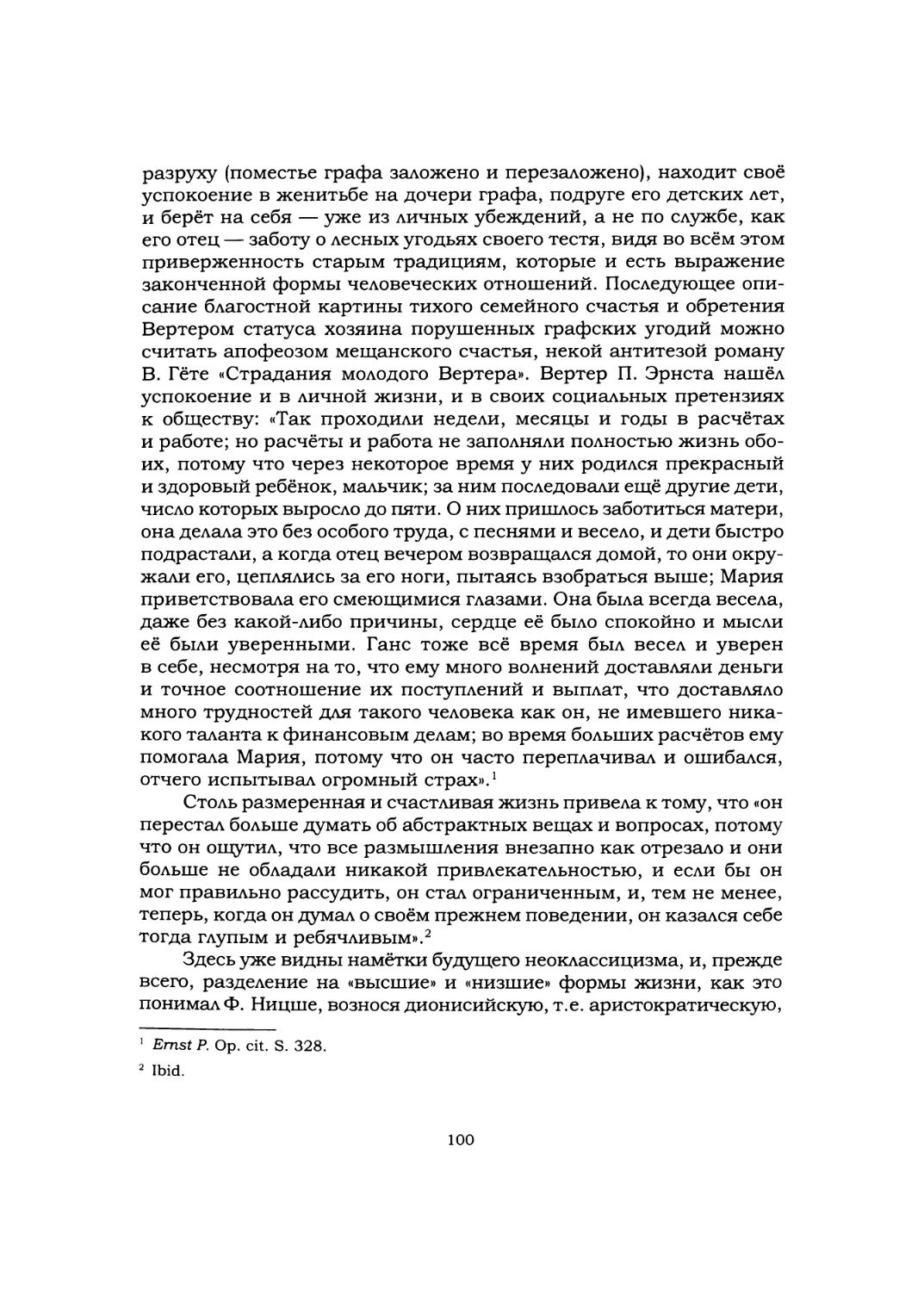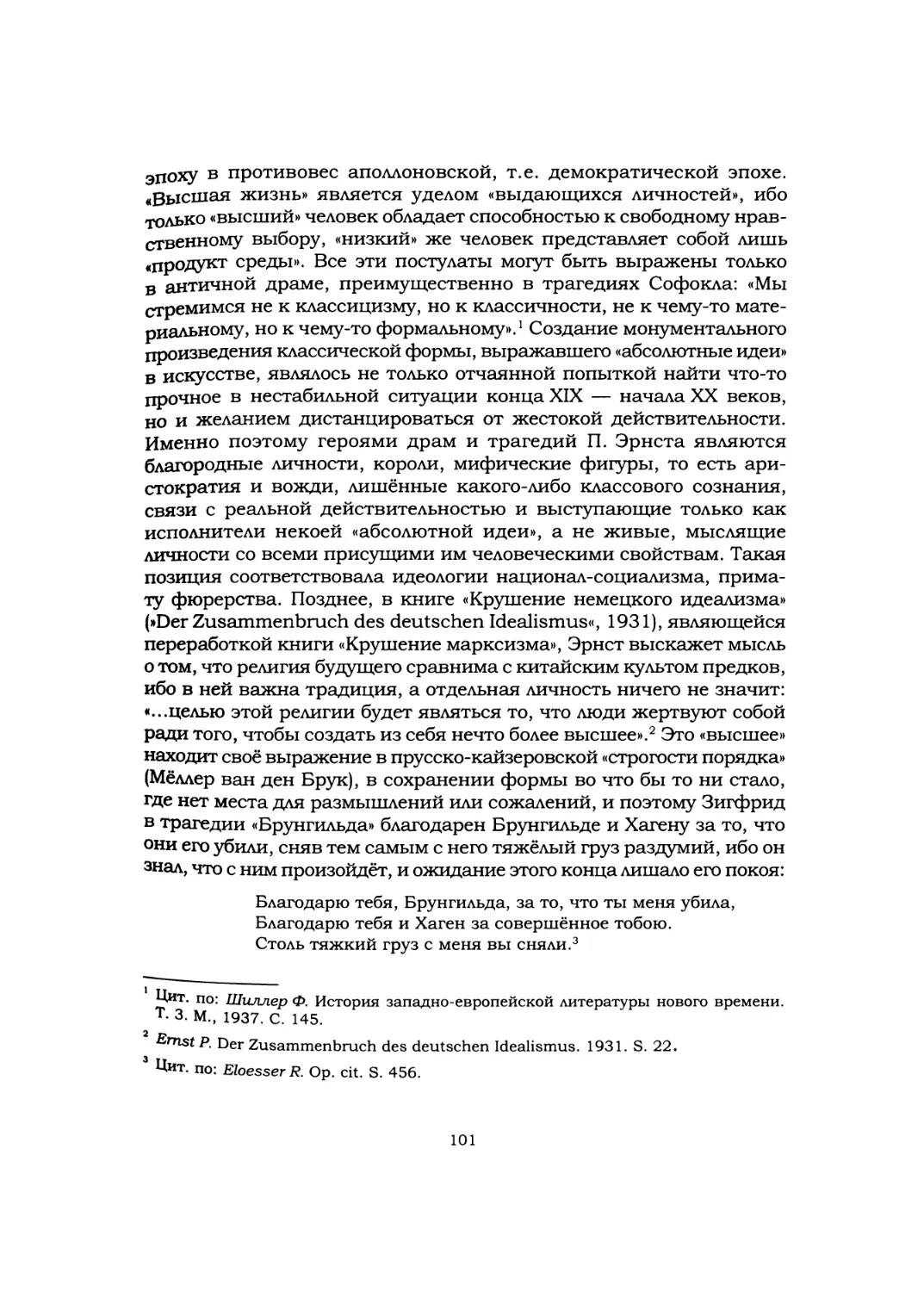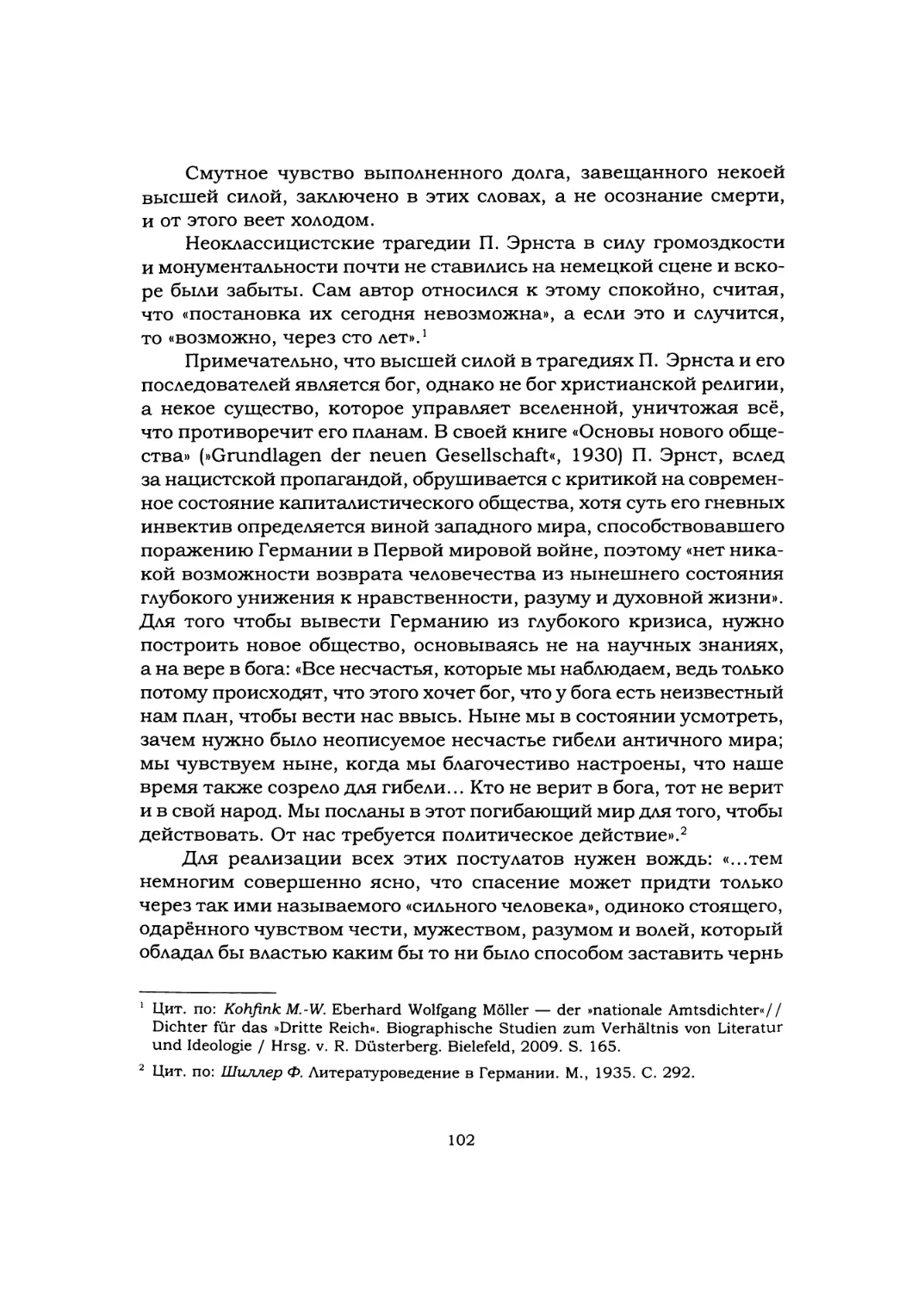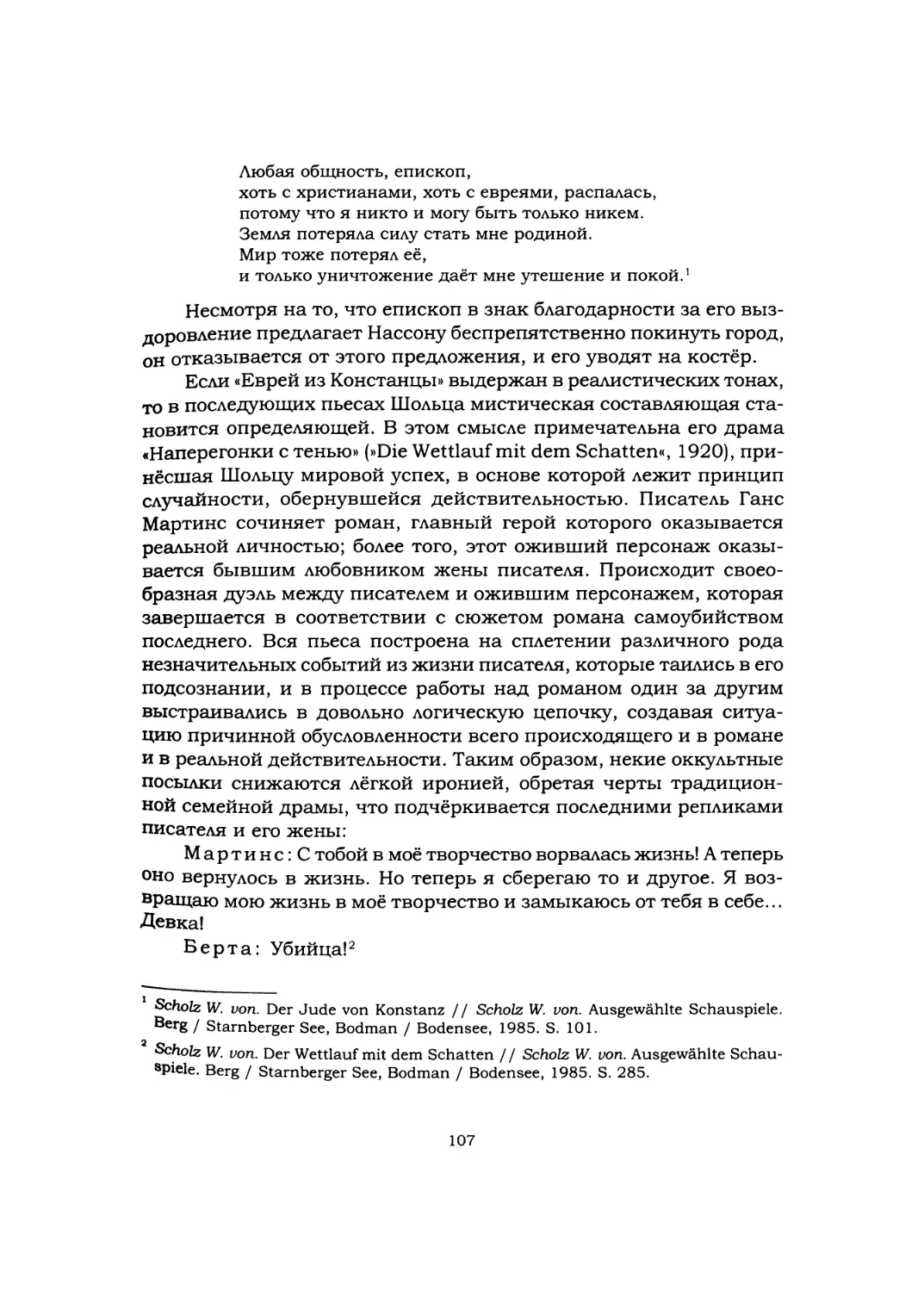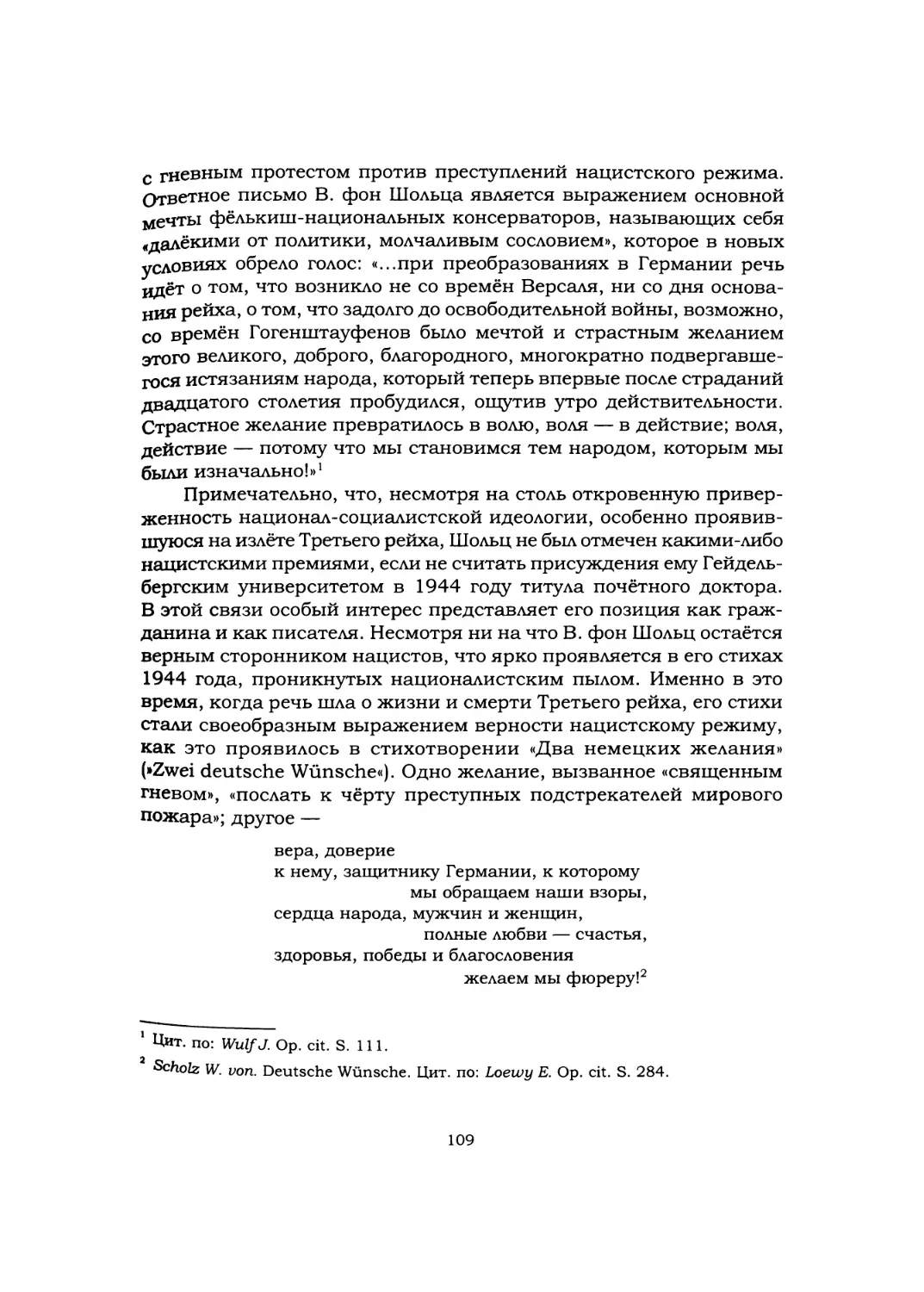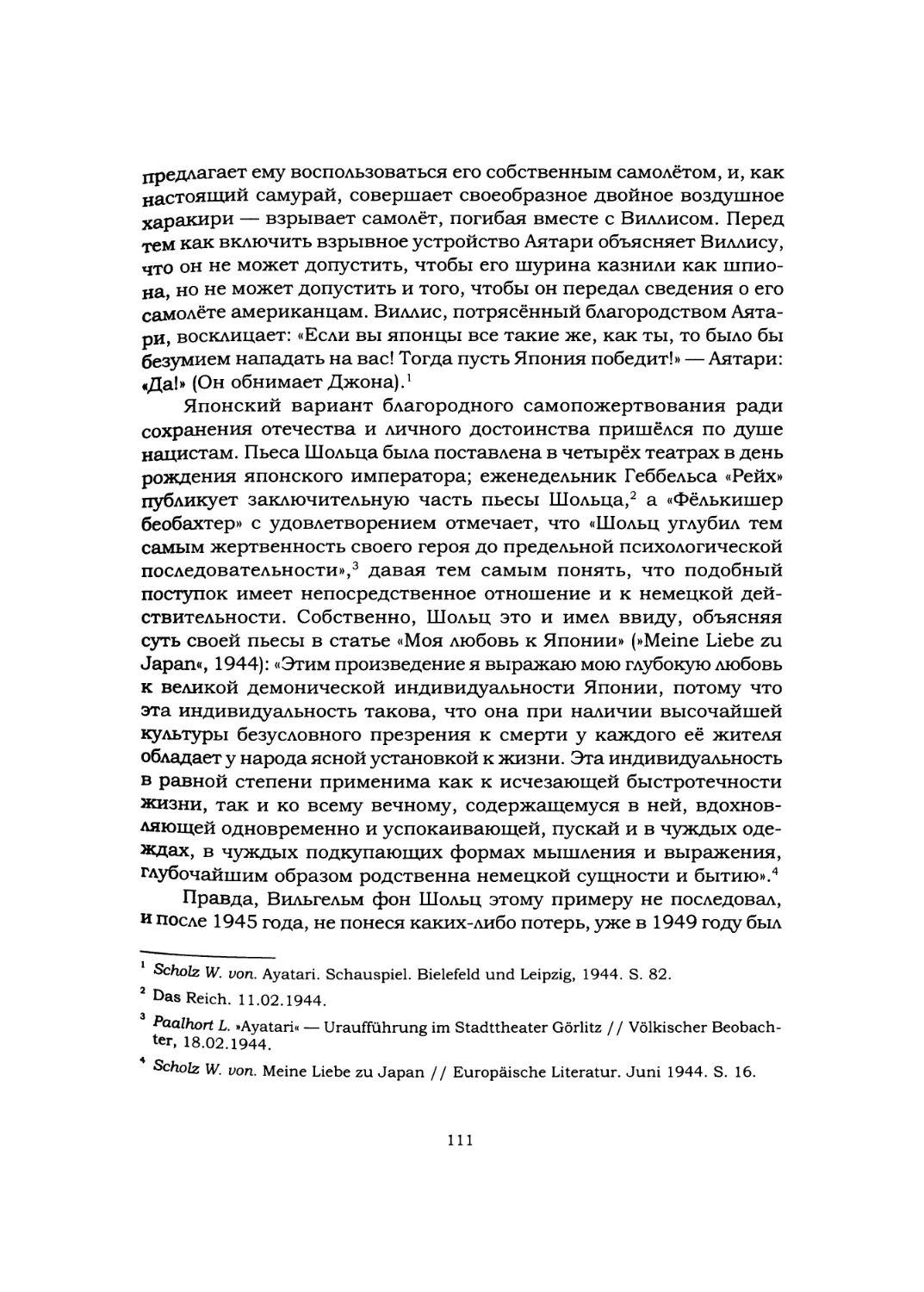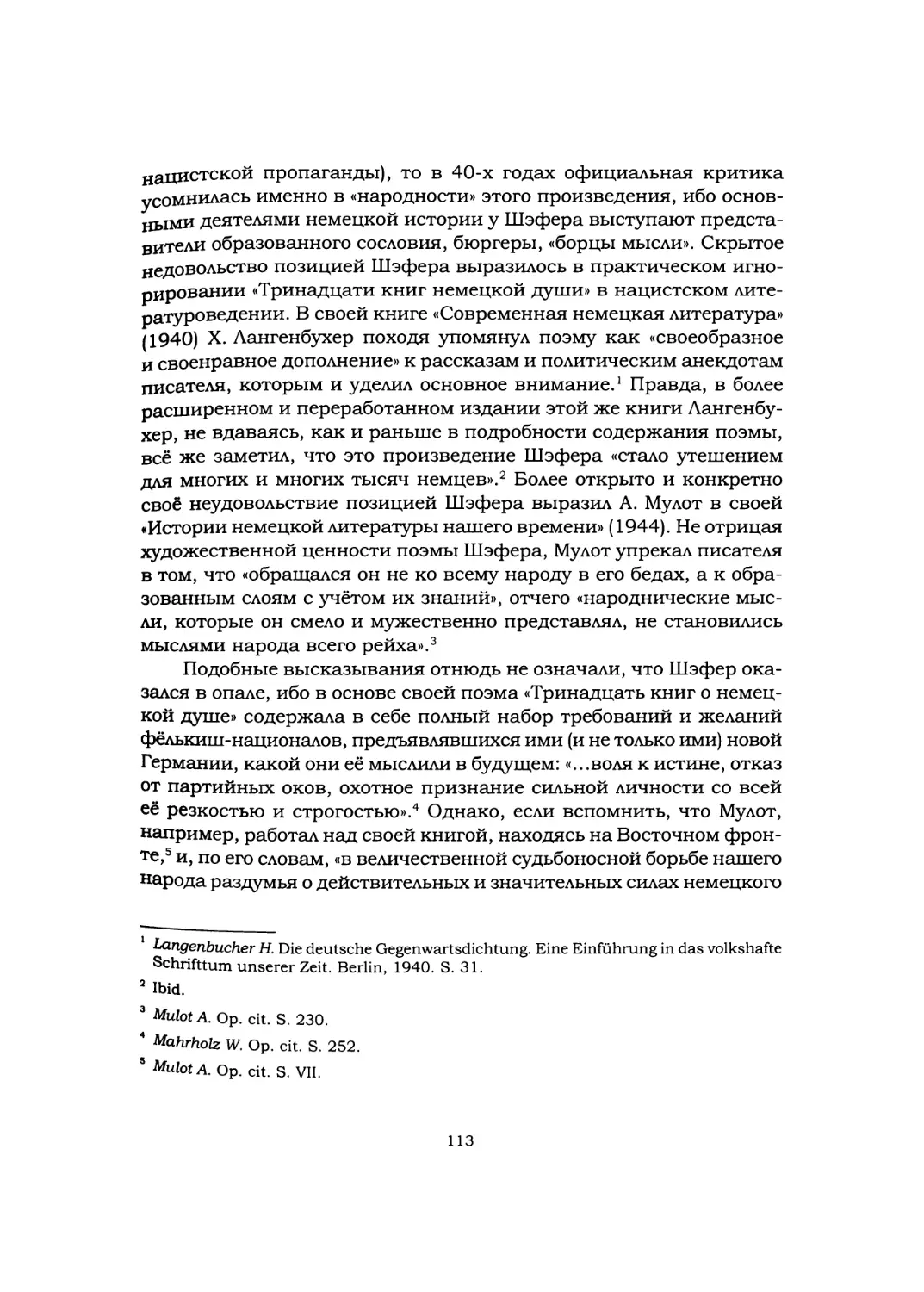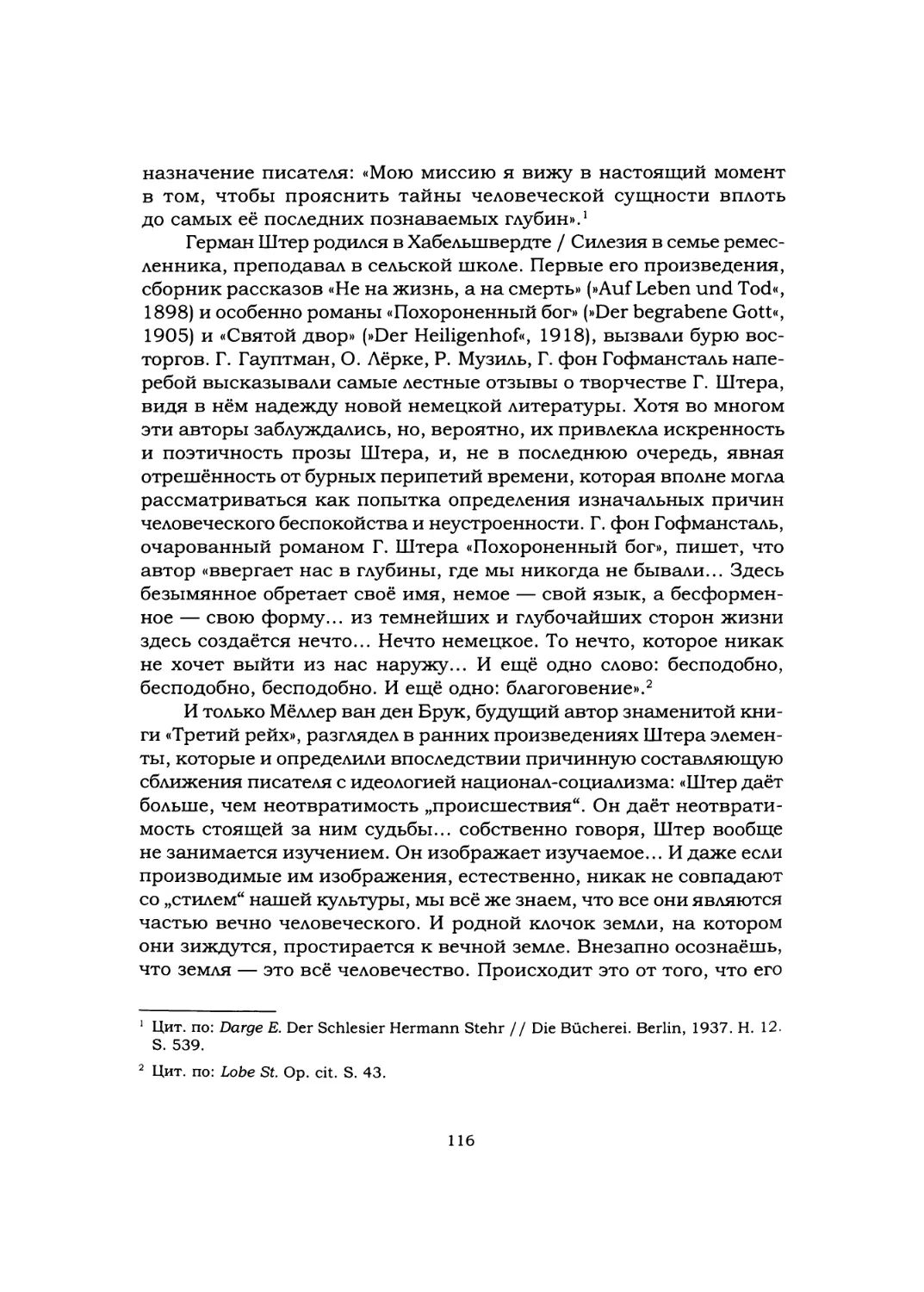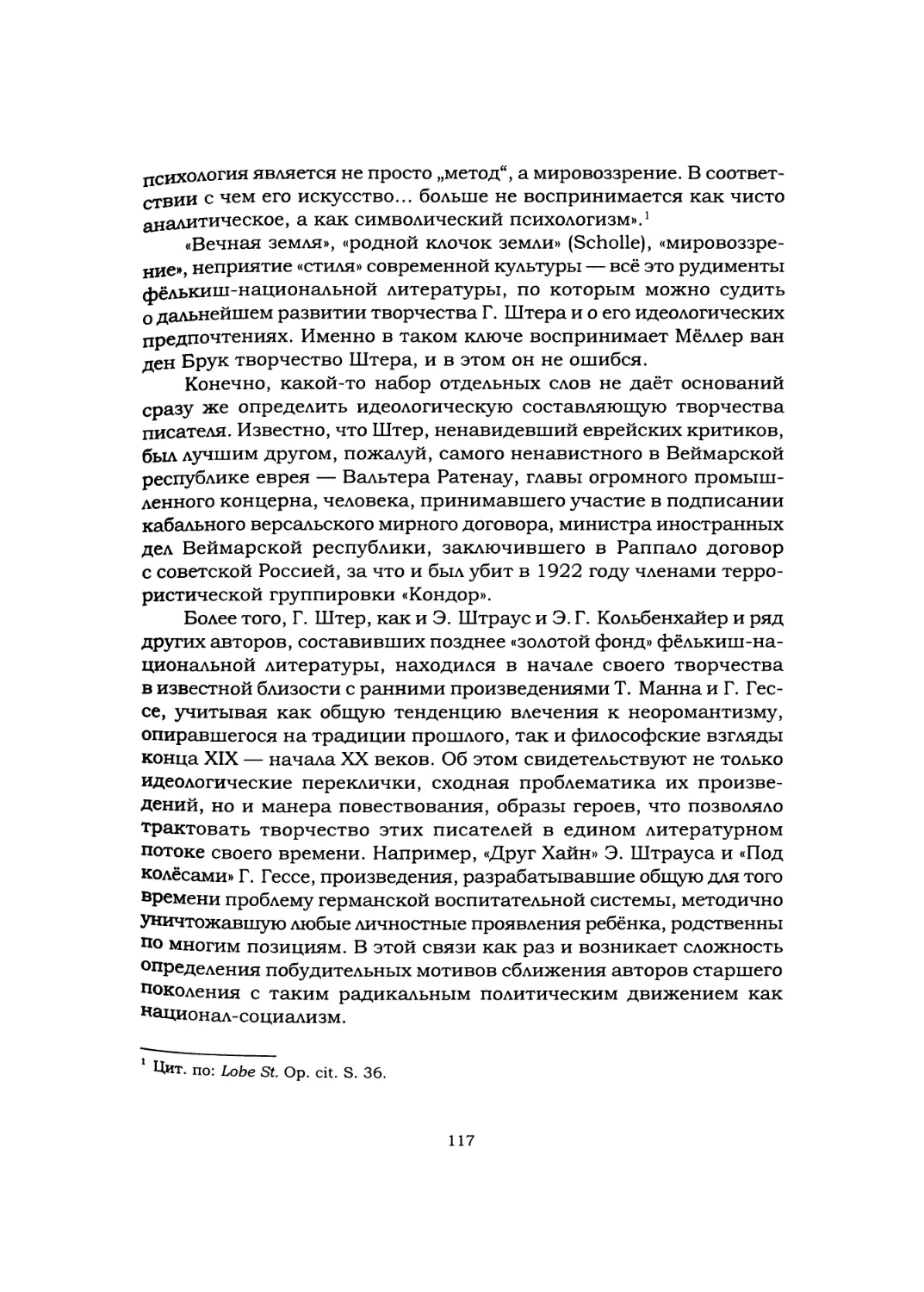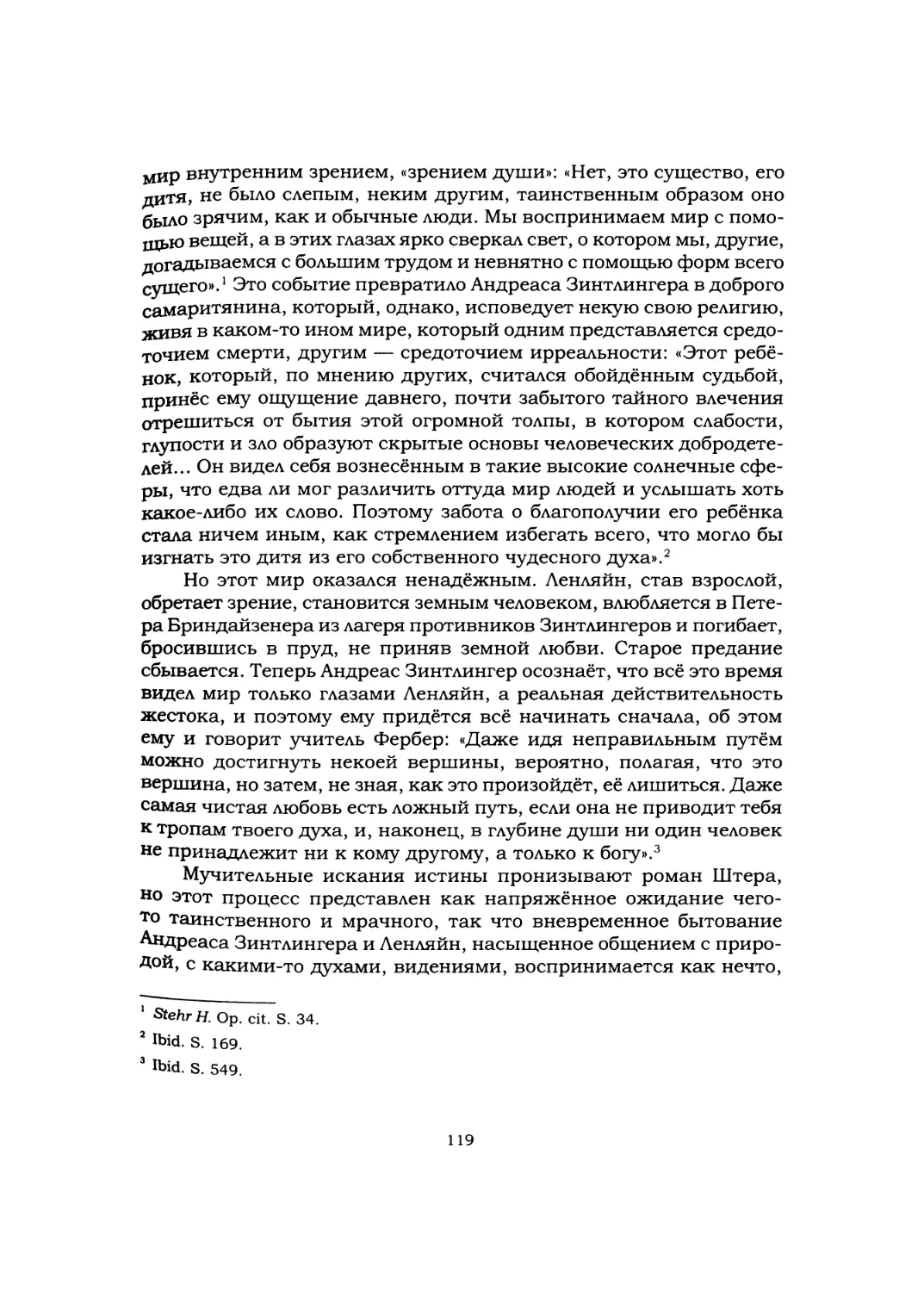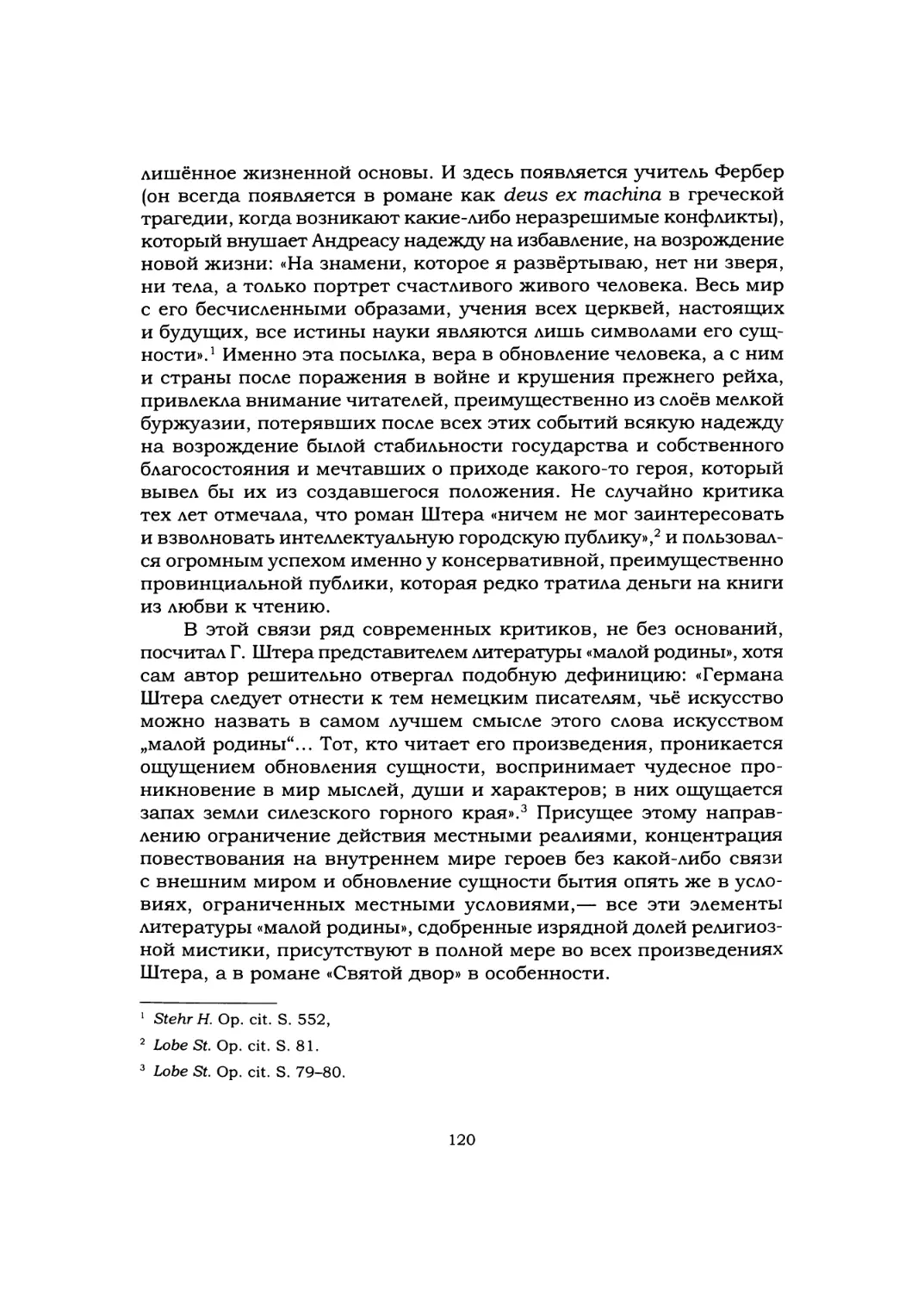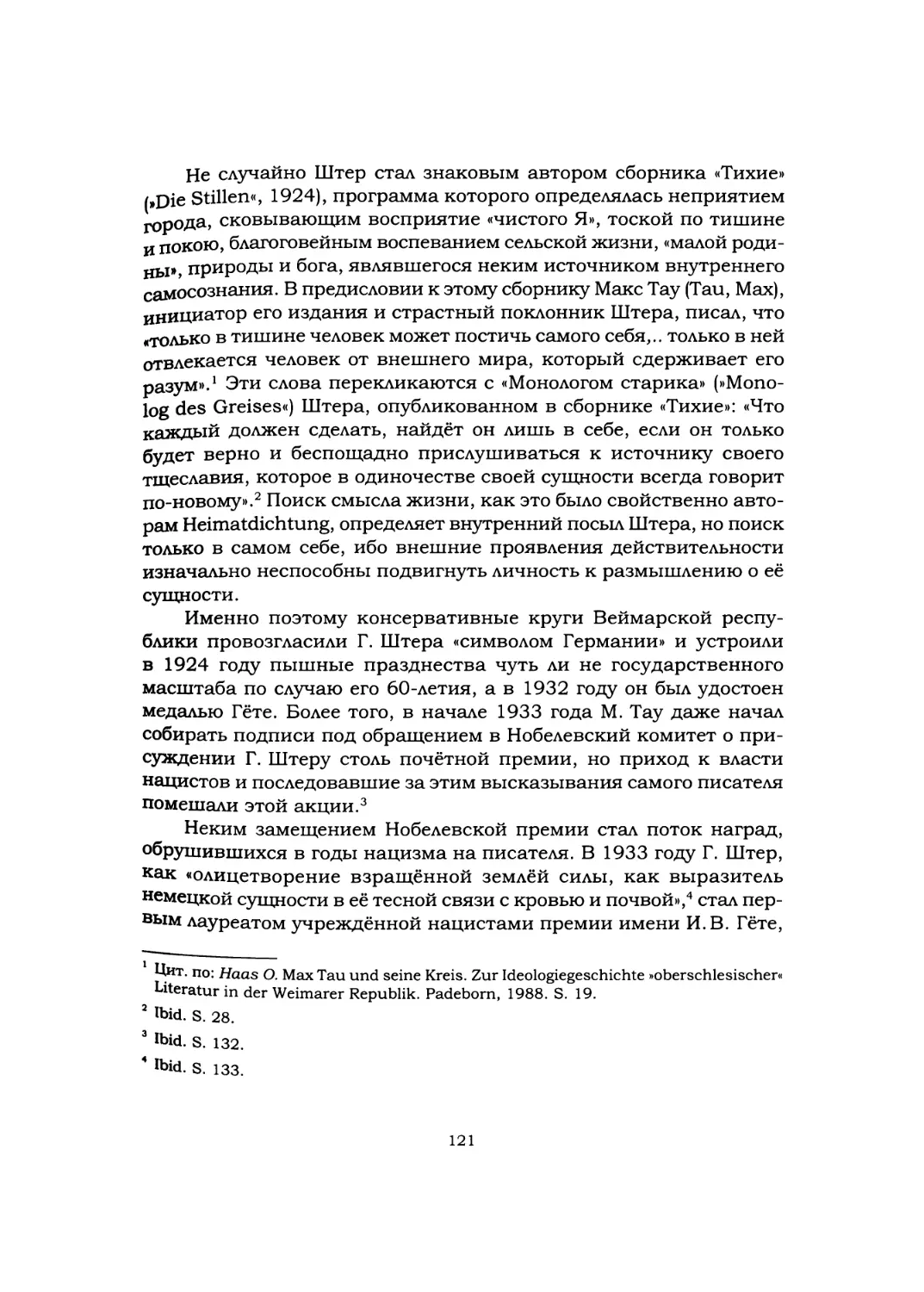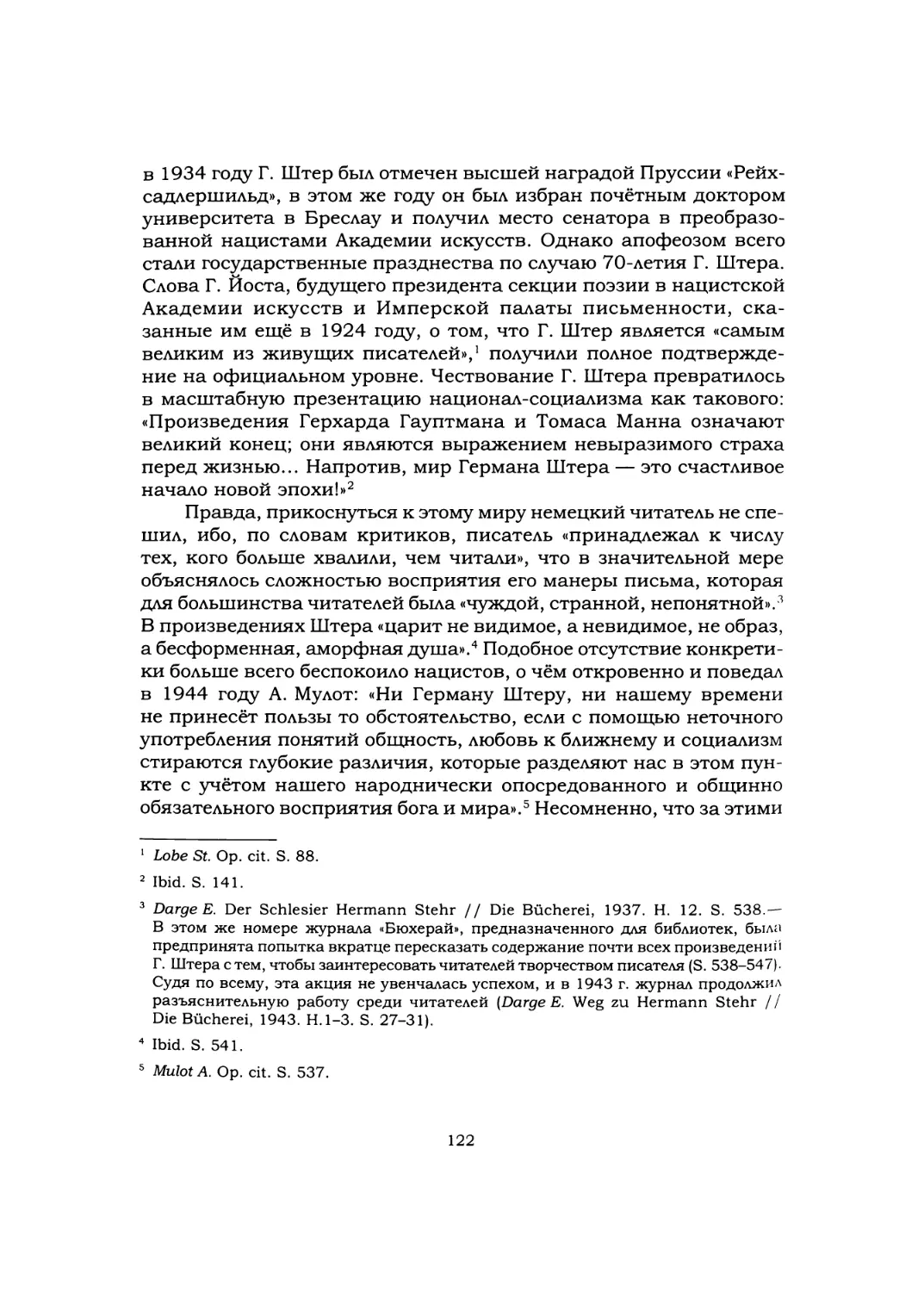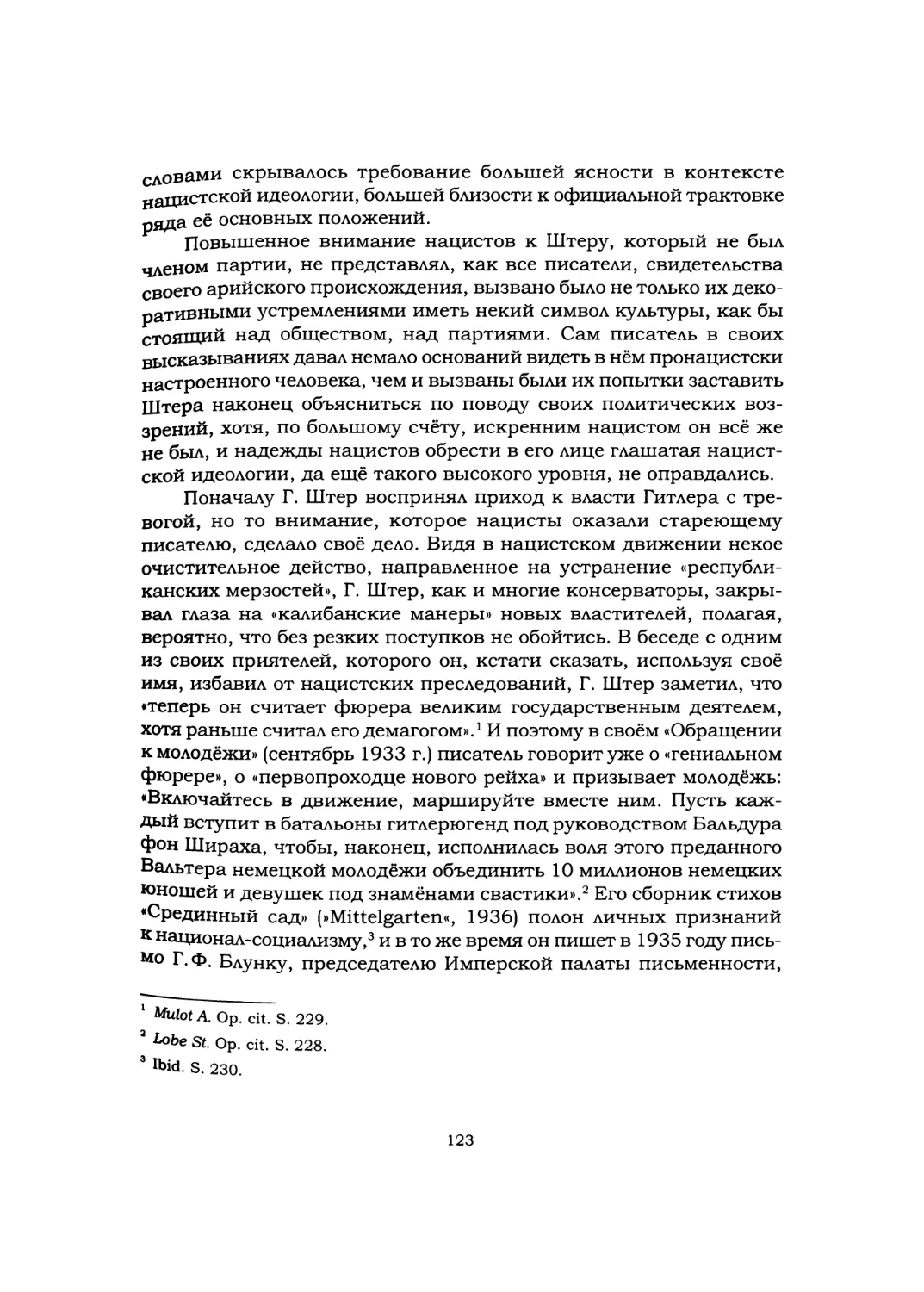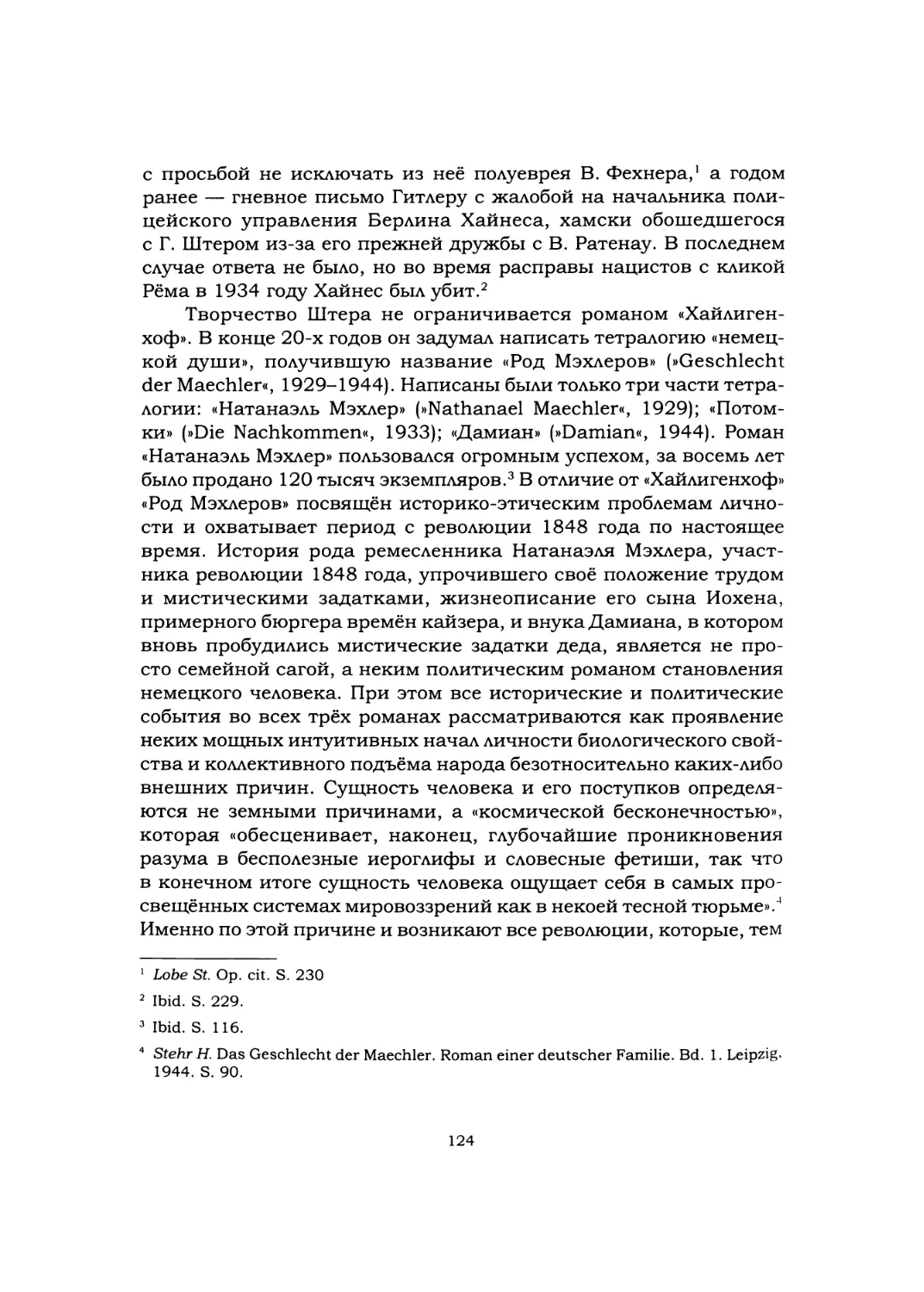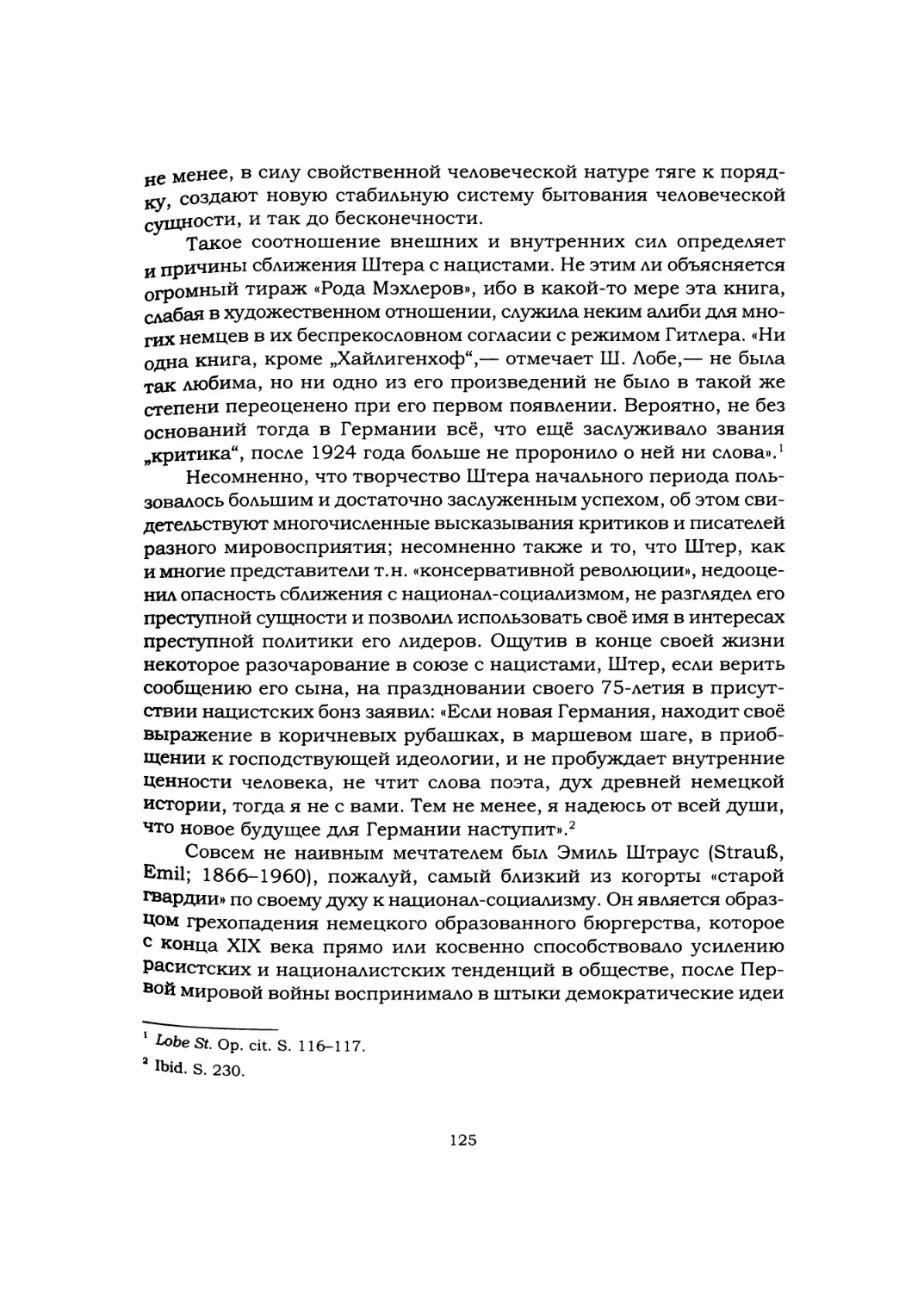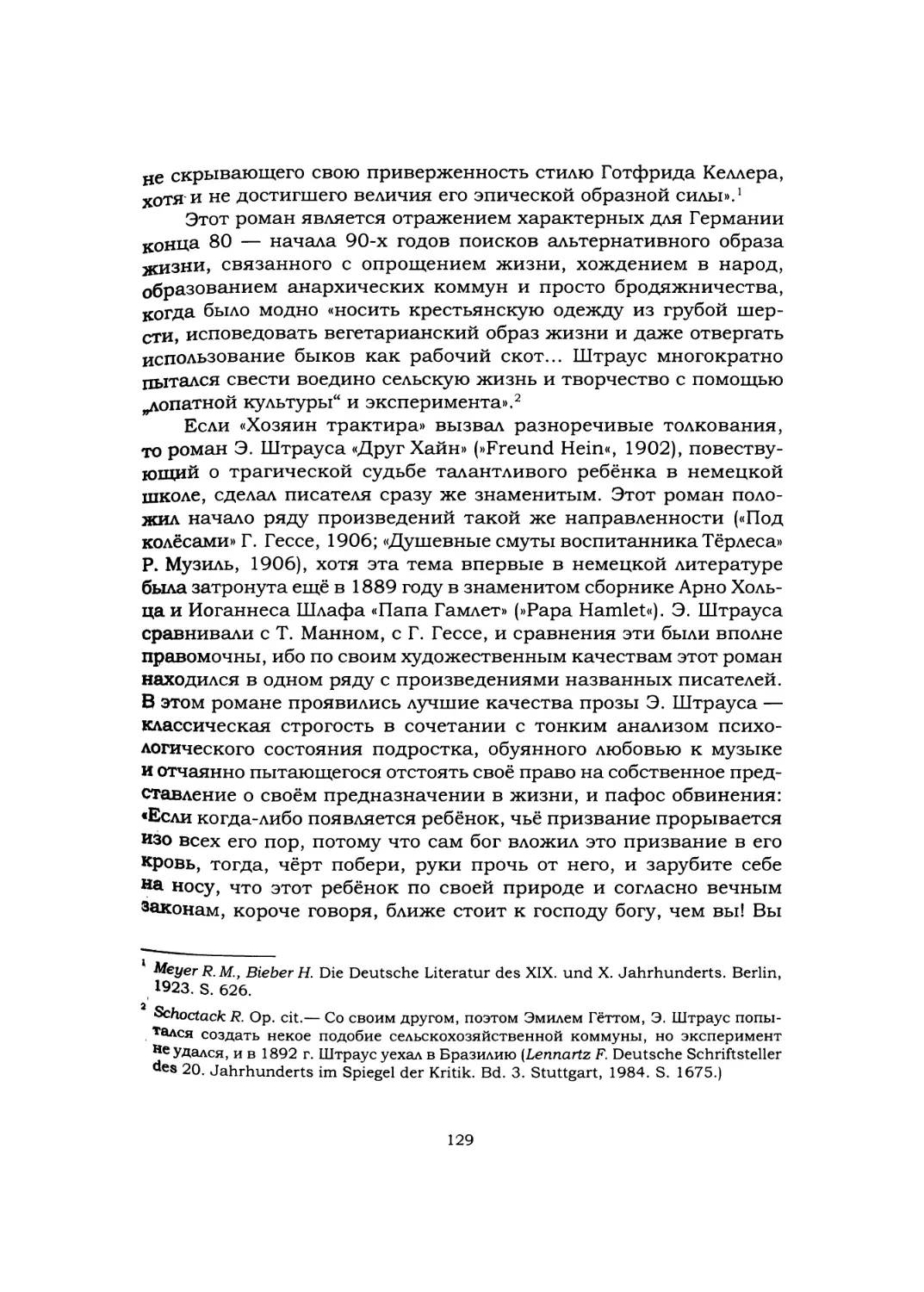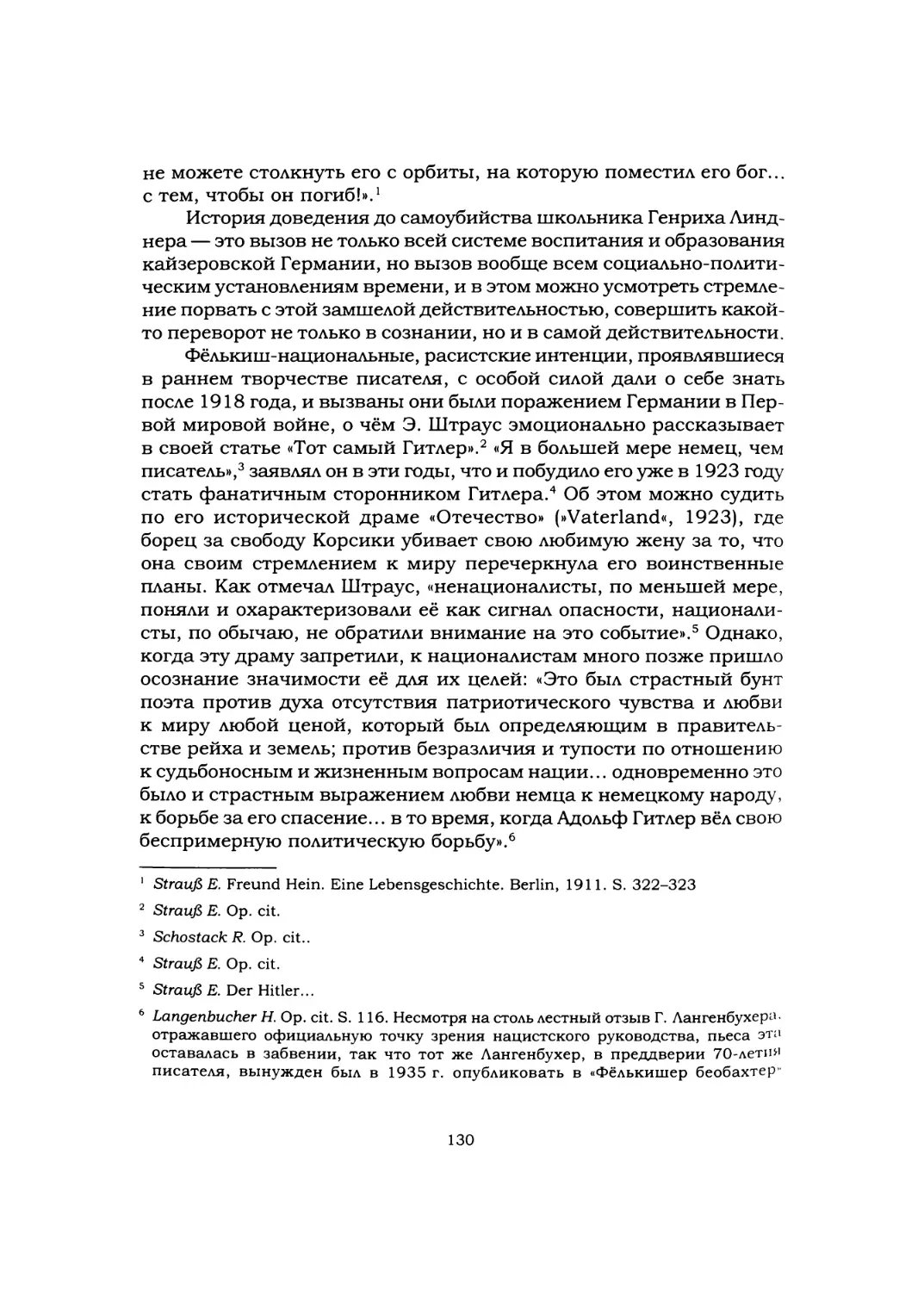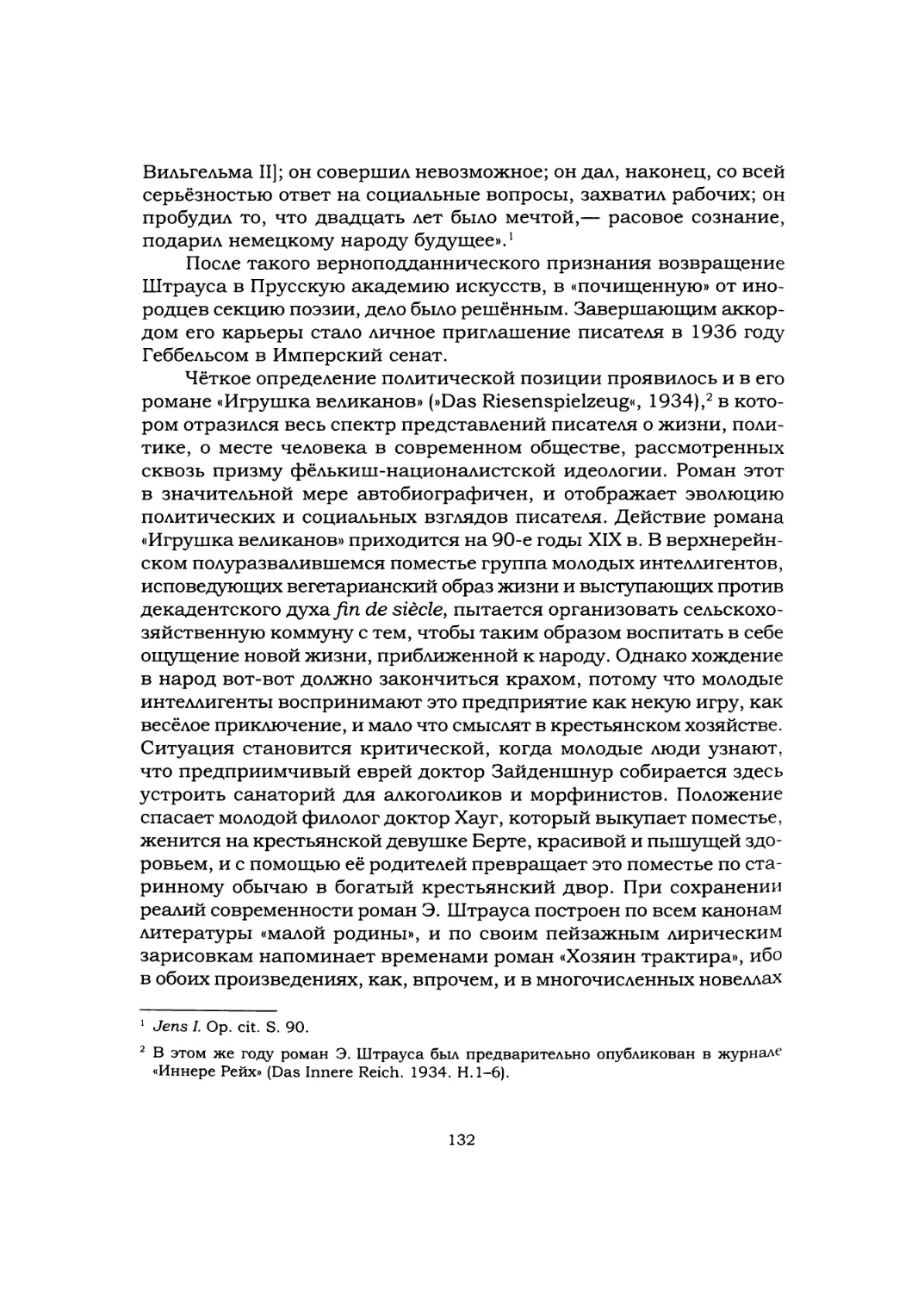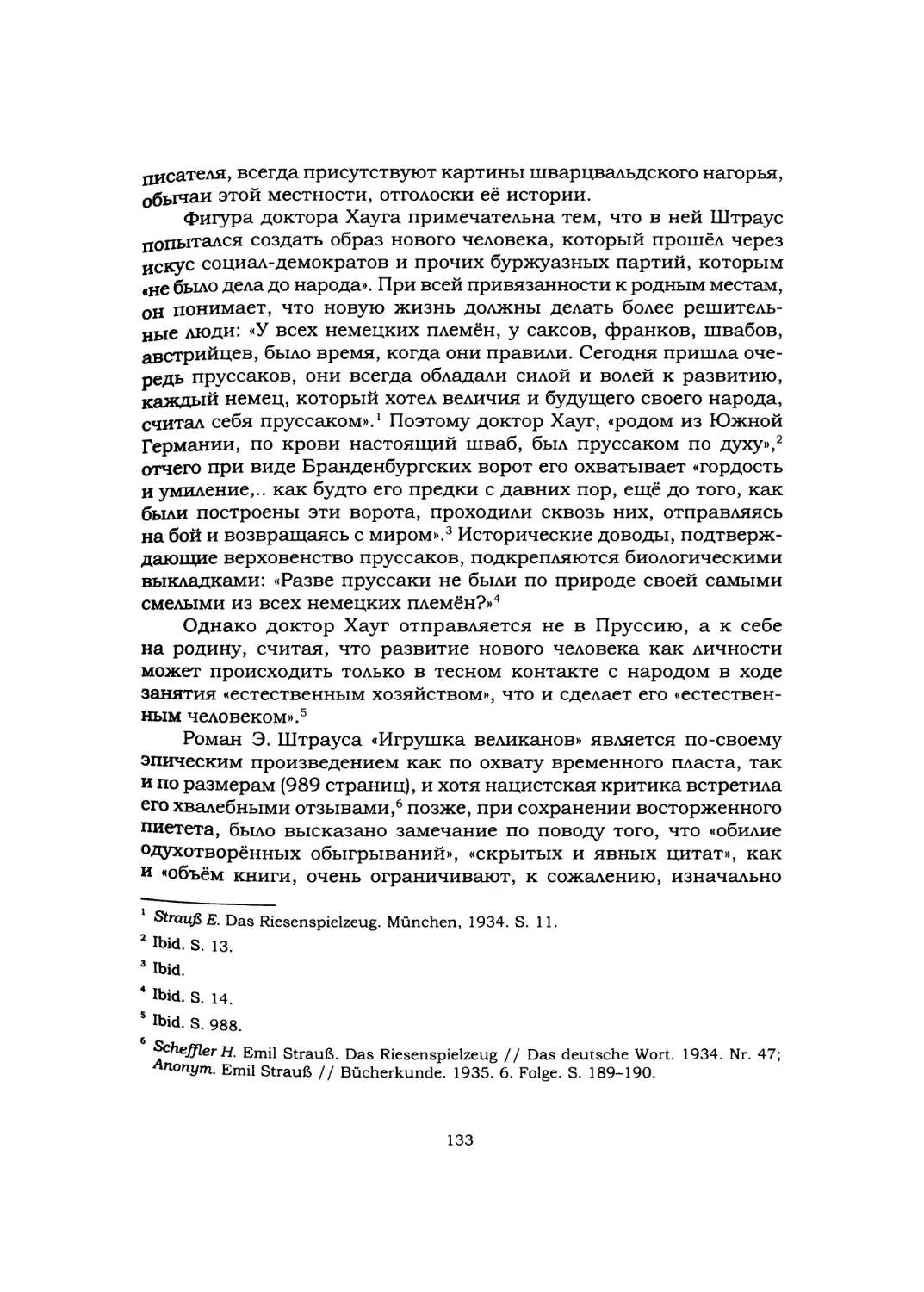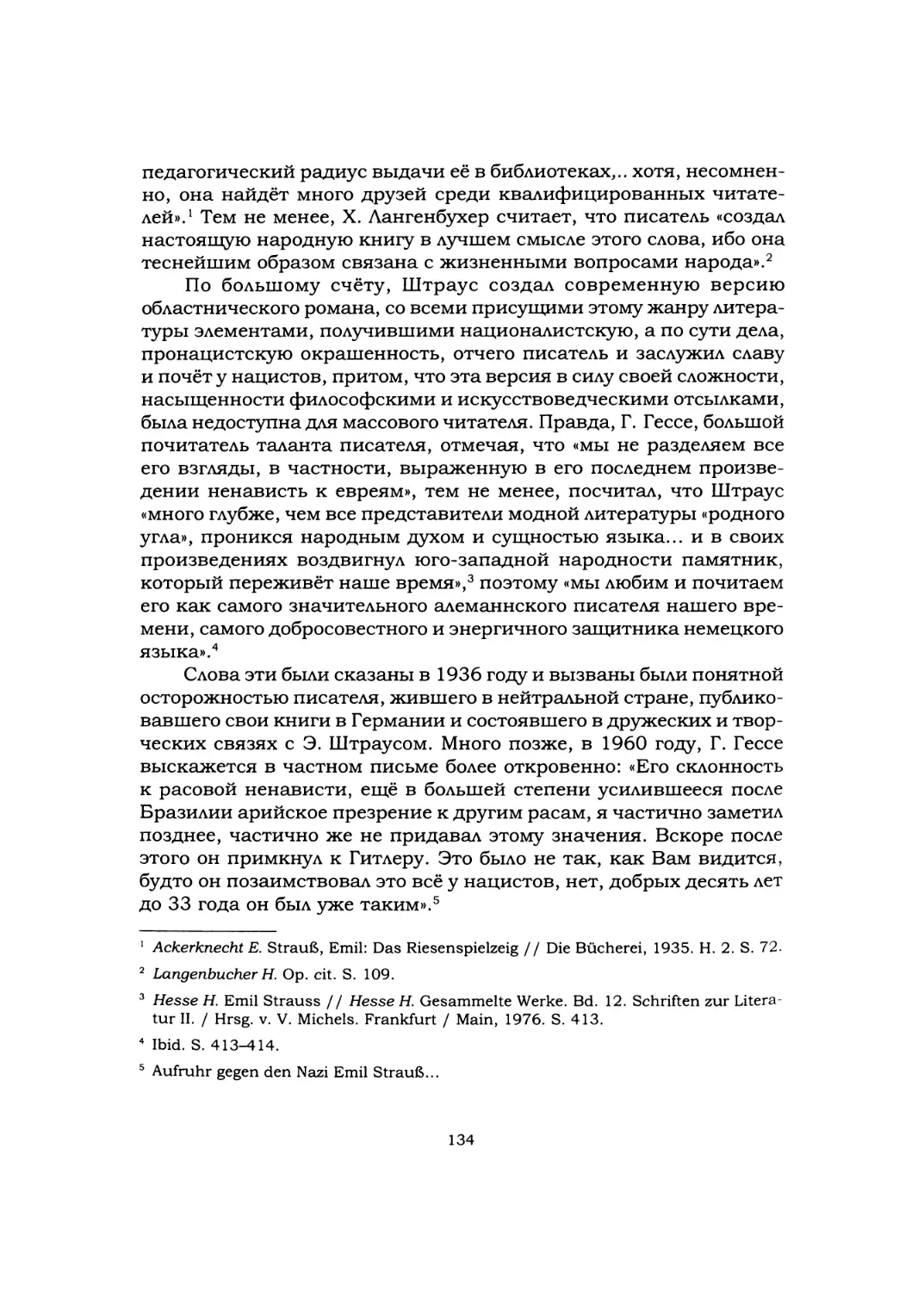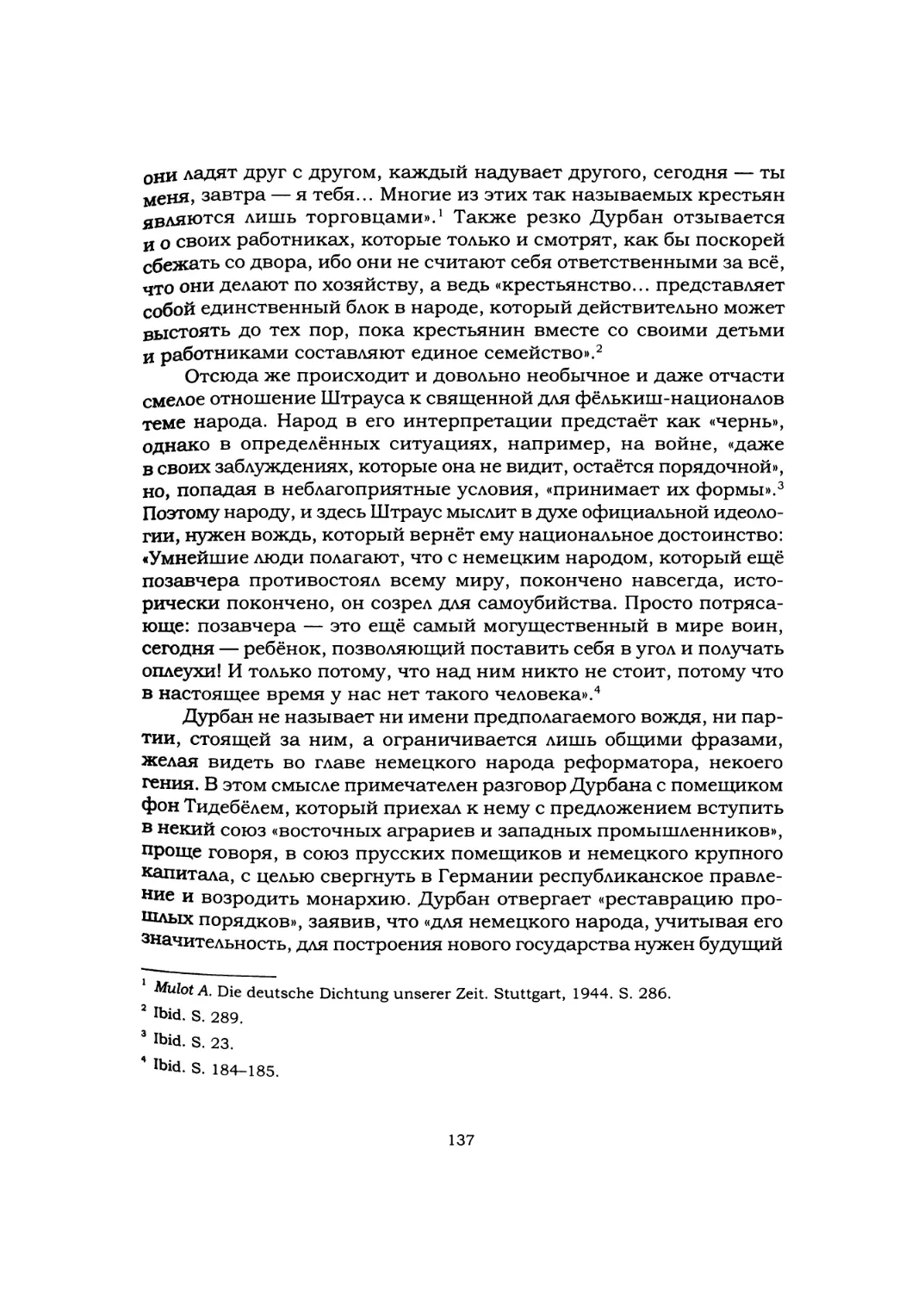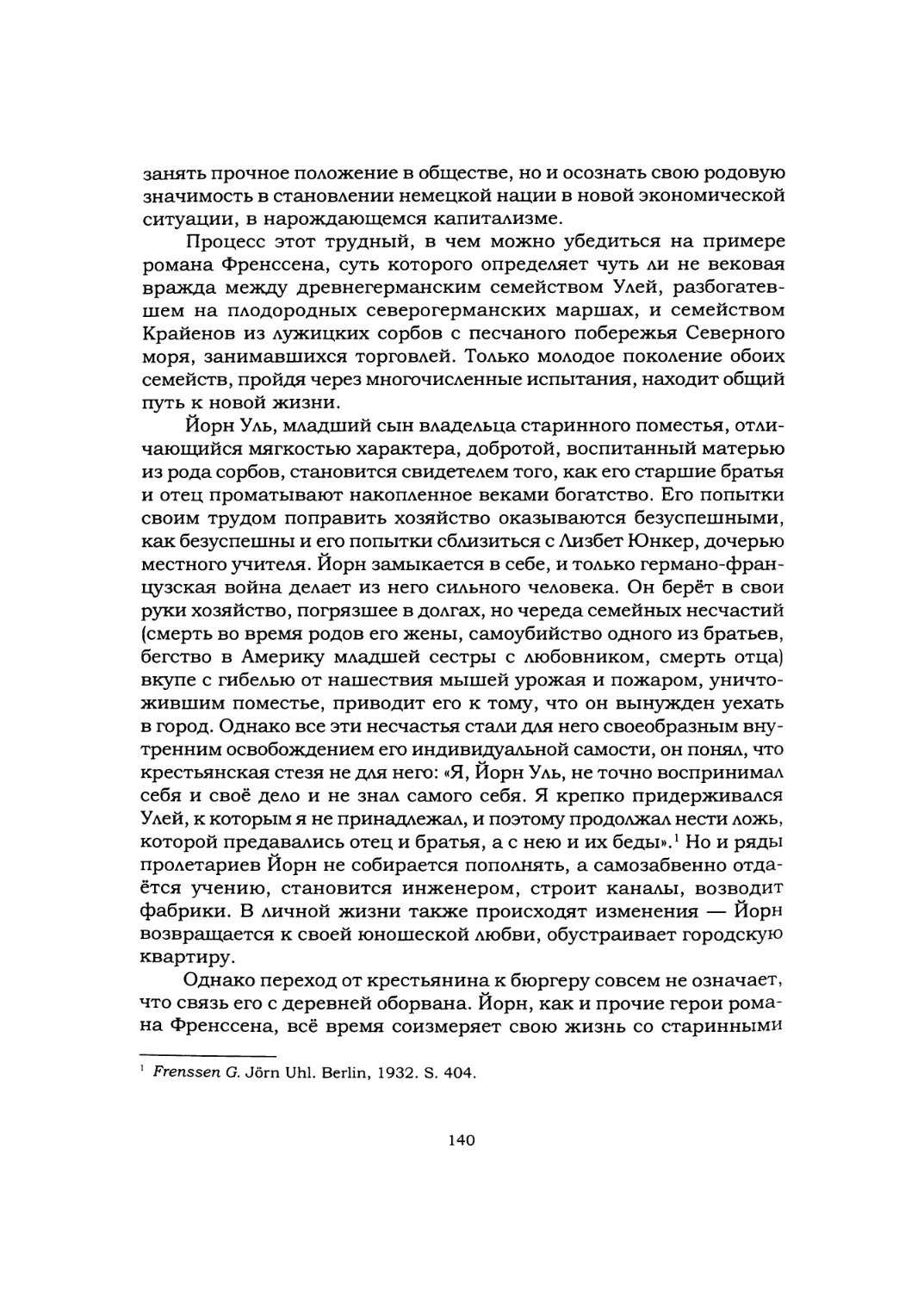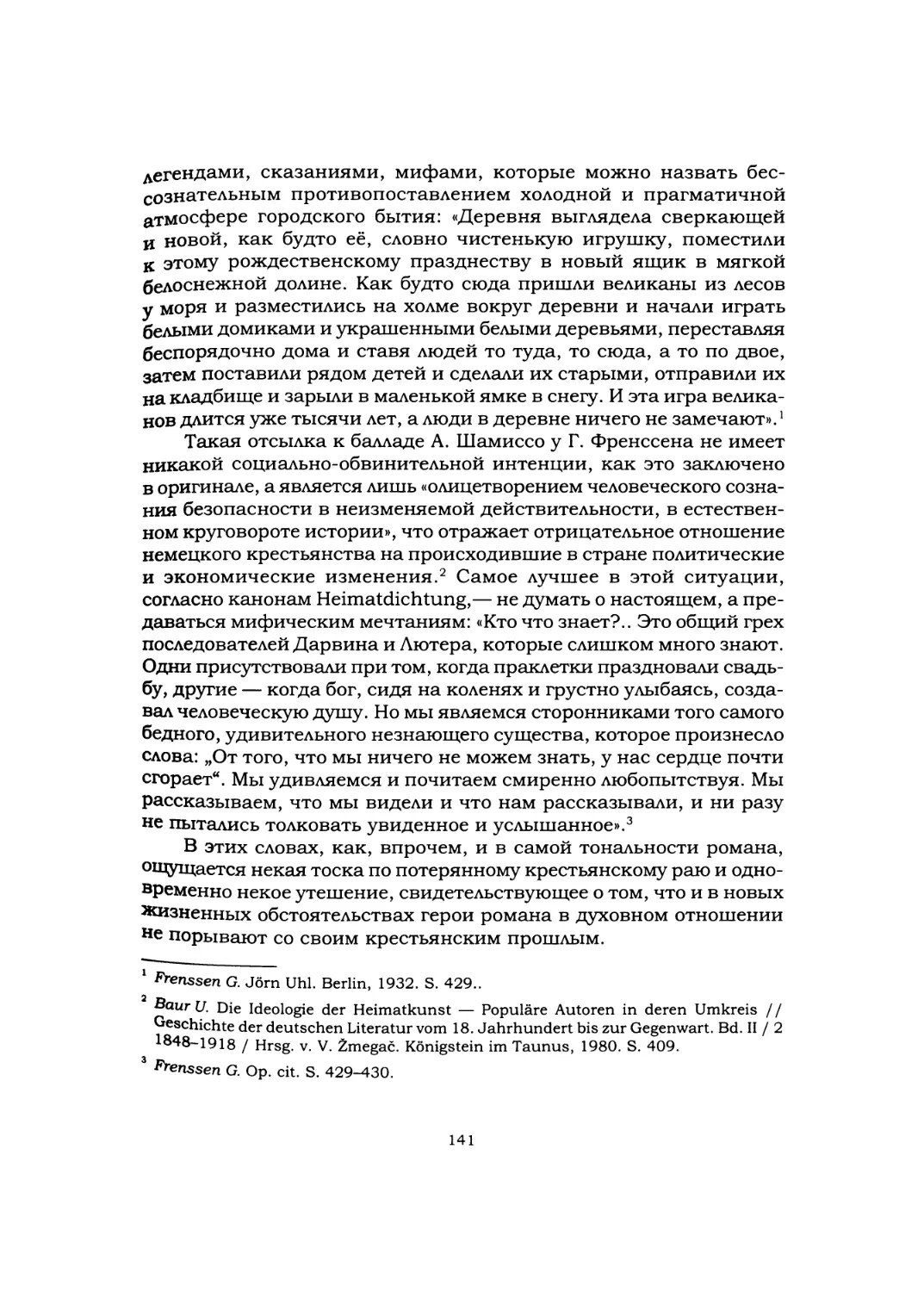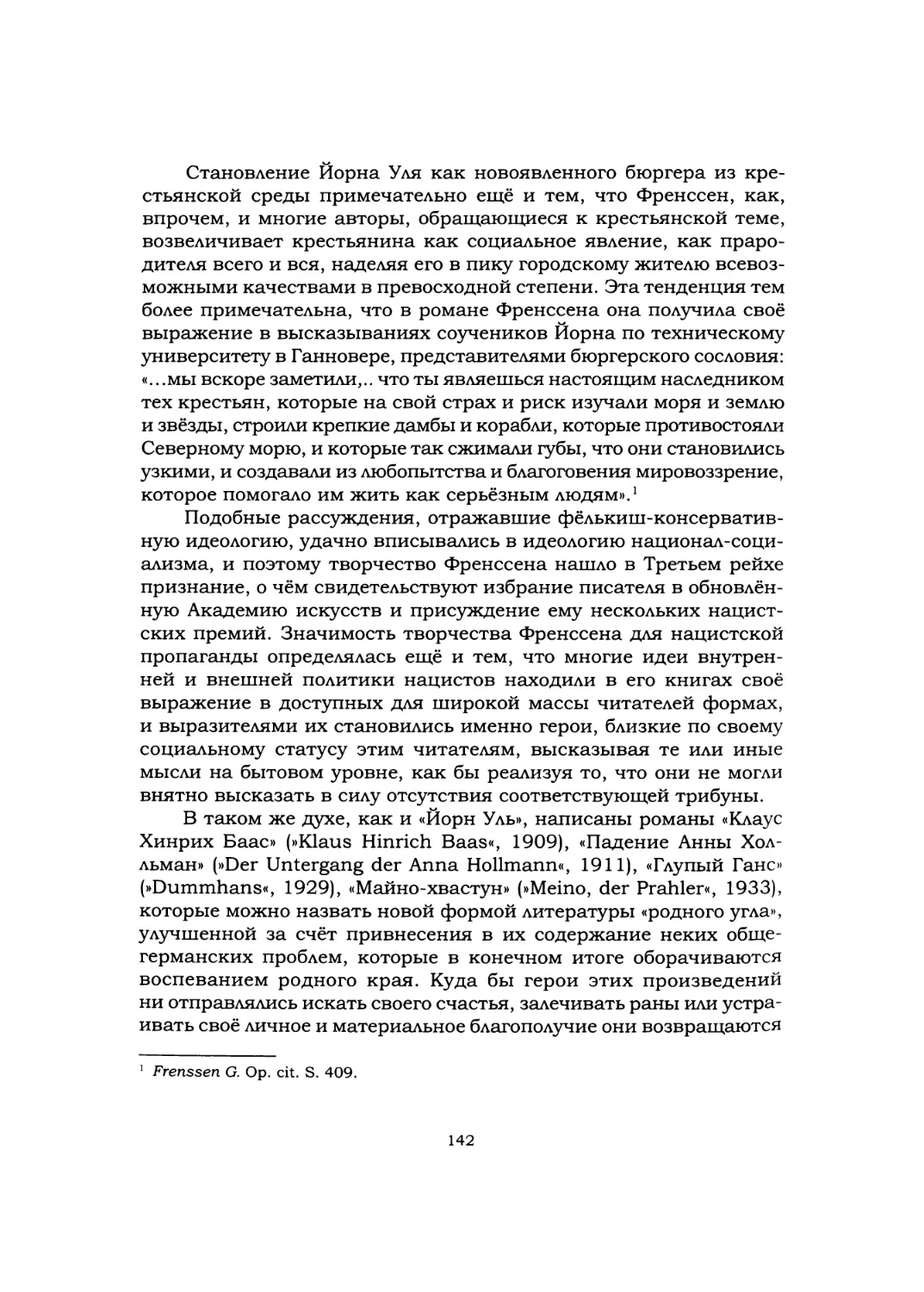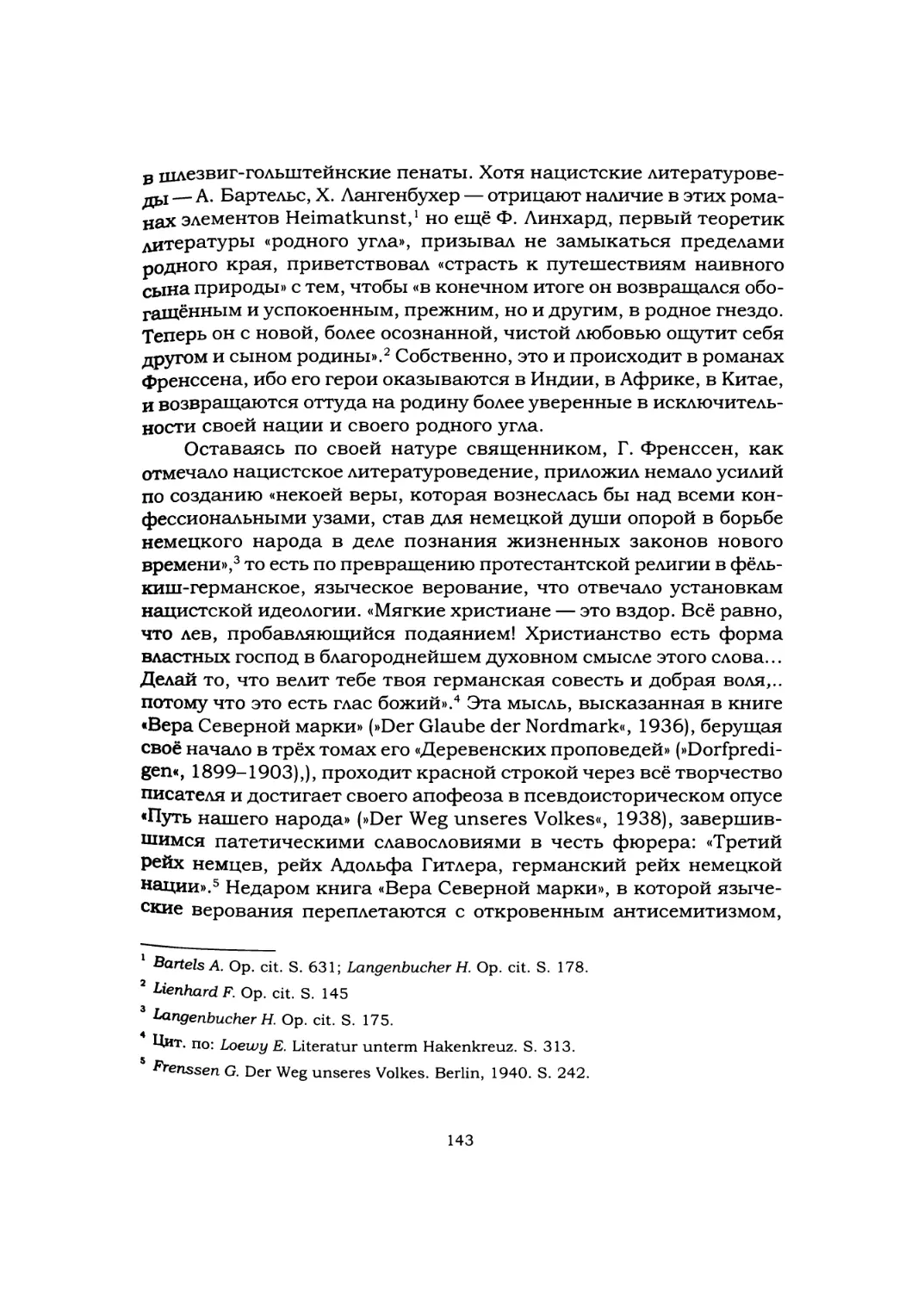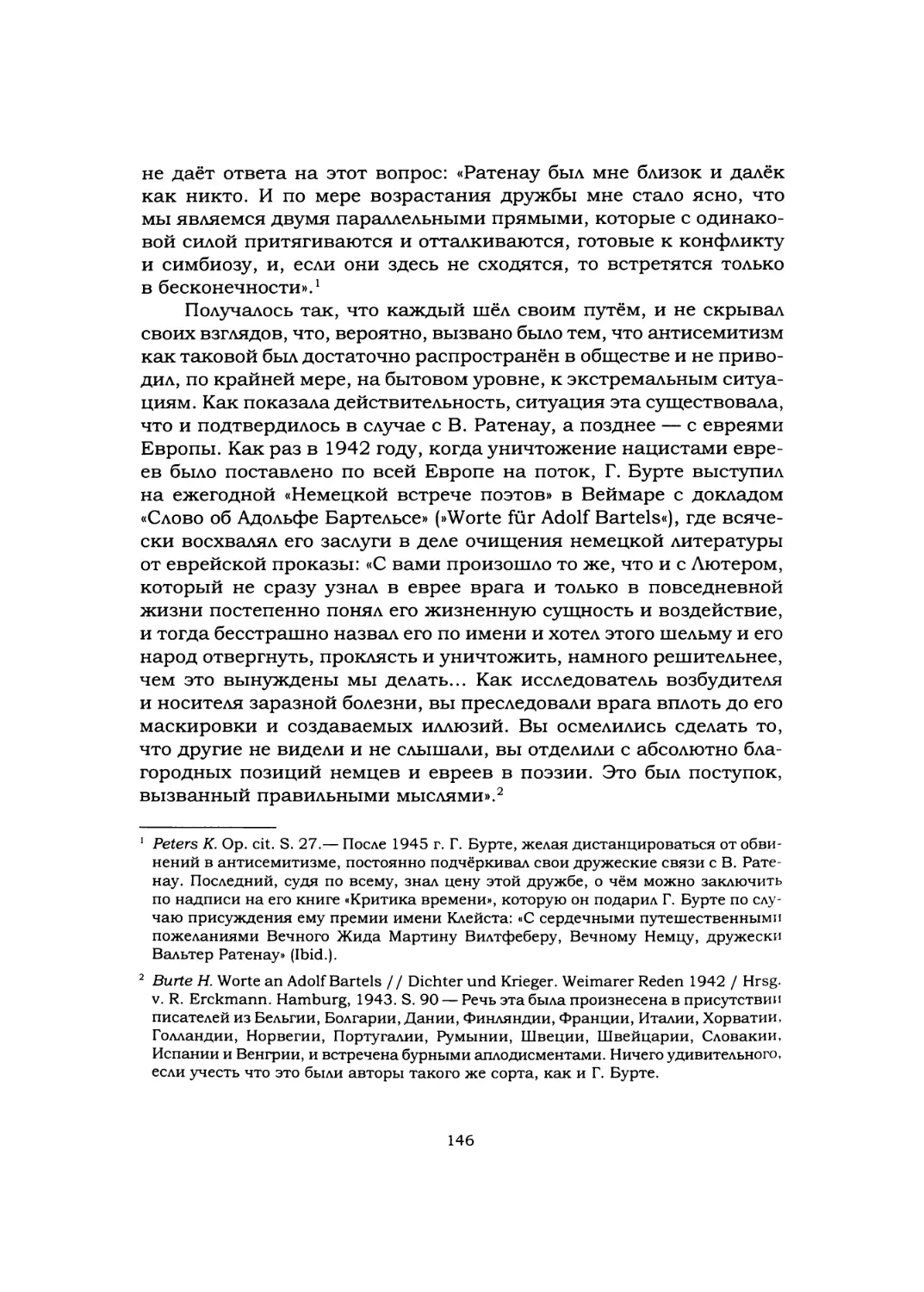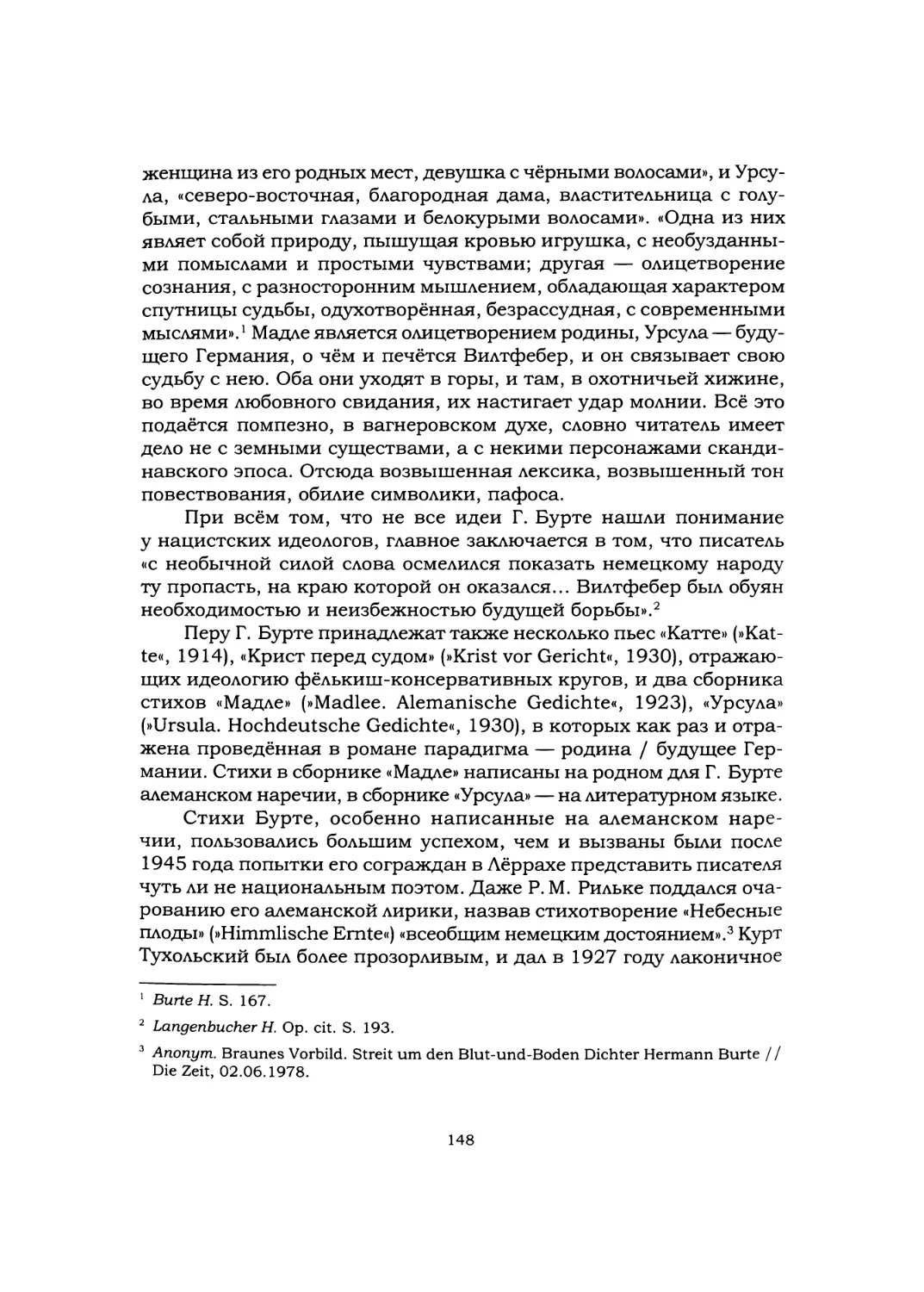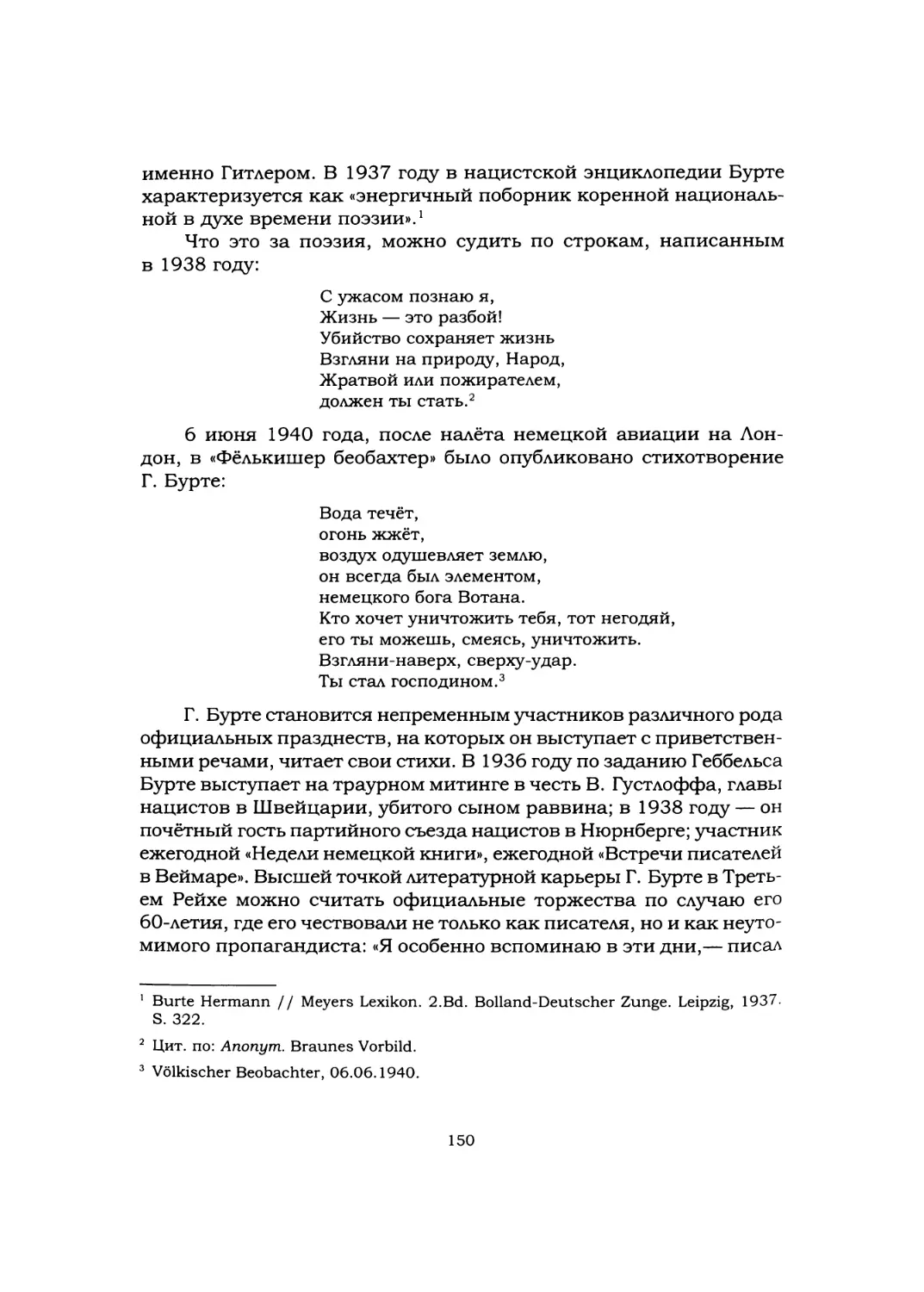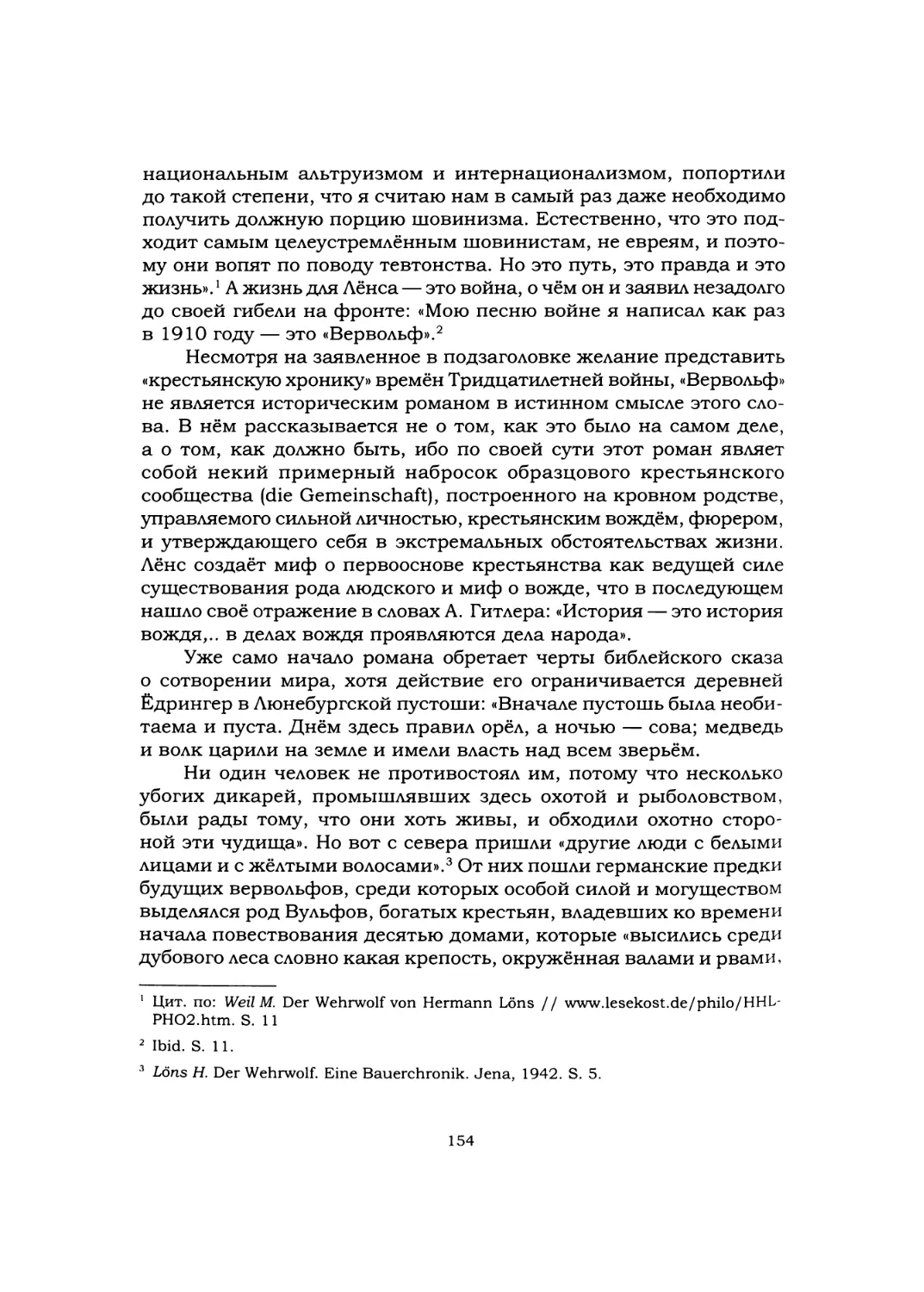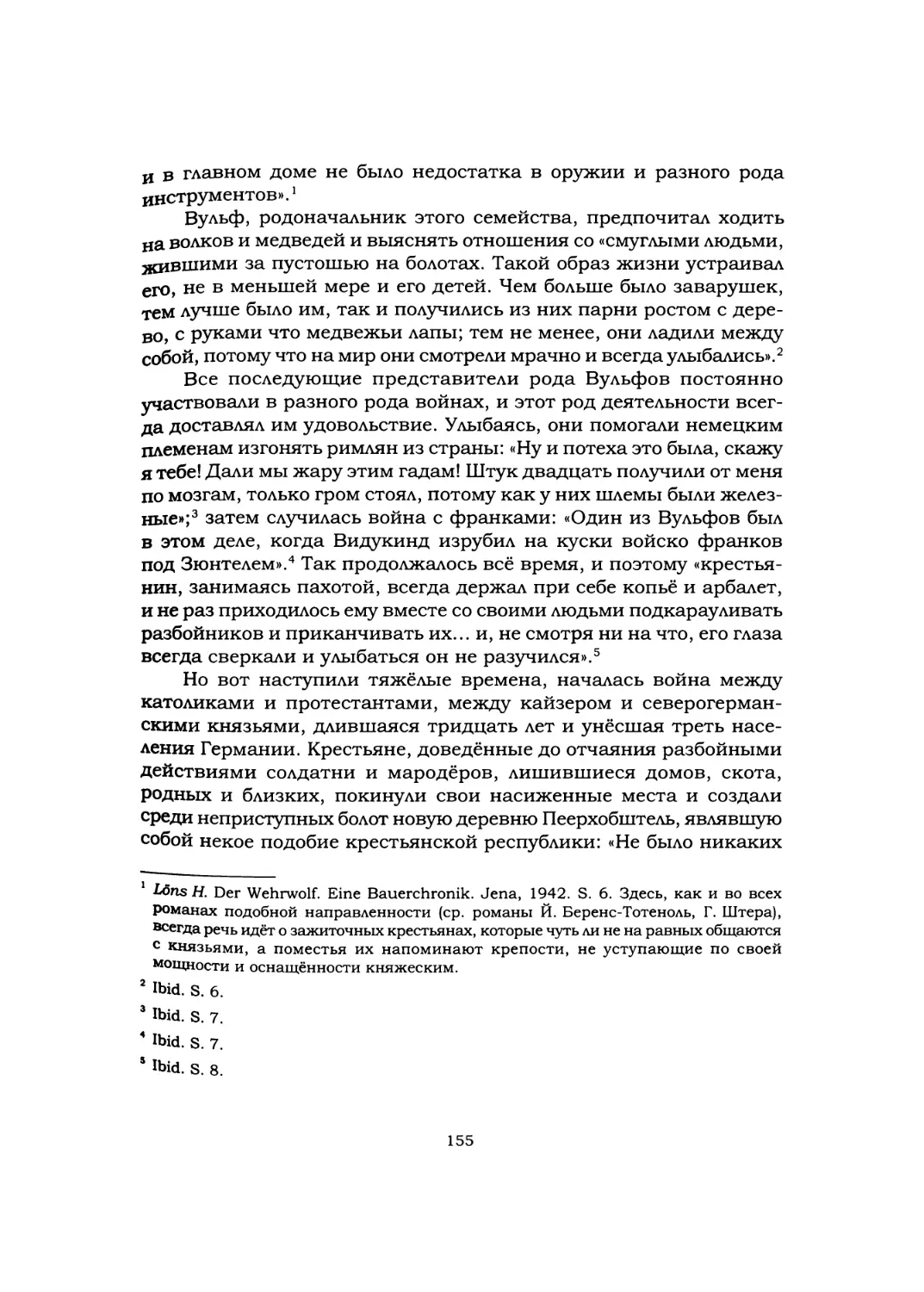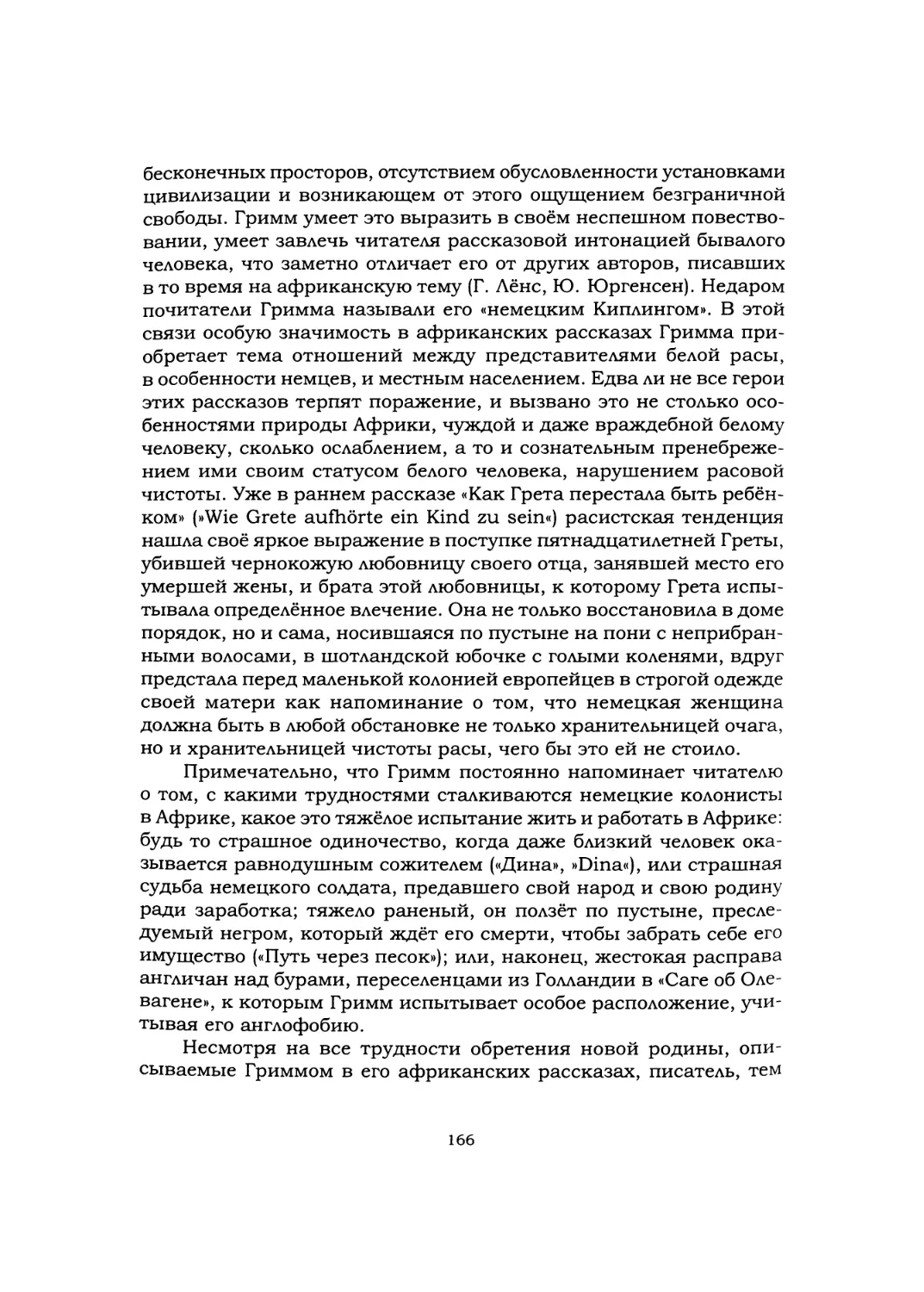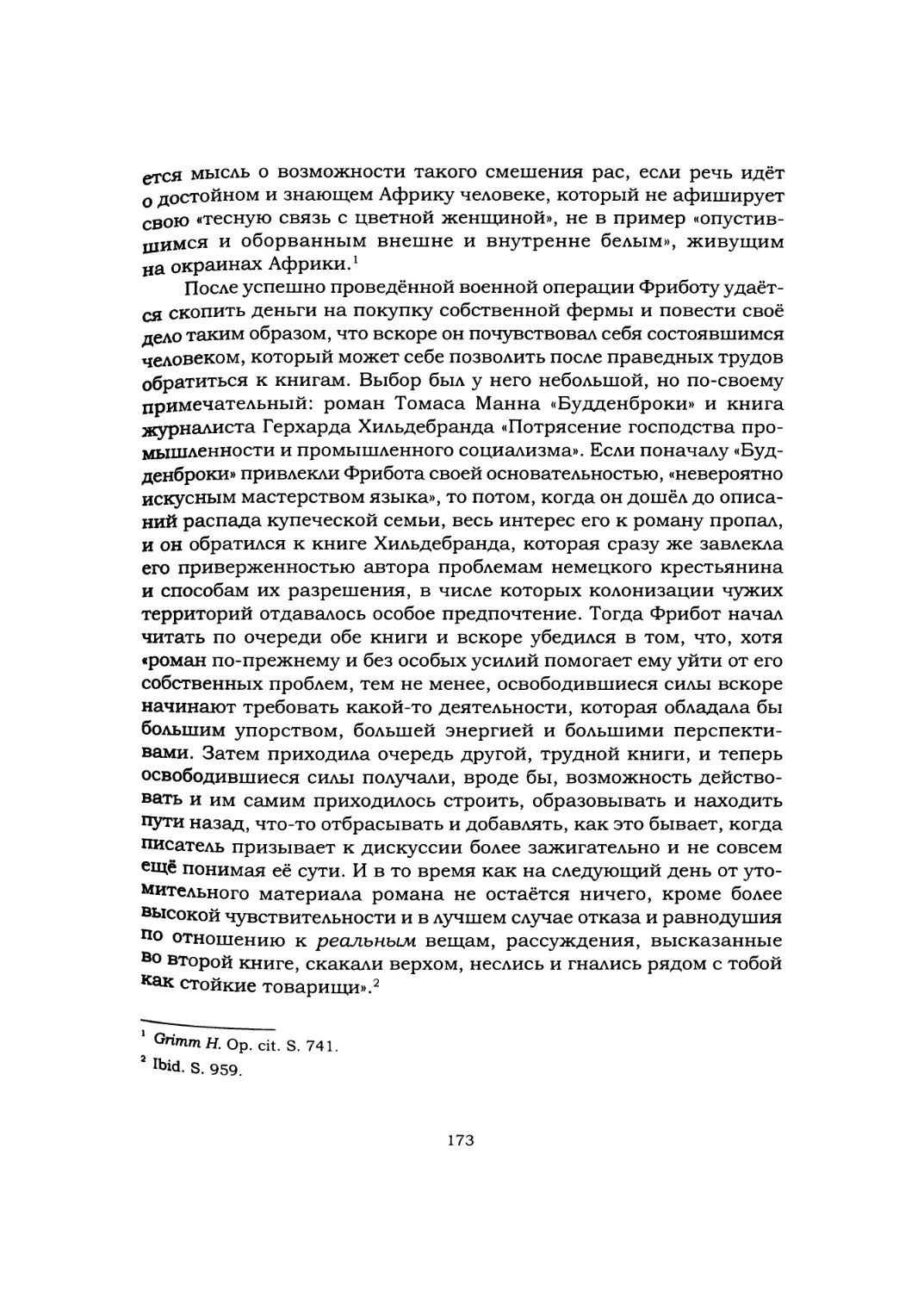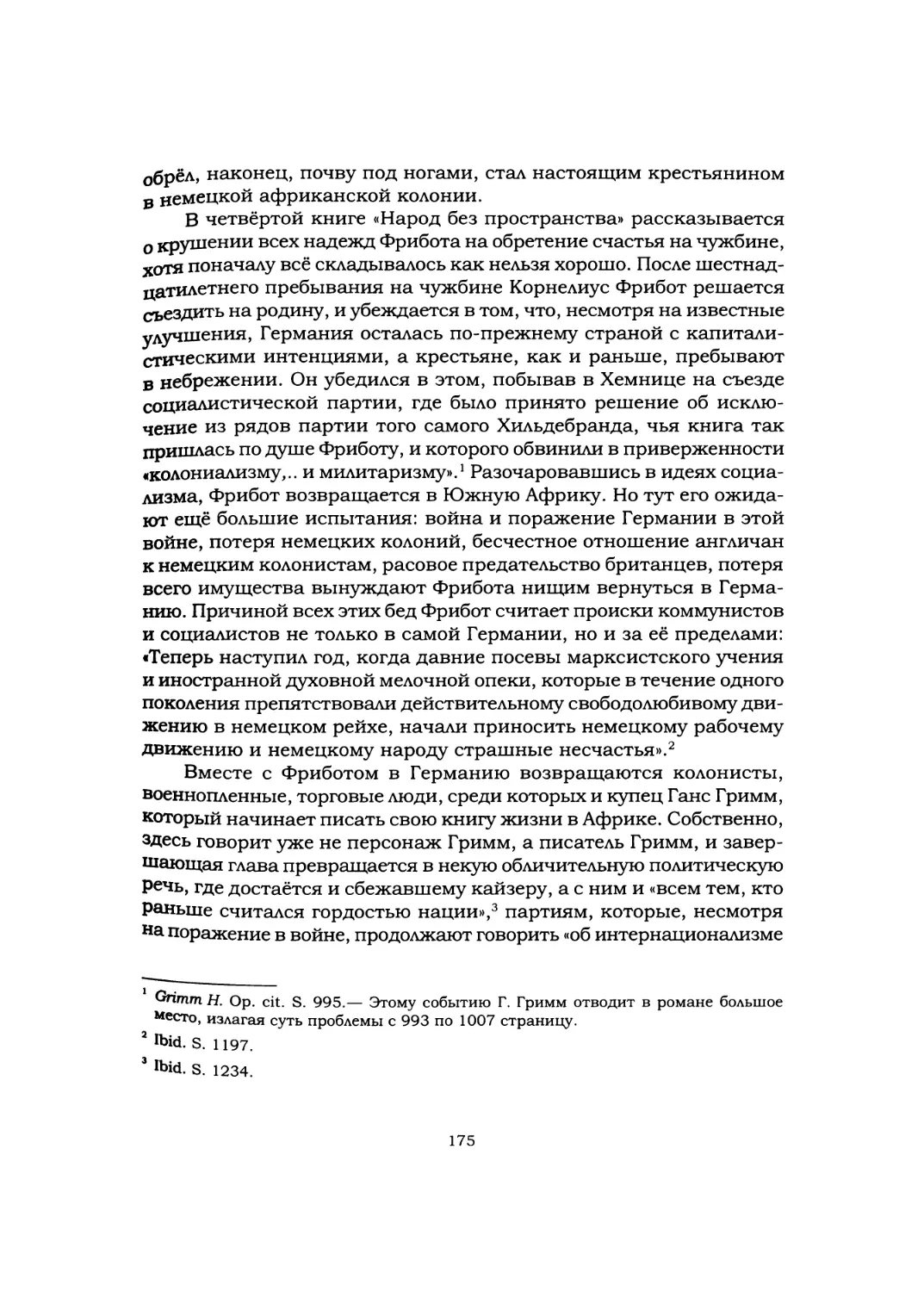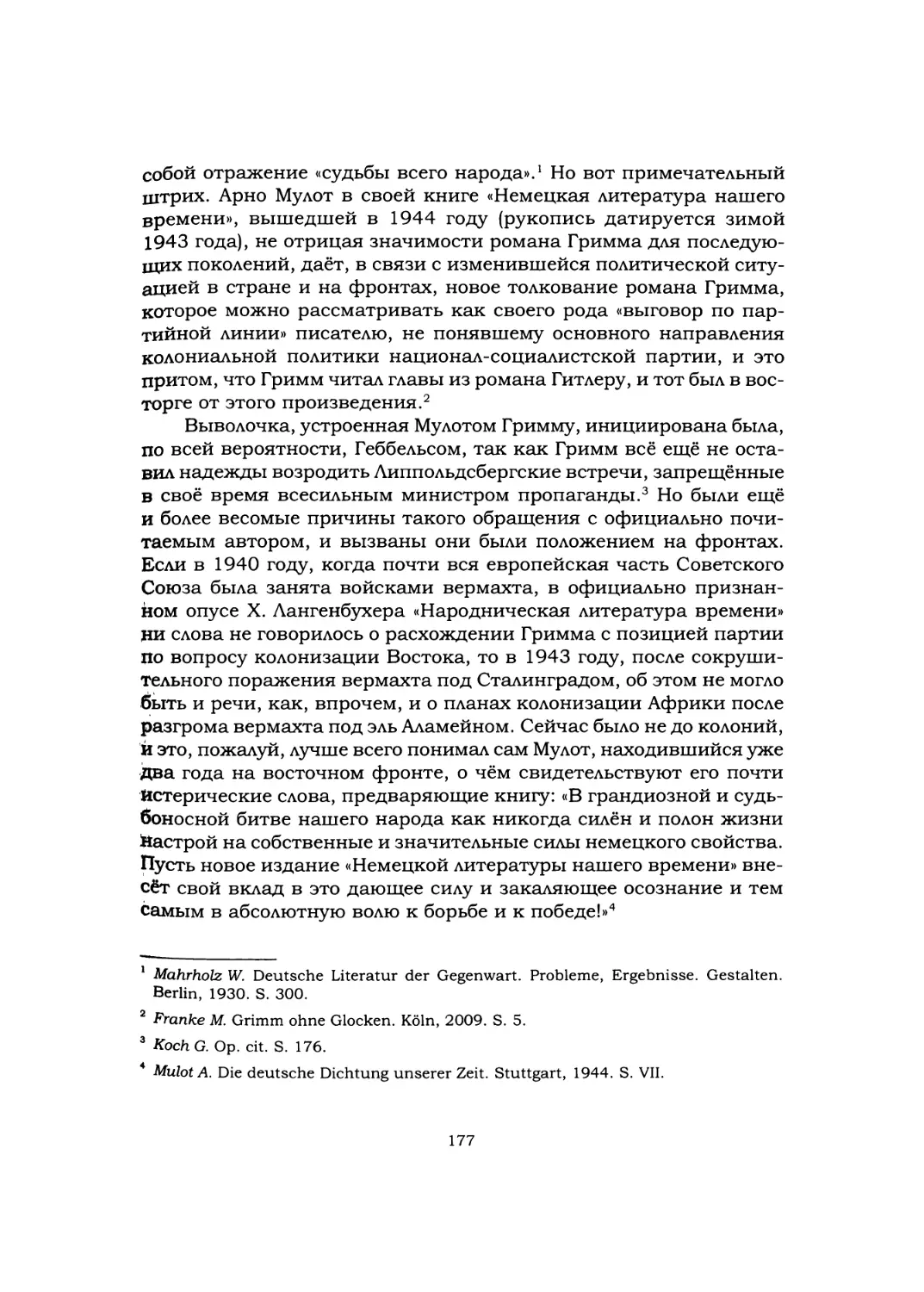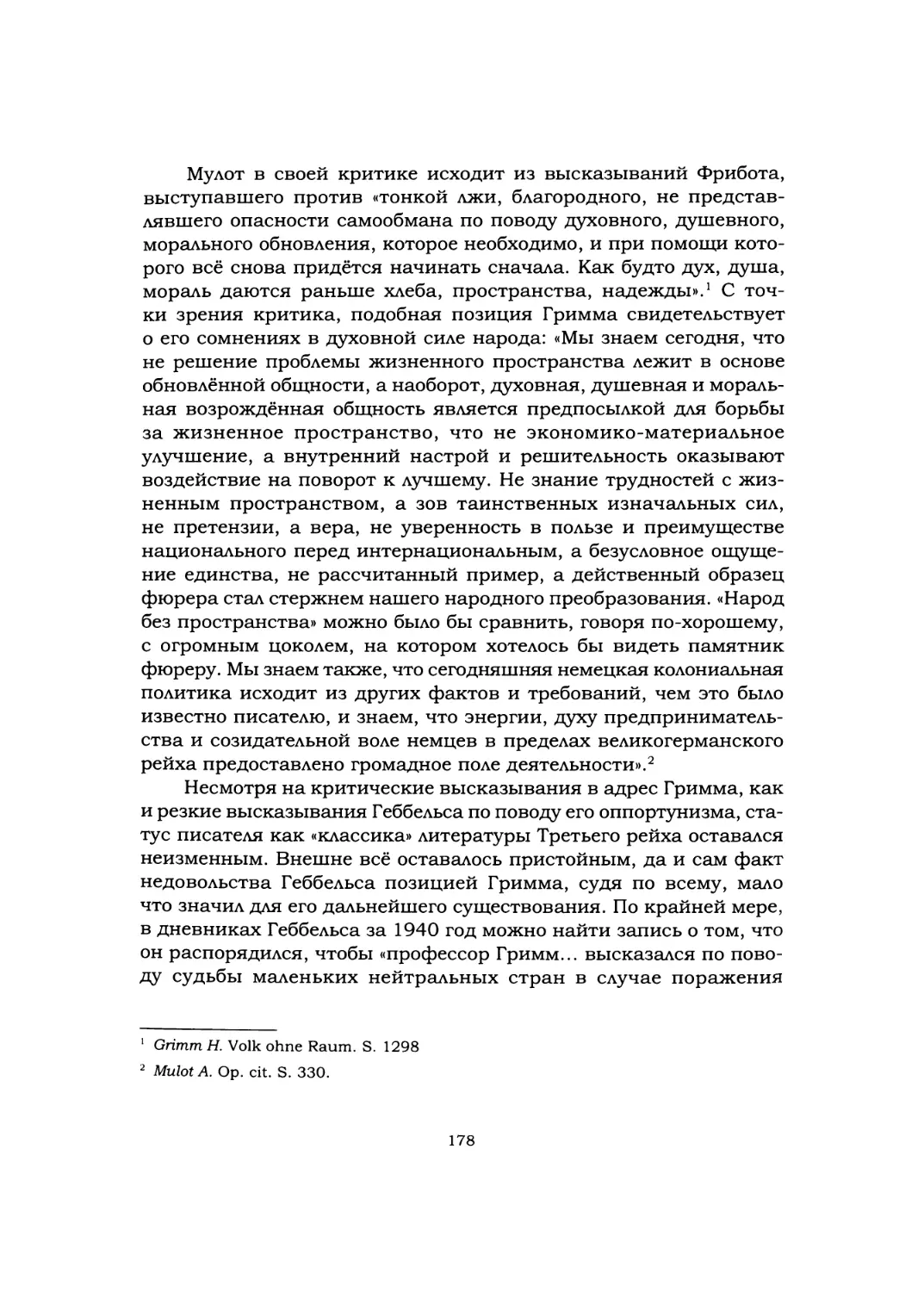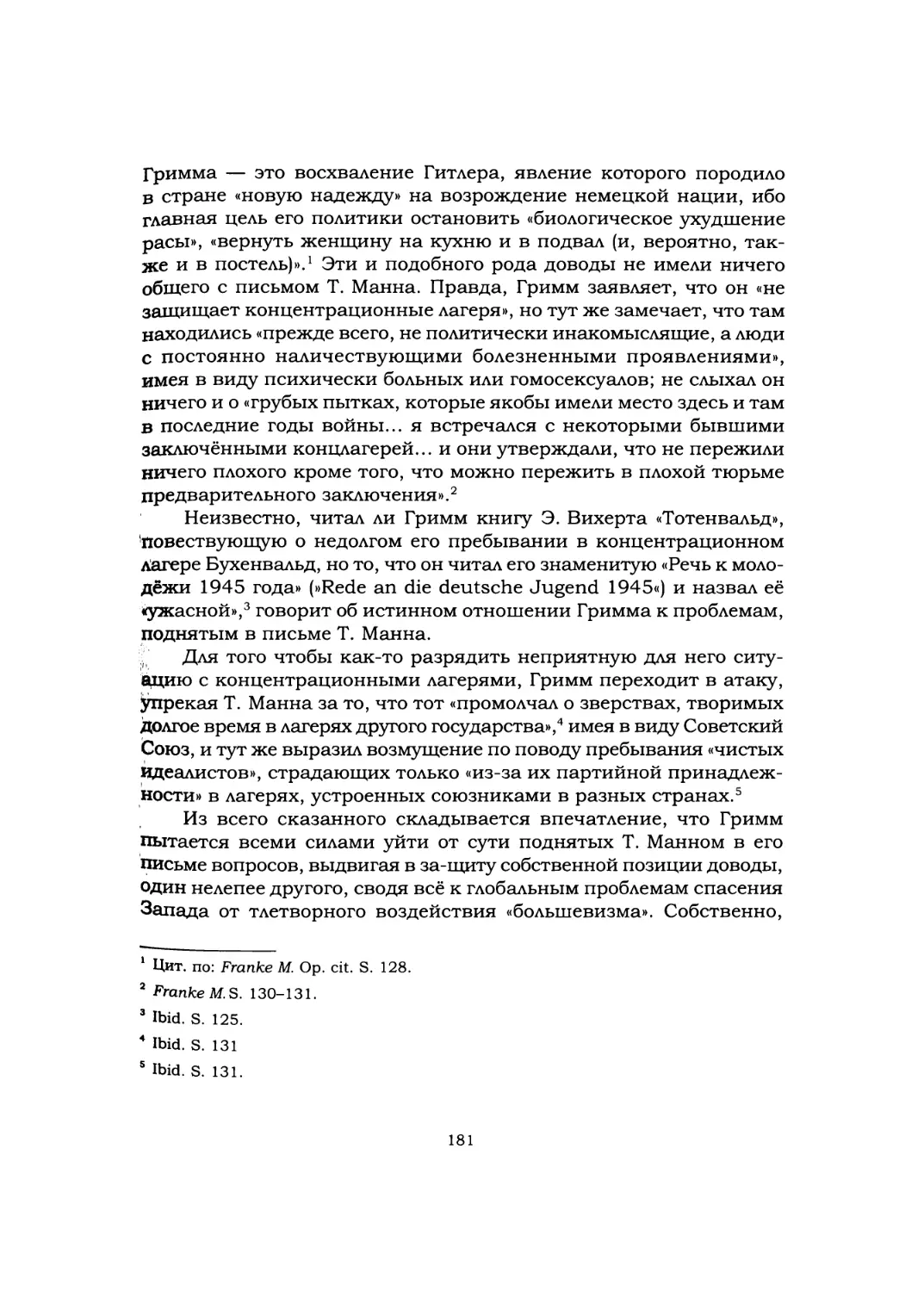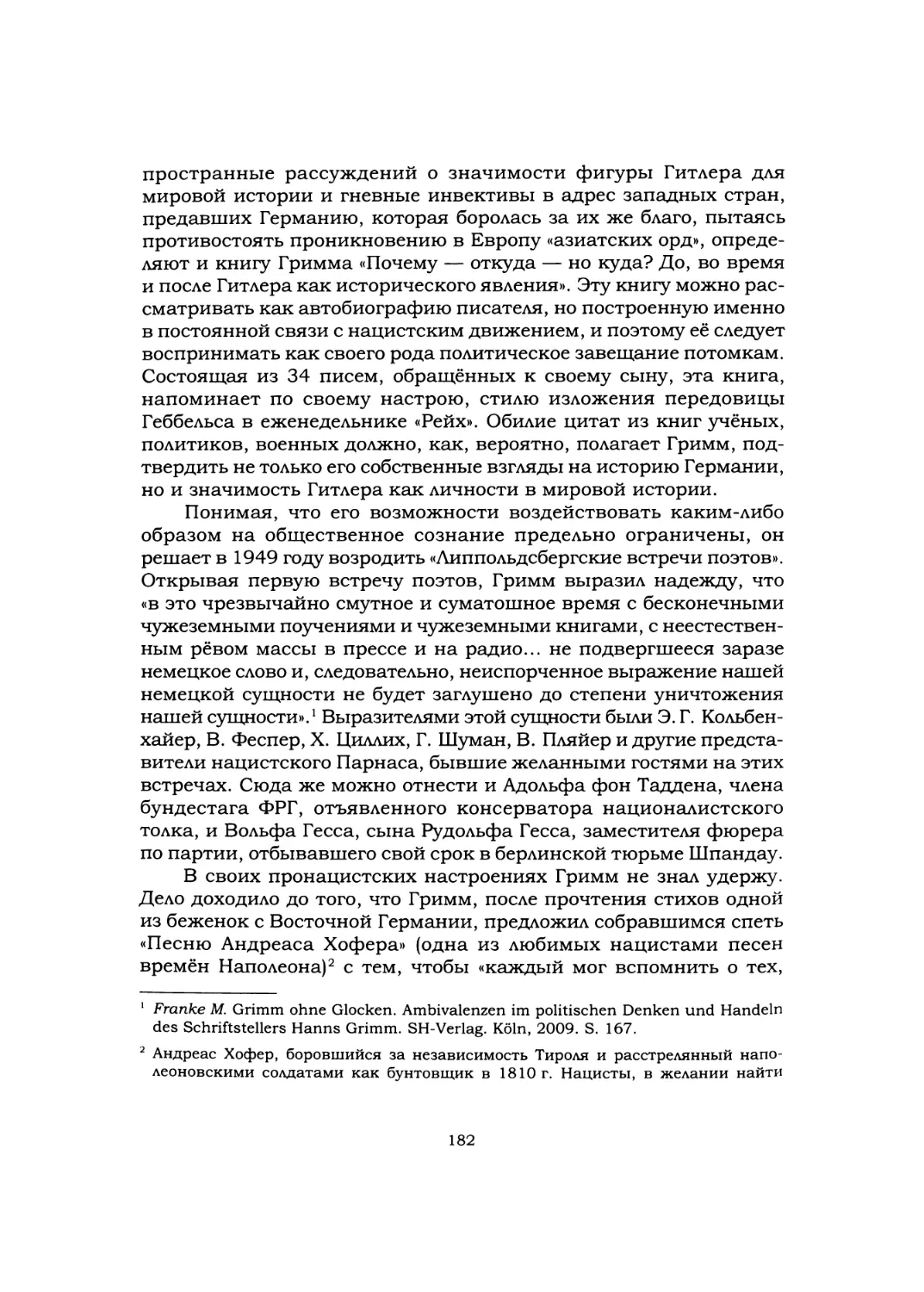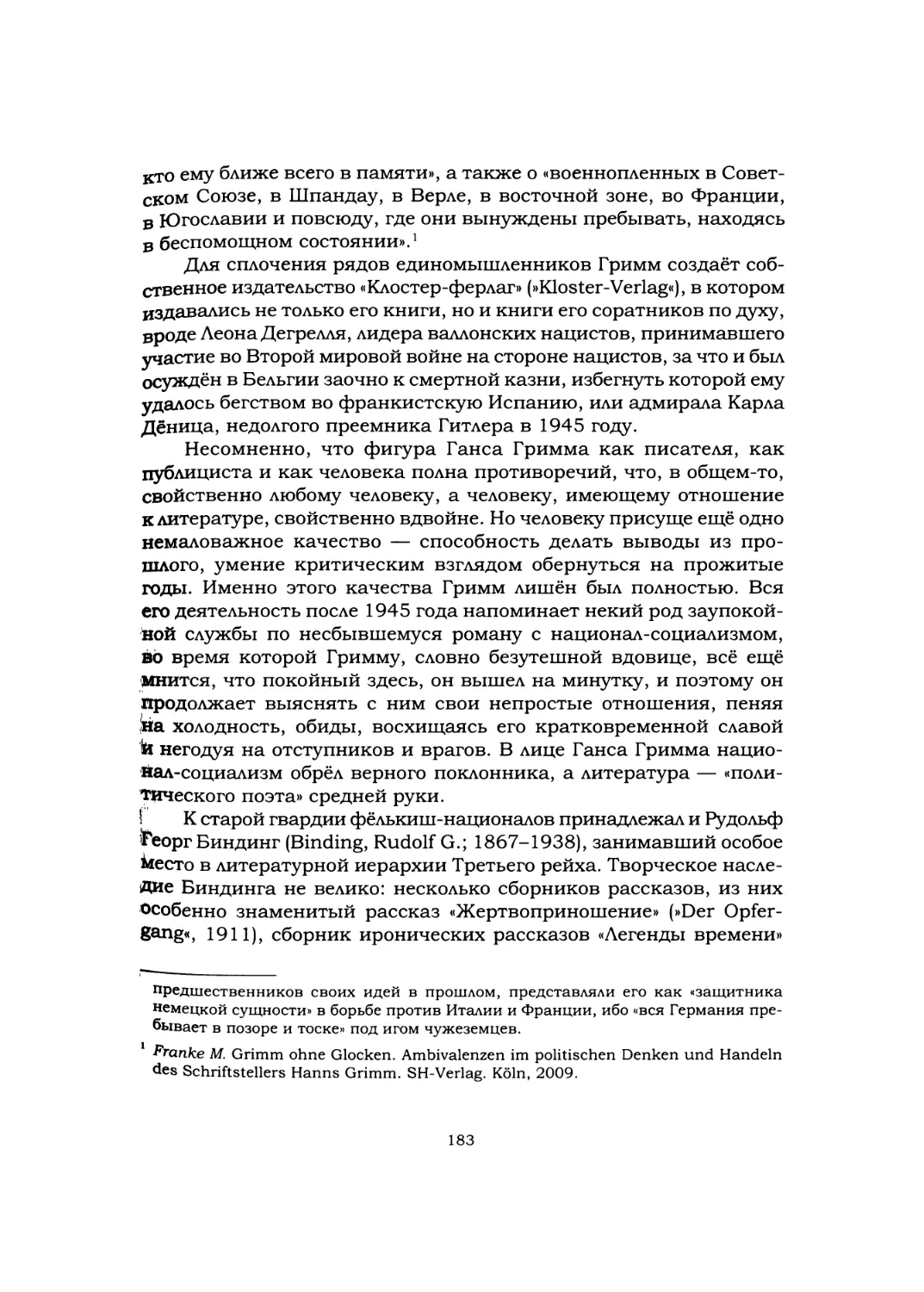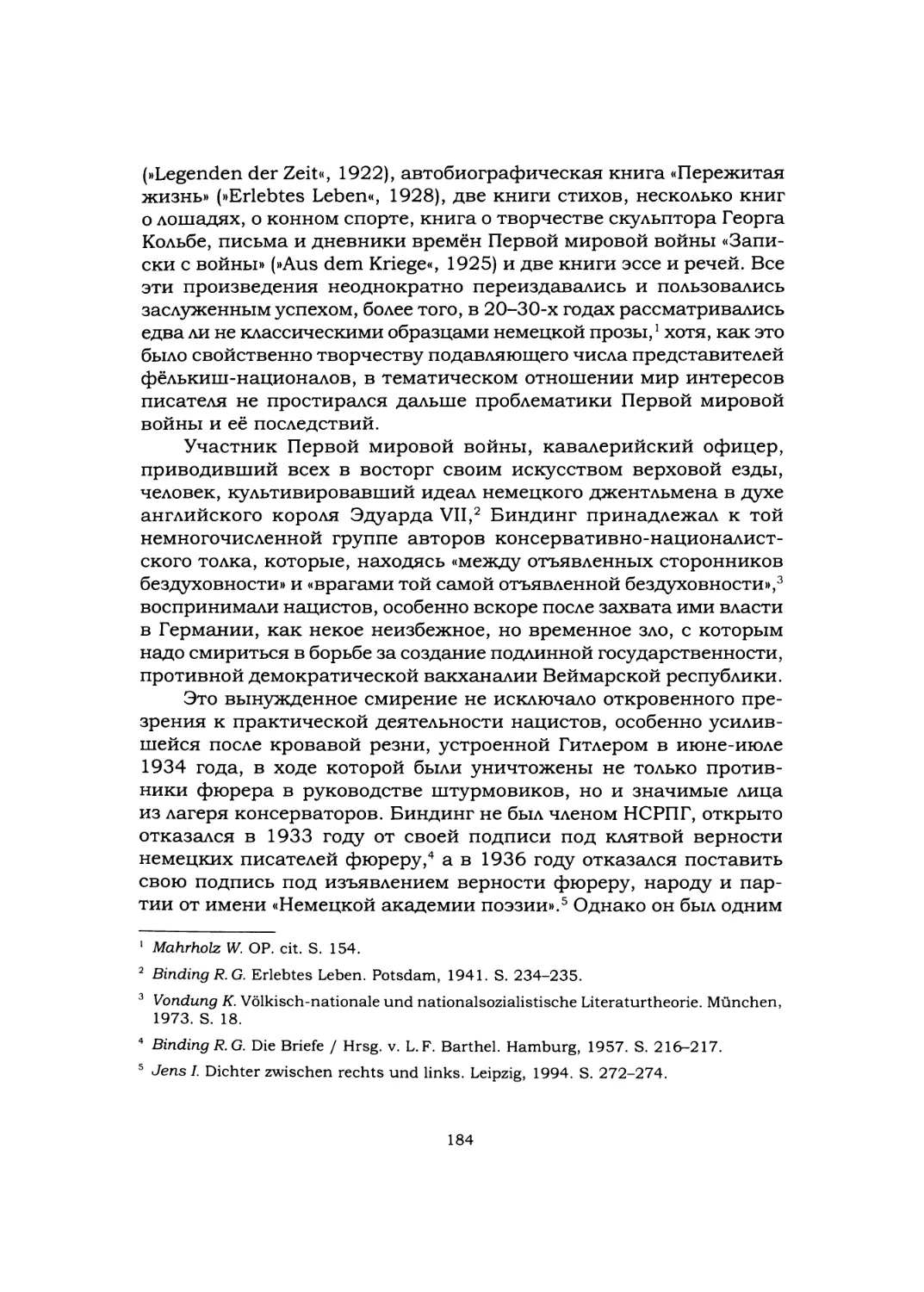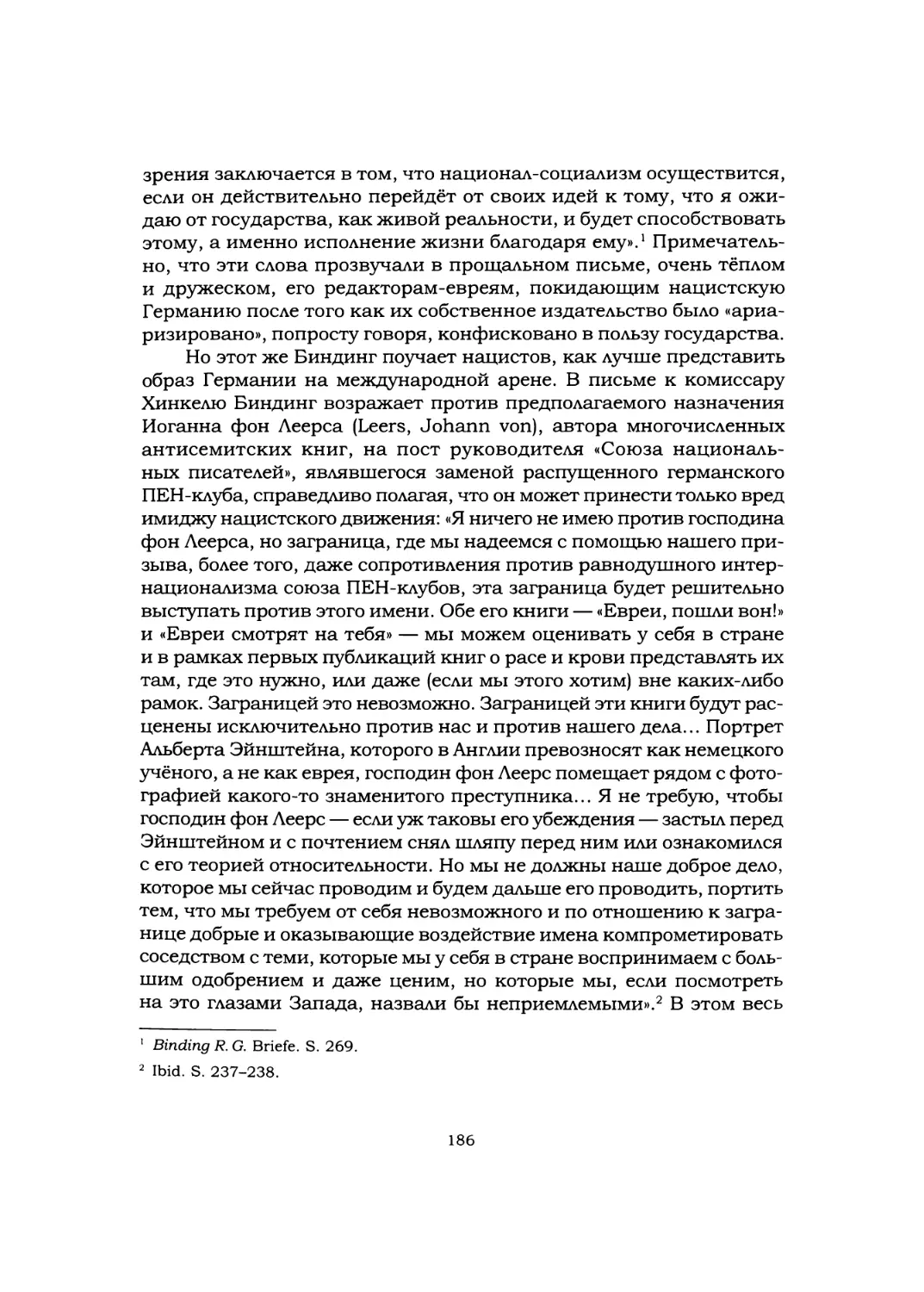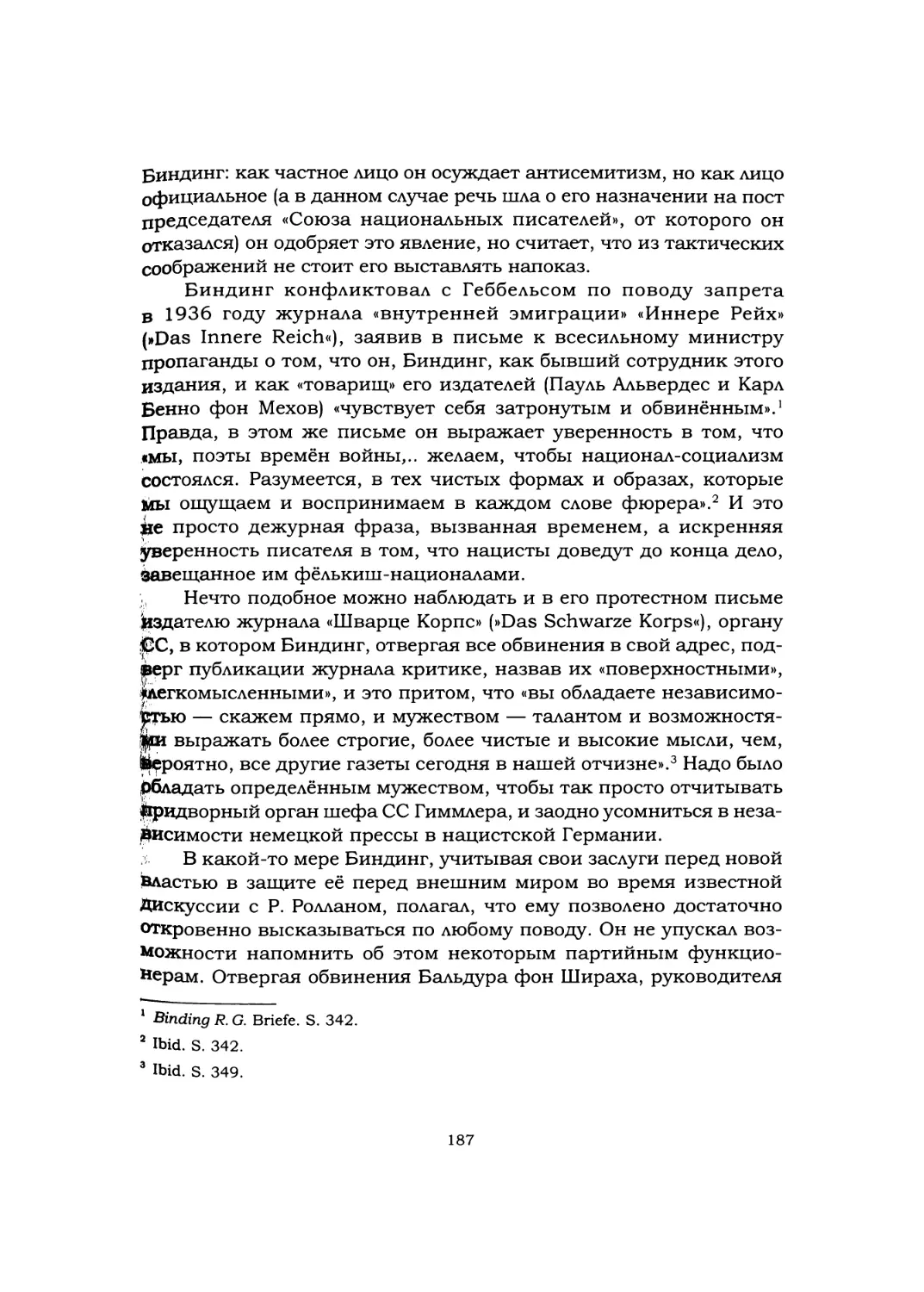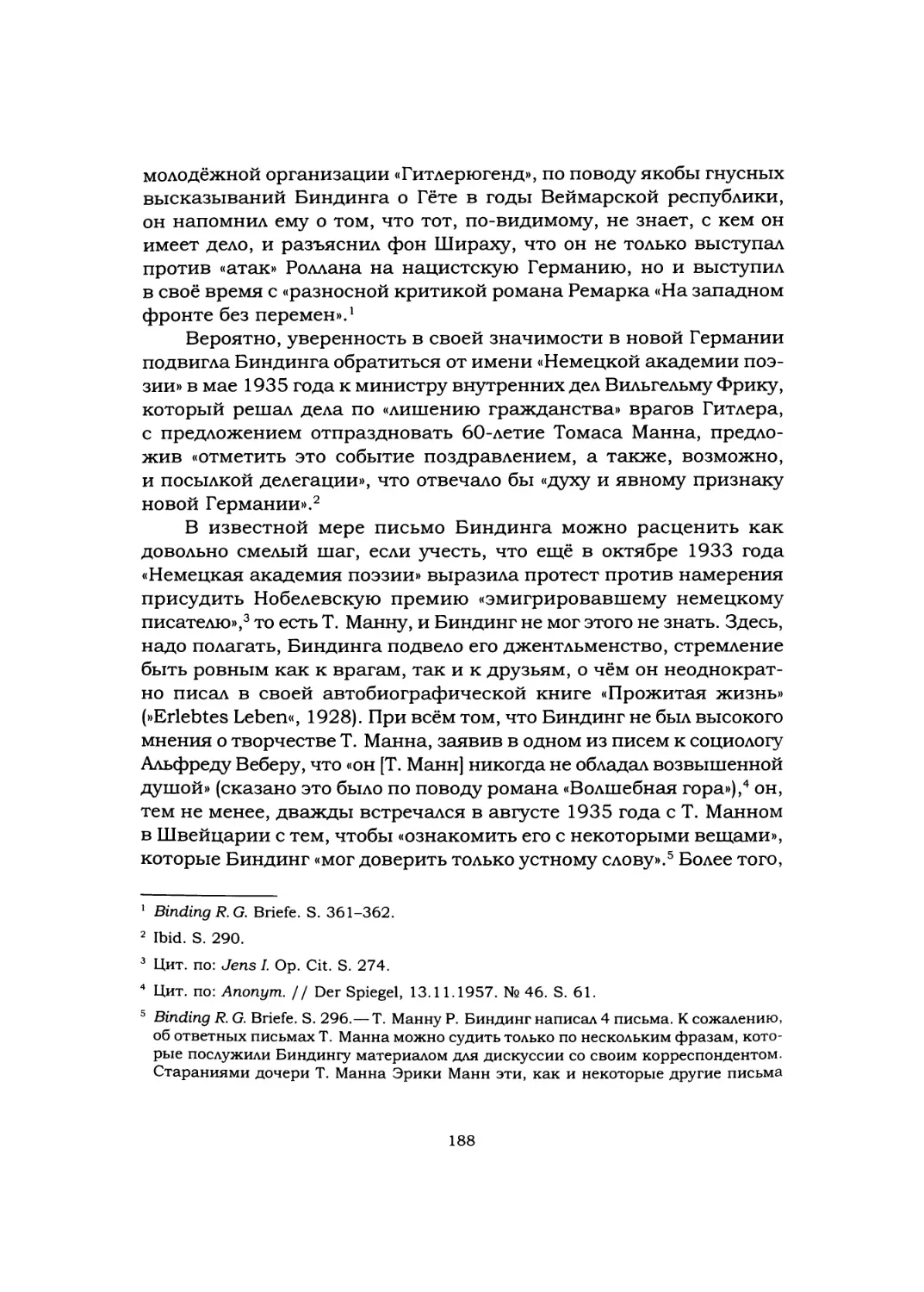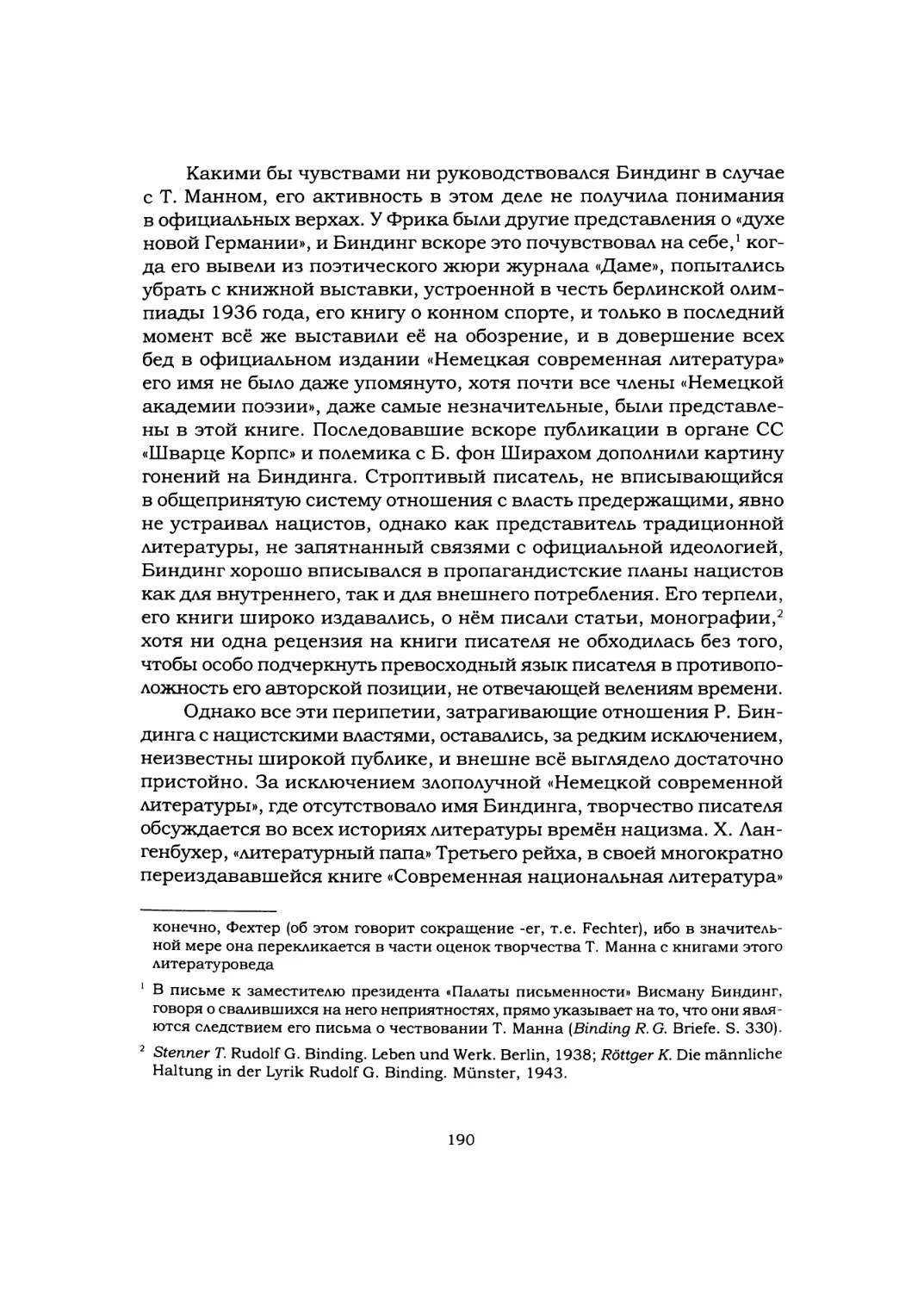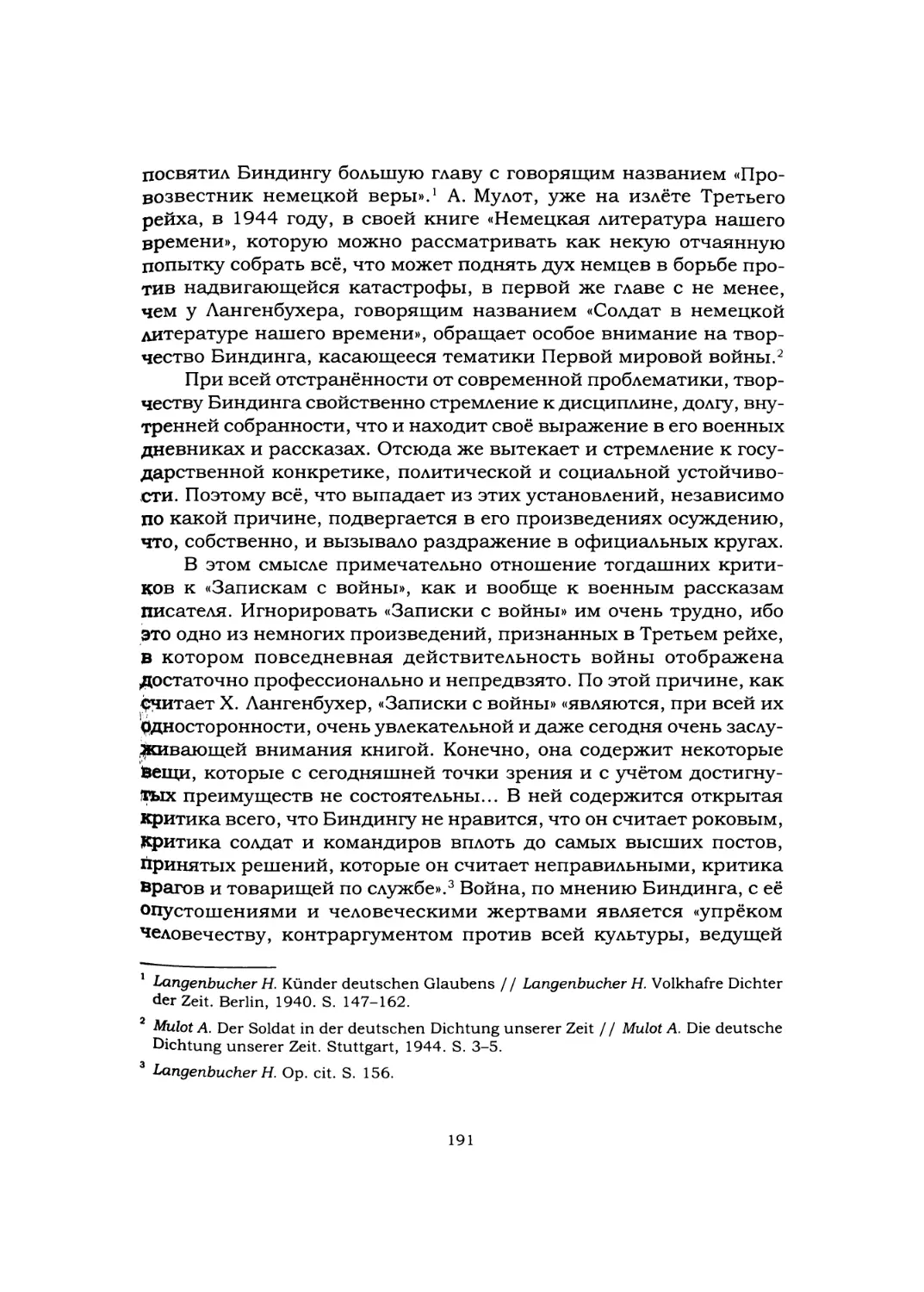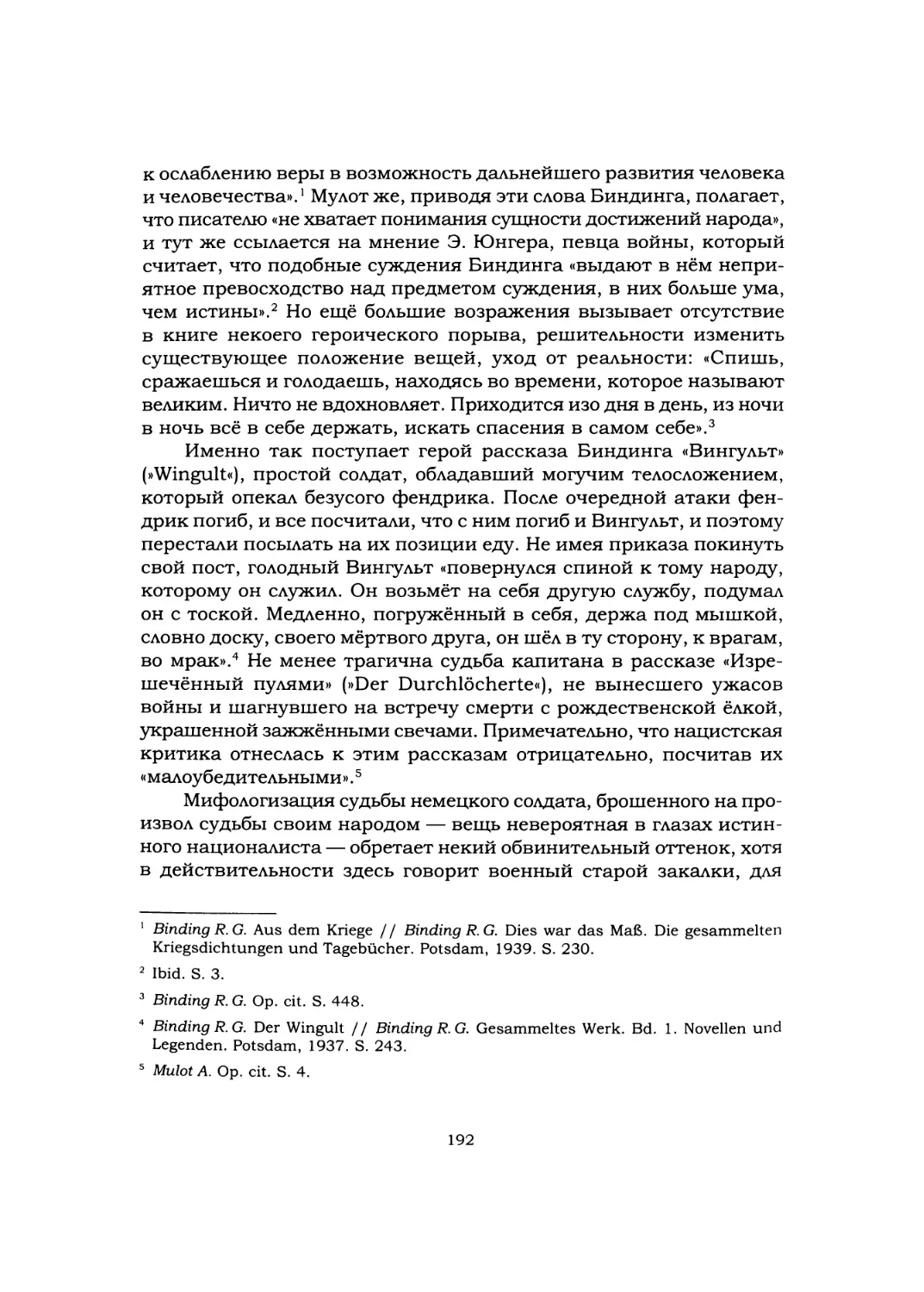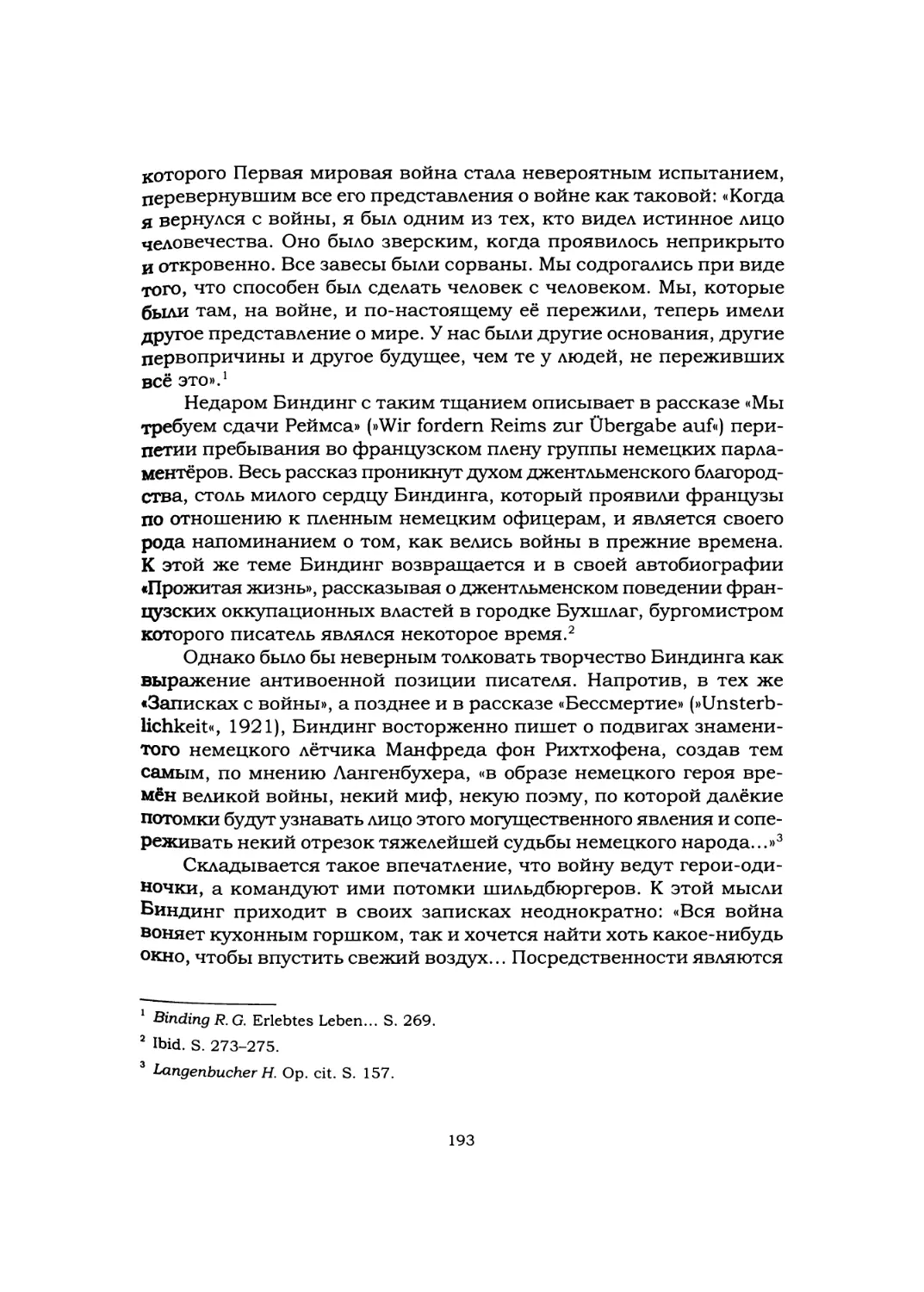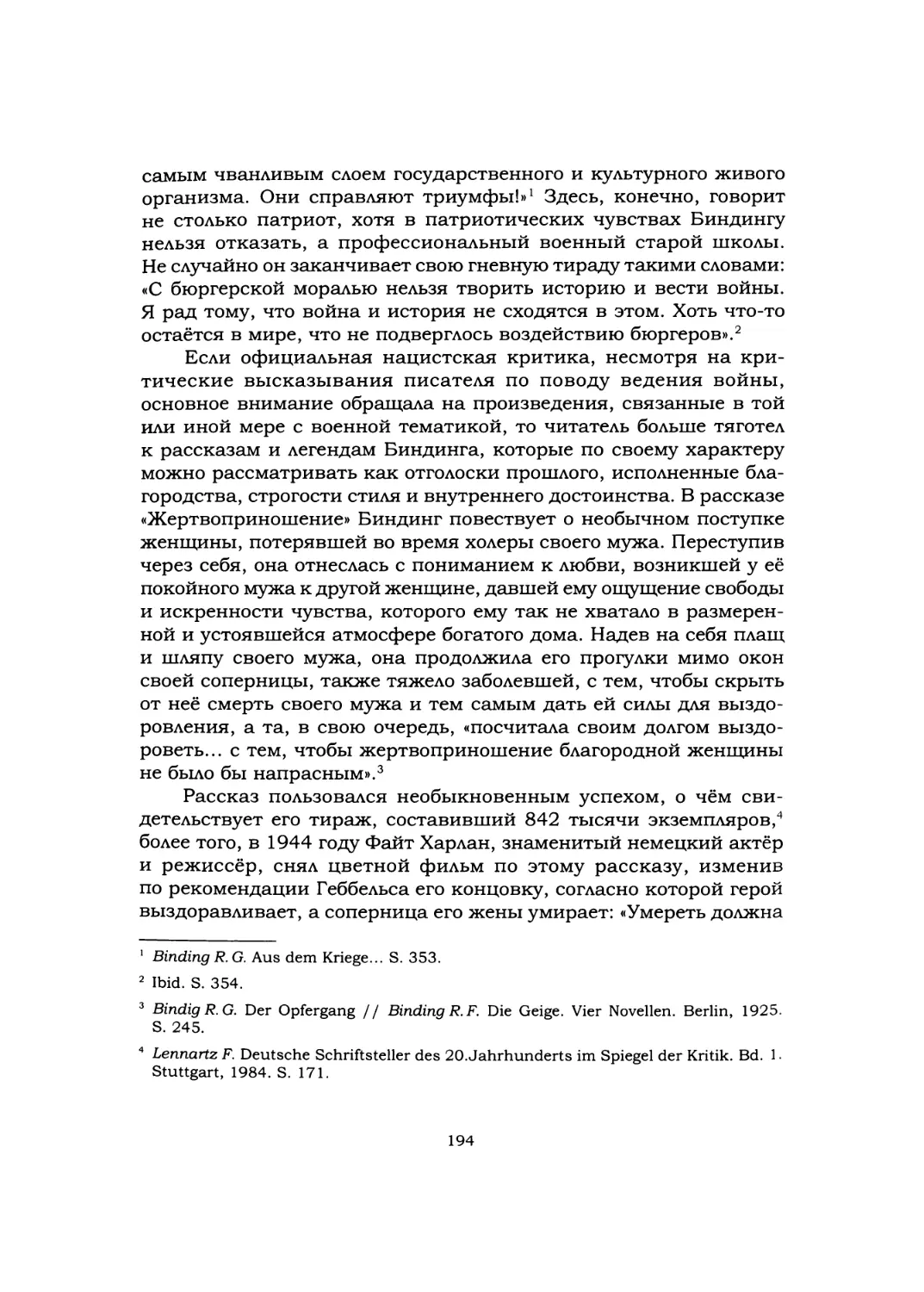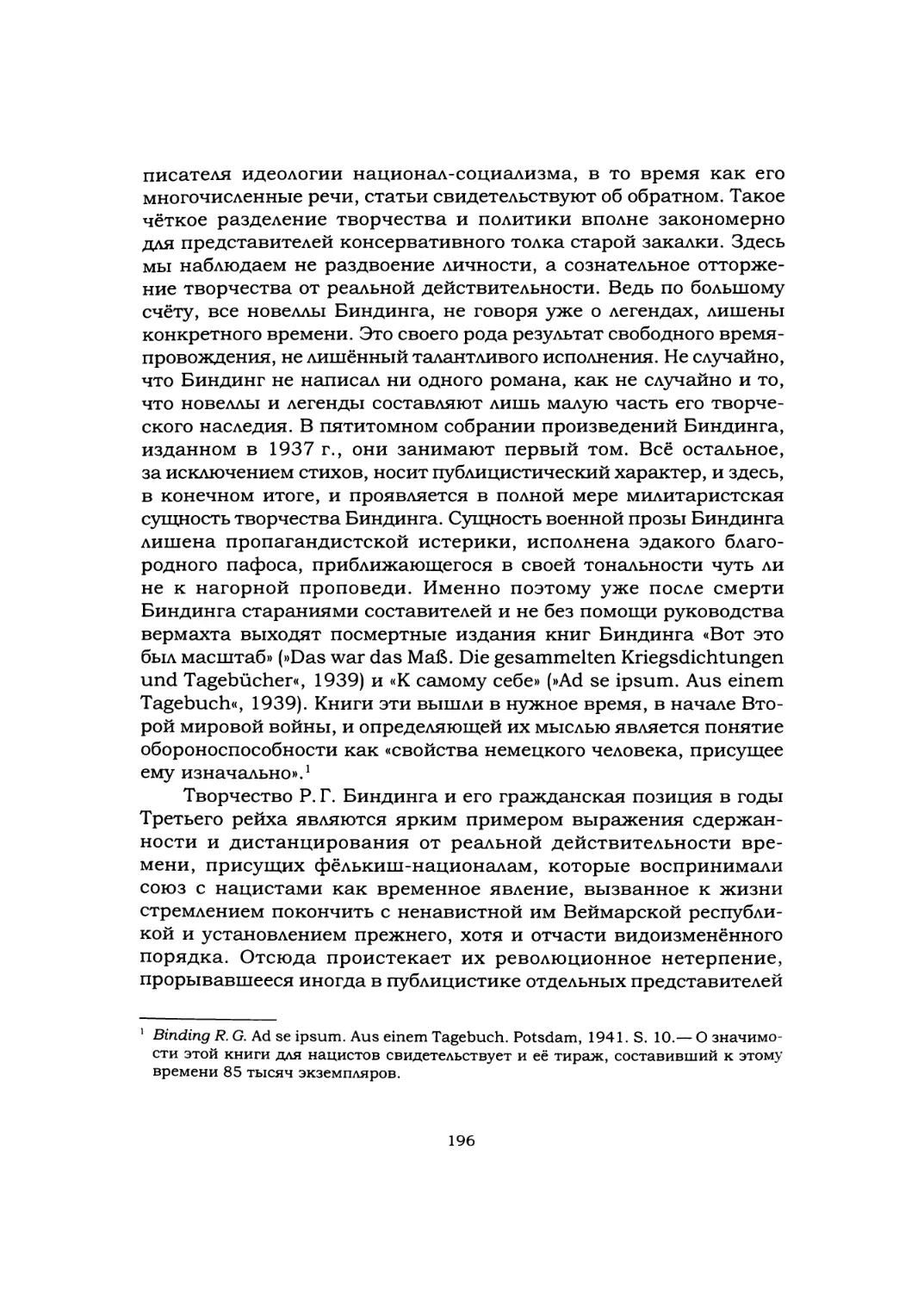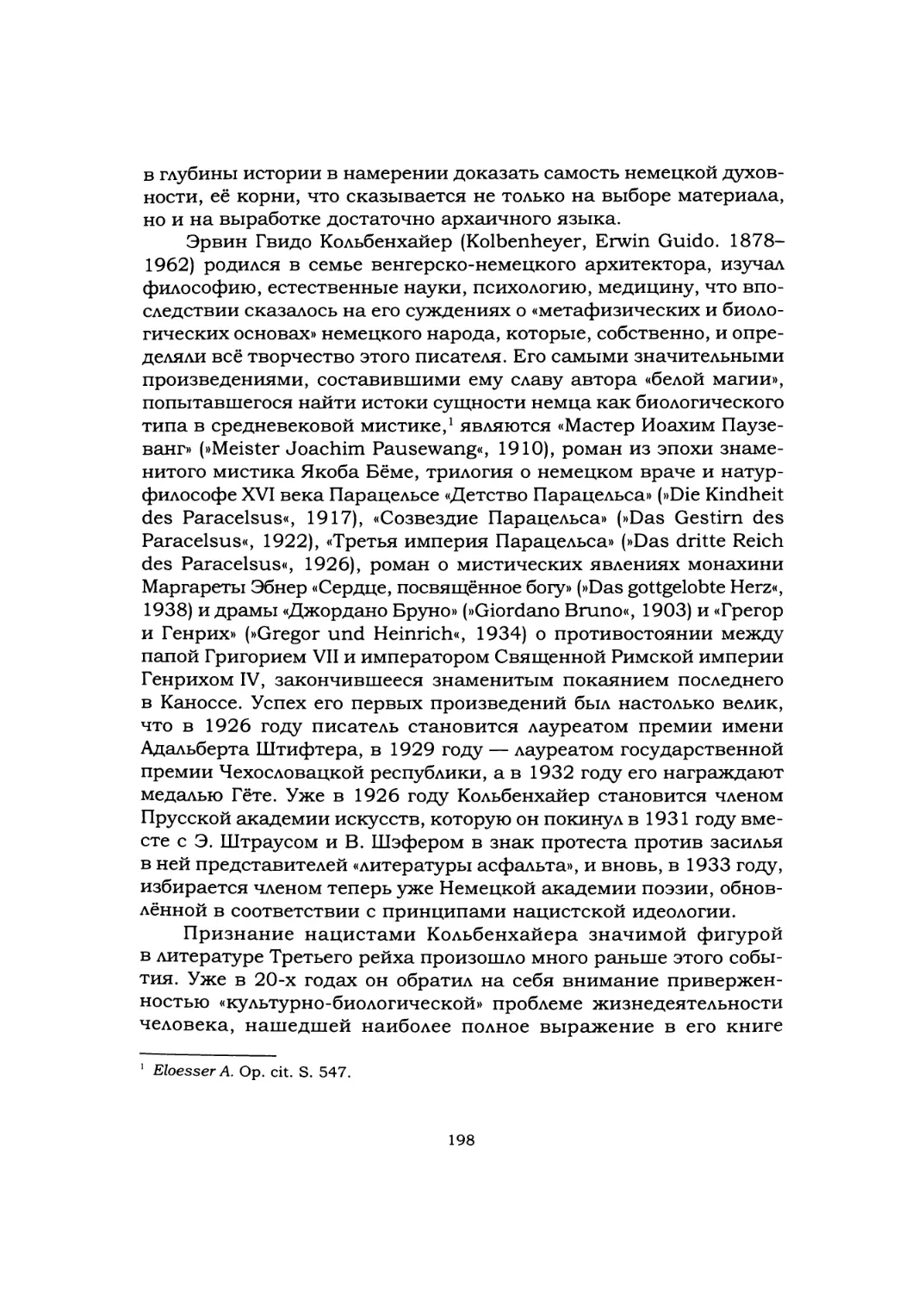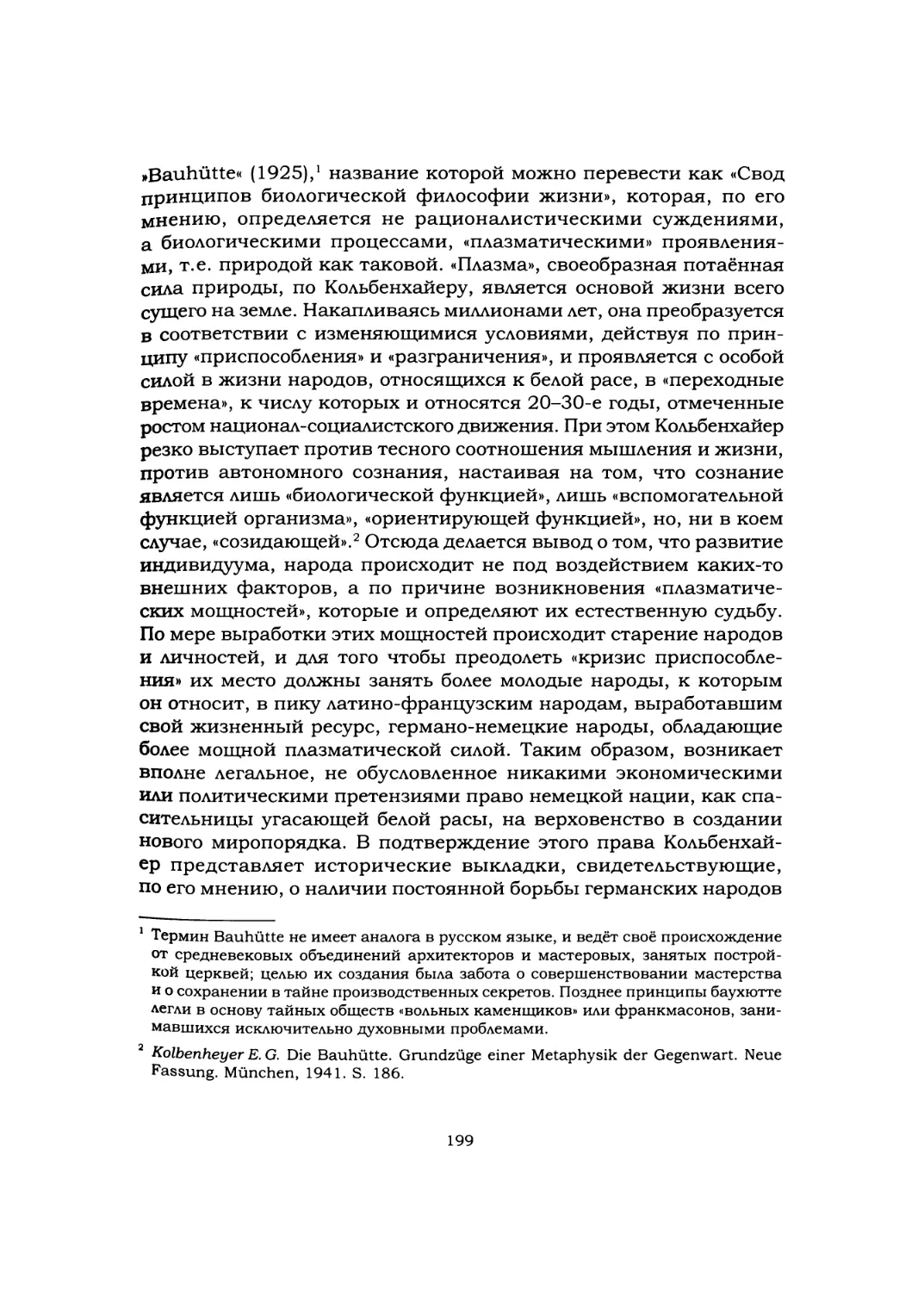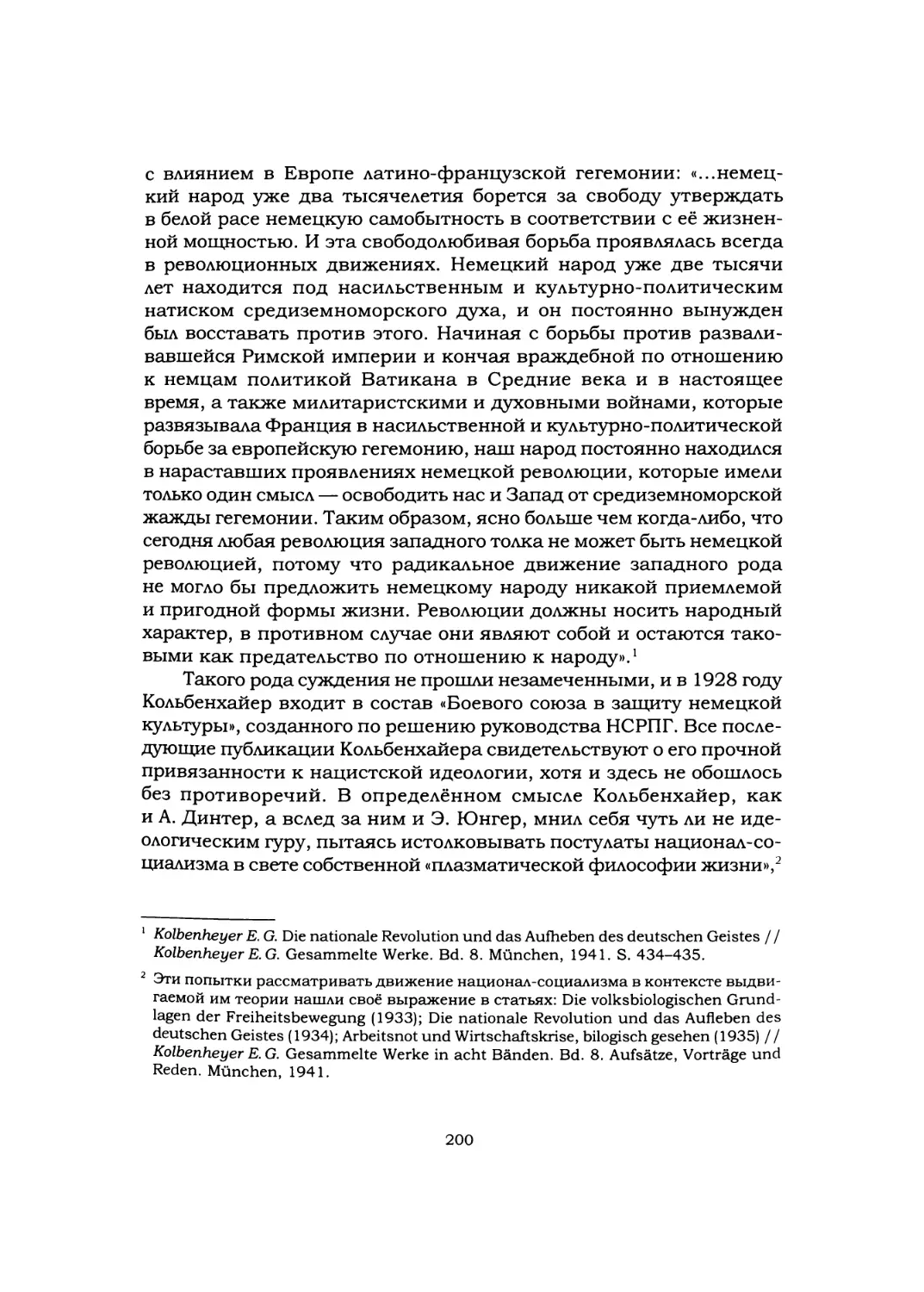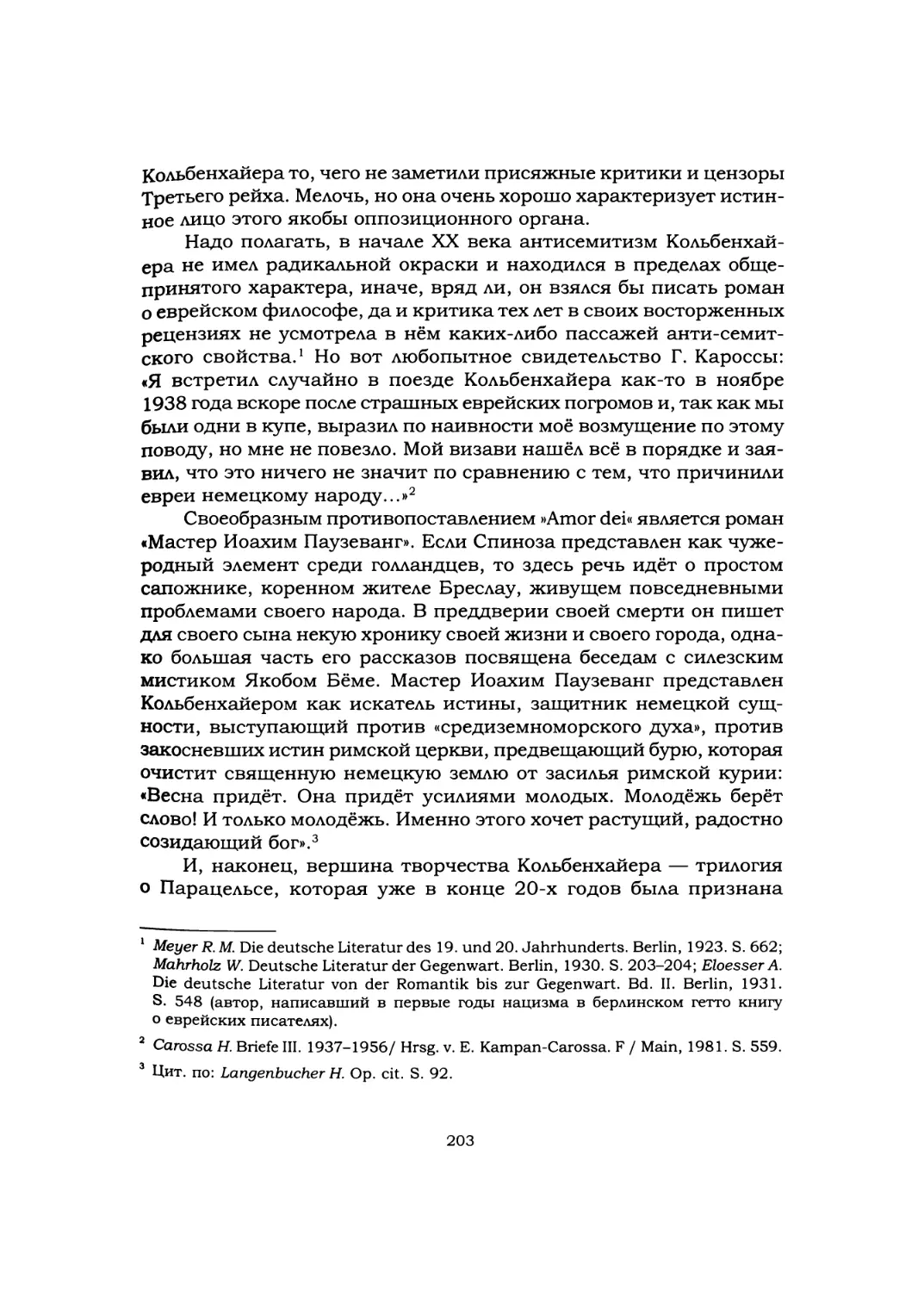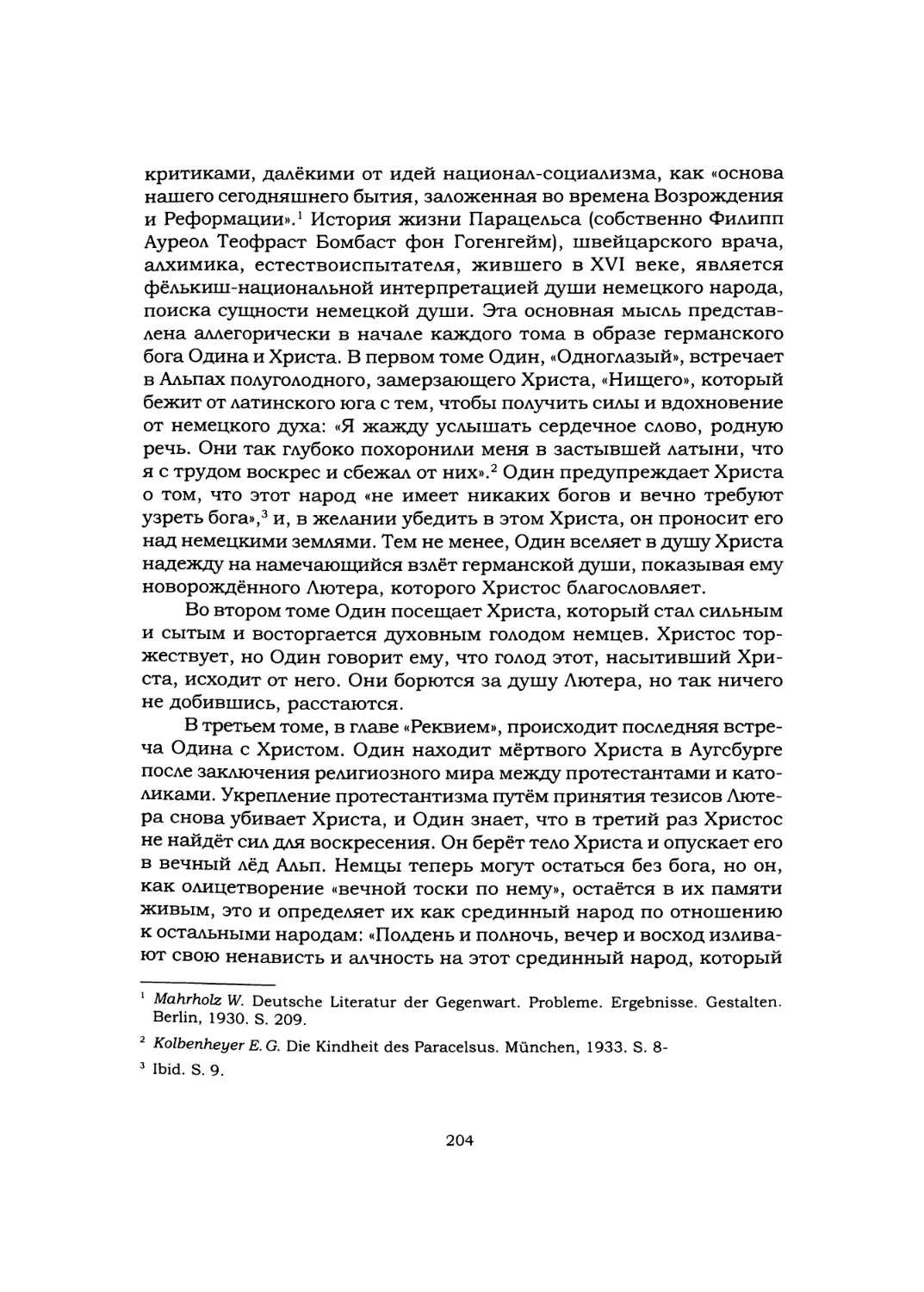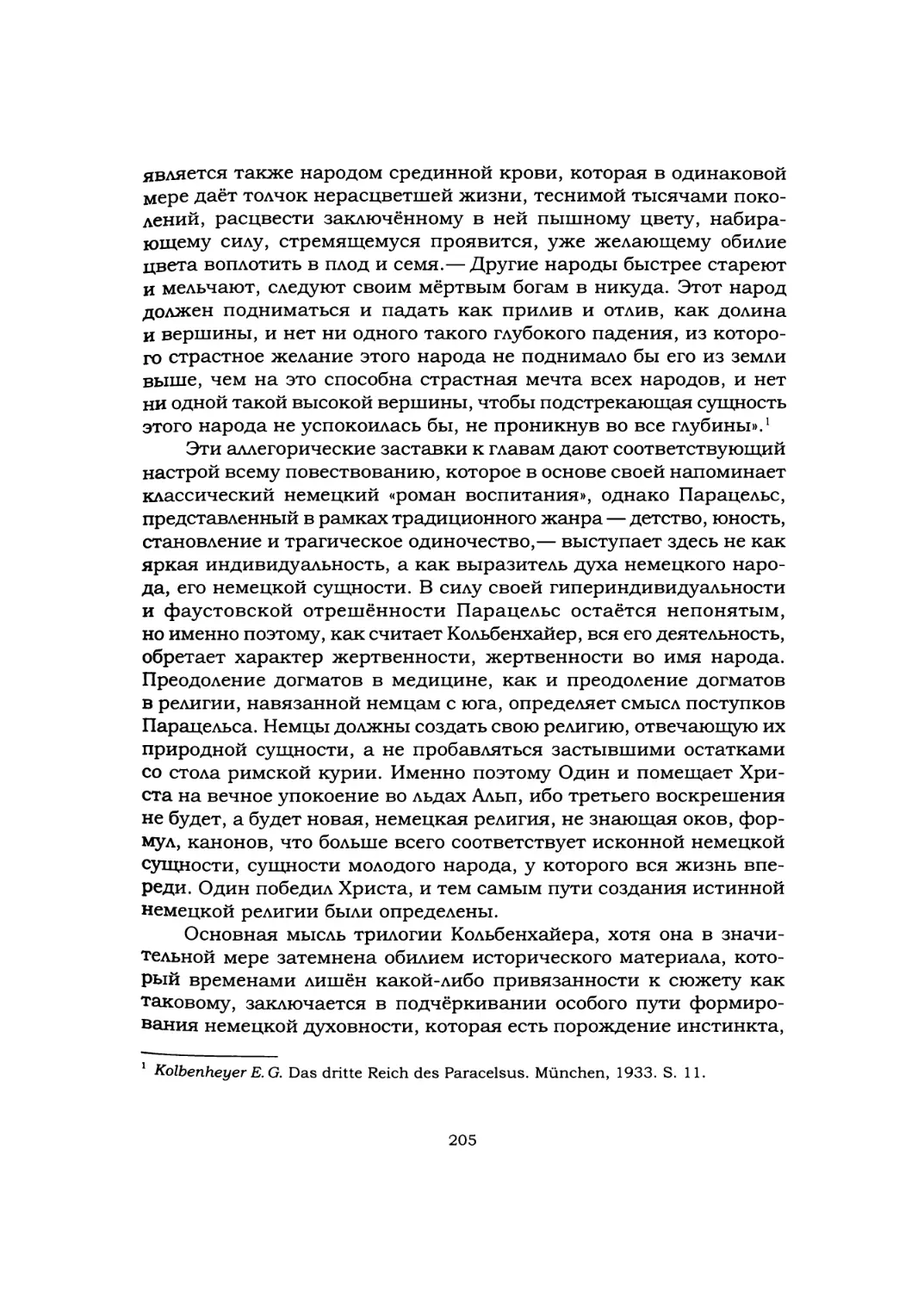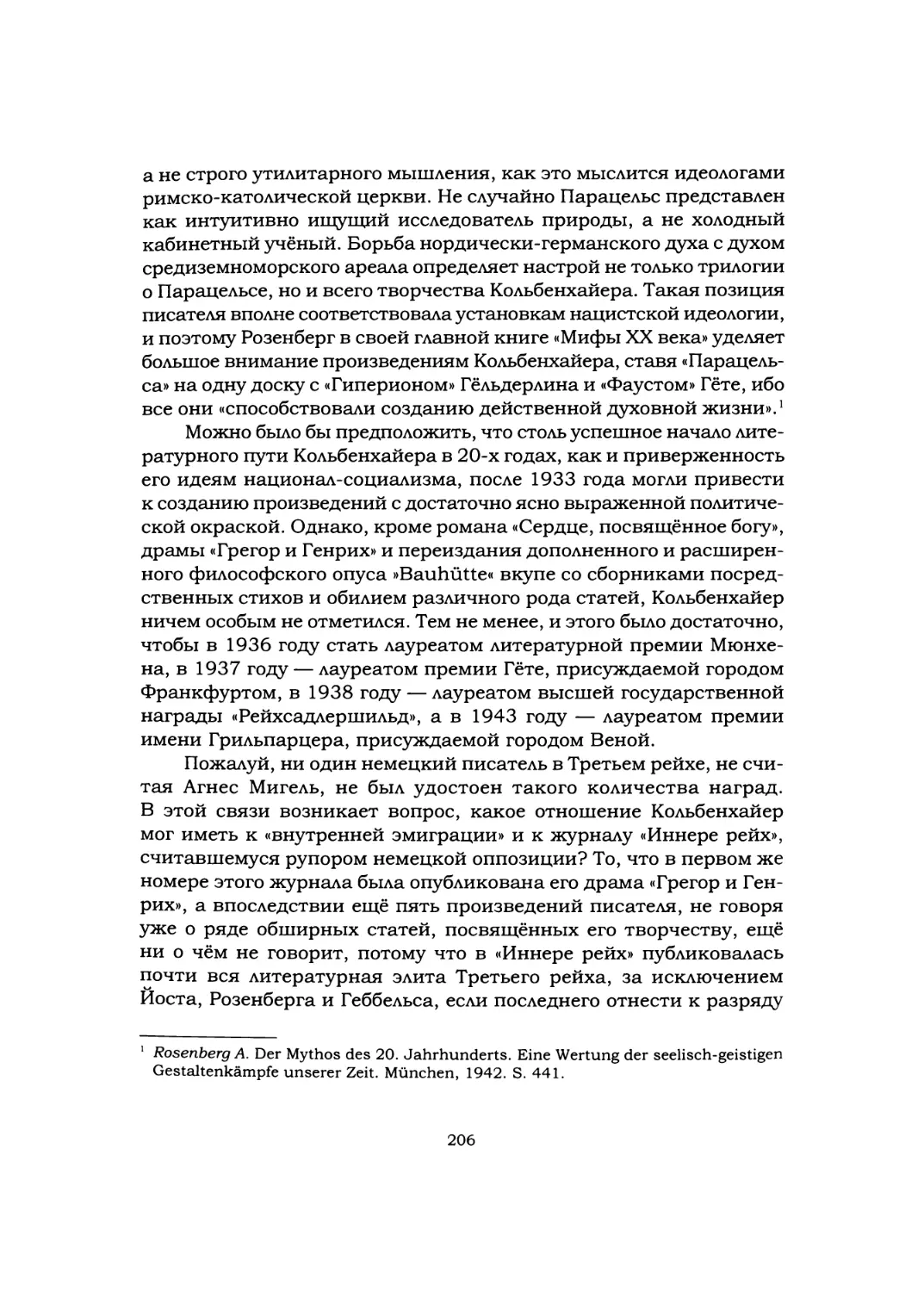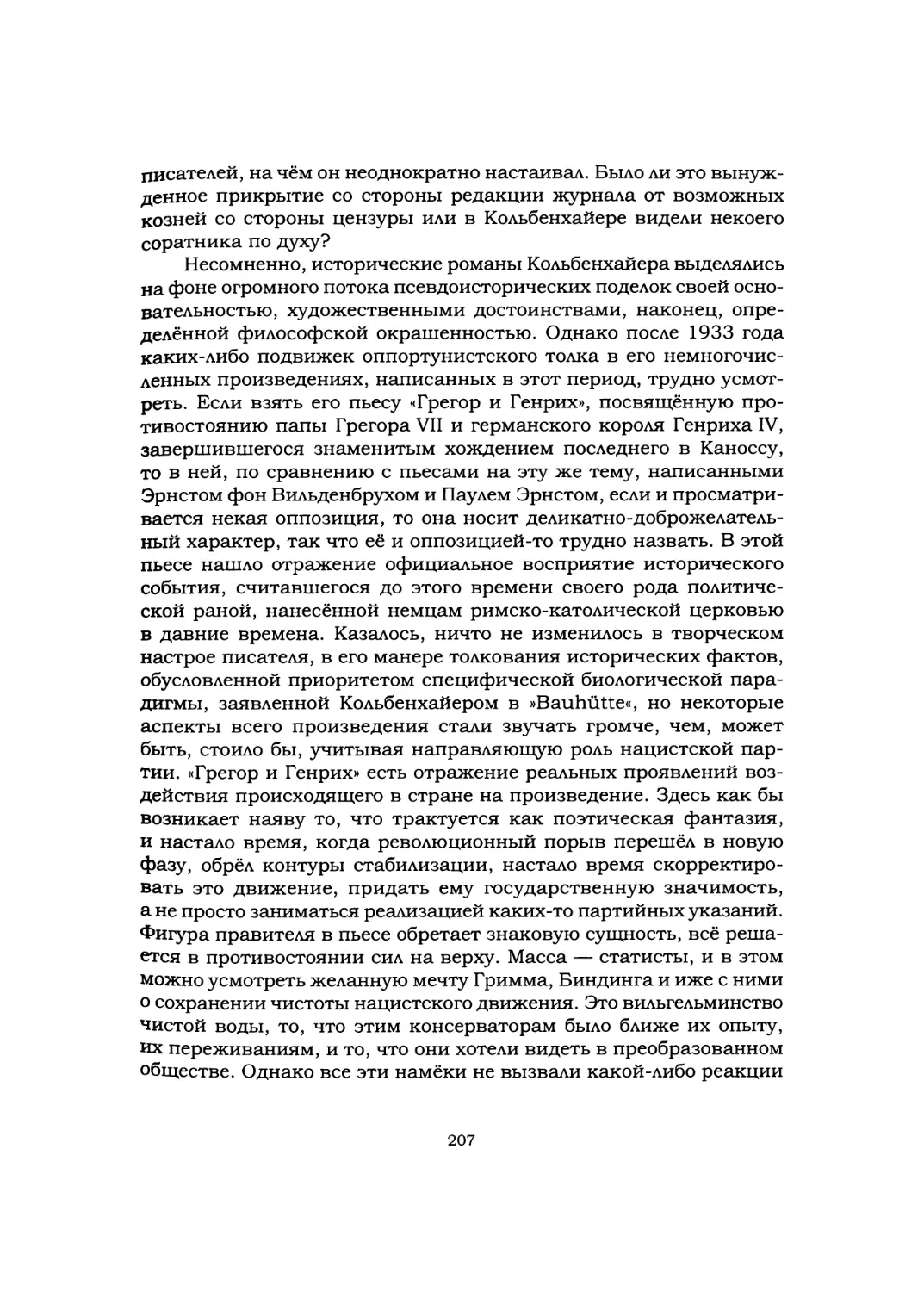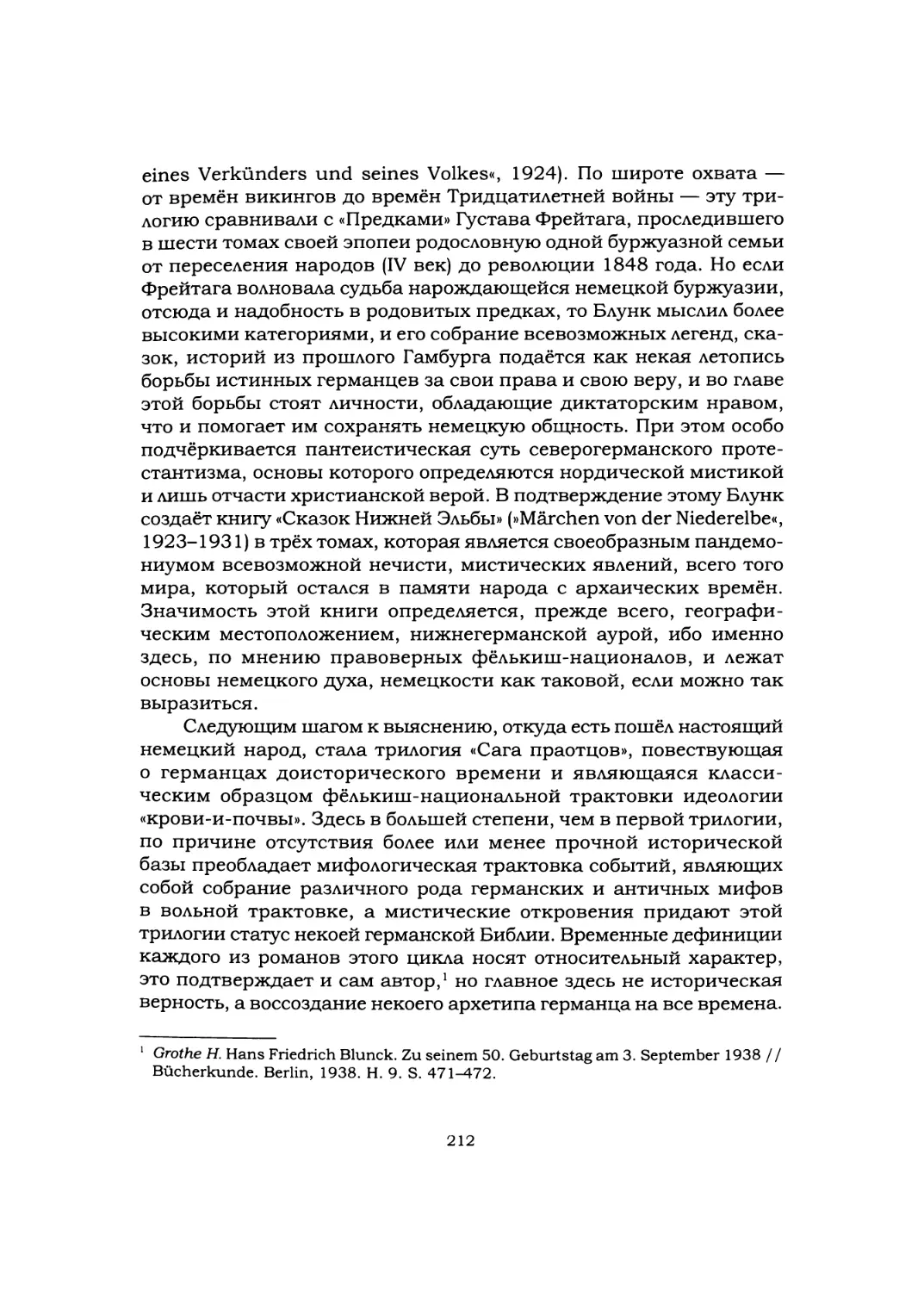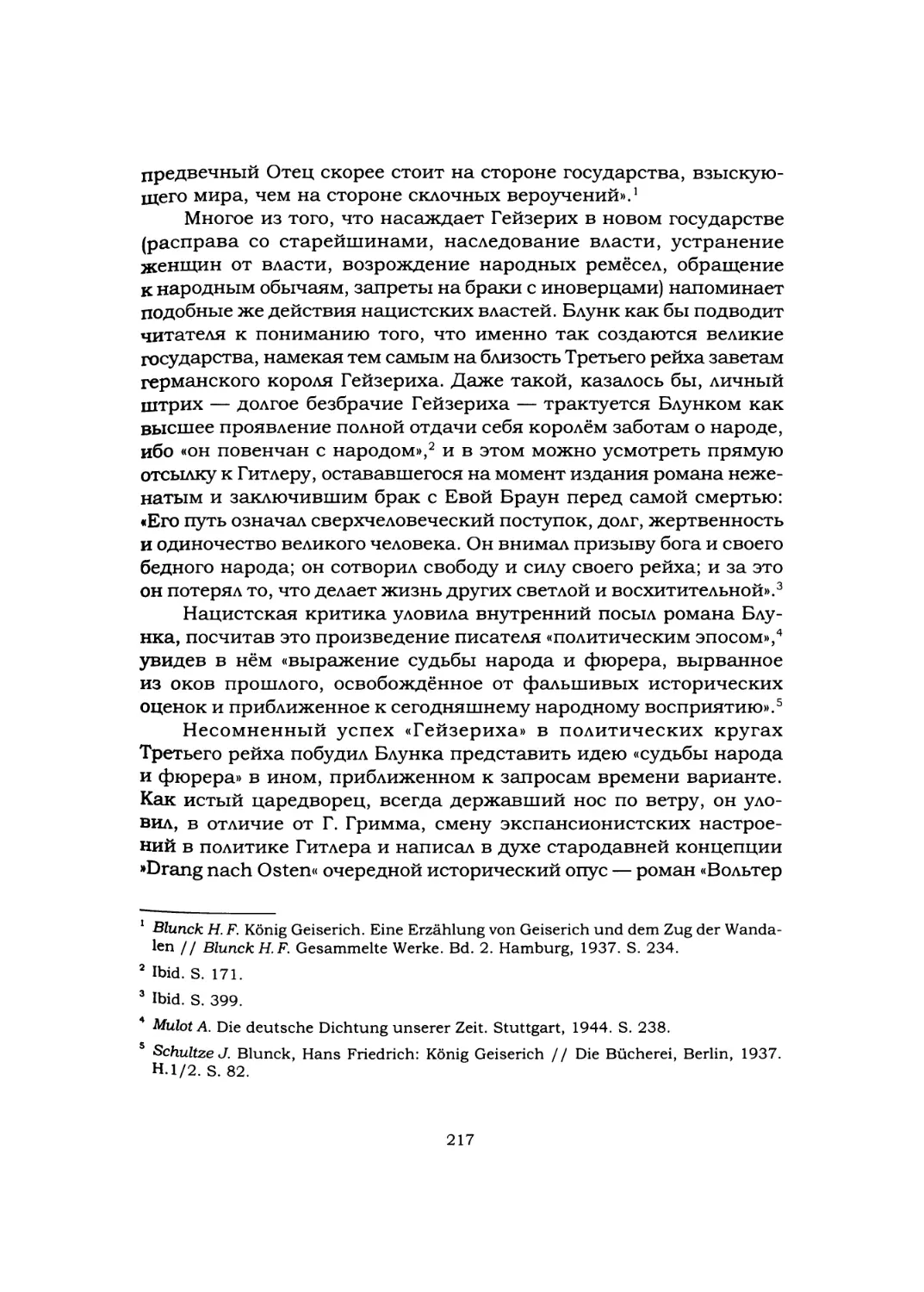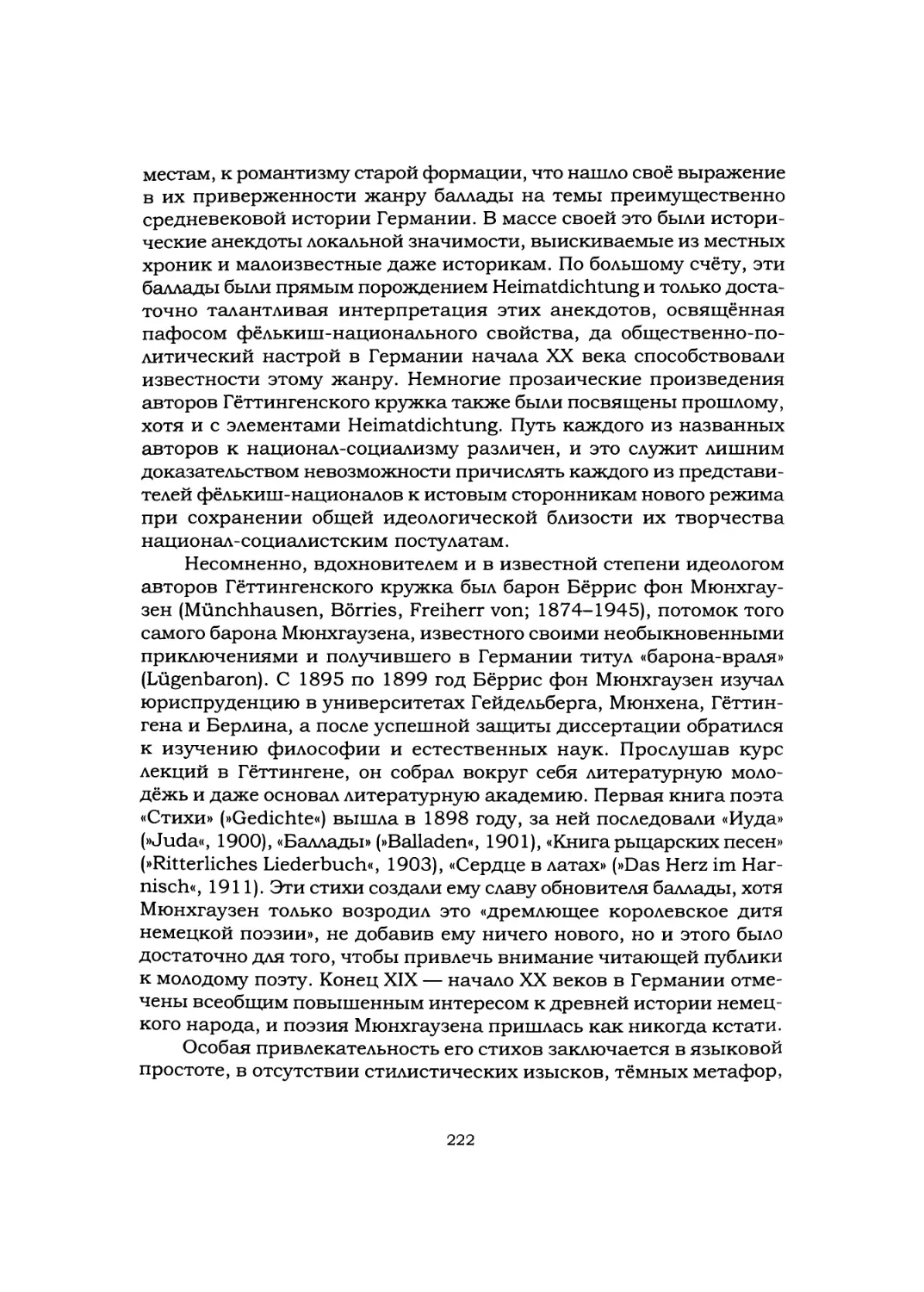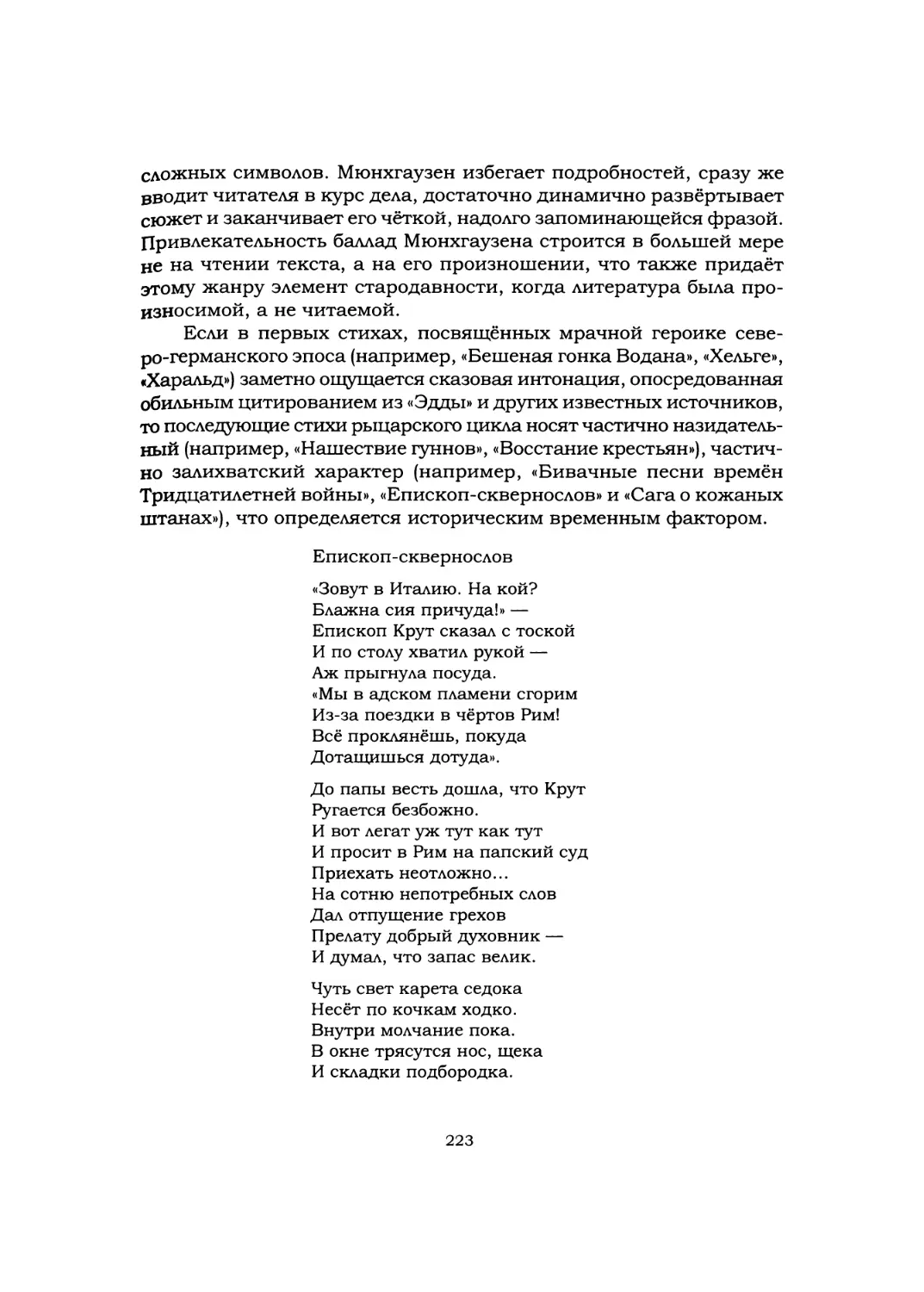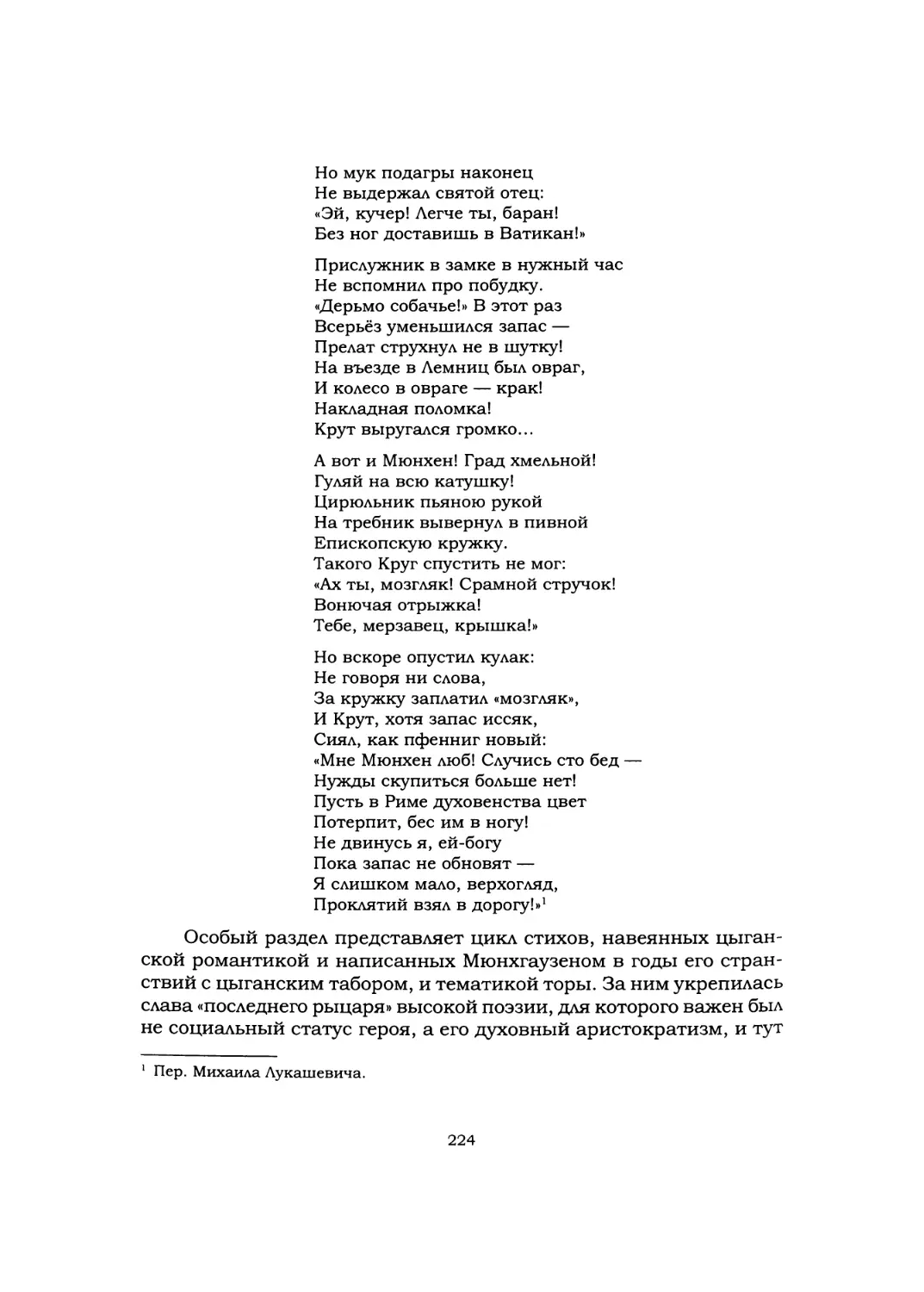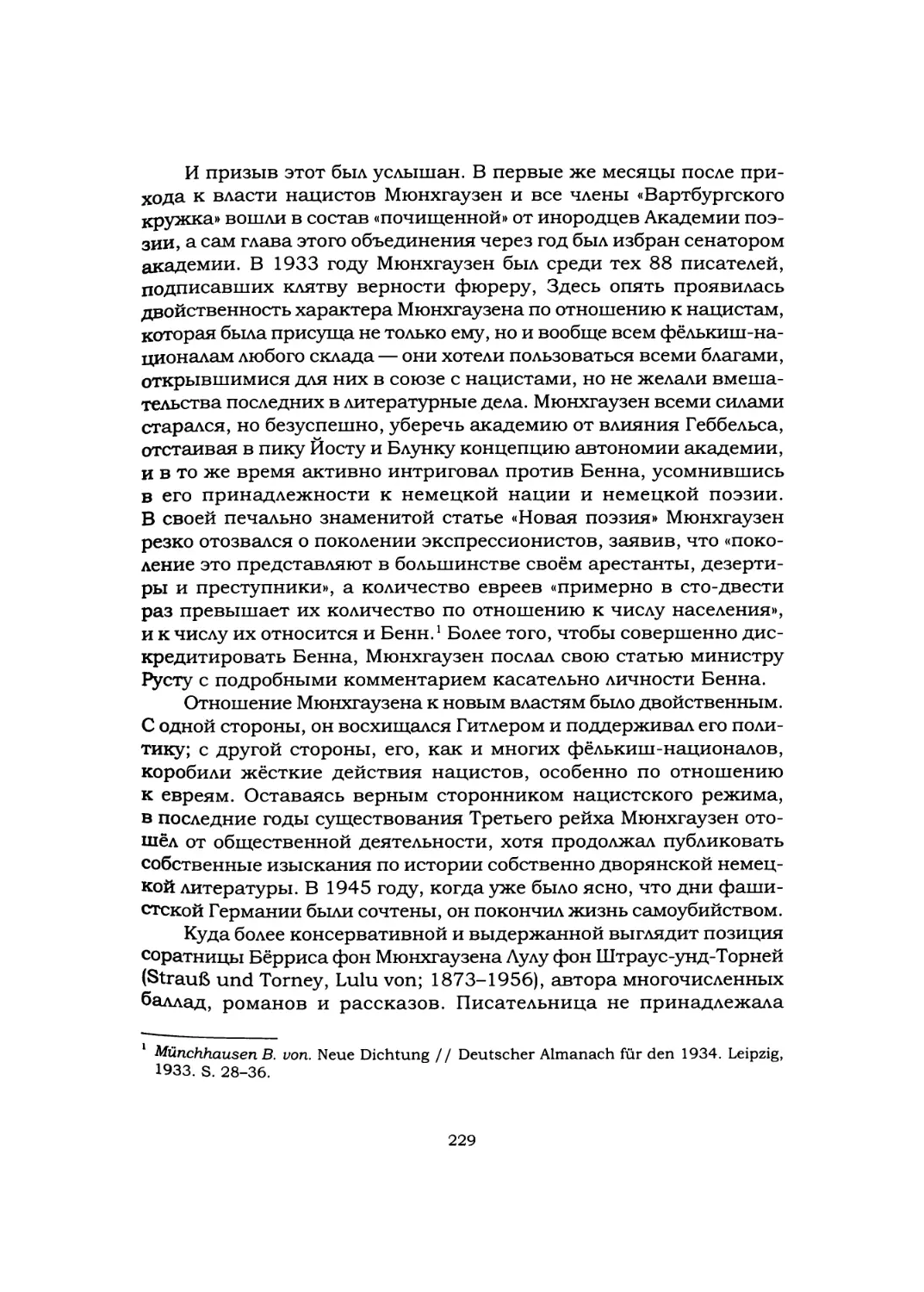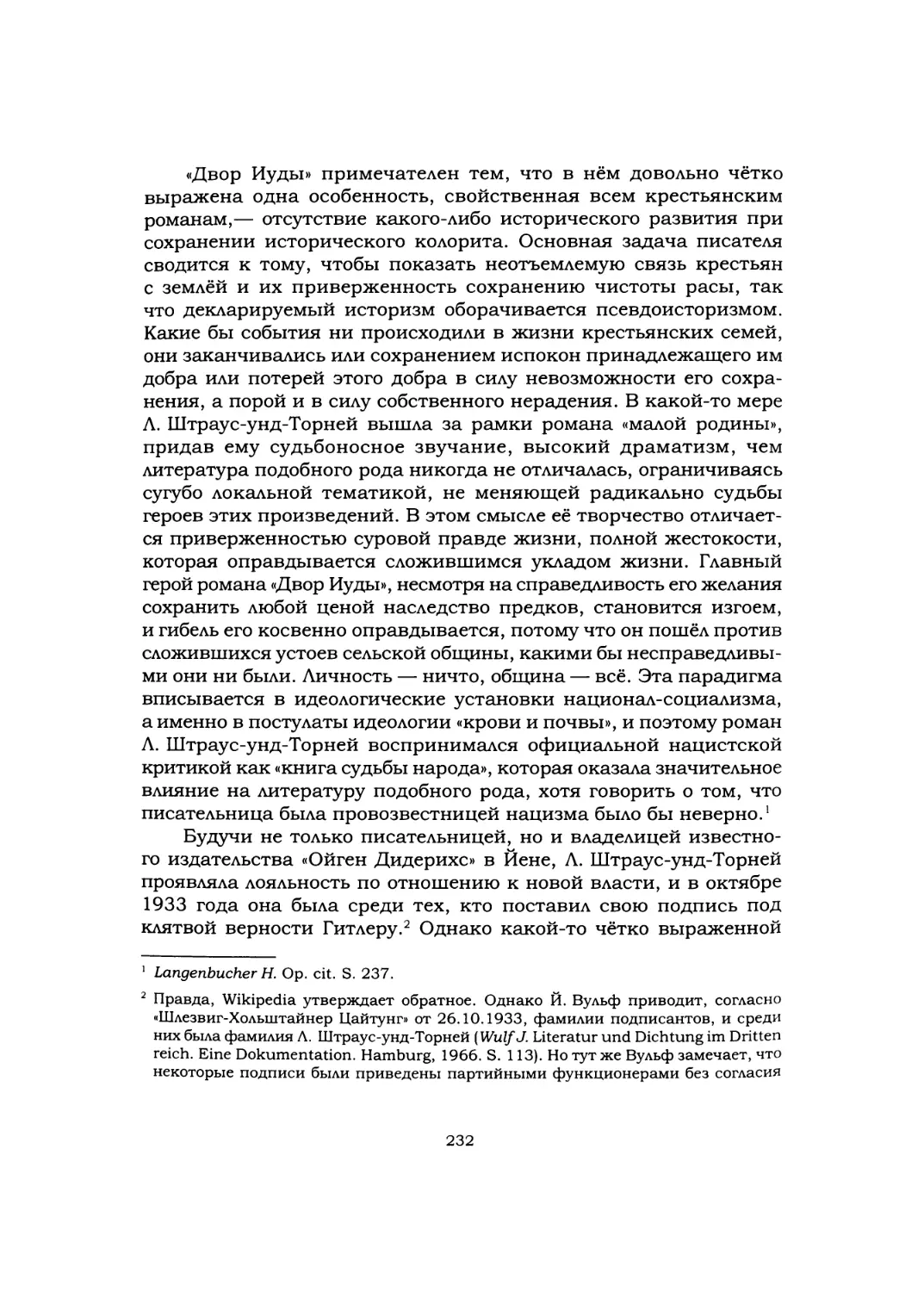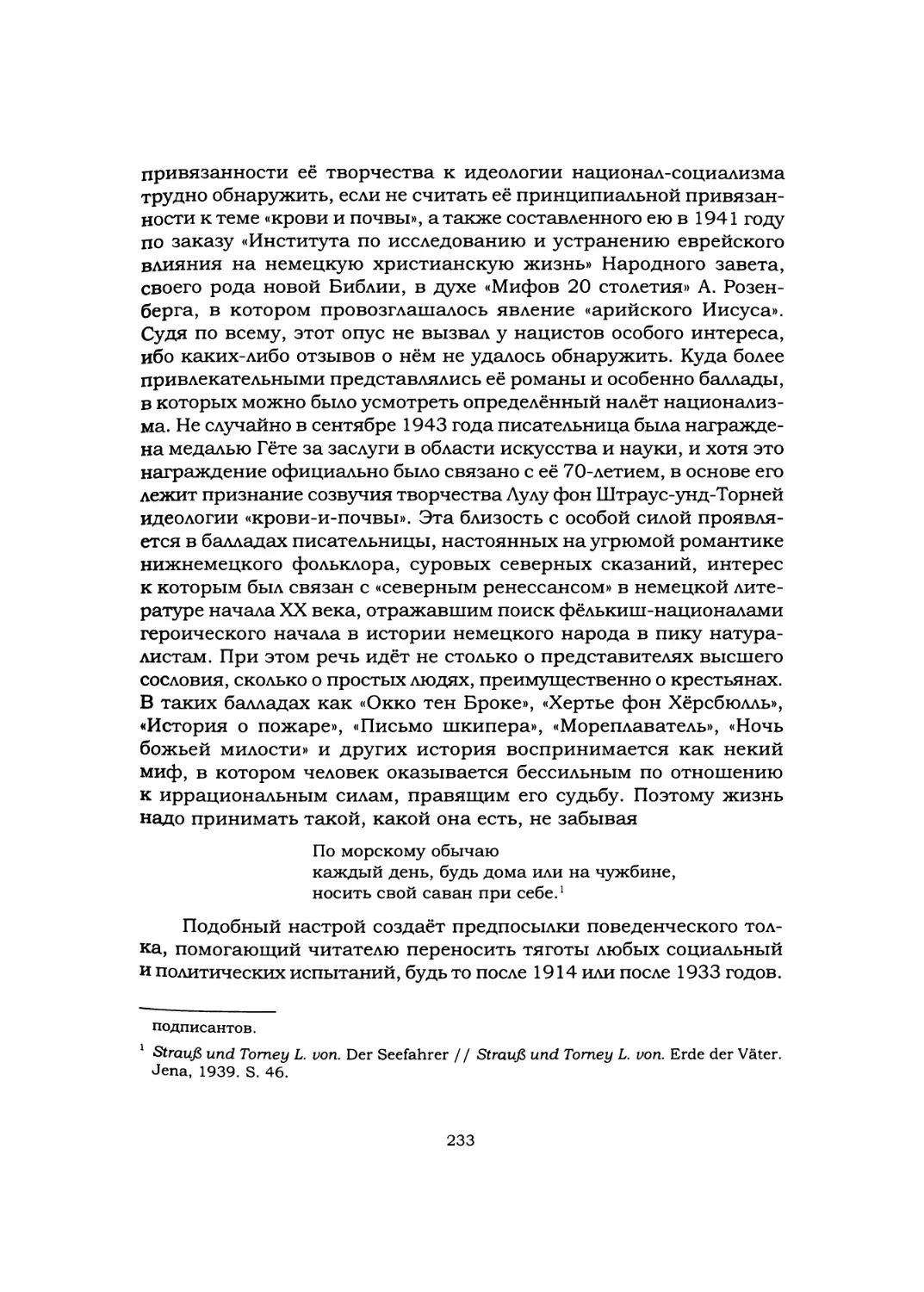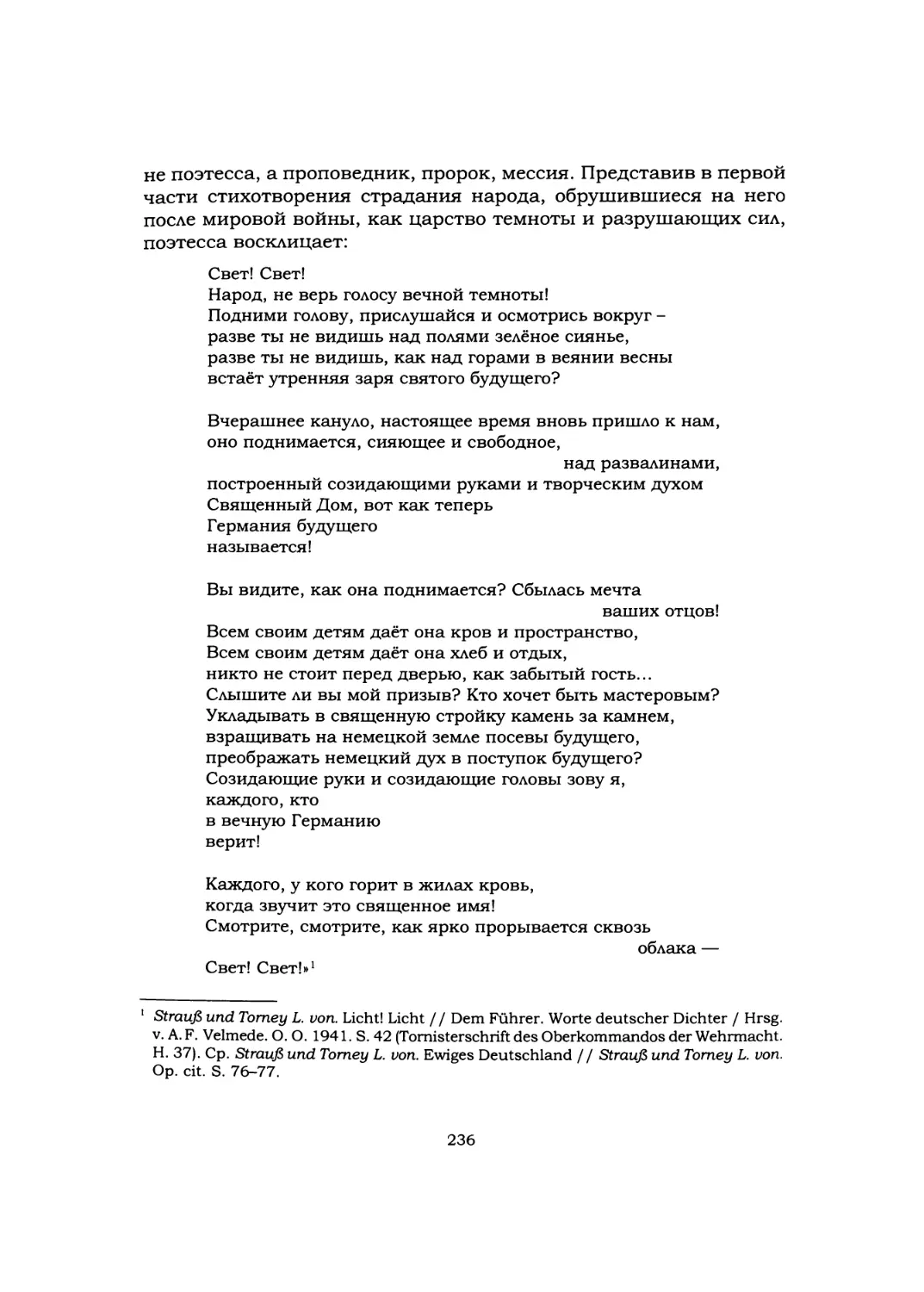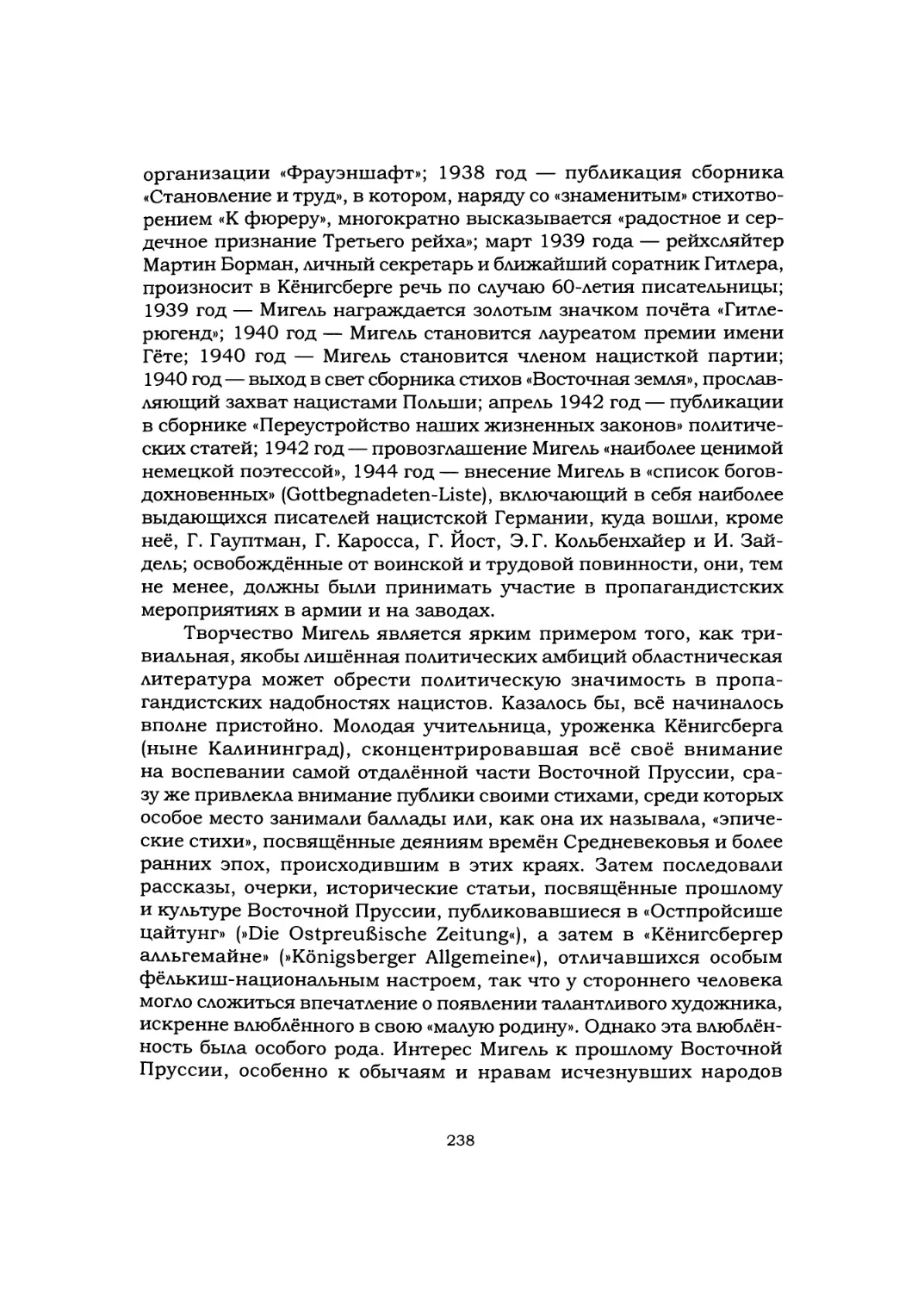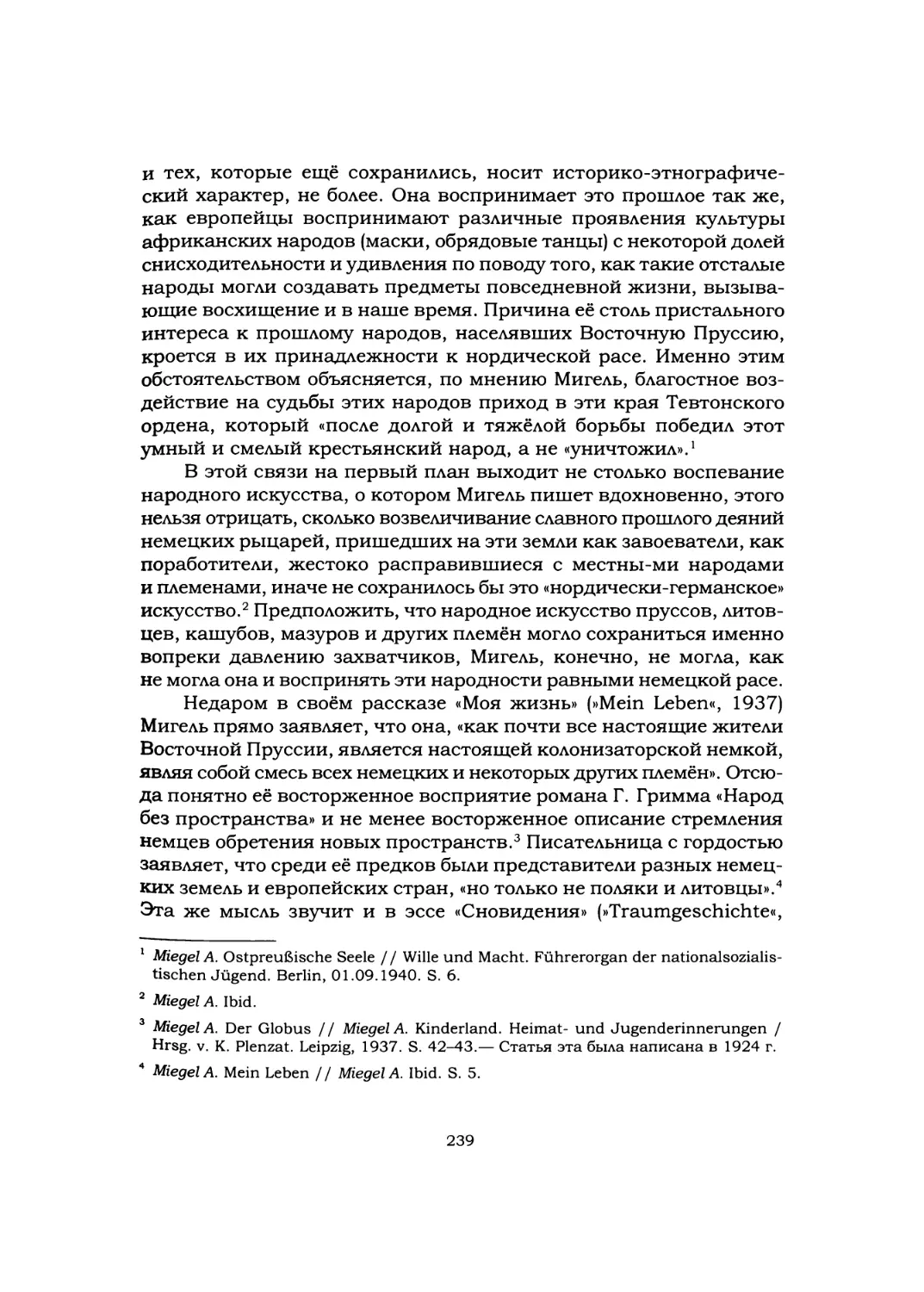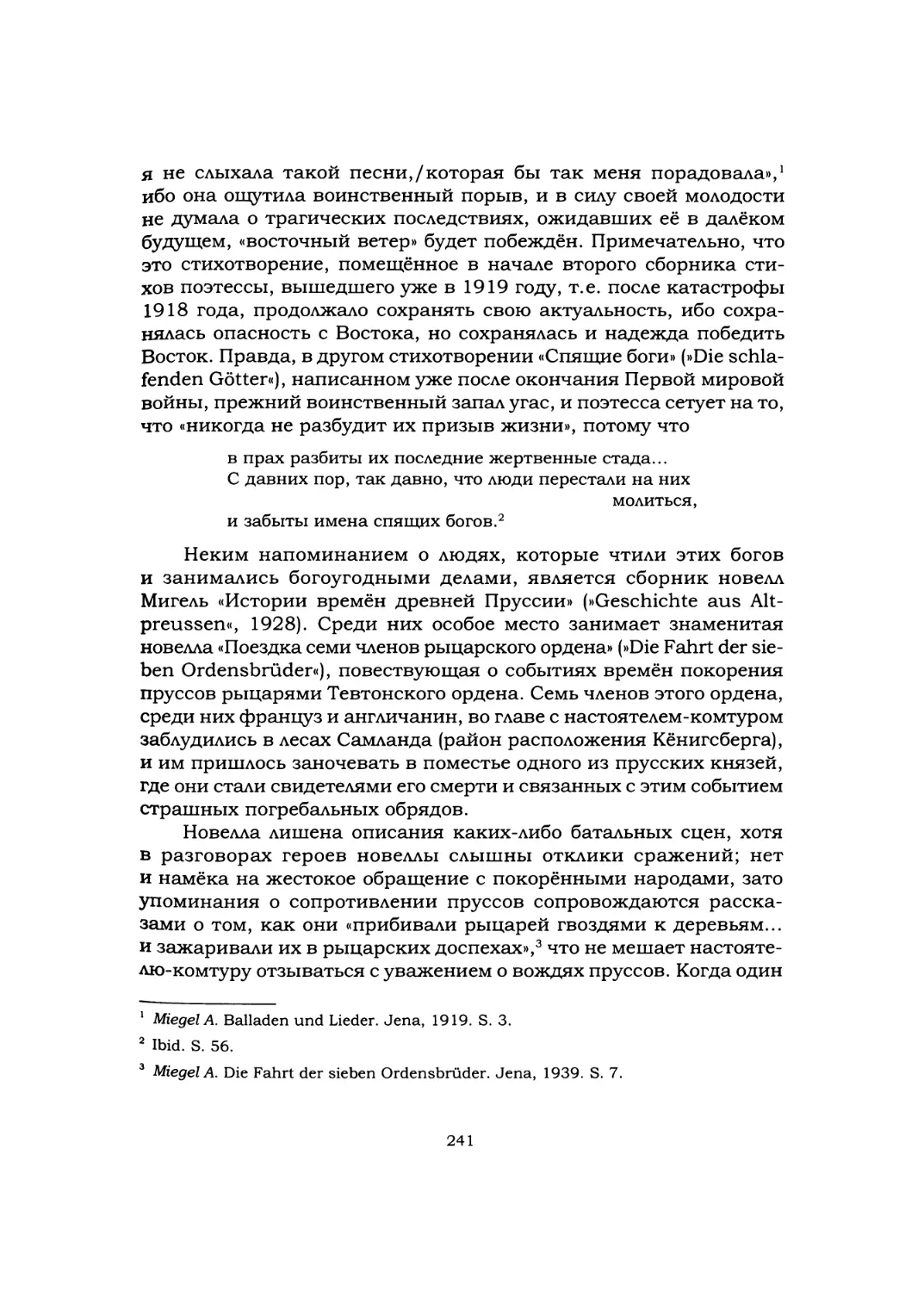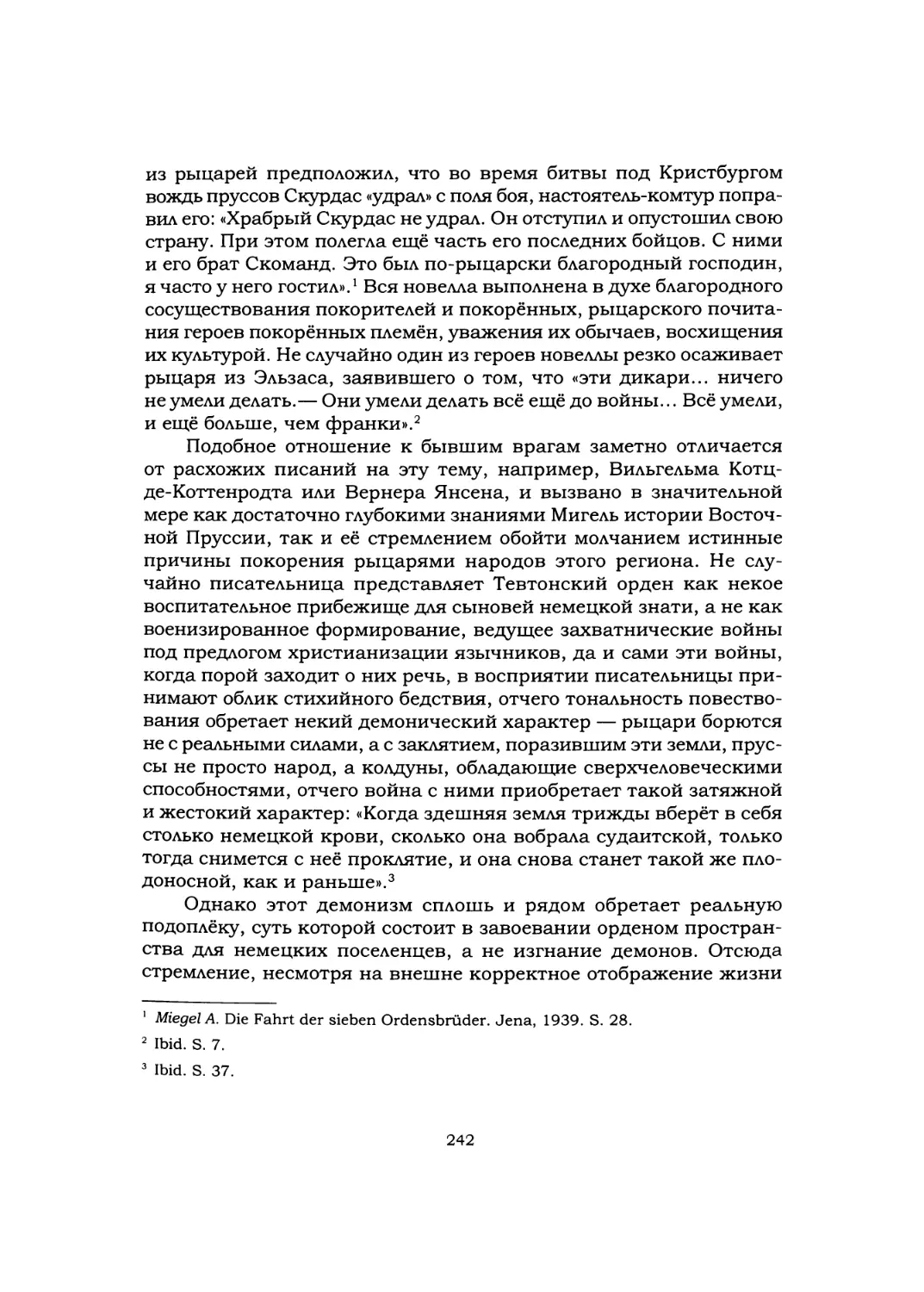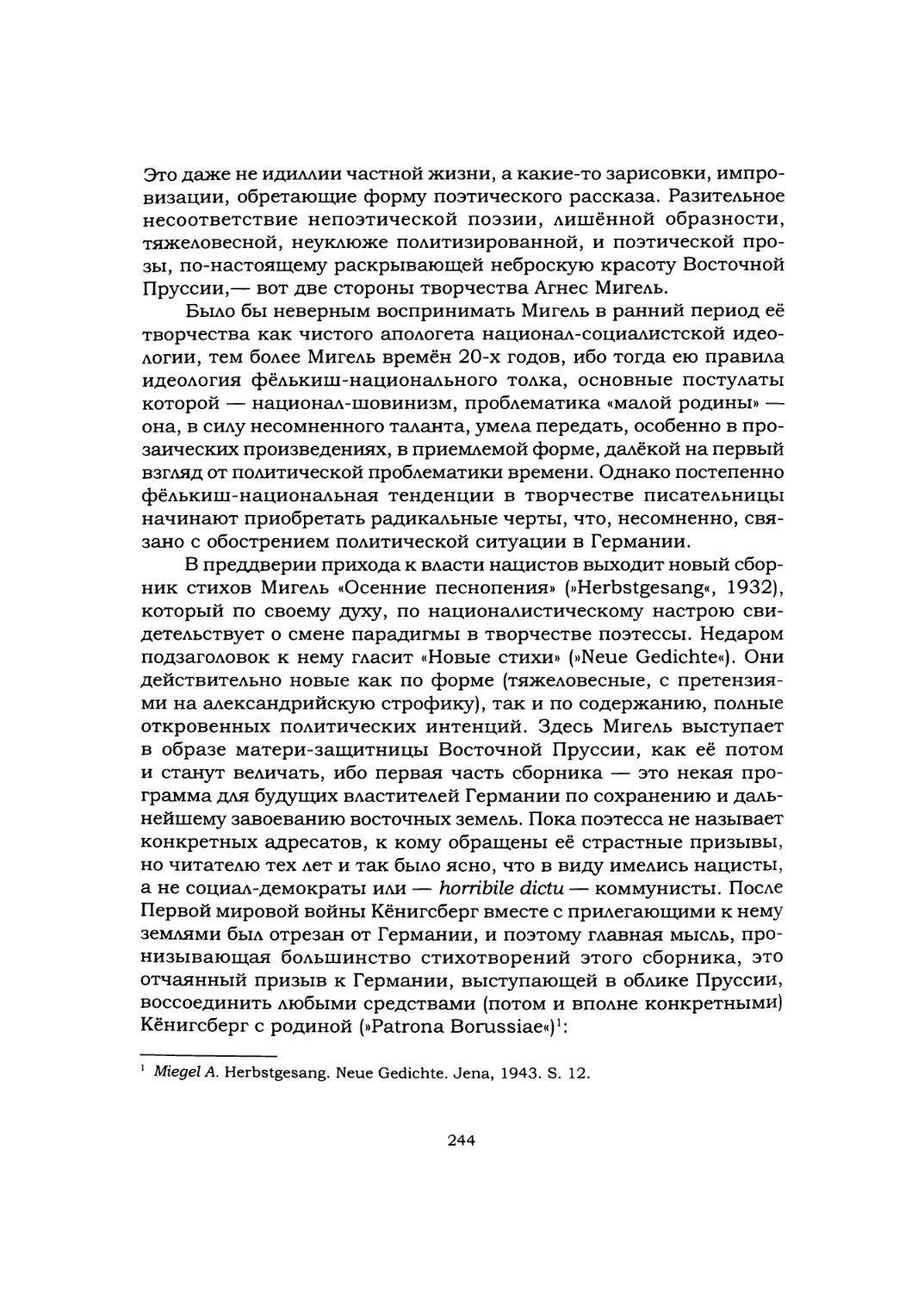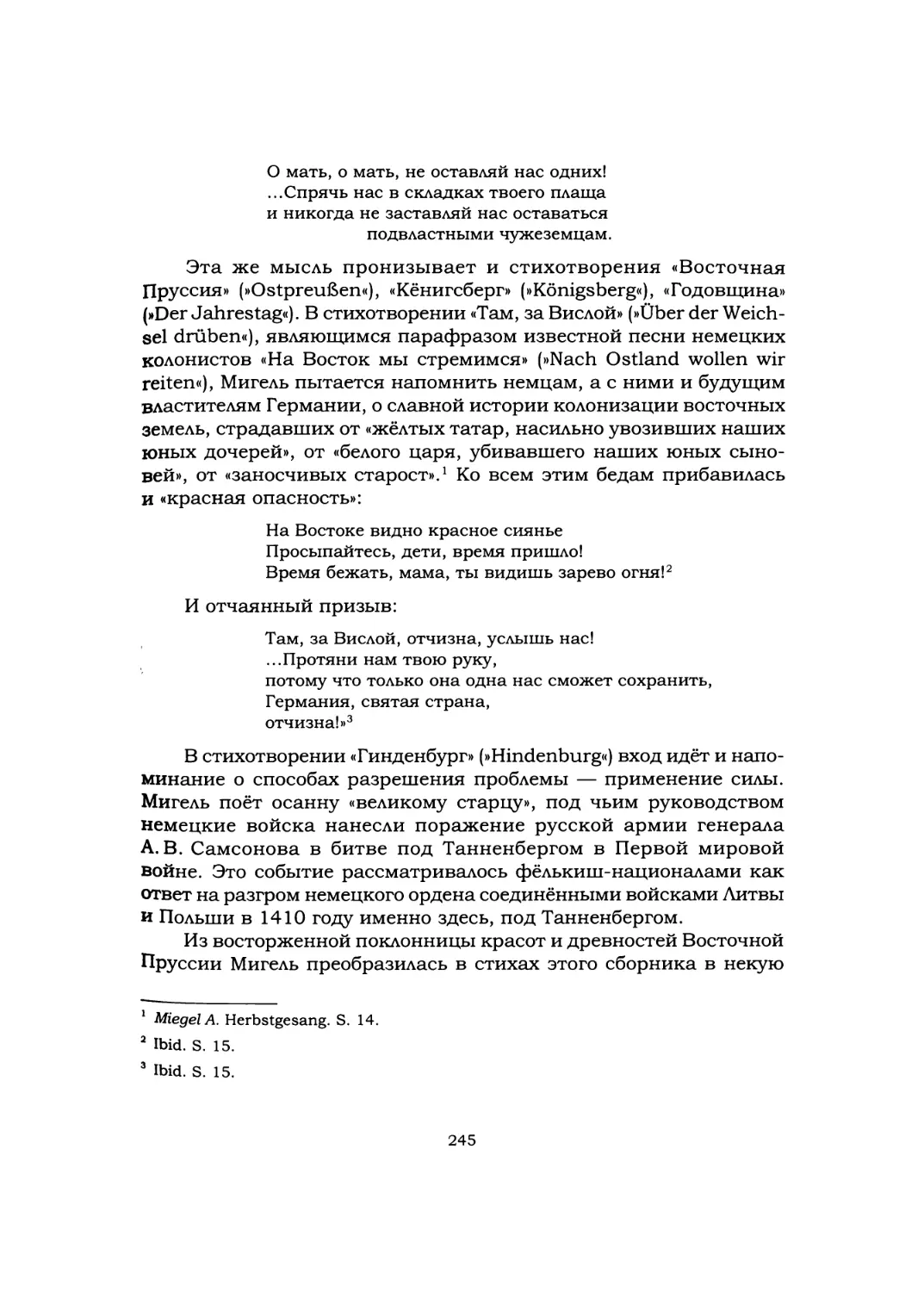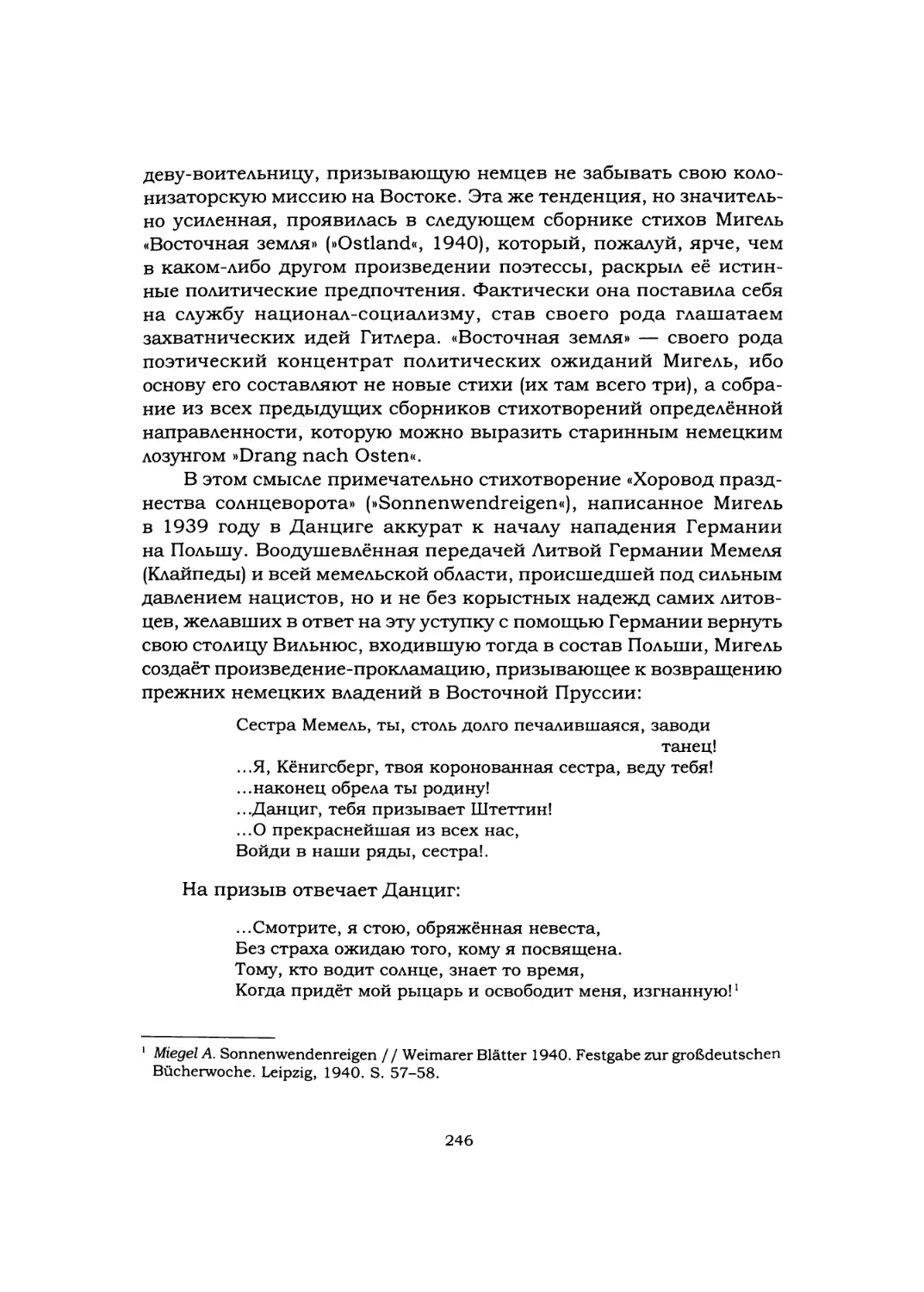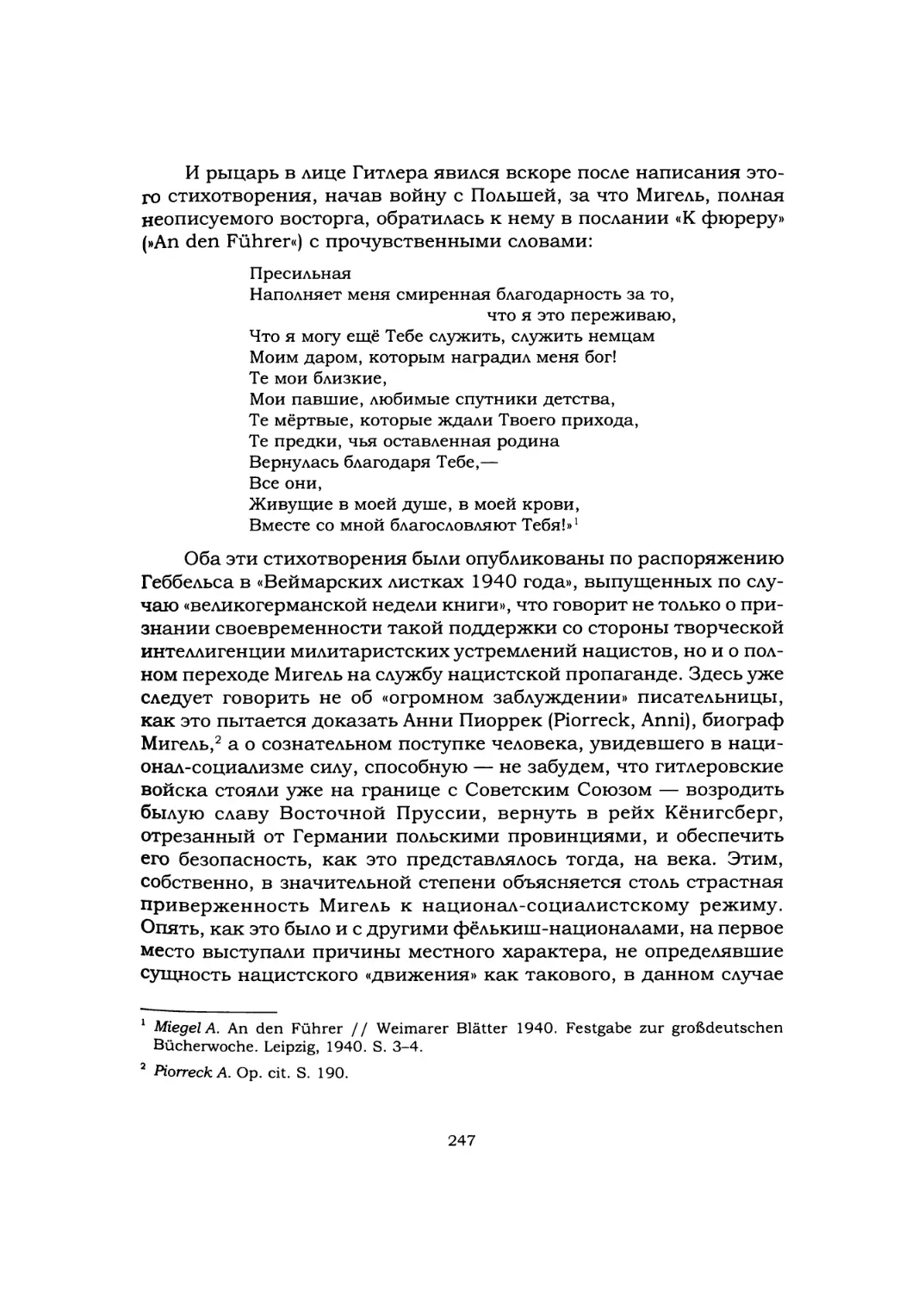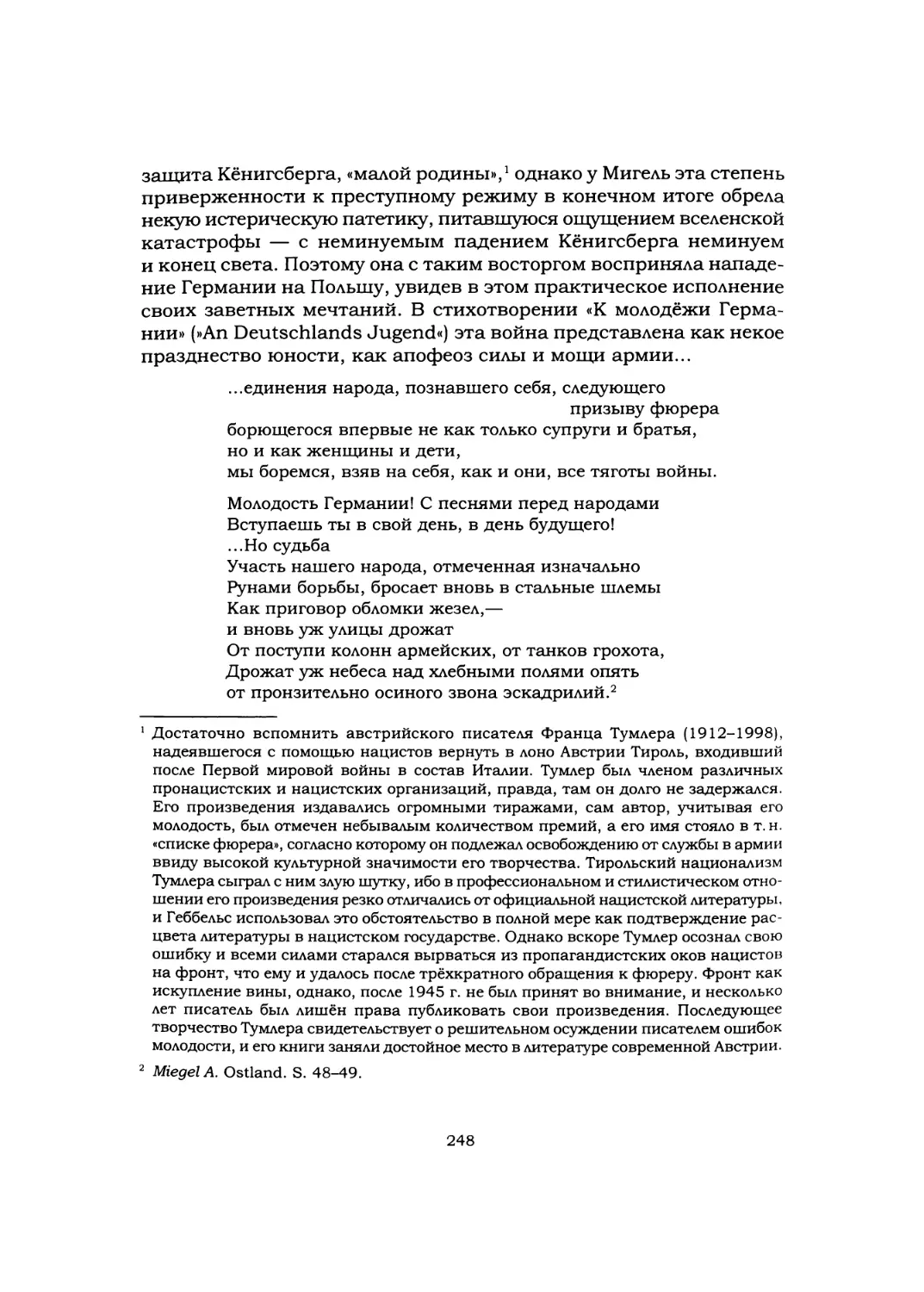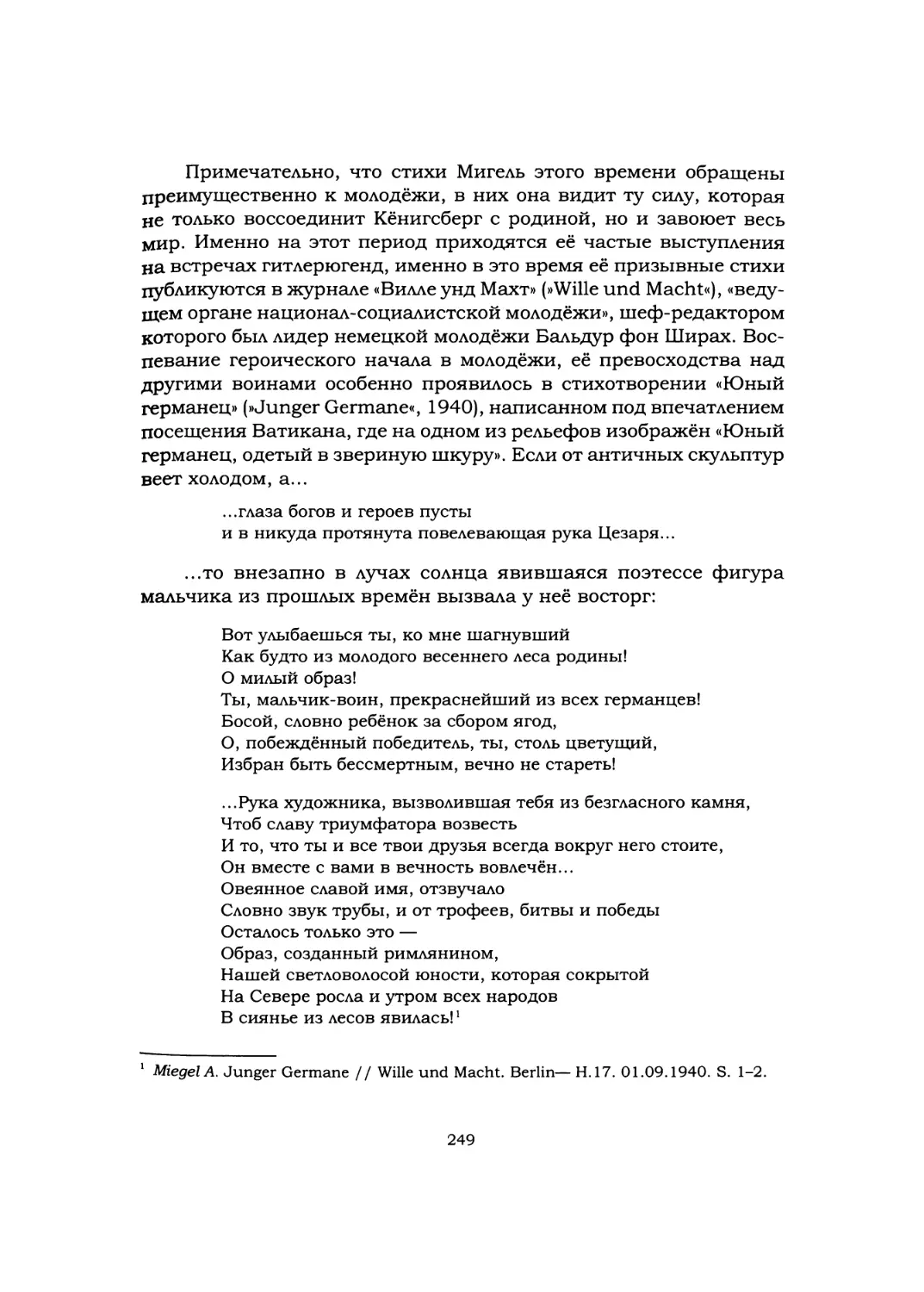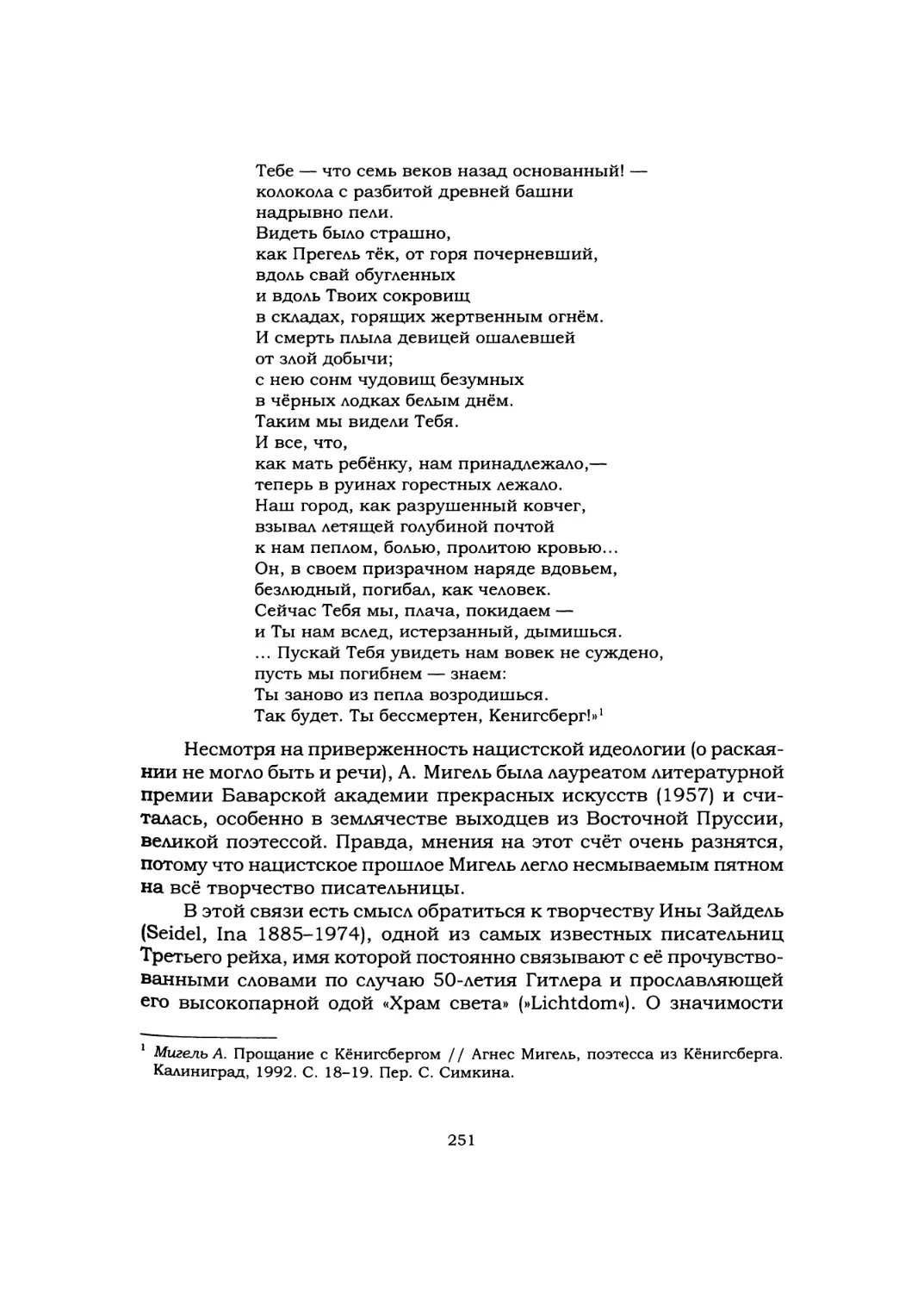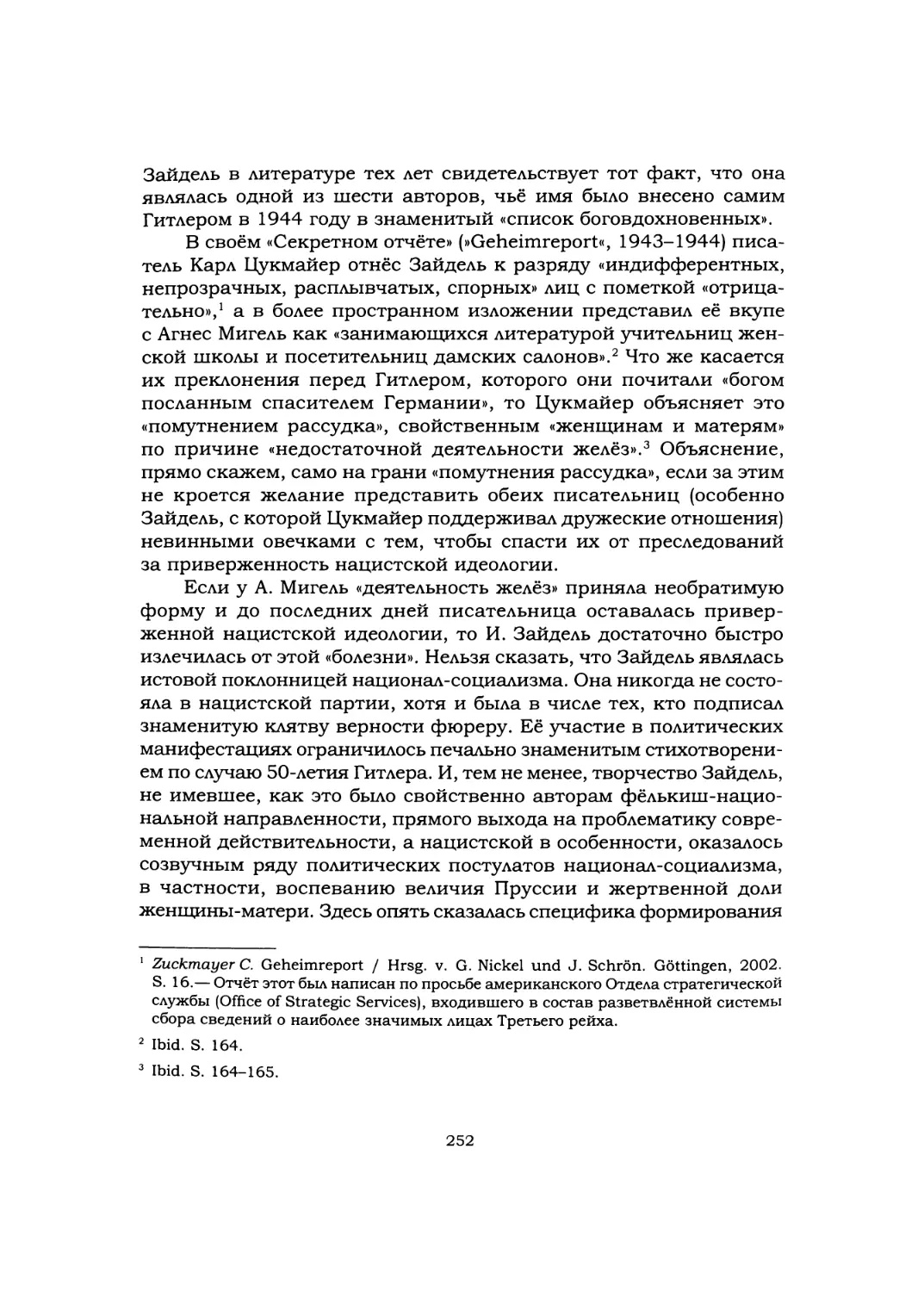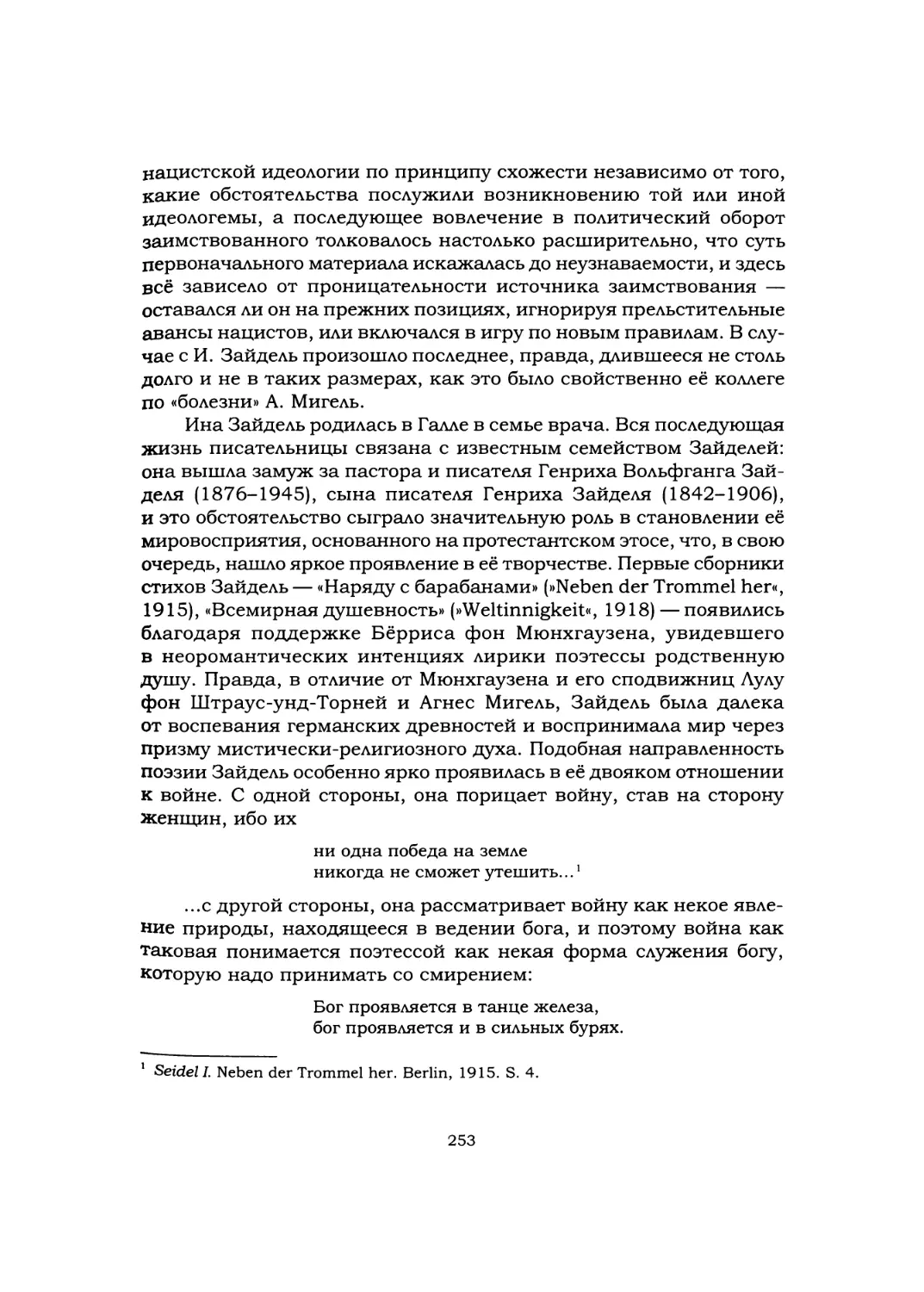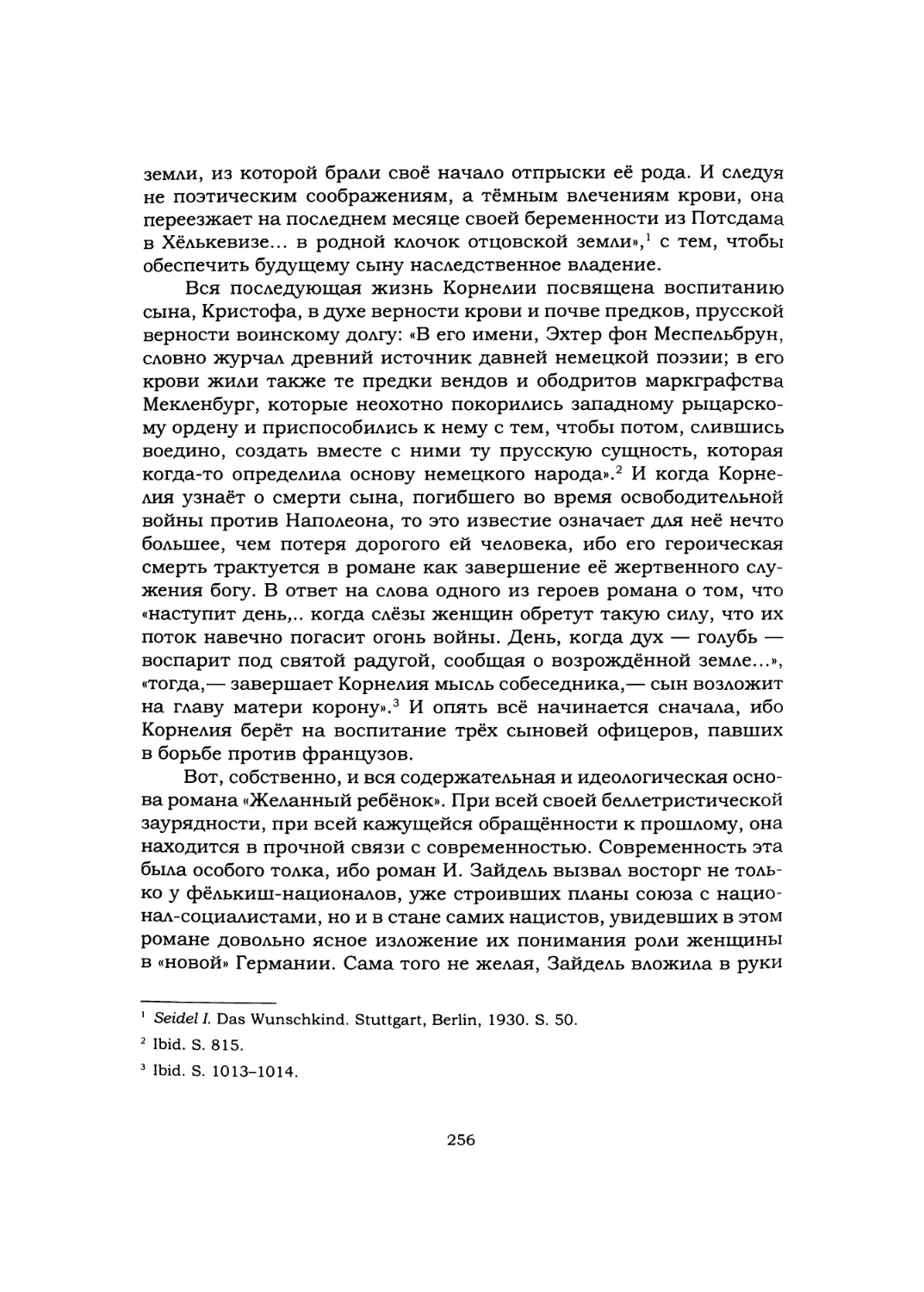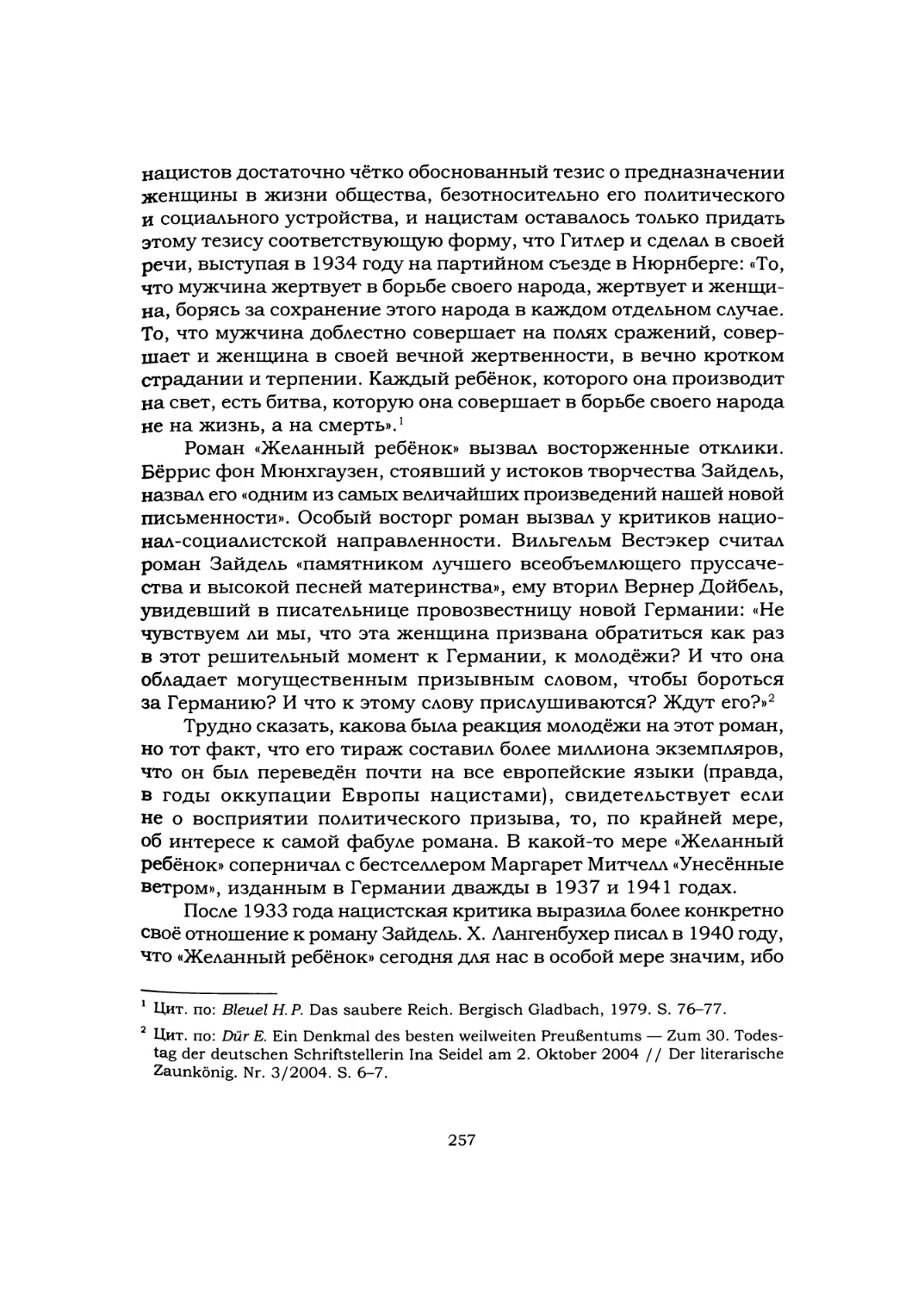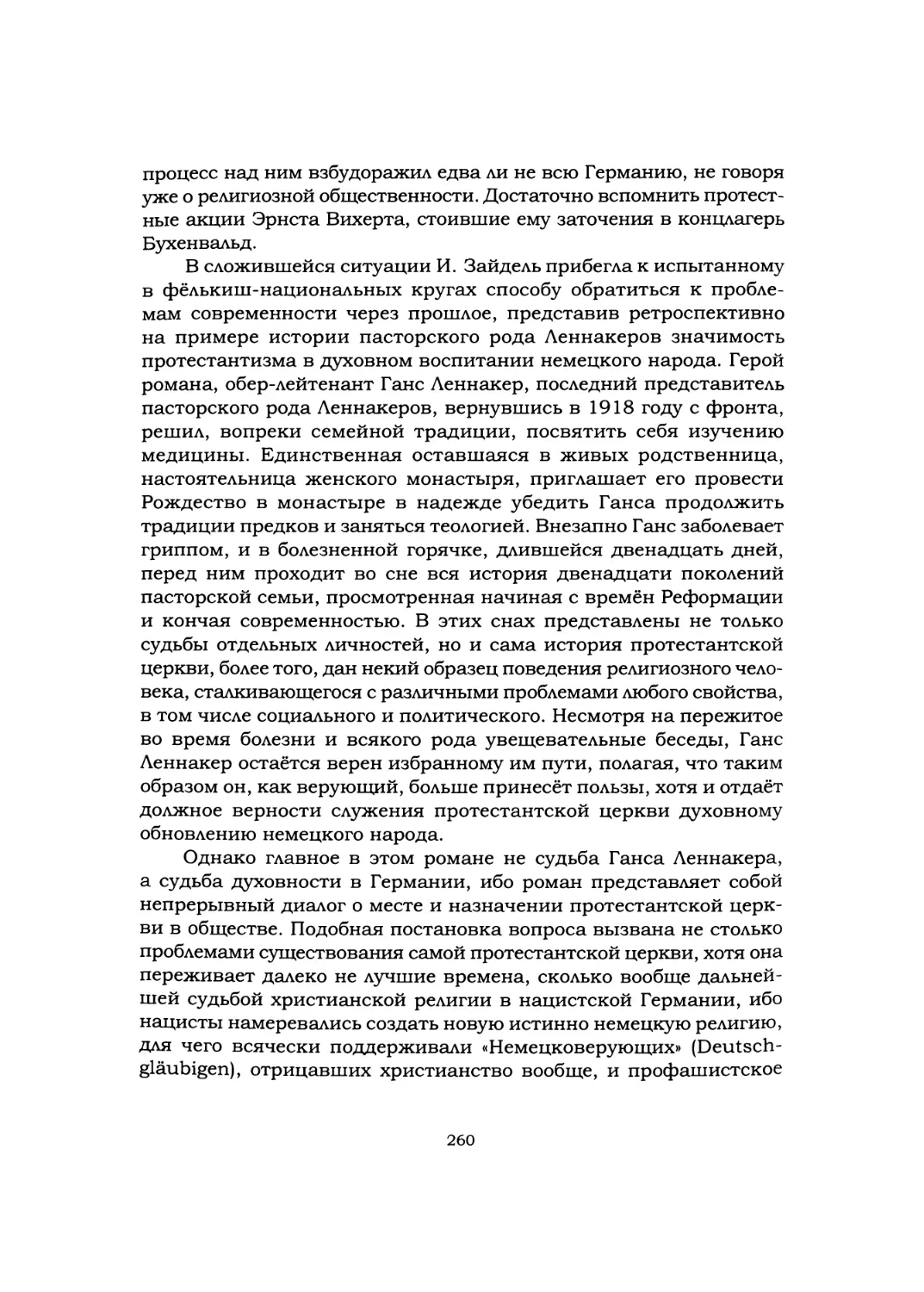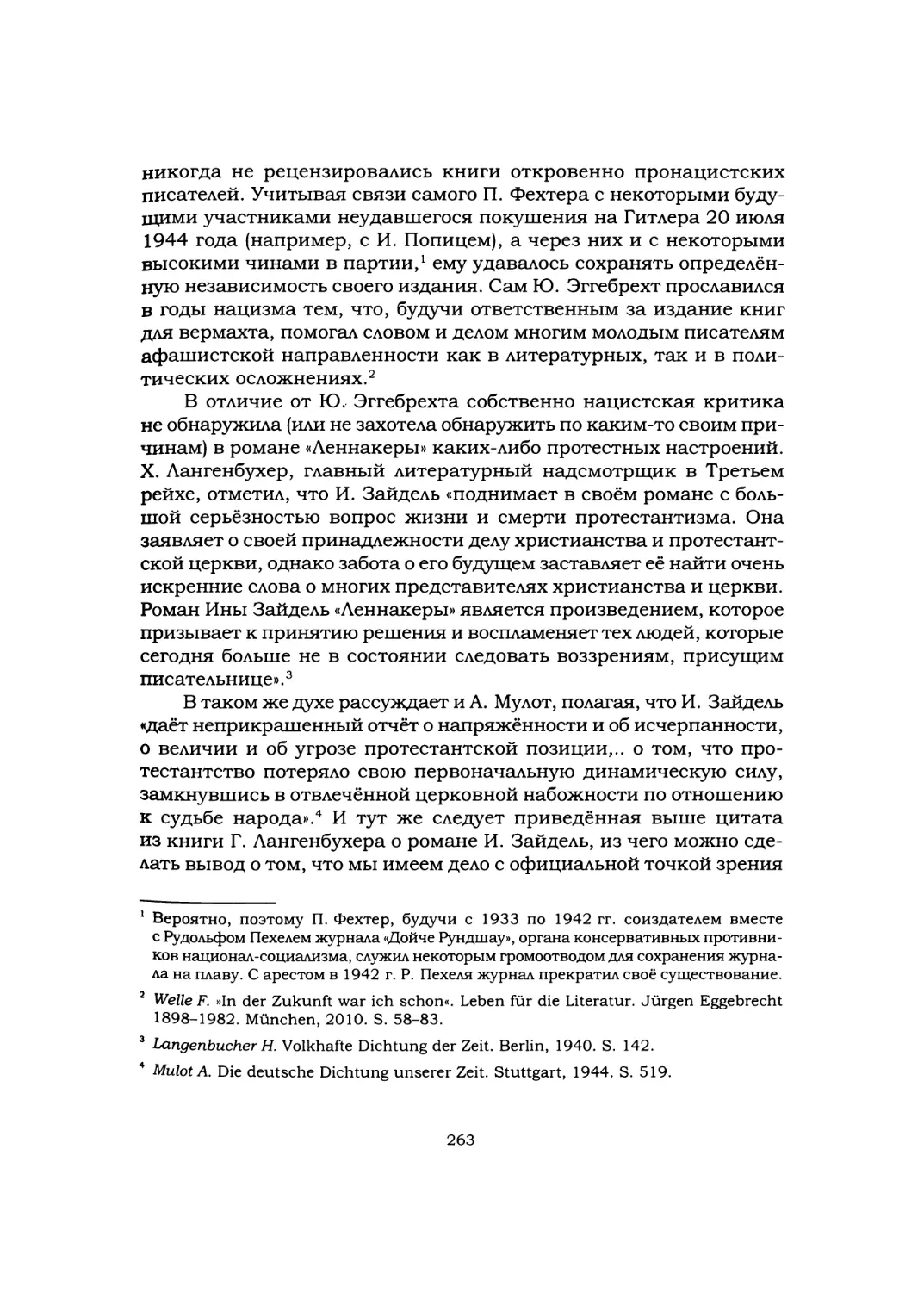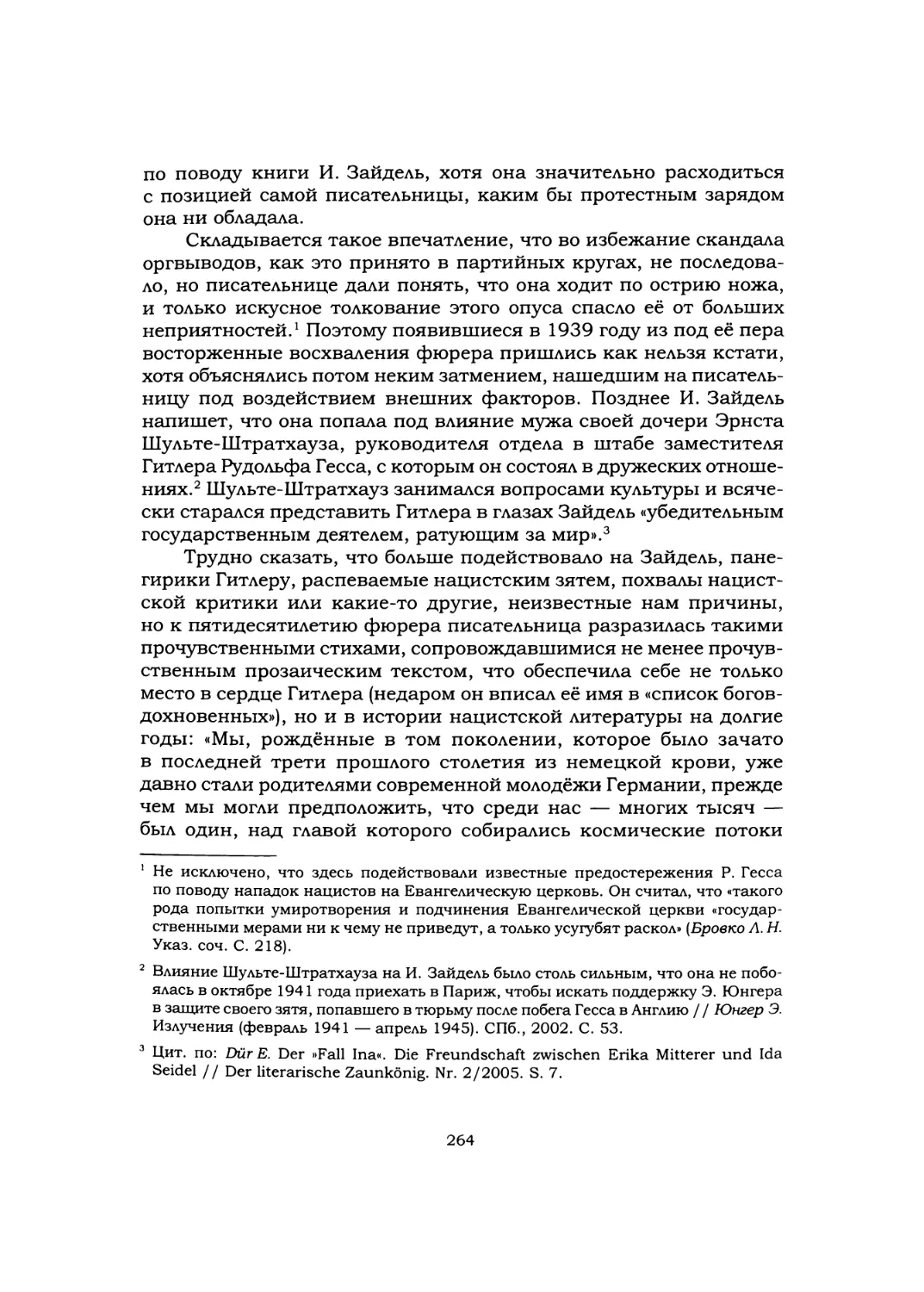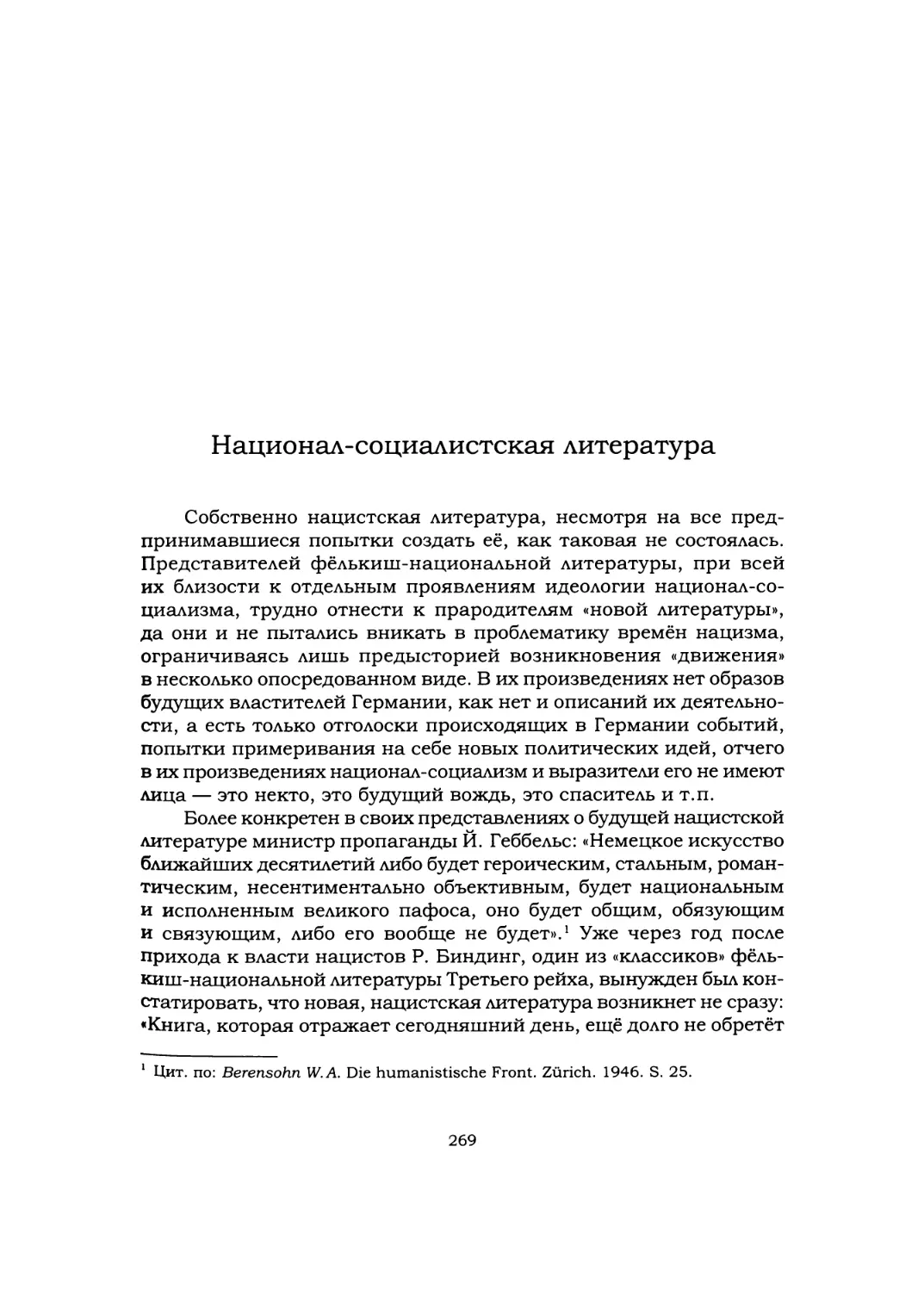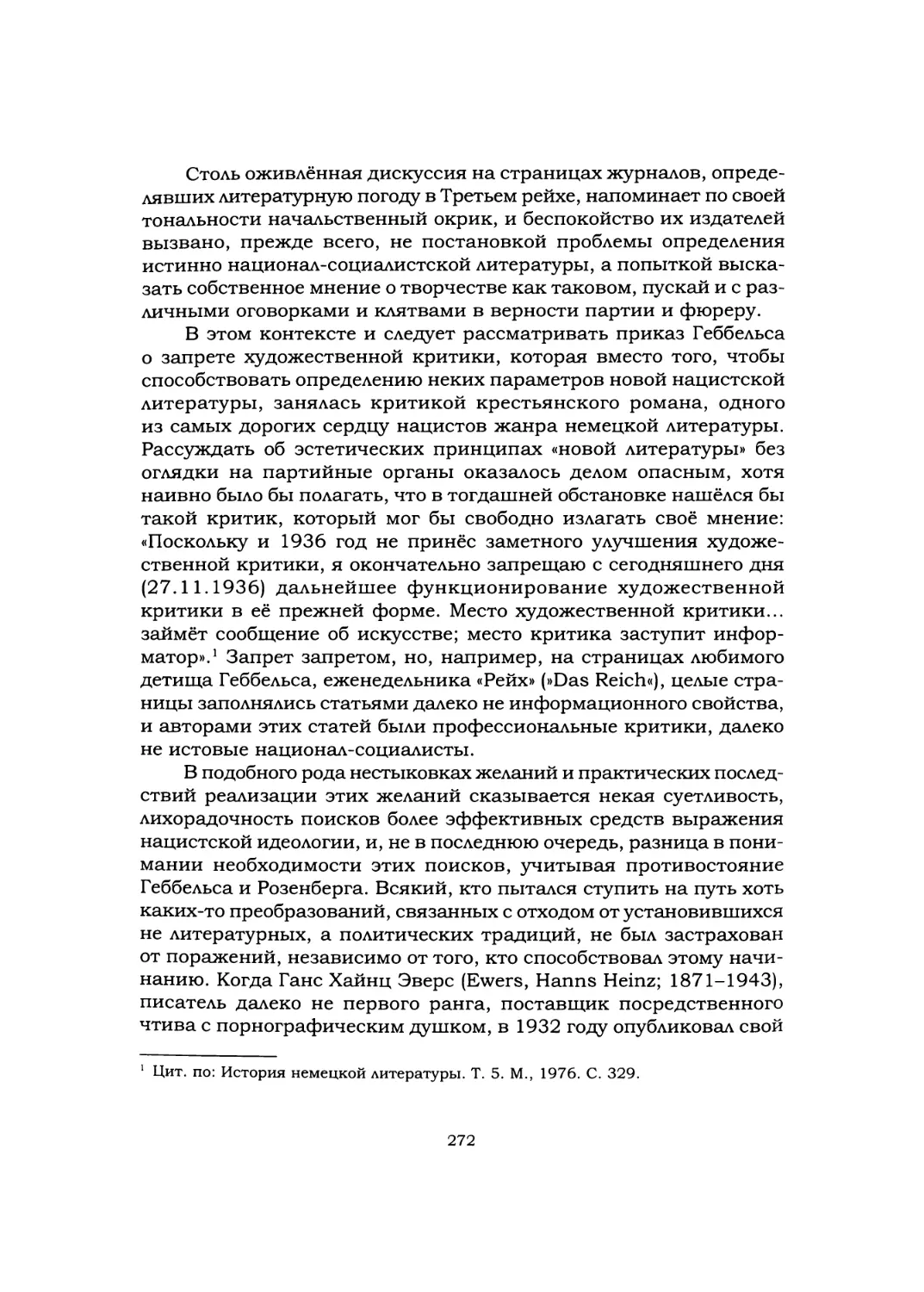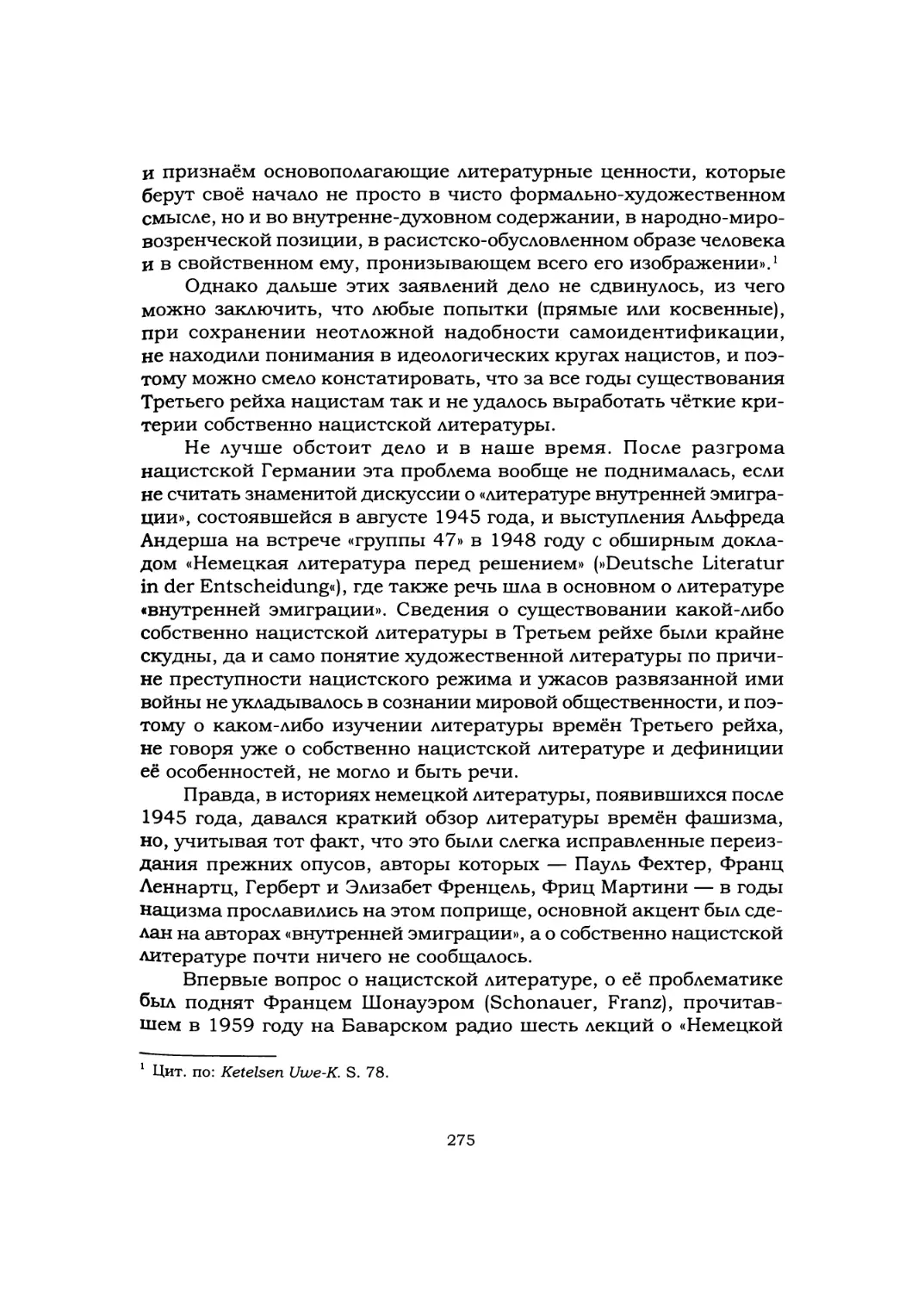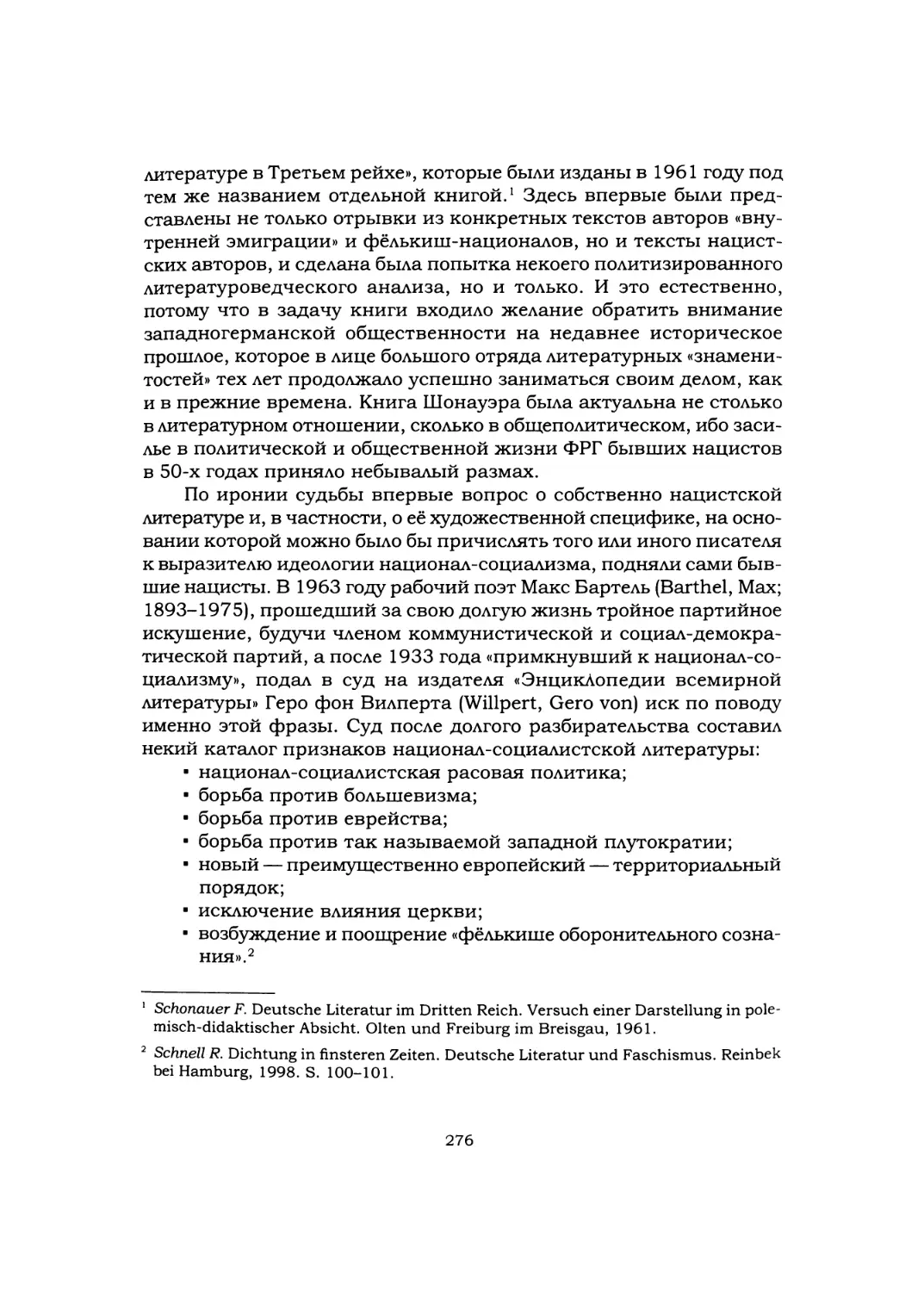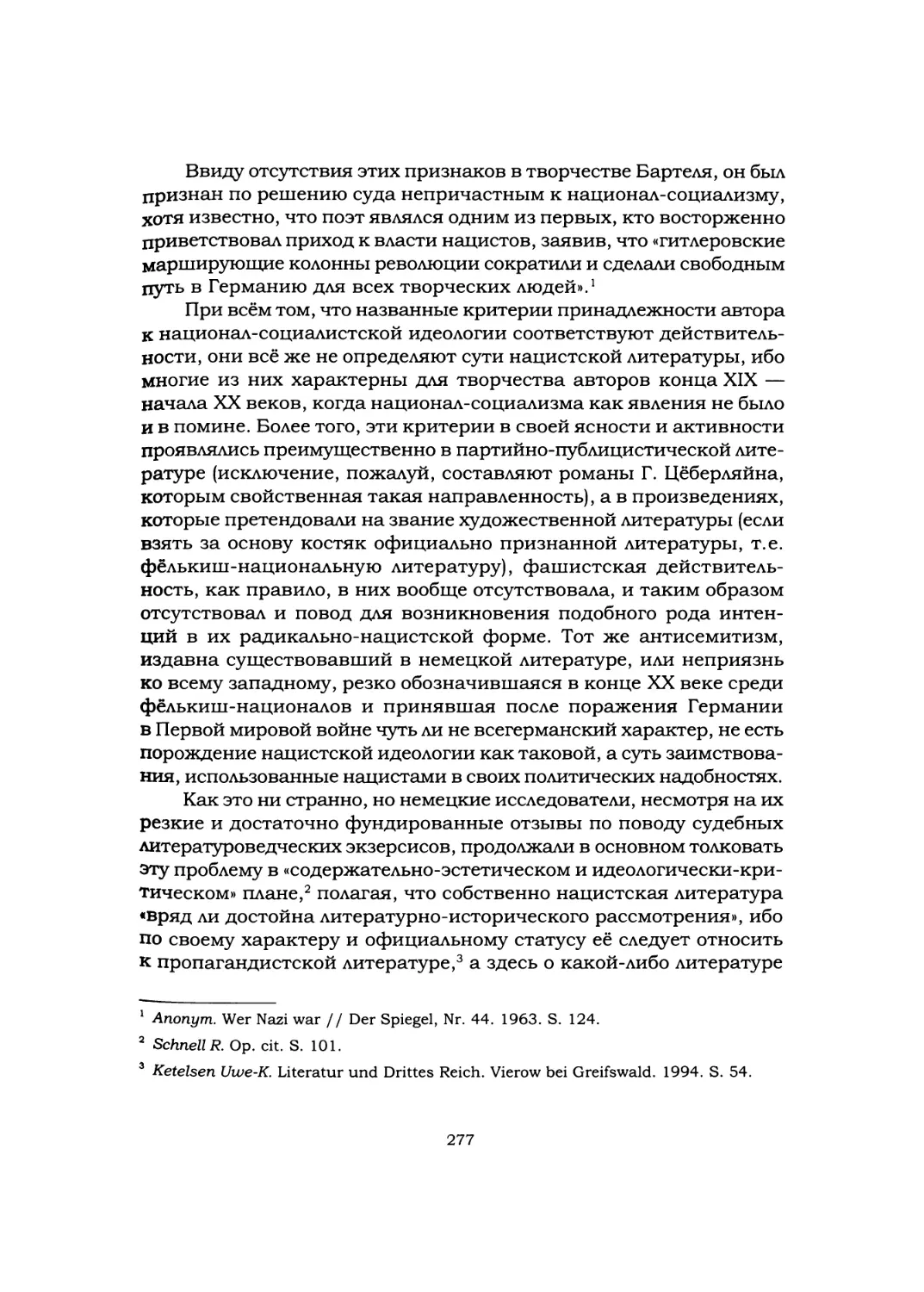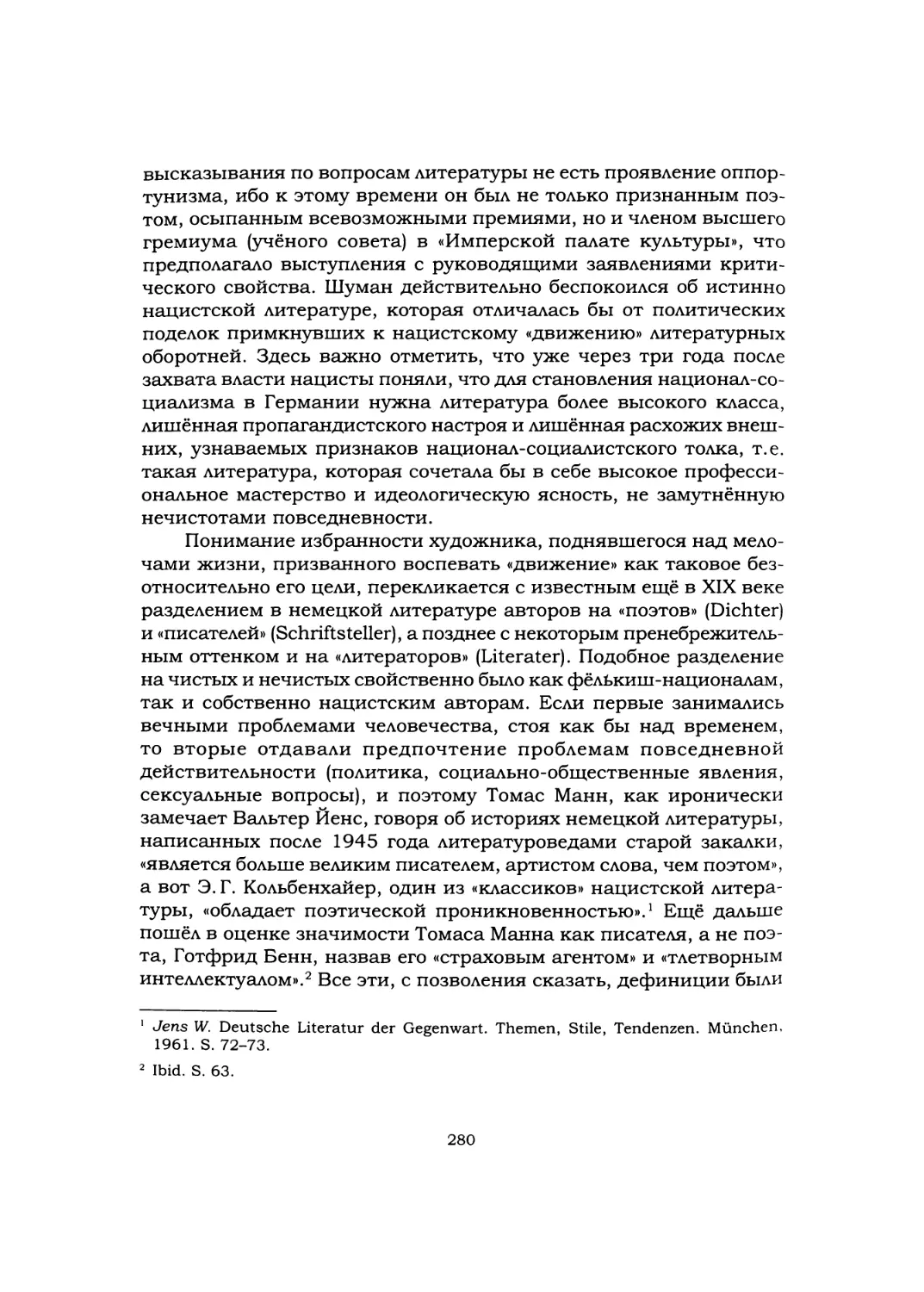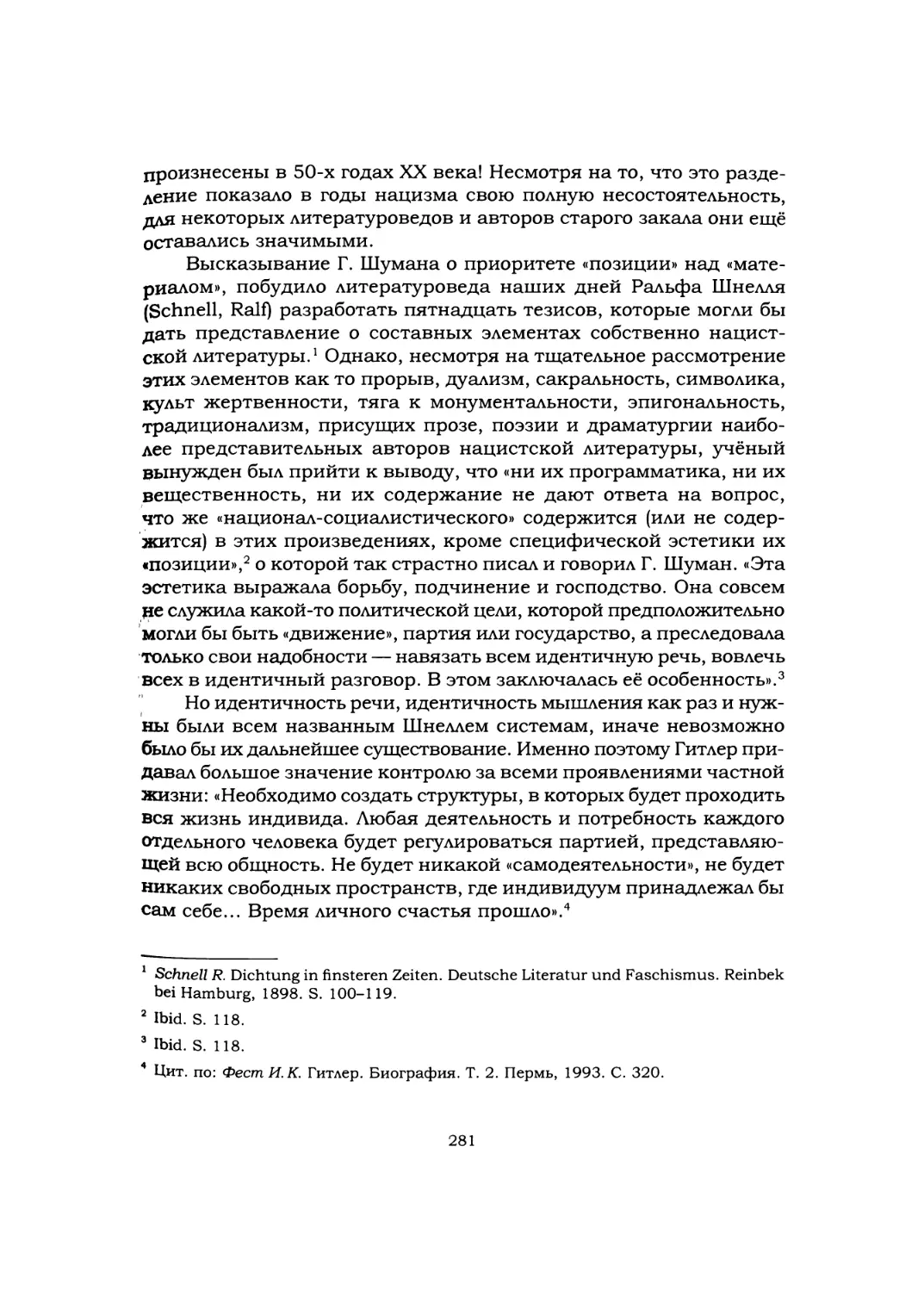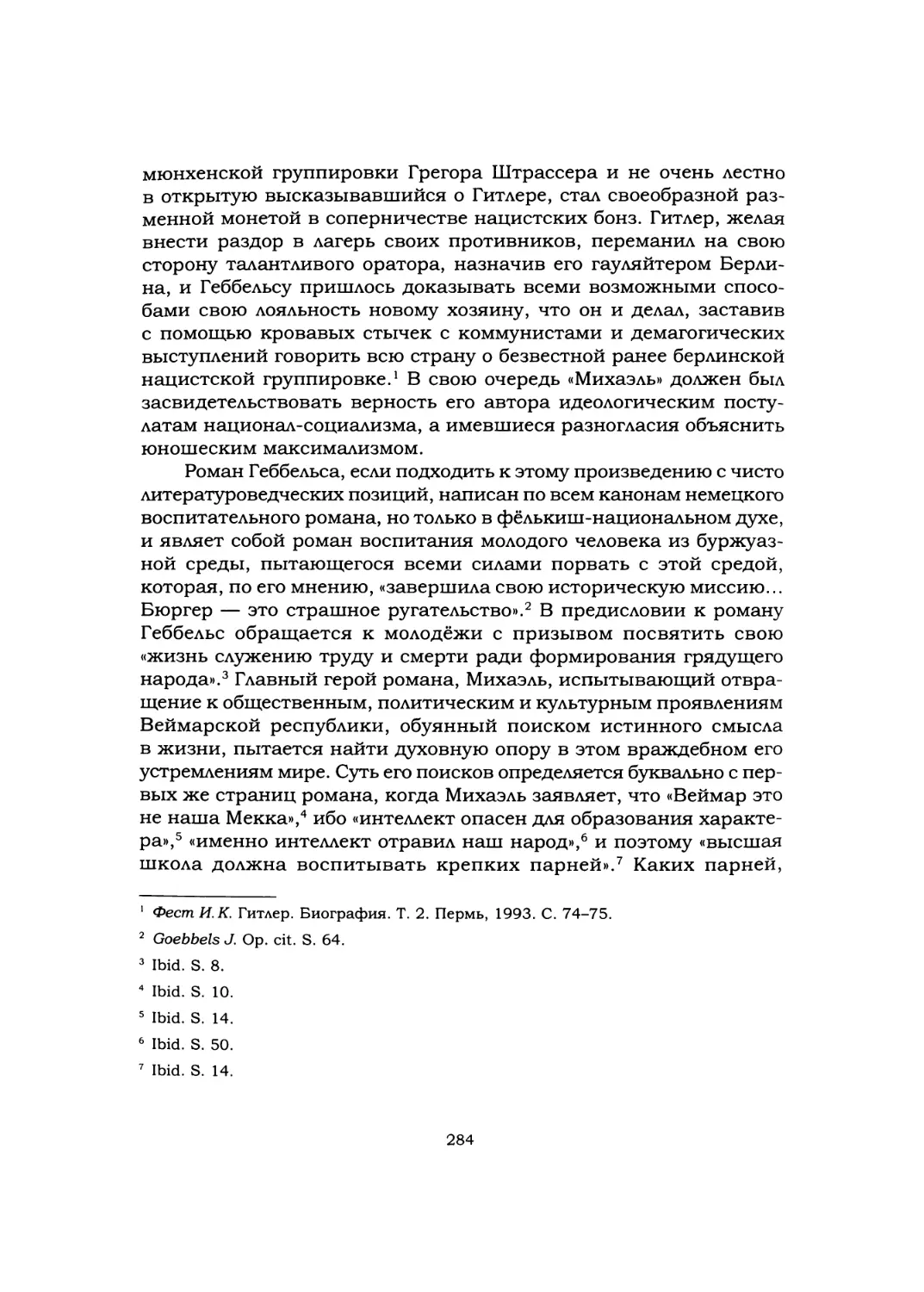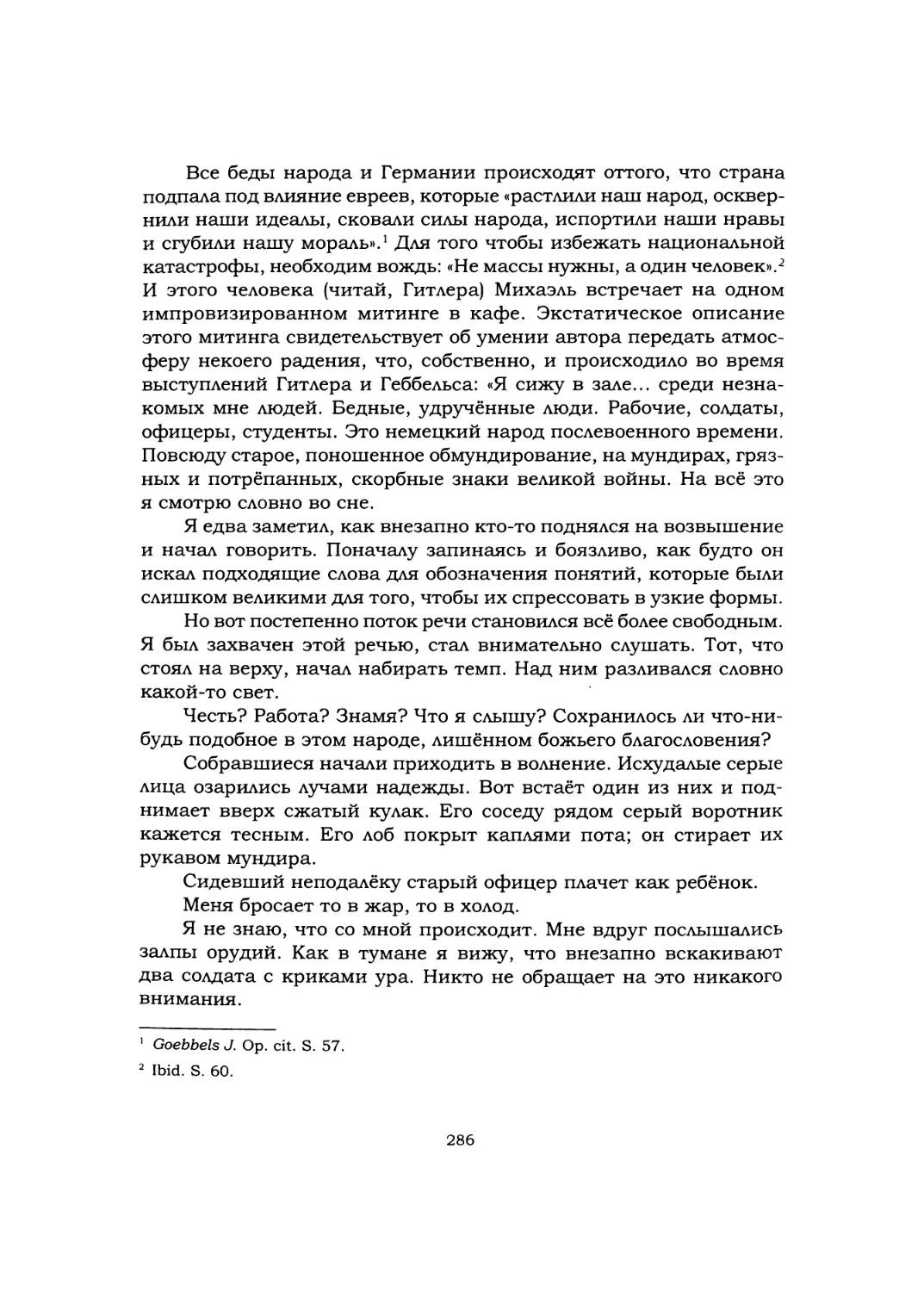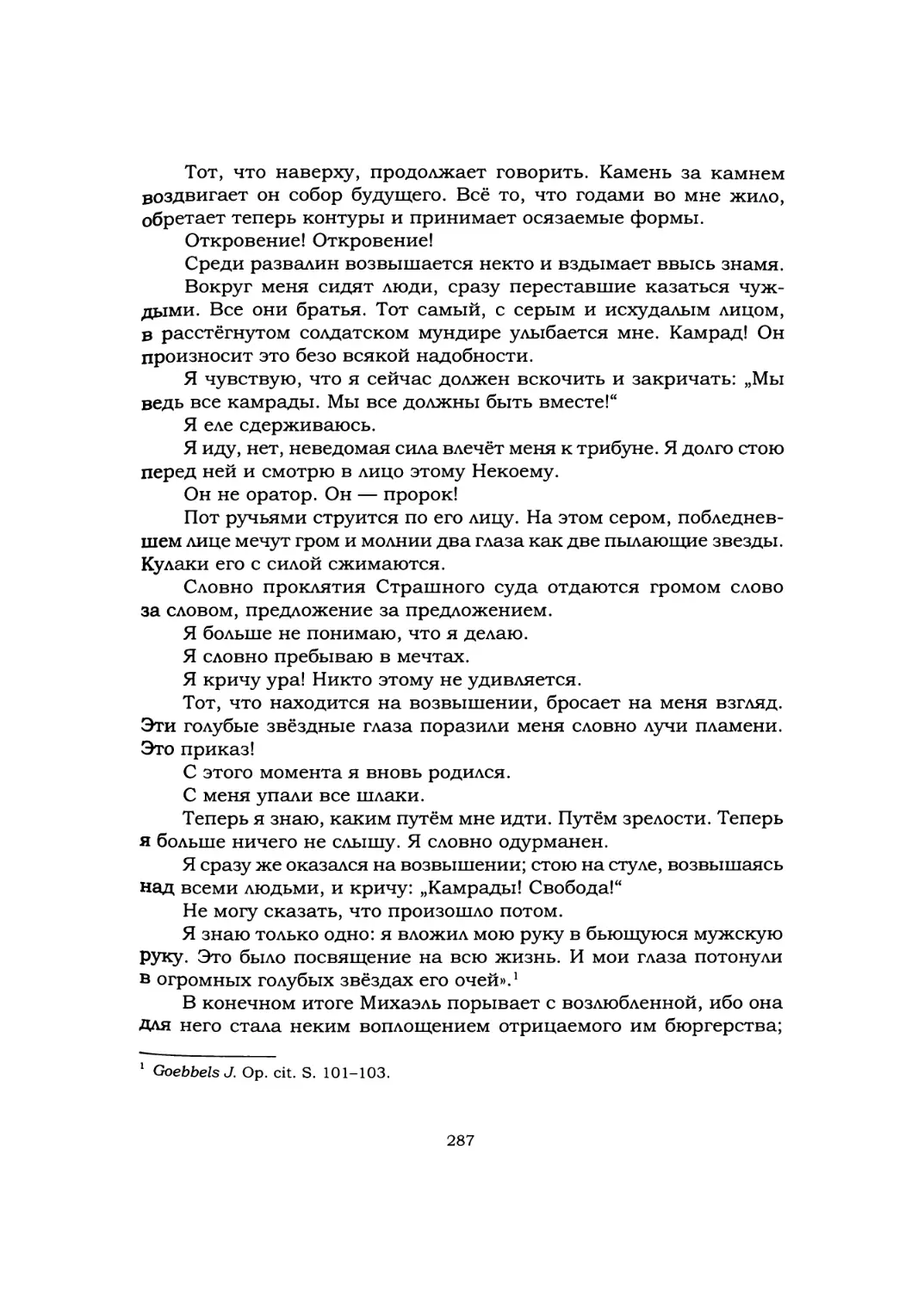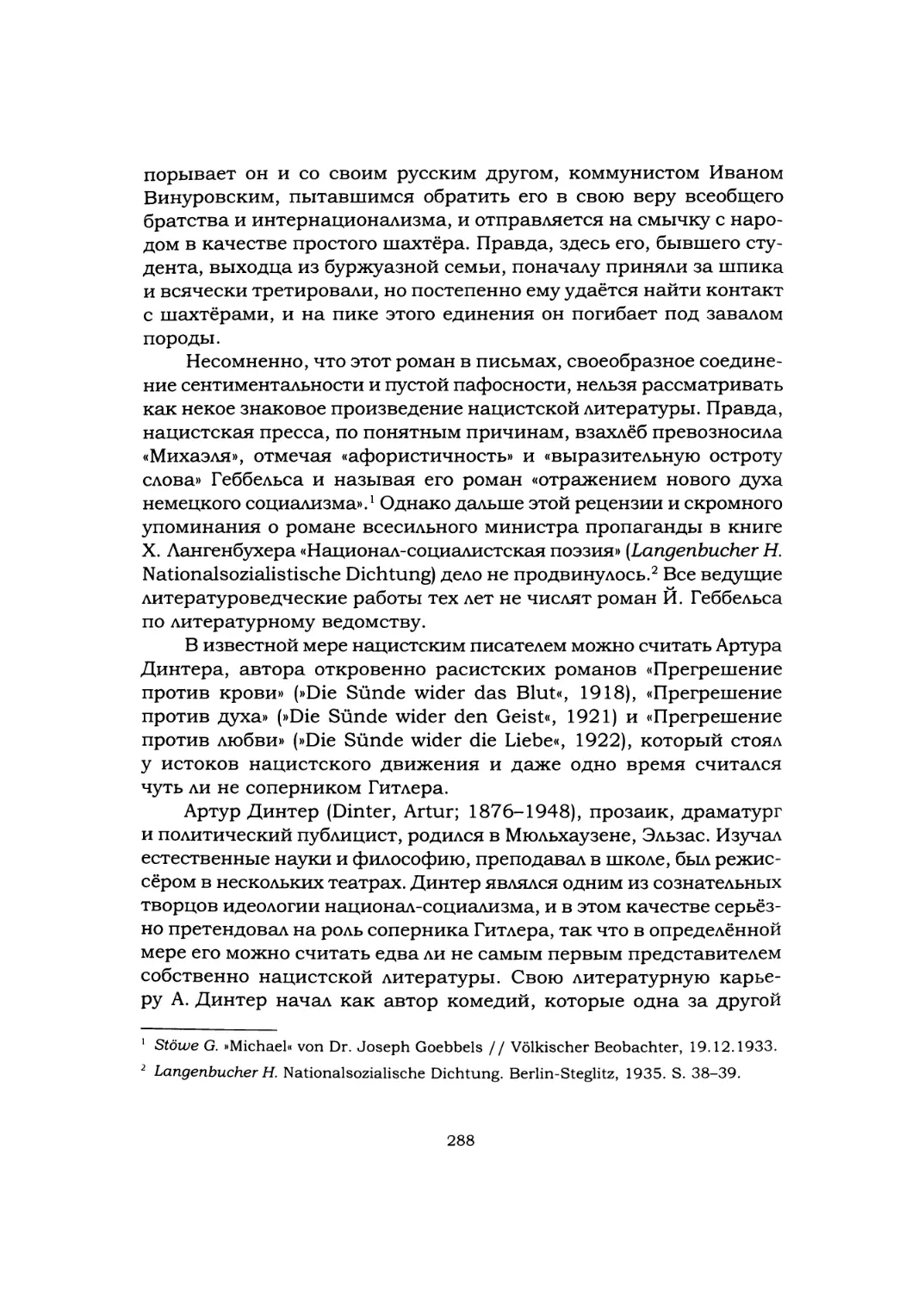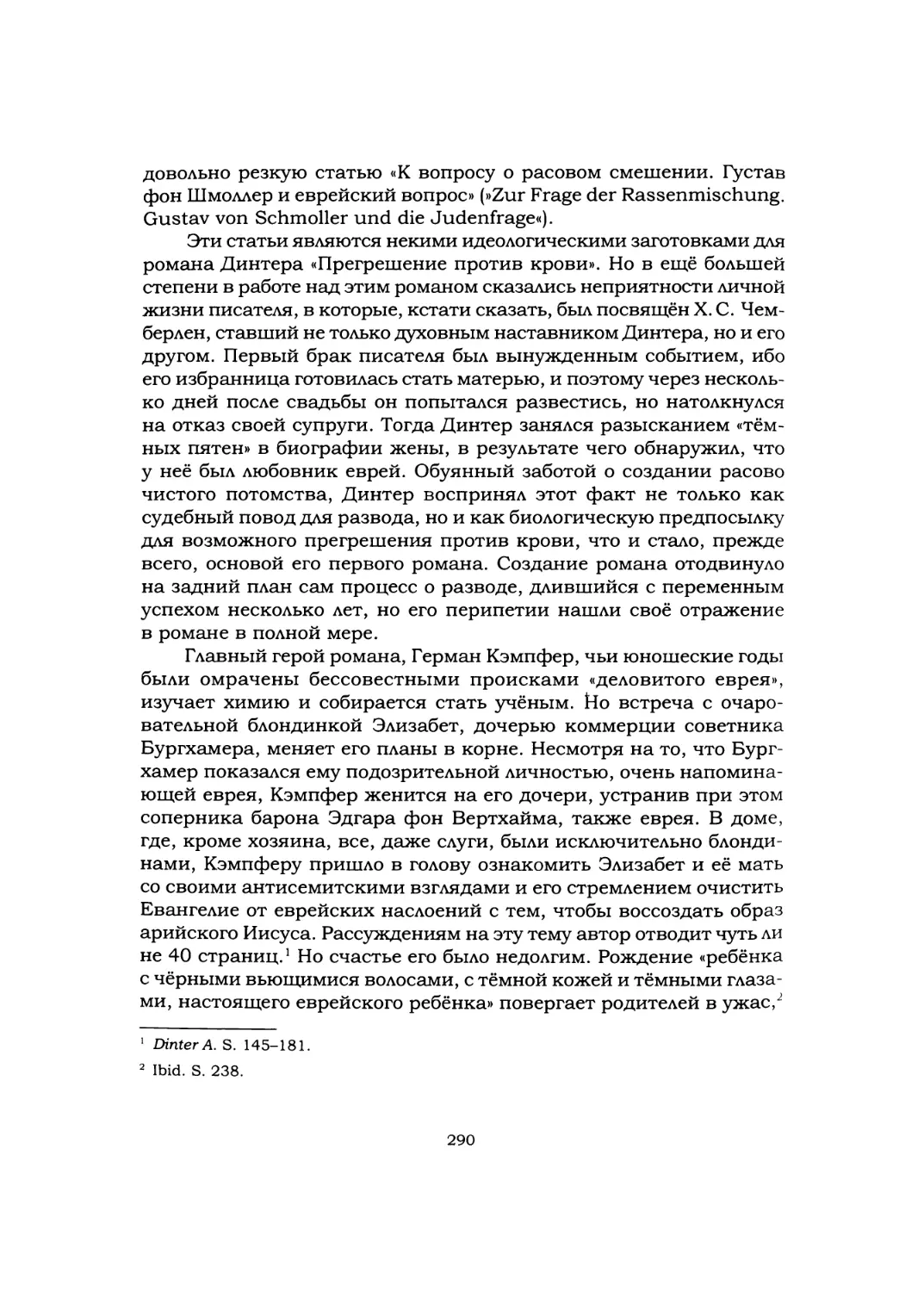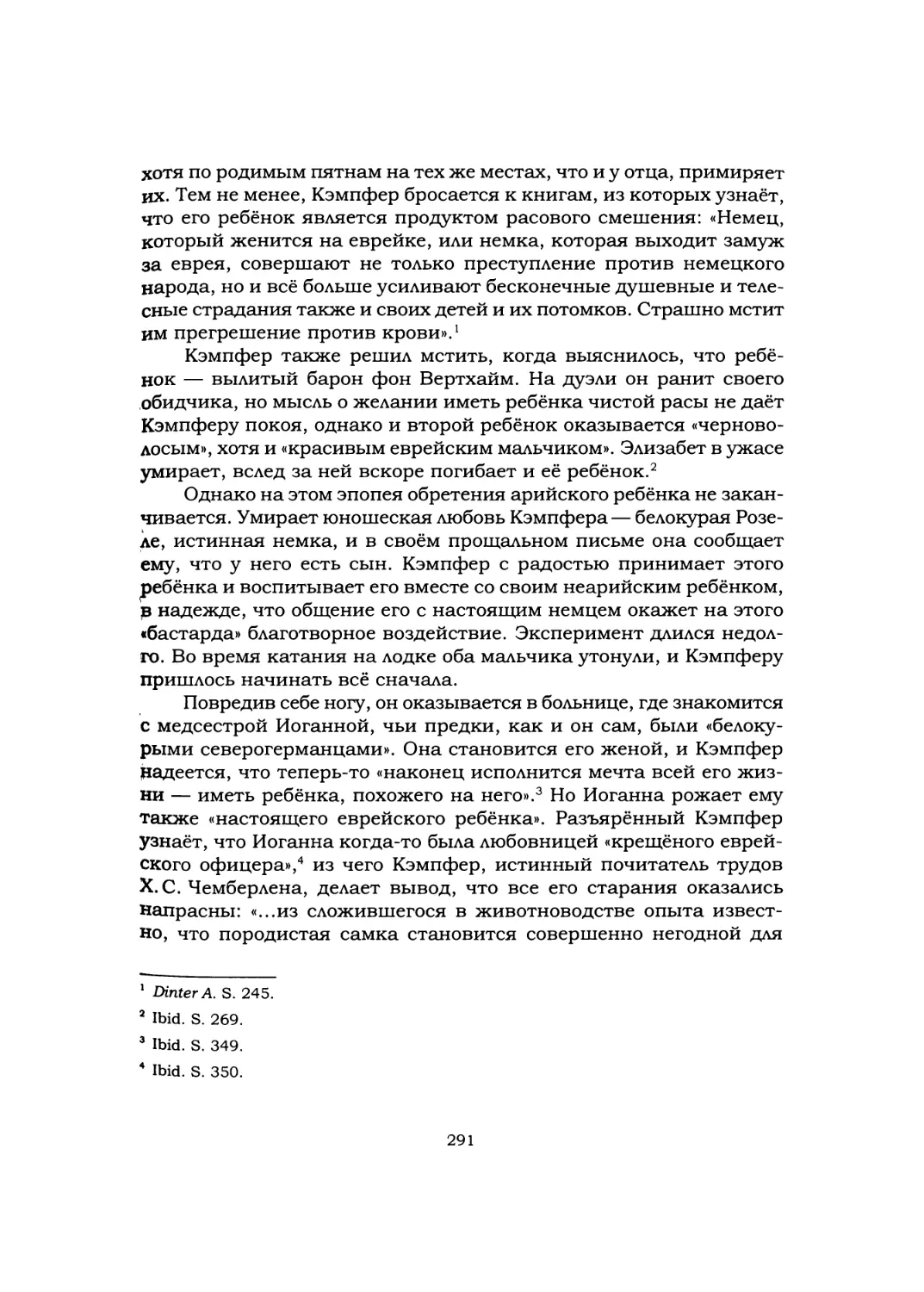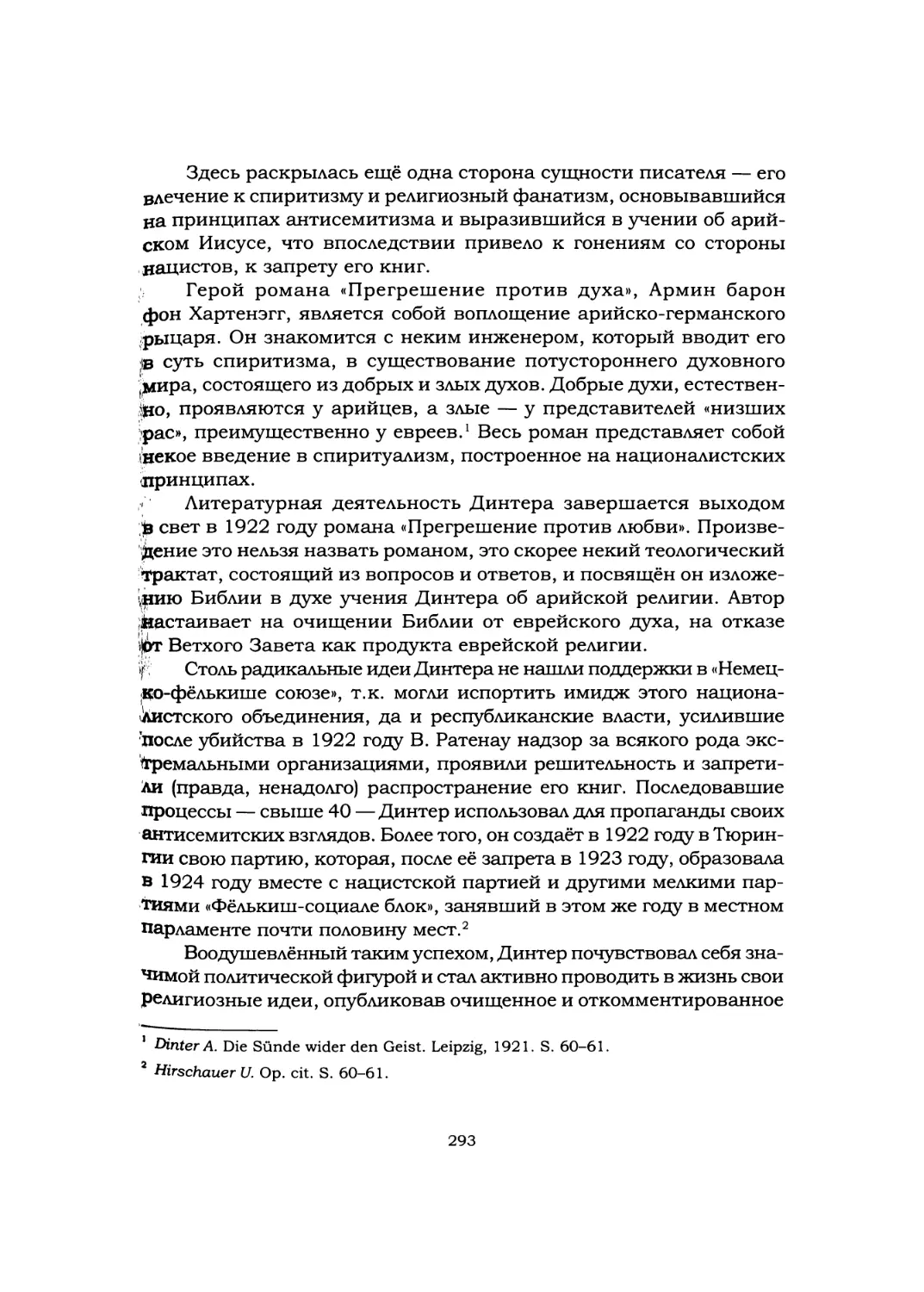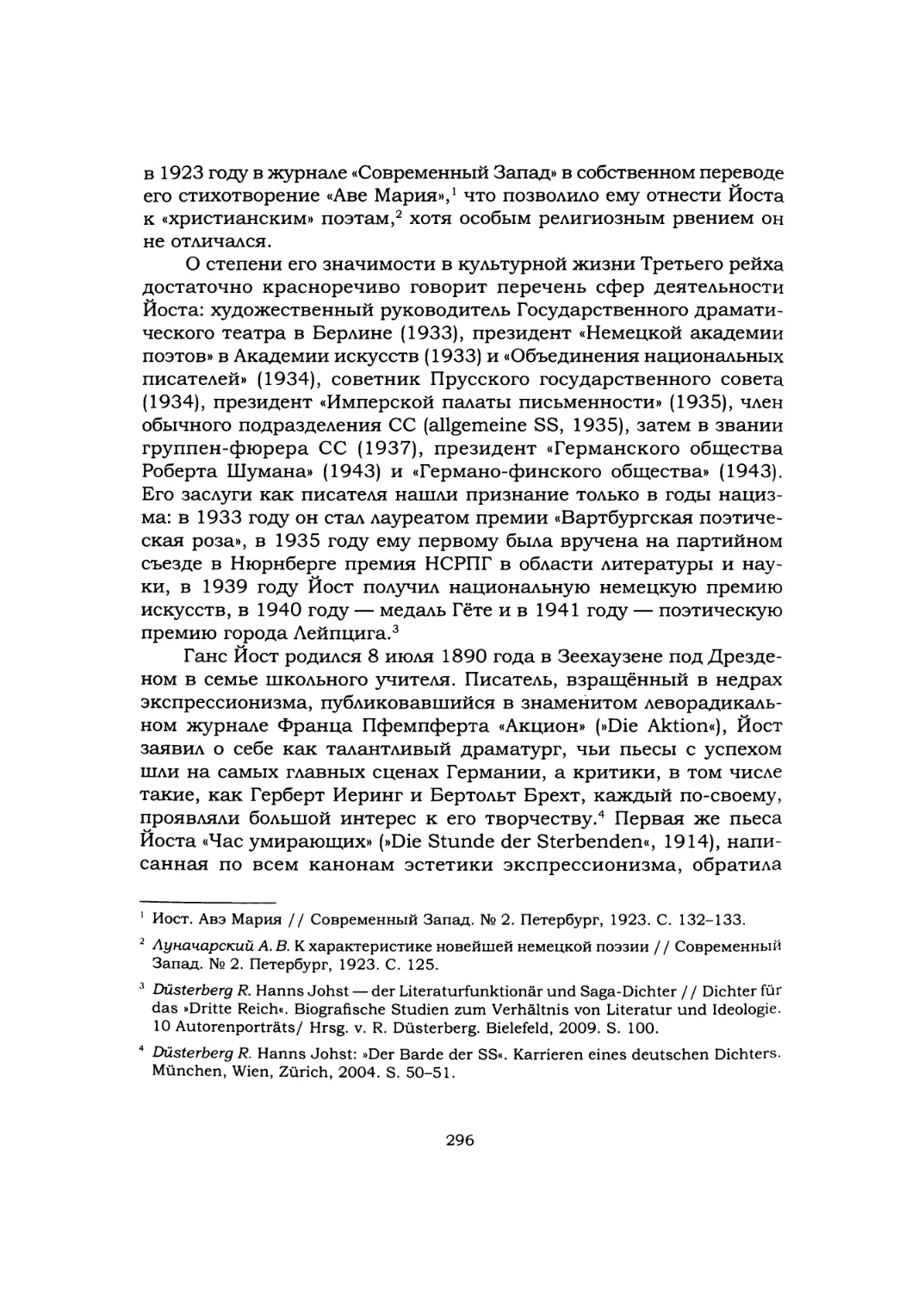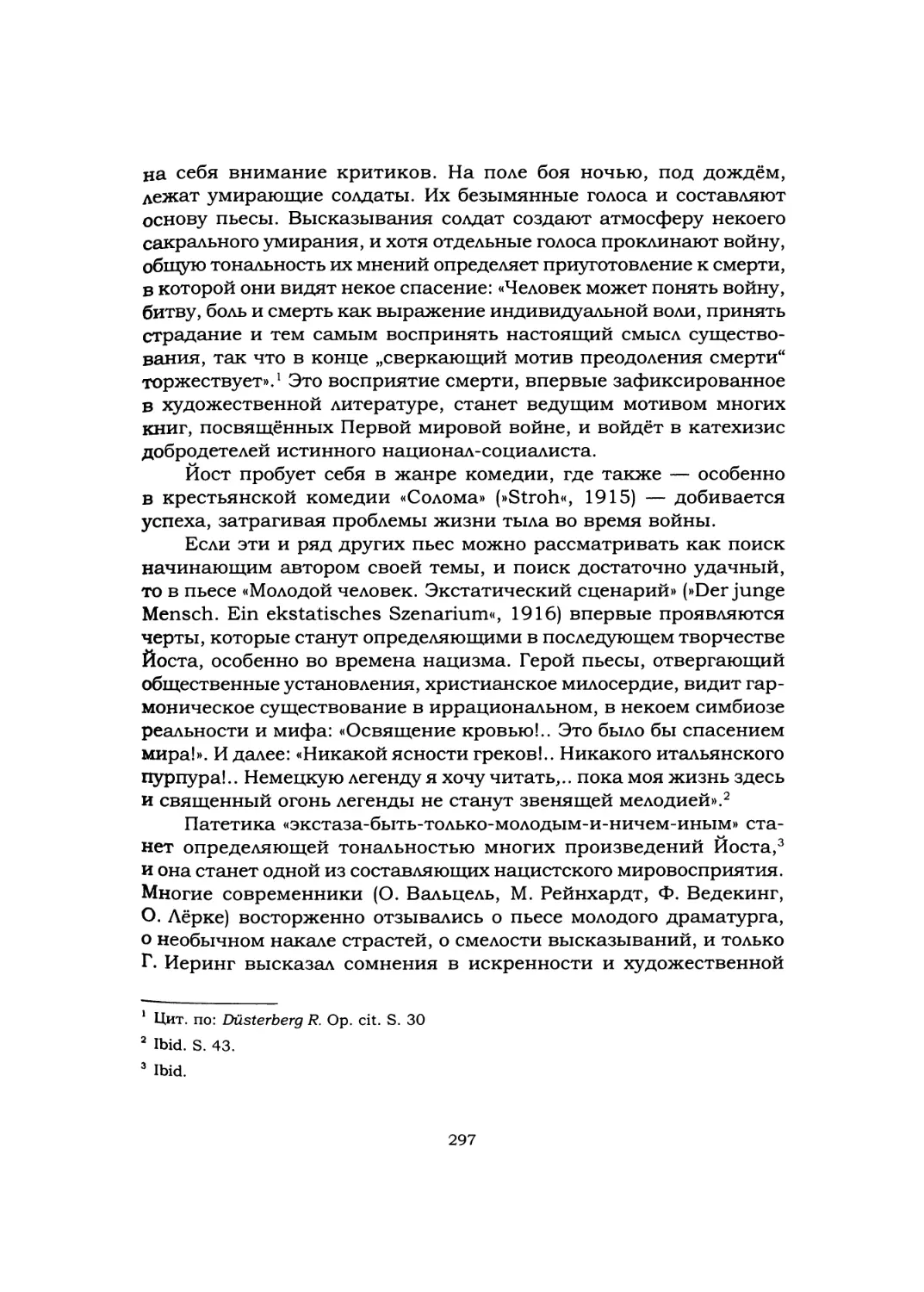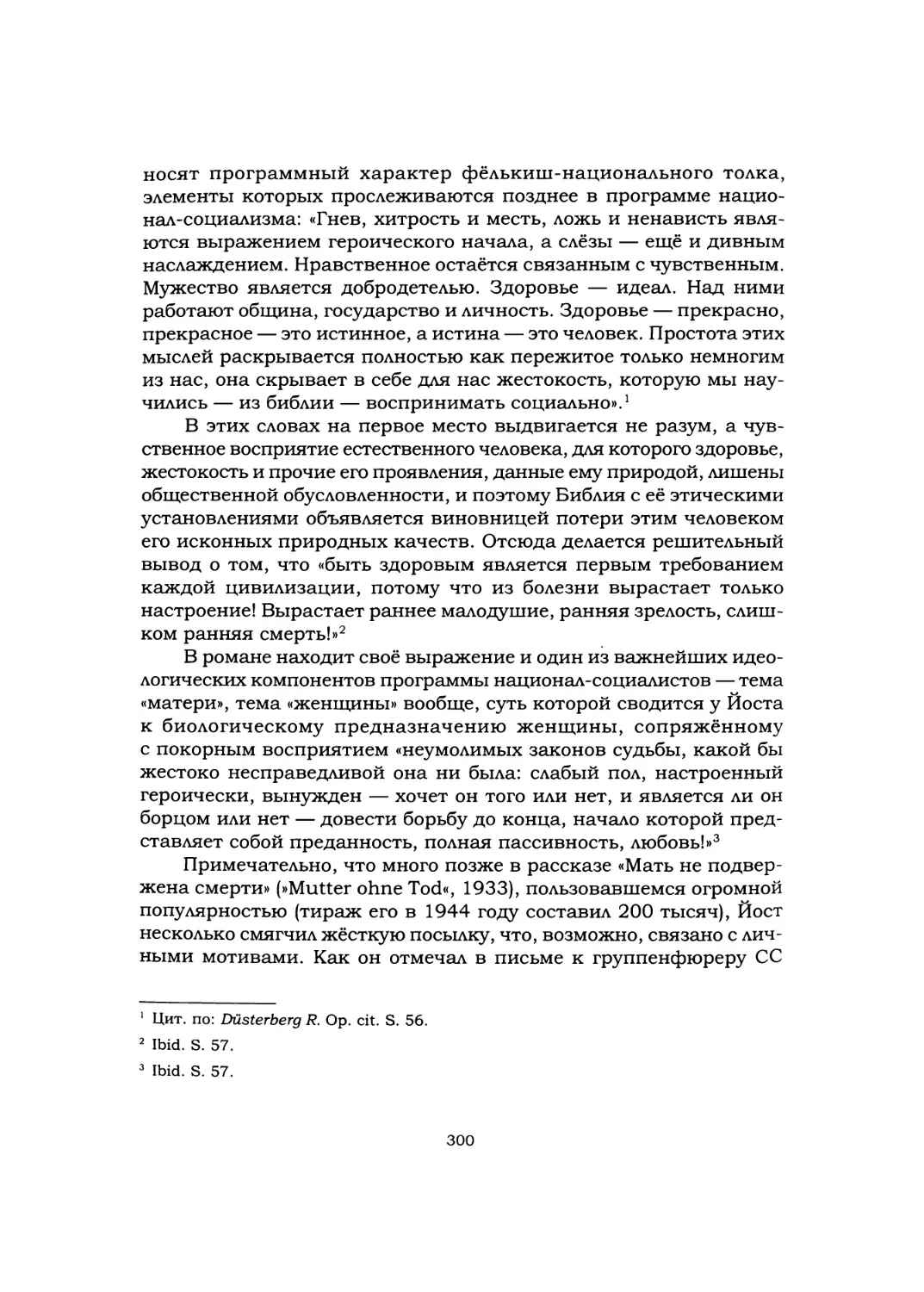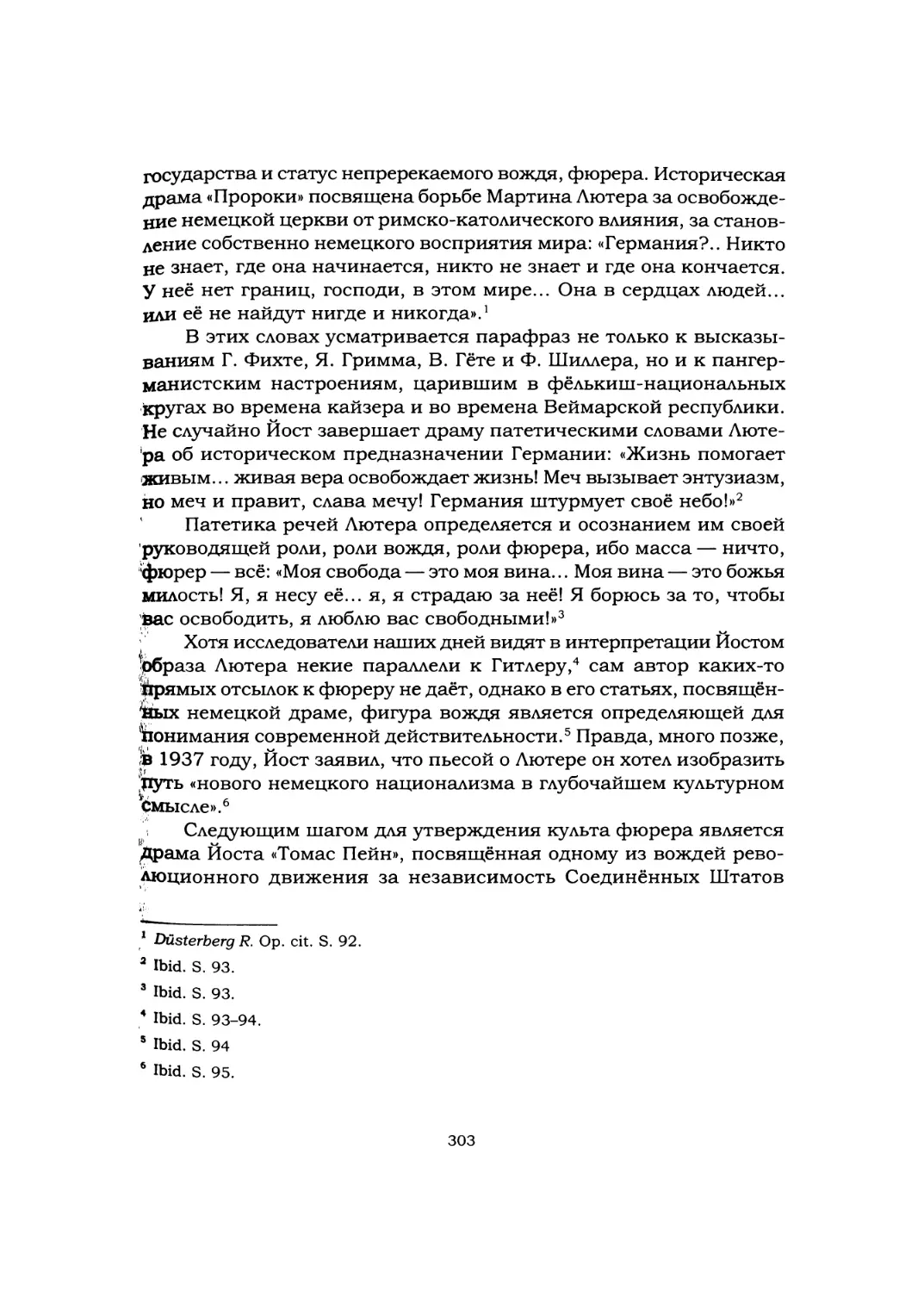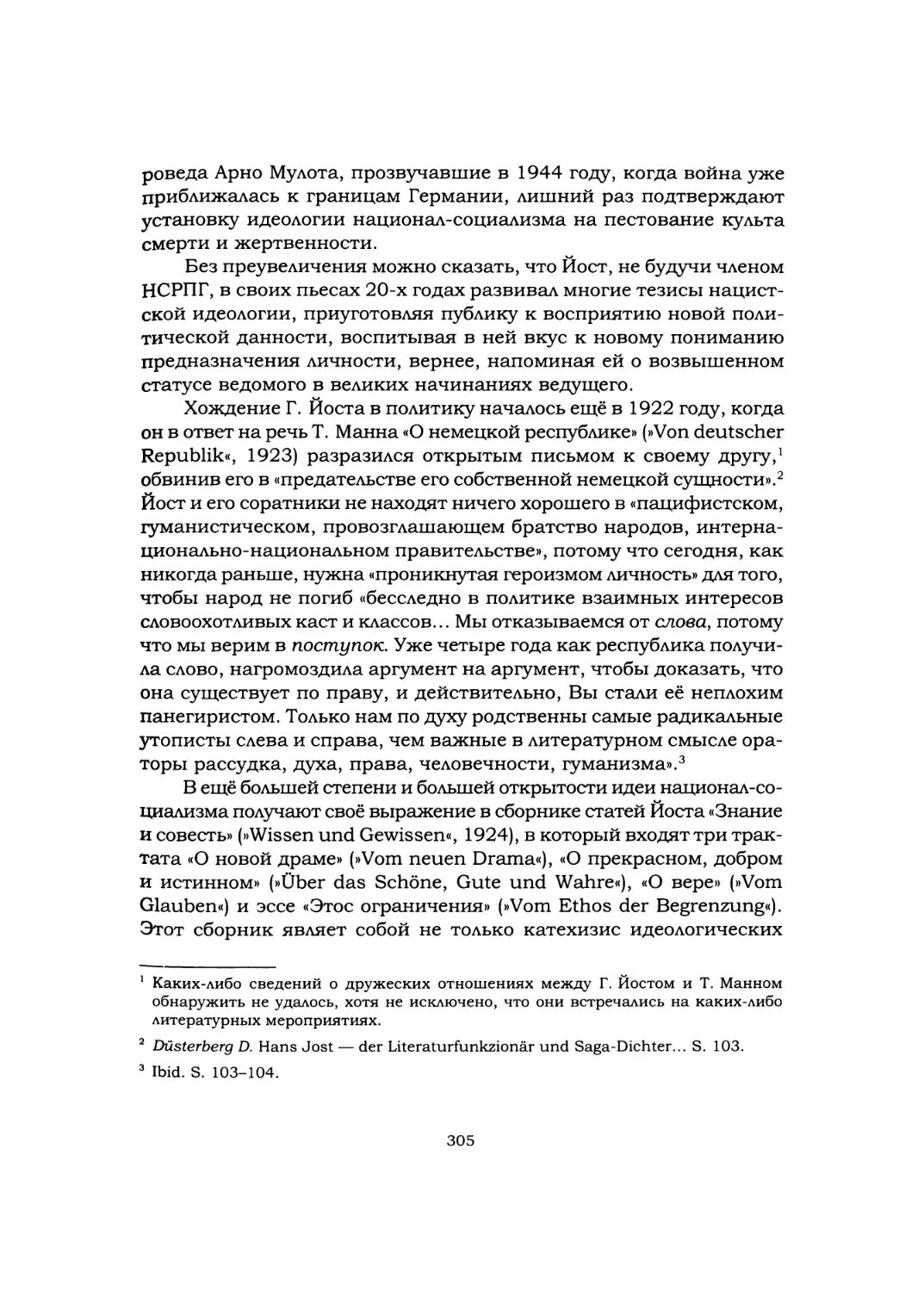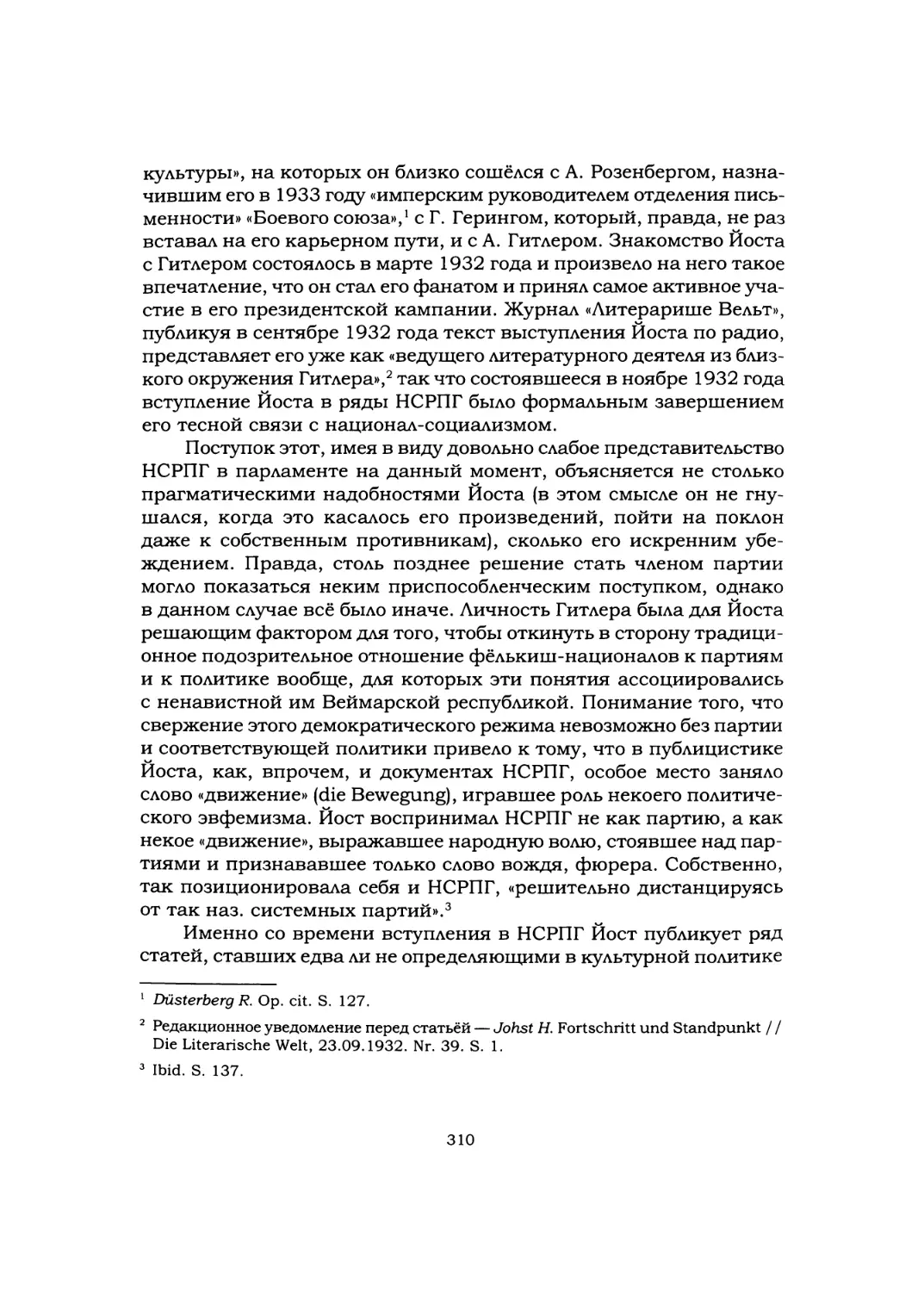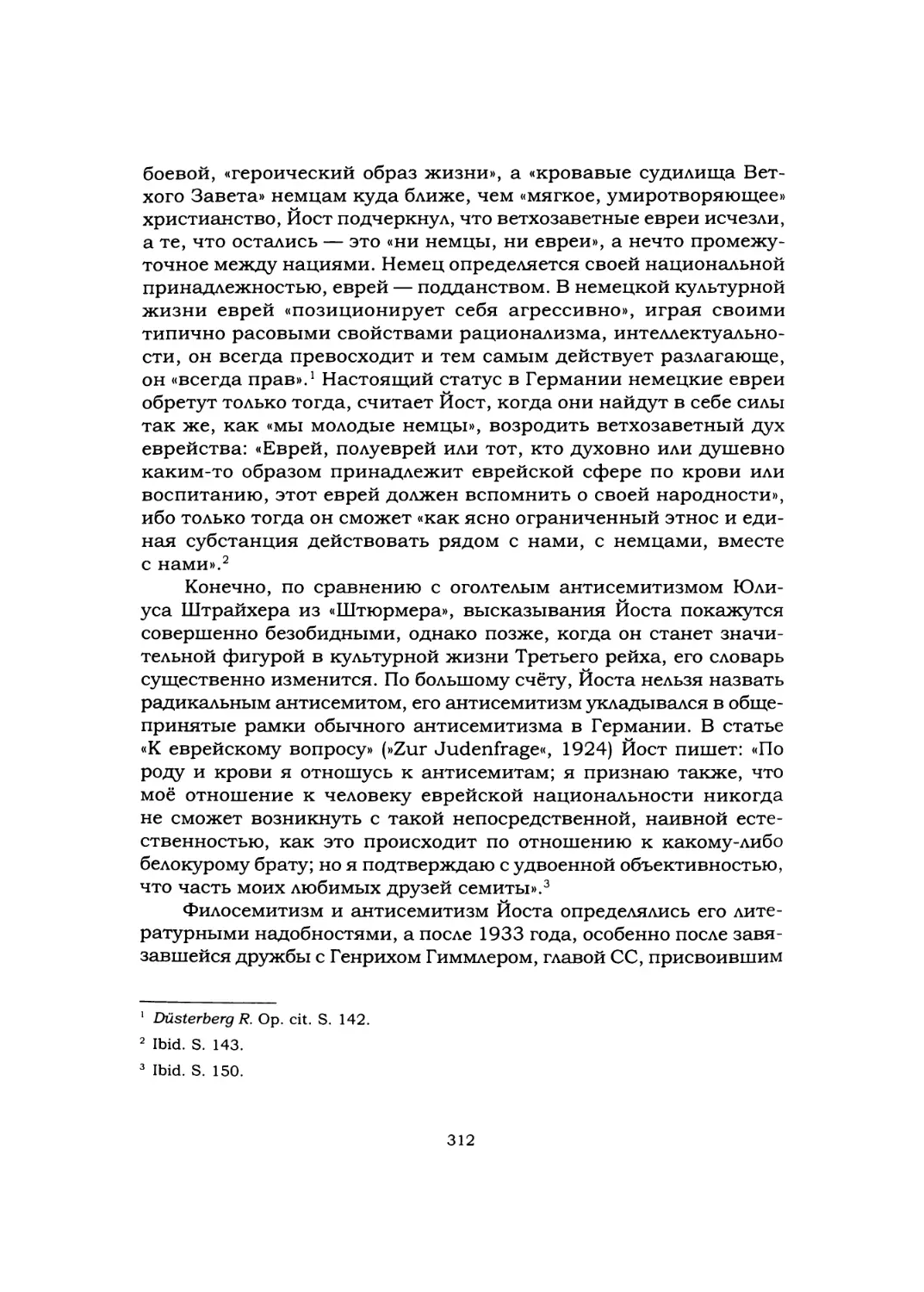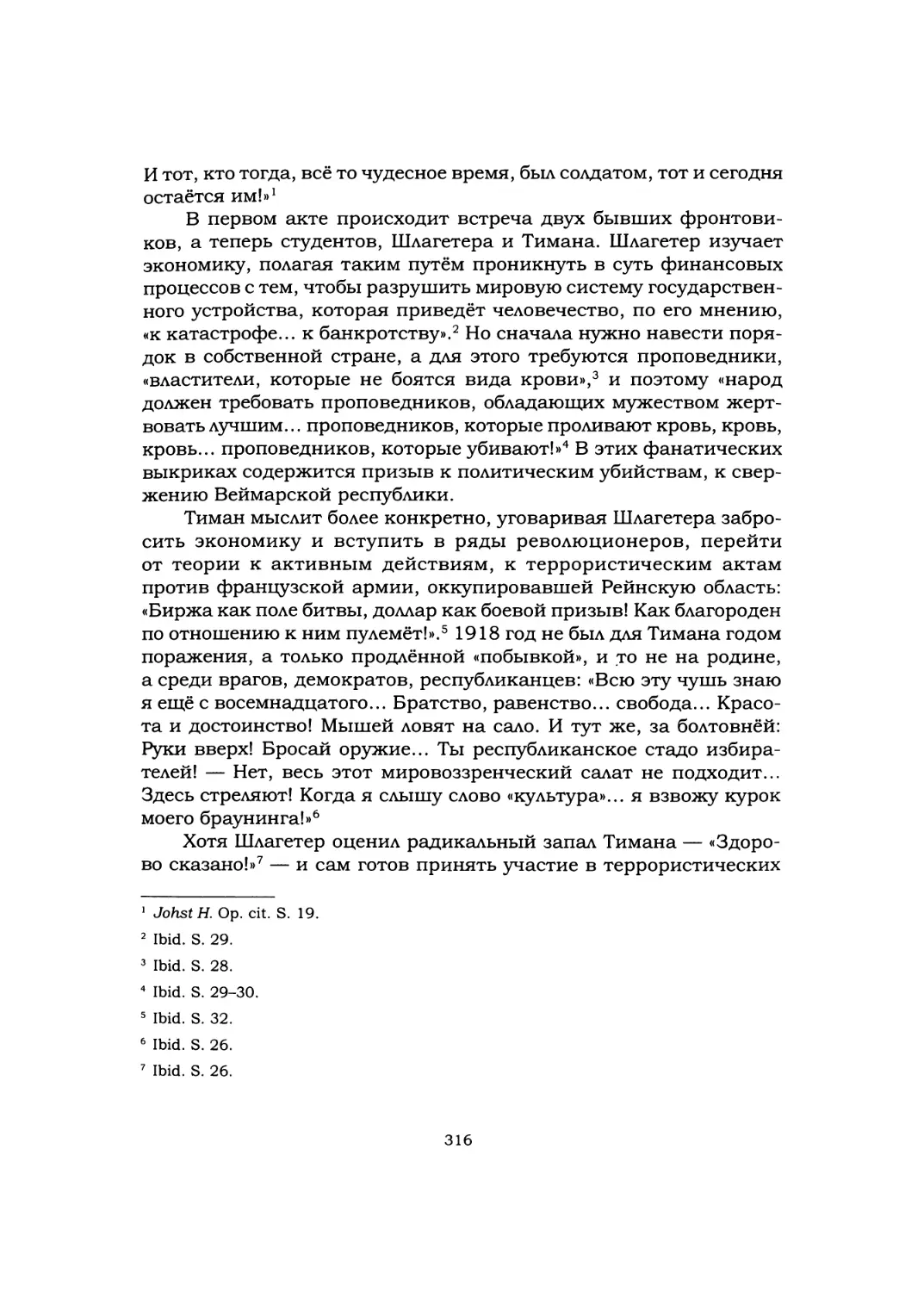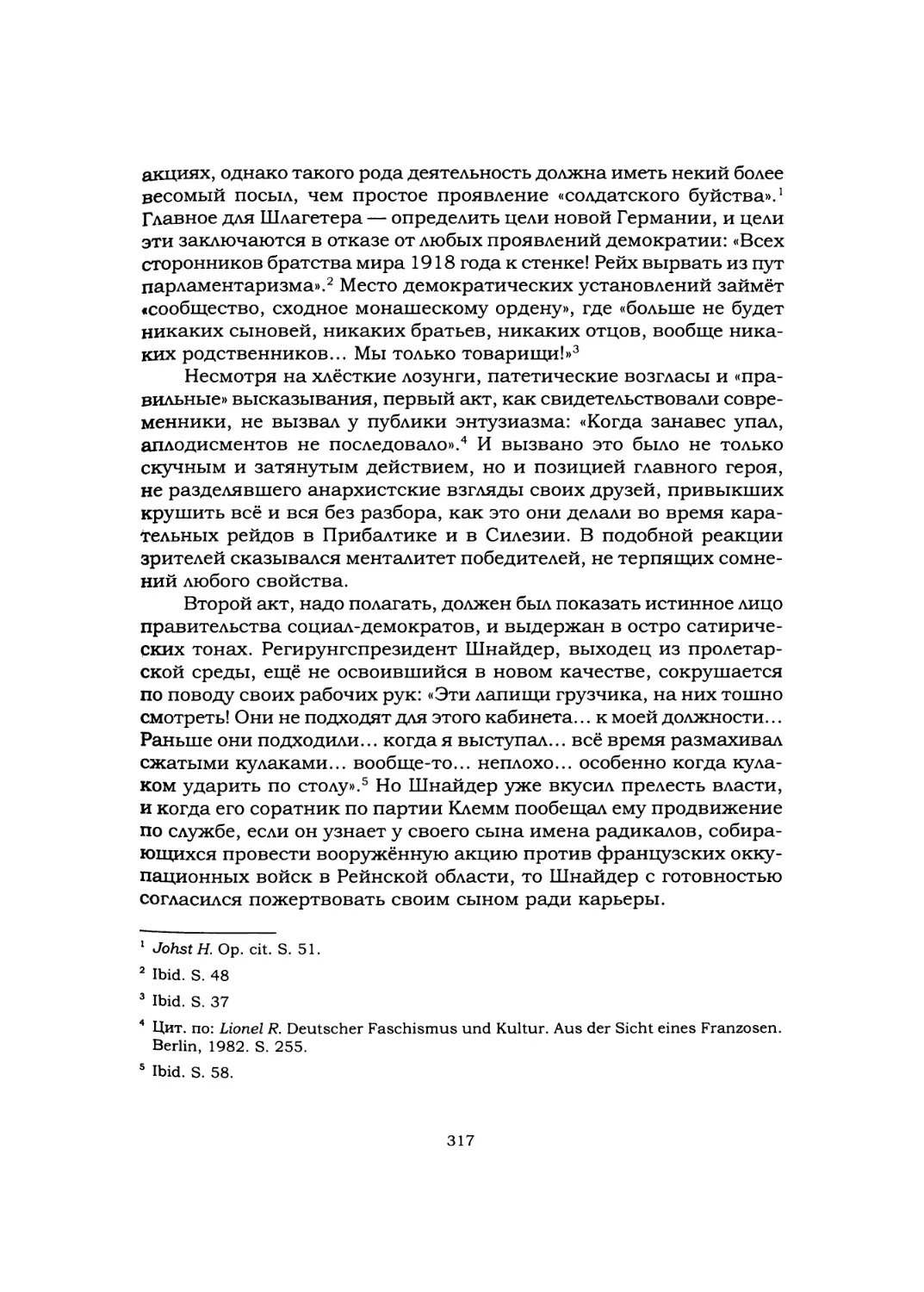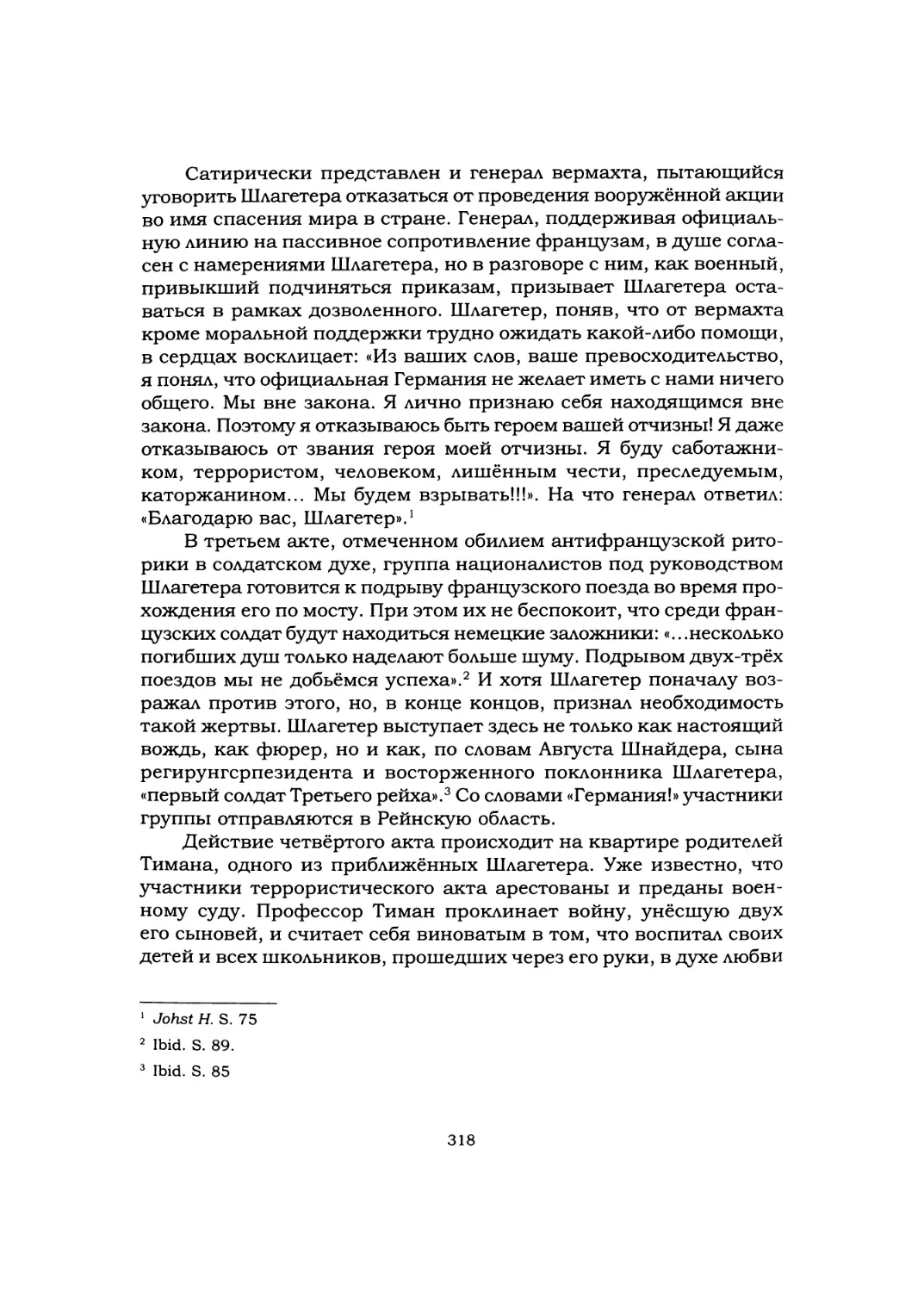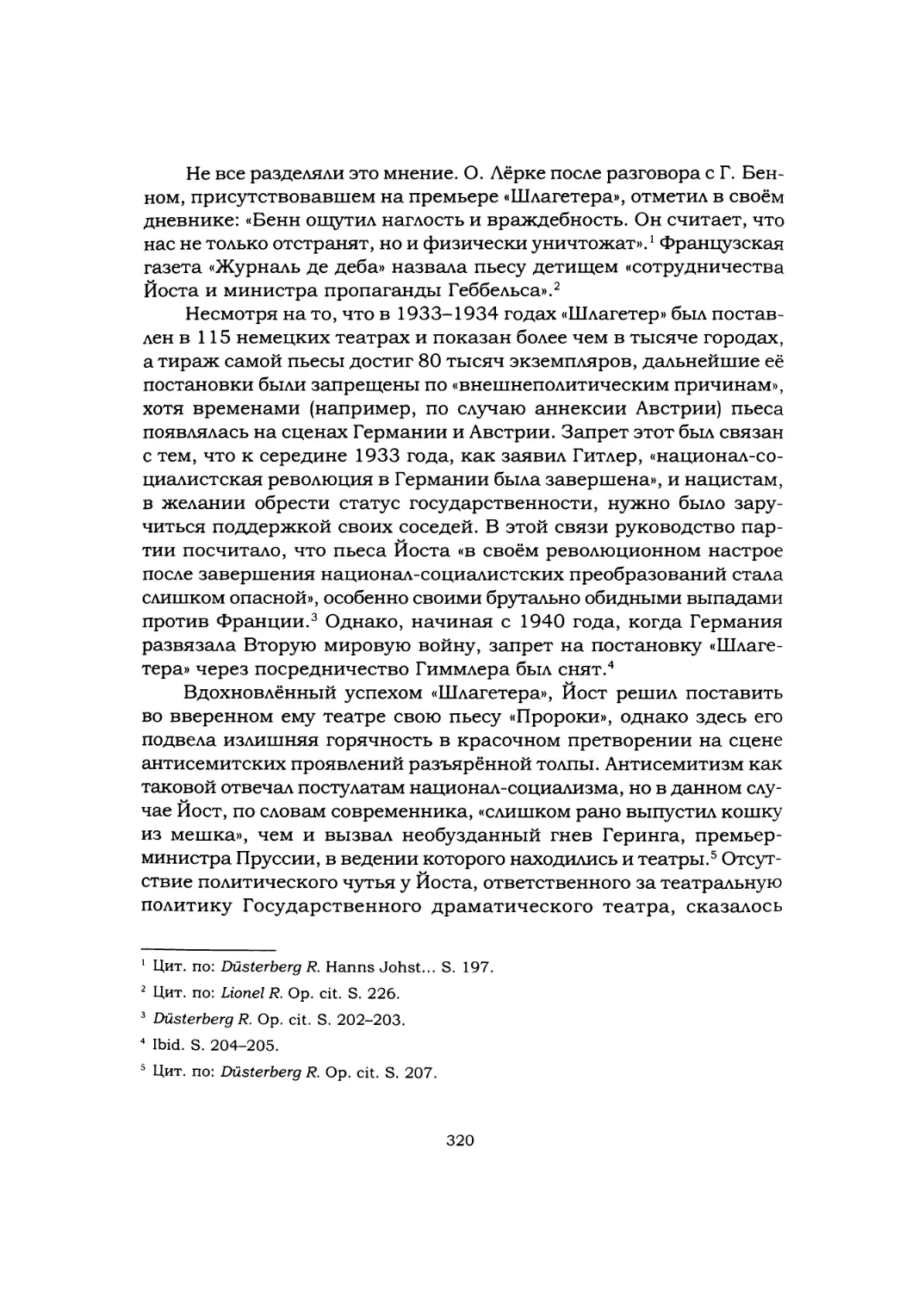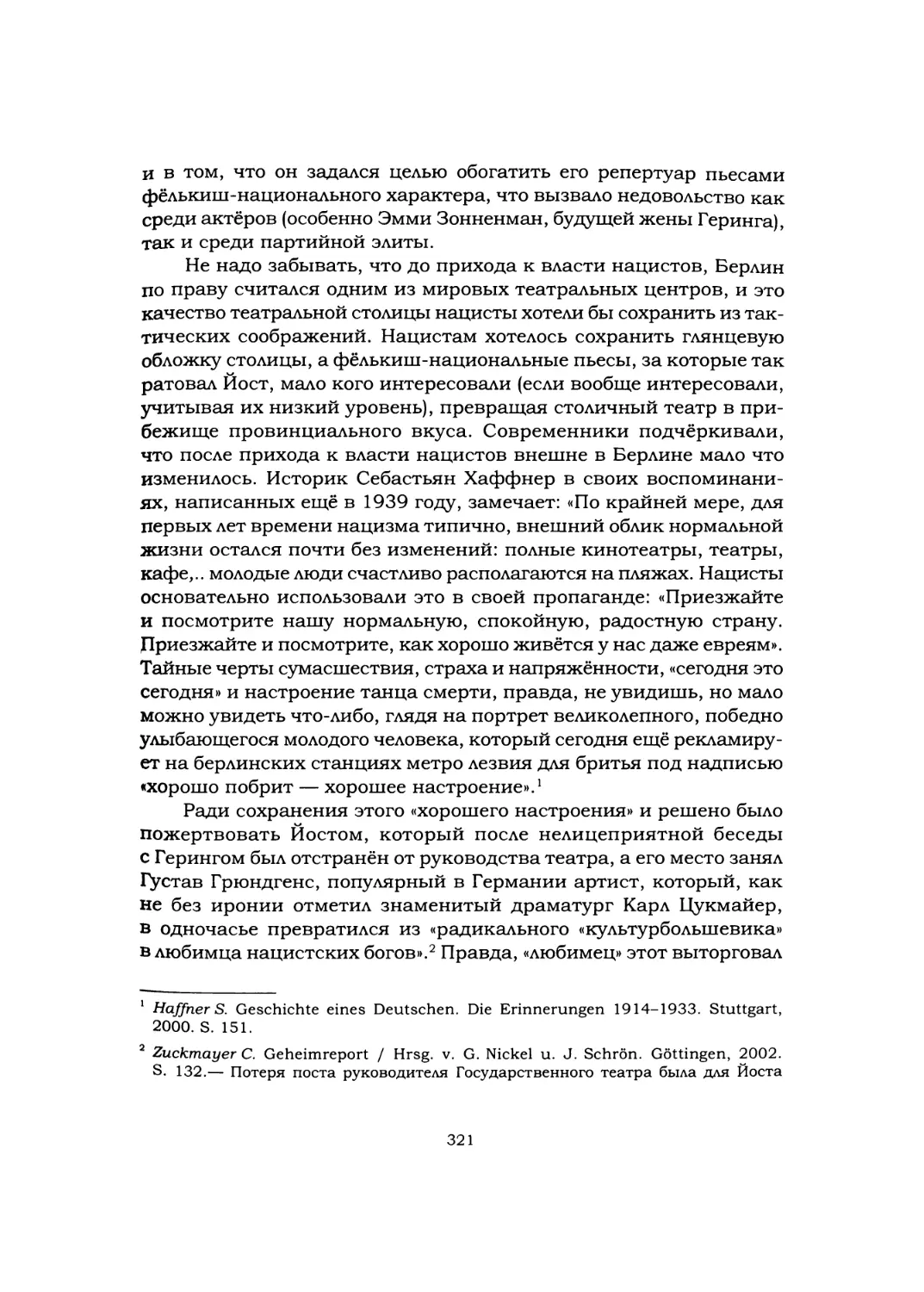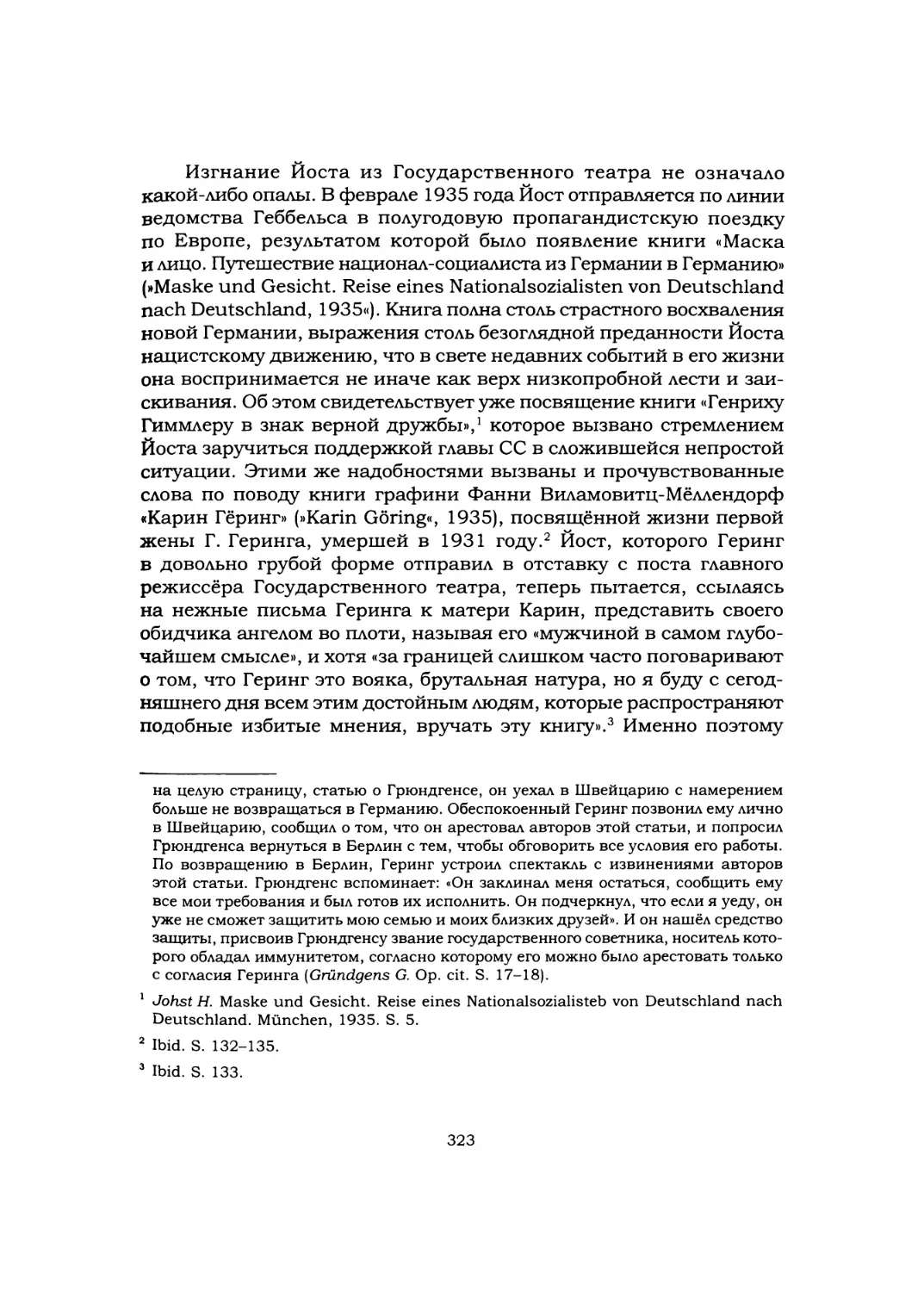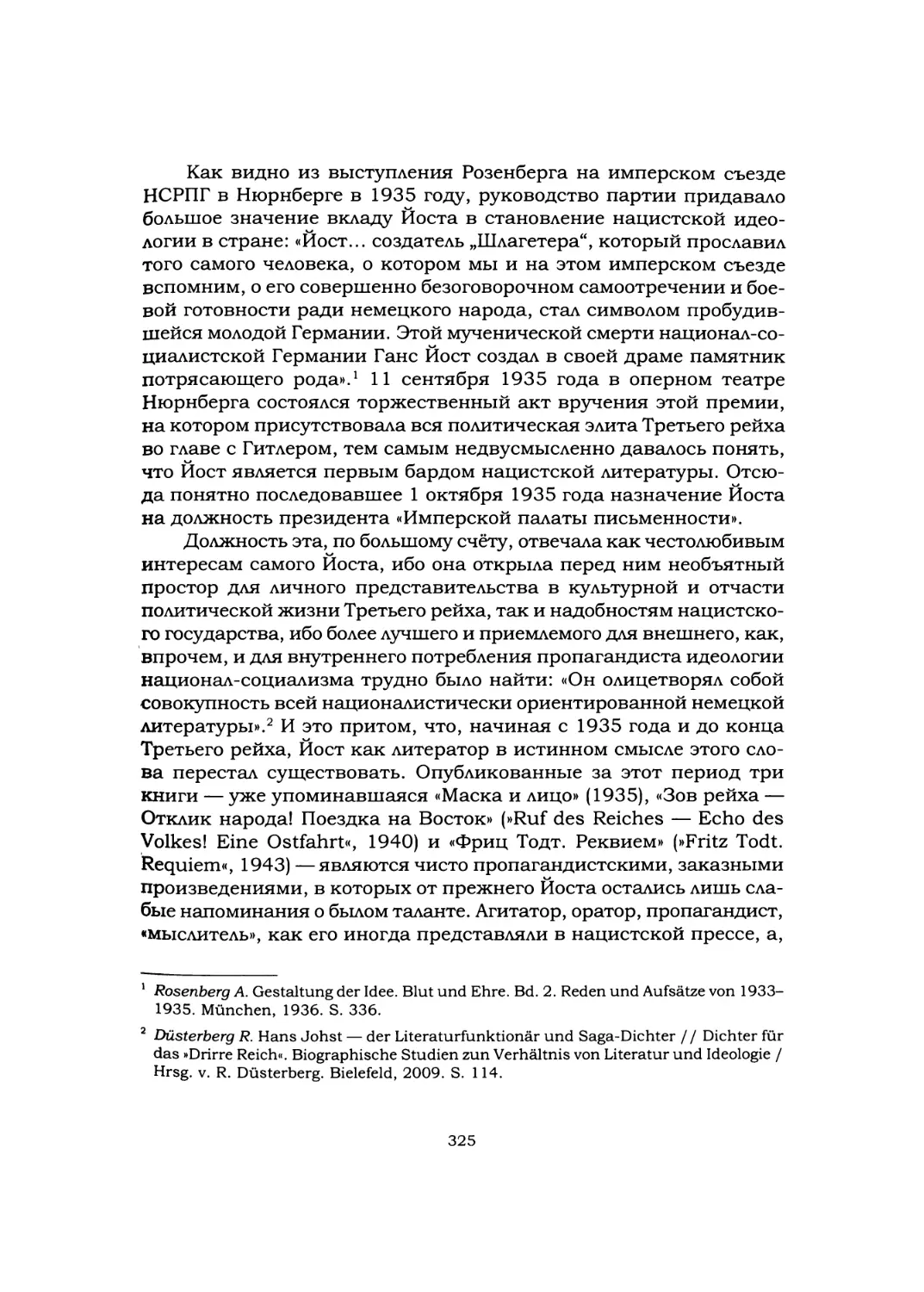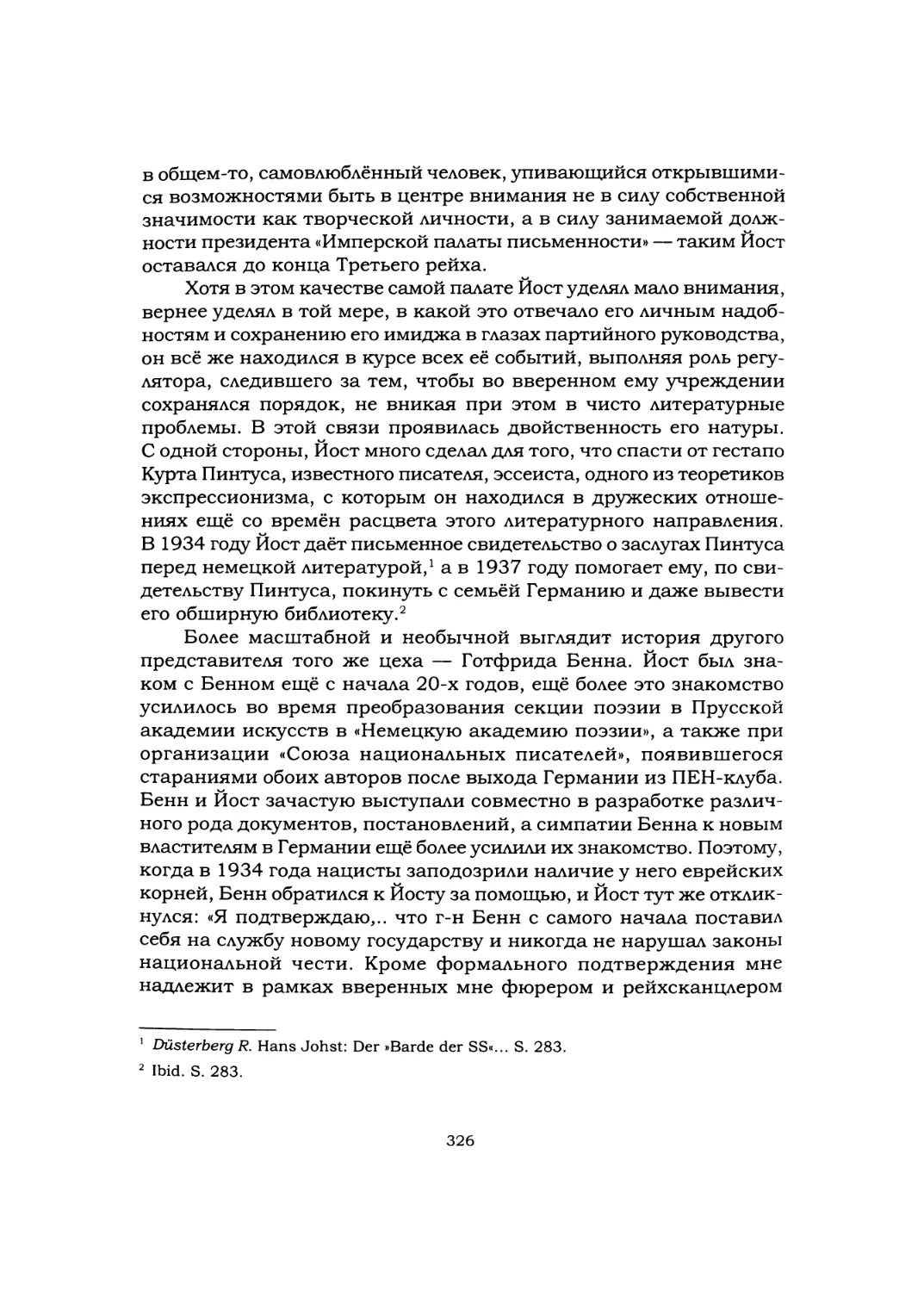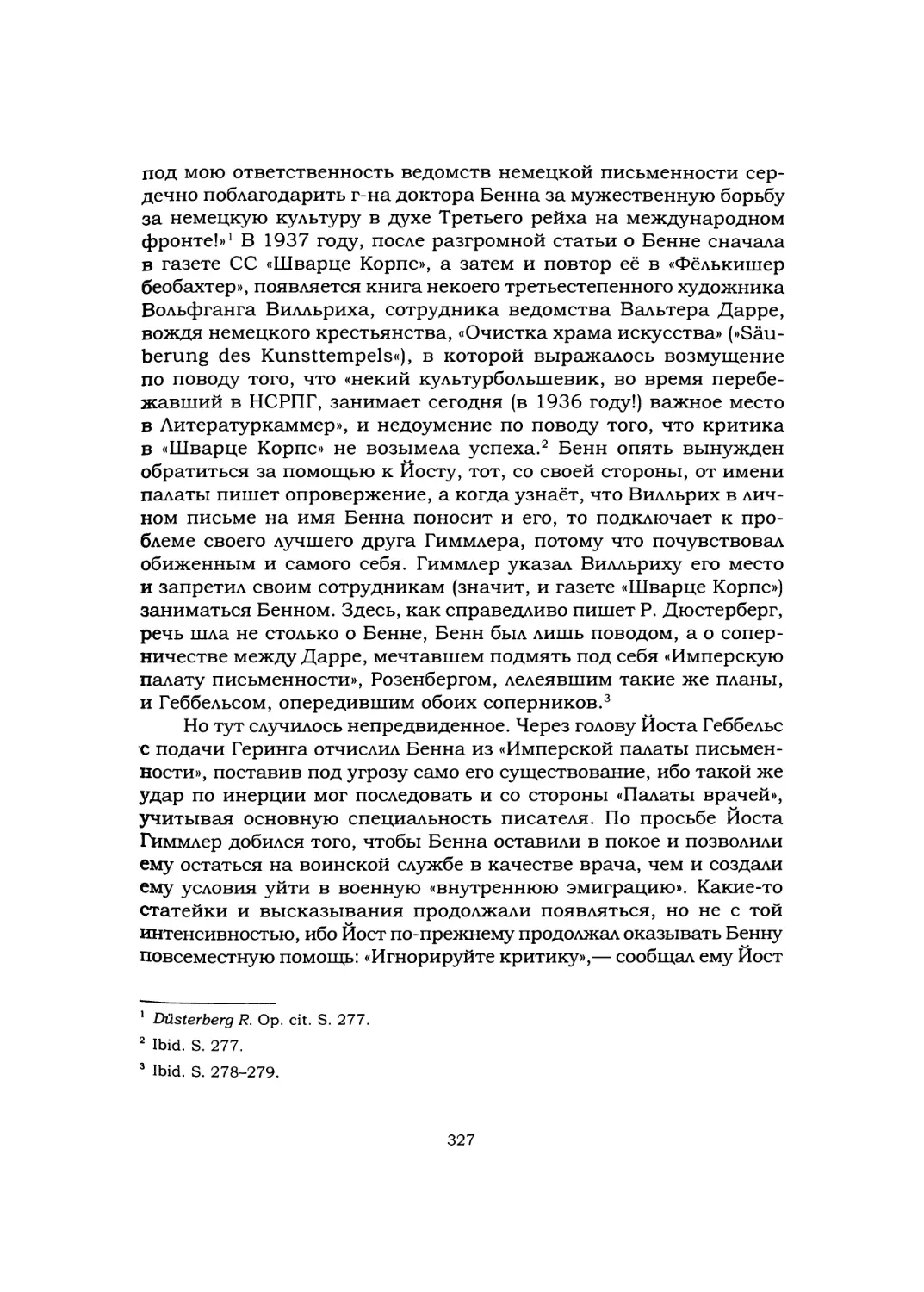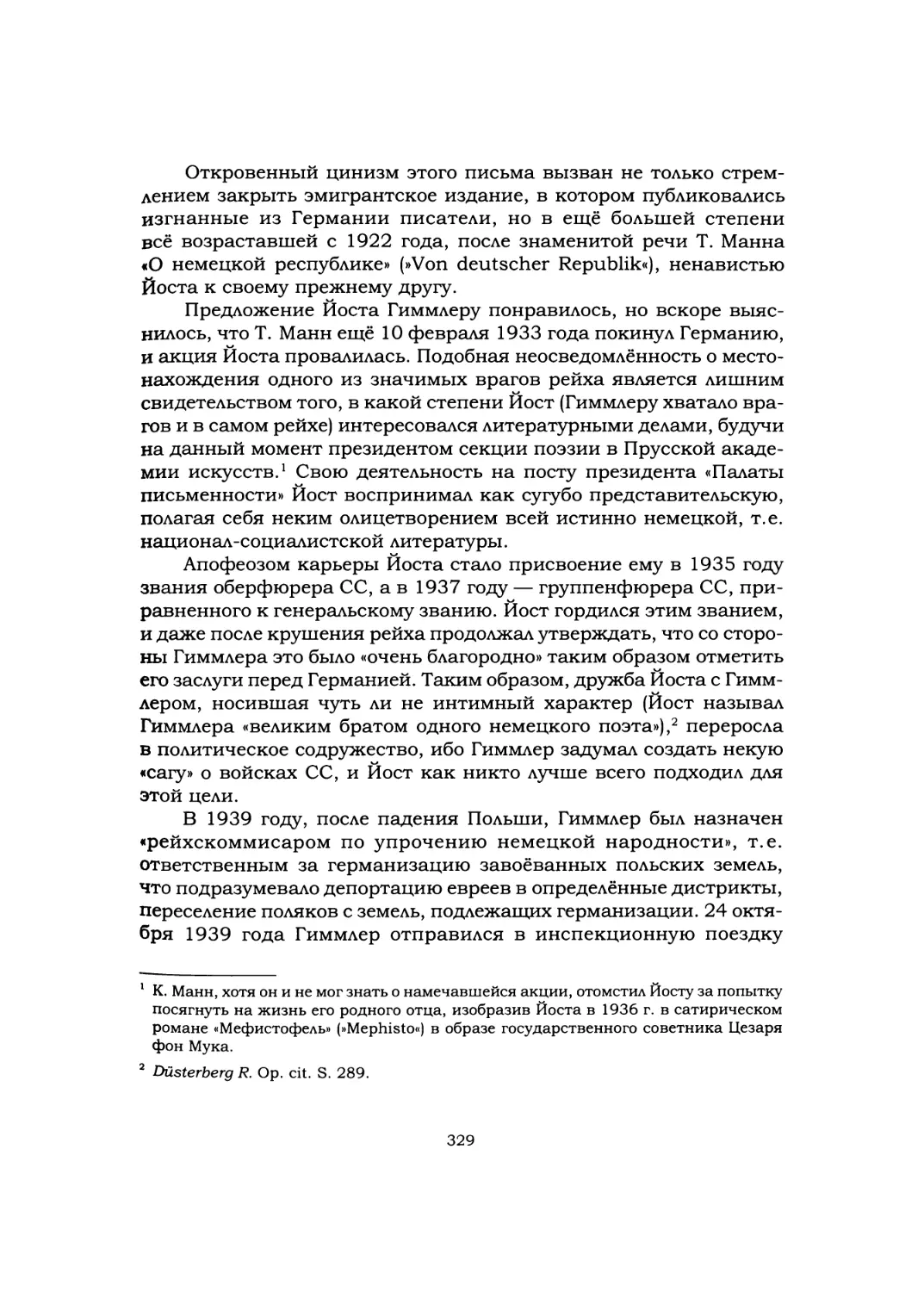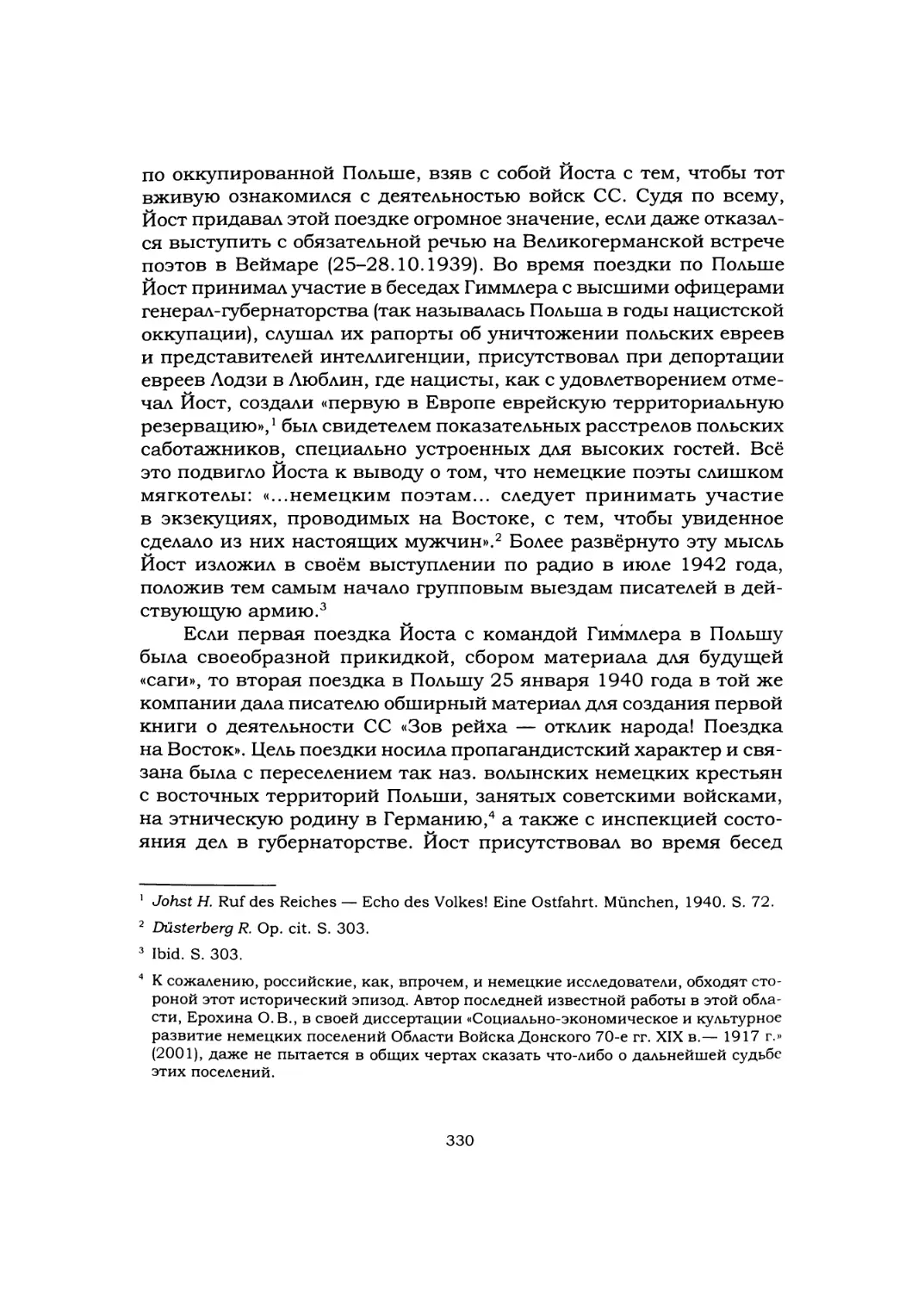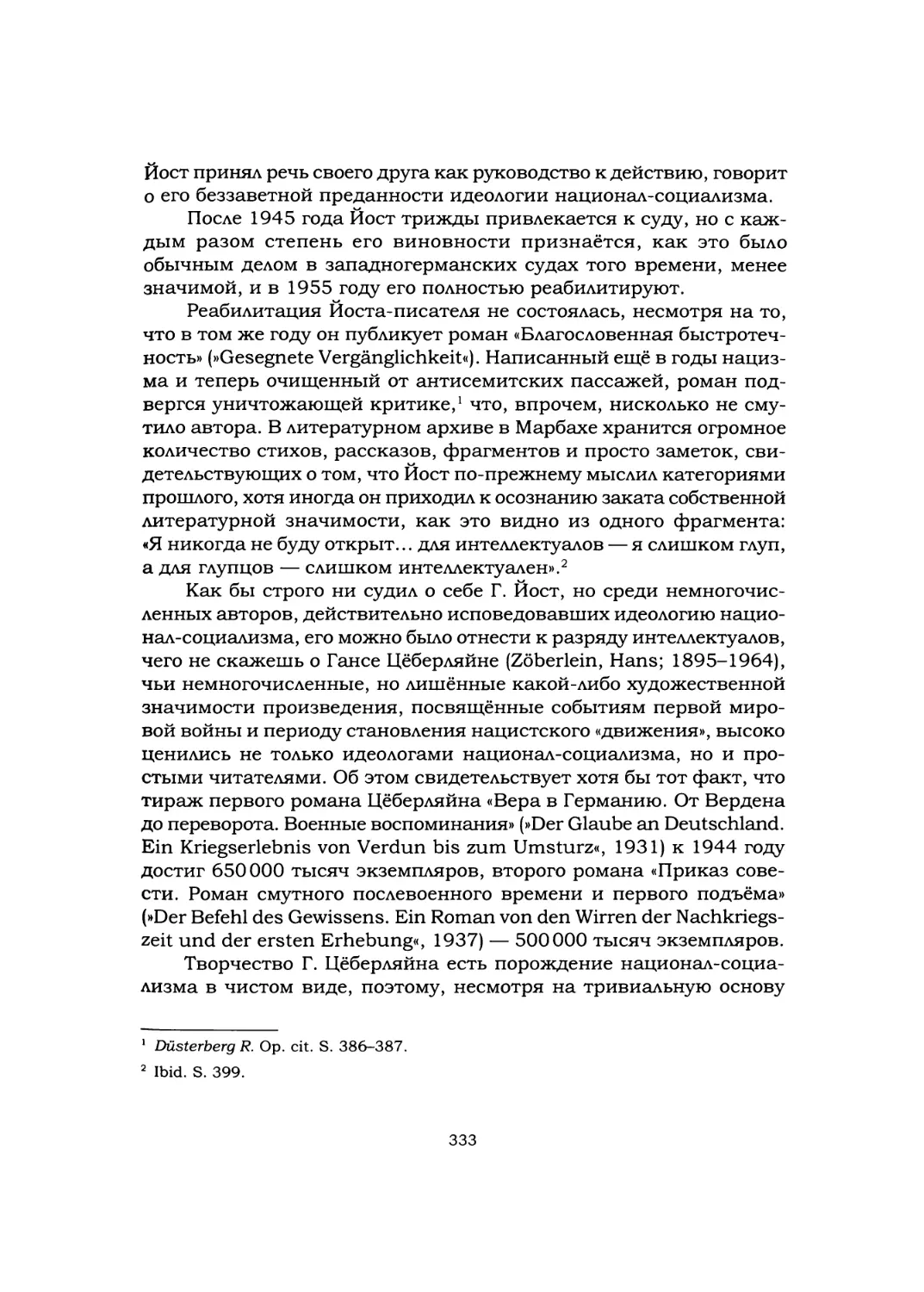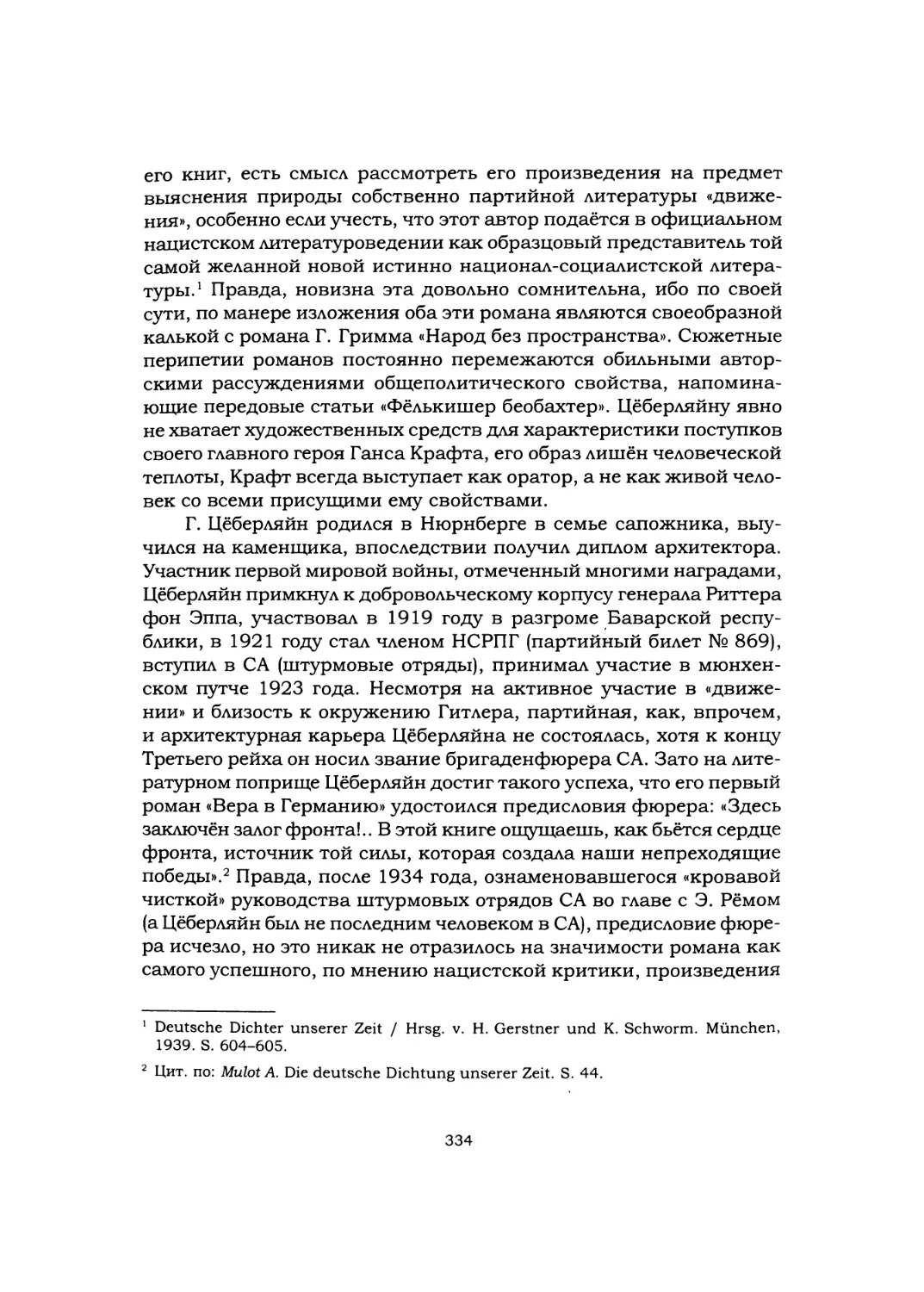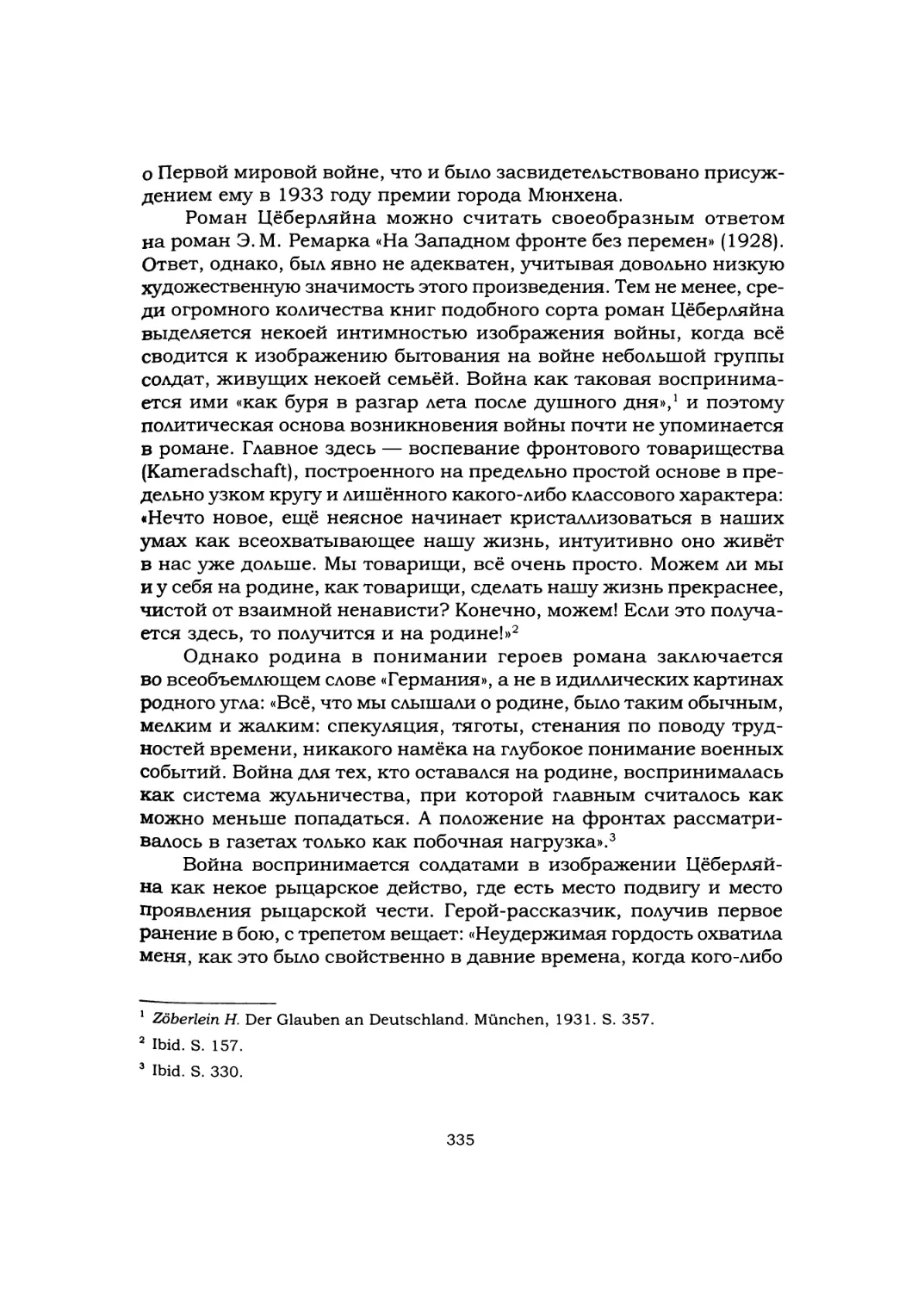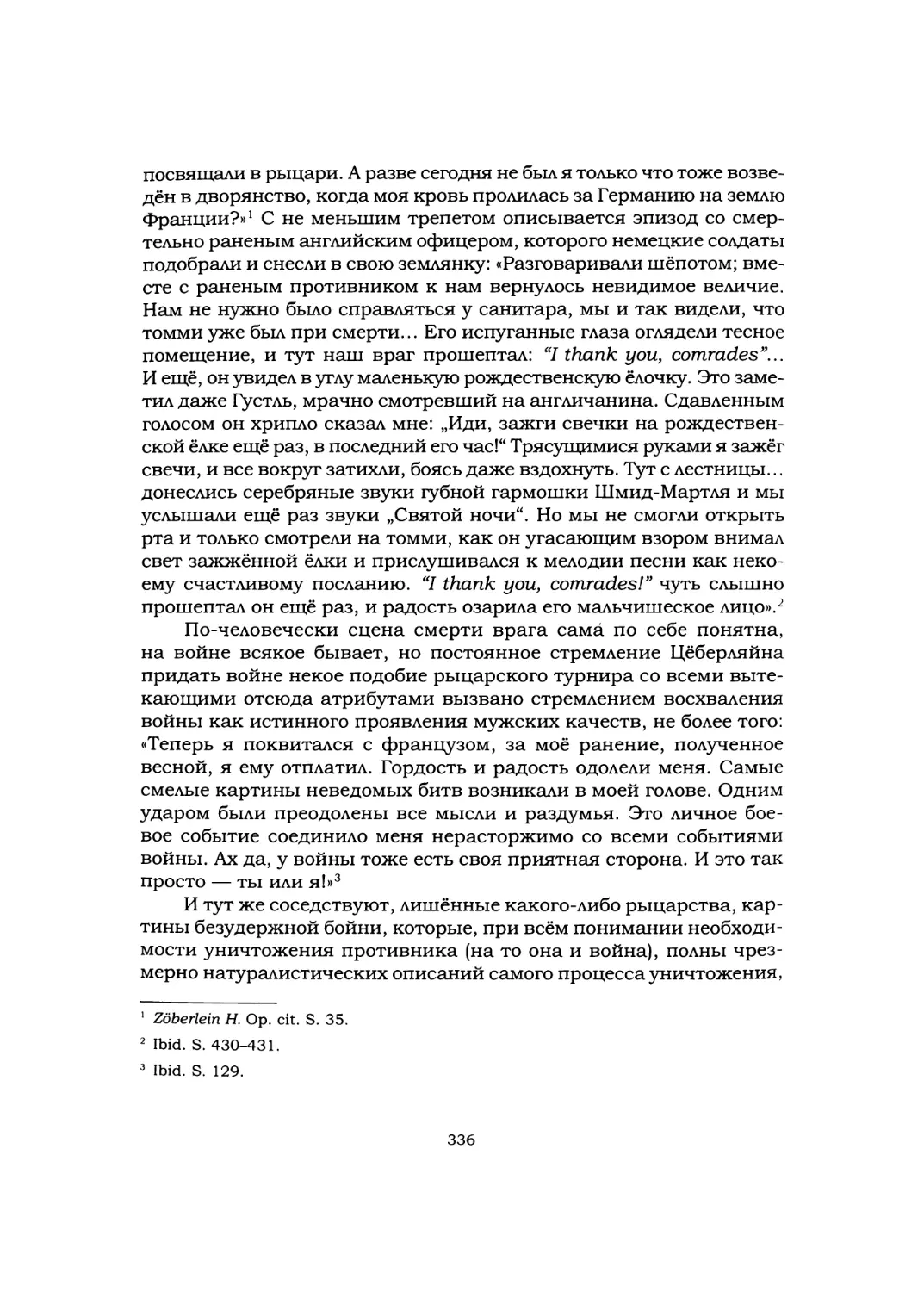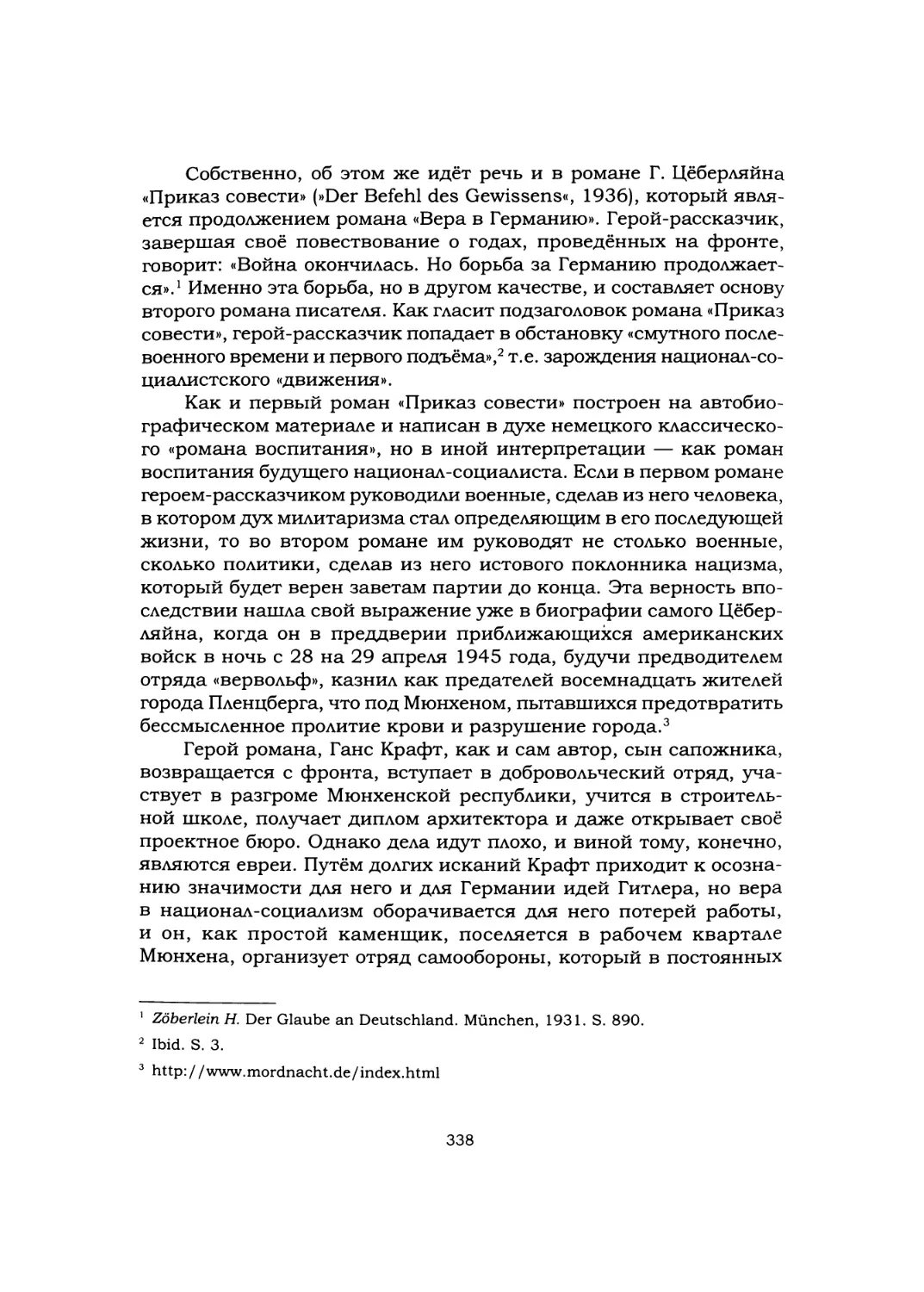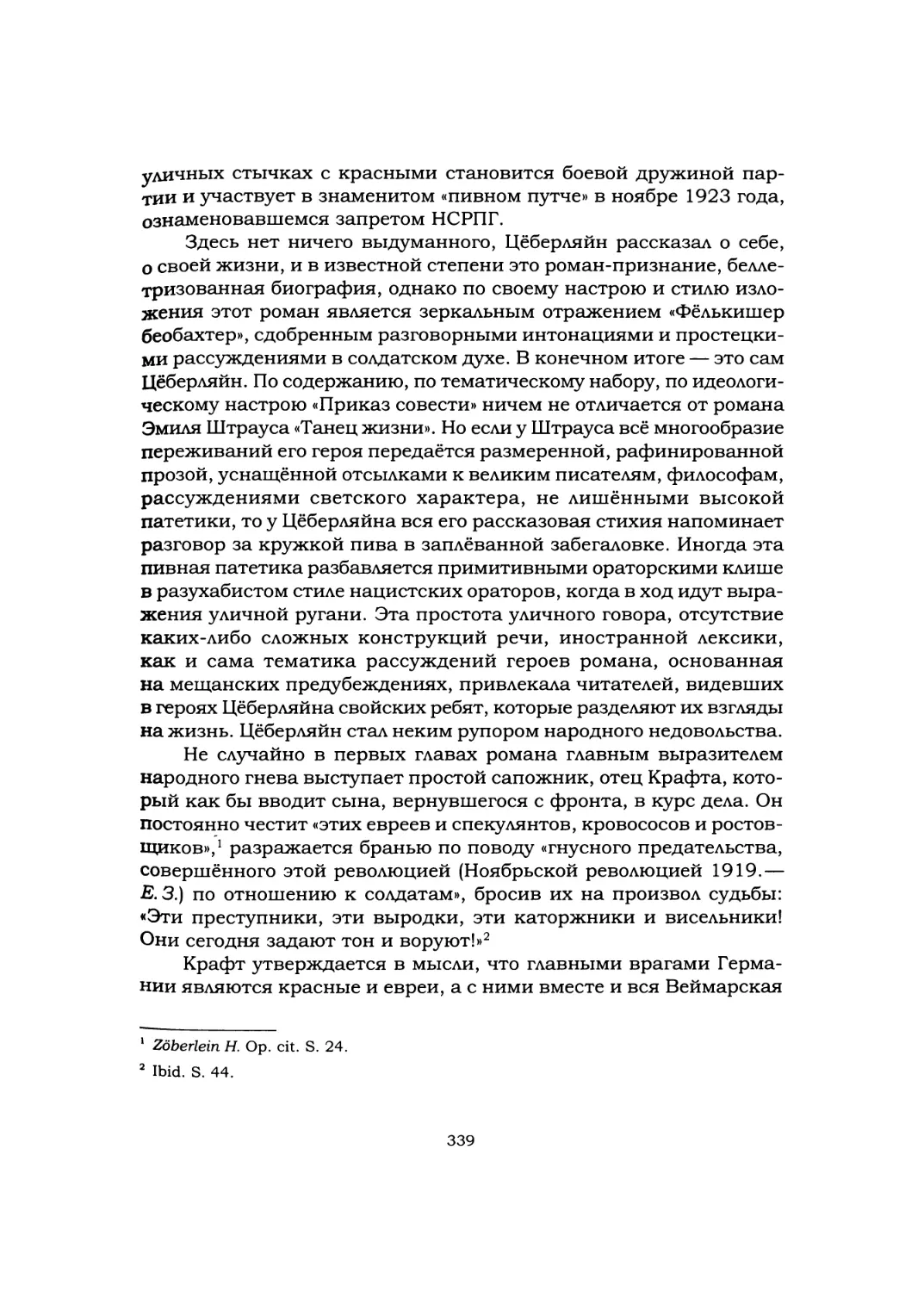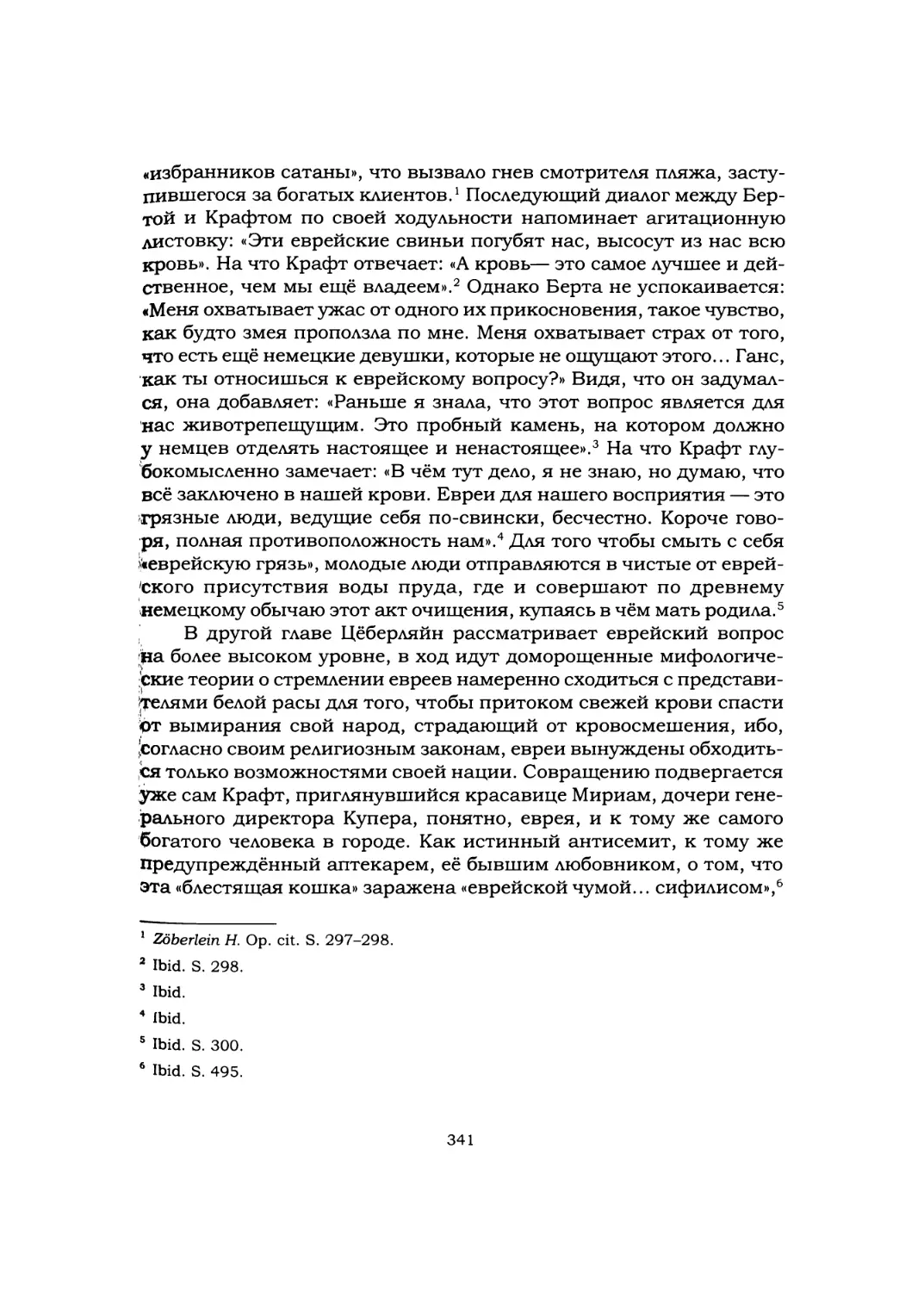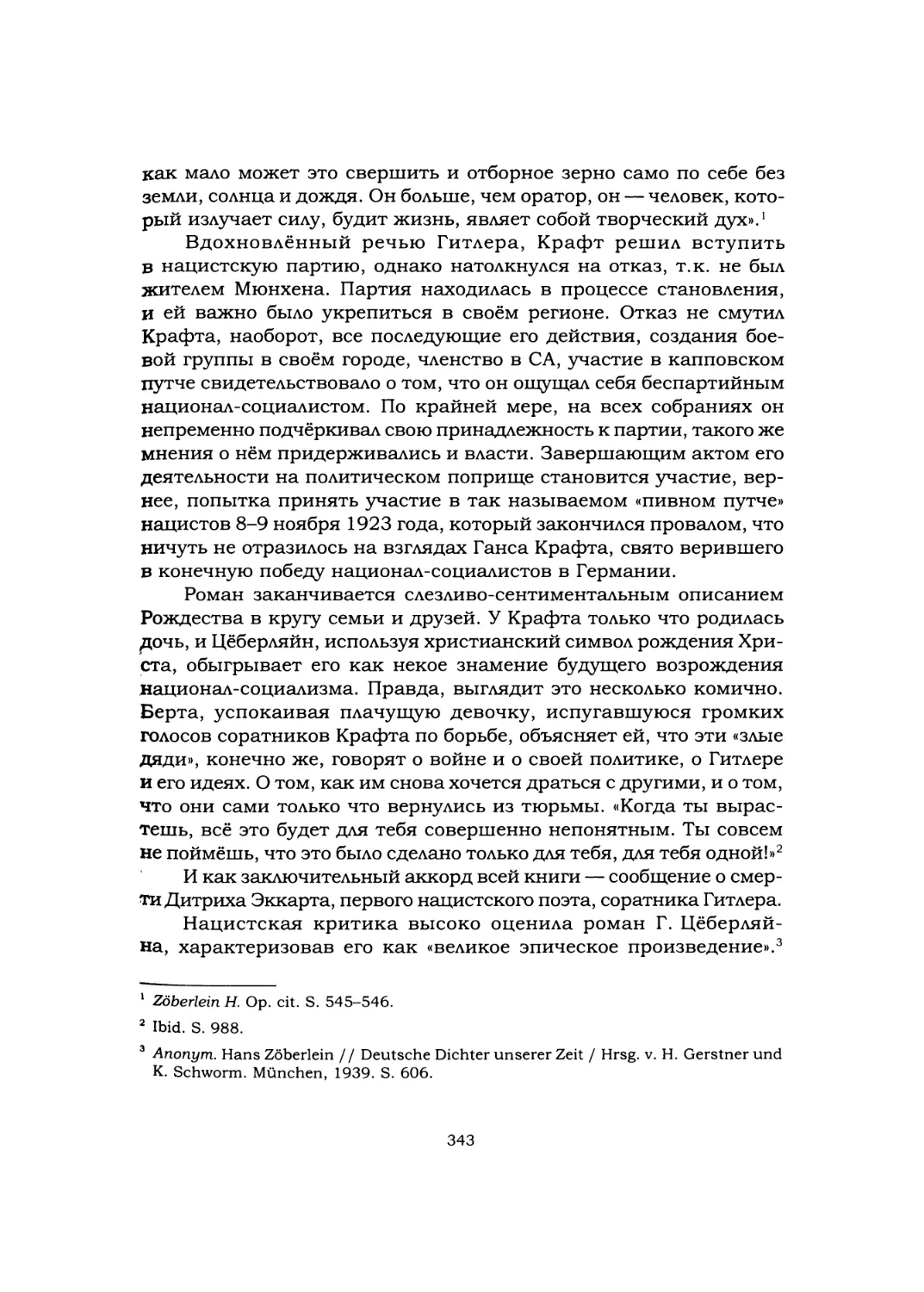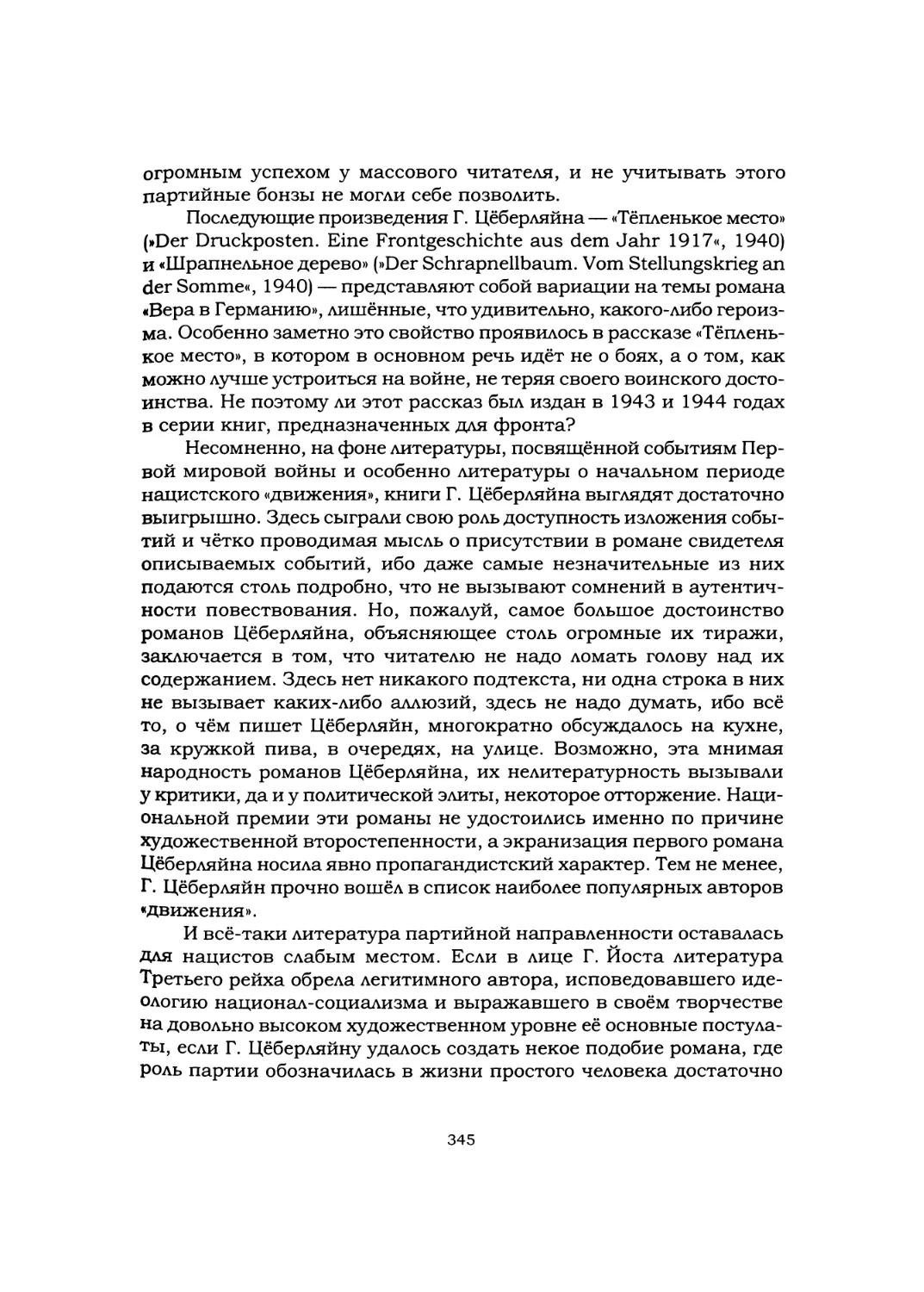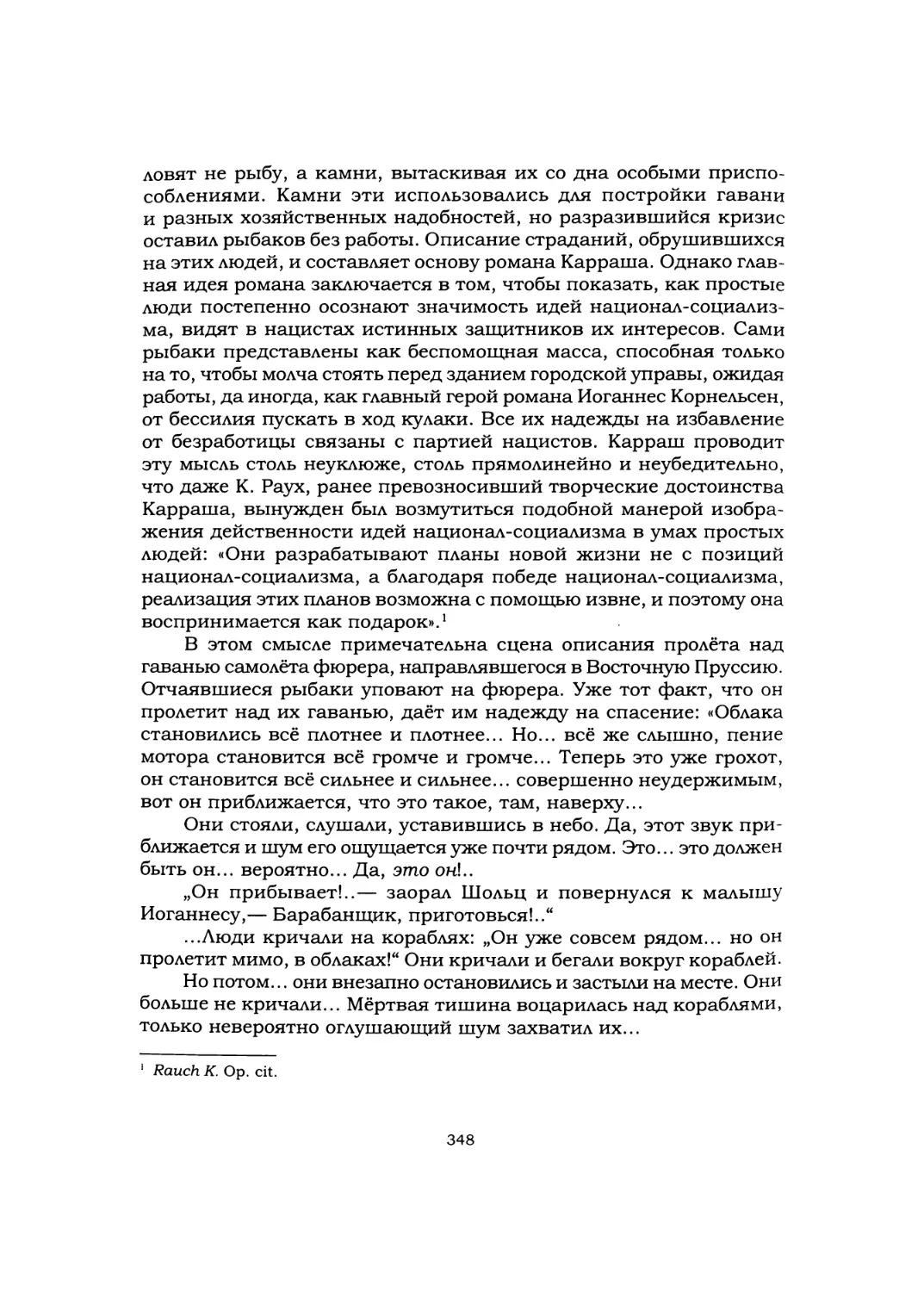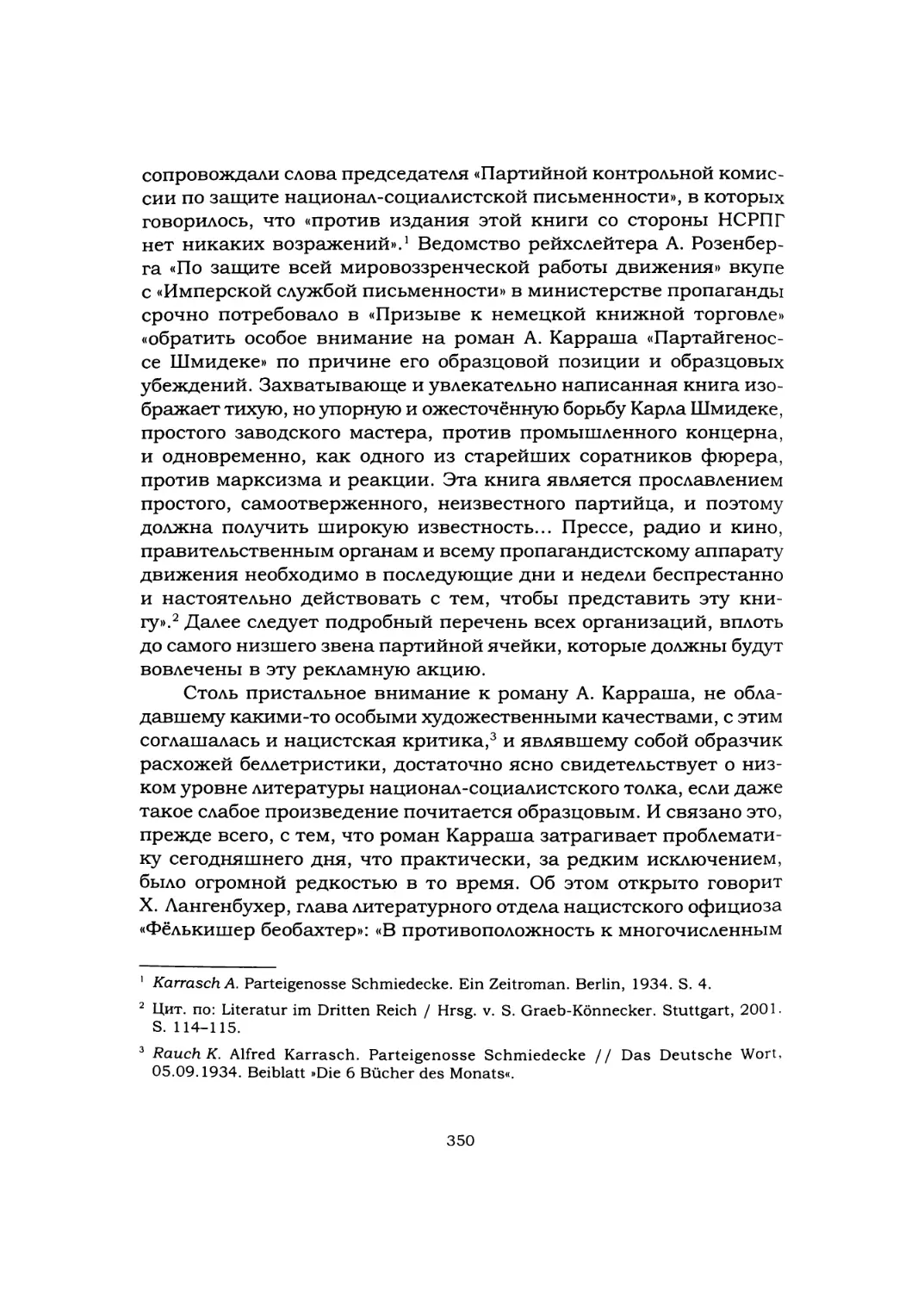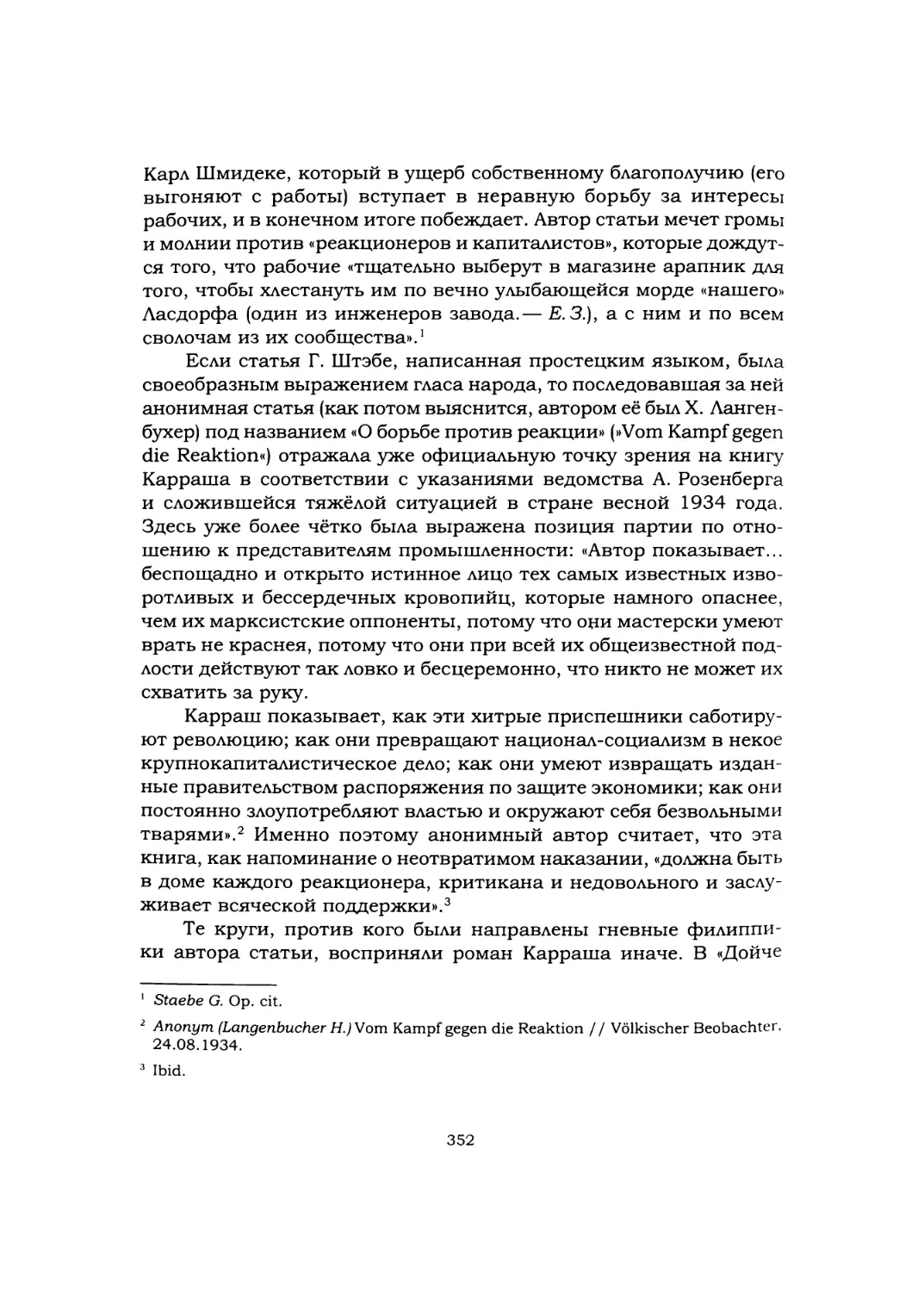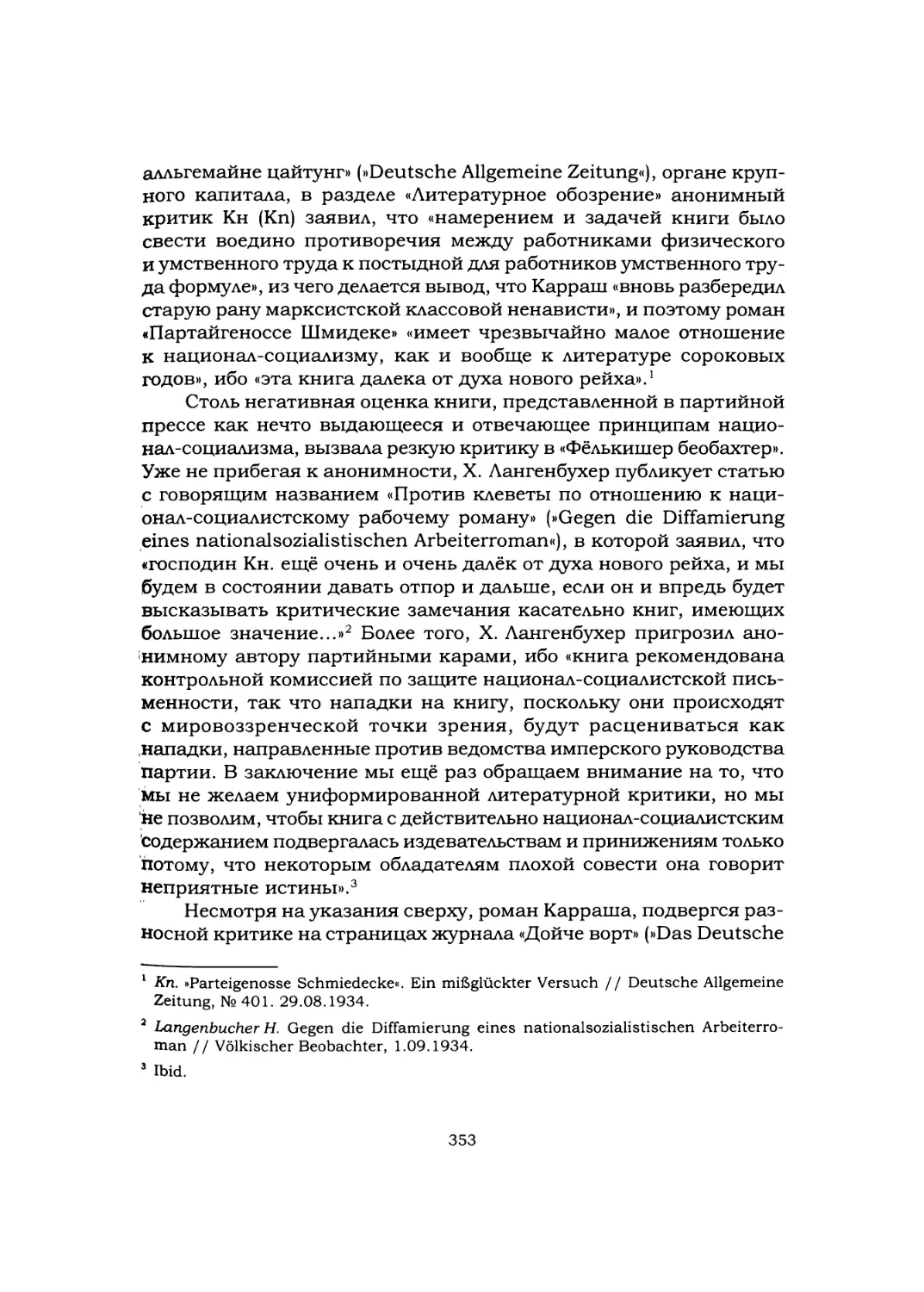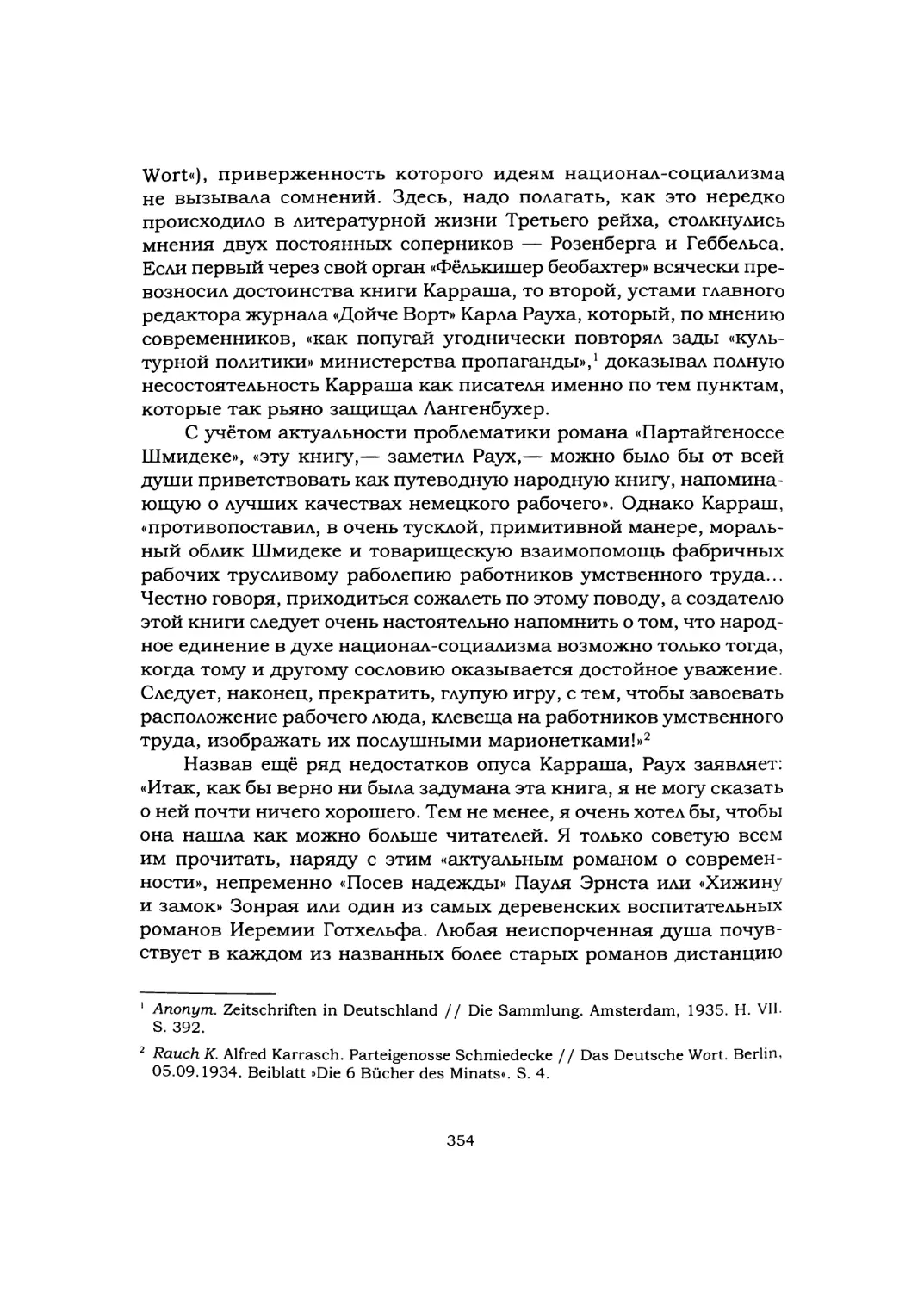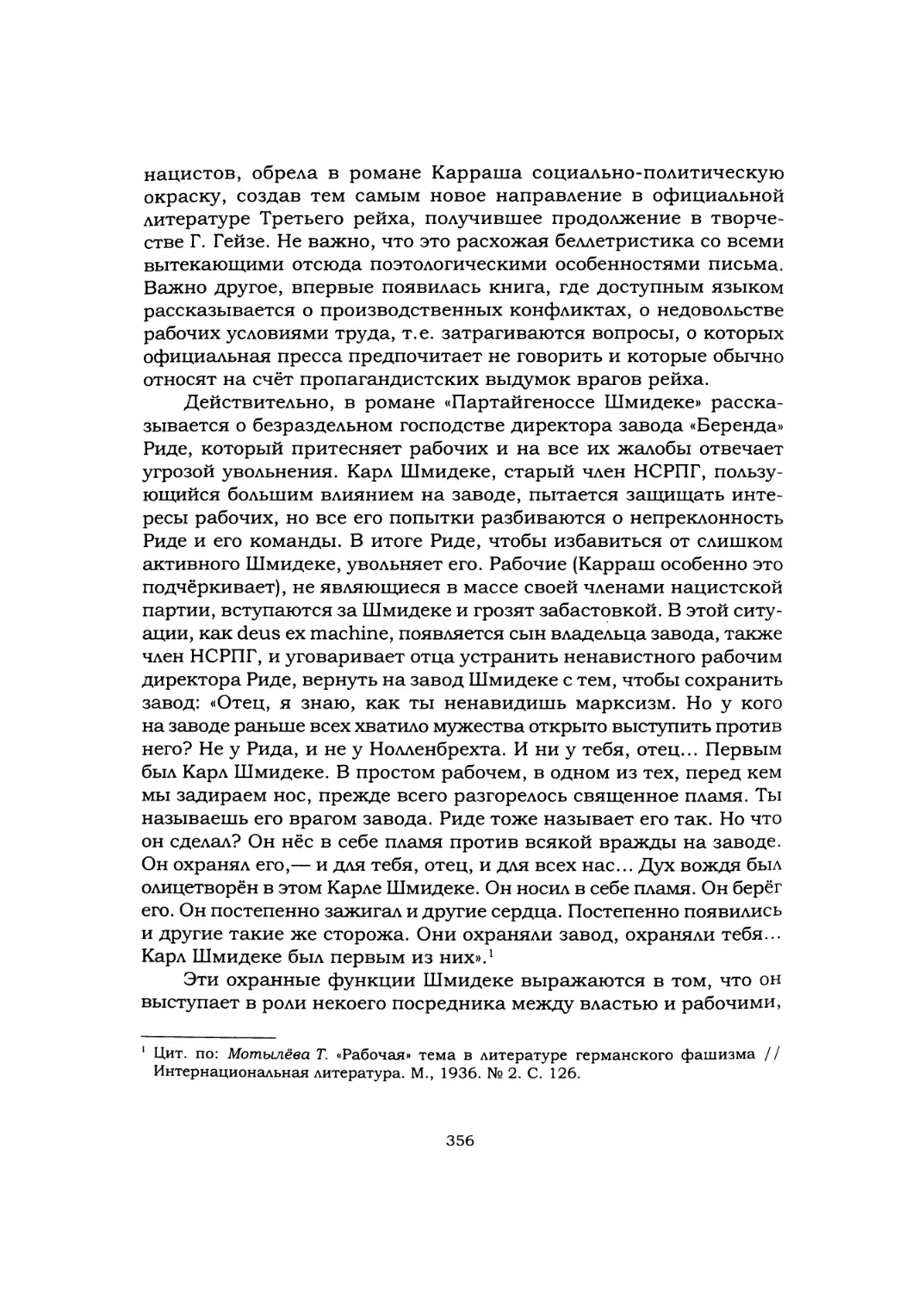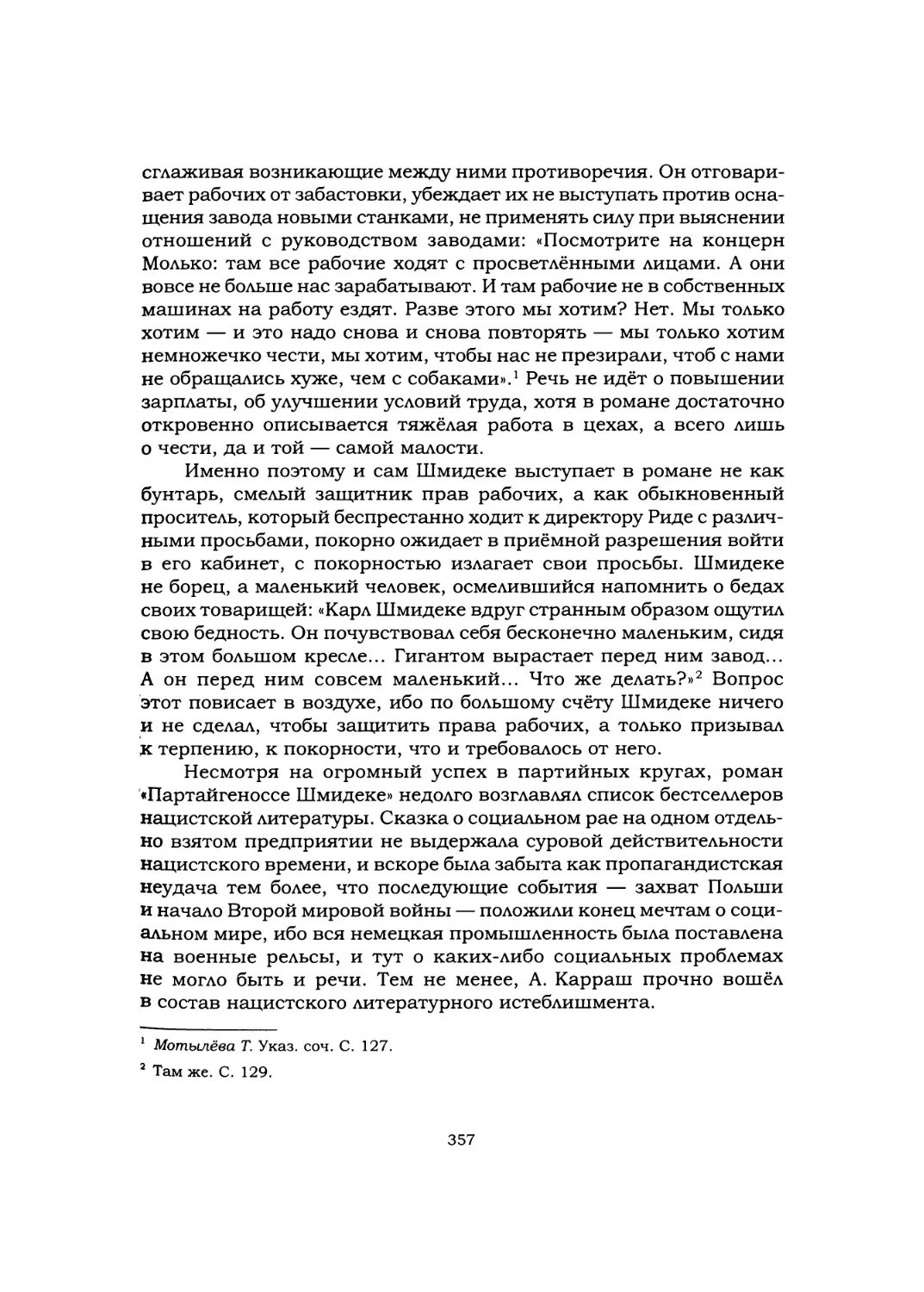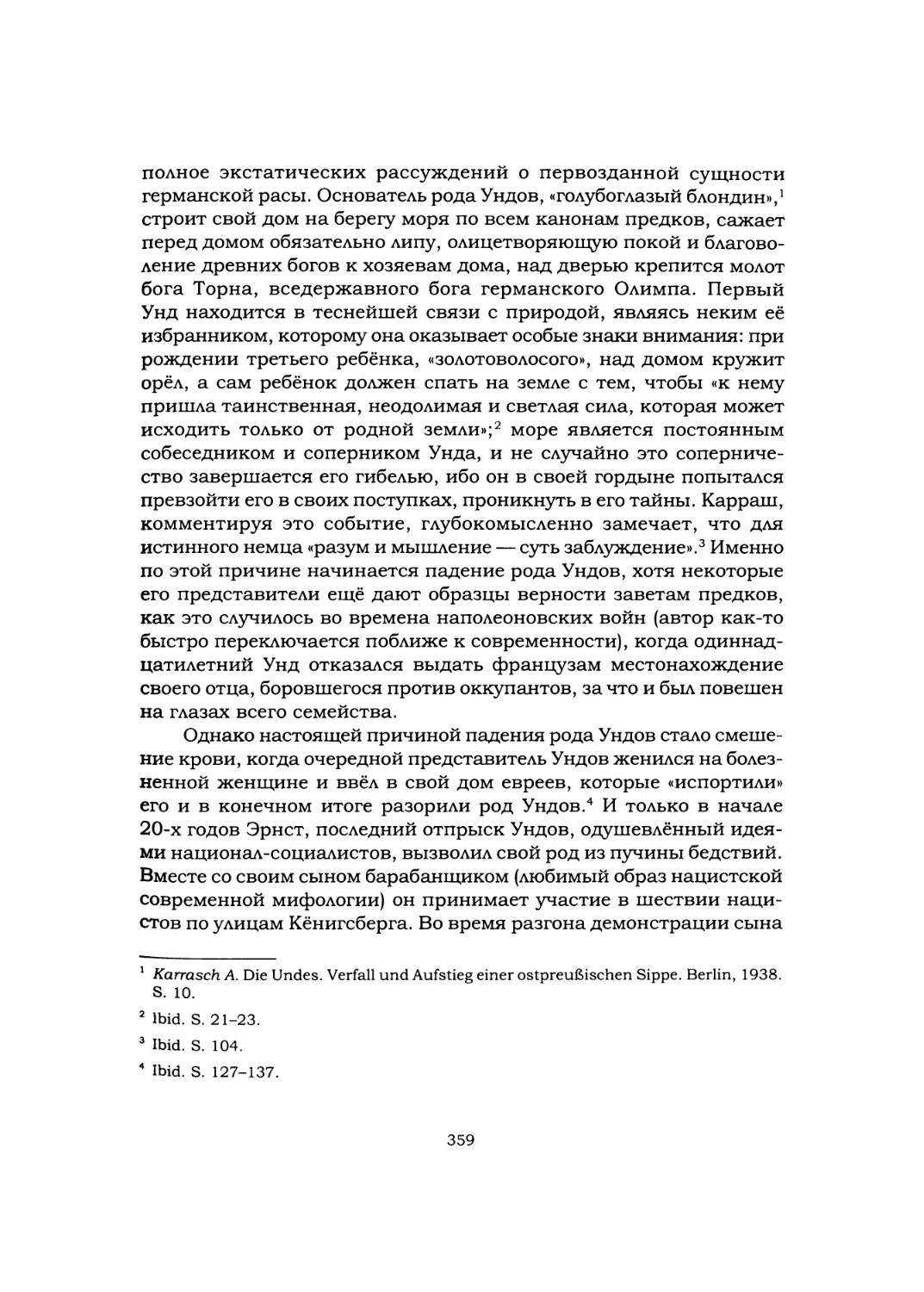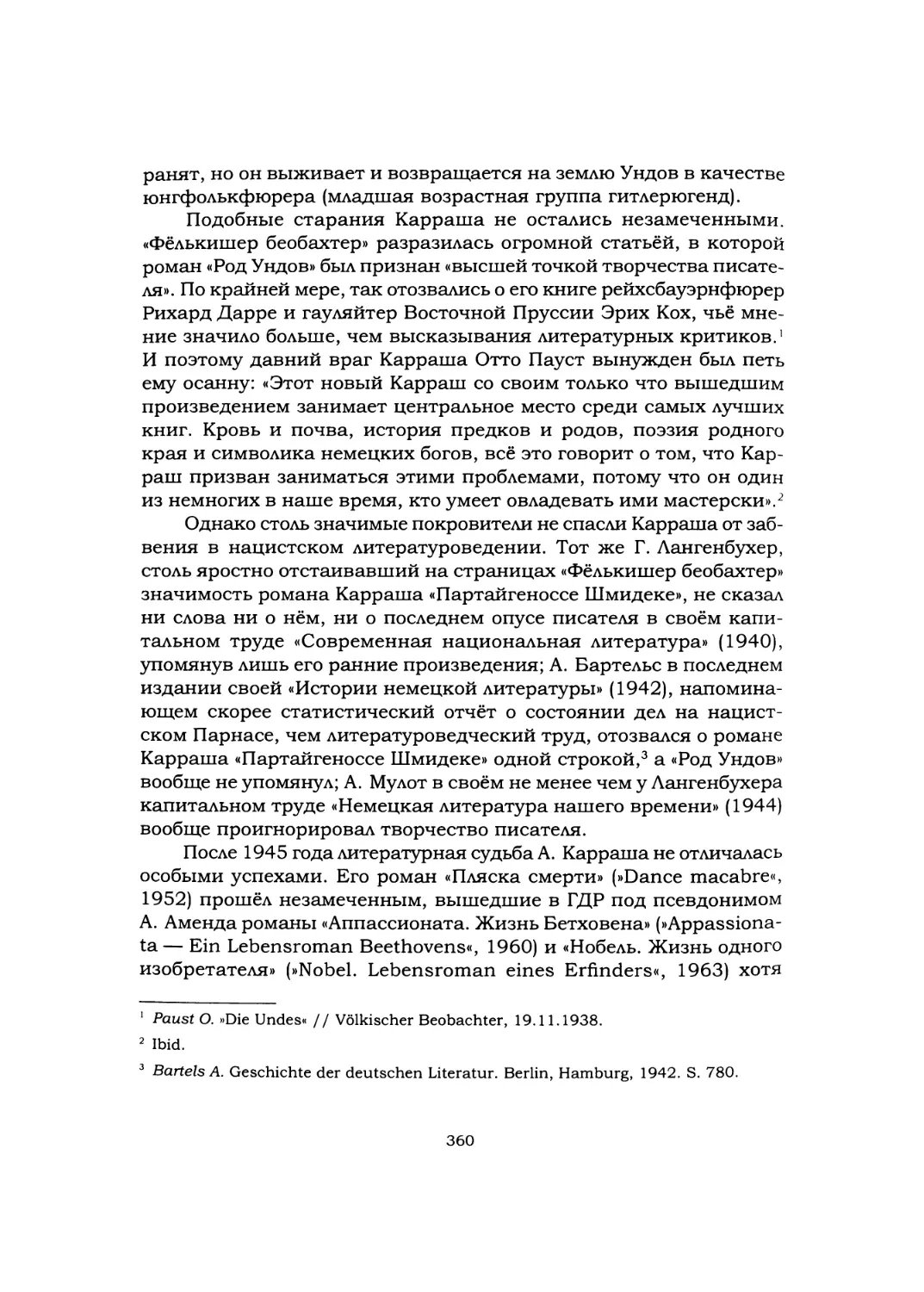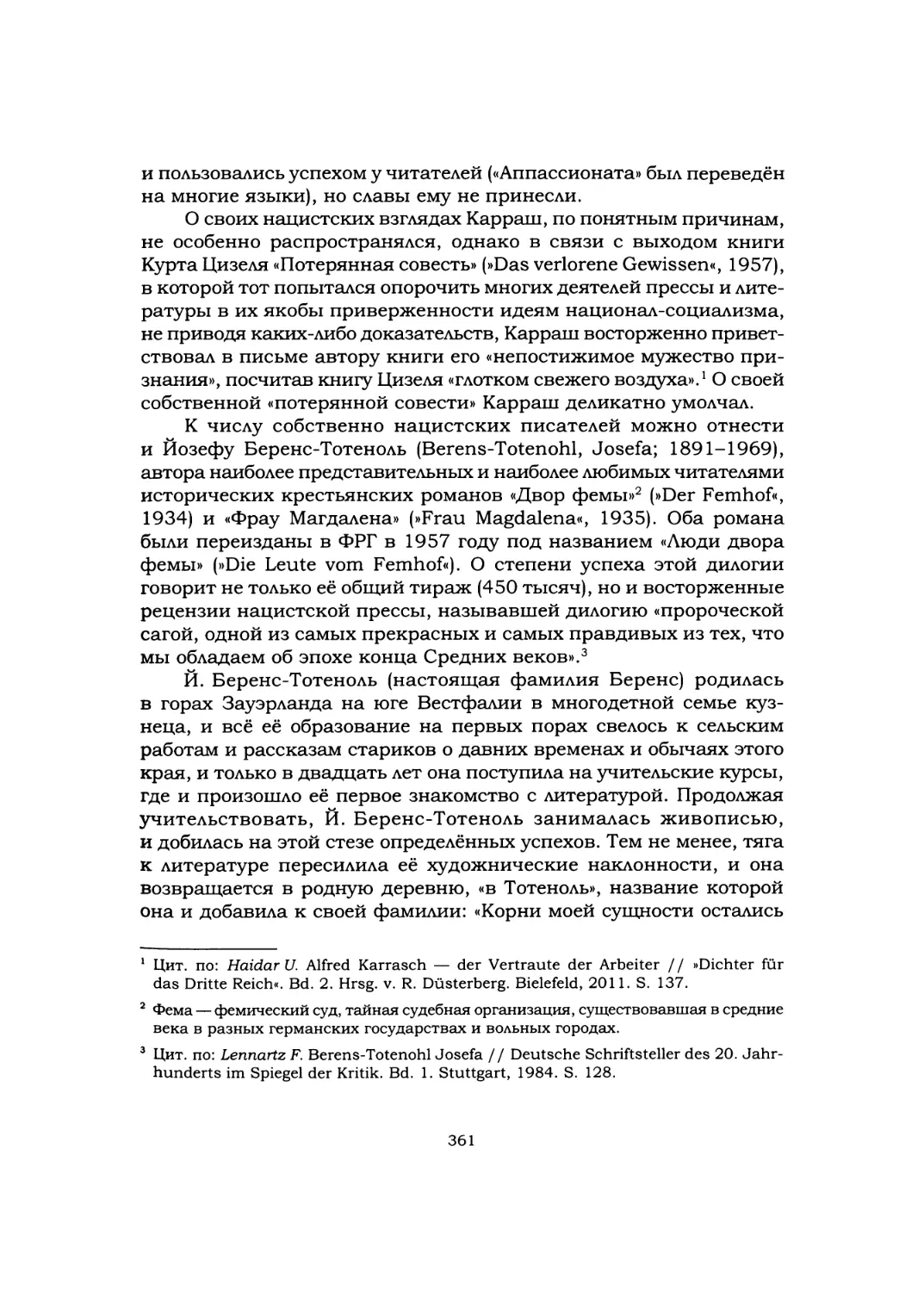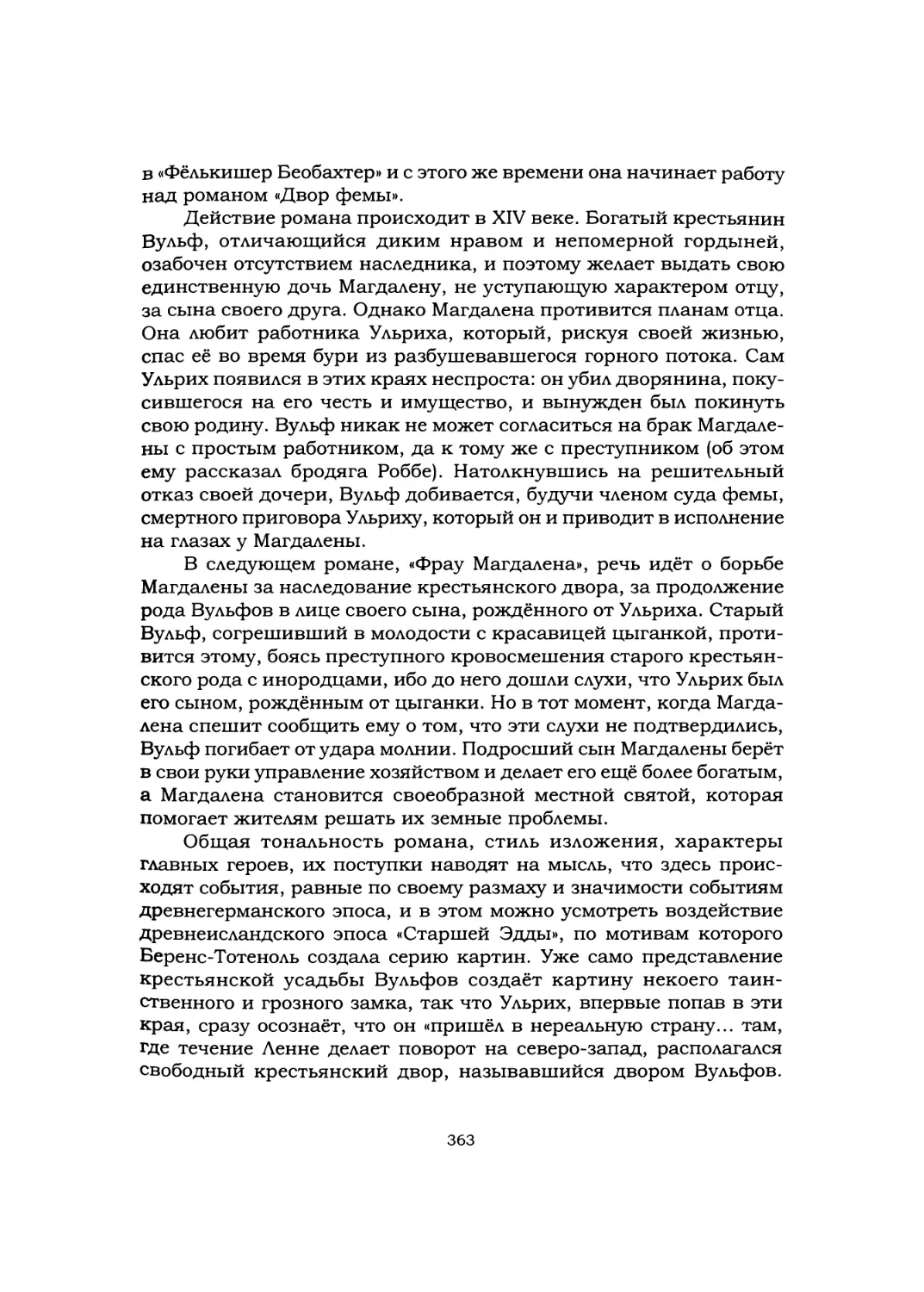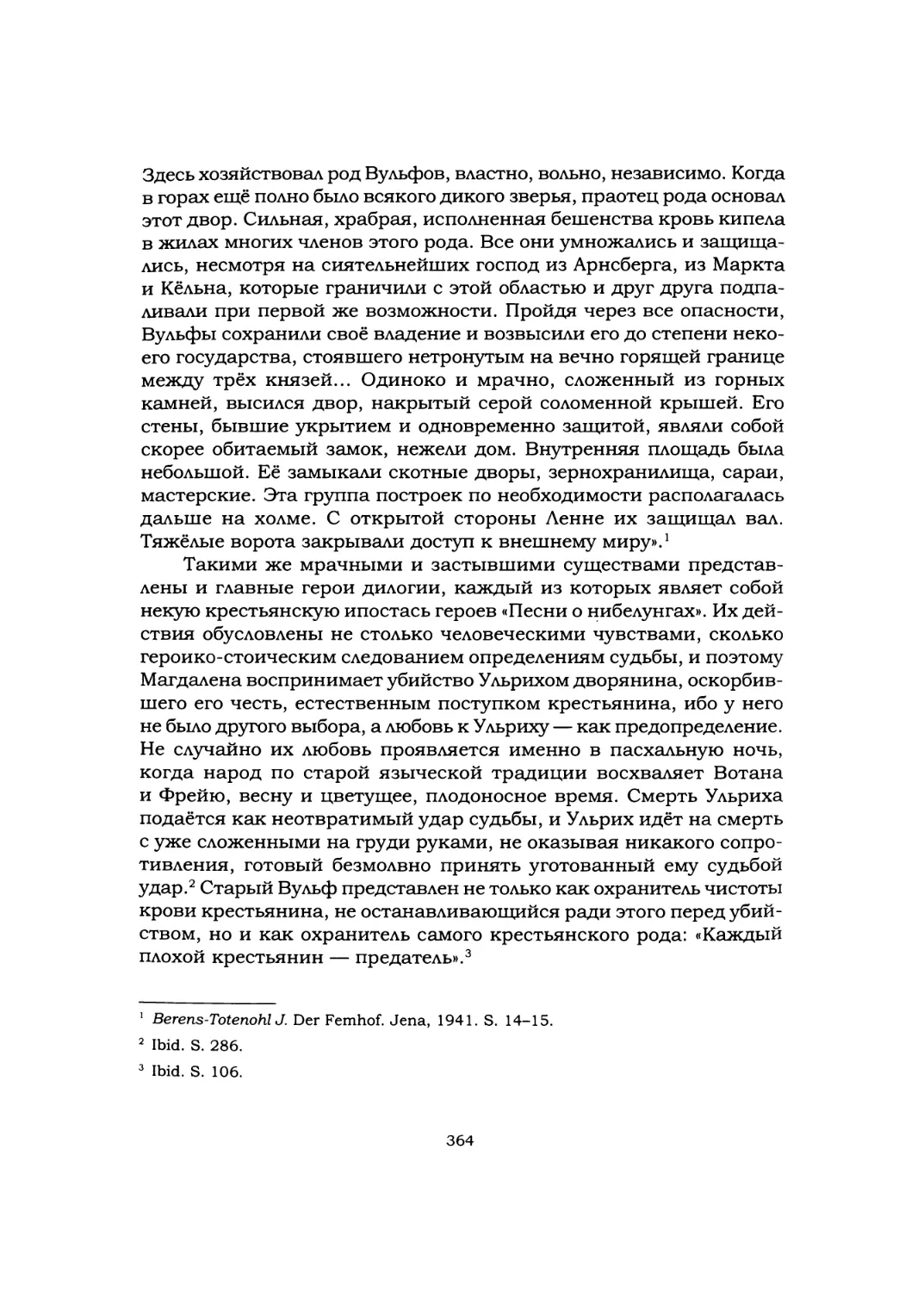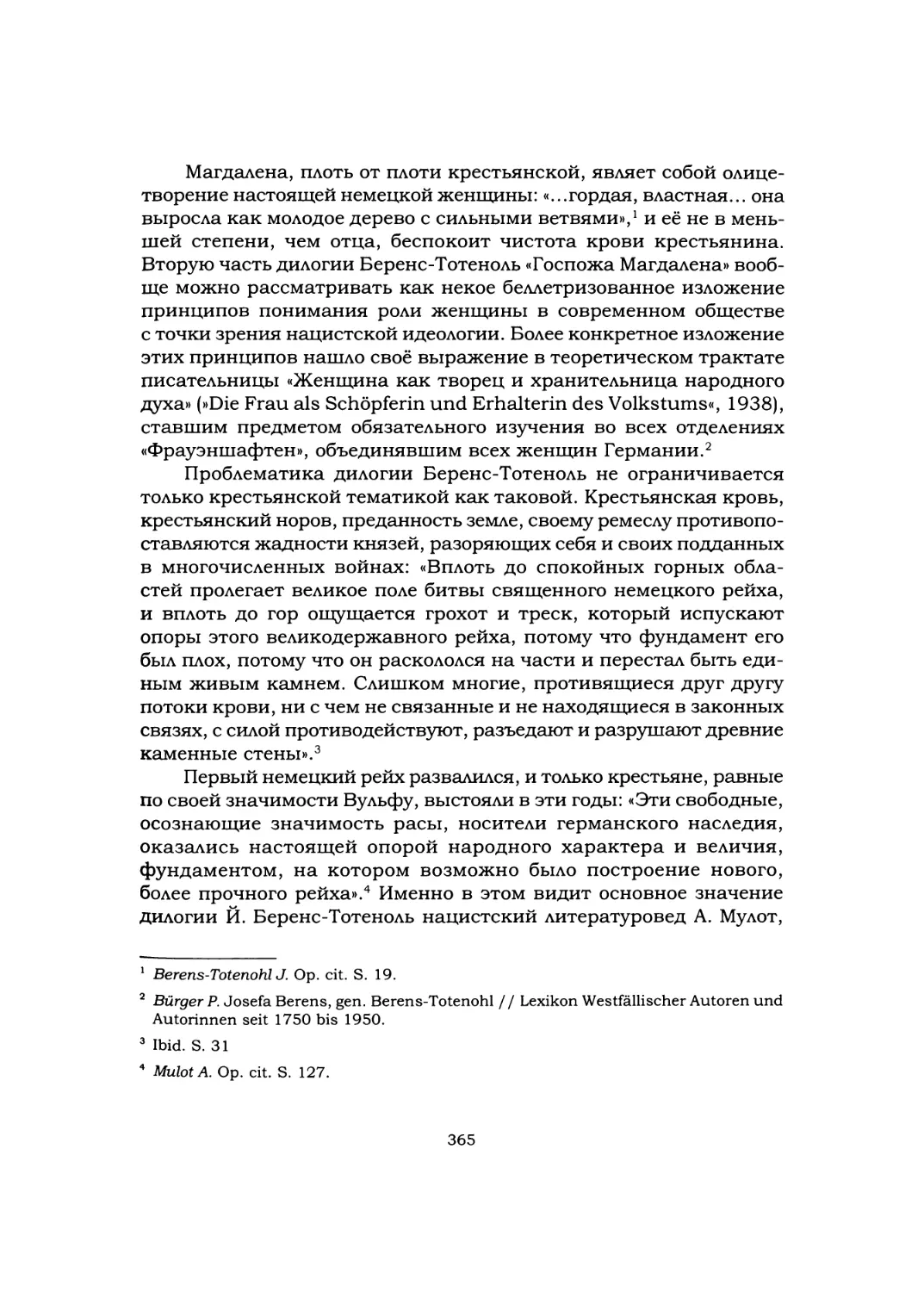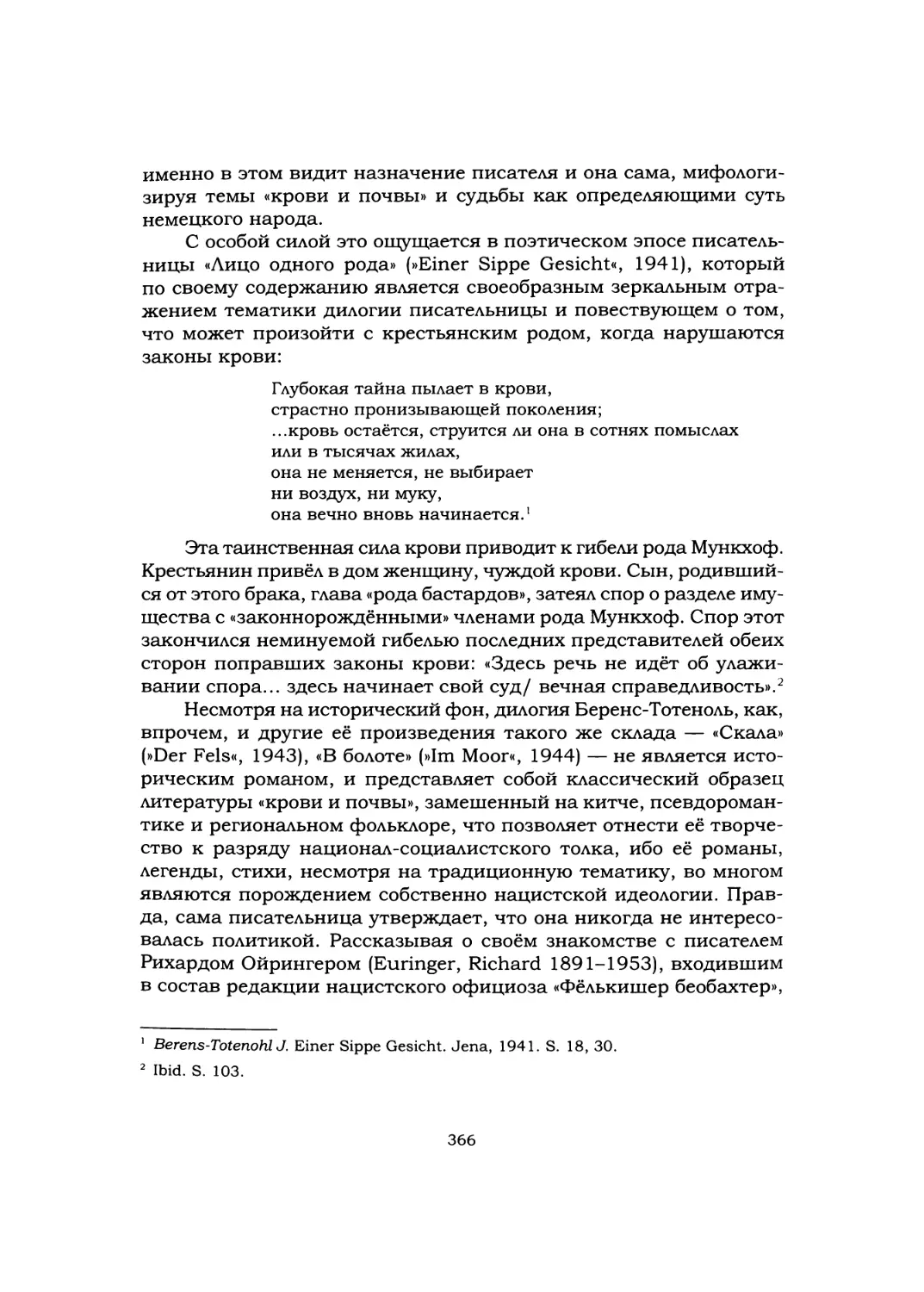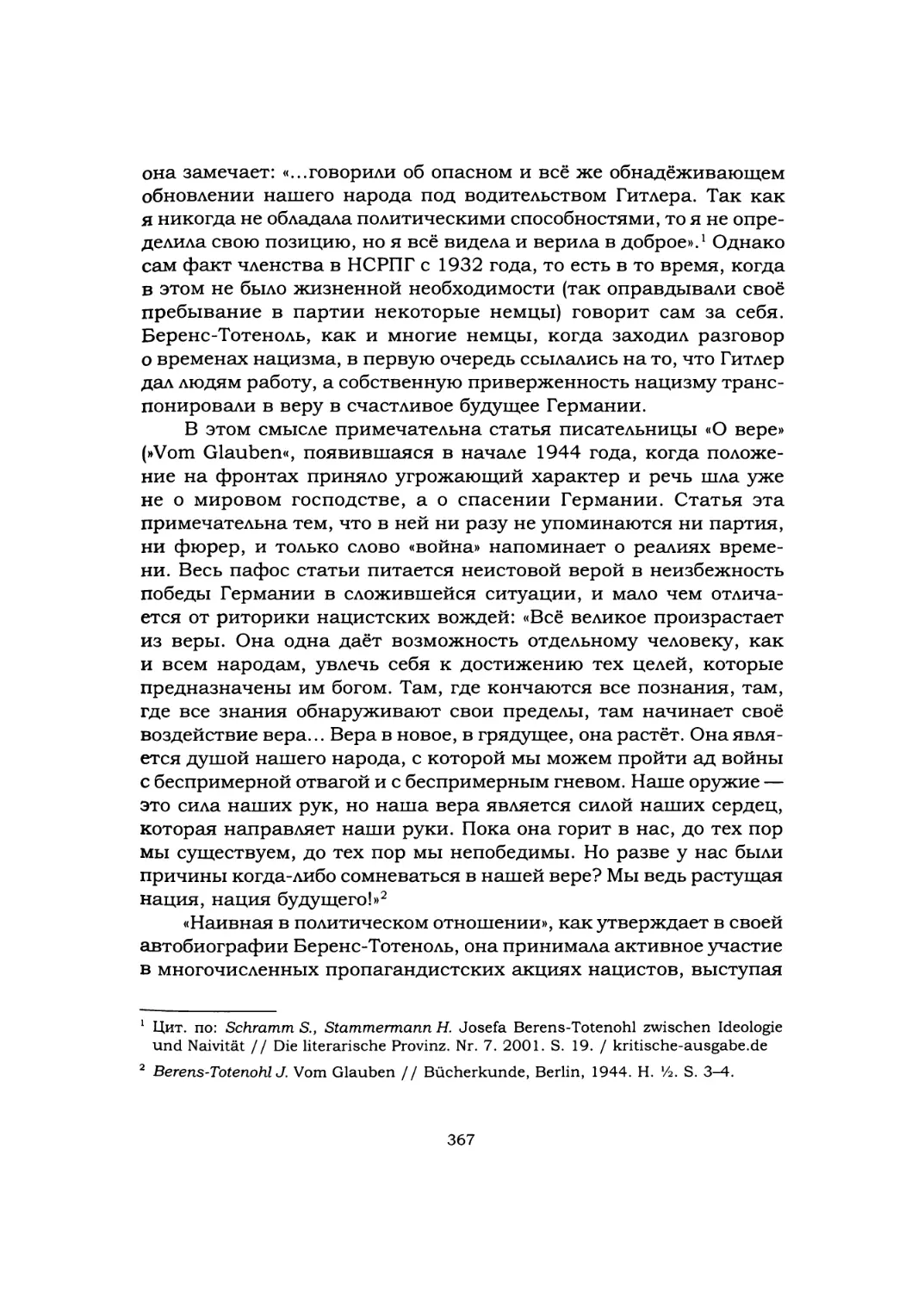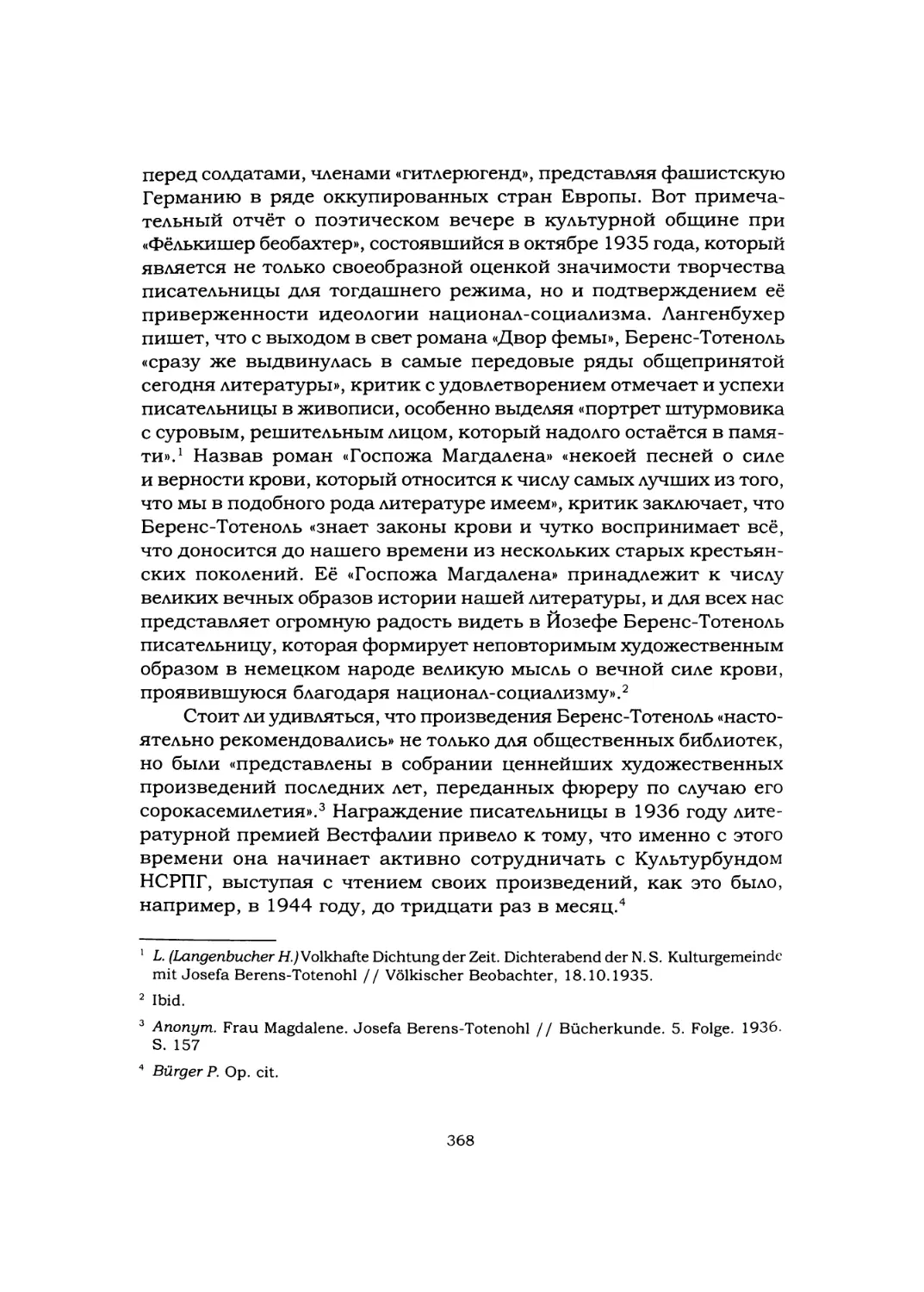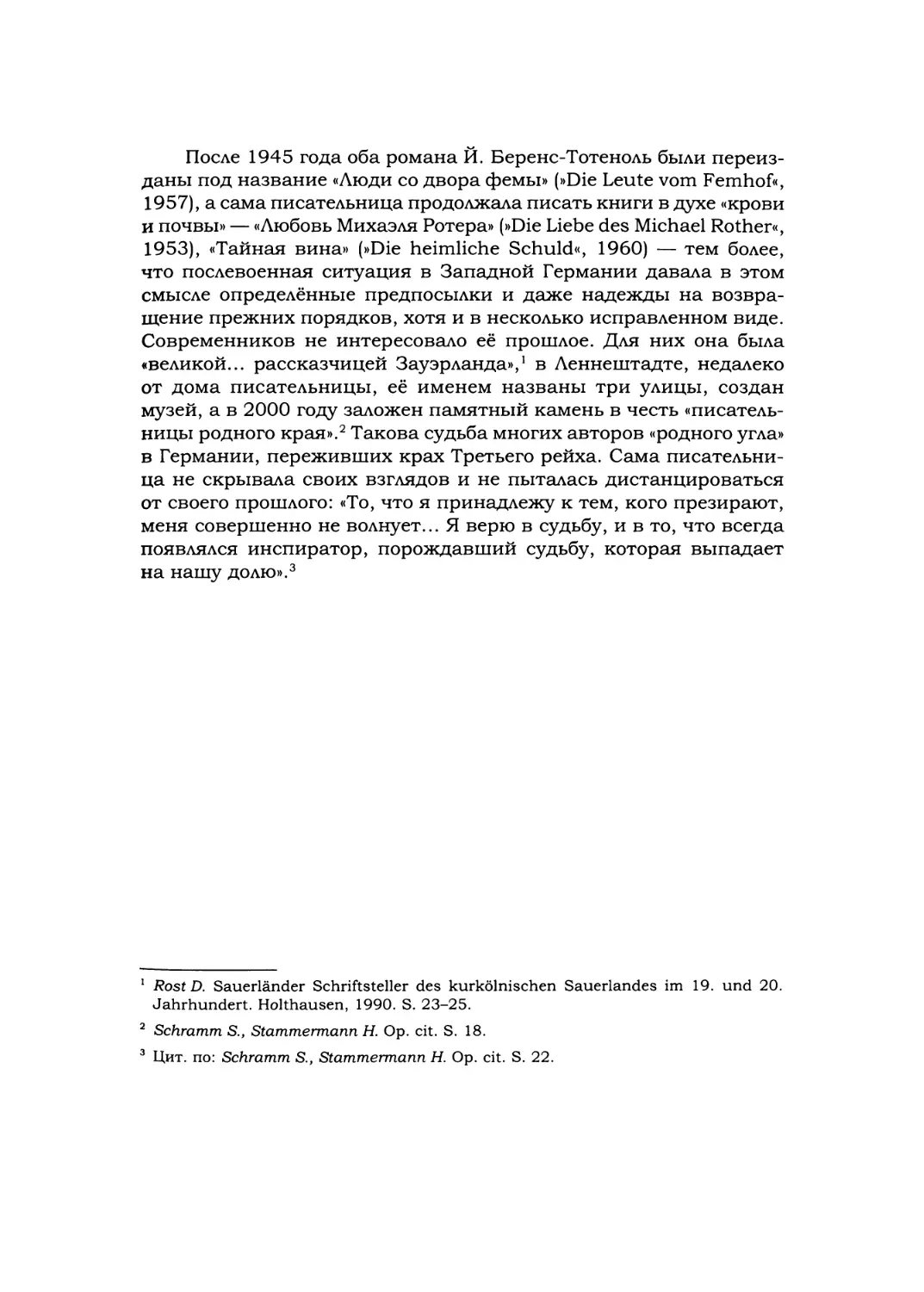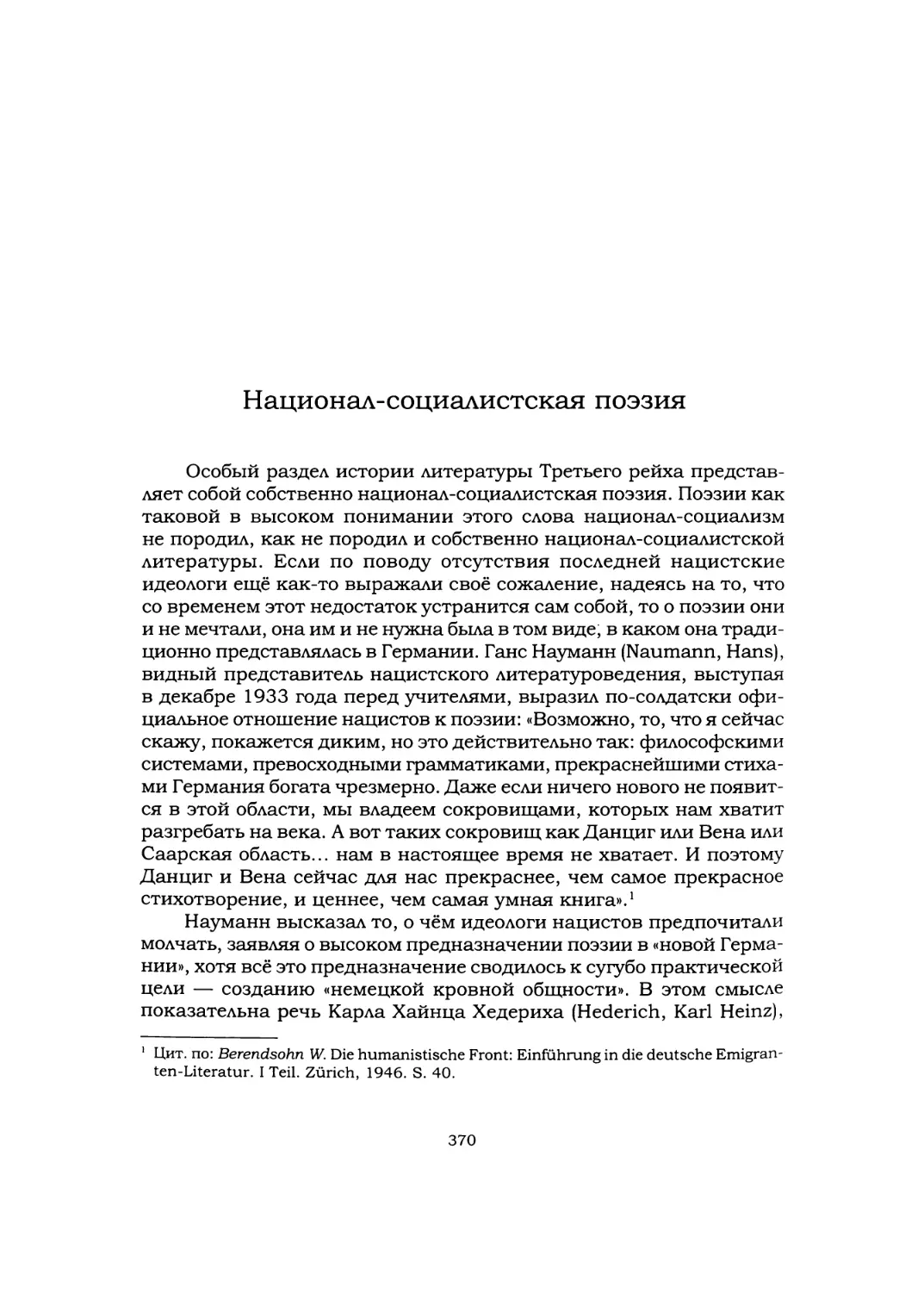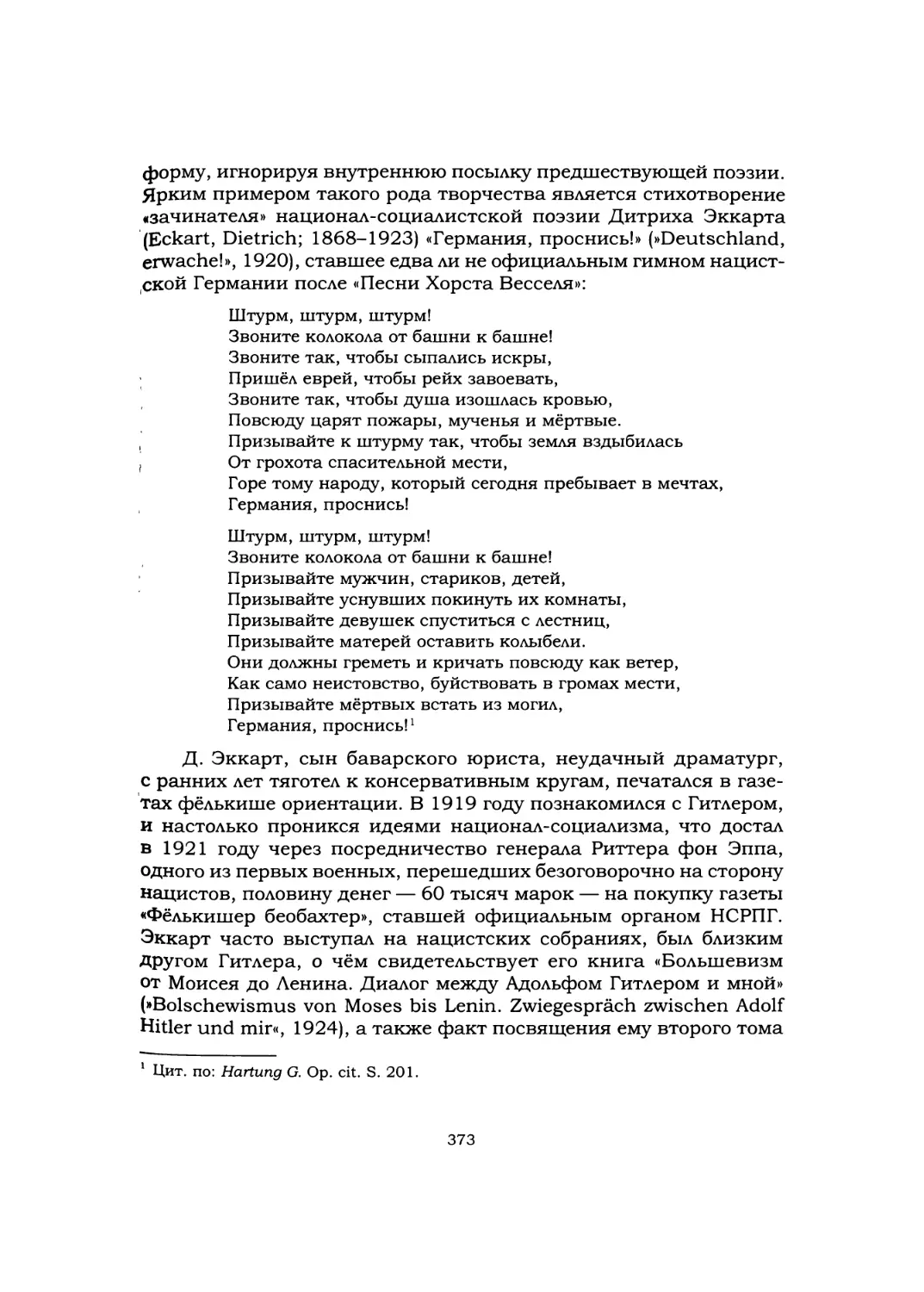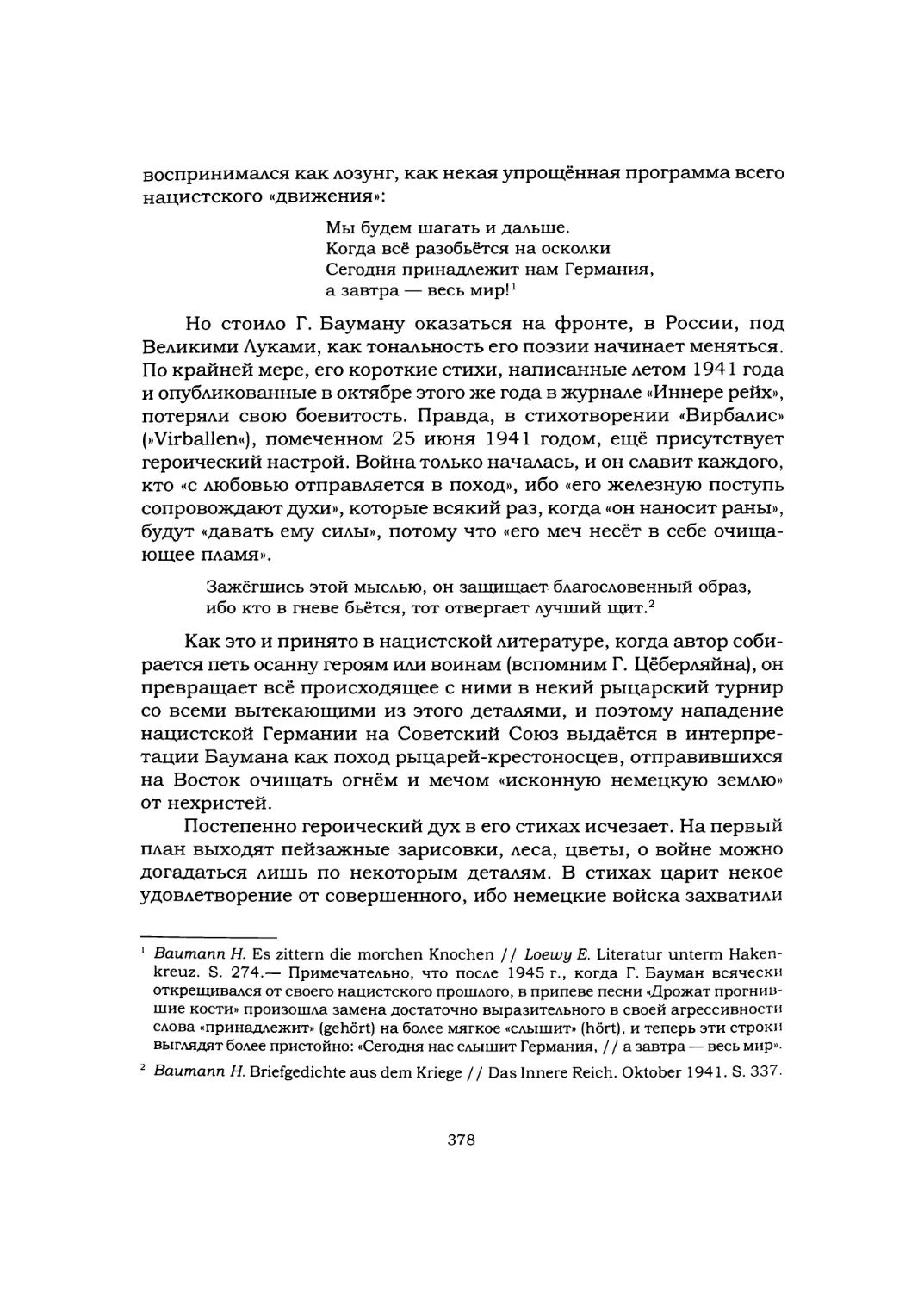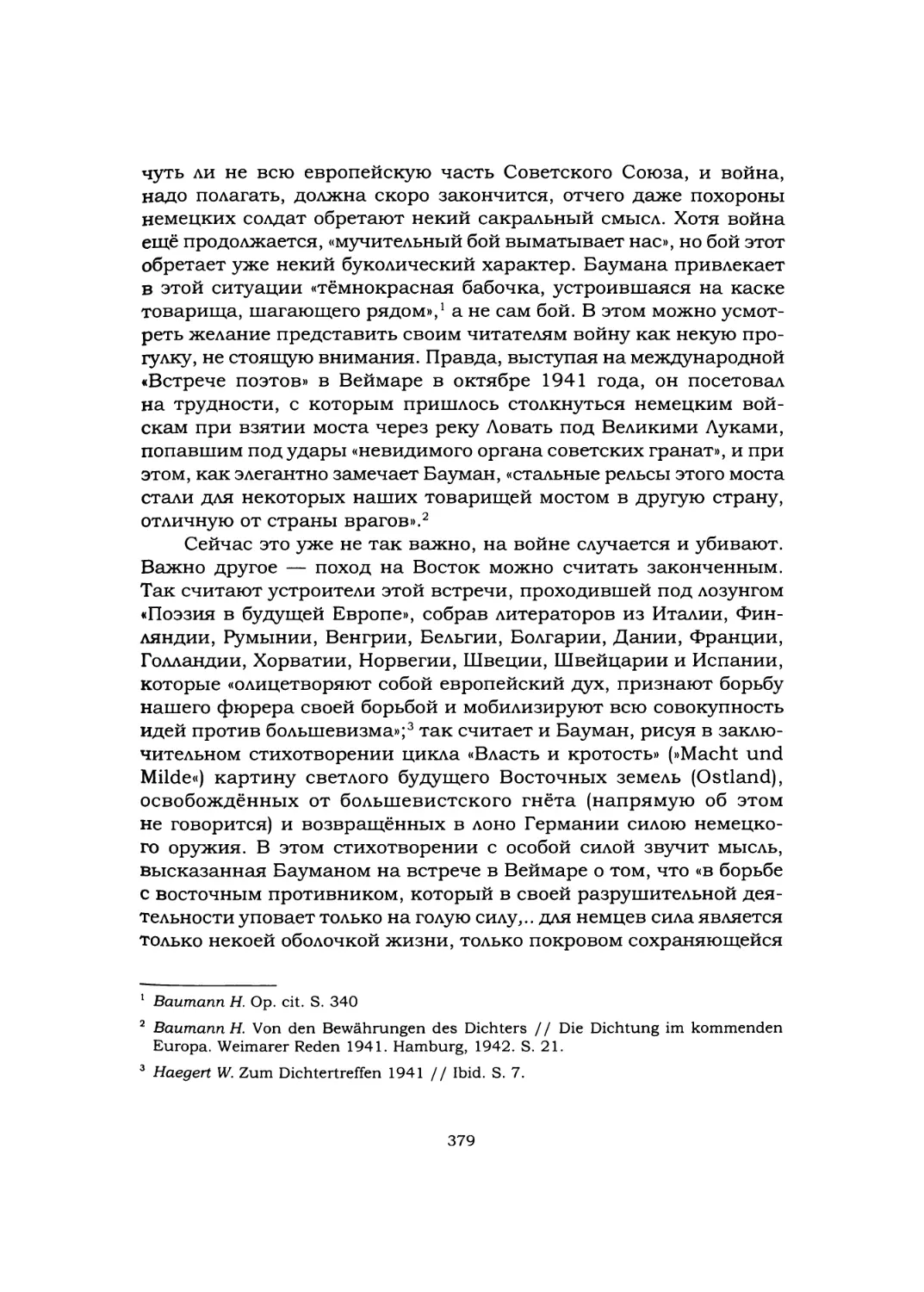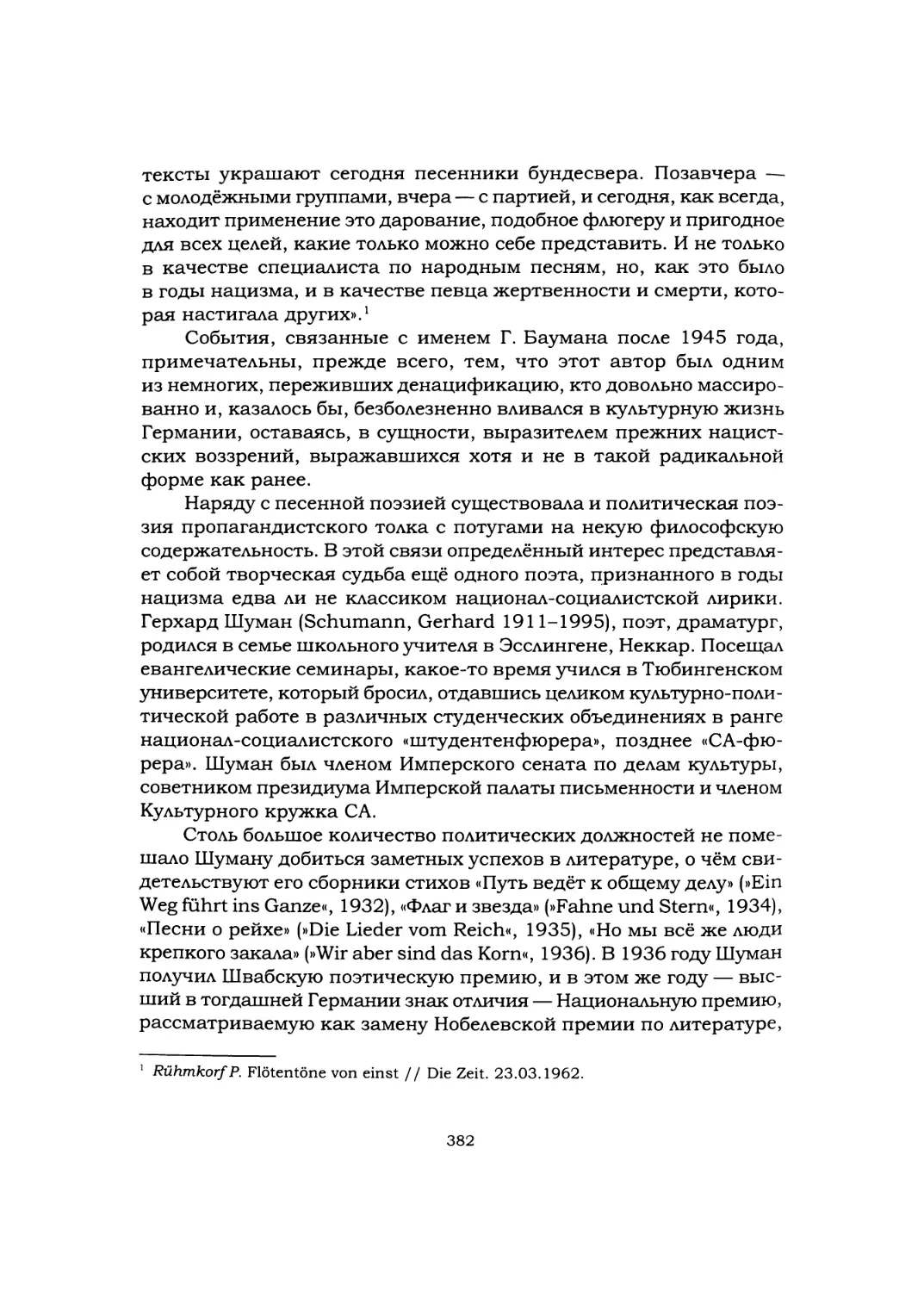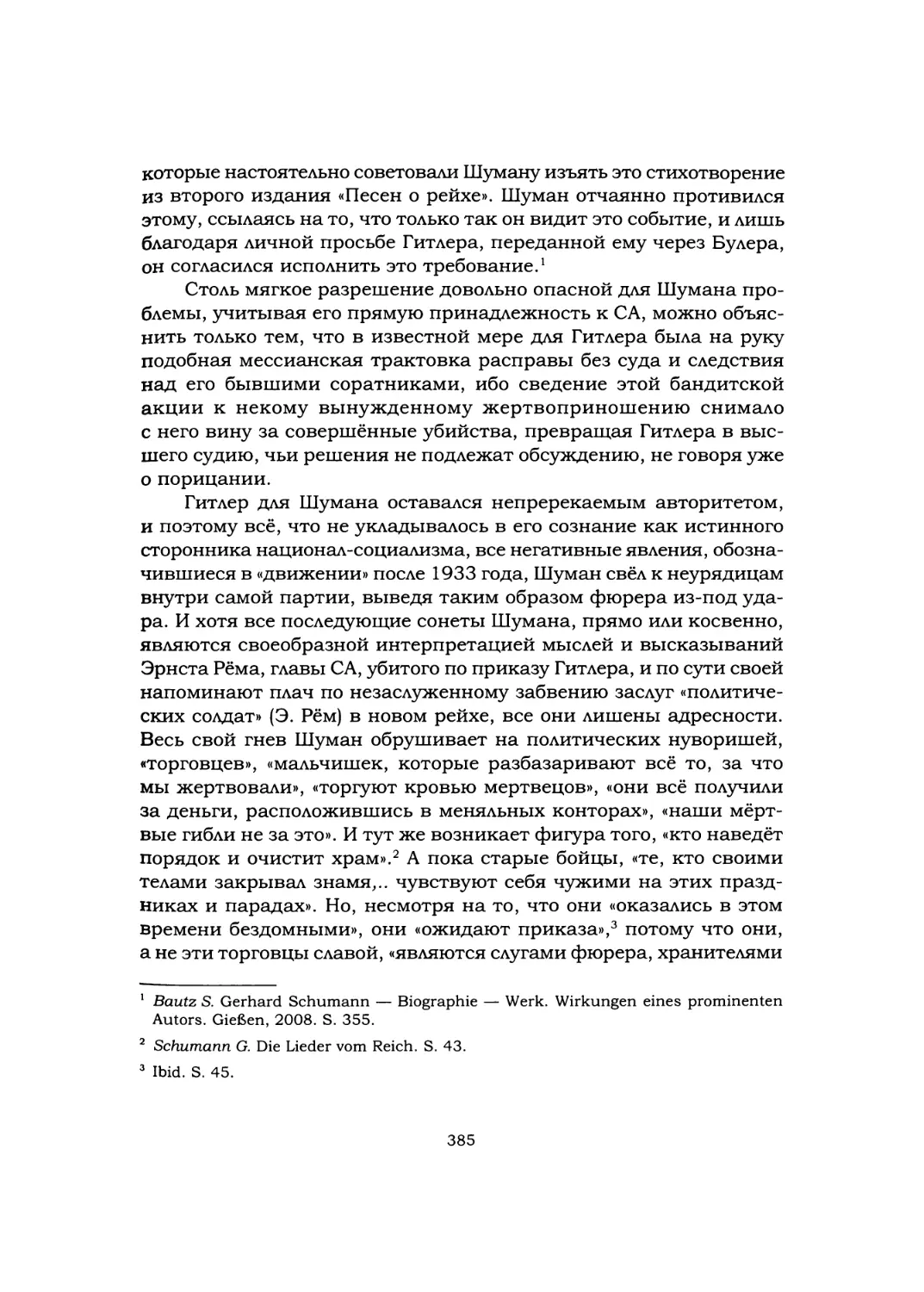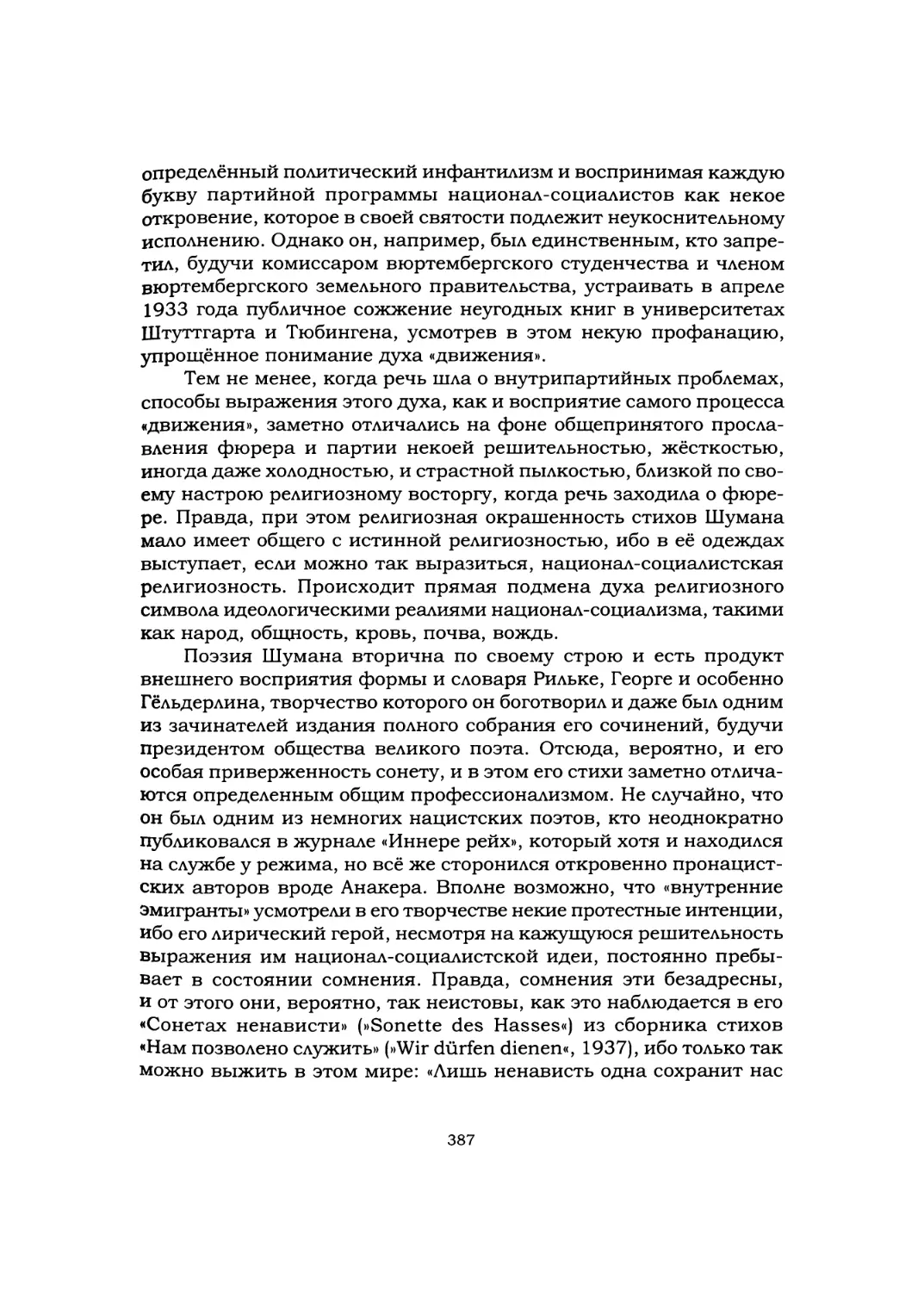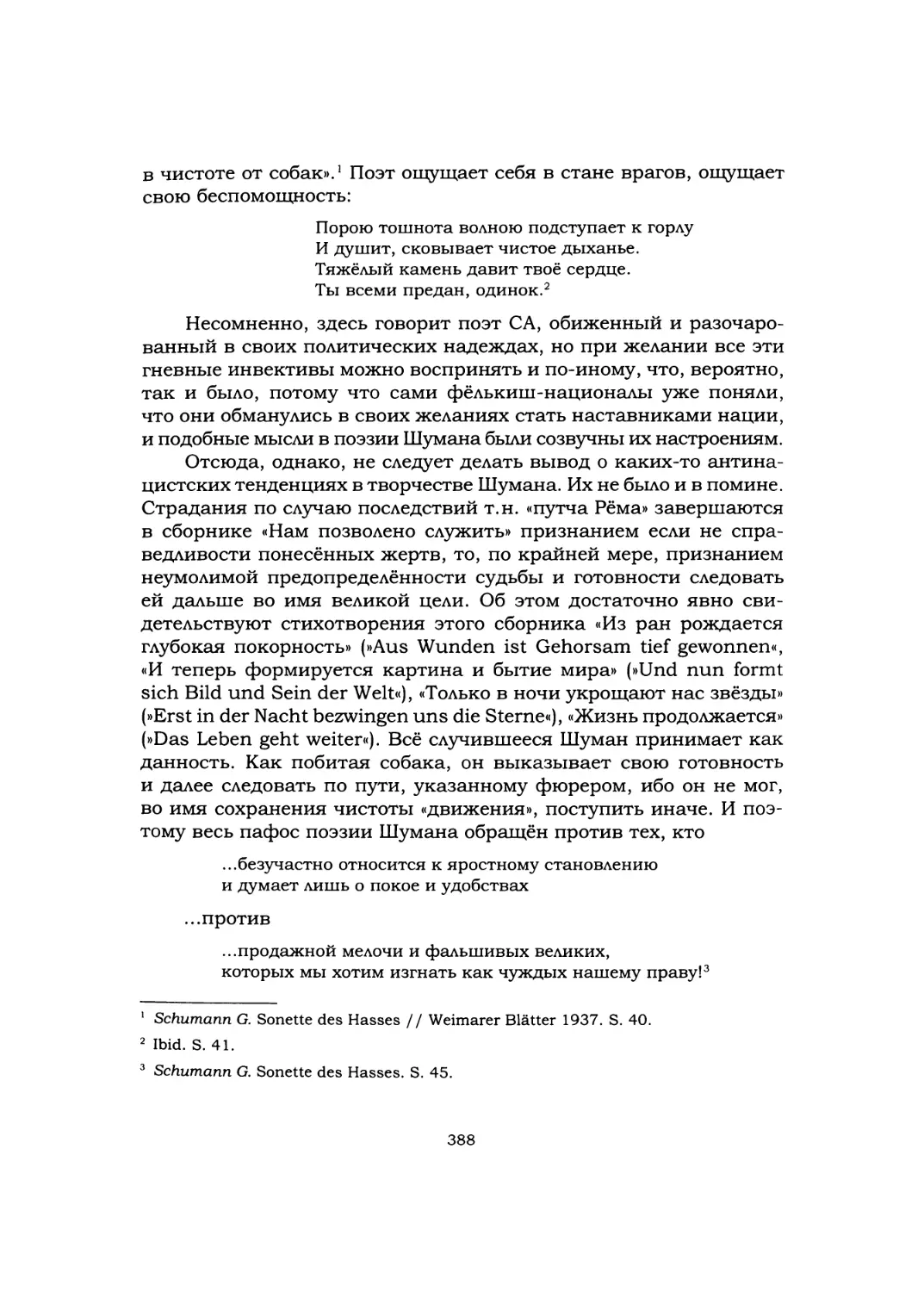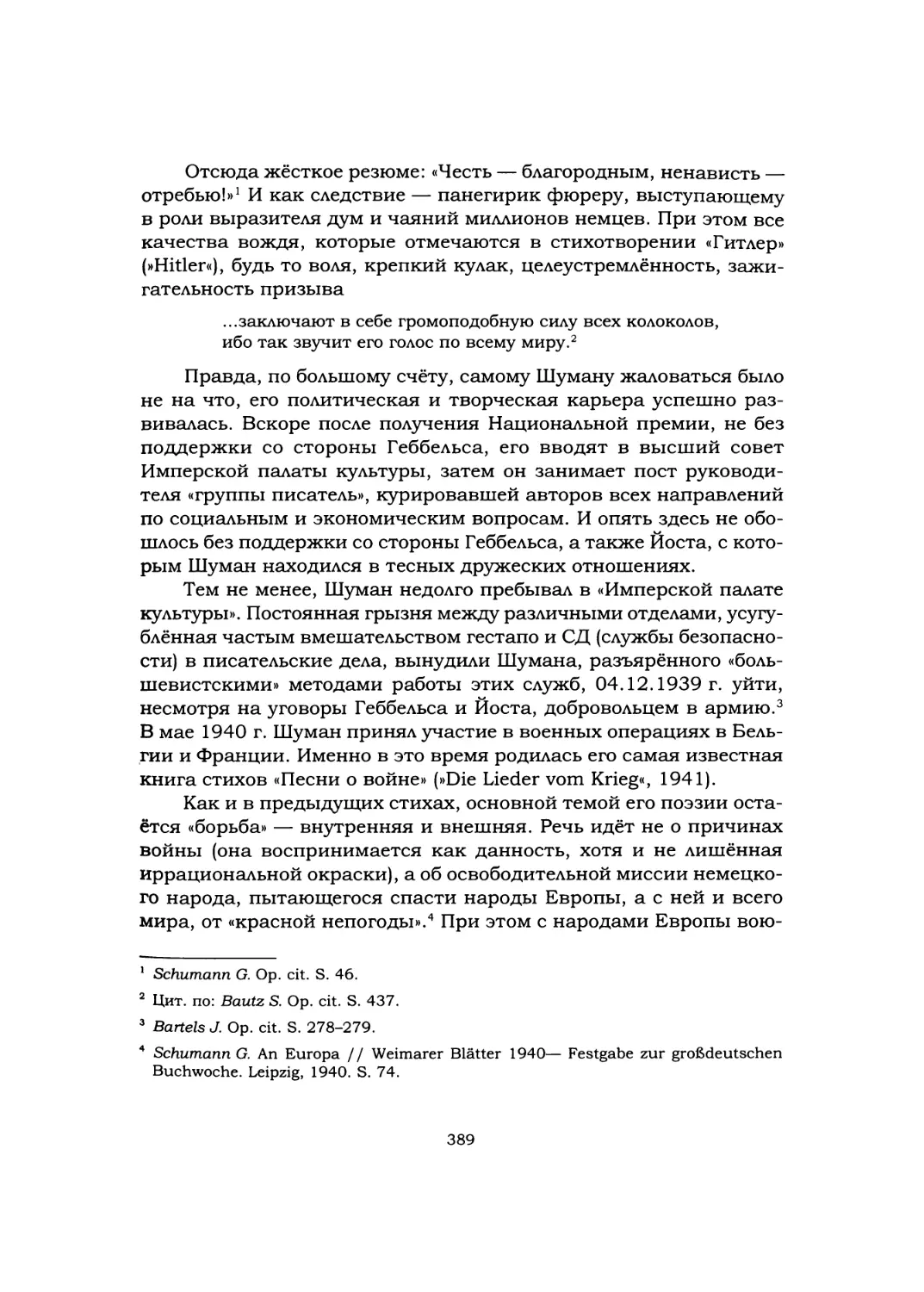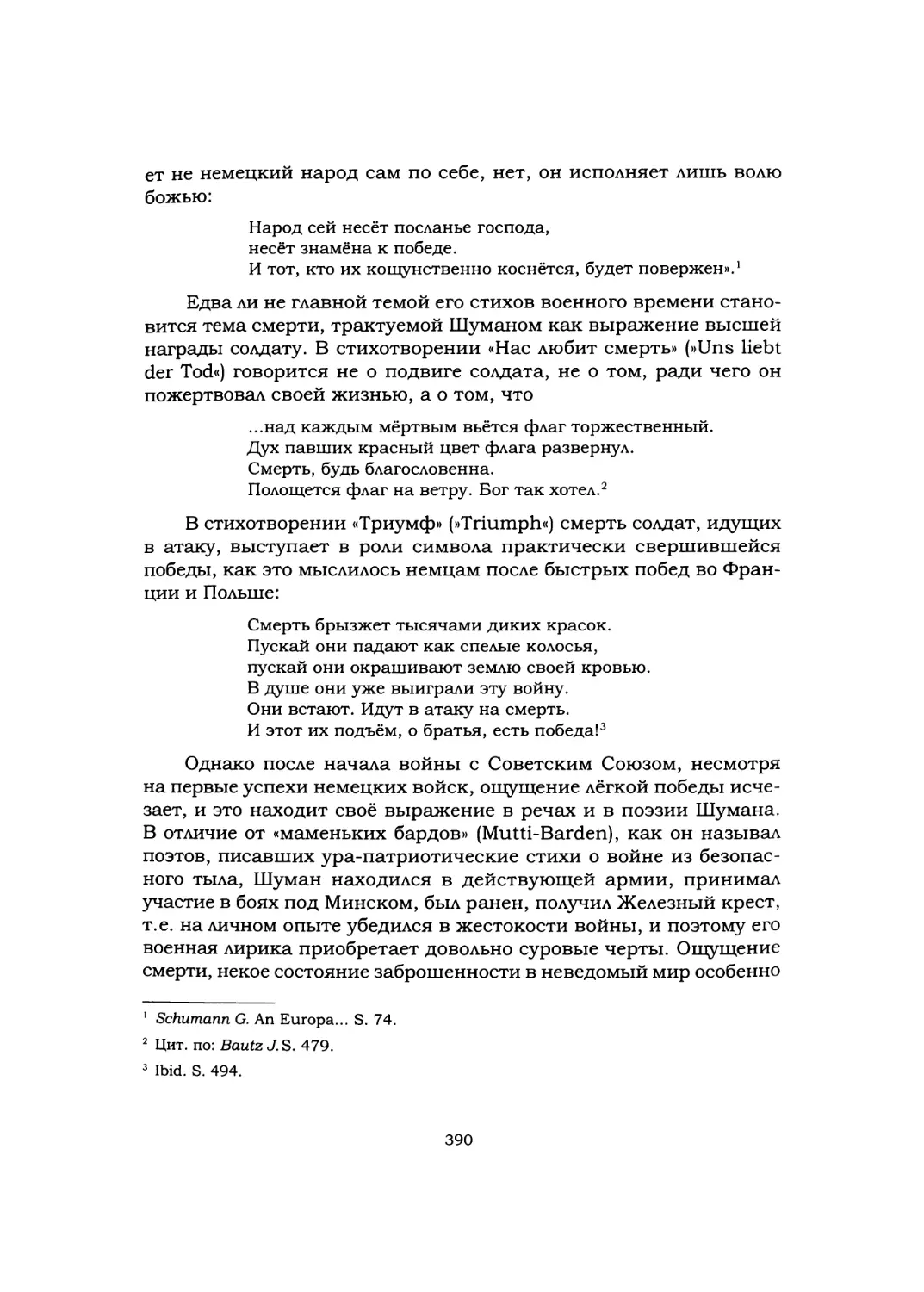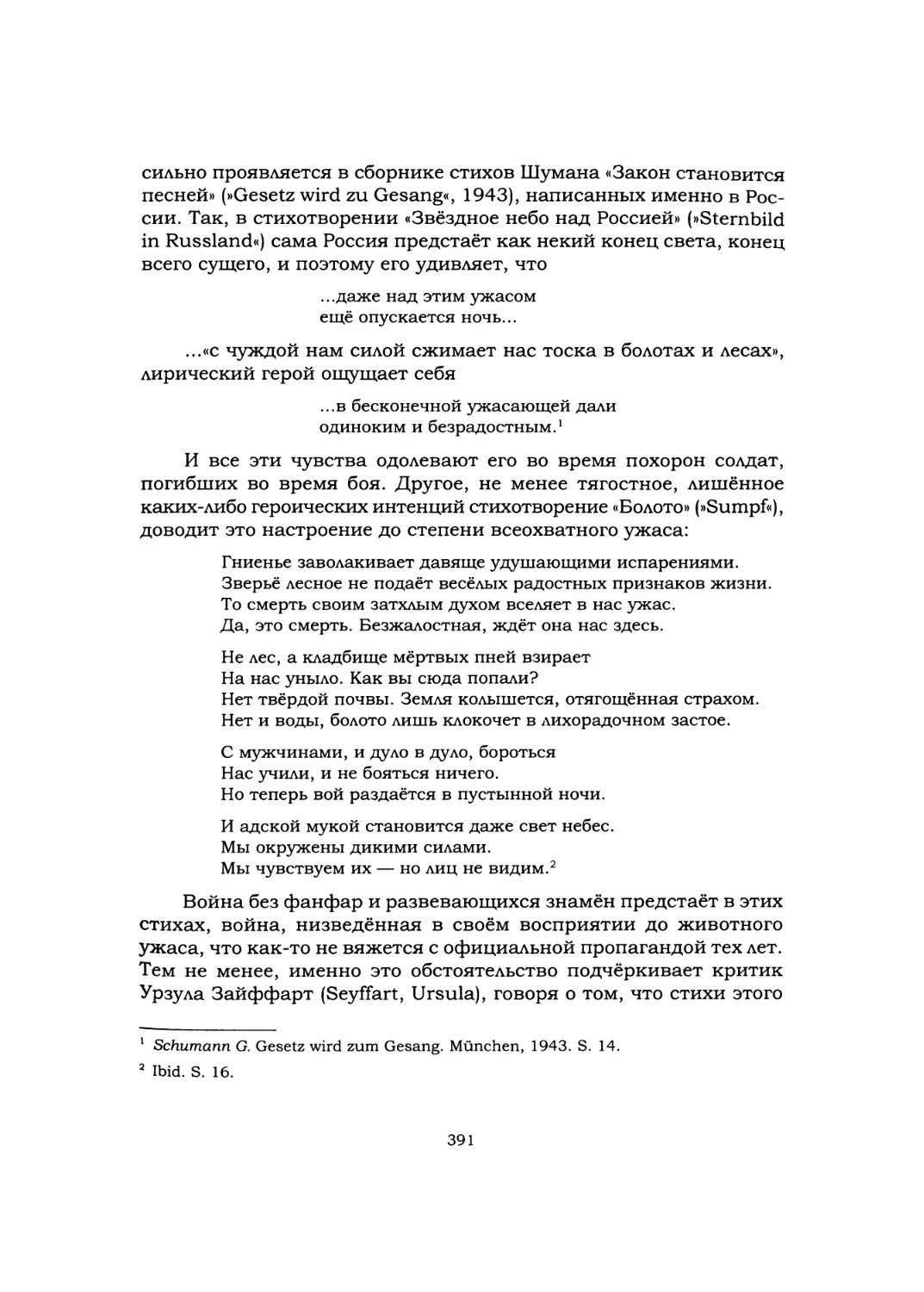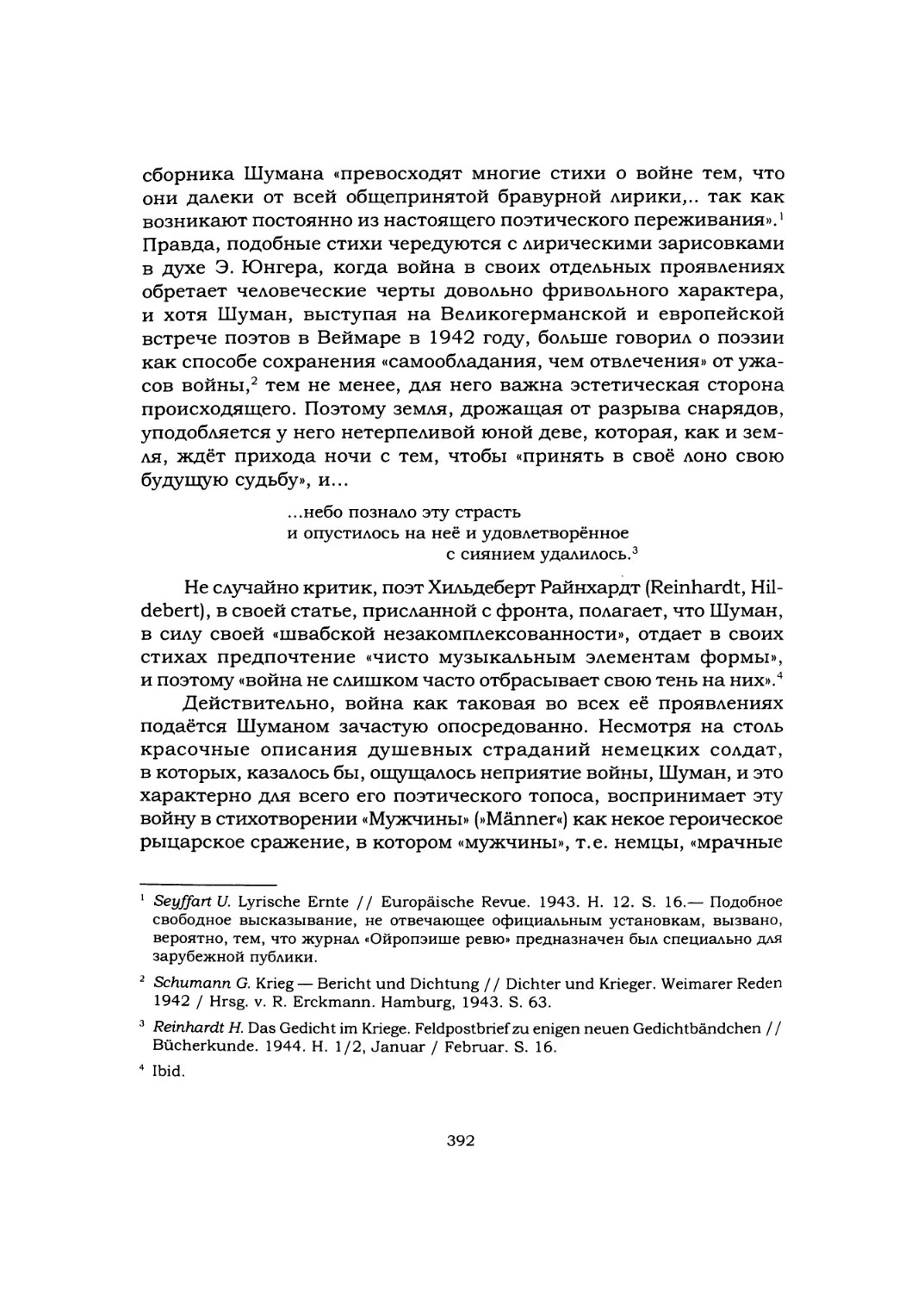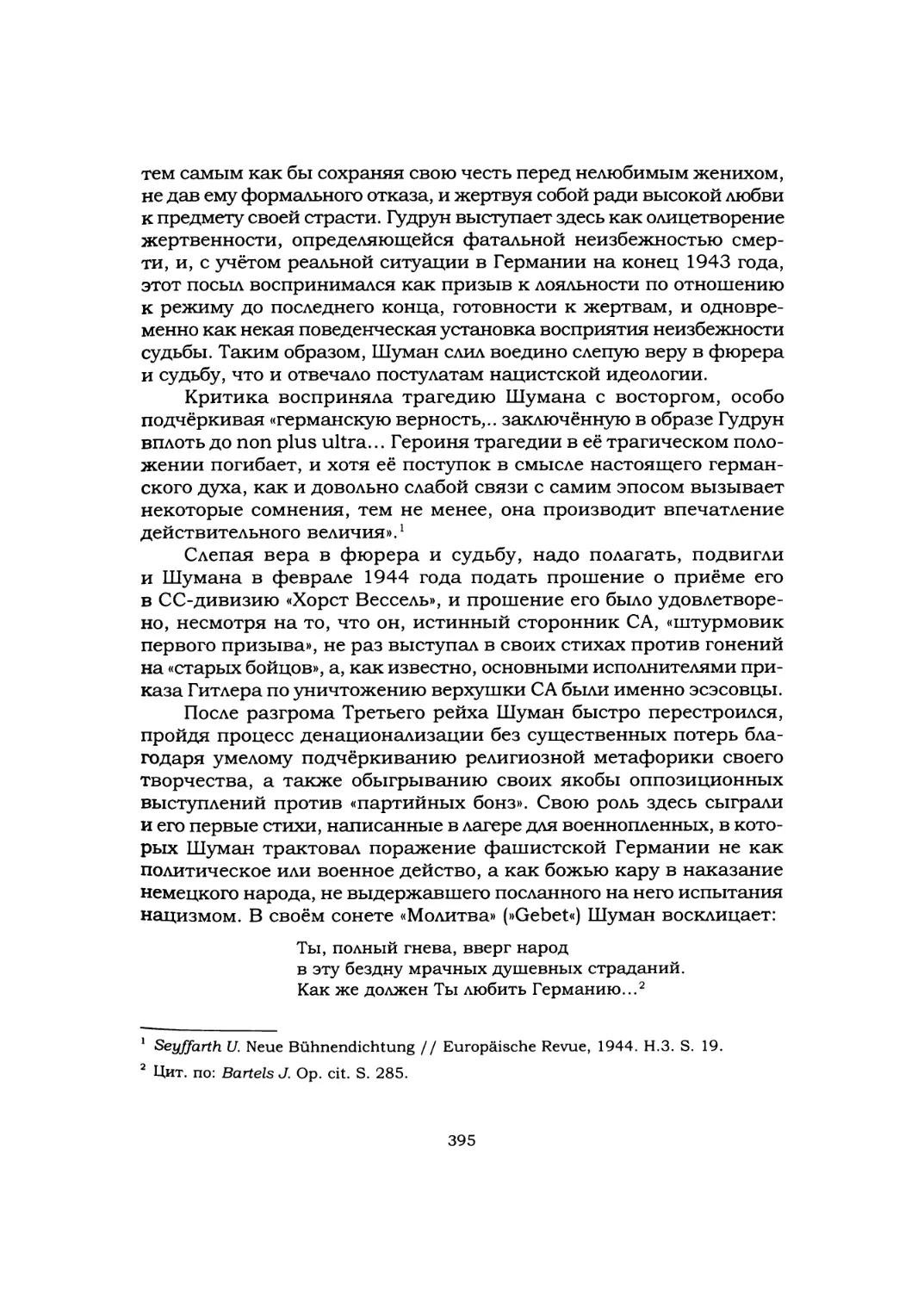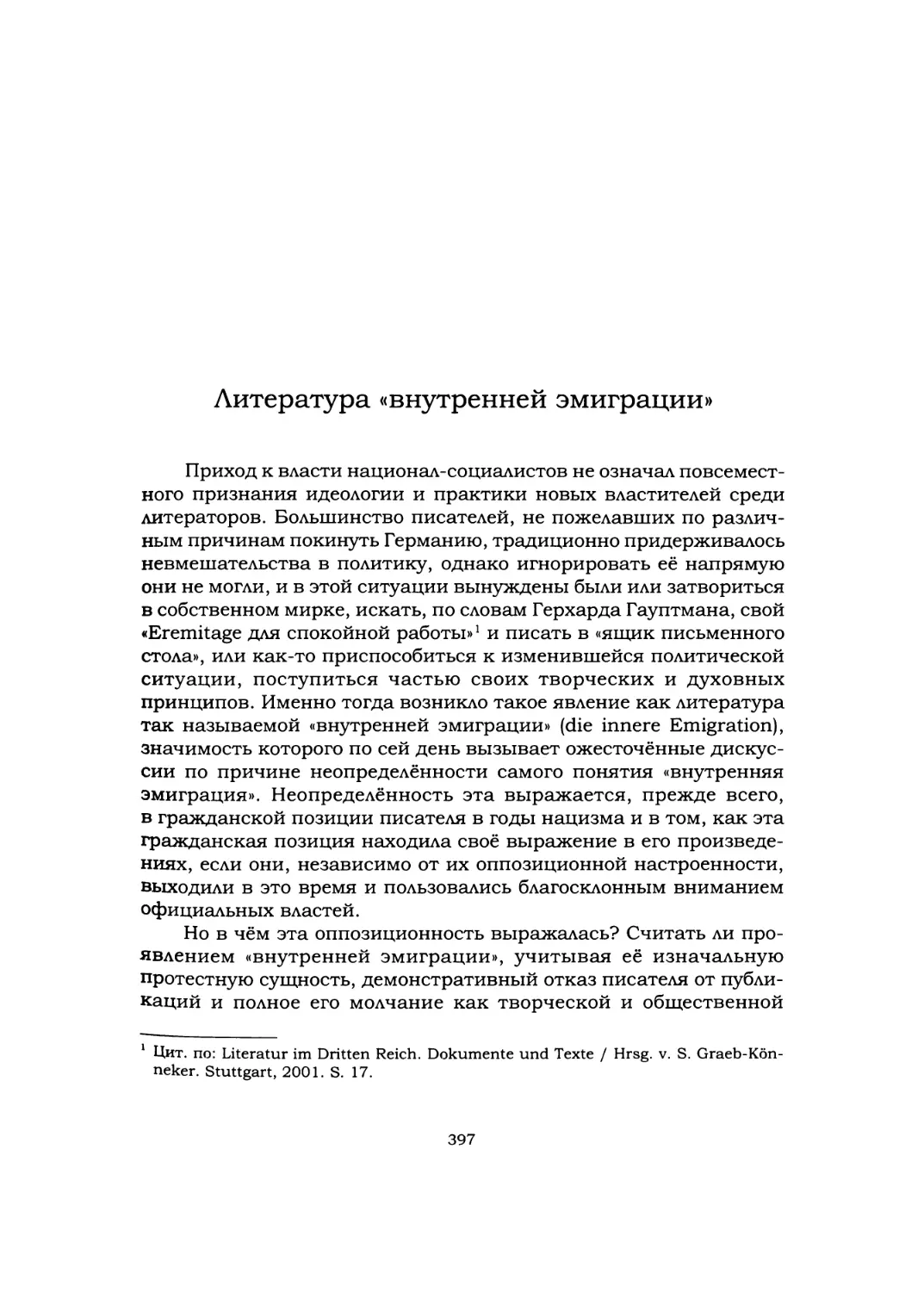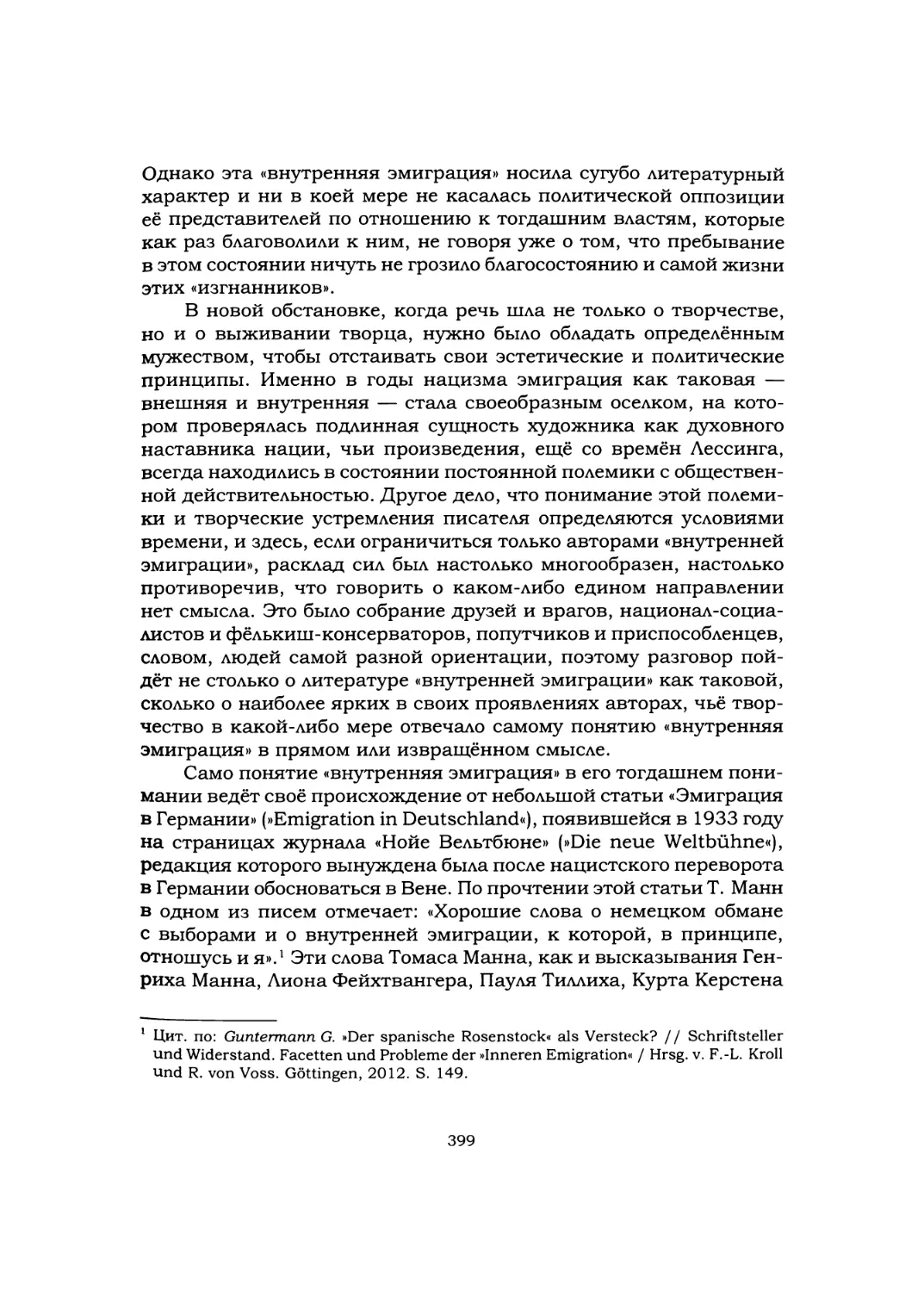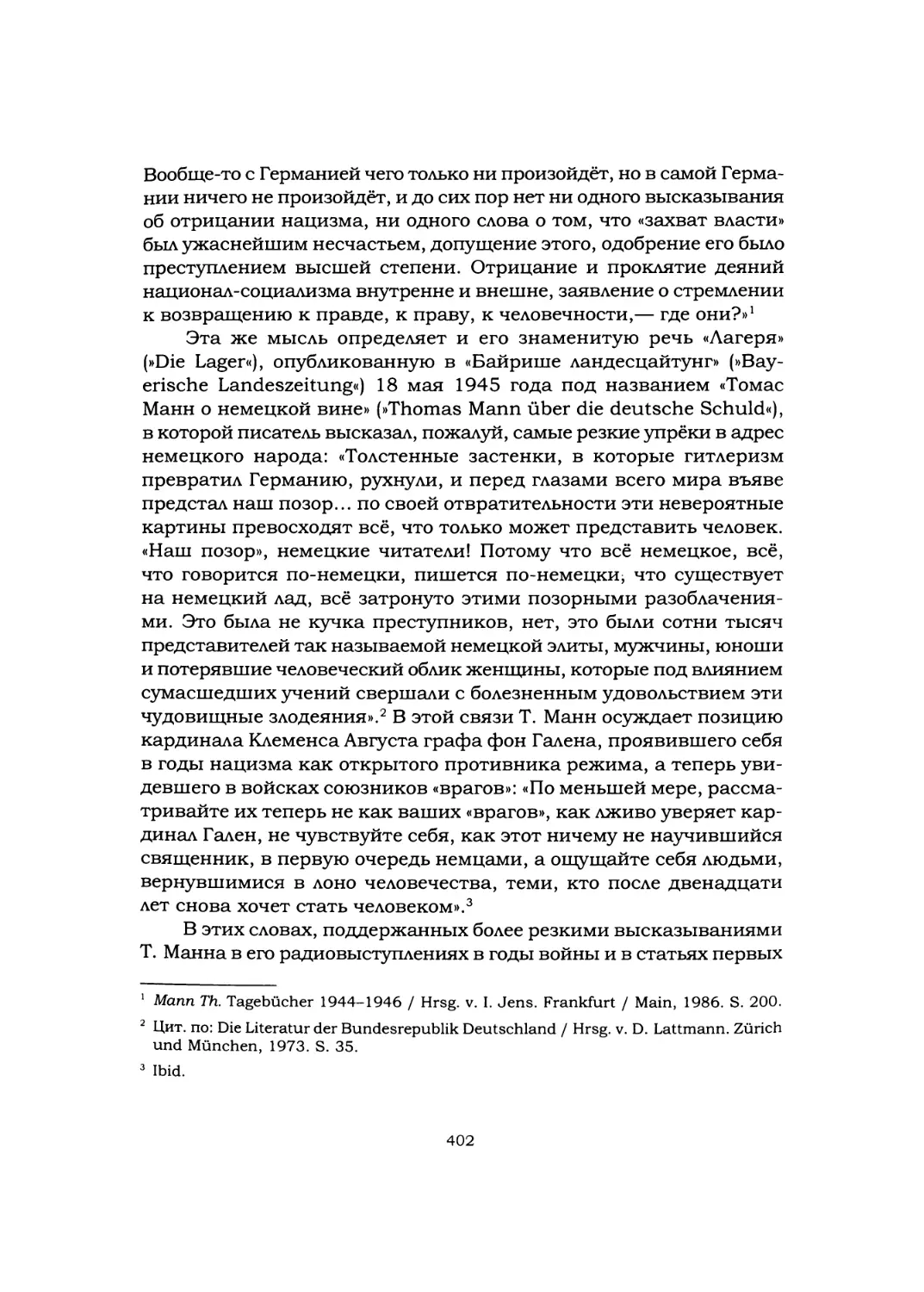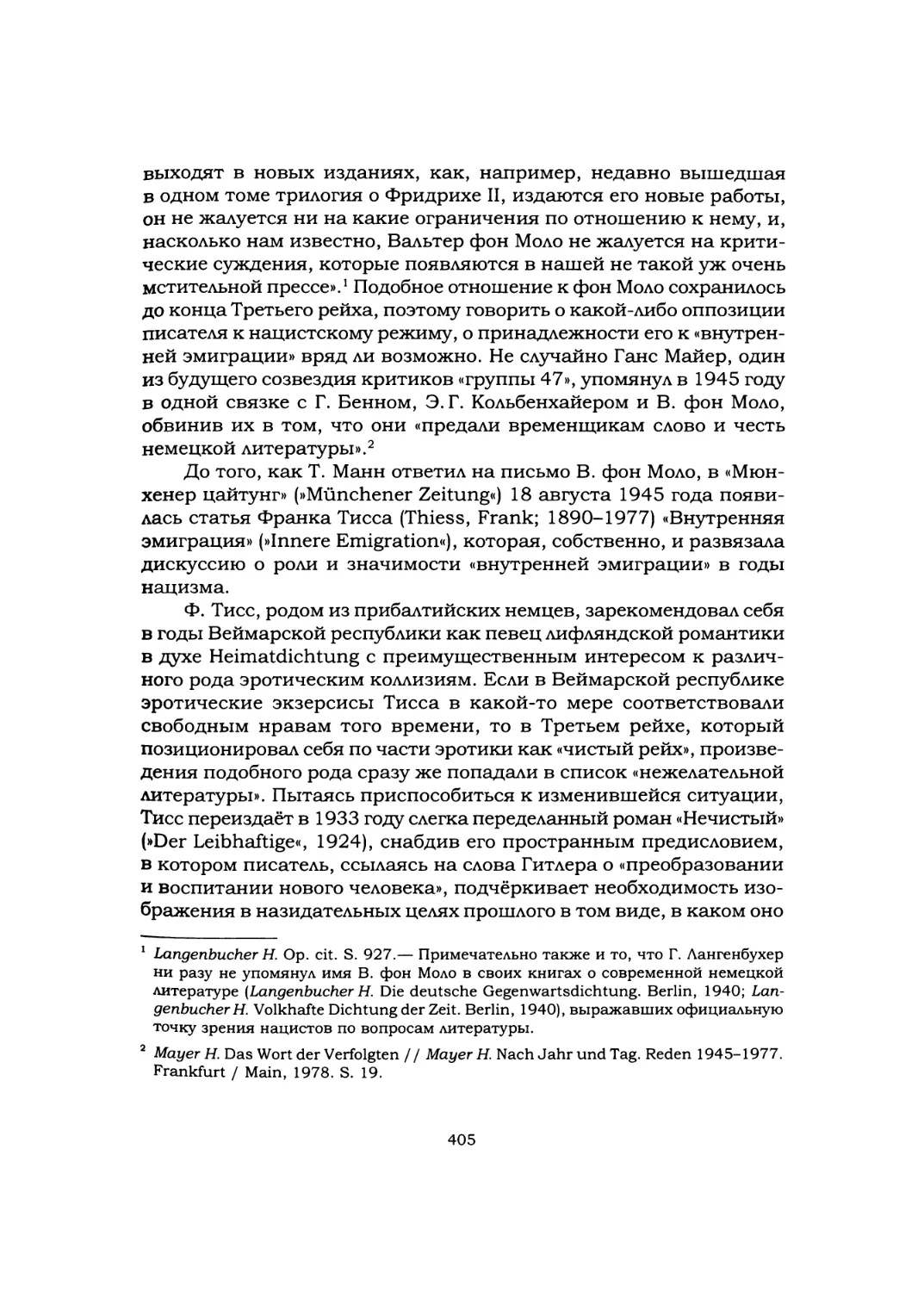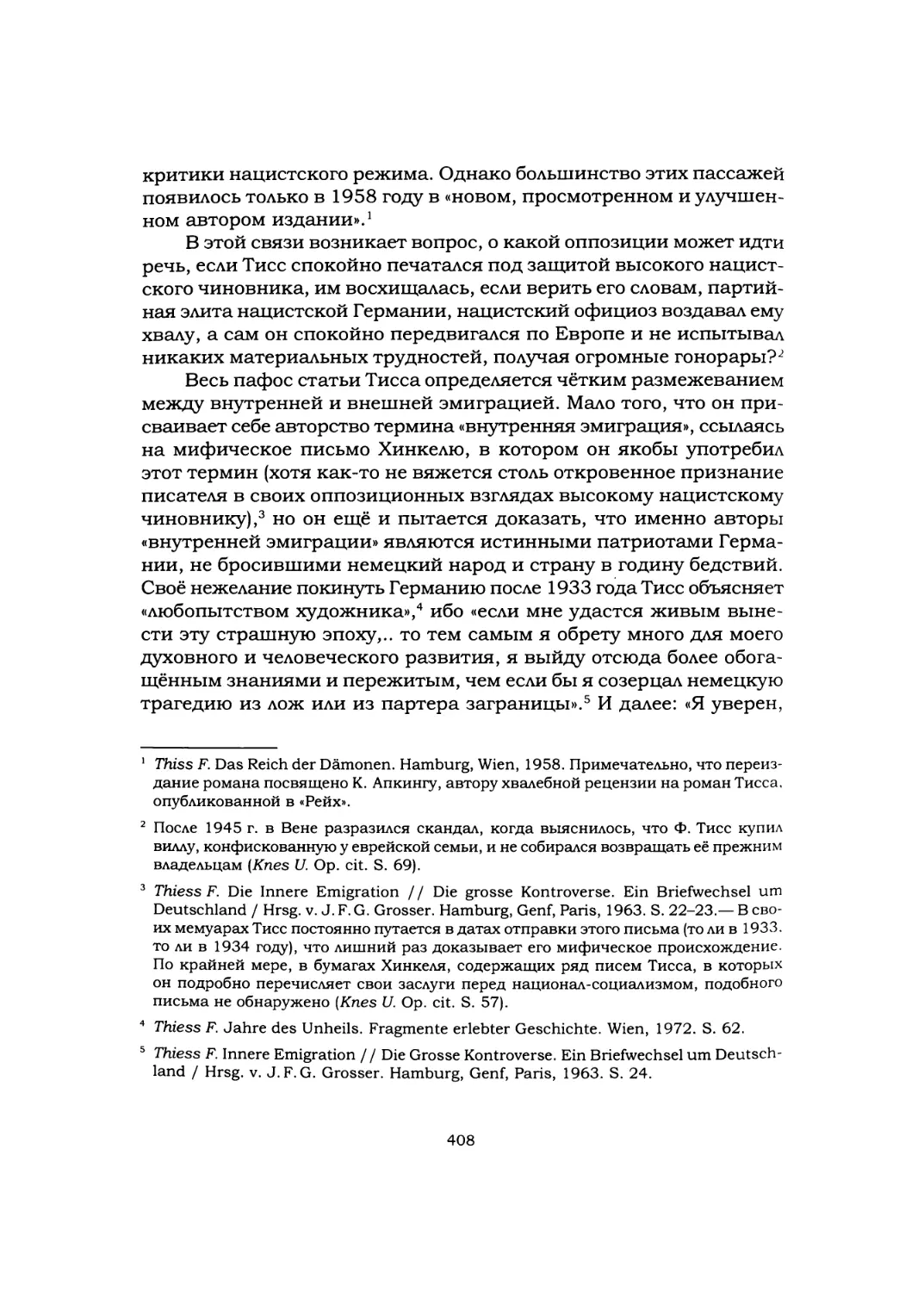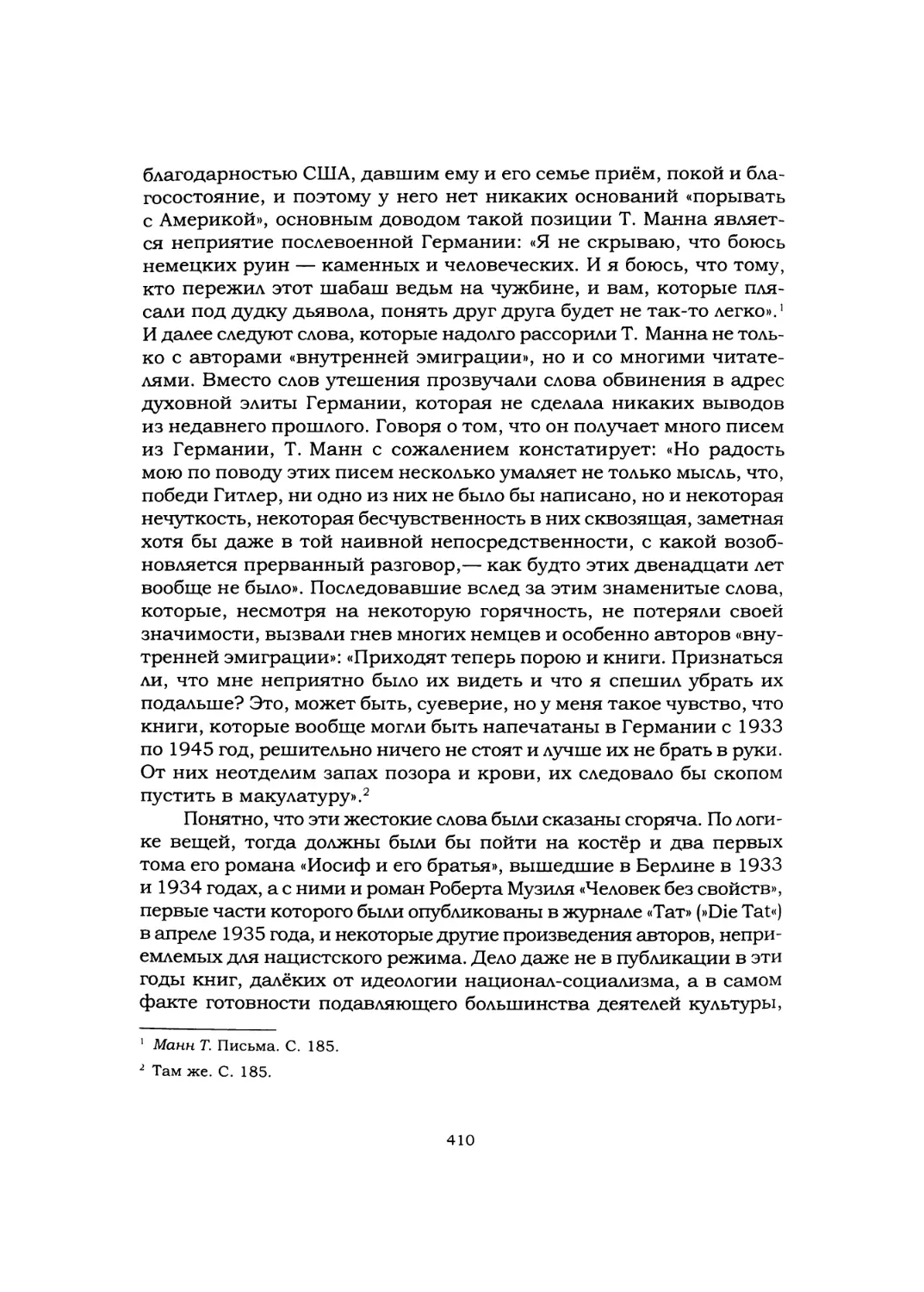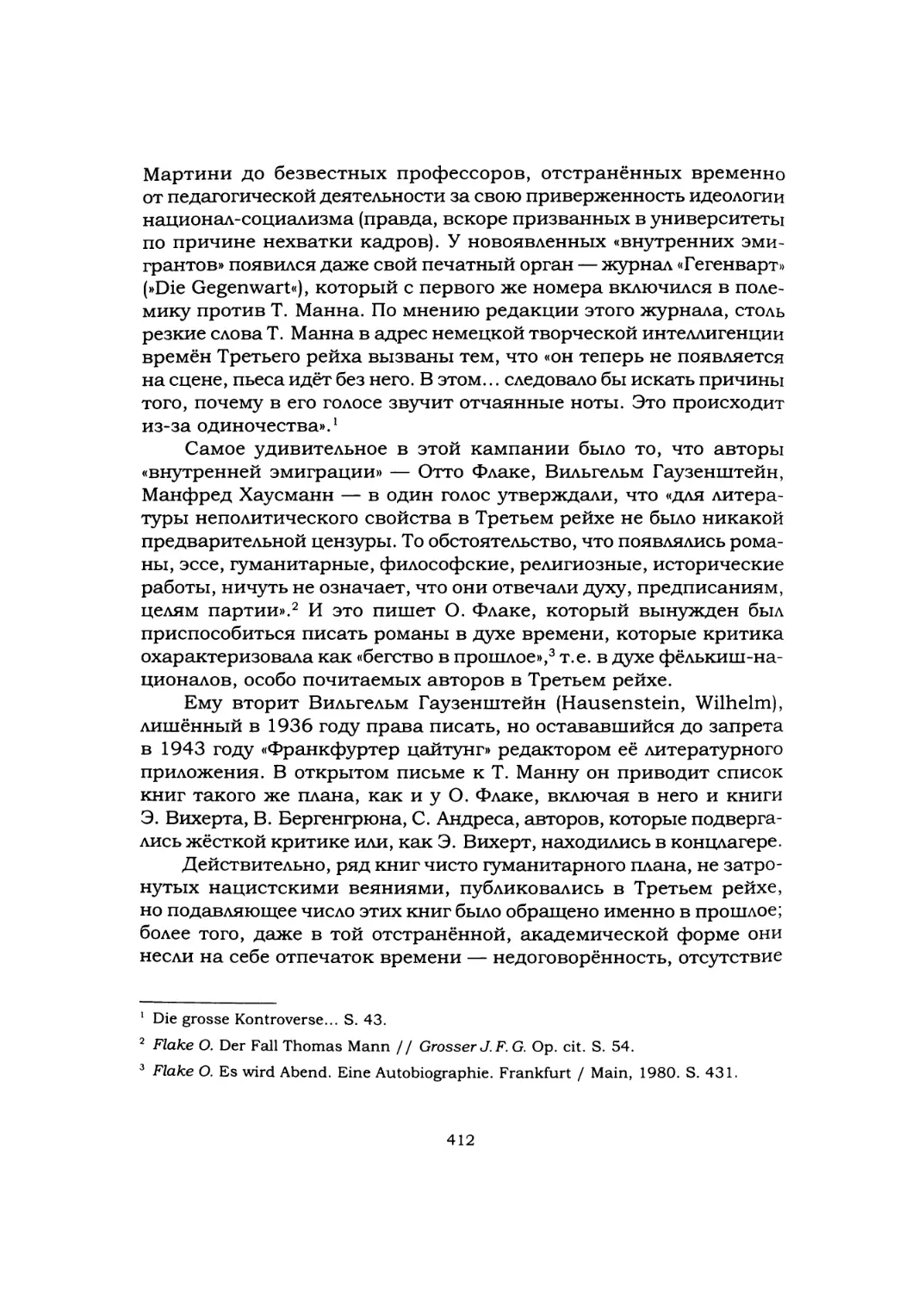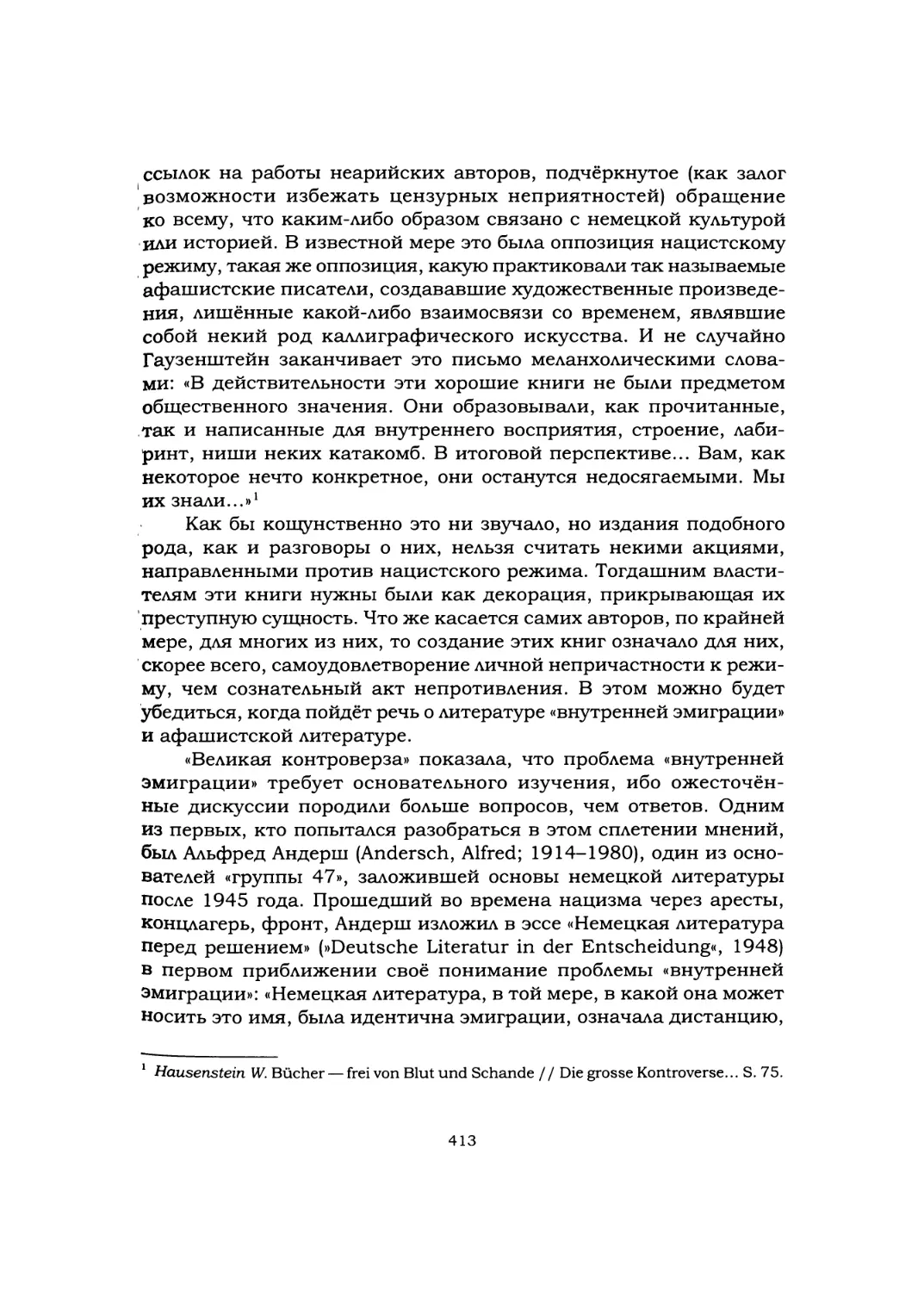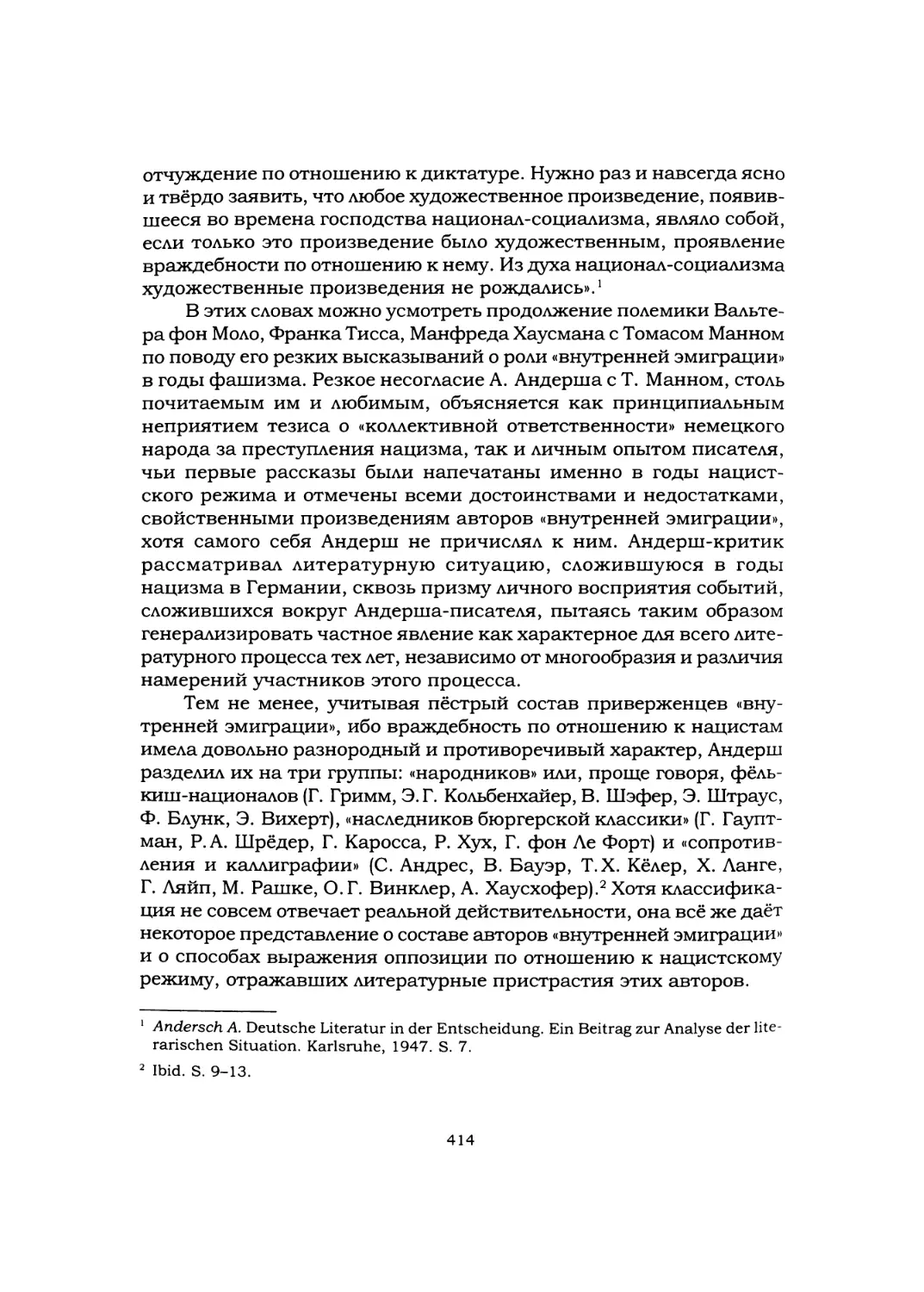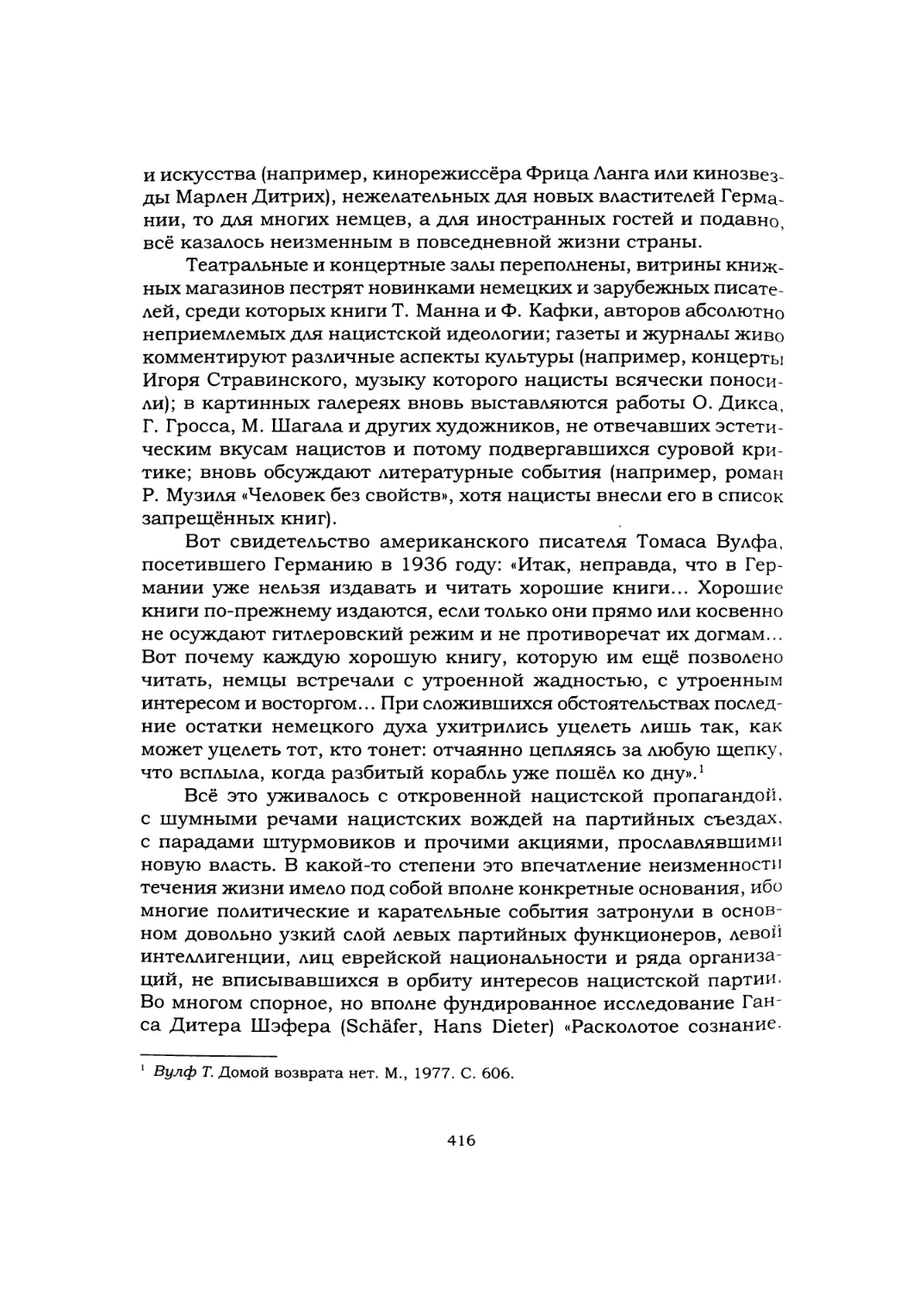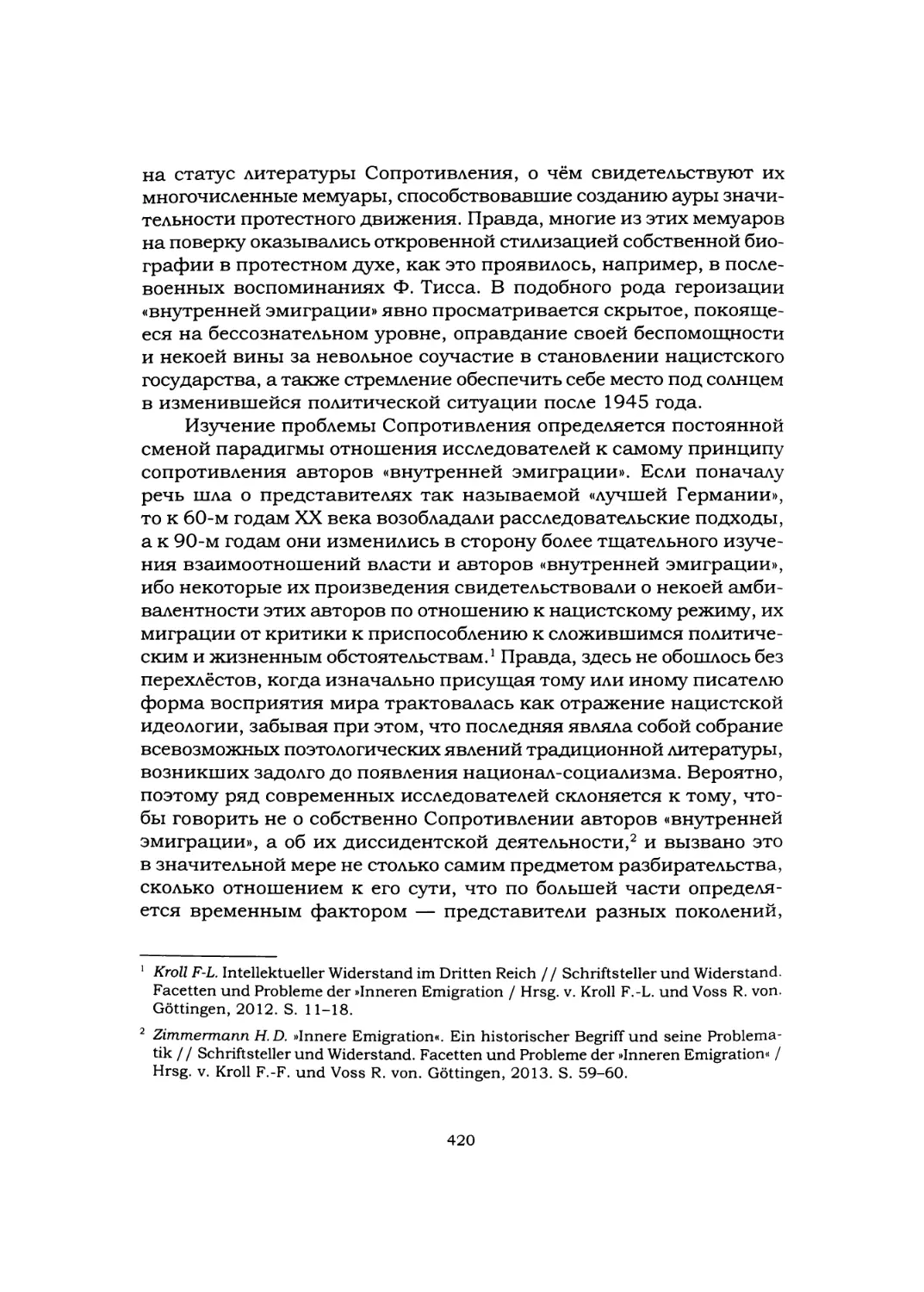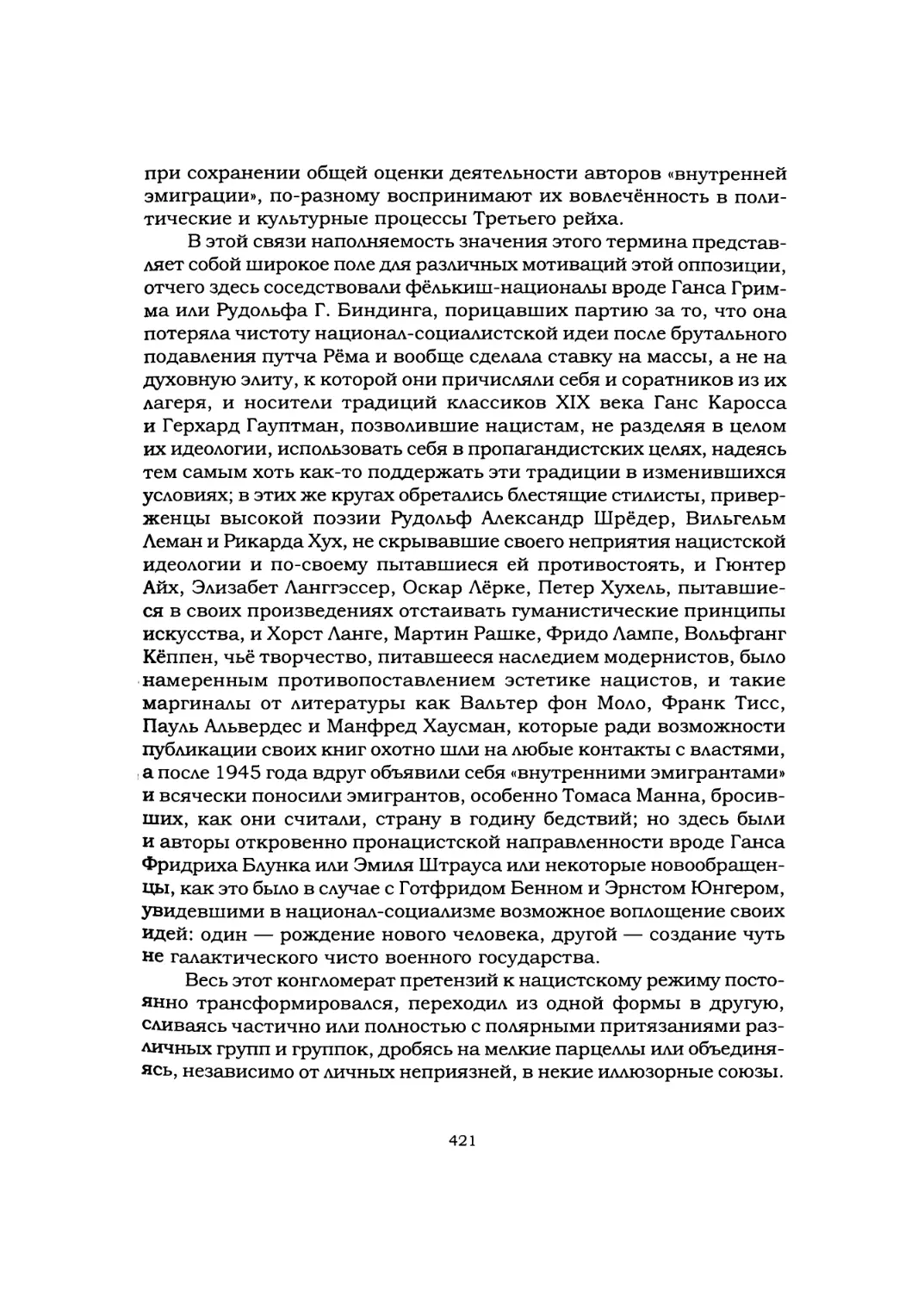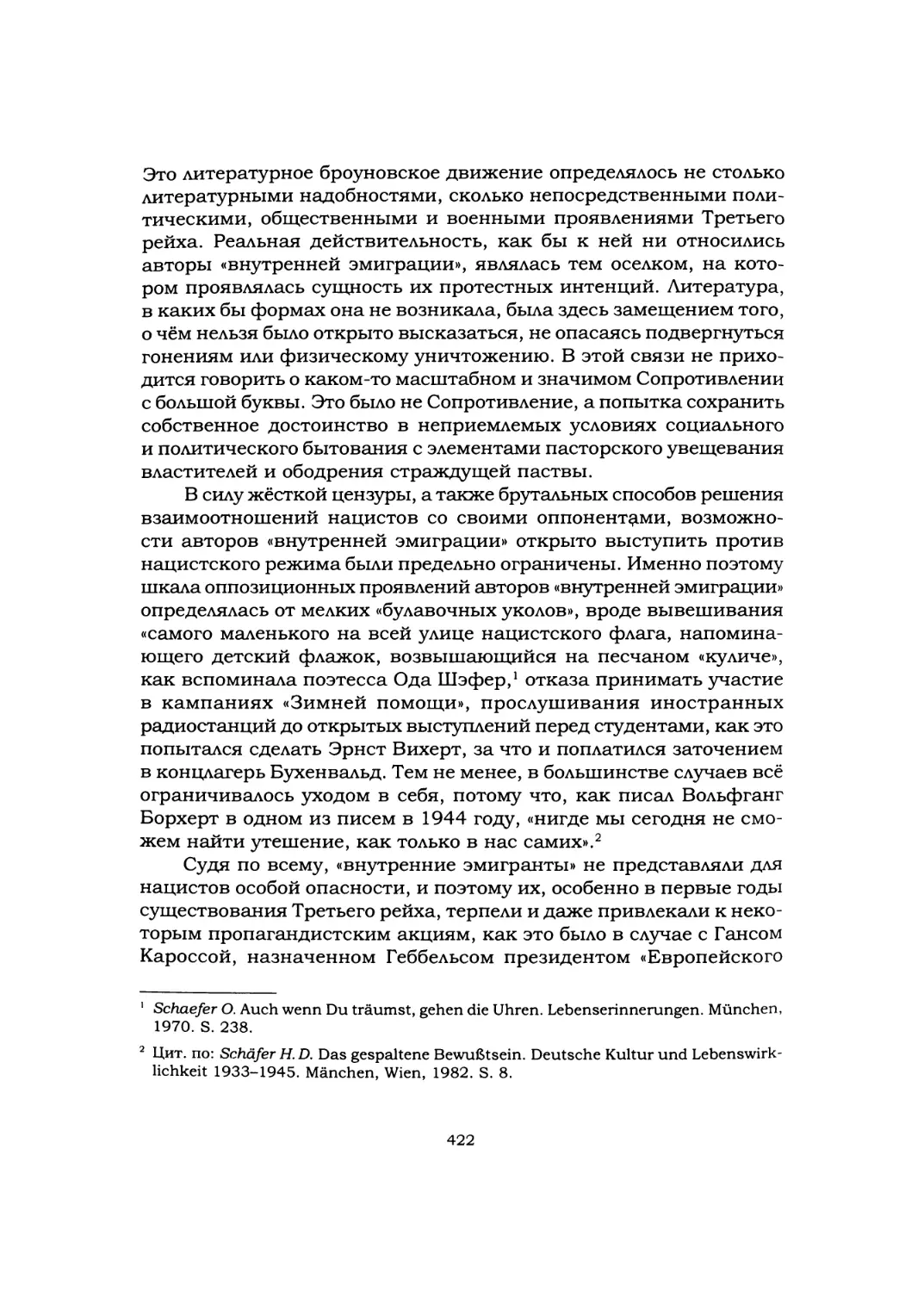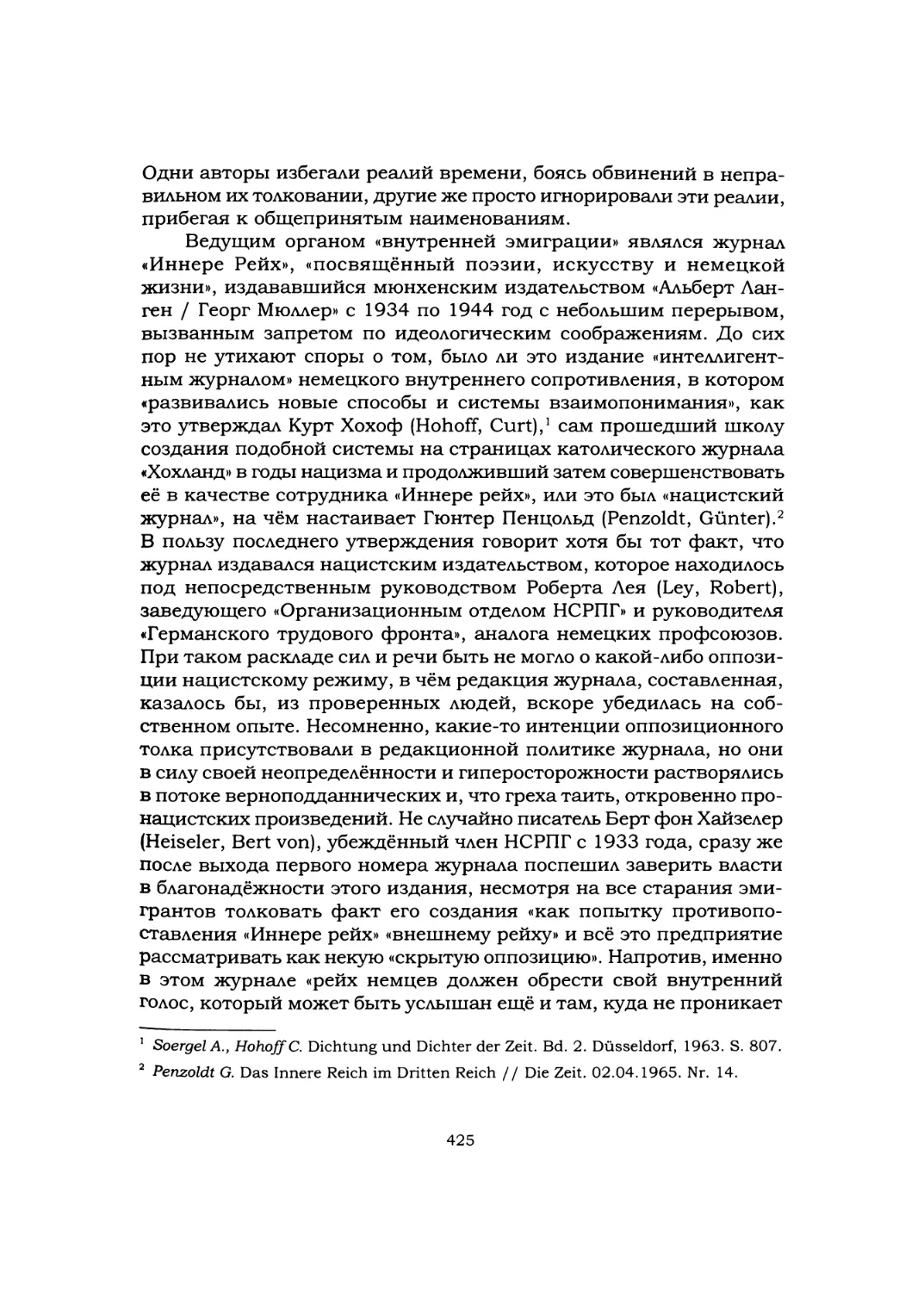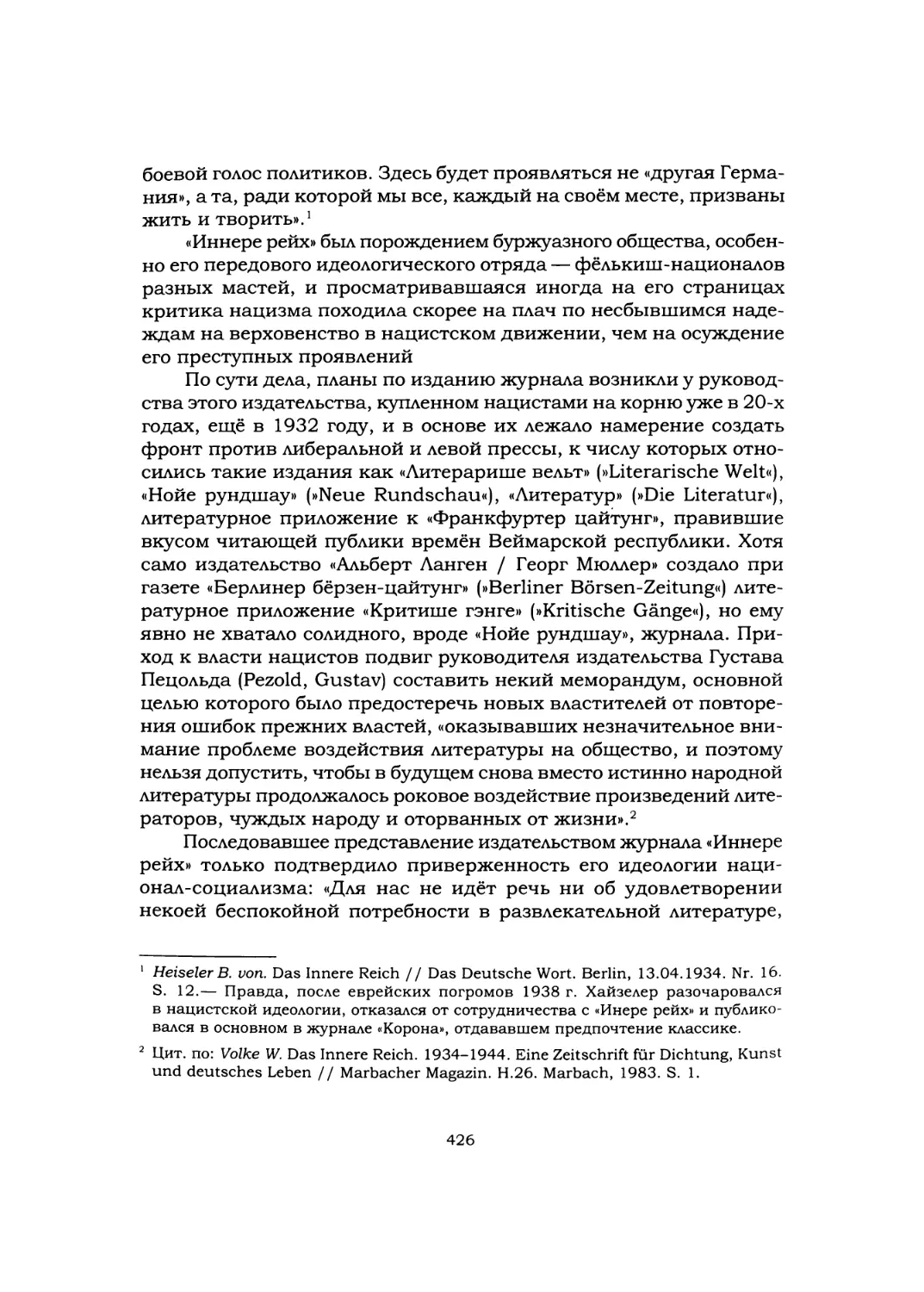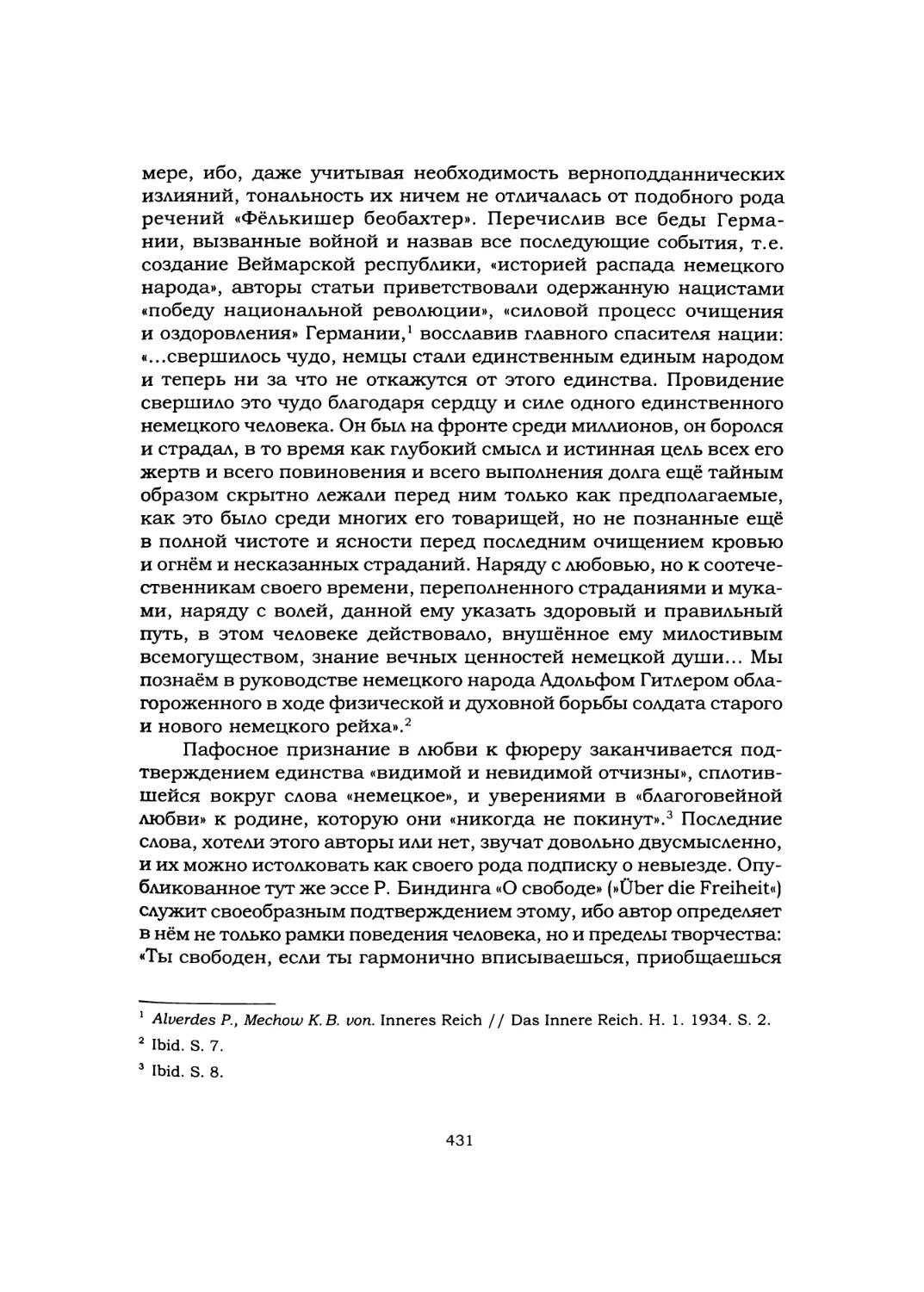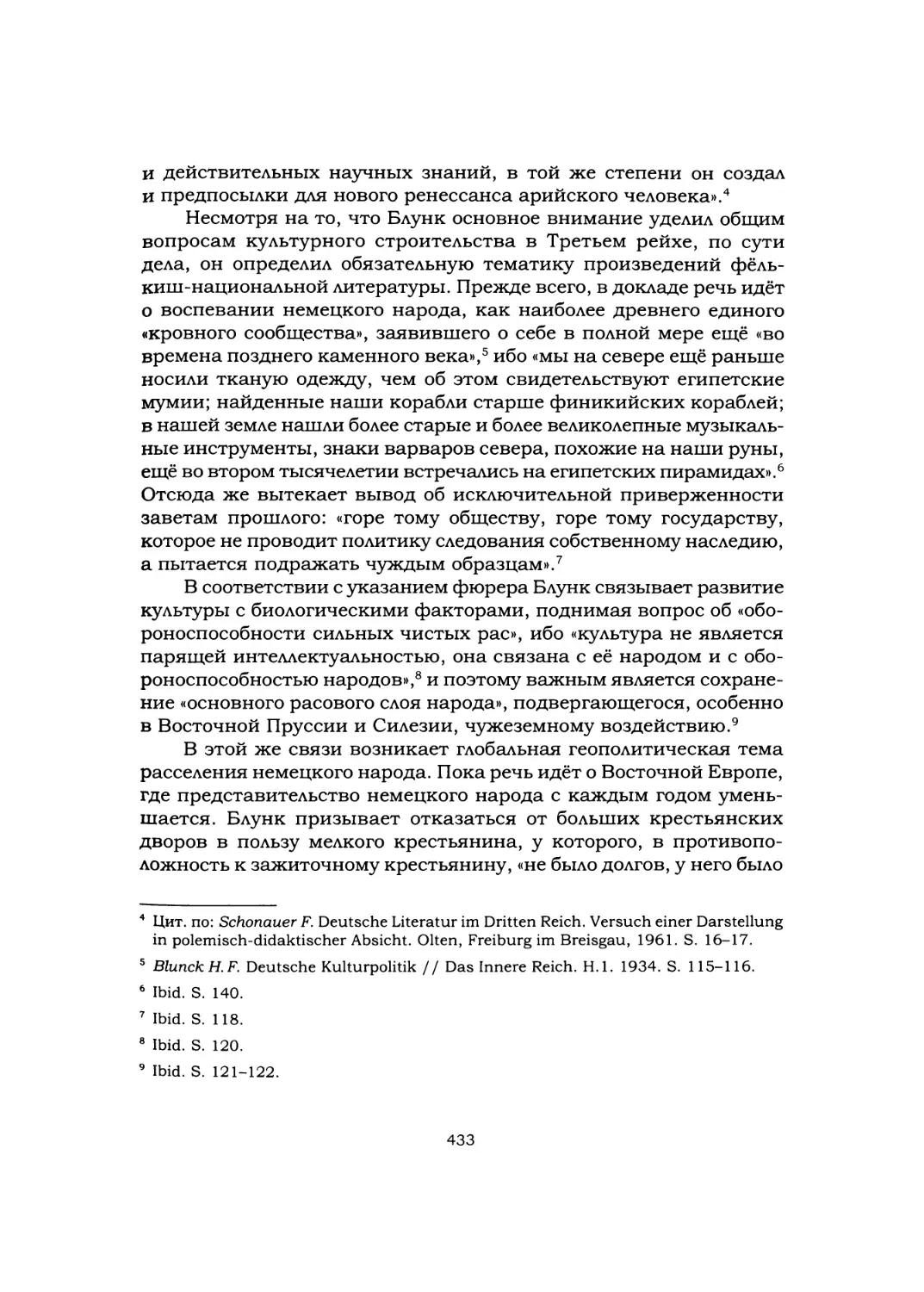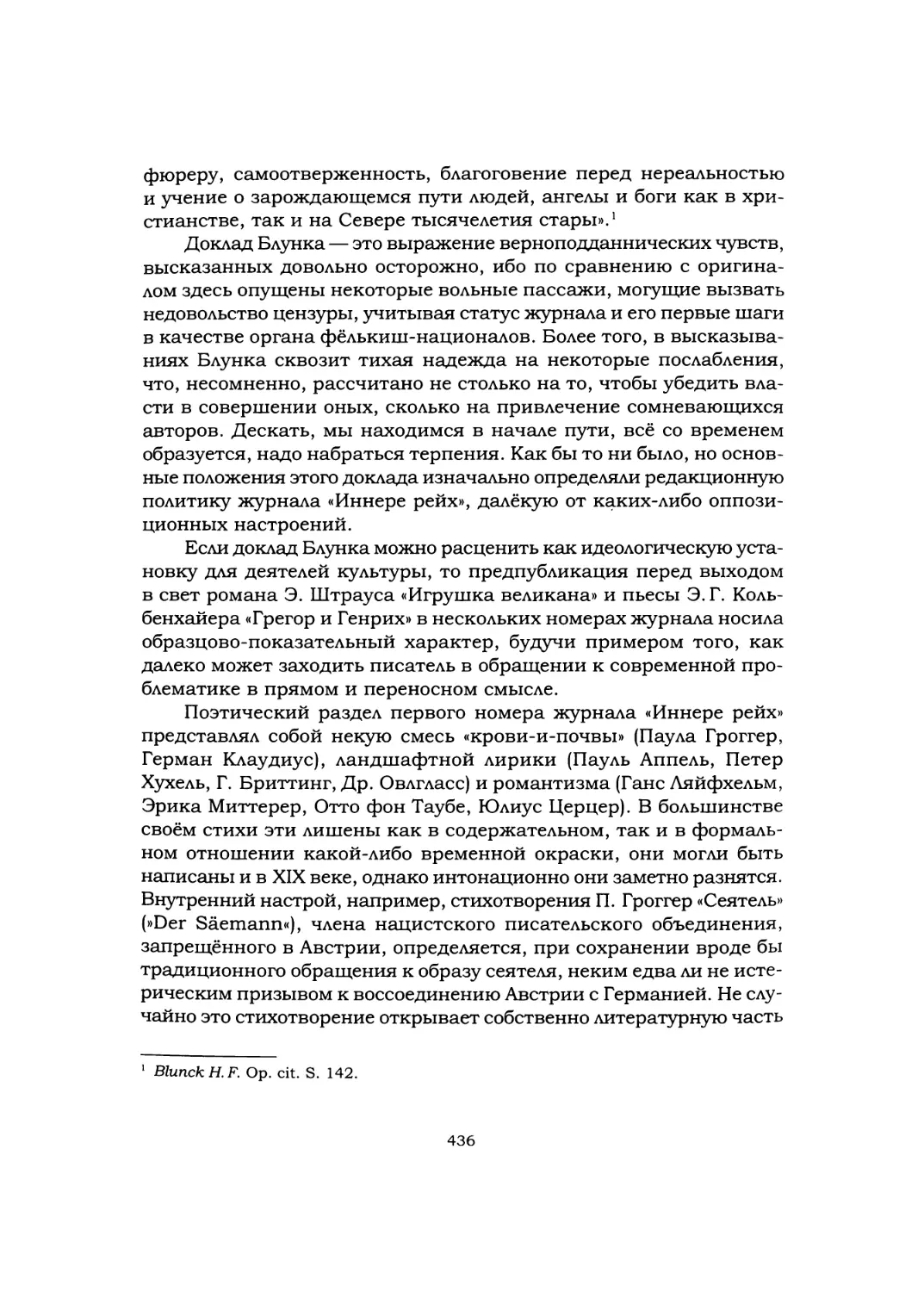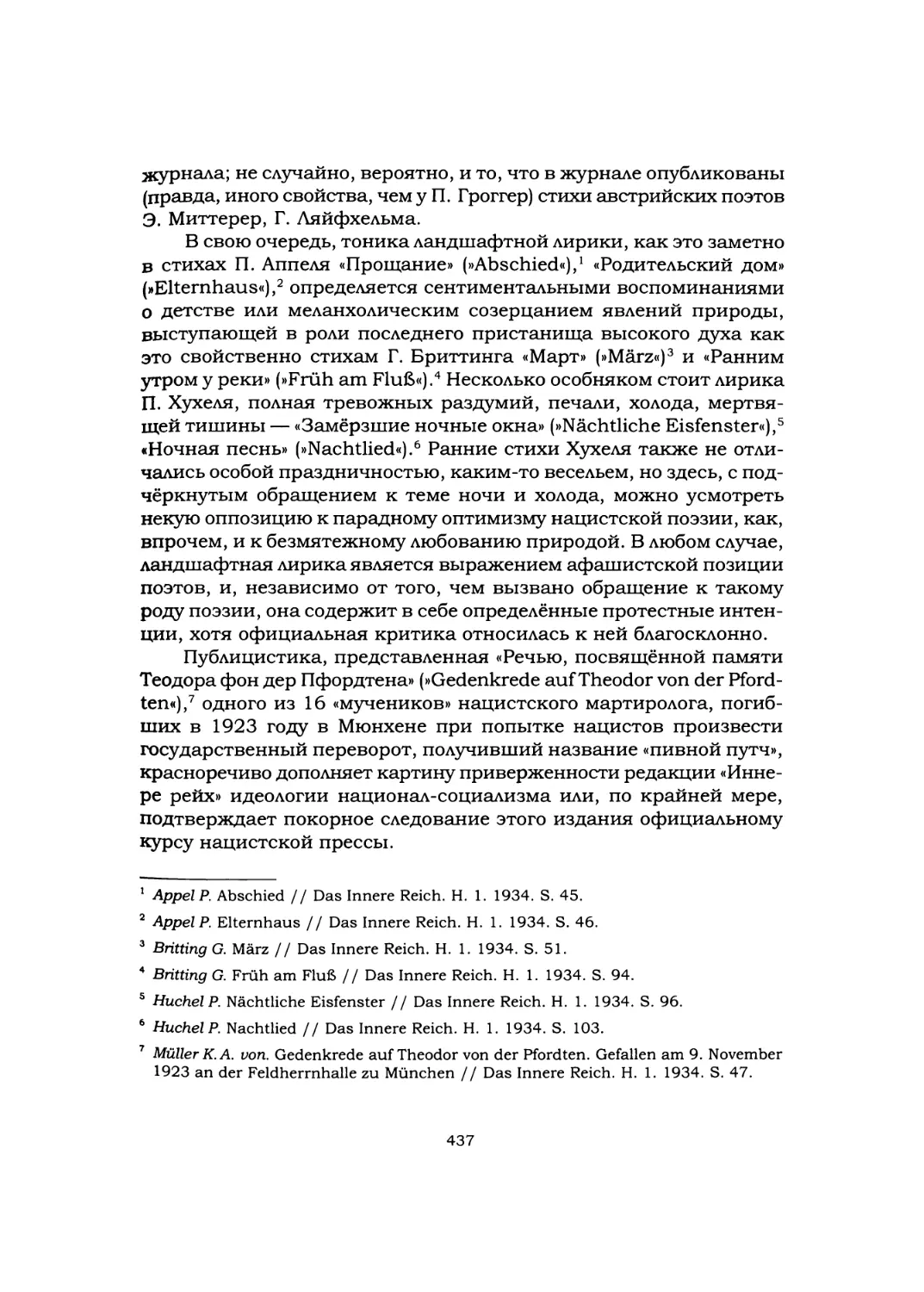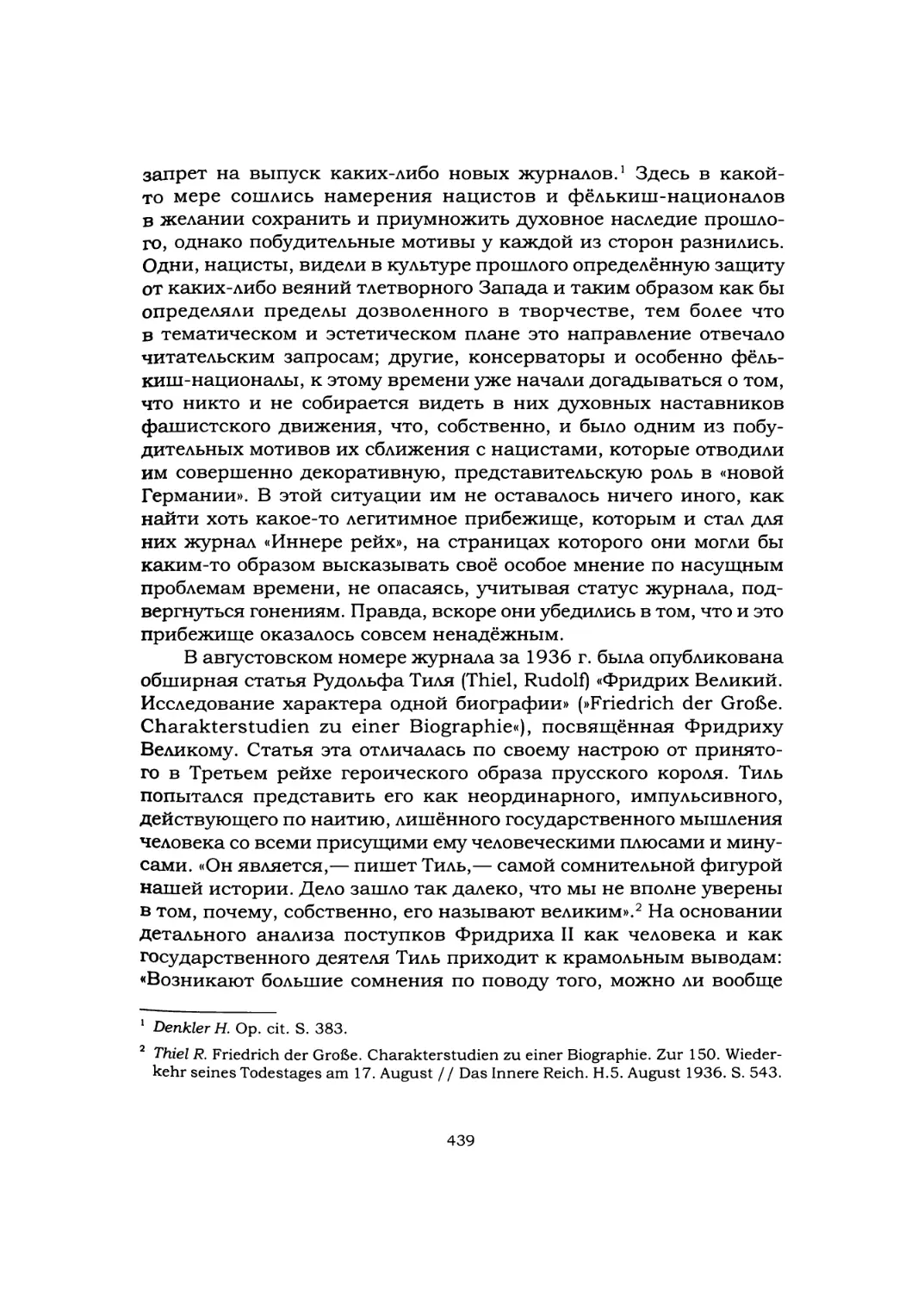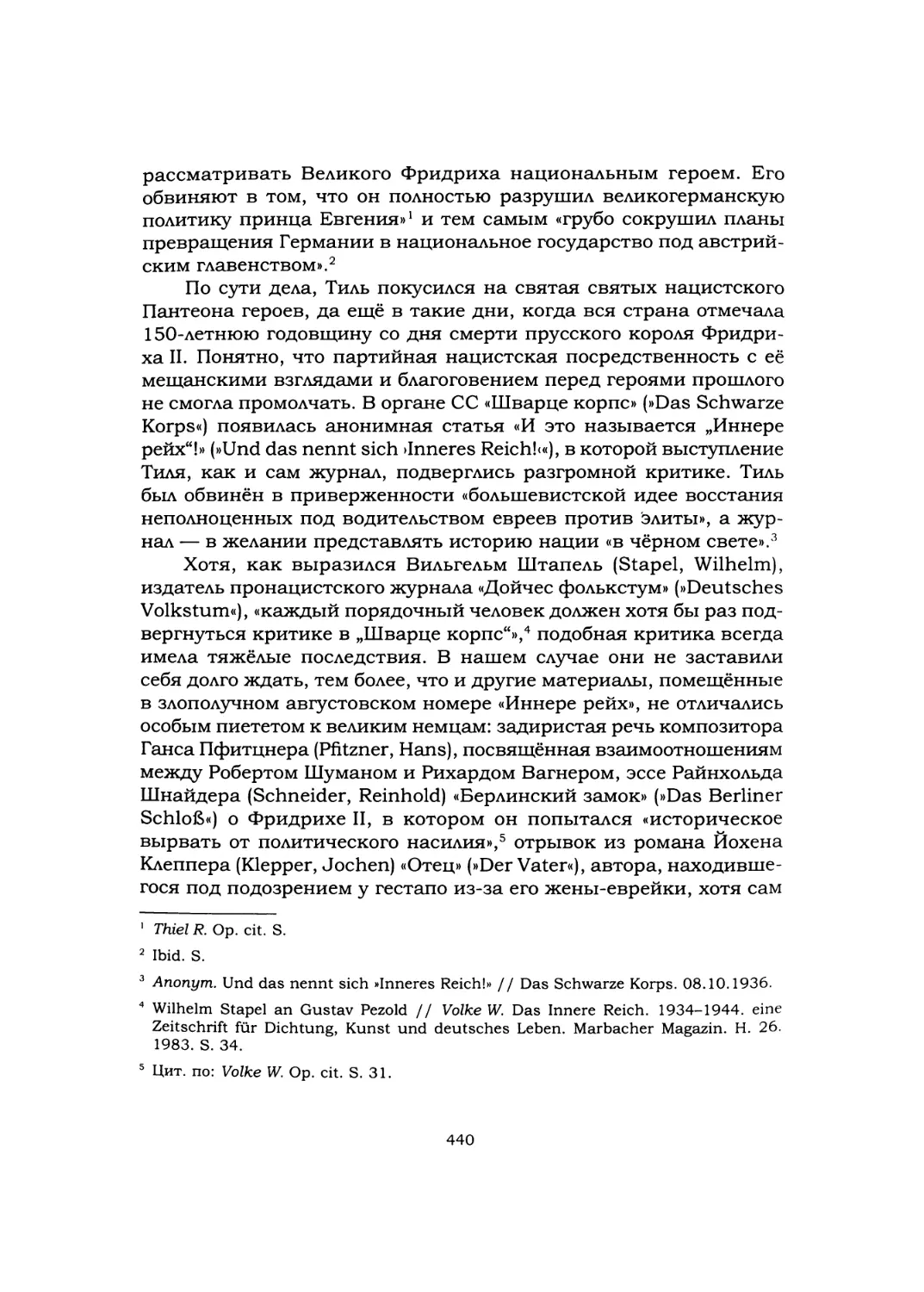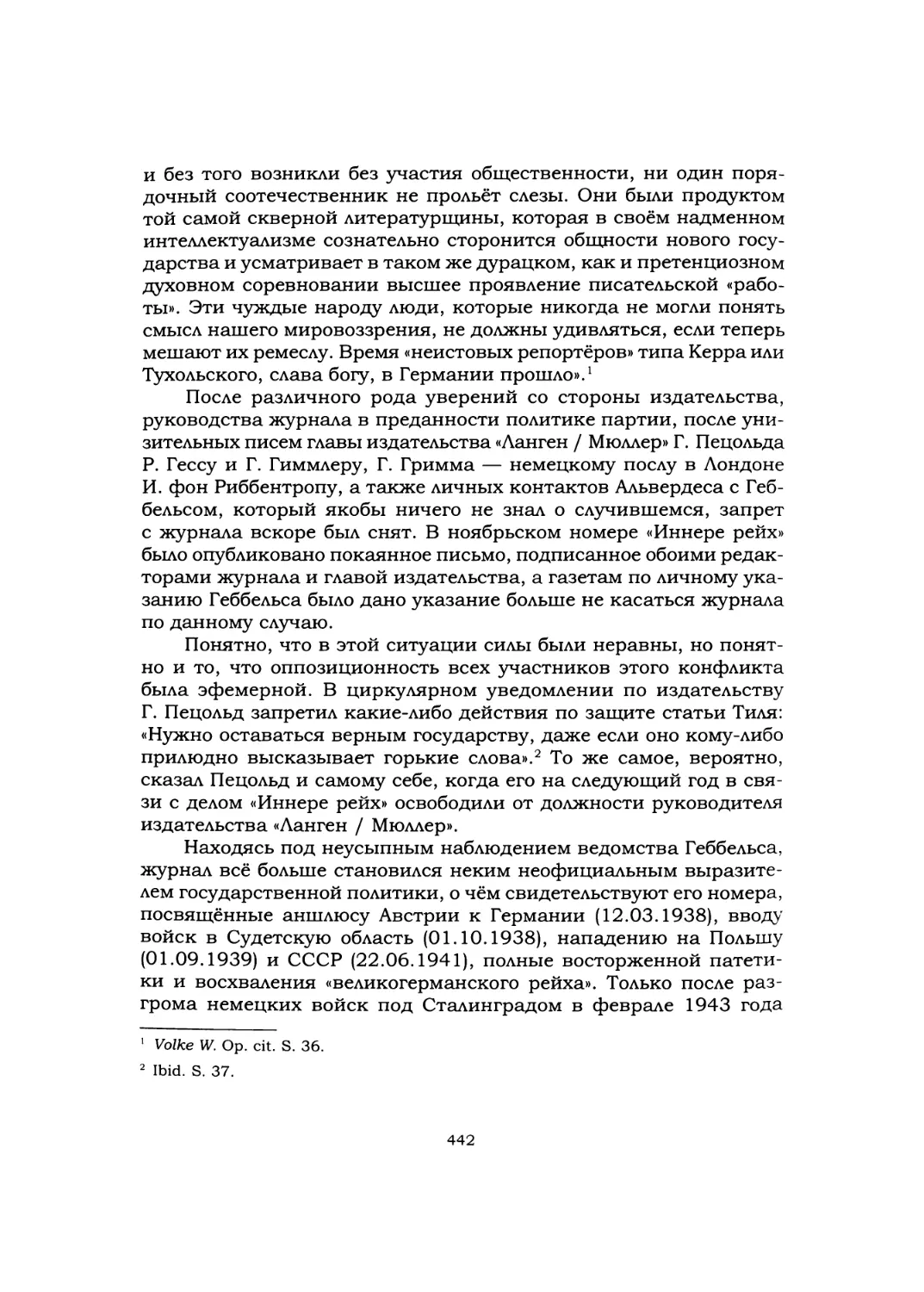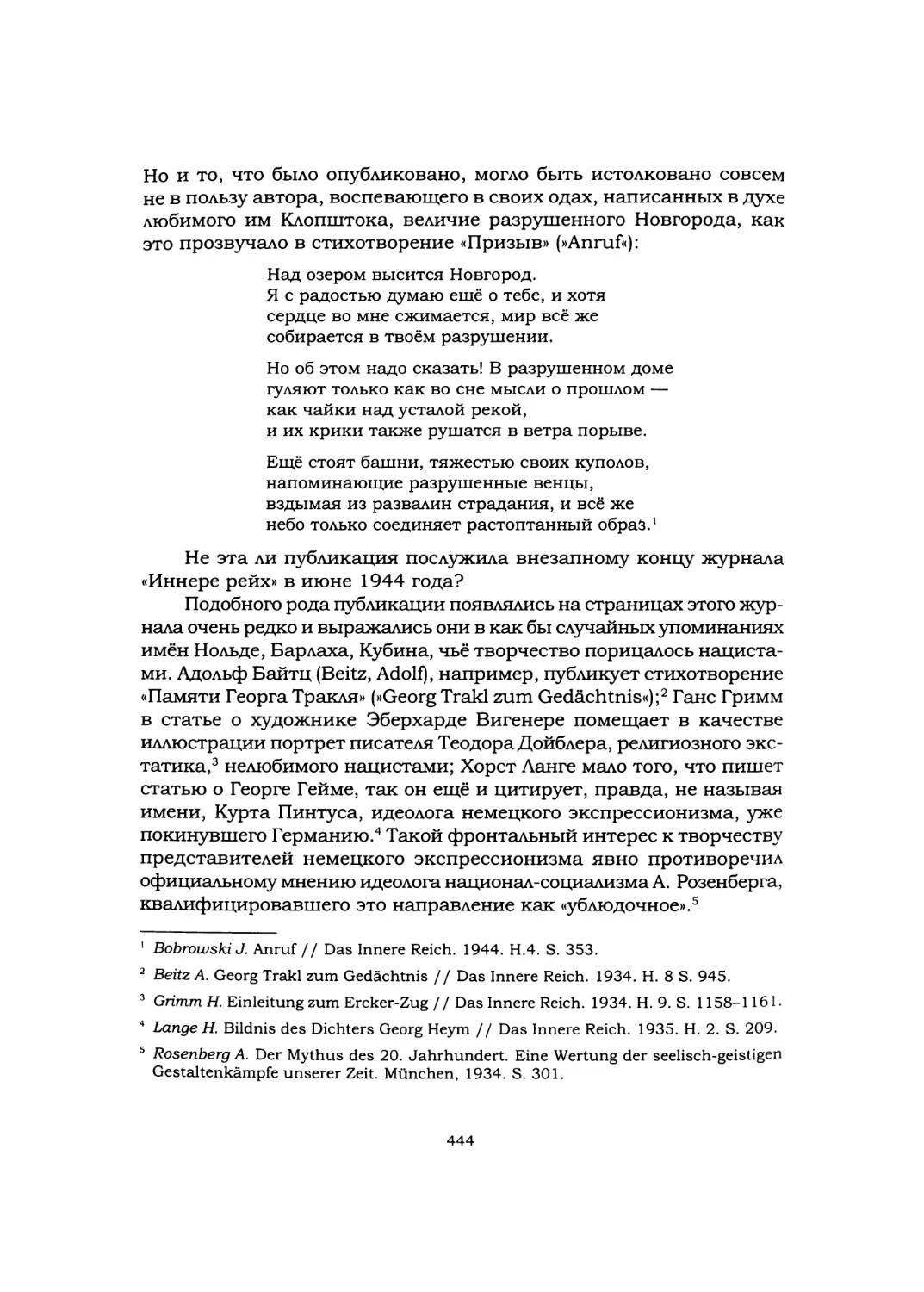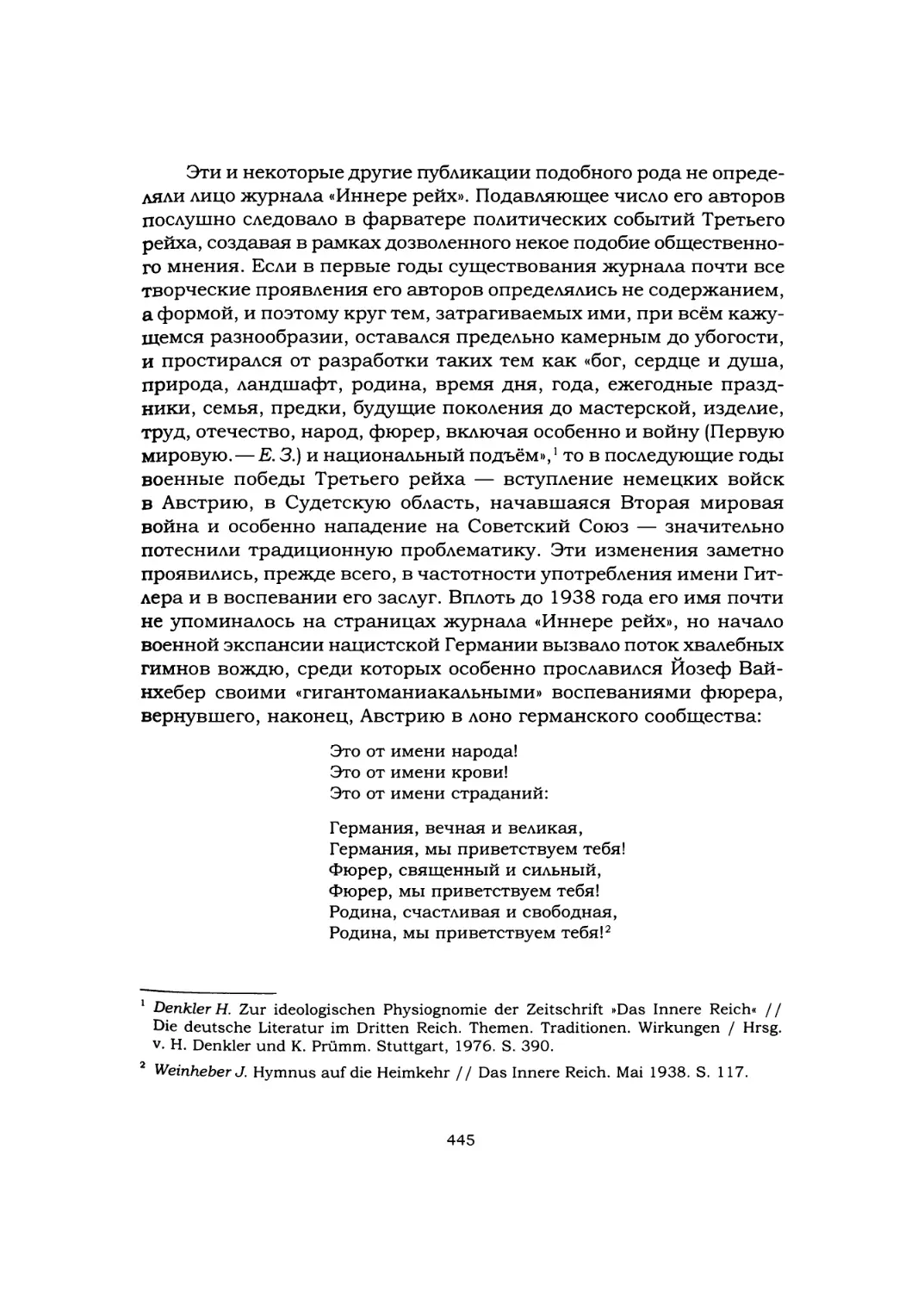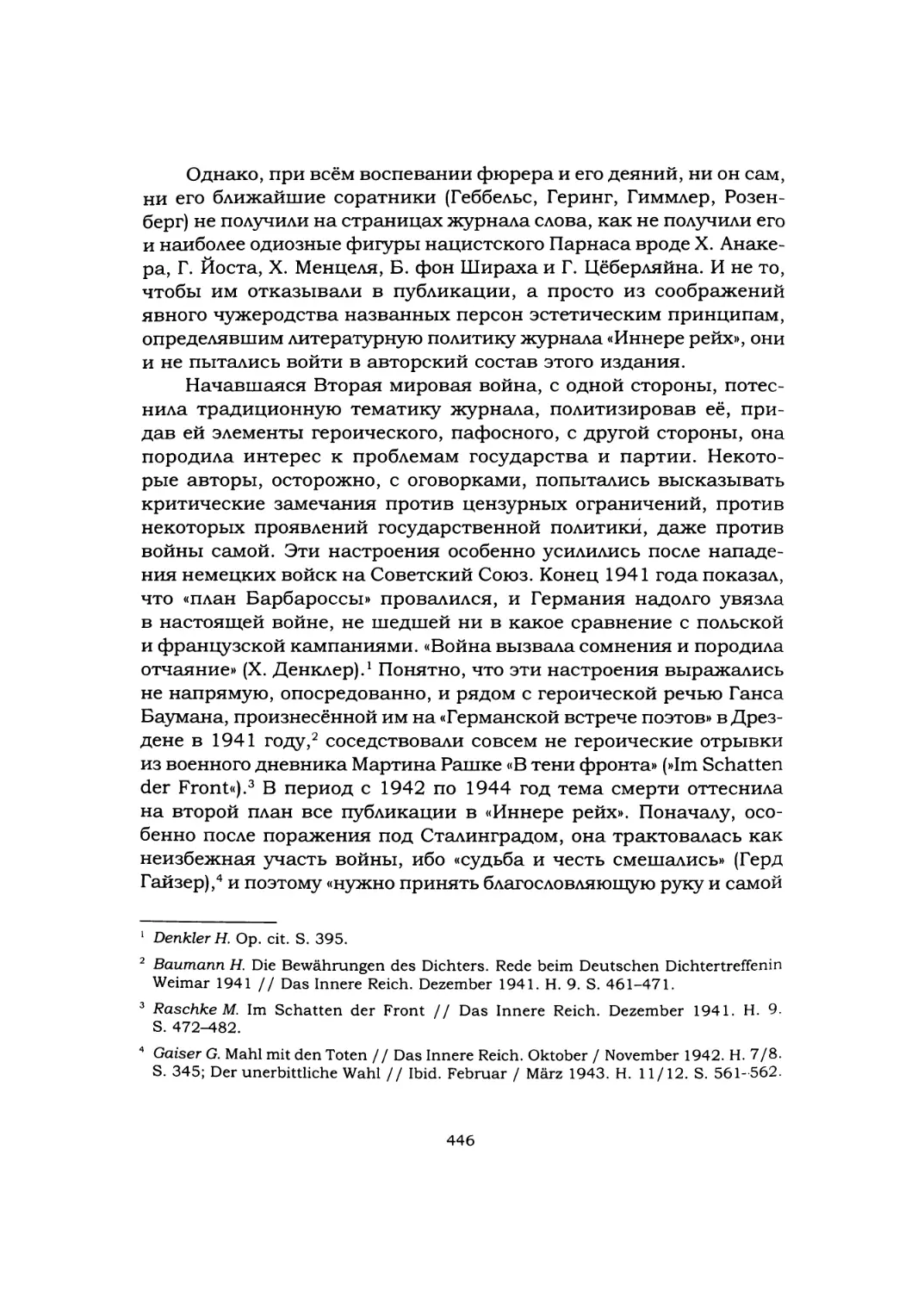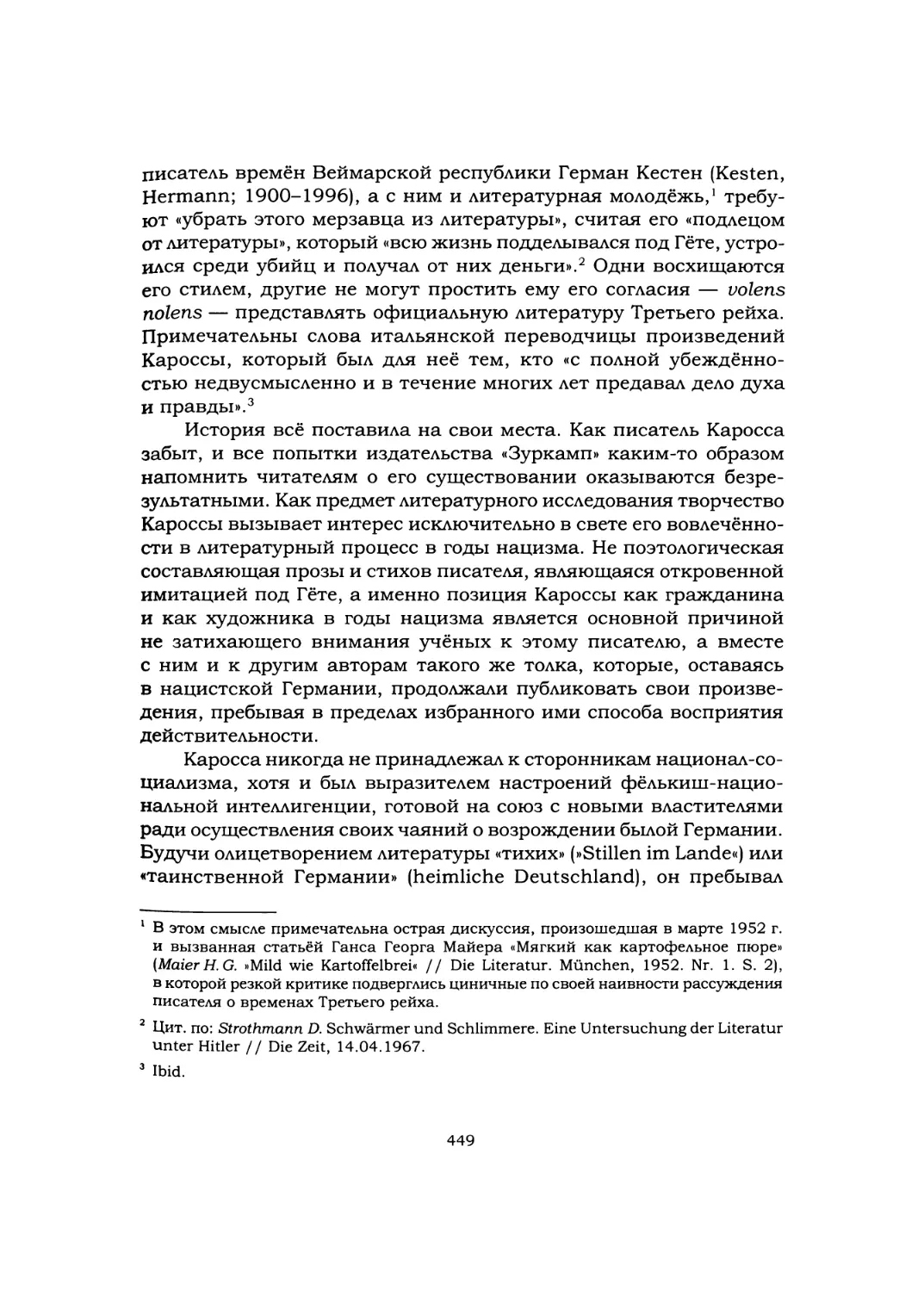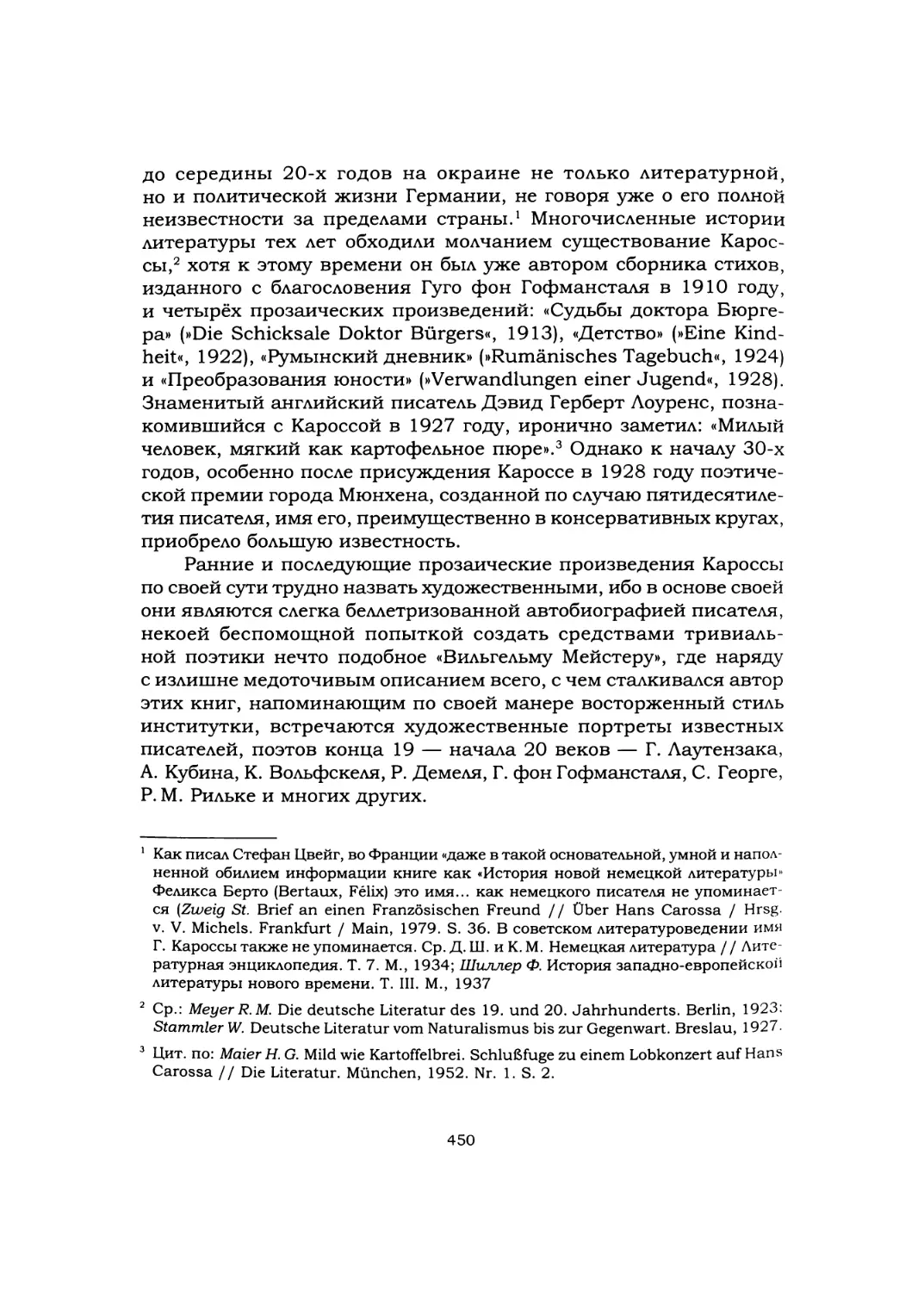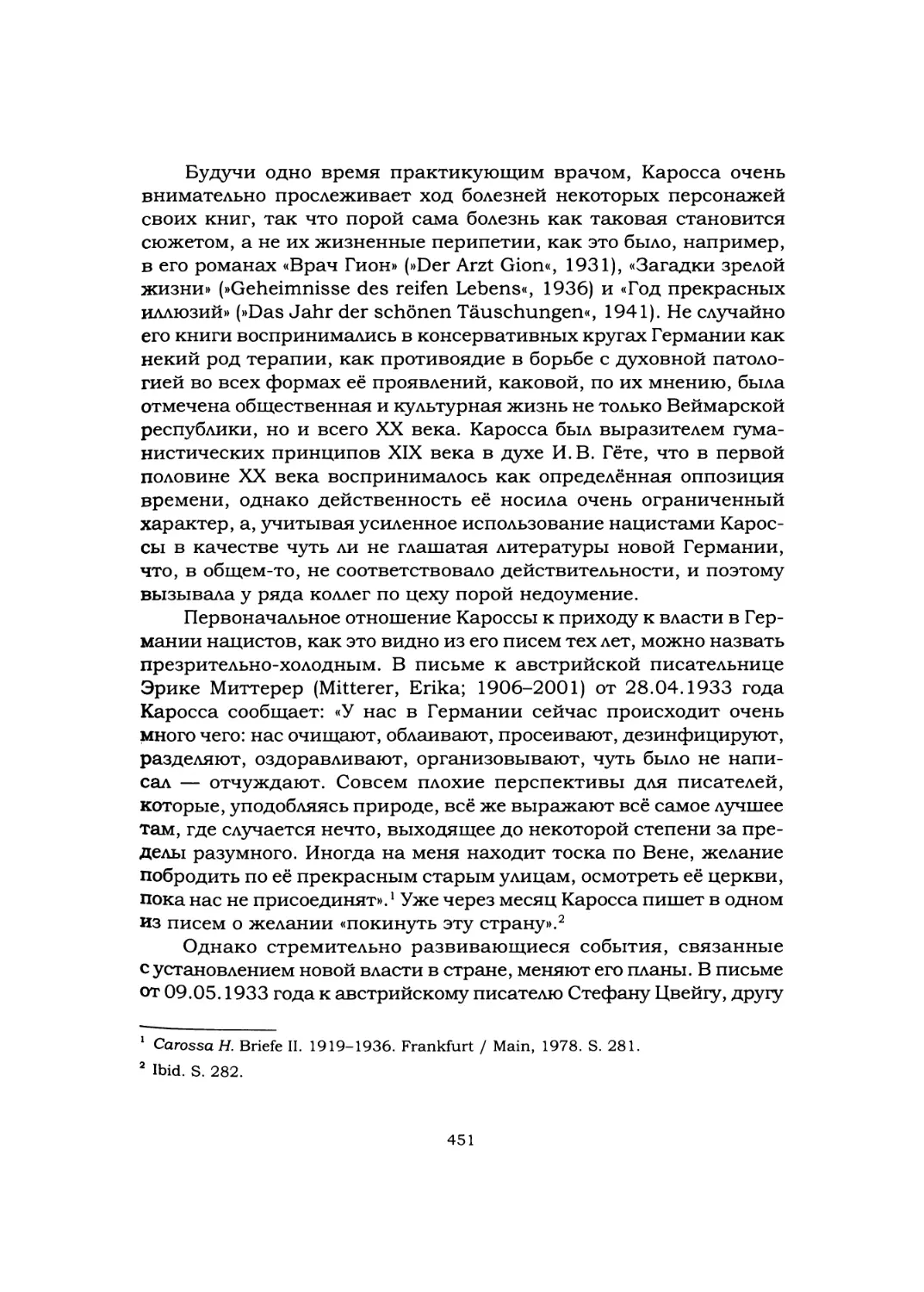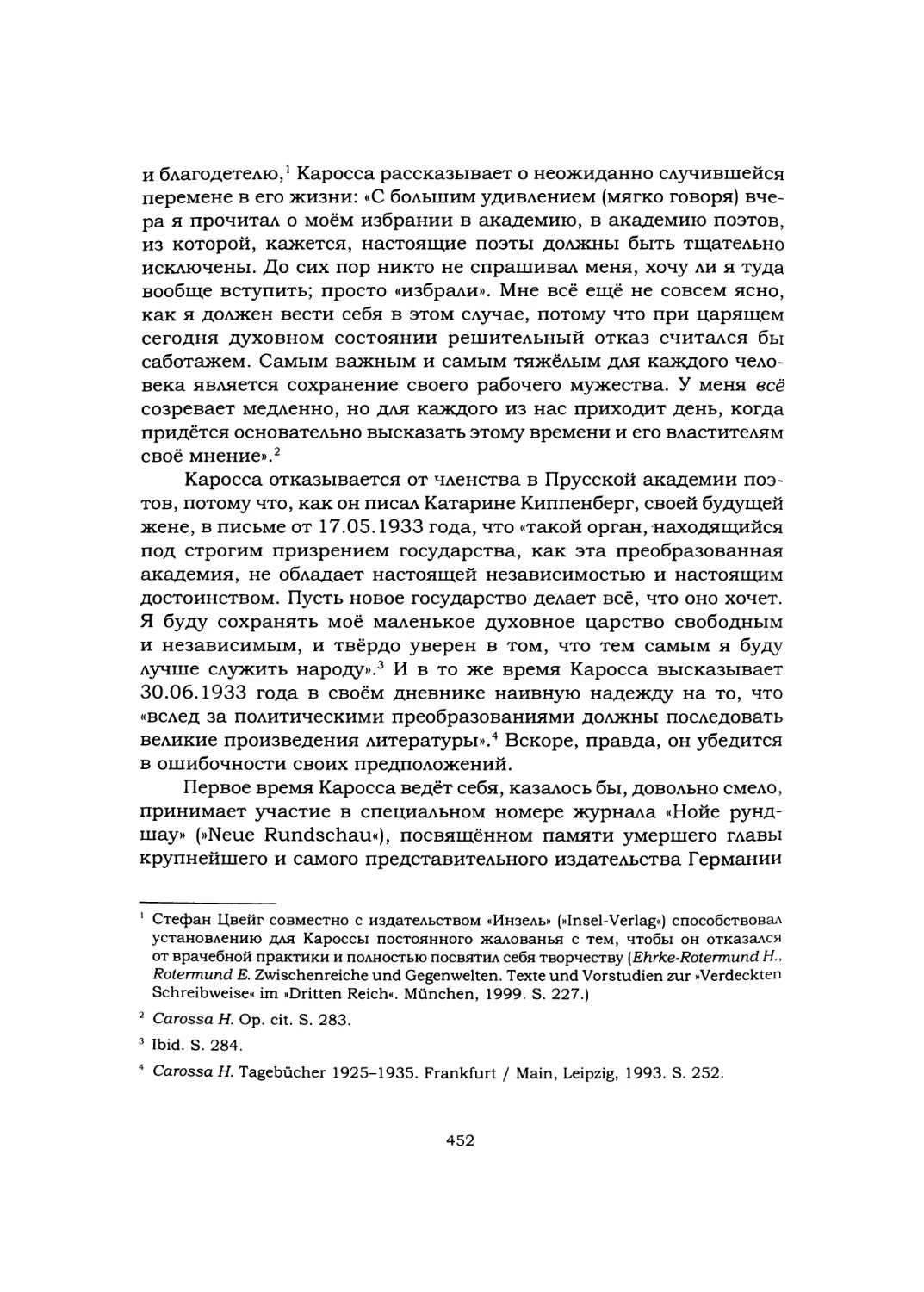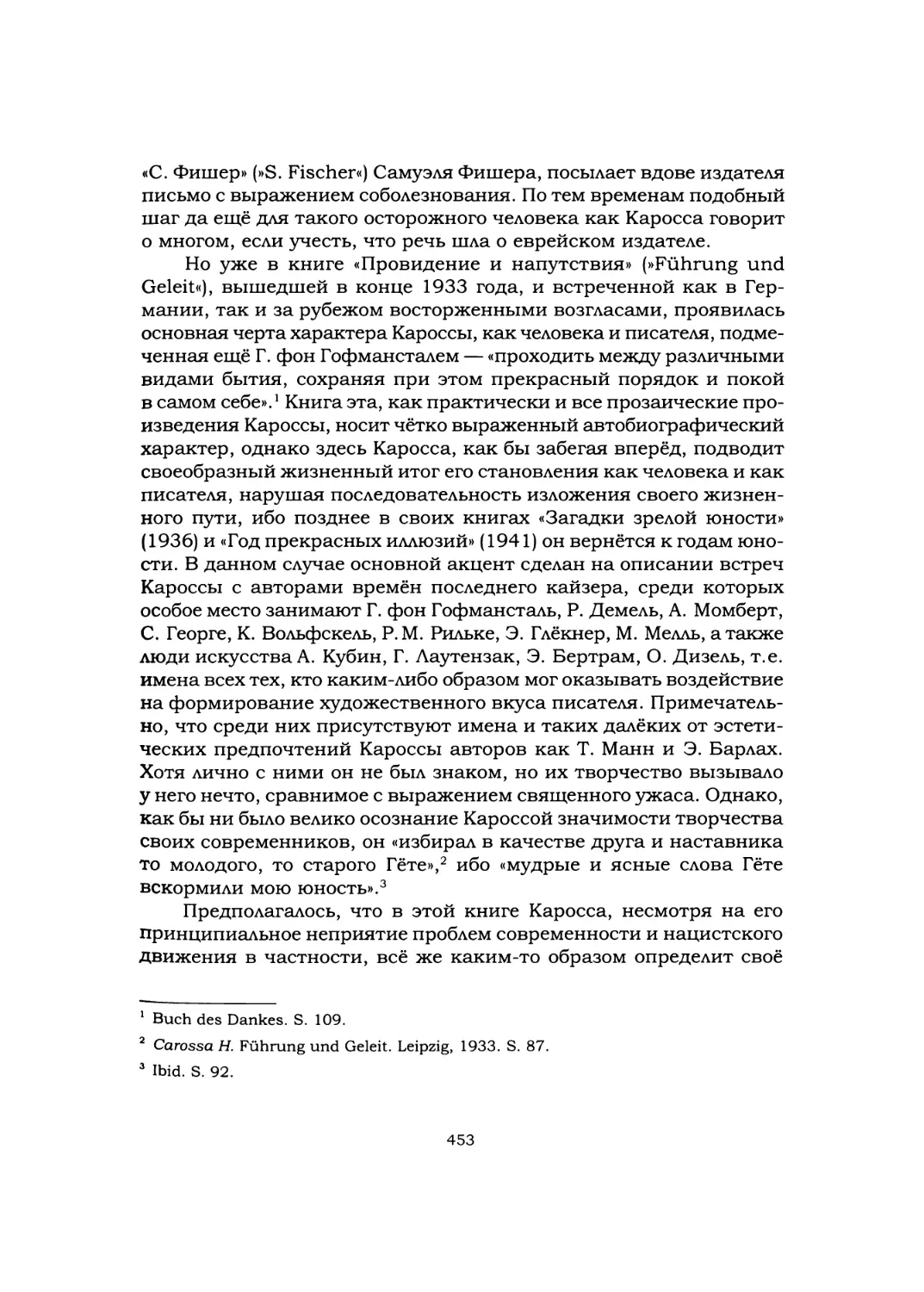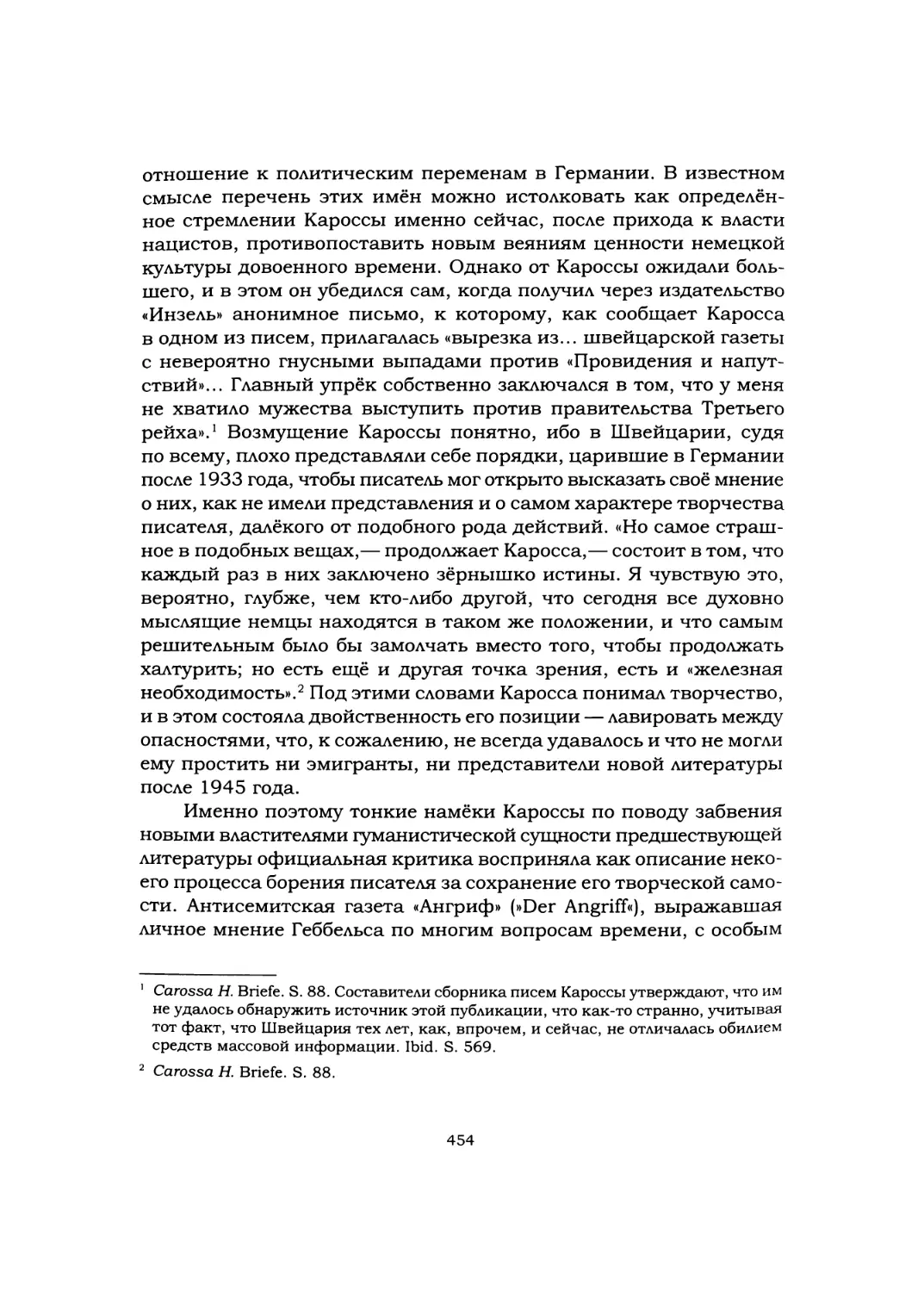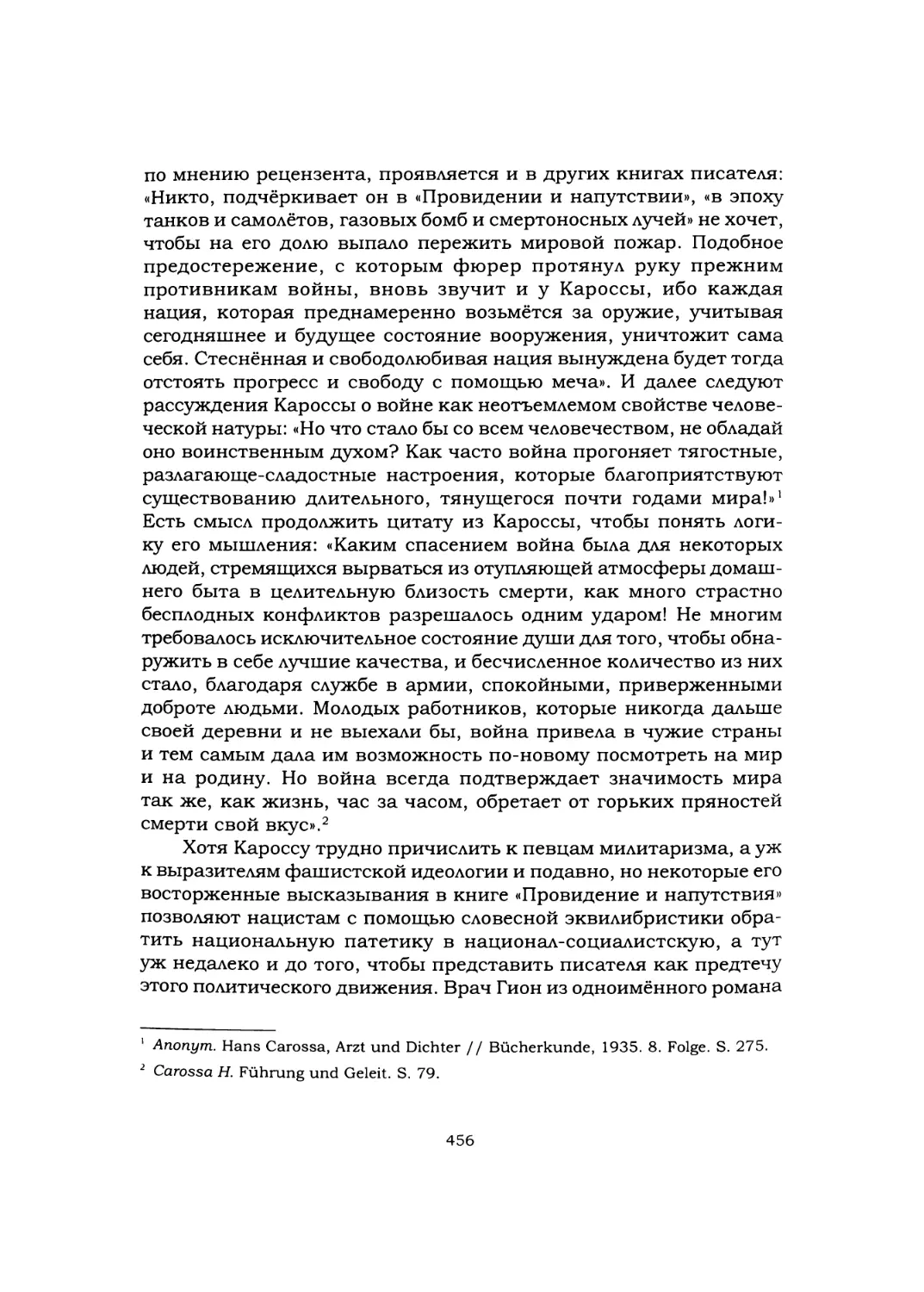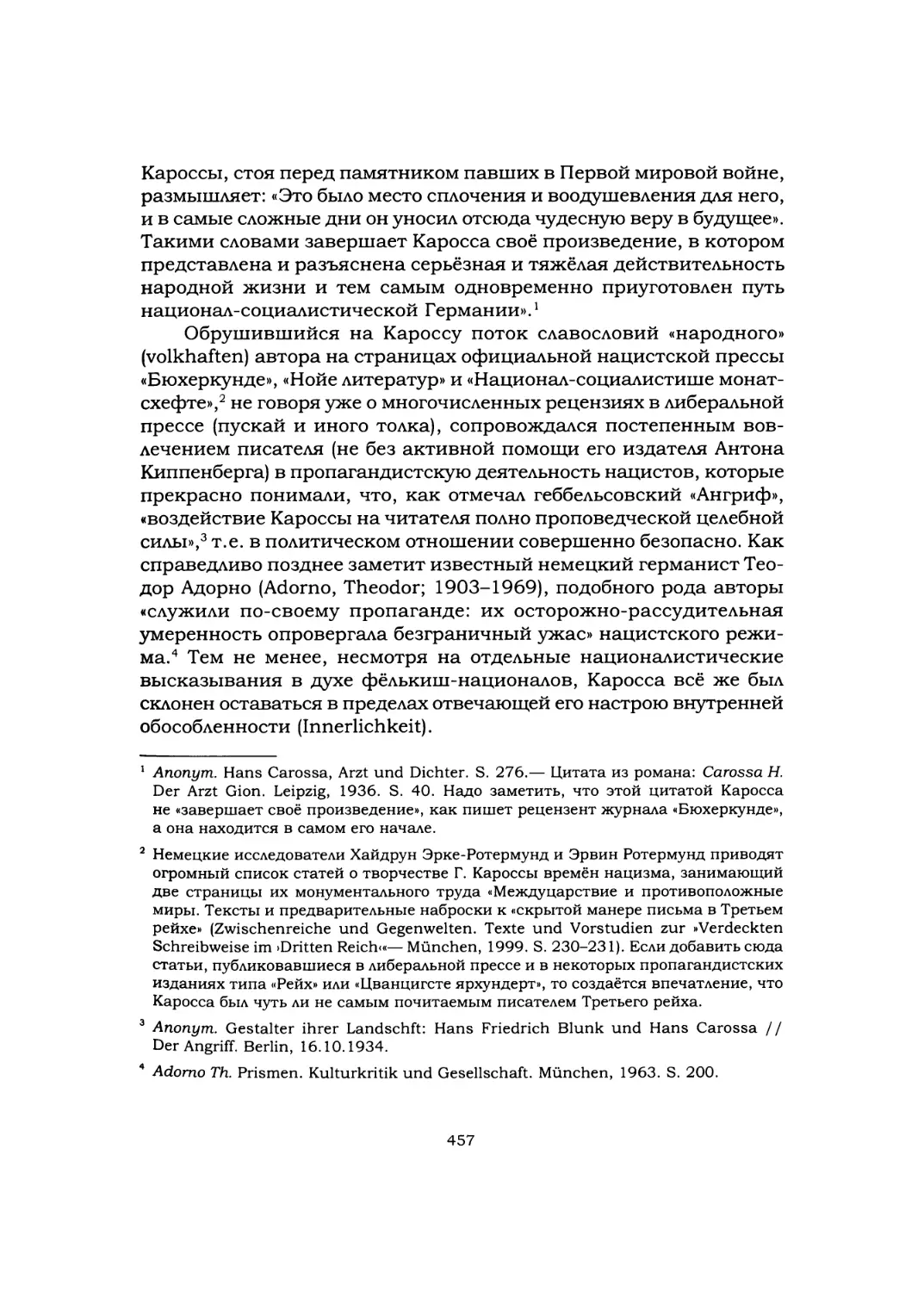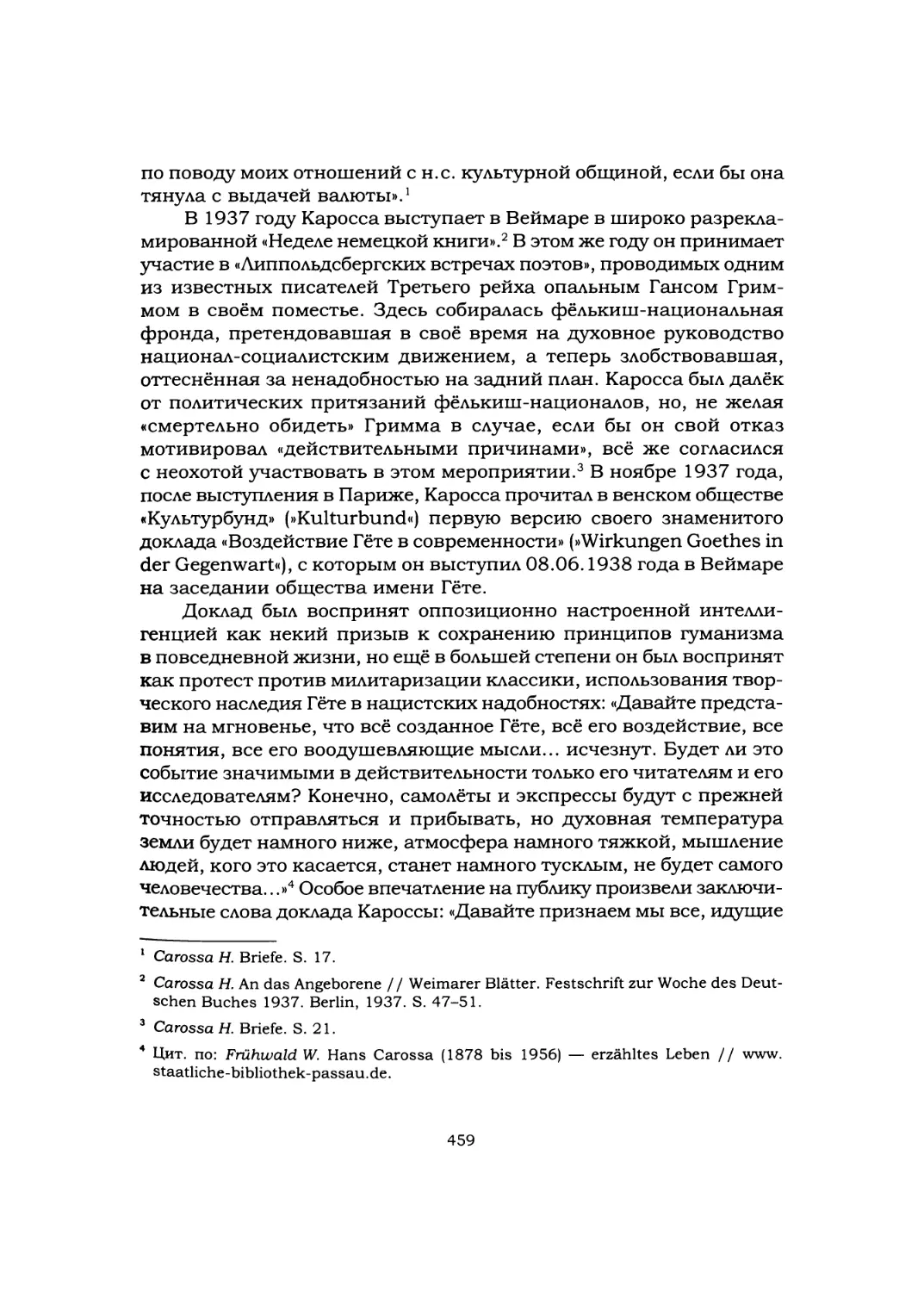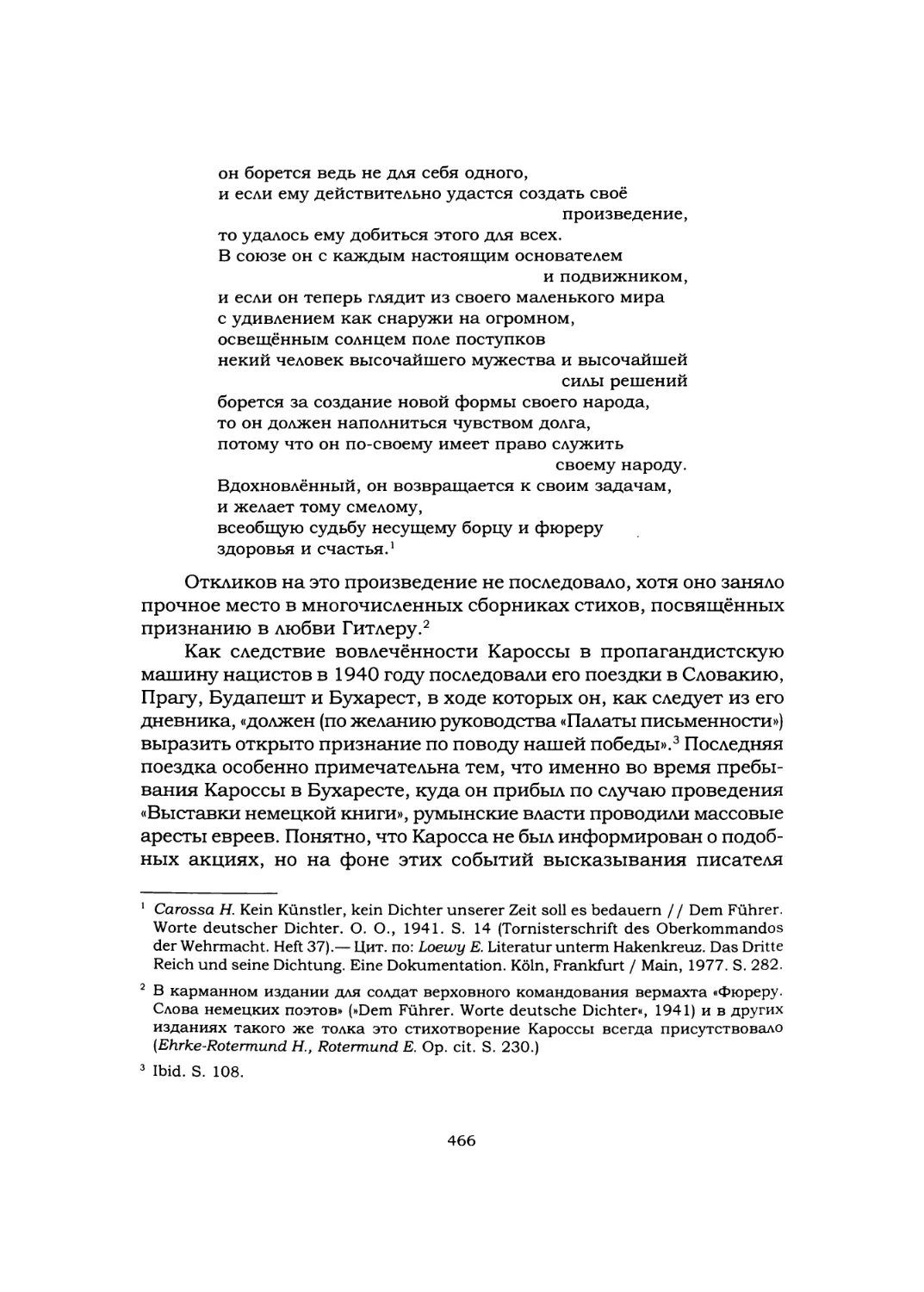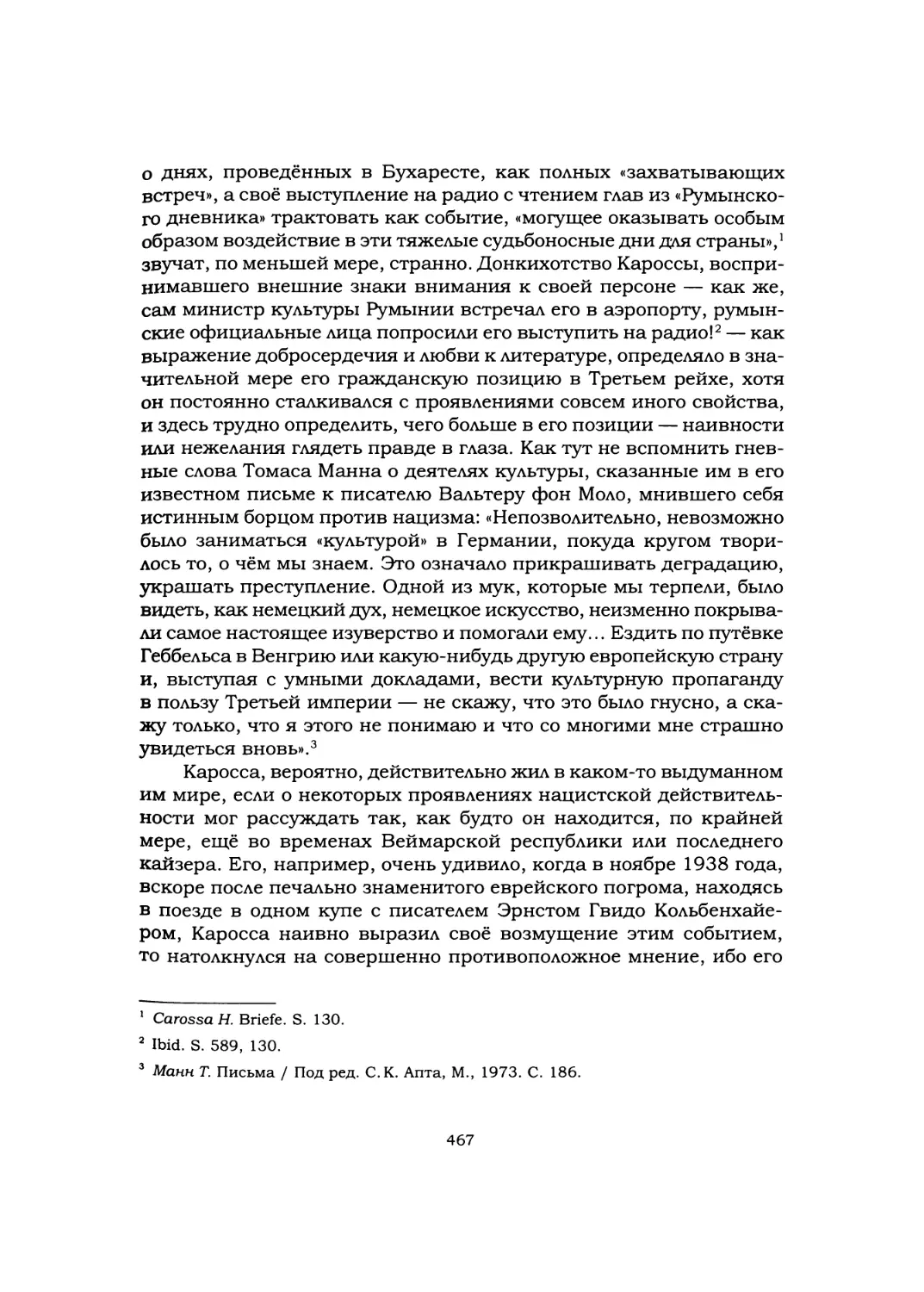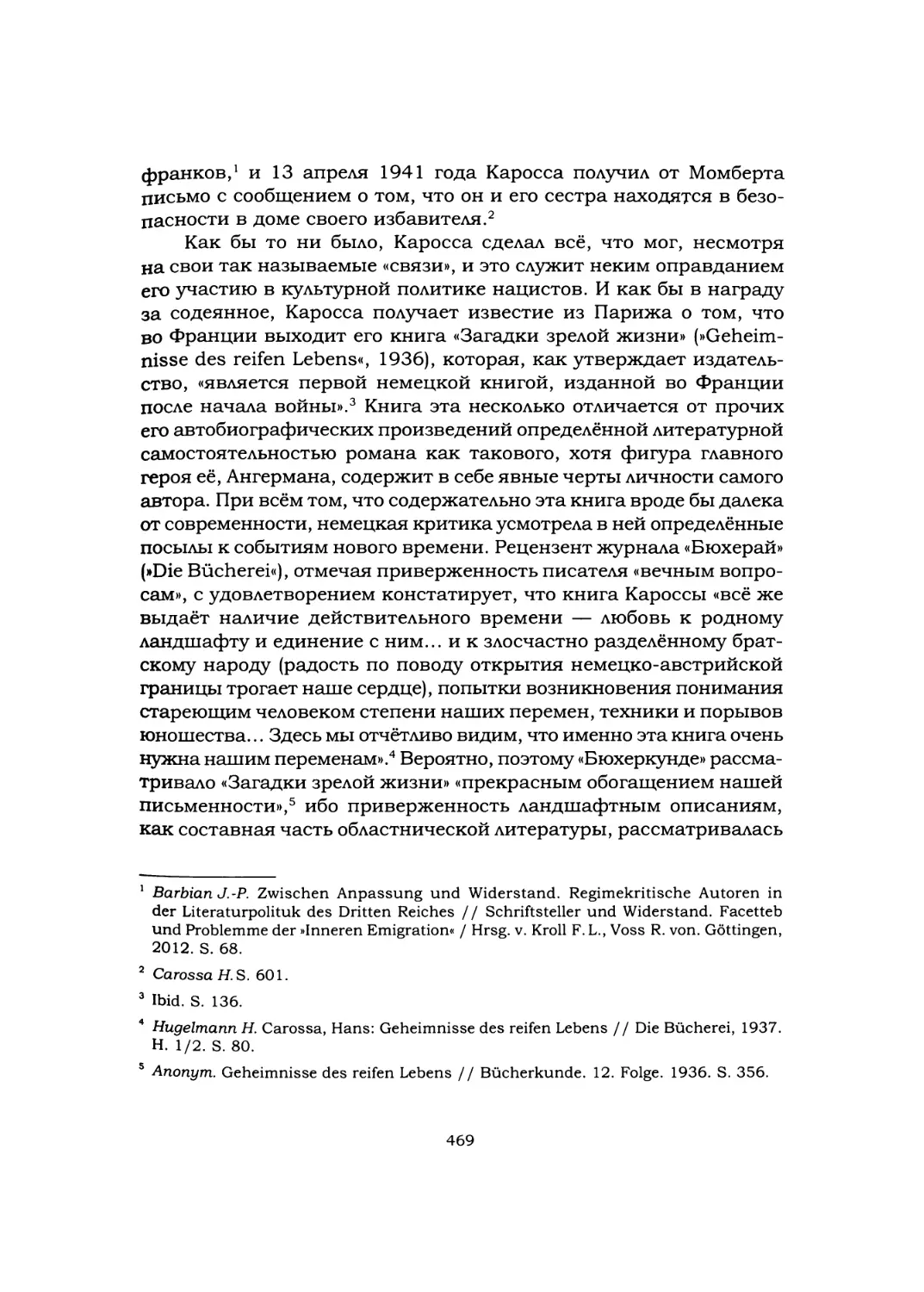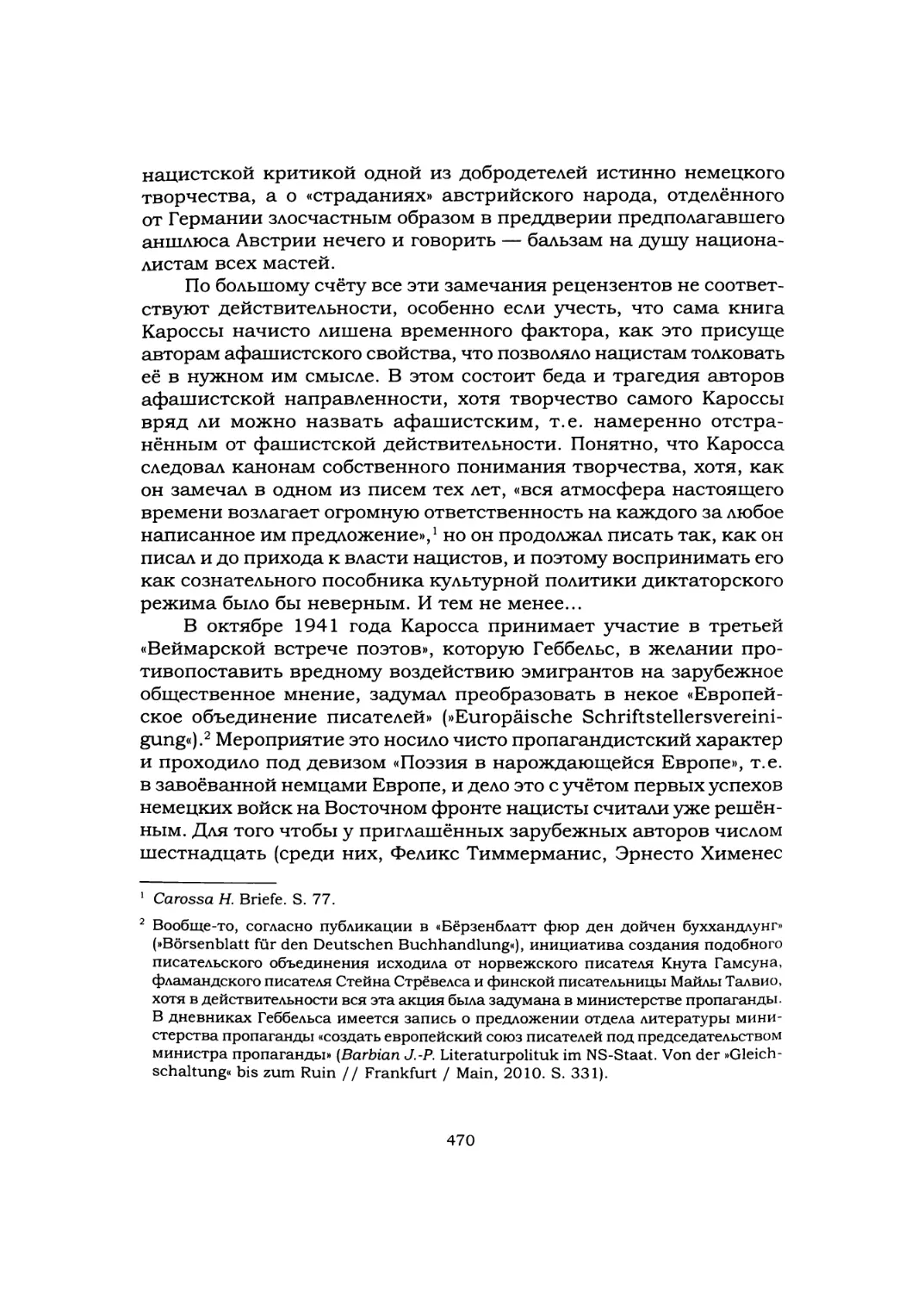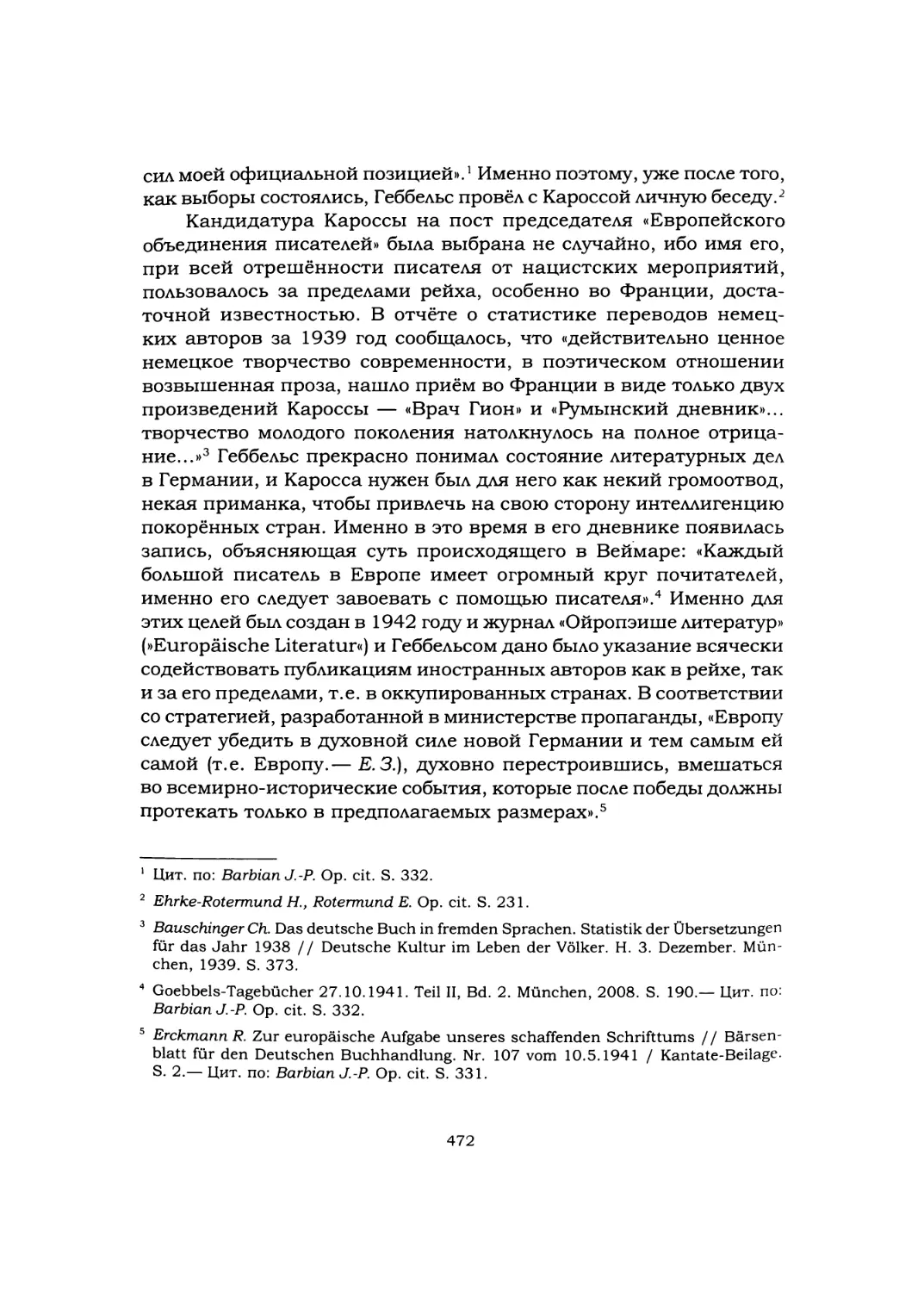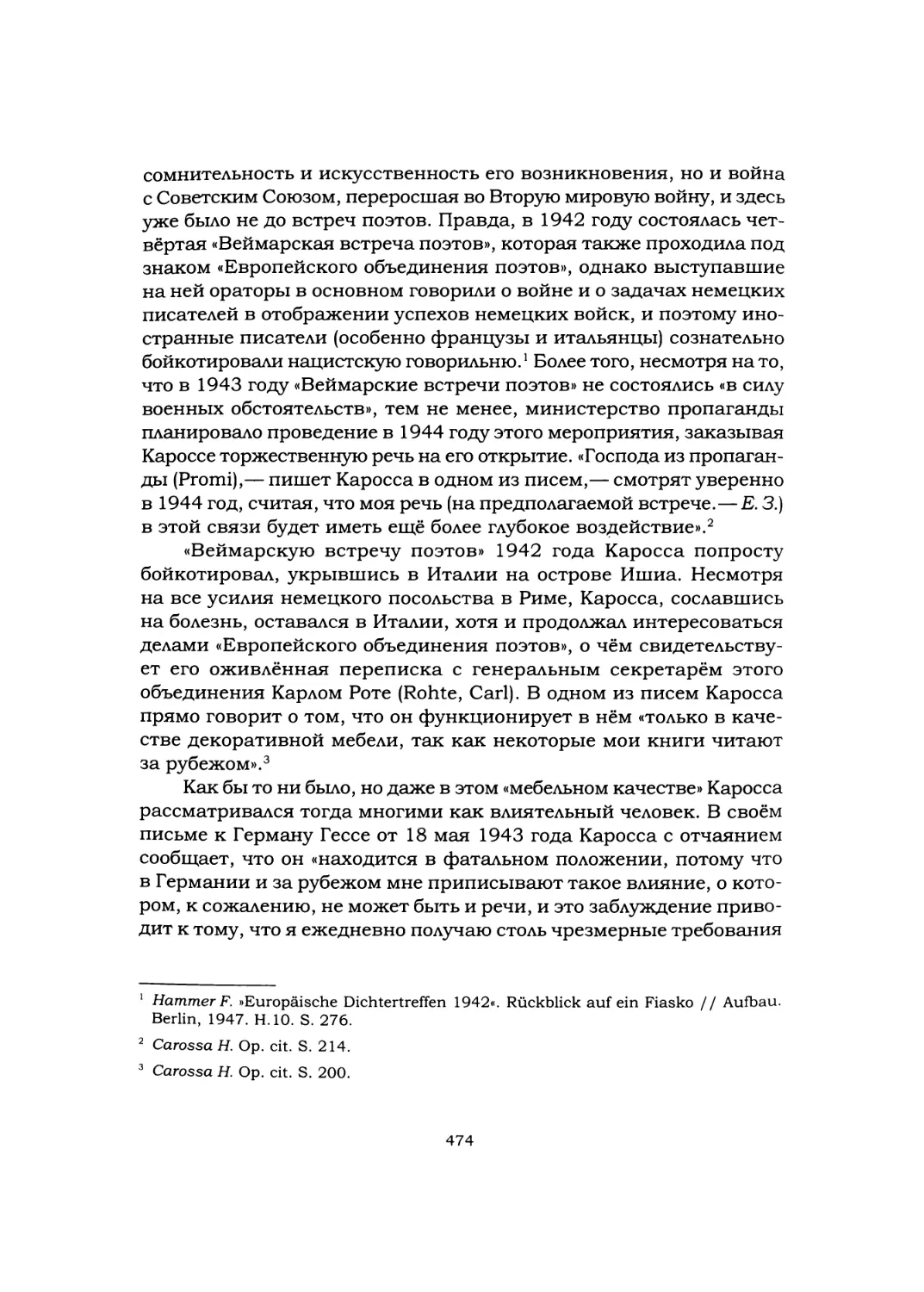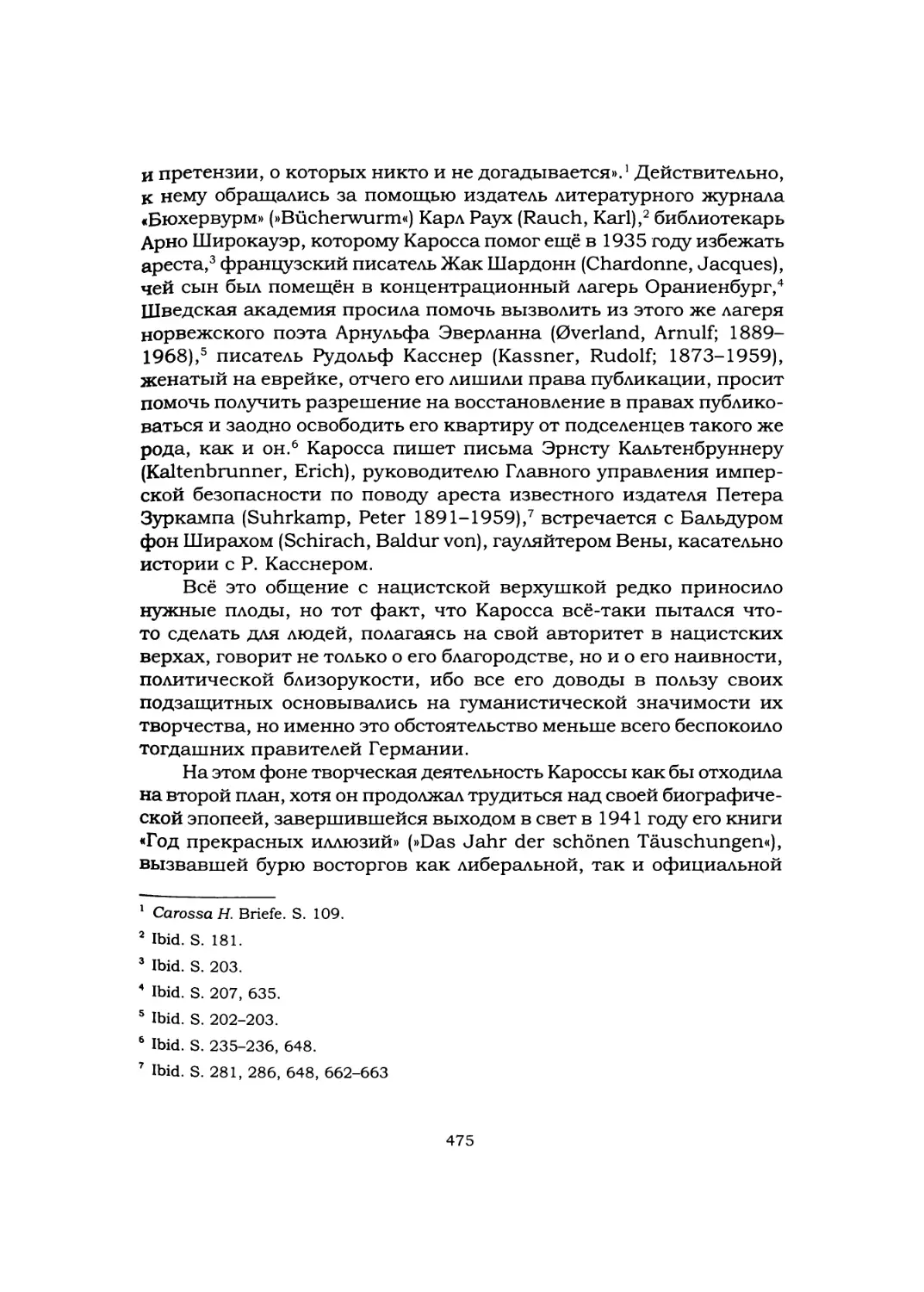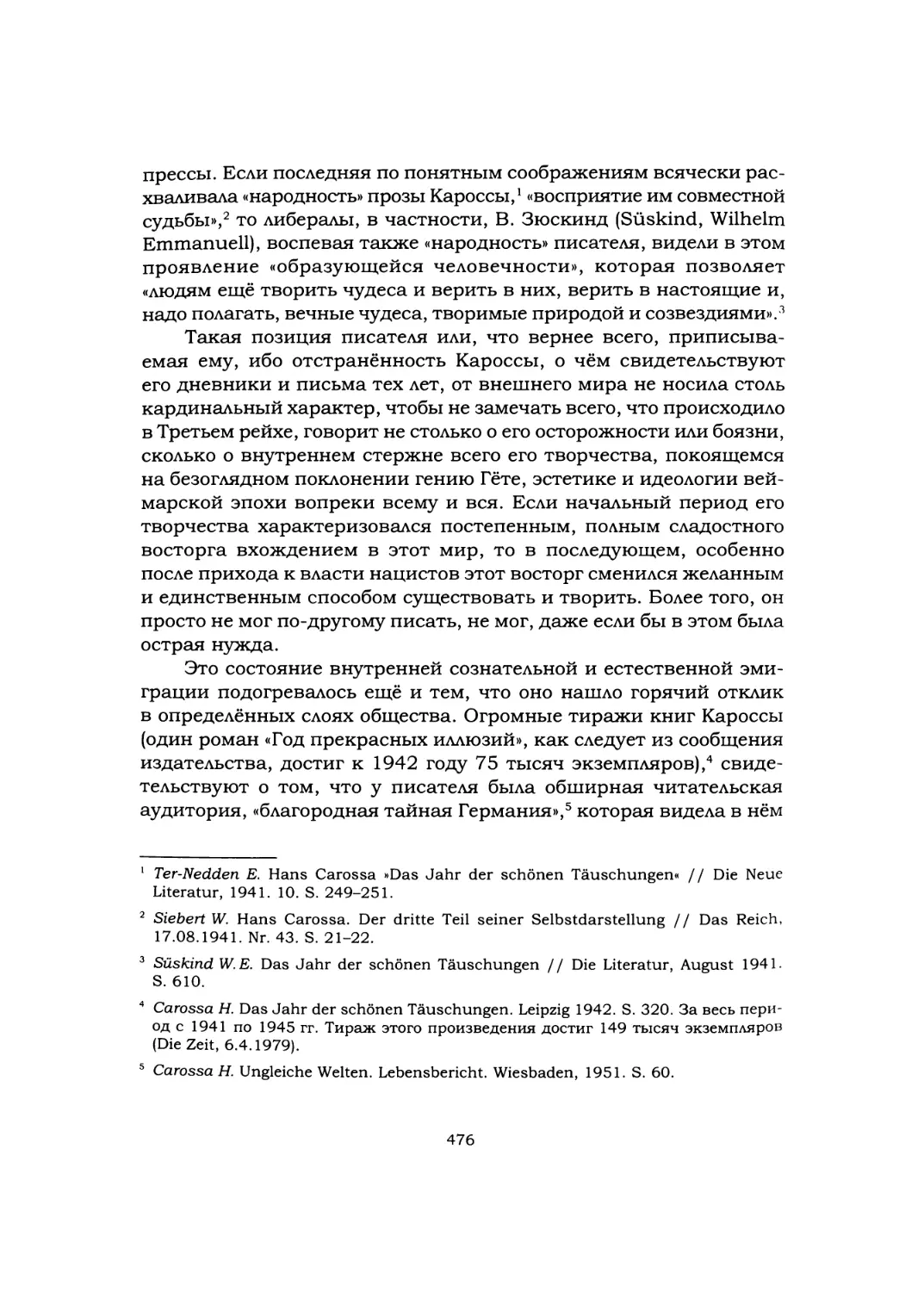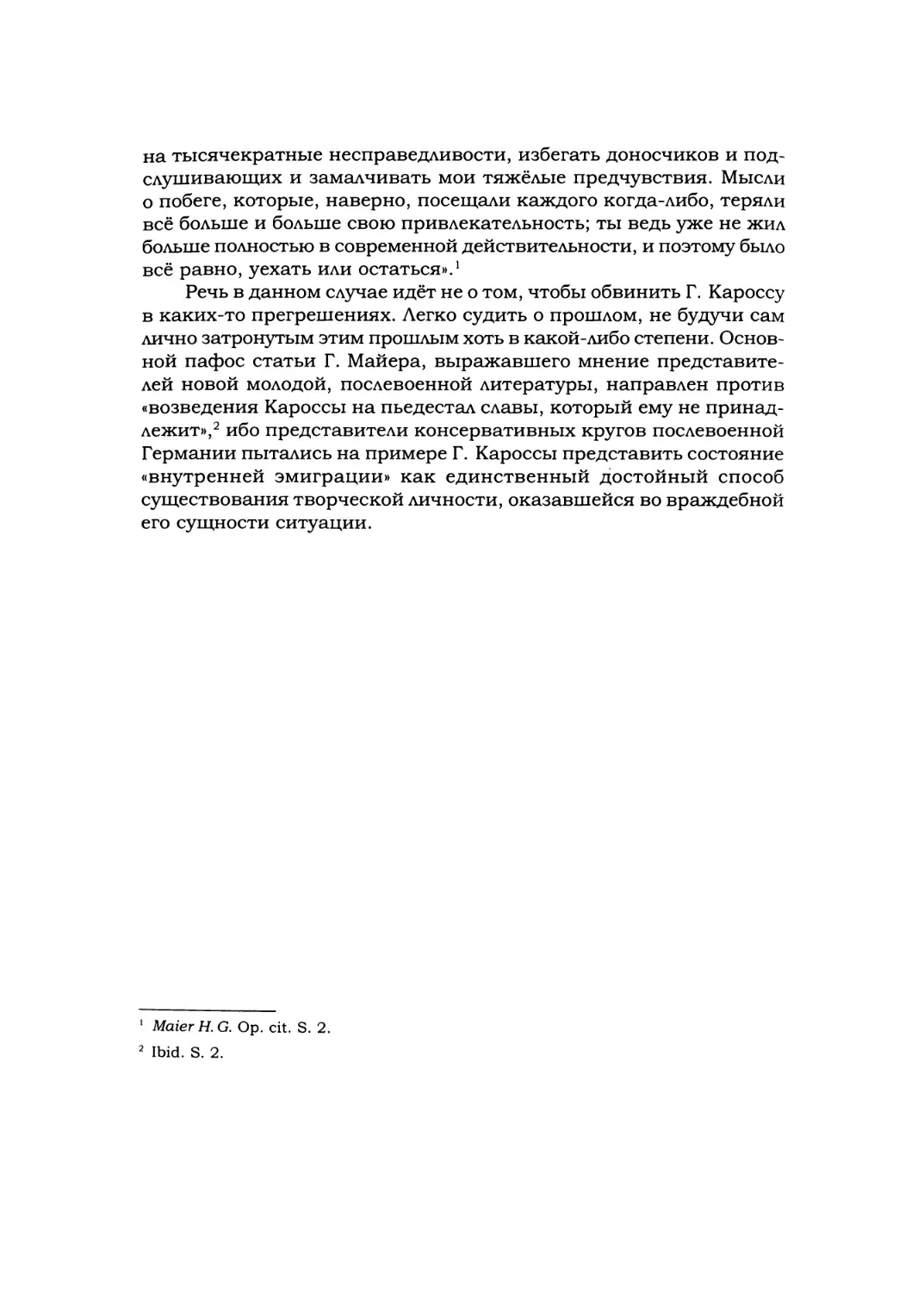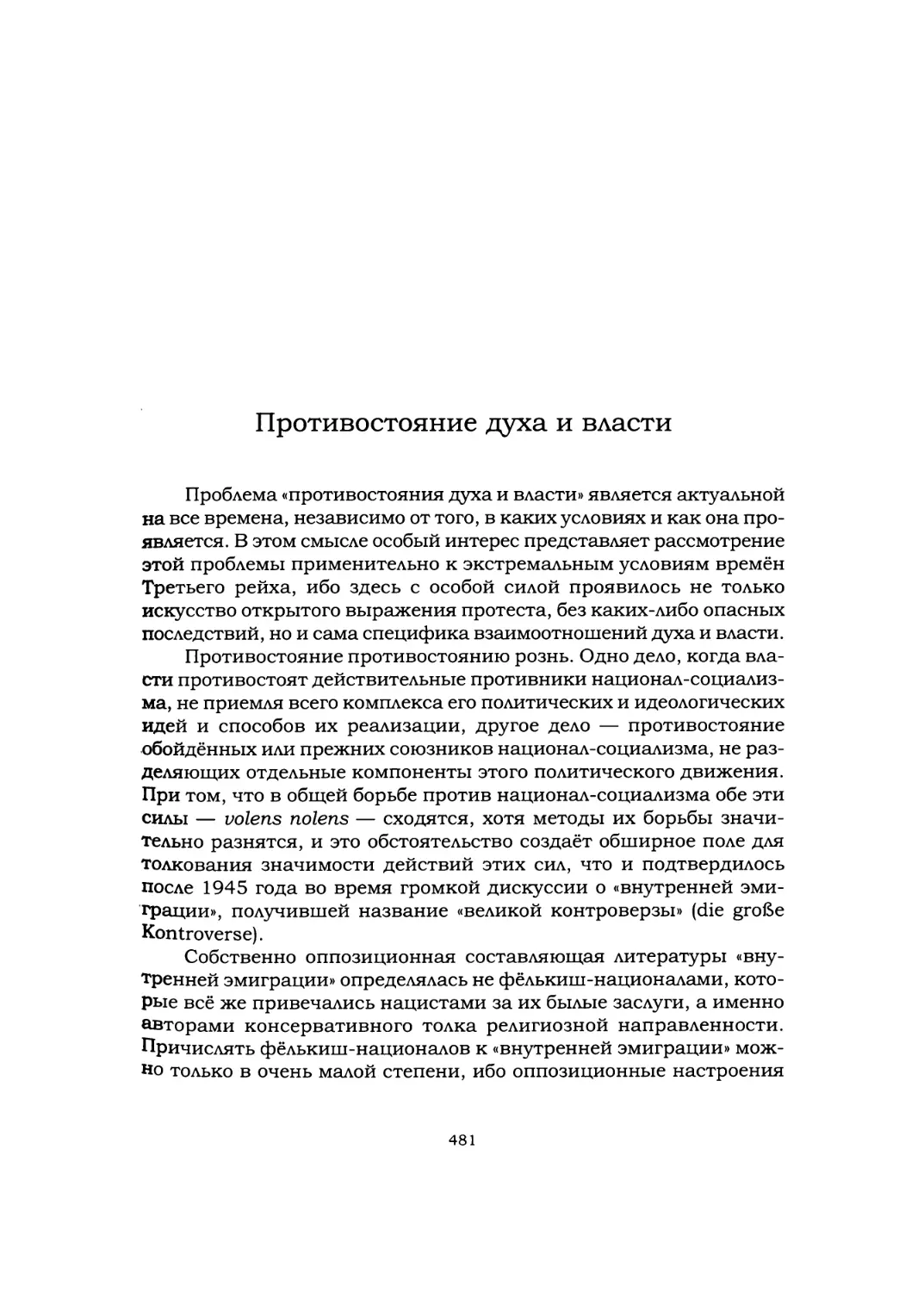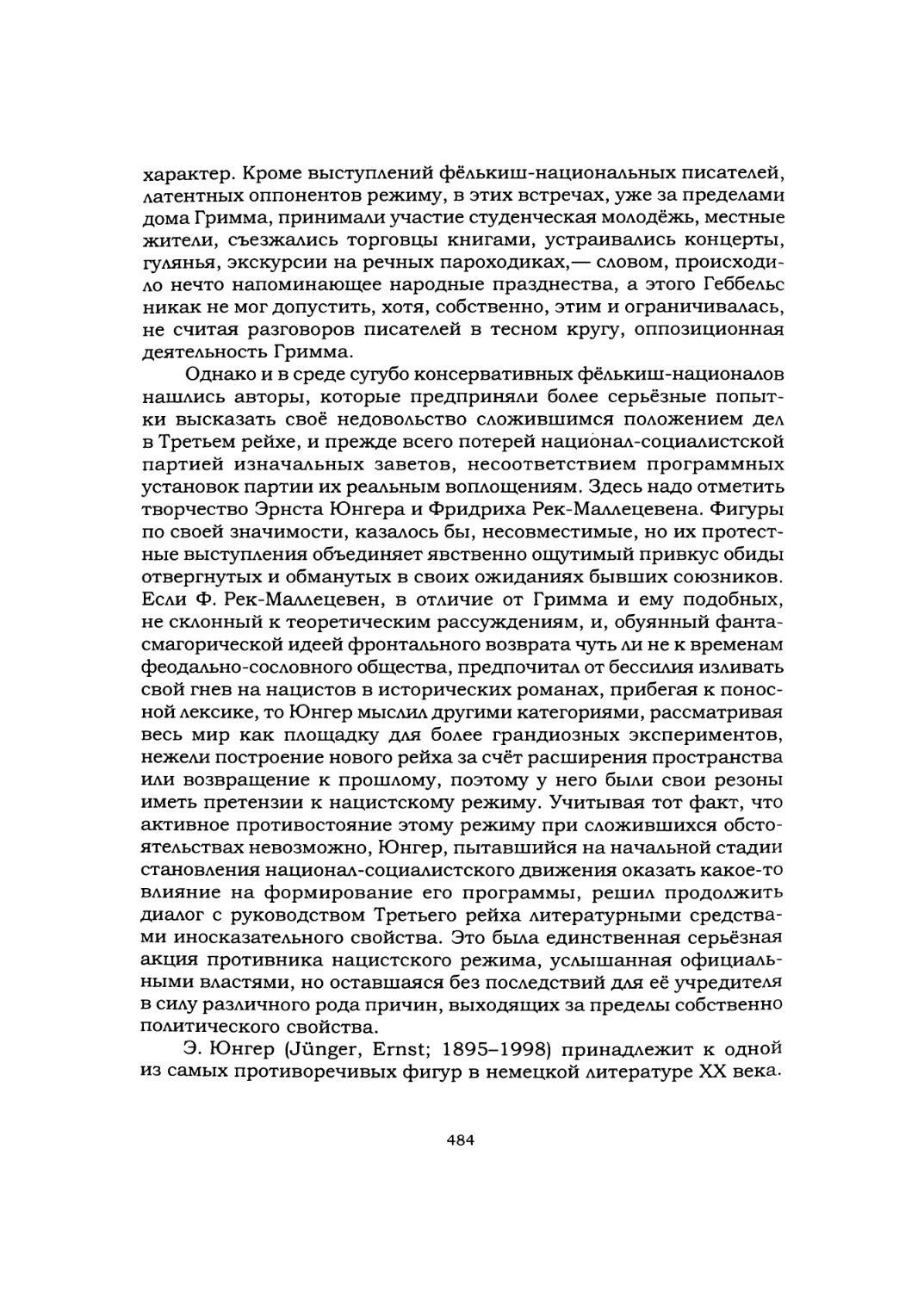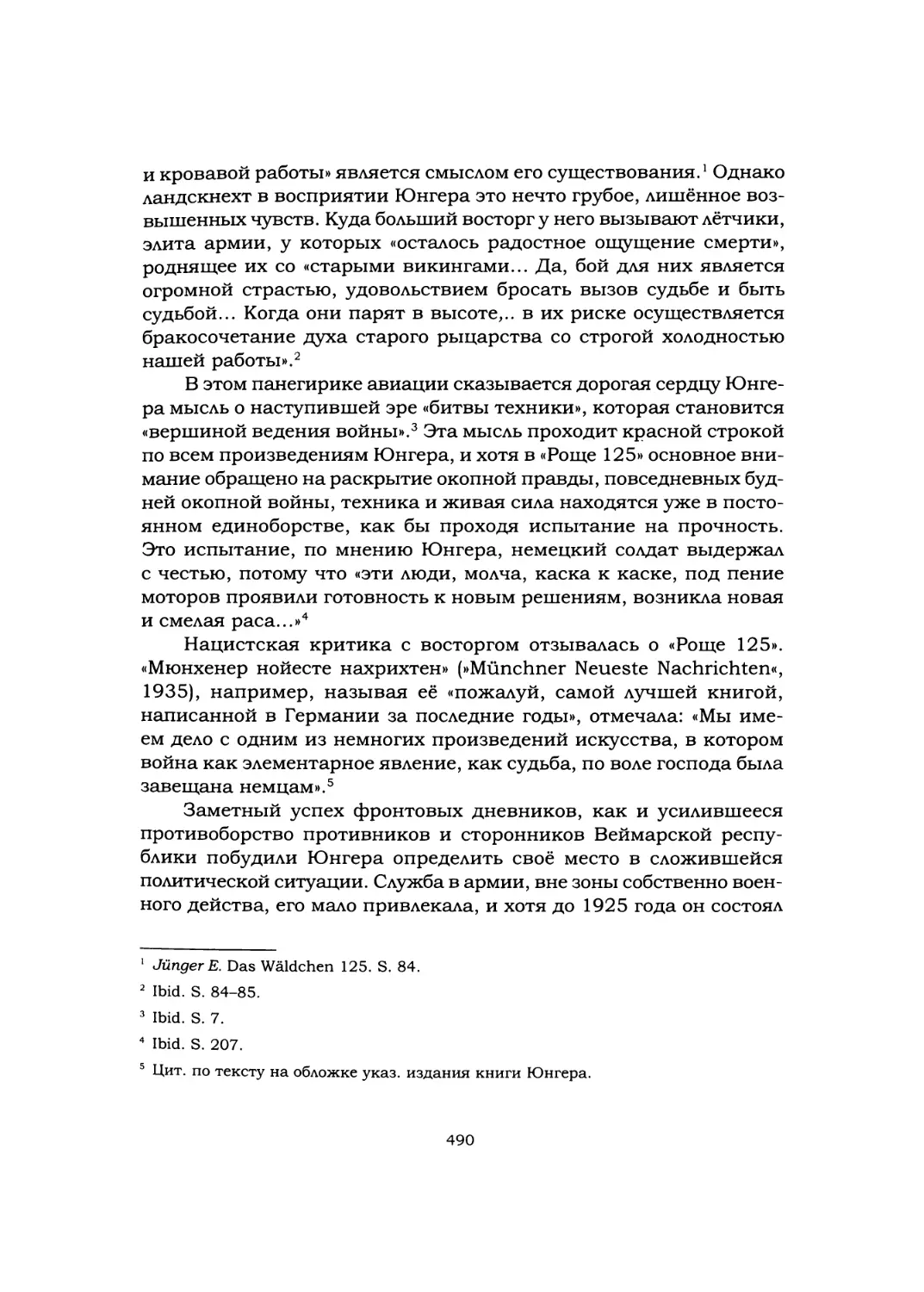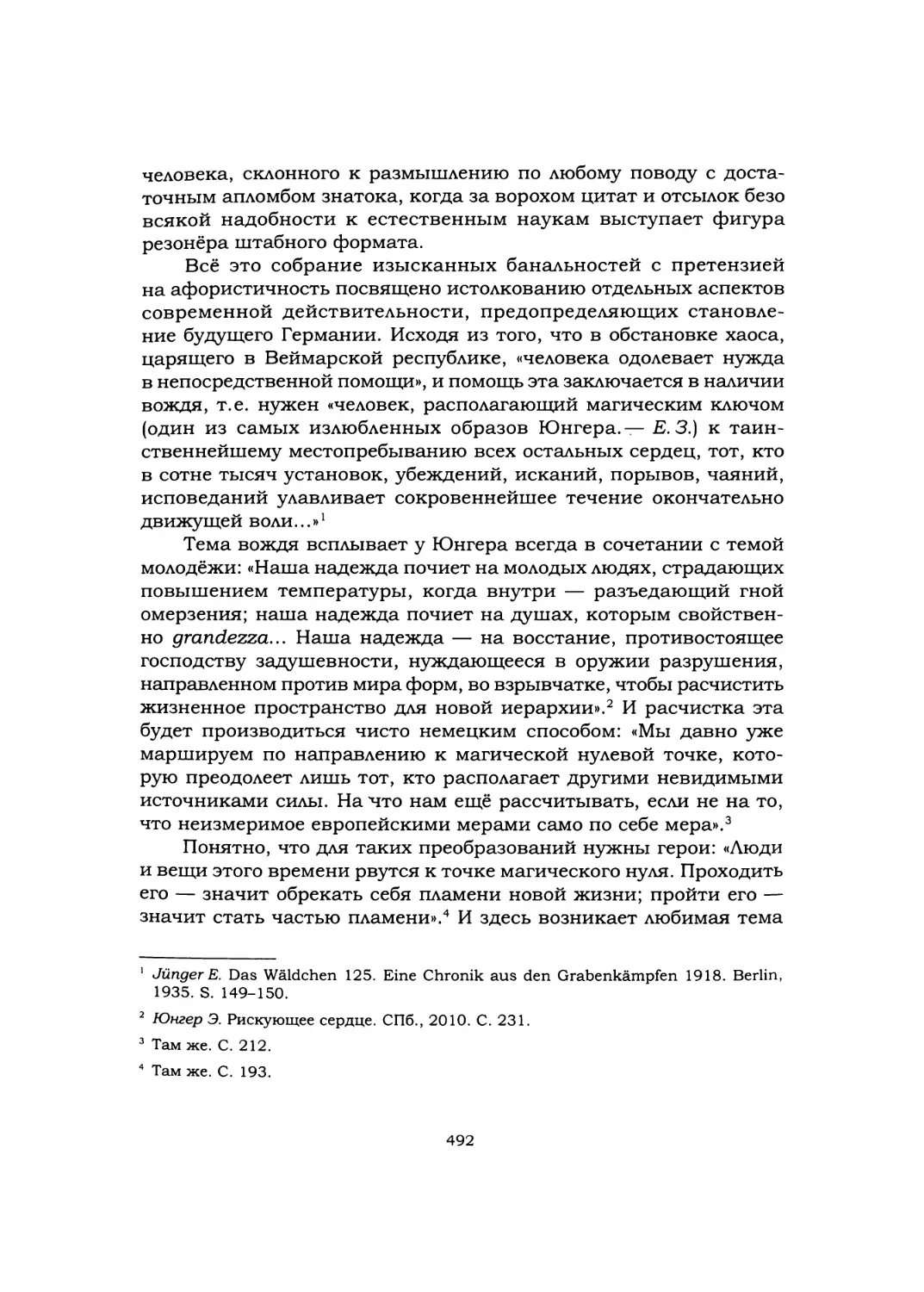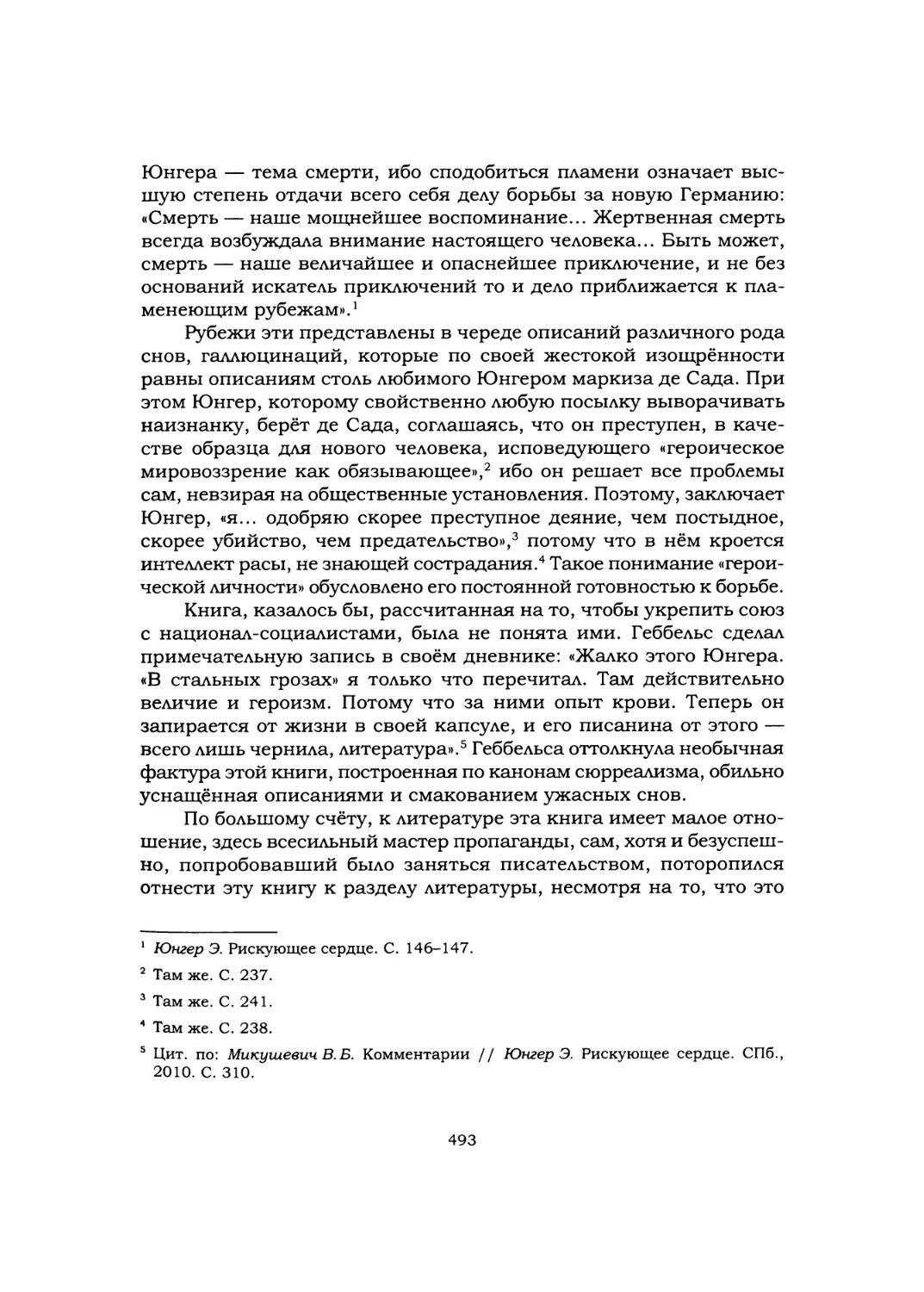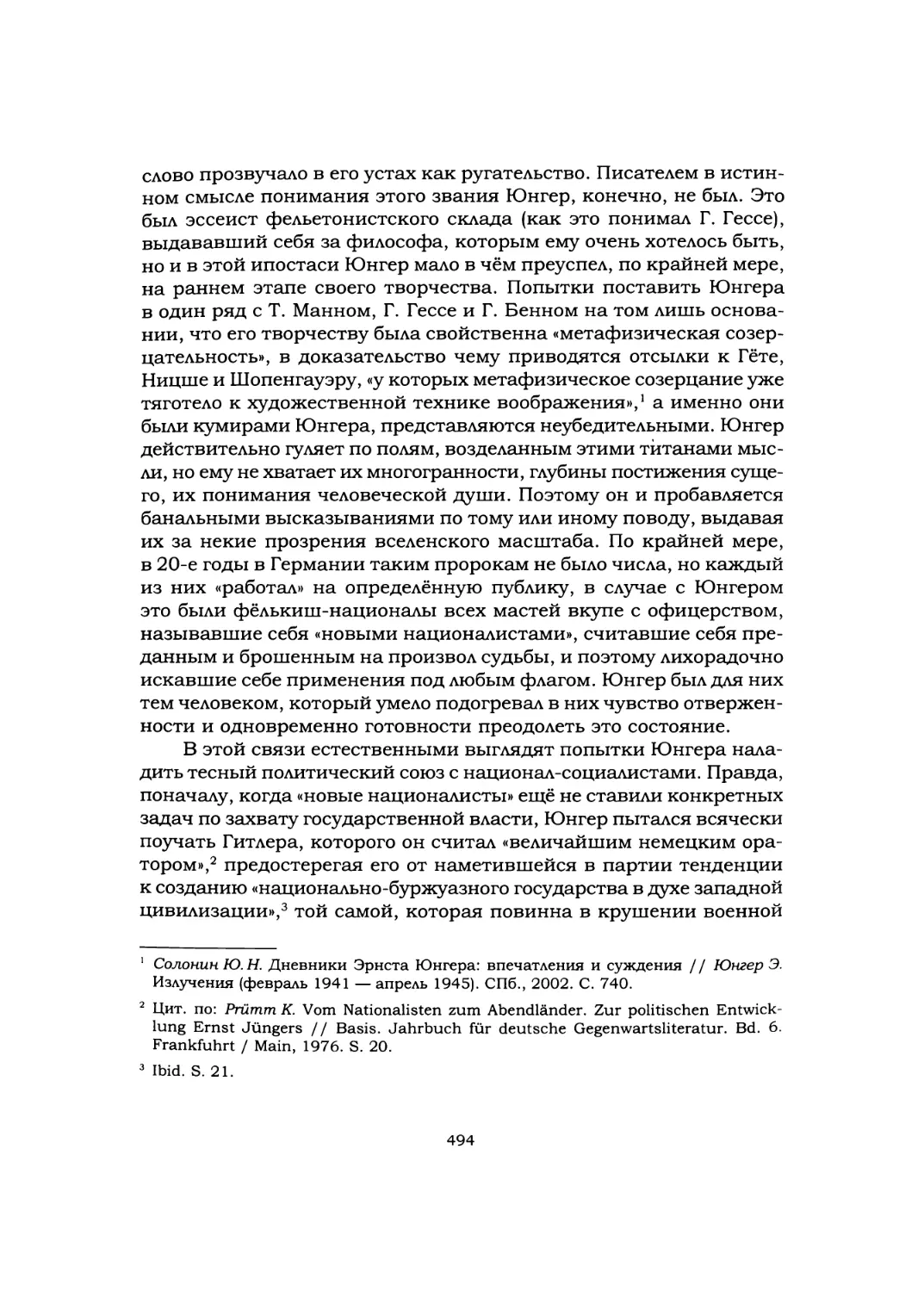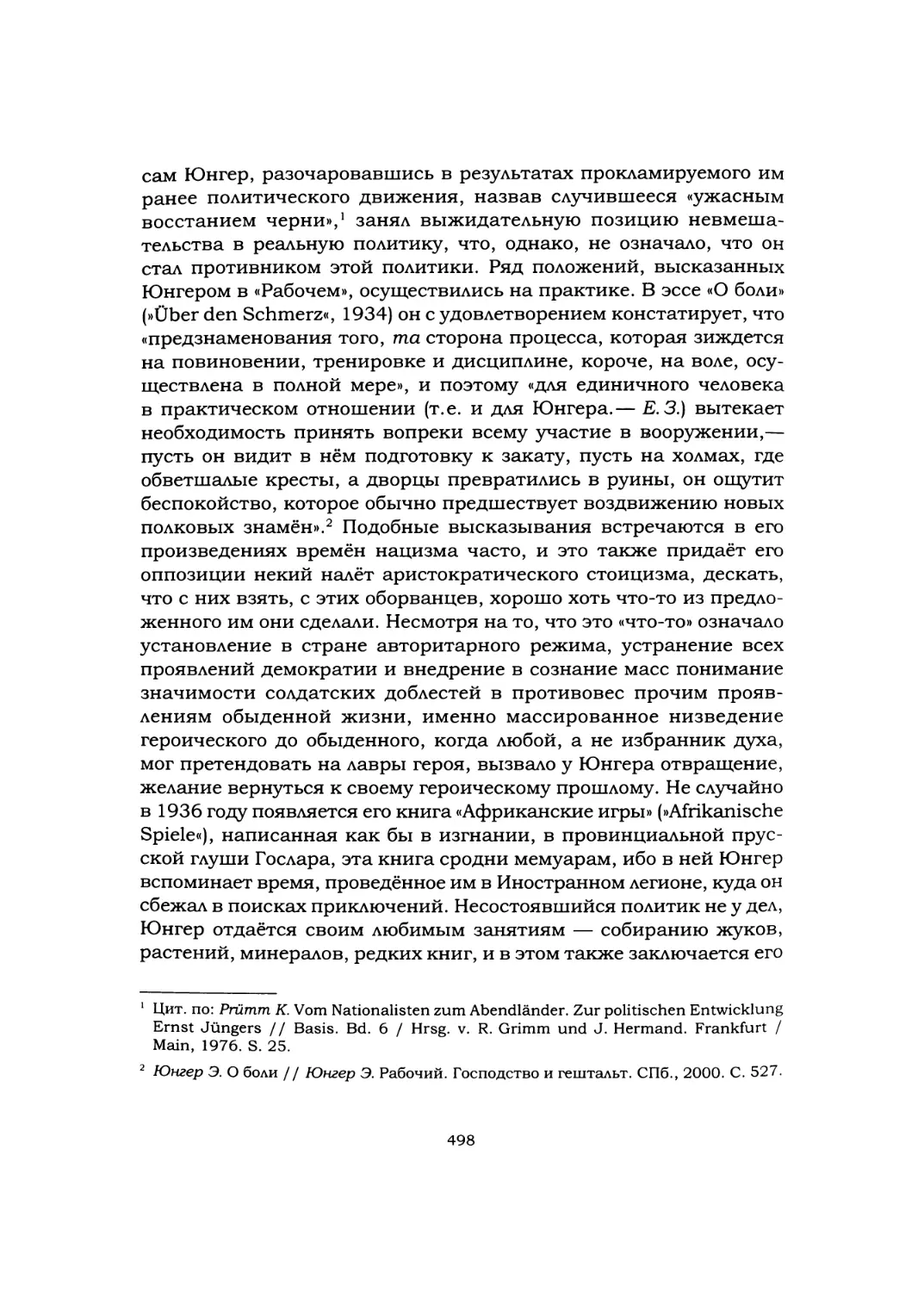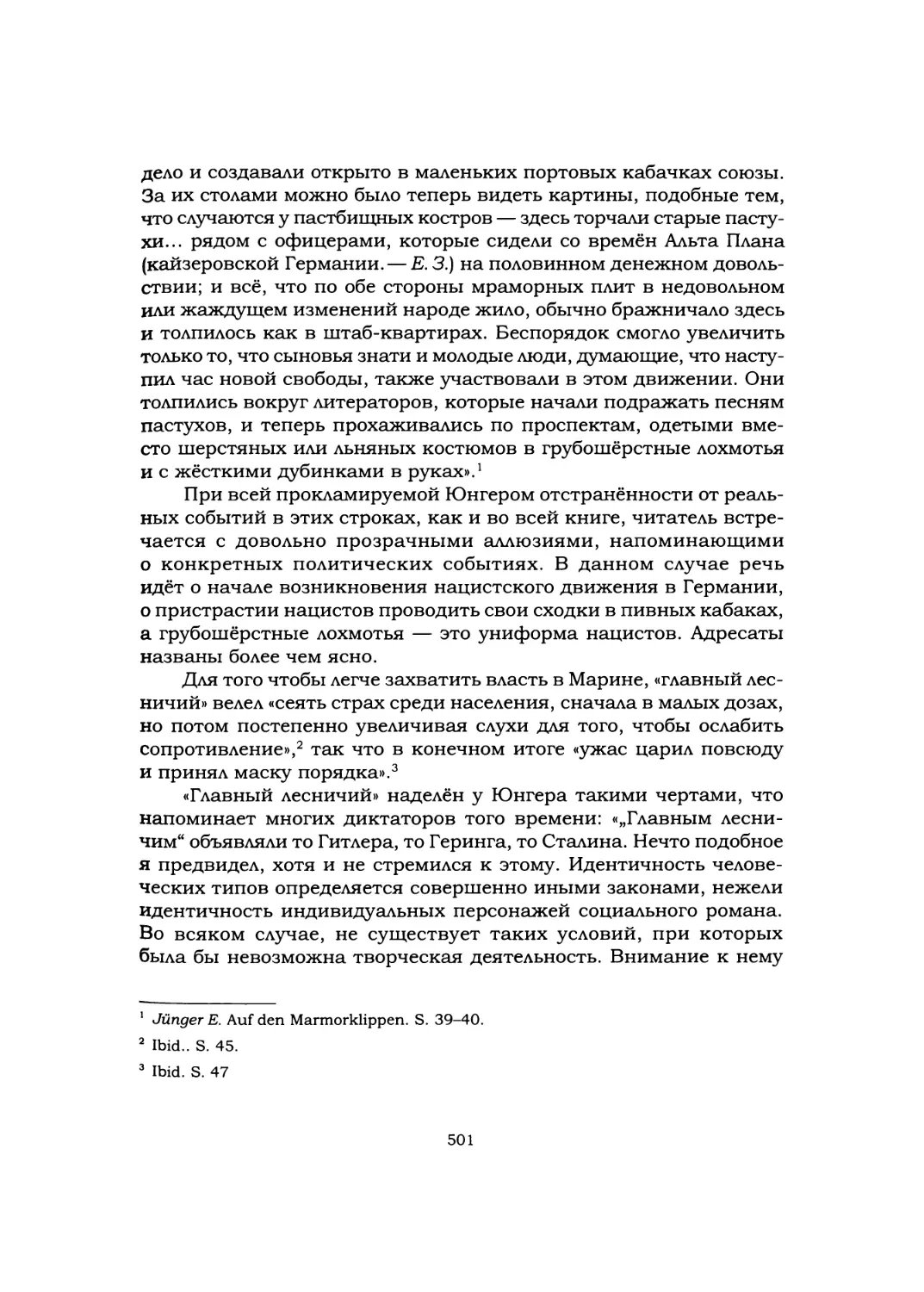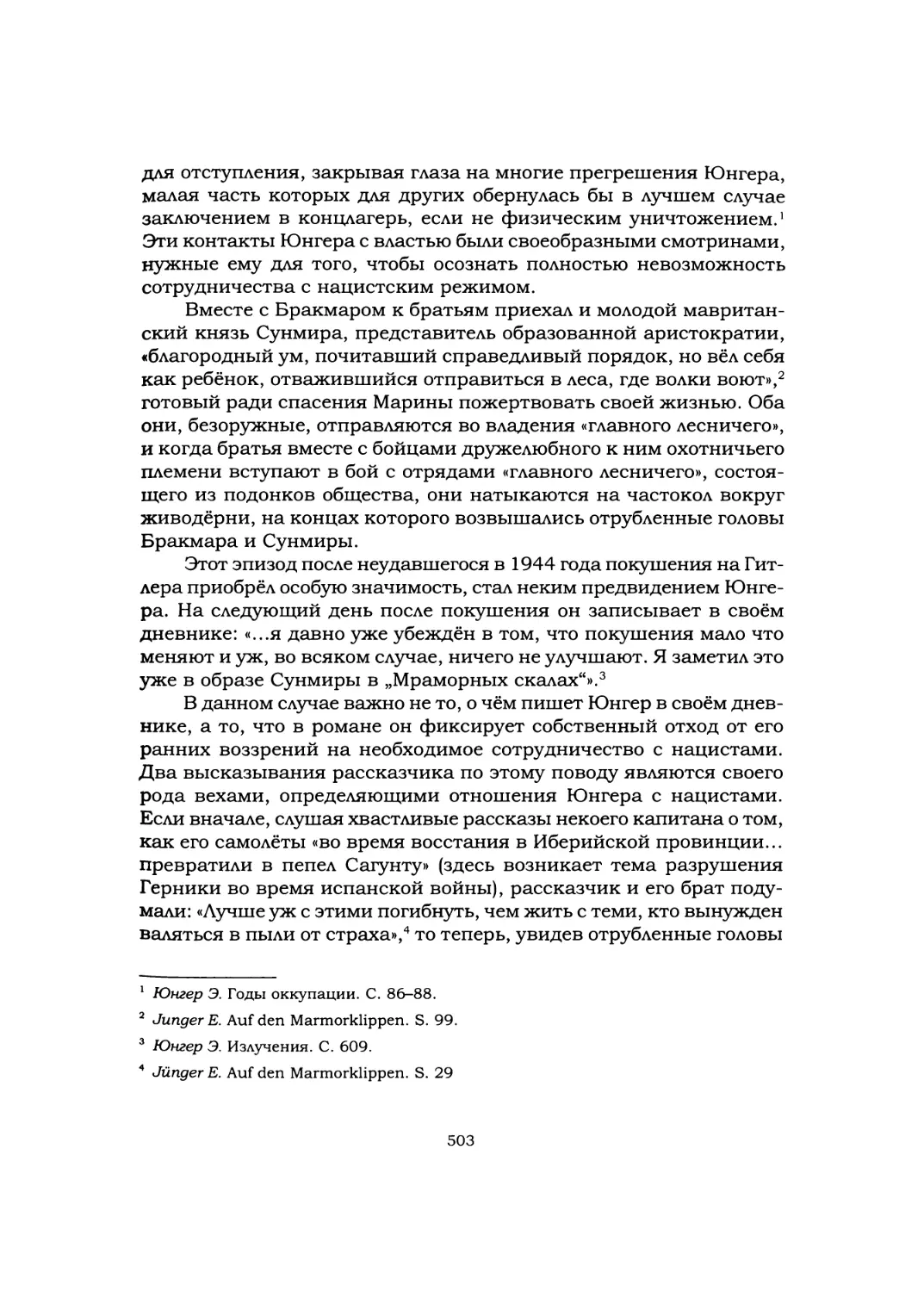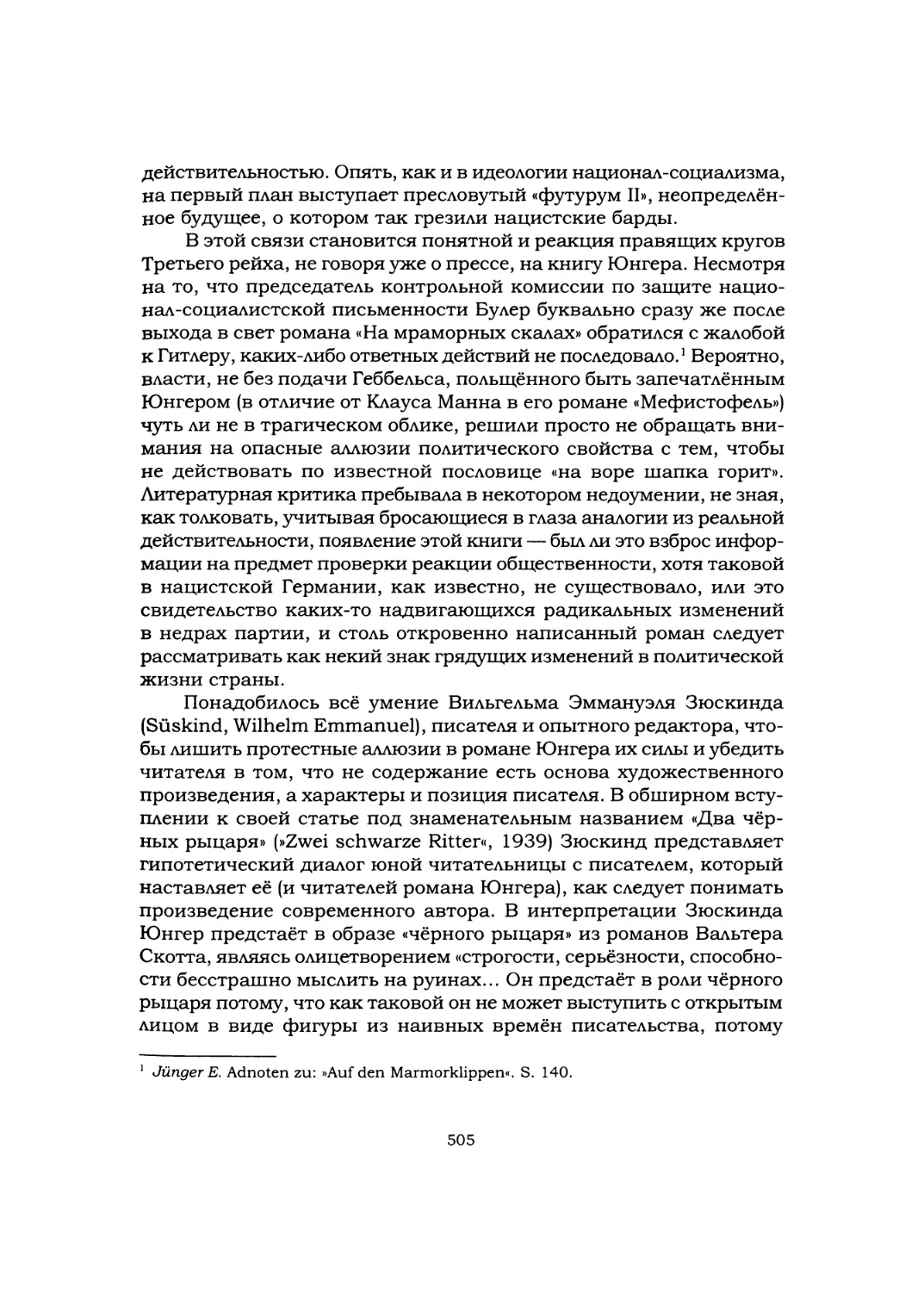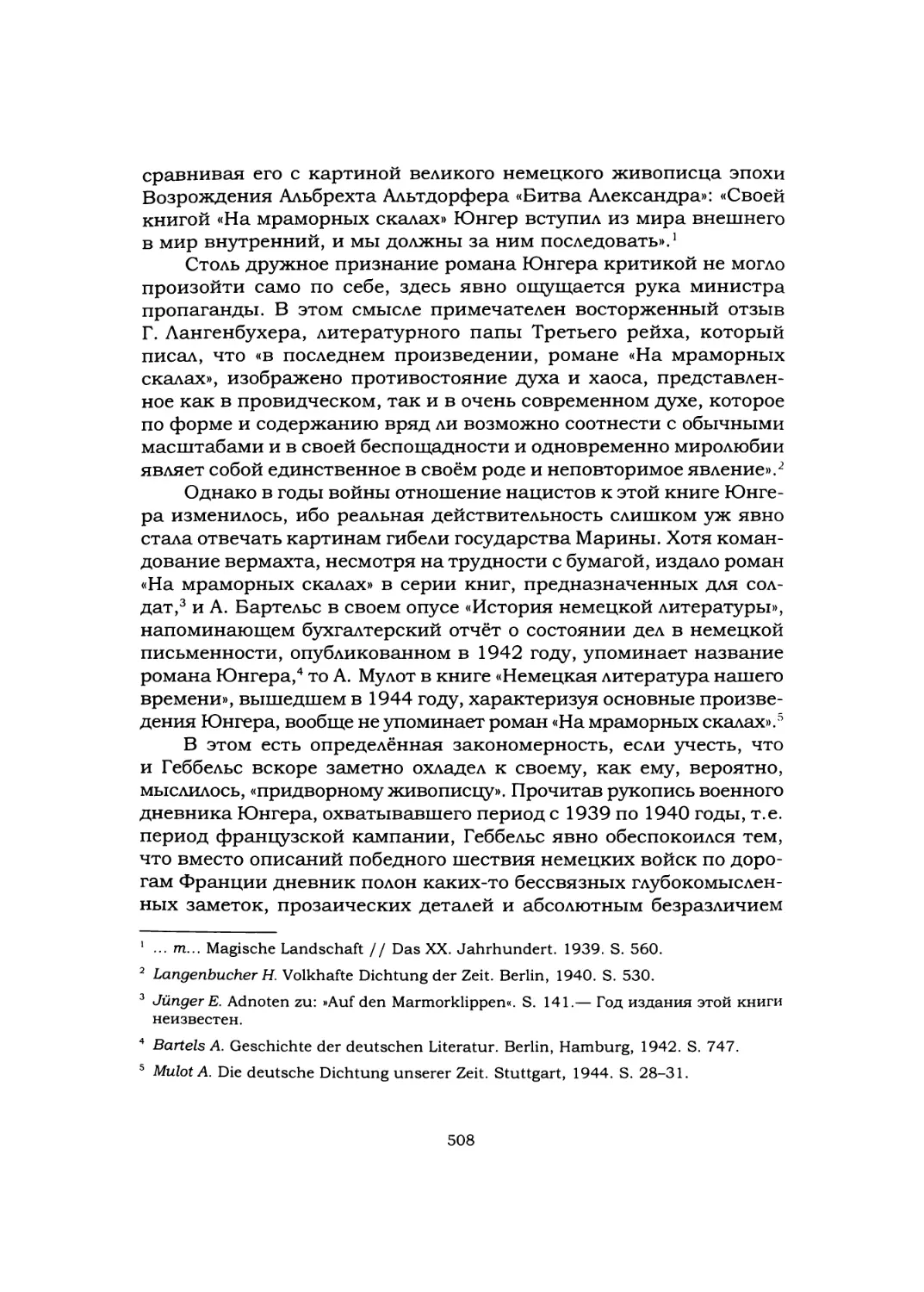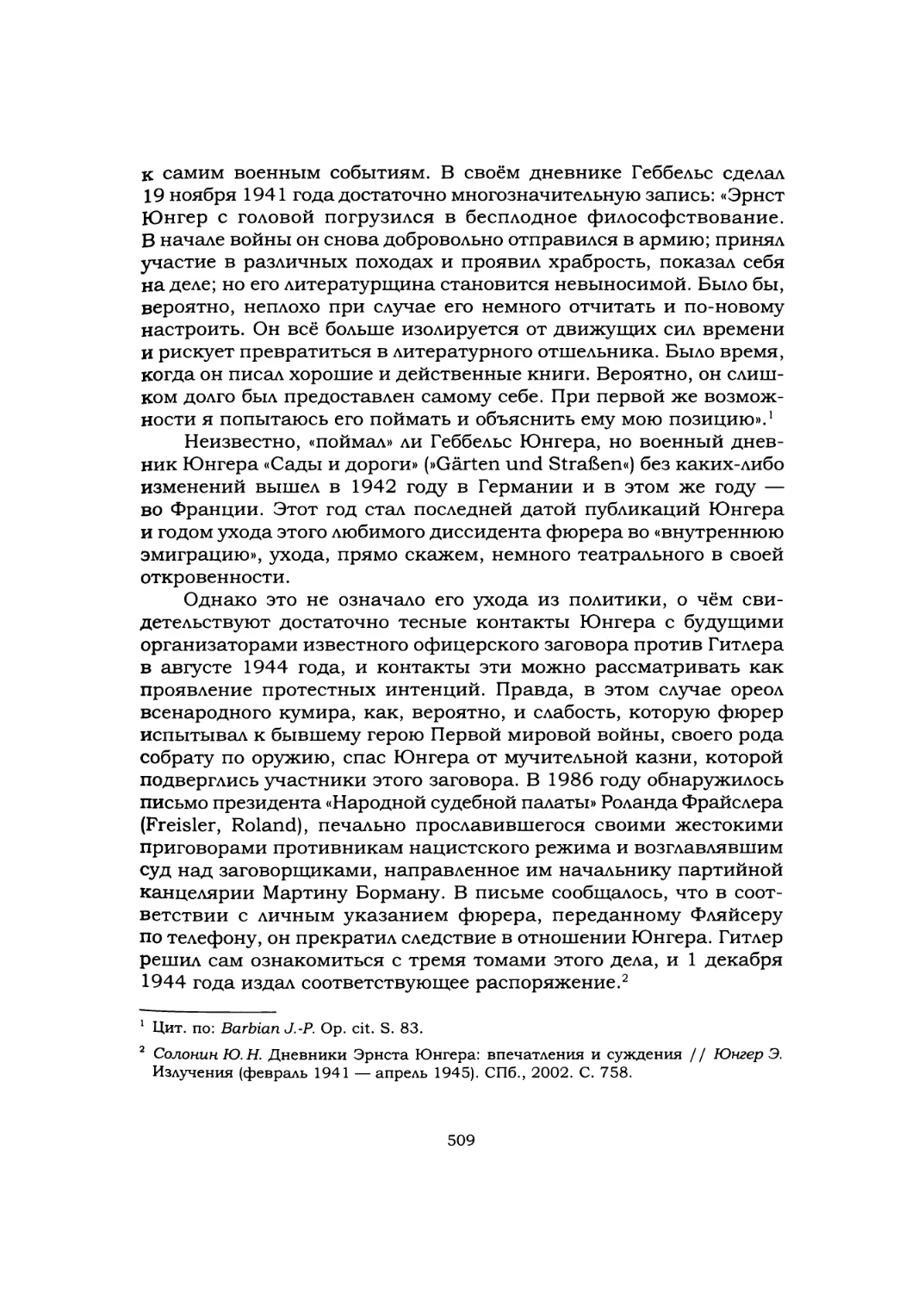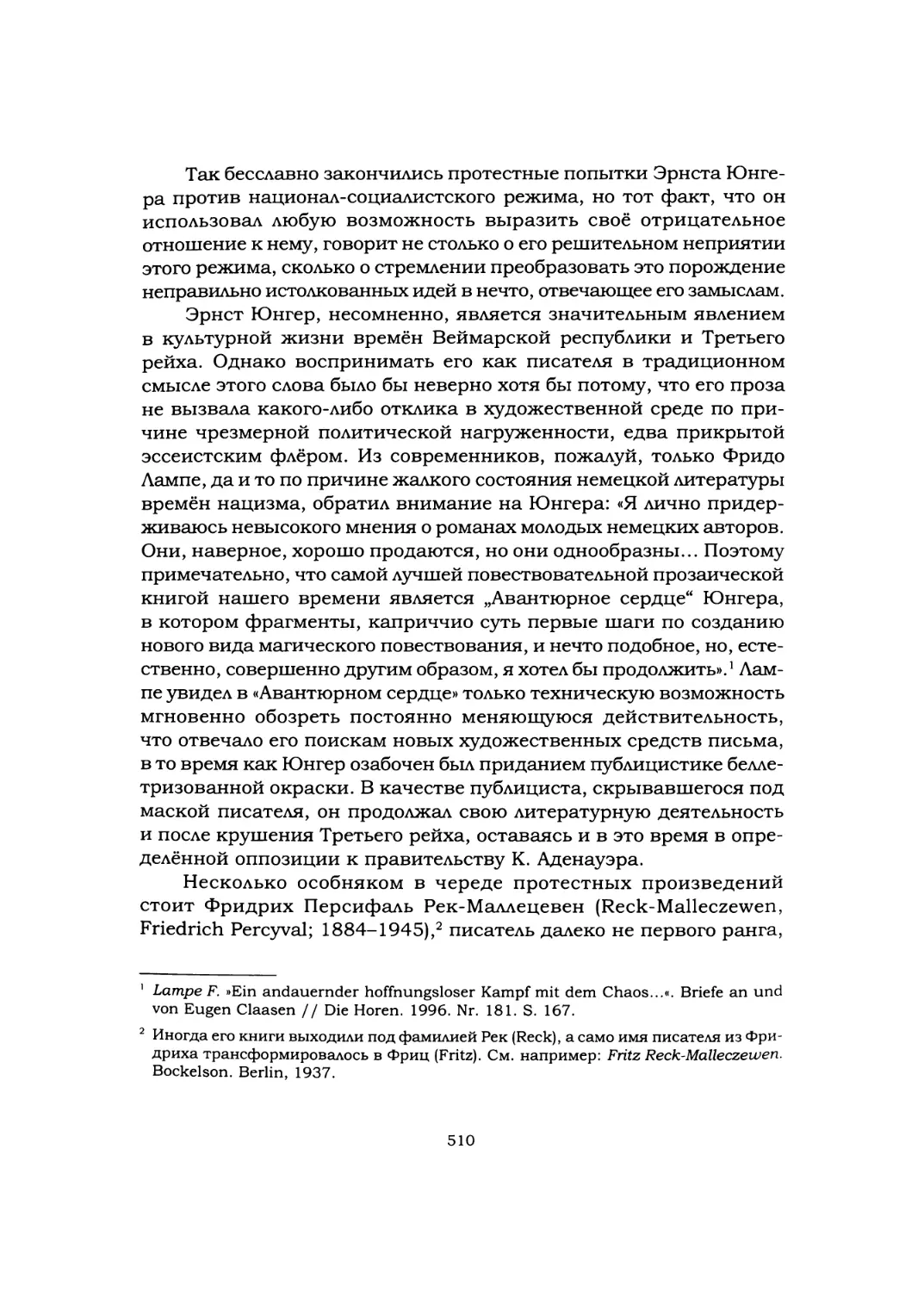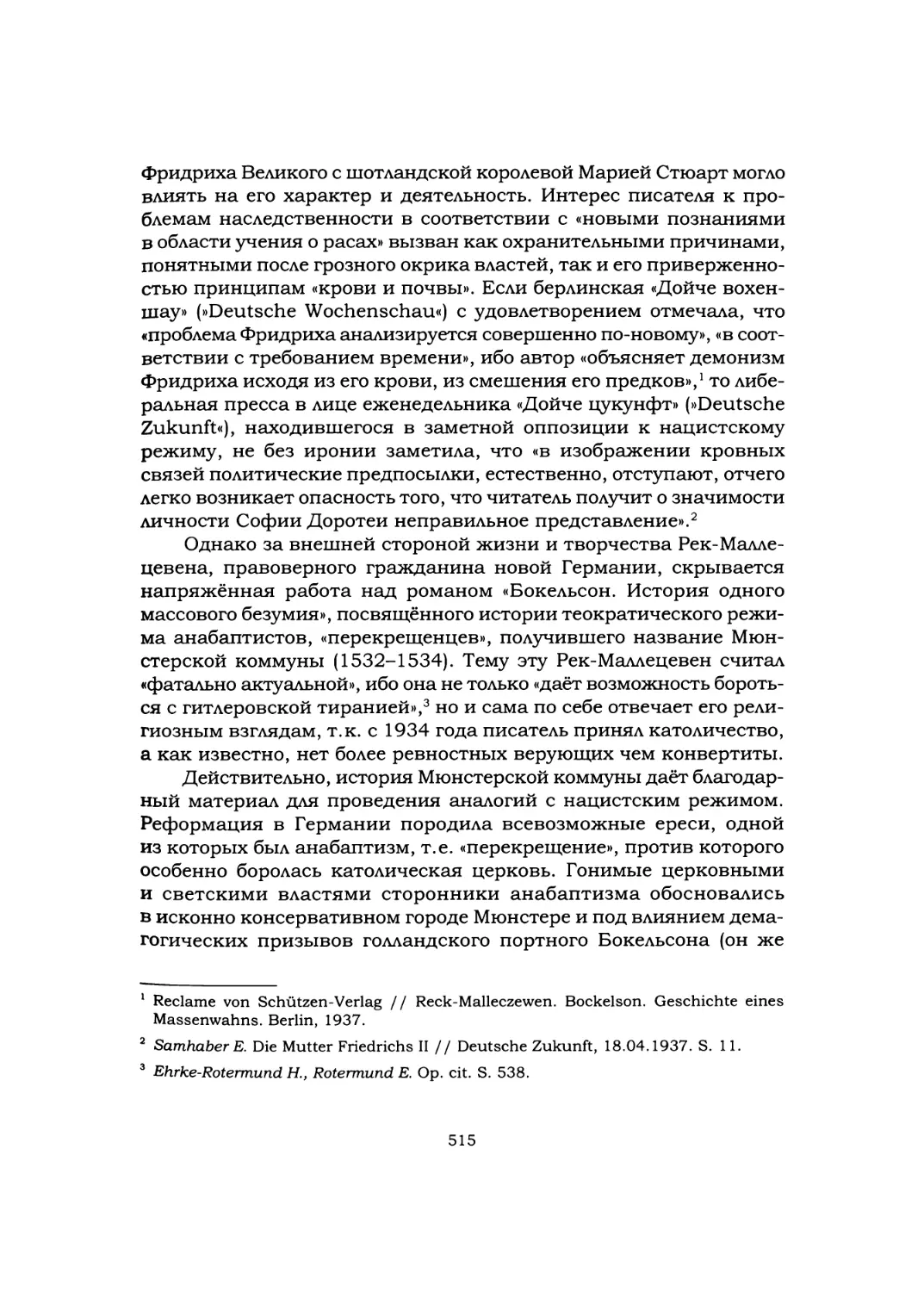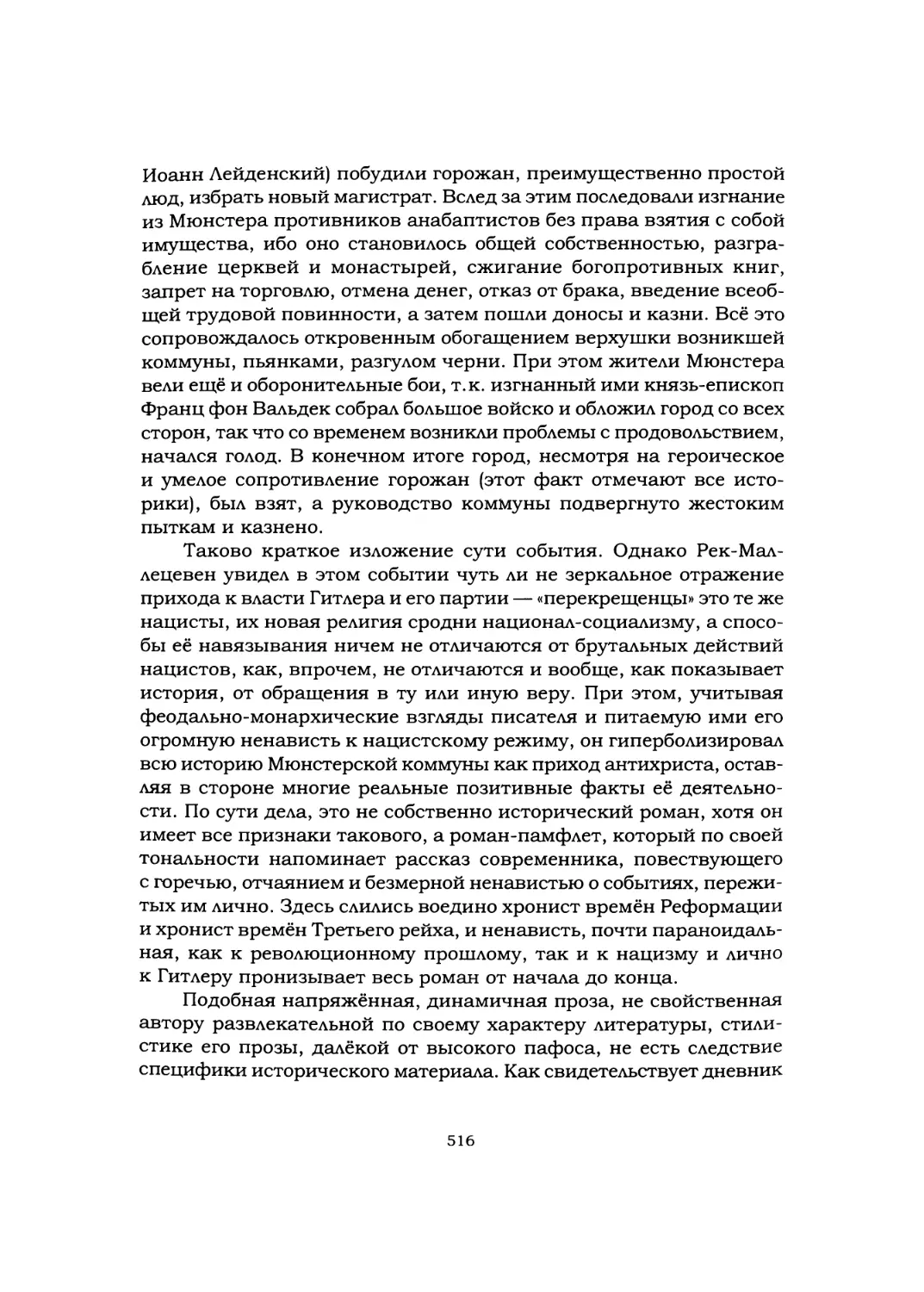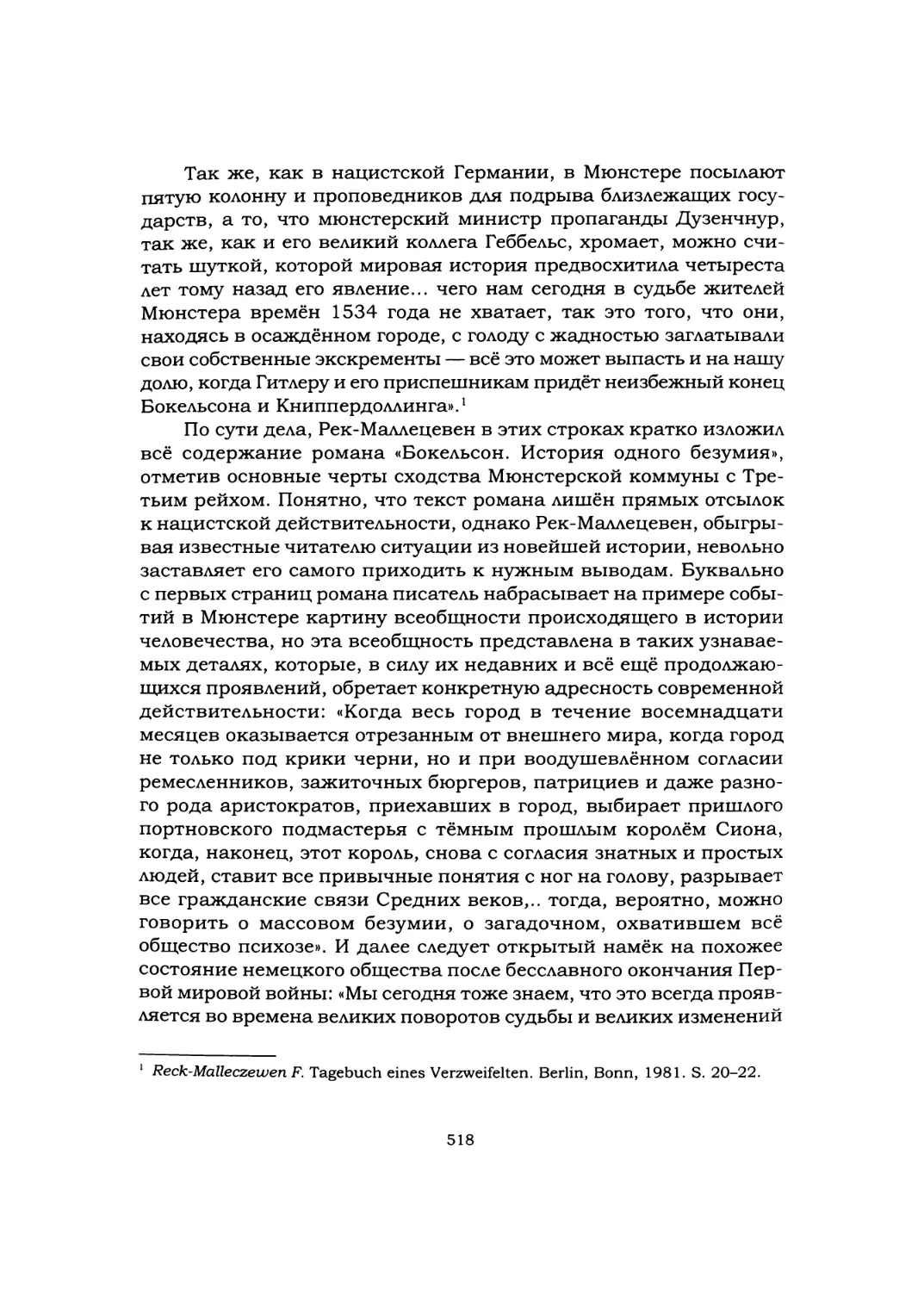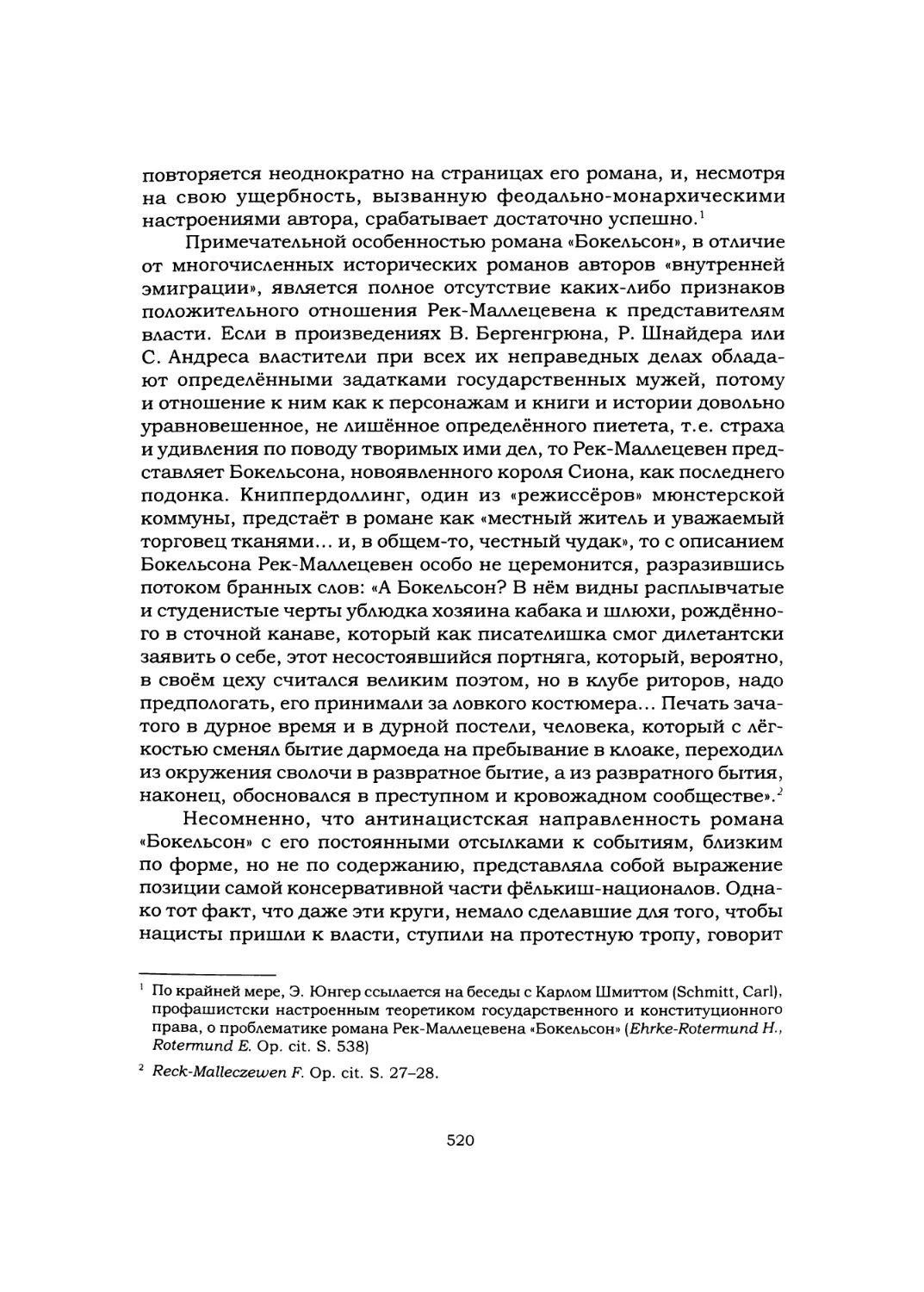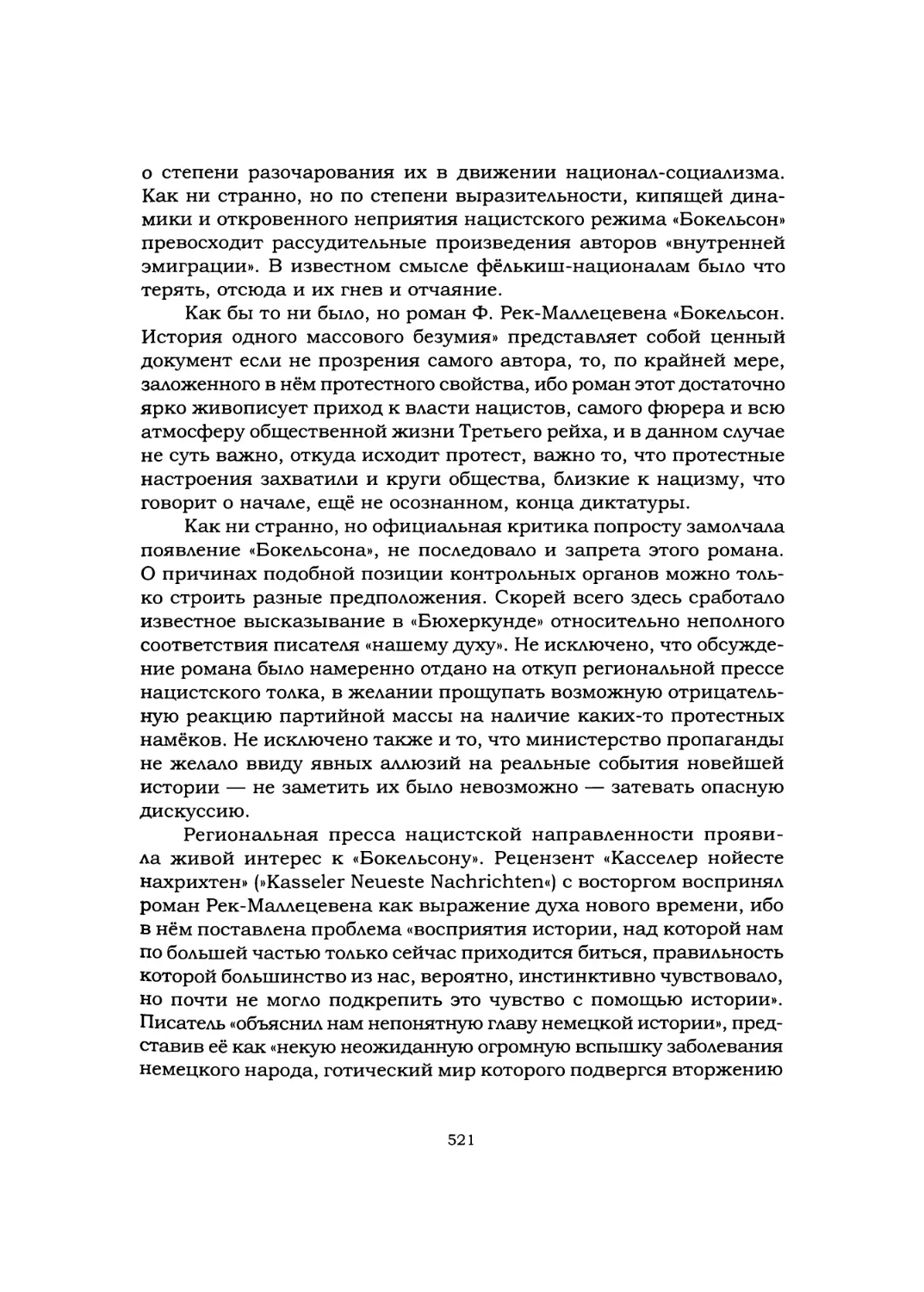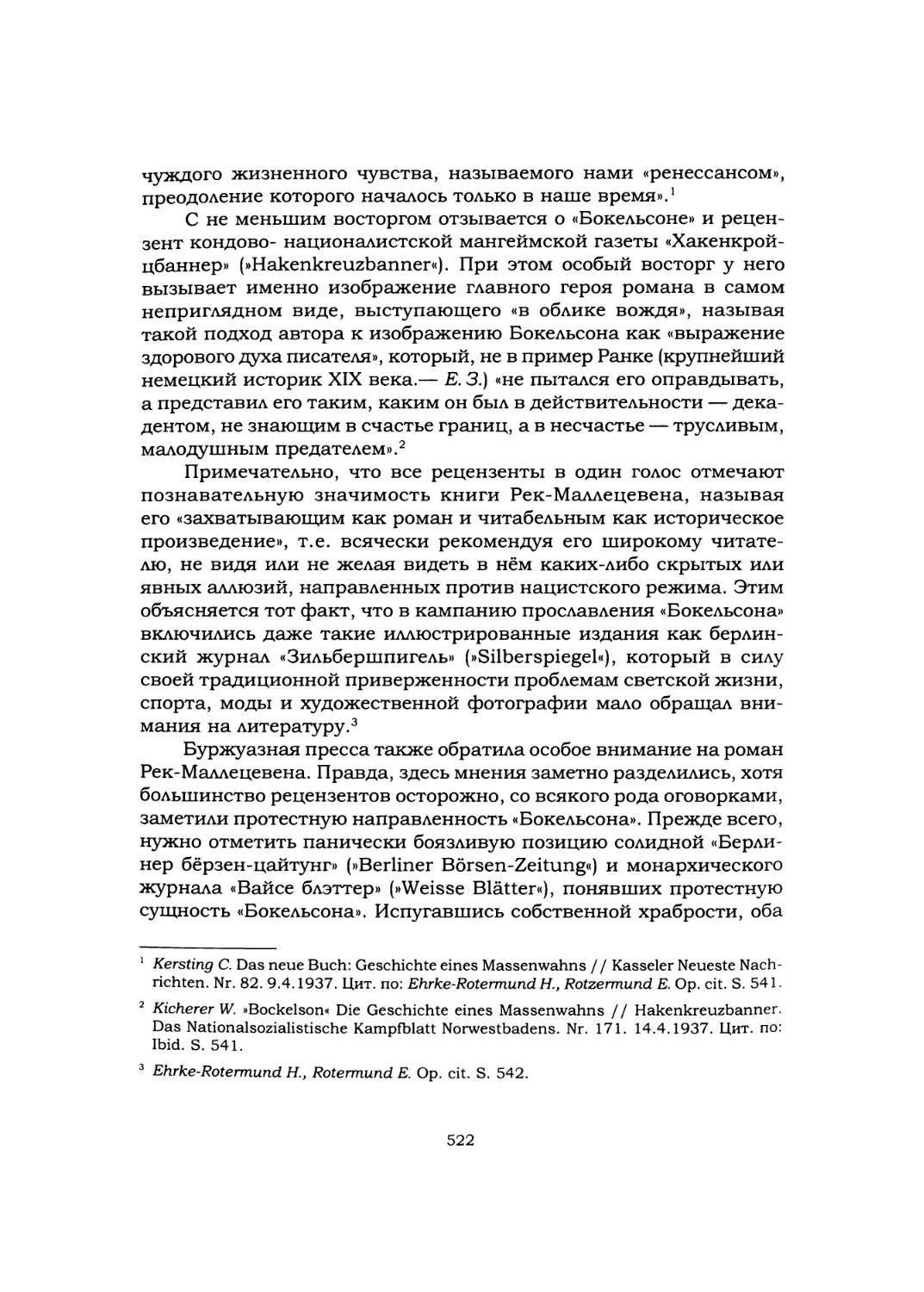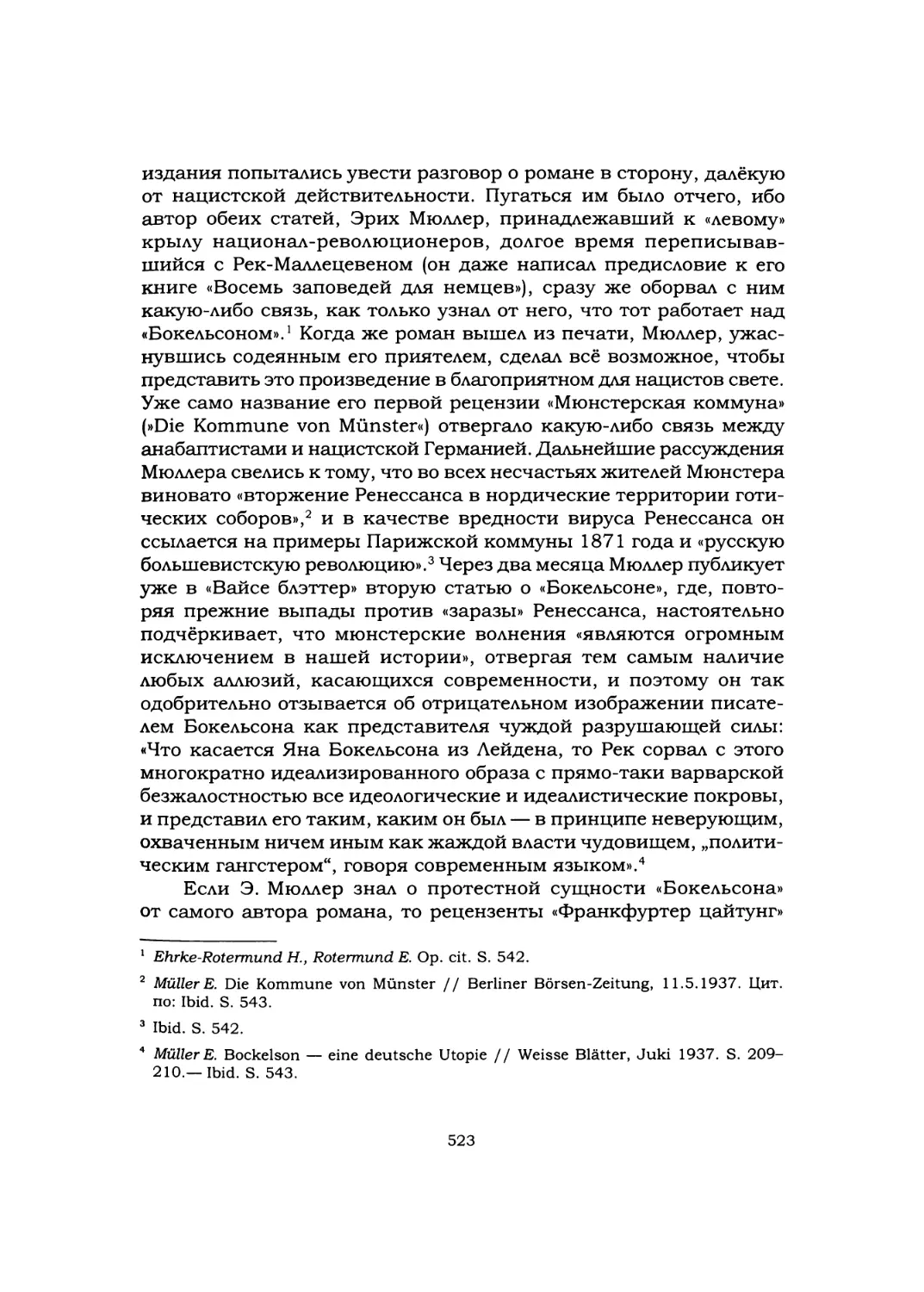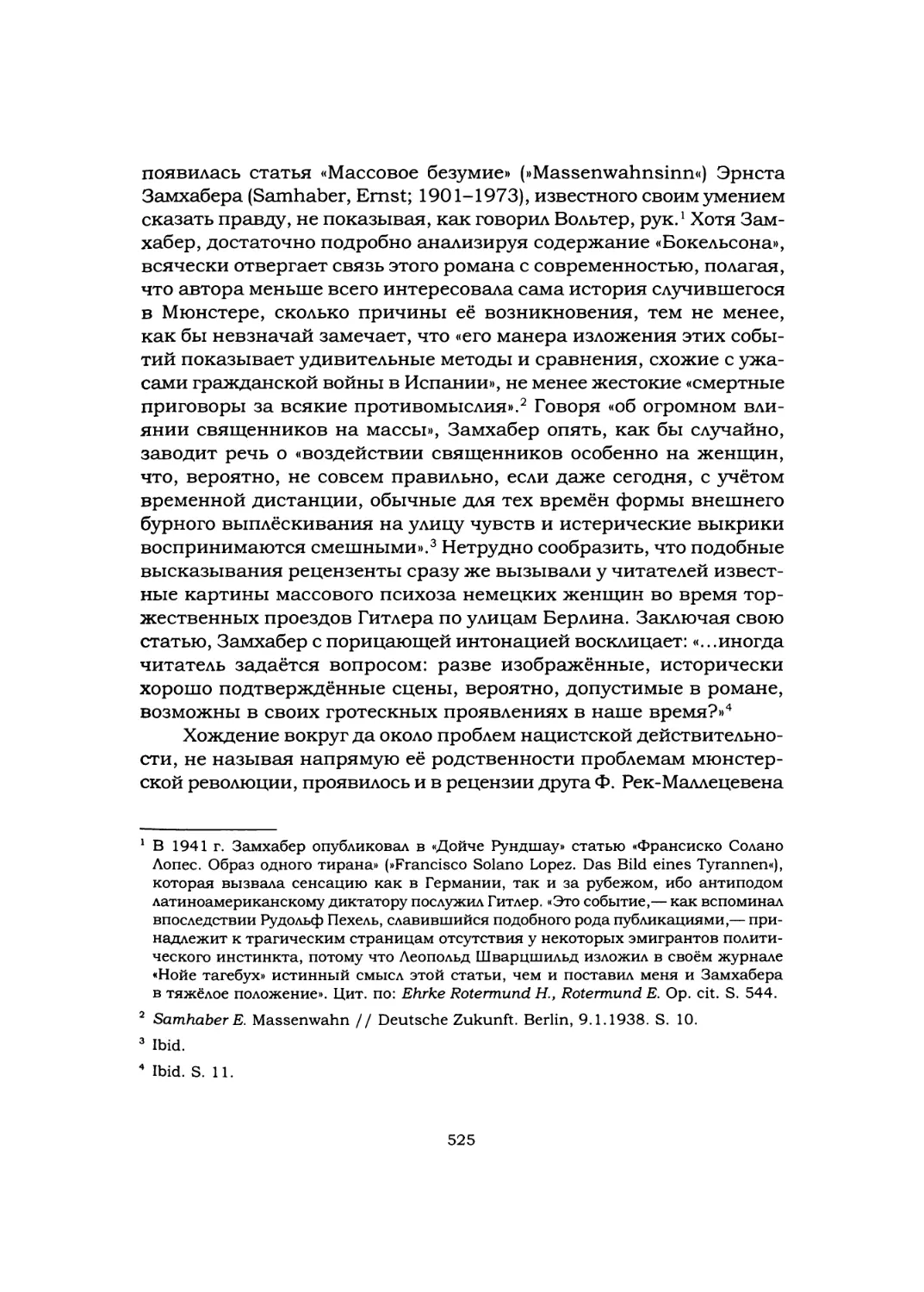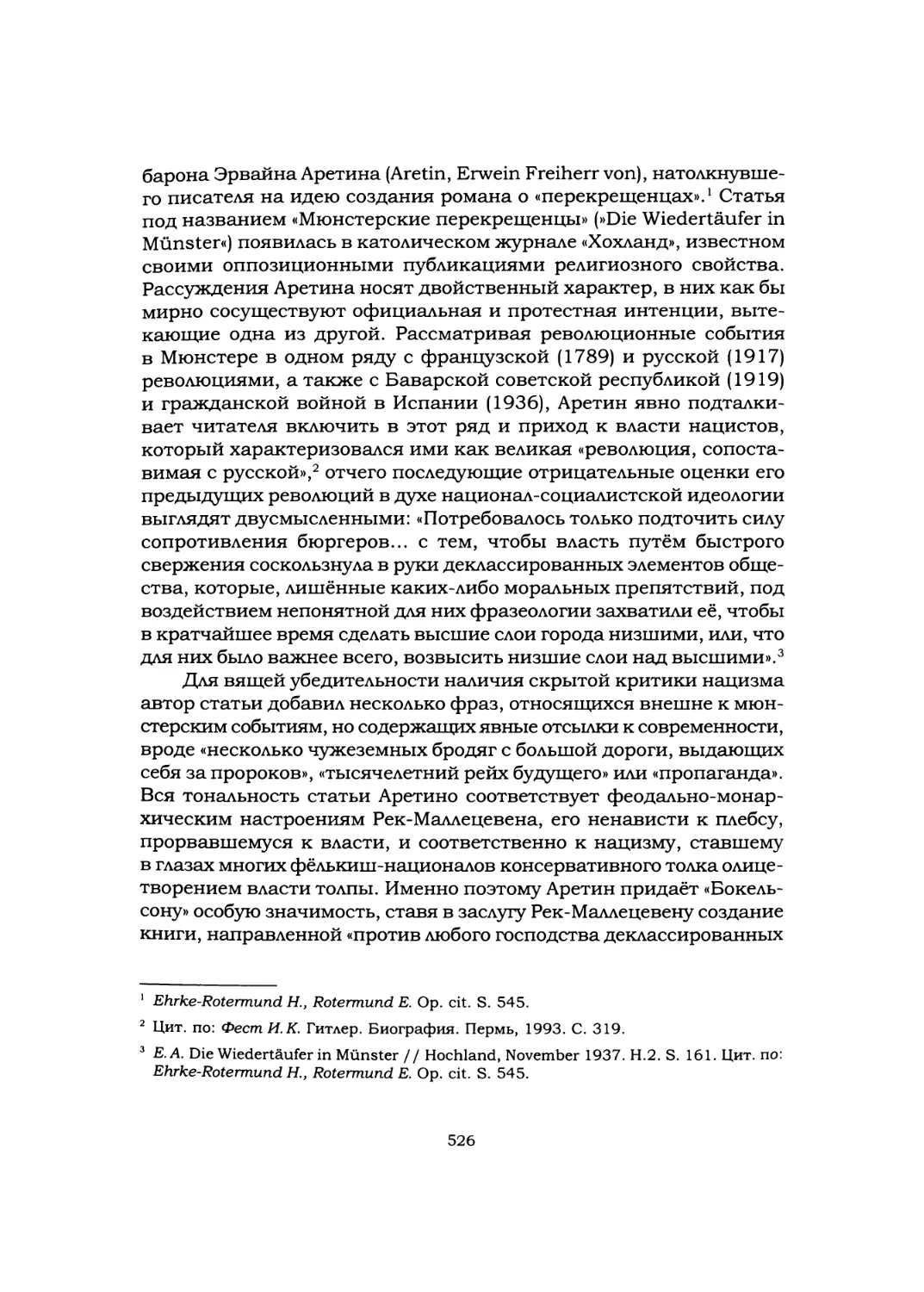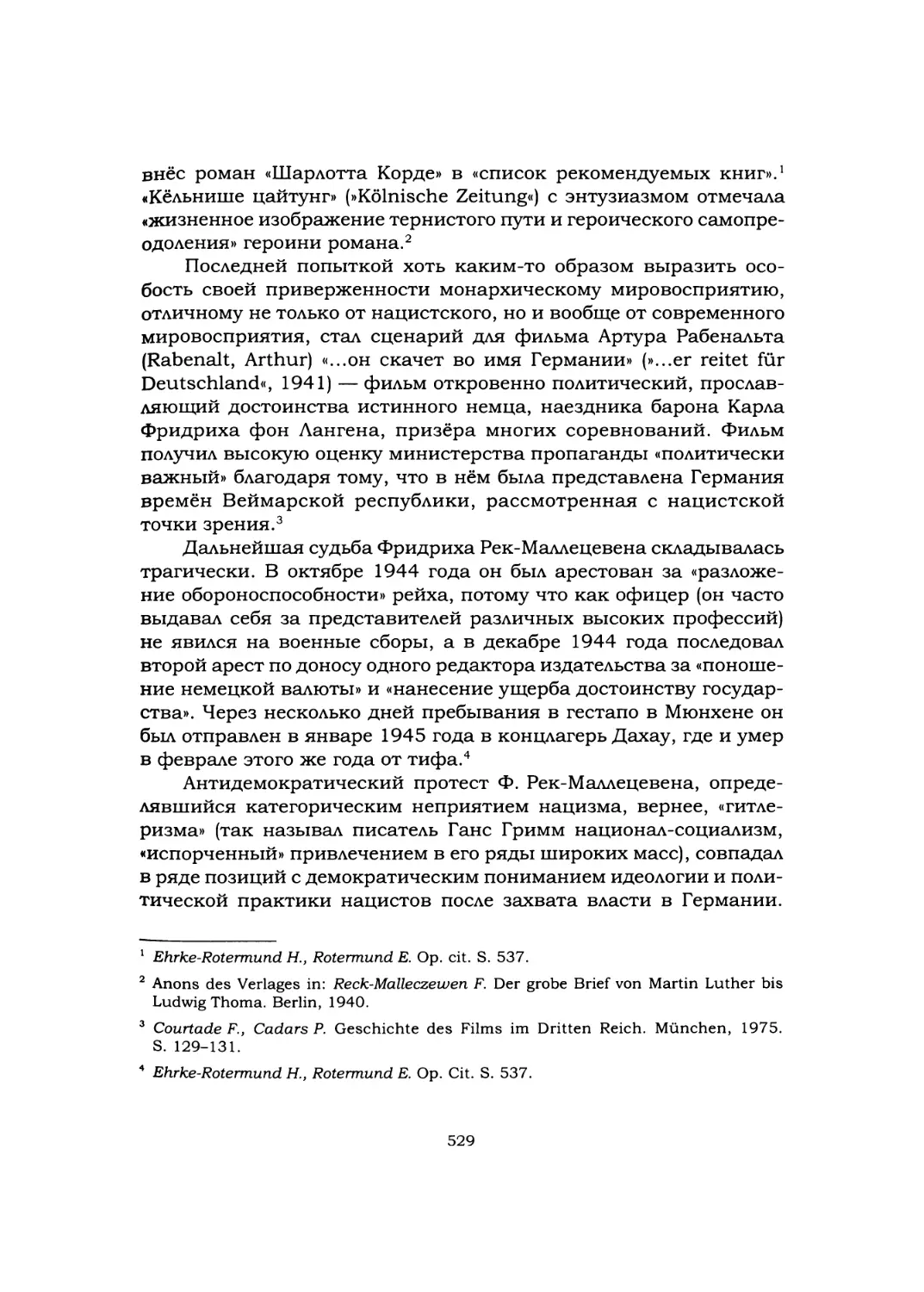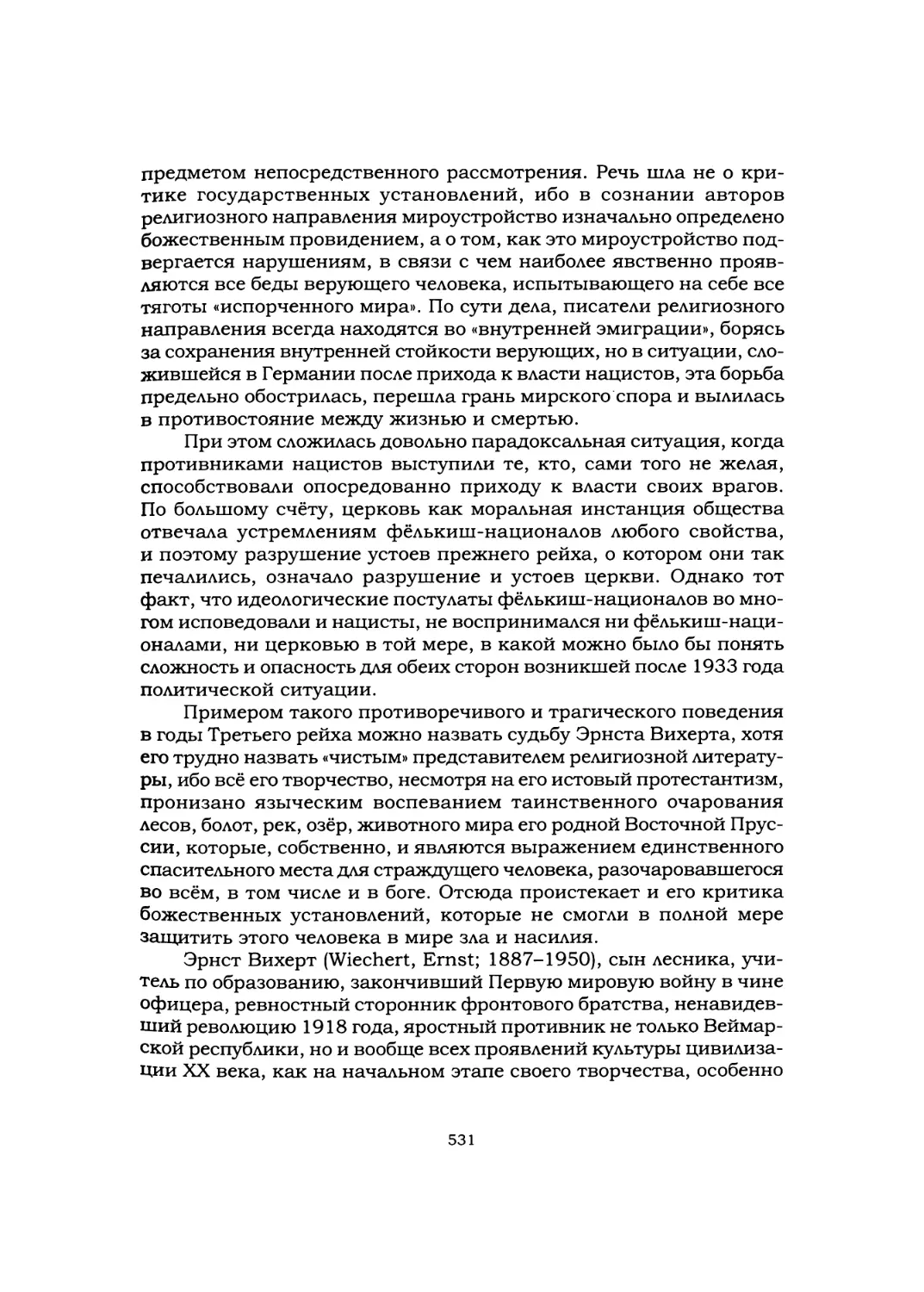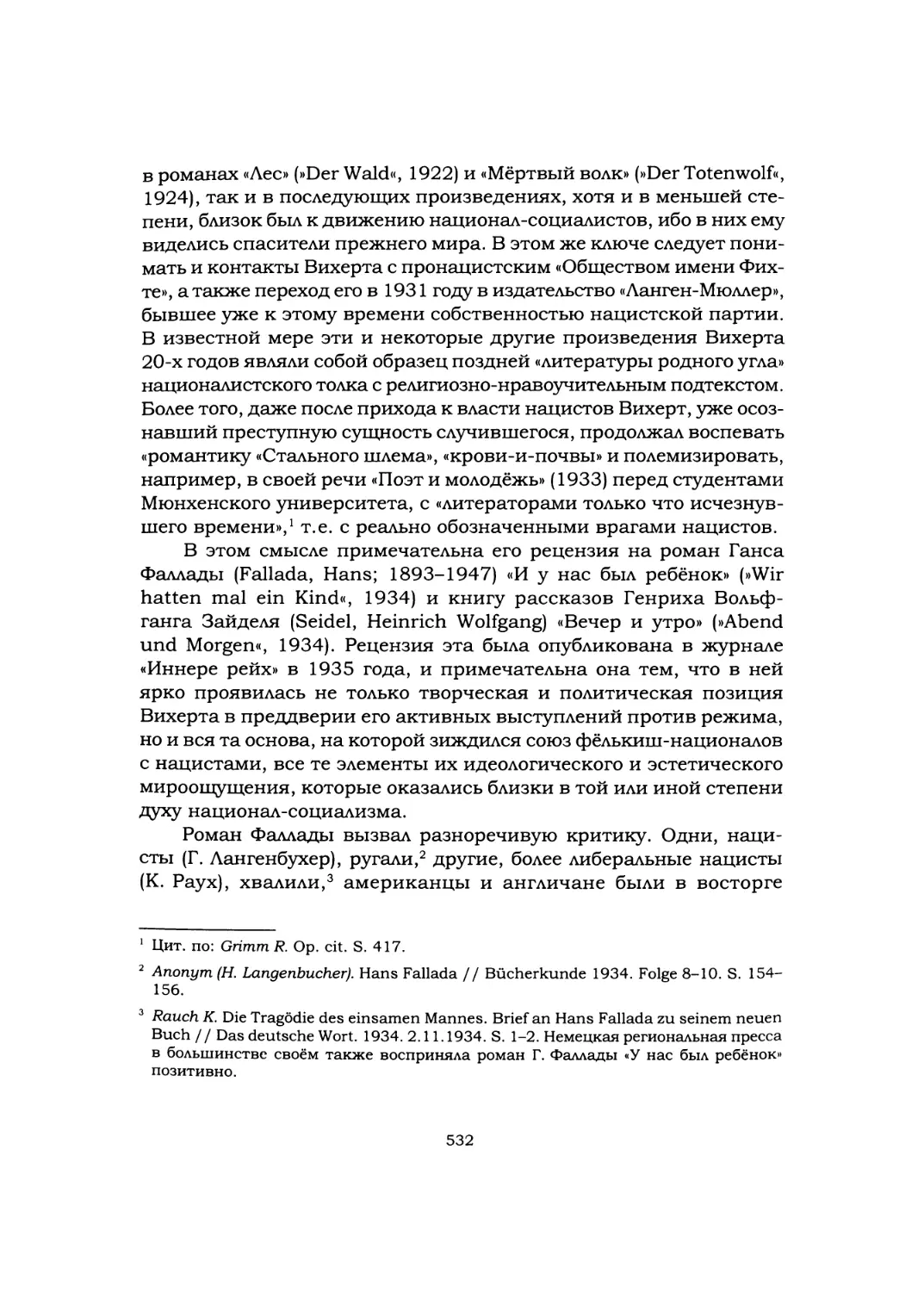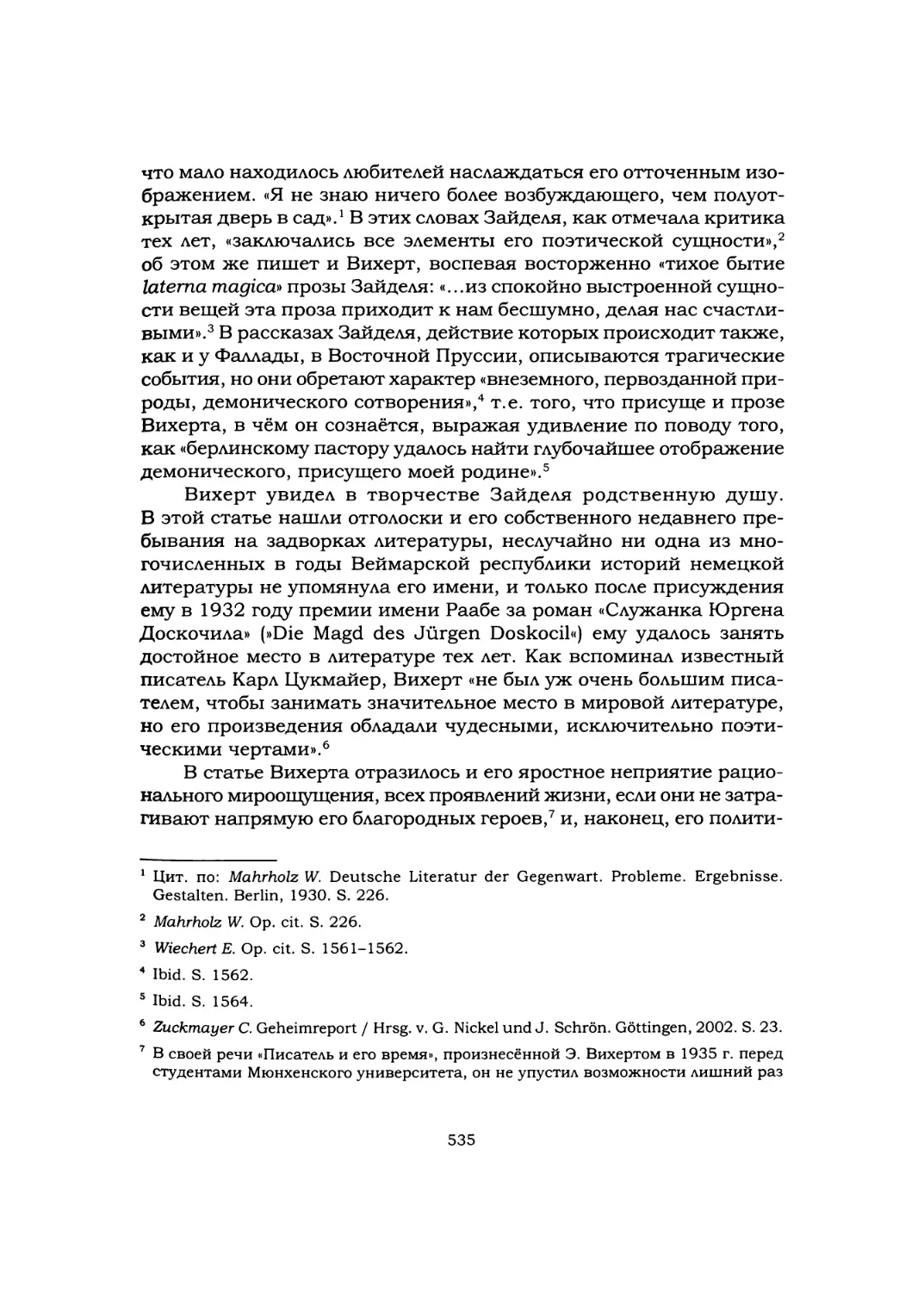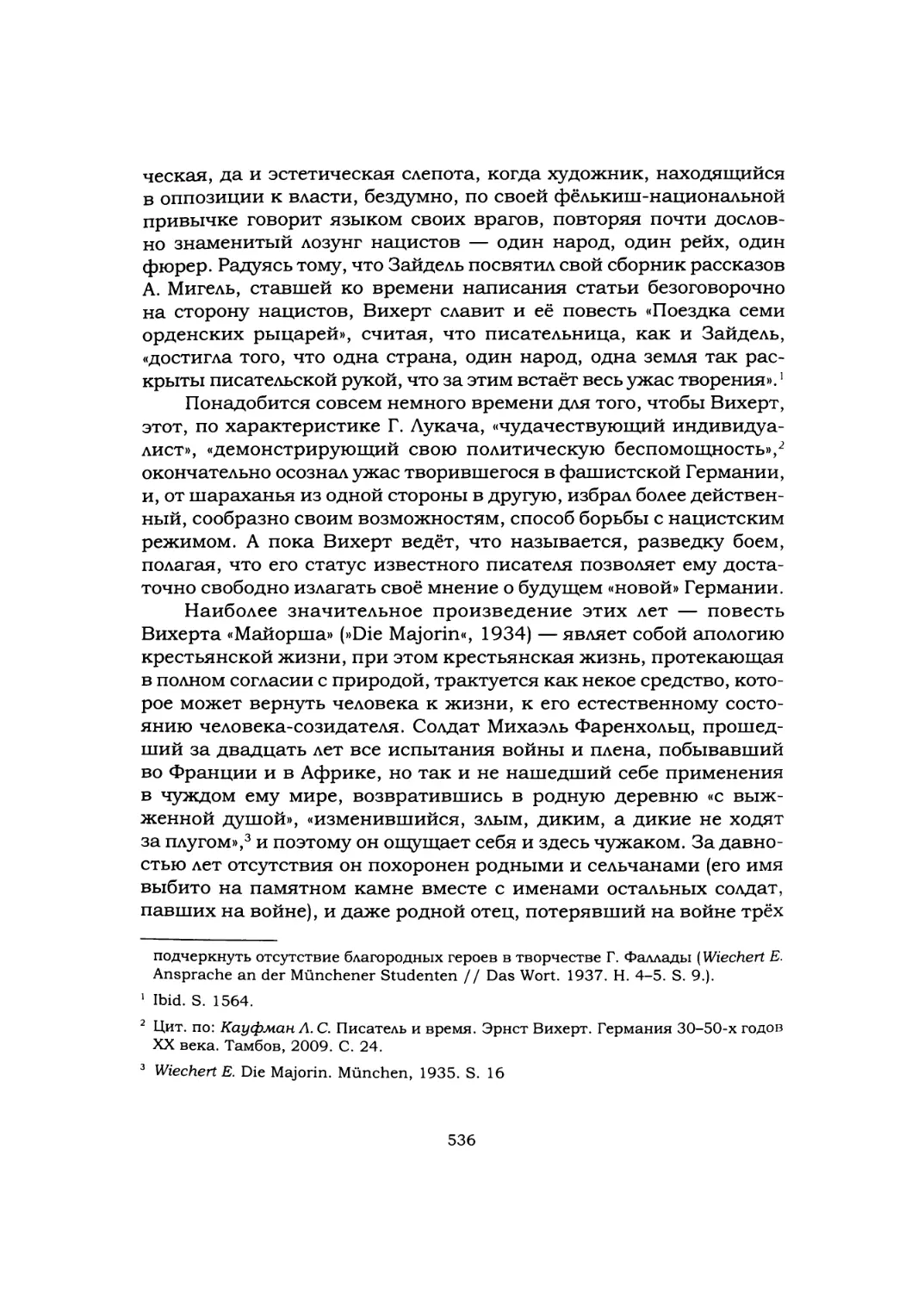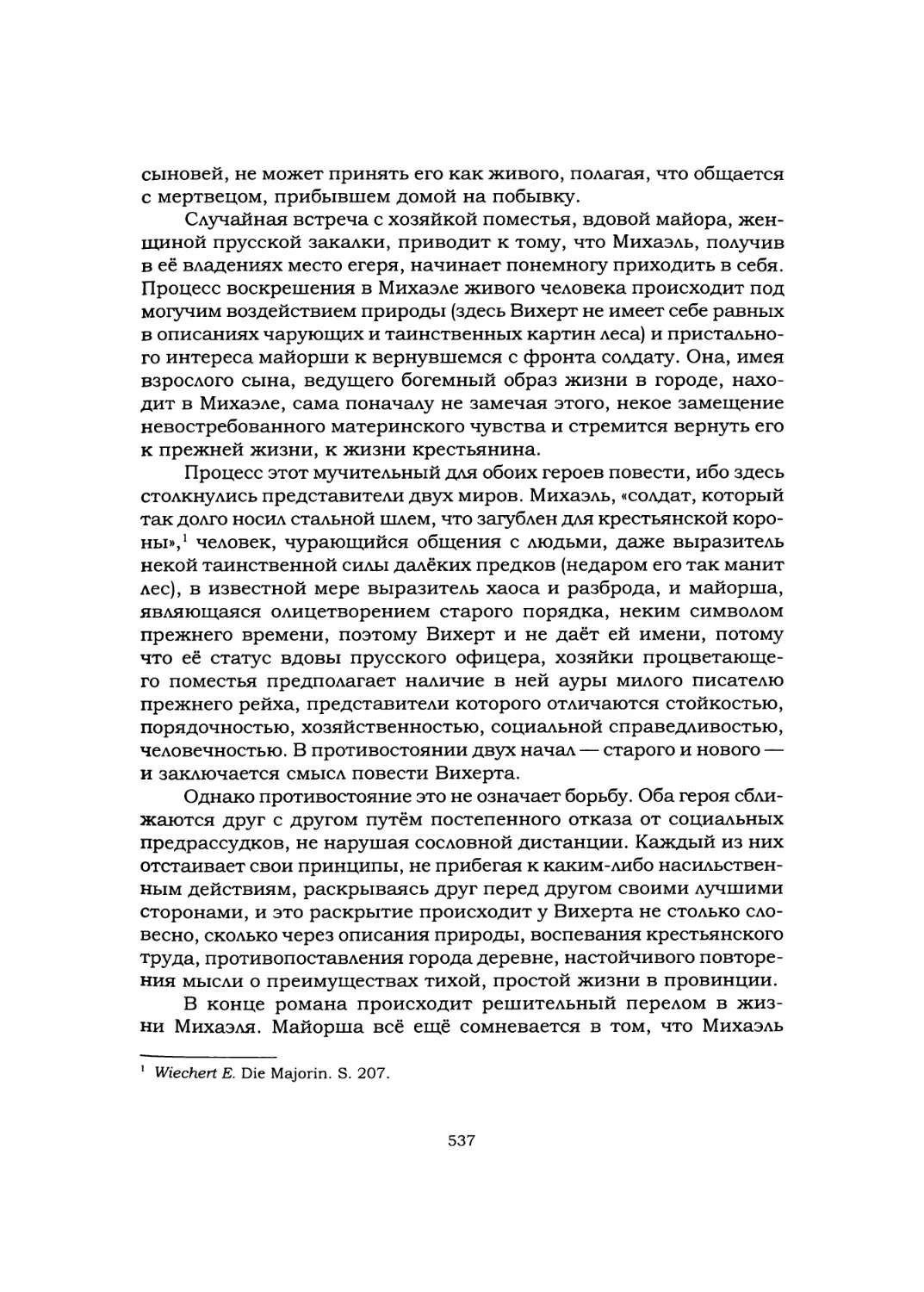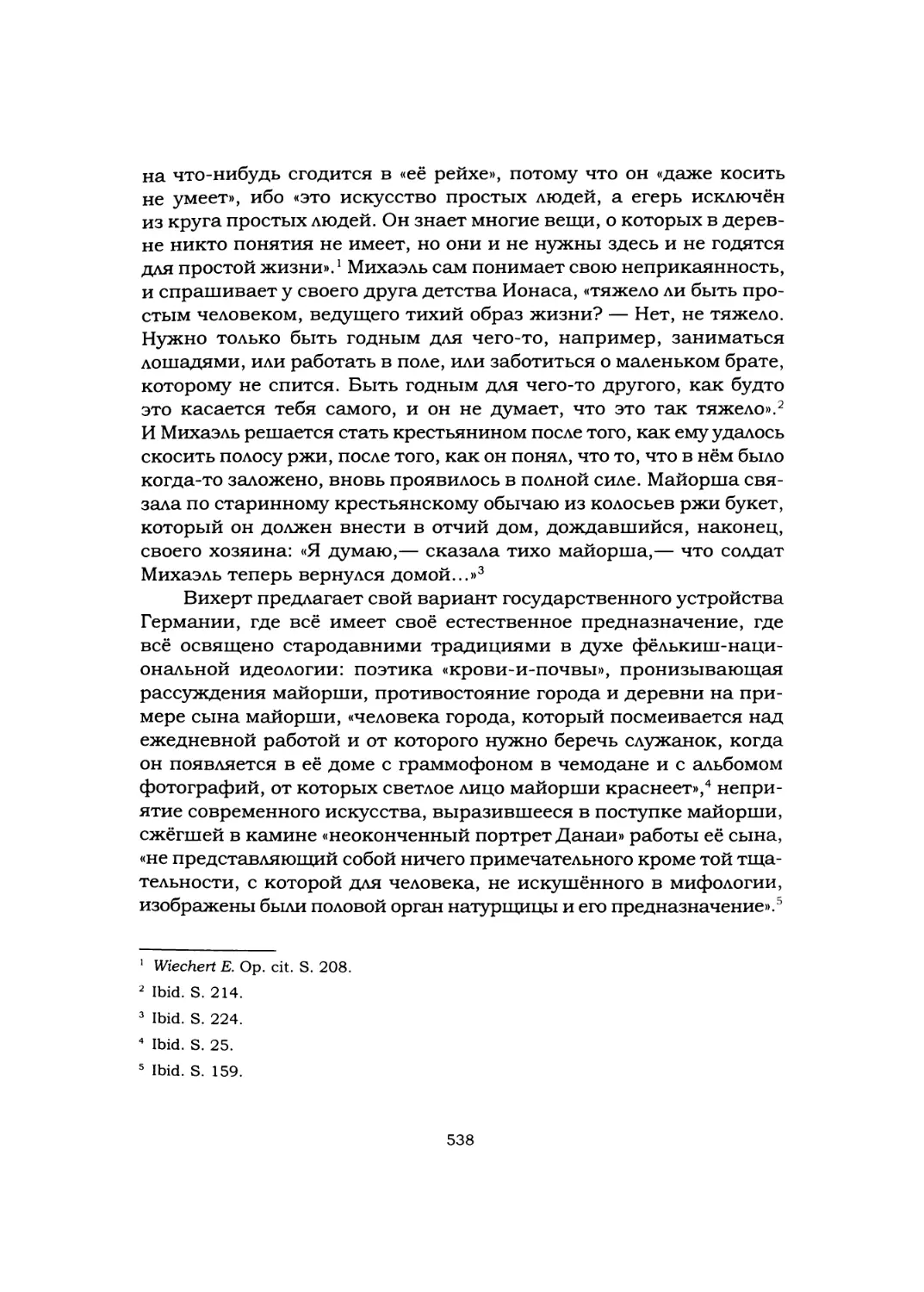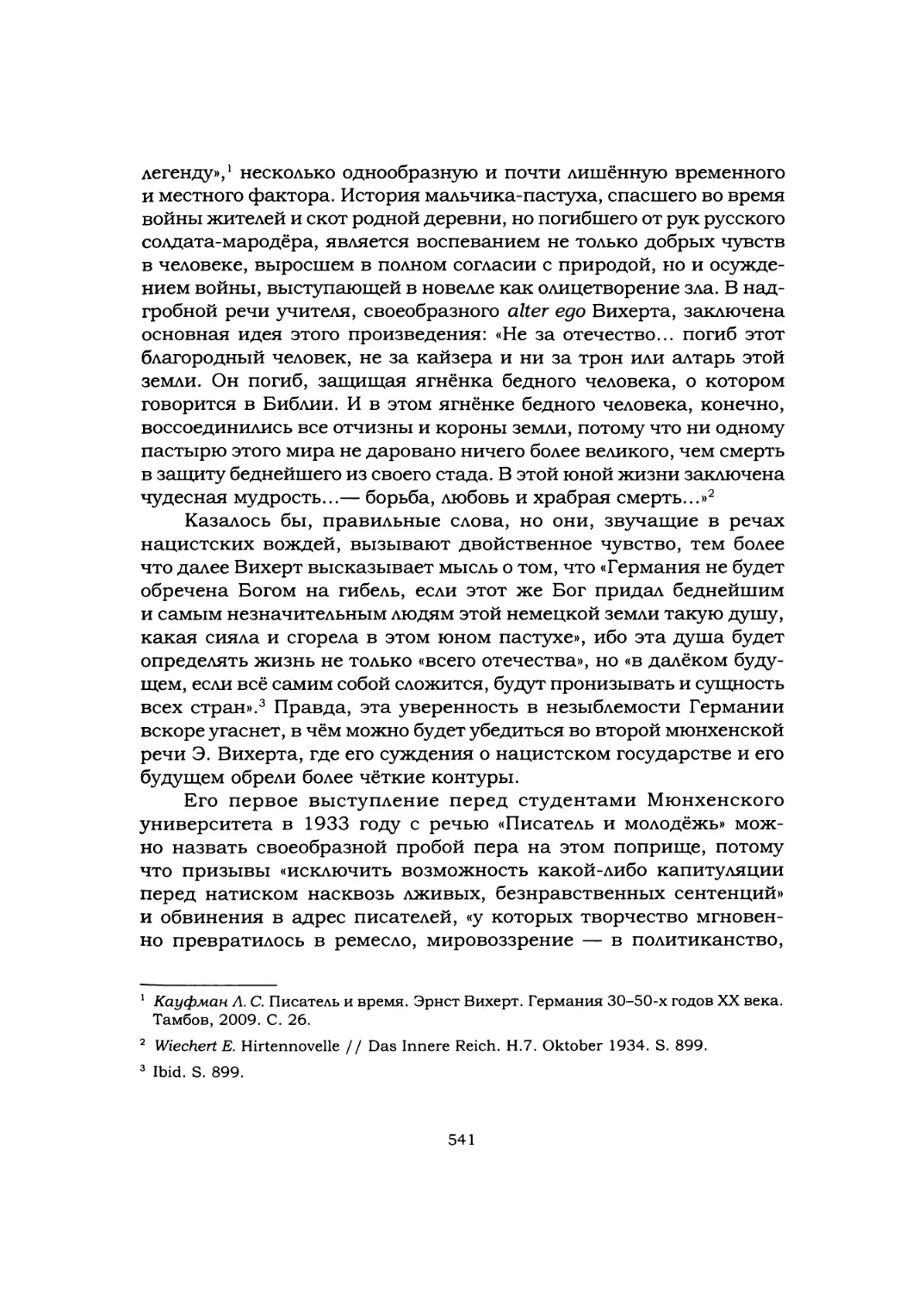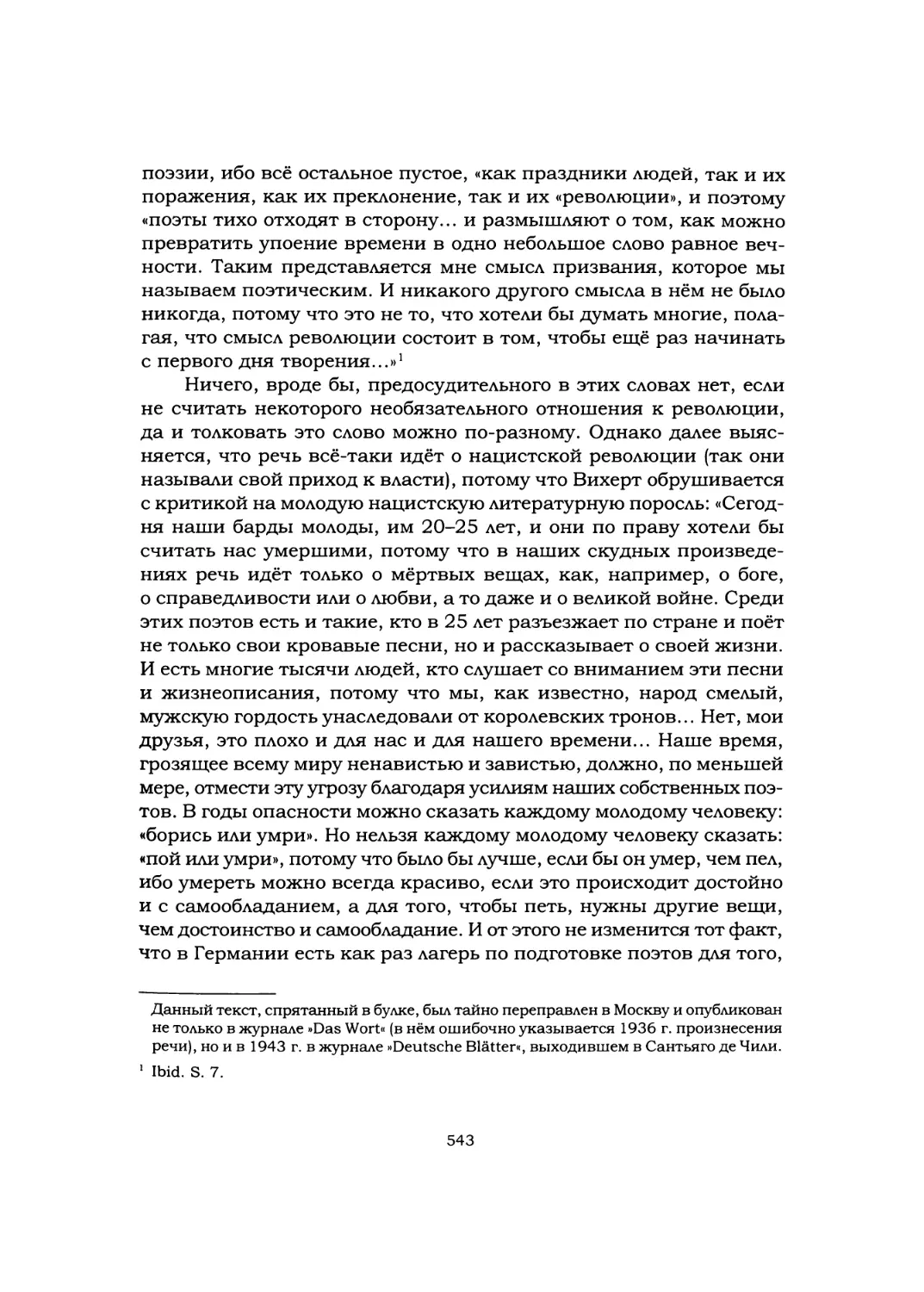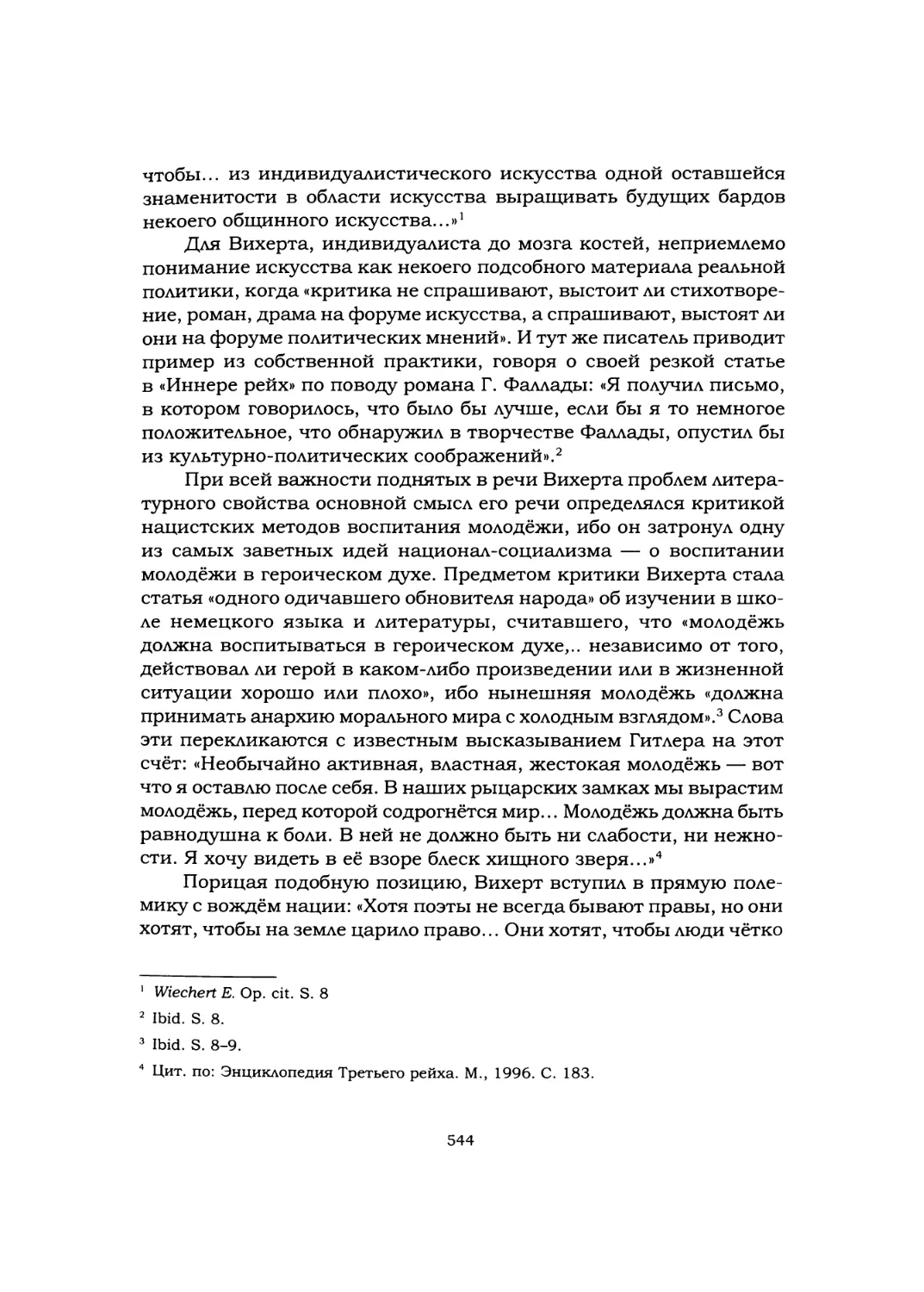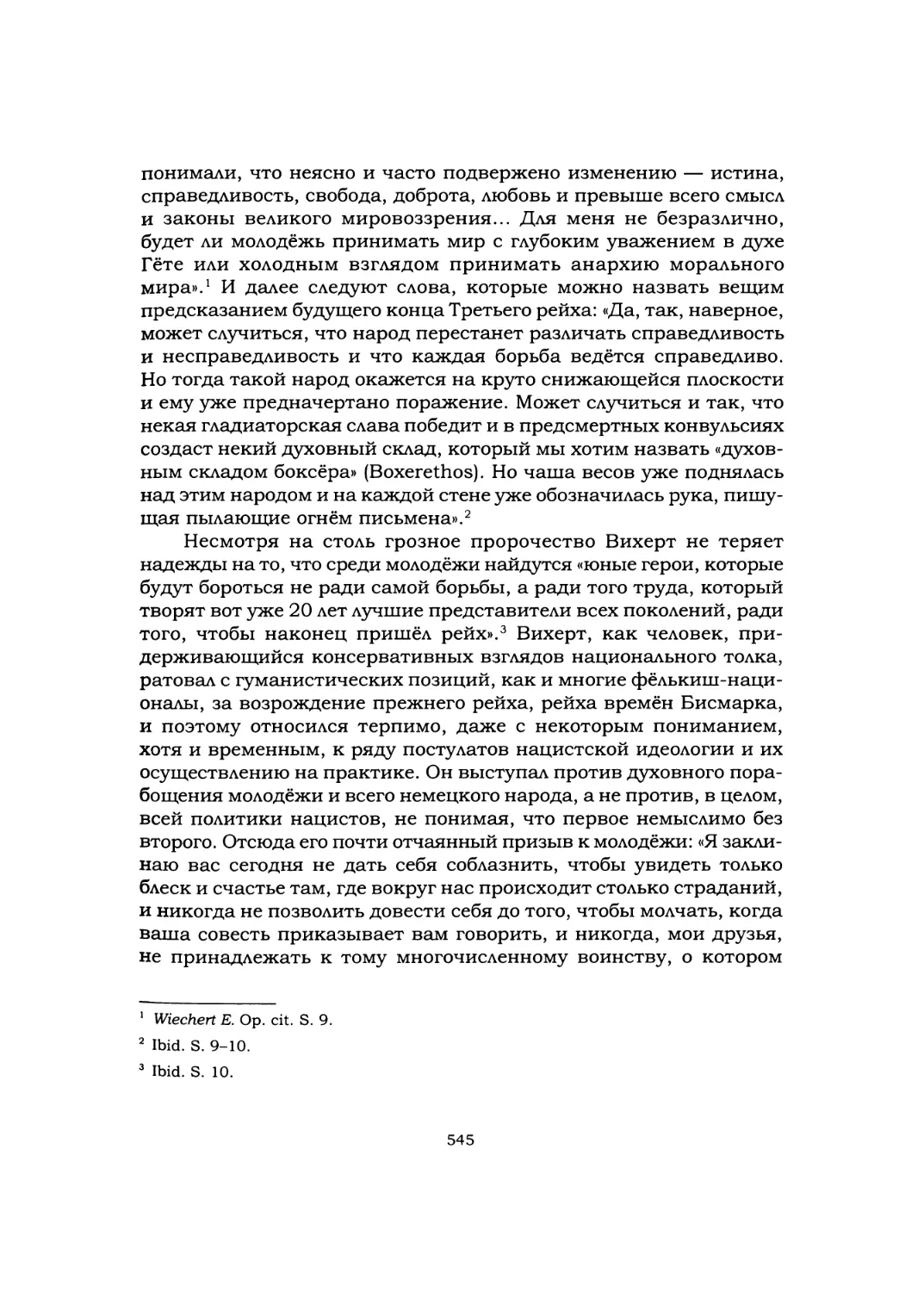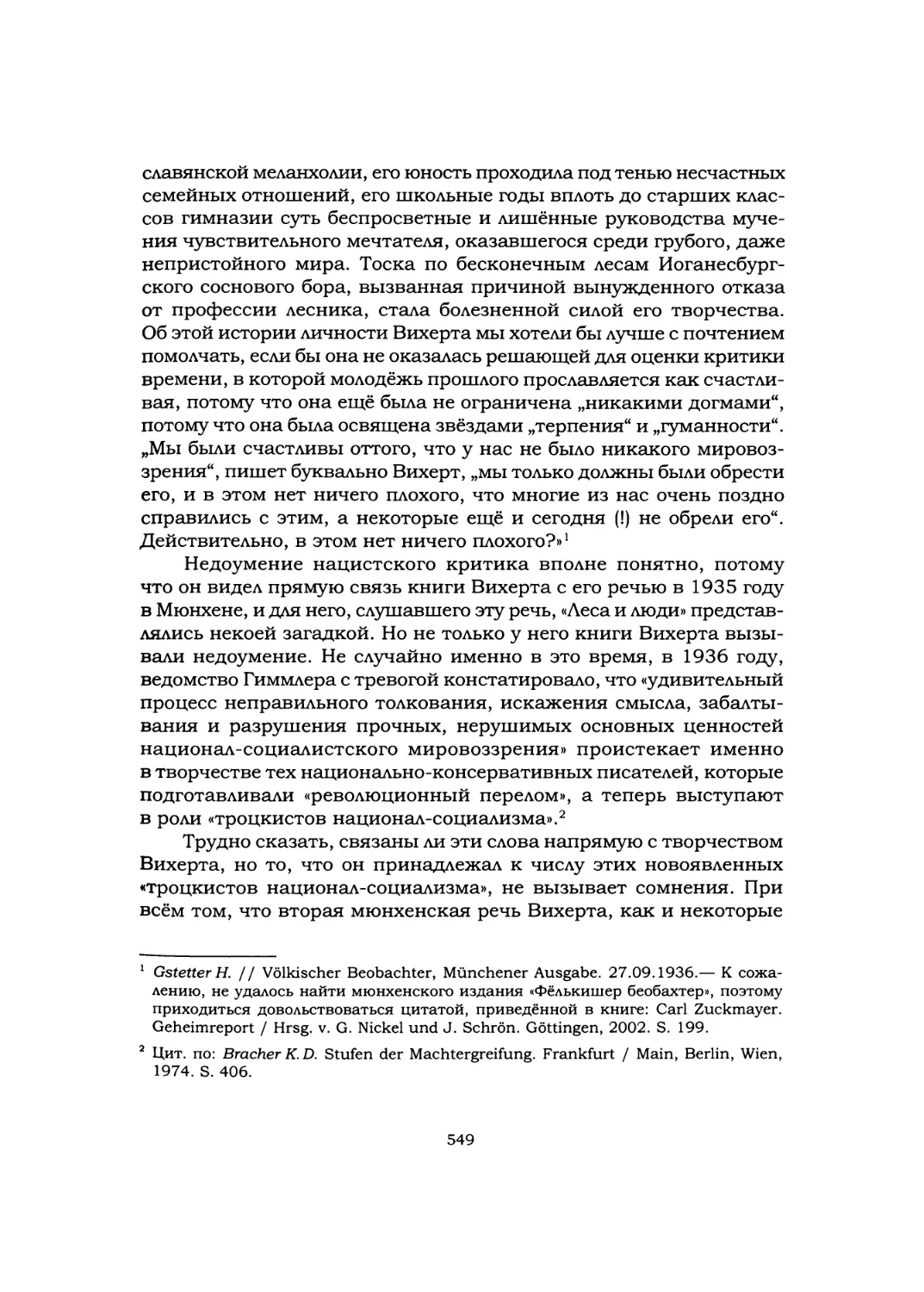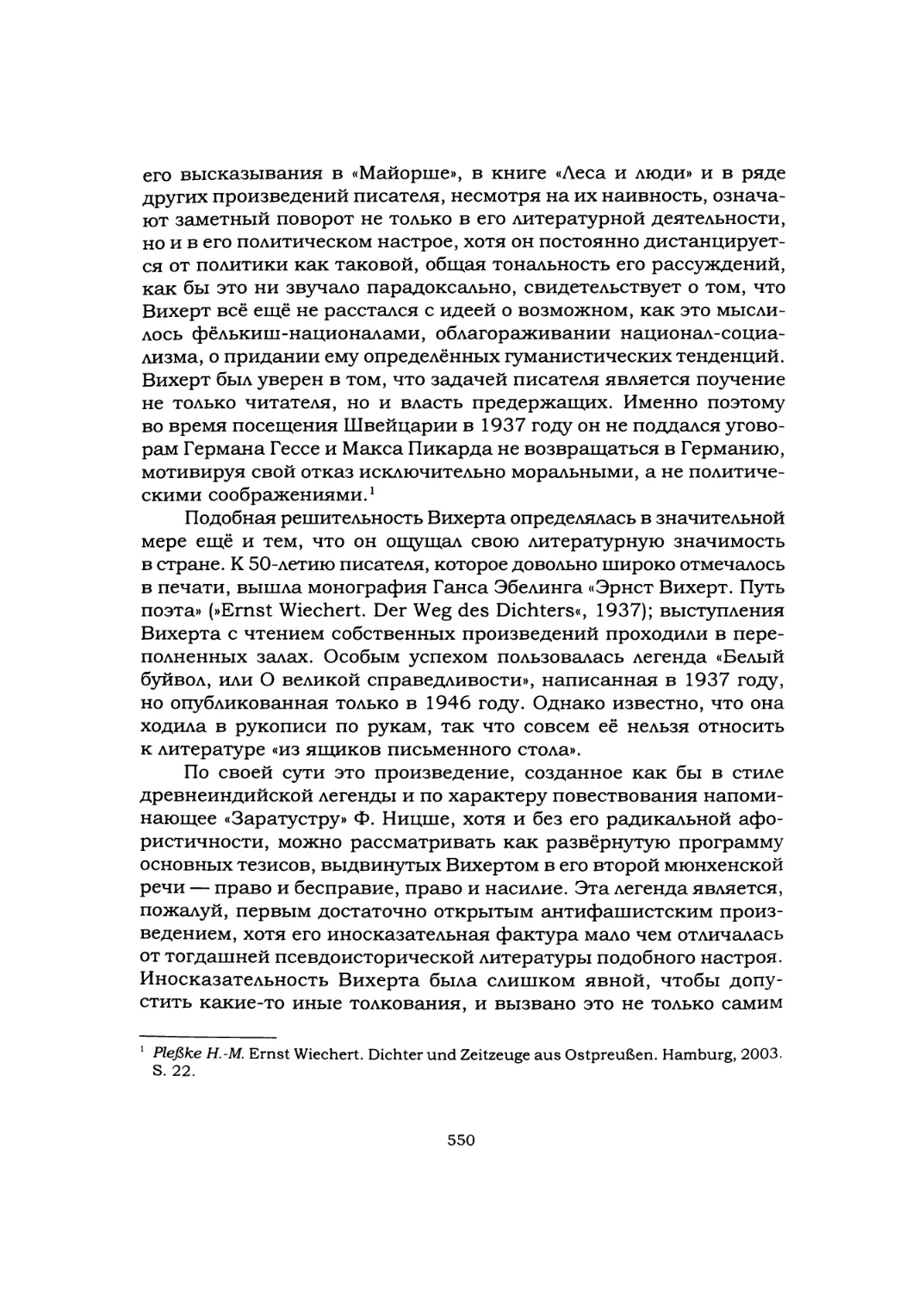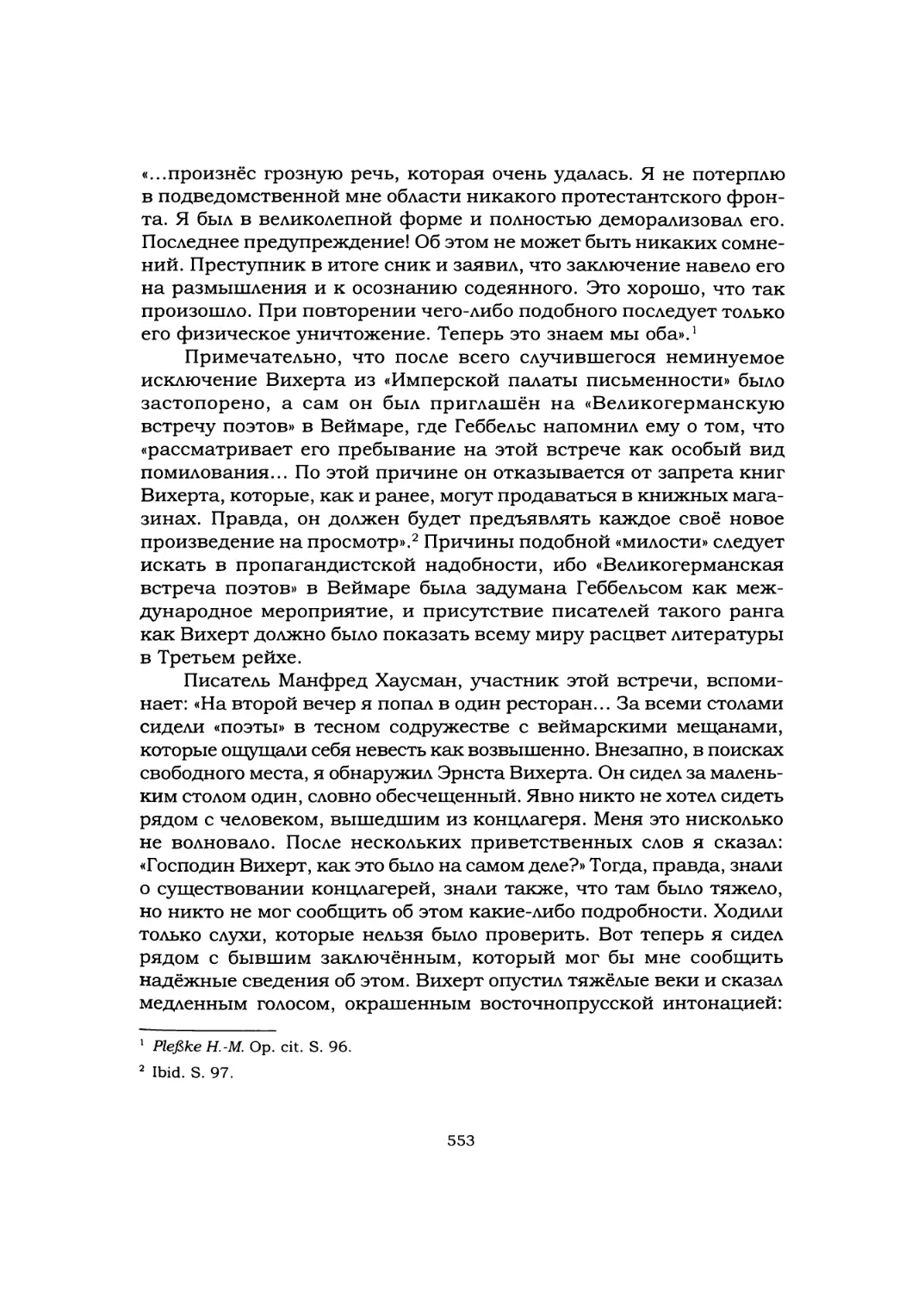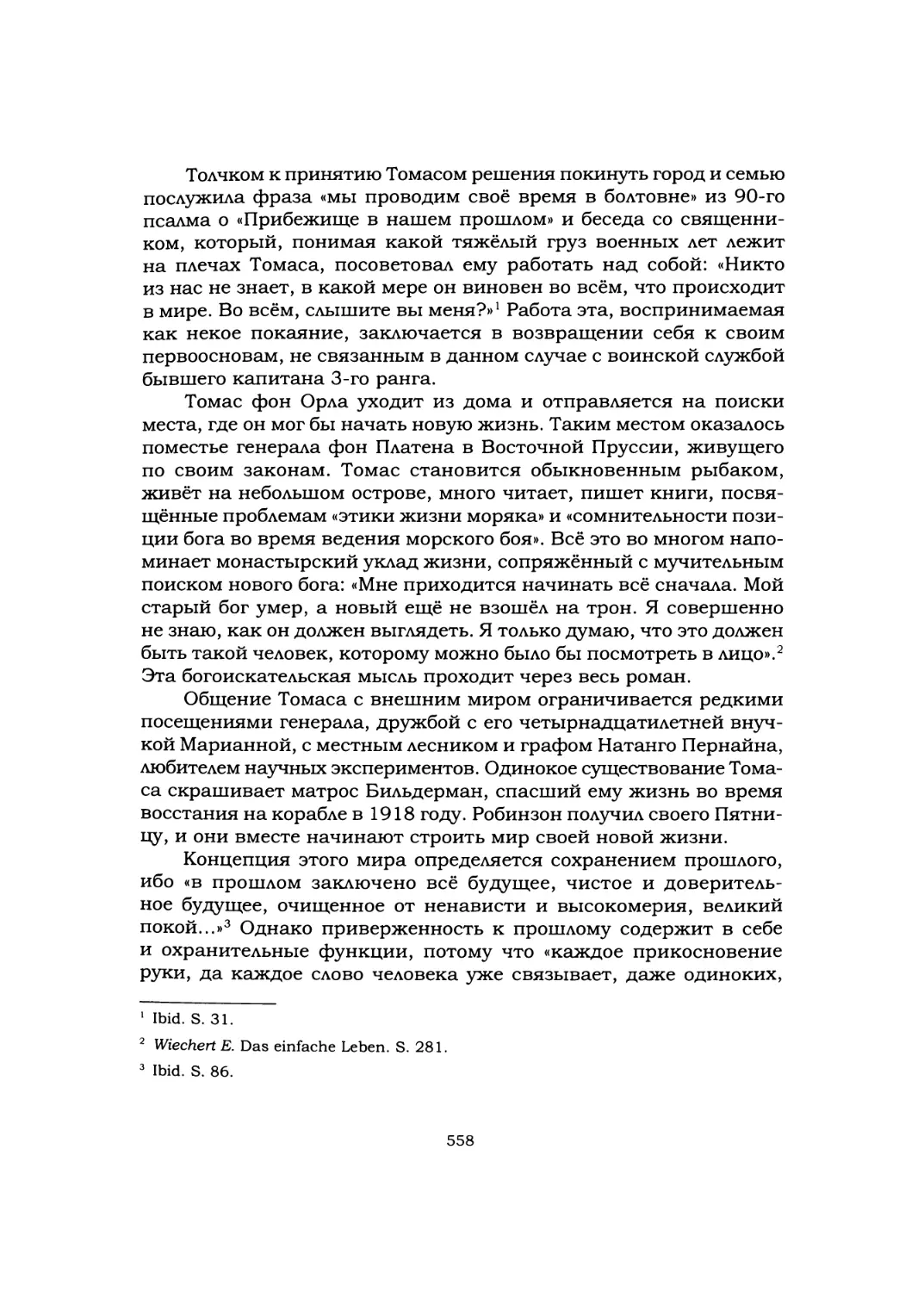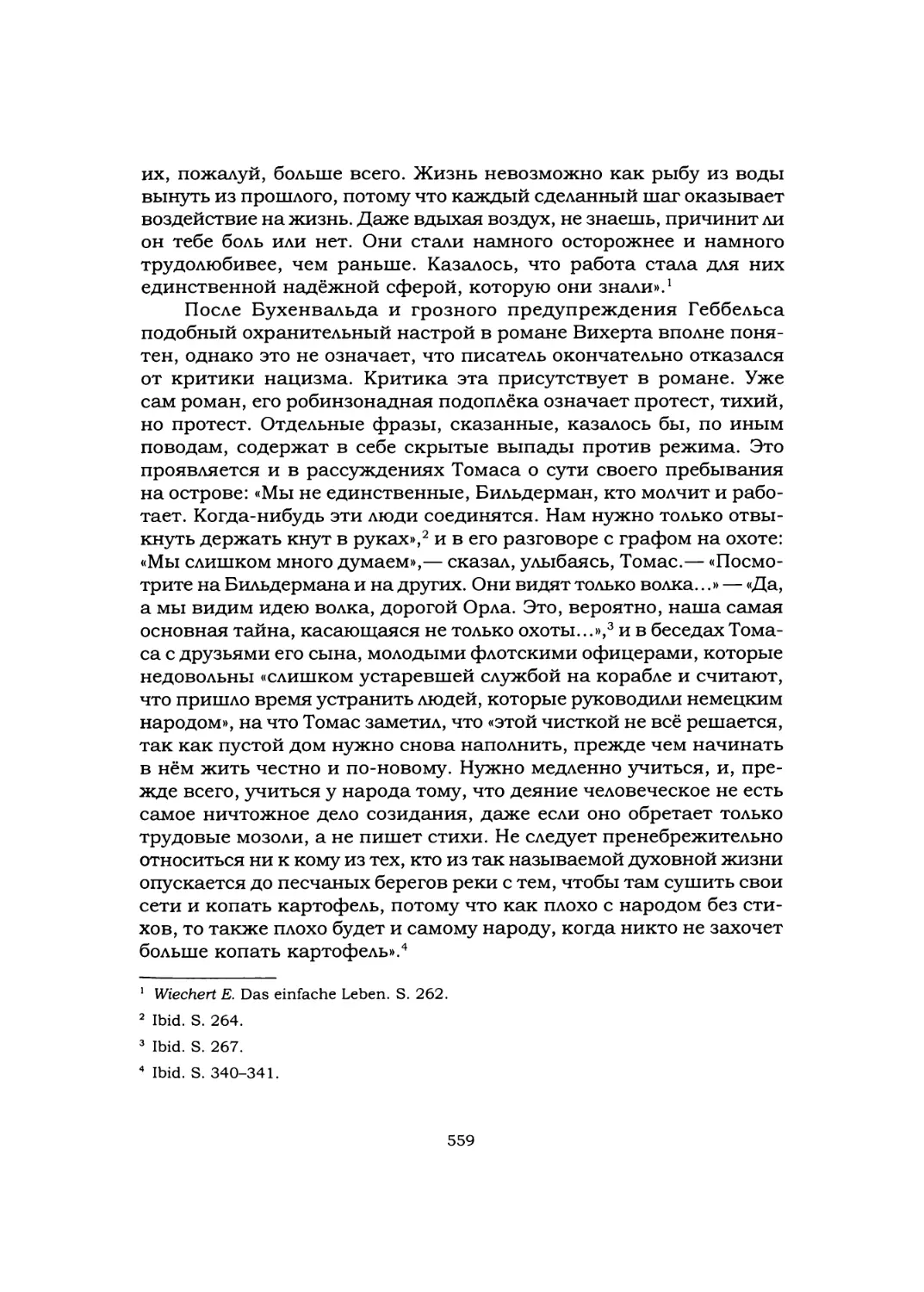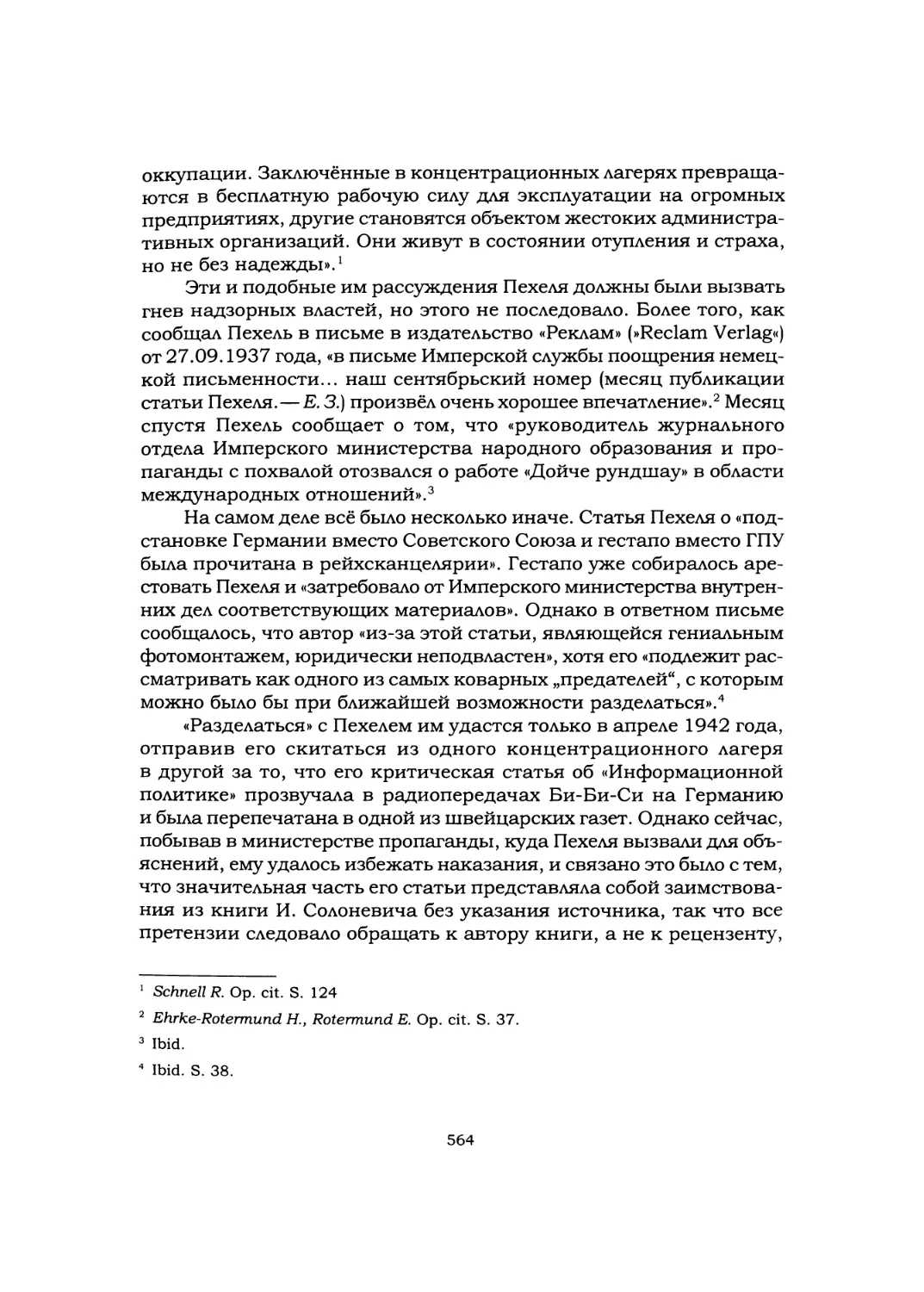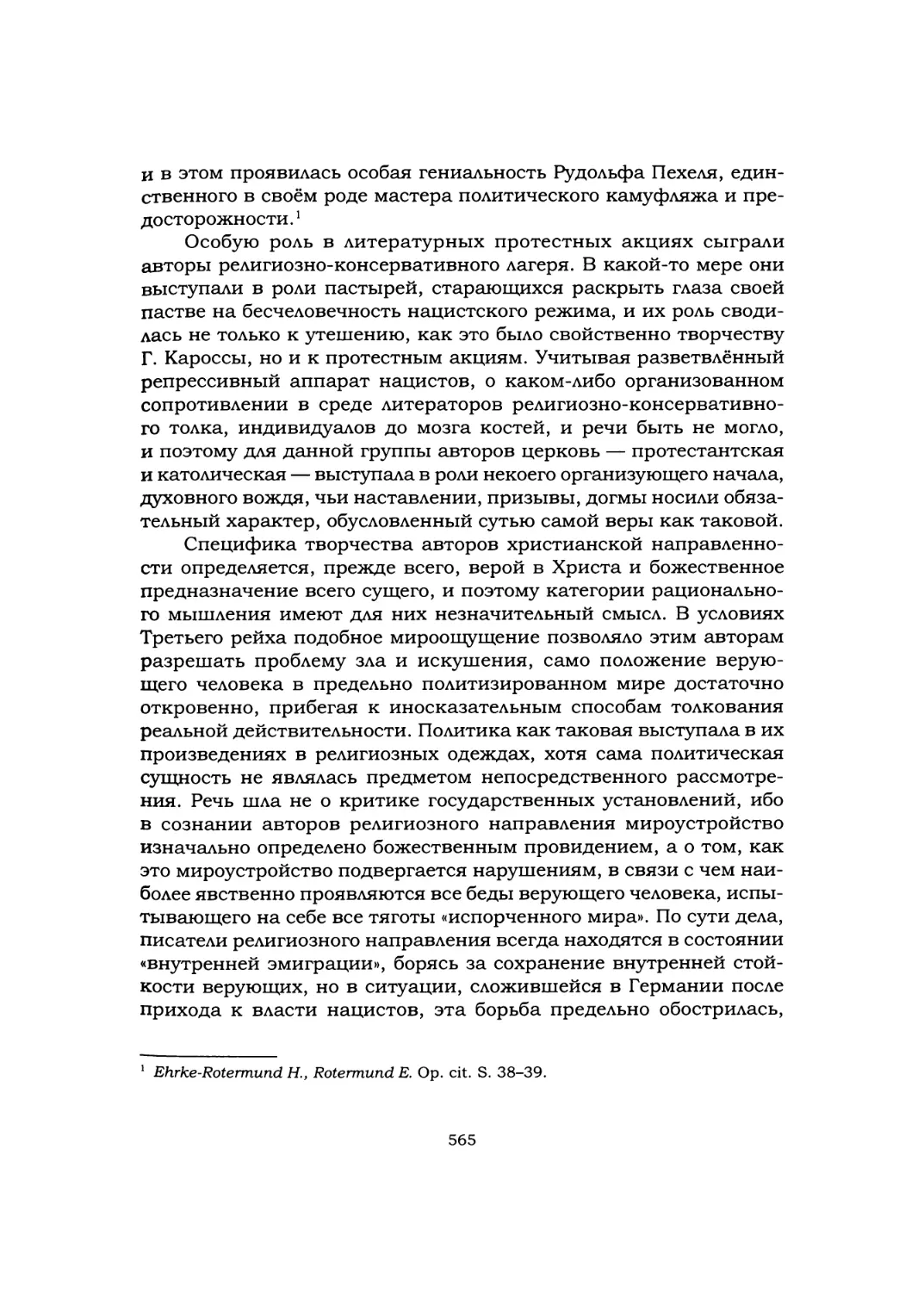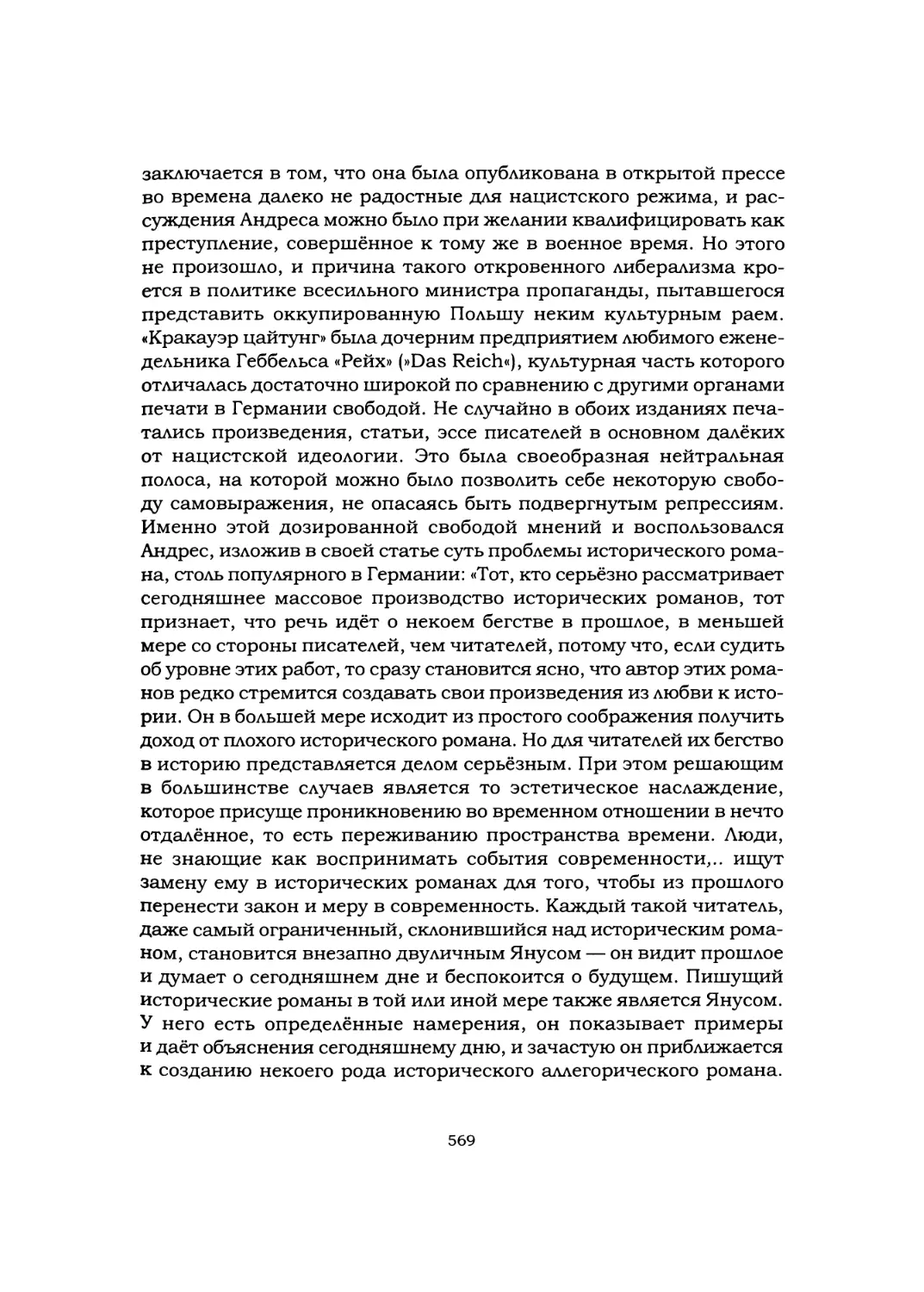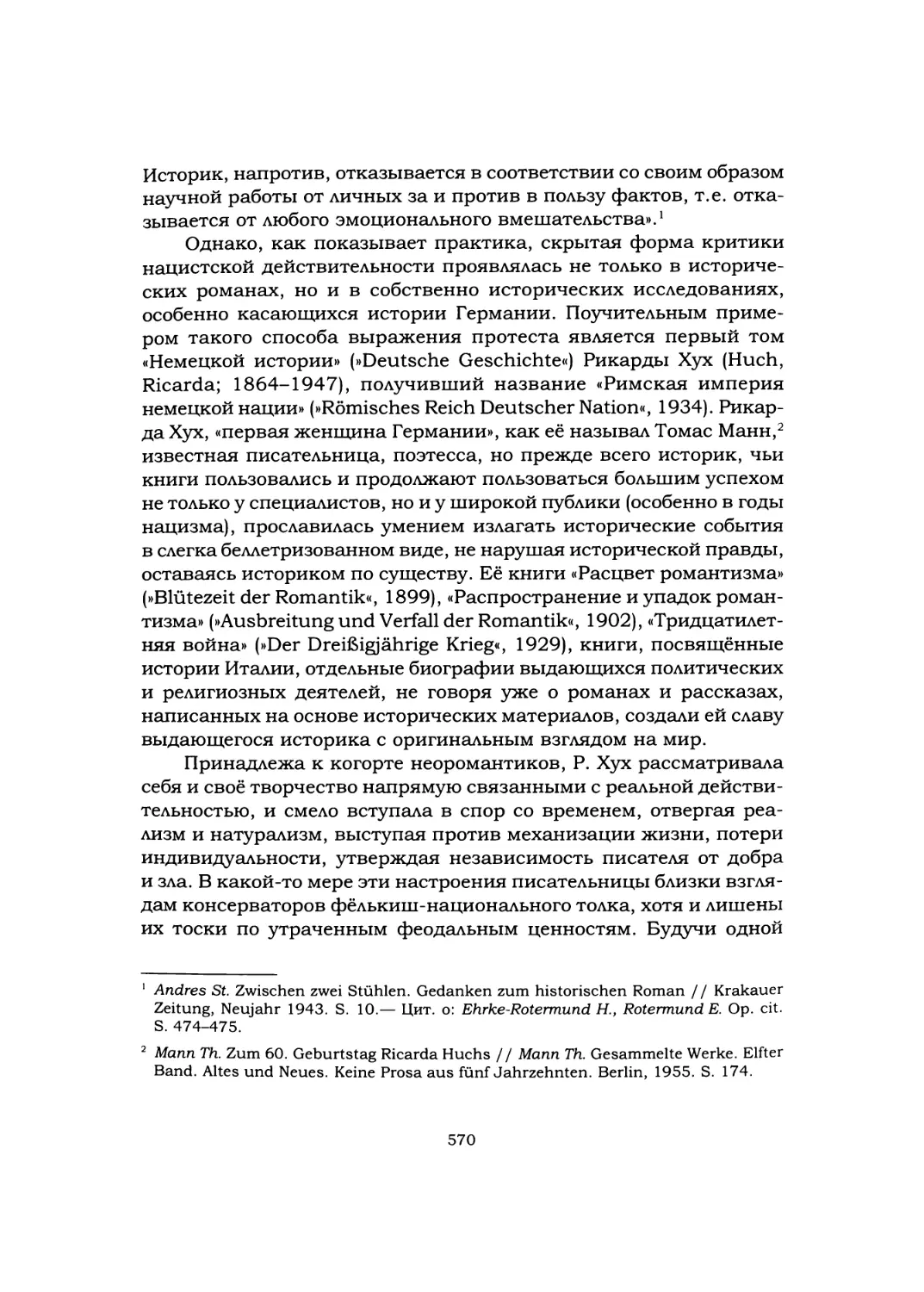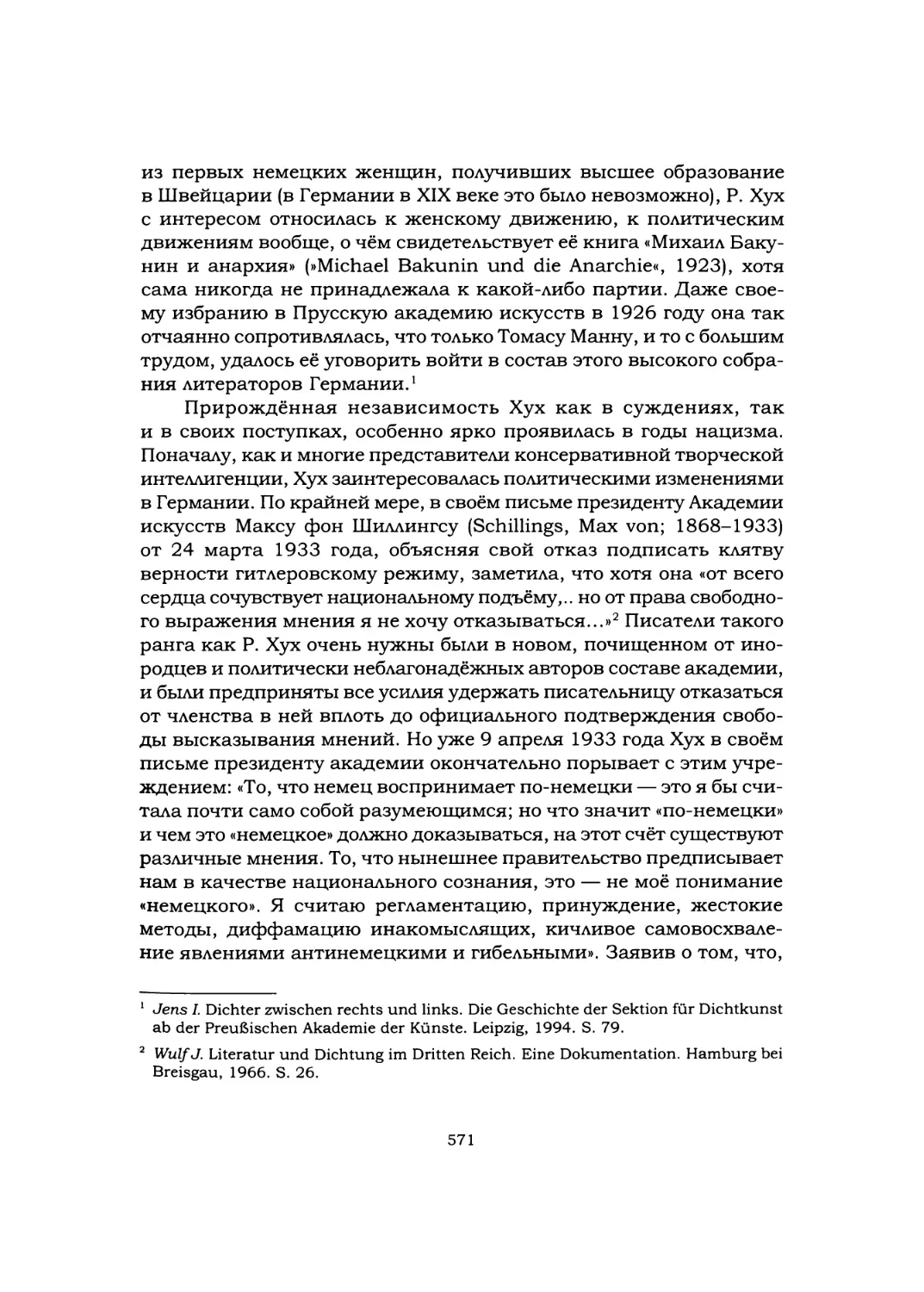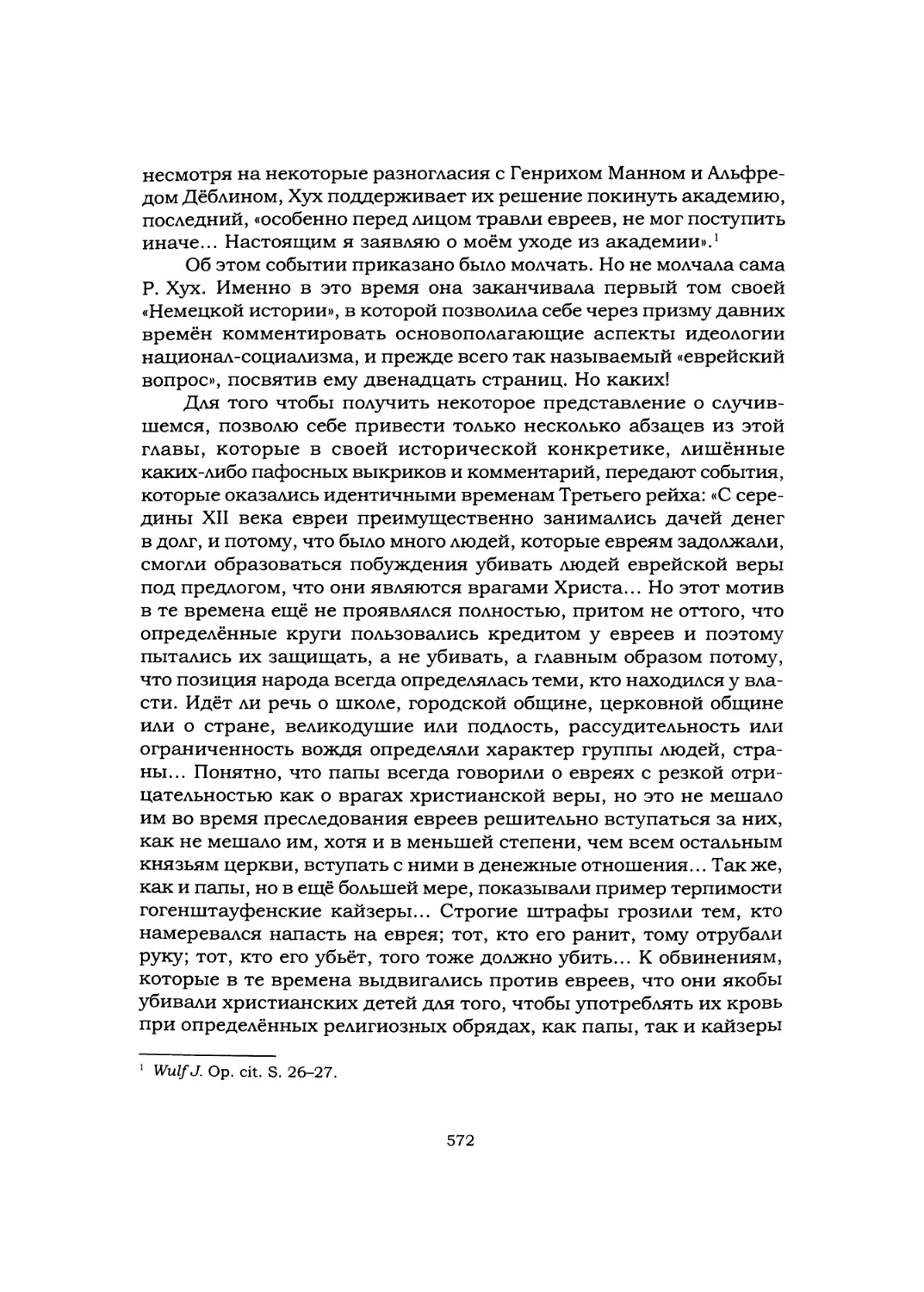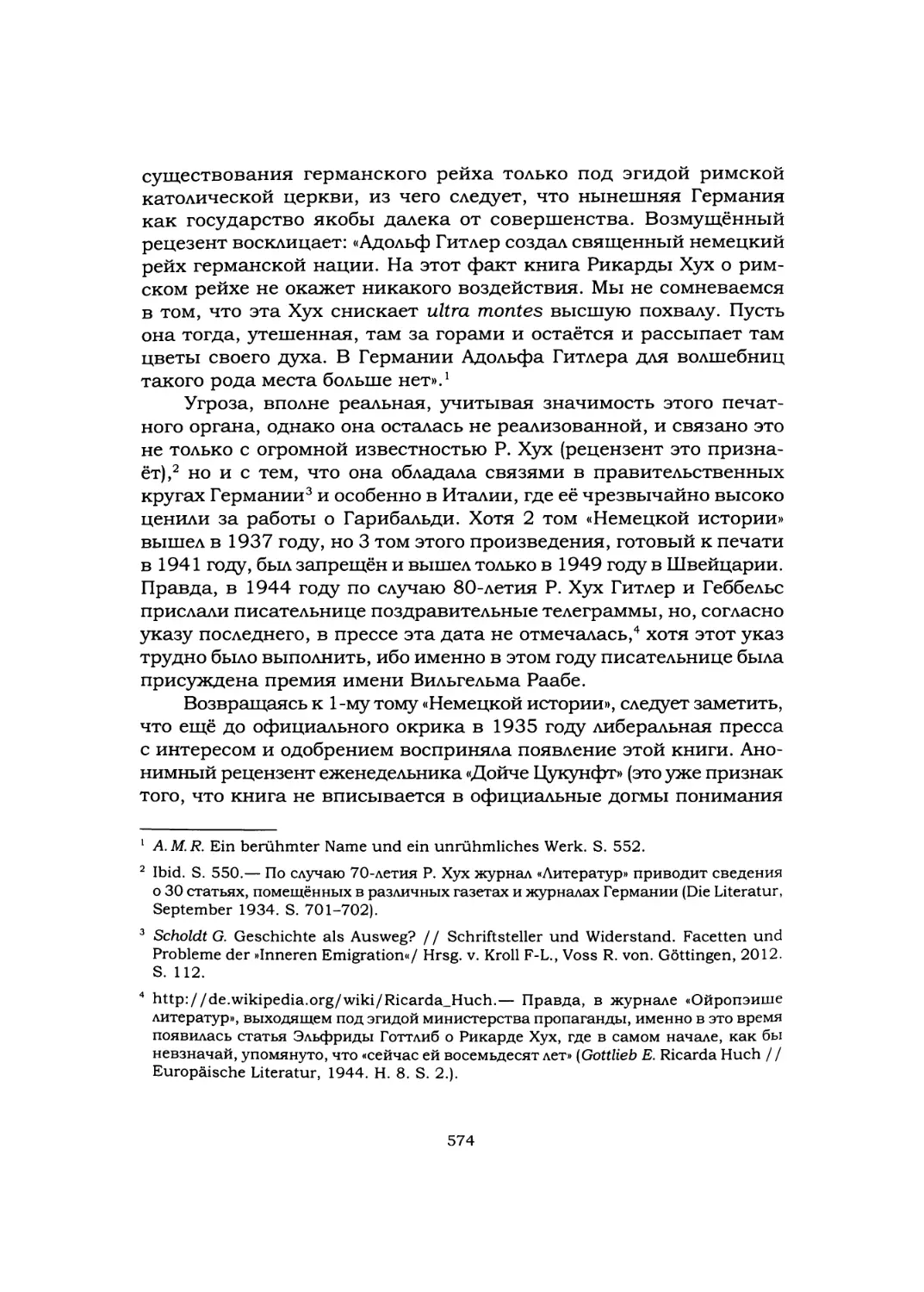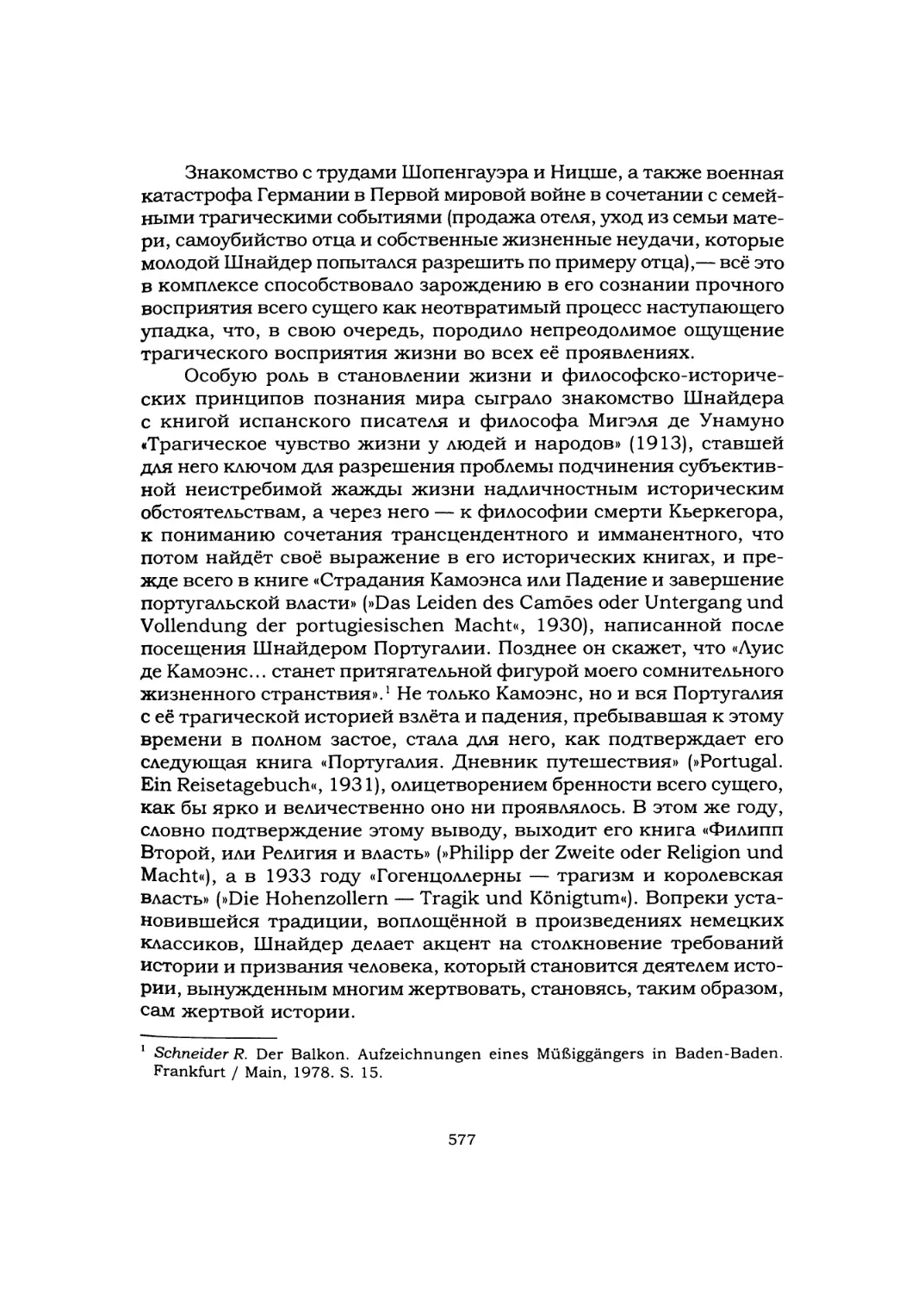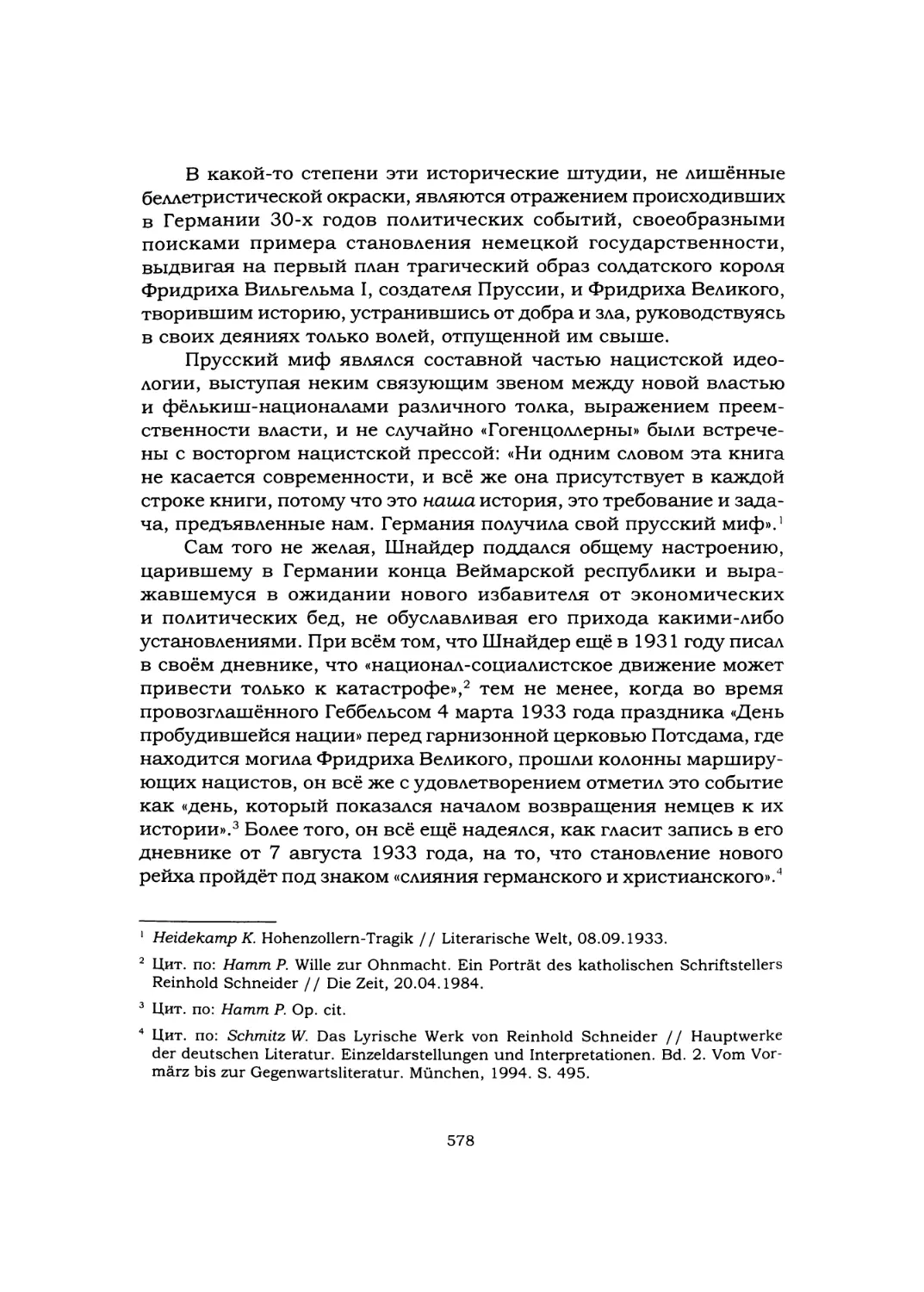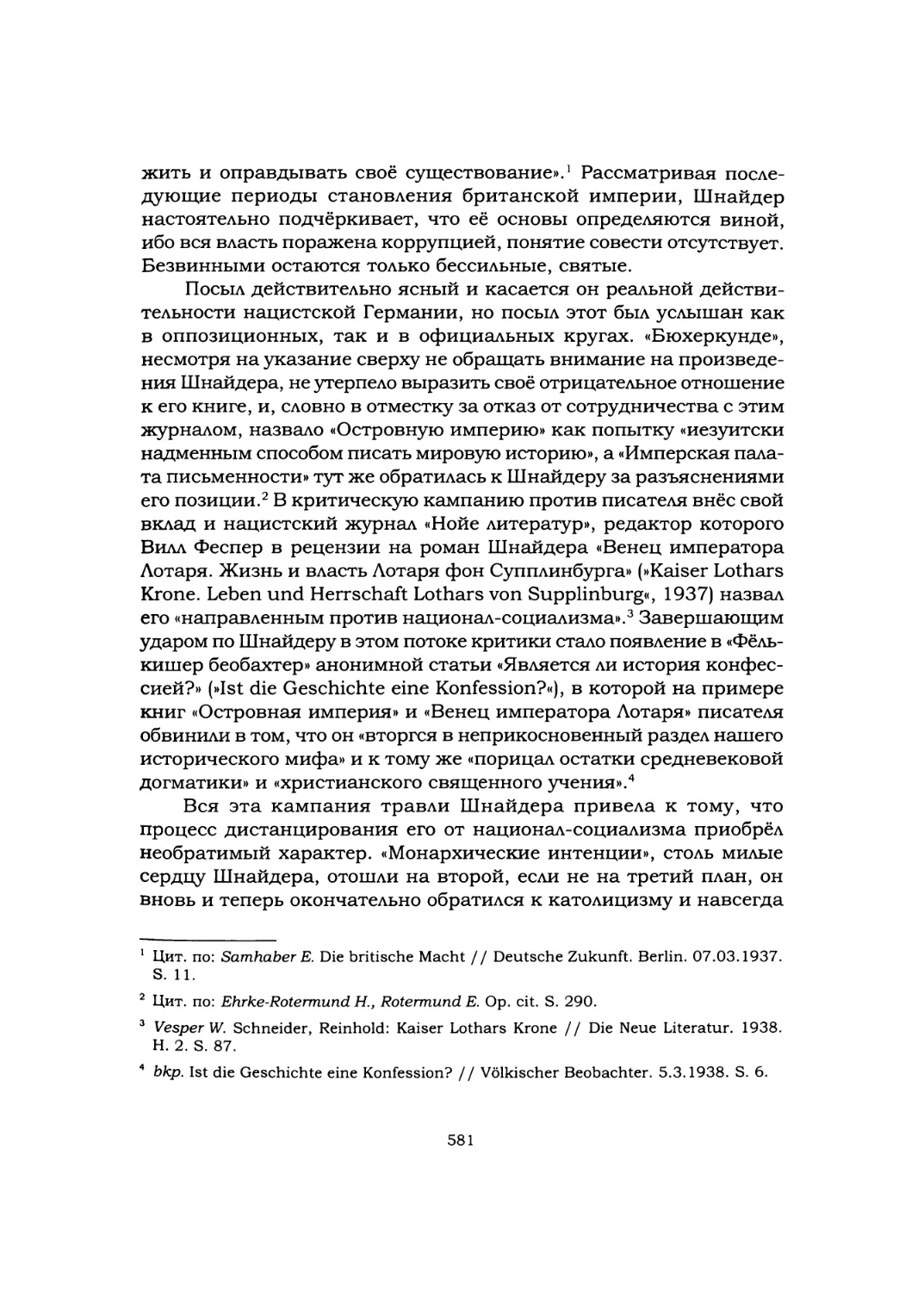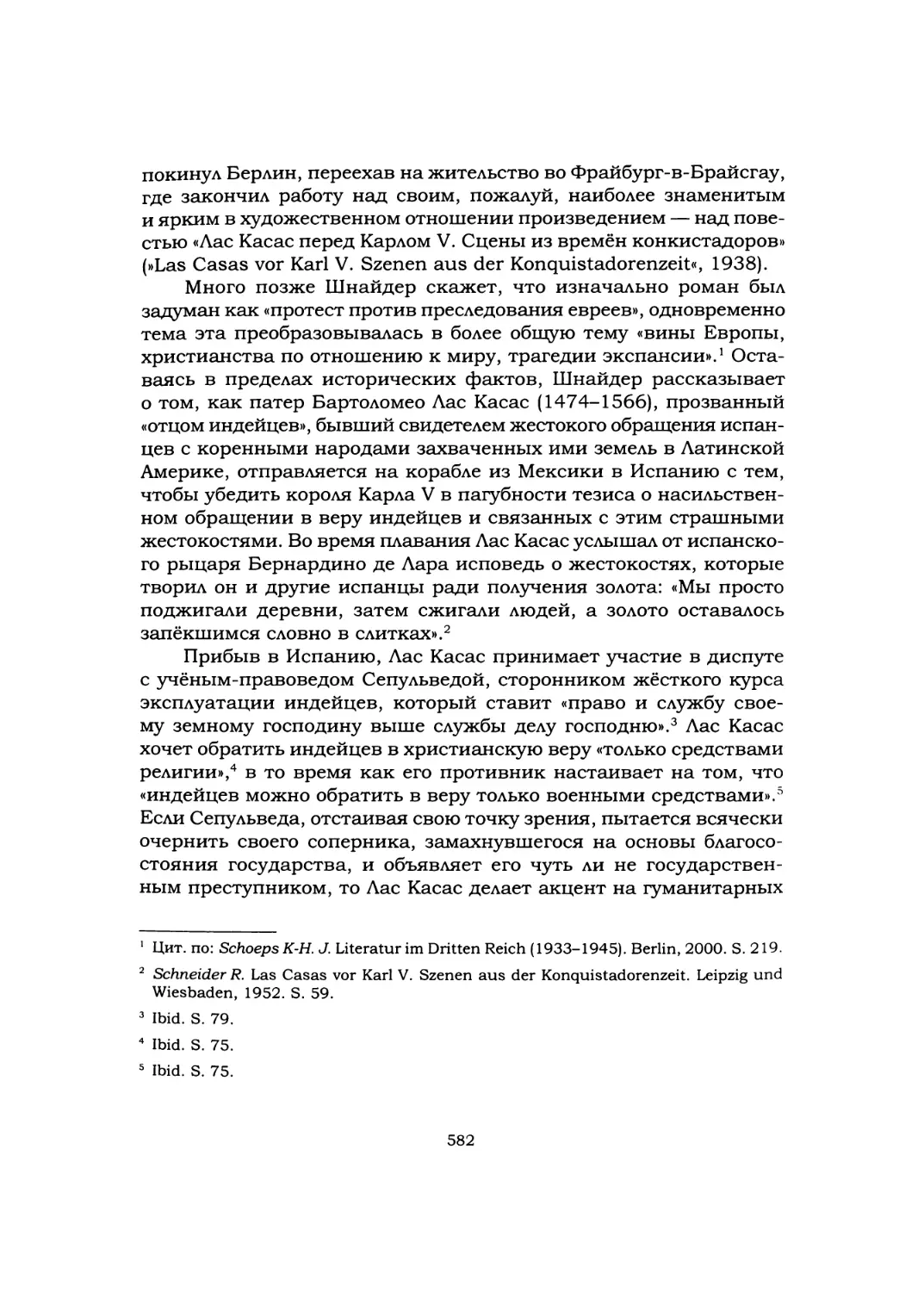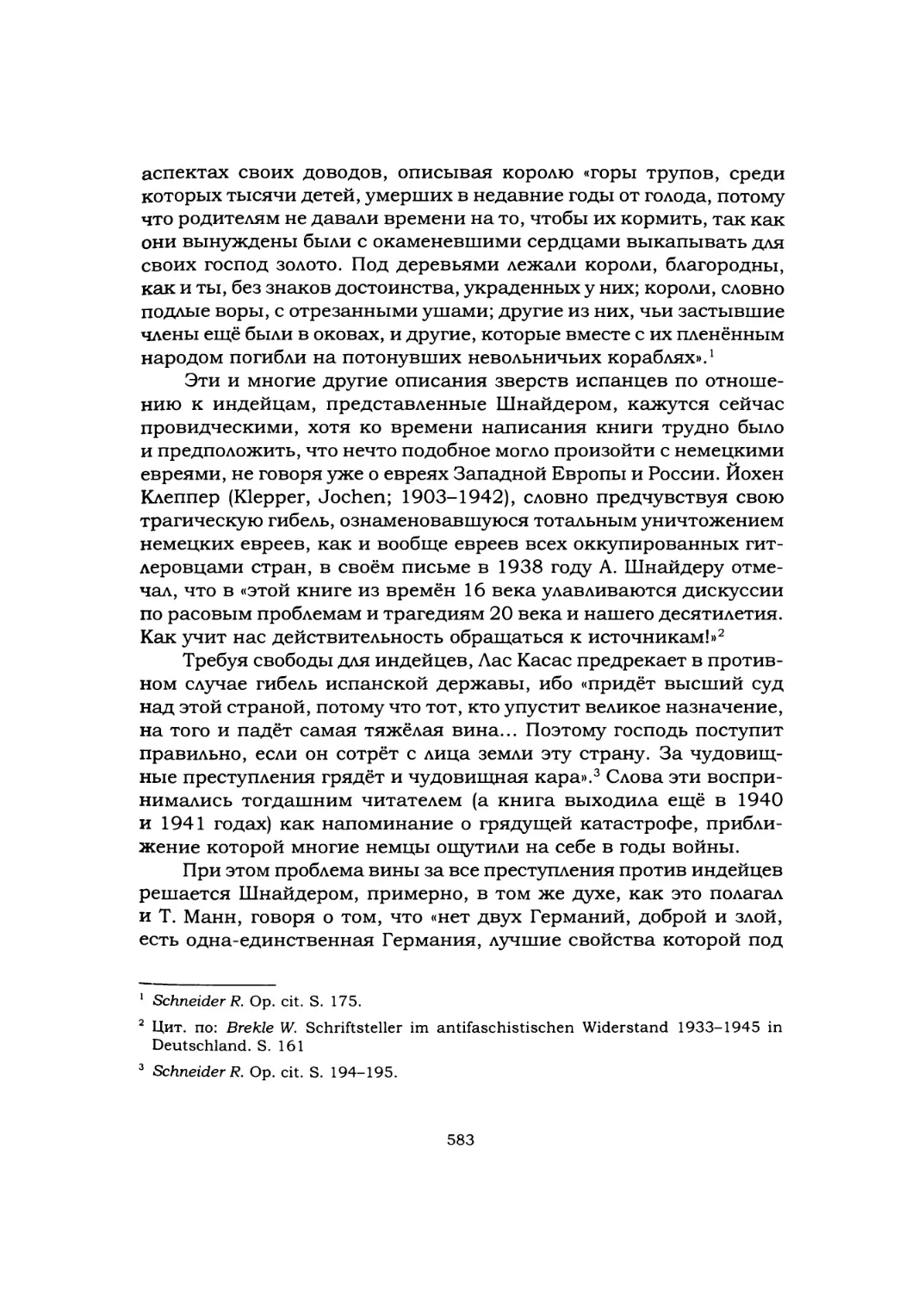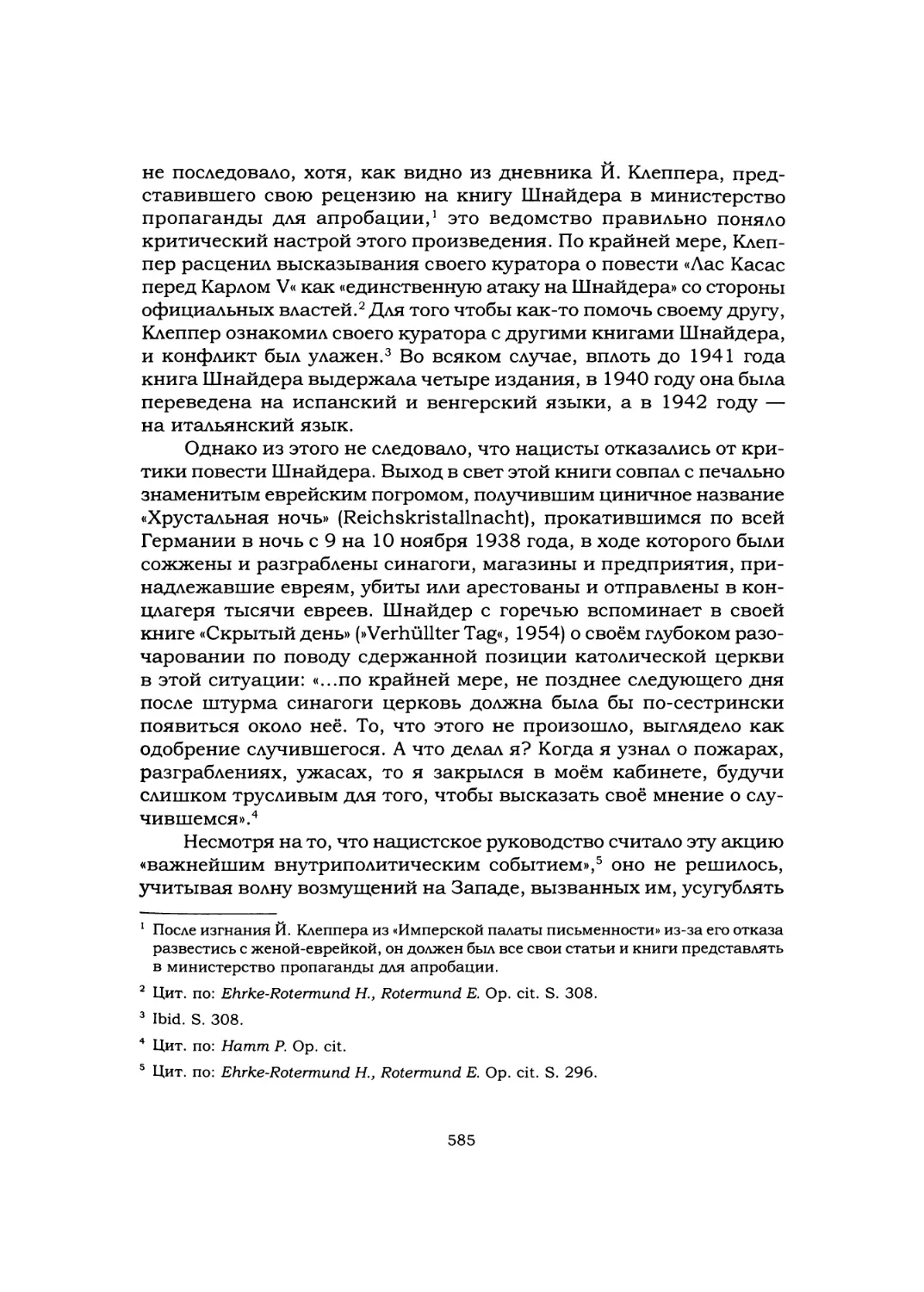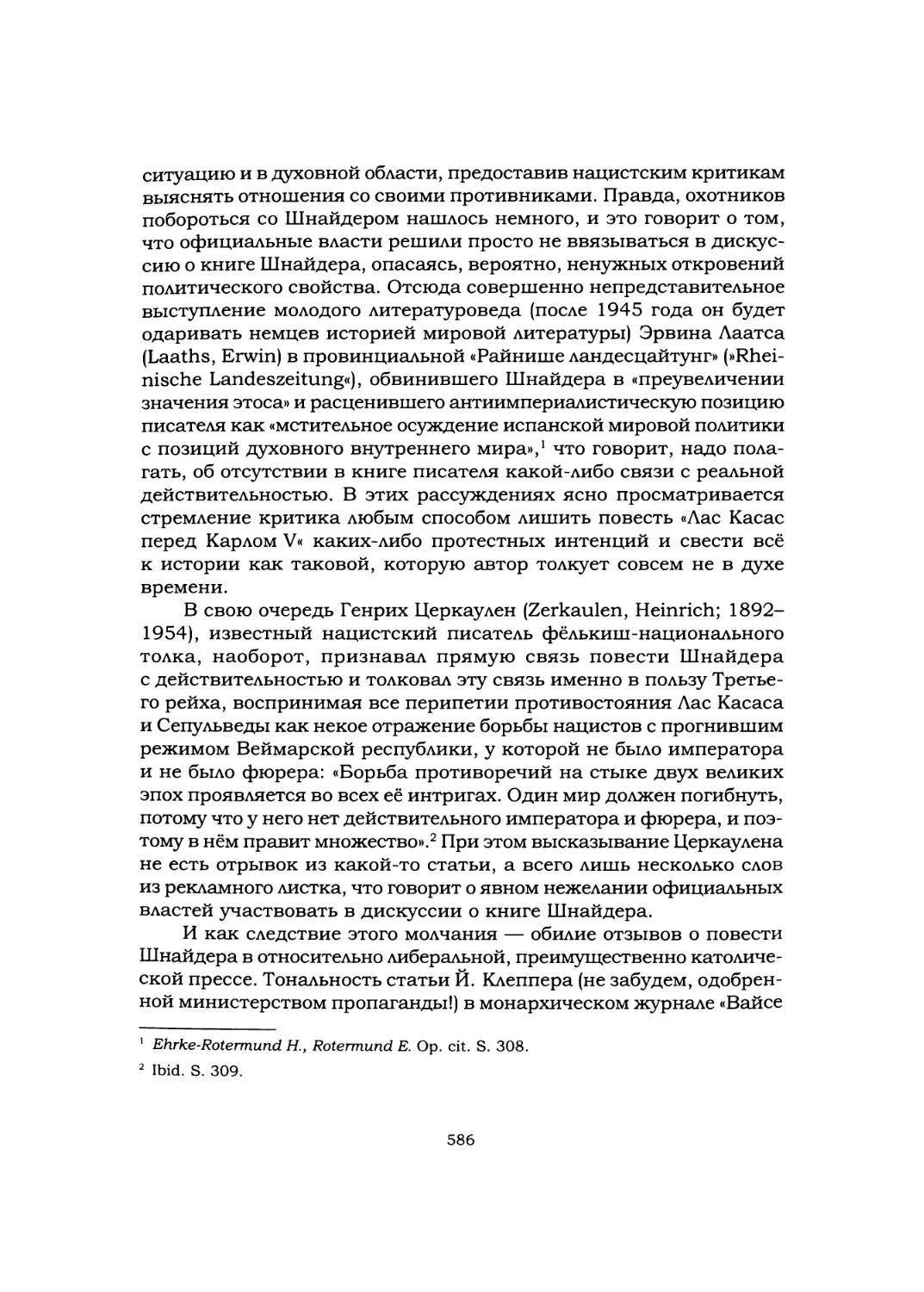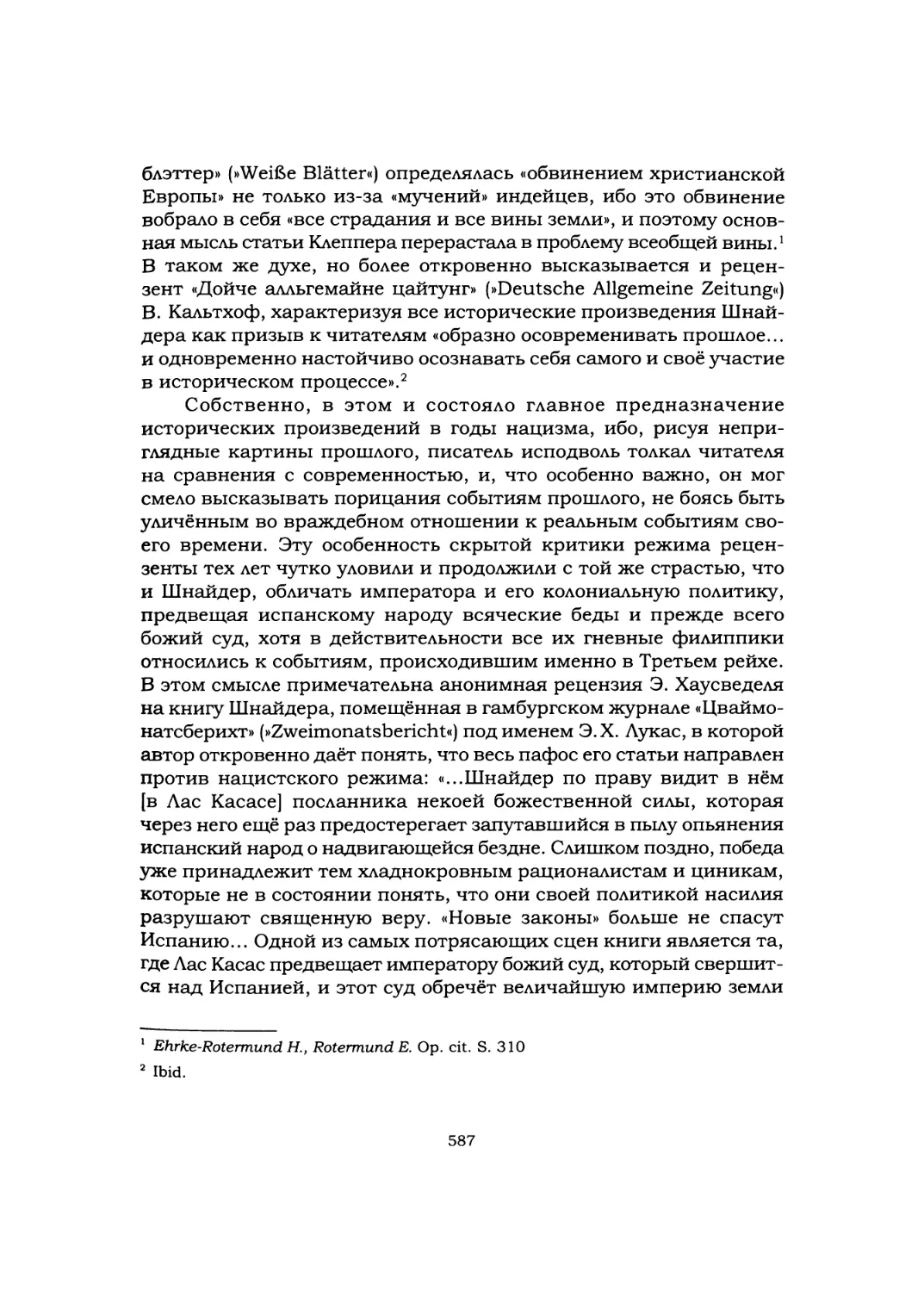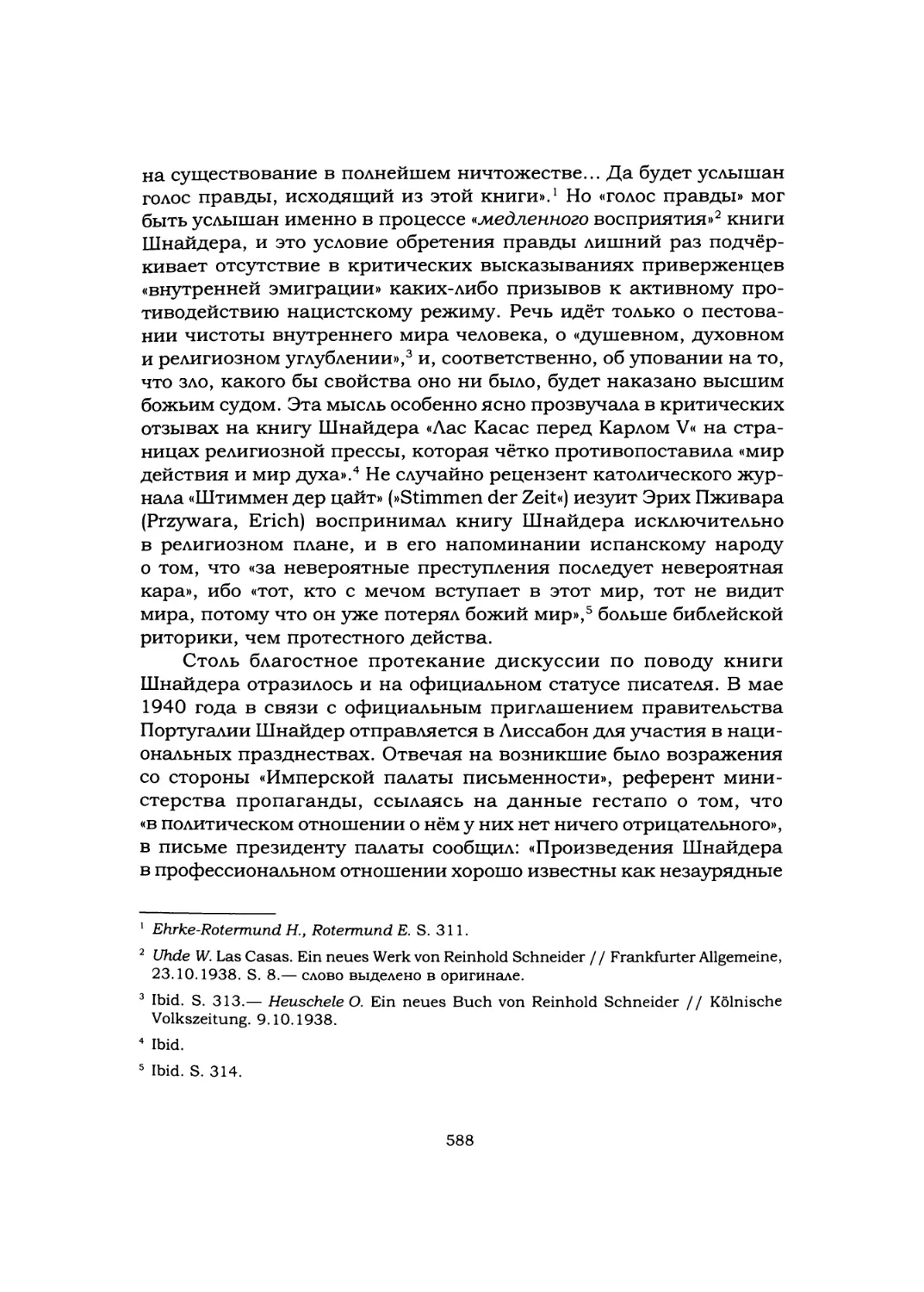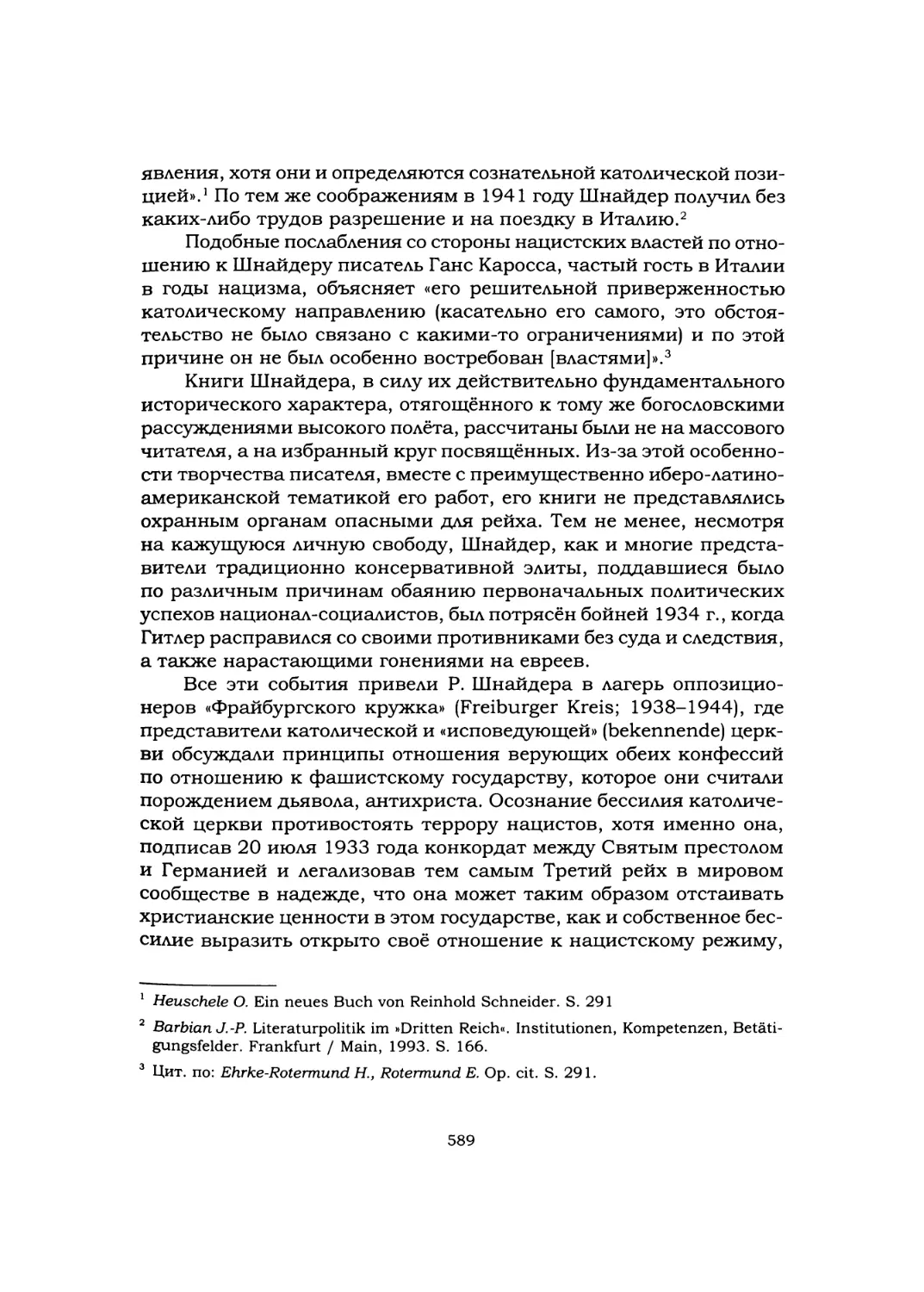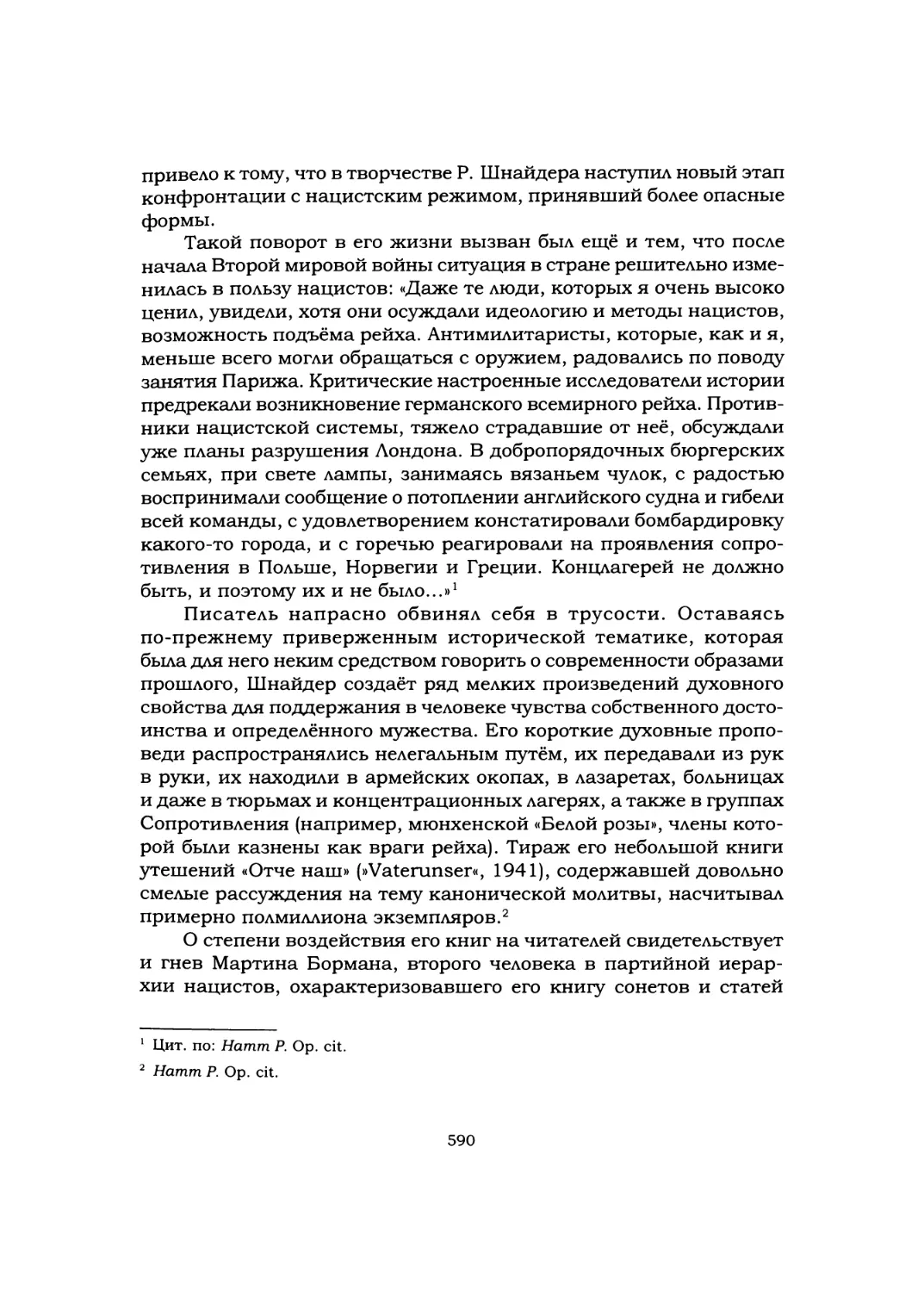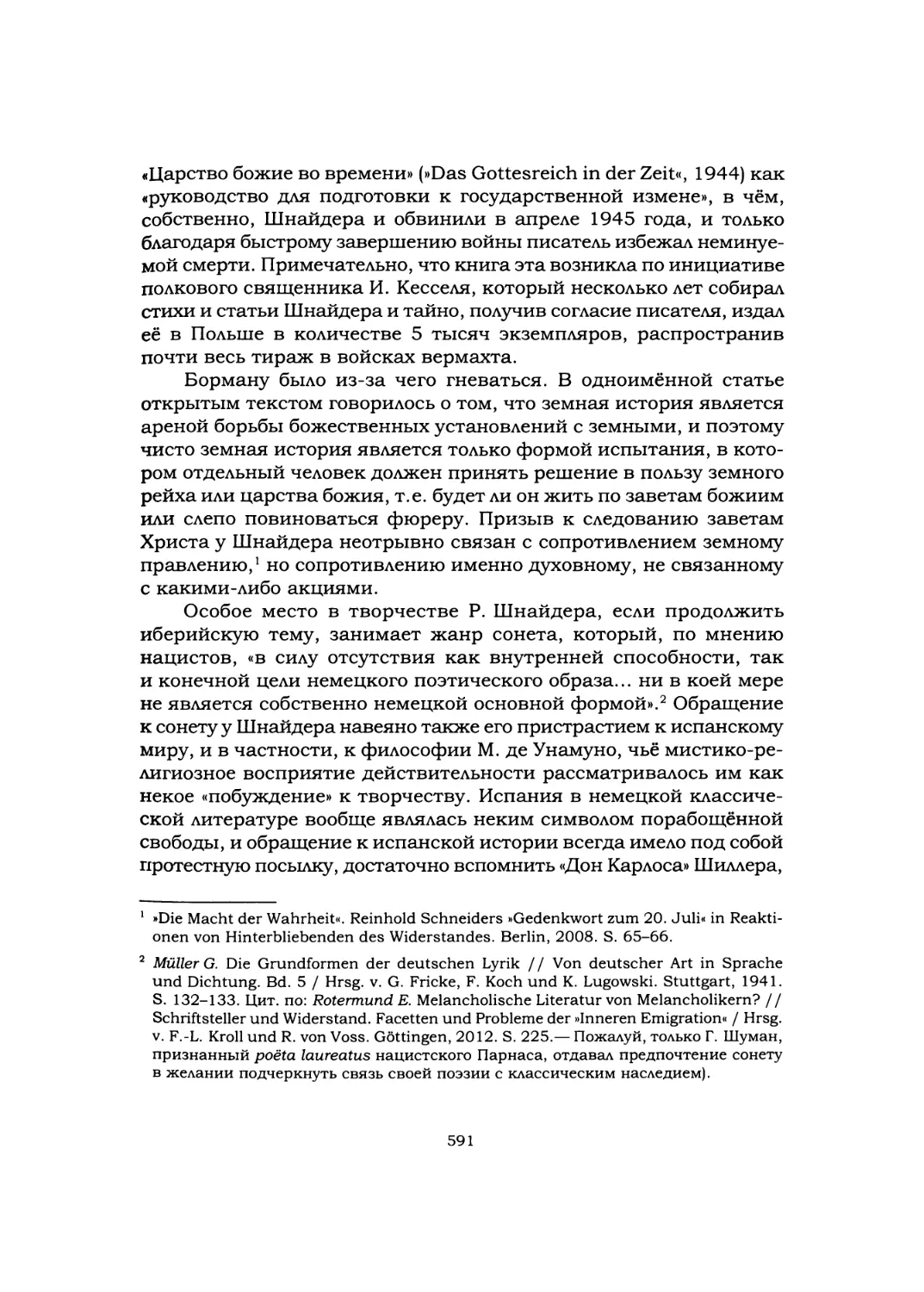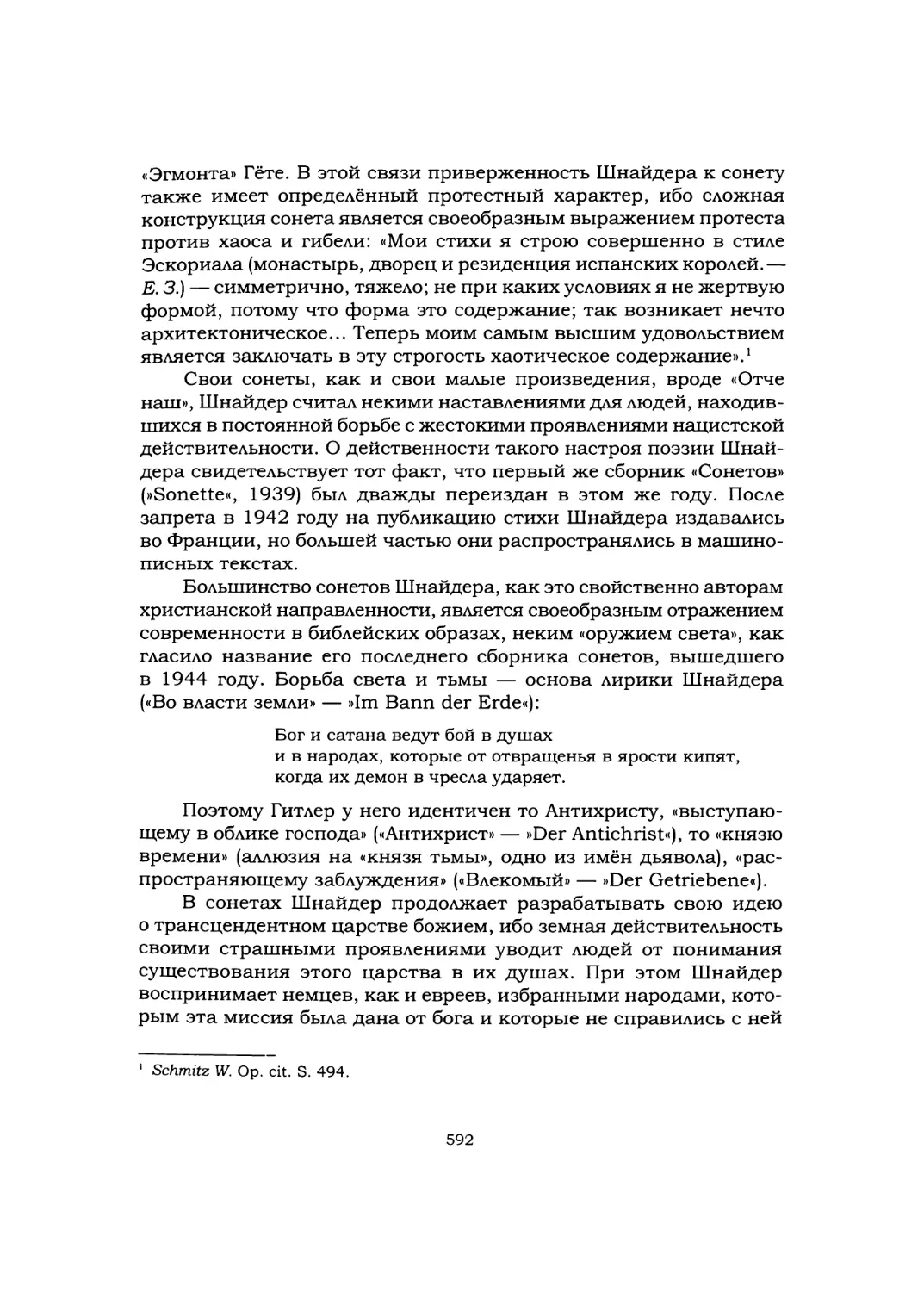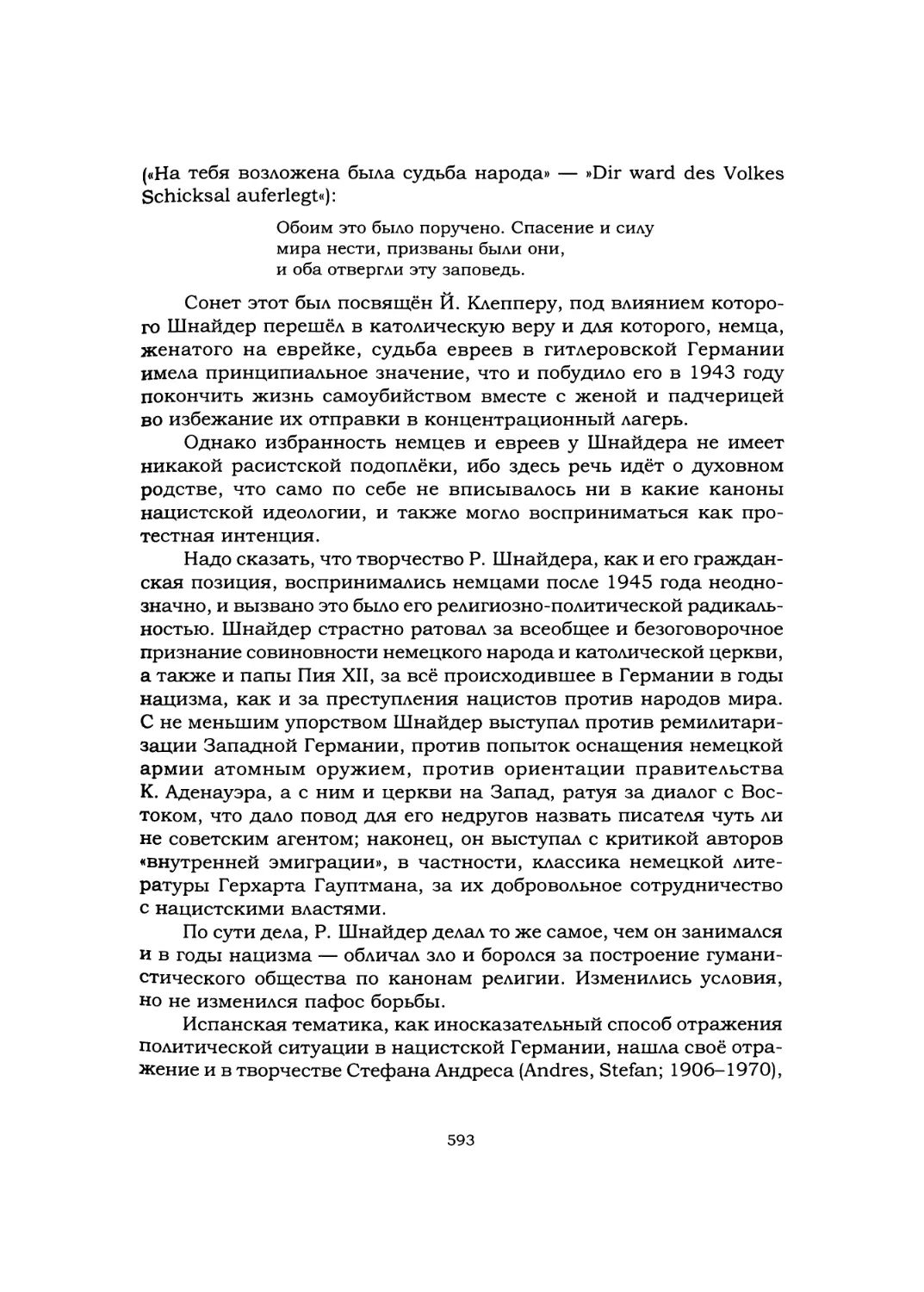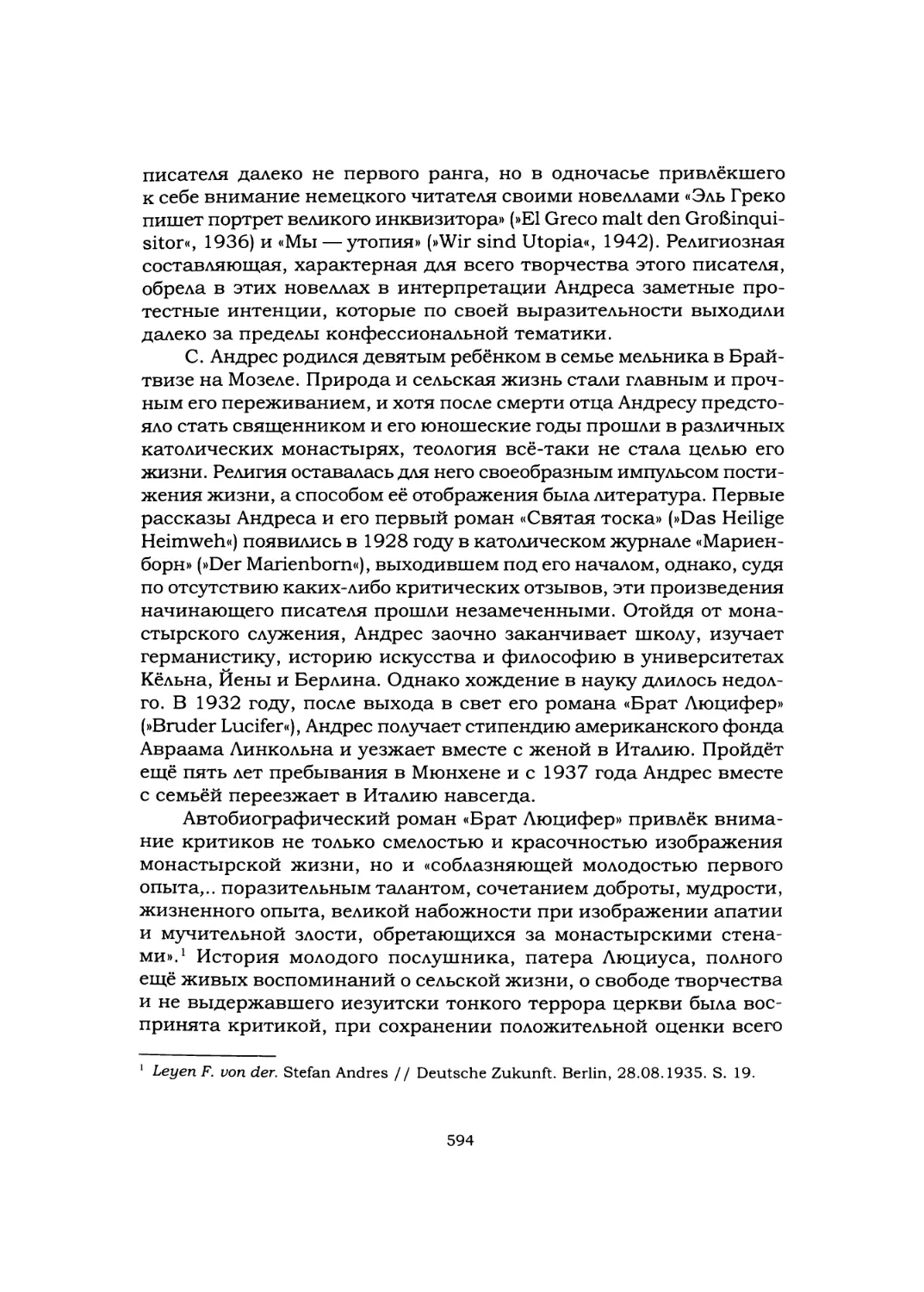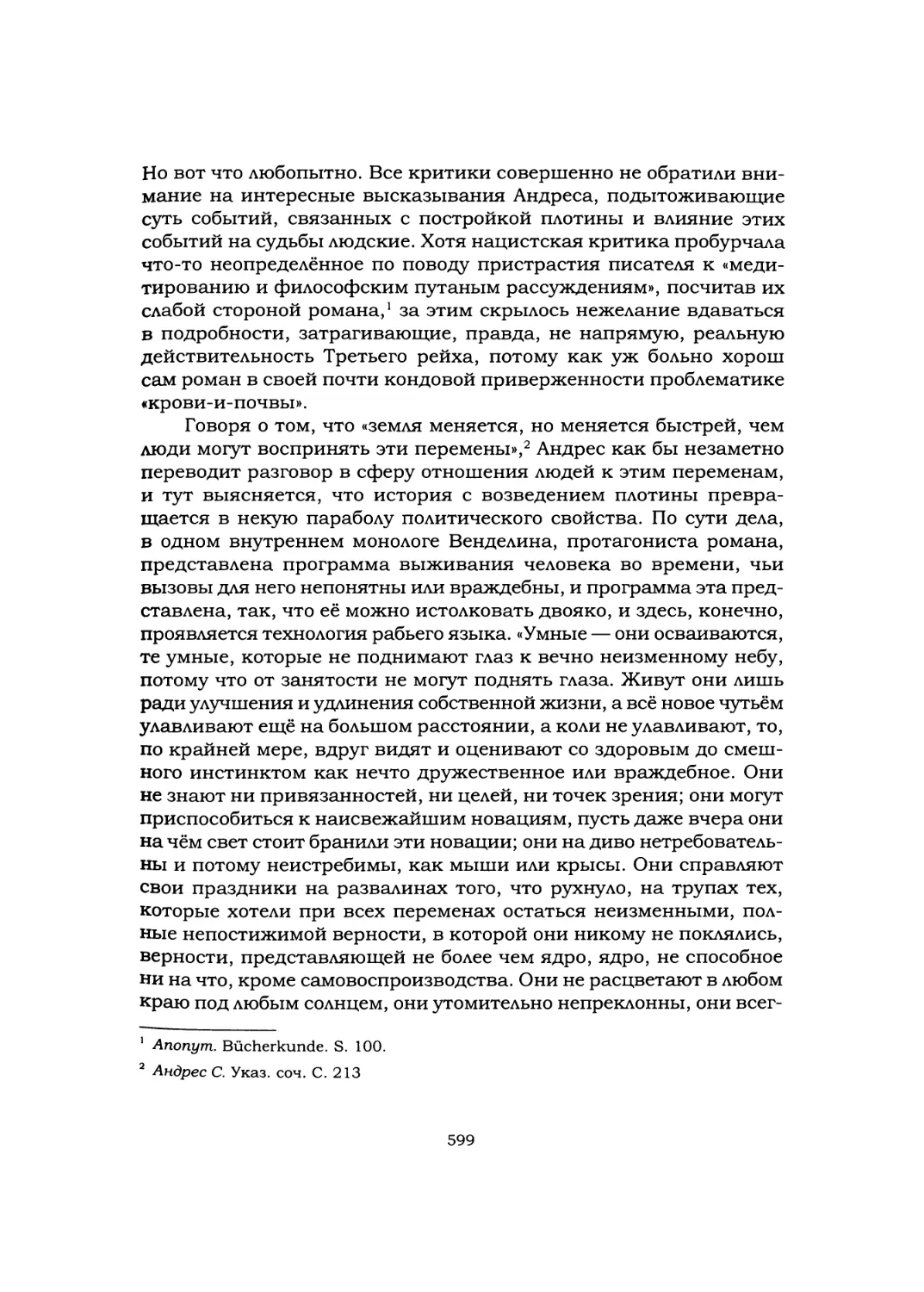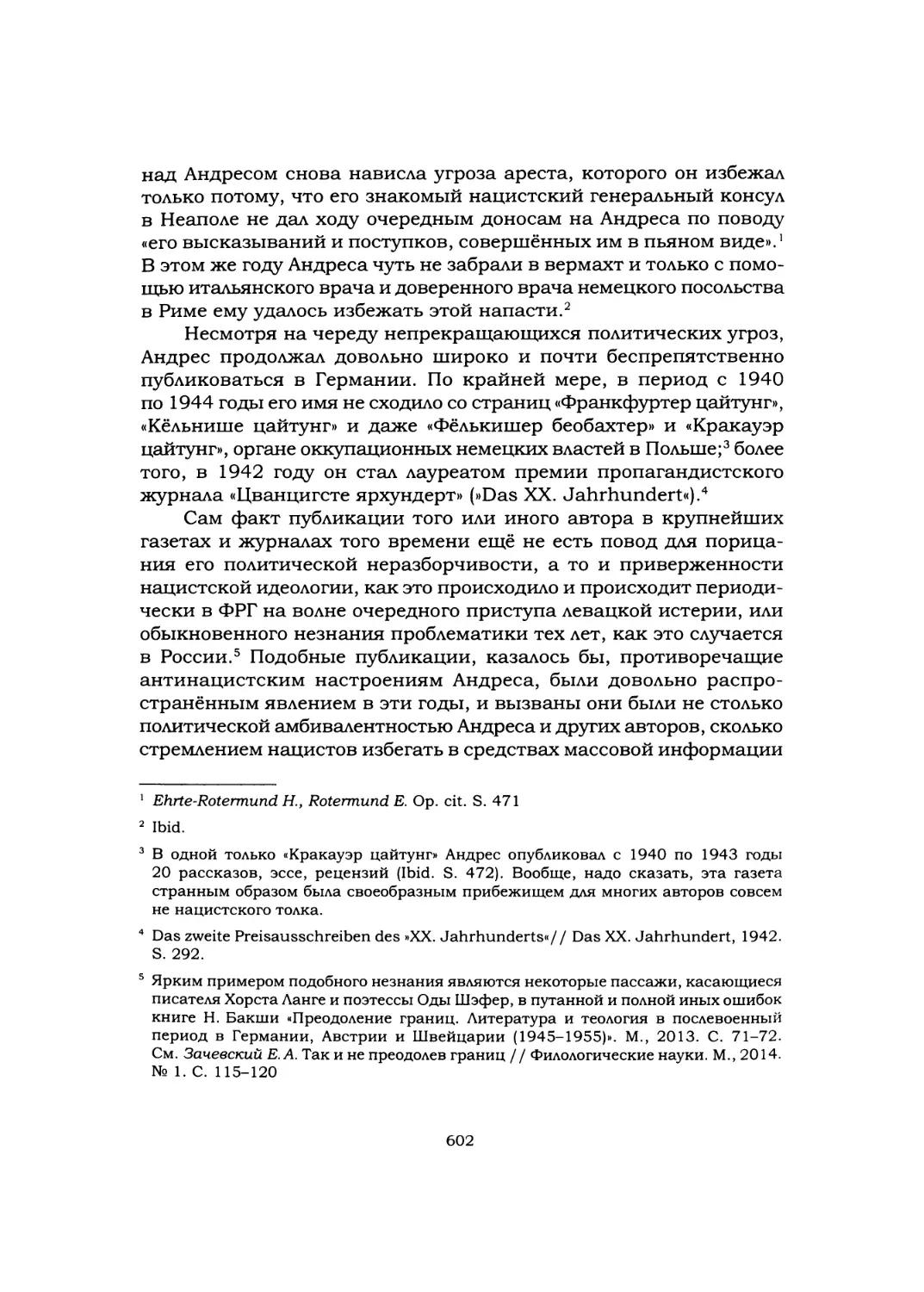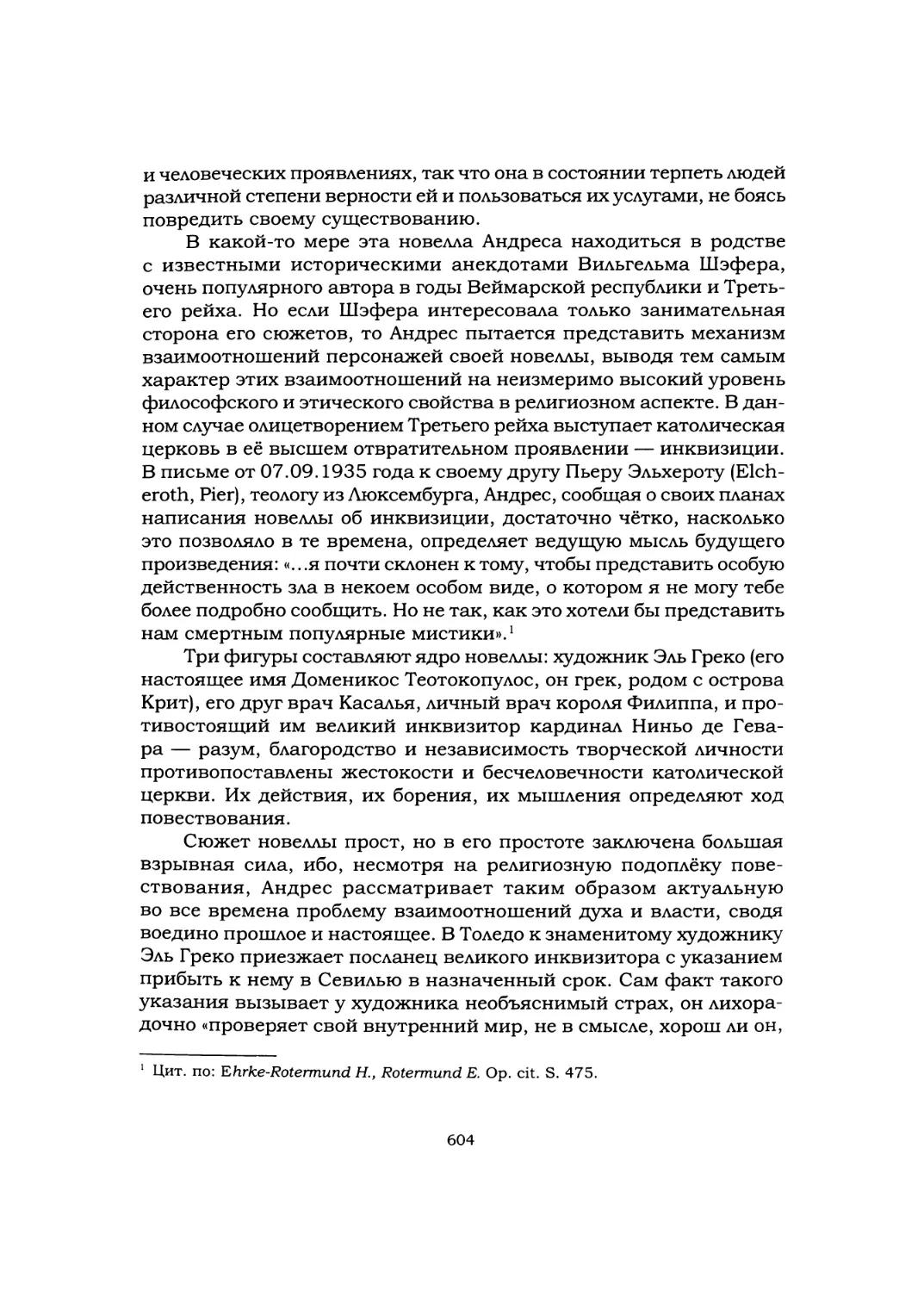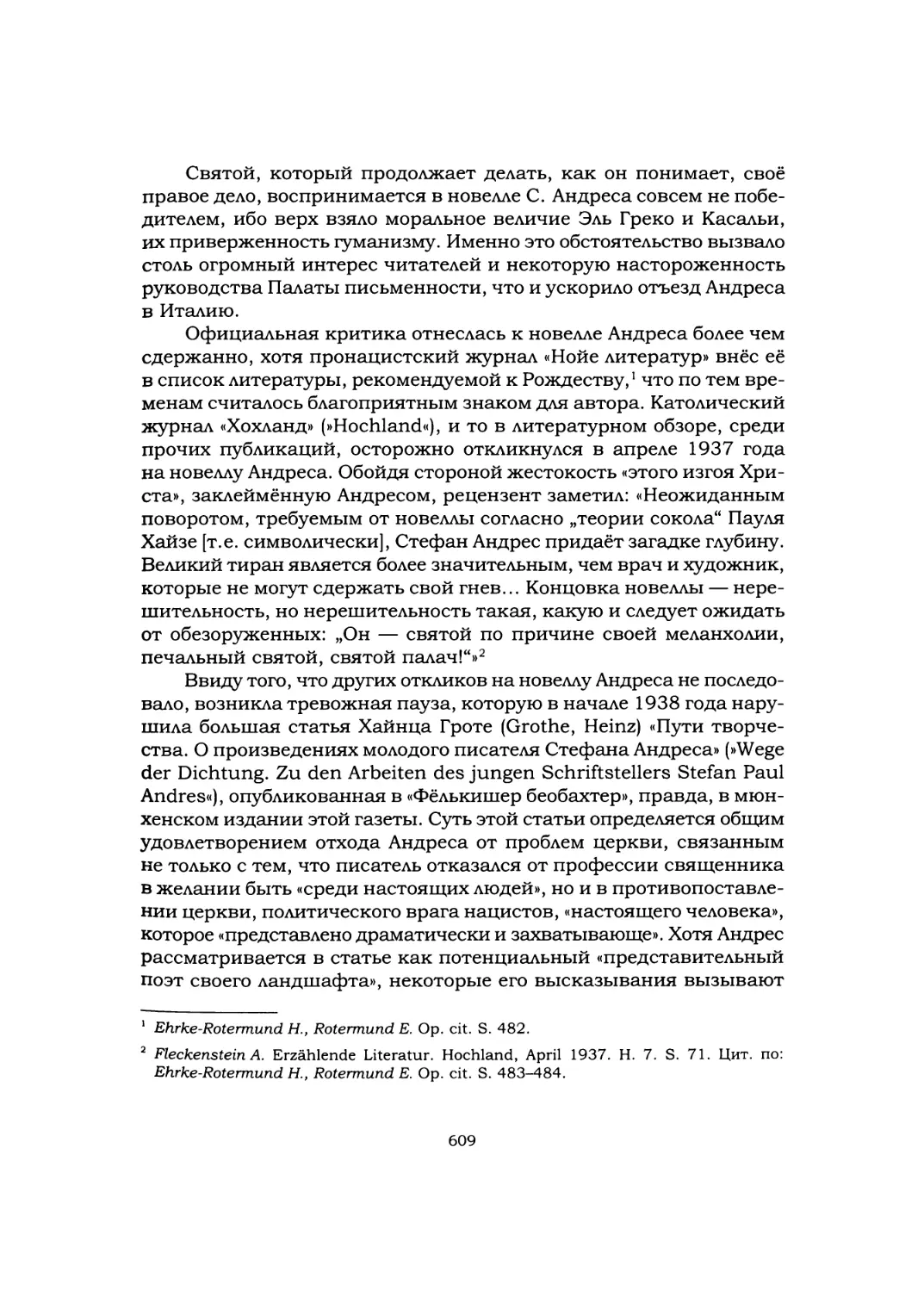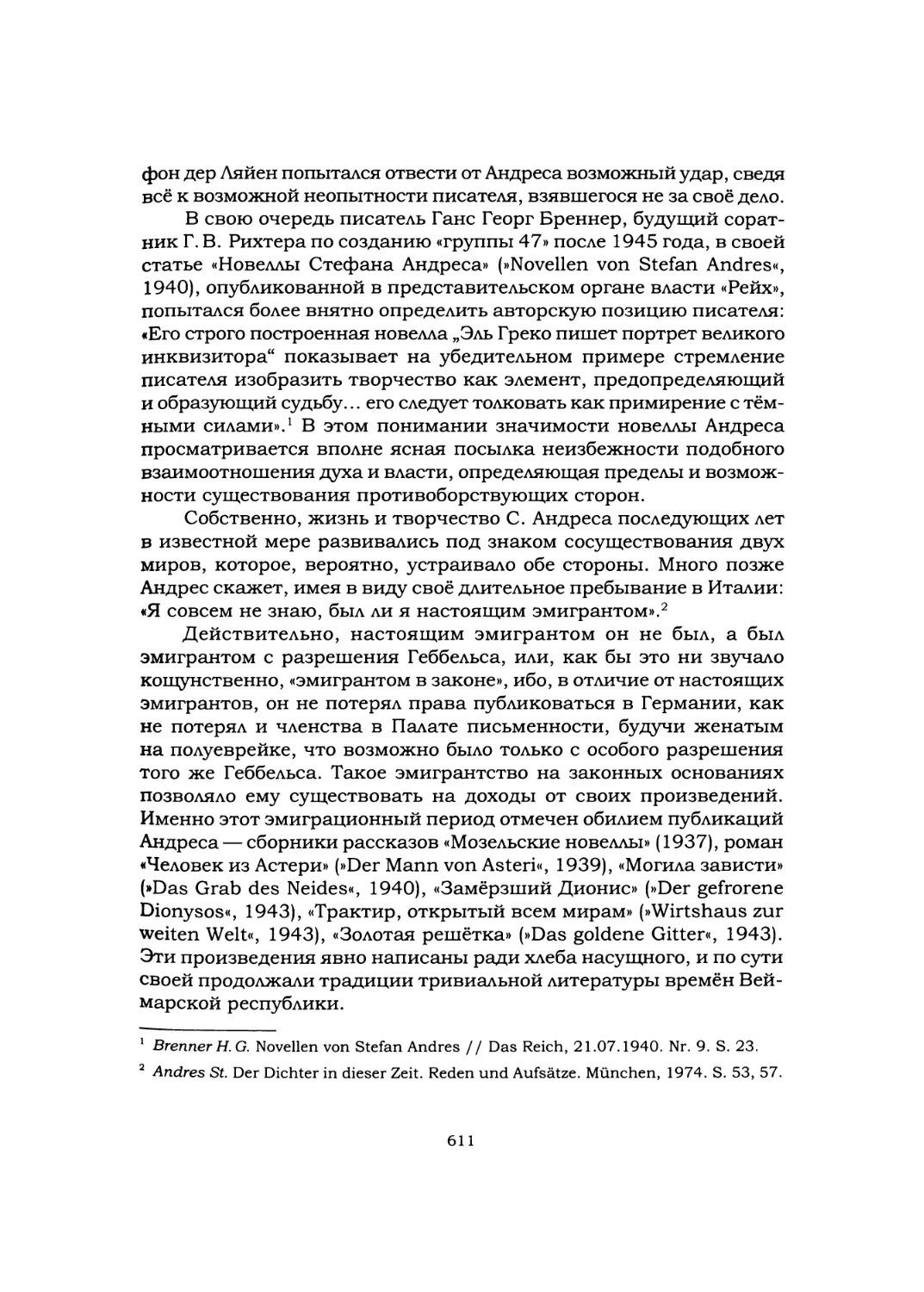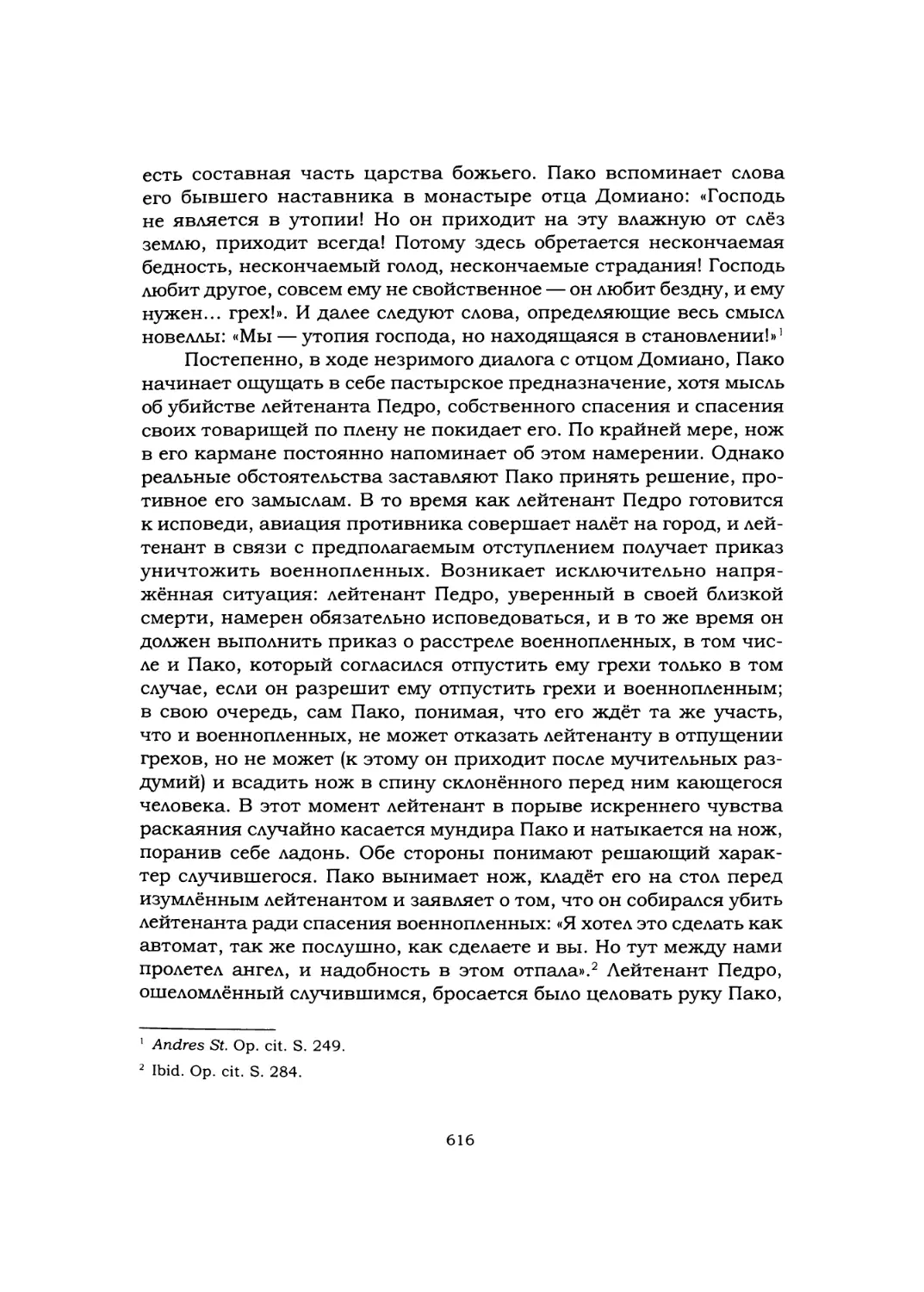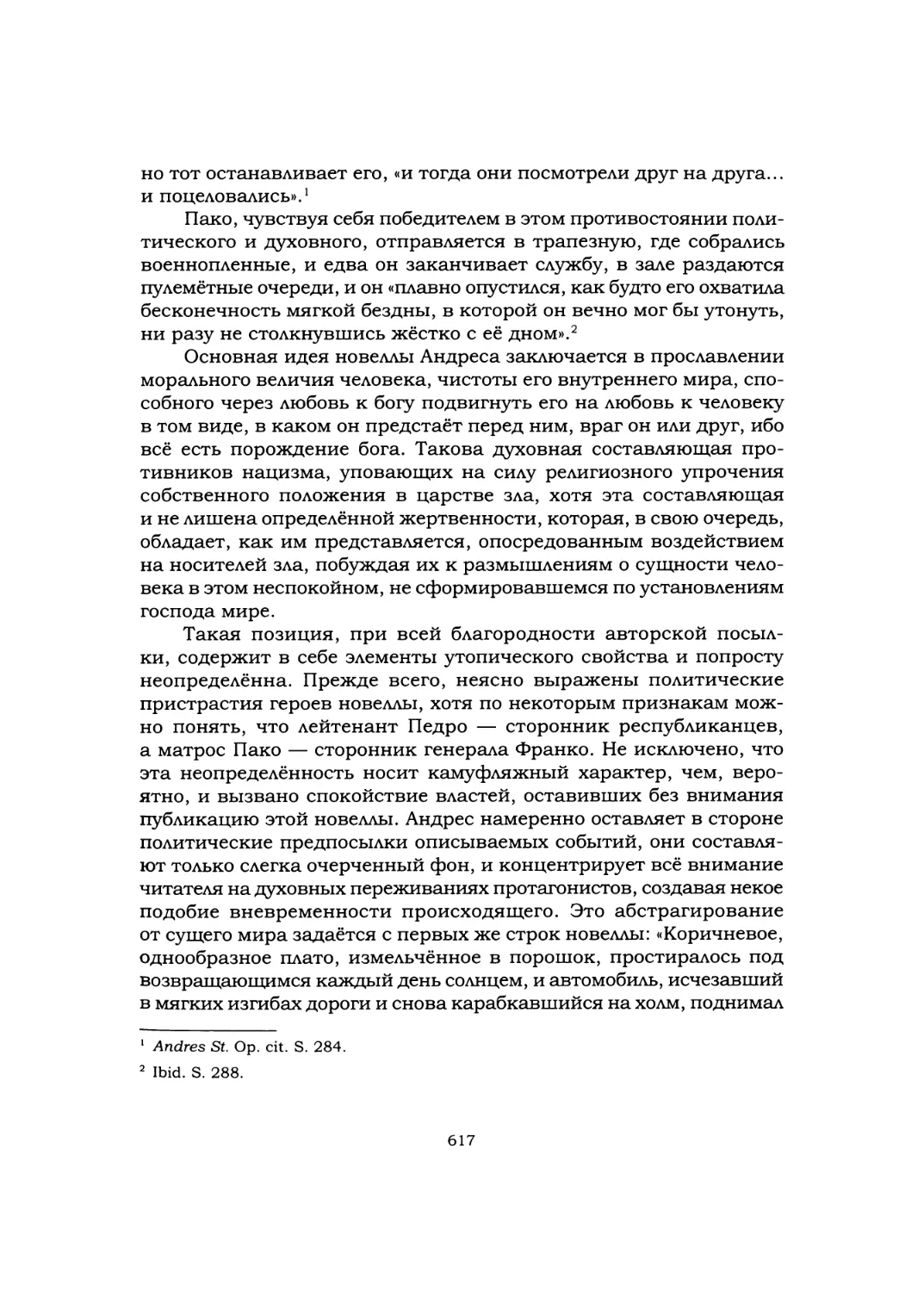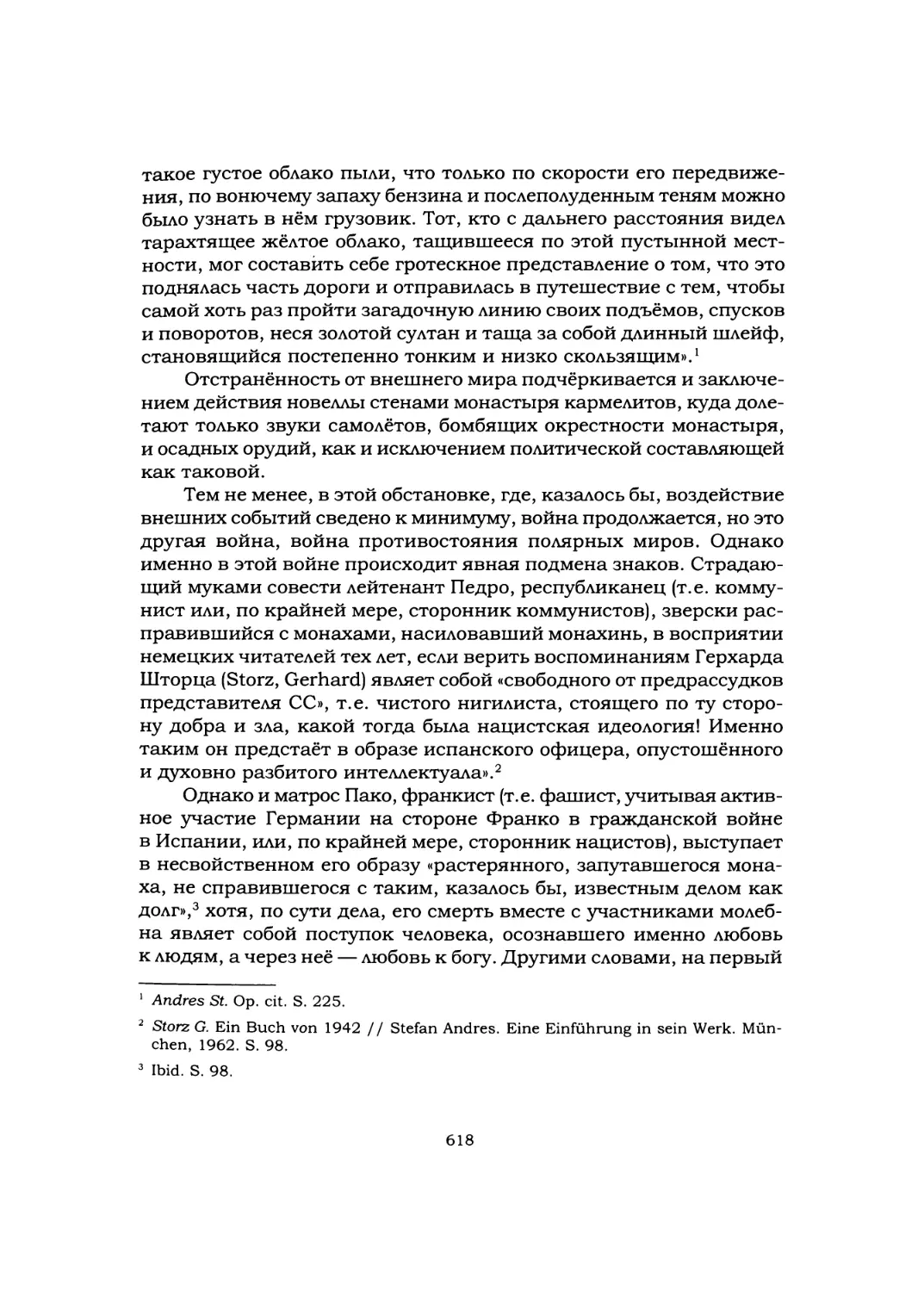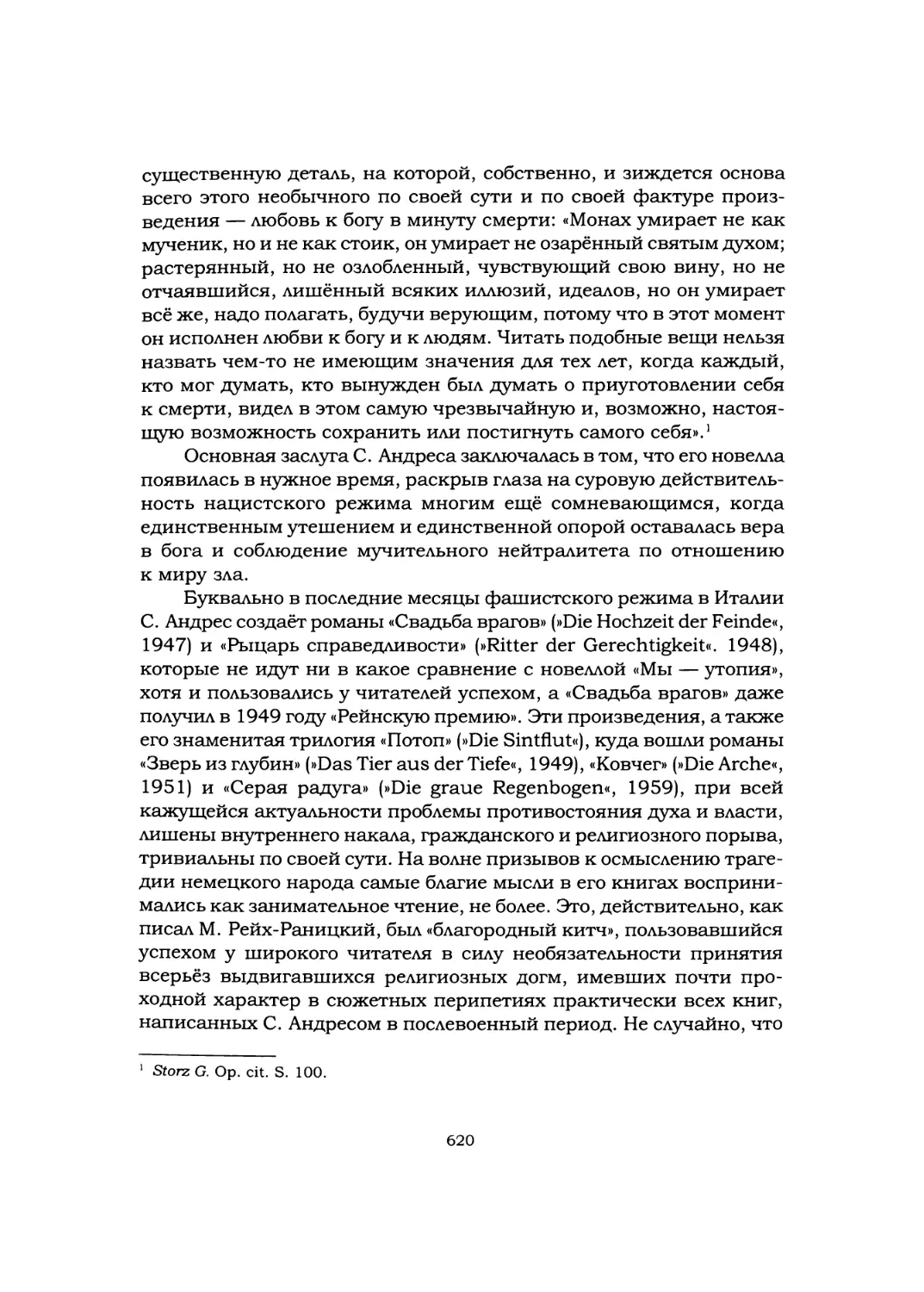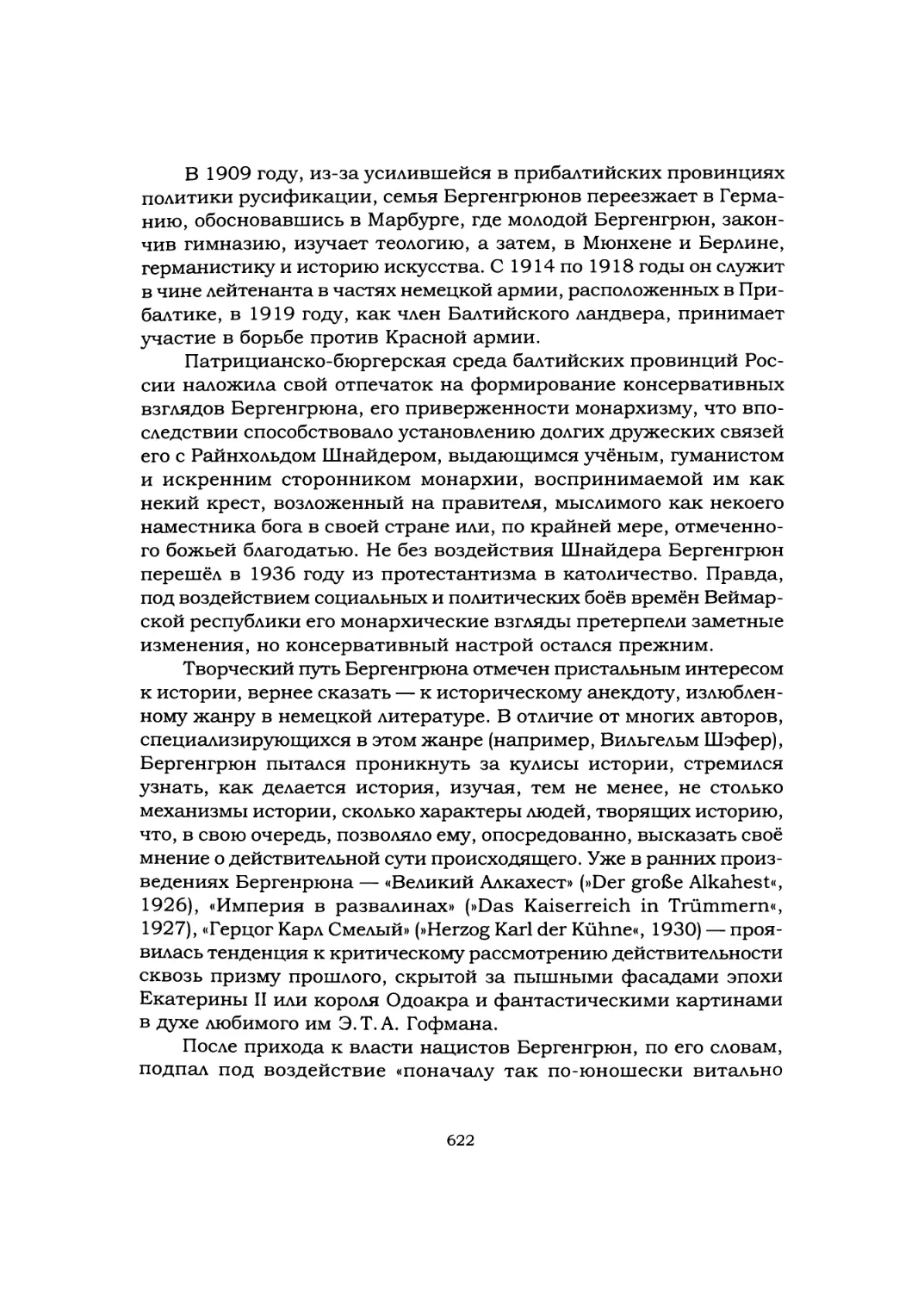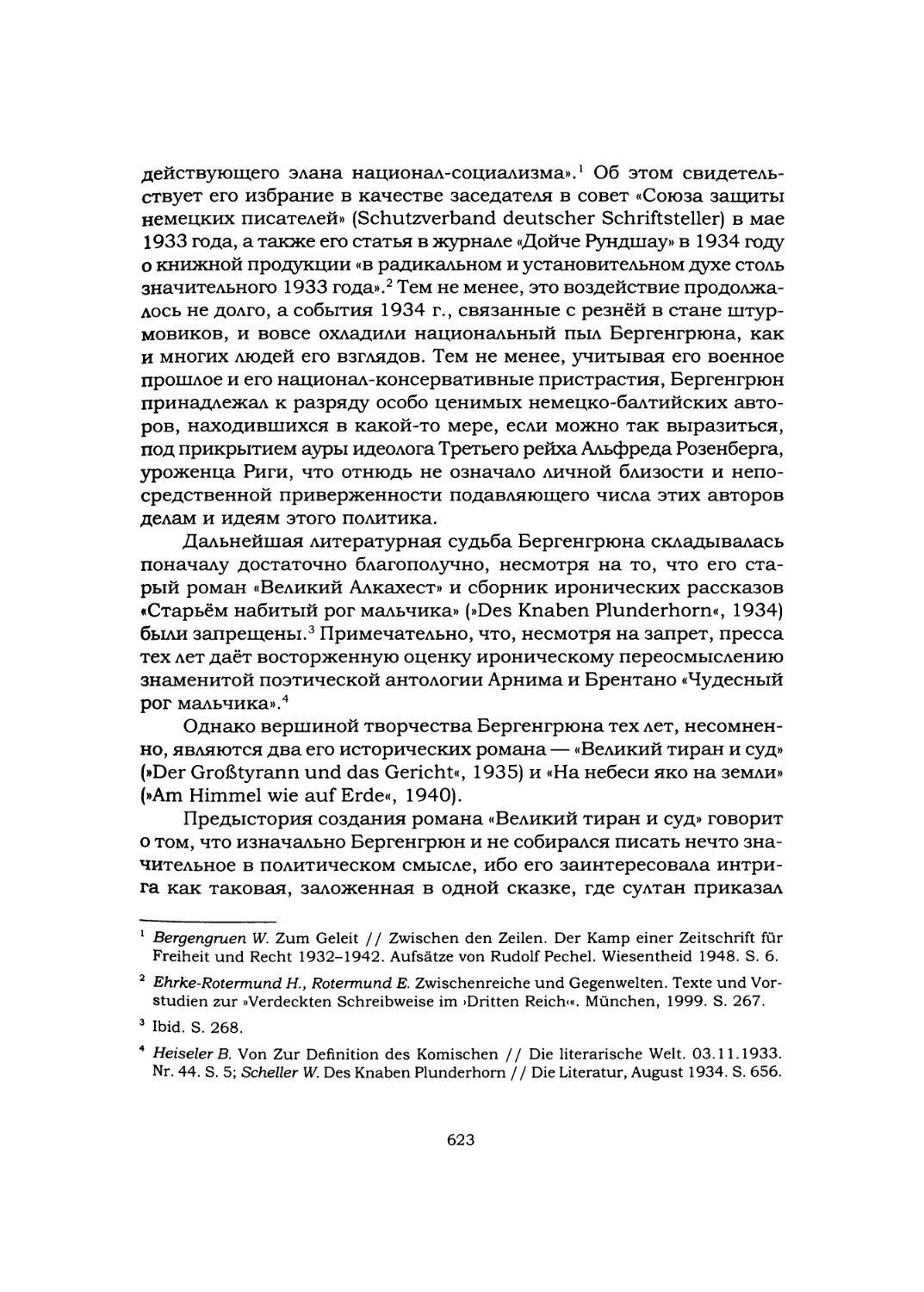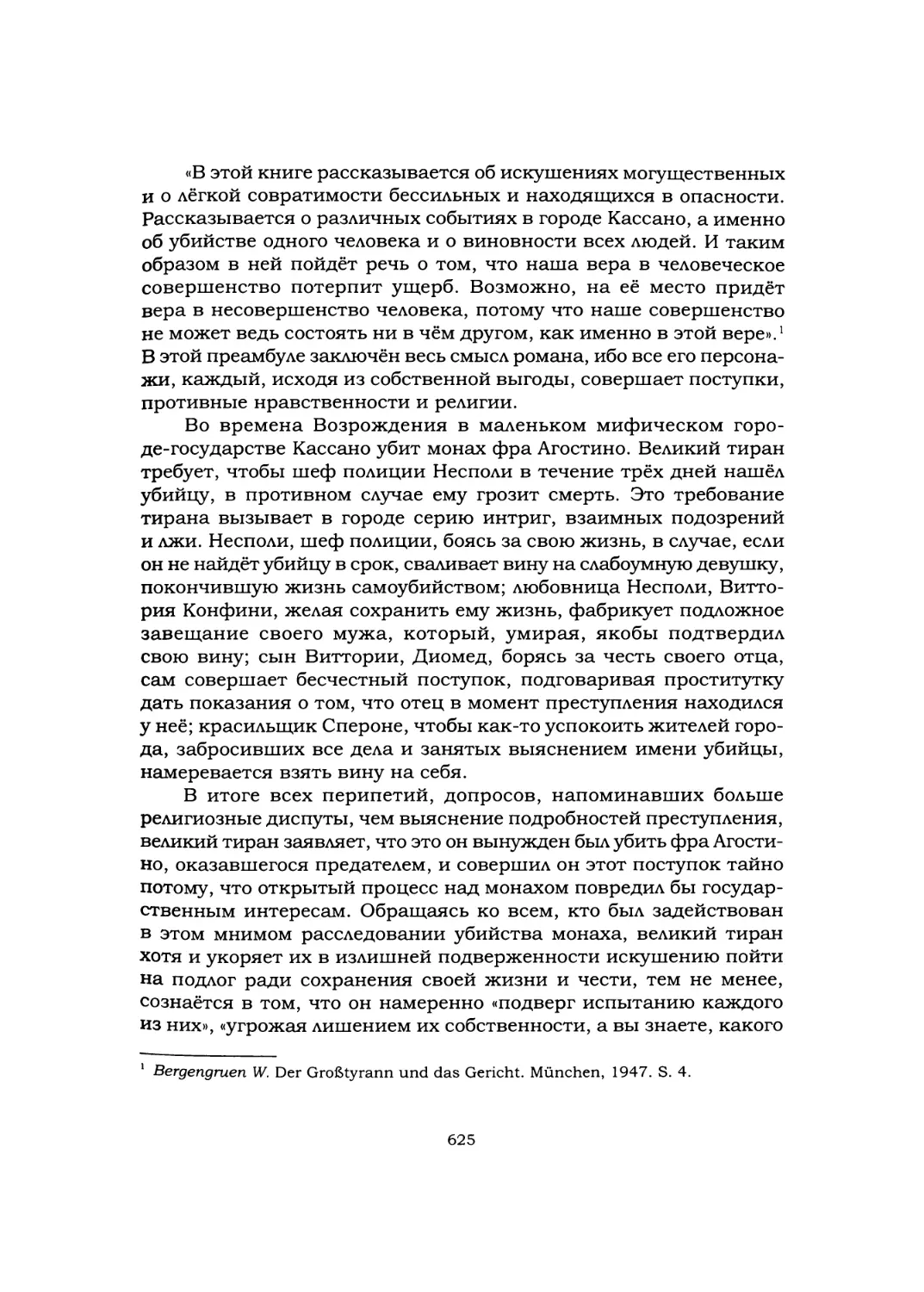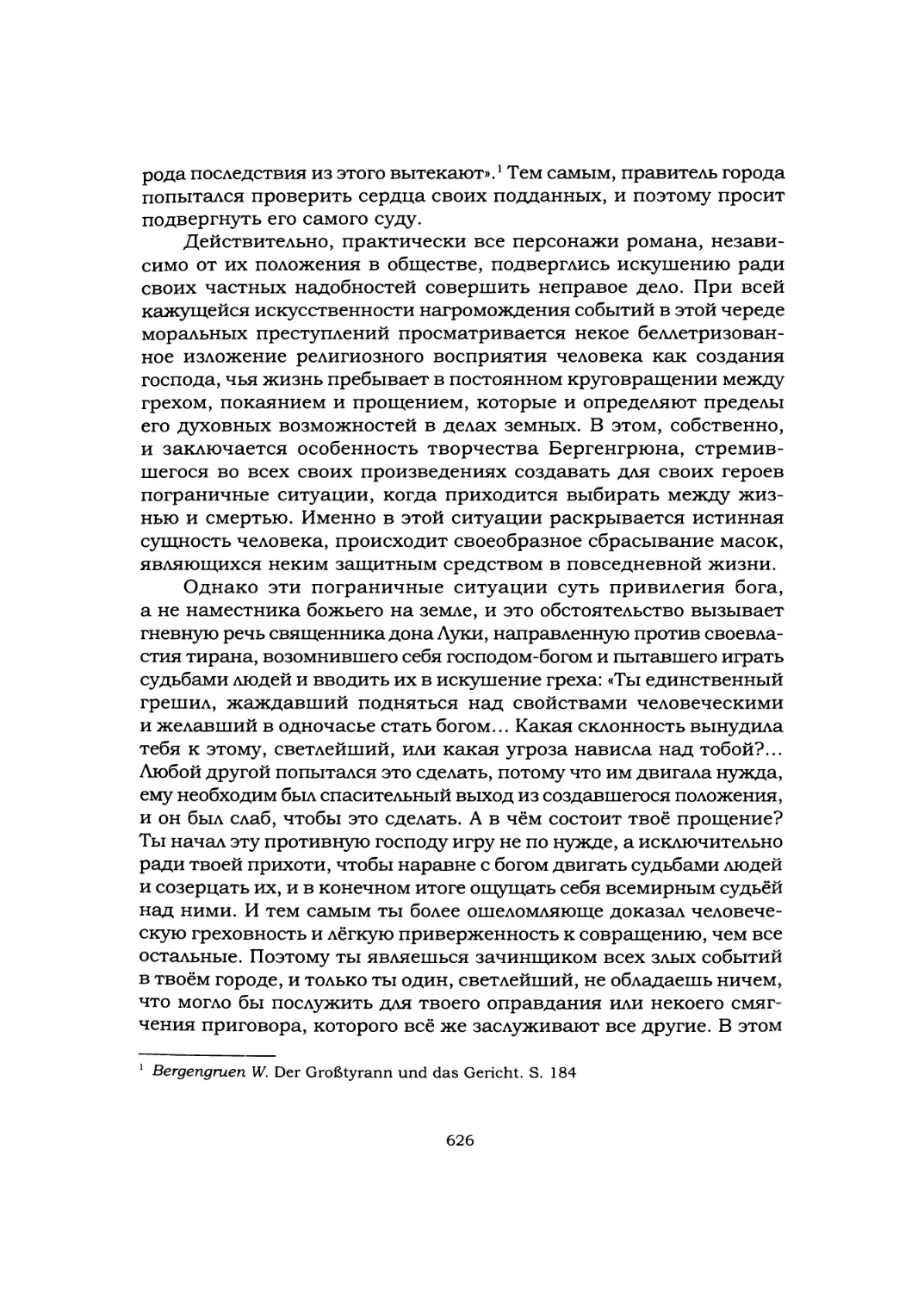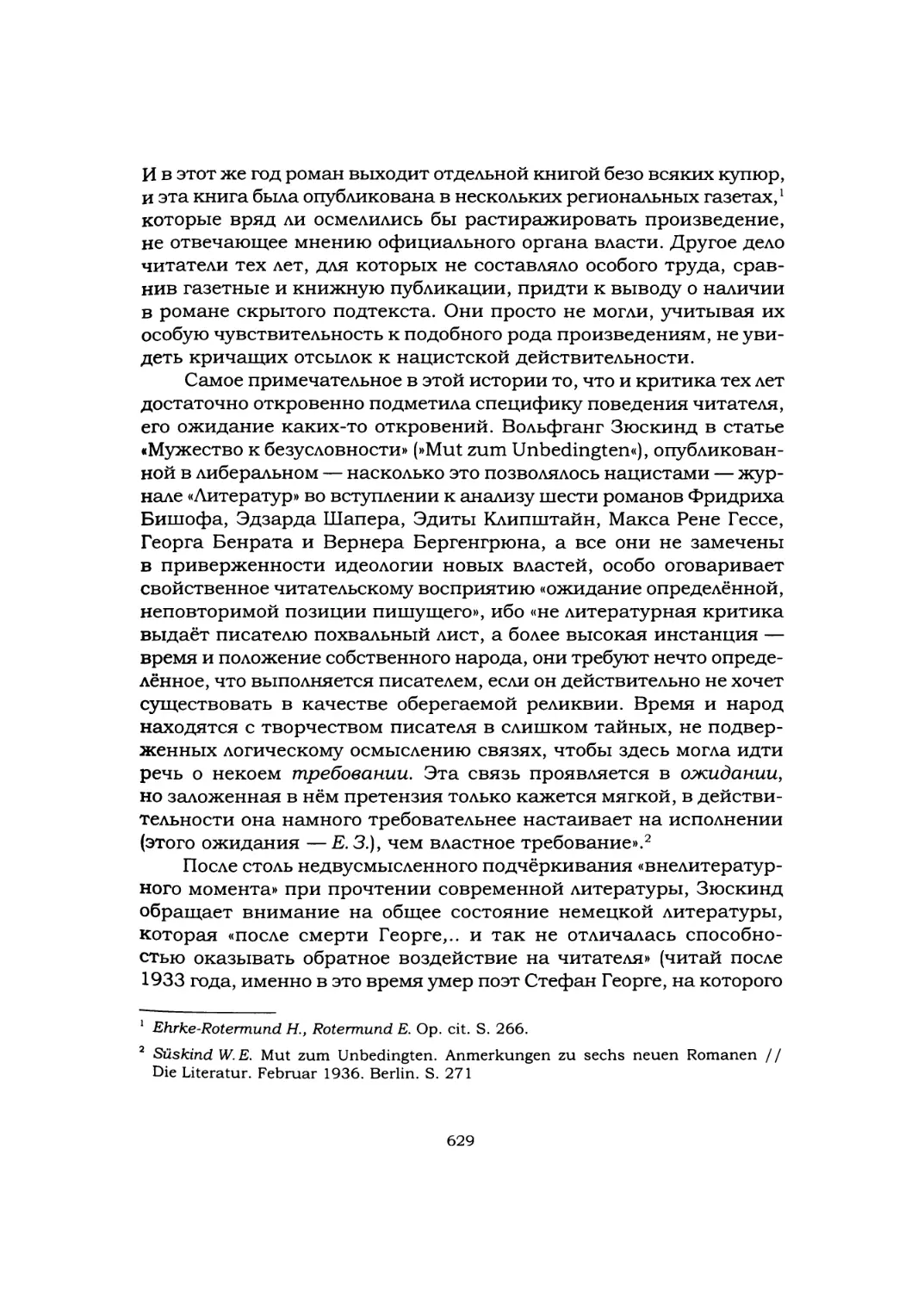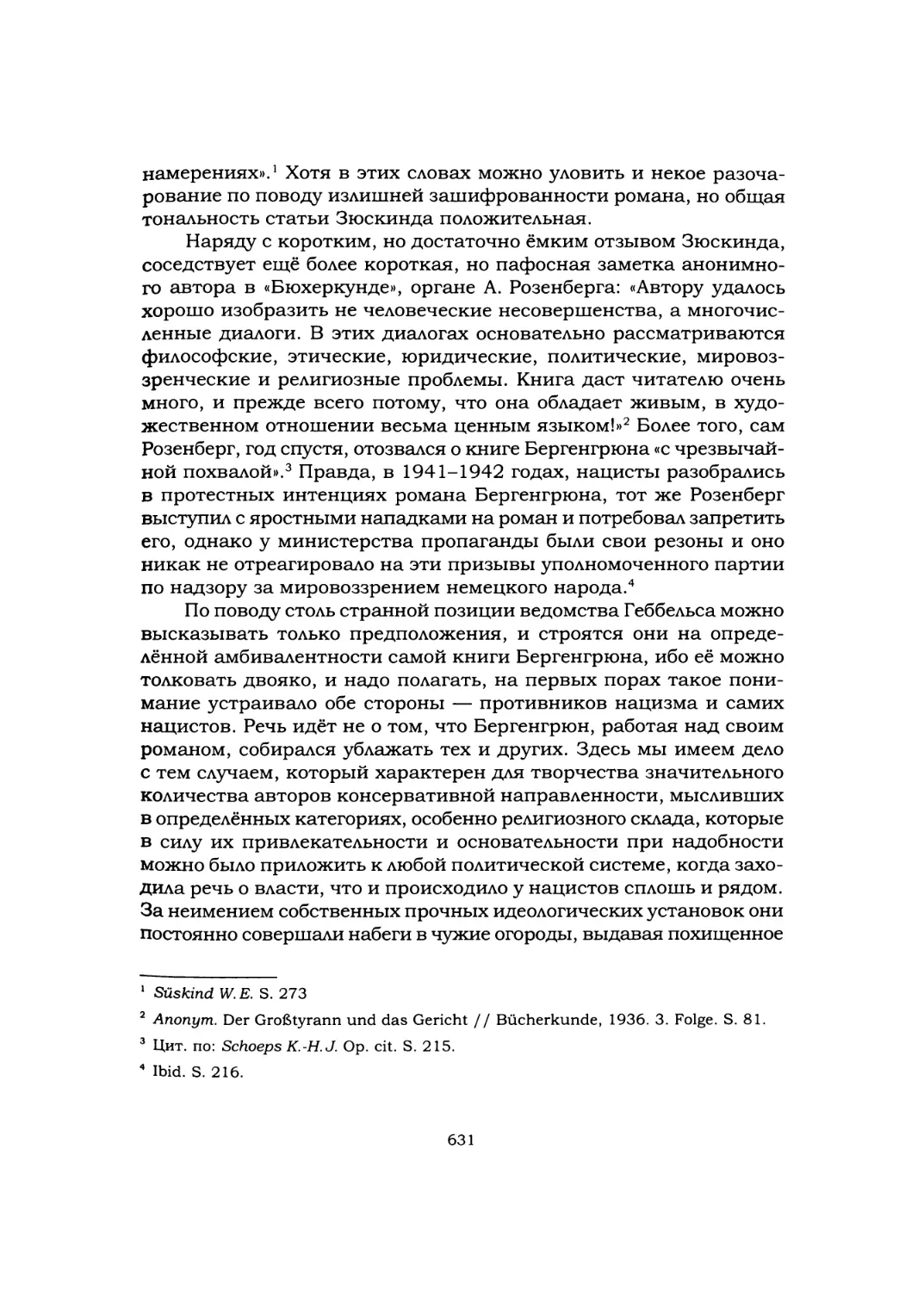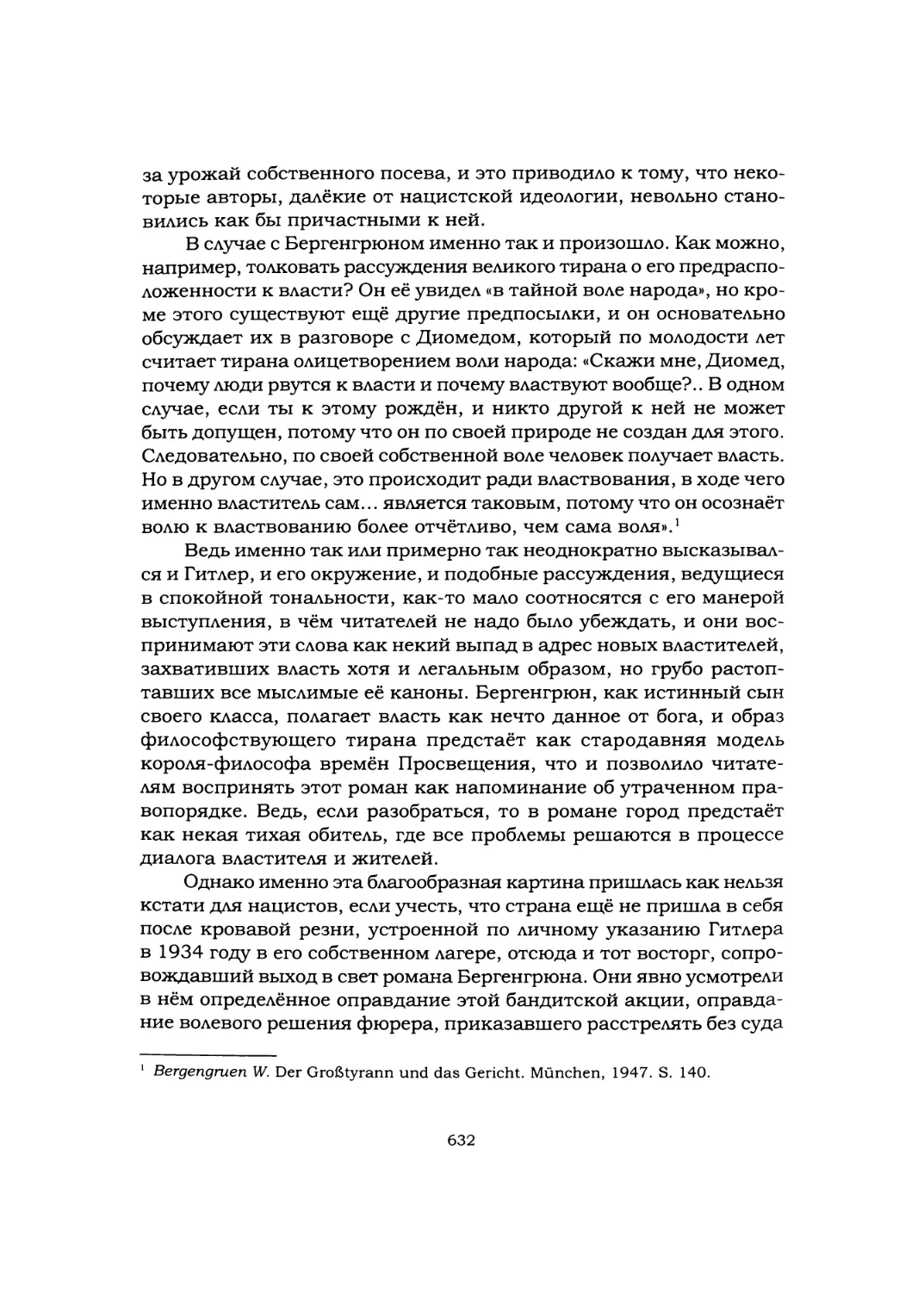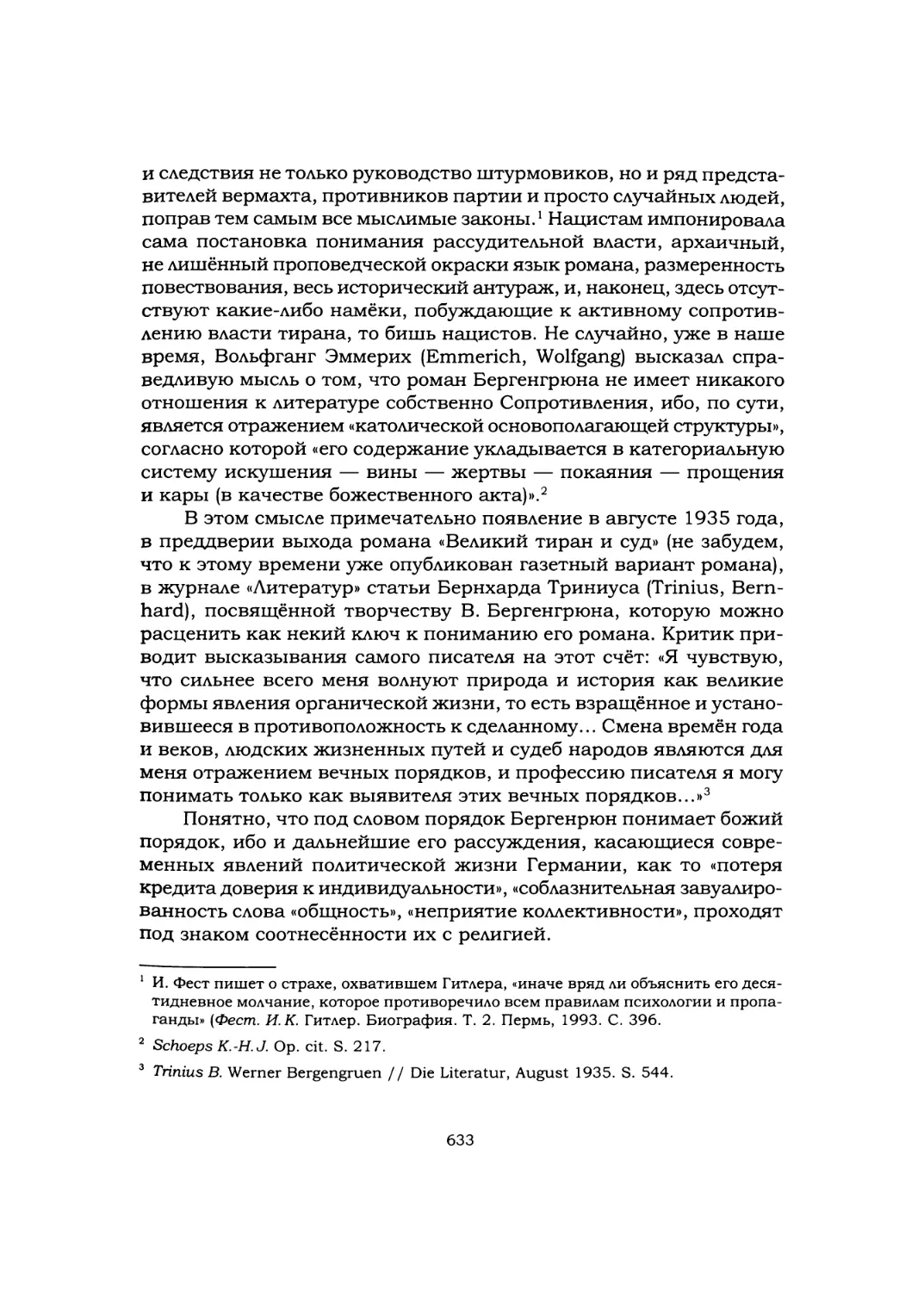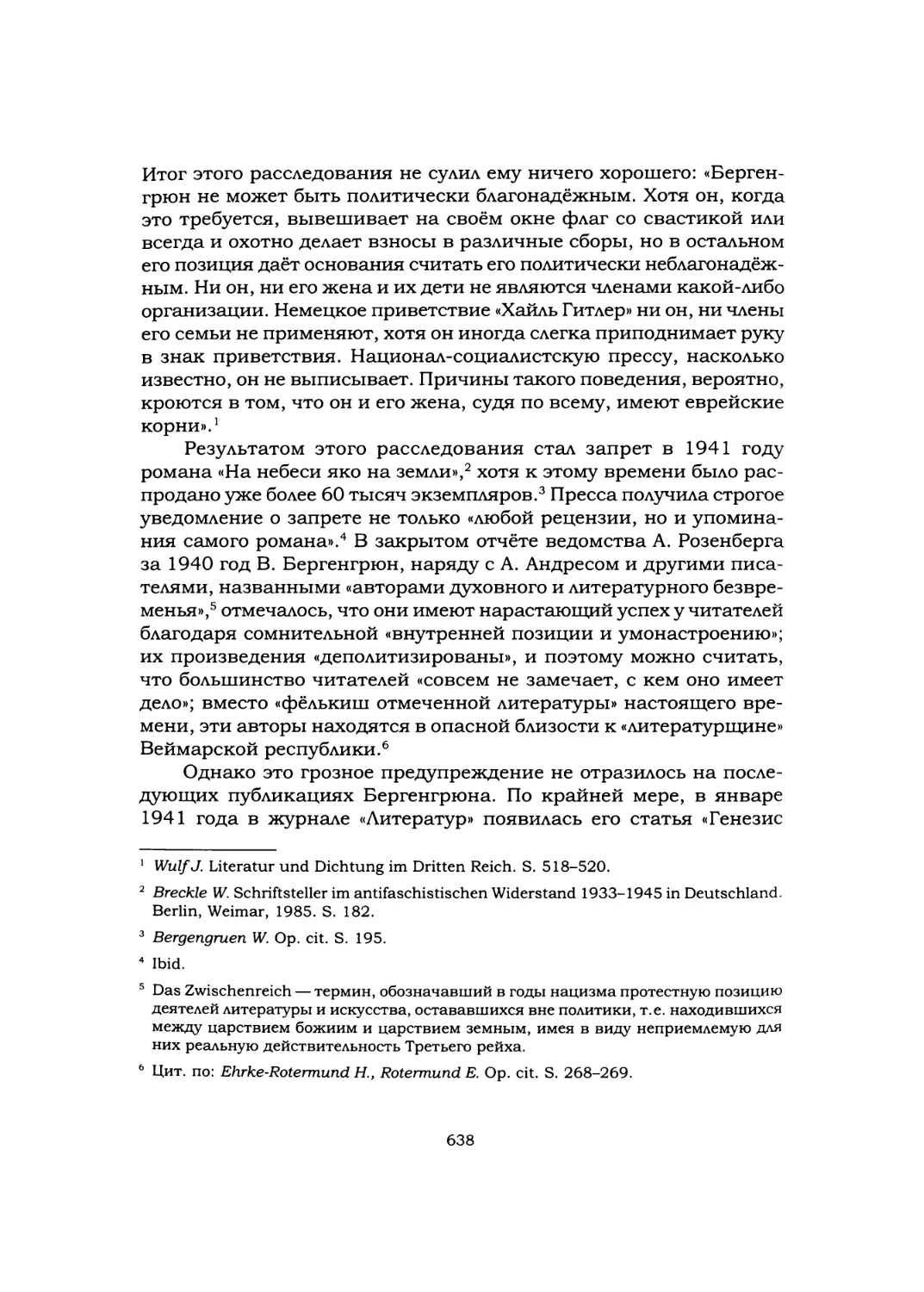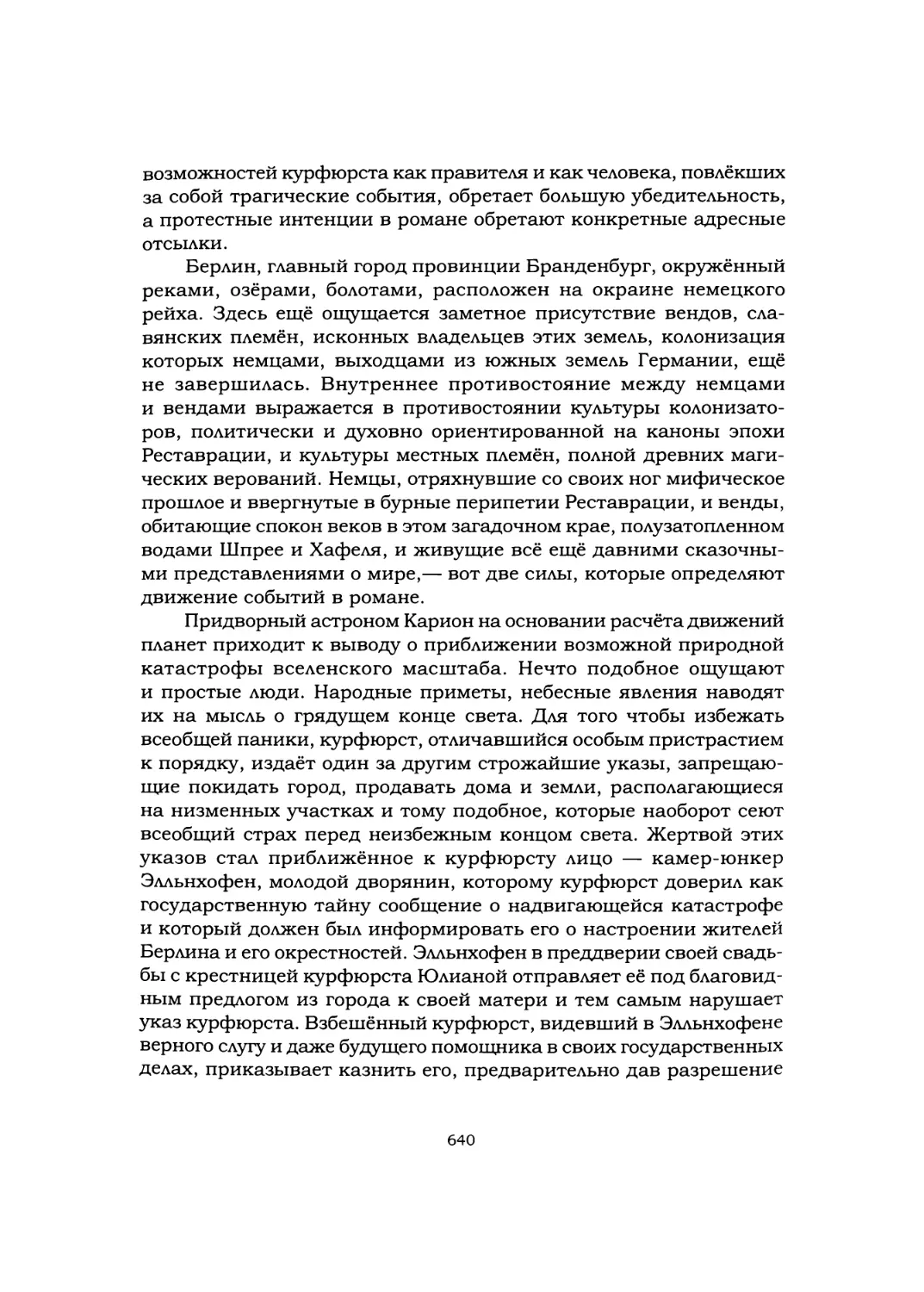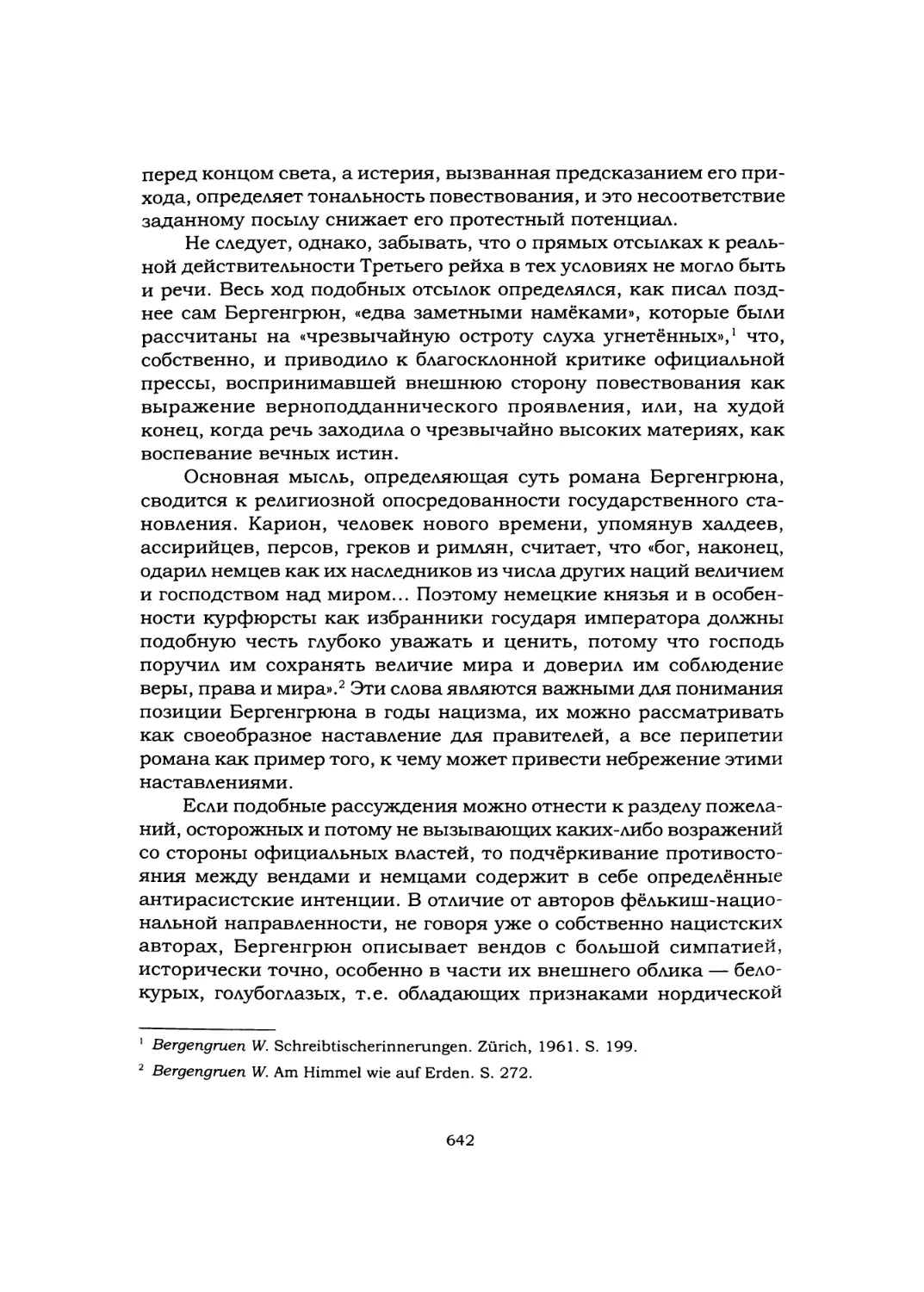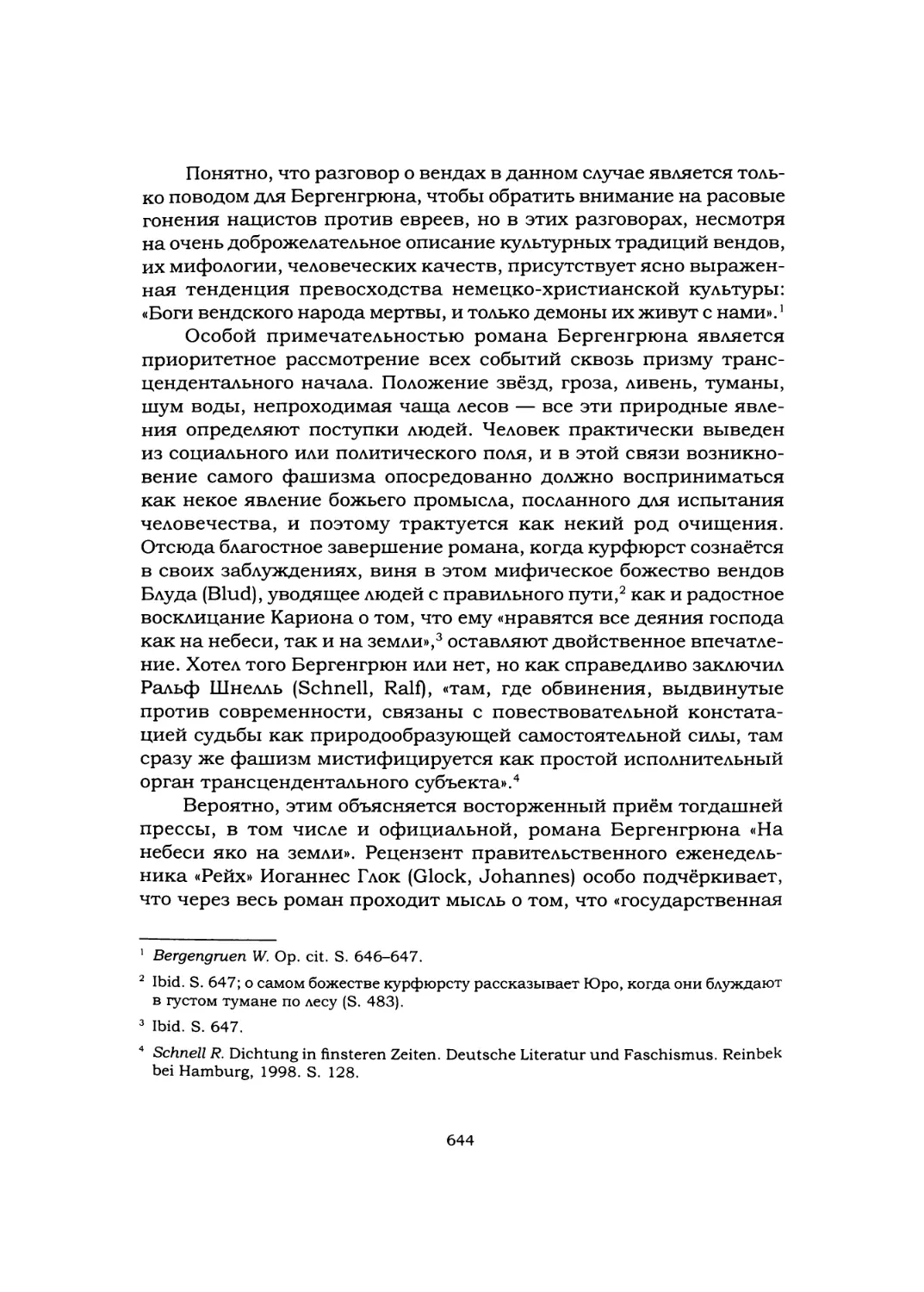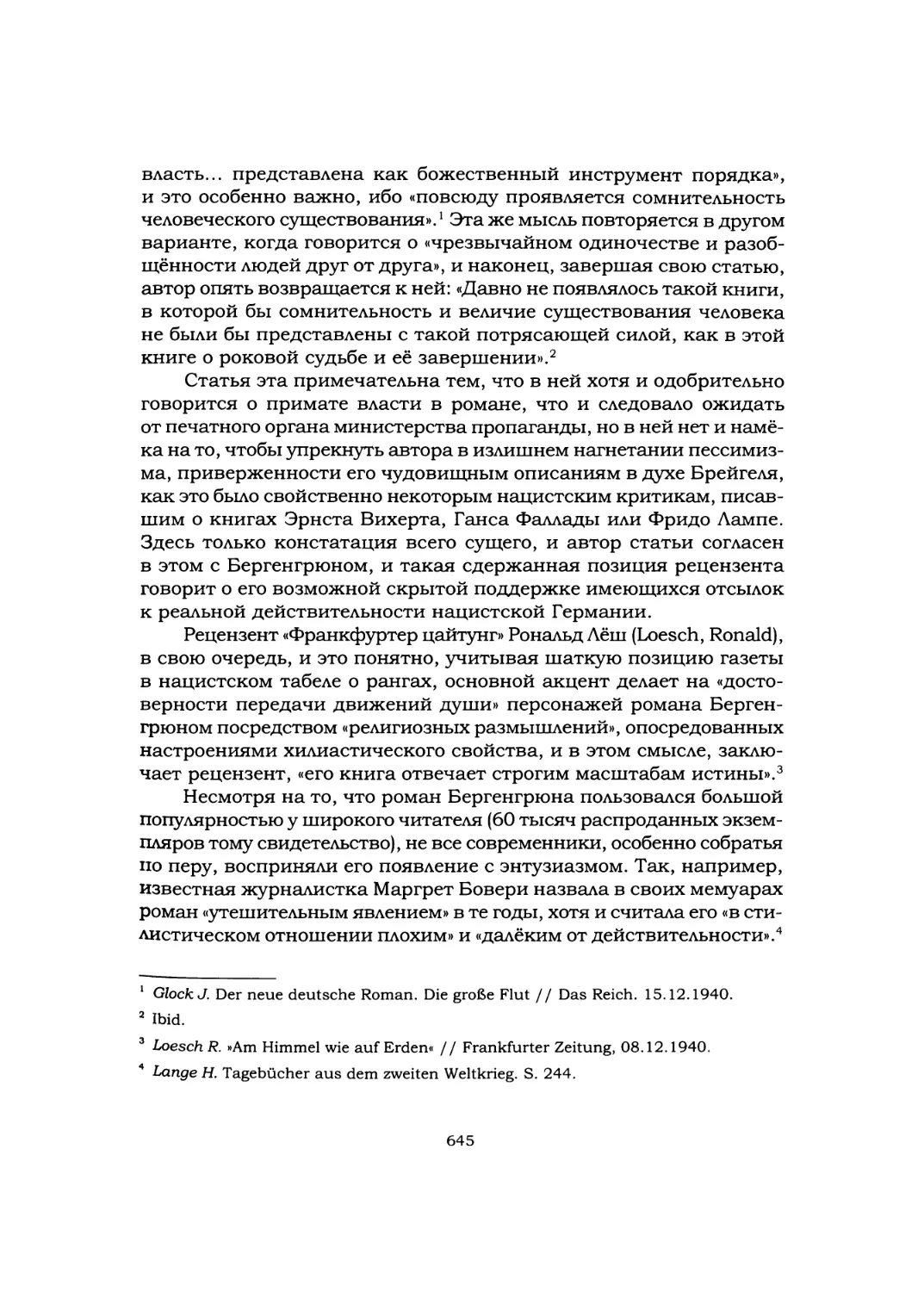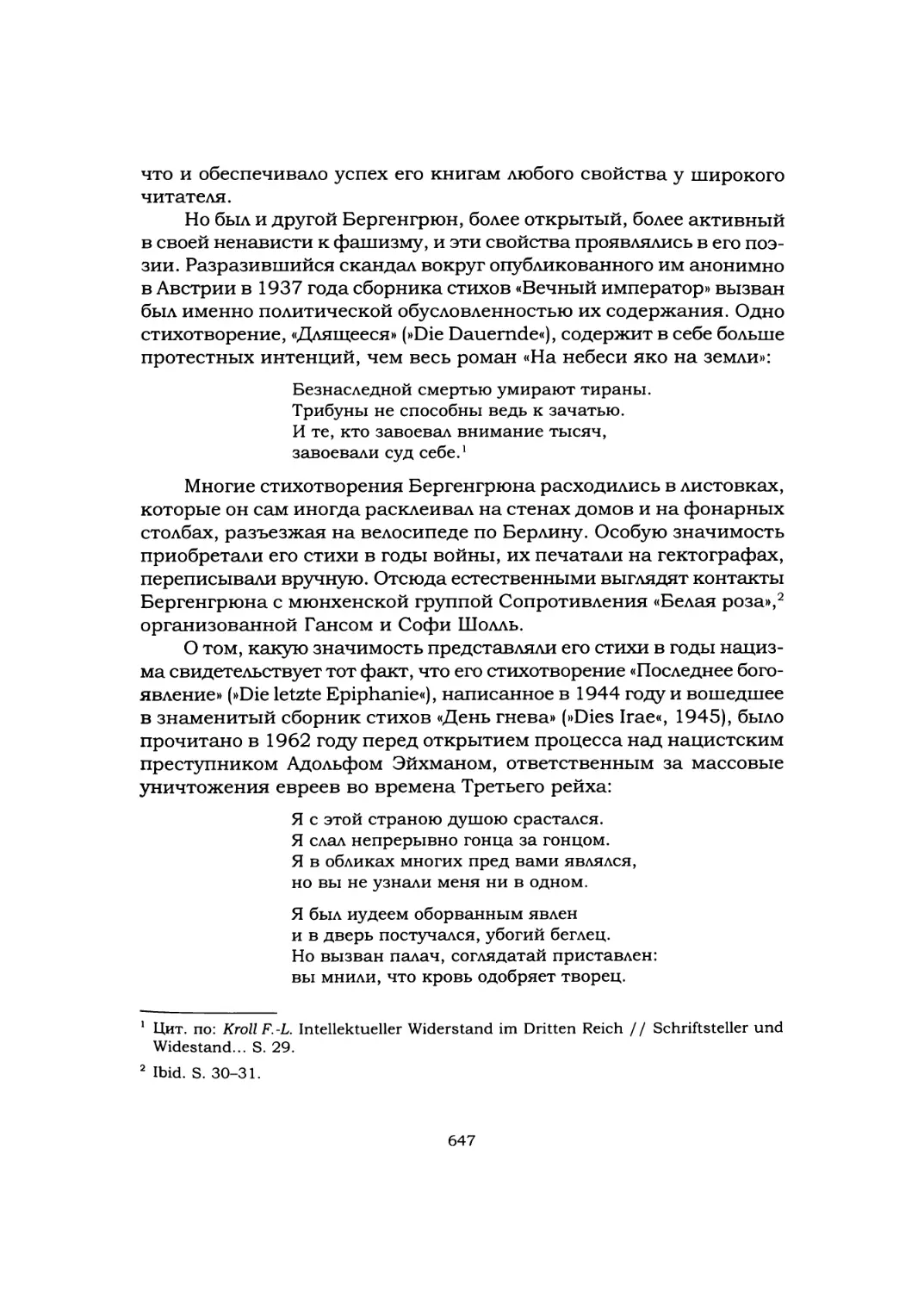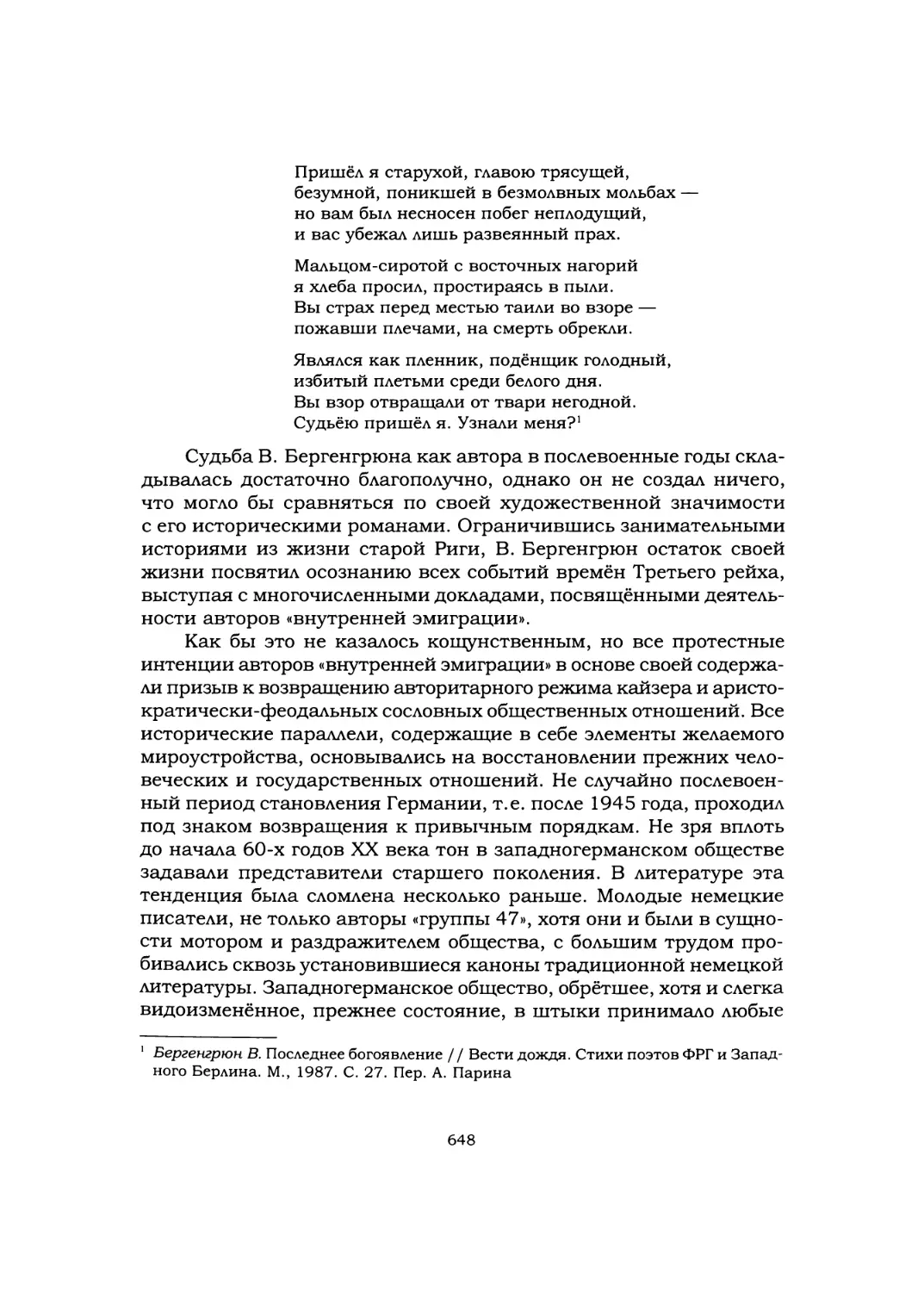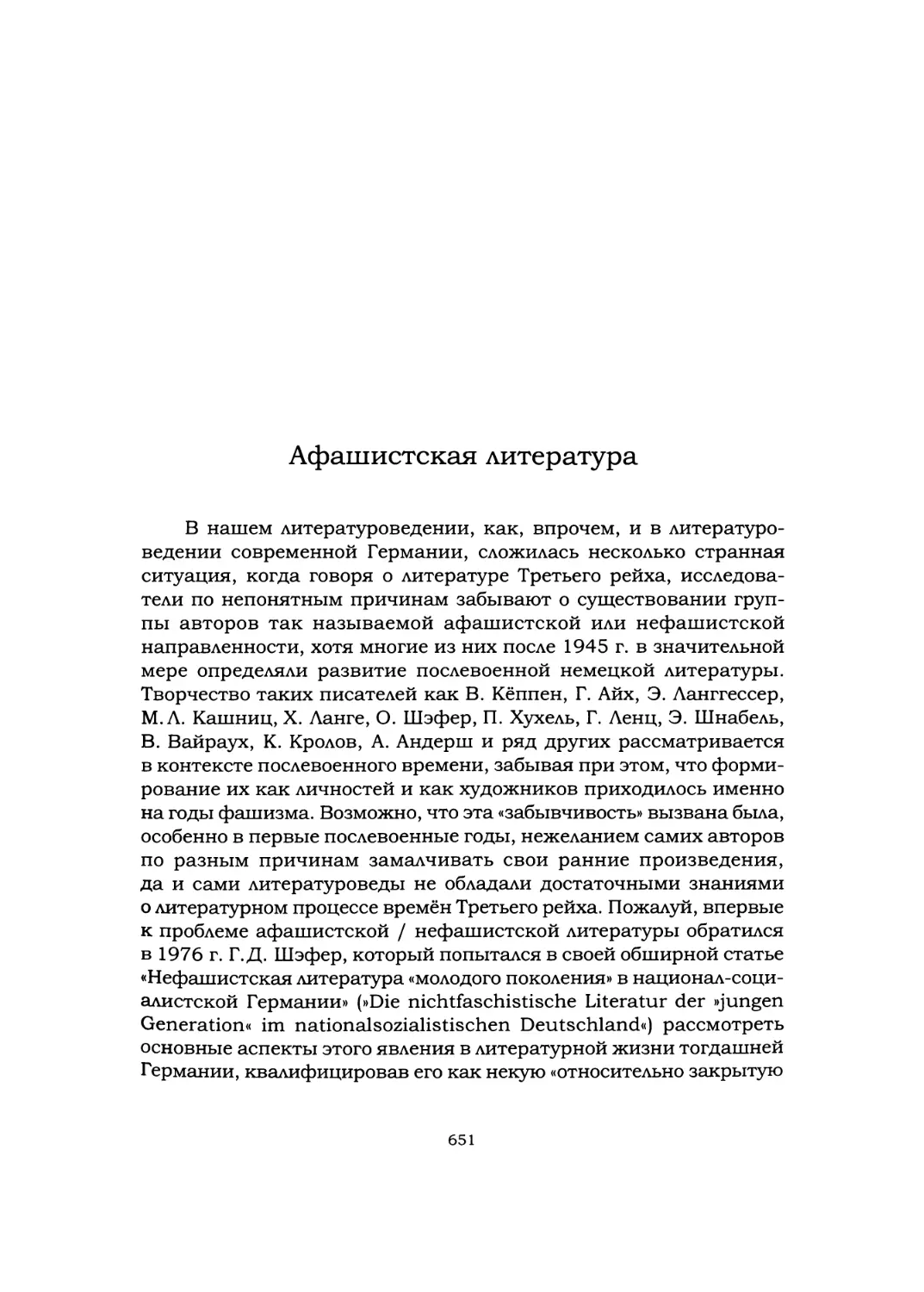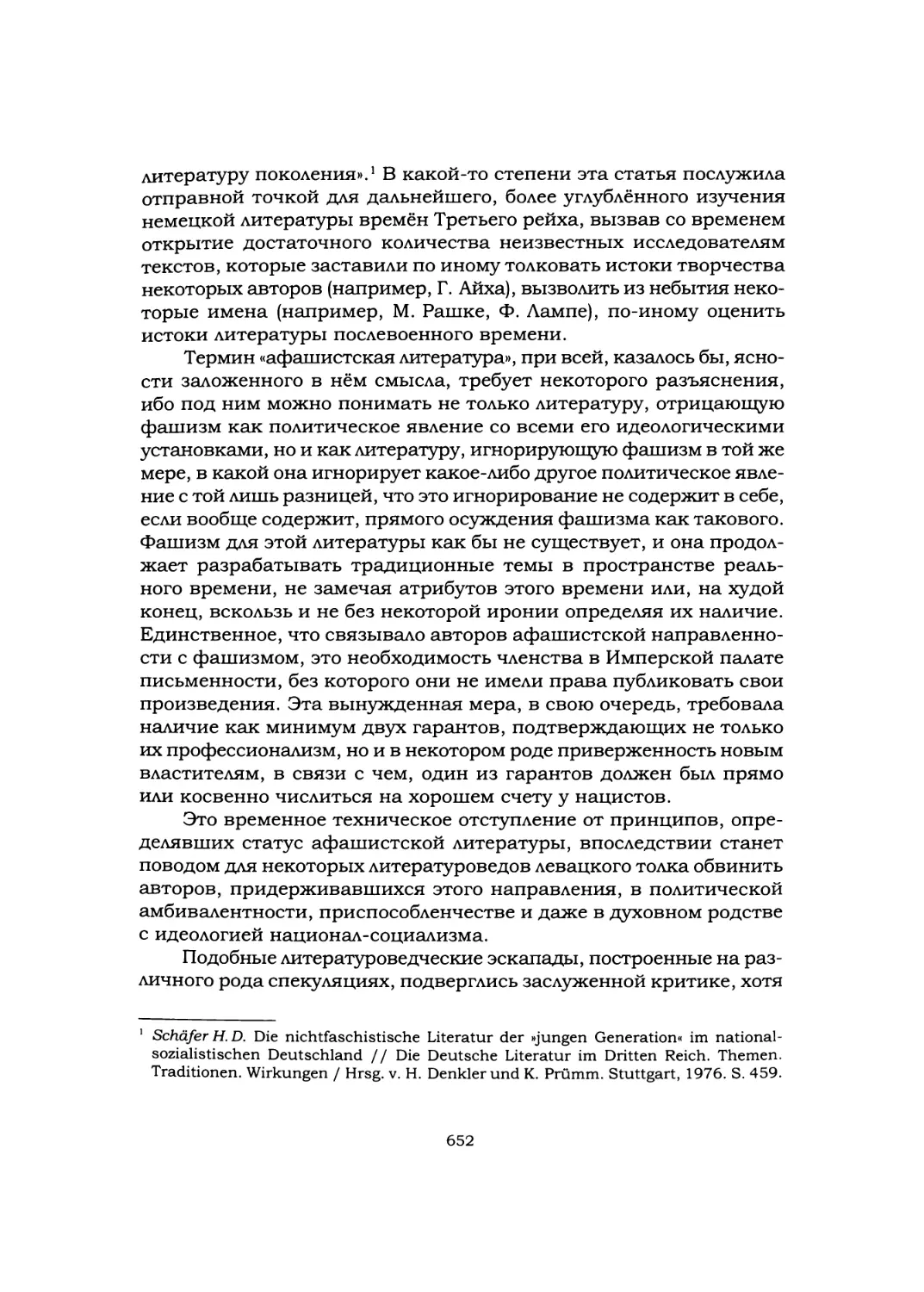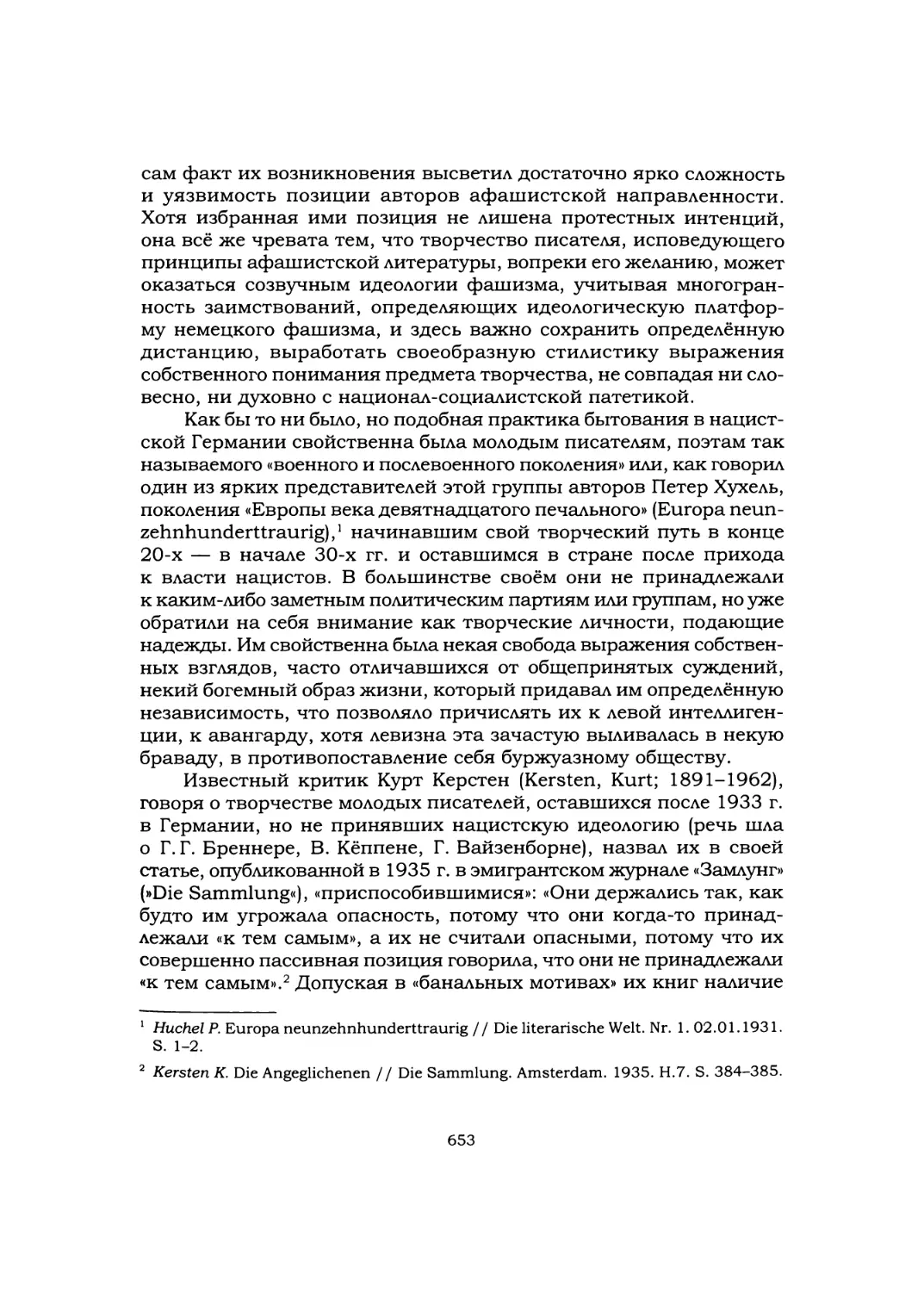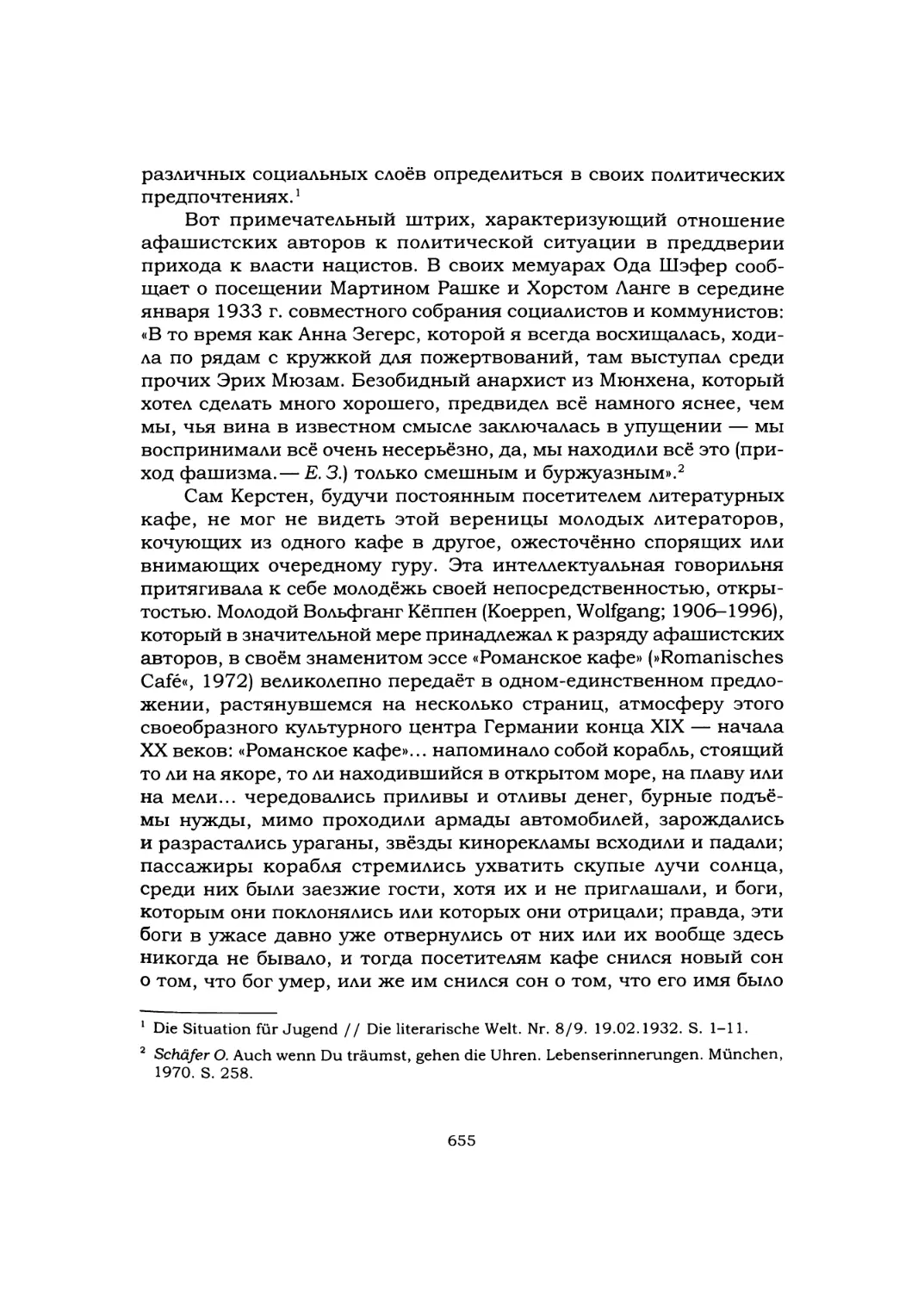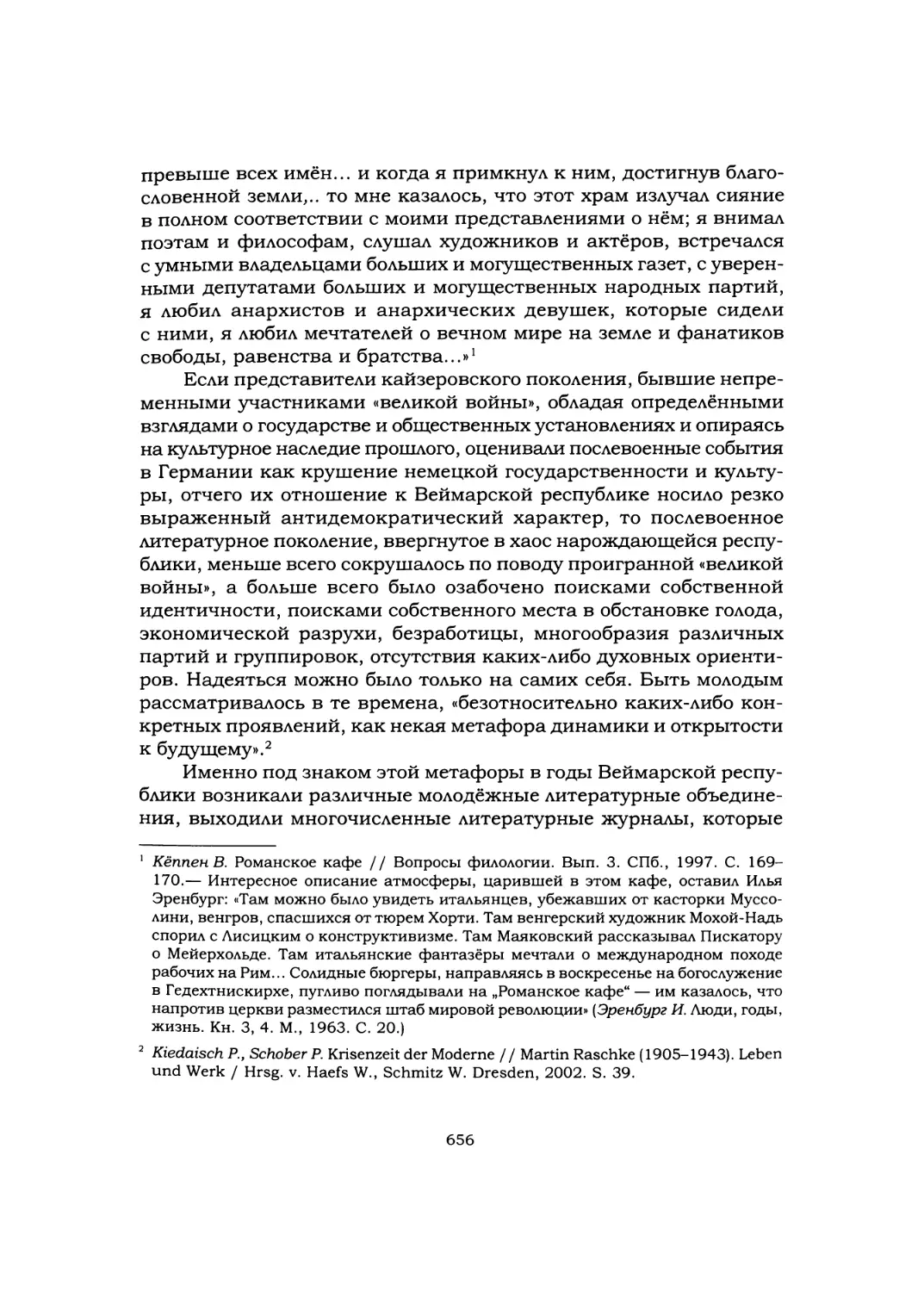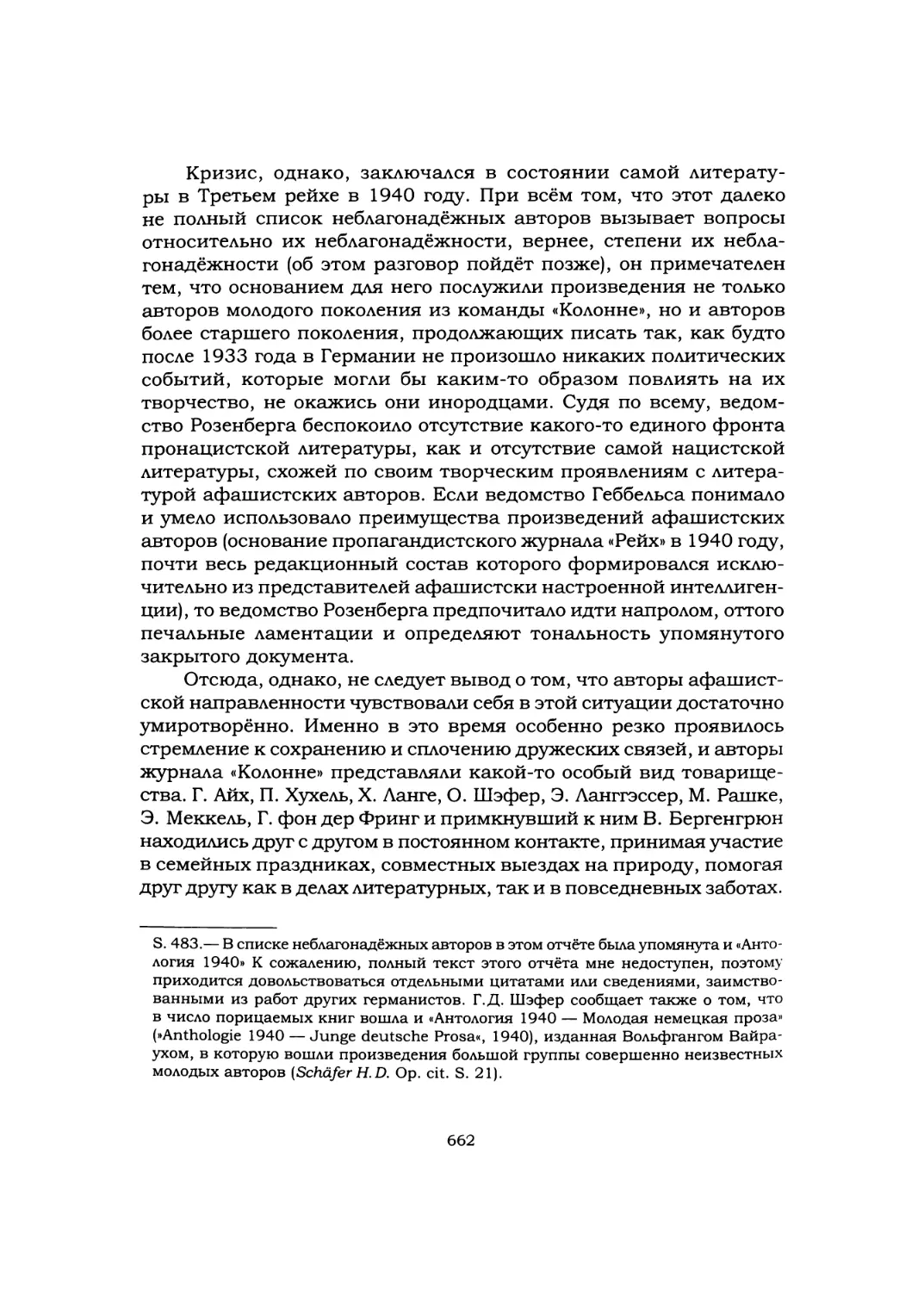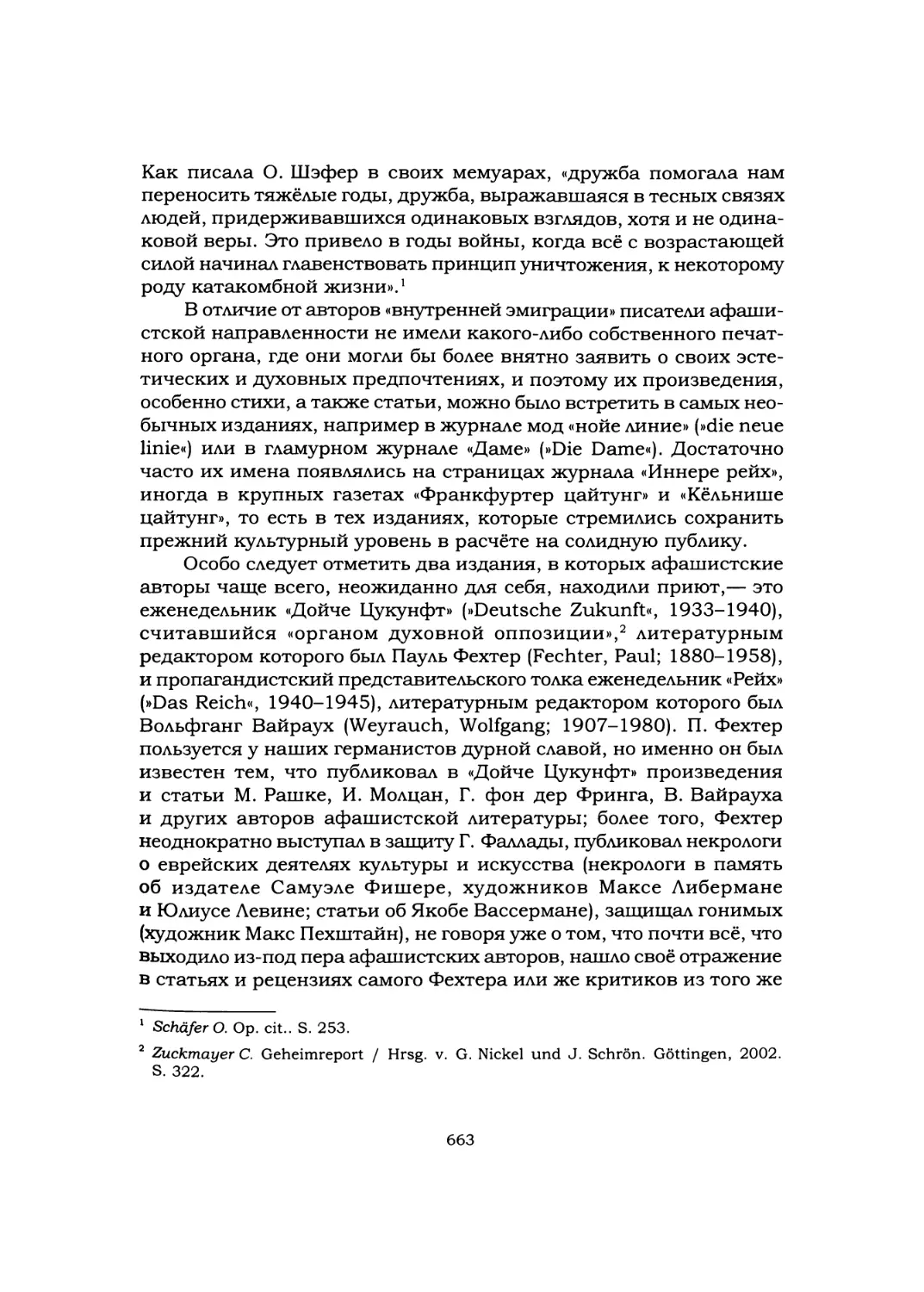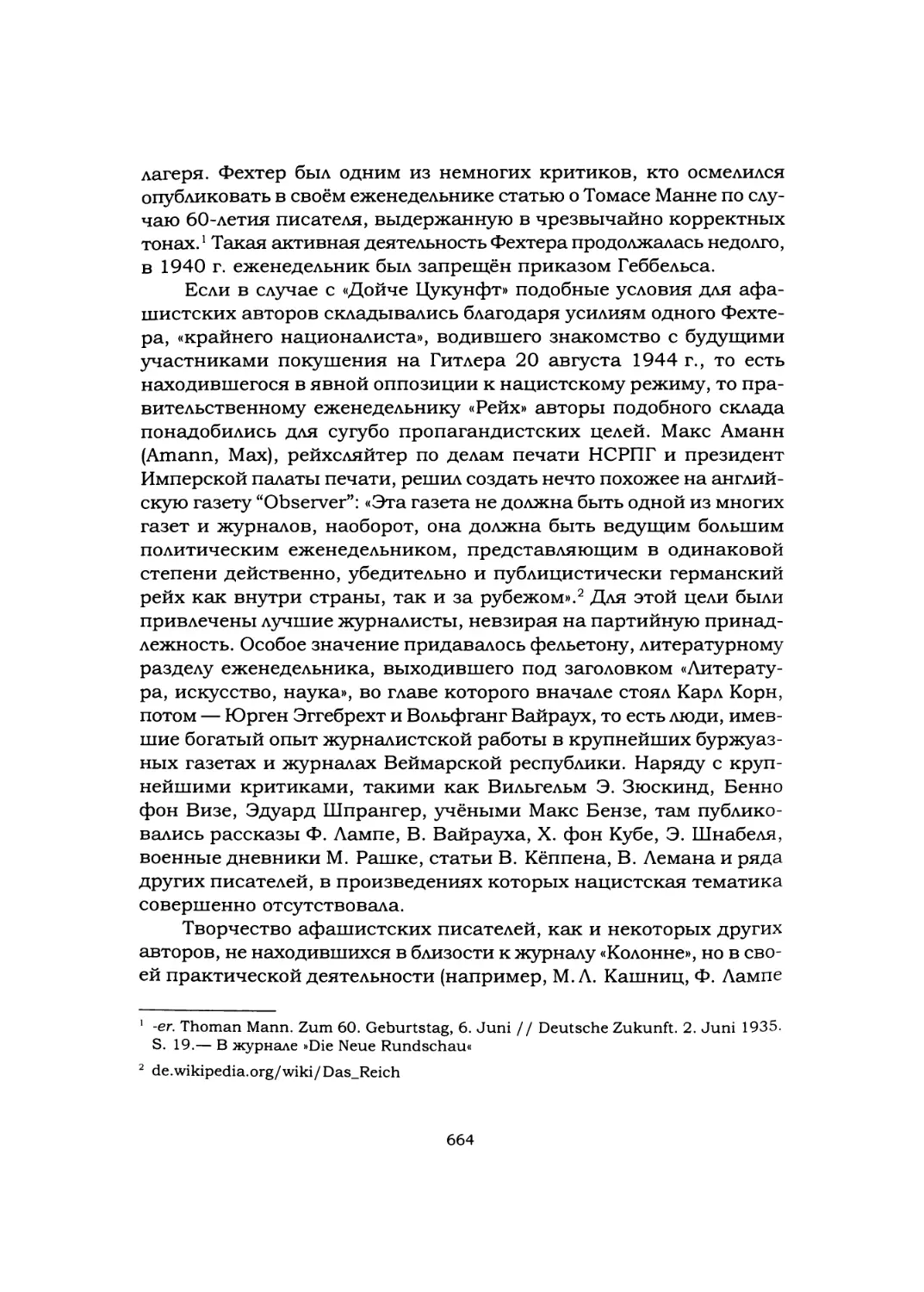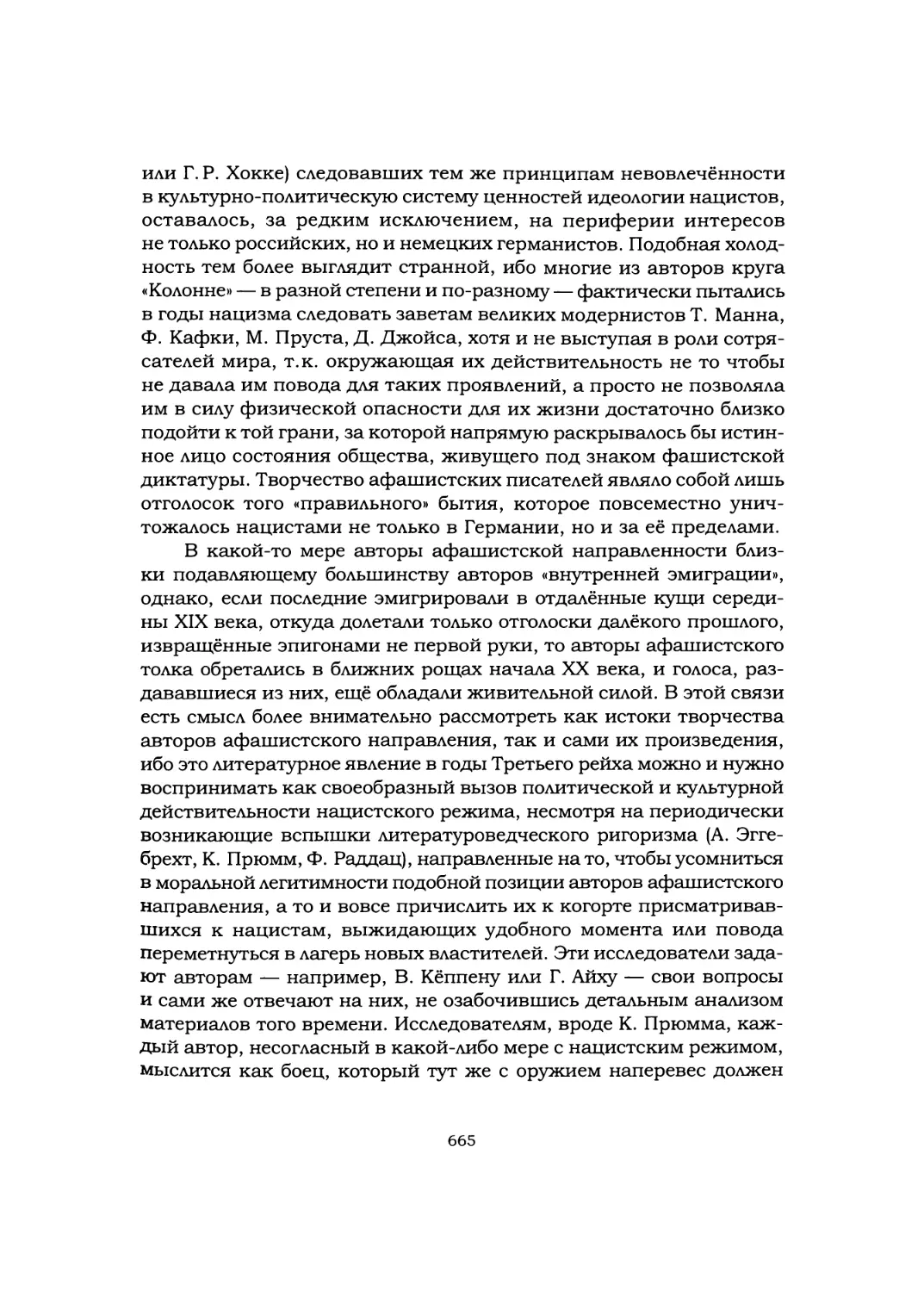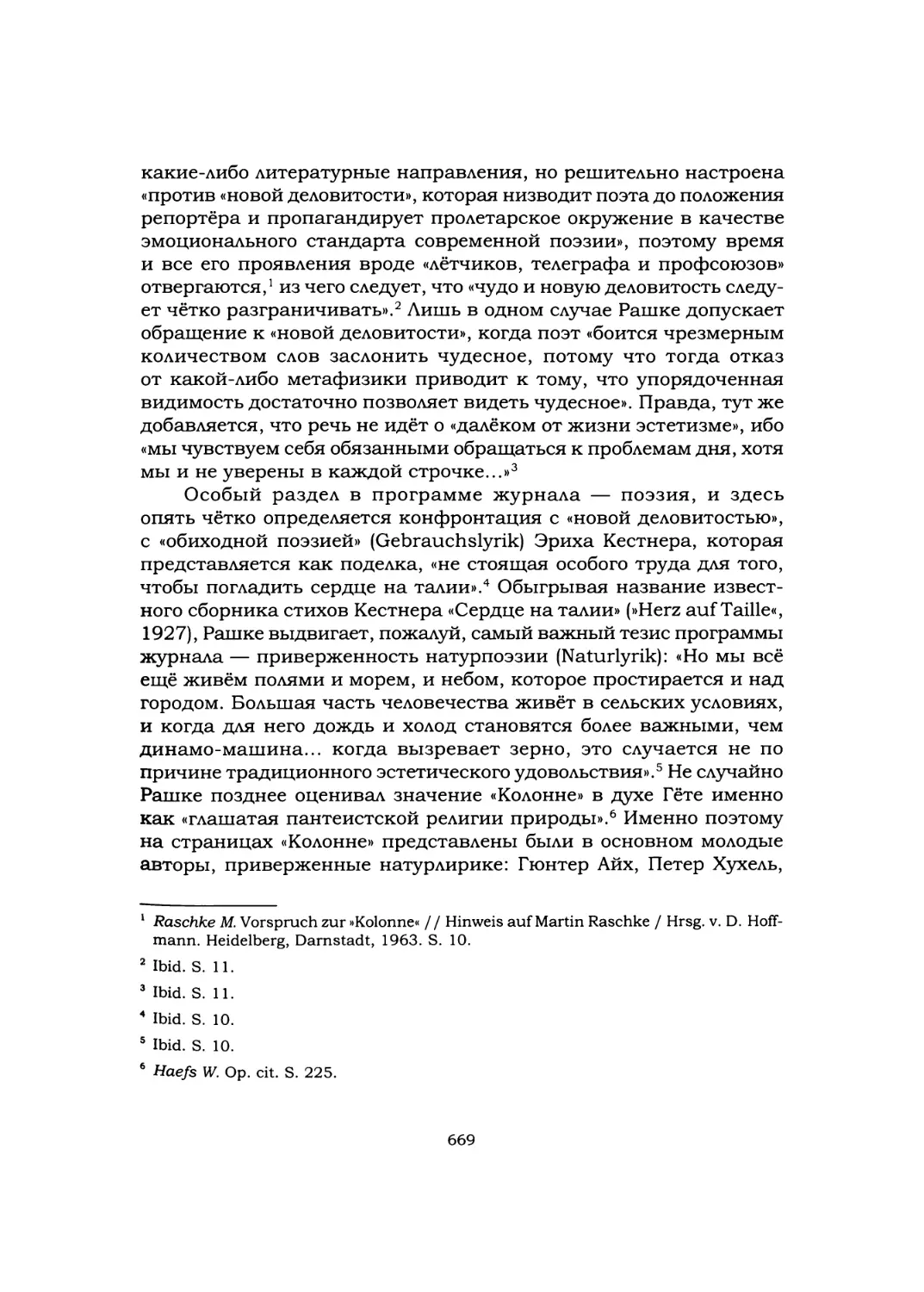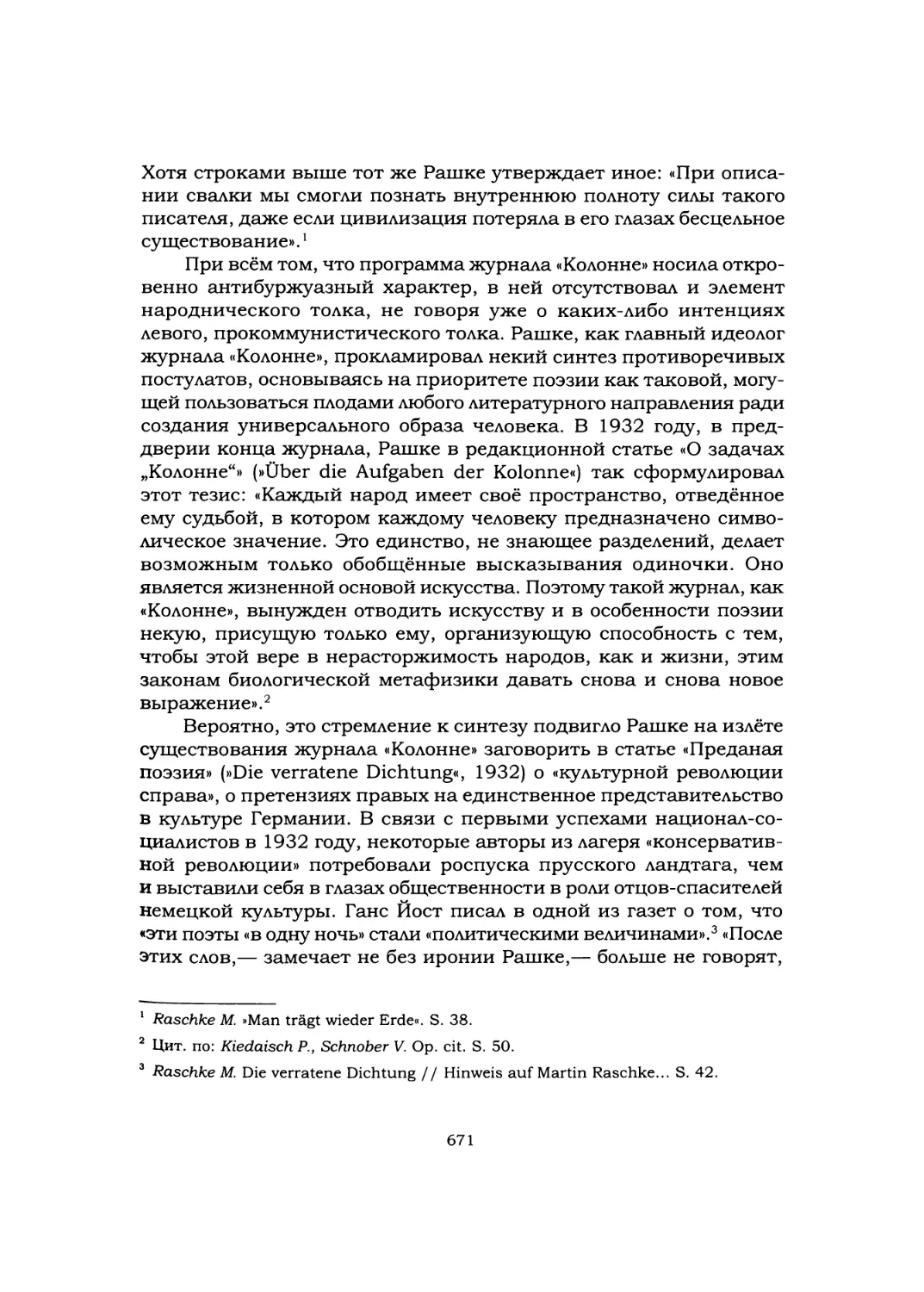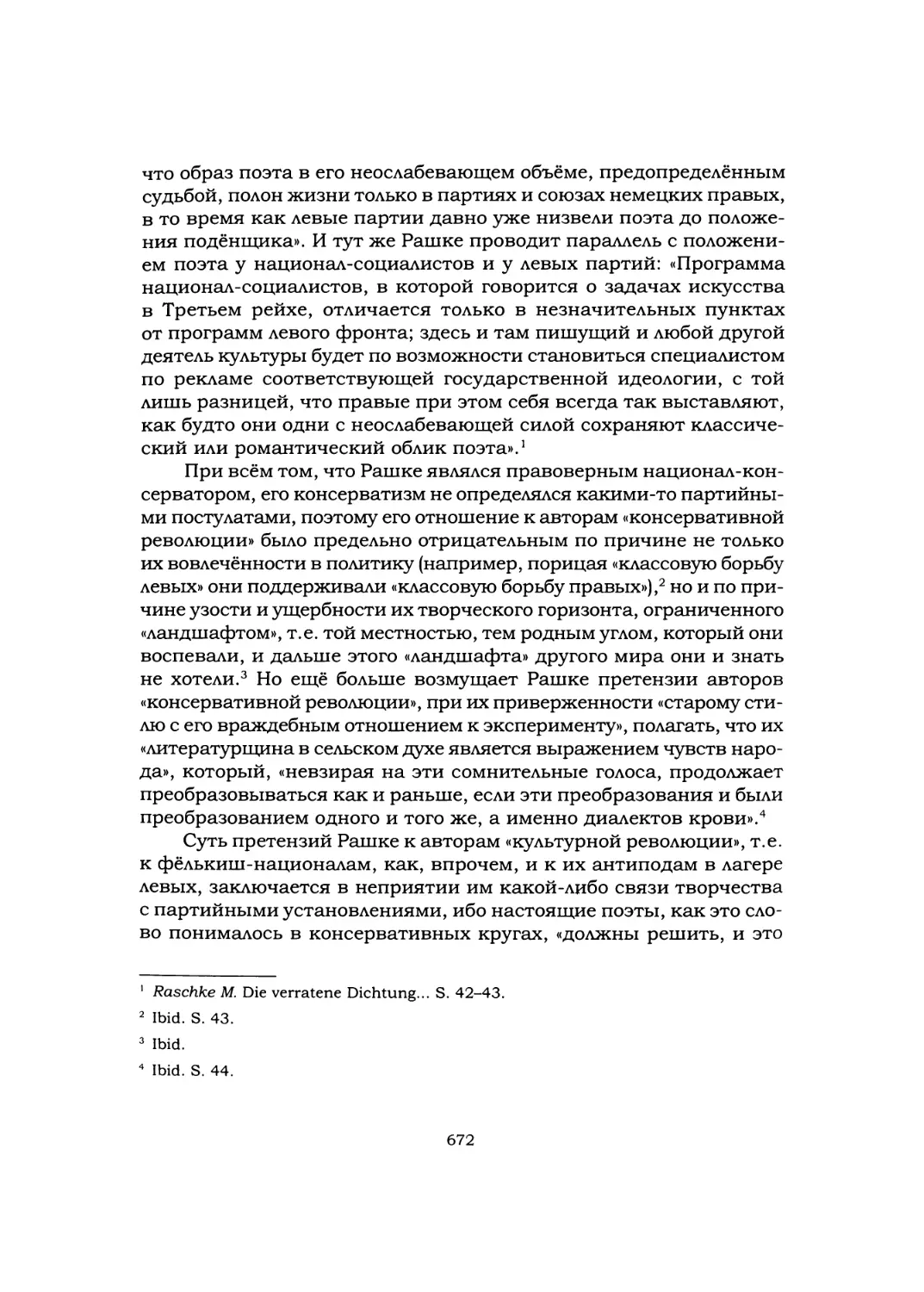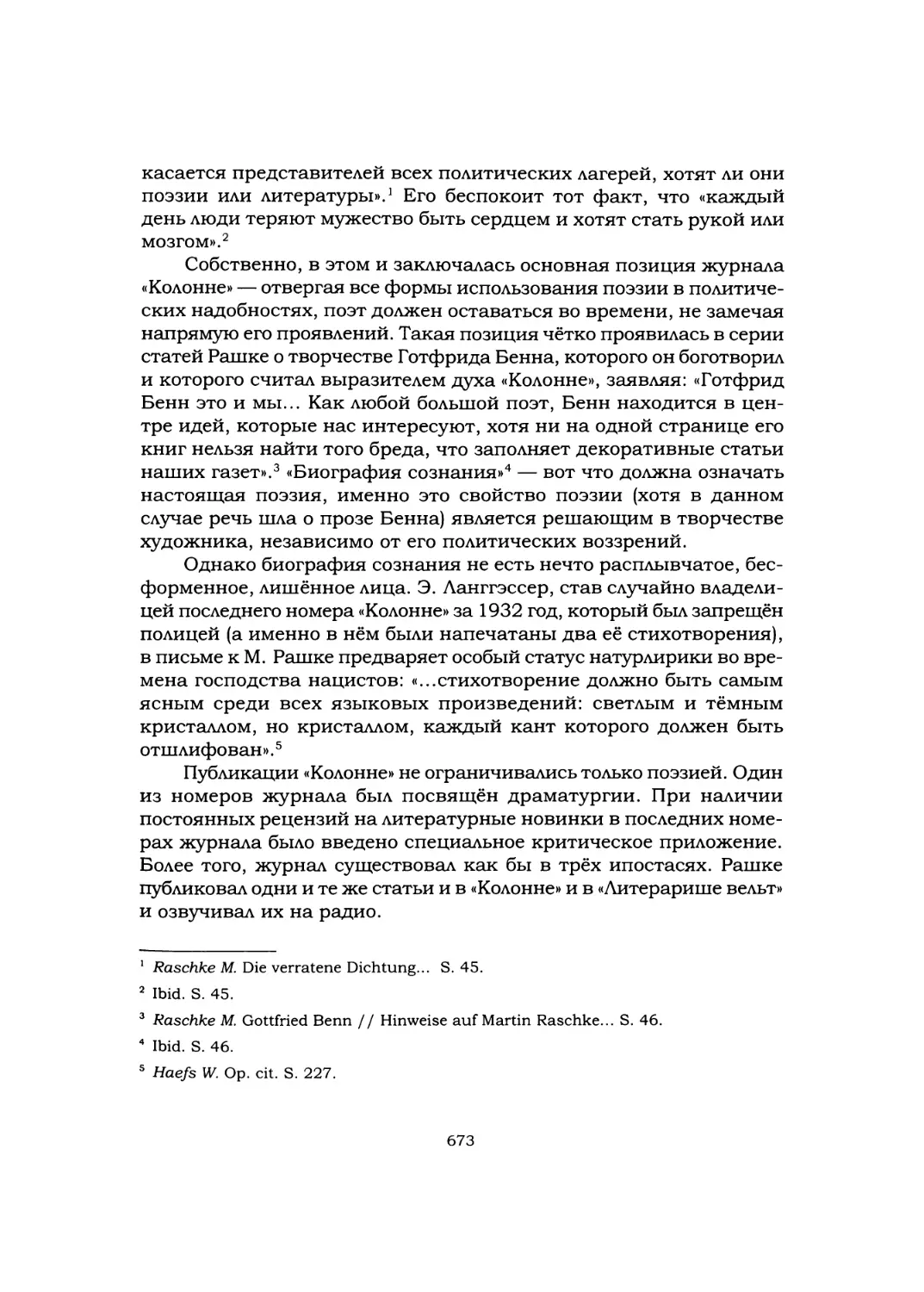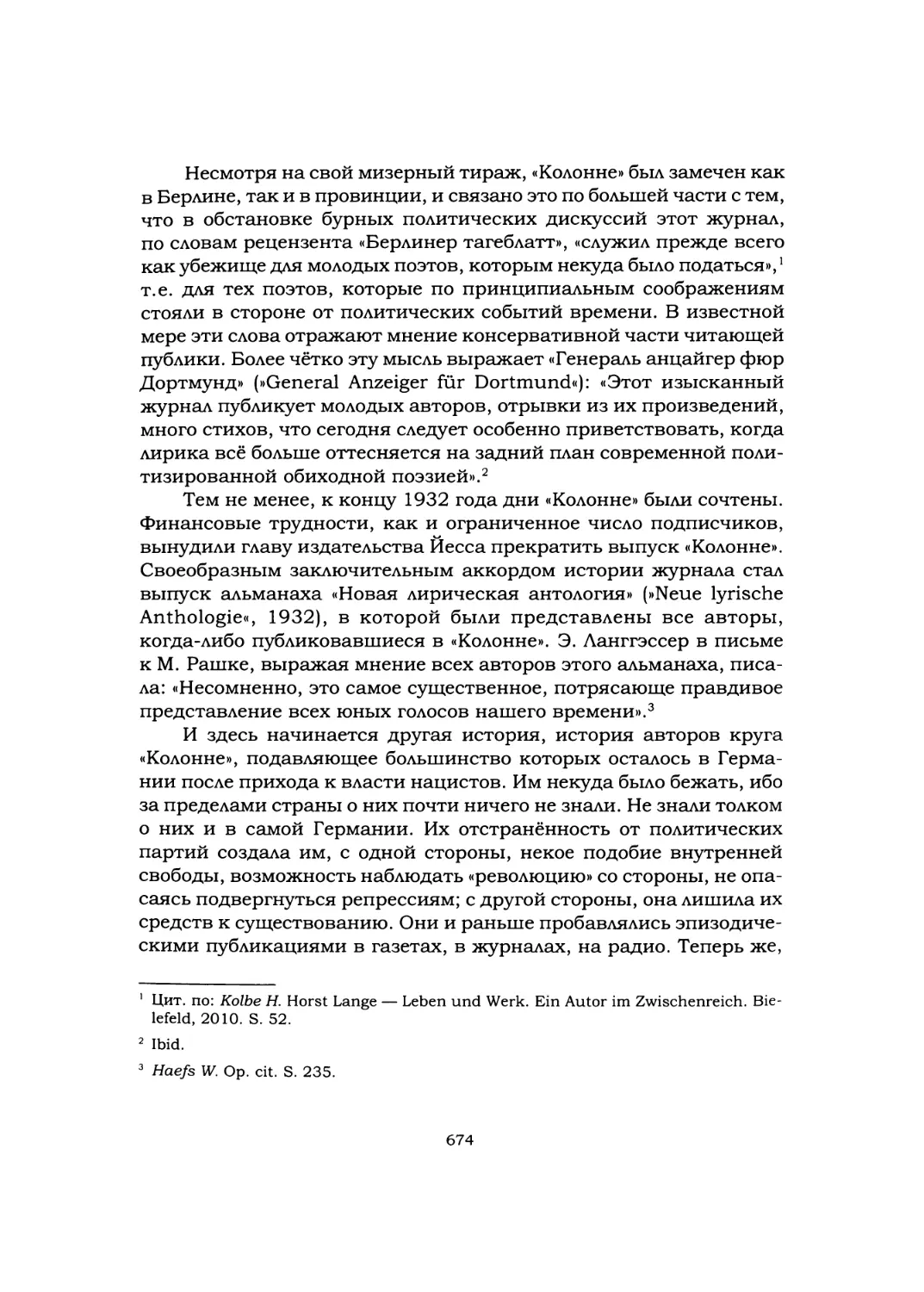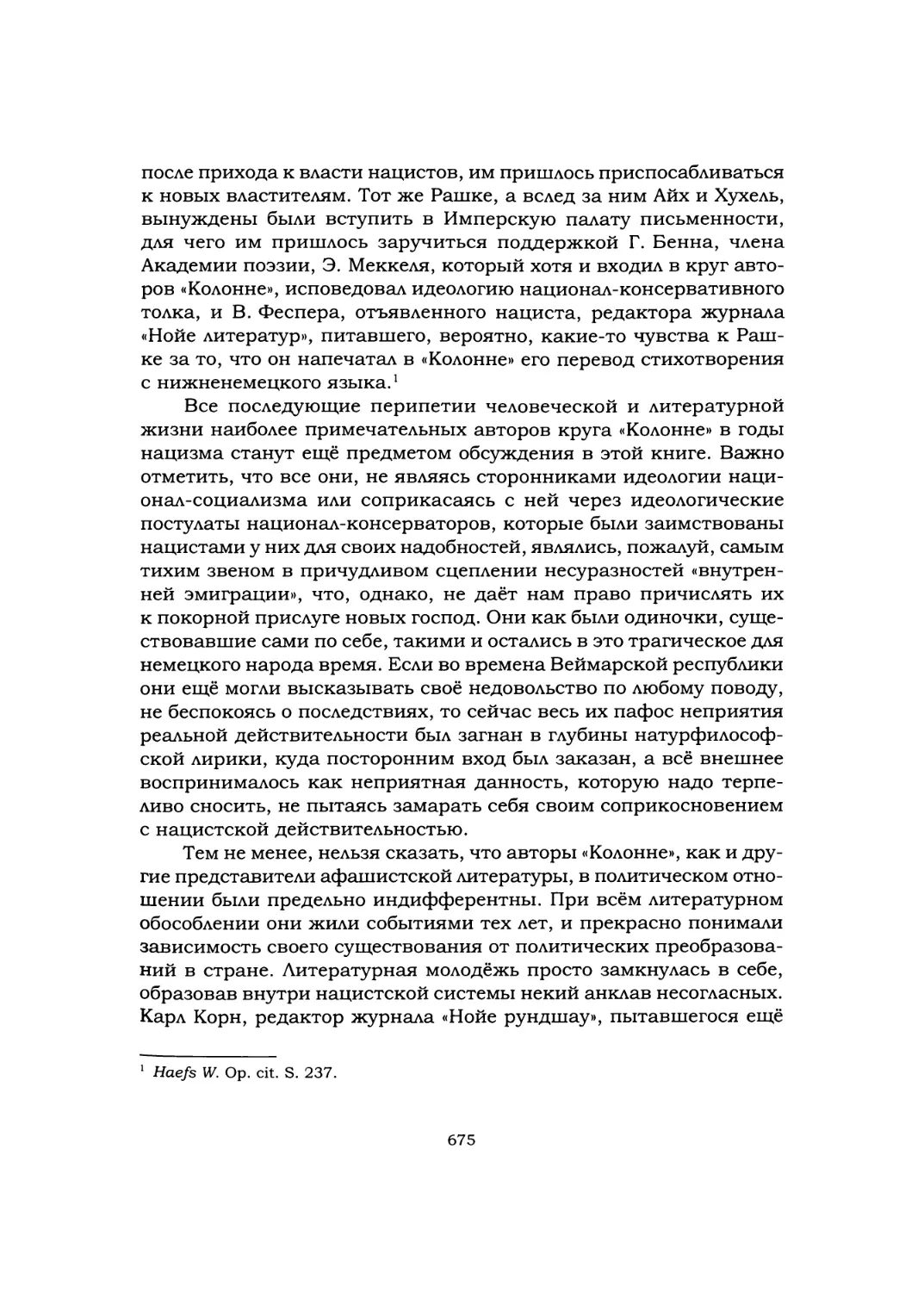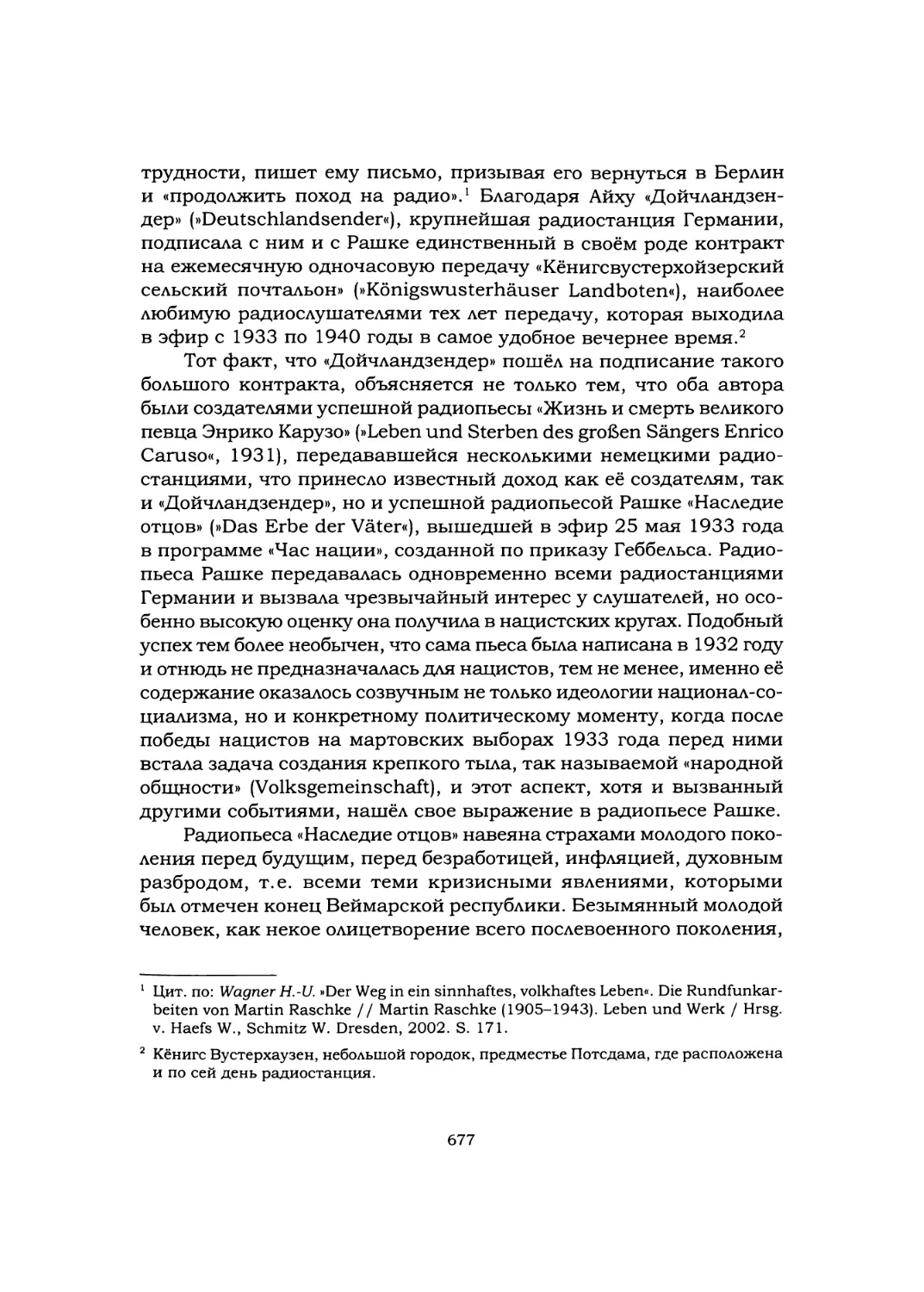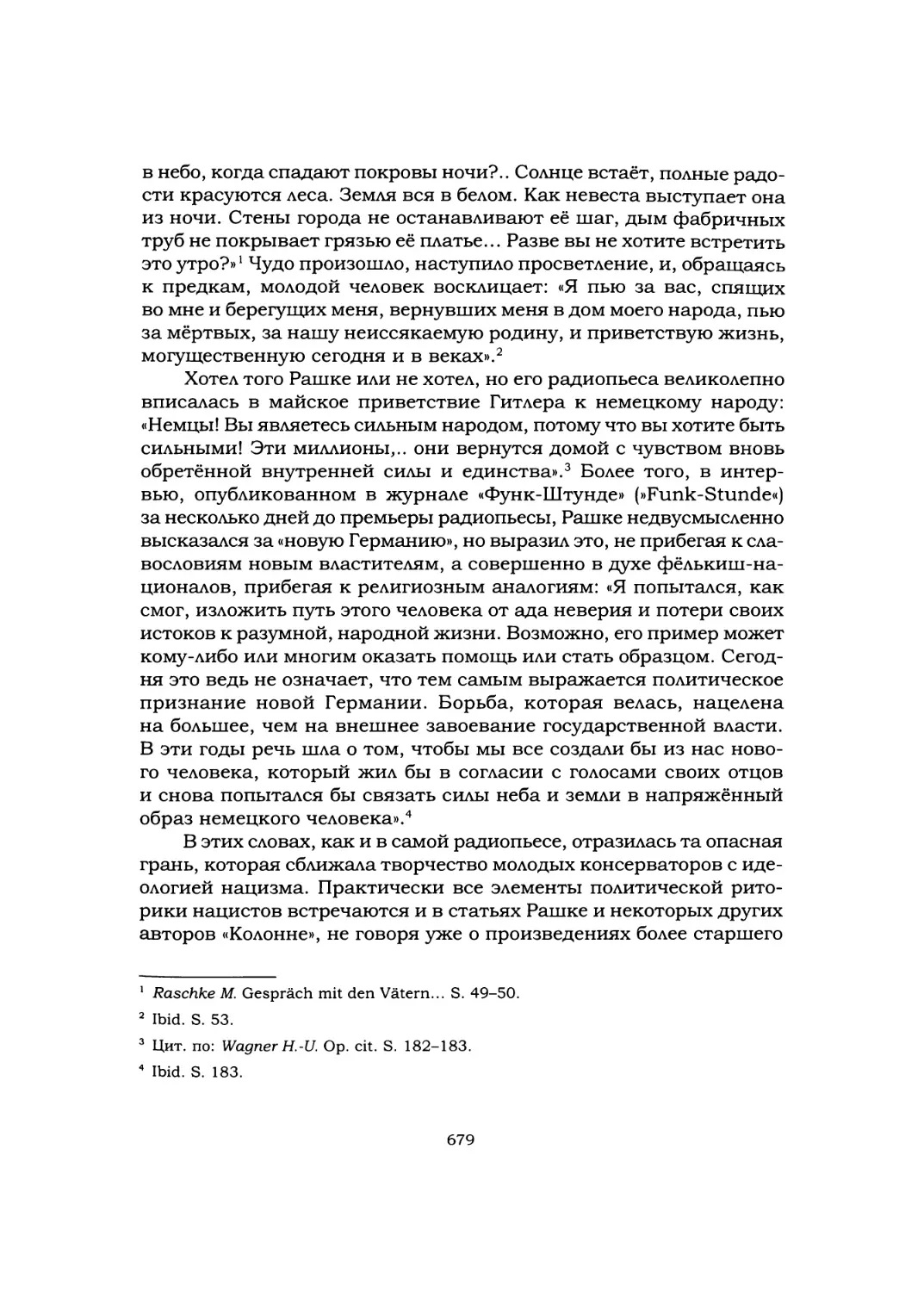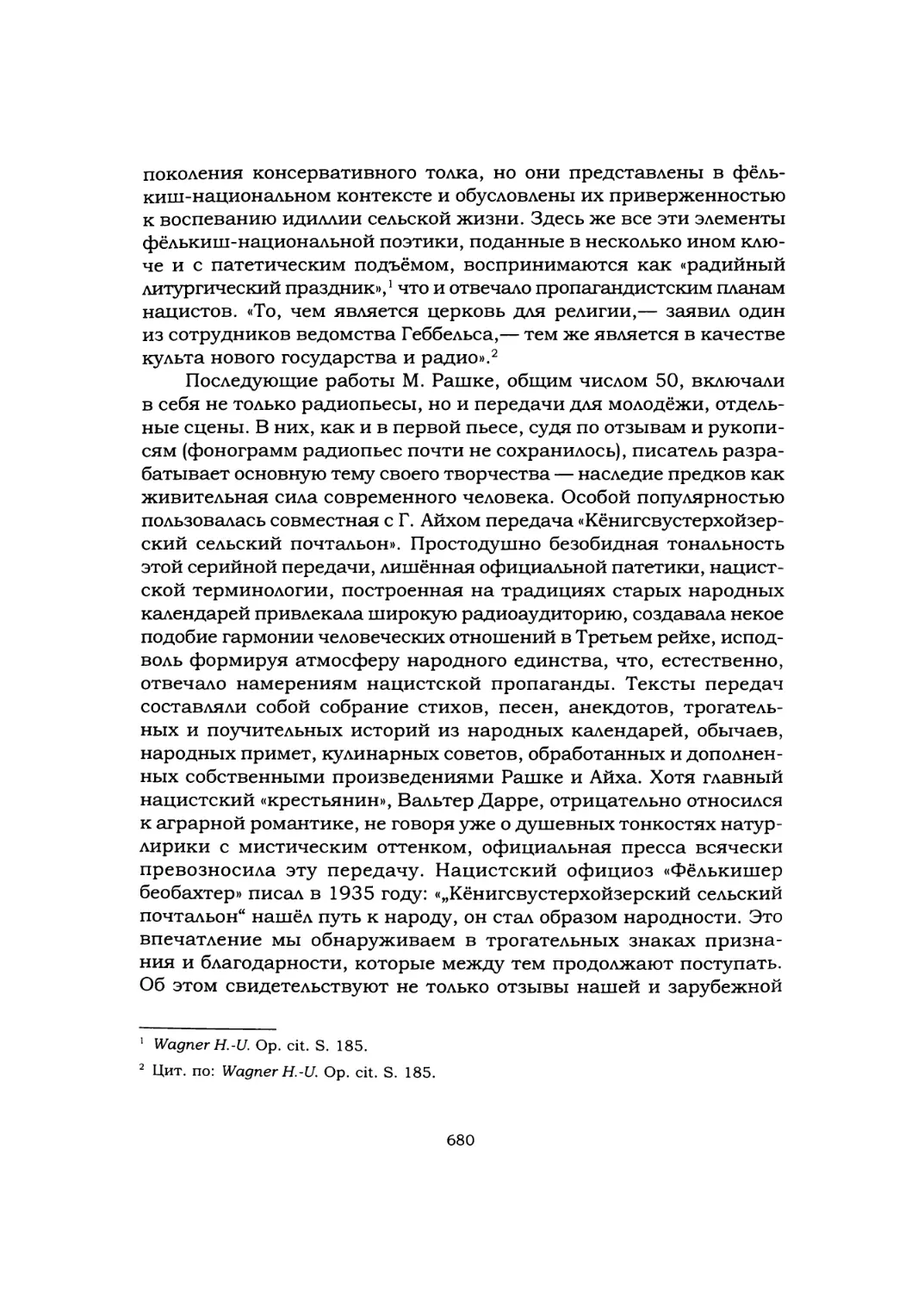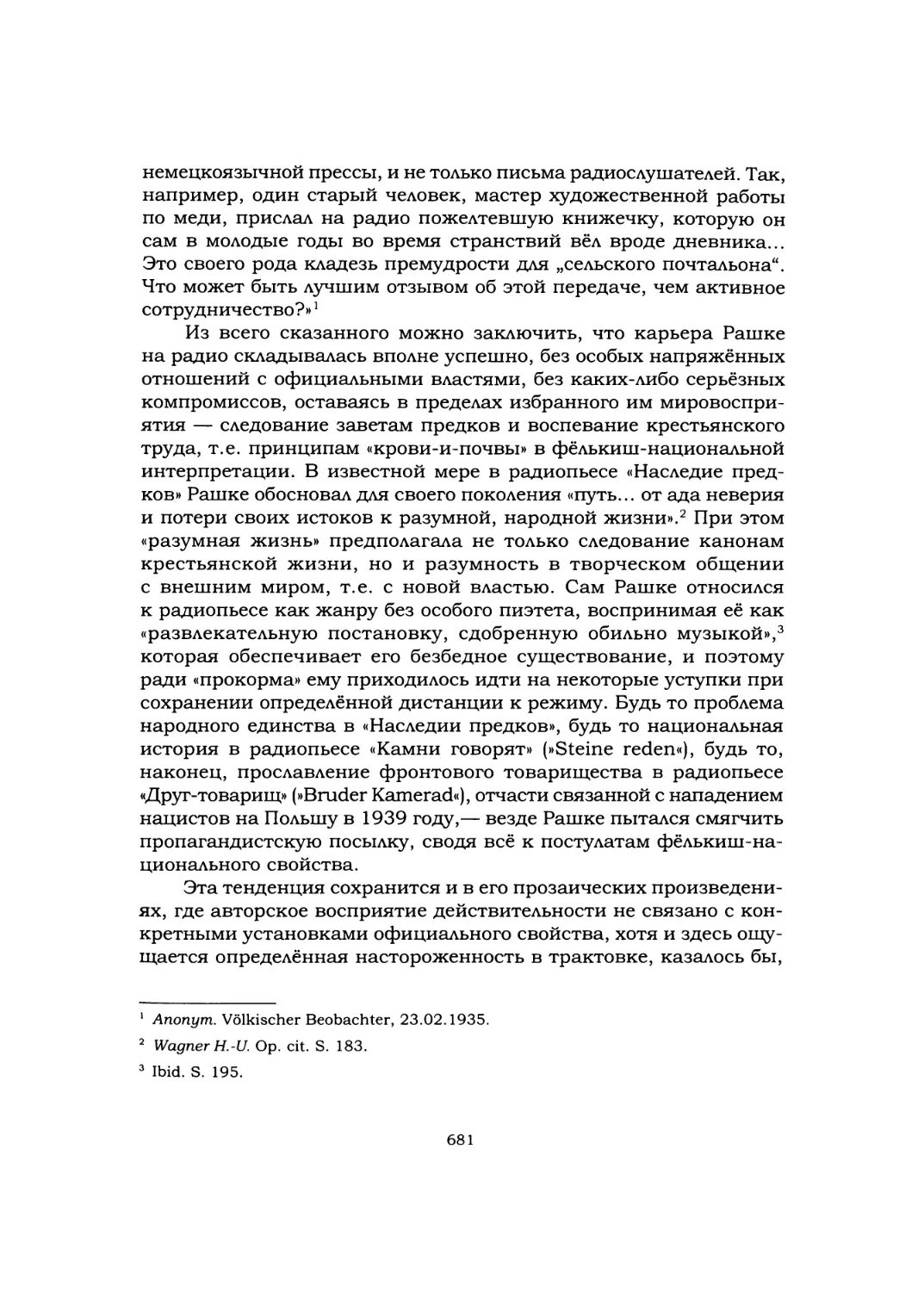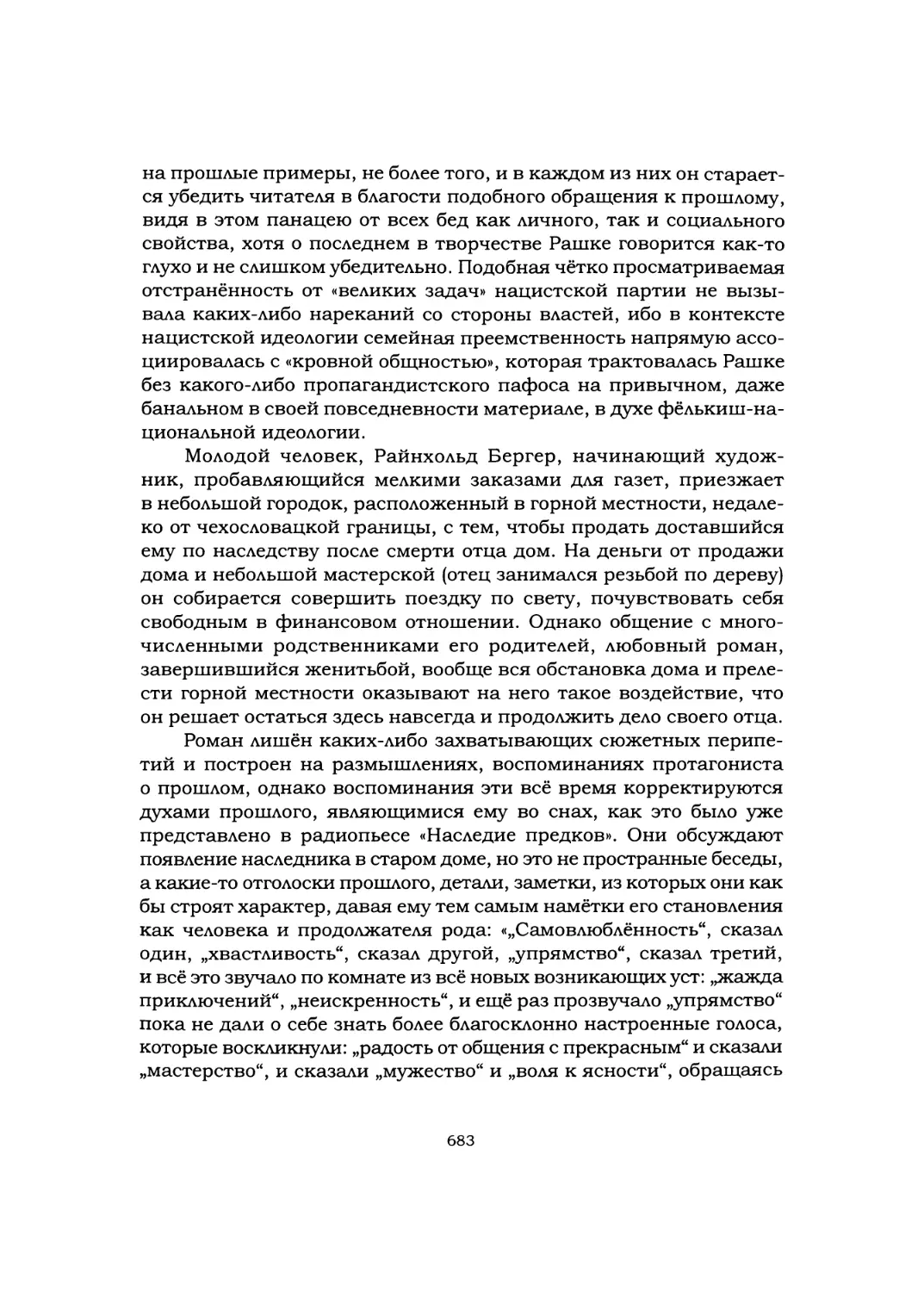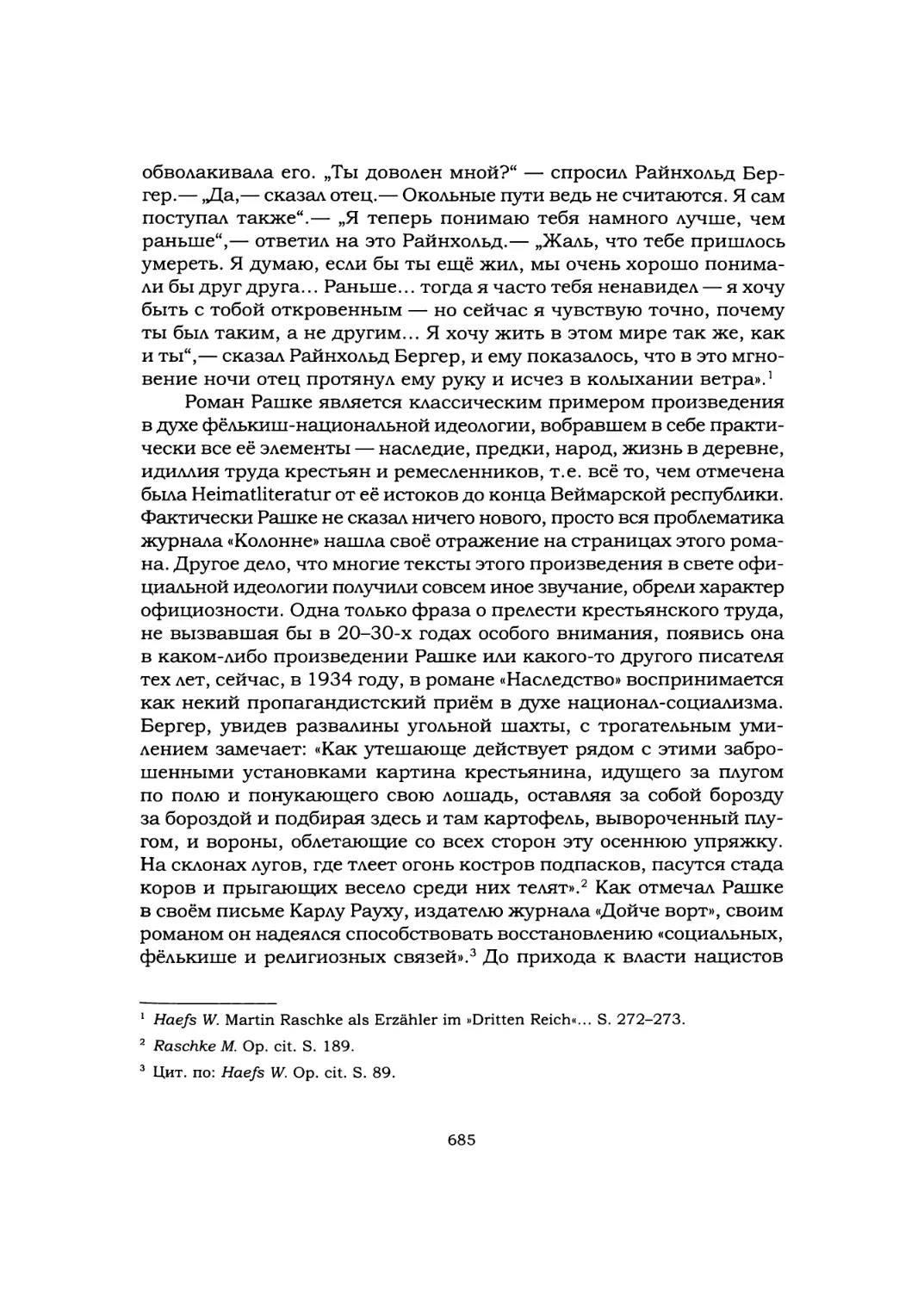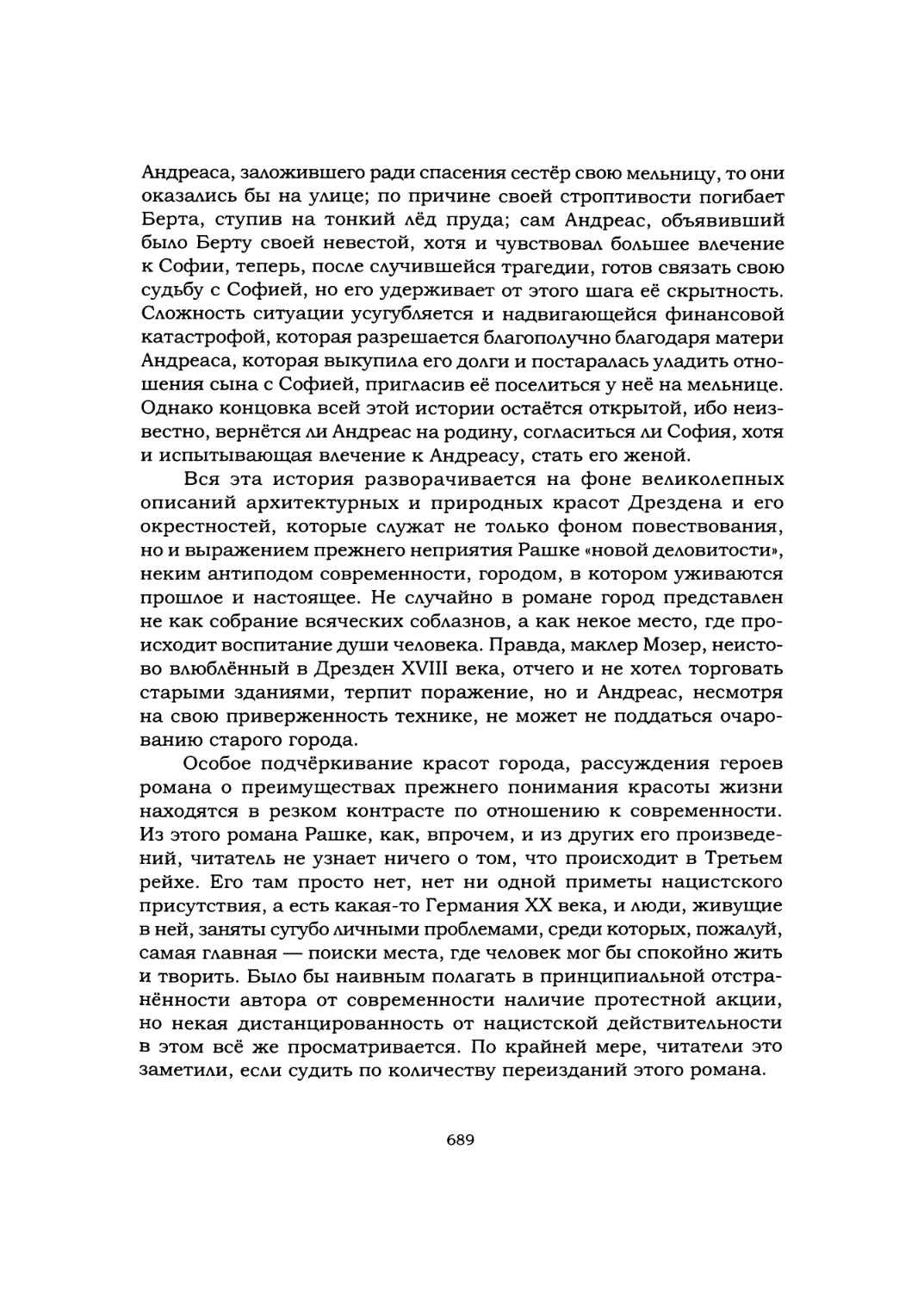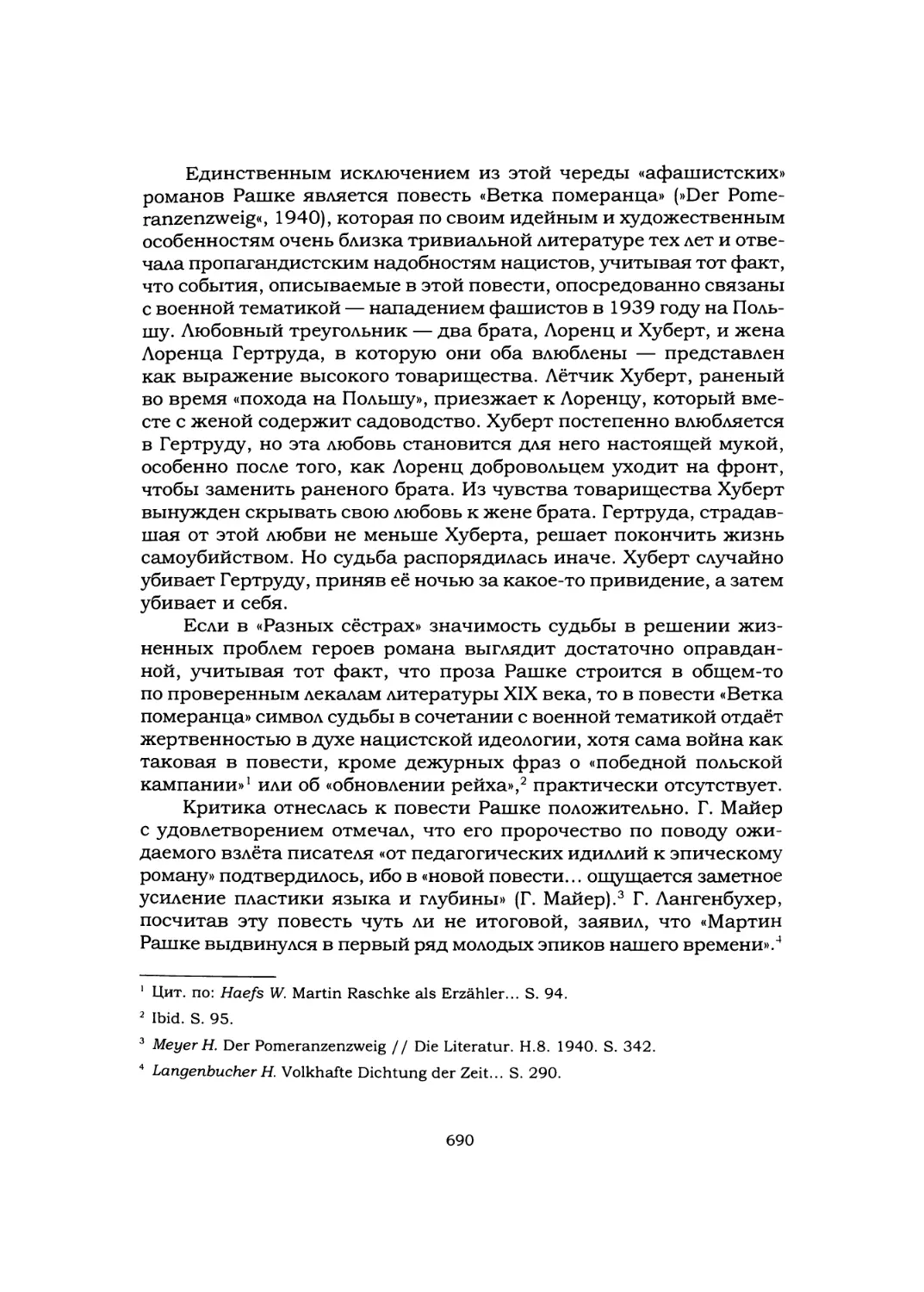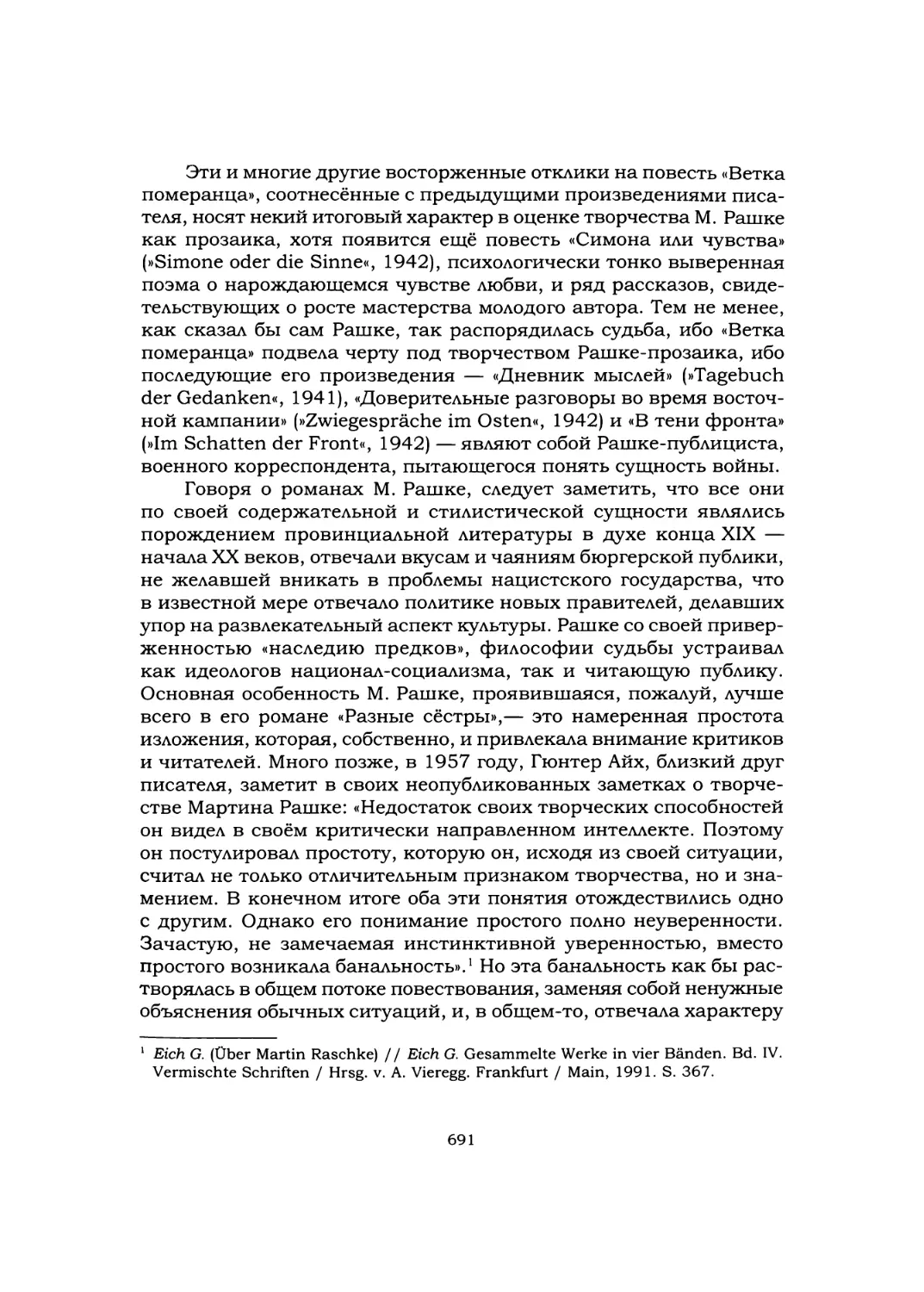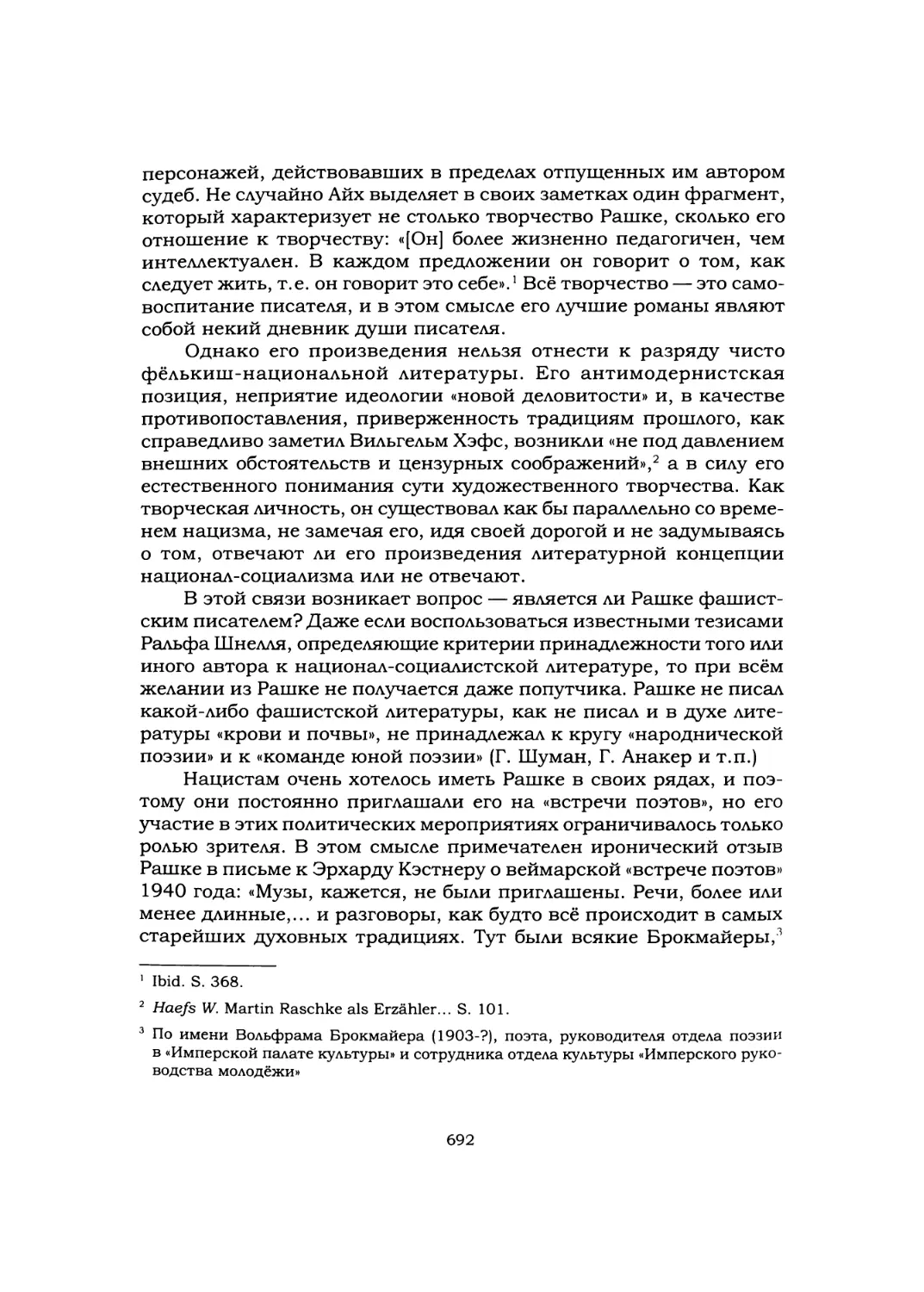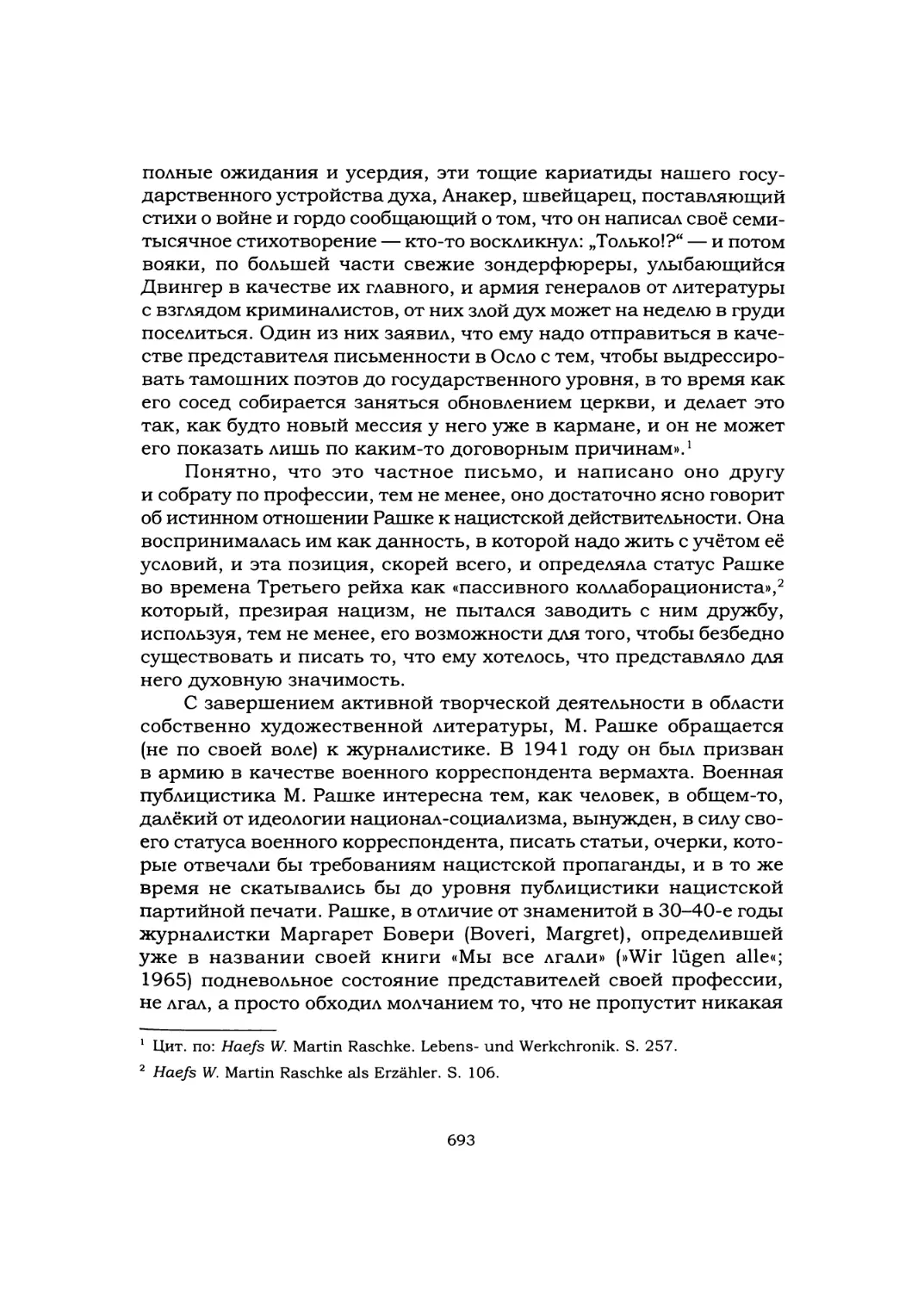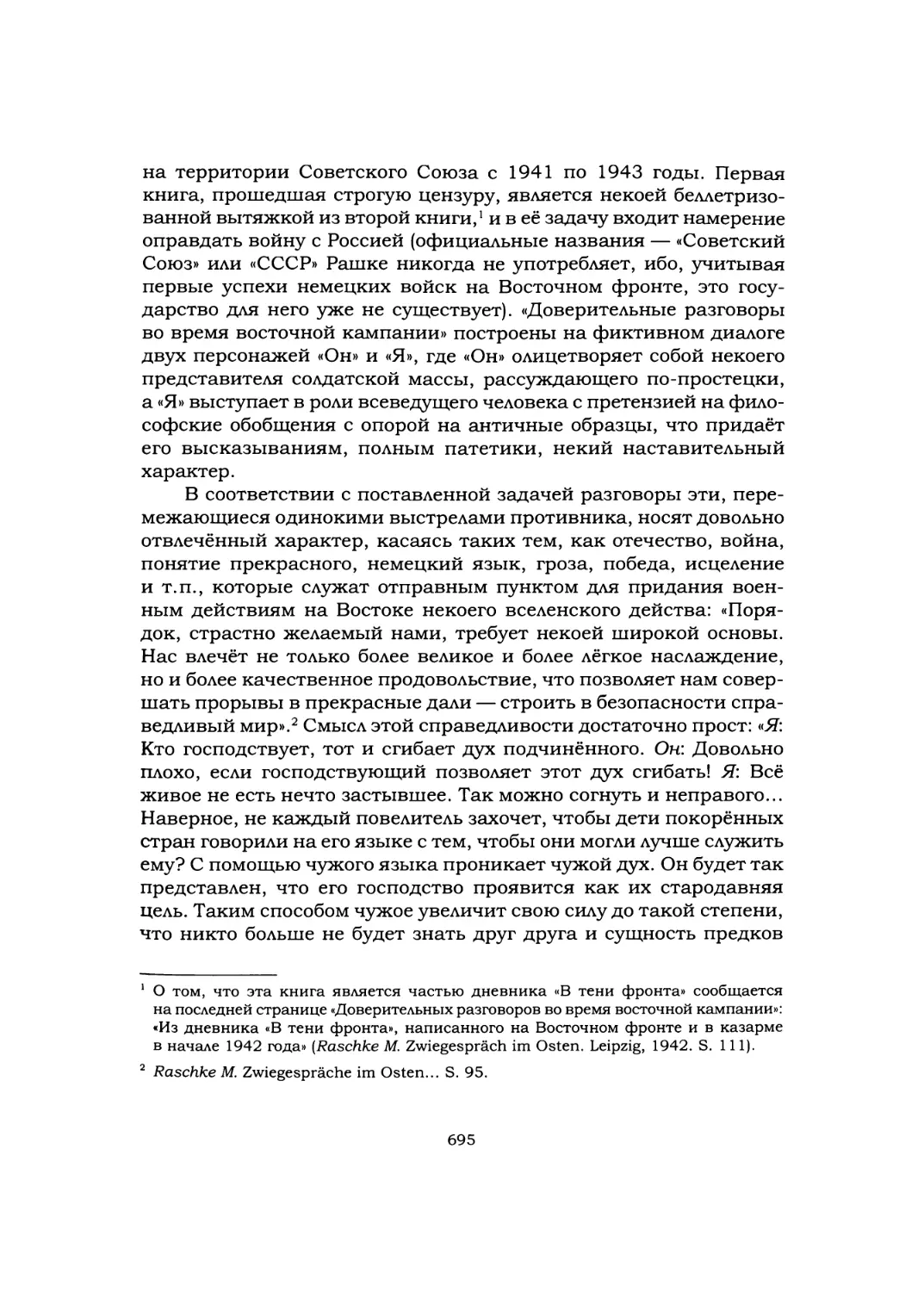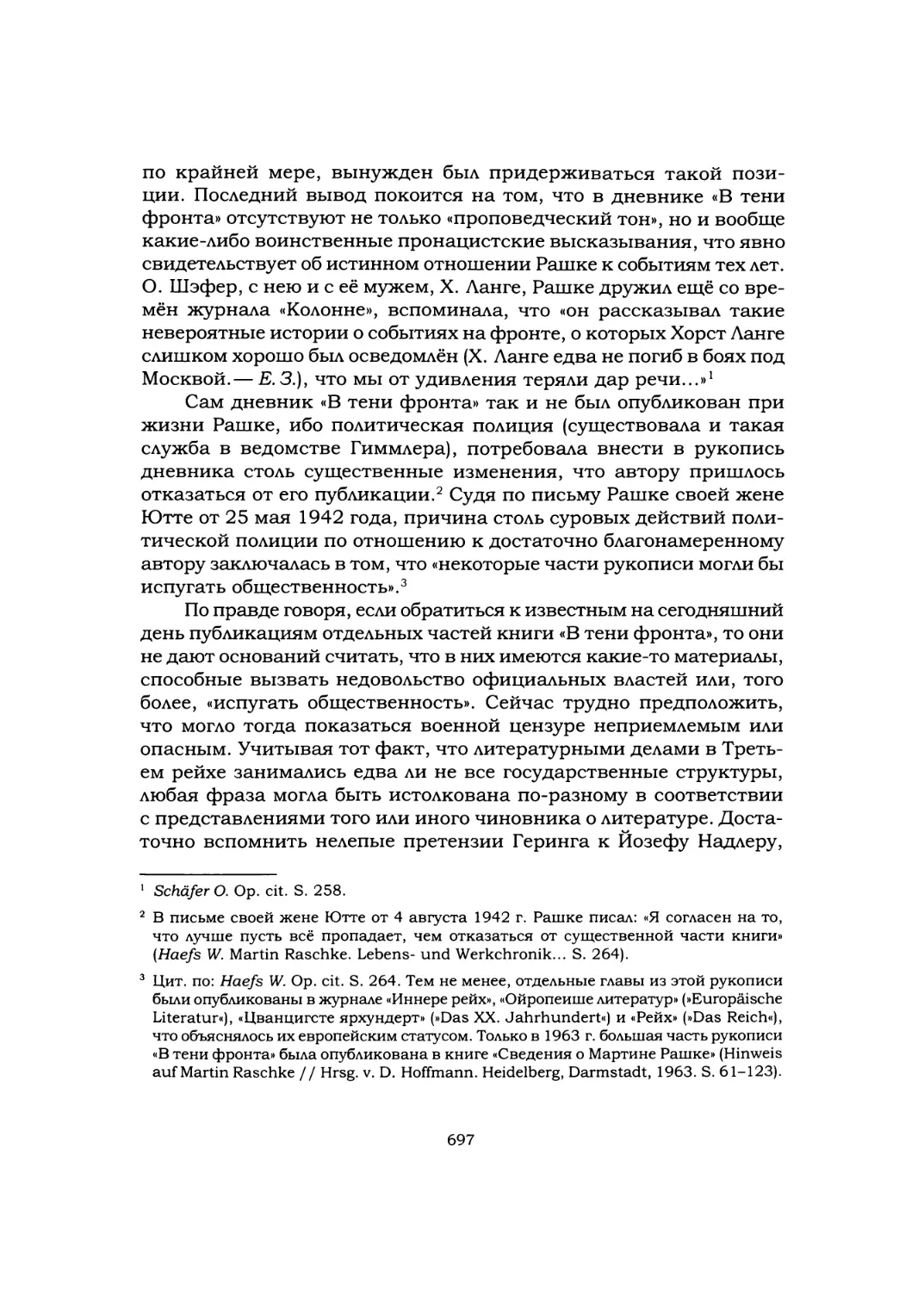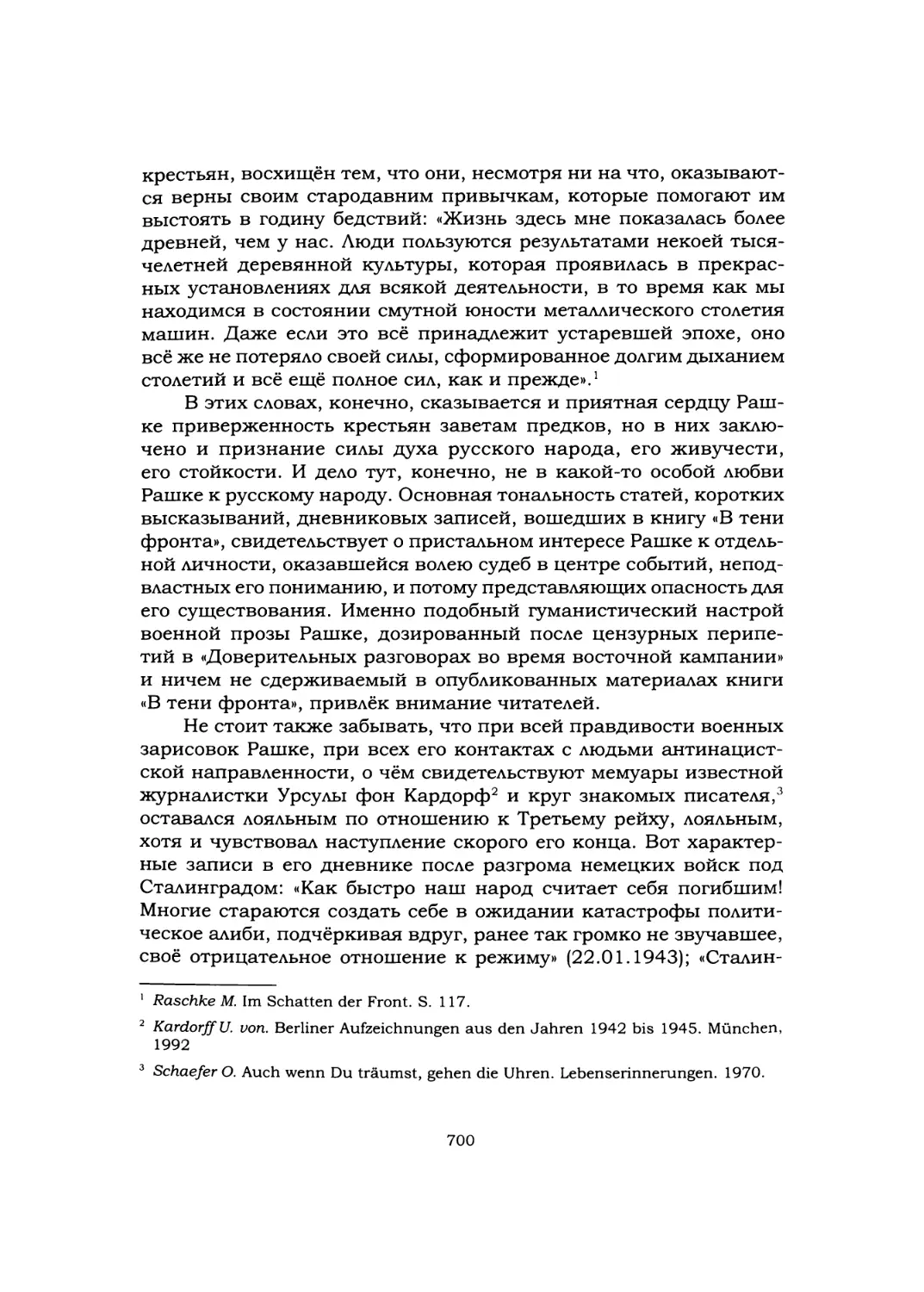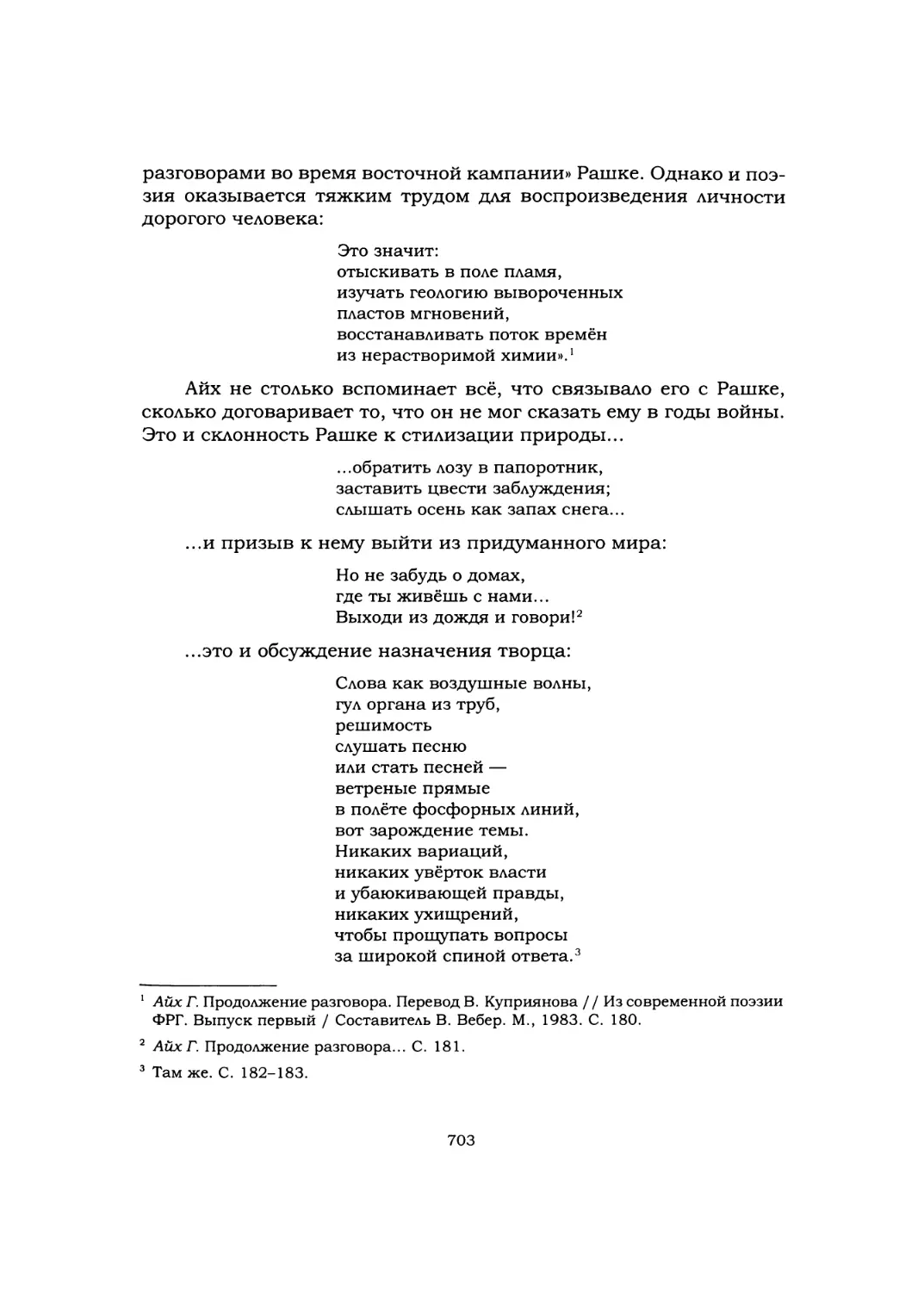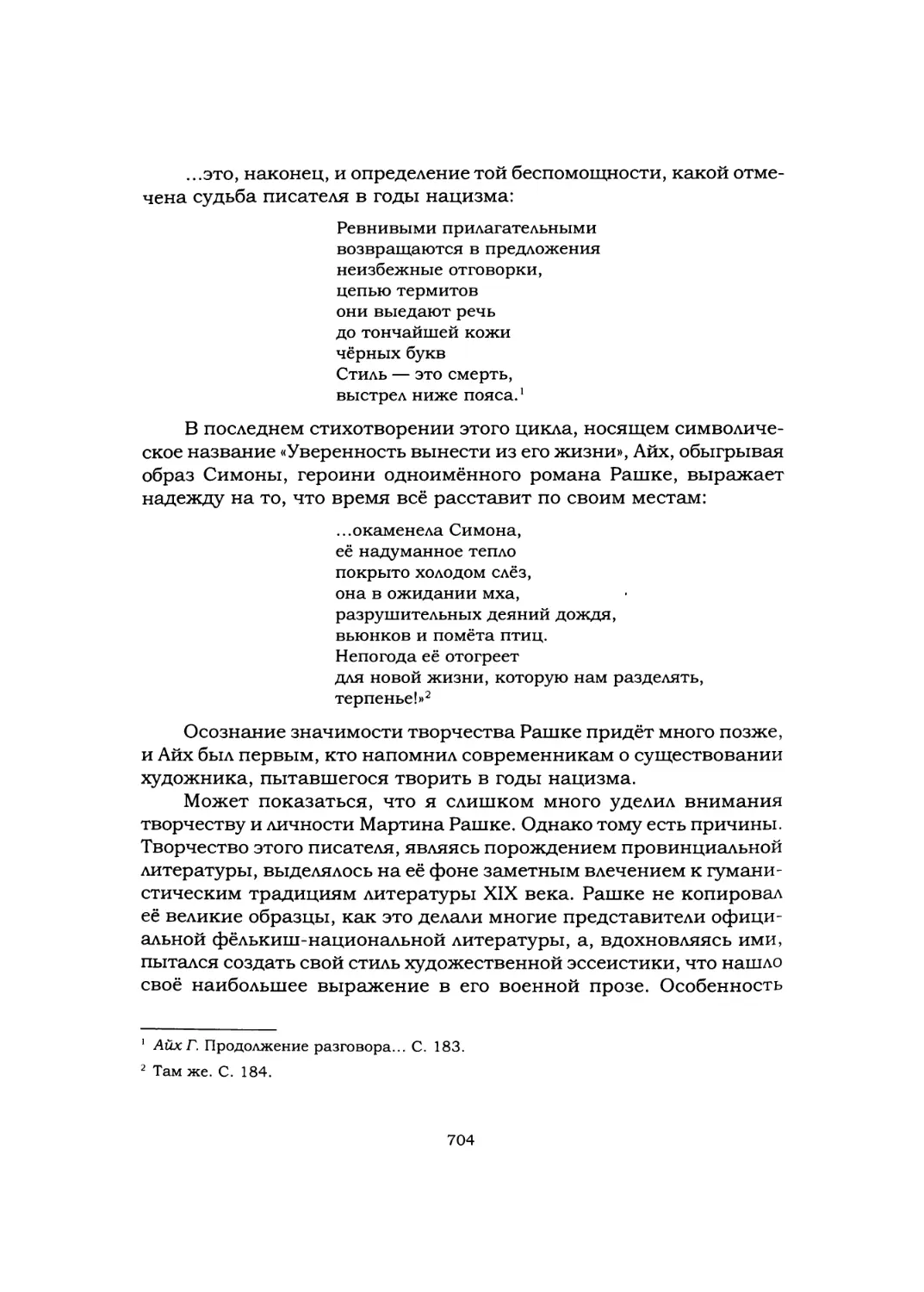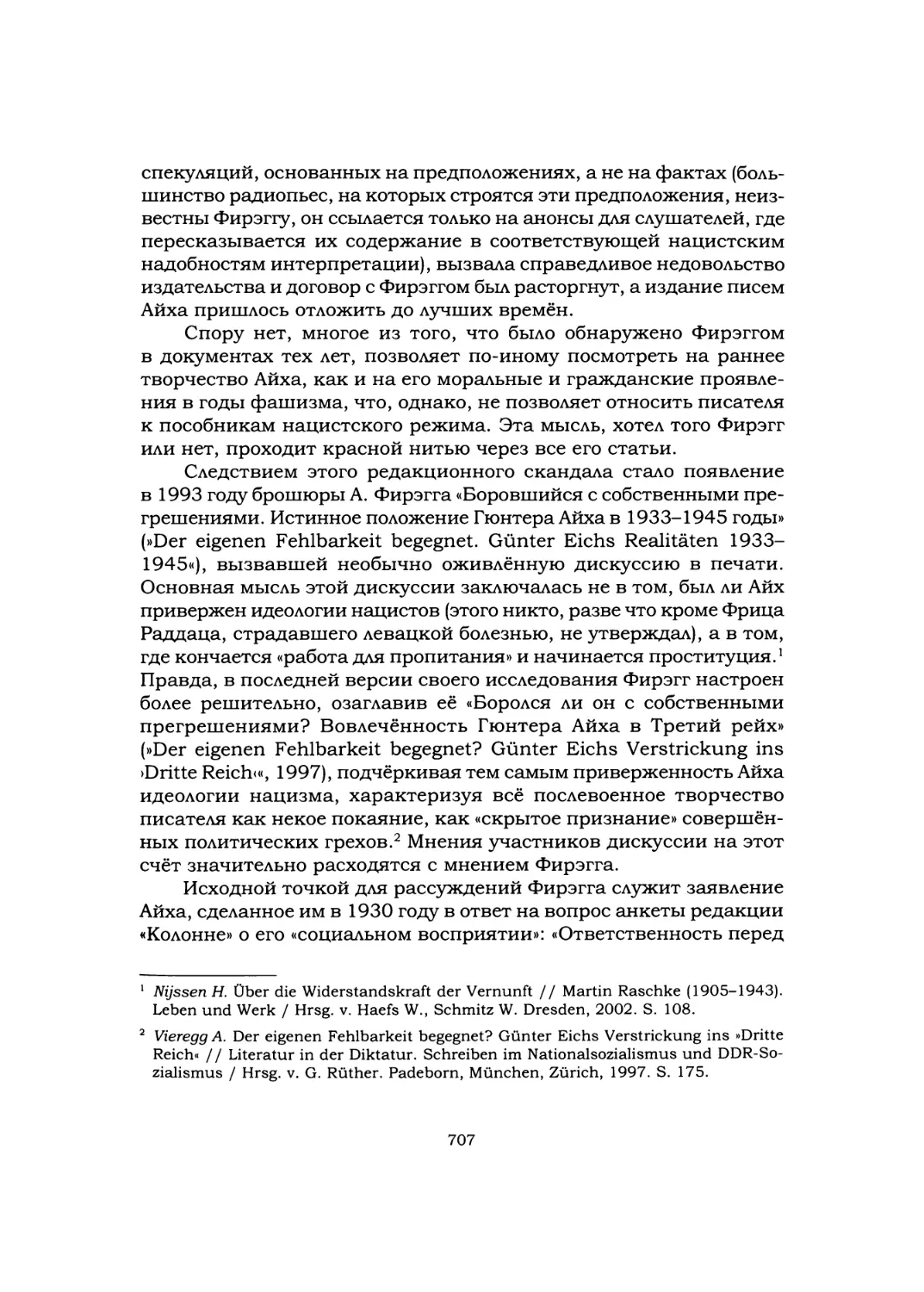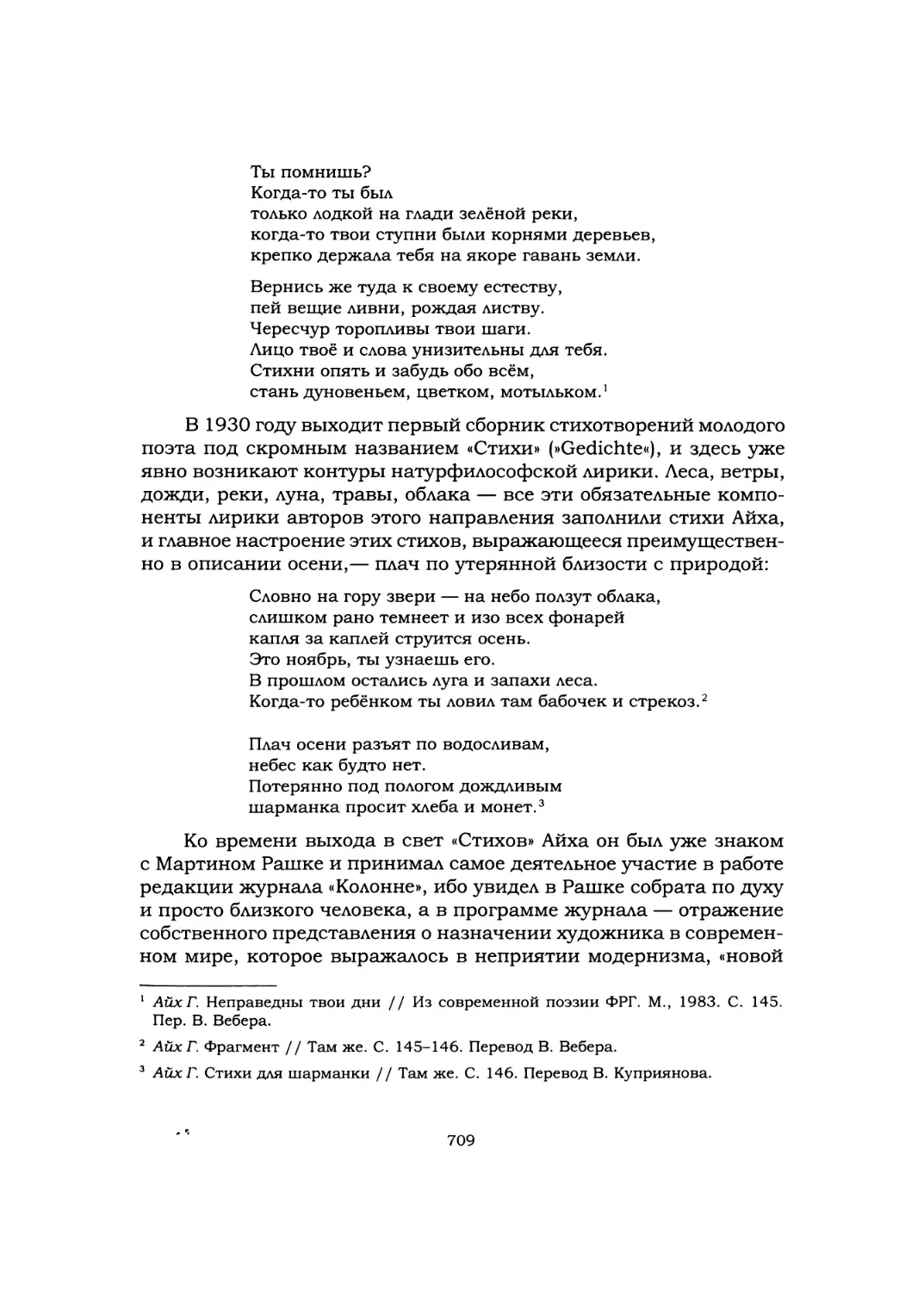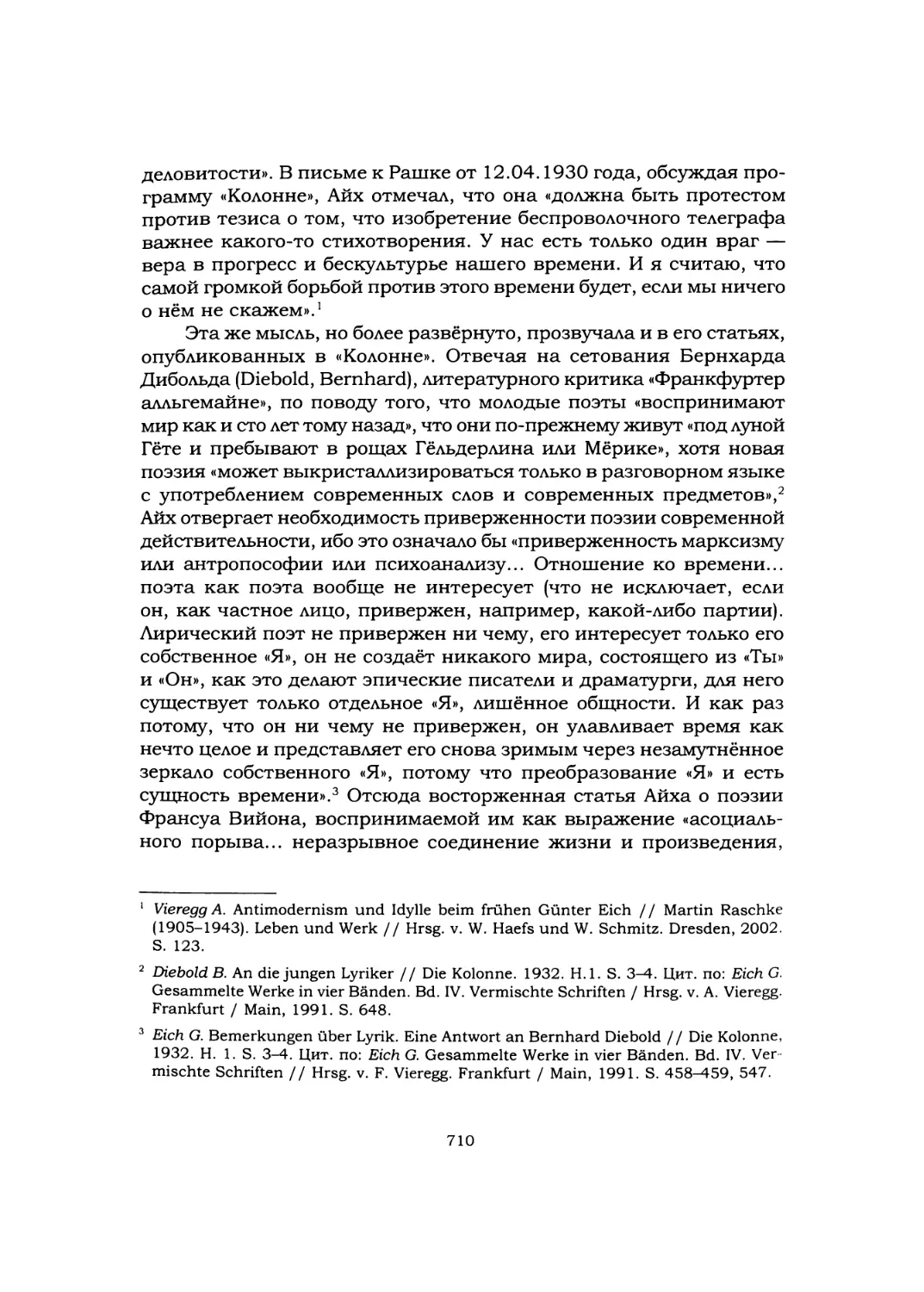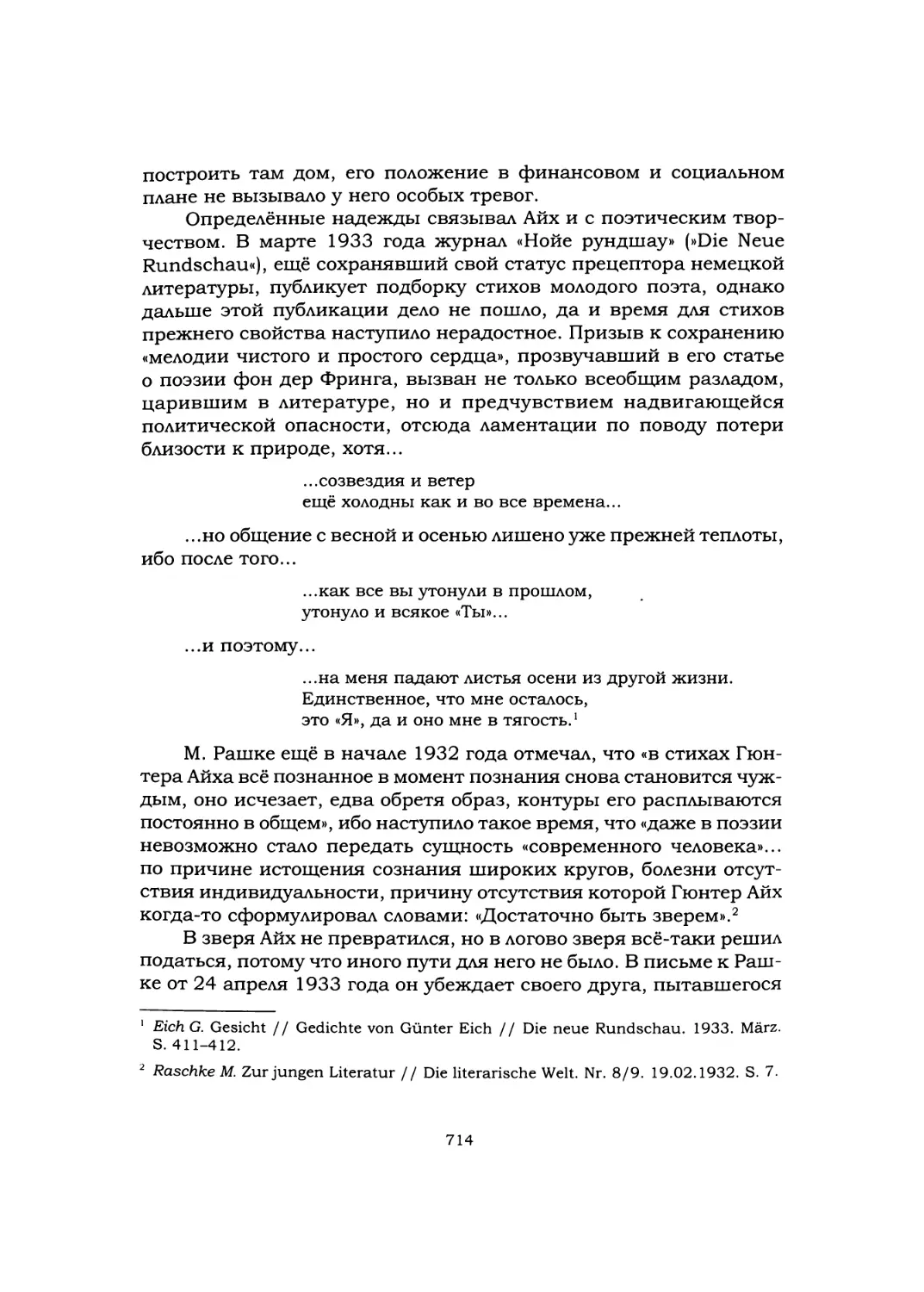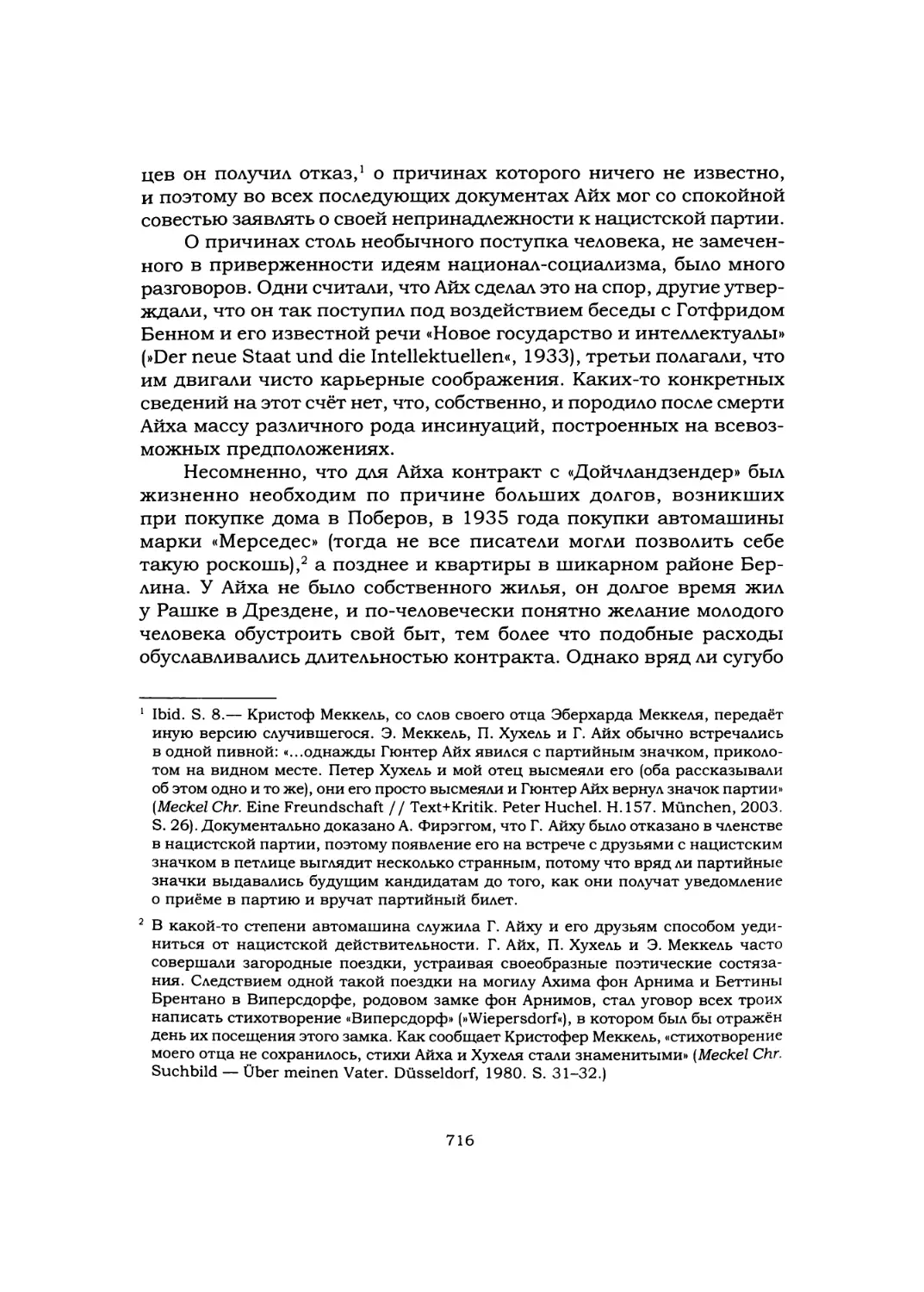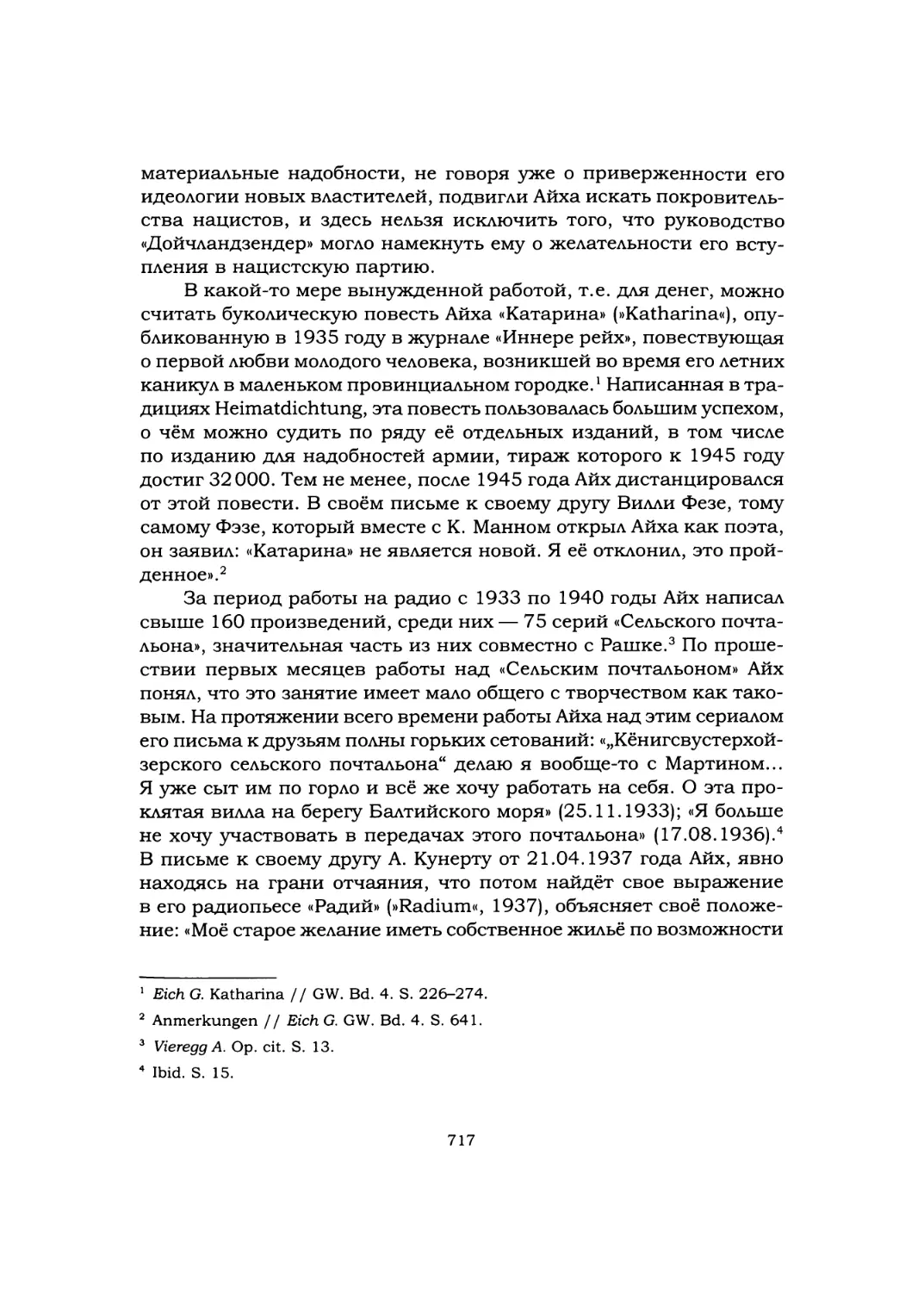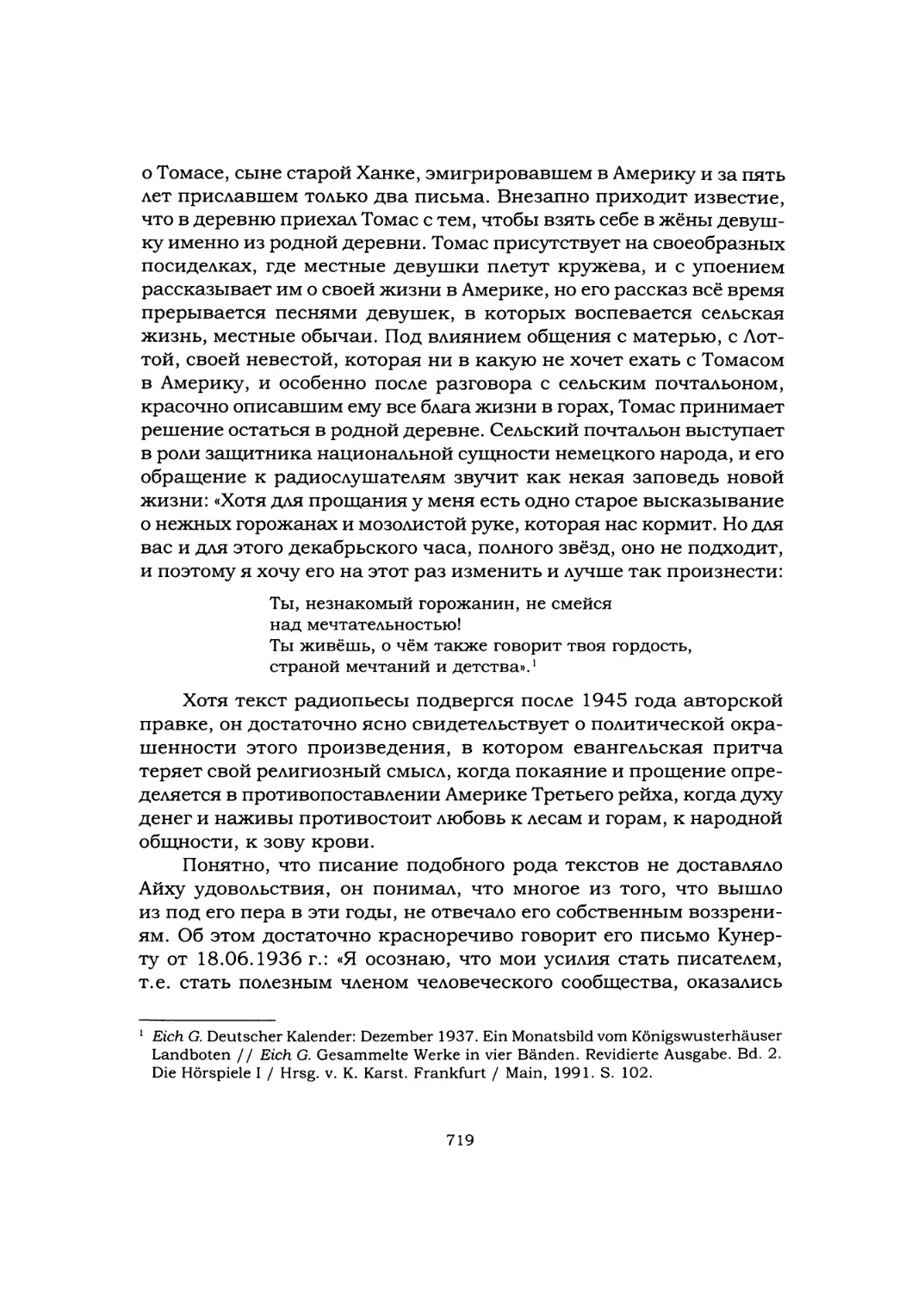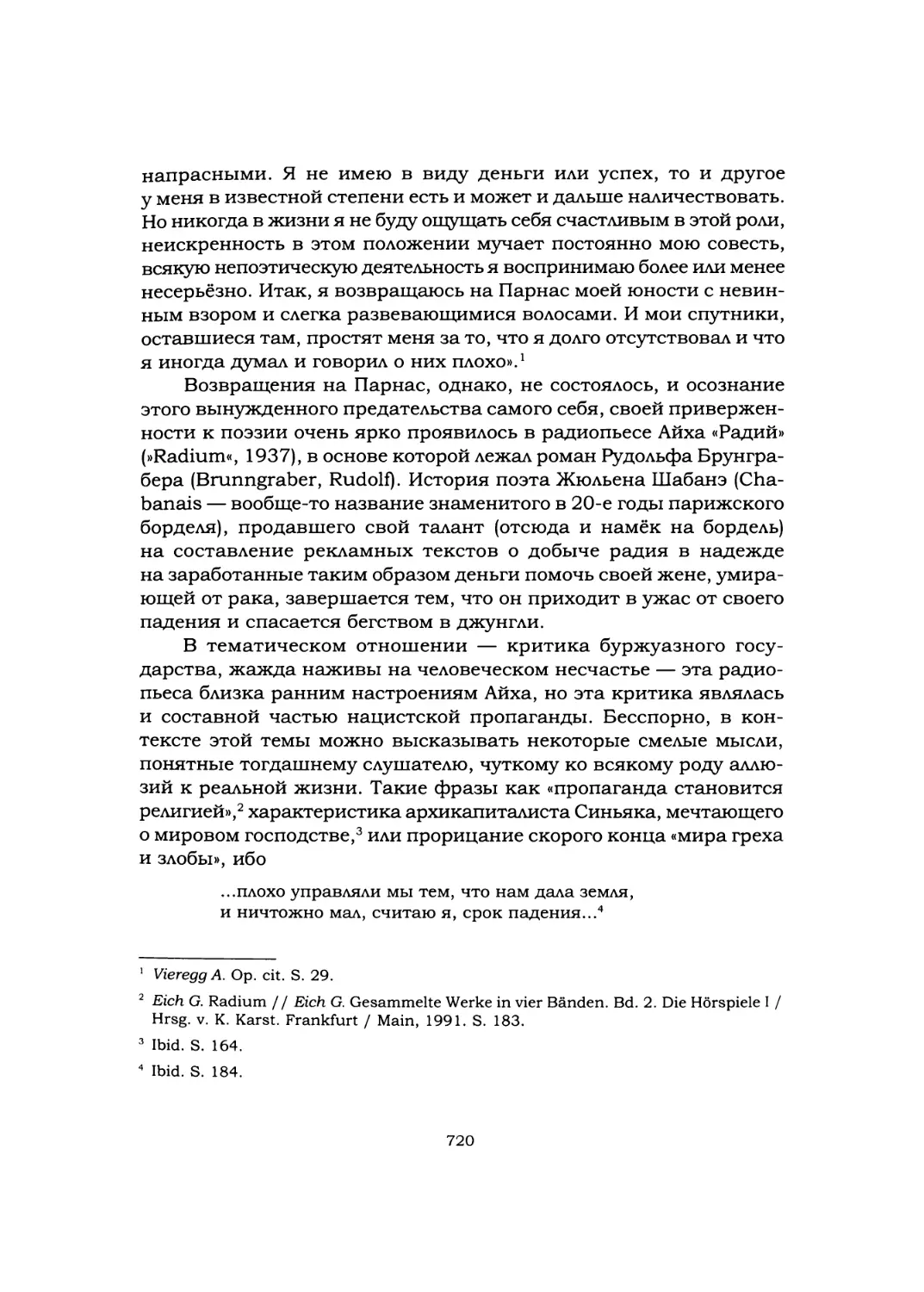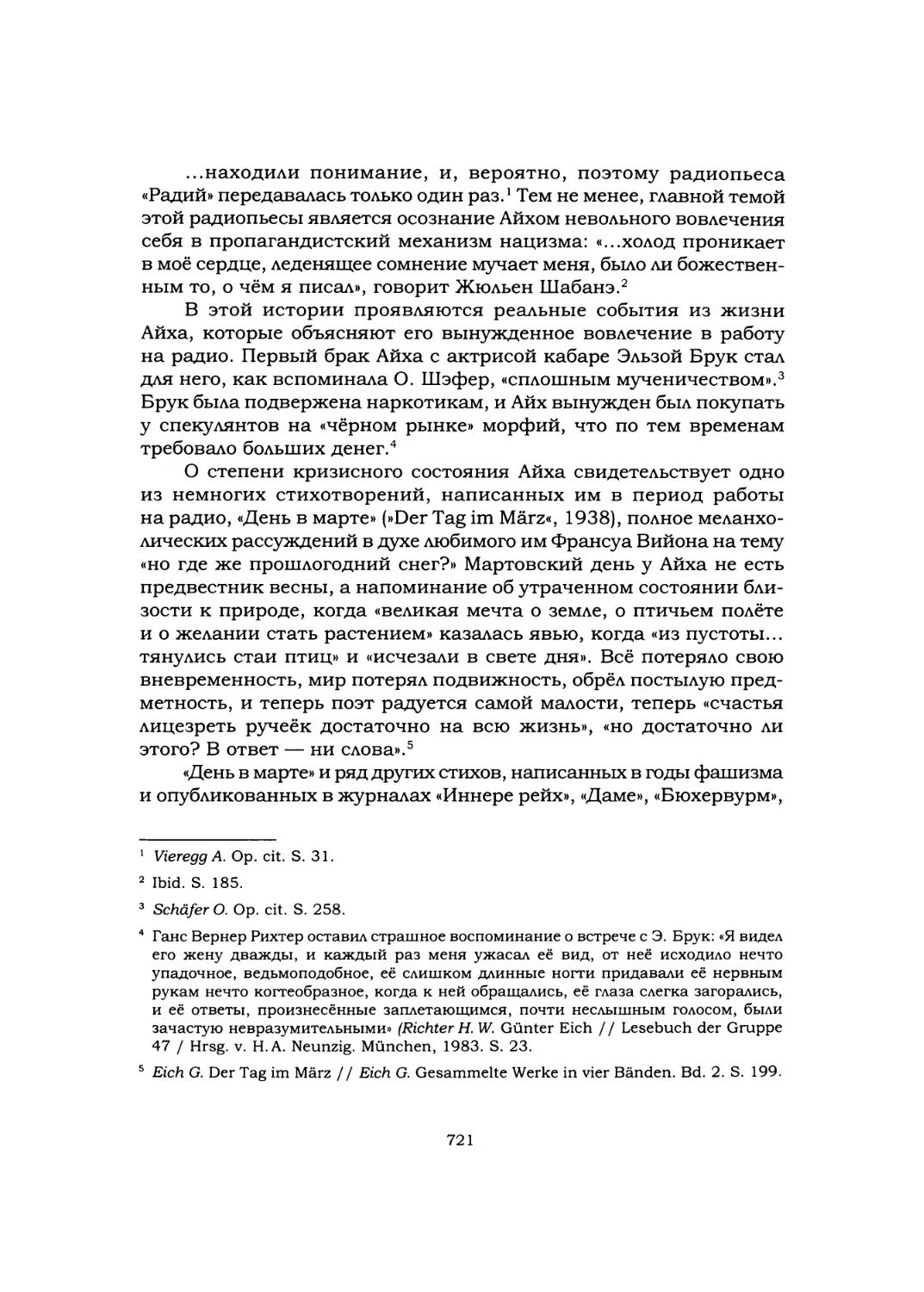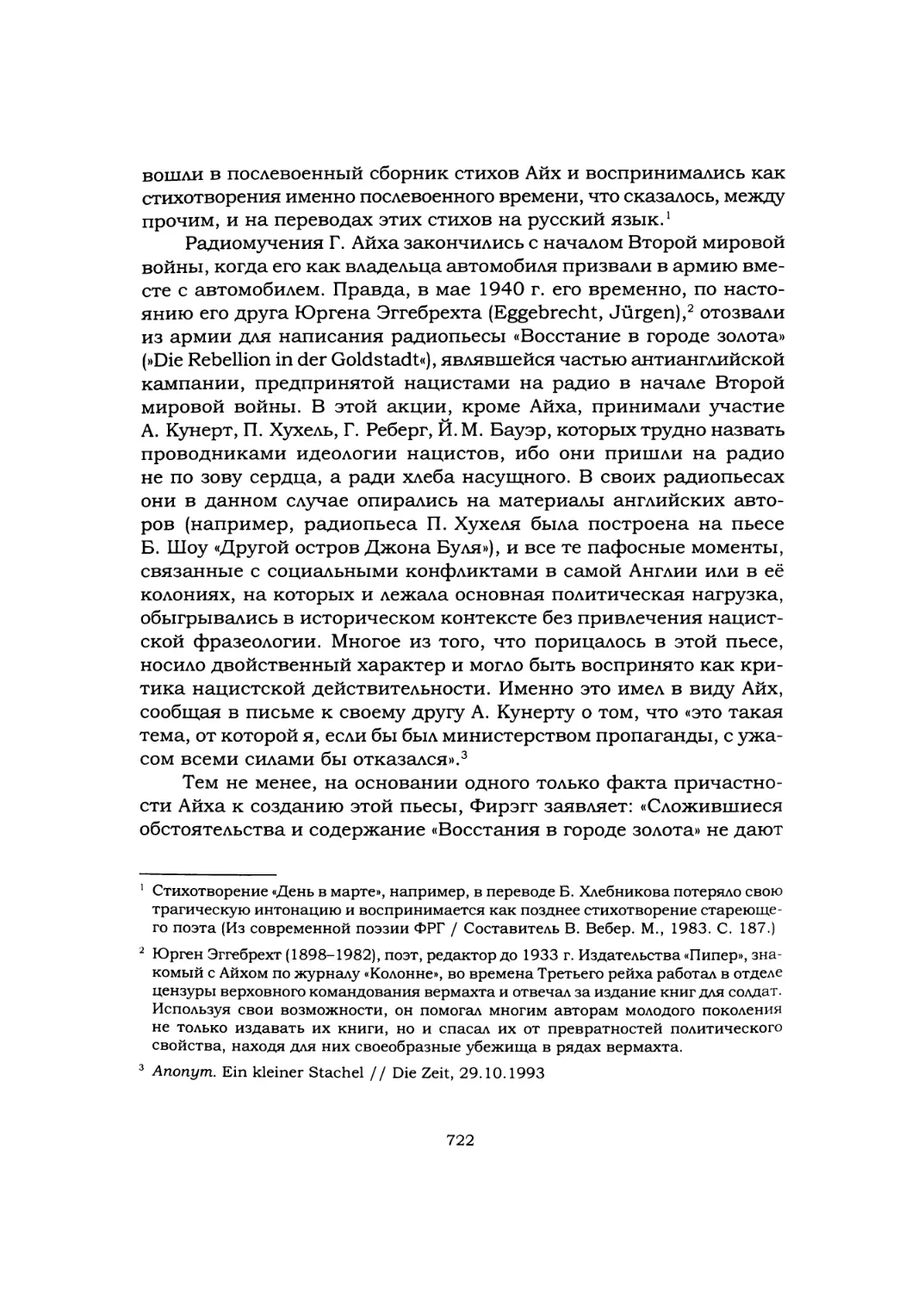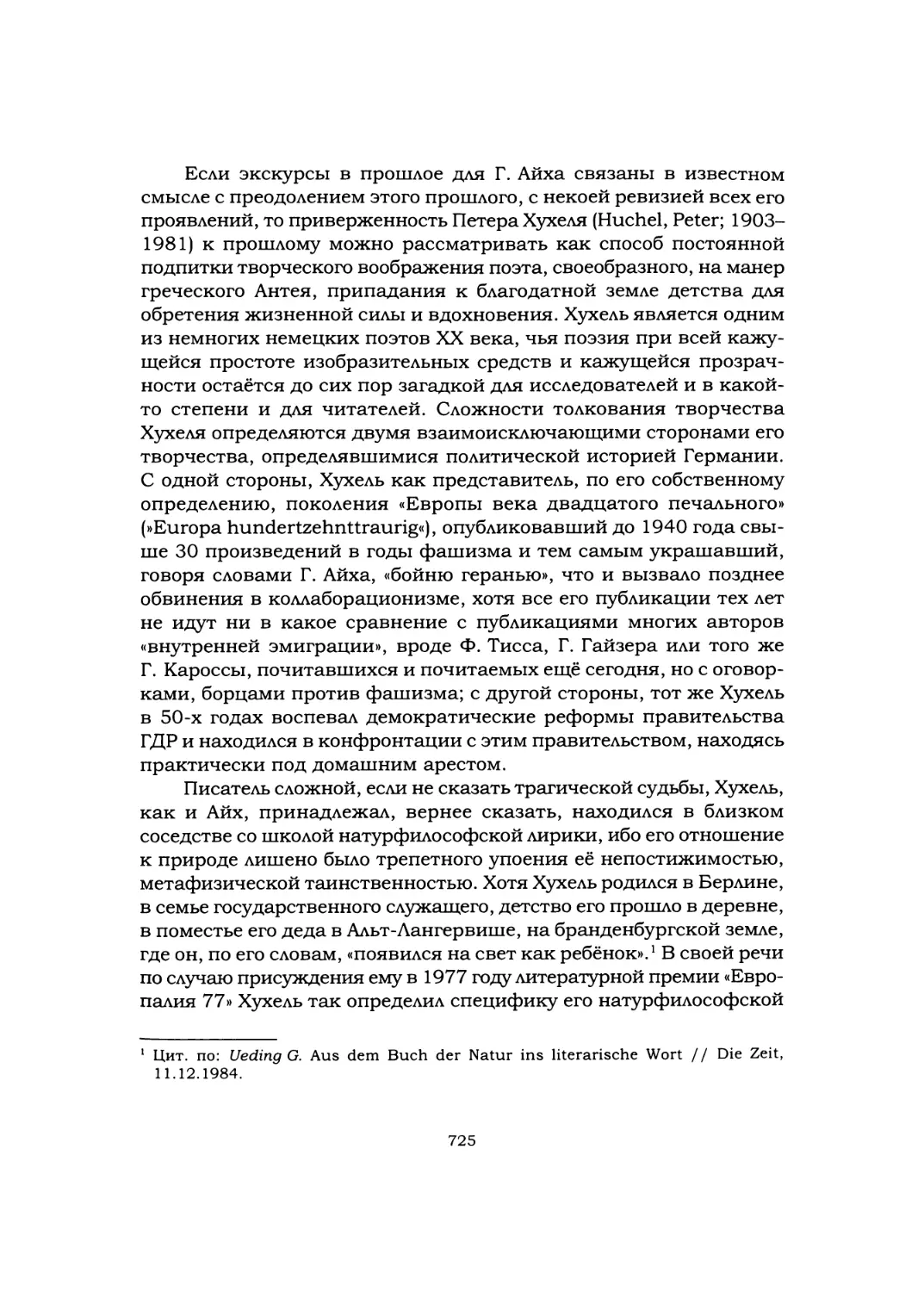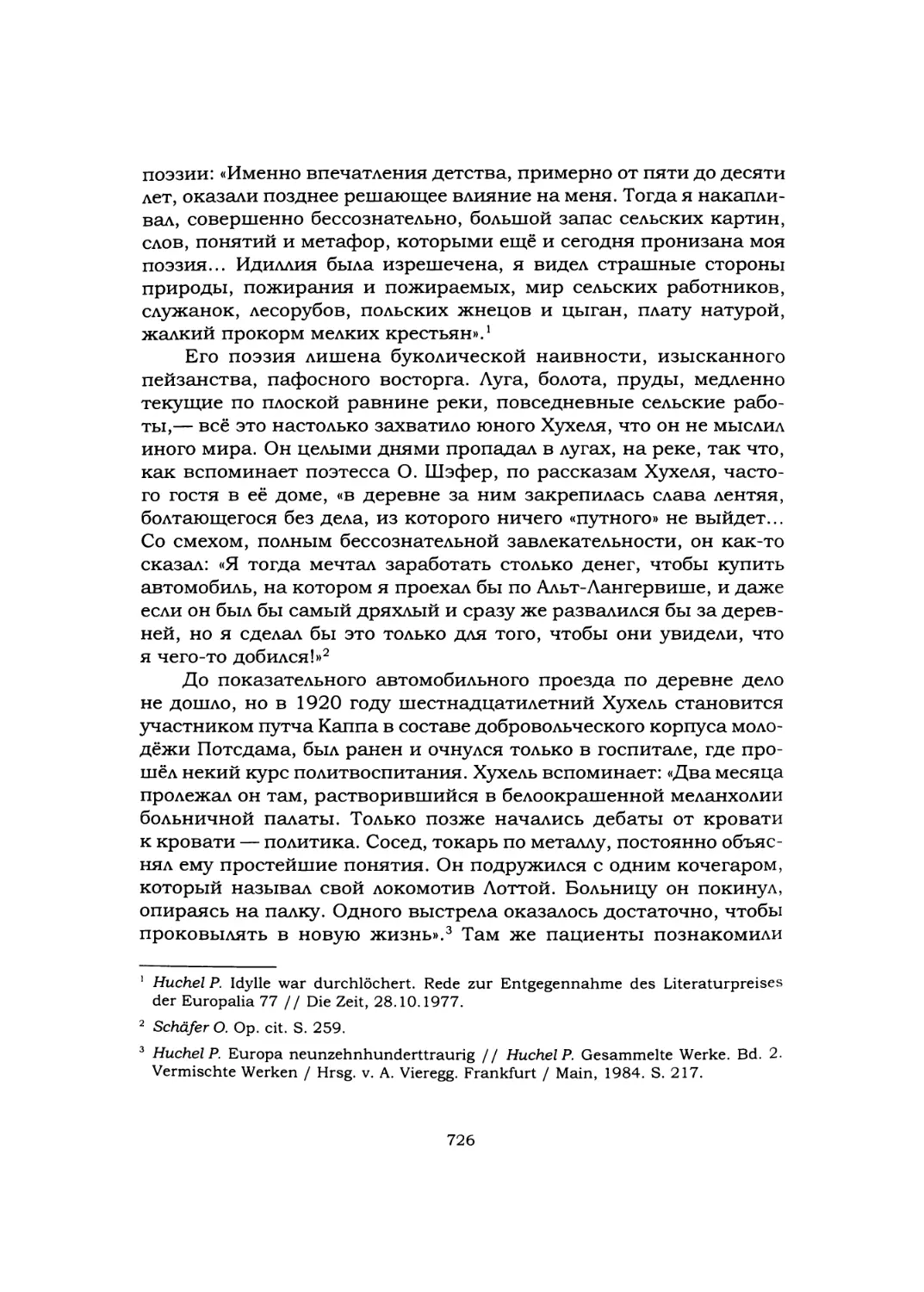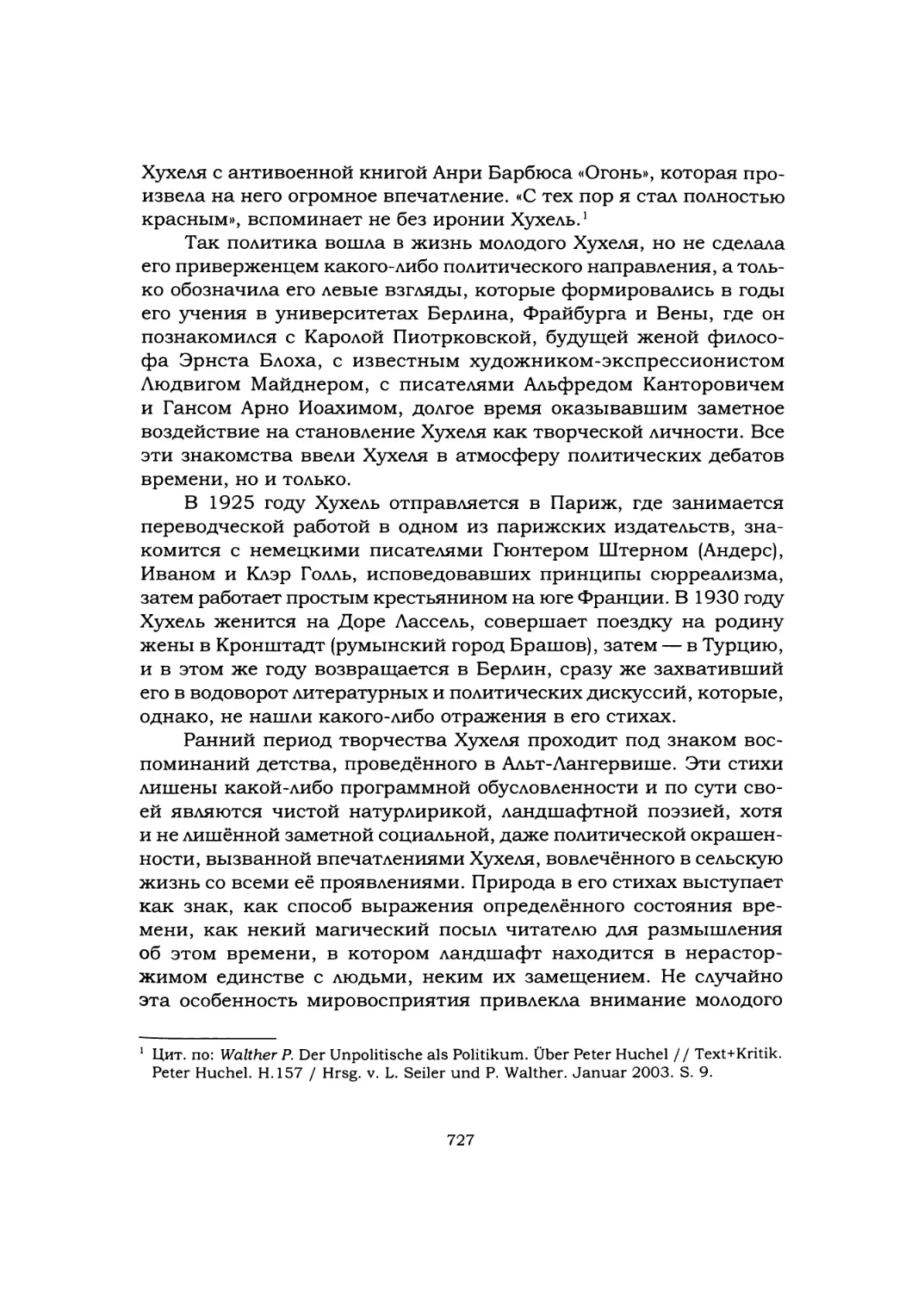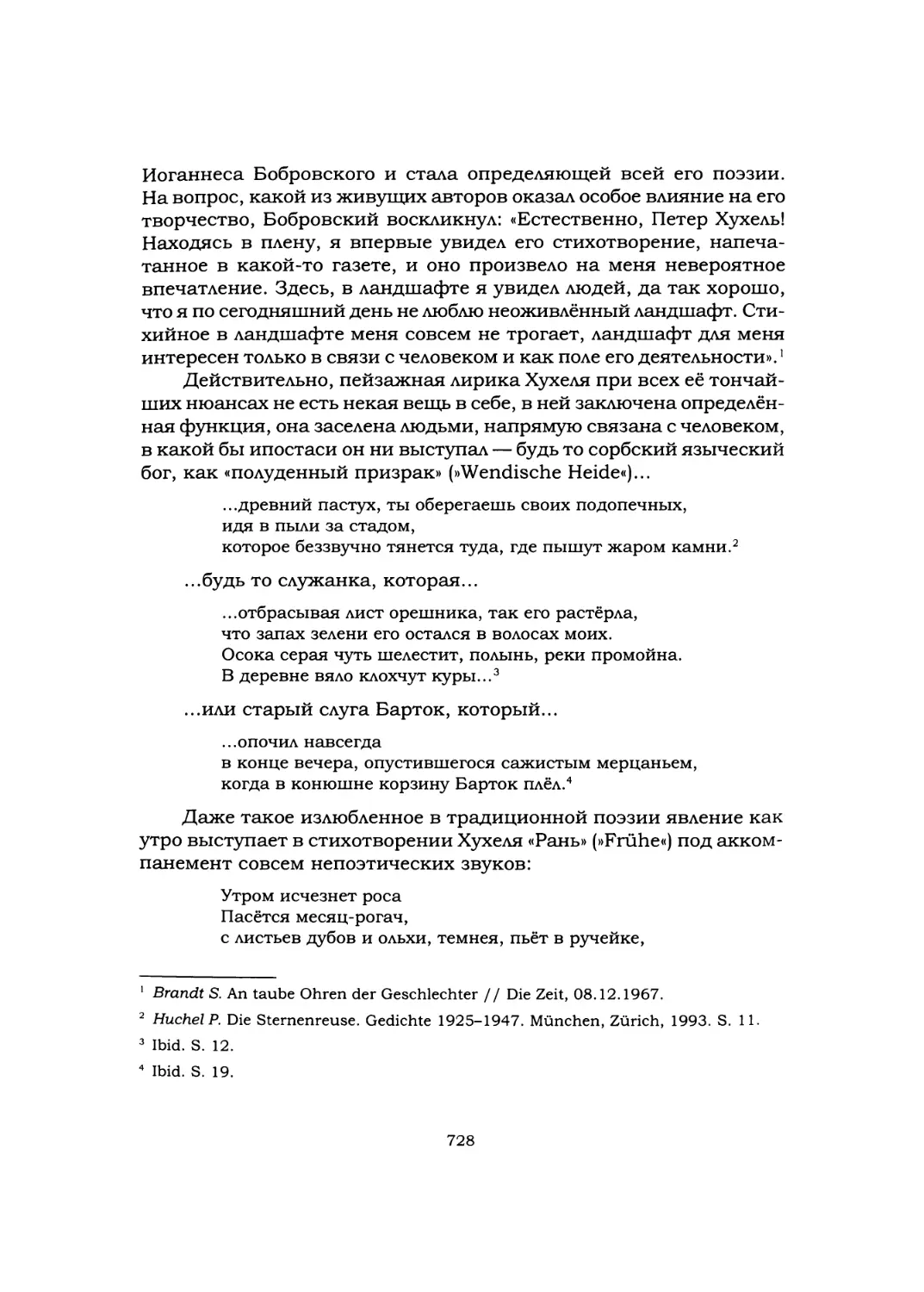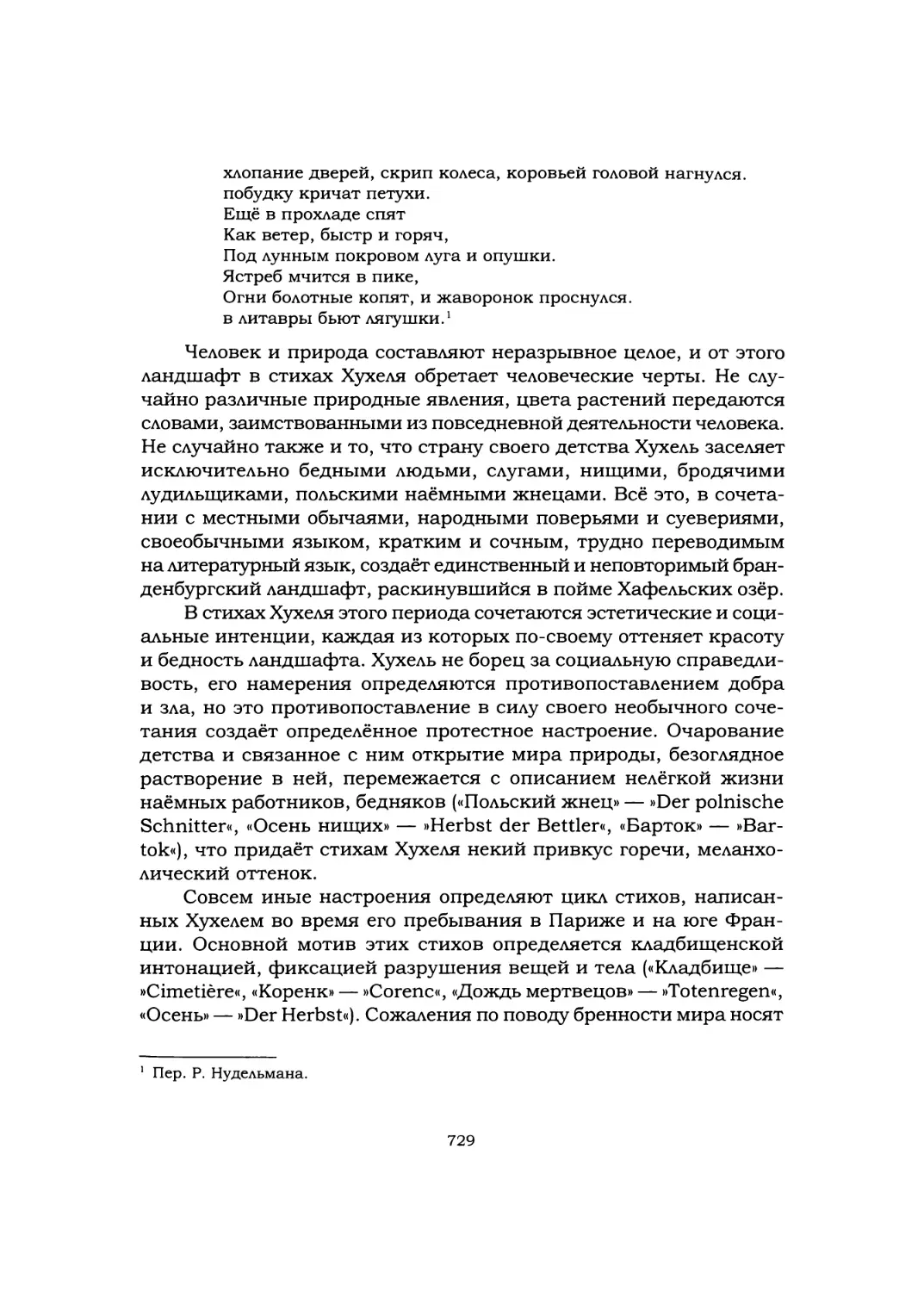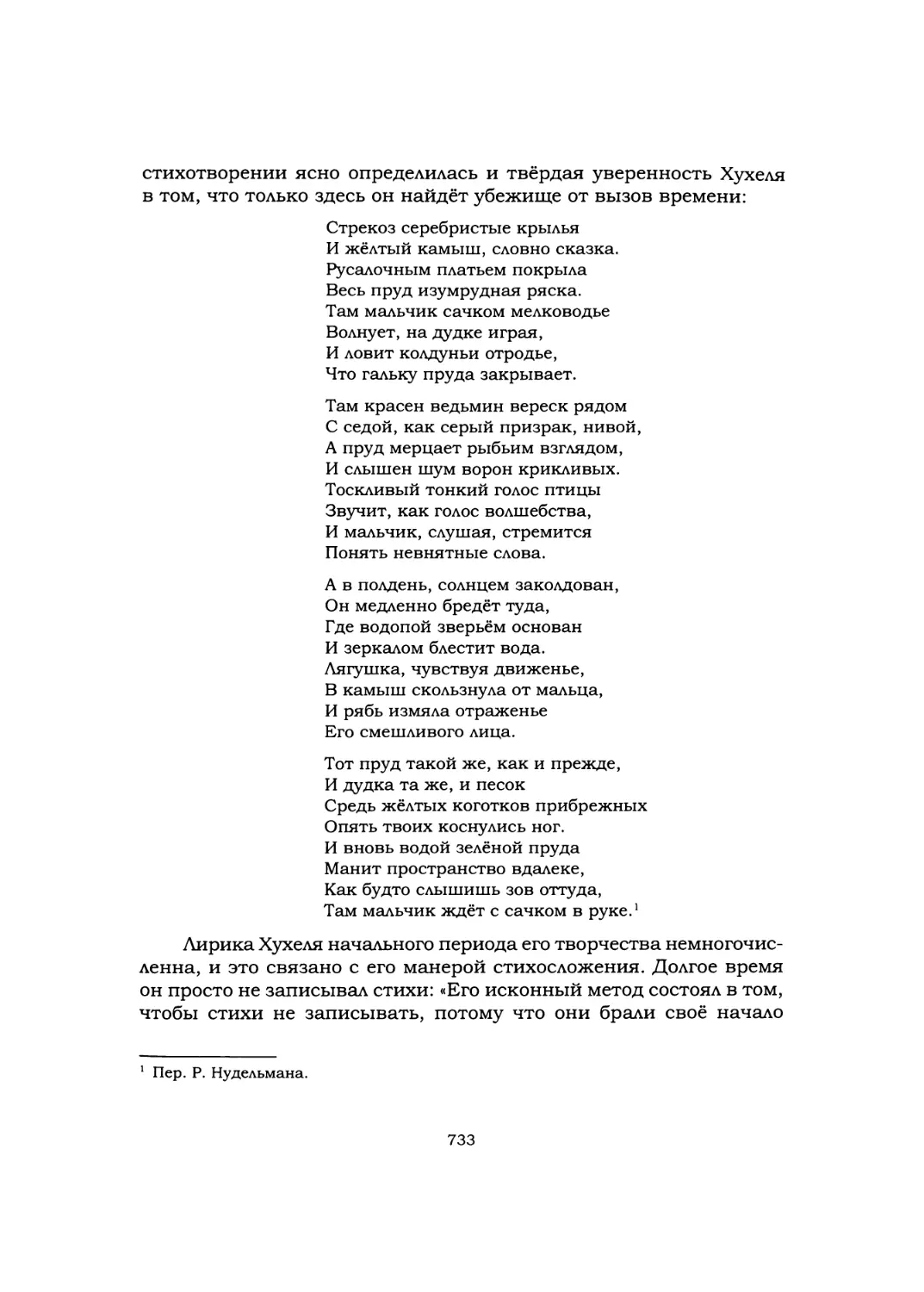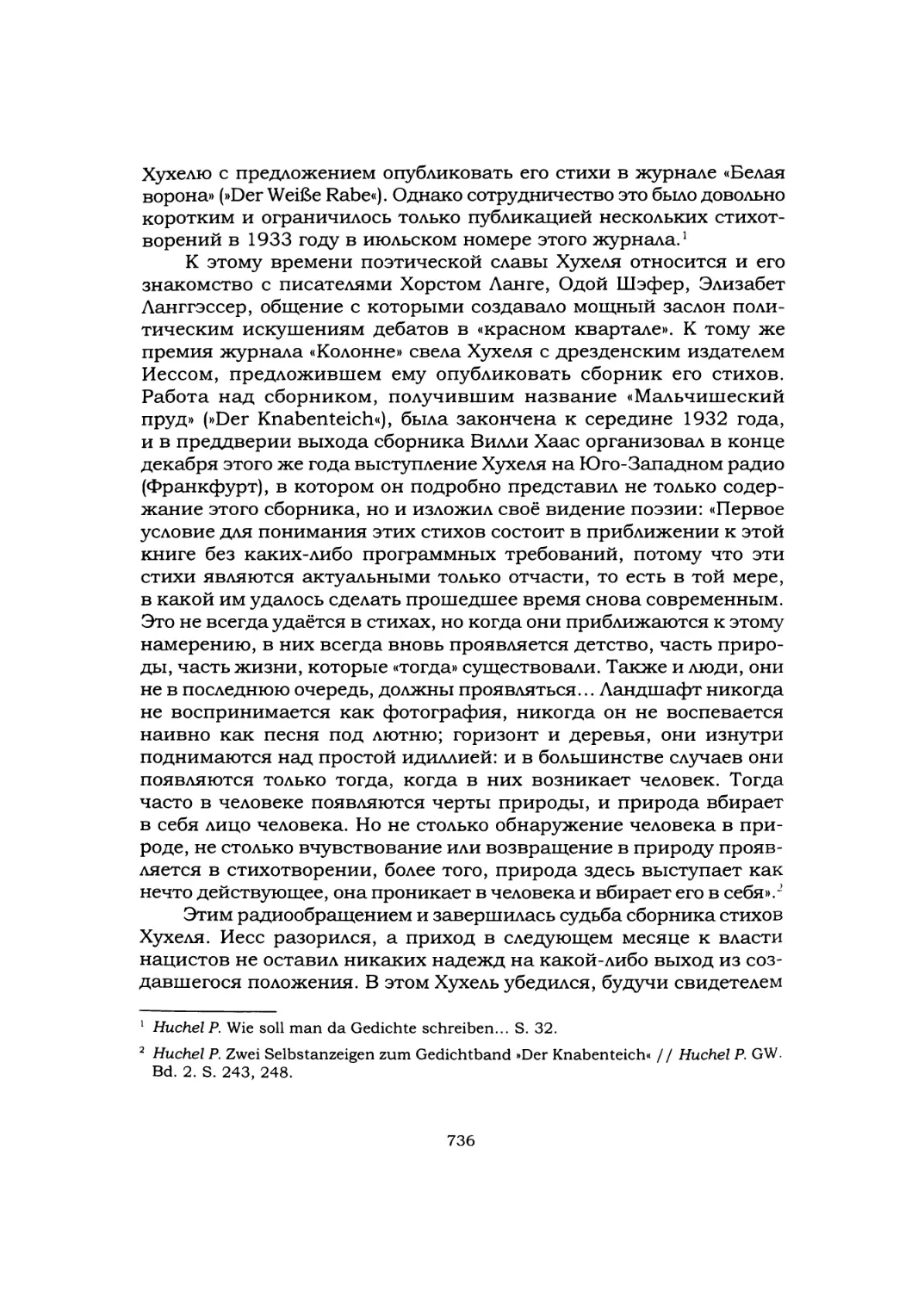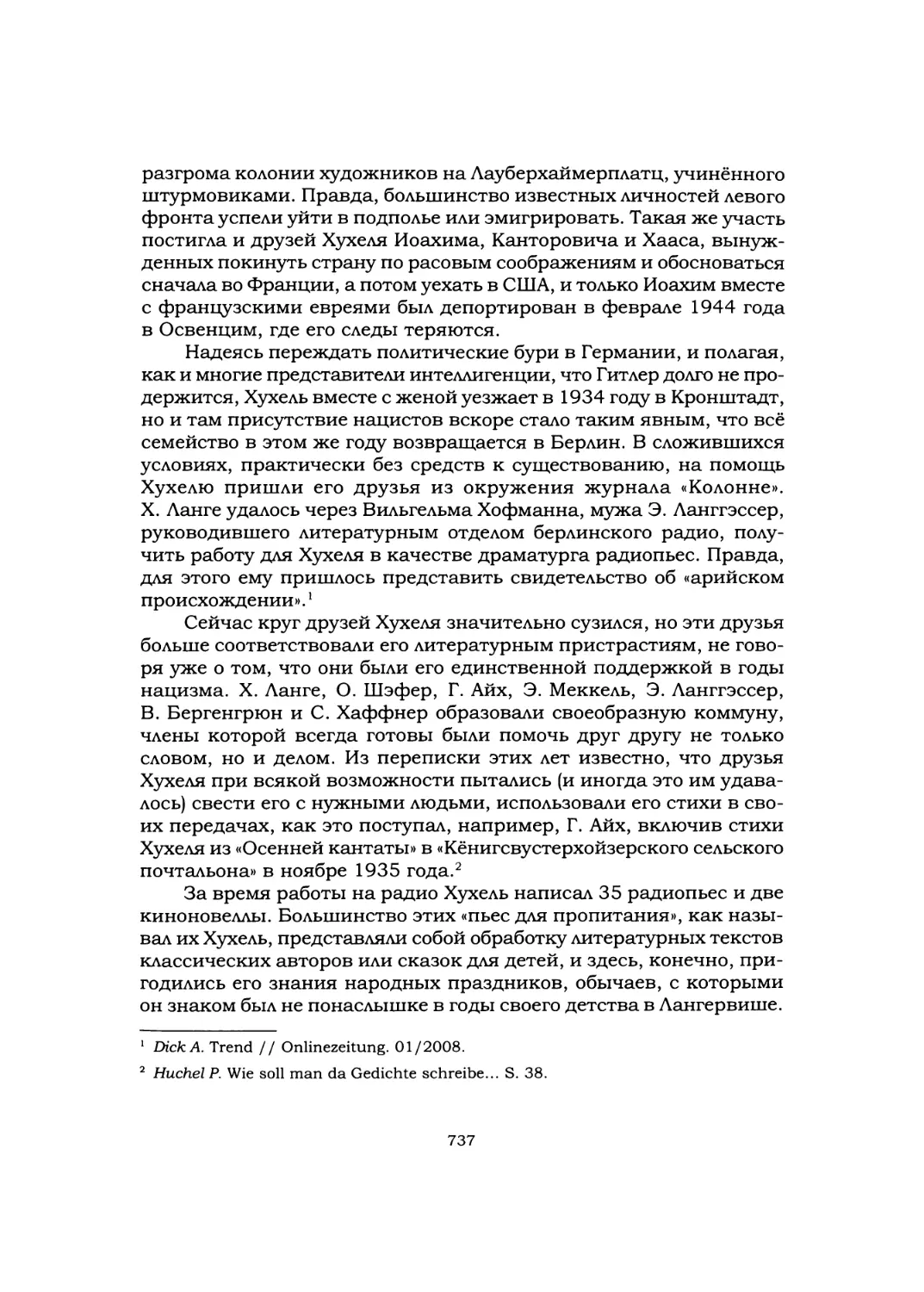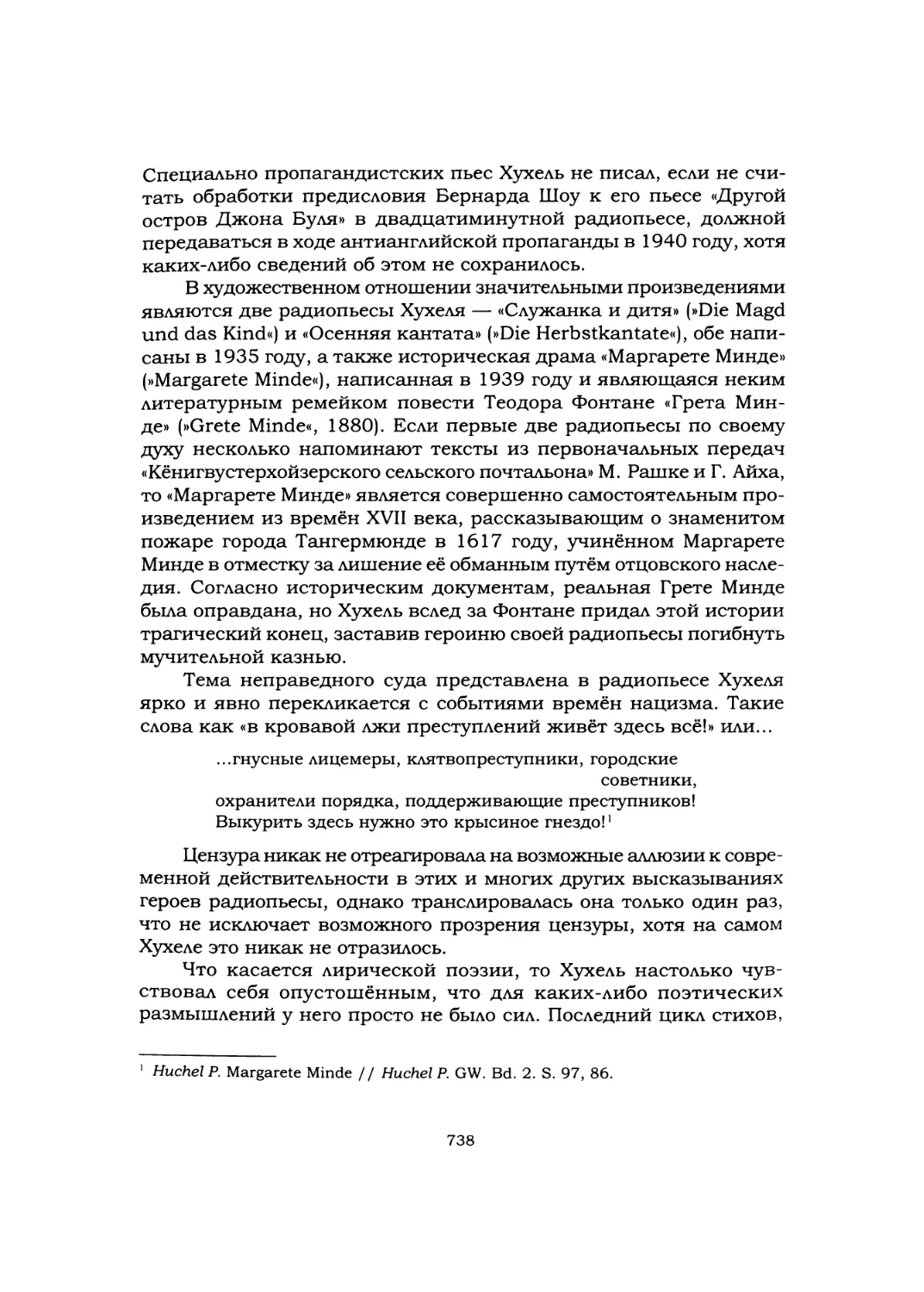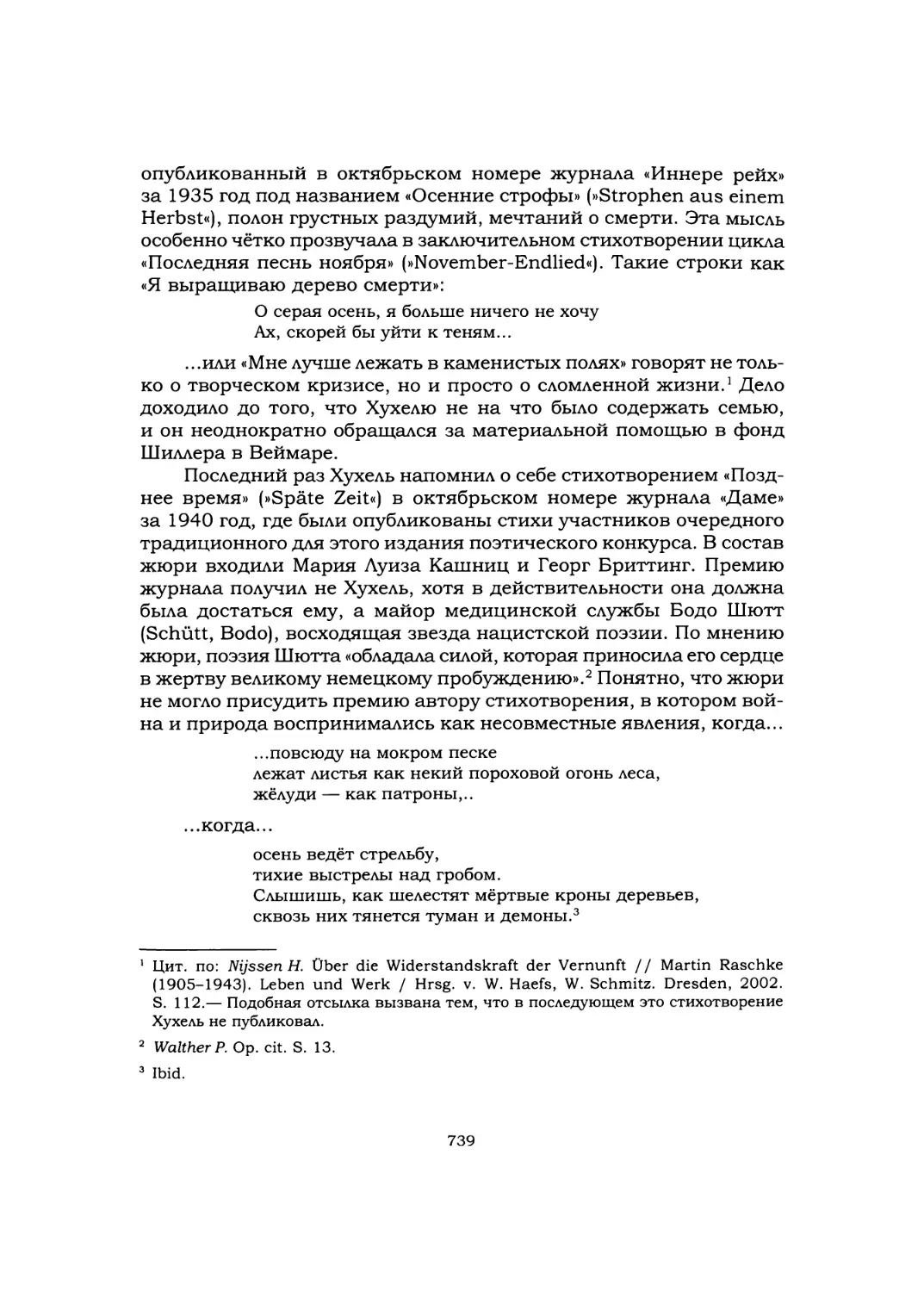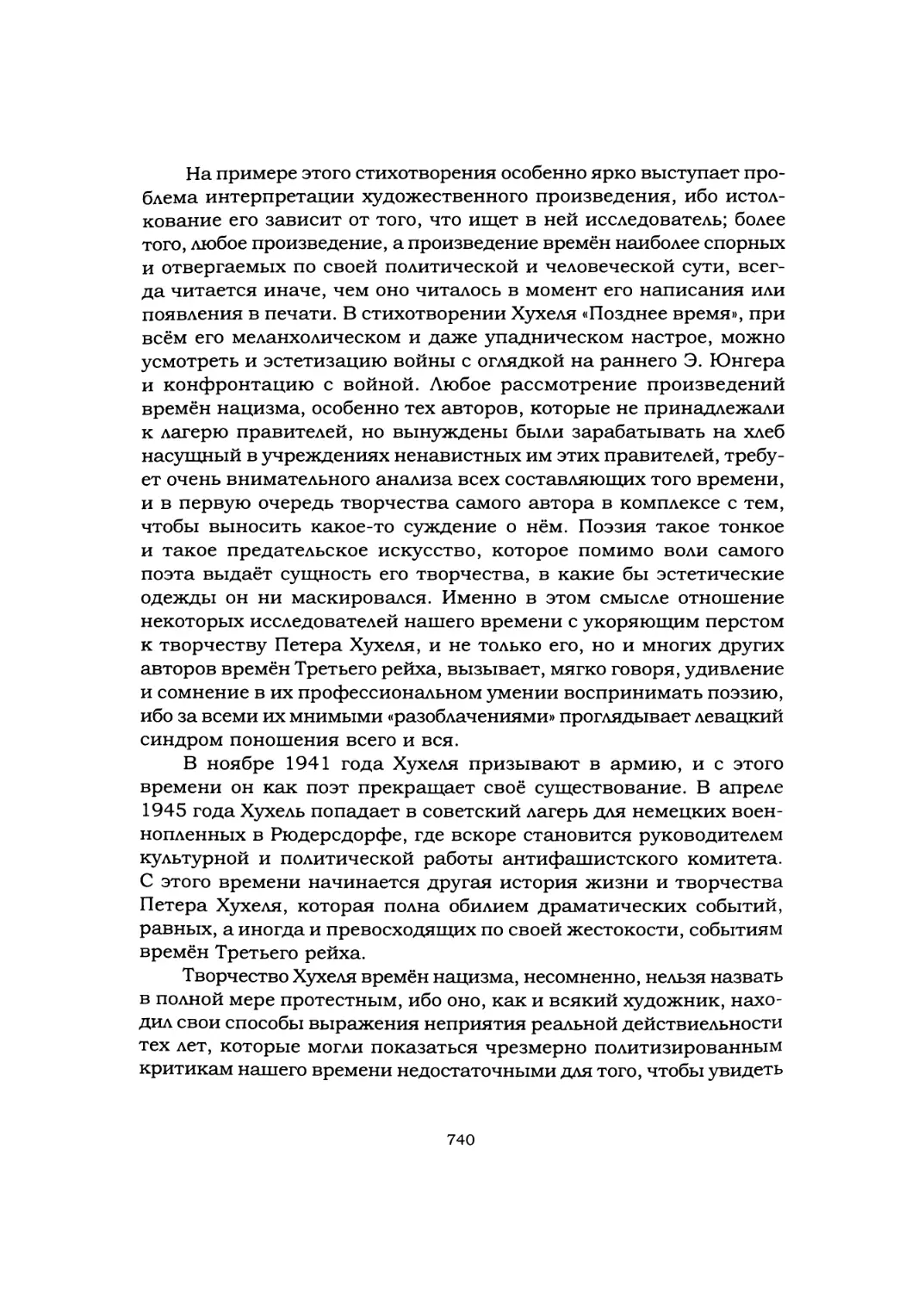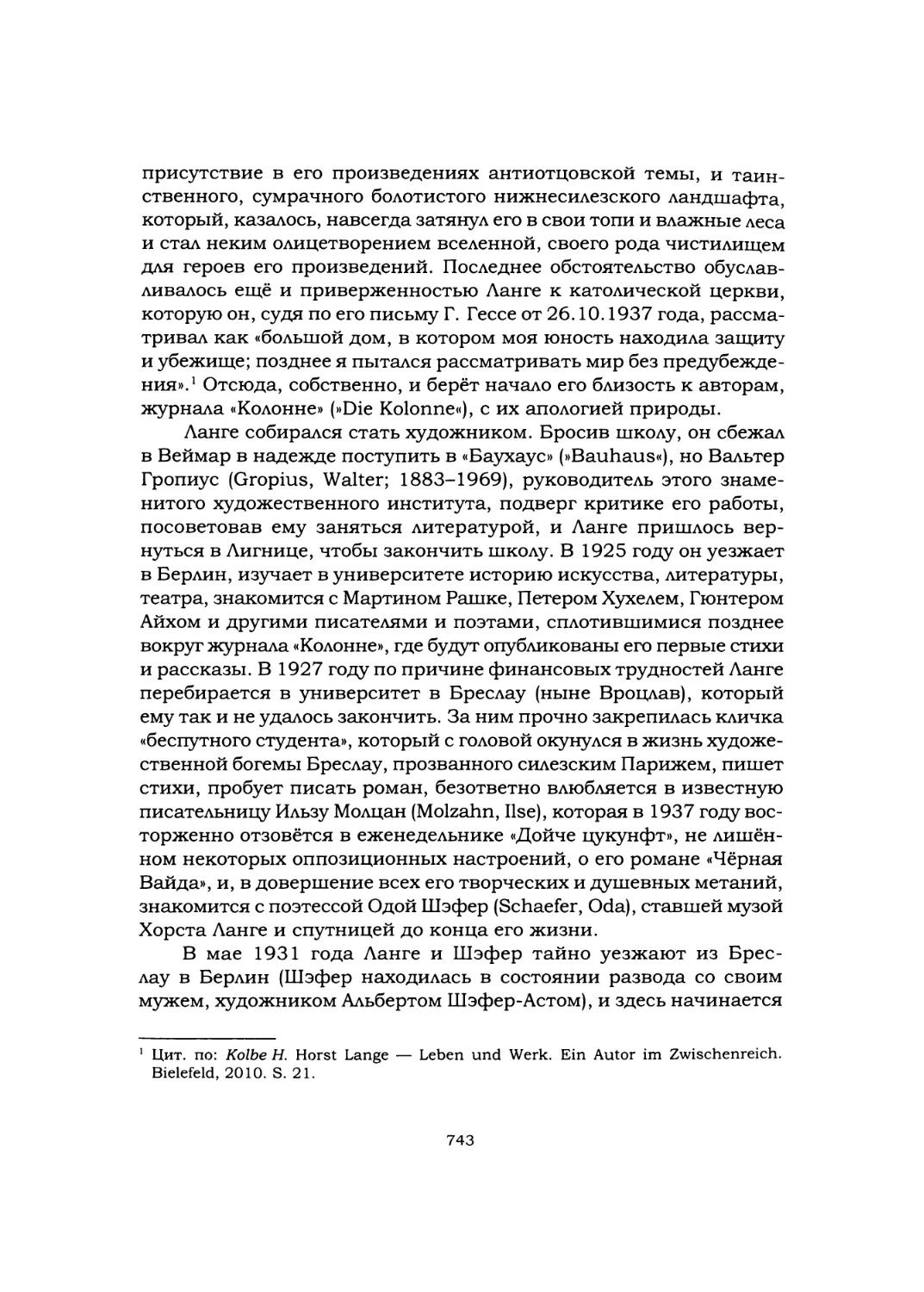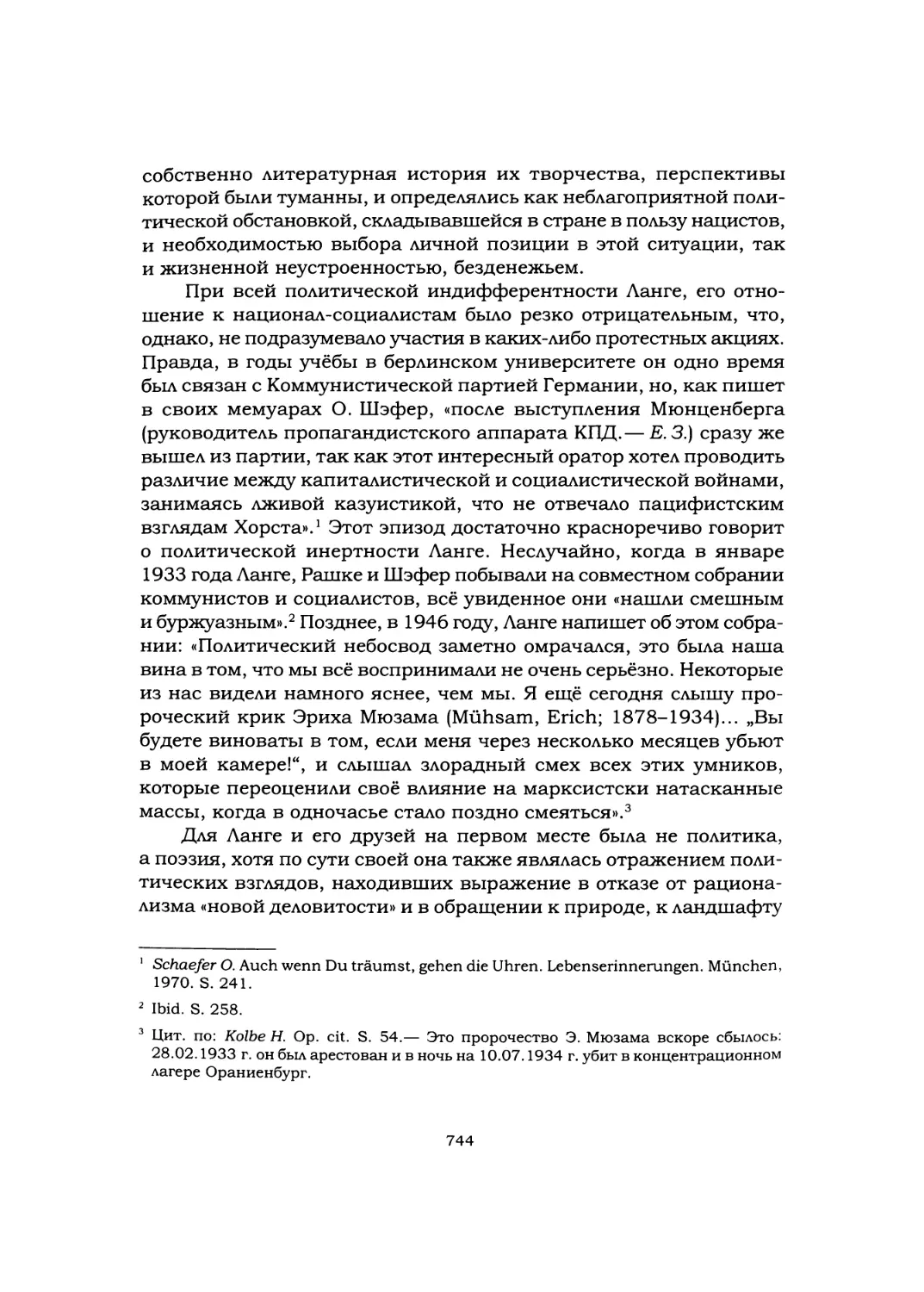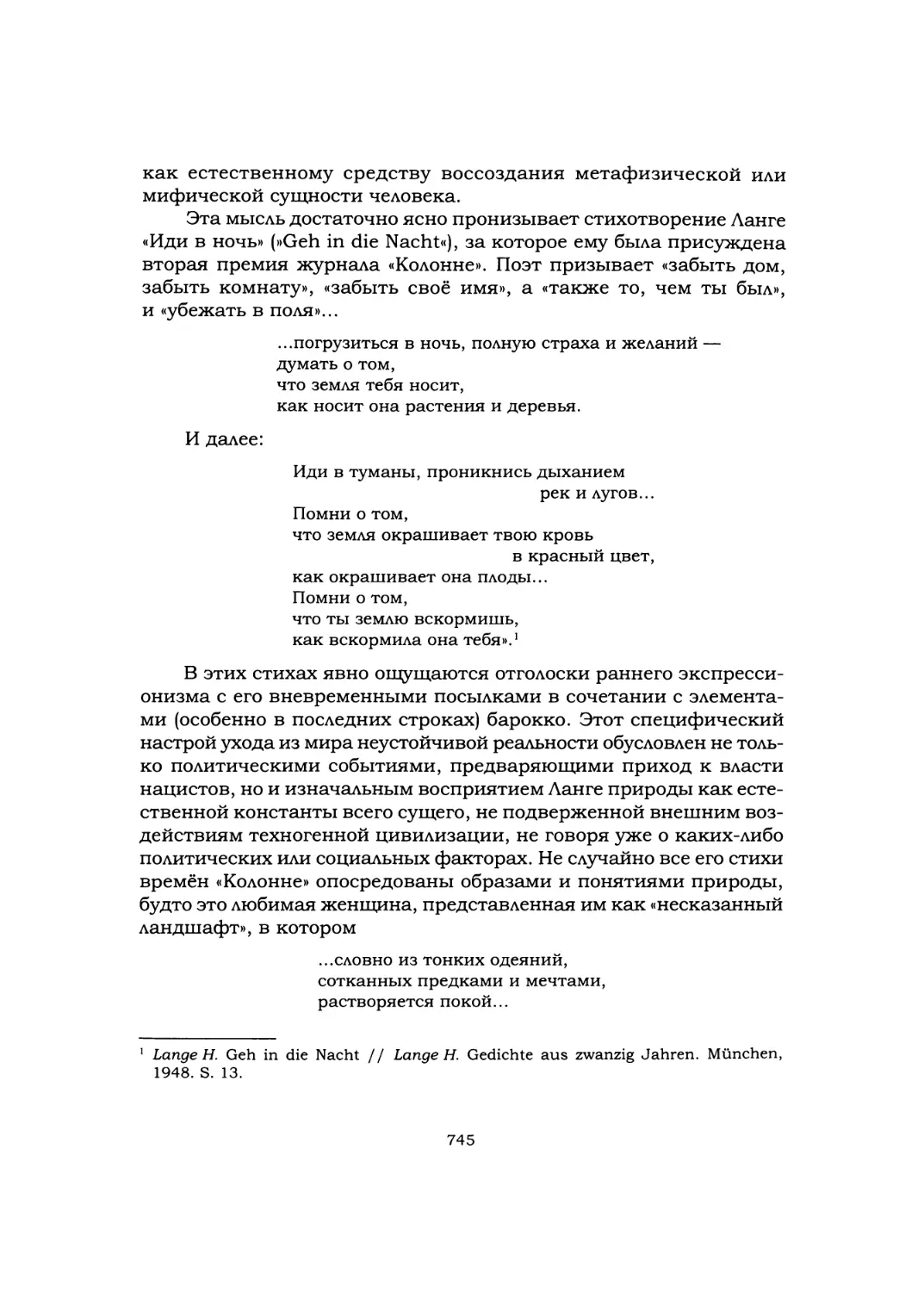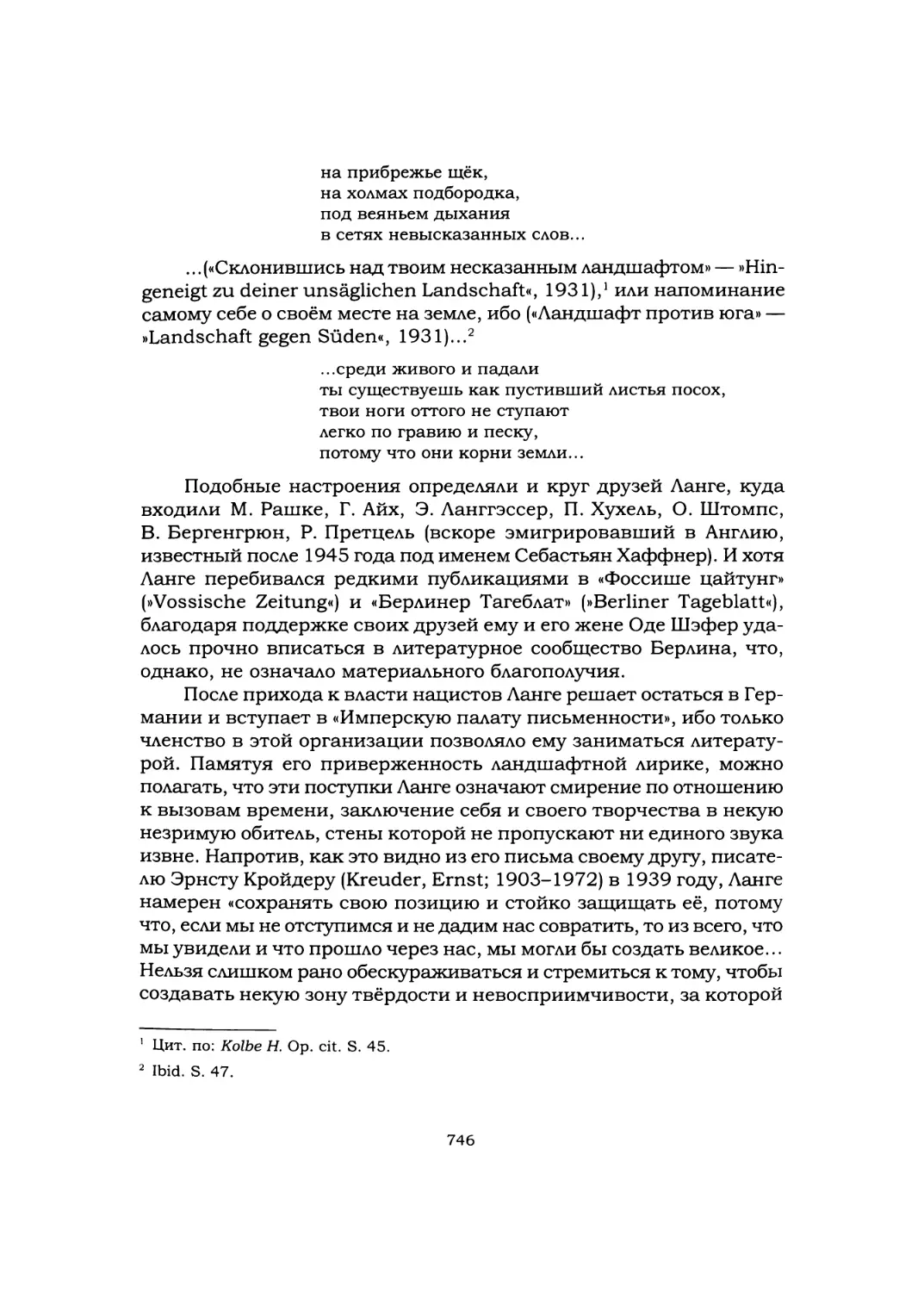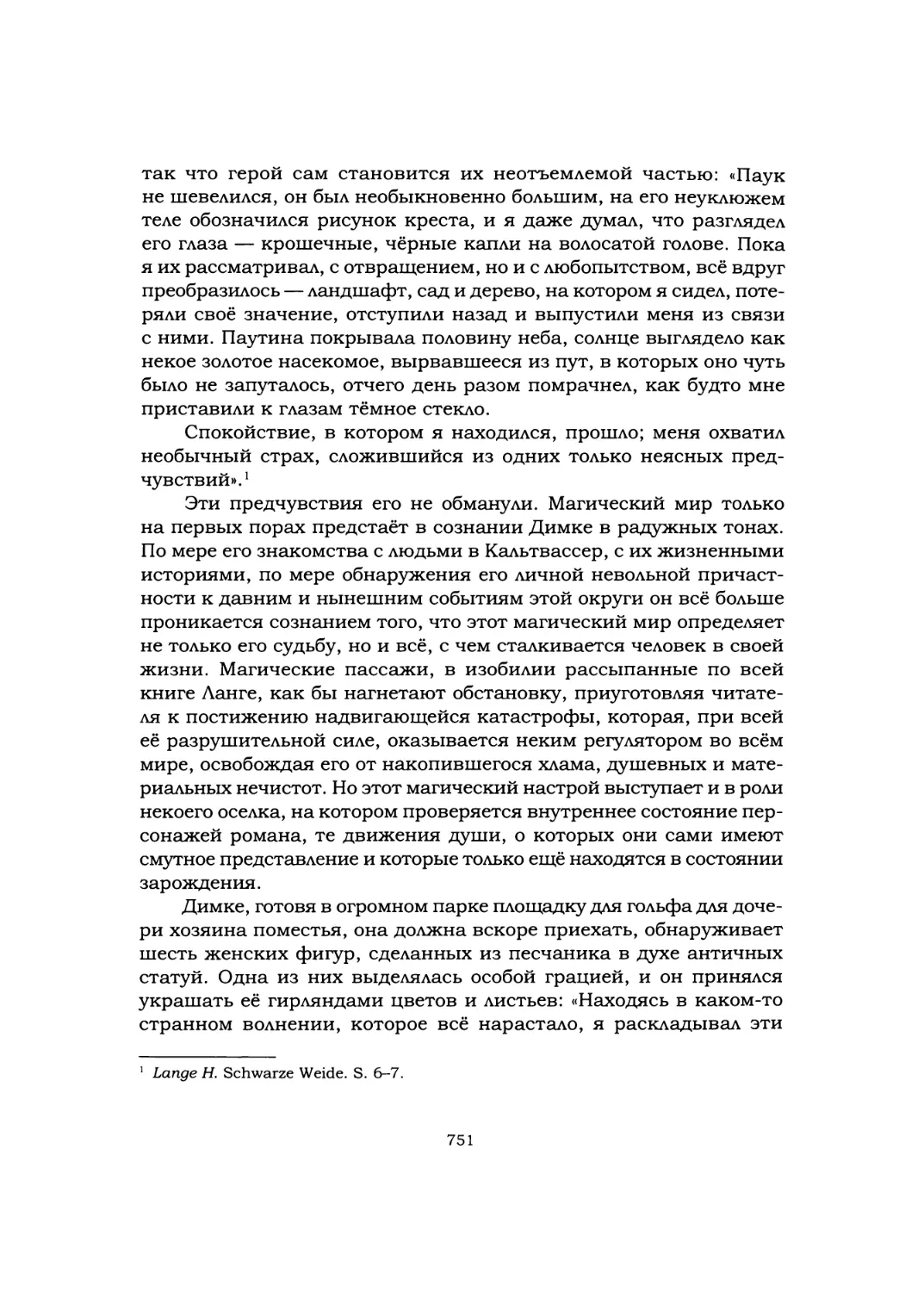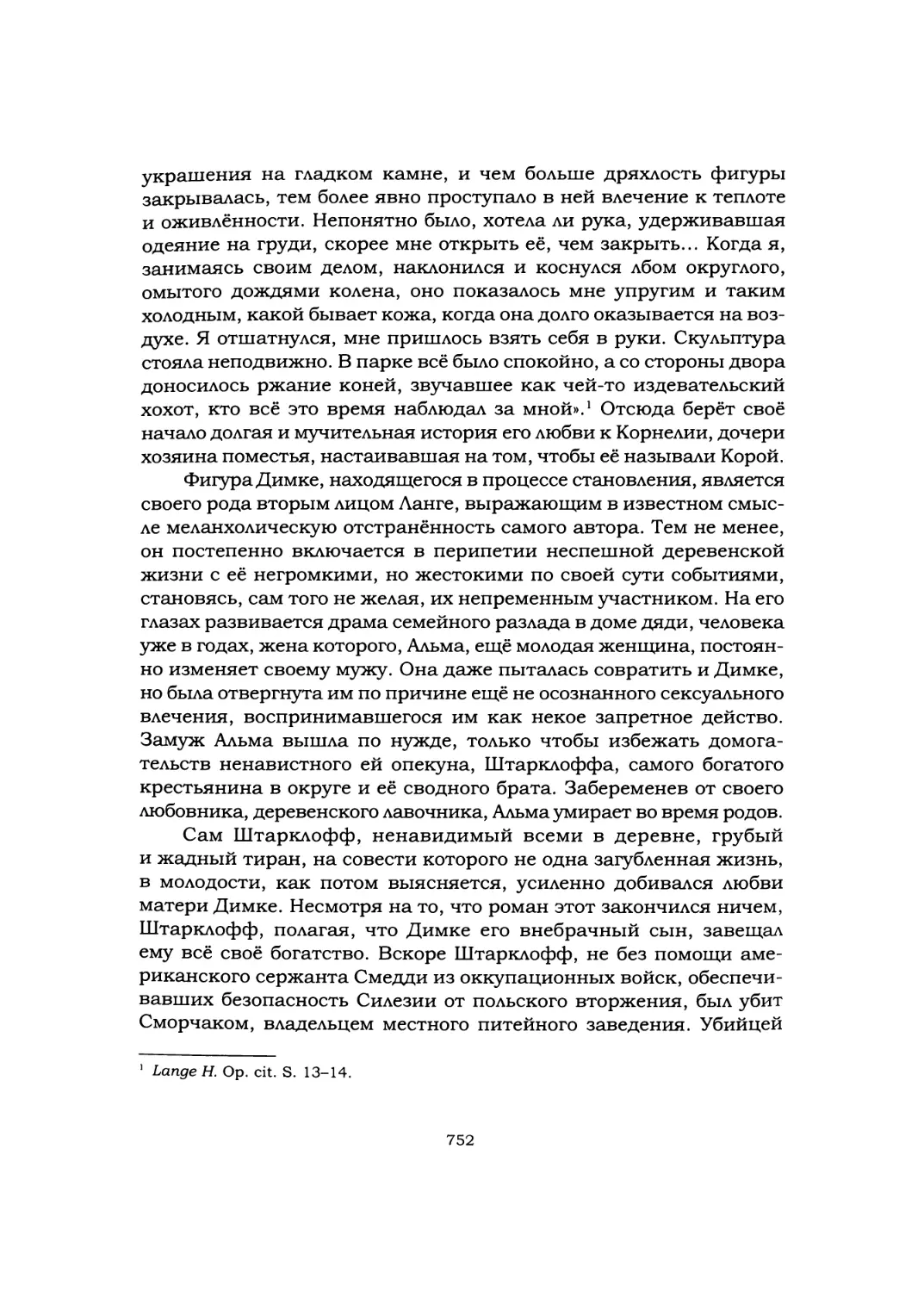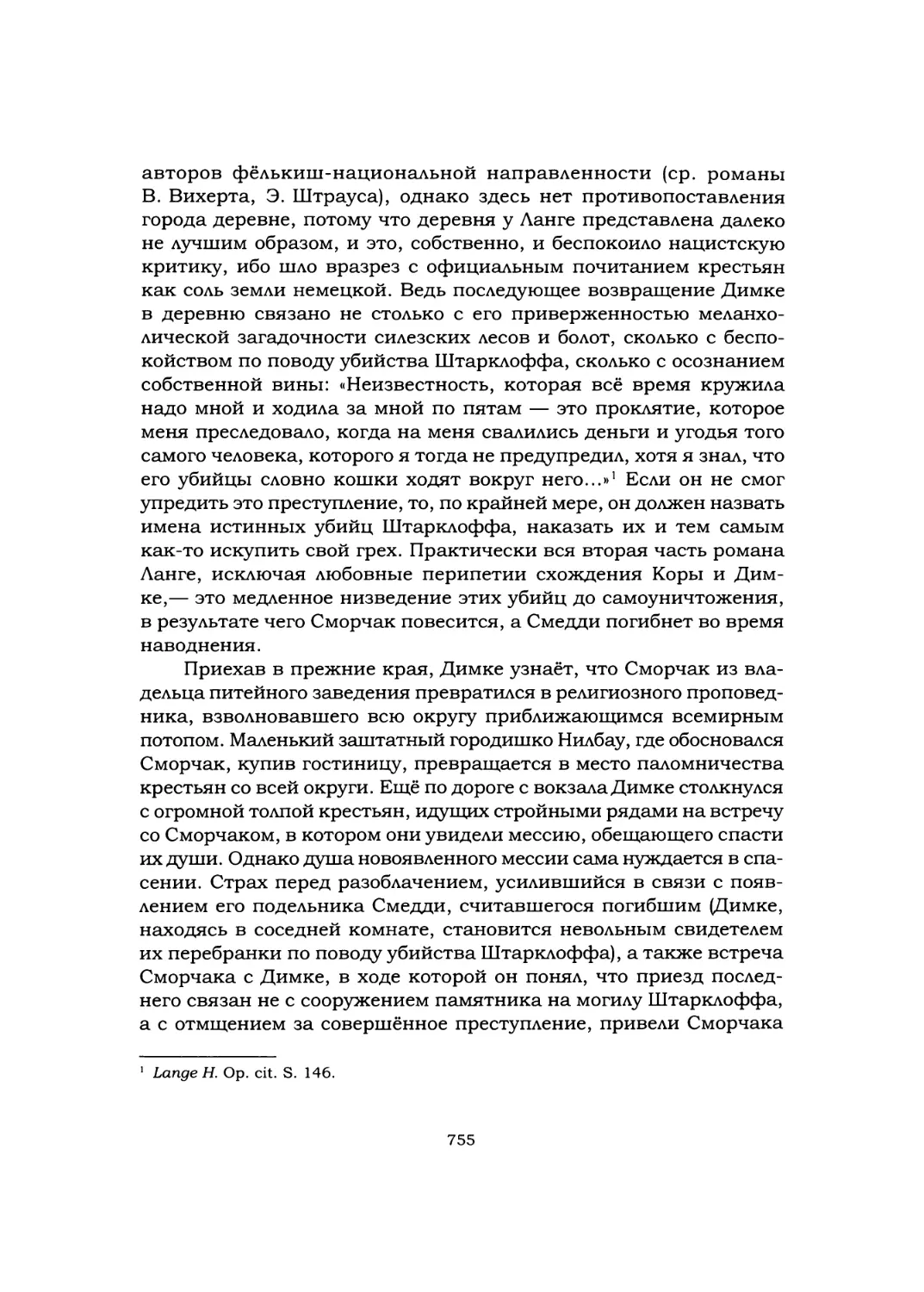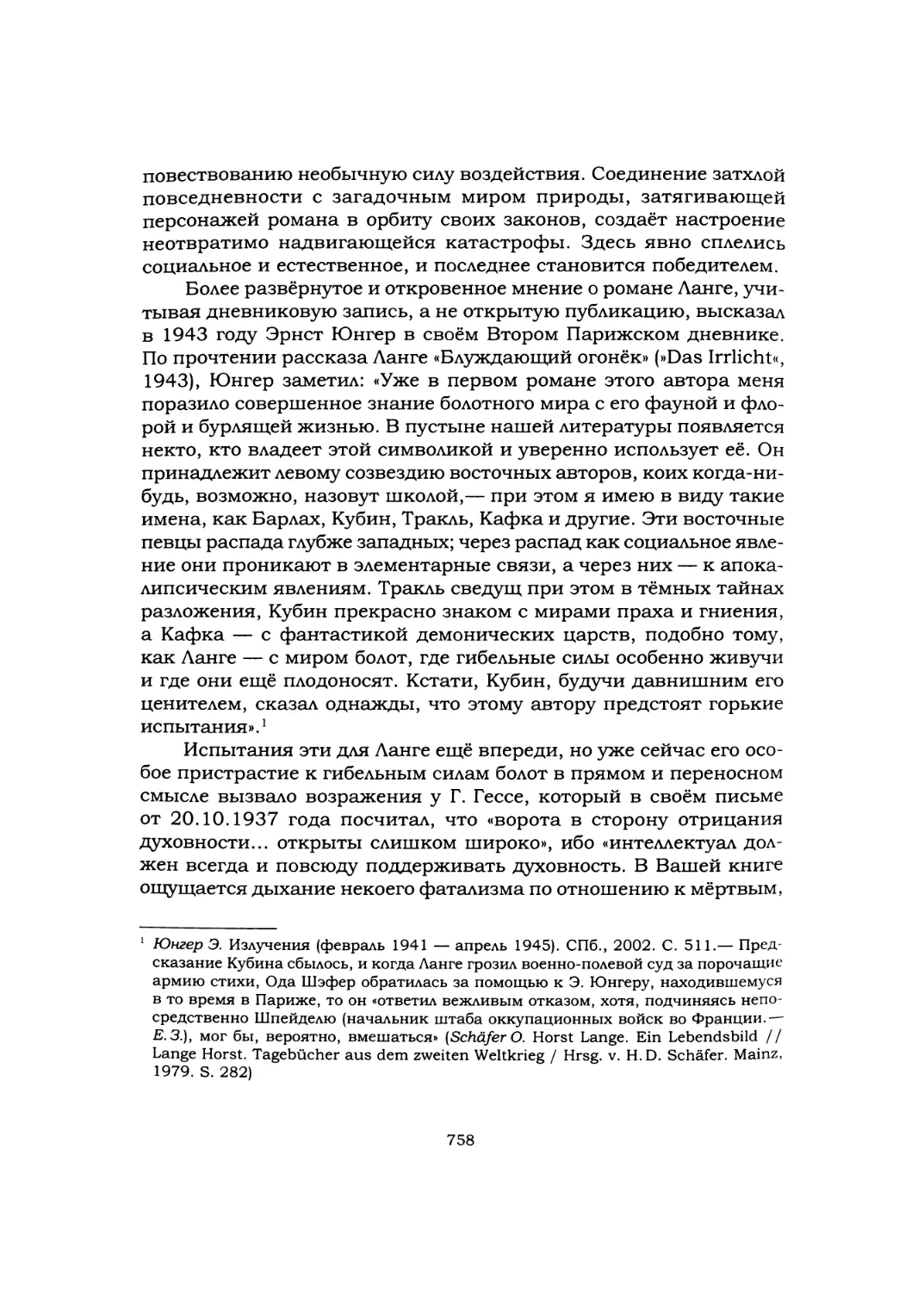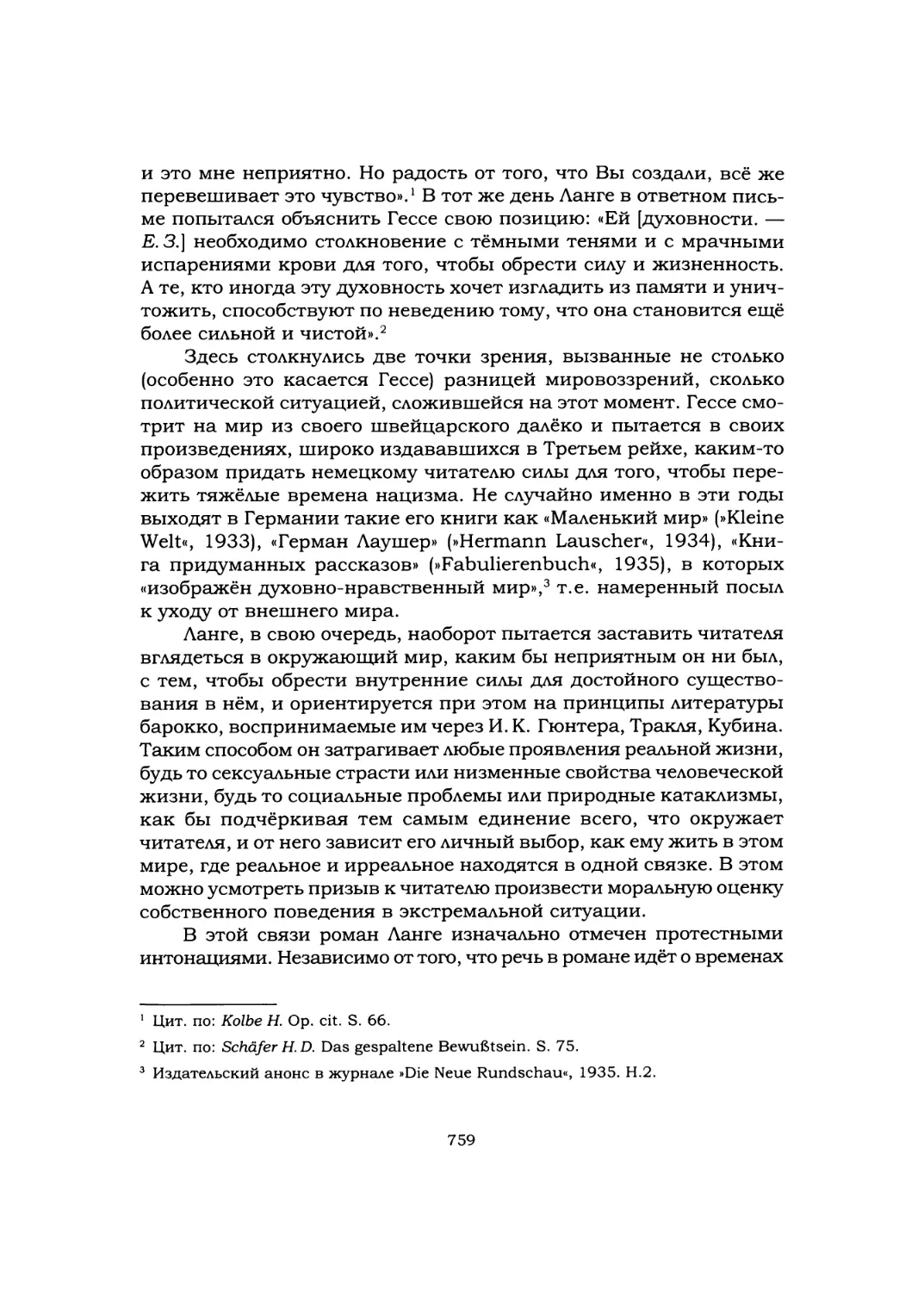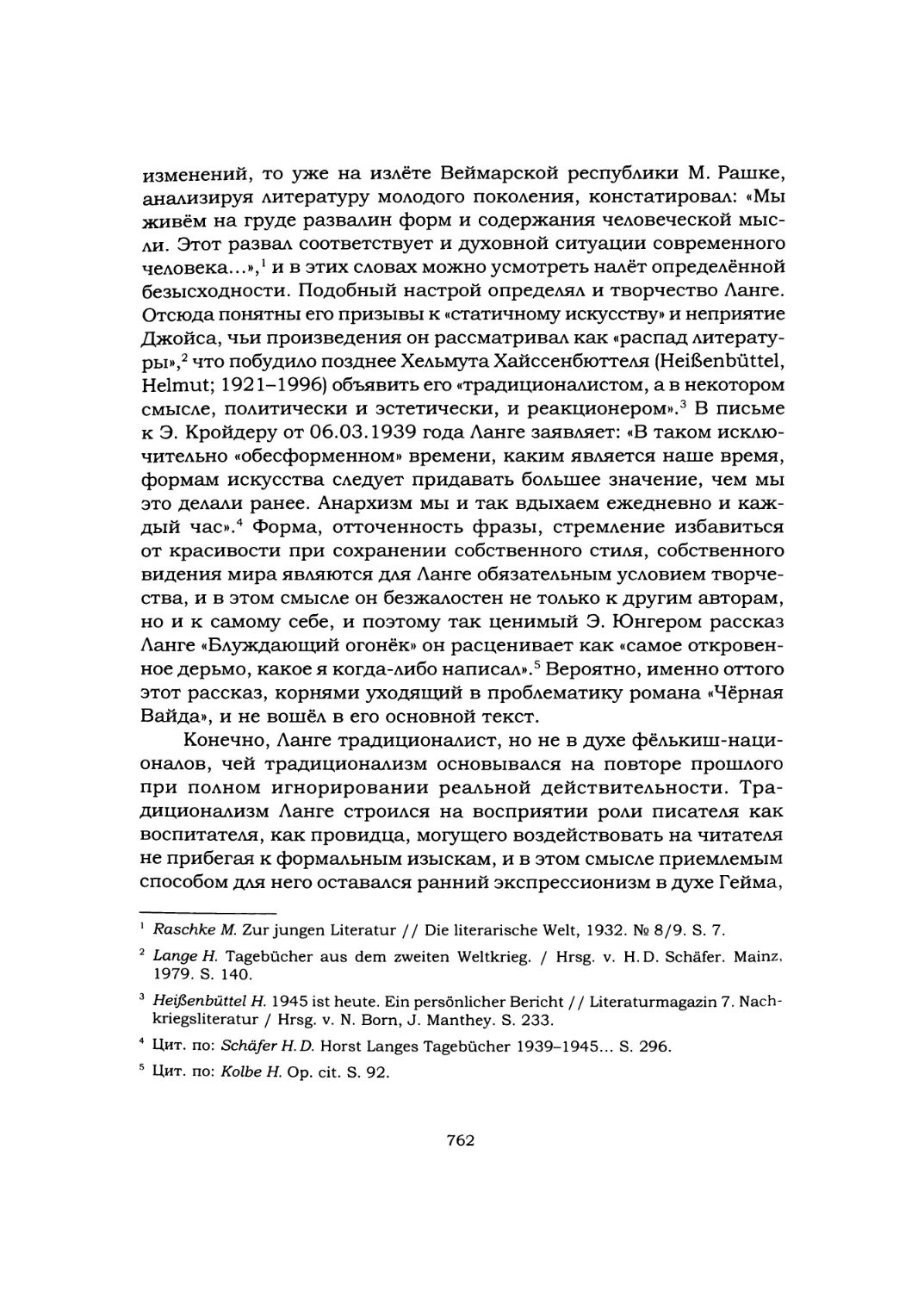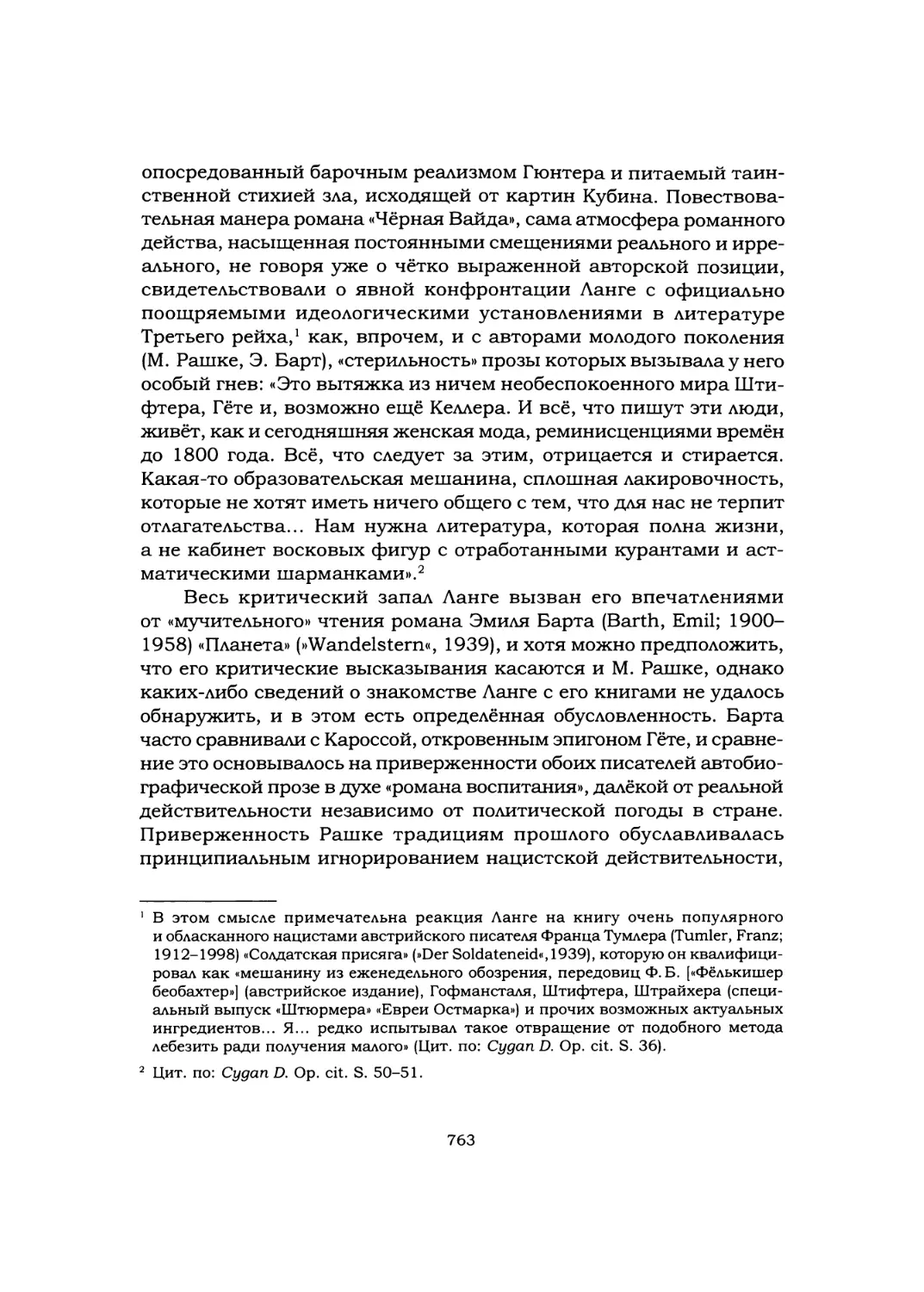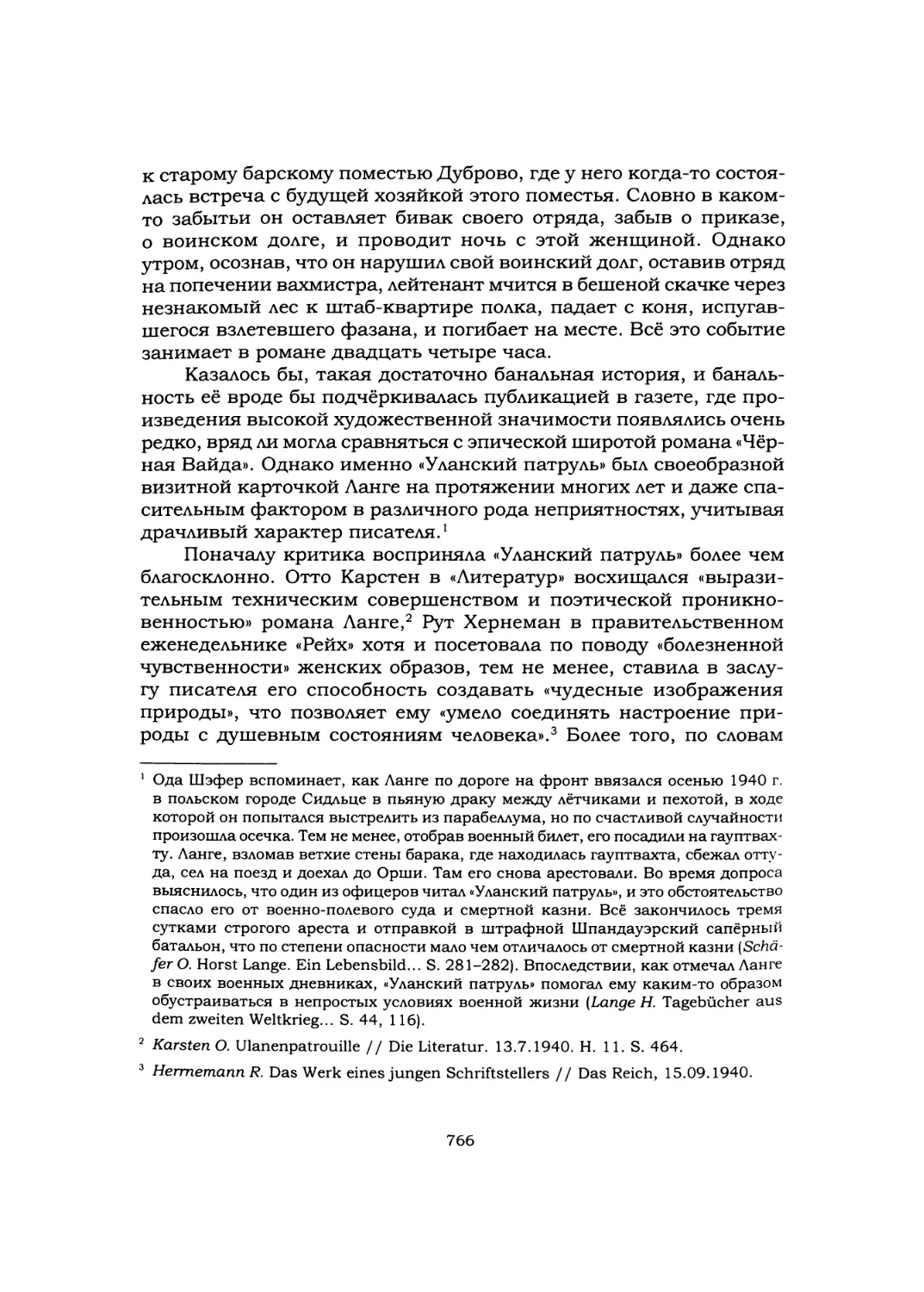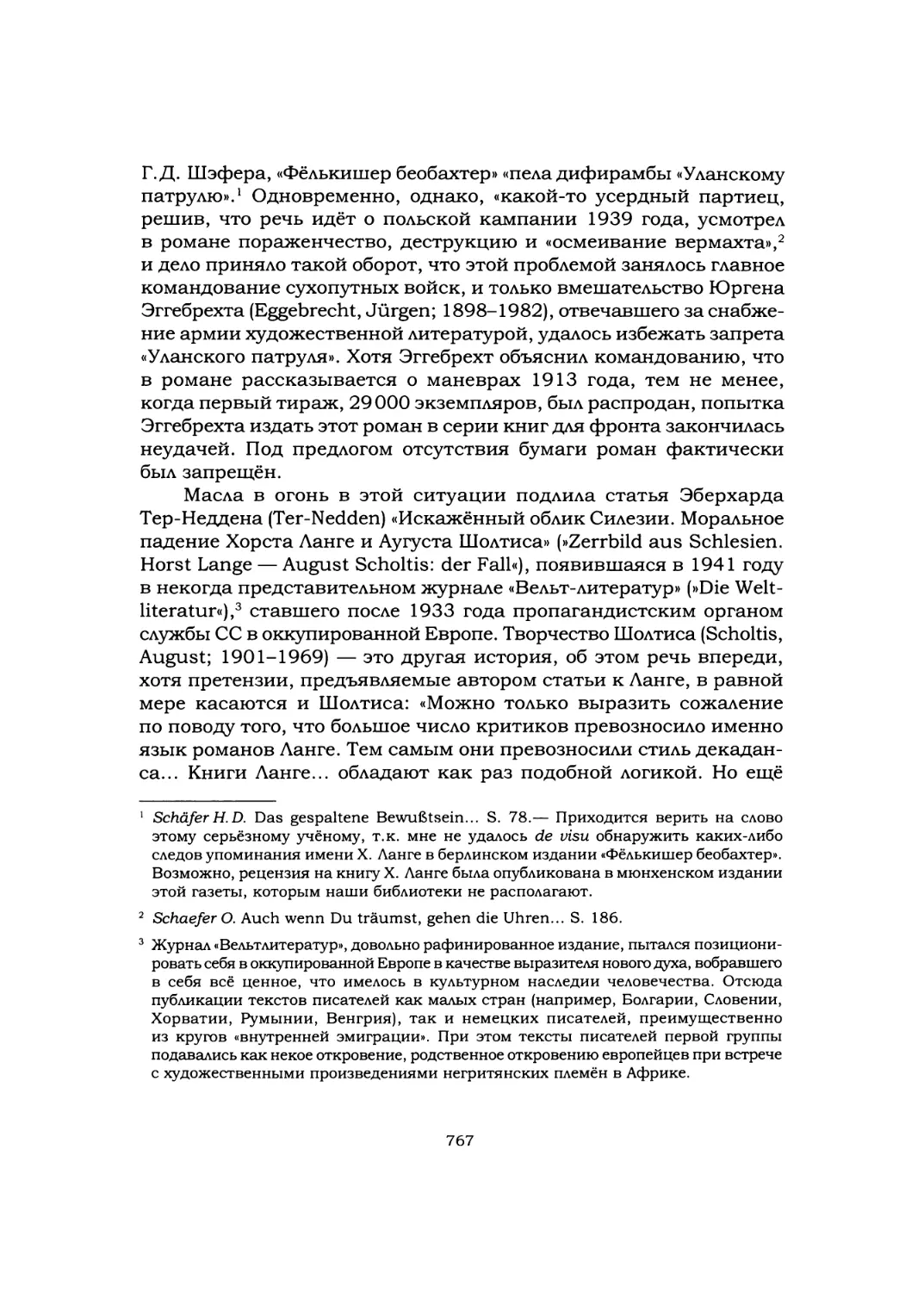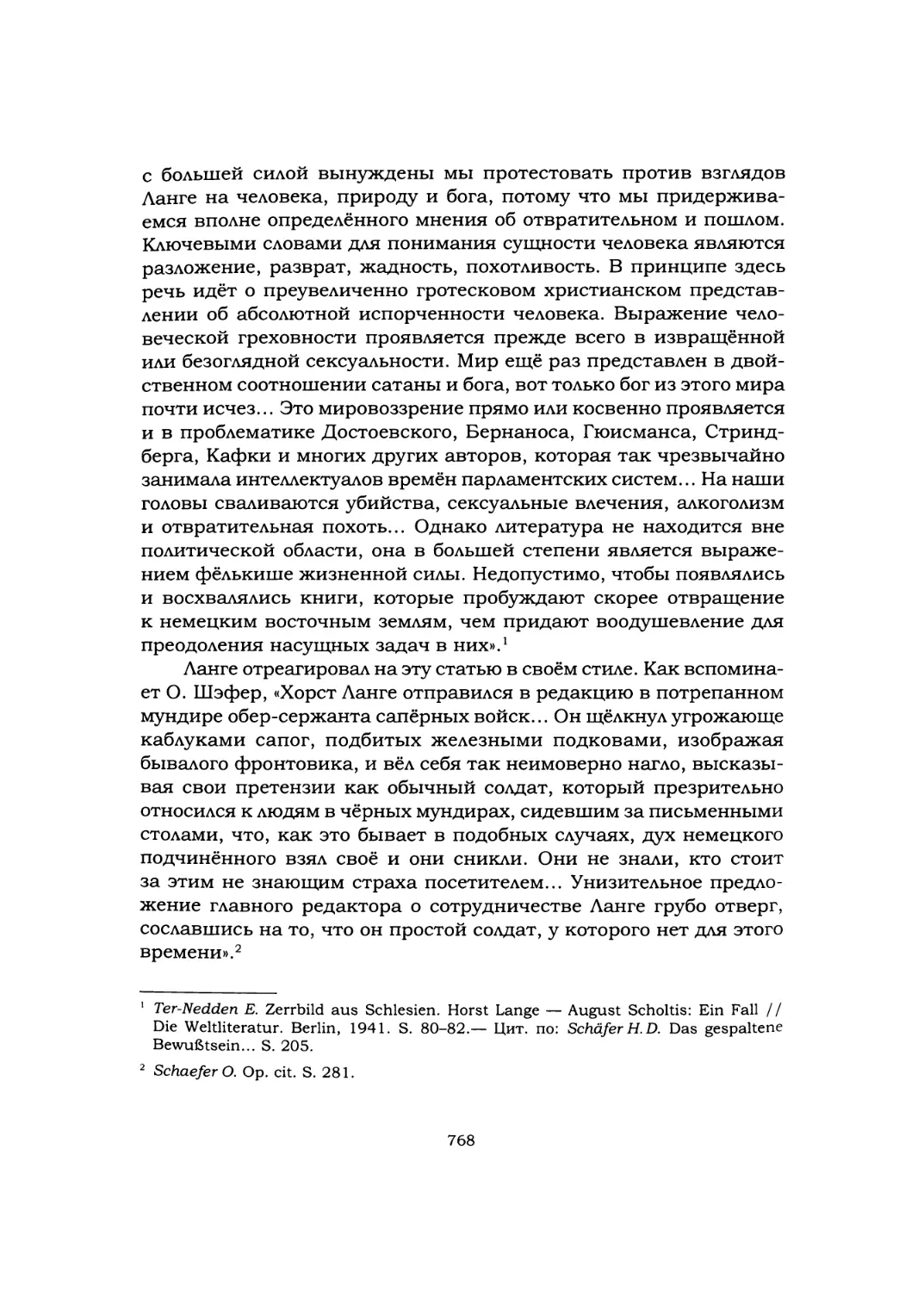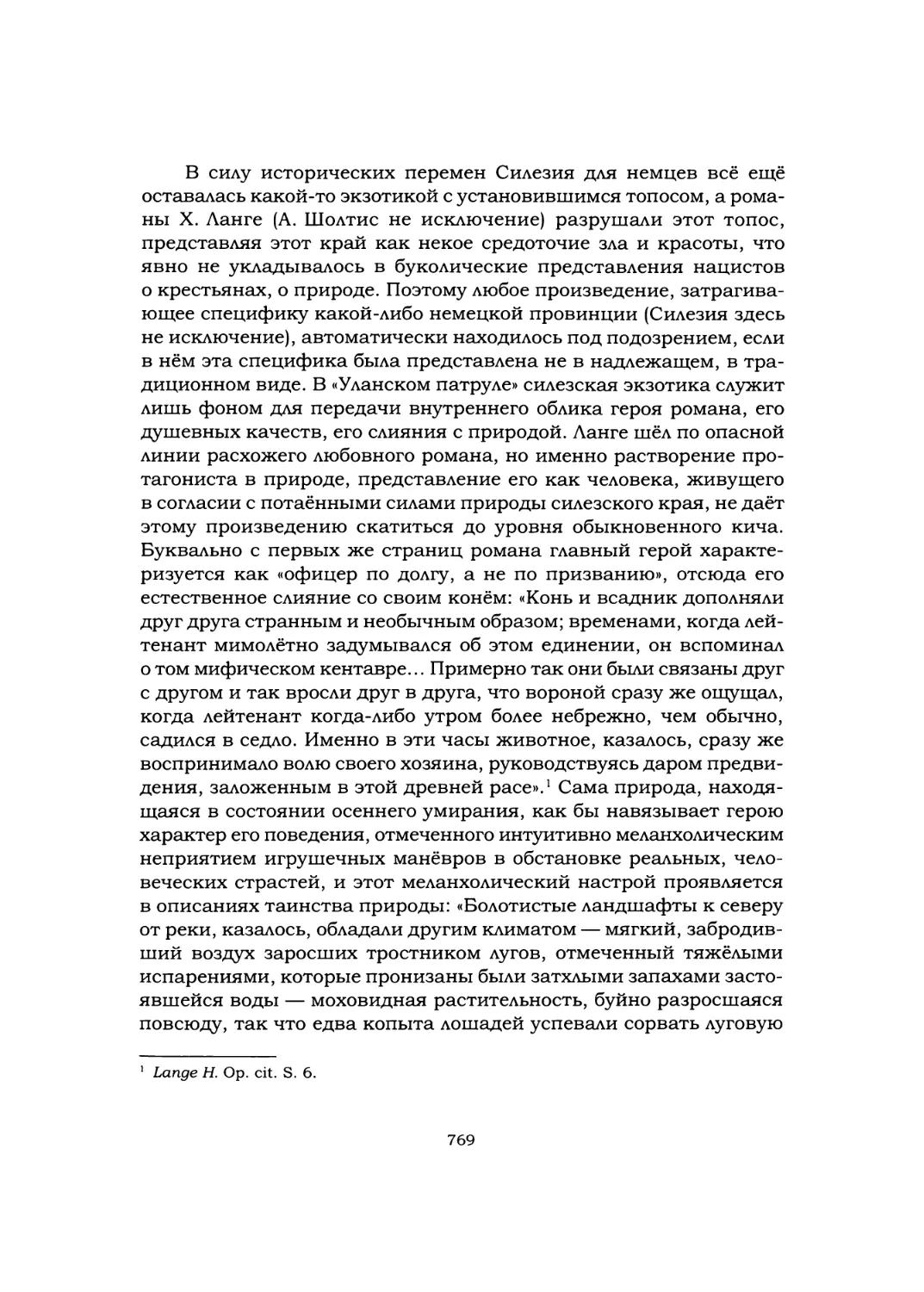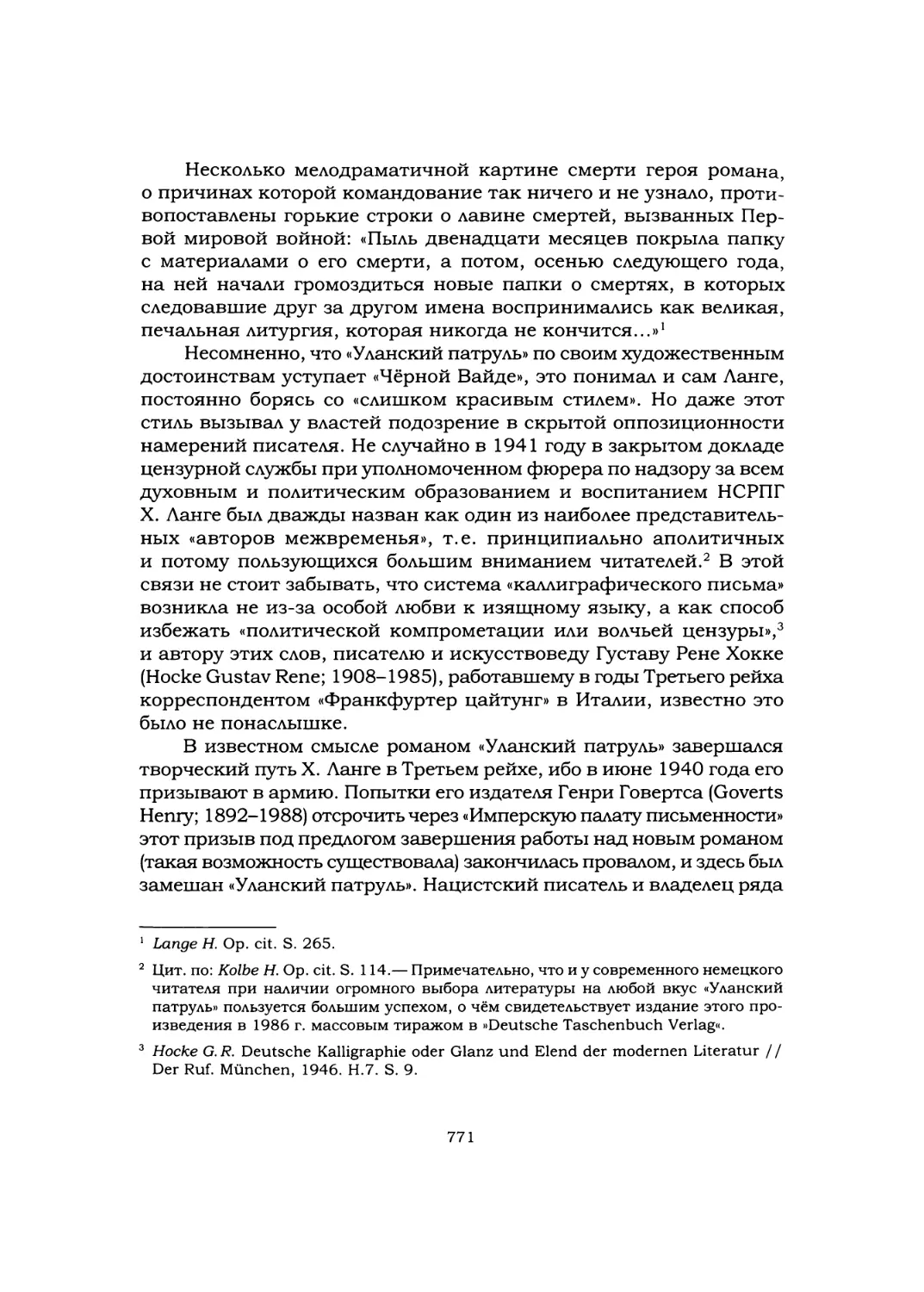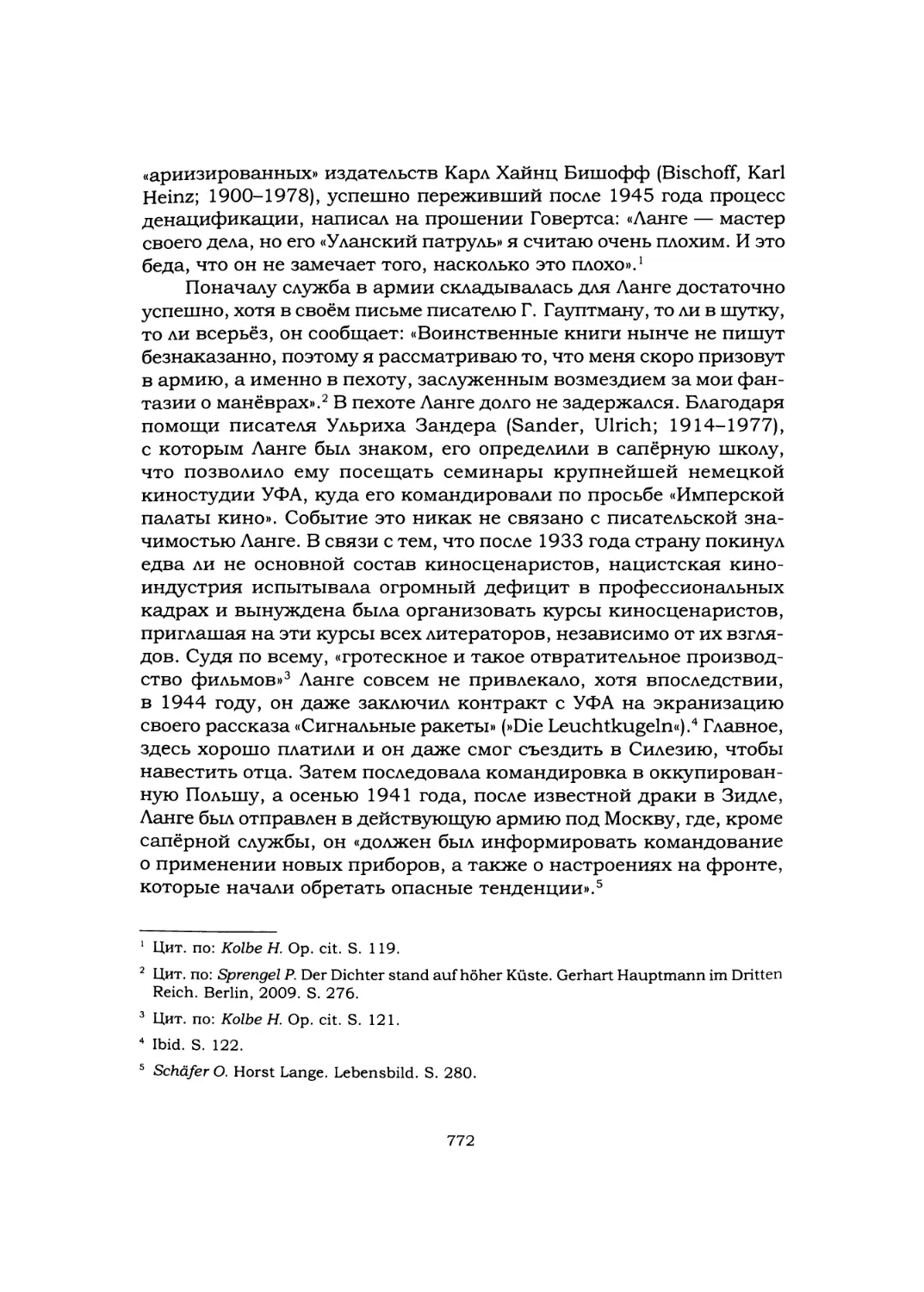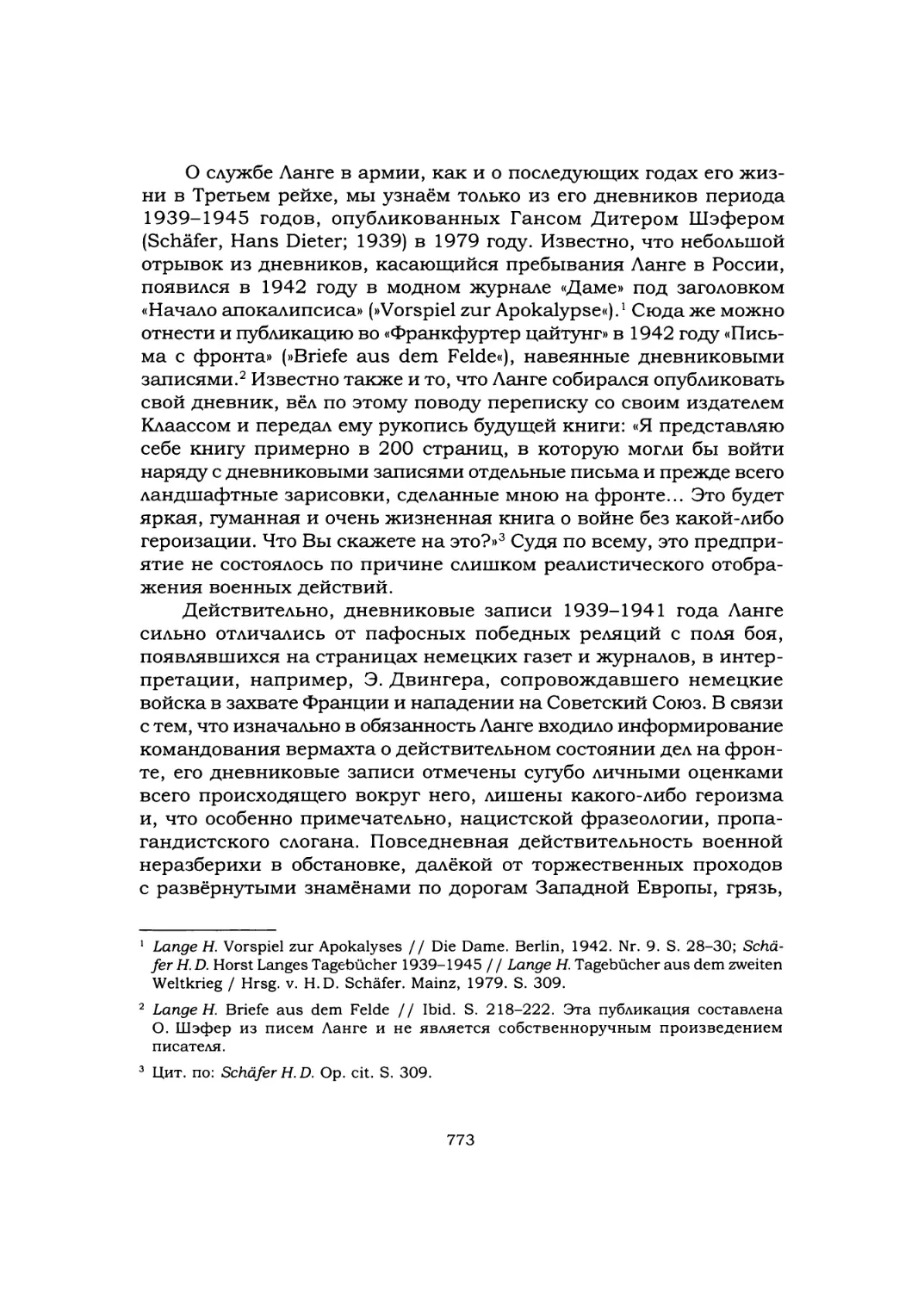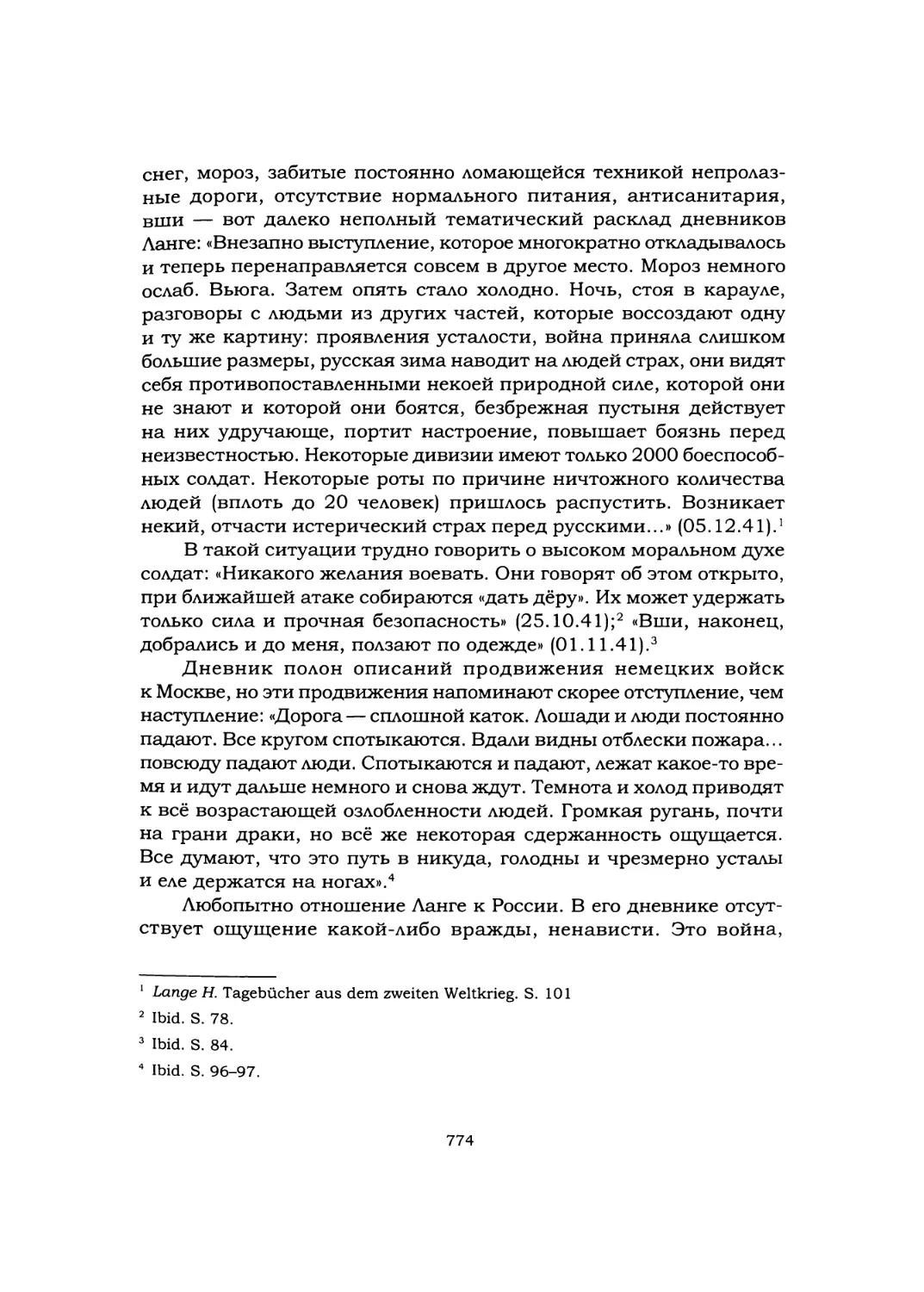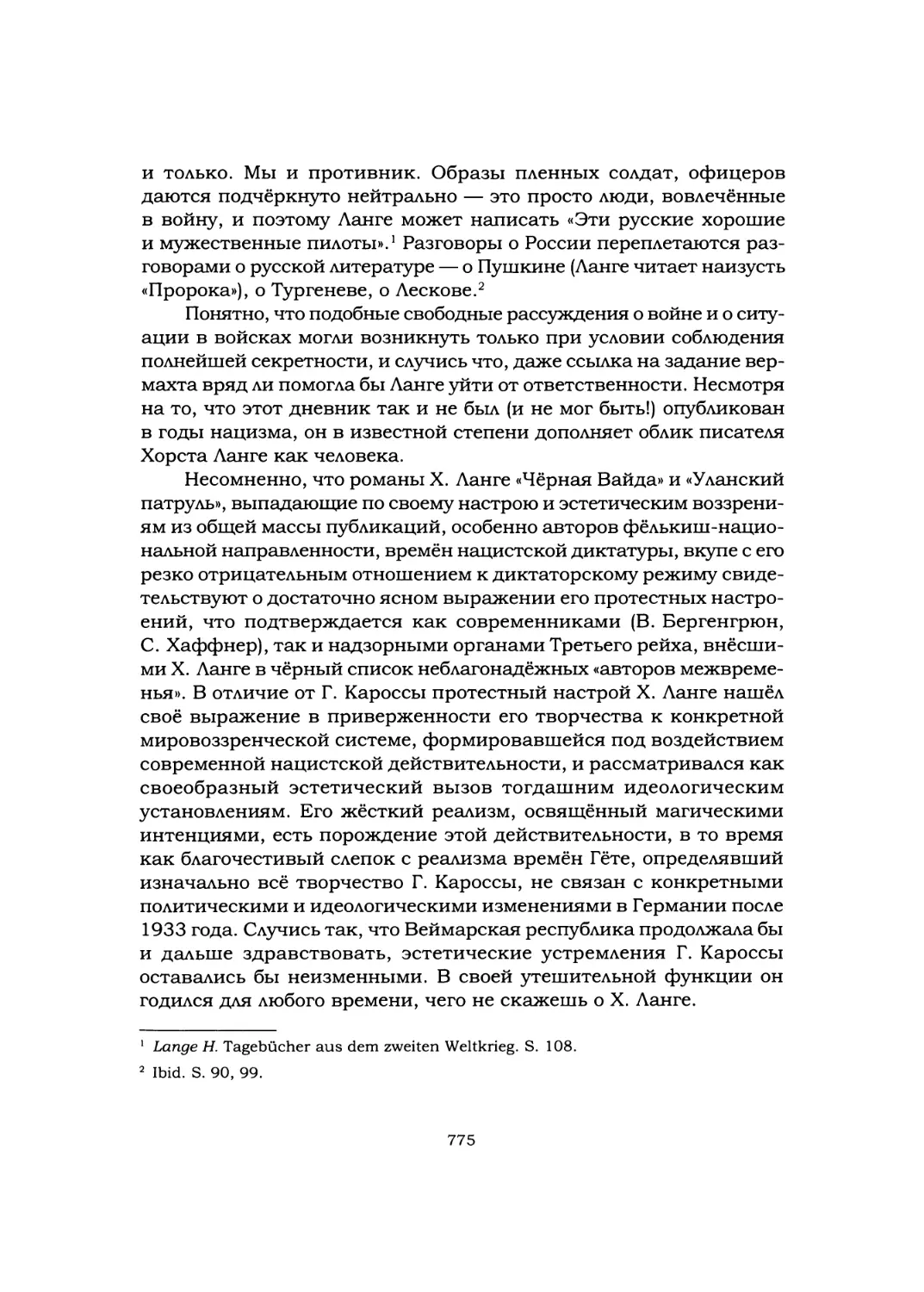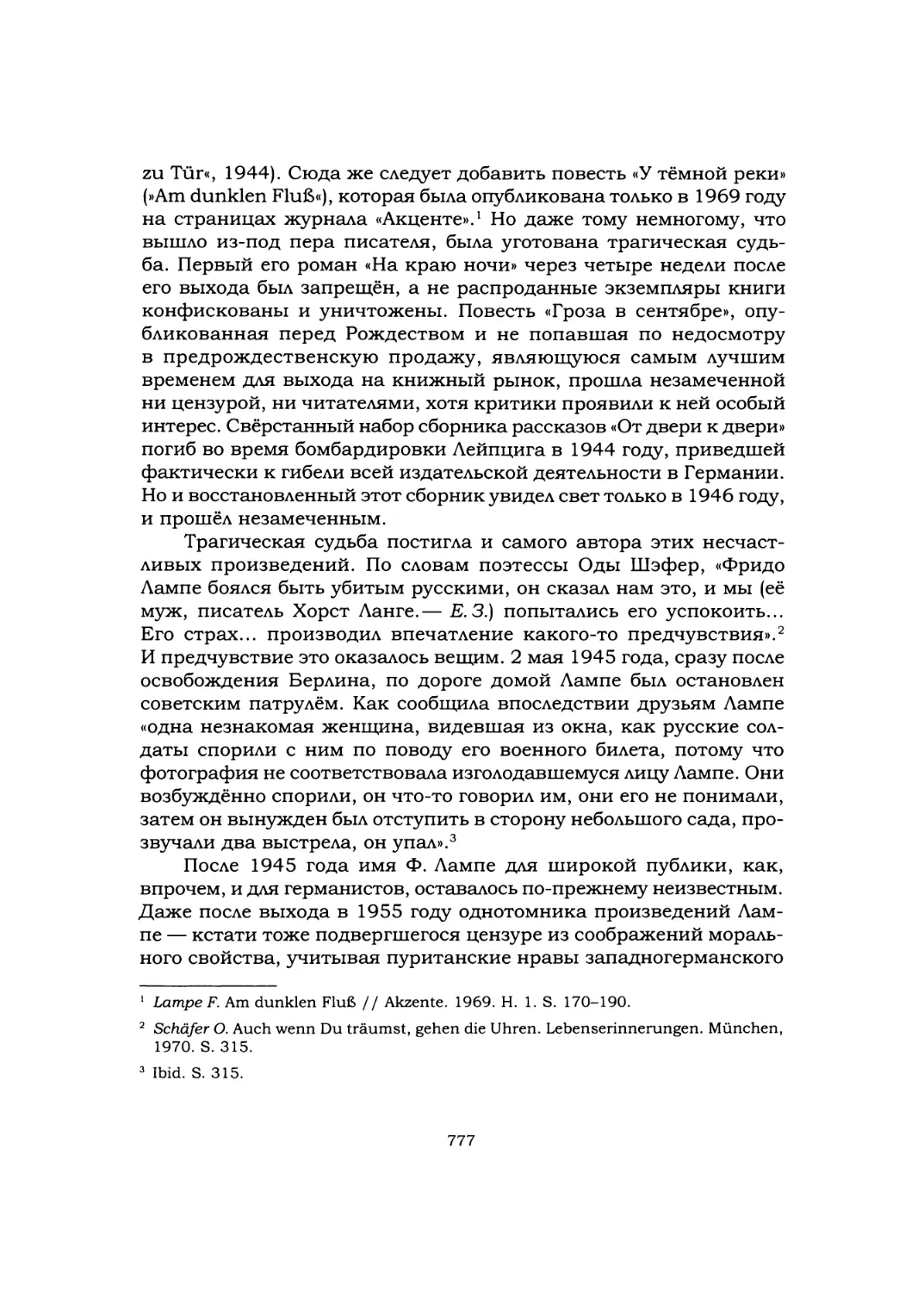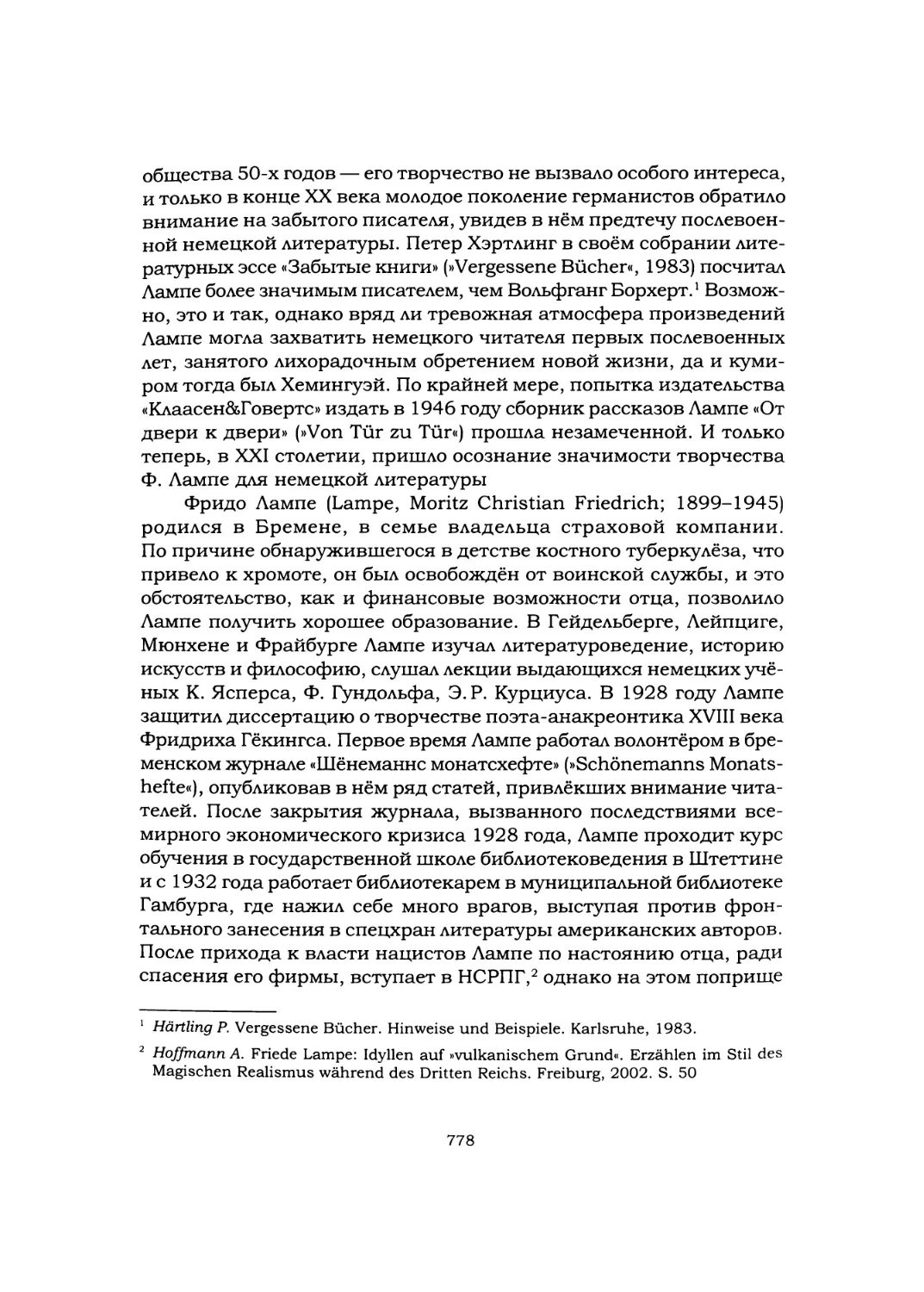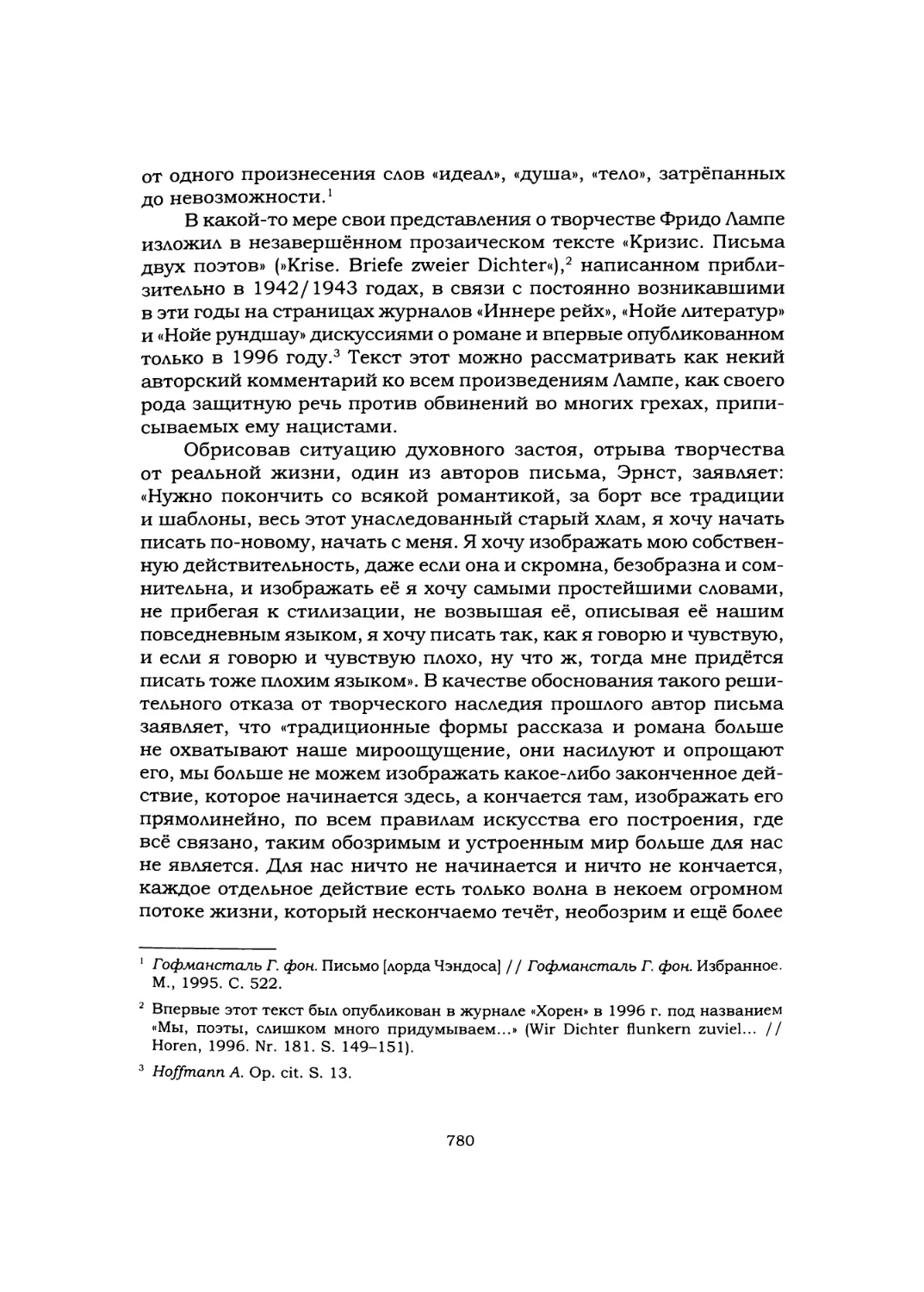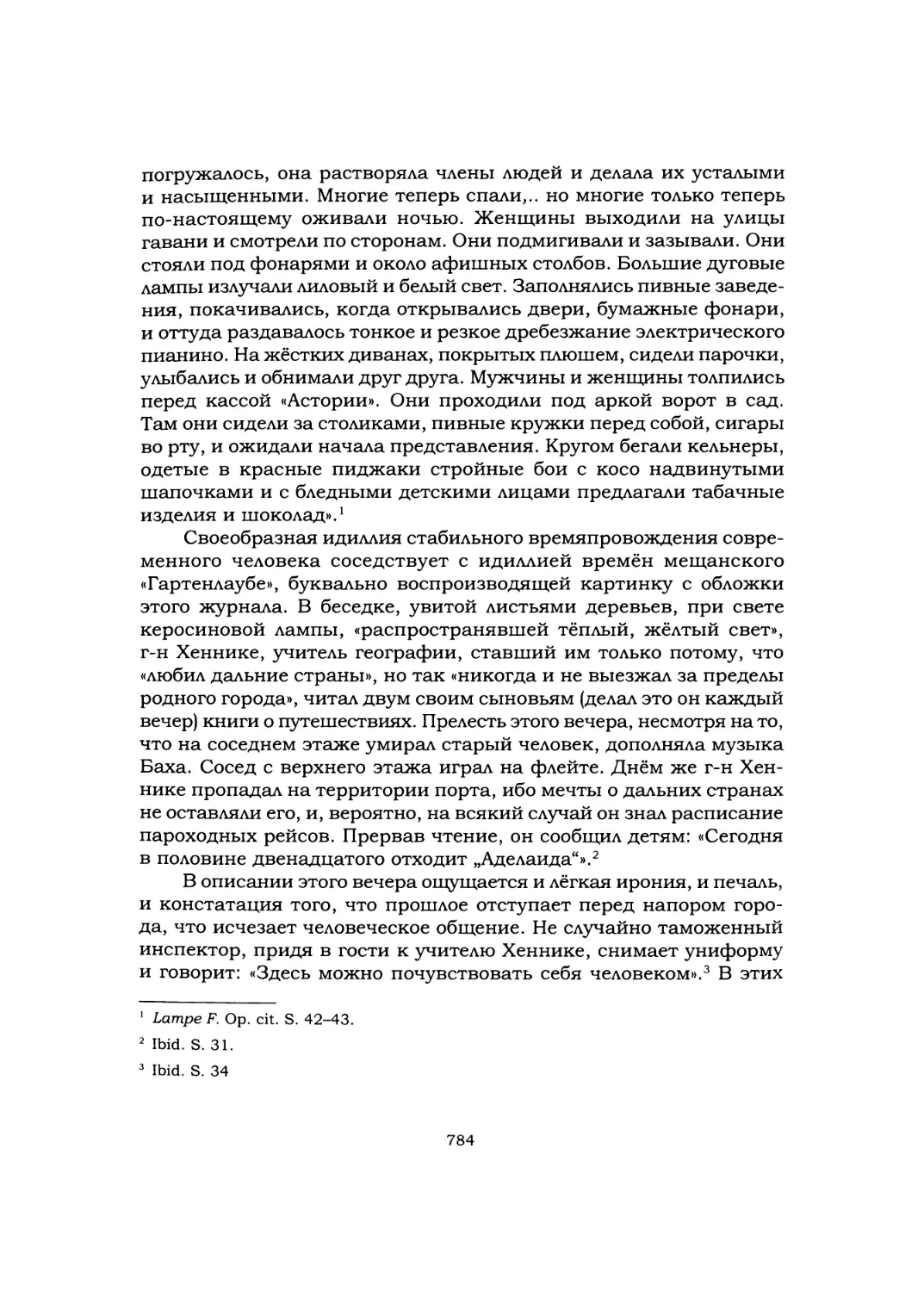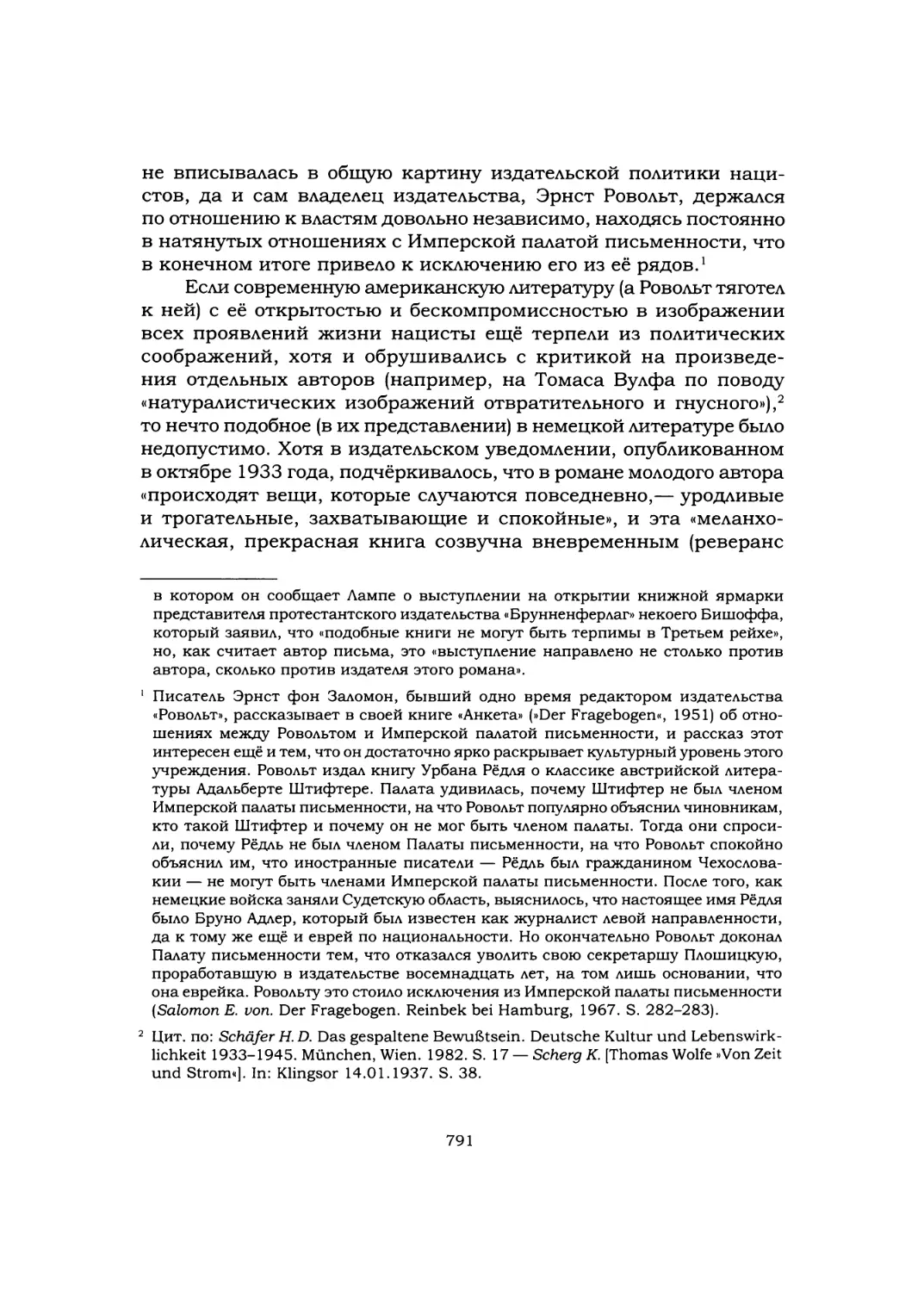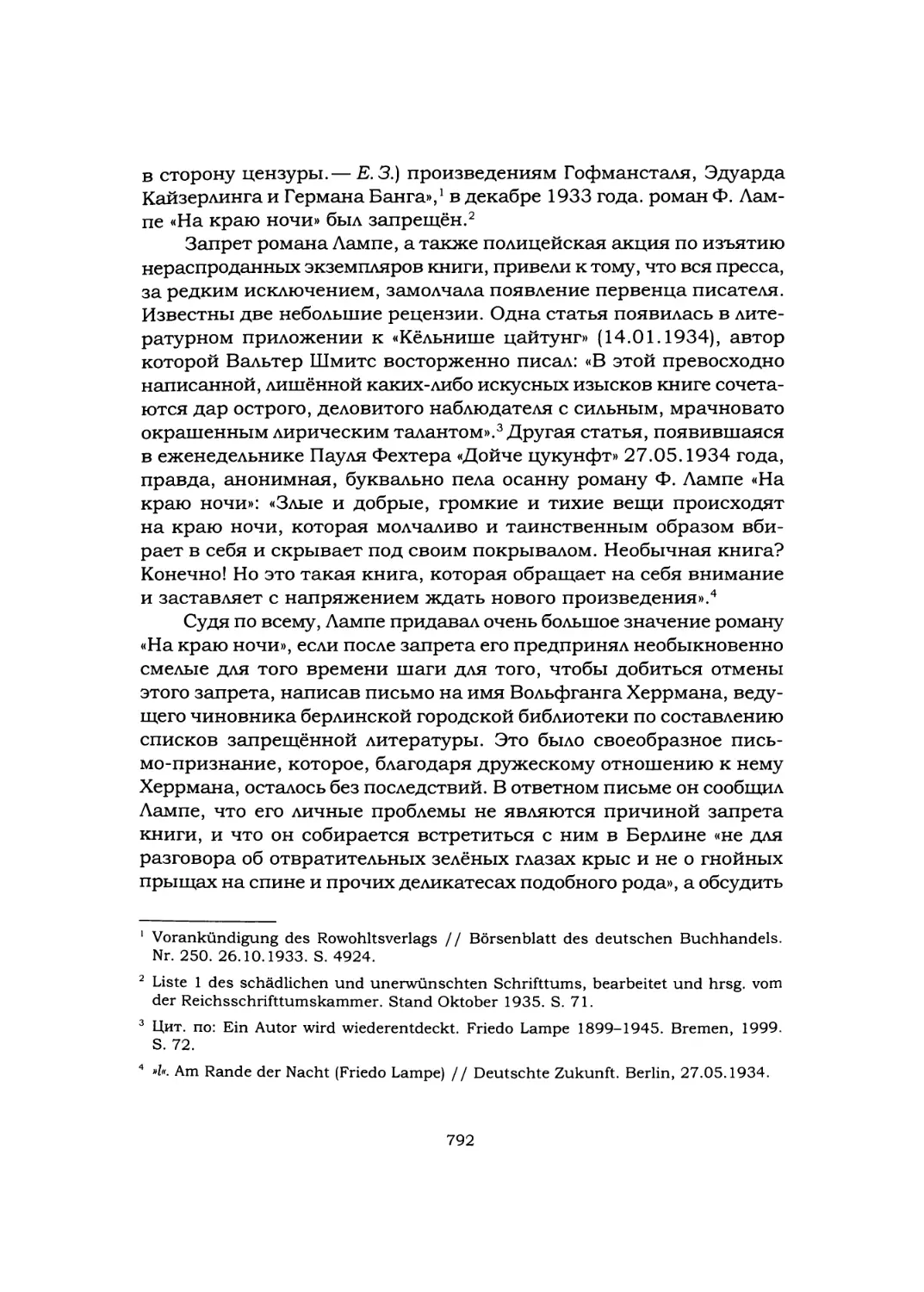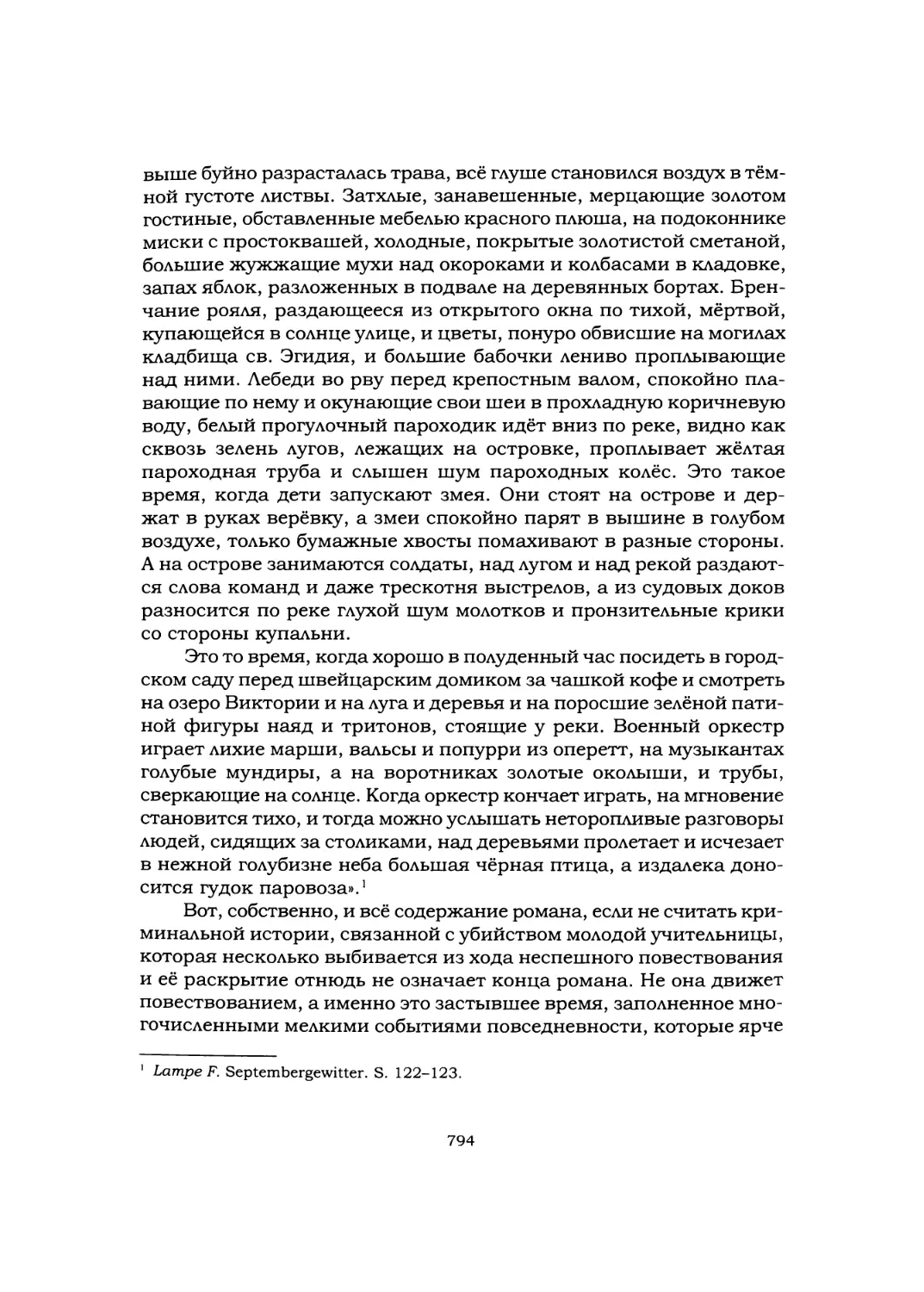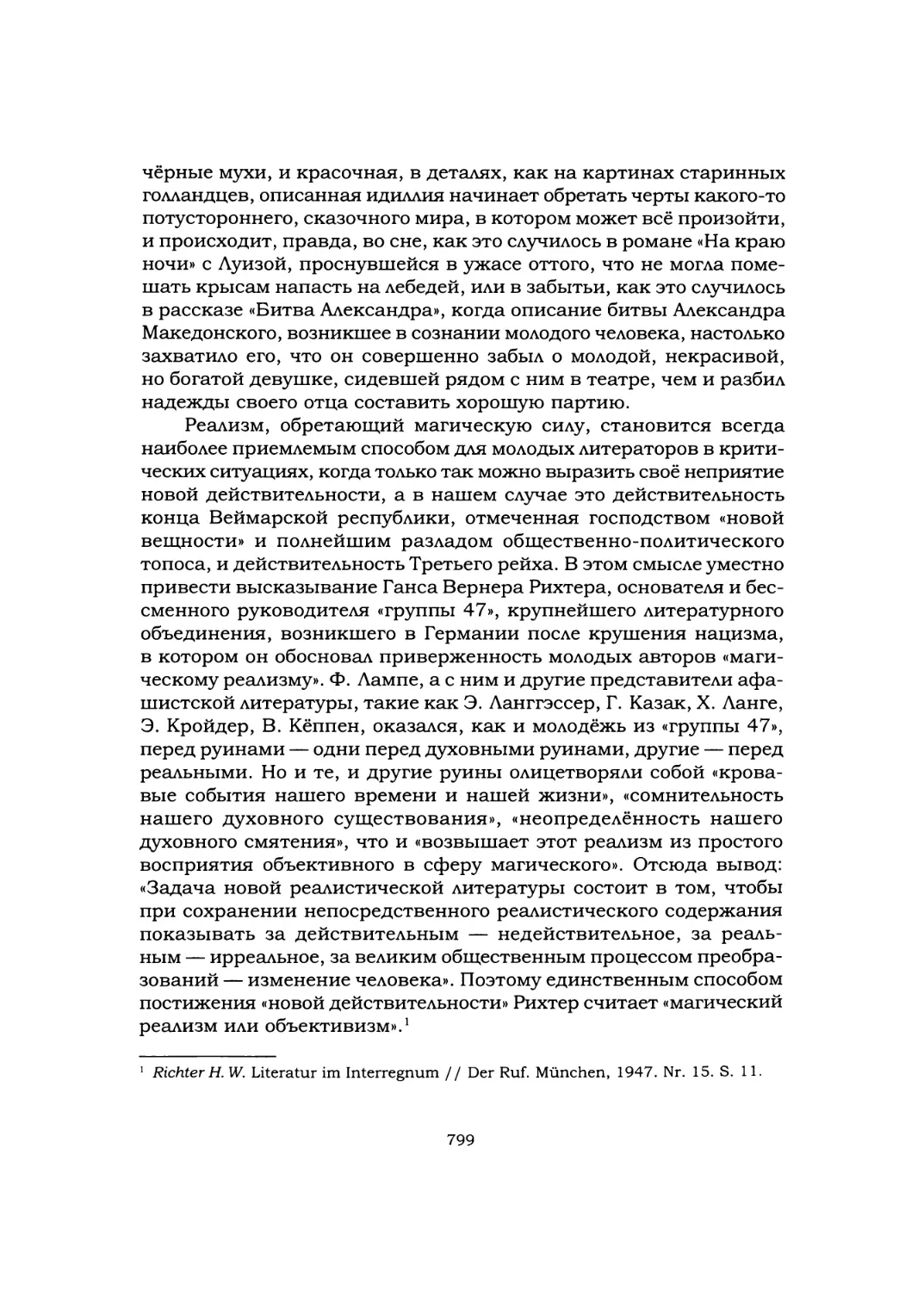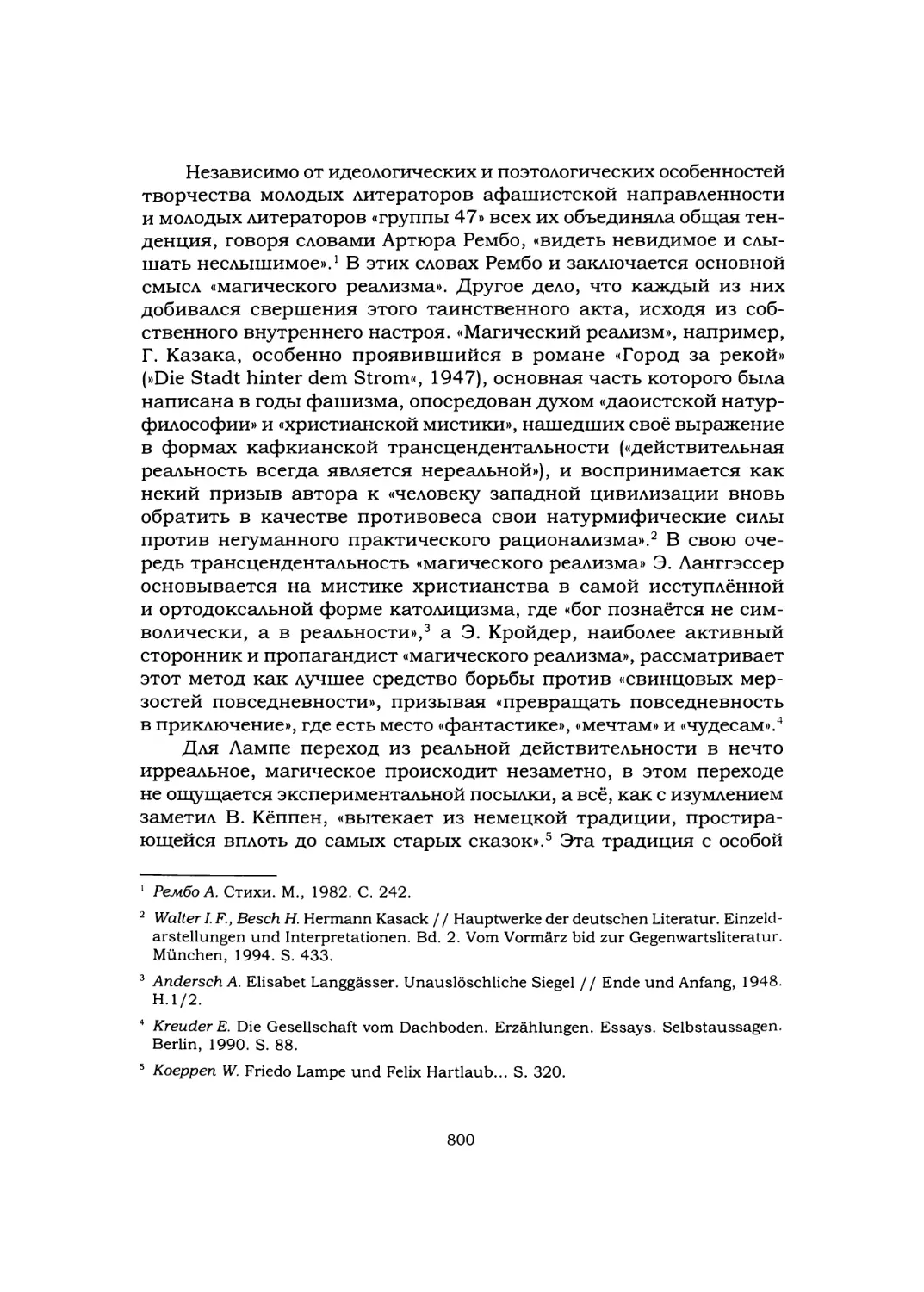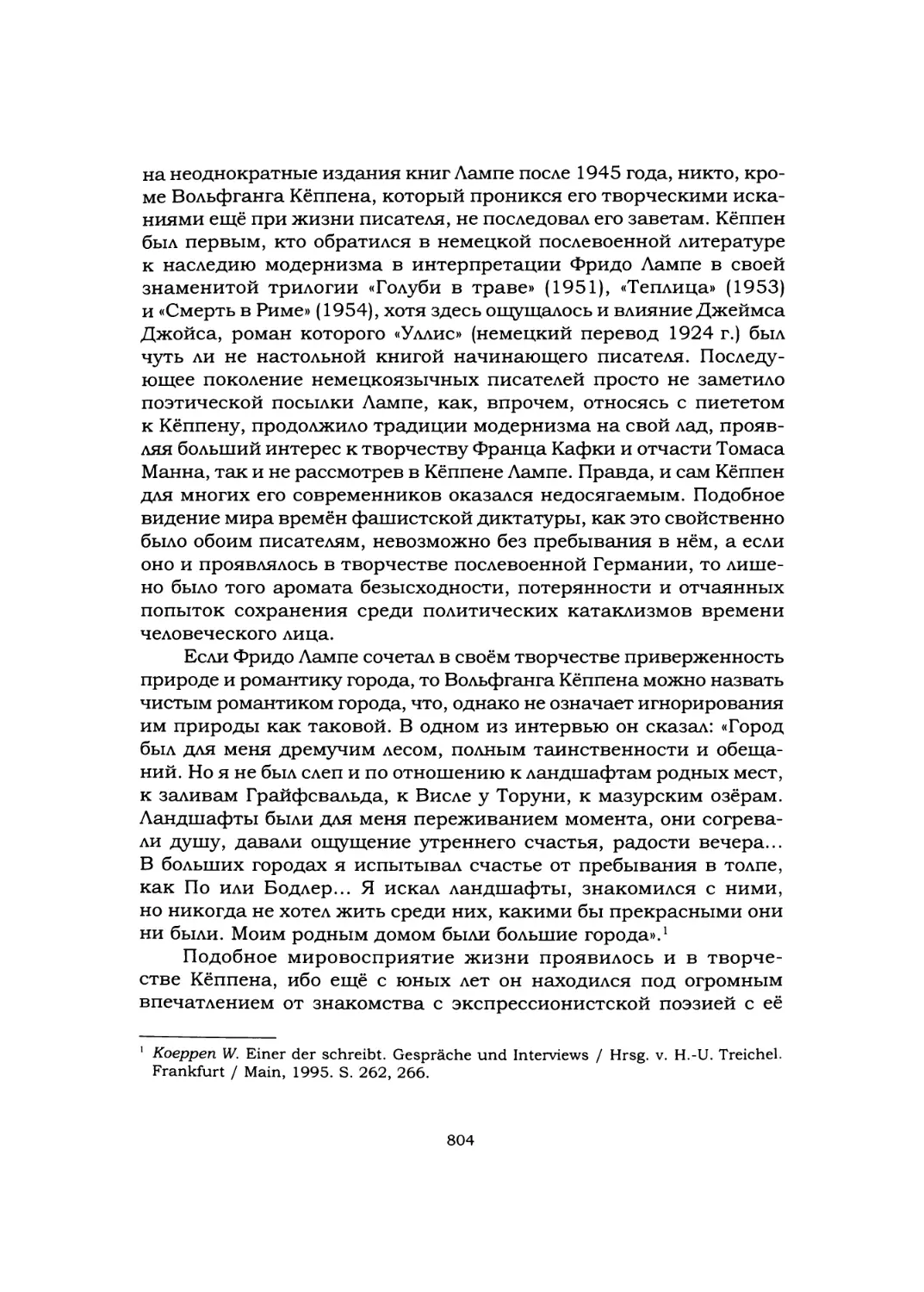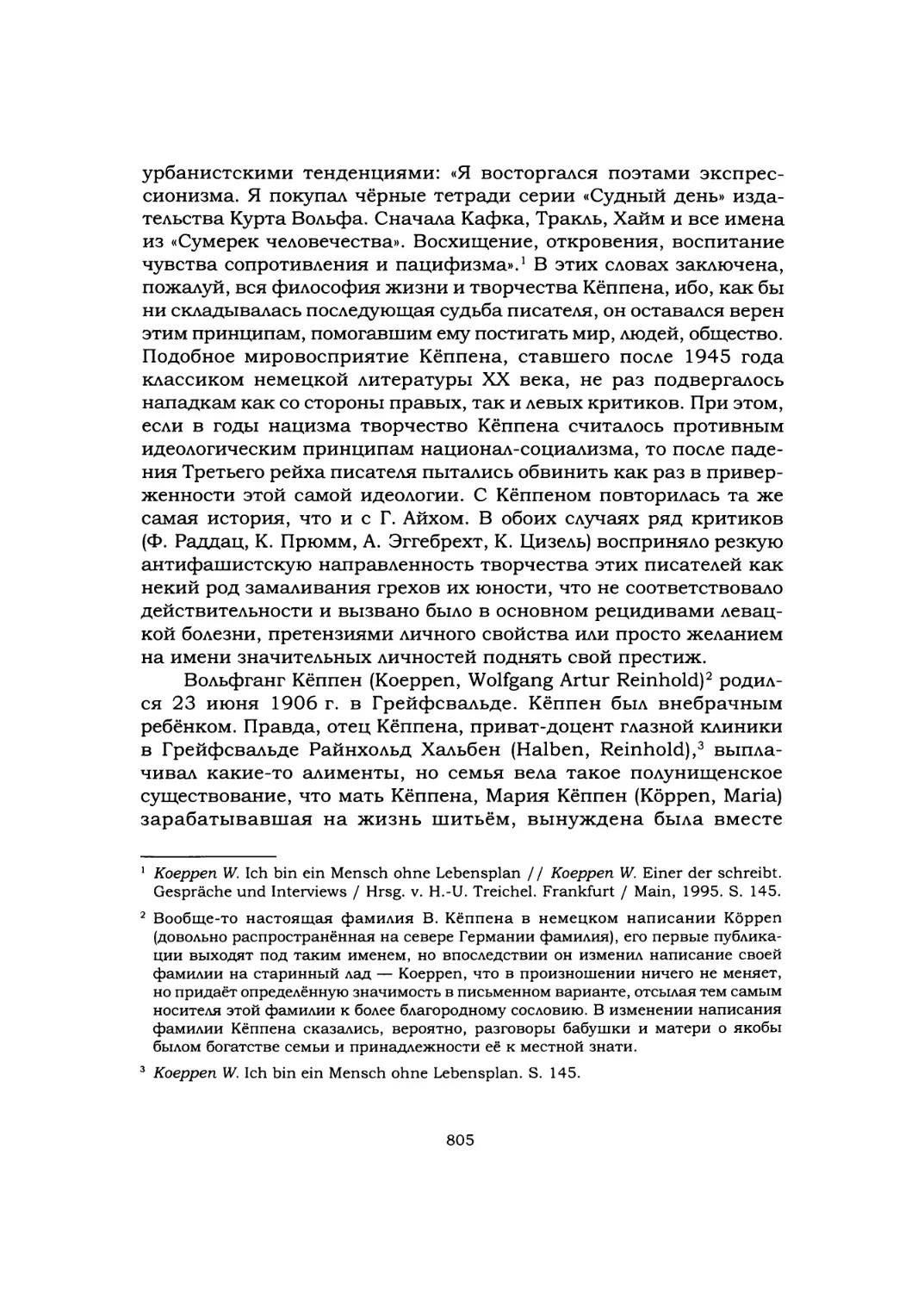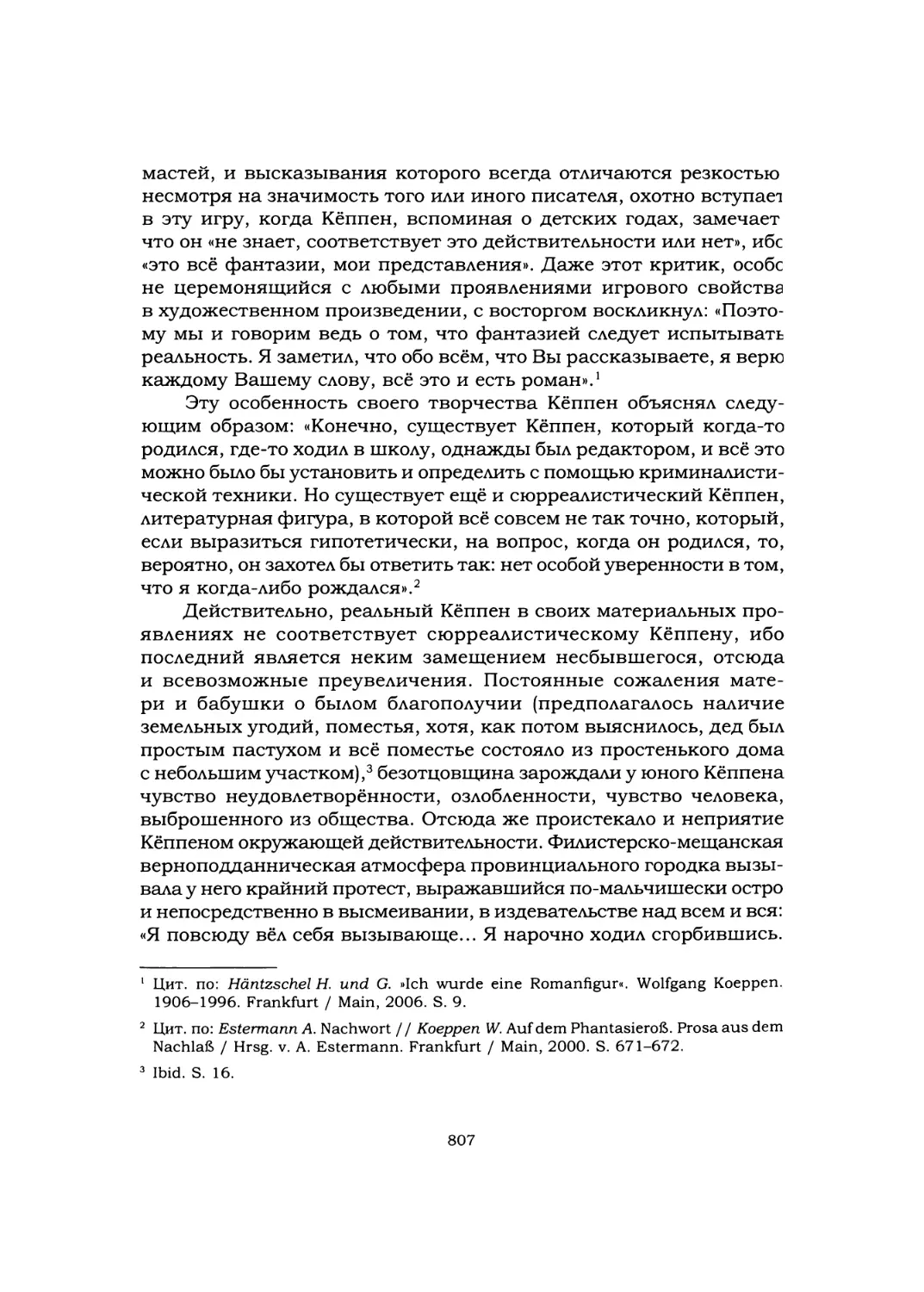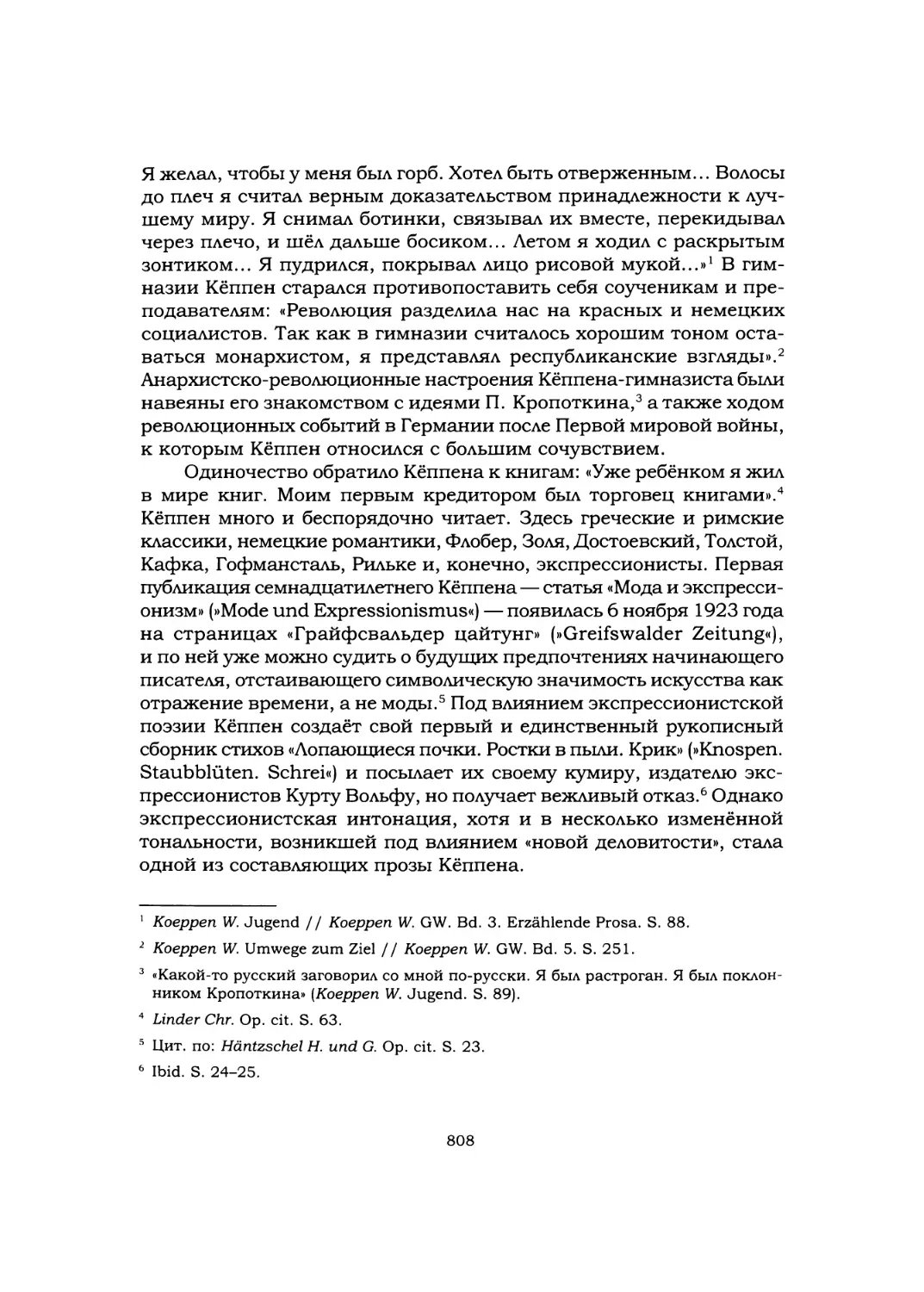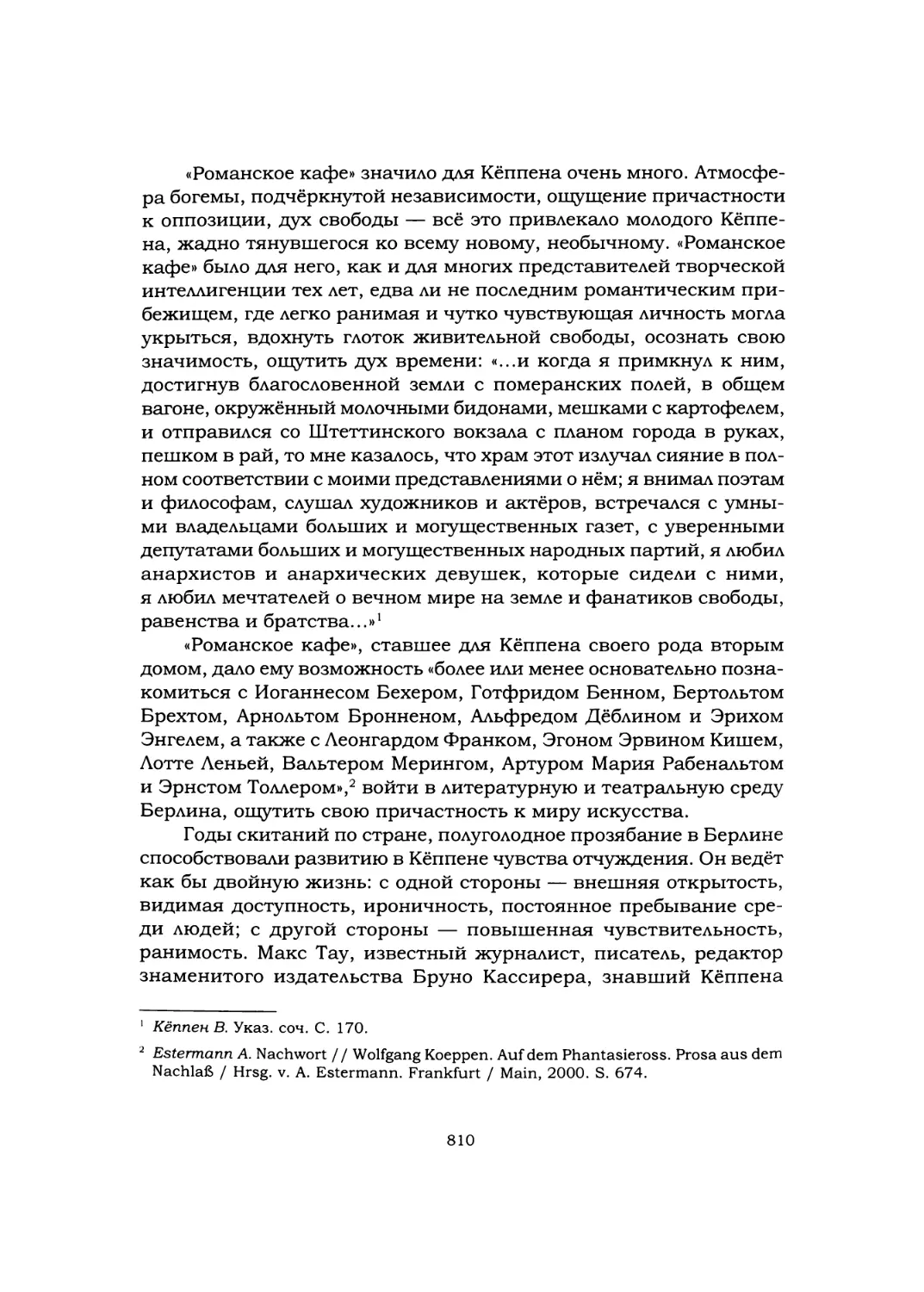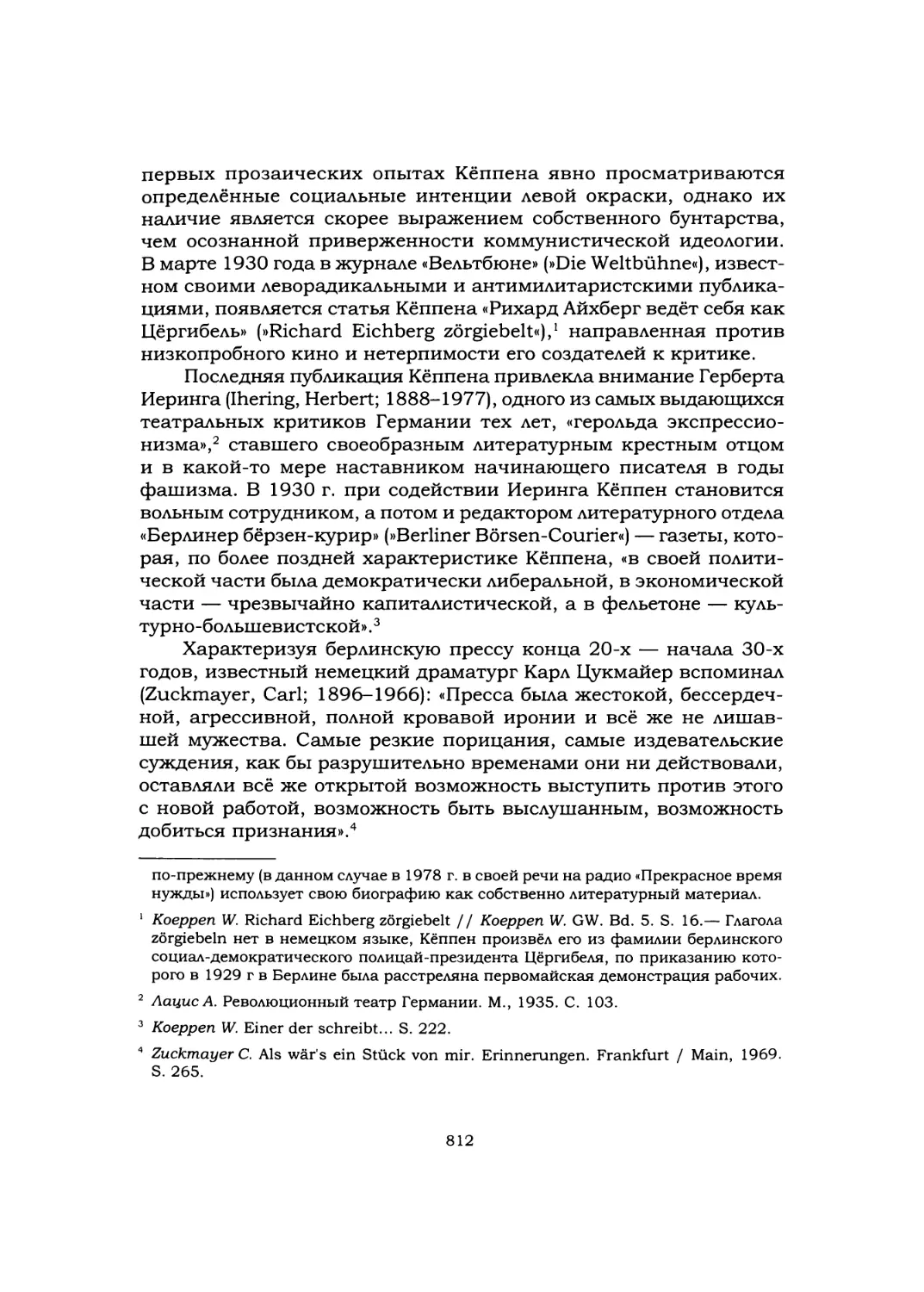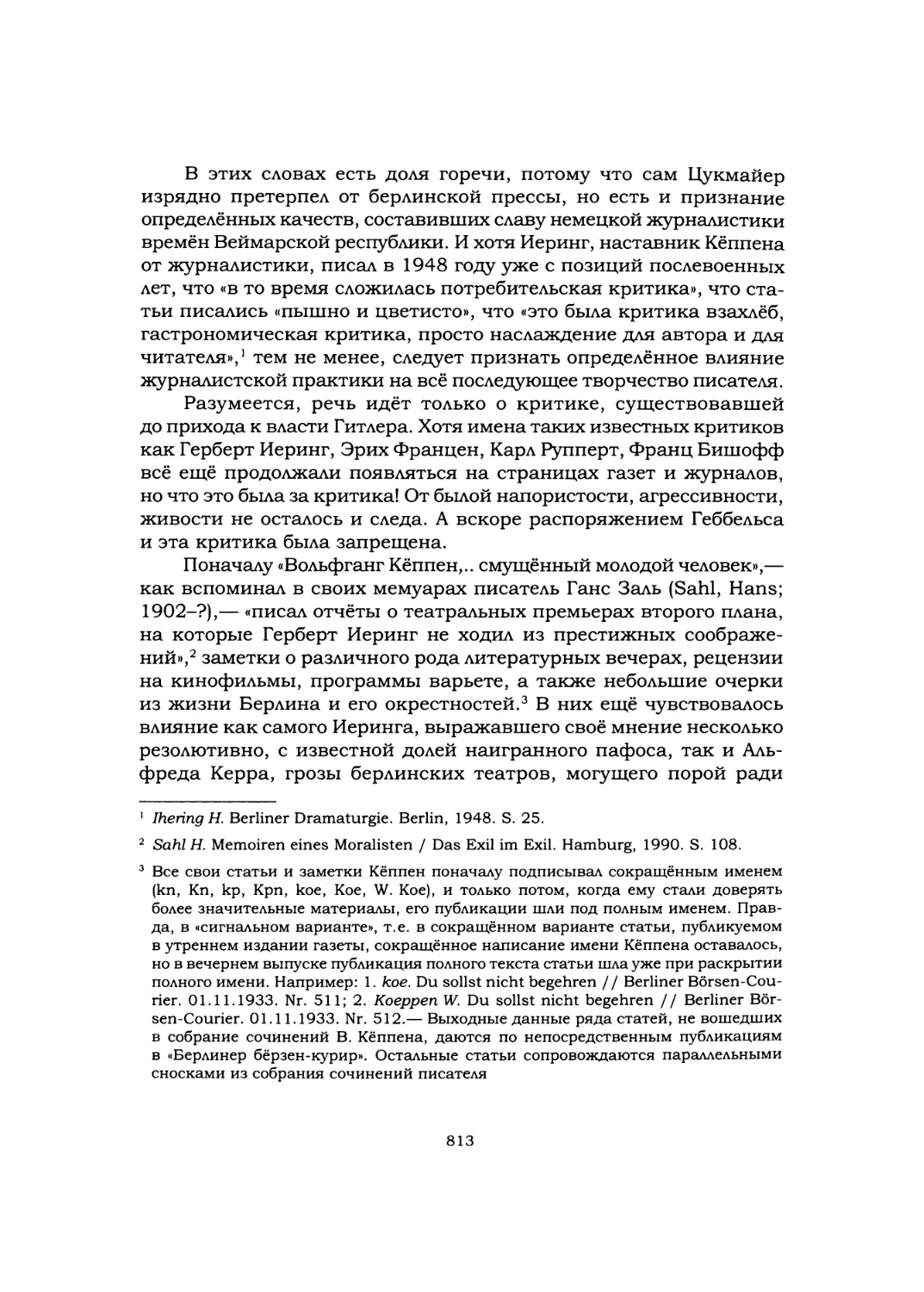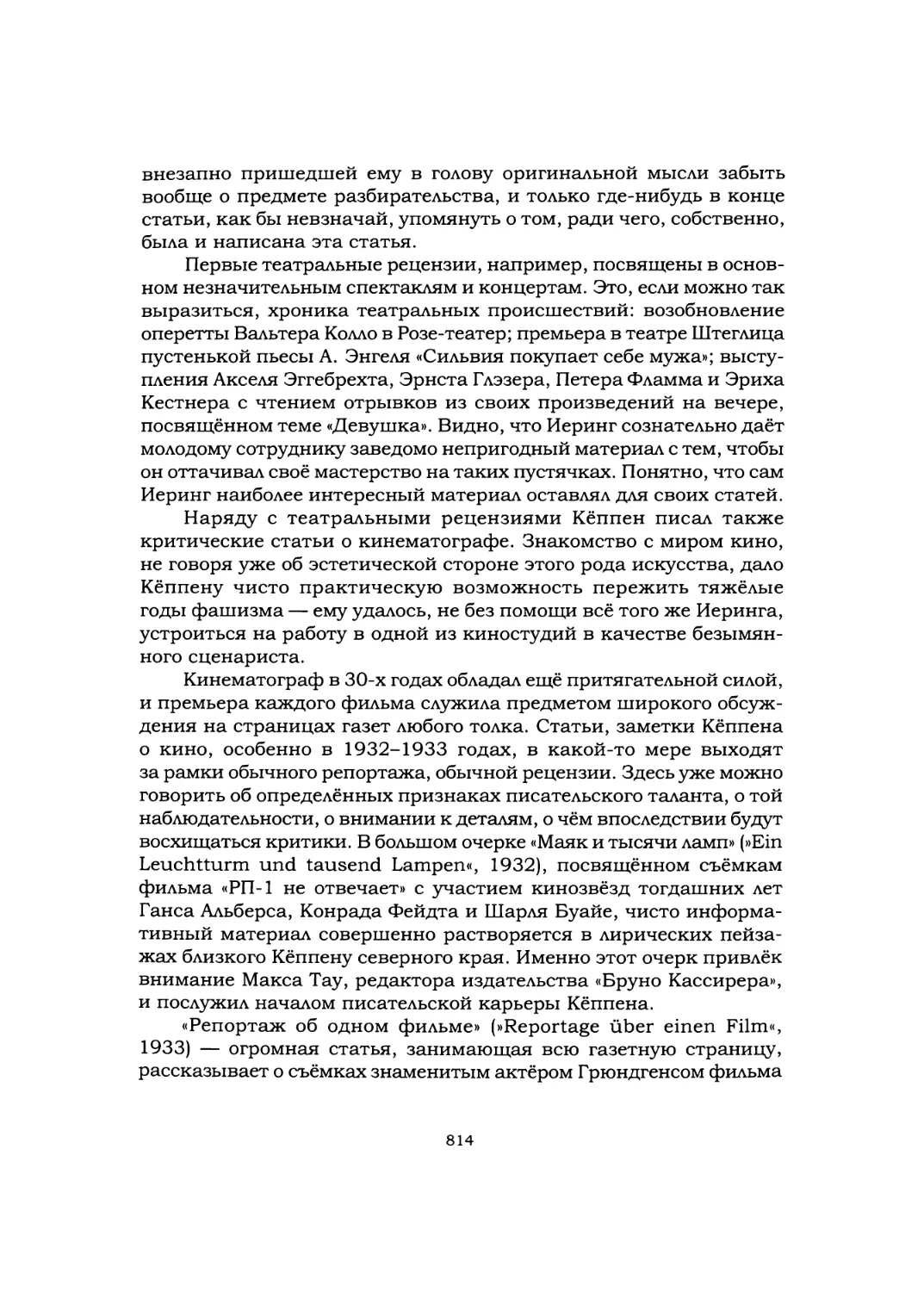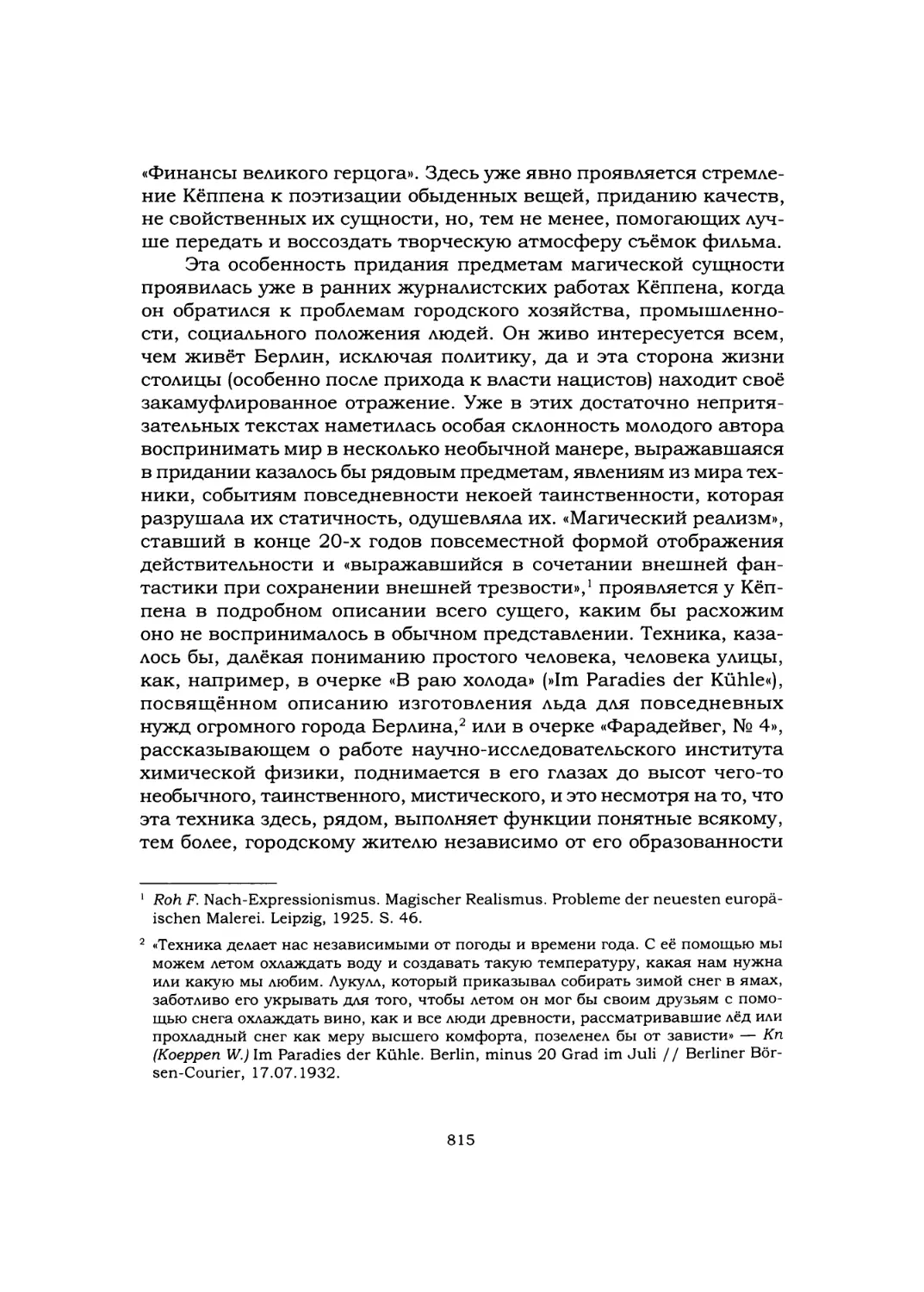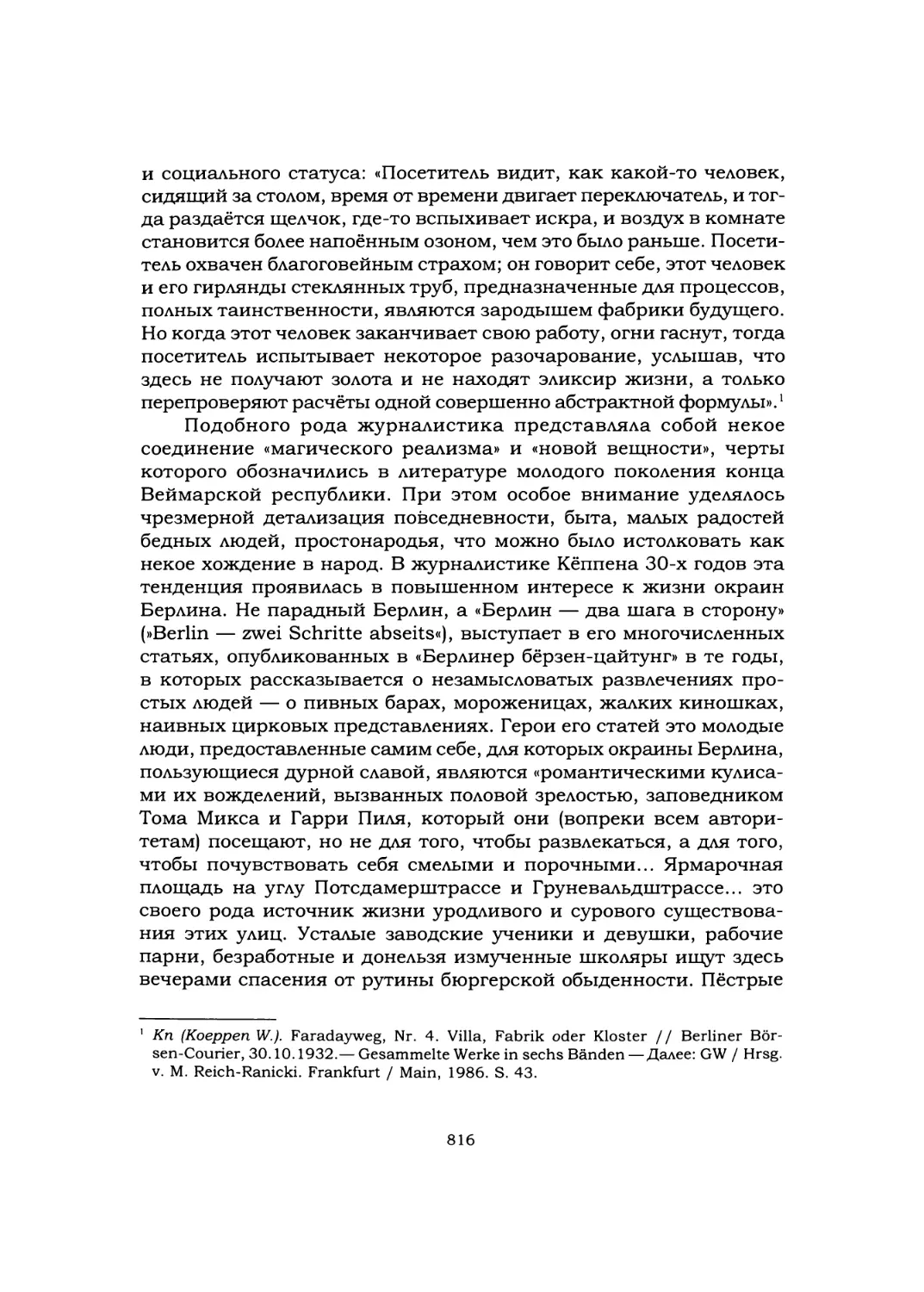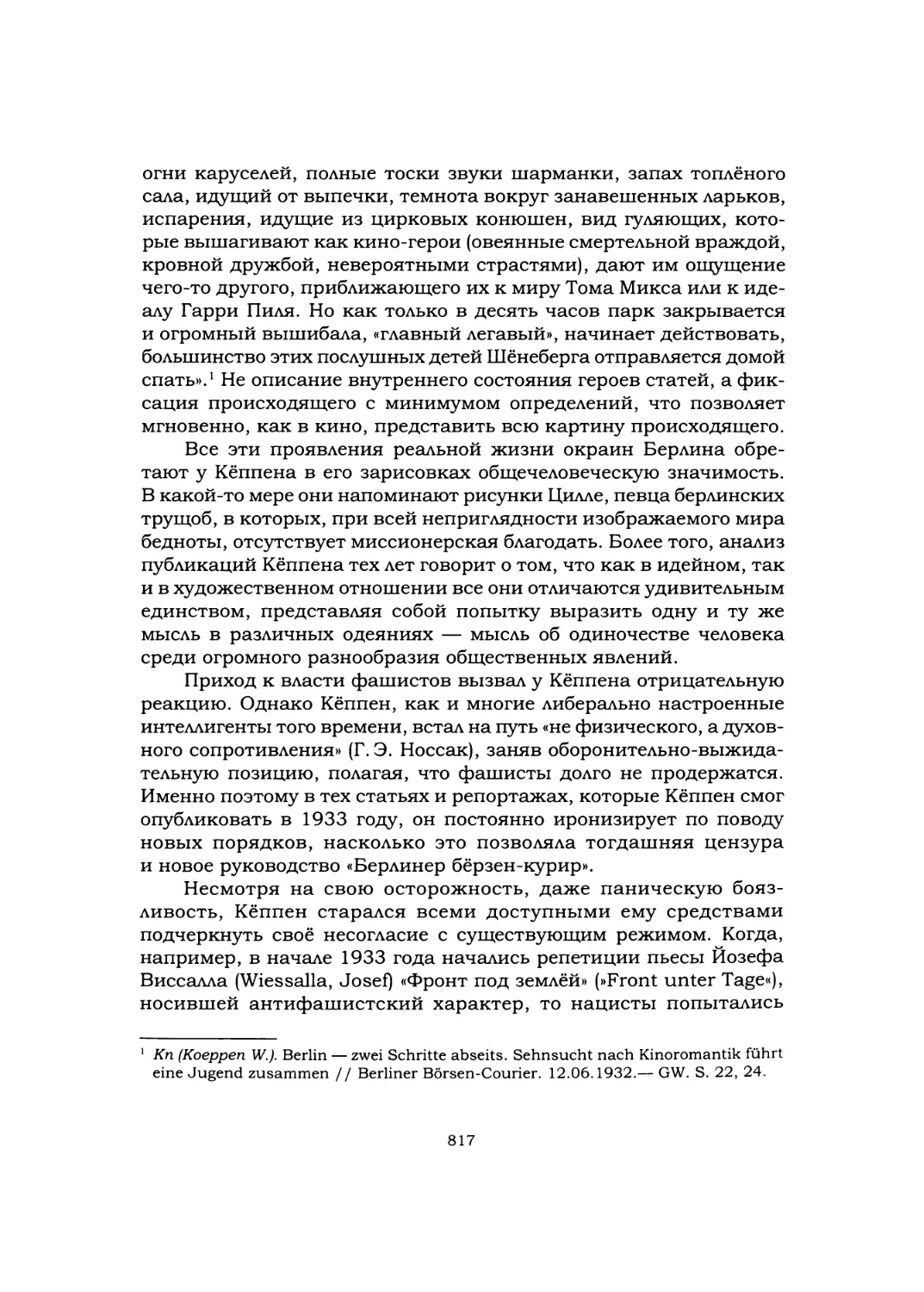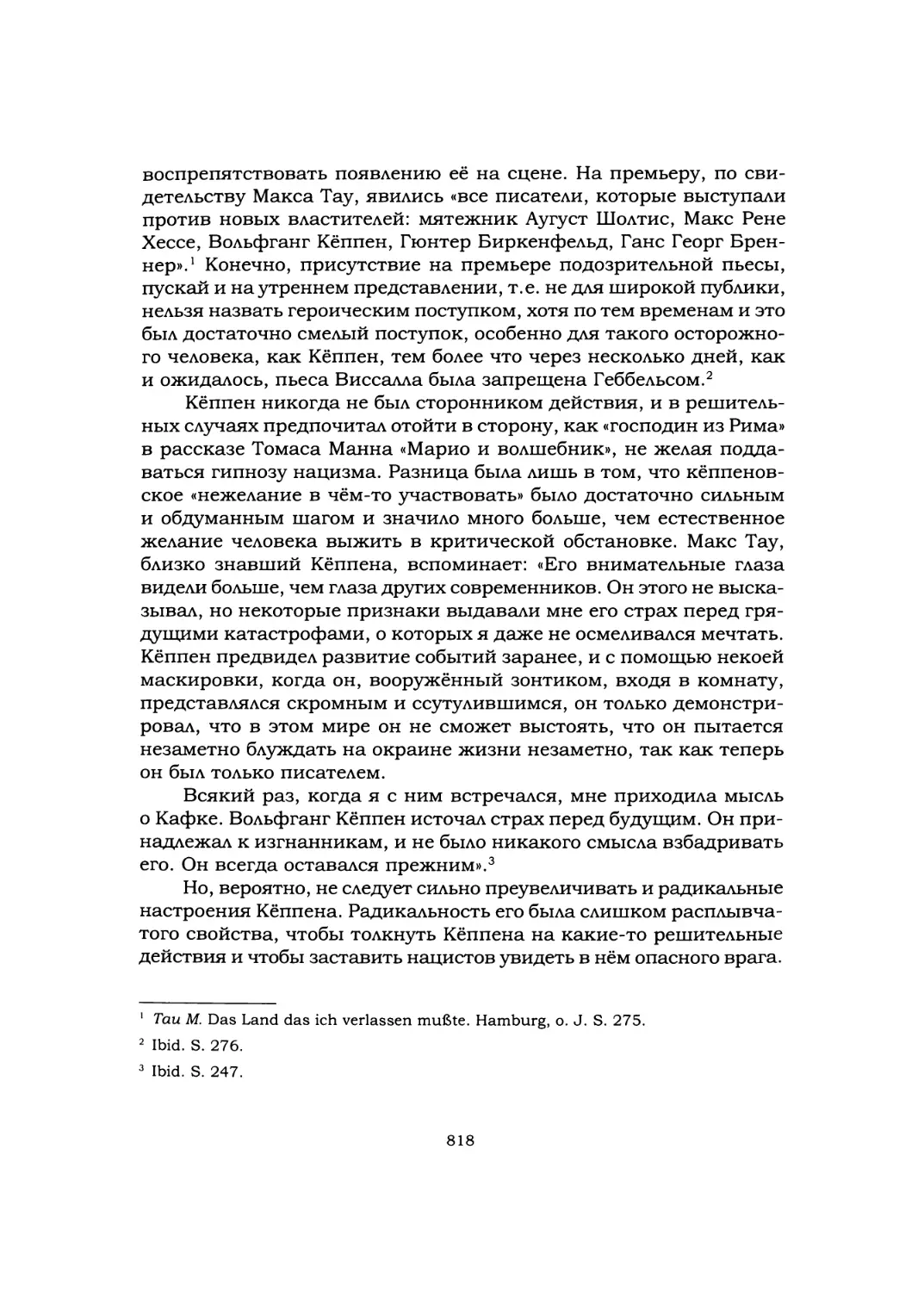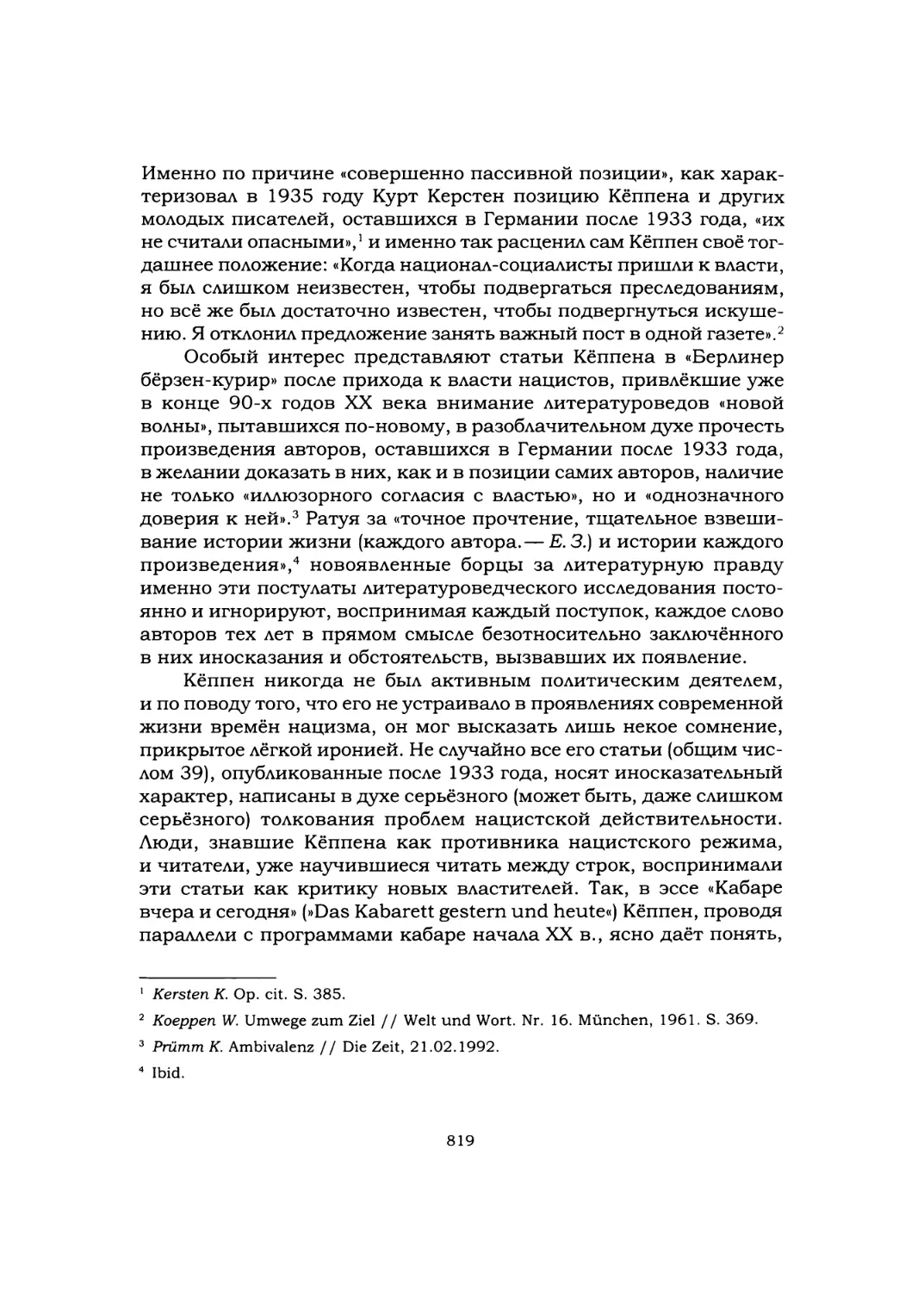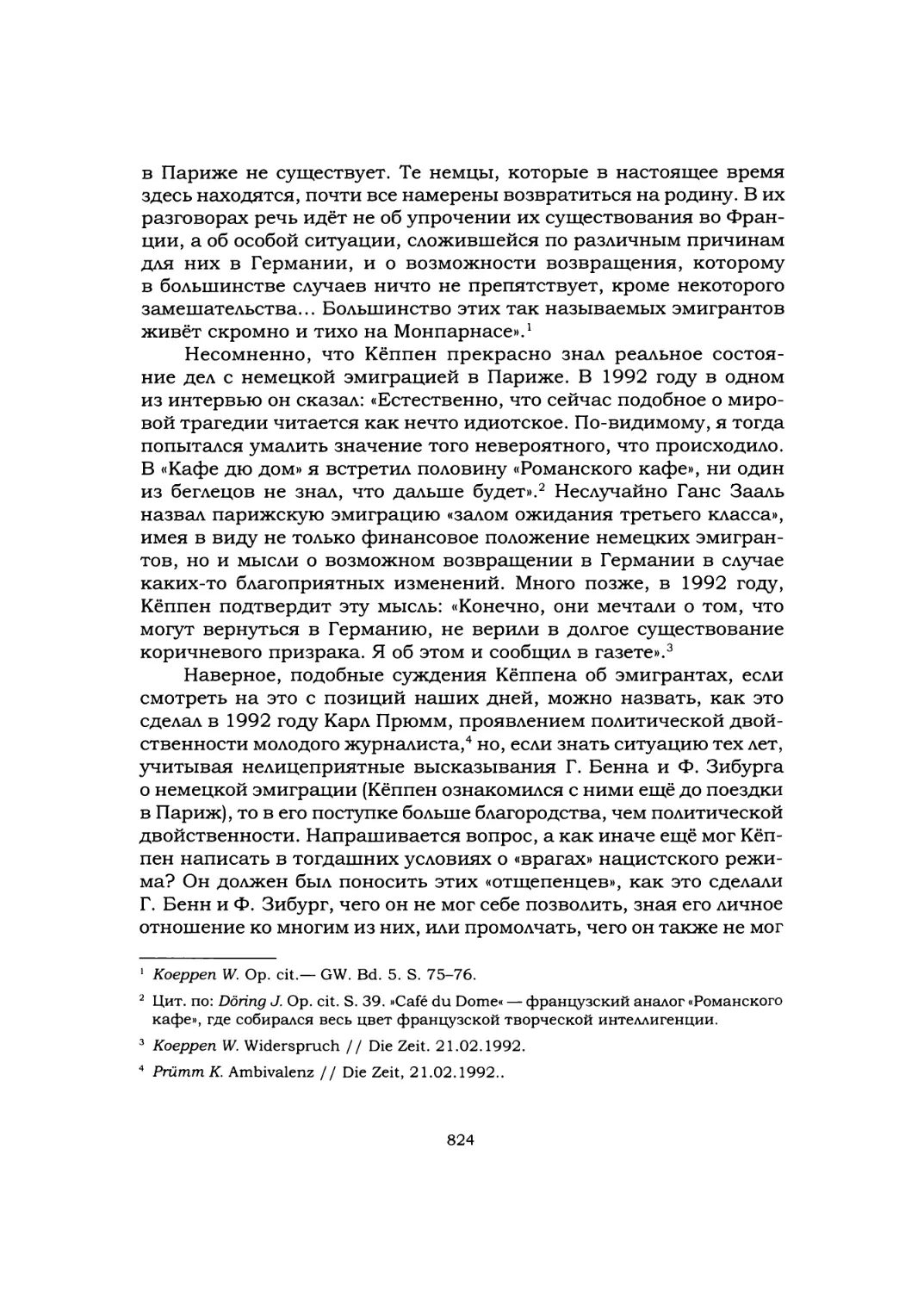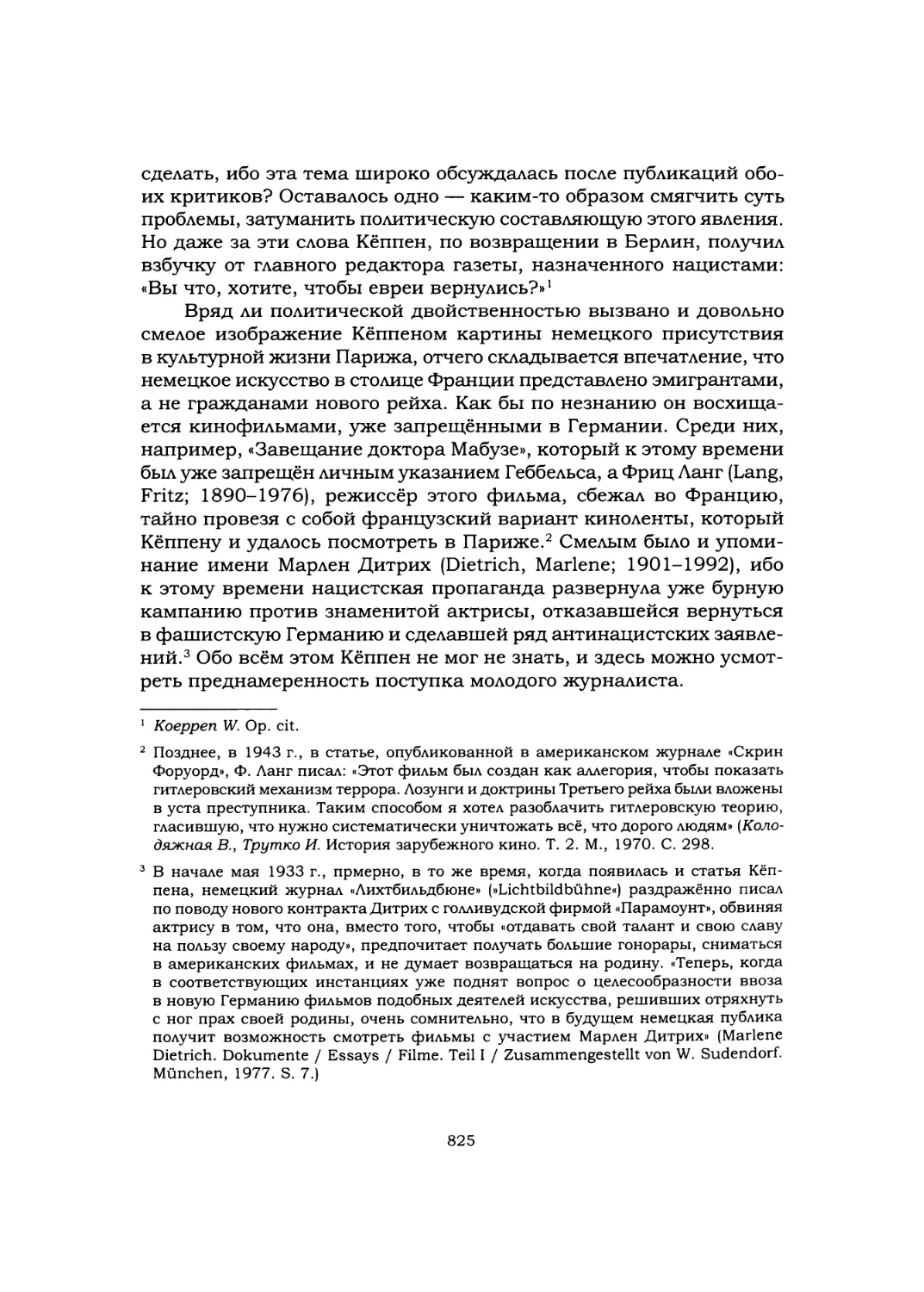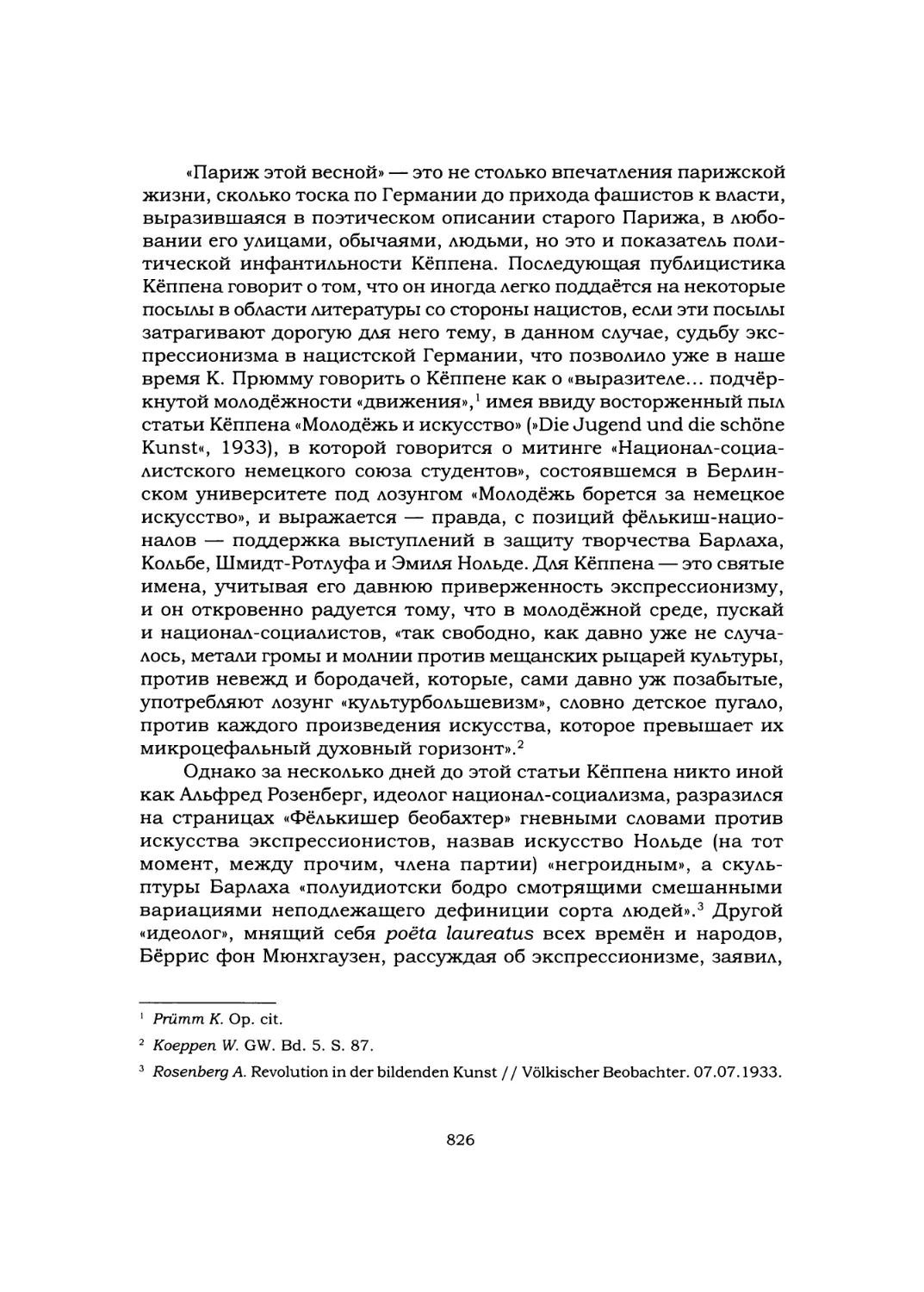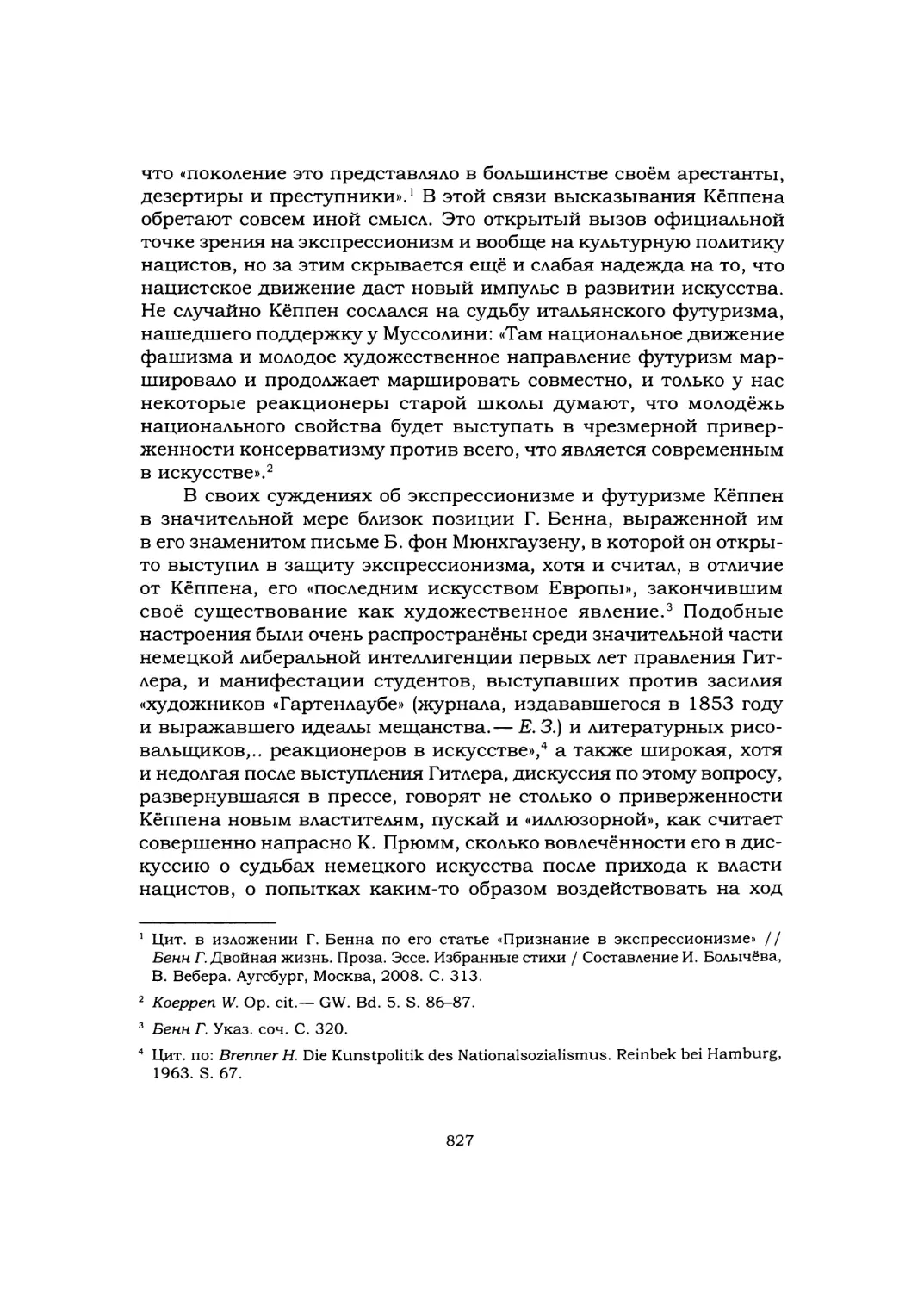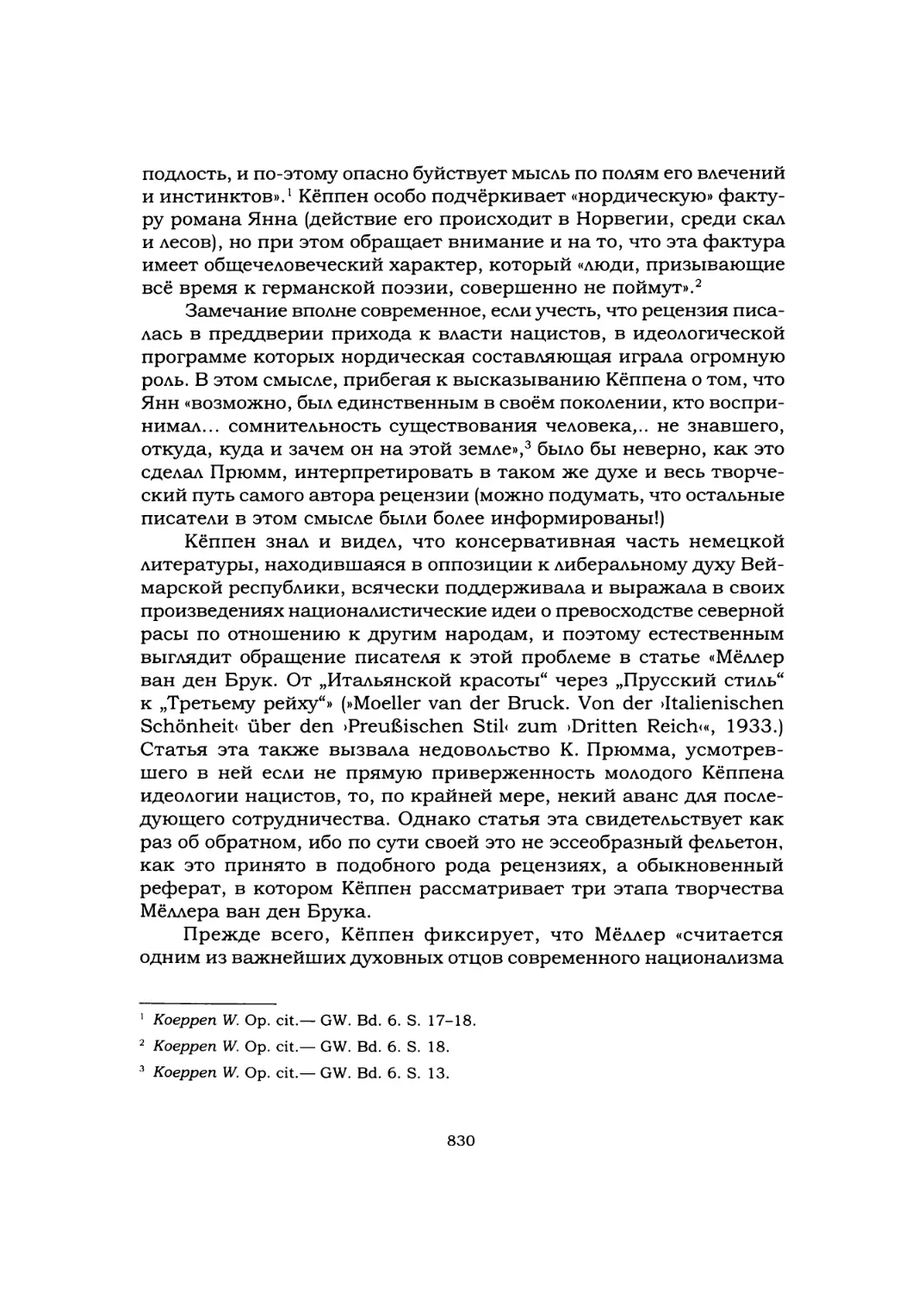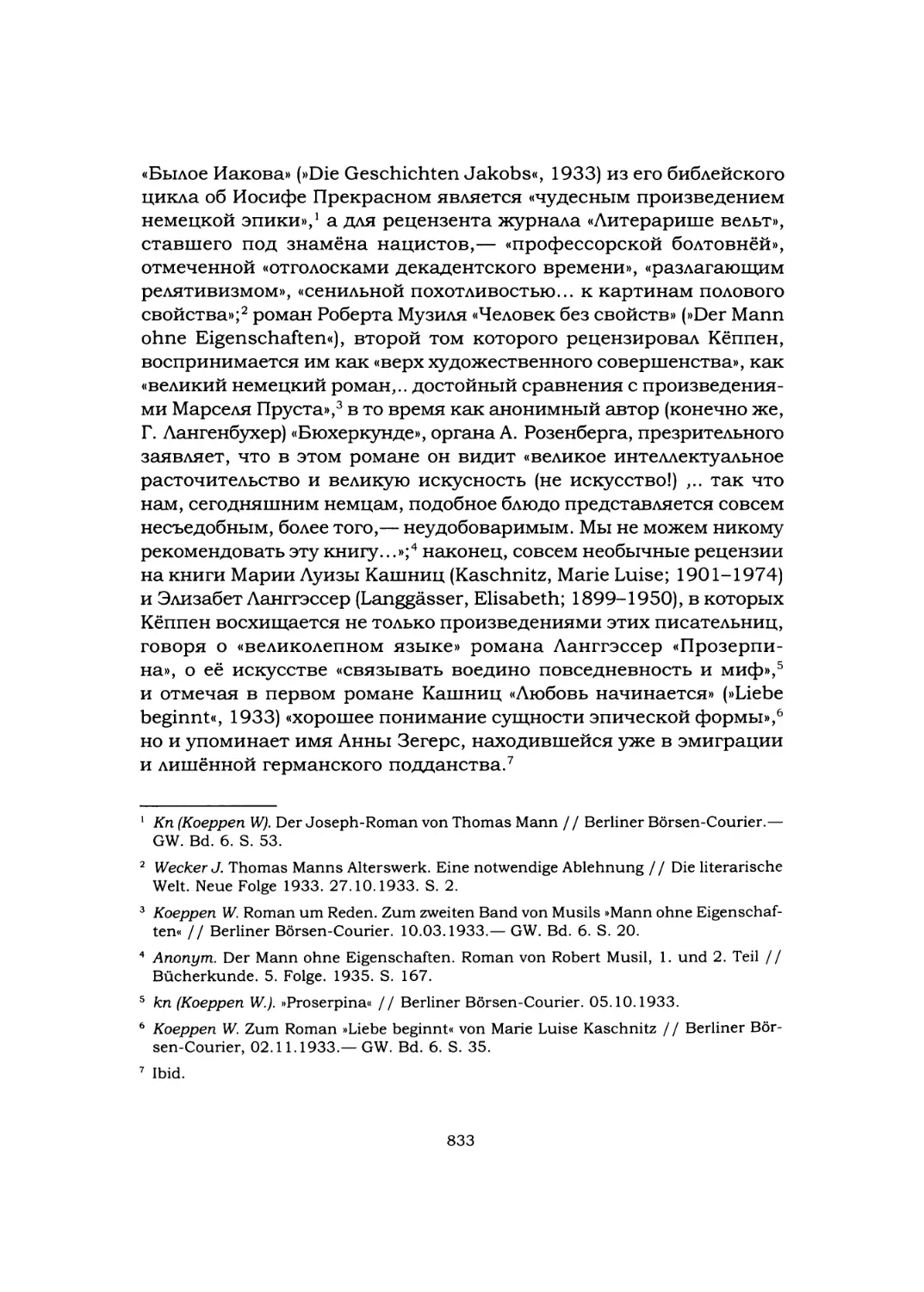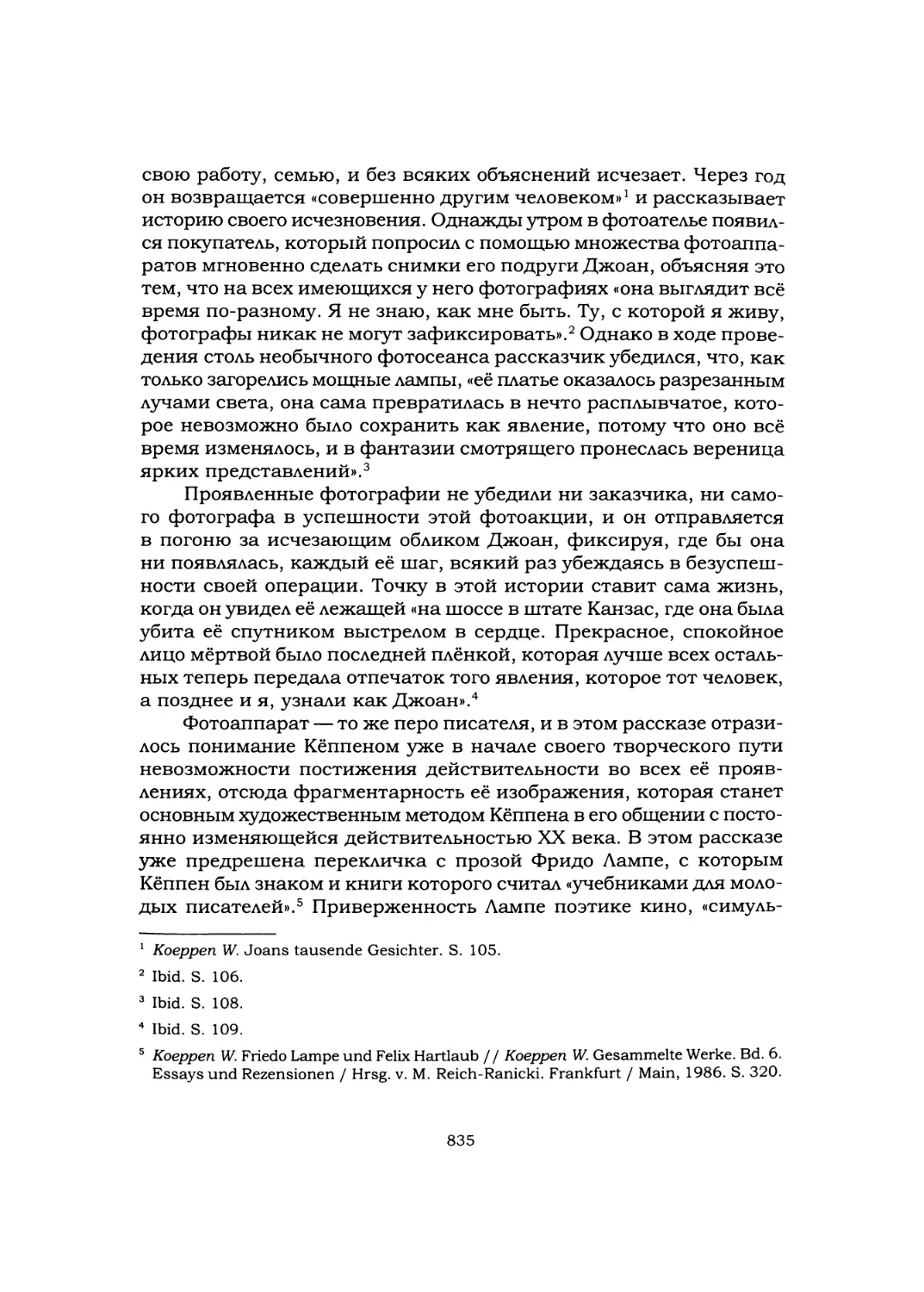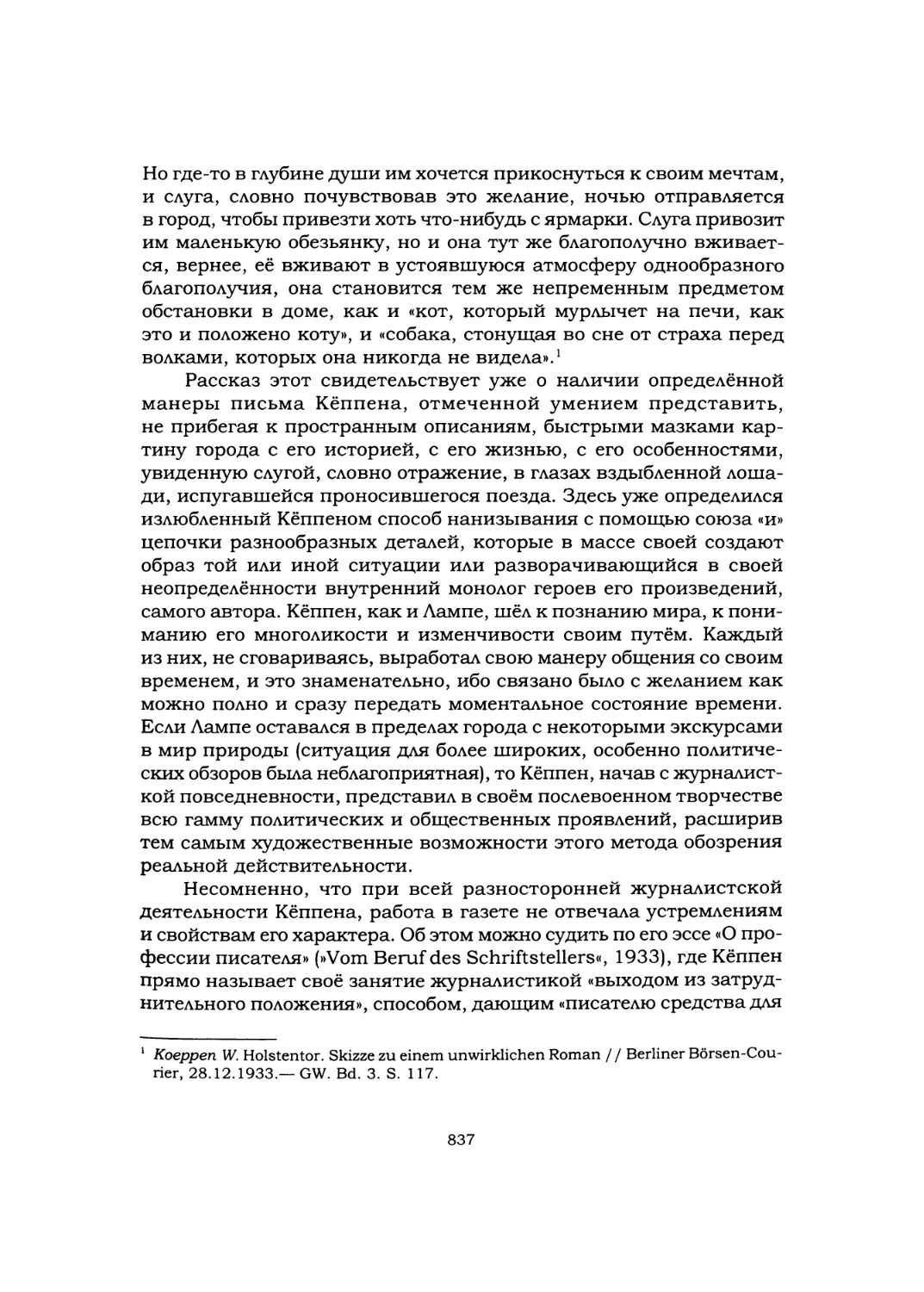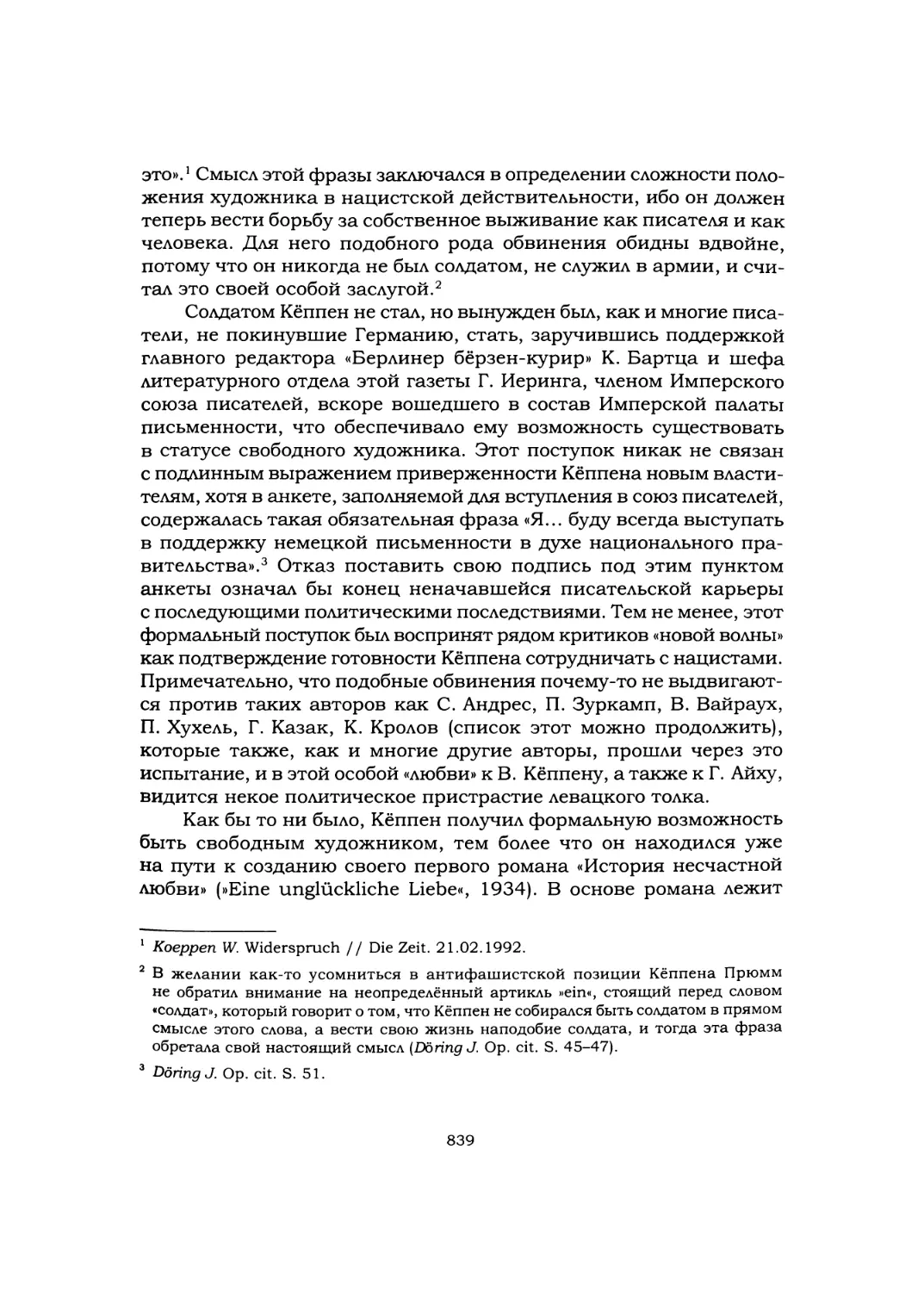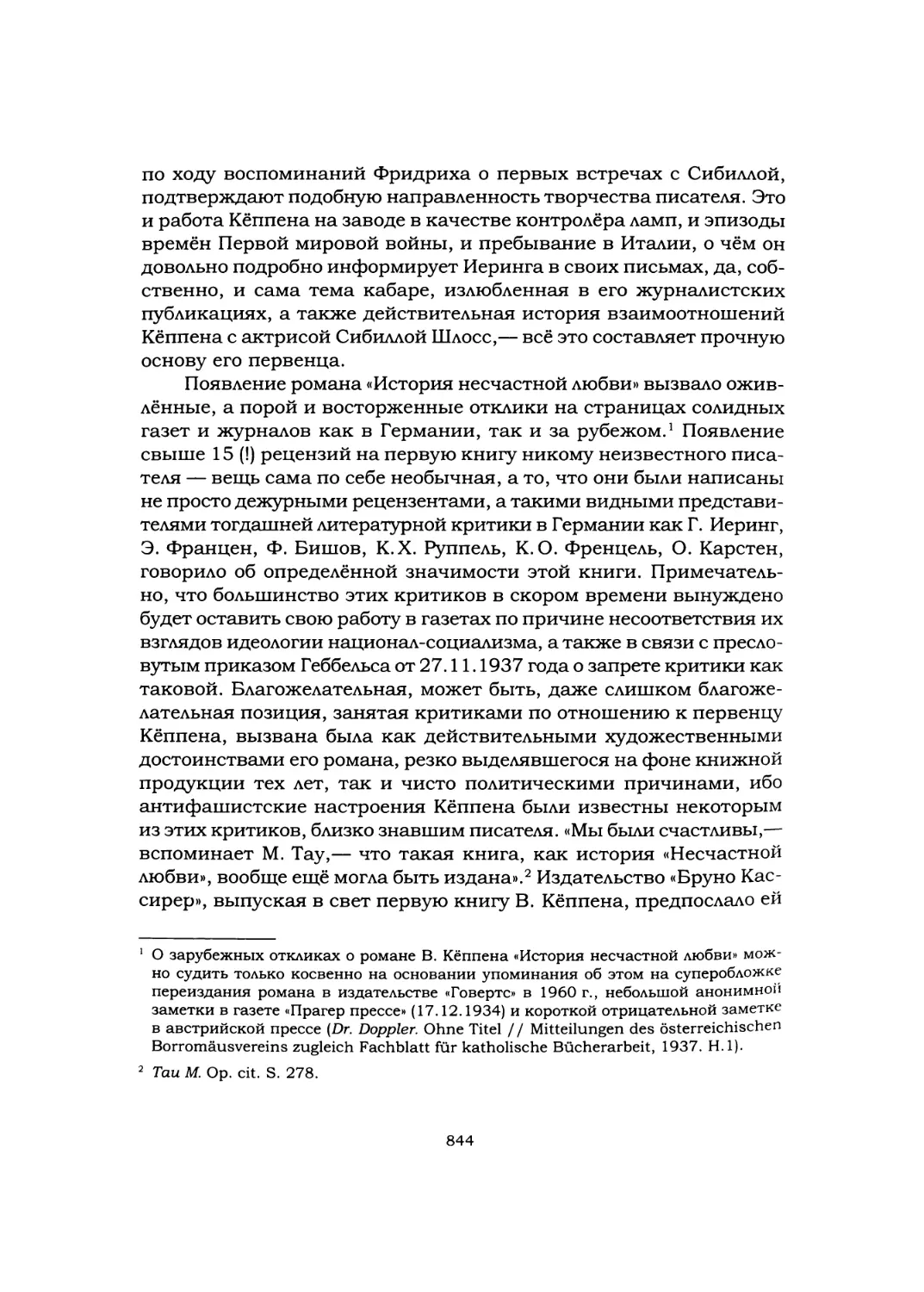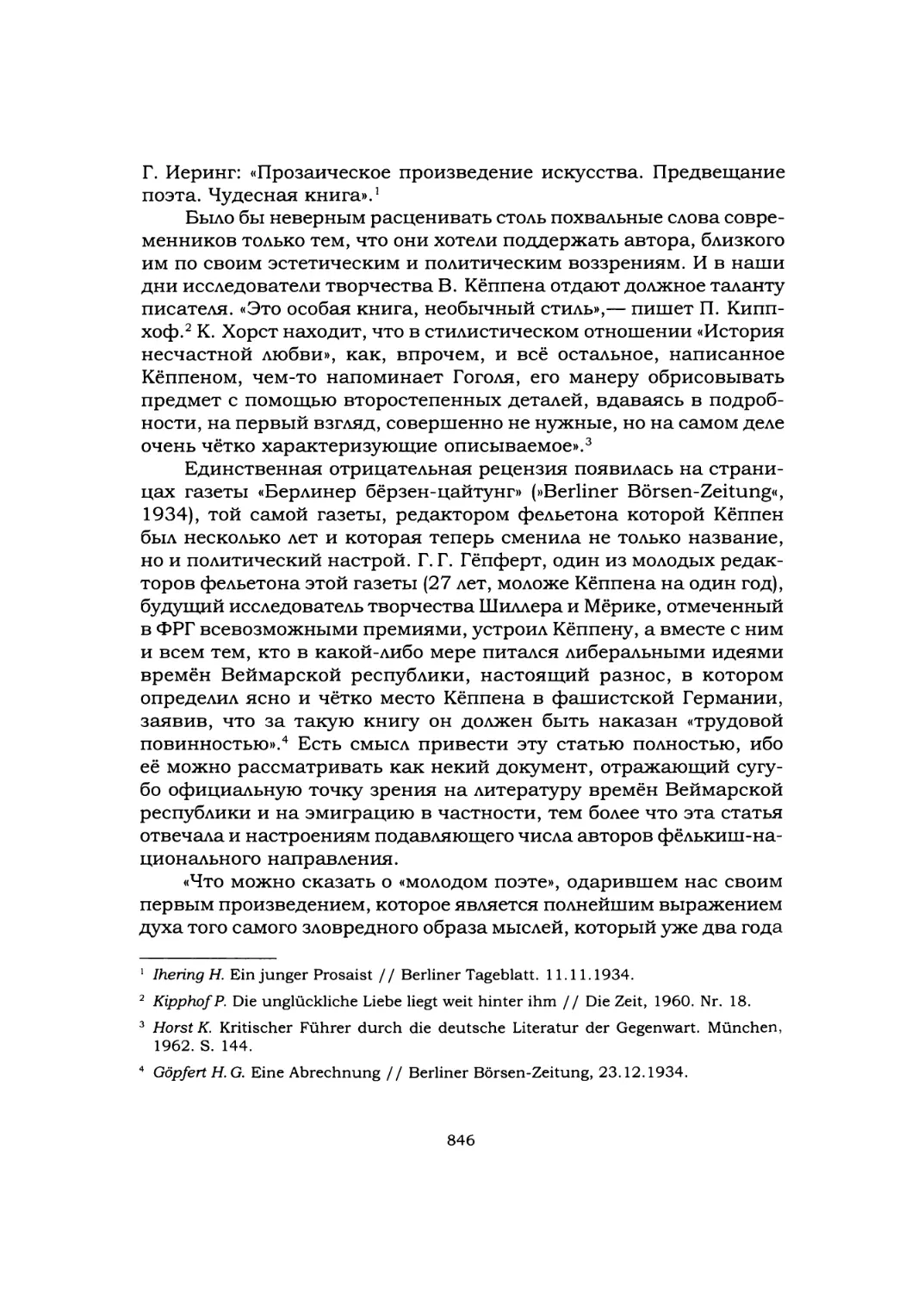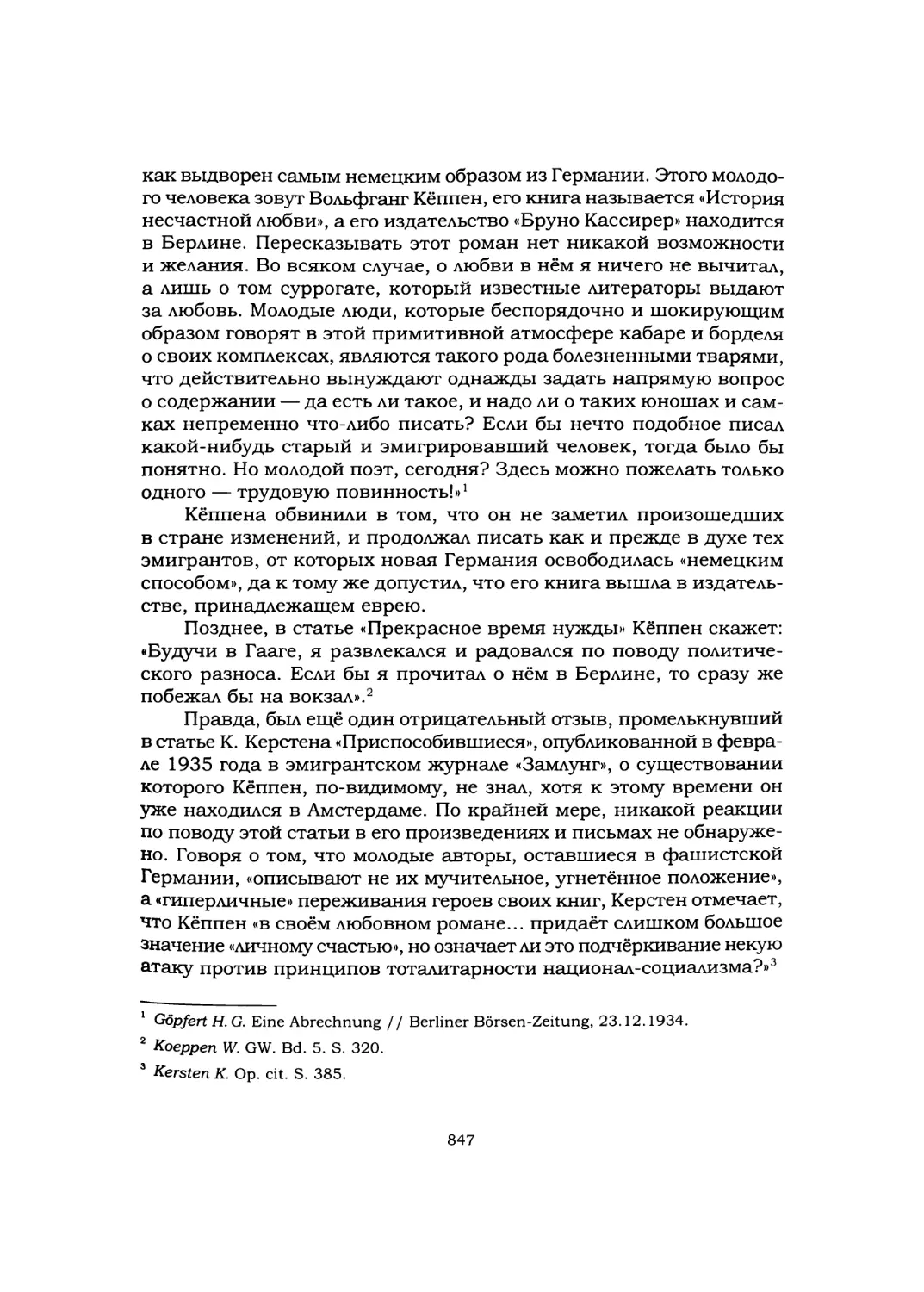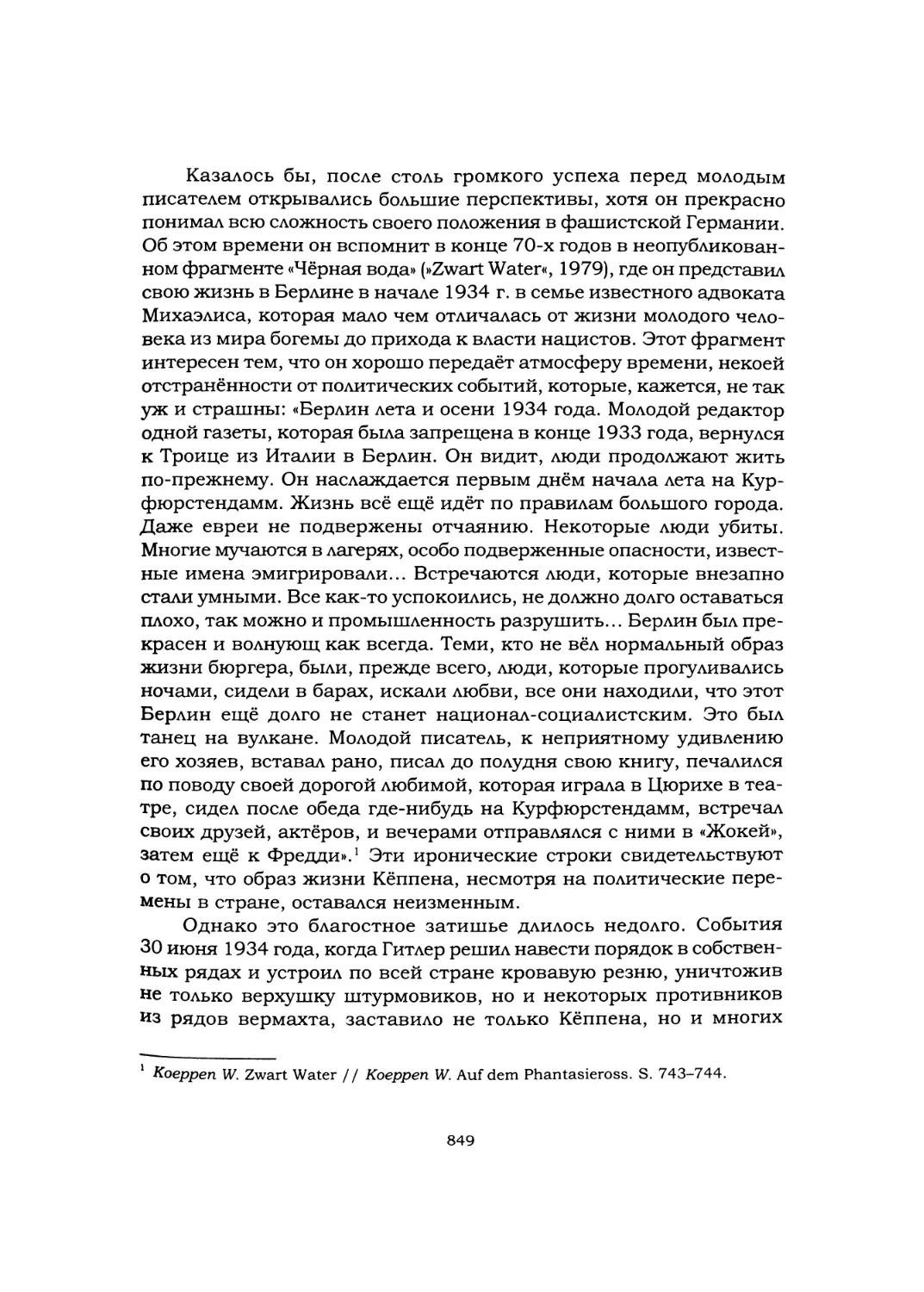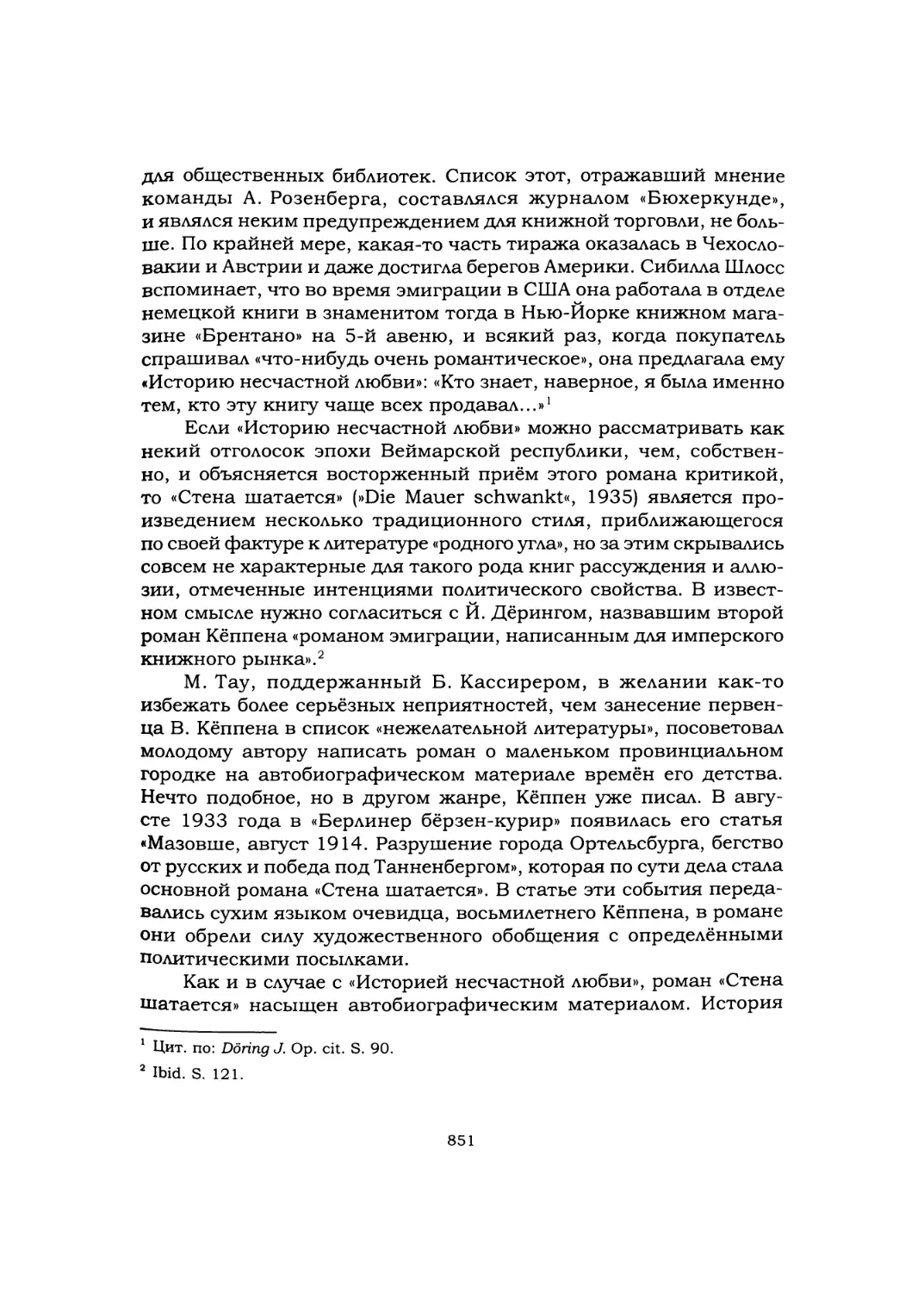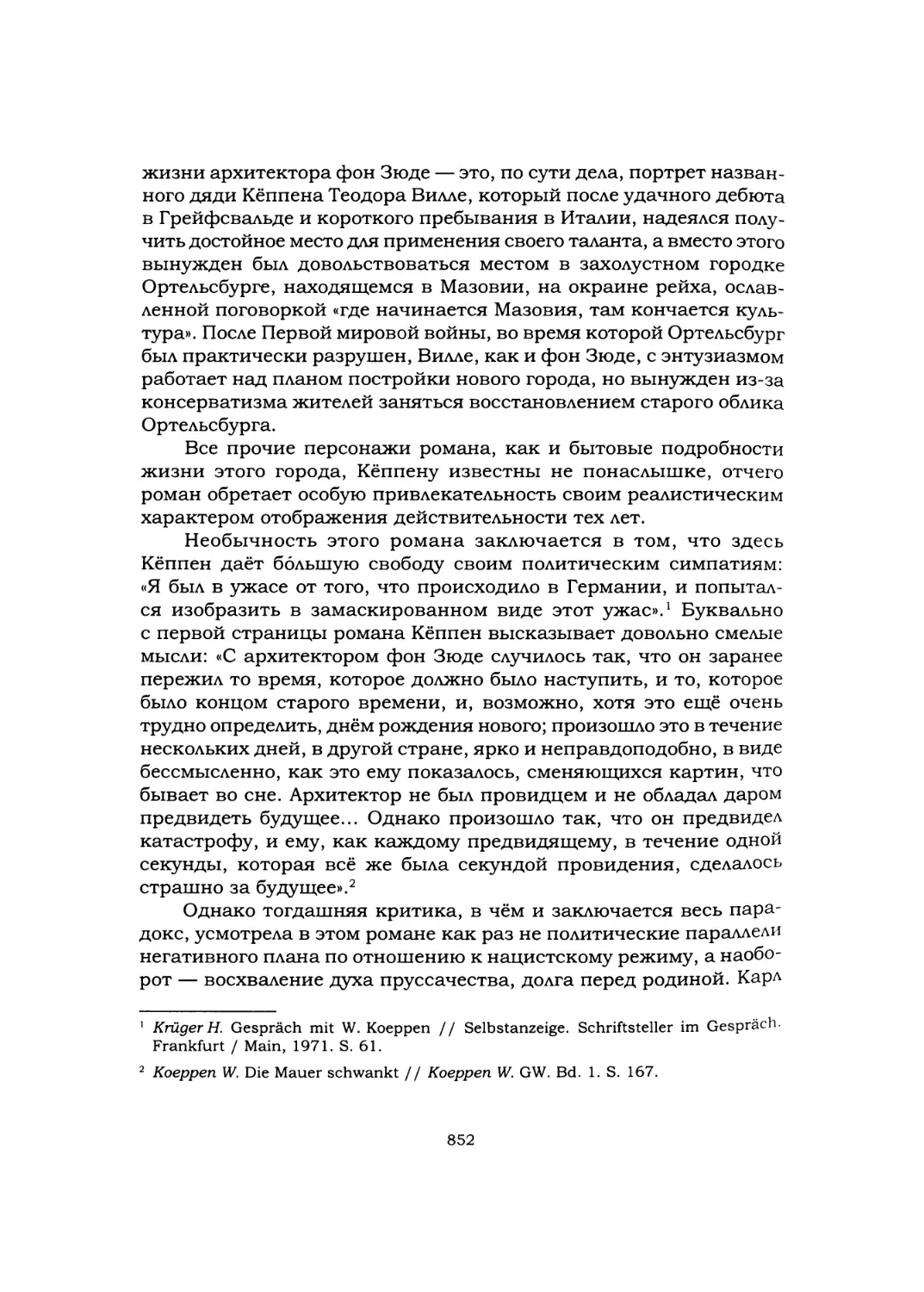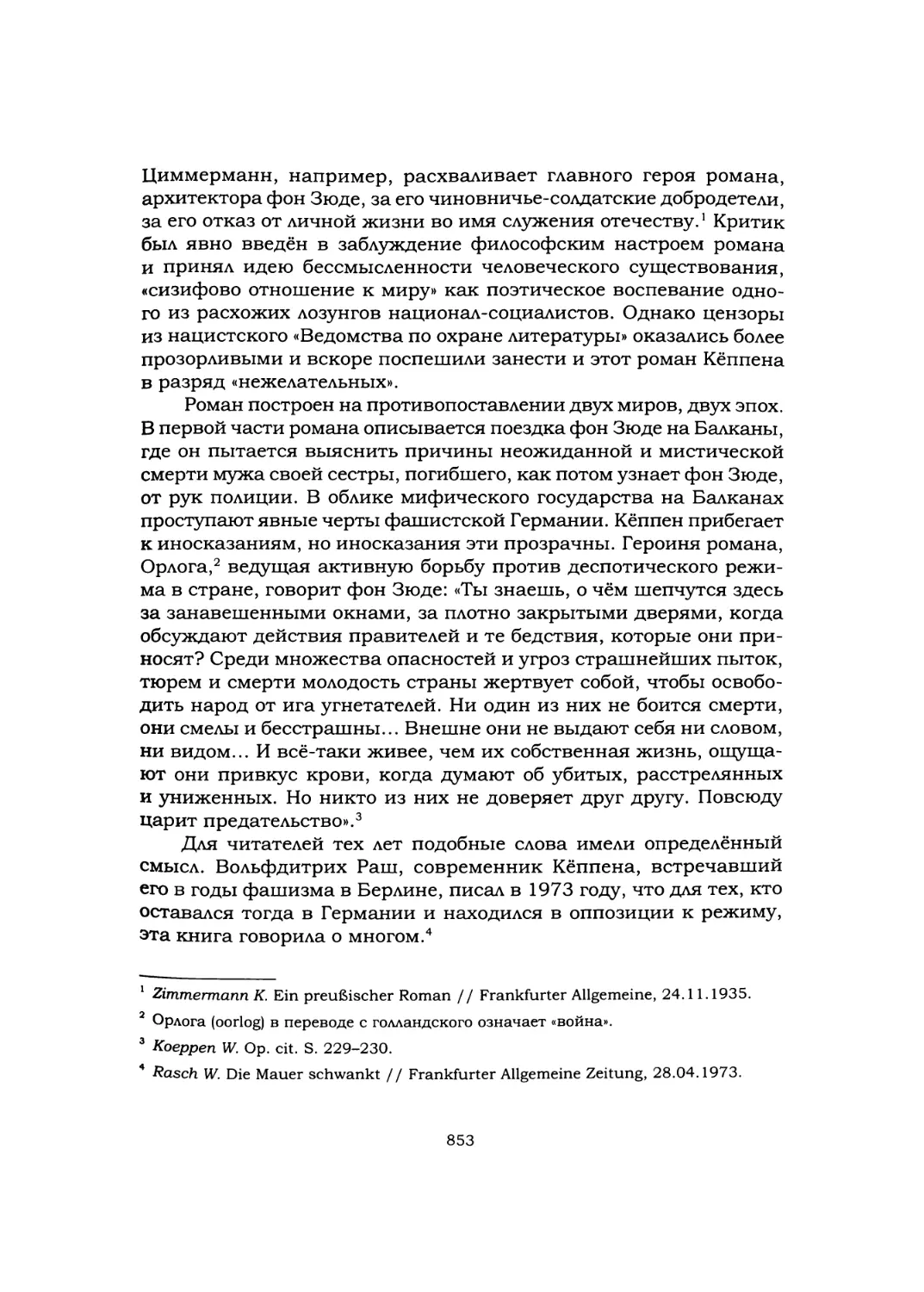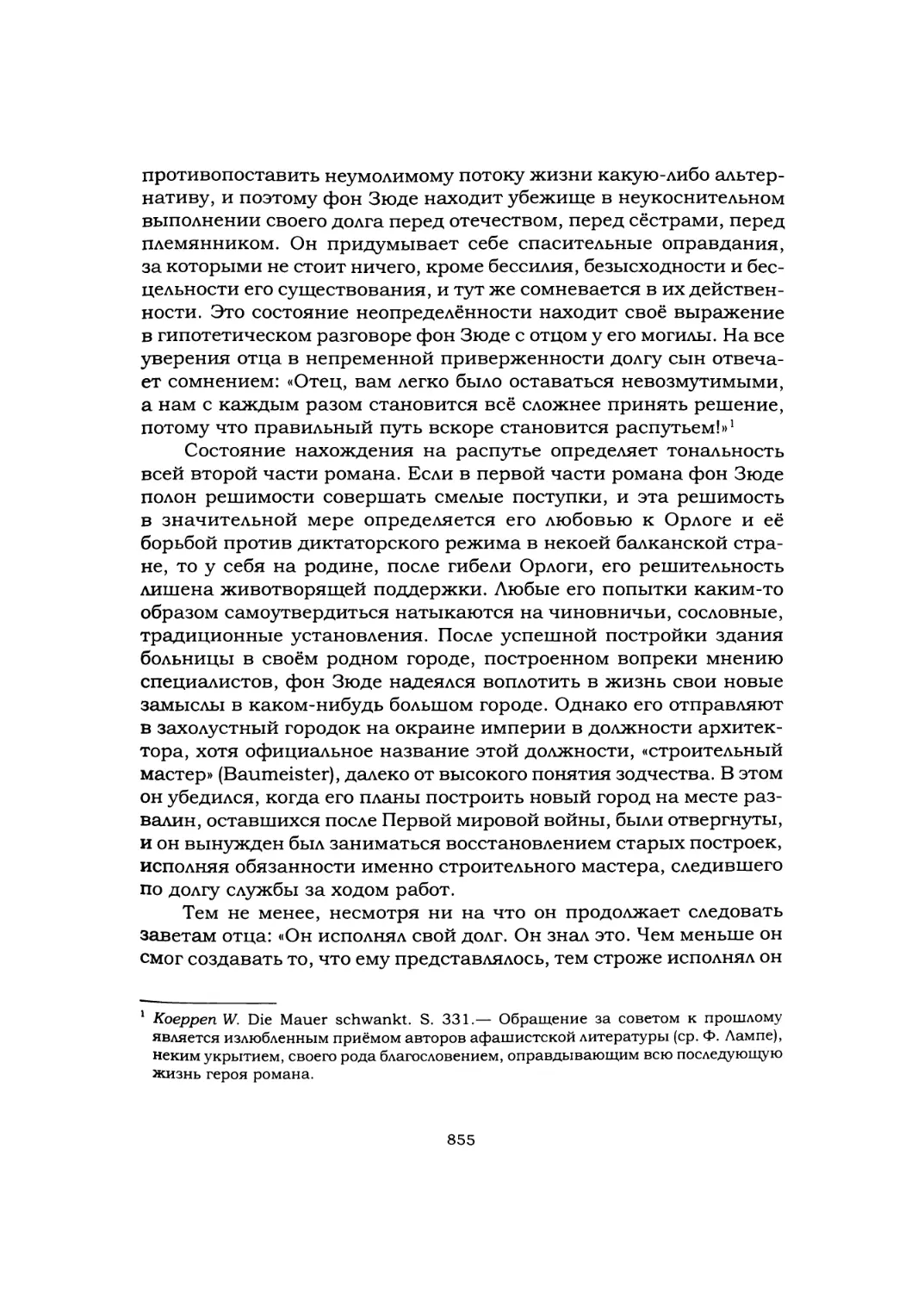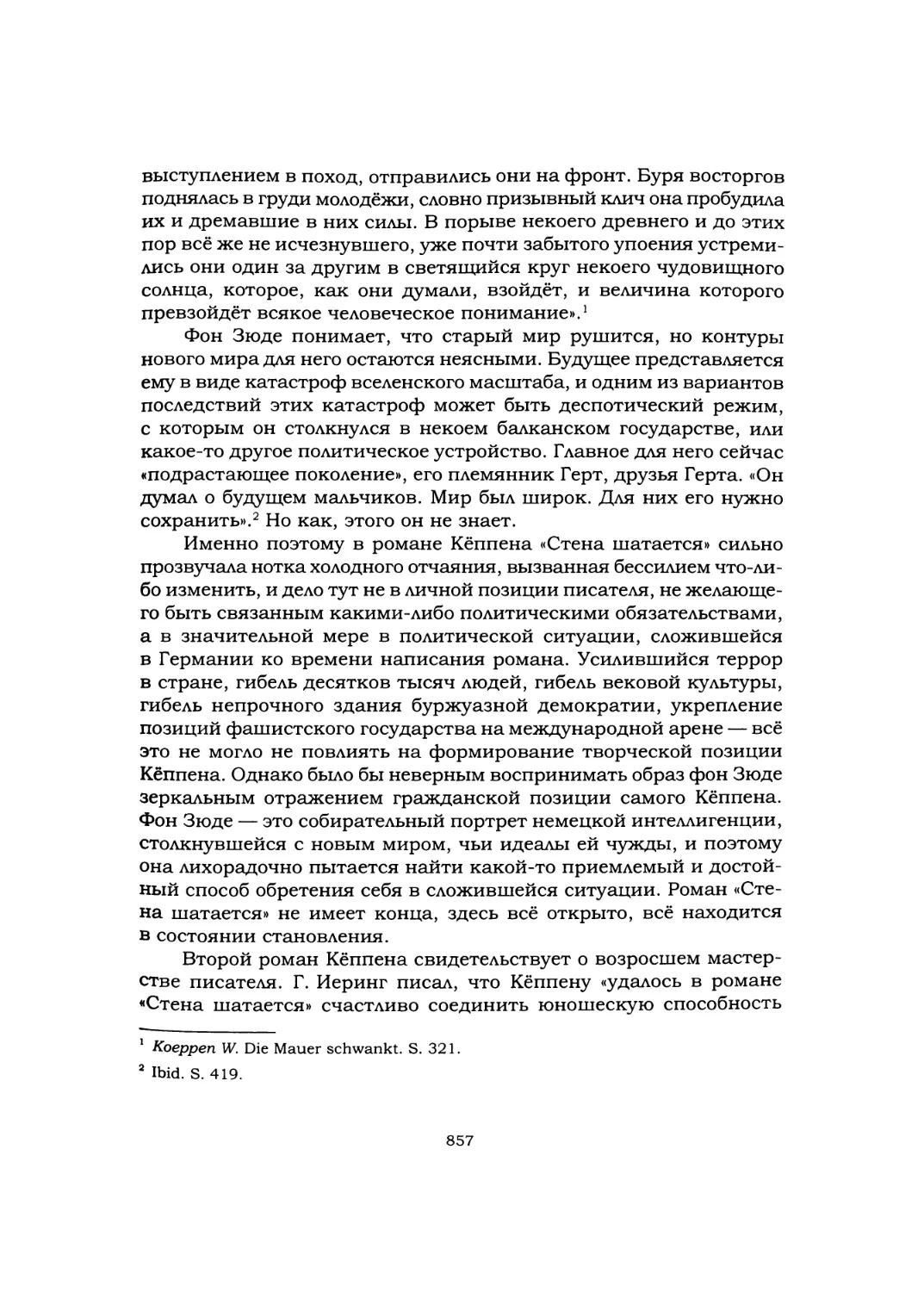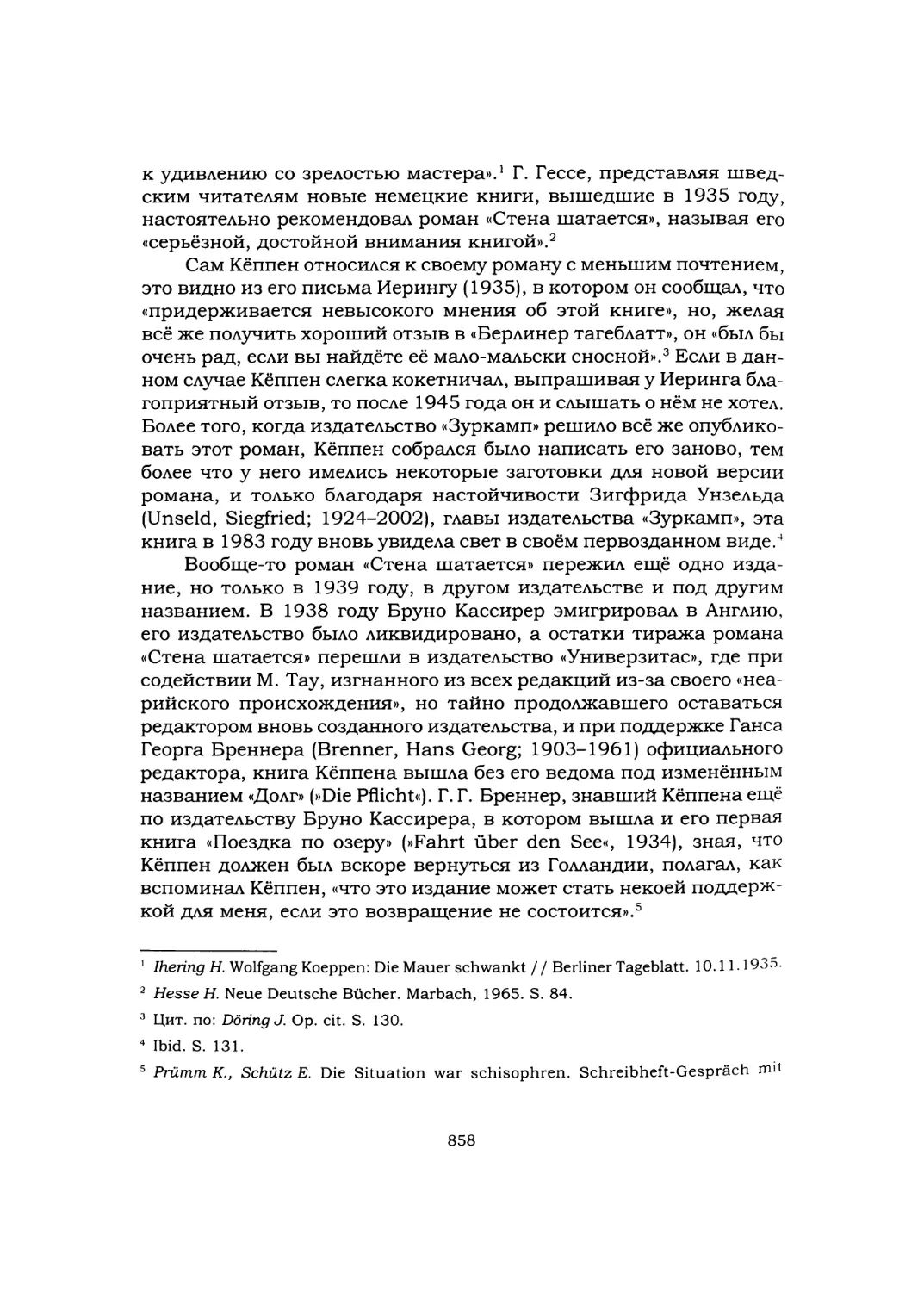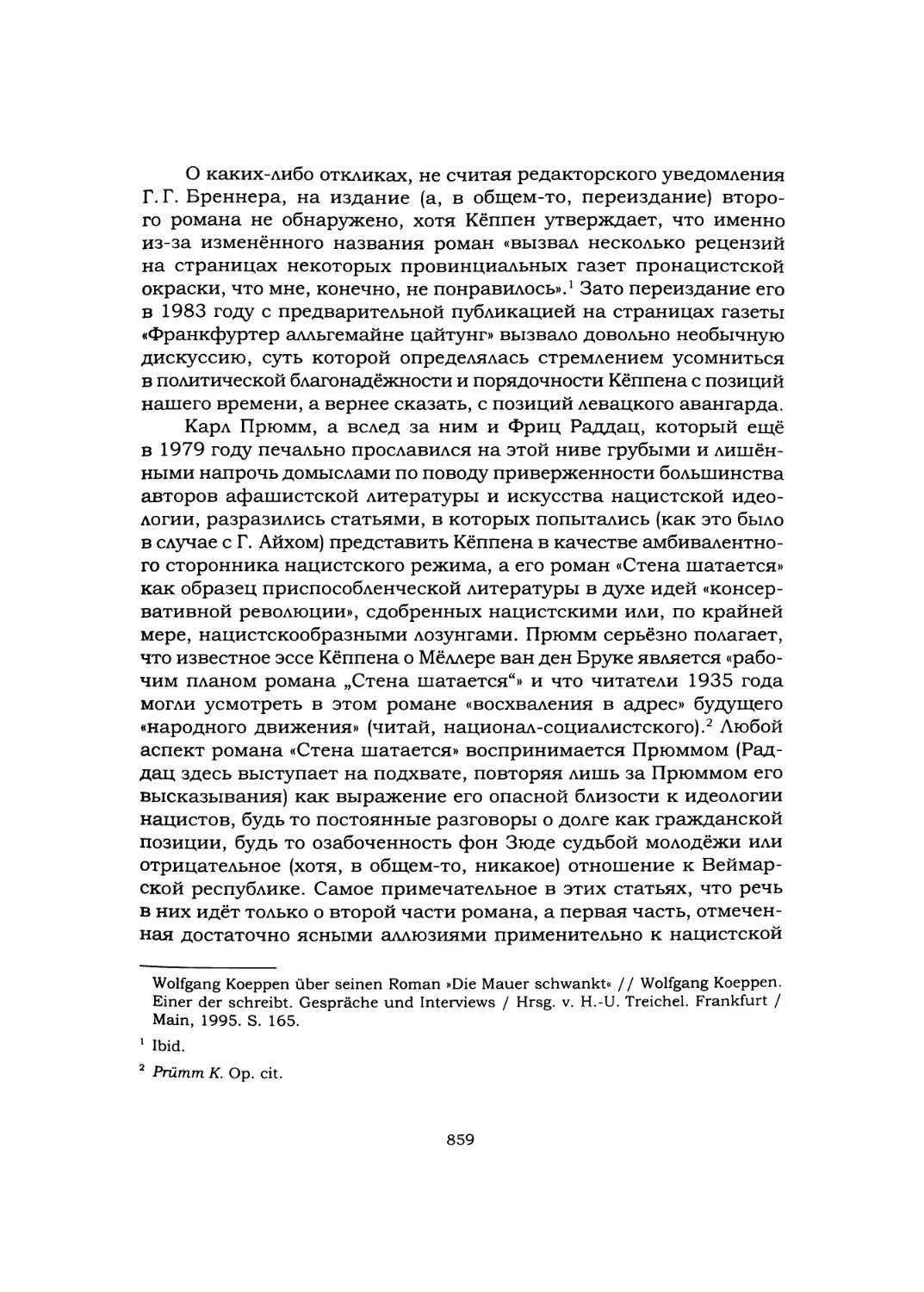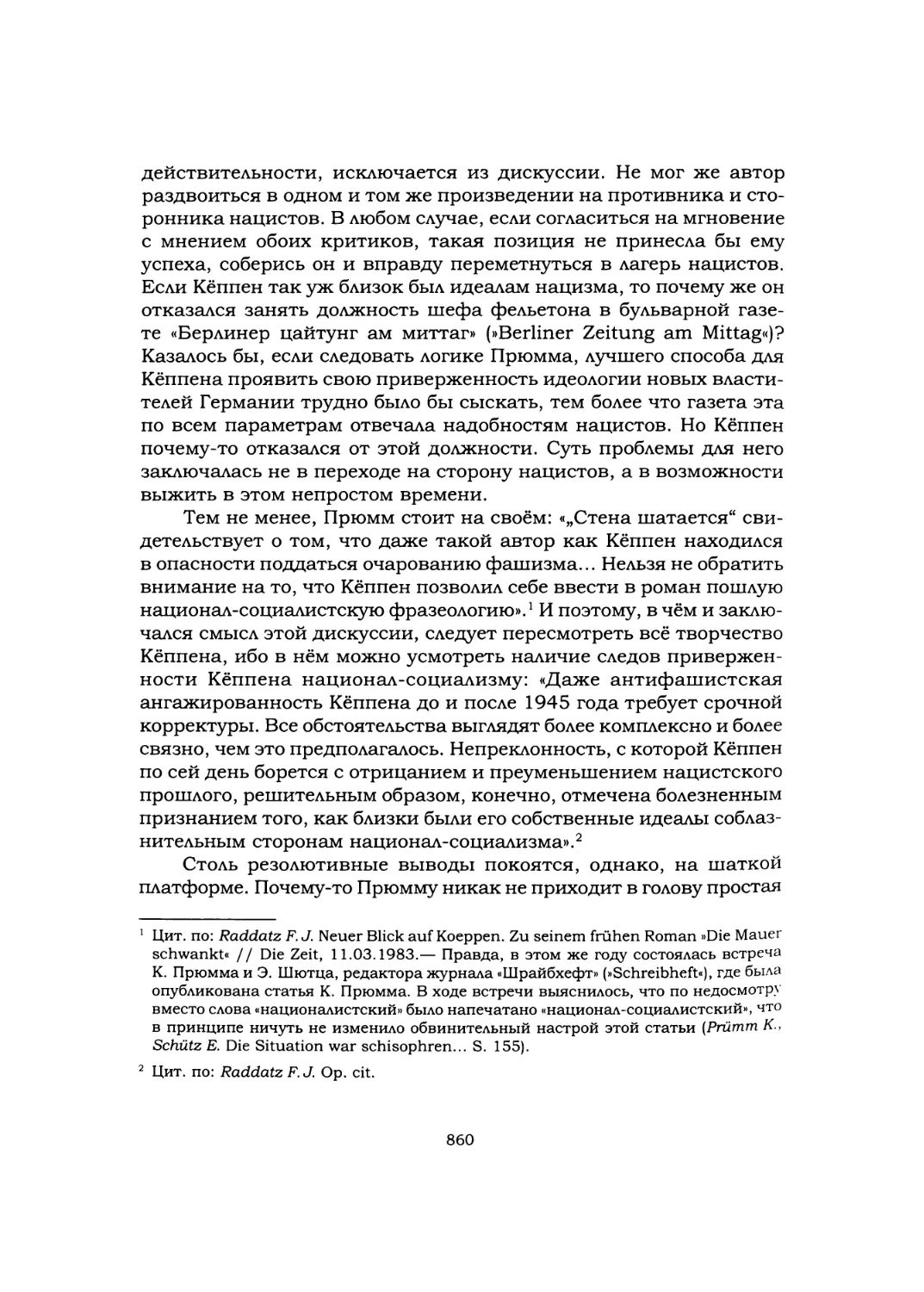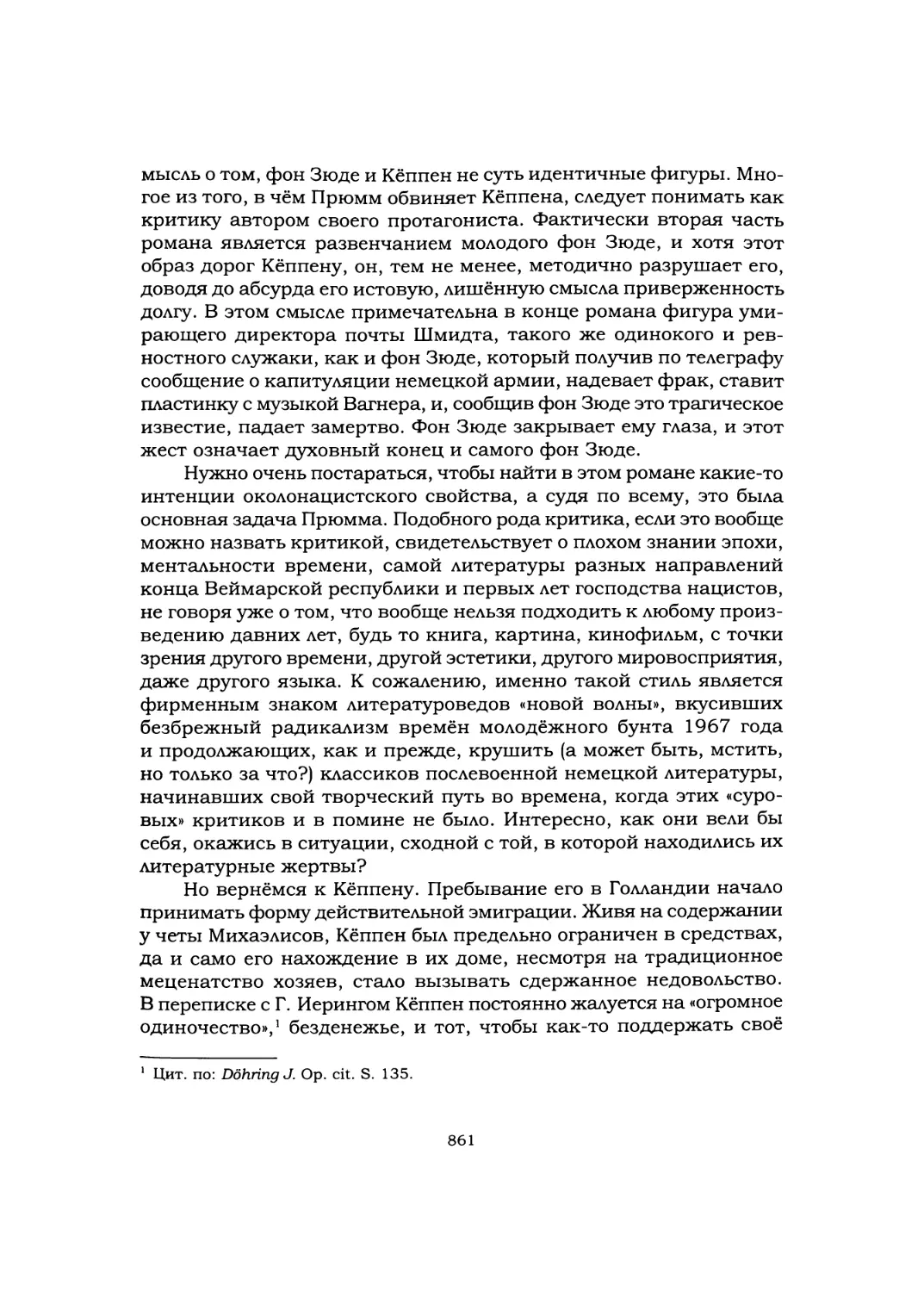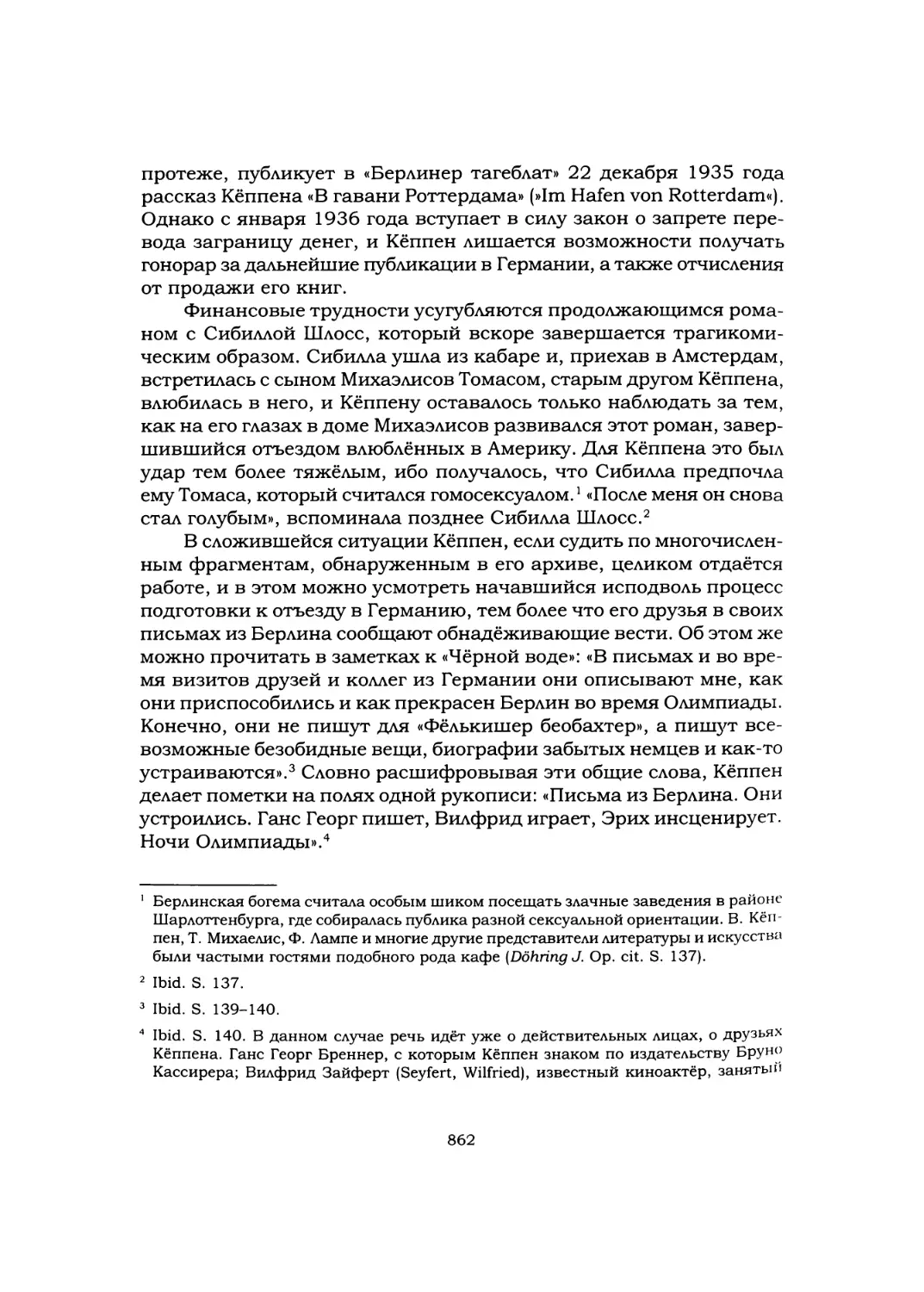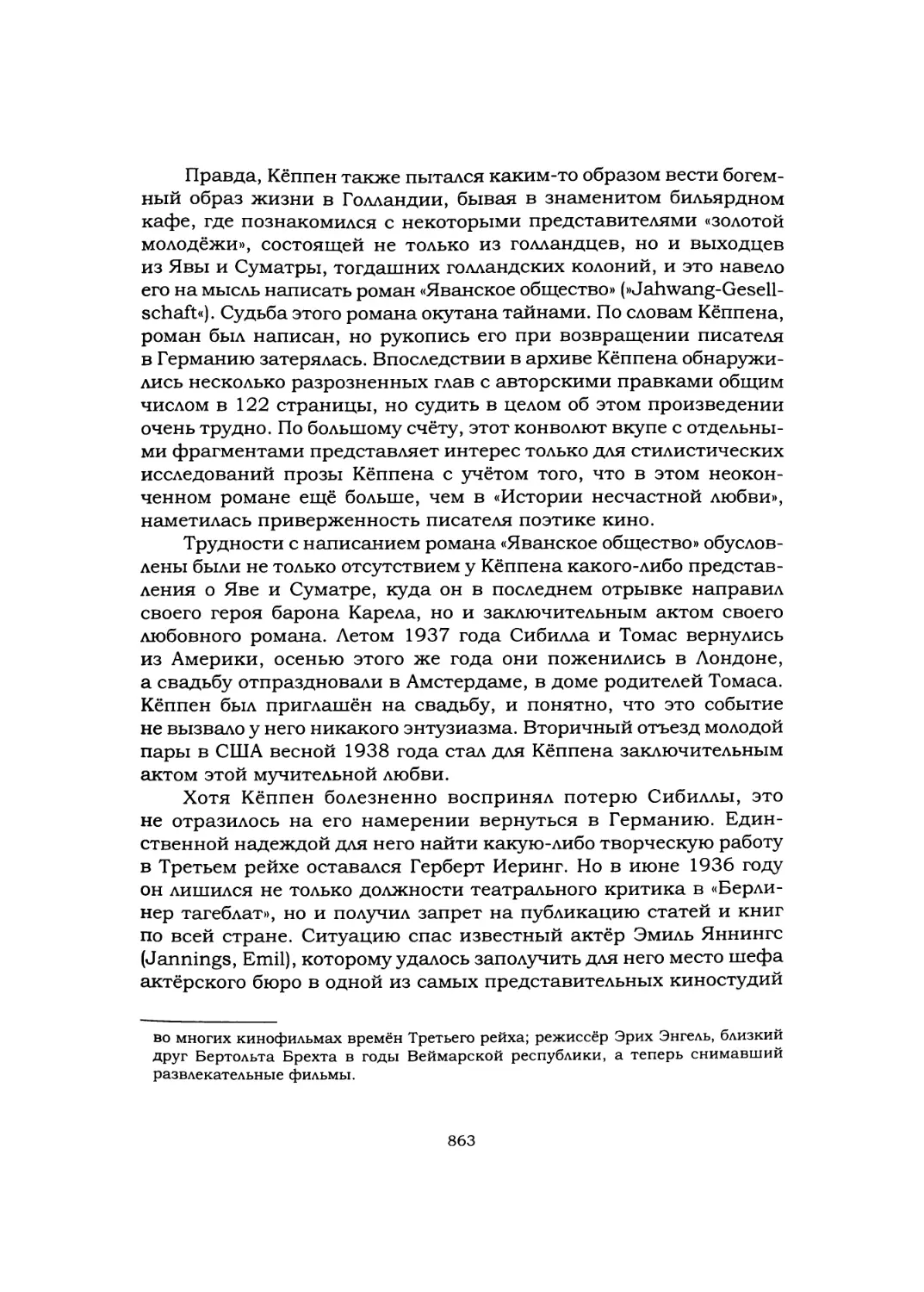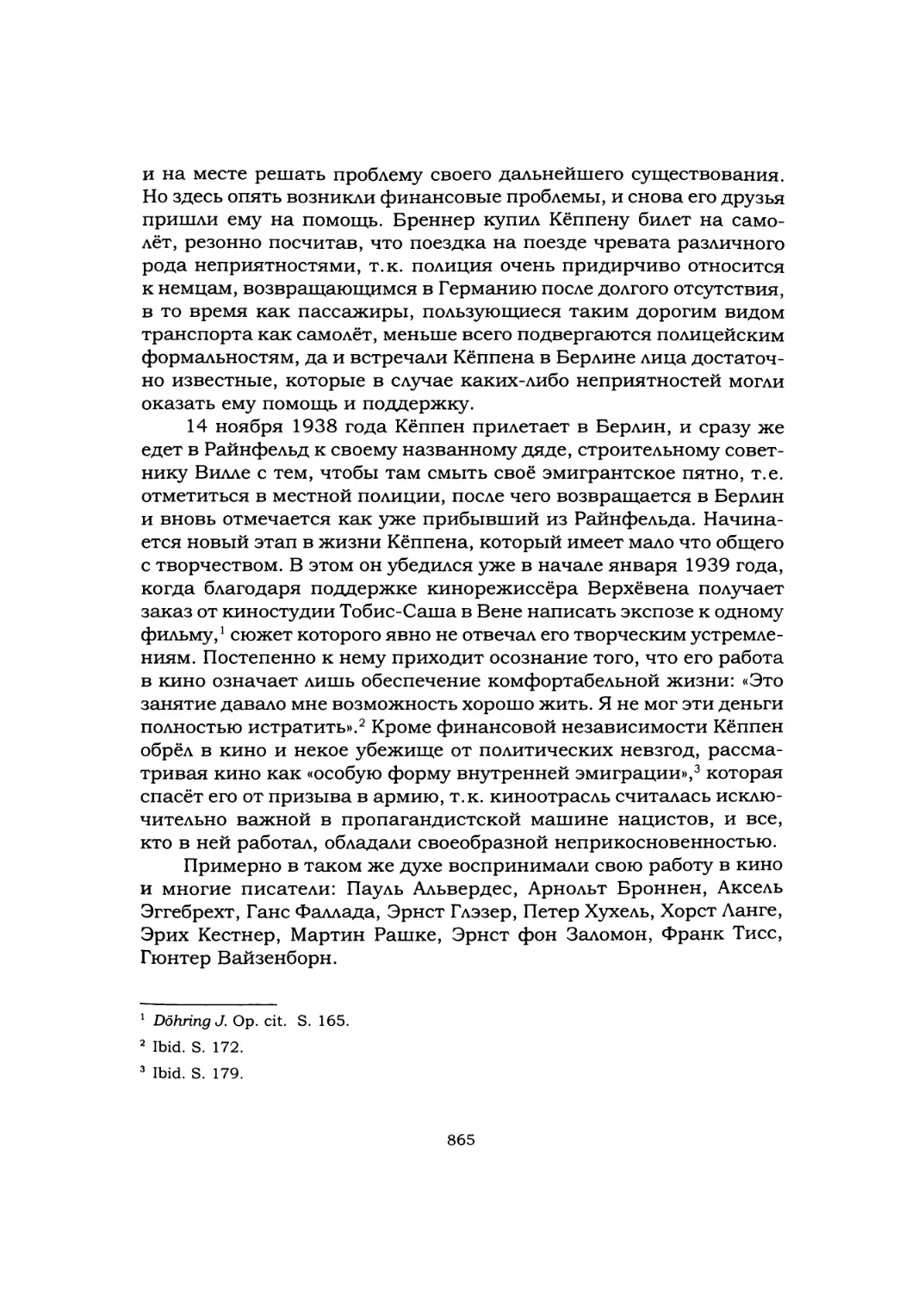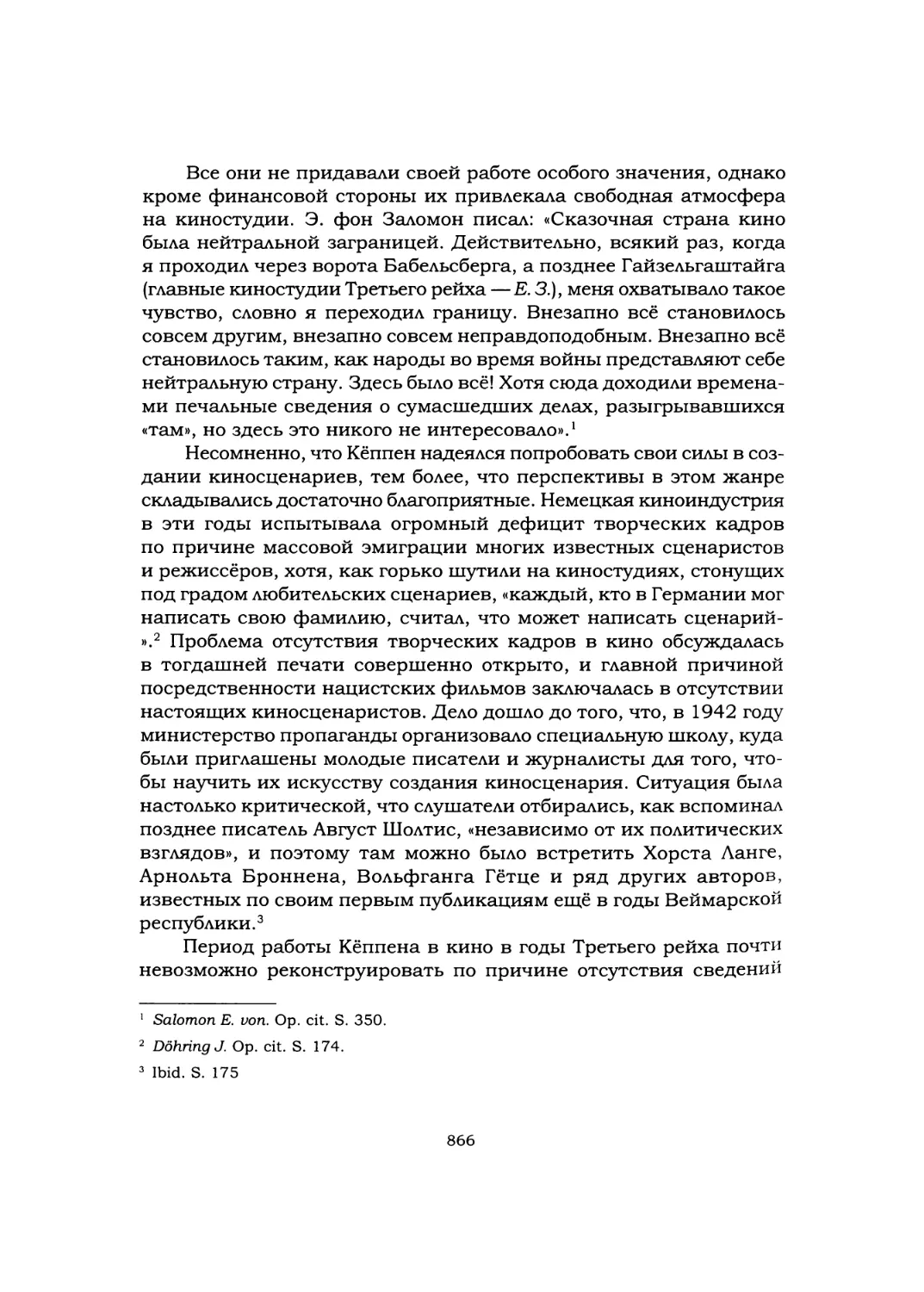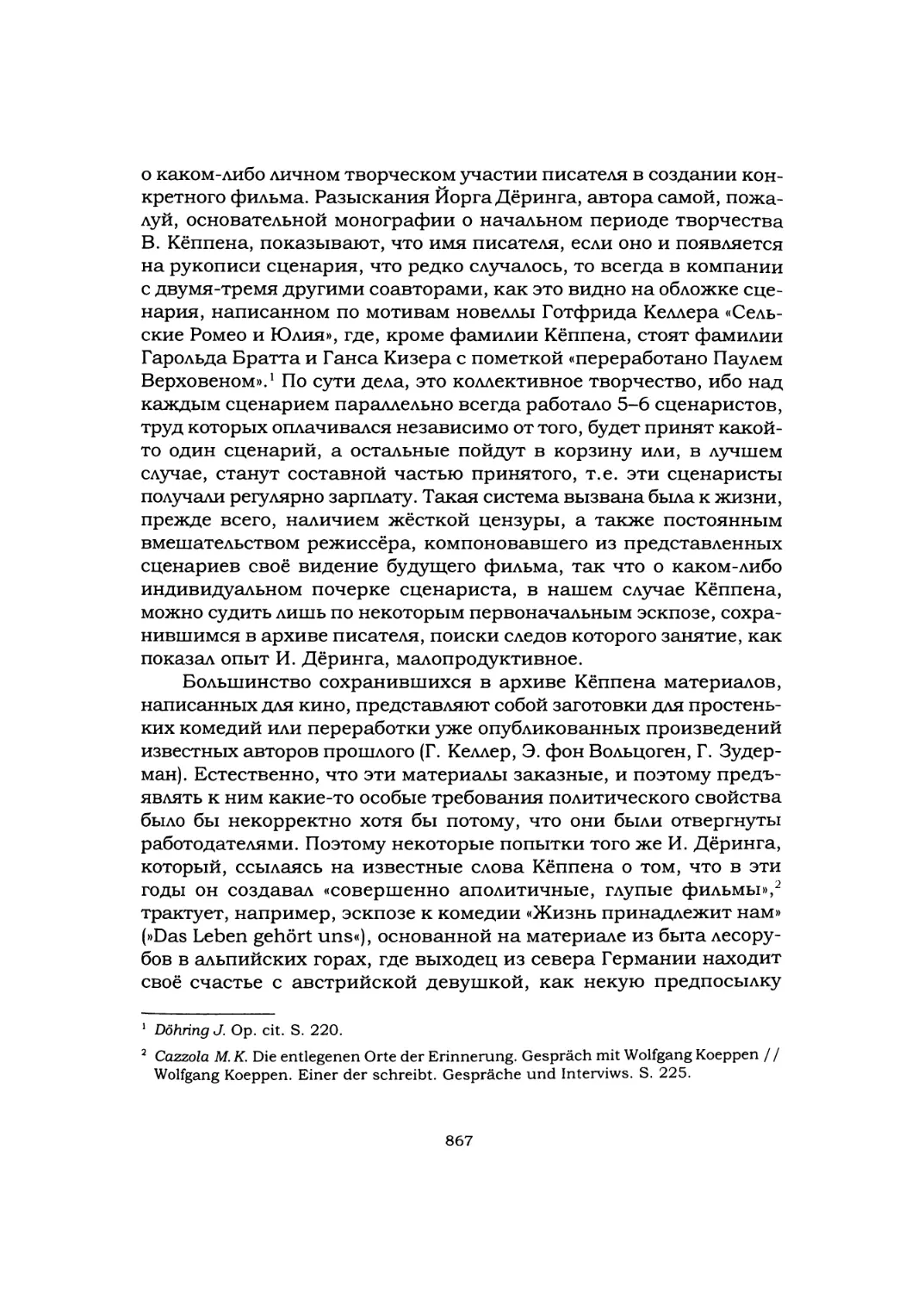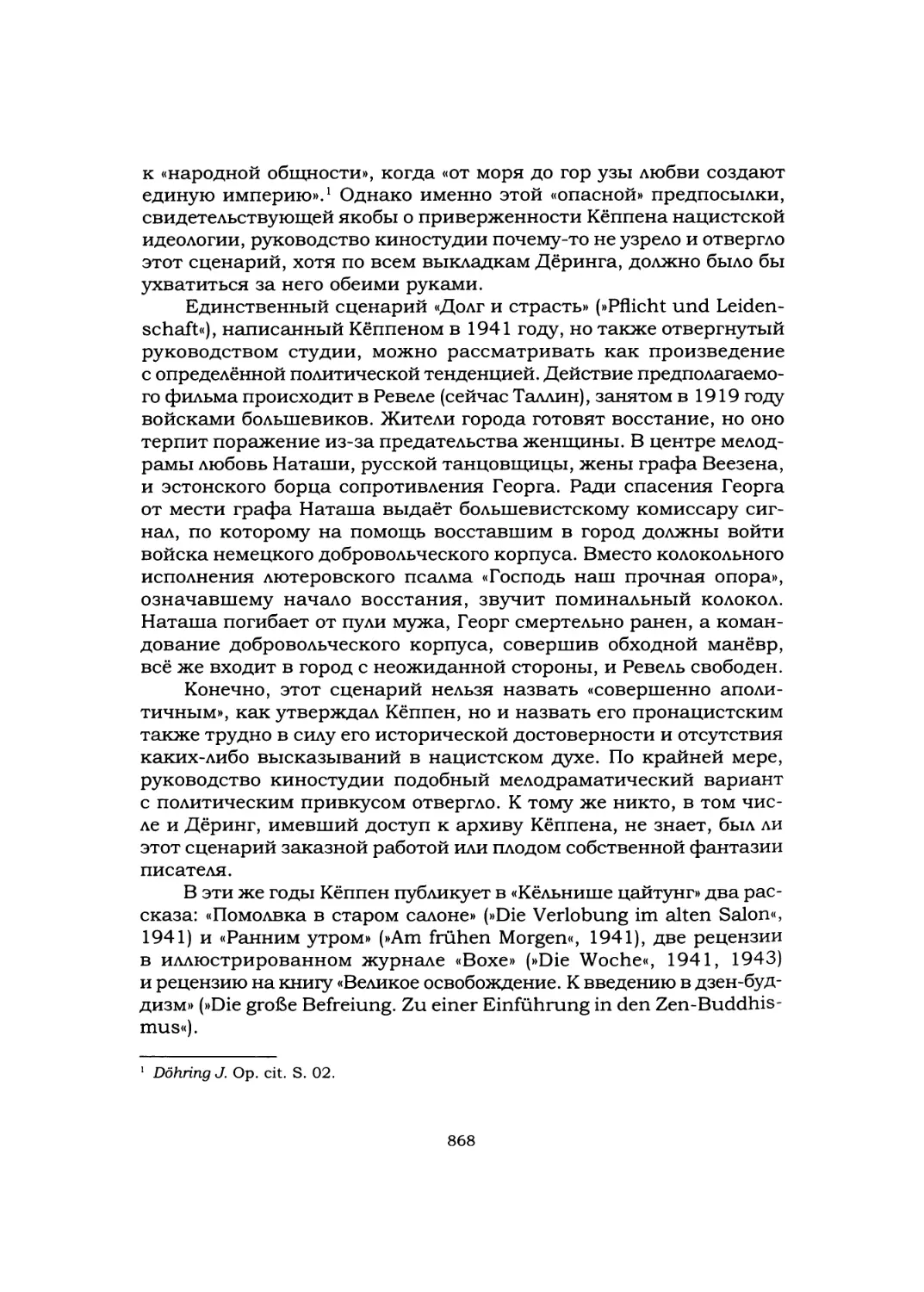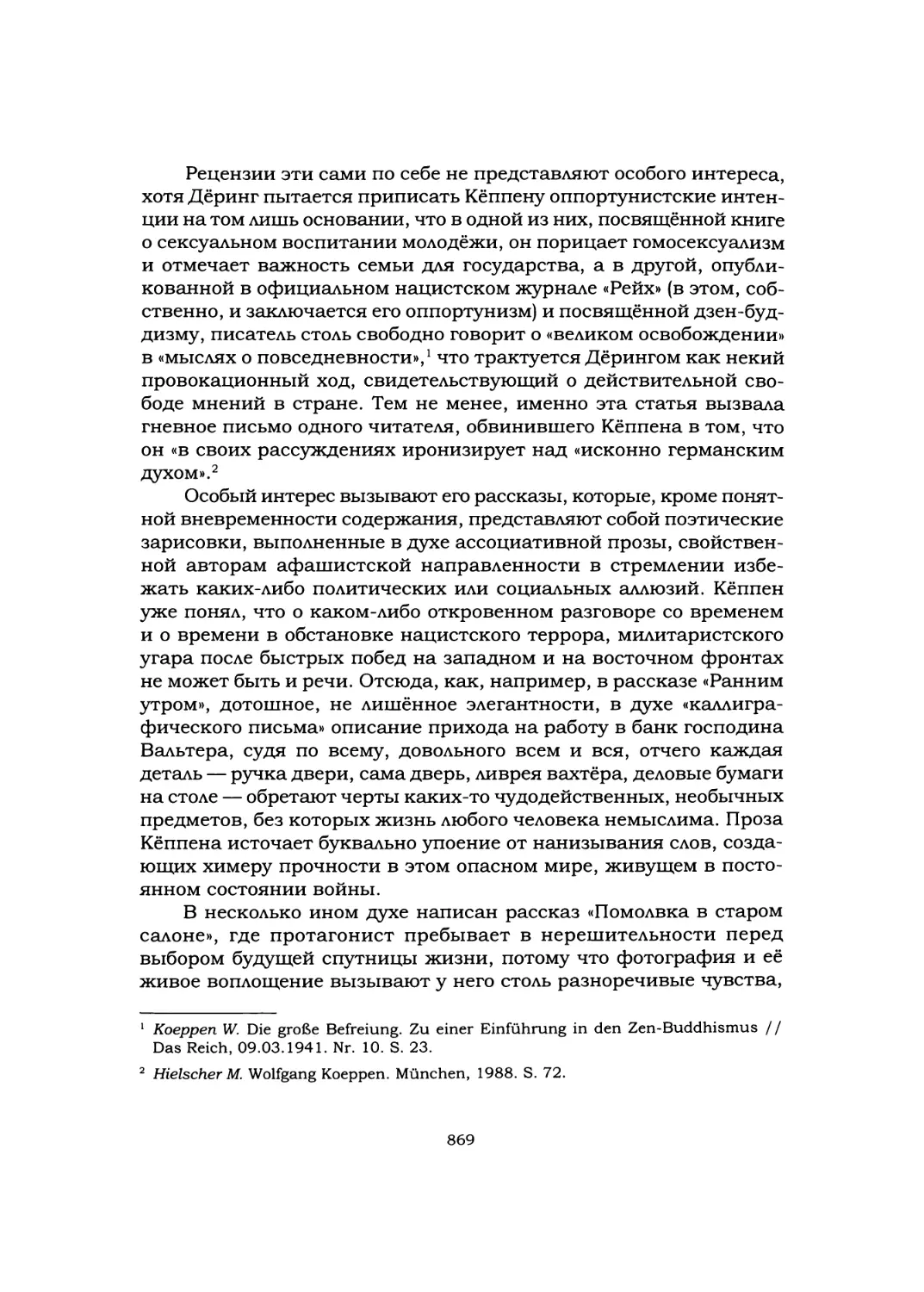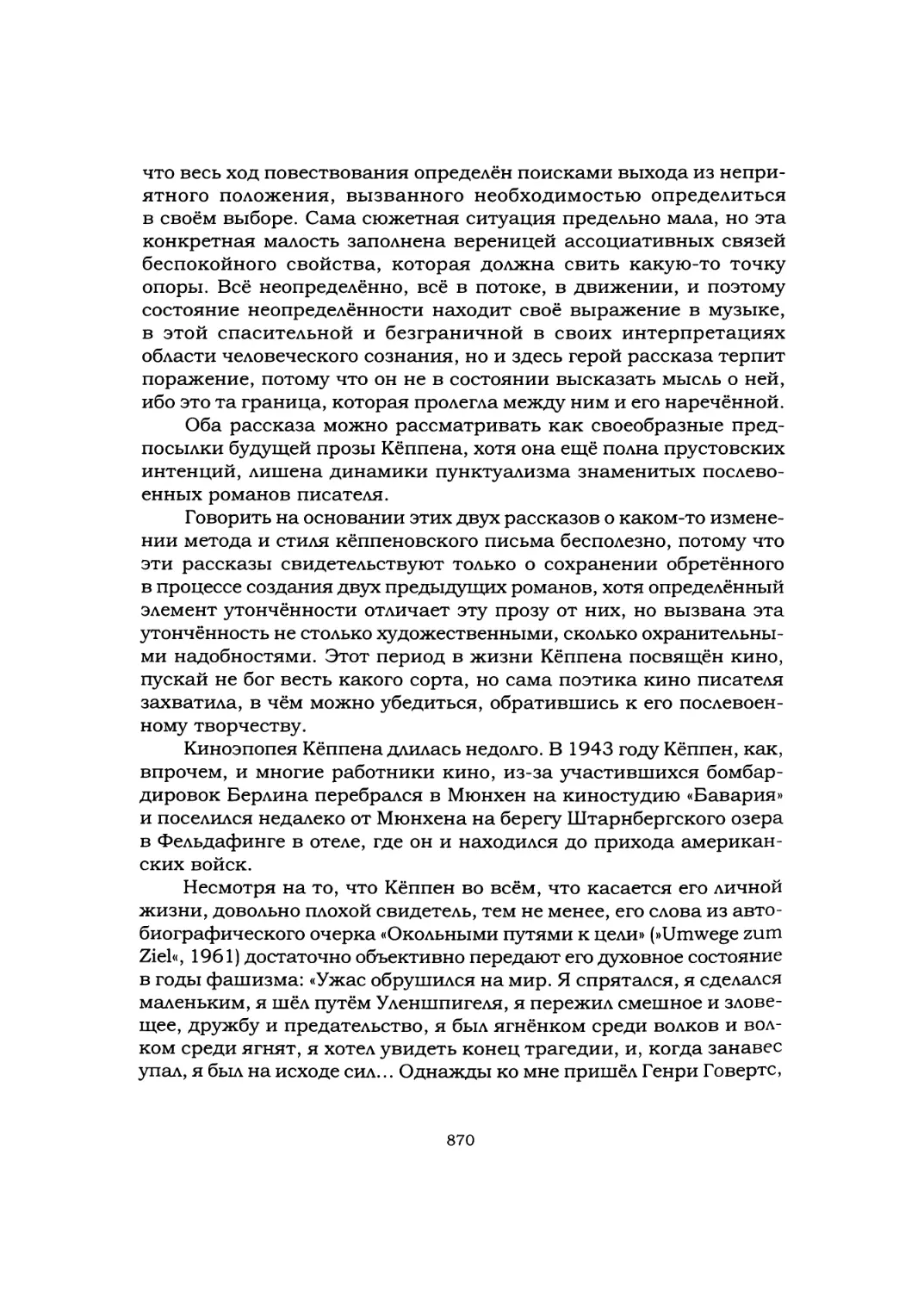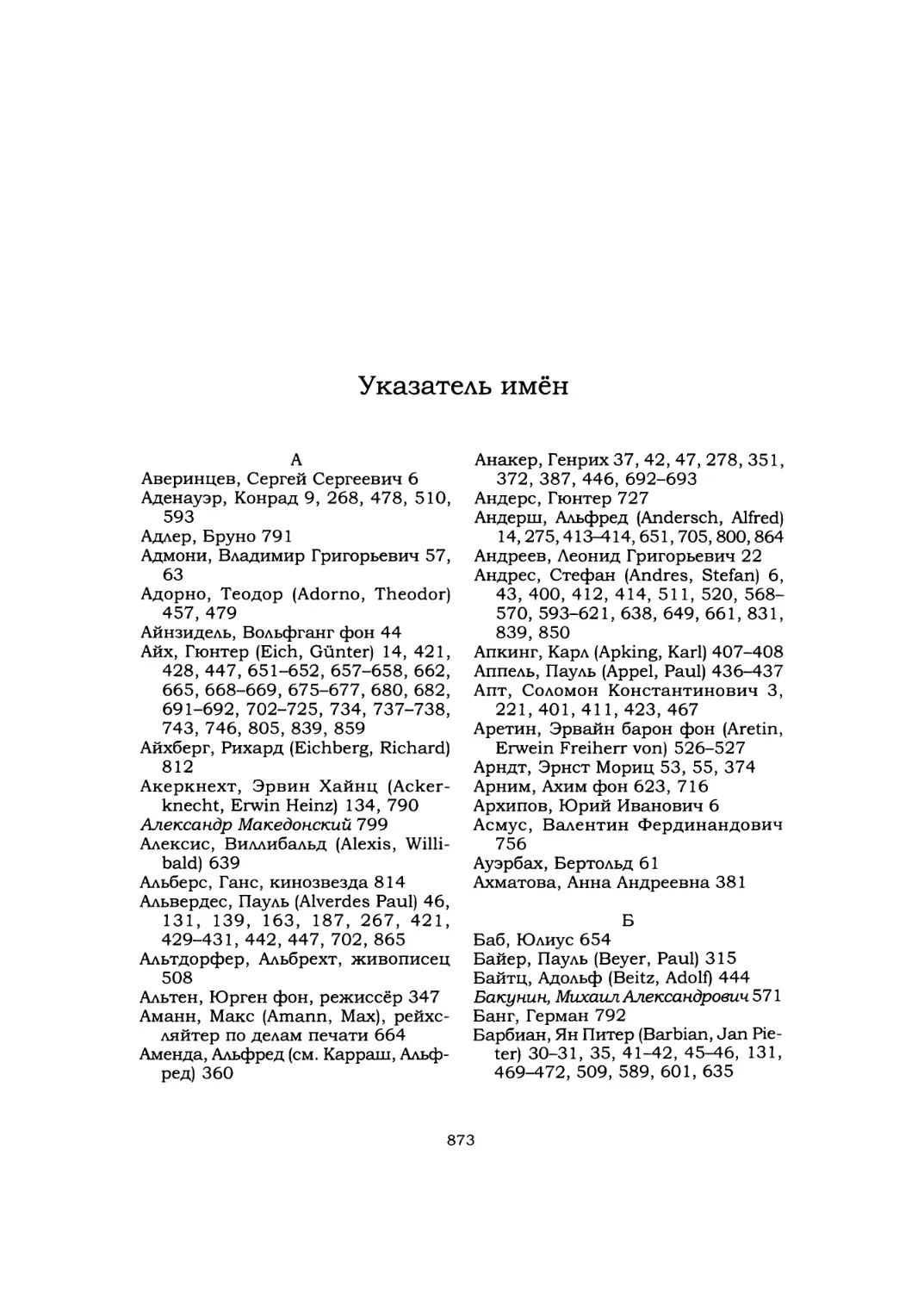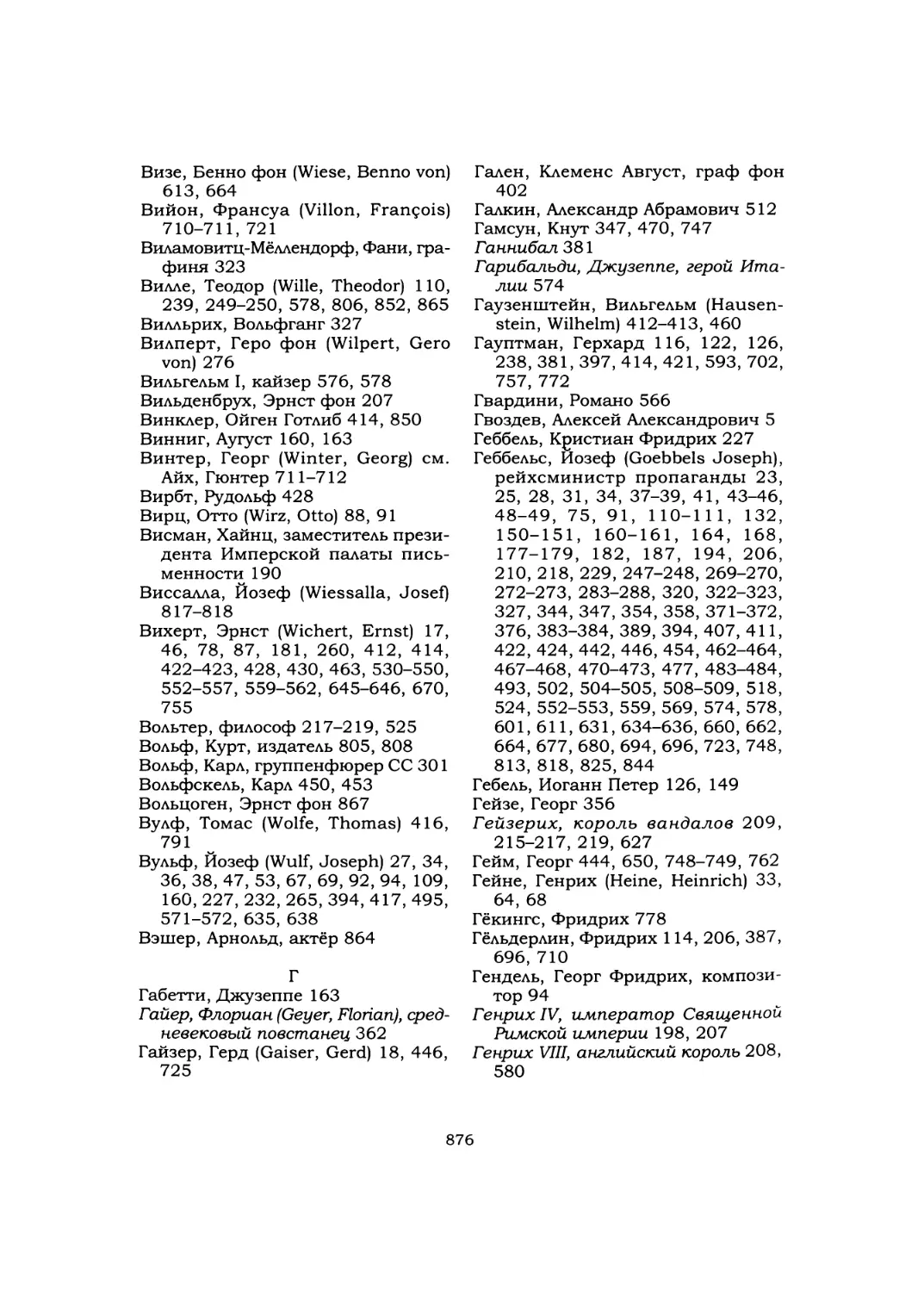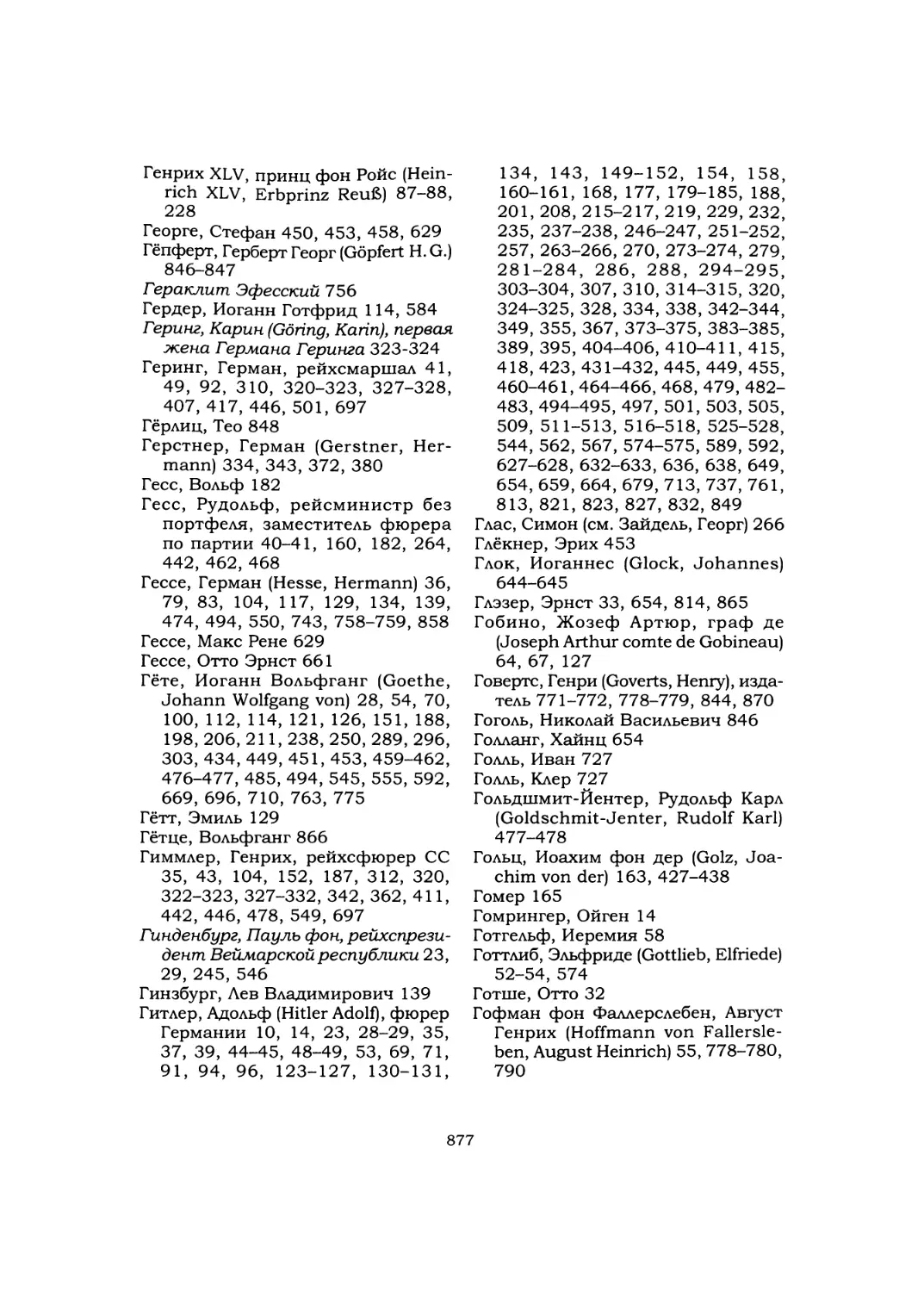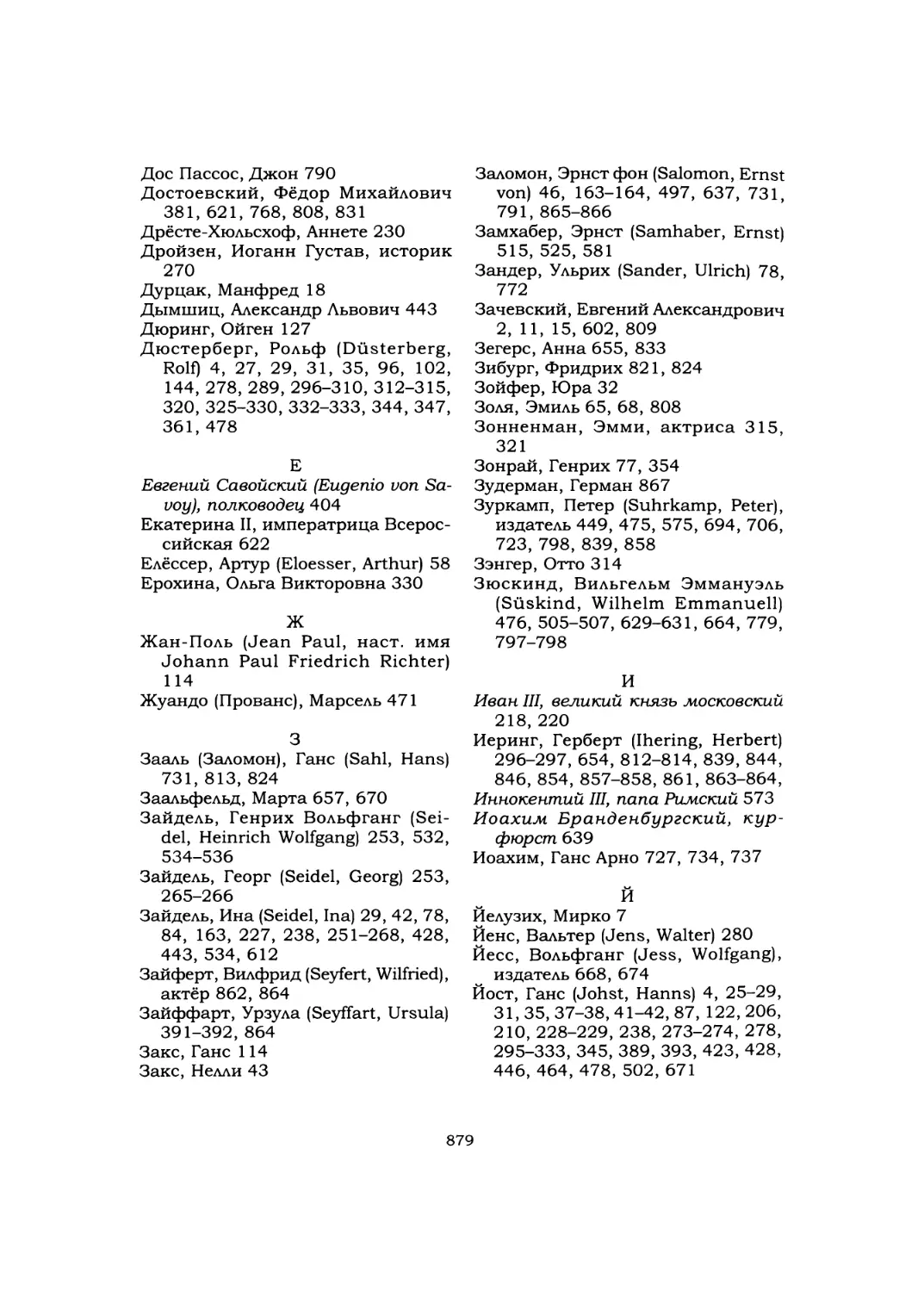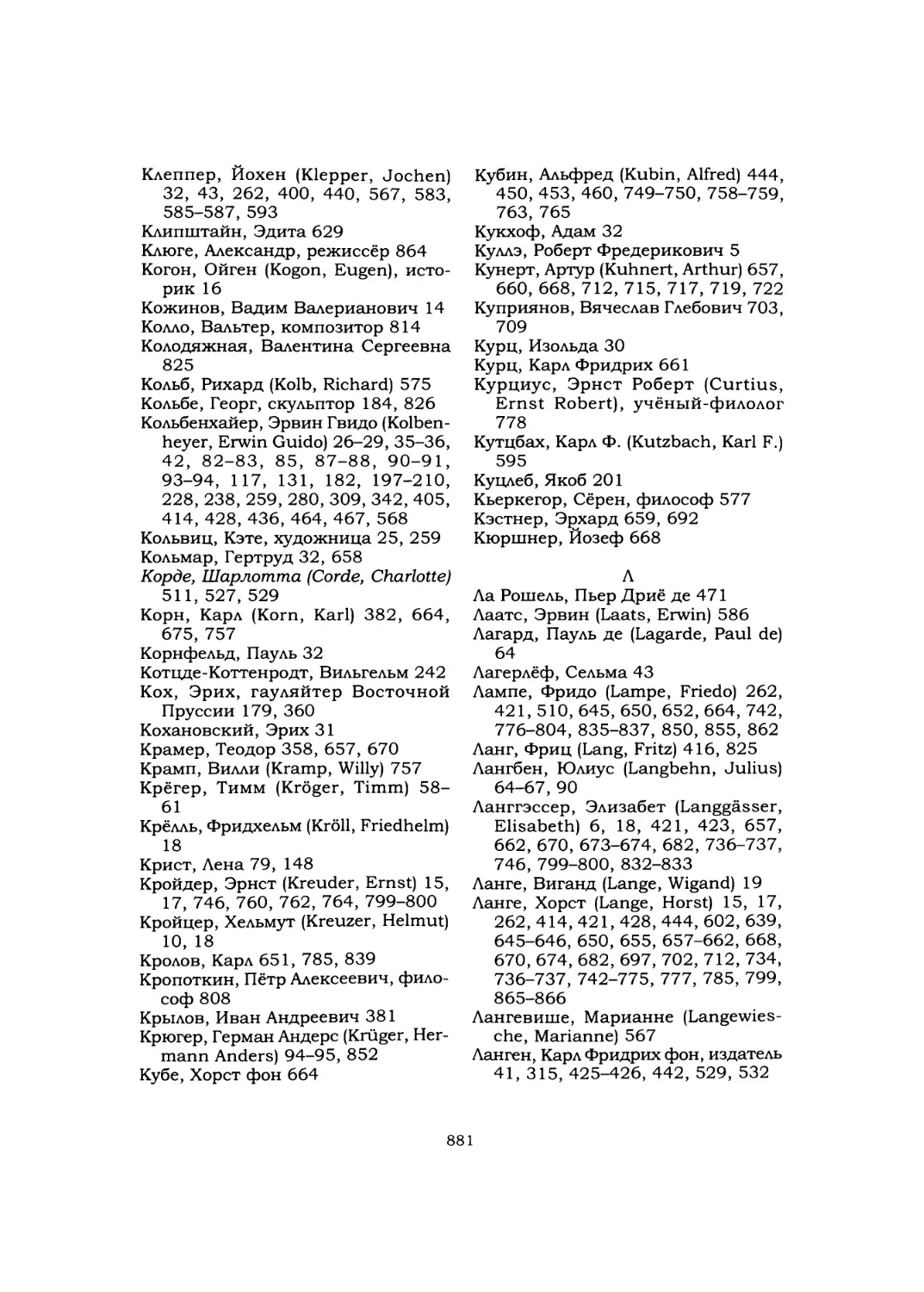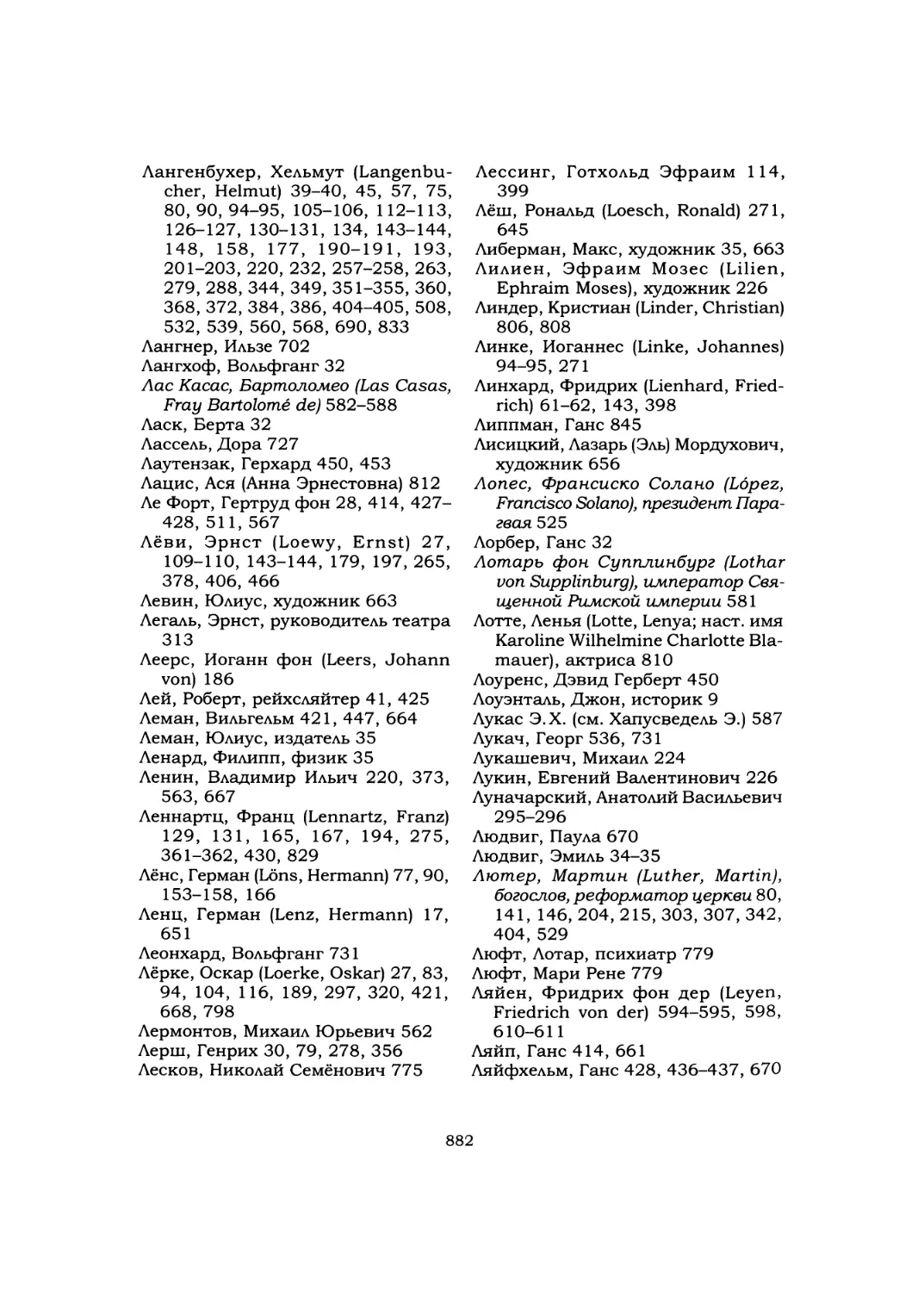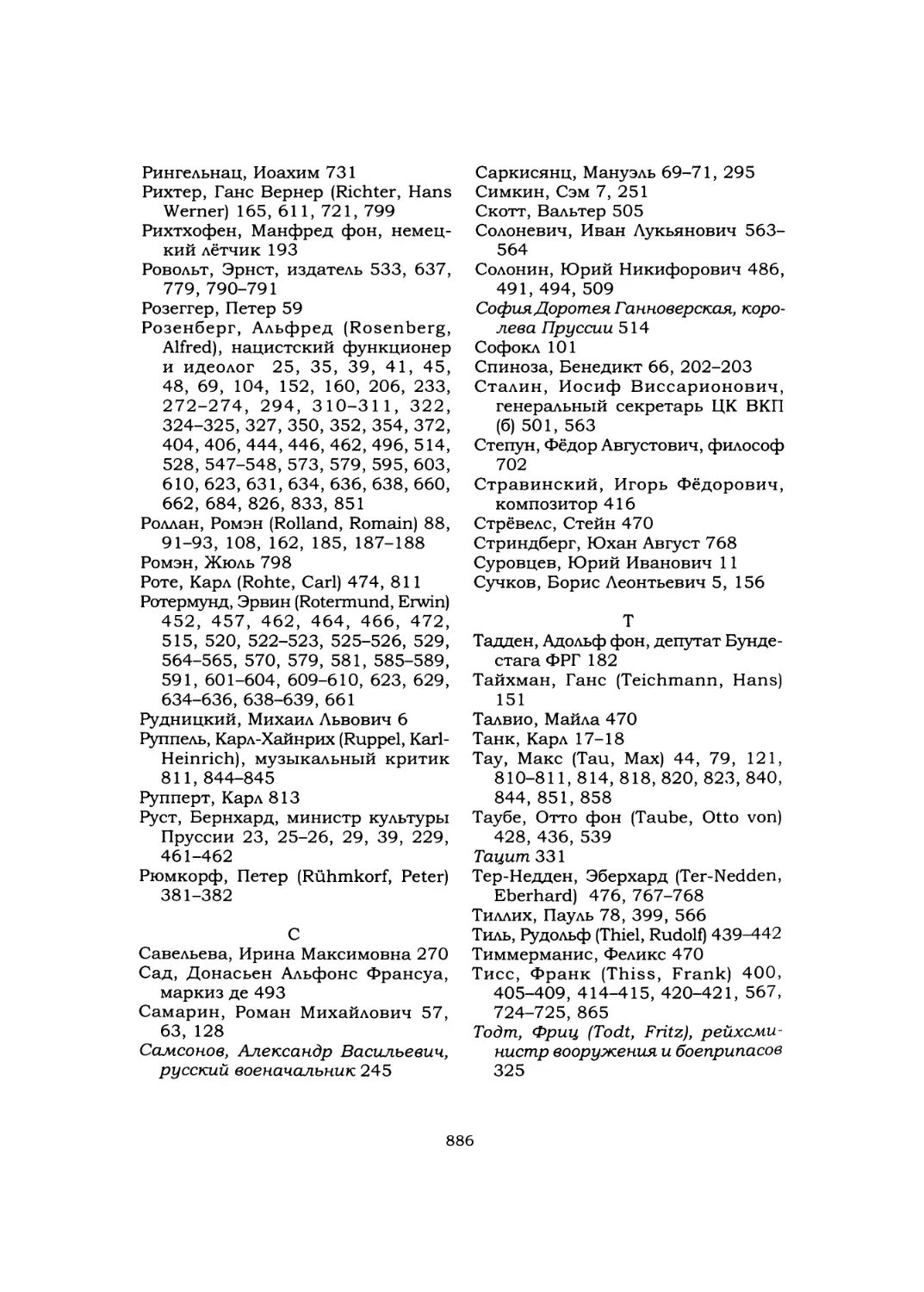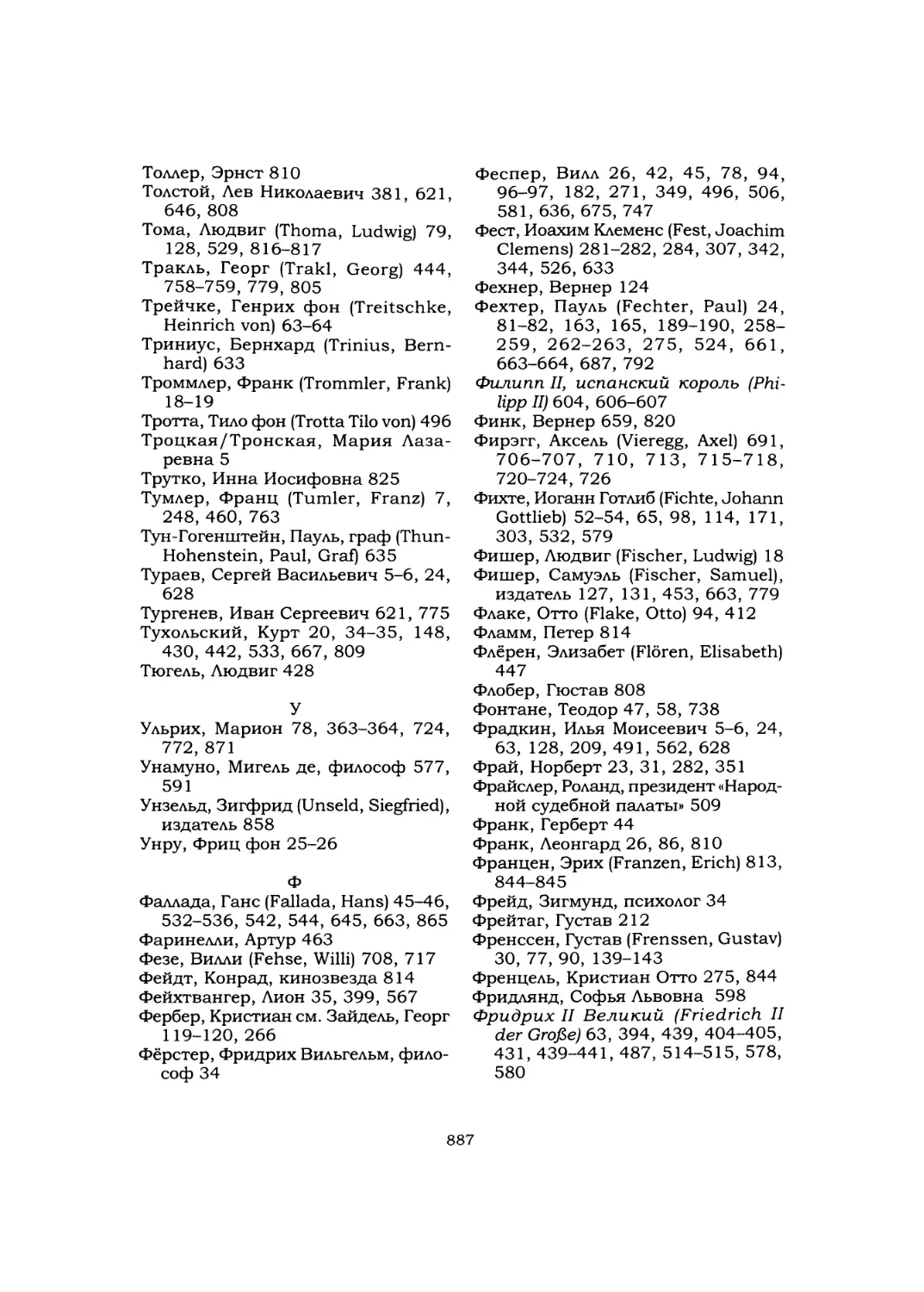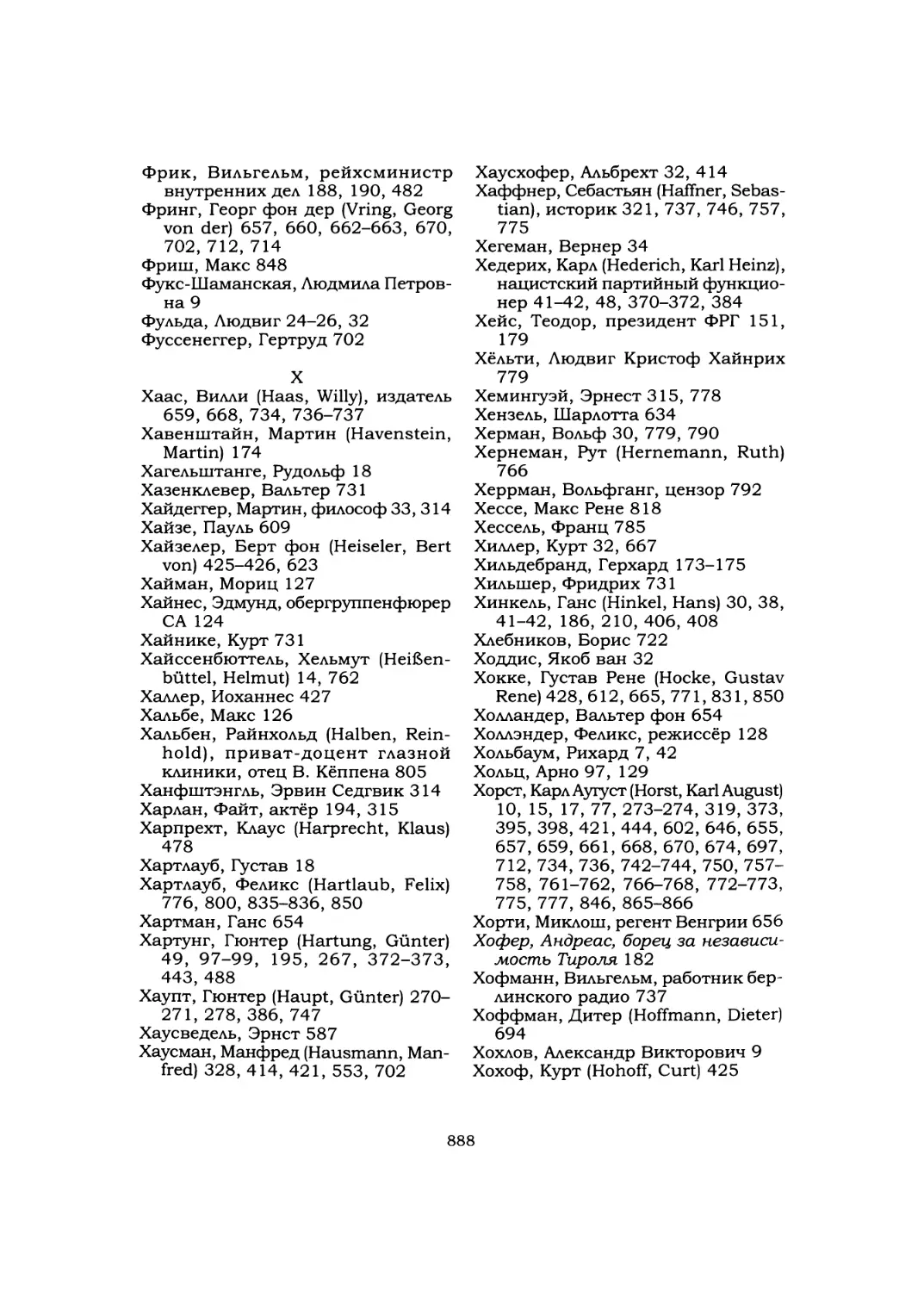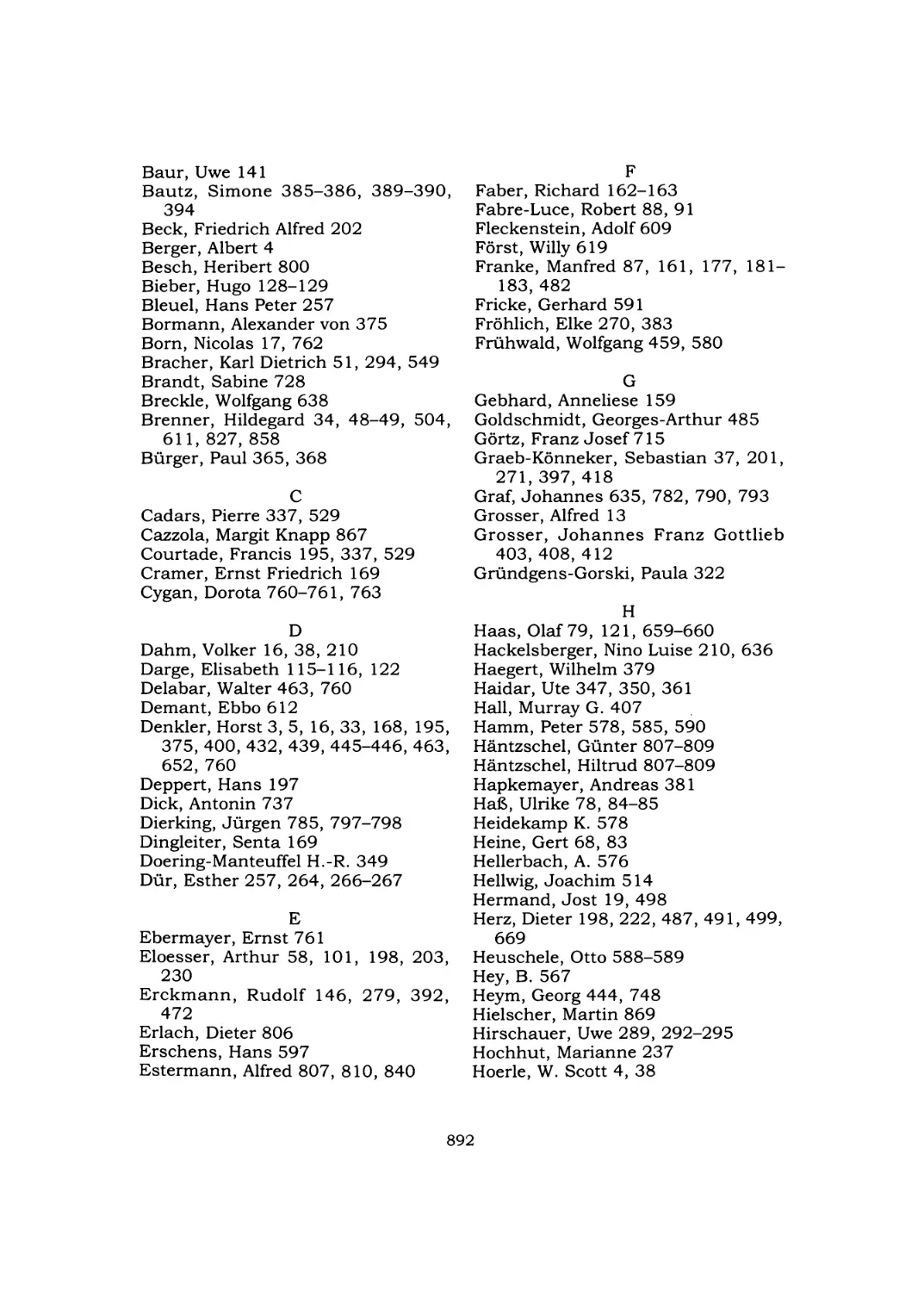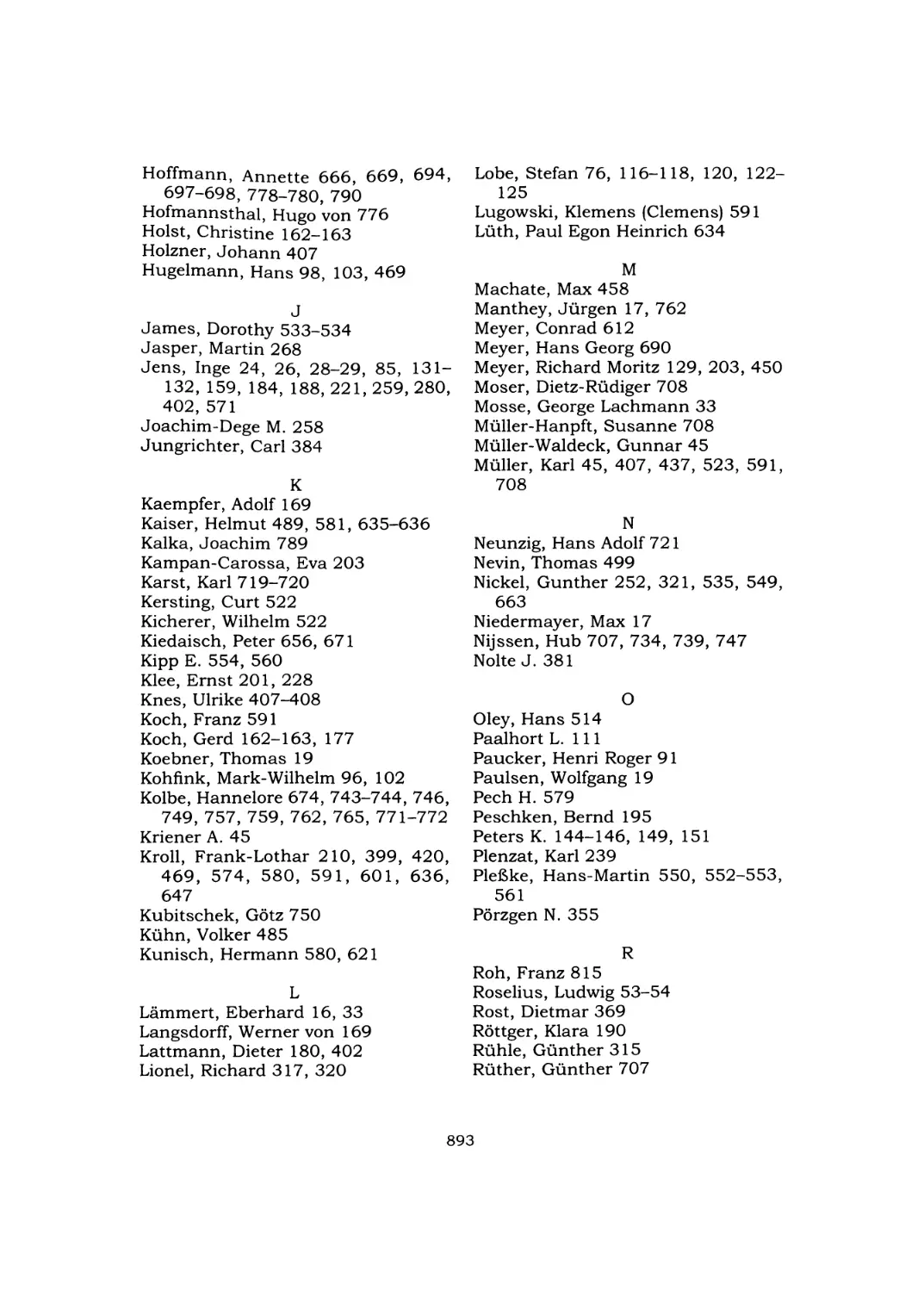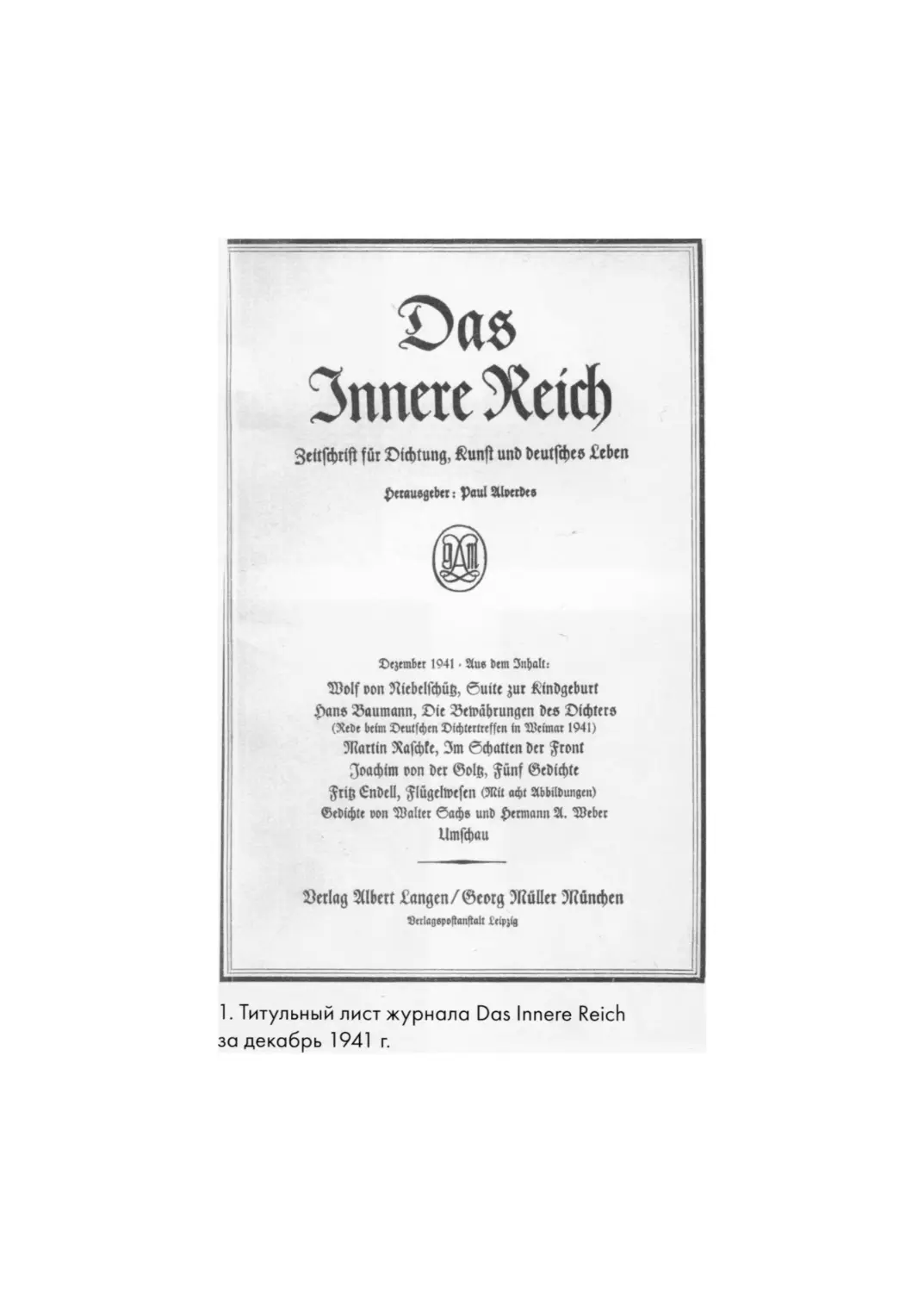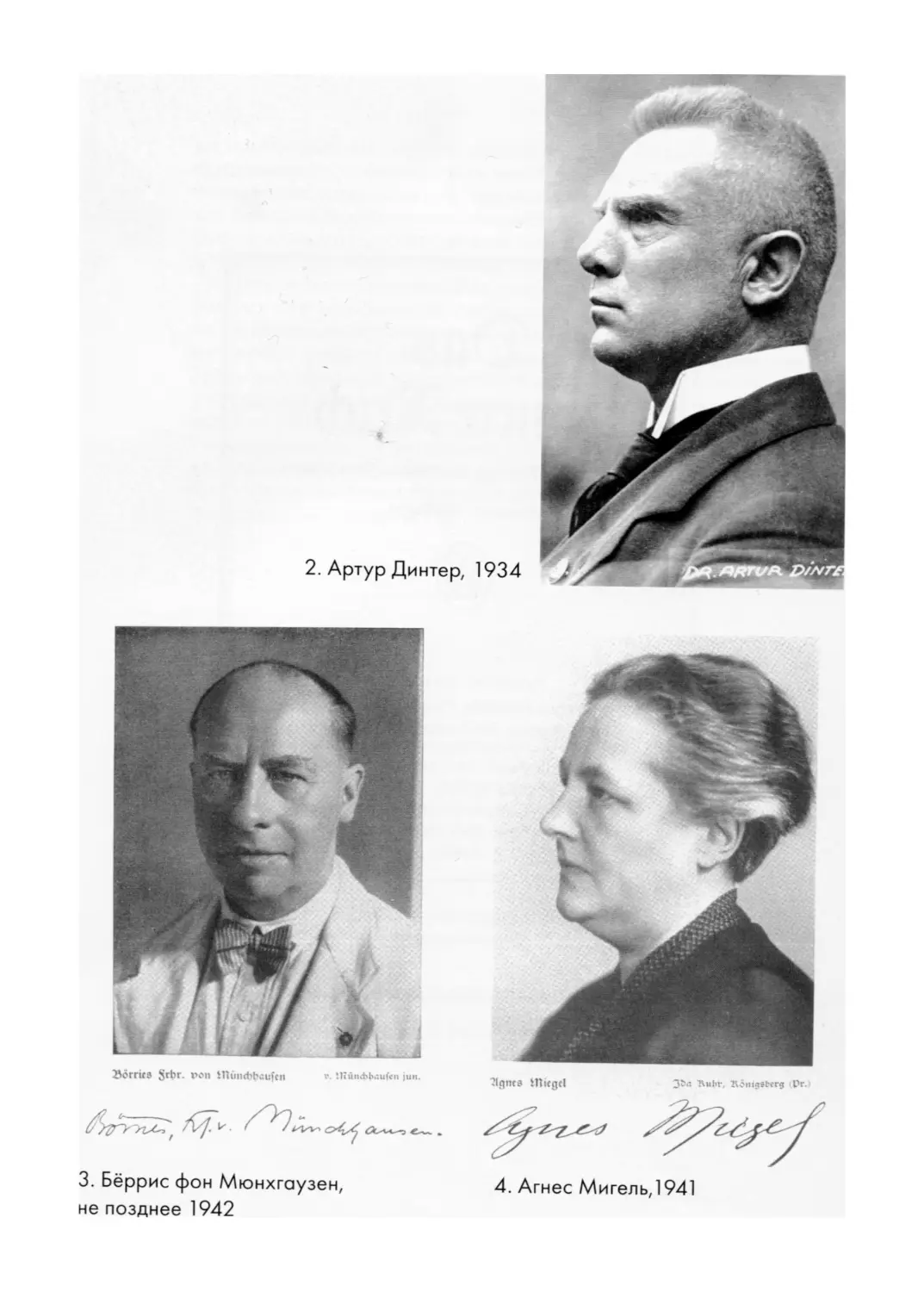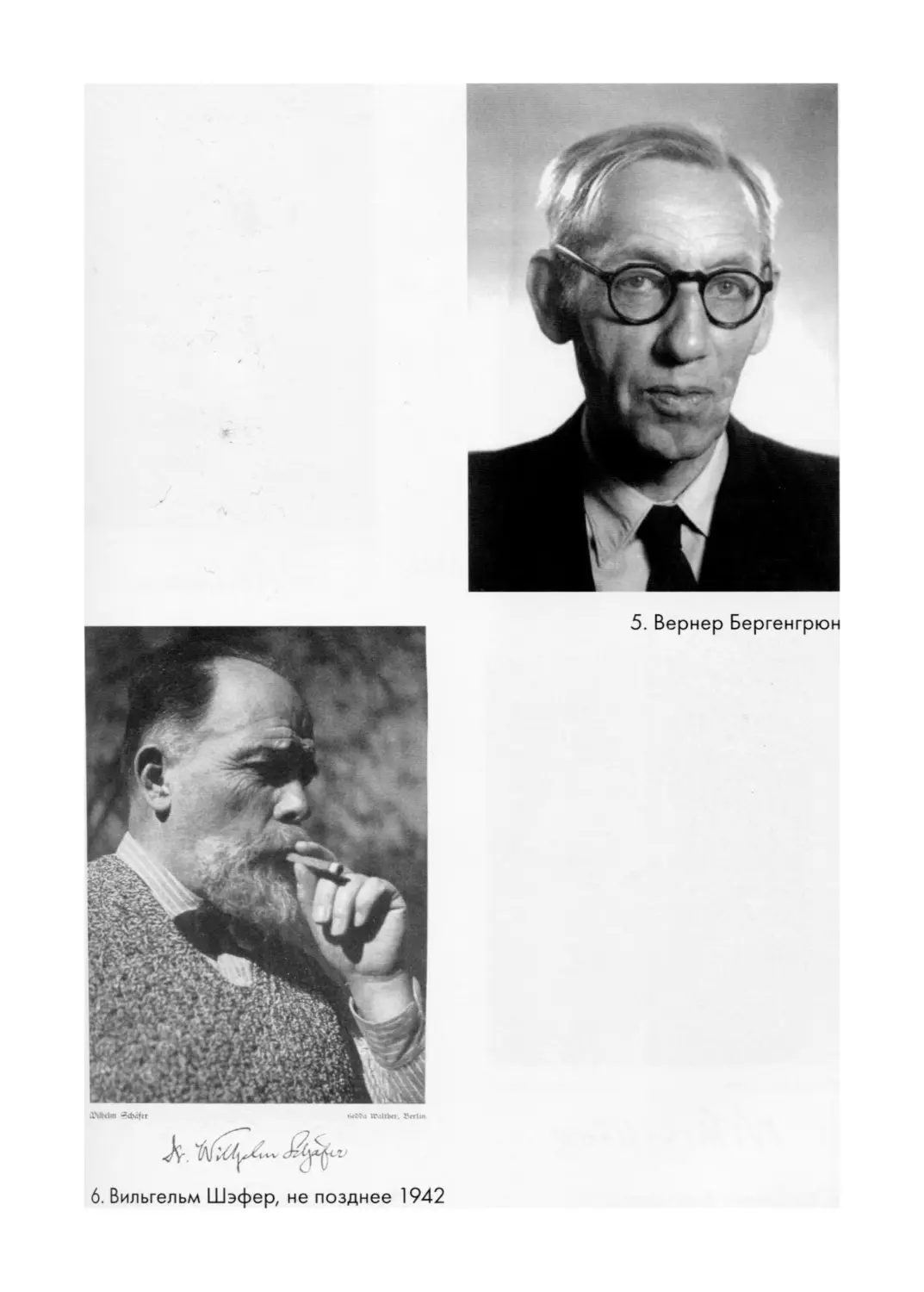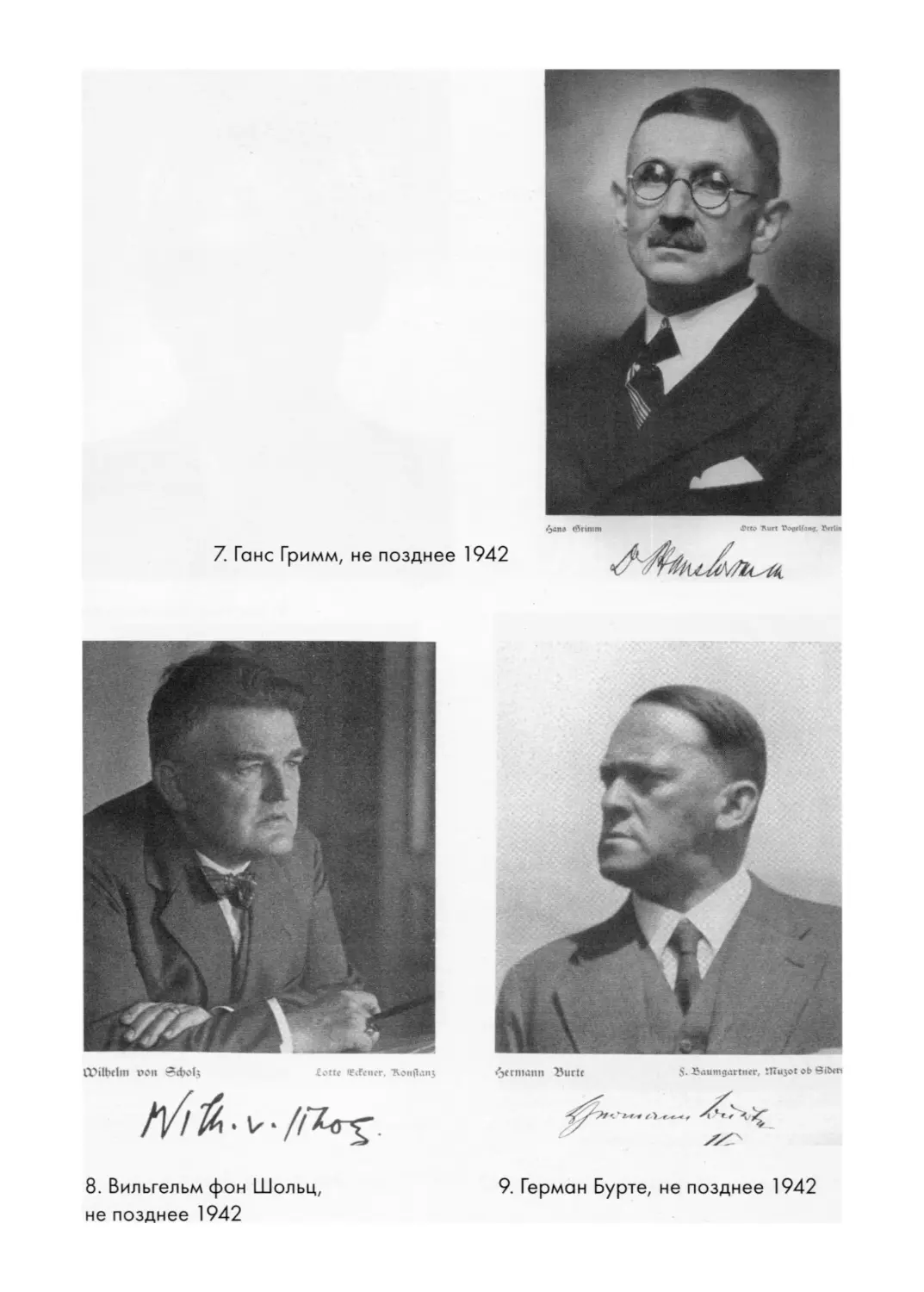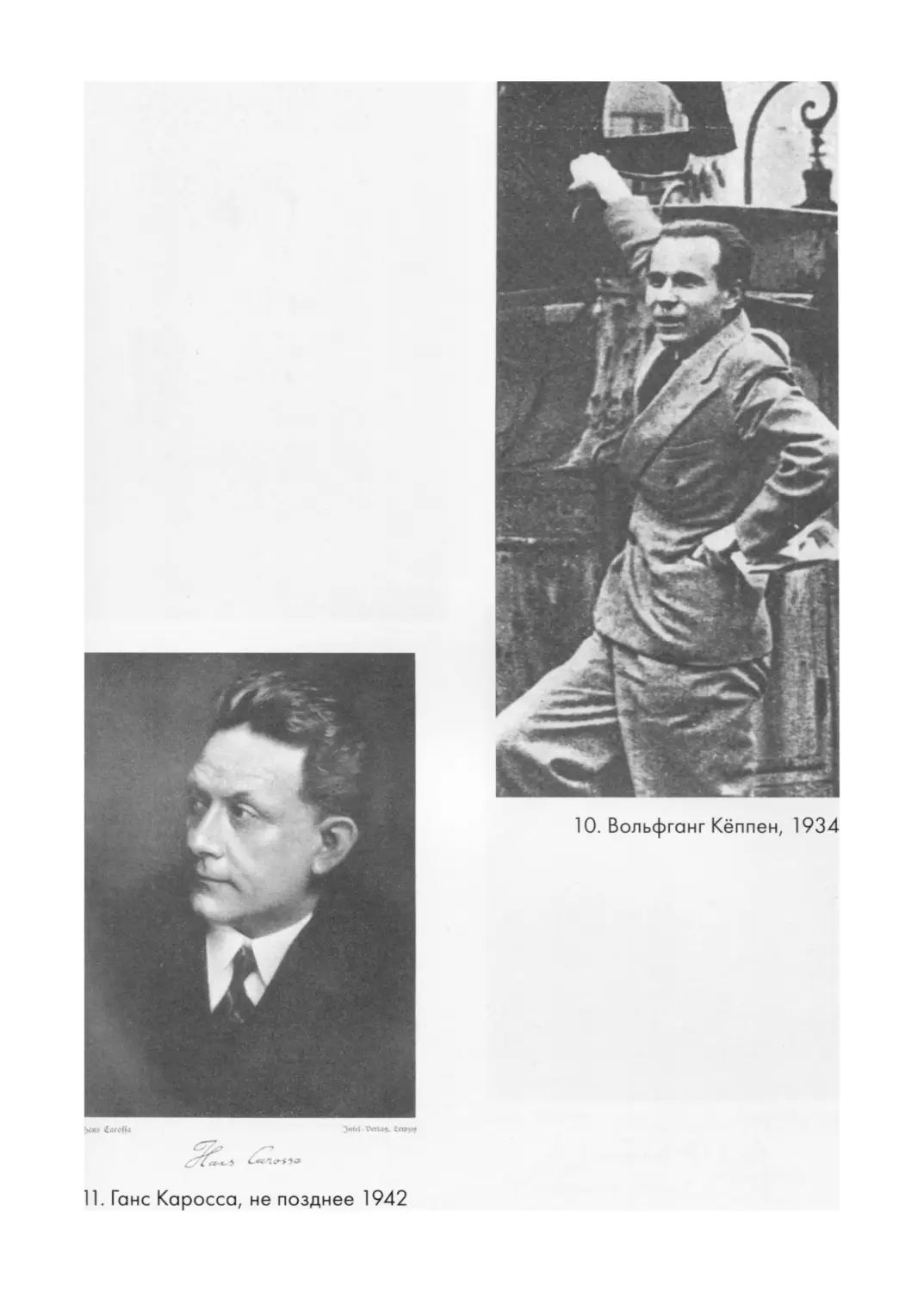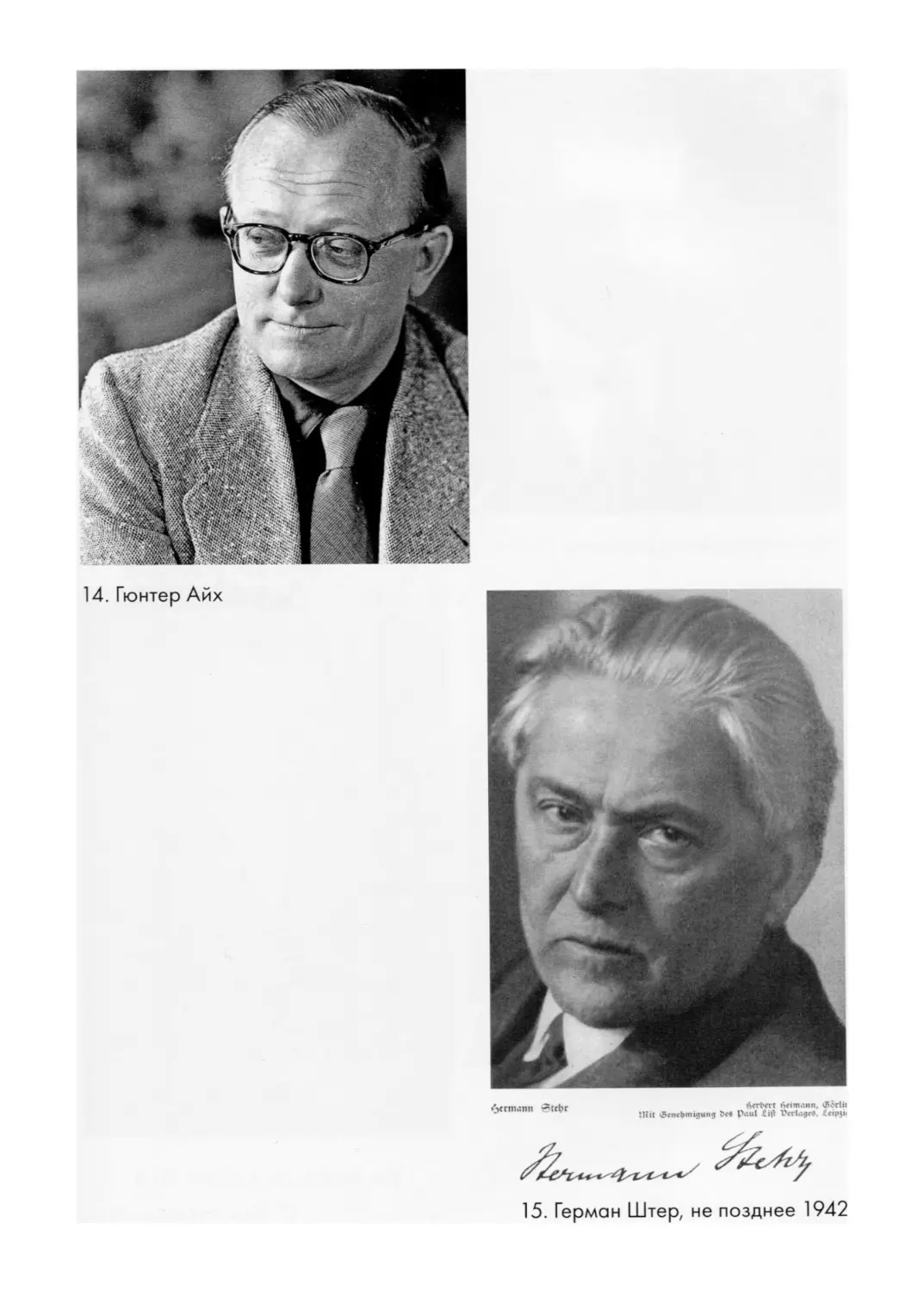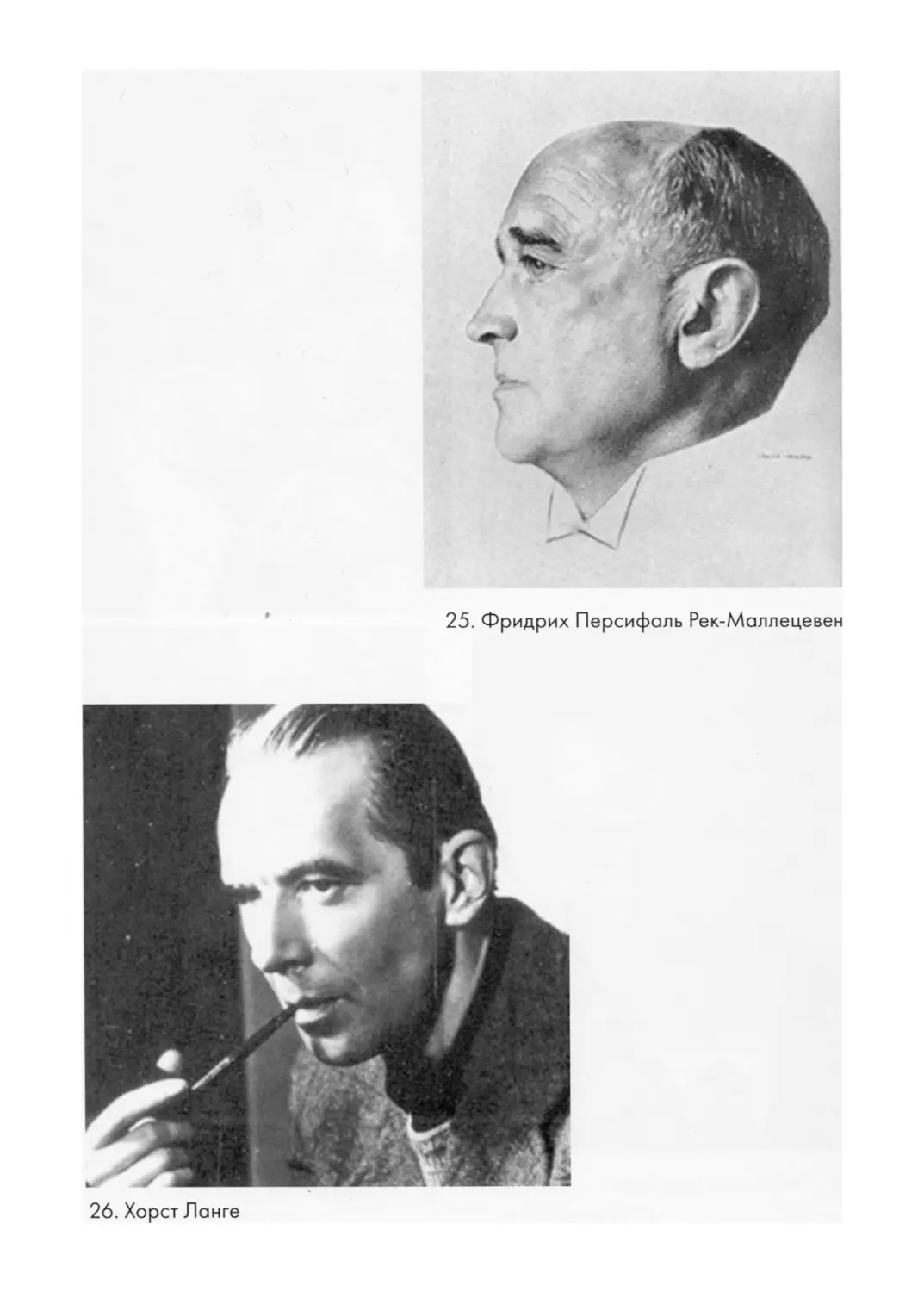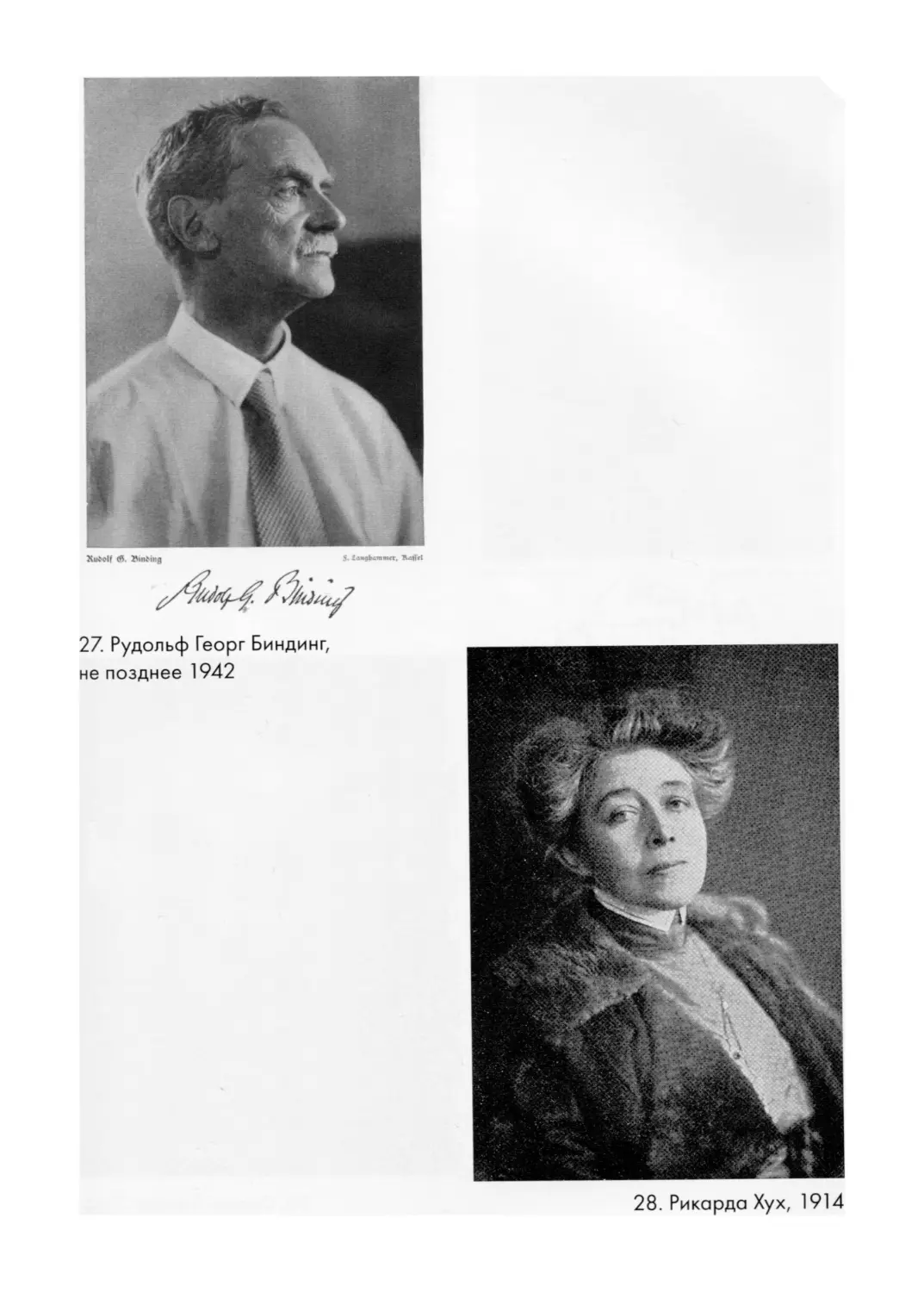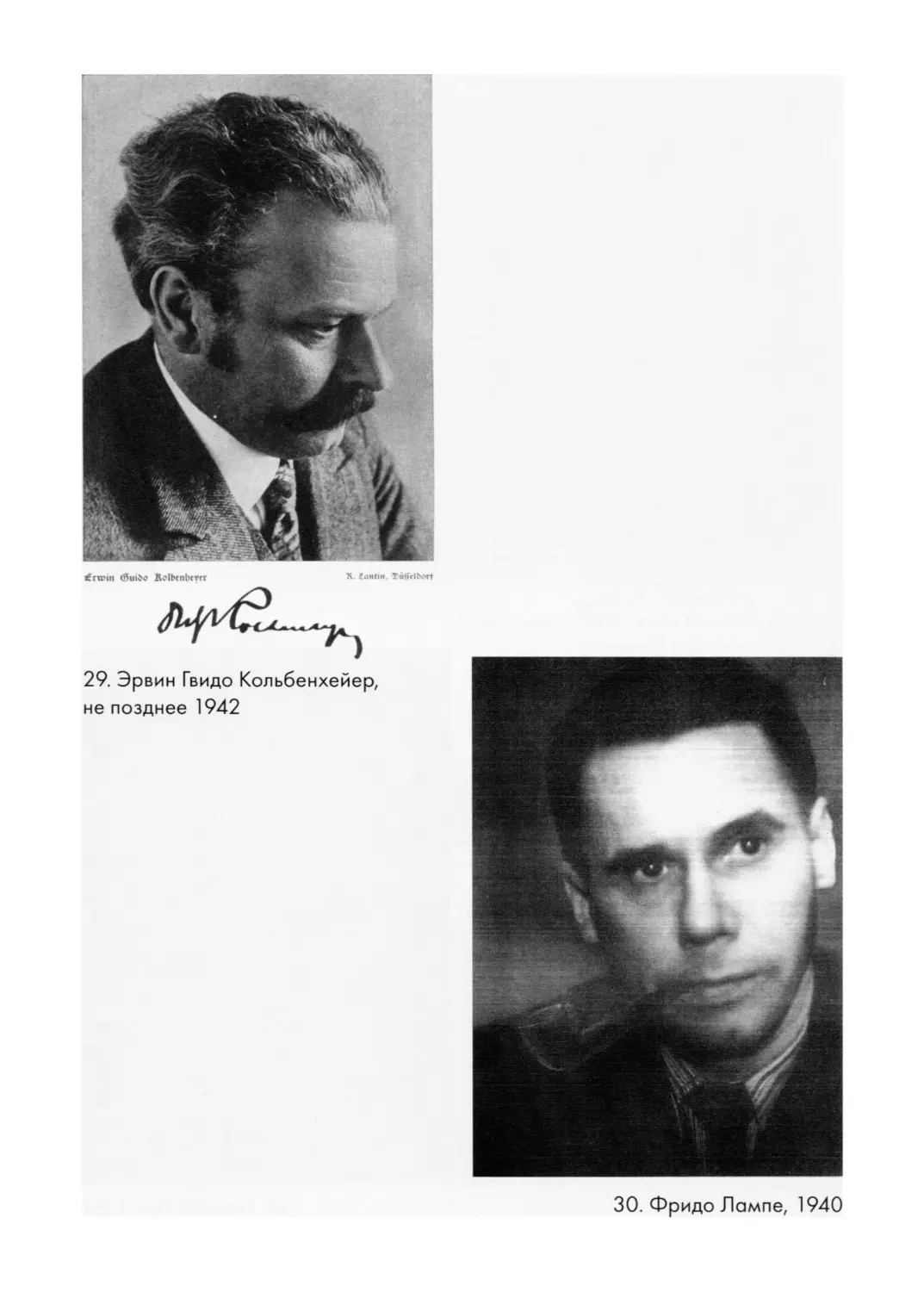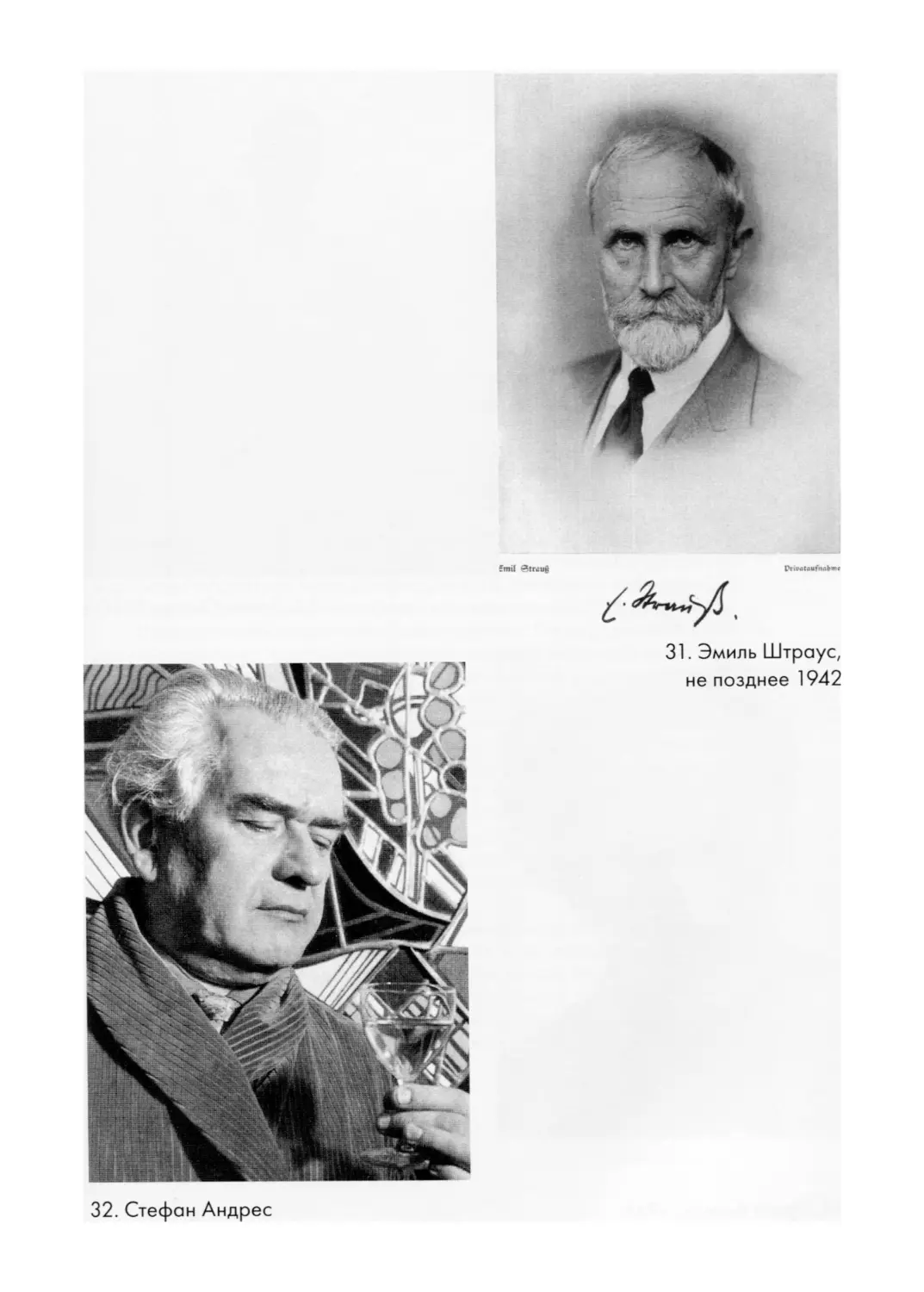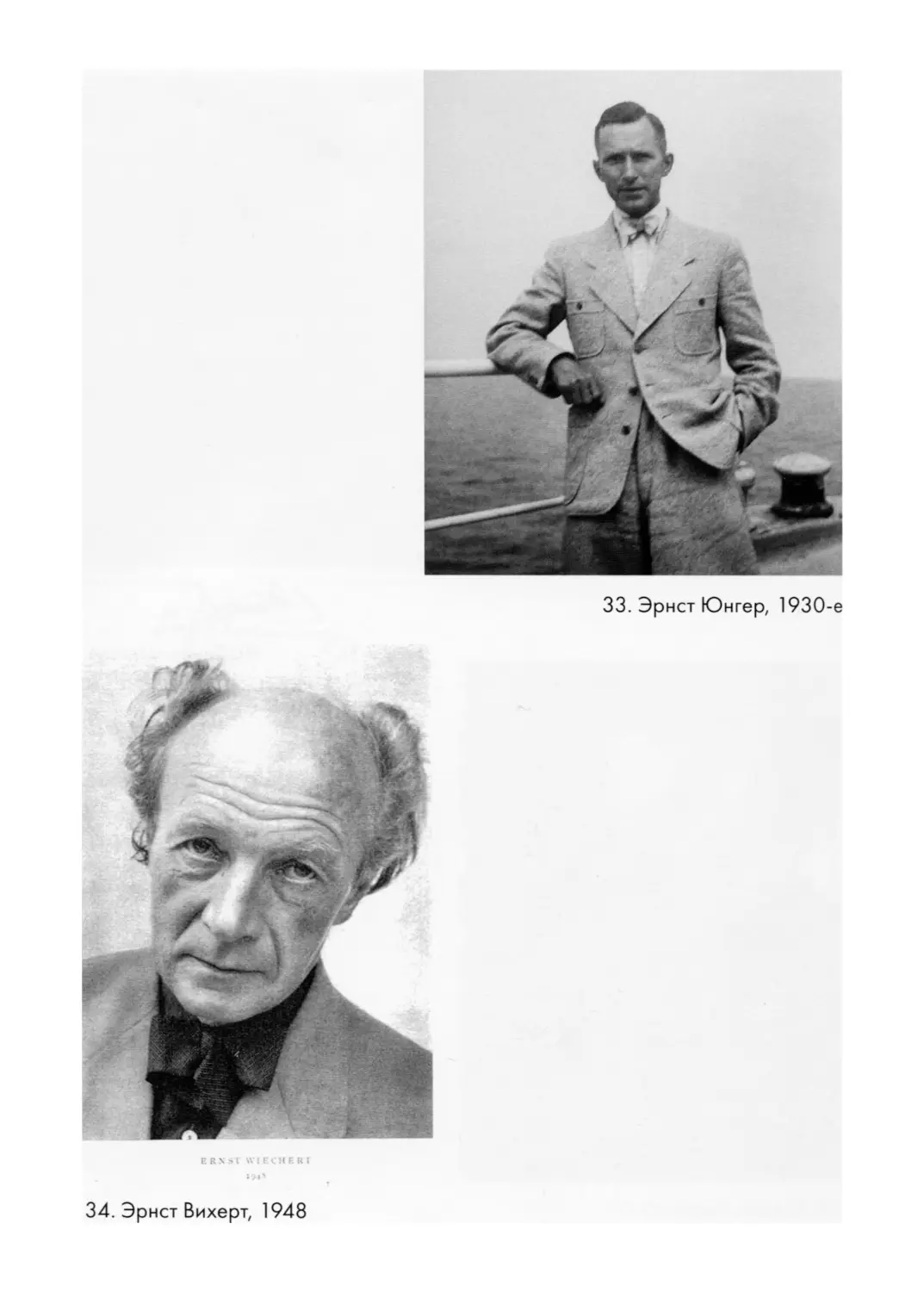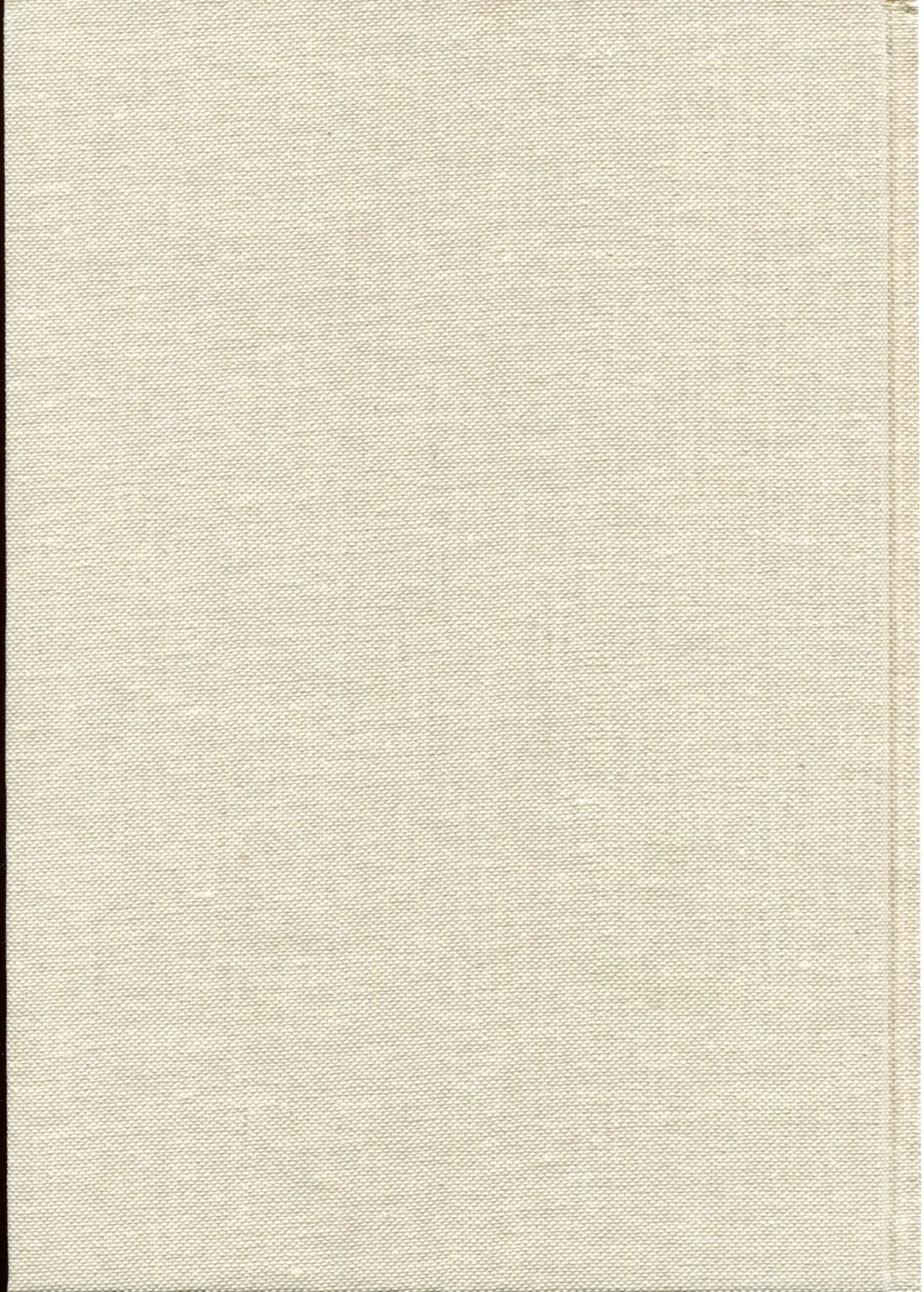Author: Зачевский Е.А.
Tags: литература германии период второй мировой войны (1939 -1945 гг) третий рейх история германия
ISBN: 978-5-901805-50-3
Year: 2014
Text
. А. Зачевский
55 55BS5Я
немецкой
литературы
времён
Третьего рейха
(1933-1945)
ЗАЧЕВСКИЙ E. А.
История немецкой литературы
времён Третьего рейха
(1933-1945)
ш
Санкт-Петербург
Крита -2014
ББК 83.3(4Нем):63.3(0)62
3-39
Редактор Михаил Луньковский
Художник Дмитрий Дервенёв
Зачевский Б. А.
3-39 История немецкой литературы времён Третьего рейха ( 1933-1945) :
[Текст]: монография / Е. А. Зачевский. — СПб.: Издательство «Крига»,
2014. — 896 с, 16 стр.: ил. [разд. паг.]
ISBN 978-5-901805-50-3
Книга посвящена мало изученной теме в истории немецкой литерату-
ры — литературе времён Третьего рейха. Рассмотрены истоки официальной
нацистской литературы и сопутствующих ей литературных направлений,
а также попытки оппозиционно настроенных писателей и представителей
т.н. «внутренней эмиграции» выступить с зашифрованной критикой нацист-
ского режима. В книге представлена периодизация литературного процесса
Германии этой эпохи и даны творческие характеристики и биографические
справки о ведущих авторах как официозной, так и оппозиционной направ-
ленности. Книга адресована филологам, историкам и всем, кто интересуется
немецкой литературой.
The book is devoted to a rather obscure and only partly explored «territory» in
history of German belles lettres — literature of the Third Reich period. The author
investigates official Nazi literary works and their major trends, as well as attempts
made by critically-minded writers and those belonging to «the inner immigration»
to offer codified criticism of the Nazi regime. The critic suggests a well-grounded
periodization of the literary process in the Germany of the first half of the 20th
century. The book includes biographical surveys and detailed analysis of the work
of individual authors, including those officially recognized in the Reich as well as
those belonging to the dissident camp and offers a pioneer research of the oeuvre
of some of the authors (W. Koeppen, P. Huchel and others) who had a grave
influence on later trends in German literature after 1945. The book is a valuable
source for linguists, historians, and anyone interested in German literature.
ББК 83.3(4Нем):63.3(0)62
ISBN 978-5-901805-50-3 © Зачевский E. А., текст, 2014.
© Оформление. Издательство «Крига», 2014.
Введение
В открытом письме к Вальтеру фон Моло, одному из представителей
так называемой «внутренней эмиграции», призывавшем Томаса Манна
вернуться в послевоенную Германию, писатель, говоря о немецкой лите-
ратуре времён нацизма, заметил: «Это, может быть, суеверие, но у меня
такое чувство, что книги, которые вообще могли быть напечатаны в Гер-
мании с 1933 по 1945 год, решительно ничего не стоят и лучше их не брать
в руки. От них неотделим запах позора и крови, их следовало бы скопом
пустить в макулатуру».1 Эти слова великого немца, во многом созвучные
настроениям в обществе после Второй мировой войны, в значительной
мере определили судьбу изучения литературы Третьего рейха едва ли не во
всём мире.
Однако, по мере изучения истории германского фашизма, пришло
осознание необходимости обращения и к истории литературы этого поли-
тического явления. На Западе, особенно в Германии и Австрии и отчасти
в США, интерес к этой проблеме спорадически то возникает, то затухает.
При наличии большого количества исследований, посвященных отдель-
ным аспектам этой проблемы, не говоря уже о необозримом числе статей
различной степени значимости, можно отметить лишь несколько работ,
которые претендуют на статус достаточно фундаментального исследова-
ния истоков и состояния немецкой литературы времён Третьего рейха.2
1 Манн Т. Письма / Под ред. С. К. Апта. М., 1975. С. 185.
2 Die deutsche Literatur im Dritten Reich. Themen. Tradition. Wirkungen / Hrsg.
v. H. Denkler und K. Prümm. Stuttgart 1976; Ketelsen Uwe-K. Völkisch-nationale
und nationalsozialistische Literatur in Deutschland 1890-1945. Stuttgart 1976; Ketel-
sen Uwe-K. Literarur und Drittes Reich. Greifswald 1994; Schoeps K-H.J. Literatur
im Dritten Reich (1933-1945). Berlin 2000; Nationalsozialism und Exil 1933-1945.
Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
Bd. 19/ Hrsg. v. W. Haefs. München 2009.
3
Подобное положение объясняется отсутствием серьёзных исследо-
ваний творчества отдельных представителей литературного процесса,
что естественно, затрудняет понимание самой проблемы, ибо какими бы
одиозными фигурами ни были эти авторы, их творчество было далеко
неоднородным и, что самое главное, воспринималось современниками
разной политической ориентации совершенно по-разному. Классическим
примером такого неоднозначного отношения к творчеству писателей
Третьего рейха является оценка современниками романа Эрнста Юнгера
«На мраморных скалах» (»Auf den Marmorklippen«, 1939). Одни восприни-
мали этот роман как выражение неприятия нацистского режима, другие
видели в нём выражение фашистской эстетики силы.
Исследователи постоянно сталкиваются с тем, что «литература Треть-
его рейха не даёт адекватной картины действительности Третьего рейха».1
Подобные заявления связаны, скорее всего, с тем, что весь корпус лите-
ратуры тех лет, независимо от степени художественной значимости его
составляющих, ещё не подвергся основательному изучению, ибо адекватная
составляющая действительности не всегда есть конкретное выражение
времени, и порой проявляется как некое собрание бытовых, личностных
деталей, которые лучше передают дух эпохи, нежели яркие реалии. Вероят-
но, поэтому, начиная с конца XX века, стали появляться монографические
работы, посвященные творчеству ведущих авторов Третьего рейха, среди
которых особо следует отметить книги о творчестве Ганса Йоста, Йозефа
Вайнхебера, Ганса Фридриха Блунка, Агнес Мигель, Ганса Гримма и ряда
других писателей, игравших значительную роль в литературном процессе
Третьего рейха.2 Такая тенденция свидетельствует о намерении исследова-
телей глубже проникнуть в суть явления с привлечением всех материалов
изучаемого автора, а не его отдельных значимых произведений.
Сложности возникают и с идентификацией принадлежности того или
иного автора к идеологии национал-социализма в связи с отсутствием как
в самом Третьем рейхе, так и в специальных исследованиях определённой
концепции национал-социалистской литературы, как, впрочем, и самого
национал-социализма, не являющегося «точно обозначенной системой,
а лишь конгломератом несоответствующих друг другу элементов».3 Если
1 Schoeps К-Н. J. Literatur im Dritten Reich (1933-1945). Berlin 2000. S. 12.
2 Düsterberg R. Hanns Johst: »Der Barde der SS«. Karrieren eines deutschen Dichters.
Padeborn, München, Wien, Zürich, 2004; Berger A Josef Weinheber. 1892-1945. Leben
und Werk — Leben im Werk. Salzburg, 1999; W. Scott Hoerle. Hans Friedrich Blunk.
Poetand Nazi Collaborator, 1888-1961. Bern, Frankfurt / Main; Dichter für das »Dritte
Reich«. Biografische Studien zum Verhältnis von Literatur und Ideologie. Bd. I / Hrsg.
v. Rolf Düsterberg. Bielefeld, 2009; Dichter für das »Dritte Reich«. Bd. 2. Biografische
Studien zum Verhältnis von Literatur und Ideologie / Hrsg. v. R. Düsterberg. Bielefeld,
2011; PiorreckA. Agnes Miegel. Ihr Leben und ihre Dichtung. München, 1990.
3 Vondung K. Der literarische Nationalsozialismus. Ideologische, politische und sozi-
alhistorische Wirkungszusammenhänge // Die deutsche Literatur im Dritten Reich.
4
в первом случае подобное положение дел объяснялось в значительной мере
несогласованностью, а проще говоря, соперничеством между отдельными
идеологическими структурами Третьего рейха, то во втором случае при-
чина кроется в недостаточном знакомстве с обширным литературным
материалом времён Третьего рейха, как, впрочем, и с публикациями пред-
шествующих лет, ибо они вписываются в структуру этого периода. Более
того, многие сложности изучения этих и ряда других проблем литературы
тех лет вызваны просто незнанием «всей жизненной практики участников
литературного процесса в Германии»,1 что приводит к общим, лишённым
конкретики выводам, а то и просто к заведомой фальсификации.
В советской германистике 20-40-х годов проявлялся определённый
интерес к немецкой литературе времён Веймарской республики, где,
собственно, и формировался костяк официальной литературы Третьего
рейха. Об этом можно судить по публикациям в журналах «Современный
Запад», «Вестник иностранной литературы» и «Интернациональная лите-
ратура» статей и произведений отдельных авторов, а также по отдельным
публикациям М. Троцкой, Р. Куллэ, A.A. Гвоздева, Ф. Шиллера, Б. Сучкова,
Т. Мотылёвой.2 Хотя в последующем в работах, посвященных творчеству
немецких авторов, прямо или косвенно связанных с периодом фашизма
в Германии, встречаются отдельные главы, преимущественно общего
свойства, о литературной ситуации тех лет, каких-либо фундаменталь-
ных исследований не предпринималось, и на то были свои причины.
В советской германистике тех лет, как, впрочем, и в последующие годы,
изначально сложность изучения литературы Третьего рейха была обу-
словлена не только идеологическими причинами, когда основное внима-
ние обращалось на судьбы литературы прокоммунистической или левой
направленности, но и обыкновенным игнорированием или поверхностным
реферированием творчества отдельных авторов консервативной ориен-
тации, заложивших основы официальной литературы Третьего рейха.3
Практически из внимания исследователей выпал целый слой литературы
Themen. Traditionen. Wirkungen / Hrsg. v. H. Denkler und К. Prümm. Stuttgart,
1976. S. 46.
1 Ketelsten U. V-K. Völkisch-nationale und nationalsozialistische Literatur in Deutschland
1890-1945. Stuttgart, 1976. S. 7.
2 M. Троцкая (M. А. Тройская. Литература современной Германии / / Поэтика. Сбор-
ник статей. Л., 1929. С. 5-20; Куллэ Р. Драматургия современной Германии //
Куллэ Р. Этюды о современной западно-европейской и американской литературе.
М.-Л., 1930. С. 209-250; Гвоздев A.A. Театр послевоенной Германии. Л.-М., 1933;
Шиллер Ф. Литературоведение в Германии. М., 1934; Сучков Б. Фашистский
крестьянский роман // Интернациональная литература. М., 1942. № 8/9. С. 142;
Мотпылёва Т. «Рабочая» тема в литературе германского фашизма / / Интернацио-
нальная литература. М., 1936. № 2. С. 119-122.
3 История немецкой литературы 5. 1918-1945 / Под ред. И.М. Фрадкина и СВ. Турае-
ва. М., 1976. Отдельные статьи.
5
по той лишь причине, что она рассматривалась как литература второ-
го плана и не соответствовала идеологическим установкам советского
времени, как, впрочем, не соответствует и нынешним представлениям
о большой литературе. Подобное отношение к этой проблеме привело
к тому, что литература времён Веймарской республики, где собственно
и формировалась литература консервативной направленности, ставшая
впоследствии официально признанной литературой Третьего рейха,
была представлена неполно, однобоко, без учёта реальной литературной
ситуации в стране. Даже в контексте того материала, который был опре-
деляющим для советских исследователей, консервативно настроенные
авторы были практически выведены за рамки истории, хотя они явля-
лись серьёзными противниками революционно-пролетарской литературы
и вообще литературы левой ориентации, находясь с нею в состоянии резкой
и постоянной конфронтации.
Как следствие отсутствия интереса к одному из главных участников
литературного процесса времён Веймарской республики — возникновение
в библиотеках страны громадных лакун изданий того периода, не говоря
уже об изданиях времён Третьего рейха, которыми наши библиотеки
не намного обогатились после 1945 г.
Интерес к изучению немецкой литературы времён Третьего рейха,
возникший в СССР после 1945 года, носил не столько литературоведческий,
сколько идеологический характер, что также было вызвано политическими
реалиями тех лет. Отсутствие внятного исследования литературной ситуа-
ции в предвоенной Германии с преимущественным интересом к противни-
кам нацистов привело к тому, что появление того или иного автора в соста-
ве нацистского литературного Парнаса лишено было причинной обусловлен-
ности, да и сама литературная ситуация в Третьем рейхе, если не считать
печально известных акций по сжиганию книг неугодных авторов в мае
1933 года, ареста прокоммунистически настроенных писателей и массовой
эмиграции деятелей литературы и искусства, практически не исследова-
на. Немногочисленные статьи и отдельные публикации И.М. Фрадкина,1
а также ряд творческих портретов Г. Вайзенборна, Г. Бенна, Э. Юнгера,
Э. Ланггэссер, С. Андреса и авторов христианской направленности2 мож-
1 Фрадкин И.М. Реставрация орла и свастики. М., 1971; Фрадкин И.М. Голоса дру-
гой Германии // Литература антифашистского Сопротивления в странах Евро-
пы. 1939-1945/Под ред. Ф.С. Наркирьера. М., 1972. С. 497-542; Фрадкин И.М.
Фашистский переворот и судьбы немецкой литературы. Официальная литература
Третьей империи // История немецкой литературы. 1918-1945. Т. 5.//Под ред.
И.М. Фрадкина и СВ. Тураева. М., 1976. С. 323-347.
2 Юрьева Л. М. Гюнтер Вейзенборн; Павлова Н. С. Готфрид Бенн; Архипов Ю. И
Эрнст Юнгер; Архипов Ю. И. Стефан Андрее; Рудницкий М.А.. Элизабет Ланггэссер;
Аверинцев С. С. Литература христанского направления / / История литературы
ФРГ / Под ред. И.М. Фрадкина. М., 1980. С. 62-162.
6
но назвать лишь введением в суть проблемы. Как бы мы ни относились
к литературе тех лет, необходимо знать её бытование в те годы, ибо тогда
непонятно столь долгое и достаточно успешное существование её одиоз-
ных авторов в ФРГ. Более того, в ином ракурсе предстают литературные
процессы в кайзеровской Германии и в годы Веймарской республики.
В известной мере изучение литературы Третьего рейха осложняется
тем, что корпус литературы этого периода формировался за счёт собствен-
но немецких, австрийских авторов, а также авторов немецкой диаспоры
в Польше, Румынии, Венгрии и Чехословакии, что, независимо от полити-
ческих причин (насильственная аннексия Германией Австрии, Судетской
области в Чехословакии), соответствовало традиционному рассмотрению
немецкой литературы по областническому принципу, сложившемуся ещё
в конце XVIII века. В этой связи неизбежны экскурсы в австрийскую,
чешскую, румынскую, венгерскую и польскую литературы первой поло-
вины XX века тем более, что творчество ряда авторов из этих регионов
(Й. Вайнхебера, Б. фон Брема, Ф. Тумлера, Р. Хольбаума, М. Йелузиха)
воспринималось в те годы как составная часть литературы Третьего рейха.
После распада Советского Союза, когда, казалось бы, исчезли все
препоны для изучения литературы Третьего рейха, российские германисты
попросту устранились от этой проблемы, уступив место историкам, для
которых немецкая литература вообще, а литература Третьего рейха в част-
ности, служит лишь в качестве некоторого украшения сомнительно свой-
ства для полноты раскрытия предмета их интереса. Блестящим примером
такого потребительского и совершенно непрофессионального обращения
к литературе Третьего рейха, как, впрочем, и к другим аспектам немецкой
литературы, служат книги петербургского историка О. Ю. Пленкова.1 Более
того, некоторые российские историки консервативной мысли, напри-
мер, И.З. Бестужев, пришли к выводу, что именно во времена нацизма
немецкая литература достигла невероятного подъёма, видя в этом заслугу
«национального правления»,2 т.е. национал-социализма. Этой же мыслью,
не без поддержки ряда немецких землячеств (особым вниманием у них
пользуется Калиниград), проникнуты и попытки ряда молодых литерату-
роведов и переводчиков представить, например, творчество Агнес Мигель,
одной из фанатичных последовательниц идеологии национал-социализма,
как «блистательную поэтессу», «чьё имя — в ряду звёзд европейской поэ-
зии».3 Стоит ли удивляться тому, что подобные мысли уже перекочевали
на страницы студенческих работ и выдаются за последнее слово науки.
1 Пленков О.Ю. Третий рейх. Арийская культура. СПб., 2005. То же самое, но под
другим названием: Пленков О. Ю. Тайны Третьего рейха. Культура на службе вер-
махта. М., 2011. Пленков О.Ю. Триумф мифа над разумом. СПб., 2011.
2 Бестужев И. 3. Культура Германии 1933^-5 годов. Опыт национального правления.
Предпосылки и последствия // Золотой Лев. № 205-206. 2009. www.zlev.ru
3 Симкин С. Агнес Мигель // Мигель А. Возвращение. Калининград, 1996. С. 5.
7
Подобного рода «исследования» являются лучшим подтверждением
необходимости основательного и всеобъемлющего изучения истории лите-
ратуры Третьего рейха.
Данная работа не является собственно историей литературы Третьего
рейха, а лишь собранием очерков, охватывающим достаточно большой
пласт собственно нацистской и официально признанной нацистами так
называемой фёлькиш-национальной литературы. Значительное внимание
уделяется литературе так называемой «внутренней эмиграции» и особенно
творчеству молодых писателей афашистской направленности, остававше-
еся долгое время на периферии интересов исследователей. Тем не менее,
представленные материалы не претендует на всеобъемлющий охват всех
событий литературного и политического плана, касающихся становления
и развития литературы времён Веймарской республики и Третьего рейха,
ибо это только попытка определения контуров будущего исследования,
поэтому некоторые имена, некоторые события остались за рамками моего
исследования, что не означает отсутствия интереса к ним. Сейчас важ-
но дать на примере наиболее одиозных и примечательных для Третьего
рейха авторов общее представление о состоянии дел в литературе, о том
была ли она в действительности и в каком виде проявлялась её сущность.
Мы пока обладаем лишь неким пропагандистки окрашенным муляжом,
разрозненными набросками свершившегося, а не реальным материалом,
на котором трудно, если вообще возможно, построить какую-то стройную
концепцию истории литературы Третьего рейха.
Желание дать более развёрнутую картину литературного процесса
в Третьем рейхе, привело к тому, что в данной работе пришлось отказаться
от разделения материала по тематическому (военный роман, крестьянский
роман, исторический роман и т.д.) и отчасти жанровому (роман, драма,
поэзия) принципам, ибо, как показывает анализ литературы данного
периода, подобное разделение обедняет картину творческих проявлений
того времени.
История литературы Третьего рейха не заканчивается 1945 годом.
Писатели «внутренней эмиграции», как и нацистские писатели, прошедшие
без особых трудов процесс денацификации, длительное время занимали
литературное пространство ФРГ, отчасти ГДР и Австрии, и лишь к концу
60-х гг. XX века их значимость в литературном процессе сошла на нет.
Большая часть из них, не затронутая ни политическими, ни литератур-
ными веяниями послевоенного времени, продолжала не только писать
в том же духе, как и во времена Веймарской республики и Третьего рейха,
но и переиздавать почти без изменений свои прежние наиболее популярные
произведения. У них были свои издательства, своя пресса, наконец, свои
читатели, что обеспечивало им большие тиражи и безбедное существова-
ние. Более того, на них обрушился поток премий. Правда, инициаторами
большинства этих премий были различные так называемые «землячества
изгнанных», т.е. жителей, вынужденных покинуть земли, отошедшие после
8
1945 года к их прежним хозяевам (Польша, Чехословакия). Свою лепту
в этот поток премий внесли и власти ФРГ в период правления первого
канцлера послевоенной Германии Конрада Аденауэра, что отвечало его
политическим надобностям и целям.
Именно подобное длительное существование значительного пласта
литературы времён Веймарской республики и Третьего рейха позволяет
некоторым литературоведам считать не 1945, а 1967 год цезурой1 нача-
ла новой западногерманской литературы, несмотря на то, что к этому
времени она уже стала свершившимся явлением, в корне отличавшимся
типологически, эстетически и политически от своих предшественников.
Несомненно, что последовавшее после 1945 года бытование лите-
ратуры Третьего рейха в немецкоязычном регионе заслуживает отдель-
ного тщательного исследования, хотя по ходу работы над данной книгой
я неоднократно прослеживал судьбы отдельных авторов времён нацизма
в послевоенные годы. Тем не менее, изучение этой проблемы во всём её
многообразии не входило в мои планы. Это уже задача будущих поколений
германистов. Основное правило, которым я руководствовался во время
работы над этой книгой, в своё время очень точно определил известный
российский медиевист А. Гуревич: «Мы задаём людям иных эпох, обществ
и цивилизаций наши вопросы, но ожидаем получить их ответы, ибо лишь
в подобном случае возможен диалог».2 Только таким образом мы можем
понять сущность происходившего в годы Третьего рейха, ибо, как сказал
другой историк, Д. Лоуэнталь, «прошлое — это чужая страна».3
В заключении мне хотелось бы выразить огромную благодарность
учреждениям и отдельным лицам в России и за её пределами за неоценимую
помощь в отыскании материалов, касающихся истории немецкой лите-
ратуры времён Третьего рейха, и особенно обнаружения текстов авторов
тех лет и секундарной литературы. Я благодарен библиотеке Российской
академии наук (Санкт-Петербург), Российской национальной библиотеке
(Санкт-Петербург), Австрийской библиотеке Санкт-Петербургского универ-
ситета, моим друзьям и коллегам, в особенности Александру Викторовичу
Хохлову за огромную поддержку всем моим начинаниям, стараниями кото-
рого эта книга увидела свет, моему давнему другу доктору Карлу Бауэру,
чью поддержку словом и делом я всегда ощущал, а также моему главному
поставщику текстов немецких авторов тех лет Людмиле Фукс-Шаманской,
без помощи которой немыслима была бы работа над этой книгой.
1 Цезура (лат. caesura) — веха, засечка, грань; здесь — граница исторического
периода.
2 Гуревич А. Избранные труды. Т. 2. Средневековый мир. М.—СПб., 1999. С. 19
3 ЛоэнталъД. Прошлое — чужая страна. СПб., 2004.
Периодизация истории литературы
Третьего рейха
Предваряя разговор о литературе Третьего рейха, необходимо
обратить внимание на сложности обозначения границ существова-
ния её как явления культуры. Одним из самых спорных вопросов
периодизации истории немецкой литературы XX века является
легальность цезур 1933 и 1945 годов в качестве определяющих
состояние литературного процесса в Германии времён Третьего
рейха. Дискуссии по этому поводу время от времени возникают,
но до сих пор исследователи не могут придти к единому мнению
по этому вопросу. Камнем преткновения является политическая
составляющая этих цезур, которая вызывает у некоторых исследо-
вателей сомнения в правомочности их применительно к литературе.
Ещё в 1952 году Хайнц Шверте в своей статье «Путь в двадцатое
столетие» высказал мнение, что захват в 1933 году власти Гитлером
в литературно-историческом смысле «ни в коей мере нельзя назвать
настоящей цезурой», однако цезуру 1945 года всё же признавал
в качестве фиксирующей «не только конец немецкой литературы
времён Гитлера, но и литературной эпохи вообще».1 В 60-х годах
германисты «новой волны», такие как Ганс Дитер Шэфер, Карл
Прюмм, Фриц Раддац, Хорст Денклер, исповедовавшие принци-
пы «негативного абсолюта», «разрушения легенд», «срывания всех
и всяческих масок», пошли ещё дальше, поставив под сомнение
и цезуру 1945 года.
Цит. по: Kreuzer H. Zur Periodisierung der »modernen« deutschen Literatur // Basis.
Bd. 2. Frankfurt / Main 1971. S. 26.
10
Работам этих авторов свойственен сенсационно-разоблачитель-
ный характер, хотя большинству их публикаций нельзя отказать
в основательности, обилии фактического материала, за которым
стоит огромная исследовательская, если не сказать расследователь-
ская, деятельность. Как справедливо и не без сарказма заметила
Элизабет Эндрес, специалист по литературе 50-60-х годов, «если
в пятидесятых годах была тенденция каждого обелять, то в конце
семидесятых наметилась установка всех понемножку обвинять
в чём-либо».1 Тенденция эта сохраняется и по сей день, и её вспле-
ски сродни эпидемии литературоведческого гриппа, ибо какие-либо
разумные объяснения этому поветрию трудно найти.
Подобный разоблачительно-обвинительный настрой герма-
нистов «новой волны» нашёл своё выражение в провозглашении
оригинальной концепции периодизации немецкой литературы
XX века, суть которой наиболее полно выразил Г. Д. Шэфер в сво-
ей книге «Расколотое сознание. Немецкая культура и жизненная
действительность 1933-1945 годов» (1981).2 Истоки литературы
ФРГ, по Шэферу, лежат не в 1945-1949 годах, а много раньше —
в конце 20-х годов, и поэтому цезуры 1933 и 1945 годов теряют
своё значение основополагающих для данного периода. При этом
речь идёт не о естественной преемственности культурного насле-
дия одной литературной эпохи или ряда литературных периодов
новыми формациями развивающегося литературного процесса,
а о сознательном игнорировании специфики «литературно-художе-
ственного «наполнения» заимствованного материала,3 игнорирова-
ние исторических условий, вызвавших к жизни то или иное новое
художественное явление соответствующего литературного периода.
Сугубо научная проблема в трактовке Шэфера приобрела рез-
ко политическое звучание, ибо за этим кроется попытка ревизии
не столько истории литературы, сколько вообще истории Германии
и Европы. Только этим можно объяснить рассуждения Шэфера
о незначительности фашизма в мировом историческом процессе:
1 Endres E. Die Literatur der Adenauerzeit. München 1980. S. 114-115.
2 Schäfer H. D. Das gespaltene Bewußtsein. Deutsche Kultur und Lebenswirklichkeit
1933-1945. München, Wien, 1982; Зачевский E. А. Переписывают историю //
Зачевский E. А. Зеркала времени. Очерки немецкоязычной литературы второй
половины XX века. СПб., 2005. С. 13-18.
3 Суровцев Ю. Литературный процесс и его периодизация // Вопросы литературы.
M., 1983. № 10. С. 124.
11
«Многое говорит о том, что национал-социализм усилил традицио-
налистские тенденции в немецкой литературе, прервал дальнейшее
развитие демократически ангажированных традиций и замедлил
подъём классики модерна, однако радикального изменения эпохи
он не вызвал, поскольку сам является продуктом кризиса».1 Здесь
Шэфер имеет в виду экономический кризис конца 20-х гг., охва-
тивший капиталистический мир и вызвавший в значительной мере
к жизни фашизм как политические движение. Поэтому Шэфер
обвиняет своих предшественников по цеху в незнании элементар-
ных законов экономического и политического развития общества
и пеняет им за мелочность, брюзжание и излишнюю чувствитель-
ность к экстремистским проявлениям нацистского режима, которые
не так суровы и были, если в это время существовала значительная
(sic!) литература, представители которой благополучно пережили
«мнимые» лишения периода гитлеровской диктатуры и достаточно
прославились впоследствии.
Отсюда делается «смелый» вывод о том, что «морализаторская
фиксация на национал-социализме привела к чрезмерной акцен-
тированное™ цезуры 1933-1945 гг. и тем самым препятствовала
литературно-историческому дифференцированному отображению
различных течений, а также определению взаимосвязи с этими
датами».2 Следовательно, к проблеме «фашизм и немецкая лите-
ратура» надо подходить шире, для чего предлагается устранить
из имеющейся периодизации немецкой литературы (даже в каче-
стве внутренних) цезуры 1933 и 1945 годов как неверных с научной
точки зрения, взяв за основу две глобальные цезуры:
1929 год — начало мирового кризиса, когда в обстановке
страха перед экономическим и политическим хаосом, чреватым
фашистской (а для других — коммунистической) опасностью,
в художественной жизни Германии наметилась чёткая тенденция
к уходу от реальной действительности, тяга к классическому насле-
дию прошлого, повышенный интерес к форме, стилю, языку, т.е.
начали формироваться контуры «неоклассицизма»;
1966 год — начало НТР в США, охвативший затем осталь-
ные развитые капиталистические страны; зарождение поп-арта
в искусстве, знаменовавшего собой отказ от канонов и условностей
«неоклассицизма», «смерть литературы» старой чеканки, вызванных
оптимистическими тенденциями в мировой экономике.
1 Schäfer KD. Op. cit. S. 62.
2 Ibid. S. 56.
12
Итак, согласно Шэферу, разгром фашистской Германии
не внёс заметных изменений в развитие немецкой литературы,
ибо весь мир образов, идей и выразительных средств молодой
западногерманской литературы, т.е. «литературы развалин», её
антифашистские и антимилитаристские устремления, даже отчасти
её ангажированность, как и вообще вавилонское столпотворение
стилей, школ и школок в западногерманской литературе первых
послевоенных лет,— всё это явилось продолжением, прямым след-
ствием анархии культурной и экономической жизни Веймарской
республики, всё сложилось и сформировалось задолго до 1933 года,
и, несмотря на некоторые трудности и потери, возмужало и окре-
пло в профессиональном смысле в годы нацизма и продолжало
успешно существовать и после 1945 года в неизменном виде вплоть
до леворадикального бунта молодёжи 1968 года. Какой бы необыч-
ной и смелой ни казалась новая система периодизации немецкой
литературы XX века, предложенная Г.Д. Шэфером, она уязвима
по всем позициям.
Прежде всего, неоправданно расширительное толкование
расстановки исторических цезур говорит как раз об экономиче-
ской безграмотности самого Шэфера, а не его предшественников.
За период с 1929 по 1966 годов капиталистическое общество пере-
жило (и продолжает переживать по сей день) серию экономических
кризисов. Однако смена литературных направлений и стилей
в каждом регионе происходила по-своему, как, впрочем, и смена
экономических кризисов.1
Исходя из посылки К. Маркса (германисты «новой волны» хоро-
шо знакомы с произведениями классика научного коммунизма)
о том, что «с изменением экономической основы более или менее
быстро происходит переворот во всей громадной надстройке»,2
Шэфер забывает, что хотя система капитализма в глобальном мас-
штабе осталась прежней (средства производства являются частной
собственностью), степень интенсивности функционирования этой
системы в разное время проявляется по-разному. Фашистская дик-
татура в Германии была крайним проявлением наиболее реакцион-
ных империалистических форм господства буржуазии с элементами
1 Федеративная Республика Германия / Под ред. В. Шенаева. M., 1983. С. 148;
Grosser А. Geschichte Deutschlands seit 1945: Eine Bilanz. München 1977. S. 253;
RaffD. Vom alten Reich zur Zweiten Republik. München 1987. S. 426.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. T. 13. M. 1957. С. 7.
13
огосударствления, и в силу этого цезуры 1933 и 1945 годов образуют
чётко фиксирующийся исторический отрезок, который по степени
интенсивности заключённых в нём событий логично обосабливается
в замкнутый исторический период. Тот же К. Маркс писал: «С чего
начинается история, с того же должен начинаться и ход мыслей,
и его дальнейшее движение будет представлять собой не что
иное, как отражение исторического процесса».1 Как с приходом
в 1933 году к власти фашистов в стране возникла и развивалась
совершенно новая духовная ситуация, повлёкшая за собой «измене-
ние в самом типе художественного сознания»,2 так и после разгрома
фашизма духовная ситуация и соответственно тип художественного
сознания в послевоенной Германии претерпели существенные изме-
нения. Тот факт, что послевоенная духовная ситуация проявлялась
в отдельных элементах культуры 20-х годов, не даёт нам права
снимать цезуру 1945 года, ибо элементы эти по своей наполнен-
ности, содержанию резко отличались от своих первоисточников
(а у представителей литературной молодёжи вообще отсутствовали)
и в своём новом качестве не были повтором. А именно повтор, как
механическое воспроизведение уже бывшего, говорит, по мнению
Шэфера, о «чрезвычайной гетерогенности» литературы 30-40-х гг.,
о внешнем сходстве произведений Г. М. Энценсбергера, Г. Грасса,
М. Вальзера, В. Хайссенбюттеля, Г. Мона, О. Гомрингера, не говоря
уже о В. Борхерте, В. Кёппене, А. Андерше, Г. Айхе, с произведе-
ниями авторов времён Веймарской республики.3
Естественно, что цезура 1933 года является порождением
истории, а не литературы. Однако любое масштабное историческое
событие (а приход к власти в 1933 году Гитлера было таковым)
оказывает прямо или косвенно неминуемое воздействие на судьбы
литературы. Учитывая политические методы диктатуры нацизма,
воздействие это было довольно резким и всеохватным. В данном
случае, как нигде в истории мировой литературы, подтвердились
марксовы слова о прямой взаимосвязи истории и образа мыслей.
Не случайно Ганс Майер, крупнейший знаток немецкой литературы,
подчёркивает, что «литература периода Веймарской республики
оставалась неразрывно связанной с немецкой действительностью
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 13. M. 1957. С. 497.
2 Белая Г. Проблема активности стиля / / Смена литературных стилей / Под ред.
В. Кожинова M., 1974. С. 123.
3 Schäfer H. D. Op. cit. S. 58
14
1918-1933 годов. Эту литературу невозможно было продолжать.
Это было бы также анахронично, как и возрождение экспресси-
онистской утопии о рождении «нового человека».1 Майеру вторит
Вольфганг Кёппен, заявивший в 1974 году, что «после Третьего
рейха была невозможна дальнейшая передача из рук в руки,
от мастера к мастеру, техники письма, опробованного, материалов,
тем, стилей,— ничего этого не было».2
Но что считать относящимся к периоду Веймарской республи-
ки, а что — к послевоенному периоду? Вот любопытное свидетель-
ство Альфреда Дёблина, которое убедительно доказывает шаткость
доводов Шэфера. Свидетельство это тем более примечательно, что
оно относится к 1946 году и навеяно не столько воспоминаниями
о прошлом, сколько литературной ситуацией первых послевоенных
лет: «Если сделать некий срез немецкой литературы 19 и 20 веков,
то можно обнаружить одновременно присутствие литератур или
отдельных литературных произведений различных времён. Где-
то около 1933 года можно было найти соседствующими рядом
литературу 1800-1850 годов, литературу 1900 года и, может быть,
литературу 1930 года. Вероятность наличия последней была меньше
всего».3 И хотя Дёблин объясняет этот парадокс несовершенством
образного мышления человека,4 подобный расклад литературных
предпочтений, как показывают исследования, вызван партийной
ориентацией авторов тех лет.5
Ещё меньшей была вероятность наличия литературы периода
Веймарской республики после 1933 года. Вот свидетельство Хор-
стаЛанге, одного из наиболее ярких представителей афашистской
литературы, относящееся к середине 1939 года. В письме к Эрнсту
Кройдеру, соратнику по духу, он сетует на то, что большинство
1 Mayer Н. Die umerzogene Literatur. Deutsche Schriftsteller und Bücher 1945-1967.
Berlin 1988. S. 27
2 Koeppen W. Im Kampf für ein bürgerliches Vorurteil // Koeppen W. Gesammelte
Werke. Bd. 6. Essays und Rezensionen / Hrsg. v. M. Reich-Ranicki. Frankfurt / Main
1986. S. 402.
3 DöblinA. Die deutsche Utopie von 1933 und die Literatur // Das Goldene Tor.
Baden-Baden, 1946. Nr. 1. S. 142-143.
4 Ibid.
5 Sontheimer K. Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. München 1983.
См. также: Зачевский E. А. Истоки литературы Третьего рейха // Литература и язык
в меняющемся мире. СПб., 2010. С. 18-48. СПб., 2010. С. 18-48.
15
книг в фашистской Германии «представляет собой реминисценции
из времён до 1890 года. Всё, что касается последующих лет, было
отринуто и изгнано».1 Годы фашистской диктатуры практически
выхолостили социально-критические, морализаторские аспекты
литературы Веймарской республики, чем она и славилась, и позво-
лили развиваться её наиболее частным проявлениям, находившимся
на периферии литературного процесса. Псевдонародная, «местниче-
ская» идеология, метафизика и иррационализм были генеральными
направлениями литературы Третьего рейха. Как выразился один
их участников дискуссии, говоря об известной акции нацистов
по сожжению книг, «конфликт между демократически-индиви-
дуальными и народнически-национальными воззрениями был
переведён из духовной плоскости в политическую и с помощью
коричневых бригад получил соответствующее разрешение».2
В этой связи странным выглядит намерение Шэфера доказать,
что «катастрофа» с Германией приключилась не в 1933 и 1945 годах,
а в 1929 году, и оправилась она от её последствий лишь к концу
60-х годов. Однако большинство современников и исследователей
наших дней говорят о том, что все они, как правило, восприни-
мали 1945 год как цезуру, неоспоримую по своей значимости
для будущего Германии и не имевшую себе равных в её истории.
Консервативный историк Фридрих Майнеке в своей неоднократно
переиздававшейся книге «Немецкая катастрофа» (1946), что также
является лишним доказательством признания концепции её автора,
пишет, что «катастрофа, переживаемая нами сегодня, превосходит
в нашем восприятии все прежние испытания подобного рода»,3
а «исторические примеры успеха или неуспеха нам мало чем помо-
гут, ибо задача всякий раз становится новой и неповторимой».4
Ему вторит либеральный католический публицист Ойген Когон:
«Мы находимся не на эпохальной вершине, не на полпути к ней
или после неё, а в начале нового великого отрезка истории».5 Карл
1 Цит. по: Schäfer H. D. Bücherverbrennung, staatsfreie Sphäre und Scheinkultur//
»Das war ein Vorspiel nur...« Berliner Colloquium zur Literaturpolitik im »Dritten
Reich« / Hrsg. v. H. Denkler und E. Lämmert. Berlin 1985. S. 118.
2 Dahm V. Zu George L. Mosses: »Die Bildungsbürger verbrennen ihre eigene Bücher« //
»Das war ein Vorspiel nur...« S. 53.
3 Meinecke F. Die deutsche Katastrophe. Wiesbaden 1947. S. 5.
4 Ibid. S. 177
5 KogonE. Über die Situation // Frankfurter Hefte. 1947. H.l. S. 19.
16
Яйке, выражая мнение радикального крыла «внутренней эмигра-
ции», подчёркивал, что «мы не должны переделывать на новый лад
старые понятия, а действительно и непременно начать всё сначала,
по-новому, как это делали первые поселенцы, обживавшие Новый
свет».1 И, как бы объясняя причины необходимости подобных пре-
образований, Эрнст Вихерт в своей знаменитой «Речи к немецкой
молодёжи 1945 года» призывал «приступить к новому началу, но не
для нас, стариков, а для вас и ваших детей, ибо вы, вероятно, при-
знаёте, что наше начало было неверным».2
Эти же настроения определяли и литературную ситуацию
в Западной Германии. Генрих Бёлль вспоминает, что майские собы-
тия 1945 года вызвали у него «необыкновенное ощущение свободы»
и «послужили невероятным толчком к тому, чтобы взяться за перо».3
Даже Готфрид Бенн и Эрнст Кройдер, писатели, сознательно игно-
рировавшие реальную действительность, отмечали существенные
изменения в духовной ситуации после 1945 года Бенн резко возра-
жал против навязывания «старого хлама до 1932 года», ибо многие
авторы «значительно продвинулись вперёд и обрели новые знания
в ходе диалектического процесса развития».4 Кройдер тоже под-
чёркивал, что «сейчас пишут иначе, чем раньше».5
Строго говоря, рубежность 1945 года ставили под сомнение
и до Шэфера. Ещё в 1957 году Гюнтер Блёккер писал, что 1945 год
не является цезурой для литературы: «В действительности с помо-
щью этой даты был развязан шнурок и восстановлен естественный
кровоток литературной жизни».6 В поддержку Блёккера высказа-
лись также Карл Танк и Вольфганг Якобе: «Мы не можем опреде-
лённо говорить о немецкой литературе до и после 1945 года, как
будто с этой датой началась новая эпоха в литературной жизни
1 Jeicke К. Wer heißt uns hoffen? // Deutsche Rundschau. Berlin 1946. H.6. S. 235.
2 Wiechert E. Rede an die deutsche Jugend 1945. München 1945. S. 36.
3 »Ich habe nichts über den Krieg aufgeschrieben«: Ein Gespräch mit Heinrich Böll und
Hermann Lenz // Literaturmagazin 7. Nachkriegsliteratur / Hrsg. v. N. Born und
J. Manthey. Reinbek bei Hamburg 1978. S. 32-33.
4 Benn G. Lyrik und Prosa, Briefe und Dokumente / Hrsg. v. M. Niedermayer, M. Schlü-
ter. Wiesbaden 1962. S. 173.
5 Kreuder E. »Man schreibt nicht mehr wie früher«. Briefe an Horst Lange // Litera-
turmagazin 7. Nachkriegsliteratur / Hrsg. v. N. Born und J. Manthey. Reinbeck bei
Hamburg. 1978. S. 214.
6 Blöcker G. Die neuen Wirklichkeiten. Berlin 1961. S. 354.
17
Германии. Чем дальше мы уходим от этой рубежной точки, тем
чётче год от года мы чувствуем, что в действительности непре-
рывность развития была не прервана, не нарушена, а лишь, как
однажды выразился Гюнтер Блёккер, «перевязана шнурком».1 При
этом Танк и Якобе, как, впрочем, и Блёккер, отстаивали в основном
первородство писателей т.н. «внутренней эмиграции», полагая, что
произведения Г. Гайзера, Г. Казака, Э. Ланггэссер, Р. Хагелынтан-
ге, Г. Хартлауба, написанные в основном действительно в годы
фашизма, и были новой немецкой литературой, что, конечно, далеко
не так.2 Литература «внутренней эмиграции» развивалась по своим
законам, во многом независимым от общего ходя эволюции запад-
ногерманского общества, отчего и прекратила своё существование
к концу 60-х гг., не оставив ни наследников, ни даже эпигонов.
И здесь можно говорить о ликвидации цезуры 1945 года, ибо
писатели этого круга её просто не заметили и продолжали писать
в таком же духе, как и в годы нацизма.
Тем не менее, последующие работы Хельмута Кройцера, Фри-
дхельма Крёлля, Манфреда Дурцака и в особенности Фолькера
Ведекинга доказали на примере творчества ведущих авторов
послевоенной литературы ФРГ, и, в частности, авторов «группы
47», правомочность цезуры 1945 г. при периодизации истории
литературы ФРГ как рубежной для последующего развития лите-
ратурного процесса.3
Значимость цезуры 1945 года несравнима с цезурой 1968 года,
выдвигаемой Шэфером и его сторонниками в качестве рубежной
для начала собственно литературы ФРГ, не отягощенной наследием
прошлого. Как заявил Франк Троммлер, до сих пор она «не была
самостоятельным явлением в структуре общества», а прилежно
навёрстывала упущенное в годы фашизма, продолжая естествен-
ным образом, несмотря ни на что, разрабатывать темы и образы
1 Tank К. L., Jacobs W. Zwischen den Trümmern // Geschichte der deutschen Literatur
aus Methoden — Westdeutsche Literatur von 1945-1971. Bd. 1. / Hrsg. v. H.L. Arnold.
Frankfurt / Main 1972. S. 40.
2 Ibid. S. 41-42.
3 Людвиг Фишер, рассматривая социально-политическую и литературную ситуацию
первых послевоенных лет в Западной Германии, подчёркивает, что «конец войны
представляет собой, без сомнения, социальный и формирующий сознание истори-
ческий отрезок», «не требующий какого-либо подробного обоснования» (Fischer L.
Die Zeit von 1945 bis 1967 als Phase der Literatur- und Gesellschaftsentwicklung //
Literatur in der Bundesrepublik Deutschland bis 1967/ Hrsg. v. L. Fischer. München
1986. S. 33).
18
времён Веймарской республики, хотя и по-иному.1 Отто Бест,
выступая в США в 1971 году на 5-м Амхертском коллоквиуме
по проблемам западногерманской литературы 60-х годов и нахо-
дясь, вероятно, под впечатлением студенческих волнений 1968 года,
заявил, что если и была литература «дня ноль», то искать её нужно
не в середине 40-х годов, а в конце 60-х годов, т.е. во времена
«культурной революции» 1968 года, которая декларировала «смерть
литературы» прежних лет, обвинив её в неискренности и неспо-
собности содействовать социально-политическим изменениям
в стране: «...поэтика регистрации и разрушения, характерная для
литературы шестидесятых годов, означает разрыв с установками
реальной действительности, на создание которой ушло, по крайней
мере, полстолетия. Бунт и эксперимент — всё это в конечном итоге
приводит к требованию изменений, новых определений того, что
такое литература и что она может сделать, говоря тем самым, что
она хочет передавать не только слова, но и знания».2
В известном смысле периодизация истории немецкой литерату-
ры XX века, предложенная Шэфером, является своеобразным про-
должением «культурной революции» 1968 года со всеми свойствен-
ными ей левацкими амбициями и завихрениями. Как и следовало
ожидать, эта леворадикальная акция завершилась неудачей, более
того — скандалом, лишний раз подтвердившим научную несостоя-
тельность её инициаторов и их истинные намерения. Завершающий
удар по детищу Шэфера последовал с совершенно неожиданной
стороны. В 1982 году в левацком издательстве «Аргумент» вышел
сборник статей «Послевоенная литература в Западной Германии
1945-49 годов», авторы которого, уличив Шэфера в некорректно-
сти проведения исследования, охарактеризовали его концепцию
как «эстетический волюнтаризм».3 Вскоре издательство «Ханзер»,
специализирующееся на публикациях авангардистского и левац-
кого толка и издавшее также книгу Шэфера, выпускает в серии
1 Trommler F. Der zögernde Nachwuchs // Tendenzen der deutschen Literatur seit
1945 / Hrsg. v. Th. Koebner. Stuttgart 1971. S. 2.
2 Best O. Rückzug auf die Sprache oder Der Verlust des Fiktionalen / / Revolte und
Experiment. Die Literatur der sechziger Jahre in Ost und West / Hrsg. v. W. Paulsen,
Heidelberg 1972. S. 13-14.
3 Lange W. Die Schaubühne als politische Umerziehungsanstalt betrachtet. Theater in
der Westzonen // Nachkriegsliteratur in Westdeutschland 1945-49. Schreibweisen,
Gattungen, Institutionen / Hrsg. v. J. Hermand. Berlin 1982. S. 11.
19
«Социальная история немецкой литературы с XVI века до наших
дней» коллективный труд «Литература Федеративной Республики
Германии до 1967 года» (1986), где цезура 1945 года рассматрива-
ется как исходная для литературы ФРГ и ГДР, а концепция Шэфера
отвергается как неправильная.1
Однако этим дело не закончилось. В последующие годы статус
цезур 1933 и 1945 годов подвергся значительным изменениям.
Наряду с концепцией Шэфера, предполагающей протяжённость
литературной эпохи от 1930 до 1960 годов, возникла новая концеп-
ция продолжительности литературной эпохи от 1920 до 1950 годов,
а несколько позже — от 1925 до 1955 годов. Вся эта чересполо-
сица дат вызвана тем, что всякий раз основа новой концепции
определялась приоритетом того или иного литературного явления:
противопоставлением модерна и антимодерна, феномена отдель-
ных стилевых и языковых проявлений в литературе, вовлечением
в контекст рассуждений проблем эмиграции и т.д.
В настоящий момент какой-то ясности в решении этой пробле-
мы нет. Карл-Хайнц Шёпс, например, в своей книге «Литература
в Третьем рейхе (1933-1945)» (2000) придерживается прежнего
мнения о том, что «какими бы решающими для политической исто-
рии Германии ни были цезуры 1933 и 1945 годов, для литературы
и искусства они имеют совершенно незначительное значение».2
Позицию авторов книги «Национал-социализм и эмиграция 1933-
1945 годов» (2009) можно охарактеризовать известным словечком
Курта Тухольского »jaein«. Они мечутся между различными кон-
цепциями периодизации немецкой литературы, но так и не могут
определиться в своих предпочтениях. С одной стороны, Вильгельм
Хэфс в своём обширном вступлении к этой книге считает, что
в «синхронной перспективе 1933 год можно больше не характеризо-
вать как некую цезуру, решающую и всё меняющую в литературном
производстве, а только разве что как некую дату, с которой относи-
тельная автономность литературного поля подвергается более зна-
чительной опасности, чем в прежние годы», и в этой связи «с конца
20-х годов... происходит перелом в социальной системе литературы,
который с 1933 года в организованных формах упрочился».3
1 Literatur der Bundesrepublik Deutschland bis 1967/ Hrsg. v. L. Fischer. München
1986. S. 36, 677.
2 Schoeps K-H. J. Literatur im Dritten Reich (1933-1945). Berlin 2000. S. 13.
3 Haefs W. Einleitung // Nationalsozialismus und Exil 1933-1945 / Hrsg. v. W. Haefs.
München 2009. S. 13.
20
С другой стороны, признавая, что в качестве «модели» социаль-
ной истории немецкой литературы периода национал-социалист-
ской диктатуры — 1933-1945 годов, несомненно, нельзя принять,
Хэфс, определив таковой моделью время Веймарской республики,
считает, что « 1933 год оказывается в этом смысле всё же цезурой»,
потому что «для оставшихся в рейхе и для эмигрировавших авто-
ров организационные типовые условия существенно изменились».1
Уве Кетельсен в своей фундаментальной работе «Литература
и Третий рейх» (1994) подходит к проблеме легализации цезур 1933-
1945 годов более радикально: «Безразлично, где после 1945 года
будут искать историческую точку отсчёта для плана представления
западногерманской послевоенной литературы, они должны будут
строится с учётом исключения литературы Третьего рейха; во вся-
ком случае, 1933-1945 годы следует исключить».2
Суть этих рассуждений определяется тем, что многие германи-
сты видят неразрывную связь между литературой Третьего рейха
и Веймарской республики, из чего следует обязательное рассмо-
трение обоих периодов в одной связке, не отделяя один от другого.
Мне представляется, подобные мысли, при всей их внешней
привлекательности — Кетельсен ссылается на похожесть доктрин
«Баухаус» и строительной идеологии нацистов, притом, что послед-
ние рьяно поносили эти доктрины3 — таят в себе опасности смеше-
ния посылок или, вернее, игнорирования их. Несомненно, какие-то
общие детали, мысли, стилистические приёмы могли безболезненно
обосноваться в реалиях Третьего рейха, особенно, если учесть, что
большой отряд писателей фёлькиш-национального склада, среди
которых были добротные художники, определял литературную
политику в Германии тех лет. Наконец, сами немногочисленные
нацистские литераторы не породили какой-то новой литературы,
а следовали опробованным примерам, вкладывая в них совершенно
другой смысл и прибегая к языку отнюдь не высокого качества.
Рассуждения Кетельсена вызывают возражение ещё и потому,
что не исследован весь корпус нацистской литературы, какого бы
свойства он ни был. Нельзя судить обо всей литературе по отдель-
ным образцам, как нельзя и легко переносить с одной области
1 Haefs W. Einleitung // Nationalsozialismus und Exil 1933-1945 / Hrsg. v. W. Haefs.
München 2009. 13-14.
2 Ketelsen Uwe-K. Literatur und Drittes Reich. Vierow bei Greifswald, 1994. S. 243-244.
3 Ibid. S. 244.
21
искусства на другую её выразительные черты безотносительно
изначальной посылки.
В российской германистике проблема периодизации истории
немецкой литературы XX века, как и истории литературы ФРГ,
не вызывала каких-либо дискуссий. Практически все исследователи
считают 1933 и 1945 годов рубежными годами в истории литерату-
ры Германии. Наиболее полно это мнение выразил А. В. Карельский:
«Дата возникновения Федеративной Республики Германии как
государства— 1949 год, но это не означает, что западногерманская
литература появилась на свет автоматически с этой датой. Уже
в первые послевоенные годы Запад и Восток Германии перестали
быть понятиями только географическими: наличие оккупационных
зон и политика «холодной войны» вызвали процесс идеологического
и политического размежевания духовных сил нации, и уже в эти
годы в немецкой литературе оформились многие из тенденций,
определивших потом облик именно западногерманской литературы.
Так что 1945 год — год разгрома гитлеровской Германии — явля-
ется тем рубежом, с которого начинаются дороги современной
литературы ФРГ».1
1 Карельский А. В. Литература ФРГ // История зарубежной литературы 1945-1980/
Под ред. Л. Г. Андреева. M., 1989. С. 168.
Приход к власти нацистов
и судьбы немецкой литературы
30 января 1933 года президент Веймарской республики Пауль
фон Гинденбург назначил Адольфа Гитлера рейхсканцлером Гер-
мании и поручил ему сформировать и возглавить правительство.
Приход к власти Национал-социалистической рабочей партии
Германии (НСРПГ) означал официальное закрепление фашизации
общественной жизни в стране, ибо, начиная с 1930 года, когда
представители Социалистической партии Германии (СПГ) были
вытеснены из правительства, многие акции республиканских вла-
стей против либерально и прокоммунистически настроенных поли-
тиков и деятелей культуры проходили с явной оглядкой на нацио-
нал-социалистов, так что волна беспрецедентных репрессий против
них, прокатившаяся впоследствии по всей стране, воспринималась
многими как должное: «Ещё до того, как Йозеф Геббельс создал
свою систему цензуры, важнейшие печатные органы, выражавшие
общественное мнение, принялись демонстративно выказывать
расположение к гитлеровскому правительству».1
В культурной жизни страны ситуация осложнилась после того,
как нацисты пришли к власти и министром культуры Пруссии был
назначен Бернхард Руст, член партии с 1925 года, стараниями
которого были предприняты решительные шаги по наведению
«порядка» во вверенной ему области. Первой жертвой этого «поряд-
ка» стала «Прусская академия искусств», которая давно уже была
«бельмом в глазу всех ретроградных и националистических кругов
Фрай Н. Государство фюрера. Национал-социалисты у власти: Германия, 1933-
1945. М., 2009. С. 36.
23
германской общественности и постоянной мишенью злобных напа-
док на неё как цитадель «асфальтной литературы», «антинемецкого
духа».1 Несмотря на значительное число членов академии, испове-
довавших фёлькиш-консервативную идеологию,2 секция искусств
попыталась в декабре 1932 года выступить с заявлением в связи
с выходом миллионным тиражом книги Пауля Фехтера «История
немецкой литературы», которая была признана ими «реакцион-
ной в культурном отношении, враждебной культуре».3 Акция эта
заглохла в многочисленных согласованиях среди членов академии,
да и сам текст заявления стараниями Готфрида Бенна потерял
протестную функцию, превратившись в некое признание в лояль-
ности нацизму.4 Инициаторы акции — Людвиг Фульда, Альфред
Дёблин — к началу февраля 1933 года поняли, что «политическое
положение полностью изменилось... Предполагавшееся заявление
теперь превратилось только в политический вопрос, последствия
которого не трудно предположить. Национал-социалист стал теперь
куратором академии. Эта демонстрация совершенно ясно и чётко
превратилась в наступление [на режим]».5
Испугавшись собственной смелости, члены академии решили
«обождать и не терять бдительности».6 Однако бдительность проявил
1 Фрадкин И. М. Фашистский переворот и судьба немецкой литературы / / История
немецкой литературы. Т. 5. 1918-1945 / Под ред. И. M. Фрадкина и С. В. Тураева.
M., 1976. С. 327.
2 Термин фёлькиш (völkisch / volkhaft), т.е. «народный / народнический», примерно
с 1875 г., является онемеченой заменой слова "national" (Brockhaus Lexikon.
Bd. 19. Tus-Wek. München 1988. S. 214), хотя постоянно встречается в сочетании
«фёлькиш-национальный» и употребление которого, особенно во времена Третьего
рейха, практически в любом контексте имело ярко выраженную расистскую
и антисемитскую тенденцию и включало в себя обширный комплекс проблем,
о которых речь пойдет несколько позже. В научной и политической литературе этот
термин употребляется применительно только к проблемам национал-социализма
и не имеет хождения в современном немецком языке. Правда, слово »völkisch«
можно перевести как «народнический», однако традиционно это слово в русском
языке имеет достаточно положительную коннотацию (Большой академический
словарь русского языка. Т. 11. H — недриться. M., СПб., 2008. С. 328-329),
и сохранение его в текстах, не имеющих по своему духу никакого отношения
к народу, выглядит нелепо.
3 Jens I. Dichter zwischen rechts und links. Die Geschichte der Sektion für Dichtkunst
an der Preußischen Akademie der Künste. Leipzig 1994. S. 204.
4 Ibid. S. 207.
5 Ibid. S. 208.
6 Ibid. S. 209.
24
именно Б. Руст. 14 февраля 1933 года в Берлине повсюду были
расклеены листовки с призывом создать в преддверии парла-
ментских выборов единый фронт СПД и КПД. Среди прочих под-
писей в листовке были указаны имена знаменитой художницы
Кэте Кольвиц и Генриха Манна, являвшихся членами Прусской
академии искусств, что и побудило Б. Руста на следующий день
поставить перед президентом академии Максом фон Шиллингсом
вопрос о роспуске этого учреждения. Для того чтобы спасти акаде-
мию от роспуска, решено было пожертвовать секцией литературы.
В этот же день К. Кольвиц отказалась от членства в академии,
а Г. Манн, после массированной обработки М. фон Шиллингсом,
сложил с себя полномочия председателя секции литературы и отка-
зался от членства в академии.
В этот же день Ганс Йост, писатель, зарекомендовавший себя
как твёрдый сторонник национал-социалистов, публикует в газете
«Дойче Культур-Вахт» (»Deutsche Kultur-Wacht«), органе нацистского
«Боевого союза за немецкую культуру», короткую заметку: «Европа
вынуждена была в 1918 году учредить в Берлине филиал под назва-
нием «Академия поэтов». ДКВ считает, что теперь пришло время
внимательно присмотреться к этому скрытному учреждению. Томас
Манн, Генрих Манн, Верфель, Келлерман, Фульда, Дёблин, Унру
и т.д. являются либерально-реакционными писателями, которые
по своей профессиональной пригодности больше не могут ни в коей
мере приблизиться к немецкому понятию поэзии. Мы предлагаем
распустить эту безнадёжно устаревшую группу и сформировать
новую в соответствии с национальными, истинно поэтическими
критериями».1
Заметка Йоста появилась не случайно, ибо Альфред Розен-
берг, идеолог нацистской партии, собирался распустить Прусскую
академию искусств и вместо неё образовать под началом Йоста
«Попечительский совет по делам немецкой литературы», или, под
началом всё того же Г. Йоста, ввести Прусскую академию искусств
в состав «Имперской службы содействия немецкой письменности»,
входившей в ведомство Розенберга. Однако всесильный министр
пропаганды Йозеф Геббельс, постоянный соперник Розенберга
в вопросах культуры (это соперничество длилось до конца Третьего
рейха), обошёл его, создав в сентябре 1933 г. «Имперскую палату
JohstH. »Ein deutscher Dichterfragt: Dichterakademie?«// Deutsche Kultur-Wacht.
Berlin, 1933. Nr. 4. S. 13.
25
письменности» (»die Reichsschrifttumskammer«), являвшуюся состав-
ной частью «Имперской палаты культуры» (»die Reichskulturkam-
mer«), которая подчинялась министерству пропаганды, и судьба
Прусской академии искусств была решена.
14 марта 1933 года состоялось заседание сената секции лите-
ратуры академии, на котором было принято составленное Г. Бен-
ном заявление о реорганизации секции литературы, членство
в которой было возможным лишь «при исключении общественной
политической деятельности против правительства» и «принятия
обязательства лояльно сотрудничать в решении национальных
культурных задач, относящихся согласно уставу к академии в духе
изменившегося исторического положения».1
Большая часть членов секции литературы согласилась принять
эти условия, ряд авторов — Томас Манн, Рикарда Хух, Альфред
Дёблин, Альфонс Паке — сразу заявили о своём отказе от членства
в академии, остальные — Людвиг Фульда, Георг Кайзер, Бернхард
Келлерман, Фриц фон Унру, Альфред Момберт, Франц Верфель,
Леонгард Франк, Рене Шикеле, Рудольф Панвиц, Якоб Вассерман —
5 мая 1933 года были исключены из академии из расистских сооб-
ражений. 6 мая 1933 года в секцию литературы академии были
избраны, вернее, назначены, Ганс Гримм, Пауль Эрнст, Вильгельм
Шэфер, Агнес Мигель, Бёррис фон Мюнхгаузен, Ганс Фридрих Блу-
нк, Эмиль Штраус, Ганс Каросса, Вернер Боймельбург, Петер Дёрф-
лер, Эрвин Гвидо Кольбенхайер, Фридрих Гризе, Ганс Йост, Вилл
Феспер,— авторы исключительно фёлькиш-национальной направ-
ленности. Правда, Г. Каросса отказался от членства в академии.
7 июня 1933 года состоялось торжественное заседание секции
поэзии, на котором с подачи министра Б. Руста было принято реше-
ние о переименовании её в «Немецкую академию поэзии» (»die Deut-
sche Akademie der Dichter«), президентом которой был избран
Г. Йост, а его заместителем — Г.Ф. Блунк. На этом же заседании
были определены задачи, стоящие перед академией, и политическое
направление её деятельности. Как заявил Б. Руст, в академии «сле-
дует освободить место для великогерманских идей», ибо это явля-
ется следствием «биологически вынужденного развития», и перед
Пруссией стоит задача «подготовить для великой Германии путь»,
что предполагает создание в будущем великой немецкой академии,
1 Jensl. Op. cit. S. 240-241.
26
влияние которой «распространится на все немецкие языковые груп-
пы Европы и проявится в воинствующем национал-социалистском
европейском концепте... грядущего рейха».1
В известном смысле решительные преобразования в «Немецкой
академии поэзии» можно назвать победой фёлькиш-националов,
ибо они впервые в столь значительном количестве были представле-
ны в этом высоком собрании; более того, впервые на официальном
уровне их стали воспринимать как нечто важное и значительное
в культурной жизни страны. Поэт Оскар Лёрке, один из немногих
членов прежнего состава академии, достаточно ярко воспроиз-
вёл в своих дневниках атмосферу победного упоения, царившую
в стане фёлькиш-националов: «Добродушные старики справля-
ют триумфы. Эмиль Штраус, Герман Штер. Они чувствуют себя
сегодня уважаемыми и важными людьми. Им также дали места
в сенате. В общем-то, господа националисты находятся в своём
кругу. Шэфер, постоянно склонный к истерическим припадкам
бешенства, всегда орущий, чёрный Альберих. Кольбенхайер, злоб-
ное, раздувшееся от важности ничтожество, нескончаемо говоря-
щее. Самонадеянные диктаторы, которые очень скоро столкнутся
с «новыми». Ненависть к «берлинцам». Оскорбления... Благодаря
Шэферу и Кольбенхайеру, пустым, обычным скандалистам, засе-
дание опустилось до необыкновенно убогого уровня». Несколькими
днями позже Лёрке запишет в своём дневнике: «Да, после недав-
них событий академия превратилась в кружок любителей пения,
в ферейн парикмахеров. Но господа Кольбенхайер и Шэфер будут
творить всё, что им вздумается!»2
В действительности всё было не совсем так, как это представ-
лялось новым членам академии. Вскоре вьюснилось, что и знаковые
фигуры нацистского Парнаса не обладали неприкосновенностью.
Так, Ганс Гримм, «классический образец национального автора»,3
создатель знаменитого романа «Народ без пространства» (»Volk ohne
Raum«, 1926), название которого нацисты использовали в качестве
лозунга для своих геополитических притязаний, любимый писатель
1 Цит. по: Düsterberg R. Hanns Johst: »Der Barde der SS«. Karrieren eines deutschen
Dichters. Padeborn 2004. S. 172
Цит. по: Wulf J. Literatur und Dichtung im Dritten Reich. Eine Dokumentation. 1966.
S. 35-36.
Loewy E. Literatur unterm Hakenkreuz. Das Dritte Reich und seine Dichtung. Eine
Dokumentation. Köln, Frankfurt / Main 1977. S. 314.
27
Гитлера, друг Геббельса, на поверку оказавшийся его злейшим
врагом, этот Гримм в 1935 году был изгнан из «Имперской палаты
письменности» по причине «политических и идеологических раз-
ногласий».1
На волне эйфории, возникшей от достигнутых успехов, фёль-
киш-националы полагали, что «Немецкая академия поэзии» будет
вершить судьбы литературы и к её мнению будут прислушиваться,
но, как показали дальнейшие события, всё ограничилось выдачей
справок о благонадёжности того или иного собрата по профессии,
попавшего каким-либо образом в немилость у тогдашних правите-
лей. Так, благодаря вмешательству Блунка, Йоста и Кольбенхайера
был освобождён из концлагеря Дахау рабочий поэт и писатель Карл
Брёгер, часто цитируемый фюрером;2 сенат академии по инициа-
тиве Р. Ф. Биндинга вступился также за поэта Фридриха Бишофа,
подвергшегося преследованиям политической полиции,3 за рели-
гиозную писательницу Гертруд фон Ле Форт и даже за Альфонса
Паке, изгнанного из академии по расистским соображениям, когда
в Гамбурге сожгли его книгу о Гёте;4 более того, по предложению
Биндинга «Немецкая академия поэзии» выделила 500 марок опаль-
ному художнику Эрнсту Барлаху.5
Эти всплески самостоятельности можно объяснить лишь про-
явлениями известной политической наивности некоторых членов
академии, полагавших быть духовными наставниками новой вла-
сти. Это прекрасно понимал Йост, хотя и участвовал в некоторых
«благотворительных» акциях вверенного ему учреждения. Отвечая
на вопрос Биндинга о будущем «Немецкой академии поэзии», Йост
сказал, что «непосредственно против неё, пожалуй, никто ничего
не имеет, но её присутствие в общественной жизни, как это пред-
ставляется, рассматривается не самым важным фактором и, во вся-
ком случае, мало пригодным».6 Йост, не раз общавшийся с Гитлером
по делам академии, знал, что говорил. Как президент «Немецкой
академии поэзии», он выступал в роли наместника, должного
1 Wellmann M. Hans Grimm // www.polunbi.de/perl/grimm-01.html
2 Jens I. Op. cit. S. 263-264.
3 Binding R. F. Briefe / Hrsg. v. L.F. Barthel. Hamburg 1957. S. 208-209.
4 Jensl. Op. cit. S. 266-267; 281. Binding R.F. Op. cit. S. 182.
5 Ibid. S. 280.
6 Цит. по: Anonym. Binding-Briefe. Randerscheinungen // Der Spiegel, 13.11.1957.
Nr. 46. S. 58.
28
держать под контролем деятельность академии в духе нового режи-
ма, и, зная о наличии в руководстве страны противоборствующих
группировок, Йост своим первым указом на следующий же день
обязал всех членов академии воздержаться от каких-либо выска-
зываний по поводу предстоящих изменений в работе академии:
«Если кого-либо что-то раздражает, то он может дать волю своим
чувствам здесь, в этом зале, но не выносить их наружу. Принци-
пы нового времени требуют того, чтобы не выносить шум наружу,
в том числе и в прессе. Должно быть ясно всем, что обязанность
сохранения тайны касается всех членов академии».1
Понятно, что речь шла о полном подчинении литературы
во всех её проявлениях государственным надобностям. Не слу-
чайно на этом же заседании было решено послать три телеграммы
с выражением лояльности: президенту Германии Гинденбургу,
рейхсканцлеру Гитлеру и министру культуры Русту. В телеграм-
ме Гитлеру говорилось: «Германская академия поэзии в день её
открытия желает принести присягу господину рейхсканцлеру как
руководителю новой Германии и выражение своей неразрывной
связи с ним. Председатель: Ганс Йост».2
Правда, и в этой части в 1936 году с «Немецкой академией
поэзии» приключился некий казус, который можно было бы расце-
нить как бунт на корабле, хотя и не имевший никаких последствий.
В связи с проведением партийного съезда в Нюрнберге руководство
академии решило направить приветствие, в котором говорилось
о верности «духовной Германии» фюреру, партии и народу. Кольбен-
хайер, Гримм, Биндинг и Ина Зайдель воспротивились выражать
свою верность партии, членами которой они не являлись, под тем
предлогом, что их могут посчитать «попутчиками», против которых
партия как раз и выступает.3
Как бы то ни было, но все попытки «Немецкой академии поэзии»
заявить о своей автономии не имели успеха. Последовавшие вскоре
запрет на публикацию доклада Э. Г. Кольбенхайера, снятие с репер-
туара пьес самого Г. Йоста показали, кто в доме хозяин. Вероятно,
Для укрепления нацистского духа в октябре 1933 года «Немецкая
академия поэзии» пополнилась более верными сторонниками
Цит. по: Anonym. Binding-Briefe. Randerscheinungen // Der Spiegel, 13.11.1957.
Nr. 46. S. 173.
2 DusterbergR. Op. cit. S. 173.
3 Jens I. Op. cit. S. 282-283.
29
партии. В её состав вошли Герман Клаудиус, Густав Френссен,
Изольде Курц, Генрих Лерш и ряд других авторов. Среди них были
и Рикарда Хух, Эрнст Юнгер, которые отказались от членства
в «Немецкой академии поэзии».
Разгромом секции литературы завершилась реорганизация
академии искусств и определилась когорта авторов, представляв-
ших официальную литературу Третьего рейха.
Подобная же судьба ожидала и «Союз защиты авторских прав
писателей» (»Schutzverband deutscher Schriftsteller«). Как хвастливо
заявлял Ганс Хайнц Эверс, один из основателей в 1909 году этого
союза и новоиспечённый нацист, 11 марта 1933 года он вместе
с несколькими писателями, примкнувшими к новой власти, ворва-
лись в помещение союза и потребовали, чтобы большинство членов
правления союза тут же подало в отставку, а оставшиеся должны
были «произвести довыборы новых членов правления в соответ-
ствии со списком, составленным мною. Я вышел вместе с моими
людьми, дав правлению четверть часа для принятия решения. Как
я ожидал, так всё и случилось. Страх и трусость этих господ были
так велики, что они сразу же сделали всё, что от них потребовали».1
Однако окончательно этот союз сформировался в июне 1933 го-
да после слияния с «Союзом немецких рассказчиков», с «Ферей-
ном немецких писателей» и «Картелем лириков» под названием
«Имперский союз немецких писателей», который практически
во всём копировал все уставные положения «Немецкой академии
поэзии», превратившись, таким образом, из вольного представи-
тельства интересов писателей в насильственное объединение писа-
телей со всеми отсюда вытекающими обязательствами его членов
по отношению к нацистской партии. Во главе союза стоял Гётц
Отто Штоффреген, член НСРПГ с 1932 года, один из редакторов
«Фёлькишер Беобахтер».
Завершающим ударом по вольностям немецких писателей
был разрыв связей с ПЕН-клубом, разрыв каких-либо отноше-
ний с зарубежными писателями. Правление немецкой секции
ПЕН-клуба, возглавляемое до февраля 1933 года известнейшим
немецким критиком Альфредом Керром, захватили Г. Хинкель,
1 Barbian J.-P. Nationalsozialismus und Literaturpolitik // Nationalsozialismus und
Exil 1933-1945 / Hrsg. v. W. Haefs. München 2009. S. 57.— Столь красочное опи-
сание своего «героического поступка» Эверсу понадобилось в 1940 г. для того, что
добиться отмены запрета на его книги, вышедшие до 1933 г, которые нацисты
считали, и не без оснований, порнографическими.
30
Г. Йост, Э. Кохановский, Р. Шлёссер и другие представители НСРПГ,
предварительно очистив секцию от нежелательных элементов.
Однако надежды нацистов, и, прежде всего Геббельса, получить
в свои руки инструмент пропаганды идей национал-социализма
за пределами Третьего рейха не оправдались. В ноябре 1933 года
на встрече членов ПЕН-клуба в Лондоне по инициативе английских
писателей была принята резолюция, порицающая преследование
нацистами инакомыслящих писателей, и представителю Германии
на этой встрече Эдгару фон Шмидт-Паули не оставалось ничего
иного, как заявить о выходе его страны из этой международной
организации писателей. В пику ПЕН-клубу Г. Йост и Г. Бенн создали
«Союз национальных писателей» (»Union Nationaler Schriftsteller«),
однако в начале 1934 года и эта организация тихо почила в бозе.1
Примечательно, что все эти акции нацистов по наведению
«порядка» на культурном фронте практически не встретили ника-
кого сопротивления со стороны деятелей культуры, если не считать
отказа двух-трёх авторов от членства во вновь созданных творче-
ских организациях. Йост позднее вспоминал, что когда он приехал
в Берлин для того, чтобы «с первых часов вместо критических
требований содействовать проведению национал-социалистской
культурной политики, я и думать не мог, что полное изменение всех
художественных дисциплин пройдёт беспрепятственно и хорошо».2
Куда большие потери понесли литераторы, прямо или косвенно
связанные с коммунистической партией Германии. Гонения на них,
а также на представителей левых сил, вступили в решающую ста-
дию после пожара рейхстага 28 февраля 1933 года, когда на следу-
ющий же день был принят закон «О защите народа и государства»,
лишавший граждан основных прав, записанных в конституции
Германии и являвшийся, по сути дела, необъявленным чрезвы-
чайным положением, которое действовало до конца правления
национал-социалистов.3 Закон этот, развязавший руки нацистам
в преследовании инакомыслящих, вызвал огромный поток эмигра-
ции из страны, составивший свыше 5500 деятелей культуры, науки,
искусства,4 и просто людей, несогласных с нацистским режимом,
среди которых значительную часть составляли евреи.
1 BarbianJ.-P. Op. cit. S. 59.
2 Düsterberg R. Op. cit. S. 189.
3 Фрай H. Указ. соч. С. 38.
4 BarbianJ.-P. Op. cit. S. 54.
31
В соответствии с этим законом нацисты произвели массовые
аресты и бросили в тюрьмы и концлагеря своих политических
врагов. Среди них были не только партийные деятели КПГ и СПГ,
но и деятели литературы, искусства, придерживавшиеся левых
взглядов. По заранее подготовленным спискам нацисты обезгла-
вили не только две крупнейшие партии Германии, но и лишили их
идеологической поддержки. Людвиг Ренн, Эгон Эрвин Киш, Вилли
Бредель, Курт Хиллер, Отто Готше, Берта Ласк, Вольфганг Лангхоф,
Ганс Лорбер, Пауль Цех — вот неполный список писателей, аресто-
ванных после поджога рейхстага. Некоторые из них были отпущены
и эмигрировали из страны, другие вышли на свободу лишь после
разгрома Третьего рейха. В последующие годы нацистского режима
преследование инакомыслящих деятелей культуры не ослабевало,
о чём свидетельствует трагический писательский мартиролог:
Эрих Мюзам, Карл Оссецкий, Адам Кукхоф, Дитрих Бонхёффер,
Йохен Клеппер, Юра Зойфер, Фридрих Персифаль Рек-Маллецевен,
Альбрехт Хаусхофер, Пауль Корнфельд, Людвиг Фульда, Гертруд
Кольмар, Альфред Грюневальд, Якоб Ван Ходдис и многие другие.
Практически, нацисты сводили счёты не только со своими
врагами, но и со всеми теми, кто подвергал критике ненавист-
ную им Веймарскую республику. В этом смысле примечательны
восторженные слова журналиста Фридриха Хуссонга, известного
своими пронацистскими взглядами, в его книге «Курфюрстендамм»,
вышедшей в начале 1934 года: «Случилось чудо. Их больше нет...
Они претендовали на то, чтобы быть олицетворением германского
духа, германской культуры, германским настоящим и германским
будущим. Они представляли Германию перед всем миром, они
говорили от её имени... Все остальные были для них греховной
и жалкой подделкой, отвратительным мещанством. Они всегда
сидели в первом ряду. Они присуждали себе рыцарские титулы
духа и европейства. Нерешённых проблем для них не существовало.
Они „создавали" себя и других. Кто бы им ни служил, его успех был
гарантирован. Он появлялся на их сценах, печатался в их журна-
лах, его рекламировали по всему миру; его товар рекомендовался,
независимо от того, был ли это сыр или теория относительности,
порох или современный политический театр, патентованное лекар-
ство или права человека, демократия или большевизм, пропаганда
за аборт или против устойчивой юридической системы, дурная
негритянская музыка или танцы нагишом. Иными словами, никогда
32
не существовало более наглой диктатуры, чем диктатура демокра-
тической интеллигенции и литераторов».1
Своеобразным предупреждением для оставшихся в нацистской
Германии писателей стало печально знаменитое сожжение книг
на Опернплатц в Берлине 10 мая 1933 года. Давнее пророчество
Г. Гейне о том, что «там, где книги жгут, там и людей потом в огонь
бросают»,2 сбылось в полной мере. Это показательное аутодафе
было инициировано и организовано берлинским Союзом немецких
студентов не без помощи библиотекарей Городской и народной
библиотеки Берлина, действовавших по указке только что обра-
зованного Министерства народного просвещения и пропаганды,
«Боевого союза за немецкую культуру» и Прусского министерства
науки, воспитания и народного образования.3 В общей сложности
в огне были уничтожены свыше 20000 книг.4 В этом позорном пред-
ставлении принимали участие не только студенты, но и профессора
Мартин Хайдеггер, Эрнст Бертрам, Ганс Науман. Аналогичные
акции прошли в крупнейших немецких городах и университетских
центрах.
Эта акция имела не только предупредительно-устрашающую,
но и сакрально-символическую функцию, и трактовалась нациста-
ми как торжественный отказ от ненавистного прошлого, от всего
того, что не отвечало идеологическим установкам нацистов. Весь
процесс сжигания книг сопровождался выкриками лозунгов, кото-
рые практически озвучили официальную программу нацистов
в области культуры и литературы в частности: «Против классовой
борьбы и материализма! За народную общность и идеалистический
образ жизни! Я предаю огню сочинения Маркса и Каутского!
Против декаданса и морального разложения! За строгость
и нравственность в семье и государстве! Я предаю огню книги
Генриха Манна, Эрнста Глэзера и Эриха Кестнера!
Цит. по: Джонсон П. Современность. Мир с двадцатых по девяностые годы. M.,
1995. С. 137
2 Рейне Г. Собрание сочинений. Т. 1. Л., 1956. С. 211.
Vondung К. Autodafé und Phönix: Vom Glauben an deutschen Geist / / »Das war ein
Vorspiel nur...« Berliner Colloquium zur Literaturpolitik im »Dritten Reich« / Hrsg.
v. Denkler H., Lämmert E. Berlin 1985. S. 101.
Mosse G. L. Die Bildungsbürger verbrennen ihre eigenen Bücher / / »Das war ein
Vorspiel nur...« ...S. 35.
33
Против беспринципности и политического предательства,
за преданность народу и государству! Я предаю огню книги Фри-
дриха Вильгельма Фёрстера!
Против искажения нашей истории и принижения её великих
героев! За благоговейное отношение к прошлому! Я предаю огню
сочинения Эмиля Людвига и Вернера Хегемана!
Против антинародного журнализма демократически-еврейско-
го толка! За исполненное ответственности сотрудничество в деле
национального строительства! Я предаю огню книги Теодора Вольфа
и Георга Бернгарда!
Против разрушающей душу переоценки сексуального влече-
ния, за благородство человеческой души! Я предаю огню книги
Зигмунда Фрейда!
Против литературного предательства солдат мировой войны,
за воспитание народа в духе справедливости! Я предаю огню книги
Эриха Марии Ремарка!
Против высокомерной порчи немецкого языка, за сохранение
драгоценного достояния нашего народа! Я предаю огню книги
Альфреда Керра!
Против наглости и надменности, за уважение и почитание
бессмертного немецкого народного духа! Пусть поглотит пламя
и книги Тухольского и Оссецкого!»1
На первых порах нацисты были заинтересованы в благо-
желательном отношении Запада к новому режиму и эта акция
явно не вписывалась в контекст их политики, однако Й. Геббельс
не мог упустить проявления «народного гнева» и выступил перед
участниками этой акции: «...вы поступаете хорошо, когда в этот
полночный час предаёте огню вредный дух прошлого. Это очень
сильное, великое и символичное действие,., которое должно проде-
монстрировать всему миру — здесь уничтожаются духовные основы
ноябрьской республики, но из их пепла победоносно поднимется
феникс нового духа».2
Собственно, «феникс нового духа» давно уже витал над Гер-
манией. Уже в начале 20-х годов нацисты озаботились вопросами
литературы, которую они рассматривали как пропагандистское
1 Wulf J. Literatur und Dichtung im Dritten Reich. Eine Dokumentation. Hamburg,
1966. S. 49-50.
2 Цит. по: Brenner H. Die Kulturpolitik des Nationalsozialismus. Hamburg, 1963.
S. 115-116.
34
средство воздействия на общество. В этой связи в августе 1927 года
на партийном съезде НСРПГ было принято решение о создании
«Национал-социалистского общества культуры и науки», переиме-
нованного в начале 1928 года в «Боевой союз в защиту немецкой
культуры», среди учредителей которого были ведущие деятели
партии Г. Гиммлер, Г. Штрассер, А. Розенберг.1 Из тактических
соображений, в желании оказывать воздействие на круги, далёкие
от идей национал-социализма, «Боевой союз в защиту немецкой
культуры» не афишировал свою принадлежность к НСРПГ. Основ-
ной костяк этого союза состоял из личностей, относящихся к наибо-
лее радикальному крылу фёлькиш-национального движения, среди
которых были писатели Эрвин Гвидо Кольбенхайер, Агнес Мигель,
Ганс Йост, архитектор Пауль Шульце-Наумбург, автор книги «Искус-
ство и раса» (1928), расистский литературовед Адольф Бартельс,
физик Филипп Ленард, назвавший работы Альберта Эйнштейна
«еврейским обманом», националистские издатели Юлиус Ф. Леман
и Хуго Брукман, приятельница Гитлера Винфрид Вагнер, невестка
композитора Рихарда Вагнера, и Ева Чемберлен, вдова теоретика
расизма Хьюстона Стюарта Чемберлена.2
В задачу «Боевого союза в защиту немецкой культуры» вхо-
дило также противостояние буржуазно-либеральной и коммуни-
стической литературе. Этим целям служили «Сообщения боевого
союза за немецкую культуру», в которых подвергались поношению
произведения А. Дёблина, Л. Фейхтвангера, Э. Людвига, Т. Манна,
Э.М. Ремарка, Я. Вассермана, К. Тухольского, чьи книги пользова-
лись большой популярностью в Германии.3
Предпринимались и более серьёзные акции. В 1926 году
по инициативе знаменитого художника Макса Либермана, пре-
зидента Прусской академии искусств, в которую входили только
художники, скульпторы, архитекторы и композиторы, правитель-
ство Веймарской республики дополнило состав академии секцией
поэзии, куда вошли 27 писателей консервативной или традици-
онной направленности. С первых же дней своего существования
секция поэзии стала ареной давней борьбы между представителями
так называемой «ландшафтной литературы» (Landschaftsliteratur),
Barbian J.-P. Literaturpolitik im »Dritten Reich«. Institutionen, Kompetenzen, Betäti-
gungsfelder. Trier 1991. S. 35.
2 Düsterberg R. Op. Cit. S. 125.
3 Barbian J.-P. Op. cit. S. 36.
35
исповедовавшими принципы областнической литературы (Heimat-
dichtung), и Берлина, являвшегося для них символом декадентства
и разложения. Как бы ни относились нацисты к культурным инсти-
тутам ненавистной им Веймарской республики, для них важно
было занять ведущее положение в них с тем, чтобы потом сделать
их проводниками идей национал-социализма, что, собственно,
и произошло в 1933 году после прихода нацистов к власти.
В этой связи Эрвин Гвидо Кольбенхайер, один из именитых
представителей пронацистски настроенных писателей, желая уси-
лить в академии позиции группы националистически ориентиро-
ванных авторов, куда входили Вильгельм Шэфер, Йозеф Понтен,
Эмиль Штраус, Герман Штер, Вильгельм фон Шольц, выдвинул
в 1927 году требование о кооптировании в члены академии наряду
с писателями «ландшафтной литературы» Ганса Фридриха Блунка,
Пауля Эрнста, Ганса Гримма и Бёрриса фон Мюнхгаузена, чьи
произведения и взгляды во многом соответствовали идеологии
набиравшего силу движения национал-социалистов. Натолкнув-
шись на сопротивление демократически настроенных членов
академии, Э.Г. Кольбенхайер, Э. Штраус и В. Шэфер в 1931 году
покинули академию в знак протеста против засилья в ней Берлина,
т.е. писателей демократической ориентации.1 Понятно, что после
прихода к власти нацистов этот демарш был оценён по заслугам
и все трое заняли свои места в почищенной от евреев и либералов
«Немецкой академии поэтов».
Одновременно с «чисткой» академии была проведена и «чистка»
остальных профессионально-писательских союзов, как, впрочем,
и других творческих и научных союзов, а также всевозможных
учреждений, имеющих отношение к литературе (издательства,
журналы). Поначалу карательные санкции согласно распоряжению
рейхспрезидента по защите немецкого народа и государства были
отданы на откуп полиции и касались они в основном запрета книг
(свыше 600 за два месяца), являвшихся «опасными для обществен-
ной безопасности и порядка».2 Однако подобного рода акции носили
довольно частный характер и лишены были какой-либо конкретной
1 Среди покинувших академию был и Г. Гессе, однако его мотивы были иного свой-
ства, чем у других членов этой группы, хотя, по большому счёту, определённые
претензии к Берлину у него были, учитывая его неприязнь к «фельетонистской
эпохе», а именно так характеризовали фёлькиш-националы немецкую литературу
20-30-х годов
2 WulfJ. Op. cit. S. 187-188.
36
идеологической направленности, и только после правительственного
заявления Гитлера в марте 1933 года определились основы куль-
турной политики Третьего рейха, заключавшиеся в «устранении
разлагающего наследия упадка культуры» и «подготовке почвы
и очищения путей для культурно-созидательного развития будуще-
го»,1 т.е. чистка культуры от неугодных элементов и, прежде всего,
от евреев, и всяческая поддержка деятелей культуры национал-со-
циалистской направленности. И как следствие этого указания уже
к концу сентября 1933 года была создана под эгидой министра
народного просвещения и культуры Й. Геббельса «Имперская пала-
та культуры» (»die Reichskulturkammer«), в состав которой входили
имперские палаты прессы, радио, театра, музыки, изобразительного
искусства и письменности. Высшим органом «Имперской палаты
культуры» Геббельс, являвшийся одновременно её президентом,
учредил «имперский сенат культуры», куда входили президенты
отдельных палат, некоторые издатели и приближённые к партии
писатели Генрих Анакер, Эдвин Эрих Двингер, Рихард Ойрингер,
Ганс Йост, Эберхард Вольфганг Мёллер и Герхард Шуман.2
Учреждение «Имперской палаты культуры» позволило нацистам
установить полный контроль над всеми проявлениями культурной
жизни в стране, связав профессиональную деятельность в той или
иной сфере культуры с неуклонной приверженностью нацистской
идеологии и при сохранении расовой чистоты. Профессиональная
деятельность стала возможной только при наличии членства в соот-
ветствующей палате.
Особое внимание было обращено на формирование «Импер-
ской палаты письменности» (»die Reichsschtumskammer«). Согласно
10 параграфу распоряжения об учреждении этой организации
«президент Имперской палаты культуры обладает широкими пол-
номочиями для наказания и исключения из немецкой культурной
жизни каждого непригодного», что позволило полностью очистить
«Имперскую палату письменности» от евреев, как и предотвратить
в будущем приём в неё неарийцев.3
Президентом «Имперской палаты письменности» с 1933
по 1935 годы был Ганс Блунк, достаточно известный писатель
консервативно-националистского толка, хотя и расходившийся
Цит. по: Strothmann D. Nationalsozialistische Literaturpolitik. Bonn 1960. S. 62.
2 Sckoeps K.-H.J. Op. cit. S. 45.
3 Literatur im Dritten Reich. Dokumente und Texte/ Hrsg. v. S. Graeb-Könneker.
Stuttgart 2001. S. 42.
37
с официальной идеологией в еврейском вопросе. На начальном
этапе существования нацистской Германии он, как впрочем,
и вся «Имперская палата письменности», нужен был для Геббельса
в пропагандистских целях как представитель серьёзной, по его
мнению, литературы. В октябре 1935 года, когда в подразделени-
ях «Имперской палаты культуры» началась фронтальная чистка
от «инородцев», Г. Блунку, как, впрочем, и знаменитому компози-
тору Рихарду Штраусу, руководителю «Имперской палаты музыки»,
припомнили его особое мнение по этому вопросу, и, оставив его
в качестве почётного президента, бразды правления в «Имперской
палате письменности» передали Г. Йосту, писателю, драматургу,
публицисту, обер-фюреру СС, остававшемуся на этом посту до кон-
ца Третьего рейха.1
Для того чтобы понять размах литературного аппарата «Импер-
ской палаты письменности», достаточно только перечислить его
подразделения: имперский союз немецких писателей, биржевое
объединение немецких книготорговцев, союз немецких народных
библиотекарей, союз немецких библиотекарей, общество библио-
филов, имперское объединение специалистов книжной торговли
в немецком союзе продавцов, общество авторских прав на радио,
народные и заводские библиотеки, книжное объединение, литера-
турные общества и организация лекционных мероприятий, раз-
личные фонды и учредители литературных премий, представители
издательств и индивидуальные распространители книг, официаль-
ные, партийные, городские, студенческие и частные учреждения
по поставкам или закупкам книг.2
1 Dahm V. W. Scott Hoerle: Hans Friedrich Blunk. Poet and Nazi Collaborator. 1888-
1961. Studies in Modern German Literature, Vol.97. Bern, Frankfurt / Main 2003//
sehepunkte. Ausgabe 5 (2005), Nr. 3; http://www.sehepunkte.de — Не случайно
на церемонии передачи власти в «Имперской палате письменности» Ганс Хинкель
(Hinkel H.), один из управляющих «Имперской палаты культуры» и ответственный
за изгнание евреев из всех палат, особо подчеркнул свою радость по поводу того,
что «мы нашли для руководства немецкой письменностью старого национал-со-
циалиста и товарища, благородная позиция и верность которого достоверны»
(WulfJ. Op. cit. S. 198).
2 WulfJ. Op. cit. S. 195.— К 1941 г. «Имперская палата письменности» охватывала 35
тыс. членов, среди них 5 тыс. писателей, 5 тыс. издателей, 7 тыс. книготорговцев,
10 тыс. 300 сотрудников издательств и книжных магазинов, 2 тыс. 500 частных
платных библиотек, 3 тыс. 200 распространителей книг, 1 тыс. 500 народных
библиотек и 400 редакторов, рецензирующих книжную продукцию Германии
(Schoeps K.-H.J. Op. cit. S. 46).
38
При такой, казалось бы, невероятной широте охвата всего,
что каким-либо образом было связано с книгой, в Третьем рейхе
существовали ещё два учреждения, которые соперничали друг
с другом в литературном деле. Б. Руст, отличившийся в развале
«Прусской академии искусств», получил пост имперского мини-
стра науки, воспитания и народного образования, и параллель-
но с ведомством Й. Геббельса продолжал курировать отделения
изобразительного искусства, музыки и поэзии этого учреждения.
В его ведении находились также народные и научные библиотеки,
а также общие вопросы литературы, театрального дела, содействия
письменности, награждение ежегодной прусской премией имени
Шиллера, работа национального музея Шиллера и литературного
архива в Марбахе. Ведомство Б. Руста выпускало журнал «Бюхе-
рай» (»Bücherei«), в котором рецензировались различные книги для
библиотек любого профиля.
Созданию «Имперской палаты культуры» предшествовала
отчаянная борьба между Й. Геббельсом и А. Розенбергом и вкупе
с ним Б. Рустом за право распоряжаться культурой в Третьем рейхе.
Несмотря на то, что Геббельсу удалось оставить за собой «Импер-
скую палату письменности», Розенберг также не остался в накладе.
Указом Гитлера он получил пост «уполномоченного фюрера по кон-
тролю за общей духовной и идеологической подготовкой и воспита-
нием членов НСРПГ». В состав ведомства Розенберга входил отдел
искусства, занимавшийся организацией национал-социалистских
культурных обществ, насчитывавших свыше 11 миллионов членов,
и изданием ведущих журналов в области искусства («Национал-со-
циалистская культурная община», «Музыка», «Народность и родина»
и т.д.) и попечение письменности под эгидой «Имперской службы
поддержки немецкой письменности», в состав которой входили 900
редакторов во главе с Хельмутом Лангенбухером, «литературным
папой» тех лет. Эта команда критиков рецензировала практиче-
ски всю книжную продукцию нацистской Германии, включая
и рукописи, и определяла их соответствие национал-социалист-
ской идеологии. Результаты этой огромной работы публиковались
в журнале «Бюхеркунде» (»Bücherkunde«). Как правило, это были
небольшие статьи, хотя порой, когда речь шла о произведении
маститого нацистского автора, статьи эти превращались в некое
литературоведческое исследование. Отдельно в журнале публико-
вались списки нежелательной литературы без указания причин
отрицательной критики, хотя иногда, когда речь шла о писателях,
39
известных не только в Германии, но и за рубежом, и здесь прибегали
к развёрнутой аргументации. Так, после публикации первых двух
частей романа Роберта Музиля «Человек без свойств» (»Der Mann
ohne Eigenschaften«, 1935) и восторженной статьи в журнале «Тат»,
в «Бюхеркунде» под рубрикой «Романы, которых мы не желаем!»
появилась разгромная статья анонимного автора (хотя в данном
случае это был Лангенбухер, официальный критик Третьего рейха),
которая заканчивалась словами о том, что «третьей части романа
мы, в противоположность людям из журнала „Тат", ожидаем безо
всякого любопытства».1
Существовала ещё одна грозная инстанция надзора над лите-
ратурой, созданная по указанию Рудольфа Гесса, заместителя
фюрера по партии, в марте 1934 года,— это «Партийная комис-
сия по защите национал-социалистской письменности» во главе
с Филиппом Боулером (Bouhler, Philipp). «НСРПГ,— как сообщалось
в журнале „Бёрзенблатт фюр дойчен буххандель" (»Börsenblatt für
deutschen Buchhandel«),— имеет суверенное право и обязанность
следить за тем, чтобы национал-социалистское идейное богатство
не подвергалось искажению со стороны некомпетентных лиц и офи-
циально не использовалось среди широкой общественности вво-
дящим в заблуждение образом».2 В сферу деятельности партийной
комиссии входили в основном книги, затрагивающие национал-со-
циалистскую тематику, и, в случае, если они отвечали требованиям
комиссии, эти книги получали на внутренней стороне титульного
листа пометку: «против издания этой книги со стороны НСРПГ нет
никаких возражений», как это было, например, при публикации
романа Альфреда Карраша «Партайгеноссе Шмидеке» (»Parteigenos-
se Schmiedeke«, 1934), в котором рассказывалось о борьбе простого
партийного функционера с заводской бюрократией.3 Подобная
пометка давала книге особые преимущества и хорошую прессу. Всё,
что по каким-либо причинам не устраивало партийную комиссию,
1 Anonym. Romanliteratur wie wir sie nicht wünschen! — Der Mann ohne Eigenschaf-
ten // Bücherkunde, 1935, 5. Folge. S. 165-166.— Примечательно, что все статьи
в «Бюхеркунде» были анонимными, указывался только номер критика, и лишь
статьи, подобные той, о которой шла речь выше, публиковались без каких-либо
указаний авторства, что следовало, вероятно, воспринимать их как редакцион-
ные статьи.
2 Literatur im Dritten Reich. Dokumente und Texte... S. 60.
3 Karrasch A. Parteigenosse Schmiedecke. Berlin 1934.
40
выходило без этой пометки, или, если какая-то книга воспринима-
лась опасной для партии, силами гестапо она уничтожалась.1
Такая разветвлённая сеть надсмотра над литературой, казалось,
должна была функционировать как хорошо отлаженная машина.
Однако в действительности постоянное соперничество различных
ведомств, порою не имеющих даже косвенного отношения к лите-
ратуре как таковой, создавало огромную неразбериху, которую
некоторые авторы и издательства использовали в своих целях.
Постоянная вражда между Геббельсом и Розенбергом, неуёмная
жажда Роберта Лея, руководителя «Германского трудового фрон-
та», аналог профсоюзного объединения, ввязываться в дела лите-
ратурные, скупка издательств, как и попытки Геринга оказывать
давление на принятие кадровых решений в литературных органи-
зациях, приводили к неразберихе и постоянным склокам. Дневник
Геббельса пестрит записями о закулисной возне между лидерами
нацистской партии за обладание каким-либо влиянием на культур-
ном фронте: «[12 декабря 1937 год] Розенберг потребовал, чтобы
я уволил Хедериха (заместитель председателя партийной комиссии
по защите национал-социалистской письменности.— Е.З.). Тот
написал какое-то дурацкое письмо о «Фёлькишер Беобахтер». Но за
это я не могу его уволить. Я отказался... Розенберг — к фюреру. Тот
тоже против увольнения Хедериха. Хочу поговорить с Розенбергом
и Амманом (руководитель главного издательства НСРПГ и прези-
дент имперской палаты прессы. — Е. 3.). Хедерихом Розенберг хочет
задеть меня. Но это ему не удастся.
[14 декабря 1937 год] Геринг желает убрать Хинкеля (упол-
номоченный фюрера по чистке от евреев «имперской палаты
письменности».— Е. 3.), Розенберг хочет убрать Хедериха. Если
я уступлю, то я постепенно потеряю всех сотрудников. Так дело
не пойдёт. В конечном итоге никто больше не вступиться за меня.
Я это отвергаю...
[2 февраля 1938 год] Гесс жалуется на Йоста. Тот болтает и не-
сёт чепуху. Лей скупает для «ГТФ» всё, что можно купить. Теперь
он проглотил издательство Лангена. Так ведь не поступают. Зачем
«ГТФ» всё это? В деле Хедериха Гесс тоже выступает против отстав-
ки. Я сделаю ему замечание. И с этим делом будет покончено.
Более подробный и развёрнутый анализ всей системы литературной политики
национал-социалистов представлен в объёмном труде Яна Питера Барбиана
»Literaturpolitik in Dritten Reich. Institutionen, Kompetenzen, Betätigungsfelder«.
Trier 1991; München 1995.
41
[17 августа 1938 год] Хедерих снова сцепился с Амманом.
Совершенно наглым образом запретил ему печатать две брошюры.
И мне снова придётся улаживать это дело. Но теперь я решительно
призову Хедериха к ответу.
[19 августа 1938 год] Хедерих доставляет мне много хлопот.
Придётся его, в конце концов, уволить».1
Надзорные функции по делам литературы исполняли и такие
организации как Национал-социалистский союз учителей, Импер-
ское ведомство по делам молодёжи, Имперское ведомство по работе
с женщинами, Имперское правовое ведомство, Имперский союз
кормильцев (союз крестьян.— Е.З.) и Расово-политическое ведом-
ство НСРПГ.2 Все они имели отделы / редакционные коллегии,
которые не только выпускали профильную литературу, но и следи-
ли за тем, как трактовались профильные проблемы в литературе
иного плана.
В сложившейся ситуации творческое и гражданское положение
писателей в Третьем рейхе определялось в основном их привер-
женностью или лояльностью к национал-социалистской идеологии,
и в этом смысле ещё до 1933 года сформировался основной костяк
официальной литературы Третьего рейха, который не доставлял над-
зорным органам какого-либо беспокойства. Г. Анакер, М. Бартель,
Г. Бауман, Г.Ф. Блунк, Б. Брем, Г. Бурте, В. Феспер, К. Г. Ваггерль,
Э.Э. Двингер, И. Зайдель, Г. Йост, Г. Клаудиус, Э.Г. Кольбенхай-
ер, Э.В. Мёллер, X. Менцель, А. Мигель, Р. Ойрингер, Р. Хольбаум,
Г. Цёберляйн, В. Шэфер, Ф. Шнак, Г. Шуман, Э. Штраус, К. Эггерс
и ряд других авторов, рангом поменьше, находились в естественном
согласии с программными установками национал-социалистов,
и если с ними и возникали какие-то проблемы, то суть их опреде-
лялась соперничеством, своеобразием толкования этих установок,
а иногда и вмешательством высоких покровителей. В последнем
случае центр тяжести смещался в более высокие сферы, а сами
авторы оставались статистами внутрипартийных дрязг и бюро-
кратической неразберихи.
Первоочередной задачей надзорных органов после 1933 года
было наведение «расовой чистоты» в литературе, что привело к фрон-
тальной очистке всех учреждений культуры от евреев. Ганс Хин-
кель, уполномоченный фюрера по «очистке от евреев» (Entjudung)
1 Literatur im Dritten Reich. Dokumente und Texte... S. 72-74.
2 BarbianJ.-P. Nationalsozialismus und Literaturpolitik... S. 67.
42
министерства пропаганды, издал распоряжение, согласно которому
до 15 мая 1936 года «все чистокровные евреи, евреи с содержанием
трёх четвертей еврейской крови, полукровки, евреи с содержанием
четверти еврейской крови, евреи, находящиеся в браке с евреями
первой и второй группы и с евреями третьей и четвёртой группы
должны быть исключены из Имперской палаты культуры».1 Для того
чтобы стать или остаться членом Имперской палаты письменности,
нужно было представить, начиная с 1800 года, сведения об «арий-
ском» происхождении самого заявителя и его жены. Если чистокров-
ные евреи, согласно Нюрнбергским законам о гражданстве и расе,
подлежали немедленному увольнению и соответственно запрету
на профессию, как это было со многими членами бывшего состава
«Прусской академии искусств», то евреи «первой и второй помеси»,
так трактовали официальные документы полукровок от смешан-
ных браков, могли по особому разрешению Геббельса оставаться
в рядах «Имперской палаты культуры». Штефан Андрее, например,
женатый на еврейке «первой помеси», получил в 1937 году такое
разрешение и сразу же уехал в Италию, где еврейский вопрос
не стоял столь актуально. Вернер Бергенгрюн, женатый на еврейке
«второй помеси», также добился получения подобного разрешения.
Даже Йохен Клеппер, женатый на чистокровной еврейке, полу-
чил, хотя и с большим трудом, особое разрешение остаться чле-
ном «Имперской палаты письменности» благодаря своему роману
«Отец» (»Der Vater«, 1937), высоко оценённому нацистской прессой.
Однако, не выдержав унизительных условий, которые определяли
эту «маленькую свободу», Й. Клеппер покончил в 1942 году жизнь
самоубийством вместе со своей семьёй.
Все эти послабления касательно судеб евреев вызваны были
скорее какими-то надобностями пропагандистского свойства, чем
признанием таланта того или иного писателя. Иногда за этим сто-
яли просьбы довольно известных и почитаемых в Третьем рейхе
людей. Так, благодаря усилиям знаменитой шведской писательницы
Сельмы Лагерлёф, чьи романы считались в Третьем рейхе образцо-
вым выражением нордического духа, и графа Фольке Бернадота,
вице-президента шведского Красного креста, имевшего в силу своей
деятельности на этом посту связи с гестапо и с самим Гиммлером,
Удалось весной 1940 года, как раз в преддверии готовящегося
истребления немецких евреев, вывезти поэтессу Нелли Закс и её
1 Schoeps K.-H.J. Op. cit. S. 46.
43
мать в Стокгольм на самолёте. Последнее обстоятельство имело
решающее значение, ибо один высокий чин из гестапо предупредил
графа Ф. Бернадота о том, что в случае, если его подопечные поедут
поездом, их, несмотря на высочайшее разрешение покинуть Гер-
манию, всё равно арестуют на таможне и отправят в концлагерь.
Однако такого рода «послабления» были всё же редкостью.
Макс Tay, известный редактор издательства «Кассирер», спо-
собствовавший писательской карьере многих молодых авторов,
вспоминает, что, несмотря на заступничество таких членов «почи-
щенной» от евреев «Имперской палаты письменности» как X. Штер,
В. Шэфер, Г. Франк, В. фон Айнзидель (который, правда, вскоре
был арестован), Г. Шварц, И. Понтен, В. Шмидбонн и ряда других
писателей, он стал жертвой этой «чистки».1
Сложности расистского свойства возникали и у писателей,
казалось бы, нацистской ориентации, как это произошло в слу-
чае с Арнольтом Бронненом, бывшим другом Бертольта Брехта.
С 1933 года он резко поменял свои политические взгляды, принимал
активное участие в культурной жизни Третьего рейха, был близок
к Геббельсу. Тем не менее, в 1939 году руководство «Имперской
палаты письменности» вдруг обнаружило, что он полукровка,
и лишило его членства в этой организации. После долгих судебных
разбирательств Броннену удалось доказать своё арийское проис-
хождение, ив 1941 году он был восстановлен в прежнем качестве,
однако по прямому указанию Гитлера его дальнейшая писательская
деятельность была под запретом.2
Неординарным было отношение нацистов, в частности, Геб-
бельса, и к «арийским» писателям, политически «нежелательным»,
а то и просто запрещённым. Хотя все произведения Эриха Кестнера,
за исключением его знаменитой детской книги «Эмиль и детективы»,
были запрещены и сожжены во время печально знаменитой акции
в мае 1933 года на Опернплатц, тем не менее, какая-то часть их,
особенно книги, издававшиеся в Швейцарии, спокойно лежали
на полках книжных магазинов Германии. В 1941 году Кестнер
лично от Геббельса получает «специальное разрешение» для напи-
сания сценария к фильму «Мюнхгаузен» и к другим фильмам для
киностудии УФА. Несмотря на то, что фильмы, снятые по сценариям
Кестнера, особенно «Мюнхгаузен», пользовались огромным успехом,
1 Таи М. Das Land das ich verlassen mußte. Hamburg, o. J. S. 270.
2 Schoeps K.-H.J. Op. cit. S. 47.
44
в январе 1943 года по личному указанию Гитлера это «специальное
разрешение» было не только отменено, но повлекло за собой и окон-
чательный запрет на все произведения писателя.1
Примерно, в таком же духе развивались события и вокруг
Ганса Фаллады, писателя сложной судьбы, получившего всемирную
известность. Против него ополчились такие столпы нацистского
литературоведения как Хельмут Лангенбухер, Вилл Феспер и даже
сам Розенберг, требуя запретить публикацию его книг. Тем не менее,
книги Фаллады, хотя и в несколько извращённом виде (здесь пора-
ботали цензоры), издавались едва ли не до конца Третьего рейха
и пользовались неизменным успехом не только среди убеждён-
ных нацистов, но и среди тех, кто дистанцировался от режима.2
Основная причина такого «попустительства» со стороны надзорных
органов нацистов по отношению к певцу «публичных девок, суте-
нёров и притонов», как о Фалладе отзывалась нацистская критика,3
заключалась в том, что рейхсминистр Геббельс был в восторге от его
романов. В его дневнике встречается такая пометка: «Читал «Волк
среди волков» Фаллады. Великолепная книга. Парень знает толк».4
Понятно, что Геббельсом двигал не столько читательский интерес,
сколько тематика книг Фаллады, связанная с Веймарской респу-
бликой, которая подвергалась писателем беспощадной критике, что
вписывалось в концепцию нацистской идеологии, рассматривавшей
первую республику позорным пятном в истории Германии.
Двойственная интерпретация произведений Г. Фаллады чита-
телями и критикой лишний раз свидетельствует не только о сложно-
сти определения действительной позиции писателя в Третьем рейхе,
но и о том, какими способами удаётся художнику осуществить
свой замысел, не подвергая себя опасности и не подлаживаясь под
1 BarbianJ.-P. Op. cit. S. 79-80.
2 Müller-Waldeck G. Fallada in der Nazizeit // Hans Fallada Jahrbuch. Nr. 2. Neubran-
denburg 1997. S. 21.
Kriener A. Dirnen, Zuhälter und Spelunken. Zu Falladas »eisernem« Gustav //
Bucherkunde, 1939. H.3. S. 136-139. О степени недовольства нацистской критики
свидетельствуют статьи В. Феспера (Fallada, Hans: Wer einmal aus dem Blechnapf
frißt // Die Neue Literatur. H.7. 1934. S. 444), а также статьи анонимных авторов
из ведомства А. Розенберга в журнале «Бюхеркунде» (5587. Hans Fallada: »Bauern,
Bonzen, Bomben«; »Kleiner Mann was nun?«; »Wer einmal aus dem Blechnapf frißt«;
»Wir hatten mal ein Kind«// Bücherkunde, 1934. 8-10. Folge. S. 153-156. 5587. Fal-
lada H. Wer einmal aus dem Blechnapf frißt // Bücherkunde. H. 1-4. 1934. S. 10-11).
4 Müller-Waldeck G. Op. cit. S. 19.
45
идеологические установки времени, хотя вряд ли сам Г. Фаллада
сознательно шёл на уступки. Его просто заставляли так поступать,
как это было в случае с романом «Железный Густав» и с другими
произведениями, созданными им в те годы.
Эти и подобные им истории злоключений писателей, оставших-
ся в фашистской Германии, являют собой некий шаблон, по кото-
рому нацисты строили свои отношения с писателями по известному
принципу «кнута и пряника». В этом смысле показателен пример
с Гансом Гриммом, автором знаменитого и почитаемого нациста-
ми романа «Народ без пространства» (»Volk ohne Raum«, 1926),
признанным классиком нацистского Парнаса, считавшим себя
«беспартийным национал-социалистом»,1 и поэтому позволявшим
себе критические высказывания в адрес нацистской бюрократии
в области культуры, в частности, в адрес Геббельса. Противостоя-
ние Гримма официально проводимой министерством пропаганды
политике в области культуры вылилось в организацию им в своём
поместье в 1934 году ежегодных так называемых «Липпольдсберг-
ских встреч поэтов», где собиралась «элита» консервативных писа-
телей национального толка (П. Альвердес, Р. Г. Биндинг, Ф. Бишоф,
X. Каросса, Б. фон Мехов, Э. фон Заломон, P.A. Шредер и ряд дру-
гих). Встречи эти прекратились после того, как Геббельс усмотрел
в них некий вид оппозиции, и пригрозил «ренегату» Гримму, что
в случае продолжения подобной «сектантской» деятельности его
ожидает судьба Вихерта.2
Череда подобного рода акций по отношению к писателям,
независимо от их приверженности идеологии национал-социализ-
ма, не говоря уже о их литературной значимости, свидетельствует
не только о нетерпимости нацистов к проявлениям критики в свой
адрес, откуда бы она ни исходила, и не только о стремлении к пол-
ной унификации всех проявлений культурной жизни Третьего
рейха, но ещё и о том, что вся эта огромная машина надзора была
далека от совершенства, всеохватности, постоянно давала сбои,
была, наконец, неэффективна для самого национал-социалистского
движения.
Собственно, трудно было и предполагать наличие каких-то
успехов, если сами организаторы культурной жизни имели смут-
ное представление о художественных достоинствах книги, и их
отношение к тому или иному автору строилось не на каких-то
1 BarbianJ.-P. Institutionen der Literaturpolitik im »Dritten Reich«... S. 408.
2 Barbian J.-P. Nationalsozialismus und Literaturpolitik... S. 77.
46
теоретических принципах, а на сиюминутных надобностях сугубо
политического, пропагандистского свойства. При этом не надо
думать, что нацисты строго следили за тем, в какой мере творчество
того или иного писателя соответствовало канонам национал-со-
циалистской идеологии. В конце концов, было достаточно того,
чтобы писатель вообще не касался политических проблем, остава-
ясь в мире апробированных проблем прошлого, что, собственно,
и делали авторы фёлькиш-национальной направленности. К пробле-
матике современной действительности отваживались обращаться
практически только авторы третьесортной по масштабам тех лет
литературы, да и те касались в основном периода становления
нацистского движения, и это при том, что Партийно-администра-
тивная контрольная комиссия по защите национал-социалистской
письменности и объявила нежелательными «книги, которые в пове-
ствовательной и изобразительной форме занимаются проблемами
национал-социалистской революции и связанных с нею событий».1
Действительность собственно Третьего рейха в художественной
литературе тех лет отсутствует в той мере, в какой она, например,
являлась в романах В. Раабе или Т. Фонтане, и только в сороковых
годах она проявилась в военных романах, но это была действи-
тельность военных действий за пределами рейха. Впрочем, и здесь
рамки писателей были ограничены. Например, смерть немецкого
солдата под Сталинградом должна изображаться с пафосом, нату-
ралистическое описание смерти допустимо только при изображении
противника.
Создавалось впечатление, что литература жила отражённым
светом прошлого, и даже если речь шла о современности, то при-
знаки её были предельно незначительны. В какой-то мере эта лите-
ратура, как правило, развлекательная, существовала вне времени,
создавая иллюзию некоего покоя, неизменности мира, отвлекая
читателя от реальной действительности. Исключение в этом смысле
составляла только поэзия «молодых талантов» из рядов штурмови-
ков, вроде Герхарда Шумана или Генриха Анакера, воспевавших
фюрера, партию, войну, готовность умереть за идеалы национал-со-
циализма, поэтику смерти.
Из всего сказанного возникает неоднородная и местами пара-
доксальная картина отсутствия какого-то чётко выраженного
Цит. по: WulfJ. Literatur und Dichtung im Dritten Reich. Eine Dokumentation. Rein-
bek bei Hamburg, 1966. S. 257.
47
критерия литературы «достойной поддержки», «нежелательной»,
а то и просто «запрещённой», как это определялось в специальных
списках, выпускавшихся ведомством Розенберга. Почти в каждой
книге, даже самого маргинального свойства, подпадавшей под эти
определения, как правило, присутствовал обычный набор нацист-
ских лозунгов — народ, кровь, раса, героизм, фюрер, но книги
от этого не становились, даже по оценкам нацистской критики,
каким-то литературным явлением, а ежели такое и обнаружива-
лось, то вскоре оно переставало им быть даже в ранге явленьица,
не говоря уже о чём-то большем. Сами нацистские чиновники
от литературы особо по этому поводу не ломали голову. Как заявил
Хедерих, доставивший в своё время много хлопот Геббельсу своими
действиями, слишком резкими даже по масштабам того времени,
критерий оценки книги проистекает «только из её необходимости...
для национал-социалистского движения в его борьбе за Герма-
нию»,1 то есть книга как произведение искусства для нацистов
не представляла особой важности, она важна была как средство
политического воспитания масс в духе национал-социалистского
мировоззрения. Именно поэтому «поддерживались произведения,
где изображались такие темы как борьба, повиновение, жертва,
а также миф о родном угле, фюрере, крови и расе».2 Собственно, так
определил предназначение искусства и Гитлер в марте 1933 года,
представляя свою культурную программу: « 1. Героизм возвышается
страстно как будущий творец и фюрер политических судеб. Задача
искусства состоит в том, чтобы оно было выражением этого опре-
деляющего духа времени. 2. Кровь и раса будут снова источником
художественной интуиции».3
Однако на практике эта программа дала незначительные
всходы. Выполняя поставленную задачу и осознавая незначитель-
ные успехи в области литературы, Геббельс попытался было выйти
с предложением о создании некоей школы для будущих писателей,
но Гитлер отнёсся к этому начинанию очень сдержанно, и министр
пропаганды вынужден был, не без горечи, констатировать, что
«наши классики ещё маршируют в рядах гитлерюгенд».4 Ему вторил
1 Strothmann D. Nationalsozialistische Literaturpolitik. Ein Beitrag zur Publizistik
im Dritten Reich. Bonn, 1985. S. 305.
2 Schoeps K.-H.J. Op. cit. S. 51.
3 Strothmann D. Op. cit. S. 324
4 Цит. по: Brenner H. Die Kunstpolitik des Nationalsozialismus. Reinbek bei Hamburg,
1963. S. 116.
48
Геринг: «По-прежнему много легче сделать со временем из большого
художника порядочного национал-социалиста, чем из рядового чле-
на партии — большого художника».1 В 1937 году Гитлер, выступая
на съезде партии, посвященном вопросам культуры, уже открыто
признал, что нацистский режим не смог найти соответствующего
отражения в искусстве и литературе, ибо «очень многие духовно
одарённые люди сегодня делают историю вместо того, чтобы её
описывать».2
Несмотря на все усилия партийных функционеров от лите-
ратуры, выразившиеся в обилии всевозможных литературных
премий, литературных чтений, пышных «Великогерманских недель
книги» (1938-1940), представительных «Великогерманских встреч
поэтов» в Веймаре (1937-1940), переросших затем в «Европейские
встречи поэтов» (1940-1942), литературы как таковой в её высо-
ком смысле не появилось. Отчаянная борьба между Геббельсом,
Розенбергом и другими высокими партийными функционерами
НСРПГ за сферы влияния в области литературы и искусства при-
вела к тому, что Гитлер вновь вынужден был на партийном съезде
НСРПГ в 1938 году констатировать, что культурные достижения
в Третьем рейхе значительно ниже достижений в политических,
социальных и экономических областях.3
Признание символичное, хотя, учитывая общую составляющую
литературы Третьего рейха и то собрание писателей, представляв-
шее официальную литературу тогдашней Германии, трудно было
ожидать каких-либо достижений, сравнимых с достижениями
прошлых лет.
Brenner H. Op. cit. S. 42.
Цит. по: Härtung G. Litera
S. 176.
Ketelsen Uwe-K. Literatur und Drittes Reich... S. 296.
Цит. по: Härtung G. Literatur und Ästhetik des deutschen Faschismus. Berlin, 1983.
S. 176.
Истоки литературы третьего Рейха
30 января 1933 года к власти в Германии пришла Нацио-
нал-социалистическая рабочая партия Германии (НСРПГ). Эта
дата определила не только смену политической власти в стране,
но и смену литературной парадигмы, ибо то, что провозглашалось
идеологами национал-социализма в области культуры и литературы,
в большинстве своём было откатом на позиции XIX века, и поэтому
цезура 1933 года носит двоякий характер. С одной стороны, она
означает обрыв литературных интенций времён Веймарской респу-
блики, ибо те немногие их проявления в Германии после 1933 года
не имели практически никаких реальных предпосылок для свое-
го дальнейшего развития, что и подтвердилось после крушения
нацистского режима, когда новая немецкая литература вновь обра-
тилась к модернизму 20-30-х годов; с другой стороны, эта цезура
фиксирует реставрацию литературных интенций 80-90-х годов
XIX века, вызванную усилением политической значимости авторов
консервативного направления и массовой эмиграцией авторов,
придерживавшихся иных политических воззрений.
Духовные и литературно-исторические предпосылки официаль-
ной литературы времён Третьего рейха берут своё начало в идеоло-
гических перипетиях первой четверти XIX века, хотя нацистское
литературоведение в попытках придать значительность литературе
Третьего рейха относило эти предпосылки к далёким временам
скандинавской мифологии.1 Подобные рассуждения логически впи-
сывались в общую структуру национал-социалистской идеологии,
1 BlunckH.F. Deutsche Kulturpolitik. München, 1934. S. 6-9.
50
являющей собой собрание произвольных заимствований из раз-
личных источников, переосмысленных позднее соответствующим
образом в духе политических надобностей.
Тяга к историческому прошлому нашла своё выражение
и в неофициальном названии нацистской Германии — Третий
рейх (das Dritte Reich), заимствованном подобным же образом
и возведённом в общегосударственный ранг. Сам термин не есть
порождение нацистской идеологии, истоки его берут начало со вре-
мён раннего христианства и отмечены гностическими учениями
о хилиазме или миллениуме, т.е. о предстоящем тысячелетнем цар-
ствие Христа на земле прежде наступления конца света. Немецкие
мистики, а потом и немецкие романтики, трансформировали это
учение в констатацию конца христианства и истории. В Германии
в период революционных выступлений времён Наполеона, а затем
и с ростом националистских тенденций в немецком обществе, поня-
тие Третьего рейха обрело достаточно конкретные черты. Первый
рейх — это Священная Римская империя, Второй рейх — герман-
ский рейх 1871-1918 годов После поражения в первой мировой
войне ожидания Третьего рейха вновь вспыхнули среди револю-
ционных консерваторов и националистов всех мастей, обуянных
идеей пангерманизма, и здесь, как нельзя кстати, пришлась книга
Мёллера ван ден Брука «Третий рейх» (»Das dritte Reich«, 1922).
Как отмечают современные исследователи, национал-социалисты
с готовностью подхватили этот миф, ибо в нём уже «в донаци-
онал-социалистское время содержались имперские традиции»,
а «Мёллер ван ден Брук и его последователи выступили в роли только
идеологических инспираторов, и только тогда функционирование
их идей на службе экономически-биологического динамизма возвы-
силось до концепта Третьего рейха в истории и политике».1 Только
тогда идеология Третьего рейха обрела статус государственной иде-
ологии, став одним из четырёх основных компонентов синтеза иде-
ологии режима; «империалистически настроенного национализма,
внешнеполитически направленного социализма, неоромантической
идеологии рейха и псевдодарвинистской расистской идеологии».2
Bracher К. D. Stufen der Machtergreifung / / Bracher / Schulz / Sauer. Die nationalso-
zialistische Machtergreifung. Studien zur Errichtung des totalitären Herrschaftssystems
in Deutschland 1933/34. Frankfurt / Main, Berlin, Wien, 1974. S. 314.
2 Ibid. S. 314.
51
В этой связи следует говорить именно о литературе Третьего
рейха, охватывающей весь корпус литературы того периода, с после-
дующей идентификацией его составных частей, а не о нацистской
литературе как таковой, ибо её, исключая сугубо политическую
и пропагандистскую литературу, за редким исключением, прак-
тически не существовало. Всё то, что отвечало нацистской идео-
логии или каким-то образом находилось в близком соседстве с ней,
возникло задолго до зарождения национал-социалистской партии
и отчасти в первые годы её существования, и в тематическом
отношении совершенно не было связано с историей нацистского
движения как такового.
Духовные истоки литературы Третьего рейха опосредованы
историческими условиями формирования национального сознания
немецкого народа. Отсутствие государственности как фактора
стабильности и единства нации подогревалось воспоминаниями
о былом могуществе Священной Римской империи, составной
частью которой многие немцы продолжали считать себя, а повсед-
невная действительность феодально-княжеской раздробленности
страны только усиливала стремление к обретению национальной
идентификации. Идеи национального самосознания находили
отклик, прежде всего, в умах научной и художественной интелли-
генции, ощущавшей, с оглядкой на Францию, своё бессилие в поли-
тическом и духовном статусе. Нужен был толчок, который каким-то
образом подвиг бы их на решительные действия, и этим толчком
стала освободительная война 1813 года против Наполеона, вызвав-
шая небывалый взрыв патриотической поэзии и публицистики.
Именно здесь возникли первые зародыши националистского толка,
когда совершенно справедливые в той обстановке требования, хотя
и выраженные излишне радикально, были подхвачены позднее
наиболее реакционной частью немецкого общества, выступавшей
против прогресса в любых его проявлениях.
Эти настроения ярко проявились в знаменитых «Речах к немец-
кой нации» (»Reden an die deutsche Nation«, 1808) Иоганна Готлиба
Фихте (Fichte, Johann Gottlieb), который, желая преобразования
немецкой нации в нечто единое и призывая её «развить свои силы
и выявить, наконец, в полной мере свою подлинную духовную
сущность», неоднократно подчёркивал её избранность по отноше-
нию к другим народам: «Вся Европа стоит под знаком внутреннего
разложения и надвигающегося упадка; и другие европейские наро-
ды не в состоянии противостоять разрушительной силе, не имея
в недрах своих подлинного духовного ядра. Только немецкая нация
52
обладает таким ядром, только она одна имеет действительную вну-
треннюю устойчивость. Немецкая нация является единственной сре-
ди новоевропейских наций, которая показала наделе уже несколько
столетий тому назад своим гражданским состоянием, что она спо-
собна выдержать республиканский образ правления».1 Отсюда, имея
в виду отказ Наполеона от прежних республиканских идей, Фихте
заключает, что «среди всех новых народов в вас самым решитель-
ным образом заключён росток совершенствования человека, и вам
в первую очередь предписано развивать его. Если вы погибнете
в этой своей сущности, то с вами одновременно погибнет и всякая
надежда всего человечества на спасение из глубины его бед».2
Превосходство немецкой нации над другими означает, по Фих-
те, и превосходство немецкого языка над языками других народов.3
Эти и многие другие высказывания Фихте, безотносительно их
действительной посылки, были использованы как фёлькиш-нацио-
налами, так и нацистами в полной мере для своих надобностей. Дело
дошло до того, что во времена нацизма партийные функционеры
усмотрели в этом некое умаление заслуг фюрера в деле становления
идеологии национал-социализма, заявив, что «до Адольфа Гитлера
не было никаких национал-социалистов, существовали, в крайнем
случае, родственные по воле и сущности силы, которые мы встре-
чаем, например, у Штайна, Арндта, Фихте, и Ницше».4 Сказано это
было в 1938 году, но именно в этом году вышел солидный сборник
«Фихте — сегодня» (»Fichte für heute«), содержащий подборку выска-
зываний философа по различным вопросам, которые, почти слово
в слово, использовались в речах партийных бонз, включая и Гит-
лера, как собственные речения. Более того, именно в этой книге
был особый раздел «Фихте как пророк Гитлера», в котором многие
высказывания философа можно было, при желании, истолковать
как предвещание явления вождя: «Когда-нибудь должен придти
Некто, который как справедливейший своего народа станет его
повелителем».5
Цит. по: Яковенко Б. В. Жизнь и философия Иоганна Готлиба Фихте. СПб., 2004.
С 130
2 Фихте И.Г. Речи к немецкой нации. СПб., 2009. С. 337-338.
3 Там же. С. 108-148.
Цит. по: WulfJ. Literatur und Dichtung im Dritten Reich. Eine Dokumentation.
Hamburg, 1966. S. 254.
Pichte fur heute. Aus den Schriften Johann Gottlieb Fichte // Hrsg. v. L. Roselius.
Bremen-Berlin, 1938. S. 39.
53
В какой мере Фихте мог предвещать явление фюрера, оста-
вим на совести его истолкователей, но вот то, что этот философ
предвещал создание нового еврейского государства, нашло своё
подтверждение в XX веке. Понятно, что составитель цитатника
изречений Фихте не мог пройти мимо «актуальной» для нацистов
темы евреев. Однако здесь им мало чем удалось поживиться, потому
как эта тема интересовала философа только в религиозном плане,
а в моральном плане он и вовсе не оправдал их надежд, хотя лёгкий
антисемитизм всё-таки присутствует в его рассуждениях: «Если
ты вчера поел и снова голоден, и на сегодня у тебя остался только
хлеб, то отдай его еврею, голодающему рядом с тобой, если он вчера
не ел, и ты поступишь тем самым очень хорошо.— Но я не вижу,
по крайней мере, никаких возможностей предоставить им граж-
данские права, разве что всем им однажды ночью отрезать головы
и приделать другие, в которых не было бы еврейских идей. Для
того чтобы нас защитить от них, я опять же не вижу никаких воз-
можностей, кроме как завоевать для них их обетованную землю,
и сослать их туда всех».1
Как бы партийные бонзы ни относилось к творчеству фило-
софа, но отдел пропаганды вермахта посчитал нужным включить
«Речи к немецкой нации» Фихте в серию книг, выпускаемых для
фронта, полагая тем самым поднять боевой дух солдат и взбодрить
их национальное самосознание, тем более что на дворе уже был
1944 год.2
Борьба немецкого народа против Наполеона также отмечена
обилием произведений националистского толка, где, среди прочих
радикальных вызовов, наметилась экспансионистская тенденция,
вылившаяся позднее в пангерманизм. Гёте и Шиллер в «Ксениях»
уже задавались этим вопросом:
Германия? Но где она находится?
Я не знаю, где искать эту страну.
Там, где начинается учёная (Германия),
Кончается (Германия) политическая.3
1 Fichte für heute. Aus den Schriften Johann Gottlieb Fichte // Hrsg. v. L. Roselius.
Bremen-Berlin, 1938. S. 156.
2 Fichte J.G. Reden an die deutsche Nation. Stuttgart 1944. Druck: Im Auftrage des
OKW hergestellt von der Wehrmachtpropagandagruppe beim Wehrmachtbefehlshaber
Norwegen. Oslo, 1944.
3 Цит. по: Данн О. Нации и национализм в Германии. 1770-1990. СПб., 2003. С. 61.
54
Эрнст Мориц Арндт в своей песне «Что такое — немецкая
отчизна?» (»Was ist des Deutschen Vaterland?«), являющейся в извест-
ном смысле ответом на двустишие классиков, сформулировал
в 1813 году тогдашние представления немцев о местонахождении
Германии, которые позднее легли в основу территориальных пре-
тензий нацистов. От куплета к куплету, перечисляя собственно
немецкие провинции, поэт доходит до Австрии, Швейцарии, Тиро-
ля, не мысля без них целостности будущей Германии. Апофеозом
территориальных притязаний немцев является седьмая строфа:
Повсюду, где звучит немецкая речь
и поёт песни бог на небесах
там ей и быть»
(So weit die deutsche Zunge klingt
und Gott im Himmel Lieder singt,
das soll es sein!)1
Песня эта получила широкое распространение в Германии в
XIX веке. Понятно, что это желание было неосуществимо, но оно
тешило умы националистов, а в годы нацизма обрело практическое
применение при аннексии территорий, преимущественно заселён-
ных немцами, как это было в Польше, в Чехословакии и Австрии.
В этой связи понятно то рвение, с которым нацисты переиздава-
ли тексты времён немецкого освободительного движения против
Наполеона под названием «Народ и отечество».
Отсюда же, вероятно, проистекает и традиция немецких лите-
ратуроведов включать в историю немецкой литературы всех авто-
ров, писавших на немецком языке, независимо от их гражданства,
и поэтому литература Австрии, Швейцарии и немецкоязычных
анклавов в европейских странах воспринималась ими как единая
немецкая литература. Правда, реальная действительность XIX в.,
обусловленная политической раздробленностью Германии тех лет,
принуждала немецких литературоведов (вплоть до 1945 года) делить
историю немецкой литературы по областному принципу.
Более чёткие, хотя и нереальные, границы Германии опре-
делились в «Немецкой песне» (»Deutsches Lied«, 1841) Гофмана
фон Фаллерслебена, ставшей впоследствии национальным гимном
Германии:
Цит. по: Данн О. Нации и национализм в Германии. 1770-1990. СПб., 2003. С. 75.
55
Германия, Германия превыше всего,
Превыше всего в мире,
Если для защиты и отпора врагу
всегда братски держаться вместе!
От Мааса до Мемеля
от Адидже до Бельта
Германия, Германия превыше всего,
Превыше всего в мире!1
Именно из-за чрезмерных территориальных притязаний текст
«Немецкой песни» использовался в разные времена по-разному:
пелись то все три куплета, то один, то с опусканием отдельных строф.
На волне движения за национальное самоопределение образо-
валось множество различных союзов, как правого, так и либераль-
но-демократического толка. Именно в этой среде идеология нацио-
нального становления немецкого народа постепенно стала обретать
националистскую окраску, усилившуюся в период индустриализа-
ции Германии после 1848 года и достигшую едва ли не своего апогея
после основания в 1871 году Германского рейха, приняв формы
так называемого «рейхспатриотизма».2 Разразившийся в 1873 году
экономический кризис только ускорил противостояние между
правительством Отто фон Бисмарка, проводившим либеральную
экономическую политику, направленную на модернизацию эконо-
мической системы страны, и национально-либеральными силами,
выступившими в союзе с консерваторами.
Основу этого противостояния составляла так называемая
«народная / народническая» (völkische / volkhafte) идеология,
построенная не на общественных, а на биологических и расист-
ских принципах, ставившая во главу угла этническую общность
немецкого народа, кровную общность (Volksdeutsche Gemeinsam-
keit), получившую в годы нацизма название «народной общности»
(Volksgemeinschaft). Противопоставление расы и общества проис-
ходило под лозунгом спасения национальной немецкой культуры
от тлетворного влияния капитализма, воспевания избранности
немецкого народа и его подвигов в прошлые века.
В духовном отношении свою лепту в это движение внесли
романтики, проявлявшие огромной интерес к немецким древностям,
к немецкому фольклору. Примечательное определение понятию
1 Цит. по: Дани О. Нации и национализм в Германии. 1770-1990. СПб., 2003. С. 75.
2 Там же. С. 179-190.
56
«народ» даёт в это время Якоб Гримм: «Народ есть совокупность
дюдей, которые говорят на одном языке. Для нас, немцев, это самое
безобидное и одновременно самое гордое объяснение, потому что
оно выходит за рамки и может обратить свой взор уже на ближнее
и дальнее, но я могу, вероятно, сказать о неминуемо надвигающемся
будущем, когда падут все оковы и будут признаны естественные
законы, и могу сказать, что ни реки, ни горы будут решать судьбы
народов, а один народ, который проникает через горы и воды, только
его собственный язык может определять его границы».1
Подчёркнутая ориентация на собственно немецкое, как в быту,
в языке, так и в общественной жизни, сопровождалось откровен-
ными ксенофобскими интенциями. В это же время зарождалось
известное противопоставление города и деревни, ставшее впо-
следствии, наряду с расистскими тенденциями, основой печально
знаменитой формулы «почвы и крови» (Blut und Boden).
Однако все эти особенности национального менталитета про-
являлись в основном на бытовом уровне, носили частный характер,
и стали обретать подобие некоего направления, имевшего какую-то
массовую базу, только в начале 50-х годов XIX века, когда в Гер-
мании начался процесс становления капитализма и когда мелкая
буржуазия (в основном ремесленники), крестьяне и земельная
аристократия почувствовали себя обойдёнными.
На этом фоне первым проявлением «народной» идеологии
в литературе стала так называемая »Heimatliteratur« — «литература
малой родины» или «областническая литература».2 Своеобразной
1 Цит. по: Langenbucher Н. Volkhafte Dichtung der Zeit. Berlin 1940. S. 28.
Относительно термина »Heimatliteratur«, »Heimatroman« в нашем литературове-
дении нет единого определения. Ф. Шиллер пишет о литературе «тихих уголков»
(Шиллер Ф. История западноевропейской литературы нового времени. Т. 2. М.,
1936. С. 166), о мещанском «областничестве» (Там же. С. 172), о «регионалистиче-
ском направлении» (Там же. С. 173), о «почвенной литературе» (Шиллер Ф. История
западноевропейской литературы нового времени. Т. 3. М., 1937. С. 211, 220);
P.M. Самарин пишет о «народнической литературе», об «искусстве родного угла»
(История немецкой литературы. Т. 4. 1848-1918. М., 1968. С. 155); В. Г. Адмони
говорит о «почвенной литературе», «литературе о родине» (Там же. С. 332); авто-
ры «Энциклопедии Третьего рейха» говорят о «патриотической прозе» (М., 1996.
С. 282); авторы коллективного труда «История западноевропейской литературы.
XIX век. Германия, Австрия, Швейцария» говорят об «областнической литерату-
ре» (М.—СПб., 2005. С. 167). Л.С. Кауфман даёт целый набор определений »Hei-
matliteratur« — «литература периферии, литература родины», «литература малой
родины», «литература родного угла» (Кауфман Л. С. Проза немецкой «периферии»
на рубеже XIX-XX веков // Вопросы филологии. Выпуск 12. СПб., 2006. С. 118).
57
предтечей этой литературы была так называемая «ландшафтная
литература» (»Landschaften Literatur«) или, как её иногда деликатно
называли, литература «поэтического реализма».1 Оба эти термина
исполняли роль некоего эвфемизма, когда речь шла о творчестве
критических реалистов Т. Шторма, Ф. Рейтера, Т. Фонтане или
В. Раабе, ибо в определённой степени их творчество имело ясно
выраженный областнический характер и отчасти, особенно каса-
тельно ламентаций по поводу прошлого, уходящего под натиском
набирающего силу капитализма, соответствовало духу литературы
подобного рода, хотя и лишено было какой-либо националистиче-
ской тенденции, т.к. на момент расцвета творчества этих и неко-
торых других писателей критического реализма эта проблема
ещё не обрела особой актуальности. В какой-то мере, по аналогии
с термином «высокий бидермайер», можно говорить и о «высокой
областнической литературе».
«В то время,— как отмечал немецкий литературовед Артур
Елёссер (Eloesser, Arthur),— когда железные дороги соединили
север и юг, когда Германия, благодаря экономическому развитию,
была вовлечена в мировые процессы, когда по причине экономи-
ческой необходимости движения финансового капитала пали все
ограничения свободы передвижения, внутригерманское движе-
ние литературы застряло в новом партикуляризме. Образовался
северогерманский, прусско-бранденбургский, внутригерманский,
швейцарский, австрийский круг писателей».2
Своеобразным манифестом литературы «малой родины» мож-
но назвать вступительную статью одного из самых плодовитых
представителей этого направления Тимма Крёгера (Kroger, Timm;
1844-1918) к его собранию сочинений, где он определяет основные
принципы этой литературы. Поставив во главу угла «связанность
её с одним каким-то местом или с каким-то определённым ланд-
шафтом в сочетании с подчёркиванием присущего этому регио-
ну своеобразия людей и природы»,3 Т. Крёгер, не без оснований,
заявляет о приверженности к литературе «малой родины» К. Гро-
та, Т. Шторма, И.Х. Ферса, Ф. Рейтера, И. Готгельфа, Г. Келлера,
1 Eloesser А. Die deutsche Literatur von der Romantik bis zur Gegenwart. Bd. 2. Berlin,
1931. S. 317.
2 Ibid.
3 Kroger T. Zur Gesamtausgabe // Kroger T. Novellen. Gesamtausgabe. Bd. 1. Hamburg,
Braunschweig, 1918. S. 12.
58
Q раабе и П. Розеггера.1 Говоря о схожести литературы «малой
подины» с остальной литературой в части выбора художественных
средств, как и в постановке жизненно важных вопросов, Крёгер
видит её отличие от прочей литературы в том, что «она отказыва-
ется в бурях времени брать на себя роль борца. И здесь, как мне
кажется, пролегает черта, которая отделяет нас от всех модерни-
стов, которые, возвещая трубными звуками новые устремления,
именно в этом видят задачу литературы. Свысока и с презрением
смотря на областническую литературу, они называют её отличи-
тельной чертой филистерскую узость и насмехаются над поэзией
счастья в уголке. По нашему мнению, совершенно несправедливо.
Они полагают, что идеи их современной литературы для нас слиш-
ком велики, и не догадываются о том, что для нас они являются
слишком незначительными».2
Однако полностью Крёгер не отвергал связь литературы «малой
родины» с политическими явлениями времени даже в периоды,
«находящиеся в состоянии брожения,., если писателю удастся
разрешить тревоги времени в покое, царящем над ним»; однако,
в сложной обстановке в стране после поражения Германии в Пер-
вой мировой войне, «когда идёт война всех против всех,., мы лучше
вернёмся с нашими кулаками к родным местам, являющимися
хранителями вечных непреходящих идей, или обратимся к Нему,
который сидит за большим ткацким станком вселенной и орудует
челноком».3 Говоря иными словами, литература «малой родины»
будет отражать точку зрения той партии, которая обеспечит покой
и порядок в том или ином регионе, что и нашло своё отражение
в творчестве Крёгера в полной мере.
Казалось бы, литература «малой родины» с её скромными,
на первый взгляд, устремлениями не соответствовала радикаль-
ному характеру национал-социалистской идеологии. Однако, как
отмечал в 1942 году Адольф Бартельс, отъявленный расист, один
из теоретиков этого направления, именно она «впервые после пяти-
десятых годов снова дала широчайшим кругам народа надлежащую
литературу»,4 играя роль некоего утешительного средства в годину
Kroger Т. Zur Gesamtausgabe // Kroger T. Novellen. Gesamtausgabe. Bd. 1. Hamburg,
Braunschweig, 1918. S. 11.
-' Ibid. S. 12-13.
'' Ibid. S. 14.
4 Bartels A. Geschichte der deutschen Literatur. Berlin, Hamburg, 1942. S. 607.
59
распада старого уклада жизни и создавая тем самым исподволь,
на мещанском уровне, тот общий националистический настрой,
на фоне которого впоследствии любые акции националистического
толка повсеместно воспринимались с одобрением. Именно поэтому
А. Бартельс не без удовлетворения замечал, что «областническое
искусство не всегда оставалось в стороне от велений времени:
влечение к родине существовало ведь не только в литературе, оно
охватывало все области, достаточно вспомнить только о стремле-
нии раненых во время войны к поездке на родину и о создании
политико-социальных «землячеств».1
О степени распространения литературы «малой родины» гово-
рит хотя бы тот факт, что к 1909 году насчитывалось свыше ста
авторов, приверженных в том или ином виде этому роду литера-
туры.2 Всё это говорит о том, что литература «малой родины» была
востребована широкой читательской массой. И здесь не последнюю
роль играло то обстоятельство, что литература «малой родины»,
как бы оправдывая своё название, довольствовалась на первых
порах в основном малыми формами — рассказами, очерками, т.е.
выступала в жанрах, более доступных для простого читателя, и лишь
позднее, по мере расширения её значимости, стали появляться
повести, романы, пьесы. Лишённая каких-либо особых стилисти-
ческих изысков, насыщенная реалиями узнаваемой повседневной
действительности, с вкраплениями диалектальных речений, и, что
особенно важно, не агрессивная по своей натуре, эта литература
завоевала провинцию. Даже если она и содержала в себе критиче-
ские замечания, то подавались они в добродушной тональности,
с юмором, да и сам рассказчик выступал в роли непосредственного
участника описываемых событий, реагируя на них по-свойски,
в духе своих героев, так что о наличии каких-либо ярко выражен-
ных социально-политических мотивов в произведения литературы
«малой родины» на первом этапе не могло быть и речи.
Тот же Т. Крёгер вошёл в литературу многократно переиз-
даваемым сборником новелл «Тихий мир. Картинки и истории
из края болот и пустоши» (»Eine stille Welt. Bilder und Geschichten
aus Moor und Heide«, 1891), которые по своему настрою дальше
проблематики этого края и не выходят, да и сама проблематика
1 Bartels А. Geschichte der deutschen Literatur. Berlin, Hamburg, 1942. S. 607.
2 Bartels A. Die deutsche Dichtung von Hebbel bis zur Gegenwart. Ein Grundriß. Zweiter
Teil. Die Jüngeren. Leipzig, 1922. S. 172.
60
определяется спорами между крестьянами по пустякам, лирически-
ми описаниями природы и прелестей сельской жизни, рассказами
о всевозможных чудаках, их смешных поступках, о спокойном быте
людей, для которых весь мир заключается в пределах небольшой
деревни с её угодьями.
В основе литературы «малой родины» лежала мысль о создании
единства мелкой буржуазии, крестьянства и феодальной знати как
последнего оплота против технического прогресса, роста промыш-
ленного и финансового капитала, роста городов с их разлагающей,
как понимали консерваторы, культурой, разрушающих старинные
и проверенные временем традиции. Именно поэтому литература
«малой родины» не ограничивалась только современными про-
блемами своего региона, но и придавала большое значение его
героическому прошлому. Большинство исторических романов того
времени имеет подчёркнуто областническую окраску, придавая
локальным событиям исторического прошлого чуть ли не общеев-
ропейское значение.
Однако это не значит, что литература «малой родины» тут же
обрела агрессивные черты националистского толка. В произведе-
ниях, Бертольда Ауэрбаха, Фрица Рейтера, Теодора Шторма или
Вильгельма Раабе, если назвать только самых талантливых пред-
ставителей «высокой областнической литературы», наметились
лишь элементы почвеннического толка, ибо основой их творчества
оставалось реалистическое отображение жизни мелкой буржуазии
и крестьянства, на судьбах которых ярче всего можно было про-
следить изменения в жизни общества, что, вкупе с ностальгией
по уходящему прошлому, вызывало повышенный интерес к реалиям
«малой родины».
Последующее развитие этого жанра, пик его пришёлся на 90-е
годы XIX века, когда уже образовались вполне конкретные органи-
зации националистского направления вроде «Всенемецкого Союза»
(Alldeutscher Verband), «Союза немецких студентов», находившихся
в оппозиции правительству и выступавших за «национальное обще-
ственное объединение» под знаком расовой и культурной общности,
обрело черты исключительно националистского, расистского тол-
ка. Именно тогда Фридрих Линхард (Lienhard, Friedrich) и Адольф
Бартельс (Bartels, Adolf) основали журнал «Хаймат» (»Heimat«, 1899-
1903), основной идеологический орган литературы «малой родины»,
по примеру которого в каждой немецкой земле возникли свои
Журналы подобного же толка. Если Т. Крёгер и его последователи
61
создавали своеобразные хроники сельской жизни, а их неприятие
новых веяний выражалось только в особом подчёркивании благости
малых радостей родного угла почти при полном игнорировании
достижений прогресса, то Ф. Линхард в своей книге «Господство
Берлина» (»Die Vorherrschaft Berlins«, 1900) призывал не столько
«бежать от Берлина», не отрицая того, что «деловой и политический
подъём Берлина с 1870 года угрожает с некоторых пор насилием
над духом нашей литературы», сколько «выступить против этого
нового партикуляризма»,1 и поэтому назвал свою книгу неким «при-
зывом к национальным, консервативным, положительным силам
Берлина — я имею в виду не партии, а только людей — больше
заботиться о делах литературы, искусства и театра».2 При этом
речь шла не о каких-то запретительных акциях или о финансовой
поддержке в этом новом движении, а о самовоспитании «творче-
ской личности, без которой мы бессильны», на примере «тематики,
заимствованной из наших лесов и замков, сказок и легенд и обы-
чаев», где основную роль играет «ландшафт со всеми его красками
и здоровьем, с его корнями, растениями, гористыми областями
и деревнями, с его невозмутимым покоем; давайте учиться у него,
чтобы мы стали такими же, как он, и в нашем творчестве — расти
из родной земли к небесам, в буре и в лучах солнца!»3 Литераторы
консервативного толка, ощущавшие себя в новом времени «словно
в изгнании, находясь в самой Германии»,4 услышали этот призыв.
Как заметил А. Бартельс, «для многих немцев, для тех, кто не захотел
связывать себя в литературном отношении с Берлином, обращение
в 1900 году к Heimatkunst (т.е. к «почвенническому искусству»)
было неким спасением»,5 спасением от суровой правды натурализ-
ма, уходом в метафизические рощи, полные мистических таинств,
возвратом к старому романтизму.
Не случайно в это время выходят две знаковые книги Рикарды
Хух (Huch, Ricarde) «Расцвет романтизма» (»Blütezeit der Romantik«,
1899) и «Распространение и упадок романтизма» (»Ausbreitung
1 LienhardF. Los von Berlin? // Lienhard F. Gedankliche Werke. Erster Band: Neue
Ideale — Türmerbeiträge. Stuttgart, 1926. S. 136.
2 Ibid. S. 133.
3 Ibid. S. 150.
4 Ibid. S. 135.
5 Bartels A. Op. cit. S. 22.
62
und Verfall der Romantik«, 1902), которые, несмотря на некоторую
двойственность посылки,1 можно истолковать как некое предупре-
ждение почвенническим интенциям неоромантиков.
Однако противостояние между идеологами «почвеннической
литературы» и Берлином, олицетворявшим, по их мнению, «асфальт-
ную литературу», не обошлось без соответствующей идеологической
подготовки. В 80-90-х гг. XIX в. появляется ряд произведений наци-
оналистской направленности, заложившие теоретические основы
не только фёлькиш-национальной литературы, но и нацистской
идеологии как таковой.
Здесь, прежде всего, нужно назвать историка Генриха фон
Трейчке (Heinrich von Treitschke), который в серии статей, составив-
ших позднее четырёхтомный опус «Исторические и политические
статьи» (»Historische und politische Aufsätze«, 1885), начал активную
антисемитскую кампанию, а позднее, в своей пятитомной «Исто-
рии Германии в XIX веке» (»Deutsche Geschichte im 19. Jahrhun-
dert«, 1879-1894), обосновал, не брезгуя фальсификацией фактов
и высказываний, идеи пангерманизма и, в частности, пресловутый
«Дранг нах Остен», за что и был особо почитаем национал-социа-
листами.
Г. фон Трейчке не оставил вниманием и немецкую литерату-
ру. В ряде статей, и особенно в его «Истории немецкой литерату-
ры от Фридриха Великого до мартовской революции», изданной
посмертно в 1927 году, он, вслед за А. Бартельсом, основное вни-
мание уделил «уничтожающему и подстрекающему воздействию
радикального еврейства» на немецкую литературу, порицая при
этом благодушного немецкого читателя: «Только в довольно поздние
времена нация узнала, что с конца двадцатых годов [XIX в.] чуже-
родные капли попали в её кровь».2 Но главная опасность заключа-
лась в том, что в результате этого процесса возникла «двойствен-
ная еврейско-немецкая литература» (Zwitterliteratur),3 основными
«Говоря о ясном и свободном мышлении романтиков, Р. Хух, тем не менее, ука-
зывает, что «в качестве идеала они утверждали соединение противоположных
полюсов, которые можно обозначить либо как разум и фантазию, либо как дух
и инстинкт». Цит. по: Адмони В. Г. Рикарда Хух // История немецкой литерату-
ры. Т. 4. 1848-1918/ Под ред. P.M. Самарина, И.М. Фрадкина. М., 1968. С. 496.
Treitschke H. von Geschichte der deutschen Literatur von Friedrich dem Großen bis
zur Märzrevolution. Berlin, 1927. S. 136.
3 Ibid. S. 136.
63
представителями которой были Людвиг Берне и Генрих Гейне.
Трейчке пускается во все тяжкие, чтобы доказать незначительность
творчества этих авторов только лишь на том основании, что оба
они позволяли себе нелестно отзываться о Германии.1
В одном ряду с Г. фон Трейчке стоит и Пауль де Лагард (Lagar-
de, Paul de) в своих «Немецких письмах» (»Deutsche Schriften«,
1878-1881), который больше всего беспокоился о сохранении
национальной сущности немцев, могущей проявить себя только
в борьбе: «Для того чтобы сохранить нашу нацию, находящуюся
в стадии становления, есть два одновременно применяемых сред-
ства... Во-первых, борьба за формы набожности, соответствующие
её внутренним потребностям, и, во-вторых, колонизация — вот
средства, которые должны вскормить ещё латентную националь-
ность немцев к немецкому бытию».2
Свою роль в формировании националистской идеологии сыгра-
ли и книги основателя расовой теории французского мыслителя
и писателя Артюра де Гобино (Gobineau, Arthur) («Опыт о неравен-
стве человеческих рас», 1853), в которых особое значение придава-
лось избранной арийской расе и великой миссии германцев, и это
при том, что сам автор этого мифа считал германцев смешанной
расой и вообще пессимистически смотрел на необратимость дека-
данса рас и культур. Правда, многочисленных немецких последо-
вателей теории Гобино эти тонкости мало интересовали, и поэтому
как писал Н. Бердяев, «в нашу эпоху теория, которая в своих исто-
ках была аристократической, превратилась в плебейскую теорию,
вдохновляющую массы».3
Однако все эти и им подобные произведения рассчитаны
были на образованную публику. В этом смысле более доступной
и привлекательной была книга анонимного автора «Рембрандт
как воспитатель» (»Rembrandt als Erzieher von einem Deutschen«,
1890). Автор её, Юлиус Лангбен (Langbehn, Julius, 1851-1907),
спрятался под символическим именем «немца», подчёркивая тем
самым, что его устами говорит вся немецкая нация. За ним так
и закрепилась кличка «рембрандтов немец» (Rembrandtdeutsche).
1 Treitschke H. von Geschichte der deutschen Literatur von Friedrich dem Großen bis
zur Märzrevolution. Berlin, 1927. S. 136-144.
2 Цит. по: Schonauer F. Deutsche Literatur im Dritten Reich. Versuch einer Darstellung
in polemisch-didaktischer Absicht. Ölten und Freiburg im Breisgau, 1961. S. 27.
3 Бердяев H.A. Философия свободного духа. M., 1994. С. 351.
64
Несмотря на то, что книга эта подверглась критике и осмеянию, она
пользовалась необыкновенным успехом и выдержала до 1939 года
90 переизданий.1 По сути дела, в этой книге была представлена
политическая программа и кайзеровской и нацистской Германии.
В основе суждений Лангбена лежит мысль о возврате человека к его
индивидуальной сущности, лишённой каких-либо позитивистских
установлений и покоящейся на инстинктивном восприятии жизни
и мира. А мир этот — его малая родина, преимущественно Нижняя
Германия, жители которой, как считал Лангбен, ещё не потеряли
связи с землёй: «Дух крестьянина — дух родины».2 Всё, что выходило
за рамки этого мира, рассматривалось Лангбеном как противное
сущности немца, и именно по этой причине современная Германия
катится в пропасть. В этой связи Лангбен, идя по стопам Фихте,
видит спасение Германии в перевоспитании немецкого народа,
потерявшего свою индивидуальность: «Индивидуализм — корень
всех искусств, а так как немцы без сомнения являются самыми
особенными и самыми упрямыми среди всех народов, то они — если
им удастся ясно отобразить мир — являются в художественном
отношении также и самыми значительными в мире».3
Ясно, что всё лежащее за пределами Германии, представляет
опасность для сохранения немецкой самости, и в первую очередь
опасность эта исходит от «исконного врага» Германии (ещё один
миф национал-социалистов) — Франции: «Париж — это город
полусвета и необузданной демократии; здесь к нравственным
болезням присоединяется политическое заболевание. Но как раз
эти оба фактора вызывают у немецкого народа в глубинах его
души ненависть, несмотря на то, что время от времени он с ними
кокетничал и продолжает кокетничать; оба они проникли в Герма-
нию под названием «французская болезнь». С ними нужно реши-
тельно бороться».4 Борьба должна идти и на литературном фронте,
особенно, если речь заходит о Золя и его «научных» романах, ибо
«рассматривать их как цель в искусстве, с немецкой точки зрения,
является поэтической изменой родине».5
1 Langbehn J. Rembrandt als Erzieher. 85-90. Aufl. Leipzig und Stuttgart.
Langbehn J. Rembrandt als Erzieher von einem Deutschen. Leipzig (o. J.), S. 128.
3 Ibid. S. 49.
4 Ibid. S. 96.
5 Ibid. S. 98.
65
В этом призыве уже имеется прямая отсылка к »Heimatlitera-
tur«, к истинно немецкой литературе. Несколькими страницами
раньше Лангбен прямо говорит: «Настоящее искусство по своему
происхождению, как и по своим целям, является локально ограни-
ченным; ему необходима, как отдельной картине, прочная рама;
и только консервативно-аристократическое направление духовной
и социальной жизни нации может её предложить. Этому врождённо-
му немецкому направлению духа следует прочно придерживаться;
его следует углублять, потому что немец только тогда правдив, когда
он является немцем, а немцем он является только тогда, когда он
правдив».1
Но самыми основными врагами настоящего немца являются
«плутократы» и евреи: «Жестокий культ денег — это североамерикан-
ская и одновременно еврейская тенденция, которая в сегодняшнем
Берлине всё больше берёт верх».2 Город, а Берлин в особенности,—
главный враг деревни, и поэтому, считает Лангбен, «необходимо как
в политическом, так и в духовном смысле призывать провинцию
выступать против столицы, восстанавливать провинцию против
неё, объявить поход на неё...»3
Но ещё большую опасность, по мнению Лангбена (эта мысль
проходит красной строкой практически по всем произведениям
авторов «почвеннической литературы»), представляют евреи. При
этом Лангбен исповедует «аристократический антисемитизм», раз-
деляя евреев на «благородных» и «неблагородных».4 К числу первых
он относит набожных евреев, или таких как «Спиноза, Рахель,
Берне», которые «хранят благородное, абстрактное еврейство».5
Вторые — это евреи, живущие преимущественно в больших горо-
дах, особенно в Берлине, где они захватили в свои руки прессу,
издательства, театры и, конечно, финансы: «Их эксплуататорская
жадность безгранична; они занимаются нечистыми делами; их
мораль — не наша мораль. Они унижают как искусство, так и нау-
ку. Они мыслят демократически».6 Отсюда возникает логический,
1 Langbehn J. Rembrandt als Erzieher von einem Deutschen. Leipzig (o. J.). S. 65.
2 Ibid. S. 308.
3 Ibid. S. 133
4 Schonauer F. Op. cit. S. 25.
5 Ibid. S. 26.
6 Ibid. S. 284.
66
по Лангбену, вывод, что за все прегрешения евреев против немцев
их «ожидает поневоле година бедствий; многое говорит о том, что
событие подобного рода ожидает нынешних евреев. Немец, кото-
рый часто признавал хорошее еврейство, тогда должен научиться
и наказывать мерзкое еврейство».1 Тем самым Лангбен, несмотря
на свой «аристократический антисемитизм», совершенно открыто
призывал к погромам, где, как показала практика национал-соци-
алистов, никто не будет разделять евреев на «чистых» и «нечистых».
Отсюда же вытекает и пангерманский тезис об избранности немец-
кой нации. Говоря о создании «объединённых штатов Европы»,
Лангбен полагает, что «Германия естественным образом призвана
председательствовать» в этой организации.2
Суждения Лангбена по различным аспектам политической
и культурной жизни Германии конца 90-х годов XIX века могут
показаться светской болтовнёй по сравнению с агрессивным речами
и высказываниями Адольфа Бартельса (Bartels, Adolf 1862-1945),
литературного критика, писателя, расиста, гордо заявившего
в 1935 году в нацистском официозе «Фёлькишер беобахтер», что
«одной из моих заслуг, как это все признают, является то, что
я провёл в истории немецкой литературы различие между немцами
и евреями».3 Семитомания Бартельса не знала предела, он меньше
всего занимался собственно литературоведением, сколько «изуче-
нием родословных всех немецких писателей чуть ли не до десятого
колена, и горе тому, у кого он откроет хотя бы каплю еврейской
крови».4 Нацистская «Палата письменности» и издательства были
буквально засыпаны гневными письмами, в которых «новообра-
щённые евреи» приводили архивные данные о чистоте своей кро-
ви, а журналы были полны антропологическими исследованиями,
доказывающими, что «чёрные, вьющиеся волосы или динарские
носы» не есть признак принадлежности к еврейской расе.5
Расистские наклонности Бартельса, возникшие по его соб-
ственным словам, «под влиянием Гобино», проявились ещё в годы
его работы в журнале «Страж искусства» (»Kunstwart«, 1887). Этот
SchonauerF. Op. cit. S. 284.
2 Ibid. S. 160.
3 Bartels A. Meine Verdienste // Völkischer Beobachter, 3./4.02.1935.
Шиллер Ф. История западноевропейской литературы нового времени. Т. 3. М.,
1937. С. 222.
5 WulfJ. Op. cit. S. 512-515.
67
журнал предназначался для либерально настроенной средней
буржуазии, и хотя его публикации не содержали резких нацио-
налистских и антисемитских высказываний, тем не менее, они
способствовали созданию эмоциональной атмосферы нетерпимо-
сти ко всему, что не отвечало принципам фёлькиш-литературы,
принципам Heimatliteratur, и, прежде всего, нетерпимости по отно-
шению к иностранному натурализму (читай: Э. Золя) как продукту
городской цивилизации.1
В контекст этой позиции хорошо вписывается продолжитель-
ная дискуссия в журнале по поводу установки памятника Г. Гейне,
в которой, естественно, принял участие Бартельс. Правда, там,
в силу осторожной позиции руководства журнала, ему не уда-
лось откровенно высказать своё мнение на этот счёт, зато потом,
в 1906 году, в полемической книге «Генрих Гейне. Тоже памятник»
(»Heinrich Heine. Auch ein Denkmal«) Бартельс высказал на трёхстах
семидесяти пяти страницах всё, что у него накипело на душе.
Во вступительном слове, определившем тональность этого опуса,
Бартельс заявил: «Для нас немцев памятник Гейне, воздвигнутый
от имени немецкого народа, был бы злейшим надругательством,
которое можно было бы совершить над нами. Позор, и больше
ничего, кроме позора. Это отвергает каждый честный человек,
который прочтёт мою книгу».2 Но ещё большим надругательством
над немецким народом Бартельс видит в том, что Гейне, буду-
чи евреем, например, в книге «К истории религии и философии
в Германии», «поёт хвалебные гимны национальной самобытности
немцев, которые... являются, хотя и инстинктивным (не ясным),
проникновением в понимание нашей германской сущности»,3 что
явно не вписывается в сложившуюся парадигму его представлений
о евреях как таковых.
Начиная с 1897 года Бартельс публикует одну за другой свои
книги под общим названием «Немецкая современная литература»,
каждая из которых дополняется новыми материалами, в которых
он подвергает ревизии литературу, историю, искусство Германии
(заодно и Европы) под знаком антисемитизма,4 за что и заслужил
1 SchonauerF. Op. cit. S. 30
2 Bartels A. Heinrich Heine. Auch ein Denkmal. Dresden und Leipzig, 1906. S. XV.
3 Ibid. S. 179.
4 Der deutsche Verfall (1913), Lessing und die Juden (1918), Die Berechtigung des
Antisemitismus (1921), Jüdische Herkunft und Literaturwissenschaft (1925). Сюда же
68
славу «передового борца за фёлькише идеологию и старейшего
историка литературы в фёлькише духе» и внимание самого Гитлера,
наградившего Бартельса в связи с его восьмидесятилетием золотым
партийным значком и собственным портретом в серебряной рамке
с личным посвящением.1 Награды были вполне «заслуженными»,
потому что именно Бартельс своими многочисленными публика-
циями, проникнутыми националистским и расистским духом,
в значительной мере определял настрой литературы Третьего рейха.
Когорту предтеч национал-социализма завершает Хьюстон
Стюарт Чемберлен (Chamberlain, Houston Stewart), «англичанин,
для которого Англия стала недостаточно английской, и потому он
сделался немцем».2 В 1899 году в Германии вышел главный труд
Чемберлена «Основы девятнадцатого века» (»Die Grundlagen des
neunzehnten Jahrhunderts«), сделавший, по мнению немецких
исследователей, «впервые расовое учение приемлемым и достойным
уважения для немцев с высшим образованием».3 Об этом свидетель-
ствует хотя бы тот факт, что уже к 1940 году вышло 25 издание этой
книги. Герман Кайзерлинг назвал Чемберлена Киплингом, «переве-
дённым на язык немецкого идеализма».4 В свою очередь «Фёльки-
шер Беобахтер» в 1925 году, назвала книгу Чемберлена «Библией
движения».5 Все эти высказывания свидетельствуют об огромной
роли Чемберлена в становлении нацистской идеологии. Исследова-
ния учёных показали, что «целые отрывки из »Mein Kampf« Гитлера,
не говоря уже о «Мифе двадцатого века» Розенберга, являются пере-
ложением «Основ девятнадцатого века» Чемберлена».6 По сути дела,
Чемберлен обосновал едва ли не самые основополагающие идеи
следует отнести и его собственно литературоведческие работы: Die deutsche Dich-
tung der Gegenwart ( 1897), Geschichte der deutschen Literatur (1901/1902), Einfüh-
rung in die Weltliteratur im Anschluß an das Leben und Schaffen Goethes (1913),
Die deutsche Dichtung von Hebbel bis zur Gegenwart (Die Alten und die Jungen). 1-3
Bd. (1922-1923). Einführung in das deutsche Schrifttum (1932).
1 WulfJ. Op. cit. S. 515-516.
Саркисянц M. Английские корни немецкого фашизма. СПб., 2003. С. 154.
3 Там же. С. 156.
4 Саркисянц М. Указ. соч. С. 157.
1ам же. С. 160.— Слово «движение» — »die Bewegung« — кроме обычного значения
Употреблялось в Третьем рейхе и для обозначения деятельности самого нацио-
нал-социализма как политической силы.
Там же. С. 159.
69
нацистской идеологии: превосходство витального над моральным,
расовую селекцию, иерархию рас, расовую избранность. Идеи эти
нашли поклонников и в немецкой литературе.
Основываясь на учении Томаса Карлейля о «расе господ»,
Чемберлен увидел в немцах будущих властителей мира, ибо они
«достаточно сильны, чтобы приказывать,., достаточно горды, чтобы
повиноваться, и едины в своей воле».1 Именно поэтому «цивили-
зация и культура, которые, исходя из северной Европы, господ-
ствуют сегодня на значительной части мира,., являются делом рук
германского племени... Этот труд германского племени является,
без сомнения, самым величайшим из всего того, что до сих пор
создано людьми».2 В подтверждение своих слов Чемберлен ссы-
лается на Гёте, считавшего немцев «самым благородным родом»,
на Канта, на Шиллера, Вагнера, Карлейля.3 При этом Чемберлена
не смущает тот факт, что восхваляемые им достижения германского
племени основаны на геноциде: «С начала времён и по сей день мы
видим, что германцы вырезают целые племена и народы... чтобы
расчистить место для самих себя... Всякому придётся признать, что
именно там, где они были наиболее жестокими,— как, например,
Тевтонский орден в Пруссии... они тем самым заложили надёж-
нейшие основы для утверждения самого высокого и нравственного
существования».4
Под чуждыми элементами Чемберлен понимал евреев, счи-
тая их препятствием на пути установления мирового господства
немцев: «Всех, кто не принадлежит к нам,., следует беспощадно
растоптать», «финикийский народ... истребить». «Я ненавижу их
всеми силами души, ненавижу и ненавижу»,— писал Чемберлен.5
И в то же время, говоря о чистоте расы, он ставил немцам в при-
мер именно евреев: «Это уникальное племя в качестве основного
закона выдвинуло принцип чистоты расы... Как нация в то время
евреи заслуживали уважения».6 В этой связи Чемберлен ставит
1 Саркисянц М. Указ. соч. С. 155.
2 Chamberlain H. S. Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts // Chamberlain der Seher
des drittem Reiches. Das Vermächtnis Houston Stewart Chamberlain an das Deutsche
Volk/ Hrsg. v. G. Schott. München, 1939. S. 21.
3 Ibid. S. 24.
4 Саркисянц M. Указ. соч. С. 169.
5 Там же. С. 160.
6 Там же. С. 164.
70
вопрос о выведении особой арийской расы: «Как скаковая лошадь...
создаётся благодаря выбраковке всего низкопородного,., так же
происходит и в человеческом роде».1
Не считая немцев настоящими арийцами, Чемберлен, одна-
ко, полагал, что они находятся на пути к достижению этой цели.
Уже в 1916 году он заявляет: «Немцы готовы; им недостаёт лишь
вождя, ниспосланного Святым Духом».2 И этого вождя Чемберлен
увидел в Гитлере, с которым он неоднократно встречался и кото-
рого боготворил. В 1923 году в письме к Гитлеру Чемберлен уже
уверял его в том, что он «обладает космогонической силой» и создан
для возрождения Германии: «То, что Германия в час величайшей
беды порождает для себя некоего Гитлера, доказывает, что она
жива; о том же говорят и воздействия, исходящие от него».3 В день
35-летия Гитлера Чемберлен уже прямо предсказывает явление
будущего фюрера: «То, что Гитлер уже сделал как своё личное
дело, является как раз огромным делом, едва ли оно исчезнет.
Этот человек воздействует как Божья благодать, ободряющая дух,
открывающая глаза на ясно увиденные цели, возбуждающая умы,
разжигающая способность к любви и негодованию, закаляющая
мужество и решительность. Он нужен ещё нам. Бог, даровавший
его нам, пусть долгие годы хранит его на благо немецкой отчизны!»4
В итоге, стараниями национально мыслящих консерваторов
образовался своеобразный свод признаков, отвечавших чаяниям
не только их авторов, но и национал-социалистов, ибо последующая
программа этого политического движения вобрала в себя многие
положения фёлькиш-националистов. Основой этого специфиче-
ского немецкого мировоззрения было освобождение немецкого
народа от любых внешних расовых и культурных воздействий: «Мир
решительно делился на две зоны: собственную, немецкую, и чужую,
1 Саркисянц М. Указ. соч. С. 168.
Chamberlain der Seher des dritten Reiches. Das Vermächtnis Houston Stewart Cham-
berlain an das Deutsche Volk/ Hrsg. v. G. Schott. München, 1934. S. 30.
3 Chamberlain H. S. Ein Brief an Adolf Hitler vom 7. Oktober 1923// Chamberlain
der Seher des dritten Reiches. S. 13.
4 Chamberlain H. S. Adolf Hitler zu seinem Geburtstag am 20. April 1924// Chamberlain
der Seher des dritten Reiches... S. 17-18.— Английская составляющая в становлении
национал-социалистской идеологии, особенно в части расизма, судя по новейшим
исследованиям, играет едва ли не главенствующую роль. Об этом достаточно
красноречиво свидетельствует книга M. Саркисянца «Английские корни немецкого
Фашизма». СПб., 2003.
71
ненемецкую, вражескую. Всё интернациональное, соединяющее
народы, всё сводящее вместе этническое, культурное, политиче-
ское, экономическое, все идеи универсальных человеческих прав
были ненавистны. Этому противостояла программа фёлькише
автаркии, которая должна была проводиться во всех областях, при
этом в «грубых и недифференцированных категориях», которыми
она оперировала, проявлялась «примитивность фёлькише мыш-
ления»: 1. Демографическая политика: расовая гигиена в целях
сохранения чистоты немецкой крови. 2. Экономика: исключение
международного биржевого капитала, экономической интеграции.
3. Духовная и культурная жизнь: концентрация на немецкой мысли
путём исключения иностранной, особенно еврейской интеллекту-
альной духовности, забота о немецком языке и соответствующей
немецкой сущности. 4. Политика: Отказ от всех чужеродных
западных (прежде всего, от демократических) институтов, замена
их фёлькише построением государства в духе следования принципу
вождя. 5. Религия: требование немецкого бога вместо еврейского.
Так как народы всегда находятся в состоянии противостояния друг
к другу, их сближение будет понято как ослабление собственной
народности, поэтому «борьба как жизненный принцип фёлькише
существования» остаётся в силе».1
Было бы наивным полагать, что немецкая литература времён
нацизма, а фёлькиш-национальная литература тем более, питалась
только идеями названных авторов. Огромный комплекс политиче-
ских, социальных, психологических, культурологических аспектов
жизни немецкого общества конца XIX — середины XX веков опре-
делял духовную составляющую не только фёлькиш-националов,
но и писателей других направлений. Не нужно забывать и огромное
влияние идей Освальда Шпенглера, ставшего в первые послевоен-
ные годы, после выхода в свет его знаменитой книги «Закат Европы»
(»Der Untergang des Abendlandes«, 1918), кумиром образованной
части немецкого общества. Его модель «прусского социализма»,
освящённая расовыми интенциями, отвечала настроениям мелких
собственников, бывших офицеров, мечтавших о «сильной руке»,
способной навести порядок в стране. Не меньшую значимость
приобрела и книга Артура Мёллера ван ден Брука «Третья империя»
(»Das Dritte Reich«, 1923), содержащая в себе многие положения
1 Sontheimer К. Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. Die politischen
Ideen deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933. München, 1994. S. 134.
72
идеологии национал-социализма. Шпенглер, Мёллер ван ден Брук
и ряд других публицистов и философов тех лет в известной степени
проложили мост от национал-консерваторов к фашистам. Однако
в годы нацизма тон задавала именно когорта консервативных
публицистов, рассмотренных в этой главе, ибо именно они заложи-
ли основы фёлькиш-национальной литературы как официальной
литературы Третьего рейха.
Учитывая неразрывную связь фёлькиш-национальной кон-
сервативной литературы с национал-социалистской литературой,
можно согласиться с мнением Уве К. Кетельсена, который рассма-
тривает оба эти явления в едином ключе, выстраивая, таким обра-
зом, исторический ряд сближения этих литератур: первый пери-
од — с 1890 по 1918 годы, второй период — с 1918 по 1933 годы,
третий период — с 1933 по 1945 годы, четвёртый период — с 1945
по 1960 годы.1
Ketelsen Uwe-K. Völkisch-nationale... S. 31.
Литература Третьего рейха
Немецкая литература времён Третьего рейха — явление само
по себе разнородное, но в силу обусловленности национал-соци-
алистской идеологией достаточно унифицированное. Несмотря
на впечатляющее количество книжной продукции, эта литература
в массе своей принадлежала к разряду тривиально-провинциальной
литературы, и по своему творческому потенциалу, особенно в произ-
ведениях официально поощряемых авторов, не могла претендовать
даже на титул «второй литературы». Однако именно эта литература
являлась едва ли не самой важной составляющей культурной жиз-
ни тех лет, уступая по своей значимости, разве что, кино и радио.
С учётом степени приверженности немецкой литературы
в Третьем рейхе идеологии и политике нацистского государ-
ства её можно разделить на три группы: консервативную фёль-
киш-национальную (völkisch-nationale), национал-социалистскую
(nationalsozialistische) и не собственно национал-социалистскую,
или афашистскую; в последней хотя и обозначались некоторые
элементы нацистской идеологии, но в действительности тако-
выми они не были, ибо нацисты их попросту экспроприировали
из программ фёлькиш-националов в своих надобностях, лишив
их первоначальной значимости, что и придавало произведениям
афашистских авторов некий национал-социалистский налёт, хотя
общая тенденция их творчества имела оппозиционный характер.
Вплотную к афашистской литературе примыкала литература так
назыв. «внутренней эмиграции», которую в силу расплывчатости
как самого понятия, так и субъективных принципов определения
её статуса, трудно выделить в какое-то конкретное направление,
74
ибо некие оппозиционные мотивы уживались в ней мирно с верно-
подданническими проявлениями, особенно, если учесть, что состав
авторов «внутренней эмиграции» был чрезвычайно неоднороден.
Собственно антифашистская литература в своих немногочисленных
проявлениях не представляла какой-либо значимой силы в литера-
турном процессе времён нацизма, что не умаляет её значимости
в истории немецкой литературы тех лет, особенно имея в виду её
публикации за пределами Третьего рейха.
Консервативная фёлькиш-национальная и собственно нацист-
ская литературы, исходя из идеологической составляющей наци-
онал-социализма, исповедовали принцип фюрерства, в какой бы
форме он не проявлялся, остальная же литература избегала
каких-либо политических или социальных проблем, уйдя в чистый
эскапизм, застыв в литературных реалиях XIX века и не помышляя
о каких-либо авангардистских интенциях. В этом смысле трудно
говорить о какой-либо эстетической ценности литературы Третьего
рейха, ибо значимость её в те времена определялась не стилистиче-
скими особенностями письма того или иного автора, а содержанием
как таковым. Об этом достаточно ясно говорят важнейшие истории
литературы тех лет — «Современная национальная литература»
Хельмута Лангенбухера (Langenbucher Helmut, »Volkhafte Dichtung
der Zeit«, 1940) и «Немецкая литература нашего времени» Арно Муло-
та (Mulot Arno, »Die deutsche Dichtung unserer Zeit«, 1944), которые
были построены по тематическому признаку: солдат, крестьянин,
рабочий, народ, религия, народ и поэт, сущность немецкого чело-
века и тому подобные темы.
Отдельные проявления авангарда в духе «нового реализма»
или европейского модерна практически оставались незамеченны-
ми (как, впрочем, остались они незамеченными и после 1945 года
в ходе становления литературы ФРГ и ГДР), и не могли оказывать
какого-либо влияния на литературный процесс в Третьем рейхе.
Последовавший в 1936 году указ Геббельса о запрете критики как
таковой только узаконил сложившееся положение.
Учитывая отсутствие на момент захвата власти какой-либо
собственной художественной литературы, не считая партийной
поэзии, нацисты вынуждены были опереться на консервативную
фёлькиш-национальную литературу, тем более, что её идеологиче-
ская составляющая во многом отвечала постулатам национал-со-
циализма, о чём достаточно красноречиво говорят публикации
ее авторов конца XIX — начала XX веков и времён Веймарской
75
республики. В известном смысле фёлькиш-националы, начиная
с 1890 года, исподволь, а позднее и более сознательно, готовили
почву для прихода к власти нацистов, ибо идеологический посыл
их произведений, выходивших огромными тиражами, отвечал
настроениям широких читательских масс, и поэтому история лите-
ратуры Третьего рейха — это, в некотором роде, история немецкой
консервативной фёлькиш-национальной литературы, каким бы
ограниченным ни был вклад писателей этого направления после
1933 года в создание собственно литературы времён нацизма.
В этом случае можно говорить о цезурах 1890-1945 годах как осно-
вополагающих для литературы Третьего рейха, ибо фёлькиш-наци-
ональная литература развивалась по канонам XIX века, оставаясь
своеобразным анклавом в потоке литературных явлений Веймар-
ской республики, отчего беспрепятственно и вошла в литературную
систему национал-социализма, ориентировавшуюся на духовные
ценности прошлого. Именно поэтому их произведения прежних
лет обрели теперь как бы новую жизнь, и воспринимались в одном
ряду с произведениями современных авторов.
Как бы мы ни относились к этому роду литературы, она достой-
на более внимательного рассмотрения хотя бы потому, что её авторы
внесли едва ли не основной вклад в дело опосредованного внедре-
ния в сознание немецкого народа идеи национального сплочения
на основе расового превосходства, что позволило нацистам доста-
точно быстро прийти к власти в Германии и удерживать страну
в течение тринадцати лет в своих руках. О степени популярности
произведений авторов фёлькиш-национальной ориентации гово-
рят цифры тиражей их книг. Так, например, общий тираж книг
«силезского мистика» Германа Штера (Stehr, Hermann) превышал
к 1944 году миллион экземпляров.1
Идеологическая составляющая творчества авторов консер-
вативной фёлькиш-национальной ориентации была достаточно
обширной: культ вождя, воспевание войны и героического начала,
апология «крови-и-почвы», восхваление национал-социалистской
народной общности, расизм, национализм, антисемитизм, анти-
большевизм, антирационализм, антикапитализм, антилиберализм,
антихристианство. При этом все эти тенденции зачастую проявля-
лись не напрямую, не в пропагандистской форме, а опосредован-
но, через систему различного рода эстетических, художественных
1 Lobe St Wirkungsgeschichte Hermann Stehres und seines Werkes. Köln, 1976. S. 173.
76
направлений, личных предпочтений того или иного автора. Поэтому
было бы неверным считать всех представителей фёлькиш-наци-
ональной литературы как некое собрание истовых сторонников
национал-социализма, выполнявших политический заказ. Всё
было намного сложнее, и воспринимать официально поощряемую
литературу в Третьем рейхе «как прототип „Песни Хорста Весселя"»
было бы ошибочно.1
Авторы фёлькиш-национальной ориентации являются прямы-
ми наследниками областнической литературы (Heimatdichtung),
проповедуя принцип »zurück zur Scholle«, т.е. «назад к родному клоч-
ку земли», «назад к родному краю» (одним из провозвестников этого
направления, наряду с журналом «Хаймат», был журнал «Шолле»),
ибо только там обретается здоровый дух немецкой нации. Несмотря
на то, что основной идеологической и тематической составляющей
их творчества были мотивы родины, крови и почвы, являвшихся
чётко выраженной оппозицией не только по отношению к политиче-
ским и социальным изменениям в Германии, вызванным нараста-
ющим развитием капиталистических отношений, но и по отноше-
нию к современной литературе, к «литературе асфальта», символом
которой был Берлин и вообще город, эти авторы разнились в своей
трактовке избранной ими позиции, и здесь свою роль сыграл поко-
ленческий фактор. Основной корпус литературы, традиционно
воспевавшей родину, почву, кровь, создан писателями старшего
поколения, начавшими публиковаться ещё в 80-90-х годах XIX века.
Густав Френссен, Герман Лёне, Генрих Зонрай, Герман Штер, Лулу
фон Штраус-унд-Торней, Вильгельм Шэфер и некоторые другие
авторы, рангом поменьше, воспевая прошлое, так и остались в нём,
противопоставляя раздраю цивилизации XX века, разлагающему
воздействию городского этноса устоявшиеся ценности сельской
жизни, социальных взаимоотношений крестьян и дворянства, кай-
зера и помещиков, армии и народа. Понимая, что обратного пути
нет и историю не повернуть вспять, они представляли провинцию
как некий остров спасения, где современный человек мог бы найти
Укрытие от мерзостей современного города, где, в отличие от горо-
да, царит душа, а не холодный разум.
1 Ketelsen Uwe-K. Literatur und Drittes Reich. Greifswald, 1994. S. 56.— Хорст Вессель,
штурмовик, погибший в пьяной драке и возведённый нацистами в ранг «мучени-
ка» национал-социализма, написал в 1929 г. песню «Флаги поднять!» (»Die Fahne
hoch!»), ставшую после смерти официальным гимном CA, а затем и партийным
гимном, исполнявшимся сразу после первой строфы государственного гимна.
77
Проиграв битву с капитализмом, фёлькиш-националы при-
нялись усиленно разрабатывать проблематику духовного едине-
ния народа на примере его исторического прошлого, занялись
поисками образцовых примеров из немецкой истории, а так-
же поисками причин несчастий, обрушившихся на Германию.
Именно конец XIX — начало XX веков ознаменовался расцветом
неоромантизма, вызвавшего к жизни огромное количество исто-
рической литературы, должной напомнить немцам о героических
деяниях их предков, о превосходстве немецкой нации, о её особой
роли в истории Европы, хотя в массе своей описываемые события
носили сугубо локальный характер и значимыми они были только
для определённого региона страны и не имели каких-либо далеко
идущих последствий для Германии, не говоря уже о Европе.
Понятно, что о каком-либо воздействии модернистских спо-
собов восприятия действительности здесь не могло быть и речи.
Сохранение языка в его первозданной сущности, поэтологическая
приверженность прошлым образцам оставались определяющими
для творчества этих писателей. Одним словом, дух и форма оста-
вались неизменными.
Другая группа авторов фёлькиш-национальной ориентации,
чьи произведения появились после Первой мировой войны, остава-
ясь приверженцами прежних канонов областнической литературы,
придала им некоторое ускорение. Йозефа Беренс-Тотеноль, Фри-
дрих Гризе, Карл Бенно фон Мехов, Ульрих Зандер, Вилл Феспер,
Герман Бурте, Карл Генрих Ваггерль, Ина Зайдель, Эрнст Вихерт
и другие решительно исповедовали возвращение к прошлому,
полагая обретение его в иллюзорном будущем с помощью неких
безграничных возможностей вселенной, хотя какого-либо чёткого
представления об этом будущем у них не было, и поэтому их виде-
ние «нового рейха», не связанного с разлагающей бездуховностью
XX века, не имело под собой реальной основы и определялось, как
говорят немцы, «логикой футурума II»,1 т.е. относительного буду-
щего, или, говоря проще, телега ставилась впереди лошади. Как
не без сарказма заметил религиозный философ Пауль Тиллих, они
хотят «из сына сделать мать, а отца вызвать из ничто».2
Противостояние между этими группировками выражалось
в том, что первые надеялись на силу слова как такового, не заметив,
1 Haß U. Vom »Aufstand der Landschaft gegen Berlin«// Literatur der Weimarer Republik.
1918-1933/ Hrsg. v. Bernhard Weyegraf. München, 1995. S. 347.
2 Цит. по: Haß U. Vom »Aufstand der Landschaft gegen Berlin«. S. 347.
78
что писатель в XX веке уже перестал быть неким провидцем, гуру,
могущим каким-то образом влиять на общественное сознание,
в то время как вторые, опираясь на базу технического прогресса,
на достижения новой цивилизации, пытались формировать духов-
ные принципы того иллюзорного будущего, в котором сущность
человека будет определяться не разумом, а инстинктом, что в соче-
тании с признанием основополагающими понятия крови, расы,
почвы поможет создать народное единство и служение в качестве
замены класса и общества.
Тем не менее, обе эти группировки не представляли собой
некоего монолитного сообщества, ибо в конечном итоге их объеди-
няла одна идея — противостояние деревни и города, «ландшафта
и Берлина», что и позволило им впоследствии занять главенствую-
щее положение в литературе Третьего рейха.
Существовала ещё одна разновидность авторов фёлькиш-наци-
онального толка, получившая название «тихих» (»Stillen im Lande«)1
или «таинственной Германии» (»heimliche Deutschland«) и являв-
шаяся также порождением »Heimatliteratur«. Представители этого
направления, по мнению Вернера Мархольца (Mahrholz, Werner),
шефа литературного отдела либерально-буржуазной газеты «Фосси-
ше Цайтунг» (»Die Vossische Zeitung«), симпатизировавшего этому
литературному движению, «преодолели мещанскую ограниченность
областнической литературы» и «обратились к великим проблемам
мира и человечества», «к современным проблемам»). К числу их,
по мнению критика, относятся Людвиг Тома, Лена Крист, Гер-
ман Гессе, Эмиль Штраус, Генрих Лерш, Герман Штер, Вильгельм
Шэфер, Йозеф Понтен, Фридрих Блунк.2 Примечательно, что и эти
авторы, за исключением Г. Гессе, находившегося ещё до Первой
мировой войны в Швейцарии, определяли ход литературного про-
цесса в Третьем рейхе.
Литературная критика начала XX в. и времён Веймарской
республики была так захвачена перипетиями противостояния вся-
ческих измов, что не обращала особого внимания на произведения
Это определение берёт своё начало от названия сборника «Тихие» (»Die Stillen«,
1921). См. Haas Olaf. Max Tau und sein Kreis. Zur Ideologiegeschichte »oberschlesi-
scher« Literatur in der Weimarer Republik. Padeborn, München, Wien, Zürich, 1988.
S. 18.
Mahrhobz W. Deutsche Literatur der Gegenwart. Probleme. Ergebnisse. Gestalten.
Berlin, 1930. S. 239.
79
авторов фёлькиш-национального толка, посчитав их провинциаль-
ным рукоделием. Даже в преддверии прихода к власти нацистов
критики всё ещё относились к произведениям этих и подобных им
авторов пренебрежительно или, в лучшем случае, отдавая должное
некоторым из них (Э. Штраус, Г. Штер), воспринимая их ирониче-
ски как мечтателей о «Третьем рейхе немецкой души». Пожалуй,
только В. Мархольц дал достаточно развёрнутую характеристику
движения «тихих», заявив что «таинственная Германия мечтает
и живёт среди многих и в каждом... Она не может найти выхо-
да к политической власти, потому что боится найти в ней врага
души. Но она находится в поисках нового духовного фундамента,
на котором можно построить здание Третьего рейха. Кто в состо-
янии пробудить её к действию (единственно Лютеру удалось это
сделать на короткий срок), тот и стал бы вождём этого рейха, ожи-
даемого, уверованного, желанного и всё же так и не возникающего
в действительности. Но до тех пор, до того часа осуществления,
о котором никто не знает, когда оно свершится, и в котором, есте-
ственно, не в первую очередь речь пойдёт о политических целях,
таинственная Германия ищет себя самоё, являясь для себя и для
чужих загадкой, полной внутреннего богатства, полной внутрен-
них иллюзий, полной глубочайшего стремления к форме, призна-
ния в мире и сохранения собственной позиции».1 Правда, после
прихода к власти нацисты поправили замечтавшуюся Германию,
заявив о том, что «без политических целей невозможно достижения
других, культурных целей».2
Осознание вынужденной необходимости вовлечения в полити-
ку к фёлькиш-националам пришло несколько раньше, и вызвано
оно было приверженностью их в том или ином качестве идеологии
нацистов, в которых они, как и подавляющее число консервативной
оппозиции, видели силу, способную устранить с политического поля
ненавистную им Веймарскую республику. Речь шла о том, чтобы
во время вскочить в поезд, готовый к отъезду в «новую Германию»,
и занять в нём подобающее своей персоне место. В этом смысле
примечательна статья Вильгельма Штапеля (Stapel, Wilhelm) «Духов-
ная личность и народ. Некий лозунг» (»Der Geistige und sein Volk.
1 Mahrholz W. Deutsche Literatur der Gegenwart. Probleme. Ergebnisse. Gestalten.
Berlin, 1930. S. 223.
2 Langenbucher H. Volkhafte Dichtung der Zeit. Berlin, 1940. S. 47-48
80
Eine Parole«), опубликованная в январе 1930 года в его журнале
«Дойчес Фолькстум» (»Deutsches Volkstum«), являвшегося «домашним
журналом» фёлькиш-националов независимо от их ориентации.
Основной тенор статьи — огромная ненависть к Берлину (заодно
досталось и Вене) во всех его проявлениях, а в духовной части —
в особенности: «Существует духовность, которая является ничем
иным, как результатом духовной импотенции; это духовность
истощённого мозга. Вся эта изношенная ирония, вся эта новая
деловитость, вся эта репортажная литература, этот возбуждённо
превозносимый Cri de Berlin есть ни что иное, как неспособность
справляться духовными средствами с проблемами нашего времени.
Посмотрите на порождения этих духовных личностей: их логика
лишена полёта, их душевные проявления убоги (поэтому из нуж-
ды выдают деловитость за добродетель), их изобразительная сила
беспомощна: композиция рассыпается на отдельные куски, впечат-
ления сменяют друг друга, раздражение за раздражением. Ничего
величественного, ничего глубокого, никакой мощи духа. Только под-
вижность, изменчивость, нервозность, одним словом — развалины
ума».1 Так как «народ немецкой провинции» не в состоянии вести
активную борьбу против верховенства Берлина, Штапель призывает
«носителей немецкой духовности отбросить, наконец, стыд и стать
на сторону своего благородно мыслящего народа... стать выразите-
лями духовности своего народа... Дух немецкого народа восстаёт
против духа Берлина. Требование дня гласит: поднять восстание
провинции (»Landschaft«) против Берлина!»2
Призыв этот в первую очередь предназначался авторам фёль-
киш-национальной ориентации, собиравшимся произвести пере-
ворот в «секции поэтического искусства» (»Sektion für Dichtkunst«),
входившей в состав Прусской академии искусств и неофициально
известной под названием «Академия поэтов», где главенствующее
положение занимали писатели либеральной и левой ориентации,
живущие преимущественно в Берлине.3
St. (Stapel W.) Der Geistige und sein Volk. Eine Parole // Deutsches Volkstum. Ham-
burg. H. 1. 1930. S. 7.
2 Ibid. S. 8.
«Обида» фёлькиш-националов заключалась именно в том, что их произведения,
несмотря на значительные тиражи, порой превосходящие тиражи берлинских
писателей, не находились в центре внимания берлинской прессы и литературных
изданий, отчего складывалось впечатление, как признавал Пауль Фехтер, которого
81
Собственно, и без этого обращения небольшая группа фёль-
киш-националов в «секции поэтического искусства» пыталась про-
тивостоять влиянию берлинской группировки писателей, но именно
начиная с 1930 по 1931 годы акции фёлькиш-националов обрели
наступательный характер. Давняя тяжба между фёлькиш-национа-
лами и берлинцами о том, называть ли «секцию поэтического искус-
ства» «секцией литературы» или «секцией литературного искусства»,
вылилась в политическое противостояние. Вызванная ещё более
давним спором в немецкой литературе о разнице между понятия-
ми «поэт» (»der Dichter«) и «писатель» (»der Schriftsteller«), т.е. между
художником, являющимся выразителем «высокой поэзии о вечном»,
что предполагает не только поэзию, но и прозу, и художником, отда-
ющем предпочтение проблематике повседневной реальности, эта
тяжба, если она разрешилась бы в пользу последних, позволило бы,
как писал А. Дёблин, «наряду с важными в духовном отношении
поэтами принимать и писателей» в члены «секции поэтического
искусства», что, несомненно, усилило бы представительство в ней
берлинской группы. «Хорошая смесь необходима перед лицом
склонности поэтов увлекаться орфической мистикой».1
Понятно, что фёлькиш-националы не могли допустить этого,
и предприняли несколько попыток нейтрализовать берлинскую
группировку писателей в «секции поэтического искусства», т.к. она,
по словам Э.Г. Кольбенхайера, будущего «классика» нацистского
Парнаса, «отошла от планов стать надпартийной, общенемецкой
академией поэтов... и стала... неким сугубо берлинским делом
наподобие левой политической секты».2 Под предлогом отрыва
«секции поэтического искусства» от народа, они разработали,
совместно с кураторами из Прусского министерства культуры, её
новый статус, согласно которому секции отводилась роль лишь
хранительницы языка, а такие вопросы как свобода мнений, ока-
зание влияния на воспитание молодёжи в важных в культурном
отношении делах, обсуждение не только эстетических, но и других
трудно заподозрить в приверженности к писателям Берлина, что литература фёль-
киш-националов «находилась под поверхностью... это была литература глубины,
которая вроде бы как существовала и не существовала» (Fechter Р. Die Abwechslung
der Literaturen // Die Deutsche Rundschau. Berlin. Mai 1933. S. 120).
1 DöblinA. Bilanz der Dichterakademie // Vossische Zeitung. Berlin. 25.01.1931.
2 Kolbenheyer E. G. Die Sektion der Dichter an der Berliner Akademie / / Deutsches
Volkstum. Hamburg. H.4. 1931. S. 252-253.
82
проблем культурной жизни страны передавались правительству.
В. Шэфер, один из столпов фёлькиш-национальной литературы,
избранный на этот момент председателем секции поэзии, уже
праздновал победу фёлькиш-националов над Берлином: «Признавая
все области немецкого языка относящимися к ведению академии,
мы, свободные от многообразных государственных проявлений
и раскола, вступаем во всеобщее движение немецкого народа
в борьбе за рейх немцев».1
Однако праздновать победу было рано. Принятый в начале
за основу, статус секции был подвергнут резкой критике на после-
дующих заседаниях «секции поэтического искусства» и отвергнут.
Пожалуй, решающую роль в этом противостоянии фёлькиш-на-
ционалов и Берлина сыграл Т. Манн, один из основателей «секции
поэтического искусства», пригрозивший выходом из неё в случае,
если этот статус будет одобрен.2 Столкнувшись с решительностью
большинства членов секции, 5 января 1931 года фёлькиш-нацио-
налы Эрвин Гвидо Кольбенхайер, Пауль Эрнст, Вильгельм Шэфер,
Эмиль Штраус и Герман Гессе демонстративно выходят из Прусской
академии искусств.
Выход Г. Гессе из академии вызван был его сугубо личным
неприятием Веймарской республики (в своё время Т. Манну стоило
больших трудов уговорить его стать членом «секции поэтического
искусства»)3 и не имело никакой связи с мотивами, которыми руко-
водствовались остальные участники этой акции.4
1 Kolbenkeyer E. G. Die Sektion der Dichter an der Berliner Akademie / / Deutsches
Volkstum. Hamburg. H.4. 1931. S. 147.
2 Ibid. S. 150.
В письме О. Лёрке T. Манн заметил: «Мы должны быть благодарны Шэферу, что
потеряли Гессе» (Thomas Mann Chronik. / Von Gert Heine und Paul Schommer.
Frankfurt / Main 2004. S. 221), имея в виду угрозы В. Шэфера в адрес пассивных
членов секции поэзии отчислить их из секции, чем Г. Гессе и воспользовался.
В своём письме к Т. Манну Г. Гессе, беспокоясь о том, что он «поневоле будет
поставлен на одну доску с другими вышедшими из Академии», объяснял причины
своего ухода из «секции поэтического искусства» тем, что он «полон недоверия
к теперешнему государству не потому, что оно новое и республиканское, а потому,
что и того и другого в нём маловато. Я никогда не смогу позабыть о том, что прус-
ское государство и его министерство культуры, покровители той самой Академии,
и одновременно инстанции, ответственные за университеты и их порочную анти-
АУховность, и попытка собрать в Академии «свободные умы» представляется мне
отчасти желанием легче удерживать в узде подчас весьма неудобных критиков
официальной идеологии» (alexprodan@enteh.com).
83
«Восстание ландшафта против Берлина» закончилось неуда-
чей, что и подтвердилось, когда на заседании 27 января 1931 года
именно те пункты, против которых выступали фёлькиш-националы,
были признаны основополагающими для деятельности «секции поэ-
тического искусства», хотя и здесь не обошлось без бурных дискус-
сий, и если бы не решительная позиция А. Дёблина, поддержанная
Т. Манном и Г. Манном и некоторыми другими берлинцами, всё
могло бы повернуться иначе. Поражение фёлькиш-националов
в Академии искусств усугубилось ещё и тем, что вместо В. Шэфера
президентом «секции поэтического искусства» был избран Генрих
Манн, а сама секция была переименована в «отделение поэзии»
(»Abteilung für Dichtung«).1
Стараниями обеих сторон конфликт по поводу статуса «секции
поэтического искусства» вылился на страницы газет и журналов,
и теперь немецкая общественность, которая до этого имела весь-
ма смутное представление о деятельности секции, как, впрочем,
и самой Прусской академии искусств, получила, наконец, возмож-
ность узнать о существовании этих культурных организаций, хотя
и в несколько скандальном образе.
Начало дискуссии положила статья А. Дёблина «Итог деятельно-
сти академии поэтов» (»Bilanz der Dichterakademie«), опубликованная
за день до решающего заседания «секции поэтического искусства»,
в которой он резко отозвался о намерении «господ тотальной триви-
альности» выступить против «свободы творчества».2 Т. Манн в ста-
тье «Возрождение порядочности» (»Wiedergeburt der Anständigkeit«)
не менее резко высказался против «враждебных духовности и куль-
туре сил», чьи произведения являют собой «триумф бездуховности».3
Г. Манн, отвечая на реплики в газетах по поводу избрания его пред-
седателем «отделения поэзии», в своих статьях в «Фоссише Цайтунг»
и «Франкфуртер Цайтунг», писал: «Газеты, которые не одобрили
выбор меня на этот пост, всё же заблуждаются, если думают, что
исключение тех трёх членов академии и выбор меня является побе-
дой «литературы асфальта». Это не входило в намерения секции,
В 1932 г. «отделение поэзии» нанесло очередной удар «фёлькиш-националам», когда
при приёме новых членов отделения отвергла наиболее одиозные кандидатуры
Г.Ф. Блунка, П. Эрнста, А. Мигель, Б. фон Мюнхгаузена, отдав предпочтение
Г. Бенну, Р. Биндингу, M. Меллю, А. Паке, Р. Панвицу и И. Зайдель.
2 DöblinA. Op. cit.
3 Цит. по: Haß U. Op. cit. S. 370.— Mann Th. Wiedergeburt der Anständigkeit //
Der Staat seid Ihr. Februar 1931. Berlin. S. 1.
84
лди она понимала под «литературой асфальта» то, что некоторые
газеты всё же хотели сказать, победой писателей, которые отвечают
только перед собой и европейским духом».1
Фёлькиш-националы, чувствуя поддержку прессы, не замед-
лили обвинить «отделение поэзии» в политизации литературного
процесса. В. Шэфер выступил в Берлине с докладом «Поэт и народ»
(»Der Dichter und das Volk«), в котором изложил более подробно своё
видение «секции поэтического искусства» и призвал «тихих» перейти
от мечтаний к действию с тем, чтобы построить «дом немецкого
народничества, в котором они могли бы предаваться поэтическому
служению».2
В. Штапель в ряде публикаций в своём журнале продолжал
дискуссию с видными представителями «берлинской группы»,
стараясь доказать вневременную ценность произведений авторов
фёлькиш-националов, противопоставляя повести «Покрывало»
Э. Штрауса роман А. Дёблина «Берлин Александерплац», который,
как и всё творчество писателя, будет, по его мнению, «представлять
интерес только для германистских семинаров».3 Более развёрнутую
версию борений фёлькиш-националов с «берлинской группировкой»
даёт в своей статье «Секция поэтов при Берлинской академии»
(»Die Sektion der Dichter an der Berliner Akademie«) Э. Г. Кольбенхай-
ep. Статья эта интересна не тем, что в ней излагаются претензии
«поэтов» к «писателям», захватившим власть в «секции поэтическо-
го искусства» (о них уже было сказано достаточно), а тем, что она
является неким призывом к приверженцам фёлькиш-националов
крепить ряды противников «литературы асфальта». Недаром она
появилась почти одновременно на страницах журнала «Дойчес
Фолькстум», выходившем в Гамбурге,4 на севере Германии, и жур-
нала «Зюддойче Монатсхефте» (»Süddeutsche Monatshefte«), выхо-
дившем в Мюнхене.5
Особую роль в нагнетании противостояния фёлькиш-националов
и «берлинской группировки» сыграл официоз нацистов «Фёлькишер
1 Цит. по: Jens I. Op. cit. S. 162.
2 Haß U. Op. cit. S. 370.
St. Dichter— oder Literaten-Akademie?//Deutsches Volkstum. März 1931. S. 236.
Kolbenheyer E. G. Die Sektion der Dichter an der Berliner Akademie // Deutsches
Volkstum. H.4. 1931. Hamburg. S. 249-264.
Kolbenheyer E. G. Die Sektion der Dichter an der Berliner Akademie // Süddeutsche
Monatshefte. 1931. S. 520-528.
85
беобахтер», разразившийся разгромной статьёй «Удар ножом в спи-
ну литераторами. Сотрудники „Вайсен Блэттер" — чёрная глава
в истории мировой войны» (»Der Dolchstoß der Literaten. Die Mitar-
beiter der >Weißen Blatten — ein schwarzes Kapitel aus dem Weltkrie-
ge«). Анонимный автор статьи, памятуя антивоенные публикации
в этом журнале Р. Шикеле, Т. Дойблера, Л. Франка, Г. Манна,
«украшающих теперь Академию поэтов», выражает негодование
по поводу того, что именно эти люди будут «оказывать влияние
на состояние школьных учебников,., наносить неизлечимый вред
душам... молодёжи призывного возраста... И после всего этого спра-
шивается, имеется ли полное основание для народного отклонения
всего еврейского и нашего справедливого отречения от новопрус-
ской Академии поэтов».1
Эти и многие другие статьи и отдельные высказывания спо-
собствовали созданию в обществе фёлькиш-националам ореола
мучеников, страдающих за их приверженность истинно немецкой
литературе, что, естественно, не осталось незамеченным в нацист-
ских кругах. Более того, вся эта дискуссия укрепила в сознании
консервативной части бюргеров восприятие идеологии нацио-
нал-социалистов, как единственной идеологии, могущей возродить
дух нации, вернуть ей уверенность в своей самости. Ведь всё, что
фёлькиш-националы отстаивали в Академии поэтов, отвечало
настроениям бюргеров, и ради сохранения традиционного, привыч-
ного они готовы были заключить сделку хоть с чёртом, не только
с национал-социалистами. Именно об опасности подобного союза
предупреждал Т. Манн бюргеров ещё в 1930 году в своей речи
«Обращение к немцам. Призыв к разуму» (»Deutsche Ansprache.
Ein Appell an die Vernunft«), говоря о сближении образованного
бюргерства с нацистским движением, когда «определённая фило-
логическая идеология, романтическая германистика и нордическая
религиозность, исходящие из профессорско-академических кругов,
внушаются немцам с 1930 года в некоей идиоме с мифическим про-
стодушием и экзальтированной пошлостью с помощью таких слов
как расовый, фёлькиш, товарищество, героический, чем придаётся
движению элемент завлекательного образованного варварства,
более опасного и более далёкого от реальности, которое ещё больше
1 Dr. S. Der Dolchstoß der Literaten. Die Mitarbeiter der »Weißen Blätter« — Ein schwar-
zes Kapitel aus der Weltkriege // Völkischer Beobachter. 20.10.1931.
86
0дурманивает и застревает в головах людей, чем оторванность
от жизни и политическая романтика, приведшая нас к войне».1
Однако слова эти не были услышаны. Поражение фёлькиш-на-
ционалов не смутило. Наоборот, предчувствуя скорое падение
Веймарской республики (а политическая ситуация в Германии
складывалась в пользу нацистов), фёлькиш-националы решили идти
до конца. 31.05.1931 года по инициативе Бёрриса фон Мюнхгаузе-
на, известного автора исторических баллад и ярого националиста,
и под патронатом наследного принца Генриха XLV фон Ройса в зам-
ке Остерштайн под Герой состоялась первая «Встреча немецких
поэтов» (»Deutsche Dichtertagen«), на которой был представлен весь
цвет писателей фёлькиш-национального консервативного направ-
ления: Пауль Эрнст, Ганс Йост, Эрвин Гвидо Кольбенхайер, Карл
Бенно фон Мехов, Вильгельм Шэфер, Герман Штер, Эмиль Штраус,
Йозеф Магнус Венер, Эрнст Вихерт и Ганс Гримм. Последние двое
отсутствовали, но и без них на этой встрече собралась достаточно
представительная команда, чтобы провозгласить себя совестью
нации в единогласно одобренном манифесте: «Мы все восприни-
маем порочными те созданные произведения искусства, в которых
вместо души присутствует интеллект, вместо глубокого уважения —
фривольность, вместо любви — секс, вместо служения — оппорту-
низм. Мы, которые лучше остальных знающие, чему обязан наш
народ благодаря влиянию чуждой духовной жизни, болезненно
воспринимаем то, как эти ценности сегодня подавляются благодаря
массовому импорту всякой книжной продукции, которая чужда
нашему народу по сути и вредна. Мы сожалеем, что в настоящее
время, в первые часы развития нашего народа высокоодарённые,
чутко воспринимающие всё немецкое поэты продолжают пребывать
в чисто формалистическом мире и отказываются тем самым слу-
жить внутренним потребностям народа. Давайте не забывать, что
наше искусство является даром, полученном нами из милостивого
источника народного духа».2
Mann Th. Deutsche Ansprache. Ein Appell an die Vernunft // Mann Th. Gesammelte
Werke. Zwölften Band. Zeit und Werk. Tagebücher. Reden und Schriften zum Zeitge-
schehen. Berlin 1955. S. 541.
Цит. по: Franke M. Grimm ohne Glocken. Ambivalenzen im politischen Denken und
Handeln des Schriftstellers Hans Grimm. Köln 2009. S. 19.— В своём письме в газету
«Литерарише вельт» (»Die Literarische Welt«) принц фон Ройс попытался предста-
вить «Встречу немецких поэтов» как событие, «далёкое от всякой политики и тем
Оолее — от какой-либо партии», однако последующие выпады против «искусных
87
Этот манифест являлся своеобразным призывом к объедине-
нию всех консервативно мыслящих писателей и одновременно пред-
ложением к сотрудничеству с теми, кто в «первые часы развития
нашего народа» стремился придать этому развитию соответствую-
щий характер. Более того, в нём была представлена политическая
и эстетическая программа фёлькиш-националов, выражавшаяся
в одном слове — служение. Служение народу, служение власти,
отсутствие каких-либо попыток изменить устоявшиеся веками
отношения между народом и властью, что гарантировало наци-
стам литературу послушную, абсолютно далёкую от современной
проблематики. Именно поэтому, как писал А. Дёблин в 1938 году,
авторы фёлькиш-национальной ориентации «отдавали предпо-
чтение идиллии, отечественной истории, пафосу, героизму. Они
любили картины Германии раннего Средневековья, времён Штау-
фенов, степени цехов и сословий, в общем, нечто патриархальное,
феодально-аграрное, замкнутое в себе, и при этом удовлетворённое
и обладающее чувством собственного достоинства...».1
Эти слова А. Дёблина находят своё подтверждение в докладе
В. Шэфера под говорящим названием «Немецкое возвращение
в Средние века» (»Der deutsche Rückfall ins Mittelalter«, 1934),
в котором обосновывается приемлемость социально-политической
системы Средневековья для Третьего рейха. Доклад этот вызван был
письмом Ромена Роллана в «Кёльнише Цайтунг» по поводу статей
Р. Г. Биндинга и Э.Г. Кольбенхайера, в которых они высказались
в поддержку нацистского режима. Р. Роллан заявил, что от всего,
что происходит в фашистской Германии, «исходит гнилой запах...
Средневековья ».2
Все беды современной цивилизации В. Шэфер видит в извра-
щённом понимании свободы, выразившемся в противостоянии
современного человека природе: «Средневековый человек с его
диалектиков», которые представляют себя «прежде всего европейцами, и лишь
потом, возможно, немножко немцами», свидетельствуют о чёткой ориентации
участников встречи на кондовую провинциальную литературу «немецкой кро-
ви» (Heinrich XLV., Erbprinz Reuß. Um eine Dichtertagung // Die Literarische Welt.
18.09.1931. Nr. 38. S. 7)
1 Цит. по: Vondung К. Völkisch-nationale und nationalsozialistische Literaturtheorie.
München, 1973. S. 100.
2 Romain Rolland schreibt // Sechs Bekenntnisse zum neuen Deutschland. Rudolf G.
Binding, Erwin Guido Kolbenheyer, »Kölnische Zeitung«, Wilhelm von Scholz, Otto
Wirz, Robert Fabre-Luce antworten Romain Rolland. Hamburg, 1933. S. 9.
88
верой считал себя составной частью мира; современный человек
с его познанием видел себя дальше мира, противопоставляя упорно
интимному Ты мира своё Я».1 Однако гуманизм Возрождения и идеи
Просвещения о всеобщем благе нашли своё высшее выражение
в огромном развитии в XIX веке техники, что, в итоге, привело
к потере немецким народом своей национальной идентичности,
обретённой им в Средневековье. Спасение нации, возрождение
«немецкого образа», как и «немецкого государства», возможно только
в том случае, если «мы заставим наши глаза привыкать к Средневе-
ковью. .. Нет более высокой государственной мысли, чем феодальные
отношения, в которых старое величие рейха установило порядок
после хаоса великого переселения народов. Всё было дано богом
и у каждого были свои обязанности, даже у кайзера как верховно-
го сюзерена, который исполнял эту богом данную должность. Это
значит, что не существовало никакого имущества в современном
смысле, которым каждый мог бы пользоваться своевольно, но не
было и социализма, который возложил бы имущество на государ-
ство с тем, чтобы его граждане могли бы питаться из общего котла.
Не было никакого общего котла, как не было и провозглашённых
общих прав человека; была только служба, к которой каждый при-
влекался только милостью сюзерена, и долг, благодаря которому он
хранил верность сюзерену, не впадая в измену. Милость и верность
были рамками этого средневекового государственного образования,
обходившегося безо всяких римских законодательных параграфов,
потому что закон ещё не был отделён от жизни, ещё не наступила
вечная мука тащится от поколения к поколению.
Правда, среди военачальников кайзера соблюдалась сословная
градация, однако эта градация не знала никакой классовой непол-
ноценности. Цеховые грамоты ремесленников и грамоты гильдий
были также священны, как и посвящение в рыцари. Повседнев-
ность с её работой была не менее важна, чем воскресная молитва,
потому что вся жизнь стояла под знаком мистерии вечности».2
После столь ясного объяснения роли народа и государства
в Третьем рейхе, В. Шэфер делает простой вывод: «Это не возврат
к Средневековью и не шаг назад; это есть только возвращение
к истокам родины, говорящий о том, что мы вспомнили о долге
Schäfer W. Der deutsche Rückfall ins Mittelalter. Eine Rede in Berlin // Die Neue
Literatur, Berlin, Februar 1934. S. 71.
2 Schäfer W. Op. cit. S. 77.
89
и счастье немецкого образа жизни, которые мы забыли так осно-
вательно на чуждых нам путях прогресса».1
Фёлькиш-националам нужна была сила, которая проводила бы
в жизнь их идеи, и эту силу они увидели в национал-социалистах;
а этим последним нужна была проверенная идеологическая подпит-
ка, которая могла бы служить им своеобразным подспорьем в их
пропагандистской работе. Желания и возможности обеих сторон
сошлись, и хотя потом некоторые авторы из фёлькиш-националь-
ного лагеря ужаснулись практической реализации их помыслов,
отступать было некуда. Осознание случившегося придёт много поз-
же, да и то с различного рода оговорками, ибо многое из того, в чём
эти авторы были задействованы в годы нацизма, трудно объяснить
заблуждениями или политическим инфантилизмом.
Нацистское литературоведение, признавая, что «очень зна-
чительная часть нашей фёлькише литератур была написана
до 1933 года»,2 относит к «золотому фонду» официально признанной
немецкой литературы и декларируемой в Третьем рейхе в качестве
образцовой произведения таких авторов как Юлиус Лангбен («Рем-
брандт как воспитатель», 1890), Адольф Бартельс («Дитмаршцы»,
1898), Густав Френссен («Йорн Уль», 1901), Герман Лёне («Вервольф»,
1910), Герман Бурте («Вилтфебер», 1912), Герман Штер («Хайли-
генхоф», 1918), Эрвин Гвидо Кольбенхайер (трилогия «Парацельс»,
1917-1925), Вильгельм Шэфер («13 книг немецкой души», 1922),
Бёррис фон Мюнхгаузен («Книга баллад», 1924), Ганс Гримм («Народ
без пространства», 1926), Ганс Фридрих Блунк («Сага предков»,
1925-1928), Ганс Цёберляйн («Вера в Германию», 1931). Список
этот можно продолжить, потому что литературные предпочтения
менялись из-за соперничества между различными идеологически-
ми ведомствами нацистов, но источник заимствования оставался
прежним — фёлькиш-национальная литература прошлых лет.
Если к фёлькиш-национальной литературе следует добавить
так называемую «военную» литературу, посвященную событиям
Первой мировой войны и отмеченную националистскими интен-
циями — Вернер Боймельбург («Заградительный огонь вокруг
Германии», 1928; «Отделение Бёземюллера», 1930), Ганс Цёберляйн
(«Вера в Германию», 1931), Эдвин ЭрихДвингер («Армия за колючей
проволокой», 1929; «Мы взываем к Германии», 1932), Франц Шау-
векер («Восстание нации», 1929), Йозеф Магнус Венер («Семеро под
1 Schäfer W. Op. cit. S. 78
2 Langenbucher H. Volkhafte Dichtung zur Zeit. Berlin, 1940. S. 41
90
Верденом», 1930) — то на долю истинно национал-социалистской
литературы приходится лишь самая незначительная и в количе-
ственном, и в художественном отношении часть книжной продук-
ции. По сути дела, нацисты воспользовались той литературой, кото-
рая и до них исповедовала наиболее реакционные националистские
идеи, нацистам оставалось только придать этим идеям масштаб-
ность и радикализировать их в соответствии со своими задачами.
Как показала действительность, фёлькиш-националы сразу же
нашли общий язык с национал-социалистами, т.к. одно было поро-
ждением другого, хотя, по большому счёту, многие из них «видели
в Гитлере неприемлемое, но необходимое переходное явление».1
В том, что нацисты не ошиблись в своём выборе, свидетельству-
ют «Шесть признаний в приверженности новой Германии» Р. Г. Бин-
динга, Э. Г. Кольбенхайера, В. фон Шольца, О. Вирца и редакции
самой газеты, опубликованные в мае 1933 года в «Кёльнише Цай-
тунг», а затем вышедшие и отдельной книгой.2 Эта публикация
вызвана была гневным письмом Р. Роллана, давнего поклонника
немецкой культуры, осуждавшего нацистскую действительность.
Германия, которую он любил и защищал, призывая отменить
кабальные условия Версальского мира, «эта Германия растоптана,
обагрена кровью и поругана её «национальными» сегодняшними
правителями... »3
В качестве главного оппонента Р. Роллана выступил писатель
Рудольф Г. Биндинг, классический представитель кондового немец-
кого национализма, чьё творчество лишено было расхожей нацист-
ской риторики, отчего и воспринималось в Европе как достойное
внимания. Биндинг, полагая с помощью нацистов возродить насто-
ящую Германию, т.е. Германию кайзеровского типа со всеми её
атрибутами, во многом воспринимал их как временщиков, потому
и вёл себя соответствующим образом: открыто полемизировал с Геб-
бельсом по вопросам культуры, отказался подписать клятву вер-
ности Гитлеру, не был членом партии, игнорировал расовые пред-
рассудки. Тем не менее, именно он «своим положением в обществе
Neue Sachlichkeit. Literatur im »Dritten Reich« und Exil/ Hrsg. v. H.R. Paucker.
Stuttgart, 1999. S. 10.
Sechs Bekenntnisse zum neuen Deutschland. Rudolf G. Binding, E.G. Kolbenheyer,
Die »Kölnische Zeitung«, Wilhelm von Scholz, Otto Wirz, Robert Fabre-Luce antworten
Romain Rolland. Hamburg, 1933.
3 Ibid. S. 7.
91
сослужил национал-социализму большую службу, чем некоторые её
фанатичные сторонники»,1 пытаясь убедить Запад в том, что при-
ход к власти нацистов есть выражение воли народа, не вынесшего
диктата унизительного Версальского мира. Подчёркивая, что он
и сам пережил вместе с народом все тяготы этого позора и поэтому
выступает в качестве непредвзятого свидетеля, «никогда не принад-
лежавшего к (нацистскому.— Е. 3.) движению», Биндинг заявляет,
что перед этим «единым порывом стать Германией умолкает всё,.,
тонут все обвинения».2 И поэтому, заявляет Биндинг, повторяя
обвинения Роллана, «мы ничего не отрицаем,., ни подстрекательства
к насилию,., ни провозглашения расизма,., ни ребяческих костров
из книг,., ни вторжения политики в академии и университеты,.,
мы не отрицаем эмиграции и гонений на инакомыслящих. Но всё
это, как бы страшно оно ни выглядело и как бы решительно оно
не сказывалось на судьбах отдельных или многих людей, есть явле-
ние второстепенное, которое больше никоим образом не касается
собственно суверенитета, сути, истины происшедшего».3
Подобные рассуждения Биндинга являются парафразом слов
Г. Геринга, заявившего, что всё, в чём обвиняют Германию, есть
издержки производства, ибо «когда лес рубят — щепки должны
обязательно лететь».4
Для более полного «религиозного познания революции» Биндинг
призывает Запад не обращать внимания на внешние стороны её
проявлений «с этими шествиями и знаками, с флагами и клятвами
верности, с мучениками и фанатиками от мала до велика, включая
детей, с провозглашениями и обещаниями, с непоколебимой верой
и с убийственной серьёзностью народа. О, мы хорошо знаем эти
внешние проявления, этот дешёвый патриотизм, это чванство уни-
формой и орденами, это скатывание в пошлость и выдумки кича».5
Столь откровенные высказывания известного писателя,
не лишённые определённого дистанцирования от нацистской повсед-
невности, должны были бы успокоить западную общественность,
1 WulfJ. Literatur und Dichtung im Dritten Reich. Eine Dokumentation. Hamburg,
1966. S. 306.
2 Sechs Bekenntnisse... S. 17-18.
3 Ibid. S. 18.
4 Ibid. S. 28.
5 Ibid. S. 20
92
однако весь пафос его высказываний сводится на нет призывом
iç «обороноспособности нации», которая, наконец, «получила возмож-
ность ошутить свою значимость, стать немецкой нацией» и «защи-
щать обретённую немецкость».1
Суть рассуждений Вильгельма фон Шольца, ранее не замечен-
ного в особых симпатиях к нацистам, сводится также к деланному
недоумению по поводу возмущённого письма Р. Роллана. Во-первых,
считает фон Шольц, «ещё слишком рано судить о делах движе-
ния после нескольких месяцев нахождения у власти»; во-вторых,
«мы, весь народ, наконец, стали тем, чем мы и были изначально».
По-этому все обвинения в адрес Германии пустые, и напоминают
обвинения самого фон Шольца, брошенные им его кухарке, «зачем
она двигает шкафы», а на самом деле в Германии случилось зем-
летрясение, как это было 16 ноября 1911 года,2 т.е. всё, что про-
исходит в нацистской Германии, имеет естественные причины.
Роллан просто не понимает вековой данности германского духа,
«а мы, аполитичные люди, хранящие молчание, поэты и художники,
понимаем это,., хотя мы пребываем в глубочайшем одиночестве
и не читаем никаких газет... Мы говорим — да!»3
Э. Г. Кольбенхайер, известный автор исторических романов
расистской направленности, обвинил Францию в милитаризме
и назвал её «стопором европейского прогресса», противопоставив
ей Италию и Германию. Именно Франция с её приверженностью
«индивидуалистическому коллективизму, отрицающему народ-
ность», являющемуся «последним идеальным использованием
в корыстных целях западнического периода Просвещения», вино-
вата в том, что разразилась «невиданная и невыносимая жизненная
напряжённость между народами», «первым выражением которой
стала Первая мировая война».4 Кольбенхайер поучает Роллана: «Мы
живём в Европе времён национализма, а не расизма... Новейшая
мировая история игнорирует идеологию... Нет никакого сомне-
ния в том, что автаркические движения всех наций в настоящий
момент продвигаются к развитию европейской автаркии, а сверх
1 Sechs Bekenntnisse... S. 19-20.
2 Ibid. S. 28-29.
3 Ibid. S. 29.
4 Ibid. S. 33.
93
Европы — и белой расы. Однако этот прогресс продвигается не по
схеме некоей идеологии, а только в ходе борьбы по биологическим
законам».1
В конечном итоге, считает Кольбенхайер, «новая Европа может
развиваться только путём просвещённого национализма».2
Каких-либо откликов на это признание в верности новой Гер-
мании не последовало, но породило вскоре знаменитую «Торже-
ственную клятву верности и преданности» 88 писателей А. Гитлеру,
опубликованную в октябре 1933 года во «Франкфуртер Цайтунг»,
основными подписантами которой были именно представители
фёлькиш-национальной литературы и прочие авторы «второй
литературы». Правда, некоторые подписанты — О. Лёрке, О. Фла-
ке — сделали это под нажимом своих издательств; некоторые, как,
например, Р. Г. Биндинг, впервые узнали из газет о том, что они
поставили свои подписи под этим документом.3 В более развёрну-
том виде верноподданнические чувства подписантов нашли своё
выражение в сборнике «Миссия немецкого писателя в современ-
ности» (»Des deutschen Dichters Sendung in der Gegenwart«, 1933).
Примечательной особенностью этого сборника является стрем-
лением авторов подчеркнуть своё крестьянское происхождение
или, на худой конец, приверженность сословию ремесленников
в совокупности с развёрнутой историей своего рода, где особая роль
отводится доказательству чистоты расы. Так, например, П. Эрнст
сообщает, что «по материнской линии я связан с композитором Ген-
рихом Шютцем, предшественником Баха и Генделя, по отцовской
линии я веду свой род с 1490 года от северокрестьянской семьи,
переселившейся из Антверпена в Нижний Гарц».4
В журнале «Нойе литератур» (»Die Neue Literatur«), издаваемом
ярым националистом Биллом Феспером, «родом из старой гессен-
ской крестьянской семьи»,5 под различными рубриками — «Про-
исхождение и родина» (»Herkunft und Heimat«), «Родина и предки»
(»Heimat und Ahnen«), «Мои предки» (»Meine Vorfahren«) — ряд авто-
ров — И. Линке, X. Штегувайт, П. Дёрфлер, Г. А. Крюгер — всячески
1 Sechs Bekenntnisse... S. 34.
2 Ibid. S. 35.
3 Wulf J. Op. cit. S. 112.
4 Цит. по: Langenbucher H. Op. cit. S. 49.
5 Ibid. S. 643.
94
расцвечивали своё родовое древо ссылками на крестьянское проис-
хождение, подтверждая тем самым свою принадлежность к новой
власти.1
Идеология фёлькиш-национальной литературы, усиленная
тематикой «крови и почвы» и принципом «фюрерства», особенно
заметно проявившимися в годы Веймарской республики, стала
определяющей едва ли не для всей литературы Третьего рейха,
о чём свидетельствует настойчивое выдвижение на первый план
в качестве основного показателя приверженности писателя нацист-
ской идеологии принципа «народного образа мыслей», »völkische
Gesinnung«. Хельмут Лангенбухер, постоянный автор нацистского
официоза «Фёлькишер беобахтер» и соответственно автор стан-
дартной истории литературы тех лет, трактует этот принцип как
«любое творческое выражение, которое охватывает жизненное про-
странство немецкого народа, исходящее из его действительности,
из основ его сущности, его судьбы... предпосылкой этому является
глубокая внутренняя связь писателя с жизнью своего народа, и это
означает, что только люди нашей крови могут быть провозвестни-
ками нашей сущности, творцами нашей судьбы, воспитателями
нашего народа».2 При этом, замечает Лангенбухер, «фёлькише лите-
ратура получает для нас наибольшую значимость тогда, когда она
становится политической литературой», что, однако, «не означает
её связи с каким-либо политическим материалом», ибо «она может
оказывать политическое воздействие, даже если её содержание
не касается политической жизни в узком смысле этого слова»,
потому что «каждое воздействие, исходящее от художественного
произведения, следует, независимо от материала и формы, считать
политическим, если оно является созидающим, если оно придаёт
силы каждому человеку в его борьбе, если оно повышает и усили-
вает его личные способности, и если оно оказывает на его личную
волю к жизни такое воздействие, что он знает и признаёт только
эту и никакую другую цель — самоутверждение своего народа».3
Linke J. Herkunft und Heimat // Die Neue Literatur. 1934. H. 5. S. 257-260; Stegu-
weitH. Heimat und Ahnen // Ibid. 1934. S. 337-338; DörflerP. Ahnen und Hei-
mat // Ibid. 1934. H.7. S. 413-417; Krüger H.A. Meine Vorfahren // Ibid. 1934. H.9.
S. 553-555.
Langenbucher H. Op. cit. S. 39
3 !bid. S. 39-40.
95
Подобного рода рассуждения звучали в речах и публицистике
многих авторов фёлькиш-национального направления и до 1933 года,
однако с приходом к власти нацистов назначение литературы как
некоего биологического, кровного ориентира обрело главенствующее
начало. Более того, литературе вменялись определённые политиче-
ские функции, игнорирование которых рассматривалось как выра-
жение нелояльности по отношению к «движению».
В качестве зачинателя фёлькиш-национальной литературы
на первое место нацистское литературоведение выдвигает Пауля
Эрнста (Ernst, Paul. 1866-1933), прозаика, драматурга, теоретика
неоклассицизма, сблизившегося к концу жизни с национал-со-
циализмом. Примечательно, что ещё в 1925 году Эрнст относил-
ся к национал-социалистскому движению резко отрицательно:
«Национализм является самой действенной силой для катастро-
фы. Умные народы должны иметь об этом ясное представление
и заблаговременно и реальнее других смотреть на это явление»,
ибо оно «будет стоить нам больших денег», а «путём пробуждения
мании величия вовлечёт народ в военную авантюру, до которой он
ещё не дорос».1 Но уже в августе 1932 года в письме к В. Фесперу,
активному проводнику идей нацистов, он сообщает, что чтение
«Майн кампф» А. Гитлера его «очень взволновало», он «очень боит-
ся его антисемитизма»2 и в одном из писем в декабре 1932 года
он заявляет о том, что видит в национал-социализме «большую
опасность», а Гитлера считает «демагогом и дилетантом».3 В этом
мнении он остался до конца своих дней, о чём свидетельствует его
переписка с одним из крупнейших нацистских авторов Эберхар-
дом Вольфгангом Мёллером,4 что, однако, не помешало ему позднее
согласиться стать членом Прусской академии искусств, очищенной
нацистами от инородцев, о чём он с удовлетворением, уже в апреле
1933 г., сообщает В. Фесперу: «теперь я всё же стал выигравшим
от революции».5
1 Kohfink M.-W. Eberhard Wolfgang Möller — der »nationale Amtsdichter«// Dichter für
das »Dritte Reich«. Biografische Studien zum Verhältnis von Literatur und Ideologie.
Bd. 1./ Hrsg. v. R. Düsterberg. Bielefeld, 2009, S. 165-166.
2 Цит. по: Literatur im Dritten Reich. Dokumente und Texte/ Hrsg. v. S. Graeb-Könne-
cker. Stuttgart, 200l.S. 331.
3 Цит. по: Kohfink M.-W. Op. cit. S. 165.
4 Ibid. S. 166.
5 Цит. по: Literatur im Dritten Reich. Dokemente und Texte... S. 166.
96
Трудно сказать, как сложились бы отношения П. Эрнста с наци-
стами. По крайней мере, характер его долголетней переписки с Бил-
лом Феспером, откровенным сторонником идеологии национал-со-
циализма, говорит о том, что Эрнст, как и многие его соратники
по духу, видел в нацистах только временщиков, пригодных для
исполнения политических мечтаний фёлькиш-националов, и поэто-
му, не разделяя взглядов нацистов, использовал их для публикации
своих произведений, а Феспер, способствуя этому на страницах сво-
его журнала, создавал некий культурный потенциал для нацистской
партии. Если что и объединяло этих людей, так это общая ненависть
ко всем левым проявлениям в политике и культуре. Эрнст стал для
нацистов некоей иконой, олицетворением всего консервативного
в общественной жизни в Германии, а именно в этом качестве он
мыслил себя, полагая «поэта самым важным человеком, «фюрером»,
потому что «он создаёт мир, в котором живут люди; сверх того, он
создаёт бога, в которого люди верят», и, наконец, он формулирует
«волю народа, который глух и лишён сознания».1
Пауль Эрнст родился в Эльбингероде (Гарц) в семье горного
мастера, изучал теологию, общественно-политические науки, лите-
ратуру и экономику. Становление Эрнста как писателя напрямую
связано с эволюцией его политических взглядов. Он прошёл путь
от марксизма через социализм, отягощенный натуралистическими
интенциями (его друзьями были А. Хольц и Р. Демель) и элементами
эзотерического идеализма, к фёлькиш-национализму. Политическое
прошлое писателя нацистов не беспокоило, хотя бы потому, что он
подвергся в своё время резкой критике Ф. Энгельсом.2 Грехи моло-
дости П. Эрнст с лихвой искупил в 1919 году, издав покаянную кни-
гу «Крушение марксизма» (»Zusammenbruch des Marxismus«), а вот
его неоклассицистические драмы «Деметрий», «Каносса», «Брунгиль-
Да», «Кримгильда», «Ариадна на Наксосе» вкупе с трёхтомным сти-
хотворным эпосом «Книга императоров» (1923-1928), заложившим
основы национал-социалистского образца исторической поэзии,
восприняты были нацистами как новое идеалистически-героиче-
ское направление в фёлькиш-национальной литературе. В своих
теоретических работах «Путь к форме» (»Der Weg zur Form«, 1900),
Ernst P. Das deutsche Volk und der Dichter von heute // Ernst P. Verfall und Neu-
ordnung. München, 1935. S. 134.
Härtung G. Literatur und Ästhetik des deutschen Faschismus. Drei Studien. Berlin,
^83. S. 52
97
«Кредо» (»Ein Credo«, 1912) Эрнст связывает возрождение немецкой
нации с воспитанием в ней «формообразующей силы», которая спа-
сёт не только Германию, но и весь мир, и в этом можно усмотреть
перекличку с тезисами И. Г. Фихте: «Если Германия найдёт форму
для действия в совершенно новом виде, тогда это хорошо, тогда
это выведет весь мир из его нынешнего состояния. Если эту форму
не найдут, то мир погибнет, по меньшей мере, Европа погибнет...
Если сегодня посмотреть на другие великие культурные народы,
то немцы являются единственными, от кого придёт спасение».1
Первая попытка найти новую форму возрождения нации, осу-
ществлённая П. Эрнстом в его романе «Тягостный путь к счастью»
(»Der schmale Weg zum Glück«, 1904), по собственному признанию
автора, оказалась неудачной.2 История Ганса Вертера, сына лесника
в графском поместье, написана по образцу «романа воспитания»,
но только в духе областнической литературы, и определяет грани-
цы желанного обретения мелкой буржуазией своего назначения
в современном обществе в пределах изначально установленных
сословных отношений. Эта мысль изложена автором в самом начале
романа и является определяющей для всех жизненных перипетий
его героя: «В наше время общество потрясено до последнего предела,
и разорваны все старые узы, которые определяли кто внизу, кто
наверху. Некоторые полагают, что конец этого положения будет
означать полное равенство всех людей; но тот, кто внимательнее
присмотрится к этому явлению, то заметит, что эта всеобщая
свобода порождает напротив новое и более глубокое разделение
общества, когда дельные люди сплачиваются с дельными людьми,
а плохие — с плохими».3
Во время обучения в берлинском университете Вертер подпа-
дает под воздействие марксистской идеологии, насаждаемой среди
студентов русскими анархистами, безответственными литератора-
ми, евреями и прочими революционно настроенными личностями.
Город с его сумбурной жизнью, эротической свободой, социальными
проблемами вызывает у него страх и отвращение, это чувство осо-
бенно обострилось после общения Вертера с рабочими: «Внезапно
стремление к справедливости и желание равноправия показались
ему совершенно незрелыми... Совсем новой и неопределённой
1 Härtung G. Op. cit. S. 51.
2 HugelmannH. Paul Ernst und die Volksbücherei // Die Bücherei, Berlin, 1937. H.
415. S. 199.
3 Ibid. S. 15
98
явилась ему впервые мысль о том, что этот каменщик или плотник
не должны жить рядом с ним комфортно, если он сам или кто-то
другой мог пойти выше, не к комфорту, а к более высокому суще-
ствованию, и при этом он внезапно почувствовал, что он ненавидит
эту толпу тупых и самодовольных людей».1
С одной стороны, здесь явно прослеживается мысль о возврате
к прежнему разделению общества на ведомых и ведущих, которая
потом найдёт своё полное выражение в неоклассицистических тра-
гедиях П. Эрнста, с другой, как отмечает Г. Хартунг, «наличествует
страх опуститься до положения пролетариата, если ничего более
лучшего не предвидится, и стать господином».2 В этих рассуждениях
явно видна попытка облагораживания основополагающих прин-
ципов областнической литературы «малая родина» и «традиция»,
подвергавшихся тогда повсеместной критике, за счёт сближения
этих принципов с общественно-политической ситуацией в стране,
что не совсем соответствовало основным идеологическим посту-
латам подобного рода литературы. Однако связь эта выступает
в несвойственном областнической литературе духе, ибо все жизнен-
ные перипетии героев романа Эрнст трактует как веление неких
неподвластных человеку таинственных сил неземного происхожде-
ния, и поэтому все их поступки, даже в том узеньком понимании
ими своего счастья, обретают черты тупого фатализма: «Но теперь,
в эту ночь сомнений, я увидел новый свет, и теперь я знаю, что
никто не виноват, ни мои родители, ни я, мы все влекомы некоей
силой к тому концу, которого она хочет, и я верю, что её сила хоро-
ша и полезна, потому что если эта сила обладает такой волей, что
некто должен придти к свету и приведёт его род к высотам, то он
лишён каких-либо обязанностей и весел, ни о чём не беспокоится
и ни с кем не борется, а лишь вырастает без своего участия, как
вырастает дерево, становясь высоким и раскидистым, и его фор-
ма соразмерна этому; но тот, кто прилагает усилия, и чья совесть
борется, и кто хочет, и чей разум видит некую цель — это и есть тот
человек, который разрушает, потому что он лишён всяческих уз».3
К герою романа приходит осознание своего места в жизни,
и он возвращается в родные пенаты, где, несмотря на печальные
события (смерть отца, гибель сыновей графа) и хозяйственную
Ernst Р. Der schmale Weg zum Glück. Roman. München, 1919. S. 256.
2 Härtung G. Op. cit. S. 54.
3 Ernst P. Op. cit. S. 192
99
разруху (поместье графа заложено и перезаложено), находит своё
успокоение в женитьбе на дочери графа, подруге его детских лет,
и берёт на себя — уже из личных убеждений, а не по службе, как
его отец — заботу о лесных угодьях своего тестя, видя во всём этом
приверженность старым традициям, которые и есть выражение
законченной формы человеческих отношений. Последующее опи-
сание благостной картины тихого семейного счастья и обретения
Вертером статуса хозяина порушенных графских угодий можно
считать апофеозом мещанского счастья, некой антитезой роману
В. Гёте «Страдания молодого Вертера». Вертер П. Эрнста нашёл
успокоение и в личной жизни, и в своих социальных претензиях
к обществу: «Так проходили недели, месяцы и годы в расчётах
и работе; но расчёты и работа не заполняли полностью жизнь обо-
их, потому что через некоторое время у них родился прекрасный
и здоровый ребёнок, мальчик; за ним последовали ещё другие дети,
число которых выросло до пяти. О них пришлось заботиться матери,
она делала это без особого труда, с песнями и весело, и дети быстро
подрастали, а когда отец вечером возвращался домой, то они окру-
жали его, цеплялись за его ноги, пытаясь взобраться выше; Мария
приветствовала его смеющимися глазами. Она была всегда весела,
даже без какой-либо причины, сердце её было спокойно и мысли
её были уверенными. Ганс тоже всё время был весел и уверен
в себе, несмотря на то, что ему много волнений доставляли деньги
и точное соотношение их поступлений и выплат, что доставляло
много трудностей для такого человека как он, не имевшего ника-
кого таланта к финансовым делам; во время больших расчётов ему
помогала Мария, потому что он часто переплачивал и ошибался,
отчего испытывал огромный страх».1
Столь размеренная и счастливая жизнь привела к тому, что «он
перестал больше думать об абстрактных вещах и вопросах, потому
что он ощутил, что все размышления внезапно как отрезало и они
больше не обладали никакой привлекательностью, и если бы он
мог правильно рассудить, он стал ограниченным, и, тем не менее,
теперь, когда он думал о своём прежнем поведении, он казался себе
тогда глупым и ребячливым».2
Здесь уже видны намётки будущего неоклассицизма, и, прежде
всего, разделение на «высшие» и «низшие» формы жизни, как это
понимал Ф. Ницше, вознося дионисийскую, т.е. аристократическую,
1 Ernst P. Op. cit. S. 328.
2 Ibid.
100
эпоху в противовес аполлоновской, т.е. демократической эпохе.
«Высшая жизнь» является уделом «выдающихся личностей», ибо
только «высший» человек обладает способностью к свободному нрав-
ственному выбору, «низкий» же человек представляет собой лишь
«продукт среды». Все эти постулаты могут быть выражены только
в античной драме, преимущественно в трагедиях Софокла: «Мы
стремимся не к классицизму, но к классичности, не к чему-то мате-
риальному, но к чему-то формальному».1 Создание монументального
произведения классической формы, выражавшего «абсолютные идеи»
в искусстве, являлось не только отчаянной попыткой найти что-то
прочное в нестабильной ситуации конца XIX — начала XX веков,
но и желанием дистанцироваться от жестокой действительности.
Именно поэтому героями драм и трагедий П. Эрнста являются
благородные личности, короли, мифические фигуры, то есть ари-
стократия и вожди, лишённые какого-либо классового сознания,
связи с реальной действительностью и выступающие только как
исполнители некоей «абсолютной идеи», а не живые, мыслящие
личности со всеми присущими им человеческими свойствам. Такая
позиция соответствовала идеологии национал-социализма, прима-
ту фюрерства. Позднее, в книге «Крушение немецкого идеализма»
(»Der Zusammenbruch des deutschen Idealismus«, 1931), являющейся
переработкой книги «Крушение марксизма», Эрнст выскажет мысль
о том, что религия будущего сравнима с китайским культом предков,
ибо в ней важна традиция, а отдельная личность ничего не значит:
«...целью этой религии будет являться то, что люди жертвуют собой
ради того, чтобы создать из себя нечто более высшее».2 Это «высшее»
находит своё выражение в прусско-кайзеровской «строгости порядка»
(Мёллер ван ден Брук), в сохранении формы во что бы то ни стало,
где нет места для размышлений или сожалений, и поэтому Зигфрид
в трагедии «Брунгильда» благодарен Брунгильде и Хагену за то, что
они его убили, сняв тем самым с него тяжёлый груз раздумий, ибо он
знал, что с ним произойдёт, и ожидание этого конца лишало его покоя:
Благодарю тебя, Брунгильда, за то, что ты меня убила,
Благодарю тебя и Хаген за совершённое тобою.
Столь тяжкий груз с меня вы сняли.3
Цит. по: Шиллер Ф. История западно-европейской литературы нового времени.
т- 3. M., 1937. С. 145.
Ernst Р. Der Zusammenbruch des deutschen Idealismus. 1931. S. 22.
Цит. по: Eloesser R. Op. cit. S. 456.
101
Смутное чувство выполненного долга, завещанного некоей
высшей силой, заключено в этих словах, а не осознание смерти,
и от этого веет холодом.
Неоклассицистские трагедии П. Эрнста в силу громоздкости
и монументальности почти не ставились на немецкой сцене и вско-
ре были забыты. Сам автор относился к этому спокойно, считая,
что «постановка их сегодня невозможна», а если это и случится,
то «возможно, через сто лет».1
Примечательно, что высшей силой в трагедиях П. Эрнста и его
последователей является бог, однако не бог христианской религии,
а некое существо, которое управляет вселенной, уничтожая всё,
что противоречит его планам. В своей книге «Основы нового обще-
ства» (»Grundlagen der neuen Gesellschaft«, 1930) П. Эрнст, вслед
за нацистской пропагандой, обрушивается с критикой на современ-
ное состояние капиталистического общества, хотя суть его гневных
инвектив определяется виной западного мира, способствовавшего
поражению Германии в Первой мировой войне, поэтому «нет ника-
кой возможности возврата человечества из нынешнего состояния
глубокого унижения к нравственности, разуму и духовной жизни».
Для того чтобы вывести Германию из глубокого кризиса, нужно
построить новое общество, основываясь не на научных знаниях,
а на вере в бога: «Все несчастья, которые мы наблюдаем, ведь только
потому происходят, что этого хочет бог, что у бога есть неизвестный
нам план, чтобы вести нас ввысь. Ныне мы в состоянии усмотреть,
зачем нужно было неописуемое несчастье гибели античного мира;
мы чувствуем ныне, когда мы благочестиво настроены, что наше
время также созрело для гибели... Кто не верит в бога, тот не верит
и в свой народ. Мы посланы в этот погибающий мир для того, чтобы
действовать. От нас требуется политическое действие».2
Для реализации всех этих постулатов нужен вождь: «...тем
немногим совершенно ясно, что спасение может придти только
через так ими называемого «сильного человека», одиноко стоящего,
одарённого чувством чести, мужеством, разумом и волей, который
обладал бы властью каким бы то ни было способом заставить чернь
1 Цит. по: Kohfink M.-W. Eberhard Wolfgang Möller — der »nationale Amtsdichter«//
Dichter für das »Dritte Reich«. Biographische Studien zum Verhältnis von Literatur
und Ideologie / Hrsg. v. R. Düsterberg. Bielefeld, 2009. S. 165.
2 Цит. по: Шиллер Ф. Литературоведение в Германии. M., 1935. С. 292.
102
повиноваться. Каким бы то ни было способом, но единственный,
оставшийся в подобные времена способ — это военная диктатура».1
После такого рода выступлений П. Эрнст мог рассчитывать
на повышенное внимание со стороны национал-социалистов, поэ-
тому вполне объяснимы пышные похороны писателя, устроенные
новыми правителями Германии, переиздания его книг, настойчивое
внедрение их в народные библиотеки, создание общества по изу-
чению его творчества.2 При этом сами устроители признают, что
«сегодня Пауля Эрнста ещё многие отвергают», объясняя это привер-
женностью читателей к «содержанию коротких историй, построен-
ных по типу газетных сообщений»,3 т.е. сложностью построения его
произведений, недоступностью для понимания обычного читателя,
воспитанного на коротких рассказах областнической литературы.
А. Бартельс, которого трудно заподозрить в неприятии нацистской
идеологии и её выразителей, и тот в 1942 году недовольно заме-
тил: «Сейчас, после его смерти, некоторые хотели бы представить
его как великого писателя, но из этого ничего не получается. Ему
не хватает элементарного».4
Сподвижником П. Эрнста и его другом был Вильгельм фон Шольц
(Scholz, Wilhelm von, 1874-1969), драматург, поэт, прозаик, консерва-
тор старой закалки, приверженец неоклассицизма, что не мешало ему
проявлять симпатии к идеям национал-социализма, быть активным
поборником и пропагандистом этих идей в своих многочисленных
речах и стихах.
Вильгельм фон Шольц родился в Берлине в семье последнего
министра финансов в правительстве Бисмарка, изучал в Берлине,
Лозанне и Киле историю литературы, философию, психологию, защи-
тил диссертацию о творчестве поэтессы Аннеты Дросте-Хюльсхоф.
Шольц был довольно плодовитым писателем, библиография его
работ охватывает свыше ста произведений, но все они обращены
в прошлое, и в этом сказывается его принципиальная ориентация
на классическое достояние мировой литературы. Он не являлся
Цит. по: Шиллер Ф. Литературоведение в Германии. М., 1935. С. 293.
2 Anonym. Paul Ernst // Bücherkunde. Berlin 1935. 7. Folge. S. 231-232; Hugelmann P.
°P. cit. S. 188-212.
Hugelmann P. Op. cit. S. 209.
Bartels A. Geschichte der deutschen Literatur. Braunschweig, Berlin, Hamburg, 1942.
103
выразителем проблем современной действительности (по крайней
мере, до прихода к власти нацистов) и воспринимался многими как
гарант сохранения традиций, что нашло своё выражение в избра-
нии его президентом только что созданной Прусской академии
искусств, которую он возглавлял с 1926 по 1928 годы, а с 1933 года
являлся её постоянным членом.
Шольц принадлежал к тем писателям, в творчестве которых
уживались, казалось бы, несовместимые черты. С одной стороны,
он являлся приверженцем мистико-оккультного начала и, соот-
ветственно, реальная жизнь для него была лишь исходной точкой
для перехода в иную реальность; с другой стороны, политическая
активность писателя, особенно в годы нацизма, выдавала в нём
реально мыслящего человека, увидевшего в идеологии национал-со-
циализма, вернее, в тех толкованиях её отдельными представите-
лями нацистской элиты (Гиммлера, Розенберга), некое откровение,
некое воплощение ирреального в реальном.
Как в случае с Эмилем Штраусом, ранним проявлениям расизма
которого не придавали значения даже такие чуткие писатели как
Г. Гессе и Г. фон Гофмансталь, так и в случае с В. фон Шольцем
мистико-оккультные интенции в его первых сборниках стихов
«Весенняя поездка» (»Frühlingsfahrt«, 1896) и «Зеркало» (»Der Spiegel«,
1902), оказавшихся впоследствии едва ли не главной причиной его
влечения к нацистской идеологии, прошли незамеченными. Райнер
Мария Рильке в 1898 году увидел в стихах молодого поэта «выра-
зительную роскошь старых гобеленов и одновременно нежность,
с какой солнце проясняет их краски»,1 отметив таким образом
приверженность Шольца к традициям прошлого.
Несколько позже Оскар Лёрке, один из самых тонких немец-
ких поэтов XX века, отмечая мистическую окрашенность стихов
Шольца, выразил только восторг, ибо в них «полностью выраже-
на его основная сущность — открывать места, где можно найти
входы в центр иррационального космоса».2 Позиция Лёрке впол-
не понятна, ибо на данный момент нацистского движения как
явления политической жизни вообще не существовало, а интерес
к оккультным проблемам только ещё начинал приобретать силу.
1 Rilke R. M. Hohenklingen // Monatsschrift für Neue Literatur und Kunst. H.2. August
1898. S. 792.
2 Loerke O. Der Bücherkarren. Besprechungen im Berliner Börsen-Courier 1920-1928.
Heidelberg/ Darmstadt, 1965. S. 383-384.
104
Правда, впоследствии, в годы нацизма, этот «центр иррациональ-
ного космоса» сместился в сторону воспевания фюрера, но в раннем
творчестве писателя, в его стихах, рассказах, пьесах и романах,
иррациональная составляющая заметно ощущалась.
В известном смысле Шольц был пионером в этом направлении.
В 1910 году он публикует книгу «Немецкие мистики» (»Deutsche
Mystiker«), в которой, как писал П. Эрнст своему другу, «ты выра-
зил самое значительное и самое существенное твоего Я, нечто, чем
сегодня обладаешь только ты, а именно — нечто словно пережитое».1
Вслед за «Немецкими мистиками» выходят один за другим сборни-
ки рассказов «Прапорщик фон Браунау» (»Fähnrich von Braunau«,
1915) и «Нереальные» (»Die Unwirklichen«, 1916), в которых смешение
ирреального и реального так мастерски обыграно, что невольно
создаётся впечатление действительно существовавшего события.
Рассказы эти пользовались большим успехом у читателей и создали
Шолыгу славу одного из блестящих новеллистов.2
Пожалуй, основным предметом интереса Шольца была всё-таки
драматургия, где он, не в пример П. Эрнсту, проявил больше вкуса
и понимания сущности драмы, что не в последнюю очередь связано
с тем, что он с 1916 по 1922 годы занимал пост художественного
руководителя и режиссёра-постановщика Вюртембергского при-
дворного, а затем городского театра в Штуттгарте и на практике
постиг тонкости театрального дела. Позднего П. Эрнста он вос-
принимал как догматика, который «видел в абсолютной, почти
бесплотной и бесцветной абстракции чисто этическое изображе-
ние конфликта, которое было более морально взвешенным, чем
приводящим к судьбоносным результатам путём захватывающего
действия, что и является целью драматического искусства... Меня
всегда охватывает радость от пёстрого явления жизни в искусстве».3
В этом смысле интересна его трагедия «Еврей из Констанцы»
(»Der Jude aus Konstanz«, 1905), в которой религиозный вопрос
решался не столько на политическом, сколько на человеческом
Уровне, и хотя события в трагедии происходят во времена Средневе-
ковья, философский посыл в ней имеет прямое отношение к совре-
менности. Именно поэтому впоследствии нацистская критика,
1 Цит. по: Günther Н. Wilhelm von Scholz // Europäische Revue 1943. H. 10. S. 10.
Mahrholz W. Deutsche Literatur der Gegenwart. Probleme. Ergebnisse. Gestalten.
Berlin, 1930. S. 170
tengenbucher H. Op. cit. S. 78.
105
признавая, что в этой трагедии «впервые проявился большой поэ-
тический талант фон Шольца», с сожалением отмечала, что автора
интересовали «не расовые проблемы», а «религиозный конфликт» как
таковой.1 В мемуарах «На берегах Ильма и Изара» (»An Um und Isar«,
1939) Шольц посвятил целую главу истории возникновения трагедии
«Еврей из Констанцы», в которой покаялся в своих расовых прегре-
шениях, сославшись на «юношескую незрелость и полную неспо-
собность разглядеть и правильно оценить опасность набирающего
силу еврейского засилья в науке, искусстве и общественной жизни.
Духовная атмосфера того времени была отмечена либерализмом,
свободная, так сказать, торговля во всём, в том числе и в духовной
области».2 И далее следует великолепный по своей подобострастности
довод, снимающий все обвинения с Шольца: «И к тому же, конеч-
но, никто не предполагал, что в это время уже родился человек,
который освободит Германию от иностранного засилья и вернёт
немецкому народу его страну, его власть, его имущество и его при-
звание».3 В соответствии со случившимся с Шольцом «прозрением»
он изменяет собственную трактовку своей пьесы, полагая, что в ней
он выразил мысль о том, что «евреи являются вечными врагами
(немцев.— Е. З.)!»4 Правда, анализ текста не выдерживает такого
толкования.
Еврей Нассон, известный врач, принял христианство в наде-
жде обрести свой дом, землю, спокойную работу, наконец, родину.
Поручительством обретению всех этих благ ему служило удачное
излечение им епископа, благоволившего к нему. Однако, увидев
страдания своих соплеменников, подвергшихся нападению разъ-
ярённой толпы горожан, потеряв свою возлюбленную, ставшую
жертвой местной аристократии, он отказывается от своего наме-
рения. Желая спасти евреев, он предупреждает их о грозящей им
опасности, но они отвергают его помощь, считая его вероотступ-
ником, и выдают его горожанам, заявив, что именно он сообщил
им о готовящемся нападении на них, поклявшись по иудейским
обычаям. Нассон оказался между двух огней, обе стороны отвер-
гают его:
1 Langenbucher H. Op. cit. S. 79.
2 Scholz W. von. An Um und Isar. Lebenserrinerungen. Leipzig, 1939. S. 67.
3 Ibid. S. 67-68.
4 Ibid. S. 68.
106
Любая общность, епископ,
хоть с христианами, хоть с евреями, распалась,
потому что я никто и могу быть только никем.
Земля потеряла силу стать мне родиной.
Мир тоже потерял её,
и только уничтожение даёт мне утешение и покой.1
Несмотря на то, что епископ в знак благодарности за его выз-
доровление предлагает Нассону беспрепятственно покинуть город,
он отказывается от этого предложения, и его уводят на костёр.
Если «Еврей из Констанцы» выдержан в реалистических тонах,
то в последующих пьесах Шольца мистическая составляющая ста-
новится определяющей. В этом смысле примечательна его драма
«Наперегонки с тенью» (»Die Wettlauf mit dem Schatten«, 1920), при-
нёсшая Шольцу мировой успех, в основе которой лежит принцип
случайности, обернувшейся действительностью. Писатель Ганс
Мартине сочиняет роман, главный герой которого оказывается
реальной личностью; более того, этот оживший персонаж оказы-
вается бывшим любовником жены писателя. Происходит своео-
бразная дуэль между писателем и ожившим персонажем, которая
завершается в соответствии с сюжетом романа самоубийством
последнего. Вся пьеса построена на сплетении различного рода
незначительных событий из жизни писателя, которые таились в его
подсознании, и в процессе работы над романом один за другим
выстраивались в довольно логическую цепочку, создавая ситуа-
цию причинной обусловленности всего происходящего и в романе
и в реальной действительности. Таким образом, некие оккультные
посылки снижаются лёгкой иронией, обретая черты традицион-
ной семейной драмы, что подчёркивается последними репликами
писателя и его жены:
Мартинс:С тобой в моё творчество ворвалась жизнь! А теперь
оно вернулось в жизнь. Но теперь я сберегаю то и другое. Я воз-
вращаю мою жизнь в моё творчество и замыкаюсь от тебя в себе...
Девка!
Берта: Убийца!2
Scholz W. von. Der Jude von Konstanz // Scholz W. von. Ausgewählte Schauspiele.
Berg / Starnberger See, Bodman / Bodensee, 1985. S. 101.
Scholz W. von. Der Wettlauf mit dem Schatten // Scholz W. von. Ausgewählte Schau-
spiele. Berg / Starnberger See, Bodman / Bodensee, 1985. S. 285.
107
Примечательной особенностью иррациональных фантазий
Шольца является отсутствие в них нагнетание ужаса, чего-то злове-
щего. Напротив, в его рассказах и пьесах реальная действительность
присутствует в полной мере, что как раз и способствует созданию
правдоподобия мистических явлений. Свой метод Шольц называл
«символическим реализмом», который основывался, прежде всего,
на примате интуиции как способе постижения реальности. Этой
проблеме посвящена его книга «Случай и судьба» (»Der Zufall und
das Schicksal«, 1923), являющаяся своеобразным компендиумом
различного рода странных событий, собранных Шольцем из прессы.
В ней писатель пытается найти какое-то объяснение необычным
случаям, выступающим в роли некоего предуведомления судьбы
человека, прибегая к помощи старинных сказаний о демонах,
домовых и духах, вторгаясь тем самым в сферу бессознательного.
Шольца больше интересует художественное восприятие необычного,
чем научно обоснованное объяснение его сути, поэтому все свои
выводы и предположения на этот счёт он характеризует как «некие
рабочие гипотезы»,1 не больше.
С наибольшей силой приверженность Шольца к мистико-ир-
рациональной тематике проявилась в историческом романе «Пер-
петуя» (»Perpetua«, 1926). В отличие от большинства произведе-
ний подобного жанра времён Третьего рейха этот роман лишён
каких-либо политических аллюзий. Шольца интересовала сама
по себе фактура прошлого, окутанная мистическими проявлениями,
и возможность рассмотреть эти проявления как следствие неких
событий, случившихся ранее и определивших судьбу героев романа.
Шольц рассказывает историю сестёр-близнецов из Аугсбурга, одна
из которых, Катарина, была сожжена в начале 16 в. на костре как
ведьма, другая, Мария, получившая после ухода в монастырь имя
Перпетуя, будучи аббатисой, почиталась до конца своих дней как
святая. Примечательно, что обе они обладали даром творить чудеса,
но в конечном итоге происходит своеобразная подмена характе-
ров, и на костёр идёт Катарина, действительно святая, а в живых
остаётся аббатиса, настоящая ведьма.
Приход к власти нацистов вызвал у В. фон Шольца подъём поли-
тической активности, в них он увидел защитников наследия прошло-
го и при всякой возможности выражал восхищение их деятельно-
стью, как это было в известном случае с Р. Ролланом, выступившим
1 Scholz W. von. Der Zufall und das Schicksal. München, 1959. S. 178-179.
108
с гневным протестом против преступлений нацистского режима.
Ответное письмо В. фон Шольца является выражением основной
мечты фёлькиш-национальных консерваторов, называющих себя
«далёкими от политики, молчаливым сословием», которое в новых
условиях обрело голос: «...при преобразованиях в Германии речь
идёт о том, что возникло не со времён Версаля, ни со дня основа-
ния рейха, о том, что задолго до освободительной войны, возможно,
со времён Гогенштауфенов было мечтой и страстным желанием
этого великого, доброго, благородного, многократно подвергавше-
гося истязаниям народа, который теперь впервые после страданий
двадцатого столетия пробудился, ощутив утро действительности.
Страстное желание превратилось в волю, воля — в действие; воля,
действие — потому что мы становимся тем народом, которым мы
были изначально!»1
Примечательно, что, несмотря на столь откровенную привер-
женность национал-социалистской идеологии, особенно проявив-
шуюся на излёте Третьего рейха, Шольц не был отмечен какими-либо
нацистскими премиями, если не считать присуждения ему Гейдель-
бергским университетом в 1944 году титула почётного доктора.
В этой связи особый интерес представляет его позиция как граж-
данина и как писателя. Несмотря ни на что В. фон Шольц остаётся
верным сторонником нацистов, что ярко проявляется в его стихах
1944 года, проникнутых националистским пылом. Именно в это
время, когда речь шла о жизни и смерти Третьего рейха, его стихи
стали своеобразным выражением верности нацистскому режиму,
как это проявилось в стихотворении «Два немецких желания»
(»Zwei deutsche Wünsche«). Одно желание, вызванное «священным
гневом», «послать к чёрту преступных подстрекателей мирового
пожара»; другое —
вера, доверие
к нему, защитнику Германии, к которому
мы обращаем наши взоры,
сердца народа, мужчин и женщин,
полные любви — счастья,
здоровья, победы и благословения
желаем мы фюреру!2
1 Цит. по: WulfJ. Op. cit. S. 111.
Scholz W. von. Deutsche Wünsche. Цит. по: Loewy E. Op. cit. S. 284.
109
Другое стихотворение, «Твёрдая воля» (»Der harte Wille«), по сво-
ей тональности, близкой к истерии, мало чем отличается от пар-
тийной поэзии нацистов, являясь воплощением расхожих лозунгов
нацистской пропаганды, неким парафразом к известному лозунгу
Й. Геббельса, выдвинутому им в 1943 году на митинге в Берлине:
«Вы хотите тотальной войны?».1
Мы войны никогда не хотели,
На врагов с неприязнью смотрели,
Радовались труду и покою.
Судьба даровала иное!
Победа, отход, победа — верь,
Войны мы хотим теперь!
...Что даст нам победа — не предугадать,
Война — наша жизнь! Мы хотим воевать!2
Это желание воевать выразилось с не меньшей силой и в пьесе
Шольца «Аятари» (»Ayatari«, 1944), которую можно назвать вопло-
щением идеи жертвенности ради отечества. В качестве носителя
этой идеи Шольц выбирает японского авиаконструктора Аятари,
работающего над созданием нового самолёта-смертника. Действие
пьесы происходит незадолго до нападения японцев на Пёрл-Хар-
бор. Американские шпионы пытаются выкрасть у Аятари чертежи
этого самолёта. Во время поимки шпионов в мастерской авиакон-
структора случайно оказался брат жены Аятари, американец Джон
Виллис, который, опять же случайно (Шольц остаётся верен своей
теории «случая и судьбы») знакомится с чертежами этого самолёта,
выхватив их из рук шпионов. Аятари, учившийся вместе Виллисом
в США и знавший о его способности мгновенно прочитывать чер-
тежи, понимает, что Виллис невольно может оказаться шпионом,
что и подтверждается потом, когда он, влюбившись мгновенно
в Эллен Литтон, агента американской разведки, готов ради неё
сообщить не только об увиденных чертежах, но и провезти в США
под видом старинных японских гравюр другие шпионские мате-
риалы, так как он вскоре собирается покинуть Японию. Аятари
очень любит свою жену и её брата, и, зная, что тот будет аресто-
ван и казнён, решает сам совершить эту казнь. Для того чтобы
Виллис мог быстрее добраться до отплывающего парохода, Аятари
1 Wollt Ihr den Totalen Krieg?. Die geheimen Goebbels-Konferenzen 1939-1943/ Hrsg.
v. W. Boelcke. München, 1969. S. 23-24.
2 Scholz W. von. Der harte Wille. Цит. по: Loewy E. Op. cit. S. 246-247.
110
предлагает ему воспользоваться его собственным самолётом, и, как
настоящий самурай, совершает своеобразное двойное воздушное
харакири — взрывает самолёт, погибая вместе с Виллисом. Перед
тем как включить взрывное устройство Аятари объясняет Виллису,
что он не может допустить, чтобы его шурина казнили как шпио-
на, но не может допустить и того, чтобы он передал сведения о его
самолёте американцам. Виллис, потрясённый благородством Аята-
ри, восклицает: «Если вы японцы все такие же, как ты, то было бы
безумием нападать на вас! Тогда пусть Япония победит!» — Аятари:
«Да!» (Он обнимает Джона).1
Японский вариант благородного самопожертвования ради
сохранения отечества и личного достоинства пришёлся по душе
нацистам. Пьеса Шольца была поставлена в четырёх театрах в день
рождения японского императора; еженедельник Геббельса «Рейх»
публикует заключительную часть пьесы Шольца,2 а «Фёлькишер
беобахтер» с удовлетворением отмечает, что «Шольц углубил тем
самым жертвенность своего героя до предельной психологической
последовательности»,3 давая тем самым понять, что подобный
поступок имеет непосредственное отношение и к немецкой дей-
ствительности. Собственно, Шольц это и имел ввиду, объясняя
суть своей пьесы в статье «Моя любовь к Японии» (»Meine Liebe zu
Japan«, 1944): «Этим произведение я выражаю мою глубокую любовь
к великой демонической индивидуальности Японии, потому что
эта индивидуальность такова, что она при наличии высочайшей
культуры безусловного презрения к смерти у каждого её жителя
обладает у народа ясной установкой к жизни. Эта индивидуальность
в равной степени применима как к исчезающей быстротечности
жизни, так и ко всему вечному, содержащемуся в ней, вдохнов-
ляющей одновременно и успокаивающей, пускай и в чуждых оде-
ждах, в чуждых подкупающих формах мышления и выражения,
глубочайшим образом родственна немецкой сущности и бытию».4
Правда, Вильгельм фон Шольц этому примеру не последовал,
и после 1945 года, не понеся каких-либо потерь, уже в 1949 году был
1 Schote W. von. Ayatari. Schauspiel. Bielefeld und Leipzig, 1944. S. 82.
2 Das Reich. 11.02.1944.
Paalhort L. »Ayatari« — Uraufführung im Stadttheater Görlitz / / Völkischer Beobach-
ter, 18.02.1944.
Scholz W. von. Meine Liebe zu Japan // Europäische Literatur. Juni 1944. S. 16.
111
избран президентом Союза немецких театральных писателей и ком-
позиторов. Более того, он продолжал активно отстаивать принципы
псевдопатриотизма, выразив в 1953 году в открытом письме к пре-
зиденту ФРГ протест против «вызывающего тревогу иностранного
засилья в немецком театре и издательствах».1
Таким же сторонником обращения к питательным основам
прошлого, как и В. фон Шольц, был и Вильгельм Шэфер (Schäfer,
Wilhelm; 1868-1952), автор ряда романов и сборников исторических
анекдотов, пользовавшихся большой популярностью в Германии, и,
по праву, считавшийся одним из идеологов мифа о Третьем рейхе.
Особенно прославился Шэфер в Третьем рейхе как автор прозаи-
ческой поэмы «Тринадцать книг о немецкой душе» (»Die dreizehn
Bücher der deutschen Seele«, 1922).
Вильгельм Шэфер родился в Оттрау / Гессен в семье ремеслен-
ника, семь лет учительствовал в Рейнской области, затем переехал
в Берлин, познакомился с Р. Демелем, в 1905 году основал в Дюс-
сельдорфе журнал «Рейнланд» (»Rheinlande«). Нельзя сказать, что
Шэфер был искренним поклонником национал-социалистов, он
просто увидел в них ту силу, которая может реализовать его мечты
о былом величии Германии, и с энтузиазмом (достаточно вспомнить
его восторженную статью «Немецкое возвращение в Средние века»)
принялся восхвалять новый порядок. Собственно, большего от него
и не требовалось, и поэтому после 1933 года писатель был отме-
чен рядом престижных премий: Рейнской литературной премией
(1937), премией имени Гёте (1941), и имя его не сходило со страниц
литературных журналов тех лет. Шэфер скорее был воинствующим
националистом, певцом далёкого прошлого Германии, чем истовым
нацистом, и всегда позиционировал себя в роли утешителя и настав-
ника немецкого народа в годину бедствий, что нашло своё наиболее
яркое выражение в его довольно помпезной поэме «Тринадцать книг
о немецкой душе», с помощью которой он надеялся «дать повер-
женному народу некую опору».2 Если в 20-х годах эта книга была
расценена как выдающееся произведение, в котором впервые была
создана «правдивая история немецкого народа» и где определяющим
был призыв к «народной общности»,3 (термин, входивший в набор
1 Scholz W. von. Meine Liebe zu Japan // Europäische Literatur. Juni 1944. S. 321.
2 Langenbucher H. Op. cit. S. 423.
3 Mahrholz W. Op. cit. S. 252.
112
нацистской пропаганды), то в 40-х годах официальная критика
усомнилась именно в «народности» этого произведения, ибо основ-
ными деятелями немецкой истории у Шэфера выступают предста-
вители образованного сословия, бюргеры, «борцы мысли». Скрытое
недовольство позицией Шэфера выразилось в практическом игно-
рировании «Тринадцати книг немецкой души» в нацистском лите-
ратуроведении. В своей книге «Современная немецкая литература»
(1940) X. Лангенбухер походя упомянул поэму как «своеобразное
и своенравное дополнение» к рассказам и политическим анекдотам
писателя, которым и уделил основное внимание.1 Правда, в более
расширенном и переработанном издании этой же книги Лангенбу-
хер, не вдаваясь, как и раньше в подробности содержания поэмы,
всё же заметил, что это произведение Шэфера «стало утешением
для многих и многих тысяч немцев».2 Более открыто и конкретно
своё неудовольствие позицией Шэфера выразил А. Мулот в своей
«Истории немецкой литературы нашего времени» (1944). Не отрицая
художественной ценности поэмы Шэфера, Мулот упрекал писателя
в том, что «обращался он не ко всему народу в его бедах, а к обра-
зованным слоям с учётом их знаний», отчего «народнические мыс-
ли, которые он смело и мужественно представлял, не становились
мыслями народа всего рейха».3
Подобные высказывания отнюдь не означали, что Шэфер ока-
зался в опале, ибо в основе своей поэма «Тринадцать книг о немец-
кой душе» содержала в себе полный набор требований и желаний
фёлькиш-националов, предъявлявшихся ими (и не только ими) новой
Германии, какой они её мыслили в будущем: «.. .воля к истине, отказ
от партийных оков, охотное признание сильной личности со всей
её резкостью и строгостью».4 Однако, если вспомнить, что Мулот,
например, работал над своей книгой, находясь на Восточном фрон-
те,5 и, по его словам, «в величественной судьбоносной борьбе нашего
народа раздумья о действительных и значительных силах немецкого
Langenbucher H. Die deutsche Gegenwartsdichtung. Eine Einführung in das volkshafte
Schrifttum unserer Zeit. Berlin, 1940. S. 31.
2 Ibid.
3 Mulot A. Op. cit. S. 230.
4 Mahrholz W. Op. cit. S. 252.
5 Mulot A. Op. cit. S. VII.
113
рода как никогда велико и живо»,1 строгое следование идеологиче-
ским принципам нацистов приобретало особую важность.
Эпическая поэма Шэфера повествует о важнейших этапах
духовного развития немцев, и хотя в ней не обошлось без описаний
«солдатских подвигов», основу её составляет духовная составляю-
щая. Эта тенденция с особой силой проявилась в «Книге бюргеров»,
в «Книге свободы», в «Книге пророков» и в «Книге народного подъ-
ёма», где представлена блестящая плеяда духовных наставников
немецкого народа — Ганс Закс, Бах, Лессинг, Гердер, Гёте, Шиллер,
Гёльдерлин, Эйхендорф, Жан-Поль, Бетховен, Кант, Фихте, Клейст.
Недаром критика 20-х годов воспринимала поэму как некую
Библию в борьбе гуманистов против мракобесия церкви и произ-
вола мирских князей.2 Именно эти главы вызвали недовольство
нацистских критиков.
Однако было бы неверным воспринимать книгу Шэфера как
некий гимн гуманизму. Напротив, обращение к духовному богатству
немецкого народа должно, по мнению Шэфера, подвигнуть нацию
на воссоздание былой славы и могущества Германии. Не случайно
книга завершается воинственным призывом употребить для этих
целей силу: «Название срединной страны выпало на долю Германии:
между Версалем и Москвой лежат могилы наших павших сыновей,
между Версалем и Москвой её будущее несчастье.
Красный раздор устремляет свои надежды на Восток, золотой
паук Запада сосёт нашу кровь; то, что даёт один, забирает другой,
и это пророчит новую мировую бойню.
Теперь нельзя воспевать мир на земле, пока не пришёл Третий
рейх. Но Третий рейх не будет принадлежать никакому народу,
человечество будет называться его господином и подданным.
Человечество должно возникнуть, но оно явится не увенчан-
ным лаврами и не с торжественными песнопениями: сила должна
победить силу, море крови должно затопить бездну прежде чем
человечество возжелает родиться.
Умиротворение и мирные песнопения должны умолкнуть, когда
в бездне начнутся родовые схватки, потому что всё, что есть глу-
пое и пошлое, корыстное и суетное, плохое и хитрое и двоедушное
будет мешать рождению.
1 Mulot A. Op. cit. S. VII.
2 Эпос о немецкой душе // Современный Запад. Журнал литературы, науки и искус-
ства. Книга первая. Петербург, 1922 г. С. 157.
114
Красный раздор на Востоке однажды одолеет золотого паука
Запада, но красная беда начнёт взывать к золотой до тех пор, пока
не наступит согласие.
Рейх согласия на земле случится с нами, но это потребует
сердец, которые мужественно и верно понесут на Голгофу крест
раздора; на долю немецкой души выпадет самое горькое послание...
Все битвы человечества будут возложены на немецкую душу
до тех пор, пока она, побеждённая и победительница в одном лице,
не станет будущим согласием Кристофора, пока однажды не свер-
шится возвращение, пока, наконец, детям господним на земле
будут принадлежать зелёные луга, сверкающие моря и голубые
небеса».1
Шэфер смотрит на будущее Германии, вернее, на будущее
немецкого духа, как на концентрат всего сущего, и смотрит куда
шире, чем его современники и уж тем более нацисты, полагая тем
самым, что немецкий дух будет лежать в основе Третьего рейха
вселенского масштаба, а не в пределах Германии или Европы,
как это виделось нацистам в первом приближении. Нацистские
идеологи недооценили или просто не поняли необъятной широты
задумки Шэфера, руководствуясь сиюминутными интересами,
хотя, по большому счёту, в основе этой книги лежит заветная для
них мысль о том, что »vom deutschen Wesen ist die Welt genesen«.
Проблема немецкого духа волновала и Германа Штера (Stehr,
Hermann; 1864-1940), хотя и в несколько ином ракурсе, что, однако,
не помешало ему построить взаимоотношения с нацистами. Послед-
нее обстоятельство особенно примечательно, ибо этот «силезский
мистик», «потомок Якоба Бёме», «поэт внутренней жизни», как его
характеризовали критики, явно не вписывался в идеологические
рамки национал-социализма. Однако именно он, пожалуй, как
никто другой из старой гвардии консерваторов, был обласкан наци-
стами и вознесён на пьедестал классика «новой» Германии. Пройдя
суровую школу жизни сельского учителя в силезском захолустье,
Штер проникся идеей поиска бога в самом человеке безотносительно
его связей с действительностью: «Всё внешнее,— писал он в своём
Дневнике,— это только рука, с помощью которой душа проникает
в себя».2 Ещё в начале своего литературного пути он так обозначил
Schäfer W. Die dreizehn Bücher der deutschen Seele. München, 1933. S. 404-405.
Цит. по: Darge E. Der Schlesier Hermann Stehr // Die Bücherei. Berlin, 1937. H. 12.
S. 539.
115
назначение писателя: «Мою миссию я вижу в настоящий момент
в том, чтобы прояснить тайны человеческой сущности вплоть
до самых её последних познаваемых глубин».1
Герман Штер родился в Хабельшвердте / Силезия в семье ремес-
ленника, преподавал в сельской школе. Первые его произведения,
сборник рассказов «Не на жизнь, а на смерть» (»Aufbeben und Tod«,
1898) и особенно романы «Похороненный бог» (»Der begrabene Gott«,
1905) и «Святой двор» (»Der Heiligenhof«, 1918), вызвали бурю вос-
торгов. Г. Гауптман, О. Лёрке, Р. Музиль, Г. фон Гофмансталь напе-
ребой высказывали самые лестные отзывы о творчестве Г. Штера,
видя в нём надежду новой немецкой литературы. Хотя во многом
эти авторы заблуждались, но, вероятно, их привлекла искренность
и поэтичность прозы Штера, и, не в последнюю очередь, явная
отрешённость от бурных перипетий времени, которая вполне могла
рассматриваться как попытка определения изначальных причин
человеческого беспокойства и неустроенности. Г. фон Гофмансталь,
очарованный романом Г. Штера «Похороненный бог», пишет, что
автор «ввергает нас в глубины, где мы никогда не бывали... Здесь
безымянное обретает своё имя, немое — свой язык, а бесформен-
ное — свою форму... из темнейших и глубочайших сторон жизни
здесь создаётся нечто... Нечто немецкое. То нечто, которое никак
не хочет выйти из нас наружу... И ещё одно слово: бесподобно,
бесподобно, бесподобно. И ещё одно: благоговение».2
И только Мёллер ван ден Брук, будущий автор знаменитой кни-
ги «Третий рейх», разглядел в ранних произведениях Штера элемен-
ты, которые и определили впоследствии причинную составляющую
сближения писателя с идеологией национал-социализма: «Штер даёт
больше, чем неотвратимость „происшествия". Он даёт неотврати-
мость стоящей за ним судьбы... собственно говоря, Штер вообще
не занимается изучением. Он изображает изучаемое... И даже если
производимые им изображения, естественно, никак не совпадают
со „стилем" нашей культуры, мы всё же знаем, что все они являются
частью вечно человеческого. И родной клочок земли, на котором
они зиждутся, простирается к вечной земле. Внезапно осознаёшь,
что земля — это всё человечество. Происходит это от того, что его
1 Цит. по: Darge E. Der Schlesier Hermann Stehr // Die Bücherei. Berlin, 1937. H. 12.
S. 539.
2 Цит. по: Lobe St. Op. cit. S. 43.
116
психология является не просто „метод", а мировоззрение. В соответ-
ствии с чем его искусство... больше не воспринимается как чисто
аналитическое, а как символический психологизм».1
«Вечная земля», «родной клочок земли» (Scholle), «мировоззре-
ние», неприятие «стиля» современной культуры — всё это рудименты
фёлькиш-национальной литературы, по которым можно судить
о дальнейшем развитии творчества Г. Штера и о его идеологических
предпочтениях. Именно в таком ключе воспринимает Мёллер ван
ден Брук творчество Штера, и в этом он не ошибся.
Конечно, какой-то набор отдельных слов не даёт оснований
сразу же определить идеологическую составляющую творчества
писателя. Известно, что Штер, ненавидевший еврейских критиков,
был лучшим другом, пожалуй, самого ненавистного в Веймарской
республике еврея — Вальтера Ратенау, главы огромного промыш-
ленного концерна, человека, принимавшего участие в подписании
кабального версальского мирного договора, министра иностранных
дел Веймарской республики, заключившего в Раппало договор
с советской Россией, за что и был убит в 1922 году членами терро-
ристической группировки «Кондор».
Более того, Г. Штер, как и Э. Штраус и Э. Г. Кольбенхайер и ряд
других авторов, составивших позднее «золотой фонд» фёлькиш-на-
циональной литературы, находился в начале своего творчества
в известной близости с ранними произведениями Т. Манна и Г. Гес-
се, учитывая как общую тенденцию влечения к неоромантизму,
опиравшегося на традиции прошлого, так и философские взгляды
конца XIX — начала XX веков. Об этом свидетельствуют не только
идеологические переклички, сходная проблематика их произве-
дений, но и манера повествования, образы героев, что позволяло
трактовать творчество этих писателей в едином литературном
потоке своего времени. Например, «Друг Хайн» Э. Штрауса и «Под
колёсами» Г. Гессе, произведения, разрабатывавшие общую для того
времени проблему германской воспитательной системы, методично
Уничтожавшую любые личностные проявления ребёнка, родственны
по многим позициям. В этой связи как раз и возникает сложность
определения побудительных мотивов сближения авторов старшего
поколения с таким радикальным политическим движением как
национал-социализм.
1 Цит. по: Lobe St. Op. cit. S. 36.
117
Самый популярный роман Штера «Святой двор» (»Der Heili-
genhof«, 1926), тираж которого достиг к 1945 году 330 тысяч
экземпляров, а к 1960 году — свыше полумиллиона,1 соединивший
в себе религиозно-мистическую эстетику с проблематикой «крови
и почвы», нашёл своё признание благодаря именно поражению
Германии в Первой мировой войне, вызвавшей в стране тоталь-
ную депрессию, породившую враждебное отношение к Западу,
обременившего страну огромными репарациями и навязавшего
ей противное немецкому менталитету республиканское правле-
ние, к интеллигенции, к социалистам, ибо они, как тогда считали,
своими революционными идеями нанесли «удар ножом в спину»
Германии, что и вызвало её поражение в войне. Весь этот ком-
плекс причин способствовал тому, что многие восприняли роман
Штера как «Евангелие времени»,2 как некое откровение, утешение
и даже надежду на возвращение к былому величию Германии: «Эта
книга учит нас пониманию содержания жизни во всей её глуби-
не и непонятности, и это позволяет нам... пережить истину, так
что все внешние события исчезают в сравнении с тем значением,
которое только значимо со спасением души... Религиозная книга,
спасительная поэзия... »3
Спасительная поэзия романа Штера заключалась в том, что
он создал произведение, игнорировавшее историческую действи-
тельность Веймарской республики, уводя читателя в чудесный мир
природы, сельского бытования, в провинциальное далёко, где есть
только человек и бог — непознаваемый, таинственный, проявляю-
щийся в мистических знаках, служащих для людей своеобразным
единением их с потусторонними силами, с космосом.
Два больших крестьянских двора Бриндайзенер и Зинтлин-
гхоф, напоминающих собой рыцарские замки, издавна враждуют
между собой. В народе говорили, что «ребёнок из двора Зинтлинге-
ров сведёт вместе обе семьи, но сам погибнет».4 Молодой крестьянин
Андреас Зинтлингер, человек буйного и непокорного нрава, в одно-
часье превращается в некоего святого, и это чудесное превращение
вызвано в нём рождением у него слепой дочери, Ленляйн, которая
буквально заколдовала его своей способностью видеть окружающий
1 Lobe St. Op. cit. S. 66.
2 Ibid. S. 68
3 Ibid.
4 StehrH. Der Heiligenhof. Berlin, 1926. S. 10.
118
мир внутренним зрением, «зрением души»: «Нет, это существо, его
дитя, не было слепым, неким другим, таинственным образом оно
было зрячим, как и обычные люди. Мы воспринимаем мир с помо-
щью вещей, а в этих глазах ярко сверкал свет, о котором мы, другие,
догадываемся с большим трудом и невнятно с помощью форм всего
сущего».1 Это событие превратило Андреаса Зинтлингера в доброго
самаритянина, который, однако, исповедует некую свою религию,
живя в каком-то ином мире, который одним представляется средо-
точием смерти, другим — средоточием ирреальности: «Этот ребё-
нок, который, по мнению других, считался обойдённым судьбой,
принёс ему ощущение давнего, почти забытого тайного влечения
отрешиться от бытия этой огромной толпы, в котором слабости,
глупости и зло образуют скрытые основы человеческих добродете-
лей... Он видел себя вознесённым в такие высокие солнечные сфе-
ры, что едва ли мог различить оттуда мир людей и услышать хоть
какое-либо их слово. Поэтому забота о благополучии его ребёнка
стала ничем иным, как стремлением избегать всего, что могло бы
изгнать это дитя из его собственного чудесного духа».2
Но этот мир оказался ненадёжным. Ленляйн, став взрослой,
обретает зрение, становится земным человеком, влюбляется в Пете-
ра Бриндайзенера из лагеря противников Зинтлингеров и погибает,
бросившись в пруд, не приняв земной любви. Старое предание
сбывается. Теперь Андреас Зинтлингер осознаёт, что всё это время
видел мир только глазами Ленляйн, а реальная действительность
жестока, и поэтому ему придётся всё начинать сначала, об этом
ему и говорит учитель Фербер: «Даже идя неправильным путём
можно достигнуть некоей вершины, вероятно, полагая, что это
вершина, но затем, не зная, как это произойдёт, её лишиться. Даже
самая чистая любовь есть ложный путь, если она не приводит тебя
к тропам твоего духа, и, наконец, в глубине души ни один человек
не принадлежит ни к кому другому, а только к богу».3
Мучительные искания истины пронизывают роман Штера,
но этот процесс представлен как напряжённое ожидание чего-
то таинственного и мрачного, так что вневременное бытование
Андреаса Зинтлингера и Ленляйн, насыщенное общением с приро-
дой, с какими-то духами, видениями, воспринимается как нечто,
1 StehrH. Op. cit. S. 34.
2 ïbid. S. 169.
3 ïbid. S. 549.
119
лишённое жизненной основы. И здесь появляется учитель Фербер
(он всегда появляется в романе как deus ex machina в греческой
трагедии, когда возникают какие-либо неразрешимые конфликты),
который внушает Андреасу надежду на избавление, на возрождение
новой жизни: «На знамени, которое я развёртываю, нет ни зверя,
ни тела, а только портрет счастливого живого человека. Весь мир
с его бесчисленными образами, учения всех церквей, настоящих
и будущих, все истины науки являются лишь символами его сущ-
ности».1 Именно эта посылка, вера в обновление человека, а с ним
и страны после поражения в войне и крушения прежнего рейха,
привлекла внимание читателей, преимущественно из слоев мелкой
буржуазии, потерявших после всех этих событий всякую надежду
на возрождение былой стабильности государства и собственного
благосостояния и мечтавших о приходе какого-то героя, который
вывел бы их из создавшегося положения. Не случайно критика
тех лет отмечала, что роман Штера «ничем не мог заинтересовать
и взволновать интеллектуальную городскую публику»,2 и пользовал-
ся огромным успехом именно у консервативной, преимущественно
провинциальной публики, которая редко тратила деньги на книги
из любви к чтению.
В этой связи ряд современных критиков, не без оснований,
посчитал Г. Штера представителем литературы «малой родины», хотя
сам автор решительно отвергал подобную дефиницию: «Германа
Штера следует отнести к тем немецким писателям, чьё искусство
можно назвать в самом лучшем смысле этого слова искусством
„малой родины"... Тот, кто читает его произведения, проникается
ощущением обновления сущности, воспринимает чудесное про-
никновение в мир мыслей, души и характеров; в них ощущается
запах земли силезского горного края».3 Присущее этому направ-
лению ограничение действия местными реалиями, концентрация
повествования на внутреннем мире героев без какой-либо связи
с внешним миром и обновление сущности бытия опять же в усло-
виях, ограниченных местными условиями,— все эти элементы
литературы «малой родины», сдобренные изрядной долей религиоз-
ной мистики, присутствуют в полной мере во всех произведениях
Штера, а в романе «Святой двор» в особенности.
1 StehrH. Op. cit. S. 552,
2 LobeSt Op. cit. S. 81.
3 Lobe St. Op. cit. S. 79-80.
120
Не случайно Штер стал знаковым автором сборника «Тихие»
(»Die Stillen«, 1924), программа которого определялась неприятием
города, сковывающим восприятие «чистого Я», тоской по тишине
й покою, благоговейным воспеванием сельской жизни, «малой роди-
ны», природы и бога, являвшегося неким источником внутреннего
самосознания. В предисловии к этому сборнику Макс Tay (Tau, Max),
инициатор его издания и страстный поклонник Штера, писал, что
«только в тишине человек может постичь самого себя,., только в ней
отвлекается человек от внешнего мира, который сдерживает его
разум».1 Эти слова перекликаются с «Монологом старика» (»Mono-
log des Greises«) Штера, опубликованном в сборнике «Тихие»: «Что
каждый должен сделать, найдёт он лишь в себе, если он только
будет верно и беспощадно прислушиваться к источнику своего
тщеславия, которое в одиночестве своей сущности всегда говорит
по-новому».2 Поиск смысла жизни, как это было свойственно авто-
рам Heimatdichtung, определяет внутренний посыл Штера, но поиск
только в самом себе, ибо внешние проявления действительности
изначально неспособны подвигнуть личность к размышлению о её
сущности.
Именно поэтому консервативные круги Веймарской респу-
блики провозгласили Г. Штера «символом Германии» и устроили
в 1924 году пышные празднества чуть ли не государственного
масштаба по случаю его 60-летия, а в 1932 году он был удостоен
медалью Гёте. Более того, в начале 1933 года М. Tay даже начал
собирать подписи под обращением в Нобелевский комитет о при-
суждении Г. Штеру столь почётной премии, но приход к власти
нацистов и последовавшие за этим высказывания самого писателя
помешали этой акции.3
Неким замещением Нобелевской премии стал поток наград,
обрушившихся в годы нацизма на писателя. В 1933 году Г. Штер,
как «олицетворение взращённой землёй силы, как выразитель
немецкой сущности в её тесной связи с кровью и почвой»,4 стал пер-
вым лауреатом учреждённой нацистами премии имени И. В. Гёте,
Цит. по: Haas О. Мах Tau und seine Kreis. Zur Ideologiegeschichte »oberschlesischer«
Literatur in der Weimarer Republik. Padeborn, 1988. S. 19.
2 Ibid. S. 28.
3 Ibid. S. 132.
4 tt>id. S. 133.
121
в 1934 году Г. Штер был отмечен высшей наградой Пруссии «Рейх-
садлершильд», в этом же году он был избран почётным доктором
университета в Бреслау и получил место сенатора в преобразо-
ванной нацистами Академии искусств. Однако апофеозом всего
стали государственные празднества по случаю 70-летия Г. Штера.
Слова Г. Йоста, будущего президента секции поэзии в нацистской
Академии искусств и Имперской палаты письменности, ска-
занные им ещё в 1924 году, о том, что Г. Штер является «самым
великим из живущих писателей»,1 получили полное подтвержде-
ние на официальном уровне. Чествование Г. Штера превратилось
в масштабную презентацию национал-социализма как такового:
«Произведения Герхарда Гауптмана и Томаса Манна означают
великий конец; они являются выражением невыразимого страха
перед жизнью... Напротив, мир Германа Штера — это счастливое
начало новой эпохи!»2
Правда, прикоснуться к этому миру немецкий читатель не спе-
шил, ибо, по словам критиков, писатель «принадлежал к числу
тех, кого больше хвалили, чем читали», что в значительной мере
объяснялось сложностью восприятия его манеры письма, которая
для большинства читателей была «чуждой, странной, непонятной».3
В произведениях Штера «царит не видимое, а невидимое, не образ,
а бесформенная, аморфная душа».4 Подобное отсутствие конкрети-
ки больше всего беспокоило нацистов, о чём откровенно и поведал
в 1944 году А. Мулот: «Ни Герману Штеру, ни нашему времени
не принесёт пользы то обстоятельство, если с помощью неточного
употребленрш понятий общность, любовь к ближнему и социализм
стираются глубокие различия, которые разделяют нас в этом пун-
кте с учётом нашего народнически опосредованного и общинно
обязательного восприятия бога и мира».5 Несомненно, что за этими
1 Lobe St. Op. cit. S. 88.
2 Ibid. S. 141.
3 DargeE. Der Schlesier Hermann Stehr // Die Bücherei, 1937. H. 12. S. 538.—
В этом же номере журнала «Бюхерай», предназначенного для библиотек, была
предпринята попытка вкратце пересказать содержание почти всех произведении
Г. Штера с тем, чтобы заинтересовать читателей творчеством писателя (S. 538-547).
Судя по всему, эта акция не увенчалась успехом, и в 1943 г. журнал продолжил
разъяснительную работу среди читателей (Darge E. Weg zu Hermann Stehr / /
Die Bücherei, 1943. H.l-3. S. 27-31).
4 Ibid. S. 541.
5 Mulot A. Op. cit. S. 537.
122
словами скрывалось требование большей ясности в контексте
нацистской идеологии, большей близости к официальной трактовке
ряда её основных положений.
Повышенное внимание нацистов к Штеру, который не был
членом партии, не представлял, как все писатели, свидетельства
своего арийского происхождения, вызвано было не только их деко-
ративными устремлениями иметь некий символ культуры, как бы
стоящий над обществом, над партиями. Сам писатель в своих
высказываниях давал немало оснований видеть в нём пронацистски
настроенного человека, чем и вызваны были их попытки заставить
Штера наконец объясниться по поводу своих политических воз-
зрений, хотя, по большому счёту, искренним нацистом он всё же
не был, и надежды нацистов обрести в его лице глашатая нацист-
ской идеологии, да ещё такого высокого уровня, не оправдались.
Поначалу Г. Штер воспринял приход к власти Гитлера с тре-
вогой, но то внимание, которое нацисты оказали стареющему
писателю, сделало своё дело. Видя в нацистском движении некое
очистительное действо, направленное на устранение «республи-
канских мерзостей», Г. Штер, как и многие консерваторы, закры-
вал глаза на «калибанские манеры» новых властителей, полагая,
вероятно, что без резких поступков не обойтись. В беседе с одним
из своих приятелей, которого он, кстати сказать, используя своё
имя, избавил от нацистских преследований, Г. Штер заметил, что
«теперь он считает фюрера великим государственным деятелем,
хотя раньше считал его демагогом».1 И поэтому в своём «Обращении
к молодёжи» (сентябрь 1933 г.) писатель говорит уже о «гениальном
фюрере», о «первопроходце нового рейха» и призывает молодёжь:
«Включайтесь в движение, маршируйте вместе ним. Пусть каж-
дый вступит в батальоны гитлерюгенд под руководством Бальдура
фон Шираха, чтобы, наконец, исполнилась воля этого преданного
Вальтера немецкой молодёжи объединить 10 миллионов немецких
Юношей и девушек под знамёнами свастики».2 Его сборник стихов
«Срединный сад» (»Mittelgarten«, 1936) полон личных признаний
к национал-социализму,3 и в то же время он пишет в 1935 году пись-
мо Г.Ф. Блунку, председателю Имперской палаты письменности,
1 Mulot A. Op. cit. S. 229.
2 Lobe St. Op. cit. S. 228.
3 Ibid. S. 230.
123
с просьбой не исключать из неё полуеврея В. Фехнера,1 а годом
ранее — гневное письмо Гитлеру с жалобой на начальника поли-
цейского управления Берлина Хайнеса, хамски обошедшегося
с Г. Штером из-за его прежней дружбы с В. Ратенау. В последнем
случае ответа не было, но во время расправы нацистов с кликой
Рема в 1934 году Хайнес был убит.2
Творчество Штера не ограничивается романом «Хайлиген-
хоф». В конце 20-х годов он задумал написать тетралогию «немец-
кой души», получившую название «Род Мэхлеров» (»Geschlecht
der Maechler«, 1929-1944). Написаны были только три части тетра-
логии: «Натанаэль Мэхлер» (»Nathanael Maechler«, 1929); «Потом-
ки» (»Die Nachkommen«, 1933); «Дамиан» (»Damian«, 1944). Роман
«Натанаэль Мэхлер» пользовался огромным успехом, за восемь лет
было продано 120 тысяч экземпляров.3 В отличие от «Хайлигенхоф»
«Род Мэхлеров» посвящен историко-этическим проблемам лично-
сти и охватывает период с революции 1848 года по настоящее
время. История рода ремесленника Натанаэля Мэхлера, участ-
ника революции 1848 года, упрочившего своё положение трудом
и мистическими задатками, жизнеописание его сына Иохена,
примерного бюргера времён кайзера, и внука Дамиана, в котором
вновь пробудились мистические задатки деда, является не про-
сто семейной сагой, а неким политическим романом становления
немецкого человека. При этом все исторические и политические
события во всех трёх романах рассматриваются как проявление
неких мощных интуитивных начал личности биологического свой-
ства и коллективного подъёма народа безотносительно каких-либо
внешних причин. Сущность человека и его поступков определя-
ются не земными причинами, а «космической бесконечностью»,
которая «обесценивает, наконец, глубочайшие проникновения
разума в бесполезные иероглифы и словесные фетиши, так что
в конечном итоге сущность человека ощущает себя в самых про-
свещённых системах мировоззрений как в некоей тесной тюрьме».4
Именно по этой причине и возникают все революции, которые, тем
1 Lobe St. Op. cit. S. 230
2 Ibid. S. 229.
3 Ibid. S. 116.
4 StehrH. Das Geschlecht der Maechler. Roman einer deutscher Familie. Bd. 1. Leipzig,
1944. S. 90.
124
не менее, в силу свойственной человеческой натуре тяге к поряд-
ку создают новую стабильную систему бытования человеческой
сущности, и так до бесконечности.
Такое соотношение внешних и внутренних сил определяет
и причины сближения Штера с нацистами. Не этим ли объясняется
огромный тираж «Рода Мэхлеров», ибо в какой-то мере эта книга,
слабая в художественном отношении, служила неким алиби для мно-
гих немцев в их беспрекословном согласии с режимом Гитлера. «Ни
одна книга, кроме „Хайлигенхоф",— отмечает Ш. Лобе,— не была
так любима, но ни одно из его произведений не было в такой же
степени переоценено при его первом появлении. Вероятно, не без
оснований тогда в Германии всё, что ещё заслуживало звания
„критика", после 1924 года больше не проронило о ней ни слова».1
Несомненно, что творчество Штера начального периода поль-
зовалось большим и достаточно заслуженным успехом, об этом сви-
детельствуют многочисленные высказывания критиков и писателей
разного мировосприятия; несомненно также и то, что Штер, как
и многие представители т.н. «консервативной революции», недооце-
нил опасность сближения с национал-социализмом, не разглядел его
преступной сущности и позволил использовать своё имя в интересах
преступной политики его лидеров. Ощутив в конце своей жизни
некоторое разочарование в союзе с нацистами, Штер, если верить
сообщению его сына, на праздновании своего 75-летия в присут-
ствии нацистских бонз заявил: «Если новая Германия, находит своё
выражение в коричневых рубашках, в маршевом шаге, в приоб-
щении к господствующей идеологии, и не пробуждает внутренние
ценности человека, не чтит слова поэта, дух древней немецкой
истории, тогда я не с вами. Тем не менее, я надеюсь от всей души,
что новое будущее для Германии наступит».2
Совсем не наивным мечтателем был Эмиль Штраус (Strauß,
Emil; 1866-1960), пожалуй, самый близкий из когорты «старой
гвардии» по своему духу к национал-социализму. Он является образ-
цом грехопадения немецкого образованного бюргерства, которое
с конца XIX века прямо или косвенно способствовало усилению
расистских и националистских тенденций в обществе, после Пер-
вой мировой войны воспринимало в штыки демократические идеи
1 Lobe St. Op. cit. S. 116-117.
2 îbid. S. 230.
125
Веймарской республики, а в 1933 году (в случае со Штраусом и того
раньше) с готовностью поддержало идеи национал-социализма,
увидев в них залог восстановления былого могущества Германии.
Тем не менее, творчество Э. Штрауса, как, впрочем, и твор-
чество многих писателей фёлькиш-национальной направленности
тех лет, трудно поддаётся какой-либо определённой классифика-
ции в силу того, что в идеологическом смысле его произведения,
по крайней мере, на начальном этапе творческого пути писателя,
лишены прямого выхода к проблемам времени, хотя и изобилуют
многочисленными высказываниями, оценками, свидетельствовав-
шими о его политических предпочтениях. В какой-то мере их вос-
принимали как нечто обычное, присущее духу времени, как некий
маргинальный мусор, ставший чуть ли не обязательным свойством
литературы конца XIX — начала XX веков.
Эмиль Штраус родился в Пфорцхайме, в семье фабриканта,
изучал философию, германистику и экономику во Фрайбурге,
Лозанне и Берлине. В Берлине общался с Рихардом Демелем, Гер-
хардом Гауптманом и Максом Хальбе. В 1921 году Штраус получил
первую премию Союза друзей искусства земель Рейна, в 1936 году
по случаю его семидесятилетия Гитлер вручил ему премию имени
Гёте, в 1941 году Штраус стал лауреатом премии имени И. П. Гебеля,
а в 1944 году — лауреатом премии имени Грильпарцера.
Уже в первом сборнике рассказов «Пути людские» (»Menschen-
wege«, 1898), являющемся плодом недолгого пребывания Штрауса
в Бразилии в качестве колониста и учителя, начинающий автор
заявил о себе как выразитель определённой политической тенден-
ции, в чём он и признавался позднее в статье «Тот самый Гитлер»
(»Der Hitler / Auch eine Erinnerung«), опубликованной в 1933 году
в нацистском официозе «Фёлькишер беобахтер» по случаю дня
рождения фюрера.1 Его рассказ «Принц Видувит» (»Prinz Wiedu-
witt«), повествующий о несчастной любви немецкого переселенца
к немецкой девушке, которую жадные до денег родители сосватали
богатому негру, был по праву воспринят впоследствии нацистской
критикой как «первая серьёзная расовая новелла новой немецкой
литературы»,2 где речь идёт о «предательстве немцами крови...
1 Strauß Е. »Der Hitler« / Auch eine Erinnerung // Völkischer Beobachter, Berlin.
20.04.1933.
2 Langenbucher H. Volkhafte Dichtung der Zeit. Berlin, 1940. S. 99.
126
й немецкого народа», о «судьбе проданной девушки, испытавшей
душевные и телесные страдания, отчего она и погибает, и о чело-
веке, обманутом в своих высоких помыслах».1
В следующем сборнике рассказов «Ганс и Грете» (»Hans und Gre-
te«, 1909) Штраус возвращается в новелле «Пролог» (»Vorspiel«) к теме
расистской нетерпимости, когда в дом немецкого переселенца,
владельца фабрики, является чернокожая любовница французского
священника в надежде завлечь его в свои сети, так как прежний
любовник ей надоел. В ходе яростного спора немецкий переселенец,
ради сохранения собственной расы, убивает представительницу
чуждой ему расы. Обе эти новеллы позволили нацистскому критику
заключить, что «своей проникновенной правдивостью они надлежа-
щим образом подчёркивают живейшую необходимость принятия
немецких расовых законов».2
Эту «живейшую необходимость» Штраус ощущал ещё до поездки
в Бразилию после того, как, по его собственному признанию, позна-
комился с книгой О. Дюринга «Еврейский вопрос как вопрос расы,
нравов и культуры», а также с трудами французского мыслителя
и писателя А. Гобино и множества немецких исследователей, зани-
мавшихся расовыми проблемами.3 Пребывание в Бразилии только
укрепило его в приверженности к расизму: «С тех пор, как я нахо-
жусь в Бразилии, я ценю гордость североамериканцев по отношению
к ниггерам. Слишком много мешанины, расового рагу! Слишком
мало гордости расой и цветом кожи». Теперь для него люди с иным
цветом кожи — это «зоологическое явление» или «обезьяны».4
Несмотря на то, что он считал себя «антисемитом, каковым
являлся каждый немец после Ницше»,5 Штраус находился в самых
тесных контактах с евреями. Свыше тридцати лет он был автором
самого представительного в Германии издательства Самуэля Фише-
ра, десятилетия связывали его дружеские отношения с Морицом
Хайманом, шеф-редактором этого издательства, с которым он
был к тому же в родственных связях и которого назначил своим
1 Langenbucher Н. Volkhafte Dichtung der Zeit. Berlin, 1940. S. 100.
2 Ibid. S. 101.
3 Strauß E. »Der Hitler«.
Aufruhr gegen den Nazi Emil Strauß // V. i. D. d. P. Pforzheim. 2006.
5 Strauß E. Op. cit.
127
душеприказчиком. Еврейские режиссёры — Макс Рейнхардт, Феликс
Холлэндер — ставили его пьесы, еврейские актёры играли в них.
Как и многие авторы фёлькиш-национальной направленности,
Штраус был вхож в дом Вальтера Ратенау, самого ненавистного
в Германии еврея, и вслед за Мартином Бубером, еврейским фило-
софом, дарил ему свои книги с трогательными посвящениями.1
Если первые сборники рассказов Э. Штрауса прошли незаме-
ченными и нашли понимание только в годы нацизма,2 то романом
«Хозяин трактира» (»Engelwirt«, 1901) писатель обратил на себя вни-
мание как сторонник литературы «малой родины», в данном случае
Швабии. В этом романе явственно ощущалась оппозиция Берлину
с его социально-критическими произведениями. Трагикомическая
история швабского трактирщика представлена таким образом, что
какие бы беды не обрушивались на голову человека, именно родина,
его «малая родина», «община» (Э. Штраус впервые употребляет это
слово, ставшее впоследствии знаковым в нацистском лексиконе)
даст ему успокоение и радость. Страстное желание трактирщика
иметь наследника (жена его бесплодна) сводит его со служанкой,
но она рожает ему девочку. Не вынеся насмешек соседей, трак-
тирщик уезжает вместе со служанкой и ребёнком в Бразилию,
но и там терпит неудачу — умирает служанка, местные мошенни-
ки лишают его денег. И тогда он возвращается вместе с ребёнком
в родную деревню. Жена прощает его и с радостью принимает
чужую девочку.
Роман написан в традициях Швабской школы с её поэтиче-
ским описанием садов, виноградников, добропорядочной сельской
жизни, с лёгкой иронией над своеобразием быта провинции. Как
отмечала критика, «на фоне нервно возбуждённой, бесцельно тоску-
ющей, теряющей всякую меру или отвергающей вся и всё литера-
туры утверждается спокойная зрелость этого рассказа писателя,
1 Schostack R. Ein ins Leben verschlagener Mönch. Zum Fall Emil Strauß/ Symposion
und Ausstellung in Pforzheim // Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.05.1987.
2 Немецкие критики сосредоточились на женских образах, обрисованных Э. Штра-
усом с большим мастерством (MeyerR.M. Die deutsche Literatur des 19. und 20.
Jahrhunderts/ Hrsg. v. H. Bieber. Berlin, 1923. S. 626), наши исследователи вообще
не обратили внимание на эти сборники рассказов, посчитав их «представляющи-
ми интерес как намётки будущих произведений» (Маркович Е. И. Тома, Штраус,
Фридрих Хух. Герман // История немецкой литературы. 1848-1918. Т. 4./ Под
ред. P.M. Самарина и И.М. Фрадкина. M., 1968. С. 518.)
128
не скрывающего свою приверженность стилю Готфрида Келлера,
хотя и не достигшего величия его эпической образной силы».1
Этот роман является отражением характерных для Германии
конца 80 — начала 90-х годов поисков альтернативного образа
жизни, связанного с опрощением жизни, хождением в народ,
образованием анархических коммун и просто бродяжничества,
когда было модно «носить крестьянскую одежду из грубой шер-
сти, исповедовать вегетарианский образ жизни и даже отвергать
использование быков как рабочий скот... Штраус многократно
пытался свести воедино сельскую жизнь и творчество с помощью
^лопатной культуры" и эксперимента».2
Если «Хозяин трактира» вызвал разноречивые толкования,
то роман Э. Штрауса «ДругХайн» (»Freund Hein«, 1902), повеству-
ющий о трагической судьбе талантливого ребёнка в немецкой
школе, сделал писателя сразу же знаменитым. Этот роман поло-
жил начало ряду произведений такой же направленности («Под
колёсами» Г. Гессе, 1906; «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса»
Р. Музиль, 1906), хотя эта тема впервые в немецкой литературе
была затронута ещё в 1889 году в знаменитом сборнике Арно Холь-
ца и Иоганнеса Шлафа «Папа Гамлет» (»Papa Hamlet«). Э. Штрауса
сравнивали с Т. Манном, с Г. Гессе, и сравнения эти были вполне
правомочны, ибо по своим художественным качествам этот роман
находился в одном ряду с произведениями названных писателей.
В этом романе проявились лучшие качества прозы Э. Штрауса —
классическая строгость в сочетании с тонким анализом психо-
логического состояния подростка, обуянного любовью к музыке
й отчаянно пытающегося отстоять своё право на собственное пред-
ставление о своём предназначении в жизни, и пафос обвинения:
«Если когда-либо появляется ребёнок, чьё призвание прорывается
изо всех его пор, потому что сам бог вложил это призвание в его
кровь, тогда, чёрт побери, руки прочь от него, и зарубите себе
На носу, что этот ребёнок по своей природе и согласно вечным
Законам, короче говоря, ближе стоит к господу богу, чем вы! Вы
Meyer R.M., Bieber H. Die Deutsche Literatur des XIX. und X. Jahrhunderts. Berlin,
^23. S. 626.
Schoctack R. Op. cit.— Co своим другом, поэтом Эмилем Гёттом, Э. Штраус попы-
Тался создать некое подобие сельскохозяйственной коммуны, но эксперимент
Не Удался, и в 1892 г. Штраус уехал в Бразилию {Lennartz F. Deutsche Schriftsteller
des 20. Jahrhunderts im Spiegel der Kritik. Bd. 3. Stuttgart, 1984. S. 1675.)
129
не можете столкнуть его с орбиты, на которую поместил его бог...
с тем, чтобы он погиб!».1
История доведения до самоубийства школьника Генриха Линд-
нера — это вызов не только всей системе воспитания и образования
кайзеровской Германии, но вызов вообще всем социально-полити-
ческим установлениям времени, и в этом можно усмотреть стремле-
ние порвать с этой замшелой действительностью, совершить какой-
то переворот не только в сознании, но и в самой действительности.
Фёлькиш-национальные, расистские интенции, проявлявшиеся
в раннем творчестве писателя, с особой силой дали о себе знать
после 1918 года, и вызваны они были поражением Германии в Пер-
вой мировой войне, о чём Э. Штраус эмоционально рассказывает
в своей статье «Тот самый Гитлер».2 «Я в большей мере немец, чем
писатель»,3 заявлял он в эти годы, что и побудило его уже в 1923 году
стать фанатичным сторонником Гитлера.4 Об этом можно судить
по его исторической драме «Отечество» (»Vaterland«, 1923), где
борец за свободу Корсики убивает свою любимую жену за то, что
она своим стремлением к миру перечеркнула его воинственные
планы. Как отмечал Штраус, «ненационалисты, по меньшей мере,
поняли и охарактеризовали её как сигнал опасности, национали-
сты, по обычаю, не обратили внимание на это событие».5 Однако,
когда эту драму запретили, к националистам много позже пришло
осознание значимости её для их целей: «Это был страстный бунт
поэта против духа отсутствия патриотического чувства и любви
к миру любой ценой, который был определяющим в правитель-
стве рейха и земель; против безразличия и тупости по отношению
к судьбоносным и жизненным вопросам нации... одновременно это
было и страстным выражением любви немца к немецкому народу,
к борьбе за его спасение... в то время, когда Адольф Гитлер вёл свою
беспримерную политическую борьбу».6
1 Strauß Е. Freund Hein. Eine Lebensgeschichte. Berlin, 1911. S. 322-323
2 Strauß E. Op. cit.
3 SchostackR. Op. cit..
4 Strauß E. Op. cit.
5 Strauß E. Der Hitler...
6 Langenbucher H. Op. cit. S. 116. Несмотря на столь лестный отзыв Г. Лангенбухера.
отражавшего официальную точку зрения нацистского руководства, пьеса эта
оставалась в забвении, так что тот же Лангенбухер, в преддверии 70-летия
писателя, вынужден был в 1935 г. опубликовать в «Фёлькишер беобахтер'
130
Такие поступки не забываются, ив 1926 году Штраус становит-
ся почётным доктором Фрайбургского университета, членом секции
поэзии Прусской академии искусств, и вообще рассматривается
как живой классик современной немецкой литературы, который
ведёт непримиримую борьбу за «обновление совместной жизни
немецкого народа в национальном духе».1
В 1929 году Штраус уходит из «еврейского» издательства
С. Фишера и связывает свою писательскую судьбу с издательством
Георга Мюллера, купленного на корню нацистами.2 В этом же году
Штраус вступает в ряды НСРПГ, и с этого времени начинается
его восхождение на нацистский Олимп. В 1931 году он вместе
с Э. Г. Кольбенхайером и В. Шэфером (все трое приверженцы
нацизма) выходит из состава Прусской академии искусств в знак
протеста против «засилья в академии Берлина», хотя настоящей
причиной «исхода фёлькиш-националов» было принятие резолюции
0 недопущении в школьные учебники «демагогического национа-
лизма».3 В апреле 1933 года, ко дню рождения Гитлера, Штраус
публикует в нацистском официозе «Фёлькишер беобахтер» статью
«Тот самый Гитлер. Тоже своего рода воспоминание» (»Der Hitler /
Auch eine Erinnerung«), в ней он описывает свой путь к национа-
лизму: «Три вопроса беспокоили меня с ранних лет: социальные
вопросы, расовые вопросы и Германия».4 На все эти вопросы ответ
он получил именно от Гитлера: «Он был знаменем, стал связующим
звеном [с благородными в связи с отказом от престола кайзера
статью с говорящим названием «Ставьте Эмиля Штрауса!» (»Spielt Emil Strauß!«),
воспринимавшуюся как отчаянный призыв к деятелям театра обратить внимание
на пьесу «Отчизна», которая «отвечает сегодня нашим чувствам и мыслям» (Lan-
genbucherH. Spielt Emil Strauß! // Völkischwer Beobachter, 20.12.1935).
1 LennartzF. Die Dichter unserer Zeit. Stuttgart, 1938. S. 282.
BarbianJ.-P. Literaturpolitik im »Dritten Reich«. Institutionen, Kompetenzen, Betäti-
gungsfelder. Trier, 1991. S. 32.
Jens I. Dichter zwischen rechts und links. Leipzig, 1994. S. 90.
Strauß E. Op. cit.— В своих мемуарах «Играющий» (»Ludens«, 1955) девяностолетний
Э. Штраус даёт иную трактовку своего становления как писателя и как человека:
"С юных лет я уже знал, что во мне наличествует соединение двух друг с другом
сталкивающихся, друг от друга зажигающихся, друг друга околдовывающих
Характеров, содержащих в себе резкий, стремительный, безрассудно вспыхи-
вающий и бескорыстный, чувствительно примирительный, уравновешенный,
Схватывающий меня тихий юмор... Прийти к компромиссу мне не удавалось».—
Чит. по: AlverdesP. Ludens. Emil Strauß zum neuzigsten Geburtstag // Akzente.
1956. H. 1. S. 3.
131
Вильгельма II]; он совершил невозможное; он дал, наконец, со всей
серьёзностью ответ на социальные вопросы, захватил рабочих; он
пробудил то, что двадцать лет было мечтой,— расовое сознание,
подарил немецкому народу будущее».1
После такого верноподданнического признания возвращение
Штрауса в Прусскую академию искусств, в «почищенную» от ино-
родцев секцию поэзии, дело было решённым. Завершающим аккор-
дом его карьеры стало личное приглашение писателя в 1936 году
Геббельсом в Имперский сенат.
Чёткое определение политической позиции проявилось и в его
романе «Игрушка великанов» (»Das Riesenspielzeug«, 1934),2 в кото-
ром отразился весь спектр представлений писателя о жизни, поли-
тике, о месте человека в современном обществе, рассмотренных
сквозь призму фёлькиш-националистской идеологии. Роман этот
в значительной мере автобиографичен, и отображает эволюцию
политических и социальных взглядов писателя. Действие романа
«Игрушка великанов» приходится на 90-е годы XIX в. В верхнерейн-
ском полуразвалившемся поместье группа молодых интеллигентов,
исповедующих вегетарианский образ жизни и выступающих против
декадентского духа, fin de siècle, пытается организовать сельскохо-
зяйственную коммуну с тем, чтобы таким образом воспитать в себе
ощущение новой жизни, приближенной к народу. Однако хождение
в народ вот-вот должно закончиться крахом, потому что молодые
интеллигенты воспринимают это предприятие как некую игру, как
весёлое приключение, и мало что смыслят в крестьянском хозяйстве.
Ситуация становится критической, когда молодые люди узнают,
что предприимчивый еврей доктор Зайденшнур собирается здесь
устроить санаторий для алкоголиков и морфинистов. Положение
спасает молодой филолог доктор Хауг, который выкупает поместье,
женится на крестьянской девушке Берте, красивой и пышущей здо-
ровьем, и с помощью её родителей превращает это поместье по ста-
ринному обычаю в богатый крестьянский двор. При сохранении
реалий современности роман Э. Штрауса построен по всем канонам
литературы «малой родины», и по своим пейзажным лирическим
зарисовкам напоминает временами роман «Хозяин трактира», ибо
в обоих произведениях, как, впрочем, и в многочисленных новеллах
1 Jens I. Op. cit. S. 90.
2 В этом же году роман Э. Штрауса был предварительно опубликован в журнале
«Иннере Рейх» (Das Innere Reich. 1934. H. 1-6).
132
писателя, всегда присутствуют картины шварцвальдского нагорья,
обычаи этой местности, отголоски её истории.
Фигура доктора Хауга примечательна тем, что в ней Штраус
попытался создать образ нового человека, который прошёл через
яскус социал-демократов и прочих буржуазных партий, которым
«не было дела до народа». При всей привязанности к родным местам,
он понимает, что новую жизнь должны делать более решитель-
ные люди: «У всех немецких племён, у саксов, франков, швабов,
австрийцев, было время, когда они правили. Сегодня пришла оче-
редь пруссаков, они всегда обладали силой и волей к развитию,
каждый немец, который хотел величия и будущего своего народа,
считал себя пруссаком».1 Поэтому доктор Хауг, «родом из Южной
Германии, по крови настоящий шваб, был пруссаком по духу»,2
отчего при виде Бранденбургских ворот его охватывает «гордость
и умиление,., как будто его предки с давних пор, ещё до того, как
были построены эти ворота, проходили сквозь них, отправляясь
на бой и возвращаясь с миром».3 Исторические доводы, подтверж-
дающие верховенство пруссаков, подкрепляются биологическими
выкладками: «Разве пруссаки не были по природе своей самыми
смелыми из всех немецких племён?»4
Однако доктор Хауг отправляется не в Пруссию, а к себе
на родину, считая, что развитие нового человека как личности
может происходить только в тесном контакте с народом в ходе
занятия «естественным хозяйством», что и сделает его «естествен-
ным человеком».5
Роман Э. Штрауса «Игрушка великанов» является по-своему
эпическим произведением как по охвату временного пласта, так
и по размерам (989 страниц), и хотя нацистская критика встретила
его хвалебными отзывами,6 позже, при сохранении восторженного
пиетета, было высказано замечание по поводу того, что «обилие
одухотворённых обыгрываний», «скрытых и явных цитат», как
и «объём книги, очень ограничивают, к сожалению, изначально
1 Strauß E. Das Riesenspielzeug. München, 1934. S. 11.
2 Ibid. S. 13.
3 Ibid.
4 Ibid. S. 14.
5 Ibid. S. 988.
ScbefflerH. Emil Strauß. Das Riesenspielzeug // Das deutsche Wort. 1934. Nr. 47;
Anonym. Emil Strauß // Bücherkunde. 1935. 6. Folge. S. 189-190.
133
педагогический радиус выдачи её в библиотеках,., хотя, несомнен-
но, она найдёт много друзей среди квалифицированных читате-
лей».1 Тем не менее, X. Лангенбухер считает, что писатель «создал
настоящую народную книгу в лучшем смысле этого слова, ибо она
теснейшим образом связана с жизненными вопросами народа».2
По большому счёту, Штраус создал современную версию
областнического романа, со всеми присущими этому жанру литера-
туры элементами, получившими националистскую, а по сути дела,
пронацистскую окрашенность, отчего писатель и заслужил славу
и почёту нацистов, притом, что эта версия в силу своей сложности,
насыщенности философскими и искусствоведческими отсылками,
была недоступна для массового читателя. Правда, Г. Гессе, большой
почитатель таланта писателя, отмечая, что «мы не разделяем все
его взгляды, в частности, выраженную в его последнем произве-
дении ненависть к евреям», тем не менее, посчитал, что Штраус
«много глубже, чем все представители модной литературы «родного
угла», проникся народным духом и сущностью языка... и в своих
произведениях воздвигнул юго-западной народности памятник,
который переживёт наше время»,3 поэтому «мы любим и почитаем
его как самого значительного алеманнского писателя нашего вре-
мени, самого добросовестного и энергичного защитника немецкого
языка».4
Слова эти были сказаны в 1936 году и вызваны были понятной
осторожностью писателя, жившего в нейтральной стране, публико-
вавшего свои книги в Германии и состоявшего в дружеских и твор-
ческих связях с Э. Штраусом. Много позже, в 1960 году, Г. Гессе
выскажется в частном письме более откровенно: «Его склонность
к расовой ненависти, ещё в большей степени усилившееся после
Бразилии арийское презрение к другим расам, я частично заметил
позднее, частично же не придавал этому значения. Вскоре после
этого он примкнул к Гитлеру. Это было не так, как Вам видится,
будто он позаимствовал это всё у нацистов, нет, добрых десять лет
до 33 года он был уже таким».5
1 Ackerknecht E. Strauß, Emil: Das Riesenspielzeig // Die Bücherei, 1935. H. 2. S. 72.
2 Langenbucher H. Op. cit. S. 109.
3 Hesse H. Emil Strauss // Hesse H. Gesammelte Werke. Bd. 12. Schriften zur Litera-
tur II. / Hrsg. v. V. Michels. Frankfurt / Main, 1976. S. 413.
4 Ibid. S. 413-414.
5 Aufruhr gegen den Nazi Emil Strauß...
134
Подтверждением этому является и последнее значительное
Произведение Э. Штрауса «Танец жизни» (»Lebenstanz«, 1940), кото-
рое можно рассматривать как своего рода улучшенный вариант
романа «Игрушка великана». При сохранении прежней посылки
(благое воздействие прочно стоящего на земле крестьянина на ста-
новление ищущего своего места в жизни интеллигента), писатель
пересматривает многие свои прежние суждения в стремлении при-
дать им большую убедительность и жизненную достоверность, что,
однако, не означает отказа от его основополагающих принципов,
покоящихся на постулатах национализма и расизма. В какой-то
мере этот роман имеет итоговый характер, полон автобиографиче-
ских отсылок и в значительной мере раскрывает суть Штрауса как
писателя и как человека, сознательно и постепенно пришедшего
к национал-социализму.
Действие романа приходится на кризисные годы Германии
после поражения в Первой мировой войне, и это примечательно
для всех писателей фёлькиш-национального направления. При
всей их приверженности национал-социализму дальше начального
периода Веймарской республики они не отваживались вторгаться,
ибо, даже пребывая в состоянии эйфории в связи со сбывшимися,
как им казалось, политическими изменениями в стране, на уровне
подсознания они ощущали чужеродность происходящего в стране
их творческой ментальности. Бывший офицер Отто Дурбан, сво-
еобразный alter ego Штрауса, не теряющий веры в возрождение
Германии и немецкого народа, решил по-своему способствовать
этому процессу: «Если бы я был моложе, то был бы в добровольче-
ском корпусе; но теперь я не такой резвый, поэтому я откоманди-
ровал себя в сельское хозяйство, и хочу вытянуть из моего клочка
земли по возможности больше кормёжки для немецкого народа».1
Купив небольшой крестьянский двор, Дурбан начинает новую
жизнь, целиком отдаваясь хозяйственным работам. В этом ему
помогает его бывшая возлюбленная Гертруд Вайгольт, с которой
он случайно встретился на вокзале. Она в своё время предпочла
Другого, оказавшегося бесчестным человеком, и теперь, уже немо-
лодая женщина, разведённая, так же, как и Дурбан, находится
на перепутье, считая, что её жизнь кончилась, и ей остаётся лишь
прозябать в маленьком городишке, сдавая комнату случайным
Жильцам, и корить себя за совершённую ошибку.
Strauß E. Lebenstanz. München, 1940. S. 109.
135
Но встреча Вайгольт с Дурбаном всё меняет. Он, проведший
долгие годы в Бразилии, Англии, США, не забыл свою прежнюю
любовь, и предложил ей стать хозяйкой его нового дома. Для каж-
дого из них подобный союз являлся выходом из тупика: Дурбан
обретал душевное спокойствие, Вайгольт — некую возможность
загладить свою вину перед своим спасителем. В конечном итоге
Гертруд становится женой Дурбана, рожает ему мальчика, и вскоре
умирает.
Таков сюжет, казалось бы, любовного романа, в основе кото-
рого лежит история двух стареющих людей, пытающихся начать
новую жизнь. В романе практически нет какого-либо действия,
если не считать отдельных визитов к Дурбану соседей, случайных
прохожих, его родной сестры, приезда больной дочери Гертруд,
порвавшей под влиянием отца с матерью да описаний сельскохо-
зяйственных работ Дурбана. Однако всё это нехитрое сооружение
заполнено многочисленными и пространными рассуждениями
Дурбана о своей жизни заграницей, о любви к родине, о духовном
состоянии немецкого народа, о крестьянстве как основе общества,
о будущем нации, неразрывно связанным с приходом вождя-из-
бавителя, гневными филиппиками в адрес прежних правителей,
по вине которых проиграна война, и нового правительства, иду-
щего на поводу у противников поверженной Германии. Многие эти
проблемы подаются в несколько необычном плане, приближенными
к реальной действительности, и в этом проявляются некие призна-
ки ощущения стабильности нацистской государственности, когда
прошёл революционный пыл и можно, не боясь, называть вещи
своими именами. Эту тенденцию с удовлетворением отметила
нацистская критика: «Ни одна озабоченность и ни одна слабость
не затушёвываются, ни одна благотворная сила не представлена
в романтическом духе».1
В отличие пафосного воспевания крестьянства в романе
«Игрушка великана», теперь Штраус представляет их не только как
соль земли, но и как бесчестных, а то и ленивых работников. В ответ
на замечание Гертруд о том, что крестьянин продал ему втридорога
мешок пшеницы, в котором было «много шелухи и мусора», Дур-
бан отвечает: «Вы можете сколько угодно бегать и стать такой же
старой как вечный Жид, пока найдёте хоть одного крестьянина,
который был бы слишком честным, чтобы не обмануть вас, если
он это может сделать. В торговле крестьяне что евреи, поэтому
1 Mulot А. Die deutsche Dichtung unserer Zeit. Stuttgart, 1944. S. 319-320.
136
они ладят друг с другом, каждый надувает другого, сегодня — ты
меня, завтра — я тебя... Многие из этих так называемых крестьян
являются лишь торговцами».1 Также резко Дурбан отзывается
и о своих работниках, которые только и смотрят, как бы поскорей
сбежать со двора, ибо они не считают себя ответственными за всё,
что они делают по хозяйству, а ведь «крестьянство... представляет
собой единственный блок в народе, который действительно может
выстоять до тех пор, пока крестьянин вместе со своими детьми
и работниками составляют единое семейство».2
Отсюда же происходит и довольно необычное и даже отчасти
смелое отношение Штрауса к священной для фёлькиш-националов
теме народа. Народ в его интерпретации предстаёт как «чернь»,
однако в определённых ситуациях, например, на войне, «даже
в своих заблуждениях, которые она не видит, остаётся порядочной»,
но, попадая в неблагоприятные условия, «принимает их формы».3
Поэтому народу, и здесь Штраус мыслит в духе официальной идеоло-
гии, нужен вождь, который вернёт ему национальное достоинство:
«Умнейшие люди полагают, что с немецким народом, который ещё
позавчера противостоял всему миру, покончено навсегда, исто-
рически покончено, он созрел для самоубийства. Просто потряса-
юще: позавчера — это ещё самый могущественный в мире воин,
сегодня — ребёнок, позволяющий поставить себя в угол и получать
оплеухи! И только потому, что над ним никто не стоит, потому что
в настоящее время у нас нет такого человека».4
Дурбан не называет ни имени предполагаемого вождя, ни пар-
тии, стоящей за ним, а ограничивается лишь общими фразами,
желая видеть во главе немецкого народа реформатора, некоего
гения. В этом смысле примечателен разговор Дурбана с помещиком
фон Тидебёлем, который приехал к нему с предложением вступить
в некий союз «восточных аграриев и западных промышленников»,
проще говоря, в союз прусских помещиков и немецкого крупного
капитала, с целью свергнуть в Германии республиканское правле-
ние и возродить монархию. Дурбан отвергает «реставрацию про-
шлых порядков», заявив, что «для немецкого народа, учитывая его
значительность, для построения нового государства нужен будущий
Mulot А. Die deutsche Dichtung unserer Zeit. Stuttgart, 1944. S. 286.
2 Ibid. S. 289.
3 Ibid. S. 23.
4 Ibid. S. 184-185.
137
барон фон Штайн такого же масштаба... У вас нет ни флага, ни зна-
меносца, к тому же в вашем гремиуме есть некоторые восточные
люди, а они уж позаботятся о том, чтобы из этого не получилось бы
ничего немецкого».1
Здесь Дурбан возвращается опять к излюбленной теме присут-
ствия евреев в общественной жизни Германии. Беседуя с фон Тиде-
бёлем, он ещё проявляет сдержанность, прибегая к эвфемизму
«восточные люди», но в разговоре с Гертруд он прибегает уже
к лексикону нацистов, называя «евреев и обевреившихся немцев»
виновниками всех послевоенных несчастий Германии: «Вы антисе-
мит? — Антисемит? Я что, должен выступать против немцев? У себя
на родине, на Востоке, евреи меня не беспокоят. Но то, что им у нас
разрешают повсюду орудовать, это оскорбляло меня ещё двадцать
пять лет тому назад. Теперь, когда они у нас всем правят, когда
они разрушают Германию, издеваются над всем немецким, отрав-
ляют сознание народа, я должен закрыть глаза, если бы я не был
противником евреев.— Но есть же и приличные евреи...— Позади
четыре года тяжёлой войны, два миллиона убитых, бессчётное коли-
чество увечных, война проиграна из-за евреев и в пользу евреев,
а немецкая женщина ради нескольких порядочных евреев готова
пустить в разор весь великий немецкий народ!»2
Собственно, антисемитские взгляды Дурбана и вынудили его
обосноваться в деревне: «Прежде всего, я не выдержал бы жизни
в городе. Я вернулся с фронта, где я был среди немцев, а город
кишел ранее не виданными здесь калмыцкими и еврейскими лич-
ностями, разглагольствовавшими на непонятном или галицийском
языке; в газетах — смиренная покорность, для народа — нет ничего
важнее молока и творога. Так как я ничего не мог с этим поделать,
выносить всё это у меня не было сил».3
По сути дела, Штраус рассказал в романе «Танец жизни» о себе,
ибо все рассуждения главного героя романа, не говоря уже о био-
графических деталях, суть беллетризованный портрет писателя.
Как это ни странно, но в годы нацизма Штраус жил довольно
уединённо и не замечен был в каких-либо масштабных мероприя-
тиях нацистов. Вероятно, поэтому его последний роман, при всей
идеологической приверженности принципам национал-социализма,
1 Mulot А. Die deutsche Dichtung unserer Zeit. Stuttgart, 1944. S. 394-395.
2 Ibid. S. 182.
3 Ibid. S. 290.
138
проникнут региональным духом, и в сущности, регионален во вре-
менном отношении по комплексу затронутых проблем, актуальных
ддя послевоенного времени, но не для сороковых годов, когда затро-
нутые проблемы получили своё разрешение в нацистском варианте.
Однако, как бы не восхвалял Г. Гессе региональный дух твор-
чества Э. Штрауса, «Танец времени», как и предыдущие его произве-
дения, за исключением, может быть, «Хозяина трактира», был всё же
рассчитан на узкий круг читателей, и в какой-то мере привержен-
ность писателя поэтике «родного угла» можно расценить не только
как особое проявление расизма, но и как некую игру в народность.
Именно так озаглавил девяностолетний Штраус свои мемуары
«Играющий» (»Ludens«, 1955), и именно так трактует жизненный
и творческий путь писателя Пауль Альвердес, редактор знаменитого
журнала «внутренней эмиграции» времён Третьего рейха «Иннере
рейх» (»Das Innere Reich«) в своей статье, посвященной девяносто-
летию писателя. Однако, как доказала действительность, «крестья-
нин — не игрушка», и об этом предупреждал ещё Адельберт Шамиссо
в XIX веке в своей знаменитой балладе «Игрушка великанши».1 Тем
не менее, Э. Штраус до конца своей жизни был уверен в правиль-
ности избранной им позиции, несмотря на то, что как автор и как
личность он проиграл вчистую.
Совсем иначе понимал свою задачу один из пионеров литерату-
ры «малой родины» Густав Френссен (Frenssen, Gustav; 1863-1945),
родившийся в Барльте (Шлезвиг-Гольштейн) в семье ремесленника
и получивший религиозное образование в Тюбингене, Берлине
и Киле. Бывший пастор, сменивший рясу на цивильный костюм,
но так и не утративший пасторского духа, он обратил на себя
внимание романом «Йорн Уль» (»Jörn Uhl«, 1901), тираж которого
к 1940 году достиг 463 тысяч экземпляров. При всей прочной
приверженности к северогерманскому ландшафту с его пустошами,
болотами, маршами, к характерам и обычаям обитателей этих мест,
Френссен создал новый тип крестьянского романа, главный герой
которого, подвергаемый жестокими ударами судьбы, как и все-
возможными искушениями городской цивилизации, становится
Успешным бюргером, не забывающим, однако, своей связи с «малой
Родиной». Более того, именно его настойчивость, смекалка и, пре-
экде всего, крестьянский дух, «зов почвы» помогают ему не только
Шамиссо А. Игрушка великанши //Из немецкой поэзии. Век X — век XX. Пер.
Льва Гинзбурга. M., 1979. С. 353-354.
139
занять прочное положение в обществе, но и осознать свою родовую
значимость в становлении немецкой нации в новой экономической
ситуации, в нарождающемся капитализме.
Процесс этот трудный, в чем можно убедиться на примере
романа Френссена, суть которого определяет чуть ли не вековая
вражда между древнегерманским семейством Улей, разбогатев-
шем на плодородных северогерманских маршах, и семейством
Крайенов из лужицких сорбов с песчаного побережья Северного
моря, занимавшихся торговлей. Только молодое поколение обоих
семейств, пройдя через многочисленные испытания, находит общий
путь к новой жизни.
Йорн Уль, младший сын владельца старинного поместья, отли-
чающийся мягкостью характера, добротой, воспитанный матерью
из рода сорбов, становится свидетелем того, как его старшие братья
и отец проматывают накопленное веками богатство. Его попытки
своим трудом поправить хозяйство оказываются безуспешными,
как безуспешны и его попытки сблизиться с Лизбет Юнкер, дочерью
местного учителя. Йорн замыкается в себе, и только германо-фран-
цузская война делает из него сильного человека. Он берёт в свои
руки хозяйство, погрязшее в долгах, но череда семейных несчастий
(смерть во время родов его жены, самоубийство одного из братьев,
бегство в Америку младшей сестры с любовником, смерть отца)
вкупе с гибелью от нашествия мышей урожая и пожаром, уничто-
жившим поместье, приводит его к тому, что он вынужден уехать
в город. Однако все эти несчастья стали для него своеобразным вну-
тренним освобождением его индивидуальной самости, он понял, что
крестьянская стезя не для него: «Я, Йорн Уль, не точно воспринимал
себя и своё дело и не знал самого себя. Я крепко придерживался
Улей, к которым я не принадлежал, и поэтому продолжал нести ложь,
которой предавались отец и братья, а с нею и их беды».1 Но и ряды
пролетариев Йорн не собирается пополнять, а самозабвенно отда-
ётся учению, становится инженером, строит каналы, возводит
фабрики. В личной жизни также происходят изменения — Йорн
возвращается к своей юношеской любви, обустраивает городскую
квартиру.
Однако переход от крестьянина к бюргеру совсем не означает,
что связь его с деревней оборвана. Йорн, как и прочие герои рома-
на Френссена, всё время соизмеряет свою жизнь со старинными
1 Frenssen G. Jörn Uhl. Berlin, 1932. S. 404.
140
легендами, сказаниями, мифами, которые можно назвать бес-
сознательным противопоставлением холодной и прагматичной
атмосфере городского бытия: «Деревня выглядела сверкающей
и новой, как будто её, словно чистенькую игрушку, поместили
1С этому рождественскому празднеству в новый ящик в мягкой
белоснежной долине. Как будто сюда пришли великаны из лесов
у моря и разместились на холме вокруг деревни и начали играть
белыми домиками и украшенными белыми деревьями, переставляя
беспорядочно дома и ставя людей то туда, то сюда, а то по двое,
затем поставили рядом детей и сделали их старыми, отправили их
на кладбище и зарыли в маленькой ямке в снегу. И эта игра велика-
нов длится уже тысячи лет, а люди в деревне ничего не замечают». *
Такая отсылка к балладе А. Шамиссо у Г. Френссена не имеет
никакой социально-обвинительной интенции, как это заключено
в оригинале, а является лишь «олицетворением человеческого созна-
ния безопасности в неизменяемой действительности, в естествен-
ном круговороте истории», что отражает отрицательное отношение
немецкого крестьянства на происходившие в стране политические
и экономические изменения.2 Самое лучшее в этой ситуации,
согласно канонам Heimatdichtung,— не думать о настоящем, а пре-
даваться мифическим мечтаниям: «Кто что знает?.. Это общий грех
последователей Дарвина и Лютера, которые слишком много знают.
Одни присутствовали при том, когда праклетки праздновали свадь-
бу, другие — когда бог, сидя на коленях и грустно улыбаясь, созда-
вал человеческую душу. Но мы являемся сторонниками того самого
бедного, удивительного незнающего существа, которое произнесло
слова: „От того, что мы ничего не можем знать, у нас сердце почти
сгорает". Мы удивляемся и почитаем смиренно любопытствуя. Мы
рассказываем, что мы видели и что нам рассказывали, и ни разу
не пытались толковать увиденное и услышанное».3
В этих словах, как, впрочем, и в самой тональности романа,
ощущается некая тоска по потерянному крестьянскому раю и одно-
временно некое утешение, свидетельствующее о том, что и в новых
жизненных обстоятельствах герои романа в духовном отношении
не порывают со своим крестьянским прошлым.
1 ^enssen G. Jörn Uhl. Berlin, 1932. S. 429..
Baur U. Die Ideologie der Heimatkunst — Populäre Autoren in deren Umkreis / /
Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. II / 2
1848-1918 / Hrsg. v. V. 2megac. Königstein im Taunus, 1980. S. 409.
Frenssen G. Op. cit. S. 429-430.
141
Становление Йорна Уля как новоявленного бюргера из кре-
стьянской среды примечательно ещё и тем, что Френссен, как,
впрочем, и многие авторы, обращающиеся к крестьянской теме,
возвеличивает крестьянина как социальное явление, как праро-
дителя всего и вся, наделяя его в пику городскому жителю всевоз-
можными качествами в превосходной степени. Эта тенденция тем
более примечательна, что в романе Френссена она получила своё
выражение в высказываниях соучеников Йорна по техническому
университету в Ганновере, представителями бюргерского сословия:
«.. .мы вскоре заметили,., что ты являешься настоящим наследником
тех крестьян, которые на свой страх и риск изучали моря и землю
и звёзды, строили крепкие дамбы и корабли, которые противостояли
Северному морю, и которые так сжимали губы, что они становились
узкими, и создавали из любопытства и благоговения мировоззрение,
которое помогало им жить как серьёзным людям».1
Подобные рассуждения, отражавшие фёлькиш-консерватив-
ную идеологию, удачно вписывались в идеологию национал-соци-
ализма, и поэтому творчество Френссена нашло в Третьем рейхе
признание, о чём свидетельствуют избрание писателя в обновлён-
ную Академию искусств и присуждение ему нескольких нацист-
ских премий. Значимость творчества Френссена для нацистской
пропаганды определялась ещё и тем, что многие идеи внутрен-
ней и внешней политики нацистов находили в его книгах своё
выражение в доступных для широкой массы читателей формах,
и выразителями их становились именно герои, близкие по своему
социальному статусу этим читателям, высказывая те или иные
мысли на бытовом уровне, как бы реализуя то, что они не могли
внятно высказать в силу отсутствия соответствующей трибуны.
В таком же духе, как и «Йорн Уль», написаны романы «Клаус
Хинрих Баас» (»Klaus Hinrich Baas«, 1909), «Падение Анны Хол-
льман» (»Der Untergang der Anna Hollmann«, 1911), «Глупый Ганс»
(»Dummhans«, 1929), «Майно-хвастун» (»Meino, der Prahler«, 1933),
которые можно назвать новой формой литературы «родного угла»,
улучшенной за счёт привнесения в их содержание неких обще-
германских проблем, которые в конечном итоге оборачиваются
воспеванием родного края. Куда бы герои этих произведений
ни отправлялись искать своего счастья, залечивать раны или устра-
ивать своё личное и материальное благополучие они возвращаются
1 Frenssen G. Op. cit. S. 409.
142
р щлезвиг-голынтейнские пенаты. Хотя нацистские литературове-
ды — А. Бартельс, X. Лангенбухер — отрицают наличие в этих рома-
нах элементов Heimatkunst,1 но ещё Ф. Линхард, первый теоретик
литературы «родного угла», призывал не замыкаться пределами
родного края, приветствовал «страсть к путешествиям наивного
сына природы» с тем, чтобы «в конечном итоге он возвращался обо-
гащенным и успокоенным, прежним, но и другим, в родное гнездо.
Теперь он с новой, более осознанной, чистой любовью ошутит себя
другом и сыном родины».2 Собственно, это и происходит в романах
френссена, ибо его герои оказываются в Индии, в Африке, в Китае,
и возвращаются оттуда на родину более уверенные в исключитель-
ности своей нации и своего родного угла.
Оставаясь по своей натуре священником, Г. Френссен, как
отмечало нацистское литературоведение, приложил немало усилий
по созданию «некоей веры, которая вознеслась бы над всеми кон-
фессиональными узами, став для немецкой души опорой в борьбе
немецкого народа в деле познания жизненных законов нового
времени»,3 то есть по превращению протестантской религии в фёль-
киш-германское, языческое верование, что отвечало установкам
нацистской идеологии. «Мягкие христиане — это вздор. Всё равно,
что лев, пробавляющийся подаянием! Христианство есть форма
властных господ в благороднейшем духовном смысле этого слова...
Делай то, что велит тебе твоя германская совесть и добрая воля,.,
потому что это есть глас божий».4 Эта мысль, высказанная в книге
«Вера Северной марки» (»Der Glaube der Nordmark«, 1936), берущая
своё начало в трёх томах его «Деревенских проповедей» (»Dorfpredi-
gen«, 1899-1903),), проходит красной строкой через всё творчество
писателя и достигает своего апофеоза в псевдоисторическом опусе
«Путь нашего народа» (»Der Weg unseres Volkes«, 1938), завершив-
шимся патетическими славословиями в честь фюрера: «Третий
рейх немцев, рейх Адольфа Гитлера, германский рейх немецкой
нации».5 Недаром книга «Вера Северной марки», в которой языче-
ские верования переплетаются с откровенным антисемитизмом,
1 Bartels A. Op. cit. S. 631; Langenbucher H. Op. cit. S. 178.
2 LienhardF. Op. cit. S. 145
3 langenbucher H. Op. cit. S. 175.
Цит. по: Loewy E. Literatur unterm Hakenkreuz. S. 313.
Frenssen G. Der Weg unseres Volkes. Berlin, 1940. S. 242.
143
во время Второй мировой войны была издана огромным тиражом —
230 тысяч — для нужд армии.1
«Обогащенным» в духе рассуждений Ф. Линдхарда, но не успо-
коенным, вернулся на родину герой романа Германа Бурте (Burte,
Hermann. 1879-1960) «Вилтфебер, Вечный немец. История одного
искателя родины» (»Wiltfeber, der Ewige Deutsche. Die Geschichte
eines Heimatsuchers«, 1912). Г. Бурте (настоящая фамилия Штрюбе)
родился и умер в небольшом городке Лёррахе, недалеко от границы
со Швейцарией, и всё его творчество — проза, стихи на местном
диалекте, живопись — связано именно с этим регионом, который
он называл Алеманией, что и позволило некоторым литературо-
ведам, не без оснований, считать его приверженцем областни-
ческого искусства. Г. Бурте считается автором одного романа,
пользовавшегося у современников таким огромным успехом, что
в 1912 году, с подачи Рихарда Демеля, несмотря на отмеченный
им антисемитский настрой этого произведения, его создатель стал
лауреатом премии имени Клейста. В годы Третьего Рейха этот роман
был в особой чести у нацистов, ибо они видели в нём выражение
идей национал-социализма, за что Г. Бурте и был назван провидцем
и пионером нацистского движения.2
Столь повышенное внимание к первенцу никому неизвестного
писателя вызвано было, прежде всего, его страстным неприятием
индустриализации страны, уничтожением традиционного образа
жизни немецкого народа, что, естественно, отвечало чаяниям
фёлькиш-национальных кругов Германии. Главный герой рома-
на, Мартин Вилтфебер, возвращается после долгого пребывания
на чужбине в родную деревню Визинген, и в продолжение одного
дня вершит суд над её жителями, над порядками, царящими здесь.
Визинген — это вся кайзеровская Германия, но весь обвинитель-
ный пафос Вилтфебера направлен не против монархии, которую
он считает вершиной «настоящего сформировавшегося и сложив-
шегося государства»,3 а против индустриализации страны, против
разорения крестьянских дворов, против забвения германских
устоев бытования немецкого народа, против, наконец, засилья
1 Loewy E. Op. cit. S. 313.
2 Langenbucher H. Op. cit. S. 192.
3 Цит. по: Peters К. Hermann Burte — der Alemane // Dichter für das »Dritte Reich«.
Biographische Studien zum Verhältnis von Literatur und Ideologie / Hrsg. v. Düster-
berg R. Bielefeld, 2009. S. 24-25.
144
чужеродных элементов (читай: евреев — Е.З.) в общественной
ясизни Германии.
Едва Вилтфебер ступил на родную землю, как сразу же обна-
ружил признаки упадка. Если новое кладбище воспринимается им
как «бестолковое нагромождение... памятников из цемента, литья
и жести», и это говорит о том, что «потеряна воздействующая сила
веры, что общество распалось на отдельные индивидуальности, что
раса подверглась осквернению и что искусство угасло», то старое
кладбище, упорядоченное «в стиле франкских королей», напоминает
собой «одежды расовоубеждённых уроженцев этих мест».1 В под-
тверждение своих расовых убеждений Вилфебер «рисует на пыль-
ной дороге палкой крест иоаннитов, слегка и не очень заметно;
затем он выделяет половину креста более чётко, и тогда чётко
и ярко проясняется на песке древняя свастика».2 Нечто подобное
можно видеть и на обложке первого издания романа «Вилтфебер».
Бурте уже в юные годы был большим почитателем свастики,
этого древнего символа солнца, круговорота всего сущего, имевшего
хождение в культурах многих народов Европы и Азии. Первоначаль-
но свастика была символом нацистского движения, а после прихода
к власти нацистов — государственным символом Третьего рейха.
Но ещё до зарождения нацистского движения свастика в Германии
воспринималась как знак юдофобии.3 Почитание Бурте свастики
приняло невероятные размеры: стены его рабочего кабинета были
увешены этим символом, свастика украшала его портреты (после
1945 года ему пришлось много потрудиться, чтобы стереть их
со своих фотографий), и даже письменный стол Бурте, изготовлен-
ный по его рисунку, был инкрустирован изображениями свастики.4
Свои антисемитские взгляды Бурте не скрывал, что не мешало
ему, как Г. Штеру и Э. Штраусу, быть другом В. Ратенау. Эта стран-
ная тяга искренних антисемитов к одному из самых ненавидимых
консерваторами всех мастей в Германии еврею до сих пор вызывает
Удивление. Опубликованное после убийства В. Ратенау эссе Г. Бурте
«С Ратенау на Верхнем Рейне» (»Mit Rathenau am Oberrhein«, 1925)
Burte H. Wiltfeber, der ewige Deutsche. Die Geschichte eines Heimatsuchers. Leipzig,
1912. S. 8-9.
2 Ibid. S. 89.
3 Schmitz-Berning C. Vokabular des Nationalsozialismus. Berlin, 1998. S. 289.
4 Peters K. Op. cit. S. 36.
145
не даёт ответа на этот вопрос: «Ратенау был мне близок и далёк
как никто. И по мере возрастания дружбы мне стало ясно, что
мы являемся двумя параллельными прямыми, которые с одинако-
вой силой притягиваются и отталкиваются, готовые к конфликту
и симбиозу, и, если они здесь не сходятся, то встретятся только
в бесконечности».1
Получалось так, что каждый шёл своим путём, и не скрывал
своих взглядов, что, вероятно, вызвано было тем, что антисемитизм
как таковой был достаточно распространён в обществе и не приво-
дил, по крайней мере, на бытовом уровне, к экстремальным ситуа-
циям. Как показала действительность, ситуация эта существовала,
что и подтвердилось в случае с В. Ратенау, а позднее — с евреями
Европы. Как раз в 1942 году, когда уничтожение нацистами евре-
ев было поставлено по всей Европе на поток, Г. Бурте выступил
на ежегодной «Немецкой встрече поэтов» в Веймаре с докладом
«Слово об Адольфе Бартельсе» (»Worte für Adolf Bartels«), где всяче-
ски восхвалял его заслуги в деле очищения немецкой литературы
от еврейской проказы: «С вами произошло то же, что и с Лютером,
который не сразу узнал в еврее врага и только в повседневной
жизни постепенно понял его жизненную сущность и воздействие,
и тогда бесстрашно назвал его по имени и хотел этого шельму и его
народ отвергнуть, проклясть и уничтожить, намного решительнее,
чем это вынуждены мы делать... Как исследователь возбудителя
и носителя заразной болезни, вы преследовали врага вплоть до его
маскировки и создаваемых иллюзий. Вы осмелились сделать то,
что другие не видели и не слышали, вы отделили с абсолютно бла-
городных позиций немцев и евреев в поэзии. Это был поступок,
вызванный правильными мыслями».2
1 Peters К. Op. cit. S. 27.— После 1945 г. Г. Бурте, желая дистанцироваться от обви-
нений в антисемитизме, постоянно подчёркивал свои дружеские связи с В. Рате-
нау. Последний, судя по всему, знал цену этой дружбе, о чём можно заключить
по надписи на его книге «Критика времени», которую он подарил Г. Бурте по слу-
чаю присуждения ему премии имени Клейста: «С сердечными путешественными
пожеланиями Вечного Жида Мартину Вилтфеберу, Вечному Немцу, дружески
Вальтер Ратенау» (Ibid.).
2 Burte H. Worte an Adolf Bartels // Dichter und Krieger. Weimarer Reden 1942 / Hrsg.
v. R. Erckmann. Hamburg, 1943. S. 90 — Речь эта была произнесена в присутствии
писателей из Бельгии, Болгарии, Дании, Финляндии, Франции, Италии, Хорватии,
Голландии, Норвегии, Португалии, Румынии, Швеции, Швейцарии, Словакии,
Испании и Венгрии, и встречена бурными аплодисментами. Ничего удивительного,
если учесть что это были авторы такого же сорта, как и Г. Бурте.
146
В «Вилтфебере» антисемитских выпадов достаточно. Проводя
своеобразную ревизию состояния духа своих соотечественни-
ков, герой романа заходит в церковь, где убеждается в том, что
немецкий народ, как полагает Вилтфебер, стонет под игом евреев
(об этом можно судить по разговору двух немцев о нечестной сделке
с местным евреем) и даже вынужден поклоняться богам чуждой
ему расы: «Учитель поднялся на табурет органа и запел хорал:
Тебя, тебя, Иегова, хочу я воспеть! Эти слова поразили Вилтфе-
бера, который не подпевал, а только произносил их про себя, так
как слово Иегова он воспринял как удар по лицу! Здесь, в божьем
храме, в Бланкентале, в двух часах езды от Рейна, сидят немцы
и поют славу их богу! Голубые горы Шварцвальда видны из окон,
повсюду видны вишнёвые сады и липы; над головами белокурых
детей парят пылающие лучи солнца; почти на всех тронах Европы
сидят сыновья немецкого народа как князья: а здесь, здесь, эти
люди, дети, женщины и мужчины, воспевают племенного божка
какого-то сброда пустыни!»1
Где бы Вилтфебер ни появлялся, повсюду он видит запустение,
утрату немецкой сущности: «Я искал красоту, а нашёл беспоря-
дочное нагромождение; я искал деревню, а она была при смерти;
я искал бога людей моей родины, а он оказался богом племени,
обожествлённым олицетворением расы какого-то сброда пустыни;
я искал силу, а она была разделена между всеми, и поэтому никто
ею и не обладал и ничего не мог сделать; я искал дух, а он поти-
хоньку загнивал в чиновничьих кабинетах и зарплате; я искал рейх,
а нашёл стаю уток, изображающих обессиленного орла; я искал
братьев по расе, но обнаружил помесь седьмой степени, кровь
каждой из них становилась хуже предыдущей; я искал поддержку
в жизни, а столкнулся с обоюдным противостоянием; и, наконец,
когда я обратился к представителям духовности, чьё воздействие
обогащает труд некоторых людей, то оказалось, что их загнали
в квартал блондинов (т.е. арийцев загнали в резервацию.— Е.З.)
и замалчивают. В итоге я не нашёл ничего,., ничего, что могло бы
стать достойным почитания».2
Правда, кое-что Вилтфеберу всё же удалось найти — он позна-
комился с двумя женщинами, каждая из которых представляла
собой высший смысл его жизни. Мадле, «из юго-западных краёв,
1 BurteH. Op. cit. S. 126-127.
2 ïbid. S. 334.
147
женщина из его родных мест, девушка с чёрными волосами», и Урсу-
ла, «северо-восточная, благородная дама, властительница с голу-
быми, стальными глазами и белокурыми волосами». «Одна из них
являет собой природу, пышущая кровью игрушка, с необузданны-
ми помыслами и простыми чувствами; другая — олицетворение
сознания, с разносторонним мышлением, обладающая характером
спутницы судьбы, одухотворённая, безрассудная, с современными
мыслями».1 Мадле является олицетворением родины, Урсула — буду-
щего Германия, о чём и печётся Вилтфебер, и он связывает свою
судьбу с нею. Оба они уходят в горы, и там, в охотничьей хижине,
во время любовного свидания, их настигает удар молнии. Всё это
подаётся помпезно, в вагнеровском духе, словно читатель имеет
дело не с земными существами, а с некими персонажами сканди-
навского эпоса. Отсюда возвышенная лексика, возвышенный тон
повествования, обилие символики, пафоса.
При всём том, что не все идеи Г. Бурте нашли понимание
у нацистских идеологов, главное заключается в том, что писатель
«с необычной силой слова осмелился показать немецкому народу
ту пропасть, на краю которой он оказался... Вилтфебер был обуян
необходимостью и неизбежностью будущей борьбы».2
Перу Г. Бурте принадлежат также несколько пьес «Катте» (»Kat-
te«, 1914), «Крист перед судом» (»Krist vor Gericht«, 1930), отражаю-
щих идеологию фёлькиш-консервативных кругов, и два сборника
стихов «Мадле» (»Madlee. Alemanische Gedichte«, 1923), «Урсула»
(»Ursula. Hochdeutsche Gedichte«, 1930), в которых как раз и отра-
жена проведённая в романе парадигма — родина / будущее Гер-
мании. Стихи в сборнике «Мадле» написаны на родном для Г. Бурте
алеманском наречии, в сборнике «Урсула» — на литературном языке.
Стихи Бурте, особенно написанные на алеманском наре-
чии, пользовались большим успехом, чем и вызваны были после
1945 года попытки его сограждан в Лёррахе представить писателя
чуть ли не национальным поэтом. Даже Р. М. Рильке поддался оча-
рованию его алеманской лирики, назвав стихотворение «Небесные
плоды» (»Himmlische Ernte«) «всеобщим немецким достоянием».3 Курт
Тухольский был более прозорливым, и дал в 1927 году лаконичное
1 BurteH. S. 167.
2 Langenbucher H. Op. cit. S. 193.
3 Anonym. Braunes Vorbild. Streit um den Blut-und-Boden Dichter Hermann Burte //
Die Zeit, 02.06.1978.
148
и уничтожающее определение творчества Бурте: «Герман Бурте
и Ганс Гримм — промокательная бумага оптом».1
В силу своих антидемократических настроений Бурте рано
сблизился с нацистским движением, особенно с CA. Особую
известность в консервативных и нацистских кругах приобрели его
публикации в издаваемой им газете «Маркгрэфлер» (»Der Markgräf-
ler — Freie deutsche Zeitung für das schaffende Volk in Stadt und
Land« — 1924-1932), где он подвергал острой критике политику пра-
вительства Веймарской республики. В этой же газете в 1931 году
появляется его стихотворение «Фюрер» (»Der Führer«), первое вообще
в Германии в серии подобных стихотворений, в котором он сла-
вил Гитлера как спасителя страны. Примечательно, что год спустя
Г. Бурте в одном из писем называет Гитлера авантюристом. Более
того, в это же время в письме к Г. Гримму он резко дистанциру-
ется от фюрера: «Для меня это был добрый немецкий день, когда
я узнал, что Вы покончили с Гитлером. Я также, как и Вы, только
раньше, долгое время надеялся на него... Поэтому я приветствую
Вас как человека, который стал свободным и оправился от некоего
рода заразной болезни».2
О причинах столь резкого поворота можно только гадать,
хотя не исключено, что в какой-то мере это связано с провалом
Гитлера на президентских выборах и с временной потерей в ноя-
бре 1932 года большого числа депутатских мест в рейхстаге. Тем
не менее, с приходом к власти нацистов Г. Бурте был избран
в состав обновлённой Академии искусств с условием, что он пре-
кратит свои атаки на Гитлера, и Г. Бурте придерживался этого
условия, что и отразилось благотворно на его дальнейшей литера-
турной карьере.3
В 1936 году Бурте вступил в нацистскую партию, в том же году
Вёррис фон Мюнхгаузен, автор многочисленных баллад, воспева-
ющих воинские доблести предков германцев, назвал его «первым
и самым лучшим национал-социалистским поэтом»,4 что и было
подтверждено вручением ему премии имени Гебеля, учреждённой
Anonym. Braunes Vorbild. Streit um den Blut-und-Boden Dichter Hermann Burte //
Die Zeit, 02.06.1978.
2 Peters K. Op. cit. S. 33-34..
3 Ibid. S. 34.
4 Ibid. S. 37.
149
именно Гитлером. В 1937 году в нацистской энциклопедии Бурте
характеризуется как «энергичный поборник коренной националь-
ной в духе времени поэзии».1
Что это за поэзия, можно судить по строкам, написанным
в 1938 году:
С ужасом познаю я,
Жизнь — это разбой!
Убийство сохраняет жизнь
Взгляни на природу, Народ,
Жратвой или пожирателем,
должен ты стать.2
6 июня 1940 года, после налёта немецкой авиации на Лон-
дон, в «Фёлькишер беобахтер» было опубликовано стихотворение
Г. Бурте:
Вода течёт,
огонь жжёт,
воздух одушевляет землю,
он всегда был элементом,
немецкого бога Вотана.
Кто хочет уничтожить тебя, тот негодяй,
его ты можешь, смеясь, уничтожить.
Взгляни-наверх, сверху-удар.
Ты стал господином.3
Г. Бурте становится непременным участников различного рода
официальных празднеств, на которых он выступает с приветствен-
ными речами, читает свои стихи. В 1936 году по заданию Геббельса
Бурте выступает на траурном митинге в честь В. Густлоффа, главы
нацистов в Швейцарии, убитого сыном раввина; в 1938 году — он
почётный гость партийного съезда нацистов в Нюрнберге; участник
ежегодной «Недели немецкой книги», ежегодной «Встречи писателей
в Веймаре». Высшей точкой литературной карьеры Г. Бурте в Треть-
ем Рейхе можно считать официальные торжества по случаю его
60-летия, где его чествовали не только как писателя, но и как неуто-
мимого пропагандиста: «Я особенно вспоминаю в эти дни,— писал
1 Burte Hermann // Meyers Lexikon. 2.Bd. Bolland-Deutscher Zunge. Leipzig, 1937.
S. 322.
2 Цит. по: Anonym. Braunes Vorbild.
3 Völkischer Beobachter, 06.06.1940.
150
Геббельс в приветственном письме юбиляру,— о Ваших великих
заслугах в деле внутреннего обновления нашего народа и о Ваших
многочисленных художественных произведениях».1 По инициативе
Геббельса Гитлер вручил лично Бурте медаль Гёте, присуждаемую
за заслуги в области искусства и науки.
После 1945 года Г. Бурте был арестован, но отделался, как,
впрочем, и многие «придворные» авторы Третьего рейха, мягким
приговором. Он всячески дистанцировался от национал-социа-
лизма, утверждая, что «говорил не из любви к Гитлеру, а из любви
к немецкому народу».2 В литературной жизни ФРГ имя Г. Бурте
связано лишь со скандалом, вызванном пышными празднества-
ми его 80-летия в его родном городе, проходившим под девизом
«людей, особенно людей искусства, поэтов, следует судить по их
хорошим, а не плохим делам»,3 и отказом президента ФРГ Теодора
Хейса стать почётным гражданином родного города Бурте Лёрраха:
«Ни в коем случае я не хотел бы стать в один ряд с этим человеком,
являющимся грубым антисемитом и хвастливым националистом,
не говоря уже о том, чтобы принимать участие в качестве почёт-
ного гостя в каком-либо празднестве».4 Тем не менее, отцы города
Лёрраха не успокаиваются, ошущая поддержку консервативных
кругов в ФРГ,5 называют именем Г. Бурте улицы, школы, а в музее
его имени каждый год устраивают конференции, посвященные
изучению творчества «певца алеманского народа».
Особым родом литературы, который отвечал одному из главных
постулатов национал-социалистской идеологии — «кровь и почва» —
можно считать крестьянский исторический роман. Событийная
часть этих романов приходится, как правило, на давние историче-
ские времена, однако посылка их определялась запросами совре-
менности. Правда, отношение политической верхушки Третьего
1 Peters К. S. 38.
2 Ibid. S. 41.
Anonym. Brutale Romantik. Der Historiker Golo Mann hat einen Förderverein eines
Nazi-Dichters unterstützt // Der Spiegel, 22.05.1989. Nr. 21.
4 Ibid.— Anonym. Ehrenbürger. Zuck-aus-der-Luft // Der Spiegel, 01.04.1959. Nr. 14.
В некрологе на смерть Г. Бурте, опубликованном в пронацистски настроенном
еженедельнике «Нойе Политик», Г. Тайхман, сокрушаясь по поводу того, что его
произведения «сегодняшним кажутся несвоевременным», тем не менее, называет
его великим поэтом (Teichmann Н. Stirn unter Sternen // Neue Politik. Hamburg,
02.04.1960. S. 11-12.)
151
рейха к этой теме заметно разнилось. Если представители фёлькише
фракции — А. Розенберг, главный идеолог национал-социализма,
и Г. Гиммлер, страстный поклонник культа предков — выступали
за обновление религии в духе средневековой мистики, за созда-
ние национального культа, в котором принципы «крови и почвы»
и соответственно значимость крестьянского сословия как гаранта
сохранения вечных ценностей германского духа играли определяю-
щую роль, то Гитлер подходил к этой проблеме прагматично и счи-
тал, что «бредням этих Розенберга и Гиммлера следует пололсить
конец».1 Не менее отрицательно фюрер относился и к прославлению
германцев: «Свободный германский крестьянин интересовал его
больше как человеческий материал для его будущих войн, чем как
основа некоей утопии».2 Тем не менее, в основе своей фёлькиш-
исторический роман не противоречил нацистской идеологии, хотя
в нём и доминировала идеология «крови и почвы» над тоталитарной
идеологией. В известной мере романы такого толка нужны были
для народного потребления, некая сказка о непреходящем величии
немецкого духа, как некий логотип поведения настоящего немца,
который в решительный момент проявляет свои настоящие бой-
цовские качества, и, что ещё более важно, готов пойти на любые
жертвы ради общего дела.
Ярким примером такого хождения в прошлое является истори-
ческий роман Адольфа Бартельса «Дитмаршцы» (»Die Ditmarscher«,
1898), посвященный борьбе немецких крестьян против датского
засилья, завершившейся в 1500 году в битве под Хеммингштедтом
разгромом войска датского короля Иоганна и герцога Фридриха
Шлезвиг-Голынтейнского и основанием свободной республики
крестьян, просуществовавшей, правда, недолго. Этот роман, один
из многих немецких исторических романов того времени, отмечен
созданием образов крестьян, обладающих повышенным восприя-
тием чести и долга, не останавливающихся перед убийством своих
близких, если они оказываются «предателями земли»,3 но и не гну-
шающихся разбойничьими набегами на соседей. Не случайно
самой битве на 500 страницах романа отводится совсем немного
места, она является для дитмаршцев неким эпизодом в постоянной
1 Westenfelder F. Völkische historische Romane. IV.4.2. // www.westfr.de/ns-literatur/
ganghofer.utm
2 Ibid.
3 Bartels A. Die Dithmarscher. Hamburg, 1935. S. 132.
152
борьбе за сохранение их земель от чужеземцев. В каком-то смысле
это борьба против исторического процесса, ибо сами дитмаршцы
не хотят каких-либо изменений. Основное содержание романа —
это местные распри.
Честь честью, но, совершив убийство своего брата Карстена,
Иоганннес Хольм, предводитель восставших, беспокоясь о чести
своего рода, просит свидетеля содеянного никому не говорить
об этом. В основе этого поступка лежит не столько поруганная честь
крестьянина, сколько старая вражда между Иоганнесом, потом-
ственным крестьянином, и Карстеном, учеником латинской школы
и жителем города. Противостояние города и деревни, «народной
общности» и ненависти к интеллектуальной личности, имеющей
собственное мнение,— эти положения созвучны нацистской идео-
логии. Каждая фраза романа полна патетики, явно не свойственной
крестьянской ментальности, однако, по словам нацистской крити-
ки, этот роман являлся «одним из лучших произведений местного
народного искусства... настоящей народной книгой».1
В ещё большей степени раскрывается истинная сущность
немецкого крестьянина как воина в творчестве Германа Лёнса
(Löns, Hermann; 1866-1914), писателя, прославившегося своими
рассказами из жизни животных и описаниями природы. Приме-
чательно, что основной принцип его творчества определялся при-
матом природы над разумом, всё в жизни происходит «по законам
природы», и природа, как таковая, является своего рода противопо-
ставлением промышленному или какому-либо иному, пришедшему
из социальной области насилию. Эта тенденция с особой силой
проявилась в его знаменитом романе «Вервольф. Крестьянская
хроника» (»Wehrwolf. Eine Bauerchronik«, 1910). Несмотря на то, что
в нём речь идёт о событиях Тридцатилетней войны (1618-1648),
Да и написан он задолго до появления нацистской партии, этот
роман стал культовым произведением национал-социалистской
идеологии, ибо при всей внешней убедительности, известной исто-
рической достоверности, «Вервольф» пронизан националистским
Духом и обращен к современности.
Незадолго до Первой мировой войны Лёне сказал: «Вы знаете,
я тевтонец в высшей степени. Смотрите, сейчас каждый народ
становится чрезвычайно национальным, а мы не должны быть
Такими. Мы как раз достаточно попортили нас гуманистикой,
Gerster H., Schworm К. Die deutsche Dichter unserer Zeit. München, 1939. S. 28
153
национальным альтруизмом и интернационализмом, попортили
до такой степени, что я считаю нам в самый раз даже необходимо
получить должную порцию шовинизма. Естественно, что это под-
ходит самым целеустремлённым шовинистам, не евреям, и поэто-
му они вопят по поводу тевтонства. Но это путь, это правда и это
жизнь».l А жизнь для Лёнса — это война, о чём он и заявил незадолго
до своей гибели на фронте: «Мою песню войне я написал как раз
в 1910 году — это «Вервольф».2
Несмотря на заявленное в подзаголовке желание представить
«крестьянскую хронику» времён Тридцатилетней войны, «Вервольф»
не является историческим романом в истинном смысле этого сло-
ва. В нём рассказывается не о том, как это было на самом деле,
а о том, как должно быть, ибо по своей сути этот роман являет
собой некий примерный набросок образцового крестьянского
сообщества (die Gemeinschaft), построенного на кровном родстве,
управляемого сильной личностью, крестьянским вождём, фюрером,
и утверждающего себя в экстремальных обстоятельствах жизни.
Лёне создаёт миф о первооснове крестьянства как ведущей силе
существования рода людского и миф о вожде, что в последующем
нашло своё отражение в словах А. Гитлера: «История — это история
вождя,., в делах вождя проявляются дела народа».
Уже само начало романа обретает черты библейского сказа
0 сотворении мира, хотя действие его ограничивается деревней
Ёдрингер в Люнебургской пустоши: «Вначале пустошь была необи-
таема и пуста. Днём здесь правил орёл, а ночью — сова; медведь
и волк царили на земле и имели власть над всем зверьём.
Ни один человек не противостоял им, потому что несколько
убогих дикарей, промышлявших здесь охотой и рыболовством,
были рады тому, что они хоть живы, и обходили охотно сторо-
ной эти чудища». Но вот с севера пришли «другие люди с белыми
лицами и с жёлтыми волосами».3 От них пошли германские предки
будущих вервольфов, среди которых особой силой и могуществом
выделялся род Вульфов, богатых крестьян, владевших ко времени
начала повествования десятью домами, которые «высились среди
дубового леса словно какая крепость, окружённая валами и рвами,
1 Цит. по: Weil M. Der Wehrwolf von Hermann Löns // www.lesekost.de/philo/HHL-
PH02.htm. S. 11
2 Ibid. S. 11.
3 Löns H. Der Wehrwolf. Eine Bauerchronik. Jena, 1942. S. 5.
154
и в главном доме не было недостатка в оружии и разного рода
инструментов».1
Вульф, родоначальник этого семейства, предпочитал ходить
да волков и медведей и выяснять отношения со «смуглыми людьми,
жившими за пустошью на болотах. Такой образ жизни устраивал
его, не в меньшей мере и его детей. Чем больше было заварушек,
тем лучше было им, так и получились из них парни ростом с дере-
во, с руками что медвежьи лапы; тем не менее, они ладили между
собой, потому что на мир они смотрели мрачно и всегда улыбались».2
Все последующие представители рода Вульфов постоянно
участвовали в разного рода войнах, и этот род деятельности всег-
да доставлял им удовольствие. Улыбаясь, они помогали немецким
племенам изгонять римлян из страны: «Ну и потеха это была, скажу
я тебе! Дали мы жару этим гадам! Штук двадцать получили от меня
по мозгам, только гром стоял, потому как у них шлемы были желез-
ные»;3 затем случилась война с франками: «Один из Вульфов был
в этом деле, когда Видукинд изрубил на куски войско франков
под Зюнтелем».4 Так продолжалось всё время, и поэтому «крестья-
нин, занимаясь пахотой, всегда держал при себе копьё и арбалет,
и не раз приходилось ему вместе со своими людьми подкарауливать
разбойников и приканчивать их... и, не смотря ни на что, его глаза
всегда сверкали и улыбаться он не разучился».5
Но вот наступили тяжёлые времена, началась война между
католиками и протестантами, между кайзером и северогерман-
скими князьями, длившаяся тридцать лет и унёсшая треть насе-
ления Германии. Крестьяне, доведённые до отчаяния разбойными
действиями солдатни и мародёров, лишившиеся домов, скота,
родных и близких, покинули свои насиженные места и создали
среди неприступных болот новую деревню Пеерхобштель, являвшую
собой некое подобие крестьянской республики: «Не было никаких
Löns Н. Der Wehrwolf. Eine Bauerchronik. Jena, 1942. S. 6. Здесь, как и во всех
романах подобной направленности (ср. романы Й. Беренс-Тотеноль, Г. Штера),
всегда речь идёт о зажиточных крестьянах, которые чуть ли не на равных общаются
с князьями, а поместья их напоминают крепости, не уступающие по своей
Мощности и оснащённости княжеским.
2 Ibid. S. 6.
3 Ibid. S. 7.
4 Ibid. S. 7.
5 Ibid. S. 8.
155
крестьян и никаких работников, никаких крестьянок и никаких
служанок в Пеерхобштеле, а была одна община старательных людей,
каждый из которых трудился для себя и все — для общего блага, так
что в деревнях, лежавших вокруг болота, стали говорить: вместе
как пеерхобштелерцы!»1
Для защиты своей деревни жители Пеерхобштеля организовали
отряд самообороны. Один из участников этого отряда так охарак-
теризовал его суть: «Наш прекрасный ребёнок вырос из пелёнок,
но имени у него пока ещё нет. Имя нашего предводителя Вульф,
что значит волк, и он действительно настоящий волк, потому как
там, где он вопьётся зубами, останется тридцать три дыры. Поэ-
тому я считаю, что мы будем называться волками, стаей волков,
а там, где мы будем бороться с проявлениями подлости, мы будем
оставлять знак в виде трёх топоров, сложенных крест на крест.
О том, что нас трижды одиннадцать, и что нас звать волками, никто
не должен ничего знать, а ежели кто проговорится, тот будет висеть
между двух шелудивых псов с лыком на шее до тех пор, пока нельзя
будет разобрать, от кого из них больше разит».2
Идейным вдохновителем всех этих преобразований стал Харм
Вульф, захваченный мыслью о мести за убийство своих детей
и жены и сожжённое поместье, воплотивший в себе все воинские,
крестьянские и человеческие свойства рода Вульфов, и, прежде
всего, брутальный героизм, что и привлекло впоследствии внимание
нацистов к роману Лёнса.
Крестьяне нападали на солдат, на «всякий сброд», на «мародё-
ров», цыган и просто на «чужой народ»,3 убивая мужчин и женщин
1 Löns H. Der Wehrwolf. Eine Bauerchronik. Jena, 1942. S. 138.
2 Ibid. S. 96.— Несколько слов по поводу перевода названия романа. С одной сторо-
ны, слово «вервольф» с лёгкой руки Г. Лёнса стало знаковым, обрело исторический
статус термина. По старинным немецким поверьям человек иногда превращает-
ся в волка и нападает на людей. В данной ситуации нужда заставила крестьян
последовать тактике волков нападать стаей на жертву. Б. Сучков в своей статье
«Фашистский крестьянский роман» (Интернациональная литература, М., 1942.
№ 8/9. С. 142) перевёл »wehrwolf« как «волчья стая». Этот перевод лучше отра-
жает суть и способы действия этого отряда крестьян, учитывая их жестокость
и ожесточённость.
3 Современный российский историк О. Ю. Пленков, явно незнакомый с текстом
романа Лёнса, потому что ссылается на американского историка П. Джонсона,
заявляет, что в романе «Оборотень» «крестьяне восстают... против своих пора-
ботителей из городов», в числе которых, по его мнению, находились и евреи,
действовавшие «в крестьянской среде как ростовщики, торговцы скотом,
156
без разбору, вешая их без суда и следствия на деревьях и оставляя
каждый раз свой рунический знак, схожий по форме со свастикой.
При этом крестьяне вошли в такой раж, что сам процесс убийства
стал восприниматься ими как не некая игра. Последние слова
одного из героев романа так и звучали: «Парни, вот это была заба-
ва!»1 Именно как забава предстают у Лёнса описания сцен убийств
крестьянами своих врагов, и убийства эти вызывают у них чувство
восторга. Едва приходит известие о том, что в их сторону движется
отряд солдат, «у крестьян зажигаются глаза: Смотри, сегодня у нас
будет охота на зайцев!.. Ты идёшь? — спрашивают они Хармса Вуль-
фа. А как же! — сказал он и засмеялся,— должен же человек хоть раз
получить удовольствие».2 И это удовольствие превращается в бой-
ню, которую они называют работой, в ходе которой убито сорок
человек и захвачена большая добыча. На предложение отметить это
событие, Вульф заявляет: «И правда, всё время работать не годится.
Сегодня вечером уже поздно и нам предстоит ещё многое сделать,..
а завтра молодёжь встречается в кабачке у Энгфера... поэтому
завтра ничто не должно напоминать о том, что здесь произошло.
Телеги — в лесок, ну а всё то, что здесь лежит, закопать в землю.
После такой резни наступает уборка! Все засмеялись и с радостью
принялись за работу. Через час, когда взошла луна, дорога была
такой же чистой, как и утром».3
В конце романа во время похорон Хармса Вульфа священник
«сравнил его с Самсоном и Иудой Маккавеем, защитивших свои
народы, хотя их руки по локоть в крови были, тем не менее они
были угодны богу, сквозь облака пробилось солнце и лица присут-
ствующих просветлели; глаза вервольфов также обрели блеск, и они
вспомнили об ужасных, но, всё же, таких прекрасных днях, когда
они день за днём размахивали свинцовой дубинкой».4
Это сочетание благости и жестокости, сентиментальности
и упоения борьбой характерно для творчества Лёнса, и временами
перекупщики — отсюда и антисемитизм в крестьянских организациях Герма-
нии» (Пленков О.Ю. Триумф Мифа над разумом. Немецкая история и катастро-
фа 1933 года. СПб., 2011. С. 332). Евреи, как таковые, вообще не упоминаются
в романе, а борьба крестьян велась именно с солдатнёй, грабившей и убивавшей
крестьян ради собственного обогащения.
1 LönsH. Op. cit. S. 207.
2 ïbid. S. 80.
3 Ibid. S. 87.
4 Ibid. S. 239-240.
157
отдаёт некоей параноидальной окрашенностью, хотя сам автор
утверждает обратное: «„Вервольф" является исключительно здоро-
вой книгой, а тот, кто его писал, был исключительно болен телом
и в ещё большей мере душой».1
Как бы то ни было, но после первой мировой войны роман
получил широчайшее распространение (к 1945 году тираж его
достиг 700 тыс. экземпляров), а сам Лёне был причислен к лику
«предвестников новой Германии» и отмечен как «первый великий
политический поэт нового времени».2 По образцу «вервольфа» в 20-х
годах были созданы добровольческие корпуса, суды фемы для борь-
бы с революционным движением в Германии и против Веймарской
республики. Название «вервольф» получили и вооружённые форми-
рования нацистской самообороны, использовавшиеся для охраны
нацистских митингов.3 Более того, последняя акция нацистского
молодёжного движения «гитлерюгенд», инициированная Гимлером
в сентябре 1944 года и направленная на ведение партизанской
войны в тылу наступающих союзнических войск, получила также
название «вервольф».4
Было бы неправильным причислять Г. Лёнса к провозвестни-
кам национал-социалистского движения, хотя многие идеологиче-
ские положения его (колониализм, расизм, милитаризм, почвенни-
чество) нашли в творчестве писателя ясное отражение. Г. Лёне был
ярким выразителем настроений мелкобуржуазных националистских
кругов Германии начала XX века со всеми вытекающими отсюда
радикальными политическими интенциями, и поэтому нацистам
не представляло особого труда использовать творчество писателя
в своих целях. Другое дело, что агрессивная подача националист-
ской идеологии в произведениях Лёнса создавала определённую
духовную атмосферу, некую подпочву для восприятия идей соци-
ал-национализма в широкой читательской аудитории.
Если Г. Лёне воспринимался нацистским литературоведением
как автор, обладавший «исключительным восприятием расы как
1 WeilM. Op. cit, S. 11.
2 Langenbucher H. Volkhafre Dichtung der Zeit. Berlin, 1940. S. 394.
3 Отсюда пошли и названия ставок А. Гитлера во время второй мировой войны:
Wolf schanze, Wolfschlucht.
4 Примечательно, что одним из отрядов «вервольфа», боровшихся в Баварии с «капи-
тулянтами», руководил Ганс Цёберляйн, один из ведущих авторов фашистского
Парнаса.
158
основополагающей основы немецкого образа жизни»,1 особенно,
если это касалось крестьянства, то Ганс Гримм (Grimm, Hans;
1875-1959), прозаик, публицист, автор знаменитого романа «Народ
без пространства» (»Volk ohne Raum«, 1926), рассматривался нацист-
ской интеллектуальной иерархией как создатель единственного
в своём роде «колониального крестьянского романа».2
Приверженность Гримма колониальной тематике является
отражением его собственной судьбы. Гримм родился в профес-
сорской семье. Его отец был одним из соучредителей созданного
в 1884 году «Общества немецкой колонизации» (Gesellschaft für
deutsche Kolonisation), и мысль о поездке в Африку родилась
не на пустом месте. С. 1897 по 1911 годы Гримм, пройдя обучение
в Лозанне и прослушав курс торговой экономики в Лондоне, нахо-
дился в Южной Африке, где прошёл путь от торговца до владельца
небольшой фермы. После возвращения в Германию, Гримм продол-
жил образование в Мюнхене и Гамбурге в Колониальном институте.
С начала Первой мировой войны он работал в иностранном отделе
Главного штаба. После войны Гримм покупает здание старого мона-
стыря в Липпольдсберге, где он и оставался до конца своих дней.
В отличие от большинства немецких писателей консервативной
направленности Гримм редко называл себя поэтом (Dichter), в край-
нем случае — «политическим поэтом».3 Он и в «Немецкую академию
поэтов» попал только после прихода к власти нацистов, хотя ранее
фракция консерваторов в академии, и до этого бывшая довольно
сильной, предприняла в 1927 году попытку пополнить свои ряды
за счёт приёма Гримма в это престижное учреждение, но потерпела
неудачу.4 Гримм считал себя писателем, далёким от «артистических
игр», от «каких-то приятных фантазий», и «видел обязательство
писателя по отношению к народу в близости к народной действи-
тельности и в её познании для народа», объясняя это тем, что «самая
последняя немецкая жизнь зависит сегодня страшным образом
от политики, и неполитической колониальной книги не суще-
ствует».5 Не случайно в 36-томном собрании сочинений Гримма
GebhardA. Der deutsche Bauernroman seit 1900. Berlin, 1939. S. 16.
Ketelsen Uwe-K. Völkisch-nationalen und nationalsozialistische Literatur in Deutsch-
land 1890-1945. S. 73.
Grimm H. Englische Rede. Wie ich den Engländer sehe. Gütersloh, 1938. S. 13.
Jensl. Dichterzwischen rechts und links. Leipzig, 1994. S. 145.
Ketelsen Uwe-K. Literatur und Drittes Reich. Vierow bei Greifswald, 1994. S. 200.
159
15 томов составляют собственно политические сочинения, и это
не считая художественных произведений, вроде романа «Народ без
пространства»,1 буквально нашпигованных политическими речами,
рассуждениями, памфлетами, комментариями, выходящими далеко
за рамки избранного жанра.
Однако приверженность Гримма политической тематике вовсе
не означала, что он собирался быть проводником идей национал-со-
циализма в том виде, в каком они преподносились партийной про-
пагандой, хотя ещё в 1932 году он заявил о своей близости к этому
политическому движению: «Я вижу в национал-социализме наряду
с другими первое и пока единственно настоящее демократическое
движение немецкого народа».2 Тем не менее, он не был членом
НСРПГ, а оставался, что называется, беспартийным национал-со-
циалистом, имевшим своё представление о нацистской идеологии,
отчего его порой называли оппозиционером, хотя таковым он,
по большому счёту, никогда не был. Это особое мнение писателя
нашло своё выражение в известном открытом письме Г. Гримма
и А. Виннига «Обращение к национал-социализму» (»Bitte an den
Nationalsozialismus«), опубликованном в конце сентября 1932 года
в «Берлинер Бёрзенцайтунг» (»Berliner Börsenzeitung«). Авторы это-
го письма были обеспокоены тем, что нацистское движение стало
проявлять повышенный интерес к социальным проблемам рабоче-
го класса, что, по мнению авторов письма, означает скатывание
на позиции большевизма: «Мы полагаем, что рабочая политика
должна строится на том, чтобы из 20 миллионов немецких рабочих
сохранить ядро нашей кровной народной силы и возвысить это
ядро до намеренного носителя общегерманской задачи».3 Говоря
другими словами, речь шла о «чистоте» рядов партии, об опасности
превращения партии в массовую организацию.
Письмо это вызвало бурную реакцию Геббельса, Розенберга,
не говоря уже о партийных бонзах рангом поменьше, и только
вмешательство Гесса, заместителя фюрера по партии, положило
конец нападкам на Гримма,4 но отнюдь не изменило его взглядов.
1 Ketelsen Uwe-K. Literatur und Drittes Reich. Vierow bei Greifswald, 1994. S. 200.
2 Цит. по: Wulf J. Op. cit. S. 337.
3 Цит. по: Grimm H. Warum — Woher — aber Wohin? Vor, unter und nach der geschicht-
lichen Erscheinung Hitler. Lippoldsberg, 1954. S. 124.
4 Ibid. S. 128.
160
|Гримму, как и многим консерваторам, претила брутальная манера
[доведения нацистов, особенно проявившаяся во время подавления
|уак называемого «путча Рема» в 1934 году, что вызвало брожение
ip рядах приверженцев национал-социализма: «Если мы вообще
|сотим обрести национальное будущее,— говорил Гримм,— то наци-
онал-социализму нельзя позволить пропасть... нужно только делать
^еперь всё более аккуратно».1 Гримм часто говорил о том, что он
Сделает различие между изначальным «чистым» национал-социализ-
мом, который превратился в «гитлеризм», что, однако не означало
! отказа от основных постулатов этого политического движения.2
Сходные мысли, только более открыто, высказывал и близкий друг
!|"римма Биндинг в своём письме Геббельсу: «Мы, поэты войны,.,
делаем, чтобы национал-социализм осуществился. Правда, в тех
*дастых образах и формах, которые мы чувствуем и воспринимаем
;ş каждом слове фюрера».3 Подобные рассуждения Гримма и людей
сГо круга, судя по всему, не остались незамеченными, и в 1935 году,
#адо полагать, в назидание сомневающимся, он был выведен
из состава «Немецкой академии поэзии» из-за «политических и иде-
ологических разногласий».4
Вероятно, чашу терпения нацистов переполнил отказ Грим-
ifa принять участие в выборной кампании по случаю плебисцита
Cf наделении Гитлера постами канцлера и рейхспрезидента.5 Одна-
ко не исключено, что одной из причин этого необычного решения
М1цао самовольное, без разрешения партийных властей, учреждение
Гриммом в 1934 году так называемых «Липпольдсбергских встреч
поэтов», проходивших в его поместье, которые можно рассматри-
вать как некое противопоставление «Немецкой академии поэтов»
и даже как некий озвученный вариант журнала «Иннере Рейх»,
органе так называемой «внутренней эмиграции», в создании кото-
рого Гримм принимал заметное участие. Мысль об организации
«Липпольдсбергских встреч» возникла у Гримма во время его пре-
рывания в 1934 году в Лондоне, где он выступал с докладом о новой
Цит. по: Franke M. Grimm ohne Glocken. Köln, 2009. S. 10.
Franke M. Op. cit. S. 128-129.— Уже после 1945 г. Гримм заявлял: «...я никогда
не был до такой степени сумасшедшим, чтобы признавать отвратительное убий-
ство связанных людей как справедливый суд и достойную похвалы кару». Ibid.
3 Anonym. Binding-Briefe... S. 58.
Wellmann M. Op. cit.
kranke M. Op. cit. S. 52-58.
161
немецкой литературе и читал отрывки из своих произведений.
В какой-то мере это было связано с неадекватным восприятием
его выступлений в английской прессе, но ещё в большей степени
эта мысль возникла, как писал впоследствии Гримм, «под воздей-
ствием влияния напуганных политических эмигрантов,., распро-
странявших там (в Англии. — Е. 3.) мнение о нашей письменности,
которое совершенно не соответствовало состоянию дел в то время».
Для того чтобы придать высокий смысл этому начинанию, Гримм,
совсем в духе знаменитого ответа своего друга Биндинга Роллану,
соглашается с тем, что «при попытке неперебродившегося наци-
онал-социализма как можно быстро установить новый порядок
и обрести ясность имели место кое-где отдельные безрассудные
проявления «иконоборчества». Но мы, представители духовности,.,
в этих местных волнениях и аутодафе... не принимали участия».1
Дистанцируясь от брутальных манер нацистов, Гримм старается
представить немецких писателей консервативной направленности
как представителей новой духовной элиты, озабоченных обще-
мировыми проблемами: «Я намереваюсь пригласить к себе летом
на несколько дней ряд молодых немецких писателей и, наверное,
моего друга Биндинга. Все эти люди принимали участие в войне,
они все, вероятно, убеждены в том, что мир находится на перело-
ме и что ради сохранения Европы немцам принадлежат такие же
как и всем в Европе права, учитывая принесённые ими жертвы».-
Говоря иными словами, участниками встреч были консерваторы,
исповедовавшие духовные принципы времён кайзера — ответ-
ственность, приличия.
Центральной фигурой этого своеобразного кружка предста-
вителей прошлого являлся Рудольф Г. Биндинг, который, будучи
самым старшим по возрасту, воспринимался участниками «Лип-
польдсбергских встреч» как некая поведенческая модель в политике,
литературе и даже во внешнем облике подтянутого кавалерийского
офицера. Биндинг принимал активное участие во всех встречах,
кроме первой, и в газетных отчётах характеризовался как старейши-
на немецких писателей.3 Наряду с Биндингом в «Липпольдсбергских
1 Grimm Н. Suchen und Hoffen. 1928-1934. Lippoldsberg, 1972. S. 318.
2 Ibid. S. 317.
3 Koch G. Hans Grimms Lippoldsberger Dichterkreis // Faber R., Holst Chr. Kreise —-
Gruppe — Bünde. Zur Soziologie moderner Intellektuellenassoziationen. Würzburg
2000. S. 167.
162
встречах» принимали участие Пауль Альвердес и Бенно фон Мехов,
редакторы журнала «Иннере Рейх», Ганс Каросса, Рудольф Александр
;Ц1рёдер, Эрнст фон Заломон, Фридрих Бишоф, Аугуст Винниг, Гер-
ман Клаудиус, Хайнрих Циллих, Вернер Боймельбург, Вальтер Юлиус
Блеем, Иоахим фон дер Гольц,— авторы, достаточно часто публи-
ковавшиеся в журнале «Иннере Рейх». Приглашения были посланы
Эрнсту Юнгеру, Бруно Брему, Ине Зайдель и ряду других авторов,
разделявших в той или иной мере взгляды этого консервативного
сообщества, однако они отказались от участия в этих встречах.
Сам Гримм выступил только один раз на «Липпольдсбергер
встрече поэтов» в 1938 году с чтением глав из своего романа «Народ
без пространства».1
Кроме писателей на встречах в Аиппольдсберге присутствовали
некоторые критики и литературоведы, например, Пауль Фехтер,
Юрген Шюддекопф, Роуз, один из редакторов английского проне-
мецкого журнала »German Life and Letters«, профессора Оксфорд-
ского университета Фидлер, Беннет, профессор Нью-Йоркского
Колумбийского университета Хойзер, профессор Римского универ-
ситета Габетти. Начиная с 1935 года, каждая встреча проходила
под определённым лозунгом: в 1935 году — «Музыка и поэзия»,
в 1936 году — «Благоговение перед вечностью и страстная любовь
к нашей родине», в 1937 году — «Что представляют в разное время
на деревенских площадях», в 1938 году — «Мать — отец — роди-
тельский дом», в 1939 году — «О моё сердце, отправляйся на поиски
радости».2
Судя по тематике встреч и по тому, что читали участники «Лип-
польдсбергских встреч», здесь не было славословий в адрес фюрера
или истерических призывов громить врагов нации, чем особенно
славились официальные «Великонемецкие встречи поэтов». Напро-
тив, как выразился Э. фон Заломон, один из самых молодых участ-
ников «Липпольдсбергских встреч поэтов», здесь собрались «поэты,
Живущие в сельских домах»,3 т.е. писатели фёлькиш-национальной
направленности.
KochG. Hans Grimms Lippoldsberger Dichterkreis // Faber R., Holst Chr. Kreise —
Gruppe — Bünde. Zur Soziologie moderner Intellektuellenassoziationen. Würzburg,
2000. S. 175.
2 Ibid. S. 175.
Salomon E. von. Der Fragebogen. Reinbeck bei Hamburg, 1967. S. 192.
163
Трудно сказать, обсуждались ли прочитанные произведения
на «Липпольдбергских встречах». Если судить по воспоминаниям
Э. фон Заломона, то какие-то суждения высказывались,1 но доста-
точно деликатные, учитывая состав выступавших (время ожесто-
чённых дискуссий в духе «группы 47» ещё не пришло). Если судить
по гневному замечанию Геббельса, обвинившего Гримма в том, что
тот позволяет себе высказывания о «перегибах» в национал-социа-
лизме, какие-то разговоры нелитературного свойства на встречах
в Липпольдсберге всё же велись.2 Не случайно тот же Э. фон Зало-
мон говорит о том, что в Липпольдсберге, не в пример «некоему
сомнительному фарсу», т.е. академии, где «переливают из пустого
в порожнее», Гримм выступает в роли Дон Кихота, который «борется
с ветряными мельницами официальных учреждений», т.е. за чисто-
ту идей национал-социализма, и поэтому в отчаянии восклицает:
«Я совершенно не знаю, что этот Геббельс имеет против меня!»3
У Геббельса были причины предъявлять претензии Гримму.
С учётом того, что во встрече принимали участие окрестные жители,
студенты Гёттингенского университета и даже военнослужащие
из близлежащих частей рейхсвера, а в программу встречи входили
музыкальные концерты, пароходные экскурсии по Везеру, обшир-
ная торговля книгами с раздачей автографов авторов, размах это-
го мероприятия настолько впечатлял, что вызвал неудовольствие
в нацистских кругах. Геббельс усмотрел (и не без оснований) в «Лип-
польдсбергских встречах» определённое оппозиционное проявление
и пригрозил Гримму концлагерем, что и привело в 1939 году к пре-
кращению этих встреч. В действительности вся эта контроверза
вызвана была не столько политическими разногласиями, хотя
подспудно они существовали, сколько боязнью конкуренции этих
встреч обще германским встречам писателей, проходившим под
началом всесильного министра пропаганды. Свою роль здесь сыграл
и тот факт, что «Липпольдсбергские встречи» были частным меро-
приятием и не имели официального характера «Великогерманских
встреч поэтов» или «Недель немецкой книги» с их торжественными
речами, с выступлениями представителей партии и правительства,
не говоря уже о пропагандистской шумихе на радио и в прессе.
Правда, пресса не обходила вниманием и Липпольдсбергские
1 Salomon Е. von. Der Fragebogen. Reinbeck bei Hamburg, 1967. S. 196.
2 Wellmann M. Op. cit.
3 Salomon E. von. Op. cit, S. 195.
164
встречи, однако основной акцент публикаций, как ни странно,
делался не на самих чтениях (у исследователей практически нет
достаточных сведений о представленных текстах, не говоря уже
о дискуссиях по поводу них), а на описании окололитературной
атмосферы встреч. Например, Пауль Фехтер, известный литерату-
ровед и непременный участник встреч в Липпольдсберге, которому,
казалось бы, и надо было писать о прочитанных на этих встречах
текстах, в своей обширной статье о встрече в 1937 году только
мимоходом упоминает о том, что Рудольф Александр Шредер читал
свои переводы «Илиады» Гомера и Каросса «прочитал что-то из сво-
их стихов», а основное внимание уделил описанию прямо-таки
народному гулянью под стенами Липпольдсбергского монастыря.1
Гримм, вероятно, намеренно, чтобы не дразнить гусей, свёл офи-
циальную часть «Липпольдсбергских встреч поэтов» до минимума,
выступив, как основатель этого мероприятия, один единственный
раз на первой встрече с кратким приветственным словом.
Несмотря на идеологические разногласия с верхушкой нацио-
нал-социализма, Гримм оставался знаковой фигурой в литератур-
ном табеле о рангах в Третьем рейхе, о чём свидетельствует тираж
его главного огромного (1356 страниц) произведения — романа
«Народ без пространства», достигший к 1939 году 565 тысяч экзем-
пляров, а к 1963 году — 780 тысяч.2 Не меньшей популярностью
пользовались и его рассказы и повести из так называемого «афри-
канского цикла»: «Южноафриканские новеллы» (»Südafrikanische
Novellen«, 1913); «Путь через песок» (»Der Gang durch den Sand«,
1916); «Нефтеискатель из Дуалы» (»Der Ölsucher von Duala«, 1918);
«Сага об Олевагене» (»Die Olewagen-Saga«, 1918); «Судья из Кару»
(»Der Richter in der Karu«, 1930); «Людерицланд» (»Lüderitzland«, 1934).
Ранние «африканские» рассказы Гримма можно рассматривать
как введение в роман «Народ без пространства», как некое посте-
пенное постижение заключённой в нём тематики, хотя в основе
своей это самостоятельные произведения, отличающиеся от романа
Достаточно красочными, одухотворёнными описаниями неизвест-
ного мира, который притягивает к себе европейцев не только сво-
ими богатствами, но и какой-то чарующей, загадочной красотой
Fechter Р. Sommer auf dem Lippollsberg. Bilder von einer Dichtertagung / / Deutsche
Zukunft. Berlin, 25.07.1937. S. 7-8.
Lennartz F. Deutsche Schriftsteller des 20. Jahrhunderts im Spiegel der Kritik. Bd. 1.
Stuttgart, 1984. S. 608.
165
бесконечных просторов, отсутствием обусловленности установками
цивилизации и возникающем от этого ощущением безграничной
свободы. Гримм умеет это выразить в своём неспешном повество-
вании, умеет завлечь читателя рассказовой интонацией бывалого
человека, что заметно отличает его от других авторов, писавших
в то время на африканскую тему (Г. Лёне, Ю. Юргенсен). Недаром
почитатели Гримма называли его «немецким Киплингом». В этой
связи особую значимость в африканских рассказах Гримма при-
обретает тема отношений между представителями белой расы,
в особенности немцев, и местным населением. Едва ли не все герои
этих рассказов терпят поражение, и вызвано это не столько осо-
бенностями природы Африки, чуждой и даже враждебной белому
человеку, сколько ослаблением, а то и сознательным пренебреже-
нием ими своим статусом белого человека, нарушением расовой
чистоты. Уже в раннем рассказе «Как Грета перестала быть ребён-
ком» (»Wie Grete aufhörte ein Kind zu sein«) расистская тенденция
нашла своё яркое выражение в поступке пятнадцатилетней Греты,
убившей чернокожую любовницу своего отца, занявшей место его
умершей жены, и брата этой любовницы, к которому Грета испы-
тывала определённое влечение. Она не только восстановила в доме
порядок, но и сама, носившаяся по пустыне на пони с неприбран-
ными волосами, в шотландской юбочке с голыми коленями, вдруг
предстала перед маленькой колонией европейцев в строгой одежде
своей матери как напоминание о том, что немецкая женщина
должна быть в любой обстановке не только хранительницей очага,
но и хранительницей чистоты расы, чего бы это ей не стоило.
Примечательно, что Гримм постоянно напоминает читателю
о том, с какими трудностями сталкиваются немецкие колонисты
в Африке, какое это тяжёлое испытание жить и работать в Африке:
будь то страшное одиночество, когда даже близкий человек ока-
зывается равнодушным сожителем («Дина», »Dina«), или страшная
судьба немецкого солдата, предавшего свой народ и свою родину
ради заработка; тяжело раненый, он ползёт по пустыне, пресле-
дуемый негром, который ждёт его смерти, чтобы забрать себе его
имущество («Путь через песок»); или, наконец, жестокая расправа
англичан над бурами, переселенцами из Голландии в «Саге об Оле-
вагене», к которым Гримм испытывает особое расположение, учи-
тывая его англофобию.
Несмотря на все трудности обретения новой родины, опи-
сываемые Гриммом в его африканских рассказах, писатель, тем
166
це менее, не видит иного пути для разрешения проблем немецкого
крестьянства, не имеющего возможности прокормить себя в Герма-
нии на жалком клочке земли, кроме как отправиться искать счастья
в Африке. Гримм считал немцев «крестьянским народом», которому
грозила опасность превратиться в «индустриальный народ», в проле-
тариат, и поэтому «Народ без пространства» являет собой некий род
романа в духе Heimatdichtung. Оставаясь в пределах Липпольдсбер-
га, обыгрывая всевозможные местные события вплоть до времён
Каролингов, Гримм фактически интерполирует провинциальное
мелкотемье на всю современную историю Германии со всеми её
социальными и политическими проблемами, расширив таким
образом рамки областнического романа, эстетические возможности
этого жанра, придав ему в конечном итоге статус исключительно
политического романа. Поэтика Heimatdichtung обрела новую воз-
действующую силу, и потому не зря Гримм постоянно подчёркивает,
что «Народ без пространства» это не роман, а рассказ, ибо весь он
построен в форме разговора, убеждения, назидания, что выража-
ется не только в многочисленных монологах и спорах, отталкива-
ющихся от бытовых несуразностей повседневной жизни простого
люда, но и в опрощении словарного инструмента, обилии банальных
оборотов речи, рассчитанных на неискушённого в политических
событиях читателя. Именно таким способом Гримму удавалось
зародить в сознании читателя расистские взгляды, первородство
белого человека, особую значимость немцев как расы господ, воз-
будить ненависть к инородцам и врагам немцев, под которыми он
понимает в первую очередь евреев и англичан.
В какой-то мере этот роман можно рассматривать как бел-
летризованное изложение не только колониалистских претензий
национал-консерваторов, но и как горестную констатацию непри-
каянности немцев в современном мире, грозящей исчезновению
немцев как исключительной расы. Едва ли не все истории в романе
«Народ без пространства» заканчиваются поражением его персо-
нажей, и как раз это обстоятельство служит поводом для Гримма
выдвигать идею возрождения «германской общинной свободы», ибо
только тогда проявится «личная сила поступка» немцев,1 а не в узах
государственных установлений или в рамках политических партий,
только тогда они станут «хозяевами судьбы своего родного клочка
tennartz F. Deutsche Schriftsteller des 20. Jahrhunderts im Spiegel der Kritik. Bd. 1.
Stuttgart, 1984. S. 27.
167
земли и баронами своих рук».1 Роман «Народ без пространства»
является своего рода романом-предупреждением о грозящих бедах,
могущих приключиться с немецким народом, если его лишить
присущей ему, как полагает Гримм, исторической политической
и социальной предрасположенности, и одной из возможностей
сохранения единственного в своей исключительности народа явля-
ется предоставление ему колоний.
Примечательно, что роман Гримма странным образом ужива-
ется, при всём восхвалении его нацистской критикой и одобрении
идеологами национал-социализма, с противоположной концеп-
цией фюрера о колонизации. Если Гримм, как выразитель идей
«Немецкого колониального общества», всячески отстаивал в своём
романе идею переселения немецкого крестьянина в Африку в силу
невозможности обеспечить его землёй в Германии, не говоря уже
о Европе (после проигранной войны и экономического хаоса об этом
не могло быть и речи), то Гитлер уже в «Майн кампф» обозначил иные
планы «по увеличению жизненного пространства нашего народа
в Европе... Тем самым мы, национал-социалисты, подводим черту
под внешнеполитическими направлениями нашего предвоенно-
го времени. Мы начинаем там, где закончили шестьсот лет тому
назад. Мы останавливаем вечный германский поход на юг и запад
Европы и обращаем свой взгляд на земли востока. Мы окончатель-
но завершаем колониальную и торговую политику предвоенного
времени и переходим к земельной политике будущего. Но когда
мы говорим сегодня в Европе о новых землях, мы можем в первую
очередь думать только о России и о подчинённых ей лимитрофах».2
В конце 1933 года Геббельс более чётко и более решительно зая-
вил о смене приоритетов в планах нацистов относительно колониза-
ции Африки: «Будущие заморские колониальные владения должны
служить для добычи сырья и колониальных товаров для немецкого
хозяйства, а не как объект для переселения немецких крестьян.
Какую-либо иную агитацию следует при любых обстоятельствах
пресекать».3 В данном случае речь шла не столько о художественной
литературе, потому что поток африканских колониальных романов
1 Grimm H. Volk ohne Raum. München, 1932. S. 19.
2 Hitler A. Mein Kampf. München, 1939. S. 741-742.
3 Цит. по: Zimmermann P. Kampf um den Lebensraum. Ein Mythos der Kolonial- und
der Blut-und-Boden-Literatur // Die deutsche Literatur im Dritten Reich. Themen.
Traditionen. Wirkungen / Hrsg. v. H. Denkler und K. Prümm. Stuttgart, 1976. S. 170.
168
це иссякал,1 сколько о разногласиях в нацистской верхушке, в част-
ности, в противостоянии Риттера фон Эппа, руководителя «Импер-
ского колониального союза», и Вальтера Дарре, руководителя импер-
ского сельского хозяйства. Сам роман «Народ без пространства»
оставался своего рода «священной коровой», которую полагалось
Почитать и в школе и в повседневной жизни. Более того, основные
его положения — расизм, евреи, превосходство нордической расы
и жизненное пространство — отвечали устремлениям нацистской
идеологии, и поэтому с изменением политической составляющей
проблемы колониализма отношение официальных властей к произ-
ведениям Гримма оставалось, хоть и с оговорками, положительным.
Пересказать содержание романа «Народ без пространства»
довольно сложно не только в силу огромного количества событий,
охваченных писателем и составляющих сюжетную основу этого
произведения, но ещё и в силу большого количества различного рода
комментариев, монологов, речей главного героя романа Корнелиуса
Фрибота, мелкого крестьянина, и самого автора, выступающего
в качестве самостоятельного персонажа и главного толкователя
основной идеи этого романа. По сути дела это не роман как таковой,
а диспут, построенный по принципу вопрос — ответ. Постановка
вопроса вытекает из сюжетных перипетий Фрибота, ответ исходит
от самого автора, выступающего в роли как повествователя, так
и явного персонажа романа, так что в действительности мы имеем
некое политическое беллетризованное эссе с претензиями на роман.
Роман охватывает период от 1887 по 1925 годы и состоит
из четырёх книг. В первой книге «Родина и теснота» (»Heimat und
Enge«) рассказывается о напрасных усилиях главного героя романа
Корнелиуса Фрибота, сына крестьянина, прокормить себя на кро-
хотном земельном наделе: «Германия — небольшая страна и она
уже переполнена людьми с их насущными проблемами, и поэтому
приходится зарабатывать на хлеб где только можно».2 Проблему
превращения свободного крестьянина в наёмного рабочего можно
разрешить только путём расширения жизненного пространства:
СР. Dingleiter S. Wann kommen die Deutschen endlich wieder? (1935); Kaempfer
4. Farm Trutzberge (1937); Spießer F. Die zweite Generation (1938); Deutsche Flagge
über Sand und Palmen. 53 Kolonial-Krieger erzählen / Hrsg. v. W. von Langsdorff
(1936); Cramer E. F. Die Kinderfarm (1940).
Grimm H. Op. cit. S. 19.
169
«Да, если бы эти внуки крестьян были бы британцами и знали бы,
что за ними стоят просторы Канады, Австралии, Новой Зеландии
и Южной Африки, и таким образом имели бы другой выбор, нежели
отправиться на фабрику и в большой город!» * У Фрибота нет такого
выбора, и он идёт служить во флот, но и там он ощущает ограни-
ченность своих возможностей по причине заметного превосходства
англичан.
Затем Фрибот отправляется в Бохум, где становится горнора-
бочим, ощутив на себе сполна жалкое состояние пролетария. После
несчастного случая на шахте он вступает в конфликт с руковод-
ством шахты, обвиняя его в бесчеловечном отношении к рабочим,
и как следствие — увольнение, арест, тюрьма.
Убеждаясь в том, что ни социалисты с их идеями классовой
борьбы, ни клерикалы с их религиозным подвижничеством, не могут
разрешить проблему жизненного пространства, Фрибот уезжает
в Южную Африку, и, как об этом рассказывается во второй книге
«Чужое пространство и ложный путь» (»Fremder Raum und Irregang«),
он и здесь сталкивается с социальной несправедливостью — проти-
востоянием буров и жадных до наживы английских купцов. Фрибот
воюет на стороне буров, попадает в английский концентрационный
лагерь, где осознаёт, что война вызвана происками «английских
и еврейских финансовых воротил»,2 стремящихся выжить из Афри-
ки не только буров, но и немцев как потенциальных конкурентов.1
Находясь в лагере, Фрибот приходит к выводу о том, что нынешняя
власть не заботиться о будущем Германии: «Наши аристократы,
помещики и армия не поняли своей духовной обязанности,., что
будет с нами без духовного немецкого руководства?»4
После возвращения из плена Фрибот приезжает в Иоган-
несбург, где встречает одного английского рабочего, который,
поговорив с ним, удивился тому, что немцы не проявляют особой
активности в деле обретения колоний: «Неужели вы немцы такие
слабаки, что вам приходится скакать на чужих плечах? Ваше
государство должно предоставить вам всё, что вам нужно... Разве
наши колонии были нам предоставлены или подарены? Но старая
1 Grimm H. Op. cit. S. 19.
2 Ibid. S. 441.
3 Ibid. S. 375.
4 Ibid. S. 525.
170
Англия рано поднялась, на всё осмелилась и заплатила за это кро-
вью, а на ругань не обращала никакого внимания».1
Эти и подобные им разговоры, как и собственный жизненный
опыт, привели Фрибота окончательно к осознанию того, что соци-
ализм с его классовыми и интернационалистскими устремлениями
«слишком мало внимания обращает внимания на народ, что, веро-
ятно, связано с тем, что его основателями были евреи».2 Общинные
принципы народнического толка должны определять, по Гримму,
социальное и политическое развитие Германии, ибо, если этого
не произойдёт, не произойдёт и обновления Германии, она просто
исчезнет, а «если мы совсем прекратим существование»,— резюми-
рует Фрибот,— «то миру уже ничто не поможет!»3 В подобного рода
суждениях Гримма о глобальной значимости немецкой сущности
для всего мира сказываются отголоски высказываний И. Г. Фихте
на ту же тему с той лишь разницей, что последний таким образом
хотел объединить нацию в борьбе против Наполеона и вообще
вытянуть её из болота областнического провинциализма, прибегая
к таким сильным побудительным средствам, в то время как Гримм
мыслил о колонизации, о насильственном захвате чужих земель
по английскому образцу.
Желая обрести почву под ногами, Фрибот собирается пере-
браться в Немецкую Южную Африку. Перед отъездом он встреча-
ется с немецким купцом Гансом Гриммом, который наставляет его
на истинный путь, отчего эти главы напоминают историю колониза-
ции Африки немцами, а не художественное повествование. Фрибот,
не без помощи Гримма, выступающего в двух ипостасях — персо-
нажа романа и писателя, приходит к выводу о том, что «Германия
должна завоевать массы, а это значит, завоевать маленьких людей».4
Учитывая, что облик кайзера потерял свою привлекательность, для
этих целей нужен новый вождь, потому что маленький человек,
как и сам Фрибот, не знает, как это сделать: «Я только знаю, что
немецкая судьба ещё никак не определилась, она ещё в зачатке,.,
и я знаю, что народ сам пребывает в растерянности, как, впрочем,
и я. В том-то и дело, к чему мы придём».5
1 Grimm H. Op. cit. S. 594.
2 Ibid. S. 575.
3 Ibid. S. 616.
4 Ibid. S. 683.
5 Ibid. S. 683.
171
Третий том — «Немецкое пространство» (»Deutscher Raum«) —
это своего рода апология «немецкой сущности, от которой будет
исцелён весь мир», как потом об этом заявят нацисты, ибо он посвя-
щен описанию немецкой колонии в Южной Африке, которая являет
собой истинное воплощение немецких добродетелей, немецкого
трудолюбия и немецкой (читай — расистской) идеологии. Именно
здесь возможно настоящее народное единение: «Только здесь вдруг
развевается чёрно-бело-красный флаг; и здесь вдруг нет никаких
партий; ...и только здесь мы получим возможность ещё раз начать
там, где закончили немецкие предки давних лет, на огромных про-
странствах и остаться одновременно людьми нашего времени».1
Однако для того, чтобы осуществить эти великие планы, нужно
покорить местное население, что и делают немецкие войска под
началом кайзеровского офицера Фридриха фон Эркерта, жесто-
ко подавившие в 1907-1908 годах восстание готтентотов. Эта
операция подаётся Гриммом как героическое событие, которое
современники не смогли должным образом оценить, как напоми-
нание о подвигах немцев за пределами Германии, что особенно
актуально, с точки зрения Гримма, после проигранной войны.
Отсюда красочные описания боёв, резкие выпады в адрес прави-
тельства и депутатов, игнорировавших значимость достигнутых
результатов. Одновременно это и воспоминания писателя о годах,
проведённых им в Африке, отсюда лирические описания приро-
ды, в которых сквозит сожаление об упущенных возможностях,
о потере рая на земле.
Фрибот принимает участие в этой войне, не испытывая ника-
ких угрызений совести, потому что, как внушают ему его команди-
ры, «готтентот... как человек значит много меньше, чем мы».2 Эту
мысль развивает и автор, делясь своим африканским опытом: «Кто
много лет прожил в Африке,., не только знает, но и научился верить
с твёрдой уверенностью в то, что расы, белая и цветная, не должны
смешиваться, если белая раса намерена ещё долго существовать,
сохраняя духовное господство и её небольшое, но невосполнимое
человеческое благо, выражающееся в весёлом нраве, деловитости
и мистике».3 Правда, тут же, но уже устами Фрибота, высказыва-
1 Grimm H. Op. cit. S. 840-841.
2 Ibid. S. 732.
3 Ibid. S. 740.
172
ется мысль о возможности такого смешения рас, если речь идёт
0 достойном и знающем Африку человеке, который не афиширует
свою «тесную связь с цветной женщиной», не в пример «опустив-
шимся и оборванным внешне и внутренне белым», живущим
на окраинах Африки.1
После успешно проведённой военной операции Фриботу удаёт-
ся скопить деньги на покупку собственной фермы и повести своё
дело таким образом, что вскоре он почувствовал себя состоявшимся
человеком, который может себе позволить после праведных трудов
обратиться к книгам. Выбор был у него небольшой, но по-своему
примечательный: роман Томаса Манна «Будденброки» и книга
журналиста Герхарда Хильдебранда «Потрясение господства про-
мышленности и промышленного социализма». Если поначалу «Буд-
денброки» привлекли Фрибота своей основательностью, «невероятно
искусным мастерством языка», то потом, когда он дошёл до описа-
ний распада купеческой семьи, весь интерес его к роману пропал,
и он обратился к книге Хильдебранда, которая сразу же завлекла
его приверженностью автора проблемам немецкого крестьянина
и способам их разрешения, в числе которых колонизации чужих
территорий отдавалось особое предпочтение. Тогда Фрибот начал
читать по очереди обе книги и вскоре убедился в том, что, хотя
«роман по-прежнему и без особых усилий помогает ему уйти от его
собственных проблем, тем не менее, освободившиеся силы вскоре
начинают требовать какой-то деятельности, которая обладала бы
большим упорством, большей энергией и большими перспекти-
вами. Затем приходила очередь другой, трудной книги, и теперь
освободившиеся силы получали, вроде бы, возможность действо-
вать и им самим приходилось строить, образовывать и находить
пути назад, что-то отбрасывать и добавлять, как это бывает, когда
писатель призывает к дискуссии более зажигательно и не совсем
ещё понимая её сути. И в то время как на следующий день от уто-
мительного материала романа не остаётся ничего, кроме более
высокой чувствительности и в лучшем случае отказа и равнодушия
По отношению к реальным вещам, рассуждения, высказанные
во второй книге, скакали верхом, неслись и гнались рядом с тобой
как стойкие товарищи».2
Grimm H. Op. cit. S. 741.
2 Ibid. S. 959.
173
Томас Манн, по мнению Фрибота, описывает гибель старинного
купеческого рода как частный случай, который по сути своей «не
представляет никакой важности», ибо «не связан каким-либо обра-
зом со всеобщей бедой», и в таком случае «бессмысленно красиво
изображать свои и других людей слабости и странности».1
Здесь, конечно, говорит сам Гримм, относившийся, как
и многие фёлькиш-националы, к Томасу Манну с предубеждени-
ем, а то и с завистью, и обвинения в адрес писателя по поводу его
«чрезмерного пристрастия к теме упадка»,2 раздававшиеся со всех
сторон,3 свидетельствовали о том, что писатель затронул чрезвычай-
но болезненную тему своего времени, которая явно не вписывалась
в общую тенденцию героического воспевания прошлого.
Но в этой полемике с великим немцем проявляется и суть твор-
чества самого Гримма, тяготевшего к публицистике политического
толка. Не случайно Томасу Манну противопоставлен публицист
средней руки Герхард Хильдебранд, чью книгу Гримм толкует
как апологию теории «крови и почвы», ибо всё, что производится
в мире, прямо или косвенно зависит от труда крестьянина, который
«кормит и одевает и фабриканта и рабочего, хотя они об этом забы-
вают. .. за гордостью промышленности и за спорами фабрикантов
и промышленных рабочих притаились огромная беспомощность
и бессилие, а за спиной крестьянина лежит только поле».4 Книга
Хильдебрандта, который к тому же оказался социалистом, настоль-
ко захватила Фрибота, что даже во сне ему виделись картины
несчастных крестьян, пребывающих в нищете.5 Он испытывает
определённое удовлетворение от того, что ему удалось, хотя и не на
родине, добиться желанного успеха. Пройдя путь горнорабочего,
попытав счастья мастерового в британской Южной Африке, он
1 Grimm H. Op. cit. S. 960.
2 Hauenstein M. Thomas Mann. Der Dichter und Schriftsteller. Berlin, 1927. S. 119.
3 О том, насколько широко обсуждалась эта тема в прессе после выхода в свет
романа Томаса Манна «Будденброки» достаточно красноречиво свидетельствует
обширная глава в книге Мартина Хавенштайна «Томас Манн. Поэт и писатель»
(1927), которую можно рассматривать как своего рода ответ на высказывания
Г. Гримма в его романе «Народ без пространства», учитывая сроки выхода обеих
книг (Havenstein M. Op. cit. S. 119-146).
4 Grimm H. Op. cit. S. 961.
5 Ibid. S. 963.
174
обрёл, наконец, почву под ногами, стал настоящим крестьянином
в немецкой африканской колонии.
В четвёртой книге «Народ без пространства» рассказывается
0 крушении всех надежд Фрибота на обретение счастья на чужбине,
хотя поначалу всё складывалось как нельзя хорошо. После шестнад-
цатилетнего пребывания на чужбине Корнелиус Фрибот решается
съездить на родину, и убеждается в том, что, несмотря на известные
улучшения, Германия осталась по-прежнему страной с капитали-
стическими интенциями, а крестьяне, как и раньше, пребывают
в небрежении. Он убедился в этом, побывав в Хемнице на съезде
социалистической партии, где было принято решение об исклю-
чение из рядов партии того самого Хильдебранда, чья книга так
пришлась по душе Фриботу, и которого обвинили в приверженности
«колониализму,., и милитаризму».1 Разочаровавшись в идеях социа-
лизма, Фрибот возвращается в Южную Африку. Но тут его ожида-
ют ещё большие испытания: война и поражение Германии в этой
войне, потеря немецких колоний, бесчестное отношение англичан
к немецким колонистам, расовое предательство британцев, потеря
всего имущества вынуждают Фрибота нищим вернуться в Герма-
нию. Причиной всех этих бед Фрибот считает происки коммунистов
и социалистов не только в самой Германии, но и за её пределами:
«Теперь наступил год, когда давние посевы марксистского учения
и иностранной духовной мелочной опеки, которые в течение одного
поколения препятствовали действительному свободолюбивому дви-
жению в немецком рейхе, начали приносить немецкому рабочему
движению и немецкому народу страшные несчастья».2
Вместе с Фриботом в Германию возвращаются колонисты,
военнопленные, торговые люди, среди которых и купец Ганс Гримм,
который начинает писать свою книгу жизни в Африке. Собственно,
здесь говорит уже не персонаж Гримм, а писатель Гримм, и завер-
шающая глава превращается в некую обличительную политическую
речь, где достаётся и сбежавшему кайзеру, а с ним и «всем тем, кто
раньше считался гордостью нации»,3 партиям, которые, несмотря
на поражение в войне, продолжают говорить «об интернационализме
Gnmm H. Op. cit. S. 995.— Этому событию Г. Гримм отводит в романе большое
место, излагая суть проблемы с 993 по 1007 страницу.
2 ïbid. S. 1197.
3 ïbid. S. 1234.
175
и классовой борьбе».1 Книга и так перегружена различными речами,
памфлетами, однако сейчас она превращается в обыкновенную
политическую брошюру, не имеющую никакого отношения к роману
как художественному произведению.
Фрибот опять встречается с Гриммом, они теперь друзья
по несчастью, и от этого их представления о необходимости спасения
Германии и немецкого народа путём захвата колоний обретают фор-
му некоего твёрдого союза, они видят своё назначение в популяриза-
ции этой идеи. Фрибот разъезжает по стране с докладами, объясняя
на своём опыте, значимость нового пространства для немецкого
народа, а Гримм садится за роман «Народ без пространства».
Роман заканчивается смертью Фрибота, который погибает
как мученик за идею от рук коммуниста, и смерть эта связывается
со смертью двух миллионов немцев, боровшихся, каждый по-сво-
ему, за жизненное пространство. Своеобразная притча о хожде-
нии простого немца за счастьем, заканчивается констатацией его
поражения, которое произошло только потому, что немецкий народ
не обладает достаточным пространством для проявления всех своих
способностей и доблестей. Если в первых строках романа «Народ
без пространства» Гримм патетически предвещал о том, что «об
этой книге должны будут звонить колокола»,2 то его заключитель-
ные строки звучат как похоронная проповедь, как предупрежде-
ние немцам о грозящей им опасности, если они откажутся от идеи
жизненного пространства: «И это верно, что звон колоколов совсем
ничего не значит, колокола не предвещают продолжения судьбы.
И это также верно, что немецкие дети будут меньше смеяться, ещё
больше, чем мы, прошедшие войну, пережившие Версаль и Локар-
но, ощущать отсутствие немецкого пространства».3
Подавляющая часть критиков времён Веймарской республики
восприняла выход в свет романа Гримма «Народ без пространства»
как «некий эпос в прозе», схожий по своему строю и художествен-
ным качествам со «старыми нордическими сагами», являющим
1 Grimm H. Op. cit. S. 1233.
2 Grimm H. Volk ohne Raum. S. 9.
3 Ibid. S. 1353.— Версаль связывается с действительно кабальным мирным догово-
ром, который вынуждена была заключить Германия после поражения в Первой
мировой войне; Локарно, город в Швейцарии, в котором был заключён гарантий-
ный пакт о неприкосновенности германо-французской и германо-бельгийской
границ и сохранения демилитаризации Рейнской области.
176
собой отражение «судьбы всего народа».1 Но вот примечательный
штрих. Арно Мулот в своей книге «Немецкая литература нашего
времени», вышедшей в 1944 году (рукопись датируется зимой
1943 года), не отрицая значимости романа Гримма для последую-
щих поколений, даёт, в связи с изменившейся политической ситу-
ацией в стране и на фронтах, новое толкование романа Гримма,
которое можно рассматривать как своего рода «выговор по пар-
тийной линии» писателю, не понявшему основного направления
колониальной политики национал-социалистской партии, и это
притом, что Гримм читал главы из романа Гитлеру, и тот был в вос-
торге от этого произведения.2
Выволочка, устроенная Мулотом Гримму, инициирована была,
по всей вероятности, Геббельсом, так как Гримм всё ещё не оста-
вил надежды возродить Липпольдсбергские встречи, запрещённые
в своё время всесильным министром пропаганды.3 Но были ещё
и более весомые причины такого обращения с официально почи-
таемым автором, и вызваны они были положением на фронтах.
Если в 1940 году, когда почти вся европейская часть Советского
Союза была занята войсками вермахта, в официально признан-
ном опусе X. Лангенбухера «Народническая литература времени»
ци слова не говорилось о расхождении Гримма с позицией партии
По вопросу колонизации Востока, то в 1943 году, после сокруши-
тельного поражения вермахта под Сталинградом, об этом не могло
быть и речи, как, впрочем, и о планах колонизации Африки после
разгрома вермахта под эль Аламейном. Сейчас было не до колоний,
И это, пожалуй, лучше всего понимал сам Мулот, находившийся уже
два года на восточном фронте, о чём свидетельствуют его почти
Истерические слова, предваряющие книгу: «В грандиозной и судь-
боносной битве нашего народа как никогда силён и полон жизни
Йастрой на собственные и значительные силы немецкого свойства.
Пусть новое издание «Немецкой литературы нашего времени» вне-
сёт свой вклад в это дающее силу и закаляющее осознание и тем
Самым в абсолютную волю к борьбе и к победе!»4
1 Mahrholz W. Deutsche Literatur der Gegenwart. Probleme, Ergebnisse. Gestalten.
Berlin, 1930. S. 300.
2 Franke M. Grimm ohne Glocken. Köln, 2009. S. 5.
3 KochG. Op. cit. S. 176.
4 Mulot A. Die deutsche Dichtung unserer Zeit. Stuttgart, 1944. S. VII.
177
Мулот в своей критике исходит из высказываний Фрибота,
выступавшего против «тонкой лжи, благородного, не представ-
лявшего опасности самообмана по поводу духовного, душевного,
морального обновления, которое необходимо, и при помощи кото-
рого всё снова придётся начинать сначала. Как будто дух, душа,
мораль даются раньше хлеба, пространства, надежды».1 С точ-
ки зрения критика, подобная позиция Гримма свидетельствует
о его сомнениях в духовной силе народа: «Мы знаем сегодня, что
не решение проблемы жизненного пространства лежит в основе
обновлённой общности, а наоборот, духовная, душевная и мораль-
ная возрождённая общность является предпосылкой для борьбы
за жизненное пространство, что не экономико-материальное
улучшение, а внутренний настрой и решительность оказывают
воздействие на поворот к лучшему. Не знание трудностей с жиз-
ненным пространством, а зов таинственных изначальных сил,
не претензии, а вера, не уверенность в пользе и преимуществе
национального перед интернациональным, а безусловное ощуще-
ние единства, не рассчитанный пример, а действенный образец
фюрера стал стержнем нашего народного преобразования. «Народ
без пространства» можно было бы сравнить, говоря по-хорошему,
с огромным цоколем, на котором хотелось бы видеть памятник
фюреру. Мы знаем также, что сегодняшняя немецкая колониальная
политика исходит из других фактов и требований, чем это было
известно писателю, и знаем, что энергии, духу предприниматель-
ства и созидательной воле немцев в пределах великогерманского
рейха предоставлено громадное поле деятельности».2
Несмотря на критические высказывания в адрес Гримма, как
и резкие высказывания Геббельса по поводу его оппортунизма, ста-
тус писателя как «классика» литературы Третьего рейха оставался
неизменным. Внешне всё оставалось пристойным, да и сам факт
недовольства Геббельса позицией Гримма, судя по всему, мало
что значил для его дальнейшего существования. По крайней мере,
в дневниках Геббельса за 1940 год можно найти запись о том, что
он распорядился, чтобы «профессор Гримм... высказался по пово-
ду судьбы маленьких нейтральных стран в случае поражения
1 Grimm H. Volk ohne Raum. S. 1298
2 Mulot A. Op. cit. S. 330.
178
Германии».1 В 1941 году его имя, наряду с именами официально
признанных писателей, встречается в книге, посвященной пяти-
десятилетию Гитлера, где он всячески подчёркивает приоритет
немцев в борьбе за «новое человечество и новый, более явственный
союз с богом», связывая это с именем фюрера.2 В какой-то мере его
рассуждения сродни наставлениям Гитлеру придерживаться идей,
провозглашённых им на начальном этапе возникновения нацио-
нал-социализма, в них даже ощущается некий упрёк по поводу
утраты чистоты национал-социалистской идеи.
После бесславного конца Третьего рейха Ганс Гримм, оставаясь
верным поклонником и защитником идей национал-социализма,
а Гитлера в особенности, отнюдь не собирался посыпать голову
пеплом, и развил бурную политическую деятельность, позиционируя
себя как наставника нации. Гримм явно отказывался понимать
суть преступной деятельности нацистов и любые меры, предпри-
нимаемые союзниками для наказания военных преступников,
вызывали у него взрыв негодования, отсылок к международному
праву. Так, например, он засыпал протестными письмами прези-
дента ФРГ Теодора Хейса в защиту Эриха Коха, старого партийца,
гауляйтера Восточной Пруссии и Украины, отличавшегося крайней
жестокостью, которого английские оккупационные власти переда-
ли властям Польши. Беспокоясь за его жизнь, Гримм, прекрасно
осведомлённый о преступлениях своего подзащитного, взывал
к гуманизму — «ведь речь идёт о человеческой жизни»3 —, забывая
о том, что на счету Коха десятки тысяч загубленных жизней.
Переписка Гримма с авторами, определявшими литературную
ситуацию в нацистской Германии, его планы по созданию своего
Литературного журнала, наконец, его многочисленные статьи,
открытые письма и речи, произнесённые во время выборных
кампаний в защиту «Партии германского рейха»,— всё это свиде-
тельствовало о том, что Гримм не теряет надежды на то, что Запад
1 Wollt ihr den totalen Krieg / Die geheimen Goebbels-Konferenzen 1939-1943 / Hrsg.
v. W.A. Boelcke. München, 1969. S. 55.— Как бы ни был интересен этот факт,
но с трудом верится, что Г. Гримм, если вообще речь шла о нём, поспешил выпол-
нить это указание.
2 Grimm H. In das Geburtstagsbuch des fünfzigjährigen deutschen Führers // Der Füh-
rer. Worte deutsche Dichter / Hrsg. v. A.F. Velmede. O. O. 1941. S. 54-55. Цит. по:
Loewy E. Literatur unterm Hakenkreuz, S. 135.
3 Frank M. Op. cit. S. 156.
179
осознает свои ошибки и попытается продолжить дело Гитлера,
но только иным способом, и для этого нужно сплотить ряды еди-
номышленников .
Из общего числа публикаций Гримма послевоенного времени
следует выделить две наиболее значимых: «Письмо Томасу Манну»
и книгу «Почему — откуда — но куда? До, во время и после Гитле-
ра как исторического явления» (»Warum — Woher — aber Wohin?
Vor, unter und nach der geschichtlichen Erscheinung Hitler«, 1954).
Правда, «Письмо Томасу Манну», замышлявшееся как открытое
письмо, так и не дошло до адресата, ибо тогда не нашлось ни одного
издателя, который посмел бы его опубликовать, и появилось оно
в печати только в 1972 году., но само по себе оно примечательно
для понимания позиции Гримма в оценке нацистского прошлого.
Поводом для написания этого письма послужила речь Томаса
Манна «Лагеря» (»Die Lager«), известная более под заголовком «Томас
Манн о немецкой вине» (»Thomas Mann über die deutsche Schuld«),
вызванная публикациями в американской прессе материалов
о концентрационных лагерях и произнесённая Т. Манном 8 мая
1945 года по радио, а затем напечатанная многими немецкими газе-
тами в американской зоне оккупации Германии под различными
заголовками. Весь пафос этой речи определяется призывом к осоз-
нанию немцами национального позора за совершённые нацистами
преступления: «Наш позор», немецкие читатели и слушатели! Потому
что всё немецкое, всё, что говорится по-немецки, пишется по-не-
мецки, всё, что жило на немецкий манер, затронуто этим позорным
разоблачением. Всё это творилось не каким-то незначительным
числом преступников, это были сотни тысяч представителей так
называемой немецкой элиты, мужчин, юношей и потерявших
человеческий образ женщин, которые под влиянием сумасшедших
учений совершали эти злодеяния с болезненным сладострастием».1
Речь идёт не о коллективной вине немецкого народа, хотя опре-
делённые интенции такого рода просматриваются в этой статье,
а о той огромной моральной ответственности, которая легла на пле-
чи немецкого народа, о необходимости решительного осуждения
преступного режима, а этого как раз и не произошло, и неотправ-
ленное письмо Гримма Т. Манну яркое тому подтверждение. Письмо
1 Thomas Mann über die deutsche Schuld // Bayerische Landeszeitung. München,
18.05.1945. Цит. по: Die Literatur der Bundesrepublik Deutschland / Hrsg. v. D. Latt-
mann. Zürich und München, 1973. S. 35.
180
Гримма — это восхваление Гитлера, явление которого породило
в стране «новую надежду» на возрождение немецкой нации, ибо
главная цель его политики остановить «биологическое ухудшение
расы», «вернуть женщину на кухню и в подвал (и, вероятно, так-
же и в постель)».1 Эти и подобного рода доводы не имели ничего
общего с письмом Т. Манна. Правда, Гримм заявляет, что он «не
защищает концентрационные лагеря», но тут же замечает, что там
находились «прежде всего, не политически инакомыслящие, а люди
с постоянно наличествующими болезненными проявлениями»,
имея в виду психически больных или гомосексуалов; не слыхал он
ничего и о «грубых пытках, которые якобы имели место здесь и там
в последние годы войны... я встречался с некоторыми бывшими
заключёнными концлагерей... и они утверждали, что не пережили
ничего плохого кроме того, что можно пережить в плохой тюрьме
предварительного заключения».2
Неизвестно, читал ли Гримм книгу Э. Вихерта «Тотенвальд»,
Повествующую о недолгом его пребывании в концентрационном
Лагере Бухенвальд, но то, что он читал его знаменитую «Речь к моло-
дёжи 1945 года» (»Rede an die deutsche Jugend 1945«) и назвал её
«ужасной»,3 говорит об истинном отношении Гримма к проблемам,
поднятым в письме Т. Манна.
| Для того чтобы как-то разрядить неприятную для него ситу-
ацию с концентрационными лагерями, Гримм переходит в атаку,
^рекая Т. Манна за то, что тот «промолчал о зверствах, творимых
Долгое время в лагерях другого государства»,4 имея в виду Советский
•Союз, и тут же выразил возмущение по поводу пребывания «чистых
Идеалистов», страдающих только «из-за их партийной принадлеж-
ности» в лагерях, устроенных союзниками в разных странах.5
Из всего сказанного складывается впечатление, что Гримм
пытается всеми силами уйти от сути поднятых Т. Манном в его
письме вопросов, выдвигая в за-щиту собственной позиции доводы,
один нелепее другого, сводя всё к глобальным проблемам спасения
Запада от тлетворного воздействия «большевизма». Собственно,
1 Цит. по: Franke M. Op. cit. S. 128.
2 Franke M.S. 130-131.
3 Ibid. S. 125.
4 Ibid. S. 131
5 Ibid. S. 131.
181
пространные рассуждений о значимости фигуры Гитлера для
мировой истории и гневные инвективы в адрес западных стран,
предавших Германию, которая боролась за их же благо, пытаясь
противостоять проникновению в Европу «азиатских орд», опреде-
ляют и книгу Гримма «Почему — откуда — но куда? До, во время
и после Гитлера как исторического явления». Эту книгу можно рас-
сматривать как автобиографию писателя, но построенную именно
в постоянной связи с нацистским движением, и поэтому её следует
воспринимать как своего рода политическое завещание потомкам.
Состоящая из 34 писем, обращенных к своему сыну, эта книга,
напоминает по своему настрою, стилю изложения передовицы
Геббельса в еженедельнике «Рейх». Обилие цитат из книг учёных,
политиков, военных должно, как, вероятно, полагает Гримм, под-
твердить не только его собственные взгляды на историю Германии,
но и значимость Гитлера как личности в мировой истории.
Понимая, что его возможности воздействовать каким-либо
образом на общественное сознание предельно ограничены, он
решает в 1949 году возродить «Липпольдсбергские встречи поэтов».
Открывая первую встречу поэтов, Гримм выразил надежду, что
«в это чрезвычайно смутное и суматошное время с бесконечными
чужеземными поучениями и чужеземными книгами, с неестествен-
ным рёвом массы в прессе и на радио... не подвергшееся заразе
немецкое слово и, следовательно, неиспорченное выражение нашей
немецкой сущности не будет заглушено до степени уничтожения
нашей сущности».1 Выразителями этой сущности были Э. Г. Кольбен-
хайер, В. Феспер, X. Циллих, Г. Шуман, В. Пляйер и другие предста-
вители нацистского Парнаса, бывшие желанными гостями на этих
встречах. Сюда же можно отнести и Адольфа фон Таддена, члена
бундестага ФРГ, отъявленного консерватора националистского
толка, и Вольфа Гесса, сына Рудольфа Гесса, заместителя фюрера
по партии, отбывавшего свой срок в берлинской тюрьме Шпандау.
В своих пронацистских настроениях Гримм не знал удержу.
Дело доходило до того, что Гримм, после прочтения стихов одной
из беженок с Восточной Германии, предложил собравшимся спеть
«Песню Андреаса Хофера» (одна из любимых нацистами песен
времён Наполеона)2 с тем, чтобы «каждый мог вспомнить о тех,
1 Franke M. Grimm ohne Glocken. Ambivalenzen im politischen Denken und Handeln
des Schriftstellers Hanns Grimm. SH-Verlag. Köln, 2009. S. 167.
2 Андреас Хофер, боровшийся за независимость Тироля и расстрелянный напо-
леоновскими солдатами как бунтовщик в 1810 г. Нацисты, в желании найти
182
кто ему ближе всего в памяти», а также о «военнопленных в Совет-
ском Союзе, в Шпандау, в Верле, в восточной зоне, во Франции,
в Югославии и повсюду, где они вынуждены пребывать, находясь
в беспомощном состоянии».1
Для сплочения рядов единомышленников Гримм создаёт соб-
ственное издательство «Клостер-ферлаг» (»Kloster-Verlag«), в котором
издавались не только его книги, но и книги его соратников по духу,
вроде Леона Дегрелля, лидера валлонских нацистов, принимавшего
участие во Второй мировой войне на стороне нацистов, за что и был
осуждён в Бельгии заочно к смертной казни, избегнуть которой ему
удалось бегством во франкистскую Испанию, или адмирала Карла
Дёница, недолгого преемника Гитлера в 1945 году.
Несомненно, что фигура Ганса Гримма как писателя, как
публициста и как человека полна противоречий, что, в общем-то,
свойственно любому человеку, а человеку, имеющему отношение
к литературе, свойственно вдвойне. Но человеку присуще ещё одно
немаловажное качество — способность делать выводы из про-
шлого, умение критическим взглядом обернуться на прожитые
годы. Именно этого качества Гримм лишён был полностью. Вся
его деятельность после 1945 года напоминает некий род заупокой-
ной службы по несбывшемуся роману с национал-социализмом,
Bö время которой Гримму, словно безутешной вдовице, всё ещё
Мнится, что покойный здесь, он вышел на минутку, и поэтому он
Продолжает выяснять с ним свои непростые отношения, пеняя
,йа холодность, обиды, восхищаясь его кратковременной славой
% негодуя на отступников и врагов. В лице Ганса Гримма нацио-
Йал-социализм обрёл верного поклонника, а литература — «поли-
тического поэта» средней руки.
!" ■ К старой гвардии фёлькиш-националов принадлежал и Рудольф
İFeopr Биндинг (Binding, Rudolf G.; 1867-1938), занимавший особое
место в литературной иерархии Третьего рейха. Творческое насле-
дие Биндинга не велико: несколько сборников рассказов, из них
особенно знаменитый рассказ «Жертвоприношение» (»Der Opfer-
gang«, 1911), сборник иронических рассказов «Легенды времени»
предшественников своих идей в прошлом, представляли его как «защитника
немецкой сущности» в борьбе против Италии и Франции, ибо «вся Германия пре-
бывает в позоре и тоске» под игом чужеземцев.
Franke M. Grimm ohne Glocken. Ambivalenzen im politischen Denken und Handeln
des Schriftstellers Hanns Grimm. SH-Verlag. Köln, 2009.
183
(»Legenden der Zeit«, 1922), автобиографическая книга «Пережитая
жизнь» (»Erlebtes Leben«, 1928), две книги стихов, несколько книг
о лошадях, о конном спорте, книга о творчестве скульптора Георга
Кольбе, письма и дневники времён Первой мировой войны «Запи-
ски с войны» (»Aus dem Kriege«, 1925) и две книги эссе и речей. Все
эти произведения неоднократно переиздавались и пользовались
заслуженным успехом, более того, в 20-30-х годах рассматривались
едва ли не классическими образцами немецкой прозы,1 хотя, как это
было свойственно творчеству подавляющего числа представителей
фёлькиш-националов, в тематическом отношении мир интересов
писателя не простирался дальше проблематики Первой мировой
войны и её последствий.
Участник Первой мировой войны, кавалерийский офицер,
приводивший всех в восторг своим искусством верховой езды,
человек, культивировавший идеал немецкого джентльмена в духе
английского короля Эдуарда VII,2 Биндинг принадлежал к той
немногочисленной группе авторов консервативно-националист-
ского толка, которые, находясь «между отъявленных сторонников
бездуховности» и «врагами той самой отъявленной бездуховности»,3
воспринимали нацистов, особенно вскоре после захвата ими власти
в Германии, как некое неизбежное, но временное зло, с которым
надо смириться в борьбе за создание подлинной государственности,
противной демократической вакханалии Веймарской республики.
Это вынужденное смирение не исключало откровенного пре-
зрения к практической деятельности нацистов, особенно усилив-
шейся после кровавой резни, устроенной Гитлером в июне-июле
1934 года, в ходе которой были уничтожены не только против-
ники фюрера в руководстве штурмовиков, но и значимые лица
из лагеря консерваторов. Биндинг не был членом НСРПГ, открыто
отказался в 1933 году от своей подписи под клятвой верности
немецких писателей фюреру,4 а в 1936 году отказался поставить
свою подпись под изъявлением верности фюреру, народу и пар-
тии от имени «Немецкой академии поэзии».5 Однако он был одним
1 Mahrholz W. OP. cit. S. 154.
2 Binding R. G. Erlebtes Leben. Potsdam, 1941. S. 234-235.
3 Vondung К. Völkisch-nationale und nationalsozialistische Literaturtheorie. München,
1973. S. 18.
4 Binding R.G. Die Briefe / Hrsg. v. L.F. Barthel. Hamburg, 1957. S. 216-217.
5 Jens I. Dichter zwischen rechts und links. Leipzig, 1994. S. 272-274.
184
из первых среди известных писателей, кто сразу же после прихода
к власти Гитлера встал на защиту национал-социалистов, вступив
в резкую полемику с Р. Ролланом, обвинившим новых правителей
в политических преступлениях. Поступок Биндинга вызван был
не искренней приверженностью идеалам национал-социализма
(он презрительно отозвался обо всех проявлениях нацистской дей-
ствительности в своём ответе Р. Роллану), а желанием обретения
дюбым путём немецкой государственности после проигранной
войны и тягот Версальского мира.
В этом смысле примечательны суждения Биндинга о Гитлере,
высказанные им в 1930 году в статье «Вести, но куда?», опубли-
кованной во «Франкфуртер Цайтунг»: «Он знает, как и с помощью
чего воздействовать на людей. Его молодая команда, своего рода
личная охрана, дисциплинирована. Это впечатляет. Они передви-
гаются только бегом. Это впечатляет. Он ведёт партию движения
под знаком креста. Это впечатляет. Он применяет униформу (теперь
она запрещена). Это впечатляет. Он говорит только то, что хотят
услышать люди, следующие за ним. Это впечатляет. Он использу-
ет шествия и музыку. Это впечатляет. У него есть своё — правда,
не немецкое — приветствие (вообще-то древнеримское, теперь
фашистское), флаг и общий значок, которым можно себя украсить.
Это впечатляет. Он или его окружение заботятся об успехе. Это
-впечатляет.— Всё это прекрасные, внешние вещи; за ними не сто-
ит ничего особенного. Но это впечатляет. Кого? Покажет будущее.
Его внутренняя сущность — если он об этом знает — проявляется
Очень ясно. Он никого не любит. Он обладает только инстинктом,
направленным на подчинение себе людей. Возможно, он всех их
презирает. По крайней мере, он точно презирает тех, на кого он
Сольше всего метит, тех, которые ему нужны в конечном итоге для
Достижения его целей,— массы».1
Биндинг не скрывал своих филосемитских воззрений, открыто
выступил против изгнания из «Немецкой академии поэзии» Альфре-
да Момберта,2 поддерживал дружеские контакты со своими изда-
телями Нойманом и Освальтом, которые в 1936 году вынуждены
были эмигрировать, но он и принципиально одобрял антисемитскую
политику нацистов: «Я понимаю государственного деятеля, который
говорит: «Я не хочу иметь что-либо общего с евреями». Моя точка
1 Цит. по: Binding R.G. Briefe. S. 19-20.
2 Binding R. G. Briefe. S. 190-192.
185
зрения заключается в том, что национал-социализм осуществится,
если он действительно перейдёт от своих идей к тому, что я ожи-
даю от государства, как живой реальности, и будет способствовать
этому, а именно исполнение жизни благодаря ему».1 Примечатель-
но, что эти слова прозвучали в прощальном письме, очень тёплом
и дружеском, его редакторам-евреям, покидающим нацистскую
Германию после того как их собственное издательство было «ариа-
ризировано», попросту говоря, конфисковано в пользу государства.
Но этот же Биндинг поучает нацистов, как лучше представить
образ Германии на международной арене. В письме к комиссару
Хинкелю Биндинг возражает против предполагаемого назначения
Иоганна фон Леерса (Leers, Johann von), автора многочисленных
антисемитских книг, на пост руководителя «Союза националь-
ных писателей», являвшегося заменой распущенного германского
ПЕН-клуба, справедливо полагая, что он может принести только вред
имиджу нацистского движения: «Я ничего не имею против господина
фон Леерса, но заграница, где мы надеемся с помощью нашего при-
зыва, более того, даже сопротивления против равнодушного интер-
национализма союза ПЕН-клубов, эта заграница будет решительно
выступать против этого имени. Обе его книги — «Евреи, пошли вон!»
и «Евреи смотрят на тебя» — мы можем оценивать у себя в стране
и в рамках первых публикаций книг о расе и крови представлять их
там, где это нужно, или даже (если мы этого хотим) вне каких-либо
рамок. Заграницей это невозможно. Заграницей эти книги будут рас-
ценены исключительно против нас и против нашего дела... Портрет
Альберта Эйнштейна, которого в Англии превозносят как немецкого
учёного, а не как еврея, господин фон Леере помещает рядом с фото-
графией какого-то знаменитого преступника... Я не требую, чтобы
господин фон Леере — если уж таковы его убеждения — застыл перед
Эйнштейном и с почтением снял шляпу перед ним или ознакомился
с его теорией относительности. Но мы не должны наше доброе дело,
которое мы сейчас проводим и будем дальше его проводить, портить
тем, что мы требуем от себя невозможного и по отношению к загра-
нице добрые и оказывающие воздействие имена компрометировать
соседством с теми, которые мы у себя в стране воспринимаем с боль-
шим одобрением и даже ценим, но которые мы, если посмотреть
на это глазами Запада, назвали бы неприемлемыми».2 В этом весь
1 Binding R. G. Briefe. S. 269.
2 Ibid. S. 237-238.
186
Биндинг: как частное лицо он осуждает антисемитизм, но как лицо
официальное (а в данном случае речь шла о его назначении на пост
председателя «Союза национальных писателей», от которого он
отказался) он одобряет это явление, но считает, что из тактических
соображений не стоит его выставлять напоказ.
Биндинг конфликтовал с Геббельсом по поводу запрета
в 1936 году журнала «внутренней эмиграции» «Иннере Рейх»
(»Das Innere Reich«), заявив в письме к всесильному министру
пропаганды о том, что он, Биндинг, как бывший сотрудник этого
издания, и как «товарищ» его издателей (Пауль Альвердес и Карл
Бенно фон Мехов) «чувствует себя затронутым и обвинённым».1
Правда, в этом же письме он выражает уверенность в том, что
«мы, поэты времён войны,., желаем, чтобы национал-социализм
состоялся. Разумеется, в тех чистых формах и образах, которые
İfbi ощущаем и воспринимаем в каждом слове фюрера».2 И это
İte просто дежурная фраза, вызванная временем, а искренняя
уверенность писателя в том, что нацисты доведут до конца дело,
Завещанное им фёлькиш-националами.
Нечто подобное можно наблюдать и в его протестном письме
издателю журнала «Шварце Корпс» (»Das Schwarze Korps«), органу
İplC, в котором Биндинг, отвергая все обвинения в свой адрес, под-
верг публикации журнала критике, назвав их «поверхностными»,
Легкомысленными», и это притом, что «вы обладаете независимо-
стью — скажем прямо, и мужеством — талантом и возможностя-
щи выражать более строгие, более чистые и высокие мысли, чем,
вероятно, все другие газеты сегодня в нашей отчизне».3 Надо было
обладать определённым мужеством, чтобы так просто отчитывать
0|ридворный орган шефа СС Гиммлера, и заодно усомниться в неза-
висимости немецкой прессы в нацистской Германии.
■V В какой-то мере Биндинг, учитывая свои заслуги перед новой
Властью в защите её перед внешним миром во время известной
Дискуссии с Р. Ролланом, полагал, что ему позволено достаточно
откровенно высказываться по любому поводу. Он не упускал воз-
можности напомнить об этом некоторым партийным функцио-
нерам. Отвергая обвинения Бальдура фон Шираха, руководителя
1 Binding R. G. Briefe. S. 342.
2 Ibid. S. 342.
3 Ibid. S. 349.
187
молодёжной организации «Гитлерюгенд», по поводу якобы гнусных
высказываний Биндинга о Гёте в годы Веймарской республики,
он напомнил ему о том, что тот, по-видимому, не знает, с кем он
имеет дело, и разъяснил фон Шираху, что он не только выступал
против «атак» Роллана на нацистскую Германию, но и выступил
в своё время с «разносной критикой романа Ремарка «На западном
фронте без перемен».1
Вероятно, уверенность в своей значимости в новой Германии
подвигла Биндинга обратиться от имени «Немецкой академии поэ-
зии» в мае 1935 года к министру внутренних дел Вильгельму Фрику,
который решал дела по «лишению гражданства» врагов Гитлера,
с предложением отпраздновать 60-летие Томаса Манна, предло-
жив «отметить это событие поздравлением, а также, возможно,
и посылкой делегации», что отвечало бы «духу и явному признаку
новой Германии».2
В известной мере письмо Биндинга можно расценить как
довольно смелый шаг, если учесть, что ещё в октябре 1933 года
«Немецкая академия поэзии» выразила протест против намерения
присудить Нобелевскую премию «эмигрировавшему немецкому
писателю»,3 то есть Т. Манну, и Биндинг не мог этого не знать. Здесь,
надо полагать, Биндинга подвело его джентльменство, стремление
быть ровным как к врагам, так и к друзьям, о чём он неоднократ-
но писал в своей автобиографической книге «Прожитая жизнь»
(»Erlebtes Leben«, 1928). При всём том, что Биндинг не был высокого
мнения о творчестве Т. Манна, заявив в одном из писем к социологу
Альфреду Веберу, что «он [Т. Манн] никогда не обладал возвышенной
душой» (сказано это было по поводу романа «Волшебная гора»),4 он,
тем не менее, дважды встречался в августе 1935 года с Т. Манном
в Швейцарии с тем, чтобы «ознакомить его с некоторыми вещами»,
которые Биндинг «мог доверить только устному слову».5 Более того,
1 Binding R.G. Briefe. S. 361-362.
2 Ibid. S. 290.
3 Цит. по: Jens I. Op. Cit. S. 274.
4 Цит. по: Anonym. // Der Spiegel, 13.11.1957. № 46. S. 61.
5 Binding R. G. Briefe. S. 296.— T. Манну P. Биндинг написал 4 письма. К сожалению,
об ответных письмах Т. Манна можно судить только по нескольким фразам, кото-
рые послужили Биндингу материалом для дискуссии со своим корреспондентом.
Стараниями дочери Т. Манна Эрики Манн эти, как и некоторые другие письма
188
когда Т. Манн отказался от членства в «Немецкой академии поэзии»,
Биндинг никак не мог понять этого поступка, заявив ему в своём
письме в июне 1933 года: «Я вынужден настойчиво заявить, что Вы
нас покинули».1 Именно в этом впоследствии обвиняли Т. Манна,
как, впрочем, и всех немецких эмигрантов, представители «внутрен-
ней эмиграции», посчитав великого немца предателем Германии.
Тем не менее, юбилей Томаса Манна не прошёл незамеченным
в Германии. В июньском номере либерального журнала «Нойе рунд-
шау» (»Die Neue Rundschau«) за 1935 год были помещены не только
отрывок из первой части романа Томаса Манна «Иосиф и его бра-
тья», но и статьи Рудольфа Александра Шредера (Schröder, Rudolf
Alexander; 1878-1962), Оскара Лёрке (Loerke, Oskar; 1884-1941)
И Ганса Райзигера (Reisiger, Hans; 1884-1968),2 посвященные
творчеству юбиляра. Столь массированная акция, несомненно,
не могла пройти без ведома властей, которые, несмотря на резкие
высказывания Т. Манна по поводу событий в Германии, надеялись
каким-то образом заполучить знаменитого писателя в свой рейх.
Единственная газета, еженедельник «Дойче Цукунфт» (»Deutsche
Zukunft«), выпускаемая Паулем Фехтером (Fechter, Paul 1880-1958),
известным литературоведом фёлькиш-национального толка с неко-
торыми оппозиционными настроениями, поместила анонимную
статью «Томас Манн. К шестидесятилетию со дня рождения, имею-
щему место 6 июня» (»Thomas Mann. Zum 60. Geburtstag, 6. Juni«),
в которой даётся во многом справедливая оценка творчества писа-
теля и выражается сожаление по поводу того, что Т. Манн «ушёл
От ожидавшей его молодёжи в мир слов времени, пожертвовал ради
писательства призванием поэта... Большой талант ушёл из жизни
Щ мир слов и опосредованного бытия... двери жизни закрылись
вдали с грохотом за последним великим писателем, который создал
şeHHbm надгробный памятник образованному бюргерству своего
времени».3
её отца к писателям, связанным с нацистским режимом, не вошли в собрание
писем Т. Манна.
1 Ibid. S. 198.
Loerke О. Thomas Manns Buch von den Meistern // Die Neue Rundschau. Juni 1935.
H.6. S. 599; Schröder R.A. Thomas Mann zum 60. Geburtstag // Ibid. S. 561; Reisi-
ger H . Zu Thomas Manns Jungem Joseph // Ibid. S. 687.
-er. Thomas Mann. Zum 60. Geburtstag, 6. Juni // Deutsche Zukunft. Berlin
02.06.1935. S. 19.—Анонимность этой статьи довольно прозрачна, написал ей,
189
Какими бы чувствами ни руководствовался Биндинг в случае
с Т. Манном, его активность в этом деле не получила понимания
в официальных верхах. У Фрика были другие представления о «духе
новой Германии», и Биндинг вскоре это почувствовал на себе,1 ког-
да его вывели из поэтического жюри журнала «Даме», попытались
убрать с книжной выставки, устроенной в честь берлинской олим-
пиады 1936 года, его книгу о конном спорте, и только в последний
момент всё же выставили её на обозрение, и в довершение всех
бед в официальном издании «Немецкая современная литература»
его имя не было даже упомянуто, хотя почти все члены «Немецкой
академии поэзии», даже самые незначительные, были представле-
ны в этой книге. Последовавшие вскоре публикации в органе СС
«Шварце Корпс» и полемика с Б. фон Ширахом дополнили картину
гонений на Биндинга. Строптивый писатель, не вписывающийся
в общепринятую систему отношения с власть предержащими, явно
не устраивал нацистов, однако как представитель традиционной
литературы, не запятнанный связями с официальной идеологией,
Биндинг хорошо вписывался в пропагандистские планы нацистов
как для внутреннего, так и для внешнего потребления. Его терпели,
его книги широко издавались, о нём писали статьи, монографии,2
хотя ни одна рецензия на книги писателя не обходилась без того,
чтобы особо подчеркнуть превосходный язык писателя в противопо-
ложность его авторской позиции, не отвечающей велениям времени.
Однако все эти перипетии, затрагивающие отношения Р. Бин-
динга с нацистскими властями, оставались, за редким исключением,
неизвестны широкой публике, и внешне всё выглядело достаточно
пристойно. За исключением злополучной «Немецкой современной
литературы», где отсутствовало имя Биндинга, творчество писателя
обсуждается во всех историях литературы времён нацизма. X. Лан-
генбухер, «литературный папа» Третьего рейха, в своей многократно
переиздававшейся книге «Современная национальная литература»
конечно, Фехтер (об этом говорит сокращение -ег, т.е. Fechter), ибо в значитель-
ной мере она перекликается в части оценок творчества Т. Манна с книгами этого
литературоведа
1 В письме к заместителю президента «Палаты письменности» Висману Биндинг,
говоря о свалившихся на него неприятностях, прямо указывает на то, что они явля-
ются следствием его письма о чествовании Т. Манна (Binding R. G. Briefe. S. 330).
2 Stenner T. Rudolf G. Binding. Leben und Werk. Berlin, 1938; Röttger K. Die männliche
Haltung in der Lyrik Rudolf G. Binding. Münster, 1943.
190
посвятил Биндингу большую главу с говорящим названием «Про-
возвестник немецкой веры».1 А. Мулот, уже на излёте Третьего
рейха, в 1944 году, в своей книге «Немецкая литература нашего
времени», которую можно рассматривать как некую отчаянную
попытку собрать всё, что может поднять дух немцев в борьбе про-
тив надвигающейся катастрофы, в первой же главе с не менее,
чем у Лангенбухера, говорящим названием «Солдат в немецкой
литературе нашего времени», обращает особое внимание на твор-
чество Биндинга, касающееся тематики Первой мировой войны.2
При всей отстранённости от современной проблематики, твор-
честву Биндинга свойственно стремление к дисциплине, долгу, вну-
тренней собранности, что и находит своё выражение в его военных
дневниках и рассказах. Отсюда же вытекает и стремление к госу-
дарственной конкретике, политической и социальной устойчиво-
сти. Поэтому всё, что выпадает из этих установлений, независимо
до какой причине, подвергается в его произведениях осуждению,
что, собственно, и вызывало раздражение в официальных кругах.
В этом смысле примечательно отношение тогдашних крити-
ков к «Запискам с войны», как и вообще к военным рассказам
писателя. Игнорировать «Записки с войны» им очень трудно, ибо
это одно из немногих произведений, признанных в Третьем рейхе,
В котором повседневная действительность войны отображена
достаточно профессионально и непредвзято. По этой причине, как
Считает X. Лангенбухер, «Записки с войны» «являются, при всей их
односторонности, очень увлекательной и даже сегодня очень заслу-
живающей внимания книгой. Конечно, она содержит некоторые
Бещи, которые с сегодняшней точки зрения и с учётом достигну-
тых преимуществ не состоятельны... В ней содержится открытая
Критика всего, что Биндингу не нравится, что он считает роковым,
Критика солдат и командиров вплоть до самых высших постов,
принятых решений, которые он считает неправильными, критика
врагов и товарищей по службе».3 Война, по мнению Биндинга, с её
опустошениями и человеческими жертвами является «упрёком
человечеству, контраргументом против всей культуры, ведущей
Langenbucher H. Künder deutschen Glaubens / / Langenbucher H. Volkhafre Dichter
derzeit. Berlin, 1940. S. 147-162.
Mulot A. Der Soldat in der deutschen Dichtung unserer Zeit // Mulot A. Die deutsche
Dichtung unserer Zeit. Stuttgart, 1944. S. 3-5.
3 Langenbucher H'. Op. cit. S. 156.
191
к ослаблению веры в возможность дальнейшего развития человека
и человечества».1 Мулот же, приводя эти слова Биндинга, полагает,
что писателю «не хватает понимания сущности достижений народа»,
и тут же ссылается на мнение Э. Юнгера, певца войны, который
считает, что подобные суждения Биндинга «выдают в нём непри-
ятное превосходство над предметом суждения, в них больше ума,
чем истины».2 Но ещё большие возражения вызывает отсутствие
в книге некоего героического порыва, решительности изменить
существующее положение вещей, уход от реальности: «Спишь,
сражаешься и голодаешь, находясь во времени, которое называют
великим. Ничто не вдохновляет. Приходится изо дня в день, из ночи
в ночь всё в себе держать, искать спасения в самом себе».3
Именно так поступает герой рассказа Биндинга «Вингульт»
(»Wingult«), простой солдат, обладавший могучим телосложением,
который опекал безусого фендрика. После очередной атаки фен-
дрик погиб, и все посчитали, что с ним погиб и Вингульт, и поэтому
перестали посылать на их позиции еду. Не имея приказа покинуть
свой пост, голодный Вингульт «повернулся спиной к тому народу,
которому он служил. Он возьмёт на себя другую службу, подумал
он с тоской. Медленно, погружённый в себя, держа под мышкой,
словно доску, своего мёртвого друга, он шёл в ту сторону, к врагам,
во мрак».4 Не менее трагична судьба капитана в рассказе «Изре-
шечённый пулями» (»Der Durchlöcherte«), не вынесшего ужасов
войны и шагнувшего на встречу смерти с рождественской ёлкой,
украшенной зажжёнными свечами. Примечательно, что нацистская
критика отнеслась к этим рассказам отрицательно, посчитав их
« малоубедительными ».5
Мифологизация судьбы немецкого солдата, брошенного на про-
извол судьбы своим народом — вещь невероятная в глазах истин-
ного националиста — обретает некий обвинительный оттенок, хотя
в действительности здесь говорит военный старой закалки, для
1 Binding R.G. Aus dem Kriege // Binding R. G. Dies war das Maß. Die gesammelten
Kriegsdichtungen und Tagebücher. Potsdam, 1939. S. 230.
2 Ibid. S. 3.
3 Binding R. G. Op. cit. S. 448.
4 Binding R.G. Der Wingult // Binding R.G. Gesammeltes Werk. Bd. 1. Novellen und
Legenden. Potsdam, 1937. S. 243.
5 Mulot A. Op. cit. S. 4.
192
которого Первая мировая война стала невероятным испытанием,
перевернувшим все его представления о войне как таковой: «Когда
я вернулся с войны, я был одним из тех, кто видел истинное лицо
человечества. Оно было зверским, когда проявилось неприкрыто
и откровенно. Все завесы были сорваны. Мы содрогались при виде
того, что способен был сделать человек с человеком. Мы, которые
были там, на войне, и по-настоящему её пережили, теперь имели
другое представление о мире. У нас были другие основания, другие
первопричины и другое будущее, чем те у людей, не переживших
всё это».1
Недаром Биндинг с таким тщанием описывает в рассказе «Мы
требуем сдачи Реймса» (»Wir fordern Reims zur Übergabe auf«) пери-
петии пребывания во французском плену группы немецких парла-
ментёров. Весь рассказ проникнут духом джентльменского благород-
ства, столь милого сердцу Биндинга, который проявили французы
по отношению к пленным немецким офицерам, и является своего
рода напоминанием о том, как велись войны в прежние времена.
К этой же теме Биндинг возвращается и в своей автобиографии
«Прожитая жизнь», рассказывая о джентльменском поведении фран-
цузских оккупационных властей в городке Бухшлаг, бургомистром
которого писатель являлся некоторое время.2
Однако было бы неверным толковать творчество Биндинга как
выражение антивоенной позиции писателя. Напротив, в тех же
«Записках с войны», а позднее и в рассказе «Бессмертие» (»Unsterb-
lichkeit«, 1921), Биндинг восторженно пишет о подвигах знамени-
того немецкого лётчика Манфреда фон Рихтхофена, создав тем
самым, по мнению Лангенбухера, «в образе немецкого героя вре-
мён великой войны, некий миф, некую поэму, по которой далёкие
потомки будут узнавать лицо этого могущественного явления и сопе-
реживать некий отрезок тяжелейшей судьбы немецкого народа.. .»3
Складывается такое впечатление, что войну ведут герои-оди-
ночки, а командуют ими потомки шильдбюргеров. К этой мысли
Биндинг приходит в своих записках неоднократно: «Вся война
воняет кухонным горшком, так и хочется найти хоть какое-нибудь
окно, чтобы впустить свежий воздух... Посредственности являются
1 Binding R.G. Erlebtes Leben... S. 269.
2 Ibid. S. 273-275.
3 Langenbucher H. Op. cit. S. 157.
193
самым чванливым слоем государственного и культурного живого
организма. Они справляют триумфы!»1 Здесь, конечно, говорит
не столько патриот, хотя в патриотических чувствах Биндингу
нельзя отказать, а профессиональный военный старой школы.
Не случайно он заканчивает свою гневную тираду такими словами:
«С бюргерской моралью нельзя творить историю и вести войны.
Я рад тому, что война и история не сходятся в этом. Хоть что-то
остаётся в мире, что не подверглось воздействию бюргеров».2
Если официальная нацистская критика, несмотря на кри-
тические высказывания писателя по поводу ведения войны,
основное внимание обращала на произведения, связанные в той
или иной мере с военной тематикой, то читатель больше тяготел
к рассказам и легендам Биндинга, которые по своему характеру
можно рассматривать как отголоски прошлого, исполненные бла-
городства, строгости стиля и внутреннего достоинства. В рассказе
«Жертвоприношение» Биндинг повествует о необычном поступке
женщины, потерявшей во время холеры своего мужа. Переступив
через себя, она отнеслась с пониманием к любви, возникшей у её
покойного мужа к другой женщине, давшей ему ощущение свободы
и искренности чувства, которого ему так не хватало в размерен-
ной и устоявшейся атмосфере богатого дома. Надев на себя плащ
и шляпу своего мужа, она продолжила его прогулки мимо окон
своей соперницы, также тяжело заболевшей, с тем, чтобы скрыть
от неё смерть своего мужа и тем самым дать ей силы для выздо-
ровления, а та, в свою очередь, «посчитала своим долгом выздо-
роветь... с тем, чтобы жертвоприношение благородной женщины
не было бы напрасным».3
Рассказ пользовался необыкновенным успехом, о чём сви-
детельствует его тираж, составивший 842 тысячи экземпляров,4
более того, в 1944 году Файт Харлан, знаменитый немецкий актёр
и режиссёр, снял цветной фильм по этому рассказу, изменив
по рекомендации Геббельса его концовку, согласно которой герой
выздоравливает, а соперница его жены умирает: «Умереть должна
1 Binding R. G. Aus dem Kriege... S. 353.
2 Ibid. S. 354.
3 Bindig R. G. Der Opfergang // Binding R. F. Die Geige. Vier Novellen. Berlin, 1925.
S. 245.
4 Lennartz F. Deutsche Schriftsteller des 20.Jahrhunderts im Spiegel der Kritik. Bd. 1.
Stuttgart, 1984. S. 171.
194
женщина, которая виновата в разрушении семьи, а не муж. Семья
должна быть сохранена. Это было бы в народно-воспитательных
целях лучше, фильм предназначен ведь не только для фронта,
но и для тыла».1 Несмотря на то, что в фильме много говорится
о смерти, что с учётом переноса действия фильма в современность
могло вызвать недовольство надзорных органов, «Жертвоприноше-
ние» вышел на экраны рейха с оценкой «в художественном отно-
шении особенно ценный фильм».2
Жертвенность, лёгкий сексуальный флёр ряда рассказов
Биндинга, написанных в самом начале XX века, был неким выра-
жением духа времени, отмеченного декадентскими тенденциями,
аморализмом, свободой нравов, и Биндинг, как, впрочем, и дру-
гие авторы эпохи последнего кайзера (например, Э. Штраус с его
новеллой «Покрывало» (»Der Schleier«, 1920) с такой же тематикой,
тираж — свыше 400 тысяч экземпляров), попытался противопо-
ставить этому некое горделиво-молчаливое степенство уходящего
времени, могущее и в ситуации, неприемлемой имевшимся ранее
установлениям и личным жизненным принципам, сохранить своё
собственное достоинство и отойти в сторону, не умаляя своей зна-
чимости.3
Из всего сказанного о Рудольфе Г. Биндинге может создаться
впечатление, что речь идёт о некоем благородном человеке, кото-
рый в своём творчестве в основном отдавал предпочтение тради-
ционной проблематике высокого полёта, а вся его публицистика,
направленная на поддержку нацистов, являла собой некий род
заблуждения человека, приверженного принципам XIX века, толком
не разобравшегося в проблемах нового времени. Действительно,
Биндинг не написал ни одного художественного произведения,
в котором можно было бы обнаружить признаки приверженности
1 Цит. по: Courtade F., Cadars Р. Geschichte des Films im Dritten Reich. München,
1975. S. 247.
2 Ibid. S. 247.
Попытки некоторых исследователей наших дней увязывать мотив готовности
к жертвоприношению в новеллах Р. Г. Биндинга и Э. Штрауса с идеологией фашиз-
ма, рассматривать этот мотив как некую предпосылку «порабощение человека»
нацистами не выдерживает никакой критики (Pesekken В. Klassizistische und
ästhetizistische Tendenzen in der Literatur der faschistischen Periode / / Die deutsche
Literatur im Dritten Reich. Themen. Tendenzen. Wirkungen / Hrsg. v. H. Denkler und
K. Prümm. Stuttgart, 1976. S. 211; Härtung G. Literatur und Ästhetik des deutschen
Faschismus. Berlin, 1983. S. 61-62.
195
писателя идеологии национал-социализма, в то время как его
многочисленные речи, статьи свидетельствуют об обратном. Такое
чёткое разделение творчества и политики вполне закономерно
для представителей консервативного толка старой закалки. Здесь
мы наблюдаем не раздвоение личности, а сознательное отторже-
ние творчества от реальной действительности. Ведь по большому
счёту, все новеллы Биндинга, не говоря уже о легендах, лишены
конкретного времени. Это своего рода результат свободного время-
провождения, не лишённый талантливого исполнения. Не случайно,
что Биндинг не написал ни одного романа, как не случайно и то,
что новеллы и легенды составляют лишь малую часть его творче-
ского наследия. В пятитомном собрании произведений Биндинга,
изданном в 1937 г., они занимают первый том. Всё остальное,
за исключением стихов, носит публицистический характер, и здесь,
в конечном итоге, и проявляется в полной мере милитаристская
сущность творчества Биндинга. Сущность военной прозы Биндинга
лишена пропагандистской истерики, исполнена эдакого благо-
родного пафоса, приближающегося в своей тональности чуть ли
не к нагорной проповеди. Именно поэтому уже после смерти
Биндинга стараниями составителей и не без помощи руководства
вермахта выходят посмертные издания книг Биндинга «Вот это
был масштаб» (»Das war das Maß. Die gesammelten Kriegsdichtungen
und Tagebücher«, 1939) и «К самому себе» (»Ad se ipsum. Aus einem
Tagebuch«, 1939). Книги эти вышли в нужное время, в начале Вто-
рой мировой войны, и определяющей их мыслью является понятие
обороноспособности как «свойства немецкого человека, присущее
ему изначально».1
Творчество Р. Г. Биндинга и его гражданская позиция в годы
Третьего рейха являются ярким примером выражения сдержан-
ности и дистанцирования от реальной действительности вре-
мени, присущих фёлькиш-националам, которые воспринимали
союз с нацистами как временное явление, вызванное к жизни
стремлением покончить с ненавистной им Веймарской республи-
кой и установлением прежнего, хотя и отчасти видоизменённого
порядка. Отсюда проистекает их революционное нетерпение,
прорывавшееся иногда в публицистике отдельных представителей
1 Binding R. G. Ad se ipsum. Aus einem Tagebuch. Potsdam, 1941. S. 10.— О значимо-
сти этой книги для нацистов свидетельствует и её тираж, составивший к этому
времени 85 тысяч экземпляров.
196
фёлькиш-националов, а у Р. Г. Биндинга особенно, и вызывавшее
неудовольствие в нацистских кругах. Не случайно в статье, опубли-
кованной по случаю 70-летия писателя в «Национал-социалистише
Монатсхефте» (»Nationalsozialistische Monatshefte«), партийном
органе НСРПГ, Р. Г. Биндинга не столько славят, сколько порицают
его творчество, «отдельные черты которого чужды и непонятны
нашему времени», а «путь, избранный писателем, представляется
нам окольным, временами слишком узким».1
Учитывая строптивый характер Р. Г. Биндинга, его нарастаю-
щее нетерпение по поводу затянувшегося, по его мнению, переход-
ного периода пребывания у власти нацистов, нетрудно предполо-
жить, как сложилась бы дальнейшая судьба писателя. Судя по все-
му, его, как и Г. Гримма, ожидала опала, и только смерть уберегла
Р. Г. Биндинга от этой напасти. Тот факт, что на его похоронах, как
замечает Э. Лёви, не было «ни одного представителя официальной
Германии, делает ему честь».2
К старой гвардии писателей с ярко выраженной фёлькиш-на-
циональной ориентацией примыкают Эрвин Гвидо Кольбенхайер
и Ганс Фридрих Блунк, чьё творчество, не лишённое интенций
Зшомянутои группы писателей, в значительной мере определялось
идеологией «нордического Ренессанса», замешенной на «метафизи-
чески-биологической» теории превосходства немецкой расы. Если
фёлькиш-националы в большей степени питались идеями и фор-
мами литературы середины XIX века, что не исключало некоторых
проявлений, свойственных литературным веяниям более позднего
времени, то Кольбенхайер и Блунк с их тягой к истории немецкого
народа следовали в фарватере литературы конца XIX — нача-
ла XX веков, отмеченной чрезвычайно пристальным вниманием
к историческому прошлому нации в контексте её возвеличивания,
напоминания о подвигах её наиболее значимых представителей
не столько в политической или военной области, сколько в области
Духовной. Отсюда заметный крен в сторону философской обоснован-
ности выдвигаемых ими претензий на превосходство «германо-не-
мецких» народов над прочими западными, «латино-французскими»
народами (Кольбенхайер). Отсюда же и стремление проникнуть
1 DeppertH. Rudolf G. Binding. Zum 70. Geburtstag am 13. August 1937 // National-
sozialistische Monatshefte. München, 1937. H.89. S. 719.
Loewy E. Literatur unterm Hakenkreuz. Das Dritte Reich und seine Dichtung. Eine
Dokumentation. Frankfurt / Main, 1977. S. 306.
197
в глубины истории в намерении доказать самость немецкой духов-
ности, её корни, что сказывается не только на выборе материала,
но и на выработке достаточно архаичного языка.
Эрвин Гвидо Кольбенхайер (Kolbenheyer, Erwin Guido. 1878-
1962) родился в семье венгерско-немецкого архитектора, изучал
философию, естественные науки, психологию, медицину, что впо-
следствии сказалось на его суждениях о «метафизических и биоло-
гических основах» немецкого народа, которые, собственно, и опре-
деляли всё творчество этого писателя. Его самыми значительными
произведениями, составившими ему славу автора «белой магии»,
попытавшегося найти истоки сущности немца как биологического
типа в средневековой мистике,1 являются «Мастер Иоахим Паузе-
ванг» (»Meister Joachim Pausewang«, 1910), роман из эпохи знаме-
нитого мистика Якоба Бёме, трилогия о немецком враче и натур-
философе XVI века Парацельсе «Детство Парацельса» (»Die Kindheit
des Paracelsus«, 1917), «Созвездие Парацельса» (»Das Gestirn des
Paracelsus«, 1922), «Третья империя Парацельса» (»Das dritte Reich
des Paracelsus«, 1926), роман о мистических явлениях монахини
Маргареты Эбнер «Сердце, посвященное богу» (»Das gottgelobte Herz«,
1938) и драмы «Джордано Бруно» (»Giordano Bruno«, 1903) и «Грегор
и Генрих» (»Gregor und Heinrich«, 1934) о противостоянии между
папой Григорием VII и императором Священной Римской империи
Генрихом IV, закончившееся знаменитым покаянием последнего
в Каноссе. Успех его первых произведений был настолько велик,
что в 1926 году писатель становится лауреатом премии имени
Адальберта Штифтера, в 1929 году — лауреатом государственной
премии Чехословацкой республики, а в 1932 году его награждают
медалью Гёте. Уже в 1926 году Кольбенхайер становится членом
Прусской академии искусств, которую он покинул в 1931 году вме-
сте с Э. Штраусом и В. Шэфером в знак протеста против засилья
в ней представителей «литературы асфальта», и вновь, в 1933 году,
избирается членом теперь уже Немецкой академии поэзии, обнов-
лённой в соответствии с принципами нацистской идеологии.
Признание нацистами Кольбенхайера значимой фигурой
в литературе Третьего рейха произошло много раньше этого собы-
тия. Уже в 20-х годах он обратил на себя внимание привержен-
ностью «культурно-биологической» проблеме жизнедеятельности
человека, нашедшей наиболее полное выражение в его книге
1 EloesserA. Op. cit. S. 547.
198
»Bauhütte« (1925),1 название которой можно перевести как «Свод
принципов биологической философии жизни», которая, по его
мнению, определяется не рационалистическими суждениями,
а биологическими процессами, «плазматическими» проявления-
ми, т.е. природой как таковой. «Плазма», своеобразная потаённая
сила природы, по Кольбенхайеру, является основой жизни всего
сущего на земле. Накапливаясь миллионами лет, она преобразуется
в соответствии с изменяющимися условиями, действуя по прин-
ципу «приспособления» и «разграничения», и проявляется с особой
силой в жизни народов, относящихся к белой расе, в «переходные
времена», к числу которых и относятся 20-30-е годы, отмеченные
ростом национал-социалистского движения. При этом Кольбенхайер
резко выступает против тесного соотношения мышления и жизни,
против автономного сознания, настаивая на том, что сознание
является лишь «биологической функцией», лишь «вспомогательной
функцией организма», «ориентирующей функцией», но, ни в коем
случае, «созидающей».2 Отсюда делается вывод о том, что развитие
индивидуума, народа происходит не под воздействием каких-то
внешних факторов, а по причине возникновения «плазматиче-
ских мощностей», которые и определяют их естественную судьбу.
По мере выработки этих мощностей происходит старение народов
и личностей, и для того чтобы преодолеть «кризис приспособле-
ния» их место должны занять более молодые народы, к которым
он относит, в пику латино-французским народам, выработавшим
свой жизненный ресурс, германо-немецкие народы, обладающие
более мощной плазматической силой. Таким образом, возникает
вполне легальное, не обусловленное никакими экономическими
или политическими претензиями право немецкой нации, как спа-
сительницы угасающей белой расы, на верховенство в создании
нового миропорядка. В подтверждение этого права Кольбенхай-
ер представляет исторические выкладки, свидетельствующие,
по его мнению, о наличии постоянной борьбы германских народов
Термин Bauhütte не имеет аналога в русском языке, и ведёт своё происхождение
от средневековых объединений архитекторов и мастеровых, занятых построй-
кой церквей; целью их создания была забота о совершенствовании мастерства
и о сохранении в тайне производственных секретов. Позднее принципы баухютте
легли в основу тайных обществ «вольных каменщиков» или франкмасонов, зани-
мавшихся исключительно духовными проблемами.
Kolbenheyer E. G. Die Bauhütte. Grundzüge einer Metaphysik der Gegenwart. Neue
Fassung. München, 1941. S. 186.
199
с влиянием в Европе латино-французской гегемонии: «...немец-
кий народ уже два тысячелетия борется за свободу утверждать
в белой расе немецкую самобытность в соответствии с её жизнен-
ной мощностью. И эта свободолюбивая борьба проявлялась всегда
в революционных движениях. Немецкий народ уже две тысячи
лет находится под насильственным и культурно-политическим
натиском средиземноморского духа, и он постоянно вынужден
был восставать против этого. Начиная с борьбы против развали-
вавшейся Римской империи и кончая враждебной по отношению
к немцам политикой Ватикана в Средние века и в настоящее
время, а также милитаристскими и духовными войнами, которые
развязывала Франция в насильственной и культурно-политической
борьбе за европейскую гегемонию, наш народ постоянно находился
в нараставших проявлениях немецкой революции, которые имели
только один смысл — освободить нас и Запад от средиземноморской
жажды гегемонии. Таким образом, ясно больше чем когда-либо, что
сегодня любая революция западного толка не может быть немецкой
революцией, потому что радикальное движение западного рода
не могло бы предложить немецкому народу никакой приемлемой
и пригодной формы жизни. Революции должны носить народный
характер, в противном случае они являют собой и остаются тако-
выми как предательство по отношению к народу».1
Такого рода суждения не прошли незамеченными, и в 1928 году
Кольбенхайер входит в состав «Боевого союза в защиту немецкой
культуры», созданного по решению руководства НСРПГ. Все после-
дующие публикации Кольбенхайера свидетельствуют о его прочной
привязанности к нацистской идеологии, хотя и здесь не обошлось
без противоречий. В определённом смысле Кольбенхайер, как
и А. Динтер, а вслед за ним и Э. Юнгер, мнил себя чуть ли не иде-
ологическим гуру, пытаясь истолковывать постулаты национал-со-
циализма в свете собственной «плазматической философии жизни»,2
Kolbenheyer E. G. Die nationale Revolution und das Aufheben des deutschen Geistes / /
KolbenheyerE.G. Gesammelte Werke. Bd. 8. München, 1941. S. 434-435.
Эти попытки рассматривать движение национал-социализма в контексте выдви-
гаемой им теории нашли своё выражение в статьях: Die volksbiologischen Grund-
lagen der Freiheitsbewegung (1933); Die nationale Revolution und das Aufleben des
deutschen Geistes (1934); Arbeitsnot und Wirtschaftskrise, bilogisch gesehen (1935) //
KolbenheyerE.G. Gesammelte Werke in acht Bänden. Bd. 8. Aufsätze, Vorträge und
Reden. München, 1941.
200
чем и вызвал недовольство руководства партии.1 Будучи лауреатом
многочисленных премий, обласканный вниманием политической
верхушки и критики, Кольбенхайер, как вспоминал В. Бергенгрюн,
возомнил в тщеславии, что «он являлся олицетворением духовной
жизни Германии»,2 за что и получил, памятуя его венгерские кор-
ни, насмешливое прозвище «литературный цыганский барон».3
Несмотря на некоторые разногласия с руководством партии Коль-
бенхайер всё же оставался преданным идеологии национал-со-
циализма и в 1940 году стал членом НСРПГ, а в 1944 году был
внесён Гитлером в особый список «боговдохновенных писателей»,
состоящий из шести имён, и освобождён от военной и гражданской
повинности.
Столь повышенное внимание нацистов к Кольбенхайеру
вызвано, прежде всего, тем, что его творчество, и в первую оче-
редь трилогия о Парацельсе, наиболее полно, по мнению нацистов,
отражало «историческое становление немецкого народа», «веру
в молодую жизненную силу немецкого народа».4 При этом Кольбен-
хайер не проводил в своих произведениях каких-либо исторических
аналогий к современности, как это было свойственно историческим
романам того времени, когда одни авторы пытались подчеркнуть
значимость нацистского режима, как, например, Я. Куцлеб в рома-
не «Первый немец» (1934), другие же наоборот стремились таким
образом выразить ему своё неприятие, как, например, В. Берген-
грюн в романе «Великий тиран и суд» (1935). Сам Кольбенхайер,
говоря о назначении немецкого исторического романа, заявлял:
«Не аналогии к современности являются... сущностью романов,
созданных на историческом материале, а искусство приводить
к действительности жизненные эпохи становления народа так, что-
бы читатель мог пережить свой народ в глубинах его созидания».5
Первой попыткой в этом направлении было создание романа
«Любовь к богу» (»Amor dei«, 1908), посвященного жизни еврейского
1 Literatur im Dritten Reich. Dokumente und Texte / Hrsg. v. S. Graeb-Könneker.
Stuttgart, 2001. S. 345.
2 KleeE. Das Kulturlexikon zum Dritten Reich. Frankfurt / Main, 2007. S. 327.
3 Carossa H. Briefe III— 1937-1956 / Hrsg. v. E. Kampmann-Carossa. F / Main, 1981.
S. 80, 565.
4 Langenbucher H. Volkhafte Dichtung der Zeit... S. 97.
Kolbenheyer E. G. Wie wurde der deutsche Roman Dichtung? // Kolbenheyer E. G.
Op. cit. S. 130-131.
201
философа Бенедикта Спинозы, его поискам духовной свободы,
борьбы с религиозными догмами, восприятию божественного
откровения через призму истории и осознанию тщетности позна-
ния бога словесными заклинаниями. Хотя основа учения Спинозы
выражена не просто в «любви к богу», а в «познавательной любви
к богу» (amor dei intellectualis), основной акцент Кольбенхайер
сделал на философско-мистической стороне учения Спинозы, что
и позволило X. Лангенбухеру, главе нацистского литературоведения,
интерпретировать образ Спинозы как «мыслящего человека, лишён-
ного корней,., народа»,1 т.е. в духе нацистской идеологии, согласно
которой евреи по сравнению с другими народами не являются
нацией, а лишь некоей этнической группой, рассеянной по всему
миру. Отсюда противопоставление мятущемуся духу Спинозы, кото-
рый к тому же выброшен был из еврейской общины Амстердама
и подвергнут в 1656 году «великому отлучению», образ спокойного
и уверенного в своей духовной силе Рембрандта.
Отлучение Спинозы из еврейской общины сделало его жесто-
чайшим антисемитом (так что история с откровенным антисеми-
тизмом Отто Вейнингера не такая уж редкость среди евреев, хотя
в обоих случаях причины такого поступка были различны), и это
обстоятельство позволило одному из авторов журнала «Иннере
Рейх» заявить, что »Amor dei« является «решительно антисемитским
произведением, потому что оно благодаря протесту ренегата Спи-
нозы впечатляюще представляет еврейство во всей его расистской,
духовной и характерной развращённости».2 Примечательно, что
самый крупный «специалист» по антисемитизму Адольф Бартельс,
не упускавший случая обратить внимание читателя на привер-
женность того или иного автора к подобного рода идеологическо-
му настрою, обошёл молчанием этот факт.3 Нацистская критика,
за исключением X. Лангенбухера, старалась вообще не обращать
внимание на этот роман Кольбенхайера, не видя в нём ничего
пригодного для антисемитской пропаганды, но именно «Иннере
Рейх», считавшийся органом «внутренней эмиграции», т.е. органом
авторов, находившихся якобы в оппозиции к гитлеровскому режи-
му, попытался без всякой на то надобности усмотреть в романе
1 Langenbucher Н. Volkhafte Dichtung der Zeit. Berlin, 1940. S. 85.
2 Beck F. A. E. G. Kolbenheyer. Anläßlich der Gesamtausgabe seiner Werke // Das Innere
Reich. Oktober 1941. Berlin. S. 384.
3 Bartels A. Geschichte der deutschen Literatur. Berlin, Hamburg, 1942. S. 648.
202
Кольбенхайерато, чего не заметили присяжные критики и цензоры
Третьего рейха. Мелочь, но она очень хорошо характеризует истин-
ное лицо этого якобы оппозиционного органа.
Надо полагать, в начале XX века антисемитизм Кольбенхай-
ера не имел радикальной окраски и находился в пределах обще-
принятого характера, иначе, вряд ли, он взялся бы писать роман
о еврейском философе, да и критика тех лет в своих восторженных
рецензиях не усмотрела в нём каких-либо пассажей анти-семит-
ского свойства.1 Но вот любопытное свидетельство Г. Кароссы:
«Я встретил случайно в поезде Кольбенхайера как-то в ноябре
1938 года вскоре после страшных еврейских погромов и, так как мы
были одни в купе, выразил по наивности моё возмущение по этому
поводу, но мне не повезло. Мой визави нашёл всё в порядке и зая-
вил, что это ничего не значит по сравнению с тем, что причинили
евреи немецкому народу...»2
Своеобразным противопоставлением »Amor dei« является роман
«Мастер Иоахим Паузеванг». Если Спиноза представлен как чуже-
родный элемент среди голландцев, то здесь речь идёт о простом
сапожнике, коренном жителе Бреслау, живущем повседневными
проблемами своего народа. В преддверии своей смерти он пишет
для своего сына некую хронику своей жизни и своего города, одна-
ко большая часть его рассказов посвящена беседам с силезским
мистиком Якобом Бёме. Мастер Иоахим Паузеванг представлен
Кольбенхайером как искатель истины, защитник немецкой сущ-
ности, выступающий против «средиземноморского духа», против
закосневших истин римской церкви, предвещающий бурю, которая
очистит священную немецкую землю от засилья римской курии:
«Весна придёт. Она придёт усилиями молодых. Молодёжь берёт
слово! И только молодёжь. Именно этого хочет растущий, радостно
созидающий бог».3
И, наконец, вершина творчества Кольбенхайера — трилогия
о Парацельсе, которая уже в конце 20-х годов была признана
1 Meyer R. M. Die deutsche Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Berlin, 1923. S. 662;
Mahrholz W. Deutsche Literatur der Gegenwart. Berlin, 1930. S. 203-204; Eloesser A.
Die deutsche Literatur von der Romantik bis zur Gegenwart. Bd. II. Berlin, 1931.
S. 548 (автор, написавший в первые годы нацизма в берлинском гетто книгу
о еврейских писателях).
2 Carossa H. Briefe III. 1937-1956/ Hrsg. v. E. Kampan-Carossa. F / Main, 1981. S. 559.
3 Цит. по: Langenbucher H. Op. cit. S. 92.
203
критиками, далёкими от идей национал-социализма, как «основа
нашего сегодняшнего бытия, заложенная во времена Возрождения
и Реформации».1 История жизни Парацельса (собственно Филипп
Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм), швейцарского врача,
алхимика, естествоиспытателя, жившего в XVI веке, является
фёлькиш-национальной интерпретацией души немецкого народа,
поиска сущности немецкой души. Эта основная мысль представ-
лена аллегорически в начале каждого тома в образе германского
бога Одина и Христа. В первом томе Один, «Одноглазый», встречает
в Альпах полуголодного, замерзающего Христа, «Нищего», который
бежит от латинского юга с тем, чтобы получить силы и вдохновение
от немецкого духа: «Я жажду услышать сердечное слово, родную
речь. Они так глубоко похоронили меня в застывшей латыни, что
я с трудом воскрес и сбежал от них».2 Один предупреждает Христа
о том, что этот народ «не имеет никаких богов и вечно требуют
узреть бога»,3 и, в желании убедить в этом Христа, он проносит его
над немецкими землями. Тем не менее, Один вселяет в душу Христа
надежду на намечающийся взлёт германской души, показывая ему
новорождённого Лютера, которого Христос благословляет.
Во втором томе Один посещает Христа, который стал сильным
и сытым и восторгается духовным голодом немцев. Христос тор-
жествует, но Один говорит ему, что голод этот, насытивший Хри-
ста, исходит от него. Они борются за душу Лютера, но так ничего
не добившись, расстаются.
В третьем томе, в главе «Реквием», происходит последняя встре-
ча Одина с Христом. Один находит мёртвого Христа в Аугсбурге
после заключения религиозного мира между протестантами и като-
ликами. Укрепление протестантизма путём принятия тезисов Люте-
ра снова убивает Христа, и Один знает, что в третий раз Христос
не найдёт сил для воскресения. Он берёт тело Христа и опускает его
в вечный лёд Альп. Немцы теперь могут остаться без бога, но он,
как олицетворение «вечной тоски по нему», остаётся в их памяти
живым, это и определяет их как срединный народ по отношению
к остальными народам: «Полдень и полночь, вечер и восход излива-
ют свою ненависть и алчность на этот срединный народ, который
Mahrhob, W. Deutsche Literatur der Gegenwart. Probleme. Ergebnisse. Gestalten.
Berlin, 1930. S. 209.
2 Kolbenheyer E. G. Die Kindheit des Paracelsus. München, 1933. S. 8-
3 Ibid. S. 9.
204
является также народом срединной крови, которая в одинаковой
мере даёт толчок нерасцветшей жизни, теснимой тысячами поко-
лений, расцвести заключённому в ней пышному цвету, набира-
ющему силу, стремящемуся проявится, уже желающему обилие
цвета воплотить в плод и семя.— Другие народы быстрее стареют
и мельчают, следуют своим мёртвым богам в никуда. Этот народ
должен подниматься и падать как прилив и отлив, как долина
и вершины, и нет ни одного такого глубокого падения, из которо-
го страстное желание этого народа не поднимало бы его из земли
выше, чем на это способна страстная мечта всех народов, и нет
ни одной такой высокой вершины, чтобы подстрекающая сущность
этого народа не успокоилась бы, не проникнув во все глубины».1
Эти аллегорические заставки к главам дают соответствующий
настрой всему повествованию, которое в основе своей напоминает
классический немецкий «роман воспитания», однако Парацельс,
представленный в рамках традиционного жанра — детство, юность,
становление и трагическое одиночество,— выступает здесь не как
яркая индивидуальность, а как выразитель духа немецкого наро-
да, его немецкой сущности. В силу своей гипериндивидуальности
и фаустовской отрешённости Парацельс остаётся непонятым,
но именно поэтому, как считает Кольбенхайер, вся его деятельность,
обретает характер жертвенности, жертвенности во имя народа.
Преодоление догматов в медицине, как и преодоление догматов
в религии, навязанной немцам с юга, определяет смысл поступков
Парацельса. Немцы должны создать свою религию, отвечающую их
природной сущности, а не пробавляться застывшими остатками
со стола римской курии. Именно поэтому Один и помещает Хри-
ста на вечное упокоение во льдах Альп, ибо третьего воскрешения
не будет, а будет новая, немецкая религия, не знающая оков, фор-
мул, канонов, что больше всего соответствует исконной немецкой
сущности, сущности молодого народа, у которого вся жизнь впе-
реди. Один победил Христа, и тем самым пути создания истинной
немецкой религии были определены.
Основная мысль трилогии Кольбенхайера, хотя она в значи-
тельной мере затемнена обилием исторического материала, кото-
рый временами лишён какой-либо привязанности к сюжету как
таковому, заключается в подчёркивании особого пути формиро-
вания немецкой духовности, которая есть порождение инстинкта,
1 Kolbenheyer E. G. Das dritte Reich des Paracelsus. München, 1933. S. 11.
205
а не строго утилитарного мышления, как это мыслится идеологами
римско-католической церкви. Не случайно Парацельс представлен
как интуитивно ищущий исследователь природы, а не холодный
кабинетный учёный. Борьба нордически-германского духа с духом
средиземноморского ареала определяет настрой не только трилогии
о Парацельсе, но и всего творчества Кольбенхайера. Такая позиция
писателя вполне соответствовала установкам нацистской идеологии,
и поэтому Розенберг в своей главной книге «Мифы XX века» уделяет
большое внимание произведениям Кольбенхайера, ставя «Парацель-
са» на одну доску с «Гиперионом» Гёльдерлина и «Фаустом» Гёте, ибо
все они «способствовали созданию действенной духовной жизни».1
Можно было бы предположить, что столь успешное начало лите-
ратурного пути Кольбенхайера в 20-х годах, как и приверженность
его идеям национал-социализма, после 1933 года могли привести
к созданию произведений с достаточно ясно выраженной политиче-
ской окраской. Однако, кроме романа «Сердце, посвященное богу»,
драмы «Грегор и Генрих» и переиздания дополненного и расширен-
ного философского опуса »Bauhütte« вкупе со сборниками посред-
ственных стихов и обилием различного рода статей, Кольбенхайер
ничем особым не отметился. Тем не менее, и этого было достаточно,
чтобы в 1936 году стать лауреатом литературной премии Мюнхе-
на, в 1937 году — лауреатом премии Гёте, присуждаемой городом
Франкфуртом, в 1938 году — лауреатом высшей государственной
награды «Рейхсадлершильд», а в 1943 году — лауреатом премии
имени Грильпарцера, присуждаемой городом Веной.
Пожалуй, ни один немецкий писатель в Третьем рейхе, не счи-
тая Агнес Мигель, не был удостоен такого количества наград.
В этой связи возникает вопрос, какое отношение Кольбенхайер
мог иметь к «внутренней эмиграции» и к журналу «Иннере рейх»,
считавшемуся рупором немецкой оппозиции? То, что в первом же
номере этого журнала была опубликована его драма «Грегор и Ген-
рих», а впоследствии ещё пять произведений писателя, не говоря
уже о ряде обширных статей, посвященных его творчеству, ещё
ни о чём не говорит, потому что в «Иннере рейх» публиковалась
почти вся литературная элита Третьего рейха, за исключением
Иоста, Розенберга и Геббельса, если последнего отнести к разряду
1 Rosenberg A. Der Mythos des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-geistigen
Gestaltenkämpfe unserer Zeit. München, 1942. S. 441.
206
писателей, на чём он неоднократно настаивал. Было ли это вынуж-
денное прикрытие со стороны редакции журнала от возможных
козней со стороны цензуры или в Кольбенхайере видели некоего
соратника по духу?
Несомненно, исторические романы Кольбенхайера выделялись
на фоне огромного потока псевдоисторических поделок своей осно-
вательностью, художественными достоинствами, наконец, опре-
делённой философской окрашенностью. Однако после 1933 года
каких-либо подвижек оппортунистского толка в его немногочис-
ленных произведениях, написанных в этот период, трудно усмот-
реть. Если взять его пьесу «Грегор и Генрих», посвященную про-
тивостоянию папы Грегора VII и германского короля Генриха IV,
завершившегося знаменитым хождением последнего в Каноссу,
то в ней, по сравнению с пьесами на эту же тему, написанными
Эрнстом фон Вильденбрухом и Паулем Эрнстом, если и просматри-
вается некая оппозиция, то она носит деликатно-доброжелатель-
ный характер, так что её и оппозицией-то трудно назвать. В этой
пьесе нашло отражение официальное восприятие исторического
события, считавшегося до этого времени своего рода политиче-
ской раной, нанесённой немцам римско-католической церковью
в давние времена. Казалось, ничто не изменилось в творческом
настрое писателя, в его манере толкования исторических фактов,
обусловленной приоритетом специфической биологической пара-
дигмы, заявленной Кольбенхайером в »Bauhütte«, но некоторые
аспекты всего произведения стали звучать громче, чем, может
быть, стоило бы, учитывая направляющую роль нацистской пар-
тии. «Грегор и Генрих» есть отражение реальных проявлений воз-
действия происходящего в стране на произведение. Здесь как бы
возникает наяву то, что трактуется как поэтическая фантазия,
и настало время, когда революционный порыв перешёл в новую
фазу, обрёл контуры стабилизации, настало время скорректиро-
вать это движение, придать ему государственную значимость,
а не просто заниматься реализацией каких-то партийных указаний.
Фигура правителя в пьесе обретает знаковую сущность, всё реша-
ется в противостоянии сил на верху. Масса — статисты, и в этом
можно усмотреть желанную мечту Гримма, Биндинга и иже с ними
о сохранении чистоты нацистского движения. Это вильгельминство
чистой воды, то, что этим консерваторам было ближе их опыту,
их переживаниям, и то, что они хотели видеть в преобразованном
обществе. Однако все эти намёки не вызвали какой-либо реакции
207
в партийных кругах, более того, их просто не поняли, ибо речь шла
не о реставрации прежнего статуса императора, хотя и в видоиз-
менённом качестве, а о борьбе более широкого формата, выходя-
щей за пределы собственного государства. Гитлер мыслил другими
категориями, и создание рейха вселенского масштаба не вызывало
у него и его окружения иных представлений о задачах, которые
казались фёлькиш-националам первоочередными и на данном
этапе развития нацистского государства. Более того, тогдашняя
критика усмотрела в «Грегоре и Генрихе» «борьбу представителей
двух расовых душ за расширение политической власти на земле.
Король Генрих победил римскую идею... Грандиозная драматиче-
ская шахматная партия Кольбенхайера занимает как политическая
драма самое первое место в ряду сознающей свою ответственность
исторической драматургии современности».1
Единственное, на чём ещё можно было построить оппозици-
онную платформу Кольбенхайера времён нацизма, это усмотреть
в его разделении обязанностей между пастырем и деятелем попытку
снять напряжение между властью и церковью. Прощаясь с Грего-
ром, Генрих говорит: «Рейх Христа включает в себя душу и тело,
будь господином и опорой души, епископ Рима, и оставь кесарю
кесарево».2 Не случайно Ганс Богнер в журнале «Дойче Борт»,
органе либеральной — насколько это было возможно в Третьем
рейхе — направленности, характеризует драму Кольбенхайера как
«драму современности, в ней представлена и поэтически изложена
политико-религиозная борьба немецкой действительности изну-
три». И тут же добавляет, испугавшись собственной смелости, что
«неизбежные внешние схожести и намёки полностью отсутствуют».3
В действительности, если и были какие-то потуги оппозици-
онного свойства или таковые казались современникам в позднем
творчестве Кольбенхайера, то явственность их сродни некоей
мимолётности. Тот поток наград, обрушившийся на Кольбенхай-
ера, то внимание, которое оказывалось ему со стороны высшего
руководства Третьего рейха, наконец, издание в 1944 году —
не по случаю ли вступления Кольбенхайера в НСРПГ? — вось-
митомного собрания сочинений писателя, хотя к этому времени
1 Цит. по: Ketelsen Uwe-K. Literatur und Drittes Reich. S. 31
2 Kolbenheyer E. G. Gregor und Heinrich / / Kolbenheyer E. G. Gesammelte Werke in acht
Bänden. Sechter Band. Dramen und Gedichte. München, 1940. S. 489.
3 BognerH. Kolbenheyers Canossa-Drama // Das Deutsche Wort. Berlin, 06.07.1934.
208
книгоиздательская индустрия рейха сведена была почти на нет,—
всё это говорит о том, что никаких оппозиционных настроений
Кольбенхайер не испытывал. Вот примечательное признание его
сторонников уже после разгрома Третьего рейха, когда, казалось бы,
о приверженности нацизму надо было бы помалкивать. В феврале
1954 года на вечере, посвященном семидесятипятилетию Кольбен-
хайера, один из ораторов сокрушался по поводу того, что писатель
«скомпрометировал свой [биологический] труд слишком бурной
приверженностью позднему Третьему рейху», в чём «поэт и фило-
соф» и не собирался раскаиваться в грехах прошлого, подняв руку
в нацистском приветствии, чем и вызвал восторг в зале.1
Если обращение Кольбенхайера к истории становления немец-
кого духа определялось вполне конкретными историческими реа-
лиями и фёлькиш-национальная обусловленность этого процесса,
хотя и отягощенная мистическими интенциями с элементами
идеологии «крови-и-почвы», создавала, пускай и мнимые, впе-
чатляющие предпосылки некоего правдоподобия, то в историче-
ских трилогиях Ганса Фридриха Блунка (Blunck, Hans Friedrich;
1888-1961) «Народ в становлении» (»Werdendes Volk«, 1922-1924)
и «Сага праотцов» (»Die Urvätersaga«, 1926-1928), в романах «Вели-
кое плавание» (»Die Große Fahrt«, 1936), «Король Гейзерих» (»König
Geiserich«, 1936), в эпической книге «Сага о рейхе» (»Sage vom
Reich«, 1941-1943) и в ряде других его произведений идеология
«крови-и-почвы» представлена в полной мере в её неоспоримой
значимости, не поддержанной какими-либо философскими довода-
ми. Как, не без сарказма, заметил И. М. Фрадкин, «он перепахал всё
поле древней германской истории, начиная ещё с мифологических
и доисторических времён, и сумел обнаружить все доблести нор-
дической расы едва ли не во тьме ледникового периода».2 Именно
за это его и привечали нацисты, видя в нём писателя, могущего
доходчивым языком проводить в жизнь основные постулаты идео-
логии национал-социализма. Правда, сам Блунк полагал, что многие
из этих постулатов он сформулировал ещё до того, как возникло
нацистское движение, но ему хватило ума не вступать по этому
поводу в распри с нацистами.
1 Anonym. Das hat er früher schon gemacht // Der Spiegel. 03.03.1954. S. 26.
Фрадкин И. M. Официальная литература Третьей империи / / История немецкой
литературы. Т. 5. 1918-1945. M., 1976. С. 342.
209
Нельзя сказать, что Блунк был отпетым нацистом, хотя и зани-
мал высокие посты в Третьем рейхе и не был замечен в каких-либо
оппозиционных акциях. Он был очень практичным человеком,
и всё, что происходило в политической и повседневной жизни
нацистской Германии его интересовало только в той мере, в какой
это способствовало его благополучию. Как писал Вернер Берген-
грюн, один из авторов «внутренней оппозиции», «он желал славы,
читателей, больших тиражей книг, денег; все остальное его ничуть
не трогало».1 Вместе с тем Блунк придерживался в расовой полити-
ке довольно либеральных взглядов и в его произведениях эта тема
не выделялась более явственно, чем это было принято в немецкой
литературе конца XIX — начала XX веков. По крайней мере, когда
осенью 1933 г. Блунк был назначен президентом «Имперской пала-
ты письменности», он связал своё согласие занять этот пост с тем,
что еврейские писатели не будут изгнаны из палаты, и Геббельс
заверил его в том, что так и будет.2 Геббельсу на первых порах нужен
был во главе «Имперской палаты письменности» человек, стоящий
несколько в стороне от нацистской идеологии, что способствовало
созданию положительно имиджа диктатуре на Западе. Однако
последовавшая чистка палаты от расово неприемлемых членов
показала, что слово Геббельса ничего не стоило. Когда же Блунк
в октябре 1935 года предложил в одном из своих выступлений
заграницей заключить для евреев в Германии некий «конкордат»,
Иост, председатель «Имперской академии поэзии», и Хинкель, упол-
номоченный фюрера по очистке от евреев «Имперской палаты куль-
туры», использовали эту возможность, чтобы убрать Блунка с поста
президента «Имперской палаты письменности», оставив за ним
звание «почётного президента» этого учреждения. Отсюда можно
заключить, что антирасистские взгляды Блунка были не так уж
серьёзны, если на следующий год Блунк основывает — естественно,
не без согласия Геббельса — фонд «Немецкая служба сотрудничества
с заграницей» (»Deutsches Auslandswerk«), а в 1937 году становит-
ся членом НСРПГ, после чего, как и в случае с Кольбенхайером,
1 Bergengrün W. Schriftstellerexistenz in der Diktatur. Aufzeichungen und Reflexionen
zu Politik // Geschichte und Kultur 1940 bis 1963 / Hrsg. v. F.-L. Kroll, N. L. Hackeis-
berger, S. Taschka. 2005. S. 151.
2 Dahm V. Künstler als Funktionäre. Das Propagandaminidterium und die Reichs-
kulturkammer // Hitlers Künstler. Die Kultur im Dienst des Nationalismus / Hrsg.
v. H. Sarkowicz. F / Main, 2004. S. 75-109.
210
в 1938 году выходит десятитомное собрание сочинений писателя
и сам фюрер вручает ему по случаю его пятидесятилетия медаль
имени Гёте.
Блунк принадлежит к когорте авторов, которые, начиная
с 1907 года, попытались противопоставить неоромантизму обнов-
лённый вариант областнической литературы (Heimatdichtung).
Отказавшись от воспевания затхлой обыденности провинциального
бытия и локальных деяний представителей разных ветвей немецких
племён, населяющих ту или иную землю, эти авторы обратились
к масштабному героическому прошлому, к предкам доисториче-
ских времён в стремлении представить их прародителями именно
немецкой нации и возвысить заодно и значимость своего замшелого
родного угла, а именно немецких северных провинций. Учитывая
неразрывную родственную связь с областнической литературой,
произведения авторов этого направления лишены были каких-ли-
бо художественных откровений, это была расхожая литература
с претензиями на историко-философскую глубину, рассчитанная
на вкусы мещанского читателя.
Наиболее ярким представителем этого вида литературы являлся
Блунк, известный, прежде всего, как певец «нордического Ренес-
санса», как проповедник приоритета нордически-германской расы
перед народами мира. Значимость этого плодовитого писателя,
опубликовавшего до конца своей жизни 180 произведений разного
свойства, не считая многочисленных статей, определялась не столь-
ко художественными достоинствами его произведений, сколько
умением подать материал в удобной и заманчивой для обывателя
Зшаковке. На волне возникшего после проигранной войны интереса
к прошлому немецкой нации его исторические романы представля-
ли собой смесь реальных фактов с мистическими сказаниями ниж-
ненемецкого фольклора. У него был свой круг читателей, и круг этот
с каждым годом ширился, ибо Блунк нащупал нужную тематику
и соответствующую тональность, отвечавшую настроениям обы-
вательской публики, искавшей утешения в героическом прошлом.
Первыми шагами в этом направлении было создание Блунком
трилогии, получившей в годы нацизма название «Народ в становле-
нии», в основу которой легла предыстория возникновения ганзей-
ского города Гамбурга — «Хайн Хойер» (»Hein Hoyer«, 1922), «Беренд
Фок. Легенда о шкипере-богоотступнике» (»Berend Fock. Mär vom got-
tabtrünnigen Schiffer«, 1923) и «Штеллинг Роткинсон. История одного
провозвестника и его народа» (»Stelling Rotkinnsohn. Die Geschichte
211
eines Verkünders und seines Volkes«, 1924). По широте охвата —
от времён викингов до времён Тридцатилетней войны — эту три-
логию сравнивали с «Предками» Густава Фрейтага, проследившего
в шести томах своей эпопеи родословную одной буржуазной семьи
от переселения народов (IV век) до революции 1848 года. Но если
Фрейтага волновала судьба нарождающейся немецкой буржуазии,
отсюда и надобность в родовитых предках, то Блунк мыслил более
высокими категориями, и его собрание всевозможных легенд, ска-
зок, историй из прошлого Гамбурга подаётся как некая летопись
борьбы истинных германцев за свои права и свою веру, и во главе
этой борьбы стоят личности, обладающие диктаторским нравом,
что и помогает им сохранять немецкую общность. При этом особо
подчёркивается пантеистическая суть северогерманского проте-
стантизма, основы которого определяются нордической мистикой
и лишь отчасти христианской верой. В подтверждение этому Блунк
создаёт книгу «Сказок Нижней Эльбы» (»Märchen von der Niederelbe«,
1923-1931) в трёх томах, которая является своеобразным пандемо-
ниумом всевозможной нечисти, мистических явлений, всего того
мира, который остался в памяти народа с архаических времён.
Значимость этой книги определяется, прежде всего, географи-
ческим местоположением, нижнегерманской аурой, ибо именно
здесь, по мнению правоверных фёлькиш-националов, и лежат
основы немецкого духа, немецкости как таковой, если можно так
выразиться.
Следующим шагом к выяснению, откуда есть пошёл настоящий
немецкий народ, стала трилогия «Сага праотцов», повествующая
о германцах доисторического времени и являющаяся класси-
ческим образцом фёлькиш-национальной трактовки идеологии
«крови-и-почвы». Здесь в большей степени, чем в первой трилогии,
по причине отсутствия более или менее прочной исторической
базы преобладает мифологическая трактовка событий, являющих
собой собрание различного рода германских и античных мифов
в вольной трактовке, а мистические откровения придают этой
трилогии статус некоей германской Библии. Временные дефиниции
каждого из романов этого цикла носят относительный характер,
это подтверждает и сам автор,1 но главное здесь не историческая
верность, а воссоздание некоего архетипа германца на все времена.
1 Grothe H. Hans Friedrich Blunck. Zu seinem 50. Geburtstag am 3. September 1938 //
Bücherkunde. Berlin, 1938. H. 9. S. 471-472.
212
В первом романе «Спор с богами» (»Streit mit den Göttern«,
1926), повествующем о временах бронзового века, главным героем
выступает Виланд, искусный кузнец, древнегерманский полубог
хтонического свойства, олицетворяющий собой германского героя,
могущего противостоять богам и самому стать равным богам, под-
нявшись на выкованных им крыльях над ними.
Второй роман «Борьба созвездий» (»Kampf der Gestirne«, 1926)
уводит читателя во времена каменного века, во времена «станов-
ления германцев как народа», когда они начали превращаться
из кочующего племени в оседлых крестьян и охотников со своими
обычаями и верованиями. При этом сам процесс становления
германцев как народа происходит в едином ключе с процессами,
происходящими в космосе, где идёт неустанная борьба света против
тьмы, из чего следует понимать, что германцы и есть порождение
света и изначально отмечены богами как избранная нация. Понят-
но, что здесь явно прослеживается желание установить в пику
евреям первородность и избранность германцев. Главный герой
романа Улль, назвавший себя Диувисом (отсюда посыл к древне-
германским богам), вождь своего народа, создаёт свою собственную
религию, основанную на поклонении солнцу, которая помогает ему
сплотить вокруг себя народ. Благодарные потомки возведут его
потом в ранг божества.
Третий роман «Овладение огнём» (»Gewalt über das Feuer«,
1928) уводит читателя в ещё более дальние времена, во времена
матриархата, когда человек находился на ещё более низком уровне,
да и сами первоначальные боги без цели бродили по земле. Тогда
бог-создатель решил передать господство над землёй людям с тем,
чтобы они создали здесь райскую обитель. Какое-то праплемя
женщин, оставшихся без мужчин, не вернувшихся с охоты, нахо-
дит тяжелораненого мужчину, выхаживает его, и именно с него
начинается новая жизнь, потому что он случайно добывает огонь,
изобретает лук, успешно охотится на грозных зверей, создаёт искус-
ство, некое подобие религии и, наконец, моногамию, положив тем
самым конец матриархату. Богу-создателю оставалось только дать
этому племени язык и музыку.
Культ героя, вождя, фюрера определяет основу обеих трилогий
Блунка. Хотя народ как таковой присутствует в этих трилогиях,
но он всегда выступает в них в роли статистов. Народная масса, как
и мыслили фёлькиш-националы, должна была служить для героев
фоном, именно в этом заключалась их контроверза с нацистами,
213
когда те обратились в решительную минуту за помощью к массам,
забив их головы благостными посулами. «Гитлеризм», как говорил
Г. Гримм, а не «чистый национал-социализм» взял верх в «революци-
онном движении». Сказать, что Блунк был ярым сторонником этих
чаяний фёлькиш-националов, было бы натяжкой, хотя он и вхо-
дил в состав авторов, группировавшихся вокруг журнала «Иннере
рейх», органа консерваторов различного толка. Однако он всегда
держал нос по ветру и умел высказывать собственные взгляды
в приемлемой форме, не вызывавшей у партийного руководства
нацистов каких-либо недоуменных вопросов. Обе трилогии были
выражением настроений фёлькиш-националов до тех пор, пока
они соответствовали их сословным представлениям о миропорядке
и надеждам на возвращение духа времён последнего кайзера.
После 1933 года творчество Блунка не претерпело особых изме-
нений, разве что более чётко определилась тенденция к созданию
образов немцев-первооткрывателей, забытых или отодвинутых
на задний план непониманием их заслуг собственным народом.
Историческим произведениям времён Веймарской республики,
а Третьего рейха в особенности, вообще был свойственен дух
переписывания истории в пользу немцев, культ непонятых и недо-
оценённых героев. Эта мысль достаточно ясно просматривалась
и в произведениях Блунка 20-х годов, теперь же она стала домини-
рующей в его творчестве. При этом речь шла не столько о восстанов-
лении якобы исторической справедливости, сколько об упущенных
возможностях установления немецкого приоритета в открытии
новых земель и соответственно о расширении присутствия немцев
в мире. Именно этой проблеме посвящен роман Блунка «Великое
плавание» (»Die Große Fahrt«, 1935), в котором речь идёт о несо-
стоявшейся колонизации Америки, открытой викингами задолго
до Христофора Колумба. Главный герой романа Дидерик Пининг,
бывший морской разбойник, а теперь наместник короля Дании
и Норвегии в Исландии (действие романа происходит в XV веке),
обуян мыслью переселить немецких и исландских крестьян в откры-
тую им вновь Америку, называвшуюся тогда викингами Винландом.
Акция эта носит глобальный характер, потому что Пининг понимает
под немцами вообще все северные народы, включая сюда также
датчан, голландцев и фламандцев, и целью этой акции является
не только колонизация новых земель, но и достижение немцами
мирового господства: «Стоит нам только там, за океаном, заво-
евать новый рейх, как мы станем могущественными над всеми
214
народами».1 Однако время смелых викингов прошло. Отстояв
свою независимость от англичан, пережив землетрясения, чуму,
гражданскую войну, жители острова хотели обрести покой: «Видя,
как Дания и Швеция обескровливают самих себя в войне, весь
Север, по прошествии своих великих времён, пребывал в состоянии
смутного смертельного страха перед сильными народами».2 Здесь
уже не до захвата новых земель, хорошо бы сохранить свои земли,
и подавляющее большинство жителей Исландии выступило против
отправки экспедиции в неизведанные страны. Свою лепту в это дело
внесла и церковь, озабоченная тем, чтобы обрести независимость
от папы, и здесь верх берут местные проблемы, ибо главное сейчас
обретение собственной духовности, «внутреннего рейха немцев»,
и поэтому сын Пининга, священник, хотя и увлечён идеями отца,
всё же остаётся верен посылу Лютера: «Меня влечёт в Эрфурт
и Виттенберг, там лежит Индия немцев... Если ещё раз появится
спаситель, то он возникнет из народов Севера. И он освободит нас,
немцев, от Рима».3 Поиски «внутреннего рейха», заключает Блунк
не без сожаления, привели к тому, что «Германия больше не боролась
за обретение новых миров, проливая кровь столетиями в войнах
князей и обретении собственной веры».4 Религиозные веяния времён
Реформации и «викинго-приключенческие германские инстинкты»
не слились воедино, и в этом, как отмечала нацистская критика,
и состоит «германская трагедия».5
В качестве антитезы к Пинингу Блунк пишет исторический
роман «Король Гейзерих» (»König Geiserich«, 1936), повествующий
0 взлёте королевства вандалов. По сути дела, это не столько истори-
ческий роман (по многим позициям он плод фантазии автора и мало
связан с реальными, хотя и скудными сведениями о Гейзерихе),
сколько роман о фюрере, при этом с такими прямыми отсылками
к современности, что порой напоминает некий свободный ком-
ментарий к «Майн кампф». Практически вся идеология и логика
построения нацистского государства, как и недвусмысленные
отсылки к личности самого Гитлера, нашли прямое отражение
в романе Блунка.
1 BlunckH.F. Die Große Fahrt // BlunckH.F. Gesammelte Werke. Bd. 7. o. J. S. 251.
2 Ibid. S. 264.
3 Ibid. S. 246.
4 BlunckH.F. Op. cit. S. 278.
5 Mulot A. Die deutsche Dichtung unserer Zeit. Stuttgart, 1944. S. 261.
215
Выбор на Гейзериха пал не случайно, ибо в немецкой исто-
риографии он считается «уникальной фигурой среди германских
королей великого переселения народов»,1 поэтому аналогии с прав-
лением Гитлера должны подтвердить преемственность фюрера
как руководителя страны великим традициям великих потомков.
В значительной мере «Король Гейзерих» напоминает знаменитый
роман Феликса Дана «Борьба за Рим» (»Ein Kampf um Rom«, 1876),
однако история империи вандалов, в отличие от Дана, трактуется
Блунком чрезвычайно оптимистически, и не потому, что речь идёт
лишь о годах успешного правления Гейзериха. Главное в романе
Блунка — образ короля, образ фюрера, отца своего народа, стремя-
щего создать новое государство всеобщего блага, идущего к своей
цели вопреки проискам консервативной родовой знати и церкви.
Если вначале романа речь шла о создании «нового рейха», напоми-
навшего в какой-то мере «райскую обитель» для вандалов, уставших
от бесконечных блужданий по Европе, то постепенно на первом
место выходит мысль о создании нового государства, сильного, неза-
висимого от внешнего мира, в данном случае от римской империи.
И это государство возникло «по воле... юного князя Гейзериха»,2
а не по воле самих вандалов. Блунк постоянно подчёркивает, что
Гейзерих, как и Гитлер, единолично решая вопросы мира и войны,
не советуясь ни со старейшинами, ни с тингом, древним парламен-
том вандалов, т.е. действует как диктатор. Законы, изданные Гей-
зерихом, а не свободное волеизъявление определяют жизнь нового
государства вандалов: «Он издал строгие законы против беспорядка
и распущенности, оберегал свой народ от обычаев африканцев
и требовал от молодых воинов заключения браков и сильных маль-
чиков... упорядочил религиозные дела и следил за тем, чтобы его
вандалы оставались приверженцами одной веры, а другие были бы
отделены, потому что он не хотел, чтобы его народ был вовлечён
в церковные распри. Он сам давал пример простой скромности,
как того требовало пуританское учение арианов. О тайной связи
между ним и богом, о призыве, который он когда-то услыхал, никто
не знал. Иногда он резко обрывал разговор или беседу со священ-
никами. «Так хочет бог!»,— заявлял он решительно, и считал, что
1 Диснер Г.-И. Королевство вандалов. Взлёт и падение. СПб., 2002. С. 88.
2 Blunck H. F. König Geiserich. Eine Erzählung von Geiserich und dem Zug der Wanda-
len // Blunck H.F. Gesammelte Werke. Bd. 2. Hamburg, 1937. S. 191.
216
предвечный Отец скорее стоит на стороне государства, взыскую-
щего мира, чем на стороне склочных вероучений».1
Многое из того, что насаждает Гейзерих в новом государстве
(расправа со старейшинами, наследование власти, устранение
женщин от власти, возрождение народных ремёсел, обращение
к народным обычаям, запреты на браки с иноверцами) напоминает
подобные же действия нацистских властей. Блунк как бы подводит
читателя к пониманию того, что именно так создаются великие
государства, намекая тем самым на близость Третьего рейха заветам
германского короля Гейзериха. Даже такой, казалось бы, личный
штрих — долгое безбрачие Гейзериха — трактуется Блунком как
высшее проявление полной отдачи себя королём заботам о народе,
ибо «он повенчан с народом»,2 и в этом можно усмотреть прямую
отсылку к Гитлеру, остававшегося на момент издания романа неже-
натым и заключившим брак с Евой Браун перед самой смертью:
«Его путь означал сверхчеловеческий поступок, долг, жертвенность
и одиночество великого человека. Он внимал призыву бога и своего
бедного народа; он сотворил свободу и силу своего рейха; и за это
он потерял то, что делает жизнь других светлой и восхитительной».3
Нацистская критика уловила внутренний посыл романа Блу-
нка, посчитав это произведение писателя «политическим эпосом»,4
увидев в нём «выражение судьбы народа и фюрера, вырванное
из оков прошлого, освобождённое от фальшивых исторических
оценок и приближенное к сегодняшнему народному восприятию».5
Несомненный успех «Гейзериха» в политических кругах
Третьего рейха побудил Блунка представить идею «судьбы народа
и фюрера» в ином, приближенном к запросам времени варианте.
Как истый царедворец, всегда державший нос по ветру, он уло-
вил, в отличие от Г. Гримма, смену экспансионистских настрое-
ний в политике Гитлера и написал в духе стародавней концепции
»Drang nach Osten« очередной исторический опус — роман «Вольтер
Blunck Н. F. König Geiserich. Eine Erzählung von Geiserich und dem Zug der Wanda-
len // Blunck H. F. Gesammelte Werke. Bd. 2. Hamburg, 1937. S. 234.
2 Ibid. S. 171.
3 Ibid. S. 399.
4 Mulot A. Die deutsche Dichtung unserer Zeit. Stuttgart, 1944. S. 238.
5 SchultzeJ. Blunck, Hans Friedrich: König Geiserich // Die Bücherei, Berlin, 1937.
H.l/2. S. 82.
217
фон Плеттенберг. Магистр немецкого ордена в Ливонии» (»Wolter
von Plettenberg. Deutschordensmeister in Livland«, 1938), в котором
напомнил о героических деяниях Ливонского рыцарского ордена
в борьбе с набиравшим силу Московским княжеством. Не случай-
но Геббельс лично отобрал для праздничного сборника «Ваймарер
Блэттер 1938» (»Weimarer Blätter 1938«), посвященного первой
«Великогерманской неделе книги», главу из этого романа, в кото-
рой рассказывается о проигранной русскими войсками битвы под
Псковом в 1502 году.1
Роман построен по известному принципу немецких истори-
ческих романов, когда какое-либо локальное событие раздувается
чуть ли не до вселенских размеров. Маленькая Ливония, раздирае-
мая внутренними политическими, экономическими и религиозны-
ми проблемами и являющаяся своеобразным форпостом немецкого
присутствия на Востоке, собирается идти войной на Псков и Новго-
род, потому что в последнем по приказу царя Ивана III было закрыто
самое большое и влиятельное представительство ганзейских купцов,
считавших Новгород исконно немецким городом.
Возможности инициатора этого предприятия, магистра Ливон-
ского ордена Вольтера фон Плеттенберга, ограничены. Попыт-
ки уговорить папу Римского объявить крестовый поход против
Московского княжества провалились, и поэтому он призывает
под свои знамёна литовцев, шведов, датчан, завлекая их тем, что
в случае успеха «мы станем наследниками земель вплоть до Сиби-
ри»,2 и одновременно пугая их нашествием варваров: «Речь идёт
не только о Ливонии, но и о судьбе древнего народа господ, всего
человечества», ибо «Москва грозит повсюду... она собирается раз-
рушить старую Европу».3
Плеттенберг выступает в романе как полководец и богодан-
ный вождь: «Ливония была маленькой империей немцев, ливов,
эстонцев и латышей, в которой аристократы и архиепископы,
города и орденские рыцари вели борьбу за свои крепости, и кото-
рую только теперь, посланный судьбой магистр немецкого ордена
1 Blunck H. F. Die Schlacht bei Pleskau // Weimarer Blätter 1938. Festgabe zur ersten
Großdeutschen Buchwoche. Leipzig, 1938. S. 102-116.
2 Blunck H. F. Wolter von Plattenberg. Deutschordensmeister in Livland. Hamburg,
1938. S. 40.
3 Ibid. S. 41, 49.
218
Вольтер фон Плеттенберг, соединил под своё начало, преодолев
силу каждого из них».1
Собрав достаточно большое войско, Плеттенберг попытался
в 1502 году взять штурмом Псков и Новгород, однако оба города
устояли, хотя в боях под ними у озера Смолина русская армия
понесла большие потери и отступила; отступил, впрочем, и Плет-
тенберг, хотя победа была признана за ним.
В изложении Блунка все эти события безмерно приукрашены,
начиная от количества погибших со стороны русских (свыше сорока
тысяч, хотя по свидетельству немецких же историков обе армии
насчитывали всего семнадцать тысяч солдат) и кончая воспевани-
ем этой победы как события, «положившего первое ограничение
расширению России».2 Но ограничение это оказалось недолгим.
На следующий год Плеттенберг вынужден был подписать мирный
договор с Россией на 6 лет, который неоднократно продлевался,
и в соответствии с которым к России отошли многие ливонские
земли, хотя Блунк утверждает, что якобы Москва, испугавшаяся
предполагаемого нового похода Плеттенберга на Новгород, сама
запросила магистра о мире.3
Противопоставление русского царя и ливонского магистра
в романе намеренно доведено до крайности оценок: царь — это
не просыхающий пьяница, любящий в одежде простолюдина
ходить по Москве с тем, чтобы лично узнать, чем занимаются
люди, и в то же время объединитель земли русской, славящийся
своей жестокостью, т.е. варвар; Плеттенберг, наоборот — разум-
ный правитель, умеющий найти общий язык с представителями
различных слоев общества, строитель новой жизни в Ливонии,
не чурающийся общения с простыми людьми, да к тому же ещё
и олицетворение жертвенности, отказавшийся от личной жизни
ради блага немецкого народа. Здесь опять отсылки к Гейзериху,
к Гитлеру. Образ Плеттенберга, а с ним и образ Ливонского рыцар-
ского ордена, предстают в некоей мистической ауре спасителей
европейской цивилизации, наделённых могучей неземной силой
в борьбе против русского царя: «Европа дрожала перед ним, князья
BlunckH.F. Wolter von Plattenberg. Deutschordensmeister in Livland. Hamburg,
1938. S. 7.
2 Inid. S. 273.
3 Ibid. S. 274.
219
и короли вынуждены были искать его милости. Только немецкий
орден в Ливонии осмелился выступить против царя».1
Весь настрой романа определяется необходимостью борьбы
против «азиатского большевизма», несущего угрозу всему челове-
честву, и только немцы в состоянии противостоять этой опасности.
В стремлении провести параллели с современностью Блунк идёт
настолько далеко, что вводит в роман персонаж татарского хана
Бориса Уланова (сиречь Ленина), которого царь Иван III собирал-
ся было казнить за то, что его войска не достаточно мужественно
сражались под Новгородом, но благодаря заступничеству маршала
Тёвдена, главного военного советника царя, отказался от своего
намерения, о чём впоследствии очень сожалел, потому что считал
Уланова хитрым военачальником, мечтающим с помощью России
стать ханом всех татар.2
Сказать, что весь роман пронизан нацистской идеологией,
было бы неправильно, ибо в основе его лежит старая погудка »Drang
nach Osten«, но в интерпретации нацистов она обрела радикальный
характер, когда за дело взялись не простые колонисты, а до зубов
вооружённая армия. В этом контексте роман Блунка пришёлся как
нельзя кстати, став, по словам нацистской критики, «символом для
определения пути движения рейха»,3 «проясняющим и подтвержда-
ющим литературными средствами на примерах прошлого сущность
и жизнь нашего времени».4
Ганс Фридрих Блунк, несомненно, был значимой фигурой
в годы нацизма. Певец «нордического Ренессанса» и «нижнегер-
манской самости», понимаемой как выражение истинной расовой
немецкости, он естественно вписывался своим творчеством в иде-
ологический антураж национал-социализма, за что и был ценим
тогдашними правителями. Блунк, пожалуй, был единственным
писателем из стана фёлькиш-националов, кто воспринимал наци-
онал-социализм таким, какой он есть, не беспокоясь, как это было
свойственно Г. Гримму или Р. Г. Биндингу, о «чистоте» рядов партии,
не говоря уже о какой-то иной формации нацистского государ-
ства, как это мыслилось Э. Юнгером и другими представителями
1 BlunckH.F. Op. cit. S. 89.
2 Ibid. S. 91
3 Mulot A. Op. cit. S. 266.
4 Langenbucher H. Volkhafte Dichtung der Zeit. Berlin, 1944. S. 413.
220
«консервативной революции». Говоря другими словами, Блунк был
составной частью национал-социализма.
Тем не менее, после 1945 года Блунк называл себя «анти-
фашистом в кресле Палаты письменности»1 и слал в 1947 году
жалостливые письма Томасу Манну,2 а также Иоганнесу Р. Бехеру3
по поводу судебных преследований его за нацистское прошлое.
Иоганнес Р. Бехер вообще отказался вести переписку с Блунком,
а Томас Манн довольно резко отклонил просьбу Блунка вступиться
за него, заявив, что «для меня, демонстративно порвавшему с Тре-
тьей империей, было бы совсем не к лицу ходатайствовать перед
оккупационными властями за представителя литературы и видного
деятеля этой «империи».4
В этом же письме Т. Манн дал очень верную характеристику
Г.Ф. Блунка как писателя и как человека: «Слишком велика там
(в нацистской Германии. — Е. 3.) готовность стать на сторону зла —
покуда кажется, что «история» подтверждает его правоту. Но писа-
телю, художнику следовало бы знать, что, хотя жизнь и со многим
мирится, безнравственности совершенной она не терпит».5
Несколько иначе строились отношения с национал-социализ-
мом авторов фёлькиш-национальной ориентации Лулу фон Штра-
ус- унд-Торней и Агнес Мигель, группировавшихся вокруг Бёрриса
фон Мюнхгаузена, основателя Гёттингенского кружка, издававшего
в 1898, 1900, 1901, 1905 и 1923 годах. «Гёттингенский альманах
муз». Члены этого кружка исповедовали в пику натурализму, поэти-
ке больших городов, идеи северогерманского неоромантизма, про-
являя особый интерес к метафизике расы, мистике души, к родным
1 Sarkowicz Н. Auf der Sessel der Reichsschrifttumkammer. Der Internationalen PEN,
der Schriftstel der Hans Friedrich Blunck und den Dunstkreis des Völkischen //
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03.09.1988.
2 Блунк буквально засыпал T. Манна письмами, ища у него поддержки и защиты
от судебного преследования. См. Mann Th. Tagebücher 1946-1948 / Hrsg. v. I. Jens.
F / Main, 1989, a также Mann Th. Briefe 1948-1955 und Nachlese / Hrsg. v. E. Mann.
Akkgäu, 1965. Писем было столько, что из них получилась настоящая книга »Tho-
mas Mann und Hans Friedrich Blunck. Briefwechel und Aufzeichnungen. Hamburg,
1968». Еженедельник «Цайт» поместил в 1963 г. ответ Т. Манна на письма Блунка
(Mann Th. An Hans Friedrich Blunck // Die Zeit, 20.09.1963.)
Письмо И. Р. Бехера Т. Манну о просьбе Блунка дать ему положительную рекомен-
дацию (Mann Th. Tagebücher 1946-1948 / Hrsg. v. I. Jens. F / Main, 1989. S. 505.).
4 Манн T. Письма / Под ред. CK. Апта. M., 1975. С. 200.
5 Там же. С. 201.
221
местам, к романтизму старой формации, что нашло своё выражение
в их приверженности жанру баллады на темы преимущественно
средневековой истории Германии. В массе своей это были истори-
ческие анекдоты локальной значимости, выискиваемые из местных
хроник и малоизвестные даже историкам. По большому счёту, эти
баллады были прямым порождением Heimatdichtung и только доста-
точно талантливая интерпретация этих анекдотов, освящённая
пафосом фёлькиш-национального свойства, да общественно-по-
литический настрой в Германии начала XX века способствовали
известности этому жанру. Немногие прозаические произведения
авторов Гёттингенского кружка также были посвящены прошлому,
хотя и с элементами Heimatdichtung. Путь каждого из названных
авторов к национал-социализму различен, и это служит лишним
доказательством невозможности причислять каждого из представи-
телей фёлькиш-националов к истовым сторонникам нового режима
при сохранении общей идеологической близости их творчества
национал-социалистским постулатам.
Несомненно, вдохновителем и в известной степени идеологом
авторов Гёттингенского кружка был барон Бёррис фон Мюнхгау-
зен (Münchhausen, Börries, Freiherr von; 1874-1945), потомок того
самого барона Мюнхгаузена, известного своими необыкновенными
приключениями и получившего в Германии титул «барона-враля»
(Lügenbaron). С 1895 по 1899 год Бёррис фон Мюнхгаузен изучал
юриспруденцию в университетах Гейдельберга, Мюнхена, Гёттин-
гена и Берлина, а после успешной защиты диссертации обратился
к изучению философии и естественных наук. Прослушав курс
лекций в Гёттингене, он собрал вокруг себя литературную моло-
дёжь и даже основал литературную академию. Первая книга поэта
«Стихи» (»Gedichte«) вышла в 1898 году, за ней последовали «Иуда»
(»Juda«, 1900), «Баллады» (»Balladen«, 1901), «Книга рыцарских песен»
(»Ritterliches Liederbuch«, 1903), «Сердце в латах» (»Das Herz im Har-
nisch«, 1911). Эти стихи создали ему славу обновителя баллады, хотя
Мюнхгаузен только возродил это «дремлющее королевское дитя
немецкой поэзии», не добавив ему ничего нового, но и этого было
достаточно для того, чтобы привлечь внимание читающей публики
к молодому поэту. Конец XIX — начало XX веков в Германии отме-
чены всеобщим повышенным интересом к древней истории немец-
кого народа, и поэзия Мюнхгаузена пришлась как никогда кстати.
Особая привлекательность его стихов заключается в языковой
простоте, в отсутствии стилистических изысков, тёмных метафор,
222
сложных символов. Мюнхгаузен избегает подробностей, сразу же
вводит читателя в курс дела, достаточно динамично развёртывает
сюжет и заканчивает его чёткой, надолго запоминающейся фразой.
Привлекательность баллад Мюнхгаузена строится в большей мере
не на чтении текста, а на его произношении, что также придаёт
этому жанру элемент стародавности, когда литература была про-
износимой, а не читаемой.
Если в первых стихах, посвященных мрачной героике севе-
ро-германского эпоса (например, «Бешеная гонка Бодана», «Хельге»,
«Харальд») заметно ощущается сказовая интонация, опосредованная
обильным цитированием из «Эдды» и других известных источников,
то последующие стихи рыцарского цикла носят частично назидатель-
ный (например, «Нашествие гуннов», «Восстание крестьян»), частич-
но залихватский характер (например, «Бивачные песни времён
Тридцатилетней войны», «Епископ-сквернослов» и «Сага о кожаных
штанах»), что определяется историческим временным фактором.
Епископ-сквернослов
«Зовут в Италию. На кой?
Влажна сия причуда!» —
Епископ Крут сказал с тоской
И по столу хватил рукой —
Аж прыгнула посуда.
«Мы в адском пламени сгорим
Из-за поездки в чёртов Рим!
Всё проклянёшь, покуда
Дотащишься дотуда».
До папы весть дошла, что Крут
Ругается безбожно.
И вот легат уж тут как тут
И просит в Рим на папский суд
Приехать неотложно...
На сотню непотребных слов
Дал отпущение грехов
Прелату добрый духовник —
И думал, что запас велик.
Чуть свет карета седока
Несёт по кочкам ходко.
Внутри молчание пока.
В окне трясутся нос, щека
И складки подбородка.
223
Но мук подагры наконец
Не выдержал святой отец:
«Эй, кучер! Легче ты, баран!
Без ног доставишь в Ватикан!»
Прислужник в замке в нужный час
Не вспомнил про побудку.
«Дерьмо собачье!» В этот раз
Всерьёз уменьшился запас —
Прелат струхнул не в шутку!
На въезде в Лемниц был овраг,
И колесо в овраге — крак!
Накладная поломка!
Крут выругался громко...
А вот и Мюнхен! Град хмельной!
Гуляй на всю катушку!
Цирюльник пьяною рукой
На требник вывернул в пивной
Епископскую кружку.
Такого Круг спустить не мог:
«Ах ты, мозгляк! Срамной стручок!
Вонючая отрыжка!
Тебе, мерзавец, крышка!»
Но вскоре опустил кулак:
Не говоря ни слова,
За кружку заплатил «мозгляк»,
И Крут, хотя запас иссяк,
Сиял, как пфенниг новый:
«Мне Мюнхен люб! Случись сто бед —
Нужды скупиться больше нет!
Пусть в Риме духовенства цвет
Потерпит, бес им в ногу!
Не двинусь я, ей-богу
Пока запас не обновят —
Я слишком мало, верхогляд,
Проклятий взял в дорогу!»1
Особый раздел представляет цикл стихов, навеянных цыган-
ской романтикой и написанных Мюнхгаузеном в годы его стран-
ствий с цыганским табором, и тематикой торы. За ним укрепилась
слава «последнего рыцаря» высокой поэзии, для которого важен был
не социальный статус героя, а его духовный аристократизм, и тут
1 Пер. Михаила Лукашевича.
224
возникает любопытный парадокс этнического свойства, который
свидетельствует о двойственности натуры Мюнхгаузена как чело-
века, как писателя и как политика.
С одной стороны, как бы Мюнхгаузен ни открещивался от это-
го, в нём «говорит высокомерный юнкер и феодальный властолю-
бец, у которого совершенно отсутствует какое-либо социальное
понимание»,1 хотя уже то обстоятельство, что «он различал три вида
аристократов — аристократов меча, к которым причислял и себя;
купеческих аристократов (Фуггеры) и евреев», называя последних
«старейшими аристократами мира»,2 свидетельствует о его своео-
бразном социальном мышлении. Более того, увлечение Мюнхгау-
зена в эти годы идеями социал-демократов привело к тому, что он
на какое-то время вышел из церкви и даже готов был отказаться
от баронского титула, и, как следствие этих социальных шатаний,
бродяжничество по Германии, хотя и непродолжительное, с цыга-
нами и циркачами. Подобные настроения нашли своё выражение
в его стихотворении «Колокол»:
Колокол нынче гремит перед бурею,
Нынче на улице ливень стеной,
Но через эти предвестия хмурые
Слышится издали голос иной.
Вынутый из деревянного ящика,
К небу охотничий рог вострубит,
Будто застонет душа и расплачется:
«Бог да простит тебя, Бог да простит!»
Бог да простит тебя, белое рыцарство!
Крепко стоит на земле мужичок,
И силой тёмною, силой корыстною
Будет ославлен твой герб и значок.
Рыцарский замок сияет за облаком,
Только однажды сюда подойдут,
Как кузнецы, поработают молотом -
И вековые врата упадут.
Скажут хозяину: «С рыцарством кончено!»,
И между рёбер лопатой его.
В ножнах останется меч остроточеный -
Рыцарь не станет клеймить никого.
Münchhausen В. von. »Der Ritterliche Dichter« // Die Neue Literatur. Dezember 1934.
S. 761.
Ibid.
225
Чёрное пламя под сводами рыскает,
Рушатся стены, растоптан значок.
Бог да простит тебя, бедное рыцарство!
Крепко стоит на земле мужичок.1
С другой стороны, называя себя «не практикующим антисеми-
том»,2 Мюнхгаузен считал евреев «самой древнейшей аристократи-
ей» и восхищался античным иудаизмом, оставаясь при этом против-
ником того, что «в немецкой литературе евреи занимают ведущее
место», хотя, «как бы это ни было для меня невыносимо, место это
они занимают по праву».3 Пожалуй, самым ярким примером его
особого отношения к еврейской культуре является книга баллад
«Иуда» (»Juda«, 1900), в которых воспеваются еврейские герои
Моисей, Самсон, Энак, еврейские праздники. Книга, изданная
в роскошном оформлении в стиле «модерн» с иллюстрациями еврей-
ского художника Эфраима МозесаЛилиена (Lilien, Ephraim Moses),
долгое время воспринималась в еврейских бюргерских семьях как
знаменательный подарок молодым людям во время торжественного
акта Бар Мицва, представляющего собой некий аналог христиан-
ской конфирмации.
Говоря о специфике «становления Мюнхгаузена на пути от пев-
ца еврейской мощи и еврейских героев к фёлькиш-национальному
барду», Сэмми Гронеман, близкий друг писателя, отмечал: «Он любил
древний иудаизм и старых маккавеицев, укоренившихся в его
традициях. Он ненавидел ассимиляцию и не понимал, как может
еврей чувствовать себя иначе, чем аристократом».4 Выходящая
в Берлине еврейская газета «Вельт» (»Die Welt«) писала в 1903 г.:
«Всегда симпатичный барон фон Мюнхгаузен прямо и ясно выска-
зывает своё мнение. Он называет сионизм пробуждением гордого
аристократического сознания благородного народа. Он не верит
в его реализацию, потому что плебеи, большинство плебеев ничего
для этого не делают».5
1 Пер. Е. В. Лукина.
2 Deine Augen über jedem Verse, den ich schrieb. Börries von Münchhausen. Levin
Ludwig Schücking Briefwechsel 1897-1945 / Hrsg. v. B.E. Schücking. 2001. S. 229.
3 GronemannS. Erinnerungen / Hrsg. v. J. Schlör. 2002. S. 49.— Цит. по: http://
de.wikipedia.org/wiki/Börries_Freiherr_von_Münchhausen
4 Ibid. S. 69.
Цит. по: http://de.wikipedia.org/wiki/Borries_Freiherr_von_Munchhausen
226
Вероятно, поэтому Мюнхгаузен, придававший большое значе-
ние аристократии как таковой, видевший в ней соль земли, столь
яростно накидывался на евреев, писателей по цеху, воспринимая
их людьми без роду и племени (Гофмансталь, Майринк вызывали
у него «отвращение»), пытавшимся обустроиться в чуждом им
мире. Именно поэтому период «бури и натиска» в специфическом
Мюнхгаузенском исполнении длился недолго. Уже в 1911 году Мюн-
хгаузен сблизился с Адольфом Бартельсом, главным антисемитом
в немецком литературоведении. В письме к Бартельсу Мюнхгаузен
дистанцируется от своего цикла баллад «Иуда» и предлагает ему
создать некое тайное общество, которое занималось бы пробле-
мой оттеснения еврейской культуры в Германии на задний план.1
Неслучайно Бартельс помещает Мюнхгаузена в 1922 году в раздел
«Национализм» в своей книге «Немецкая литература от Геббеля
до современности», замечая, что как «его баллады и исторические
стихи,., так и он сам как личность, достойны внимания».2
Первая мировая война, в которой Мюнхгаузен принимал
участие сначала в качестве офицера конно-гвардейского полка,
а затем — сотрудника иностранного отдела Главного штаба, как
и знакомство с Артуром Мёллером ван ден Бруком, Гансом Гриммом,
Вальдемаром Бонзельсом и Фридрихом Гундольфом, являвшимися
также сотрудниками этого отдела, укрепили в нём националистские
консервативные взгляды, которые проявлялись и раньше в его
творчестве. Поэтому Мюнхгаузен, начиная с 1923 года, уже более
конкретно выражает свои политические взгляды: «Дело в том, что
я немец, и поэтому могу полностью наслаждаться только немецким
искусством».3 Подобные заявления, при сохранении на протяжении
всей своей жизни тесных дружеских контактов с евреями, свиде-
тельствуют о некоем разделении антисемитизма для внутреннего
и внешнего употребления. В письме к Ине Зайдель в 1929 году
Мюнхгаузен утверждает: «Вы знаете, я не антисемит, но верю в то,
что всё же вынужден защищать немецкую самость в её отчаянной
оборонительной борьбе против разрастания еврейского духа»,4
Münchhausen, Börnes Freiherr von // Deutsche Biographie / www.deutsche-bio-
graphie.de
Bartels A. Die deutsche Dichtung von Hebbel bis zur Gegenwart. Die Jüngeren. Leip-
zig, 1921. S. 44.
3 Цит. по: Wulf J. Op. cit. S. 468.
Цит. по: http://de.wikipedia.org/wiki/Borries_Freiherr_von_Munchhausen
227
а несколькими годами раньше в журнале «Дойчес Адельсблат»
(»Deutsches Adelsblatt«) он же заявляет совершенно в расистском
духе о том, что «брак между арийцами и евреями всегда порожда-
ет ублюдков».1 Вообще 20-е — начало 30-х годов характеризуются
в жизни Мюнхгаузена не столько творческими достижениями, их
просто не было, сколько усилением политической деятельности.
Мюнхгаузен становится публицистом, с 1925 года он занимает
в журнале «Фольк унд рассе» (»Volk und Rasse«) пост редактора
приложения «Фольк им ворт» (»Volk im Wort«). Именно в эти годы
формируется политическая позиция Мюнхгаузена, обретают силу
его ожесточённые нападки на современную литературу и искусство,
преимущественно на экспрессионизм, как и на саму Веймарскую
республику; именно в эти годы формируется костяк фёлькиш-на-
циональной оппозиции под его идеологическим руководством, куда
вошли Э.Г. Кольбенхайер, В. Шэфер, Г.Ф. Блунк, Г. Йост, Г. Гримм
и Э. Штраус, который получил в преддверии прихода к власти
нацистов название «Вартбургер крайс» (»Wartburger Kreis«, 1932).
Его ежегодные встречи с присуждением серебряной Вартбургской
розы лучшим представителям национальной литературы рассма-
тривались как некое противопоставление не только литературному
Берлину, но и всей секции поэзии Прусской академии искусств,
подпавшей, как считали фёлькиш-националы, под влияние авторов
«литературы асфальта». Более того, Мюнхгаузен планировал созда-
ние Академии поэзии с резиденцией именно в Вартбурге, о чём он
сообщил в ноябре 1932 года в памятной записке рейхсканцлеру
Францу фон Папену. Как некое подобие этой фёлькиш-националь-
ной академии с далеко идущими политическими амбициями можно
рассматривать «Встречу немецких поэтов» (»Deutsche Dichterta-
gung«), организованную по инициативе Мюнхгаузена и проходив-
шую под патронатом наследного принца Генриха XLV фон Ройса
31 мая 1931 года в замке Остерштайн под Герой. Эта встреча была
своеобразным конгрессом правых сил, а его документы некоей
программой, предложенной ими будущим правителям Германии,2
неким призывом к сотрудничеству.
1 Цит. по: Klee E. Kulturlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945.
Frankfurt / Main, 2007. S. 423-425.
Подробнее об этом говорится в главах, посвященных собственно литературе
Третьего рейха.
228
И призыв этот был услышан. В первые же месяцы после при-
хода к власти нацистов Мюнхгаузен и все члены «Вартбургского
кружка» вошли в состав «почищенной» от инородцев Академии поэ-
зии, а сам глава этого объединения через год был избран сенатором
академии. В 1933 году Мюнхгаузен был среди тех 88 писателей,
подписавших клятву верности фюреру, Здесь опять проявилась
двойственность характера Мюнхгаузена по отношению к нацистам,
которая была присуща не только ему, но и вообще всем фёлькиш-на-
ционалам любого склада — они хотели пользоваться всеми благами,
открывшимися для них в союзе с нацистами, но не желали вмеша-
тельства последних в литературные дела. Мюнхгаузен всеми силами
старался, но безуспешно, уберечь академию от влияния Геббельса,
отстаивая в пику Йосту и Блунку концепцию автономии академии,
и в то же время активно интриговал против Бенна, усомнившись
в его принадлежности к немецкой нации и немецкой поэзии.
В своей печально знаменитой статье «Новая поэзия» Мюнхгаузен
резко отозвался о поколении экспрессионистов, заявив, что «поко-
ление это представляют в большинстве своём арестанты, дезерти-
ры и преступники», а количество евреев «примерно в сто-двести
раз превышает их количество по отношению к числу населения»,
и к числу их относится и Бенн.1 Более того, чтобы совершенно дис-
кредитировать Бенна, Мюнхгаузен послал свою статью министру
Русту с подробными комментарием касательно личности Бенна.
Отношение Мюнхгаузена к новым властям было двойственным.
С одной стороны, он восхищался Гитлером и поддерживал его поли-
тику; с другой стороны, его, как и многих фёлькиш-националов,
коробили жёсткие действия нацистов, особенно по отношению
к евреям. Оставаясь верным сторонником нацистского режима,
в последние годы существования Третьего рейха Мюнхгаузен ото-
шёл от общественной деятельности, хотя продолжал публиковать
собственные изыскания по истории собственно дворянской немец-
кой литературы. В 1945 году, когда уже было ясно, что дни фаши-
стской Германии были сочтены, он покончил жизнь самоубийством.
Куда более консервативной и выдержанной выглядит позиция
соратницы Бёрриса фон Мюнхгаузена Лулу фон Штраус-унд-Торней
(Strauß und Torney, Lulu von; 1873-1956), автора многочисленных
баллад, романов и рассказов. Писательница не принадлежала
Münchhausen В. von. Neue Dichtung // Deutscher Almanach für den 1934. Leipzig,
1933. S. 28-36.
229
к истовым сторонникам нацистской идеологии (сказалось дворян-
ское происхождение и высокая культура), но она во многом способ-
ствовала становлению почвеннически-крестьянского романа, что
и вызвало к ней почтительное отношение в годы фашизма. Романы
и рассказы писательницы принадлежат к разряду Heimatdichtung
высокого полёта, её даже, не без оснований, считали «наследницей...
Аннете фон Дрёсте-Хюльсхоф».1 Предметом её интереса являлись
история, быт и нравы Вестфалии. О приверженности литературе
такого рода свидетельствует и специальная работа Л. фон Штра-
ус-унд-Торней «Деревенские истории в современной литературе»
(»Die Dorfgeschichte in der modernen Literatur«, 1906), в которой,
наряду с обзором литературы «малой родины» всех регионов Герма-
нии, высказывается ряд мыслей фёлькиш-консервативного толка,
нашедших позднее своё выражение в нацистском крестьянском
романе. Обеспокоенная воздействием города на быт и нравы
деревни, Л. фон Штраус-унд-Торней видит задачу писателя в том,
чтобы он «раскрывал старые обычаи, заинтересовывал ими чита-
теля и раскрывал ему глаза на непредсказуемую и неоценимую
нравственную значимость... Сила народа покоится по большей
части на крестьянстве, оно является в известной мере основой его
существования. Народный характер, который из-за сглаживающего
воздействия городов легко стирается в современном человеке, всег-
да сохраняется в самом чистом и правдивом виде в крестьянстве,
которое находится в постоянном соприкосновении с природой...
И с этой точки зрения следует рассматривать задачу писателей,
пишущих о крестьянах, высокой и великой, вносящей свой вклад
в дело сохранения и заботы о силе народа и отводящей ему, наряду
с художественной, также и культурно-историческую значимость.2
Последнее обстоятельство с особой силой проявилось в сборни-
ке новелл «Крестьянская гордость» (»Bauernstolz«, 1901), в рассказе
«Двор на Бринке» (»Der Hof am Brink«, 1906), в романах «Люцифер»
(»Lucifer«, 1907) и особенно в «Иуде» (»Judas«, 1911), переименован-
ном в 1937 году на «Двор Иуды» (»Judashof«). Все эти произведения
писательницы, обращены в прошлое — во времена Тридцатилетней
войны, освободительной войны против Наполеона, Средневековья
или во времена Великой французской революции. Главный герой
1 EloesserA. Op. cit. S. 565.
2 Strauß und Torney, L. von. Die Dorfgeschichte in der modernen Literatur. Leipzig,
1906. S. 39-40.
230
этих произведений — крестьянин, отстаивающий свои исконные
права и ради этого идущий на смерть («Двор Иуды»), или наоборот,
индивидуалист, потерявший свою связь с землёй, продавший свою
душу дьяволу, отчего и нашедший свой конец на костре («Люцифер»).
В романе «Двор Иуды» речь идёт о сохранении стародавнего
наследства, которое явно идёт прахом, так как владелец его, Хинрих
Харрекопф, погряз в пьянстве и в долгах. Его младший брат, Тен-
нис Харрекопф, вынужден пойти к нему в услужение, чтобы как-то
спасти хозяйство от разорения. События во Франции вкупе с рас-
поряжением молодого графа повысить и без того высокие налоги,
вызвали среди крестьян волнения, сопровождавшиеся стычками
между ними и войсками. По решению суда старший брат был лишён
наследства, которое перешло теперь к младшему брату. Однако
местные крестьяне посчитали, что он повёл себя не по-родственно-
му, не встав на защиту старшего брата, арестованного за участия
в антиправительственных волнениях, т.е. предал его, и отвернулись
от нового владельца двора. В отместку за это преступление, они
все скопом потребовали от него выплатить старые долги старшего
брата, хотя раньше относились к ним снисходительно. Не выдержав
оскорблений и финансовых тягот, Теннис Харрекопф кончает жизнь
самоубийством, однако двор его, получивший название двор Иуды,
сохраняется за его малолетним сыном, и тем самым не прерывается
крестьянский род Харрекопфов.
Родовая преемственность сохраняется путём отказа от нововве-
дений, которые могла бы принести Французская революция, и проч-
ной приверженностью Тенниса Харрекопфа старым установлениям
и верностью крестьянскому долгу. Возникшее противостояние
власти и крестьян не связано напрямую с событиями во Франции,
хотя подбили крестьян на эту акцию именно ремесленники из горо-
да, прокламируя всеобщее равенство, но отголоски этих событий
определяют весь ход романного действия. Крестьяне, выступив
против налогового бремени, защищали старые порядки, к которым
они привыкли, и любая попытка изменить их воспринималась ими
как покушение на устоявшийся образ жизни, тем более что старый
граф обещал им сохранить эти порядки без изменений. Но если
Теннис выступал за то, чтобы крестьяне занимались своим делом,
и поэтому отказался принимать участие в их акциях, то остальные
крестьяне поддались на агитацию ремесленников, и больше прово-
дили времени в кабаке и уличных стычках, чем в поле.
231
«Двор Иуды» примечателен тем, что в нём довольно чётко
выражена одна особенность, свойственная всем крестьянским
романам,— отсутствие какого-либо исторического развития при
сохранении исторического колорита. Основная задача писателя
сводится к тому, чтобы показать неотъемлемую связь крестьян
с землёй и их приверженность сохранению чистоты расы, так
что декларируемый историзм оборачивается псевдоисторизмом.
Какие бы события ни происходили в жизни крестьянских семей,
они заканчивались или сохранением испокон принадлежащего им
добра или потерей этого добра в силу невозможности его сохра-
нения, а порой и в силу собственного нерадения. В какой-то мере
Л. Штраус-унд-Торней вышла за рамки романа «малой родины»,
придав ему судьбоносное звучание, высокий драматизм, чем
литература подобного рода никогда не отличалась, ограничиваясь
сугубо локальной тематикой, не меняющей радикально судьбы
героев этих произведений. В этом смысле её творчество отличает-
ся приверженностью суровой правде жизни, полной жестокости,
которая оправдывается сложившимся укладом жизни. Главный
герой романа «Двор Иуды», несмотря на справедливость его желания
сохранить любой ценой наследство предков, становится изгоем,
и гибель его косвенно оправдывается, потому что он пошёл против
сложившихся устоев сельской общины, какими бы несправедливы-
ми они ни были. Личность — ничто, община — всё. Эта парадигма
вписывается в идеологические установки национал-социализма,
а именно в постулаты идеологии «крови и почвы», и поэтому роман
Л. Штраус-унд-Торней воспринимался официальной нацистской
критикой как «книга судьбы народа», которая оказала значительное
влияние на литературу подобного рода, хотя говорить о том, что
писательница была провозвестницей нацизма было бы неверно.1
Будучи не только писательницей, но и владелицей известно-
го издательства «Ойген Дидерихс» в Йене, Л. Штраус-унд-Торней
проявляла лояльность по отношению к новой власти, и в октябре
1933 года она была среди тех, кто поставил свою подпись под
клятвой верности Гитлеру.2 Однако какой-то чётко выраженной
1 Langenbucher H. Op. cit. S. 237.
2 Правда, Wikipedia утверждает обратное. Однако Й. Вульф приводит, согласно
«Шлезвиг-Холыитайнер Цайтунг» от 26.10.1933, фамилии подписантов, и среди
них была фамилия Л. Штраус-унд-Торней (WulfJ. Literatur und Dichtung im Dritten
reich. Eine Dokumentation. Hamburg, 1966. S. 113). Но тут же Вульф замечает, что
некоторые подписи были приведены партийными функционерами без согласия
232
привязанности её творчества к идеологии национал-социализма
трудно обнаружить, если не считать её принципиальной привязан-
ности к теме «крови и почвы», а также составленного ею в 1941 году
по заказу «Института по исследованию и устранению еврейского
влияния на немецкую христианскую жизнь» Народного завета,
своего рода новой Библии, в духе «Мифов 20 столетия» А. Розен-
берга, в котором провозглашалось явление «арийского Иисуса».
Судя по всему, этот опус не вызвал у нацистов особого интереса,
ибо каких-либо отзывов о нём не удалось обнаружить. Куда более
привлекательными представлялись её романы и особенно баллады,
в которых можно было усмотреть определённый налёт национализ-
ма. Не случайно в сентябре 1943 года писательница была награжде-
на медалью Гёте за заслуги в области искусства и науки, и хотя это
награждение официально было связано с её 70-летием, в основе его
лежит признание созвучия творчества Лулу фон Штраус-унд-Торней
идеологии «крови-и-почвы». Эта близость с особой силой проявля-
ется в балладах писательницы, настоянных на угрюмой романтике
нижнемецкого фольклора, суровых северных сказаний, интерес
к которым был связан с «северным ренессансом» в немецкой лите-
ратуре начала XX века, отражавшим поиск фёлькиш-националами
героического начала в истории немецкого народа в пику натура-
листам. При этом речь идёт не столько о представителях высшего
сословия, сколько о простых людях, преимущественно о крестьянах.
В таких балладах как «Окко тен Броке», «Хертье фон Хёрсбюлль»,
«История о пожаре», «Письмо шкипера», «Мореплаватель», «Ночь
божьей милости» и других история воспринимается как некий
миф, в котором человек оказывается бессильным по отношению
к иррациональным силам, правящим его судьбу. Поэтому жизнь
надо принимать такой, какой она есть, не забывая
По морскому обычаю
каждый день, будь дома или на чужбине,
носить свой саван при себе.1
Подобный настрой создаёт предпосылки поведенческого тол-
ка, помогающий читателю переносить тяготы любых социальный
и политических испытаний, будь то после 1914 или после 1933 годов.
подписантов.
Strauß und Torney L. von. Der Seefahrer / / Strauß und Torney L. von. Erde der Väter.
Jena, 1939. S. 46.
233
Если северные баллады лишены каких-либо активных интен-
ций, то последующие стихотворения писательницы, сохраняющие
отчасти балладный настрой, посвящены воспеванию родного угла,
»heimischer Schollen«, крестьянского труда, воспеванию крестьяни-
на как главного человека на земле. Неслучайно в балладе «Либуше»
героиня стихотворения выбирает себе супруга и правителя Богемии
именно пахаря, а не кого-либо из окружающих её дворян, ибо так
ей предназначено судьбой. Но ещё в большей степени писатель-
ница придаёт значение образу «матери-земли» как первоосновы
существования человека. Этот образ становится едва ли не основ-
ной темой её поэзии. В одноимённом стихотворении «мать-земля»
выступает как носительница начала и конца человеческой жизни:
Святая мать, ты носишь всех нас!
Ты смотришь на сменяющийся хоровод цветущих
Поколений, встающих в свете утра,
И, улыбаясь их кратким радостям и печалям,
Тихо повергаешь усталых детей в молчание
а затем и в сон.1
Это даже не гимн матери-земле, а какое-то экстатическое
упоение самой темой единения земли и крестьянина, принима-
ющее самые необычные формы, как это происходит, например,
в стихотворении «Закрытое кладбище» (»Geschlossener Friedhof«),
где рассказывается о том, как по прошествии ста лет после послед-
него захоронения на месте кладбища колосятся хлеба, а благостные
покойники радуются тому,..
...что на нашем пристанище жизнь цветёт,
что почва родная ростки даёт.2
В ещё большей степени эта экстатика проявляется в стихот-
ворении «Родина отцов» (»Väterheimat«), где особенно чётко прояв-
ляется тема «крови и почвы»:
Странствуя в поисках вечных,
Мельком по жизни скользим.
Мысль о корнях и доме
Смутно в сердцах храним.
1 Strauß und Torney L. von. Mutter Erde // Ibid. S. 59.
2 Strauß und Torney L. von. Geschlossener Friedhof // Strauß und Torney L. von. Op.
cit. S. 65.
234
Словно кипучей волной
Священной воды ключевой
В сердце проникнув, зажглась
Кровь перед отчим порогом,
Землю родную познав.1
Постоянное обращение к теме «крови и почвы» вызвано
не столько приверженностью писательницы родным краям, сколь-
ко ощущением того, что сомнительные прелести городской жизни
разрушают веками сложившиеся патриархальные устои сельской
жизни. Эта тенденция особенно ярко проявилась в стихотворении
«Прошлое» (»Einst«), основная мысль которого определяется наде-
ждой на то, что
летний ветер
тысячелетних дней, которые забыты,
таинственную сладость на крыльях принесут.2
Именно поэтому её творчество, как и творчество многих фёль-
киш-националов, удачно отвечало идеологическим устремлениям
нацистов, ориентированным на прошлое, хотя не все писатели этого
круга были искренними почитателями нового режима.
Однако в упоении прошлым таилась и определённая опасность.
Многие фёлькиш-националы не всегда различали ту грань, которая
отделяла их от собственно нацистской идеологии, и, вольно или
невольно, поддавались националистической эйфории. Не избежа-
ла этого и Лулу Штраус-унд-Торней. Её знаменитое стихотворение
«Вечная Германия» (»Ewiges Deutschland«) — это своего рода песня
песней новой, нацистской Германии. Несмотря на то, что в нём
ни слова не говорится о Гитлере, именно это стихотворение было
выбрано командованием вермахта в 1941 году для сборника «Фюре-
ру. Слово немецких поэтов» (»Dem Führer. Worter deutscher Dichter«)
с тем, чтобы каким-то образом укрепить в армии веру в народ
и фюрера перед началом похода на Восток. Примечательно, что
наряду с названием стихотворения, приведённом в этом сборнике,
несколько изменён и текст оригинала, в нём более чётко выражена
мысль о возрождении новой Германии.
В этом стихотворении экстатическая взволнованность поэ-
тики писательницы достигает небывалого размаха. Здесь говорит
Strauß und Torney L. von. Geschlossener Friedhof // Strauß und Torney L. von. Op.
cit. S. 64.
2 Ibid. S. 74.
235
не поэтесса, а проповедник, пророк, мессия. Представив в первой
части стихотворения страдания народа, обрушившиеся на него
после мировой войны, как царство темноты и разрушающих сил,
поэтесса восклицает:
Свет! Свет!
Народ, не верь голосу вечной темноты!
Подними голову, прислушайся и осмотрись вокруг -
разве ты не видишь над полями зелёное сиянье,
разве ты не видишь, как над горами в веянии весны
встаёт утренняя заря святого будущего?
Вчерашнее кануло, настоящее время вновь пришло к нам,
оно поднимается, сияющее и свободное,
над развалинами,
построенный созидающими руками и творческим духом
Священный Дом, вот как теперь
Германия будущего
называется!
Вы видите, как она поднимается? Сбылась мечта
ваших отцов!
Всем своим детям даёт она кров и пространство,
Всем своим детям даёт она хлеб и отдых,
никто не стоит перед дверью, как забытый гость...
Слышите ли вы мой призыв? Кто хочет быть мастеровым?
Укладывать в священную стройку камень за камнем,
взращивать на немецкой земле посевы будущего,
преображать немецкий дух в поступок будущего?
Созидающие руки и созидающие головы зову я,
каждого, кто
в вечную Германию
верит!
Каждого, у кого горит в жилах кровь,
когда звучит это священное имя!
Смотрите, смотрите, как ярко прорывается сквозь
облака —
Свет! Свет!»1
1 Strauß und Torney L. von. Licht! Licht // Dem Führer. Worte deutscher Dichter / Hrsg.
v. A. F. Velmede. O. O. 1941. S. 42 (Tornisterschrift des Oberkommandos der Wehrmacht.
H. 37). Cp. Strauß und Torney L. von. Ewiges Deutschland // Strauß und Torney L. von.
Op. cit. S. 76-77.
236
Подобного рода стихотворений в творчестве Лулу фон
Штраус-унд-Торней больше не встречается, ибо, по большому счёту,
её поэзии не свойственна душевная экзальтация, о чём свидетель-
ствует любовная лирика писательницы, полная тонкого понимания
движений души, внутренней сдержанности, как это проявляется,
например, в стихотворении «Что остаётся» (»Was bleibt«):
Не повторяй слова и взгляды,
что мы дарили, ты и я!
Молчанием укрыть нам надо
час дорого бытия.
Тогда тоска утихнет чудом,
исчезнет ожиданье бед.
Я с благодарным сердцем буду
без слов идти тебе вослед.
Когда же свяжет души туго
дыханье чудо-ветерка,
мы сможем понимать друг друга
без праздных слов, без языка.1
Учитывая совершенно явственные выражения рядом поэтов
того времени своей приверженности нацистскому режиму, мож-
но истолковать появление «Вечной Германии» как некий апофеоз
фёлькиш-национальных умонастроений, не более, чего не скажешь,
например, об Агнес Мигель, близкой приятельнице Лулу фон Штра-
ус-унд-Торней, чьи книги выходили именно в её издательстве «Ойген
Дидерихс».
Если Лулу фон Штраус-унд-Торней можно назвать — и то с боль-
шой натяжкой — попутчицей нацистов, то Агнес Мигель (Miegel,
Agnes; 1879-1964) была страстной поклонницей идей национал-со-
циализма и не менее страстной поклонницей Гитлера. Об этом доста-
точно красноречиво говорит «послужной» лист писательницы: май
1933 года — избрание Мигель в «почищенную» от евреев и левых эле-
ментов Академию поэзии; октябрь 1933 года — Мигель ставит свою
подпись под «клятвой верности и повиновения» фюреру; 1937 год —
Мигель становится членом женской национал-социалистской
Strauß und Torney L. von. Was bleibt // Das Buch der Gedichte. Deutsche Lyrik
von den Anfängen bis zur Gegenwart / Hrsg. v. M. Hochhut. Gütersloh, o. J. S. 190.
(Пер. Р. Нудельмана).
237
организации «Фрауэншафт»; 1938 год — публикация сборника
«Становление и труд», в котором, наряду со «знаменитым» стихотво-
рением «К фюреру», многократно высказывается «радостное и сер-
дечное признание Третьего рейха»; март 1939 года — рейхсляйтер
Мартин Борман, личный секретарь и ближайший соратник Гитлера,
произносит в Кенигсберге речь по случаю 60-летия писательницы;
1939 год — Мигель награждается золотым значком почёта «Гитле-
рюгенд»; 1940 год — Мигель становится лауреатом премии имени
Гёте; 1940 год — Мигель становится членом нацисткой партии;
1940 год—выход в свет сборника стихов «Восточная земля», прослав-
ляющий захват нацистами Польши; апрель 1942 год — публикации
в сборнике «Переустройство наших жизненных законов» политиче-
ских статей; 1942 год — провозглашение Мигель «наиболее ценимой
немецкой поэтессой», 1944 год — внесение Мигель в «список богов-
дохновенных» (Gottbegnadeten-Liste), включающий в себя наиболее
выдающихся писателей нацистской Германии, куда вошли, кроме
неё, Г. Гауптман, Г. Каросса, Г. Йост, Э.Г. Кольбенхайер и И. Зай-
дель; освобождённые от воинской и трудовой повинности, они, тем
не менее, должны были принимать участие в пропагандистских
мероприятиях в армии и на заводах.
Творчество Мигель является ярким примером того, как три-
виальная, якобы лишённая политических амбиций областническая
литература может обрести политическую значимость в пропа-
гандистских надобностях нацистов. Казалось бы, всё начиналось
вполне пристойно. Молодая учительница, уроженка Кенигсберга
(ныне Калининград), сконцентрировавшая всё своё внимание
на воспевании самой отдалённой части Восточной Пруссии, сра-
зу же привлекла внимание публики своими стихами, среди которых
особое место занимали баллады или, как она их называла, «эпиче-
ские стихи», посвященные деяниям времён Средневековья и более
ранних эпох, происходившим в этих краях. Затем последовали
рассказы, очерки, исторические статьи, посвященные прошлому
и культуре Восточной Пруссии, публиковавшиеся в «Остпройсише
цайтунг» (»Die Ostpreußische Zeitung«), а затем в «Кёнигсбергер
алльгемайне» (»Königsberger Allgemeine«), отличавшихся особым
фёлькиш-национальным настроем, так что у стороннего человека
могло сложиться впечатление о появлении талантливого художника,
искренне влюблённого в свою «малую родину». Однако эта влюблён-
ность была особого рода. Интерес Мигель к прошлому Восточной
Пруссии, особенно к обычаям и нравам исчезнувших народов
238
и тех, которые ещё сохранились, носит историко-этнографиче-
ский характер, не более. Она воспринимает это прошлое так же,
как европейцы воспринимают различные проявления культуры
африканских народов (маски, обрядовые танцы) с некоторой долей
снисходительности и удивления по поводу того, как такие отсталые
народы могли создавать предметы повседневной жизни, вызыва-
ющие восхищение и в наше время. Причина её столь пристального
интереса к прошлому народов, населявших Восточную Пруссию,
кроется в их принадлежности к нордической расе. Именно этим
обстоятельством объясняется, по мнению Мигель, благостное воз-
действие на судьбы этих народов приход в эти края Тевтонского
ордена, который «после долгой и тяжёлой борьбы победил этот
умный и смелый крестьянский народ, а не «уничтожил».1
В этой связи на первый план выходит не столько воспевание
народного искусства, о котором Мигель пишет вдохновенно, этого
нельзя отрицать, сколько возвеличивание славного прошлого деяний
немецких рыцарей, пришедших на эти земли как завоеватели, как
поработители, жестоко расправившиеся с местны-ми народами
и племенами, иначе не сохранилось бы это «нордически-германское»
искусство.2 Предположить, что народное искусство пруссов, литов-
цев, кашубов, Мазуров и других племён могло сохраниться именно
вопреки давлению захватчиков, Мигель, конечно, не могла, как
не могла она и воспринять эти народности равными немецкой расе.
Недаром в своём рассказе «Моя жизнь» (»Mein Leben«, 1937)
Мигель прямо заявляет, что она, «как почти все настоящие жители
Восточной Пруссии, является настоящей колонизаторской немкой,
являя собой смесь всех немецких и некоторых других племён». Отсю-
да понятно её восторженное восприятие романа Г. Гримма «Народ
без пространства» и не менее восторженное описание стремления
немцев обретения новых пространств.3 Писательница с гордостью
заявляет, что среди её предков были представители разных немец-
ких земель и европейских стран, «но только не поляки и литовцы».4
Эта же мысль звучит и в эссе «Сновидения» (»Traumgeschichte«,
1 Miegel A. Ostpreußische Seele // Wille und Macht. Führerorgan der nationalsozialis-
tischen Jugend. Berlin, 01.09.1940. S. 6.
2 Miegel A. Ibid.
Miegel A. Der Globus // Miegel A. Kinderland. Heimat- und Jugenderinnerungen /
Hrsg. v. K. Plenzat. Leipzig, 1937. S. 42-43.— Статья эта была написана в 1924 г.
4 Miegel A. Mein Leben // Miegel A. Ibid. S. 5.
239
1943), где, говоря о жителях Кенигсберга, Мигель замечает, что
«наличие прохожих на улицах города больше не производит впе-
чатления, что здесь живут только немцы... здесь можно увидеть
латышей, литовцев, иногда лица монгольского типа, но никаких
поляков!»1
Колонизаторская составляющая восприятия всего, что связано
с Восточной Пруссией, ощущение тревоги за целостность завоёван-
ного края определяет и тональность всего творчества Мигель. В её
балладах и прозе напоминание о славе прежних лет постоянно
сопряжено с мыслью о защите завоёванного, о предчувствии
возможных потерь захваченных ранее земель, о претензиях при-
балтийских государств к Германии и вообще об угрозе с Востока,
читай, от России. Недаром любимый образ писательницы «восточ-
ный ветер» гуляет по всем её произведениям как напоминание
о грядущей опасности с Востока.
Уже в первых стихах поэтессы эта мысль обретает вполне
чёткое выражение. В балладе «Нибелунги» (»Die Nibelungen«, 1907),
написанном по мотивам германского эпоса, боги выступают в роли
пассивных и даже в какой-то степени боязливых восприемников
будущего. В тёмном зале они «сгрудились у огня», их гнетёт необъ-
яснимый страх:
Сказал король Гунтер: «Тяжело мне на сердце,
я слышу, как стонет восточный ветер!
Шпильман, возьми свою скрипку,
спой нам о радостных временах.2
А времена эти будут залиты кровью, и шпильман Волькер
рассказывает не о прошлом, а о том, что будет с богами, о «жажде
человеческой крови», о «зависти, зовущей к убийству», о «мании
мести». Каждая строка его песни заканчивается восклицанием:
«О горе тому лону, которое меня породило!»3
Несмотря на то, что в основе этой баллады лежит эпизод,
предшествующий трагическим событиям в «Песне о нибелунгах»,
всем своим настроем она обращена к современности, и не случайно
Кримхильда, прослушав песню шпильмана, восклицает: «Никогда
1 Цит. по: Piorreck A. Agnes Miegel. Ihr Leben und ihre Dichtung. München, 1990. S. 107.
2 Miegel A. Balladen und Lieder. Jena, 1919. S. 1.
3 Ibid. S. 2.
240
я не слыхала такой песни,/которая бы так меня порадовала»,1
ибо она ощутила воинственный порыв, и в силу своей молодости
не думала о трагических последствиях, ожидавших её в далёком
будущем, «восточный ветер» будет побеждён. Примечательно, что
это стихотворение, помещённое в начале второго сборника сти-
хов поэтессы, вышедшего уже в 1919 году, т.е. после катастрофы
1918 года, продолжало сохранять свою актуальность, ибо сохра-
нялась опасность с Востока, но сохранялась и надежда победить
Восток. Правда, в другом стихотворении «Спящие боги» (»Die schla-
fenden Götter«), написанном уже после окончания Первой мировой
войны, прежний воинственный запал угас, и поэтесса сетует на то,
что «никогда не разбудит их призыв жизни», потому что
в прах разбиты их последние жертвенные стада...
С давних пор, так давно, что люди перестали на них
молиться,
и забыты имена спящих богов.2
Неким напоминанием о людях, которые чтили этих богов
и занимались богоугодными делами, является сборник новелл
Мигель «Истории времён древней Пруссии» (»Geschichte aus Alt-
preussen«, 1928). Среди них особое место занимает знаменитая
новелла «Поездка семи членов рыцарского ордена» (»Die Fahrt der sie-
ben Ordensbrüder«), повествующая о событиях времён покорения
пруссов рыцарями Тевтонского ордена. Семь членов этого ордена,
среди них француз и англичанин, во главе с настоятелем-комтуром
заблудились в лесах Самланда (район расположения Кенигсберга),
и им пришлось заночевать в поместье одного из прусских князей,
где они стали свидетелями его смерти и связанных с этим событием
страшных погребальных обрядов.
Новелла лишена описания каких-либо батальных сцен, хотя
в разговорах героев новеллы слышны отклики сражений; нет
и намёка на жестокое обращение с покорёнными народами, зато
упоминания о сопротивлении пруссов сопровождаются расска-
зами о том, как они «прибивали рыцарей гвоздями к деревьям...
и зажаривали их в рыцарских доспехах»,3 что не мешает настояте-
лю-комтуру отзываться с уважением о вождях пруссов. Когда один
1 MiegelA. Balladen und Lieder. Jena, 1919. S. 3.
2 Ibid. S. 56.
3 MiegelA. Die Fahrt der sieben Ordensbrüder. Jena, 1939. S. 7.
241
из рыцарей предположил, что во время битвы под Кристбургом
вождь пруссов Скурдас «удрал» с поля боя, настоятель-комтур попра-
вил его: «Храбрый Скурдас не удрал. Он отступил и опустошил свою
страну. При этом полегла ещё часть его последних бойцов. С ними
и его брат Скоманд. Это был по-рыцарски благородный господин,
я часто у него гостил».1 Вся новелла выполнена в духе благородного
сосуществования покорителей и покорённых, рыцарского почита-
ния героев покорённых племён, уважения их обычаев, восхищения
их культурой. Не случайно один из героев новеллы резко осаживает
рыцаря из Эльзаса, заявившего о том, что «эти дикари... ничего
не умели делать.— Они умели делать всё ещё до войны... Всё умели,
и ещё больше, чем франки».2
Подобное отношение к бывшим врагам заметно отличается
от расхожих писаний на эту тему, например, Вильгельма Котц-
де-Коттенродта или Вернера Янсена, и вызвано в значительной
мере как достаточно глубокими знаниями Мигель истории Восточ-
ной Пруссии, так и её стремлением обойти молчанием истинные
причины покорения рыцарями народов этого региона. Не слу-
чайно писательница представляет Тевтонский орден как некое
воспитательное прибежище для сыновей немецкой знати, а не как
военизированное формирование, ведущее захватнические войны
под предлогом христианизации язычников, да и сами эти войны,
когда порой заходит о них речь, в восприятии писательницы при-
нимают облик стихийного бедствия, отчего тональность повество-
вания обретает некий демонический характер — рыцари борются
не с реальными силами, а с заклятием, поразившим эти земли, прус-
сы не просто народ, а колдуны, обладающие сверхчеловеческими
способностями, отчего война с ними приобретает такой затяжной
и жестокий характер: «Когда здешняя земля трижды вберёт в себя
столько немецкой крови, сколько она вобрала судаитской, только
тогда снимется с неё проклятие, и она снова станет такой же пло-
доносной, как и раньше».3
Однако этот демонизм сплошь и рядом обретает реальную
подоплёку, суть которой состоит в завоевании орденом простран-
ства для немецких поселенцев, а не изгнание демонов. Отсюда
стремление, несмотря на внешне корректное отображение жизни
1 MiegelA. Die Fahrt der sieben Ordensbrüder. Jena, 1939. S. 28.
2 Ibid. S. 7.
3 Ibid. S. 37.
242
и быта пруссов с поправкой на их языческие обычаи (человеческие
жертвы в связи со смертью последнего князя пруссов), подчеркнуть
разницу в общечеловеческом смысле между пруссами и немецкими
поселенцами, и, прежде всего, на расовом уровне. Хотя Мигель рас-
сматривает пруссов как родственников германцев, пускай и очень
дальних (она относит их к нордическому собратью племён, отсюда
и постоянное подчёркивание голубоглазости пруссов, стремление
их знати походить на немцев),1 все они, в отличие от немецких
поселенцев, лишены некоей религиозной ясности, лучезарности,
жизнеутверждающего настроя. Даже внуки умирающего князя,
представленные Мигель как ангелы во плоти, принявшие безогово-
рочно многие проявления немецкой цивилизации, язык, рыцарство,
приносятся наряду с породистыми лошадями и собаками в жерт-
ву уходящему вместе с князем миру пруссов. Этому красивому,
но страшному миру противопоставлены светлые и радостные
образы детей колонистов, истинных немцев, хотя и происходящих
от смешанных браков, что, по мнению писательницы, и есть выра-
жение той благости, которую принесли на землю Восточной Пруссии
рыцари ордена. Представляя одного из них, Мигель не без гордости
отмечает: «Это было хорошее, светлое, белое лицо с удлинённой
узкой головой... Мальчик стоял прямо, с выражением собственного
достоинства, как это свойственно детям свободных людей».2
Кажется, что эти слова взяты из учебника по расовой гигиене
и явно выпадают из общего контекста повествования, но именно
эта мысль о расовом смешении близких по крови народов лежит
в основе новеллы «Поездка семи членов ордена», как, впрочем,
и других новелл сборника «Истории времён древней Пруссии»,
и поэтому заключительные страницы новеллы являются своего
рода апофеозом, восхвалением деяний рыцарей Тевтонского ордена
на земле пруссов. Не случайно эта повесть в годы войны входила
в серию книг, предназначенных для фронта.
Надо сказать, что проза Мигель, в отличие от её стихов, как бы
ими ни восхищались любители балладной эпики, наиболее поэтична.
Многочисленные сборники рассказов писательницы пользовались
успехом у читателей, и, что любопытно, в большинстве своём они
посвящены сугубо мелким, домашним событиям, внутреннему
МиРУ детей, их восприятию жизни, природы Восточной Пруссии.
1 MiegelA. Op. cit. S. 17, 18, 46, 54, 62, 68, 78.
2 Ibid. S. 79.
243
Это даже не идиллии частной жизни, а какие-то зарисовки, импро-
визации, обретающие форму поэтического рассказа. Разительное
несоответствие непоэтической поэзии, лишённой образности,
тяжеловесной, неуклюже политизированной, и поэтической про-
зы, по-настоящему раскрывающей неброскую красоту Восточной
Пруссии,— вот две стороны творчества Агнес Мигель.
Было бы неверным воспринимать Мигель в ранний период её
творчества как чистого апологета национал-социалистской идео-
логии, тем более Мигель времён 20-х годов, ибо тогда ею правила
идеология фёлькиш-национального толка, основные постулаты
которой — национал-шовинизм, проблематика «малой родины» —
она, в силу несомненного таланта, умела передать, особенно в про-
заических произведениях, в приемлемой форме, далёкой на первый
взгляд от политической проблематики времени. Однако постепенно
фёлькиш-национальная тенденции в творчестве писательницы
начинают приобретать радикальные черты, что, несомненно, свя-
зано с обострением политической ситуации в Германии.
В преддверии прихода к власти нацистов выходит новый сбор-
ник стихов Мигель «Осенние песнопения» (»Herbstgesang«, 1932),
который по своему духу, по националистическому настрою сви-
детельствует о смене парадигмы в творчестве поэтессы. Недаром
подзаголовок к нему гласит «Новые стихи» (»Neue Gedichte«). Они
действительно новые как по форме (тяжеловесные, с претензия-
ми на александрийскую строфику), так и по содержанию, полные
откровенных политических интенций. Здесь Мигель выступает
в образе матери-защитницы Восточной Пруссии, как её потом
и станут величать, ибо первая часть сборника — это некая про-
грамма для будущих властителей Германии по сохранению и даль-
нейшему завоеванию восточных земель. Пока поэтесса не называет
конкретных адресатов, к кому обращены её страстные призывы,
но читателю тех лет и так было ясно, что в виду имелись нацисты,
а не социал-демократы или — horribile dictu — коммунисты. После
Первой мировой войны Кенигсберг вместе с прилегающими к нему
землями был отрезан от Германии, и поэтому главная мысль, про-
низывающая большинство стихотворений этого сборника, это
отчаянный призыв к Германии, выступающей в облике Пруссии,
воссоединить любыми средствами (потом и вполне конкретными)
Кенигсберг с родиной (»Patrona Borussiae«)1:
1 MiegelA. Herbstgesang. Neue Gedichte. Jena, 1943. S. 12.
244
О мать, о мать, не оставляй нас одних!
...Спрячь нас в складках твоего плаща
и никогда не заставляй нас оставаться
подвластными чужеземцам.
Эта же мысль пронизывает и стихотворения «Восточная
Пруссия» (»Ostpreußen«), «Кенигсберг» (»Königsberg«), «Годовщина»
(»Der Jahrestag«). В стихотворении «Там, за Вислой» (»Über der Weich-
sel drüben«), являющимся парафразом известной песни немецких
колонистов «На Восток мы стремимся» (»Nach Ostland wollen wir
reiten«), Мигель пытается напомнить немцам, а с ними и будущим
властителям Германии, о славной истории колонизации восточных
земель, страдавших от «жёлтых татар, насильно увозивших наших
юных дочерей», от «белого царя, убивавшего наших юных сыно-
вей», от «заносчивых старост».1 Ко всем этим бедам прибавилась
и «красная опасность»:
На Востоке видно красное сиянье
Просыпайтесь, дети, время пришло!
Время бежать, мама, ты видишь зарево огня!2
И отчаянный призыв:
Там, за Вислой, отчизна, услышь нас!
...Протяни нам твою руку,
потому что только она одна нас сможет сохранить,
Германия, святая страна,
отчизна!»3
В стихотворении «Гинденбург» (»Hindenburg«) вход идёт и напо-
минание о способах разрешения проблемы — применение силы.
Мигель поёт осанну «великому старцу», под чьим руководством
немецкие войска нанесли поражение русской армии генерала
A.B. Самсонова в битве под Танненбергом в Первой мировой
войне. Это событие рассматривалось фёлькиш-националами как
ответ на разгром немецкого ордена соединёнными войсками Литвы
и Польши в 1410 году именно здесь, под Танненбергом.
Из восторженной поклонницы красот и древностей Восточной
Пруссии Мигель преобразилась в стихах этого сборника в некую
1 MiegelA. Herbstgesang. S. 14.
2 Ibid. S. 15.
3 Ibid. S. 15.
245
деву-воительницу, призывающую немцев не забывать свою коло-
низаторскую миссию на Востоке. Эта же тенденция, но значитель-
но усиленная, проявилась в следующем сборнике стихов Мигель
«Восточная земля» (»Ostland«, 1940), который, пожалуй, ярче, чем
в каком-либо другом произведении поэтессы, раскрыл её истин-
ные политические предпочтения. Фактически она поставила себя
на службу национал-социализму, став своего рода глашатаем
захватнических идей Гитлера. «Восточная земля» — своего рода
поэтический концентрат политических ожиданий Мигель, ибо
основу его составляют не новые стихи (их там всего три), а собра-
ние из всех предыдущих сборников стихотворений определённой
направленности, которую можно выразить старинным немецким
лозунгом »Drang nach Osten«.
В этом смысле примечательно стихотворение «Хоровод празд-
нества солнцеворота» (»Sonnenwendreigen«), написанное Мигель
в 1939 году в Данциге аккурат к началу нападения Германии
на Польшу. Воодушевлённая передачей Литвой Германии Мемеля
(Клайпеды) и всей мемельской области, происшедшей под сильным
давлением нацистов, но и не без корыстных надежд самих литов-
цев, желавших в ответ на эту уступку с помощью Германии вернуть
свою столицу Вильнюс, входившую тогда в состав Польши, Мигель
создаёт произведение-прокламацию, призывающее к возвращению
прежних немецких владений в Восточной Пруссии:
Сестра Мемель, ты, столь долго печалившаяся, заводи
танец!
...Я, Кенигсберг, твоя коронованная сестра, веду тебя!
...наконец обрела ты родину!
...Данциг, тебя призывает Штеттин!
...О прекраснейшая из всех нас,
Войди в наши ряды, сестра!.
На призыв отвечает Данциг:
...Смотрите, я стою, обряженная невеста,
Без страха ожидаю того, кому я посвящена.
Тому, кто водит солнце, знает то время,
Когда придёт мой рыцарь и освободит меня, изгнанную!1
1 Miegel A. Sonnenwendenreigen // Weimarer Blätter 1940. Festgabe zur großdeutschen
Bücherwoche. Leipzig, 1940. S. 57-58.
246
И рыцарь в лице Гитлера явился вскоре после написания это-
го стихотворения, начав войну с Польшей, за что Мигель, полная
неописуемого восторга, обратилась к нему в послании «К фюреру»
(»An den Führer«) с прочувственными словами:
Пресильная
Наполняет меня смиренная благодарность за то,
что я это переживаю,
Что я могу ещё Тебе служить, служить немцам
Моим даром, которым наградил меня бог!
Те мои близкие,
Мои павшие, любимые спутники детства,
Те мёртвые, которые ждали Твоего прихода,
Те предки, чья оставленная родина
Вернулась благодаря Тебе,—
Все они,
Живущие в моей душе, в моей крови,
Вместе со мной благословляют Тебя!»1
Оба эти стихотворения были опубликованы по распоряжению
Геббельса в «Веймарских листках 1940 года», выпущенных по слу-
чаю «великогерманской недели книги», что говорит не только о при-
знании своевременности такой поддержки со стороны творческой
интеллигенции милитаристских устремлений нацистов, но и о пол-
ном переходе Мигель на службу нацистской пропаганде. Здесь уже
следует говорить не об «огромном заблуждении» писательницы,
как это пытается доказать Анни Пиоррек (Piorreck, Anni), биограф
Мигель,2 а о сознательном поступке человека, увидевшего в наци-
онал-социализме силу, способную — не забудем, что гитлеровские
войска стояли уже на границе с Советским Союзом — возродить
былую славу Восточной Пруссии, вернуть в рейх Кенигсберг,
отрезанный от Германии польскими провинциями, и обеспечить
его безопасность, как это представлялось тогда, на века. Этим,
собственно, в значительной степени объясняется столь страстная
приверженность Мигель к национал-социалистскому режиму.
Опять, как это было и с другими фёлькиш-националами, на первое
место выступали причины местного характера, не определявшие
сущность нацистского «движения» как такового, в данном случае
1 MiegelA. An den Führer // Weimarer Blätter 1940. Festgabe zur großdeutschen
Bucherwoche. Leipzig, 1940. S. 3-4.
2 Piorreck A. Op. cit. S. 190.
247
защита Кенигсберга, «малой родины»,1 однако у Мигель эта степень
приверженности к преступному режиму в конечном итоге обрела
некую истерическую патетику, питавшуюся ощущением вселенской
катастрофы — с неминуемым падением Кенигсберга неминуем
и конец света. Поэтому она с таким восторгом восприняла нападе-
ние Германии на Польшу, увидев в этом практическое исполнение
своих заветных мечтаний. В стихотворении «К молодёжи Герма-
нии» (»An Deutschlands Jugend«) эта война представлена как некое
празднество юности, как апофеоз силы и мощи армии...
...единения народа, познавшего себя, следующего
призыву фюрера
борющегося впервые не как только супруги и братья,
но и как женщины и дети,
мы боремся, взяв на себя, как и они, все тяготы войны.
Молодость Германии! С песнями перед народами
Вступаешь ты в свой день, в день будущего!
...Но судьба
Участь нашего народа, отмеченная изначально
Рунами борьбы, бросает вновь в стальные шлемы
Как приговор обломки жезел,—
и вновь уж улицы дрожат
От поступи колонн армейских, от танков грохота,
Дрожат уж небеса над хлебными полями опять
от пронзительно осиного звона эскадрилий.2
1 Достаточно вспомнить австрийского писателя Франца Тумлера (1912-1998),
надеявшегося с помощью нацистов вернуть в лоно Австрии Тироль, входивший
после Первой мировой войны в состав Италии. Тумлер был членом различных
пронацистских и нацистских организаций, правда, там он долго не задержался.
Его произведения издавались огромными тиражами, сам автор, учитывая его
молодость, был отмечен небывалым количеством премий, а его имя стояло в т.н.
«списке фюрера», согласно которому он подлежал освобождению от службы в армии
ввиду высокой культурной значимости его творчества. Тирольский национализм
Тумлера сыграл с ним злую шутку, ибо в профессиональном и стилистическом отно-
шении его произведения резко отличались от официальной нацистской литературы,
и Геббельс использовал это обстоятельство в полной мере как подтверждение рас-
цвета литературы в нацистском государстве. Однако вскоре Тумлер осознал свою
ошибку и всеми силами старался вырваться из пропагандистских оков нацистов
на фронт, что ему и удалось после трёхкратного обращения к фюреру. Фронт как
искупление вины, однако, после 1945 г. не был принят во внимание, и несколько
лет писатель был лишён права публиковать свои произведения. Последующее
творчество Тумлера свидетельствует о решительном осуждении писателем ошибок
молодости, и его книги заняли достойное место в литературе современной Австрии.
2 MiegelA. Ostland. S. 48-49.
248
Примечательно, что стихи Мигель этого времени обращены
преимущественно к молодёжи, в них она видит ту силу, которая
не только воссоединит Кенигсберг с родиной, но и завоюет весь
мир. Именно на этот период приходятся её частые выступления
на встречах гитлерюгенд, именно в это время её призывные стихи
публикуются в журнале «Вилле унд Махт» (»Wille und Macht«), «веду-
щем органе национал-социалистской молодёжи», шеф-редактором
которого был лидер немецкой молодёжи Бальдур фон Ширах. Вос-
певание героического начала в молодёжи, её превосходства над
другими воинами особенно проявилось в стихотворении «Юный
германец» (»Junger Germane«, 1940), написанном под впечатлением
посещения Ватикана, где на одном из рельефов изображён «Юный
германец, одетый в звериную шкуру». Если от античных скульптур
веет холодом, а...
...глаза богов и героев пусты
и в никуда протянута повелевающая рука Цезаря...
...то внезапно в лучах солнца явившаяся поэтессе фигура
мальчика из прошлых времён вызвала у неё восторг:
Вот улыбаешься ты, ко мне шагнувший
Как будто из молодого весеннего леса родины!
О милый образ!
Ты, мальчик-воин, прекраснейший из всех германцев!
Босой, словно ребёнок за сбором ягод,
О, побеждённый победитель, ты, столь цветущий,
Избран быть бессмертным, вечно не стареть!
...Рука художника, вызволившая тебя из безгласного камня,
Чтоб славу триумфатора возвесть
И то, что ты и все твои друзья всегда вокруг него стоите,
Он вместе с вами в вечность вовлечён...
Овеянное славой имя, отзвучало
Словно звук трубы, и от трофеев, битвы и победы
Осталось только это —
Образ, созданный римлянином,
Нашей светловолосой юности, которая сокрытой
На Севере росла и утром всех народов
В сиянье из лесов явилась!1
Miegel A. Junger Germane // Wille und Macht. Berlin— H.17. 01.09.1940. S. 1-2.
249
Столь лестные сравнения для юных сердец, тронутых безмер-
ной нацистской пропагандой, судя по всему, имели успех. Об этом
сообщает в своём письме с фронта ефрейтор Хериберт Менцель
(Menzel, Herybert; 1906-1945), известный нацистский бард, поздрав-
ляя Мигель с присуждением ей 28.08.1940 года премии имени Гёте:
«Я знаю, что Вас ничто так не радует, как интерес, проявляемый
молодёжью к Вашему творчеству... Они осаждают Вас просьбами
приехать в их лагеря, в их замки. И Вы являетесь частой гостью
у них. Где Вы ещё найдёте более внимательных, благодарных
и исполненных уважения слушателей?..Очень многие молодые люди,
некогда слушавшие Вас, стали теперь солдатами. Дорогая госпожа
Агнес Мигель, ни с чем нельзя сопоставить тот факт, что именно Вы
были тем человеком, который так пламенно и жгуче закалил сердца
этих молодых солдат во время похода на Польшу, придал атакую-
щим колоннам порыв и неудержимый наступательный дух. Ваш
призыв из Восточной Пруссии к отчизне за Вислой: «Протяни нам
твою руку, потому что только она одна нас сможет сохранить», он
затронул больше всего нас, молодых. Мы с удовольствием сделали бы
это раньше, как восторгались мы, когда фюрер отдал приказ при-
ступить к нападению, к освобождению, к возвращению на родину
наших братьев. И вот теперь весь немецкий Восток свободен! Как
Вы должны быть счастливы!»1
Незадолго до падения Кенигсберга Мигель удалось покинуть
осаждённый город. Какое-то время она провела в замке своего
собрата по творчеству Бёрриса фон Мюнхгаузена, и закончила свой
жизненный путь в городе Хамельне. Стихи этого периода посвя-
щены Восточной Пруссии, прощанию с любимым городом, и надо
отдать должное Мигель, именно эти стихи, например. «Прощание
с Кенигсбергом», несмотря на некую взвинченность, близкую к исте-
рике, пожалуй, наиболее искренние, и искренность эта понятна, ибо
с потерей Кенигсберга для неё рушился весь мир, и всё остальное
уже не имело никакого значения:
«Тебя, мой отчий город, коронованный,
смерть пригласила к факельному танцу.
И перед тем как нам с Тобой расстаться,
Тебя мы видели в пылающих одеждах,
и реквием прощальный, без надежды,
1 Menzel Н. Gruß an Agnes Miegel // Wille und Macht. H.17. 01.09.1940. Berlin.
S. 23-24.
250
Тебе — что семь веков назад основанный! —
колокола с разбитой древней башни
надрывно пели.
Видеть было страшно,
как Прегель тёк, от горя почерневший,
вдоль свай обугленных
и вдоль Твоих сокровищ
в складах, горящих жертвенным огнём.
И смерть плыла девицей ошалевшей
от злой добычи;
с нею сонм чудовищ безумных
в чёрных лодках белым днём.
Таким мы видели Тебя.
И все, что,
как мать ребёнку, нам принадлежало,—
теперь в руинах горестных лежало.
Наш город, как разрушенный ковчег,
взывал летящей голубиной почтой
к нам пеплом, болью, пролитою кровью...
Он, в своем призрачном наряде вдовьем,
безлюдный, погибал, как человек.
Сейчас Тебя мы, плача, покидаем —
и Ты нам вслед, истерзанный, дымишься.
... Пускай Тебя увидеть нам вовек не суждено,
пусть мы погибнем — знаем:
Ты заново из пепла возродишься.
Так будет. Ты бессмертен, Кенигсберг!»1
Несмотря на приверженность нацистской идеологии (о раская-
нии не могло быть и речи), А. Мигель была лауреатом литературной
премии Баварской академии прекрасных искусств (1957) и счи-
талась, особенно в землячестве выходцев из Восточной Пруссии,
великой поэтессой. Правда, мнения на этот счёт очень разнятся,
потому что нацистское прошлое Мигель легло несмываемым пятном
на всё творчество писательницы.
В этой связи есть смысл обратиться к творчеству Ины Зайдель
(Seidel, Ina 1885-1974), одной из самых известных писательниц
Третьего рейха, имя которой постоянно связывают с её прочувство-
ванными словами по случаю 50-летия Гитлера и прославляющей
его высокопарной одой «Храм света» (»Lichtdom«). О значимости
Мигель А. Прощание с Кенигсбергом // Агнес Мигель, поэтесса из Кенигсберга.
Калиниград, 1992. С. 18-19. Пер. С. Симкина.
251
Зайдель в литературе тех лет свидетельствует тот факт, что она
являлась одной из шести авторов, чьё имя было внесено самим
Гитлером в 1944 году в знаменитый «список боговдохновенных».
В своём «Секретном отчёте» (»Geheimreport«, 1943-1944) писа-
тель Карл Цукмайер отнёс Зайдель к разряду «индифферентных,
непрозрачных, расплывчатых, спорных» лиц с пометкой «отрица-
тельно»,1 а в более пространном изложении представил её вкупе
с Агнес Мигель как «занимающихся литературой учительниц жен-
ской школы и посетительниц дамских салонов».2 Что же касается
их преклонения перед Гитлером, которого они почитали «богом
посланным спасителем Германии», то Цукмайер объясняет это
«помутнением рассудка», свойственным «женщинам и матерям»
по причине «недостаточной деятельности желёз».3 Объяснение,
прямо скажем, само на грани «помутнения рассудка», если за этим
не кроется желание представить обеих писательниц (особенно
Зайдель, с которой Цукмайер поддерживал дружеские отношения)
невинными овечками с тем, чтобы спасти их от преследований
за приверженность нацистской идеологии.
Если у А. Мигель «деятельность желёз» приняла необратимую
форму и до последних дней писательница оставалась привер-
женной нацистской идеологии, то И. Зайдель достаточно быстро
излечилась от этой «болезни». Нельзя сказать, что Зайдель являлась
истовой поклонницей национал-социализма. Она никогда не состо-
яла в нацистской партии, хотя и была в числе тех, кто подписал
знаменитую клятву верности фюреру. Её участие в политических
манифестациях ограничилось печально знаменитым стихотворени-
ем по случаю 50-летия Гитлера. И, тем не менее, творчество Зайдель,
не имевшее, как это было свойственно авторам фёлькиш-нацио-
нальной направленности, прямого выхода на проблематику совре-
менной действительности, а нацистской в особенности, оказалось
созвучным ряду политических постулатов национал-социализма,
в частности, воспеванию величия Пруссии и жертвенной доли
женщины-матери. Здесь опять сказалась специфика формирования
1 Zuckmayer С. Geheimreport / Hrsg. v. G. Nickel und J. Schrön. Göttingen, 2002.
S. 16.— Отчёт этот был написан по просьбе американского Отдела стратегической
службы (Office of Strategic Services), входившего в состав разветвлённой системы
сбора сведений о наиболее значимых лицах Третьего рейха.
2 Ibid. S. 164.
3 Ibid. S. 164-165.
252
нацистской идеологии по принципу схожести независимо от того,
какие обстоятельства послужили возникновению той или иной
идеологемы, а последующее вовлечение в политический оборот
заимствованного толковалось настолько расширительно, что суть
первоначального материала искажалась до неузнаваемости, и здесь
всё зависело от проницательности источника заимствования —
оставался ли он на прежних позициях, игнорируя прельстительные
авансы нацистов, или включался в игру по новым правилам. В слу-
чае с И. Зайдель произошло последнее, правда, длившееся не столь
долго и не в таких размерах, как это было свойственно её коллеге
по «болезни» А. Мигель.
Ина Зайдель родилась в Галле в семье врача. Вся последующая
жизнь писательницы связана с известным семейством Зайделей:
она вышла замуж за пастора и писателя Генриха Вольфганга Зай-
деля (1876-1945), сына писателя Генриха Зайделя (1842-1906),
и это обстоятельство сыграло значительную роль в становлении её
мировосприятия, основанного на протестантском этосе, что, в свою
очередь, нашло яркое проявление в её творчестве. Первые сборники
стихов Зайдель — «Наряду с барабанами» (»Neben der Trommel her«,
1915), «Всемирная душевность» (»Weltinnigkeit«, 1918) — появились
благодаря поддержке Бёрриса фон Мюнхгаузена, увидевшего
в неоромантических интенциях лирики поэтессы родственную
душу. Правда, в отличие от Мюнхгаузена и его сподвижниц Лулу
фон Штраус-унд-Торней и Агнес Мигель, Зайдель была далека
от воспевания германских древностей и воспринимала мир через
призму мистически-религиозного духа. Подобная направленность
поэзии Зайдель особенно ярко проявилась в её двояком отношении
к войне. С одной стороны, она порицает войну, став на сторону
Женщин, ибо их
ни одна победа на земле
никогда не сможет утешить...1
...с другой стороны, она рассматривает войну как некое явле-
ние природы, находящееся в ведении бога, и поэтому война как
таковая понимается поэтессой как некая форма служения богу,
которую надо принимать со смирением:
Бог проявляется в танце железа,
бог проявляется и в сильных бурях.
1 Seidell. Neben der Trommel her. Berlin, 1915. S. 4.
253
Буре дай, дуб, срывать листья,
Приноси жертву, Германия, как он того хочет!
Относись спокойно к твоему мстителю, к твоему
спасителю,
который зажигает тебя новым блеском!»1
Стихи Зайдель лишены каких-либо антивоенных настроений,
но в них отсутствует и восхваление войны. Поэтесса восприни-
мает войну как неотъемлемую сторону женской судьбы, как тот
мир, где женщина может наиболее ярко проявить свою жертвен-
ность. Эта мысль здесь ещё только обретает свои контуры. Своё
полное воплощение она обретёт в романе Зайдель «Желанный
ребёнок» (»Das Wunschkind«, 1930). В центре обширного — свы-
ше 1000 страниц — повествования, охватывающего события
с 1792 по 1813 годы, находится история жизни Корнелии Эхтер
фон Меспельбрун, решительной, энергичной и в то же время глубоко
религиозной женщины, которая вопреки всем жизненным невзго-
дам и политическим потрясениям остаётся верной своему высокому
предназначению немецкой матери и патриотки. Весь роман пред-
ставляет собой апологию материнства. Основная посылка романа
состоит в том, что женщина должна заменять убитых на войне,
не прерывая жизни на земле, ибо тем самым, она не только служит
отечеству и всему немецкому народу, но и выполняет некое боже-
ственное призвание к жертвенности. Как писала сама И. Зайдель,
«когда мы, принесённые в жертву, становимся жертвующими, мы
обретаем дорогу к сердцу вещей и бога».2
Подобная жертвенность обретает в романе некую иррациональ-
ную окрашенность. Героиня романа всегда предчувствует прибли-
жение смерти своих близких, и эта необыкновенная проницатель-
ность мобилизует её детородную потребность, что как-то выпадает
из тональности беллетристического повествования, придавая ему
черты пособия для матерей в их будущем жертвоприношении.
Подобная деловитость, психологически ничем не обоснованная,
явно не вписывается в фактуру времени (наполеоновские войны)
и социального статуса героини, представительницы старинного
1 Seidell. Weltinnigkeit. Berlin, 1918.
2 Seidel I. Über die Entstehung meines Romans »Das Wunschkind« // Seidel I. Dichter,
Volkstum und Sprache. Ausgewöhlte Vorträge und Aufsätze. Stuttgart, Berlin, 1934.
S. 187.
254
прусского рода. В первых же главах романа Корнелия сталкива-
ется с двумя смертями — умирает её первенец, а через несколько
дней в боях с французскими войсками погибает и её муж. Отец
озабочен не столько смертью ребёнка, сколько тем, что у него перед
отъездом в армию в этот момент «нет возможности ещё раз побыть
с ней [с Корнелией] наедине»,1 и мысль эта гнетёт его, потому что
он понимает, что и его мать и его жена предчувствуют его скорую
гибель: «...если случилось одно, думали они, за ним последует и дру-
гое».2 В ночь смерти ребёнка Корнелия, «лишённая каких-либо жела-
ний, кроме одного — воли к плодотворению»,3 приходит в спальню
мужа, и далее следует довольно откровенное эротическое описание
соития, сопровождаемое картинами религиозных, космогонических
и природных катаклизм.
После этой бурной ночи предчувствие смерти мужа у Корнелии
перерастает в уверенность, она уже считает себя вдовой, и уверен-
ность эта зиждется на том, что он выполнил свой отцовский долг,
продолжил род, надобность в нём отпала. Не случайно Зайдель,
характеризуя Корнелию, замечает, что её муж «занял такое же место
в её жизни, как и короткая, взрывающая льды северная весна».4
На его место пришло другое чувство — любовь к будущему сыну: «Её
любовь была сродни тёмнокалёному пламени и покою, страстному
томлению, направленная на то, чтобы предмет любви всесторонне
охватывать, оберегать, питать — это была материнская любовь».5
Подобная позиция объясняется писательницей привержен-
ностью героини прусскому восприятию жизни, к родному углу:
«...но что она больше всего любила, так это очаг и дом, едкий
молочный запах хлева, сильный аромат хлеба, исходящий по пят-
ницам из печи, и терпкий запах костра из сухой картофельной
ботвы, застывший в кристально холодном воздухе октябрьского
вечера. Это было то, что означало родину, потому что земля тогда
называется родиной, когда она становится по-матерински родной.
А матерински родной Корнелия ощущала теперь только улыбку той
1 Seidell. Das Wunschkind. Stuttgart, Berlin, 1930. S. 11.
2 Ibid. S. 14.
3 Ibid. S. 19.
4 Ibid. S. 30.
5 Ibid. S. 29.
255
земли, из которой брали своё начало отпрыски её рода. И следуя
не поэтическим соображениям, а тёмным влечениям крови, она
переезжает на последнем месяце своей беременности из Потсдама
в Хёлькевизе... в родной клочок отцовской земли»,1 с тем, чтобы
обеспечить будущему сыну наследственное владение.
Вся последующая жизнь Корнелии посвящена воспитанию
сына, Кристофа, в духе верности крови и почве предков, прусской
верности воинскому долгу: «В его имени, Эхтер фон Меспельбрун,
словно журчал древний источник давней немецкой поэзии; в его
крови жили также те предки вендов и ободритов маркграфства
Мекленбург, которые неохотно покорились западному рыцарско-
му ордену и приспособились к нему с тем, чтобы потом, слившись
воедино, создать вместе с ними ту прусскую сущность, которая
когда-то определила основу немецкого народа».2 И когда Корне-
лия узнаёт о смерти сына, погибшего во время освободительной
войны против Наполеона, то это известие означает для неё нечто
большее, чем потеря дорогого ей человека, ибо его героическая
смерть трактуется в романе как завершение её жертвенного слу-
жения богу. В ответ на слова одного из героев романа о том, что
«наступит день,., когда слёзы женщин обретут такую силу, что их
поток навечно погасит огонь войны. День, когда дух — голубь —
воспарит под святой радугой, сообщая о возрождённой земле...»,
«тогда,— завершает Корнелия мысль собеседника,— сын возложит
на главу матери корону».3 И опять всё начинается сначала, ибо
Корнелия берёт на воспитание трёх сыновей офицеров, павших
в борьбе против французов.
Вот, собственно, и вся содержательная и идеологическая осно-
ва романа «Желанный ребёнок». При всей своей беллетристической
заурядности, при всей кажущейся обращённости к прошлому, она
находится в прочной связи с современностью. Современность эта
была особого толка, ибо роман И. Зайдель вызвал восторг не толь-
ко у фёлькиш-националов, уже строивших планы союза с нацио-
нал-социалистами, но и в стане самих нацистов, увидевших в этом
романе довольно ясное изложение их понимания роли женщины
в «новой» Германии. Сама того не желая, Зайдель вложила в руки
1 Seidell. Das Wunschkind. Stuttgart, Berlin, 1930. S. 50.
2 Ibid. S. 815.
3 Ibid. S. 1013-1014.
256
нацистов достаточно чётко обоснованный тезис о предназначении
женщины в жизни общества, безотносительно его политического
и социального устройства, и нацистам оставалось только придать
этому тезису соответствующую форму, что Гитлер и сделал в своей
речи, выступая в 1934 году на партийном съезде в Нюрнберге: «То,
что мужчина жертвует в борьбе своего народа, жертвует и женщи-
на, борясь за сохранение этого народа в каждом отдельном случае.
То, что мужчина доблестно совершает на полях сражений, совер-
шает и женщина в своей вечной жертвенности, в вечно кротком
страдании и терпении. Каждый ребёнок, которого она производит
на свет, есть битва, которую она совершает в борьбе своего народа
не на жизнь, а на смерть».1
Роман «Желанный ребёнок» вызвал восторженные отклики.
Бёррис фон Мюнхгаузен, стоявший у истоков творчества Зайдель,
назвал его «одним из самых величайших произведений нашей новой
письменности». Особый восторг роман вызвал у критиков нацио-
нал-социалистской направленности. Вильгельм Вестэкер считал
роман Зайдель «памятником лучшего всеобъемлющего пруссаче-
ства и высокой песней материнства», ему вторил Вернер Дойбель,
увидевший в писательнице провозвестницу новой Германии: «Не
чувствуем ли мы, что эта женщина призвана обратиться как раз
в этот решительный момент к Германии, к молодёжи? И что она
обладает могущественным призывным словом, чтобы бороться
за Германию? И что к этому слову прислушиваются? Ждут его?»2
Трудно сказать, какова была реакция молодёжи на этот роман,
но тот факт, что его тираж составил более миллиона экземпляров,
что он был переведён почти на все европейские языки (правда,
в годы оккупации Европы нацистами), свидетельствует если
не о восприятии политического призыва, то, по крайней мере,
об интересе к самой фабуле романа. В какой-то мере «Желанный
ребёнок» соперничал с бестселлером Маргарет Митчелл «Унесённые
ветром», изданным в Германии дважды в 1937 и 1941 годах.
После 1933 года нацистская критика выразила более конкретно
своё отношение к роману Зайдель. X. Лангенбухер писал в 1940 году,
что «Желанный ребёнок» сегодня для нас в особой мере значим, ибо
1 Цит. по: Bleuel Н. Р. Das saubere Reich. Bergisch Gladbach, 1979. S. 76-77.
Цит. по: Dür E. Ein Denkmal des besten weilweiten Preußentums — Zum 30. Todes-
tag der deutschen Schriftstellerin Ina Seidel am 2. Oktober 2004 // Der literarische
Zaunkönig. Nr. 3/2004. S. 6-7.
257
мы переживаем объединение этих плодотворных немецких проти-
воположностей, прусской сущности и германского рейха, в единый
рейх... это материнская книга, но одновременно это и благодетель-
но мужская книга... »1
Своеобразным продолжением «Желанного ребёнка», хотя и не
в такой эпической форме, стал роман И. Зайдель «Путь без выбора»
(»Weg ohne Wahl«, 1933), посвященный событиям, предшествующим
Первой мировой войне, в котором человеческие судьбы просматри-
ваются уже в контексте современности с сохранением прежней
посылки — материнство и война. Роман заканчивается примеча-
тельными словами: «Поезд с востока проходил под сводами вокзала,
окна вагонов были заполнены молодыми людьми, они махали руками,
кричали и пели. «Сыновья,— подумал с содроганием Эрасмус.—Да,
сыновья. Пришло время рожать новых сыновей, уже сейчас, так как
вскоре каждый день Европы будет отмечен стольким же количеством
мёртвых солдат, сколько в нём заключено минут...»2
Хотя критики удивились смене тональности повествования,
отмеченного «резким бескомпромиссным присутствием повсед-
невности», однако выразили удовлетворение наметившейся
в творчестве писательницы тенденции,3 полагая обрести в её лице
правоверного союзника, и их надежды в какой-то степени, хотя
и ненадолго, оправдались.
На волне всеобщего восторга в 1932 году И. Зайдель была
избрана в Прусскую академию искусств, став второй, после Рикар-
ды Хух, женщиной, вошедшей в это собрание писателей. После
1933 года нацисты подтвердили её членство в «почищенной» от неу-
годных авторов Академии поэзии, признав тем самым её творчество
отвечающим основным постулатам идеологии национал-социализ-
ма. Правда, ещё в 1932 году во время дискуссии о книге Пауля
Фехтера «История немецкой литературы» Зайдель, выразив своё
отрицательное отношение к автору, высказала опасение по поводу
того, что академия таким образом втянет себя в «партийные дряз-
ги», и, сама того не желая, «развернёт пропагандистскую кампанию
1 LangenbucherН. Ina Seidel // Nationalsozialistische Monatshefte. H.70. München,
1936. S. 99.
2 Seidell. Weg ohne Wahl. Stuttgart, 1933. S. 285.
3 Joachim-Dege M. Seidel, Ina: Der Weg ohne Wahl // Die Neue Literatur. H. 5. 1934.
S. 296.
258
в пользу книги Фехтера, которой она не заслуживает».1 То же самое
повторилось и в феврале 1933 года, когда Секция поэзии в соста-
ве Прусской академии искусств оказалась под угрозой роспуска
в связи с воззванием о создании в преддверии выборов в парла-
мент единого фронта социалистов и коммунистов, под которым
среди прочих стояли подписи членов Секции поэзии К. Кольвиц
и Г. Манна. Под угрозой ликвидации Секции поэзии Академия
искусств вынуждена была исключить из своих рядов подписантов
этого воззвания. Ряд членов Секции поэзии намеревались высту-
пить с протестом против этого решения. В этой связи Зайдель
заявила, что «высокие человеческие идеалы никогда не формиру-
ются политическими партиями, которые в конечном итоге стре-
мятся только к захвату власти, а только отдельными личностями
и их произведениями, поэтому ни одна партия не может считать
себя призванной к сохранению культурного наследства народа.
Исходя из этого я ставлю под вопрос как поступки правительства,
так и наших исключённых коллег... и поэтому академия при всех
условиях должна сохранять нейтралитет по отношению ко всем
проявлениям времени».2 Более того, в 1936 году И. Зайдель вкупе
с Э. Г. Кольбенхайером, Г. Гриммом и Р. Г. Биндингом отказалась
подписать приветствие партийному съезду в Нюрнберге под тем
предлогом, что она не является членом партии и не хочет попасть
в число «попутчиков», против которых партия борется.3
Казалось бы, подобные высказывания характеризуют И. Зайдель
как осторожного человека, пытающегося сохранить некое подобие
независимости в ситуации, мало отвечающей её религиозным и жиз-
ненным принципам. Но вот в 1938 году выходит роман И. Зайдель
«Леннакеры. Книга одного возвращения на родину» (»Lennacker.
Das Buch einer Heimkehr«), который, несмотря на то, что он был при-
нят критикой доброжелательно, воспринимался в Третьем рейхе как
некий гимн протестантской церкви, что само по себе на фоне резкого
обострения отношений между нацистским режимом и Евангеличе-
ской церковью можно было расценить как вызов. В 1937 году был
арестован пастор Мартин Нимёллер, один из лидеров Евангелической
Церкви. Последовавший в феврале-марте 1938 года показательный
Jens I. Dichter zwischen rechts und links. Leipzig, 1994. S. 343.
2 Ibid. S. 236.
3 Ibid. S. 282-283.
259
процесс над ним взбудоражил едва ли не всю Германию, не говоря
уже о религиозной общественности. Достаточно вспомнить протест-
ные акции Эрнста Вихерта, стоившие ему заточения в концлагерь
Бухенвальд.
В сложившейся ситуации И. Зайдель прибегла к испытанному
в фёлькиш-национальных кругах способу обратиться к пробле-
мам современности через прошлое, представив ретроспективно
на примере истории пасторского рода Леннакеров значимость
протестантизма в духовном воспитании немецкого народа. Герой
романа, обер-лейтенант Ганс Леннакер, последний представитель
пасторского рода Леннакеров, вернувшись в 1918 году с фронта,
решил, вопреки семейной традиции, посвятить себя изучению
медицины. Единственная оставшаяся в живых родственница,
настоятельница женского монастыря, приглашает его провести
Рождество в монастыре в надежде убедить Ганса продолжить
традиции предков и заняться теологией. Внезапно Ганс заболевает
гриппом, и в болезненной горячке, длившейся двенадцать дней,
перед ним проходит во сне вся история двенадцати поколений
пасторской семьи, просмотренная начиная с времён Реформации
и кончая современностью. В этих снах представлены не только
судьбы отдельных личностей, но и сама история протестантской
церкви, более того, дан некий образец поведения религиозного чело-
века, сталкивающегося с различными проблемами любого свойства,
в том числе социального и политического. Несмотря на пережитое
во время болезни и всякого рода увещевательные беседы, Ганс
Леннакер остаётся верен избранному им пути, полагая, что таким
образом он, как верующий, больше принесёт пользы, хотя и отдаёт
должное верности служения протестантской церкви духовному
обновлению немецкого народа.
Однако главное в этом романе не судьба Ганса Леннакера,
а судьба духовности в Германии, ибо роман представляет собой
непрерывный диалог о месте и назначении протестантской церк-
ви в обществе. Подобная постановка вопроса вызвана не столько
проблемами существования самой протестантской церкви, хотя она
переживает далеко не лучшие времена, сколько вообще дальней-
шей судьбой христианской религии в нацистской Германии, ибо
нацисты намеревались создать новую истинно немецкую религию,
для чего всячески поддерживали «Немецковерующих» (Deutsch-
gläubigen), отрицавших христианство вообще, и профашистское
260
церковное объединение «Немецкие христиане», называвшее себя
«штурмовыми отрядами Христа».1 В этой связи исторические экс-
курсы Зайдель направлены на то, чтобы подчеркнуть неоспоримые
заслуги церкви, а протестантской в особенности, в «создании для
западноевропейских народов в ходе многовекового культурного
воздействия духовного плодородного слоя, в результате чего возник
такой культурный климат, какой, во всяком случае, в моральной
и социальной области, больше никак не мог возникнуть, если бы
его корни не имели христианских предпосылок».2
И тут же следует отсылка к современной действительности,
к положению церкви в Советском Союзе, которую можно истол-
ковать как некое предупреждение нацистским властям: «Всё, что
сегодня происходит в России, является самым ярким доводом
в пользу христианства, потому что бешенство выступлений его
противников является абсолютным подтверждением незыблемости
духовной власти. Они могут разрушить и испепелить сами зда-
ния церквей, они могут даже церковь признать несуществующей
и распустить её, и если это им удалось бы сделать, то церковь как
человеческое сооружение, вероятно, ничего другого и не заслужила
бы. Но древняя сила христианства явится снова в новом образе,
потому что она изначально заложена в сути людей...»3 Возвращаясь
к немецкой действительности, Зайдель устами Тобиаса Лаурециуса,
седьмого представителя рода Леннакеров, замечает: «Пасторски-
ми домами наша церковь животворно вросла корнями в народ,
и вырвать её оттуда — значит нанести народу рану, которая обес-
кровит его!»4
Эти и подобные им рассуждения не следует понимать как
некую открытую конфронтацию с нацистским режимом, ибо всё,
что предлагается в романе для укрепления позиции протестант-
ской церкви в изменившейся общественно-политической ситуации
в Германии, сводится к «внутреннему постижению каждым веру-
ющим изначальной силы, то есть веры в Христа... Душа должна
снова интуитивно ощущать призыв Христа».5 Если Нимёллер и его
1 ВровкоЛ.Н. Церковь и Третий рейх. СПб., 2009. С. 104-105.
2 Seidell Lennacker. Das Buch einer Heimkehr. Stuttgart, Hamburg, 1938. S. 499.
3 Ibid. S. 499.
4 Ibid. S. 297.
5 Ibid. S. 500.
261
соратники, исчерпав легальные способы воздействия на политику
нацистов в конфессиональных делах, перешли к активным действи-
ям (распространение листовок, антинацистские проповеди), то Зай-
дель в «Леннакерах» выразила лишь тихую озабоченность по поводу
ситуации, сложившейся вокруг протестантской церкви, и решение
Ганса Леннакера отказаться от пасторской карьеры и отдать себя
целиком врачебной деятельности, что, однако, не означает отказа
от самой веры, можно рассматривать как некое соединение теории
и практики, как некий уход в народ.
Тем не менее, часть критиков тех лет усмотрела в романе Зай-
дель заметные протестные интенции. Например, Юрген Эггебрехт
(Eggebrecht, Jürgen; 1898-1982) писал о «поразительной актуаль-
ности... истории... лютеранской церкви, и именно эта церковь
теряет сегодня (общественную) действенность. Она и есть и её нет».
Именно поэтому, считает рецензент, Зайдель, «как верующий чело-
век, пишет о важных делах, которые, как ей кажется, находятся
в опасности или эти опасности грозят им, то есть — обращается,
полная тревоги, к невидимой церкви».1 В этой ситуации, замечает
Эггебрехт, Зайдель «бесстрашно ставит вопросы и даёт невероятно
смелые и убедительные ответы,., не скрывая того, что сама беспре-
станно ощущает опасности времени».2
Столь откровенные и лишённые каких-либо отрицательных
интенций рассуждения критика о позиции Зайдель по поводу вза-
имоотношений церкви и фашистского государства объясняются,
вероятно, тем, что пространная рецензия Эггебрехта, бывшего
в то время редактором издательства «Дойче Ферлагс-Анштальт»
(»Deutsche Verlags-Anstalt«), в котором вышел роман «Леннакеры»,
была опубликована в еженедельнике «Дойче Цукунфт» (»Deutsche
Zukunft«), издававшемся Паулем Фехтером (Fechter, Paul), извест-
ным литературоведом правого толка, всегда державшим нос
по ветру и умевшим лавировать в сложных ситуациях. Журнал
этот любопытен не только тем, что в нём публиковались авторы,
далёкие от национал-социализма (например, Й. Клеппер, М. Раш-
ке, И. Молцан), но и доброжелательными критическими отзывами
о книгах литературной молодёжи афашистской направленности
(Ф. Лампе, X. Ланге). Примечательно, что в «Дойче Цукунфт» почти
1 Eggebrecht J. Ina Seidels neues Buch // Deutsche Zukunft. Berlin, 06.11.1938. S. 14.
2 Ibid. S. 15.
262
никогда не рецензировались книги откровенно пронацистских
писателей. Учитывая связи самого П. Фехтера с некоторыми буду-
щими участниками неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля
1944 года (например, с И. Попицем), а через них и с некоторыми
высокими чинами в партии,1 ему удавалось сохранять определён-
ную независимость своего издания. Сам Ю. Эггебрехт прославился
в годы нацизма тем, что, будучи ответственным за издание книг
для вермахта, помогал словом и делом многим молодым писателям
афашистской направленности как в литературных, так и в поли-
тических осложнениях.2
В отличие от Ю, Эггебрехта собственно нацистская критика
не обнаружила (или не захотела обнаружить по каким-то своим при-
чинам) в романе «Леннакеры» каких-либо протестных настроений.
X. Лангенбухер, главный литературный надсмотрщик в Третьем
рейхе, отметил, что И. Зайдель «поднимает в своём романе с боль-
шой серьёзностью вопрос жизни и смерти протестантизма. Она
заявляет о своей принадлежности делу христианства и протестант-
ской церкви, однако забота о его будущем заставляет её найти очень
искренние слова о многих представителях христианства и церкви.
Роман Ины Зайдель «Леннакеры» является произведением, которое
призывает к принятию решения и воспламеняет тех людей, которые
сегодня больше не в состоянии следовать воззрениям, присущим
писательнице ».3
В таком же духе рассуждает и А. Мулот, полагая, что И. Зайдель
«даёт неприкрашенный отчёт о напряжённости и об исчерпанности,
о величии и об угрозе протестантской позиции,., о том, что про-
тестантство потеряло свою первоначальную динамическую силу,
замкнувшись в отвлечённой церковной набожности по отношению
к судьбе народа».4 И тут же следует приведённая выше цитата
из книги Г. Лангенбухера о романе И. Зайдель, из чего можно сде-
лать вывод о том, что мы имеем дело с официальной точкой зрения
1 Вероятно, поэтому П. Фехтер, будучи с 1933 по 1942 гг. соиздателем вместе
с Рудольфом Пехелем журнала «Дойче Рундшау», органа консервативных противни-
ков национал-социализма, служил некоторым громоотводом для сохранения журна-
ла на плаву. С арестом в 1942 г. Р. Пехеля журнал прекратил своё существование.
Welle F. »In der Zukunft war ich schon«. Leben für die Literatur. Jürgen Eggebrecht
1898-1982. München, 2010. S. 58-83.
3 Langenbucher H. Volkhafte Dichtung der Zeit. Berlin, 1940. S. 142.
4 Mulot A. Die deutsche Dichtung unserer Zeit. Stuttgart, 1944. S. 519.
263
по поводу книги И. Зайдель, хотя она значительно расходиться
с позицией самой писательницы, каким бы протестным зарядом
она ни обладала.
Складывается такое впечатление, что во избежание скандала
оргвыводов, как это принято в партийных кругах, не последова-
ло, но писательнице дали понять, что она ходит по острию ножа,
и только искусное толкование этого опуса спасло её от больших
неприятностей.1 Поэтому появившиеся в 1939 году из под её пера
восторженные восхваления фюрера пришлись как нельзя кстати,
хотя объяснялись потом неким затмением, нашедшим на писатель-
ницу под воздействием внешних факторов. Позднее И. Зайдель
напишет, что она попала под влияние мужа своей дочери Эрнста
Шульте-Штратхауза, руководителя отдела в штабе заместителя
Гитлера Рудольфа Гесса, с которым он состоял в дружеских отноше-
ниях.2 Шульте-Штратхауз занимался вопросами культуры и всяче-
ски старался представить Гитлера в глазах Зайдель «убедительным
государственным деятелем, ратующим за мир».3
Трудно сказать, что больше подействовало на Зайдель, пане-
гирики Гитлеру, распеваемые нацистским зятем, похвалы нацист-
ской критики или какие-то другие, неизвестные нам причины,
но к пятидесятилетию фюрера писательница разразилась такими
прочувственными стихами, сопровождавшимися не менее прочув-
ственным прозаическим текстом, что обеспечила себе не только
место в сердце Гитлера (недаром он вписал её имя в «список богов-
дохновенных»), но и в истории нацистской литературы на долгие
годы: «Мы, рождённые в том поколении, которое было зачато
в последней трети прошлого столетия из немецкой крови, уже
давно стали родителями современной молодёжи Германии, прежде
чем мы могли предположить, что среди нас — многих тысяч —
был один, над главой которого собирались космические потоки
1 Не исключено, что здесь подействовали известные предостережения Р. Гесса
по поводу нападок нацистов на Евангелическую церковь. Он считал, что «такого
рода попытки умиротворения и подчинения Евангелической церкви «государ-
ственными мерами ни к чему не приведут, а только усугубят раскол» (Бровко Л. Н.
Указ. соч. С. 218).
2 Влияние Шульте-Штратхауза на И. Зайдель было столь сильным, что она не побо-
ялась в октябре 1941 года приехать в Париж, чтобы искать поддержку Э. Юнгера
в защите своего зятя, попавшего в тюрьму после побега Гесса в Англию / / Юнгер Э.
Излучения (февраль 1941 — апрель 1945). СПб., 2002. С. 53.
3 Цит. по: DürE. Der »Fall Ina«. Die Freundschaft zwischen Erika Mitterer und Ida
Seidel // Der literarische Zaunkönig. Nr. 2/2005. S. 7.
264
немецкой судьбы для того, чтобы таинственным образом остано-
виться и вновь начать свой круговорот в неудержимом и могуще-
ственном порядке. Только когда мы после огромных потрясений
и революционных переворотов ощутили себя, как никогда до этого
в немецкой истории, возрождающимся народом, каждый на том
месте, где он мог бы лучше всего послужить своими способностями,
когда мы увидели, как в этом помолодевшем теле народа — наших
детях — стало ощущаться чудо возрождения, тогда мы с благого-
вением поняли, что с нами произошло. Там, где мы ощущаем себя
немцами, отцами и матерями молодёжи и будущего рейха, там
чувствуем мы сегодня наши устремления и наш труд — с благодар-
ностью и покорностью — в деле единственного избранника нашего
поколения — в деле Адольфа Гитлера».1
После столь витиеватого и униженно-подобострастного вос-
хваления фюрера следует стихотворение «Храм света» (»Lichtdom«),
в котором И. Зайдель, с не меньшим пиететом, чем в прозаическом
тексте, поёт осанну фюреру:
Здесь мы стоим сплочённо вокруг Единого,
и этот Единый есть сердце народа...
В золоте и пурпуре, в торжественном молчании,
проносят штандарты перед фюрером.
Кто, потрясённый, не склонит голову?
Кто не подъемлет взгляд, полный доверия?
...Кто там, предшествующий народу,
примкнул к этому великому немецком дню?
Ах, нет числа им. С высот небесных
Раздаются возгласы: Слава ему! И призывные моленья:
Помоги ему! Слова невидимых возносятся к небу.2
По словам сына И. Зайдель, писателя и критика Георга Зайделя,
«только спустя несколько месяцев после написания этого стихотво-
рения ей стало ясно, что она ошибалась. В течение всего 1939 года
в ней нарастала, наряду со страхом, её способность к политическому
познанию, а с ней и её глубокое отчаяние по поводу своей слепоты».3
1 Цит. по: WulfJ. Literatur und Dichtung im Dritten Reich. Eine Dokumentation. Rein-
bek bei Hamburg, 1966. S. 406.
2 Цит. по: Loewy E. Op. cit. S. 283.
3 Wickert E. Erinnerung an einen Freund / / Ferber Chr. Ein Buch könnte ich schrei-
ben. Die autobiographischen Skizzen Georg Seidels (1919-1992). Göttingen, 1996.
S. 252.— С первых же шагов в литературе Георг Зайдель столкнулся с тем, что
265
Словно оправдываясь, Зайдель писала в 1945 году в одном из писем,
относя себя «к тем немцам, о которых Томас Манн сказал в своём
«Размышлении аполитичного», что они «всегда были проникнуты
духом национального, но никогда — политического».1 О том же писал
и её сын Кристиан Фербер, говоря о «частичной слепоте интеллекта,
политической глупости, о чрезвычайно широко распространённой
и давно уже ставшей латентной традицией воздержании немецкого
образованного бюргерства от всего, что связано с обществом, всё
это было изначальной причиной ошибочного решения, к которому
пришла Ина Зайдель».2
Как бы то ни было, но этот поступок писательницы свидетель-
ствовал о двойственности позиции фёлькиш-националов в годы
фашистского режима, особенно той её части, которая принад-
лежала к протестантским кругам, об их готовности идти, пускай
и не разделяя взглядов нацистов, на компромиссы с режимом ради
сохранения возможности хоть как-то воздействовать на умы чита-
телей, прокламируя в своих произведениях принципы гуманизма.
С учётом постоянных и с годами усиливавшихся гонений наци-
стов против Евангелической церкви, подобного рода реприманды
со стороны писательницы, исповедовавшей достаточно строгие
принципы протестантизма, можно истолковать и как выражение
верноподданнических чувств в надежде на возможные послабле-
ния в действиях властей против церкви, а также и страха за себя
и за свою семью, о котором писал её сын.3
Наконец, не надо забывать и такой немаловажный полити-
ческий фактор как аннексия в мае 1938 года Гитлером Австрии,
«когда все захлёбывались от националистического восторга (даже
противники Гитлера покупали флаги со свастикой), когда всех воо-
душевлял лозунг «один рейх, один народ, один фюрер», земельные
его имя постоянно ассоциировалось с именем матери, а его самого называли
в соответствии с заглавием её знаменитого романа «желанным ребёнком», что
явно раздражало молодого писателя. Именно поэтому Г. Зайдель писал свои статьи
и цитируемую книгу под псевдонимом Кристиан Фербер, а свои романы — под
псевдонимом Симон Глас.
1 Цит. по: DürE. Ein Denkmal des besten weilweiten Preußentums — Zum 30. Todes-
tag der deutschen Schriftstellerin Ina Seidel am 2. Oktober 2004. // Der literarische
Zaunkönig. Nr. 3/2004. S. 7.
2 Ibid. S. 7
3 Wickert E. Op. cit. S. 252.
266
евангелические церкви в своём большинстве приняли присягу
на верность фюреру и народу, тем самым, как отмечало гестапо,
«проявило здоровое народное сознание».1
О реакции собратьев по перу на поступок И. Зайдель практи-
чески ничего не известно, если не считать писем близкой подруги
писательницы Эрики Миттерер (Mitterer, Erika; 1906-2001), извест-
ной представительницы австрийской литературной «внутренней
эмиграции», которая вынуждена была из-за её пронацистских
взглядов прервать с ней всякие контакты. Вот любопытное свиде-
тельство, оставленное Паулой фон Прерадович (Preradovic, Paula
von; 1887-1951), австрийской поэтессой, после её встречи с И. Зай-
дель в августе 1943 года, в котором она сообщает, что «к моему
удивлению она оказалась ревностным, энтузиастски настроенным
и наивным человеком, одобряющим порядки и вещи, которые ты
и я отвергаем».2
Вероятно, в 1944 году в связи с явно наметившимся концом
Третьего рейха энтузиазм И. Зайдель угас. Об этом свидетельствует
хотя бы история с первой публикацией стихов Иоганнеса Бобров-
ского в последнем номере журнала «Иннере рейх» в марте 1944 года,
произошедшей по инициативе писательницы. Зайдель, получив
письмо с фронта от И. Бобровского с его стихами, настоятельно
советовала П. Альвердесу, главному редактору журнала, опублико-
вать стихи молодого поэта, прекрасно понимая их несоответствие
установкам как самого издания, так и литературным тенденциям
тех лет. О сложности этого предприятия говорит хотя бы тот факт,
что, например, стихотворение «Кремль», в котором достаточно ясно
прозвучали антивоенные мотивы, всё-таки не удалось отстоять.3
Но и то, что было опубликовано, могло быть истолковано совсем
не в пользу автора, воспевавшего в своих одах величие разрушен-
ного Новгорода.
После 1945 года И. Зайдель постаралась откреститься от своих
пронацистских заблуждений, осудив себя и ей подобных в доста-
точно резких словах, давая характеристику сторонников нацизма
из лагеря фёлькиш-националов: «Этот человек не хотел победы,
1 БровкоЛ.Н. Церковь и Третий рейх. СПб., 2009. С. 220.
2 Dür E. Der »Fall Ina«. Die Freundschaft zwischen Erika Mitterer und Ina Seidel //
Der literarische Zaunkönig Nr. 2/2005. S. 10.
3 Härtung G. Der weite Weg nach Sarmatien. Johannes Bobrowskis Gedichte im Rahmen
der Gesamtausgabe seiner Werke // Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.08.1987.
267
а мира, но построенного на непобедимости немецкого оружия
и сохранения немецкого самоопределения. И после этого, так мечтал
этот идиот, должно наступить внутреннее очищение. Я принадле-
жала к этим идиотам».1 Несмотря на то, что послевоенная творче-
ская судьба писательницы на фоне реставрационных тенденций
политики К. Аденауэра сложилась достаточно успешно, о чём
свидетельствуют премия имени Раабе, присуждённая И. Зайдель
в 1948 году, и избрание её членом Баварской академии прекрас-
ных искусств, нацистское прошлое всё же давало знать о себе, что,
впрочем, не отразилось на тиражах её произведений.
В апреле 2004 года в Брауншвайге состоялся симпозиум,
посвященный творчеству И. Зайдель, на котором был подведён
своеобразный итог литературной судьбы писательницы: «Ину
Зайдель не спасти. Писательница медленно исчезает из сознания
общественности, добровольно её почти никто не читает».2
1 Цит. по: Schoeps К-Н. J. Literatur im Dritten Reich (1933-1945). Berlin, 2000. S. 189.
2 Jasper M. Eine Nazisse und ihr Opfermythos // Braunschweiger Zeitung. 26.04.2004.
Национал-социалистская литература
Собственно нацистская литература, несмотря на все пред-
принимавшиеся попытки создать её, как таковая не состоялась.
Представителей фёлькиш-национальной литературы, при всей
их близости к отдельным проявлениям идеологии национал-со-
циализма, трудно отнести к прародителям «новой литературы»,
да они и не пытались вникать в проблематику времён нацизма,
ограничиваясь лишь предысторией возникновения «движения»
в несколько опосредованном виде. В их произведениях нет образов
будущих властителей Германии, как нет и описаний их деятельно-
сти, а есть только отголоски происходящих в Германии событий,
попытки примеривания на себе новых политических идей, отчего
в их произведениях национал-социализм и выразители его не имеют
лица — это некто, это будущий вождь, это спаситель и т.п.
Более конкретен в своих представлениях о будущей нацистской
литературе министр пропаганды Й. Геббельс: «Немецкое искусство
ближайших десятилетий либо будет героическим, стальным, роман-
тическим, несентиментально объективным, будет национальным
и исполненным великого пафоса, оно будет общим, обязующим
и связующим, либо его вообще не будет».1 Уже через год после
прихода к власти нацистов Р. Биндинг, один из «классиков» фёль-
киш-национальной литературы Третьего рейха, вынужден был кон-
статировать, что новая, нацистская литература возникнет не сразу:
«Книга, которая отражает сегодняшний день, ещё долго не обретёт
1 Цит. по: Berensohn W.A. Die humanistische Front. Zürich. 1946. S. 25.
269
своего утра или даже будущего. Нас это не смущает, потому что
действительную картину эпохи и даже лицо нашей письменности
удастся, вероятно, постигнуть по прошествии многих лет с пози-
ций более высокого обзора и с большей дистанции».1 А в 1941 году
тот же Геббельс с разочарованием вынужден был признаться:
«Национал-социалистское государство отказалось от честолюбивых
мыслей самому создавать искусство. В мудром ограничении оно
довольствуется тем, что оказывает поддержку искусству и духовно
направляет его воспитательные задачи служения народу».2
Что считать нацистской литературой? Вопрос далеко не ака-
демический, ибо издание того или иного произведения в годы
Третьего рейха, даже с учётом всеобъемлющего контроля и цензуры,
царящих в стране, ещё не означает, что это произведение можно
отнести к разряду нацистской литературы.3 Более того, сами иде-
ологические инстанции нацистов, обжёгшись на писаниях всяко-
го рода приспособленцев, очень осторожно давали такую оценку
произведениям, претендующим на звание нацистской литературы,
хотя необходимость в ней была предельно чрезвычайной. Обилие
в тексте прямых или косвенных реалий нацистской действительно-
сти, не говоря уже о пронацистских высказываниях и частотности
употребления нацистских лозунгов или отсылок к речам Гитлера,
не вызывало особого доверия ни у цензоров, ни у читателей. Одной
приверженности идеям национал-социализма было недостаточно,
и это понимали все, кто в какой-либо степени занимался вопроса-
ми литературы. Так, Гюнтер Хаупт (Haupt, Günther; 1904-1967),
чиновник «Имперской палаты письменности», и это уже необычно,
в своей книге «Что мы ожидаем от будущей литературы?» (»Was
erwarten wir von der kommenden Dichtung?«, 1934) высказывает
озабоченность обусловленностью «конъюнктурными причинами»
1 Binding R.G. Schrifttum von heute und morgen // Das deutsche Wort. Berlin. Nr. 15.
6.4.1934. S. 4.
2 Цит. по: Fröhlich E. Die Kulturpolitische Pressekonferenz des Reichspropagandami-
nisterium // Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 22 (1974) H.4. S. 558-559
3 К чему может привести подобный подход ярко свидетельствует судьба «Истори-
ки» Иоганна Густава Дройзена, известного немецкого учёного 19 в. Написанная
в 1858 г., эта книга вышла в Германии только в 1936 г., и этого было достаточ-
но, чтобы труд одного из выдающихся классиков исторической мысли остался
невостребованным в СССР. Савельева И. М. Обретение метода / / Дройзен И. Г.
Историка. СПб., 2004. С. 5.
270
появление большого количества крестьянских романов: «Самые
отвратительные порождения декадентской городской литератур-
щины не представляют большей опасности для биологической силы
и нравственной чистоты народа, чем те романтически лживые
попытки употреблять теперь в изобилии такие слова как сочность,
сила, кровь и грубая гордость для того, чтобы славить землю и кре-
стьянина. И вот уже исходит пар от жирных борозд, сыпятся жёл-
тые катыши конского навоза, красуются сочные фрукты; девушки
тяжело покачивают своими крутыми бёдрами, мужчины шагают
необычно тяжёлой поступью по завещанным от предков землям,
жаркая кровь доступна».1 Хаупт, назвав привычный набор обще-
принятых штампов крестьянского романа, выразил тем самым
озабоченность идеологов «движения» плачевным состоянием совре-
менной нацистской литературы, связав его с «незначительным
наличием в современной литературе еретических голосов»,2 т.е.
с отсутствием действительно настоящей национал-социалистской
литературы, из чего можно сделать вывод о том, что приведён-
ные им признаки крестьянского романа нельзя истолковать как
показатели собственно национал-социалистской итературы. Даже
Вилл Феспер, ярый сторонник национал-социализма, вынужден
был в своём журнале «Нойе Литератур» (»Die Neue Literatur«) уже
в 1934 году признать, что появление большого количества крестьян-
ских романов вызвано именно «конъюнктурными соображениями»,3
что, однако, не означало, что он поддерживает высказывания
Хаупта. Косвенным подтверждением этому является разгромная
рецензия Рональда Лёша (Loesch, Ronald) на книгу Хаупта, поя-
вившаяся через месяц в этом же журнале,4 и не менее разгромная
анонимная статья в «Бюхеркунде» в июле этого же года.5
1 Haupt G. »Was erwarten wir von der kommenden Dichtung?«. Tübingen, 1934. S. 21.
2 Ibid. S. 28.
3 Vesper W., Linke J. Ein Jahr rollt übers Gebirg // Die Neue Literatur. Berlin, 1934.
H.5. S. 293.
Loesch R. »Was erwarten wir von der kommenden Dichtung?«. Bemerkungen zu
der Schtift von Günther Haupt // Die Neue Literatur. 1934. H. 6. S. 431-435.
Anonym. Was erwarten wir von der kommenden Dichtung? // Bücherkunde, 1934,
Juli. S. 15-16. Хаупту его сомнения в ценности крестьянских романов стоили
увольнения в 1935 году из «Имперской палаты письменности» (Literatur im Dritten
Reich. Dokumente und Texte // Hrsg. v. S. Graeb-Könneker. Stuttgart, 2001. S. 336).
271
Столь оживлённая дискуссия на страницах журналов, опреде-
лявших литературную погоду в Третьем рейхе, напоминает по своей
тональности начальственный окрик, и беспокойство их издателей
вызвано, прежде всего, не постановкой проблемы определения
истинно национал-социалистской литературы, а попыткой выска-
зать собственное мнение о творчестве как таковом, пускай и с раз-
личными оговорками и клятвами в верности партии и фюреру.
В этом контексте и следует рассматривать приказ Геббельса
о запрете художественной критики, которая вместо того, чтобы
способствовать определению неких параметров новой нацистской
литературы, занялась критикой крестьянского романа, одного
из самых дорогих сердцу нацистов жанра немецкой литературы.
Рассуждать об эстетических принципах «новой литературы» без
оглядки на партийные органы оказалось делом опасным, хотя
наивно было бы полагать, что в тогдашней обстановке нашёлся бы
такой критик, который мог бы свободно излагать своё мнение:
«Поскольку и 1936 год не принёс заметного улучшения художе-
ственной критики, я окончательно запрещаю с сегодняшнего дня
(27.11.1936) дальнейшее функционирование художественной
критики в её прежней форме. Место художественной критики...
займёт сообщение об искусстве; место критика заступит инфор-
матор».1 Запрет запретом, но, например, на страницах любимого
детища Геббельса, еженедельника «Рейх» (»Das Reich«), целые стра-
ницы заполнялись статьями далеко не информационного свойства,
и авторами этих статей были профессиональные критики, далеко
не истовые национал-социалисты.
В подобного рода нестыковках желаний и практических послед-
ствий реализации этих желаний сказывается некая суетливость,
лихорадочность поисков более эффективных средств выражения
нацистской идеологии, и, не в последнюю очередь, разница в пони-
мании необходимости этих поисков, учитывая противостояние
Геббельса и Розенберга. Всякий, кто пытался ступить на путь хоть
каких-то преобразований, связанных с отходом от установившихся
не литературных, а политических традиций, не был застрахован
от поражений, независимо от того, кто способствовал этому начи-
нанию. Когда Ганс Хайнц Эверс (Ewers, Hanns Heinz; 1871-1943),
писатель далеко не первого ранга, поставщик посредственного
чтива с порнографическим душком, в 1932 году опубликовал свой
1 Цит. по: История немецкой литературы. Т. 5. M., 1976. С. 329.
272
роман о Хорсте Весселе, штурмовике, погибшем в пьяной драке
и возведённом нацистами в ранг «мученика», пострадавшего задело
партии, нацистская критика встретила этот опус настороженно,
хотя сама идея написания этого романа была подсказана Эверсу
Гитлером,1 когда тот в 1931 году собственноручно вручал ему пар-
тийный билет в «Коричневом доме» (Braunes Haus), в штаб-квар-
тире НСРПГ. Роман Эверса написан в достаточно реалистичной
манере, в духе романов Веймарской республики, романов улицы
со всеми вытекающими отсюда совсем не героическими подробно-
стями, именно поэтому он, несмотря на пафосный настрой, вызвал
нарекания со стороны старых партийцев. Стараниями Розенберга,
знавшего о видах Геббельса на Эверса в пропагандистских целях,
предыдущее творчество Эверса подверглось уничтожающей кри-
тике, что, несомненно, бросило тень и на роман о Хорсте Весселе.
Опус Эверса был признан «развлекательным романом», написан-
ным человеком, «чьи пальцы слишком явно пахнут «Морфием»,
«Альрауном», «Вампирами», «Мёртвыми глазами» (названия рома-
нов Эверса.— Е. 3.) и подобными им вещами».2 В 1934 году роман
Эверса, выпущенный тиражом в 200000 экземпляров, а с ним
и всё его творчество подверглись запрету, и хорошо, что дело кон-
чилось только этим, ибо, по имеющимся сведениям, имя писателя
стояло в списке лиц, подлежащих уничтожению в ходе расправы
с лидерами CA в июне этого же года. Эверс не справился с постав-
ленной задачей увековечить имя «мученика», не придал политиче-
скому мифу соответствующий литературный антураж, хотя очень
старался, ибо его роман о Хорсте Весселе значительно отличается
от прежних произведений писателя реалистической манерой ото-
бражения действительности.
Нечто подобное, но только не с такими неприятными послед-
ствиями произошло и с Гансом Йостом, первым человеком
на нацистском Парнасе. Специально ко дню рождения Гитлера
Йост написал пьесу «Шлагетер» (»Schlageter«, 1933) о судьбе Альберта
Лео Шлагетера, ещё одного партийного «мученика», расстрелянного
французскими оккупационными властями за террористическую
деятельность. Пьесе было предпослано трогательное посвящение
1 Так, по крайней мере, утверждает Эверс в послесловии к роману «Хорст Вессель.
История одной немецкой судьбы» (Ewers H. H. Horst Wessel. Ein deutsches Schicksal.
Stuttgart, Berlin, 1934. S. 290).
2 Цит. по: Schoeps R.-H.J. Literatur im Dritten Reich (1933-1945). Berlin, 2000. S. 93.
273
Гитлеру, на премьере пьесы присутствовал фюрер и всё руковод-
ство Германии. Несмотря на огромный успех, пьеса вскоре была
запрещена, правда, ненадолго. Здесь сыграли свою роль полити-
ческие соображения — Гитлеру не хотелось в период становления
нацистской власти портить отношения с Францией, и он спокойно
пожертвовал именем своего придворного драматурга. Тем не менее,
удар по реноме Йоста был ощутимый, и понадобилось время, чтобы
он вновь почувствовал себя в безопасности.
Названные произведения трудно посчитать образцовыми
в художественном отношении, содержащими какие-то поэтологи-
ческие элементы «новой» нацистской литературы. Это скорее про-
ба пера, попытка (неосознанная и питающаяся самыми благими
намерениями) представить нацистскую тематику в ином ракурсе
при сохранении духа «движения». Эверс писал «Хорста Весселя» так,
как он писал и раньше, и здесь не было никаких потуг на новизну.
Но именно то, как он писал раньше, оказалось неприемлемым для
нацистского образа мышления. Им нужен был святой, а не чело-
век со всеми его потрохами, как это было свойственно литературе
«асфальта» времён Веймарской республики. Йост также не открыл
ничего нового. Он только вспомнил своё экспрессионистское про-
шлое, хотя к тому времени, несмотря на попытки некоторых пар-
тийцев (особенно здесь усердствовал Розенберг) использовать это
направление в литературных надобностях национал-социализма,
экспрессионизм как явление разрушительное и запачканное зало-
женными в нём левыми интенциями, стало ругательным словом.
Уве Кетельсен не без сарказма заметил по этому поводу, что «куль-
турно-политическим приспешникам национал-социализма... после
1933 года не наступили райские времена, и некоторые из них могли
после 1945 года представлять себя в качестве жертв диктаторского
своеволия».1
Нельзя сказать, что нацистские литературоведы вообще игно-
рировали проблему идентификации нацистской литературы. Одна-
ко какими-либо серьёзными исследованиями они не озаботились,
ограничиваясь лишь программными заявлениями. В этом смысле
примечательно высказывание одного из ведущих в годы нацизма
литературоведа Хайнца Киндермана (Kindermann, Heinz), в котором
он определил рубеж, разделяющий новую и старую литературу:
«Итак, мы отличаемся от предыдущих времён тем, что мы создали
1 Ketelsen Uwe-K. Op. cit. S. 72.
274
и признаём основополагающие литературные ценности, которые
берут своё начало не просто в чисто формально-художественном
смысле, но и во внутренне-духовном содержании, в народно-миро-
возренческой позиции, в расистско-обусловленном образе человека
и в свойственном ему, пронизывающем всего его изображении».1
Однако дальше этих заявлений дело не сдвинулось, из чего
можно заключить, что любые попытки (прямые или косвенные),
при сохранении неотложной надобности самоидентификации,
не находили понимания в идеологических кругах нацистов, и поэ-
тому можно смело констатировать, что за все годы существования
Третьего рейха нацистам так и не удалось выработать чёткие кри-
терии собственно нацистской литературы.
Не лучше обстоит дело и в наше время. После разгрома
нацистской Германии эта проблема вообще не поднималась, если
не считать знаменитой дискуссии о «литературе внутренней эмигра-
ции», состоявшейся в августе 1945 года, и выступления Альфреда
Андерша на встрече «группы 47» в 1948 году с обширным докла-
дом «Немецкая литература перед решением» (»Deutsche Literatur
in der Entscheidung«), где также речь шла в основном о литературе
«внутренней эмиграции». Сведения о существовании какой-либо
собственно нацистской литературы в Третьем рейхе были крайне
скудны, да и само понятие художественной литературы по причи-
не преступности нацистского режима и ужасов развязанной ими
войны не укладывалось в сознании мировой общественности, и поэ-
тому о каком-либо изучении литературы времён Третьего рейха,
не говоря уже о собственно нацистской литературе и дефиниции
её особенностей, не могло и быть речи.
Правда, в историях немецкой литературы, появившихся после
1945 года, давался краткий обзор литературы времён фашизма,
но, учитывая тот факт, что это были слегка исправленные переиз-
дания прежних опусов, авторы которых — Пауль Фехтер, Франц
Леннартц, Герберт и Элизабет Френцель, Фриц Мартини — в годы
нацизма прославились на этом поприще, основной акцент был сде-
лан на авторах «внутренней эмиграции», а о собственно нацистской
литературе почти ничего не сообщалось.
Впервые вопрос о нацистской литературе, о её проблематике
был поднят Францем Шонауэром (Schonauer, Franz), прочитав-
шем в 1959 году на Баварском радио шесть лекций о «Немецкой
1 Цит. по: Ketelsen Uwe-K. S. 78.
275
литературе в Третьем рейхе», которые были изданы в 1961 году под
тем же названием отдельной книгой.1 Здесь впервые были пред-
ставлены не только отрывки из конкретных текстов авторов «вну-
тренней эмиграции» и фёлькиш-националов, но и тексты нацист-
ских авторов, и сделана была попытка некоего политизированного
литературоведческого анализа, но и только. И это естественно,
потому что в задачу книги входило желание обратить внимание
западногерманской общественности на недавнее историческое
прошлое, которое в лице большого отряда литературных «знамени-
тостей» тех лет продолжало успешно заниматься своим делом, как
и в прежние времена. Книга Шонауэра была актуальна не столько
в литературном отношении, сколько в общеполитическом, ибо заси-
лье в политической и общественной жизни ФРГ бывших нацистов
в 50-х годах приняло небывалый размах.
По иронии судьбы впервые вопрос о собственно нацистской
литературе и, в частности, о её художественной специфике, на осно-
вании которой можно было бы причислять того или иного писателя
к выразителю идеологии национал-социализма, подняли сами быв-
шие нацисты. В 1963 году рабочий поэт Макс Бартель (Barthel, Мах;
1893-1975), прошедший за свою долгую жизнь тройное партийное
искушение, будучи членом коммунистической и социал-демокра-
тической партий, а после 1933 года «примкнувший к национал-со-
циализму», подал в суд на издателя «Энциклопедии всемирной
литературы» Геро фон Вилперта (Willpert, Gero von) иск по поводу
именно этой фразы. Суд после долгого разбирательства составил
некий каталог признаков национал-социалистской литературы:
■ национал-социалистская расовая политика;
■ борьба против большевизма;
■ борьба против еврейства;
■ борьба против так называемой западной плутократии;
■ новый — преимущественно европейский — территориальный
порядок;
■ исключение влияния церкви;
■ возбуждение и поощрение «фёлькише оборонительного созна-
ния».2
1 Schonauer F. Deutsche Literatur im Dritten Reich. Versuch einer Darstellung in pole-
misch-didaktischer Absicht. Ölten und Freiburg im Breisgau, 1961.
2 Schnell R. Dichtung in finsteren Zeiten. Deutsche Literatur und Faschismus. Reinbek
bei Hamburg, 1998. S. 100-101.
276
Ввиду отсутствия этих признаков в творчестве Бартеля, он был
признан по решению суда непричастным к национал-социализму,
хотя известно, что поэт являлся одним из первых, кто восторженно
приветствовал приход к власти нацистов, заявив, что «гитлеровские
марширующие колонны революции сократили и сделали свободным
путь в Германию для всех творческих людей».1
При всём том, что названные критерии принадлежности автора
к национал-социалистской идеологии соответствуют действитель-
ности, они всё же не определяют сути нацистской литературы, ибо
многие из них характерны для творчества авторов конца XIX —
начала XX веков, когда национал-социализма как явления не было
и в помине. Более того, эти критерии в своей ясности и активности
проявлялись преимущественно в партийно-публицистической лите-
ратуре (исключение, пожалуй, составляют романы Г. Цёберляйна,
которым свойственная такая направленность), а в произведениях,
которые претендовали на звание художественной литературы (если
взять за основу костяк официально признанной литературы, т.е.
фёлькиш-национальную литературу), фашистская действитель-
ность, как правило, в них вообще отсутствовала, и таким образом
отсутствовал и повод для возникновения подобного рода интен-
ций в их радикально-нацистской форме. Тот же антисемитизм,
издавна существовавший в немецкой литературе, или неприязнь
ко всему западному, резко обозначившаяся в конце XX веке среди
фёлькиш-националов и принявшая после поражения Германии
в Первой мировой войне чуть ли не всегерманский характер, не есть
порождение нацистской идеологии как таковой, а суть заимствова-
ния, использованные нацистами в своих политических надобностях.
Как это ни странно, но немецкие исследователи, несмотря на их
резкие и достаточно фундированные отзывы по поводу судебных
литературоведческих экзерсисов, продолжали в основном толковать
эту проблему в «содержательно-эстетическом и идеологически-кри-
тическом» плане,2 полагая, что собственно нацистская литература
«вряд ли достойна литературно-исторического рассмотрения», ибо
по своему характеру и официальному статусу её следует относить
к пропагандистской литературе,3 а здесь о какой-либо литературе
1 Anonym. Wer Nazi war // Der Spiegel, Nr. 44. 1963. S. 124.
2 Schnell R. Op. cit. S. 101.
3 Ketelsen Uwe-K. Literatur und Drittes Reich. Vierow bei Greifswald. 1994. S. 54.
277
как таковой и речи быть не может. Несомненно, в подобного рода
высказываниях огромную роль играл и продолжает ещё играть
естественный политический посыл для негативного рассмотрения
всего периода существования Третьего рейха, и поэтому литература
тех лет, какого бы свойства она ни была, по определению не может
быть рассмотрена с позиций традиционного литературоведения,
и именно поэтому поэтологические аспекты текста, прозаического
или поэтического, практически не рассматривались и считались
чем-то незначительным.
Тем не менее, начиная с конца 90-х годов XX века, ситуа-
ция в части определения поэтологической сущности собственно
нацистской литературы, несмотря на её довольно небогатый состав,
начинает набирать силу, и связано это, несомненно, с появлением
значительных работ, посвященных творчеству наиболее заметных
представителей этой литературы — Г. Йоста, Й. Вайнхебера, Г. Блу-
нка, А. Мигель. Стараниями Рольфа Дюстерберга (Düsterberg, Rolf),
автора великолепной монографии «Ганс Йост: «Бард СС». Карьеры
одного немецкого писателя» (»Hans Johst: »Der Barde der SS«. Karrie-
ren eines deutschen Dichters«, 2004), в 2009 и 2011 годах вышли два
тома под названием «Поэты для «Третьего рейха». Биографические
исследования отношений литературы и идеологии» (»Dichter für
das »Dritte Reich«. Biographische Studien zum Verhältnis von Literatur
und Ideologie«). Сюда вошли наиболее представительные фигуры
нацистской литературы, такие как Герман Бурте, Артур Динтер,
Генрих Лерш, Эберхард Вольфганг Мёллер, Герхард Шуман, Генрих
Анакер, Альфред Карраш, Хериберт Мендель, Франц Шаувекер,
Курт Цизель и многие другие. Для науки, не говоря уже о читателях,
эти имена мало что говорят, но именно в их творчестве отразились
наиболее специфические черты нацистской идеологии и в содер-
жательной, и в поэтологической части.
В этой связи, как бы это ни показалось парадоксальным, опре-
делённый интерес представляет высказывание Герхарда Шумана
(Schumann, Gerhard), одного из ведущих национал-социалистских
поэтов, в статье «Политическое искусство» (»Politische Kunst«),
опубликованной в 1937 году в журнале «Штурмовик» (»SA-Mann«).
Шуман как раз был тем «еретическим голосом», об отсутствии кото-
рого в литературе Третьего рейха так сетовал Г. Хаупт. Он был,
пожалуй, первым, кто попытался найти какую-то приемлемую
составляющую основной сути национал-социалистского искус-
ства, могущую послужить ориентиром для определения истинно
278
нацистской литературы: «Вздор, когда утверждают, что нацио-
нал-социалистский художник желает ограничиться пустыми вари-
ациями на тему национал-социалистской партийной программы,
должен сделать себя услужливым домашним поэтом, художником
или музыкантом партии и, превозмогая себя, стать её желанной
составной частью. Не факт развевающихся флагов со свастикой
или грохот сапог в маршевой поступи на сцене, не мистические
наскоро собранные вместе понятия: кровь, честь, свобода, народ,
родной угол, фюрер и т.д., не красочные, кровавые изображения
умирающих бойцов, одним словом, не материал, а позиция явля-
ется для нас решающей».1
Слова эти были сказаны в то время, когда прошла пора так
называемого «подъёма» (Erhebung), когда даже некоторые право-
верные национал-социалисты (например, тот же Г. Лангенбухер,
«литературный папа» Третьего рейха)2 поняли балаганную сущность
многочисленных писаний, отвечающих якобы духу национал-соци-
ализма, а по сути дела являвшихся беллетризованным пересказом
речей и высказываний нацистских идеологов и, прежде всего,
Гитлера.
Эта мысль, судя по всему, не давала покоя Шуману, и уже
в 1942 году, выступая в Веймаре на международной встрече, про-
ходившей под лозунгом «Поэт и война», он, только что вернувшийся
с фронта, опять повторил свою мысль, имея в виду в данном случае
стихотворение о войне, о неразрывной связи «ужасного величия
и пронзительной тишины, переданных в закалённой, чеканной
солдатской форме».3 Здесь его прежний тезис о «позиции» при-
ближается к пониманию качественного аспекта выражения этой
позиции — не что, а как, и в этом можно усмотреть последствия
его пребывания в действующей армии.
Оставим в стороне пафос выступления Шумана, члена НСРПГ
с 1930 года, правоверного национал-социалиста. Его критические
1 Schumann G. Ruf und Berufung. München, 1943. S. 13.
2 Ганс Лангенбухер считал, что книга, в которой «не идёт речь о CA, Третьем рейхе
или национал-социализме, может быть «в тысячу раз более» национал-социалисти-
ческой, чем роман, котором битком набит только «коричневыми переживаниями»
(Цит. по: Bartels J. Gerhard Schuman — der »nationale Sozialist«// Dichter für
das »Dritte Reich«. Bielefeld, 2009. S. 275.)
Schumann G. Krieg — Bericht und Dichtung / / Dichter und Krieger. Weimarer Reden
1942 / Hrsg. v. R. Erckmann. Hamburg, 1943. S. 60.
279
высказывания по вопросам литературы не есть проявление оппор-
тунизма, ибо к этому времени он был не только признанным поэ-
том, осыпанным всевозможными премиями, но и членом высшего
гремиума (учёного совета) в «Имперской палате культуры», что
предполагало выступления с руководящими заявлениями крити-
ческого свойства. Шуман действительно беспокоился об истинно
нацистской литературе, которая отличалась бы от политических
поделок примкнувших к нацистскому «движению» литературных
оборотней. Здесь важно отметить, что уже через три года после
захвата власти нацисты поняли, что для становления национал-со-
циализма в Германии нужна, литература более высокого класса,
лишённая пропагандистского настроя и лишённая расхожих внеш-
них, узнаваемых признаков национал-социалистского толка, т.е.
такая литература, которая сочетала бы в себе высокое професси-
ональное мастерство и идеологическую ясность, не замутнённую
нечистотами повседневности.
Понимание избранности художника, поднявшегося над мело-
чами жизни, призванного воспевать «движение» как таковое без-
относительно его цели, перекликается с известным ещё в XIX веке
разделением в немецкой литературе авторов на «поэтов» (Dichter)
и «писателей» (Schriftsteller), а позднее с некоторым пренебрежитель-
ным оттенком и на «литераторов» (Literater). Подобное разделение
на чистых и нечистых свойственно было как фёлькиш-националам,
так и собственно нацистским авторам. Если первые занимались
вечными проблемами человечества, стоя как бы над временем,
то вторые отдавали предпочтение проблемам повседневной
действительности (политика, социально-общественные явления,
сексуальные вопросы), и поэтому Томас Манн, как иронически
замечает Вальтер Йене, говоря об историях немецкой литературы,
написанных после 1945 года литературоведами старой закалки,
«является больше великим писателем, артистом слова, чем поэтом»,
а вот Э. Г. Кольбенхайер, один из «классиков» нацистской литера-
туры, «обладает поэтической проникновенностью».1 Ещё дальше
пошёл в оценке значимости Томаса Манна как писателя, а не поэ-
та, Готфрид Бенн, назвав его «страховым агентом» и «тлетворным
интеллектуалом».2 Все эти, с позволения сказать, дефиниции были
1 Jens W. Deutsche Literatur der Gegenwart. Themen, Stile, Tendenzen. München,
1961. S. 72-73.
2 Ibid. S. 63.
280
произнесены в 50-х годах XX века! Несмотря на то, что это разде-
ление показало в годы нацизма свою полную несостоятельность,
для некоторых литературоведов и авторов старого закала они ещё
оставались значимыми.
Высказывание Г. Шумана о приоритете «позиции» над «мате-
риалом», побудило литературоведа наших дней Ральфа Шнелля
(Schnell, Ralf) разработать пятнадцать тезисов, которые могли бы
дать представление о составных элементах собственно нацист-
ской литературы.1 Однако, несмотря на тщательное рассмотрение
этих элементов как то прорыв, дуализм, сакральность, символика,
культ жертвенности, тяга к монументальности, эпигональность,
традиционализм, присущих прозе, поэзии и драматургии наибо-
лее представительных авторов нацистской литературы, учёный
вынужден был прийти к выводу, что «ни их программатика, ни их
вещественность, ни их содержание не дают ответа на вопрос,
что же «национал-социалистического» содержится (или не содер-
жится) в этих произведениях, кроме специфической эстетики их
«позиции»,2 о которой так страстно писал и говорил Г. Шуман. «Эта
эстетика выражала борьбу, подчинение и господство. Она совсем
ре служила какой-то политической цели, которой предположительно
могли бы быть «движение», партия или государство, а преследовала
только свои надобности — навязать всем идентичную речь, вовлечь
всех в идентичный разговор. В этом заключалась её особенность».3
Но идентичность речи, идентичность мышления как раз и нуж-
ны были всем названным Шнеллем системам, иначе невозможно
было бы их дальнейшее существование. Именно поэтому Гитлер при-
давал большое значение контролю за всеми проявлениями частной
жизни: «Необходимо создать структуры, в которых будет проходить
вся жизнь индивида. Любая деятельность и потребность каждого
отдельного человека будет регулироваться партией, представляю-
щей всю общность. Не будет никакой «самодеятельности», не будет
никаких свободных пространств, где индивидуум принадлежал бы
сам себе... Время личного счастья прошло».4
1 Schnell R. Dichtung in finsteren Zeiten. Deutsche Literatur und Faschismus. Reinbek
bei Hamburg, 1898. S. 100-119.
2 Ibid. S. 118.
3 Ibid. S. 118.
4 Цит. по: ФестИ.К. Гитлер. Биография. T. 2. Пермь, 1993. С. 320.
281
При этом надо учитывать фактор смены парадигмы развития
нацистского государства. В июле 1934 года Гитлер заявил, что
в следующем тысячелетии в Германии больше не будет революций,
и будущее развитие Германии пойдёт по эволюционному пути.1
Слова Гитлера означали, что пора революционного подъёма прошла,
и пришло время строить национал-социалистическое государство.
Этого-то как раз и не хотели «старые партийцы» из отрядов CA,
ощущавшие себя преданными, отстранёнными от власти, за что
они и поплатились головами во время кровавой резни в 1934 году.
Буквально в первые же дни после захвата власти Гитлер «предупре-
ждал своих сторонников о необходимости «настроиться на работу
в течение многих лет... »,2 а для этого как раз и нужна была идентич-
ность мышления. Другое дело, что такое мышление складывалось
из разных элементов, наличие которых в творчестве того или иного
автора ещё не говорило о его особой приверженности идеологии
национал-социализма, хотя и позволяло в совокупности определить
его творческую позицию.
Как постановка вопроса, так и разработка его Р. Шнеллем
достаточно спорны хотя бы уже потому, что исследователь опе-
рирует в основном поэтическим материалом, а эта материя тако-
ва, что не терпит однозначного толкования, в чём можно будет
убедиться, когда речь пойдёт о нацистской поэзии. Тем не менее,
Р. Шнеллю удалось привлечь внимание к отдельным положениям
эстетики нацистской литературы, которые находились на пери-
ферии внимания исследователей, и несколько по-иному взглянуть
на некоторые произведения авторов, чья приверженность идео-
логии национал-социализма являлась определяющей для всего их
творчества. Несомненно, это шаг на пути к постижению поэтоло-
гической составляющей нацистской литературы.
Главная ошибка Шнелля в его поисках поэтологических особен-
ностей собственно нацистской литературы состоит в том, что он а
priori видит в том или ином авторе писателя, а не просто любителя,
политического графомана, обладающего бойкостью пера, и только.
Таких любителей в Третьем рейхе было достаточно. Известно, что
сам Гитлер, кроме его политического опуса «Майн кампф», сочинял
1 ФрайН. Государство фюрера. Национал-социалисты у власти: Германия, 1933-
1945. М., 2009. С. 13.
2 Цит. по: ФестИ.К. Указ. соч. С. 32-321.
282
стихи, писал пьесы, но это ещё не означает, что его можно отнести
к писательскому сословию.
Считать ли, например, Йозефа Геббельса (Goebbels, Paul Josef;
1897-1945) нацистским писателем, как он любил представлять себя
на публике, на том лишь основании, что он был автором несколь-
ких неопубликованных пьес, одна из которых, и то в усечённом
виде, «Странник» (»Der Wanderer«, 1923) всё же была поставлена
в 1927 году, и единственного романа «Михаэль. Судьба одного
немца, представленная в дневниковых записях» (»Michael. Ein deut-
sches Schicksal in Tagebuchblättern«, 1924)? Правда, сам Геббельс
в этом же романе устами своего героя, являющегося своеобразным
alter ego автора, заявляет, что он «не любит профессиональных
поэтов, лучше сказать, писателей»,1 что, однако, не помешало
ему написать это произведение, имевшее успех у читателей, судя
по тому, что к 1933 году его тираж достиг 51 тысячи экземпляров.
В искренности и преданности Геббельса идеям национал-со-
циализма нет надобности сомневаться, однако дальше этой книги
он не продвинулся, а то, что потом появлялось из-под его пера,
было своеобразным римейком «Михаэля», лишённым какой-либо
беллетристической окраски, и представлявшим собой политический
дневник времени, не больше. Геббельс был блестящим публицистом,
не менее блестящим оратором, но только не писателем, ибо у него
начисто отсутствовал внутренний позыв быть полезным читателю,
быть его утешителем, быть его другом, его собеседником, быть,
наконец, тем, кто может его усовестить, направить на верный путь
или, по крайней мере, заложить сомнение в правильности избран-
ного читателем направления.
Роман «Михаэль» был написан в середине 20-х годов, но вышел
в свет только в 1928 году, когда Геббельс вступил в НСРПГ, в чём
можно усмотреть некий пиаровский приём, ибо этот роман,
отмеченный автобиографическими чертами, представляет собой
не только путь Геббельса к национал-социализму, но и признание
его автором основных постулатов идеологии национал-социализма.
Не роман, а развёрнутая анкета человека, поступающего на работу
в фирму под названием национал-социализм.
Примерно так оно и было. Геббельс, находившийся до 1926 году
в оппозиции к Гитлеру, поддерживая политическую платформу
Goebbels J. Michael. Ein deutsches Schicksal in Tagebuchblättern. München, 1933.
S. 21.
283
мюнхенской группировки Грегора Штрассера и не очень лестно
в открытую высказывавшийся о Гитлере, стал своеобразной раз-
менной монетой в соперничестве нацистских бонз. Гитлер, желая
внести раздор в лагерь своих противников, переманил на свою
сторону талантливого оратора, назначив его гауляйтером Берли-
на, и Геббельсу пришлось доказывать всеми возможными спосо-
бами свою лояльность новому хозяину, что он и делал, заставив
с помощью кровавых стычек с коммунистами и демагогических
выступлений говорить всю страну о безвестной ранее берлинской
нацистской группировке.1 В свою очередь «Михаэль» должен был
засвидетельствовать верность его автора идеологическим посту-
латам национал-социализма, а имевшиеся разногласия объяснить
юношеским максимализмом.
Роман Геббельса, если подходить к этому произведению с чисто
литературоведческих позиций, написан по всем канонам немецкого
воспитательного романа, но только в фёлькиш-национальном духе,
и являет собой роман воспитания молодого человека из буржуаз-
ной среды, пытающегося всеми силами порвать с этой средой,
которая, по его мнению, «завершила свою историческую миссию...
Бюргер — это страшное ругательство».2 В предисловии к роману
Геббельс обращается к молодёжи с призывом посвятить свою
«жизнь служению труду и смерти ради формирования грядущего
народа».3 Главный герой романа, Михаэль, испытывающий отвра-
щение к общественным, политическим и культурным проявлениям
Веймарской республики, обуянный поиском истинного смысла
в жизни, пытается найти духовную опору в этом враждебном его
устремлениям мире. Суть его поисков определяется буквально с пер-
вых же страниц романа, когда Михаэль заявляет, что «Веймар это
не наша Мекка»,4 ибо «интеллект опасен для образования характе-
ра»,5 «именно интеллект отравил наш народ»,6 и поэтому «высшая
школа должна воспитывать крепких парней».7 Каких парней,
1 ФестИ.К. Гитлер. Биография. Т. 2. Пермь, 1993. С. 74-75.
2 Goebbels J. Op. cit. S. 64.
3 Ibid. S. 8.
4 Ibid. S. 10.
5 Ibid. S. 14.
6 Ibid. S. 50.
7 Ibid. S. 14.
284
Михаэль не говорит, но вместо него разъяснения на этот счёт дал
нацистский поэт Дитрих Эккарт: «Во главе должен стоять крепкий
парень, который не смог бы оглохнуть от пулемета. Этой сволочи
придётся от страха в штаны наложить. Офицер мне не нужен,
у народа к нему нет никакого уважения. Лучше, если бы это был
рабочий, такой, который поменьше болтал бы... Много понимать
ему не нужно, политика — самое глупое занятие в мире, а столько,
сколько в ней разбираются в Веймаре, знает у нас в Мюнхене любая
рыночная торговка».1
В своих рассуждениях о политике Михаэль недалеко ушёл
от Эккарта, заявив, что «политика делается на улице».2 «Что сегодня
только не называют политикой? Если спекулянт покупает с помо-
щью украденных у нас денег мандат депутата рейхстага, заключает
выгодные сделки в кулуарах парламента с помощью наших денег,
то это называется политикой. Таковы партии демократии — группы
по совершению коммерческих сделок! Ничто иное! Мировоззрение?
Что это за реакционное понятие? Честь, верность, вера, убежде-
ния? Помилуйте, это же вчерашний день! Слева и справа и справа
и слева, огромный клубок коррупции и бесчестия. Этот народ героев
докатился до пресмыкательства перед толстосумами, более того, он
совсем дошёл до ручки».3
Казалось бы, справедливые слова, однако, зная автора этих
слов, прекрасно понимаешь, что имеешь дело с отличным образ-
цом демагогии, которой потом так прославится Геббельс. Весь гнев
Михаэля обращен против парламентской системы Веймарской
республики, которую он ненавидел.
Не вызывает у Михаэля особого доверия и народ. С одной сто-
роны он считает «немецкий народ самым интеллигентным в мире»,
но, «к сожалению, и самым глупым»;4 с другой стороны, именно этот
«глупый» немецкий народ он называет «народом повелителем всего
мира», сетуя на то, что именно этот народ «вынужден пребывать
в рабском состоянии».5
1 Jost H. Der alte Traum vom neuen Reich. Völkische Utopien und Nationalsozialismus.
Frankfurt / Main, 1988. S. 115.
2 Goebbels J. Op. cit. S. 87.
3 Ibid. S. 111.
4 Ibid. S. 36.
5 Ibid. S. 91.
285
Все беды народа и Германии происходят оттого, что страна
подпала под влияние евреев, которые «растлили наш народ, осквер-
нили наши идеалы, сковали силы народа, испортили наши нравы
и сгубили нашу мораль».1 Для того чтобы избежать национальной
катастрофы, необходим вождь: «Не массы нужны, а один человек».2
И этого человека (читай, Гитлера) Михаэль встречает на одном
импровизированном митинге в кафе. Экстатическое описание
этого митинга свидетельствует об умении автора передать атмос-
феру некоего радения, что, собственно, и происходило во время
выступлений Гитлера и Геббельса: «Я сижу в зале... среди незна-
комых мне людей. Бедные, удручённые люди. Рабочие, солдаты,
офицеры, студенты. Это немецкий народ послевоенного времени.
Повсюду старое, поношенное обмундирование, на мундирах, гряз-
ных и потрёпанных, скорбные знаки великой войны. На всё это
я смотрю словно во сне.
Я едва заметил, как внезапно кто-то поднялся на возвышение
и начал говорить. Поначалу запинаясь и боязливо, как будто он
искал подходящие слова для обозначения понятий, которые были
слишком великими для того, чтобы их спрессовать в узкие формы.
Но вот постепенно поток речи становился всё более свободным.
Я был захвачен этой речью, стал внимательно слушать. Тот, что
стоял на верху, начал набирать темп. Над ним разливался словно
какой-то свет.
Честь? Работа? Знамя? Что я слышу? Сохранилось ли что-ни-
будь подобное в этом народе, лишённом божьего благословения?
Собравшиеся начали приходить в волнение. Исхудалые серые
лица озарились лучами надежды. Вот встаёт один из них и под-
нимает вверх сжатый кулак. Его соседу рядом серый воротник
кажется тесным. Его лоб покрыт каплями пота; он стирает их
рукавом мундира.
Сидевший неподалёку старый офицер плачет как ребёнок.
Меня бросает то в жар, то в холод.
Я не знаю, что со мной происходит. Мне вдруг послышались
залпы орудий. Как в тумане я вижу, что внезапно вскакивают
два солдата с криками ура. Никто не обращает на это никакого
внимания.
1 Goebbels J. Op. cit. S. 57.
2 Ibid. S. 60.
286
Тот, что наверху, продолжает говорить. Камень за камнем
воздвигает он собор будущего. Всё то, что годами во мне жило,
обретает теперь контуры и принимает осязаемые формы.
Откровение! Откровение!
Среди развалин возвышается некто и вздымает ввысь знамя.
Вокруг меня сидят люди, сразу переставшие казаться чуж-
дыми. Все они братья. Тот самый, с серым и исхудалым лицом,
в расстёгнутом солдатском мундире улыбается мне. Камрад! Он
произносит это безо всякой надобности.
Я чувствую, что я сейчас должен вскочить и закричать: „Мы
ведь все камрады. Мы все должны быть вместе!"
Я еле сдерживаюсь.
Я иду, нет, неведомая сила влечёт меня к трибуне. Я долго стою
перед ней и смотрю в лицо этому Некоему.
Он не оратор. Он — пророк!
Пот ручьями струится по его лицу. На этом сером, побледнев-
шем лице мечут гром и молнии два глаза как две пылающие звезды.
Кулаки его с силой сжимаются.
Словно проклятия Страшного суда отдаются громом слово
за словом, предложение за предложением.
Я больше не понимаю, что я делаю.
Я словно пребываю в мечтах.
Я кричу ура! Никто этому не удивляется.
Тот, что находится на возвышении, бросает на меня взгляд.
Эти голубые звёздные глаза поразили меня словно лучи пламени.
Это приказ!
С этого момента я вновь родился.
С меня упали все шлаки.
Теперь я знаю, каким путём мне идти. Путём зрелости. Теперь
я больше ничего не слышу. Я словно одурманен.
Я сразу же оказался на возвышении; стою на стуле, возвышаясь
над всеми людьми, и кричу: „Камрады! Свобода!"
Не могу сказать, что произошло потом.
Я знаю только одно: я вложил мою руку в бьющуюся мужскую
руку. Это было посвящение на всю жизнь. И мои глаза потонули
в огромных голубых звёздах его очей».1
В конечном итоге Михаэль порывает с возлюбленной, ибо она
Для него стала неким воплощением отрицаемого им бюргерства;
1 Goebbels J. Op. cit. S. 101-103.
287
порывает он и со своим русским другом, коммунистом Иваном
Винуровским, пытавшимся обратить его в свою веру всеобщего
братства и интернационализма, и отправляется на смычку с наро-
дом в качестве простого шахтёра. Правда, здесь его, бывшего сту-
дента, выходца из буржуазной семьи, поначалу приняли за шпика
и всячески третировали, но постепенно ему удаётся найти контакт
с шахтёрами, и на пике этого единения он погибает под завалом
породы.
Несомненно, что этот роман в письмах, своеобразное соедине-
ние сентиментальности и пустой пафосности, нельзя рассматривать
как некое знаковое произведение нацистской литературы. Правда,
нацистская пресса, по понятным причинам, взахлёб превозносила
«Михаэля», отмечая «афористичность» и «выразительную остроту
слова» Геббельса и называя его роман «отражением нового духа
немецкого социализма».1 Однако дальше этой рецензии и скромного
упоминания о романе всесильного министра пропаганды в книге
X. Лангенбухера «Национал-социалистская поэзия» (Langenbucher H.
Nationalsozialistische Dichtung) дело не продвинулось.2 Все ведущие
литературоведческие работы тех лет не числят роман Й. Геббельса
по литературному ведомству.
В известной мере нацистским писателем можно считать Артура
Динтера, автора откровенно расистских романов «Прегрешение
против крови» (»Die Sünde wider das Blut«, 1918), «Прегрешение
против духа» (»Die Sünde wider den Geist«, 1921) и «Прегрешение
против любви» (»Die Sünde wider die Liebe«, 1922), который стоял
у истоков нацистского движения и даже одно время считался
чуть ли не соперником Гитлера.
Артур Динтер (Dinter, Artur; 1876-1948), прозаик, драматург
и политический публицист, родился в Мюльхаузене, Эльзас. Изучал
естественные науки и философию, преподавал в школе, был режис-
сёром в нескольких театрах. Динтер являлся одним из сознательных
творцов идеологии национал-социализма, и в этом качестве серьёз-
но претендовал на роль соперника Гитлера, так что в определённой
мере его можно считать едва ли не самым первым представителем
собственно нацистской литературы. Свою литературную карье-
ру А. Динтер начал как автор комедий, которые одна за другой
1 Stöwe G. »Michael« von Dr. Joseph Goebbels // Völkischer Beobachter, 19.12.1933.
2 Langenbucher H. Nationalsozialische Dichtung. Berlin-Steglitz, 1935. S. 38-39.
288
проваливались, и причина этого крылась, по его мнению, в том, что
«пресса и театр находились под еврейским контролем».1 Вероятно,
это обстоятельство подвигло А. Динтера переквалифицироваться
в театрального функционера, и на этом поприще он достиг зна-
чительных успехов, став в 1908 году одним из основателей Союза
немецких драматургов.
Антисемитизм А. Динтера носит несколько своеобразный
характер и является выражением его личных неурядиц семейного
свойства. Основные идеи антисемитизма он почерпнул из книги
X. С. Чемберлена «Основы XIX столетия», с которой он ознакомился
в 1914 году и которая стала его библией, определявшей его культур-
ные, политические и религиозные представления, о чём он вскоре
напишет в послесловии к своему первому роману «Прегрешение
против крови», который посвящен «истинному немцу Хьюстону
Стюарту Чемберлену»: «Раса это всё! Она является ключом не толь-
ко для истории человечества, народов и семьи, но и для личности
каждого отдельного человека... Раса, наряду с моей религией,
является самым высшим и самым святым из того, чем я обладаю.
Да, моей религией я обладаю только благодаря моей расе, потому
что только моя раса является тем, что делает возможной мою рели-
гию и заключает её глубоко внутреннее понимание. Раса и религия
едины! И знание того, что я происхожу от благороднейшей расы,
которая когда-либо существовала на земле и которая призвана, что-
бы вести все народы земного шара к её высшему и окончательному
определению, налагает на меня высокую обязанность сделать всё
для того, чтобы эта раса оставалась чистой и святой и неприкос-
новенной для чужой крови».2
Теперь Динтер, до сих пор не интересовавшийся национа-
листской проблематикой, становится ярым сторонником этого
направления. В 1916 году он публикует, пока в журнале «Бюне унд
вельт» »Bühne und Welt«, статью «Гёте, Чемберлен, Брентано и расо-
вый вопрос» (»Goethe, Chamberlain, Brentano und die Rassenfrage«,
1916), которая носит несколько общий характер, а в 1917 году, уже
в специальном журнале «Дойчес Фолькстум» (»Deutsches Volkstum«),
1 Hirschauer U. Artur Dinter — der antisemitische Spiritist / / Dichter für das »Dritte
Reich«. Biographische Studien zum Verhältnis von Literatur und Ideologie / Hrsg.
v. R. Düsterberg. Bielefeld, 2009. S. 51.
2 Dinter A. Die Sünde wider das Blut. Leipzig, 1920. S. 430-431.
289
довольно резкую статью «К вопросу о расовом смешении. Густав
фон Шмоллер и еврейский вопрос» (»Zur Frage der Rassenmischung.
Gustav von Schmoller und die Judenfrage«).
Эти статьи являются некими идеологическими заготовками для
романа Динтера «Прегрешение против крови». Но в ещё большей
степени в работе над этим романом сказались неприятности личной
жизни писателя, в которые, кстати сказать, был посвящен X. С. Чем-
берлен, ставший не только духовным наставником Динтера, но и его
другом. Первый брак писателя был вынужденным событием, ибо
его избранница готовилась стать матерью, и поэтому через несколь-
ко дней после свадьбы он попытался развестись, но натолкнулся
на отказ своей супруги. Тогда Динтер занялся разысканием «тём-
ных пятен» в биографии жены, в результате чего обнаружил, что
у неё был любовник еврей. Обуянный заботой о создании расово
чистого потомства, Динтер воспринял этот факт не только как
судебный повод для развода, но и как биологическую предпосылку
для возможного прегрешения против крови, что и стало, прежде
всего, основой его первого романа. Создание романа отодвинуло
на задний план сам процесс о разводе, длившийся с переменным
успехом несколько лет, но его перипетии нашли своё отражение
в романе в полной мере.
Главный герой романа, Герман Кэмпфер, чьи юношеские годы
были омрачены бессовестными происками «деловитого еврея»,
изучает химию и собирается стать учёным. Но встреча с очаро-
вательной блондинкой Элизабет, дочерью коммерции советника
Бургхамера, меняет его планы в корне. Несмотря на то, что Бург-
хамер показался ему подозрительной личностью, очень напомина-
ющей еврея, Кэмпфер женится на его дочери, устранив при этом
соперника барона Эдгара фон Вертхайма, также еврея. В доме,
где, кроме хозяина, все, даже слуги, были исключительно блонди-
нами, Кэмпферу пришло в голову ознакомить Элизабет и её мать
со своими антисемитскими взглядами и его стремлением очистить
Евангелие от еврейских наслоений с тем, чтобы воссоздать образ
арийского Иисуса. Рассуждениям на эту тему автор отводит чуть ли
не 40 страниц.1 Но счастье его было недолгим. Рождение «ребёнка
с чёрными вьющимися волосами, с тёмной кожей и тёмными глаза-
ми, настоящего еврейского ребёнка» повергает родителей в ужас,2
1 DinterA. S. 145-181.
2 Ibid. S. 238.
290
хотя по родимым пятнам на тех же местах, что и у отца, примиряет
их. Тем не менее, Кэмпфер бросается к книгам, из которых узнаёт,
что его ребёнок является продуктом расового смешения: «Немец,
который женится на еврейке, или немка, которая выходит замуж
за еврея, совершают не только преступление против немецкого
народа, но и всё больше усиливают бесконечные душевные и теле-
сные страдания также и своих детей и их потомков. Страшно мстит
им прегрешение против крови».1
Кэмпфер также решил мстить, когда выяснилось, что ребё-
нок — вылитый барон фон Вертхайм. На дуэли он ранит своего
обидчика, но мысль о желании иметь ребёнка чистой расы не даёт
Кэмпферу покоя, однако и второй ребёнок оказывается «черново-
лосым», хотя и «красивым еврейским мальчиком». Элизабет в ужасе
умирает, вслед за ней вскоре погибает и её ребёнок.2
Однако на этом эпопея обретения арийского ребёнка не закан-
чивается. Умирает юношеская любовь Кэмпфера — белокурая Розе-
ле, истинная немка, и в своём прощальном письме она сообщает
ему, что у него есть сын. Кэмпфер с радостью принимает этого
ребёнка и воспитывает его вместе со своим неарийским ребёнком,
р надежде, что общение его с настоящим немцем окажет на этого
«бастарда» благотворное воздействие. Эксперимент длился недол-
го. Во время катания на лодке оба мальчика утонули, и Кэмпферу
пришлось начинать всё сначала.
Повредив себе ногу, он оказывается в больнице, где знакомится
с медсестрой Иоганной, чьи предки, как и он сам, были «белоку-
рыми северогерманцами». Она становится его женой, и Кэмпфер
надеется, что теперь-то «наконец исполнится мечта всей его жиз-
ни — иметь ребёнка, похожего на него».3 Но Иоганна рожает ему
также «настоящего еврейского ребёнка». Разъярённый Кэмпфер
узнаёт, что Иоганна когда-то была любовницей «крещёного еврей-
ского офицера»,4 из чего Кэмпфер, истинный почитатель трудов
X. С. Чемберлена, делает вывод, что все его старания оказались
напрасны: «...из сложившегося в животноводстве опыта извест-
но, что породистая самка становится совершенно негодной для
1 DinterA. S. 245.
2 Ibid. S. 269.
3 Ibid. S. 349.
4 Ibid. S. 350.
291
производства потомства, если она хотя бы раз была оплодотво-
рена самцом более низкой расы... Чем выше развивается живое
существо, тем более настоятельно проявляется этот расовый закон,
и своё высшее и чреватое последствиями воздействие он достигает,
естественно, у людей». Автор тут же даёт пояснение к сложившей-
ся ситуации, сетуя «на тот вред, который из года в год приносят
немецкой расе молодые евреи, соблазняя ежегодно многие тысячи
немецких девушек».1
Вся эта история завершается тем, что Иоганна кончает жизнь
самоубийством, унося с собой в могилу и ребёнка, а Кэмпфер уби-
вает этого «стервеца», разрушившего его мечту о «расовом потом-
стве». В ужасе от ударов судьбы, Кэмпфер отправляется на фронт
добровольцем и погибает там, «служа отечеству».
Роман Динтера примечателен ещё и тем, что Кэмпфер постоян-
но рассуждает о расовых проблемах, о евреях, прибегая к научным
источникам, ссылаясь на примеры из действительной жизни, так
что порой повествование принимает форму беллетризованного
трактата о проблеме расовой чистоты немцев. Более того, в этом
романе он уже представил наброски Евангелия, очищенного
от иудейского непотребства, и обрисовал вчерне образ арийского
Иисуса.
При всём том, что роман Динтера лишён каких-либо стили-
стических красот и, несмотря на научные вкрапления и обшир-
ный комментарий, воспринимается как обыкновенное бульварное
чтиво, он пользовался (вероятно, именно в силу своей чрезмерной
простоты) большим успехом, ибо явно отвечал настроениям широ-
кой публики тех лет, о чём свидетельствует его тираж, достигший
к 1934 году 260 тысяч экземпляров.
Вдохновлённый успехом своего романа, Динтер включается
в интенсивную политическую деятельность, становится членом анти-
семитского и националистского «Немецко-фёлькише союза защиты
и отпора», основной задачей которой было «искоренение» еврейского
влияния и подъёма Германии. Хотя этот союз во времена Веймарской
республики насчитывал свыше 180 тысяч членов, особого влияния
на движение национал-социализма он не оказал,2 но вдохновил
Динтера на создание романа «Прегрешение против духа».
1 DinterA. Op. cit. S. 350.
2 Hirschauer U. Op. cit. S. 57.
292
Здесь раскрылась ещё одна сторона сущности писателя — его
влечение к спиритизму и религиозный фанатизм, основывавшийся
на принципах антисемитизма и выразившийся в учении об арий-
ском Иисусе, что впоследствии привело к гонениям со стороны
нацистов, к запрету его книг.
Герой романа «Прегрешение против духа», Армии барон
фон Хартенэгг, является собой воплощение арийско-германского
^рыцаря. Он знакомится с неким инженером, который вводит его
İB суть спиритизма, в существование потустороннего духовного
|&шра, состоящего из добрых и злых духов. Добрые духи, естествен-
но, проявляются у арийцев, а злые — у представителей «низших
)рас», преимущественно у евреев.1 Весь роман представляет собой
taieKoe введение в спиритуализм, построенное на националистских
Принципах.
Литературная деятельность Динтера завершается выходом
% свет в 1922 году романа «Прегрешение против любви». Произве-
дение это нельзя назвать романом, это скорее некий теологический
^Трактат, состоящий из вопросов и ответов, и посвящен он изложе-
нию Библии в духе учения Динтера об арийской религии. Автор
растаивает на очищении Библии от еврейского духа, на отказе
|*г Ветхого Завета как продукта еврейской религии.
|с Столь радикальные идеи Динтера не нашли поддержки в «Немец-
jiço-фёлькише союзе», т.к. могли испортить имидж этого национа-
листского объединения, да и республиканские власти, усилившие
Иосле убийства в 1922 году В. Ратенау надзор за всякого рода экс-
тремальными организациями, проявили решительность и запрети-
ли (правда, ненадолго) распространение его книг. Последовавшие
процессы — свыше 40 —Динтер использовал для пропаганды своих
антисемитских взглядов. Более того, он создаёт в 1922 году в Тюрин-
гии свою партию, которая, после её запрета в 1923 году, образовала
в 1924 году вместе с нацистской партией и другими мелкими пар-
тиями «Фёлькиш-социале блок», занявший в этом же году в местном
парламенте почти половину мест.2
Воодушевлённый таким успехом, Динтер почувствовал себя зна-
чимой политической фигурой и стал активно проводить в жизнь свои
религиозные идеи, опубликовав очищенное и откомментированное
1 DinterA. Die Sünde wider den Geist. Leipzig, 1921. S. 60-61.
2 Hirschauer U. Op. cit. S. 60-61.
293
в духе его идей «Евангелие», которое вызвало недовольство среди
избирателей и политиков. В 1924 году Динтер публикует своего рода
программу национал-социалистского движения, в которой его идеи
занимают главное место, что никак не согласуется с основными
идеями Гитлера. Тем не менее, в марте 1924 года Динтер вступает
в нацистскую партию, приурочив этот акт ко дню посещения им
Гитлера, сидящего в ландсбергской тюрьме.
Дальнейшая судьба Динтера не имеет никакого отношения
к его литературной карьере, ибо он стал гауляйтером Тюрингии
и целиком ушёл в политическую деятельность, посчитав себя
чуть ли не «основателем нацистского движения».1 Правда, в партии
он оставался недолго. После того, как он опубликовал в 1928 году
в своём журнале «Гайсткристентум» (»Das Geistchristentum«) ста-
тью, в которой подверг критике партийную программу и самого
вождя, назвав «партию Гитлера партией иезуитов, обделываю-
щей под флагом фёлькише идей свои делишки с Римом», Динтер
был исключён из нацистской партии. Постоянные конфликты
с партийными функционерами по поводу создания «Немецкой
народной церкви» и с самим Гитлером, вылившиеся в открытое
противостояние на митинге 13 ноября 1933 года в берлинском
Спортпаласте, привели к тому, что Розенберг, идеолог нацистского
движения, вынужден был опубликовать в «Фёлькишер беобахтер»
передовую статью, в которой заявил, что «партия выходит из борь-
бы по конфессиональным вопросам» и «не собирается оказывать
политическую поддержку той или иной церковной группировке».2
Вызвано это заявление было не столько неприятием идей Динтера
и его сподвижников, сколько нежеланием Гитлера обострять отно-
шения с церковью в преддверии заключения конкордата с папой.
К тому же сам фюрер с годами настолько проникся своей значи-
мостью, что считал себя равным богу, и новый, «арийский» бог был
ему ни к чему.3
Последствия этого решения не заставили себя долго ждать.
В 1936 году журнал Динтера «Дойче фолькскирхе» (»Deutsche
1 Hirschauer U. Op. cit. S. 66.
2 Bracher К. D. Stufen der Machtergreifung / / Bracher / Schulz / Sauer. Die nationalso-
zialistische Machtergreifung. Studien zur Errichtung des totalitären Herrschaftssystems
in Deutschland 1933/34. Frankfurt / Main, Berlin, Wien, 1974. S. 459.
3 Ibid. S. 459-160.
294
Volkskirche«) был запрещён; в 1939 году Динтер был исключён
из Имперской палаты письменности, что означало запрещение
писательской деятельности; в 1942 году против Динтера, его жены
Л его секретаря было возбуждено уголовное дело по обвинению
В руководстве запрещённой организацией, и только в соответствии
с указом Гитлера от 1939 года дело было закрыто.
После 1945 года А. Динтер был осуждён как идеологический
сообщник нацистов, хотя на процессе он, не отказываясь от своих
убеждений, касающихся расы, религии и еврейства, отрицал
Какую-либо связь между своими произведениями и преступления-
ми нацистов.1
Напрямую, возможно, его романы не связаны с печально
знаменитыми Нюрнбергскими расовыми законами 1935 года, как
и с последующими трагическими последствиями, вытекавшими
из этих законов для представителей т.н. «низших рас», однако свой
вклад в дело становления расистской идеологии Третьего рейха,
в воздействии на умы и настроения широких слоев немцев эта
своеобразная трилогия всё-таки внесла. Идея «осквернения расы»,
особенно определяющая настрой романа «Прегрешение против
крови», выражена достаточно ясно именно в силу примитивности
и соответственно доступности художественного исполнения этого
произведения для человека улицы.
Расистские откровения предшественников А. Динтера, и,
прежде всего, X. С. Чемберлена, при всём их цинизме, носили
достаточно пристойный характер и рассчитаны были «на немцев
с высшим образованием».2 А. Динтер ориентировался на немецко-
го мещанина, списывавшего все свои беды на инородцев, а здесь
пристойностью и не пахло.
Пожалуй, самой колоритной фигурой собственно нацистской
литературы являлся Ганс Йост (Johst, Hans; 1890-1978) — писа-
тель, драматург, поэт, публицист, в творчестве которого наиболее
ярко отразились идеологические установки национал-социализма
в области культуры. На фоне скудных достижений литературы наци-
онал-социалистского толка произведения Йоста обладали определён-
ными художественными достоинствами, ибо в таланте ему нельзя
отказать. Йоста даже заметил A.B. Ауначарский, опубликовав
1 Hirschauer U. Op. cit. S. 70.
Цит. по: Саркисянц M. Указ. соч. С. 156.
295
в 1923 году в журнале «Современный Запад» в собственном переводе
его стихотворение «Аве Мария»,1 что позволило ему отнести Йоста
к «христианским» поэтам,2 хотя особым религиозным рвением он
не отличался.
О степени его значимости в культурной жизни Третьего рейха
достаточно красноречиво говорит перечень сфер деятельности
Йоста: художественный руководитель Государственного драмати-
ческого театра в Берлине (1933), президент «Немецкой академии
поэтов» в Академии искусств (1933) и «Объединения национальных
писателей» (1934), советник Прусского государственного совета
(1934), президент «Имперской палаты письменности» (1935), член
обычного подразделения СС (allgemeine SS, 1935), затем в звании
группен-фюрера СС (1937), президент «Германского общества
Роберта Шумана» (1943) и «Германо-финского общества» (1943).
Его заслуги как писателя нашли признание только в годы нациз-
ма: в 1933 году он стал лауреатом премии «Вартбургская поэтиче-
ская роза», в 1935 году ему первому была вручена на партийном
съезде в Нюрнберге премия НСРПГ в области литературы и нау-
ки, в 1939 году Йост получил национальную немецкую премию
искусств, в 1940 году — медаль Гёте и в 1941 году — поэтическую
премию города Лейпцига.3
Ганс Йост родился 8 июля 1890 года в Зеехаузене под Дрезде-
ном в семье школьного учителя. Писатель, взращённый в недрах
экспрессионизма, публиковавшийся в знаменитом леворадикаль-
ном журнале Франца Пфемпферта «Акцион» (»Die Aktion«), Йост
заявил о себе как талантливый драматург, чьи пьесы с успехом
шли на самых главных сценах Германии, а критики, в том числе
такие, как Герберт Иеринг и Бертольт Брехт, каждый по-своему,
проявляли большой интерес к его творчеству.4 Первая же пьеса
Йоста «Час умирающих» (»Die Stunde der Sterbenden«, 1914), напи-
санная по всем канонам эстетики экспрессионизма, обратила
1 Иост. Авэ Мария // Современный Запад. № 2. Петербург, 1923. С. 132-133.
2 Луначарский А. В. К характеристике новейшей немецкой поэзии // Современный
Запад. № 2. Петербург, 1923. С. 125.
3 Düsterberg R. Hanns Johst — der Literaturfunktionär und Saga-Dichter // Dichter für
das »Dritte Reich«. Biografische Studien zum Verhältnis von Literatur und Ideologie.
10 Autorenporträts/ Hrsg. v. R. Düsterberg. Bielefeld, 2009. S. 100.
4 Düsterberg R. Hanns Johst: »Der Barde der SS«. Karrieren eines deutschen Dichters.
München, Wien, Zürich, 2004. S. 50-51.
296
на себя внимание критиков. На поле боя ночью, под дождём,
лежат умирающие солдаты. Их безымянные голоса и составляют
основу пьесы. Высказывания солдат создают атмосферу некоего
сакрального умирания, и хотя отдельные голоса проклинают войну,
обшую тональность их мнений определяет приуготовление к смерти,
в которой они видят некое спасение: «Человек может понять войну,
битву, боль и смерть как выражение индивидуальной воли, принять
страдание и тем самым воспринять настоящий смысл существо-
вания, так что в конце „сверкающий мотив преодоления смерти"
торжествует».1 Это восприятие смерти, впервые зафиксированное
в художественной литературе, станет ведущим мотивом многих
книг, посвященных Первой мировой войне, и войдёт в катехизис
добродетелей истинного национал-социалиста.
Йост пробует себя в жанре комедии, где также — особенно
в крестьянской комедии «Солома» (»Stroh«, 1915) — добивается
успеха, затрагивая проблемы жизни тыла во время войны.
Если эти и ряд других пьес можно рассматривать как поиск
начинающим автором своей темы, и поиск достаточно удачный,
то в пьесе «Молодой человек. Экстатический сценарий» (»Der junge
Mensch. Ein ekstatisches Szenarium«, 1916) впервые проявляются
черты, которые станут определяющими в последующем творчестве
Йоста, особенно во времена нацизма. Герой пьесы, отвергающий
общественные установления, христианское милосердие, видит гар-
моническое существование в иррациональном, в некоем симбиозе
реальности и мифа: «Освящение кровью!.. Это было бы спасением
мира!». И далее: «Никакой ясности греков!.. Никакого итальянского
пурпура!.. Немецкую легенду я хочу читать,., пока моя жизнь здесь
и священный огонь легенды не станут звенящей мелодией».2
Патетика «экстаза-быть-только-молодым-и-ничем-иным» ста-
нет определяющей тональностью многих произведений Йоста,3
и она станет одной из составляющих нацистского мировосприятия.
Многие современники (О. Вальцель, М. Рейнхардт, Ф. Ведекинг,
О. Лёрке) восторженно отзывались о пьесе молодого драматурга,
о необычном накале страстей, о смелости высказываний, и только
Г. Иеринг высказал сомнения в искренности и художественной
1 Цит. по: Düsterberg R. Op. cit. S. 30
2 Ibid. S. 43.
3 Ibid.
297
достоверности помыслов автора, усмотрев в экстатических интен-
циях пьесы лишь подобие экспрессионистского духа: «Господин Йост
представил революцию в духе журнала для домашнего чтения. Он
думает, что он страстно протестует, а сам сидит в уголке на диване...
Буря и натиск для господина Йоста — средство ощутить самого себя...
Он вынужден представить себя... распятым на кресте для того, чтобы
он мог страдать, потому что господин Йост не страдает, чтобы что-
то выразить, а он лишь выражает нечто для того, чтобы страдать».1
Однако настоящим прорывом в литературной карьере Йоста
стала пьеса «Одинокий. Гибель человека» (»Der Einsame. Ein Men-
schenuntergang«, 1917), посвященная последним годам жизни
немецкого драматурга Кристиана Дитриха Граббе. Драма худож-
ника, традиционная тема экспрессионистского театра, превраща-
ется у Йоста в героизацию индивидуума, что особенно характерно
для авторов фёлькиш-национальной направленности. Не случайно
в пьесе все остальные персонажи, кроме Граббе, безымянны и пред-
ставлены как «его друзья» и «его враги». Человеческое, повседневное
теряет свою значимость, что подтверждается в провоцирующих
поступках Граббе (появление на службе в кальсонах), в его анти-
семитских высказываниях, в его аморализме, согласно которому
ординарное преступление превращается в героический посту-
пок. Все эти проявления, как это уже стало обычным для Йоста,
не содержат какого-либо разумного обоснования: «Оно находит своё
оправдание по большей части во встречающемся у Йоста и у героев
Граббе сопряжённого понимания принципиального противостоя-
ния между жизнью, молодостью, витальностью, с одной стороны,
и разумом и слабостью, с другой. Тем самым уже в этом раннем
произведении писателя предварительно явно сформировался
основной политический принцип будущего национал-социализма,
включая его брутальные методы».2 Не случайно эта пьеса стави-
лась 40 раз в период с 1933 по 1944 годы, а в 1936 году по случаю
«Недели немецкой книги» по указанию министерства пропаганды
состоялся торжественный спектакль в Немецком национальном
театре Веймара, на котором присутствовал сам Йост как президент
«Имперской палаты письменности».3
1 Цит. по: Düsterberg R. Op. cit. S. 45.
2 Ibid. S. 48.
3 Ibid. S. 49.
298
Драма «Одинокий», представленная в 1919 году «на всех сце-
нах Германии», имела огромный успех,1 хотя мнения критиков
разделились. Одним из самых резких критиков драмы был Бер-
тольт Брехт, находившийся одно время в дружеских отношениях
с Йостом.2 Именно эта драма послужила для Брехта отправным
моментом для написания пьесы «Баал», суть которой определялась
не только критикой драмы Йоста («слабая, пользующаяся успехом
пьеса» как выражение «смешного восприятия гения и аморально-
го человека»), но и критикой экспрессионизма как направления.3
Правда, и сам Йост сразу же после премьеры «Одинокого» в ряде
статей всячески открещивался от экспрессионизма, полагая, что
новое искусство берёт своё начало в природе, и в этом состоит его
магия, которая «ведёт его к созданию абсолютного произведения
искусства».4 Йосту претил интеллектуализм экспрессионизма:
«В искусстве интеллектуальная энергия не весит ни грамма».5 Уже
в 1925 году он высказывается более определённо, ратуя за «нашу
фёлькише уединённость», за «плотный» реализм, «который даёт
доужество для старой чувственной непосредственности, которая
снова обретает черты гравюры на дереве и становится по-хоро-
шему грубой в немецком духе, то есть наивной и необдуманной,
фантастической и твёрдой».6
Схожие мысли Йост высказывал и раньше в своём первом
»романе «Начало» (»Der Anfang«, 1917), повествующем о становле-
нии фёлькиш-национального мировосприятия Ганса Вернера,
Молодого человека из буржуазной семьи. Ментором по жизни для
него является тяжело больной доктор Шверт, который выступает
в роли авторского ego и соответственно излагаемые им мысли
1 Цит. по: Düsterberg R. Op. cit. S. 50
3 Б. Брехт оживлённо переписывался с Г. Йостом, и, судя по письмам, их отношения
были чрезвычайно тёплого свойства. В 1920 г. в одном из писем к Йосту Брехт,
справляясь о возможности встречи с ним, пишет: «Или Вы поедете через Аугсбург?
Это было бы великолепно!» [Düsterberg R. Op. cit. S. 51).
3 Ibid. S. 50.— О степени дружеских отношений между Брехтом и Йостом говорит
тот факт, что он, щадя, вероятно, авторское самолюбие Йоста, постарался очистить
свою пьесу «Баал» от «призрака „Одинокого"» с тем, чтобы литературная и идеоло-
гическая конфронтация между ними не проявлялась в явной степени (Ibid. S. 51).
4 Ibid. S. 51.
5 Ibid. S. 51.
6 Ibid.
299
носят программный характер фёлькиш-национального толка,
элементы которых прослеживаются позднее в программе нацио-
нал-социализма: «Гнев, хитрость и месть, ложь и ненависть явля-
ются выражением героического начала, а слёзы — ещё и дивным
наслаждением. Нравственное остаётся связанным с чувственным.
Мужество является добродетелью. Здоровье — идеал. Над ними
работают община, государство и личность. Здоровье — прекрасно,
прекрасное — это истинное, а истина — это человек. Простота этих
мыслей раскрывается полностью как пережитое только немногим
из нас, она скрывает в себе для нас жестокость, которую мы нау-
чились — из библии — воспринимать социально».1
В этих словах на первое место выдвигается не разум, а чув-
ственное восприятие естественного человека, для которого здоровье,
жестокость и прочие его проявления, данные ему природой, лишены
общественной обусловленности, и поэтому Библия с её этическими
установлениями объявляется виновницей потери этим человеком
его исконных природных качеств. Отсюда делается решительный
вывод о том, что «быть здоровым является первым требованием
каждой цивилизации, потому что из болезни вырастает только
настроение! Вырастает раннее малодушие, ранняя зрелость, слиш-
ком ранняя смерть!»2
В романе находит своё выражение и один из важнейших идео-
логических компонентов программы национал-социалистов — тема
«матери», тема «женщины» вообще, суть которой сводится у Йоста
к биологическому предназначению женщины, сопряжённому
с покорным восприятием «неумолимых законов судьбы, какой бы
жестоко несправедливой она ни была: слабый пол, настроенный
героически, вынужден — хочет он того или нет, и является ли он
борцом или нет — довести борьбу до конца, начало которой пред-
ставляет собой преданность, полная пассивность, любовь!»3
Примечательно, что много позже в рассказе «Мать не подвер-
жена смерти» (»Mutter ohne Tod«, 1933), пользовавшемся огромной
популярностью (тираж его в 1944 году составил 200 тысяч), Йост
несколько смягчил жёсткую посылку, что, возможно, связано с лич-
ными мотивами. Как он отмечал в письме к группенфюреру С С
1 Цит. по: Düsterberg R. Op. cit. S. 56.
2 Ibid. S. 57.
3 Ibid. S. 57.
300
Карлу Вольфу, в этом рассказе он «описал свои чувства после смер-
ти матери».1 Образ матери, «чьи руки ощущались везде и во всех
делах»,2 воспринимается рассказчиком как собирательный образ
матери, чья сущность заключается в заботе о семье и жертвенно-
сти ради семьи, ибо, как заключает Йост рассказ, «матери всегда
умирают ради своих сыновей...»3
Рассказ этот рассматривался Йостом как некий пропагандист-
ский материал, и поэтому он распорядился, чтобы издательство
направило бесплатно 2 тысячи экземпляров «дорогому Бальдуру
фон Шираху», шефу гитлерюгенд, полагая, что «эта маленькая книга
уместна для нашей г.ю.».4
; В следующем романе «Крестный путь» (»Kreuzweg«, 1922) фёль-
1ШШ-национальная идеология обретает более ясные черты. Своео-
бразным ключом для понимания этого романа служит статья Йоста
«Немецкий язык» (»Deutsch«, 1921), в которой чётко обозначены
пределы творчества писателя, заключающиеся в «языке, манере,
расе и природе». Отсюда делается вывод о том, что «действительно
Национальное искусство... является той неизбежностью, в которой
судьба призванного немецкого человека исполняется в его времени
И в его народе, в его связи с кровью и национальными проявле-
ниями».5
'[ Роман «Крестный путь» посвящен становлению молодого
"Человека после Первой мировой войны в фёлькиш-национальном
духе, осознавшего, что его жизнь определяется двумя постулата-
ми — жертвенностью и долгом. Молодой врач, общаясь со своими
коллегами, проникается идеями национальной особенности. Йост
Искусно сталкивает его с представителями разной политической
ориентации, которые, каждый в своём роде, исповедуют фёль-
киш-национальную идеологию. Аптекарь, жаждущий принять
участие в русской революции и презирающий образованность,
Интеллектуальность, поучает молодого коллегу: «Дух — это всегда
бомнение! Сомнение — это отсутствие лица. Отсутствие лица — это
1 Цит. по: Düsterberg R. Op. cit. S. 164.
2 Johst H. Mutter ohne Tod // Johst H. Torheit einer Liebe. Mutter ohne Tod. München,
1935. S. 243.
3 Ibid. S. 291.
4 Düsterberg R. Op. cit. S. 165.
5 Ibid. S. 88.
301
всегда заблуждение глаз... Только масса созерцала бога!..Разве
прибили бы его (Христа.— Е.З.) к кресту убеждения книжников,
если бы он не отверг от них народ, массы? Христос, а в его лице
и бог, являются жертвами духа».1
Другой коллега, умудрённый жизнью, место которого молодой
врач должен занять, никак не может смириться с разрывом сослов-
ных отношений: «...крестьянин и рыцарь, аристократия и народ,
господин и раб. Трусливое мышление, нездоровую истерию порож-
дают такие разделения... Вся история человечества — это ни что
иное, как картина болезни различного рода возбудимости... Всегда,
как только народы начинают мыслить, они начинают физически
деградировать. До тех пор, пока у них здоровые зубы и кулаки, в их
философии заметно отсутствие глубины; но у них есть государство,
которым они могут блистать... Ошибка демократии состоит в том,
что она из всех хотела бы сделать политиков. Эта форма государ-
ства выдумана для нас... к тому же врагами. Для нас германцев
удовлетворение состоит в верности. Повиновение является для нас
самым благородным помыслом».2
Подобные рассуждения героев романа, основанные на отри-
цании духовности, интеллигенции, являющейся проводником идей
гуманизма, порождённых международным еврейством, отражали
не только возросшие фёлькиш-национальные тенденции в твор-
честве Йоста, но и отвечали во многом настроениям тогдашнего
общества. Не случайно издательство выпустило роман сразу двадца-
титысячным тиражом, случай необычный в издательской практике,
надеясь (и надежды эти оправдались) на то, что эта книга быстро
найдёт своего читателя.3
Собственно, с этого романа начинается активная борьба
Г. Йоста против Веймарской республики, ибо в нём, а также в ряде
сопутствующих роману статей писателя, нашли отражение все
претензии фёлькиш-национальных кругов страны, а нацистов
в особенности, к послевоенному государству. Последующие пье-
сы — «Пророки» (»Propheten«, 1922), «Томас Пейн» (»Thomas Paine«,
1927) — стали неким руководством к действию, ибо в них уже
определялись основной принцип построения будущего немецкого
1 Düsterberg R. Op. cit. S. 90.
2 Ibid. S. 91.
3 Ibid. S. 89.
302
государства и статус непререкаемого вождя, фюрера. Историческая
драма «Пророки» посвящена борьбе Мартина Лютера за освобожде-
ние немецкой церкви от римско-католического влияния, за станов-
ление собственно немецкого восприятия мира: «Германия?.. Никто
не знает, где она начинается, никто не знает и где она кончается.
У неё нет границ, господи, в этом мире... Она в сердцах людей...
или её не найдут нигде и никогда».1
В этих словах усматривается парафраз не только к высказы-
ваниям Г. Фихте, Я. Гримма, В. Гёте и Ф. Шиллера, но и к пангер-
манистским настроениям, царившим в фёлькиш-национальных
Кругах во времена кайзера и во времена Веймарской республики.
Не случайно Йост завершает драму патетическими словами Люте-
ра об историческом предназначении Германии: «Жизнь помогает
Живым... живая вера освобождает жизнь! Меч вызывает энтузиазм,
но меч и правит, слава мечу! Германия штурмует своё небо!»2
Патетика речей Лютера определяется и осознанием им своей
руководящей роли, роли вождя, роли фюрера, ибо масса — ничто,
фюрер — всё: «Моя свобода — это моя вина... Моя вина — это божья
милость! Я, я несу её... я, я страдаю за неё! Я борюсь за то, чтобы
fcac освободить, я люблю вас свободными!»3
Хотя исследователи наших дней видят в интерпретации Йостом
рбраза. Лютера некие параллели к Гитлеру,4 сам автор каких-то
|&рямых отсылок к фюреру не даёт, однако в его статьях, посвящен-
ных немецкой драме, фигура вождя является определяющей для
^понимания современной действительности.5 Правда, много позже,
àj 1937 году, Йост заявил, что пьесой о Лютере он хотел изобразить
;|1уть «нового немецкого национализма в глубочайшем культурном
Смысле».6
Следующим шагом для утверждения культа фюрера является
Драма Йоста «Томас Пейн», посвященная одному из вождей рево-
люционного движения за независимость Соединённых Штатов
1 Düsterberg R. Op. cit. S. 92.
a Ibid. S. 93.
3 Ibid. S. 93.
4 Ibid. S. 93-94.
5 Ibid. S. 94
6 Ibid. S. 95.
303
в XVIII веке. Через всю пьесу проходит мысль о жертвенности
харизматического вождя, который должен погубить свою «личную
судьбу» для того, чтобы «стать мелодией», которая звучит для нас
«гимном властной и прекрасной жизни в словах «Мы, камрад, мы!»1
Этого же требует Пейн и от американцев в их борьбе за незави-
симость: «Готовы ли вы ради этого вызывающего эмоцию слова
Америка принести в жертву ваше имущество и кровь?»2 Лич-
ность — ничто, общество — всё. Этот лозунг, определявший иде-
ологию нацистов, находит своё полное воплощение в трагической
судьбе Пейна, который после неудачной попытки принять участие
в революционном движении во Франции (его, как предполагаемого
роялиста, революционеры посадили в тюрьму) возвращается в США
и обнаруживает, что здесь он никому не нужен. Но он утешается
тем, что страна стала свободной и историческая миссия выполнена:
«Со словами, обращенными к его прежним, но теперь уже мёртвым
соратникам в политической борьбе, «Я вернулся!.. Камрады!», он
бросается в море».3
С учётом того, что пьеса была написана в 1927 году и Гитлер
как вождь нацистского движения ещё не воспринимался широ-
кими массами в роли мессии, пьесу Йоста можно рассматривать
как некое упреждающее действо, как посыл националистской
идеи преобразования Германии, и публика прекрасно поняла этот
посыл: «В Кёльне в присутствии автора публика впала в такой
восторг, «какого ещё много лет здесь не случалось», «стоя на своих
местах»; повсюду раздавались «бурные», «мощные, нескончаемые
аплодисменты» и «восторженные отзывы».4 По крайней мере, фёль-
киш-консервативные круги и часть либеральной интеллигенции
восприняли Пейна как «неизвестного солдата политики», который
«направил игру политических элементов на великую цель станов-
ления народа и построение государства... и смертью подтвердил
основной принцип своего политического активизма, согласно
которому вся полнота народной жизни стоит над честолюбием
и эгоизмом отдельной личности».5 Эти слова нацистского литерату-
1 Düsterberg R. Op. cit. S. 153.
2 Ibid. S. 154.
3 Ibid. S. 154.
4 Ibid. S. 155.
5 Mulot A. Die deutsche Dichtung unserer Zeit. Stuttgart, 1944. S. 95.
304
роведа Арно Мулота, прозвучавшие в 1944 году, когда война уже
приближалась к границам Германии, лишний раз подтверждают
установку идеологии национал-социализма на пестование культа
смерти и жертвенности.
Без преувеличения можно сказать, что Йост, не будучи членом
НСРПГ, в своих пьесах 20-х годах развивал многие тезисы нацист-
ской идеологии, приуготовляя публику к восприятию новой поли-
тической данности, воспитывая в ней вкус к новому пониманию
предназначения личности, вернее, напоминая ей о возвышенном
статусе ведомого в великих начинаниях ведущего.
Хождение Г. Йоста в политику началось ещё в 1922 году, когда
он в ответ на речь Т. Манна «О немецкой республике» (»Von deutscher
Republik«, 1923) разразился открытым письмом к своему другу,1
обвинив его в «предательстве его собственной немецкой сущности».2
Йост и его соратники не находят ничего хорошего в «пацифистском,
гуманистическом, провозглашающем братство народов, интерна-
ционально-национальном правительстве», потому что сегодня, как
никогда раньше, нужна «проникнутая героизмом личность» для того,
чтобы народ не погиб «бесследно в политике взаимных интересов
словоохотливых каст и классов... Мы отказываемся от слова, потому
что мы верим в поступок. Уже четыре года как республика получи-
ла слово, нагромоздила аргумент на аргумент, чтобы доказать, что
она существует по праву, и действительно, Вы стали её неплохим
панегиристом. Только нам по духу родственны самые радикальные
утописты слева и справа, чем важные в литературном смысле ора-
торы рассудка, духа, права, человечности, гуманизма».3
В ещё большей степени и большей открытости идеи национал-со-
циализма получают своё выражение в сборнике статей Йоста «Знание
и совесть» (»Wissen und Gewissen«, 1924), в который входят три трак-
тата «О новой драме» (»Vom neuen Drama«), «О прекрасном, добром
и истинном» (»Über das Schöne, Gute und Wahre«), «О вере» (»Vom
Glauben«) и эссе «Этос ограничения» (»Vom Ethos der Begrenzung«).
Этот сборник являет собой не только катехизис идеологических
1 Каких-либо сведений о дружеских отношениях между Г. Йостом и Т. Манном
обнаружить не удалось, хотя не исключено, что они встречались на каких-либо
литературных мероприятиях.
2 Düsterberg D. Hans Jost — der Literaturfunkzionär und Saga-Dichter... S. 103.
3 Ibid. S. 103-104.
305
основ творчества писателя, но и идеологическую платформу фёль-
киш-национальной оппозиции, хотя, всё, о чем пишет Йост, было
сказано ещё в трудах Лангбейна, Бартельса, Чемберлена. Основная
мысль этого сборника определяется проблемами расовой гигиены
и отказа от гуманистических идеалов. Прежде всего, Йоста беспокоит
состояние национального сознания народа, которое ни в коем случае
не должно базироваться на космополитических принципах, ибо «вся
жизнь» определяется «нравственными требованиями национального
сознания», которое покоится только на душе, а не на каких-то пред-
ставлениях, понятиях, максимах, т.е. не на интеллекте.1 Немецкий
народ, являющий собой «кровное родство и расовое своеобразие»,
постоянно подвергается воздействию «бациллы западной ориента-
ции», что грозит «гармонии влияния государства и царства небес-
ного».2 Ввиду того, что эта гармония нарушена, немецкому народу
нужен «лидер», который должен появиться из глубинки, обладающий
не образованием, а «безошибочной интуицией», могущий «все без-
ымянные слои населения» заставить повиноваться себе, ибо немцы
принадлежат к тем народам, которые «могут достичь величия только
под руководством выдающейся личности».3
В этой ситуации значимость индивидуума как такового
по отношению к коллективу сводится на нет, ибо главной обязан-
ностью его становится жертвенность во имя высшей цели: «Добро-
вольная жертва или быть принесённым в жертву... перед лицом
фёлькишер идеи суть вещи одинаковые. Сам факт живой жерт-
венности служит на благо отчизне. Индивидуумы предлагают себя
в качестве кровавой жертвы, в этом качестве они жертвуют собой
ради идеи немецкого народа».4 Добровольная смерть или убийство
ради сохранения отчизны стали позднее главной составляющей
идеологии будущих эсэсовцев, обучение которых в специальных
школах проходило под лозунгом «приносить и принимать смерть».5
Понятно, что приказы подобного рода будет отдавать та самая
«выдающаяся личность», без которой немецкая нация ни на что
1 Johst Н. Ethos der Begrenzung // Johst H. Ich glaube! Bekenntnisse. München,
1942. S. 57.
2 Ibid. S. 58.
3 Ibid. S. 58.
4 Ibid. S. 61
5 Düsterberg R. Op. cit. S. 109.
306
не способна. Отсюда выстраивается принцип «безграничной и без-
оговорочной веры» в слово этой личности, т.е. принцип фюрерства,
ставший основной Третьего рейха.
Для того чтобы реализовать все названные постулаты, нуж-
ны «единство слова и души, слова и убеждений, слова признания
и поступки»,1 и в этом заключается задача немецкой литературы и,
в частности, драмы. Театр будущего должен стать национальным
культом, могущим создать некое подобие совместного переживания,
и поэтому актёры и зрители должны слиться в единое «дыхание
нового и старого, почувствовать дыхание вечного культа».2 Не слу-
чайно ряд исследователей полагает, что именно Йост «заложил
основы национал-социалистского понимания театра, которое про-
явилось в проведении «общинных зрелищ» (Thingspiele) и массовых
инсценировок в Третьем рейхе».3
Любовь к театральным действам нацистов общеизвестна.
В каком-то смысле нацистское «движение» можно назвать театраль-
ным предприятием, состоящим из маршей, факельных шествий,
партийных съездов. К числу подобных театральных действ отно-
сились и выступления Гитлера. Иоахим Фест, биограф Гитлера,
пишет о том, что фюрер «изобретательно соединяет постановочные
элементы цирка и оперного театра с торжественным церемониалом
церковно-литургического ритуала. Вынос знамён, музыка маршей
и приветственные возгласы, песни, а также вновь и вновь звуча-
щие крики «хайль!» создают своим нагнетающим напряжением
обрамление для большой речи фюрера и тем самым уже заранее
впечатляюще придают ей характер благовести».4
Особую озабоченность Йоста вызывает засилье в немецкой
действительности «чужестранцев», евреев, которые, в силу их «нене-
мецкой» ориентации, представляют опасность для становления
немецкой национальной самости. Только благодаря Лютеру, порвав-
шему с Римом и очистившему веру от образованности, знаний
и рефлексий, удалось как-то сохранить истинную религиозность.
Ко времени публикации сборника «Знание и совесть» Йост
ещё не был членом нацистской партии, но уже «считался предста-
вительным писателем правых политиков», который поставил своё
1 Johst H. Op. cit. S. 49.
2 Ibid. S. 36.
3 Düsterberg R. Op. cit. S. 110.
4 Фест К Адольф Гитлер. T. 1. Пермь, 1993. С. 245.
307
творчество на службу фёлькиш-национальным кругам, а от них
до национал-социалистов было рукой подать. Не случайно, что
многие положения сборника «Знание и совесть» прямо или косвенно
вошли в программу НСРПГ: «Выведение «чуждых по крови» евреев
из «народного сообщества» и лишение их гражданства, введение
«законодательства об инородцах», высылка представителей «чужих
наций (не граждан), недопущение в страну мигрантов не немцев;
борьба против «парламентской экономики»; «беспощадная борьба
с теми, кто своей деятельностью вредит общественным интересам;
замена римского права на «германское общинное право», создание
«сильной центральной власти в империи», борьба против «художе-
ственных и литературных направлений, которые оказывают раз-
лагающее воздействие на жизнь нашего народа»; свобода для всех
религиозных вероисповеданий, если они не нарушают нравствен-
ные и моральные чувства германской расы»; свобода «позитивному
христианству», включая борьбу против «еврейско-материалистиче-
ского духа в нас и вне нас», и, наконец, колонии «для пропитания
нашего народа и заселения их избытком нашего населения».1
Нельзя сказать, что публицистика Йоста оказала решающее
воздействие на становление политической программы НСРПГ,
но то, что к его мнению прислушивались, свидетельствует хотя бы
тот факт, что его речи регулярно публиковались в нацистских изда-
ниях. Так, в ноябре 1930 года Йост выступил в Мюнхене на одном
из мероприятий нацистской пропагандистской организации
«Боевой союз в защиту немецкой культуры», с докладом «Я верую»
(»Ich glaube«), основные положения которого были опубликованы
в «Известиях боевого союза в защиту немецкой культуры».2 25 мая
1931 года Йост выступил на массовом собрании молодёжи под
эгидой «Боевого союза» с докладом «Слово — текст — повинове-
ние» (»Wort — Schrift — Zucht«), в котором он определил значение
литературы в «борьбе за существование народа», и, прежде всего,
растолковал молодёжи разницу между писателем и поэтом (zwischen
Schriftsteller und Dichter).3 По его мнению, писатель — это космо-
1 Düsterberg R. Op. cit. S. 112.
2 Ibid. S. 126,
3 Давняя немецкая контроверза, основывающаяся на том, что писатель это
регистратор реальной действительности, а поэт (что не обязательно означает
принадлежность к стихотворному цеху) это художник, мыслящий эпическими
категориями, стоящий над временем. Поэтому Т. Манн — писатель, нацист
308
полит, гуманист, рационально мыслящий художник типа Т. Манна
или Э. М. Ремарка, который считает, что «может игнорировать факт
существования расы, крови, основы и почвы, и поэтому пишет как
европеец или как представитель человечества». Тем не менее, этот
писатель «для нас» принадлежит прошлому, хотя его книги изда-
ются большими тиражами; однако «для нас, решительных немцев,
он мёртв... и не является защитником ни нашей жизни, ни нашей
души!» Поэт же, который признаёт себя причастным к народному
духу, к родному углу, ибо «нет другого искусства, кроме того, которое
связано с родными местами», и поэтому «настоящий поэт является
фёлькише поэтом».1
Не мог Йост пройти мимо расовой проблемы. Особенно его воз-
мутило то, что немецкую молодёжь мучают веками ветхозаветной
историей «чужого народа», которая «однако, не имеет ничего общего
с нашей фёлькише моралью, с нашими национальными ценностями,
с нашим естественным существом». В этой связи «надо радикально
поставить вопрос: какое дело нашей молодёжи до неслыханных
историй об обмане Иосифа Исайей и его братьями, как звали этих
праотцов и архимошенников, и какое дело нам до их ужасных
и отвратительных историй про убийства и супружеские измены
и мошеннические проделки с наследством...»2
Партийные бонзы, присутствовавшие на этом мероприятии,
были в таком восторге от выступления Йоста, что опубликовали его
не только в «Известиях боевого союза», но и в «Фёлькишер беобах-
тер».3 а впоследствии издали его и отдельной книгой.
Статьи Йоста по различным проблемам искусства, театра,
литературы появляются на страницах официальных теоретических
изданий нацистов вроде «Зюддойче Монатсхефте» (»Süddeutsche
Monatshefte«) и «Национал-социалистише Монатсхефте» (»National-
sozialistische Monatshefte«).4
Начиная с 1929 года Йост становится постоянным участни-
ком почти всех мероприятий «Боевого союза в защиту немецкой
Э. Г. Кольбенхайер — поэт. В Германии это разделение в определённых кругах
ещё не потеряло своей актуальности.
1 Düsterberg R. Op. cit. S. 127.
2 Ibid. S. 128.
3 Johst H. Wort — Schrift — Zucht // Völkischer Beobachter. Nr. 148. 28.05.1931.
4 Düsterberg R. Op. cit. S. 132.
309
культуры», на которых он близко сошёлся с А. Розенбергом, назна-
чившим его в 1933 году «имперским руководителем отделения пись-
менности» «Боевого союза»,1 с Г. Герингом, который, правда, не раз
вставал на его карьерном пути, и с А. Гитлером. Знакомство Йоста
с Гитлером состоялось в марте 1932 года и произвело на него такое
впечатление, что он стал его фанатом и принял самое активное уча-
стие в его президентской кампании. Журнал «Литерарише Вельт»,
публикуя в сентябре 1932 года текст выступления Йоста по радио,
представляет его уже как «ведущего литературного деятеля из близ-
кого окружения Гитлера»,2 так что состоявшееся в ноябре 1932 года
вступление Йоста в ряды НСРПГ было формальным завершением
его тесной связи с национал-социализмом.
Поступок этот, имея в виду довольно слабое представительство
НСРПГ в парламенте на данный момент, объясняется не столько
прагматическими надобностями Йоста (в этом смысле он не гну-
шался, когда это касалось его произведений, пойти на поклон
даже к собственным противникам), сколько его искренним убе-
ждением. Правда, столь позднее решение стать членом партии
могло показаться неким приспособленческим поступком, однако
в данном случае всё было иначе. Личность Гитлера была для Йоста
решающим фактором для того, чтобы откинуть в сторону традици-
онное подозрительное отношение фёлькиш-националов к партиям
и к политике вообще, для которых эти понятия ассоциировались
с ненавистной им Веймарской республикой. Понимание того, что
свержение этого демократического режима невозможно без партии
и соответствующей политики привело к тому, что в публицистике
Йоста, как, впрочем, и документах НСРПГ, особое место заняло
слово «движение» (die Bewegung), игравшее роль некоего политиче-
ского эвфемизма. Йост воспринимал НСРПГ не как партию, а как
некое «движение», выражавшее народную волю, стоявшее над пар-
тиями и признававшее только слово вождя, фюрера. Собственно,
так позиционировала себя и НСРПГ, «решительно дистанцируясь
от так наз. системных партий».3
Именно со времени вступления в НСРПГ Йост публикует ряд
статей, ставших едва ли не определяющими в культурной политике
1 Düsterberg R. Op. cit. S. 127.
2 Редакционное уведомление перед статьёй — Johst H. Fortschritt und Standpunkt / /
Die Literarische Welt, 23.09.1932. Nr. 39. S. 1.
3 Ibid. S. 137.
310
национал-социалистов. И здесь, прежде всего, нужно назвать его
статью «Искусство при национал-социализме» (»Kunst unter Natio-
nalsozialismus«). Основная мысль этой статьи сводится к «идее
фюрера», к «особой значимости его личности», которая воплощает
в себе все проявления общественной жизни, будь то искусство
или промышленность, и поэтому фюрер не подлежит какой-либо
критике. Значимость остальных индивидуумов сведена к их ути-
литарной надобности государства: индивидуум живёт, вернее, он
имеет право жить до тех пор, «пока он служит», а умирает в том слу-
чае, «как только он становится негодным для службы». В таком же
соотношении к государству находятся литература и искусство, ибо
«национал-социалистское государство и культура идентичны», и всё,
что не отвечает этим представлениям, умирает. Искусство не долж-
но заниматься интеллектуальным рассмотрением и рациональным
конструированием, а путём «метафизики убеждения», находящейся
за пределами эмпирических знаний, посвятить себя «восхвалению»,
«бессмертию», «подвигу», потому что «фашизм покоится на побужде-
нии всего происходящего к фанатической вере в подвиг».1
Официальное признание Йостом своей принадлежности к на-
ционал-социализму потребовало прояснения его отношения
к еврейскому вопросу. Правда, уже в ранних произведениях писа-
теля этот вопрос обозначился достаточно ясно в духе фёлькиш-на-
циональных традиций, хотя и лишённых радикальных интенций.
Особой надобности прояснения своей позиции в этом вопросе
Йост не испытывал, хотя бы потому, что эта проблема и на пар-
тийном уровне не приобрела ещё резкой актуальности, если судить
по выступлению А. Розенберга на партийном съезде в 1935 году,
который, признавая расовую идеологию «жизненной необходи-
мостью» политики партии, тем не менее, призывал «к уважению
своеобразия других рас».2 Однако, иметь своё мнение по данному
вопросу входило в пакет обязательных высказываний для лиц, при-
ближённых к партийной верхушке, и Йост по заведённому порядку
высказал это мнение в статье «Народ в народе» (»Volk im Volke«,
1932). Заявив о том, что к еврейскому вопросу он лично не испыты-
вал никакого интереса, хотя ему и импонировал их ветхозаветный,
1 JohstH. Fortschritt und Standpunkt // Die Literarische Welt, 23.09.1932. Nr. 39.
S. 135.
2 Rosenberg A. // Reichstagung in Nürnberg 1935. Der Parteitag der Freiheit (1935). 80.
311
боевой, «героический образ жизни», а «кровавые судилища Вет-
хого Завета» немцам куда ближе, чем «мягкое, умиротворяющее»
христианство, Йост подчеркнул, что ветхозаветные евреи исчезли,
а те, что остались — это «ни немцы, ни евреи», а нечто промежу-
точное между нациями. Немец определяется своей национальной
принадлежностью, еврей — подданством. В немецкой культурной
жизни еврей «позиционирует себя агрессивно», играя своими
типично расовыми свойствами рационализма, интеллектуально-
сти, он всегда превосходит и тем самым действует разлагающе,
он «всегда прав».1 Настоящий статус в Германии немецкие евреи
обретут только тогда, считает Йост, когда они найдут в себе силы
так же, как «мы молодые немцы», возродить ветхозаветный дух
еврейства: «Еврей, полуеврей или тот, кто духовно или душевно
каким-то образом принадлежит еврейской сфере по крови или
воспитанию, этот еврей должен вспомнить о своей народности»,
ибо только тогда он сможет «как ясно ограниченный этнос и еди-
ная субстанция действовать рядом с нами, с немцами, вместе
с нами».2
Конечно, по сравнению с оголтелым антисемитизмом Юли-
уса Штрайхера из «Штюрмера», высказывания Йоста покажутся
совершенно безобидными, однако позже, когда он станет значи-
тельной фигурой в культурной жизни Третьего рейха, его словарь
существенно изменится. По большому счёту, Йоста нельзя назвать
радикальным антисемитом, его антисемитизм укладывался в обще-
принятые рамки обычного антисемитизма в Германии. В статье
«К еврейскому вопросу» (»Zur Judenfrage«, 1924) Йост пишет: «По
роду и крови я отношусь к антисемитам; я признаю также, что
моё отношение к человеку еврейской национальности никогда
не сможет возникнуть с такой непосредственной, наивной есте-
ственностью, как это происходит по отношению к какому-либо
белокурому брату; но я подтверждаю с удвоенной объективностью,
что часть моих любимых друзей семиты».3
Филосемитизм и антисемитизм Йоста определялись его лите-
ратурными надобностями, а после 1933 года, особенно после завя-
завшейся дружбы с Генрихом Гиммлером, главой СС, присвоившим
1 Düsterberg R. Op. cit. S. 142.
2 Ibid. S. 143.
3 Ibid. S. 150.
312
ему звание группенфюрера СС, и занимаемым местом в нацистской
иерархии. Здесь вряд ли можно говорить о перерождении Йоста;
скорее всего верх взяла его царедворская натура и открывшиеся
возможности посчитаться с некоторыми врагами из мира театра,
к которым он обращался за помощью в первые годы своей лите-
ратурной карьеры.
Таким образом, ко времени прихода к власти нацистов Йост
как бы отметился по всем пунктам кодекса правоверного нацио-
нал-социалиста, и это не осталось незамеченным, ибо после января
1933 года на него обрушился буквально поток назначений высшего
порядка.
1 марта 1933 года Йост был назначен ответственным за литера-
турную политику Государственного драматического театра в Берлине
и фактически принял на себя руководство театром. «Фоссише Цай-
тунг», доживавшая последние дни, писала ещё 4 февраля 1933 года
о предполагавшемся назначении Йоста на этот пост: «Если его
назначат на пост Легаля (руководитель театра.— Е. 3.), то это воз-
вышение произойдёт не из-за его лирики, его драм и его романа,
а из-за его приверженности к партии. Йост давно уже стал членом
национал-социалистской партии».1
Именно с позиций партии Йост сразу же определяет в своей
статье «Что такое культурбольшевизм? Задачи, стоящие перед
немецким театром. Ганс Йост, автор „Шлагетера"» (»Was ist Kultur-
bolschewismus? Die Aufgaben der deutschen Bühne. Von Hanns Johst,
dem Dichter des >Schlageter<«, 1933) основные принципы театральной
политики нацистов: очищение немецкой сцены от иностранных
пьес, т.к. французские бульварные комедии, английские и амери-
канские «криминальные боевики» пренебрегают высшим назна-
чением искусства — «правдивостью; в будущем в театре должны
быть представлены классики и современные драматурги, которые
«черпают свои силы из народа и его истории».2
В качестве примера подобного рода драматургии Йост решает
поставить 20 апреля 1933 года, в день рождения фюрера, во вверен-
ном ему театре свою новую пьесу «Шлагетер» (»Schlageter«), которая
в качестве радиопьесы, начиная с 1 марта 1933 года, передава-
лась по всем радиостанциям 15 раз, заложив основы «нацистской
1 Düsterberg R. Op. cit. S. 189.
2 Ibid. S. 190.
313
радиопьесы».1 Значимость этой пьесы определялась ещё и тем, что
её постановка совпала с десятилетней годовщиной смерти Альберта
Лео Шлагетера, расстрелянного по решению французского военного
суда в 1923 года за террористическую деятельность (подрыв мостов,
взрывы на вокзалах) в оккупированной французами Рурской
области.2 Нацисты возвели его в статус мученика и национального
героя, с помпой отмечая по всей стране дату его смерти. Особый
размах чествования Шлагетера приняли во Фрайбургском универ-
ситете, где он изучал экономику. Мартин Хайдеггер произнёс перед
тысячной толпой студентов торжественную речь, назвав смерть
Шлагетера «тяжелейшей и величайшей смертью во имя немецкого
народа и рейха... Мы чествуем героя и поднимаем молча в знак
приветствия руки».3
Миф Шлагетера, начавшийся формироваться в нацистских
кругах уже во время его похорон, вылился в огромное количество
стихов (Э. фон Медем, А. Вайс, Э. Ханфштэнгль, П. Варнке), пьес
(К. фон Бёттихер, П. Пфеннинг, О. Зэнгер). Однако наибольшего
успеха в прославлении Шлагетера, в создании мифа нацистского
мученика добился Йост, ибо ему удалось попасть в самое больное
место в сознании не только национал-социалистов, но и многих
немцев, испытывавших после поражения в Первой мировой вой-
не национальное унижение, оккупацию Рейнской области, тяготы
репараций. Из террориста, работавшего на польскую разведку,
предателя, выдавшего на суде ради спасения собственной головы
всех своих подельников, Йост сделал «первого солдата Третьего
рейха»,4 положившего свою жизнь ради высоких идеалов. Как
истый царедворец, а проще говоря, конъюнктурщик, он связал
мечту Шлагетера о создании Третьего рейха с днём рождения Гит-
лера, осуществившего эту мечту, уловил дух победного торжества
первых месяцев, охвативший нацистов после захвата ими власти
1 Düsterberg R. Op. cit. S. 190.
2 Шлагетера, возможно, и не расстреляли бы, тем боле, что за него вступилась
шведская королева и даже Ватикан, но тут случилось так, что именно в это время
премьер-министр Франции Пуанкаре подвергся жёсткой критике в парламенте
со стороны правых за его либеральную политику в Рейнской области, на что тот
и ответил соответствующим образом.
3 Ibid. S. 191.
4 JohstH. Schlageter. Schauspiel. München, 1941. S. 85.
314
в стране. Не случайно Йост посвятил свою пьесу фюреру с тро-
гательной надписью «Адольфу Гитлеру с величайшим почтением
и неизменной преданностью».1
Именно поэтому премьера его пьесы в Государственном дра-
матическом театре 20 апреля 1933 года превратилась в некий госу-
дарственный акт, в котором впервые приняли участие все высшие
чины нацистской партии во главе с Гитлером, а также писатели,
деятели искусства. «Шлагетер» был «первой пьесой, которой Третий
рейх праздновал самого себя».2 Поэтому к постановке пьесы были
привлечены лучшие актёры того времени: Лотар Мютель, Эмми
Зонненман, Файт Харлан, Альберт Бассерман, Бернхард Минетти.
Вся пьеса пронизана ненавистью к Веймарской республике,
и является своего рода поношением демократии как таковой.
В какой-то мере эту пьесу можно назвать неким ответом на лите-
ратуру о «потерянном поколении», неким положительным вариан-
том псевдогероического разрешения жизненных проблем солдат
в послевоенном мире, выполненным в нацистском духе. Если
в романах Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. Олдингтона и ряда
других авторов эта тема разрабатывалась в трагических тонах,
фиксируя неприкаянность молодых людей в мирной обстановке,
их невостребованность обществом, личную неспособность занять
достойное место в изменившемся мире, то Йост акцентирует вни-
мание на воинских доблестях немецкого солдата, не получивших
достойной оценки в произведениях «литераторов, разглагольство-
вавших о военных переживаниях».3 Весь пафос этой пьесы опре-
деляется словами одного из её героев: «Мы на войне, чёрт меня
побери, занимали не место, а позицию! Мы были свободны и готовы
ко всему, и мы не были такими совершенными идиотами, каки-
ми хотели бы представить нас сегодня благородные литераторы!
1 Johst H. Op. cit. S. 5.— Правда, конкуренты тоже не дремали. Пауль Байер (Beyer,
Paul), известный драматург, намеревался к десятой годовщине со дня гибели
Шлагетера устроить «национальный фестиваль» под названием «Дюссельдорфские
страсти» (»Düsseldorfer Passion«), проведя аналог судьбы Шлагетера с судьбой Иису-
са Христа. Многочисленные театры хотели поставить именно в день рождения
Гитлера эту пьесу, и главе издательства Ланген-Мюллер Г. Пецольду пришлось
приложить немало усилий для того, чтобы перенести постановку «Дюссельдорфских
страстей» на 24 апреля. (Düsterberg R. Op. cit. S. 195).
2 Rühle G. Zeit und Theater 1933.1945. Bd. 6. Diktatur und Exil. Frankfurt / Main,
Berlin, Wien, 1980. S. 729.
3 Johst H. Op. cit. S. 17.
315
И тот, кто тогда, всё то чудесное время, был солдатом, тот и сегодня
остаётся им!»1
В первом акте происходит встреча двух бывших фронтови-
ков, а теперь студентов, Шлагетера и Тимана. Шлагетер изучает
экономику, полагая таким путём проникнуть в суть финансовых
процессов с тем, чтобы разрушить мировую систему государствен-
ного устройства, которая приведёт человечество, по его мнению,
«к катастрофе... к банкротству».2 Но сначала нужно навести поря-
док в собственной стране, а для этого требуются проповедники,
«властители, которые не боятся вида крови»,3 и поэтому «народ
должен требовать проповедников, обладающих мужеством жерт-
вовать лучшим... проповедников, которые проливают кровь, кровь,
кровь... проповедников, которые убивают!»4 В этих фанатических
выкриках содержится призыв к политическим убийствам, к свер-
жению Веймарской республики.
Тиман мыслит более конкретно, уговаривая Шлагетера забро-
сить экономику и вступить в ряды революционеров, перейти
от теории к активным действиям, к террористическим актам
против французской армии, оккупировавшей Рейнскую область:
«Биржа как поле битвы, доллар как боевой призыв! Как благороден
по отношению к ним пулемёт!».5 1918 год не был для Тимана годом
поражения, а только продлённой «побывкой», и то не на родине,
а среди врагов, демократов, республиканцев: «Всю эту чушь знаю
я ещё с восемнадцатого... Братство, равенство... свобода... Красо-
та и достоинство! Мышей ловят на сало. И тут же, за болтовнёй:
Руки вверх! Бросай оружие... Ты республиканское стадо избира-
телей! — Нет, весь этот мировоззренческий салат не подходит...
Здесь стреляют! Когда я слышу слово «культура»... я взвожу курок
моего браунинга!»6
Хотя Шлагетер оценил радикальный запал Тимана — «Здоро-
во сказано!»7 — и сам готов принять участие в террористических
1 JohstH. Op. cit. S. 19.
2 Ibid. S. 29.
3 Ibid. S. 28.
4 Ibid. S. 29-30.
5 Ibid. S. 32.
6 Ibid. S. 26.
7 Ibid. S. 26.
316
акциях, однако такого рода деятельность должна иметь некий более
весомый посыл, чем простое проявление «солдатского буйства».1
Главное для Шлагетера — определить цели новой Германии, и цели
эти заключаются в отказе от любых проявлений демократии: «Всех
сторонников братства мира 1918 года к стенке! Рейх вырвать из пут
парламентаризма».2 Место демократических установлений займёт
«сообщество, сходное монашескому ордену», где «больше не будет
никаких сыновей, никаких братьев, никаких отцов, вообще ника-
ких родственников... Мы только товарищи!»3
Несмотря на хлёсткие лозунги, патетические возгласы и «пра-
вильные» высказывания, первый акт, как свидетельствовали совре-
менники, не вызвал у публики энтузиазма: «Когда занавес упал,
аплодисментов не последовало».4 И вызвано это было не только
скучным и затянутым действием, но и позицией главного героя,
не разделявшего анархистские взгляды своих друзей, привыкших
крушить всё и вся без разбора, как это они делали во время кара-
тельных рейдов в Прибалтике и в Силезии. В подобной реакции
зрителей сказывался менталитет победителей, не терпящих сомне-
ний любого свойства.
Второй акт, надо полагать, должен был показать истинное лицо
правительства социал-демократов, и выдержан в остро сатириче-
ских тонах. Регирунгспрезидент Шнайдер, выходец из пролетар-
ской среды, ещё не освоившийся в новом качестве, сокрушается
по поводу своих рабочих рук: «Эти лапищи грузчика, на них тошно
смотреть! Они не подходят для этого кабинета... к моей должности...
Раньше они подходили... когда я выступал... всё время размахивал
сжатыми кулаками... вообще-то... неплохо... особенно когда кула-
ком ударить по столу».5 Но Шнайдер уже вкусил прелесть власти,
и когда его соратник по партии Клемм пообещал ему продвижение
по службе, если он узнает у своего сына имена радикалов, собира-
ющихся провести вооружённую акцию против французских окку-
пационных войск в Рейнской области, то Шнайдер с готовностью
согласился пожертвовать своим сыном ради карьеры.
1 JohstH. Op. cit. S. 51.
2 Ibid. S. 48
3 Ibid. S. 37
4 Цит. по: Lionel R. Deutscher Faschismus und Kultur. Aus der Sicht eines Franzosen.
Berlin, 1982. S. 255.
5 Ibid. S. 58.
317
Сатирически представлен и генерал вермахта, пытающийся
уговорить Шлагетера отказаться от проведения вооружённой акции
во имя спасения мира в стране. Генерал, поддерживая официаль-
ную линию на пассивное сопротивление французам, в душе согла-
сен с намерениями Шлагетера, но в разговоре с ним, как военный,
привыкший подчиняться приказам, призывает Шлагетера оста-
ваться в рамках дозволенного. Шлагетер, поняв, что от вермахта
кроме моральной поддержки трудно ожидать какой-либо помощи,
в сердцах восклицает: «Из ваших слов, ваше превосходительство,
я понял, что официальная Германия не желает иметь с нами ничего
общего. Мы вне закона. Я лично признаю себя находящимся вне
закона. Поэтому я отказываюсь быть героем вашей отчизны! Я даже
отказываюсь от звания героя моей отчизны. Я буду саботажни-
ком, террористом, человеком, лишённым чести, преследуемым,
каторжанином... Мы будем взрывать!!!». На что генерал ответил:
«Благодарю вас, Шлагетер».1
В третьем акте, отмеченном обилием антифранцузской рито-
рики в солдатском духе, группа националистов под руководством
Шлагетера готовится к подрыву французского поезда во время про-
хождения его по мосту. При этом их не беспокоит, что среди фран-
цузских солдат будут находиться немецкие заложники: «.. .несколько
погибших душ только наделают больше шуму. Подрывом двух-трёх
поездов мы не добьёмся успеха».2 И хотя Шлагетер поначалу воз-
ражал против этого, но, в конце концов, признал необходимость
такой жертвы. Шлагетер выступает здесь не только как настоящий
вождь, как фюрер, но и как, по словам Августа Шнайдера, сына
регирунгсрпезидента и восторженного поклонника Шлагетера,
«первый солдат Третьего рейха».3 Со словами «Германия!» участники
группы отправляются в Рейнскую область.
Действие четвёртого акта происходит на квартире родителей
Тимана, одного из приближённых Шлагетера. Уже известно, что
участники террористического акта арестованы и преданы воен-
ному суду. Профессор Тиман проклинает войну, унёсшую двух
его сыновей, и считает себя виноватым в том, что воспитал своих
детей и всех школьников, прошедших через его руки, в духе любви
1 Johst H. S. 75
2 Ibid. S. 89.
3 Ibid. S. 85
318
к родине; генерал, напротив, считает, что жертвы были не напрас-
ны и что не стоит отказываться от своих идеалов: «Проигранная
война ещё не повод для того, чтобы отказываться от своих идеалов!
Наоборот, она является поводом для того, чтобы глубже, фанатичнее
и благочестивее восхвалять победу!»1; регирунгспрезидент Шнай-
дер от одной мысли, что погибнет его сын, почти теряет рассудок:
«Если французы убьют моего Августа... и если наше правительство
стерпит всё это, тогда я убью это правительство!.. Товарищи...
товарищи... Где вы теперь?»2 Наконец по телефону сообщают, что
Шлагетер приговорён к расстрелу, Август Шнайдер — к пожизнен-
ному заключению, Тиман — к двадцати годам каторжных работ.
Сцена заканчивается провидческими словами генерала: «.. .я слышу,
как идут новые колонны... маршевый шаг... подъём... Германия,
проснись!»3
Суд над Шлагетером на сцене не представлен. Пьеса заверша-
;ется сценой расстрела Шлагетера, который, стоя на коленях спиной
к публике, произносит свой предсмертный монолог: «Германия!
^Последнее слово! Одно желание! Приказ! Германия! Проснись!
(Воспламенись! Воспылай! Зажгись неслыханным огнём!»4 Яркая
Йвспышка света, сопровождаемая залпами выстрелов, которые
i сквозь тело Шлагетера словно направлены на публику, и темнота.
р зале воцарилось молчание. Вместо того, чтобы аплодировать,
^зрители поднялись со своих мест и запели вместе с участниками
спектакля национальный гимн «Германия превыше всего» и пар-
тийный гимн «Хорст Вессель».
Спектакль, как писала берлинская «Тэглихе Рундшау», стал
высшим проявлением национального духа: «Этот Шлагетер стоит
в начале нового искусства, которое принадлежит народу, или его
не будет вообще. Этот Шлагетер зажёг огнём немецкую совесть.
Огнём Клейста. Очищающим огнём нации. Шлагетер — это новый
молодой немецкий человек. Его смерть — это возрождение, всё,
чем он владеет, это фронтовое товарищество, верность, братство».5
1 JohstH. Op. cit. S. 122.
2 Ibid. S. 126-127.
3 Ibid. S. 134.
4 Ibid. S. 135.
5 Цит. по: Schoeps К.-Н. Op. cit. S. 127.
319
Не все разделяли это мнение. О. Лёрке после разговора с Г. Бен-
ном, присутствовавшем на премьере «Шлагетера», отметил в своём
дневнике: «Бенн ошутил наглость и враждебность. Он считает, что
нас не только отстранят, но и физически уничтожат».1 Французская
газета «Журналь де деба» назвала пьесу детищем «сотрудничества
Йоста и министра пропаганды Геббельса».2
Несмотря на то, что в 1933-1934 годах «Шлагетер» был постав-
лен в 115 немецких театрах и показан более чем в тысяче городах,
а тираж самой пьесы достиг 80 тысяч экземпляров, дальнейшие её
постановки были запрещены по «внешнеполитическим причинам»,
хотя временами (например, по случаю аннексии Австрии) пьеса
появлялась на сценах Германии и Австрии. Запрет этот был связан
с тем, что к середине 1933 года, как заявил Гитлер, «национал-со-
циалистская революция в Германии была завершена», и нацистам,
в желании обрести статус государственности, нужно было зару-
читься поддержкой своих соседей. В этой связи руководство пар-
тии посчитало, что пьеса Йоста «в своём революционном настрое
после завершения национал-социалистских преобразований стала
слишком опасной», особенно своими брутально обидными выпадами
против Франции.3 Однако, начиная с 1940 года, когда Германия
развязала Вторую мировую войну, запрет на постановку «Шлаге-
тера» через посредничество Гиммлера был снят.4
Вдохновлённый успехом «Шлагетера», Йост решил поставить
во вверенном ему театре свою пьесу «Пророки», однако здесь его
подвела излишняя горячность в красочном претворении на сцене
антисемитских проявлений разъярённой толпы. Антисемитизм как
таковой отвечал постулатам национал-социализма, но в данном слу-
чае Йост, по словам современника, «слишком рано выпустил кошку
из мешка», чем и вызвал необузданный гнев Геринга, премьер-
министра Пруссии, в ведении которого находились и театры.5 Отсут-
ствие политического чутья у Йоста, ответственного за театральную
политику Государственного драматического театра, сказалось
1 Цит. по: Düsterberg R. Hanns Johst... S. 197.
2 Цит. по: Lionel R. Op. cit. S. 226.
3 Düsterberg R. Op. cit. S. 202-203.
4 Ibid. S. 204-205.
5 Цит. по: Düsterberg R. Op. cit. S. 207.
320
и в том, что он задался целью обогатить его репертуар пьесами
фёлькиш-национального характера, что вызвало недовольство как
среди актёров (особенно Эмми Зонненман, будущей жены Геринга),
так и среди партийной элиты.
Не надо забывать, что до прихода к власти нацистов, Берлин
по праву считался одним из мировых театральных центров, и это
качество театральной столицы нацисты хотели бы сохранить из так-
тических соображений. Нацистам хотелось сохранить глянцевую
обложку столицы, а фёлькиш-национальные пьесы, за которые так
ратовал Йост, мало кого интересовали (если вообще интересовали,
учитывая их низкий уровень), превращая столичный театр в при-
бежище провинциального вкуса. Современники подчёркивали,
что после прихода к власти нацистов внешне в Берлине мало что
изменилось. Историк Себастьян Хаффнер в своих воспоминани-
ях, написанных ещё в 1939 году, замечает: «По крайней мере, для
первых лет времени нацизма типично, внешний облик нормальной
жизни остался почти без изменений: полные кинотеатры, театры,
кафе,., молодые люди счастливо располагаются на пляжах. Нацисты
основательно использовали это в своей пропаганде: «Приезжайте
и посмотрите нашу нормальную, спокойную, радостную страну.
Приезжайте и посмотрите, как хорошо живётся у нас даже евреям».
Тайные черты сумасшествия, страха и напряжённости, «сегодня это
сегодня» и настроение танца смерти, правда, не увидишь, но мало
можно увидеть что-либо, глядя на портрет великолепного, победно
улыбающегося молодого человека, который сегодня ещё рекламиру-
ет на берлинских станциях метро лезвия для бритья под надписью
«хорошо побрит — хорошее настроение».1
Ради сохранения этого «хорошего настроения» и решено было
пожертвовать Йостом, который после нелицеприятной беседы
с Герингом был отстранён от руководства театра, а его место занял
Густав Грюндгенс, популярный в Германии артист, который, как
не без иронии отметил знаменитый драматург Карл Цукмайер,
в одночасье превратился из «радикального «культурбольшевика»
в любимца нацистских богов».2 Правда, «любимец» этот выторговал
1 Haff пег S. Geschichte eines Deutschen. Die Erinnerungen 1914-1933. Stuttgart,
2000. S. 151.
2 Zuckmayer С Geheimreport / Hrsg. v. G. Nickel u. J. Schrön. Göttingen, 2002.
S. 132.— Потеря поста руководителя Государственного театра была для Йоста
321
у Геринга почти абсолютную свободу как в выборе репертуара,
который, по свидетельству Марселя Рейх-Раницкого, крупнейшего
литературного критика наших дней в ФРГ, «за редким исключением
не имел ничего общего с желаниями культурно-политических деяте-
лей Третьего рейха», так и в выборе артистов, «создав своеобразный
остров, который в годы террора предоставил убежище для самых
лучших деятелей театра, при этом даже для тех, к которым режим
(не без оснований) испытывал недоверие».1 Действительно, Государ-
ственный театр при Грюндгенсе переживал небывалый расцвет,
о чём свидетельствуют не только восторженные слова М. Рейх-Ра-
ницкого, мнению которого можно доверять, но и многочисленные
приглашения организовать гастроли театра за рубежом, которые,
несмотря на настойчивые предложения Геринга, Грюндгенс отвер-
гал, не желая, чтобы его театр служил своеобразной «культурной
завесой над Третьим рейхом... Моя работа заключалась единственно
только в защите ценностей, которые были мне дороги, в защите
доверившихся мне людей и в защите вверенного мне театра».2
За всеми этими событиями, связанными с Йостом и Грюн-
дгенсом, стояло соперничество между Розенбергом, Герингом
и Геббельсом. В этой ситуации речь шла меньше всего о каких-то
политических предпочтениях. Йост был человеком Розенберга
и Гиммлера, и Геринг не упустил возможности насолить своим
противникам, а заодно и Геббельсу, так как (и это ещё один казус
культурной политики в Третьем рейхе) ведущие театры Герма-
нии — Государственный театр, Оперный театр и «Шаушпильха-
ус» — были единственными театрами в рейхе, не подпадавшими
под начало всесильного министра пропаганды, отчего Геринг мог
распоряжаться в них по своему усмотрению даже, если его действия
не вписывались в идеологический контекст национал-социалист-
ской идеологии.3
вдвойне неприятна, ибо незадолго до этого события он, как вспоминал Г. Грюн-
дгенс, заявил, что «мой контракт не может быть продлён, так как я нежелателен
(в театре.— Е. 3.)», т.е. актёр попросту был уволен (Gründgens G Briefe. Aufsätze.
Reden / Hrsg. v. R. Badenhausen u. P. Gründgens-Gorski. München, 1970. S. 14).
1 Reich-Ranicki M. Mein Leben. Stuttgart, München, 2000. S. 110.
2 Gründgens G. Op. cit. S. 18-19.
Только этим можно объяснить настойчивость, с которой Геринг старался всячески
удержать Грюндгенса в Государственном театре. После того, как в апреле 1936 г.
официальный орган нацистов «Фёлькишер беобахтер» опубликовал разгромную,
322
Изгнание Йоста из Государственного театра не означало
какой-либо опалы. В феврале 1935 года Йост отправляется по линии
ведомства Геббельса в полугодовую пропагандистскую поездку
по Европе, результатом которой было появление книги «Маска
и лицо. Путешествие национал-социалиста из Германии в Германию»
(»Maske und Gesicht. Reise eines Nationalsozialisten von Deutschland
nach Deutschland, 1935«). Книга полна столь страстного восхваления
новой Германии, выражения столь безоглядной преданности Йоста
нацистскому движению, что в свете недавних событий в его жизни
она воспринимается не иначе как верх низкопробной лести и заи-
скивания. Об этом свидетельствует уже посвящение книги «Генриху
Гиммлеру в знак верной дружбы»,1 которое вызвано стремлением
Йоста заручиться поддержкой главы СС в сложившейся непростой
ситуации. Этими же надобностями вызваны и прочувствованные
слова по поводу книги графини Фанни Виламовитц-Мёллендорф
«Карин Геринг» (»Karin Göring«, 1935), посвященной жизни первой
жены Г. Геринга, умершей в 1931 году.2 Йост, которого Геринг
в довольно грубой форме отправил в отставку с поста главного
режиссёра Государственного театра, теперь пытается, ссылаясь
на нежные письма Геринга к матери Карин, представить своего
обидчика ангелом во плоти, называя его «мужчиной в самом глубо-
чайшем смысле», и хотя «за границей слишком часто поговаривают
о том, что Геринг это вояка, брутальная натура, но я буду с сегод-
няшнего дня всем этим достойным людям, которые распространяют
подобные избитые мнения, вручать эту книгу».3 Именно поэтому
на целую страницу, статью о Грюндгенсе, он уехал в Швейцарию с намерением
больше не возвращаться в Германию. Обеспокоенный Геринг позвонил ему лично
в Швейцарию, сообщил о том, что он арестовал авторов этой статьи, и попросил
Грюндгенса вернуться в Берлин с тем, чтобы обговорить все условия его работы.
По возвращению в Берлин, Геринг устроил спектакль с извинениями авторов
этой статьи. Грюндгенс вспоминает: «Он заклинал меня остаться, сообщить ему
все мои требования и был готов их исполнить. Он подчеркнул, что если я уеду, он
уже не сможет защитить мою семью и моих близких друзей». И он нашёл средство
защиты, присвоив Грюндгенсу звание государственного советника, носитель кото-
рого обладал иммунитетом, согласно которому его можно было арестовать только
с согласия Геринга (Gründgens G Op. cit. S. 17-18).
1 Johst H. Maske und Gesicht. Reise eines Nationalsozialisteb von Deutschland nach
Deutschland. München, 1935. S. 5.
2 Ibid. S. 132-135.
3 Ibid. S. 133.
323
Йост считает книгу о Карин Геринг «неслыханно важной для загра-
ницы, потому что она разрушает отвратительные легенды о том,
что движение Гитлера не оставляет для женщины никакого места». '
Однако апофеозом этого пропагандистского опуса Йоста явля-
ется безмерное восхваление Гитлера. Мало того, что упоминание
имени Гитлера не сходит со страниц этой книги, но в доверше-
ние всех патетических возгласов о великой миссии фюрера Йост
заканчивает её сладкоголосой главой о встрече с вождём нации
в рейхсканцелярии. Каждое слово фюрера, каждое его движение
вызывает у Йоста неописуемое умиление. Фюрер справляется о его
поездке за рубеж и мимоходом добавляет: «Вы, наверное, читали,
я тоже был там... Я был в Венеции». Действительно, фюрер сказал
совершенно наивно: «Вы, наверное, читали». Этот человек ничего
не предполагает. Он начинает каждый разговор по-сократовски,
совершенно произвольно».2
Глава заканчивается двумя стихотворениями Йоста. Одно,
«Призыв Роланда» (»Rolandsruf«, 1918), в котором он, восхваляя
страдания немецкого народа, утешает его тем, что они не напрасны:
Я чую, мой народ, бури
смутное предвещание...
...другое, «К фюреру» (»Dem Führer«), откровенный панегирик
спасителю:
И народ и фюрер слились воедино
Третий рейх окаменел, закалился,
Стоит прочно в сиянии зари,
Преображённый как великолепнейшая дароносица
Твоей счастливейшей улыбкой, мой фюрер!3
Подобного рода изъявления верноподданнических чувств
не остались без внимания, и стараниями Розенберга Йост был
выдвинут в качестве кандидата на только что учреждённую Гит-
лером премию НСРПГ «за заслуги в области искусства и науки».
Науку представлял Ганс Гюнтер, ведущий специалист по вопросам
расовой теории. Подобный тандем достаточно красноречиво гово-
рил о характере культурных предпочтений нацистов.
1 JohstH. Op. cit. S. 134.
2 Ibid. S. 206.
3 Ibid. S. 209.
324
Как видно из выступления Розенберга на имперском съезде
НСРПГ в Нюрнберге в 1935 году, руководство партии придавало
большое значение вкладу Йоста в становление нацистской идео-
логии в стране: «Йост... создатель „Шлагетера", который прославил
того самого человека, о котором мы и на этом имперском съезде
вспомним, о его совершенно безоговорочном самоотречении и бое-
вой готовности ради немецкого народа, стал символом пробудив-
шейся молодой Германии. Этой мученической смерти национал-со-
циалистской Германии Ганс Йост создал в своей драме памятник
потрясающего рода».1 11 сентября 1935 года в оперном театре
Нюрнберга состоялся торжественный акт вручения этой премии,
на котором присутствовала вся политическая элита Третьего рейха
во главе с Гитлером, тем самым недвусмысленно давалось понять,
что Йост является первым бардом нацистской литературы. Отсю-
да понятно последовавшее 1 октября 1935 года назначение Йоста
на должность президента «Имперской палаты письменности».
Должность эта, по большому счёту, отвечала как честолюбивым
интересам самого Йоста, ибо она открыла перед ним необъятный
простор для личного представительства в культурной и отчасти
политической жизни Третьего рейха, так и надобностям нацистско-
го государства, ибо более лучшего и приемлемого для внешнего, как,
впрочем, и для внутреннего потребления пропагандиста идеологии
национал-социализма трудно было найти: «Он олицетворял собой
совокупность всей националистически ориентированной немецкой
литературы».2 И это притом, что, начиная с 1935 года и до конца
Третьего рейха, Йост как литератор в истинном смысле этого сло-
ва перестал существовать. Опубликованные за этот период три
книги — уже упоминавшаяся «Маска и лицо» (1935), «Зов рейха —
Отклик народа! Поездка на Восток» (»Ruf des Reiches — Echo des
Volkes! Eine Ostfahrt«, 1940) и «Фриц Тодт. Реквием» (»Fritz Todt.
Requiem«, 1943) —являются чисто пропагандистскими, заказными
произведениями, в которых от прежнего Йоста остались лишь сла-
бые напоминания о былом таланте. Агитатор, оратор, пропагандист,
«мыслитель», как его иногда представляли в нацистской прессе, а,
1 Rosenberg A. Gestaltung der Idee. Blut und Ehre. Bd. 2. Reden und Aufsätze von 1933-
1935. München, 1936. S. 336.
2 Düsterberg R. Hans Johst — der Literaturfunktionär und Saga-Dichter // Dichter für
das »Drirre Reich«. Biographische Studien zun Verhältnis von Literatur und Ideologie /
Hrsg. v. R. Düsterberg. Bielefeld, 2009. S. 114.
325
в общем-то, самовлюблённый человек, упивающийся открывшими-
ся возможностями быть в центре внимания не в силу собственной
значимости как творческой личности, а в силу занимаемой долж-
ности президента «Имперской палаты письменности» — таким Йост
оставался до конца Третьего рейха.
Хотя в этом качестве самой палате Йост уделял мало внимания,
вернее уделял в той мере, в какой это отвечало его личным надоб-
ностям и сохранению его имиджа в глазах партийного руководства,
он всё же находился в курсе всех её событий, выполняя роль регу-
лятора, следившего за тем, чтобы во вверенном ему учреждении
сохранялся порядок, не вникая при этом в чисто литературные
проблемы. В этой связи проявилась двойственность его натуры.
С одной стороны, Йост много сделал для того, что спасти от гестапо
Курта Пинтуса, известного писателя, эссеиста, одного из теоретиков
экспрессионизма, с которым он находился в дружеских отноше-
ниях ещё со времён расцвета этого литературного направления.
В 1934 году Йост даёт письменное свидетельство о заслугах Пинтуса
перед немецкой литературой,1 а в 1937 году помогает ему, по сви-
детельству Пинтуса, покинуть с семьёй Германию и даже вывести
его обширную библиотеку.2
Более масштабной и необычной выглядит история другого
представителя того же цеха — Готфрида Бенна. Йост был зна-
ком с Бенном ещё с начала 20-х годов, ещё более это знакомство
усилилось во время преобразования секции поэзии в Прусской
академии искусств в «Немецкую академию поэзии», а также при
организации «Союза национальных писателей», появившегося
стараниями обоих авторов после выхода Германии из ПЕН-клуба.
Бенн и Йост зачастую выступали совместно в разработке различ-
ного рода документов, постановлений, а симпатии Бенна к новым
властителям в Германии ещё более усилили их знакомство. Поэтому,
когда в 1934 года нацисты заподозрили наличие у него еврейских
корней, Бенн обратился к Йосту за помощью, и Йост тут же отклик-
нулся: «Я подтверждаю,., что г-н Бенн с самого начала поставил
себя на службу новому государству и никогда не нарушал законы
национальной чести. Кроме формального подтверждения мне
надлежит в рамках вверенных мне фюрером и рейхсканцлером
1 Düsterberg R. Hans Johst: Der »Barde der SS«... S. 283.
2 Ibid. S. 283.
326
под мою ответственность ведомств немецкой письменности сер-
дечно поблагодарить г-на доктора Бенна за мужественную борьбу
за немецкую культуру в духе Третьего рейха на международном
фронте!»1 В 1937 году, после разгромной статьи о Бенне сначала
в газете СС «Шварце Корпс», а затем и повтор её в «Фёлькишер
беобахтер», появляется книга некоего третьестепенного художника
Вольфганга Вилльриха, сотрудника ведомства Вальтера Дарре,
вождя немецкого крестьянства, «Очистка храма искусства» (»Säu-
berung des Kunsttempels«), в которой выражалось возмущение
по поводу того, что «некий культурбольшевик, во время перебе-
жавший в НСРПГ, занимает сегодня (в 1936 году!) важное место
в Литературкаммер», и недоумение по поводу того, что критика
в «Шварце Корпс» не возымела успеха.2 Бенн опять вынужден
обратиться за помощью к Йосту, тот, со своей стороны, от имени
палаты пишет опровержение, а когда узнаёт, что Вилльрих в лич-
ном письме на имя Бенна поносит и его, то подключает к про-
блеме своего лучшего друга Гиммлера, потому что почувствовал
обиженным и самого себя. Гиммлер указал Вилльриху его место
и запретил своим сотрудникам (значит, и газете «Шварце Корпс»)
заниматься Бенном. Здесь, как справедливо пишет Р. Дюстерберг,
речь шла не столько о Бенне, Бенн был лишь поводом, а о сопер-
ничестве между Дарре, мечтавшем подмять под себя «Имперскую
палату письменности», Розенбергом, лелеявшим такие же планы,
и Геббельсом, опередившим обоих соперников.3
Но тут случилось непредвиденное. Через голову Йоста Геббельс
с подачи Геринга отчислил Бенна из «Имперской палаты письмен-
ности», поставив под угрозу само его существование, ибо такой же
удар по инерции мог последовать и со стороны «Палаты врачей»,
учитывая основную специальность писателя. По просьбе Йоста
Гиммлер добился того, чтобы Бенна оставили в покое и позволили
ему остаться на воинской службе в качестве врача, чем и создали
ему условия уйти в военную «внутреннюю эмиграцию». Какие-то
статейки и высказывания продолжали появляться, но не с той
интенсивностью, ибо Йост по-прежнему продолжал оказывать Бенну
повсеместную помощь: «Игнорируйте критику»,— сообщал ему Йост
1 Düsterberg R. Op. cit. S. 277.
2 Ibid. S. 277.
3 Ibid. S. 278-279.
327
в своей телеграмме в мае 1939 года.— «Ручаюсь за неприкосновен-
ность и безупречность Вашей поэтической личности».1
Бенн до конца своей жизни, утверждает Р. Дюстерберг, был
благодарен Йосту за помощь в трудные годы фашизма.2 Однако
в своей книге «Двойная жизнь» (»Doppelleben«, 1943-1950) Бенн
пишет лишь о том, что «Йост — надо отдать ему должное — всегда
вёл себя по отношению ко мне честно.. .»,3 и все перипетии своих бед
свёл к разговорам со своим военным начальством, благоволившим
к нему. Скорее всего, такая «забывчивость» Бенна связана с тем,
что «Двойная жизнь» появилась как ответ писателя на обвинения
немецких эмигрантов в связи с его начальной приверженностью
к идеологии национал-социалистов.
Заступничество Йоста не ограничилось лишь Пинтусом и Бен-
ном. Среди тех, кому он оказал существенную помощь против поли-
тического преследования были писатели Лео Вайсмантель, Манфред
Хаусман, однако помощь эта носила избирательный характер. Йост
мог и мстить своим коллегам по цеху, и самым ярким примером
тому может служить его печально знаменитое письмо Гиммле-
ру от 10.10.1933 года с предложением арестовать и отправить
в концлагерь Дахау в качестве заложника Томаса Манна с тем,
чтобы заставить замолчать его сына Клауса Манна, издававшего
в Амстердаме эмигрантский журнал «Заммлунг» (»Die Sammlung«):
«Так как этот полуеврей вряд ли перейдёт к нам и, следовательно,
мы не сможем его, к сожалению, посадить на стульчик, я бы пред-
ложил в этой ситуации прибегнуть к захвату заложника. Нельзя ли
слегка заарестовать господина Томаса Манна, Мюнхен, из-за его
сына? Его духовная продукция не пострадает от осенней свежести
Дахау, мы ведь знаем по примерам из наших собственных рядов,
какие великолепные произведения были успешно написаны именно
национал-социалистскими заключёнными. Достаточно вспомнить
о Гитлере и Реме. Я упоминаю об этом с тем, чтобы мы в этом
отношении могли подстраховаться в случае, если нас назовут вар-
варами. Ведь мы выступаем только против клеветнической плоти
господина Манна, а не против его европейского духа».4
1 Düsterberg R. Op. cit. S. 280.
2 Ibid. S. 280.
3 Бенн Г. Двойная жизнь // Бенн Г. Двойная жизнь. Проза. Эссе. Избранные стихи. /
Сост. И. Болычев, В. Вебер. Аугсбург, Москва, 2008. С. 180.
4 Düsterberg R. Op. cit. S. 288. Г. Геринг о Т. Манне.
328
Откровенный цинизм этого письма вызван не только стрем-
лением закрыть эмигрантское издание, в котором публиковались
изгнанные из Германии писатели, но в ещё большей степени
всё возраставшей с 1922 года, после знаменитой речи Т. Манна
«О немецкой республике» (»Von deutscher Republik«), ненавистью
Йоста к своему прежнему другу.
Предложение Йоста Гиммлеру понравилось, но вскоре выяс-
нилось, что Т. Манн ещё 10 февраля 1933 года покинул Германию,
и акция Йоста провалилась. Подобная неосведомлённость о место-
нахождения одного из значимых врагов рейха является лишним
свидетельством того, в какой степени Йост (Гиммлеру хватало вра-
гов и в самом рейхе) интересовался литературными делами, будучи
на данный момент президентом секции поэзии в Прусской акаде-
мии искусств.1 Свою деятельность на посту президента «Палаты
письменности» Йост воспринимал как сугубо представительскую,
полагая себя неким олицетворением всей истинно немецкой, т.е.
национал-социалистской литературы.
Апофеозом карьеры Йоста стало присвоение ему в 1935 году
звания оберфюрера СС, а в 1937 году — группенфюрера СС, при-
равненного к генеральскому званию. Йост гордился этим званием,
и даже после крушения рейха продолжал утверждать, что со сторо-
ны Гиммлера это было «очень благородно» таким образом отметить
его заслуги перед Германией. Таким образом, дружба Йоста с Гимм-
лером, носившая чуть ли не интимный характер (Йост называл
Гиммлера «великим братом одного немецкого поэта»),2 переросла
в политическое содружество, ибо Гиммлер задумал создать некую
«сагу» о войсках СС, и Йост как никто лучше всего подходил для
этой цели.
В 1939 году, после падения Польши, Гиммлер был назначен
«рейхскоммисаром по упрочению немецкой народности», т.е.
ответственным за германизацию завоёванных польских земель,
что подразумевало депортацию евреев в определённые дистрикты,
переселение поляков с земель, подлежащих германизации. 24 октя-
бря 1939 года Гиммлер отправился в инспекционную поездку
1 К. Манн, хотя он и не мог знать о намечавшейся акции, отомстил Йосту за попытку
посягнуть на жизнь его родного отца, изобразив Йоста в 1936 г. в сатирическом
романе «Мефистофель» (»Mephisto«) в образе государственного советника Цезаря
фон Мука.
2 Düsterberg R. Op. cit. S. 289.
329
по оккупированной Польше, взяв с собой Йоста с тем, чтобы тот
вживую ознакомился с деятельностью войск СС. Судя по всему,
Йост придавал этой поездке огромное значение, если даже отказал-
ся выступить с обязательной речью на Великогерманской встрече
поэтов в Веймаре (25-28.10.1939). Во время поездки по Польше
Йост принимал участие в беседах Гиммлера с высшими офицерами
генерал-губернаторства (так называлась Польша в годы нацистской
оккупации), слушал их рапорты об уничтожении польских евреев
и представителей интеллигенции, присутствовал при депортации
евреев Лодзи в Люблин, где нацисты, как с удовлетворением отме-
чал Йост, создали «первую в Европе еврейскую территориальную
резервацию»,1 был свидетелем показательных расстрелов польских
саботажников, специально устроенных для высоких гостей. Всё
это подвигло Йоста к выводу о том, что немецкие поэты слишком
мягкотелы: «...немецким поэтам... следует принимать участие
в экзекуциях, проводимых на Востоке, с тем, чтобы увиденное
сделало из них настоящих мужчин».2 Более развёрнуто эту мысль
Йост изложил в своём выступлении по радио в июле 1942 года,
положив тем самым начало групповым выездам писателей в дей-
ствующую армию.3
Если первая поездка Йоста с командой Гиммлера в Польшу
была своеобразной прикидкой, сбором материала для будущей
«саги», то вторая поездка в Польшу 25 января 1940 года в той же
компании дала писателю обширный материал для создания первой
книги о деятельности СС «Зов рейха — отклик народа! Поездка
на Восток». Цель поездки носила пропагандистский характер и свя-
зана была с переселением так наз. волынских немецких крестьян
с восточных территорий Польши, занятых советскими войсками,
на этническую родину в Германию,4 а также с инспекцией состо-
яния дел в губернаторстве. Йост присутствовал во время бесед
1 Johst H. Ruf des Reiches — Echo des Volkes! Eine Ostfahrt. München, 1940. S. 72.
2 Düsterberg R. Op. cit. S. 303.
3 Ibid. S. 303.
4 К сожалению, российские, как, впрочем, и немецкие исследователи, обходят сто-
роной этот исторический эпизод. Автор последней известной работы в этой обла-
сти, Ерохина О. В., в своей диссертации «Социально-экономическое и культурное
развитие немецких поселений Области Войска Донского 70-е гг. XIX в.— 1917 г.»
(2001), даже не пытается в общих чертах сказать что-либо о дальнейшей судьбе
этих поселений.
330
Гиммлера с высшими немецкими оккупационными чинами. Выслу-
шав отчёт одного из офицеров СС об уничтожении 300 пациентов
психиатрической больницы, а также сообщения о подобного рода
акциях других высоких чинов СС, Йост замечает: «В сердцах этих
людей заключён катехизис воли фюрера, и с этим вросшим в них
и надёжным ощущением порядка они энергично, точно и храбро
и с совершенством делают то, что от них требуется... Мне нравятся
такие пионеры нового государства, которые ярко демонстрируют
новым провинциям закономерности нашей расы».1
Именно люди такого сорта являются для Йоста главными геро-
ями его «саги» о «подвигах» СС, и он с самозабвением, сравнивая
себя с Цезарем и Тацитом, пускается, «словно Одиссей», в плавание
по оккупированной Польше, прославляя силу немецкого оружия:
«Борьба идёт не на жизнь, а на смерть! И растёт уверенность в том,
что более сильный элемент одолеет слабого! Ради чего он одолевает,
это является судьбоносным вопросом победителя! На этот вопрос
не ответит ни один романтик и никакая идеология, не нажив себе
мозолей. Этот ответ даст только более сильный!»2 Деяния этого
«сильного» по уничтожению поляков и евреев Йост наблюдал лично,
и пришёл к выводу, что «времена сентиментальности прошли. Того,
кто мягок, пронзит кинжал ненависти»,3 потому что «унаследован-
ная здоровая кровь» является «единственной предпосылкой закона
жизни, в соответствии с которым народ входит в историю».4
Речь идёт, конечно, о немецком народе: «Поляки ни в коем
случае не являются государствообразующим народом. У них отсут-
ствуют для этого простые предпосылки. Вместе с рейхсфюрером
СС я проехал страну вдоль и поперёк. Страна, которая имеет столь
малое понятие о сути поселения, которого даже ни сколько не хва-
тает для понятия стиля деревни, эта страна не имеет никаких
притязаний на какое-либо самостоятельное властное положение
в европейском пространстве. Это колониальная страна!.. Скоро
немецкий плуг изменит эту картину».5 Йост настолько упоён уви-
1 JohstH. Ruf des Reiches... S. 73.
2 Ibid. S. 91
3 Ibid. S. 131
4 Ibid. S. 117
5 Ibid. S. 90-91.
331
денным, что в восторге восклицает: «Никогда я ещё не был таким
ясным и окончательным национал-социалистом, как здесь».1
Эти и многие другие высказывания Йоста были оценены
по заслугам Гиммлером. С октября 1939 по ноябрь 1944 годы Йост
постоянно находился в полевом штабе Гиммлера, присутствовал
на встречах с узким кругом генералов, где ещё 12 июня 1941 года
шеф СС объявил о грядущем нападении на СССР, сопровождал
Гиммлера во время посещения еврейского концлагеря в 1942 году
и участвовал в октябре 1943 года в совещании, на котором Гимм-
лер произнёс свою печально знаменитую речь об «окончательном
решении еврейского вопроса: «Я хочу упомянуть с полной откро-
венностью ещё об одной совершенно тяжёлой проблеме... Я имею
в виду теперь эвакуацию евреев, уничтожение еврейского народа.
Это легко сказать. «Еврейский народ будет уничтожен,— говорит
каждый член партии.— Здесь всё ясно, об этом говорится в про-
грамме партии, об изоляции евреев, об уничтожении евреев, мы
это сделаем». И тогда все они, все 80 миллионов славных немцев
приходят к нам, и у каждого есть свой порядочный еврей. Понятно,
что все остальные свиньи, а вот этот — отличный еврей. Каждый
из тех, кто так говорил, остался ни с чем, ничего не добился. Боль-
шинство из вас знает, что значит, когда рядом лежат 100 трупов,
когда тут же лежат 500 или 1000 трупов. Это всё вынести и при
этом — несмотря на исключение человеческой слабости — остать-
ся порядочным — это делает нас твёрдыми. Это есть неписаная
(и никогда написанной не будет) славная страница нашей истории...
Но в целом, мы можем сказать, что мы эту сложнейшую задачу
выполним из любви к нашему народу. И от этого наш внутренний
мир, наша душа, наш характер ничуть не пострадают».2
Как обстояли дела с внутренним миром у участников этой
встречи в дальнейшем трудно сказать, но Йост совершенно точно
не испытывал никаких угрызений совести, когда через две недели
после означенного совещания написал донос личному референту
Гиммлера на соседа по дому, «полного еврея», осмелившегося потре-
бовать соблюдения тишины. Правда, из этого ничего не вышло,
сосед оказался «полуевреем», женатым на «арийке»,3 но тот факт, что
1 Johst H. Op. cit. S. 64.
2 Цит. по: Düsterberg R. Hanns Johst: »Der Barde der SS«... S. 314.
3 Ibid. S. 316-317.
332
Йост принял речь своего друга как руководство к действию, говорит
о его беззаветной преданности идеологии национал-социализма.
После 1945 года Йост трижды привлекается к суду, но с каж-
дым разом степень его виновности признаётся, как это было
обычным делом в западногерманских судах того времени, менее
значимой, и в 1955 году его полностью реабилитируют.
Реабилитация Йоста-писателя не состоялась, несмотря на то,
что в том же году он публикует роман «Благословенная быстротеч-
ность» (»Gesegnete Vergänglichkeit«). Написанный ещё в годы нациз-
ма и теперь очищенный от антисемитских пассажей, роман под-
вергся уничтожающей критике,1 что, впрочем, нисколько не сму-
тило автора. В литературном архиве в Марбахе хранится огромное
количество стихов, рассказов, фрагментов и просто заметок, сви-
детельствующих о том, что Йост по-прежнему мыслил категориями
прошлого, хотя иногда он приходил к осознанию заката собственной
литературной значимости, как это видно из одного фрагмента:
«Я никогда не буду открыт... для интеллектуалов — я слишком глуп,
а для глупцов — слишком интеллектуален».2
Как бы строго ни судил о себе Г. Йост, но среди немногочис-
ленных авторов, действительно исповедовавших идеологию нацио-
нал-социализма, его можно было отнести к разряду интеллектуалов,
чего не скажешь о Гансе Цёберляйне (Zöberlein, Hans; 1895-1964),
чьи немногочисленные, но лишённые какой-либо художественной
значимости произведения, посвященные событиям первой миро-
вой войны и периоду становления нацистского «движения», высоко
ценились не только идеологами национал-социализма, но и про-
стыми читателями. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что
тираж первого романа Цёберляйна «Вера в Германию. От Вердена
до переворота. Военные воспоминания» (»Der Glaube an Deutschland.
Ein Kriegserlebnis von Verdun bis zum Umsturz«, 1931) к 1944 году
достиг 650000 тысяч экземпляров, второго романа «Приказ сове-
сти. Роман смутного послевоенного времени и первого подъёма»
(»Der Befehl des Gewissens. Ein Roman von den Wirren der Nachkriegs-
zeit und der ersten Erhebung«, 1937) — 500000 тысяч экземпляров.
Творчество Г. Цёберляйна есть порождение национал-социа-
лизма в чистом виде, поэтому, несмотря на тривиальную основу
1 Düsterberg R. Op. cit. S. 386-387.
2 Ibid. S. 399.
333
его книг, есть смысл рассмотреть его произведения на предмет
выяснения природы собственно партийной литературы «движе-
ния», особенно если учесть, что этот автор подаётся в официальном
нацистском литературоведении как образцовый представитель той
самой желанной новой истинно национал-социалистской литера-
туры.1 Правда, новизна эта довольно сомнительна, ибо по своей
сути, по манере изложения оба эти романа являются своеобразной
калькой с романа Г. Гримма «Народ без пространства». Сюжетные
перипетии романов постоянно перемежаются обильными автор-
скими рассуждениями общеполитического свойства, напомина-
ющие передовые статьи «Фёлькишер беобахтер». Цёберляйну явно
не хватает художественных средств для характеристики поступков
своего главного героя Ганса Крафта, его образ лишён человеческой
теплоты, Крафт всегда выступает как оратор, а не как живой чело-
век со всеми присущими ему свойствами.
Г. Цёберляйн родился в Нюрнберге в семье сапожника, выу-
чился на каменщика, впоследствии получил диплом архитектора.
Участник первой мировой войны, отмеченный многими наградами,
Цёберляйн примкнул к добровольческому корпусу генерала Риттера
фон Эппа, участвовал в 1919 году в разгроме Баварской респу-
блики, в 1921 году стал членом НСРПГ (партийный билет № 869),
вступил в CA (штурмовые отряды), принимал участие в мюнхен-
ском путче 1923 года. Несмотря на активное участие в «движе-
нии» и близость к окружению Гитлера, партийная, как, впрочем,
и архитектурная карьера Цёберляйна не состоялась, хотя к концу
Третьего рейха он носил звание бригаденфюрера CA. Зато на лите-
ратурном поприще Цёберляйн достиг такого успеха, что его первый
роман «Вера в Германию» удостоился предисловия фюрера: «Здесь
заключён залог фронта!.. В этой книге ощущаешь, как бьётся сердце
фронта, источник той силы, которая создала наши непреходящие
победы».2 Правда, после 1934 года, ознаменовавшегося «кровавой
чисткой» руководства штурмовых отрядов CA во главе с Э. Рёмом
(а Цёберляйн был не последним человеком в CA), предисловие фюре-
ра исчезло, но это никак не отразилось на значимости романа как
самого успешного, по мнению нацистской критики, произведения
1 Deutsche Dichter unserer Zeit / Hrsg. v. H. Gerstner und K. Schworm. München,
1939. S. 604-605.
2 Цит. по: Mulot A. Die deutsche Dichtung unserer Zeit. S. 44.
334
о Первой мировой войне, что и было засвидетельствовано присуж-
дением ему в 1933 году премии города Мюнхена.
Роман Цёберляйна можно считать своеобразным ответом
на роман Э. М. Ремарка «На Западном фронте без перемен» (1928).
Ответ, однако, был явно не адекватен, учитывая довольно низкую
художественную значимость этого произведения. Тем не менее, сре-
ди огромного количества книг подобного сорта роман Цёберляйна
выделяется некоей интимностью изображения войны, когда всё
сводится к изображению бытования на войне небольшой группы
солдат, живущих некоей семьёй. Война как таковая воспринима-
ется ими «как буря в разгар лета после душного дня»,1 и поэтому
политическая основа возникновения войны почти не упоминается
в романе. Главное здесь — воспевание фронтового товарищества
(Kameradschaft), построенного на предельно простой основе в пре-
дельно узком кругу и лишённого какого-либо классового характера:
«Нечто новое, ещё неясное начинает кристаллизоваться в наших
умах как всеохватывающее нашу жизнь, интуитивно оно живёт
в нас уже дольше. Мы товарищи, всё очень просто. Можем ли мы
и у себя на родине, как товарищи, сделать нашу жизнь прекраснее,
чистой от взаимной ненависти? Конечно, можем! Если это получа-
ется здесь, то получится и на родине!»2
Однако родина в понимании героев романа заключается
во всеобъемлющем слове «Германия», а не в идиллических картинах
родного угла: «Всё, что мы слышали о родине, было таким обычным,
мелким и жалким: спекуляция, тяготы, стенания по поводу труд-
ностей времени, никакого намёка на глубокое понимание военных
событий. Война для тех, кто оставался на родине, воспринималась
как система жульничества, при которой главным считалось как
можно меньше попадаться. А положение на фронтах рассматри-
валось в газетах только как побочная нагрузка».3
Война воспринимается солдатами в изображении Цёберляй-
на как некое рыцарское действо, где есть место подвигу и место
проявления рыцарской чести. Герой-рассказчик, получив первое
ранение в бою, с трепетом вещает: «Неудержимая гордость охватила
меня, как это было свойственно в давние времена, когда кого-либо
1 Zöberlein H. Der Glauben an Deutschland. München, 1931. S. 357.
2 Ibid. S. 157.
3 Ibid. S. 330.
335
посвящали в рыцари. А разве сегодня не был я только что тоже возве-
дён в дворянство, когда моя кровь пролилась за Германию на землю
Франции?»1 С не меньшим трепетом описывается эпизод со смер-
тельно раненым английским офицером, которого немецкие солдаты
подобрали и снесли в свою землянку: «Разговаривали шёпотом; вме-
сте с раненым противником к нам вернулось невидимое величие.
Нам не нужно было справляться у санитара, мы и так видели, что
томми уже был при смерти... Его испуганные глаза оглядели тесное
помещение, и тут наш враг прошептал: "I thank you, comrades"...
И ещё, он увидел в углу маленькую рождественскую ёлочку. Это заме-
тил даже Густль, мрачно смотревший на англичанина. Сдавленным
голосом он хрипло сказал мне: „Иди, зажги свечки на рождествен-
ской ёлке ещё раз, в последний его час!" Трясущимися руками я зажёг
свечи, и все вокруг затихли, боясь даже вздохнуть. Тут с лестницы...
донеслись серебряные звуки губной гармошки Шмид-Мартля и мы
услышали ещё раз звуки „Святой ночи". Но мы не смогли открыть
рта и только смотрели на томми, как он угасающим взором внимал
свет зажжённой ёлки и прислушивался к мелодии песни как неко-
ему счастливому посланию. "I thank you, comrades!" чуть слышно
прошептал он ещё раз, и радость озарила его мальчишеское лицо».2
По-человечески сцена смерти врага сама по себе понятна,
на войне всякое бывает, но постоянное стремление Цёберляйна
придать войне некое подобие рыцарского турнира со всеми выте-
кающими отсюда атрибутами вызвано стремлением восхваления
войны как истинного проявления мужских качеств, не более того:
«Теперь я поквитался с французом, за моё ранение, полученное
весной, я ему отплатил. Гордость и радость одолели меня. Самые
смелые картины неведомых битв возникали в моей голове. Одним
ударом были преодолены все мысли и раздумья. Это личное бое-
вое событие соединило меня нерасторжимо со всеми событиями
войны. Ах да, у войны тоже есть своя приятная сторона. И это так
просто — ты или я!»3
И тут же соседствуют, лишённые какого-либо рыцарства, кар-
тины безудержной бойни, которые, при всём понимании необходи-
мости уничтожения противника (на то она и война), полны чрез-
мерно натуралистических описаний самого процесса уничтожения,
1 Zöberlein H. Op. cit. S. 35.
2 Ibid. S. 430-431.
3 Ibid. S. 129.
336
что должно свидетельствовать о жизненной силе немецкого солдата:
«Я беспрестанно орал: „Никакой пощады! Никакой пощады! Ника-
кой пощады!", и стрелял каждый раз в кого-то, хватал за горло,
когда кончался заряд в пушке, и бил открытым затвором пистолета
по лицу до тех пор, пока тёплая кровь не начинала течь по моим
пальцам... Но потом я вцепился левой рукой, покрытой кровью,
в чьё-то лицо, отшатнувшееся в испуге от меня, и с неистовой силой
ударил череп этого парня о гусеничную цепь танка так, что этот
парень вывалился из моих рук, выкатив глаза с такой силой, что
видны были только белки».1
В обоих случаях ярко высвечивается отсутствие у героя романа,
как, впрочем, и у его товарищей, понимания целей войны. У них нет
идеологической ненависти к врагу, они просто воюют, защищают
свои позиции на чужой земле, а отчаянная брутальность ведения
боя вызвана нормальным желанием выжить. Родина как символ,
придающий солдату силы, несмотря на неоднократное повторение
этого слова, оказывается в конечном итоге чем-то эфемерным,
существующим вне зоны их внутреннего восприятия.
В пику к известному американскому фильму «На Западном
фронте без перемен» (1930), поставленному по одноимённому про-
изведению Э. М. Ремарка, по роману «Вера в Германию» был создан
фильм под названием «Штурмовая группа 1917» (»Stoßtrupp 1917»,
1934), получивший категорию «ценный в государственно-поли-
тическом отношении».2 Премьерный показ фильма в берлинском
«УФА-Паласт», как сообщает «Фёлькишер Беобахтер», вылился в тор-
жественное мероприятие, в котором принял участие фюрер и вся
политическая и военная верхушка Третьего рейха. Несмотря на то,
что фильм, по отзывам историков кино, являет собой мешанину
из фронтовой хроники и игровых сюжетов, лишённых какой-либо
художественной ценности,3 он достаточно точно отражает суть
романа, а большего от него и не требовалось: «В этом фильме неиз-
вестный фронтовик видит самого себя, настоящего, простого борца
за Германию таким, каким он был, и таким, каким он стал, и здесь
он вспоминает о величии своих достижений, к которым он был спо-
собен и способным остаётся всегда, если им правильно руководить».4
1 Zöberlein H. Op. cit. Ibid. S. 774.
2 Courtade F., Cadars P. Geschichte des Films im Dritten Reich. München, 1975. S. 122.
3 Ibid. S. 121-122.
4 Anonym. Unsterbliche Soldatentum // Völkischer Beobachter. 21.02.1934.
337
Собственно, об этом же идёт речь и в романе Г. Цёберляйна
«Приказ совести» (»Der Befehl des Gewissens«, 1936), который явля-
ется продолжением романа «Вера в Германию». Герой-рассказчик,
завершая своё повествование о годах, проведённых на фронте,
говорит: «Война окончилась. Но борьба за Германию продолжает-
ся».1 Именно эта борьба, но в другом качестве, и составляет основу
второго романа писателя. Как гласит подзаголовок романа «Приказ
совести», герой-рассказчик попадает в обстановку «смутного после-
военного времени и первого подъёма»,2 т.е. зарождения национал-со-
циалистского «движения».
Как и первый роман «Приказ совести» построен на автобио-
графическом материале и написан в духе немецкого классическо-
го «романа воспитания», но в иной интерпретации — как роман
воспитания будущего национал-социалиста. Если в первом романе
героем-рассказчиком руководили военные, сделав из него человека,
в котором дух милитаризма стал определяющим в его последующей
жизни, то во втором романе им руководят не столько военные,
сколько политики, сделав из него истового поклонника нацизма,
который будет верен заветам партии до конца. Эта верность впо-
следствии нашла свой выражение уже в биографии самого Цёбер-
ляйна, когда он в преддверии приближающихся американских
войск в ночь с 28 на 29 апреля 1945 года, будучи предводителем
отряда «вервольф», казнил как предателей восемнадцать жителей
города Пленцберга, что под Мюнхеном, пытавшихся предотвратить
бессмысленное пролитие крови и разрушение города.3
Герой романа, Ганс Крафт, как и сам автор, сын сапожника,
возвращается с фронта, вступает в добровольческий отряд, уча-
ствует в разгроме Мюнхенской республики, учится в строитель-
ной школе, получает диплом архитектора и даже открывает своё
проектное бюро. Однако дела идут плохо, и виной тому, конечно,
являются евреи. Путём долгих исканий Крафт приходит к осозна-
нию значимости для него и для Германии идей Гитлера, но вера
в национал-социализм оборачивается для него потерей работы,
и он, как простой каменщик, поселяется в рабочем квартале
Мюнхена, организует отряд самообороны, который в постоянных
1 Zöberlein H. Der Glaube an Deutschland. München, 1931. S. 890.
2 Ibid. S. 3.
3 http://www.mordnacht.de/index.html
338
уличных стычках с красными становится боевой дружиной пар-
тии и участвует в знаменитом «пивном путче» в ноябре 1923 года,
ознаменовавшемся запретом НСРПГ.
Здесь нет ничего выдуманного, Цёберляйн рассказал о себе,
о своей жизни, и в известной степени это роман-признание, белле-
тризованная биография, однако по своему настрою и стилю изло-
жения этот роман является зеркальным отражением «Фёлькишер
беобахтер», сдобренным разговорными интонациями и простецки-
ми рассуждениями в солдатском духе. В конечном итоге — это сам
Цёберляйн. По содержанию, по тематическому набору, по идеологи-
ческому настрою «Приказ совести» ничем не отличается от романа
Эмиля Штрауса «Танец жизни». Но если у Штрауса всё многообразие
переживаний его героя передаётся размеренной, рафинированной
прозой, уснащённой отсылками к великим писателям, философам,
рассуждениями светского характера, не лишёнными высокой
патетики, то у Цёберляйна вся его рассказовая стихия напоминает
разговор за кружкой пива в заплёванной забегаловке. Иногда эта
пивная патетика разбавляется примитивными ораторскими клише
в разухабистом стиле нацистских ораторов, когда в ход идут выра-
жения уличной ругани. Эта простота уличного говора, отсутствие
каких-либо сложных конструкций речи, иностранной лексики,
как и сама тематика рассуждений героев романа, основанная
на мещанских предубеждениях, привлекала читателей, видевших
в героях Цёберляйна свойских ребят, которые разделяют их взгляды
на жизнь. Цёберляйн стал неким рупором народного недовольства.
Не случайно в первых главах романа главным выразителем
народного гнева выступает простой сапожник, отец Крафта, кото-
рый как бы вводит сына, вернувшегося с фронта, в курс дела. Он
постоянно честит «этих евреев и спекулянтов, кровососов и ростов-
щиков»,1 разражается бранью по поводу «гнусного предательства,
совершённого этой революцией (Ноябрьской революцией 1919.—
Е.З.) по отношению к солдатам», бросив их на произвол судьбы:
«Эти преступники, эти выродки, эти каторжники и висельники!
Они сегодня задают тон и воруют!»2
Крафт утверждается в мысли, что главными врагами Герма-
нии являются красные и евреи, а с ними вместе и вся Веймарская
1 Zöberlein H. Op. cit. S. 24.
2 Ibid. S. 44.
339
республика, но не знает, что делать в сложившейся ситуации,
и надеется «на некое чудо, на некий подъём, на какой-то протест». '
Именно поэтому он с энтузиазмом принимает участие в добро-
вольческом корпусе с тем, чтобы освободить Германию от «крас-
ного сброда», который следует «истребить как чумных крыс, даже
если бы среди них были собственные братья».2 Примечательно, что
все возможные преобразования в стране Крафт связывает только
с силовыми акциями, в которых главную роль он отводит фронто-
викам, ибо именно в них ещё осталась «здоровая кровь».3 Более того,
на их плечи ложится и создание нового поколения немцев: «Нового
немецкого человека могли бы воспроизвести благодаря нашим, сол-
датским усилиям наши жёны. В этом поколении немецкий народ
был бы прекраснее, величественнее и чудеснее, чем раньше».4 При
этом воссоздание новой Германии, по мнению Крафта, должно
происходить «из глубины души», на иррациональной основе: «Стро-
ительным материалом для нового времени должно служить не то,
что заложено в мозгу, а то, что зарождается в крови».5
Однако все борения фронтовиков за новую Германию ослож-
няются происками евреев, и эта проблема обретает у Цёберляйна
глобальный характер. Пожалуй, только Артур Динтер, истово пёк-
шийся в своих романах о чистоте немецкой крови, мог бы срав-
няться с Цёберляйном по степени накала дискуссии о губительном
воздействии евреев на становление немецкого народа. Практически
в романе нет ни одной главы, где бы Цёберляйн в той или иной
надобности ни говорил об евреях. В этом смысле примечательны
главы «Еврейский вопрос» и «Мириам», в которых Цёберляйн пыта-
ется наглядно, как он полагает, представить опасности присутствия
евреев в повседневной действительности.
В первой главе «грязные евреи» набросились на пляже на люби-
мую девушку Крафта Берту Шёне с грязными предложениями
и даже пытались затащить её в машину, если бы к этому време-
ни не подоспел Крафт, который пустил в ход кулаки и разогнал
1 Zöberlein H. Op. cit. S. 44.
2 Ibid. S. 185.
3 Ibid. S. 229.
4 Ibid. S. 247.
5 Ibid.
340
«избранников сатаны», что вызвало гнев смотрителя пляжа, засту-
пившегося за богатых клиентов.1 Последующий диалог между Бер-
той и Крафтом по своей ходульности напоминает агитационную
листовку: «Эти еврейские свиньи погубят нас, высосут из нас всю
кровь». На что Крафт отвечает: «А кровь— это самое лучшее и дей-
ственное, чем мы ещё владеем».2 Однако Берта не успокаивается:
«Меня охватывает ужас от одного их прикосновения, такое чувство,
как будто змея проползла по мне. Меня охватывает страх от того,
что есть ещё немецкие девушки, которые не ощущают этого... Ганс,
Как ты относишься к еврейскому вопросу?» Видя, что он задумал-
ся, она добавляет: «Раньше я знала, что этот вопрос является для
нас животрепещущим. Это пробный камень, на котором должно
у немцев отделять настоящее и ненастоящее».3 На что Крафт глу-
бокомысленно замечает: «В чём тут дело, я не знаю, но думаю, что
всё заключено в нашей крови. Евреи для нашего восприятия — это
грязные люди, ведущие себя по-свински, бесчестно. Короче гово-
ря, полная противоположность нам».4 Для того чтобы смыть с себя
^еврейскую грязь», молодые люди отправляются в чистые от еврей-
ского присутствия воды пруда, где и совершают по древнему
немецкому обычаю этот акт очищения, купаясь в чём мать родила.5
В другой главе Цёберляйн рассматривает еврейский вопрос
;fia более высоком уровне, в ход идут доморощенные мифологиче-
ские теории о стремлении евреев намеренно сходиться с представи-
телями белой расы для того, чтобы притоком свежей крови спасти
0т вымирания свой народ, страдающий от кровосмешения, ибо,
Согласно своим религиозным законам, евреи вынуждены обходить-
ся только возможностями своей нации. Совращению подвергается
уже сам Крафт, приглянувшийся красавице Мириам, дочери гене-
рального директора Купера, понятно, еврея, и к тому же самого
богатого человека в городе. Как истинный антисемит, к тому же
Предупреждённый аптекарем, её бывшим любовником, о том, что
эта «блестящая кошка» заражена «еврейской чумой... сифилисом»,6
1 Zöberlein H. Op. cit. S. 297-298.
2 Ibid. S. 298.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid. S. 300.
6 Ibid. S. 495.
341
Крафт стойко выдерживает неоднократные домогательства Мири-
ам, не забывая при этом, как настоящий немец, просвещать её
по части расовой теории. Отвращение к евреям усиливается у него
ещё больше после разговора с аптекарем, который, начитавшись
романов Э. Г. Кольбенхайера о Парацельсе, раскрыл ему глаза
на преступные намерения не только Мириам, но и вообще всех
евреев по отношению к белой расе: «Евреи живут не только за счёт
нашей работы, но и за счёт нашей крови. Это закон их бессмертия,
с помощью которого они обманывают природу. Они называют это
выведением породы, но на самом деле это — разврат, не процесс
облагораживания, а процесс вырождения».1 Противостоять этому
можно только одним способом: «Дерево, несущее на себе ядовитые
плоды, нужно срубить и бросить в огонь. Здесь нельзя проявлять
никакого сочувствия. Сочувствие в этом деле означает слабость».2
В этих словах уже явно просматриваются контуры печально извест-
ного «окончательного решения» еврейского вопроса, провозглашён-
ного в январе 1942 года Г. Гиммлером на конференции в Ванзее.
Разговоры с аптекарем, тайным почитателем Гитлера, едва ли
не дословно цитирующем его высказывания,3 побуждают Краф-
та сблизиться с нацистами. Интерес к ним подогревает и Берта,
будущая жена Крафта, называющая Гитлера «прототипом честного
немца», «представителем и обвинителем, выступающим от имени
всех добрых фронтовиков»,4 и сравнивающая программу НСРПГ
с тезисами Лютера, которую она считает «более величественной,
более проницательной и более сильной».5 Наконец, и сам Крафт,
случайно попав в Мюнхене на митинг, на котором выступал Гит-
лер, становится его восторженным поклонником: «Он словно свет,
воздух и роса, которые пробуждают в нас чудо появления почек
и цветения, чудо, которое мы сами не можем совершить, так же,
1 ZöberleinH. Op. cit. S. 512.
2 Ibid. S. 515.
3 Аптекарь, например, выражая недовольство инертностью немецкого народа, гово-
рит о том, что «толпы народа... представляют собой лишь количество, а не силу...
предстоит ещё очень долгий процесс, пока народ созреет для борьбы» (Ibid. S. 517).
Примерно то же самое говорил и Гитлер сразу же после прихода к власти: «Власть
у нас. Сегодня никто не может оказать нам сопротивление. Но мы должны вос-
питать немца для этого государства. Предстоит гигантская работа».— Цит. по:
Фест И. К. Гитлер. Биография. Т. 2. Пермь, 1993. С. 318.
4 Ibid. S. 441.
5 Ibid. S. 448.
342
как мало может это свершить и отборное зерно само по себе без
земли, солнца и дождя. Он больше, чем оратор, он — человек, кото-
рый излучает силу, будит жизнь, являет собой творческий дух».1
Вдохновлённый речью Гитлера, Крафт решил вступить
в нацистскую партию, однако натолкнулся на отказ, т.к. не был
жителем Мюнхена. Партия находилась в процессе становления,
и ей важно было укрепиться в своём регионе. Отказ не смутил
Крафта, наоборот, все последующие его действия, создания бое-
вой группы в своём городе, членство в CA, участие в капповском
путче свидетельствовало о том, что он ошущал себя беспартийным
национал-социалистом. По крайней мере, на всех собраниях он
непременно подчёркивал свою принадлежность к партии, такого же
мнения о нём придерживались и власти. Завершающим актом его
деятельности на политическом поприще становится участие, вер-
нее, попытка принять участие в так называемом «пивном путче»
нацистов 8-9 ноября 1923 года, который закончился провалом, что
ничуть не отразилось на взглядах Ганса Крафта, свято верившего
в конечную победу национал-социалистов в Германии.
Роман заканчивается слезливо-сентиментальным описанием
Рождества в кругу семьи и друзей. У Крафта только что родилась
^цочь, и Цёберляйн, используя христианский символ рождения Хри-
ста, обыгрывает его как некое знамение будущего возрождения
национал-социализма. Правда, выглядит это несколько комично.
Берта, успокаивая плачущую девочку, испугавшуюся громких
голосов соратников Крафта по борьбе, объясняет ей, что эти «злые
дяди», конечно же, говорят о войне и о своей политике, о Гитлере
и его идеях. О том, как им снова хочется драться с другими, и о том,
что они сами только что вернулись из тюрьмы. «Когда ты вырас-
тешь, всё это будет для тебя совершенно непонятным. Ты совсем
не поймёшь, что это было сделано только для тебя, для тебя одной!»2
И как заключительный аккорд всей книги — сообщение о смер-
ти Дитриха Эккарта, первого нацистского поэта, соратника Гитлера.
Нацистская критика высоко оценила роман Г. Цёберляй-
на, характеризовав его как «великое эпическое произведение».3
1 Zöberlein H. Op. cit. S. 545-546.
2 Ibid. S. 988.
3 Anonym. Hans Zöberlein // Deutsche Dichter unserer Zeit / Hrsg. v. H. Gerstner und
K. Schworm. München, 1939. S. 606.
343
В 1938 году писатель получил премию CA за заслуги в области
культуры и «Почётное кольцо фронтовых писателей». Но вот что
примечательно. Учитывая тот факт, что оба романа Цёберляйна
печатались в партийном издательстве в Мюнхене и, следовательно,
отражали точку зрения партии, отклики на их выход достаточно
скудны. Официальные истории литературы тех лет (Г. Лангенбухер,
А. Мулот) отводят анализу обоих романов, если это вообще можно
назвать анализом, полстраницы, не более. Надо полагать, именно
романы Цёберляйна имел в виду Лангенбухер, говоря о том, что
«книга, написанная не CA, в которой речь идёт о Третьем рейхе
и национал-социализме, может быть в тысячу раз более нацио-
нал-социалистской, чем роман, который кишмя кишит „коричне-
выми переживаниями"».1 Если роман «Вера в Германию» удостоился
экранизации и просмотр его превратился в некий государственный
акт, то «Приказ совести» прошёл достаточно скромно, если не счи-
тать нескольких заключительных страниц романа под названием
«9 ноября» (»Am 9. November«) в сборнике «Ваймарер блэттер», специ-
ально изданном в 1937 году по случаю «Недели немецкой книги»2
и материалы для которого Й. Геббельс отбирал лично.
Подобное отношение к произведению, о котором, казалось бы,
нужно было трубить на всех углах, связано, по всей вероятности,
не только с самой темой романа, ибо в нём говорится о становлении
будущего штурмовика, а июньская резня 1934 года, приведшая
к устранению всего руководства CA, всё ещё давала о себе знать,
но и в связи с наметившейся тенденцией замалчивания основных
положений политической программы нацистской партии, вызван-
ной изменением политической ситуации в Германии после пере-
ворота 1933 года. То, что годилось на первом этапе становления
нацистского «движения», после 1933 года потеряло свою актуаль-
ность и даже становилось опасным для партии. Не случайно Гитлер
«в первые же месяцы запретил печати самостоятельно публиковать
цитаты из „Майн Кампф". Обосновывалось это тем, что мысли вождя
оппозиционной партии могут не совпадать с соображениями главы
правительства».3 Тем не менее, дилогия Г. Цёберляйна пользовалась
1 Цит. по: Bartels J. Gerhard Schuman ß der »nationale Sozialist« // Dichter für
das »Dritte Reich«. Biographische Studien zum Verhältnis von Literatur und Ideologie /
Hrsg. v. R. Düsterberg. Bielefeld, 2009. S. 275.
2 Zöberrlein H. Am 9. November // Weimarer Blätter. Festschrift zur Woche des Deut-
schen Buches. Leipzig, 1937. S. 30-34.
3 Фест И. К. Указ. Соч. С. 338.
344
огромным успехом у массового читателя, и не учитывать этого
партийные бонзы не могли себе позволить.
Последующие произведения Г. Цёберляйна — «Тёпленькое место»
(»Der Druckposten. Eine Frontgeschichte aus dem Jahr 1917«, 1940)
и «Шрапнельное дерево» (»Der Schrapnellbaum. Vom Stellungskrieg an
der Somme«, 1940) — представляют собой вариации на темы романа
«Вера в Германию», лишённые, что удивительно, какого-либо героиз-
ма. Особенно заметно это свойство проявилось в рассказе «Тёплень-
кое место», в котором в основном речь идёт не о боях, а о том, как
можно лучше устроиться на войне, не теряя своего воинского досто-
инства. Не поэтому ли этот рассказ был издан в 1943 и 1944 годах
в серии книг, предназначенных для фронта?
Несомненно, на фоне литературы, посвященной событиям Пер-
вой мировой войны и особенно литературы о начальном периоде
нацистского «движения», книги Г. Цёберляйна выглядят достаточно
выигрышно. Здесь сыграли свою роль доступность изложения собы-
тий и чётко проводимая мысль о присутствии в романе свидетеля
описываемых событий, ибо даже самые незначительные из них
подаются столь подробно, что не вызывают сомнений в аутентич-
ности повествования. Но, пожалуй, самое большое достоинство
романов Цёберляйна, объясняющее столь огромные их тиражи,
заключается в том, что читателю не надо ломать голову над их
содержанием. Здесь нет никакого подтекста, ни одна строка в них
не вызывает каких-либо аллюзий, здесь не надо думать, ибо всё
то, о чём пишет Цёберляйн, многократно обсуждалось на кухне,
за кружкой пива, в очередях, на улице. Возможно, эта мнимая
народность романов Цёберляйна, их нелитературность вызывали
у критики, да и у политической элиты, некоторое отторжение. Наци-
ональной премии эти романы не удостоились именно по причине
художественной второстепенности, а экранизация первого романа
Цёберляйна носила явно пропагандистский характер. Тем не менее,
Г. Цёберляйн прочно вошёл в список наиболее популярных авторов
«движения».
И всё-таки литература партийной направленности оставалась
Для нацистов слабым местом. Если в лице Г. Йоста литература
Третьего рейха обрела легитимного автора, исповедовавшего иде-
ологию национал-социализма и выражавшего в своём творчестве
на довольно высоком художественном уровне её основные постула-
ты, если Г. Цёберляйну удалось создать некое подобие романа, где
роль партии обозначилась в жизни простого человека достаточно
345
правдоподобно, хоть и на уровне тривиального толка, то с осталь-
ными авторами такой же направленности ситуация складывалась
явно неблагоприятная. Обилие различного рода литературных поде-
лок, затрагивающих проблемы нацистского движения, вызывало
раздражение в официальных кругах Третьего рейха.
Для усиления имиджа партии нацистам катастрофически
не хватало книг, которые воспевали бы нацистское движение в фор-
мах, отвечающих представлениям о «высокой литературе», и в этом
смысле примечательна судьба Альфреда Карраша (Karrasch, Alfred;
1893-1973), которого можно считать неким порождением нацист-
ского официоза «Фёлькишер беобахтер».
Альфред Карраш принадлежит к поколению писателей, выпе-
стованных НСРПГ. Сын учителя из Кенигсберга, он рано приоб-
щился к идеям нацистов, начав свой творческий путь в качестве
журналиста в пронацистски настроенной берлинской газете «Дой-
чес абендблат» (»Deutsches Abendblat«). Здесь, как отмечала впо-
следствии «Фёлькишер беобахтер», «он прославился рядом боевых
статей, способствовавших подготовке нашего дела, ибо он всегда
был нашим».1 В 1932 году Карраш стал членом НСРПГ. Его первый
роман «Вейся на ветру, пёстрый флажок..!» (»Winke, bunter Wim-
pel..!», 1932) из жизни рыбаков на Куршской косе, написанный ещё
в конце 20-х годов, поначалу был отвергнут по той причине, что
«он был немецким романом, по-немецки искренним, в моральном
отношении не испорченным».2 Здесь, вероятно, свою роль сыграли
его пронацистские статьи, хотя, когда писатель представил этот
роман под чужим именем, он был опубликован во многих провинци-
альных газетах. В 1932 году Карраш попытался опубликовать этот
роман под своим именем, и опять натолкнулся на отказ, и только
издательство «Котта» (Cotta-Verlag), купленное на корню нацистами,
решило познакомить публику с «истинно немецким» романом. Как
утверждает анонимный автор газеты «Фёлькишер беобахтер», «все
заговорили о ренессансе немецкой литературы, которая снова...
возродилась под пером восточно-прусского писателя. Книга была
признана... самой лучшей из всех изданных в этом году. Говорили
о захватывающей силе писателя, который творил с душами своих
1 Anonym. Unser neuer Roman »Stein gibt Brot«. Eine Chronik aus dem Kampf unserer
Tage von Alfred Karrasch // Völkischer Beobachter, 18.11.1933.
2 Ibid.
346
читателей всё, что он хотел. Говорили о том, что тот, кто не почув-
ствует в книге самое лучшее и глубочайшее проявление народности,
тот никогда не поймёт, о чём здесь идёт речь. Не без удивления
Карраша сравнивали с Гамсуном, говоря о новом нордическом
эпическом писателе...».1 Карл Раух, главный редактор журнала
«Дойче ворт» (»Das Deutsche Wort«), выражавший точку зрения Геб-
бельса, признал первенец Карраша «одной из самых прекрасных
народных книг».2
История странствий молодого рыбака, отправившегося в Аме-
рику из родного дома ради любви к чуждой в расовом отношении
женщине, завершающаяся возвращением блудного сына и мужа
в родные края, не могла не вызвать восторга у фёлькиш-нацио-
налов, не говоря уже о нацистах, чего не скажешь о либеральной
прессе. Она просто не заметила этой книги, если не считать иро-
нической заметки Вольфганга Кёппена в «Берлинер Бёрзен-курир»
(»Berliner Börsen-Courier«), сравнившего её с голливудским фильмом,
«где чрезмерная сентиментальность сочеталась с внешними при-
знаками захватывающей сенсации и непременным хэппи-эндом
в кругу счастливой семьи».3
Радиопьеса с тем же названием, по сообщению «Фёлькишер бео-
бахтер», в 1934 году имела большой успех;4 более того, в 1937 году,
в слегка изменённом виде, роман Карраша под названием «Тоска
по родине» (»Heimweh«) был экранизирован известным режиссёром
Юргеном фон Альтеном.5
Следующим шагом к успеху стала публикация в «Фёлькишер
беобахтер» в 1933-1934 годах романа Карраша «Камень, дай хлеб!
Хроника борьбы в наши дни» (»Stein, gibt Brot..! Eine Chronik aus
dem Kampf unserer Tage«, 1933), в основе которого лежит история
рыбацкого посёлка, поражённого безработицей. Правда, эти рыбаки
1 Anonym. Unser neuer Roman »Stein gibt Brot«. Eine Chronik aus dem Kampf unserer
Tage von Alfred Karrasch // Völkischer Beobachter, 18.11.1933.
2 Rauch K. Alfred Karrasch. Parteigenosse Schmiedecke // Das Deutsche Wort. Berlin,
05.09.1934. Nr. 38. Beiblatt »Die sechs Bücher des Monats«. S. 3.
3 kn. (Koeppen W.) »Winke, bunter Wimpel« // Berliner Börsen-Courir, 20.11.1932.
4 Lg. »Stein, gibt Brot« // Völkischer Beobachter, 03.05.1934.
5 HaidarU. Alfred Karrasch — der Vertraute der Arbeiter // Dichter für das »Dritte
Reich«. Biographische Studien zum Verhältnis von Literatur und Ideologie. Bd. 2 /
Hrsg. v. R. Düsterberg. Bielefeld, 2011. S. 115.
347
ловят не рыбу, а камни, вытаскивая их со дна особыми приспо-
соблениями. Камни эти использовались для постройки гавани
и разных хозяйственных надобностей, но разразившийся кризис
оставил рыбаков без работы. Описание страданий, обрушившихся
на этих людей, и составляет основу романа Карраша. Однако глав-
ная идея романа заключается в том, чтобы показать, как простые
люди постепенно осознают значимость идей национал-социализ-
ма, видят в нацистах истинных защитников их интересов. Сами
рыбаки представлены как беспомощная масса, способная только
на то, чтобы молча стоять перед зданием городской управы, ожидая
работы, да иногда, как главный герой романа Иоганнес Корнельсен,
от бессилия пускать в ход кулаки. Все их надежды на избавление
от безработицы связаны с партией нацистов. Карраш проводит
эту мысль столь неуклюже, столь прямолинейно и неубедительно,
что даже К. Раух, ранее превозносивший творческие достоинства
Карраша, вынужден был возмутиться подобной манерой изобра-
жения действенности идей национал-социализма в умах простых
людей: «Они разрабатывают планы новой жизни не с позиций
национал-социализма, а благодаря победе национал-социализма,
реализация этих планов возможна с помощью извне, и поэтому она
воспринимается как подарок».1
В этом смысле примечательна сцена описания пролёта над
гаванью самолёта фюрера, направлявшегося в Восточную Пруссию.
Отчаявшиеся рыбаки уповают на фюрера. Уже тот факт, что он
пролетит над их гаванью, даёт им надежду на спасение: «Облака
становились всё плотнее и плотнее... Но... всё же слышно, пение
мотора становится всё громче и громче... Теперь это уже грохот,
он становится всё сильнее и сильнее... совершенно неудержимым,
вот он приближается, что это такое, там, наверху...
Они стояли, слушали, уставившись в небо. Да, этот звук при-
ближается и шум его ощущается уже почти рядом. Это... это должен
быть он... вероятно... Да, это он\..
„Он прибывает!..— заорал Шольц и повернулся к малышу
Иоганнесу,— Барабанщик, приготовься!.."
...Люди кричали на кораблях: „Он уже совсем рядом... но он
пролетит мимо, в облаках!" Они кричали и бегали вокруг кораблей.
Но потом... они внезапно остановились и застыли на месте. Они
больше не кричали... Мёртвая тишина воцарилась над кораблями,
только невероятно оглушающий шум захватил их...
1 Rauch К. Op. cit.
348
И вот... сняли шапки... протянули к нему в знак приветствия
руки... В этом грохоте, исходящем из облаков, окутанный облаками
самолёт... мощный, с огромными, распростёртыми крыльями... вот
он вырвался из облаков...
Самолёт показался над кораблями. Он проплывает над мачтами
: кораблей, украшенных вымпелами.
! Юноша начинает барабанить. „Слышит ли он это?"— спраши-
вает он со страхом.
!.. „Он слышит!— прокричал Шольц,— он слышит. Юный бара-
банщик, молодой волчонок, он слышит твой голос. Он слышит твою
'барабанную дробь, слышит сквозь грохот всех моторов!.."
\-\ Юноша барабанит. Барабан отзывается глухо. Самолёт уже
^промчался. Он уже снова исчез в облаках, в темноте наступившего
[вечера. Только пение моторов ещё слышно... Но рыбаки всё ещё
Стояли, застыв, стояли на кораблях и смотрели вслед самолёту.
»Некоторые подняли руки. Другие только сжимали в руках шапки,
^а другие сложили руки в молитве. Но в глазах всех светилась прось-
ба: „Помоги нам... наша нужда велика... никогда не забывай о бед-
ном народе, и тогда, когда ты однажды явишься во всём блеске...
гПомоги нам... не забудь о нас... а мы верим в тебя..."»1
|/ Эта экстатическая картина радостного безумия отчаявшихся
[рыбаков напоминает подобные картины безумств, сопровождавших
Появление Гитлера на трибуне или в театральных проездах в откры-
том автомобиле по улицам Берлина. Параллели явные, и, вероят-
но, поэтому пронацистски настроенный журнал «Нойе литератур»
|»Die Neue Literatur«) Вилла Феспера ограничился короткой рецензией,
Еюхвалив Карраша за создание «великолепных в своей жизненной
[рравде образов рыбаков», но и пожурив за «чрезмерный лаконич-
но-беспомощный стиль,., утомляющий своей монотонностью».2
Однако звёздный час в литературной карьере А. Карраша
наступил после выхода в свет в 1934 году романа «Партайгеноссе
Шмидеке» (»Parteigenosse Schmiedecke«), вызвавший небывалый
восторг среди национал-социалистской литературной бюрокра-
тии. Роман, вышедший сразу тиражом в 40 тысяч экземпляров,3
1 Karrasch А. Stein, gibt Brot! Berlin und Stuttgart, 1933. (nach: Langenbucher H.
Die deutsche Gegenwartsdichtung. Berlin, 1940. S. 146-148.)
2 Doering-Manteuffel H.-R. Karrasch, Alfred: Stein, gibt Brot! // Die Neue Literatur.
Berlin. Oktober 1934. S. 636.
К 1942 г. тираж романа «Партайгеноссе Шмидеке» достиг 86 тыс. экз. (Haidar U.
Op. cit. S. 118)
349
сопровождали слова председателя «Партийной контрольной комис-
сии по защите национал-социалистской письменности», в которых
говорилось, что «против издания этой книги со стороны НСРПГ
нет никаких возражений».1 Ведомство рейхслейтера А. Розенбер-
га «По защите всей мировоззренческой работы движения» вкупе
с «Имперской службой письменности» в министерстве пропаганды
срочно потребовало в «Призыве к немецкой книжной торговле»
«обратить особое внимание на роман А. Карраша «Партайгенос-
се Шмидеке» по причине его образцовой позиции и образцовых
убеждений. Захватывающе и увлекательно написанная книга изо-
бражает тихую, но упорную и ожесточённую борьбу Карла Шмидеке,
простого заводского мастера, против промышленного концерна,
и одновременно, как одного из старейших соратников фюрера,
против марксизма и реакции. Эта книга является прославлением
простого, самоотверженного, неизвестного партийца, и поэтому
должна получить широкую известность... Прессе, радио и кино,
правительственным органам и всему пропагандистскому аппарату
движения необходимо в последующие дни и недели беспрестанно
и настоятельно действовать с тем, чтобы представить эту кни-
гу».2 Далее следует подробный перечень всех организаций, вплоть
до самого низшего звена партийной ячейки, которые должны будут
вовлечены в эту рекламную акцию.
Столь пристальное внимание к роману А. Карраша, не обла-
давшему какими-то особыми художественными качествами, с этим
соглашалась и нацистская критика,3 и являвшему собой образчик
расхожей беллетристики, достаточно ясно свидетельствует о низ-
ком уровне литературы национал-социалистского толка, если даже
такое слабое произведение почитается образцовым. И связано это,
прежде всего, с тем, что роман Карраша затрагивает проблемати-
ку сегодняшнего дня, что практически, за редким исключением,
было огромной редкостью в то время. Об этом открыто говорит
X. Лангенбухер, глава литературного отдела нацистского официоза
«Фёлькишер беобахтер»: «В противоположность к многочисленным
1 Karrasch А. Parteigenosse Schmiedecke. Ein Zeitroman. Berlin, 1934. S. 4.
2 Цит. по: Literatur im Dritten Reich / Hrsg. v. S. Graeb-Könnecker. Stuttgart, 2001.
S. 114-115.
3 Rauch K. Alfred Karrasch. Parteigenosse Schmiedecke // Das Deutsche Wort,
05.09.1934. Beiblatt »Die 6 Bücher des Monats«.
350
: и только в незначительной мере ценным романам, в которых опи-
сываются годы борьбы движения, Карраш изображает не менее
опасное противостояние между членами партии и реакционерами
после захвата власти на примере некоего большого промышленно-
го концерна».1 Как потом выяснится, оценка достоинств романа
Карраша была временной, хотя он и получил в 1934 году вместе
с партийным поэтом Генрихом Анакером премию имени Дитриха
Эккарта, одного из старых бойцов нацистского движения и зачина-
телей нацистской поэзии.2 Карраш просто появился в нужное время
с нужной книгой, ибо затронул в ней очень важную для нацистов
тему единения рабочего класса и партии, начавшего давать тре-
щину в связи с осложнением политической и социальной ситуации
в стране весной 1934 года, вызванной недовольством населения
из-за обманутых ожиданий, так как «одновременно с пугающим
взлётом цен на продукты, сокращалась заработная плата, порой
весьма резко».3 В этой связи роман Карраша стал неожиданной
находкой, ибо в нём нашли отражение те трудности, с которыми
сторонники национал-социализма столкнулись в борьбе с прояв-
лениями «проклятого капитализма», против которого так страстно
выступал в своих речах фюрер.
Отсюда понятно то внимание, которое уделила редакция
«Фёлькишер беобахтер» роману Карраша, опубликовав серию ста-
тей об этом произведении. Тон дискуссии задала статья Густава
Штэбе (Staebe, Gustav), руководителя отдела печати молодёжной
военизированной организации «гитлерюгенд», охарактеризовав-
шего роман Карраша как «достижение» и поэтому считавшего, что
«ни один национал-социалист не сможет пройти мимо этой кни-
ги».4 Особый упор автор статьи делает на противостоянии рабочих
и руководства завода «Беренда», где происходит действие романа,
и главным действующим лицом в этом противостоянии выступает
1 Anonym (H. Langenbucher). Vom Kampf gegen die Reaktion. Zu bedeutsamen Neuer-
scheinungen von Alfred Karrasch »Parteigenosse Schmiedecke« // Völkischer Beobach-
ter, Berlin. 24.08.1934.— Эта же статья была напечатана в журнале «Бюхеркунде»
{Anonym. Parteigenosse Schmiedecke. Ein Zeitroman—Alfred Karrasch / Bücherkunde,
1934. H.6. S. 93-94).
2 Literatur im Dritten Reich / Hrsg. v. S. Graeb-Könnecker. Stuttgart, 2001. S. 114
3 Фрай H. Указ. соч. С. 8.
Staebe G. Parteigenosse Schmiedecke. Ein Roman von Alfred Karrasch // Völkischer
Beobachter, Berlin, 04.08.1934.
351
Карл Шмидеке, который в ущерб собственному благополучию (его
выгоняют с работы) вступает в неравную борьбу за интересы
рабочих, и в конечном итоге побеждает. Автор статьи мечет громы
и молнии против «реакционеров и капиталистов», которые дождут-
ся того, что рабочие «тщательно выберут в магазине арапник для
того, чтобы хлестануть им по вечно улыбающейся морде «нашего»
Ласдорфа (один из инженеров завода.— Е. 3.), а с ним и по всем
сволочам из их сообщества».1
Если статья Г. Штэбе, написанная простецким языком, была
своеобразным выражением гласа народа, то последовавшая за ней
анонимная статья (как потом выяснится, автором её был X. Ланген-
бухер) под названием «О борьбе против реакции» (»Vom Kampf gegen
die Reaktion«) отражала уже официальную точку зрения на книгу
Карраша в соответствии с указаниями ведомства А. Розенберга
и сложившейся тяжёлой ситуацией в стране весной 1934 года.
Здесь уже более чётко была выражена позиция партии по отно-
шению к представителям промышленности: «Автор показывает...
беспощадно и открыто истинное лицо тех самых известных изво-
ротливых и бессердечных кровопийц, которые намного опаснее,
чем их марксистские оппоненты, потому что они мастерски умеют
врать не краснея, потому что они при всей их общеизвестной под-
лости действуют так ловко и бесцеремонно, что никто не может их
схватить за руку.
Карраш показывает, как эти хитрые приспешники саботиру-
ют революцию; как они превращают национал-социализм в некое
крупнокапиталистическое дело; как они умеют извращать издан-
ные правительством распоряжения по защите экономики; как они
постоянно злоупотребляют властью и окружают себя безвольными
тварями».2 Именно поэтому анонимный автор считает, что эта
книга, как напоминание о неотвратимом наказании, «должна быть
в доме каждого реакционера, критикана и недовольного и заслу-
живает всяческой поддержки».3
Те круги, против кого были направлены гневные филиппи-
ки автора статьи, восприняли роман Карраша иначе. В «Дойче
1 Staebe G. Op. cit.
2 Anonym (Langenbucher H.) Vom Kampf gegen die Reaktion // Völkischer Beobachter,
24.08.1934.
3 Ibid.
352
алльгемайне цайтунг» (»Deutsche Allgemeine Zeitung«), органе круп-
ного капитала, в разделе «Литературное обозрение» анонимный
критик Кн (Кп) заявил, что «намерением и задачей книги было
свести воедино противоречия между работниками физического
и умственного труда к постыдной для работников умственного тру-
да формуле», из чего делается вывод, что Карраш «вновь разбередил
старую рану марксистской классовой ненависти», и поэтому роман
«Партайгеноссе Шмидеке» «имеет чрезвычайно малое отношение
к национал-социализму, как и вообще к литературе сороковых
годов», ибо «эта книга далека от духа нового рейха».1
Столь негативная оценка книги, представленной в партийной
прессе как нечто выдающееся и отвечающее принципам нацио-
нал-социализма, вызвала резкую критику в «Фёлькишер беобахтер».
Уже не прибегая к анонимности, X. Лангенбухер публикует статью
с говорящим названием «Против клеветы по отношению к наци-
онал-социалистскому рабочему роману» (»Gegen die Diffamierung
eines nationalsozialistischen Arbeiterroman«), в которой заявил, что
«господин Кн. ещё очень и очень далёк от духа нового рейха, и мы
будем в состоянии давать отпор и дальше, если он и впредь будет
высказывать критические замечания касательно книг, имеющих
большое значение...»2 Более того, X. Лангенбухер пригрозил ано-
нимному автору партийными карами, ибо «книга рекомендована
контрольной комиссией по защите национал-социалистской пись-
менности, так что нападки на книгу, поскольку они происходят
с мировоззренческой точки зрения, будут расцениваться как
нападки, направленные против ведомства имперского руководства
Партии. В заключение мы ещё раз обращаем внимание на то, что
Мы не желаем у информированной литературной критики, но мы
Не позволим, чтобы книга с действительно национал-социалистским
содержанием подвергалась издевательствам и принижениям только
потому, что некоторым обладателям плохой совести она говорит
неприятные истины».3
Несмотря на указания сверху, роман Карраша, подвергся раз-
носной критике на страницах журнала «Дойче ворт» (»Das Deutsche
1 Кп. »Parteigenosse Schmiedecke«. Ein mißglückter Versuch // Deutsche Allgemeine
Zeitung, № 401. 29.08.1934.
2 Langenbucher H. Gegen die Diffamierung eines nationalsozialistischen Arbeiterro-
man // Völkischer Beobachter, 1.09.1934.
3 Ibid.
353
Wort«), приверженность которого идеям национал-социализма
не вызывала сомнений. Здесь, надо полагать, как это нередко
происходило в литературной жизни Третьего рейха, столкнулись
мнения двух постоянных соперников — Розенберга и Геббельса.
Если первый через свой орган «Фёлькишер беобахтер» всячески пре-
возносил достоинства книги Карраша, то второй, устами главного
редактора журнала «Дойче Ворт» Карла Рауха, который, по мнению
современников, «как попугай угоднически повторял зады «куль-
турной политики» министерства пропаганды»,1 доказывал полную
несостоятельность Карраша как писателя именно по тем пунктам,
которые так рьяно защищал Лангенбухер.
С учётом актуальности проблематики романа «Партайгеноссе
Шмидеке», «эту книгу,— заметил Раух,— можно было бы от всей
души приветствовать как путеводную народную книгу, напомина-
ющую о лучших качествах немецкого рабочего». Однако Карраш,
«противопоставил, в очень тусклой, примитивной манере, мораль-
ный облик Шмидеке и товарищескую взаимопомощь фабричных
рабочих трусливому раболепию работников умственного труда...
Честно говоря, приходиться сожалеть по этому поводу, а создателю
этой книги следует очень настоятельно напомнить о том, что народ-
ное единение в духе национал-социализма возможно только тогда,
когда тому и другому сословию оказывается достойное уважение.
Следует, наконец, прекратить, глупую игру, с тем, чтобы завоевать
расположение рабочего люда, клевеща на работников умственного
труда, изображать их послушными марионетками!»2
Назвав ещё ряд недостатков опуса Карраша, Раух заявляет:
«Итак, как бы верно ни была задумана эта книга, я не могу сказать
о ней почти ничего хорошего. Тем не менее, я очень хотел бы, чтобы
она нашла как можно больше читателей. Я только советую всем
им прочитать, наряду с этим «актуальным романом о современ-
ности», непременно «Посев надежды» Пауля Эрнста или «Хижину
и замок» Зонрая или один из самых деревенских воспитательных
романов Иеремии Готхельфа. Любая неиспорченная душа почув-
ствует в каждом из названных более старых романов дистанцию
1 Anonym. Zeitschriften in Deutschland // Die Sammlung. Amsterdam, 1935. H. VII.
S. 392.
2 Rauch K. Alfred Karrasch. Parteigenosse Schmiedecke // Das Deutsche Wort. Berlin,
05.09.1934. Beiblatt »Die 6 Bücher des Minats«. S. 4.
354
по отношению к книге Карраша, которая в настоящее время
отделяет судорожно желаемое от народной эпической литературы
высокого ранга». И далее следует очень примечательное призна-
ние: «Осознание этого очень важно для того, чтобы понять, какую
великую задачу предстоит ещё решить по созданию приемлемого,
формирующего человека народного романа нашего времени».1
Если Лангенбухер опирается в своих доводах на глас народа
в лице представителя «гитлерюгенда», то Раух приводит обширную
цитату из выступления Гитлера на съезде в Нюрнберге 5 сентября
1934 года под впечатляющим заголовком «Искусство обязано стре-
миться к правдивости»,2 и в этой ситуации дальнейшая дискуссия
становится просто опасной. По крайней мере, каких-либо откликов
на статью Рауха в «Фёлькишер беобахтер» обнаружить не удалось.
Прочие средства массовой информации быстро разобрались
в сложившейся ситуации, и постарались, как это, например,
«Франкфуртер цайтунг» (»Frankfurter Zeitung«), отозваться о романе
Карраша благоприятно, но сделано это было в таком тоне, что любой
читатель понимал, что книга эта ничего не стоит. Об этом говорит
характеристика самого Карраша как «главного репортёра газетного
концерна Шерль», специализировавшегося на издании бульварной
прессы, из чего читатель может сделать вывод о том, что представ-
ляет собой этот роман. Герой романа — «идеальный партайгеноссе,..
лишённый напористости, лихих манер,., порядочный человек», т.е.
полная противоположность реальным приверженцам нацистской
партии, и поэтому роман, естественно, является примером тому, как
«в конечном счёте побеждает добро. «Вероятно, именно поэтому,—
заключает автор рецензии,— партийная контрольная комиссия
и одобрила эту книгу».3
Столь оживлённая реакция на приторно-назидательную книгу
Карраша вызвана, прежде всего, тем, что впервые после прихода
к власти нацистов появился роман о положении рабочего класса
в Германии, написанный с позиций национал-социализма, но без
национал-социалистской трескотни. Поэтика труда, воспеваемая
в стихах рабочего поэта Г. Лерша, переметнувшегося на сторону
1 Rauch К. Op. cit. S. 4.
2 Ibid. S. 4.
3 Pörzgen N. Parteigenosse Schmiedecke // Frankfurter Allgemeine. 30.09.1934. Beilage
Nr. 39.
355
нацистов, обрела в романе Карраша социально-политическую
окраску, создав тем самым новое направление в официальной
литературе Третьего рейха, получившее продолжение в творче-
стве Г. Гейзе. Не важно, что это расхожая беллетристика со всеми
вытекающими отсюда поэтологическими особенностями письма.
Важно другое, впервые появилась книга, где доступным языком
рассказывается о производственных конфликтах, о недовольстве
рабочих условиями труда, т.е. затрагиваются вопросы, о которых
официальная пресса предпочитает не говорить и которые обычно
относят на счёт пропагандистских выдумок врагов рейха.
Действительно, в романе «Партайгеноссе Шмидеке» расска-
зывается о безраздельном господстве директора завода «Беренда»
Риде, который притесняет рабочих и на все их жалобы отвечает
угрозой увольнения. Карл Шмидеке, старый член НСРПГ, пользу-
ющийся большим влиянием на заводе, пытается защищать инте-
ресы рабочих, но все его попытки разбиваются о непреклонность
Риде и его команды. В итоге Риде, чтобы избавиться от слишком
активного Шмидеке, увольняет его. Рабочие (Карраш особенно это
подчёркивает), не являющиеся в массе своей членами нацистской
партии, вступаются за Шмидеке и грозят забастовкой. В этой ситу-
ации, как deus ex machine, появляется сын владельца завода, также
член НСРПГ, и уговаривает отца устранить ненавистного рабочим
директора Риде, вернуть на завод Шмидеке с тем, чтобы сохранить
завод: «Отец, я знаю, как ты ненавидишь марксизм. Но у кого
на заводе раньше всех хватило мужества открыто выступить против
него? Не у Рида, и не у Нолленбрехта. И ни у тебя, отец... Первым
был Карл Шмидеке. В простом рабочем, в одном из тех, перед кем
мы задираем нос, прежде всего разгорелось священное пламя. Ты
называешь его врагом завода. Риде тоже называет его так. Но что
он сделал? Он нёс в себе пламя против всякой вражды на заводе.
Он охранял его,— и для тебя, отец, и для всех нас... Дух вождя был
олицетворён в этом Карле Шмидеке. Он носил в себе пламя. Он берёг
его. Он постепенно зажигал и другие сердца. Постепенно появились
и другие такие же сторожа. Они охраняли завод, охраняли тебя...
Карл Шмидеке был первым из них».1
Эти охранные функции Шмидеке выражаются в том, что он
выступает в роли некоего посредника между властью и рабочими,
1 Цит. по: Мотылёва Т. «Рабочая» тема в литературе германского фашизма //
Интернациональная литература. М., 1936. № 2. С. 126.
356
сглаживая возникающие между ними противоречия. Он отговари-
вает рабочих от забастовки, убеждает их не выступать против осна-
щения завода новыми станками, не применять силу при выяснении
отношений с руководством заводами: «Посмотрите на концерн
Молько: там все рабочие ходят с просветлёнными лицами. А они
вовсе не больше нас зарабатывают. И там рабочие не в собственных
машинах на работу ездят. Разве этого мы хотим? Нет. Мы только
хотим — и это надо снова и снова повторять — мы только хотим
немножечко чести, мы хотим, чтобы нас не презирали, чтоб с нами
не обращались хуже, чем с собаками».1 Речь не идёт о повышении
зарплаты, об улучшении условий труда, хотя в романе достаточно
откровенно описывается тяжёлая работа в цехах, а всего лишь
0 чести, да и той — самой малости.
Именно поэтому и сам Шмидеке выступает в романе не как
бунтарь, смелый защитник прав рабочих, а как обыкновенный
проситель, который беспрестанно ходит к директору Риде с различ-
ными просьбами, покорно ожидает в приёмной разрешения войти
в его кабинет, с покорностью излагает свои просьбы. Шмидеке
не борец, а маленький человек, осмелившийся напомнить о бедах
своих товарищей: «Карл Шмидеке вдруг странным образом ощутил
свою бедность. Он почувствовал себя бесконечно маленьким, сидя
в этом большом кресле... Гигантом вырастает перед ним завод...
А он перед ним совсем маленький... Что же делать?»2 Вопрос
этот повисает в воздухе, ибо по большому счёту Шмидеке ничего
и не сделал, чтобы защитить права рабочих, а только призывал
К терпению, к покорности, что и требовалось от него.
Несмотря на огромный успех в партийных кругах, роман
«Партайгеноссе Шмидеке» недолго возглавлял список бестселлеров
нацистской литературы. Сказка о социальном рае на одном отдель-
но взятом предприятии не выдержала суровой действительности
нацистского времени, и вскоре была забыта как пропагандистская
неудача тем более, что последующие события — захват Польши
и начало Второй мировой войны — положили конец мечтам о соци-
альном мире, ибо вся немецкая промышленность была поставлена
на военные рельсы, и тут о каких-либо социальных проблемах
не могло быть и речи. Тем не менее, А. Карраш прочно вошёл
в состав нацистского литературного истеблишмента.
1 Мотылёва Т. Указ. соч. С. 127.
2 Там же. С. 129.
357
По большому счёту, эти проблемы не очень-то и волновали
Карраша, ибо по своей натуре он был и оставался журналистом,
который достаточно чутко — надо отдать ему должное — реагировал
на запросы времени. Правда, не самостоятельно, а по указанию
свыше. Установившаяся после 1934 года в Германии полоса опре-
делённой стабилизации требовала отвлечения населения от поли-
тической борьбы, и, согласно указанию Геббельса, в культурной
политике нацистов основной упор был сделан на развлекательную
литературу (юмористические, любовные, приключенческие, детек-
тивные романы и рассказы).1 Выполняя партийный заказ, Карраш
создаёт в 1937 году юмористический семейный роман «Господин
Ганс Крамер — домой!» (»Herr Hans Kramer — zu Hause! Ein Ehero-
man«), а в 1938 году — детективный роман «Звёздная скрипка»
(»Sternengeige«), которые прошли почти незамеченными критикой.
Если эти произведения были достаточно далеки от идеологии
национал-социализма, хотя в общей посылке и отражали нацист-
ские принципы становления немецкой семьи и брака, то в романе
«Род Ундов» (»Die Undes«, 1938), повествующем об упадке и подъёме
одного восточно-прусского рода, тема семьи впервые в творчестве
Карраша рассматривается с позиций «крови-и-почвы», причём
в самом радикальном выражении — роман буквально напичкан
расистскими, антисемитскими, псевдоисторическими и наци-
оналистическими сентенциями. В известной мере выход этого
романа совпадает с циркулярным письмом ведомства Геббельса
от 1938 года, касающегося отражения в печати и литературе
проблемы евреев: «...эта раса не заслуживает какого-либо сочув-
ствия, и дальнейшее сосуществование немецкого народа с ней
не представляется в какой-либо мере возможным. Поэтому сле-
дует всеми доступными журналистскими средствами показывать
разлагающее свойство этой расы и её враждебное воздействие
на человечество в прошлом и в настоящем как в Германии, так
и за её пределами».2
Роман охватывает несколько веков истории одной семьи, начи-
ная от прародителя рода и кончая 20-ми годами XX века, и пред-
ставляет собой стилизованное под древнюю сагу повествование,
1 Strothmann D. Nationalsozialistischr Literaturpolitik. Ein Beitrag zur Publizistik im 3.
Reich. Bonn, 1985. S. 193.
2 Ibid. S. 314.
358
полное экстатических рассуждений о первозданной сущности
германской расы. Основатель рода Ундов, «голубоглазый блондин»,1
строит свой дом на берегу моря по всем канонам предков, сажает
перед домом обязательно липу, олицетворяющую покой и благово-
ление древних богов к хозяевам дома, над дверью крепится молот
бога Торна, вседержавного бога германского Олимпа. Первый
Унд находится в теснейшей связи с природой, являясь неким её
избранником, которому она оказывает особые знаки внимания: при
рождении третьего ребёнка, «золотоволосого», над домом кружит
орёл, а сам ребёнок должен спать на земле с тем, чтобы «к нему
пришла таинственная, неодолимая и светлая сила, которая может
исходить только от родной земли»;2 море является постоянным
собеседником и соперником Унда, и не случайно это соперниче-
ство завершается его гибелью, ибо он в своей гордыне попытался
превзойти его в своих поступках, проникнуть в его тайны. Карраш,
комментируя это событие, глубокомысленно замечает, что для
истинного немца «разум и мышление — суть заблуждение».3 Именно
по этой причине начинается падение рода Ундов, хотя некоторые
его представители ещё дают образцы верности заветам предков,
как это случилось во времена наполеоновских войн (автор как-то
быстро переключается поближе к современности), когда одиннад-
цатилетний Унд отказался выдать французам местонахождение
своего отца, боровшегося против оккупантов, за что и был повешен
на глазах всего семейства.
Однако настоящей причиной падения рода Ундов стало смеше-
ние крови, когда очередной представитель Ундов женился на болез-
ненной женщине и ввёл в свой дом евреев, которые «испортили»
его и в конечном итоге разорили род Ундов.4 И только в начале
20-х годов Эрнст, последний отпрыск Ундов, одушевлённый идея-
ми национал-социалистов, вызволил свой род из пучины бедствий.
Вместе со своим сыном барабанщиком (любимый образ нацистской
современной мифологии) он принимает участие в шествии наци-
стов по улицам Кенигсберга. Во время разгона демонстрации сына
1 Karrasch A. Die Undes. Verfall und Aufstieg einer ostpreußischen Sippe. Berlin, 1938.
S. 10.
2 Ibid. S. 21-23.
3 Ibid. S. 104.
4 Ibid. S. 127-137.
359
ранят, но он выживает и возвращается на землю Ундов в качестве
юнгфолькфюрера (младшая возрастная группа гитлерюгенд).
Подобные старания Карраша не остались незамеченными.
«Фёлькишер беобахтер» разразилась огромной статьёй, в которой
роман «Род Ундов» был признан «высшей точкой творчества писате-
ля». По крайней мере, так отозвались о его книге рейхсбауэрнфюрер
Рихард Дарре и гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох, чьё мне-
ние значило больше, чем высказывания литературных критиков.1
И поэтому давний враг Карраша Отто Пауст вынужден был петь
ему осанну: «Этот новый Карраш со своим только что вышедшим
произведением занимает центральное место среди самых лучших
книг. Кровь и почва, история предков и родов, поэзия родного
края и символика немецких богов, всё это говорит о том, что Кар-
раш призван заниматься этими проблемами, потому что он один
из немногих в наше время, кто умеет овладевать ими мастерски».2
Однако столь значимые покровители не спасли Карраша от заб-
вения в нацистском литературоведении. Тот же Г. Лангенбухер,
столь яростно отстаивавший на страницах «Фёлькишер беобахтер»
значимость романа Карраша «Партайгеноссе Шмидеке», не сказал
ни слова ни о нём, ни о последнем опусе писателя в своём капи-
тальном труде «Современная национальная литература» (1940),
упомянув лишь его ранние произведения; А. Бартельс в последнем
издании своей «Истории немецкой литературы» (1942), напомина-
ющем скорее статистический отчёт о состоянии дел на нацист-
ском Парнасе, чем литературоведческий труд, отозвался о романе
Карраша «Партайгеноссе Шмидеке» одной строкой,3 а «Род Ундов»
вообще не упомянул; А. Мулот в своём не менее чем у Аангенбухера
капитальном труде «Немецкая литература нашего времени» (1944)
вообще проигнорировал творчество писателя.
После 1945 года литературная судьба А. Карраша не отличалась
особыми успехами. Его роман «Пляска смерти» (»Dance macabre«,
1952) прошёл незамеченным, вышедшие в ГДР под псевдонимом
А. Аменда романы «Аппассионата. Жизнь Бетховена» (»Appassiona-
ta— Ein Lebensroman Beethovens«, 1960) и «Нобель. Жизнь одного
изобретателя» (»Nobel. Lebensroman eines Erfinders«, 1963) хотя
1 Paust О. »Die Undes« // Völkischer Beobachter, 19.11.1938.
2 Ibid.
3 Bartels A. Geschichte der deutschen Literatur. Berlin, Hamburg, 1942. S. 780.
360
и пользовались успехом у читателей («Аппассионата» был переведён
на многие языки), но славы ему не принесли.
О своих нацистских взглядах Карраш, по понятным причинам,
не особенно распространялся, однако в связи с выходом книги
Курта Цизеля «Потерянная совесть» (»Das verlorene Gewissen«, 1957),
в которой тот попытался опорочить многих деятелей прессы и лите-
ратуры в их якобы приверженности идеям национал-социализма,
не приводя каких-либо доказательств, Карраш восторженно привет-
ствовал в письме автору книги его «непостижимое мужество при-
знания», посчитав книгу Цизеля «глотком свежего воздуха».1 О своей
собственной «потерянной совести» Карраш деликатно умолчал.
К числу собственно нацистских писателей можно отнести
и Йозефу Беренс-Тотеноль (Berens-Totenohl, Josefa; 1891-1969),
автора наиболее представительных и наиболее любимых читателями
исторических крестьянских романов «Двор фемы»2 (»Der Femhof«,
1934) и «Фрау Магдалена» (»Frau Magdalena«, 1935). Оба романа
были переизданы в ФРГ в 1957 году под названием «Люди двора
фемы» (»Die Leute vom Femhof«). О степени успеха этой дилогии
говорит не только её общий тираж (450 тысяч), но и восторженные
рецензии нацистской прессы, называвшей дилогию «пророческой
сагой, одной из самых прекрасных и самых правдивых из тех, что
мы обладаем об эпохе конца Средних веков».3
Й. Беренс-Тотеноль (настоящая фамилия Беренс) родилась
в горах Зауэрланда на юге Вестфалии в многодетной семье куз-
неца, и всё её образование на первых порах свелось к сельским
работам и рассказам стариков о давних временах и обычаях этого
края, и только в двадцать лет она поступила на учительские курсы,
где и произошло её первое знакомство с литературой. Продолжая
учительствовать, Й. Беренс-Тотеноль занималась живописью,
и добилась на этой стезе определённых успехов. Тем не менее, тяга
к литературе пересилила её художнические наклонности, и она
возвращается в родную деревню, «в Тотеноль», название которой
она и добавила к своей фамилии: «Корни моей сущности остались
1 Цит. по: HaidarU. Alfred Karrasch — der Vertraute der Arbeiter // »Dichter für
das Dritte Reich«. Bd. 2. Hrsg. v. R. Düsterberg. Bielefeld, 2011. S. 137.
2 Фема — фемический суд, тайная судебная организация, существовавшая в средние
века в разных германских государствах и вольных городах.
3 Цит. по: Lennartz F. Berens-Totenohl Josefa // Deutsche Schriftsteller des 20. Jahr-
hunderts im Spiegel der Kritik. Bd. 1. Stuttgart, 1984. S. 128.
361
в Вестфалии, в крестьянской деревне Зауэрланда». Здесь ей, по соб-
ственному признанию писательницы, «пришлось доказывать то, что
произошло много столетий тому назад, и то, что сегодня там ещё
является действительной реальностью»,1 что и нашло своё выражение
в её первом романе «Двор фемы».
В отличие от Штраус-унд-Торней, чьи романы написаны задол-
го до возникновения национал-социализма как политического
движения и поэтому являются выражением фёлькиш-консерватив-
ной идеологии в реалиях повседневной действительности, романы
Беренс-Тотеноль несут на себе явные следы нацистской идеологии.
Если у Штраус-унд-Торней крестьянская тематика отражена доста-
точно реалистично, с обилием бытовых деталей, то у Беренс-Тоте-
ноль всё повествование строится по канонам некоего сказания, где
бытовая сторона еле просматривается и на первый план выходит
проблема сохранения расовой чистоты и неизменной целостно-
сти крестьянского рода, т.е. приверженности принципам «крови
и почвы» в радикальном для нацистов исполнении, отказ от кото-
рых может иметь катастрофические последствия для всего рода.
Этот радикальный политический настрой не вызывает у читателя
отторжения, чего так боялись нацисты, ибо историческая специ-
фика романа, усиленная сказовыми интонациями, оправдывает
подобное усиление требованиями жанра. Именно поэтому нацисты
отдавали предпочтение роману Беренс-Тотеноль, всячески игно-
рируя, например, роман «Флориан Гайер» (»Florian Geyer«, 1935)
такого куда более знаменитого и ценимого Гиммлером автора как
Генрих Бауэр (Bauer, Heinrich). Роман этот буквально напичкан
нацистской фразеологией, так что исторический колорит обретает
в нём слишком современный оттенок, что, впрочем, не сказывалось
на популярности этого и других произведений писателя.2
Интерес Беренс-Тотеноль к идеям национал-социализма возник
ещё в середине 20-х годов, когда она, будучи членом Зауэрландского
кружка художников, подпала под влияние композитора и худож-
ника Георга Неллиуса (Nellius, Georg), члена НСРПГ. В 1928 году,
находясь в Испании, она стала членом НСРПГ, а в 1932 году полу-
чила партийный билет. С этого же времени она часто публикуется
1 LennartzF. Op. cit. S. 127.
2 Примечательно, что имя Г. Бауэра не упоминается ни в одной из известных историй
литературы тех лет, что вряд ли можно объяснить чрезмерным усердием писателя
провести прямые параллели между прошлым и нацистской действительностью.
362
в «Фёлькишер Беобахтер» и с этого же времени она начинает работу
над романом «Двор фемы».
Действие романа происходит в XIV веке. Богатый крестьянин
Вульф, отличающийся диким нравом и непомерной гордыней,
озабочен отсутствием наследника, и поэтому желает выдать свою
единственную дочь Магдалену, не уступающую характером отцу,
за сына своего друга. Однако Магдалена противится планам отца.
Она любит работника Ульриха, который, рискуя своей жизнью,
спас её во время бури из разбушевавшегося горного потока. Сам
Ульрих появился в этих краях неспроста: он убил дворянина, поку-
сившегося на его честь и имущество, и вынужден был покинуть
свою родину. Вульф никак не может согласиться на брак Магдале-
ны с простым работником, да к тому же с преступником (об этом
ему рассказал бродяга Роббе). Натолкнувшись на решительный
отказ своей дочери, Вульф добивается, будучи членом суда фемы,
смертного приговора Ульриху, который он и приводит в исполнение
на глазах у Магдалены.
В следующем романе, «Фрау Магдалена», речь идёт о борьбе
Магдалены за наследование крестьянского двора, за продолжение
рода Вульфов в лице своего сына, рождённого от Ульриха. Старый
Вульф, согрешивший в молодости с красавицей цыганкой, проти-
вится этому, боясь преступного кровосмешения старого крестьян-
ского рода с инородцами, ибо до него дошли слухи, что Ульрих был
его сыном, рождённым от цыганки. Но в тот момент, когда Магда-
лена спешит сообщить ему о том, что эти слухи не подтвердились,
Вульф погибает от удара молнии. Подросший сын Магдалены берёт
в свои руки управление хозяйством и делает его ещё более богатым,
а Магдалена становится своеобразной местной святой, которая
помогает жителям решать их земные проблемы.
Общая тональность романа, стиль изложения, характеры
главных героев, их поступки наводят на мысль, что здесь проис-
ходят события, равные по своему размаху и значимости событиям
древнегерманского эпоса, и в этом можно усмотреть воздействие
древнеисландского эпоса «Старшей Эдды», по мотивам которого
Веренс-Тотеноль создала серию картин. Уже само представление
крестьянской усадьбы Вульфов создаёт картину некоего таин-
ственного и грозного замка, так что Ульрих, впервые попав в эти
края, сразу осознаёт, что он «пришёл в нереальную страну... там,
где течение Ленне делает поворот на северо-запад, располагался
свободный крестьянский двор, называвшийся двором Вульфов.
363
Здесь хозяйствовал род Вульфов, властно, вольно, независимо. Когда
в горах ещё полно было всякого дикого зверья, праотец рода основал
этот двор. Сильная, храбрая, исполненная бешенства кровь кипела
в жилах многих членов этого рода. Все они умножались и защища-
лись, несмотря на сиятельнейших господ из Арнсберга, из Маркта
и Кёльна, которые граничили с этой областью и друг друга подпа-
ливали при первой же возможности. Пройдя через все опасности,
Вульфы сохранили своё владение и возвысили его до степени неко-
его государства, стоявшего нетронутым на вечно горящей границе
между трёх князей... Одиноко и мрачно, сложенный из горных
камней, высился двор, накрытый серой соломенной крышей. Его
стены, бывшие укрытием и одновременно защитой, являли собой
скорее обитаемый замок, нежели дом. Внутренняя площадь была
небольшой. Её замыкали скотные дворы, зернохранилища, сараи,
мастерские. Эта группа построек по необходимости располагалась
дальше на холме. С открытой стороны Ленне их защищал вал.
Тяжёлые ворота закрывали доступ к внешнему миру».1
Такими же мрачными и застывшими существами представ-
лены и главные герои дилогии, каждый из которых являет собой
некую крестьянскую ипостась героев «Песни о нибелунгах». Их дей-
ствия обусловлены не столько человеческими чувствами, сколько
героико-стоическим следованием определениям судьбы, и поэтому
Магдалена воспринимает убийство Ульрихом дворянина, оскорбив-
шего его честь, естественным поступком крестьянина, ибо у него
не было другого выбора, а любовь к Ульриху — как предопределение.
Не случайно их любовь проявляется именно в пасхальную ночь,
когда народ по старой языческой традиции восхваляет Вотана
и Фрейю, весну и цветущее, плодоносное время. Смерть Ульриха
подаётся как неотвратимый удар судьбы, и Ульрих идёт на смерть
с уже сложенными на груди руками, не оказывая никакого сопро-
тивления, готовый безмолвно принять уготованный ему судьбой
удар.2 Старый Вульф представлен не только как охранитель чистоты
крови крестьянина, не останавливающийся ради этого перед убий-
ством, но и как охранитель самого крестьянского рода: «Каждый
плохой крестьянин — предатель».3
1 Berens-Totenohl J. Der Femhof. Jena, 1941. S. 14-15.
2 Ibid. S. 286.
3 Ibid. S. 106.
364
Магдалена, плоть от плоти крестьянской, являет собой олице-
творение настоящей немецкой женщины: «...гордая, властная... она
выросла как молодое дерево с сильными ветвями»,1 и её не в мень-
шей степени, чем отца, беспокоит чистота крови крестьянина.
Вторую часть дилогии Беренс-Тотеноль «Госпожа Магдалена» вооб-
ще можно рассматривать как некое беллетризованное изложение
принципов понимания роли женщины в современном обществе
с точки зрения нацистской идеологии. Более конкретное изложение
этих принципов нашло своё выражение в теоретическом трактате
писательницы «Женщина как творец и хранительница народного
духа» (»Die Frau als Schöpferin und Erhalterin des Volkstums«, 1938),
ставшим предметом обязательного изучения во всех отделениях
«Фрауэншафтен», объединявшим всех женщин Германии.2
Проблематика дилогии Беренс-Тотеноль не ограничивается
только крестьянской тематикой как таковой. Крестьянская кровь,
крестьянский норов, преданность земле, своему ремеслу противопо-
ставляются жадности князей, разоряющих себя и своих подданных
в многочисленных войнах: «Вплоть до спокойных горных обла-
стей пролегает великое поле битвы священного немецкого рейха,
и вплоть до гор ощущается грохот и треск, который испускают
опоры этого великодержавного рейха, потому что фундамент его
был плох, потому что он раскололся на части и перестал быть еди-
ным живым камнем. Слишком многие, противящиеся друг другу
потоки крови, ни с чем не связанные и не находящиеся в законных
связях, с силой противодействуют, разъедают и разрушают древние
каменные стены».3
Первый немецкий рейх развалился, и только крестьяне, равные
по своей значимости Вульфу, выстояли в эти годы: «Эти свободные,
осознающие значимость расы, носители германского наследия,
оказались настоящей опорой народного характера и величия,
фундаментом, на котором возможно было построение нового,
более прочного рейха».4 Именно в этом видит основное значение
дилогии Й. Беренс-Тотеноль нацистский литературовед А. Мулот,
1 Berens-Totenohl J. Op. cit. S. 19.
2 Bürger P. Josefa Berens, gen. Berens-Totenohl // Lexikon Westfällischer Autoren und
Autorinnen seit 1750 bis 1950.
3 Ibid. S. 31
4 Mulot A. Op. cit. S. 127.
365
именно в этом видит назначение писателя и она сама, мифологи-
зируя темы «крови и почвы» и судьбы как определяющими суть
немецкого народа.
С особой силой это ощущается в поэтическом эпосе писатель-
ницы «Лицо одного рода» (»Einer Sippe Gesicht«, 1941), который
по своему содержанию является своеобразным зеркальным отра-
жением тематики дилогии писательницы и повествующем о том,
что может произойти с крестьянским родом, когда нарушаются
законы крови:
Глубокая тайна пылает в крови,
страстно пронизывающей поколения;
...кровь остаётся, струится ли она в сотнях помыслах
или в тысячах жилах,
она не меняется, не выбирает
ни воздух, ни муку,
она вечно вновь начинается.1
Эта таинственная сила крови приводит к гибели рода Мункхоф.
Крестьянин привёл в дом женщину, чуждой крови. Сын, родивший-
ся от этого брака, глава «рода бастардов», затеял спор о разделе иму-
щества с «законнорождёнными» членами рода Мункхоф. Спор этот
закончился неминуемой гибелью последних представителей обеих
сторон поправших законы крови: «Здесь речь не идёт об улажи-
вании спора... здесь начинает свой суд/ вечная справедливость».2
Несмотря на исторический фон, дилогия Беренс-Тотеноль, как,
впрочем, и другие её произведения такого же склада — «Скала»
(»Der Fels«, 1943), «В болоте» (»Im Moor«, 1944) — не является исто-
рическим романом, и представляет собой классический образец
литературы «крови и почвы», замешенный на китче, псевдороман-
тике и региональном фольклоре, что позволяет отнести её творче-
ство к разряду национал-социалистского толка, ибо её романы,
легенды, стихи, несмотря на традиционную тематику, во многом
являются порождением собственно нацистской идеологии. Прав-
да, сама писательница утверждает, что она никогда не интересо-
валась политикой. Рассказывая о своём знакомстве с писателем
Рихардом Ойрингером (Euringer, Richard 1891-1953), входившим
в состав редакции нацистского официоза «Фёлькишер беобахтер»,
1 Berens-Totenohl J. Einer Sippe Gesicht. Jena, 1941. S. 18, 30.
2 Ibid. S. 103.
366
она замечает: «...говорили об опасном и всё же обнадёживающем
обновлении нашего народа под водительством Гитлера. Так как
я никогда не обладала политическими способностями, то я не опре-
делила свою позицию, но я всё видела и верила в доброе».1 Однако
сам факт членства в НСРПГ с 1932 года, то есть в то время, когда
в этом не было жизненной необходимости (так оправдывали своё
пребывание в партии некоторые немцы) говорит сам за себя.
Беренс-Тотеноль, как и многие немцы, когда заходил разговор
о временах нацизма, в первую очередь ссылались на то, что Гитлер
дал людям работу, а собственную приверженность нацизму транс-
понировали в веру в счастливое будущее Германии.
В этом смысле примечательна статья писательницы «О вере»
(»Vom Glauben«, появившаяся в начале 1944 года, когда положе-
ние на фронтах приняло угрожающий характер и речь шла уже
не о мировом господстве, а о спасении Германии. Статья эта
примечательна тем, что в ней ни разу не упоминаются ни партия,
ни фюрер, и только слово «война» напоминает о реалиях време-
ни. Весь пафос статьи питается неистовой верой в неизбежность
победы Германии в сложившейся ситуации, и мало чем отлича-
ется от риторики нацистских вождей: «Всё великое произрастает
из веры. Она одна даёт возможность отдельному человеку, как
и всем народам, увлечь себя к достижению тех целей, которые
предназначены им богом. Там, где кончаются все познания, там,
где все знания обнаруживают свои пределы, там начинает своё
воздействие вера... Вера в новое, в грядущее, она растёт. Она явля-
ется душой нашего народа, с которой мы можем пройти ад войны
с беспримерной отвагой и с беспримерным гневом. Наше оружие —
это сила наших рук, но наша вера является силой наших сердец,
которая направляет наши руки. Пока она горит в нас, до тех пор
мы существуем, до тех пор мы непобедимы. Но разве у нас были
причины когда-либо сомневаться в нашей вере? Мы ведь растущая
нация, нация будущего!»2
«Наивная в политическом отношении», как утверждает в своей
автобиографии Беренс-Тотеноль, она принимала активное участие
в многочисленных пропагандистских акциях нацистов, выступая
1 Цит. по: Schramm S., Stammermann H. Josefa Berens-Totenohl zwischen Ideologie
und Naivität // Die literarische Provinz. Nr. 7. 2001. S. 19. / kritische-ausgabe.de
2 Berens-Totenohl J. Vom Glauben // Bücherkunde, Berlin, 1944. H. Vfe. S. 3-4.
367
перед солдатами, членами «гитлерюгенд», представляя фашистскую
Германию в ряде оккупированных стран Европы. Вот примеча-
тельный отчёт о поэтическом вечере в культурной общине при
«Фёлькишер беобахтер», состоявшийся в октябре 1935 года, который
является не только своеобразной оценкой значимости творчества
писательницы для тогдашнего режима, но и подтверждением её
приверженности идеологии национал-социализма. Лангенбухер
пишет, что с выходом в свет романа «Двор фемы», Беренс-Тотеноль
«сразу же выдвинулась в самые передовые ряды общепринятой
сегодня литературы», критик с удовлетворением отмечает и успехи
писательницы в живописи, особенно выделяя «портрет штурмовика
с суровым, решительным лицом, который надолго остаётся в памя-
ти».1 Назвав роман «Госпожа Магдалена» «некоей песней о силе
и верности крови, который относится к числу самых лучших из того,
что мы в подобного рода литературе имеем», критик заключает, что
Беренс-Тотеноль «знает законы крови и чутко воспринимает всё,
что доносится до нашего времени из нескольких старых крестьян-
ских поколений. Её «Госпожа Магдалена» принадлежит к числу
великих вечных образов истории нашей литературы, и для всех нас
представляет огромную радость видеть в Йозефе Беренс-Тотеноль
писательницу, которая формирует неповторимым художественным
образом в немецком народе великую мысль о вечной силе крови,
проявившуюся благодаря национал-социализму».2
Стоит ли удивляться, что произведения Беренс-Тотеноль «насто-
ятельно рекомендовались» не только для общественных библиотек,
но были «представлены в собрании ценнейших художественных
произведений последних лет, переданных фюреру по случаю его
сорокасемилетия».3 Награждение писательницы в 1936 году лите-
ратурной премией Вестфалии привело к тому, что именно с этого
времени она начинает активно сотрудничать с Культурбундом
НСРПГ, выступая с чтением своих произведений, как это было,
например, в 1944 году, до тридцати раз в месяц.4
1 L. (Langenbucher К) Volkhafte Dichtung der Zeit. Dichterabend der N. S. Kulturgemeinde
mit Josefa Berens-Totenohl // Völkischer Beobachter, 18.10.1935.
2 Ibid.
3 Anonym. Frau Magdalene. Josefa Berens-Totenohl // Bücherkunde. 5. Folge. 1936.
S. 157
4 Bürger P. Op. cit.
368
После 1945 года оба романа Й. Беренс-Тотеноль были переиз-
даны под название «Люди со двора фемы» (»Die Leute vom Femhof«,
1957), а сама писательница продолжала писать книги в духе «крови
и почвы» — «Любовь Михаэля Ротера» (»Die Liebe des Michael Rother«,
1953), «Тайная вина» (»Die heimliche Schuld«, 1960) — тем более,
что послевоенная ситуация в Западной Германии давала в этом
смысле определённые предпосылки и даже надежды на возвра-
щение прежних порядков, хотя и в несколько исправленном виде.
Современников не интересовало её прошлое. Для них она была
«великой... рассказчицей Зауэрланда»,1 в Леннештадте, недалеко
от дома писательницы, её именем названы три улицы, создан
музей, а в 2000 году заложен памятный камень в честь «писатель-
ницы родного края».2 Такова судьба многих авторов «родного угла»
в Германии, переживших крах Третьего рейха. Сама писательни-
ца не скрывала своих взглядов и не пыталась дистанцироваться
от своего прошлого: «То, что я принадлежу к тем, кого презирают,
меня совершенно не волнует... Я верю в судьбу, и в то, что всегда
появлялся инспиратор, порождавший судьбу, которая выпадает
на нашу долю».3
1 Rost D. Sauerländer Schriftsteller des kurkölnischen Sauerlandes im 19. und 20.
Jahrhundert. Holthausen, 1990. S. 23-25.
2 Schramm S., Stammermann H. Op. cit. S. 18.
3 Цит. по: Schramm S., Stammermann H. Op. cit. S. 22.
Национал-социалистская поэзия
Особый раздел истории литературы Третьего рейха представ-
ляет собой собственно национал-социалистская поэзия. Поэзии как
таковой в высоком понимании этого слова национал-социализм
не породил, как не породил и собственно национал-социалистской
литературы. Если по поводу отсутствия последней нацистские
идеологи ещё как-то выражали своё сожаление, надеясь на то, что
со временем этот недостаток устранится сам собой, то о поэзии они
и не мечтали, она им и не нужна была в том виде, в каком она тради-
ционно представлялась в Германии. Ганс Науманн (Naumann, Hans),
видный представитель нацистского литературоведения, выступая
в декабре 1933 года перед учителями, выразил по-солдатски офи-
циальное отношение нацистов к поэзии: «Возможно, то, что я сейчас
скажу, покажется диким, но это действительно так: философскими
системами, превосходными грамматиками, прекраснейшими стиха-
ми Германия богата чрезмерно. Даже если ничего нового не появит-
ся в этой области, мы владеем сокровищами, которых нам хватит
разгребать на века. А вот таких сокровищ как Данциг или Вена или
Саарская область... нам в настоящее время не хватает. И поэтому
Данциг и Вена сейчас для нас прекраснее, чем самое прекрасное
стихотворение, и ценнее, чем самая умная книга».1
Науманн высказал то, о чём идеологи нацистов предпочитали
молчать, заявляя о высоком предназначении поэзии в «новой Герма-
нии», хотя всё это предназначение сводилось к сугубо практической
цели — созданию «немецкой кровной общности». В этом смысле
показательна речь Карла Хайнца Хедериха (Hederich, Karl Heinz),
1 Цит. по: Berendsohn W. Die humanistische Front: Einführung in die deutsche Emigran-
ten-Literatur. I Teil. Zürich, 1946. S. 40.
370
правой руки Геббельса, произнесённая им на открытии «Недели
немецкой книги» в Веймаре в 1937 году. Озаглавленная как «Лите-
ратурно-политическое руководство и поэзия» (»Schrifttumspolitische
Führung und Dichtung«), эта речь чётко определила задачи и воз-
можности поэзии как жанра. Исходя из того, что «национал-соци-
ализм по своей глубочайшей сути является восстанием», Хедерих
считает, что теперь «поэзия должна выйти из углов и закоулков
своей прежней замкнутости... и перестать быть заменой отсутствия
единения и жизненного сообщества», а «стать свидетельницей
подъёма нашего жизнеощущения и толковательницей созревания
глубочайших народных сил... Национал-социализм разрушил оце-
пенение и замкнутость «Я» в застывших формах и вновь обратил
сердца немцев к полному жизни «Ты». В этом вновь обретённом
отношении к «Ты» между всеми немцами должны также лежать
истоки поэтического искусства наших дней».1
Однако к этому времени нацисты уже убедились в том, что
новая поэзия дальше пустопорожней пафосности не продвинулась,
и Хедерих настоятельно советует «проявлять сдержанность в поэти-
ческой трактовке национал-социалистской революции, её предста-
вителей, содержания и сопутствующих явлений, потому что великие
политические преобразования слишком близко затрагивают наши
души и в своих непосредственных проявлениях во многом препят-
ствуют художественному проникновению в их суть. Мы все ещё
воспринимаем революцию слишком сильно как свой собственный
закон с тем, чтобы отпустить её из сердца в её самых внутренних,
самых таинственных побуждениях».2
В этих словах Хедериха нашла отражение общая тенденция
нацистской поэзии, выразившаяся в обращении к недавнему про-
шлому «движения» и в воспевании неопределённого будущего Треть-
его рейха. Правда, это не означает, что поэт должен «пребывать
вне времени», нет, он не должен терять связи с народом, и «если он
не найдёт дорогу из сферы своего либерального «Я» к «Ты» сообще-
ства, то пусть он и воспевает это своё пребывание вне времени, мы
не будем о нём печалиться».3 И тут же следует грозное предупре-
ждение: «Но если кто-либо из наших рядов отклонится в сторону
и скажет, что он «поэт, пребывающий вне времени», то пусть он так
1 Hederich К. Н. Schrifttumspolitische Führung und Dichtung // Weimarer Blätter.
Festgabe zur Woche des Deutschen Buches. Leipzig, 1937. S. 8-9.
2 Ibid. S. 9.
3 Hederich K.H. Op. cit. S. 10.
371
и думает, но мы его не будем считать своим. Более того, мы поду-
маем, что он нездоров и что в нём проявляются признаки некоей
болезни, которой, словно чумой, подвержен был наш народ».1
Назвав условия существования поэта как творческой личности
в Третьем рейхе, Хедерих определяет «немецкую задачу», стоящую
перед ним: «Занимать позицию между Востоком и Западом, любым
способом противостоять большевизму, набрасывать и воздвигать
на примере собственного народа картину и действительность
великой окрепшей Европы, объединённой в своих культурных
и политических основах!»2
Конечно, Хедерих не являлся светочем мысли и славился лишь
политическими интригами, но, будучи правой рукой всемогущего
Геббельса, он отражал официальную позицию нацистского руко-
водства по вопросам литературы.
Нельзя сказать, что нацистской поэзии не было вообще. К концу
20-х годов в Германии образовалась группа молодых поэтов, или,
как их называли, «молодая команда» (junge Mannschaft), вышедших
из недр нацистского «движения» (Г. Анакер, Д. Эккарт, Г. Герстнер,
Э.В. Мёллер, Г. Бауман, Р. Ойрингер, Г. Бёме, Г. Штамлер, Г. Шуман
и Б. фон Ширах).3 Все они были в той или иной степени задейство-
ваны в работе национал-социалистского аппарата, и их можно было
по справедливости считать партийными поэтами, что, несомненно,
нашло своё прямое отражение в их творчестве.
По своей сути нацистская поэзия является поэзией активного
действия (Aktionlyrik), берущая своё начало в политической поэзии
времён 1813 года, отмеченных национальным подъёмом против
наполеоновских войск, революции 1848 года и рабочей поэзии
конца XIX века. Но если политическая поэзия тех лет определялась
духом национального сознания, становления нации как таковой,
то политическая поэзия авторов Третьего рейха копировала лишь
1 Hederich К. H. Op. cit. S. 10.
2 Ibid. S. 11. A. Розенберг с восторгом отмечал, что «слова «Германия, проснись»
сияли, вплетённые в штандарты... а боевая песня звучала оглушительно на каждом
партийном съезде движения» (Härtung G. Literatur und Ästhetik des deutschen
Faschismus. Berlin, 1983. S. 201).
3 Junge Mannschaft. Eine Symphonie jüngster Dichtung / Hrsg. v. M. Rockenbach.
Leipzig, Köln, 1924.— В сборник вошли лишь немногие из названных выше авто-
ров, но впоследствии Г. Лангенбухер заимствовал название сборника «молодая
команда» для определения группы молодых авторов, являвшихся уже в середине
20-х гг. членами НСРПГ (Langenbucher Н. Die Dichtung der jungen Mannschaft.
Betrachtungen zur deutschen Dichtung der Gegenwart. Hamburg, 1935).
372
форму, игнорируя внутреннюю посылку предшествующей поэзии.
Ярким примером такого рода творчества является стихотворение
«зачинателя» национал-социалистской поэзии Дитриха Эккарта
(Eckart, Dietrich; 1868-1923) «Германия, проснись!» (»Deutschland,
erwache!», 1920), ставшее едва ли не официальным гимном нацист-
ской Германии после «Песни Хорста Весселя»:
Штурм, штурм, штурм!
Звоните колокола от башни к башне!
Звоните так, чтобы сыпались искры,
Пришёл еврей, чтобы рейх завоевать,
Звоните так, чтобы душа изошлась кровью,
Повсюду царят пожары, мученья и мёртвые.
; Призывайте к штурму так, чтобы земля вздыбилась
, От грохота спасительной мести,
Горе тому народу, который сегодня пребывает в мечтах,
Германия, проснись!
Штурм, штурм, штурм!
Звоните колокола от башни к башне!
Призывайте мужчин, стариков, детей,
Призывайте уснувших покинуть их комнаты,
Призывайте девушек спуститься с лестниц,
Призывайте матерей оставить колыбели.
Они должны греметь и кричать повсюду как ветер,
Как само неистовство, буйствовать в громах мести,
Призывайте мёртвых встать из могил,
Германия, проснись!1
Д. Эккарт, сын баварского юриста, неудачный драматург,
с ранних лет тяготел к консервативным кругам, печатался в газе-
тах фёлькише ориентации. В 1919 году познакомился с Гитлером,
и настолько проникся идеями национал-социализма, что достал
в 1921 году через посредничество генерала Риттера фон Эппа,
одного из первых военных, перешедших безоговорочно на сторону
нацистов, половину денег — 60 тысяч марок — на покупку газеты
«Фёлькишер беобахтер», ставшей официальным органом НСРПГ.
Эккарт часто выступал на нацистских собраниях, был близким
Другом Гитлера, о чём свидетельствует его книга «Большевизм
от Моисея до Ленина. Диалог между Адольфом Гитлером и мной»
(»Bolschewismus von Moses bis Lenin. Zwiegespräch zwischen Adolf
Hitler und mir«, 1924), а также факт посвящения ему второго тома
Цит. по: Härtung G. Op. cit. S. 201.
373
опуса фюрера «Моя борьба». Эккарт был едва ли не самым первым,
кто открыл своим стихотворением, написанным ко дню рождения
Гитлера, бесчисленную вереницу стихов, прославляющих фюрера.
Стихотворение Эккарта «Штурм» по сути своей и по духу
является перепевом, с прямыми заимствованиями, патриотиче-
ской лирики Эрнста Морица Арндта и Теодора Кернера времён
войны 1812 года. Хотя оно было положено на музыку (сам Гитлер
диктовал его текст композитору), однако для массового исполне-
ния это стихотворение как песня не годилось. Нужна была чёткая
ритмика, простой текст, который передавал бы основные идеи
«движения», как писал Гитлер в «Моей борьбе», в форме «точной,
подобной лозунгу краткости... При этом необходимо, чтобы каждый
отдельный человек, борющийся за мировоззрение, имел полное
представление и точные знания о последних идеях и ходе мыслей
фюрера движения».1
С чёткой ритмикой у Эккарта были сложности, но то, что его
знаменитый призыв «Германия, проснись!» стал главным лозунгом
во время побоищ, устраиваемых нацистами на собраниях и митин-
гах своих противников, с лихвой покрывал этот поэтический
недостаток.
Поэзии в нацистской Германии отводилась сугубо практиче-
ская роль — она должна была быть простой, доходчивой, прибли-
женной к народной песне, ибо, как считал Герхард Шуман, один
из ведущих национал-социалистских поэтов и обер-фюрер CA,
«её исконные звуки человеческой немецкой души могут передать
сегодняшние образы»2 и, тем самым, служить выражением нацио-
нальной общности, неким цементирующим составом нерушимого
единства нации перед лицом прямых и косвенных враждебных
проявлений как внутри, так и за пределами Германии. Совместное
пение как бы способствовало единению народа, служило неким
заклинанием стойкости нации, самоуверения в её непобедимости,
в поддержании её боевитости и способности преодолевать любые
трудности, являлось, наконец, выражением готовности к самопо-
жертвованию ради сохранения общенациональной идеи, нацио-
нальной идентичности.
В 1925 году появился первый «Песенник национал-социалист-
ской рабочей партии». В первой части были представлены собственно
1 Hitler А. Mein Kampf. S. 508.
2 Schumann G. Ruf und Berufung. Aufsätze und Reden. München, 1943. S. 51.
374
^партийные песни, во второй части — народные, солдатские и моло-
дёжные походные песни. При этом как тексты песен, так и музыка
|являлись по большей части заимствованными.1
I Массовая песня в большинстве своём имела маршевую окра-
|ску и мало чем отличалась от маршевой песни по своему набору
абстрактных лозунгов, политических штампов, которые многократ-
но повторялись, сохраняя набор вещных символов национал-соци-
|ализма: знамя, фюрер, барабан, верность, подчинение, вера, долг,
|;огонь, честь, жертва, кровь, почва, смерть, народ.
Особое внимание уделялось маршевым песням, которые своим
Чётким ритмом захватывали поющих, отчего содержательная суть
ртих маршей — чрезвычайно скудная — теряла свою значимость.
Шри этом важна не содержательная часть песни, а её настрой,
Политическая ажитация. В качестве примера можно привести
[песню Вилла Деккера (Decker, Will) «С песней мы хотим марширо-
вать» (»Singend wollen wir marschieren«), написанную специально
^для «Имперской службы труда» (Reichsarbeitsdienst) и служившей
| неким гимном для исполнения в трудовых лагерях участниками
[обязательной трудовой повинности:
I 1. С песней мы хотим маршировать в новое время.
jv Адольф Гитлер ведёт нас, мы всегда готовы.
\
\ Припев: Слева и справа, слева и справа
'(' смотрят на нас милые девушки из окон домов.
('■ Мы, мы маршем идём вперёд!
\>
Г;
(' 2. Наши руки должны избавить народ от нужды,
<' наша работа даст немецким людям хлеб.
3. Наша воля принуждает нас к братству,
Пронизывает нашу жизнь силой веры.
4. Наш лагерь и флаги — это суть нового времени,
Мы строим путь в вечность.2
1 И. Эренбург, ознакомившись с одним из таких песенников, писал: «Они не сумели
даже состряпать новых мотивов. Вот песня «Национальная Германия»: «Мы, гитле-
ровцы, готовы к последнему бою...». Скромная сноска: «Исполнять на мотив „Интер-
национала"». Другая песня: «Мы Гитлера храбрые ребята...». Под ней: «На мотив
„Я застрелил оленя"» (Эренбург И. Размышления на границе. M., 1934. С. 69).
2 Цит. по: Bormann A. von. Das nationalsozialistische Gemeinschaftslied // Die deutsche
Literarur im Dritten Reich. Themen. Traditionen. Wirkungen / Hrsg. v. H. Denkler und
K. Prümm. Stuttgart, 1976. S. 263.
375
Самым известным автором в этом жанре в годы фашизма
по праву считался Ганс Бауман (Baumann, Hans; 1914-1988),
автор многочисленных кантат, хоровых декламаций, рассказов,
пьес, детских книг, поэтических переводов и особенно маршевых,
патриотических и просто лирических песен, положенных на музы-
ку собственного сочинения. Бауман родился в Амберге, Верхний
Пфальц, в семье профессионального солдата, преподавал в школе,
был членом молодёжного католического объединения «Новая Герма-
ния», затем — «гитлерюгенд». Песни Баумана пользовались извест-
ностью в молодёжной среде ещё до прихода к власти нацистов, и,
учитывая его националистские взгляды, они постарались привлечь
его к работе с молодёжью. В апреле 1933 года Бауман становится
членом НСРПГ, назначается «юнгфолькфюрером», руководителем
младшей группы «гитлерюгенд», и одновременно референтом куль-
турного отдела «рейхсюгендамт», Имперского управления по делам
молодёжи. В этом качестве он и оставался до конца Третьего рейха,
сочетая службу в действующей армии и работу в отделе пропаганды
на Восточном фронте.
Судя по всему, деятельностью Баумана нацистское руководство
было довольно. Об этом свидетельствует тот факт, что в октябре
1941 года по приказу Геббельса Бауман был отозван с Восточного
фронта для выступления с докладом «Испытания поэта» (»Die Bewäh-
rungen des Dichters«) на международной «Встрече поэтов» в Веймаре,
и в этом же году стал лауреатом премии имени Дитриха Эккарта
за творческий вклад в дело национал-социализма.
Бауман писал свои песни в основном для «гитлерюгенд» и Союза
немецких девушек, однако песни его распевались по всей стране.
Хотя тематика его песен не отличалась особым разнообразием
и определялась воспеванием солдатских доблестей, фронтового
товарищества, почётного долга умереть за родину, воспеванием
прелестей сельского труда и сельской жизни, однако Бауману уда-
валось, используя элементы народной песни, незаметно вплетать
в стихотворную ткань посылы национал-социалистского свойства,
которые не вызывали отторжения своими назойливыми призывами,
побуждениями, а лишь подводили читателей и особенно поющих
(здесь вступает в дело мелодия, которая более прочно закрепляет
смысл текста в сознание человека) к пониманию смысла песни.
Вот, например, непритязательная песенка «Звёзды подымают-
ся в высь поднебесную» (»Die Sterne rücken himmelan«), в которой,
казалось бы, нет и намёка на какие-либо политические аллюзии:
376
Стремятся звёзды к небесам,
Идя путём старинным,
И исчезают облака,
Холмы полны движений.
Потом звёзды принимаются танцевать, да так весело, что им
начинают подпевать леса. И здесь выясняется, что это «старая пес-
ня», поэтому она «уходит вместе с яркими звёздами в Чехию»,1 т.е.
как раз туда, куда вскоре вошли (а, может быть, и уже вошли, ибо
дата написания этой песни неизвестна) немецкие войска.
Другая песня «На Востоке находится наше завтра» (»Im Osten
steht unser Morgen« является своеобразным римейком известной
ещё с давних пор песни немецких колонистов «Давайте поедем
на Восток» (»Nach Ostland wollen wir reiten«). Восток для нацистов —
понятие растяжимое, под ним следовало понимать и Польшу,
и прибалтийские страны и, конечно же, Россию. Песня эта является
откровенным призывом к захвату чужих земель. С учётом того, что
песня предназначена для членов «гитлерюгенд», для молодёжи, чей
возраст не больше 15-16 лет и нацистская школа уже вбила им
в головы соответствующие представления о немецкой истории, им
напрямую внедряется мысль о том, что это правое дело, потому что
эти земли принадлежали немцам «полторы тысячи лет тому назад»,
и те немногие из немцев, что там остались, «сохраняли верность
Германии» и следили за тем, чтобы немецкий «флаг не спускался».
При этом Бауман убеждает молодёжь в том, что...
...эта плодородная земля
не знала посевов,
дворы и стада там отсутствуют,
земля взывает к плугу.
Добыть нам надо чужбину,
бывшую нашей землёй.
Здесь новое наше начало,
Немцы, готовьтесь на бой!2
Пожалуй, больше всего прославился Г. Бауман своей знамени-
той песней «Дрожат прогнившие кости» (»Es zittern die morschen
Knochen«), которая сразу же стала гимном нацистской молодё-
жи. Особую значимость этой песне придавал припев, который
1 ingeb.org/hbaumann.html
2 Ibid.
377
воспринимался как лозунг, как некая упрощённая программа всего
нацистского «движения»:
Мы будем шагать и дальше.
Когда всё разобьётся на осколки
Сегодня принадлежит нам Германия,
а завтра — весь мир!1
Но стоило Г. Бауману оказаться на фронте, в России, под
Великими Луками, как тональность его поэзии начинает меняться.
По крайней мере, его короткие стихи, написанные летом 1941 года
и опубликованные в октябре этого же года в журнале «Иннере рейх»,
потеряли свою боевитость. Правда, в стихотворении «Вирбалис»
(»Virballen«), помеченном 25 июня 1941 годом, ещё присутствует
героический настрой. Война только началась, и он славит каждого,
кто «с любовью отправляется в поход», ибо «его железную поступь
сопровождают духи», которые всякий раз, когда «он наносит раны»,
будут «давать ему силы», потому что «его меч несёт в себе очища-
ющее пламя».
Зажёгшись этой мыслью, он защищает благословенный образ,
ибо кто в гневе бьётся, тот отвергает лучший щит.2
Как это и принято в нацистской литературе, когда автор соби-
рается петь осанну героям или воинам (вспомним Г. Цёберляйна), он
превращает всё происходящее с ними в некий рыцарский турнир
со всеми вытекающими из этого деталями, и поэтому нападение
нацистской Германии на Советский Союз выдаётся в интерпре-
тации Баумана как поход рыцарей-крестоносцев, отправившихся
на Восток очищать огнём и мечом «исконную немецкую землю»
от нехристей.
Постепенно героический дух в его стихах исчезает. На первый
план выходят пейзажные зарисовки, леса, цветы, о войне можно
догадаться лишь по некоторым деталям. В стихах царит некое
удовлетворение от совершенного, ибо немецкие войска захватили
1 Baumann H. Es zittern die morchen Knochen // Loewy E. Literatur unterm Haken-
kreuz. S. 274.— Примечательно, что после 1945 г., когда Г. Бауман всячески
открещивался от своего нацистского прошлого, в припеве песни «Дрожат прогнив-
шие кости» произошла замена достаточно выразительного в своей агрессивности
слова «принадлежит» (gehört) на более мягкое «слышит» (hört), и теперь эти строки
выглядят более пристойно: «Сегодня нас слышит Германия, //а завтра — весь мир».
2 Baumann H. Briefgedichte aus dem Kriege // Das Innere Reich. Oktober 1941. S. 337.
378
чуть ли не всю европейскую часть Советского Союза, и война,
надо полагать, должна скоро закончится, отчего даже похороны
немецких солдат обретают некий сакральный смысл. Хотя война
ещё продолжается, «мучительный бой выматывает нас», но бой этот
обретает уже некий буколический характер. Баумана привлекает
в этой ситуации «тёмнокрасная бабочка, устроившаяся на каске
товарища, шагающего рядом»,1 а не сам бой. В этом можно усмот-
реть желание представить своим читателям войну как некую про-
гулку, не стоящую внимания. Правда, выступая на международной
«Встрече поэтов» в Веймаре в октябре 1941 года, он посетовал
на трудности, с которым пришлось столкнуться немецким вой-
скам при взятии моста через реку Ловать под Великими Луками,
попавшим под удары «невидимого органа советских гранат», и при
этом, как элегантно замечает Бауман, «стальные рельсы этого моста
стали для некоторых наших товарищей мостом в другую страну,
отличную от страны врагов».2
Сейчас это уже не так важно, на войне случается и убивают.
Важно другое — поход на Восток можно считать законченным.
Так считают устроители этой встречи, проходившей под лозунгом
«Поэзия в будущей Европе», собрав литераторов из Италии, Фин-
ляндии, Румынии, Венгрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Франции,
Голландии, Хорватии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Испании,
которые «олицетворяют собой европейский дух, признают борьбу
нашего фюрера своей борьбой и мобилизируют всю совокупность
идей против большевизма»;3 так считает и Бауман, рисуя в заклю-
чительном стихотворении цикла «Власть и кротость» (»Macht und
Milde«) картину светлого будущего Восточных земель (Ostland),
освобождённых от большевистского гнёта (напрямую об этом
не говорится) и возвращённых в лоно Германии силою немецко-
го оружия. В этом стихотворении с особой силой звучит мысль,
высказанная Бауманом на встрече в Веймаре о том, что «в борьбе
с восточным противником, который в своей разрушительной дея-
тельности уповает только на голую силу,., для немцев сила является
только некоей оболочкой жизни, только покровом сохраняющейся
1 Baumann H. Op. cit. S. 340
2 Baumann H. Von den Bewährungen des Dichters // Die Dichtung im kommenden
Europa. Weimarer Reden 1941. Hamburg, 1942. S. 21.
3 Haegert W. Zum Dichtertreffen 1941 // Ibid. S. 7.
379
кротости. В этом заключается глубочайшая порука успеха и наде-
жда, что введённые в заблуждение народы, которые со временем
будут разделят плоды победы, поймут ещё во время кровопролитных
усилий смысл железной жатвы».1
Порушенная колыбель богов! О святая Русь!
Поля, иссохшие дыханием бездушной силы,
такой найдут тебя внуки тех, кто пробудил тебя.
О терпеливый народ! Лишённый молока и хлеба,
От мёда остался лишь горький осадок,
От пламени — лишь дым, от колоса — жнивьё.
Мы освобождаем тебя из чудовищной сети,
Из объятий смерти некоей железной паутины,
Дыханием своим сгоняем ужас с твоего лба.
Мы пепел засеем зерном и лилиями,
а плющ в тени обовьёт наши мечи.
Мы соберём мартовские облака ради непаханых земель,
Окаменевшие от страданий сердца павших,
О Восточная земля, оросят своей кровью рождение кротости,
Она породит расцвет, отчизна, твоему другому детству.2
Чего здесь больше — цинизма или похвальбы или того и другого
в сочетании с распирающем душу сознанием собственной значимо-
сти в историческом процессе? Et in Arcadia ego. Привлекательность
стихов, песен, а также музыки Г. Баумана определялась не столько
политическим подтекстом, сколько народно-песенной основой, и он
действительно воспринимался, как писала нацистская критика,
«автором песен, хоров и кантат, окрылённых ритмом нового вре-
мени, которые завоевали прочное место в сердцах молодёжи. Его
мелодии воодушевляли движение колонн».3
Судя по всему, они продолжают воодушевлять и сегодня
не только солдат бундесвера (правда, тексты слегка видоизменены,
ритм времени другой), но и школьников, пожарников и прочего
люда, имеющего склонность к пению, ибо песни Г. Баумана остаются
непременной принадлежностью всех современных сборников песен.
После 1945 года Г. Бауман, благополучно пережив процесс
денацификации, резко поменял свой творческий профиль и про-
должил просвещать юношество своими стихами и пьесами, за что
1 Baumann К Von den Bewährungen des Dichters... S. 23.
2 Baumann H. Briefgedichte aus dem Kriege... S. 341.
3 Anonym. Hans Baumann // Deutsche Dichter unserer Zeit / Hrsg. v. H. Gerstner und
K. Schworm. München, 1939. S. 40.
380
в 1959 году чуть было не получил премию имени Г. Гауптмана. Одна-
ко, когда выяснилось, что под псевдонимом Г. Веструм скрывался
Г. Бауман, решение о присуждении премии было спешно отменено.
Нечто подобное произошло и в 1962 году. «Новый» Г. Бауман стал
известным, даже знаменитым детским писателем (в 1968 году полу-
чил премию газеты «Нью-Йорк Геральд Трибюн» за лучшую книгу
для юношества), автором исторических произведений (его истори-
ческий роман «Я шёл с Ганнибалом» издан в России в 2009 году),
переводчиком стихов А. Ахматовой, И. Крылова, прозы Ф. Досто-
евского, Л. Толстого.
Правда, с переводами не всё обстояло удачно. Когда И. Бахман,
одна из известнейших немецкоязычных поэтесс XX века, узнала,
что издательство «Пипер», в котором печатались её книги, собра-
лось в 1966 году издать сборник стихов А. Ахматовой в переводах
Г. Баумана, она, в знак протеста, перешла в другое издательство,
несмотря на то, что «Пипер» отказалось от своего намерения. Для
И. Бахман, высоко ценившей поэзию А. Ахматовой и знавшей
её лично, невыносимо было даже подумать, что бывший нацист,
не последний человек в команде Бальдура фон Шираха, идеоло-
гического вождя немецкой молодёжи, мог прикоснуться к стихам
великой русской поэтессы.1
Столь разноречивое отношение к Г. Бауману, как, впрочем,
и к другим авторам нацистского Парнаса, достаточно наглядно
отражает существовавшую в ФРГ тенденцию сваливать всю вину
бывших нацистов на обстоятельства, считая, что «не господин Бау-
ман, с учётом всех осколков мировой истории, писал текст и музы-
ку «Мы будем шагать и дальше, когда всё разобьётся на осколки».
Время и обстоятельства сочиняли всё это».2 Это самый удобный
способ свалить собственную беспринципность на обстоятельства,
некий аналог известному оправданию военных преступников,
ссылавшихся на приказ свыше. Известный немецкий поэт Петер
Рюмкорф совершенно справедливо назвал Г. Баумана «прототипом
людей, промышляющих с выгодой для себя сочинительством. То,
что он вначале писал песни для молодёжных организаций, ничуть
не умаляет его вины, как не делает ему чести и тот факт, что его
1 Наркетауег А. Ingeborg Bachmann. Entwicklungslinien in Werk und Leben. Wien,
1991. S. 133.
2 Nolte J. Wie sich die Zeit doch nicht ändern. Neue Drama von Hans Baumann //
Die Welt. 03.02.1962.
381
тексты украшают сегодня песенники бундесвера. Позавчера —
с молодёжными группами, вчера — с партией, и сегодня, как всегда,
находит применение это дарование, подобное флюгеру и пригодное
для всех целей, какие только можно себе представить. И не только
в качестве специалиста по народным песням, но, как это было
в годы нацизма, и в качестве певца жертвенности и смерти, кото-
рая настигала других».1
События, связанные с именем Г. Баумана после 1945 года,
примечательны, прежде всего, тем, что этот автор был одним
из немногих, переживших денацификацию, кто довольно массиро-
ванно и, казалось бы, безболезненно вливался в культурную жизнь
Германии, оставаясь, в сущности, выразителем прежних нацист-
ских воззрений, выражавшихся хотя и не в такой радикальной
форме как ранее.
Наряду с песенной поэзией существовала и политическая поэ-
зия пропагандистского толка с потугами на некую философскую
содержательность. В этой связи определённый интерес представля-
ет собой творческая судьба ещё одного поэта, признанного в годы
нацизма едва ли не классиком национал-социалистской лирики.
Герхард Шуман (Schumann, Gerhard 1911-1995), поэт, драматург,
родился в семье школьного учителя в Эсслингене, Неккар. Посещал
евангелические семинары, какое-то время учился в Тюбингенском
университете, который бросил, отдавшись целиком культурно-поли-
тической работе в различных студенческих объединениях в ранге
национал-социалистского «штудентенфюрера», позднее «СА-фю-
рера». Шуман был членом Имперского сената по делам культуры,
советником президиума Имперской палаты письменности и членом
Культурного кружка CA.
Столь большое количество политических должностей не поме-
шало Шуману добиться заметных успехов в литературе, о чём сви-
детельствуют его сборники стихов «Путь ведёт к общему делу» (»Ein
Weg führt ins Ganze«, 1932), «Флаг и звезда» (»Fahne und Stern«, 1934),
«Песни о рейхе» (»Die Lieder vom Reich«, 1935), «Но мы всё же люди
крепкого закала» (»Wir aber sind das Korn«, 1936). В 1936 году Шуман
получил Швабскую поэтическую премию, и в этом же году — выс-
ший в тогдашней Германии знак отличия — Национальную премию,
рассматриваемую как замену Нобелевской премии по литературе,
1 RühmkorfP. Flötentöne von einst // Die Zeit. 23.03.1962.
382
которую после 1933 года немцы не имели права принимать. Правда,
эту премию Шуман получил не столько за свои стихи, хотя Геббельс
при вручении её Шуману и отмечал, что «в его поэтическом творче-
стве соединились истовая страсть национал-социалистской борьбы
со строгостью поэтического языка и неизменностью мировоззрен-
ческой позиции»,1 столько за его хоровую декламацию «Праздник
труда» (»Feier der Arbeit«, 1936), вызвавшую восторг участников
имперского партийного съезда в Нюрнберге, и хоровую кантату
«Героические празднества» (»Heldische Feier«, 1936), прозвучавшую
в Государственном оперном театре в день вручения ему Националь-
ной премии. На следующий день после получения Национальной
премии Шуман получил звание штандартенфюрера CA.
Но вот примечательный штрих, он достаточно красноречиво
говорит о том, насколько важна была для нацистов политическая
составляющая оратории и хоровых декламаций Шумана, а не поэ-
тические достоинства его произведений. В своём дневнике Геббельс
пишет, что стихи «Героических празднеств» ему понравились,2
а вот сама кантата, как и вообще произведения хоровой деклама-
ции, не нравится ни ему, ни Гитлеру.3 Однако никаких запретов
не последовало, более того, Гитлер, мало интересовавшийся лите-
ратурой и практически не общавшийся с писателями (его больше
интересовали кинозвёзды), удостоил Шумана беседой, что, как
он вспоминал впоследствии, оставило в его сердце неизгладимый
след: «Знаменитый, обожествлённый и проклинаемый человек,
являвшийся для меня тогда богом посланный фюрер и спаситель
рейха, смотрел на меня своими большими, сверкающими голубыми
глазами серьёзно и дружески».4
Последние слова вызваны не просто фанатичной любовью
Шуманом Гитлера, они имеют под собой вполне реальную основу,
ибо только таким отношением фюрера к молодому поэту можно
объяснить счастливый исход его открытой критики кровавой
чистки рядов CA, проходившей по прямому указанию предмета
его обожания.
1 Goebbels J. Zur Verleihung des »Nationalen Buchpreises « 1935/36» an G. Schumann / /
Die Neue Literatur. 36 (1936).
2 Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil 1. Aufzeichnungen 1923-1941. Bd. 3/II.
März-Februar 1937 / Hrsg. v. E. Fröhlich. München, 2001. S. 70.
3 Ibid. S. 73, 91.
4 Schumann G. Besinnung. Von Kunst und Leben. Bodman / Bodensee. 1974. S. 144.
383
Шуман принадлежал к «молодой команде» авторов, выпесто-
ванных национал-социализмом, и творчество его являлось выраже-
нием героического духа «движения». Однако, будучи порождением
самого массового звена нацистского «движения» — штурмовых
отрядов CA, требовавших и после 1933 года продолжения рево-
люции, за что они и впали в немилость у Гитлера, Г. Шуман, как
Г. Гримм, Р. Г. Биндинг и некоторые другие фёлькиш-националы,
выступал, хотя и в ином ключе, за неуклонное следование пар-
тийной программе, за продолжение революции, за чистоту идеи
нового рейха. «Старые бойцы» чувствовали себя после 1933 года
оттеснёнными на второй план «партийными бонзами, которые
предали идеалы нашего юношества».1 Эти настроения нашли своё
отражение в сборнике стихов «Песни о рейхе» в цикле «Чистота
рейха» (»Die Reinheit des Reiches«), а позднее и в цикле «Сонеты
ненависти» (»Sonette des Hasses«).
Здесь стоит, прежде всего, упомянуть стихотворение «Суд»
(»Gericht«), которое чуть ли не дословно передаёт кровавые события
1934 года, но автор трактует их как «некий мистический процесс»,
и поэтому уничтожение руководства CA по приказу Гитлера обрета-
ет «некие сакральные реминисценции»,2 которые в конечном итоге
должны восприниматься как духовное очищение, как некое жерт-
воприношение ради спасения «чистоты рейха от людей, извлекаю-
щих личную выгоду от прихода к власти национал-социалистов».3
«И когда этот человек произнёс мрачные слова:
Расстрелять! — его окутала тьма.
А когда в ночи раздавались выстрелы,
то каждая пуля разила сердце фюрера...
И кровью светилось сердце того,
кто своей радостью пожертвовал ради рейха.4
Стихотворение это вызвало недовольство завистников Шума-
на, последовали анонимные письма, его вызвали в гестапо, где
он имел долгую беседу с доверенным лицом Геббельса Хедерихом
и председателем «Партийной контрольной комиссии» Булером,
1 Langenbucher Н. Dichtung der jungen Mannschaft. S. 95.
2 Jungrichter С. Ideologie und Tradition. S. 126-127.
3 Schumann G. Die Lieder vom Reich. S. 67.
4 Ibid. S. 47.
384
которые настоятельно советовали Шуману изъять это стихотворение
из второго издания «Песен о рейхе». Шуман отчаянно противился
этому, ссылаясь на то, что только так он видит это событие, и лишь
благодаря личной просьбе Гитлера, переданной ему через Булера,
он согласился исполнить это требование.1
Столь мягкое разрешение довольно опасной для Шумана про-
блемы, учитывая его прямую принадлежность к CA, можно объяс-
нить только тем, что в известной мере для Гитлера была на руку
подобная мессианская трактовка расправы без суда и следствия
над его бывшими соратниками, ибо сведение этой бандитской
акции к некому вынужденному жертвоприношению снимало
с него вину за совершённые убийства, превращая Гитлера в выс-
шего судию, чьи решения не подлежат обсуждению, не говоря уже
о порицании.
Гитлер для Шумана оставался непререкаемым авторитетом,
и поэтому всё, что не укладывалось в его сознание как истинного
сторонника национал-социализма, все негативные явления, обозна-
чившиеся в «движении» после 1933 года, Шуман свёл к неурядицам
внутри самой партии, выведя таким образом фюрера из-под уда-
ра. И хотя все последующие сонеты Шумана, прямо или косвенно,
являются своеобразной интерпретацией мыслей и высказываний
Эрнста Рема, главы CA, убитого по приказу Гитлера, и по сути своей
напоминают плач по незаслуженному забвению заслуг «политиче-
ских солдат» (Э. Рём) в новом рейхе, все они лишены адресности.
Весь свой гнев Шуман обрушивает на политических нуворишей,
«торговцев», «мальчишек, которые разбазаривают всё то, за что
мы жертвовали», «торгуют кровью мертвецов», «они всё получили
за деньги, расположившись в меняльных конторах», «наши мёрт-
вые гибли не за это». И тут же возникает фигура того, «кто наведёт
порядок и очистит храм».2 А пока старые бойцы, «те, кто своими
телами закрывал знамя,., чувствуют себя чужими на этих празд-
никах и парадах». Но, несмотря на то, что они «оказались в этом
времени бездомными», они «ожидают приказа»,3 потому что они,
а не эти торговцы славой, «являются слугами фюрера, хранителями
1 Bautz S. Gerhard Schumann — Biographie — Werk. Wirkungen eines prominenten
Autors. Gießen, 2008. S. 355.
2 Schumann G. Die Lieder vom Reich. S. 43.
3 Ibid. S. 45.
385
и мстителями одновременно, ибо «из их пылающих сердец вырас-
тает рейх».1
Вся эта история со стихотворными комментариями к чистке CA
и последующей критикой линии партии после 1933 года могла бы
восприниматься как некий бунт на корабле, как чуть ли не акт
сопротивления, если бы не реакция партийной печати, которая
с энтузиазмом, как по команде, принялась превозносить высокие
достоинства поэзии Шумана, практически пересказывая своими
словами содержание его стихов. Г. Лангенбухер, чьё мнение воспри-
нималось как глас партии, писал: «Сонеты цикла «Чистота рейха»
принадлежат к самым сильным и самым прекрасным из того, что
дала нам до сих пор наша поэзия о новом ощущении совместно
пережитого нашим народом. Это песни гнева, направленного
против тех, кто не принимал участия в борьбе, но хотел как можно
больше воспользоваться её плодами. Это песни гнева, направленные
против тех, кто оперирует страданиями и жертвами борцов, про-
тив тех, кто только после победы открыл в себе свойства вождя».2
Лангенбухеру вторит Г. Понгс (Pongs, Hermann), один из тео-
ретиков нацистского литературоведения, который подчёркивает,
что «потрясающая действительность» в стихах Шумана обрела поэ-
тическую сущность, и в силу того, что жизнь в стране решительно
изменилась, «поэзия также обрела новые формы».3
И после этих славословий и получения высокой награды
Шуман, правда, уже после 1945 года, пытался доказать, что его
стихи являлись «голосом сопротивления порядочного человека...
из христианско-консервативного лагеря»,4 который, правда, по его
собственному признанию, «при всём сопротивлении против извест-
ных недостатков в духе «наивернейшей оппозиции» сохранял вплоть
до горького конца веру в возможность немецкой победы и за это
боролся».5
В известном смысле он был тем самым «еретическим голосом»
в нацистской литературе, об отсутствии которого так сетовал
Г. Хаупт, ибо пытался бороться за чистоту «движении», проявляя
1 Schumann G. Die Lieder vom Reich. S. 46.
2 Langenbucher H. Volkhafte Dichtung der Zeit... S. 583.
3 Цит. по: Bautz S. S. 368.
4 Schöne A. Über politische Lyrik im 20. Jahrhundert. 87.
5 Schumann G. Von Herkunft, Leben und Schaffen. S. 117.
386
определённый политический инфантилизм и воспринимая каждую
букву партийной программы национал-социалистов как некое
откровение, которое в своей святости подлежит неукоснительному
исполнению. Однако он, например, был единственным, кто запре-
тил, будучи комиссаром вюртембергского студенчества и членом
вюртембергского земельного правительства, устраивать в апреле
1933 года публичное сожжение неугодных книг в университетах
Штуттгарта и Тюбингена, усмотрев в этом некую профанацию,
упрощённое понимание духа «движения».
Тем не менее, когда речь шла о внутрипартийных проблемах,
способы выражения этого духа, как и восприятие самого процесса
«движения», заметно отличались на фоне общепринятого просла-
вления фюрера и партии некоей решительностью, жёсткостью,
иногда даже холодностью, и страстной пылкостью, близкой по сво-
ему настрою религиозному восторгу, когда речь заходила о фюре-
ре. Правда, при этом религиозная окрашенность стихов Шумана
мало имеет общего с истинной религиозностью, ибо в её одеждах
выступает, если можно так выразиться, национал-социалистская
религиозность. Происходит прямая подмена духа религиозного
символа идеологическими реалиями национал-социализма, такими
как народ, общность, кровь, почва, вождь.
Поэзия Шумана вторична по своему строю и есть продукт
внешнего восприятия формы и словаря Рильке, Георге и особенно
Гёльдерлина, творчество которого он боготворил и даже был одним
из зачинателей издания полного собрания его сочинений, будучи
президентом общества великого поэта. Отсюда, вероятно, и его
особая приверженность сонету, и в этом его стихи заметно отлича-
ются определенным общим профессионализмом. Не случайно, что
он был одним из немногих нацистских поэтов, кто неоднократно
публиковался в журнале «Иннере рейх», который хотя и находился
на службе у режима, но всё же сторонился откровенно пронацист-
ских авторов вроде Анакера. Вполне возможно, что «внутренние
эмигранты» усмотрели в его творчестве некие протестные интенции,
ибо его лирический герой, несмотря на кажущуюся решительность
выражения им национал-социалистской идеи, постоянно пребы-
вает в состоянии сомнения. Правда, сомнения эти безадресны,
и от этого они, вероятно, так неистовы, как это наблюдается в его
«Сонетах ненависти» (»Sonette des Hasses«) из сборника стихов
«Нам позволено служить» (»Wir dürfen dienen«, 1937), ибо только так
можно выжить в этом мире: «Лишь ненависть одна сохранит нас
387
в чистоте от собак».1 Поэт ощущает себя в стане врагов, ощущает
свою беспомощность:
Порою тошнота волною подступает к горлу
И душит, сковывает чистое дыханье.
Тяжёлый камень давит твоё сердце.
Ты всеми предан, одинок.2
Несомненно, здесь говорит поэт CA, обиженный и разочаро-
ванный в своих политических надеждах, но при желании все эти
гневные инвективы можно воспринять и по-иному, что, вероятно,
так и было, потому что сами фёлькиш-националы уже поняли,
что они обманулись в своих желаниях стать наставниками нации,
и подобные мысли в поэзии Шумана были созвучны их настроениям.
Отсюда, однако, не следует делать вывод о каких-то антина-
цистских тенденциях в творчестве Шумана. Их не было и в помине.
Страдания по случаю последствий т.н. «путча Рема» завершаются
в сборнике «Нам позволено служить» признанием если не спра-
ведливости понесённых жертв, то, по крайней мере, признанием
неумолимой предопределённости судьбы и готовности следовать
ей дальше во имя великой цели. Об этом достаточно явно сви-
детельствуют стихотворения этого сборника «Из ран рождается
глубокая покорность» (»Aus Wunden ist Gehorsam tief gewonnen«,
«И теперь формируется картина и бытие мира» (»Und nun formt
sich Bild und Sein der Welt«), «Только в ночи укрощают нас звёзды»
(»Erst in der Nacht bezwingen uns die Sterne«), «Жизнь продолжается»
(»Das Leben geht weiter«). Всё случившееся Шуман принимает как
данность. Как побитая собака, он выказывает свою готовность
и далее следовать по пути, указанному фюрером, ибо он не мог,
во имя сохранения чистоты «движения», поступить иначе. И поэ-
тому весь пафос поэзии Шумана обращен против тех, кто
...безучастно относится к яростному становлению
и думает лишь о покое и удобствах
...против
...продажной мелочи и фальшивых великих,
которых мы хотим изгнать как чуждых нашему праву!3
1 Schumann G. Sonette des Hasses // Weimarer Blätter 1937. S. 40.
2 Ibid. S. 41.
3 Schumann G. Sonette des Hasses. S. 45.
388
Отсюда жёсткое резюме: «Честь — благородным, ненависть —
отребью!»1 И как следствие — панегирик фюреру, выступающему
в роли выразителя дум и чаяний миллионов немцев. При этом все
качества вождя, которые отмечаются в стихотворении «Гитлер»
(»Hitler«), будь то воля, крепкий кулак, целеустремлённость, зажи-
гательность призыва
...заключают в себе громоподобную силу всех колоколов,
ибо так звучит его голос по всему миру.2
Правда, по большому счёту, самому Шуману жаловаться было
не на что, его политическая и творческая карьера успешно раз-
вивалась. Вскоре после получения Национальной премии, не без
поддержки со стороны Геббельса, его вводят в высший совет
Имперской палаты культуры, затем он занимает пост руководи-
теля «группы писатель», курировавшей авторов всех направлений
по социальным и экономическим вопросам. И опять здесь не обо-
шлось без поддержки со стороны Геббельса, а также Йоста, с кото-
рым Шуман находился в тесных дружеских отношениях.
Тем не менее, Шуман недолго пребывал в «Имперской палате
культуры». Постоянная грызня между различными отделами, усугу-
блённая частым вмешательством гестапо и СД (службы безопасно-
сти) в писательские дела, вынудили Шумана, разъярённого «боль-
шевистскими» методами работы этих служб, 04.12.1939 г. уйти,
несмотря на уговоры Геббельса и Йоста, добровольцем в армию.3
В мае 1940 г. Шуман принял участие в военных операциях в Бель-
гии и Франции. Именно в это время родилась его самая известная
книга стихов «Песни о войне» (»Die Lieder vom Krieg«, 1941).
Как и в предыдущих стихах, основной темой его поэзии оста-
ётся «борьба» — внутренняя и внешняя. Речь идёт не о причинах
войны (она воспринимается как данность, хотя и не лишённая
иррациональной окраски), а об освободительной миссии немецко-
го народа, пытающегося спасти народы Европы, а с ней и всего
мира, от «красной непогоды».4 При этом с народами Европы вою-
1 Schumann G. Op. cit. S. 46.
2 Цит. по: Bautz S. Op. cit. S. 437.
3 Bartels J. Op. cit. S. 278-279.
4 Schumann G An Europa // Weimarer Blätter 1940— Festgabe zur großdeutschen
Buchwoche. Leipzig, 1940. S. 74.
389
ет не немецкий народ сам по себе, нет, он исполняет лишь волю
божью:
Народ сей несёт посланье господа,
несёт знамёна к победе.
И тот, кто их кощунственно коснётся, будет повержен».1
Едва ли не главной темой его стихов военного времени стано-
вится тема смерти, трактуемой Шуманом как выражение высшей
награды солдату. В стихотворении «Нас любит смерть» (»Uns liebt
der Tod«) говорится не о подвиге солдата, не о том, ради чего он
пожертвовал своей жизнью, а о том, что
...над каждым мёртвым вьётся флаг торжественный.
Дух павших красный цвет флага развернул.
Смерть, будь благословенна.
Полощется флаг на ветру. Бог так хотел.2
В стихотворении «Триумф» (»Triumph«) смерть солдат, идущих
в атаку, выступает в роли символа практически свершившейся
победы, как это мыслилось немцам после быстрых побед во Фран-
ции и Польше:
Смерть брызжет тысячами диких красок.
Пускай они падают как спелые колосья,
пускай они окрашивают землю своей кровью.
В душе они уже выиграли эту войну.
Они встают. Идут в атаку на смерть.
И этот их подъём, о братья, есть победа!3
Однако после начала войны с Советским Союзом, несмотря
на первые успехи немецких войск, ощущение лёгкой победы исче-
зает, и это находит своё выражение в речах и в поэзии Шумана.
В отличие от «маменьких бардов» (Mutti-Barden), как он называл
поэтов, писавших ура-патриотические стихи о войне из безопас-
ного тыла, Шуман находился в действующей армии, принимал
участие в боях под Минском, был ранен, получил Железный крест,
т.е. на личном опыте убедился в жестокости войны, и поэтому его
военная лирика приобретает довольно суровые черты. Ощущение
смерти, некое состояние заброшенности в неведомый мир особенно
1 Schumann G. An Europa... S. 74.
2 Цит. по: BautzJ.S. 479.
3 Ibid. S. 494.
390
сильно проявляется в сборнике стихов Шумана «Закон становится
песней» (»Gesetz wird zu Gesang«, 1943), написанных именно в Рос-
сии. Так, в стихотворении «Звёздное небо над Россией» (»Sternbild
in Russland«) сама Россия предстаёт как некий конец света, конец
всего сущего, и поэтому его удивляет, что
.. .даже над этим ужасом
ещё опускается ночь...
...«с чуждой нам силой сжимает нас тоска в болотах и лесах»,
лирический герой ощущает себя
...в бесконечной ужасающей дали
одиноким и безрадостным.1
И все эти чувства одолевают его во время похорон солдат,
погибших во время боя. Другое, не менее тягостное, лишённое
каких-либо героических интенций стихотворение «Болото» (»Sumpf«),
доводит это настроение до степени всеохватного ужаса:
Гниенье заволакивает давяще удушающими испарениями.
Зверьё лесное не подаёт весёлых радостных признаков жизни.
То смерть своим затхлым духом вселяет в нас ужас.
Да, это смерть. Безжалостная, ждёт она нас здесь.
Не лес, а кладбище мёртвых пней взирает
На нас уныло. Как вы сюда попали?
Нет твёрдой почвы. Земля колышется, отягощенная страхом.
Нет и воды, болото лишь клокочет в лихорадочном застое.
С мужчинами, и дуло в дуло, бороться
Нас учили, и не бояться ничего.
Но теперь вой раздаётся в пустынной ночи.
И адской мукой становится даже свет небес.
Мы окружены дикими силами.
Мы чувствуем их — но лиц не видим.2
Война без фанфар и развевающихся знамён предстаёт в этих
стихах, война, низведённая в своём восприятии до животного
ужаса, что как-то не вяжется с официальной пропагандой тех лет.
Тем не менее, именно это обстоятельство подчёркивает критик
Урзула Зайффарт (Seyffart, Ursula), говоря о том, что стихи этого
1 Schumann G. Gesetz wird zum Gesang. München, 1943. S. 14.
2 Ibid. S. 16.
391
сборника Шумана «превосходят многие стихи о войне тем, что
они далеки от всей общепринятой бравурной лирики,., так как
возникают постоянно из настоящего поэтического переживания».1
Правда, подобные стихи чередуются с лирическими зарисовками
в духе Э. Юнгера, когда война в своих отдельных проявлениях
обретает человеческие черты довольно фривольного характера,
и хотя Шуман, выступая на Великогерманской и европейской
встрече поэтов в Веймаре в 1942 году, больше говорил о поэзии
как способе сохранения «самообладания, чем отвлечения» от ужа-
сов войны,2 тем не менее, для него важна эстетическая сторона
происходящего. Поэтому земля, дрожащая от разрыва снарядов,
уподобляется у него нетерпеливой юной деве, которая, как и зем-
ля, ждёт прихода ночи с тем, чтобы «принять в своё лоно свою
будущую судьбу», и...
...небо познало эту страсть
и опустилось на неё и удовлетворённое
с сиянием удалилось.3
Не случайно критик, поэт Хильдеберт Райнхардт (Reinhardt, Hil-
debert), в своей статье, присланной с фронта, полагает, что Шуман,
в силу своей «швабской незакомплексованности», отдает в своих
стихах предпочтение «чисто музыкальным элементам формы»,
и поэтому «война не слишком часто отбрасывает свою тень на них».4
Действительно, война как таковая во всех её проявлениях
подаётся Шуманом зачастую опосредованно. Несмотря на столь
красочные описания душевных страданий немецких солдат,
в которых, казалось бы, ощущалось неприятие войны, Шуман, и это
характерно для всего его поэтического топоса, воспринимает эту
войну в стихотворении «Мужчины» (»Männer«) как некое героическое
рыцарское сражение, в котором «мужчины», т.е. немцы, «мрачные
1 SeyffartU. Lyrische Ernte // Europäische Revue. 1943. H. 12. S. 16.— Подобное
свободное высказывание, не отвечающее официальным установкам, вызвано,
вероятно, тем, что журнал «Ойропэише ревю» предназначен был специально для
зарубежной публики.
2 Schumann G. Krieg — Bericht und Dichtung // Dichter und Krieger. Weimarer Reden
1942 / Hrsg. v. R. Erckmann. Hamburg, 1943. S. 63.
3 Reinhardt H. Das Gedicht im Kriege. Feldpostbrief zu enigen neuen Gedichtbändchen //
Bücherkunde. 1944. H. 1/2, Januar / Februar. S. 16.
4 Ibid.
392
бойцы обречённого на смерть ордена», борются с «бандитами»,
с советскими солдатами.1
Любопытно, что в произведениях о Первой мировой войне
(например, в романе Цёберляйна «Вера в Германию») элемент рыцар-
ского противостояния распространяется на обе воющие стороны,
здесь же на первое место выходит восприятие противника как
«недочеловека», как существа, не имеющего никакого отношения
к человеческой цивилизации, и потому подлежащего уничтожению.
Немецкие войска, вторгшиеся в Россию, воспринимаются поэтом
как некий прототип германского рыцарского ордена, борющегося,
как и раньше, задуши язычников, ибо «глубочайший смысл и зада-
ча этой войны заключается в том, чтобы возвысить их в новом рейхе
до положения людей».2 Как это происходило, Шуман не сообщает,
но в своих мемуарах он, бывший свидетелем репрессий, затро-
нувших оккупированные немцами области Белоруссии, цинично
сообщает о «рыцарском ведении боевых действий и о рыцарском
отношении к несчастному населению, тяжело затронутому ужасами
войны, в том числе и на Востоке».3
После ранения Шуман был назначен в 1942 году художествен-
ным руководителем Вюртембергского государственного театра.
Назначение это было связано не только с тяжёлым положением,
сложившемся в Германии после разгрома немецких войск под Ста-
линградом, и организационными талантами Шумана, известными
ещё со времён его студенчества, которые сейчас пришлись, как
нельзя кстати, для поднятия духа населения, но и с тем, что Шуман
зарекомендовал себя ещё и как успешный драматург. Его пьеса
«Решение» (»Die Entscheidung«, 1938), рассматривавшаяся тогда,
наряду с «Шлагетером» Г. Йоста, как некий прототип нацистской
«новой драмы»,4 шла, правда, недолго, в ряде театров. История
молодого фронтовика времён Первой мировой войны, вынужден-
ного решать, чью сторону он должен принять во время Ноябрьской
революции 1918 года — коммунистов или фёлькиш-националов
(а решение он, конечно, принял «правильное»), обладала, каза-
лось бы, достаточно убедительной динамикой и заметно отличалась
1 Schumann G. Gesetz wird zu Gesang. S. 18.
2 Schumann G. Krieg — Bericht und Dichtung... S. 66.
3 Schumann G. Besinnung. Von Kunst und Leben. Bodmann / Bodensee, 1974. S. 160.
4 Bartels J. Op. cit. S. 281.
393
от пропагандистских поделок, тем не менее не вызвала у публики
особого интереса, хотя критики с восторгом отмечали появление
драмы «о зарождении национал-социалистской идеи».1
Однако следующее произведение Шумана, трагедия «Смерть
Гудрун» (»Gudruns Tod«, 1943), сразу же стало театральной сенса-
цией в Германии. Свыше 100 театров поставили эту трагедию,
только в Вюртембергском государственном театре до закрытия его
в сентябре 1944 года она шла 44 раза.2 Казалось бы, средневековый
героический эпос «Кудруна» (»Kudrun«),3 при всей приверженности
нацистов германским древностям, мало соответствовал тягостным
настроениям, царившим в Германии, вызванным и поражением
немецких войск под Сталинградом, и массированными бомбарди-
ровками городов, приводивших к многочисленным жертвам среди
гражданского населения, и рационированием продуктов питания.
Тем не менее, именно в судьбе главной героини этой трагедии нем-
цы почувствовали, но ещё до конца не осознали, приближающийся
конец Третьего рейха. И не случайно через несколько дней после
триумфальной премьеры «Смерти Гудрун» в Вюртембергском теа-
тре состоялся 18 февраля 1943 года в берлинском Спортпаласте
известный митинг, на котором Геббельс призвал немцев к тотальной
войне. Небывалый успех трагедии «Смерть Гудрун» объясняется
именно заложенным в ней известном со времён короля Фридриха
посыле «выдержать во чтобы-то ни стало», (»Durchhalten!«), ибо судь-
ба каждого немца неразрывно связана с судьбой Третьего рейха.
В интерпретации Шумана героический эпос «Кудруна», как это
было принято тогда, подвергся существенному изменению в соответ-
ствии с политическими надобностями. В оригинале Кудруна, пройдя
всевозможные испытания, счастливо сочетается браком со своим
избранником. В трактовке Шумана Гудруна разрывается между
любовью к отвергнутому ею ранее Хартмуту Норманну и клятвой вер-
ности своему жениху Хервигу Зиландскому, и выход из этой ситуации
только один — смерть. Когда Хартмут погибает в поединке с Херви-
гом, Гудрун кончает жизнь самоубийством над телом возлюбленного,
1 WulfJ. Theater und Film im Dritten Reich. Reinbeck bei Hamburg, 1966. S. 198.—
Правда, Геббельс, покровительствовавший Шуману, назвал в своих дневниках
пьесу Шумана «бумажной безделкой, свидетельствовавшей о полной неспособности
Шумана создавать драматические образы» (BautzJ. Op. cit. S. 473).
2 Ibid.
3 Имеются два варианта произношения этого имени — Кудрун и Гудрун. Шуман
избрал последний вариант.
394
тем самым как бы сохраняя свою честь перед нелюбимым женихом,
не дав ему формального отказа, и жертвуя собой ради высокой любви
к предмету своей страсти. Гудрун выступает здесь как олицетворение
жертвенности, определяющейся фатальной неизбежностью смер-
ти, и, с учётом реальной ситуации в Германии на конец 1943 года,
этот посыл воспринимался как призыв к лояльности по отношению
к режиму до последнего конца, готовности к жертвам, и одновре-
менно как некая поведенческая установка восприятия неизбежности
судьбы. Таким образом, Шуман слил воедино слепую веру в фюрера
и судьбу, что и отвечало постулатам нацистской идеологии.
Критика восприняла трагедию Шумана с восторгом, особо
подчёркивая «германскую верность,., заключённую в образе Гудрун
вплоть до поп plus ultra... Героиня трагедии в её трагическом поло-
жении погибает, и хотя её поступок в смысле настоящего герман-
ского духа, как и довольно слабой связи с самим эпосом вызывает
некоторые сомнения, тем не менее, она производит впечатление
действительного величия».1
Слепая вера в фюрера и судьбу, надо полагать, подвигли
и Шумана в феврале 1944 года подать прошение о приёме его
в СС-дивизию «Хорст Вессель», и прошение его было удовлетворе-
но, несмотря на то, что он, истинный сторонник CA, «штурмовик
первого призыва», не раз выступал в своих стихах против гонений
на «старых бойцов», а, как известно, основными исполнителями при-
каза Гитлера по уничтожению верхушки CA были именно эсэсовцы.
После разгрома Третьего рейха Шуман быстро перестроился,
пройдя процесс денационализации без существенных потерь бла-
годаря умелому подчёркиванию религиозной метафорики своего
творчества, а также обыгрыванию своих якобы оппозиционных
выступлений против «партийных бонз». Свою роль здесь сыграли
и его первые стихи, написанные в лагере для военнопленных, в кото-
рых Шуман трактовал поражение фашистской Германии не как
политическое или военное действо, а как божью кару в наказание
немецкого народа, не выдержавшего посланного на него испытания
нацизмом. В своём сонете «Молитва» (»Gebet«) Шуман восклицает:
Ты, полный гнева, вверг народ
в эту бездну мрачных душевных страданий.
Как же должен Ты любить Германию...2
1 Seyffarth U. Neue Bühnendichtung // Europäische Revue, 1944. H.3. S. 19.
2 Цит. по: Bartels J. Op. cit. S. 285.
395
В конечном итоге Шуман был признан «виновным в незначи-
тельной степени» (Minderbelasteten), и вскоре, не без поддержки
бывших коллег по цеху (Г. Гримм, Г. Бёме, В. Пляйер), включился
в работу различных профашистских и антикоммунистических
организаций, а в 1962 году основал собственное издательство
«Хоенштауфен-ферлаг» (»Hohenstaufen-Verlag«), в котором нашли
прибежище произведения бывших нацистских писателей, бла-
го правоэкстремистских читателей в тогдашней Германии было
достаточно. Новую жизнь обрели и его собственные произведения,
общий тираж которых к 1983 году достиг 500000 экземпляров.1
До конца своей жизни Шуман оставался проводником идей нацио-
нал-социализма и одним из наиболее почитаемых авторов в кругах
различных землячеств и неонацистских организаций.
1 Ibid. S. 291.
Литература «внутренней эмиграции»
Приход к власти национал-социалистов не означал повсемест-
ного признания идеологии и практики новых властителей среди
литераторов. Большинство писателей, не пожелавших по различ-
ным причинам покинуть Германию, традиционно придерживалось
невмешательства в политику, однако игнорировать её напрямую
они не могли, и в этой ситуации вынуждены были или затвориться
в собственном мирке, искать, по словам Герхарда Гауптмана, свой
«Eremitage для спокойной работы»1 и писать в «ящик письменного
стола», или как-то приспособиться к изменившейся политической
ситуации, поступиться частью своих творческих и духовных
принципов. Именно тогда возникло такое явление как литература
так называемой «внутренней эмиграции» (die innere Emigration),
значимость которого по сей день вызывает ожесточённые дискус-
сии по причине неопределённости самого понятия «внутренняя
эмиграция». Неопределённость эта выражается, прежде всего,
в гражданской позиции писателя в годы нацизма и в том, как эта
гражданская позиция находила своё выражение в его произведе-
ниях, если они, независимо от их оппозиционной настроенности,
выходили в это время и пользовались благосклонным вниманием
официальных властей.
Но в чём эта оппозиционность выражалась? Считать ли про-
явлением «внутренней эмиграции», учитывая её изначальную
протестную сущность, демонстративный отказ писателя от публи-
каций и полное его молчание как творческой и общественной
Цит. по: Literatur im Dritten Reich. Dokumente und Texte / Hrsg. v. S. Graeb-Kön-
neker. Stuttgart, 2001. S. 17.
397
личности, или приверженность «внутренней эмиграции» выражает-
ся в создании и публикации произведений, не содержащих в себе
каких-либо отсылок к нацистской действительности в политическом
и поэтологическом смысле? Является ли подобное игнорирование
политических и эстетических установлений национал-социализма
неким открытым выражением неприятия гитлеровского режима?
Заключено ли в таких произведениях некий различимый настрой,
который вызывал бы у нацистских властей противодействие?
Ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с пробле-
мой литературы «внутренней эмиграции», до сих пор существенно
разнятся. Одни исследователи, как Карл Аугуст Хорст (Horst, Karl
August), считают, что вообще вся литература в годы нацизма раз-
вивалась под знаком «внутренней эмиграции»,1 другие, как Вальтер
Берендзон (Berendsohn, Walter А.), эмигрант первого часа, посвя-
тивший всю свою жизнь собиранию материалов и изучению лите-
ратуры эмиграции, призывал этот термин «устранить», полагая, что
он только закрывает непреодолимую «пропасть» между литературой
«беглецов», т.е. собственно эмигрантов, и «оставшихся на родине»,
ибо «писатель в Третьем рейхе не может внутрь эмигрировать».2 Ему
вторил Франц Шонауэр (Schonauer, Franz) в своей книге «Немецкая
литература в Третьем рейхе» (»Deutsche Literatur im Dritten Reich«,
1961), считая своей основной задачей «разрушить миф некоей
«внутренней эмиграции», ибо «критическое рассмотрение прошлого
возможно только тогда, когда фальшивые образы больше не закры-
вают действительность».3
Вообще-то у немецкой литературы был уже опыт пребывания
в состоянии «внутренней эмиграции», когда в начале XX в. вол-
на всяческих литературных измов и, прежде всего, натурализма
отодвинула на задний план авторов Heimatdichtung, и Фридрих Лин-
хард (Lienhard, Friedrich), один из теоретиков этого направления,
в отчаянии воскликнул, что писатели фёлькиш-консервативного
толка оказались «словно в изгнании, находясь в самой Германии».4
1 Horst К. A. Die deutsche Literatur der Gegenwart. München, 1957. S. 13.
2 Ibid. S. 407.— В своей книге «Гуманистский фронт» (Die humanistische Front. Ein-
führung in die deutsche Emigranten Literatur, 1946), Берендзон, говоря о литературе
«внутренней эмиграции», ни разу не употребляет этот термин.
3 Schonauer F. Deutsche Literatur im Dritten Reich. Versuch einer Darstellung in pole-
misch-didaktischer Absicht. Ölten und Freiburg im Breisgau, 1961. S. 13.
4 Lienhard F. Los von Berlin // Lienhard F. Gedankliche Werke — Erster Band. Neue
Ideale — Türmerbeiträge. Stuttgart, 1926. S. 135.
398
Однако эта «внутренняя эмиграция» носила сугубо литературный
характер и ни в коей мере не касалась политической оппозиции
её представителей по отношению к тогдашним властям, которые
как раз благоволили к ним, не говоря уже о том, что пребывание
в этом состоянии ничуть не грозило благосостоянию и самой жизни
этих «изгнанников».
В новой обстановке, когда речь шла не только о творчестве,
но и о выживании творца, нужно было обладать определённым
мужеством, чтобы отстаивать свои эстетические и политические
принципы. Именно в годы нацизма эмиграция как таковая —
внешняя и внутренняя — стала своеобразным оселком, на кото-
ром проверялась подлинная сущность художника как духовного
наставника нации, чьи произведения, ещё со времён Лессинга,
всегда находились в состоянии постоянной полемики с обществен-
ной действительностью. Другое дело, что понимание этой полеми-
ки и творческие устремления писателя определяются условиями
времени, и здесь, если ограничиться только авторами «внутренней
эмиграции», расклад сил был настолько многообразен, настолько
противоречив, что говорить о каком-либо едином направлении
нет смысла. Это было собрание друзей и врагов, национал-социа-
листов и фёлькиш-консерваторов, попутчиков и приспособленцев,
словом, людей самой разной ориентации, поэтому разговор пой-
дёт не столько о литературе «внутренней эмиграции» как таковой,
сколько о наиболее ярких в своих проявлениях авторах, чьё твор-
чество в какой-либо мере отвечало самому понятию «внутренняя
эмиграция» в прямом или извращённом смысле.
Само понятие «внутренняя эмиграция» в его тогдашнем пони-
мании ведёт своё происхождение от небольшой статьи «Эмиграция
в Германии» (»Emigration in Deutschland«), появившейся в 1933 году
на страницах журнала «Нойе Вельтбюне» (»Die neue Weltbühne«),
редакция которого вынуждена была после нацистского переворота
в Германии обосноваться в Вене. По прочтении этой статьи Т. Манн
в одном из писем отмечает: «Хорошие слова о немецком обмане
с выборами и о внутренней эмиграции, к которой, в принципе,
отношусь и я».1 Эти слова Томаса Манна, как и высказывания Ген-
риха Манна, Лиона Фейхтвангера, Пауля Тиллиха, Курта Керстена
1 Цит. по: Guntermann G. »Der spanische Rosenstock« als Versteck? // Schriftsteller
und Widerstand. Facetten und Probleme der »Inneren Emigration« / Hrsg. v. F.-L. Kroll
und R. von Voss. Göttingen, 2012. S. 149.
399
и особенно Клауса Манна, говорят о том, что авторство этого тер-
мина принадлежит немецким эмигрантам, которые вкладывали
в него определённый оппозиционный смысл, определявшийся
не только литературной, но и политической оппозицией к гитле-
ровскому режиму.
Но ощущение «эмигрантской жизни в собственном отечестве»,
как отмечал в своём дневнике писатель и скульптор Эрнст Барлах
(Barlach, Ernst 1870-1938),1 было свойственно и тем, кто оставал-
ся в Третьем рейхе. По крайней мере, некоторые из них (Стефан
Андрее, Йохен Клеппер), хотя и в разной интерпретации, именно
так воспринимали свою жизнь и творчество в годы нацизма. Поэ-
тому уже в 1938 году Томас Манн в своей статье «Этот мир» (»Dieser
Friede«) мог с пафосом заявить «мы, немцы внутренней и внешней
эмиграции»,2 из чего можно заключить, что имелось или предпо-
лагалось какое-то единение сил, боровшихся против нацистского
режима, и само понятие «внутренняя эмиграция» на первых порах
в силу отсутствия какой-либо достоверной информации о полити-
ческой и культурной жизни в фашистской Германии не вызывало
отрицательных эмоций.
Однако после 1945 года, когда преступления немецкого фашиз-
ма стали известны всему миру, отношение Т. Манна к «внутренней
эмиграции» радикально изменилось. Возможно, проблематика лите-
ратуры «внутренней эмиграции», как это случилось с проблематикой
вообще литературы Третьего рейха, и оставалась бы долгое время
на периферии внимания специалистов, не говоря уже о немецком
обществе, если бы не открытые письма самозваных авторов «вну-
тренней эмиграции» Вальтера фон Моло и Франка Тисса к Томасу
Манну, которые вызвали громкую дискуссию в первые годы после
разгрома Третьего рейха. Суть этой дискуссии, получившей назва-
ние «великой контроверзы» (die große Kontroverse), сводилась к вос-
хвалению литературы авторов «внутренней эмиграции» в борьбе
против нацистского режима, в отрицании значимости не только
литературы внешних эмигрантов, но и эмиграции как таковой,
в порицании отсутствия у эмигрантов чувства патриотизма, любви
к немецкому народу. За всем этим крылась попытка представить
1 Цит. по: Grimm R. Im Dickicht der inneren Emigration // Die deutsche Litera-
tur im Dritten Reich. Themen. Traditionen. Wirkungen / Hrsg. v. H. Denkler und
K. Prümm. Stuttgart, 1976. S. 409.
2 Ibid
400
авторов «внутренней эмиграции» истинными патриотами Германии,
то есть снять с них тяжесть вины за преступное прошлое, возложив
её на авторов внешней эмиграции, а заодно, в пику им, предста-
вить авторов «внутренней эмиграции» как продолжателей традиций
немецкой литературы в послевоенной Германии, могущих выступить
в качестве целителей душ страждущих сограждан, то есть попро-
сту занять образовавшуюся лакуну на книжном рынке в стране
до возможного (но так и не происшедшего) возвращения знамени-
тостей Веймарской республики, что, собственно, и произошло, ибо
до середины 50-х годов именно авторы «внутренней эмиграции»,
а с ними и бывшие нацистские писатели, успешно прошедшие
процесс денацификации, определяли погоду книжного рынка.
Всё началось с открытого письма Вальтера фон Моло Томасу
Манну, опубликованного 4 августа 1945 года в «Хессише пост» (»Hes-
sische Post«) и 13 августа 1945 года в «Мюнхенер цайтунг» (»Münche-
ner Zeitung«), в котором он призывал писателя вернуться в Германию.
Первые послевоенные месяцы 1945-1946 годов Т. Манн был
завален письмами с просьбами о помощи. При этом в качестве
просителей выступали именно люди, относившие себя к авторам
«внутренней эмиграции», хотя по сути, как, например, Фридрих
Блунк, председатель нацистской «Палаты письменности» с 1933
по 1935 годы, таковыми не являлись.1 Несомненно, что Т. Манн
олицетворял собой в годы нацизма во всём мире своими произ-
ведениями и своей гражданской позицией немецкую культуру,
«другую Германию», однако он был и тем, кто меньше всего отве-
чал устремлениям авторов «внутренней эмиграции», учитывая
его многочисленные выступления по радио, транслировавшиеся
через Би-Би-Си на Германию, в которых он стремился возбудить
у немецких слушателей чувство ненависти к нацистскому режиму,
побудить их к активным действиям против него. Т. Манн не утешал
немецкий народ, как это было свойственно некоторым авторам
«внутренней эмиграции», а призывал к восстанию.
Но этого не произошло. Нацистский режим свергли войска
союзников, а не сами немцы, и это обстоятельство стало для Т. Ман-
на главным разочарованием послевоенного времени. В день капи-
туляции германских войск 7 мая 1945 года Т. Манн записал в своём
дневнике примечательные слова: «...итак, день праздничного свой-
ства? Но то, что я испытываю, совсем не приподнятое настроение...
1 См. Манн Т. Письма // под ред. CK. Апта. М., 1973. С. 189, 200-201.
401
Вообще-то с Германией чего только ни произойдёт, но в самой Герма-
нии ничего не произойдёт, и до сих пор нет ни одного высказывания
об отрицании нацизма, ни одного слова о том, что «захват власти»
был ужаснейшим несчастьем, допущение этого, одобрение его было
преступлением высшей степени. Отрицание и проклятие деяний
национал-социализма внутренне и внешне, заявление о стремлении
к возвращению к правде, к праву, к человечности,— где они?»1
Эта же мысль определяет и его знаменитую речь «Лагеря»
(»Die Lager«), опубликованную в «Байрише ландесцайтунг» (»Bay-
erische Landeszeitung«) 18 мая 1945 года под названием «Томас
Манн о немецкой вине» (»Thomas Mann über die deutsche Schuld«),
в которой писатель высказал, пожалуй, самые резкие упрёки в адрес
немецкого народа: «Толстенные застенки, в которые гитлеризм
превратил Германию, рухнули, и перед глазами всего мира въяве
предстал наш позор... по своей отвратительности эти невероятные
картины превосходят всё, что только может представить человек.
«Наш позор», немецкие читатели! Потому что всё немецкое, всё,
что говорится по-немецки, пишется по-немецки^ что существует
на немецкий лад, всё затронуто этими позорными разоблачения-
ми. Это была не кучка преступников, нет, это были сотни тысяч
представителей так называемой немецкой элиты, мужчины, юноши
и потерявшие человеческий облик женщины, которые под влиянием
сумасшедших учений свершали с болезненным удовольствием эти
чудовищные злодеяния».2 В этой связи Т. Манн осуждает позицию
кардинала Клеменса Августа графа фон Галена, проявившего себя
в годы нацизма как открытого противника режима, а теперь уви-
девшего в войсках союзников «врагов»: «По меньшей мере, рассма-
тривайте их теперь не как ваших «врагов», как лживо уверяет кар-
динал Гален, не чувствуйте себя, как этот ничему не научившийся
священник, в первую очередь немцами, а ощущайте себя людьми,
вернувшимися в лоно человечества, теми, кто после двенадцати
лет снова хочет стать человеком».3
В этих словах, поддержанных более резкими высказываниями
Т. Манна в его радиовыступлениях в годы войны и в статьях первых
1 Mann Th. Tagebücher 1944-1946 / Hrsg. v. I. Jens. Frankfurt / Main, 1986. S. 200.
2 Цит. no: Die Literatur der Bundesrepublik Deutschland / Hrsg. v. D. Lattmann. Zürich
und München, 1973. S. 35.
3 Ibid.
402
послевоенных лет, заложены предпосылки «великой контроверзы»,
возникшей между эмигрантами и «внутренними эмигрантами»,
но именно этого безжалостного критика послевоенной Германии
фон Моло призвал в своём письме вернуться на родину «в качестве
доброго врача»1 с тем, чтобы он «увидел несказанные страдания
в глазах многих, которые не участвовали в прославлении наших
теневых сторон, которые не смогли покинуть родину, потому что
речь шла о многих миллионах людей, для которых не было бы ника-
кого другого места кроме родины, постепенно превратившейся
в огромный концентрационный лагерь, в котором вскоре всё больше
становилось охранников и охраняемых различной степени».2
По сути дела, фон Моло снимает любую ответственность
за преступления нацистов не только со всех немцев, ибо они нахо-
дились в концентрационном лагере и потому не могли участвовать
в каких-либо преступных акциях нацистов, но и с авторов «вну-
тренней эмиграции», считавших себя противниками нацистского
режима, так как они находились в тех же условиях, что и остальные
немцы. Более того, ссылаясь на голод и страдания немецкого народа
в течение первой трети XX века, фон Моло решительно утверждает,
что такой народ «по своей сути не имеет ничего общего со злоде-
яниями и преступлениями, с постыдными зверствами и ложью,
со страшным помешательством больных, которые, вероятно, поэ-
тому всё больше и говорили о своём здоровье и совершенстве».3
Обращение «внутреннего эмигранта» фон Моло к «внешнему
эмигранту» Т. Манну с призывов вернуться на родину отнюдь
не означало, что оно касалось и других эмигрантов. Речь шла только
0 Т. Манне, чей авторитет в мире и, в частности, в американских
правительственных кругах, фон Моло надеялся использовать для
придания авторам «внутренней эмиграции» официального статуса
в послевоенной Германии, занять стартовые позиции на книжном
рынке под прикрытием значимой фигуры Т. Манна. По большому
счёту, всем своим настроем письмо фон Моло носило не столько
пригласительный, сколько оппозиционный характер, противный
взглядам Т. Манна, высказанным в его статьях и выступлениях
на радио. Тем не менее, фон Моло, занимавший с 1928 по 1930 год
1 Walter von Molo an Thomas Mann // Die grosse Kontroverse. Ein Briefwechsel um
Deutschland / Hrsg. v. J.F.G. Grosser. Hamburg, Genf, Paris, 1963. S. 20.
2 Ibid. S. 19.
3 Ibid. S. 20.
403
пост президента «Секции поэзии прусской академии искусств», чле-
ном которой был и Т. Манн, уповал на старое знакомство с писате-
лем, надеясь с его помощью легализовать «внутреннюю эмиграцию»
в глазах немецкого общества.
В современной Германии имя Вальтера фон Моло (Molo, Wal-
ter von; 1880-1958) совершенно забыто, хотя в первой половине
XX века он был одним из самых известных писателей» и просла-
вился своими историческими романами о Фридрихе Шиллере,
Фридрихе II, Мартине Лютере и других представителях немецкой
истории. В силу своих радикальных фёлькиш-национальных взгля-
дов он не мог принадлежать к «внутренней эмиграции». Более того,
некоторые критики, например, Кристиан Расси (Rassy, Christian)
в своей монографии «Вальтер фон Моло — поэт немецкого челове-
ка» (»Walter von Molo, ein Dichter des deutschen Menschen«, 1936),
провозглашали его чуть ли не «поэтическим провозвестником
Третьего рейха».1 Однако, несмотря на все старания фон Моло сбли-
зиться с нацистами (это проявилось в подписании им в 1933 году
заявления «Немецкой академии поэзии» в поддержку политики
Гитлера, в чрезмерном подчёркивании культа вождя в романе
«Евгений Савойский» (»Eugenio von Savoy«, 1936), в публицистике),
его творчество не пользовалось успехом в Третьем рейхе, о чём
свидетельствуют многочисленные уничтожающие рецензии в тог-
дашней прессе.2 Обозлённый таким отношением к себе, фон Моло
уехал из Берлина в своё поместье и не принимал никакого участия
в общественной жизни Германии. О действительном положении
фон Моло в годы нацизма достаточно откровенно сказал главный
литературный цензор Третьего рейха Г. Лангенбухер на страницах
«Национал-социалистише монатсхефте. Центральный политический
и культурный журнал НСРПГ» (»Nationalsozialistische Monatshefte.
Zentrale politische und kulturelle Zeitschrift der N.S.D.A.P«), издавае-
мого идеологом партии А. Розенбергом: «Книги Вальтера фон Моло
1 Langenbucher Н. Eine Schrift über Walter von Molo // Nationalsozialistische
Monatshefte. München, 1936. H.79. S. 924.
2 Anonym. Holunder in Polen // Bücherkunde, 1934. Nr. 1-4. S. 7 («Книга не принесёт
национал-социализму никакой пользы, заграницей, напротив, вызовет искажённое
представление о нём, и тем самым только навредит»); Anonym. Walter von Molo
schrieb ein neues Buch // Bücherkunde, 1938. H. 12. S. 645-646. Примечательно,
что те же книги, переизданные после 1945 г. подверглись также уничтожающей
критике (Sauigny H., von. Walter von Molo: Der kleine Held // Das goldene Tor. 1949.
H. 2. S. 173-174; Ваш J. Die Affen Gattes // Welt und Wort. 1951. H. 4. S. 157).
404
выходят в новых изданиях, как, например, недавно вышедшая
в одном томе трилогия о Фридрихе II, издаются его новые работы,
он не жалуется ни на какие ограничения по отношению к нему, и,
насколько нам известно, Вальтер фон Моло не жалуется на крити-
ческие суждения, которые появляются в нашей не такой уж очень
мстительной прессе».1 Подобное отношение к фон Моло сохранилось
до конца Третьего рейха, поэтому говорить о какой-либо оппозиции
писателя к нацистскому режиму, о принадлежности его к «внутрен-
ней эмиграции» вряд ли возможно. Не случайно Ганс Майер, один
из будущего созвездия критиков «группы 47», упомянул в 1945 году
в одной связке с Г. Венном, Э.Г. Кольбенхайером и В. фон Моло,
обвинив их в том, что они «предали временщикам слово и честь
немецкой литературы».2
До того, как Т. Манн ответил на письмо В. фон Моло, в «Мюн-
хенер цайтунг» (»Münchener Zeitung«) 18 августа 1945 года появи-
лась статья Франка Тисса (Thiess, Frank; 1890-1977) «Внутренняя
эмиграция» (»Innere Emigration«), которая, собственно, и развязала
дискуссию о роли и значимости «внутренней эмиграции» в годы
нацизма.
Ф. Тисе, родом из прибалтийских немцев, зарекомендовал себя
в годы Веймарской республики как певец лифляндской романтики
в духе Heimatdichtung с преимущественным интересом к различ-
ного рода эротическим коллизиям. Если в Веймарской республике
эротические экзерсисы Тисса в какой-то мере соответствовали
свободным нравам того времени, то в Третьем рейхе, который
позиционировал себя по части эротики как «чистый рейх», произве-
дения подобного рода сразу же попадали в список «нежелательной
литературы». Пытаясь приспособиться к изменившейся ситуации,
Тисе переиздаёт в 1933 году слегка переделанный роман «Нечистый»
(»Der Leibhaftige«, 1924), снабдив его пространным предисловием,
в котором писатель, ссылаясь на слова Гитлера о «преобразовании
и воспитании нового человека», подчёркивает необходимость изо-
бражения в назидательных целях прошлого в том виде, в каком оно
1 Langenbucher H. Op. cit. S. 927.— Примечательно также и то, что Г. Лангенбухер
ни разу не упомянул имя В. фон Моло в своих книгах о современной немецкой
литературе (Langenbucher H. Die deutsche Gegenwartsdichtung. Berlin, 1940; Lan-
genbucher H. Volkhafte Dichtung der Zeit. Berlin, 1940), выражавших официальную
точку зрения нацистов по вопросам литературы.
2 Mayer H. Das Wort der Verfolgten // Mayer H. Nach Jahr und Tag. Reden 1945-1977.
Frankfurt / Main, 1978. S. 19.
405
было, обвиняя во всех бедах, случившихся с Германией, немецкую
буржуазию: «Моя «моральная проповедь»... оскорбила в этом романе
священное благо бюргера, его «свободу», которая была ни чем иным,
как правом на безграничное корыстолюбие, которое в годы инфля-
ции вылилось по всей Германии в призрачную гонку за долларом...
Давайте, наконец, наберёмся мужества сознаться в наших прегре-
шениях, так же, как мы нашли мужество вырваться с вымершим
сердцем в новую эпоху!»1
Однако призыв этот не был услышан, не помогли и востор-
женные отзывы Тисса о нацистах на заре становления нацист-
ской партии,2 как, впрочем, и восторженные отзывы о приходе
к власти нацистов в ряде интервью.3 Нацистская критика, вслед
за критиками времён Веймарской республики, продолжала вос-
принимать Тисса как «автора хитроумной похотливости».4 Журнал
«Бюхеркунде», издаваемый ведомством А. Розенберга, отнёс новый
роман писателя «Иоганна и Эстер. Хроника сельских событий»
(»Johanna und Esther. Eine Chronik ländliher Ereignisse«, 1933)
к разряду «нежелательной литературы», мотивируя это решение
тем, что «этот роман является тем недвусмысленным документом
беспринципной и в моральном отношении низкопробной, лишён-
ной художественной значимости литературой, которой нас даже
в прошлые времена очень редко одаривали».5 В этой связи нацисты
собирались запретить все книги Тисса, но благодаря вмешательству
высокого партийного функционера Ганса Хинкеля (Hinkel, Hans),
1 Thiess F. Der Leibhaftige.— Цит. по: Loewy E. Literatur unterm Hakenkreuz. S. 199-
200.
2 Ещё в 1923 г. в своей книге «Лицо столетия» (»Das Gesicht des Jahrhunderts«)
Тисе предрекал нацистам великое будущее: «Рассматривая с исторической точки
зрения труд Гитлера, теперь следует оценивать его как некий акт избавления.
Теперь, больше, чем когда-либо, видны величие, новизна и продуктивность того,
что создала немецкая революция на немецком пространстве и стремится к новым
и неожиданным образованиям» (Цит. по: Sloterdijk Р. Weltanschauungsessayistik und
Zeitdiagnostik// Literatur der Weimarer Republik 1918-1933 / Hrsg. v. B. Weyergraf.
München, 1995. S. 314.)
3 Ein Dichter bekennt sich zum neuen Reich // Flensburger Nachrichten, 30.06.1933.
4 Reuchlin. Frank Thiess — unverändert! // Das Deutsche Wort. Beiblatt und löse
Blätter. Berlin. Nr. 45. 02.11.1934.
5 Anonym. Romanliterat nur wie wir sie nicht wünschen! Johanna und Esther. Eine
Chronik ländlicher Ereignisse von Frank Thiess // Bücherkunde. Berlin, 1935. 5
Folge. S. 167.
406
с которым Тисе находился в дружеских отношениях, до запрета
дело не дошло, но резкие критические высказывания нацистской
критики не прекращались, и разобиженный Тисе уехал в Вену,
а потом — в Рим, где и обретался до 1945 года.
Однако, в этом и состоит весь парадокс мнимого оппозицио-
нера Тисса, именно в годы нацизма он опубликовал 11 книг, по его
сценариям снято 5 кинофильмов. Его роман «Цусима» (»Tsushima«,
1936), как сообщал Тисе в своём письме в издательство «Жолнай»
(»Zsolnay«), «вызвал безграничное восхищение в правительстве»,
Геринг и Геббельс воспринимали его «как захватывающее произ-
ведение»,1 и даже «фюрер прочитал «Цусиму» с воодушевлением».2
Более того, его роман «Империя демонов» (»Das Reich der Dämonen«,
1941), являвший собой обозрение тысячелетней истории Греции
и Византии и содержавший некие антинацистские намёки, что
и позволило Тиссу объявить себя «внутренним эмигрантом», получил
восторженную рецензию не где-нибудь, а в еженедельнике «Рейх»
(»Das Reich«), находившимся под личным контролем всесильного
Геббельса.3 В рецензии особо отмечалось, что «исторические кар-
тины великих эпох не касаются современных событий, напротив,
автор избегает их, когда возникают подобные предпосылки, кото-
рые позволяют соединить прошлое и нынешнее в одно неразрыв-
ное единство».4 Об этом говорят и современные исследователи,
иронически перефразируя название романа «Империя демонов»
В «Империю сказок».5 Тем не менее, Тисе говорит о запрете этой
Книги, хотя на самом деле речь шла о корректуре некоторых пас-
сажей, могущих вызвать (но не вызвавших) нежелательные аллю-
зии,6 учитывая тот факт, что во времена Третьего рейха многие
исторические романы стали своеобразным вместилищем потаённой
1 Knes U. Frank Thiess: Ein Autor zwischen Realität und Selbststilisierung // Zwi-
schenwelt. Literatur der »Inneren Emigration« aus Österreich / Hrsg. v. J. Holzner
und K. Müller. Wien, 1998. S. 63.
2 Ibid. S. 64.
3 ApkingK. Das Reich Gottes in Bysanz // Das Reich. 23.02.1941. Nr. 8. S. 21
4 Ibid.
8 Цит. по: Adam F. Weltgeschichte als Schreckenskammer. Yvonne Wolf rekonstruiert
Geschichtsbild und Strategien der NS-Dissidenz bei F. Thiss // literaturkritik.de Br.
2. Februar 2005.
6 Hall M. G. Der Paul Zsolnay Verlag. Von der Gründung bis zur Rückkehr aus dem Exil.
Tübingen, 1994. S. 624-626.
407
критики нацистского режима. Однако большинство этих пассажей
появилось только в 1958 году в «новом, просмотренном и улучшен-
ном автором издании».1
В этой связи возникает вопрос, о какой оппозиции может идти
речь, если Тисе спокойно печатался под защитой высокого нацист-
ского чиновника, им восхищалась, если верить его словам, партий-
ная элита нацистской Германии, нацистский официоз воздавал ему
хвалу, а сам он спокойно передвигался по Европе и не испытывал
никаких материальных трудностей, получая огромные гонорары?2
Весь пафос статьи Тисса определяется чётким размежеванием
между внутренней и внешней эмиграцией. Мало того, что он при-
сваивает себе авторство термина «внутренняя эмиграция», ссылаясь
на мифическое письмо Хинкелю, в котором он якобы употребил
этот термин (хотя как-то не вяжется столь откровенное признание
писателя в своих оппозиционных взглядах высокому нацистскому
чиновнику),3 но он ещё и пытается доказать, что именно авторы
«внутренней эмиграции» являются истинными патриотами Герма-
нии, не бросившими немецкий народ и страну в годину бедствий.
Своё нежелание покинуть Германию после 1933 года Тисе объясняет
«любопытством художника»,4 ибо «если мне удастся живым выне-
сти эту страшную эпоху,., то тем самым я обрету много для моего
духовного и человеческого развития, я выйду отсюда более обога-
щенным знаниями и пережитым, чем если бы я созерцал немецкую
трагедию из лож или из партера заграницы».5 И далее: «Я уверен,
1 Thiss F. Das Reich der Dämonen. Hamburg, Wien, 1958. Примечательно, что переиз-
дание романа посвящено К. Апкингу, автору хвалебной рецензии на роман Тисса,
опубликованной в «Рейх».
2 После 1945 г. в Вене разразился скандал, когда выяснилось, что Ф. Тисе купил
виллу, конфискованную у еврейской семьи, и не собирался возвращать её прежним
владельцам (Knes U. Op. cit. S. 69).
3 Thiess F. Die Innere Emigration // Die grosse Kontroverse. Ein Briefwechsel um
Deutschland / Hrsg. v. J. F. G. Grosser. Hamburg, Genf, Paris, 1963. S. 22-23.— В сво-
их мемуарах Тисе постоянно путается в датах отправки этого письма (то ли в 1933,
то ли в 1934 году), что лишний раз доказывает его мифическое происхождение.
По крайней мере, в бумагах Хинкеля, содержащих ряд писем Тисса, в которых
он подробно перечисляет свои заслуги перед национал-социализмом, подобного
письма не обнаружено (/Cries U. Op. cit. S. 57).
4 Thiess F. Jahre des Unheils. Fragmente erlebter Geschichte. Wien, 1972. S. 62.
5 Thiess F. Innere Emigration // Die Grosse Kontroverse. Ein Briefwechsel um Deutsch-
land / Hrsg. v. J.F.G. Grosser. Hamburg, Genf, Paris, 1963. S. 24.
408
что здесь было труднее сохранять свою индивидуальность, чем
посылать оттуда послания немецкому народу».1
Понятно, что упрёк напрямую касался Т. Манна. Но тут же Тисе
признаёт, что «эти гневные приветствия и предостережения из-за
океана остались знаком глубокого внутреннего единения между
обоими эмигрантскими лагерями».2 Вообще всё письмо Тисса полно
несуразностей: с одной стороны, он соглашается с тем, что «решение
уехать для многих эмигрантов было вопросом жизни или смерти,
и поэтому оно было правильным»;3 с другой стороны, он подчёрки-
вает «естественность того, что мы остались в Германии»,4 полагая,
тем самым, что уехавшие поступили противу естества, не после-
довав примеру «внутренних эмигрантов». Открытая враждебность
к эмигрантам и к Т. Манну в особенности сочетается в этом письме
с желанием всё-таки побудить его и остальных эмигрантов приехать
на родину, ибо «нет ничего хуже для них, если их возвращение про-
изойдёт слишком поздно, и тогда они, наверное, больше не будут
в состоянии понимать язык их матерей».5
Складывается такое впечатление, что Моло, а Тисе в особен-
ности, вообще не желают возвращения эмигрантов, они даже
надеются, что они не вернутся (к сожалению, их надежды осуще-
ствились), ибо возвращение эмигрантов сразу же сузило бы поле
деятельности авторов «внутренней эмиграции». Именно поэтому
письма обоих ревнителей счастья немецкого народа полны оскор-
бительных высказываний, которые заставят любого нормального
человека, а Т. Манна тем более, отказаться от поездки на родину,
что, собственно, и произошло.
12 октября 1945 года многие немецкие газеты опубликовали
открытое письмо Томаса Манна Вальтеру фон Моло под заголовком
«Почему я не вернусь!» Письмо это примечательно тем, что Т. Манн
впервые высказывает своё мнение о «внутренней эмиграции»
в такой манере, что о каком-либо сотрудничестве с её авторами,
случись ему вернутся в Германию, не может быть и речи. Объясняя
свой отказ вернутся в Германию американским гражданством,
1 Thiess F. Op. cit. S. 25.
2 Ibid.
3 Ibid. S. 24-25.
4 Ibid. S. 25.
5 Ibid.
409
благодарностью США, давшим ему и его семье приём, покой и бла-
госостояние, и поэтому у него нет никаких оснований «порывать
с Америкой», основным доводом такой позиции Т. Манна являет-
ся неприятие послевоенной Германии: «Я не скрываю, что боюсь
немецких руин — каменных и человеческих. И я боюсь, что тому,
кто пережил этот шабаш ведьм на чужбине, и вам, которые пля-
сали под дудку дьявола, понять друг друга будет не так-то легко».'
И далее следуют слова, которые надолго рассорили Т. Манна не толь-
ко с авторами «внутренней эмиграции», но и со многими читате-
лями. Вместо слов утешения прозвучали слова обвинения в адрес
духовной элиты Германии, которая не сделала никаких выводов
из недавнего прошлого. Говоря о том, что он получает много писем
из Германии, Т. Манн с сожалением констатирует: «Но радость
мою по поводу этих писем несколько умаляет не только мысль, что,
победи Гитлер, ни одно из них не было бы написано, но и некоторая
нечуткость, некоторая бесчувственность в них сквозящая, заметная
хотя бы даже в той наивной непосредственности, с какой возоб-
новляется прерванный разговор,— как будто этих двенадцати лет
вообще не было». Последовавшие вслед за этим знаменитые слова,
которые, несмотря на некоторую горячность, не потеряли своей
значимости, вызвали гнев многих немцев и особенно авторов «вну-
тренней эмиграции»: «Приходят теперь порою и книги. Признаться
ли, что мне неприятно было их видеть и что я спешил убрать их
подальше? Это, может быть, суеверие, но у меня такое чувство, что
книги, которые вообще могли быть напечатаны в Германии с 1933
по 1945 год, решительно ничего не стоят и лучше их не брать в руки.
От них неотделим запах позора и крови, их следовало бы скопом
пустить в макулатуру».2
Понятно, что эти жестокие слова были сказаны сгоряча. По логи-
ке вещей, тогда должны были бы пойти на костёр и два первых
тома его романа «Иосиф и его братья», вышедшие в Берлине в 1933
и 1934 годах, а с ними и роман Роберта Музиля «Человек без свойств»,
первые части которого были опубликованы в журнале «Тат» (»Die Tat«)
в апреле 1935 года, и некоторые другие произведения авторов, непри-
емлемых для нацистского режима. Дело даже не в публикации в эти
годы книг, далёких от идеологии национал-социализма, а в самом
факте готовности подавляющего большинства деятелей культуры,
1 Манн Т. Письма. С. 185.
2 Там же. С. 185.
410
оставшихся в Германии, продолжать, как ни в чём не бывало, зани-
маться культурной деятельностью. Последовавшие после упрёков
в адрес литераторов гневные инвективы в адрес деятелей культуры
развеяли все надежды (если они вообще были) не только «внутрен-
них эмигрантов», но и почти всей творческой элиты послевоенной
Германии на какие-либо контакты с Т. Манном: «Непозволительно,
невозможно было заниматься «культурой» в Германии, покуда крутом
творилось то, о чём мы знаем. Это означало прикрашивать деграда-
цию, украшать преступление. Одной из мук, которые мы терпели,
было видеть, как немецкий дух, немецкое искусство, неизменно
покрывали самое настоящее изуверство и помогали ему. Что суще-
ствовали занятия более почётные, чем писать вагнеровские деко-
рации для гитлеровского Байрейта,— этого, как ни странно, никто,
кажется, не чувствовал. Ездить по путёвке Геббельса в Венгрию или
какую-нибудь другую европейскую страну и, выступая с умными
докладами, вести культурную пропаганду в пользу Третьей импе-
рии — не скажу, что это было гнусно, а скажу только, что я этого
не понимаю и что со многими мне страшно увидеться вновь.
Дирижёр, который, будучи послан Гитлером, исполнял Бет-
ховена в Цюрихе, Париже или Будапеште, становился виновным
в непристойнейшей лжи — под предлогом, что он музыкант и зани-
мается музыкой и больше ничем. Но прежде всего ложью была эта
музыка уже и дома. Как не запретили в Германии этих двенадцати
лет бетховенского «Фиделио», оперу по самой природе своей предна-
значенную для праздника немецкого освобождения? Это скандал,
что её не запретили, что её ставили на высоком профессиональном
уровне, что нашлись певцы, чтобы петь, музыканты, чтобы играть,
публика, чтобы наслаждаться «Фиделио». Какая нужна была тупость,
чтобы, слушая «Фиделио» в Германии Гиммлера, не закрыть лицо
руками и не броситься вон из зала!»1
Подобные высказывания Т. Манна не остались без последствий.
Западногерманская пресса пестрела не менее гневными отклика-
ми, и тон их определялся именно теми, кто в одночасье стал если
не борцом Сопротивления, то, по крайней мере, активным деятелем
«внутренней эмиграции». Наряду с писателями в борьбу против
Т. Манна включились и германисты различного ранга от Фрица
1 Манн Т. Письма / Под ред. С. К. Апта. М., 1975. С. 185-186.— Пришлось выбросить
из текста слово «немецко», стоящее перед словом «европейскую», т.к. в оригинале
письма Т. Манна это слово отсутствует.
411
Мартини до безвестных профессоров, отстранённых временно
от педагогической деятельности за свою приверженность идеологии
национал-социализма (правда, вскоре призванных в университеты
по причине нехватки кадров). У новоявленных «внутренних эми-
грантов» появился даже свой печатный орган — журнал «Гегенварт»
(»Die Gegenwart«), который с первого же номера включился в поле-
мику против Т. Манна. По мнению редакции этого журнала, столь
резкие слова Т. Манна в адрес немецкой творческой интеллигенции
времён Третьего рейха вызваны тем, что «он теперь не появляется
на сцене, пьеса идёт без него. В этом... следовало бы искать причины
того, почему в его голосе звучит отчаянные ноты. Это происходит
из-за одиночества».1
Самое удивительное в этой кампании было то, что авторы
«внутренней эмиграции» — Отто Флаке, Вильгельм Гаузенштейн,
Манфред Хаусманн — в один голос утверждали, что «для литера-
туры неполитического свойства в Третьем рейхе не было никакой
предварительной цензуры. То обстоятельство, что появлялись рома-
ны, эссе, гуманитарные, философские, религиозные, исторические
работы, ничуть не означает, что они отвечали духу, предписаниям,
целям партии».2 И это пишет О. Флаке, который вынужден был
приспособиться писать романы в духе времени, которые критика
охарактеризовала как «бегство в прошлое»,3 т.е. в духе фёлькиш-на-
ционалов, особо почитаемых авторов в Третьем рейхе.
Ему вторит Вильгельм Гаузенштейн (Hausenstein, Wilhelm),
лишённый в 1936 году права писать, но остававшийся до запрета
в 1943 году «Франкфуртер цайтунг» редактором её литературного
приложения. В открытом письме к Т. Манну он приводит список
книг такого же плана, как и у О. Флаке, включая в него и книги
Э. Вихерта, В. Бергенгрюна, С. Андреса, авторов, которые подверга-
лись жёсткой критике или, как Э. Вихерт, находились в концлагере.
Действительно, ряд книг чисто гуманитарного плана, не затро-
нутых нацистскими веяниями, публиковались в Третьем рейхе,
но подавляющее число этих книг было обращено именно в прошлое;
более того, даже в той отстранённой, академической форме они
несли на себе отпечаток времени — недоговорённость, отсутствие
1 Die grosse Kontroverse... S. 43.
2 Flake О. Der Fall Thomas Mann // Grosser J. F. G. Op. cit. S. 54.
3 Flake О. Es wird Abend. Eine Autobiographie. Frankfurt / Main, 1980. S. 431.
412
ссылок на работы неарийских авторов, подчёркнутое (как залог
возможности избежать цензурных неприятностей) обращение
ко всему, что каким-либо образом связано с немецкой культурой
или историей. В известной мере это была оппозиция нацистскому
режиму, такая же оппозиция, какую практиковали так называемые
афашистские писатели, создававшие художественные произведе-
ния, лишённые какой-либо взаимосвязи со временем, являвшие
собой некий род каллиграфического искусства. И не случайно
Гаузенштейн заканчивает это письмо меланхолическими слова-
ми: «В действительности эти хорошие книги не были предметом
общественного значения. Они образовывали, как прочитанные,
так и написанные для внутреннего восприятия, строение, лаби-
ринт, ниши неких катакомб. В итоговой перспективе... Вам, как
некоторое нечто конкретное, они останутся недосягаемыми. Мы
их знали...»1
Как бы кощунственно это ни звучало, но издания подобного
рода, как и разговоры о них, нельзя считать некими акциями,
направленными против нацистского режима. Тогдашним власти-
телям эти книги нужны были как декорация, прикрывающая их
преступную сущность. Что же касается самих авторов, по крайней
мере, для многих из них, то создание этих книг означало для них,
скорее всего, самоудовлетворение личной непричастности к режи-
му, чем сознательный акт непротивления. В этом можно будет
убедиться, когда пойдёт речь о литературе «внутренней эмиграции»
и афашистской литературе.
«Великая контроверза» показала, что проблема «внутренней
эмиграции» требует основательного изучения, ибо ожесточён-
ные дискуссии породили больше вопросов, чем ответов. Одним
из первых, кто попытался разобраться в этом сплетении мнений,
был Альфред Андерш (Andersch, Alfred; 1914-1980), один из осно-
вателей «группы 47», заложившей основы немецкой литературы
после 1945 года. Прошедший во времена нацизма через аресты,
концлагерь, фронт, Андерш изложил в эссе «Немецкая литература
перед решением» (»Deutsche Literatur in der Entscheidung«, 1948)
в первом приближении своё понимание проблемы «внутренней
эмиграции»: «Немецкая литература, в той мере, в какой она может
носить это имя, была идентична эмиграции, означала дистанцию,
Hausenstein W. Bücher — frei von Blut und Schande / / Die grosse Kontroverse... S. 75.
413
отчуждение по отношению к диктатуре. Нужно раз и навсегда ясно
и твёрдо заявить, что любое художественное произведение, появив-
шееся во времена господства национал-социализма, являло собой,
если только это произведение было художественным, проявление
враждебности по отношению к нему. Из духа национал-социализма
художественные произведения не рождались».1
В этих словах можно усмотреть продолжение полемики Вальте-
ра фон Моло, Франка Тисса, Манфреда Хаусмана с Томасом Манном
по поводу его резких высказываний о роли «внутренней эмиграции»
в годы фашизма. Резкое несогласие А. Андерша с Т. Манном, столь
почитаемым им и любимым, объясняется как принципиальным
неприятием тезиса о «коллективной ответственности» немецкого
народа за преступления нацизма, так и личным опытом писателя,
чьи первые рассказы были напечатаны именно в годы нацист-
ского режима и отмечены всеми достоинствами и недостатками,
свойственными произведениям авторов «внутренней эмиграции»,
хотя самого себя Андерш не причислял к ним. Андерш-критик
рассматривал литературную ситуацию, сложившуюся в годы
нацизма в Германии, сквозь призму личного восприятия событий,
сложившихся вокруг Андерша-писателя, пытаясь таким образом
генерализировать частное явление как характерное для всего лите-
ратурного процесса тех лет, независимо от многообразия и различия
намерений участников этого процесса.
Тем не менее, учитывая пёстрый состав приверженцев «вну-
тренней эмиграции», ибо враждебность по отношению к нацистам
имела довольно разнородный и противоречивый характер, Андерш
разделил их на три группы: «народников» или, проще говоря, фёль-
киш-националов (Г. Гримм, Э.Г. Кольбенхайер, В. Шэфер, Э. Штраус,
Ф. Блунк, Э. Вихерт), «наследников бюргерской классики» (Г. Гаупт-
ман, P.A. Шредер, Г. Каросса, Р. Хух, Г. фон Ле Форт) и «сопротив-
ления и каллиграфии» (С. Андрее, В. Бауэр, Т.Х. Кёлер, X. Аанге,
Г. Ляйп, М. Рашке, О. Г. Винклер, А. Хаусхофер).2 Хотя классифика-
ция не совсем отвечает реальной действительности, она всё же даёт
некоторое представление о составе авторов «внутренней эмиграции»
и о способах выражения оппозиции по отношению к нацистскому
режиму, отражавших литературные пристрастия этих авторов.
1 Andersch A. Deutsche Literatur in der Entscheidung. Ein Beitrag zur Analyse der lite-
rarischen Situation. Karlsruhe, 1947. S. 7.
2 Ibid. S. 9-13.
414
На этом, собственно, и завершились попытки разобраться
с проблемой «внутренней эмиграции». Закопёрщики «великой кон-
троверзы», Моло и Тисе чувствовали себя победителями. Получив
ошутимую поддержку западногерманского общества, не желавшего
особо копаться в прошлом, а тем более расставаться с привычным
чтивом, оба маргинала, не считая многочисленных наград и пре-
мий различного свойства, заняли ведущие посты в литературной
жизни ФРГ: Моло стал председателем Союза защиты авторских
прав немецких писателей, а Тисе — вице-президентом Немецкой
академии науки и литературы в Майнце.
Для того чтобы понять суть и значимость литературы «вну-
тренней эмиграции», вероятно, лучше посмотреть на это явление
изнутри, ибо вдохновители «великой контроверзы» и их привер-
женцы были более чем пристрастны, пытаясь обрести на пустом
месте статус авторов «внутренней эмиграции», а их оппоненты
плохо представляли себе реальную картину деятельности тех и дру-
гих эмигрантов, да и открывшиеся миру преступления нацистов
не способствовали спокойному рассмотрению всей специфики
деятельности «внутренней эмиграции», как бы мы ни относились
к этому явлению литературной жизни времён Третьего рейха.
Внешне, особенно в первые годы существования Третьего
рейха, могло создаться впечатление, что не только культурная
жизнь, но и вся жизнь в стране ничуть не изменилась, и поэтому,
вроде бы, не было никаких причин для особого беспокойства, а тем
более уходить во «внутреннюю эмиграцию». Вольфганг Кёппен
(Koeppen, Wolfgang), один из ярких представителей «внутренней
эмиграции», в статье «Париж этой весной» (»Paris in diesem Frühjahr«,
1933), опубликованной в уже дышавшей на ладан солидной газете
«Берлинер бёрзен-курир», в «верноподданнической» части статьи
пишет: «Тридцатого января... день открытия сессии рейхстага;
майские праздники; речь Гитлера о мире: в Германии весна тысяча
девятьсот тридцать третьего года стала весной политического зна-
чения... Никто не может отрицать, что лицо Германии, немецкой
Деревни и немецких городов изменилось. Послеянварские улицы
не стали шире доянварских».1
Если для Кёппена, писавшего о культурной жизни Парижа,
подобное высказывание понадобилось для того, чтобы сооб-
щить, как бы невзначай, об успехах немецких деятелей культуры
1 Koeppen W. Paris in dieser Frühjahr // Berliner Börsen-Courier. 4.06.1933.
415
и искусства (например, кинорежиссёра Фрица Ланга или кинозвез-
ды Марлен Дитрих), нежелательных для новых властителей Герма-
нии, то для многих немцев, а для иностранных гостей и подавно,
всё казалось неизменным в повседневной жизни страны.
Театральные и концертные залы переполнены, витрины книж-
ных магазинов пестрят новинками немецких и зарубежных писате-
лей, среди которых книги Т. Манна и Ф. Кафки, авторов абсолютно
неприемлемых для нацистской идеологии; газеты и журналы живо
комментируют различные аспекты культуры (например, концерты
Игоря Стравинского, музыку которого нацисты всячески поноси-
ли); в картинных галереях вновь выставляются работы О. Дикса,
Г. Гросса, М. Шагала и других художников, не отвечавших эстети-
ческим вкусам нацистов и потому подвергавшихся суровой кри-
тике; вновь обсуждают литературные события (например, роман
Р. Музиля «Человек без свойств», хотя нацисты внесли его в список
запрещённых книг).
Вот свидетельство американского писателя Томаса Вулфа,
посетившего Германию в 1936 году: «Итак, неправда, что в Гер-
мании уже нельзя издавать и читать хорошие книги... Хорошие
книги по-прежнему издаются, если только они прямо или косвенно
не осуждают гитлеровский режим и не противоречат их догмам...
Вот почему каждую хорошую книгу, которую им ещё позволено
читать, немцы встречали с утроенной жадностью, с утроенным
интересом и восторгом... При сложившихся обстоятельствах послед-
ние остатки немецкого духа ухитрились уцелеть лишь так, как
может уцелеть тот, кто тонет: отчаянно цепляясь за любую щепку,
что всплыла, когда разбитый корабль уже пошёл ко дну».1
Всё это уживалось с откровенной нацистской пропагандой,
с шумными речами нацистских вождей на партийных съездах,
с парадами штурмовиков и прочими акциями, прославлявшими
новую власть. В какой-то степени это впечатление неизменности
течения жизни имело под собой вполне конкретные основания, ибо
многие политические и карательные события затронули в основ-
ном довольно узкий слой левых партийных функционеров, левой
интеллигенции, лиц еврейской национальности и ряда организа-
ций, не вписывавшихся в орбиту интересов нацистской партии.
Во многом спорное, но вполне фундированное исследование Ган-
са Дитера Шэфера (Schäfer, Hans Dieter) «Расколотое сознание.
1 Вулф Т. Домой возврата нет. M., 1977. С. 606.
416
; Немецкая культура и жизненная действительность 1933-1945 годов»
(»Das gespaltene Bewußtsein. Deutsche Kultur und Lebenswirklichkeit
1933-1945», 1981), показало, что основная масса немцев ощутила
на себе все тяготы нацистской диктатуры только в годы Второй
•здировой войны. Все те, с кем нацисты расправлялись, кого отправ-
,.дяли в концлагеря или попросту убивали, все они в большинстве
рвоём оставались за рамками общественного сознания. Нацисты
Просто не мешали людям жить, обеспечивая себе тем самым широ-
кую поддержку своим социальным и политическим акциям, втя-
гивая прямо или косвенно всех и вся в орбиту нацистских деяний.
Немцы посмеивались над нацистами, поначалу даже считали их
временщиками, но тут и там, на всех уровнях жизни происходили
достаточно серьёзные события, осознание которых затмевалось
сохранением, а то и возрождением многих бытовых реалий, и это
как-то создавало атмосферу нормальной жизни. Народная молва,
конечно, сообщала какие-то подробности преступлений нацистов,
но именно этот её статус для многих немцев не являлся чем-то
значимым, хотя сплошь и рядом они узнавали, что соседа аресто-
вали, другой куда-то исчез, а у третьего, когда начались еврейские
погромы, разграбили и отобрали магазин.
Средние и высшие слои общества, конечно же, были лучше
сформированы обо всех изменениях в политической и культур-
ной жизни страны — об эмиграции ведущих писателей, артистов,
учёных, профессоров, ряда политических и общественных деяте-
лей. Однако их реакция на эти события была не всегда адекватна
Значимости случившегося. Как говорил Геринг, «лес рубят — щепки
должны обязательно лететь».1 Эта мысль, может быть, не в такой
форме, определяла отношение людей к событиям в стране. Не надо
забывать и тот факт, что едва ли не большая часть интеллигенции,
придерживавшаяся консервативных взглядов и потому резко
отрицательно относившаяся ко всему, что происходило в Германии
в годы Веймарской республики, восприняла приход к власти наци-
стов и связанные с этим решительные преобразования в политиче-
ской, социальной и культурной жизни страны с надеждой на воз-
вращение к былой стабильности, и лишь немногие из них увидели
в этих преобразованиях некий прорыв в новый мир. Пауль Эрнст,
Поначалу воспринимавший нацистское движение с некоторой
WulfJ. Literatur und Dichtung im Dritten Reich. Eine Dokumentation. F / Main,
Berlin, Wien, 1983. S. 28.
417
настороженностью, уже в марте 1933 года в одном из писем заме-
тил: «Я ведь не думаю, что этот «прорыв», который мы переживаем,
сейчас очень много что «улучшит». Но это, по меньшей мере, означает
конец стагнации, люди в своих мыслях станут открытыми. Слава
Богу, что с либерализмом, социализмом, коммунизмом и прочей
устаревшей болтовнёй, как бы она ни называлась, вскоре будет
покончено, и люди снова смогут узреть действительность».1
В чём заключались открывшиеся просторы новой действи-
тельности с пафосом выразил Готфрид Бенн в своём «Ответе лите-
ратурным эмигрантам» (»Antwort an die literarischen Emigranten«,
1933), вызванным письмом Клауса Манна, в котором он обвинил
Бенна в приверженности идеям национал-социализма: «Поймите же
Вы, наконец, Вы, любители цивилизации и трубадуры западного
прогресса, что здесь речь идёт не о правительственных реформах,
а о новом видении рождения человека, возможно, о старой, возмож-
но, о последней великолепной концепции белой расы, возможно,
0 великолепной реализации духа мира вообще...»2
Подобного рода суждения, судя по всему, были общим местом
духовного состояния культурной элиты Германии, вернее, того,
что осталось от неё после массового исхода из страны большого
количества значимых личностей, определявших культурный облик
Веймарской республики. Как писал Рудольф Г. Биндинг, консер-
ватор до мозга костей, в своём письме Томасу Манну, уговаривая
его вернуться в обновлённую Германию, «даже самые спокойные
и рассудительные люди были вовлечены и захвачены (приходом
к власти нацистов.— Е. 3.), и это не выдумки газет и какие-либо
махинации».3
В этой связи возникновение настроений об уходе во «внутрен-
нюю эмиграцию» может показаться излишней обеспокоенностью
слишком чувствительных людей, а различного рода коллективные
клятвы верности Гитлеру и его партии, появлявшиеся на страни-
цах газет и журналов, как и отдельные высказывания, принадле-
жавшие, правда, в основном фёлькиш-националам или маргина-
лам от литературы, казалось бы, подтверждали слова Биндинга.
Последовавший, однако, вскоре разгром секции поэзии в Прусской
1 Цит. по: Literatur im Dritten Reich. Dokumente und Texte / Hrsf. v. S. Graeb-Kön
neker. Stuttgart, 2001. S. 21.
2 Ibid. S. 20.
3 Binding R.G. Die Briefe / Ausgewählt v. L.F. Barthel. Hamburg, 1957. S. 196.
418
(академии искусств, как и сама реорганизация этого учреждения,
прошедшая под знаком устранения политически неблагонадёж-
ных и в расовом отношении неполноценных писателей, заставили
^многих приверженцев нацизма и просто далёких от политики
^представителей литературного цеха задуматься над тем, каким
|образом они смогут продолжать заниматься литературой, не под-
вергая себя гонениям, но и не отрекаясь от своих идеологических
j|t эстетических принципов.
Если проблематика фёлькиш-национальной, консервативной
[ собственно нацистской литературы достаточно обозрима, хотя
|и здесь имеются свои подводные камни, то проблематика лите-
даатуры «внутренней эмиграции» до сих пор остаётся предметом
рживлённых дискуссий, суть которых обусловлена, прежде всего,
расплывчатостью как самого термина «внутренняя эмиграция», так
[ творчества авторов, подпадающих под этот раздел литературы или
причисляемых к нему. Конечно, можно всё свести к одному опре-
делению, что в Германии в первой половине XX века существовали
шисатели, занимавшие промежуточное положение — они не при-
нимали ни демократической идеологии Веймарской республики,
дай идеологии национал-социалистов. Они существовали как бы
ш по себе, и не зря за ними закрепилось название «тайная Герма-
|йия» (das heimliche Deutschland) или «молчаливые» (Stille im Lande).
ïo на практике эта позиция постоянно подвергалась опасности
искушению. В любом случае в игру вступал принцип, опреде-
евшийся известной пословицей — «с волками жить — по-волчьи
|$>ыть», и вот тут наступает самое трудное в оценке приверженности
эго или иного писателя волчьей стаей, если можно так выразиться,
Цой был громче, а чей только имитировал некое подвывание. В этой
/еащи нельзя всех одним миром мазать, и процесс отделения пле-
ы от пшеницы переходит в стадию ювелирной работы, которая
^ередко — в чём, собственно, и заключается проблема определения
принадлежности того или иного писателя к литературе «внутренней
^миграции — выливается, особенно в ФРГ в 50-60 годах XX века,
là иногда и в наше время, в раздачу лавровых венков только за то,
!**to уж больно блестящий стиль имел имярек, и потому простим ему
fero невинные грехи.
Но если бы речь шла только о грехах. Проблема определения
Места и значимости литературы «внутренней эмиграции» в годы
Нацизма осложняется ещё и претензиями её представителей
419
на статус литературы Сопротивления, о чём свидетельствуют их
многочисленные мемуары, способствовавшие созданию ауры значи-
тельности протестного движения. Правда, многие из этих мемуаров
на поверку оказывались откровенной стилизацией собственной био-
графии в протестном духе, как это проявилось, например, в после-
военных воспоминаниях Ф. Тисса. В подобного рода героизации
«внутренней эмиграции» явно просматривается скрытое, покояще-
еся на бессознательном уровне, оправдание своей беспомощности
и некоей вины за невольное соучастие в становлении нацистского
государства, а также стремление обеспечить себе место под солнцем
в изменившейся политической ситуации после 1945 года.
Изучение проблемы Сопротивления определяется постоянной
сменой парадигмы отношения исследователей к самому принципу
сопротивления авторов «внутренней эмиграции». Если поначалу
речь шла о представителях так называемой «лучшей Германии»,
то к 60-м годам XX века возобладали расследовательские подходы,
а к 90-м годам они изменились в сторону более тщательного изуче-
ния взаимоотношений власти и авторов «внутренней эмиграции»,
ибо некоторые их произведения свидетельствовали о некоей амби-
валентности этих авторов по отношению к нацистскому режиму, их
миграции от критики к приспособлению к сложившимся политиче-
ским и жизненным обстоятельствам.1 Правда, здесь не обошлось без
перехлёстов, когда изначально присущая тому или иному писателю
форма восприятия мира трактовалась как отражение нацистской
идеологии, забывая при этом, что последняя являла собой собрание
всевозможных поэтологических явлений традиционной литературы,
возникших задолго до появления национал-социализма. Вероятно,
поэтому ряд современных исследователей склоняется к тому, что-
бы говорить не о собственно Сопротивлении авторов «внутренней
эмиграции», а об их диссидентской деятельности,2 и вызвано это
в значительной мере не столько самим предметом разбирательства,
сколько отношением к его сути, что по большей части определя-
ется временным фактором — представители разных поколений,
1 Kroll F-L. Intellektueller Widerstand im Dritten Reich // Schriftsteller und Widerstand.
Facetten und Probleme der »Inneren Emigration / Hrsg. v. Kroll F.-L. und Voss R. von.
Göttingen, 2012. S. 11-18.
2 Zimmermann H. D. »Innere Emigration«. Ein historischer Begriff und seine Problema-
tik // Schriftsteller und Widerstand. Facetten und Probleme der »Inneren Emigration« /
Hrsg. v. Kroll F.-F. und Voss R. von. Göttingen, 2013. S. 59-60.
420
при сохранении общей оценки деятельности авторов «внутренней
эмиграции», по-разному воспринимают их вовлечённость в поли-
тические и культурные процессы Третьего рейха.
В этой связи наполняемость значения этого термина представ-
ляет собой широкое поле для различных мотиваций этой оппозиции,
отчего здесь соседствовали фёлькиш-националы вроде Ганса Грим-
ма или Рудольфа Г. Биндинга, порицавших партию за то, что она
потеряла чистоту национал-социалистской идеи после брутального
подавления путча Рема и вообще сделала ставку на массы, а не на
духовную элиту, к которой они причисляли себя и соратников из их
лагеря, и носители традиций классиков XIX века Ганс Каросса
и Герхард Гауптман, позволившие нацистам, не разделяя в целом
их идеологии, использовать себя в пропагандистских целях, надеясь
тем самым хоть как-то поддержать эти традиции в изменившихся
условиях; в этих же кругах обретались блестящие стилисты, привер-
женцы высокой поэзии Рудольф Александр Шредер, Вильгельм
Леман и Рикарда Хух, не скрывавшие своего неприятия нацистской
идеологии и по-своему пытавшиеся ей противостоять, и Гюнтер
Айх, Элизабет Ланггэссер, Оскар Лёрке, Петер Хухель, пытавшие-
ся в своих произведениях отстаивать гуманистические принципы
искусства, и Хорст Ланге, Мартин Рашке, Фридо Лампе, Вольфганг
Кёппен, чьё творчество, питавшееся наследием модернистов, было
намеренным противопоставлением эстетике нацистов, и такие
маргиналы от литературы как Вальтер фон Моло, Франк Тисе,
Пауль Альвердес и Манфред Хаусман, которые ради возможности
публикации своих книг охотно шли на любые контакты с властями,
а после 1945 года вдруг объявили себя «внутренними эмигрантами»
и всячески поносили эмигрантов, особенно Томаса Манна, бросив-
ших, как они считали, страну в годину бедствий; но здесь были
и авторы откровенно пронацистской направленности вроде Ганса
Фридриха Блунка или Эмиля Штрауса или некоторые новообращен-
ЦЫ, как это было в случае с Готфридом Венном и Эрнстом Юнгером,
увидевшими в национал-социализме возможное воплощение своих
идей: один — рождение нового человека, другой — создание чуть
не галактического чисто военного государства.
Весь этот конгломерат претензий к нацистскому режиму посто-
янно трансформировался, переходил из одной формы в другую,
сливаясь частично или полностью с полярными притязаниями раз-
личных групп и группок, дробясь на мелкие парцеллы или объединя-
ясь, независимо от личных неприязней, в некие иллюзорные союзы.
421
Это литературное броуновское движение определялось не столько
литературными надобностями, сколько непосредственными поли-
тическими, общественными и военными проявлениями Третьего
рейха. Реальная действительность, как бы к ней ни относились
авторы «внутренней эмиграции», являлась тем оселком, на кото-
ром проявлялась сущность их протестных интенций. Литература,
в каких бы формах она не возникала, была здесь замещением того,
о чём нельзя было открыто высказаться, не опасаясь подвергнуться
гонениям или физическому уничтожению. В этой связи не прихо-
дится говорить о каком-то масштабном и значимом Сопротивлении
с большой буквы. Это было не Сопротивление, а попытка сохранить
собственное достоинство в неприемлемых условиях социального
и политического бытования с элементами пасторского увещевания
властителей и ободрения страждущей паствы.
В силу жёсткой цензуры, а также брутальных способов решения
взаимоотношений нацистов со своими оппонентами, возможно-
сти авторов «внутренней эмиграции» открыто выступить против
нацистского режима были предельно ограничены. Именно поэтому
шкала оппозиционных проявлений авторов «внутренней эмиграции»
определялась от мелких «булавочных уколов», вроде вывешивания
«самого маленького на всей улице нацистского флага, напомина-
ющего детский флажок, возвышающийся на песчаном «куличе»,
как вспоминала поэтесса Ода Шэфер,1 отказа принимать участие
в кампаниях «Зимней помощи», прослушивания иностранных
радиостанций до открытых выступлений перед студентами, как это
попытался сделать Эрнст Вихерт, за что и поплатился заточением
в концлагерь Бухенвальд. Тем не менее, в большинстве случаев всё
ограничивалось уходом в себя, потому что, как писал Вольфганг
Борхерт в одном из писем в 1944 году, «нигде мы сегодня не смо-
жем найти утешение, как только в нас самих».2
Судя по всему, «внутренние эмигранты» не представляли для
нацистов особой опасности, и поэтому их, особенно в первые годы
существования Третьего рейха, терпели и даже привлекали к неко-
торым пропагандистским акциям, как это было в случае с Гансом
Кароссой, назначенном Геббельсом президентом «Европейского
1 Schaefer О. Auch wenn Du träumst, gehen die Uhren. Lebenserinnerungen. München,
1970. S. 238.
2 Цит. по: Schäfer H. D. Das gespaltene Bewußtsein. Deutsche Kultur und Lebenswirk-
lichkeit 1933-1945. Manchen, Wien, 1982. S. 8.
422
объединения писателей», но при этом не спускали с них глаз, и при
каждом удобном случае, если вспомнить, например, того же Эрнста
Вихерта или Ганса Гримма, напоминали им довольно жёстко о том,
кто в доме хозяин. Отношение нацистов к самой идее «внутрен-
ней эмиграции» достаточно ясно выразил Ганс Йост: «Ещё есть
писатели, которые говорят о том, что означает партия, движение,
государственная форма. Я скажу этим состарившимся вечно вче-
рашним — мы прекрасно обойдёмся без вас. Мы плевали на высо-
комерие этих так называемых поэтов, которые думают, что они
могут избежать окольными путями с помощью внутренне-душевной
отстранённости (Innerlichkeit) и фраз о вечных ценностях простого,
порядочного, недвусмысленного признания национал-социализма
и факта существования Третьего рейха».1
В этой связи возникает естественный вопрос о значимости
произведений авторов «внутренней эмиграции», об их возможно-
стях сохранить дистанцию по отношению к идеологическим уста-
новкам нацистов, о каких-то критических интенциях или хотя бы
аллюзиях, выражающих их неприятие этих установок и всего того,
что происходило в стране в период нацизма. Вопрос этот далеко
не праздный, особенно если учесть знаменитые и резкие слова
Томаса Манна о том, что «книги, которые вообще могли быть напе-
чатаны в Германии с 1933 по 1945 год, решительно ничего не стоят
и лучше их не брать в руки. От них неотделим запах позора и крови,
их следовало бы скопом пустить в макулатуру».2 Великому немцу
вторила, но уже с позиций «внутренней эмиграции», писательница
Элизабет Ланггэссер, характеризуя литературу тех лет как «анакре-
онтические пустячки с цветами и цветочками, но именно этими
цветочками усыпана ужасная, зияющая пропасть общих могил».3
Хотя «внутренняя эмиграция» как таковая не имела никакого
организационного начала, не говоря уже о каких-либо ведущих
фигурах в каждой из названных групп, неким собирательным
Центром для сторонников «внутренней эмиграции», являлись жур-
налы «Иннере Рейх» (»Das Innere Reich«) с широким ареалом пред-
ставительства большей части указанных авторов, «Нойе Рундшау»
1 Цит. по: Grimm R. Op. cit. S. 412.
2 Манн T. Письма. / Под ред. CK. Апта. M., 1975. С. 185.
3 Langgässer E. Schriftsteller unter der Hitler-Diktatur // Ost und West. Berlin, 1947.
H. 4. S. 39.
423
(»Neue Rundschau«) и «Дойче Рундшау» (»Deutsche Rundschau«),
пытавшихся продолжать бюргерские традиции Веймарской респу-
блики, «Хохланд» (»Hochland«), отстаивавший духовные ценности
католицизма, «Экарт» (»Eckart«), орган евангелической церкви,
«Корона» (»Corona«), ориентировавшийся на классические ценно-
сти. Некоторым прибежищем до поры до времени для авторов
«внутренней эмиграции» оставались газеты «Кёльнише цайтунг»
(»Kölnische Zeitung«) и «Франкфуртер цайтунг» (»Frankfurter Zeitung«)
с их литературными приложениями, сохранявшие с подачи ведом-
ства Геббельса определённые свободы, должные доказывать для
Запада независимость немецкой прессы. Более того, значительная
часть авторов «внутренней эмиграции», а также представители
афашистской литературы, регулярно публиковалась в еженедель-
нике «Рейх» (»Das Reich«), находившемся под личным кураторством
Геббельса и являвшимся своеобразным общественно-политическим
и культурным лицом нацистской Германии. И, наконец, местом,
где представители «внутренней эмиграции», преимущественно
фёлькиш-национальной ориентации, могли относительно свободно
общаться между собой, обсуждать какие-то произведения и даже
находить новые таланты, следует считать «Липпольдсбергские
встречи поэтов», устраиваемые Г. Гриммом в своём поместье с 1934
по 1939 год и запрещённые Геббельсом, усмотревшем в этих встре-
чах проявление оппортунизма.
Несмотря на кажущиеся просторы для творческой деятельно-
сти сторонников «внутренней эмиграции», эти журналы и газеты
находились под постоянным политическим контролем, который
резко усилился после начала Второй мировой войны, что привело
к закрытию многих из них. Тем не менее, эти и некоторые другие,
региональные издания давали возможность авторам «внутренней
эмиграции» каким-то образом выражать своё неприятие нацист-
ского режима, прибегая или к эзопову языку, или к историческим
аллегориям, или, наконец, создавая произведения, не отвечавшие
эстетическим принципам нацистской идеологии, далёкие от реаль-
ной нацистской действительности при сохранении собственно
немецкой бытовой реальности, отчего возникало впечатление, что
события разворачиваются в какой-то другой, параллельной Герма-
нии. Последнее обстоятельство стало основным признаком не только
литературы «внутренней эмиграции» и авторов афашистской лите-
ратуры, но и вообще подавляющего большинства всех публикаций
тех лет, претендующих на статус художественного произведения.
424
Одни авторы избегали реалий времени, боясь обвинений в непра-
вильном их толковании, другие же просто игнорировали эти реалии,
прибегая к общепринятым наименованиям.
Ведущим органом «внутренней эмиграции» являлся журнал
«Иннере Рейх», «посвященный поэзии, искусству и немецкой
жизни», издававшийся мюнхенским издательством «Альберт Лан-
ген / Георг Мюллер» с 1934 по 1944 год с небольшим перерывом,
вызванным запретом по идеологическим соображениям. До сих
пор не утихают споры о том, было ли это издание «интеллигент-
ным журналом» немецкого внутреннего сопротивления, в котором
«развивались новые способы и системы взаимопонимания», как
это утверждал Курт Хохоф (Hohoff, Curt),1 сам прошедший школу
создания подобной системы на страницах католического журнала
«Хохланд» в годы нацизма и продолживший затем совершенствовать
её в качестве сотрудника «Иннере рейх», или это был «нацистский
журнал», на чём настаивает Гюнтер Пенцольд (Penzoldt, Günter).2
В пользу последнего утверждения говорит хотя бы тот факт, что
журнал издавался нацистским издательством, которое находилось
под непосредственным руководством Роберта Лея (Ley, Robert),
заведующего «Организационным отделом НСРПГ» и руководителя
«Германского трудового фронта», аналога немецких профсоюзов.
При таком раскладе сил и речи быть не могло о какой-либо оппози-
ции нацистскому режиму, в чём редакция журнала, составленная,
казалось бы, из проверенных людей, вскоре убедилась на соб-
ственном опыте. Несомненно, какие-то интенции оппозиционного
толка присутствовали в редакционной политике журнала, но они
в силу своей неопределённости и гиперосторожности растворялись
в потоке верноподданнических и, что греха таить, откровенно про-
нацистских произведений. Не случайно писатель Берт фон Хайзелер
(Heiseler, Bert von), убеждённый член НСРПГ с 1933 года, сразу же
после выхода первого номера журнала поспешил заверить власти
в благонадёжности этого издания, несмотря на все старания эми-
грантов толковать факт его создания «как попытку противопо-
ставления «Иннере рейх» «внешнему рейху» и всё это предприятие
рассматривать как некую «скрытую оппозицию». Напротив, именно
в этом журнале «рейх немцев должен обрести свой внутренний
голос, который может быть услышан ещё и там, куда не проникает
1 SoergelA., Hohoff С. Dichtung und Dichter der Zeit. Bd. 2. Düsseldorf, 1963. S. 807.
2 Penzoldt G. Das Innere Reich im Dritten Reich // Die Zeit. 02.04.1965. Nr. 14.
425
боевой голос политиков. Здесь будет проявляться не «другая Герма-
ния», а та, ради которой мы все, каждый на своём месте, призваны
жить и творить».1
«Иннере рейх» был порождением буржуазного общества, особен-
но его передового идеологического отряда — фёлькиш-националов
разных мастей, и просматривавшаяся иногда на его страницах
критика нацизма походила скорее на плач по несбывшимся наде-
ждам на верховенство в нацистском движении, чем на осуждение
его преступных проявлений
По сути дела, планы по изданию журнала возникли у руковод-
ства этого издательства, купленном нацистами на корню уже в 20-х
годах, ещё в 1932 году, и в основе их лежало намерение создать
фронт против либеральной и левой прессы, к числу которых отно-
сились такие издания как «Литерарише вельт» (»Literarische Welt«),
«Нойе рундшау» (»Neue Rundschau«), «Литератур» (»Die Literatur«),
литературное приложение к «Франкфуртер цайтунг», правившие
вкусом читающей публики времён Веймарской республики. Хотя
само издательство «Альберт Ланген / Георг Мюллер» создало при
газете «Берлинер бёрзен-цайтунг» (»Berliner Börsen-Zeitung«) лите-
ратурное приложение «Критише гэнге» (»Kritische Gänge«), но ему
явно не хватало солидного, вроде «Нойе рундшау», журнала. При-
ход к власти нацистов подвиг руководителя издательства Густава
Пецольда (Pezold, Gustav) составить некий меморандум, основной
целью которого было предостеречь новых властителей от повторе-
ния ошибок прежних властей, «оказывавших незначительное вни-
мание проблеме воздействия литературы на общество, и поэтому
нельзя допустить, чтобы в будущем снова вместо истинно народной
литературы продолжалось роковое воздействие произведений лите-
раторов, чуждых народу и оторванных от жизни».2
Последовавшее представление издательством журнала «Иннере
рейх» только подтвердило приверженность его идеологии наци-
онал-социализма: «Для нас не идёт речь ни об удовлетворении
некоей беспокойной потребности в развлекательной литературе,
1 Heiseler В. von. Das Innere Reich // Das Deutsche Wort. Berlin, 13.04.1934. Nr. 16.
S. 12.— Правда, после еврейских погромов 1938 г. Хайзелер разочаровался
в нацистской идеологии, отказался от сотрудничества с «Инере рейх» и публико-
вался в основном в журнале «Корона», отдававшем предпочтение классике.
2 Цит. по: Volke W. Das Innere Reich. 1934-1944. Eine Zeitschrift für Dichtung, Kunst
und deutsches Leben // Marbacher Magazin. H.26. Marbach, 1983. S. 1.
426
ни о поспешном обсуждении и критике актуальных событий и про-
блем. Глубоко убеждённые в воздействующей силе литературы
и искусства, мы сверх того поставили перед собой задачу, предоста-
вить в солидном и независимом журнале место преимущественно
поэту (т.е. не писателю, занимающемуся проблемами современно-
сти — Е. 3.) и проложить его творчеству путь к его народу, к немец-
кому человеку, то есть дать возможность всем немцам регулярно
знакомиться с крупными и малыми произведениями своих поэтов
с тем, чтобы убедиться в том, какая сила души и какой созидаю-
щий дух живы, как раньше, так и теперь, в нашем народе. Наш
труд, однако, касается не только читателей в Германии, но и всех
немцев, находящихся за пределами наших границ, кто готов согла-
ситься с тем, что с теми, кто сбежал заграницу, ни в коем случае
не кончается здоровый немецкий дух их народа, а наоборот, что
в национал-социалистской Германии только теперь стал свободен
путь к раскрытию лучшего «внутреннего рейха» немцев».1
Уже одного этого было достаточно для того, чтобы понять, что
о какой-либо изначальной оппозиционной направленности журна-
ла, о которой так много говорили после 1945 года некоторые авторы
и критики, печатавшиеся в нём, не могло быть и речи. Последо-
вавшие далее восторженные панегирики по поводу «обновлённого
рейха», «страстной любви, проявляемой возрождённым народным
сообществом к новому государству», только подтвердили привер-
женность журнала идеологии национал-социализма.
Об этом достаточно красноречиво свидетельствует и список
авторов, «выразивших согласие принять регулярное участие в его
издании», куда, как можно было узнать из рекламного текста,
опубликованного в журнале «Бух унд Фольк» (»Buch und Volk«)
и во многих других изданиях, вошёл практически весь цвет фёль-
киш-националов, консерваторов и даже некоторых представителей
собственно нацистской литературы: «Эрнст Бахмайстер, Людвиг
Ф. Бартель, Вернер Бергенгрюн, Александр Берше, Рудольф Георг
Биндинг, Ганс Фридрих Блунк, Бруно Брем, Георг Бритинг, Гер-
ман Бурте, Ганс Каросса, Герман Клаудиус, Эдвин Эрих Двингер,
Ганс Хайнрих Эрлер, Гертруд фон Ле Форт, Иоахим фон дер Гольц,
Фриц фон Грэвениц, Ганс Гримм, Паула Гроггер, Иоханнес Халлер,
1 Цит. по: Westhoff А. Das Innere Reich. 1934-1944. Eine Zeitschrift für Dichtung,
Kunst und deutsches Leben. Verzeichnis der Beiträge // Marbacher Magazin. Beiheft.
Nr. 26. Marbach, 1983. S. 2.
427
Рудольф Хух, Ганс Йост, Э. Г. Кольбенхайер, Ганс Ляйфхельм, Макс
Мелль, Агнес Мигель, Рудольф Вирбт, Э. Вольфганг Мёллер, Карл
Александр фон Мюллер, док. Овлглас, Ганс Пфитцнер, Вильгельм
Пиндер, Вильгельм Шэфер, Герхард Шуман, Ина Зайдель, Эдуард
Шпрангер, Герман Штер, Эмиль Штраус, Отто фон Таубе, Людвиг
Тюгель, Иозеф Магнус Венер, Эрнст Вихерт, Юлиус Церцер, Лео-
польд Циглер».1
Появление в перечне сотрудников «Иннере рейх» имени
Г. Ф. Блунка и Г. Йоста определялось как значимостью занимаемых
ими постов (первый — президент «Имперской палаты письменно-
сти», второй — президент «Немецкой академии поэтов»), так и бли-
зостью их к власти, хотя Г. Йост, например, прямого касательства
к журналу не имел и ни разу не публиковал в нём свои произведе-
ния. Зато Г. Шуману, одному из «классиков» нацистской поэзии,
отводилась явно роль некоего громоотвода, учитывая занимаемые
им посты в «Имперском сенате по вопросам культуры» и в «Палате
письменности». Определённой уступкой времени было появление
в этом списке имён таких авторов как Э. Э. Двингер, Э. Штраус
и Э. Г. Кольбенхайер с их пронацистской позицией. Э. Вихерт,
В. Бергенгрюн, как, впрочем, и О. фон Таубе, посчитавший своё
признание фашизма грехом молодости, увидели в этом журнале
возможность выразить своё неприятие нацизма через призму рели-
гиозно-окрашенного мировосприятия и, не в последнюю очередь,
возможность публикации как таковой, учитывая резко отрицатель-
ное отношение нацистов к делам церкви. Г. фон Ле Форт, поначалу
согласившаяся принять участие в издании журнала, вскоре поняла
истинную суть его — имя её ни разу не появилось на страницах
«Иннере рейх».
Впоследствии состав авторов журнала расширился за счёт
литературной молодёжи, преимущественно афашистской направ-
ленности (Г. Бриттинг, Г. Айх, М. Рашке, X. Ланге, П. Хухель), кото-
рая пыталась, избегая прямых выпадов в адрес режима, выразить
своё отношение к действительности способами, как потом скажет
Густав Рене Хокке, тоже принадлежавший к когорте «внутренних
эмигрантов», «каллиграфического письма»,2 явно выпадавшего
1 Die neue Zeitschrift für Dichtung und Kunst und deutsches Leben // Buch und Volk.
Berlin, 1934. H. 3. S. 17.
2 Hocke G. R. Deutsche Kalligraphie oder Glanz und Elend der modernen Literatur / /
Der Ruf. Nr. 7. 15.11.1946. München.
428
из выморочной стилистики произведений фёлькиш-националов.
Однако и здесь каких-либо успехов они не добились, ибо, по боль-
шому счёту, все их попытки выразить своё неприятие режима, как,
впрочем, попытки и остальных авторов журнала, независимо от их
намерений, обретали характер некоего успокоения собственной
совести в неизменности избранной ими гражданской и творческой
позиции, удовлетворения самих себя в том, что они сделали всё, что
могли в сложившейся в стране ситуации, оставаясь незапятнанны-
ми в сотрудничестве со своими политическими и идеологическими
противниками, не поступаясь своими принципами.
По сути дела, нацистское руководство, создавая журнал «Инне-
ре рейх», намеревалось одним махом убить двух зайцев: предстать
в глазах Запада этакими либералами, хранителями традиций
немецкой литературы, что, в общем-то, и получалось, учитывая
рекомендуемую авторам ориентацию на отнюдь не лучшие образ-
цы XIX века, и держать под присмотром собрание писателей,
отличающихся определённой независимостью взглядов. Именно
этим обстоятельством объясняется столь длительное — с 1934
по 1944 год — существование журнала, выходившего, несмотря
на трудности военного времени, достаточно регулярно. Его не то что
терпели, а рассматривали как издание, обладающее «общественным
фактором... преимущественно политического свойства».1
Пауль Альвердес (Alverdes, Paul; 1897-1979) и Бенно фон Мехов
(Mechow, Karl Benno von; 1897-1960), выбранные издательством
в качестве главных редакторов журнала, несмотря на участие
в работе различных нацистских организаций, не отличались особым
рвением в пропаганде идей национал-социализма, хотя и остава-
лись правоверными гражданами нового государства, сторонниками
охранительной функции искусства.
Алвердес, участник Первой мировой войны, известен был
новеллами и особенно своей повестью «Палата курителей трубок»
(»Die Pfeiferstube«, 1929), навеянной личными воспоминания о вре-
мени, проведённом в военном лазарете (Альвердес был тяжело ранен
и даже потерял дар речи), и воспевающей «фронтовое товарищество
как высшее проявление всех мужских достоинств».2 В своих статьях
и речах, изданных в 1939 году под примечательным названием
1 WiebelR. Zeitung und Zeitschrift. Darmstadt, 1939. S. 58.
2 Rauch К. Die sechs Bücher deutscher Dichtung: Paul Alverdes. Die Pfeiferstube //
Das deutsche Wort. Die literarische Welt — Neue Folge. Nr. 33. 10.08.1934.
429
«Благодарность и служение» (»Dank und Dienst«) и являющихся
своеобразным образцом велеречивого и пустопорожнего повтора
передовиц из «Фёлькишер беобахтер», нашло истинное выражение
его реального отношения к нацизму, его готовность идти на самые
опасные компромиссы с властителями «ради того, чтобы спасти
ужасающее обеднение языка, чтобы спасти то, что ещё можно спа-
сти».1 После 1945 года Альвердес писал в основном книги для детей.
Фон Мехов, в отличие от Альвердеса, старался держаться
в стороне от общественной деятельности и вёл довольно уединён-
ный образ жизни примерного хозяйственника в своём поместье.
Кадровый офицер, кавалерист, в своих романах фон Мехов иде-
ализировал солдатскую жизнь, рассматривая войну как роман-
тическое приключение, и в этом он был близок к Р. Г. Биндингу,
с которым состоял в дружеских отношениях. Как ядовито заметил
Курт Тухольский в 1931 году по поводу его романа «Приключение»
(»Das Abenteuer«, 1930), «если бы его издали как сказку, то было бы
совсем неплохо». Особым успехом пользовался его роман «Начало
лета» (»Vorsommer«, 1933), получивший в 1934 году премию как
«один из самых одухотворенных, прекраснейших любовных рома-
нов в современной литературе»,2 в котором воспеваются прелести
сельской жизни с их нехитрой повседневностью. В определённой
степени этот роман по своему настрою созвучен роману Э. Вихерта
«Майорша» (»Die Majorin«, 1934), и не случайно оба романа, незави-
симо от «чрезвычайно манерной» (К. Тухольский) прозы фон Мехова,
не идущей ни в какое сравнение с мелодичной прозой Вихерта,
пользовались огромным успехом в годы нацизма, как бы давая
образец поведения человека в годину бедствий. Фон Мехов был клас-
сическим представителем «афашистской» литературы, и, вероятно,
именно поэтому его привлекли к работе в журнале «Иннере рейх».
Правда, сотрудничество это длилось недолго. В 1938 году фон Мехов
по состоянию здоровья вышел из состава редакции журнала.
Если названные имена «регулярных сотрудников журнала» мог-
ли вызвать некоторые сомнения в его оппозиционной направленно-
сти, то редакционная статья в первом номере журнала, авторами
её были Альвердес и фон Мехов, утвердила эти сомнения в полной
1 Цит. по: Lennartz F. Deutsche Schriftsteller des 20. Jahrhunderts im Spiegel der Kritik.
Bd. 1. Stuttgart, 1984. S. 13.
2 Lennartz F. Op. cit. Bd. 2. S. 1172.
430
мере, ибо, даже учитывая необходимость верноподданнических
излияний, тональность их ничем не отличалась от подобного рода
речений «Фёлькишер беобахтер». Перечислив все беды Герма-
нии, вызванные войной и назвав все последующие события, т.е.
создание Веймарской республики, «историей распада немецкого
народа», авторы статьи приветствовали одержанную нацистами
«победу национальной революции», «силовой процесс очищения
и оздоровления» Германии,1 восславив главного спасителя нации:
«...свершилось чудо, немцы стали единственным единым народом
и теперь ни за что не откажутся от этого единства. Провидение
свершило это чудо благодаря сердцу и силе одного единственного
немецкого человека. Он был на фронте среди миллионов, он боролся
и страдал, в то время как глубокий смысл и истинная цель всех его
жертв и всего повиновения и всего выполнения долга ещё тайным
образом скрытно лежали перед ним только как предполагаемые,
как это было среди многих его товарищей, но не познанные ещё
в полной чистоте и ясности перед последним очищением кровью
и огнём и несказанных страданий. Наряду с любовью, но к соотече-
ственникам своего времени, переполненного страданиями и мука-
ми, наряду с волей, данной ему указать здоровый и правильный
путь, в этом человеке действовало, внушённое ему милостивым
всемогуществом, знание вечных ценностей немецкой души... Мы
познаём в руководстве немецкого народа Адольфом Гитлером обла-
гороженного в ходе физической и духовной борьбы солдата старого
и нового немецкого рейха».2
Пафосное признание в любви к фюреру заканчивается под-
тверждением единства «видимой и невидимой отчизны», сплотив-
шейся вокруг слова «немецкое», и уверениями в «благоговейной
любви» к родине, которую они «никогда не покинут».3 Последние
слова, хотели этого авторы или нет, звучат довольно двусмысленно,
и их можно истолковать как своего рода подписку о невыезде. Опу-
бликованное тут же эссе Р. Биндинга «О свободе» (»Über die Freiheit«)
служит своеобразным подтверждением этому, ибо автор определяет
в нём не только рамки поведения человека, но и пределы творчества:
«Ты свободен, если ты гармонично вписываешься, приобщаешься
1 Alverdes P., Mechow К.В. von. Inneres Reich // Das Innere Reich. H. 1. 1934. S. 2.
2 Ibid. S. 7.
3 Ibid. S. 8.
431
к неким отношениям или к некоему порядку».1 В этих словах ясно
определяется парадигма строгой иерархии нацистского государ-
ства, покоящаяся на долге и необходимости подчинения.
Журнал «Иннере рейх» выходил раз в месяц и издавался тира-
жом, не превышавшим 5500 экземпляров, что уже само по себе
говорило о том, что это издание предназначалось для избранных
читателей. Правда, первый номер журнала вышел тиражом в 20
тысяч экземпляров,2 и рассчитан был с рекламными и пропаган-
дистскими целями не только на немецкого, но и на западного
читателя. Предполагалось, что в журнале будут «публиковаться
оригинальные произведения неразрывно связанных с народом,
преимущественно немецких писателей, а именно романы, расска-
зы, драмы, радиопьесы, стихи, диалоги, жизнеописания и путевые
заметки. При этом будут учитываться и изобразительные искусства
и музыка. Итак, в журнале будут обсуждаться не критические или
теоретические вопросы, а только отдельные вопросы культуры,
касающиеся существенного и не затрагивающие проблемы дня,
представленные в обстоятельных статьях и замечаниях».3
Первый же номер журнала даёт достаточно ясное представле-
ние о художественной и политической составляющей редакционной
политики этого издания. Своеобразным наставлением для авторов
журнала, а по сути дела программой, обязательной для всех деятелей
литературы и искусства, стала публикация доклада Г.Ф. Блунка
«Немецкая культурная политика» (»Deutsche Kulturpolitik«), прочи-
танного им в 1934 году и изданного в том же году отдельной книгой,
основные положения которого являлись развёрнутым изложением
тезисов речи Гитлера «Немецкое искусство как самая величествен-
ная защита немецкого народа» (»Die deutsche Kunst als stolzeste
Verteidigung des deutschen Volkes«), произнесённой им на первом
партийном съезде в сентябре 1933 года: «Национал-социализм
признаёт себя сторонником... героического учения о значимости
крови, расы и личности, а также вечных законов селекции... В той
степени, в какой национал-социализм в Германии являет собой
осуществление многочисленных провидческих предположений
1 Binding R. G. Über die Freiheit // Das Innrere Reich. H. 1. 1934. S. 8.
2 Das Innere Reich. H. 1. 1934. S. 144.
3 Цит. по: Denkler H. Janusköpfig. Zur ideologischen Physiognomie der Zeitschrift
»Das Innere Reich« (1934-1944) // Die deutsche Literatur im Dritten Reich. Themen.
Traditionen. Wirkungen / Hrsg. v. H. Denkler u. K. Prümm. Stuttgart, 1976. S. 383.
432
и действительных научных знаний, в той же степени он создал
и предпосылки для нового ренессанса арийского человека».4
Несмотря на то, что Блунк основное внимание уделил общим
вопросам культурного строительства в Третьем рейхе, по сути
дела, он определил обязательную тематику произведений фёль-
киш-национальной литературы. Прежде всего, в докладе речь идёт
о воспевании немецкого народа, как наиболее древнего единого
«кровного сообщества», заявившего о себе в полной мере ещё «во
времена позднего каменного века»,5 ибо «мы на севере ещё раньше
носили тканую одежду, чем об этом свидетельствуют египетские
мумии; найденные наши корабли старше финикийских кораблей;
в нашей земле нашли более старые и более великолепные музыкаль-
ные инструменты, знаки варваров севера, похожие на наши руны,
ещё во втором тысячелетии встречались на египетских пирамидах».6
Отсюда же вытекает вывод об исключительной приверженности
заветам прошлого: «горе тому обществу, горе тому государству,
которое не проводит политику следования собственному наследию,
а пытается подражать чуждым образцам».7
В соответствии с указанием фюрера Блунк связывает развитие
культуры с биологическими факторами, поднимая вопрос об «обо-
роноспособности сильных чистых рас», ибо «культура не является
парящей интеллектуальностью, она связана с её народом и с обо-
роноспособностью народов»,8 и поэтому важным является сохране-
ние «основного расового слоя народа», подвергающегося, особенно
в Восточной Пруссии и Силезии, чужеземному воздействию.9
В этой же связи возникает глобальная геополитическая тема
расселения немецкого народа. Пока речь идёт о Восточной Европе,
где представительство немецкого народа с каждым годом умень-
шается. Блунк призывает отказаться от больших крестьянских
дворов в пользу мелкого крестьянина, у которого, в противопо-
ложность к зажиточному крестьянину, «не было долгов, у него было
4 Цит. по: Schonauer F. Deutsche Literatur im Dritten Reich. Versuch einer Darstellung
in polemisch-didaktischer Absicht. Ölten, Freiburg im Breisgau, 1961. S. 16-17.
5 BlunckH.F. Deutsche Kulturpolitik // Das Innere Reich. H.l. 1934. S. 115-116.
6 Ibid. S. 140.
7 Ibid. S. 118.
8 Ibid. S. 120.
9 Ibid. S. 121-122.
433
больше белокурых детей, потому что он мог всех их использовать».]
Столь трогательная забота о мелком крестьянине вызвана тем,
что, по мнению Блунка, именно в крестьянской среде, согласно
старинному Дитмаршскому праву (в его основе лежат родовые
принципы.— Е.З.), заложено влечение к вождю: «Более старая
политическая культура... требует того, чтобы народ был ведом...».2
Принцип фюрерства, вождя, как основополагающий принцип
национал-социализма, получает, таким образом, историческое обо-
снование, и истоки его нужно искать не только в Средневековье,
но и в более ранние времена.
Исходя из этого, Блунк, ссылаясь на авторитет Гёте, Бетхо-
вена, Баха, Новалиса и видя в них «приуготовителей современно-
сти»,3 полагает, что писатель, художник, музыкант также обладает
способностью быть наставником народа, своеобразным фюрером
от культуры. Правда, Блунк тут же оговаривает условия, на которых
это наставничество может происходить: «Полнота художественного
творчества должна непременно сохраняться; государство никогда
не должно пытаться стеснять творческую личность, оказывая на неё
влияние, до тех пор, пока она не проявляет к нему враждебности.
Но государство, как и всякий субъект, имеет право выбирать
по своему усмотрению среди деятелей культуры и произведений
культуры, оно имеет право и употребить его всегда и повсюду,
противодействуя разлагающим течениям».4
Рассмотрев различные аспекты архитектуры, изобразитель-
ного искусства и музыки, где все рассуждения Блунка определя-
лись радикальным поворотом к прошлому, будь то возвращение
к прежнему стилю деревенских домов,5 или «возрождение старых
и побуждение к созданию новых народных песен»,6 или порица-
ние «всего творчества Барлаха, Нольде или Рольфа»,7 он переходит
непосредственно к литературе. Последующие слова Блунка звучат
как прорицание грядущего торжества фёлькиш-национальной
1 BlunckH.F. Op. cit. S. 124-125.
2 Ibid. S. 127.
3 Ibid. S. 127.
4 Ibid. S. 129
5 Ibid. S. 130.
6 Ibid. S. 131.
7 Ibid. S. 132.
434
литературы, ибо «мы находимся в центре ещё не упорядоченно-
го и необозримого, но самого сильного отрезка новой немецкой
литературы. Припомните мои слова, когда вы через несколько лет
однажды будете обозревать это время не только в политическом
смысле. Политическое развитие сказалось и в этом деле. То, что
поэты, приверженные народной письменности, десятилетиями
были отодвинуты на задний план, привело к тому, что большое
количество здоровых сил пропадало зазря».
Далее последовало восторженное изложение усилий новых вла-
стей в наведении порядка в Академии искусств, в создании «Палаты
культуры» и в частности «Имперской палаты письменности». Все
эти нововведения, считает Блунк, приведут к «принципиальному
изменению отношения отдельного художника к государству», «они
обяжут, как это было в раннесредневековых гильдиях,., каждого
принятого в палату заботиться и отвечать за выполнение своего
долга по отношению к народной общности. Я хотел бы сказать,
вести себя молодцом. Это не должно быть и не станет ни брюзжа-
нием, ни инквизицией; я считаю это воспитательное воздействие,
осуществляемое путём доверия государства к каждому отдельному
субъекту, куда более значительным, чем воспитание братского или
небратского уважения к ближнему».1
Определив условия отношений между художником и госу-
дарством, Блунк, отвечая на обвинения Запада о вмешательстве
государства в творчество художников, обещает, словно речь идёт
0 расшалившихся детях, что «если дисциплина... профессиональ-
ных объединений окрепнет до такой степени, что полицейское
вмешательство, бывшее при старых демократиях повседневным
явлением, станет исключением».2
Заканчивая свой доклад, Блунк обратился к проблемам рели-
гии. По его мнению, «он не верит, что религиозные исповедания
входят в состав культурной политики государства; оно обязано пре-
доставить им поле деятельности и защищать их — все конфессии,
даже те, которые, возможно, пытаются уводить нас от современной
действительности. Мы должны знать — всё, что сегодня происхо-
дит, является началом развития столетий, мы должны готовиться
к некоей общности, которая выйдет за пределы Реформации и Кон-
трреформации». И залогом успеха этой общности является «верность
1 BlunckH.F. Op. cit. S. 134-135.
2 Ibid. S. 135.
435
фюреру, самоотверженность, благоговение перед нереальностью
и учение о зарождающемся пути людей, ангелы и боги как в хри-
стианстве, так и на Севере тысячелетия стары».1
Доклад Блунка — это выражение верноподданнических чувств,
высказанных довольно осторожно, ибо по сравнению с оригина-
лом здесь опущены некоторые вольные пассажи, могущие вызвать
недовольство цензуры, учитывая статус журнала и его первые шаги
в качестве органа фёлькиш-националов. Более того, в высказыва-
ниях Блунка сквозит тихая надежда на некоторые послабления,
что, несомненно, рассчитано не столько на то, чтобы убедить вла-
сти в совершении оных, сколько на привлечение сомневающихся
авторов. Дескать, мы находимся в начале пути, всё со временем
образуется, надо набраться терпения. Как бы то ни было, но основ-
ные положения этого доклада изначально определяли редакционную
политику журнала «Иннере рейх», далёкую от каких-либо оппози-
ционных настроений.
Если доклад Блунка можно расценить как идеологическую уста-
новку для деятелей культуры, то предпубликация перед выходом
в свет романа Э. Штрауса «Игрушка великана» и пьесы Э. Г. Коль-
бенхайера «Грегор и Генрих» в нескольких номерах журнала носила
образцово-показательный характер, будучи примером того, как
далеко может заходить писатель в обращении к современной про-
блематике в прямом и переносном смысле.
Поэтический раздел первого номера журнала «Иннере рейх»
представлял собой некую смесь «крови-и-почвы» (Паула Гроггер,
Герман Клаудиус), ландшафтной лирики (Пауль Аппель, Петер
Хухель, Г. Бриттинг, Др. Овлгласс) и романтизма (Ганс Ляйфхельм,
Эрика Миттерер, Отто фон Таубе, Юлиус Церцер). В большинстве
своём стихи эти лишены как в содержательном, так и в формаль-
ном отношении какой-либо временной окраски, они могли быть
написаны и в XIX веке, однако интонационно они заметно разнятся.
Внутренний настрой, например, стихотворения П. Гроггер «Сеятель»
(»Der Säemann«), члена нацистского писательского объединения,
запрещённого в Австрии, определяется, при сохранении вроде бы
традиционного обращения к образу сеятеля, неким едва ли не исте-
рическим призывом к воссоединению Австрии с Германией. Не слу-
чайно это стихотворение открывает собственно литературную часть
1 BlunckH.F. Op. cit. S. 142.
436
журнала; не случайно, вероятно, и то, что в журнале опубликованы
(правда, иного свойства, чем у П. Гроггер) стихи австрийских поэтов
Э. Миттерер, Г. Ляйфхельма.
В свою очередь, тоника ландшафтной лирики, как это заметно
в стихах П. Аппеля «Прощание» (»Abschied«),1 «Родительский дом»
(»Elternhaus«),2 определяется сентиментальными воспоминаниями
о детстве или меланхолическим созерцанием явлений природы,
выступающей в роли последнего пристанища высокого духа как
это свойственно стихам Г. Бриттинга «Март» (»März«)3 и «Ранним
утром у реки» (»Früh am Fluß«).4 Несколько особняком стоит лирика
П. Хухеля, полная тревожных раздумий, печали, холода, мертвя-
щей тишины — «Замёрзшие ночные окна» (»Nächtliche Eisfenster«),5
«Ночная песнь» (»Nachtlied«).6 Ранние стихи Хухеля также не отли-
чались особой праздничностью, каким-то весельем, но здесь, с под-
чёркнутым обращением к теме ночи и холода, можно усмотреть
некую оппозицию к парадному оптимизму нацистской поэзии, как,
впрочем, и к безмятежному любованию природой. В любом случае,
ландшафтная лирика является выражением афашистской позиции
поэтов, и, независимо от того, чем вызвано обращение к такому
роду поэзии, она содержит в себе определённые протестные интен-
ции, хотя официальная критика относилась к ней благосклонно.
Публицистика, представленная «Речью, посвященной памяти
Теодора фон дер Пфордтена» (»Gedenkrede auf Theodor von der Pford-
ten«),7 одного из 16 «мучеников» нацистского мартиролога, погиб-
ших в 1923 году в Мюнхене при попытке нацистов произвести
государственный переворот, получивший название «пивной путч»,
красноречиво дополняет картину приверженности редакции «Инне-
ре рейх» идеологии национал-социализма или, по крайней мере,
подтверждает покорное следование этого издания официальному
курсу нацистской прессы.
1 Appel Р. Abschied // Das Innere Reich. H. 1. 1934. S. 45.
2 Appel P. Elternhaus // Das Innere Reich. H. 1. 1934. S. 46.
3 Britting G. März // Das Innere Reich. H. 1. 1934. S. 51.
4 Bntting G. Früh am Fluß // Das Innere Reich. H. 1. 1934. S. 94.
5 HuchelP. Nächtliche Eisfenster // Das Innere Reich. H. 1. 1934. S. 96.
6 HuchelP. Nachtlied // Das Innere Reich. H. 1. 1934. S. 103.
7 Müller K.A. von. Gedenkrede auf Theodor von der Pfordten. Gefallen am 9. November
1923 an der Feldherrnhalle zu München // Das Innere Reich. H. 1. 1934. S. 47.
437
В таком же ключе, но уже в духе поэтики «крови-и-почвы»,
написан и очерк австрийца Макса Мелля (Meli, Мах) «Христос Бран-
для» (»Der Brandl-Herrgott«),1 рассказывающий о поездке писателя
по Штирии. Мелль являлся одним из руководителей национал-соци-
алистского «Союза немецких писателей» Австрии, чья деятельность
определялась тезисом о воссоединении с «родиной», с Германией.
Неким исключением в этой череде откровенно пронацистских
прозаических публикаций в первом номере «Иннере рейх» можно
считать — и то с большой натяжкой — эссе Иоахима фон дер Гольца
(Golz, Joachim von der) «К другу» (»An einen Freund«),2 которое носит
двойственный характер. Этот текст можно истолковать и как сето-
вания по поводу нерешительности друга принять новую действи-
тельность, и как выражение поддержки его смятенного состояния,
некоего призыва к сохранению собственного достоинства, доверия
внутреннему голосу.
Судить по первому номеру журнала о всей его редакционной
политике, учитывая необходимость избежать хотя бы на пер-
вых порах каких-либо нареканий со стороны цензуры, было бы
не совсем корректно, однако и последующие номера «Иннере рейх»
не отличались особой свободой выражения мнений. Несмотря
на то, что в журнале намеревалось «освещать... по возможности
лучшее для лучших», как писал фон Мехоф в своём письме к Грим-
му,3 подразумевая под этими словами, естественно, произведения
фёлькиш-национальных писателей и определённые слои буржуаз-
ных читателей, редакция вынуждена была формировать портфель
изданий с решительной оглядкой на идеологические инстанции
национал-социалистской партии.
Складывалось впечатление, что новым властителям нужен был
свой художественно-публицистический орган, который отражал бы
официальную политику в области культуры без пропагандистского
шума и крика и в определённой мере способствовал бы созданию
положительного имиджа нацистской Германии на Западе как
хранительницы и продолжательницы культурного наследия про-
шлого. Не случайно издательство получило сразу же разрешение
на издание «Иннере рейх», хотя к этому времени уже действовал
1 Мей M. Der Brandl-Herrgott. Aus einem steirischen Tagebuch // Das Innere Reich.
H. 1. 1934. S. 98.
2 GolzJ. von der. An einen Freund // Das Innere Reich. H. 1. 1934. S. 106.
3 Цит. по: Volke W. Op. cit. S. 16.
438
запрет на выпуск каких-либо новых журналов.1 Здесь в какой-
то мере сошлись намерения нацистов и фёлькиш-националов
в желании сохранить и приумножить духовное наследие прошло-
го, однако побудительные мотивы у каждой из сторон разнились.
Одни, нацисты, видели в культуре прошлого определённую защиту
от каких-либо веяний тлетворного Запада и таким образом как бы
определяли пределы дозволенного в творчестве, тем более что
в тематическом и эстетическом плане это направление отвечало
читательским запросам; другие, консерваторы и особенно фёль-
киш-националы, к этому времени уже начали догадываться о том,
что никто и не собирается видеть в них духовных наставников
фашистского движения, что, собственно, и было одним из побу-
дительных мотивов их сближения с нацистами, которые отводили
им совершенно декоративную, представительскую роль в «новой
Германии». В этой ситуации им не оставалось ничего иного, как
найти хоть какое-то легитимное прибежище, которым и стал для
них журнал «Иннере рейх», на страницах которого они могли бы
каким-то образом высказывать своё особое мнение по насущным
проблемам времени, не опасаясь, учитывая статус журнала, под-
вергнуться гонениям. Правда, вскоре они убедились в том, что и это
прибежище оказалось совсем ненадёжным.
В августовском номере журнала за 1936 г. была опубликована
обширная статья Рудольфа Тиля (Thiel, Rudolf) «Фридрих Великий.
Исследование характера одной биографии» (»Friedrich der Große.
Charakterstudien zu einer Biographie«), посвященная Фридриху
Великому. Статья эта отличалась по своему настрою от принято-
го в Третьем рейхе героического образа прусского короля. Тиль
попытался представить его как неординарного, импульсивного,
действующего по наитию, лишённого государственного мышления
человека со всеми присущими ему человеческими плюсами и мину-
сами. «Он является,— пишет Тиль,— самой сомнительной фигурой
нашей истории. Дело зашло так далеко, что мы не вполне уверены
в том, почему, собственно, его называют великим».2 На основании
детального анализа поступков Фридриха II как человека и как
государственного деятеля Тиль приходит к крамольным выводам:
«Возникают большие сомнения по поводу того, можно ли вообще
1 Denkler H. Op. cit. S. 383.
2 Thiel R. Friedrich der Große. Charakterstudien zu einer Biographie. Zur 150. Wieder-
kehr seines Todestages am 17. August // Das Innere Reich. H.5. August 1936. S. 543.
439
рассматривать Великого Фридриха национальным героем. Его
обвиняют в том, что он полностью разрушил великогерманскую
политику принца Евгения»1 и тем самым «грубо сокрушил планы
превращения Германии в национальное государство под австрий-
ским главенством».2
По сути дела, Тиль покусился на святая святых нацистского
Пантеона героев, да ещё в такие дни, когда вся страна отмечала
150-летнюю годовщину со дня смерти прусского короля Фридри-
ха П. Понятно, что партийная нацистская посредственность с её
мещанскими взглядами и благоговением перед героями прошлого
не смогла промолчать. В органе СС «Шварце корпс» (»Das Schwarze
Korps«) появилась анонимная статья «И это называется „Иннере
рейх"!» (»Und das nennt sich >Inneres Reich!<«), в которой выступление
Тиля, как и сам журнал, подверглись разгромной критике. Тиль
был обвинён в приверженности «большевистской идее восстания
неполноценных под водительством евреев против элиты», а жур-
нал — в желании представлять историю нации «в чёрном свете».3
Хотя, как выразился Вильгельм Штапель (Stapel, Wilhelm),
издатель пронацистского журнала «Дойчес фолькстум» (»Deutsches
Volkstum«), «каждый порядочный человек должен хотя бы раз под-
вергнуться критике в „Шварце корпс"»,4 подобная критика всегда
имела тяжёлые последствия. В нашем случае они не заставили
себя долго ждать, тем более, что и другие материалы, помещённые
в злополучном августовском номере «Иннере рейх», не отличались
особым пиететом к великим немцам: задиристая речь композитора
Ганса Пфитцнера (Pfitzner, Hans), посвященная взаимоотношениям
между Робертом Шуманом и Рихардом Вагнером, эссе Райнхольда
Шнайдера (Schneider, Reinhold) «Берлинский замок» (»Das Berliner
Schloß«) о Фридрихе II, в котором он попытался «историческое
вырвать от политического насилия»,5 отрывок из романа Йохена
Клеппера (Klepper, Jochen) «Отец» (»Der Vater«), автора, находивше-
гося под подозрением у гестапо из-за его жены-еврейки, хотя сам
1 Thiel R. Op. cit. S.
2 Ibid. S.
3 Anonym. Und das nennt sich »Inneres Reich!» // Das Schwarze Korps. 08.10.1936.
4 Wilhelm Stapel an Gustav Pezold // Volke W. Das Innere Reich. 1934-1944. eine
Zeitschrift für Dichtung, Kunst und deutsches Leben. Marbacher Magazin. H. 26.
1983. S. 34.
5 Цит. по: Volke W. Op. cit. S. 31.
440
роман, повествующий об отце Фридриха II, был встречен нацист-
ской прессой с восторгом, и, наконец, отрывок из повести Эдзарда
Шапера (Schaper, Edzard) «Песнь отцов» (»Das Lied der Väter«), лич-
ности для нацистов подозрительной хотя бы потому, что он являлся
корреспондентом «Юнайтед Пресс».
Всего этого оказалось достаточным для того, чтобы 11 октяб-
ря 1936 года «Иннере рейх» был запрещён по причине того, что,
согласно сообщению, опубликованному во всех газетах, «статья
Рудольфа Тиля «Фридрих Великий» представляет собой наглое,
гнусное осквернение и искажение характера Фридриха Великого».1
На следующий день гестапо провело акцию по изъятию экземпляров
журнала в книжных магазинах Берлина, Мюнхена и ряда других
городов Германии. Вместе с «Иннере рейх» запрещён был и журнал
«Квершнит» (»Querschnitt«), неудачно пошутивший по поводу пере-
вода на немецкий язык иностранного слова.
Примечателен не сам факт запрета «Иннере рейх» (когда-нибудь
это должно было произойти, потому что он явно не вписывался
в общую картину националистической прессы с её политизиро-
ванной трескотнёй по любому поводу), а то, что кто-то осмелился
высказать собственное мнение по вопросам, относящимся к веде-
нию нацистских идеологов. Статья Тиля по своей сути не направ-
лена против нацистов, она является выражением мнения историка,
не больше, хотя его пристрастие к детальному описанию чисто
человеческих проявлений прусского короля, а не его военных
заслуг, возможно, и имело некий протестный подтекст, основы-
вавшийся, скорее всего, на его отношении к другим публикациям
о Фридрихе II, которых к тому времени появилось достаточно
много. Протест этот мог возникнуть непроизвольно, как у всякого
образованного историка старой закваски, привыкшего открыто
выяснять со своими коллегами разногласия по тем или иным вопро-
сам немецкой истории, и некие иронические инвективы, которые
ощущаются в статье Тиля, скорее всего, были адресованы его оппо-
нентам по цеху, а не нацистам. Но и этого было достаточно для того,
чтобы развернуть в нацистской прессе кампанию по дискредита-
ции «Иннере рейх». «Национал-социалистишер курир» (»Nationalso-
zialistischer Kurier«) обвинил журнал «в проявлении марксистских
тенденций»,2 а «Фёлькишер беобахтер» с нескрываемым сарказмом
провозгласила: «По поводу обоих халтурных журналов, которые
' Цит. по: Volke W. Op. cit. S. 35.
2 Ibid. S. 36.
441
и без того возникли без участия общественности, ни один поря-
дочный соотечественник не прольёт слезы. Они были продуктом
той самой скверной литературщины, которая в своём надменном
интеллектуализме сознательно сторонится общности нового госу-
дарства и усматривает в таком же дурацком, как и претенциозном
духовном соревновании высшее проявление писательской «рабо-
ты». Эти чуждые народу люди, которые никогда не могли понять
смысл нашего мировоззрения, не должны удивляться, если теперь
мешают их ремеслу. Время «неистовых репортёров» типа Керра или
Тухольского, слава богу, в Германии прошло».1
После различного рода уверений со стороны издательства,
руководства журнала в преданности политике партии, после уни-
зительных писем главы издательства «Ланген / Мюллер» Г. Пецольда
Р. Гессу и Г. Гиммлеру, Г. Гримма — немецкому послу в Лондоне
И. фон Риббентропу, а также личных контактов Альвердеса с Геб-
бельсом, который якобы ничего не знал о случившемся, запрет
с журнала вскоре был снят. В ноябрьском номере «Иннере рейх»
было опубликовано покаянное письмо, подписанное обоими редак-
торами журнала и главой издательства, а газетам по личному ука-
занию Геббельса было дано указание больше не касаться журнала
по данному случаю.
Понятно, что в этой ситуации силы были неравны, но понят-
но и то, что оппозиционность всех участников этого конфликта
была эфемерной. В циркулярном уведомлении по издательству
Г. Пецольд запретил какие-либо действия по защите статьи Тиля:
«Нужно оставаться верным государству, даже если оно кому-либо
прилюдно высказывает горькие слова».2 То же самое, вероятно,
сказал Пецольд и самому себе, когда его на следующий год в свя-
зи с делом «Иннере рейх» освободили от должности руководителя
издательства «Ланген / Мюллер».
Находясь под неусыпным наблюдением ведомства Геббельса,
журнал всё больше становился неким неофициальным выразите-
лем государственной политики, о чём свидетельствуют его номера,
посвященные аншлюсу Австрии к Германии (12.03.1938), вводу
войск в Судетскую область (01.10.1938), нападению на Польшу
(01.09.1939) и СССР (22.06.1941), полные восторженной патети-
ки и восхваления «великогерманского рейха». Только после раз-
грома немецких войск под Сталинградом в феврале 1943 года
1 Volke W. Op. cit. S. 36.
2 Ibid. S. 37.
442
воинственная патетика публикаций в журнале сменилась на под-
чёркивание спасительной роли искусства в годину бедствий. Уте-
шительные интонации, призывы к стойкости, некий элегический
настрой, уход в спасительные глубины душевных переживаний
постепенно вытеснили со страниц журнала военную тематику,
культ фюрера, нацистскую идеологию.
В этом смысле показательна публикация в предпоследнем
номере «Иннере рейх» стихов солдата Иоганнеса Бобровского (Bob-
rowski, Johannes; 1917-1965) из цикла «Новгород 1943». Понят-
но, что тема «отношения немцев к своим восточным соседям»,
ставшая «генеральной темой» для последующего творчества этого
великолепного писателя,1 была представлена достаточно завуали-
ровано, однако внутренний настрой его стихов для внимательного
читателя, научившегося читать между строк, говорил о том, что
они выпадали из общепринятой в те годы псевдогероической или
совершенно устранённой от внешнего мира поэзии. Основной их
настрой определялся сожалением о бессмысленных разрушениях
на захваченной земле, об ощущении потерянности и брошенности
человека в этом мире. Не пафос войны, не победная поступь армии,
а немой укор, выражавшийся в точной фиксации увиденного
на войне, определяет специфику этих стихов. Именно об этом гово-
рит И. Бобровский в своём письме к И. Зайдель, одной из самых
известных в Третьем рейхе писательниц: «Первое, чему мы здесь
научились, это способности видеть».2 Это заметила и Зайдель, что
как-то не вяжется со сложившимся мнением о её приверженно-
сти идеям национал-социализма, хотя здесь, вероятно, сыграло
и то обстоятельство, что писательница пришла к пониманию оши-
бочности своих взглядов, и каким-то образом пыталась загладить
свою вину. Она настояла на том, чтобы стихи молодого поэта были
опубликованы в журнале, прекрасно понимая их несоответствие
установкам как самого издания, так и литературным тенденциям
тех лет. О сложности этого предприятия говорит тот факт, что,
например, стихотворение «Кремль», в котором достаточно ясно
прозвучали антивоенные мотивы, всё-таки не удалось отстоять.3
1 Цит. по: Ратгауз Г. И. Иоганнес Бобровский // История литературы ГДР / Под
ред. А. Л. Дымшица. M., 1982. С. 384.
2 Цит. по: Härtung G. Der weite Weg nach Sarmatien. Johannes Bobrowskis Gedichte
im Rahmen der Gesamtausgabe seiner Werke // Frankfurter Allgemeine Zeitung,
22.08.1987.
3 Op. cit.
443
Но и то, что было опубликовано, могло быть истолковано совсем
не в пользу автора, воспевающего в своих одах, написанных в духе
любимого им Клопштока, величие разрушенного Новгорода, как
это прозвучало в стихотворение «Призыв» (»Anruf«):
Над озером высится Новгород.
Я с радостью думаю ещё о тебе, и хотя
сердце во мне сжимается, мир всё же
собирается в твоём разрушении.
Но об этом надо сказать! В разрушенном доме
гуляют только как во сне мысли о прошлом —
как чайки над усталой рекой,
и их крики также рушатся в ветра порыве.
Ещё стоят башни, тяжестью своих куполов,
напоминающие разрушенные венцы,
вздымая из развалин страдания, и всё же
небо только соединяет растоптанный образ.1
Не эта ли публикация послужила внезапному концу журнала
«Иннере рейх» в июне 1944 года?
Подобного рода публикации появлялись на страницах этого жур-
нала очень редко и выражались они в как бы случайных упоминаниях
имён Нольде, Барлаха, Кубина, чьё творчество порицалось нациста-
ми. Адольф Байтц (Beitz, Adolf), например, публикует стихотворение
«Памяти Георга Тракля» (»Georg Trakl zum Gedächtnis«);2 Ганс Гримм
в статье о художнике Эберхарде Вигенере помещает в качестве
иллюстрации портрет писателя Теодора Дойблера, религиозного экс-
татика,3 нелюбимого нацистами; Хорст Ланге мало того, что пишет
статью о Георге Гейме, так он ещё и цитирует, правда, не называя
имени, Курта Пинтуса, идеолога немецкого экспрессионизма, уже
покинувшего Германию.4 Такой фронтальный интерес к творчеству
представителей немецкого экспрессионизма явно противоречил
официальному мнению идеолога национал-социализма А. Розенберга,
квалифицировавшего это направление как «ублюдочное».5
1 BobrowskiJ. Anruf// Das Innere Reich. 1944. H.4. S. 353.
2 Beitz A. Georg Trakl zum Gedächtnis // Das Innere Reich. 1934. H. 8 S. 945.
3 Grimm H. Einleitung zum Ercker-Zug // Das Innere Reich. 1934. H. 9. S. 1158-1161.
4 Lange H. Bildnis des Dichters Georg Heym // Das Innere Reich. 1935. H. 2. S. 209.
5 Rosenberg A. Der Mythus des 20. Jahrhundert. Eine Wertung der seelisch-geistigen
Gestaltenkämpfe unserer Zeit. München, 1934. S. 301.
444
Эти и некоторые другие публикации подобного рода не опреде-
ляли лицо журнала «Иннере рейх». Подавляющее число его авторов
послушно следовало в фарватере политических событий Третьего
рейха, создавая в рамках дозволенного некое подобие общественно-
го мнения. Если в первые годы существования журнала почти все
творческие проявления его авторов определялись не содержанием,
а формой, и поэтому круг тем, затрагиваемых ими, при всём кажу-
щемся разнообразии, оставался предельно камерным до убогости,
и простирался от разработки таких тем как «бог, сердце и душа,
природа, ландшафт, родина, время дня, года, ежегодные празд-
ники, семья, предки, будущие поколения до мастерской, изделие,
труд, отечество, народ, фюрер, включая особенно и войну (Первую
мировую. — Е. 3.) и национальный подъём»,1 то в последующие годы
военные победы Третьего рейха — вступление немецких войск
в Австрию, в Судетскую область, начавшаяся Вторая мировая
война и особенно нападение на Советский Союз — значительно
потеснили традиционную проблематику. Эти изменения заметно
проявились, прежде всего, в частотности употребления имени Гит-
лера и в воспевании его заслуг. Вплоть до 1938 года его имя почти
не упоминалось на страницах журнала «Иннере рейх», но начало
военной экспансии нацистской Германии вызвало поток хвалебных
гимнов вождю, среди которых особенно прославился Йозеф Вай-
нхебер своими «гигантоманиакальными» воспеваниями фюрера,
вернувшего, наконец, Австрию в лоно германского сообщества:
Это от имени народа!
Это от имени крови!
Это от имени страданий:
Германия, вечная и великая,
Германия, мы приветствуем тебя!
Фюрер, священный и сильный,
Фюрер, мы приветствуем тебя!
Родина, счастливая и свободная,
Родина, мы приветствуем тебя!2
Denkler H. Zur ideologischen Physiognomie der Zeitschrift »Das Innere Reich« //
Die deutsche Literatur im Dritten Reich. Themen. Traditionen. Wirkungen / Hrsg.
v. H. Denkler und K. Prümm. Stuttgart, 1976. S. 390.
2 Weinheber J. Hymnus auf die Heimkehr // Das Innere Reich. Mai 1938. S. 117.
445
Однако, при всём воспевании фюрера и его деяний, ни он сам,
ни его ближайшие соратники (Геббельс, Геринг, Гиммлер, Розен-
берг) не получили на страницах журнала слова, как не получили его
и наиболее одиозные фигуры нацистского Парнаса вроде X. Анаке-
ра, Г. Йоста, X. Менцеля, Б. фон Шираха и Г. Цёберляйна. И не то,
чтобы им отказывали в публикации, а просто из соображений
явного чужеродства названных персон эстетическим принципам,
определявшим литературную политику журнала «Иннере рейх», они
и не пытались войти в авторский состав этого издания.
Начавшаяся Вторая мировая война, с одной стороны, потес-
нила традиционную тематику журнала, политизировав её, при-
дав ей элементы героического, пафосного, с другой стороны, она
породила интерес к проблемам государства и партии. Некото-
рые авторы, осторожно, с оговорками, попытались высказывать
критические замечания против цензурных ограничений, против
некоторых проявлений государственной политики, даже против
войны самой. Эти настроения особенно усилились после нападе-
ния немецких войск на Советский Союз. Конец 1941 года показал,
что «план Барбароссы» провалился, и Германия надолго увязла
в настоящей войне, не шедшей ни в какое сравнение с польской
и французской кампаниями. «Война вызвала сомнения и породила
отчаяние» (X. Денклер).1 Понятно, что эти настроения выражались
не напрямую, опосредованно, и рядом с героической речью Ганса
Баумана, произнесённой им на «Германской встрече поэтов» в Дрез-
дене в 1941 году,2 соседствовали совсем не героические отрывки
из военного дневника Мартина Рашке «В тени фронта» (»Im Schatten
der Front«).3 В период с 1942 по 1944 год тема смерти оттеснила
на второй план все публикации в «Иннере рейх». Поначалу, осо-
бенно после поражения под Сталинградом, она трактовалась как
неизбежная участь войны, ибо «судьба и честь смешались» (Герд
Гайзер),4 и поэтому «нужно принять благословляющую руку и самой
1 Denkler H. Op. cit. S. 395.
2 Baumann H. Die Bewährungen des Dichters. Rede beim Deutschen Dichtertreffenin
Weimar 1941 // Das Innere Reich. Dezember 1941. H. 9. S. 461-471.
3 Raschke M. Im Schatten der Front // Das Innere Reich. Dezember 1941. H. 9.
S. 472-482.
4 Gaiser G. Mahl mit den Toten // Das Innere Reich. Oktober / November 1942. H. 7/8.
S. 345; Der unerbittliche Wahl // Ibid. Februar / März 1943. H. 11/12. S. 561-562.
446
страшной судьбы» (M. Рашке),1 но затем, наперекор этим доводам,
появились первые ростки понимания приближающегося конца,
и Бодо Шютт, надежда тогдашней поэзии, меланхолично замечает
в своих «Осенних стихах» (»Herbstgedichte«):
На нас обрушилось время
чудовищным потоком.
О подъём, опьянение,
о горькое падение.2
И, наконец, чувство разочарования, вызванное приближе-
нием конца Третьего рейха, сменяется чувством растерянности
перед лицом неизвестности. Эта мысль звучит откровенно в сти-
хотворении Элизабет Флёрен «Ворота» (»Ein Tor«), опубликованном
в последнем номере журнала «Иннере рейх»:
Некие ворота, неожиданные, подозрительные, возникают вдруг.
Из смерти в жизнь предстоит нам вброд перейти».3
Понятно, что подобные высказывания не определяли всей
литературной политики «Иннере рейх», но их становилось с каждым
годом всё больше, и это притом, что число желающих высказываться
по острым вопросам реальной военной действительности значитель-
но уменьшилось. Мало того, что редакция сознательно перестала
публиковать официальные сводки с фронтов, но и значительное
число авторов (Э. Барт, Г. Айх, П. Хухель, В. Леман и некоторые
другие) в силу своих антинацистских настроений просто отказа-
лось сотрудничать с журналом, не желая быть приспешниками
нацистской пропаганды.
Двуличная редакционная политика П. Альвердеса, вынужден-
ная, хотя и не лишённая известных попыток сохранять дистанцию
по отношению к нацистскому режиму, была залогом столь долго-
го существования журнала «Иннере рейх». Фёлькиш-националы,
а именно они составляли основной авторский костяк журнала,
предполагали посредством своих публикаций воспитать нацио-
нал-социализм, привить ему хорошие манеры, ибо в значительной
мере они воспринимали нацистское движение порождением их
1 Raschke M. An den Freund // Das Innere Reich. Juni 1943. H. 1. S. 3
2 Schutt B. Herbstgedichte // Das Innere Reich. Dezember 1943. H. 3. S. 238.
3 Floren E. Ein Tor // Das Innere Reich. Juni 1944. H. LS. 20.
447
духа, и поэтому закрывали глаза на многие негативные проявле-
ния этого движения в политике и в повседневной действительно-
сти, полагая эти проявления издержками роста. И потом, когда
надежды фёлькиш-националов рухнули, им не оставалось ничего
иного, как следовать в фарватере нацистов, судорожно пытаясь
сохранять хорошую мину при плохой игре. В этой связи всякие
попытки представить «Иннере рейх» неким оппозиционным орга-
ном, чуть ли не оплотом духовного сопротивления, представляются
несостоятельными. Если и были какие-то протестные интенции
в публикациях журнала «Иннере рейх», в массе своей они выра-
жались столь опосредованно, столь осторожно и столь туманно,
что, несмотря на некоторые цензурные акции, нацисты не прини-
мали их в расчёт, в противном случае журнал этот, как, впрочем,
и многие другие издания, мнившие себя оппозиционными, раз-
делили бы участь буржуазно-либеральной прессы. «Иннере рейх»
был и оставался порождением нацистской культурной политики.
Выполняя представительские функции для внешнего потребления
и служа некой отдушиной для недовольной части интеллигенции,
он был послушным орудием нацистской пропаганды, и поэтому
нацисты его не то, что терпели, они его содержали, до последней
минуты поддерживали на плаву, и только в 1944 году, когда из-за
катастрофического состояния промышленности (а в нашем случае
в связи с отсутствием бумаги, ибо даже партийный орган «Фёльки-
шер беобахтер» печатался на обёрточной бумаге) началось повальное
закрытие всевозможных культурных учреждений, «Иннере рейх»
постигла та же участь. Здесь уже было не до культуры, речь шла
о жизни и смерти Третьего рейха.
Самой знаковой и самой противоречивой фигурой «внутрен-
ней эмиграции» считается Ганс Каросса (Carossa, Hans; 1878-1956),
врач и писатель, бывший одно время самым любимым немецким
писателем, а теперь совершенно забытым. Отношение к Кароссе
двойственное. Одни, преимущественно консерваторы всех мастей,
превозносили его до небес, о чём свидетельствует сборник статей
о Кароссе, выпущенный к столетию со дня рождения писателя
в 1979 году, в котором собраны статьи, рецензии и высказывания
о его творчестве за период с 20-х до 70-х годов. Этот своеобразный
панегирик выразителю дум и чаяний консервативной Германии
выдаётся как свидетельство непреходящей значимости Кароссы
для немецкой литературы. Другие, как, например, известный
448
писатель времён Веймарской республики Герман Кестен (Keşten,
Hermann; 1900-1996), а с ним и литературная молодёжь,1 требу-
ют «убрать этого мерзавца из литературы», считая его «подлецом
от литературы», который «всю жизнь подделывался под Гёте, устро-
ился среди убийц и получал от них деньги».2 Одни восхищаются
его стилем, другие не могут простить ему его согласия — volens
nolens — представлять официальную литературу Третьего рейха.
Примечательны слова итальянской переводчицы произведений
Кароссы, который был для неё тем, кто «с полной убеждённо-
стью недвусмысленно и в течение многих лет предавал дело духа
и правды».3
История всё поставила на свои места. Как писатель Каросса
забыт, и все попытки издательства «Зуркамп» каким-то образом
напомнить читателям о его существовании оказываются безре-
зультатными. Как предмет литературного исследования творчество
Кароссы вызывает интерес исключительно в свете его вовлечённо-
сти в литературный процесс в годы нацизма. Не поэтологическая
составляющая прозы и стихов писателя, являющаяся откровенной
имитацией под Гёте, а именно позиция Кароссы как гражданина
и как художника в годы нацизма является основной причиной
не затихающего внимания учёных к этому писателю, а вместе
с ним и к другим авторам такого же толка, которые, оставаясь
в нацистской Германии, продолжали публиковать свои произве-
дения, пребывая в пределах избранного ими способа восприятия
действительности.
Каросса никогда не принадлежал к сторонникам национал-со-
циализма, хотя и был выразителем настроений фёлькиш-нацио-
нальной интеллигенции, готовой на союз с новыми властителями
ради осуществления своих чаяний о возрождении былой Германии.
Будучи олицетворением литературы «тихих» (»Stillen im Lande«) или
«таинственной Германии» (heimliche Deutschland), он пребывал
1 В этом смысле примечательна острая дискуссия, произошедшая в марте 1952 г.
и вызванная статьёй Ганса Георга Майера «Мягкий как картофельное пюре»
(MaierH.G. »Mild wie Kartoffelbrei« // Die Literatur. München, 1952. Nr. 1. S. 2),
в которой резкой критике подверглись циничные по своей наивности рассуждения
писателя о временах Третьего рейха.
2 Цит. по: Strothmann D. Schwärmer und Schlimmere. Eine Untersuchung der Literatur
unter Hitler // Die Zeit, 14.04.1967.
3 Ibid.
449
до середины 20-х годов на окраине не только литературной,
но и политической жизни Германии, не говоря уже о его полной
неизвестности за пределами страны.1 Многочисленные истории
литературы тех лет обходили молчанием существование Карос-
сы,2 хотя к этому времени он был уже автором сборника стихов,
изданного с благословения Гуго фон Гофмансталя в 1910 году,
и четырёх прозаических произведений: «Судьбы доктора Бюрге-
ра» (»Die Schicksale Doktor Bürgers«, 1913), «Детство» (»Eine Kind-
heit«, 1922), «Румынский дневник» (»Rumänisches Tagebuch«, 1924)
и «Преобразования юности» (»Verwandlungen einer Jugend«, 1928).
Знаменитый английский писатель Дэвид Герберт Лоуренс, позна-
комившийся с Кароссой в 1927 году, иронично заметил: «Милый
человек, мягкий как картофельное пюре».3 Однако к началу 30-х
годов, особенно после присуждения Кароссе в 1928 году поэтиче-
ской премии города Мюнхена, созданной по случаю пятидесятиле-
тия писателя, имя его, преимущественно в консервативных кругах,
приобрело большую известность.
Ранние и последующие прозаические произведения Кароссы
по своей сути трудно назвать художественными, ибо в основе своей
они являются слегка беллетризованной автобиографией писателя,
некоей беспомощной попыткой создать средствами тривиаль-
ной поэтики нечто подобное «Вильгельму Мейстеру», где наряду
с излишне медоточивым описанием всего, с чем сталкивался автор
этих книг, напоминающим по своей манере восторженный стиль
институтки, встречаются художественные портреты известных
писателей, поэтов конца 19 — начала 20 веков — Г. Лаутензака,
А. Кубина, К. Вольфскеля, Р. Демеля, Г. фон Гофмансталя, С. Георге,
Р. М. Рильке и многих других.
1 Как писал Стефан Цвейг, во Франции «даже в такой основательной, умной и напол-
ненной обилием информации книге как «История новой немецкой литературы»
Феликса Берто (Bertaux, Félix) это имя... как немецкого писателя не упоминает-
ся (Zweig St. Brief an einen Französischen Freund // Über Hans Carossa / Hrsg.
v. V. Michels. Frankfurt / Main, 1979. S. 36. В советском литературоведении имя
Г. Кароссы также не упоминается. Ср. Д. Ш. и К. M. Немецкая литература / / Лите-
ратурная энциклопедия. Т. 7. M., 1934; Шиллер Ф. История западно-европейской
литературы нового времени. Т. HI. M., 1937
2 Ср.: Meyer R.M. Die deutsche Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Berlin, 1923:
Stammler W. Deutsche Literatur vom Naturalismus bis zur Gegenwart. Breslau, 1927.
3 Цит. по: Maier H. G. Mild wie Kartoffelbrei. Schlußfuge zu einem Lobkonzert auf Hans
Carossa // Die Literatur. München, 1952. Nr. 1. S. 2.
450
Будучи одно время практикующим врачом, Каросса очень
внимательно прослеживает ход болезней некоторых персонажей
своих книг, так что порой сама болезнь как таковая становится
сюжетом, а не их жизненные перипетии, как это было, например,
в его романах «Врач Гион» (»Der Arzt Gion«, 1931), «Загадки зрелой
жизни» (»Geheimnisse des reifen Lebens«, 1936) и «Год прекрасных
иллюзий» (»Das Jahr der schönen Täuschungen«, 1941). Не случайно
его книги воспринимались в консервативных кругах Германии как
некий род терапии, как противоядие в борьбе с духовной патоло-
гией во всех формах её проявлений, каковой, по их мнению, была
отмечена общественная и культурная жизнь не только Веймарской
республики, но и всего XX века. Каросса был выразителем гума-
нистических принципов XIX века в духе И. В. Гёте, что в первой
половине XX века воспринималось как определённая оппозиция
времени, однако действенность её носила очень ограниченный
характер, а, учитывая усиленное использование нацистами Карос-
сы в качестве чуть ли не глашатая литературы новой Германии,
что, в общем-то, не соответствовало действительности, и поэтому
вызывала у ряда коллег по цеху порой недоумение.
Первоначальное отношение Кароссы к приходу к власти в Гер-
мании нацистов, как это видно из его писем тех лет, можно назвать
презрительно-холодным. В письме к австрийской писательнице
Эрике Миттерер (Mitterer, Erika; 1906-2001) от 28.04.1933 года
Каросса сообщает: «У нас в Германии сейчас происходит очень
много чего: нас очищают, облаивают, просеивают, дезинфицируют,
разделяют, оздоравливают, организовывают, чуть было не напи-
сал — отчуждают. Совсем плохие перспективы для писателей,
которые, уподобляясь природе, всё же выражают всё самое лучшее
там, где случается нечто, выходящее до некоторой степени за пре-
делы разумного. Иногда на меня находит тоска по Вене, желание
побродить по её прекрасным старым улицам, осмотреть её церкви,
пока нас не присоединят».1 Уже через месяц Каросса пишет в одном
из писем о желании «покинуть эту страну».2
Однако стремительно развивающиеся события, связанные
с установлением новой власти в стране, меняют его планы. В письме
от 09.05.1933 года к австрийскому писателю Стефану Цвейгу, другу
1 Carossa Я. Briefe II. 1919-1936. Frankfurt / Main, 1978. S. 281.
2 Ibid. S. 282.
451
и благодетелю,1 Каросса рассказывает о неожиданно случившейся
перемене в его жизни: «С большим удивлением (мягко говоря) вче-
ра я прочитал о моём избрании в академию, в академию поэтов,
из которой, кажется, настоящие поэты должны быть тщательно
исключены. До сих пор никто не спрашивал меня, хочу ли я туда
вообще вступить; просто «избрали». Мне всё ещё не совсем ясно,
как я должен вести себя в этом случае, потому что при царящем
сегодня духовном состоянии решительный отказ считался бы
саботажем. Самым важным и самым тяжёлым для каждого чело-
века является сохранение своего рабочего мужества. У меня всё
созревает медленно, но для каждого из нас приходит день, когда
придётся основательно высказать этому времени и его властителям
своё мнение».2
Каросса отказывается от членства в Прусской академии поэ-
тов, потому что, как он писал Катарине Киппенберг, своей будущей
жене, в письме от 17.05.1933 года, что «такой орган, находящийся
под строгим призрением государства, как эта преобразованная
академия, не обладает настоящей независимостью и настоящим
достоинством. Пусть новое государство делает всё, что оно хочет.
Я буду сохранять моё маленькое духовное царство свободным
и независимым, и твёрдо уверен в том, что тем самым я буду
лучше служить народу».3 И в то же время Каросса высказывает
30.06.1933 года в своём дневнике наивную надежду на то, что
«вслед за политическими преобразованиями должны последовать
великие произведения литературы».4 Вскоре, правда, он убедится
в ошибочности своих предположений.
Первое время Каросса ведёт себя, казалось бы, довольно смело,
принимает участие в специальном номере журнала «Нойе рунд-
шау» (»Neue Rundschau«), посвященном памяти умершего главы
крупнейшего и самого представительного издательства Германии
1 Стефан Цвейг совместно с издательством «Инзель» (»Insel-Verlag«) способствовал
установлению для Кароссы постоянного жалованья с тем, чтобы он отказался
от врачебной практики и полностью посвятил себя творчеству (Ehrke-Rotermund H.,
Rotermund E. Zwischenreiche und Gegenwelten. Texte und Vorstudien zur »Verdeckten
Schreibweise« im »Dritten Reich«. München, 1999. S. 227.)
2 Carossa H. Op. cit. S. 283.
3 Ibid. S. 284.
4 Carossa H. Tagebücher 1925-1935. Frankfurt / Main, Leipzig, 1993. S. 252.
452
«С. Фишер» (»S. Fischer«) Самуэля Фишера, посылает вдове издателя
письмо с выражением соболезнования. По тем временам подобный
шаг да ещё для такого осторожного человека как Каросса говорит
о многом, если учесть, что речь шла о еврейском издателе.
Но уже в книге «Провидение и напутствия» (»Führung und
Geleit«), вышедшей в конце 1933 года, и встреченной как в Гер-
мании, так и за рубежом восторженными возгласами, проявилась
основная черта характера Кароссы, как человека и писателя, подме-
ченная ещё Г. фон Гофмансталем — «проходить между различными
видами бытия, сохраняя при этом прекрасный порядок и покой
в самом себе».1 Книга эта, как практически и все прозаические про-
изведения Кароссы, носит чётко выраженный автобиографический
характер, однако здесь Каросса, как бы забегая вперёд, подводит
своеобразный жизненный итог его становления как человека и как
писателя, нарушая последовательность изложения своего жизнен-
ного пути, ибо позднее в своих книгах «Загадки зрелой юности»
(1936) и «Год прекрасных иллюзий» (1941) он вернётся к годам юно-
сти. В данном случае основной акцент сделан на описании встреч
Кароссы с авторами времён последнего кайзера, среди которых
особое место занимают Г. фон Гофмансталь, Р. Демель, А. Момберт,
С. Георге, К. Вольфскель, P.M. Рильке, Э. Глёкнер, М. Мелль, а также
люди искусства А. Кубин, Г. Лаутензак, Э. Бертрам, О. Дизель, т.е.
имена всех тех, кто каким-либо образом мог оказывать воздействие
на формирование художественного вкуса писателя. Примечатель-
но, что среди них присутствуют имена и таких далёких от эстети-
ческих предпочтений Кароссы авторов как Т. Манн и Э. Барлах.
Хотя лично с ними он не был знаком, но их творчество вызывало
у него нечто, сравнимое с выражением священного ужаса. Однако,
как бы ни было велико осознание Кароссой значимости творчества
своих современников, он «избирал в качестве друга и наставника
то молодого, то старого Гёте»,2 ибо «мудрые и ясные слова Гёте
вскормили мою юность».3
Предполагалось, что в этой книге Каросса, несмотря на его
принципиальное неприятие проблем современности и нацистского
движения в частности, всё же каким-то образом определит своё
1 Buch des Dankes. S. 109.
2 CarossaH. Führung und Geleit. Leipzig, 1933. S. 87.
3 Ibid. S. 92.
453
отношение к политическим переменам в Германии. В известном
смысле перечень этих имён можно истолковать как определён-
ное стремлении Кароссы именно сейчас, после прихода к власти
нацистов, противопоставить новым веяниям ценности немецкой
культуры довоенного времени. Однако от Кароссы ожидали боль-
шего, и в этом он убедился сам, когда получил через издательство
«Инзель» анонимное письмо, к которому, как сообщает Каросса
в одном из писем, прилагалась «вырезка из... швейцарской газеты
с невероятно гнусными выпадами против «Провидения и напут-
ствий»... Главный упрёк собственно заключался в том, что у меня
не хватило мужества выступить против правительства Третьего
рейха».1 Возмущение Кароссы понятно, ибо в Швейцарии, судя
по всему, плохо представляли себе порядки, царившие в Германии
после 1933 года, чтобы писатель мог открыто высказать своё мнение
о них, как не имели представления и о самом характере творчества
писателя, далёкого от подобного рода действий. «Но самое страш-
ное в подобных вещах,— продолжает Каросса,— состоит в том, что
каждый раз в них заключено зёрнышко истины. Я чувствую это,
вероятно, глубже, чем кто-либо другой, что сегодня все духовно
мыслящие немцы находятся в таком же положении, и что самым
решительным было бы замолчать вместо того, чтобы продолжать
халтурить; но есть ещё и другая точка зрения, есть и «железная
необходимость».2 Под этими словами Каросса понимал творчество,
и в этом состояла двойственность его позиции — лавировать между
опасностями, что, к сожалению, не всегда удавалось и что не могли
ему простить ни эмигранты, ни представители новой литературы
после 1945 года.
Именно поэтому тонкие намёки Кароссы по поводу забвения
новыми властителями гуманистической сущности предшествующей
литературы официальная критика восприняла как описание неко-
его процесса борения писателя за сохранение его творческой само-
сти. Антисемитская газета «Ангриф» (»Der Angriff«), выражавшая
личное мнение Геббельса по многим вопросам времени, с особым
1 Carossa H. Briefe. S. 88. Составители сборника писем Кароссы утверждают, что им
не удалось обнаружить источник этой публикации, что как-то странно, учитывая
тот факт, что Швейцария тех лет, как, впрочем, и сейчас, не отличалась обилием
средств массовой информации. Ibid. S. 569.
2 Carossa H. Briefe. S. 88.
454
удовлетворением отмечала, что Каросса «благодаря войне... избежал
опасности потеряться в мире только эстетической литературы. Он
решил, исходя из собственных убеждений и раньше, чем предста-
вители его поколения, отправится на фронт в качестве врача. Он
почувствовал, что не имеет права раствориться в литературно-
эстетическом мире. И теперь приятно осознавать, как батальонный
врач Каросса обрёл самого себя благодаря исконно человеческому
бытию, которое пробуждается у каждого... на фронте».1
Не только «Ангриф», но и официальный журнал «Бюхеркунде»
в своей пространной восторженной рецензии на последнюю книгу
Кароссы особое внимание уделил главам, посвященным годам служ-
бы писателя в армии во время Первой мировой войны и, соответ-
ственно, его фронтовым записям, «Румынский дневник». На первое
место выдвигались не перипетии войны как таковой, и уж тем
более не литературные контакты писателя, а его попытки «обри-
совать с редкой чёткостью и ясностью черты великого, светлого,
целеустремлённого и победоносного немецкого человека».2 Именно
поэтому «Бюхеркунде» с пафосом заявляет, что «Каросса обладает
неприкосновенной ценностью, его значение для нас остаётся без-
раздельным. Каждый, кто непредосудительно и с восприимчивым
пониманием обращается к его поэзии, может с радостью убедиться
в глубокой связи Кароссы со временем и с нашим духом».3
Последние слова особенно примечательны, ибо власть называет
Кароссу уже своим автором, приводя в статье цитаты из его произ-
ведений, которые якобы близки по своему смыслу высказываниям
Гитлера. В «Румынском дневнике» убитая горем бабушка (её внуки
подорвались на гранате) призывает «сообщить об этом случае всем
императорам и королям с тем, чтобы они опечалились и отказались
от безбожного ведения войны». И тут же её слова интерпретиру-
ются рецензентом как созвучные мыслям «нашего фюрера, чья
любовь к миролюбивому народу и особенно к немецким детям
известны, служат выражением любви к миру».4 Эта же якобы
духовная близость Кароссы к идеологии национал-социализма,
1 Н.М.Е. Hans Carossas Lebensgedenkbuch // Der Angriff, Berlin. 26.10.1933. Кур-
сивом выделенные строки наличествуют в оригинале.
2 Anonym. Hans Carossa, Arzt und Dichter // Bücherkunde, 1935. 8. Folge. S. 274.
3 Ibid.
4 Ibid. S. 275.
455
по мнению рецензента, проявляется и в других книгах писателя:
«Никто, подчёркивает он в «Провидении и напутствии», «в эпоху
танков и самолётов, газовых бомб и смертоносных лучей» не хочет,
чтобы на его долю выпало пережить мировой пожар. Подобное
предостережение, с которым фюрер протянул руку прежним
противникам войны, вновь звучит и у Кароссы, ибо каждая
нация, которая преднамеренно возьмётся за оружие, учитывая
сегодняшнее и будущее состояние вооружения, уничтожит сама
себя. Стеснённая и свободолюбивая нация вынуждена будет тогда
отстоять прогресс и свободу с помощью меча». И далее следуют
рассуждения Кароссы о войне как неотъемлемом свойстве челове-
ческой натуры: «Но что стало бы со всем человечеством, не обладай
оно воинственным духом? Как часто война прогоняет тягостные,
разлагающе-сладостные настроения, которые благоприятствуют
существованию длительного, тянущегося почти годами мира!»1
Есть смысл продолжить цитату из Кароссы, чтобы понять логи-
ку его мышления: «Каким спасением война была для некоторых
людей, стремящихся вырваться из отупляющей атмосферы домаш-
него быта в целительную близость смерти, как много страстно
бесплодных конфликтов разрешалось одним ударом! Не многим
требовалось исключительное состояние души для того, чтобы обна-
ружить в себе лучшие качества, и бесчисленное количество из них
стало, благодаря службе в армии, спокойными, приверженными
доброте людьми. Молодых работников, которые никогда дальше
своей деревни и не выехали бы, война привела в чужие страны
и тем самым дала им возможность по-новому посмотреть на мир
и на родину. Но война всегда подтверждает значимость мира
так же, как жизнь, час за часом, обретает от горьких пряностей
смерти свой вкус».2
Хотя Кароссу трудно причислить к певцам милитаризма, а уж
к выразителям фашистской идеологии и подавно, но некоторые его
восторженные высказывания в книге «Провидение и напутствия»
позволяют нацистам с помощью словесной эквилибристики обра-
тить национальную патетику в национал-социалистскую, а тут
уж недалеко и до того, чтобы представить писателя как предтечу
этого политического движения. Врач Гион из одноимённого романа
1 Anonym. Hans Carossa, Arzt und Dichter // Bücherkunde, 1935. 8. Folge. S. 275.
2 Carossa H. Führung und Geleit. S. 79.
456
Кароссы, стоя перед памятником павших в Первой мировой войне,
размышляет: «Это было место сплочения и воодушевления для него,
и в самые сложные дни он уносил отсюда чудесную веру в будущее».
Такими словами завершает Каросса своё произведение, в котором
представлена и разъяснена серьёзная и тяжёлая действительность
народной жизни и тем самым одновременно приуготовлен путь
национал-социалистической Германии».1
Обрушившийся на Кароссу поток славословий «народного»
(volkhaften) автора на страницах официальной нацистской прессы
«Бюхеркунде», «Нойе литератур» и «Национал-социалистише монат-
схефте»,2 не говоря уже о многочисленных рецензиях в либеральной
прессе (пускай и иного толка), сопровождался постепенным вов-
лечением писателя (не без активной помощи его издателя Антона
Киппенберга) в пропагандистскую деятельность нацистов, которые
прекрасно понимали, что, как отмечал геббельсовский «Ангриф»,
«воздействие Кароссы на читателя полно проповедческой целебной
силы»,3 т.е. в политическом отношении совершенно безопасно. Как
справедливо позднее заметит известный немецкий германист Тео-
дор Адорно (Adorno, Theodor; 1903-1969), подобного рода авторы
«служили по-своему пропаганде: их осторожно-рассудительная
умеренность опровергала безграничный ужас» нацистского режи-
ма.4 Тем не менее, несмотря на отдельные националистические
высказывания в духе фёлькиш-националов, Каросса всё же был
склонен оставаться в пределах отвечающей его настрою внутренней
обособленности (Innerlichkeit).
1 Anonym. Hans Carossa, Arzt und Dichter. S. 276.— Цитата из романа: Carossa H.
Der Arzt Gion. Leipzig, 1936. S. 40. Надо заметить, что этой цитатой Каросса
не «завершает своё произведение», как пишет рецензент журнала «Бюхеркунде»,
а она находится в самом его начале.
2 Немецкие исследователи Хайдрун Эрке-Ротермунд и Эрвин Ротермунд приводят
огромный список статей о творчестве Г. Кароссы времён нацизма, занимающий
две страницы их монументального труда «Междуцарствие и противоположные
миры. Тексты и предварительные наброски к «скрытой манере письма в Третьем
рейхе» (Zwischenreiche und Gegenwelten. Texte und Vorstudien zur »Verdeckten
Schreibweise im >Dritten Reich<«— München, 1999. S. 230-231). Если добавить сюда
статьи, публиковавшиеся в либеральной прессе и в некоторых пропагандистских
изданиях типа «Рейх» или «Цванцигсте ярхундерт», то создаётся впечатление, что
Каросса был чуть ли не самым почитаемым писателем Третьего рейха.
3 Anonym. Gestalter ihrer Landschft: Hans Friedrich Blunk und Hans Carossa //
Der Angriff. Berlin, 16.10.1934.
4 Adorno Th. Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft. München, 1963. S. 200.
457
Сам того не желая, Каросса очень хорошо вписался в куль-
турно-представительский пейзаж нацистской Германии, ибо, как
отмечал один из критиков того времени, писатель, вслед за С. Геор-
ге и П. Эрнстом, «основателями новой немецкой литературы», т.е.
литературы Третьего рейха, посвятил своё творчество «семье, роду,
ландшафту, народу, божественному бытию»,1 что, собственно,
и отвечало основным постулатам идеологии национал-социали-
стов. Начав с чтения стихов в берлинском отделении гитлерю-
генд в апреле 1934 года, Каросса становится постепенно чуть ли
не штатным оратором новой власти, выступая порой в роли сва-
дебного генерала. Нельзя сказать, что это доставляло ему большое
удовольствие, но статус едва ли не классика литературы нацистской
Германии не позволял ему отказываться от приглашений высту-
пить перед публикой тем более, что именно этот статус позволял
Кароссе надолго и часто выезжать за рубеж, что по тем временам
было сопряжено с большими трудностями как финансового, так
и политического свойства. В одном из писем из Италии Каросса
признаётся: «Приглашений для участия в чтениях поступает сейчас
опять много, и большинство из них такого рода, что отказ от них
затруднителен ».2
Официальные издания «Нойе литератур» (»Die Neue Literatur«)
и «Националсоциалистише монатсхефте» (»Nationalsozialistische
Monatshefte«) регулярно сообщали обо всех проявлениях Кароссы
в культурной жизни Третьего рейха. Кроме многочисленных поездок
по стране с чтением стихов и прозы, проходивших по разнарядке
«Имперской палаты письменности» и министерства пропаганды,
а также выступлений на радио, Каросса был задействован в ряде
официальных мероприятий общегерманской значимости, участие
в которых происходило порой чуть ли не в приказном порядке. Так,
например, в 1936 году Каросса постфактум узнаёт, что по настоя-
нию берлинской национал-социалистской культурной общины он
включён в число участников VI-ой «Берлинской недели поэзии».
Правда, сам писатель не очень огорчался таким отношением к себе,
потому что, как следует из его письма из Италии, «я обязан им
этой поездкой. Мне и в голову не пришла бы мысль оправдываться
1 Цит. по: Machate M. Hans Carossa. Düsseldorf, 1934. S. 6.
2 Carossa H. Briefe III. 1937 bis 1956 / Hrsg. v. Eva Kampmann-Carossa. Frankfurt /
Main, 1981. S. 21
458
по поводу моих отношений с н.с. культурной общиной, если бы она
тянула с выдачей валюты».1
В 1937 году Каросса выступает в Веймаре в широко разрекла-
мированной «Неделе немецкой книги».2 В этом же году он принимает
участие в «Липпольдсбергских встречах поэтов», проводимых одним
из известных писателей Третьего рейха опальным Гансом Грим-
мом в своём поместье. Здесь собиралась фёлькиш-национальная
фронда, претендовавшая в своё время на духовное руководство
национал-социалистским движением, а теперь злобствовавшая,
оттеснённая за ненадобностью на задний план. Каросса был далёк
от политических притязаний фёлькиш-националов, но, не желая
«смертельно обидеть» Гримма в случае, если бы он свой отказ
мотивировал «действительными причинами», всё же согласился
с неохотой участвовать в этом мероприятии.3 В ноябре 1937 года,
после выступления в Париже, Каросса прочитал в венском обществе
«Культурбунд» (»Kulturbund«) первую версию своего знаменитого
доклада «Воздействие Гёте в современности» (»Wirkungen Goethes in
der Gegenwart«), с которым он выступил 08.06.1938 года в Веймаре
на заседании общества имени Гёте.
Доклад был воспринят оппозиционно настроенной интелли-
генцией как некий призыв к сохранению принципов гуманизма
в повседневной жизни, но ещё в большей степени он был воспринят
как протест против милитаризации классики, использования твор-
ческого наследия Гёте в нацистских надобностях: «Давайте предста-
вим на мгновенье, что всё созданное Гёте, всё его воздействие, все
понятия, все его воодушевляющие мысли... исчезнут. Будет ли это
событие значимыми в действительности только его читателям и его
исследователям? Конечно, самолёты и экспрессы будут с прежней
точностью отправляться и прибывать, но духовная температура
земли будет намного ниже, атмосфера намного тяжкой, мышление
людей, кого это касается, станет намного тусклым, не будет самого
человечества.. .»4 Особое впечатление на публику произвели заключи-
тельные слова доклада Кароссы: «Давайте признаем мы все, идущие
1 CarossaH. Briefe. S. 17.
2 Carossa H. An das Angeborene / / Weimarer Blätter. Festschrift zur Woche des Deut-
schen Buches 1937. Berlin, 1937. S. 47-51.
3 Carossa H. Briefe. S. 21.
4 Цит. по: Frühwald W. Hans Carossa (1878 bis 1956) — erzähltes Leben // www.
staatliche-bibliothek-passau. de.
459
и пришедшие, принадлежащие к ордену тех, кому страны и моря
мира будут недостаточны, если империя духа и сердца останется
незавоёванной ! »1
Официальные власти отнеслись к докладу Кароссы несколько
сдержанно, хотя пресса сообщала о нём как о значительном собы-
тии в культурной жизни страны. Правда, поначалу Имперская
палата письменности препятствовала публикации текста доклада,
потому что, по её мнению, «он слишком индивидуалистичен»,2 тем
не менее, доклад был напечатан и до 1942 года неоднократно пере-
издавался. Единственным открытым проявлением недовольства
этим докладом можно назвать спонтанную дискуссию, возник-
шую с членами отряда гитлерюгенда, расположившимися перед
домом Гёте на постой, и двумя националистически настроенными
молодыми австрийскими авторами — Францем Тумлером (Tümler,
Franz; 1912-1998), внесённым позднее в список Гитлера «боговдох-
новенных авторов», представлявших особую ценность для культу-
ры Третьего рейха и Зеппа Келлера (Keller, Sepp). Они, как писал
Каросса в своём письме знаменитому художнику Альфреду Кубину,
«чувствовали себя подавленными моим докладом; они, вероятно,
ожидали от меня некоего признания (к национал-социализму.—
Е.З.), но не признания именно к Гёте».3
Собственно, в этом и заключалась протестная функция дея-
тельности Кароссы как писателя, о чём он и сообщал в своём письме
от 09.03.1953 года известному историку искусства Вильгельму Хау-
зенштайну: «Тот, кто это выступление, о котором меня попросило
общество имени Гёте (не партия), читает с пониманием, удивляется
сегодня тому, что подобные предложения во времена диктатуры
Гитлера вообще могли быть произнесены... я ни на секунду не видел
в режиме Гитлера что-то другое, кроме как безграничное несчас-
тье... следует понимать, что было бы безумием говорить это в лицо
человеку министерства пропаганды...»4
1 Carossa H. Wirkungen Goethes in der Gegenwart.
2 Carossa H. Briefe. S. 550.
3 Carossa H. Briefe. S. 545.— После 1945 г. Каросса в письме к Вильгельму Гаузен-
штейну более подробно описывает этот эпизод: «Эти господа утверждали, что
доклад явно направлен был против них, они очень подавлены этим, а демонстра-
тивные аплодисменты слушателей их возмутили. Я сказал, что они могли бы всё же
признать, что я, будучи шестидесятилетним человеком, могу смотреть на Гёте по-
иному, чем они в свои 25 лет, что, кажется, их несколько успокоило» (Ibid. S. 463).
4 Ibid. S. 462.
460
При всём понимании позиции Кароссы, его бытование в куль-
турном ареале тех лет, восприятие многих событий повседневной
и политической действительности вызывает много вопросов. Нужно
быть предельно наивным человеком, чтобы утверждать, что орга-
низация торжеств в Веймаре, как и приглашение его в качестве
докладчика на эти торжества, дело рук членов общества имени Гёте,
а «не партии», присутствие которой во всех проявления культурной
жизни тех лет было секретом Полишинеля. Последовавшее после
Веймара избрание Кароссы 25 июня 1938 года почётным доктором
Кёльнского университета просто по определению не могло произой-
ти по воле руководства этого учебного заведения и об этом свиде-
тельствует тот факт, что премию вручал не ректор университета,
а имперский министр Бернхард Руст, прославившийся разгоном
Академии поэзии в 1933 году, который не нашёл ничего лучшего,
как заявить в своей приветственной речи, что он любит Кароссу,
а тот его не любит.1 По этой же причине не могло произойти и при-
суждение Кароссе 28 августа 1938 года премии имени Гёте только
с благословения городского совета Франкфурта, ибо премия эта
была учреждена по указанию Гитлера.
В этом же ряду официальных почестей, обрушившихся
на Кароссу, находится и совершенно необычное даже по тем
временам событие — приглашение по личному указанию Гитлера
писателя в качестве почётного гостя в Нюрнберг на имперский пар-
тийный «Съезд великой Германии». По крайней мере, так утверждал
Эрнст Бойтлер (Beutler, Ernst), директор Freies Deutsches Hochstifts
во Франкфурте-на-Майне — института, занимавшегося изучением
немецкой литературы 18 и 19 веков, хранившего собрание руко-
писей Новалиса, Клеменса Брентано и курировавшего дом и музей
Гёте. Именно Бойтлер уговорил Кароссу принять это приглашение,
говоря, что «это есть непосредственный зов Гитлера, и если я ему
не последую, то это будет воспринято, как враждебный жест; короче
говоря, я должен принести в жертву не только меня и мой труд,
но и подвергающееся нападкам общество имени Гёте».2
Судя по всему, театральная пышность партийного съезда, тор-
жественное прохождение войск, приветствия, речи, приём у Гит-
лера, посещение оперного театра произвели на Кароссу большое
1 Carossa H. Briefe. S. 548.
2 Ibid. S. 54.
461
впечатление, заметившего, что на эти мероприятия были «допущены
только немногие почётные гости и почти только высшие партий-
ные личности». Не без удовлетворения он также замечает, что «все
относились к нему невероятно любезно. Я мог бы совершенно легко
поговорить с Рустом и Геббельсом, но какие последствия могло бы
это вызвать!»1
Хотя разговор Кароссы с названными лицами не состоялся,
но последствия его участия даже в качестве гостя партийного съезда
не замедлили сказаться — рейхсляйтер предложил ему настоятель-
но, «в форме, которая не допускала отказа»,2 выступить 20 ноября
1938 года с докладом «Одиночество и общность» (»Einsamkeit und
Gemeinschaft«) в Берлине в здании Немецкой оперы на торжествен-
ном заключительном заседании пятого Имперского дня труда, про-
водимого под патронатом «Ведомства поощрения письменности»
А. Розенберга. Доклад этот, исполненный многократными отсылками
к прошлому с тем, чтобы более ясно определить контуры настояще-
го и будущего, завершался верноподданническими славословиями
в адрес фюрера, который «расширил жизненное пространство
немецкого народного сообщества»,3 т.е. насильственно присоединил
к Германии Австрию.
Заметив меланхолично в одном из писем, что «премия имени
Гёте, как и все земные счастливые случаи, суть подарок демонов»,4
Каросса уехал в Италию, где его настигла 15 декабря 1938 года
поздравительная телеграмма в связи с его шестидесятилетием,
посланная Рудольфом Гессом, заместителем фюрера по партии
и одно время курировавшего вопросы культуры.5 Вероятно, не без
его участия в нацистском официозе «Фёлькишер беобахтер» в этот же
день появилась большая статья Ганса Гштеттнера (Gstettner, Hans)
«Немецкое послание Ганса Кароссы» (»Hans Carossas deutsche Sen-
dung«), в котором писатель объявляется «одним из самых великих
мечтателей нашего народа», который «в своей приверженности
предкам осуществляет политическое послание настоящего поэта,
1 Carossa H. Briefe. S. 54-55.
2 Ibid. S. 551.
3 Carossa H. Einsamkeit und Gemeinschaft // Bücherkunde. Dezember 1938. H. 12.
S. 621.
4 Carossa H. Briefe. S. 551.
5 Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 230.
462
сохраняя непосредственно мечты немецкого народа».1 Примеча-
тельно, что эту хвалебную статью написал тот самый Г. Гштеттнер,
руководитель культурного отдела мюнхенского издания этой газеты,
который прославился тем, что именно его гневные статьи по поводу
открытого выступления писателя Эрнста Вихерта (Wiechert, Ernst;
1887-1950) против нацистов привели к тому, что последний вскоре
оказался по приказанию Геббельса узником концентрационного
лагеря Бухенвальд.
При всём том, что столь активное вовлечение Кароссы в меро-
приятия официального толка в какой-то мере льстило ему, он пре-
красно понимал опасность такого сближения с властью, и 1939 год
отмечен заметным стремлением писателя «распрощаться с этим
миром теней»,2 хотя прощание это даётся ему с большим трудом,
ибо, став великолепной вывеской нацистской Германии, он уже
не мог свободно распоряжаться собой, что вскоре и подтвердилось.
В конце 1938 года заметно усилилось политическое сближе-
ние Италии с нацистской Германией и это нашло своё отражение
в культурных взаимоотношениях между обеими странами.3 В пись-
ме к Хедвиг Кербер от 30 ноября 1938 года Каросса сообщает, что
получил сообщение от итальянского германиста Артура Фаринелли,
из которого следует, что «меня очень высоко ценят в Италии; ясно,
что речь идёт о большой встрече в июне, посвященной празднова-
нию германо-итальянского соглашения о культурном сотрудниче-
стве; но я к этому мероприятию не имею никакого отношения, хотя
как немецкий писатель с итальянским именем был бы находкой
для Фаринелли».4
Предчувствие не обмануло Кароссу. В преддверии намеченной
на июнь 1939 года германо-итальянской встречи в январе этого же
года Каросса становится лауреатом итальянской «антикоммунисти-
ческой» фашистской премии Сан-Ремо «за лучшее произведение
иностранного писателя». Нужно было очень постараться, чтобы
1 Gstettner Н. Hans Carossas deutsche Sendung. Zu des Dichters 60. Geburtstag am
15. Dezember // Völkische Beobachter, 15.12.1938. S. 5.
2 Carossa H. Briefe. S. 555.
3 Sciacca M. T. Die Rezeption deutscher Literatur im faschistischen Italien / / Spielräume
des eizelnen. Deutsche Literatur in der Weimarer Republik und im Dritten Reich /
Hrsg. v. Delabar W., Denkler H., Schütz E. Berlin, 1999. S. 267.
4 Carossa H. Briefe. S. 62.
463
обнаружить в книгах Кароссы какие-либо антикоммунистические
тенденции, но выбор на его кандидатуре был предрешён уже
в министерстве пропаганды, исходя из значимости его творчества
в глазах официальных властей Третьего рейха, подтверждением
чему и послужила поздравительная телеграмма Геббельса Кароссе.]
Вероятно, почувствовав собственную значимость в глазах офи-
циальных властей, Каросса решительно отказывается от участия
во «Встрече поэтов» в Веймаре и удивляется тому, что «отсутствие
на подобного рода съездах может рассматриваться как антигосудар-
ственный акт».2 Удивляться, пожалуй, можно только политической
наивности писателя, не заметившего изменения взаимоотношений
духа и власти. В письме к Гансу Гримму Каросса чуть ли не с пафо-
сом заявляет: «Мы, в конечном итоге, являемся всё же свободными,
независимыми выразителями духа... и поэтому, ради воздействия
наших произведений, должны... сохранять выдержку».3 Слова эти
в устах человека, которого сплошь и рядом принуждают участвовать
во всевозможных правительственных мероприятиях в качестве
представителя якобы свободной литературы, звучат, по крайней
мере, странно. Если учесть, что слова эти обращены к Г. Гримму,
чьи пронацистские взгляды Кароссе были хорошо известны (именно
поэтому он так неохотно и посещал его Липпольдсбергские встре-
чи), то прокламируемое им стремление «сохранять выдержку ради
воздействия наших произведений» в компании с таким челове-
ком, пусть и находящимся в опале, обретает некий фарисейский
характер.
Обретение Кароссой формального статуса государственнозна-
чимого писателя да ещё и мирового уровня, хотя он уже принадле-
жал к одним из немногих немецких авторов, чьи книги переводились
в годы нацизма на иностранные языки, обернулось для него новой
напастью — всесильный шеф «Имперской палаты письменности»
Ганс Иост «довольно категорически предложил» Кароссе написать
стихи по случаю 50-летия Гитлера.4 Понятно, что Каросса не питал
1 Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 230. Каросса знал о готовящемся
присуждении ему премии Сан-Ремо и неоднократно предлагал вместо себя кан-
дидатуру Г. Гримма, Э. Г. Кольбенхайера и P.A. Шредера (Carossa H. Briefe. S. 94).
2 Carossa H. Briefe. S. 80.
3 Ibid.
4 Ibid. S. 78.
464
каких-то чувств к фюреру, но вот примечательные слова из его
письма к Г. Гримму, соратнику по несчастью, которые говорят о той
степени пиетета, который испытывали фёлькиш-националы перед
государственностью как таковой, в какой бы форме oria не прояв-
лялась: «Угодничество не свойственно ни одному из нас; но некое
доброе пожелание действиям фюрера в настоящем и будущем,
несомненно, согласуется со свободным образом мыслей (наподобие
того, как я его выразил в моей небольшой... франкфуртской речи);
он всё же в любом случае является человеком немецкой судьбы для
последующих лет».1
В этом весь Каросса — в любой ситуации он будет искать
возможность приспособиться к ней, принять её как данность
и высказывать осторожные предположения о возможности каких-
то изменений, не больше. Вот и вся протестная составляющая
позиции писателя. Эта мысль пронизывает и его стихи, вернее,
ритмизированная проза, написанные к 50-летию Гитлера. Судя
по отдельным высказываниям Кароссы в его письмах, он скомпо-
новал из различных заготовок к своим книгам прежних лет, как он
выразился, «некое попурри», которое, в свою очередь, подверглось
редакторской правке,2 и в таком виде этот текст был опубликован
в различных сборниках.
Ни один художник, ни один поэт наших дней
не должен сожалеть о том,
что он врос в суровый, с могучей силой движущийся,
быстро преобразующийся мир;
от каждого из них зависит, сможет или нет этот мир
неизменное в них усилить...
Да, чем глубже укореняется человеческая природа
в основах мира,
тем меньше она будет бояться
переворотов своего времени, напротив!
Она будет проверять самоё себя, пытаться дорасти
до них...
Художник, который борется с демонами собственной
души с тем,
чтобы, наконец, если на него низойдёт милость,
похитить свет из пасти змеи,
1 Carossa H. Briefe. . S. 79-80.
2 Ibid. S. 564.
465
он борется ведь не для себя одного,
и если ему действительно удастся создать своё
произведение,
то удалось ему добиться этого для всех.
В союзе он с каждым настоящим основателем
и подвижником,
и если он теперь глядит из своего маленького мира
с удивлением как снаружи на огромном,
освещенным солнцем поле поступков
некий человек высочайшего мужества и высочайшей
силы решений
борется за создание новой формы своего народа,
то он должен наполниться чувством долга,
потому что он по-своему имеет право служить
своему народу.
Вдохновлённый, он возвращается к своим задачам,
и желает тому смелому,
всеобщую судьбу несущему борцу и фюреру
здоровья и счастья.1
Откликов на это произведение не последовало, хотя оно заняло
прочное место в многочисленных сборниках стихов, посвященных
признанию в любви Гитлеру.2
Как следствие вовлечённости Кароссы в пропагандистскую
машину нацистов в 1940 году последовали его поездки в Словакию,
Прагу, Будапешт и Бухарест, в ходе которых он, как следует из его
дневника, «должен (по желанию руководства «Палаты письменности»)
выразить открыто признание по поводу нашей победы».3 Последняя
поездка особенно примечательна тем, что именно во время пребы-
вания Кароссы в Бухаресте, куда он прибыл по случаю проведения
«Выставки немецкой книги», румынские власти проводили массовые
аресты евреев. Понятно, что Каросса не был информирован о подоб-
ных акциях, но на фоне этих событий высказывания писателя
Carossa H. Kein Künstler, kein Dichter unserer Zeit soll es bedauern // Dem Führer.
Worte deutscher Dichter. O. O., 1941. S. 14 (Tornisterschrift des Oberkommandos
der Wehrmacht. Heft 37).— Цит. по: Loewy E. Literatur unterm Hakenkreuz. Das Dritte
Reich und seine Dichtung. Eine Dokumentation. Köln, Frankfurt / Main, 1977. S. 282.
В карманном издании для солдат верховного командования вермахта «Фюреру.
Слова немецких поэтов» (»Dem Führer. Worte deutsche Dichter«, 1941) и в других
изданиях такого же толка это стихотворение Кароссы всегда присутствовало
(Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 230.)
Ibid. S. 108.
466
о днях, проведённых в Бухаресте, как полных «захватывающих
встреч», а своё выступление на радио с чтением глав из «Румынско-
го дневника» трактовать как событие, «могущее оказывать особым
образом воздействие в эти тяжелые судьбоносные дни для страны»,1
звучат, по меньшей мере, странно. Донкихотство Кароссы, воспри-
нимавшего внешние знаки внимания к своей персоне — как же,
сам министр культуры Румынии встречал его в аэропорту, румын-
ские официальные лица попросили его выступить на радио!2 — как
выражение добросердечия и любви к литературе, определяло в зна-
чительной мере его гражданскую позицию в Третьем рейхе, хотя
он постоянно сталкивался с проявлениями совсем иного свойства,
и здесь трудно определить, чего больше в его позиции — наивности
или нежелания глядеть правде в глаза. Как тут не вспомнить гнев-
ные слова Томаса Манна о деятелях культуры, сказанные им в его
известном письме к писателю Вальтеру фон Моло, мнившего себя
истинным борцом против нацизма: «Непозволительно, невозможно
было заниматься «культурой» в Германии, покуда кругом твори-
лось то, о чём мы знаем. Это означало прикрашивать деградацию,
украшать преступление. Одной из мук, которые мы терпели, было
видеть, как немецкий духу немецкое искусство, неизменно покрыва-
ли самое настоящее изуверство и помогали ему... Ездить по путёвке
Геббельса в Венгрию или какую-нибудь другую европейскую страну
и, выступая с умными докладами, вести культурную пропаганду
в пользу Третьей империи — не скажу, что это было гнусно, а ска-
жу только, что я этого не понимаю и что со многими мне страшно
увидеться вновь».3
Каросса, вероятно, действительно жил в каком-то выдуманном
им мире, если о некоторых проявлениях нацистской действитель-
ности мог рассуждать так, как будто он находится, по крайней
мере, ещё во временах Веймарской республики или последнего
кайзера. Его, например, очень удивило, когда в ноябре 1938 года,
вскоре после печально знаменитого еврейского погрома, находясь
в поезде в одном купе с писателем Эрнстом Гвидо Кольбенхайе-
ром, Каросса наивно выразил своё возмущение этим событием,
то натолкнулся на совершенно противоположное мнение, ибо его
1 CarossaH. Briefe. S. 130.
2 Ibid. S. 589, 130.
3 Манн Т. Письма / Под ред. CK. Апта, М., 1973. С. 186.
467
собеседник заявил, что «это ничто по сравнению с тем, что евреи
сделали немецкому народу».1 Вести разговор о гонениях на евреев
с человеком (а Каросса это великолепно знал), который был ярым
сторонником идей национал-социализма, было более чем бесполез-
но, не говоря уже о том, что и опасно.
Вероятно, беспредельная политическая наивность, как, впро-
чем, и представления Кароссы о собственной значимости в культур-
ной жизни Третьего рейха, подвигли его в этой связи предпринять
невероятные шаги по спасению очень ценимого им еврейского
писателя Альфреда Момберта (Mombert, Alfred; 1872-1942), аресто-
ванного в Гейдельберге в феврале 1941 года и депортированного
вместе с его престарелой сестрой в лагерь в Пиренеях для интер-
нированных во Франции немцев. Каросса обратился с письмом
к своему давнему знакомому, постоянному представителю Гитлера
в мюнхенской штаб-квартире национал-социалистской партии
«Коричневый дом» (»Braunes Haus«) Эрнсту Шульте-Штратхаусу
(Schulte-Strathaus, Ernst), другу рейхминистра Рудольфа Гесса
(памятуя, вероятно, о недавней поздравительной телеграмме
последнего Кароссе по случаю его дня рождения), с просьбой пого-
ворить с ним о судьбе Момберта и о возможности переправить его
в Швейцарию. Усилия Шульте-Штратхауса ни к чему не привели.2
Друзья посоветовали Кароссе переговорить со швейцарским консу-
лом в Мюнхене тем более, что Ганс Райнхарт (Reinhart, Hans), друг
Момберта, выразил готовность приютить его у себя. Какие-либо све-
дения о контактах Кароссы со швейцарским консулом отсутствуют.
Известно лишь то, что Каросса написал письмо Геббельсу, которое,
правда, не сохранилось, но, как сообщал Каросса в одном из писем
25.11.1940 года, «моя просьба к Геббельсу... по форме и изложен-
ным мотивам, насколько это возможно, эффектно и правильно
составлена... Я возлагаю большие надежды на него... Посмотрим,
что получится... »3
Трудно сказать, в какой мере подействовало это письмо Карос-
сы на дальнейшую судьбу Момберта, или в деле освобождении
Момберта были задействованы другие силы, но в конечном итоге
Г. Райнхарт выкупил свободу своего друга за 30 тысяч швейцарских
1 Carossa H. Briefe. S. 559.
2 Ibid. S. 591.
3 Ibid. S. 592.
468
франков,1 и 13 апреля 1941 года Каросса получил от Момберта
письмо с сообщением о том, что он и его сестра находятся в безо-
пасности в доме своего избавителя.2
Как бы то ни было, Каросса сделал всё, что мог, несмотря
на свои так называемые «связи», и это служит неким оправданием
его участию в культурной политике нацистов. И как бы в награду
за содеянное, Каросса получает известие из Парижа о том, что
во Франции выходит его книга «Загадки зрелой жизни» (»Geheim-
nisse des reifen Lebens«, 1936), которая, как утверждает издатель-
ство, «является первой немецкой книгой, изданной во Франции
после начала войны».3 Книга эта несколько отличается от прочих
его автобиографических произведений определённой литературной
самостоятельностью романа как такового, хотя фигура главного
героя её, Ангермана, содержит в себе явные черты личности самого
автора. При всём том, что содержательно эта книга вроде бы далека
от современности, немецкая критика усмотрела в ней определённые
посылы к событиям нового времени. Рецензент журнала «Бюхерай»
(»Die Bücherei«), отмечая приверженность писателя «вечным вопро-
сам», с удовлетворением констатирует, что книга Кароссы «всё же
выдаёт наличие действительного времени — любовь к родному
ландшафту и единение с ним... и к злосчастно разделённому брат-
скому народу (радость по поводу открытия немецко-австрийской
границы трогает наше сердце), попытки возникновения понимания
стареющим человеком степени наших перемен, техники и порывов
юношества... Здесь мы отчётливо видим, что именно эта книга очень
нужна нашим переменам».4 Вероятно, поэтому «Бюхеркунде» рассма-
тривало «Загадки зрелой жизни» «прекрасным обогащением нашей
письменности»,5 ибо приверженность ландшафтным описаниям,
как составная часть областнической литературы, рассматривалась
1 ВагЫап J.-P. Zwischen Anpassung und Widerstand. Regimekritische Autoren in
der Literaturpolituk des Dritten Reiches // Schriftsteller und Widerstand. Facetteb
und Problemme der »Inneren Emigration« / Hrsg. v. Kroll F. L., Voss R. von. Göttingen,
2012. S. 68.
2 CarossaH.S. 601.
3 Ibid. S. 136.
Hugelmann H. Carossa, Hans: Geheimnisse des reifen Lebens // Die Bücherei, 1937.
H. 1/2. S. 80.
5 Anonym. Geheimnisse des reifen Lebens // Bücherkunde. 12. Folge. 1936. S. 356.
469
нацистской критикой одной из добродетелей истинно немецкого
творчества, а о «страданиях» австрийского народа, отделённого
от Германии злосчастным образом в преддверии предполагавшего
аншлюса Австрии нечего и говорить — бальзам на душу национа-
листам всех мастей.
По большому счёту все эти замечания рецензентов не соответ-
ствуют действительности, особенно если учесть, что сама книга
Кароссы начисто лишена временного фактора, как это присуще
авторам афашистского свойства, что позволяло нацистам толковать
её в нужном им смысле. В этом состоит беда и трагедия авторов
афашистской направленности, хотя творчество самого Кароссы
вряд ли можно назвать афашистским, т.е. намеренно отстра-
нённым от фашистской действительности. Понятно, что Каросса
следовал канонам собственного понимания творчества, хотя, как
он замечал в одном из писем тех лет, «вся атмосфера настоящего
времени возлагает огромную ответственность на каждого за любое
написанное им предложение»,1 но он продолжал писать так, как он
писал и до прихода к власти нацистов, и поэтому воспринимать его
как сознательного пособника культурной политики диктаторского
режима было бы неверным. И тем не менее...
В октябре 1941 года Каросса принимает участие в третьей
«Веймарской встрече поэтов», которую Геббельс, в желании про-
тивопоставить вредному воздействию эмигрантов на зарубежное
общественное мнение, задумал преобразовать в некое «Европей-
ское объединение писателей» (»Europäische Schriftstellersvereini-
gung«).2 Мероприятие это носило чисто пропагандистский характер
и проходило под девизом «Поэзия в нарождающейся Европе», т.е.
в завоёванной немцами Европе, и дело это с учётом первых успехов
немецких войск на Восточном фронте нацисты считали уже решён-
ным. Для того чтобы у приглашённых зарубежных авторов числом
шестнадцать (среди них, Феликс Тиммерманис, Эрнесто Хименес
1 Carossa H. Briefe. S. 77.
2 Вообще-то, согласно публикации в «Бёрзенблатт фюр ден дойчен буххандлунг»
(»Börsenblatt für den Deutschen Buchhandlung«), инициатива создания подобного
писательского объединения исходила от норвежского писателя Кнута Гамсуна,
фламандского писателя Стейна Стрёвелса и финской писательницы Майлы Талвио,
хотя в действительности вся эта акция была задумана в министерстве пропаганды.
В дневниках Геббельса имеется запись о предложении отдела литературы мини-
стерства пропаганды «создать европейский союз писателей под председательством
министра пропаганды» (Barbian J.-P. Literaturpolituk im NS-Staat. Von der »Gleich-
schaltung« bis zum Ruin // Frankfurt / Main, 2010. S. 331).
470
Кабальеро, Робер Бразийяк, Жак Шардонн, Абель Боннар, Марсель
Жуандо, Пьер Дриё Ла Рошель)1 не возникало никаких сомнений
в серьёзности намерений нацистов создать новую Европу по своему
образцу и заодно показать размах этого предприятия, для иностран-
ных гостей была показана «выставка антибольшевистской литера-
туры», которая как бы предваряла характер «Веймарской встречи
поэтов», говоря, что «и в дни веймарской встречи глубокий смысл
борьбы на Востоке должен был стоять перед нашими глазами».2
Лучшей кандидатуры на пост президента этого объединения,
чем Каросса, трудно было найти, и под давлением Геббельса он даёт
согласие на избрание его на эту должность. С самим Кароссой эта
тема предварительно не обсуждалась, всё произошло как бы спон-
танно, хотя понятно, что эта операция была заранее спланирована,
отсюда и та настойчивость, с которой министерство пропаганды
приглашало писателя в Веймар. Устроители встречи буквально
в коридоре поймали Кароссу и в присутствии большой группы
иностранных участников встречи прямо предложили Кароссе дать
согласие на избрание его на этот пост. Каросса пишет: «В неболь-
шом отдалении от меня стояла группа людей, немцев, французов,
итальянцев, голландцев, венгров, которые смотрели на меня одо-
бряющим, полным надежды взглядом, как будто от моего согласия
зависело всё их благополучие... Идущая от моей врачебной привыч-
ки способность быстро оценивать ситуацию других и забывать при
этом о своей собственной... ясное понимание того, что я собираюсь
совершить ошибку, привело меня одновременно к осознанию того,
что эта ошибка повредит только мне и больше никому... Теперь это
стало тем моментом, когда мир демонического мстил мне за то, что
его не принимаешь серьёзно. Это я понял сразу...»3
В этой ситуации Геббельс намеренно держался в стороне от всего
происходящего с тем, чтобы, как он писал в своём дневнике, «предва-
рительно не компрометировать это объединение в глазах вражеских
1 Любопытно, что Пьер Дриё Ла Рошель, поклонник нацистов, в своём дневни-
ке ни словом не отозвался о создании «Европейского объединения писателей»,
ограничившись лишь констатацией самой поездки в Германию, в Веймар. {Дриё
Ла Рошель П. Дневник. 1939-1945. СПб., 2000. С. 302.)
Im Zeichen von Buch und Schwert. Die Veranstaltungen in Weimar zur Kriegsbuchwo-
che 1941— Das Dritte Dichtertreffen // Börsenblatt für den Deutschen Buchhandlung.
Nr. 251/252 vom 28.10.1941. S. 365.— Цит. по: Barbian J-P. Op. cit. S. 331
3 CarossaH. Briefe. S. 609-610.
471
сил моей официальной позицией».1 Именно поэтому, уже после того,
как выборы состоялись, Геббельс провёл с Кароссой личную беседу.2
Кандидатура Кароссы на пост председателя «Европейского
объединения писателей» была выбрана не случайно, ибо имя его,
при всей отрешённости писателя от нацистских мероприятий,
пользовалось за пределами рейха, особенно во Франции, доста-
точной известностью. В отчёте о статистике переводов немец-
ких авторов за 1939 год сообщалось, что «действительно ценное
немецкое творчество современности, в поэтическом отношении
возвышенная проза, нашло приём во Франции в виде только двух
произведений Кароссы — «Врач Гион» и «Румынский дневник»...
творчество молодого поколения натолкнулось на полное отрица-
ние...»3 Геббельс прекрасно понимал состояние литературных дел
в Германии, и Каросса нужен был для него как некий громоотвод,
некая приманка, чтобы привлечь на свою сторону интеллигенцию
покорённых стран. Именно в это время в его дневнике появилась
запись, объясняющая суть происходящего в Веймаре: «Каждый
большой писатель в Европе имеет огромный круг почитателей,
именно его следует завоевать с помощью писателя».4 Именно для
этих целей был создан в 1942 году и журнал «Ойропэише литератур»
(»Europäische Literatur«) и Геббельсом дано было указание всячески
содействовать публикациям иностранных авторов как в рейхе, так
и за его пределами, т.е. в оккупированных странах. В соответствии
со стратегией, разработанной в министерстве пропаганды, «Европу
следует убедить в духовной силе новой Германии и тем самым ей
самой (т.е. Европу.— Е. 3.), духовно перестроившись, вмешаться
во всемирно-исторические события, которые после победы должны
протекать только в предполагаемых размерах».5
1 Цит. по: BarbianJ.-P. Op. cit. S. 332.
2 Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 231.
3 Bauschinger Ch. Das deutsche Buch in fremden Sprachen. Statistik der Übersetzungen
für das Jahr 1938 // Deutsche Kultur im Leben der Völker. H. 3. Dezember. Mün-
chen, 1939. S. 373.
4 Goebbels-Tagebücher 27.10.1941. Teil II, Bd. 2. München, 2008. S. 190.— Цит. по:
BarbianJ.-P. Op. cit. S. 332.
5 Erckmann R. Zur europäische Aufgabe unseres schaffenden Schrifttums // Bärsen-
blatt für den Deutschen Buchhandlung. Nr. 107 vom 10.5.1941 / Kantate-Beilage.
S. 2.— Цит. по: BarbianJ.-P. Op. cit. S. 331.
472
Избрание Кароссы председателем «Европейского объединения
писателей» стало тем событием, которое как бы подвело итог его
многолетнего участия в культурной политике нацистской Германии,
вынужденного или намеренного ради высоких гуманистических
целей, а то и просто сознательного соглашения с тем, чтобы иметь
возможность свободно публиковаться, ездить по Европе и иногда
помогать своим друзьям, попавшим в беду. В этом смысле при-
мечательно письмо Кароссы своему другу Роже де Кампаньёлю
(Campagnolle, Roge de) от 12 октября 1941 года, в котором он
попытался как-то объяснить сложившееся положение: «...о моей
«должности», которую Вы называете политической. За семь часов
до этих выборов я не знал ничего об этом деле; затем я внезапно
оказался в такой ситуации, которая не допускала какого-либо отка-
за, если бы я не хотел привести господ из министерства и самого
министра в присутствии многих иностранцев в затруднительное
положение. Конечно, всё это дело имеет политическую предпосылку;
но когда ищут имя, которое имело бы значимость и заграницей,
и когда выясняется, что в рядах партии такового нет, и когда,
прежде всего, французы, предлагают меня, то я обрадовался
и успокоил себя тем, что от меня не будут требовать каких-либо
действий, которые могли бы нарушать мою работу. До сих пор они
держат слово... Если, например, потихоньку удаётся освободить
из концентрационного лагеря такого поэта как Момберт и даже
сделать возможным переезд его в Швейцарию, то моё письмо док-
тору Геббельсу, как выяснилось, оказалось не таким уж напрас-
ным; большую часть, в финансовом отношении, сделали, правда,
швейцарские друзья поэта. Но я не мог бы вступиться ни за кого,
если бы я стоял в стороне; то, что я внутренне при этом остаюсь
Во всех отношениях самим собой, эти господа знают очень хорошо,
и именно поэтому они восприняли мой отказ вступить в академию
Й спокойно позволили издать «Провидение и напутствие», хотя
в книге очень дружески и сердечно было рассказано о преданных
поруганию людях. В общем-то, я считаю вполне возможным, что это
объединение постепенно сойдёт на нет. Преимущественное слово
имеют «штукас» (пикирующие бомбардировщики.— Е.З.) и танки,
а. что по этому поводу скажут писатели совершенно всё равно».1
«Европейское объединение писателей» действительно вскоре
прекратило своё существование, и виной тому были не только
1 Carossa H. Briefe. S. 166-167.
473
сомнительность и искусственность его возникновения, но и война
с Советским Союзом, переросшая во Вторую мировую войну, и здесь
уже было не до встреч поэтов. Правда, в 1942 году состоялась чет-
вёртая «Веймарская встреча поэтов», которая также проходила под
знаком «Европейского объединения поэтов», однако выступавшие
на ней ораторы в основном говорили о войне и о задачах немецких
писателей в отображении успехов немецких войск, и поэтому ино-
странные писатели (особенно французы и итальянцы) сознательно
бойкотировали нацистскую говорильню.1 Более того, несмотря на то,
что в 1943 году «Веймарские встречи поэтов» не состоялись «в силу
военных обстоятельств», тем не менее, министерство пропаганды
планировало проведение в 1944 году этого мероприятия, заказывая
Кароссе торжественную речь на его открытие. «Господа из пропаган-
ды (Promi),— пишет Каросса в одном из писем,— смотрят уверенно
в 1944 год, считая, что моя речь (на предполагаемой встрече.—Е. 3.)
в этой связи будет иметь ещё более глубокое воздействие».2
«Веймарскую встречу поэтов» 1942 года Каросса попросту
бойкотировал, укрывшись в Италии на острове Ишиа. Несмотря
на все усилия немецкого посольства в Риме, Каросса, сославшись
на болезнь, оставался в Италии, хотя и продолжал интересоваться
делами «Европейского объединения поэтов», о чём свидетельству-
ет его оживлённая переписка с генеральным секретарём этого
объединения Карлом Роте (Rohte, Carl). В одном из писем Каросса
прямо говорит о том, что он функционирует в нём «только в каче-
стве декоративной мебели, так как некоторые мои книги читают
за рубежом».3
Как бы то ни было, но даже в этом «мебельном качестве» Каросса
рассматривался тогда многими как влиятельный человек. В своём
письме к Герману Гессе от 18 мая 1943 года Каросса с отчаянием
сообщает, что он «находится в фатальном положении, потому что
в Германии и за рубежом мне приписывают такое влияние, о кото-
ром, к сожалению, не может быть и речи, и это заблуждение приво-
дит к тому, что я ежедневно получаю столь чрезмерные требования
1 Hammer F. »Europäische Dichtertreffen 1942«. Rückblick auf ein Fiasko // Aufbau.
Berlin, 1947. H.10. S. 276.
2 Carossa H. Op. cit. S. 214.
3 Carossa H. Op. cit. S. 200.
474
и претензии, о которых никто и не догадывается».1 Действительно,
к нему обращались за помощью издатель литературного журнала
«Бюхервурм» (»Bücherwurm«) Карл Раух (Rauch, Karl),2 библиотекарь
Арно Широкауэр, которому Каросса помог ещё в 1935 году избежать
ареста,3 французский писатель Жак Шардонн (Chardonne, Jacques),
чей сын был помещён в концентрационный лагерь Ораниенбург,4
Шведская академия просила помочь вызволить из этого же лагеря
норвежского поэта Арнульфа Эверланна (0verland, Arnulf; 1889-
1968),5 писатель Рудольф Касснер (Kassner, Rudolf; 1873-1959),
женатый на еврейке, отчего его лишили права публикации, просит
помочь получить разрешение на восстановление в правах публико-
ваться и заодно освободить его квартиру от подселенцев такого же
рода, как и он.6 Каросса пишет письма Эрнсту Кальтенбруннеру
(Kaltenbrunner, Erich), руководителю Главного управления импер-
ской безопасности по поводу ареста известного издателя Петера
Зуркампа (Suhrkamp, Peter 1891-1959),7 встречается с Бальдуром
фон Ширахом (Schirach, Baidur von), гауляйтером Вены, касательно
истории с Р. Касснером.
Всё это общение с нацистской верхушкой редко приносило
нужные плоды, но тот факт, что Каросса всё-таки пытался что-
то сделать для людей, полагаясь на свой авторитет в нацистских
верхах, говорит не только о его благородстве, но и о его наивности,
политической близорукости, ибо все его доводы в пользу своих
подзащитных основывались на гуманистической значимости их
творчества, но именно это обстоятельство меньше всего беспокоило
тогдашних правителей Германии.
На этом фоне творческая деятельность Кароссы как бы отходила
на второй план, хотя он продолжал трудиться над своей биографиче-
ской эпопеей, завершившейся выходом в свет в 1941 году его книги
«Год прекрасных иллюзий» (»Das Jahr der schönen Täuschungen«),
вызвавшей бурю восторгов как либеральной, так и официальной
1 CarossaH. Briefe. S. 109.
2 Ibid. S. 181.
3 Ibid. S. 203.
4 Ibid. S. 207, 635.
5 Ibid. S. 202-203.
6 Ibid. S. 235-236, 648.
7 Ibid. S. 281, 286, 648, 662-663
475
прессы. Если последняя по понятным соображениям всячески рас-
хваливала «народность» прозы Кароссы,1 «восприятие им совместной
судьбы»,2 то либералы, в частности, В. Зюскинд (Süskind, Wilhelm
Emmanuell), воспевая также «народность» писателя, видели в этом
проявление «образующейся человечности», которая позволяет
«людям ещё творить чудеса и верить в них, верить в настоящие и,
надо полагать, вечные чудеса, творимые природой и созвездиями».3
Такая позиция писателя или, что вернее всего, приписыва-
емая ему, ибо отстранённость Кароссы, о чём свидетельствуют
его дневники и письма тех лет, от внешнего мира не носила столь
кардинальный характер, чтобы не замечать всего, что происходило
в Третьем рейхе, говорит не столько о его осторожности или боязни,
сколько о внутреннем стержне всего его творчества, покоящемся
на безоглядном поклонении гению Гёте, эстетике и идеологии вей-
марской эпохи вопреки всему и вся. Если начальный период его
творчества характеризовался постепенным, полным сладостного
восторга вхождением в этот мир, то в последующем, особенно
после прихода к власти нацистов этот восторг сменился желанным
и единственным способом существовать и творить. Более того, он
просто не мог по-другому писать, не мог, даже если бы в этом была
острая нужда.
Это состояние внутренней сознательной и естественной эми-
грации подогревалось ещё и тем, что оно нашло горячий отклик
в определённых слоях общества. Огромные тиражи книг Кароссы
(один роман «Год прекрасных иллюзий», как следует из сообщения
издательства, достиг к 1942 году 75 тысяч экземпляров),4 свиде-
тельствуют о том, что у писателя была обширная читательская
аудитория, «благородная тайная Германия»,5 которая видела в нём
1 Ter-Nedden E. Hans Carossa »Das Jahr der schönen Täuschungen« // Die Neue
Literatur, 1941. 10. S. 249-251.
2 Siebert W. Hans Carossa. Der dritte Teil seiner Selbstdarstellung // Das Reich,
17.08.1941. Nr. 43. S. 21-22.
3 Süskind W.E. Das Jahr der schönen Täuschungen // Die Literatur, August 1941.
S. 610.
4 Carossa H. Das Jahr der schönen Täuschungen. Leipzig 1942. S. 320. За весь пери-
од с 1941 по 1945 гг. Тираж этого произведения достиг 149 тысяч экземпляров
(Die Zeit, 6.4.1979).
5 Carossa H. Ungleiche Welten. Lebensbericht. Wiesbaden, 1951. S. 60.
476
хранителя гуманистических идеалов прошлого. Консервативно-на-
циональным бюргерам, особенно образованным бюргерам, интел-
лигенции старого склада, произведения Кароссы представлялись
своеобразной литературной Библией, откуда они черпали силы
для того, чтобы сохранить свои идеалы, не подвергаясь опасности.
Принципиальное влечение Кароссы к прошлому отвечало устрем-
лениям бюргеров тем более, что и манера отображения этого про-
шлого в его книгах являла собой имитацию стиля, языка и даже
образа мышления великого Гёте, которого Каросса боготворил так,
что не мог самостоятельно высказать какую-либо простую мысль,
описать то или иное событие, пейзаж или произведение литературы
и искусства, не снабдив его соответствующей отсылкой к великому
немцу или, на худой конец, к одному из его современников. Вся
окружающая Кароссу действительность мгновенно преобразовы-
валась в некий музей, где всё уже расписано, расставлено и про-
нумеровано, так что Кароссе оставалось только комментировать
экспонаты этого музея соответствующей цитатой из Гёте, при имени
которого у него просто захватывало дух. Несколько глав из любой
его книги ещё можно прочитать, удивляясь скудости его словаря
и затрёпанности образов, однако последующее чтение представля-
ется мукой, ибо, пробираясь сквозь велеречивую словесную вязь,
начинаешь поражаться непобедимой уверенностью автора в необ-
ходимости сообщать читателю обо всём увиденном и услышанном
столь изысканным пустословием, подёрнутым пылью и архаикой.
Конечно, на фоне откровенно пронацистской литературы книги
Кароссы действительно воспринимались как некое укрытие от жиз-
ненных невзгод. В 1941 году, сразу же после его печально знаменито-
го председательствования на «Веймарской встрече поэтов», официоз
Геббельса «Рейх» в рецензии на книгу Кароссы «Год прекрасных
иллюзий» отмечал не без удовлетворения, что она «принадлежит
к тем книгам, с помощью которых мы можем безбоязненно прожить
некий отрезок времени».1 Нечто подобное, но уже после 1945 года,
высказал и один из представителей «внутренней эмиграции» Рудольф
К. Гольдшмит-Йентер (Goldschmit-Jenter R. К.) посчитав основной
заслугой Кароссы в годы нацизма пестование поэтического языка,
который писатель «сохранил от грозящего скатывания в громоглас-
Siebert W. Hans Carossa. Der dritte Teil seiner Selbstdarstellung // Das Reich.
17.08.1941. S. 22.
477
ный и режущий слух язык и привёл его обратно в пределы тишины,
мягкости, нежности», «ласково намекнув тем самым на благородство
сердца как духовную возможность жизни».1
Однако это «благородство сердца» принимало порой такие
формы, что ставило в тупик любого, даже очень расположенного
к Кароссе человека. Клаус Харпрехт (Harprecht, Klaus; 1927), кон-
серватор до мозга костей, который по праву считается трубадуром
«эпохи Аденауэра», в рецензии на дневники Кароссы под назва-
нием «Трагедия простого приличия» (»Die Tragödie vom einfachen
Anstand«), сам того не желая, привёл цитаты из этих дневников,
которые свидетельствуют совсем не о простом приличии Кароссы
в годы нацизма. Каросса записывает в своём дневнике: «Бертрам...
одобряет всё, что предпринимается против католиков, евреев
и т.п., сожалеет, правда, о некоторых ошибках, но считает в общем
и целом всё это необходимым». Мнение Кароссы по этому поводу:
«Наверно, он прав, но иногда неприятно осознавать эту правду».2
Эрнст Бертрам (Bertram, Ernst; 1884-1957), писатель, друг
Томаса Манна, который порвал с ним отношения из-за его прона-
цистских взглядов, остался с Кароссой в самых дружеских отно-
шениях, и, судя по дневниковым записям последнего, он разделяет
взгляды Бертрама, считавшего справедливыми действия нацистов
против инакомыслящих и инородцев. Всё это как-то не вяжется
с заступничеством Кароссы за Момберта и некоторых других лиц
иудейской веры. Получается, как не без ехидства корил Гиммлер
«славных немцев» в преддверии оглашения программы уничтоже-
ния еврейского народа в октябре 1943 года, что «у каждого есть
свой порядочный еврей. Понятно, что все остальные свиньи, а вот
этот — отличный еврей».3
Эта странная позиция человека, позиционирующего себя
гуманистом, сыграла с ним злую шутку уже после 1945 года, ког-
да он выпустил в 1951 году свою книгу воспоминаний о годах
фашизма «Неравные миры» (»Ungleiche Welten«). Представители
«внутренней эмиграции» попытались представить эту книгу как
1 Goldschmit-Jenter R. К. Zur Verteidigung Hans Carossa's // Die Literatuer, München,
1952. Nr. 2. S. 8.
2 Harprecht К. Die Tragödie vom einfachen Anstand // Die Zeit. Hamburg, 10.09.1993.
3 Цит. по: Düsterberg R. Hans Johst: »Der Bard der SS«. Karrieren eines deutschen
Dichters. München, Wien, Zürich, 2004. S. 314.
478
некое оправдание своего пассивного отношения к нацистскому
режиму, своего рода алиби тому, что они, по ироническим словам
Теодора Адорно «в годы концентрационных лагерей... научились
скрытной молчаливости, горьким речам и упоению бабьим летом».1
В первом номере журнала «Литератур» (»Die Literatur«), органе моло-
дых писателей, сплотившихся вокруг творческого объединения
«Группа 47» (»Gruppe 47«), появилась статья Ганса Георга Майера
(Maier, Hans Georg) «Мягкий как картофельное пюре» (»Mild wie
Kartoffelbrei«), в которой подверглась жёсткой критике избира-
тельная позиция Кароссы в оценках времён нацизма. Наивность,
граничащая с цинизмом (хотел этого Каросса или нет) определяет
его слова о том, что «Третьему рейху ещё когда-нибудь поставят
в заслугу то обстоятельство, что он по причине безмерности своих
проявлений всё довёл до крайности и обнаружил определённые про-
блемы, на которые раньше не обращали внимание»; что благодаря
гонениям Гитлера «произошло внутреннее перерождение церкви»;
что «приказав уничтожить миллионы евреев, взрослых и детей, он
добился того, что люди доброй воли всей земли прониклись к евреям
безграничным сочувствием. Не будь той бешеной злобы со стороны
его, не было бы ещё и сегодня государства Израиль».2
Подобного рода заявления как-то плохо вяжутся не только
с настойчивой приверженностью Кароссы гуманизму, но и с пред-
ставлением о такте, об уместности подобного рода сравнений
со стороны человека, провозглашаемого арбитром хорошего вкуса
и стиля.
Вместо того чтобы выступить в качестве свидетеля преступ-
ного нацистского прошлого, способствовать разъяснению собы-
тий национального позора, Каросса полон мыслей о прощении
и забвении этого неприятного прошлого: «Когда я, не предаваясь
самообольщению, рассматриваю моё собственное положение,
осторожно, на ошупь продвигался по той Германии, бывшей тогда
терпеливой, но и ставшей одновременно неверной по отношению
к самой себе, по той Германии, где каждодневно ставились новые
ловушки, то в моём возрасте у меня возникало только одно жела-
ние — провести остаток жизни так, чтобы не обращать внимания
1 Adorno Th. Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft. München, 1963. S. 200.
Maier H. G. »Mild wie Kartoffelbrei«. Schlußfuge zu einem Kobkonzert auf Hans Caros-
sa // Dit Literatur, 1952. H. 1. S. 2.
479
на тысячекратные несправедливости, избегать доносчиков и под-
слушивающих и замалчивать мои тяжёлые предчувствия. Мысли
о побеге, которые, наверно, посещали каждого когда-либо, теряли
всё больше и больше свою привлекательность; ты ведь уже не жил
больше полностью в современной действительности, и поэтому было
всё равно, уехать или остаться».1
Речь в данном случае идёт не о том, чтобы обвинить Г. Кароссу
в каких-то прегрешениях. Легко судить о прошлом, не будучи сам
лично затронутым этим прошлым хоть в какой-либо степени. Основ-
ной пафос статьи Г. Майера, выражавшего мнение представите-
лей новой молодой, послевоенной литературы, направлен против
«возведения Кароссы на пьедестал славы, который ему не принад-
лежит»,2 ибо представители консервативных кругов послевоенной
Германии пытались на примере Г. Кароссы представить состояние
«внутренней эмиграции» как единственный достойный способ
существования творческой личности, оказавшейся во враждебной
его сущности ситуации.
1 Maier H. G. Op. cit. S. 2.
2 Ibid. S. 2.
Противостояние духа и власти
Проблема «противостояния духа и власти» является актуальной
на все времена, независимо от того, в каких условиях и как она про-
является. В этом смысле особый интерес представляет рассмотрение
этой проблемы применительно к экстремальным условиям времён
Третьего рейха, ибо здесь с особой силой проявилось не только
искусство открытого выражения протеста, без каких-либо опасных
последствий, но и сама специфика взаимоотношений духа и власти.
Противостояние противостоянию рознь. Одно дело, когда вла-
сти противостоят действительные противники национал-социализ-
ма, не приемля всего комплекса его политических и идеологических
идей и способов их реализации, другое дело — противостояние
обойдённых или прежних союзников национал-социализма, не раз-
деляющих отдельные компоненты этого политического движения.
При том, что в общей борьбе против национал-социализма обе эти
силы — volens nolens — сходятся, хотя методы их борьбы значи-
тельно разнятся, и это обстоятельство создаёт обширное поле для
толкования значимости действий этих сил, что и подтвердилось
после 1945 года во время громкой дискуссии о «внутренней эми-
грации», получившей название «великой контроверзы» (die große
Kontroverse).
Собственно оппозиционная составляющая литературы «вну-
тренней эмиграции» определялась не фёлькиш-националами, кото-
рые всё же привечались нацистами за их былые заслуги, а именно
авторами консервативного толка религиозной направленности.
Причислять фёлькиш-националов к «внутренней эмиграции» мож-
но только в очень малой степени, ибо оппозиционные настроения
481
этой группы писателей не нашли своего выражения в их творче-
стве. В значительной мере, учитывая их приверженность идеям
национал-социалистского движения, пускай и в той «чистой»
форме, в какой они ими мыслились, их оппозиция напоминала
междусобойные склоки, постоянно происходившие в политическом
руководстве нацистской партии. Никто из фёлькиш-националов
не написал ни одного произведения, в котором можно было бы
обнаружить хоть какую-то скрытую критику нацистского режима.
Их протестные акции носили частный характер и проявлялись они
в переписке между собой и с некоторыми представителями нацист-
ского руководства. Так, Ганс Гримм в письме к Вильгельму Фрику,
министру внутренних дел и руководителю избирательной комиссии
по проведению плебисцита о соединении в руках Гитлера постов
канцлера и рейхспрезидента, выразив поддержку Гитлеру как рейх-
спрезиденту, отказался участвовать в избирательной кампании,
так как он «предвидит тяжёлые последствия для Германии, если
произойдёт это соединение». В письме к своему приятелю Р. Г. Бин-
дингу он прямо написал: «Я... больше никогда не поставлю своё
имя ни под каким-либо совместным заявлением».1 В другом письме
к Биндингу, связанным с «путчем Рема», Гримм пишет: «Я чувствую
себя очень удручённым этим временем, прихода которого я сам так
желал. Но именно потому, что я этого желал, я чувствую себя ответ-
ственным за мерзости этого времени, за его удручающе ненужные
мерзости».2 В этой ситуации приходилось брюзжать, проявлять
недовольство в кругу избранных, протестовать по мелочам, как это
было в случае с тем же Гриммом, который, недовольный тем, что
местные власти заявили об единогласном голосовании по поводу
плебисцита, написал письмо Фрику, в котором опроверг эти све-
дения, так как он сам голосовал против. Биндинг также вёл ожив-
лённую переписку с редакторами ряда нацистских газет, протестуя
против наветов в отсутствии патриотизма или забвения его воен-
ных заслуг. Собственно, этим и заканчивались протестные акции
«внутренних эмигрантов» из стана фёлькиш-националов. Это были
даже не протесты, а личные обиды по поводу высказываний того
или иного партийного чиновника, не больше. Но даже эти акции
личностного свойства вызывали у нацистских властей раздраже-
1 Цит. по: Franke M. Grimm ohne Glocken. Ambivalenzen im politischen Denken und
Handeln des Schriftstellers Hans Grimm. Köln, 2009. S. 54.
2 Franke M. Op. cit. S. 52.
482
ние. В случае с Биндингом это выразилось в отказе представить
на Олимпиаде в 1936 году его книги о конном спорте, в намерен-
ном игнорировании официальными властями похорон писателя,
которое можно рассматривать как плевок вдогонку протестанту;
в случае с Гриммом дело дошло до откровенной выволочки, устро-
енной Геббельсом писателю и сопровождавшейся неприкрытыми
угрозами отправить его в концлагерь.
Если разобраться, то оппозиция Гримма нацизму вызвана
пониманием его бессилия что-либо изменить в стране, ибо махо-
вик национализма так раскрутился, что всякого рода увещевания,
намёки, а то и прямые высказывания не могли уже, как, впро-
чем, и раньше, оказывать какое-то воздействие на идеологиче-
ские устремления нацистов. От писателей ожидали не указаний,
а послушания, подпева, а не сольного выступления. Для Гримма,
уже вкусившего славы значительного писателя со своим голосом
и опытом, быть на посылках, даже если это и полезно в жизненном
отношении, неприемлемо, и он, злой, обиженный, удаляется в свой
Липпольдсберг, где пытается создать некий оазис духовного покоя.
Это искренняя оппозиция, но оппозиция семейного свойства,
когда родственники что-то не поделили и дуются друг на друга.
Отсюда и его послевоенные инвективы в адрес победителей, кото-
рые не поняли величия нацистского замаха, не поддержали его и,
возможно, тогда смогли бы придать ему достойные черты. Запад
опять предал Германию, опять она стоит как нашкодивший ребё-
нок в углу, опять крутится вторая серия боевика под названием
«предательский кинжал в спину». Подобная позиция Гримма род-
нит его с Эрнстом Юнгером, хотя тот, как истый военный, умел
проигрывать, и весь свой холодный цинизм обращал на весь мир.
Они оба, каждый по-своему, хотели быть духовными наставниками
нацистов, и им обоим указали их место.
Гримм, учитывая его близкое знакомство с Гитлером и его окру-
жением, рассчитывал воздействовать на Гитлера опосредованно,
чуть ли не в виде задушевных бесед. Однако расчеты эти не оправ-
дались и вылились в «задушевные беседы» с Геббельсом, хотя послед-
ний относился к нему с неким пиететом до тех пор, пока Гримм
не составил Геббельсу с его Всегерманскими встречами и Днями
книги конкуренцию своими Липпольдсбергскими встречами. Если
мероприятия Геббельса, учитывая их государственный статус,
носили торжественный характер, участники их тщательно отби-
рались, то Липпольдсбергские встречи носили довольно свободный
483
характер. Кроме выступлений фёлькиш-национальных писателей,
латентных оппонентов режиму, в этих встречах, уже за пределами
дома Гримма, принимали участие студенческая молодёжь, местные
жители, съезжались торговцы книгами, устраивались концерты,
гулянья, экскурсии на речных пароходиках,— словом, происходи-
ло нечто напоминающее народные празднества, а этого Геббельс
никак не мог допустить, хотя, собственно, этим и ограничивалась,
не считая разговоров писателей в тесном кругу, оппозиционная
деятельность Гримма.
Однако и в среде сугубо консервативных фёлькиш-националов
нашлись авторы, которые предприняли более серьёзные попыт-
ки высказать своё недовольство сложившимся положением дел
в Третьем рейхе, и прежде всего потерей национал-социалистской
партией изначальных заветов, несоответствием программных
установок партии их реальным воплощениям. Здесь надо отметить
творчество Эрнста Юнгера и Фридриха Рек-Маллецевена. Фигуры
по своей значимости, казалось бы, несовместимые, но их протест-
ные выступления объединяет явственно ощутимый привкус обиды
отвергнутых и обманутых в своих ожиданиях бывших союзников.
Если Ф. Рек-Маллецевен, в отличие от Гримма и ему подобных,
не склонный к теоретическим рассуждениям, и, обуянный фанта-
смагорической идеей фронтального возврата чуть ли не к временам
феодально-сословного общества, предпочитал от бессилия изливать
свой гнев на нацистов в исторических романах, прибегая к понос-
ной лексике, то Юнгер мыслил другими категориями, рассматривая
весь мир как площадку для более грандиозных экспериментов,
нежели построение нового рейха за счёт расширения пространства
или возвращение к прошлому, поэтому у него были свои резоны
иметь претензии к нацистскому режиму. Учитывая тот факт, что
активное противостояние этому режиму при сложившихся обсто-
ятельствах невозможно, Юнгер, пытавшийся на начальной стадии
становления национал-социалистского движения оказать какое-то
влияние на формирование его программы, решил продолжить
диалог с руководством Третьего рейха литературными средства-
ми иносказательного свойства. Это была единственная серьёзная
акция противника нацистского режима, услышанная официаль-
ными властями, но оставшаяся без последствий для её учредителя
в силу различного рода причин, выходящих за пределы собственно
политического свойства.
Э. Юнгер (Jünger, Ernst; 1895-1998) принадлежит к одной
из самых противоречивых фигур в немецкой литературе XX века.
484
Националист, антидемократ, яростный противник буржуазно-ли-
берального устройства общества, эстетствующий милитарист
с потугами на элитарно-аристократическое мироощущение,
мечтающий о создании некоего сугубо военизированного госу-
дарства планетарного масштаба, готовый ради реализации этого
плана идти на союз хоть с чёртом, отсюда его шараханья от идей
коммунизма к идеям национал-социализма, философ, лишённый
философской основы, ибо для него человек, как предмет изучения,
низведён до уровня насекомого и его существование возможно
только в пределах надобностей духовной элиты Кастальского типа
с ярко выраженной милитаристско-авантюрной окрашенностью,
являющихся своеобразным выражением неопределённого будущего,
столь милого ментальности немецкого духа,— такой Юнгер воспри-
нимается многими его адептами как некое олицетворение XX века,
как некий образец для нового миропорядка в XXI веке и, кто знает,
может быть, и вообще для последующего развития цивилизации
на земле, хотя, по большому счёту, его следует рассматривать как
солнце в центре культурно-консервативного космоса при наличии
других более значимых миров.
Споры о Юнгере не утихают по сей день, и речь идёт не столько
о том, чтобы привлечь его на чью либо сторону (он анарх, и прин-
ципиально ни с кем не сходится до конца), сколько о толковании
сути его творчества, которое всегда производило и продолжает
производить двойственное впечатление. В этом смысле приме-
чательна география проявляемого к нему интереса. В Германии,
несмотря на официальные знаки признания,1 Юнгер по большей
части игнорируется, хотя научная «юнгериана» достаточно обшир-
на; во Франции Юнгер — один из наиболее привечаемых немецких
авторов, и любовь эта началась ещё со времён второй мировой
войны;2 в России отношение к Юнгеру всегда было стабильно
отрицательным, однако с конца 90-х годов XX века наблюдается
1 Присуждение Юнгеру в 1982 г. премии имени Гёте вызвало в ФРГ бурю протестов
и радостное удовлетворение консерваторов всех мастей (Kühn V. Der Breker-Büste
immer ähnlich // Vorwärts, 02.09.1982; Mann G. Grobe Jagd auf subtilen Jäger //
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.08.1982).
2 Достаточно вспомнить сравнительно недавний скандал, вызванный публикацией
в престижной серии французского издательства Галлимар «Плеяды» дневников
Юнгера. Такой чести не удостаивался ни один немецкий писатель XX в. (Gold-
schmidt G.-A. Alte Liebe. Ernst Jünger kommt nach Paris zurück // Frankfurter
Rundschau, 01.07.2008).
485
заметный интерес к его творчеству, вызванный публикациями его
книг, и степень этого интереса определяется от восторженно-экста-
тического панегирика1 до осторожно-рассудительного восприятия.2
Сложность восприятия творчества Юнгера определяется, пре-
жде всего, известной двойственностью его позиции, недосказанно-
стью, не до конца выраженной, постоянно меняющейся концепцией
понимания мира. Это свойство творчества Юнгера можно опреде-
лить его же словами, сказанными им по поводу мнимой протестной
окрашенности его романа «На мраморных скалах»: «Этот сапог
подходит к каждой ноге».3 Бесконечная корректура самого себя, это
касается особенно его произведений времён 30-40-х годов, приво-
дила к тому, что Юнгер всё время ходил по острию ножа, раздавая
авансы налево и направо, и в то же время до конца не проявляя
своих намерений. Он, как его любимое животное змея, постоянно
менял шкуру. Поэтому, вероятно, как отмечает Анри Плард, среди
его почитателей были люди, балансировавшие между фашизмом
и коммунизмом, вроде Дрие Ла Рошеля, Арнольта Броннена, Эрнста
Никиша, Карло Шмитта.4
Говоря о Юнгере первой половины XX века, т.е. 1914-1945 годов,
которые он считал «решающими годами» в своём творчестве, а всё
то, что им написано в эти годы, называл своеобразным «Ветхим
Заветом» его сущности, то здесь явно просматривается тенденция
совсем не литературного свойства. Юнгер не является писателем
в традиционном смысле этого слова, он блестящий эссеист, который
пытался временами разнообразить свою сухую, неимоверно холод-
ную прозу неким подобием художественного свойства. В какой-то
мере его книги можно назвать слегка беллетризованной эссеистикой,
ибо в чисто художественном смысле она мертва, да и как эссеи-
стика она больше напоминает фельетон в том духе, как этот жанр
понимается на Западе, а не эссе в его классическом исполнении.
1 Микушевич В. Последний рыцарь // Юнгер Э. Рискующее сердце. СПб., 2010.
С. 3-36.
2 Солонин Ю. Н. Эрнст Юнгер: образ жизни и духа // Юнгер Э. Рабочий. Господство
и гештальт. СПб., 2000. С. 5-54.
3 Jünger E. Adnoten zu: »Auf den Marmorklippen« // Jünger E. Auf den Marmorklippen.
Frankfurt / Main, Berlin, Wien, 1973. S. 141.
4 Plard H. Ernst Jünger // Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwarts
Literatur / Hrsg. v. H.L. Arnold. Bd. 3. München. Stand 1.1.1986. S. 4.
486
Как бы то ни было, но в истории немецкой литературы времён
Третьего рейха творчество Юнгера занимает заметное место, хотя
какого-либо воздействия на сам литературный процесс того време-
ни оно не оказало, развиваясь по своим канонам, словно в отрыве
от литературы как таковой.
Эрнст Юнгер родился в Гейдельберге, в семье аптекаря.
Начитавшись приключенческой литературы, он ещё школьником,
не спросясь родителей, завербовался в Иностранный легион, но, бла-
годаря стараниям отца, был отчислен из его рядов, да и сама обста-
новка в этом полукриминальном военном отряде вкупе с лишённой
всякой романтики африканской пустыни умерила юношеский
пыл беглеца. Впоследствии впечатления об этом африканском
приключении нашли своё отражение в книге «Авантюрное сердце»
(»Das abenteuerliche Herz«, 1929).
В 1914 году Юнгер добровольцем пошёл на фронт, был четыр-
надцать раз ранен, проявил чудеса храбрости, за что и был отмечен
всеми мыслимыми наградами, включая самую высшую воинскую
награду в Германии — «За доблесть» (Pour le Mérite), учреждённую
ещё Фридрихом П. Подобной чести в Германии удостаивались
единицы, а если учесть, что Юнгер закончил войну в звании лейте-
нанта, то значимость её придавала ему ореол национального героя.
По крайней мере, в армейских кругах Юнгер воспринимался как
живое олицетворение героизма и воинской доблести. Это ощущение
усилилось после выхода в свет его книги «В стальных грозах» (»In
Stahlgewittern«, 1920), построенной на дневниках Юнгера времён
войны. Книга эта неоднократно переиздавалась, обрастая новыми
подробностями, и является самым известным литературным про-
изведением Юнгера. Известность эта определялась, прежде всего,
личностным фактором восприятия войны как таковой без каких-ли-
бо причинных оснований. Автора сама война интересует только
как явление человеческой цивилизации, как стихийное выражение
биологических законов жизни без каких-либо политических надоб-
ностей, как проявление таящегося в человеке героического начала.
Дотошное описание всех ужасов войны лишено какой-либо мораль-
ной оценки, автор ограничивается лишь фиксацией увиденного
при полном отсутствии каких-либо комментариев, да разве что
беглыми замечаниями о «нежной белизне хлопающей шрапнели»1
1 Юнгер Э. В стальных грозах. СПб., 2000. С. 169.
487
или трогательным описанием шумовых разрядов артиллерийских
снарядов врывающихся в птичий гомон: «Дюжины запалов подпе-
вали им, щебеча наподобие канареек. Своими вклинивающимися
голосами, в которых воздух переливался трелями флейт, они зве-
нели сквозь неумолчный грохот разрывов, как маленькие медные
куранты или особая разновидность механических насекомых. Было
как-то странно, что мелкие лесные птицы, похоже, не обращали
никакого внимания на этот стократно усиленный шум: они мир-
но сидели под клубами дыма в расстрелянных снарядами ветвях
деревьев. В короткие мгновения тишины звучали их завлекающие
зовы и беззаботное ликование; казалось даже, что шумовой поток,
бушевавший вокруг, их ещё более возбуждает».1 Здесь уже наме-
тилось то, что впоследствии станет примечательной особенностью
прозы Юнгера — эстетизация ужасного, эстетизация войны. Через
все страницы первой книги писателя проходит мысль о рыцар-
ской войне, о сохранении определённых принципов ведения вой-
ны безотносительно её назначения, здесь речь идёт не о врагах,
а о противниках, о постоянных отсылках к древним обычаям.
Шумные возлияния после удачного боя трактуются как следование
«праведным обычаям с древнейших времён... Здесь оживает сти-
хия, выявляющая, но и одухотворяющая дикую грубость войны,
здоровая радость опасности, рыцарское стремление выдержать
бой. На протяжении четырёх лет огонь постепенно выплавлял всё
более чистую и бесстрашную воинскую касту».2
«Чистая и бесстрастная воинская каста», её пестование и её
значимость для будущего Германии становится для Юнгера едва ли
не самой главной составляющей его философии «солдатского
национализма», ибо эта каста станет в его последующих книгах
олицетворением войны. В эссе «Бой как внутреннее переживание»
(»Der Kampf als inneres Erlebnis«, 1922) Юнгер рассматривает пси-
хологические предпосылки ведения боя, включающие различные
аспекты душевного состояния солдата — страх, мужество, ужас,
пацифизм, жизнь в окопах, создавая тем самым своеобразное руко-
водство по воспитанию для будущей войны «новых людей, более
смелых, привычных к бою, беспощадных к самим себе и к другим».3
1 Юнгер Э. В стальных грозах. С. 58.
2 Там же. С. 176.
3 Jünger E. Der Kampf als inneres Erlebnis.— Цит. по: Härtung G. Literatur und Ästhetik
des deutschen Faschismus. Berlin, 1983. S. 73.
488
Эти «новые люди» отличаются от обычных призывников тем, что
войну они воспринимают как «возвышенную бесцельность»,1 ибо
по своей натуре они являются современными ландскнехтами: «Дух
битвы военной техники и окопных боёв, проявившийся более беспо-
щадно, дико, брутально чем какой-либо другой, породил людей,
которых мир до сих пор никогда не видел. Это была совершенно
новая раса, олицетворявшая собой энергичность и заряженность
высшей силы... Это были герои, стальные натуры, созданные для
борьбы в самой страшной форме... Жонглёры смерти, мастера
взрывчатки и огня, великолепные хищники...»2
Книга «Роща 125. Хроника окопной войны 1918 года»
(»Das Wäldchen 125. Eine Chronik aus den Grabenkämpfen«, 1924)
уже по своему названию и по своей сути является беллетризован-
ным дневником очевидца. Здесь Юнгер выступает как хронист
войны, испытавший на себе все её тяготы и опасности.3 Бесстраст-
ное описание повседневной рутины окопной войны, обилие кар-
тин разрушения и человеческих смертей не заслоняют основной
мысли Юнгера о понимании войны как выражения естественного
состояния нормального человека, лишённого какого-либо полити-
ческого или социального посыла: «...я никогда не чувствовал себя
так беззаботно, как в действующей армии. Всё ясно и просто, мои
права и обязанности регулируются по-военному, мне не нужно
зарабатывать деньги, питание предоставляется, если мне плохо,
рядом со мной тысячи товарищей по несчастью, и прежде всего,
находясь рядом со смертью, каждый вопрос разрешается в некую
незначительность. Если бы у меня обнаружились рак или чахотка,
то здесь я нашёл бы нужное лекарство. Близость смерти намного
целебнее, чем неизвестная надежда».4
Смерть и отношение к ней воспринимаются Юнгером как пока-
затель характера истинного ландскнехта, для которого «дух борьбы
1 Ibid.— Цит. по: Kaiser H. Mythos, Rausch und Reaktion. Der Weg Gottfried Benns
und Ernst Jünger. Berlin, 1962. S. 34.
2 Ibid.— Kaiser H. Op. cit. S. 35.
3 В моей библиотеке имеется экземпляр книги Юнгера «Роща 125», издание 1935 г.,
владелец которой, будучи участником первой мировой войны, вклеил в неё соб-
ственные фотографии тех лет, свои письма, вырезки из газет, став неким соав-
тором книги Юнгера, ибо её содержание отражало вполне конкретный период
его жизни.
4 Jünger Е. Das Wäldchen 125. Eine Chronik aus den Grabenkämpfen 1918. Berlin,
1935. S. 10.
489
и кровавой работы» является смыслом его существования.1 Однако
ландскнехт в восприятии Юнгера это нечто грубое, лишённое воз-
вышенных чувств. Куда больший восторг у него вызывают лётчики,
элита армии, у которых «осталось радостное ощущение смерти»,
роднящее их со «старыми викингами... Да, бой для них является
огромной страстью, удовольствием бросать вызов судьбе и быть
судьбой... Когда они парят в высоте,., в их риске осуществляется
бракосочетание духа старого рыцарства со строгой холодностью
нашей работы».2
В этом панегирике авиации сказывается дорогая сердцу Юнге-
ра мысль о наступившей эре «битвы техники», которая становится
«вершиной ведения войны».3 Эта мысль проходит красной строкой
по всем произведениям Юнгера, и хотя в «Роще 125» основное вни-
мание обращено на раскрытие окопной правды, повседневных буд-
ней окопной войны, техника и живая сила находятся уже в посто-
янном единоборстве, как бы проходя испытание на прочность.
Это испытание, по мнению Юнгера, немецкий солдат выдержал
с честью, потому что «эти люди, молча, каска к каске, под пение
моторов проявили готовность к новым решениям, возникла новая
и смелая раса...»4
Нацистская критика с восторгом отзывалась о «Роще 125».
«Мюнхенер нойесте нахрихтен» (»Münchner Neueste Nachrichten«,
1935), например, называя её «пожалуй, самой лучшей книгой,
написанной в Германии за последние годы», отмечала: «Мы име-
ем дело с одним из немногих произведений искусства, в котором
война как элементарное явление, как судьба, по воле господа была
завещана немцам».5
Заметный успех фронтовых дневников, как и усилившееся
противоборство противников и сторонников Веймарской респу-
блики побудили Юнгера определить своё место в сложившейся
политической ситуации. Служба в армии, вне зоны собственно воен-
ного действа, его мало привлекала, и хотя до 1925 года он состоял
1 Jünger Е. Das Wäldchen 125. S. 84.
2 Ibid. S. 84-85.
3 Ibid. S. 7.
4 Ibid. S. 207.
5 Цит. по тексту на обложке указ. издания книги Юнгера.
490
в рейхсвере, занимаясь разработкой военного устава пехотной
службы, в ходе которой расширил свой круг знакомств с предста-
вителями военно-политической верхушки Германии, он всё больше
проявлял интерес к общественно-политическим вопросам, посещая
различные кружки и собрания преимущественно националисти-
ческой, праворадикальной ориентации, где тон задавали бывшие
фронтовики. Постепенно эти абстрактные, вневременные рас-
суждения обретают всё же конкретные политические контуры т.н.
«солдатского национализма» — течения, возникшего после Первой
мировой войны среди офицерства и консервативно настроенной
молодёжи, недовольных исходом войны, падением монархии и воз-
никновением буржуазного демократического государства. Бюргер
победил солдата — вот основное событие, которое не давало Юнгеру
покоя. Рассматривая войну как единственное занятие, достойное
человека, Юнгер и его соратники абстрагировали её от всего, что
в какой-либо мере было связано с обществом, с государством как
таковым. Абсолютизация войны, героическая жертвенность, лишён-
ная каких-либо целей и смысла,— вот основная идея творчества
Юнгера.
Эту идею Юнгер попытался досконально проанализировать
в очередной книге дневниковых записей «Рискующее сердце»
(»Das abenteurliche Herz«, 1929),1 представляющей собой некий
комментарий к его предыдущим дневникам. Заимствованные фраг-
менты Юнгер как бы уточняет, рассматривая их столь пристально
и столь детально, что в конечном итоге от предмета рассмотрения
порой ничего не остаётся. В этой книге в полной мере раскрылся
истинный стиль прозы Юнгера, стиль образованного, утончённого
1 Перевод названия этой книги меняется в зависимости от степени понимания пере-
водчиками и исследователями смысла этого произведения. Одни, как И. М. Фрад-
кин, дают дословный (на мой взгляд, правильный) перевод «Авантюрное сердце»
(Фрадкин И. М. Официальная литература Третьей империи. // История немецкой
литературы. Т. 5. 1918-1945. М., 1976. С. 338); другие, как В. Б. Микушевич, исхо-
дя из общего понимания сущности характера Юнгера и ссылаясь на его мнение,
переводят название книги как «Рискующее сердце» (Микушевич В. Б. Последний
рыцарь // Юнгер Э. Рискующее сердце. СПб., 2010. С. 309), что по-русски зву-
чит как-то необычно; третьи, как Ю.Н. Солонин, переводят это название как
«Дерзновенное сердце» (Солонин Ю.Н. Образ жизни и духа // Юнгер Э. Рабочий.
Господство и гештальт. СПб., 2000. С. 18); четвёртые, как A.B. Михайловский,
переводчик книги Э. Юнгера «Рабочий. Господство и гештальт», даёт своё толкова-
ние названия — «Сердце искателя приключений» (Михайловский А. В. Послесловие
переводчика // Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. СПб., 2000. С. 533).
491
человека, склонного к размышлению по любому поводу с доста-
точным апломбом знатока, когда за ворохом цитат и отсылок безо
всякой надобности к естественным наукам выступает фигура
резонёра штабного формата.
Всё это собрание изысканных банальностей с претензией
на афористичность посвящено истолкованию отдельных аспектов
современной действительности, предопределяющих становле-
ние будущего Германии. Исходя из того, что в обстановке хаоса,
царящего в Веймарской республике, «человека одолевает нужда
в непосредственной помощи», и помощь эта заключается в наличии
вождя, т.е. нужен «человек, располагающий магическим ключом
(один из самых излюбленных образов Юнгера.— Е.З.) к таин-
ственнейшему местопребыванию всех остальных сердец, тот, кто
в сотне тысяч установок, убеждений, исканий, порывов, чаяний,
исповеданий улавливает сокровеннейшее течение окончательно
движущей воли...»1
Тема вождя всплывает у Юнгера всегда в сочетании с темой
молодёжи: «Наша надежда почиет на молодых людях, страдающих
повышением температуры, когда внутри — разъедающий гной
омерзения; наша надежда почиет на душах, которым свойствен-
но grandezza... Наша надежда — на восстание, противостоящее
господству задушевности, нуждающееся в оружии разрушения,
направленном против мира форм, во взрывчатке, чтобы расчистить
жизненное пространство для новой иерархии».2 И расчистка эта
будет производиться чисто немецким способом: «Мы давно уже
маршируем по направлению к магической нулевой точке, кото-
рую преодолеет лишь тот, кто располагает другими невидимыми
источниками силы. На что нам ещё рассчитывать, если не на то,
что неизмеримое европейскими мерами само по себе мера».3
Понятно, что для таких преобразований нужны герои: «Люди
и вещи этого времени рвутся к точке магического нуля. Проходить
его — значит обрекать себя пламени новой жизни; пройти его —
значит стать частью пламени».4 И здесь возникает любимая тема
1 Jünger Е. Das Wäldchen 125. Eine Chronik aus den Grabenkämpfen 1918. Berlin,
1935. S. 149-150.
2 Юнгер Э. Рискующее сердце. СПб., 2010. С. 231.
3 Там же. С. 212.
4 Там же. С. 193.
492
Юнгера — тема смерти, ибо сподобиться пламени означает выс-
шую степень отдачи всего себя делу борьбы за новую Германию:
«Смерть — наше мощнейшее воспоминание... Жертвенная смерть
всегда возбуждала внимание настоящего человека... Быть может,
смерть — наше величайшее и опаснейшее приключение, и не без
оснований искатель приключений то и дело приближается к пла-
менеющим рубежам».1
Рубежи эти представлены в череде описаний различного рода
снов, галлюцинаций, которые по своей жестокой изощрённости
равны описаниям столь любимого Юнгером маркиза де Сада. При
этом Юнгер, которому свойственно любую посылку выворачивать
наизнанку, берёт де Сада, соглашаясь, что он преступен, в каче-
стве образца для нового человека, исповедующего «героическое
мировоззрение как обязывающее»,2 ибо он решает все проблемы
сам, невзирая на общественные установления. Поэтому, заключает
Юнгер, «я... одобряю скорее преступное деяние, чем постыдное,
скорее убийство, чем предательство»,3 потому что в нём кроется
интеллект расы, не знающей сострадания.4 Такое понимание «герои-
ческой личности» обусловлено его постоянной готовностью к борьбе.
Книга, казалось бы, рассчитанная на то, чтобы укрепить союз
с национал-социалистами, была не понята ими. Геббельс сделал
примечательную запись в своём дневнике: «Жалко этого Юнгера.
«В стальных грозах» я только что перечитал. Там действительно
величие и героизм. Потому что за ними опыт крови. Теперь он
запирается от жизни в своей капсуле, и его писанина от этого —
всего лишь чернила, литература».5 Геббельса оттолкнула необычная
фактура этой книги, построенная по канонам сюрреализма, обильно
уснащённая описаниями и смакованием ужасных снов.
По большому счёту, к литературе эта книга имеет малое отно-
шение, здесь всесильный мастер пропаганды, сам, хотя и безуспеш-
но, попробовавший было заняться писательством, поторопился
отнести эту книгу к разделу литературы, несмотря на то, что это
1 Юнгер Э. Рискующее сердце. С. 146-147.
2 Там же. С. 237.
3 Там же. С. 241.
4 Там же. С. 238.
5 Цит. по: Микушевич В. Б. Комментарии // Юнгер Э. Рискующее сердце. СПб.,
2010. С. 310.
493
слово прозвучало в его устах как ругательство. Писателем в истин-
ном смысле понимания этого звания Юнгер, конечно, не был. Это
был эссеист фельетонистского склада (как это понимал Г. Гессе),
выдававший себя за философа, которым ему очень хотелось быть,
но и в этой ипостаси Юнгер мало в чём преуспел, по крайней мере,
на раннем этапе своего творчества. Попытки поставить Юнгера
в один ряд с Т. Манном, Г. Гессе и Г. Бенном на том лишь основа-
нии, что его творчеству была свойственна «метафизическая созер-
цательность», в доказательство чему приводятся отсылки к Гёте,
Ницше и Шопенгауэру, «у которых метафизическое созерцание уже
тяготело к художественной технике воображения»,1 а именно они
были кумирами Юнгера, представляются неубедительными. Юнгер
действительно гуляет по полям, возделанным этими титанами мыс-
ли, но ему не хватает их многогранности, глубины постижения суще-
го, их понимания человеческой души. Поэтому он и пробавляется
банальными высказываниями по тому или иному поводу, выдавая
их за некие прозрения вселенского масштаба. По крайней мере,
в 20-е годы в Германии таким пророкам не было числа, но каждый
из них «работал» на определённую публику, в случае с Юнгером
это были фёлькиш-националы всех мастей вкупе с офицерством,
называвшие себя «новыми националистами», считавшие себя пре-
данным и брошенным на произвол судьбы, и поэтому лихорадочно
искавшие себе применения под любым флагом. Юнгер был для них
тем человеком, который умело подогревал в них чувство отвержен-
ности и одновременно готовности преодолеть это состояние.
В этой связи естественными выглядят попытки Юнгера нала-
дить тесный политический союз с национал-социалистами. Правда,
поначалу, когда «новые националисты» ещё не ставили конкретных
задач по захвату государственной власти, Юнгер пытался всячески
поучать Гитлера, которого он считал «величайшим немецким ора-
тором»,2 предостерегая его от наметившейся в партии тенденции
к созданию «национально-буржуазного государства в духе западной
цивилизации»,3 той самой, которая повинна в крушении военной
1 Солонин Ю. Н. Дневники Эрнста Юнгера: впечатления и суждения / / Юнгер Э.
Излучения (февраль 1941 — апрель 1945). СПб., 2002. С. 740.
2 Цит. по: Prümm К. Vom Nationalisten zum Abendländer. Zur politischen Entwick-
lung Ernst Jüngers // Basis. Jahrbuch für deutsche Gegenwartsliteratur. Bd. 6.
Frankfuhrt / Main, 1976. S. 20.
3 Ibid. S. 21.
494
мощи Германии и установлении буржуазной демократии в стра-
не. В январе 1926 года Юнгер послал Гитлеру свою книгу «Пламя
и кровь» (»Feuer und Blut«, 1925) с трогательным посвящением
«Национальному фюреру Адольфу Гитлеру»,1 надеясь заинтересо-
вать фюрера идеями «консервативной революции». В 1929 году,
после известной конфронтации с национал-социалистами, Юнгер
публикует в журнале «Видерштанд» (»Widerstand«) статью «Чистота
средств» (»Reinheit der Mittel«), в которой прозвучала самая главная
мысль, беспокоившая не только сторонников Юнгера, но и всех
фёлькиш-националов, желавших прихода к власти Гитлера, мысль
о чистоте «движения», о нарастающей массовости нацистской пар-
тии: «От всего сердца мы желаем победы национал-социализму;
мы знаем его лучшие силы, чей энтузиазм наполняет его, и чья
воля к жертве не вызывает сомнения. Но мы также знаем, что он
может одержать победу только тогда, если он выкует своё оружие
из этого чистейшего металла, и если он откажется от всех добавок
из ломких остатков прошедшего времени».2
Именно в это сложное время и появляется книга Юнгера
«Рискующее сердце», которая должна была каким-то образом наве-
сти мосты между «консервативными революционерами» и наци-
онал-социалистами, выступить в роли некоего введения в мир
будущего сотрудничества. Однако собрание намёков и изысканных
суждений философического свойства, как известно, не вызвали
у нацистов восторга, и тогда Юнгер решает достаточно конкретно
изложить свои представления о будущем Германии в книге «Рабо-
чий. Господство и гештальт» (»Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt«,
1932). Книга эта носит итоговый характер общественно-политиче-
ских представлений Юнгера о будущем Германии. Прежде всего,
«Рабочий» — это политический манифест, в котором чётко опреде-
лена форма авторитарного государства закрытого типа с преиму-
щественным приоритетом техники, где человеку отводится роль
придатка этой техники. В известной мере «Рабочий» напоминает
собой и философский трактат, но лишённый научной обоснованно-
сти, ибо в нём слишком явно проступает беллетристическая основа
эмпатического свойства. Главный тезис Юнгера — гибель бюргера
и всего того, что связано с ним, и господство рабочего, чей образ
1 WulfJ. Literatur und Dichtung im Dritten Reich. Gütersloh, 1966. S. 6.
2 Prümm K. Op. cit. S. 21.
495
вбирает в себя все проявления человеческой натуры, ибо любая
деятельность человека есть работа, и эта работа должна находиться
под контролем авторитарного государства.
По сути дела, идеи и мысли, изложенные в ней, сродни неко-
ей программе национал-социалистской партии, хотя таковой она
и не мыслилась, где тотальное состояние войны провозглашается
основой существования нового общества, что, соответственно,
влечёт за собой полное бесправие личности, годной только для
сугубо технических целей: «Глубочайшее счастье человека состоит
в том, что он приносится в жертву».1 Именно поэтому рабочий
как таковой, не говоря уже о рабочем движении и социальных
проблемах, в рассуждениях Юнгера не подразумевается. Рабочий
в интерпретации Юнгера это механизм, который всегда можно
заменить по мере его выработанности.
Хотя основные положения книги Юнгера отвечали устремлени-
ям национал-социалистов, и как показало время, они реализовали
эти положения на практике, нацистская пресса приняла «Рабо-
чего» в штыки. Тило фон Тротта, личный секретарь А. Розенберга
и специалист по нордическим вопросам, разразился в «Фёлькишер
беобахтер» гневной статьёй, в которой обвинил Юнгера в «бесконеч-
ном резонёрстве», в отсутствии какого-либо интереса к проблеме
«крови-и-почвы», а самое главное, в «либерализме, в котором он
слишком глубоко и, надо полагать, безвозвратно погряз», ибо он
«отвергает крестьянство и расу, отрицает семью и ставит на одну
доску развитие событий в Китае и России на одну доску с нашими
событиями. Нам очень жаль Эрнста Юнгера. Мы считали его ког-
да-то одним из самых лучших писателей нашей письменности».2
Более того, рецензент журнала «Новая литература», выходившего
под началом ярого сторонника нацистов Вилла Феспера, посчитал,
что «книга Юнгера является исключительно большевистской».3
Любопытно, что такой же точки зрения придерживался и Эрнст
Никиш, бывший некоторое время соратником Юнгера по движе-
нию «консервативной революции», сторонник национал-больше-
визма, утверждавший, правда, уже после 1945 года, что в своей
книге Юнгер «преобразовал духовный образ русской революции
1 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. СПб., 2000. С. 136.
2 Trotta Т. von. Das endlose dialektische Gespräch // Völkischer Beobachter, 22.10.1932.
3 BognerH. Der neue Übermensch // Die Neue Literatur. November, 1932. S. 498.
496
и большевизм применительно к немецким воззрениям и образу
мыслей. Без русской революции эта книга была бы невозможна».1
Несмотря на все попытки Юнгера привлечь внимание нацист-
ского руководства к своим идеям, Гитлер его «не послушался»
и создал авторитарное государство милитаристского толка, где
военная машина находилась в услужении у крупной буржуазии,
её существование было обусловлено чисто материальными, эко-
номическими причинами, да и методы, применяемые нацистами
при построении этого государства, вызывали у Юнгера чувство
брезгливости. Писатель Эрнст фон Заломон, яркий представитель
радикального крыла революционеров правого толка, приводит
любопытное высказывание Юнгера, ясно характеризующее его
отношение к нацистам: «Я выбрал для себя наиболее высокую
площадку, откуда наблюдаю, как эти клопы поедают друг друга».2
Подобную позицию Юнгера можно назвать оппозиционной,
а его статус — «внутренний эмигрант», однако, в отличие от его
коллег такого же склада, оппозиционность Юнгера носила несколько
вызывающий характер: отказ стать членом нацистской «Акаде-
мии поэзии», отказ принять мандат депутата рейхстага от НСРПГ,
предложенный ему от имени Гитлера, открытый протест против
внесения его имени в число подписавших клятву верности фюре-
ру, резкое письмо в редакцию нацистского официоза «Фёлькишер
беобахтер» с запретом дальнейших публикаций на её страницах
его произведений, и, наконец, публикация романа «На мраморных
скалах» без получения одобрения «Партийной комиссии по защите
национал-социалистской письменности». Все эти поступки, оста-
вавшиеся почти без последствий, если не считать двух обысков
берлинской квартиры Юнгера, говорили об особом статусе писателя
в годы нацизма, который сохранялся до конца Третьего рейха.
Столь необычная форма оппозиции определялась в известной
мере высоким авторитетом Юнгера в военных кругах, с которыми
нацисты не собирались ссориться, хотя и пытались в 1934 году
во время кровавой расправы над непокорными штурмовиками
произвести чистку в армии. Широкая известность Юнгера среди
населения, почитавшего героев войны, также удерживала нацистов
свергнуть его с пьедестала всегерманского почёта. В свою очередь
1 Цит. по: Kiesel H. Ernst Jünger. Die Biographie. München, 2009. S. 396.
2 Salomon E. von. Der Fragebogen. Reinbek bei Hamburg, 1967. S. 246.
497
сам Юнгер, разочаровавшись в результатах прокламируемого им
ранее политического движения, назвав случившееся «ужасным
восстанием черни»,1 занял выжидательную позицию невмеша-
тельства в реальную политику, что, однако, не означало, что он
стал противником этой политики. Ряд положений, высказанных
Юнгером в «Рабочем», осуществились на практике. В эссе «О боли»
(»Über den Schmerz«, 1934) он с удовлетворением констатирует, что
«предзнаменования того, та сторона процесса, которая зиждется
на повиновении, тренировке и дисциплине, короче, на воле, осу-
ществлена в полной мере», и поэтому «для единичного человека
в практическом отношении (т.е. и для Юнгера.— Е.З.) вытекает
необходимость принять вопреки всему участие в вооружении,—
пусть он видит в нём подготовку к закату, пусть на холмах, где
обветшалые кресты, а дворцы превратились в руины, он ощутит
беспокойство, которое обычно предшествует воздвижению новых
полковых знамён».2 Подобные высказывания встречаются в его
произведениях времён нацизма часто, и это также придаёт его
оппозиции некий налёт аристократического стоицизма, дескать,
что с них взять, с этих оборванцев, хорошо хоть что-то из предло-
женного им они сделали. Несмотря на то, что это «что-то» означало
установление в стране авторитарного режима, устранение всех
проявлений демократии и внедрение в сознание масс понимание
значимости солдатских доблестей в противовес прочим прояв-
лениям обыденной жизни, именно массированное низведение
героического до обыденного, когда любой, а не избранник духа,
мог претендовать на лавры героя, вызвало у Юнгера отвращение,
желание вернуться к своему героическому прошлому. Не случайно
в 1936 году появляется его книга «Африканские игры» (»Afrikanische
Spiele«), написанная как бы в изгнании, в провинциальной прус-
ской глуши Гослара, эта книга сродни мемуарам, ибо в ней Юнгер
вспоминает время, проведённое им в Иностранном легионе, куда он
сбежал в поисках приключений. Несостоявшийся политик не у дел,
Юнгер отдаётся своим любимым занятиям — собиранию жуков,
растений, минералов, редких книг, и в этом также заключается его
1 Цит. по: Prümm К. Vom Nationalisten zum Abendländer. Zur politischen Entwicklung
Ernst Jüngers // Basis. Bd. 6 / Hrsg. v. R. Grimm und J. Hermand. Frankfurt /
Main, 1976. S. 25.
2 Юнгер Э. О боли // Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. СПб., 2000. С. 527.
498
оппозиция негероическому режиму. Именно здесь у него возникла
мысль написать роман-притчу «На мраморных скалах» (»Auf den
Marmorklippen«, 1939), в котором писатель достаточно прозрачно
высказывает своё неодобрение нацистскому режиму, хотя это
неодобрение, как признаётся Юнгер в 1972 году в послесловии
к новому изданию романа, «скорее снижено», чтобы можно было его
воспринимать как выражение «политических взглядов».1 В первые
послевоенные годы Юнгер выражался на этот счёт намного резче.
По свидетельству Т. Манна, Юнгер «сейчас, во время оккупации (т.е.
после 1945 года —Е. 3.), открыто заявляет, что смешно предпола-
гать, будто его книга имеет что-либо общее с какой-либо критикой
национал-социалистского режима».2 Об этом же свидетельствует
и корреспондент журнала «Шпигель», беседовавший с Юнгером
в январе 1950 года: «То, что роман „На мраморных скалах" является
книгой Сопротивления, Юнгер резко отрицает».3
Конечно, нацистская действительность давала Юнгеру опреде-
лённый материал для такого рода аллюзий, но использовал он его
не для отображения этой действительности, а сводил счёты с наци-
стами, использовав для этого форму мифологической фантазии
с элементами прозрачной аллегории, полной недоговорённостей,
отчего и возникает обширное поле для различных исключающих
друг друга толкований. Хотя Юнгер писал, что смысл его творчества
заключается в «изображении жизни в её вневременной значимо-
сти»,4 значимость эта просматривается довольно явственно. Более
того, он сам недвусмысленно дал понять в своих дневниках в 1942
и 1944 годов, что роман «На мраморных скалах» является книгой
о Третьем рейхе, заявив о своей опасной «халатности». Слова эти
были сказаны по поводу швейцарских рецензий, появившихся
сразу же после выхода романа, в которых подробно описывались
возможные отсылки на реальные события в Третьем рейхе.5 Уже
1 Jünger Е. Adnoten zu: »Auf den Marmorklippen« // Jünger E. Auf den Marmorklippen.
1973. Frankfurt / Main-Berlin-Wien S. 141.
2 Цит. по: Herz D. Wegbereiter der Barbarei? Thomas Nevins Versuch einer Rehabili-
tierung Ernst Jüngers // Die Zeit, 27.06.1997.
3 Anonym. Der Traum von der Technik // Der Spiegel, 1950. H.4. S. 39.
4 Jünger E. Garten und Straßen. Berlin, 1942. S. 78.
5 Юнгер Э. Первый Парижский дневник (С. 72-73); Кирххорстские листки (С. 670) //
Юнгер Э. Излучения (февраль 1941 — апрель 1945). СПб., 2002.
499
в первые послевоенные дни Юнгер заявил, что «процессы, про-
исходившие в Германии хотя и вписываются в рамки романа,
но специально я их не приспосабливал... То, что это и у нас могло
происходить, выглядело более чем вероятно, и то, что я именно
здесь в качестве свидетеля узнал, нельзя отрицать».1
Основная идея романа «На мраморных скалах» заключена
не в выражении протеста против нацистской действительности,
а в констатации глубокого разочарования по поводу крушения
надежд на создание общества в духе «солдатского национализма».
Как пессимистически заявляет герой романа, «моралист по-преж-
нему терпит поражение от практиков»,2 и поэтому Юнгер как бы
возвращается на прежние позиции, надеясь переждать политиче-
ское ненастье с тем, чтобы в другом времени и с другими людьми
попытаться осуществить свои планы на практике в том формате,
который изложен был в его «Рабочем».
Рассказчик и его брат Ото, в котором нетрудно угадать черты
брата Э. Юнгера поэта Фридриха Георга Юнгера, живут на вершине
мраморной горы в уединении, напоминающем монастырский скит,
расположенном в некоей экзотической миролюбивой стране Мари-
на, являющейся средоточием духовности. Братья изучают природу,
собирают гербарий, работают в саду, много времени уделяют кни-
гам, словом занимаются тем же, чем занимался и Юнгер, покинув-
ший Берлин, не желая иметь ничего общего с новыми властителями.
На севере Марины находится Кампания, страна язычников и пасту-
хов, страна «болот и тёмных установлений, из которых исходит
угроза кровавой тирании»,3 страна, «дававшая первое убежище всем
тем, кто вынужден был покинуть Марину»,4 т.е. тем, кто был в нела-
дах с законом. Этой страной правит «главный лесничий», который
намеревается захватить Марину. Для начала в Марине «повсюду рас-
плодились его консультанты, которые защищали от суда неправое
1 Цит. по: Kiesel H. Ernst Jüngers Marmor-Klippen // IASK online D.5.. Следует заме-
тить, что цитата эта, как утверждает Кизель, взята им из книги Э. Юнгера «Хижина
в винограднике» (Op. cit. S. 27 — Zitat 30), однако этой цитаты нет ни в русском
переводе (Э. Юнгер. Годы оккупации. СПб., 2007), ни в оригинале (Jünger Е. Strah-
lungen II. Kirchhorster Blätter. Jahre der Okkupation. München, 1966).
2 Jünger E. Auf den Marmorklippen. Frankfurt / Main, Berlin, Wien, 1973. S. 39.
3 Ibid. S. 35.
4 Ibid. S. 37.
500
дело и создавали открыто в маленьких портовых кабачках союзы.
За их столами можно было теперь видеть картины, подобные тем,
что случаются у пастбищных костров — здесь торчали старые пасту-
хи... рядом с офицерами, которые сидели со времён Альта Плана
(кайзеровской Германии. — Е. 3.) на половинном денежном доволь-
ствии; и всё, что по обе стороны мраморных плит в недовольном
или жаждущем изменений народе жило, обычно бражничало здесь
и толпилось как в штаб-квартирах. Беспорядок смогло увеличить
только то, что сыновья знати и молодые люди, думающие, что насту-
пил час новой свободы, также участвовали в этом движении. Они
толпились вокруг литераторов, которые начали подражать песням
пастухов, и теперь прохаживались по проспектам, одетыми вме-
сто шерстяных или льняных костюмов в грубошёрстные лохмотья
и с жёсткими дубинками в руках».1
При всей прокламируемой Юнгером отстранённости от реаль-
ных событий в этих строках, как и во всей книге, читатель встре-
чается с довольно прозрачными аллюзиями, напоминающими
о конкретных политических событиях. В данном случае речь
идёт о начале возникновения нацистского движения в Германии,
о пристрастии нацистов проводить свои сходки в пивных кабаках,
а грубошёрстные лохмотья — это униформа нацистов. Адресаты
названы более чем ясно.
Для того чтобы легче захватить власть в Марине, «главный лес-
ничий» велел «сеять страх среди населения, сначала в малых дозах,
но потом постепенно увеличивая слухи для того, чтобы ослабить
сопротивление»,2 так что в конечном итоге «ужас царил повсюду
и принял маску порядка».3
«Главный лесничий» наделён у Юнгера такими чертами, что
напоминает многих диктаторов того времени: «„Главным лесни-
чим" объявляли то Гитлера, то Геринга, то Сталина. Нечто подобное
я предвидел, хотя и не стремился к этому. Идентичность челове-
ческих типов определяется совершенно иными законами, нежели
идентичность индивидуальных персонажей социального романа.
Во всяком случае, не существует таких условий, при которых
была бы невозможна творческая деятельность. Внимание к нему
1 Jünger E. Auf den Marmorklippen. S. 39-40.
2 Ibid.. S. 45.
3 Ibid. S. 47
501
возрастает вместе с риском, который появляется, как только пре-
кращается свобода прессы».1
Для вящей убедительности диктаторской сущности «главного
лесничего» Юнгер описывает живодёрню, которую братья обнару-
жили в глубине лесов. Отрубленные головы, прибитые к деревьям
человеческие руки, горы человеческого мяса, облепленного мухами,
и среди них прохаживает, напевая песенку, маленький человечек,
разделывая тела казнённых противников «главного лесничего» для
кружащих над живодёрней хищных птиц. Несомненно, что эти
картины поругания человеческого достоинства напомнили читате-
лям слухи о зверствах, творимых в концлагерях, в подвалах тюрем.
Но эти же картины напомнили читателям других стран о страдани-
ях заключенных в советских лагерях, когда книга Юнгера вышла
после 1945 года «самиздатом» на Украине и в Литве, а в 1971 году
официально вышел её перевод в Бухаресте.2
В попытке противопоставить разгулу бандитов «главного
лесничего» хоть какую-то силу к братьям приезжают их друзья
из Мавритании, среди них — противник «главного лесничего» Брак-
мар, «небольшого роста, темноволосый, сухопарый, которого мы
находили несколько грубовато жёстким, но, как и все мавританцы,
не лишённый остроумия,., человек, не боящийся препятствий,.,
склонный к утопиям»,3 «чистый техник власти, который всегда видел
только мелочи и никогда не обращал внимания на суть вещей».4
Все эти черты характера Бракмара напоминают Геббельса. Юнгер
отчасти согласен с этим предположением, да и сам Геббельс, как
вспоминает Юнгер, «считал, что портрет списан с него».5 В этом нет
ничего удивительного, потому что Геббельс всячески хотел перема-
нить Юнгера на свою сторону. Юнгер достаточно часто общался
с Геббельсом в неформальной обстановке, у него дома, на свадьбе
Арнольда Броннена, известного драматурга, в одночасье сделавше-
гося из красного в коричневого, на выступлениях Геббельса, на пре-
мьере пьесы X. Йоста «Шлагетер», но сближения не получилось.
Тем не менее, Геббельс не терял надежды, строя «золотые мосты»
1 Юнгер Э. Годы оккупации (апрель 1945 — декабрь 1948). СПб., 2007. С. 85.
2 Junger E. Adnoten zu: »Auf den Marmorklippen«. S. 141.
3 Jünger E. Auf den Marmorklippen. S. 89-90.
4 Ibid. S. 99.
5 Юнгер Э. Годы оккупации. С. 85.
502
для отступления, закрывая глаза на многие прегрешения Юнгера,
малая часть которых для других обернулась бы в лучшем случае
заключением в концлагерь, если не физическим уничтожением.1
Эти контакты Юнгера с властью были своеобразными смотринами,
нужные ему для того, чтобы осознать полностью невозможность
сотрудничества с нацистским режимом.
Вместе с Бракмаром к братьям приехал и молодой мавритан-
ский князь Сунмира, представитель образованной аристократии,
«благородный ум, почитавший справедливый порядок, но вёл себя
как ребёнок, отважившийся отправиться в леса, где волки воют»,2
готовый ради спасения Марины пожертвовать своей жизнью. Оба
они, безоружные, отправляются во владения «главного лесничего»,
и когда братья вместе с бойцами дружелюбного к ним охотничьего
племени вступают в бой с отрядами «главного лесничего», состоя-
щего из подонков общества, они натыкаются на частокол вокруг
живодёрни, на концах которого возвышались отрубленные головы
Бракмара и Сунмиры.
Этот эпизод после неудавшегося в 1944 года покушения на Гит-
лера приобрёл особую значимость, стал неким предвидением Юнге-
ра. На следующий день после покушения он записывает в своём
дневнике: «...я давно уже убеждён в том, что покушения мало что
меняют и уж, во всяком случае, ничего не улучшают. Я заметил это
уже в образе Сунмиры в „Мраморных скалах"».3
В данном случае важно не то, о чём пишет Юнгер в своём днев-
нике, а то, что в романе он фиксирует собственный отход от его
ранних воззрений на необходимое сотрудничество с нацистами.
Два высказывания рассказчика по этому поводу являются своего
рода вехами, определяющими отношения Юнгера с нацистами.
Если вначале, слушая хвастливые рассказы некоего капитана о том,
как его самолёты «во время восстания в Иберийской провинции...
превратили в пепел Сагунту» (здесь возникает тема разрушения
Герники во время испанской войны), рассказчик и его брат поду-
мали: «Лучше уж с этими погибнуть, чем жить с теми, кто вынужден
валяться в пыли от страха»,4 то теперь, увидев отрубленные головы
1 Юнгер Э. Годы оккупации. С. 86-88.
2 Junger Е. Auf den Marmorklippen. S. 99.
3 Юнгер Э. Излучения. С. 609.
4 Jünger E. Auf den Marmorklippen. S. 29
503
своих друзей, рассказчик восклицает: «...лучше вместе со свобод-
ными пасть, чем с наёмниками справлять триумфы».1
Отряды братьев и охотничьего племени терпят поражение, бан-
диты «главного лесничего» грабят дома, горят города, разрушаются
храмы. Особое удовольствие доставляло одному из военачальников
«главного лесничего» «набрасываться на писателей, поэтов и фило-
софов Марины».2 Тем не менее, благодаря случаю, а также тому,
что братья и их друзья знали этого военачальника по временам их
пребывания в Мавритании, им удалось беспрепятственно покинуть
погибшую Марину.
По большому счёту, роман «На мраморных скалах» это не эпи-
тафия Третьему рейху, хотя сам Юнгер своим холодным умом пре-
красно понимал уже в 1942 году, что поход на Восток провалился,
и падение рейха вопрос времени. Здесь важно отметить то обстоя-
тельство, что это произведение задумывалось как крушение куль-
туры, любой культуры, которое происходило и будет происходить
всегда: «Не строится ни один дом, не создаётся ни один план, в кото-
ром гибель не становилась краеугольным камнем, и в наших трудах
не покоится то, что непреходяще в нас живёт. Это становится ясным
в пламени, и всё же в его блеске есть и весёлость».3 Завершающая
роман панорама горящего города, погибающие в огне картины,
книги, рушащиеся дворцы и храмы, вся эта вакханалия уничто-
жения в огне Марины, как это ни странно, хорошо сообразуется
с известными идеями национал-социалистов об очищающей силе
огня и культе смерти. Достаточно вспомнить истовую речь Геббельса
на церемонии сжигания книг на Опернплатц в 1933 году; «Здесь
уничтожаются духовные основы ноябрьской революции, но из их
пепла победоносно поднимается феникс нового духа».4 Правда,
эстетика ужаса обретает у Юнгера несколько иной характер, в ней
практически нет никаких эмоциональных всплесков, их заменяет
холодное восхищение актом уничтожения вековой культуры, ощу-
щение трагического величия проявлений витальных сил жизни,
сопряжённое с уверенностью обретения новой, более высокой
и более изысканной культуры, не имеющей ничего общего с реальной
1 Jünger Е. Auf den Marmorklippen. S. 120.
2 Ibid. S. 134.
3 Ibid. S. 131.
4 Цит. по: Brenner H. Die Kulturpolitik des Nationalsozialismus. Hamburg, 1963. S. 116.
504
действительностью. Опять, как и в идеологии национал-социализма,
на первый план выступает пресловутый «футурум II», неопределён-
ное будущее, о котором так грезили нацистские барды.
В этой связи становится понятной и реакция правящих кругов
Третьего рейха, не говоря уже о прессе, на книгу Юнгера. Несмотря
на то, что председатель контрольной комиссии по защите нацио-
нал-социалистской письменности Булер буквально сразу же после
выхода в свет романа «На мраморных скалах» обратился с жалобой
к Гитлеру, каких-либо ответных действий не последовало.1 Вероятно,
власти, не без подачи Геббельса, польщённого быть запёчатлённым
Юнгером (в отличие от Клауса Манна в его романе «Мефистофель»)
чуть ли не в трагическом облике, решили просто не обращать вни-
мания на опасные аллюзии политического свойства с тем, чтобы
не действовать по известной пословице «на воре шапка горит».
Литературная критика пребывала в некотором недоумении, не зная,
как толковать, учитывая бросающиеся в глаза аналогии из реальной
действительности, появление этой книги — был ли это взброс инфор-
мации на предмет проверки реакции общественности, хотя таковой
в нацистской Германии, как известно, не существовало, или это
свидетельство каких-то надвигающихся радикальных изменений
в недрах партии, и столь откровенно написанный роман следует
рассматривать как некий знак грядущих изменений в политической
жизни страны.
Понадобилось всё умение Вильгельма Эммануэля Зюскинда
(Süskind, Wilhelm Emmanuel), писателя и опытного редактора, что-
бы лишить протестные аллюзии в романе Юнгера их силы и убедить
читателя в том, что не содержание есть основа художественного
произведения, а характеры и позиция писателя. В обширном всту-
плении к своей статье под знаменательным названием «Два чёр-
ных рыцаря» (»Zwei schwarze Ritter«, 1939) Зюскинд представляет
гипотетический диалог юной читательницы с писателем, который
наставляет её (и читателей романа Юнгера), как следует понимать
произведение современного автора. В интерпретации Зюскинда
Юнгер предстаёт в образе «чёрного рыцаря» из романов Вальтера
Скотта, являясь олицетворением «строгости, серьёзности, способно-
сти бесстрашно мыслить на руинах... Он предстаёт в роли чёрного
рыцаря потому, что как таковой он не может выступить с открытым
лицом в виде фигуры из наивных времён писательства, потому
1 Jünger Е. Adnoten zu: »Auf den Marmorklippen«. S. 140.
505
что он, скажем по причине своего технического грехопадения,
естественно, человек знающий. Он действительно подвергается
воздействию неслыханных событий и неслыханных толкований этих
событий; он знает, что он не напишет никакого романа в обычном
духе; так как художнику верные берега традиционных форм милы
и приятны, он обладает чувством мореплавателя, для которого его
компасом являются только мужество и сердце, и кто знает, как мало
сочувствующих сердец прочувствуют всю смелость его предприя-
тия! Собратья по перу будут порицать его теми же словами, какие
он мог бы сказать ведь и сам себе, что под его руками его рассказ,
его роман выливаются в проповедь, галлюцинацию, стихотворение,
свободный ритм, или, если хотите, в выродившееся искусство, что
и в порицании обнаружится другое, что он одиночка, пытается
обеспечить себе успех негодными средствами и занимается эсте-
тическими играми».1
Все эти рассуждения носят не только защитный характер, ибо
Зюскинд, тёртый калач в журналистике,2 великолепно понимает
истинную сущность романа Юнгера, но являются и блестящим при-
мером литературной критики времён Третьего рейха, хотя таковая,
как известно, была давно уже запрещена.
Последующий анализ романа «На мраморных скалах» наводит
Зюскинда на мысль о том, что в нём наличествует итоговый элемент,
своеобразный расчёт с несбывшимися надеждами: «Рассказываю-
щее «Я», в котором, однако, в большинстве случаев говорит менее
торжественное, выдающее наличие некоего тайного братства «Мы»,
описывающего осень и гибель... цветущего идиллического мира
пастухов и виноградарей, в котором сокровеннейшая, келейная
суть этого рассказываемого «Мы» предавалась естественно-научной
и экологической монашеской деятельности».3 В этих словах можно
1 Süskind W. E. Zwei schwarze Ritter. Zu zwei neuen Bücher // Die Literarur, 14.11.1939.
H. 2. S. 99.
2 В. Э. Зюскинд (1901-1970), умевший ладить с нацистскими властями, но не являв-
шийся проводником идей национал-социализма, издавал с 1933 по 1943 гг. жур-
нал «Литература» (»Die Literatur«), который был своеобразным антиподом журнала
«Новая литература» (»Die Neue Literatur«), издававшимся Биллом Феспером, истовым
нацистом. Одновременно Зюскинд был литературным критиком газеты «Франк-
фуртер цайтунг» (»Frankfurter Zeitung«), а после её запрета — редактором «Кракауэр
цайтунг» (»Krakauer Zeitung«), печатался также в журнале «Рейх» (»Das Reich«), т.е.
представлял терпимую и отчасти нужную нацистам для представительских целей
либеральную критику.
3 Süskind W.E. Op. cit. S. 99.
506
усмотреть намёк на действительное разочарование не только Юнге-
ра, но и ряда значительных фигур из лагеря фёлькиш-националов,
по поводу несостоявшегося союза с национал-социалистами. Одни,
как Юнгер и его соратники из «новых националистов», мечтали
с их помощью создать некое государство военных, другие, и их
большинство, надеялись использовать нацистов для возвращения
старой Германии. Но, если последние, удалились в свои поместья
и там предавались, злобствуя, скорби, то первые, по крайней мере,
Юнгер уж точно, отступили на прежние позиции и постарались
придать своему поражению вселенский масштаб, хотя и несколько
карнавального свойства. Эту особенность романа Юнгера впослед-
ствии отмечали многие исследователи, видя в этом естественную
смену культурного ареала космического порядка, но в данном слу-
чае Зюскинд видит в таком смешении всех и вся во вневременном
аспекте способ избежать опасности запрета или каких-либо других
неприятностей: «Юнгер показывает свои знания и своё искусство
обыгрывания не ради сатирических, а ради художественных, лучше
сказать, провидческих целей...»1 Недаром далее критик приводит
развёрнутое сравнение с картинами Брейгеля, как бы говоря тем
самым, что у каждого художника своё восприятие конца света,
и в этом нет ничего удивительного: «Значит ли это, что книга Юнге-
ра является возвышенным, как и внушающим ужас чтением? Что
читатель ощутит изо всех сил в этом ледяном ветре вневременья,
даже содрогаясь от ужаса, что tua res agitur?2 Тем не менее, эта
книга написана намного мягче, чем её предшественницы; некая
скрытая чудодейственная сила наряду с жестокостью и ужасом,
какая-то печаль, некое сочувствие с цветами и кротостью лежат
почти «неюнгеровски» на ней, не говоря уже о том, что она достав-
ляет единственное в своём роде языковое удовольствие».3
Краткая анонимная рецензия в журнале «Цванцигсте ярхун-
дерт» (»Das XX. Jahrhundert«), считавшегося по своим представи-
тельским целям родственным журналу «Рейх», отмечена священным
ужасом как перед смелой «аллегорией мира» в книге Юнгера, так
и перед «исключительностью этого произведения в литературе,
1 Süskind W.E. Op. cit. S. 100
2 Незаконченная фраза известного изречения Горация: Nam tua res agitur paries
cum proximus ardet — Твой в опасности дом, стена коль горит у соседа (Пер.
Н. Гинцбурга)
3 Süskind W.E. Op. cit. S. 100.
507
сравнивая его с картиной великого немецкого живописца эпохи
Возрождения Альбрехта Альтдорфера «Битва Александра»: «Своей
книгой «На мраморных скалах» Юнгер вступил из мира внешнего
в мир внутренний, и мы должны за ним последовать».1
Столь дружное признание романа Юнгера критикой не могло
произойти само по себе, здесь явно ощущается рука министра
пропаганды. В этом смысле примечателен восторженный отзыв
Г. Лангенбухера, литературного папы Третьего рейха, который
писал, что «в последнем произведении, романе «На мраморных
скалах», изображено противостояние духа и хаоса, представлен-
ное как в провидческом, так и в очень современном духе, которое
по форме и содержанию вряд ли возможно соотнести с обычными
масштабами и в своей беспощадности и одновременно миролюбии
являет собой единственное в своём роде и неповторимое явление».2
Однако в годы войны отношение нацистов к этой книге Юнге-
ра изменилось, ибо реальная действительность слишком уж явно
стала отвечать картинам гибели государства Марины. Хотя коман-
дование вермахта, несмотря на трудности с бумагой, издало роман
«На мраморных скалах» в серии книг, предназначенных для сол-
дат,3 и А. Бартельс в своем опусе «История немецкой литературы»,
напоминающем бухгалтерский отчёт о состоянии дел в немецкой
письменности, опубликованном в 1942 году, упоминает название
романа Юнгера,4 то А. Мулот в книге «Немецкая литература нашего
времени», вышедшем в 1944 году, характеризуя основные произве-
дения Юнгера, вообще не упоминает роман «На мраморных скалах».5
В этом есть определённая закономерность, если учесть, что
и Геббельс вскоре заметно охладел к своему, как ему, вероятно,
мыслилось, «придворному живописцу». Прочитав рукопись военного
дневника Юнгера, охватывавшего период с 1939 по 1940 годы, т.е.
период французской кампании, Геббельс явно обеспокоился тем,
что вместо описаний победного шествия немецких войск по доро-
гам Франции дневник полон каких-то бессвязных глубокомыслен-
ных заметок, прозаических деталей и абсолютным безразличием
1 ... m... Magische Landschaft // Das XX. Jahrhundert. 1939. S. 560.
2 Langenbucher H. Volkhafte Dichtung der Zeit. Berlin, 1940. S. 530.
3 Junger E. Adnoten zu: »Auf den Marmorklippen«. S. 141.— Год издания этой книги
неизвестен.
4 Bartels A. Geschichte der deutschen Literatur. Berlin, Hamburg, 1942. S. 747.
5 Mulot A. Die deutsche Dichtung unserer Zeit. Stuttgart, 1944. S. 28-31.
508
к самим военным событиям. В своём дневнике Геббельс сделал
19 ноября 1941 года достаточно многозначительную запись: «Эрнст
Юнгер с головой погрузился в бесплодное философствование.
В начале войны он снова добровольно отправился в армию; принял
участие в различных походах и проявил храбрость, показал себя
наделе; но его литературщина становится невыносимой. Было бы,
вероятно, неплохо при случае его немного отчитать и по-новому
настроить. Он всё больше изолируется от движущих сил времени
и рискует превратиться в литературного отшельника. Было время,
когда он писал хорошие и действенные книги. Вероятно, он слиш-
ком долго был предоставлен самому себе. При первой же возмож-
ности я попытаюсь его поймать и объяснить ему мою позицию».1
Неизвестно, «поймал» ли Геббельс Юнгера, но военный днев-
ник Юнгера «Сады и дороги» (»Gärten und Straßen«) без каких-либо
изменений вышел в 1942 году в Германии и в этом же году —
во Франции. Этот год стал последней датой публикаций Юнгера
и годом ухода этого любимого диссидента фюрера во «внутреннюю
эмиграцию», ухода, прямо скажем, немного театрального в своей
откровенности.
Однако это не означало его ухода из политики, о чём сви-
детельствуют достаточно тесные контакты Юнгера с будущими
организаторами известного офицерского заговора против Гитлера
в августе 1944 года, и контакты эти можно рассматривать как
проявление протестных интенций. Правда, в этом случае ореол
всенародного кумира, как, вероятно, и слабость, которую фюрер
испытывал к бывшему герою Первой мировой войны, своего рода
собрату по оружию, спас Юнгера от мучительной казни, которой
подверглись участники этого заговора. В 1986 году обнаружилось
письмо президента «Народной судебной палаты» Роланда Фрайслера
(Freister, Roland), печально прославившегося своими жестокими
приговорами противникам нацистского режима и возглавлявшим
суд над заговорщиками, направленное им начальнику партийной
канцелярии Мартину Борману. В письме сообщалось, что в соот-
ветствии с личным указанием фюрера, переданному Фляйсеру
по телефону, он прекратил следствие в отношении Юнгера. Гитлер
решил сам ознакомиться с тремя томами этого дела, и 1 декабря
1944 года издал соответствующее распоряжение.2
1 Цит. по: BarbianJ.-P. Op. cit. S. 83.
2 Солонин Ю. H. Дневники Эрнста Юнгера: впечатления и суждения // Юнгер Э.
Излучения (февраль 1941 — апрель 1945). СПб., 2002. С. 758.
509
Так бесславно закончились протестные попытки Эрнста Юнге-
ра против национал-социалистского режима, но тот факт, что он
использовал любую возможность выразить своё отрицательное
отношение к нему, говорит не столько о его решительном неприятии
этого режима, сколько о стремлении преобразовать это порождение
неправильно истолкованных идей в нечто, отвечающее его замыслам.
Эрнст Юнгер, несомненно, является значительным явлением
в культурной жизни времён Веймарской республики и Третьего
рейха. Однако воспринимать его как писателя в традиционном
смысле этого слова было бы неверно хотя бы потому, что его проза
не вызвала какого-либо отклика в художественной среде по при-
чине чрезмерной политической нагруженности, едва прикрытой
эссеистским флёром. Из современников, пожалуй, только Фридо
Лампе, да и то по причине жалкого состояния немецкой литературы
времён нацизма, обратил внимание на Юнгера: «Я лично придер-
живаюсь невысокого мнения о романах молодых немецких авторов.
Они, наверное, хорошо продаются, но они однообразны... Поэтому
примечательно, что самой лучшей повествовательной прозаической
книгой нашего времени является „Авантюрное сердце" Юнгера,
в котором фрагменты, каприччио суть первые шаги по созданию
нового вида магического повествования, и нечто подобное, но, есте-
ственно, совершенно другим образом, я хотел бы продолжить».1 Лам-
пе увидел в «Авантюрном сердце» только техническую возможность
мгновенно обозреть постоянно меняющуюся действительность,
что отвечало его поискам новых художественных средств письма,
в то время как Юнгер озабочен был приданием публицистике белле-
тризованной окраски. В качестве публициста, скрывавшегося под
маской писателя, он продолжал свою литературную деятельность
и после крушения Третьего рейха, оставаясь и в это время в опре-
делённой оппозиции к правительству К. Аденауэра.
Несколько особняком в череде протестных произведений
стоит Фридрих Персифаль Рек-Маллецевен (Reck-Malleczewen,
Friedrich Percyval; 1884-1945),2 писатель далеко не первого ранга,
1 Lampe F. »Ein andauernder hoffnungsloser Kampf mit dem Chaos...«. Briefe an und
von Eugen Claasen // Die Hören. 1996. Nr. 181. S. 167.
2 Иногда его книги выходили под фамилией Рек (Reck), а само имя писателя из Фри-
дриха трансформировалось в Фриц (Fritz). См. например: Fritz Reck-Malleczewen.
Bockelson. Berlin, 1937.
510
прославившийся романами «Бокельсон. История одного массово-
го безумия. История мюнстерских перекрещенцев» (»Bockelson.
Geschichte eines Massewahns. Die Geschichte der Wiedertäufer
von Münster«, 1937) и «Шарлотта Корде. История одного покуше-
ния» (»Charlotte Corde. Geschichte eines Attentates«, 1938), в кото-
рых достаточно прозрачно просматривались аллюзии, связанные
с нацистской действительностью. Сын прусского помещика и кон-
сервативного депутата, Рек-Маллецевен являлся истым представи-
телем консервативной революции, программа которой определялась
«восстановлением в своих правах всех тех элементарных законов
и ценностей, без которых человек теряет связь с природой и богом
и не может воссоздать истинный порядок»,1 а проще говоря «про-
тивостоять оценочным постулатам и социальным формам либе-
рального мира, возникшего после 1789 года»,2 т.е. достижениям
Великой Французской революции.
Если Р. Шнайдер, В. Бергенгрюн, С. Андрее, Г. фон Ле Форт,
Р. Хух и ряд других авторов, ставивших во главу угла своих исто-
рических романов проблему религиозного неприятия нацистского
режима, воспринимали национал-социализм сквозь призму религи-
озных постулатов как некое явление антихриста, как зло во плоти,
то Рек-Маллецевен, обличая нацизм и особенно Гитлера, по сути дела
обличал всю цивилизацию XX века, ибо все его гневные инвективы
питались ненавистью феодала против засилия массы. Эти настрое-
ния писателя проявились в его утопическом романе «Падение зверя.
Конец одной механической системы» (»Des Tieres Fall. Das Schicksal
einer Maschinerie«, 1930), где он предвещает «конец западно-аме-
риканской цивилизации», который произойдёт не по причинам
экономического свойства, а чисто биологически, как это бывает
с человеком, выработавшим свой жизненный ресурс, и тогда мир
вернётся к своей извечной природной сущности: «Я вижу, как земля
дрожит и испускает огненные факелы и вижу, как уничтожаются
многочисленные творения рук человеческих. Но смотрите, над
огромным исчезающим городом, о котором я рассказывал, теперь
больше не летают коршуны. Повсюду ощущается свежий запах
моря, и появились огромные стаи диких лебедей, которые теперь
кружат над землёй. Ах, как долго не слышен был шум их крыльев,
1 Jung Е. Deutschland und die konservative Revolution. München, 1932. S. 380.
2 Ibid. S. 156.
511
подобный песне!»1 Примечательно, что восторженное предисловие
к этому роману написал не кто иной как Эдвин Эрих Двингер
(Dwinger, Edwin Erich; 1898-1981), «помещик земли русской», как его
иногда называли, активный сторонник нацистской партии, рато-
вавший в годы Второй мировой войны за возрождение крестьян-
ства на захваченных русских землях. Не менее примечательно и то,
что благоприятный отзыв на роман Ф. Рек-Маллецевена и несколько
глав из него были опубликованы в органе фёлькиш-националов
«Дойчес фолькстум» (»Deutsches Volkstum«), отличавшемся особой
приверженностью консервативной идеологии.2 Впрочем, и либе-
ральная печать, но со своих позиций, приветствовала выход книги
Рек-Маллецевена, посчитав «борьбу против антихриста... великой
задачей нашего столетия».3
Ненависть Рек-Маллецевена к нацистам вызвана и разочаро-
ванием кондового консерватора в игнорировании ими идейных
заветов «консервативной революции», хотя Гитлер при встрече
с лидерами этого политического течения в 1922 году заявлял: «У вас
есть всё, чего мне недостаёт. Вы возводите духовный каркас для
обновлённой Германии. Я же только барабанщик и собиратель.
Давайте работать вместе».4 Однако всё обернулось не так, как это-
го желали консерваторы, и от этого ненависть Рек-Маллецевена
к нацистам обретает ещё большую силу. В каком-то смысле его
исторические произведения, хотя и в иной тональности, находятся
в одном ряду с романом Эрнста Юнгера «На мраморных скалах»
(»Auf den Marmorklippen«, 1939). Юнгер, как и идеологи «консерва-
тивной революции» Мёллер ван ден Брук и Э. Юнг, пытался руко-
водить Гитлером, но он его не «послушался», отчего и происходит
их общая ненависть к нацистскому режиму, у Юнгера — холодная,
у Рек-Маллецевена — бурная.
1 Reck-Malleczewen F. Des Tieres Fall. Das Schicksal einer Maschinerie. München,
1930. S. 268.— Вообще-то роман этот публиковался ещё в 1925 г., но, как заметил
Э. Э. Двингер, «Европа тогда ещё верила в американский рай», и поэтому кри-
тика обошла это произведение Ф. Рек-Маллецевена вниманием (Вегдепдгыеп W.
Wider den Antichrist // Deutsche Rundschau. Juni 1931. S. 246).
2 St. (Stapel, Wilhelm). Das Ende der westlichen Zivilisation // Deutsches Volkstum.
Hamburg, 1930. H. 11. S. 872-873.
3 Bergengruen W. Wider den Antichrist / / Deutsche Rundschau, Juni 1931. S. 246-247.
4 Цит. по: Галкин A.A., Рахшмир П. Ю. Консерватизм в прошлом и настоящем. М.,
1987. С. 89-90.
512
На протяжении почти всего существования Третьего рейха
творческая деятельность Рек-Маллецевена проходила успешно
и практически не вызывала у нацистких властей особых тревог.
Более того, в 1934 году в разгромной статье «Вместо некоего особого
предисловия!» (»Statt eines besonderen Vorwortes!«), предшествовав-
шей запрету в декабре этого же года национал-большевистского
журнала левого крыла нацистской партии «Видерштанд» (»Wider-
stand«), официальный литературный надзорный орган «Бюхеркунде»
особо выделил Рек-Маллецевена, опубликовавшего в «Видерштанд»
статью «Вечная Жиронда» (»Ewiges Gironde«). Попеняв слегка
Рек-Маллецевена за то, что в его статье отсутствуют высказыва-
ния Гитлера, редакция замечает, что он «не вписывается в рамки
этого журнала... Он соответствовал бы нашему духу... если бы он
находился в более приличной компании. Мы не можем это оконча-
тельно определить, потому что одна отдельная статья не является
достаточно показательной».1
Сомнения редакции «Бюхеркунде» относительно принадлеж-
ности Рек-Маллецевена «нашему духу» не лишены оснований,
однако они сомневались не в принадлежности писателя их «духу»
как таковой (хотя именно в этом-то и нужно было сомневаться!),
а в степени его принадлежности к нацизму. Эта же коллизия
повторится потом и в реакции нацистской критики на его исто-
рические романы. Руководству «Бюхеркунде» пришлось по душе
то, что Рек-Маллецевен с жаром поносит Французскую революцию
с позиций именно «почвы и крови», обвиняя во всех бедах «финан-
совых воротил и „образованных"». «Место аристократии, вождей,
рождённых из крови и почвы, заступил узаконенный в качестве
руководства государством банковский счёт...»2 Собственно, здесь
уже проявились основные признаки претензий Рек-Маллецевена
к нацистам, хотя восприняты они были совсем по-иному, ибо отве-
чали их пропагандистским надобностям.
На Рек-Маллецевена обратили внимание, однако на следующий
год это же издание подвергло довольно резкой критике его сборник
эссе «Восемь заветов для немцев» (»Acht Kapitel für die Deutschen«,
1934), в котором с феодальных позиций подвергались критике тех-
низация крестьянского хозяйства, чрезмерное присутствие власти,
1 Anonym. Statt eines besonderen Vorwortes! // Bücherkunde, 1934. 11.—12. Folge.
S. 203.
2 Ibid. S. 203
513
когда, «начиная от собачьих блох и кончая коллекционированием
марок вся пёстрая жизнь народа должна быть централизована
и организована... Давайте всё же не будем придавать значения
всем этим детским забавам, трусливо и бесчестно сваливать всю
вину на евреев и не замечать того, сколько арийских паразитов
истачивают Германию».1 При этом никто не беспокоится об опас-
ности, грозящей Германии с Востока: «От русского народа исходит
новая религиозная волна, которая уничтожит прогнивший Запад».2
Писателю, который мыслил себя пророком (так, по крайней
мере, представляет Рек-Маллецевена в предисловии к его книге
некий доктор Эрих Мюллер), быстро напомнили о том, кто в доме
хозяин: «...немецкий народ не нуждается в таких пророках как
Фриц Рек-Маллецевен, нет никакой надобности в «пророках» после
того, как найден был вождь...»3 Более того, писателю открыто
напомнили, что вождь в состоянии «терпеть льющуюся через край
пену до тех пор, пока этого требует великий процесс плавки, но он
её и сотрёт, если она начнёт становиться ядовитой...».4
Казалось бы, после таких неприкрытых угроз литературная
судьба Рек-Маллецевена была предрешена, однако уже в 1936 году
журнал ведомства А. Розенберга «Гутахтенанцейгер» (»Gutach-
tenanzeiger«) положительно отнёсся к роману Рек-Маллецевена
«Прак — образец мужчины» (»Ein Mannsbild namens Prack«), который
лёг в основу кинофильма «Палач, женщины и солдаты» (»Henker,
Frauen und Soldaten«, 1935). И в этом нет ничего удивительного,
потому что главный герой романа и фильма, ротмистр фон Прак,
сражается в Африке, на ближнем Востоке и, конечно, в советской
России, которую он, в соответствии с выдвинутым ранее тезисом
Рек-Маллецевена, побеждает.5
В известной мере положение Рек-Маллецевена укрепляется
в 1936 году благодаря выходу в свет исторического романа «София
Доротея, мать Фридриха Великого» (»Sophie Dorothée, Mutter
Friedrichs des Großen«), написанного с позиций расового учения.
Рек-Маллецевен пытается выяснить, в какой мере кровное родство
1 Anonym. Acht Kapitel für die Deutschen // Bücherkunde, 1935. 2. Folge. S. 47.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Oley H., HellwigJ. ...wie einst Lili Marleen. Berlin, 1963. S. 94.
514
Фридриха Великого с шотландской королевой Марией Стюарт могло
влиять на его характер и деятельность. Интерес писателя к про-
блемам наследственности в соответствии с «новыми познаниями
в области учения о расах» вызван как охранительными причинами,
понятными после грозного окрика властей, так и его приверженно-
стью принципам «крови и почвы». Если берлинская «Дойче вохен-
шау» (»Deutsche Wochenschau«) с удовлетворением отмечала, что
«проблема Фридриха анализируется совершенно по-новому», «в соот-
ветствии с требованием времени», ибо автор «объясняет демонизм
Фридриха исходя из его крови, из смешения его предков»,1 то либе-
ральная пресса в лице еженедельника «Дойче цукунфт» (»Deutsche
Zukunft«), находившегося в заметной оппозиции к нацистскому
режиму, не без иронии заметила, что «в изображении кровных
связей политические предпосылки, естественно, отступают, отчего
легко возникает опасность того, что читатель получит о значимости
личности Софии Доротеи неправильное представление».2
Однако за внешней стороной жизни и творчества Рек-Малле-
цевена, правоверного гражданина новой Германии, скрывается
напряжённая работа над романом «Бокельсон. История одного
массового безумия», посвященного истории теократического режи-
ма анабаптистов, «перекрещенцев», получившего название Мюн-
стерской коммуны (1532-1534). Тему эту Рек-Маллецевен считал
«фатально актуальной», ибо она не только «даёт возможность бороть-
ся с гитлеровской тиранией»,3 но и сама по себе отвечает его рели-
гиозным взглядам, т.к. с 1934 года писатель принял католичество,
а как известно, нет более ревностных верующих чем конвертиты.
Действительно, история Мюнстерской коммуны даёт благодар-
ный материал для проведения аналогий с нацистским режимом.
Реформация в Германии породила всевозможные ереси, одной
из которых был анабаптизм, т.е. «перекрещение», против которого
особенно боролась католическая церковь. Гонимые церковными
и светскими властями сторонники анабаптизма обосновались
в исконно консервативном городе Мюнстере и под влиянием дема-
гогических призывов голландского портного Бокельсона (он же
1 Reclame von Schützen-Verlag // Reck-Malleczewen. Bockelson. Geschichte eines
Massenwahns. Berlin, 1937.
2 SamhaberE. Die Mutter Friedrichs II // Deutsche Zukunft, 18.04.1937. S. 11.
3 Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 538.
515
Иоанн Лейденский) побудили горожан, преимущественно простой
люд, избрать новый магистрат. Вслед за этим последовали изгнание
из Мюнстера противников анабаптистов без права взятия с собой
имущества, ибо оно становилось общей собственностью, разгра-
бление церквей и монастырей, сжигание богопротивных книг,
запрет на торговлю, отмена денег, отказ от брака, введение всеоб-
щей трудовой повинности, а затем пошли доносы и казни. Всё это
сопровождалось откровенным обогащением верхушки возникшей
коммуны, пьянками, разгулом черни. При этом жители Мюнстера
вели ещё и оборонительные бои, т.к. изгнанный ими князь-епископ
Франц фон Вальдек собрал большое войско и обложил город со всех
сторон, так что со временем возникли проблемы с продовольствием,
начался голод. В конечном итоге город, несмотря на героическое
и умелое сопротивление горожан (этот факт отмечают все исто-
рики), был взят, а руководство коммуны подвергнуто жестоким
пыткам и казнено.
Таково краткое изложение сути события. Однако Рек-Мал-
лецевен увидел в этом событии чуть ли не зеркальное отражение
прихода к власти Гитлера и его партии — «перекрещенцы» это те же
нацисты, их новая религия сродни национал-социализму, а спосо-
бы её навязывания ничем не отличаются от брутальных действий
нацистов, как, впрочем, не отличаются и вообще, как показывает
история, от обращения в ту или иную веру. При этом, учитывая
феодально-монархические взгляды писателя и питаемую ими его
огромную ненависть к нацистскому режиму, он гиперболизировал
всю историю Мюнстерской коммуны как приход антихриста, остав-
ляя в стороне многие реальные позитивные факты её деятельно-
сти. По сути дела, это не собственно исторический роман, хотя он
имеет все признаки такового, а роман-памфлет, который по своей
тональности напоминает рассказ современника, повествующего
с горечью, отчаянием и безмерной ненавистью о событиях, пережи-
тых им лично. Здесь слились воедино хронист времён Реформации
и хронист времён Третьего рейха, и ненависть, почти параноидаль-
ная, как к революционному прошлому, так и к нацизму и лично
к Гитлеру пронизывает весь роман от начала до конца.
Подобная напряжённая, динамичная проза, не свойственная
автору развлекательной по своему характеру литературы, стили-
стике его прозы, далёкой от высокого пафоса, не есть следствие
специфики исторического материала. Как свидетельствует дневник
516
Рек-Маллецевена тех лет, закопанный им в саду в его поместье
и опубликованный в 1947 году под говорящим названием «Днев-
ник отчаявшегося» (»Tagebuch eines Verzweifelten«), эта ненависть
происходила от бессилия, от невозможности что-либо изменить
в стране; но в какой-то степени это была и ненависть, вызванная
обманутыми ожиданиями фёлькиш-национального консерватора,
полагавшего с помощью нацистов повернуть историю вспять.1
Более того, этот сложный сплав бессилия и ненависти вызван
ещё и осознанием того, что история на поверку оказывается
неотвратимой реальностью, повторяющейся из века в век. Почти
с ужасом фиксирует Рек-Маллецевен 11 августа 1936 года в своём
дневнике эту страшную цикличность истории: «Как сегодняшшш
Германия, так и мюнстерское город-государство на годы полностью
порывает с цивилизованным миром; как и нацистская Германия,
путь этого города на долгие годы отмечен следованием от успеха
к успеху... Как у нас, так и там имеется свихнувшийся, зачатый
в сточной канаве ублюдок, выступающий как пророк; как у нас,
никто, по совершенно непонятным для удивлённого внешнего
мира, не оказал ему ни малейшего сопротивления; как и у нас,.,
главной опорой этого режима являются истеричные бабы, отроду
пришибленные школьные учителя, сбежавшие священники, преу-
спевающие сводни и отщепенцы всех мастей. Сходства множатся
в такой мере, что я, дабы не повредиться головой, вынужден их
сразу заглушать. Приукрашенная идеология покрывает в Мюнстере,
как и у нас, суть похоти, алчности, садизма и неслыханного тщес-
лавия, а тот, кто сомневается в новом учении или даже мелочно
критикует его, попадает в руки палача. Так, как у нас Гитлер посту-
пил во время путча Рема, таким же образом в Мюнстере исполняет
роль государственного палача и Бокельсон; как и у нас, спартан-
ское законодательство, в которое он заключил жизнь misera plebs,
не касается ни его, ни его банды гангстеров. Как и у нас,., здесь
существуют уличные поборы и «добровольные пожертвования»,
отказ от которых грозит опалой; как и у нас, массу наркотизируют
народными праздниками и сооружением ненужных построек с тем,
чтобы у человека улицы не оставалось ни минуты для размышления.
1 Любопытно, что этот дневник переиздавался в ФРГ в 1966, 1971, 1981 и 1994 годах,
что говорит не только об интересе к проблеме «внутренней эмиграции», но и о неко-
торой попытке реабилитировать само это явление в литературной жизни Третьего
рейха.
517
Так же, как в нацистской Германии, в Мюнстере посылают
пятую колонну и проповедников для подрыва близлежащих госу-
дарств, а то, что мюнстерский министр пропаганды Дузенчнур,
так же, как и его великий коллега Геббельс, хромает, можно счи-
тать шуткой, которой мировая история предвосхитила четыреста
лет тому назад его явление... чего нам сегодня в судьбе жителей
Мюнстера времён 1534 года не хватает, так это того, что они,
находясь в осаждённом городе, с голоду с жадностью заглатывали
свои собственные экскременты — всё это может выпасть и на нашу
долю, когда Гитлеру и его приспешникам придёт неизбежный конец
Бокельсона и Книппердоллинга».1
По сути дела, Рек-Маллецевен в этих строках кратко изложил
всё содержание романа «Бокельсон. История одного безумия»,
отметив основные черты сходства Мюнстерской коммуны с Тре-
тьим рейхом. Понятно, что текст романа лишён прямых отсылок
к нацистской действительности, однако Рек-Маллецевен, обыгры-
вая известные читателю ситуации из новейшей истории, невольно
заставляет его самого приходить к нужным выводам. Буквально
с первых страниц романа писатель набрасывает на примере собы-
тий в Мюнстере картину всеобщности происходящего в истории
человечества, но эта всеобщность представлена в таких узнавае-
мых деталях, которые, в силу их недавних и всё ещё продолжаю-
щихся проявлений, обретает конкретную адресность современной
действительности: «Когда весь город в течение восемнадцати
месяцев оказывается отрезанным от внешнего мира, когда город
не только под крики черни, но и при воодушевлённом согласии
ремесленников, зажиточных бюргеров, патрициев и даже разно-
го рода аристократов, приехавших в город, выбирает пришлого
портновского подмастерья с тёмным прошлым королём Сиона,
когда, наконец, этот король, снова с согласия знатных и простых
людей, ставит все привычные понятия с ног на голову, разрывает
все гражданские связи Средних веков,., тогда, вероятно, можно
говорить о массовом безумии, о загадочном, охватившем всё
общество психозе». И далее следует открытый намёк на похожее
состояние немецкого общества после бесславного окончания Пер-
вой мировой войны: «Мы сегодня тоже знаем, что это всегда прояв-
ляется во времена великих поворотов судьбы и великих изменений
1 Reck-Malleczewen F. Tagebuch eines Verzweifelten. Berlin, Bonn, 1981. S. 20-22.
518
мировой истории, когда на глазах трудолюбивого и исключительно
разумного народа рушатся старые основы, в то время как новые,
пригодные для старательной и формообразующей жизни, ещё
не появились».1 Такой приём приближения исторического собы-
тия к современности используется автором на протяжении всего
повествования.
В охранительных надобностях Рек-Маллецевен постоянно
делает отсылки к событиям Великой французской революции
1789-1799 года, к Парижской коммуне, мартовской революции
1848 года в Германии, к революции в России.2 Но эти отсылки явля-
ются ещё и отражением феодально-монархических взглядов писа-
теля, и здесь его ненависть к нацизму переплетается с ненавистью
ко всему, что прервало период Средневековья: «Готика — это кол-
лектив, а из него вырастали соборы, и этот коллектив был сплочён
богом. Человек Ренессанса... основывается на собственной земной
сути, и на этой почве вырастает всё, что мы сейчас переживаем —
идеологический мир нужды «добрых дел», те застывшие благоден-
ствия, которые мы обнаруживаем одновременно у современников
Кальвина, а две с половиной сотни лет позднее у недавнего потомка
Кальвина, который тогда назывался Робеспьером... Ветхозаветно
приукрашенный мюнстерский коллектив, возникший по причине
отказа от немецкой мистики, явственно показал все те симпто-
мы, которые возникли от вовлечённости их в земную суть жизни.
Не в последнюю очередь террористические притязания человека
массы на власть, не в последнюю очередь свойственную ему враж-
дебность по отношению к духу и геростратова ненависть ко всему,
что не укладывается в их притязаниях на власть и их непогрешимое
учение о желудочно-кишечном канале».3 При этом Рек-Маллецевен
связывает воедино отказ от немецкой мистики с «безбожниче-
ством московского Сиона» и «желчью энциклопедистов»,4 а там,
смотришь, и с национал-социализмом, ибо, по мысли автора, для
понятливого читателя не остаётся ничего иного, как продолжить
цепочку сравнений. Этот излюбленный приём Рек-Маллецевена
1 Reck-Malleczewen F. Bockelson. Geschichte eines Massenwahns. Berlin, 1937.
S. 11-12.
2 Ibid. S. 55, 57, 74, 76, 103, 128, 213, 217.
3 Ibid. S. 72-73.
4 Ibid. S. 73.
519
повторяется неоднократно на страницах его романа, и, несмотря
на свою ущербность, вызванную феодально-монархическими
настроениями автора, срабатывает достаточно успешно.1
Примечательной особенностью романа «Бокельсон», в отличие
от многочисленных исторических романов авторов «внутренней
эмиграции», является полное отсутствие каких-либо признаков
положительного отношения Рек-Маллецевена к представителям
власти. Если в произведениях В. Бергенгрюна, Р. Шнайдера или
С. Андреса властители при всех их неправедных делах облада-
ют определёнными задатками государственных мужей, потому
и отношение к ним как к персонажам и книги и истории довольно
уравновешенное, не лишённое определённого пиетета, т.е. страха
и удивления по поводу творимых ими дел, то Рек-Маллецевен пред-
ставляет Бокельсона, новоявленного короля Сиона, как последнего
подонка. Книппердоллинг, один из «режиссёров» мюнстерской
коммуны, предстаёт в романе как «местный житель и уважаемый
торговец тканями... и, в общем-то, честный чудак», то с описанием
Бокельсона Рек-Маллецевен особо не церемонится, разразившись
потоком бранных слов: «А Бокельсон? В нём видны расплывчатые
и студенистые черты ублюдка хозяина кабака и шлюхи, рождённо-
го в сточной канаве, который как писателишка смог дилетантски
заявить о себе, этот несостоявшийся портняга, который, вероятно,
в своём цеху считался великим поэтом, но в клубе риторов, надо
предпологать, его принимали за ловкого костюмера... Печать зача-
того в дурное время и в дурной постели, человека, который с лёг-
костью сменял бытие дармоеда на пребывание в клоаке, переходил
из окружения сволочи в развратное бытие, а из развратного бытия,
наконец, обосновался в преступном и кровожадном сообществе».2
Несомненно, что антинацистская направленность романа
«Бокельсон» с его постоянными отсылками к событиям, близким
по форме, но не по содержанию, представляла собой выражение
позиции самой консервативной части фёлькиш-националов. Одна-
ко тот факт, что даже эти круги, немало сделавшие для того, чтобы
нацисты пришли к власти, ступили на протестную тропу, говорит
1 По крайней мере, Э. Юнгер ссылается на беседы с Карлом Шмиттом (Schmitt, Carl),
профашистски настроенным теоретиком государственного и конституционного
права, о проблематике романа Рек-Маллецевена «Бокельсон» (Ehrke-Rotermund H.,
Rotermund E. Op. cit. S. 538)
2 Reck-Malleczewen F. Op. cit. S. 27-28.
520
о степени разочарования их в движении национал-социализма.
Как ни странно, но по степени выразительности, кипящей дина-
мики и откровенного неприятия нацистского режима «Бокельсон»
превосходит рассудительные произведения авторов «внутренней
эмиграции». В известном смысле фёлькиш-националам было что
терять, отсюда и их гнев и отчаяние.
Как бы то ни было, но роман Ф. Рек-Маллецевена «Бокельсон.
История одного массового безумия» представляет собой ценный
документ если не прозрения самого автора, то, по крайней мере,
заложенного в нём протестного свойства, ибо роман этот достаточно
ярко живописует приход к власти нацистов, самого фюрера и всю
атмосферу общественной жизни Третьего рейха, и в данном случае
не суть важно, откуда исходит протест, важно то, что протестные
настроения захватили и круги общества, близкие к нацизму, что
говорит о начале, ещё не осознанном, конца диктатуры.
Как ни странно, но официальная критика попросту замолчала
появление «Бокельсона», не последовало и запрета этого романа.
О причинах подобной позиции контрольных органов можно толь-
ко строить разные предположения. Скорей всего здесь сработало
известное высказывание в «Бюхеркунде» относительно неполного
соответствия писателя «нашему духу». Не исключено, что обсужде-
ние романа было намеренно отдано на откуп региональной прессе
нацистского толка, в желании прощупать возможную отрицатель-
ную реакцию партийной массы на наличие каких-то протестных
намёков. Не исключено также и то, что министерство пропаганды
не желало ввиду явных аллюзий на реальные события новейшей
истории — не заметить их было невозможно — затевать опасную
дискуссию.
Региональная пресса нацистской направленности прояви-
ла живой интерес к «Бокельсону». Рецензент «Касселер нойесте
нахрихтен» (»Kasseler Neueste Nachrichten«) с восторгом воспринял
роман Рек-Маллецевена как выражение духа нового времени, ибо
в нём поставлена проблема «восприятия истории, над которой нам
по большей частью только сейчас приходится биться, правильность
которой большинство из нас, вероятно, инстинктивно чувствовало,
но почти не могло подкрепить это чувство с помощью истории».
Писатель «объяснил нам непонятную главу немецкой истории», пред-
ставив её как «некую неожиданную огромную вспышку заболевания
немецкого народа, готический мир которого подвергся вторжению
521
чуждого жизненного чувства, называемого нами «ренессансом»,
преодоление которого началось только в наше время».1
С не меньшим восторгом отзывается о «Бокельсоне» и рецен-
зент кондово- националистской мангеймской газеты «Хакенкрой-
цбаннер» (»Hakenkreuzbanner«). При этом особый восторг у него
вызывает именно изображение главного героя романа в самом
неприглядном виде, выступающего «в облике вождя», называя
такой подход автора к изображению Бокельсона как «выражение
здорового духа писателя», который, не в пример Ранке (крупнейший
немецкий историк XIX века.— Е. 3.) «не пытался его оправдывать,
а представил его таким, каким он был в действительности — дека-
дентом, не знающим в счастье границ, а в несчастье — трусливым,
малодушным предателем».2
Примечательно, что все рецензенты в один голос отмечают
познавательную значимость книги Рек-Маллецевена, называя
его «захватывающим как роман и читабельным как историческое
произведение», т.е. всячески рекомендуя его широкому читате-
лю, не видя или не желая видеть в нём каких-либо скрытых или
явных аллюзий, направленных против нацистского режима. Этим
объясняется тот факт, что в кампанию прославления «Бокельсона»
включились даже такие иллюстрированные издания как берлин-
ский журнал «Зильбершпигель» (»Silberspiegel«), который в силу
своей традиционной приверженности проблемам светской жизни,
спорта, моды и художественной фотографии мало обращал вни-
мания на литературу.3
Буржуазная пресса также обратила особое внимание на роман
Рек-Маллецевена. Правда, здесь мнения заметно разделились, хотя
большинство рецензентов осторожно, со всякого рода оговорками,
заметили протестную направленность «Бокельсона». Прежде всего,
нужно отметить панически боязливую позицию солидной «Берли-
нер бёрзен-цайтунг» (»Berliner Börsen-Zeitung«) и монархического
журнала «Вайсе блэттер» (»Weisse Blätter«), понявших протестную
сущность «Бокельсона». Испугавшись собственной храбрости, оба
1 Kersting С. Das neue Buch: Geschichte eines Massenwahns // Kasseler Neueste Nach-
richten. Nr. 82. 9.4.1937. Цит. по: Ehrke-RotermundH., Rotzermund E. Op. cit. S. 541.
2 Kicherer W. »Bockelson« Die Geschichte eines Massenwahns / / Hakenkreuzbanner.
Das Nationalsozialistische Kampfblatt Norwestbadens. Nr. 171. 14.4.1937. Цит. по:
Ibid. S. 541.
3 Ehrke-RotermundH., Rotermund E. Op. cit. S. 542.
522
издания попытались увести разговор о романе в сторону, далёкую
от нацистской действительности. Пугаться им было отчего, ибо
автор обеих статей, Эрих Мюллер, принадлежавший к «левому»
крылу национал-революционеров, долгое время переписывав-
шийся с Рек-Маллецевеном (он даже написал предисловие к его
книге «Восемь заповедей для немцев»), сразу же оборвал с ним
какую-либо связь, как только узнал от него, что тот работает над
«Бокельсоном».1 Когда же роман вышел из печати, Мюллер, ужас-
нувшись содеянным его приятелем, сделал всё возможное, чтобы
представить это произведение в благоприятном для нацистов свете.
Уже само название его первой рецензии «Мюнстерская коммуна»
(»Die Kommune von Münster«) отвергало какую-либо связь между
анабаптистами и нацистской Германией. Дальнейшие рассуждения
Мюллера свелись к тому, что во всех несчастьях жителей Мюнстера
виновато «вторжение Ренессанса в нордические территории готи-
ческих соборов»,2 и в качестве вредности вируса Ренессанса он
ссылается на примеры Парижской коммуны 1871 года и «русскую
большевистскую революцию».3 Через два месяца Мюллер публикует
уже в «Вайсе блэттер» вторую статью о «Бокельсоне», где, повто-
ряя прежние выпады против «заразы» Ренессанса, настоятельно
подчёркивает, что мюнстерские волнения «являются огромным
исключением в нашей истории», отвергая тем самым наличие
любых аллюзий, касающихся современности, и поэтому он так
одобрительно отзывается об отрицательном изображении писате-
лем Бокельсона как представителя чуждой разрушающей силы:
«Что касается Яна Бокельсона из Лейдена, то Рек сорвал с этого
многократно идеализированного образа с прямо-таки варварской
безжалостностью все идеологические и идеалистические покровы,
и представил его таким, каким он был — в принципе неверующим,
охваченным ничем иным как жаждой власти чудовищем, „полити-
ческим гангстером", говоря современным языком».4
Если Э. Мюллер знал о протестной сущности «Бокельсона»
от самого автора романа, то рецензенты «Франкфуртер цайтунг»
1 Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 542.
2 Müller E. Die Kommune von Münster // Berliner Börsen-Zeitung, 11.5.1937. Цит.
по: Ibid. S. 543.
3 Ibid. S. 542.
4 Müller E. Bockelson — eine deutsche Utopie // Weisse Blätter, Juki 1937. S. 209-
210.—Ibid. S. 543.
523
и «Дойче цукунфт», приученные уже смотреть на каждое новое
произведение с иных позиций, чем официальная критика, углядели
без особого труда в книге Рек-Маллецевена протестную направлен-
ность и попытались высказаться об этом достаточно откровенно,
хотя и прибегая к способам рабьего языка. Анонимный рецензент
«Франкфуртер цайтунг» не скрывал наличие в «Бокельсоне» кри-
тических интенций, касающихся современности, но не придавал
им особого значения: «Своеобразная перспектива, из которой
Рек-Маллецевен рассматривает происходящие события, даёт ему,
несомненно, возможность изображать некоторые вещи очень рез-
ко и точно, отчего книга наполнена почти в каждом предложении
внутренним напряжением; в целом, однако, всё же было бы слиш-
ком разглядывать безрассудное прошлое времён 1534 и 1535 годов
с позиций современности».1 Тем не менее, весь ход анализа романа
Рек-Маллецевена с акцентом на описание отрицательных действий
«перекрещенцев» и их вождей говорит об обратном, хотя и объяс-
няется «хилиастическо-коммунистическими идеями» того време-
ни. И уж совсем неожиданно звучат упрёки рецензента в адрес
автора по поводу его исторической необъективности и обращение
к читателям ознакомиться с серьёзной литературой о мюнстерских
«перекрещенцах». Редакцию «Франкфуртер цайтунг» можно понять,
ибо, оставаясь формально своеобразной витриной свободомыслия
для западного мира, она вынуждена пользоваться этим благом
в дозированном виде, хотя проницательный читатель этой газеты
(а это издание всё-таки было рассчитано на образованную публику)
радовался и этим отступлениям от общепринятой пропагандист-
ской трескотни и понимал по отдельным признакам отпускаемые
высказывания рецензентов и авторов этой газеты.
Другое дело еженедельник «Дойче цукунфт», который давно уже
был на прицеле министерства пропаганды как орган, находящийся
в определённой оппозиции к нацистским властям, но остававшим-
ся на плаву до 1940 года милостию Геббельса, пока ему не надо-
ело выслушивать упрёки различных надзорных служб по поводу
излишней самостоятельности суждений его издателя Пауля Фехтера,
исповедовавшего идеи революционного консерватизма, которые
хотя и считались реакционными, но всё же допустимыми в нацист-
ском идеологическом пространстве. Именно в этом еженедельнике
1 -per. Die Wiedertäufer zu Münster // Frankfurter Zeitung, 30.5.1937. S. 6-
524
появилась статья «Массовое безумие» (»Massenwahnsinn«) Эрнста
Замхабера (Samhaber, Ernst; 1901-1973), известного своим умением
сказать правду, не показывая, как говорил Вольтер, рук.1 Хотя Зам-
хабер, достаточно подробно анализируя содержание «Бокельсона»,
всячески отвергает связь этого романа с современностью, полагая,
что автора меньше всего интересовала сама история случившегося
в Мюнстере, сколько причины её возникновения, тем не менее,
как бы невзначай замечает, что «его манера изложения этих собы-
тий показывает удивительные методы и сравнения, схожие с ужа-
сами гражданской войны в Испании», не менее жестокие «смертные
приговоры за всякие противомыслия».2 Говоря «об огромном вли-
янии священников на массы», Замхабер опять, как бы случайно,
заводит речь о «воздействии священников особенно на женщин,
что, вероятно, не совсем правильно, если даже сегодня, с учётом
временной дистанции, обычные для тех времён формы внешнего
бурного выплёскивания на улицу чувств и истерические выкрики
воспринимаются смешными».3 Нетрудно сообразить, что подобные
высказывания рецензенты сразу же вызывали у читателей извест-
ные картины массового психоза немецких женщин во время тор-
жественных проездов Гитлера по улицам Берлина. Заключая свою
статью, Замхабер с порицающей интонацией восклицает: «...иногда
читатель задаётся вопросом: разве изображённые, исторически
хорошо подтверждённые сцены, вероятно, допустимые в романе,
возможны в своих гротескных проявлениях в наше время?»4
Хождение вокруг да около проблем нацистской действительно-
сти, не называя напрямую её родственности проблемам министер-
ской революции, проявилось и в рецензии друга Ф. Рек-Маллецевена
1 В 1941 г. Замхабер опубликовал в «Дойче Рундшау» статью «Франсиско Солано
Лопес. Образ одного тирана» (»Francisco Solano Lopez. Das Bild eines Tyrannen«),
которая вызвала сенсацию как в Германии, так и за рубежом, ибо антиподом
латиноамериканскому диктатору послужил Гитлер. «Это событие,— как вспоминал
впоследствии Рудольф Пехель, славившийся подобного рода публикациями,— при-
надлежит к трагическим страницам отсутствия у некоторых эмигрантов полити-
ческого инстинкта, потому что Леопольд Шварцшильд изложил в своём журнале
«Нойе тагебух» истинный смысл этой статьи, чем и поставил меня и Замхабера
в тяжёлое положение». Цит. по: Ehrke Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 544.
2 Samhaber E. Massenwahn // Deutsche Zukunft. Berlin, 9.1.1938. S. 10.
3 Ibid.
4 Ibid. S. 11.
525
барона Эрвайна Аретина (Aretin, Erwein Freiherr von), натолкнувше-
го писателя на идею создания романа о «перекрещенцах».1 Статья
под названием «Мюнстерские перекрещенцы» (»Die Wiedertäufer in
Münster«) появилась в католическом журнале «Хохланд», известном
своими оппозиционными публикациями религиозного свойства.
Рассуждения Аретина носят двойственный характер, в них как бы
мирно сосуществуют официальная и протестная интенции, выте-
кающие одна из другой. Рассматривая революционные события
в Мюнстере в одном ряду с французской (1789) и русской (1917)
революциями, а также с Баварской советской республикой (1919)
и гражданской войной в Испании (1936), Аретин явно подталки-
вает читателя включить в этот ряд и приход к власти нацистов,
который характеризовался ими как великая «революция, сопоста-
вимая с русской»,2 отчего последующие отрицательные оценки его
предыдущих революций в духе национал-социалистской идеологии
выглядят двусмысленными: «Потребовалось только подточить силу
сопротивления бюргеров... с тем, чтобы власть путём быстрого
свержения соскользнула в руки деклассированных элементов обще-
ства, которые, лишённые каких-либо моральных препятствий, под
воздействием непонятной для них фразеологии захватили её, чтобы
в кратчайшее время сделать высшие слои города низшими, или, что
для них было важнее всего, возвысить низшие слои над высшими».3
Для вящей убедительности наличия скрытой критики нацизма
автор статьи добавил несколько фраз, относящихся внешне к мюн-
стерским событиям, но содержащих явные отсылки к современности,
вроде «несколько чужеземных бродяг с большой дороги, выдающих
себя за пророков», «тысячелетний рейх будущего» или «пропаганда».
Вся тональность статьи Аретино соответствует феодально-монар-
хическим настроениям Рек-Маллецевена, его ненависти к плебсу,
прорвавшемуся к власти, и соответственно к нацизму, ставшему
в глазах многих фёлькиш-националов консервативного толка олице-
творением власти толпы. Именно поэтому Аретин придаёт «Бокель-
сону» особую значимость, ставя в заслугу Рек-Маллецевену создание
книги, направленной «против любого господства деклассированных
1 Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 545.
2 Цит. по: ФестИ.К. Гитлер. Биография. Пермь, 1993. С. 319.
3 Е. А. Die Wiedertäufer in Münster // Hochland, November 1937. H.2. S. 161. Цит. по:
Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 545.
526
элементов общества».1 В этой связи примечательны слова Аретина,
обращенные непосредственно к читателям: «А тот, кому пришла бы
охота посчитать основы этого изображения слишком легковесными,
тот мог бы задаться вопросом, читал ли он когда-либо такой отчёт
о революции, который, как этот, содержал бы в себе в таком количе-
стве признаки внутренней правды, как этот немного высокомерный
рассказ о лживости каждой фразы в чрезмерно красноречивых
устах этих деклассированных людей, и были ли ему более понятны
и очевидны события этого крайне возбуждённого времени, чем
здесь. Книга заслуживает почти такого же интереса, как и то время,
о котором она повествует. Двадцать лет тому назад ещё ни один
немецкий писатель не смог бы так написать».2
Здесь можно было бы добавить «отважился бы так написать»,
но и без этого добавления протестный посыл рецензии Аретина
вполне ясен, а в то время, когда чувства напряжены до предела,
в особенности.
Вероятно, отсутствие какой-либо отрицательной реакции
на свою книгу подвигло Ф. Рек-Маллецевена приняться за работу
над новым произведением такого же толка, и в 1938 году выходит
его роман «Шарлотта Корде. История одного покушения» (»Charlotte
Corday. Geschichte eines Attentates«). Ничего нового в этом произ-
ведении писатель не сказал, ибо по своей ненависти к нацизму
и к демократии во всех её проявлениях это был повтор «Бокельсона»,
с той лишь разницей, что Рек-Маллецевен продолжил ту же полемику
непосредственно на примере столь ненавистной ему Французской
революции 1789 года, избрав в качестве протагониста своей книги
Шарлотту Корде, убившую Марата из политичеких побуждений.
Марат в данном случае выступает у Рек-Маллецевена как некое
подобие Гитлера, а поступок Корде — как некий сценарий возмож-
ного его устранения.
Специфика новой книги Рек-Маллецевена состоит в том, что
автор более свободен и более откровенен в выражении своей нена-
висти к нацизму и в частности к Гитлеру, ибо место достаточно
умеренного в своих суждениях хрониста, как это было в «Бокельсо-
не», заступил историк, ставший своеобразным адвокатом Шарлотты
Корде, откровенного врага французской революции, являющейся
1 Е.А. Op. cit. S. 546.
2 Ibid. 162-163. Цит. по: Ibid. S. 546.
527
не только выразительницей монархических идей фёлькиш-национа-
лов, но и непосредственной активной участницей событий тех лет.
В нашем случае несомненный интерес представляют бросающиеся
в глаза параллели к временам нацизма, в частности, касающиеся
культа Гитлера: «Осенью 1793 года в революционный календарь
вошёл новый святой Saint-Marat, школьники обязаны были кре-
ститься, услышав его имя. Бюсты Марата красовались теперь
в конвенте и во всех отделениях клуба якобинцев, его портрет
висел в каждой школе. Возникла оживлённо развивавшаяся инду-
стрия, сконцентрировавшаяся на изготовлении портретов Марата,
существовала ещё более оживлённая индустрия по изготовлению
бюстов Марата, и когда потребность в гипсовых Маратах чуть было
не перестала удовлетворять рынок, Париж пережил нашествие
дюжины итальянских скульпторов, которые, быстро ощутив хоро-
шую конъюнктуру, прибыли из Лукки толпами и, ставшие теперь
специалистами по Марату, наполнили свои карманы. Кофе теперь
пили из чашек Марата, носили причёски под Марата, брелоки под
Марата, кольца в стиле Марата, броши, табакерки, крышки часов
и даже часовые стрелки показывали его портрет, сморкались в сит-
цевые платки, на которых красовалось его лицо в яркокрасном
якобинском колпаке».1
В поношении французской революции Рек-Маллецевен никак
не мог пройти мимо проблемы человека массы, которому нужен
вождь, хотя в нашем случае лучше звучит слово «фюрер», учиты-
вая ещё и его политическое значение: «Марат является в новейшей
истории первым примером той „знаменитости", которая объявлена
таковой безымянной массой людей и для которой всякий раз нужен
асфальт для того, чтобы выращивать всегда только недолговечные
растения».2 При этом Рек-Маллецевен воспринимает народ как
нечто мифическое, которому на роду написано «подпадать под
каждое рационалистическое расчленение... и побеждать его всегда
в смерти».3
Антидемократические рассуждения Рек-Маллецевена произве-
ли, надо полагать, благоприятное впечатление на надзорные органы,
и «Гутахтенанцайгер» (»Gutachtenanzeiger«) ведомства А. Розенберга
1 Reck-Malleczewen F. Charlotte Corday. Berlin, 1938. S. 78-79.
2 Ibid. S. 83.
3 Ibid. S. 321.
528
внёс роман «Шарлотта Корде» в «список рекомендуемых книг».1
«Кёльнише цайтунг» (»Kölnische Zeitung«) с энтузиазмом отмечала
«жизненное изображение тернистого пути и героического самопре-
одоления» героини романа.2
Последней попыткой хоть каким-то образом выразить осо-
бость своей приверженности монархическому мировосприятию,
отличному не только от нацистского, но и вообще от современного
мировосприятия, стал сценарий для фильма Артура Рабенальта
(Rabenalt, Arthur) «...он скачет во имя Германии» (»...er reitet für
Deutschland«, 1941) — фильм откровенно политический, прослав-
ляющий достоинства истинного немца, наездника барона Карла
Фридриха фон Лангена, призёра многих соревнований. Фильм
получил высокую оценку министерства пропаганды «политически
важный» благодаря тому, что в нём была представлена Германия
времён Веймарской республики, рассмотренная с нацистской
точки зрения.3
Дальнейшая судьба Фридриха Рек-Маллецевена складывалась
трагически. В октябре 1944 года он был арестован за «разложе-
ние обороноспособности» рейха, потому что как офицер (он часто
выдавал себя за представителей различных высоких профессий)
не явился на военные сборы, а в декабре 1944 года последовал
второй арест по доносу одного редактора издательства за «поноше-
ние немецкой валюты» и «нанесение ущерба достоинству государ-
ства». Через несколько дней пребывания в гестапо в Мюнхене он
был отправлен в январе 1945 года в концлагерь Дахау, где и умер
в феврале этого же года от тифа.4
Антидемократический протест Ф. Рек-Маллецевена, опреде-
лявшийся категорическим неприятием нацизма, вернее, «гитле-
ризма» (так называл писатель Ганс Гримм национал-социализм,
«испорченный» привлечением в его ряды широких масс), совпадал
в ряде позиций с демократическим пониманием идеологии и поли-
тической практики нацистов после захвата власти в Германии.
1 Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 537.
2 Anons des Verlages in: Reck-Malleczewen F. Der grobe Brief von Martin Luther bis
Ludwig Thoma. Berlin, 1940.
3 Courtade F., Cadars P. Geschichte des Films im Dritten Reich. München, 1975.
S. 129-131.
4 Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. Cit. S. 537.
529
Однако этот протест Рек-Маллецевена развивался сам по себе,
не входя ни в какое соприкосновение с протестными проявлениями
демократов даже из тактических соображений. Протест в пустоту,
протест без союзников, и, вероятно, поэтому надзорные органы
не обращали на него никакого внимания, позволяя смертельно
обиженному несостоявшемуся союзнику по борьбе выпускать пар,
ибо на большее Рек-Маллецевен и его собратья из фёлькиш-наци-
онального лагеря были не способны, а потому и не представляли
особой опасности для рейха и партии.
Протестная сущность диссидентства Эрнста Юнгера определя-
лась исключительно крушением его глобальных планов изменения
не столько самой Германии, сколько всей планеты, где национал-со-
циалистскому движению (если бы оно развивалось в соответствии
с идеями Юнгера) отводилась роль передового отряда.
Другое дело авторы религиозно-консервативного лагеря, кото-
рые и не пытались искать дружбы или признания у властителей
Третьего рейха. В какой-то мере они выступали в роли пастырей,
старающихся раскрыть глаза своей пастве на бесчеловечность
нацистского режима, и их роль сводилась не только к утешению,
как это свойственно было творчеству Г. Кароссы, но и к протест-
ным акциям, вроде тех, которые предпринимали Э. Вихерт или
Г. фон Ле Форт. Учитывая разветвлённый репрессивный аппарат
нацистов, о каком-либо организованном сопротивлении в среде
литераторов религиозно-консервативного толка, индивидуалов
до мозга костей, и речи быть не могло, и поэтому для данной груп-
пы авторов церковь — протестантская и католическая — высту-
пала в роли некоего организующего начала, духовного вождя, чьи
наставления, призывы, догмы носили обязательный характер,
обусловленный сутью самой веры как таковой.
Специфика творчества авторов христианской направленно-
сти определяется, прежде всего, верой в Христа и божественное
предназначение всего сущего, и поэтому категории рационального
мышления имеют для них незначительное значение, если вооб-
ще они обращаются к ним. В условиях Третьего рейха подобное
мироощущение позволяло этим авторам достаточно откровенно
разрешать проблему зла и искушения, само положение верующего
человека в предельно политизированном мире, прибегая к ино-
сказательным способам толкования реальной действительности.
Политика как таковая выступала в их произведениях в религи-
озных одеждах, хотя сама политическая сущность не являлась
530
предметом непосредственного рассмотрения. Речь шла не о кри-
тике государственных установлений, ибо в сознании авторов
религиозного направления мироустройство изначально определено
божественным провидением, а о том, как это мироустройство под-
вергается нарушениям, в связи с чем наиболее явственно прояв-
ляются все беды верующего человека, испытывающего на себе все
тяготы «испорченного мира». По сути дела, писатели религиозного
направления всегда находятся во «внутренней эмиграции», борясь
за сохранения внутренней стойкости верующих, но в ситуации, сло-
жившейся в Германии после прихода к власти нацистов, эта борьба
предельно обострилась, перешла грань мирского спора и вылилась
в противостояние между жизнью и смертью.
При этом сложилась довольно парадоксальная ситуация, когда
противниками нацистов выступили те, кто, сами того не желая,
способствовали опосредованно приходу к власти своих врагов.
По большому счёту, церковь как моральная инстанция общества
отвечала устремлениям фёлькиш-националов любого свойства,
и поэтому разрушение устоев прежнего рейха, о котором они так
печалились, означало разрушение и устоев церкви. Однако тот
факт, что идеологические постулаты фёлькиш-националов во мно-
гом исповедовали и нацисты, не воспринимался ни фёлькиш-наци-
оналами, ни церковью в той мере, в какой можно было бы понять
сложность и опасность для обеих сторон возникшей после 1933 года
политической ситуации.
Примером такого противоречивого и трагического поведения
в годы Третьего рейха можно назвать судьбу Эрнста Вихерта, хотя
его трудно назвать «чистым» представителем религиозной литерату-
ры, ибо всё его творчество, несмотря на его истовый протестантизм,
пронизано языческим воспеванием таинственного очарования
лесов, болот, рек, озёр, животного мира его родной Восточной Прус-
сии, которые, собственно, и являются выражением единственного
спасительного места для страждущего человека, разочаровавшегося
во всём, в том числе и в боге. Отсюда проистекает и его критика
божественных установлений, которые не смогли в полной мере
защитить этого человека в мире зла и насилия.
Эрнст Вихерт (Wiechert, Ernst; 1887-1950), сын лесника, учи-
тель по образованию, закончивший Первую мировую войну в чине
офицера, ревностный сторонник фронтового братства, ненавидев-
ший революцию 1918 года, яростный противник не только Веймар-
ской республики, но и вообще всех проявлений культуры цивилиза-
ции XX века, как на начальном этапе своего творчества, особенно
531
в романах «Лес» (»Der Wald«, 1922) и «Мёртвый волк» (»Der Totenwolf«,
1924), так и в последующих произведениях, хотя и в меньшей сте-
пени, близок был к движению национал-социалистов, ибо в них ему
виделись спасители прежнего мира. В этом же ключе следует пони-
мать и контакты Вихерта с пронацистским «Обществом имени Фих-
те», а также переход его в 1931 году в издательство «Ланген-Мюллер»,
бывшее уже к этому времени собственностью нацистской партии.
В известной мере эти и некоторые другие произведения Вихерта
20-х годов являли собой образец поздней «литературы родного угла»
националистского толка с религиозно-нравоучительным подтекстом.
Более того, даже после прихода к власти нацистов Вихерт, уже осоз-
навший преступную сущность случившегося, продолжал воспевать
«романтику «Стального шлема», «крови-и-почвы» и полемизировать,
например, в своей речи «Поэт и молодёжь» (1933) перед студентами
Мюнхенского университета, с «литераторами только что исчезнув-
шего времени»,1 т.е. с реально обозначенными врагами нацистов.
В этом смысле примечательна его рецензия на роман Ганса
Фаллады (Fallada, Hans; 1893-1947) «И у нас был ребёнок» (»Wir
hatten mal ein Kind«, 1934) и книгу рассказов Генриха Вольф-
ганга Зайделя (Seidel, Heinrich Wolfgang) «Вечер и утро» (»Abend
und Morgen«, 1934). Рецензия эта была опубликована в журнале
«Иннере рейх» в 1935 года, и примечательна она тем, что в ней
ярко проявилась не только творческая и политическая позиция
Вихерта в преддверии его активных выступлений против режима,
но и вся та основа, на которой зиждился союз фёлькиш-националов
с нацистами, все те элементы их идеологического и эстетического
мироощущения, которые оказались близки в той или иной степени
духу национал-социализма.
Роман Фаллады вызвал разноречивую критику. Одни, наци-
сты (Г. Лангенбухер), ругали,2 другие, более либеральные нацисты
(К. Раух), хвалили,3 американцы и англичане были в восторге
1 Цит. по: Grimm R. Op. cit. S. 417.
2 Anonym (H. Langenbucher). Hans Fallada // Bücherkunde 1934. Folge 8-10. S. 154-
156.
3 Rauch К. Die Tragödie des einsamen Mannes. Brief an Hans Fallada zu seinem neuen
Buch // Das deutsche Wort. 1934. 2.11.1934. S. 1-2. Немецкая региональная пресса
в большинстве своём также восприняла роман Г. Фаллады «У нас был ребёнок»
позитивно.
532
от книги,1 сам автор считал этот роман своим «самым прекрасным
и самым большим» произведением.2 В этой дискуссии Вихерт оказал-
ся в одном ряду с официальной критикой. Анонимный автор «Фёль-
кишер беобахтер» заявил, что Фаллада «никогда не был нашим»,3
Вихерт, называя роман писателя «самой опасной книгой последних
лет»,4 соглашается с этим доводом: «У него есть свой мир,., но этот
мир не наш»,5 причисляя себя невольно тем самым к лагерю наци-
стов. Конечно, здесь говорит не нацист, а кондовый консерватор
националистского толка, встревоженный возвращением «литерату-
ры асфальта», литературы, нарушающей установленные принципы
«высокого искусства».
Само название романа Фаллады, «рассчитанное на внешний
эффект», публикация его сокращённой версии на страницах массо-
вого издания «Берлинер иллюстрирте цайтунг» (»Berliner Illustrierte
Zeitung«), свидетельствующая о приверженности автора к «миру
примитивного читателя», который знакомится с миром книг
«в трамвае, автобусе и в метро», даже выбор издательства «Ровольт»
(здесь Вихерт прибегает к примитивному доносу), чьё «имя покрыто
несмываемым позором из-за того, что оно прежде выпускало кни-
ги Тухольского»,— уже этого достаточно Вихерту для того, чтобы
выразить своё резкое неприятие нового романа Фаллады.6 Если эти
замечания ещё можно как-то объяснить консервативными взгля-
дами Вихерта, хотя попытка «заложить» издательство «Ровольт»,
принципиально игнорировавшее авторов фёлькиш-национально-
го свойства, не делает ему чести, то его беспокойство по поводу
имиджа нацистской Германии за её пределами, особенно в стра-
нах Скандинавии, ибо «от приёма и обсуждения этой книги будут
зависеть немецкая добропорядочность и престиж»,7 совершенно
не вписывается в сложившийся образ оппонента фашистского
1 James D. »Grundanständige Bücher«? Fragen zur Resonanz von Falladas Romanen
in den 30er Jahren // Hans Fallada Buch. Nr. 2. Neubrandenburg 1997. S. 32-42.
2 Ibid. S. 38.
3 M.D. Heimgefunden // Völkischer Beobachter, 18.11.1934.
4 Wiechert E. Bemerkungen zu zwei Büchern // Das Innere Reich. H. 12. März 1935.
S. 1557.
5 Ibid. S. 1561.
6 Wiechert E. Op. cit. S. 1557.
7 Ibid. S. 1157-1158.
533
режима. Здесь эстетические предпочтения в соединении с некоей
брезгливостью старой девы явно берут верх над политическими
принципами.
Однако самое главное прегрешение Фаллады Вихерт видит
в том, что фантастический мир современной сказки с элементами
магического реализма (именно так воспринимался роман многи-
ми критиками), отражает, как отмечал Г. Брох в своём письме
писателю, не только склонность его к утешительному воздействию
на читателя, но и «одновременно позицию истинного гуманизма».1
Фаллада ходит по земле, и если прибегает к мифу, то лишь для
того, чтобы получше разглядеть эту землю, а Вихерт предпочитает
пребывать в небесных пределах, спускаясь с них на землю только
для того, чтобы убедиться в том, сколько на ней грязи, и утешить
тех немногих, которые не в состоянии выстоять в этой обстановке.
Фаллада, по мнению Вихерта, нарушает все установки творческой
заданности писателя, потому что в его романе всё «происходит
не по законам поэтического мира, а по особым и необузданным
намерениям автора, которые преследуют не концентрацию, про-
стоту, величие, изображение судеб, а лишь ситуацию, напряжение,
воздействие, сенсацию».2
Исходя из этих доводов, Вихерт заключает: «Мы не скрываем,
что нам очень жаль Фалладу. Но нам, после четырёх его книг (их
Вихерт также не приемлет.—Е. 3.), больше нет нужды прослеживать
его творческий путь. Нам придётся с ним распрощаться»,3 но тут же
с сожалением добавляет, что это прощание не скажется на дальней-
шей судьбе этого писателя, ибо «книгопродавцы знают, что Фаллада
«хорошо идёт», а вот другого писателя, Генриха Вольфганга Зайделя,
который уже 60 лет пишет книги, отмеченные «хорошим вкусом,
тягой к чистоте и настоящему искусству,., знают очень немногие».4
Действительно, Г. В. Зайдель (Seidel, Heinrich Wolfgang; 1876-
1945), муж знаменитой И. Зайдель, несмотря на значительное число
романов и сборников рассказов, не пользовался особой извест-
ностью, и связано это, вероятно, с тем, что он замкнулся в своём
маленьком мирке и пестовал его с такой тщательностью и с таким
укором по отношению ко всему, что происходило за его пределами,
1 Цит. по: James D. Op. cit. S. 33.
2 WiechertE. Op. cit. S. 1559.
3 Ibid. S. 1561.
4 Ibid. S. 1561.
534
что мало находилось любителей наслаждаться его отточенным изо-
бражением. «Я не знаю ничего более возбуждающего, чем полуот-
крытая дверь в сад».1 В этих словах Зайделя, как отмечала критика
тех лет, «заключались все элементы его поэтической сущности»,2
об этом же пишет и Вихерт, воспевая восторженно «тихое бытие
laterna magica» прозы Зайделя: «...из спокойно выстроенной сущно-
сти вещей эта проза приходит к нам бесшумно, делая нас счастли-
выми».3 В рассказах Зайделя, действие которых происходит также,
как и у Фаллады, в Восточной Пруссии, описываются трагические
события, но они обретают характер «внеземного, первозданной при-
роды, демонического сотворения»,4 т.е. того, что присуще и прозе
Вихерта, в чём он сознаётся, выражая удивление по поводу того,
как «берлинскому пастору удалось найти глубочайшее отображение
демонического, присущего моей родине».5
Вихерт увидел в творчестве Зайделя родственную душу.
В этой статье нашли отголоски и его собственного недавнего пре-
бывания на задворках литературы, неслучайно ни одна из мно-
гочисленных в годы Веймарской республики историй немецкой
литературы не упомянула его имени, и только после присуждения
ему в 1932 году премии имени Раабе за роман «Служанка Юргена
Доскочила» (»Die Magd des Jürgen Doskocil«) ему удалось занять
достойное место в литературе тех лет. Как вспоминал известный
писатель Карл Цукмайер, Вихерт «не был уж очень большим писа-
телем, чтобы занимать значительное место в мировой литературе,
но его произведения обладали чудесными, исключительно поэти-
ческими чертами».6
В статье Вихерта отразилось и его яростное неприятие рацио-
нального мироощущения, всех проявлений жизни, если они не затра-
гивают напрямую его благородных героев,7 и, наконец, его полити-
1 Цит. по: Mahrholz W. Deutsche Literatur der Gegenwart. Probleme. Ergebnisse.
Gestalten. Berlin, 1930. S. 226.
2 Mahrholz W. Op. cit. S. 226.
3 WiechertE. Op. cit. S. 1561-1562.
4 Ibid. S. 1562.
5 Ibid. S. 1564.
6 Zuckmayer С. Geheimreport / Hrsg. v. G. Nickel und J. Schrön. Göttingen, 2002. S. 23.
7 В своей речи «Писатель и его время», произнесённой Э. Вихертом в 1935 г. перед
студентами Мюнхенского университета, он не упустил возможности лишний раз
535
ческая, да и эстетическая слепота, когда художник, находящийся
в оппозиции к власти, бездумно, по своей фёлькиш-национальной
привычке говорит языком своих врагов, повторяя почти дослов-
но знаменитый лозунг нацистов — один народ, один рейх, один
фюрер. Радуясь тому, что Зайдель посвятил свой сборник рассказов
А. Мигель, ставшей ко времени написания статьи безоговорочно
на сторону нацистов, Вихерт славит и её повесть «Поездка семи
орденских рыцарей», считая, что писательница, как и Зайдель,
«достигла того, что одна страна, один народ, одна земля так рас-
крыты писательской рукой, что за этим встаёт весь ужас творения».]
Понадобится совсем немного времени для того, чтобы Вихерт,
этот, по характеристике Г. Лукача, «чудачествующий индивидуа-
лист», «демонстрирующий свою политическую беспомощность»,2
окончательно осознал ужас творившегося в фашистской Германии,
и, от шараханья из одной стороны в другую, избрал более действен-
ный, сообразно своим возможностям, способ борьбы с нацистским
режимом. А пока Вихерт ведёт, что называется, разведку боем,
полагая, что его статус известного писателя позволяет ему доста-
точно свободно излагать своё мнение о будущем «новой» Германии.
Наиболее значительное произведение этих лет — повесть
Вихерта «Майорша» (»Die Majorin«, 1934) — являет собой апологию
крестьянской жизни, при этом крестьянская жизнь, протекающая
в полном согласии с природой, трактуется как некое средство, кото-
рое может вернуть человека к жизни, к его естественному состо-
янию человека-созидателя. Солдат Михаэль Фаренхольц, прошед-
ший за двадцать лет все испытания войны и плена, побывавший
во Франции и в Африке, но так и не нашедший себе применения
в чуждом ему мире, возвратившись в родную деревню «с выж-
женной душой», «изменившийся, злым, диким, а дикие не ходят
за плугом»,3 и поэтому он ощущает себя и здесь чужаком. За давно-
стью лет отсутствия он похоронен родными и сельчанами (его имя
выбито на памятном камне вместе с именами остальных солдат,
павших на войне), и даже родной отец, потерявший на войне трёх
подчеркнуть отсутствие благородных героев в творчестве Г. Фаллады ( Wiechert E.
Ansprache an der Münchener Studenten // Das Wort. 1937. H. 4-5. S. 9.).
1 Ibid. S. 1564.
2 Цит. по: Кауфман Л. С. Писатель и время. Эрнст Вихерт. Германия 30-50-х годов
XX века. Тамбов, 2009. С. 24.
3 Wiechert Е. Die Majorin. München, 1935. S. 16
536
сыновей, не может принять его как живого, полагая, что общается
с мертвецом, прибывшем домой на побывку.
Случайная встреча с хозяйкой поместья, вдовой майора, жен-
щиной прусской закалки, приводит к тому, что Михаэль, получив
в её владениях место егеря, начинает понемногу приходить в себя.
Процесс воскрешения в Михаэле живого человека происходит под
могучим воздействием природы (здесь Вихерт не имеет себе равных
в описаниях чарующих и таинственных картин леса) и пристально-
го интереса майорши к вернувшемся с фронта солдату. Она, имея
взрослого сына, ведущего богемный образ жизни в городе, нахо-
дит в Михаэле, сама поначалу не замечая этого, некое замещение
невостребованного материнского чувства и стремится вернуть его
к прежней жизни, к жизни крестьянина.
Процесс этот мучительный для обоих героев повести, ибо здесь
столкнулись представители двух миров. Михаэль, «солдат, который
так долго носил стальной шлем, что загублен для крестьянской коро-
ны»,1 человек, чурающийся общения с людьми, даже выразитель
некой таинственной силы далёких предков (недаром его так манит
лес), в известной мере выразитель хаоса и разброда, и майорша,
являющаяся олицетворением старого порядка, неким символом
прежнего времени, поэтому Вихерт и не даёт ей имени, потому
что её статус вдовы прусского офицера, хозяйки процветающе-
го поместья предполагает наличие в ней ауры милого писателю
прежнего рейха, представители которого отличаются стойкостью,
порядочностью, хозяйственностью, социальной справедливостью,
человечностью. В противостоянии двух начал — старого и нового —
и заключается смысл повести Вихерта.
Однако противостояние это не означает борьбу. Оба героя сбли-
жаются друг с другом путём постепенного отказа от социальных
предрассудков, не нарушая сословной дистанции. Каждый из них
отстаивает свои принципы, не прибегая к каким-либо насильствен-
ным действиям, раскрываясь друг перед другом своими лучшими
сторонами, и это раскрытие происходит у Вихерта не столько сло-
весно, сколько через описания природы, воспевания крестьянского
труда, противопоставления города деревне, настойчивого повторе-
ния мысли о преимуществах тихой, простой жизни в провинции.
В конце романа происходит решительный перелом в жиз-
ни Михаэля. Майорша всё ещё сомневается в том, что Михаэль
1 Wiechert E. Die Majorin. S. 207.
537
на что-нибудь сгодится в «её рейхе», потому что он «даже косить
не умеет», ибо «это искусство простых людей, а егерь исключён
из круга простых людей. Он знает многие вещи, о которых в дерев-
не никто понятия не имеет, но они и не нужны здесь и не годятся
для простой жизни».1 Михаэль сам понимает свою неприкаянность,
и спрашивает у своего друга детства Ионаса, «тяжело ли быть про-
стым человеком, ведущего тихий образ жизни? — Нет, не тяжело.
Нужно только быть годным для чего-то, например, заниматься
лошадями, или работать в поле, или заботиться о маленьком брате,
которому не спится. Быть годным для чего-то другого, как будто
это касается тебя самого, и он не думает, что это так тяжело».2
И Михаэль решается стать крестьянином после того, как ему удалось
скосить полосу ржи, после того, как он понял, что то, что в нём было
когда-то заложено, вновь проявилось в полной силе. Майорша свя-
зала по старинному крестьянскому обычаю из колосьев ржи букет,
который он должен внести в отчий дом, дождавшийся, наконец,
своего хозяина: «Я думаю,— сказала тихо майорша,— что солдат
Михаэль теперь вернулся домой...»3
Вихерт предлагает свой вариант государственного устройства
Германии, где всё имеет своё естественное предназначение, где
всё освящено стародавними традициями в духе фёлькиш-наци-
ональной идеологии: поэтика «крови-и-почвы», пронизывающая
рассуждения майорши, противостояние города и деревни на при-
мере сына майорши, «человека города, который посмеивается над
ежедневной работой и от которого нужно беречь служанок, когда
он появляется в её доме с граммофоном в чемодане и с альбомом
фотографий, от которых светлое лицо майорши краснеет»,4 непри-
ятие современного искусства, выразившееся в поступке майорши,
сжёгшей в камине «неоконченный портрет Данаи» работы её сына,
«не представляющий собой ничего примечательного кроме той тща-
тельности, с которой для человека, не искушённого в мифологии,
изображены были половой орган натурщицы и его предназначение».5
1 Wiechert E. Op. cit. S. 208.
2 Ibid. S. 214.
3 Ibid. S. 224.
4 Ibid. S. 25.
5 Ibid. S. 159.
538
Вероятно, поэтому критики тех лет восприняли «Майоршу»
неоднозначно. Одни увидели в ней воспевание «природы и духа»,1
другие — «триумф женщины-матери над смертью»,2 третьи — «вос-
певание феодальной сущности владелицы поместья».3 Истинное
отношение официальной критики к повести «Майорша» проявилось
много позже, и обусловлено было открытым выступлением Вихерта
против нацистского режима. А. Мулот в своей книге «Немецкая
литература нашего времени» (1944), не отрицая художественных
достоинств повести, обвинил писателя в том, что «героев, призван-
ных к обновлению Германии, которые являлись бы не только добры-
ми и смиренными, но и стойкими и способными к сопротивлению,
которые скорее пожертвуют собой, чем позволят использовать
себя в качестве жертвы, таких людей у Вихерта мы не находим».4
Г. Лангенбухер в своей книге «Современная национальная литера-
тура» (1940) вообще проигнорировал это произведение Вихерта.5
Однако сейчас «Майорша», на момент её появления, не вызвала
у официальной критики какого-либо недовольства. Тираж повес-
ти за первый год составил 16000, а за всё время существования
Третьего рейха — 165 000,6 что свидетельствовало о безоговороч-
ном принятии читателями концепции Вихерта единения человека
и природы, безотносительно политической составляющей времени,
и в этом смысле в авторской позиции можно усмотреть некий налёт
скрытой оппозиционности.
Не усмотрела критика ничего криминального и в рассказе
Вихерта «Отец» (»Der Vater«), опубликованном в «Иннере рейх» в мае
1934 года, хотя антимилитаристская тенденция здесь довольно ощу-
тима. Здесь, как и в «Майорше», речь идёт о возвращении с войны
солдата, которого отец, офицер старой прусской формации, похо-
ронил на том лишь основании, что он, как говорилось в официаль-
ном уведомлении, пропал без вести, ибо подобная формулировка
1 SchefflerH. Ernst Wiechert, Die Majorin // Das deutsche Wort, 1934. H.39. S. 5.
2 Anonym. Die Majorin // Bücherkunde. 7. Folge. 1934. S. 132.
3 Taube O. von. Die Welt Ernst Wiecherts und seine neuesten Dichtungen / / Das Innere
Reich. H.9. Dezember 1934. S. 1173.
4 Mulot A. Die deutsche Dichtung unserer Zeit. Stuttgart, 1944. S. 79.
5 В официальном опусе Г. Лангенбухера »Volkhafte Dichtung der Zeit«, 1940.
6 Strothmann D. Nationalsozialistische Literaturpolitik. Ein Beitrag zur Publizistik
im Dritten Reich. Bonn, 1960. S. 379.
539
воспринималась им как нечто позорное. Если в «Майорше» встреча
Михаэля с отцом заканчивается в конечном итоге трагически,
отца отправляют в сумасшедший дом, то в рассказе Вихерта отец,
выслушав рассказ сына, попавшего после ранения в плен к русским,
откуда ему всё-таки удалось вырваться, вынужден каким-то обра-
зом пересмотреть свои прежние представления о войне и воинской
чести, и в этом можно усмотреть некую подвижку в рассмотрении
автором идеологии старого рейха. Отец, получив с фронта письмо
от сына, в котором тот в момент крайней опасности вспомнил
о нём, считает, что «представители его рода на войне... каждую
минуту должны думать только о кайзере, об отечестве и о долге,
но никогда об отце, так как его фигура для отечества представля-
ется совершенно неважной».1 Однако, когда его сын возвращается
из русского плена, попытка отца как-то напомнить сыну о заветах
предков, о смысле войны, натыкаются на размышления сына
о бессмысленности войны: «Нас просто отправили воевать, и мы
отправлялись во Францию, или Россию, или к морю... но мы про-
двинулись слишком далеко... на другую планету... и здесь не знали,
куда нас послали... я не хотел возвращаться, но командир приказал
мне...— Но ты разве теперь не дома? — Отец, у нас больше нет
родного дома... мы нанялись в услужение смерти, и договор всё
ещё остаётся в силе».2
Истинное лицо войны, возникшее из рассказов сына, из его
дневников, поколебало традиционные взгляды старого офицера
на войну как некое действо, не имеющее никакого отношения
к живым людям, и он вынужден признать, что это время ушло,
хотя бы для его сына, потрясённого ужасами войны. Фактически
здесь наличествует лишь констатация того, что суть войны как
человеческого занятия изменилась, при всём том, что Вихерт явно
на стороне молодого офицера, антимилитаризм авторской позиции
облачён в форму некоего недоумения по поводу случившегося,
не более. Несомненно, что этот рассказ выпадает из общего потока
военной литературы тех лет, но он и не содержит чётко выраженных
протестных признаков.
Нечто подобное просматривается и в «Пастушеской новелле»
(»Hirtennovelle«, 1934), напоминающей по своему строю «литературную
1 WiechertE. Der Vater // Das Innere Reich. H.2. 1934. S. 147.
2 WiechertE. Op. cit. S. 158.
540
легенду»,1 несколько однообразную и почти лишённую временного
и местного фактора. История мальчика-пастуха, спасшего во время
войны жителей и скот родной деревни, но погибшего от рук русского
солдата-мародёра, является воспеванием не только добрых чувств
в человеке, выросшем в полном согласии с природой, но и осужде-
нием войны, выступающей в новелле как олицетворение зла. В над-
гробной речи учителя, своеобразного alter ego Вихерта, заключена
основная идея этого произведения: «Не за отечество... погиб этот
благородный человек, не за кайзера и ни за трон или алтарь этой
земли. Он погиб, защищая ягнёнка бедного человека, о котором
говорится в Библии. И в этом ягнёнке бедного человека, конечно,
воссоединились все отчизны и короны земли, потому что ни одному
пастырю этого мира не даровано ничего более великого, чем смерть
в защиту беднейшего из своего стада. В этой юной жизни заключена
чудесная мудрость...— борьба, любовь и храбрая смерть...»2
Казалось бы, правильные слова, но они, звучащие в речах
нацистских вождей, вызывают двойственное чувство, тем более
что далее Вихерт высказывает мысль о том, что «Германия не будет
обречена Богом на гибель, если этот же Бог придал беднейшим
и самым незначительным людям этой немецкой земли такую душу,
какая сияла и сгорела в этом юном пастухе», ибо эта душа будет
определять жизнь не только «всего отечества», но «в далёком буду-
щем, если всё самим собой сложится, будут пронизывать и сущность
всех стран».3 Правда, эта уверенность в незыблемости Германии
вскоре угаснет, в чём можно будет убедиться во второй мюнхенской
речи Э. Вихерта, где его суждения о нацистском государстве и его
будущем обрели более чёткие контуры.
Его первое выступление перед студентами Мюнхенского
университета в 1933 году с речью «Писатель и молодёжь» мож-
но назвать своеобразной пробой пера на этом поприще, потому
что призывы «исключить возможность какой-либо капитуляции
перед натиском насквозь лживых, безнравственных сентенций»
и обвинения в адрес писателей, «у которых творчество мгновен-
но превратилось в ремесло, мировоззрение — в политиканство,
1 Кауфман Л. С. Писатель и время. Эрнст Вихерт. Германия 30-50-х годов XX века.
Тамбов, 2009. С. 26.
2 WiechertE. Hirtennovelle // Das Innere Reich. H.7. Oktober 1934. S. 899.
3 Ibid. S. 899.
541
религиозность — в фарисейство»,1 учитывая общую тональность
этой речи, можно отнести не только к нацистской литературе,
но и к «литературе асфальта», а в конечном итоге и к писателям-
эмигрантам, что, в сущности, так и было.
Вероятно, потому эта речь и не вызвала каких-либо наре-
каний в адрес Вихерта со стороны властей, и «Культурный круг»
национал-социалистского общества культуры Мюнхена предложил
Вихерту выступить в 1935 году перед этой же аудиторией с докла-
дом «Писатель и его время». За месяц до выступления в Мюнхене
с успехом прошла премьера пьесы Вихерта «Потерянный сын»
(»Der verlorene Sohn«, 1935),2 которой предшествовал ряд публи-
каций в мюнхенском издании «Фёлькишер беобахтер»: интервью
с писателем,3 его краткая биография4 и даже отрывок из этой
пьесы.5 Казалось бы, ничто не предвещало скандала, однако после-
довавшее 16 апреля 1935 года выступление Вихерта перед мюнхен-
скими студентами оказалось для устроителей этого мероприятия
неприятным сюрпризом.
Продолжая придерживаться прежней тактики выяснения
отношений со своими коллегами времён Веймарской республики
(Вихерт не раз обращается к своей статье о Фалладе), писатель
выступил открыто против культурной политики нацистов, против
воспитания молодёжи в духе откровенного милитаризма и шови-
низма. Здесь важно отметить, что Вихерт выступал не как политик,
а как гуманитарий проповедческого толка, и, тем не менее, его речь,
при всей кажущейся аполитичности, была предельно политической.
Обозначив свой статус как человека, живущего «между двух
миров — между поэзией и временем»,6 Вихерт отдаёт предпочтение
1 Кауфман Л. С. Указ. соч. С. 22.
2 Gstettner H. Zwischen Müttern und Söhnen. Ernst Wiecherts Schauspiel »Der verlorene
Sohn« // Völkischer Beobachter, München, 19.03.1935.
3 Anonym. Die Passion. Ernst Wiechert über sein Schauspiel »Der Verlorene Sohn«. Zur
Münchner Erstaufführung am 17.März 1935.
4 Anonym. Aus dem Leben Ernst Wiecherts // Völkischer Beobachter, München,
17.03.1935.
5 Wiechert E. Die unsichtbare Krone. Eine Szene aus dem Schauspiel »Der verlorene
Sohn«// Völkischer Beobachter, München, 17.03.1935.
6 Wiechert E. Ansprache an die Münchener Studenten // Das Wort. Moskau, April-Mai
1937. S. 6.— Официально эта речь называется «Поэт и молодёжь», однако полный
текст её не сохранился, она ходила в Германии в списках в разных вариантах.
542
поэзии, ибо всё остальное пустое, «как праздники людей, так и их
поражения, как их преклонение, так и их «революции», и поэтому
«поэты тихо отходят в сторону... и размышляют о том, как можно
превратить упоение времени в одно небольшое слово равное веч-
ности. Таким представляется мне смысл призвания, которое мы
называем поэтическим. И никакого другого смысла в нём не было
никогда, потому что это не то, что хотели бы думать многие, пола-
гая, что смысл революции состоит в том, чтобы ещё раз начинать
с первого дня творения...»1
Ничего, вроде бы, предосудительного в этих словах нет, если
не считать некоторого необязательного отношения к революции,
да и толковать это слово можно по-разному. Однако далее выяс-
няется, что речь всё-таки идёт о нацистской революции (так они
называли свой приход к власти), потому что Вихерт обрушивается
с критикой на молодую нацистскую литературную поросль: «Сегод-
ня наши барды молоды, им 20-25 лет, и они по праву хотели бы
считать нас умершими, потому что в наших скудных произведе-
ниях речь идёт только о мёртвых вещах, как, например, о боге,
о справедливости или о любви, а то даже и о великой войне. Среди
этих поэтов есть и такие, кто в 25 лет разъезжает по стране и поёт
не только свои кровавые песни, но и рассказывает о своей жизни.
И есть многие тысячи людей, кто слушает со вниманием эти песни
и жизнеописания, потому что мы, как известно, народ смелый,
мужскую гордость унаследовали от королевских тронов... Нет, мои
друзья, это плохо и для нас и для нашего времени... Наше время,
грозящее всему миру ненавистью и завистью, должно, по меньшей
мере, отмести эту угрозу благодаря усилиям наших собственных поэ-
тов. В годы опасности можно сказать каждому молодому человеку:
«борись или умри». Но нельзя каждому молодому человеку сказать:
«пой или умри», потому что было бы лучше, если бы он умер, чем пел,
ибо умереть можно всегда красиво, если это происходит достойно
и с самообладанием, а для того, чтобы петь, нужны другие вещи,
чем достоинство и самообладание. И от этого не изменится тот факт,
что в Германии есть как раз лагерь по подготовке поэтов для того,
Данный текст, спрятанный в булке, был тайно переправлен в Москву и опубликован
не только в журнале »Das Wort« (в нём ошибочно указывается 1936 г. произнесения
речи), но и в 1943 г. в журнале »Deutsche Blätter«, выходившем в Сантьяго де Чили.
1 Ibid. S. 7.
543
чтобы... из индивидуалистического искусства одной оставшейся
знаменитости в области искусства выращивать будущих бардов
некоего общинного искусства...»1
Для Вихерта, индивидуалиста до мозга костей, неприемлемо
понимание искусства как некоего подсобного материала реальной
политики, когда «критика не спрашивают, выстоит ли стихотворе-
ние, роман, драма на форуме искусства, а спрашивают, выстоят ли
они на форуме политических мнений». И тут же писатель приводит
пример из собственной практики, говоря о своей резкой статье
в «Иннере рейх» по поводу романа Г. Фаллады: «Я получил письмо,
в котором говорилось, что было бы лучше, если бы я то немногое
положительное, что обнаружил в творчестве Фаллады, опустил бы
из культурно-политических соображений».2
При всей важности поднятых в речи Вихерта проблем литера-
турного свойства основной смысл его речи определялся критикой
нацистских методов воспитания молодёжи, ибо он затронул одну
из самых заветных идей национал-социализма — о воспитании
молодёжи в героическом духе. Предметом критики Вихерта стала
статья «одного одичавшего обновителя народа» об изучении в шко-
ле немецкого языка и литературы, считавшего, что «молодёжь
должна воспитываться в героическом духе,., независимо от того,
действовал ли герой в каком-либо произведении или в жизненной
ситуации хорошо или плохо», ибо нынешняя молодёжь «должна
принимать анархию морального мира с холодным взглядом».3 Слова
эти перекликаются с известным высказыванием Гитлера на этот
счёт: «Необычайно активная, властная, жестокая молодёжь — вот
что я оставлю после себя. В наших рыцарских замках мы вырастим
молодёжь, перед которой содрогнётся мир... Молодёжь должна быть
равнодушна к боли. В ней не должно быть ни слабости, ни нежно-
сти. Я хочу видеть в её взоре блеск хищного зверя...»4
Порицая подобную позицию, Вихерт вступил в прямую поле-
мику с вождём нации: «Хотя поэты не всегда бывают правы, но они
хотят, чтобы на земле царило право... Они хотят, чтобы люди чётко
1 Wiechert E. Op. cit. S. 8
2 Ibid. S. 8.
3 Ibid. S. 8-9.
4 Цит. по: Энциклопедия Третьего рейха. М., 1996. С. 183.
544
понимали, что неясно и часто подвержено изменению — истина,
справедливость, свобода, доброта, любовь и превыше всего смысл
и законы великого мировоззрения... Для меня не безразлично,
будет ли молодёжь принимать мир с глубоким уважением в духе
Гёте или холодным взглядом принимать анархию морального
мира».1 И далее следуют слова, которые можно назвать вещим
предсказанием будущего конца Третьего рейха: «Да, так, наверное,
может случиться, что народ перестанет различать справедливость
и несправедливость и что каждая борьба ведётся справедливо.
Но тогда такой народ окажется на круто снижающейся плоскости
и ему уже предначертано поражение. Может случиться и так, что
некая гладиаторская слава победит и в предсмертных конвульсиях
создаст некий духовный склад, который мы хотим назвать «духов-
ным складом боксёра» (Boxerethos). Но чаша весов уже поднялась
над этим народом и на каждой стене уже обозначилась рука, пишу-
щая пылающие огнём письмена».2
Несмотря на столь грозное пророчество Вихерт не теряет
надежды на то, что среди молодёжи найдутся «юные герои, которые
будут бороться не ради самой борьбы, а ради того труда, который
творят вот уже 20 лет лучшие представители всех поколений, ради
того, чтобы наконец пришёл рейх».3 Вихерт, как человек, при-
держивающийся консервативных взглядов национального толка,
ратовал с гуманистических позиций, как и многие фёлькиш-наци-
оналы, за возрождение прежнего рейха, рейха времён Бисмарка,
и поэтому относился терпимо, даже с некоторым пониманием,
хотя и временным, к ряду постулатов нацистской идеологии и их
осуществлению на практике. Он выступал против духовного пора-
бощения молодёжи и всего немецкого народа, а не против, в целом,
всей политики нацистов, не понимая, что первое немыслимо без
второго. Отсюда его почти отчаянный призыв к молодёжи: «Я закли-
наю вас сегодня не дать себя соблазнить, чтобы увидеть только
блеск и счастье там, где вокруг нас происходит столько страданий,
и никогда не позволить довести себя до того, чтобы молчать, когда
ваша совесть приказывает вам говорить, и никогда, мои друзья,
не принадлежать к тому многочисленному воинству, о котором
1 Wiechert E. Op. cit. S. 9.
2 Ibid. S. 9-10.
3 Ibid. S. 10.
545
сказано, что они «ощущают в мире страх», потому что ничто так
не разъедает основы народа как трусость».1
После доклада Вихерт прочитал радиопьесу «Мёртвый мар-
шал» (»Der tote Marschall«, 1934), посвященную смерти президента
Германии генерал-фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга, и пьеса
эта (она никогда не была опубликована), по отзывам слушавшим
её, являлась чуть ли не отходной ушедшему прошлому в сочетании
с инвективами в адрес нарождающейся «новой» Германии.
Несомненно, что речь Вихерта была отчаянным шагом наивно-
го человека, полагавшегося на силу слова и силу справедливости,
как, впрочем, и на авторитет писателя, пользовавшегося на этот
период большой известностью. Однако нацисты рассудили иначе.
18 апреля 1935 года, на второй день после выступления Вихерта,
нацистский официоз «Фёлькишер беобахтер» (мюнхенское издание)
опубликовал анонимную статью «Какую позицию занимает писатель
Эрнст Вихерт?») (»Wo steht der Dichter Ernst Wiechert?«), в которой
прозвучали слова предостережения автору, позволившему себе
усомниться в правильности политики партии.
В редакционной части статьи, в отличие от предыдущих вос-
торженных славословий в адрес писателя, нацисты выразились
довольно откровенно: «Нам представляется, что Вихерт переоценил
своё значение для нашего общества. Удовольствие предстать в орео-
ле мученика мы ему не доставим».2 Правда, своё обещание нацисты
всё же не сдержали, заключив Вихерта в 1938 году в концлагерь
Бухенвальд, но, как бы это ни звучало парадоксально, совершенно
правильно определили значимость Вихерта, как и многих других
фёлькиш-националов, тешивших себя надеждами влиять на поли-
тику нацистов хотя бы в области культуры, ибо остальные аспекты
политики новых властителей, как показала практика, оставались
для них недоступны.
Более подробно позицию нацистов по поводу случившегося
высказал анонимный автор: «Мы надеялись найти в Вихерте поэта,
который верит в свой народ, черпает в этой вере свои силы, поэ-
та, который, даже если бы разверзлись врата трагического конца,
сделал бы источником своего творчества веру в великое и победное
будущее немецкой нации... Вызывает досаду, когда такой писатель
как Эрнст Вихерт, к которому национал-социалистское государство
1 Wiechert Е. Op. cit. S. 10.
2 Ibid. S. 10.
546
испытывает безграничное доверие, использует своё имя для того,
чтобы распускать семена бессмысленных гипотез. Героизм заклю-
чается не в предупреждении трагического конца, а в безусловной
воле употребить все имеющиеся в наличии силы в бою с тем, чтобы
обеспечить успешный конец. В своём пессимизме Эрнст Вихерт
так погряз, что потерял представление об истине».1
Фактически эта статья была первым серьёзным предупре-
ждением Вихерту со стороны нацистов, где было чётко сказано,
что «поэт не имеет права занимать место среди тех неисправимых
пессимистов, которые свою критику мелочей превращают в пред-
сказание катастрофы».2
Несмотря на суровый тон статьи, в ней всё же прослежива-
ется надежда на то, что писатель одумается. По крайней мере,
каких-то радикальных мер против Вихерта после его мюнхенской
речи не последовало, и он продолжает выступать с чтением своих
произведений в крупных городах Германии, хотя он уже попадает
в число лиц, за которыми устанавливается постоянное наблюдение,
и каждая публикация писателя становится предметом тщательного
анализа на предмет выяснения антинацистских интенций. Такое
повышенное внимание к Вихерту ощутилось в 1936 году после
выхода его автобиографической книги «Леса и люди» (»Wälder und
Menschen«), которая привлекла внимание читателей не только
поэтическими описаниями природы Восточной Пруссии и её воз-
действия на становление Вихерта как человека и как писателя,
но и достаточно откровенной манерой автора представить свой
жизненный путь во всех его проявлениях и, не в последнюю очередь,
красочным, чуть ли не натуралистическим описанием духовной
атмосферы послевоенной Германии.
Новая книга Вихерта вызвала, особенно в официальных кру-
гах, неоднозначную реакцию, и связано это с постоянным сопер-
ничеством между различными идеологическими ведомствами,
а порой, как в случае с Вихертом, и с несогласованностью в одной
системе. Так, анонимный автор журнала «Бюхеркунде», органа,
подведомственного А. Розенбергу, считает, что книга Вихерта ясно
показала, «во-первых, почему и отчего то межвременье, к которому
мы... относим и Второй рейх, должно было рухнуть, и, во-вторых,
1 Q.E. Wo steht der Dichter Ernst Wiechert? // Völkischer Beobachter (Münchener
Ausgabe), 18.04,1935.
2 Q.E. Op. cit.
547
откуда те люди, носившие стальной шлем, брали силу для того,
чтобы не только мужественно и по-мужски пережить эти ужасы,
но кроме того, будучи пионерами будущего, ещё и проложить доро-
гу в неизведанное грядущего времени... Мы получили в подарок
книгу, которая призвана многое прояснить и растолковать тем,
кому сегодня всё это кажется непонятным, потому что дистанция
по отношению к тем событиям слишком мала. Поэтому данная
книга рекомендуется не только для того, кто проявляет интерес
к Эрнсту Вихерту, но и для каждого, кто хочет в серьёзном диалоге
с тем, что было, постичь полное понимание современности и быть
готовым к борьбе за новые преобразования».1
Из этих слов можно заключить, что Вихерт написал чуть ли
не катехизис национал-социализма, хотя в действительности это
было не так, но то, как было представлено в книге время и состо-
яние человека во времени, позволяло сделать подобный вывод,
и в этом заключалась двойственность, не намеренная, позиции
фёлькиш-националов, которую можно было толковать по-разному.
Как бы то ни было, но рецензия на книгу Вихерта была положи-
тельной. Но тут же, и в этом заключается весь парадокс, в офици-
альном нацистском органе «Фёлькишер беобахтер», правда, в мюн-
хенском издании, что ничуть не умаляет значимости публикуемых
в нём материалов для Германии тех лет, появляется разносная статья
Ганса Гштеттера, в котором высказываются совершенно противо-
положные мысли по поводу книги Вихерта, хотя это издание, как
и «Бюхеркунде», находилось под контролем всё того же А. Розенберга.
Есть смысл привести отрывок из этой статьи с тем, чтобы убедиться
в том, как разняться позиции авторов обеих статей, а также в том,
что в литературных делах во времена Третьего рейха было много
хозяев, между которыми довольно часто не было согласия, в чём
можно будет убедиться не только в данном случае, но и в случае
с другой книгой Вихерта «Простая жизнь», вышедшей в 1939 году.
В статье Г. Гшеттера официальная нацистская критика впер-
вые заговорила о Вихерте языком следователя: «Духовная структура
Эрнста Вихерта не соответствует структуре здорового немецкого
человека. Об этом его воспоминания о детстве возвещают с потря-
сающей ясностью. В потоке крови его происхождения реет мрак
1 Anonym. Wälder und Menschen. Ernst Wiechert // Bücherkunde, 1936. 12 Folge.
S. 357.
548
славянской меланхолии, его юность проходила под тенью несчастных
семейных отношений, его школьные годы вплоть до старших клас-
сов гимназии суть беспросветные и лишённые руководства муче-
ния чувствительного мечтателя, оказавшегося среди грубого, даже
непристойного мира. Тоска по бесконечным лесам Иоганесбург-
ского соснового бора, вызванная причиной вынужденного отказа
от профессии лесника, стала болезненной силой его творчества.
Об этой истории личности Вихерта мы хотели бы лучше с почтением
помолчать, если бы она не оказалась решающей для оценки критики
времени, в которой молодёжь прошлого прославляется как счастли-
вая, потому что она ещё была не ограничена „никакими догмами",
потому что она была освящена звёздами „терпения" и „гуманности".
„Мы были счастливы оттого, что у нас не было никакого мировоз-
зрения", пишет буквально Вихерт, „мы только должны были обрести
его, и в этом нет ничего плохого, что многие из нас очень поздно
справились с этим, а некоторые ещё и сегодня (!) не обрели его".
Действительно, в этом нет ничего плохого?»1
Недоумение нацистского критика вполне понятно, потому
что он видел прямую связь книги Вихерта с его речью в 1935 году
в Мюнхене, и для него, слушавшего эту речь, «Леса и люди» представ-
лялись некоей загадкой. Но не только у него книги Вихерта вызы-
вали недоумение. Не случайно именно в это время, в 1936 году,
ведомство Гиммлера с тревогой констатировало, что «удивительный
процесс неправильного толкования, искажения смысла, забалты-
вания и разрушения прочных, нерушимых основных ценностей
национал-социалистского мировоззрения» проистекает именно
в творчестве тех национально-консервативных писателей, которые
подготавливали «революционный перелом», а теперь выступают
в роли «троцкистов национал-социализма».2
Трудно сказать, связаны ли эти слова напрямую с творчеством
Вихерта, но то, что он принадлежал к числу этих новоявленных
«троцкистов национал-социализма», не вызывает сомнения. При
всём том, что вторая мюнхенская речь Вихерта, как и некоторые
1 Gstetter Н. // Völkischer Beobachter, Münchener Ausgabe. 27.09.1936.— К сожа-
лению, не удалось найти мюнхенского издания «Фёлькишер беобахтер», поэтому
приходиться довольствоваться цитатой, приведённой в книге: Carl Zuckmayer.
Geheimreport / Hrsg. v. G. Nickel und J. Schrön. Göttingen, 2002. S. 199.
2 Цит. по: Bracher К. D. Stufen der Machtergreifung. Frankfurt / Main, Berlin, Wien,
1974. S. 406.
549
его высказывания в «Майорше», в книге «Леса и люди» и в ряде
других произведений писателя, несмотря на их наивность, означа-
ют заметный поворот не только в его литературной деятельности,
но и в его политическом настрое, хотя он постоянно дистанцирует-
ся от политики как таковой, общая тональность его рассуждений,
как бы это ни звучало парадоксально, свидетельствует о том, что
Вихерт всё ещё не расстался с идеей о возможном, как это мысли-
лось фёлькиш-националами, облагораживании национал-социа-
лизма, о придании ему определённых гуманистических тенденций.
Вихерт был уверен в том, что задачей писателя является поучение
не только читателя, но и власть предержащих. Именно поэтому
во время посещения Швейцарии в 1937 году он не поддался угово-
рам Германа Гессе и Макса Пикарда не возвращаться в Германию,
мотивируя свой отказ исключительно моральными, а не политиче-
скими соображениями.1
Подобная решительность Вихерта определялась в значительной
мере ещё и тем, что он ощущал свою литературную значимость
в стране. К 50-летию писателя, которое довольно широко отмечалось
в печати, вышла монография Ганса Эбелинга «Эрнст Вихерт. Путь
поэта» (»Ernst Wiechert. Der Weg des Dichters«, 1937); выступления
Вихерта с чтением собственных произведений проходили в пере-
полненных залах. Особым успехом пользовалась легенда «Белый
буйвол, или О великой справедливости», написанная в 1937 году,
но опубликованная только в 1946 году. Однако известно, что она
ходила в рукописи по рукам, так что совсем её нельзя относить
к литературе «из ящиков письменного стола».
По своей сути это произведение, созданное как бы в стиле
древнеиндийской легенды и по характеру повествования напоми-
нающее «Заратустру» Ф. Ницше, хотя и без его радикальной афо-
ристичности, можно рассматривать как развёрнутую программу
основных тезисов, выдвинутых Вихертом в его второй мюнхенской
речи — право и бесправие, право и насилие. Эта легенда является,
пожалуй, первым достаточно открытым антифашистским произ-
ведением, хотя его иносказательная фактура мало чем отличалась
от тогдашней псевдоисторической литературы подобного настроя.
Иносказательность Вихерта была слишком явной, чтобы допу-
стить какие-то иные толкования, и вызвано это не только самим
1 Pleßke H.-M. Ernst Wiechert. Dichter und Zeitzeuge aus Ostpreußen. Hamburg, 2003.
S. 22.
550
содержанием, но и наивной, а порой и беспомощной доказательной
базой отстаиваемых тезисов.
История Вазудевы, выходца из бедной крестьянской семьи,
это история искушения властью и история победы над властью.
В первой части легенды Вазудева организует банду из молодых
людей, построенную по нацистскому принципу: «Мы воспитаны
как собаки, но я хочу сделать вас тиграми».1 Банда сеет страх
в округе, грабит и убивает людей ради обретения богатств: «Закон
перестал быть для них чем-то определяющим. Они сами были оли-
цетворением закона, и с этого времени кровь перестала быть тем,
чего следовало бояться».2
Но вскоре в жизни Вазудевы происходит внутреннее прозре-
ние, приведшее к осознанию преступности власти, покоящейся
на насилии. Случай заставил его убедиться в этом. Слуги властителя
страны, Мурдука, проезжая через деревню, убили белого буйвола,
стоявшего на их пути. Вазудева поклялся перед крестьянами, что
добьётся справедливости у Мурдука, и вместо убитого буйвола при-
ведёт несколько белых буйволов с золотыми рогами. Придя в столи-
цу Мурдука, Вазудева отказался поклониться золотому изображе-
нию тирана, зная, что за подобный проступок ему грозит смерть.
В ходе длительных бесед с Мурдуком, заинтересовавшимся столь
смелым человеком, происходит столкновение двух полярных мне-
ний о сущности власти и права. Если Мурдук считает, что «власть
обречена на гибель и сгниёт как таковая, если меч затупеет и право
выступит против власти»3 и поэтому настаивает на том, чтобы ему
со страхом поклонялись, то Вазудева настаивает на том, что «короли
существуют для того, чтобы на земле не творилось бесчестие. Ноги
людей должны нести их к королям, а не бежать от них... На очень
тонком острие покоится власть. Она наносит удар — и тут же про-
является насилие. Она исцеляет — и тут же проявляется право».4
Однако Мурдук настаивает на том, чтобы Вазудева склонился
перед ним, предлагая взамен оставить ему жизнь, высокое поло-
жение при дворе, ибо в противном случае его ожидают мучения
1 Wiechert E. Der weiße Büffel oder von der großen Gerechtigkeit / / Wiechert E. Erzäh-
lungen. Berlin, 1969. S. 168.
2 ibid. S. 173.
3 Ibid. S. 200.
4 Ibid. S. 209.
551
и казнь. Натолкнувшись на стойкость Вазудевы, Мурдук сжигает
на его глазах его собственную мать, а затем отрубает ему голову.
Смерть Вазудевы не была напрасной. Мурдук, потрясённый
его мужеством, раскаивается в содеянном, и отправляет в деревню
Вазудевы, как тот и обещал крестьянам, «караван справедливости»
из пятидесяти белых буйволов с позолоченными рогами.
Столь благостный конец свидетельствует о том, что Вихерт всё
ещё надеется на то, что слово убеждения может оказать какое-то
воздействие на восстановление справедливости и законности в Гер-
мании. Однако именно после публичного чтения «Белого буйвола»
Вихерт получил запрет на выступления за границей. Последующие
события в его жизни — отказ Вихерта участвовать Во «всенародном
референдуме» 10 апреля 1938 года по случаю аннексии Австрии,
нежелание участвовать в благотворительной акции «Винтерхильфе»
по оказанию помощи неимущим соотечественникам — показали,
как велика опасность, когда писатель выходит за пределы опреде-
лённого ему временем поля деятельности. За открытые высказыва-
ния в своих речах против национал-социализма, а также за соли-
дарность с пастором Мартином Нимёллером, порицавшим в своих
гневных проповедях нацистов за их стремление противопоставить
Господу фюрера, 6 мая 1938 года Э. Вихерт был арестован геста-
по и заключён по приказу Геббельса на два месяца в концлагерь
Бухенвальд. В своём дневнике всесильный министр пропаганды
после прочтения протокола допроса записал: «Какое-то дерьмо
решило выступить против государства. 3 месяца ему концлагеря.
Затем я им займусь лично».1
После смерти Карла фон Осецкого (Ossietzky, Carl von; 1889-
1938), вызвавшей в мире многочисленные протесты, нацисты, боясь
повторения подобных акций, наносящих ущерб имиджу Германии,
решили ограничиться по отношению к Вихерту «воспитательными
мероприятиями», что предполагало определённые послабления его
заключения. Тем не менее, вначале он был отправлен на работы
в каменоломню, потом переведён в мастерскую, занимавшуюся
штопкой чулок, и в конце пребывания в концлагере — в библиотеку.
Однако и этого хватило Вихерту для того, чтобы написать страшную
книгу о преступлениях, совершавшихся ежедневно в Бухенвальде.
В конце августа 1938 года Вихерта доставили из Бухенвальда
к Геббельсу, который так описал в своём дневнике эту встречу:
1 Цит. по: Pleßke Н.-М. Op. cit. S. 25.
552
«...произнёс грозную речь, которая очень удалась. Я не потерплю
в подведомственной мне области никакого протестантского фрон-
та. Я был в великолепной форме и полностью деморализовал его.
Последнее предупреждение! Об этом не может быть никаких сомне-
ний. Преступник в итоге сник и заявил, что заключение навело его
на размышления и к осознанию содеянного. Это хорошо, что так
произошло. При повторении чего-либо подобного последует только
его физическое уничтожение. Теперь это знаем мы оба».1
Примечательно, что после всего случившегося неминуемое
исключение Вихерта из «Имперской палаты письменности» было
застопорено, а сам он был приглашён на «Великогерманскую
встречу поэтов» в Веймаре, где Геббельс напомнил ему о том, что
«рассматривает его пребывание на этой встрече как особый вид
помилования... По этой причине он отказывается от запрета книг
Вихерта, которые, как и ранее, могут продаваться в книжных мага-
зинах. Правда, он должен будет предъявлять каждое своё новое
произведение на просмотр».2 Причины подобной «милости» следует
искать в пропагандистской надобности, ибо «Великогерманская
встреча поэтов» в Веймаре была задумана Геббельсом как меж-
дународное мероприятие, и присутствие писателей такого ранга
как Вихерт должно было показать всему миру расцвет литературы
в Третьем рейхе.
Писатель Манфред Хаусман, участник этой встречи, вспоми-
нает: «На второй вечер я попал в один ресторан... За всеми столами
сидели «поэты» в тесном содружестве с веймарскими мещанами,
которые ощущали себя невесть как возвышенно. Внезапно, в поисках
свободного места, я обнаружил Эрнста Вихерта. Он сидел за малень-
ким столом один, словно обесчещенный. Явно никто не хотел сидеть
рядом с человеком, вышедшим из концлагеря. Меня это нисколько
не волновало. После нескольких приветственных слов я сказал:
«Господин Вихерт, как это было на самом деле?» Тогда, правда, знали
0 существовании концлагерей, знали также, что там было тяжело,
но никто не мог сообщить об этом какие-либо подробности. Ходили
только слухи, которые нельзя было проверить. Вот теперь я сидел
рядом с бывшим заключённым, который мог бы мне сообщить
надёжные сведения об этом. Вихерт опустил тяжёлые веки и сказал
медленным голосом, окрашенным восточнопрусской интонацией:
1 Pleßke Н.-М. Op. cit. S. 96.
2 Ibid. S. 97.
553
«Я не имею права говорить об этом. Вы понимаете. Но — и теперь он
прямо посмотрел на меня — вы можете всё же знать одно — живым
я оттуда снова уже не вернусь. Вам этого достаточно?» Этого мне
было достаточно».1
Этого было достаточно и Э. Вихерту, который в первые же
месяцы после освобождения из концлагеря написал свою знамени-
тую книгу «Мёртвый лес» (»Der Totenwald. Ein Bericht«, 1946), руко-
пись которой закопал у себя в саду до лучших времён. Появись эта
книга во время её написания, она произвела бы эффект разорвав-
шейся бомбы, ибо имя Вихерта было бы гарантом истинности того,
что описано в «Мёртвом лесе». Но подобное могло случится только
при условии, если бы её автор находился за пределами Германии,
ибо в противном случае его ожидала неминуемая смерть.
«Мёртвый лес» являет собой отчёт о пребывании Вихерта в кон-
цлагере Бухенвальд, отчёт, не имеющий себе равных по достоверно-
сти и выразительной силе описания нечеловеческих страданий его
узников. Вихерт охарактеризовал свою книгу как берихт (Bericht).
Жанр берихта довольно многозначен. Он «соединяет в себе эле-
менты репортажа и документального рассказа». При этом основу
берихта определяют «реальные эпизоды, обязательным компонентом
которых становится присутствие в них автора».2 Именно по этой
причине берихт приобретает черты романа-эссе. Не случайно
в предисловии к «Мёртвому лесу» Вихерт особо оговаривает свою
авторскую позицию: «...я написал не о том, что увидели мои глаза,
а о том, что увидела моя душа»,3 что предполагает не свойственное
жанру берихта достаточно расширительное толкование увиденного
и пережитого. Эта особенность повествовательной манеры подкре-
пляется и введением в берихт вымышленного героя — писателя
Иоганнеса, мнимая достоверность которого определяется обилием
сведений из жизни самого Вихерта, но в основе своей он остаётся
своеобразным собеседником автора, который нужен ему для рас-
крытия подлинной сущности происходящего.
Значимость «Мёртвого леса» определяется не столько развёр-
нутой картиной изощрённых пыток и издевательств нацистов над
1 Kipp E. Wälder und Menschen. Jahre und Zeiten. Der Dichter der Stille: Ernst Wie-
chert // Deutsche Ostdienst. Nr. 5. 2005. S. 5.
2 Кауфман Л. С. Творчество писателей-антифашистов в Германии в годы нацизма.
Проблематика. Поэтика. АДД. М., 1983. С. 8.
3 WiechertE. Der Totenwald. Berlin, 1947. S. 5.
554
заключёнными, сколько рассказом о том, как ведёт себя человек,
оказавшийся в экстремальной ситуации, о духовной составляю-
щей как страждущих, так и тех, кто подвергает их страданиям, а,
в конечном итоге, о немецком народе в целом: «Здесь собрался весь
народ — от нищего до депутата рейхстага, от безродного до барона,
ремесленники и учёные, врачи, юристы и священники... По другую
сторону были семнадцатилетние часовые, холопы по внешнему
виду и внутреннему содержанию, перед которыми аристократ
по рождению или по духу должен был стоять, сняв шапку. Тут были
надсмотрщики бараков, язык и манеры которых заимствованы
у сутенёров. Тут находился начальник лагеря, бывший помощ-
ником слесаря, в горячечном бреду прохаживавшийся с плёткой
по бункерам. Здесь были два мира... Понятно, что они являлись
частью одного народа, говорили на одном и том же языке, сидели
некогда у ног одного бога, которые повторяли те же самые слова
при крещении и конфирмации. Обе части того же народа, среди
которого жил Гёте, народа, который прошёл через Тридцатилетнюю
и мировую войны, и чьи матери или бабушки пели вечерами «Луна
уже взошла...» Части того народа, который теперь разделён не богат-
ством и бедностью, не богослужением или идолопоклонничеством,
не двумя языками и двумя характерами, а разорваны ничем дру-
гим как политической догмой, бумажным тельцом, установленным
для поклонения, и от его почитания или презрения к нему зависит,
поднимется ли народ до высот славы или будет брошен в объятья
молоха, чтобы быть обесчещенным, замученным, принесённым
в жертву, вычеркнутым из жизни и из памяти».1
В какой-то мере рассуждения Э. Вихерта о немецком народе
близки по своему настрою известным словам Т. Манна о доброй
и злой Германии. Вихерту, как и Т. Манну, этот «дьявольский пара-
докс» не даёт покоя, и поэтому он с таким воодушевлением рассказы-
вает о судьбах истинных представителей простого народа, которых
не смогли сломить никакие насилия и которые в нечеловеческих
условиях не теряли человеческого достоинства. Так, говоря о Гансе
Беккере, простом рабочем из Саарской области, Вихерт восклицает:
«На золотую доску твоей жизни должно быть занесено твоё имя... Ты
ничего не знал о Гёте или Моцарте. Ты совсем не верил в бога и был
государственным изменником, но если тебе предстоит предстать, как
утверждают книги, перед последним судом, то судьи должны встать
1 WiechertE. Der Totenwald. Berlin, S. 80-81.
555
и низко тебе поклониться, потому что ты взвалил на себя муки мно-
гих людей».1 С не меньшим восторгом пишет Вихерт о коммунисте
Вальтере Хуземане, входившем позднее в состав «Красной капеллы»,
называя его «представителем духовного мира и человеком внутрен-
ней значимости», с которым он и после освобождения из концлагеря
поддерживал дружеские отношения: «Иоганнес и в последующие
годы, бывая в имперской столице, никогда не упускал возможности
провести несколько часов в тихом доме своего друга. В мае 1943 года
Вальтер Хуземан принял смерть на эшафоте — гордо, бесстрашно
и с верой в победу».2
Общение Вихерта с узниками концлагеря различной духовной
и политической ориентации, их мужество и стойкость существенно
повлияли на становление гражданской позиции писателя. Но ещё
большие изменения произошли в религиозном сознании Вихерта,
убедившегося в том, что после всего увиденного и пережитого
в Бухенвальде «соотнести действительность с божественной основой
бытия невозможно».3 В заключительных строках романа Вихерт
как бы подводит итог своим религиозным сомнениям, говоря
о том, что узники Бухенвальда не могут на прощание сказать ему
«с богом!», ибо «бог их оставил, он умер».4
Поиски бога приводят Вихерта к его прежним пантеистским
воззрениям, что нашло своё яркое отражение в его романе «Простая
жизнь» (»Das einfache Leben«, 1939). Роман этот пользовался огром-
ным успехом. В течение нескольких лет — с 1939 по 1942 годы —
его тираж достиг 270 тысяч экземпляров, и это почти при полном
отсутствии рекламы и отказа ряда книжных магазинов продавать
его. Несомненно, политическая судьба писателя оказалась самой
лучшей рекламой для новой книги Вихерта, но ещё большую роль
сыграла в возросшем интересе читателей сама книга с её апологией
«простой жизни» как способа выжить в годы нацизма.
Проблематика романа «Простая жизнь», казалось бы, не содер-
жала в себе ничего нового. Вихерт в который раз обратился к своей
излюбленной теме возвращения человека с войны, в данном случае
боевого морского офицера, капитана 3-го ранга Томаса фон Орла,
1 WiechertE. Op. cit. S. 100.
2 Ibid. S. 135-136.
3 Цит. по: Кауфман Л. С. Указ. соч. С. 45.— Wiechert E. Häftling Nr. 7188. Tagebuchno-
tizen und Briefe. Berlin, 1966. S. 61.
4 WiechertE. Op. cit. S. 147.
556
который никак не может найти себя в послевоенной жизни, для
чего, покинув семью, находит некое успокоение в лесах и на побе-
режье в Восточной Пруссии. Однако тональность рассмотрения
этого привычного для Вихерта сюжета, как, впрочем, и мастерская
разработка всей концепции, значительно отличается от всех пре-
дыдущих произведений писателя.
Томаса фон Орла можно назвать неким alter ego Вихерта, кото-
рый после ужасов концлагеря попытался если не очиститься, то,
по крайней мере, обрести себя самого как человека. Здесь с новой
силой проявились его прежнее неприятие цивилизации XX в., его
склонность к пантеизму, его влечение к родной природе. Словно
Антей, Вихерт припадает к матери-земле, к лесам и болотам Вос-
точной Пруссии в желании вернуть себе силы для того, чтобы про-
должать борьбу против зла, какие бы формы оно ни приобретало.
И Томас фон Орла является тем самым протагонистом, устами
которого Вихерт хотел бы ответить всем своим врагам, но ответить
так, чтобы не дать им повода для дальнейших преследований. Если
в предыдущих произведениях тема возвращения с войны находила
благоприятное разрешение, то здесь вся история паломничества
в святые для Вихерта и его героя места остаётся недосказанной,
будущее неясно, и от этого книга обретает некую трагичную инто-
нацию, близкую к безысходности, что в какой-то степени отвеча-
ло настроениям читательской аудитории писателя. Отсюда и тот
небывалый успех этой книги — сладкое забвение в неизбывном
на фоне собственной беспомощности что-либо изменить в сошед-
шем с ума мире.
Первые послевоенные пять лет жизни Томаса фон Орла,
не омрачённые материальными лишениями, проходили в пере-
осмыслении военного времени. Послевоенная разруха, нищета,
разнузданное веселье, бурная светская жизнь его жены, встречи
с бывшими флотскими друзьями, предлагавшими ему занять тёплое
место в банке, где он смог бы получать за месяц больше, чем вся его
годовая пенсия,— всё это вызывало у Томаса резкое отторжение,
стремление покинуть этот мир: «Отсюда нужно бежать, подумал
он, как из города, охваченного чумой. Он меня не захватывает,
но я должен отсюда бежать. Я не хочу стать неким „непобеждён-
ным героем". Я знаю, право слово, как я побеждён, больше, чем
они думают...»1
1 WiechertE. Das einfache Leben. 1994. S. 14.
557
Толчком к принятию Томасом решения покинуть город и семью
послужила фраза «мы проводим своё время в болтовне» из 90-го
псалма о «Прибежище в нашем прошлом» и беседа со священни-
ком, который, понимая какой тяжёлый груз военных лет лежит
на плечах Томаса, посоветовал ему работать над собой: «Никто
из нас не знает, в какой мере он виновен во всём, что происходит
в мире. Во всём, слышите вы меня?»1 Работа эта, воспринимаемая
как некое покаяние, заключается в возвращении себя к своим
первоосновам, не связанным в данном случае с воинской службой
бывшего капитана 3-го ранга.
Томас фон Орла уходит из дома и отправляется на поиски
места, где он мог бы начать новую жизнь. Таким местом оказалось
поместье генерала фон Платена в Восточной Пруссии, живущего
по своим законам. Томас становится обыкновенным рыбаком,
живёт на небольшом острове, много читает, пишет книги, посвя-
щенные проблемам «этики жизни моряка» и «сомнительности пози-
ции бога во время ведения морского боя». Всё это во многом напо-
минает монастырский уклад жизни, сопряжённый с мучительным
поиском нового бога: «Мне приходится начинать всё сначала. Мой
старый бог умер, а новый ещё не взошёл на трон. Я совершенно
не знаю, как он должен выглядеть. Я только думаю, что это должен
быть такой человек, которому можно было бы посмотреть в лицо».2
Эта богоискательская мысль проходит через весь роман.
Общение Томаса с внешним миром ограничивается редкими
посещениями генерала, дружбой с его четырнадцатилетней внуч-
кой Марианной, с местным лесником и графом Натанго Пернайна,
любителем научных экспериментов. Одинокое существование Тома-
са скрашивает матрос Бильдерман, спасший ему жизнь во время
восстания на корабле в 1918 году. Робинзон получил своего Пятни-
цу, и они вместе начинают строить мир своей новой жизни.
Концепция этого мира определяется сохранением прошлого,
ибо «в прошлом заключено всё будущее, чистое и доверитель-
ное будущее, очищенное от ненависти и высокомерия, великий
покой...»3 Однако приверженность к прошлому содержит в себе
и охранительные функции, потому что «каждое прикосновение
руки, да каждое слово человека уже связывает, даже одиноких,
1 Ibid. S. 31.
2 WiechertE. Das einfache Leben. S. 281.
3 Ibid. S. 86.
558
их, пожалуй, больше всего. Жизнь невозможно как рыбу из воды
вынуть из прошлого, потому что каждый сделанный шаг оказывает
воздействие на жизнь. Даже вдыхая воздух, не знаешь, причинит ли
он тебе боль или нет. Они стали намного осторожнее и намного
трудолюбивее, чем раньше. Казалось, что работа стала для них
единственной надёжной сферой, которую они знали».1
После Бухенвальда и грозного предупреждения Геббельса
подобный охранительный настрой в романе Вихерта вполне поня-
тен, однако это не означает, что писатель окончательно отказался
от критики нацизма. Критика эта присутствует в романе. Уже
сам роман, его робинзонадная подоплёка означает протест, тихий,
но протест. Отдельные фразы, сказанные, казалось бы, по иным
поводам, содержат в себе скрытые выпады против режима. Это
проявляется и в рассуждениях Томаса о сути своего пребывания
на острове: «Мы не единственные, Бильдерман, кто молчит и рабо-
тает. Когда-нибудь эти люди соединятся. Нам нужно только отвы-
кнуть держать кнут в руках»,2 и в его разговоре с графом на охоте:
«Мы слишком много думаем»,— сказал, улыбаясь, Томас.— «Посмо-
трите на Бильдермана и на других. Они видят только волка...» — «Да,
а мы видим идею волка, дорогой Орла. Это, вероятно, наша самая
основная тайна, касающаяся не только охоты.. .»,3 и в беседах Тома-
са с друзьями его сына, молодыми флотскими офицерами, которые
недовольны «слишком устаревшей службой на корабле и считают,
что пришло время устранить людей, которые руководили немецким
народом», на что Томас заметил, что «этой чисткой не всё решается,
так как пустой дом нужно снова наполнить, прежде чем начинать
в нём жить честно и по-новому. Нужно медленно учиться, и, пре-
жде всего, учиться у народа тому, что деяние человеческое не есть
самое ничтожное дело созидания, даже если оно обретает только
трудовые мозоли, а не пишет стихи. Не следует пренебрежительно
относиться ни к кому из тех, кто из так называемой духовной жизни
опускается до песчаных берегов реки с тем, чтобы там сушить свои
сети и копать картофель, потому что как плохо с народом без сти-
хов, то также плохо будет и самому народу, когда никто не захочет
больше копать картофель».4
1 Wiechert E. Das einfache Leben. S. 262.
2 Ibid. S. 264.
3 Ibid. S. 267.
4 Ibid. S. 340-341.
559
Эти и многие другие, казалось бы, незначительные высказы-
вания придают всему повествованию определённый протестный
настрой, и это не осталось незамеченным ни читателями, ни цензо-
рами. Не случайно официальная критика в журнале «Бюхеркунде»,
не отрицая того, что «Вихерт достиг таких художественных высот,
каких он едва ли достигал в каком другом своём произведении»,
поспешила объявить роман «Простая жизнь» произведением, кото-
рое «не имеет всеобщего значения для нашей действительности»,
его герои «не подходят нам», потому что тот мир, в котором они
живут, «не является миром здоровой внутренней жизни, которую
можно было бы признать».1 В специальном приложении к журналу,
в котором давались указания библиотекам относительно ценности
той или иной книги, было отмечено: «Категорически запретить
рекомендовать книгу для чтения». Через год этот же журнал ещё
раз вернулся к роману Вихерта, заявив: «Всё, что характеризует
нашу систему, нашу политическую платформу, нравственность,
мировоззрение ему чуждо».2 Есть сведения, что Главное управле-
ние безопасности рейха назвало «ошибкой» публикацию романа
Вихерта.3 Вероятно, именно поэтому Г. Лангенбухер в своей книге
«Современная национальная литература» (1940) постарался прини-
зить значение романа Вихерта, посчитав его просто «проповедью»,4
а А. Мулот вообще умолчал факт его существования.5
Роман «Простая жизнь» — это беллетризованная библия, све-
дённая в своей трактовке до сознания человека улицы, что, однако,
не умаляет достоинств, заложенных в этой специфической форме,
не лишает их нравственной силы воздействия, происходящего
на знакомом читателю материале. Природа, лес, травы, небо, всё,
что составляет изначальную сущность человеческой жизни, как бы
возвращает читателя к его первоосновам, значимость которых
не определяется каким-то земным авторитетом, а своей первород-
ной правдой, от которой пошло всё остальное, определяющее жизнь
человека вообще. И патер выступает в его романе как представитель
1 Anonym. Das einfache Leben // Bücherkunde, 1938. H. 8. S. 421.
2 Anonym. Bücherkunde. 1940. H. 1/2. S. 9.
3 Kipp E. Op. cit. S. 6.
4 Langenbucher H. Volkhafte Dichtung der Zeit. Berlin, 1940. S. 312.
5 Mulot A. Die deutsche Dichtung unserer Zeit. Stuttgart, 1944.
560
того первозданного универзума, к нему, а через него и к природе,
обращается за исцелением герой романа Вихерта, а не к каким-то
современным учреждениям, определяющим его бытование в мире.
В этом случае протестная интенция теряет в творчестве
Вихерта свою радикальную силу, ибо здесь главенствует не столько
отрицание нацизма, сколько предложение иного существования
в пору нацизма, которое позволит читателю, даже если он по жиз-
ни вовлечён в его систему, оставаться, по крайней мере, ощущать
себя человеком в высшем смысле этого слова. Это, своего рода,
экзистенциализм вихертовского свойства (не зря Вихерта сравни-
вают с Камю), позволяющий его героям, будучи побеждёнными,
оставаться в духовном смысле победителями.
После крушения нацизма Э. Вихерт включился в активную
работу по восстановлению в Германии демократических основ,
однако сразу же увидел, что в послевоенной стране мало что изме-
нилось, о чём он с гневом написал в своём эссе «Богач и бедный
Лазарь» (»Der reiche Mann und der arme Lasarus«, 1945) и в «Речи
к немецкой молодёжи 1945 года» (»Rede an die deutsche Jugend
1945«, 1945), ставших вкупе с изданием публицистического романа
«Мёртвый лес» едва ли не основной причиной всех бед писателя,
вынудивших его эмигрировать (после 1945 года!) в Швейцарию.
Обе речи содержали в себе нелицеприятную критику не только
фашизма, но и немецкого народа, всех институтов немецкой госу-
дарственности, включая церковь, а также деятельности американ-
ских оккупационных властей. Вихерт выступил в духе гневного
и обличающего пророка и, как водится, был закидан камнями
со всех сторон. Клерикальные круги были недовольны тем, что
писатель порицал неблаговидную роль церкви в годы фашистской
диктатуры, как и вообще усомнился в правомочности её, начиная
с истоков христианства, быть моральной судьёй человечества. Аме-
риканские оккупационные власти истолковали его речи как «скры-
тое оружие против победителей».1 Националисты и консерваторы
не могли простить Вихерту его добрые слова в адрес коммунистов
в берихте «Мёртвый лес», а те, в свою очередь, обвинили писателя
в незнании социальных причин возникновения фашизма.
Выступления Вихерта, как и его произведения тех лет, воспри-
нимались критиками из лагеря «внутренних эмигрантов» как поно-
шение немецкого народа, как стремление взвалить на немецкий
1 PleßkeH.-M. Ernst Wiechert. Berlin, 1969. S. 30.
561
народ всю ответственность за преступления фашизма, толковались
совершенно прямолинейно, без учёта своеобразного стиля писате-
ля, отмеченного библейской поэтикой. Весь этот комплекс причин
привёл к тому, что Вихерт оказался между всех стульев, став неу-
годным различным слоям западногерманского общества.1
История как способ говорить правду
При всей скудости возможностей, не говоря уже о таящихся
опасностях, выразить своё отрицательное отношение к диктатор-
скому режиму Гитлера, немецкая литература тех лет не молчала.
Определённая часть авторов «внутренней эмиграции», и прежде
всего представители религиозно-консервативного лагеря, уделяли
особое внимание всевозможным способам скрытой критики, прибе-
гая к рабьему языку, к иносказаниям, к откровенным параллелям.
1 Если в первые послевоенные годы подобное восприятие произведений Вихерта
ещё можно было объяснить болезненной реакцией всех участников тогдашней
дискуссии на любые оценки их деятельности в годы фашизма, то последующее,
по прошествии нескольких десятилетий, толкование творчества Вихерта (особенно
в советском литературоведении) в прежней тональности явно не соответствовало
истинному содержанию и духу произведений писателя. Такие слова из лексикона
Вихерта, как «господский дом», «чернь», «холопы» и т.п., вырванные из контекста,
представлялись, например, И. Фрадкиным, как выражение «барско-сословной точ-
ки зрения» на происхождение фашизма. Говоря о романе Вихерта «Мёртвый лес»,
Фрадкин замечает: «Для него фашизм олицетворялся „семнадцатилетними страж-
никами концлагеря, холопами по внешним манерам и внутреннему содержанию,
перед которыми аристократ рождения и духа должен был стоять, сняв шапку"».
Отсюда делается вывод о том, что Вихерт понимал фашизм «как порождение
„духа массы", „великого времени маленьких людей"» (Фрадкин И. Оппозиционная
литература в гитлеровской Германии // История немецкой литературы. Т. 5 /
Под ред. И. Фрадкина. М., 1976. С. 397). Но если взять приведённую Фрадки-
ным цитату целиком, то можно узнать, что под аристократами рождения и духа
автор понимает весь немецкий народ: «Здесь собрался весь народ — от нищего
до депутата рейхстага, от безродного до барона, ремесленники и учёные, вра-
чи, юристы и священники» (Wiechert Е. Der Totenwald. Berlin, 1947. S. 80-81).
Такое же противопоставление народа («аристократов рождения и духа»)
и народа («холопов») происходит и в «Речи», где под «холопами» и «чернью» (кстати,
A.C. Пушкин и М.Ю. Лермонтов тоже не относили эти слова к народу, а имели
в виду дворцовую чернь, реакционеров) Вихерт понимает Гитлера (в тексте специ-
ально оговаривается: «выскочка», «чужеземец», «дилетант в науках и искусстве»,
«одарённый лишь способностями демагога — ораторским искусством, отсутствием
совести, безжалостностью») и его последователей, а под «господами» — немецкий
народ, ибо «в дом этого народа, наполненный сокровищами тысячелетней куль-
туры, вошёл... чужеземец... Он шёл по этим благородным покоям, как идёт холоп
по захваченному господскому дому, обвешенный украденными драгоценностями»
(Wiechert E. Rede an die deutsche Jugend 1945. S. 23).
562
При этом некоторые параллели были настолько кричащими в своей
близости реалиям Третьего рейха, что не надо было обладать особым
чутьём, чтобы усмотреть в них наличие другого адресата.
Так, Рудольф Пехель (Pechel, Rudolf), редактор журнала «Дойче
Рундшау» (»Deutsche Rundschau«), приверженец идеологии «кон-
сервативной революции», используя антикоммунизм как защитное
средство, в своей знаменитой статье «Сибирь» (»Sibirien«, 1937),
являющейся рецензией на книгу русского эмигранта Ивана Солоне-
вича «Погибшие» (»Die Verlorenen«, 1937), проанализировал практику
сталинского террора, фактически представив идеологию, органи-
зацию и повседневную практику национал-социализма в Третьем
рейхе.1 Возможность такого сравнения автор не скрывал, предваряя
свою статью в общем-то невинными словами о повторяемости всего
сущего: «При подобного рода процессах, начиная с Писистрата,
через Наполеона и кончая Сталиным, с примечательным соответ-
ствием повторяются в истории и политические сопутствующие
обстоятельства. С прогрессом техники совершенствуются только
методы».2 Если исторические аналогии с антикоммунистическим
подтекстом ещё как-то могли остаться незамеченными властя-
ми, то дальнейшие рассуждения Пехеля не оставляли никаких
сомнений в том, что в статье речь идёт именно о Третьем рейхе:
«Итак, на одной стороне находится партия с её аппаратом террора
и деклассированными элементами, на другой — народ. Народ, кото-
рый всё же, как-никак, обладает количественным преимуществом
перед партией, находит, по причине того, что он не имеет воз-
можности активно протестовать, способы приспособления, то есть
маскировки и уклонения, сохраняя при этом своё неудовольствие.
Барьер между государственной властью и народом становится
таким резким, каким он обычно обнаруживается в годы вражеской
1 Практически Пехель использовал уже опробованный способ распространения
правды, описанный Б. Брехтом: «Ленин, преследуемый царской полицией, хотел
описать, как русская буржуазия эксплуатирует и угнетает остров Сахалин. Он взял
Японию вместо России и Корею вместо Сахалина. Методы японской буржуазии
напоминали всем читателям методы русской буржуазии на Сахалине, но работа
не была запрещена, поскольку Япония враждовала с Россией. Многое, что нельзя
сказать в Германии о Германии, можно сказать об Австрии» (Брехт Б. Пять труд-
ностей при писании правды // Брехт Б. О литературе. М., 1977. С. 112). Брехт
своими словами пересказал предисловие В. И. Ленина к его работе «Империализм
как высшая стадия капитализма» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 301-302).
2 Цит. по: Schnell R. Op. cit. S. 124
563
оккупации. Заключённые в концентрационных лагерях превраща-
ются в бесплатную рабочую силу для эксплуатации на огромных
предприятиях, другие становятся объектом жестоких администра-
тивных организаций. Они живут в состоянии отупления и страха,
но не без надежды».1
Эти и подобные им рассуждения Пехеля должны были вызвать
гнев надзорных властей, но этого не последовало. Более того, как
сообщал Пехель в письме в издательство «Реклам» (»Reclam Verlag«)
от 27.09.1937 года, «в письме Имперской службы поощрения немец-
кой письменности... наш сентябрьский номер (месяц публикации
статьи Пехеля.—Е. 3.) произвёл очень хорошее впечатление».2 Месяц
спустя Пехель сообщает о том, что «руководитель журнального
отдела Имперского министерства народного образования и про-
паганды с похвалой отозвался о работе «Дойче рундшау» в области
международных отношений».3
На самом деле всё было несколько иначе. Статья Пехеля о «под-
становке Германии вместо Советского Союза и гестапо вместо ГПУ
была прочитана в рейхсканцелярии». Гестапо уже собиралось аре-
стовать Пехеля и «затребовало от Имперского министерства внутрен-
них дел соответствующих материалов». Однако в ответном письме
сообщалось, что автор «из-за этой статьи, являющейся гениальным
фотомонтажем, юридически неподвластен», хотя его «подлежит рас-
сматривать как одного из самых коварных „предателей", с которым
можно было бы при ближайшей возможности разделаться».4
«Разделаться» с Пехелем им удастся только в апреле 1942 года,
отправив его скитаться из одного концентрационного лагеря
в другой за то, что его критическая статья об «Информационной
политике» прозвучала в радиопередачах Би-Би-Си на Германию
и была перепечатана в одной из швейцарских газет. Однако сейчас,
побывав в министерстве пропаганды, куда Пехеля вызвали для объ-
яснений, ему удалось избежать наказания, и связано это было с тем,
что значительная часть его статьи представляла собой заимствова-
ния из книги И. Солоневича без указания источника, так что все
претензии следовало обращать к автору книги, а не к рецензенту,
1 Schnell R. Op. cit. S. 124
2 Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 37.
3 Ibid.
4 Ibid. S. 38.
564
и в этом проявилась особая гениальность Рудольфа Пехеля, един-
ственного в своём роде мастера политического камуфляжа и пре-
досторожности. 1
Особую роль в литературных протестных акциях сыграли
авторы религиозно-консервативного лагеря. В какой-то мере они
выступали в роли пастырей, старающихся раскрыть глаза своей
пастве на бесчеловечность нацистского режима, и их роль своди-
лась не только к утешению, как это было свойственно творчеству
Г. Кароссы, но и к протестным акциям. Учитывая разветвлённый
репрессивный аппарат нацистов, о каком-либо организованном
сопротивлении в среде литераторов религиозно-консервативно-
го толка, индивидуалов до мозга костей, и речи быть не могло,
и поэтому для данной группы авторов церковь — протестантская
и католическая — выступала в роли некоего организующего начала,
духовного вождя, чьи наставлении, призывы, догмы носили обяза-
тельный характер, обусловленный сутью самой веры как таковой.
Специфика творчества авторов христианской направленно-
сти определяется, прежде всего, верой в Христа и божественное
предназначение всего сущего, и поэтому категории рационально-
го мышления имеют для них незначительный смысл. В условиях
Третьего рейха подобное мироощущение позволяло этим авторам
разрешать проблему зла и искушения, само положение верую-
щего человека в предельно политизированном мире достаточно
откровенно, прибегая к иносказательным способам толкования
реальной действительности. Политика как таковая выступала в их
произведениях в религиозных одеждах, хотя сама политическая
сущность не являлась предметом непосредственного рассмотре-
ния. Речь шла не о критике государственных установлений, ибо
в сознании авторов религиозного направления мироустройство
изначально определено божественным провидением, а о том, как
это мироустройство подвергается нарушениям, в связи с чем наи-
более явственно проявляются все беды верующего человека, испы-
тывающего на себе все тяготы «испорченного мира». По сути дела,
писатели религиозного направления всегда находятся в состоянии
«внутренней эмиграции», борясь за сохранение внутренней стой-
кости верующих, но в ситуации, сложившейся в Германии после
прихода к власти нацистов, эта борьба предельно обострилась,
1 Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 38-39.
565
перешла грань мирского спора и вылилась в противостояние между
жизнью и смертью.
Особую роль в обращении к жанру исторического романа
в годы нацизма сыграло так называемое «Католическое движение»,
уходящее корнями в XIX в. Католические авторы искусно толковали
как Библию, так и исторические события отдалённого прошлого,
вкладывая с помощью иносказательного языка в общеизвестные
сюжеты иной смысл, понятный в своей многозначности против-
никам нацизма и не вызывавший (по крайней мере, на первых
порах) цензурных гонений. При этом сюжетная основа этих исто-
рических романов носила подчёркнуто эсхатологический оттенок,
касалось ли это истории государства, города, общины или личной
судьбы главного героя. В каждом случае действующее лицо стояло
перед проблемой выбора, и выбор этот определялся его этической
позицией, которая обуславливалась содержанием романов, обильно
уснащённых проявлениями несправедливости, жестокости по отно-
шению к отдельным людям или к целым народам со стороны завое-
вателей или сильных мира сего. Все эти исторические и личностные
перипетии прошлого воспринимались немецкими читателями,
познавшими искусство чтения между строк, как обвинительные
акты, осуждающие преступления настоящего времени. При этом
не надо думать, что читателю предлагались какие-то революцион-
ные решения. Нет, нация и государство представлялись как понятия
позитивные при сохранении ясной дистанцированности от фюрера
и партии, что укладывалось в понимание фёлькиш-национальной
идеи мифологического германского рейха.
Своё неприятие нацистского режима эти авторы могли выра-
зить только в иносказательной форме, потому что редкие публи-
кации богословских книг, авторы которых открыто критиковали
нацистский режим с позиций церкви, подвергались запрету,1 и поэ-
тому протестное движение выражалось не только в проповедях,
листовках, но и в художественной литературе, где особое место
отводилось историческому роману с довольно заметной посылкой
к реальной действительности Третьего рейха.
1 Книга Пауля Тиллиха «Выбор в пользу социализма» (»Die Sozialistische Entscheidung«,
1933) была сразу же запрещена гестапо, а сам автор вынужден был эмигрировать
в США; книги Романо Гвардини, особенно «Господь» (»Der Herr«, 1937), нацисты
подвергли резкой критике, а самого автора в 1939 г. лишили права проповеди
в Германии (см. БровкоЛ.Н. Указ. соч.).
566
Не случайно именно в эти годы исторический роман стал едва ли
не основным жанром художественной литературы, с помощью кото-
рого противники нацизма как в Германии, так и за её пределами,
выражали своё отношение к нацистскому режиму. Традиционно
тривиальный жанр литературы обрёл необычайно высокий худо-
жественный статус, став орудием политической борьбы. Романы
Томаса Манна и Генриха Манна, Б. Брехта, Г. Броха, Л. Фейхтван-
гера, как и романы Р. Шнайдера, В. Бергенгрюна, Г. фон Ле Форт,
Г. Реглера, Ф. Рек-Маллецевена, Й. Клеппера, каждый в своём стиле
и в своей значимости, стали явлением в мировой литературе. Более
того, авторы, скажем так, второго ранга (И. Киршвенг, М. Ланге-
више, Ф. Тисе), не отличавшиеся особым неприятием нацистского
режима, не упускали возможности выразить к нему свои особые
претензии, прибегая именно к жанру исторического романа с неким
подтекстом. По сути дела, как выразился Стефан Цвейг, «история
стала писательницей».1
Начало столь активного обращения к жанру исторического
романа приходится на 1935-1936 гг., и в этом можно усмотреть
реакцию на становление нацистского режима. Не секрет, что
подавляющее большинство консервативно настроенной буржуа-
зии прямо или косвенно приветствовало приход к власти Гитлера,
связывая с ним определённые надежды на возрождение Герма-
нии прежнего толка. Однако кровавая бойня 1934 г., приведшая
к чистке в собственных рядах нацистов, и связанное с этой акцией
попрание всяческих законов, определившее диктаторскую суть
нового режима, быстро охладило пыл консерваторов и дало ясно
понять, что в этой ситуации не может быть и речи о каком-ли-
бо диалоге с новыми властителями, не говоря уже о выражении
открытого протеста. Если Йохен Клеппер ещё задавался вопро-
сом, не станет ли обращение писателей к историческому роману
«последним убежищем бессильной оппозиции»,2 то последовавшая
волна публикаций подобного рода показала, что этот жанр стал
действительно единственным легальным способом для авторов «вну-
тренней эмиграции» для того, чтобы выразить обходными путями
своё неприятие нацистского режима. Это поняли и сами нацисты.
1 Hey В. Der historische Roman // Nationalsozialismus und Exil 1933-1945 / Hrsg.
v. W. Haefs. München, 2009. S. 319.
2 Цит. по: Schnell R. Dichtung in finsteren Zeiten. Deutsche Literatur und Faschismus.
Reinbekbei Hamburg, 1998. S. 123
567
Хельмут Лангенбухер (Langenbucher, Helmut), литературный папа
Третьего рейха, с тревогой писал о том, что «поток исторических
романов... в 1935 и 1936 годах грозит принять опасные размеры».1
Правда, приверженцы нацистской идеологии также обраща-
лись к жанру исторического романа, но их усилия были направлены
на возвеличивание приоритета немецкой нации в мировой истории
(Ф. Блунк, Г. Кольбенхайер), на определение предыстории нацио-
нал-социализма, и в художественном отношении, не говоря уже
об исторической достоверности, оставались именно тривиальным
явлением мелкого пошиба, рассчитанного на непритязательного
читателя. Эти исторические поделки у Лангенбухера не вызывали
тревог. Несмотря на низкий профессиональный уровень и явную
фальсификацию исторических событий они всегда находили
у нацистской критики доброжелательный приём.
Другое дело, исторические романы, написанные отнюдь не сто-
ронниками национал-социализма. С ними постоянно происходили
обманные истории, и нацистским критикам всегда приходилось
быть настороже, чтобы истолковать в нужном виде заложенный
в них смысл, отчего часто, по прошествии некоего времени, выяс-
нялось, что тот или иной роман, провозглашённый нацистской
критикой как произведение, отражающее идеологию национал-со-
циализма (так произошло в случае с романом В. Бергенгрюна «Вели-
кий тиран и суд»), на поверку оказывался направленным именно
против этой идеологии, или, по крайней мере, так воспринимался
читателем, испытывавшим большую потребность в историческом
романе, ибо для многих из них этот жанр был своего рода бегством
от нацистской действительности.
В этом смысле примечательна статья религиозного писателя
Стефана Андреса «Между двух стульев. Размышления по поводу
исторического романа» (»Zwischen zwei Stühlen. Gedanken zum his-
torischen Roman«, 1943), опубликованная в начале 1943 года в газе-
те «Кракауэр цайтунг» (»Krakauer Zeitung«), официальном органе
немецких оккупационных властей в Польше. Андрее прославился
в годы Третьего Рейха двумя новеллами исторического свойства
(разговор о них пойдёт позже). Примечательна эта статья тем, что
её можно рассматривать как своеобразные «советы читателям для
понимания зашифрованных текстов».2 Но самое примечательное
1 Schnell R. Dichtung in finsteren Zeiten. S. 123
2 Ibid. S. 474.
568
заключается в том, что она была опубликована в открытой прессе
во времена далеко не радостные для нацистского режима, и рас-
суждения Андреса можно было при желании квалифицировать как
преступление, совершённое к тому же в военное время. Но этого
не произошло, и причина такого откровенного либерализма кро-
ется в политике всесильного министра пропаганды, пытавшегося
представить оккупированную Польшу неким культурным раем.
«Кракауэр цайтунг» была дочерним предприятием любимого ежене-
дельника Геббельса «Рейх» (»Das Reich«), культурная часть которого
отличалась достаточно широкой по сравнению с другими органами
печати в Германии свободой. Не случайно в обоих изданиях печа-
тались произведения, статьи, эссе писателей в основном далёких
от нацистской идеологии. Это была своеобразная нейтральная
полоса, на которой можно было позволить себе некоторую свобо-
ду самовыражения, не опасаясь быть подвергнутым репрессиям.
Именно этой дозированной свободой мнений и воспользовался
Андрее, изложив в своей статье суть проблемы исторического рома-
на, столь популярного в Германии: «Тот, кто серьёзно рассматривает
сегодняшнее массовое производство исторических романов, тот
признает, что речь идёт о некоем бегстве в прошлое, в меньшей
мере со стороны писателей, чем читателей, потому что, если судить
об уровне этих работ, то сразу становится ясно, что автор этих рома-
нов редко стремится создавать свои произведения из любви к исто-
рии. Он в большей мере исходит из простого соображения получить
доход от плохого исторического романа. Но для читателей их бегство
в историю представляется делом серьёзным. При этом решающим
в большинстве случаев является то эстетическое наслаждение,
которое присуще проникновению во временном отношении в нечто
отдалённое, то есть переживанию пространства времени. Люди,
не знающие как воспринимать события современности,., ищут
замену ему в исторических романах для того, чтобы из прошлого
перенести закон и меру в современность. Каждый такой читатель,
даже самый ограниченный, склонившийся над историческим рома-
ном, становится внезапно двуличным Янусом — он видит прошлое
и думает о сегодняшнем дне и беспокоится о будущем. Пишущий
исторические романы в той или иной мере также является Янусом.
У него есть определённые намерения, он показывает примеры
и даёт объяснения сегодняшнему дню, и зачастую он приближается
к созданию некоего рода исторического аллегорического романа.
569
Историк, напротив, отказывается в соответствии со своим образом
научной работы от личных за и против в пользу фактов, т.е. отка-
зывается от любого эмоционального вмешательства».1
Однако, как показывает практика, скрытая форма критики
нацистской действительности проявлялась не только в историче-
ских романах, но и в собственно исторических исследованиях,
особенно касающихся истории Германии. Поучительным приме-
ром такого способа выражения протеста является первый том
«Немецкой истории» (»Deutsche Geschichte«) Рикарды Хух (Huch,
Ricarda; 1864-1947), получивший название «Римская империя
немецкой нации» (»Römisches Reich Deutscher Nation«, 1934). Рикар-
да Хух, «первая женщина Германии», как её называл Томас Манн,2
известная писательница, поэтесса, но прежде всего историк, чьи
книги пользовались и продолжают пользоваться большим успехом
не только у специалистов, но и у широкой публики (особенно в годы
нацизма), прославилась умением излагать исторические события
в слегка беллетризованном виде, не нарушая исторической правды,
оставаясь историком по существу. Её книги «Расцвет романтизма»
(»Blütezeit der Romantik«, 1899), «Распространение и упадок роман-
тизма» (»Ausbreitung und Verfall der Romantik«, 1902), «Тридцатилет-
няя война» (»Der Dreißigjährige Krieg«, 1929), книги, посвященные
истории Италии, отдельные биографии выдающихся политических
и религиозных деятелей, не говоря уже о романах и рассказах,
написанных на основе исторических материалов, создали ей славу
выдающегося историка с оригинальным взглядом на мир.
Принадлежа к когорте неоромантиков, Р. Хух рассматривала
себя и своё творчество напрямую связанными с реальной действи-
тельностью, и смело вступала в спор со временем, отвергая реа-
лизм и натурализм, выступая против механизации жизни, потери
индивидуальности, утверждая независимость писателя от добра
и зла. В какой-то мере эти настроения писательницы близки взгля-
дам консерваторов фёлькиш-национального толка, хотя и лишены
их тоски по утраченным феодальным ценностям. Будучи одной
1 Andres St. Zwischen zwei Stühlen. Gedanken zum historischen Roman // Krakauer
Zeitung, Neujahr 1943. S. 10.— Цит. о: Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit.
S. 474-475.
2 Mann Th. Zum 60. Geburtstag Ricarda Huchs // Mann Th. Gesammelte Werke. Elfter
Band. Altes und Neues. Keine Prosa aus fünf Jahrzehnten. Berlin, 1955. S. 174.
570
из первых немецких женщин, получивших высшее образование
в Швейцарии (в Германии в XIX веке это было невозможно), Р. Хух
с интересом относилась к женскому движению, к политическим
движениям вообще, о чём свидетельствует её книга «Михаил Баку-
нин и анархия» (»Michael Bakunin und die Anarchie«, 1923), хотя
сама никогда не принадлежала к какой-либо партии. Даже свое-
му избранию в Прусскую академию искусств в 1926 году она так
отчаянно сопротивлялась, что только Томасу Манну, и то с большим
трудом, удалось её уговорить войти в состав этого высокого собра-
ния литераторов Германии.1
Прирождённая независимость Хух как в суждениях, так
и в своих поступках, особенно ярко проявилась в годы нацизма.
Поначалу, как и многие представители консервативной творческой
интеллигенции, Хух заинтересовалась политическими изменениями
в Германии. По крайней мере, в своём письме президенту Академии
искусств Максу фон Шиллингсу (Schillings, Мах von; 1868-1933)
от 24 марта 1933 года, объясняя свой отказ подписать клятву
верности гитлеровскому режиму, заметила, что хотя она «от всего
сердца сочувствует национальному подъёму,., но от права свободно-
го выражения мнения я не хочу отказываться...»2 Писатели такого
ранга как Р. Хух очень нужны были в новом, почищенном от ино-
родцев и политически неблагонадёжных авторов составе академии,
и были предприняты все усилия удержать писательницу отказаться
от членства в ней вплоть до официального подтверждения свобо-
ды высказывания мнений. Но уже 9 апреля 1933 года Хух в своём
письме президенту академии окончательно порывает с этим учре-
ждением: «То, что немец воспринимает по-немецки — это я бы счи-
тала почти само собой разумеющимся; но что значит «по-немецки»
и чем это «немецкое» должно доказываться, на этот счёт существуют
различные мнения. То, что нынешнее правительство предписывает
нам в качестве национального сознания, это — не моё понимание
«немецкого». Я считаю регламентацию, принуждение, жестокие
методы, диффамацию инакомыслящих, кичливое самовосхвале-
ние явлениями антинемецкими и гибельными». Заявив о том, что,
1 Jens I. Dichter zwischen rechts und links. Die Geschichte der Sektion für Dichtkunst
ab der Preußischen Akademie der Künste. Leipzig, 1994. S. 79.
2 WulfJ. Literatur und Dichtung im Dritten Reich. Eine Dokumentation. Hamburg bei
Breisgau, 1966. S. 26.
571
несмотря на некоторые разногласия с Генрихом Манном и Альфре-
дом Дёблином, Хух поддерживает их решение покинуть академию,
последний, «особенно перед лицом травли евреев, не мог поступить
иначе... Настоящим я заявляю о моём уходе из академии».1
Об этом событии приказано было молчать. Но не молчала сама
Р. Хух. Именно в это время она заканчивала первый том своей
«Немецкой истории», в которой позволила себе через призму давних
времён комментировать основополагающие аспекты идеологии
национал-социализма, и прежде всего так называемый «еврейский
вопрос», посвятив ему двенадцать страниц. Но каких!
Для того чтобы получить некоторое представление о случив-
шемся, позволю себе привести только несколько абзацев из этой
главы, которые в своей исторической конкретике, лишённые
каких-либо пафосных выкриков и комментарий, передают события,
которые оказались идентичными временам Третьего рейха: «С сере-
дины XII века евреи преимущественно занимались дачей денег
в долг, и потому, что было много людей, которые евреям задолжали,
смогли образоваться побуждения убивать людей еврейской веры
под предлогом, что они являются врагами Христа... Но этот мотив
в те времена ещё не проявлялся полностью, притом не оттого, что
определённые круги пользовались кредитом у евреев и поэтому
пытались их защищать, а не убивать, а главным образом потому,
что позиция народа всегда определялась теми, кто находился у вла-
сти. Идёт ли речь о школе, городской общине, церковной общине
или о стране, великодушие или подлость, рассудительность или
ограниченность вождя определяли характер группы людей, стра-
ны... Понятно, что папы всегда говорили о евреях с резкой отри-
цательностью как о врагах христианской веры, но это не мешало
им во время преследования евреев решительно вступаться за них,
как не мешало им, хотя и в меньшей степени, чем всем остальным
князьям церкви, вступать с ними в денежные отношения... Так же,
как и папы, но в ещё большей мере, показывали пример терпимости
гогенштауфенские кайзеры... Строгие штрафы грозили тем, кто
намеревался напасть на еврея; тот, кто его ранит, тому отрубали
руку; тот, кто его убьёт, того тоже должно убить... К обвинениям,
которые в те времена выдвигались против евреев, что они якобы
убивали христианских детей для того, чтобы употреблять их кровь
при определённых религиозных обрядах, как папы, так и кайзеры
1 WulfJ. Op. cit. S. 26-27.
572
относились с подозрением. Они усматривали в этом лишь пример
кровожадности и легковерия черни.
Тем не менее, с XIII века фанатизм курии возрос как против
еретиков, так и против евреев. Иннокентий III издал законы,
по которым евреям предписывалось ношение определённого наря-
да, который делал их узнаваемыми и одновременно смехотворными.
Остроконечные жёлтые шляпы выставляли их на посмешище улицы.
В XIV веке преследования евреев вызвали всё, что таилось
в глубинах сознания немецкого народа, в самых зверских прояв-
лениях, и обнаружили героизм, на который оказались способны
евреи... Понимание того, что сами немцы по части денежных опе-
раций зачастую действовали хуже, чем евреи, не снимало с них
обвинения и не поколебало никого в проявлении гнева. Монах
из Винтертура, писавший в середине XIV века историю своего вре-
мени, однажды рассказывал, как в Линдау у большинства людей
настолько исчезли богобоязненность и любовь к ближнему, что они,
вопреки каноническим заветам, стали давать деньги в долг, притом
требовали большие проценты, чем евреи. В своей бессовестности
они настолько упорствовали, что, по утверждениям монахов-фран-
цисканцев, во время покаяния не видели в этом никакого греха.
И тогда пришёл один зажиточный еврей, попросил принять его
в общину и обещал давать деньги каждую неделю под ничтожные
проценты. Горожане обрадовались, и совет решил, что христиане
в будущем не будут заниматься ростовщичеством».1
Понятно, что официальные власти не могли закрыть глаза
на столь явное проявление вольнодумства и в ближайшем номере
журнала «Националзоциалистише монатсхефте» (»Nationalsozialisti-
sche Monatshefte«), главном органе нацистской партии по вопросам
политики и культуры, издаваемом самим А. Розенбергом, появилась
анонимная статья «Знаменитое имя и бесславное произведение»
(»Ein berühmter Name und ein unrühmliches Werk«, 1935), в котором
книга Р. Хух подверглась резкой критике. Основная мысль, прони-
зывающая эту статью, определяется тем, что вся книга «является
оскорблением немецкого чувства собственного достоинства».2 Мало
того, что Хух выступила в «качестве красноречивого адвоката
избранного народа», т.е. евреев, так она ещё и видит возможность
1 HuchR. Römisches Reich Deutscher Nation. Berlin, 1934. S. 189-201.
2 A.M.R. Ein berühmter Name und ein unrühmliches Werk // Nationalsozialistische
Monatshefte 1935. H.63. S. 552.
573
существования германского рейха только под эгидой римской
католической церкви, из чего следует, что нынешняя Германия
как государство якобы далека от совершенства. Возмущённый
рецезент восклицает: «Адольф Гитлер создал священный немецкий
рейх германской нации. На этот факт книга Рикарды Хух о рим-
ском рейхе не окажет никакого воздействия. Мы не сомневаемся
в том, что эта Хух снискает ultra montes высшую похвалу. Пусть
она тогда, утешенная, там за горами и остаётся и рассыпает там
цветы своего духа. В Германии Адольфа Гитлера для волшебниц
такого рода места больше нет».1
Угроза, вполне реальная, учитывая значимость этого печат-
ного органа, однако она осталась не реализованной, и связано это
не только с огромной известностью Р. Хух (рецензент это призна-
ёт),2 но и с тем, что она обладала связями в правительственных
кругах Германии3 и особенно в Италии, где её чрезвычайно высоко
ценили за работы о Гарибальди. Хотя 2 том «Немецкой истории»
вышел в 1937 году, но 3 том этого произведения, готовый к печати
в 1941 году, был запрещён и вышел только в 1949 году в Швейцарии.
Правда, в 1944 году по случаю 80-летия Р. Хух Гитлер и Геббельс
прислали писательнице поздравительные телеграммы, но, согласно
указу последнего, в прессе эта дата не отмечалась,4 хотя этот указ
трудно было выполнить, ибо именно в этом году писательнице была
присуждена премия имени Вильгельма Раабе.
Возвращаясь к 1-му тому «Немецкой истории», следует заметить,
что ещё до официального окрика в 1935 году либеральная пресса
с интересом и одобрением восприняла появление этой книги. Ано-
нимный рецензент еженедельника «Дойче Цукунфт» (это уже признак
того, что книга не вписывается в официальные догмы понимания
1 A.M.R. Ein berühmter Name und ein unrühmliches Werk. S. 552.
2 Ibid. S. 550.— По случаю 70-летия Р. Хух журнал «Литератур» приводит сведения
о 30 статьях, помещённых в различных газетах и журналах Германии (Die Literatur,
September 1934. S. 701-702).
3 Scholdt G. Geschichte als Ausweg? // Schriftsteller und Widerstand. Facetten und
Probleme der »Inneren Emigration«/ Hrsg. v. Kroll F-L., Voss R. von. Göttingen, 2012.
S. 112.
4 http://de.wikipedia.org/wiki/Ricarda_Huch.— Правда, в журнале «Ойропэише
литератур», выходящем под эгидой министерства пропаганды, именно в это время
появилась статья Эльфриды Готтлиб о Рикарде Хух, где в самом начале, как бы
невзначай, упомянуто, что «сейчас ей восемьдесят лет» (Gottlieb E. Ricarda Huch //
Europäische Literatur, 1944. H. 8. S. 2.).
574
истории, что и подтвердилось впоследствии) считает книгу Р. Хух
«вершиной её творчества», отмеченной «мудростью суждений»,
и видит её ценность в том, что в ней представлены портреты выда-
ющихся людей политики и культуры той эпохи в их «внутренней
вовлечённости в дела тех лет», а именно в становление рейха.1
Более решительную оценку книге Р. Хух дал Райнхольд Шнай-
дер в монархистском журнале «Вайсе блэттер» (»Weiße Blätter«) уже
после появление разгромной статьи в «Националсоциалистише
монатсхефте». Именно то, против чего особенно резко выступал
рецензент этого нацистского журнала, Р. Шнайдер назвал основой
не только книги Р. Хух, но и вообще существования государства:
«Не власть, а вера стоит в центре внимания изображения; эта
оценка могла бы показаться нам необычной, но как раз она явля-
ется нашей судьбой и отвечает сути рейха и в конечном итоге —
немцев».2 Более того, опять же в пику официальной точке зрения,
Шнайдер возражает против попыток «связывать современные
националистические мысли с феноменом (Средних веков.— Е. 3.),
«ибо настоящий правитель «никогда не создаёт сам рейх как тако-
вой, а только инициирует движущие силы».3
Осторожный Петер Зуркамп, не называя самой книги, отмечает
«историческую глубину» её книг, в глубинах истории «она находит
готовые действительные примеры, которым она может доверять.
Так к её гимнообразной воле примешивается нечто разумное».4
Угрозы в адрес Р. Хух, судя по всему, не произвели на неё
особого впечатления, а только укрепили в сознании писательницы
протестные настроения. Постепенно её дом стал превращаться
в некий клуб, где могли собираться и свободно выражать своё мне-
ние представители интеллигенции, а также некоторые лица прямо
или косвенно связанные с участниками неудавшегося покушения
на Гитлера 20-го июля 1944 года. Устраивать подобные собрания
в условиях нацистского режима требовали определённого мужества,
что и подтвердилось, когда в мае 1937 года по доносу преподава-
теля Йенского университета Рихарда Кольба (Kolb, Richard) Р. Хух
1 Dr. H. Dichterin und Mittelalter // Deutsche Zukunft. Berlin, 18.11.1934.
2 R. Seh. (Reinhold Schneider) Ein neues Werk Ricarda Huchs: Römisches Reich deut-
scher Nation // Weiße Blätter. Februar 1935.
3 Ibid.
4 Suhrkamp P. Ricarda Huch // Die Neue Rundschau. August 1934. H.8. S. 224.
575
и её зять Франц Бём (Böhm, Franz) подверглись допросу в гестапо.
Только благодаря протекции имперского министра юстиции Франца
Гюртнера (Gürtner, Franz), благоволившего к Р. Хух, вся эта исто-
рия закончилась благополучно, хотя Ф. Бём вынужден был уйти
из университета.1 Именно в это время Р. Хух начинает собирать
материалы к биографиям участников Сопротивления, в частности
мюнхенской «Белой розы» и брата и сестры Шолль, а также группы
«Красная капелла», которые она намеревалась издать после круше-
ния Третьего рейха. Несмотря на то, что смерть Р. Хух в 1947 году
помешала ей осуществить этот проект, тем не менее, сама идея
создания подобной книги говорит о вере писательницы в немину-
емый конец нацистского режима.2
Если Рикарда Хух пыталась воздействовать на умы читателей,
ссылаясь на исторические примеры благоразумия в государствен-
ных делах деликатного свойства и оставалась в пределах наци-
ональной истории, то Райнхольд Шнайдер (Schneider, Reinhold;
1903-1958) придавал особое значение описанию становления,
а иногда и падения, государств, например, Португалии или Англии,
с тем, чтобы показать опасные превратности политики правителей,
сопоставимые с политикой правителей Третьего рейха. Историк,
писатель, поэт, Р. Шнайдер чьё творчество отмечено постоянным
интересом к конфликту между духом и властью, исходил из като-
лического понимания мира, которое в конечном итоге конкрети-
зировалось в конфликте между верой и силой.
Шнайдер родился в курортном городе Баден-Баден в семье
владельца представительного отеля «Мессмер», в котором останав-
ливались коронованные особы, среди них и Вильгельм I, супруга
которого была крёстной матерью Шнайдера. Связь эта нашла своё
продолжение в длительном общении его с наследным принцем
в 30-х годах, с последним кайзером, которого он посещал в его гол-
ландской эмиграции, и в определённой степени отразилась на его
монархических взглядах, хотя причины их лежат значительно
глубже.
1 Hellerbach A. Wissenschaft und Politik. Streiflichten zu Leben und Werk Franz Böhms
(1895-1977) // Staat, Kirche, Wissenschaft in einer pluralistischen Gesellschaft /
Hrsg. v. Schwob D. Berlin, 1980. S. 290.
2 В 1953 году Вольфганг Вайраух издал книгу «Безмолвное восстание» (»Der lautlose
Aufstand«), основанную частично на материалах, собранных Р. Хух, хотя и не в том
ключе, какой писательница подразумевала, сделав особый акцент на борьбе ком-
мунистических групп (linkslastig).
576
Знакомство с трудами Шопенгауэра и Ницше, а также военная
катастрофа Германии в Первой мировой войне в сочетании с семей-
ными трагическими событиями (продажа отеля, уход из семьи мате-
ри, самоубийство отца и собственные жизненные неудачи, которые
молодой Шнайдер попытался разрешить по примеру отца),— всё это
в комплексе способствовало зарождению в его сознании прочного
восприятия всего сущего как неотвратимый процесс наступающего
упадка, что, в свою очередь, породило непреодолимое ощущение
трагического восприятия жизни во всех её проявлениях.
Особую роль в становлении жизни и философско-историче-
ских принципов познания мира сыграло знакомство Шнайдера
с книгой испанского писателя и философа Мигэля де Унамуно
«Трагическое чувство жизни у людей и народов» (1913), ставшей
для него ключом для разрешения проблемы подчинения субъектив-
ной неистребимой жажды жизни надличностным историческим
обстоятельствам, а через него — к философии смерти Кьеркегора,
к пониманию сочетания трансцендентного и имманентного, что
потом найдёт своё выражение в его исторических книгах, и пре-
жде всего в книге «Страдания Камоэнса или Падение и завершение
португальской власти» (»Das Leiden des Camöes oder Untergang und
Vollendung der portugiesischen Macht«, 1930), написанной после
посещения Шнайдером Португалии. Позднее он скажет, что «Луис
де Камоэнс... станет притягательной фигурой моего сомнительного
жизненного странствия».1 Не только Камоэнс, но и вся Португалия
с её трагической историей взлёта и падения, пребывавшая к этому
времени в полном застое, стала для него, как подтверждает его
следующая книга «Португалия. Дневник путешествия» (»Portugal.
Ein Reisetagebuch«, 1931), олицетворением бренности всего сущего,
как бы ярко и величественно оно ни проявлялось. В этом же году,
словно подтверждение этому выводу, выходит его книга «Филипп
Второй, или Религия и власть» (»Philipp der Zweite oder Religion und
Macht«), а в 1933 году «Гогенцоллерны — трагизм и королевская
власть» (»Die Hohenzollern — Tragik und Königtum«). Вопреки уста-
новившейся традиции, воплощённой в произведениях немецких
классиков, Шнайдер делает акцент на столкновение требований
истории и призвания человека, который становится деятелем исто-
рии, вынужденным многим жертвовать, становясь, таким образом,
сам жертвой истории.
1 Schneider R. Der Balkon. Aufzeichnungen eines Müßiggängers in Baden-Baden.
Frankfurt / Main, 1978. S. 15.
577
В какой-то степени эти исторические штудии, не лишённые
беллетристической окраски, являются отражением происходивших
в Германии 30-х годов политических событий, своеобразными
поисками примера становления немецкой государственности,
выдвигая на первый план трагический образ солдатского короля
Фридриха Вильгельма I, создателя Пруссии, и Фридриха Великого,
творившим историю, устранившись от добра и зла, руководствуясь
в своих деяниях только волей, отпущенной им свыше.
Прусский миф являлся составной частью нацистской идео-
логии, выступая неким связующим звеном между новой властью
и фёлькиш-националами различного толка, выражением преем-
ственности власти, и не случайно «Гогенцоллерны» были встрече-
ны с восторгом нацистской прессой: «Ни одним словом эта книга
не касается современности, и всё же она присутствует в каждой
строке книги, потому что это наша история, это требование и зада-
ча, предъявленные нам. Германия получила свой прусский миф».1
Сам того не желая, Шнайдер поддался общему настроению,
царившему в Германии конца Веймарской республики и выра-
жавшемуся в ожидании нового избавителя от экономических
и политических бед, не обуславливая его прихода какими-либо
установлениями. При всём том, что Шнайдер ещё в 1931 году писал
в своём дневнике, что «национал-социалистское движение может
привести только к катастрофе»,2 тем не менее, когда во время
провозглашённого Геббельсом 4 марта 1933 года праздника «День
пробудившейся нации» перед гарнизонной церковью Потсдама, где
находится могила Фридриха Великого, прошли колонны марширу-
ющих нацистов, он всё же с удовлетворением отметил это событие
как «день, который показался началом возвращения немцев к их
истории».3 Более того, он всё ещё надеялся, как гласит запись в его
дневнике от 7 августа 1933 года, на то, что становление нового
рейха пройдёт под знаком «слияния германского и христианского».4
1 Heidekamp К. Hohenzollern-Tragik // Literarische Welt, 08.09.1933.
2 Цит. по: Hamm Р. Wille zur Ohnmacht. Ein Porträt des katholischen Schriftstellers
Reinhold Schneider // Die Zeit, 20.04.1984.
3 Цит. по: Hamm P. Op. cit.
4 Цит. по: Schmitz W. Das Lyrische Werk von Reinhold Schneider // Hauptwerke
der deutschen Literatur. Einzeldarstellungen und Interpretationen. Bd. 2. Vom Vor-
märz bis zur Gegenwartsliteratur. München, 1994. S. 495.
578
Это начало именно показалось, потому что нацисты, умело
обыгрывая тягу образованной части бюргеров к национальным
традициям, подчёркивали тем самым, несмотря на «революцион-
ные издержки», свою приверженность историческим ценностям.
Шнайдер, как многие фёлькиш-националы консервативного склада,
не скрывавшие своей неприязни к Веймарской республике, мечтал
о восстановлении твёрдой власти в Германии, но власти монархи-
ческой. Именно в этом ключе следует понимать его книгу «Фихте.
Путь к нации» (»Fichte. Der Weg zur Nation«, 1932), в которой ясно
обозначились мысли о рейхе и вожде. Об этом свидетельствуют
и многочисленные статьи Шнайдера тех лет, публиковавшиеся
в газете «Таг» (»Der Tag«), отличавшейся монархическими и национа-
листическими устремлениями. Подобная позиция Шнайдера не про-
шла для нацистов незамеченной, и его трактат «На путях немецкой
истории. Поездка по рейху» (»Auf Wegen deutscher Geschichte. Eine
Fahrt ins Reich«) был отмечен в «Бюхеркунде» (»Bücherkunde«), орга-
не главного идеолога нацистов А. Розенберга, в списке «важных
осенних и рождественских новых изданий 1934 года»,1 хотя сам
автор рассматривал идею и внутреннее жизненное пространство
рейха, набрасывая исторический абрис немецких городов, не на
многообразии видимых следов, а на «толковании и подчинении
всего увиденного и возникшего в духе высшей религиозной идеи»,2
т.е. совсем не в духе национал-социалистских идей. Тем не менее,
нацисты не теряли надежды привлечь на свою сторону Шнайдера,
и тот же «Бюхеркунде» предложил ему принять участие в работе
редакции журнала «для сотрудничества в деле официального кон-
троля книг». Шнайдер согласился на это предложение, но его согла-
сие было равносильно отказу, ибо он оговорил своё участие в этом
деле «в той мере, в какой это соответствует моим помыслам»,3 что,
естественно, не устраивало этот надзорный орган нацистов, и было
принято решение «не обращать внимания на его работы».4
1 Ergänzung und Auswahlliste wichtiger Herbst- und Weihnachtsneuerscheinungen des
Jahres 1934 // Bücherkunde. 11-12. Folge, 1934. S. 237.
2 Pech H. Reinhold Schneider. Auf Wegen deutscher Geschichte // Das Deutsche Wort.
Berlin, 1934. Nr. 49. S. 44.
3 Цит. по: Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Zwischenreiche und Gegenwelten. Texte
und Vorstudien zur »Verdeckten Schreibweise« im »Dritten reich«. München, 1999.
S. 290.
4 Ibid.
579
Слабые надежды Шнайдера на восстановление прежнего рейха
вскоре рухнули после кровавой резни 1934 года в стане штурмо-
виков, показавшей, что к власти пришли не наследники Фридриха
Великого, а банда преступников. Именно в это время Шнайдер,
узнав о зверствах в концлагере Дахау, пишет рассказ «Утешитель»
(»Der Tröster«),1 в котором речь идёт о временах преследования
ведьм, о пытках, о кострах инквизиции. Известный немецкий поэт
XVII века, и иезуитский священник Фридрих фон Шпее мужествен-
но выступил в защиту «ведьм», подвергавшихся изуверским пыт-
кам, пытаясь противопоставить зверствам церкви слова утешения,
человеческого участия. Рассказ «Утешитель» — первый шаг в череде
антинацистских выступлений Шнайдера.
Следующая его книга «Островная империя. Закон и величие
британской власти» (»Das Inselreich. Gesetz und Groß der britischen
Macht«, 1936), свидетельствует о значительном изменении взглядов
писателя на роль властителя в истории: «Труд всей моей жизни
по большей части определялся короной (т.е. монархией.— Е.З.)
и желанием способствовать её восстановлению, создавая духовные
и религиозные предпосылки, без которых она никогда не могла
и не имела права подняться. Однако через глубочайший разрыв
исторической жизни, который начал раскрываться в 1933 году
и тянулся в течение двенадцати лет, я только придерживался мое-
го образа мыслей, но не моих надежд и намерений».2 Эта позиция
выразилась, при сохранении общего тезиса о неизбежности вины
при исполнении властных полномочий, в полном исключении вла-
стителя от каких-либо мирских или божественных обязанностей.
Создавая свою империю, английский король Генрих VIII, порвав
с Римом, отринул вечные законы веры и морали, поставил во главу
угла материальный интерес, «подчинив надобностям государства
глубину чувств, святое в человеке, ради которых он только и может
1 Время публикации рассказа »Der Tröster« разные авторы указывают по-разному.
Г. Д. Циммерманн называет 1937 г. (Zimmermann Н. D. Reinhold Schneider — ein
Dichter der »Inneren Emigration«? // Schriftsteller und Widerstand. Facetten und
Probleme der »Inneren Emigration« / Hrsg. v. F.-L Kroll und R. von Voss. Göttingen,
2012. S. 361), В. Фрювальд называет 1943 г. (Frühwald W. Schneider, Reinhold //
Kunisch H. Kleines Handbuch der deutschen Gegenwartsliteratur. München, 1969.
S. 515)
2 Цит. по: Zimmermann H. D. Reinhold Schneider — ein Dichter der »Inneren Emigrati-
on«? // Schriftsteller und Widerstand. Facetten und Probleme der »Inneren Emigrati-
on« / Hrsg. v. F.L. Kroll und R. von Voss. Göttingen, 2012. S. 360.
580
жить и оправдывать своё существование».1 Рассматривая после-
дующие периоды становления британской империи, Шнайдер
настоятельно подчёркивает, что её основы определяются виной,
ибо вся власть поражена коррупцией, понятие совести отсутствует.
Безвинными остаются только бессильные, святые.
Посыл действительно ясный и касается он реальной действи-
тельности нацистской Германии, но посыл этот был услышан как
в оппозиционных, так и в официальных кругах. «Бюхеркунде»,
несмотря на указание сверху не обращать внимание на произведе-
ния Шнайдера, не утерпело выразить своё отрицательное отношение
к его книге, и, словно в отместку за отказ от сотрудничества с этим
журналом, назвало «Островную империю» как попытку «иезуитски
надменным способом писать мировую историю», а «Имперская пала-
та письменности» тут же обратилась к Шнайдеру за разъяснениями
его позиции.2 В критическую кампанию против писателя внёс свой
вклад и нацистский журнал «Нойе литератур», редактор которого
Вилл Феспер в рецензии на роман Шнайдера «Венец императора
Лотаря. Жизнь и власть Лотаря фон Супплинбурга» (»Kaiser Lothars
Krone. Leben und Herrschaft Lothars von Supplinburg«, 1937) назвал
его «направленным против национал-социализма».3 Завершающим
ударом по Шнайдеру в этом потоке критики стало появление в «Фёль-
кишер беобахтер» анонимной статьи «Является ли история конфес-
сией?» (»Ist die Geschichte eine Konfession?«), в которой на примере
книг «Островная империя» и «Венец императора Лотаря» писателя
обвинили в том, что он «вторгся в неприкосновенный раздел нашего
исторического мифа» и к тому же «порицал остатки средневековой
догматики» и «христианского священного учения».4
Вся эта кампания травли Шнайдера привела к тому, что
процесс дистанцирования его от национал-социализма приобрёл
необратимый характер. «Монархические интенции», столь милые
сердцу Шнайдера, отошли на второй, если не на третий план, он
вновь и теперь окончательно обратился к католицизму и навсегда
1 Цит. по: SamhaberE. Die britische Macht // Deutsche Zukunft. Berlin. 07.03.1937.
S. 11.
2 Цит. по: Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 290.
3 Vesper W. Schneider, Reinhold: Kaiser Lothars Krone // Die Neue Literatur. 1938.
H. 2. S. 87.
4 bkp. Ist die Geschichte eine Konfession? // Völkischer Beobachter. 5.3.1938. S. 6.
581
покинул Берлин, переехав на жительство во Фрайбург-в-Брайсгау,
где закончил работу над своим, пожалуй, наиболее знаменитым
и ярким в художественном отношении произведением — над пове-
стью «Лас Касас перед Карлом V. Сцены из времён конкистадоров»
(»Las Casas vor Karl V. Szenen aus der Konquistadorenzeit«, 1938).
Много позже Шнайдер скажет, что изначально роман был
задуман как «протест против преследования евреев», одновременно
тема эта преобразовывалась в более общую тему «вины Европы,
христианства по отношению к миру, трагедии экспансии».1 Оста-
ваясь в пределах исторических фактов, Шнайдер рассказывает
о том, как патер Бартоломео Лас Касас (1474-1566), прозванный
«отцом индейцев», бывший свидетелем жестокого обращения испан-
цев с коренными народами захваченных ими земель в Латинской
Америке, отправляется на корабле из Мексики в Испанию с тем,
чтобы убедить короля Карла V в пагубности тезиса о насильствен-
ном обращении в веру индейцев и связанных с этим страшными
жестокостями. Во время плавания Лас Касас услышал от испанско-
го рыцаря Бернардино де Лара исповедь о жестокостях, которые
творил он и другие испанцы ради получения золота: «Мы просто
поджигали деревни, затем сжигали людей, а золото оставалось
запёкшимся словно в слитках».2
Прибыв в Испанию, Лас Касас принимает участие в диспуте
с учёным-правоведом Сепульведой, сторонником жёсткого курса
эксплуатации индейцев, который ставит «право и службу свое-
му земному господину выше службы делу господню».3 Лас Касас
хочет обратить индейцев в христианскую веру «только средствами
религии»,4 в то время как его противник настаивает на том, что
«индейцев можно обратить в веру только военными средствами».5
Если Сепульведа, отстаивая свою точку зрения, пытается всячески
очернить своего соперника, замахнувшегося на основы благосо-
стояния государства, и объявляет его чуть ли не государствен-
ным преступником, то Лас Касас делает акцент на гуманитарных
1 Цит. по: Schoeps К-Н. J. Literatur im Dritten Reich (1933-1945). Berlin, 2000. S. 219.
2 Schneider R. Las Casas vor Karl V. Szenen aus der Konquistadorenzeit. Leipzig und
Wiesbaden, 1952. S. 59.
3 Ibid. S. 79.
4 Ibid. S. 75.
5 Ibid. S. 75.
582
аспектах своих доводов, описывая королю «горы трупов, среди
которых тысячи детей, умерших в недавние годы от голода, потому
что родителям не давали времени на то, чтобы их кормить, так как
они вынуждены были с окаменевшими сердцами выкапывать для
своих господ золото. Под деревьями лежали короли, благородны,
как и ты, без знаков достоинства, украденных у них; короли, словно
подлые воры, с отрезанными ушами; другие из них, чьи застывшие
члены ещё были в оковах, и другие, которые вместе с их пленённым
народом погибли на потонувших невольничьих кораблях».1
Эти и многие другие описания зверств испанцев по отноше-
нию к индейцам, представленные Шнайдером, кажутся сейчас
провидческими, хотя ко времени написания книги трудно было
и предположить, что нечто подобное могло произойти с немецкими
евреями, не говоря уже о евреях Западной Европы и России. Йохен
Клеппер (Klepper, Jochen; 1903-1942), словно предчувствуя свою
трагическую гибель, ознаменовавшуюся тотальным уничтожением
немецких евреев, как и вообще евреев всех оккупированных гит-
леровцами стран, в своём письме в 1938 году А. Шнайдеру отме-
чал, что в «этой книге из времён 16 века улавливаются дискуссии
по расовым проблемам и трагедиям 20 века и нашего десятилетия.
Как учит нас действительность обращаться к источникам!»2
Требуя свободы для индейцев, Лас Касас предрекает в против-
ном случае гибель испанской державы, ибо «придёт высший суд
над этой страной, потому что тот, кто упустит великое назначение,
на того и падёт самая тяжёлая вина... Поэтому господь поступит
правильно, если он сотрёт с лица земли эту страну. За чудовищ-
ные преступления грядёт и чудовищная кара».3 Слова эти воспри-
нимались тогдашним читателем (а книга выходила ещё в 1940
и 1941 годах) как напоминание о грядущей катастрофе, прибли-
жение которой многие немцы ощутили на себе в годы войны.
При этом проблема вины за все преступления против индейцев
решается Шнайдером, примерно, в том же духе, как это полагал
и Т. Манн, говоря о том, что «нет двух Германий, доброй и злой,
есть одна-единственная Германия, лучшие свойства которой под
1 Schneider R. Op. cit. S. 175.
2 Цит. по: Brekle W. Schriftsteller im antifaschistischen Widerstand 1933-1945 in
Deutschland. S. 161
3 Schneider R. Op. cit. S. 194-195.
583
влиянием дьявольской хитрости превратились в олицетворение
зла».1 «Душа нашего народа,— заявляет Лас Касас,— изначально
благородная, была затуманена властью».2 Более того, Шнайдер воз-
лагает часть вины и на сам народ: «В грехе живём мы все, потому
что кто может сказать, что его не касаются каким-либо образом
дары безбожников? Злодеяние проникло во все жилы; наш народ
живёт этим, и даже если мы украшаем алтари господни и святых,
то мы делаем это с помощью награбленного, покрытого кровью,
политого слезами золота».3 Примечательно, что после 1945 г. Шнай-
дер, как и Т. Манн, был одним из немногих, кто настаивал на кол-
лективной вине немцев, вызвав недовольство значительной части
представителей церкви и прихожан.
Несмотря на, казалось бы, счастливый конец дискуссии в поль-
зу Лас Касаса (король издаёт «Новые законы», облегчающие положе-
ние индейцев, а сам патер получает сан епископа Чьяпаса с указа-
нием проводить в жизнь положения этих законов на завоёванных
землях), перспективы грядущих изменений в судьбах индейцев
туманны. Лас Касас, отправляясь снова в Мексику, меланхолически
замечает, что «этим путём ему придётся ещё снова и снова идти
под этим бременем...»4
Повесть Шнайдера свидетельствует об антифашистских настро-
ениях писателя не только по причине ясных отсылок к немецкой
действительности, но и потому, что главным героем повести избран
патер Бартоломео Лас Касас, известный в истории XV в. как побор-
ник прав человека и равноправия всех народов. Именно он в своих
трудах поддерживал голландцев в борьбе против испанского вла-
дычества; именно ему Гердер отвёл особое место в своих «Письмах
о поощрении гуманности». Лас Касас не был для немцев, по крайней
мере, для той образованной части немецкого общества, к которой
обращался Шнайдер, просто фигурой исторического прошлого, он
был олицетворением борца за свободу.
Несмотря на достаточно прозрачные аллюзии в тексте повести
«Лас Касас перед Карлом V», официальной нацистской реакции
1 Манн Т. Германия и немцы // Манн Т. Собрание сочинений. Т. 10. Статьи 1929-
1955. С. 324-325.
2 Schneider R. Op. cit. S. 189.
3 Ibid. S. 168.
4 Ibid. S. 228-229.
584
не последовало, хотя, как видно из дневника Й. Клеппера, пред-
ставившего свою рецензию на книгу Шнайдера в министерство
пропаганды для апробации,1 это ведомство правильно поняло
критический настрой этого произведения. По крайней мере, Клеп-
пер расценил высказывания своего куратора о повести «Лас Касас
перед Карлом V« как «единственную атаку на Шнайдера» со стороны
официальных властей.2 Для того чтобы как-то помочь своему другу,
Клеппер ознакомил своего куратора с другими книгами Шнайдера,
и конфликт был улажен.3 Во всяком случае, вплоть до 1941 года
книга Шнайдера выдержала четыре издания, в 1940 году она была
переведена на испанский и венгерский языки, а в 1942 году —
на итальянский язык.
Однако из этого не следовало, что нацисты отказались от кри-
тики повести Шнайдера. Выход в свет этой книги совпал с печально
знаменитым еврейским погромом, получившим циничное название
«Хрустальная ночь» (Reichskristallnacht), прокатившимся по всей
Германии в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, в ходе которого были
сожжены и разграблены синагоги, магазины и предприятия, при-
надлежавшие евреям, убиты или арестованы и отправлены в кон-
цлагеря тысячи евреев. Шнайдер с горечью вспоминает в своей
книге «Скрытый день» (»Verhüllter Tag«, 1954) о своём глубоком разо-
чаровании по поводу сдержанной позиции католической церкви
в этой ситуации: «...по крайней мере, не позднее следующего дня
после штурма синагоги церковь должна была бы по-сестрински
появиться около неё. То, что этого не произошло, выглядело как
одобрение случившегося. А что делал я? Когда я узнал о пожарах,
разграблениях, ужасах, то я закрылся в моём кабинете, будучи
слишком трусливым для того, чтобы высказать своё мнение о слу-
чившемся».4
Несмотря на то, что нацистское руководство считало эту акцию
«важнейшим внутриполитическим событием»,5 оно не решилось,
учитывая волну возмущений на Западе, вызванных им, усугублять
1 После изгнания Й. Клеппера из «Имперской палаты письменности» из-за его отказа
развестись с женой-еврейкой, он должен был все свои статьи и книги представлять
в министерство пропаганды для апробации.
2 Цит. по: Ehrke-Rotermund К, Rotermund E. Op. cit. S. 308.
3 Ibid. S. 308.
4 Цит. по: Hamm P. Op. cit.
5 Цит. по: Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 296.
585
ситуацию и в духовной области, предоставив нацистским критикам
выяснять отношения со своими противниками. Правда, охотников
побороться со Шнайдером нашлось немного, и это говорит о том,
что официальные власти решили просто не ввязываться в дискус-
сию о книге Шнайдера, опасаясь, вероятно, ненужных откровений
политического свойства. Отсюда совершенно непредставительное
выступление молодого литературоведа (после 1945 года он будет
одаривать немцев историей мировой литературы) Эрвина Лаатса
(Laaths, Erwin) в провинциальной «Райнише ландесцайтунг» (»Rhei-
nische Landeszeitung«), обвинившего Шнайдера в «преувеличении
значения этоса» и расценившего антиимпериалистическую позицию
писателя как «мстительное осуждение испанской мировой политики
с позиций духовного внутреннего мира»,1 что говорит, надо пола-
гать, об отсутствии в книге писателя какой-либо связи с реальной
действительностью. В этих рассуждениях ясно просматривается
стремление критика любым способом лишить повесть «Лас Касас
перед Карлом V« каких-либо протестных интенций и свести всё
к истории как таковой, которую автор толкует совсем не в духе
времени.
В свою очередь Генрих Церкаулен (Zerkaulen, Heinrich; 1892-
1954), известный нацистский писатель фёлькиш-национального
толка, наоборот, признавал прямую связь повести Шнайдера
с действительностью и толковал эту связь именно в пользу Третье-
го рейха, воспринимая все перипетии противостояния Лас Касаса
и Сепульведы как некое отражение борьбы нацистов с прогнившим
режимом Веймарской республики, у которой не было императора
и не было фюрера: «Борьба противоречий на стыке двух великих
эпох проявляется во всех её интригах. Один мир должен погибнуть,
потому что у него нет действительного императора и фюрера, и поэ-
тому в нём правит множество».2 При этом высказывание Церкаулена
не есть отрывок из какой-то статьи, а всего лишь несколько слов
из рекламного листка, что говорит о явном нежелании официальных
властей участвовать в дискуссии о книге Шнайдера.
И как следствие этого молчания — обилие отзывов о повести
Шнайдера в относительно либеральной, преимущественно католиче-
ской прессе. Тональность статьи Й. Клеппера (не забудем, одобрен-
ной министерством пропаганды!) в монархическом журнале «Вайсе
1 Ehrke-Rotermund Н., Rotermund Е. Op. cit. S. 308.
2 Ibid. S. 309.
586
блэттер» (»Weiße Blätter«) определялась «обвинением христианской
Европы» не только из-за «мучений» индейцев, ибо это обвинение
вобрало в себя «все страдания и все вины земли», и поэтому основ-
ная мысль статьи Клеппера перерастала в проблему всеобщей вины.1
В таком же духе, но более откровенно высказывается и рецен-
зент «Дойче алльгемайне цайтунг» (»Deutsche Allgemeine Zeitung«)
В. Кальтхоф, характеризуя все исторические произведения Шнай-
дера как призыв к читателям «образно осовременивать прошлое...
и одновременно настойчиво осознавать себя самого и своё участие
в историческом процессе».2
Собственно, в этом и состояло главное предназначение
исторических произведений в годы нацизма, ибо, рисуя непри-
глядные картины прошлого, писатель исподволь толкал читателя
на сравнения с современностью, и, что особенно важно, он мог
смело высказывать порицания событиям прошлого, не боясь быть
уличённым во враждебном отношении к реальным событиям сво-
его времени. Эту особенность скрытой критики режима рецен-
зенты тех лет чутко уловили и продолжили с той же страстью, что
и Шнайдер, обличать императора и его колониальную политику,
предвещая испанскому народу всяческие беды и прежде всего
божий суд, хотя в действительности все их гневные филиппики
относились к событиям, происходившим именно в Третьем рейхе.
В этом смысле примечательна анонимная рецензия Э. Хаусведеля
на книгу Шнайдера, помещённая в гамбургском журнале «Цваймо-
натсберихт» (»Zweimonatsbericht«) под именем Э.Х. Лукас, в которой
автор откровенно даёт понять, что весь пафос его статьи направлен
против нацистского режима: «...Шнайдер по праву видит в нём
[в Лас Касасе] посланника некоей божественной силы, которая
через него ещё раз предостерегает запутавшийся в пылу опьянения
испанский народ о надвигающейся бездне. Слишком поздно, победа
уже принадлежит тем хладнокровным рационалистам и циникам,
которые не в состоянии понять, что они своей политикой насилия
разрушают священную веру. «Новые законы» больше не спасут
Испанию... Одной из самых потрясающих сцен книги является та,
где Лас Касас предвещает императору божий суд, который свершит-
ся над Испанией, и этот суд обречёт величайшую империю земли
1 Ehrke-Rotermund Н., Rotermund Е. Op. cit. S. 310
2 Ibid.
587
на существование в полнейшем ничтожестве... Да будет услышан
голос правды, исходящий из этой книги».1 Но «голос правды» мог
быть услышан именно в процессе «медленного восприятия»2 книги
Шнайдера, и это условие обретения правды лишний раз подчёр-
кивает отсутствие в критических высказываниях приверженцев
«внутренней эмиграции» каких-либо призывов к активному про-
тиводействию нацистскому режиму. Речь идёт только о пестова-
нии чистоты внутреннего мира человека, о «душевном, духовном
и религиозном углублении»,3 и, соответственно, об уповании на то,
что зло, какого бы свойства оно ни было, будет наказано высшим
божьим судом. Эта мысль особенно ясно прозвучала в критических
отзывах на книгу Шнайдера «Лас Касас перед Карлом V« на стра-
ницах религиозной прессы, которая чётко противопоставила «мир
действия и мир духа».4 Не случайно рецензент католического жур-
нала «Штиммен дер цайт» (»Stimmen der Zeit«) иезуит Эрих Пживара
(Przywara, Erich) воспринимал книгу Шнайдера исключительно
в религиозном плане, и в его напоминании испанскому народу
о том, что «за невероятные преступления последует невероятная
кара», ибо «тот, кто с мечом вступает в этот мир, тот не видит
мира, потому что он уже потерял божий мир»,5 больше библейской
риторики, чем протестного действа.
Столь благостное протекание дискуссии по поводу книги
Шнайдера отразилось и на официальном статусе писателя. В мае
1940 года в связи с официальным приглашением правительства
Португалии Шнайдер отправляется в Лиссабон для участия в наци-
ональных празднествах. Отвечая на возникшие было возражения
со стороны «Имперской палаты письменности», референт мини-
стерства пропаганды, ссылаясь на данные гестапо о том, что
«в политическом отношении о нём у них нет ничего отрицательного»,
в письме президенту палаты сообщил: «Произведения Шнайдера
в профессиональном отношении хорошо известны как незаурядные
1 Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. S. 311.
2 Uhde W. Las Casas. Ein neues Werk von Reinhold Schneider // Frankfurter Allgemeine,
23.10.1938. S. 8.— слово выделено в оригинале.
3 Ibid. S. 313.— Heuschele О. Ein neues Buch von Reinhold Schneider // Kölnische
Volkszeitung. 9.10.1938.
4 Ibid.
5 Ibid. S. 314.
588
явления, хотя они и определяются сознательной католической пози-
цией».1 По тем же соображениям в 1941 году Шнайдер получил без
каких-либо трудов разрешение и на поездку в Италию.2
Подобные послабления со стороны нацистских властей по отно-
шению к Шнайдеру писатель Ганс Каросса, частый гость в Италии
в годы нацизма, объясняет «его решительной приверженностью
католическому направлению (касательно его самого, это обстоя-
тельство не было связано с какими-то ограничениями) и по этой
причине он не был особенно востребован [властями]».3
Книги Шнайдера, в силу их действительно фундаментального
исторического характера, отягощенного к тому же богословскими
рассуждениями высокого полёта, рассчитаны были не на массового
читателя, а на избранный круг посвященных. Из-за этой особенно-
сти творчества писателя, вместе с преимущественно иберо-латино-
американской тематикой его работ, его книги не представлялись
охранным органам опасными для рейха. Тем не менее, несмотря
на кажущуюся личную свободу, Шнайдер, как и многие предста-
вители традиционно консервативной элиты, поддавшиеся было
по различным причинам обаянию первоначальных политических
успехов национал-социалистов, был потрясён бойней 1934 г., когда
Гитлер расправился со своими противниками без суда и следствия,
а также нарастающими гонениями на евреев.
Все эти события привели Р. Шнайдера в лагерь оппозицио-
неров «Фрайбургского кружка» (Freiburger Kreis; 1938-1944), где
представители католической и «исповедующей» (bekennende) церк-
ви обсуждали принципы отношения верующих обеих конфессий
по отношению к фашистскому государству, которое они считали
порождением дьявола, антихриста. Осознание бессилия католиче-
ской церкви противостоять террору нацистов, хотя именно она,
подписав 20 июля 1933 года конкордат между Святым престолом
и Германией и легализовав тем самым Третий рейх в мировом
сообществе в надежде, что она может таким образом отстаивать
христианские ценности в этом государстве, как и собственное бес-
силие выразить открыто своё отношение к нацистскому режиму,
1 Heuschele О. Ein neues Buch von Reinhold Schneider. S. 291
2 BarbianJ.-P. Literaturpolitik im »Dritten Reich«. Institutionen, Kompetenzen, Betäti-
gungsfelder. Frankfurt / Main, 1993. S. 166.
3 Цит. по: Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 291.
589
привело к тому, что в творчестве Р. Шнайдера наступил новый этап
конфронтации с нацистским режимом, принявший более опасные
формы.
Такой поворот в его жизни вызван был ещё и тем, что после
начала Второй мировой войны ситуация в стране решительно изме-
нилась в пользу нацистов: «Даже те люди, которых я очень высоко
ценил, увидели, хотя они осуждали идеологию и методы нацистов,
возможность подъёма рейха. Антимилитаристы, которые, как и я,
меньше всего могли обращаться с оружием, радовались по поводу
занятия Парижа. Критические настроенные исследователи истории
предрекали возникновение германского всемирного рейха. Против-
ники нацистской системы, тяжело страдавшие от неё, обсуждали
уже планы разрушения Лондона. В добропорядочных бюргерских
семьях, при свете лампы, занимаясь вязаньем чулок, с радостью
воспринимали сообщение о потоплении английского судна и гибели
всей команды, с удовлетворением констатировали бомбардировку
какого-то города, и с горечью реагировали на проявления сопро-
тивления в Польше, Норвегии и Греции. Концлагерей не должно
быть, и поэтому их и не было...»1
Писатель напрасно обвинял себя в трусости. Оставаясь
по-прежнему приверженным исторической тематике, которая
была для него неким средством говорить о современности образами
прошлого, Шнайдер создаёт ряд мелких произведений духовного
свойства для поддержания в человеке чувства собственного досто-
инства и определённого мужества. Его короткие духовные пропо-
веди распространялись нелегальным путём, их передавали из рук
в руки, их находили в армейских окопах, в лазаретах, больницах
и даже в тюрьмах и концентрационных лагерях, а также в группах
Сопротивления (например, мюнхенской «Белой розы», члены кото-
рой были казнены как враги рейха). Тираж его небольшой книги
утешений «Отче наш» (»Vaterunser«, 1941), содержавшей довольно
смелые рассуждения на тему канонической молитвы, насчитывал
примерно полмиллиона экземпляров.2
О степени воздействия его книг на читателей свидетельствует
и гнев Мартина Бормана, второго человека в партийной иерар-
хии нацистов, охарактеризовавшего его книгу сонетов и статей
1 Цит. по: Hamm P. Op. cit.
2 Hamm P. Op. cit.
590
«Царство божие во времени» (»Das Gottesreich in der Zeit«, 1944) как
«руководство для подготовки к государственной измене», в чём,
собственно, Шнайдера и обвинили в апреле 1945 года, и только
благодаря быстрому завершению войны писатель избежал неминуе-
мой смерти. Примечательно, что книга эта возникла по инициативе
полкового священника И. Кесселя, который несколько лет собирал
стихи и статьи Шнайдера и тайно, получив согласие писателя, издал
её в Польше в количестве 5 тысяч экземпляров, распространив
почти весь тираж в войсках вермахта.
Борману было из-за чего гневаться. В одноимённой статье
открытым текстом говорилось о том, что земная история является
ареной борьбы божественных установлений с земными, и поэтому
чисто земная история является только формой испытания, в кото-
ром отдельный человек должен принять решение в пользу земного
рейха или царства божия, т.е. будет ли он жить по заветам божиим
или слепо повиноваться фюреру. Призыв к следованию заветам
Христа у Шнайдера неотрывно связан с сопротивлением земному
правлению,1 но сопротивлению именно духовному, не связанному
с какими-либо акциями.
Особое место в творчестве Р. Шнайдера, если продолжить
иберийскую тему, занимает жанр сонета, который, по мнению
нацистов, «в силу отсутствия как внутренней способности, так
и конечной цели немецкого поэтического образа... ни в коей мере
не является собственно немецкой основной формой».2 Обращение
к сонету у Шнайдера навеяно также его пристрастием к испанскому
миру, и в частности, к философии М. де Унамуно, чьё мистико-ре-
лигиозное восприятие действительности рассматривалось им как
некое «побуждение» к творчеству. Испания в немецкой классиче-
ской литературе вообще являлась неким символом порабощенной
свободы, и обращение к испанской истории всегда имело под собой
протестную посылку, достаточно вспомнить «Дон Карлоса» Шиллера,
1 »Die Macht der Wahrheit«. Reinhold Schneiders »Gedenkwort zum 20. Juli« in Reakti-
onen von Hinterbliebenden des Widerstandes. Berlin, 2008. S. 65-66.
2 Müller G. Die Grundformen der deutschen Lyrik / / Von deutscher Art in Sprache
und Dichtung. Bd. 5 / Hrsg. v. G. Fricke, F. Koch und K. Lugowski. Stuttgart, 1941.
S. 132-133. Цит. по: Rotermund E. Melancholische Literatur von Melancholikern? //
Schriftsteller und Widerstand. Facetten und Probleme der »Inneren Emigration« / Hrsg.
v. F.-L. Kroll und R. von Voss. Göttingen, 2012. S. 225.— Пожалуй, только Г. Шуман,
признанный poëta laureatus нацистского Парнаса, отдавал предпочтение сонету
в желании подчеркнуть связь своей поэзии с классическим наследием).
591
«Эгмонта» Гёте. В этой связи приверженность Шнайдера к сонету
также имеет определённый протестный характер, ибо сложная
конструкция сонета является своеобразным выражением протеста
против хаоса и гибели: «Мои стихи я строю совершенно в стиле
Эскориала (монастырь, дворец и резиденция испанских королей.—
Е. 3.) — симметрично, тяжело; не при каких условиях я не жертвую
формой, потому что форма это содержание; так возникает нечто
архитектоническое... Теперь моим самым высшим удовольствием
является заключать в эту строгость хаотическое содержание».1
Свои сонеты, как и свои малые произведения, вроде «Отче
наш», Шнайдер считал некими наставлениями для людей, находив-
шихся в постоянной борьбе с жестокими проявлениями нацистской
действительности. О действенности такого настроя поэзии Шнай-
дера свидетельствует тот факт, что первый же сборник «Сонетов»
(»Sonette«, 1939) был дважды переиздан в этом же году. После
запрета в 1942 году на публикацию стихи Шнайдера издавались
во Франции, но большей частью они распространялись в машино-
писных текстах.
Большинство сонетов Шнайдера, как это свойственно авторам
христианской направленности, является своеобразным отражением
современности в библейских образах, неким «оружием света», как
гласило название его последнего сборника сонетов, вышедшего
в 1944 году. Борьба света и тьмы — основа лирики Шнайдера
(«Во власти земли» — »Im Bann der Erde«):
Бог и сатана ведут бой в душах
и в народах, которые от отвращенья в ярости кипят,
когда их демон в чресла ударяет.
Поэтому Гитлер у него идентичен то Антихристу, «выступаю-
щему в облике господа» («Антихрист» — »Der Antichrist«), то «князю
времени» (аллюзия на «князя тьмы», одно из имён дьявола), «рас-
пространяющему заблуждения» («Влекомый» — »Der Getriebene«).
В сонетах Шнайдер продолжает разрабатывать свою идею
о трансцендентном царстве божием, ибо земная действительность
своими страшными проявлениями уводит людей от понимания
существования этого царства в их душах. При этом Шнайдер
воспринимает немцев, как и евреев, избранными народами, кото-
рым эта миссия была дана от бога и которые не справились с ней
1 Schmitz W. Op. cit. S. 494.
592
(«На тебя возложена была судьба народа» — »Dir ward des Volkes
Schicksal auferlegt«):
Обоим это было поручено. Спасение и силу
мира нести, призваны были они,
и оба отвергли эту заповедь.
Сонет этот был посвящен Й. Клепперу, под влиянием которо-
го Шнайдер перешёл в католическую веру и для которого, немца,
женатого на еврейке, судьба евреев в гитлеровской Германии
имела принципиальное значение, что и побудило его в 1943 году
покончить жизнь самоубийством вместе с женой и падчерицей
во избежание их отправки в концентрационный лагерь.
Однако избранность немцев и евреев у Шнайдера не имеет
никакой расистской подоплёки, ибо здесь речь идёт о духовном
родстве, что само по себе не вписывалось ни в какие каноны
нацистской идеологии, и также могло восприниматься как про-
тестная интенция.
Надо сказать, что творчество Р. Шнайдера, как и его граждан-
ская позиция, воспринимались немцами после 1945 года неодно-
значно, и вызвано это было его религиозно-политической радикаль-
ностью. Шнайдер страстно ратовал за всеобщее и безоговорочное
признание совиновности немецкого народа и католической церкви,
а также и папы Пия XII, за всё происходившее в Германии в годы
нацизма, как и за преступления нацистов против народов мира.
С не меньшим упорством Шнайдер выступал против ремилитари-
зации Западной Германии, против попыток оснащения немецкой
армии атомным оружием, против ориентации правительства
К. Аденауэра, а с ним и церкви на Запад, ратуя за диалог с Вос-
током, что дало повод для его недругов назвать писателя чуть ли
не советским агентом; наконец, он выступал с критикой авторов
«внутренней эмиграции», в частности, классика немецкой лите-
ратуры Герхарта Гауптмана, за их добровольное сотрудничество
с нацистскими властями.
По сути дела, Р. Шнайдер делал то же самое, чем он занимался
и в годы нацизма — обличал зло и боролся за построение гумани-
стического общества по канонам религии. Изменились условия,
но не изменился пафос борьбы.
Испанская тематика, как иносказательный способ отражения
политической ситуации в нацистской Германии, нашла своё отра-
жение и в творчестве Стефана Андреса (Andres, Stefan; 1906-1970),
593
писателя далеко не первого ранга, но в одночасье привлёкшего
к себе внимание немецкого читателя своими новеллами «Эль Греко
пишет портрет великого инквизитора» (»El Greco malt den Großinqui-
sitor«, 1936) и «Мы — утопия» (»Wir sind Utopia«, 1942). Религиозная
составляющая, характерная для всего творчества этого писателя,
обрела в этих новеллах в интерпретации Андреса заметные про-
тестные интенции, которые по своей выразительности выходили
далеко за пределы конфессиональной тематики.
С. Андрее родился девятым ребёнком в семье мельника в Брай-
твизе на Мозеле. Природа и сельская жизнь стали главным и проч-
ным его переживанием, и хотя после смерти отца Андресу предсто-
яло стать священником и его юношеские годы прошли в различных
католических монастырях, теология всё-таки не стала целью его
жизни. Религия оставалась для него своеобразным импульсом пости-
жения жизни, а способом её отображения была литература. Первые
рассказы Андреса и его первый роман «Святая тоска» (»Das Heilige
Heimweh«) появились в 1928 году в католическом журнале «Мариен-
борн» (»Der Marienborn«), выходившем под его началом, однако, судя
по отсутствию каких-либо критических отзывов, эти произведения
начинающего писателя прошли незамеченными. Отойдя от мона-
стырского служения, Андрее заочно заканчивает школу, изучает
германистику, историю искусства и философию в университетах
Кёльна, Йены и Берлина. Однако хождение в науку длилось недол-
го. В 1932 году, после выхода в свет его романа «Брат Люцифер»
(»Bruder Lucifer«), Андрее получает стипендию американского фонда
Авраама Линкольна и уезжает вместе с женой в Италию. Пройдёт
ещё пять лет пребывания в Мюнхене и с 1937 года Андрее вместе
с семьёй переезжает в Италию навсегда.
Автобиографический роман «Брат Люцифер» привлёк внима-
ние критиков не только смелостью и красочностью изображения
монастырской жизни, но и «соблазняющей молодостью первого
опыта,., поразительным талантом, сочетанием доброты, мудрости,
жизненного опыта, великой набожности при изображении апатии
и мучительной злости, обретающихся за монастырскими стена-
ми».1 История молодого послушника, патера Люциуса, полного
ещё живых воспоминаний о сельской жизни, о свободе творчества
и не выдержавшего иезуитски тонкого террора церкви была вос-
принята критикой, при сохранении положительной оценки всего
1 LeyenF. von der. Stefan Andres // Deutsche Zukunft. Berlin, 28.08.1935. S. 19.
594
произведения, неоднозначно. Одни, как Фридрих фон дер Ляйен
(Friedrich von der Ley en), приверженец древней немецкой поэзии,
истолковали разрыв патера Люциуса с церковью как недостаток
веры, когда служение искусству пересилило служение богу, и в этом
заключалось их скрытое недовольство первенцем Андреса, другие,
как анонимный критик журнала «Бюхеркунде», органа ведомства
А. Розенберга, увидели в поступке героя романа бунт против пода-
вления личности церковью, как борьбу за сохранение своей сути
(мысль вроде бы правильная), но с подтекстом «духа и крови», и зая-
вили, что «это первое произведение писателя вселяет надежды».1
Надежды эти были вполне конкретного свойства, ибо роман
Андреса, переизданный в 1935 году, пришёлся как нельзя кстати
ко времени набиравшей силу кампании нацистов против католи-
ческой церкви. Основная идея романа, заключавшаяся в открытии
индивидуальности в христианском контексте, была истолкована
нацистами как выпад против церкви и религии как таковой, хотя
на самом деле патер Люциус порвал с монастырём, но не с религией.
Исходя из этой ложно понятой посылки, следующий роман Андреса
«Эберхард в контрапунктическом многоличии» (»Eberhard im Kon-
trapunkt«, 1933), где эта тема рассматривается в более радикальной
форме, был принят нацистской критикой едва ли не с восторгом,
хотя и не без прямого указания желаемой заданности последу-
ющего творчества писателя. К.Ф. Кутцбах (Kutzbach К. F.), ярый
поклонник Пауля Эрнста (Ernst, Paul; 1866-1933), новоявленного
предтечи нацистской литературы, завершая свою восторженную
рецензию в «Нойе литератур», официальном литературном органе
нацистов, выразил пожелание о том, что «проникновение в глуби-
ны человеческой души, выдвинутые им самим требования и его
изобразительный талант дают нам повод надеяться, что Андрее
найдёт путь также и к более общепринятому», т.е. к проблемам
нацистской действительности.2
Если предыдущий рецензент высказал только осторожное
предостережение автору романа, призывая его более явно выра-
зить свои политические предпочтения, то анонимный рецензент
«Бюхеркунде» просто отказался рекомендовать новую книгу Андреса
для библиотек и для продажи: «Несмотря на то, что в этом романе
1 Anonym. Bruder Lucifer. Stefan Andres // Bücherkunde, 3. Folge. Berlin, 1935. S. 99.
2 Kutzbach К. A. Andres Stefan: Eberhardt im Kontrapunkt // Die Neue Literatur, Berlin.
H. 11. November 1934. S. 702.
595
имеются хорошие предпосылки, этого недостаточно для того, что-
бы поддержать его распространение».1 В данном случае, как это
не раз случалось в культурно-политической жизни Третьего рейха,
столь разные оценки одного и того же произведения были вызваны
постоянным ведомственным соперничеством, хотя, по большому
счёту, ни та, ни другая сторона не поняла (или не захотела понять)
основной идеи романа Андреса, которая определялась теперь мыс-
лью о формировании индивидуальности.
В новом романе речь шла о молодом музыканте из крестьян-
ской семьи, который решает уйти из деревни в город, ибо его
не привлекает сельская жизнь с её размеренным ходом, лишённым
какого-то художественного импульса, не говоря уже о том, что
в музыкальном отношении он здесь останется на уровне сельского
органиста. В основе этого произведения, повторяющего в известном
смысле настрой предыдущего романа, но в более резкой форме,
лежит мысль о трагической заброшенности молодого поколения
во времени и поиске своего дома. С одной стороны, Эберхарду
предлагается плыть по течению, потому что «всё равно, в какой
церкви мы развлекаемся, мы всё равно ведь нигде не обретаем
дома»;2 с другой стороны, постижение музыки как внутренней
необходимости, вызванной желанием спасти мир, приводит его
к пониманию своего призвания дарить людям надежду и силы
жить: «Для тех, кто всю жизнь по воскресеньям слушает орган,
который целую неделю согревает их сердца, одно это было бы уже
нечто».3 Но одного этого недостаточно, и потому весь роман, при
всей его религиозной окрашенности, отмечен всеобъемлющим
вниманием Эберхарда к повседневным человеческим проблемам.
Именно поэтому большую роль играет в нём тема любви, которую
протагонист воспринимает как некое «приложение природы», ибо
«она есть нечто иное, чем красота».4 Конец романа остаётся откры-
тым, и именно это обстоятельство и волновало нацистскую крити-
ку, которая никак не могла понять, к какому же берегу пристанет
Эберхард-многоликий.
1 Anonym. Eberhard im Kontrapunkt. Stefan Andres // Bücherkunde. 3. Folge. Berlin,
1935. S. 99.
2 Andres S. Eberhard im Kontrapunkt. Berlin, o. J. S. 27.
3 Andres S. Op. cit. S. 300.
4 Ibid. S. 287.
596
Появление в 1934 году романа «Незримая стена» (»Die unsicht-
bare Mauer«), казалось, сняло все сомнения в политической благона-
дёжности Андреса, ибо в данном случае речь идёт об исторических
событиях недавнего прошлого — о крушении патриархальных
устоев немецкого крестьянства в начале XX века, вызванном тех-
ническим прогрессом. Излюбленная тема не только консервативно
мыслящих фёлькиш-националов, но и пронацистски настроенных
авторов. Опять, как и в первых двух романах Андреса, повество-
вание строится на автобиографическом материале, напрямую свя-
занном с историей семейства писателя, с конкретной местностью,
с конкретной социальной средой. Настолько конкретной, что после
публикации романа у Андреса были неприятности с предполага-
емыми прототипами персонажей романа.1 В связи с возникшей
потребностью в электроэнергии, городские власти построили
в 1911 году на горной реке Дрон плотину для гидроэлектростанции.
Отец Андреса, владевший мельницей, как и прочие его собратья
по профессии, вынужден был переселиться в деревню Швайх
и купить там на компенсационные деньги крестьянский двор. Эти
события и легли в основу романа Андреса.
Постройка плотины стала своеобразным прорывом в новое
время, и прорыв этот существенно изменил не только ландшафт,
но судьбы людей. Конфликт между старым и новым привёл к раз-
валу сложившихся человеческих отношений в общине, породивших
семейные трагедии, убийства, смерти и самоубийства. «Невидимая
стена» разделяет строителей плотины и главного героя романа,
Венделина, выходца из этих краёв, считающего этот процесс стро-
ительства благом для людей, неотвратимым движением истории,
и крестьянами с их традиционными устоями. Драматизм событий
усиливается тем, что церковь становится на сторону крестьян,
отстаивающих свои старые религиозные формы жизни. Страсти
вокруг плотины улеглись сами собой в преддверии Первой мировой
войны, которая воспринимается крестьянами как более суровое
испытание, которое нельзя предотвратить никакими силами. Ста-
рая бабушка Ульф, выразитель не только гласа народного, но и сво-
еобразная прорицательница, поучает молодое поколение принять
всё случившееся с плотиной, и то, что может с ними случиться, как
неизбежную данность, а не искать в этом некое проявление гнева
1 Erschens H. Die Unsichtbare Mauer // Mitteilungen der Stefan-Andres-Gesellschaft.
Schweich. H. IV, 1983. S. 35-45.
597
господнего: «Дети, будьте готовы ко всему, пусть это и будет вашей
молитвой, и не кляните Бога, когда вы его больше не увидите... он
будет по всему свету куриться паром из великой крови, он соберётся
из всех народов и наций, он станет зримым над огромным трупом
Земли. Он будет перескакивать от раны к ране в огне и свинце
и фонтанах крови, и он увяжет то, что ещё разделено, чтобы оно
снова разделилось и было связано ещё тесней. И не называйте его
больше «дорогой Боженька», война будет, вообще не поминайте
его больше, но будьте тихи и готовы и с верой устремляйте свой
взгляд на все раны. А коли вас самих ранят, откройтесь и не молите
у Бога победы, просите у него силы, чтобы не питать вам ненависти,
а терпеливо ожидать его явления».1
Война здесь предстаёт не как дело рук человеческих, а как
проявление незримой силы господней, выражающейся в апока-
липтических формах, и вины вовлечённых в эти события нет.
Подобная позиция Андреса определяется не столько изначальной
греховностью человека, которому можно надеяться только на боже-
ственное всепрощение, сколько стремлением к обоюдной незлоби-
вости, ибо в любом случае всё происшедшее с нами не есть наш
изначальный позыв, а стечение независящих от нас обстоятельств.
Эта мысль проходит через весь роман писателя, и хотя вереница
трагических событий, связанных с постройкой плотины, предстаёт
как порождение внутриобщинных междоусобиц, суть их опреде-
ляется не на земле, а на небе, отчего между всеми участниками
описанных событий устанавливается некое подобие мира, которое
нужно для того, чтобы пуститься в новое испытание — испытание
войной. И они тут же «разукрасили событие пёстрыми лентами, они
пели, они стали громогласнее и более готовыми к насилию в своих
чувствах и помыслах».2
Либеральная критика, очарованная «несравненной подлин-
ностью и простодушной глубиной» прозы Андреса, с восторгом
приветствовала роман «Незримая стена».3 С глубоким удовлетворе-
нием это произведение было воспринято и нацистской критикой.
«Бюхеркунде» «особенно рекомендовал роман Андреса для народ-
ных библиотек в силу его прочной приверженности родной земле».4
1 Андрее С. Незримая стена. / Перевод С. Фридлянд. M., 1995. С. 207.
2 Там же. С. 220.
3 Leyen F. von der. Op. cit. S. 20.
4 Anonym. Bücherkunde. 3. Folge. 1935. S. 100.
598
Но вот что любопытно. Все критики совершенно не обратили вни-
мание на интересные высказывания Андреса, подытоживающие
суть событий, связанных с постройкой плотины и влияние этих
событий на судьбы людские. Хотя нацистская критика пробурчала
что-то неопределённое по поводу пристрастия писателя к «меди-
тированию и философским путаным рассуждениям», посчитав их
слабой стороной романа,1 за этим скрылось нежелание вдаваться
в подробности, затрагивающие, правда, не напрямую, реальную
действительность Третьего рейха, потому как уж больно хорош
сам роман в своей почти кондовой приверженности проблематике
«крови-и-почвы».
Говоря о том, что «земля меняется, но меняется быстрей, чем
люди могут воспринять эти перемены»,2 Андрее как бы незаметно
переводит разговор в сферу отношения людей к этим переменам,
и тут выясняется, что история с возведением плотины превра-
щается в некую параболу политического свойства. По сути дела,
в одном внутреннем монологе Венделина, протагониста романа,
представлена программа выживания человека во времени, чьи
вызовы для него непонятны или враждебны, и программа эта пред-
ставлена, так, что её можно истолковать двояко, и здесь, конечно,
проявляется технология рабьего языка. «Умные — они осваиваются,
те умные, которые не поднимают глаз к вечно неизменному небу,
потому что от занятости не могут поднять глаза. Живут они лишь
ради улучшения и удлинения собственной жизни, а всё новое чутьём
улавливают ещё на большом расстоянии, а коли не улавливают, то,
по крайней мере, вдруг видят и оценивают со здоровым до смеш-
ного инстинктом как нечто дружественное или враждебное. Они
не знают ни привязанностей, ни целей, ни точек зрения; они могут
приспособиться к наисвежайшим новациям, пусть даже вчера они
на чём свет стоит бранили эти новации; они на диво нетребователь-
ны и потому неистребимы, как мыши или крысы. Они справляют
свои праздники на развалинах того, что рухнуло, на трупах тех,
которые хотели при всех переменах остаться неизменными, пол-
ные непостижимой верности, в которой они никому не поклялись,
верности, представляющей не более чем ядро, ядро, не способное
ни на что, кроме самовоспроизводства. Они не расцветают в любом
краю под любым солнцем, они утомительно непреклонны, они всег-
1 Anonym. Bücherkunde. S. 100.
2 Андрее С. Указ. соч. С. 213
599
да несколько старомодны на взгляд других, несколько неуклюжи
в показательных скачках толпы. Перед лицом земных свершений
они всегда остаются гордыми и невозмутимыми. Они приемлют
всё, что не попирает их простодушие, не оскорбляет их гордость,
не обращает в рабство их внутреннюю беззащитность.
У них всегда есть выход, самый последний, и они хранят его
как великую тайну, и они никогда о нём не говорят: они могут
умереть, могут уклониться от перемен — и не обязательно насиль-
ственной смертью... Но одно они знают твёрдо: их смерть не лишена
смысла. В них — жизнь, и, умирая, они возвращаются в старый
дом, где стоит колыбель всего движения и всего исхода. Вот куда
они приходят и укачивают землю, погружая её в сон справедли-
вости. Ибо сознают: изменения, ритм великой колыбели без них,
неизменных, немыслим. Они знают больше, чем говорят, больше,
чем сами понимают в мыслях своих. Поэтому они гневаются до тех
пор, пока не поймут, что представляют собой другие, те, кто бежит
в первых рядах великой процессии, и что представляют собой сами
они, перед чьим взором переливаются все цвета переменчивости.
Они люди не праздные, и сердца у них не остывают, ибо они
плывут против течения, чтобы показать другим, в каком направ-
лении пенятся и плывут дни».1
Я намеренно привёл столь длинную цитату, чтобы показать
двойственность её положений. Эти несогласные предстают и чуда-
ками, и мужественными людьми, и провидцами, и, наконец,
носителями высшей справедливости, но, если посмотреть с другой
стороны, они понимают и необходимость перемен. Вопрос в дру-
гом — что это за перемены? «Показательные скачки толпы» и «пер-
вые ряды великих процессий» как-то не вяжутся друг с другом, как
не вяжется и возможное понимание того, «что представляют собой
другие». Череда, казалось бы, позиционных нестыковок выявляет
сложность положения человека в современном мире и прежде всего
самого Андреса, находящегося не то чтобы на распутьи, а скорее
всего в поисках способов понимания положения человека в тотали-
тарном государстве, определения «пограничной ситуации» в «грозя-
щем будущем», как выразился сам писатель после 1945 года в своей
монументальной трилогии «Потоп» (»Die Sintflut«, 1949-1959).2
1 Андрее С. Указ. соч. С. 213-214.
2 Andres S. Die Sintflut. Göttingen, 2007. S. 14.
600
Выбор этой «пограничной ситуации» пришлось вскоре сделать
и самому Андресу. Сразу же после прихода к власти нацистов
писатель вместе с женой уезжает в Италию и поселяется в неболь-
шом рыбачьем посёлке Позитано близ Салерно. Отъезд вызван
был не только неприятием национал-социализма, но и еврейским
происхождением его жены. Хотя Италия была союзником нацист-
ской Германии, еврейский вопрос руководство этой страны мало
волновал. Вскоре, однако, оба супруга возвращаются в Германию.
Андрее работает на Кёльнском радио, но в 1935 году его увольняют
по причине отказа предоставить сведения об арийском происхож-
дении его жены. Это же обстоятельство грозило Андресу исключе-
нием из «Имперской палаты письменности», но благодаря списку,
составленному Геббельсом, Андрее, женатый на «полуеврейке», как
и 35 других авторов, находившихся в таком же положении, сохра-
нил своё членство в палате. Правда, 18.11.1940 года Андрее был
всё же выведен из состава «Имперской палаты письменности» по той
причине, «что покинул территорию рейха»,1 однако, согласно всё
тому же списку Геббельса, он не лишался права публикации в Гер-
мании.2 Какое-то время Андрее живёт с семьёй у родителей жены,
а в 1937 году, после печально «знаменитой» «Кристальной ночи»,
окончательно переезжает в Италию на постоянное жительство.
Нельзя сказать, что Андрее и его семья жили в Италии в относи-
тельной безопасности: «...каждый знал, где я находился, и каждый
день меня могли схватить и переправить куда угодно. Итак, я жил
не в каком-то укрытии, а просто в уединённости».3 А схватить
его собирались, и не раз. В 1938 году, после принятия в Италии
расистских законов, молодой фашистский студент из Позитано
донёс на семейство Андреса. Сам Андрее укрылся в Риме, а жену
с детьми итальянские власти насильно выслали в Германию. Однако
знакомый Андреса в итальянском посольстве в Берлине помог им
в этом же году вернуться в Рим. В Позитано семейство Андреса
могло вернуться в середине 1941 года только после того, как этот
фашистский студент попал в плен.4 Но уже в конце 1941 года
1 Цит. по: Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 471.
2 Barbian J.-P. Zwischen Anpassung und Widerstand // Schriftsteller und Widerstand.
Facetten und Probleme der »Inneren Emigration / Hrsg. v. F.-L. Kroll und R. von Voss.
Göttingen, 2012. S. 69.
3 Andres St. Der Dichter in der Zeit. München, 1974. S. 58.
4 Ehrte-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 471.
601
над Андресом снова нависла угроза ареста, которого он избежал
только потому, что его знакомый нацистский генеральный консул
в Неаполе не дал ходу очередным доносам на Андреса по поводу
«его высказываний и поступков, совершённых им в пьяном виде».1
В этом же году Андреса чуть не забрали в вермахт и только с помо-
щью итальянского врача и доверенного врача немецкого посольства
в Риме ему удалось избежать этой напасти.2
Несмотря на череду непрекращающихся политических угроз,
Андрее продолжал довольно широко и почти беспрепятственно
публиковаться в Германии. По крайней мере, в период с 1940
по 1944 годы его имя не сходило со страниц «Франкфуртер цайтунг»,
«Кёльнише цайтунг» и даже «Фёлькишер беобахтер» и «Кракауэр
цайтунг», органе оккупационных немецких властей в Польше;3 более
того, в 1942 году он стал лауреатом премии пропагандистского
журнала «Цванцигсте ярхундерт» (»Das XX. Jahrhundert«).4
Сам факт публикации того или иного автора в крупнейших
газетах и журналах того времени ещё не есть повод для порица-
ния его политической неразборчивости, а то и приверженности
нацистской идеологии, как это происходило и происходит периоди-
чески в ФРГ на волне очередного приступа левацкой истерии, или
обыкновенного незнания проблематики тех лет, как это случается
в России.5 Подобные публикации, казалось бы, противоречащие
антинацистским настроениям Андреса, были довольно распро-
странённым явлением в эти годы, и вызваны они были не столько
политической амбивалентностью Андреса и других авторов, сколько
стремлением нацистов избегать в средствах массовой информации
1 Ehrte-Rotermund К, Rotermund Е. Op. cit. S. 471
2 Ibid.
3 В одной только «Кракауэр цайтунг» Андрее опубликовал с 1940 по 1943 годы
20 рассказов, эссе, рецензий (Ibid. S. 472). Вообще, надо сказать, эта газета
странным образом была своеобразным прибежищем для многих авторов совсем
не нацистского толка.
4 Das zweite Preisausschreiben des »XX. Jahrhunderts«// Das XX. Jahrhundert, 1942.
S. 292.
5 Ярким примером подобного незнания являются некоторые пассажи, касающиеся
писателя Хорста Ланге и поэтессы Оды Шэфер, в путанной и полной иных ошибок
книге Н. Бакши «Преодоление границ. Литература и теология в послевоенный
период в Германии, Австрии и Швейцарии (1945-1955)». M., 2013. С. 71-72.
См. Зачевский Е.А. Так и не преодолев границ // Филологические науки. M., 2014.
№ 1. С. 115-120
602
чрезмерной политизированности, а писатели, хорошо себя зареко-
мендовавшие в годы Веймарской республики, особенно далёкие
от политических веяний времени (здесь надо упомянуть литератур-
ную молодёжь афашистского склада), как нельзя лучше отвечали
пропагандистским надобностям нацистского режима, испытывав-
шего постоянный кризис в творческих кадрах до такой степени,
что приходилось, как об этом ярко свидетельствует литературная
политика правительственного журнала «Рейх» или киностудии
«УФА», закрывать глаза на политическое прошлое многих авторов.
По крайней мере, фельетон или «развлекательный отдел» большин-
ства газет, исключая разве что сугубо националистские издания
вроде «Ангриф» (»Der Angriff«), не содержали каких-либо откровенно
пронацистских текстов. К тому же не в последнюю очередь играл
свою роль и материальный фактор — работа ради хлеба насущного.
В этом смысле Андрее не являлся исключением, что не поме-
шало ему, однако, в годы нацизма создавать произведения боль-
шой гражданской значимости. Именно в 1935 году, в тот период,
когда на него обрушились все политические неприятности, свя-
занные с расовыми проблемами его жены и решением покинуть
Германию, он создаёт свою знаменитую новеллу «Эль Греко пишет
портрет великого инквизитора» (»El Greco malt den Großinquisitor«,
1936), которая считается одним из наиболее ярких произведений
протестного свойства в духе идеологии «внутренней эмиграции».
В качестве защитного средства избран сюжет из времён испанской
инквизиции, что позволяет, как это и случилось, беспрепятствен-
но проводить параллели между тиранией инквизиции XVI века
и нацистским террором XX века. Однако цензура не нашла в этой
новелле ничего предосудительного, а руководство вермахта выпу-
стило в 1944 году её отдельной книгой в серии фронтовой литерату-
ры. Дело, конечно, не в низкой квалификации цензуры, хотя позже
надзорные органы вынуждены будут в этом сознаться,1 а в том, что
исторический материал достаточно известен, и напрямую не вызы-
вает прямых ассоциаций негативного свойства, хотя читатель тех
лет уже научился читать между строк. Более того, Андрее создаёт
внешне картину торжества и силы власти во всех её политических
1 В закрытом письме ведомства А. Розенберга о состоянии дел в литературе в 1940 г.
прямо говорится о пагубном воздействии произведений авторов вроде С. Андреса
на немецкого читателя по той причине, что «большая часть наших рецензентов
не в состоянии выносить надёжные суждения о произведениях этих авторов» (Цит.
по: Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 483).
603
и человеческих проявлениях, так что она в состоянии терпеть людей
различной степени верности ей и пользоваться их услугами, не боясь
повредить своему существованию.
В какой-то мере эта новелла Андреса находиться в родстве
с известными историческими анекдотами Вильгельма Шэфера,
очень популярного автора в годы Веймарской республики и Треть-
его рейха. Но если Шэфера интересовала только занимательная
сторона его сюжетов, то Андрее пытается представить механизм
взаимоотношений персонажей своей новеллы, выводя тем самым
характер этих взаимоотношений на неизмеримо высокий уровень
философского и этического свойства в религиозном аспекте. В дан-
ном случае олицетворением Третьего рейха выступает католическая
церковь в её высшем отвратительном проявлении — инквизиции.
В письме от 07.09.1935 года к своему другу Пьеру Эльхероту (Elch-
eroth, Pier), теологу из Люксембурга, Андрее, сообщая о своих планах
написания новеллы об инквизиции, достаточно чётко, насколько
это позволяло в те времена, определяет ведущую мысль будущего
произведения: «.. .я почти склонен к тому, чтобы представить особую
действенность зла в некоем особом виде, о котором я не могу тебе
более подробно сообщить. Но не так, как это хотели бы представить
нам смертным популярные мистики».1
Три фигуры составляют ядро новеллы: художник Эль Греко (его
настоящее имя Доменикос Теотокопулос, он грек, родом с острова
Крит), его друг врач Касалья, личный врач короля Филиппа, и про-
тивостоящий им великий инквизитор кардинал Ниньо де Гева-
ра — разум, благородство и независимость творческой личности
противопоставлены жестокости и бесчеловечности католической
церкви. Их действия, их борения, их мышления определяют ход
повествования.
Сюжет новеллы прост, но в его простоте заключена большая
взрывная сила, ибо, несмотря на религиозную подоплёку пове-
ствования, Андрее рассматривает таким образом актуальную
во все времена проблему взаимоотношений духа и власти, сводя
воедино прошлое и настоящее. В Толедо к знаменитому художнику
Эль Греко приезжает посланец великого инквизитора с указанием
прибыть к нему в Севилью в назначенный срок. Сам факт такого
указания вызывает у художника необъяснимый страх, он лихора-
дочно «проверяет свой внутренний мир, не в смысле, хорош ли он,
1 Цит. по: Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 475.
604
а плотно ли он закрыт»,1 перебирая имена людей, с которыми он
общался, вспоминая свои работы, отзывы о них. И только после
длинной паузы, на вопрос Эль Греко, чего желает великий инкви-
зитор от него, посланник кардинала, явно по-иезуитски наслаждав-
шийся возникшей паузой, сказал, что он должен захватить с собой
«принадлежности для живописи», чем вызвал у художника не толь-
ко вздох облегчения, но и удивление по поводу того, что великий
инквизитор хочет, чтобы именно он, грек, написал его портрет.
Посланец кардинала, поняв удивление художника, подтвердил, что
это так, хотя, по его мнению, Эль Греко, обладает «манерой пись-
ма, которую... следует назвать очень чуждой» испанцам,2 и тут же
принялся выяснять, не были ли его родители вероотступниками.
В ходе завязавшегося религиозного спора в ответ на слова Эль Греко
о том, что «никогда нельзя считать весь народ вероотступниками,
ибо границы веры определяют и разрывают священники, пасты-
ри, а не народ», посланник великого инквизитора после длитель-
ной паузы жёстко заявил: «Если весь народ отрывается от Рима,
то даже самое малое дитя, способное понимать и мыслить, должно
нести ответственность. Или ты думаешь об этом иначе?» Эль Греко
гневно встряхнул головой: «Тогда было бы, наверное, по меньшей
мере, бесчеловечным посылать на костёр несовершеннолетних!»3
Хотя приход сынишки Эль Греко несколько разрядил обстановку,
а посланник великого инквизитора, уезжая, осенил мальчика крест-
ным знамением, художник понял, что он играет с огнём, и помянул
недобрым словом «свою жажду славы, которая привела его из сво-
бодолюбивой Венеции в сферу влияния Эскориала».4
И тут он вспомнил свою последнюю встречу с великим инкви-
зитором во время представления своей картины «Мучения святого
Маурициуса», которая не понравилась ему только потому, что под
именем художника была нарисована змея, присутствие которой Эль
Греко объяснял тем, что его имя препятствует злу проникнуть в суть
картины. Кардинал возразил: «Нам кажется, что имя какого-то
человека не может препятствовать злу... В имени человека заклято
1 Andres S. El Greco malt den Großinquisitor // Andres S. Novellen und Erzählungen.
München, 1962. S. 7.
2 Ibid. S. 8.
3 Ibid. S. 8.
4 Ibid. S. 11.
605
высокомерие, а вследствие этого — заблуждение, а вследствие это-
го — раздор, а из этого проистекает слабость царства божия».1 Эль
Греко не удержался и возразил великому инквизитору, сославшись
на то, что имя «человека, который делает своё дело, должно быть
полностью преисполнено бога, как и имя Вашего католического
и апостольского высокопреосвященства».2 Теперь, когда кардинал
призывает его написать свой портрет, змея не понадобится, ибо
кардинал сам является олицетворением зла.
Подобные разговоры, казалось бы, на сугубо религиозные
темы, имеют определённый политический подтекст, ибо в них
отстаиваются принципы гуманизма, на которых должны строиться
отношения власти и духа; более того, в них содержится и вполне
ощутимый поведенческий посыл в годину всевластия диктатора.
В этом смысле примечательна встреча Эль Греко с Касальей, только
что приехавшего из Мадрида и сообщившего своему другу о смерти
короля Филиппа. Их нелицеприятные высказывания о кардинале
и короле легко экстраполируются на реалии политической жиз-
ни Третьего рейха при том, что всё, о чём они говорят, и в этом
заключается охранительный приём Андреса, отвечает исторической
правде событий, имевших место в Испании XVI века. «Вся испан-
ская империя,— восклицает Касалья,— больна подагрой — король,
армия, флот, всё окоченело, опухло, стало неподвижным. Что же
это за такая могущественная болезнь,., которая всю эпоху влечёт
к смерти».3 Эта болезнь захватила даже противников власти: «Воля
верующих должна определяться святой инквизицией... Все головы
крутятся как винты со вниманием по всем сторонам, все спины
согнулись, все сны наполнены танцем огня. Если мы хотим жить, мы
учимся лгать!»4 Если Касалья полон бессильного гнева, помня, что его
брата инквизиция послала на костёр, то Эль Греко, наоборот, согла-
сен осилить науку лжи только для того, чтобы своим искусством
говорить правду, чтобы «быть зеркалом на службе отвратительной
женщины»,5 и поэтому он не теряет надежды на победу разума:
«Придёт время, когда все поймут, что это не земля — средина мира,
1 Andres S. Op. cit. S. 10-11.
2 Ibid. S. 11.
3 Ibid. S. 12
4 Ibid. S. 15.
5 Ibid. S. 14.
606
где нет места для человека, а сам человек является этой серединой...
И поэтому страна вздыхает с облегчением после смерти властителя,
даже если он более сносен, чем Филипп, ибо это означает ослабле-
ние и снятие напряжения, ожидание чего-то невероятного, что
наполнит чресла империи».1
Собственно, эта вера в будущее и придаёт Эль Греко силы
писать портрет кардинала по своему усмотрению, «так, как мне
велит господь, то есть правдиво»,2 и поэтому шапочка кардинала
вместо фиолетового цвета, как это положено в предрождественское
время, обретает «кроваво-красный цвет», лицо кардинала — мертвен-
но-бледный цвет, стихарь — белый цвет, а фон портрета — чёрный
цвет. Чёрно-бело-красная триада означает смерть, но эти же цвета
являются и цветами Третьего рейха. Когда кардинал удивился тому,
что художник намерен «представить святую церковь в таком виде»,
Эль Греко объяснил, не без страха, что «она стала кроваво-красным
пламенем».3 Чтобы остудить пыл Эль Греко, кардинал посоветовал
ему на следующий день обратить внимание на очередную процессию
еретиков, которая пройдёт мимо монастыря, где художник оста-
новился. Это был не только совет, но и предупреждение великого
инквизитора Эль Греко, позволившему себе вольные высказыва-
ния во время работы над портретом. Эль Греко уже задумался над
тем, чтобы бежать с семьёй в Венецию, однако внезапная болезнь
кардинала изменила его планы. Ему нужен живой кардинал, он
хочет дописать его портрет с тем, чтобы оставить потомкам облик
тирана во всей его жестокости, поэтому он предлагает кардиналу
помощь Касальи, потенциального врага кардинала, и тот соглашает-
ся, вспомнив при этом, что он отправил на костёр его брата, и тем
самым сознательно ставя под удар свою собственную жизнь, пола-
гая, вероятно, что у врача не поднимется рука на столь высокого
иерарха церкви. Более того, кардинал предупредил слугу о том, что
если он этой ночью умрёт, то «умрёт от своей болезни, совершенно
естественным образом»,4 снимая тем самым ответственность с вра-
ча, не сомневаясь при этом в его ненависти к себе.
1 Andres S. Op. cit. S. 15.
2 Ibid. S. 21.
3 Ibid. S. 21-22.
4 Ibid. S. 31.
607
В этой ситуации отразилась, пожалуй, едва ли не самая главная
мысль новеллы Андреса. Эль Греко, зная о жгучей ненависти Каса-
льи к великому инквизитору, убеждает его, тем не менее, вылечить
врага: «Знаешь, бесполезно убивать инквизиторов. Что мы можем,
так это сохранить облик этого изгоя Христа».1 Не активное проти-
водействие деспотизму, а проникновение в сущность его в надежде
вызвать страх, ибо, по словам Эль Греко, «страх даёт уверенность
и радость, страх раскладывает мир по частям, да, действительно,
страх означает начало мудрости. Осознание этого я получил от обще-
ния с великим инквизитором... Я его тоже разложил по частям, он
лежит передо мной рассечённый по середине, и этим я превозмогаю
страх. Но Ниньо Гевара знает, что я его не боюсь. Страх заставляет
падать на колени при виде хоругвей шествующей святой инкви-
зиции. Страх в образе жертвы восходит на костёр святой инкви-
зиции, он больше не отпускает то, что он заметил своим взглядом
в сердцевине мира. Итак, не я рисую страх, а в большей степени
мой страх рисует. Мои картины рассекают мир, да, я этого хочу,
и Ниньо должен обнаружить, что из себя представляет великий
инквизитор».2
Страх не как состояние, парализующее мысль, а как импульс,
заставляющий мыслить, как способ добираться до сути происходя-
щего, и тем самым дать оружие в руки тем, кто может устранить
источник страха. Однако тональность повествования такова, что
подобный посыл можно только предполагать, ибо, не отрицая
жестокости инквизиции, Андрее в какой-то мере захвачен, если
не сказать большего, масштабами власти церкви, демонической
фигурой самого великого инквизитора. В своей непоколебимой
вере в значимость своих деяний он вырастает в некую громад-
ную, непостижимую и по-своему трагическую фигуру вселенского
масштаба. Не случайно новелла заканчивается словами Эль Греко,
удивившими его друга Касалью, в которых прозвучали и восхище-
ние, и страх, и сожаление, и откровенное недоумение по поводу
единения в этом человеке такого могущества: «Я познал его лицо,
и за это он мне благодарен, хотя это редко случается. Он — святой
по причине своей меланхолии, печальный святой, святой палач!»3
1 Andres S. Op. cit. S. 28.
2 Ibid. S. 33-34.
3 Ibid. S. 37.
608
Святой, который продолжает делать, как он понимает, своё
правое дело, воспринимается в новелле С. Андреса совсем не побе-
дителем, ибо верх взяло моральное величие Эль Греко и Касальи,
их приверженность гуманизму. Именно это обстоятельство вызвало
столь огромный интерес читателей и некоторую настороженность
руководства Палаты письменности, что и ускорило отъезд Андреса
в Италию.
Официальная критика отнеслась к новелле Андреса более чем
сдержанно, хотя пронацистский журнал «Нойе литератур» внёс её
в список литературы, рекомендуемой к Рождеству,1 что по тем вре-
менам считалось благоприятным знаком для автора. Католический
журнал «Хохланд» (»Hochland«), и то в литературном обзоре, среди
прочих публикаций, осторожно откликнулся в апреле 1937 года
на новеллу Андреса. Обойдя стороной жестокость «этого изгоя Хри-
ста», заклеймённую Андресом, рецензент заметил: «Неожиданным
поворотом, требуемым от новеллы согласно „теории сокола" Пауля
Хайзе [т.е. символически], Стефан Андрее придаёт загадке глубину.
Великий тиран является более значительным, чем врач и художник,
которые не могут сдержать свой гнев... Концовка новеллы — нере-
шительность, но нерешительность такая, какую и следует ожидать
от обезоруженных: „Он — святой по причине своей меланхолии,
печальный святой, святой палач!"»2
Ввиду того, что других откликов на новеллу Андреса не последо-
вало, возникла тревожная пауза, которую в начале 1938 года нару-
шила большая статья Хайнца Гроте (Grothe, Heinz) «Пути творче-
ства. О произведениях молодого писателя Стефана Андреса» (»Wege
der Dichtung. Zu den Arbeiten des jungen Schriftstellers Stefan Paul
Andres«), опубликованная в «Фёлькишер беобахтер», правда, в мюн-
хенском издании этой газеты. Суть этой статьи определяется общим
удовлетворением отхода Андреса от проблем церкви, связанным
не только с тем, что писатель отказался от профессии священника
в желании быть «среди настоящих людей», но и в противопоставле-
нии церкви, политического врага нацистов, «настоящего человека»,
которое «представлено драматически и захватывающе». Хотя Андрее
рассматривается в статье как потенциальный «представительный
поэт своего ландшафта», некоторые его высказывания вызывают
1 Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 482.
2 Fleckenstein A. Erzählende Literatur. Hochland, April 1937. H. 7. S. 71. Цит. по:
Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 483-484.
609
у рецензента тревогу. Мало того, что в новелле просматривается
«временами не исконно народное влечение к литературности»,
но «его историям придаётся особая значительность (как это иногда
может показаться)».1
Сомнения эти подтвердились, как это станет видно в 1940 году
из закрытого «Годового отчёта главной редакции „Художествен-
ная литература" за 1940 год» ведомства А. Розенберга, в котором
шла речь об авторах «духовного и литературного безвременья»,
т.е. об авторах афашистской направленности, не примкнувших
ни к левым, ни к правым и практически старающихся сохранить
независимость, по крайней мере, в своём творчестве. В этом отчёте
выражается тревога по поводу «внутренней позиции и образа мыс-
лей» этих авторов... При ближайшем рассмотрении возникает такое
впечатление, как будто эти авторы живут в своеобразном духовном
и литературном безвременьи, что позволяет им в их работах, с одной
стороны, деполитизироваться, а с другой стороны, полагаться на то,
что очень многие читатели их книг совсем не замечают, с кем они
имеют дело».2 Среди этих авторов было названо и имя С. Андреса.
Рецензент либерального и отчасти оппозиционного еженедель-
ника «Дойче цукунфт» Ф. фон дер Ляйен, благожелательно относя-
щийся к творчеству Андреса, рецензируя его сборник рассказов
«Мозельские новеллы» (»Moselländische Novellen«, 1937), отмечал,
что читатели «восхищались зловещей и ужасной, хотя и блестяще
написанной историей „Эль Греко пишет портрет великого инкви-
зитора"», высказал, тем не менее, спасительное предположение,
что писатель «всё же вступил в соревнование с другими авторами,
и свои темы рассматривал глазами образованного человека», ибо
настоящей темой его творчества является «почва его родины», что
и подтвердилось в новом сборнике рассказов писателя, который
«снова показал, что знает только он и что может только он, а именно
мир, в котором он вырос».3
В этих словах явно ощущается некая растерянность критики,
не знающей, как толковать новеллу Андреса, или знающей, но боя-
щейся высказать хоть какое-то предположение, и по этой причине
1 Grothe H. Wege der Dichtung. Zu den Arbeiten des jungen Schriftstellers Stefan Paul
Andres // Völkischer Beobachter, Münchner Ausgabe. Nr. 19. 19.01.1938. S. 12. Цит.
по: Ehrke-Rotermund H.f Rotermund E. Op. cit. S. 482.
2 Цит. по: Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 483.
3 Leyen R von der. Die Welt der Mosel // Deutsche Zukunft, 06.02. 1938. S. 10.
610
фон дер Ляйен попытался отвести от Андреса возможный удар, сведя
всё к возможной неопытности писателя, взявшегося не за своё дело.
В свою очередь писатель Ганс Георг Бреннер, будущий сорат-
ник Г. В. Рихтера по созданию «группы 47» после 1945 года, в своей
статье «Новеллы Стефана Андреса» (»Novellen von Stefan Andres«,
1940), опубликованной в представительском органе власти «Рейх»,
попытался более внятно определить авторскую позицию писателя:
«Его строго построенная новелла „Эль Греко пишет портрет великого
инквизитора" показывает на убедительном примере стремление
писателя изобразить творчество как элемент, предопределяющий
и образующий судьбу... его следует толковать как примирение с тём-
ными силами».1 В этом понимании значимости новеллы Андреса
просматривается вполне ясная посылка неизбежности подобного
взаимоотношения духа и власти, определяющая пределы и возмож-
ности существования противоборствующих сторон.
Собственно, жизнь и творчество С. Андреса последующих лет
в известной мере развивались под знаком сосуществования двух
миров, которое, вероятно, устраивало обе стороны. Много позже
Андрее скажет, имея в виду своё длительное пребывание в Италии:
«Я совсем не знаю, был ли я настоящим эмигрантом».2
Действительно, настоящим эмигрантом он не был, а был
эмигрантом с разрешения Геббельса, или, как бы это ни звучало
кощунственно, «эмигрантом в законе», ибо, в отличие от настоящих
эмигрантов, он не потерял права публиковаться в Германии, как
не потерял и членства в Палате письменности, будучи женатым
на полуеврейке, что возможно было только с особого разрешения
того же Геббельса. Такое эмигрантство на законных основаниях
позволяло ему существовать на доходы от своих произведений.
Именно этот эмиграционный период отмечен обилием публикаций
Андреса — сборники рассказов «Мозельские новеллы» (1937), роман
«Человек из Астери» (»Der Mann von Asteri«, 1939), «Могила зависти»
(»Das Grab des Neides«, 1940), «Замёрзший Дионис» (»Der gefrorene
Dionysos«, 1943), «Трактир, открытый всем мирам» (»Wirtshaus zur
weiten Welt«, 1943), «Золотая решётка» (»Das goldene Gitter«, 1943).
Эти произведения явно написаны ради хлеба насущного, и по сути
своей продолжали традиции тривиальной литературы времён Вей-
марской республики.
1 Brenner H. G. Novellen von Stefan Andres // Das Reich, 21.07.1940. Nr. 9. S. 23.
2 Andres St. Der Dichter in dieser Zeit. Reden und Aufsätze. München, 1974. S. 53, 57.
611
Тогдашняя пресса не оставляла без внимания его книги, о чём
говорят благожелательные отзывы в журналах «Дойче цукунфт»,
«Литератур» и «Рейх», не говоря уже о региональной прессе. Андрее,
как свидетельствует журнал «Цванцигсте ярхундерт», «находится
в первых рядах современной немецкой литературы»,1 что, веро-
ятно, и позволило ему получить первую премию в литературном
конкурсе этого журнала за 1942 год за рассказ «Трактир, открытый
всем мирам»,2 где он впервые и был опубликован.3 Примечательно,
что «Цванцигсте ярхундерт» являлся наследником журнала «Тат»
(»Die Tat«), который называли «охранной гвардией национал-социа-
лизма», «прибежищем благородных нацистов»,4 хотя к этому времени
журнал несколько поостыл в своих политических привязанностях
и на его страницах печатались не только произведения легального
эмигранта С. Андреса,5 но и ряда умеренных авторов фёлькиш-на-
циональной направленности (Г. Бриттинг, Л. фон Штраус-унд-Тор-
ней, И. Зайдель), а также статьи, посвященные их творчеству.
Вероятно, по этой же причине произошёл некий казус с публи-
кацией в конце декабря 1943 года в «Фёлькишер беобахтер» рассказа
Андреса «На аппиевой дороге» (»Auf der Via Appia«),6 из чего можно
заключить, что даже после захвата американцами и англичанами
Италии, в Берлине продолжали считать его всё ещё находящимся
в их распоряжении, хотя к этому времени Андрее уже готовил
обращение к немцам, прочитанное им по радио из Италии.7
В своём итальянском далёко Андрее жил уединённо. Круг его
знакомых ограничивался такими же эмигрантами как и он. Особые
дружеские отношения связывали его с Густавом Рене Хокке (Носке,
Gustav René; 1908-1985), будущим первым идеологом молодой
1 Anonym. Das zweite Preisausschreiben des »XX. Jahrhunderts« // Das XX. Jahrhun-
dert, 1942. S. 292.
2 Ibid. S. 292.
3 Andres St. Wirtshaus zur weiten Welt // Das XX. Jahrhundert. 1942. S. 326-336.
4 Demant E. Von Schleicher zu Springer. München, 1971. S. 95.
5 Вообще-то Андрее достаточно часто публиковался в журнале «Цванцигсте ярхун-
дерт». В 1939 г. на страницах этого журнала появилась новелла «Летняя элегия»
(»Sommerliche Elegie«), а в 1942 г., до присуждения ему премии журнала,— рассказ
«Прогулка по Цвингеру» (»Der Weg durch Zwinger«).
6 Andres St. Auf der Via Appia. Gespräch mit einem Kind // Völkischer Beobachter,
18.12.1943.
7 Meyer C. Der Intoleranz mit Gerechtigkeit begegnen. Die politischen Reden von Stefan
Andres. Bochum, 2009. S. 69.
612
западногерманской литературы, работавшим с 1940 года в Риме
в качестве корреспондента «Кёльнише цайтунг». Всё это говорит
о достаточно спокойном литературном бытовании Андреса, автора
«благородного кича» (Рейх-Раницкий М.) христианской направ-
ленности, творчество которого хотя и не лишено было некоторых
протестных интенций, но они были так искусно вплетены в теологи-
ческую казуистику, что сущность этих интенций становилась понят-
ной только посвященным. В общем и целом творчество Андреса
отвечало надобностям нацистской пропаганды, нацеленной на то,
чтобы уберечь обывателей разного уровня от политических проблем.
Поэтому появление летом 1942 года на страницах «Франкфуртер
цайтунг», а затем и «Люксембургер ворт» (»Luxemburger Wort«),
новеллы «Мы — утопия» (»Wir sind Utopia«), и издание в этом же
году её отдельной книгой, произвело впечатление разорвавшейся
бомбы.1 В разгар ожесточённой войны, сопровождавшейся мощ-
ным пропагандистским восхвалением побед немецкой армии,
в открытой печати вдруг публикуется новелла, которую можно
назвать призывом к человечности, воспеванием внутренней красо-
ты и величия человеческой души в экстремальной ситуации, когда
на первое место выходит не политическая, а духовная составля-
ющая людского бытия. Необычность этого литературного события
усугублялась ещё и тем, что оно не вызвало отрицательной реакции
со стороны властей.
В новелле «Мы—утопия» Андрее опять возвращается в Испанию,
но в Испанию времён гражданской войны, в Испанию 1936 года.
Вещь сама по себе невероятная для писателей тех лет, всячески
избегавших обращения к современной политической тематике. Если
уж создание Андресом новеллы «Эль Греко пишет портрет великого
инквизитора» ряд критиков посчитал делом, не свойственным твор-
ческой сущности писателя, то в случае с новеллой «Мы — утопия»,
казалось бы, он уж точно взялся не за своё дело. Именно это имел
в виду Бенно фон Визе (Wiese, Benno von), один из столпов нацист-
ской критики, ставший после 1945 года выразителем идеологии
консерватизма, говоря о том, что, несмотря на склонность Андреса
к постановке проблем времени, «он в большей степени рождён быть
наивным народным писателем».2 Однако именно в этой новелле
Storz G. Ein Buch von 1942 // Stefan Andres. Eine Einführung in sein Werk. Mün-
chen, 1962. S. 94-95.
2 Wiese B. von. Ich erzähle mein Leben. Frankfurt / Main, 1982. S. 250.
613
Андрее, пожалуй, лучше, чем в предыдущих и последующих своих
произведениях, выразил не только суть своего творчества, филосо-
фию своей жизни, но и сущность самой «внутренней эмиграции»,
её силу и её слабость.
В ходе гражданской войны в один из пустующих монастырей
были доставлены военнопленные. Среди них находился и матрос
Пако, который двадцать лет тому назад покинул этот монастырь,
и теперь оказался в своей прежней келье, получив на это особое раз-
решение командира охраны, молодого лейтенанта Педро, узнавшего
о его былой принадлежности к монашескому сану. Столь добрый
жест по отношению к врагу вызван был страстным желанием лей-
тенанта, предчувствующего свою скорую смерть и мучающегося
воспоминаниями о насилиях, совершённых им над монахинями
другого монастыря, исповедоваться в своих грехах. Именно поэтому
он приказал накормить арестованного, не заметив, что на под-
носе с едой остался нож, чем Пако и собирался воспользоваться,
спрятав его в кармане своей одежды, думая совершить побег. Для
Пако оказаться в своей прежней келье означало обрести свободу,
потому что ещё в прежние года он подпилил решётку окна таким
образом, что при желании она могла быть сдвинута, и путь наружу
был открыт. Однако в ходе последующих событий целесообразность
побега постепенно отходит на второй план.
В разговоре с лейтенантом Пако узнаёт, что несколько дней
тому назад все монахи в монастыре были убиты, и это трагическое
событие, особенно сообщение о мученической смерти в этой келье
его друга падре Хулио, а также смерть его духовного наставника
падре Домиано, возвращает Пако во времена его монашества.
На стенах кельи он обнаруживает пятно отсыревшей штукатурки,
которое когда-то представлялось ему «географической картой его
царства мечтаний, его островом блаженного изгнания и вакхиче-
ской виноградной лозой, его утопией в безбрежном, белом море
штукатурки, Гипербореей его постели, которую он посещал каждую
ночь перед засыпанием и во сне для того, чтобы там, разъезжая
на осле, читать те проповеди о блаженном изгнании и о всеобъе-
диняющем Дионисии, которые ему в действительности даже запи-
сывать было запрещено».1
1 Andres S. Wir sind Utopia // Andres S. Novellen und Erzählungen. München, 1962.
S. 245.
614
И здесь Андрее, пересказывая сны Пако, создаёт картину
идиллического мира, который является прямым противопостав-
лением реальной немецкой действительности, что, собственно,
и привлекло внимание оппозиционно настроенной консерватив-
ной части общества, увидевшей в этой идиллии отражение своих
помыслов. Жители этой утопии, «по большей части рыбаки, мелкие
земледельцы и ремесленники», не знающие денег, и потому их суще-
ствование зиждется на обменной торговле; художники и учёные
находятся на содержании общества; убийств, воровства и обмана
жители этой утопии не знают, а если и случаются какие-то мел-
кие прегрешения, то виновные в них не подвергаются штрафу,
а вынуждены только носить особую одежду и на общих собрани-
ях сидеть молча в стороне до тех пор, пока судья не вынесет им
оправдательный приговор. После этого они, уже в общепринятой
одежде, торжественно вводятся в сообщество граждан, по случаю
чего устраиваются празднества.
Если эти особенности уклада жизни обитателей острова Утопии
ещё можно рассматривать как отголоски несбывшихся мечтаний
консерваторов любого свойства, то последующие рассуждения
о мирном существовании христиан и язычников выходят далеко
за пределы сугубо религиозных проблем. За разговорами о раз-
нице восприятия христианами и язычниками божественной сути
в триединстве или в политеизме возникает картина двойственного
свойства. С одной стороны, обе религии, каждая по-своему, сое-
диняются в едином стремлении познания бога; с другой стороны,
напрашивается соотнесённость добра и зла, ибо то и другое, хотя
и есть дело рук человеческих, всё же обусловлено божественным
происхождением самих деятелей, «потому что всё исходит от вас,
но вы есть божье творение»,1 т.е. возникает некий аналог противо-
стояния церкви и нацистской действительности, которое, как бы это
ни было парадоксально, опосредованно вызвано велением божиим
и с этим ничего не поделаешь, всё происходящее надо принимать
как данность.
Несомненно, что страна Утопия Пако, страдающего от несовер-
шенства мира, но ничего не предпринимающего против этого зла,
это некое укрытие от него, бегство от суровой действительности.
Однако зло как таковое существует помимо Пако, более того, оно
1 Andres S. Op. cit. S. 248.
615
есть составная часть царства божьего. Пако вспоминает слова
его бывшего наставника в монастыре отца Домиано: «Господь
не является в утопии! Но он приходит на эту влажную от слёз
землю, приходит всегда! Потому здесь обретается нескончаемая
бедность, нескончаемый голод, нескончаемые страдания! Господь
любит другое, совсем ему не свойственное — он любит бездну, и ему
нужен... грех!». И далее следуют слова, определяющие весь смысл
новеллы: «Мы — утопия господа, но находящаяся в становлении!»1
Постепенно, в ходе незримого диалога с отцом Домиано, Пако
начинает ощущать в себе пастырское предназначение, хотя мысль
об убийстве лейтенанта Педро, собственного спасения и спасения
своих товарищей по плену не покидает его. По крайней мере, нож
в его кармане постоянно напоминает об этом намерении. Однако
реальные обстоятельства заставляют Пако принять решение, про-
тивное его замыслам. В то время как лейтенант Педро готовится
к исповеди, авиация противника совершает налёт на город, и лей-
тенант в связи с предполагаемым отступлением получает приказ
уничтожить военнопленных. Возникает исключительно напря-
жённая ситуация: лейтенант Педро, уверенный в своей близкой
смерти, намерен обязательно исповедоваться, и в то же время он
должен выполнить приказ о расстреле военнопленных, в том чис-
ле и Пако, который согласился отпустить ему грехи только в том
случае, если он разрешит ему отпустить грехи и военнопленным;
в свою очередь, сам Пако, понимая, что его ждёт та же участь,
что и военнопленных, не может отказать лейтенанту в отпущении
грехов, но не может (к этому он приходит после мучительных раз-
думий) и всадить нож в спину склонённого перед ним кающегося
человека. В этот момент лейтенант в порыве искреннего чувства
раскаяния случайно касается мундира Пако и натыкается на нож,
поранив себе ладонь. Обе стороны понимают решающий харак-
тер случившегося. Пако вынимает нож, кладёт его на стол перед
изумлённым лейтенантом и заявляет о том, что он собирался убить
лейтенанта ради спасения военнопленных: «Я хотел это сделать как
автомат, так же послушно, как сделаете и вы. Но тут между нами
пролетел ангел, и надобность в этом отпала».2 Лейтенант Педро,
ошеломлённый случившимся, бросается было целовать руку Пако,
1 Andres St. Op. cit. S. 249.
2 Ibid. Op. cit. S. 284.
616
но тот останавливает его, «и тогда они посмотрели друг на друга...
и поцеловались».1
Пако, чувствуя себя победителем в этом противостоянии поли-
тического и духовного, отправляется в трапезную, где собрались
военнопленные, и едва он заканчивает службу, в зале раздаются
пулемётные очереди, и он «плавно опустился, как будто его охватила
бесконечность мягкой бездны, в которой он вечно мог бы утонуть,
ни разу не столкнувшись жёстко с её дном».2
Основная идея новеллы Андреса заключается в прославлении
морального величия человека, чистоты его внутреннего мира, спо-
собного через любовь к богу подвигнуть его на любовь к человеку
в том виде, в каком он предстаёт перед ним, враг он или друг, ибо
всё есть порождение бога. Такова духовная составляющая про-
тивников нацизма, уповающих на силу религиозного упрочения
собственного положения в царстве зла, хотя эта составляющая
и не лишена определённой жертвенности, которая, в свою очередь,
обладает, как им представляется, опосредованным воздействием
на носителей зла, побуждая их к размышлениям о сущности чело-
века в этом неспокойном, не сформировавшемся по установлениям
господа мире.
Такая позиция, при всей благородности авторской посыл-
ки, содержит в себе элементы утопического свойства и попросту
неопределённа. Прежде всего, неясно выражены политические
пристрастия героев новеллы, хотя по некоторым признакам мож-
но понять, что лейтенант Педро — сторонник республиканцев,
а матрос Пако — сторонник генерала Франко. Не исключено, что
эта неопределённость носит камуфляжный характер, чем, веро-
ятно, и вызвано спокойствие властей, оставивших без внимания
публикацию этой новеллы. Андрее намеренно оставляет в стороне
политические предпосылки описываемых событий, они составля-
ют только слегка очерченный фон, и концентрирует всё внимание
читателя на духовных переживаниях протагонистов, создавая некое
подобие вневременности происходящего. Это абстрагирование
от сущего мира задаётся с первых же строк новеллы: «Коричневое,
однообразное плато, измельчённое в порошок, простиралось под
возвращающимся каждый день солнцем, и автомобиль, исчезавший
в мягких изгибах дороги и снова карабкавшийся на холм, поднимал
1 Andres St. Op. cit. S. 284.
2 Ibid. S. 288.
617
такое густое облако пыли, что только по скорости его передвиже-
ния, по вонючему запаху бензина и послеполуденным теням можно
было узнать в нём грузовик. Тот, кто с дальнего расстояния видел
тарахтящее жёлтое облако, тащившееся по этой пустынной мест-
ности, мог составить себе гротескное представление о том, что это
поднялась часть дороги и отправилась в путешествие с тем, чтобы
самой хоть раз пройти загадочную линию своих подъёмов, спусков
и поворотов, неся золотой султан и таща за собой длинный шлейф,
становящийся постепенно тонким и низко скользящим».1
Отстранённость от внешнего мира подчёркивается и заключе-
нием действия новеллы стенами монастыря кармелитов, куда доле-
тают только звуки самолётов, бомбящих окрестности монастыря,
и осадных орудий, как и исключением политической составляющей
как таковой.
Тем не менее, в этой обстановке, где, казалось бы, воздействие
внешних событий сведено к минимуму, война продолжается, но это
другая война, война противостояния полярных миров. Однако
именно в этой войне происходит явная подмена знаков. Страдаю-
щий муками совести лейтенант Педро, республиканец (т.е. комму-
нист или, по крайней мере, сторонник коммунистов), зверски рас-
правившийся с монахами, насиловавший монахинь, в восприятии
немецких читателей тех лет, если верить воспоминаниям Герхарда
Шторца (Storz, Gerhard) являет собой «свободного от предрассудков
представителя СС», т.е. чистого нигилиста, стоящего по ту сторо-
ну добра и зла, какой тогда была нацистская идеология! Именно
таким он предстаёт в образе испанского офицера, опустошённого
и духовно разбитого интеллектуала».2
Однако и матрос Пако, франкист (т.е. фашист, учитывая актив-
ное участие Германии на стороне Франко в гражданской войне
в Испании, или, по крайней мере, сторонник нацистов), выступает
в несвойственном его образу «растерянного, запутавшегося мона-
ха, не справившегося с таким, казалось бы, известным делом как
долг»,3 хотя, по сути дела, его смерть вместе с участниками молеб-
на являет собой поступок человека, осознавшего именно любовь
к людям, а через неё — любовь к богу. Другими словами, на первый
1 Andres St. Op. cit. S. 225.
2 Storz G. Ein Buch von 1942 // Stefan Andres. Eine Einführung in sein Werk. Mün-
chen, 1962. S. 98.
3 Ibid. S. 98.
618
план выходят не политические, а духовные противостояния, при-
нимающие формы экстремального проявления, хотя и лишённые
религиозной экзальтации. Таким образом, происходит смещение
позиций, хороший фашист противостоит злому коммунисту.
Для консервативного читателя, несмотря на неприятие им
нацизма, коммунист и нацист остаются фигурами равными,
но, видя настойчивое сведение автором их противостояния к рели-
гиозной сфере, политические мерки явно теряют свою значимость,
и читатель, если не заинтригован, то всё же с нетерпением ожидает,
по мере появления в газете очередного отрезка новеллы, во что это
противостояние выльется. Пако, священник по нужде (и здесь опять
проявляется тенденция к вневременности), предстаёт не как цер-
ковный служитель во плоти, а как религиозный символ прощения.
Зная о предстоящей смерти военнопленных, зная, что и его ожидает
такая же участь, Пако не пытается предупредить своих сторонни-
ков о неминуемой их гибели, а только наставляет их (как, впрочем,
и себя) принять всё происходящее как дело рук человеческих: «Все
наши проявления насилия скапливаются, а теперь они успокаи-
ваются, но успокаиваются и все наши проявления бесчеловечно-
сти, наши слабости и страхи перед чем-то необычным, даже наш
страх перед кровопролитием, потому что один из нас ведь мог бы
в нужное время пустить в ход нож! Но, камрады, покоримся! Бог
судит и бог милостив!»1
Несомненно, камуфляжные игры с цензурой требовали нео-
бычных композиционных оборотов, запутанных ходов, однако
рассчитаны они были не только на введение в заблуждение цензу-
ры, но и на создание некоей платформы поведения посвященных.
С одной стороны, как заметил рецензент журнала «Рейх», в новелле
«предельно сознательно и ясно определена невозможность суще-
ствования современного человека», однако, с другой стороны,
в ней «речь идёт об осознании, и оно является силой поэтического
и духовного достижения стиля, и также силой своеобразия одер-
жимости образов, перед которой пессимизм, горечь и серьёзность
в некотором смысле становятся незначительными».2
Собственно, эту же мысль повторяет и Г. Шторц (его мнение, как
непосредственного свидетеля ажитации, возникшей вокруг новеллы
Андреса в 1942 году, особенно важно), добавляя, пожалуй, наиболее
1 Andres St. Op. cit. S. 288.
2 Forst W. Dämonie der Erkenntnis // Das Reich, 26.12.1943.
619
существенную деталь, на которой, собственно, и зиждется основа
всего этого необычного по своей сути и по своей фактуре произ-
ведения — любовь к богу в минуту смерти: «Монах умирает не как
мученик, но и не как стоик, он умирает не озарённый святым духом;
растерянный, но не озлобленный, чувствующий свою вину, но не
отчаявшийся, лишённый всяких иллюзий, идеалов, но он умирает
всё же, надо полагать, будучи верующим, потому что в этот момент
он исполнен любви к богу и к людям. Читать подобные вещи нельзя
назвать чем-то не имеющим значения для тех лет, когда каждый,
кто мог думать, кто вынужден был думать о приуготовлении себя
к смерти, видел в этом самую чрезвычайную и, возможно, настоя-
щую возможность сохранить или постигнуть самого себя».1
Основная заслуга С. Андреса заключалась в том, что его новелла
появилась в нужное время, раскрыв глаза на суровую действитель-
ность нацистского режима многим ещё сомневающимся, когда
единственным утешением и единственной опорой оставалась вера
в бога и соблюдение мучительного нейтралитета по отношению
к миру зла.
Буквально в последние месяцы фашистского режима в Италии
С. Андрее создаёт романы «Свадьба врагов» (»Die Hochzeit der Feinde«,
1947) и «Рыцарь справедливости» (»Ritter der Gerechtigkeit«. 1948),
которые не идут ни в какое сравнение с новеллой «Мы — утопия»,
хотя и пользовались у читателей успехом, а «Свадьба врагов» даже
получил в 1949 году «Рейнскую премию». Эти произведения, а также
его знаменитая трилогия «Потоп» (»Die Sintflut«), куда вошли романы
«Зверь из глубин» (»Das Tier aus der Tiefe«, 1949), «Ковчег» (»Die Arche«,
1951) и «Серая радуга» (»Die graue Regenbogen«, 1959), при всей
кажущейся актуальности проблемы противостояния духа и власти,
лишены внутреннего накала, гражданского и религиозного порыва,
тривиальны по своей сути. На волне призывов к осмыслению траге-
дии немецкого народа самые благие мысли в его книгах восприни-
мались как занимательное чтение, не более. Это, действительно, как
писал М. Рейх-Раницкий, был «благородный китч», пользовавшийся
успехом у широкого читателя в силу необязательности принятия
всерьёз выдвигавшихся религиозных догм, имевших почти про-
ходной характер в сюжетных перипетиях практически всех книг,
написанных С. Андресом в послевоенный период. Не случайно, что
1 StorzG. Op. cit. S. 100.
620
имя С. Андреса, книги которого пользовались большим успехом
у читателей, практически не упоминается в историях немецкой лите-
ратуры. У него была своя читательская аудитория, как и у любого
тривиального автора, но не было полёта мысли, которая отражала бы
дух времени, что, однако, не умаляет значимости его знаменитой
новеллы «Мы — утопия» в годы Третьего рейха, которая попала
в болевую точку общественного сознания тех лет.
Если историческая тематика в творчестве С. Андреса, привер-
женного поэтике родного мозельского края, занимала довольно
незначительное место и интерес к ней писателя вызван было сугубо
политическими надобностями, пускай, и обусловленными религиоз-
ными интенциями, то Вернер Бергенгрюн (Bergengruen, Werner Max
Oskar Paul; 1892-1964), один из самых значимых представителей
«внутренней эмиграции», в известной мере сам был олицетворени-
ем истории. Правда, понятие истории Бергенгрюн воспринимал
совсем не в академическом духе. Он, как и его любимый персонаж
из сборника рассказов «Последний ротмистр» (»Der letzte Rittmeis-
ter«, 1952), пытался «писать всемирную историю в рассказе», т.е.
в намерения Бергенгрюна не входило отображать историю идей,
политические события, военные кампании, общественные нравы,
а писать историю из историй, состоящих из «простых, ярких и кра-
сочных отдельных событий», «нелепых», «фантастических» по сво-
ему духу».1 Однако именно в своей нелепости и фантастичности
эти истории, будь то рассказы или романы, история как таковая
выступала в предельно приближенном к современности виде, она
буквально дышала в затылок читателю, побуждая его оглянуться
вокруг себя, осознать значимость своего времени и своё место в нём.
Вернер Бергенгрюн родился в Риге, в семье балтийских немцев
с шведскими корнями, связанной кровными узами с русским пол-
ководцем Барклаем де Толли. Годы юности Бергенгрюна прошли
в России и отмечены большим интересом его к русской культуре
XIX века, что нашло своё выражение не только в последующем
творчестве писателя, но и в его многочисленных переводах произве-
дений русских классиков — Л. Н. Толстого («Война и мир», «Казаки»,
«Хаджи-Мурат»), И. С. Тургенева («Отцы и дети») и Ф.М.Достоев-
ского («Идиот»).
1 Цит. по: Kunisch H. Bergengruen, Werner // Kunisch H. Kleines Handbuch
der deutschen Gegenwartsliteratur. München, 1969. S. 75.
621
В 1909 году, из-за усилившейся в прибалтийских провинциях
политики русификации, семья Бергенгрюнов переезжает в Герма-
нию, обосновавшись в Марбурге, где молодой Бергенгрюн, закон-
чив гимназию, изучает теологию, а затем, в Мюнхене и Берлине,
германистику и историю искусства. С 1914 по 1918 годы он служит
в чине лейтенанта в частях немецкой армии, расположенных в При-
балтике, в 1919 году, как член Балтийского ландвера, принимает
участие в борьбе против Красной армии.
Патрицианско-бюргерская среда балтийских провинций Рос-
сии наложила свой отпечаток на формирование консервативных
взглядов Бергенгрюна, его приверженности монархизму, что впо-
следствии способствовало установлению долгих дружеских связей
его с Райнхольдом Шнайдером, выдающимся учёным, гуманистом
и искренним сторонником монархии, воспринимаемой им как
некий крест, возложенный на правителя, мыслимого как некоего
наместника бога в своей стране или, по крайней мере, отмеченно-
го божьей благодатью. Не без воздействия Шнайдера Бергенгрюн
перешёл в 1936 году из протестантизма в католичество. Правда,
под воздействием социальных и политических боёв времён Веймар-
ской республики его монархические взгляды претерпели заметные
изменения, но консервативный настрой остался прежним.
Творческий путь Бергенгрюна отмечен пристальным интересом
к истории, вернее сказать — к историческому анекдоту, излюблен-
ному жанру в немецкой литературе. В отличие от многих авторов,
специализирующихся в этом жанре (например, Вильгельм Шэфер),
Бергенгрюн пытался проникнуть за кулисы истории, стремился
узнать, как делается история, изучая, тем не менее, не столько
механизмы истории, сколько характеры людей, творящих историю,
что, в свою очередь, позволяло ему, опосредованно, высказать своё
мнение о действительной сути происходящего. Уже в ранних произ-
ведениях Бергенрюна — «Великий Алкахест» (»Der große Alkahest«,
1926), «Империя в развалинах» (»Das Kaiserreich in Trümmern«,
1927), «Герцог Карл Смелый» (»Herzog Karl der Kühne«, 1930) — проя-
вилась тенденция к критическому рассмотрению действительности
сквозь призму прошлого, скрытой за пышными фасадами эпохи
Екатерины II или короля Одоакра и фантастическими картинами
в духе любимого им Э.Т. А. Гофмана.
После прихода к власти нацистов Бергенгрюн, по его словам,
подпал под воздействие «поначалу так по-юношески витально
622
действующего элана национал-социализма».1 Об этом свидетель-
ствует его избрание в качестве заседателя в совет «Союза защиты
немецких писателей» (Schutzverband deutscher Schriftsteller) в мае
1933 года, а также его статья в журнале «Дойче Рундшау» в 1934 году
о книжной продукции «в радикальном и установительном духе столь
значительного 1933 года».2 Тем не менее, это воздействие продолжа-
лось не долго, а события 1934 г., связанные с резнёй в стане штур-
мовиков, и вовсе охладили национальный пыл Бергенгрюна, как
и многих людей его взглядов. Тем не менее, учитывая его военное
прошлое и его национал-консервативные пристрастия, Бергенгрюн
принадлежал к разряду особо ценимых немецко-балтийских авто-
ров, находившихся в какой-то мере, если можно так выразиться,
под прикрытием ауры идеолога Третьего рейха Альфреда Розенберга,
уроженца Риги, что отнюдь не означало личной близости и непо-
средственной приверженности подавляющего числа этих авторов
делам и идеям этого политика.
Дальнейшая литературная судьба Бергенгрюна складывалась
поначалу достаточно благополучно, несмотря на то, что его ста-
рый роман «Великий Алкахест» и сборник иронических рассказов
«Старьём набитый рог мальчика» (»Des Knaben Plunderhorn«, 1934)
были запрещены.3 Примечательно, что, несмотря на запрет, пресса
тех лет даёт восторженную оценку ироническому переосмыслению
знаменитой поэтической антологии Арнима и Брентано «Чудесный
рог мальчика».4
Однако вершиной творчества Бергенгрюна тех лет, несомнен-
но, являются два его исторических романа — «Великий тиран и суд»
(»Der Großtyrann und das Gericht«, 1935) и «На небеси яко на земли»
(»Am Himmel wie auf Erde«, 1940).
Предыстория создания романа «Великий тиран и суд» говорит
о том, что изначально Бергенгрюн и не собирался писать нечто зна-
чительное в политическом смысле, ибо его заинтересовала интри-
га как таковая, заложенная в одной сказке, где султан приказал
1 Bergengruen W. Zum Geleit // Zwischen den Zeilen. Der Kamp einer Zeitschrift für
Freiheit und Recht 1932-1942. Aufsätze von Rudolf Pechel. Wiesentheid 1948. S. 6.
2 Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Zwischenreiche und Gegenwelten. Texte und Vor-
studien zur »Verdeckten Schreibweise im >Dritten Reich<«. München, 1999. S. 267.
3 Ibid. S. 268.
4 HeiselerB. Von Zur Definition des Komischen // Die literarische Welt. 03.11.1933.
Nr. 44. S. 5; Scheller W. Des Knaben Plunderhorn // Die Literatur, August 1934. S. 656.
623
своему визирю «в течение трёх дней раскрыть таинственное убий-
ство, в противном случае по истечении трёх дней ему придётся
положить к ногам султана свою собственную голову».1 Над этим
сюжетом, определившим впоследствии основу знаменитого рома-
на, Бергенгрюн начал работать в 1929 году, однако, по его словам,
«большая часть книги была написана в 1933 и 1934 годах».2 Если
первоначальный авторский замысел определялся в значительной
мере детективной историей психологического свойства, то поли-
тические и жизненные обстоятельства, осложнившиеся после
прихода к власти нацистов, заставили писателя рассмотреть этот
сюжет под другим углом, придать ему политическую, протестную
окраску: «Перед всей нацией встали вопросы, которые я собирал-
ся представить в персонажах моей книги. Повсюду проявлялась
лёгкая совратимость бессильных и находящихся в опасности. Все
человеческие свободы были ликвидированы, над каждым нависла
опасность, и почти все власть имущие, до самого последнего челове-
ка, подвержены были искушающему желанию стать равными богу.
Я находился в состоянии отчаяния и возмущения от всего того, что
происходило на моих глазах, и испытывал жгучую озабоченность
по поводу того, чего придётся ожидать в ближайшем будущем. Само
собой становилось понятным, что моя книга должна найти ответ
не только на постоянно затрагиваемые общечеловеческие вопросы,
но и на конкретные вопросы немецкой действительности. И теперь
некоторые черты романа проявились совсем в иной остроте, чем
это первоначально входило в мои намерения».3
Понятно, что как бы ни была сильна ненависть Бергенгрюна
к новым властителям, напрямую он не мог выразить своё отношение
к ним. В данном случае он прибег, как и многие авторы протестного
направления, к помощи религиозных постулатов, позволяющих,
в силу своей многозначности и отсутствия конкретного адресата
кроме любого верующего независимо от его светского статуса, при-
дать любой проблеме вселенский характер, хотя каждый читатель
мог истолковать этот постулат применительно к событиям своего
времени и своего положения в обществе. Несмотря на некую амби-
валентность такого посыла, этот метод в обстановке политического
террора действовал безотказно.
1 Bergengruen W. Schreibtischerinnerungen. Zürich, 1961. S. 161.
2 Ibid. S. 174.
3 Ibid. S. 174-175.
624
«В этой книге рассказывается об искушениях могущественных
и о лёгкой совратимости бессильных и находящихся в опасности.
Рассказывается о различных событиях в городе Кассано, а именно
об убийстве одного человека и о виновности всех людей. И таким
образом в ней пойдёт речь о том, что наша вера в человеческое
совершенство потерпит ущерб. Возможно, на её место придёт
вера в несовершенство человека, потому что наше совершенство
не может ведь состоять ни в чём другом, как именно в этой вере».1
В этой преамбуле заключён весь смысл романа, ибо все его персона-
жи, каждый, исходя из собственной выгоды, совершает поступки,
противные нравственности и религии.
Во времена Возрождения в маленьком мифическом горо-
де-государстве Кассано убит монах фра Агостино. Великий тиран
требует, чтобы шеф полиции Несполи в течение трёх дней нашёл
убийцу, в противном случае ему грозит смерть. Это требование
тирана вызывает в городе серию интриг, взаимных подозрений
и лжи. Несполи, шеф полиции, боясь за свою жизнь, в случае, если
он не найдёт убийцу в срок, сваливает вину на слабоумную девушку,
покончившую жизнь самоубийством; любовница Несполи, Витто-
рия Конфини, желая сохранить ему жизнь, фабрикует подложное
завещание своего мужа, который, умирая, якобы подтвердил
свою вину; сын Виттории, Диомед, борясь за честь своего отца,
сам совершает бесчестный поступок, подговаривая проститутку
дать показания о том, что отец в момент преступления находился
у неё; красильщик Спероне, чтобы как-то успокоить жителей горо-
да, забросивших все дела и занятых выяснением имени убийцы,
намеревается взять вину на себя.
В итоге всех перипетий, допросов, напоминавших больше
религиозные диспуты, чем выяснение подробностей преступления,
великий тиран заявляет, что это он вынужден был убить фра Агости-
но, оказавшегося предателем, и совершил он этот поступок тайно
потому, что открытый процесс над монахом повредил бы государ-
ственным интересам. Обращаясь ко всем, кто был задействован
в этом мнимом расследовании убийства монаха, великий тиран
хотя и укоряет их в излишней подверженности искушению пойти
на подлог ради сохранения своей жизни и чести, тем не менее,
сознаётся в том, что он намеренно «подверг испытанию каждого
из них», «угрожая лишением их собственности, а вы знаете, какого
1 Bergengruen W. Der Großtyrann und das Gericht. München, 1947. S. 4.
625
рода последствия из этого вытекают».1 Тем самым, правитель города
попытался проверить сердца своих подданных, и поэтому просит
подвергнуть его самого суду.
Действительно, практически все персонажи романа, незави-
симо от их положения в обществе, подверглись искушению ради
своих частных надобностей совершить неправое дело. При всей
кажущейся искусственности нагромождения событий в этой череде
моральных преступлений просматривается некое беллетризован-
ное изложение религиозного восприятия человека как создания
господа, чья жизнь пребывает в постоянном круговращении между
грехом, покаянием и прощением, которые и определяют пределы
его духовных возможностей в делах земных. В этом, собственно,
и заключается особенность творчества Бергенгрюна, стремив-
шегося во всех своих произведениях создавать для своих героев
пограничные ситуации, когда приходится выбирать между жиз-
нью и смертью. Именно в этой ситуации раскрывается истинная
сущность человека, происходит своеобразное сбрасывание масок,
являющихся неким защитным средством в повседневной жизни.
Однако эти пограничные ситуации суть привилегия бога,
а не наместника божьего на земле, и это обстоятельство вызывает
гневную речь священника дона Луки, направленную против своевла-
стия тирана, возомнившего себя господом-богом и пытавшего играть
судьбами людей и вводить их в искушение греха: «Ты единственный
грешил, жаждавший подняться над свойствами человеческими
и желавший в одночасье стать богом... Какая склонность вынудила
тебя к этому, светлейший, или какая угроза нависла над тобой?...
Любой другой попытался это сделать, потому что им двигала нужда,
ему необходим был спасительный выход из создавшегося положения,
и он был слаб, чтобы это сделать. А в чём состоит твоё прощение?
Ты начал эту противную господу игру не по нужде, а исключительно
ради твоей прихоти, чтобы наравне с богом двигать судьбами людей
и созерцать их, и в конечном итоге ощущать себя всемирным судьёй
над ними. И тем самым ты более ошеломляюще доказал человече-
скую греховность и лёгкую приверженность к совращению, чем все
остальные. Поэтому ты являешься зачинщиком всех злых событий
в твоём городе, и только ты один, светлейший, не обладаешь ничем,
что могло бы послужить для твоего оправдания или некоего смяг-
чения приговора, которого всё же заслуживают все другие. В этом
1 Bergengruen W. Der Großtyrann und das Gericht. S. 184
626
заключается обвинение, которое здесь выдвигается против тебя.
И теперь ты, светлейший, знаешь, что ты предстаёшь перед судом,
хотя и не перед нашим низшим судом».1
Столь тяжкие обвинения, брошенные в лицо великого тирана,
да ещё прилюдно, вкупе с обилием недвусмысленных отсылок к реа-
лиям нацистской действительности, свидетельствуют, несомненно,
о наличии в романе Бергенгрюна протестных интенций. В этом
смысле у читателей не возникало никаких сомнений. Не случайно
многие считали, что прототипом великого тирана послужил Гит-
лер. Ведь если внимательно присмотреться к тексту романа, то он
буквально пестрит явными аллюзиями к нацистскому диктатору:
великий тиран, как и Гитлер, обладает неограниченной властью,2
любим народом,3 он — выскочка, отстранивший от правления
в городе представителей старых родов,4 у него нет семьи («власть
требует одиночества»),5 детей,6 в его окружении вообще отсутствуют
женщины, он, как и Гитлер, питает «пристрастие к целесообразным
постройкам»7 большого масштаба, желает «окружить себя неким
количеством твёрдых духом молодых людей, создав некий вид
братского объединения и воспитать каждого их них для необыч-
ной надобности».8 Наличие подобных признаков образа Гитлера,
постоянно подчёркиваемых в исторических романах нацистских
авторов (например, в романах Г. Блунка «Король Гейзерих», «Вальтер
фон Плеттенберг»), отметила и «Фёлькишер беобахтер», приветство-
вав главного героя романа «Великий тиран и суд» как «олицетворение
правителя времён итальянского Ренессанса», хотя и выразила недо-
вольство «тяжёлым, слишком скептическим настроем» всей книги.9
1 Bergengruen W. Der Großtyrann und das Gericht. S. 187-188
2 Ibid. S. 13.
3 Ibid. S. 46.
4 Ibid. S. 86.
5 Ibid. S. 12.
6 Ibid. S. 86.
7 Ibid. S. 38.
8 Ibid. S. 40.
9 -t. Neue Romane für den Weihnachtstisch // Völkischer Beobachter. 07.12.1935.
Nr. 341. S. 12 — Приводимая В. Бергенгрюном и повторяемая рядом исследова-
телей фраза из «Фёлькишер беобахтер» «фюрер-роман времён Ренессанса» отсут-
ствует в оригинале.
627
Тем не менее, все эти черты характера и метода правления
великого тирана только отдалённо напоминают его предполагае-
мый прототип, особенно, если учесть размеренный и не лишённый
учёности тон разговоров тирана с главными героями этой истории,
не говоря уже о его покорном согласии отдать себя в руки правосу-
дия. Сам Бергенгрюн неоднократно решительно возражал против
восприятия образа великого тирана как некое отражение личности
Гитлера, называл подобную трактовку «обидной» по отношению
к своему герою: «Опасности власти и великие искушения могу-
щественных людей проявляются не в поступках некоего преступ-
ного шута, который относится к самому отвратительному отстою
человечества, а как раз к человеку духовного и государственного
ранга. И как мог бы я придти к мысли о том, что Гитлер в состоя-
нии познать духовное преобразование и потрясённым предстать
перед судом собственной совести?»1 Однако весь парадокс состоял
в том, что, независимо от намерений писателя, читатель тех лет
увидел в его романе то, что он хотел увидеть, когда каждая строка
подвергалась тщательному досмотру в поисках скрытого смысла
даже там, где его не было. Бергенгрюн вспоминает, что в некоторых
его стихотворениях (например, «Плохой дом» — »Das arge Haus«,
«К новому полюсу» — »Zum neuen Pol«), написанным ещё до Третьего
рейха, в которых он «хотел отобразить вообще непрочность и полное
угроз существование человека», читатели «восприняли как намёк
на ту тиранию, которая с самого начала под их острым взглядом
подвергалась осуждению».2
В этой связи интересна история публикации романа «Великий
тиран и суд». Сначала роман был опубликован в 1935 году в газете
под названием «Искушение».3 По просьбе редактора газеты авто-
ру пришлось убрать само упоминание слова «тиран», заменив его
на «правитель», «властитель» и тому подобное. Убраны были и опас-
ные рассуждения о правосудии, государственной целесообразности,
а также все замечания, касающиеся личности тирана, которые
могли вызвать у цензуры подозрения о схожести его с фюрером.
1 Цит. по: Schoeps K.-H.J. Op. cit. S. 215.
2 Bergengruen W. Dichtergeheuse. Zürich, 1966. S. 142.
3 Фрадкин И. M. Оппозиционная литература в гитлеровской Германии / / История
немецкой литературы. Т. 5. 1918-1945. / Фрадкин И. М., ТураевС.В. M., 1976.
С. 391.— К сожалению, автор статьи, рассказывая о перипетиях этой публикации,
не указывает названия газеты.
628
И в этот же год роман выходит отдельной книгой безо всяких купюр,
и эта книга была опубликована в нескольких региональных газетах,1
которые вряд ли осмелились бы растиражировать произведение,
не отвечающее мнению официального органа власти. Другое дело
читатели тех лет, для которых не составляло особого труда, срав-
нив газетные и книжную публикации, придти к выводу о наличии
в романе скрытого подтекста. Они просто не могли, учитывая их
особую чувствительность к подобного рода произведениям, не уви-
деть кричащих отсылок к нацистской действительности.
Самое примечательное в этой истории то, что и критика тех лет
достаточно откровенно подметила специфику поведения читателя,
его ожидание каких-то откровений. Вольфганг Зюскинд в статье
«Мужество к безусловности» (»Mut zum Unbedingten«), опубликован-
ной в либеральном — насколько это позволялось нацистами — жур-
нале «Литератур» во вступлении к анализу шести романов Фридриха
Бишофа, Эдзарда Шапера, Эдиты Клипштайн, Макса Рене Гессе,
Георга Бенрата и Вернера Бергенгрюна, а все они не замечены
в приверженности идеологии новых властей, особо оговаривает
свойственное читательскому восприятию «ожидание определённой,
неповторимой позиции пишущего», ибо «не литературная критика
выдаёт писателю похвальный лист, а более высокая инстанция —
время и положение собственного народа, они требуют нечто опреде-
лённое, что выполняется писателем, если он действительно не хочет
существовать в качестве оберегаемой реликвии. Время и народ
находятся с творчеством писателя в слишком тайных, не подвер-
женных логическому осмыслению связях, чтобы здесь могла идти
речь о некоем требовании. Эта связь проявляется в ожидании,
но заложенная в нём претензия только кажется мягкой, в действи-
тельности она намного требовательнее настаивает на исполнении
(этого ожидания — Е. 3.), чем властное требование».2
После столь недвусмысленного подчёркивания «внелитератур-
ного момента» при прочтении современной литературы, Зюскинд
обращает внимание на общее состояние немецкой литературы,
которая «после смерти Георге,., и так не отличалась способно-
стью оказывать обратное воздействие на читателя» (читай после
1933 года, именно в это время умер поэт Стефан Георге, на которого
1 Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 266.
2 Süskind W.E. Mut zum Unbedingten. Anmerkungen zu sechs neuen Romanen //
Die Literatur. Februar 1936. Berlin. S. 271
629
нацисты возлагали, понапрасну, большие надежды. — Е. 3.); не най-
дя ничего лучшего, она «отдала предпочтение повести... в духе
совершенно неопасного Штифтера, ставшей с недавнего времени
наиболее воздействующим образцом художественной формы...
Значимость литературы для читателей ещё достаточно велика,
чтобы позволять ей покорно топтаться на месте». Именно поэтому
критик, имея в виду тиражи этих повестей в духе «неопасного
Штифтера», заявляет: «Это тот самый случай, когда цифры ничего
не доказывают, правым является сердце».1 Тем самым Зюскинд
как бы приуготовляет читателя к более внимательному восприятию
произведений названных писателей (в том числе и Бергенгрюна!),
но тут же вынужден в целях безопасности заметить: «Все шесть книг
являются «непрактичными», то есть книги, против которых могут
быть высказаны критические суждения и им придётся даже обре-
сти врагов; неограниченная похвала по отношению к ним рассма-
тривалась бы как оскорбление. Плохими эти книги не являются».2
Что касательно романа Бергенгрюна «Великий тиран и суд»,
учитывая его двойственную натуру, то подобная оценка была
довольно смелой. Зюскинд выделяет его из общей массы представ-
ленных книг, называя этот роман, «пожалуй, самым безупречно
написанным и самым чётко построенным», подчёркивая, что эта
особенность романа Бергенгрюна не является самоцелью, ибо
основное содержание его определяется прояснением таких проблем
как «вина, искушение и ответственность», которые «выходят далеко
за пределы христианского культурного круга, затрагивая основы
мышления нашего существования», что само по себе, учитывая
«необходимость и смелость постановки такой проблемы было бы
уже достаточным; однако глубокая серьёзность и благородный язык
способствовали усилению ещё большей значимости этой проблемы».3
Словно испугавшись столь откровенно высказанного призна-
ния актуальности романа Бергенгрюна, Зюскинд тут же выражает
«опасение, что манера изложения была слишком благородной, а про-
текание событий слишком размеренным для того, чтобы прекрасной
ловле душ ещё и содержательно захватывающей фабулой снискать
весь этот успех, который хотелось бы пожелать в его целительных
1 Süskind W. E. Mut zum Unbedingten.
2 Ibid. S. 271-272.
3 Ibid. S. 273
630
намерениях».1 Хотя в этих словах можно уловить и некое разоча-
рование по поводу излишней зашифрованное™ романа, но общая
тональность статьи Зюскинда положительная.
Наряду с коротким, но достаточно ёмким отзывом Зюскинда,
соседствует ещё более короткая, но пафосная заметка анонимно-
го автора в «Бюхеркунде», органе А. Розенберга: «Автору удалось
хорошо изобразить не человеческие несовершенства, а многочис-
ленные диалоги. В этих диалогах основательно рассматриваются
философские, этические, юридические, политические, мировоз-
зренческие и религиозные проблемы. Книга даст читателю очень
много, и прежде всего потому, что она обладает живым, в худо-
жественном отношении весьма ценным языком!»2 Более того, сам
Розенберг, год спустя, отозвался о книге Бергенгрюна «с чрезвычай-
ной похвалой».3 Правда, в 1941-1942 годах, нацисты разобрались
в протестных интенциях романа Бергенгрюна, тот же Розенберг
выступил с яростными нападками на роман и потребовал запретить
его, однако у министерства пропаганды были свои резоны и оно
никак не отреагировало на эти призывы уполномоченного партии
по надзору за мировоззрением немецкого народа.4
По поводу столь странной позиции ведомства Геббельса можно
высказывать только предположения, и строятся они на опреде-
лённой амбивалентности самой книги Бергенгрюна, ибо её можно
толковать двояко, и надо полагать, на первых порах такое пони-
мание устраивало обе стороны — противников нацизма и самих
нацистов. Речь идёт не о том, что Бергенгрюн, работая над своим
романом, собирался ублажать тех и других. Здесь мы имеем дело
с тем случаем, который характерен для творчества значительного
количества авторов консервативной направленности, мысливших
в определённых категориях, особенно религиозного склада, которые
в силу их привлекательности и основательности при надобности
можно было приложить к любой политической системе, когда захо-
дила речь о власти, что и происходило у нацистов сплошь и рядом.
За неимением собственных прочных идеологических установок они
постоянно совершали набеги в чужие огороды, выдавая похищенное
1 Sùskind W. E. S. 273
2 Anonym. Der Großtyrann und das Gericht // Bücherkunde, 1936. 3. Folge. S. 81.
3 Цит. по: Schoeps K.-H.J. Op. cit. S. 215.
4 Ibid. S. 216.
631
за урожай собственного посева, и это приводило к тому, что неко-
торые авторы, далёкие от нацистской идеологии, невольно стано-
вились как бы причастными к ней.
В случае с Бергенгрюном именно так и произошло. Как можно,
например, толковать рассуждения великого тирана о его предраспо-
ложенности к власти? Он её увидел «в тайной воле народа», но кро-
ме этого существуют ещё другие предпосылки, и он основательно
обсуждает их в разговоре с Диомедом, который по молодости лет
считает тирана олицетворением воли народа: «Скажи мне, Диомед,
почему люди рвутся к власти и почему властвуют вообще?.. В одном
случае, если ты к этому рождён, и никто другой к ней не может
быть допущен, потому что он по своей природе не создан для этого.
Следовательно, по своей собственной воле человек получает власть.
Но в другом случае, это происходит ради властвования, в ходе чего
именно властитель сам... является таковым, потому что он осознаёт
волю к властвованию более отчётливо, чем сама воля».1
Ведь именно так или примерно так неоднократно высказывал-
ся и Гитлер, и его окружение, и подобные рассуждения, ведущиеся
в спокойной тональности, как-то мало соотносятся с его манерой
выступления, в чём читателей не надо было убеждать, и они вос-
принимают эти слова как некий выпад в адрес новых властителей,
захвативших власть хотя и легальным образом, но грубо растоп-
тавших все мыслимые её каноны. Бергенгрюн, как истинный сын
своего класса, полагает власть как нечто данное от бога, и образ
философствующего тирана предстаёт как стародавняя модель
короля-философа времён Просвещения, что и позволило читате-
лям воспринять этот роман как напоминание об утраченном пра-
вопорядке. Ведь, если разобраться, то в романе город предстаёт
как некая тихая обитель, где все проблемы решаются в процессе
диалога властителя и жителей.
Однако именно эта благообразная картина пришлась как нельзя
кстати для нацистов, если учесть, что страна ещё не пришла в себя
после кровавой резни, устроенной по личному указанию Гитлера
в 1934 году в его собственном лагере, отсюда и тот восторг, сопро-
вождавший выход в свет романа Бергенгрюна. Они явно усмотрели
в нём определённое оправдание этой бандитской акции, оправда-
ние волевого решения фюрера, приказавшего расстрелять без суда
1 Bergengruen W. Der Großtyrann und das Gericht. München, 1947. S. 140.
632
и следствия не только руководство штурмовиков, но и ряд предста-
вителей вермахта, противников партии и просто случайных людей,
поправ тем самым все мыслимые законы.1 Нацистам импонировала
сама постановка понимания рассудительной власти, архаичный,
не лишённый проповедческой окраски язык романа, размеренность
повествования, весь исторический антураж, и, наконец, здесь отсут-
ствуют какие-либо намёки, побуждающие к активному сопротив-
лению власти тирана, то бишь нацистов. Не случайно, уже в наше
время, Вольфганг Эммерих (Emmerich, Wolfgang) высказал спра-
ведливую мысль о том, что роман Бергенгрюна не имеет никакого
отношения к литературе собственно Сопротивления, ибо, по сути,
является отражением «католической основополагающей структуры»,
согласно которой «его содержание укладывается в категориальную
систему искушения — вины — жертвы — покаяния — прощения
и кары (в качестве божественного акта)».2
В этом смысле примечательно появление в августе 1935 года,
в преддверии выхода романа «Великий тиран и суд» (не забудем,
что к этому времени уже опубликован газетный вариант романа),
в журнале «Литератур» статьи Бернхарда Триниуса (Trinius, Bern-
hard), посвященной творчеству В. Бергенгрюна, которую можно
расценить как некий ключ к пониманию его романа. Критик при-
водит высказывания самого писателя на этот счёт: «Я чувствую,
что сильнее всего меня волнуют природа и история как великие
формы явления органической жизни, то есть взращённое и устано-
вившееся в противоположность к сделанному... Смена времён года
и веков, людских жизненных путей и судеб народов являются для
меня отражением вечных порядков, и профессию писателя я могу
понимать только как выявителя этих вечных порядков...»3
Понятно, что под словом порядок Бергенрюн понимает божий
порядок, ибо и дальнейшие его рассуждения, касающиеся совре-
менных явлений политической жизни Германии, как то «потеря
кредита доверия к индивидуальности», «соблазнительная завуалиро-
ванность слова «общность», «неприятие коллективности», проходят
под знаком соотнесённости их с религией.
1 И. Фест пишет о страхе, охватившем Гитлера, «иначе вряд ли объяснить его деся-
тидневное молчание, которое противоречило всем правилам психологии и пропа-
ганды» (Фест. И. К. Гитлер. Биография. Т. 2. Пермь, 1993. С. 396.
2 Schoeps K.-H.J. Op. cit. S. 217.
3 Trinius В. Werner Bergengruen // Die Literatur, August 1935. S. 544.
633
Религиозная составляющая, а не дела мирские, определяет
и фактуру романа «Великий тиран и суд». Именно поэтому он в прин-
ципе лишён исторической основы, это утопия такого же рода, как
и роман Эрнста Юнгера «На мраморных скалах», утопия, открытая
в её интерпретации всем ветрам в силу отсутствия прямых истори-
ческих параллелей, отчего и понятен столь широкий расклад мнений
о ней как во времена Третьего рейха, так и после его падения. Бер-
генгрюн, сам того не желая, создал некое подобие мифа, который,
как бы его ни интерпретировали, оказывается годным для любых
целей, и в этом заключается его опасная амбивалентность. Он, если
говорить о нацистах, как бы возвёл это политическое движение
в ранг необъяснимого земными понятиями явления, по крайней
мере, дал нацистам повод так считать, хотя, конечно, у Бергенгрюна
и в мыслях этого не было. Отсюда понятно, почему ведомство Геб-
бельса не отреагировало ни на истерические выкрики Розенберга
по поводу «Великого тирана», как впоследствии и на жалобы Бюлера,
шефа «Партийной комиссии по защите национал-социалистской
письменности», по поводу такой же утопии Юнгера «На мрамор-
ных скалах». Отсюда понятно и то, что к 1942 году тираж романа
Бергенгрюна достиг 120 тысяч экземпляров.1
Работа над романом «Великий тиран и суд» стала для Берген-
грюна переходным моментом для более осознанных выступлений
против нацистской диктатуры. 1936-1937 годы отмечены близостью
писателя к католическому журналу «Хохланд» (»Hochland«), и это
не прошло незамеченным для надзорных органов нацистов. Несмо-
тря на неоднократные требования властей Бергенгрюн отказался
дать сведения о расовой принадлежности своей жены Шарлотты,
урождённой Хензель, правнучки композитора и певицы Фанни
Мендельсон-Бартольди. В итоге её квалифицировали в соответствии
с Нюрнбергскими расовыми законами как еврейку «второй помеси».
Чашу недовольства властей переполнили религиозная статья Бер-
генгрюна «Ответ истории» (»Die Antwort der Geschichte«, 1937,) где
он недвусмысленно высказался против переосмысления прошлого
в национал-социалистском духе,2 и новелла «Обет» (»Die Verheißung«,
1936), опубликованная в католическом журнала «Хохланд» в мае
1 Lüth Р. Literatur als Geschichte. Deutsche Dichtung von 1885 bis 1947. Zweiter Band.
Wiesbaden, 1947. S. 362.
2 Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 270
634
1937 года, а также новелла «Три сокола» (»Drei Falken«, 1937), в кото-
рой калека стал олицетворением гуманизма, что явно противоречило
всем расистско-гигиеническим программам нацистов, приступив-
ших к систематическим уничтожениям пациентов психиатрических
клиник, и 10 марта 1937 года Бергенгрюн был исключён из «Импер-
ской палаты письменности» с формулировкой «Вы не пригодны уча-
ствовать в возрождении немецкой культуры посредством литератур-
ных публикаций».1 Правда, сразу же после этого акта Бергенгрюн
получил «особое разрешение для дальнейшей профессиональной
деятельности, подлежащее отмене в любое время»,2 которое давало
ему возможность и дальше беспрепятственно публиковать свои про-
изведения. Подобным послаблением Бергенгрюн обязан руководите-
лю литературного отдела в министерстве Геббельса, который лично
ценил «литературную значимость» его произведений, что позволяло
писателю не предъявлять, как это было принято раньше, готовые
к публикации рукописи ни в «Имперскую палату письменности»,
ни в литературный отдел министерства пропаганды.3
Именно к этому времени Бергенгрюн заканчивает работу
над циклом стихов «Вечный император» (»Der Ewige Kaiser«, 1937),
критический запал которых не позволял ему опубликовать их под
своим именем. Благодаря поддержке своего друга, австрийского
писателя графа Пауля Тун-Гогенштейна (Graf Thun-Hohenstein,
Paul), этот сборник стихов был опубликован анонимно в австрий-
ском издательстве «Шмид-Денглер» (»Schmid-Dengler«) в Граце, т.к.
для издания своих произведений заграницей (Австрия тогда ещё
не была присоединена к Германии) немецкие писатели должны
были получить разрешение. Хотя книга продавалась в Германии,
никто не осмелился написать о ней рецензию; более того, «Франк-
фуртер цайтунг» в своей рубрике «Новые поступления книг» обошла
этот сборник молчанием.4 После аннексии Австрии гестапо закры-
ло издательство и потребовало назвать имя анонимного автора
1 WulfJ. Literatur und Dichtung im Dritten Reich. Eine Dokumentation. Reinbek bei
Hamburg, 1966. S. 518.
2 Bergengruen W. Dichtergehäuse. Zürich, 1966. S. 125.
3 Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 267-268; BarbianJ.-P. Literaturpolitik
im »Dritten Reich«. Institutionen, Kompetenzen, Betätigungsfelder. Frankfurt / Main,
1993. S. 160.
4 Bergengruen W. Op. cit. S. 123.
635
сборника стихов «Вечный император». Долгое разбирательство
в гестапо в Вене и в Берлине с привлечением всех участников этого
события закончилось ничем.1
Скорее всего, в этой истории сыграло то обстоятельство,
что вскоре после аннексии Австрии Гитлер приказал перевезти
имперские знаки власти римско-германского императора из Вены
в Нюрнберг, и поэтому название сборника «Вечный император»
отвечало надобностям министерства пропаганды (не забудем про
благоволившего к Бергенгрюну руководителя отдела литературы
этого учреждения, здесь не обошлось без его участия), увидевшего
в нём чуть ли не подтверждение правомочности претензий фюре-
ра на власть, и, как по мановению волшебной палочки, всё «дело
Бергенгрюна» прекратилось.2 Однако вслед за этим, теперь уже
из ведомства Розенберга, вечного соперника Геббельса, последо-
вали отрицательные отзывы на роман Бергенгрюна «Староста»
(»Der Starost«, 1938),3 являющийся переработанным вариантом
романа «Великий Алкахест» (1926), и сборник рассказов «Рожде-
ственская благодать. Император в беде» (»Die Ostergnade. Der Kaiser
im Elend«, 1939).4
Казалось бы, после всех этих событий положение Бергенгрюна
во всех отношениях становилось опасным. Но, как это всегда было
в Третьем рейхе, соперничество между разными инстанциями при-
вело к тому, что Вилл Феспер, верный сторонник национал-социа-
лизма, продолжал публиковать в своём журнале «Нойе литератур»
статьи и стихи Бергенгрюна, большую статью о его творчестве
с подробным перечнем всех его произведений.5 Здесь вообще надо
заметить, с учётом последующих запретов его книг, Бергенгрюн,
со своими 26 опубликованными в Третьем рейхе произведения-
ми, как заметил один из исследователей, «принадлежал к числу
наиболее широко распространённых „нежелательных" авторов».6
Действительно, несмотря на многочисленные запреты, Бергенгрюн
1 Bergengruen W. Op. cit. S. 123-136.
2 Hackelsberger N. L. Das Wort als Waffe / / Die totalitäre Erfahr ung. Deutsche Literatur
und Drittes Reich / Hrsg. v. F.-L-Kroll. Berlin, 2003. S. 110.
3 Bücherkunde. Juli 1938. Nr. 7. S. 7.
4 Ibid. Oktober 1939. Nr. 10. S. 16.
5 Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 266.
6 Ibid. S. 268.
636
печатался порой в самых одиозных изданиях, будь то партийный
орган «Фёлькишер беобахтер», будь то «Зюддойче Монатсхефте»
(»Süddeutsche Monatshefte«), будь то пропагандистский журнал
«Цванцигсте ярхундерт», аналог еженедельника «Рейх», или орган
оккупационных властей в Польше газета «Кракауэр цайтунг». Скла-
дывалось такое впечатление, что он везде оказывался приемлем.
Его статьи и особенно религиозно окрашенные новеллы и стихи,
при всех заметных аллюзиях, обладают известной двойственностью,
так что дело только за читателем, то бишь за цензором, и в этом
состоит главная слабость зашифрованной, закамуфлированной,
чрезмерно утончённой, скрытной литературы. Другое дело, что
история цензуры времён нацизма полна всевозможных проявле-
ний безграмотности, отсутствия у сотрудников надзорных органов
профессионализма, как это было, например, в случае с издателем
Эрнстом Ровольтом (Rowohlt, Ernst), когда чиновники «Имперской
палаты письменности» грозили ему карами за то, что осмелился
издать книгу об Адальберте Штифтере, который не был членом это-
го славного учреждения, хотя он уже с 1868 года мирно покоился
на кладбище в Линце.1
Правда, часто функции цензуры брали на себя и чрезмерно
пламенные сторонники нацистов. Бергенгрюн вспоминает, как
один профессор в заштатном Ошатце, что в Саксонии, узнав, что
некий солдат, изучавший ранее германистику, переписал его сти-
хотворение «Охранная грамота» (»Der Schutzbrief«, 1945), в котором,
по мнению профессора, излагались «суеверные и враждебные госу-
дарству мысли, написал в гестапо донос. Но так как этот списавший
находился на военной службе, дело передали в военный суд. А там
проявили больше понимания и юмора, и после короткого рассле-
дования дело закрыли».2
Однако ситуация, сложившаяся вокруг имени Бергенгрюна
и его чуть ли не повседневного присутствия в литературной жизни
нацистской Германии, учитывая протестные интенции в его твор-
честве, не была однозначно благоприятной. По крайней мере, выход
в свет в 1940 году его романа «На небеси яко на земли» (»Am Himmel
wie auf Erden«), принятого критикой с восторгом, совпал с расследо-
ванием, проведённым мюнхенским отделением нацистской партии
на предмет выяснения «политической благонадёжности» писателя.
1 Salomon Е. von. Der Fragebogen. Reinbek bei Hamburg, 1967. S. 282-283.
2 Bergengruen W. Dichtergehuese. S. 136
637
Итог этого расследования не сулил ему ничего хорошего: « Берген-
грюн не может быть политически благонадёжным. Хотя он, когда
это требуется, вывешивает на своём окне флаг со свастикой или
всегда и охотно делает взносы в различные сборы, но в остальном
его позиция даёт основания считать его политически неблагонадёж-
ным. Ни он, ни его жена и их дети не являются членами какой-либо
организации. Немецкое приветствие «Хайль Гитлер» ни он, ни члены
его семьи не применяют, хотя он иногда слегка приподнимает руку
в знак приветствия. Национал-социалистскую прессу, насколько
известно, он не выписывает. Причины такого поведения, вероятно,
кроются в том, что он и его жена, судя по всему, имеют еврейские
корни».1
Результатом этого расследования стал запрет в 1941 году
романа «На небеси яко на земли»,2 хотя к этому времени было рас-
продано уже более 60 тысяч экземпляров.3 Пресса получила строгое
уведомление о запрете не только «любой рецензии, но и упомина-
ния самого романа».4 В закрытом отчёте ведомства А. Розенберга
за 1940 год В. Бергенгрюн, наряду с А. Андресом и другими писа-
телями, названными «авторами духовного и литературного безвре-
менья»,5 отмечалось, что они имеют нарастающий успех у читателей
благодаря сомнительной «внутренней позиции и умонастроению»;
их произведения «деполитизированы», и поэтому можно считать,
что большинство читателей «совсем не замечает, с кем оно имеет
дело»; вместо «фёлькиш отмеченной литературы» настоящего вре-
мени, эти авторы находятся в опасной близости к «литературщине»
Веймарской республики.6
Однако это грозное предупреждение не отразилось на после-
дующих публикациях Бергенгрюна. По крайней мере, в январе
1941 года в журнале «Литератур» появилась его статья «Генезис
1 WulfJ. Literatur und Dichtung im Dritten Reich. S. 518-520.
2 Breckle W. Schriftsteller im antifaschistischen Widerstand 1933-1945 in Deutschland.
Berlin, Weimar, 1985. S. 182.
3 Bergengruen W. Op. cit. S. 195.
4 Ibid.
5 Das Zwischenreich — термин, обозначавший в годы нацизма протестную позицию
деятелей литературы и искусства, остававшихся вне политики, т.е. находившихся
между царствием божиим и царствием земным, имея в виду неприемлемую для
них реальную действительность Третьего рейха.
6 Цит. по: Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 268-269.
638
одного романа» (»Genesis eines Romans«), в которой он подробно рас-
сказывает об истории написания запрещённого романа.] Более того,
в этом же году его роман выходит в армейском издании для частей
вермахта в Норвегии.2 Бергенгрюн продолжает беспрепятственно
публиковаться до 1942 года в «Фёлькишер беобахтер», а в «Крака-
уэр цайтунг» — с 1940 по 1944 годы.3 Пропагандистская пресса
нацистов нуждалась в достаточно умеренной, лишённой явных
пронацистских признаков литературе, и Бергенгрюн, как, впро-
чем, и многие другие авторы «внутренней эмиграции», независимо
от степени неприятия ими фашистского режима, использовали эту
возможность, каждый по-своему, для того, чтобы выразить к нему,
пускай и в закамуфлированном виде, своё отношение, или, по край-
ней мере, донести до своего читателя слова утешения. Новый роман
Бергенгрюна преследовал именно эту цель, ибо эпиграфом к нему
были слова из Евангелия: «Не предавайтесь страху!»
Как и роман «Великий тиран и суд», роман «На небеси яко
на земли» зародился ещё в 1931 году.4 Однако, в отличие от преды-
дущего романа, это был действительно исторический роман, в осно-
ве которого лежат народные волнения, вызванные в 1524 году,
в эпоху Реставрации в провинции Бранденбург в связи с распро-
странившимися слухами о конце света, и поэтому все описываемые
события органично отражают культурную и историческую панора-
му времени, что находит своё выражение в языке, в описании нра-
вов, обычаев, наконец, в рассказовой тональности повествования.
И хотя Бергенгрюн опять ставит во главу угла фигуру правителя,
по сути тирана, курфюрста Иоахима Бранденбургского, идеалиста
и консерватора, но это живой человек со всеми его положительными
и отрицательными чертами, а не схоластическая, слегка обозначен-
ная схема некоей идеи, воплощённой в образе правителя города
в романе «Великий тиран и суд». Оттого и тема переоценки своих
1 Bergengruen W. Genesis eines Romans // Die Literatur. Berlin Januar 1941. S. 216-
219.
2 Lange H. Tagebücher aus dem Weltkrieg / Hrsg. v. H. D. Schäfer. Mainz, 1979. S. 244.
3 Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Op. cit. S. 268.
4 Bergengruen W. Genesis eines Romans. S. 216.— Примечательно, и об этом Берген-
грюн пишет в своей статье, что тема паники в Берлине, вызванной случившимся
наводнением, уже разрабатывалась в романе «Вервольф» (»Der Werwolf«, 1848)
одного из зачинателей немецкого исторического романа Виллибальда Алексиса
(Willibald Alexis, наст, имя Georg Wilhelm Heinrich Häring; 1798-1871).
639
возможностей курфюрста как правителя и как человека, повлёкших
за собой трагические события, обретает большую убедительность,
а протестные интенции в романе обретают конкретные адресные
отсылки.
Берлин, главный город провинции Бранденбург, окружённый
реками, озёрами, болотами, расположен на окраине немецкого
рейха. Здесь ещё ощущается заметное присутствие вендов, сла-
вянских племён, исконных владельцев этих земель, колонизация
которых немцами, выходцами из южных земель Германии, ещё
не завершилась. Внутреннее противостояние между немцами
и вендами выражается в противостоянии культуры колонизато-
ров, политически и духовно ориентированной на каноны эпохи
Реставрации, и культуры местных племён, полной древних маги-
ческих верований. Немцы, отряхнувшие со своих ног мифическое
прошлое и ввергнутые в бурные перипетии Реставрации, и венды,
обитающие спокон веков в этом загадочном крае, полузатопленном
водами Шпрее и Хафеля, и живущие всё ещё давними сказочны-
ми представлениями о мире,— вот две силы, которые определяют
движение событий в романе.
Придворный астроном Карион на основании расчёта движений
планет приходит к выводу о приближении возможной природной
катастрофы вселенского масштаба. Нечто подобное ощущают
и простые люди. Народные приметы, небесные явления наводят
их на мысль о грядущем конце света. Для того чтобы избежать
всеобщей паники, курфюрст, отличавшийся особым пристрастием
к порядку, издаёт один за другим строжайшие указы, запрещаю-
щие покидать город, продавать дома и земли, располагающиеся
на низменных участках и тому подобное, которые наоборот сеют
всеобщий страх перед неизбежным концом света. Жертвой этих
указов стал приближённое к курфюрсту лицо — камер-юнкер
Элльнхофен, молодой дворянин, которому курфюрст доверил как
государственную тайну сообщение о надвигающейся катастрофе
и который должен был информировать его о настроении жителей
Берлина и его окрестностей. Элльнхофен в преддверии своей свадь-
бы с крестницей курфюрста Юлианой отправляет её под благовид-
ным предлогом из города к своей матери и тем самым нарушает
указ курфюрста. Взбешённый курфюрст, видевший в Элльнхофене
верного слугу и даже будущего помощника в своих государственных
делах, приказывает казнить его, предварительно дав разрешение
640
на бракосочетание молодых людей. Однако, когда обозначились
первые признаки надвигающейся природной катастрофы, сам же
первым, забыв о своих принципах исполнения долга, бежит со сво-
им двором в горы, на Темпельховскую возвышенность.
В Берлине в это время начались погромы, грабежи, переросшие
в некий вид восстания под водительством прежнего соперника
курфюрста, находившегося в бегах. Особый страх на горожан
наводили больные лепрой, вырвавшиеся из монастырского заточе-
ния; в желании отомстить за свои страдания, они набрасываются
на людей, пытаясь заразить их своей болезнью.
Ужаснувшись казнью молодого Элльнхофа, совершённой
во имя порядка и верности долгу, и ещё больше — бегством курфюр-
ста, Карион отказывается в знак протеста сопровождать курфюрста
и остаётся в Берлине. Став свидетелем буйства толпы, он всё же
отправляется на Темпельховскую возвышенность с тем, чтобы убе-
дить курфюрста вернутся в Берлин, но и сам курфюрст, узнавший
о бегстве своей любовницы, бывшей действительной его женой при
наличии настоящей супруги, осознаёт значимость высшего боже-
ского порядка над мирскими событиями и отправляется в разгар
разразившейся бури в Берлин. По дороге страшный удар молнии
поражает его кучера Юро, тайного короля вендов, и лошадей.
Вся эта история завершается встречей в церкви курфюрста,
архиепископа и бургомистра Берлина, которая олицетворяет «еди-
нение трёх сил — владетельной, духовной и городской, стоящих
в лице их высших представителей вместе перед образом в славе
почившего императора, и тем самым подтверждающие продолже-
ние земного порядка».1
В первом приближении роман Бергенгрюна находится в одном
ряду с многочисленными произведениями такого же жанра, и про-
тестный потенциал просматривается в нём довольно слабо, если
не считать неоднократного упоминания евангельского изречения
«Не предавайтесь страху!», которое вполне отвечало ожиданиям тог-
дашнего читателя. Несмотря на то, что роман написан достаточно
живо, увлекательно, но по сути своей движущая сила его, грядущий
всемирный потоп, оборачивается банальной грозой, и поэтому под-
робное описание всех приуготовлений к катастрофе выглядит неу-
бедительным, ибо не соответствует реальным событиям. Не страх
1 Bergengruen W. Am Himmel wie auf Erden. Frankfurt / Main, Berlin, Wien, 1980.
S. 631-632.
641
перед концом света, а истерия, вызванная предсказанием его при-
хода, определяет тональность повествования, и это несоответствие
заданному посылу снижает его протестный потенциал.
Не следует, однако, забывать, что о прямых отсылках к реаль-
ной действительности Третьего рейха в тех условиях не могло быть
и речи. Весь ход подобных отсылок определялся, как писал позд-
нее сам Бергенгрюн, «едва заметными намёками», которые были
рассчитаны на «чрезвычайную остроту слуха угнетённых»,1 что,
собственно, и приводило к благосклонной критике официальной
прессы, воспринимавшей внешнюю сторону повествования как
выражение верноподданнического проявления, или, на худой
конец, когда речь заходила о чрезвычайно высоких материях, как
воспевание вечных истин.
Основная мысль, определяющая суть романа Бергенгрюна,
сводится к религиозной опосредованности государственного ста-
новления. Карион, человек нового времени, упомянув халдеев,
ассирийцев, персов, греков и римлян, считает, что «бог, наконец,
одарил немцев как их наследников из числа других наций величием
и господством над миром... Поэтому немецкие князья и в особен-
ности курфюрсты как избранники государя императора должны
подобную честь глубоко уважать и ценить, потому что господь
поручил им сохранять величие мира и доверил им соблюдение
веры, права и мира».2 Эти слова являются важными для понимания
позиции Бергенгрюна в годы нацизма, их можно рассматривать
как своеобразное наставление для правителей, а все перипетии
романа как пример того, к чему может привести небрежение этими
наставлениями.
Если подобные рассуждения можно отнести к разделу пожела-
ний, осторожных и потому не вызывающих каких-либо возражений
со стороны официальных властей, то подчёркивание противосто-
яния между вендами и немцами содержит в себе определённые
антирасистские интенции. В отличие от авторов фёлькиш-нацио-
нальной направленности, не говоря уже о собственно нацистских
авторах, Бергенгрюн описывает вендов с большой симпатией,
исторически точно, особенно в части их внешнего облика — бело-
курых, голубоглазых, т.е. обладающих признаками нордической
1 Bergengruen W. Schreibtischerinnerungen. Zürich, 1961. S. 199.
2 Bergengruen W. Am Himmel wie auf Erden. S. 272.
642
расы, столь ценимой нацистами при определении истинного арий-
ца. Такая позиция явно не вписывается в идеологические каноны
национал-социализма, и Бергенгрюн откровенно дискутирует
с официальной точкой зрения касательно расовых проблем, вкла-
дывая в уста курфюрста слова, явно не отвечающие по своей сути
реальной практике тех лет: «Как я мог бы быть врагом вендов?...
Разве не я несколько месяцев тому назад отдал мою старшую
дочь в жёны потомку вендов, потому что каждый ведь знает, что
мекленбуржцы, как и мои милые родственники из Померании,
происходят от древних языческих вендских князей. Я считаю, что
правитель... занимает слишком высокое положение, чтобы он мог
себе позволить питать антипатию по отношению к какой-либо части
своих подданных, пока они соблюдают законы, и к тому же если
все они без исключения доверяют ему. Таким образом я отношусь
и к вендам. За одно это обижаются на меня некоторые бранден-
буржцы... Крестьянское сословие я сравниваю с ногами, на кото-
рых всё покоится и которые при этом тяжко ходят по земле. Пусть
немецкий крестьянин — правая нога, а вендский — левая; для того
чтобы идти вперёд нужны обе».1
И не случайно расовые рассуждения в романе ведёт предста-
вительница мещанских низов фрау Тресов, семейство которой всю
жизнь пробавлялось случайными заработками, отчего её уверения
в расовой и политической благонадёжности звучат как насмешка:
«...мы, Тресовы, с незапамятных времён, всегда были верными
подданными, всегда придерживались добрых взглядов, и хоть бы
одна капля крови вендов в нас попала, её нет ни у её мужа, ни в ней
самой, ни, боже упаси, у её детей».2
Неразрывная связь немцев с вендами выражается в романе
и в том, что личным кучером курфюрста был Юро, тайный вендский
король, с которым курфюрст часто советовался, хотя и не воспри-
нимал его в этой ипостаси, и гибель его вместе с конями во время
грозы, воспринимаемой как проявление божьего суда, означает
конец эпохи вендов. Погибает и другая таинственная предста-
вительница этого племени, поражённая лепрой прорицательница
Воршула, пытавшаяся поднять в Берлине восстание последних
оставшихся вендов против немцев.
1 Bergengruen W. Op. cit. S. 208-209.
2 Ibid. S. 290.
643
Понятно, что разговор о вендах в данном случае является толь-
ко поводом для Бергенгрюна, чтобы обратить внимание на расовые
гонения нацистов против евреев, но в этих разговорах, несмотря
на очень доброжелательное описание культурных традиций вендов,
их мифологии, человеческих качеств, присутствует ясно выражен-
ная тенденция превосходства немецко-христианской культуры:
«Боги вендского народа мертвы, и только демоны их живут с нами».1
Особой примечательностью романа Бергенгрюна является
приоритетное рассмотрение всех событий сквозь призму транс-
цендентального начала. Положение звёзд, гроза, ливень, туманы,
шум воды, непроходимая чаща лесов — все эти природные явле-
ния определяют поступки людей. Человек практически выведен
из социального или политического поля, и в этой связи возникно-
вение самого фашизма опосредованно должно восприниматься
как некое явление божьего промысла, посланного для испытания
человечества, и поэтому трактуется как некий род очищения.
Отсюда благостное завершение романа, когда курфюрст сознаётся
в своих заблуждениях, виня в этом мифическое божество вендов
Блуда (Blud), уводящее людей с правильного пути,2 как и радостное
восклицание Кариона о том, что ему «нравятся все деяния господа
как на небеси, так и на земли»,3 оставляют двойственное впечатле-
ние. Хотел того Бергенгрюн или нет, но как справедливо заключил
Ральф Шнелль (Schnell, Ralf), «там, где обвинения, выдвинутые
против современности, связаны с повествовательной констата-
цией судьбы как природообразующей самостоятельной силы, там
сразу же фашизм мистифицируется как простой исполнительный
орган трансцендентального субъекта».4
Вероятно, этим объясняется восторженный приём тогдашней
прессы, в том числе и официальной, романа Бергенгрюна «На
небеси яко на земли». Рецензент правительственного еженедель-
ника «Рейх» Иоганнес Глок (Glock, Johannes) особо подчёркивает,
что через весь роман проходит мысль о том, что «государственная
1 Bergengruen W. Op. cit. S. 646-647.
2 Ibid. S. 647; о самом божестве курфюрсту рассказывает Юро, когда они блуждают
в густом тумане по лесу (S. 483).
3 Ibid. S. 647.
4 Schnell R. Dichtung in finsteren Zeiten. Deutsche Literatur und Faschismus. Reinbek
bei Hamburg, 1998. S. 128.
644
власть... представлена как божественный инструмент порядка»,
и это особенно важно, ибо «повсюду проявляется сомнительность
человеческого существования».1 Эта же мысль повторяется в другом
варианте, когда говорится о «чрезвычайном одиночестве и разоб-
щённости людей друг от друга», и наконец, завершая свою статью,
автор опять возвращается к ней: «Давно не появлялось такой книги,
в которой бы сомнительность и величие существования человека
не были бы представлены с такой потрясающей силой, как в этой
книге о роковой судьбе и её завершении».2
Статья эта примечательна тем, что в ней хотя и одобрительно
говорится о примате власти в романе, что и следовало ожидать
от печатного органа министерства пропаганды, но в ней нет и намё-
ка на то, чтобы упрекнуть автора в излишнем нагнетании пессимиз-
ма, приверженности его чудовищным описаниям в духе Брейгеля,
как это было свойственно некоторым нацистским критикам, писав-
шим о книгах Эрнста Вихерта, Ганса Фаллады или Фридо Лампе.
Здесь только констатация всего сущего, и автор статьи согласен
в этом с Бергенгрюном, и такая сдержанная позиция рецензента
говорит о его возможной скрытой поддержке имеющихся отсылок
к реальной действительности нацистской Германии.
Рецензент «Франкфуртер цайтунг» Рональд Лёш (Loesch, Ronald),
в свою очередь, и это понятно, учитывая шаткую позицию газеты
в нацистском табеле о рангах, основной акцент делает на «досто-
верности передачи движений души» персонажей романа Берген-
грюном посредством «религиозных размышлений», опосредованных
настроениями хилиастического свойства, и в этом смысле, заклю-
чает рецензент, «его книга отвечает строгим масштабам истины».3
Несмотря на то, что роман Бергенгрюна пользовался большой
популярностью у широкого читателя (60 тысяч распроданных экзем-
пляров тому свидетельство), не все современники, особенно собратья
но перу, восприняли его появление с энтузиазмом. Так, например,
известная журналистка Маргрет Бовери назвала в своих мемуарах
роман «утешительным явлением» в те годы, хотя и считала его «в сти-
листическом отношении плохим» и «далёким от действительности».4
1 GlockJ. Der neue deutsche Roman. Die große Flut // Das Reich. 15.12.1940.
2 Ibid.
3 Loesch R. »Am Himmel wie auf Erden« // Frankfurter Zeitung, 08.12.1940.
Lange H. Tagebücher aus dem zweiten Weltkrieg. S. 244.
645
Более откровенно, выражая взгляды писателей молодого поколения,
высказался Вольфганг Кёппен: «Вихерта, Бергенгрюна, Шнайдера
во времена Третьего рейха в художественном отношении мы просто
не воспринимали».1 В этом смысле примечательна дискуссия Хорога
Ланге со своим давним другом Бергенгрюном об историческом рома-
не как литературном жанре. Читая роман «На небеси яко на земли»,
Ланге записывает в августе 1944 году в своём дневнике: «Поучи-
тельно-наивная тональность и астрологическая мишура мне очень
мешают. Исторический роман и без того в своей типично немецкой
форме чужд мне...»2 И после прочтения: «Мои первые возражения
против этой книги несколько изменились. Тем не менее, слабости
исторического романа и такое откровенное переложение проблемы
на современность здесь бросаются в глаза».3
Спору нет, роман Бергенгрюна «На небеси яко на земли» трудно
сравнить, как это делает Ланге, с романом Л. Н. Толстого «Война
и мир»,4 но последний и не является историческим романом в обще-
принятом смысле. Бергенгрюн использовал исторический материал
в той мере, в какой он нужен был ему для выражения неприятия
нацистской действительности, да и в этом случае, желая донести
свои мысли до как можно большего числа читателей, он оставался
предельно осторожным, чтобы не привлечь к себе внимания цензу-
ры, отчего и возникло такое огромное, свыше 600 страниц, сооруже-
ние, где можно легко спрятать потаённые мысли. К тому же доста-
точно разговорная в лучшем смысле этого слова манера общения
писателя с читателем создавала атмосферу доверия и некоего покоя.
Тот же Ланге, находившийся в дружеском общении с семейством
Бергенгрюна, пока оно находилось в Берлине, вынужден отметить,
что «в тот момент, когда при чтении какого-либо предложения
воспринимаешь голос автора, всякая критика замолкает».5 Этот,
казалось бы, незначительный момент общения читателя с текстом
писателя обусловлен именно рассказовой манерой письма Бер-
генгрюна, способствовавшей сближению читателя с писателем,
1 Lange H. Tagebücher aus dem zweiten Weltkrieg. S. 244.
2 Lange H. Tagebücher aus dem zweiten Weltkrieg. S. 151.
3 Ibid. S. 157.
4 Ibid. S. 157.
5 Ibid. S. 151.
646
что и обеспечивало успех его книгам любого свойства у широкого
читателя.
Но был и другой Бергенгрюн, более открытый, более активный
в своей ненависти к фашизму, и эти свойства проявлялись в его поэ-
зии. Разразившийся скандал вокруг опубликованного им анонимно
в Австрии в 1937 года сборника стихов «Вечный император» вызван
был именно политической обусловленностью их содержания. Одно
стихотворение, «Длящееся» (»Die Dauernde«), содержит в себе больше
протестных интенций, чем весь роман «На небеси яко на земли»:
Безнаследной смертью умирают тираны.
Трибуны не способны ведь к зачатью.
И те, кто завоевал внимание тысяч,
завоевали суд себе.1
Многие стихотворения Бергенгрюна расходились в листовках,
которые он сам иногда расклеивал на стенах домов и на фонарных
столбах, разъезжая на велосипеде по Берлину. Особую значимость
приобретали его стихи в годы войны, их печатали на гектографах,
переписывали вручную. Отсюда естественными выглядят контакты
Бергенгрюна с мюнхенской группой Сопротивления «Белая роза»,2
организованной Гансом и Софи Шолль.
О том, какую значимость представляли его стихи в годы нациз-
ма свидетельствует тот факт, что его стихотворение «Последнее бого-
явление» (»Die letzte Epiphanie«), написанное в 1944 году и вошедшее
в знаменитый сборник стихов «День гнева» (»Dies Irae«, 1945), было
прочитано в 1962 году перед открытием процесса над нацистским
преступником Адольфом Эйхманом, ответственным за массовые
уничтожения евреев во времена Третьего рейха:
Я с этой страною душою срастался.
Я слал непрерывно гонца за гонцом.
Я в обликах многих пред вами являлся,
но вы не узнали меня ни в одном.
Я был иудеем оборванным явлен
и в дверь постучался, убогий беглец.
Но вызван палач, соглядатай приставлен:
вы мнили, что кровь одобряет творец.
1 Цит. по: Kroll F.-L. Intellektueller Widerstand im Dritten Reich // Schriftsteller und
Widestand... S. 29.
2 Ibid. S. 30-31.
647
Пришёл я старухой, главою трясущей,
безумной, поникшей в безмолвных мольбах —
но вам был несносен побег неплодущий,
и вас убежал лишь развеянный прах.
Мальцом-сиротой с восточных нагорий
я хлеба просил, простираясь в пыли.
Вы страх перед местью таили во взоре —
пожавши плечами, на смерть обрекли.
Являлся как пленник, подёнщик голодный,
избитый плетьми среди белого дня.
Вы взор отвращали от твари негодной.
Судьёю пришёл я. Узнали меня?1
Судьба В. Бергенгрюна как автора в послевоенные годы скла-
дывалась достаточно благополучно, однако он не создал ничего,
что могло бы сравняться по своей художественной значимости
с его историческими романами. Ограничившись занимательными
историями из жизни старой Риги, В. Бергенгрюн остаток своей
жизни посвятил осознанию всех событий времён Третьего рейха,
выступая с многочисленными докладами, посвященными деятель-
ности авторов «внутренней эмиграции».
Как бы это не казалось кощунственным, но все протестные
интенции авторов «внутренней эмиграции» в основе своей содержа-
ли призыв к возвращению авторитарного режима кайзера и аристо-
кратически-феодальных сословных общественных отношений. Все
исторические параллели, содержащие в себе элементы желаемого
мироустройства, основывались на восстановлении прежних чело-
веческих и государственных отношений. Не случайно послевоен-
ный период становления Германии, т.е. после 1945 года, проходил
под знаком возвращения к привычным порядкам. Не зря вплоть
до начала 60-х годов XX века тон в западногерманском обществе
задавали представители старшего поколения. В литературе эта
тенденция была сломлена несколько раньше. Молодые немецкие
писатели, не только авторы «группы 47», хотя они и были в сущно-
сти мотором и раздражителем общества, с большим трудом про-
бивались сквозь установившиеся каноны традиционной немецкой
литературы. Западногерманское общество, обретшее, хотя и слегка
видоизменённое, прежнее состояние, в штыки принимало любые
1 Бергенгрюн В. Последнее богоявление // Вести дождя. Стихи поэтов ФРГ и Запад-
ного Берлина. М., 1987. С. 27. Пер. А. Ларина
648
попытки напомнить ему о временах Третьего рейха, о неудачном
флирте с этой бандой политиков, вышедшей у него из повинове-
ния, а уж кто как не оно, это общество, способствовало приходу
к власти этой банды.
Но если уж нельзя было замолчать этот позорный факт в био-
графии общества, то в ход шёл испытанный приём мифологизации
явления, толкование его как напасть, определённую свыше, при-
давая тем самым национал-социализму некий трансценденталь-
ный характер, не подлежащий рациональному объяснению. Ещё
во времена нацизма Ф. Рек-Маллецевен, наиболее откровенный
среди авторов «внутренней эмиграции» выразитель страданий
по поводу несбывшихся мечтаний о возвращении к прошлому,
писал в своём дневнике, словно предугадывания необходимость
объяснения сомнительности двойственной позиции «внутренних
эмигрантов» в Третьей рейхе, что «прошли четыреста лет рацио-
налистского руководства миром и рационалистской ереси и снова
явились великая тайна и иррационализм в своей сути, которые
стучатся в прогнившие ворота человечества».1 Судя по тому, что
дневник Ф. Рек-Маллецевена издавался четырежды, можно с уве-
ренностью сказать, что он отвечал представлениям определённой
части немецкого общества о годах правления Гитлера. Подтверж-
дением этому и служит огромный успех произведений Стефана
Андреса, особенно его трилогии «Потоп», ставшего в послевоенной
Германии чуть ли не классиком, но, правда, вскоре забытым, как
это и бывает, с авторами тривиальной литературы.
Понятно, что писатели «внутренней эмиграции», при их непри-
ятии Веймарской республики во всех её политических и культурных
проявлениях, располагали только запасом гуманистических ценно-
стей XIX века, их они и защищали, к сохранению их они и призы-
вали. Единственное крыло «внутренней эмиграции», молодые писа-
тели, только входившие в литературу в конце 20-х — в начале 30-х
годов, эмигрантами себя не считали и выезжать никуда не соби-
рались по причине полной неизвестности на Западе, да и в самой
Германии были мало кому известны как в художественном, так
и в политическом отношении. Они были порождением Веймарской
республики, «Европы века двадцатого печального» по образному
выражению Петера Хухеля (Huchel, Peter; 1903-1981), и классика
1 Reck-Malleczewen F. Tagebuch eines Verzweifelten. Stuttgart, 1966. S. 27-28.
649
XIX века их особенно не трогала и в лучшем случае они вели своё
происхождение от раннего экспрессионизма типа Георга Гейма. Их
протестные интенции определялись не защитой духовных ценностей
XIX века, которые они воспринимали как данность, а отстаиванием
собственного видения мира с позиций модернизма, где идеологии
национал-социализма, не говоря уже о её воплощении в политиче-
ской практике, противопоставлялось изображение реальной дей-
ствительности во всех её проявлениях, насколько это позволялось
цензурой (X. Ланге, Ф. Лампе), или намеренным игнорированием
собственно нацистской действительности (М. Рашке). Здесь речь
шла не о создании исторических аллюзий, а просто об исключении
из творчества нацистского времени как такового на всех уровнях
при сохранении ощущения некоей тревоги и напряжённости.
Афашистская литература
В нашем литературоведении, как, впрочем, и в литературо-
ведении современной Германии, сложилась несколько странная
ситуация, когда говоря о литературе Третьего рейха, исследова-
тели по непонятным причинам забывают о существовании груп-
пы авторов так называемой афашистской или нефашистской
направленности, хотя многие из них после 1945 г. в значительной
мере определяли развитие послевоенной немецкой литературы.
Творчество таких писателей как В. Кёппен, Г. Айх, Э. Ланггессер,
М.Л. Кашниц, X. Ланге, О. Шэфер, П. Хухель, Г. Ленц, Э. Шнабель,
В. Вайраух, К. Кролов, А. Андерш и ряд других рассматривается
в контексте послевоенного времени, забывая при этом, что форми-
рование их как личностей и как художников приходилось именно
на годы фашизма. Возможно, что эта «забывчивость» вызвана была,
особенно в первые послевоенные годы, нежеланием самих авторов
по разным причинам замалчивать свои ранние произведения,
да и сами литературоведы не обладали достаточными знаниями
о литературном процессе времён Третьего рейха. Пожалуй, впервые
к проблеме афашистской / нефашистской литературы обратился
в 1976 г. Г. Д. Шэфер, который попытался в своей обширной статье
«Нефашистская литература «молодого поколения» в национал-соци-
алистской Германии» (»Die nichtfaschistische Literatur der »jungen
Generation« im nationalsozialistischen Deutschland«) рассмотреть
основные аспекты этого явления в литературной жизни тогдашней
Германии, квалифицировав его как некую «относительно закрытую
651
литературу поколения».1 В какой-то степени эта статья послужила
отправной точкой для дальнейшего, более углублённого изучения
немецкой литературы времён Третьего рейха, вызвав со временем
открытие достаточного количества неизвестных исследователям
текстов, которые заставили по иному толковать истоки творчества
некоторых авторов (например, Г. Айха), вызволить из небытия неко-
торые имена (например, М. Рашке, Ф. Лампе), по-иному оценить
истоки литературы послевоенного времени.
Термин «афашистская литература», при всей, казалось бы, ясно-
сти заложенного в нём смысла, требует некоторого разъяснения,
ибо под ним можно понимать не только литературу, отрицающую
фашизм как политическое явление со всеми его идеологическими
установками, но и как литературу, игнорирующую фашизм в той же
мере, в какой она игнорирует какое-либо другое политическое явле-
ние с той лишь разницей, что это игнорирование не содержит в себе,
если вообще содержит, прямого осуждения фашизма как такового.
Фашизм для этой литературы как бы не существует, и она продол-
жает разрабатывать традиционные темы в пространстве реаль-
ного времени, не замечая атрибутов этого времени или, на худой
конец, вскользь и не без некоторой иронии определяя их наличие.
Единственное, что связывало авторов афашистской направленно-
сти с фашизмом, это необходимость членства в Имперской палате
письменности, без которого они не имели права публиковать свои
произведения. Эта вынужденная мера, в свою очередь, требовала
наличие как минимум двух гарантов, подтверждающих не только
их профессионализм, но и в некотором роде приверженность новым
властителям, в связи с чем, один из гарантов должен был прямо
или косвенно числиться на хорошем счету у нацистов.
Это временное техническое отступление от принципов, опре-
делявших статус афашистской литературы, впоследствии станет
поводом для некоторых литературоведов левацкого толка обвинить
авторов, придерживавшихся этого направления, в политической
амбивалентности, приспособленчестве и даже в духовном родстве
с идеологией национал-социализма.
Подобные литературоведческие эскапады, построенные на раз-
личного рода спекуляциях, подверглись заслуженной критике, хотя
1 Schäfer H. D. Die nichtfaschistische Literatur der »jungen Generation« im national-
sozialistischen Deutschland // Die Deutsche Literatur im Dritten Reich. Themen.
Traditionen. Wirkungen / Hrsg. v. H. Denkler und K. Prümm. Stuttgart, 1976. S. 459.
652
сам факт их возникновения высветил достаточно ярко сложность
и уязвимость позиции авторов афашистской направленности.
Хотя избранная ими позиция не лишена протестных интенций,
она всё же чревата тем, что творчество писателя, исповедующего
принципы афашистской литературы, вопреки его желанию, может
оказаться созвучным идеологии фашизма, учитывая многогран-
ность заимствований, определяющих идеологическую платфор-
му немецкого фашизма, и здесь важно сохранить определённую
дистанцию, выработать своеобразную стилистику выражения
собственного понимания предмета творчества, не совпадая ни сло-
весно, ни духовно с национал-социалистской патетикой.
Как бы то ни было, но подобная практика бытования в нацист-
ской Германии свойственна была молодым писателям, поэтам так
называемого «военного и послевоенного поколения» или, как говорил
один из ярких представителей этой группы авторов Петер Хухель,
поколения «Европы века девятнадцатого печального» (Europa neun-
zehnhunderttraurig),1 начинавшим свой творческий путь в конце
20-х — в начале 30-х гг. и оставшимся в стране после прихода
к власти нацистов. В большинстве своём они не принадлежали
к каким-либо заметным политическим партиям или группам, но уже
обратили на себя внимание как творческие личности, подающие
надежды. Им свойственна была некая свобода выражения собствен-
ных взглядов, часто отличавшихся от общепринятых суждений,
некий богемный образ жизни, который придавал им определённую
независимость, что позволяло причислять их к левой интеллиген-
ции, к авангарду, хотя левизна эта зачастую выливалась в некую
браваду, в противопоставление себя буржуазному обществу.
Известный критик Курт Керстен (Kersten, Kurt; 1891-1962),
говоря о творчестве молодых писателей, оставшихся после 1933 г.
в Германии, но не принявших нацистскую идеологию (речь шла
о Г. Г. Бреннере, В. Кёппене, Г. Вайзенборне), назвал их в своей
статье, опубликованной в 1935 г. в эмигрантском журнале «Замлунг»
(»Die Sammlung«), «приспособившимися»: «Они держались так, как
будто им угрожала опасность, потому что они когда-то принад-
лежали «к тем самым», а их не считали опасными, потому что их
совершенно пассивная позиция говорила, что они не принадлежали
«к тем самым».2 Допуская в «банальных мотивах» их книг наличие
1 HuchelP. Europa neunzehnhunderttraurig / / Die literarische Welt. Nr. 1. 02.01.1931.
S. 1-2.
2 Kersten K. Die Angeglichenen // Die Sammlung. Amsterdam. 1935. H.7. S. 384-385.
653
«определённого оппозиционного настроя», Керстен, тем не менее,
не воспринимает этих писателей как «литературную фронду», ибо
это «литература окольных путей,... лишённая какого-либо влия-
ния», хотя и «отражает настроения известной части населения».1
Молодые авторы «терпят диктатуру, не признавая её внутренне,
избегают её и блуждают в растерянности, не находя основы для
сопротивления ».2
При всей резкости суждений Керстена, эмигранта первой
волны, полагавшего, как и многие в Европе, что Гитлер долго
не продержится, отчего критик и недоумевал по поводу того, что
оставшиеся в Германии молодые писатели не предпринимают
никаких активных действий для ускорения падения нацистского
режима, смены общественного настроения в фашистской Германии
и отчасти в мире, в полемическом запале как-то упустил из вида
или вообще не задумывался об этом, что, по крайней мере, лите-
ратурная молодёжь конца 20-х — начала 30-х годов не отличалась
особой политической активностью, и все его язвительные заме-
чания в адрес молодых авторов не достигли своей цели в прямом
и переносном смысле. Об этом писал ещё в 1930 г. знаменитый
театральный критик Герберт Иеринг (Ihering, Herbert), говоря
об отрицательном отношении молодых авторов к документальной,
партийной и агитационной окрашенности современной литературы
и ориентировавшихся на образцы прошлого, идя по проторённой
дорожке, проложенной Гуго фон Гофмансталем или Райнером
Мария Рильке, что приводило к тому, что «писатели становились
мягкими, неопределёнными, что границы размывались, духовные
коалиции исчезали».3 Не случайно в феврале 1932 г., когда близость
прихода к власти нацистов была заметно ощутима, либеральный
журнал «Литерарише вельт» (»Die literarische Welt«) посвятил специ-
альный номер проблемам молодёжи именно в контексте её отноше-
ния к политической ситуации в Германии, в котором все авторы,
а среди них были имена достаточно известные в то время, такие
как Юлиус Баб, Эрнст Глэзер, Вальтер фон Холландер, Ганс Харт-
ман, Хайнц Голланг и другие, в один голос призывали молодёжь
1 Kersten К. Die Angeglichenen. S. 385-386.
2 Ibid. S. 386.
3 Ihering H. Der Kampf ums Theater und andere Schriften 1918 bis 1933. Berlin, 1974.
S. 373.
654
различных социальных слоев определиться в своих политических
предпочтениях.1
Вот примечательный штрих, характеризующий отношение
афашистских авторов к политической ситуации в преддверии
прихода к власти нацистов. В своих мемуарах Ода Шэфер сооб-
щает о посещении Мартином Рашке и Хорстом Ланге в середине
января 1933 г. совместного собрания социалистов и коммунистов:
«В то время как Анна Зегерс, которой я всегда восхищалась, ходи-
ла по рядам с кружкой для пожертвований, там выступал среди
прочих Эрих Мюзам. Безобидный анархист из Мюнхена, который
хотел сделать много хорошего, предвидел всё намного яснее, чем
мы, чья вина в известном смысле заключалась в упущении — мы
воспринимали всё очень несерьёзно, да, мы находили всё это (при-
ход фашизма.— Е. 3.) только смешным и буржуазным».2
Сам Керстен, будучи постоянным посетителем литературных
кафе, не мог не видеть этой вереницы молодых литераторов,
кочующих из одного кафе в другое, ожесточённо спорящих или
внимающих очередному гуру. Эта интеллектуальная говорильня
притягивала к себе молодёжь своей непосредственностью, откры-
тостью. Молодой Вольфганг Кёппен (Koeppen, Wolfgang; 1906-1996),
который в значительной мере принадлежал к разряду афашистских
авторов, в своём знаменитом эссе «Романское кафе» (»Romanisches
Café«, 1972) великолепно передаёт в одном-единственном предло-
жении, растянувшемся на несколько страниц, атмосферу этого
своеобразного культурного центра Германии конца XIX — начала
XX веков: «Романское кафе»... напоминало собой корабль, стоящий
то ли на якоре, то ли находившийся в открытом море, на плаву или
на мели... чередовались приливы и отливы денег, бурные подъё-
мы нужды, мимо проходили армады автомобилей, зарождались
и разрастались ураганы, звёзды кинорекламы всходили и падали;
пассажиры корабля стремились ухватить скупые лучи солнца,
среди них были заезжие гости, хотя их и не приглашали, и боги,
которым они поклонялись или которых они отрицали; правда, эти
боги в ужасе давно уже отвернулись от них или их вообще здесь
никогда не бывало, и тогда посетителям кафе снился новый сон
о том, что бог умер, или же им снился сон о том, что его имя было
1 Die Situation für Jugend // Die literarische Welt. Nr. 8/9. 19.02.1932. S. 1-11.
2 Schäfer O. Auch wenn Du träumst, gehen die Uhren. Lebenserinnerungen. München,
1970. S. 258.
655
превыше всех имён... и когда я примкнул к ним, достигнув благо-
словенной земли,., то мне казалось, что этот храм излучал сияние
в полном соответствии с моими представлениями о нём; я внимал
поэтам и философам, слушал художников и актёров, встречался
с умными владельцами больших и могущественных газет, с уверен-
ными депутатами больших и могущественных народных партий,
я любил анархистов и анархических девушек, которые сидели
с ними, я любил мечтателей о вечном мире на земле и фанатиков
свободы, равенства и братства...»1
Если представители кайзеровского поколения, бывшие непре-
менными участниками «великой войны», обладая определёнными
взглядами о государстве и общественных установлениях и опираясь
на культурное наследие прошлого, оценивали послевоенные события
в Германии как крушение немецкой государственности и культу-
ры, отчего их отношение к Веймарской республике носило резко
выраженный антидемократический характер, то послевоенное
литературное поколение, ввергнутое в хаос нарождающейся респу-
блики, меньше всего сокрушалось по поводу проигранной «великой
войны», а больше всего было озабочено поисками собственной
идентичности, поисками собственного места в обстановке голода,
экономической разрухи, безработицы, многообразия различных
партий и группировок, отсутствия каких-либо духовных ориенти-
ров. Надеяться можно было только на самих себя. Быть молодым
рассматривалось в те времена, «безотносительно каких-либо кон-
кретных проявлений, как некая метафора динамики и открытости
к будущему».2
Именно под знаком этой метафоры в годы Веймарской респу-
блики возникали различные молодёжные литературные объедине-
ния, выходили многочисленные литературные журналы, которые
1 КёппенВ. Романское кафе // Вопросы филологии. Вып. 3. СПб., 1997. С. 169-
170.— Интересное описание атмосферы, царившей в этом кафе, оставил Илья
Эренбург: «Там можно было увидеть итальянцев, убежавших от касторки Муссо-
лини, венгров, спасшихся от тюрем Хорти. Там венгерский художник Мохой-Надь
спорил с Лисицким о конструктивизме. Там Маяковский рассказывал Пискатору
о Мейерхольде. Там итальянские фантазёры мечтали о международном походе
рабочих на Рим... Солидные бюргеры, направляясь в воскресенье на богослужение
в Гедехтнискирхе, пугливо поглядывали на „Романское кафе" — им казалось, что
напротив церкви разместился штаб мировой революции» (Эренбург И. Люди, годы,
жизнь. Кн. 3, 4. М., 1963. С. 20.)
2 Kiedaisch Р., Schober Р. Krisenzeit der Moderne // Martin Raschke (1905-1943). Leben
und Werk / Hrsg. v. Haefs W., Schmitz W. Dresden, 2002. S. 39.
656
хотя и не оказывали непосредственного воздействия на литератур-
ную жизнь Германии того времени в силу кратковременности своего
существования и малочисленности подписчиков, но служили неким
подготовительным классом для значительной группы писателей,
поэтов, публицистов, без творчества которых трудно представить
немецкую литературу 20-х — 60-х годов XX века.
Среди таких литературных журналов особое место занимает
журнал «Колонне» (»Die Kolonne«), выходивший в Дрездене с 1929
по 1932 гг. под редакцией Артура Кунерта (Kuhnert, Arthur) и Мар-
тина Рашке (Raschke, Martin). Первоначально журнал представлялся
как «орган молодой группы Дрездена» (»Zeitung der jungen Gruppe
Dresden«), однако вскоре круг его авторов значительно расширился
и прежний подзаголовок был снят. Тираж журнала был чрезвычай-
но мал — всего около 500 экземпляров, что объяснялось не только
спецификой его публикаций, ибо в нём печатались произведения
молодых, совершенно неизвестных авторов, но и тем, что журналь-
ный рынок в Германии тех лет был перенасыщен подобного рода
изданиями, так что самим соиздателям приходилось подписываться
на него под другими именами с тем, чтобы как-то поддерживать
его существование.1 Гонорары практически не выплачивались,
дело доходило до того, что некоторые авторы сами оплачивали свои
публикации в журнале.
Если Артур Кунерт занимался в основном чисто редакцион-
ными делами (подыскивал авторов, решал технические проблемы
выпуска журнала) и почти не оказывал влияния на программу
журнала, то Мартин Рашке в содружестве с Гюнтером Айхом были
главными идеологами «Колонне».
Интерес к этому журналу вызван, прежде всего, тем, что его
довольно разношёрстный авторский коллектив составил костяк
писателей афашистской направленности в годы Третьего рейха.
Такие авторы как Гюнтер Айх, Хорст Аанге, Ода Шэфер, Элизабет
Ланггэссер, Георг Бриттинг, Петер Хухель, Герман Казак, Тео-
дор Крамер, Эрика Миттерер, Марта Заальфельд, Георг фон дер
Фринг, Эберхард Меккель и некоторые другие в известной мере
исповедовали теоретические принципы журнала «Колонне», фор-
мировавшиеся преимущественно в критических статьях Мартина
Рашке и Гюнтера Айха и выражавшиеся в отрицании «новой дело-
витости» и приверженности природе, сельскому образу жизни. При
1 Schäfer О. Op. cit. S. 259.
657
всей отстранённости этой группы писателей от непосредственной
политической деятельности в духе национал-социализма, при всей
их вовлечённости ради хлеба насущного в культурно-политическую
систему нацистского режима (например, работа на радио М. Рашке,
Г. Айха, X. Ланге, О. Шэфер, П. Хухеля), их творчество оставалось
по большей части незатронутым духовными веяниями того времени.
Создавалось такое впечатление, что они находились в некоей резер-
вации, созданной ими самими, и не особо подвергавшейся досмотру
нацистами, хотя, при желании, там можно было найти достаточно
материала для политических оргвыводов. Пример тому история
с издательством «Рабенпрессе» (»Rabenpresse«) Otto Штомпса
(Stomps, Otto), просуществовавшим до 1937 г., в котором печата-
лись не только авторы афашистской направленности, но и такие как
Гертруд Кольмар, гонимые по национальному признаку (в 1934 г.
вышел в этом издательстве её сборник стихов «Прусские гербы» —
»Preußusche Wappen«). Но до оргвыводов дело не доходило по той
простой причине, что их восприятие мира, покоившееся на вос-
певании природы как духовного ориентира становления человека
в сочетании с обращением к прошлому, к народным истокам,
укладывалось формально в постулаты культурной политики наци-
онал-социалистов, хотя и не обладало той навязчивой динамикой
подчёркивания истово германского, национального духа, которая
была присуща произведениям фёлькиш-националов.
Кристоф Меккель, современный немецкий писатель, просма-
тривая в книге «Картина поиска» (»Suchbild«, 1980) жизненный
и творческий путь своего отца, Эберхарда Меккеля, известного
в те годы писателя, входившего в авторский состав журнала
«Колонне», даёт развёрнутую картину настроений молодых авторов
времён нацизма. Говоря о полном игнорировании его отцом всего,
что происходило вокруг него после прихода к власти нацистов,
о том, что он «продолжал писать рассказы и стихи, в которых вре-
мя совершенно не отражалось», Меккель, со слов отца, замечает:
«Такой позиции придерживался не только он один. Всевозможные
писатели его поколения (вся фаланга самой молодой интеллиген-
ции) продолжали жить с удивительной отстранённостью от духа
времени, замкнувшись в натурпоэзии, спрятавшись в воспевании
времён года, вечности, неизменно значимого, вневременного, кра-
сот природы и искусства, пребывая в представлении об утешении
и веря в бренности нужды, обусловленной временем».1
1 Meckel Chr. Suchbild. Über meinen Vater. Düsseldorf, 1980. S. 29.
658
Подобная позиция Э. Меккеля объяснялась отсутствием у него,
как это было свойственно буржуазной интеллигенции тех лет, како-
го-либо интереса к политике, хотя он, несмотря на его недоволь-
ство методами правления новых властителей, решительный отказ
от вступления в партию и отрицательное отношение к Гитлеру,
которого считал «позором Германии»,1 продолжал, как ни в чём
не бывало, общаться с ведущими представителями официальной
нацистской литературы, принимать участие в литературных меро-
приятиях нацистов, и вообще не ощущал себя в чём-то ущемлён-
ным — ни в духовном, ни в материальном смысле.
Совсем иначе, исповедуя почти те же литературные принципы,
строили свою жизнь поэтесса Ода Шэфер и её муж, писатель Хорст
Ланге, для них нацизм и всё, что связано с ним, вызывало протест
и ощущение собственного бессилия: «Нужда и насилие. Хорст Ланге
и я жили в тридцатые годы под дамокловым мечом, который, как
утверждали Эрих Кэстнер и Вернер Финк,2 висел на тоненькой
шёлковой нити: «Меня беспокоил бы не меч, а только нить... », и хотя
жили мы совсем плохо среди набиравшего силу благосостояния
примкнувших к режиму, которое базировалось главным образом
на работавшей в полную силу оборонной промышленности, однако
жизнь наша была всё же чрезвычайно интенсивной... Мы пыта-
лись забыть брутальных насильников, не слышать отвратительный
аккомпанемент маршей, не замечать доносчиков из соседнего дома,
и всё это только ради того, чтобы отдать должное тем представлени-
ям о задаче писателя, которое сложилось у нас ещё со времён нашей
юности. Хорст Ланге как-то сказал: «Если бы я не был мечтателем,
то я не мог бы писать».3
Однако это не значило, что авторы афашистской направ-
ленности были предоставлены самим себе. Напротив, нацисты
приглядывались к ним в желании использовать их талант в своих
целях. Об этом говорит неожиданное назначение в апреле 1933 г.
Эберхарда Меккеля редактором самого представительного в Гер-
мании журнала «Литерарише вельт». Замена Вилли Хаасу (Haas,
Willy), основателю и многолетнему главному редактору этого жур-
нала, вынужденному эмигрировать в Чехословакию, прямо скажем,
1 Meckel Chr. Op. cit. S. 45.
2 Эрих Кэстнер (1899-1974), известный сатирик; Вернер Финк (1902-1978), извест-
ный актёр, руководитель знаменитого сатирического кабаре «Катакомбе».
3 Schäfer О. Op. cit. S. 249.
659
не адекватная. Однако из престижных соображений нацистам хоте-
лось сохранить «Литерарише вельт» (по крайней мере, этого «очень
желал Геббельс»),1 и, вероятно, для того чтобы не растерять прежних
читателей выбор пал на Меккеля. Трудно сказать, чем руковод-
ствовался в своих действиях новоиспечённый главный редактор.
Следовал ли он каким-то указаниям сверху или, воспринимая себя
калифом на час, пошёл ва-банк, но 21 апреля 1933 г. вся литератур-
ная часть 16 номера «Литерарише вельт» под многозначительным
лозунгом «Немецкая весна. Проза и стихи молодых писателей» была
почти целиком отдана авторам афашистской направленности, пре-
имущественно авторам журнала «Колонне» — П. Хухелю, Г. фон дер
Фрингу, О. Шэфер, X. Ланге, Г. Бриттингу, А Кунерту, Э. Миттерер.2
Судя по всему, смотрины творчества афашистских авторов
были признаны неудачными, потому что Э. Меккеля в следующем
номере «Литерарише вельт» сменил Карл Раух (Rauch, Karl), который
хотя иногда и дискутировал с нацистами, тем не менее, придал жур-
налу соответствующее их желаниям направление. Причина несо-
стоявшегося союза афашистских авторов с новыми правителями
Германии заключалась в том, что их творчество было лишено кон-
дового народнического духа, оно было слишком личным, что явно
не вписывалось в каноны «почвы-и-крови», и их оставили в покое,
но в покое напряжённом, ибо в любой момент их произведения
могли подвергнуться (и подвергались) резкой критике, учитывая ТОт
факт, что тогда проблемами литературы занимались все кто угодно,
начиная с политической верхушки и кончая последним эсэсовцем.
Правда, учитывая тот факт, что первые «мирные» годы суще-
ствования Третьего рейха литературная ситуация в стране отли-
чалась некоторым либерализмом, вызванным не только желанием
нацистов предстать перед лицом мировой общественности в при-
стойном виде, но и заметным разнобоем в действиях различных
надзорных организаций (одна война между А. Розенбергом и Й. Геб-
бельсом чего стоила!) Однако в преддверии войны и в последующие
годы цензура заметно усилилась, и афашистские авторы стали
объектом особого внимания. В закрытом письме «Главной редакции
«Художественная литература» ведомства Розенберга «Забота о лите-
ратуре» (»Schrifttumspflege«) за 1940 г. речь шла именно об авторах
1 Haas W. Die literarische Welt. Erinnerungen. München, 1957. S. 183.
2 Deutsche Frühling. Geschichten und Verse junger Dichter // Die literarische Welt.
21.04.1933. Nr. 16. S. 3-4.
660
«духовного и литературного безвременья», т.е. об афашистских
авторах. В этой связи есть смысл достаточно подробно представить
этот документ, ибо в нём отразился весь спектр претензий нацистов
к авторам этого направления и более откровенно выражена опас-
ная для нацистов сущность деятельности этой на первый взгляд
безобидной группы писателей.
«Существенную часть негативных отзывов составляют, наряду
с развлекательной литературой, произведения определённого слоя
авторов, которые, касательно изобразительной части, выступают
с более высокими претензиями, но которые, применительно выра-
женных в их произведениях внутренней позиции и образа мыслей,
с нашей стороны должны рассматриваться с особой осторожностью.
При ближайшем рассмотрении возникает такое впечатление, как
будто эти авторы живут в своеобразном духовном и литературном
безвременье, что позволяет им в их работах, с одной стороны, депо-
литизироваться, а, с другой стороны, полагаться на то, что очень
многие читатели их книг совсем не замечают, с кем они имеют дело».
Эти авторы «безвременья» проявляют «большее родство с литерату-
рой времён до 1933 года, чем с народной литературой нашего вре-
мени... Этих авторов можно было бы и не принимать во внимание,
если бы не некоторые симптомы, которые указывают на то, что здесь
образуется литературная клика, которая выступает с претензиями
на господство в духовной области и которая, кажется, всё больше
начинает пользоваться успехом среди читателей... При этом мы име-
ем в виду такие имена как Карл Фридрих Курц, Ганс Ляйп, Эдзард
Шапер, Ганс Лёшер, ХорстЛанге, Вальдемар Бонзель, Вернер Берген-
грюн, Стефан Андрее, Пауль Фехтер, Отто Эрнст Гессе, Аугуст Шолтис
и т.д. Опасения вызывает воздействие этих авторов безвременья,
которое как раз за время этого отчёта довольно усилилось, и возникло
оно прежде всего от того что, по всей вероятности, большая часть
наших рецензентов не в состоянии выносить надёжные суждения
о произведениях этих авторов... Между прочим, вызывает удивление
факт того, как некритично воспринимает большинство рецензентов
произведения этих авторов, а также то, что похвалу и признание их,
к сожалению, можно встретить на страницах национал-социали-
стических газет. В связи с этими явлениями можно прямо говорить
о кризисе в области рецензирования книг».1
1 Ehrke-Rotermund H., Rotermund E. Zwischenreiche und Gegenwelten. Texte und
Vorstudien zur »Verdeckten Schreibweise« im »Dritten Reich«. München, 1999.
661
Кризис, однако, заключался в состоянии самой литерату-
ры в Третьем рейхе в 1940 году. При всём том, что этот далеко
не полный список неблагонадёжных авторов вызывает вопросы
относительно их неблагонадёжности, вернее, степени их небла-
гонадёжности (об этом разговор пойдёт позже), он примечателен
тем, что основанием для него послужили произведения не только
авторов молодого поколения из команды «Колонне», но и авторов
более старшего поколения, продолжающих писать так, как будто
после 1933 года в Германии не произошло никаких политических
событий, которые могли бы каким-то образом повлиять на их
творчество, не окажись они инородцами. Судя по всему, ведом-
ство Розенберга беспокоило отсутствие какого-то единого фронта
пронацистской литературы, как и отсутствие самой нацистской
литературы, схожей по своим творческим проявлениям с литера-
турой афашистских авторов. Если ведомство Геббельса понимало
и умело использовало преимущества произведений афашистских
авторов (основание пропагандистского журнала «Рейх» в 1940 году,
почти весь редакционный состав которого формировался исклю-
чительно из представителей афашистски настроенной интеллиген-
ции), то ведомство Розенберга предпочитало идти напролом, оттого
печальные ламентации и определяют тональность упомянутого
закрытого документа.
Отсюда, однако, не следует вывод о том, что авторы афашист-
ской направленности чувствовали себя в этой ситуации достаточно
умиротворённо. Именно в это время особенно резко проявилось
стремление к сохранению и сплочению дружеских связей, и авторы
журнала «Колонне» представляли какой-то особый вид товарище-
ства. Г. Айх, П. Хухель, X. Ланге, О. Шэфер, Э. Ланггэссер, М. Рашке,
Э. Меккель, Г. фон дер Фринг и примкнувший к ним В. Бергенгрюн
находились друг с другом в постоянном контакте, принимая участие
в семейных праздниках, совместных выездах на природу, помогая
друг другу как в делах литературных, так и в повседневных заботах.
S. 483.— В списке неблагонадёжных авторов в этом отчёте была упомянута и «Анто-
логия 1940» К сожалению, полный текст этого отчёта мне недоступен, поэтому
приходится довольствоваться отдельными цитатами или сведениями, заимство-
ванными из работ других германистов. Г. Д. Шэфер сообщает также о том, что
в число порицаемых книг вошла и «Антология 1940 — Молодая немецкая проза»
(»Anthologie 1940 — Junge deutsche Prosa«, 1940), изданная Вольфгангом Вайра-
ухом, в которую вошли произведения большой группы совершенно неизвестных
молодых авторов (Schäfer H. D. Op. cit. S. 21).
662
Как писала О. Шэфер в своих мемуарах, «дружба помогала нам
переносить тяжёлые годы, дружба, выражавшаяся в тесных связях
людей, придерживавшихся одинаковых взглядов, хотя и не одина-
ковой веры. Это привело в годы войны, когда всё с возрастающей
силой начинал главенствовать принцип уничтожения, к некоторому
роду катакомбной жизни».1
В отличие от авторов «внутренней эмиграции» писатели афаши-
стской направленности не имели какого-либо собственного печат-
ного органа, где они могли бы более внятно заявить о своих эсте-
тических и духовных предпочтениях, и поэтому их произведения,
особенно стихи, а также статьи, можно было встретить в самых нео-
бычных изданиях, например в журнале мод «нойе линие» (»die neue
Unie«) или в гламурном журнале «Даме» (»Die Dame«). Достаточно
часто их имена появлялись на страницах журнала «Иннере рейх»,
иногда в крупных газетах «Франкфуртер цайтунг» и «Кёльнише
цайтунг», то есть в тех изданиях, которые стремились сохранить
прежний культурный уровень в расчёте на солидную публику.
Особо следует отметить два издания, в которых афашистские
авторы чаще всего, неожиданно для себя, находили приют,— это
еженедельник «Дойче Цукунфт» (»Deutsche Zukunft«, 1933-1940),
считавшийся «органом духовной оппозиции»,2 литературным
редактором которого был Пауль Фехтер (Fechter, Paul; 1880-1958),
и пропагандистский представительского толка еженедельник «Рейх»
(»Das Reich«, 1940-1945), литературным редактором которого был
Вольфганг Вайраух (Weyrauch, Wolfgang; 1907-1980). П. Фехтер
пользуется у наших германистов дурной славой, но именно он был
известен тем, что публиковал в «Дойче Цукунфт» произведения
и статьи М. Рашке, И. Молцан, Г. фон дер Фринга, В. Вайрауха
и других авторов афашистской литературы; более того, Фехтер
неоднократно выступал в защиту Г. Фаллады, публиковал некрологи
о еврейских деятелях культуры и искусства (некрологи в память
об издателе Самуэле Фишере, художников Максе Либермане
и Юлиусе Левине; статьи об Якобе Вассермане), защищал гонимых
(художник Макс Пехштайн), не говоря уже о том, что почти всё, что
выходило из-под пера афашистских авторов, нашло своё отражение
в статьях и рецензиях самого Фехтера или же критиков из того же
1 Schäfer О. Op. cit.. S. 253.
2 Zuckmayer С. Geheimreport / Hrsg. v. G. Nickel und J. Schrön. Göttingen, 2002.
S. 322.
663
лагеря. Фехтер был одним из немногих критиков, кто осмелился
опубликовать в своём еженедельнике статью о Томасе Манне по слу-
чаю 60-летия писателя, выдержанную в чрезвычайно корректных
тонах.! Такая активная деятельность Фехтера продолжалась недолго,
в 1940 г. еженедельник был запрещён приказом Геббельса.
Если в случае с «Дойче Цукунфт» подобные условия для афа-
шистских авторов складывались благодаря усилиям одного Фехте-
ра, «крайнего националиста», водившего знакомство с будущими
участниками покушения на Гитлера 20 августа 1944 г., то есть
находившегося в явной оппозиции к нацистскому режиму, то пра-
вительственному еженедельнику «Рейх» авторы подобного склада
понадобились для сугубо пропагандистских целей. Макс Аманн
(Amann, Мах), рейхсляйтер по делам печати НСРПГ и президент
Имперской палаты печати, решил создать нечто похожее на англий-
скую газету "Observer": «Эта газета не должна быть одной из многих
газет и журналов, наоборот, она должна быть ведущим большим
политическим еженедельником, представляющим в одинаковой
степени действенно, убедительно и публицистически германский
рейх как внутри страны, так и за рубежом».2 Для этой цели были
привлечены лучшие журналисты, невзирая на партийную принад-
лежность. Особое значение придавалось фельетону, литературному
разделу еженедельника, выходившего под заголовком «Литерату-
ра, искусство, наука», во главе которого вначале стоял Карл Корн,
потом — Юрген Эггебрехт и Вольфганг Вайраух, то есть люди, имев-
шие богатый опыт журналистской работы в крупнейших буржуаз-
ных газетах и журналах Веймарской республики. Наряду с круп-
нейшими критиками, такими как Вильгельм Э. Зюскинд, Бенно
фон Визе, Эдуард Шпрангер, учёными Макс Бензе, там публико-
вались рассказы Ф. Лампе, В. Вайрауха, X. фон Кубе, Э. Шнабеля,
военные дневники М. Рашке, статьи В. Кёппена, В. Лемана и ряда
других писателей, в произведениях которых нацистская тематика
совершенно отсутствовала.
Творчество афашистских писателей, как и некоторых других
авторов, не находившихся в близости к журналу «Колонне», но в сво-
ей практической деятельности (например, М.Л. Кашниц, Ф. Лампе
1 -er. Thoman Mann. Zum 60. Geburtstag, 6. Juni // Deutsche Zukunft. 2. Juni 1935.
S. 19.— В журнале »Die Neue Rundschau«
2 de.wikipedia.org/wiki/Das_Reich
664
или Г. Р. Хокке) следовавших тем же принципам невовлечённости
в культурно-политическую систему ценностей идеологии нацистов,
оставалось, за редким исключением, на периферии интересов
не только российских, но и немецких германистов. Подобная холод-
ность тем более выглядит странной, ибо многие из авторов круга
«Колонне» — в разной степени и по-разному — фактически пытались
в годы нацизма следовать заветам великих модернистов Т. Манна,
Ф. Кафки, М. Пруста, Д. Джойса, хотя и не выступая в роли сотря-
сателей мира, т.к. окружающая их действительность не то чтобы
не давала им повода для таких проявлений, а просто не позволяла
им в силу физической опасности для их жизни достаточно близко
подойти к той грани, за которой напрямую раскрывалось бы истин-
ное лицо состояния общества, живущего под знаком фашистской
диктатуры. Творчество афашистских писателей являло собой лишь
отголосок того «правильного» бытия, которое повсеместно унич-
тожалось нацистами не только в Германии, но и за её пределами.
В какой-то мере авторы афашистской направленности близ-
ки подавляющему большинству авторов «внутренней эмиграции»,
однако, если последние эмигрировали в отдалённые кущи середи-
ны XIX века, откуда долетали только отголоски далёкого прошлого,
извращённые эпигонами не первой руки, то авторы афашистского
толка обретались в ближних рощах начала XX века, и голоса, раз-
дававшиеся из них, ещё обладали живительной силой. В этой связи
есть смысл более внимательно рассмотреть как истоки творчества
авторов афашистского направления, так и сами их произведения,
ибо это литературное явление в годы Третьего рейха можно и нужно
воспринимать как своеобразный вызов политической и культурной
действительности нацистского режима, несмотря на периодически
возникающие вспышки литературоведческого ригоризма (А. Эгге-
брехт, К. Прюмм, Ф. Раддац), направленные на то, чтобы усомниться
в моральной легитимности подобной позиции авторов афашистского
направления, а то и вовсе причислить их к когорте присматривав-
шихся к нацистам, выжидающих удобного момента или повода
переметнуться в лагерь новых властителей. Эти исследователи зада-
ют авторам — например, В. Кёппену или Г. Айху — свои вопросы
и сами же отвечают на них, не озабочившись детальным анализом
материалов того времени. Исследователям, вроде К. Прюмма, каж-
дый автор, несогласный в какой-либо мере с нацистским режимом,
мыслится как боец, который тут же с оружием наперевес должен
665
выйти на улицу и начинать крушить своих врагов. Этого не было
и не могло быть, и для понимания всех аспектов взаимоотношения
интеллигенции, более того, всех немцев, и новой власти необходимо
обратиться к предыстории прихода к власти нацистов, к истории
Веймарской республики как таковой, а не рубить с плеча, выгова-
ривая очередному автору за проявление пассивности, политической
нерешительности, а то и за возможное, неважно в каком виде, согла-
сие с реальной действительностью.
Для того чтобы составить представление о журнале «Колонне»,
нужно начать с разговора о творчестве Мартина Рашке (Raschke,
Martin), и не только потому, что это издание было его детищем,
но ещё и потому, что этот автор долгое время оставался практиче-
ски неизвестным современной германистике, хотя книги его имен-
но в силу их принципиального афашизма пользовались большим
успехом у тогдашнего читателя. Только с начала 60-х годов XX века
на волне начавшегося интереса к литературе времён Третьего рейха
творчество Рашке стало предметом интереса не только исследова-
телей, но и читателей. Такая же судьба была уготована и «Колонне»,
хотя название его упоминалось в работах, посвященных творчеству
того или иного автора, чьи произведения публиковались на страни-
цах этого журнала. Правда, здесь сыграла свою роль и недоступность
самого издания. Лишь в конце XX века появился репринт некоторых
сохранившихся номеров журнала «Колонне».1
Мартин Рашке (1905-1943) родился в Дрездене в семье мелкого
чиновника, и вся его последующая жизнь проходила под знаком
борьбы против влияния обывательской идеологии отца. Будучи
гимназистом, Рашке был одним из соиздателей в 1925 году школь-
ного революционного журнала «Моб» (»Mob«) резкой антибуржуазной
направленности: «Моб означает чушь, вызов, действие, мечту, тоску
по несбывшемуся, опьянение. Моб означает вообще всё, но только
не порядочность, не пресыщенность и не артериосклероз. Моб это
сирена!»2 Журнал издавался частично на деньги компартии, отсюда
его антибуржуазная направленность, выступления против семьи
1 Die Kolonne. Dresden 1924/30-1932. 1998.— В связи с тем, что номера журнала
«Колонне» практически недоступны, мне пришлось воспользоваться подборкой ста-
тей М. Рашке, опубликованных в этом журнале и вновь представленных в сборнике
«Сведения о Мартине Рашке» (»Hinweis auf Martin Raschke« / Hrsg. v. D. Hoffmann.
Heidelberg / Darmstadt, 1963)
2 Siemens Chr. Blödsinn; Aufruf, Tat. Eine Ausstellung in Dresden erinnert an den
Schriftsteller Martin Raschke // Die Zeit, 25.02.1994. S. 58.
666
и школы, широкое обсуждение событий в России, прославление
заслуг Ленина. «Моб» вскоре был запрещён, но для Рашке первый
журналистский опыт не прошёл бесследно, что с особой силой
проявилось в его редакторской деятельности в журнале «Колонне».
Годы учения в университетах Лейпцига и Берлина отмечены
активной творческой деятельностью Рашке, которая сразу же при-
влекла внимание критики. В 1926 году выходит своеобразный мани-
фест афашизма «Мы будем. Признание цели» (»Wir werden sein. Ein
Zielbekenntnis«), в котором, несмотря на последующие частичные
изменения, вызванные фашистской действительностью, отразилась
творческая позиция Рашке и авторов круга «Колонны»: «Двадцатое
столетие мы называем одновременно нашим отцом и врагом. К нему
лежит наша любовь, но к нему пылаем мы и ненавистью. Мы любим
неумолимую холодность машин... Мы любим, как и многие тыся-
чи, город, но никогда не забываем о том, что существуют ветры,
облака, пальмы».1 Именно такое название «Ветры, облака, пальмы»
(»Winde, Wolken, Palmen«) получил первый сборник стихов Рашке,
вышедший в 1926 году.
Оба эти произведения получили положительные отклики. Клаус
Манн в своей статье «Новейшие немецкие авторы» (»Jüngste deut-
sche Autoren«, 1926), опубликованной в «Нойе швайцер рундшау»
(»Neue Schweizer Rundschau«), отмечая «определённое несовершен-
ство его стихов», хотя и «полных сильного и страстного тяготения
скорее к внутренним, чем к внешним проявлениям», посчитал его
«возвышенную прозу» выражением «дыхания и воли новой евро-
пейской молодёжи»; более того, К. Манн заявил, что считает Рашке
«почти коммунистом», «потому что из всех, витающих в воздухе
тенденций, ему больше всего близка русская».2
К. Манн, конечно, ошибался по поводу приверженности Рашке
коммунистической идеологии, но тот факт, что его первые произ-
ведения привлекли внимание таких демократических журналов
как «Вельтбюне» (»Die Weltbühne«) Курта Тухольского, «Путина»
(»Der Fischzug«) Otto Штомпса, а Курт Хиллер, один из идеологов
экспрессионизма, пригласил Рашке участвовать в литературных чте-
ниях в компании с уже известными авторами, говорит о признании
в нём талантливого автора с определёнными левыми тенденциями.
1 Цит. по: Haefs W. Martin Raschke. Lebens-und Werkchronik // Martin Raschke
(1905-1943). Leben und Werk // Hrsg. v. Haefs W., Schmitz W. Dresden, 2002. S. 210.
2 Ibid. S. 211.
667
Как следствие такого повышенного внимания к первенцам моло-
дого писателя стало приглашение, полученное Рашке от известно-
го издательства «С. Фишер-Ферлаг», как, не без удовлетворения,
замечает он, «для предварительного обсуждения моих последующих
произведений».]
Правда, этим и ограничивались контакты Рашке с представи-
тельным издательством, отвергшим год спустя его роман «Мерц»
(»Merz«), потому что, как писал Оскар Лёрке, главный редактор
издательства, «он был скучный».2 Но отказ не смущает Рашке. Он
целиком отдаётся водовороту литературной жизни Берлина, мно-
го выступает на радио с чтением своих произведений, публикует
в различных журналах статьи и рецензии, входит в редакционный
совет знаменитого литературного журнала «Литерарише вельт»
(»Die Literarische Welt«) Вилли Хааса, знакомится со многими моло-
дыми писателями, среди которых Клаус Манн, Гюнтер Айх, Хорст
Ланге, становится основателем серии «Книги молодых» (»Die junge
Reihe«), его имя уже занесено в известный «Литературный календарь
Кюршнера» за 1927 год,— одним словом, Рашке становится пол-
ноценным участником литературного процесса 20-х гг., к мнению
которого прислушиваются, имя которого вызывает у читающей
публики определённый интерес.
На пике своих несомненных успехов на литературном попри-
ще Мартин Рашке в содружестве с Артуром Кунертом и при под-
держке дрезденского издателя Вольфганга Йесса (Jess, Wolfgang)
основывает в конце 1929 года журнал «Колонне». Программа жур-
нала, представленная Рашке, являет собой улучшенный вариант
манифеста «Мы будем» и опробованный в ряде его публикаций
в журнале «Литерарише вельт». Со временем отдельные элементы
этой программы дополнялись чуть ли не в каждом номере журнала
какими-то значимыми на данный момент деталями, при сохране-
нии общего решительного нонконформизма.
Первый номер «Колонне», как записал Рашке в своём дневнике
в ноябре 1929 года, «должен был носить заголовок „Долой новую
деловитость!"»3 Этот призыв нашёл свое отображение в програм-
ме журнала. Прежде всего, редакция не собирается представлять
1 Haefs W. Op. cit. S. 211-212.
2 Ibid. S. 215.
3 Ibid. S. 223.
668
какие-либо литературные направления, но решительно настроена
«против «новой деловитости», которая низводит поэта до положения
репортёра и пропагандирует пролетарское окружение в качестве
эмоционального стандарта современной поэзии», поэтому время
и все его проявления вроде «лётчиков, телеграфа и профсоюзов»
отвергаются,1 из чего следует, что «чудо и новую деловитость следу-
ет чётко разграничивать».2 Лишь в одном случае Рашке допускает
обращение к «новой деловитости», когда поэт «боится чрезмерным
количеством слов заслонить чудесное, потому что тогда отказ
от какой-либо метафизики приводит к тому, что упорядоченная
видимость достаточно позволяет видеть чудесное». Правда, тут же
добавляется, что речь не идёт о «далёком от жизни эстетизме», ибо
«мы чувствуем себя обязанными обращаться к проблемам дня, хотя
мы и не уверены в каждой строчке...»3
Особый раздел в программе журнала — поэзия, и здесь
опять чётко определяется конфронтация с «новой деловитостью»,
с «обиходной поэзией» (Gebrauchslyrik) Эриха Кестнера, которая
представляется как поделка, «не стоящая особого труда для того,
чтобы погладить сердце на талии».4 Обыгрывая название извест-
ного сборника стихов Кестнера «Сердце на талии» (»Herz auf Taille«,
1927), Рашке выдвигает, пожалуй, самый важный тезис программы
журнала — приверженность натурпоэзии (Naturlyrik): «Но мы всё
ещё живём полями и морем, и небом, которое простирается и над
городом. Большая часть человечества живёт в сельских условиях,
и когда для него дождь и холод становятся более важными, чем
динамо-машина... когда вызревает зерно, это случается не по
причине традиционного эстетического удовольствия».5 Не случайно
Рашке позднее оценивал значение «Колонне» в духе Гёте именно
как «глашатая пантеистской религии природы».6 Именно поэтому
на страницах «Колонне» представлены были в основном молодые
авторы, приверженные натурлирике: Гюнтер Айх, Петер Хухель,
1 Raschke M. Vorspruch zur »Kolonne« // Hinweis auf Martin Raschke / Hrsg. v. D. Hoff-
mann. Heidelberg, Darnstadt, 1963. S. 10.
2 Ibid. S. 11.
3 Ibid. S. 11.
4 Ibid. S. 10.
5 Ibid. S. 10.
6 Haefs W. Op. cit. S. 225.
669
Хорст Ланге, Элизабет Ланггэссер, Паула Людвиг, Эберхард Мек-
кель, Эрика Миттерер, Марта Заальфельд, Гвидо Цернатто, Герман
Казак, Теодор Крамер, а также более старшие представители этого
направления, такие как Ганс Ляйфхельм, Георг фон дер Фринг,
Эрнст Вихерт, Пауль Цех и ряд других авторов.
И именно поэтому премию журнала «Колонне» в поэтическом
конкурсе в 1931 года получил австрийский поэт Гвидо Цернатто,
а в 1932 году — Петер Хухель и Хорст Ланге, авторы, различные
по своим эстетическим устремлениям, но приверженные тематике
«родного угла» в пику разлагающему влиянию города.
Важность этого тезиса заключается в том, что именно посред-
ством натурпоэзии авторы «Колонне» воспринимали мир и переда-
вали своё отношение к нему, что позволяло им, особенно в годы
нацизма, создавать свою реальность, которая не была подвержена
воздействию каких-либо политических катаклизмов, и одновремен-
но давала им возможность свободного самовыражения по любым
поводам, не опасаясь каких-либо политических гонений.
В этой связи примечательно дополнение к программе журна-
ла, озвученное первоначально в 1931 году в статье Рашке «Земля
опять в моде» (»Man trägt wieder Erde«) в «Литерарише вельт», а затем
в более пространном толковании под тем же названием и в «Колон-
не». В обеих статьях речь шла о так называемом «крестьянском
романе», предшественнике литературы «крови-и-почвы», о «чрез-
мерно завышенной художественной оценке крестьянского романа»,
в которых «крестьяне появляются в роли пастушков из пьес времён
рококо».1 Правда, Рашке выступает не столько против самого жанра
крестьянского романа, сколько против «полного тоски изображения
примитивных событий», когда «путают качество изображаемого
материала с качеством его изображения».2 Примечательно, что
в этой же статье высказываются те же претензии и к литературе,
приверженной рабочей тематике. Единственным исключением
из этого правила является поэзия: «Я не настолько сентиментален,
чтобы корректировать мои политические взгляды стихами. Сооб-
щения института по изучению конъюнктуры превосходят по своему
политическому воздействию всю пролетарскую литературу в той
мере, в какой она рассчитывает на политическое воздействие».3
1 Raschke M. »Man trägt wieder Erde« // Hinweis auf Martin Raschke... S. 37.
2 Ibid. S. 38.
3 Ibid. S. 40.
670
Хотя строками выше тот же Рашке утверждает иное: «При описа-
нии свалки мы смогли познать внутреннюю полноту силы такого
писателя, даже если цивилизация потеряла в его глазах бесцельное
существование».[
При всём том, что программа журнала «Колонне» носила откро-
венно антибуржуазный характер, в ней отсутствовал и элемент
народнического толка, не говоря уже о каких-либо интенциях
левого, прокоммунистического толка. Рашке, как главный идеолог
журнала «Колонне», прокламировал некий синтез противоречивых
постулатов, основываясь на приоритете поэзии как таковой, могу-
щей пользоваться плодами любого литературного направления ради
создания универсального образа человека. В 1932 году, в пред-
дверии конца журнала, Рашке в редакционной статье «О задачах
„Колонне"» (»Über die Aufgaben der Kolonne«) так сформулировал
этот тезис: «Каждый народ имеет своё пространство, отведённое
ему судьбой, в котором каждому человеку предназначено симво-
лическое значение. Это единство, не знающее разделений, делает
возможным только обобщённые высказывания одиночки. Оно
является жизненной основой искусства. Поэтому такой журнал, как
«Колонне», вынужден отводить искусству и в особенности поэзии
некую, присущую только ему, организующую способность с тем,
чтобы этой вере в нерасторжимость народов, как и жизни, этим
законам биологической метафизики давать снова и снова новое
выражение».2
Вероятно, это стремление к синтезу подвигло Рашке на излёте
существования журнала «Колонне» заговорить в статье «Преданая
поэзия» (»Die verratene Dichtung«, 1932) о «культурной революции
справа», о претензиях правых на единственное представительство
в культуре Германии. В связи с первыми успехами национал-со-
циалистов в 1932 году, некоторые авторы из лагеря «консерватив-
ной революции» потребовали роспуска прусского ландтага, чем
и выставили себя в глазах общественности в роли отцов-спасителей
немецкой культуры. Ганс Йост писал в одной из газет о том, что
«эти поэты «в одну ночь» стали «политическими величинами».3 «После
этих слов,— замечает не без иронии Рашке,— больше не говорят,
1 Raschke M. »Man trägt wieder Erde«. S. 38.
2 Цит. по: KiedaischP., Schnober V. Op. cit. S. 50.
3 Raschke M. Die verratene Dichtung // Hinweis auf Martin Raschke... S. 42.
671
что образ поэта в его неослабевающем объёме, предопределённым
судьбой, полон жизни только в партиях и союзах немецких правых,
в то время как левые партии давно уже низвели поэта до положе-
ния подёнщика». И тут же Рашке проводит параллель с положени-
ем поэта у национал-социалистов и у левых партий: «Программа
национал-социалистов, в которой говорится о задачах искусства
в Третьем рейхе, отличается только в незначительных пунктах
от программ левого фронта; здесь и там пишущий и любой другой
деятель культуры будет по возможности становиться специалистом
по рекламе соответствующей государственной идеологии, с той
лишь разницей, что правые при этом себя всегда так выставляют,
как будто они одни с неослабевающей силой сохраняют классиче-
ский или романтический облик поэта».1
При всём том, что Рашке являлся правоверным национал-кон-
серватором, его консерватизм не определялся какими-то партийны-
ми постулатами, поэтому его отношение к авторам «консервативной
революции» было предельно отрицательным по причине не только
их вовлечённости в политику (например, порицая «классовую борьбу
левых» они поддерживали «классовую борьбу правых»),2 но и по при-
чине узости и ущербности их творческого горизонта, ограниченного
«ландшафтом», т.е. той местностью, тем родным углом, который они
воспевали, и дальше этого «ландшафта» другого мира они и знать
не хотели.3 Но ещё больше возмущает Рашке претензии авторов
«консервативной революции», при их приверженности «старому сти-
лю с его враждебным отношением к эксперименту», полагать, что их
«литературщина в сельском духе является выражением чувств наро-
да», который, «невзирая на эти сомнительные голоса, продолжает
преобразовываться как и раньше, если эти преобразования и были
преобразованием одного и того же, а именно диалектов крови».4
Суть претензий Рашке к авторам «культурной революции», т.е.
к фёлькиш-националам, как, впрочем, и к их антиподам в лагере
левых, заключается в неприятии им какой-либо связи творчества
с партийными установлениями, ибо настоящие поэты, как это сло-
во понималось в консервативных кругах, «должны решить, и это
1 Raschke M. Die verratene Dichtung... S. 42-43.
2 Ibid. S. 43.
3 Ibid.
4 Ibid. S. 44.
672
касается представителей всех политических лагерей, хотят ли они
поэзии или литературы».1 Его беспокоит тот факт, что «каждый
день люди теряют мужество быть сердцем и хотят стать рукой или
мозгом».2
Собственно, в этом и заключалась основная позиция журнала
«Колонне» — отвергая все формы использования поэзии в политиче-
ских надобностях, поэт должен оставаться во времени, не замечая
напрямую его проявлений. Такая позиция чётко проявилась в серии
статей Рашке о творчестве Готфрида Бенна, которого он боготворил
и которого считал выразителем духа «Колонне», заявляя: «Готфрид
Бенн это и мы... Как любой большой поэт, Бенн находится в цен-
тре идей, которые нас интересуют, хотя ни на одной странице его
книг нельзя найти того бреда, что заполняет декоративные статьи
наших газет».3 «Биография сознания»4 — вот что должна означать
настоящая поэзия, именно это свойство поэзии (хотя в данном
случае речь шла о прозе Бенна) является решающим в творчестве
художника, независимо от его политических воззрений.
Однако биография сознания не есть нечто расплывчатое, бес-
форменное, лишённое лица. Э. Ланггэссер, став случайно владели-
цей последнего номера «Колонне» за 1932 год, который был запрещён
полицей (а именно в нём были напечатаны два её стихотворения),
в письме к М. Рашке предваряет особый статус натурлирики во вре-
мена господства нацистов: «...стихотворение должно быть самым
ясным среди всех языковых произведений: светлым и тёмным
кристаллом, но кристаллом, каждый кант которого должен быть
отшлифован».5
Публикации «Колонне» не ограничивались только поэзией. Один
из номеров журнала был посвящен драматургии. При наличии
постоянных рецензий на литературные новинки в последних номе-
рах журнала было введено специальное критическое приложение.
Более того, журнал существовал как бы в трёх ипостасях. Рашке
публиковал одни и те же статьи и в «Колонне» и в «Литерарише вельт»
и озвучивал их на радио.
1 Raschke M. Die verratene Dichtung... S. 45.
2 Ibid. S. 45.
3 Raschke M. Gottfried Benn // Hinweise auf Martin Raschke... S. 46.
4 Ibid. S. 46.
5 Haefs W. Op. cit. S. 227.
673
Несмотря на свой мизерный тираж, «Колонне» был замечен как
в Берлине, так и в провинции, и связано это по большей части с тем,
что в обстановке бурных политических дискуссий этот журнал,
по словам рецензента «Берлинер тагеблатт», «служил прежде всего
как убежище для молодых поэтов, которым некуда было податься», *
т.е. для тех поэтов, которые по принципиальным соображениям
стояли в стороне от политических событий времени. В известной
мере эти слова отражают мнение консервативной части читающей
публики. Более чётко эту мысль выражает «Генераль анцайгер фюр
Дортмунд» (»General Anzeiger für Dortmund«): «Этот изысканный
журнал публикует молодых авторов, отрывки из их произведений,
много стихов, что сегодня следует особенно приветствовать, когда
лирика всё больше оттесняется на задний план современной поли-
тизированной обиходной поэзией».2
Тем не менее, к концу 1932 года дни «Колонне» были сочтены.
Финансовые трудности, как и ограниченное число подписчиков,
вынудили главу издательства Йесса прекратить выпуск «Колонне».
Своеобразным заключительным аккордом истории журнала стал
выпуск альманаха «Новая лирическая антология» (»Neue lyrische
Anthologie«, 1932), в которой были представлены все авторы,
когда-либо публиковавшиеся в «Колонне». Э. Ланггэссер в письме
к М. Рашке, выражая мнение всех авторов этого альманаха, писа-
ла: «Несомненно, это самое существенное, потрясающе правдивое
представление всех юных голосов нашего времени».3
И здесь начинается другая история, история авторов круга
«Колонне», подавляющее большинство которых осталось в Герма-
нии после прихода к власти нацистов. Им некуда было бежать, ибо
за пределами страны о них почти ничего не знали. Не знали толком
о них и в самой Германии. Их отстранённость от политических
партий создала им, с одной стороны, некое подобие внутренней
свободы, возможность наблюдать «революцию» со стороны, не опа-
саясь подвергнуться репрессиям; с другой стороны, она лишила их
средств к существованию. Они и раньше пробавлялись эпизодиче-
скими публикациями в газетах, в журналах, на радио. Теперь же,
1 Цит. по: Kolbe H. Horst Lange — Leben und Werk. Ein Autor im Zwischenreich. Bie-
lefeld, 2010. S. 52.
2 Ibid.
3 Haefs W. Op. cit. S. 235.
674
после прихода к власти нацистов, им пришлось приспосабливаться
к новых властителям. Тот же Рашке, а вслед за ним Айх и Хухель,
вынуждены были вступить в Имперскую палату письменности,
для чего им пришлось заручиться поддержкой Г. Бенна, члена
Академии поэзии, Э. Меккеля, который хотя и входил в круг авто-
ров «Колонне», исповедовал идеологию национал-консервативного
толка, и В. Феспера, отъявленного нациста, редактора журнала
«Нойе литератур», питавшего, вероятно, какие-то чувства к Раш-
ке за то, что он напечатал в «Колонне» его перевод стихотворения
с нижненемецкого языка.1
Все последующие перипетии человеческой и литературной
жизни наиболее примечательных авторов круга «Колонне» в годы
нацизма станут ещё предметом обсуждения в этой книге. Важно
отметить, что все они, не являясь сторонниками идеологии наци-
онал-социализма или соприкасаясь с ней через идеологические
постулаты национал-консерваторов, которые были заимствованы
нацистами у них для своих надобностей, являлись, пожалуй, самым
тихим звеном в причудливом сцеплении несуразностей «внутрен-
ней эмиграции», что, однако, не даёт нам право причислять их
к покорной прислуге новых господ. Они как были одиночки, суще-
ствовавшие сами по себе, такими и остались в это трагическое для
немецкого народа время. Если во времена Веймарской республики
они ещё могли высказывать своё недовольство по любому поводу,
не беспокоясь о последствиях, то сейчас весь их пафос неприятия
реальной действительности был загнан в глубины натурфилософ-
ской лирики, куда посторонним вход был заказан, а всё внешнее
воспринималось как неприятная данность, которую надо терпе-
ливо сносить, не пытаясь замарать себя своим соприкосновением
с нацистской действительностью.
Тем не менее, нельзя сказать, что авторы «Колонне», как и дру-
гие представители афашистской литературы, в политическом отно-
шении были предельно индифферентны. При всём литературном
обособлении они жили событиями тех лет, и прекрасно понимали
зависимость своего существования от политических преобразова-
ний в стране. Литературная молодёжь просто замкнулась в себе,
образовав внутри нацистской системы некий анклав несогласных.
Карл Корн, редактор журнала «Нойе рундшау», пытавшегося ещё
1 Haefs W. Op. cit. S. 237.
675
как-то отстаивать принципы гуманизма, вспоминает: «Внезапно
пали все барьеры, которые раньше отделяли определённые круги
друг от друга. Все, кто не был наци и не хотел им быть, испытывали
потребность духовного обмена информацией. Люди много легче
сходились друг с другом».1
Однако стремление писать, возможность публикации написан-
ного, как, впрочем, и материальная нужда, заставляли литератур-
ную молодежь включится в культурную сферу тех лет, тем более что
на первых порах контроль в этой области затрагивал в основном
авторов, проявивших себя достаточно заметно в политических
дискуссиях на стороне левых сил. Авторы из окружения «Колонне»
с их приверженностью натурлирике, с довольно чётко выражен-
ной тенденцией к литературным традициям, отчего и находились
в состоянии постоянной конфронтации с представителями «новой
деловитости», меньше всего интересовали новых властителей, и поэ-
тому они почти все без особых трудностей обосновались на радио,
тем более что в этой области они хорошо зарекомендовали себя ещё
в годы Веймарской республики. С подачи Г. Казака, всячески спо-
собствовавшего М. Рашке и Г. Айху в их творческой деятельности,
и меценатской щедрости Эдлева Кёппена, возглавлявшего лите-
ратурный отдел берлинского радио, они, а вслед за ними и другие
авторы «Колонне», получили возможность не только выступать с чте-
нием своих произведений, но и заниматься созданием собственно
радийной продукции — радиопьес, фичер (feature), т.е. поэтических
или беллетризованных репортажей, создающих некий комплекс
действительности. В отличие от издательств работа на радио хоро-
шо оплачивалась, что позволяло, особенно литературной молодёжи,
в отсутствии возможности публиковать свои произведения как-то
сводить концы с концами. Как вспоминает О. Шэфер, «десятими-
нутное чтение моих стихов принесло мне 120 марок, но что меня
ещё больше смутило так это то, что кассир сразу же после окончания
чтения вручил мне закрытый конверт с деньгами».2 Учитывая, что
поэтесса вместе с мужем сидели на голодном пайке, такая сумма
для них была, несомненно, подарком.
Буквально в первые дни после прихода к власти нацистов Айх,
узнав, что Рашке, сидя в Дрездене, испытывает большие материальные
1 Цит. по: Schäfer H. D. Das gespaltene Bewußtsein. Deutsche Kultur und Lebenswirk-
lichkeit 1933-1945. München Wien, 1982. S. 11.
2 Schäfer O. Op. cit. S. 256.
676
трудности, пишет ему письмо, призывая его вернуться в Берлин
и «продолжить поход на радио».1 Благодаря Айху «Дойчландзен-
дер» (»Deutschlandsender«), крупнейшая радиостанция Германии,
подписала с ним и с Рашке единственный в своём роде контракт
на ежемесячную одночасовую передачу «Кёнигсвустерхойзерский
сельский почтальон» (»Königswusterhäuser Landboten«), наиболее
любимую радиослушателями тех лет передачу, которая выходила
в эфир с 1933 по 1940 годы в самое удобное вечернее время.2
Тот факт, что «Дойчландзендер» пошёл на подписание такого
большого контракта, объясняется не только тем, что оба автора
были создателями успешной радиопьесы «Жизнь и смерть великого
певца Энрико Карузо» (»Leben und Sterben des großen Sängers Enrico
Caruso«, 1931), передававшейся несколькими немецкими радио-
станциями, что принесло известный доход как её создателям, так
и «Дойчландзендер», но и успешной радиопьесой Рашке «Наследие
отцов» (»Das Erbe der Väter«), вышедшей в эфир 25 мая 1933 года
в программе «Час нации», созданной по приказу Геббельса. Радио-
пьеса Рашке передавалась одновременно всеми радиостанциями
Германии и вызвала чрезвычайный интерес у слушателей, но осо-
бенно высокую оценку она получила в нацистских кругах. Подобный
успех тем более необычен, что сама пьеса была написана в 1932 году
и отнюдь не предназначалась для нацистов, тем не менее, именно её
содержание оказалось созвучным не только идеологии национал-со-
циализма, но и конкретному политическому моменту, когда после
победы нацистов на мартовских выборах 1933 года перед ними
встала задача создания крепкого тыла, так называемой «народной
общности» (Volksgemeinschaft), и этот аспект, хотя и вызванный
другими событиями, нашёл свое выражение в радиопьесе Рашке.
Радиопьеса «Наследие отцов» навеяна страхами молодого поко-
ления перед будущим, перед безработицей, инфляцией, духовным
разбродом, т.е. всеми теми кризисными явлениями, которыми
был отмечен конец Веймарской республики. Безымянный молодой
человек, как некое олицетворение всего послевоенного поколения,
1 Цит. по: Wagner H.-U. »Der Weg in ein sinnhaftes, volkhaftes Leben«. Die Rundfunkar-
beiten von Martin Raschke // Martin Raschke (1905-1943). Leben und Werk / Hrsg.
v. Haefs W., Schmitz W. Dresden, 2002. S. 171.
2 Кёнигс Вустерхаузен, небольшой городок, предместье Потсдама, где расположена
и по сей день радиостанция.
677
отмечает в одиночестве свой день рождения, который превра-
щается в некую исполненную мистики вечерню, происходящую
во сне между молодым человеком и его умершими родителями, его
предками и некими голосами, представляющими неверие, тоску,
страх. Молодой человек пытается обрести в диалоге с предками
жизненную опору: «Дайте нам выйти из моря нужды и сомнений
и найти место, где возвысится мой град веры».1 Вся надежда «на
чудо, которое всё преобразит»,2 и это чудо заключается в вере
заветам предков. Один из предков, говоря о неизбежности смерти,
замечает, что «когда после меня мой сын пойдёт по тому же полю,
по которому до меня шёл мой отец, и моё поле и мой народ пережи-
вут меня, в этом и заключается моё утешение».3 И добавляет: «Пока
твой народ живёт, ты никогда на этой земле не умрёшь».4 Все эти
наставления перемежаются привычным для консерваторов (и для
нацистов) набором символов о крови и почве.5 В этих словах чётко
прослеживается противопоставление города и деревни. Таинствен-
ные голоса «не слышат шелеста крыльев ангелов в ночи», а «слышат
лишь шум машин и рёв фабрик»;6 сам протагонист заявляет, что
он «живёт в доме из камня, на улице, выложенной камнем, вдали
от деревьев и моря. Может ли здесь быть какой-то выход в боль-
шой мир?»7 Череда предков проходит перед глазами протагониста,
и каждый из них подводит его к пониманию неразрывности связи
всего сущего с народом, и вдохновлённый их примером, молодой
человек просыпается и обращается к радиослушателям: «Неужели
вы не хотите видеть Германию в свете зари?.. Разве не прекрасен
мир, раскрывшийся перед вашими глазами, привыкшими смотреть
1 Raschke M. Gespräch mit den Vätern. Ein Traum // Raschke M. Tagebuch der Gedan-
ken. Leipzig, 1941. S. 13-14.— Следует оговорить, что этот текст не всегда совпадает
с текстом рукописи M. Рашке и одноимённым текстом, опубликованным в журнале
«Иннере рейх» в 1935 г., № 7, С. 834-856. Книжный текст явно подчищен, убра-
ны некоторые высказывания, напоминающие политические слоганы тех лет, что
можно истолковать как определённые изменения в политическом сознании автора.
2 Ibid. S. 7.
3 Ibid. S. 32.
4 Ibid. S. 33.
5 Ibid. S. 22, 26, 40, 43, 46.
6 Ibid. S. 35.
7 Ibid. S. 41-42.
678
в небо, когда спадают покровы ночи?.. Солнце встаёт, полные радо-
сти красуются леса. Земля вся в белом. Как невеста выступает она
из ночи. Стены города не останавливают её шаг, дым фабричных
труб не покрывает грязью её платье... Разве вы не хотите встретить
это утро?»1 Чудо произошло, наступило просветление, и, обращаясь
к предкам, молодой человек восклицает: «Я пью за вас, спящих
во мне и берегущих меня, вернувших меня в дом моего народа, пью
за мёртвых, за нашу неиссякаемую родину, и приветствую жизнь,
могущественную сегодня и в веках».2
Хотел того Рашке или не хотел, но его радиопьеса великолепно
вписалась в майское приветствие Гитлера к немецкому народу:
«Немцы! Вы являетесь сильным народом, потому что вы хотите быть
сильными! Эти миллионы,., они вернутся домой с чувством вновь
обретённой внутренней силы и единства».3 Более того, в интер-
вью, опубликованном в журнале «Функ-Штунде» (»Funk-Stunde«)
за несколько дней до премьеры радиопьесы, Рашке недвусмысленно
высказался за «новую Германию», но выразил это, не прибегая к сла-
вословиям новым властителям, а совершенно в духе фёлькиш-на-
ционалов, прибегая к религиозным аналогиям: «Я попытался, как
смог, изложить путь этого человека от ада неверия и потери своих
истоков к разумной, народной жизни. Возможно, его пример может
кому-либо или многим оказать помощь или стать образцом. Сегод-
ня это ведь не означает, что тем самым выражается политическое
признание новой Германии. Борьба, которая велась, нацелена
на большее, чем на внешнее завоевание государственной власти.
В эти годы речь шла о том, чтобы мы все создали бы из нас ново-
го человека, который жил бы в согласии с голосами своих отцов
и снова попытался бы связать силы неба и земли в напряжённый
образ немецкого человека».4
В этих словах, как и в самой радиопьесе, отразилась та опасная
грань, которая сближала творчество молодых консерваторов с иде-
ологией нацизма. Практически все элементы политической рито-
рики нацистов встречаются и в статьях Рашке и некоторых других
авторов «Колонне», не говоря уже о произведениях более старшего
1 Raschke M. Gespräch mit den Vätern... S. 49-50.
2 Ibid. S. 53.
3 Цит. по: Wagner H.-U. Op. cit. S. 182-183.
4 Ibid. S. 183.
679
поколения консервативного толка, но они представлены в фёль-
киш-национальном контексте и обусловлены их приверженностью
к воспеванию идиллии сельской жизни. Здесь же все эти элементы
фёлькиш-национальной поэтики, поданные в несколько ином клю-
че и с патетическим подъёмом, воспринимаются как «радийный
литургический праздник»,1 что и отвечало пропагандистским планам
нацистов. «То, чем является церковь для религии,— заявил один
из сотрудников ведомства Геббельса,— тем же является в качестве
культа нового государства и радио».2
Последующие работы М. Рашке, общим числом 50, включали
в себя не только радиопьесы, но и передачи для молодёжи, отдель-
ные сцены. В них, как и в первой пьесе, судя по отзывам и рукопи-
сям (фонограмм радиопьес почти не сохранилось), писатель разра-
батывает основную тему своего творчества — наследие предков как
живительная сила современного человека. Особой популярностью
пользовалась совместная с Г. Айхом передача «Кёнигсвустерхойзер-
ский сельский почтальон». Простодушно безобидная тональность
этой серийной передачи, лишённая официальной патетики, нацист-
ской терминологии, построенная на традициях старых народных
календарей привлекала широкую радиоаудиторию, создавала некое
подобие гармонии человеческих отношений в Третьем рейхе, испод-
воль формируя атмосферу народного единства, что, естественно,
отвечало намерениям нацистской пропаганды. Тексты передач
составляли собой собрание стихов, песен, анекдотов, трогатель-
ных и поучительных историй из народных календарей, обычаев,
народных примет, кулинарных советов, обработанных и дополнен-
ных собственными произведениями Рашке и Айха. Хотя главный
нацистский «крестьянин», Вальтер Дарре, отрицательно относился
к аграрной романтике, не говоря уже о душевных тонкостях натур-
лирики с мистическим оттенком, официальная пресса всячески
превозносила эту передачу. Нацистский официоз «Фёлькишер
беобахтер» писал в 1935 году: «„Кёнигсвустерхойзерский сельский
почтальон" нашёл путь к народу, он стал образом народности. Это
впечатление мы обнаруживаем в трогательных знаках призна-
ния и благодарности, которые между тем продолжают поступать.
Об этом свидетельствуют не только отзывы нашей и зарубежной
1 Wagner H.-U. Op. cit. S. 185.
2 Цит. по: Wagner H.-U. Op. cit. S. 185.
680
немецкоязычной прессы, и не только письма радиослушателей. Так,
например, один старый человек, мастер художественной работы
по меди, прислал на радио пожелтевшую книжечку, которую он
сам в молодые годы во время странствий вёл вроде дневника...
Это своего рода кладезь премудрости для „сельского почтальона".
Что может быть лучшим отзывом об этой передаче, чем активное
сотрудничество?»1
Из всего сказанного можно заключить, что карьера Рашке
на радио складывалась вполне успешно, без особых напряжённых
отношений с официальными властями, без каких-либо серьёзных
компромиссов, оставаясь в пределах избранного им мировоспри-
ятия — следование заветам предков и воспевание крестьянского
труда, т.е. принципам «крови-и-почвы» в фёлькиш-национальной
интерпретации. В известной мере в радиопьесе «Наследие пред-
ков» Рашке обосновал для своего поколения «путь... от ада неверия
и потери своих истоков к разумной, народной жизни».2 При этом
«разумная жизнь» предполагала не только следование канонам
крестьянской жизни, но и разумность в творческом общении
с внешним миром, т.е. с новой властью. Сам Рашке относился
к радиопьесе как жанру без особого пиэтета, воспринимая её как
«развлекательную постановку, сдобренную обильно музыкой»,3
которая обеспечивает его безбедное существование, и поэтому
ради «прокорма» ему приходилось идти на некоторые уступки при
сохранении определённой дистанции к режиму. Будь то проблема
народного единства в «Наследии предков», будь то национальная
история в радиопьесе «Камни говорят» (»Steine reden«), будь то,
наконец, прославление фронтового товарищества в радиопьесе
«Друг-товарищ» (»Bruder Kamerad«), отчасти связанной с нападением
нацистов на Польшу в 1939 году,— везде Рашке пытался смягчить
пропагандистскую посылку, сводя всё к постулатам фёлькиш-на-
ционального свойства.
Эта тенденция сохранится и в его прозаических произведени-
ях, где авторское восприятие действительности не связано с кон-
кретными установками официального свойства, хотя и здесь ощу-
щается определённая настороженность в трактовке, казалось бы,
1 Anonym. Völkischer Beobachter, 23.02.1935.
2 Wagner H.-U. Op. cit. S. 183.
3 Ibid. S. 195.
681
простых человеческих отношений. Как прозаик Рашке намного
уступает некоторым своим собратьям по «Колонне» (например,
X. Ланге или Э. Ланггэссер), тем не менее, его книги представляют
значительный интерес для понимания сущности афашистской лите-
ратуры в Третьем рейхе, для понимания тех опасностей, которые
подстерегали эту неискушённую в политических играх молодёжь.
Исходя из того, что М. Рашке воспринял, не без воздействия
своего нового идола Г. Бенна, приход к власти национал-социали-
стов, усмотрев в «молодых отрядах, наполненных новыми ценно-
стями и новыми богами» новую жизнь,1 можно было бы ожидать
некоего прорыва в его творчестве. Как бы ни был дорог ему журнал
«Колонне», как бы высоко ни ценили Рашке за его элегантный кри-
тический ум, он ощущал себя брошенным в водоворот распадаю-
щегося в собственном бессилии времени Веймарской республики,
и первые же успехи на радийном поприще, связанные с новой
властью, вселили в него надежды на новую жизнь, на определённую
стабильность. Правда, в отличие от Г. Айха, он никогда не стремился
вступить в партию, хотя, с учётом своих фёлькиш-национальных
воззрений, ощущал некоторую близость к определённым идеям
национал-социализма.
Первый значительный роман Рашке «Наследство» (»Der Erbe«,
1934) является своеобразным беллетризованным выражением его
статей в «Колонне» и радиопьесы «Наследие отцов». Эта тема про-
ходит через всё творчество Рашке, повторяясь в различных вариа-
циях, и является отголоском состояния молодого поколения времён
конца Веймарской республики, носит определённые автобиографи-
ческие черты. В «Открытом письме к Клаусу Манну» (»Offener Brief
an Klaus Mann«, 1926) Рашке говорит о «бегстве от огромного одино-
чества»,2 и это бегство приводит писателя и его героев к наследию
предков, ибо там всё уже состоялось, всё проверено временем и поэ-
тому достойно того, чтобы следовать и в наше время их примеру.
Ведь, по большому счёту, близость Рашке к национал-социализму
объясняется надеждой на определённую стабильность в жизни,
на упорядоченность жизни. Все проявления собственно нацист-
ской действительности оставляют его равнодушным. Не случайно
все его произведения освящены проблематикой семьи с оглядкой
1 Raschke M. Gespräche um Gottfried Benn // Die Literatur, 1933/1934. H.l. S. 11.
2 Цит. по: Harfs W. Martin Raschke als Erzähler im »Dritten Reich« // Martin Raschke
(1905-1943). Leben und Werk // Hrsg. v. Haefs W., Schmitz W. Dresden, 2002. S. 82.
682
на прошлые примеры, не более того, и в каждом из них он старает-
ся убедить читателя в благости подобного обращения к прошлому,
видя в этом панацею от всех бед как личного, так и социального
свойства, хотя о последнем в творчестве Рашке говорится как-то
глухо и не слишком убедительно. Подобная чётко просматриваемая
отстранённость от «великих задач» нацистской партии не вызы-
вала каких-либо нареканий со стороны властей, ибо в контексте
нацистской идеологии семейная преемственность напрямую ассо-
циировалась с «кровной общностью», которая трактовалась Рашке
без какого-либо пропагандистского пафоса на привычном, даже
банальном в своей повседневности материале, в духе фёлькиш-на-
циональной идеологии.
Молодой человек, Райнхольд Бергер, начинающий худож-
ник, пробавляющийся мелкими заказами для газет, приезжает
в небольшой городок, расположенный в горной местности, недале-
ко от чехословацкой границы, с тем, чтобы продать доставшийся
ему по наследству после смерти отца дом. На деньги от продажи
дома и небольшой мастерской (отец занимался резьбой по дереву)
он собирается совершить поездку по свету, почувствовать себя
свободным в финансовом отношении. Однако общение с много-
численными родственниками его родителей, любовный роман,
завершившийся женитьбой, вообще вся обстановка дома и преле-
сти горной местности оказывают на него такое воздействие, что
он решает остаться здесь навсегда и продолжить дело своего отца.
Роман лишён каких-либо захватывающих сюжетных перипе-
тий и построен на размышлениях, воспоминаниях протагониста
о прошлом, однако воспоминания эти всё время корректируются
духами прошлого, являющимися ему во снах, как это было уже
представлено в радиопьесе «Наследие предков». Они обсуждают
появление наследника в старом доме, но это не пространные беседы,
а какие-то отголоски прошлого, детали, заметки, из которых они как
бы строят характер, давая ему тем самым намётки его становления
как человека и продолжателя рода: «„Самовлюблённость", сказал
один, „хвастливость", сказал другой, „упрямство", сказал третий,
и всё это звучало по комнате из всё новых возникающих уст: „жажда
приключений", „неискренность", и ещё раз прозвучало „упрямство"
пока не дали о себе знать более благосклонно настроенные голоса,
которые воскликнули: „радость от общения с прекрасным" и сказали
„мастерство", и сказали „мужество" и „воля к ясности", обращаясь
683
к тем, кто посредине комнаты, казалось, что-то возводили неви-
димыми руками. Каждое слово Райнхольд воспринимал как удар
ветра. „Что же вы там возводите?"— спросил он, и они ответили:
„Человека".— „Как его зовут?" — спросил он, и они ответили: „Рай-
нхольд Бергер. Разве ты его не знаешь?"»1
В ходе этих мистических бесед у Бергера «его собственная
сущность многократно варьируется, вынужденная каждый раз
проявляться в его живых и мёртвых родственниках»,2 в результате
чего в нём формируется его «позиция», «новые задачи», возника-
ет новая «уверенность». Последнее обстоятельство очень важно
для понимания не только этого романа, но и всего последующего
творчества писателя, ибо в нём заключается главная проблема
его бытования как художника. Рашке, получивший в последние
годы Веймарской республики известность как способный и про-
фессиональный критик, с приходом к власти нацистов потерял
возможность выражать своё мнение в обычной для него свободной
и не всегда лицеприятной манере, и поэтому здесь основная роль
отводится элементам «магического реализма», ставшего не только
для Рашке, но и для многих представителей афашистской литера-
туры, способом свободного выражения своего восприятия мира,
лишённого официальной патетики. В этой связи роман «Наслед-
ство» становится неким пробным шаром для определения нового
статуса Рашке как писателя, при сохранении своего литературного
почерка. И это не прошло для критики незамеченным. Анонимный
рецензент газеты «Франкфуртер цайтунг», к мнению которой всегда
прислушивались, писал, что роман, «учитывая молодость писателя,
являет собой мудрую книгу и сверх того написан такой прозой,
которая в своей бережности великолепно выдержана».3 Таких же
взглядов придерживалась и власть, заявив в официальном органе
ведомства А. Розенберга «Бюхеркунде», что роман Рашке «безого-
ворочно рекомендуется для всех библиотек».4
Своеобразным апофеозом романа является разговор про-
тагониста со своим отцом (естественно, во сне, как это принято
у Рашке), в котором как бы закрепляется союз с предками: «Слов-
но огромный покой источала на него близость отца и совершенно
1 RaschkeM. Der Erbe. Frankfurt / Main, 1941. S. 168-169.
2 Ibid. S. 184.
3 Anonym.—sk. Ein Erzählbuch // Frankfurter Zeitung, 26.05.1935.
4 Martin Raschke. Der Erbe // Bücherkunde 1935. 1. Folge. S. 20.
684
обволакивала его. „Ты доволен мной?" — спросил Райнхольд Бер-
гер.— ,Да,— сказал отец.— Окольные пути ведь не считаются. Я сам
поступал также".— „Я теперь понимаю тебя намного лучше, чем
раньше",— ответил на это Райнхольд.— „Жаль, что тебе пришлось
умереть. Я думаю, если бы ты ещё жил, мы очень хорошо понима-
ли бы друг друга... Раньше... тогда я часто тебя ненавидел — я хочу
быть с тобой откровенным — но сейчас я чувствую точно, почему
ты был таким, а не другим... Я хочу жить в этом мире так же, как
и ты",— сказал Райнхольд Бергер, и ему показалось, что в это мгно-
вение ночи отец протянул ему руку и исчез в колыхании ветра».1
Роман Рашке является классическим примером произведения
в духе фёлькиш-национальной идеологии, вобравшем в себе практи-
чески все её элементы — наследие, предки, народ, жизнь в деревне,
идиллия труда крестьян и ремесленников, т.е. всё то, чем отмечена
была Heimatliteratur от её истоков до конца Веймарской республики.
Фактически Рашке не сказал ничего нового, просто вся проблематика
журнала «Колонне» нашла своё отражение на страницах этого рома-
на. Другое дело, что многие тексты этого произведения в свете офи-
циальной идеологии получили совсем иное звучание, обрели характер
официозности. Одна только фраза о прелести крестьянского труда,
не вызвавшая бы в 20-30-х годах особого внимания, появись она
в каком-либо произведении Рашке или какого-то другого писателя
тех лет, сейчас, в 1934 году, в романе «Наследство» воспринимается
как некий пропагандистский приём в духе национал-социализма.
Бергер, увидев развалины угольной шахты, с трогательным уми-
лением замечает: «Как утешающе действует рядом с этими забро-
шенными установками картина крестьянина, идущего за плугом
по полю и понукающего свою лошадь, оставляя за собой борозду
за бороздой и подбирая здесь и там картофель, вывороченный плу-
гом, и вороны, облетающие со всех сторон эту осеннюю упряжку.
На склонах лугов, где тлеет огонь костров подпасков, пасутся стада
коров и прыгающих весело среди них телят».2 Как отмечал Рашке
в своём письме Карлу Рауху, издателю журнала «Дойче ворт», своим
романом он надеялся способствовать восстановлению «социальных,
фёлькише и религиозных связей».3 До прихода к власти нацистов
1 Haefs W. Martin Raschke als Erzähler im »Dritten Reich«... S. 272-273.
2 Raschke M. Op. cit. S. 189.
3 Цит. по: Haefs W. Op. cit. S. 89.
685
эти слова не вызвали бы никаких возражений, сейчас же они сви-
детельствовали об установлении, хотел этого автор или нет, связи
с новыми властителями. В данном случае речь идёт не о каком-то
моральном порицании, а лишь о констатации политической слепоты
фёлькиш-националов, надеявшихся воплотить в жизнь свои идеалы
с помощью национал-социалистов, увидя в них поборников порядка
в стране. Что это за порядки, они вскоре убедятся в этом, но в случае
с М. Рашке эта слепота примет форму ассимиляции, сохранения
своего мира с малыми потерями, когда можно оставаться в безо-
пасности в пределах избранного топоса, как бы он ни трактовался
в изменившихся политических условиях.
Подтверждением этому является роман Рашке «Герой облаков,
или Воспитание птиц» (»Der Wolkenheld oder Die Erziehung der Vögel«,
1936), в котором разрабатывается та же тема, но только более
масштабно. На фоне красочных картин природы Рудных гор, куда
приехал из Дрездена молодой писатель Бертольд Рауэ с тем, чтобы
в тишине и покое написать роман о первых послевоенных годах,
происходит процесс «обретения потерянной уверенности и ясно-
сти».1 Встречи с людьми разных судеб приводят его к пониманию
опосредованности покоя «жертвенностью и готовностью к смерти».2
Хотя в романе достаточно ясно ощущается некий педагогический
уклон и рассуждения героя порой напоминают некое наставление
для жаждущих покоя и умиротворения, пристальный интерес
к отдельным проявлениям природы, развёрнутые картины горных
ландшафтов создают ощущение «первого дня творения», когда всё
повседневное вдруг отступает на задний план и читатель смотрит
на привычное другими глазами. Не случайно роман вызвал большой
интерес в прессе (свыше двенадцати положительных рецензий)
Карл Раух восторженно писал: «Когда в будущем зайдёт разговор
о поэтах немецких народностей и ландшафтах, раздел, касающийся
Верхней Саксонии, нельзя уже будет просто пропустить, потому
что в произведении Мартина Рашке он обрёл поэтический образ».3
Издательство, словно предчувствуя этот успех, впервые выпустило
роман Рашке с его портретом на передней странице, снабдив книгу
отрывками из рецензий на предыдущие произведения писателя.
1 Raschke M. Der Wolkenheld oder Die Erziehung der Vögel. Leipzig, 1936. S. 15.
2 Ibid. S. 35.
3 Цит. по: Haefs W. Martin Raschke. Lebens- und Werkchronik... S. 245.
686
К 1939 году происходит заметный перелом в творчестве
М. Рашке, ознаменовавшийся ощутимым отходом на задний план
темы педагогических утопий. Эта тенденция проявилась уже в кни-
ге воспоминаний о детстве «Возвращение» (»Wiederkehr«, 1937),
сочетавшей в себе реальные воспоминания с поэтологическими
рассуждениями, когда конкретные события детства вызывали
у автора мысли, казалось бы, далёкие от происшедшего, но по сути
своей содержали в себе зачатки восприятия мира как такового,
полного обилия вопросов, требующих для ребёнка разрешения.
«Возвращение» — это не книга обычных воспоминаний о детстве,
а своеобразный отчёт о становления человека и творческой лично-
сти, доискивавшейся и продолжающей искать суть жизни, и пре-
творения этой сути в художественное произведение, для которого
основной задачей, если он стремится к правде жизни, следует,
«говоря о страдании, напоминать о радости, и, с другой стороны,
каждую радость приглушать осведомлённостью о страдании с тем,
чтобы жизнь во всей её утешающей полноте присутствовала как
в самый ликующий, так и в самый отчаянный момент».1
Книга вызвала большой интерес не только у читателей, но и
у критиков, о чём свидетельствуют многочисленные рецензии как
в берлинской, так и в региональной прессе. Пауль Фехтер, один
из наиболее значимых литературоведов тех лет, назвал Рашке
«нашим самым талантливым молодым рассказчиком».2 Не только
Фехтер, но и другие критики сулили Рашке большое будущее. Их
прогнозы в известной мере оправдались, когда в 1939 году вышел
роман Рашке «Разные сестры» (»Die ungleiche Schwester«), который
существенно отличался от педагогических идиллий прежних рома-
нов писателя, что дало повод многим критикам заявить о смене
парадигмы в его творчестве. Ганс Георг Майер в статье «От идил-
лии к роману» (»Von der Idylle zum Roman«) отмечал: «Если сегодня
посмотреть на всё художественное творчество Рашке, начиная
с «Предков», то можно увидеть в общих чертах в существенном
отходе от идиллии к следующей и более богатой эпической фор-
ме характерный элемент развития, который означает процесс
разумного увеличения художественных возможностей, духовного
1 Raschke M. Wiederkehr. Tagebuch einer Kindheit. Leipzig, 1937. Цит. по: Raschke M.
Kunst // Deutsche Zukunft. Berlin, 10.01.1937. S. 7.
2 Fechter P. Jugenderinnerungen // Deutsche Zukunft. 26.09.1937. S. 10.
687
и дифференцированного в языковом отношении выражения и поэ-
тического постижения жизни вообще».1
О степени необычности этого романа говорят не только много-
численные — свыше сорока — положительные критические откли-
ки, но и то, что он за короткое время четырежды переиздавался
и даже вошёл в число книг, предназначенных для фронта.2
«Разные сестры» — это роман о любви и сложностях взаимоот-
ношений главного героя, Андреаса Франке, и двух сестёр — Берты,
яркой блондинки с решительным и сильным характером, и Софии,
задумчивой и слегка сентиментальной. Андреас приехал в Дрезден
для завершения научной работы в Техническом университете.
В поисках жилья, он случайно встретил маклера Мозера, который
предложил ему поселиться в его доме, где и произошла встреча
Андреаса с его дочерями. В отличие от прежних героев Рашке,
Андреас не городской житель, отправляющийся искать душевного
успокоения в отдалённых горных краях, а молодой человек, спу-
стившийся как раз с гор, покинувший природный рай ради того,
чтобы заняться наукой. В горах он оставил на попечение матери
мельницу, доставшуюся ему по наследству после смерти отца,
но прелести сельской жизни его мало волнуют. Андреас считает, что
«он родился не для того, чтобы лежать в готовой постели»3 и суще-
ствовать в качестве только «сына-наследника», а для того, чтобы
«строить свою собственную жизнь».4 Правда, строительство это
происходит пока на любовном фронте, потому что Андреас никак
не может определиться, которая из сестёр ему нравится, и все
последующие страницы романа посвящены описаниям душевного
разброда в сердце молодого человека и скрытым соперничеством
обеих сестёр.
Но, как это обычно случается у Рашке, всё решает судьба: уми-
рает отец Берты и Софии, который больше увлекался фантастиче-
скими планами перепланировки Дрездена, чем своей профессией,
и поэтому после него осталось столько долгов, что, если бы не помощь
1 Цит. по: Haefs W. Martin Raschke. Lebens- und Werkchronik. S. 252.
2 Ibid. S. 251.— Могу лично подтвердить наличие этого издания, хранящегося
в фондах Российской национальной библиотеки в Петербурге с пометкой, что эта
книга, испещрённая пометками, была найдена в Петергофе после освобождения
его от немецких войск
3 Raschke M. Die ungleichen Schwestern. Leipzig, 1939. S. 73.
4 Ibid. S. 74.
688
Андреаса, заложившего ради спасения сестёр свою мельницу, то они
оказались бы на улице; по причине своей строптивости погибает
Берта, ступив на тонкий лёд пруда; сам Андреас, объявивший
было Берту своей невестой, хотя и чувствовал большее влечение
к Софии, теперь, после случившейся трагедии, готов связать свою
судьбу с Софией, но его удерживает от этого шага её скрытность.
Сложность ситуации усугубляется и надвигающейся финансовой
катастрофой, которая разрешается благополучно благодаря матери
Андреаса, которая выкупила его долги и постаралась уладить отно-
шения сына с Софией, пригласив её поселиться у неё на мельнице.
Однако концовка всей этой истории остаётся открытой, ибо неиз-
вестно, вернётся ли Андреас на родину, согласиться ли София, хотя
и испытывающая влечение к Андреасу, стать его женой.
Вся эта история разворачивается на фоне великолепных
описаний архитектурных и природных красот Дрездена и его
окрестностей, которые служат не только фоном повествования,
но и выражением прежнего неприятия Рашке «новой деловитости»,
неким антиподом современности, городом, в котором уживаются
прошлое и настоящее. Не случайно в романе город представлен
не как собрание всяческих соблазнов, а как некое место, где про-
исходит воспитание души человека. Правда, маклер Мозер, неисто-
во влюблённый в Дрезден XVIII века, отчего и не хотел торговать
старыми зданиями, терпит поражение, но и Андреас, несмотря
на свою приверженность технике, не может не поддаться очаро-
ванию старого города.
Особое подчёркивание красот города, рассуждения героев
романа о преимуществах прежнего понимания красоты жизни
находятся в резком контрасте по отношению к современности.
Из этого романа Рашке, как, впрочем, и из других его произведе-
ний, читатель не узнает ничего о том, что происходит в Третьем
рейхе. Его там просто нет, нет ни одной приметы нацистского
присутствия, а есть какая-то Германия XX века, и люди, живущие
в ней, заняты сугубо личными проблемами, среди которых, пожалуй,
самая главная — поиски места, где человек мог бы спокойно жить
и творить. Было бы наивным полагать в принципиальной отстра-
нённости автора от современности наличие протестной акции,
но некая дистанцированность от нацистской действительности
в этом всё же просматривается. По крайней мере, читатели это
заметили, если судить по количеству переизданий этого романа.
689
Единственным исключением из этой череды «афашистских»
романов Рашке является повесть «Ветка померанца» (»Der Pome-
ranzenzweig«, 1940), которая по своим идейным и художественным
особенностям очень близка тривиальной литературе тех лет и отве-
чала пропагандистским надобностям нацистов, учитывая тот факт,
что события, описываемые в этой повести, опосредованно связаны
с военной тематикой — нападением фашистов в 1939 году на Поль-
шу. Любовный треугольник — два брата, Лоренц и Хуберт, и жена
Лоренца Гертруда, в которую они оба влюблены — представлен
как выражение высокого товарищества. Лётчик Хуберт, раненый
во время «похода на Польшу», приезжает к Лоренцу, который вме-
сте с женой содержит садоводство. Хуберт постепенно влюбляется
в Гертруду, но эта любовь становится для него настоящей мукой,
особенно после того, как Лоренц добровольцем уходит на фронт,
чтобы заменить раненого брата. Из чувства товарищества Хуберт
вынужден скрывать свою любовь к жене брата. Гертруда, страдав-
шая от этой любви не меньше Хуберта, решает покончить жизнь
самоубийством. Но судьба распорядилась иначе. Хуберт случайно
убивает Гертруду, приняв её ночью за какое-то привидение, а затем
убивает и себя.
Если в «Разных сестрах» значимость судьбы в решении жиз-
ненных проблем героев романа выглядит достаточно оправдан-
ной, учитывая тот факт, что проза Рашке строится в общем-то
по проверенным лекалам литературы XIX века, то в повести «Ветка
померанца» символ судьбы в сочетании с военной тематикой отдаёт
жертвенностью в духе нацистской идеологии, хотя сама война как
таковая в повести, кроме дежурных фраз о «победной польской
кампании»1 или об «обновлении рейха»,2 практически отсутствует.
Критика отнеслась к повести Рашке положительно. Г. Майер
с удовлетворением отмечал, что его пророчество по поводу ожи-
даемого взлёта писателя «от педагогических идиллий к эпическому
роману» подтвердилось, ибо в «новой повести... ощущается заметное
усиление пластики языка и глубины» (Г. Майер).3 Г. Лангенбухер,
посчитав эту повесть чуть ли не итоговой, заявил, что «Мартин
Рашке выдвинулся в первый ряд молодых эпиков нашего времени».4
1 Цит. по: Haefs W. Martin Raschke als Erzähler... S. 94.
2 Ibid. S. 95.
3 Meyer H. Der Pomeranzenzweig // Die Literatur. H.8. 1940. S. 342.
4 Langenbucher H. Volkhafte Dichtung der Zeit... S. 290.
690
Эти и многие другие восторженные отклики на повесть «Ветка
померанца», соотнесённые с предыдущими произведениями писа-
теля, носят некий итоговый характер в оценке творчества М. Рашке
как прозаика, хотя появится ещё повесть «Симона или чувства»
(»Simone oder die Sinne«, 1942), психологически тонко выверенная
поэма о нарождающемся чувстве любви, и ряд рассказов, свиде-
тельствующих о росте мастерства молодого автора. Тем не менее,
как сказал бы сам Рашке, так распорядилась судьба, ибо «Ветка
померанца» подвела черту под творчеством Рашке-прозаика, ибо
последующие его произведения — «Дневник мыслей» (»Tagebuch
der Gedanken«, 1941), «Доверительные разговоры во время восточ-
ной кампании» (»Zwiegespräche im Osten«, 1942) и «В тени фронта»
(»Im Schatten der Front«, 1942) — являют собой Рашке-публициста,
военного корреспондента, пытающегося понять сущность войны.
Говоря о романах М. Рашке, следует заметить, что все они
по своей содержательной и стилистической сущности являлись
порождением провинциальной литературы в духе конца XIX —
начала XX веков, отвечали вкусам и чаяниям бюргерской публики,
не желавшей вникать в проблемы нацистского государства, что
в известной мере отвечало политике новых правителей, делавших
упор на развлекательный аспект культуры. Рашке со своей привер-
женностью «наследию предков», философии судьбы устраивал
как идеологов национал-социализма, так и читающую публику.
Основная особенность М. Рашке, проявившаяся, пожалуй, лучше
всего в его романе «Разные сестры»,— это намеренная простота
изложения, которая, собственно, и привлекала внимание критиков
и читателей. Много позже, в 1957 году, Гюнтер Айх, близкий друг
писателя, заметит в своих неопубликованных заметках о творче-
стве Мартина Рашке: «Недостаток своих творческих способностей
он видел в своём критически направленном интеллекте. Поэтому
он постулировал простоту, которую он, исходя из своей ситуации,
считал не только отличительным признаком творчества, но и зна-
мением. В конечном итоге оба эти понятия отождествились одно
с другим. Однако его понимание простого полно неуверенности.
Зачастую, не замечаемая инстинктивной уверенностью, вместо
простого возникала банальность».1 Но эта банальность как бы рас-
творялась в общем потоке повествования, заменяя собой ненужные
объяснения обычных ситуаций, и, в общем-то, отвечала характеру
1 Eich G. (Über Martin Raschke) // Eich G. Gesammelte Werke in vier Bänden. Bd. IV.
Vermischte Schriften / Hrsg. v. A. Vieregg. Frankfurt / Main, 1991. S. 367.
691
персонажей, действовавших в пределах отпущенных им автором
судеб. Не случайно Айх выделяет в своих заметках один фрагмент,
который характеризует не столько творчество Рашке, сколько его
отношение к творчеству: «[Он] более жизненно педагогичен, чем
интеллектуален. В каждом предложении он говорит о том, как
следует жить, т.е. он говорит это себе».1 Всё творчество — это само-
воспитание писателя, и в этом смысле его лучшие романы являют
собой некий дневник души писателя.
Однако его произведения нельзя отнести к разряду чисто
фёлькиш-национальной литературы. Его антимодернистская
позиция, неприятие идеологии «новой деловитости» и, в качестве
противопоставления, приверженность традициям прошлого, как
справедливо заметил Вильгельм Хэфс, возникли «не под давлением
внешних обстоятельств и цензурных соображений»,2 а в силу его
естественного понимания сути художественного творчества. Как
творческая личность, он существовал как бы параллельно со време-
нем нацизма, не замечая его, идя своей дорогой и не задумываясь
о том, отвечают ли его произведения литературной концепции
национал-социализма или не отвечают.
В этой связи возникает вопрос — является ли Рашке фашист-
ским писателем? Даже если воспользоваться известными тезисами
Ральфа Шнелля, определяющие критерии принадлежности того или
иного автора к национал-социалистской литературе, то при всём
желании из Рашке не получается даже попутчика. Рашке не писал
какой-либо фашистской литературы, как не писал и в духе лите-
ратуры «крови и почвы», не принадлежал к кругу «народнической
поэзии» и к «команде юной поэзии» (Г. Шуман, Г. Анакер и т.п.)
Нацистам очень хотелось иметь Рашке в своих рядах, и поэ-
тому они постоянно приглашали его на «встречи поэтов», но его
участие в этих политических мероприятиях ограничивалось только
ролью зрителя. В этом смысле примечателен иронический отзыв
Рашке в письме к Эрхарду Кэстнеру о веймарской «встрече поэтов»
1940 года: «Музы, кажется, не были приглашены. Речи, более или
менее длинные,... и разговоры, как будто всё происходит в самых
старейших духовных традициях. Тут были всякие Брокмайеры,3
1 Ibid. s. 368.
2 Haefs W. Martin Raschke als Erzähler... S. 101.
3 По имени Вольфрама Брокмайера (1903-?), поэта, руководителя отдела поэзии
в «Имперской палате культуры» и сотрудника отдела культуры «Имперского руко-
водства молодёжи»
692
полные ожидания и усердия, эти тощие кариатиды нашего госу-
дарственного устройства духа, Анакер, швейцарец, поставляющий
стихи о войне и гордо сообщающий о том, что он написал своё семи-
тысячное стихотворение — кто-то воскликнул: „Только!?" — и потом
вояки, по большей части свежие зондерфюреры, улыбающийся
Двингер в качестве их главного, и армия генералов от литературы
с взглядом криминалистов, от них злой дух может на неделю в груди
поселиться. Один из них заявил, что ему надо отправиться в каче-
стве представителя письменности в Осло с тем, чтобы выдрессиро-
вать тамошних поэтов до государственного уровня, в то время как
его сосед собирается заняться обновлением церкви, и делает это
так, как будто новый мессия у него уже в кармане, и он не может
его показать лишь по каким-то договорным причинам».1
Понятно, что это частное письмо, и написано оно другу
и собрату по профессии, тем не менее, оно достаточно ясно говорит
об истинном отношении Рашке к нацистской действительности. Она
воспринималась им как данность, в которой надо жить с учётом её
условий, и эта позиция, скорей всего, и определяла статус Рашке
во времена Третьего рейха как «пассивного коллаборациониста»,2
который, презирая нацизм, не пытался заводить с ним дружбу,
используя, тем не менее, его возможности для того, чтобы безбедно
существовать и писать то, что ему хотелось, что представляло для
него духовную значимость.
С завершением активной творческой деятельности в области
собственно художественной литературы, М. Рашке обращается
(не по своей воле) к журналистике. В 1941 году он был призван
в армию в качестве военного корреспондента вермахта. Военная
публицистика М. Рашке интересна тем, как человек, в общем-то,
далёкий от идеологии национал-социализма, вынужден, в силу сво-
его статуса военного корреспондента, писать статьи, очерки, кото-
рые отвечали бы требованиям нацистской пропаганды, и в то же
время не скатывались бы до уровня публицистики нацистской
партийной печати. Рашке, в отличие от знаменитой в 30-40-е годы
журналистки Маргарет Бовери (Boveri, Margret), определившей
уже в названии своей книги «Мы все лгали» (»Wir lügen alle«;
1965) подневольное состояние представителей своей профессии,
не лгал, а просто обходил молчанием то, что не пропустит никакая
1 Цит. по: Haefs W. Martin Raschke. Lebens- und Werkchronik. S. 257.
2 Haefs W. Martin Raschke als Erzähler. S. 106.
693
цензура, тем более военная, или, что делали и без него некоторые
противники режима, вроде Петера Зуркампа, признанного «масте-
ра скрытного письма»,1 пускался в философские рассуждения
с привлечением авторов античности, что позволяло в сплетении
полунаучных рассуждений каким-то образом незаметно выразить
своё мнение. Опять же, в данном случае речь не идёт о каких-то
крамольных, антифашистских высказываниях, что Рашке было
совсем не свойственно, а о желании высказать здоровое суждение
по тому или иному вопросу, не опасаясь цензурных неприятностей.
Правда, некоторые послабления всё же допускались, когда Рашке,
и не только он, публиковался в журнале «Рейх», который, несмотря
на то, что он находился под личным присмотром Геббельса, пози-
ционировался как пропагандистское издание для внешнего мира,
что позволяло привлекать для работы в этом издании авторов,
далёких от нацистской действительности с широким кругозором,
выходящим за рамки официальной дозволенности.
Словно предчувствуя ожидающие его трудности, Рашке выпу-
скает в 1941 году «Дневник мыслей», в который вошли многочислен-
ные эссе, статьи разных лет и текст первой его успешной радиопье-
сы «Разговор с предками». Здесь и в последующих статьях военного
периода в творчестве Рашке, пожалуй, больше всего проявился его
талант «мыслящего живописца и живопишущего мыслителя» (ein
denkender Schilderer und ein schildernder Denker), как выразился
поэт нашего времени Дитер Хофманн,2 и этот талант позволял писа-
телю сквозь призму образного искусства, служившего своеобразным
укрытием для эмигранта в своей собственной стране, видеть то,
что не дано было видеть другим, и на этом основании строить своё
представление о происходящем вокруг него. В известном смысле
этот сборник можно назвать продуктом так называемого «калли-
графического письма», за хитросплетениями которого скрывались
хотя и не запретные мысли, но всё-таки рассуждения, далёкие
от общепринятого в те годы топоса мышления.
Куда больший интерес (а для нашего читателя в особенности)
представляют книги «Доверительные разговоры во время восточной
кампании» и «В тени фронта», в которых Рашке, как корреспон-
дент вермахта, рассказывает о военных действиях немецких войск
1 Boveri M. Wir alle lügen. Ölten und Freiburg, 1965. S. 9.
2 Hoffmann D. Mein Bild von Martin Raschke // Martin Raschke (1905-1943). Leben
und Werk // Hrsg. v. W. Haefs, W. Schmitz. Dresden, 2002. S. 6.
694
на территории Советского Союза с 1941 по 1943 годы. Первая
книга, прошедшая строгую цензуру, является некоей беллетризо-
ванной вытяжкой из второй книги,1 и в её задачу входит намерение
оправдать войну с Россией (официальные названия — «Советский
Союз» или «СССР» Рашке никогда не употребляет, ибо, учитывая
первые успехи немецких войск на Восточном фронте, это госу-
дарство для него уже не существует). «Доверительные разговоры
во время восточной кампании» построены на фиктивном диалоге
двух персонажей «Он» и «Я», где «Он» олицетворяет собой некоего
представителя солдатской массы, рассуждающего по-простецки,
а «Я» выступает в роли всеведущего человека с претензией на фило-
софские обобщения с опорой на античные образцы, что придаёт
его высказываниям, полным патетики, некий наставительный
характер.
В соответствии с поставленной задачей разговоры эти, пере-
межающиеся одинокими выстрелами противника, носят довольно
отвлечённый характер, касаясь таких тем, как отечество, война,
понятие прекрасного, немецкий язык, гроза, победа, исцеление
и т.п., которые служат отправным пунктом для придания воен-
ным действиям на Востоке некоего вселенского действа: «Поря-
док, страстно желаемый нами, требует некоей широкой основы.
Нас влечёт не только более великое и более лёгкое наслаждение,
но и более качественное продовольствие, что позволяет нам совер-
шать прорывы в прекрасные дали — строить в безопасности спра-
ведливый мир».2 Смысл этой справедливости достаточно прост: «Я:
Кто господствует, тот и сгибает дух подчинённого. Он: Довольно
плохо, если господствующий позволяет этот дух сгибать! Я: Всё
живое не есть нечто застывшее. Так можно согнуть и неправого...
Наверное, не каждый повелитель захочет, чтобы дети покорённых
стран говорили на его языке с тем, чтобы они могли лучше служить
ему? С помощью чужого языка проникает чужой дух. Он будет так
представлен, что его господство проявится как их стародавняя
цель. Таким способом чужое увеличит свою силу до такой степени,
что никто больше не будет знать друг друга и сущность предков
1 О том, что эта книга является частью дневника «В тени фронта» сообщается
на последней странице «Доверительных разговоров во время восточной кампании»:
«Из дневника «В тени фронта», написанного на Восточном фронте и в казарме
в начале 1942 года» (Raschke M. Zwiegespräch im Osten. Leipzig, 1942. S. 111).
2 Raschke M. Zwiegespräche im Osten... S. 95.
695
станет призраком, который иногда лишь мешающим образом
промелькнёт по лицу человека, пытающегося их вспомнить. Он:
Тогда Германия, которой пришлось бы говорить на другом языке,
перестала бы быть Германией? Я: Тогда она потеряла бы свою
святую память».1
После этих слов следует перечисление великих имён Гёте, Нова-
лиса, Гёльдерлина, Баха, чьи заветы должны вдохновлять немецких
солдат в борьбе за светлое будущее новой Германии, и слова эти
звучат как заклинание: «Я: Чем была Германия, мы знаем. Чем
она станет — заключено в лоне судьбы. Благодаря нам это должно
произойти, так как мы являемся частью её бесконечного образа,
каждый как подобие одного целого. Нашим оружием, каждой
частицей нашего необычайного тела мы ведём борьбу за новый
образ нашей сущности, потому что мы, ты и я, сидящие в этой избе,
и есть Германия. Созвездие Льва над нами, там, на небесах. Неиз-
вестно, останемся мы в живых или нет, неизвестен и достигнутый
образ новой Германии. Только огонь, который горит в нас и вокруг
нас и освещает святые места, где были люди, где возникнут новые
люди и соотечественники. Распевая наши песни, поминая мёртвых,
охраняя родившихся и неродившихся, мы произносим наше «нет»
этим безбожникам, штурмующим нас отовсюду, и догадываемся,
что за словечком «Германия», какими прозрачными становятся для
наших глаз все страдания и блаженство».2
Эти и подобные им рассуждения, в обилии рассыпанные
на страницах книги «Доверительные разговоры во время восточ-
ной кампании», позволили еженедельнику «Рейх» (и это важно,
учитывая его подчинённость лично Геббельсу) назвать книгу Раш-
ке «самым ясным поэтическим отображением восточного похода,
какое только у нас есть»,3 хотя сам автор придерживался иного
мнения, собираясь, как он сообщал в письме к своей жене Ютте
от 19 июня 1942 года, «устранить» в рукописи книги «неприятный
проповедческий тон».4
Как бы то ни было, но своей книгой Рашке выразил поддержку
захватнической войне Германии против Советского Союза, или,
1 Raschke M. Zwiegespräche im Osten...S. 99.
2 Ibid. S. 103-104.
3 Seh (Schüdderkopf Jürgen). Das Bild des Menschen. Erinnerung an Martin Raschke //
Das Reich. 19.11.1944.
4 Haefs W. Martin Raschke. Lebens- und Werkchronik. S. 265.
696
по крайней мере, вынужден был придерживаться такой пози-
ции. Последний вывод покоится на том, что в дневнике «В тени
фронта» отсутствуют не только «проповедческий тон», но и вообще
какие-либо воинственные пронацистские высказывания, что явно
свидетельствует об истинном отношении Рашке к событиям тех лет.
О. Шэфер, с нею и с её мужем, X. Ланге, Рашке дружил ещё со вре-
мён журнала «Колонне», вспоминала, что «он рассказывал такие
невероятные истории о событиях на фронте, о которых Хорст Ланге
слишком хорошо был осведомлён (X. Ланге едва не погиб в боях под
Москвой.— Е. 3.), что мы от удивления теряли дар речи...»1
Сам дневник «В тени фронта» так и не был опубликован при
жизни Рашке, ибо политическая полиция (существовала и такая
служба в ведомстве Гиммлера), потребовала внести в рукопись
дневника столь существенные изменения, что автору пришлось
отказаться от его публикации.2 Судя по письму Рашке своей жене
Ютте от 25 мая 1942 года, причина столь суровых действий поли-
тической полиции по отношению к достаточно благонамеренному
автору заключалась в том, что «некоторые части рукописи могли бы
испугать общественность».3
По правде говоря, если обратиться к известным на сегодняшний
день публикациям отдельных частей книги «В тени фронта», то они
не дают оснований считать, что в них имеются какие-то материалы,
способные вызвать недовольство официальных властей или, того
более, «испугать общественность». Сейчас трудно предположить,
что могло тогда показаться военной цензуре неприемлемым или
опасным. Учитывая тот факт, что литературными делами в Треть-
ем рейхе занимались едва ли не все государственные структуры,
любая фраза могла быть истолкована по-разному в соответствии
с представлениями того или иного чиновника о литературе. Доста-
точно вспомнить нелепые претензии Геринга к Йозефу Надлеру,
1 Schäfer О. Op. cit. S. 258.
2 В письме своей жене Ютте от 4 августа 1942 г. Рашке писал: «Я согласен на то,
что лучше пусть всё пропадает, чем отказаться от существенной части книги»
(Haefs W. Martin Raschke. Lebens- und Werkchronik... S. 264).
3 Цит. по: Haefs W. Op. cit. S. 264. Тем не менее, отдельные главы из этой рукописи
были опубликованы в журнале «Иннере рейх», «Ойропеише литератур» (»Europäische
Literatur«), «Цванцигсте ярхундерт» (»Das XX. Jahrhundert«) и «Рейх» (»Das Reich«),
что объяснялось их европейским статусом. Только в 1963 г. большая часть рукописи
«В тени фронта» была опубликована в книге «Сведения о Мартине Рашке» (Hinweis
auf Martin Raschke // Hrsg. v. D. Hoffmann. Heidelberg, Darmstadt, 1963. S. 61-123).
697
сравнившему в одной из статей самолёты с хищными птицами,
за что сразу же он лишился поста специального корреспондента
в Париже и был переведён в Грецию, что по тогдашним статусным
нормам приравнивалось ссылке.
Судя по всему, задача Рашке состояла в том, чтобы создать
в представлении массового читателя образ войны, лишённый
каких-либо особых тягот, ибо практически он не изображал сами
действия немецких войск на территории Советского Союза,
а только передавал атмосферу повседневной военной жизни в её
бытовых проявлениях. Не случайно один из военных репортажей
Рашке был озаглавлен «По местам вчерашних боёв» (»An der Front
von gestern«).1 Писателя больше всего интересовали последствия
войны, чем сама война, поэтому его репортажи, небольшие замет-
ки касаются в основном положения людей, затронутых войной,
и война здесь предстаёт лишённой своего блеска и славы. В этой же
связи в его заметках отсутствуют унизительные, карикатурные или
отрицательные характеристики противника, как это было принято
в пропагандистских статьях тех лет. В отличие от нацистского поэта
Г. Шумана, считавшего советских солдат недочеловеками, Рашке
воспринимает противника на равных.
Его поездки по оккупированным районам Белоруссии, по При-
балтике, по Псковской земле и по близлежащим к Ленинграду рай-
онам носили некий экскурсионный характер, целью этих поездок
было ознакомление с загадочной страной под названием Россия
и с её народом: «Меня всегда трогает встреча с развалинами быв-
ших империй».2 Хотя слова эти вызваны были знакомством Рашке
с Тильзитом, напомнившем ему о судьбе Великого княжества литов-
ского, но они точно определяют суть его рассуждений.
Первое, что его поразило в России, это её размеры, которые
вызвали у него «внезапную тоску по необычному»,3 и это нашло своё
отражение в его творческом методе, ибо большинство его заметок
являет собой собрание мелких, случайных деталей, мимолётных
встреч, которые вызывают у него череду ассоциативных ходов
1 Raschke M. An der Front von gestern. Ein Kriegsbericht // Das XX. Jahrhundert.
1941. H. 12. S. 426-430.
2 Raschke M. Im Schatten der Front. Aufzeichnungen // Hinweis auf Martin Raschke.
Eine Auswahl der Schriften / Hrsg. v. D. Hoffmann. Heidelberg, Darmstadt, 1963. S. 66.
3 Raschke M. Im Schatten der Front... S. 64.
698
и превращаются в нечто знаковое, особенное. Этим особенным для
него является Россия, которая воспринимается им как некое закол-
дованное царство рек и болот: «Быстро едем по дороге на Кингисепп
в восточном направлении. Болота по правую и по левую сторону,
через них проходит дорога, окаймлённая с обеих сторон только
телеграфными столбами... Даже если бы этого ты не знал, можно
было бы почувствовать, что здесь живёт другой народ, который
не предаётся попечению порядка и не жаждет обрести в объятиях
уюта нечто необычное. Всё здесь говорит о возвышенном запусте-
нии. Поэтому здесь и вороны выглядят страшнее. В них, кажется,
вселились враждебные духи... Разрушения в Кингисеппе, в других
местах выглядевшие бы скорбно, вполне отвечают этому приюту
анархии и только обнаруживают, каким законам первозданной жиз-
ни и гибели этой страны они ещё могут служить. В них проявляется
не столько дело рук человеческих, сколько воздействие той опло-
дотворяющей и дико разрушающей силы, которая повсюду сгибает
заросли ольхи к болоту и берёт приступом коварной сыростью дома,
доводя их до гниения».1 И далее, приехав в Ополье и обнаружив
примерно такую же картину, дополненную подбитыми танками,
Рашке заключает: «Нигде не видно следов возвышенной жизни,
только вода течёт и капает на эту многократно израненную землю».2
Эти безрадостные картины дополняют встречи Рашке с насе-
лением захваченных немцами советских областей, в большинстве
своём с крестьянами, которые предстают в его интерпретации как
жертвы войны. Побывав в Пушкинских Горах и осмотрев памятник
A.C. Пушкину, укрытый на зиму досками, Рашке меланхолично
замечает: «Неповреждённый. Музы охраняет, вероятно, особый дух.
Охраняет ли он так же и город? Разрушены только баня и новые
постройки, заводы и административные здания. Война лишила этот
народ его цивилизации, достигнутой с большим трудом, и вытол-
кнула его обратно в прошлое столетие».3
Но именно это обстоятельство вызывает у Рашке двойственное
впечатление. С одной стороны, он неоднократно подчёркивает
беды, принесённые русскому народу войной; с другой стороны, он,
побывав в нескольких избах и наблюдая за повседневными делами
1 Raschke M. Im Schatten der Front... S. 97-98.
2 Ibid. S. 98.
3 Ibid. S. 113.
699
крестьян, восхищён тем, что они, несмотря ни на что, оказывают-
ся верны своим стародавним привычкам, которые помогают им
выстоять в годину бедствий: «Жизнь здесь мне показалась более
древней, чем у нас. Люди пользуются результатами некоей тыся-
челетней деревянной культуры, которая проявилась в прекрас-
ных установлениях для всякой деятельности, в то время как мы
находимся в состоянии смутной юности металлического столетия
машин. Даже если это всё принадлежит устаревшей эпохе, оно
всё же не потеряло своей силы, сформированное долгим дыханием
столетий и всё ещё полное сил, как и прежде».1
В этих словах, конечно, сказывается и приятная сердцу Раш-
ке приверженность крестьян заветам предков, но в них заклю-
чено и признание силы духа русского народа, его живучести,
его стойкости. И дело тут, конечно, не в какой-то особой любви
Рашке к русскому народу. Основная тональность статей, коротких
высказываний, дневниковых записей, вошедших в книгу «В тени
фронта», свидетельствует о пристальном интересе Рашке к отдель-
ной личности, оказавшейся волею судеб в центре событий, непод-
властных его пониманию, и потому представляющих опасность для
его существования. Именно подобный гуманистический настрой
военной прозы Рашке, дозированный после цензурных перипе-
тий в «Доверительных разговорах во время восточной кампании»
и ничем не сдерживаемый в опубликованных материалах книги
«В тени фронта», привлёк внимание читателей.
Не стоит также забывать, что при всей правдивости военных
зарисовок Рашке, при всех его контактах с людьми антинацист-
ской направленности, о чём свидетельствуют мемуары известной
журналистки Урсулы фон Кардорф2 и круг знакомых писателя,3
оставался лояльным по отношению к Третьему рейху, лояльным,
хотя и чувствовал наступление скорого его конца. Вот характер-
ные записи в его дневнике после разгрома немецких войск под
Сталинградом: «Как быстро наш народ считает себя погибшим!
Многие стараются создать себе в ожидании катастрофы полити-
ческое алиби, подчёркивая вдруг, ранее так громко не звучавшее,
своё отрицательное отношение к режиму» (22.01.1943); «Сталин-
1 Raschke M. Im Schatten der Front. S. 117.
2 KardorffU. von. Berliner Aufzeichnungen aus den Jahren 1942 bis 1945. München,
1992
3 SchaeferO. Auch wenn Du träumst, gehen die Uhren. Lebenserinnerungen. 1970.
700
град заставляет речь умолкнуть... Нужно много усилий для того,
чтобы сдерживать поражённое сердце от страшных предчувствий»
(30.01.1943); месяцем позже: «В то время как фантазия рождает
всякие, даже самые мрачные виды на будущее, она всё-таки посте-
пенно снижает ощущение ужаса. Мужество снова обретает силу.
Его гордость, вызванная принадлежностью к этому народу, спешит
ему на помощь» (10.02.1943).] Но вот примечательные строки в ста-
тье «К другу» (»An den Freund«), опубликованной в июне 1943 года
в журнале «Иннере рейх» незадолго до смерти писателя: «Теперь
зажжён великий огонь. Печь судьбы, которую некоторые хотели бы
видеть только как место приношения жертвы Молоху, пылает не так
как раньше. Ты доверяешь пожару то, что ты сформировал для
себя, все твои прекрасные сосуды, наполненные всем тем, что ты
думаешь о смерти и о красоте, о духовном обновлении и о значении
искусства, и надеешься, что этот огонь пусть их обжигает и делает
небьющимися. Разве мы все не разъезжали повсюду с гончарной
телегой, гружёной необожжённым товаром, и не знали толком,
для чего годны отдельные сосуды и почему они были хорошими?
Ну, теперь они в огне. Как много их в этом пламени разобьётся!
Но то, что мы обретём, мой друг, станет кристаллом, содержа-
щем в себе огонь и мрак земли, некоей монетой, которая никогда
не потратится, словно настоящая шапочка, исполняющая желания
Фортуната. Возникнут новые ценности. Нет, мы не счастливчики,
которые легко сбрасывают с себя бремя тягот и теперь боятся, что
начавшаяся буря сметёт их с этого своенравного шара земли. У нас
осталось только мужество довериться этому огню, под которым
я хотел бы понимать не только грохот канонады, но и некое «да»
по отношению к благословляющей руке самой страшной судьбы.
Всё, что в нас есть долговечное, выстоит в этом пламени».2 В этих
словах, отмеченных осознанием конечности Третьего рейха, брен-
ности его мнимых ценностей, заключено понимание если не оши-
бочности избранного художником пути в мире абсолютно чуждом
его пониманию сути творчества, то, во всяком случае, надежда
на возвращение к истокам истинно народной сущности немцев,
не замутнённой нацистской идеологией.
Трудно сказать, как дальше происходило бы становление
творчества Рашке, но его смерть от пулевого ранения в живот,
1 Haefs W. Martin Raschke. Lebens- und Werkchronik. S. 267.
2 Raschke M. An den Freund // Das Innere Reich. 1. Heft 1943. S. 3.
701
случившаяся на Восточном фронте, вызвала в немецкой прессе,
не говоря уже о письмах, полученных вдовой писателя, небывало
огромное количество отзывов, в которых постоянно подчёркивалось,
что Рашке находился как раз на взлёте своего творчества, ибо «толь-
ко в будущем можно было ожидать от него всё самое лучшее и самое
великое» (К. Цухард).1 «Невозместимая потеря», это слово присут-
ствовало почти в каждом отзыве на смерть Рашке. Герхарт Гауптман
в телеграмме вдове писателя отмечал «потерю духовно высокосто-
ящего Мартина Рашке».2 П. Альвердес, Г. Каросса, Ю. Эггебрехт,
М. Хаусман, У. фон Кардорф, И. Лангнер, В. фон Моло, Г. Шталь,
Ф. Степун, М. Вигман, В. фон Нибелынютц и многие другие пред-
ставители литературы и искусства тех лет, независимо от их поли-
тических взглядов, выразили, каждый по-своему, значимость твор-
чества М. Рашке для немецкой литературы тех лет. Особую утрату
со смертью М. Рашке ощущали его бывшие друзья времён журнала
«Колонне»: Г. Казак, Э. Меккель, Г. Фуссенеггер, Г. фон дер Фринг,
О. Шэфер. X. Ланге записал в своём дневнике: «...я был очень опе-
чален. Опечален потому, что в этом случае жертвой войны стал тот,
кто с войной не имел ничего общего. Опечален потому, что навсегда
ушёл человек, который много знал о нас, который принадлежал нам
и сопровождал нас многие годы, потому что он шёл тем же путём,
что и мы, и когда нам было плохо, помогал нам, человек, которому
мы полностью доверяли, который был с нами молод!»3
Однако, несмотря на все высказывания о значимости твор-
чества М. Рашке, после 1945 года его имя было забыто. Г. Айх,
пожалуй, единственный настоящий друг М. Рашке, попытался
написать в 1957 году эссе о нём, но из этого кроме разрознен-
ных отрывков ничего не получилось. Образ «лучезарного юноши»
в прозаическом отображении показался Айху «недостоверным»,
представление о нём, как пишет Айх, «возможно было бы передать
только стихами»,4 и как следствие — возникает цикл стихов «Про-
должение разговора» (»Fortsetzung des Gesprächs«), которые можно
рассматривать как своеобразную перекличку с «Доверительными
1 Цит. по: Haefs W. Martin Raschke. Lebens- und Werkchronik. S. 272.
2 Ibid. S. 271.
3 Lange H. Tagebuch. S. 128.
4 Eich G. Op. cit. S. 366.
702
разговорами во время восточной кампании» Рашке. Однако и поэ-
зия оказывается тяжким трудом для воспроизведения личности
дорогого человека:
Это значит:
отыскивать в поле пламя,
изучать геологию вывороченных
пластов мгновений,
восстанавливать поток времён
из нерастворимой химии».1
Айх не столько вспоминает всё, что связывало его с Рашке,
сколько договаривает то, что он не мог сказать ему в годы войны.
Это и склонность Рашке к стилизации природы...
...обратить лозу в папоротник,
заставить цвести заблуждения;
слышать осень как запах снега...
...и призыв к нему выйти из придуманного мира:
Но не забудь о домах,
где ты живёшь с нами...
Выходи из дождя и говори!2
...это и обсуждение назначения творца:
Слова как воздушные волны,
гул органа из труб,
решимость
слушать песню
или стать песней —
ветреные прямые
в полёте фосфорных линий,
вот зарождение темы.
Никаких вариаций,
никаких увёрток власти
и убаюкивающей правды,
никаких ухищрений,
чтобы прощупать вопросы
за широкой спиной ответа.3
1 Айх Г. Продолжение разговора. Перевод В. Куприянова //Из современной поэзии
ФРГ. Выпуск первый / Составитель В. Вебер. М., 1983. С. 180.
2 Айх Г. Продолжение разговора... С. 181.
3 Там же. С. 182-183.
703
...это, наконец, и определение той беспомощности, какой отме-
чена судьба писателя в годы нацизма:
Ревнивыми прилагательными
возвращаются в предложения
неизбежные отговорки,
цепью термитов
они выедают речь
до тончайшей кожи
чёрных букв
Стиль — это смерть,
выстрел ниже пояса.!
В последнем стихотворении этого цикла, носящем символиче-
ское название «Уверенность вынести из его жизни», Айх, обыгрывая
образ Симоны, героини одноимённого романа Рашке, выражает
надежду на то, что время всё расставит по своим местам:
...окаменела Симона,
её надуманное тепло
покрыто холодом слёз,
она в ожидании мха,
разрушительных деяний дождя,
вьюнков и помёта птиц.
Непогода её отогреет
для новой жизни, которую нам разделять,
терпенье!»2
Осознание значимости творчества Рашке придёт много позже,
и Айх был первым, кто напомнил современникам о существовании
художника, пытавшегося творить в годы нацизма.
Может показаться, что я слишком много уделил внимания
творчеству и личности Мартина Рашке. Однако тому есть причины.
Творчество этого писателя, являясь порождением провинциальной
литературы, выделялось на её фоне заметным влечением к гумани-
стическим традициям литературы XIX века. Рашке не копировал
её великие образцы, как это делали многие представители офици-
альной фёлькиш-национальной литературы, а, вдохновляясь ими,
пытался создать свой стиль художественной эссеистики, что нашло
своё наибольшее выражение в его военной прозе. Особенность
1 Айх Г. Продолжение разговора... С. 183.
2 Там же. С. 184.
704
значимости творчества Рашке в годы Третьего рейха заключалась
в том, что он, оставаясь вроде бы в рамках отпущенных нацист-
ским режимом свобод, не опустился до положения добровольного
прислужника этого режима. А. Андерш в своём знаменитом эссе
«Немецкая литература перед решением» (»Deutsche Literatur in
der Entscheidung, 1948«), говоря об авторах «внутренней эмигра-
ции», отнёс М. Рашке к группе «сопротивления и каллиграфии».1
Конечно, видеть в Рашке представителя «сопротивления» было бы
наивно. Рашке был бюргером консервативного склада, для которого
нацистский режим оставался неприемлемым в силу несоответствия
его жизненным и этическим правилам, и, сохраняя внешние формы
этого времени, он выражал своё мнение не столько «рабьим язы-
ком», сколько умелым растворением истинного смысла понимаемого
им творчества в повседневной, чуть ли не на уровне бытовизма,
действительности, или, выражаясь словами А. Андерша об авторах
названной им группы, «ловкостью, с какой они защищали интере-
сы искусства от трескотни пишущих выскочек националистского
толка...»2 Отсюда же вытекает и основной тезис А. Андерша о зна-
чимости немецкой литературы в годы Третьего рейха, который
вполне применим и к творчеству М. Рашке: «Нужно раз и навсегда
ясно и твёрдо заявить, что любое художественное произведение,
появившееся во времена господства национал-социализма, являло
собой, если только это произведение было художественным, прояв-
ление враждебности по отношению к нему. Из духа национал-соци-
ализма художественные произведения не рождались».3 Другое дело,
что нацистская пропаганда умело использовала эти произведения
в своих целях, и в этом заключалась трагедия не только М. Рашке,
но и ряда других противников преступного режима, оказавшихся
втянутыми в политические игры нацистов.
Совсем по-иному сложилась в Третьем рейхе судьба близкого
друга Мартина Рашке и соратника по журналу «Колонне» Гюнтера
Айха (Eich, Günter; 1907-1972). До недавнего времени интерес
к творчеству Г. Айха практически ограничивался послевоенным
периодом, который принёс ему славу блестящего мастера радиопье-
сы и не менее блестящего поэта. В литературу Айх пришёл в середине
20-х годов XX века, однако едва ли не все работы о нём игнорируют
1 Andersch A. Deutsche Literatur in der Entscheidung. Ein Beitrag zur Analyse der lite-
rarischen Situation. Karlsruhe, 1948. S. 11.
2 Andersch A. Op. cit. S. 12.
3 Ibid. S. 7.
705
начальный период его творчества. Подобное невнимание к раннему
периоду творчества писателя вызвано не только его собственным
нежеланием касаться этого времени, о чём свидетельствует краткая
автобиография Айха,1 но и отсутствием авторских текстов, доста-
точных для того, чтобы составить какое-то представление о станов-
лении его как писателя. Правда, известно было, что Айх являлся
одним из ведущих авторов журнала «Колонне» (о котором, кстати
сказать, после 1945 года германисты, не говоря уже о читателях,
имели довольно смутное представление), известно было и то, что он
в годы фашизма до 1940 года работал на радио, будучи автором
160 радиопьес и прочих радийных произведений. Однако, учитывая
обшую неразработанность истории немецкой литературы времён
Третьего рейха, как и славу Айха, воспринимавшегося (воспринима-
емого и сейчас) в качестве мэтра послевоенной литературы ФРГ, этот
раздел в творчестве писателя оставался в некотором небрежении.
Ситуация в данном случае резко изменилась в 1993 году
после того, как издательство «Зуркамп» (»Suhrkamp«), выпустив-
шее в 1991 году исправленное и дополненное собрание сочинений
Г. Айха под редакцией Акселя Фирэгга (Vieregg, Axql), начало работу
над изданием дополнительного тома, в который должны были войти
письма писателя и секундарные материалы, касающиеся его творче-
ства. Фирэгг, ознакомившись со всеми сохранившимися письмами
Айха и его друзей (основной архив писателя сгорел во время войны
при бомбардировке Берлина) и некоторыми документами времён
нацизма, задался целью раскрыть истинное лицо Айха с тем, чтобы
«показать, как Айх преодолел то, что он сам признавал совершенно
ясно как ошибочное поведение, и как от этого признания возрос-
ла сила его творчества»,2 что нашло своё отражение в обширном
очерке, представленным им издательству. Но, как это случается,
в исследовательском рвении Фирэгг слишком свободно обращался
с имевшейся у него информацией, выдвигая предположения о воз-
можном «вовлечении Айха в машинерию нацистской пропаганды» '
таким образом, что каждый обвинительный тезис сопровождался
замечанием о том, что он требует подтверждения. Подобная тактика
1 EichG. [Ein Lebenslauf] // Eich G. Gesammelte Werke in vier Bänden. Revidierte
Ausgabe. Bd. IV. Vermischte Schriften. Frankfurt / Main, 1991.
2 Vieregg A. Der eigenen Fehlbarkeit begegnet. Günter Eichs Realitäten 1933-1945 /
http://www.mediaculture-online.de
3 Ibid.
706
спекуляций, основанных на предположениях, а не на фактах (боль-
шинство радиопьес, на которых строятся эти предположения, неиз-
вестны Фирэггу, он ссылается только на анонсы для слушателей, где
пересказывается их содержание в соответствующей нацистским
надобностям интерпретации), вызвала справедливое недовольство
издательства и договор с Фирэггом был расторгнут, а издание писем
Айха пришлось отложить до лучших времён.
Спору нет, многое из того, что было обнаружено Фирэггом
в документах тех лет, позволяет по-иному посмотреть на раннее
творчество Айха, как и на его моральные и гражданские проявле-
ния в годы фашизма, что, однако, не позволяет относить писателя
к пособникам нацистского режима. Эта мысль, хотел того Фирэгг
или нет, проходит красной нитью через все его статьи.
Следствием этого редакционного скандала стало появление
в 1993 году брошюры А. Фирэгга «Боровшийся с собственными пре-
грешениями. Истинное положение Гюнтера Айха в 1933-1945 годы»
(»Der eigenen Fehlbarkeit begegnet. Günter Eichs Realitäten 1933-
1945«), вызвавшей необычно оживлённую дискуссию в печати.
Основная мысль этой дискуссии заключалась не в том, был ли Айх
привержен идеологии нацистов (этого никто, разве что кроме Фрица
Раддаца, страдавшего левацкой болезнью, не утверждал), а в том,
где кончается «работа для пропитания» и начинается проституция.1
Правда, в последней версии своего исследования Фирэгг настроен
более решительно, озаглавив её «Боролся ли он с собственными
прегрешениями? Вовлечённость Гюнтера Айха в Третий рейх»
(»Der eigenen Fehlbarkeit begegnet? Günter Eichs Verstrickung ins
>Dritte Reich<«, 1997), подчёркивая тем самым приверженность Айха
идеологии нацизма, характеризуя всё послевоенное творчество
писателя как некое покаяние, как «скрытое признание» совершён-
ных политических грехов.2 Мнения участников дискуссии на этот
счёт значительно расходятся с мнением Фирэгга.
Исходной точкой для рассуждений Фирэгга служит заявление
Айха, сделанное им в 1930 году в ответ на вопрос анкеты редакции
«Колонне» о его «социальном восприятии»: «Ответственность перед
1 NijssenH. Über die Widerstandskraft der Vernunft // Martin Raschke (1905-1943).
Leben und Werk / Hrsg. v. Haefs W., Schmitz W. Dresden, 2002. S. 108.
2 Vieregg A. Der eigenen Fehlbarkeit begegnet? Günter Eichs Verstrickung ins »Dritte
Reich« // Literatur in der Diktatur. Schreiben im Nationalsozialismus und DDR-So-
zialismus / Hrsg. v. G. Rüther. Padeborn, München, Zürich, 1997. S. 175.
707
временем? Ни в малейшей степени. Только перед самим собой».1
Из этого мальчишеского заявления (Айху всего двадцать три года!)
делается вывод о бесхарактерности молодого человека, способного
на всё ради сохранения собственной индивидуальности, а индиви-
дуальность эта формировалась довольно своеобразно.
Гюнтер Айх родился в 1907 году в небольшом городке Лесбусе
в семье бухгалтера, который в поисках работы часто переезжал
из города в город, пока не обосновался в Берлине. Здесь молодой Айх
поступил в 1925 году в университет на отделение синологии. Выбор
столь редкой специальности определился не каким-то особым инте-
ресом Айха к восточным языкам, а просто «желанием делать что-то
такое, что никому в общественном отношении не могло бы особен-
но пригодиться»,2 и в этом уже проявляется некая бесшабашность
его характера. Через год Айх переезжает в Лейпциг, где изучает
по настоянию отца экономику. В зимний семестр 1928/1929 годов
Айх изучает синологию в Париже, где знакомится с сюрреалистами,
что найдёт своё отражение в его последующем творчестве.
Первые стихотворные опыты Айха публикуются при содействии
его друга Вилли Фезе (Fehse, Willi) под псевдонимом Эрих Гюнтер
в 1927 году в сборнике В. Фезе и К. Манна «Антология новейшей
лирики» (»Anthologie jüngster Lyrik«). По своему настрою, по форме
эти стихи отмечены заметным влиянием экспрессионизма, хотя
и лишены той истовости и напора, которые были свойственны
зачинателям этого литературного направления. Экспрессионист-
ские интонации теряются в многословии и пространственности
стиха, приближающегося к поэтической прозе меланхолического
свойства. Эта особенность первых стихов молодого Айха довольно
ярко проявляется в стихотворении «Неправедны твои дни» (»Deine
Tage gehen falsch«, 1927). По своему настрою это стихотворение
созвучно натурфилософской лирике, которая и станет определяю-
щей для поэтического творчества Айха:
Неправедны твои дни.
Пустынных звёзд полны твои ночи.
Тысячи мыслей являются ежечасно.
Тысячи мыслей прощаются ежечасно.
1 Eich G. [Innere Dialoge] // Eich G. Gesammelte Werke in vier Bänden. Revidierte Aus-
gabe. Bd. IV. Vermischte Schriften. Frankfurt / Main, 1991. S. 457.
2 Müller-Hanpft S. Eich, Günter // Neues Handbuch der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur seit 1945 / Hrsg. v. Moser D.-R. München, 1993. S. 272.
708
Ты помнишь?
Когда-то ты был
только лодкой на глади зелёной реки,
когда-то твои ступни были корнями деревьев,
крепко держала тебя на якоре гавань земли.
Вернись же туда к своему естеству,
пей вещие ливни, рождая листву.
Чересчур торопливы твои шаги.
Лицо твоё и слова унизительны для тебя.
Стихни опять и забудь обо всём,
стань дуновеньем, цветком, мотыльком.1
В 1930 году выходит первый сборник стихотворений молодого
поэта под скромным названием «Стихи» (»Gedichte«), и здесь уже
явно возникают контуры натурфилософской лирики. Леса, ветры,
дожди, реки, луна, травы, облака — все эти обязательные компо-
ненты лирики авторов этого направления заполнили стихи Айха,
и главное настроение этих стихов, выражающееся преимуществен-
но в описании осени,— плач по утерянной близости с природой:
Словно на гору звери — на небо ползут облака,
слишком рано темнеет и изо всех фонарей
капля за каплей струится осень.
Это ноябрь, ты узнаешь его.
В прошлом остались луга и запахи леса.
Когда-то ребёнком ты ловил там бабочек и стрекоз.2
Плач осени разъят по водосливам,
небес как будто нет.
Потерянно под пологом дождливым
шарманка просит хлеба и монет.3
Ко времени выхода в свет «Стихов» Айха он был уже знаком
с Мартином Рашке и принимал самое деятельное участие в работе
редакции журнала «Колонне», ибо увидел в Рашке собрата по духу
и просто близкого человека, а в программе журнала — отражение
собственного представления о назначении художника в современ-
ном мире, которое выражалось в неприятии модернизма, «новой
1 АйхГ. Неправедны твои дни // Из современной поэзии ФРГ. М., 1983. С. 145.
Пер. В. Вебера.
2 АйхГ. Фрагмент // Там же. С. 145-146. Перевод В. Вебера.
3 АйхГ. Стихи для шарманки // Там же. С. 146. Перевод В. Куприянова.
709
деловитости». В письме к Рашке от 12.04.1930 года, обсуждая про-
грамму «Колонне», Айх отмечал, что она «должна быть протестом
против тезиса о том, что изобретение беспроволочного телеграфа
важнее какого-то стихотворения. У нас есть только один враг —
вера в прогресс и бескультурье нашего времени. И я считаю, что
самой громкой борьбой против этого времени будет, если мы ничего
о нём не скажем».1
Эта же мысль, но более развёрнуто, прозвучала и в его статьях,
опубликованных в «Колонне». Отвечая на сетования Бернхарда
Дибольда (Diebold, Bernhard), литературного критика «Франкфуртер
алльгемайне», по поводу того, что молодые поэты «воспринимают
мир как и сто лет тому назад», что они по-прежнему живут «под луной
Гёте и пребывают в рощах Гёльдерлина или Мёрике», хотя новая
поэзия «может выкристаллизироваться только в разговорном языке
с употреблением современных слов и современных предметов»,2
Айх отвергает необходимость приверженности поэзии современной
действительности, ибо это означало бы «приверженность марксизму
или антропософии или психоанализу... Отношение ко времени...
поэта как поэта вообще не интересует (что не исключает, если
он, как частное лицо, привержен, например, какой-либо партии).
Лирический поэт не привержен ни чему, его интересует только его
собственное «Я», он не создаёт никакого мира, состоящего из «Ты»
и «Он», как это делают эпические писатели и драматурги, для него
существует только отдельное «Я», лишённое общности. И как раз
потому, что он ни чему не привержен, он улавливает время как
нечто целое и представляет его снова зримым через незамутнённое
зеркало собственного «Я», потому что преобразование «Я» и есть
сущность времени».3 Отсюда восторженная статья Айха о поэзии
Франсуа Вийона, воспринимаемой им как выражение «асоциаль-
ного порыва... неразрывное соединение жизни и произведения,
1 Vieregg А. Antimodernism und Idylle beim frühen Günter Eich // Martin Raschke
(1905-1943). Leben und Werk // Hrsg. v. W. Haefs und W. Schmitz. Dresden, 2002.
S. 123.
2 Diebold B. An die jungen Lyriker // Die Kolonne. 1932. H.l. S. 3^. Цит. по: Eich G.
Gesammelte Werke in vier Bänden. Bd. IV. Vermischte Schriften / Hrsg. v. A. Vieregg.
Frankfurt / Main, 1991. S. 648.
3 Eich G. Bemerkungen über Lyrik. Eine Antwort an Bernhard Diebold // Die Kolonne,
1932. H. 1. S. 3-4. Цит. по: Eich G. Gesammelte Werke in vier Bänden. Bd. IV. Ver
mischte Schriften // Hrsg. v. F. Vieregg. Frankfurt / Main, 1991. S. 458^59, 547.
710
полных приключений».1 Отсюда и благосклонное отношение Айха
к поэзии австрийца Гвидо Цернатто (Zernatto, Guido; 1903-1943),
лауреата премии журнала «Колонне», сочетавшего в себе творчество
и профессиональную политику (позднее — министр в правительстве
последнего австрийского канцлера Курта фон Шушнинга, против-
ник воссоединения Австрии с Германией). Отмечая, что «в стихах
Гвидо Цернатто можно обнаружить программу «новой деловитости»,
Айх оправдывает это кажущееся отступление от канона «настоящей
поэзии» тем, что «вещи внешнего мира» могут стать предметом
поэзии только в том случае, когда они «вторгаются в индивидуаль-
ное бытие и вызывают чувства отталкивания или приятия. Только
из такого напряжения возникают стихи, также как любые другие,
которые являются только частью внутреннего, также как может
вновь создаваться людьми чисто внешнее, оно создаётся только
само по себе и мы воспринимаем его только посредством нашего
«Я».2 Именно поэтому Айх даёт отрицательную оценку сборнику эссе
Готфрида Бенна «Итоги перспектив» (»Fazit der Perspektiven«, 1931),
посчитав смешение поэзии и эссе проявлением тенденциозности как
таковой, которая не равна поэзии: «Тенденциозная поэзия с её пря-
мым высказыванием идеи сама лишает себя своего воздействия».3
В связи с этим понятна отрицательная реакция Айха на эпическое
произведение Иоганнеса Р. Бехера (Becher, Johannes R.) «Великий
план» (»Der große Plan«, 1931), посчитав его «плохой пропагандой».
«Тенденциозная поэзия по своей сути не может быть ни доста-
точно тенденциозной, ни достаточно поэтической, и поэтому она
не в интересах любого политического движения, если оно не хочет
скомпрометировать свои идеи и свои достижения наивными вос-
хвалениями, представленными в поэтическом виде».4
Столь яростное неприятие новой поэзии и приверженность
натурфилософской лирике сочетаются у Айха с любовью к сельской
идиллии. Город для него является «скопищем посредственности»,5
1 Eich G. Anmerkungen zu den Gedichten von Villon // Die Kolonne. 1930. H. 9. S. 65.
Цит. по: Eich G. Gesammelte Werke... Bd. IV. S. 546.
2 Eich G. Guido Zernattos Gedichte // Die Kolonne. 1931. H. 1. S. 11.
3 Georg Winter (Eich G.) Die Vermischung der Formen // Die Kolonne. 1931. H. 2. S. 23,
550.
4 Eich G Zu Johannes R. Bechers »Der Große Plan« // Die Kolonne. 1931. H.6. S. 70-71,
552.
5 Georg Werner (Eich G.) Um uns die Sradt // Die Kolonne. 1932. H. 1. S. 16, 555.
711
тем местом, где человек меняется, теряет своё естественное состо-
яние, и поэтому с таким восторгом Айх отзывается о стихах Геор-
га фон дер Фринга (Vring, Georg von der; 1889-1968), видя в нём
талантливого продолжателя лирики в духе Мёрике «с его склонно-
стью к идиллии, его любовью к малым вещам, к сельскому образу
жизни, к садам, которые он воспевает, описывая гладиолусы,
шпорник, водосбор и фуксии... это мелодия чистого и простого
сердца, и эта книга оставляет самое прекрасное впечатление оттого,
что кто-то в наше время смог сохранить эту мелодию, что нечто,
казавшееся навсегда потерянным, вновь обрело жизнь».1
Подобные настроения Айха не есть проявление какого-то вре-
менного увлечения модой, а выражением его собственного суще-
ства. Не случайно самым дорогим местом для него стал купленный
им в январе 1933 года в кредит дом в Поберов (Poberow) на берегу
Балтийского моря, ради которого он влез в долги, погашаемые им
за счёт «проклятой» работы на радио. Дом, конечно, громко ска-
зано. Это был обыкновенный летний домик, обшитый досками,
с кухней, душем, двумя комнатами. Для Айха это уединённое место
было укрытием не только от городского шума, но и от нацистской
действительности, а вскоре стало и местом встречи его друзей,
Петера Хухеля, Эберхарда Меккеля, Хорста Ланге, Оды Шэфер,
т.е. местом, где можно было говорить, не опасаясь доноса. Вот
примечательное письмо, в котором Айх описывает своим друзьям,
супругам Кунерт, своё пребывание в Поберов. Примечательность
его заключается не только в описании повседневных занятий Айха,
но и в том, что оно написано 1 мая 1934 года, считавшегося одним
из самых официальных праздников нацистов. Именно в этот день,
как написал Айх, он «должен был шагать в колоннах Имперского
союза немецких писателей», членство в котором обязательно для
всех писателей, и в этом поступке с ироническим добавление
гитлеровского приветствия явно просматривается определённый
протестный акцент, учитывая ТОт факт, что в первые годы нацист-
ского режима подобного рода поступки тщательно фиксировались:
«...Здесь я чувствую себя лучше, можно иногда прогуляться, в этом
году я уже нашёл первый кусочек янтаря, сегодня я обстоятельно
изучал образ жизни личинок муравьиного льва,., вечером выпил
1 Georg Winter (Eich G.) Georg von der Vring. »Verse« // Die Kolonne. 1932. H.l. S. 31,
556.
712
в трактире три рюмки водки, и был очень доволен тем, что могу
побыть несколько дней совершенно в одиночестве.
Если бы только можно было жить на стихи! Это несчастное
радио преследует меня до сих пор. Мою передачу вечером в субботу
я не слышал, так как по счастливой случайности радио сломалось.
Нет, давай об этом не будем больше говорить... Меня больше
интересует, как обстоят дела с печью, в порядке она или нет (вещь
она хорошая и дорогая), и что я буду утром тушить свиные рёбрыш-
ки, и что дикий виноград из Шпэта ещё не прислали, и надо ли
мне построить сарай, и успешно ли прошло бурение колодца, и как
я искоренил душистую жимолость.
Вообще-то я должен сегодня маршировать в колоннах ИСП
(Имперского союза писателей.— Е.З.). Нда...
Хайль Гитлер и всех благ!
Дорогая Урсула... не могла бы ты написать мне, как делается
йогурт?»1
Это письмо можно назвать отправной точкой для последую-
щих рассуждений о судьбе Г. Айха в Третьем рейхе, ибо многое
свидетельствует в его поступках в те годы о том, насколько опасна
бывает политическая наивность художника и к чему может при-
вести, если можно так выразиться, политическая неразборчивость
этого художника в стремлении решить свои творческие и бытовые
проблемы, не задумываясь о моральных последствиях.
С приходом к власти нацистов обычные пути творческой дея-
тельности для многих писателей, а для писателей афашистского
толка в особенности, оказались нарушенными. Нужно было или
приспособиться к изменившимся политическим условиям, или
эмигрировать, или, наконец, встать в ряды сторонников нового
режима. Каждый устраивался как мог. Г. Айх, успешно зарекомен-
довавший себя на радио ещё в 1930 году в совместной с М. Рашке
работе над радиопьесой «Жизнь и смерть великого певца Энрико
Карузо», продолжал писать радиопьесы для различных радиостан-
ций, создавать для театра инсценировки классических произве-
дений, и, судя по тому, что он ещё до прихода к власти нацистов,
купил участок земли на берегу Балтийского моря и намеревался
1 Цит. по: Vieregg A. Antimodernismus und Idylle beim frühen Günter Eich // Martin
Raschke (1905-1943). Leben und Werk / Hrsg. v. W. Haefs und W. Schmitz. Dresden,
2002. S. 131.
713
построить там дом, его положение в финансовом и социальном
плане не вызывало у него особых тревог.
Определённые надежды связывал Айх и с поэтическим твор-
чеством. В марте 1933 года журнал «Нойе рундшау» (»Die Neue
Rundschau«), ещё сохранявший свой статус прецептора немецкой
литературы, публикует подборку стихов молодого поэта, однако
дальше этой публикации дело не пошло, да и время для стихов
прежнего свойства наступило нерадостное. Призыв к сохранению
«мелодии чистого и простого сердца», прозвучавший в его статье
0 поэзии фон дер Фринга, вызван не только всеобщим разладом,
царившим в литературе, но и предчувствием надвигающейся
политической опасности, отсюда ламентации по поводу потери
близости к природе, хотя...
...созвездия и ветер
ещё холодны как и во все времена...
...но общение с весной и осенью лишено уже прежней теплоты,
ибо после того...
...как все вы утонули в прошлом,
утонуло и всякое «Ты»...
...и поэтому...
...на меня падают листья осени из другой жизни.
Единственное, что мне осталось,
это «Я», да и оно мне в тягость.1
М. Рашке ещё в начале 1932 года отмечал, что «в стихах Пон-
тера Айха всё познанное в момент познания снова становится чуж-
дым, оно исчезает, едва обретя образ, контуры его расплываются
постоянно в общем», ибо наступило такое время, что «даже в поэзии
невозможно стало передать сущность «современного человека»...
по причине истощения сознания широких кругов, болезни отсут-
ствия индивидуальности, причину отсутствия которой Гюнтер Айх
когда-то сформулировал словами: «Достаточно быть зверем».2
В зверя Айх не превратился, но в логово зверя всё-таки решил
податься, потому что иного пути для него не было. В письме к Раш-
ке от 24 апреля 1933 года он убеждает своего друга, пытавшегося
1 Eich G. Gesicht // Gedichte von Günter Eich // Die neue Rundschau. 1933. März.
S. 411-412.
2 Raschke M. Zur jungen Literatur // Die literarische Welt. Nr. 8/9. 19.02.1932. S. 7.
714
отсидеться в Дрездене, что «нам придётся всё же продолжить поход
на радио»,1 и 25 апреля 1933 года Айх встречается с руководством
радиостанции «Дойчландзендер» (»Deutschlandsender«), где обгова-
ривает условия его работы над передачей «Кёнигсвустерхойзерский
сельский почтальон» (»Königswusterhäuser Landboten«), а 30 апреля
1933 года он был уже принят на работу, чему сам был чрезвы-
чайно удивлён, как это видно из его письма Рашке: «Руководство
«Дойчландзендер» проявило тревожащую меня любезность. Г-н Ян
принял меня так, как будто он уже несколько месяцев ждал меня.
Всё это мне совершенно непонятно».2
Ничего непонятного, а тем более тревожащего в любезности
руководства «Дойчландзендер», ставшего официальной радио-
станцией Третьего рейха, не было. Нацисты, в связи с начавшейся
в культурных учреждениях Германии чисткой от нежелательных
элементов, просто нуждались в талантливых авторах, не заме-
ченных ни в левых, ни в пронацистских симпатиях, для создания
радиопьес народнического толка, лишённых прямого политического
давления, с чёткой ориентацией на вкусы преимущественно сред-
него обывателя. Айх, как, впрочем, и Рашке, уже привлёкший вни-
мание пропагандистского ведомства своей радиопьесой «Наследие
отцов», были явной находкой для «Дойчландзендер», ибо, учитывая
их народнические взгляды, приверженность сельской идиллии
и враждебное отношение к городу, более лучших исполнителей этой
задачи им вряд ли удалось бы найти.
Однако в связи с изменившейся политической ситуацией
в стране Айх решил (хотя здесь больше спекуляций, чем конкретных
ответов)3 каким-то образом укрепить своё положение, и подал 1 мая
1933 года заявление о приёме его в Национал-социалистическую
рабочую партию Германии (НСРПГ), о чём он со смехом сообщил
своему другу Кунерту.4 Правда, по прошествии нескольких меся-
1 Haefs W. Martin Raschke. Lebens- und Werkchronik... S. 236.
2 Vieregg A. Op. cit. S. 11.
3 См. работы: Vieregg A. Der eigenen Fehlbarkeit begegnet. Günter Eichs Realitäten
1933-1945. Eggingen, 1993; »Unsere Sünden sind Maulwürfe«: Die Günter-Eich-Debatte.
Amsterdam, Atlanta, 1996; Schäfer KD. Eichs Fall // Martin Raschke (1905-1943).
Leben und Werk / Hrsg. v. W. Haefs, W. Schmitz. Dresden? 2002. S. 145-166; Görtz RJ.
Lehrstück über einen deutschen Schriftsteller. War Günter Eich niemals in der NSDAP? —
Materialien zu einer Lebensgeschichte // Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.05.1988.
4 Vieregg A. Der eigenen Fehlbarkeit begegnet. Günter Eichs Realitäten 1933-1945.
Eggingen, 1973. S. 8.
715
цев он получил отказ,1 о причинах которого ничего не известно,
и поэтому во всех последующих документах Айх мог со спокойной
совестью заявлять о своей непринадлежности к нацистской партии.
О причинах столь необычного поступка человека, не замечен-
ного в приверженности идеям национал-социализма, было много
разговоров. Одни считали, что Айх сделал это на спор, другие утвер-
ждали, что он так поступил под воздействием беседы с Готфридом
Бенном и его известной речи «Новое государство и интеллектуалы»
(»Der neue Staat und die Intellektuellen«, 1933), третьи полагали, что
им двигали чисто карьерные соображения. Каких-то конкретных
сведений на этот счёт нет, что, собственно, и породило после смерти
Айха массу различного рода инсинуаций, построенных на всевоз-
можных предположениях.
Несомненно, что для Айха контракт с «Дойчландзендер» был
жизненно необходим по причине больших долгов, возникших
при покупке дома в Поберов, в 1935 года покупки автомашины
марки «Мерседес» (тогда не все писатели могли позволить себе
такую роскошь),2 а позднее и квартиры в шикарном районе Бер-
лина. У Айха не было собственного жилья, он долгое время жил
у Рашке в Дрездене, и по-человечески понятно желание молодого
человека обустроить свой быт, тем более что подобные расходы
обуславливались длительностью контракта. Однако вряд ли сугубо
1 Ibid. S. 8.— Кристоф Меккель, со слов своего отца Эберхарда Меккеля, передаёт
иную версию случившегося. Э. Меккель, П. Хухель и Г. Айх обычно встречались
в одной пивной: «...однажды Гюнтер Айх явился с партийным значком, приколо-
том на видном месте. Петер Хухель и мой отец высмеяли его (оба рассказывали
об этом одно и то же), они его просто высмеяли и Гюнтер Айх вернул значок партии»
(Meckel Chr. Eine Freundschaft // Text+Kritik. Peter Huchel. H. 157. München, 2003.
S. 26). Документально доказано А. Фирэггом, что Г. Айху было отказано в членстве
в нацистской партии, поэтому появление его на встрече с друзьями с нацистским
значком в петлице выглядит несколько странным, потому что вряд ли партийные
значки выдавались будущим кандидатам до того, как они получат уведомление
о приёме в партию и вручат партийный билет.
2 В какой-то степени автомашина служила Г. Айху и его друзьям способом уеди-
ниться от нацистской действительности. Г. Айх, П. Хухель и Э. Меккель часто
совершали загородные поездки, устраивая своеобразные поэтические состяза-
ния. Следствием одной такой поездки на могилу Ахима фон Арнима и Беттины
Брентано в Виперсдорфе, родовом замке фон Арнимов, стал уговор всех троих
написать стихотворение «Виперсдорф» (»Wiepersdorf«), в котором был бы отражён
день их посещения этого замка. Как сообщает Кристофер Меккель, «стихотворение
моего отца не сохранилось, стихи Айха и Хухеля стали знаменитыми» (Meckel Chr.
Suchbild — Über meinen Vater. Düsseldorf, 1980. S. 31-32.)
716
материальные надобности, не говоря уже о приверженности его
идеологии новых властителей, подвигли Айха искать покровитель-
ства нацистов, и здесь нельзя исключить того, что руководство
«Дойчландзендер» могло намекнуть ему о желательности его всту-
пления в нацистскую партию.
В какой-то мере вынужденной работой, т.е. для денег, можно
считать буколическую повесть Айха «Катарина» (»Katharina«), опу-
бликованную в 1935 году в журнале «Иннере рейх», повествующая
о первой любви молодого человека, возникшей во время его летних
каникул в маленьком провинциальном городке.1 Написанная в тра-
дициях Heimatdichtung, эта повесть пользовалась большим успехом,
о чём можно судить по ряду её отдельных изданий, в том числе
по изданию для надобностей армии, тираж которого к 1945 году
достиг 32 000. Тем не менее, после 1945 года Айх дистанцировался
от этой повести. В своём письме к своему другу Вилли Фезе, тому
самому Фэзе, который вместе с К. Манном открыл Айха как поэта,
он заявил: «Катарина» не является новой. Я её отклонил, это прой-
денное».2
За период работы на радио с 1933 по 1940 годы Айх написал
свыше 160 произведений, среди них — 75 серий «Сельского почта-
льона», значительная часть из них совместно с Рашке.3 По проше-
ствии первых месяцев работы над «Сельским почтальоном» Айх
понял, что это занятие имеет мало общего с творчеством как тако-
вым. На протяжении всего времени работы Айха над этим сериалом
его письма к друзьям полны горьких сетований: «„Кёнигсвустерхой-
зерского сельского почтальона" делаю я вообще-то с Мартином...
Я уже сыт им по горло и всё же хочу работать на себя. О эта про-
клятая вилла на берегу Балтийского моря» (25.11.1933); «Я больше
не хочу участвовать в передачах этого почтальона» (17.08.1936).4
В письме к своему другу А. Кунерту от 21.04.1937 года Айх, явно
находясь на грани отчаяния, что потом найдёт свое выражение
в его радиопьесе «Радий» (»Radium«, 1937), объясняет своё положе-
ние: «Моё старое желание иметь собственное жильё по возможности
1 Eich G. Katharina // GW. Bd. 4. S. 226-274.
2 Anmerkungen // Eich G. GW. Bd. 4. S. 641.
3 Vieregg A. Op. cit. S. 13.
4 Ibid. S. 15.
717
осуществляется, и я рад этому. У меня две комнаты с кухней, с цен-
тральным отоплением и горячей водой, в старом районе в западной
части Берлина, рядом с Лютцовплац, в нескольких шагах от моего
нежно любимого Ландверканала. К сожалению, всё это сделало меня
полностью банкротом, и хотя у меня ещё жуткие долги, мне не хва-
тает кое-чего из мебели, нет занавесок и многих мелочей, которые
все вместе стоят огромную кучу денег. Поэтому я вынужден буду
следующие месяцы интенсивно посвящать работе на радио».1
Долговая зависимость Айха усугубилась ещё и наступившим
осознанием того, что он оказался невольно вовлечённым в про-
пагандистскую машину нацистского режима. Первые серии
«Сельского почтальона» посвящены были описаниям радостей
сельской жизни и строились на материалах старых календарей,
популярных в Германии издавна, и, казалось, продолжали давние
традиции провинциальной литературы, хотя их можно было, при
желании, истолковать и в духе «крови-и-почвы». По крайней мере,
нацистский оффициоз «Фёлькишер беобахтер», по его собственному
признанию, первоначально относившийся к этой передаче насто-
роженно, теперь с удовлетворением констатировал, что «Кёниг-
свустерхойзерский сельский почтальон» нашёл путь к народу, он
обрёл народный образ».2 И как следствие подобного признания,
руководство радиостанции, начиная с 1935 года, взяло курс на про-
ведение на материале испытанного образца более конкретного
политического воздействия на слушателей, в чём можно убедиться
на примере радиопьесы «Немецкий календарь: Декабрь 1937 года.
Ежемесячный портрет, представленный Кёнигсвустерхойзерским
сельским почтальоном» (»Deutscher Kalender: Dezember 1937. Ein
Monatsbild vom Königswusterhäuser Landboten«). Эта радиопьеса
примечательна тем, что в ней разыгрывается тема евангельской
притчи о «возвращения блудного сына», но не в религиозном,
не в общечеловеческом, а исключительно в политическом смысле.
Морозным зимним днём сельский почтальон приходит в обык-
новенный горняцкий посёлок в Рудных горах. Как свойский человек
он в курсе всех событий жителей посёлка, расспрашивает одного,
как обстоят дела с рождественской пирамидой, для которой тот
вырезает из дерева различные фигурки; справляется у другого
1 Vieregg A. Op. cit. S. 15-16.
2 Anonym. Völkischer Beobachter. 23.02.1935.
718
о Томасе, сыне старой Ханке, эмигрировавшем в Америку и за пять
лет приславшем только два письма. Внезапно приходит известие,
что в деревню приехал Томас с тем, чтобы взять себе в жёны девуш-
ку именно из родной деревни. Томас присутствует на своеобразных
посиделках, где местные девушки плетут кружева, и с упоением
рассказывает им о своей жизни в Америке, но его рассказ всё время
прерывается песнями девушек, в которых воспевается сельская
жизнь, местные обычаи. Под влиянием общения с матерью, с Лот-
той, своей невестой, которая ни в какую не хочет ехать с Томасом
в Америку, и особенно после разговора с сельским почтальоном,
красочно описавшим ему все блага жизни в горах, Томас принимает
решение остаться в родной деревне. Сельский почтальон выступает
в роли защитника национальной сущности немецкого народа, и его
обращение к радиослушателям звучит как некая заповедь новой
жизни: «Хотя для прощания у меня есть одно старое высказывание
о нежных горожанах и мозолистой руке, которая нас кормит. Но для
вас и для этого декабрьского часа, полного звёзд, оно не подходит,
и поэтому я хочу его на этот раз изменить и лучше так произнести:
Ты, незнакомый горожанин, не смейся
над мечтательностью!
Ты живёшь, о чём также говорит твоя гордость,
страной мечтаний и детства».1
Хотя текст радиопьесы подвергся после 1945 года авторской
правке, он достаточно ясно свидетельствует о политической окра-
шенности этого произведения, в котором евангельская притча
теряет свой религиозный смысл, когда покаяние и прощение опре-
деляется в противопоставлении Америке Третьего рейха, когда духу
денег и наживы противостоит любовь к лесам и горам, к народной
общности, к зову крови.
Понятно, что писание подобного рода текстов не доставляло
Айху удовольствия, он понимал, что многое из того, что вышло
из под его пера в эти годы, не отвечало его собственным воззрени-
ям. Об этом достаточно красноречиво говорит его письмо Кунер-
ту от 18.06.1936 г.: «Я осознаю, что мои усилия стать писателем,
т.е. стать полезным членом человеческого сообщества, оказались
1 Eich G. Deutscher Kalender: Dezember 1937. Ein Monatsbild vom Königswusterhäuser
Landboten // Eich G. Gesammelte Werke in vier Bänden. Revidierte Ausgabe. Bd. 2.
Die Hörspiele I / Hrsg. v. K. Karst. Frankfurt / Main, 1991. S. 102.
719
напрасными. Я не имею в виду деньги или успех, то и другое
у меня в известной степени есть и может и дальше наличествовать.
Но никогда в жизни я не буду ощущать себя счастливым в этой роли,
неискренность в этом положении мучает постоянно мою совесть,
всякую непоэтическую деятельность я воспринимаю более или менее
несерьёзно. Итак, я возвращаюсь на Парнас моей юности с невин-
ным взором и слегка развевающимися волосами. И мои спутники,
оставшиеся там, простят меня за то, что я долго отсутствовал и что
я иногда думал и говорил о них плохо».1
Возвращения на Парнас, однако, не состоялось, и осознание
этого вынужденного предательства самого себя, своей привержен-
ности к поэзии очень ярко проявилось в радиопьесе Айха «Радий»
(»Radium«, 1937), в основе которой лежал роман Рудольфа Брунгра-
бера (Brunngraber, Rudolf). История поэта Жюльена Шабанэ (Cha-
banais — вообще-то название знаменитого в 20-е годы парижского
борделя), продавшего свой талант (отсюда и намёк на бордель)
на составление рекламных текстов о добыче радия в надежде
на заработанные таким образом деньги помочь своей жене, умира-
ющей от рака, завершается тем, что он приходит в ужас от своего
падения и спасается бегством в джунгли.
В тематическом отношении — критика буржуазного госу-
дарства, жажда наживы на человеческом несчастье — эта радио-
пьеса близка ранним настроениям Айха, но эта критика являлась
и составной частью нацистской пропаганды. Бесспорно, в кон-
тексте этой темы можно высказывать некоторые смелые мысли,
понятные тогдашнему слушателю, чуткому ко всякому роду аллю-
зий к реальной жизни. Такие фразы как «пропаганда становится
религией»,2 характеристика архикапиталиста Синьяка, мечтающего
о мировом господстве,3 или прорицание скорого конца «мира греха
и злобы», ибо
...плохо управляли мы тем, что нам дала земля,
и ничтожно мал, считаю я, срок падения...4
1 Vieregg A. Op. cit. S. 29.
2 Eich G. Radium // Eich G. Gesammelte Werke in vier Bänden. Bd. 2. Die Hörspiele I /
Hrsg. v. K. Karst. Frankfurt / Main, 1991. S. 183.
3 Ibid. S. 164.
4 Ibid. S. 184.
720
...находили понимание, и, вероятно, поэтому радиопьеса
«Радий» передавалась только один раз.1 Тем не менее, главной темой
этой радиопьесы является осознание Айхом невольного вовлечения
себя в пропагандистский механизм нацизма: «...холод проникает
в моё сердце, леденящее сомнение мучает меня, было ли божествен-
ным то, о чём я писал», говорит Жюльен Шабанэ.2
В этой истории проявляются реальные события из жизни
Айха, которые объясняют его вынужденное вовлечение в работу
на радио. Первый брак Айха с актрисой кабаре Эльзой Брук стал
для него, как вспоминала О. Шэфер, «сплошным мученичеством».3
Брук была подвержена наркотикам, и Айх вынужден был покупать
у спекулянтов на «чёрном рынке» морфий, что по тем временам
требовало больших денег.4
О степени кризисного состояния Айха свидетельствует одно
из немногих стихотворений, написанных им в период работы
на радио, «День в марте» (»Der Tag im März«, 1938), полное меланхо-
лических рассуждений в духе любимого им Франсуа Вийона на тему
«но где же прошлогодний снег?» Мартовский день у Айха не есть
предвестник весны, а напоминание об утраченном состоянии бли-
зости к природе, когда «великая мечта о земле, о птичьем полёте
и о желании стать растением» казалась явью, когда «из пустоты...
тянулись стаи птиц» и «исчезали в свете дня». Всё потеряло свою
вневременность, мир потерял подвижность, обрёл постылую пред-
метность, и теперь поэт радуется самой малости, теперь «счастья
лицезреть ручеёк достаточно на всю жизнь», «но достаточно ли
этого? В ответ — ни слова».5
«День в марте» и ряд других стихов, написанных в годы фашизма
и опубликованных в журналах «Иннере рейх», «Даме», «Бюхервурм»,
1 Vieregg A. Op. cit. S. 31.
2 Ibid. S. 185.
3 Schäfer О. Op. cit. S. 258.
4 Ганс Вернер Рихтер оставил страшное воспоминание о встрече с Э. Брук: «Я видел
его жену дважды, и каждый раз меня ужасал её вид, от неё исходило нечто
упадочное, ведьмоподобное, её слишком длинные ногти придавали её нервным
рукам нечто когтеобразное, когда к ней обращались, её глаза слегка загорались,
и её ответы, произнесённые заплетающимся, почти неслышным голосом, были
зачастую невразумительными» (Richter H. W. Günter Eich // Lesebuch der Gruppe
47 / Hrsg. v. H.A. Neunzig. München, 1983. S. 23.
5 Eich G. Der Tag im März // Eich G. Gesammelte Werke in vier Bänden. Bd. 2. S. 199.
721
вошли в послевоенный сборник стихов Айх и воспринимались как
стихотворения именно послевоенного времени, что сказалось, между
прочим, и на переводах этих стихов на русский язык.1
Радиомучения Г. Айха закончились с началом Второй мировой
войны, когда его как владельца автомобиля призвали в армию вме-
сте с автомобилем. Правда, в мае 1940 г. его временно, по насто-
янию его друга Юргена Эггебрехта (Eggebrecht, Jürgen),2 отозвали
из армии для написания радиопьесы «Восстание в городе золота»
(»Die Rebellion in der Goldstadt«), являвшейся частью антианглийской
кампании, предпринятой нацистами на радио в начале Второй
мировой войны. В этой акции, кроме Айха, принимали участие
А. Кунерт, П. Хухель, Г. Реберг, Й.М. Бауэр, которых трудно назвать
проводниками идеологии нацистов, ибо они пришли на радио
не по зову сердца, а ради хлеба насущного. В своих радиопьесах
они в данном случае опирались на материалы английских авто-
ров (например, радиопьеса П. Хухеля была построена на пьесе
Б. Шоу «Другой остров Джона Буля»), и все те пафосные моменты,
связанные с социальными конфликтами в самой Англии или в её
колониях, на которых и лежала основная политическая нагрузка,
обыгрывались в историческом контексте без привлечения нацист-
ской фразеологии. Многое из того, что порицалось в этой пьесе,
носило двойственный характер и могло быть воспринято как кри-
тика нацистской действительности. Именно это имел в виду Айх,
сообщая в письме к своему другу А. Кунерту о том, что «это такая
тема, от которой я, если бы был министерством пропаганды, с ужа-
сом всеми силами бы отказался».3
Тем не менее, на основании одного только факта причастно-
сти Айха к созданию этой пьесы, Фирэгг заявляет: «Сложившиеся
обстоятельства и содержание «Восстания в городе золота» не дают
1 Стихотворение «День в марте», например, в переводе Б. Хлебникова потеряло свою
трагическую интонацию и воспринимается как позднее стихотворение стареюще-
го поэта (Из современной поэзии ФРГ / Составитель В. Вебер. M., 1983. С. 187.)
2 Юрген Эггебрехт (1898-1982), поэт, редактор до 1933 г. Издательства «Пипер», зна-
комый с Айхом по журналу «Колонне», во времена Третьего рейха работал в отделе
цензуры верховного командования вермахта и отвечал за издание книг для солдат.
Используя свои возможности, он помогал многим авторам молодого поколения
не только издавать их книги, но и спасал их от превратностей политического
свойства, находя для них своеобразные убежища в рядах вермахта.
3 Anonym. Ein kleiner Stachel // Die Zeit, 29.10.1993
722
больше никаких оснований сомневаться в том, что Айх рассматри-
вал себя как часть машинерии нацистской пропаганды и что как
таковой он очень ценился официальными властями».1
Всё хорошо, только Фирэгг не знал содержания пьесы и ссы-
лался только на газетные анонсы. Порочность такой литературовед-
ческой практики Фирэгга подтвердилась неожиданной находкой
в одном из пражских замков в 1993 г. пластинок с записью именно
этой радиопьесы. Запись была сделана уже после того, как Айх
отправился в армию, и содержала в себе много вставок, совер-
шенно выпадавших из стиля оригинала, и связано это было с тем,
что концепция Айха содержала сдержанные, но заметные отсылки
к реалиям времени, а эти вставки изменили кардинально общий
настрой радиопьесы, при сохранении якобы авторства Г. Айха.
Хотя эта акция выполнила свою задачу и привела к тому, что
немцы, по сообщению службы СС, «посчитали англичан заклятыми
врагами Германии, которые ради своих корыстных целей и поро-
дили войну»,2 время радиопьес закончилось. Не прошло и полгода
после столь успешной акции, как эта же служба докладывала, что
«стараниями имперского министерства народного образования
и пропаганды... радиопьеса на немецком радио была уничтожена».
Приписка от руки на этом же документе: «Ничего не поделаешь.
Геббельс принципиально отверг радиопьесу».3 Все усилия министер-
ства пропаганды были направлены на любимое детище Геббель-
са — кинематограф. Так закончилась история радиопьесы Третьего
рейха, а с ней закончилась и карьера Гюнтера Айха на радио.
Несомненно, что Гюнтер Айх не был проводником идеологии
национал-социализма в её основополагающих аспектах, как не был
и прислужником нацистских властей, какие бы доводы сомнитель-
ного свойства ни приводил Фирэгг, которым движет в основном
ущемлённое самолюбие отвергнутого издательством «Зуркамп»
айховеда. Не вина Айха, а его трагедия, что его фёлькиш-кон-
сервативные и эстетические предпочтения, лишённые амбиций
фёлькиш-националов, мечтавших повернуть историю Германии
вспять с помощью нацистов, и формировавшиеся отнюдь не под
1 Vieregg A. Op. cit. S. 185.
2 Wessels W. Zum Beispiel Günter Eich: Von der schuldlosen Schuld der Literatur //
http://www.mediaculture-online.de S. 16.
3 Ibid. S. 17.
723
влиянием идеологии национал-социализма, отвечали политическим
надобностям нацистов. «Безвинная вина литературы» (В. Вессельс)
заключается в том, что всё зависит от интерпретации, и поэтому
знаменитые слова русского поэта «нам не дано предугадать, как
наше слово отзовётся» лучше всего характеризуют ситуацию, сло-
жившуюся вокруг творчества Г. Айха времён Третьего рейха.
После 1945 года, в отличие от самозваных «внутренних эми-
грантов» вроде Ф. Блунка или Ф. Тисса, всячески превозносивших
свои мнимые заслуги в борьбе против фашизма, Айх откровенно
заявил: «Я не оказывал никакого активного сопротивления наци-
онал-социализму. Теперь утверждать обратное я не намерен».1
И это также не устраивает Фирэгга, ибо ему, по справедливому
замечанию Ульриха Грайнера, известного критика, «хочется видеть
Айха сломленного, раненого, потому что он намерен показать его
кающимся и одновременно скрывающим своё прошлое».2
Ощущение нового начала стало определяющим в творческой
жизни Г. Айха, однако это новое, при более внимательном рас-
смотрении оказалось на поверку откликом на прошлое, возве-
дённым в более потустороннее время, на грани сна или видения,
о чём свидетельствуют его знаменитые радиопьесы 50-60-х годов.
Настоящее в своём реальном качестве потенциально опасно, но его
можно представить в таком отрешённом виде, что оно становится
во много раз опаснее самого себя в силу своей неопределённости
и невозможности его постижения, и, вероятно, поэтому в конце
своей жизни Г. Айх воспринимал всё происходящее вокруг него,
несмотря на внешние поэтические и политические проявления
своего бытия, сквозь призму прошлого, представленного в формах
чрезвычайно закрытого стиха. Герметическая поэзия в данном
случае является способом диалога с самим собой, когда любое слово
для его создателя вызывает массу ассоциаций, неясных читателю,
но жизненно важных и не теряющих своей остроты для поэта.
Таким образом Айх как бы раскручивал назад ленту своей жизни,
и это беспокойство о прошлом, о годах нацизма давало ему стимул
для постижения современности и одновременно для предостере-
жения об опасности недооценки её искушений и связанных с ними
превратностей.
1 Greiner U. Ein Streit um Eich // Die Zeit, 16.04.1993.
2 Ibid.
724
Если экскурсы в прошлое для Г. Айха связаны в известном
смысле с преодолением этого прошлого, с некоей ревизией всех его
проявлений, то приверженность Петера Хухеля (Huchel, Peter; 1903-
1981) к прошлому можно рассматривать как способ постоянной
подпитки творческого воображения поэта, своеобразного, на манер
греческого Антея, припадания к благодатной земле детства для
обретения жизненной силы и вдохновения. Хухель является одним
из немногих немецких поэтов XX века, чья поэзия при всей кажу-
щейся простоте изобразительных средств и кажущейся прозрач-
ности остаётся до сих пор загадкой для исследователей и в какой-
то степени и для читателей. Сложности толкования творчества
Хухеля определяются двумя взаимоисключающими сторонами его
творчества, определявшимися политической историей Германии.
С одной стороны, Хухель как представитель, по его собственному
определению, поколения «Европы века двадцатого печального»
(»Europa hundertzehnttraurig«), опубликовавший до 1940 года свы-
ше 30 произведений в годы фашизма и тем самым украшавший,
говоря словами Г. Айха, «бойню геранью», что и вызвало позднее
обвинения в коллаборационизме, хотя все его публикации тех лет
не идут ни в какое сравнение с публикациями многих авторов
«внутренней эмиграции», вроде Ф. Тисса, Г. Гайзера или того же
Г. Кароссы, почитавшихся и почитаемых ещё сегодня, но с оговор-
ками, борцами против фашизма; с другой стороны, тот же Хухель
в 50-х годах воспевал демократические реформы правительства
ГДР и находился в конфронтации с этим правительством, находясь
практически под домашним арестом.
Писатель сложной, если не сказать трагической судьбы, Хухель,
как и Айх, принадлежал, вернее сказать, находился в близком
соседстве со школой натурфилософской лирики, ибо его отношение
к природе лишено было трепетного упоения её непостижимостью,
метафизической таинственностью. Хотя Хухель родился в Берлине,
в семье государственного служащего, детство его прошло в деревне,
в поместье его деда в Альт-Лангервише, на бранденбургской земле,
где он, по его словам, «появился на свет как ребёнок».1 В своей речи
по случаю присуждения ему в 1977 году литературной премии «Евро-
палия 77» Хухель так определил специфику его натурфилософской
1 Цит. по: Ueding G. Aus dem Buch der Natur ins literarische Wort // Die Zeit,
11.12.1984.
725
поэзии: «Именно впечатления детства, примерно от пяти до десяти
лет, оказали позднее решающее влияние на меня. Тогда я накапли-
вал, совершенно бессознательно, большой запас сельских картин,
слов, понятий и метафор, которыми ещё и сегодня пронизана моя
поэзия... Идиллия была изрешечена, я видел страшные стороны
природы, пожирания и пожираемых, мир сельских работников,
служанок, лесорубов, польских жнецов и цыган, плату натурой,
жалкий прокорм мелких крестьян».1
Его поэзия лишена буколической наивности, изысканного
пейзанства, пафосного восторга. Луга, болота, пруды, медленно
текущие по плоской равнине реки, повседневные сельские рабо-
ты,— всё это настолько захватило юного Хухеля, что он не мыслил
иного мира. Он целыми днями пропадал в лугах, на реке, так что,
как вспоминает поэтесса О. Шэфер, по рассказам Хухеля, часто-
го гостя в её доме, «в деревне за ним закрепилась слава лентяя,
болтающегося без дела, из которого ничего «путного» не выйдет...
Со смехом, полным бессознательной завлекательности, он как-то
сказал: «Я тогда мечтал заработать столько денег, чтобы купить
автомобиль, на котором я проехал бы по Альт-Лангервише, и даже
если он был бы самый дряхлый и сразу же развалился бы за дерев-
ней, но я сделал бы это только для того, чтобы они увидели, что
я чего-то добился!»2
До показательного автомобильного проезда по деревне дело
не дошло, но в 1920 году шестнадцатилетний Хухель становится
участником путча Каппа в составе добровольческого корпуса моло-
дёжи Потсдама, был ранен и очнулся только в госпитале, где про-
шёл некий курс политвоспитания. Хухель вспоминает: «Два месяца
пролежал он там, растворившийся в белоокрашенной меланхолии
больничной палаты. Только позже начались дебаты от кровати
к кровати — политика. Сосед, токарь по металлу, постоянно объяс-
нял ему простейшие понятия. Он подружился с одним кочегаром,
который называл свой локомотив Лоттой. Больницу он покинул,
опираясь на палку. Одного выстрела оказалось достаточно, чтобы
проковылять в новую жизнь».3 Там же пациенты познакомили
1 Huchel Р. Idylle war durchlöchert. Rede zur Entgegennahme des Literaturpreises
der Europalia 77 // Die Zeit, 28.10.1977.
2 Schäfer O. Op. cit. S. 259.
3 Huchel P. Europa neunzehnhunderttraurig // Huchel P. Gesammelte Werke. Bd. 2.
Vermischte Werken / Hrsg. v. A. Vieregg. Frankfurt / Main, 1984. S. 217.
726
Хухеля с антивоенной книгой Анри Барбюса «Огонь», которая про-
извела на него огромное впечатление. «С тех пор я стал полностью
красным», вспоминает не без иронии Хухель.1
Так политика вошла в жизнь молодого Хухеля, но не сделала
его приверженцем какого-либо политического направления, а толь-
ко обозначила его левые взгляды, которые формировались в годы
его учения в университетах Берлина, Фрайбурга и Вены, где он
познакомился с Каролой Пиотрковской, будущей женой филосо-
фа Эрнста Блоха, с известным художником-экспрессионистом
Людвигом Майднером, с писателями Альфредом Канторовичем
и Гансом Арно Иоахимом, долгое время оказывавшим заметное
воздействие на становление Хухеля как творческой личности. Все
эти знакомства ввели Хухеля в атмосферу политических дебатов
времени, но и только.
В 1925 году Хухель отправляется в Париж, где занимается
переводческой работой в одном из парижских издательств, зна-
комится с немецкими писателями Гюнтером Штерном (Андерс),
Иваном и Клэр Голль, исповедовавших принципы сюрреализма,
затем работает простым крестьянином на юге Франции. В 1930 году
Хухель женится на Доре Лассель, совершает поездку на родину
жены в Кронштадт (румынский город Брашов), затем — в Турцию,
и в этом же году возвращается в Берлин, сразу же захвативший
его в водоворот литературных и политических дискуссий, которые,
однако, не нашли какого-либо отражения в его стихах.
Ранний период творчества Хухеля проходит под знаком вос-
поминаний детства, проведённого в Альт-Лангервише. Эти стихи
лишены какой-либо программной обусловленности и по сути сво-
ей являются чистой натурлирикой, ландшафтной поэзией, хотя
и не лишённой заметной социальной, даже политической окрашен-
ности, вызванной впечатлениями Хухеля, вовлечённого в сельскую
жизнь со всеми её проявлениями. Природа в его стихах выступает
как знак, как способ выражения определённого состояния вре-
мени, как некий магический посыл читателю для размышления
об этом времени, в котором ландшафт находится в нерастор-
жимом единстве с людьми, неким их замещением. Не случайно
эта особенность мировосприятия привлекла внимание молодого
1 Цит. по: Walther Р. Der Unpolitische als Politikum. Über Peter Huchel // Text+Kritik.
Peter Huchel. H.157 / Hrsg. v. L. Seiler und P. Walther. Januar 2003. S. 9.
727
Иоганнеса Бобровского и стала определяющей всей его поэзии.
На вопрос, какой из живущих авторов оказал особое влияние на его
творчество, Бобровский воскликнул: «Естественно, Петер Хухель!
Находясь в плену, я впервые увидел его стихотворение, напеча-
танное в какой-то газете, и оно произвело на меня невероятное
впечатление. Здесь, в ландшафте я увидел людей, да так хорошо,
что я по сегодняшний день не люблю неоживлённый ландшафт. Сти-
хийное в ландшафте меня совсем не трогает, ландшафт для меня
интересен только в связи с человеком и как поле его деятельности».1
Действительно, пейзажная лирика Хухеля при всех её тончай-
ших нюансах не есть некая вещь в себе, в ней заключена определён-
ная функция, она заселена людьми, напрямую связана с человеком,
в какой бы ипостаси он ни выступал — будь то сорбский языческий
бог, как «полуденный призрак» (»Wendische Heide«)...
.. .древний пастух, ты оберегаешь своих подопечных,
идя в пыли за стадом,
которое беззвучно тянется туда, где пышут жаром камни.2
...будь то служанка, которая...
...отбрасывая лист орешника, так его растёрла,
что запах зелени его остался в волосах моих.
Осока серая чуть шелестит, полынь, реки промоина.
В деревне вяло клохчут куры...3
...или старый слуга Барток, который...
...опочил навсегда
в конце вечера, опустившегося сажистым мерцаньем,
когда в конюшне корзину Барток плёл.4
Даже такое излюбленное в традиционной поэзии явление как
утро выступает в стихотворении Хухеля «Рань» (»Frühe«) под акком-
панемент совсем непоэтических звуков:
Утром исчезнет роса
Пасётся месяц-рогач,
с листьев дубов и ольхи, темнея, пьёт в ручейке,
1 Brandt S. An taube Ohren der Geschlechter // Die Zeit, 08.12.1967.
2 HuchelP. Die Sternenreuse. Gedichte 1925-1947. München, Zürich, 1993. S. 11.
3 Ibid. S. 12.
4 Ibid. S. 19.
728
хлопание дверей, скрип колеса, коровьей головой нагнулся.
побудку кричат петухи.
Ещё в прохладе спят
Как ветер, быстр и горяч,
Под лунным покровом луга и опушки.
Ястреб мчится в пике,
Огни болотные копят, и жаворонок проснулся.
в литавры бьют лягушки.1
Человек и природа составляют неразрывное целое, и от этого
ландшафт в стихах Хухеля обретает человеческие черты. Не слу-
чайно различные природные явления, цвета растений передаются
словами, заимствованными из повседневной деятельности человека.
Не случайно также и то, что страну своего детства Хухель заселяет
исключительно бедными людьми, слугами, нищими, бродячими
лудильщиками, польскими наёмными жнецами. Всё это, в сочета-
нии с местными обычаями, народными поверьями и суевериями,
своеобычными языком, кратким и сочным, трудно переводимым
на литературный язык, создаёт единственный и неповторимый бран-
денбургский ландшафт, раскинувшийся в пойме Хафельских озёр.
В стихах Хухеля этого периода сочетаются эстетические и соци-
альные интенции, каждая из которых по-своему оттеняет красоту
и бедность ландшафта. Хухель не борец за социальную справедли-
вость, его намерения определяются противопоставлением добра
и зла, но это противопоставление в силу своего необычного соче-
тания создаёт определённое протестное настроение. Очарование
детства и связанное с ним открытие мира природы, безоглядное
растворение в ней, перемежается с описанием нелёгкой жизни
наёмных работников, бедняков («Польский жнец» — »Der polnische
Schnitter«, «Осень нищих» — »Herbst der Bettler«, «Барток» — »Bar-
tok«), что придаёт стихам Хухеля некий привкус горечи, меланхо-
лический оттенок.
Совсем иные настроения определяют цикл стихов, написан-
ных Хухелем во время его пребывания в Париже и на юге Фран-
ции. Основной мотив этих стихов определяется кладбищенской
интонацией, фиксацией разрушения вещей и тела («Кладбище» —
»Cimetière«, «Коренк» — »Согепс«, «Дождь мертвецов» — »Totenregen«,
«Осень» — »Der Herbst«). Сожаления по поводу бренности мира носят
1 Пер. Р. Нудельмана.
729
общий характер, они безымянны, в них не ощущается личная заин-
тересованность, и оттого некоторые образы лишены теплоты, про-
никновения в суть происходящего, как это ощущается, например,
в стихотворении «Кладбище», где речь идёт не о месте упокоения,
а о крематории, где сжигаются тела бедняков, потому что...
...дороги могильная плита, ограда и земля.
И мертвецы будут ещё ругаться,
не ощущая землю в своих беззубых ртах.]
Неким исключением из этой череды мрачных, отдающих холо-
дом картин безрадостной жизни выступает стихотворение «Одуван-
чик» (»Löwenzahn«), отмеченное радостным чувством растворения
в природе, в её мимолётных проявлениях, когда...
...ты, погружённый в белёсую пену луга
гасишь одним дуновеньем лун одуванчиков
пушистые хлопья...
...и это состояние тихого восторга воспринимается как...
...вневременной час, оставляющий меня,
едва белый одуванчик сдувается.
Здесь исчезновение цветка одуванчика обретает некий симво-
лический образ мгновенного преобразования всего и вся, и человек
сопричастен этому природному вечному процессу, когда «одуван-
чиков белёсый цвет проплывает по твоему лицу, покрытому словно
луг, белым пухом».2
Можно подумать, как это, например, считает Уве Э. Кетельсен,
что Хухель в своей приверженности ландшафтной лирике неда-
леко ушёл от лирики Г. Кароссы, и тем самым как бы повторяет
поэтику старой гвардии.3 Каросса с его вневременной, безликой
манерой общения с миром, утончённым философствованием
чуть ли не астрального свойства, никогда не был авторитетом для
Хухеля, как, впрочем, и для всех афашистских авторов. И если уж
говорить о том, далеко ли ушёл Хухель от Кароссы в своих творче-
ских проявлениях, то он к нему и не заходил. Каросса был релик-
товой глыбой, которую литературная молодёжь обходила стороной.
1 Huchel P. Op. cit. S. 45.
2 Ibid. S. 55.
3 Ketelsen Uwe.-K. Literatur und Drittes Reich. Vierow bei Greifswald, 1994. S. 373.
730
Каллиграфическое рукоделие Кароссы в силу оторванности этого
талантливого имитатора литературы XIX века от реальной жизни
не идёт ни в какое сравнение с поэзией Хухеля, потому что словарь
поэзии этого писателя в основе своей книжный. У Кароссы ручей —
это ручей вообще, лес — это собрание деревьев, которое лишено
одухотворённости, близости к человеку, именно поэтому его поэзии
чуждо самовыражение, она безадресная, лишена человеческого лица.
Напротив, ландшафтная лирика Хухеля обусловлена именно нераз-
рывной связью человека с природой, и поэтому словарный состав
его стихотворений предельно индивидуален, индивидуально и сло-
вотворчество поэта, оно уже само по себе отмечено печатью реальной
действительности, печатью времени, ибо так до Хухеля не писали.
Поэтическая фраза Хухеля сочетает в себе сложный, но понятный
в своей заданности, симбиоз природного и человеческого единения,
выраженного порой в непоэтичеких словесных образах, которые
лучше и намного полнее выражают состояние человека, лирического
героя стихотворения в современной действительности, тем более, что
эта действительность вторгалась в его жизнь повседневно и совсем
не поэтическим образом.
Стихи стихами, но Хухелю где-то нужно было жить. Сначала
он обретался у Фрица Штернберга, известного теоретика марксиз-
ма, затем перебрался в своеобразную художественную колонию
на Лаубенхаймерплатц, где в те времена жили многие писатели,
актёры, музыканты, оказавшиеся в годы экономического кризиса
безработными. Этот квартал назывался «голодная крепость» (Hun-
gerburg) или «красный квартал» (der rote Block). Здесь можно было
встретить Иоганнеса Р. Бехера, Вальтера Хазенклевера, Курта
Хайнике, Эберхарда Меккеля, Вальтера Меринга, Карла Оттена,
Ганса Зааля, Иоахима Рингельнаца, Вольфганга Леонхарда, буду-
щую кинозвезду Третьего рейха Лил Даговер, режиссёра Эриха
Энгеля. К этой представительной команде примкнули Петер Хухель
и Альфред Канторович, последний руководил коммунистической
ячейкой, в которую входили Карола Блох, Густав Реглер, Фриц
Эрпенбек, Гедда Циннер, Эрих Вайнерт, Артур Кёстлер, Вильгельм
Рейх, Эрнст Буш и Эрих Мюзам. В качестве приходящих гостей
этой коммунистической ячейки были Аксель Эггебрехт, Эрнст Блох,
Георг Лукач, Петер Хухель, а в роли оппонентов выступали Эрнст
фон Заломон и националист Фридрих Хилыыер.
В такой разношёрстной компании, где собрался едва ли не весь
цвет коммунистической и демократической интеллигенции, где
731
политические и эстетические дискуссии сливались в одно целое
и надо было как-то определять свою позицию, Хухель выступал
в роли слушателя, не принимая чьей-либо стороны. Как вспоминал
в 1947 году Канторович, один из самых близких друзей Хухеля,
«своим сонным, эстетически отмеченным образом он симпатизи-
ровал нашим боевым акциям против нацистов, особо не обращая
на себя внимание среди друзей и врагов».1 Творческая свобода
и личная независимость оставались для него более значимыми,
чем принадлежность к какой-либо партии, которая не может быть
«неким убежищем» для художника. В своей автобиографии «Европа
века двадцатого печального» Хухель писал: «Его ровесники сидят
в партийных бюро, и иногда они даже соглашаются с тем, что
из некоторых углов попахивает дурно. Тем не менее, у них есть
крыша над головой. Но так как ему самому (т.е. Хухелю.— Е.З.)
марксистское звание не к лицу, он будет продолжать мокнуть под
бесперспективным небом. Они машут из ковчега партии, и он
понимает их призыв. Он гласит: «Мы можем тебе воочию доказать,
что ты пойдёшь ко дну, не успев даже люк открыть». Против этого
он особенно не возражает. Пускай они это знают, у них есть наука.
Тем не менее, его сердце продолжает биться приватно. И он живёт,
не собираясь оправдываться».2
В начале 30-х годов «убежищем» Хухеля по-прежнему остаётся
сельский ландшафт, но тональность его стихов несколько измени-
лась, воспоминания о детстве остались, но в них начало выкристал-
лизовываться более тонкое понимание природы. Мальчишеский
восторг перед открывающимся перед ним миром природы, где
он чувствовал себя сопричастным ей, сменяется более глубоким
постижением этого единения с природой, проникновением в тай-
ны человеческого бытия. Если «Осенний свет» (»Oktoberlicht«) полон
несказанного осеннего томления, отточенного собрания мельчай-
ших движений, шорохов преддверия зимнего сна и сдержанного
удовлетворения свершившимся завершением поры труда, ибо
так будет всегда и всегда по-новому, то «Мальчишеский пруд»
(»Der Knabenteich«) свидетельствует о некоторой смене тональности,
даже парадигмы ландшафтного стихотворения, здесь можно гово-
рить об обретении поэтом собственного голоса, более того, в этом
1 Kantorowicz A. »Deutsches Tagebuch«. Berlin, 1978. S. 253.
2 HuhelP. Europa neunzehnhunderttraurig... S. 218.
732
стихотворении ясно определилась и твёрдая уверенность Хухеля
в том, что только здесь он найдёт убежище от вызов времени:
Стрекоз серебристые крылья
И жёлтый камыш, словно сказка.
Русалочным платьем покрыла
Весь пруд изумрудная ряска.
Там мальчик сачком мелководье
Волнует, на дудке играя,
И ловит колдуньи отродье,
Что гальку пруда закрывает.
Там красен ведьмин вереск рядом
С седой, как серый призрак, нивой,
А пруд мерцает рыбьим взглядом,
И слышен шум ворон крикливых.
Тоскливый тонкий голос птицы
Звучит, как голос волшебства,
И мальчик, слушая, стремится
Понять невнятные слова.
А в полдень, солнцем заколдован,
Он медленно бредёт туда,
Где водопой зверьём основан
И зеркалом блестит вода.
Лягушка, чувствуя движенье,
В камыш скользнула от мальца,
И рябь измяла отраженье
Его смешливого лица.
Тот пруд такой же, как и прежде,
И дудка та же, и песок
Средь жёлтых коготков прибрежных
Опять твоих коснулись ног.
И вновь водой зелёной пруда
Манит пространство вдалеке,
Как будто слышишь зов оттуда,
Там мальчик ждёт с сачком в руке.1
Лирика Хухеля начального периода его творчества немногочис-
ленна, и это связано с его манерой стихосложения. Долгое время
он просто не записывал стихи: «Его исконный метод состоял в том,
чтобы стихи не записывать, потому что они брали своё начало
1 Пер. Р. Нудельмана.
733
от восприятия их слухом и звучания слова, от их таинственной
музыки. Он нашёптывал свои стихи про себя до тех пор, пока —
как он с неохотой однажды объяснил — необходимые, светлые
и тёмные гласные не начинали выражать основной смысл своей
сути... Я его считаю самым прирождённым поэтом нашего поко-
ления, следовавшего, исходя из старого закона греческой поэзии,
орфическому и ритмическому её характеру, черпая из бессозна-
тельного, архаического, даже если он, как Готфрид Бенн, «делал»
свои стихи сознательно».1
Действительно, Хухель очень редко публиковал свои стихи,
и связано это было в основном с его собственным повышенным
отношением к ним. Дело доходило до того, что его друзья сами
пытались продвигать его стихи в печать. Известное участие Хухеля
в поэтическом конкурсе журнала Колонне» произошло по инициа-
тиве его друга Ганса Арно Иоахима. В 1930 году он послал на кон-
курс в этот журнал стихотворение Хухеля «Мальчишеский пруд».
Стихотворение было отвергнуто без каких-либо комментариев.
В 1931 году Иоахим послал то же самое стихотворение в редакцию
«Колонне», и, судя по переписке Хухеля с Рашке, оно было включено
в общий список присланных стихов, хотя сам Хухель откровенно
сомневался в его поэтической значимости, о чём он и сообщает
28 сентября 1931 года в своём письме Рашке.2 В конечном итоге
именно стихотворение Хухеля получило первую премию. Вторую
премию получило стихотворение Хорста Ланге, с которым вскоре
Хухеля свяжет крепкая дружба.
Когда в апреле 1932 года Хухеля «открыл» Вилли Хаас, изда-
тель знаменитого журнала «Литерарише вельт», это было событием
не только для самого поэта, но и для его друзей из журнала «Колон-
не». «Открытие» Хухеля состоялось в рамках серии публикаций
1 Schäfer О. Op. cit. S. 261.— Ода Шэфер рассказывает один случай, который
достаточно ярко характеризует значимость для Хухеля этого своеобразно метода
сочинения стихов. На крестинах дочери Хухеля Гюнтер Айх и композитор Гётц
Косучек стали убеждать поэта «начать, наконец, записывать свои стихи, которые
он постоянно бормотал вспоминая, иначе он мог их просто забыть... Его друзья,
словно мухи перед грозой, были так назойливы, что гроза не заставила себя ждать.
Из молчаливого «пентюха», как его звали в деревне, он неожиданно превратился
в свирепого воина, от его юмора, который мы так ценили, не осталось и следа, он
начал срывать со стены оловянные тарелки и швырять их в нас словно метательные
снаряды, так что нам пришлось спрятаться под столом» (Ibid. S. 261.)
2 Huchel Р. Wie soll man da Gedichte schreiben. Briefe 1925-1977 / Hrsg. v. H. Nijssen.
Frankfurt / Main, 2000. S. 27-28.
734
на страницах «Литерарише вельт» произведений молодых авторов,
которая была организована при поддержке Юго-Западного радио.
В редакционной статье, предваряющей стихи и прозу молодых
и неизвестных авторов, отмечается, что «они добросовестны, эко-
номны и их разработки лишены аффектации... Наши большие
надежды мы возлагаем прежде всего на стихи молодых людей...
Пространственно узкая, цельная, сконцентрированная форма сти-
хов опережает зачастую в своём развитии прозу и предвосхищает
её. А что касается этих стихов,., то здесь, несомненно, сильные соки
природы дают сильные естественные краски и формы, причём
мы наблюдаем порой всё больше детали, чем целое».1 И в качестве
подтверждения этих слов на первой странице были помещены два
стихотворения П. Хухеля «Девушка на луне» (»Mädchen im Mond«)
и «Мальчишеский пруд» (»Der Knabenteich«) с сообщением о том,
что «из 547 претендентов Петер Хухель получил премию «Колонне».
Однако, пожалуй, большее впечатление на читающую публику,
которая вряд ли имела какое-то представление о журнале «Колонне»,
учитывая его мизерный тираж, произвела оценка творчества моло-
дого поэта: «Такое явление как Петер Хухель, хотя он и молод, уже
фигура значительного ранга».2 Не удивительно, что после таких слов,
произнесённых со столь высокой трибуны, Хухель вошёл в моду, «его
обхаживала публика богатых кварталов Берлина, интеллектуалы
и снобы»,3 а газета «Литерарише вельт» многократно публиковала
его стихи.4
Этим же обстоятельством вызван и интерес, проявленный
к творчеству Хухеля издательством «Рабенпрессе». В январе 1932 года
редактор этого издательства Гюнтер Ошиловский направил письмо
1 Die Schriftleitung. Einleitung zu dieser Nummer // Die literarische Welt. 08.04.1932.
S. 1.
2 Ibid. S. 1.
3 Ibid. S. 260.
4 5 августа 1932 г. газета опубликовала стихотворение П. Хухеля «Странный ремес-
ленник» (»Der seltsame Handwerker«), 20 августа 1932 г. в компании с Ф. Блунком
газета поместила стихотворение П. Хухеля «Лето» (»Sommer«), 2 декабря 1932 г.—
стихотворение «У склона, поросшего полынью» (»Am Beifußhang«), а 10 марта
1933 г.— стихотворение «Старый круг костра» (»Alter Feuerkreis«) и 21 марта
1933 г., в подборке «Немецая весна. Истории и стихи молодых поэтов» (»Deutscher
Frühling. Geschichten und Verse junger Dichter«), опубликовано было стихотворение
П. Хухеля «Ночь на Хафеле» (»Havelnacht«).
735
Хухелю с предложением опубликовать его стихи в журнале «Белая
ворона» (»Der Weiße Rabe«). Однако сотрудничество это было довольно
коротким и ограничилось только публикацией нескольких стихот-
ворений в 1933 году в июльском номере этого журнала.1
К этому времени поэтической славы Хухеля относится и его
знакомство с писателями Хорстом Ланге, Одой Шэфер, Элизабет
Ланггэссер, общение с которыми создавало мощный заслон поли-
тическим искушениям дебатов в «красном квартале». К тому же
премия журнала «Колонне» свела Хухеля с дрезденским издателем
Иессом, предложившем ему опубликовать сборник его стихов.
Работа над сборником, получившим название «Мальчишеский
пруд» (»Der Knabenteich«), была закончена к середине 1932 года,
и в преддверии выхода сборника Вилли Хаас организовал в конце
декабря этого же года выступление Хухеля на Юго-Западном радио
(Франкфурт), в котором он подробно представил не только содер-
жание этого сборника, но и изложил своё видение поэзии: «Первое
условие для понимания этих стихов состоит в приближении к этой
книге без каких-либо программных требований, потому что эти
стихи являются актуальными только отчасти, то есть в той мере,
в какой им удалось сделать прошедшее время снова современным.
Это не всегда удаётся в стихах, но когда они приближаются к этому
намерению, в них всегда вновь проявляется детство, часть приро-
ды, часть жизни, которые «тогда» существовали. Также и люди, они
не в последнюю очередь, должны проявляться... Ландшафт никогда
не воспринимается как фотография, никогда он не воспевается
наивно как песня под лютню; горизонт и деревья, они изнутри
поднимаются над простой идиллией: и в большинстве случаев они
появляются только тогда, когда в них возникает человек. Тогда
часто в человеке появляются черты природы, и природа вбирает
в себя лицо человека. Но не столько обнаружение человека в при-
роде, не столько вчувствование или возвращение в природу прояв-
ляется в стихотворении, более того, природа здесь выступает как
нечто действующее, она проникает в человека и вбирает его в себя».2
Этим радиообращением и завершилась судьба сборника стихов
Хухеля. Иесс разорился, а приход в следующем месяце к власти
нацистов не оставил никаких надежд на какой-либо выход из соз-
давшегося положения. В этом Хухель убедился, будучи свидетелем
1 Huchel Р. Wie soll man da Gedichte schreiben... S. 32.
2 Huchel P. Zwei Selbstanzeigen zum Gedichtband »Der Knabenteich« // Huchel P. GW.
Bd. 2. S. 243, 248.
736
разгрома колонии художников на Лауберхаймерплатц, учинённого
штурмовиками. Правда, большинство известных личностей левого
фронта успели уйти в подполье или эмигрировать. Такая же участь
постигла и друзей Хухеля Иоахима, Канторовича и Хааса, вынуж-
денных покинуть страну по расовым соображениям и обосноваться
сначала во Франции, а потом уехать в США, и только Иоахим вместе
с французскими евреями был депортирован в феврале 1944 года
в Освенцим, где его следы теряются.
Надеясь переждать политические бури в Германии, и полагая,
как и многие представители интеллигенции, что Гитлер долго не про-
держится, Хухель вместе с женой уезжает в 1934 году в Кронштадт,
но и там присутствие нацистов вскоре стало таким явным, что всё
семейство в этом же году возвращается в Берлин. В сложившихся
условиях, практически без средств к существованию, на помощь
Хухелю пришли его друзья из окружения журнала «Колонне».
X. Ланге удалось через Вильгельма Хофманна, мужа Э. Ланггэссер,
руководившего литературным отделом берлинского радио, полу-
чить работу для Хухеля в качестве драматурга радиопьес. Правда,
для этого ему пришлось представить свидетельство об «арийском
происхождении».1
Сейчас круг друзей Хухеля значительно сузился, но эти друзья
больше соответствовали его литературным пристрастиям, не гово-
ря уже о том, что они были его единственной поддержкой в годы
нацизма. X. Ланге, О. Шэфер, Г. Айх, Э. Меккель, Э. Ланггэссер,
В. Бергенгрюн и С. Хаффнер образовали своеобразную коммуну,
члены которой всегда готовы были помочь друг другу не только
словом, но и делом. Из переписки этих лет известно, что друзья
Хухеля при всякой возможности пытались (и иногда это им удава-
лось) свести его с нужными людьми, использовали его стихи в сво-
их передачах, как это поступал, например, Г. Айх, включив стихи
Хухеля из «Осенней кантаты» в «Кёнигсвустерхойзерского сельского
почтальона» в ноябре 1935 года.2
За время работы на радио Хухель написал 35 радиопьес и две
киноновеллы. Большинство этих «пьес для пропитания», как назы-
вал их Хухель, представляли собой обработку литературных текстов
классических авторов или сказок для детей, и здесь, конечно, при-
годились его знания народных праздников, обычаев, с которыми
он знаком был не понаслышке в годы своего детства в Лангервише.
1 Dick A. Trend // Onlinezeitung. 01/2008.
2 Huchel Р. Wie soll man da Gedichte schreibe... S. 38.
737
Специально пропагандистских пьес Хухель не писал, если не счи-
тать обработки предисловия Бернарда Шоу к его пьесе «Другой
остров Джона Буля» в двадцатиминутной радиопьесе, должной
передаваться в ходе антианглийской пропаганды в 1940 году, хотя
каких-либо сведений об этом не сохранилось.
В художественном отношении значительными произведениями
являются две радиопьесы Хухеля — «Служанка и дитя» (»Die Magd
und das Kind«) и «Осенняя кантата» (»Die Herbstkantate«), обе напи-
саны в 1935 году, а также историческая драма «Маргарете Минде»
(»Margarete Minde«), написанная в 1939 году и являющаяся неким
литературным ремейком повести Теодора Фонтане «Грета Мин-
де» (»Grete Minde«, 1880). Если первые две радиопьесы по своему
духу несколько напоминают тексты из первоначальных передач
«Кёнигвустерхойзерского сельского почтальона» М. Рашке и Г. Айха,
то «Маргарете Минде» является совершенно самостоятельным про-
изведением из времён XVII века, рассказывающим о знаменитом
пожаре города Тангермюнде в 1617 году, учинённом Маргарете
Минде в отместку за лишение её обманным путём отцовского насле-
дия. Согласно историческим документам, реальная Грете Минде
была оправдана, но Хухель вслед за Фонтане придал этой истории
трагический конец, заставив героиню своей радиопьесы погибнуть
мучительной казнью.
Тема неправедного суда представлена в радиопьесе Хухеля
ярко и явно перекликается с событиями времён нацизма. Такие
слова как «в кровавой лжи преступлений живёт здесь всё!» или...
...гнусные лицемеры, клятвопреступники, городские
советники,
охранители порядка, поддерживающие преступников!
Выкурить здесь нужно это крысиное гнездо!1
Цензура никак не отреагировала на возможные аллюзии к совре-
менной действительности в этих и многих других высказываниях
героев радиопьесы, однако транслировалась она только один раз,
что не исключает возможного прозрения цензуры, хотя на самом
Хухеле это никак не отразилось.
Что касается лирической поэзии, то Хухель настолько чув-
ствовал себя опустошённым, что для каких-либо поэтических
размышлений у него просто не было сил. Последний цикл стихов,
1 HuchelP. Margarete Minde // Huchel Р. GW. Bd. 2. S. 97, 86.
738
опубликованный в октябрьском номере журнала «Иннере рейх»
за 1935 год под названием «Осенние строфы» (»Strophen aus einem
Herbst«), полон грустных раздумий, мечтаний о смерти. Эта мысль
особенно чётко прозвучала в заключительном стихотворении цикла
«Последняя песнь ноября» (»November-Endlied«). Такие строки как
«Я выращиваю дерево смерти»:
О серая осень, я больше ничего не хочу
Ах, скорей бы уйти к теням...
...или «Мне лучше лежать в каменистых полях» говорят не толь-
ко о творческом кризисе, но и просто о сломленной жизни.1 Дело
доходило до того, что Хухелю не на что было содержать семью,
и он неоднократно обращался за материальной помощью в фонд
Шиллера в Веймаре.
Последний раз Хухель напомнил о себе стихотворением «Позд-
нее время» (»Späte Zeit«) в октябрьском номере журнала «Даме»
за 1940 год, где были опубликованы стихи участников очередного
традиционного для этого издания поэтического конкурса. В состав
жюри входили Мария Луиза Кашниц и Георг Бриттинг. Премию
журнала получил не Хухель, хотя в действительности она должна
была достаться ему, а майор медицинской службы Бодо Шютт
(Schutt, Bodo), восходящая звезда нацистской поэзии. По мнению
жюри, поэзия Шютта «обладала силой, которая приносила его сердце
в жертву великому немецкому пробуждению».2 Понятно, что жюри
не могло присудить премию автору стихотворения, в котором вой-
на и природа воспринимались как несовместные явления, когда...
...повсюду на мокром песке
лежат листья как некий пороховой огонь леса,
жёлуди — как патроны,..
...когда...
осень ведёт стрельбу,
тихие выстрелы над гробом.
Слышишь, как шелестят мёртвые кроны деревьев,
сквозь них тянется туман и демоны.3
1 Цит. по: Nijssen Н. Über die Widerstandskraft der Vernunft // Martin Raschke
(1905-1943). Leben und Werk / Hrsg. v. W. Haefs, W. Schmitz. Dresden, 2002.
S. 112.— Подобная отсылка вызвана тем, что в последующем это стихотворение
Хухель не публиковал.
2 Walther P. Op. cit. S. 13.
3 Ibid.
739
На примере этого стихотворения особенно ярко выступает про-
блема интерпретации художественного произведения, ибо истол-
кование его зависит от того, что ищет в ней исследователь; более
того, любое произведение, а произведение времён наиболее спорных
и отвергаемых по своей политической и человеческой сути, всег-
да читается иначе, чем оно читалось в момент его написания или
появления в печати. В стихотворении Хухеля «Позднее время», при
всём его меланхолическом и даже упадническом настрое, можно
усмотреть и эстетизацию войны с оглядкой на раннего Э. Юнгера
и конфронтацию с войной. Любое рассмотрение произведений
времён нацизма, особенно тех авторов, которые не принадлежали
к лагерю правителей, но вынуждены были зарабатывать на хлеб
насущный в учреждениях ненавистных им этих правителей, требу-
ет очень внимательного анализа всех составляющих того времени,
и в первую очередь творчества самого автора в комплексе с тем,
чтобы выносить какое-то суждение о нём. Поэзия такое тонкое
и такое предательское искусство, которое помимо воли самого
поэта выдаёт сущность его творчества, в какие бы эстетические
одежды он ни маскировался. Именно в этом смысле отношение
некоторых исследователей нашего времени с укоряющим перстом
к творчеству Петера Хухеля, и не только его, но и многих других
авторов времён Третьего рейха, вызывает, мягко говоря, удивление
и сомнение в их профессиональном умении воспринимать поэзию,
ибо за всеми их мнимыми «разоблачениями» проглядывает левацкий
синдром поношения всего и вся.
В ноябре 1941 года Хухеля призывают в армию, и с этого
времени он как поэт прекращает своё существование. В апреле
1945 года Хухель попадает в советский лагерь для немецких воен-
нопленных в Рюдерсдорфе, где вскоре становится руководителем
культурной и политической работы антифашистского комитета.
С этого времени начинается другая история жизни и творчества
Петера Хухеля, которая полна обилием драматических событий,
равных, а иногда и превосходящих по своей жестокости, событиям
времён Третьего рейха.
Творчество Хухеля времён нацизма, несомненно, нельзя назвать
в полной мере протестным, ибо оно, как и всякий художник, нахо-
дил свои способы выражения неприятия реальной действиельности
тех лет, которые могли показаться чрезмерно политизированным
критикам нашего времени недостаточными для того, чтобы увидеть
740
в писателе активного борца против фашизма. После прихода
к власти нацистов восприятие жизни молодыми писателями, как,
впрочем, и консервативными, оставалось прежним, ибо власть как
таковая, какая бы она ни была, рассматривалась ими как явление
обязательное, которое нужно принимать таким, каким оно есть.
Учитывая незначительное присутствие политической составляющей
в творчестве молодых авторов, они, при всём их отрицательном
отношении к нацистам, как и вообще к любой власти, пытались
продолжать жить и творить в прежнем ритме и настрое. Правда,
им приходилось несколько видоизменять некоторые положения
своих литературных предпочтений, смещать акценты. Они не стре-
мились бороться с новой властью, как не боролись и со старой. Их
оппозиция к нацизму носила на первых порах несколько снисхо-
дительный оттенок, поэтому предъявлять им какие-либо претензии
политического свойства было бы неверным, ибо они оставались
в этом смысле как бы вне времени, им некогда было заниматься
политикой, которую они считали делом нестоящим внимания, ибо
все они пребывали в своём мире, лишённом политической борь-
бы. Антифашизм — это не их стиль жизни, не их способ общения
с миром. Если и были в их творчестве какие-то протестные интен-
ции (а они были, потому что многие действия нацистов не отвечали
их мировосприятию), то выражались они в особом подчёркивании
превосходства избранного ими личного или духовного мира, что,
естественно, воспринималось читателями как некий протестный
вызов. Более того, сама тональность произведений этих авторов,
его насыщенность реалиями, далёкими или чуждыми новым поли-
тическим веяниям, изначально закладывались в основу произве-
дения, и степень его выразительности обусловливалась личными,
свойственными только данному автору художественными оценками
мировосприятия, его естественным проявлениям, а не какими-то
изначально составленными схемами идеологического свойства.
У каждого из них была своя Йокнапатофа, устройство которой
определяли не внешние установления, отчего эта особенность фор-
мирования текста воспринималась в разных лагерях как протест-
ная, хотя этот протест зачастую в принципе не входил в первона-
чальные планы писателя. Он так видел, так понимал окружающий
мир. Именно поэтому следует избегать слишком прямых выводов
об их сознательной оппозиции нацистскому режиму, как и об их
сознательной поддержке его. Творческая молодёжь тех лет не была
741
столь политически активной, чтобы подвигнуть её на решитель-
ные действия. Осознание бессилия по отношению к политической
реальности Третьего рейха было доминирующим, что, однако,
не исключало отдельных протестных акций умеренного свойства.
У них была своя читательская аудитория, которая, как бы плохо ей
ни было, не пойдёт на баррикады. Отсюда и происходит весь тра-
гизм не только литературной молодёжи, но и старшего поколения
писателей. Все они могли только посеять сомнения, вызвать личные
поступки неординарного свойства, которые хотя и порицались
властями (иногда, очень жестоко), но в целом не вызывали у них
особого беспокойства. Это делалось для порядка.
Тем не менее, по мере становления нацистского государства,
желание каким-то образом высказать неприятие его основ нараста-
ло, и это нашло своё выражение в обращении к сельской тематике,
представленной не в духе нацистской идеологии «крови-и-почвы»
с её буколическими описаниями, а в её реальном жестоком и далё-
ком от сладостного томления виде, что никак не укладывалось
в эстетические принципы национал-социализма. Именно таким
образом развивалось творчество Хорста Ланге, одного из наиболее
ярких авторов афашистского направления, сплотившихся вокруг
журнала «Колонне» (»Die Kolonne«). Судьба этого писателя в извест-
ной мере схожа с судьбой Фридо Лампе (Lampe, Friedo; 1899-1945),
незаслуженно забытого и вновь открытого в XXI веке и в одночасье
возведённого (по праву) в ранг классика немецкой литературы
XX века. Несмотря на то, что книги Ланге, вышедшие в годы нациз-
ма, после 1945 года издавались, они не вызвали особого интереса
ни у критиков, ни у читателей. Своеобразное открытие творчества
Ланге состоялось лишь после его смерти, в начале XXI века. Марсель
Рейх-Раницкий (Reich-Ranicki, Marcel; 1920-2013), непререкаемый
авторитет в современной литературной критике Германии, внёс
роман X. Ланге «Чёрная Вайда» (»Schwarze Weide«, 1937) в 16-томную
библиотеку немецкой литературы XX века, подчеркнув тем самым
значимость творчества этого писателя.
Хорст Ланге (Lange, Horst) родился в 1904 году в Лигнице
(теперь — Легница), в Силезии, в семье полкового писаря в казар-
мах королевского гренадерского полка, где и прошло его детство.
Формирование личности Ланге проходило под воздействием двух
несовместных явлений — прусской строгости отца, неоднократно
вынуждавшей Ланге к побегам из родительского дома, отсюда
742
присутствие в его произведениях антиотцовской темы, и таин-
ственного, сумрачного болотистого нижнесилезского ландшафта,
который, казалось, навсегда затянул его в свои топи и влажные леса
и стал неким олицетворением вселенной, своего рода чистилищем
для героев его произведений. Последнее обстоятельство обуслав-
ливалось ещё и приверженностью Ланге к католической церкви,
которую он, судя по его письму Г. Гессе от 26.10.1937 года, рассма-
тривал как «большой дом, в котором моя юность находила защиту
и убежище; позднее я пытался рассматривать мир без предубежде-
ния».1 Отсюда, собственно, и берёт начало его близость к авторам,
журнала «Колонне» (»Die Kolonne«), с их апологией природы.
Ланге собирался стать художником. Бросив школу, он сбежал
в Веймар в надежде поступить в «Баухаус» (»Bauhaus«), но Вальтер
Гропиус (Gropius, Walter; 1883-1969), руководитель этого знаме-
нитого художественного института, подверг критике его работы,
посоветовав ему заняться литературой, и Ланге пришлось вер-
нуться в Лигнице, чтобы закончить школу. В 1925 году он уезжает
в Берлин, изучает в университете историю искусства, литературы,
театра, знакомится с Мартином Рашке, Петером Хухелем, Гюнтером
Лихом и другими писателями и поэтами, сплотившимися позднее
вокруг журнала «Колонне», где будут опубликованы его первые стихи
и рассказы. В 1927 году по причине финансовых трудностей Ланге
перебирается в университет в Бреслау (ныне Вроцлав), который
ему так и не удалось закончить. За ним прочно закрепилась кличка
«беспутного студента», который с головой окунулся в жизнь художе-
ственной богемы Бреслау, прозванного силезским Парижем, пишет
стихи, пробует писать роман, безответно влюбляется в известную
писательницу Ильзу Молцан (Molzahn, Ilse), которая в 1937 году вос-
торженно отзовётся в еженедельнике «Дойче цукунфт», не лишён-
ном некоторых оппозиционных настроений, о его романе «Чёрная
Вайда», и, в довершение всех его творческих и душевных метаний,
знакомится с поэтессой Одой Шэфер (Schaefer, Oda), ставшей музой
Хорста Ланге и спутницей до конца его жизни.
В мае 1931 года Ланге и Шэфер тайно уезжают из Брес-
лау в Берлин (Шэфер находилась в состоянии развода со своим
мужем, художником Альбертом Шэфер-Астом), и здесь начинается
1 Цит. по: Kolbe H. Horst Lange — Leben und Werk. Ein Autor im Zwischenreich.
Bielefeld, 2010. S. 21.
743
собственно литературная история их творчества, перспективы
которой были туманны, и определялись как неблагоприятной поли-
тической обстановкой, складывавшейся в стране в пользу нацистов,
и необходимостью выбора личной позиции в этой ситуации, так
и жизненной неустроенностью, безденежьем.
При всей политической индифферентности Ланге, его отно-
шение к национал-социалистам было резко отрицательным, что,
однако, не подразумевало участия в каких-либо протестных акциях.
Правда, в годы учёбы в берлинском университете он одно время
был связан с Коммунистической партией Германии, но, как пишет
в своих мемуарах О. Шэфер, «после выступления Мюнценберга
(руководитель пропагандистского аппарата КПД.— Е. 3.) сразу же
вышел из партии, так как этот интересный оратор хотел проводить
различие между капиталистической и социалистической войнами,
занимаясь лживой казуистикой, что не отвечало пацифистским
взглядам Хорста».1 Этот эпизод достаточно красноречиво говорит
о политической инертности Ланге. Неслучайно, когда в январе
1933 года Ланге, Рашке и Шэфер побывали на совместном собрании
коммунистов и социалистов, всё увиденное они «нашли смешным
и буржуазным».2 Позднее, в 1946 году, Ланге напишет об этом собра-
нии: «Политический небосвод заметно омрачался, это была наша
вина в том, что мы всё воспринимали не очень серьёзно. Некоторые
из нас видели намного яснее, чем мы. Я ещё сегодня слышу про-
роческий крик Эриха Мюзама (Mühsam, Erich; 1878-1934)... „Вы
будете виноваты в том, если меня через несколько месяцев убьют
в моей камере!", и слышал злорадный смех всех этих умников,
которые переоценили своё влияние на марксистски натасканные
массы, когда в одночасье стало поздно смеяться».3
Для Ланге и его друзей на первом месте была не политика,
а поэзия, хотя по сути своей она также являлась отражением поли-
тических взглядов, находивших выражение в отказе от рациона-
лизма «новой деловитости» и в обращении к природе, к ландшафту
1 Schaefer О. Auch wenn Du träumst, gehen die Uhren. Lebenserinnerungen. München,
1970. S. 241.
2 Ibid. S. 258.
3 Цит. по: Kolbe H. Op. cit. S. 54.— Это пророчество Э. Мюзама вскоре сбылось:
28.02.1933 г. он был арестован и в ночь на 10.07.1934 г. убит в концентрационном
лагере Ораниенбург.
744
как естественному средству воссоздания метафизической или
мифической сущности человека.
Эта мысль достаточно ясно пронизывает стихотворение Ланге
«Иди в ночь» (»Geh in die Nacht«), за которое ему была присуждена
вторая премия журнала «Колонне». Поэт призывает «забыть дом,
забыть комнату», «забыть своё имя», а «также то, чем ты был»,
и «убежать в поля»...
...погрузиться в ночь, полную страха и желаний —
думать о том,
что земля тебя носит,
как носит она растения и деревья.
И далее:
Иди в туманы, проникнись дыханием
рек и лугов...
Помни о том,
что земля окрашивает твою кровь
в красный цвет,
как окрашивает она плоды...
Помни о том,
что ты землю вскормишь,
как вскормила она тебя».1
В этих стихах явно ощущаются отголоски раннего экспресси-
онизма с его вневременными посылками в сочетании с элемента-
ми (особенно в последних строках) барокко. Этот специфический
настрой ухода из мира неустойчивой реальности обусловлен не толь-
ко политическими событиями, предваряющими приход к власти
нацистов, но и изначальным восприятием Ланге природы как есте-
ственной константы всего сущего, не подверженной внешним воз-
действиям техногенной цивилизации, не говоря уже о каких-либо
политических или социальных факторах. Не случайно все его стихи
времён «Колонне» опосредованы образами и понятиями природы,
будто это любимая женщина, представленная им как «несказанный
ландшафт», в котором
...словно из тонких одеяний,
сотканных предками и мечтами,
растворяется покой...
Lange H. Geh in die Nacht // Lange H. Gedichte aus zwanzig Jahren. München,
1948. S. 13.
745
на прибрежье щёк,
на холмах подбородка,
под веяньем дыхания
в сетях невысказанных слов...
... («Склонившись над твоим несказанным ландшафтом» — »Hin-
geneigt zu deiner unsäglichen Landschaft«, 1931),1 или напоминание
самому себе о своём месте на земле, ибо («Ландшафт против юга» —
»Landschaft gegen Süden«, 1931)...2
...среди живого и падали
ты существуешь как пустивший листья посох,
твои ноги оттого не ступают
легко по гравию и песку,
потому что они корни земли...
Подобные настроения определяли и круг друзей Ланге, куда
входили М. Рашке, Г. Айх, Э. Ланггэссер, П. Хухель, О. Штомпс,
В. Бергенгрюн, Р. Претцель (вскоре эмигрировавший в Англию,
известный после 1945 года под именем Себастьян Хаффнер). И хотя
Ланге перебивался редкими публикациями в «Фоссише цайтунг»
(»Vossische Zeitung«) и «Берлинер Тагеблат» (»Berliner Tageblatt«),
благодаря поддержке своих друзей ему и его жене Оде Шэфер уда-
лось прочно вписаться в литературное сообщество Берлина, что,
однако, не означало материального благополучия.
После прихода к власти нацистов Ланге решает остаться в Гер-
мании и вступает в «Имперскую палату письменности», ибо только
членство в этой организации позволяло ему заниматься литерату-
рой. Памятуя его приверженность ландшафтной лирике, можно
полагать, что эти поступки Ланге означают смирение по отношению
к вызовам времени, заключение себя и своего творчества в некую
незримую обитель, стены которой не пропускают ни единого звука
извне. Напротив, как это видно из его письма своему другу, писате-
лю Эрнсту Кройдеру (Kreuder, Ernst; 1903-1972) в 1939 году, Ланге
намерен «сохранять свою позицию и стойко защищать её, потому
что, если мы не отступимся и не дадим нас совратить, то из всего, что
мы увидели и что прошло через нас, мы могли бы создать великое...
Нельзя слишком рано обескураживаться и стремиться к тому, чтобы
создавать некую зону твёрдости и невосприимчивости, за которой
1 Цит. по: Kolbe H. Op. cit. S. 45.
2 Ibid. S. 47.
746
можно было бы спрятаться с тем, чтобы лучше рассмотреть то, что
предлагает нам мир на примерах нерешительности, нестойкости,
бесхарактерности людей, и потому, что варварство скрывается
только под тонким слоем благовоспитанности и постоянно проявля-
ется повсюду в тысячах масках, в которых трудно разглядеть, что
за ними скрывается. Таким образом, мы сидим словно между двух
фронтов, находясь на нейтральной полосе...»1 Ланге понимает всю
шаткость подобной позиции, незначительность её в общем потоке
событий: «Мы вдыхаем тот же ядовитый воздух, который любому
медленно притупляет чувства, и защищаем тот участок фронта,
который, вероятно, вряд ли можно долго удерживать и который,
если разумно подумать, давно уже нужно было сдать. Но я не готов
сейчас складывать оружие и капитулировать... в конечном итоге
речь идёт о том, чтобы сохранить внутреннюю невиновность. Это
труднее всего, потому что вражеские атаки направлены прежде
всего на этот объект».2
Ланге ведёт борьбу на поле врага. Его заметки, рецензии,
собственные стихи в газетах и журналах тех лет, при всей кажу-
щейся отстранённости от проблем времени, прямо или косвенно
отражают попытки противостоять официальной идеологии. В этом
смысле примечательно участие Ланге в дискуссии о крестьянском
романе, возникшей после выхода в свет книги Гюнтера Хаупта
«Что мы ожидаем от будущей литературы» (Haupt G. Was erwarten
wir von der kommenden Dichtung. 1934), где резко критиковались
многочисленные романы на крестьянскую тему, вызванные к жиз-
ни «конъюнктурными причинами» и потому дискредитирующие
нацистскую идеологию, хотя и создавались с благими намерени-
ями.3 Несмотря на грозные окрики Вилла Феспера на страницах
«Нойе Литератур», Ланге в рецензии на роман Станислава Реймонта
«Польские крестьяне» (»Die polnische Bauern«, 1934), опубликованной
в журнале «Белый ворон» (»Der weiße Rabe«) резко выступает против
героизации крестьянства в духе Гамсуна.4 Для Ланге, с его привер-
1 Цит. по: Nijssen H. Über die Widerstandskraft der Vernunft // Martin Raschke (1905-
1943). Leben und Werk/ Hrsg. v. W. Haefs, W. Schmitz. Dresden, 2002. S. 115-116.
2 Ibid. S. 116.
3 См. C. 196.
4 Schäfer H. D. Das gespaltene Bewußtsein. Deutsche Kultur und Lebenswirklichkeit
1933-1945. München, Wien, 1982. S. 74-75.
747
женностью ландшафту, крестьянин является неотъемлемой частью
этого ландшафта со всеми своими плюсами и минусами, и эта
мысль станет вскоре основополагающей в его самом значительном
романе «Чёрная Вайда», где ярче всего проявится его стремление
представить жизнь деревни такой, какая она есть на самом деле.
Не случайно одним из самых главных героев романа становится
не образцовый крестьянин, каким его изображали пронацистски
настроенные авторы, а безжалостный стяжатель, который «богател
от несчастья других».1
Своеобразным программным документом, неким введением
в поэтику романа «Черная Вайда», является статья Ланге «Портрет
поэта Георга Гейма» (»Bildnis des Dichters Georg Heym«), опублико-
ванная в 1935 году в органе «внутренней эмиграции» в журнале
«Иннере рейх» (»Das Innere Reich«). Появление этой статьи не слу-
чайно. Гейм, как и Ланге, уроженец Силезии, и специфика этого
региона, отмеченная болотистыми низинами, обширными лесами,
некоей таинственностью, сумрачностью, молчаливостью заворажи-
вала многих писателей, поэтов, философов. Ко времени появления
этой статьи Ланге уже работал над романом «Чёрная Вайда», и стихи
Гейма в значительной мере служили для него некоей путеводной
звездой в постижении этого континента под названием Силезия,
воспринимаемом им как средоточие всего мира со всеми его радо-
стями и бедами.
Статья эта примечательна ещё тем, что в ней затрагивается
проблема экспрессионизма, недавняя дискуссия о котором, не успев
начаться, была прекращена по приказу Геббельса. Однако в случае
с Геймом, считавшимся провозвестником экспрессионизма, дело
обстояло несколько лучше, ибо он, если использовать характеристи-
ку, данную Бёррисом фон Мюнхгаузеном авторам этого направле-
ния, не принадлежал к «арестантам, дезертирам и преступникам».2
В своей критике экспрессионизма Ланге не опускается до уровня
Мюнхгаузена, ограничиваясь пределами языка, формы стиха, и,
выступая против «равнодушных словоискажателей и дифирам-
бических болтунов»,3 имел в виду авторов сборника «Сумерки
1 Lange Н. Schwarze Weide. München, 1965. S. 27.
2 Цит. по: БеннГ. Двойная жизнь. Проза. Эссе. Избранные стихи. Составление
В. Вебера. Аугсбург, Москва, 2008. С. 313.
3 Lange H. Bildnis des Dichters Georg Heym // Das Innere Reich. 1935. H. 2. S. 212.
748
человечества. Симфония новой поэзии» (»Menschheitsdämmerung.
Symphonie jüngster Dichtung«, 1919).1 Стиховой бесформенности,
политизации позднего экспрессионизма Ланге противопоставляет
приверженность Гейма глубинным процессам жизни: «Остаётся
только одна сторона мира, которую Георг Гейм раскрывал и изобра-
жал, те тёмные движения и погружения в область ужасного, смут-
ного, во всякие проявления смерти».2 При этом такой мир предстаёт
у Гейма в чётких классических формах, что и вызывает эффект
несовместимости, вызываемый «любым проявлением демонизма
и колдовства и лишенного оков подземных духов».3 Пандемонизм
в сочетании с пантеизмом, явление, уходящее корнями в барокко,
во времена Иоганна Кристиана Гюнтера (Günther, Johann Chris-
tian; 1695-1723), силезского поэта, оказавшего большое влияние
на Гейма, определяют и творчество Ланге. По сути дела, его роман
«Чёрная Вайда» является беллетристическим выражением филосо-
фии и эстетики этих поэтов, а сама статья о Гейме — как набросок
концепции первенца Ланге.
В этой связи следует назвать ещё одно имя — выдающегося
австрийского художника и писателя Альфреда Кубина (Kubin,
Alfred; 1877-1959), с которым Ланге связывали долгие дружеские
и творческие отношения. Апокалипсическое визионерство, свой-
ственное искусству этого художника, нашло своё отражение во всём
творчестве Ланге. Оба они были родственные души, и иллюстрации
Кубина к произведениям Ланге в какой-то мере договаривали,
доводили до крайности высказанные им мысли.
Действие романа «Чёрная Вайда» происходит в первые после-
военные годы в Нижней Силезии, в окрестностях деревни Кальтвас-
сер и небольшого городка, расположенного на реке Чёрная Вайда,
притоке Одера. Эти края известны Ланге с детских лет, и, как он
вспоминал позднее, именно «здесь были заложены основы моей
склонности постоянно изображать взаимообразное воздействие
природы на человеческие настроения и судьбы».4 Суть романа
определяется вечными вопросами вины и покаяния, любви и смер-
ти, однако в трактовке Ланге эти проблемы приобретают некие
1 Ibid. S. 209.
2 Ibid. S. 219.
3 Ibid. S. 219.
4 Цит. по: Kolbe H. Op. cit. S. 59-60.
749
эсхатологические масштабы, и главную роль здесь играет мелан-
холический в своей провинциальной отстранённости от проблем
большого мира силезский ландшафт как отражение естественного
человекообразующего состояния. В своём романе Ланге как бы
проводит эксперимент в чистых в научном смысле условиях.
В письме к Альфреду Кубину Ланге замечает: «Я смог снова очень
ясно понять, как самое изначальное переживание, из которого
выходит всё, что я до сих пор делал, коренится в одном единствен-
ном и даже не очень обширном в пространственном отношении
участке ландшафта. Это была водянистая и топкая болотистая
местность, в которой я провёл мою юность».1 Именно на просторах
этого мрачного ландшафта разворачивается история одного убий-
ства и неотвратимого наказания, и одновременно история долгого
обретения любви. При этом все события представлены в таком
виде, что действительность и ирреальность постоянно сплетаются,
образуя некий мир, в котором живые и мёртвые ведут бесконечный
спор о мирских делах, хотя решения по ним определяют не сами
персонажи, а магические силы природы. Не случайно в романе
особая роль отводится невероятной буре и мощному наводнению,
которые решительно определяют судьбы героев романа, выступая
в роли некоего очищающего действа.
Роман состоит из двух частей. В первой части события пред-
ставлены глазами подростка по фамилии Димке (имя его мы так
и не узнаем), приехавшего на летние каникулы к своему дяде,
садовнику в поместье полковника в Кальтвассер, и его жены Аль-
мы. Димке находится в состоянии поиска своей индивидуальности,
и всё, что он видит вокруг себя, вызывает у него двойственное
впечатление. С одной стороны, он настолько захвачен окружа-
ющим миром деревенского покоя, осеннего умиротворения, что
временами, сидя на ветке яблони, представляет себя плодом, и ему
кажется, что он ощущает как его «тело смачивается источниками,
потоками и водами, сладкими и солёными, светлыми и тёмными,
и возможно, также такими едкими, каким бывает яд».2 Это слияние
с природой порой достигает такой силы, что Димке как бы оказы-
вается в другом мире. Этот переход происходит незаметно, путём
вглядывания в окружающие явления и как бы слияния с ними,
1 Цит. по: Kubitschek G. Autorenportrait Horst Lange // Sezession 7. Oktober 2004. S. 3.
2 Lange H. Schwarze Weide. München, 1965. S. 6.
750
так что герой сам становится их неотъемлемой частью: «Паук
не шевелился, он был необыкновенно большим, на его неуклюжем
теле обозначился рисунок креста, и я даже думал, что разглядел
его глаза — крошечные, чёрные капли на волосатой голове. Пока
я их рассматривал, с отвращением, но и с любопытством, всё вдруг
преобразилось — ландшафт, сад и дерево, на котором я сидел, поте-
ряли своё значение, отступили назад и выпустили меня из связи
с ними. Паутина покрывала половину неба, солнце выглядело как
некое золотое насекомое, вырвавшееся из пут, в которых оно чуть
было не запуталось, отчего день разом помрачнел, как будто мне
приставили к глазам тёмное стекло.
Спокойствие, в котором я находился, прошло; меня охватил
необычный страх, сложившийся из одних только неясных пред-
чувствий».1
Эти предчувствия его не обманули. Магический мир только
на первых порах предстаёт в сознании Димке в радужных тонах.
По мере его знакомства с людьми в Кальтвассер, с их жизненными
историями, по мере обнаружения его личной невольной причаст-
ности к давним и нынешним событиям этой округи он всё больше
проникается сознанием того, что этот магический мир определяет
не только его судьбу, но и всё, с чем сталкивается человек в своей
жизни. Магические пассажи, в изобилии рассыпанные по всей
книге Ланге, как бы нагнетают обстановку, приуготовляя читате-
ля к постижению надвигающейся катастрофы, которая, при всей
её разрушительной силе, оказывается неким регулятором во всём
мире, освобождая его от накопившегося хлама, душевных и мате-
риальных нечистот. Но этот магический настрой выступает и в роли
некоего оселка, на котором проверяется внутреннее состояние пер-
сонажей романа, те движения души, о которых они сами имеют
смутное представление и которые только ещё находятся в состоянии
зарождения.
Димке, готовя в огромном парке площадку для гольфа для доче-
ри хозяина поместья, она должна вскоре приехать, обнаруживает
шесть женских фигур, сделанных из песчаника в духе античных
статуй. Одна из них выделялась особой грацией, и он принялся
украшать её гирляндами цветов и листьев: «Находясь в каком-то
странном волнении, которое всё нарастало, я раскладывал эти
1 Lange H. Schwarze Weide. S. 6-7.
751
украшения на гладком камне, и чем больше дряхлость фигуры
закрывалась, тем более явно проступало в ней влечение к теплоте
и оживлённости. Непонятно было, хотела ли рука, удерживавшая
одеяние на груди, скорее мне открыть её, чем закрыть... Когда я,
занимаясь своим делом, наклонился и коснулся лбом округлого,
омытого дождями колена, оно показалось мне упругим и таким
холодным, какой бывает кожа, когда она долго оказывается на воз-
духе. Я отшатнулся, мне пришлось взять себя в руки. Скульптура
стояла неподвижно. В парке всё было спокойно, а со стороны двора
доносилось ржание коней, звучавшее как чей-то издевательский
хохот, кто всё это время наблюдал за мной».1 Отсюда берёт своё
начало долгая и мучительная история его любви к Корнелии, дочери
хозяина поместья, настаивавшая на том, чтобы её называли Корой.
Фигура Димке, находящегося в процессе становления, является
своего рода вторым лицом Ланге, выражающим в известном смыс-
ле меланхолическую отстранённость самого автора. Тем не менее,
он постепенно включается в перипетии неспешной деревенской
жизни с её негромкими, но жестокими по своей сути событиями,
становясь, сам того не желая, их непременным участником. На его
глазах развивается драма семейного разлада в доме дяди, человека
уже в годах, жена которого, Альма, ещё молодая женщина, постоян-
но изменяет своему мужу. Она даже пыталась совратить и Димке,
но была отвергнута им по причине ещё не осознанного сексуального
влечения, воспринимавшегося им как некое запретное действо.
Замуж Альма вышла по нужде, только чтобы избежать домога-
тельств ненавистного ей опекуна, Штарклоффа, самого богатого
крестьянина в округе и её сводного брата. Забеременев от своего
любовника, деревенского лавочника, Альма умирает во время родов.
Сам Штарклофф, ненавидимый всеми в деревне, грубый
и жадный тиран, на совести которого не одна загубленная жизнь,
в молодости, как потом выясняется, усиленно добивался любви
матери Димке. Несмотря на то, что роман этот закончился ничем,
Штарклофф, полагая, что Димке его внебрачный сын, завещал
ему всё своё богатство. Вскоре Штарклофф, не без помощи аме-
риканского сержанта Смедди из оккупационных войск, обеспечи-
вавших безопасность Силезии от польского вторжения, был убит
Сморчаком, владельцем местного питейного заведения. Убийцей
1 Lange H. Op. cit. S. 13-14.
752
ошибочно посчитали бывшего любовника Альмы, которого аре-
стовали и посадили в тюрьму, но Димке знал настоящих убийц,
и мысль об отмщении не даёт ему покоя.
Димке на первых порах выступает в этой ситуации в роли
наблюдателя, свидетеля распада человеческих отношений, и мно-
гое из того, с чем он сталкивается — пьянство, распутство, жажда
наживы, тупая покорность людей, сословное чванство — воспри-
нимается им по-мальчишески, как нечто чуждое, напоминающее
приключение в какой-то экзотической стране. На многое, даже
преступное, он смотрит отстранённо, так что даже зная о пред-
стоящем убийстве Штарклоффа, он не предпринимает никаких
усилий, чтобы предупредить его о грозящей ему беде. Более того,
сама природа, которая, казалось бы, стала для него неким укры-
тием от внешнего мира, в своём буйстве являет для него «только
равнодушие, лишённая какого-либо чувства, она неспособна иметь
сочувствие, творить добро или зло, сохраняя чаши смерти и жизни
в постоянном равновесии, так что рождение и смерть постоянно
переплетаются, и когда одно заканчивается, второе сохраняется».1
Как бы подчёркивая всеобщность неблагополучия в мире, Ланге
параллельно с деревенскими событиями рассказывает и о круше-
нии семейной жизни хозяина усадьбы, полковника, жена которого,
обвинённая в супружеской неверности, уехала в город и увезла
с собой дочь Кору. Закончив школу, Кора, отличавшаяся строп-
тивым характером, приезжает в поместье, и ведёт себя в нём так,
как будто её отца не существует в природе. Кора и Димке, стоящие
как бы над этим непонятным для них миром силезской своеобраз-
ности, ощущают взаимное влечение, отмеченное любовью и ненави-
стью. Каждый из них отстаивает свою самость и долгое схождение
их происходит через испытания, связанные именно с этим чуждым
им миром, ставшим в конечном итоге их прибежищем.
Но для вящей убедительности греховности всего сущего, особой
атмосферы силезского ландшафта, его гнетущей зачарованности
и опасной заманчивости Ланге вводит историю несчастной люб-
ви бывшего хозяина барского поместья к крестьянской девушке
Кристине, вернее, даже не к самой Кристине, а к образу, создан-
ному им в своих фантазиях, который разрушился мгновенно, как
только её практичные родители попытались подговорить Кристину
1 Lange H. Op. cit. S. 121
753
соблазнить барина её прелестями. История эта обнаружилась, когда
Димке по настоянию Коры свергнул с пьедестала так понравив-
шуюся ему статую, в основании которой был обнаружен ларец,
в котором находились письма, рассказывающие об этой истории
любви, и золотые кольца, которыми хозяин поместья предполагал
обменяться с девушкой своей мечты. Кольцами этими Кора и Димке
обменялись уже во второй части романа, пройдя череду размолвок
и испытаний.
Испытания эти, описанные во второй части романа «Чёрная
Вайда», представлены глазами повзрослевшего Димке, но им пред-
шествует своеобразная интерлюдия, связанная с возвращением
его в город, где он, закончив гимназию, ведёт богемный образ
свободного художника, став наследником денег и угодий убитого
Штарклоффа. Однако жизнь эта не доставляет ему удовольствия.
Ему претит город с его суматохой, смрадом, безликостью, холодно-
стью, враждебностью к человеку. Уже проникшийся очарованием
лесов и лугов деревни, Димке ощущает себя заброшенным в чужой
мир, и это отчуждение выражается в неприглядных картинах город-
ской жизни: «Всё кишело жизнью и судьбами, по дорогам сновали
туда и сюда смертный грех и блаженство, лица менялись, улыбка
превращалась в гнев, а страх в ненависть. В этот час, когда без-
дельники покидали свои жилища — где женщины в тусклом свете
зеркал преобразовывали свои лица в плоские маски с тем, чтобы
глупые тайны не так быстро отгадывались — где сотни тысяч раз-
досадованных мужчин с усталыми спинами медленным шагом про-
ходят мимо пивных и неохотно входят в тёмные прихожие домов,
в которых пахнет пелёнками и едой — в этот час, когда бесшумный
фейерверк реклам, сигналы и фонари одним махом гасят последние
отблески дня, город как огромное живое существо начинает потя-
гиваться и расширяться. Возникают новые проспекты, вереницы
улиц, бывшие только что невидимыми, становясь внезапно вели-
колепными и драгоценными. И ложь, которую хотели бы услышать,
потому что правду невозможно уже переносить, становилась для
каждого благом».1
Город как вместилище лжи и полного отчуждения неоднократ-
но появляется на страницах романа «Чёрная Вайда», и в какой-то
мере эта позиция Ланге перекликается с произведениями многих
1 Lange H. Op. cit. S. 146.
754
авторов фёлькиш-национальной направленности (ср. романы
В. Вихерта, Э. Штрауса), однако здесь нет противопоставления
города деревне, потому что деревня у Ланге представлена далеко
не лучшим образом, и это, собственно, и беспокоило нацистскую
критику, ибо шло вразрез с официальным почитанием крестьян
как соль земли немецкой. Ведь последующее возвращение Димке
в деревню связано не столько с его приверженностью меланхо-
лической загадочности силезских лесов и болот, сколько с беспо-
койством по поводу убийства Штарклоффа, сколько с осознанием
собственной вины: «Неизвестность, которая всё время кружила
надо мной и ходила за мной по пятам — это проклятие, которое
меня преследовало, когда на меня свалились деньги и угодья того
самого человека, которого я тогда не предупредил, хотя я знал, что
его убийцы словно кошки ходят вокруг него...»1 Если он не смог
упредить это преступление, то, по крайней мере, он должен назвать
имена истинных убийц Штарклоффа, наказать их и тем самым
как-то искупить свой грех. Практически вся вторая часть романа
Ланге, исключая любовные перипетии схождения Коры и Дим-
ке,— это медленное низведение этих убийц до самоуничтожения,
в результате чего Сморчак повесится, а Смедди погибнет во время
наводнения.
Приехав в прежние края, Димке узнаёт, что Сморчак из вла-
дельца питейного заведения превратился в религиозного проповед-
ника, взволновавшего всю округу приближающимся всемирным
потопом. Маленький заштатный городишко Нилбау, где обосновался
Сморчак, купив гостиницу, превращается в место паломничества
крестьян со всей округи. Ещё по дороге с вокзала Димке столкнулся
с огромной толпой крестьян, идущих стройными рядами на встречу
со Сморчаком, в котором они увидели мессию, обещающего спасти
их души. Однако душа новоявленного мессии сама нуждается в спа-
сении. Страх перед разоблачением, усилившийся в связи с появ-
лением его подельника Смедди, считавшегося погибшим (Димке,
находясь в соседней комнате, становится невольным свидетелем
их перебранки по поводу убийства Штарклоффа), а также встреча
Сморчака с Димке, в ходе которой он понял, что приезд послед-
него связан не с сооружением памятника на могилу Штарклоффа,
а с отмщением за совершённое преступление, привели Сморчака
1 Lange H. Op. cit. S. 146.
755
в исступлённое состояние. Правда, отмщение произошло без уча-
стия Димке. То, о чём люди только догадывались, стало достоянием
гласности благодаря усилиям местного писаря, который, узнав
от Димке о преступлении Сморчака, принялся объезжать деревни
его сторонников, объясняя им, что грядущая катастрофа связана
с убийством Штарклоффа, совершённого Сморчаком, что и привело
последнего, лишённого ореола мессии, покончить счёты с жизнью.
Параллельно с ходом разоблачения Сморчака происходит мед-
ленный и непростой процесс налаживая отношений между Димке
и Корой, в ходе которого Димке, натолкнувшись на некоторую
отчуждённость и строптивость Коры, находит, как ему кажется,
женщину, отвечающую его идеалам, Ирену, дочь арендатора его
поместья. Однако во время разразившейся бури Ирена погибает,
и эта же буря сводит Димке с Корой, занесённых мощным потоком
воды к старой мельнице, где они, когда-то встречались.
Природный катаклизм выступает в романе как некий перст
божий, который не только очищает округу от скверны, но и устанав-
ливает порядок в человеческих отношениях. В поместье Кальтвассер
возвращается мать Коры, и, как символ установления единения
прошлого и настоящего, привозит с собой голову скульптуры, сбро-
шенной с постамента в парке Димке и Корой в годы их юности.
Димке всё-таки сохранил втайне от Коры эту голову и передал её
матери Коры ещё во время своего пребывания в городе.
Роман завершается словами Гераклита: «Всякое пресмыкающе-
еся бичом (бога) гонится к корму».1 В какой-то степени они созвучны
названию романа, ибо воды Чёрной Вайды прибили к своим берегам
всех героев этой истории независимо от того, нашли ли они здесь
своё счастье или погибель.
Несмотря на то, что роман «Чёрная Вайда» вышел одновремен-
но с романом американской писательницы Маргарет Митчелл «Уне-
сённые ветром» и в какой-то мере оказался в тени блестящего успеха
этого бестселлера, критика, тем не менее, с восторгом восприняла
дебют Ланге, о чём свидетельствуют 24 рецензии, посвященные
первенцу молодого писателя, как, впрочем, и в последующем тираж
его в 22000 экземпляров.2 Столь повышенное внимание критики
1 Асмус В. Ф. Античная философия. С. 35.
2 Schäfer H. D. Op. cit. S. 77.— К сожалению, большинство этих рецензий в силу
недоступности источников мне не удалось получить, поэтому приходится доволь-
ствоваться извлечениями из работ немецких исследователей.
756
к роману Ланге вызвано не столько желанием отнести его к разря-
ду «силезскои почвеннической литературы», отвечающей канонам
национал-социалистской идеологии, как это попытались сделать
К. Мартене и К. Шпет,1 сколько подчёркиванием художествен-
ной значимости этой книги. С. Хаффнер называет Ланге «поэтом
европейского ранга»,2 К. Корн говорит о «явлении в современной
немецкой литературе»,3 В. Крамп особо обращает внимание на уме-
ние автора «точно видеть и ясно и пластически компоновать...
другую жизнь».4 Г. Бенн в письме к О. Шэфер заметил: «Скажите
Хорсту Ланге, что «Чёрная Вайда» всё ещё живёт в моей памяти
как захватывающая вещь...»5
Особую значимость обретают оценки романа Ланге коллегами
по перу. Вернер Бергенгрюн отмечает «заклинающе привлекатель-
ную проникновенность» повествовательной манеры писателя,6
Ильзе Молцан, уроженка Силезии, пишет об умении Ланге «про-
никнуть в суть «демонического ландшафта» этого края;7 особой
похвалы удостоился роман Герхартом Газштманом. В письме своему
издателю Ойгену Клаассу от 15 октября 1939 г. классик немецкой
литературы, прочитав первую главу романа, отметил, что «уже это
начало показало те качества, которые отличают поэта от писателя —
неповторимость сказанного, ощущение и чувственное, да, тонкое
чутьё восприятия и формы. Повсюду возникает единственное в сво-
ём роде новое, доселе неизвестное, т.е. именно его и ничей другой
мир... У меня никогда не возникали опасения по поводу прогресса
своенравного немецкого писательства обстоятельного свойства».8
Несомненно, что Гауптмана привлекла тревожная полуми-
стическая атмосфера романа Ланге в соединении с определён-
ными натуралистическими пассажами, что придавало всему
1 Schäfer KD. Op. cit. S. 77.
2 Ibid. S. 75. // Haffner S. Die Dame. Dezember 1937. Nr. 25. S. 118.
3 Korn К. Schwarze Weide, ein schlesischer Roman // Berliner Tageblatt. Nr. 598.
19.12.1937. S. 19.
4 Kramp W. Über das Verhältnis von Dichtung und Wirklichkeit // Die Literatur. 1938.
S. 453-456.
5 Schaefer O. Auch wenn Du träumst... S. 277.
6 Bergengruen W. Schwarze Weide // Deutsche Rundschau 64. 1938. S. 70.
7 Mohlzahnl Schwarze Weide // Deutsche Zukunft. 7.11.1937. S. 11.
8 Цит. по: Kolbe H. Op. cit. S. 65-66.
757
повествованию необычную силу воздействия. Соединение затхлой
повседневности с загадочным миром природы, затягивающей
персонажей романа в орбиту своих законов, создаёт настроение
неотвратимо надвигающейся катастрофы. Здесь явно сплелись
социальное и естественное, и последнее становится победителем.
Более развёрнутое и откровенное мнение о романе Ланге, учи-
тывая дневниковую запись, а не открытую публикацию, высказал
в 1943 году Эрнст Юнгер в своём Втором Парижском дневнике.
По прочтении рассказа Ланге «Блуждающий огонёк» (»Das Irrlicht«,
1943), Юнгер заметил: «Уже в первом романе этого автора меня
поразило совершенное знание болотного мира с его фауной и фло-
рой и бурлящей жизнью. В пустыне нашей литературы появляется
некто, кто владеет этой символикой и уверенно использует её. Он
принадлежит левому созвездию восточных авторов, коих когда-ни-
будь, возможно, назовут школой,— при этом я имею в виду такие
имена, как Барлах, Кубин, Тракль, Кафка и другие. Эти восточные
певцы распада глубже западных; через распад как социальное явле-
ние они проникают в элементарные связи, а через них — к апока-
липсическим явлениям. Тракль сведущ при этом в тёмных тайнах
разложения, Кубин прекрасно знаком с мирами праха и гниения,
а Кафка — с фантастикой демонических царств, подобно тому,
как Ланге — с миром болот, где гибельные силы особенно живучи
и где они ещё плодоносят. Кстати, Кубин, будучи давнишним его
ценителем, сказал однажды, что этому автору предстоят горькие
испытания».1
Испытания эти для Ланге ещё впереди, но уже сейчас его осо-
бое пристрастие к гибельным силам болот в прямом и переносном
смысле вызвало возражения у Г. Гессе, который в своём письме
от 20.10.1937 года посчитал, что «ворота в сторону отрицания
духовности... открыты слишком широко», ибо «интеллектуал дол-
жен всегда и повсюду поддерживать духовность. В Вашей книге
ощущается дыхание некоего фатализма по отношению к мёртвым,
1 Юнгер Э. Излучения (февраль 1941 — апрель 1945). СПб., 2002. С. 511.— Пред-
сказание Кубина сбылось, и когда Ланге грозил военно-полевой суд за порочащие
армию стихи, Ода Шэфер обратилась за помощью к Э. Юнгеру, находившемуся
в то время в Париже, то он «ответил вежливым отказом, хотя, подчиняясь непо-
средственно Шпейделю (начальник штаба оккупационных войск во Франции.—
Е.З.), мог бы, вероятно, вмешаться» (Schäfer О. Horst Lange. Ein Lebendsbild //
Lange Horst. Tagebücher aus dem zweiten Weltkrieg / Hrsg. v. H.D. Schäfer. Mainz,
1979. S. 282)
758
и это мне неприятно. Но радость от того, что Вы создали, всё же
перевешивает это чувство».1 В тот же день Ланге в ответном пись-
ме попытался объяснить Гессе свою позицию: «Ей [духовности. —
Е.З.] необходимо столкновение с тёмными тенями и с мрачными
испарениями крови для того, чтобы обрести силу и жизненность.
А те, кто иногда эту духовность хочет изгладить из памяти и унич-
тожить, способствуют по неведению тому, что она становится ещё
более сильной и чистой».2
Здесь столкнулись две точки зрения, вызванные не столько
(особенно это касается Гессе) разницей мировоззрений, сколько
политической ситуацией, сложившейся на этот момент. Гессе смо-
трит на мир из своего швейцарского далёко и пытается в своих
произведениях, широко издававшихся в Третьем рейхе, каким-то
образом придать немецкому читателю силы для того, чтобы пере-
жить тяжёлые времена нацизма. Не случайно именно в эти годы
выходят в Германии такие его книги как «Маленький мир» (»Kleine
Welt«, 1933), «Герман Лаушер» (»Hermann Lauscher«, 1934), «Кни-
га придуманных рассказов» (»Fabulierenbuch«, 1935), в которых
«изображён духовно-нравственный мир»,3 т.е. намеренный посыл
к уходу от внешнего мира.
Ланге, в свою очередь, наоборот пытается заставить читателя
вглядеться в окружающий мир, каким бы неприятным он ни был,
с тем, чтобы обрести внутренние силы для достойного существо-
вания в нём, и ориентируется при этом на принципы литературы
барокко, воспринимаемые им через И. К. Гюнтера, Тракля, Кубина.
Таким способом он затрагивает любые проявления реальной жизни,
будь то сексуальные страсти или низменные свойства человеческой
жизни, будь то социальные проблемы или природные катаклизмы,
как бы подчёркивая тем самым единение всего, что окружает
читателя, и от него зависит его личный выбор, как ему жить в этом
мире, где реальное и ирреальное находятся в одной связке. В этом
можно усмотреть призыв к читателю произвести моральную оценку
собственного поведения в экстремальной ситуации.
В этой связи роман Ланге изначально отмечен протестными
интонациями. Независимо оттого, что речь в романе идёт о временах
1 Цит. по: Kolbe H. Op. cit. S. 66.
2 Цит. по: Schäfer H. D. Das gespaltene Bewußtsein. S. 75.
3 Издательский анонс в журнале »Die Neue Rundschau«, 1935. H.2.
759
Веймарской республики, мистико-демонические интенции в сочета-
нии с безотрадно-тягостными картинами бытования героев романа
напрямую затрагивают и действительность Третьего рейха. Это
происходит не только потому, что роман не вписывается в обще-
принятую фактуру так называемых «крестьянских романов» тех
лет, но и потому, что общая тревожно-гнетущая атмосфера всего
повествования отражает реальное состояние всего общества неза-
висимо от того, как обустроились в нём различные его слои, ибо кол-
лективное грехопадение в разной степени коснулось всего общества.
Не случайно Ланге назвал свой роман «генеалогией понятия вины»,1
подчёркивая тем самым его моральную составляющую.
В письме к своему другу писателю Эрнсту Кройдеру Ланге
открыто объясняет свою позицию: «Что касается действительного
и скрытого «смысла» моего романа, то я должен Вам сказать, что
обе основные проблемы, которые меня в нём волнуют, это пробле-
ма вины, хотя и обезличенной, как бы заразной, и вытекающая
отсюда проблема возможности свободы и влияние неумолимого,
отвергающего её давления массы. Почему Штарклоф убит? Потому
что он был изначально виновен. Почему его вина увеличивается
и будоражит всю округу и бесчисленное количество людей, кото-
рая их объединила? Потому что они выискали единомышленника,
который, по меньшей мере, воспротивится её дальнейшему суще-
ствованию. Почему это ощущение вины распространилось словно
какая-то эпидемия в окрестностях Кальтвассер? Потому что оно
накапливалось годами и оставалось неузнаваемым до тех пор, пока
сама природа не дала знать о существовании вины и не смыла её
и не очистилась от неё».2
Казалось бы, в этой авторской характеристике протестный
контекст высвечивается не очень чётко, однако, если обратиться
к последствиям этого убийства, то тема вины начинает обретать
контуры, выходящие за пределы чисто религиозного свойства.
Спаситель, лавочник Сморчак, вокруг которого сплотились люди,
предстаёт в романе Ланге не только как олицетворение зла, но и как
некий политический деятель чуть ли не гангстерского типа: «Этот
1 Цит. по: Cygan D. »Man darf den Banausen nicht Wasser auf ihre Mühken geben...« //
Spielräume des einzelnen. Deutsche Literatur in der Weimarer Republik und im Dritten
Reich / Hrsg. v. Delabar W., Denkler H., Schütz E. Berlin, 1999. S. 34.
2 Ibid. S. 34.
760
приспешник зла, скользкие пальцы которого залезали во многие
карманы, чтобы одному что-то дать, а у другого отнять, да так
незаметно, что случившееся несчастье люди замечали только тогда,
когда ничего уже нельзя было сделать; головорез, душитель, раз-
жиревший паук-крестовик, который по вздрагиванию нитей сети
чувствует, что того, кто в них попался, надо сразу же прикончить,
пока он ещё достаточно слаб... Теперь он заговорил по-другому,
вальсы стали хоралами, непристойности превратились в библейские
изречения, но дурман, которым он приручал людей, передавался
из уст в уста, и яд сочился в уши простодушных людей до тех пор,
пока все неистовые призывы к покаянию, от которого они давно
уже отказались, в них снова не начали проявляться... Этот Смор-
чак — ловкий распорядитель необозримого полонеза, участников
которого он выманил из всех деревень, владелец бесчисленного
стада, которое продолжало увеличиваться, этот умелый фальси-
фикатор, которого мужчины и женщины этого края стремились
умилостивить, чудодей, который как фокусник подзадоривал
потребность своих зрителей в противоестественном до тех пор, пока
он не удовлетворял их. Вероятно, он делал это только потому, что
он больше не мог переносить тишины, в которой постоянно звучал
крик Штарклофа, он замышлял устроить суматоху, в центре которой
надеялся спастись; возможно, он пытался заглушить неумолчный
крик убиваемого проповедями, хоралами и аплодисментами, кото-
рые он предполагал стяжать».1
Столь резкая характеристика Сморчака и его секты полна
явных отсылок к фигуре Гитлера, его умению завораживать массы
своими речами. Однако критические интенции в романе «Чёрная
Вайда» определяются не только отрицательным отношением Ланге
к нацистскому режиму, но и к Веймарской республике, которая,
как и Третий рейх, воспринималась им как явление, противное духу
порядка и основательности, и в этом отразилось общее настроение
послевоенной творческой молодёжи. Если в 1927 году на страницах
журнала «Молодая поэзия» (»Jüngste Dichtung«) в качестве програм-
мы провозглашалось стремление молодых авторов к «порядку»,
«дисциплине», «ясности»,2 что предполагало возможность каких-то
1 Судап D. »Man darf den Banausen nicht Wasser auf ihre Mühken geben...«. S. 193-194.
2 Ebermayer E. Ordnung // Die jüngste Dichtung. 1927. H. 1. S. 9. Цит. по: Schä-
fer H. D. Horst Langes Tagebücher 1939-1945 // Lange H. Tagebücher aus dem zweiten
Weltkrieg. / Hrsg. v. H.D. Schäfer. Mainz, 1979. S. 294.
761
изменений, то уже на излёте Веймарской республики М. Рашке,
анализируя литературу молодого поколения, констатировал: «Мы
живём на груде развалин форм и содержания человеческой мыс-
ли. Этот развал соответствует и духовной ситуации современного
человека...»,1 и в этих словах можно усмотреть налёт определённой
безысходности. Подобный настрой определял и творчество Ланге.
Отсюда понятны его призывы к «статичному искусству» и неприятие
Джойса, чьи произведения он рассматривал как «распад литерату-
ры»,2 что побудило позднее Хельмута Хайссенбюттеля (Heißenbüttel,
Helmut; 1921-1996) объявить его «традиционалистом, а в некотором
смысле, политически и эстетически, и реакционером».3 В письме
к Э. Кройдеру от 06.03.1939 года Ланге заявляет: «В таком исклю-
чительно «обесформенном» времени, каким является наше время,
формам искусства следует придавать большее значение, чем мы
это делали ранее. Анархизм мы и так вдыхаем ежедневно и каж-
дый час».4 Форма, отточенность фразы, стремление избавиться
от красивости при сохранении собственного стиля, собственного
видения мира являются для Ланге обязательным условием творче-
ства, и в этом смысле он безжалостен не только к другим авторам,
но и к самому себе, и поэтому так ценимый Э. Юнгером рассказ
Ланге «Блуждающий огонёк» он расценивает как «самое откровен-
ное дерьмо, какое я когда-либо написал».5 Вероятно, именно оттого
этот рассказ, корнями уходящий в проблематику романа «Чёрная
Вайда», и не вошёл в его основной текст.
Конечно, Ланге традиционалист, но не в духе фёлькиш-наци-
оналов, чей традиционализм основывался на повторе прошлого
при полном игнорировании реальной действительности. Тра-
диционализм Ланге строился на восприятии роли писателя как
воспитателя, как провидца, могущего воздействовать на читателя
не прибегая к формальным изыскам, и в этом смысле приемлемым
способом для него оставался ранний экспрессионизм в духе Гейма,
1 Raschke M. Zur jungen Literatur // Die literarische Welt, 1932. № 8/9. S. 7.
2 Lange H. Tagebücher aus dem zweiten Weltkrieg. / Hrsg. v. H.D. Schäfer. Mainz,
1979. S. 140.
3 Heißenbüttel H. 1945 ist heute. Ein persönlicher Bericht // Literaturmagazin 7. Nach-
kriegsliteratur / Hrsg. v. N. Born, J. Manthey. S. 233.
4 Цит. по: Schäfer H.D. Horst Langes Tagebücher 1939-1945... S. 296.
5 Цит. по: Kolbe H Op. cit. S. 92.
762
опосредованный барочным реализмом Гюнтера и питаемый таин-
ственной стихией зла, исходящей от картин Кубина. Повествова-
тельная манера романа «Чёрная Вайда», сама атмосфера романного
действа, насыщенная постоянными смещениями реального и ирре-
ального, не говоря уже о чётко выраженной авторской позиции,
свидетельствовали о явной конфронтации Ланге с официально
поощряемыми идеологическими установлениями в литературе
Третьего рейха,1 как, впрочем, и с авторами молодого поколения
(М. Рашке, Э. Барт), «стерильность» прозы которых вызывала у него
особый гнев: «Это вытяжка из ничем необеспокоенного мира Шти-
фтера, Гёте и, возможно ещё Келлера. И всё, что пишут эти люди,
живёт, как и сегодняшняя женская мода, реминисценциями времён
до 1800 года. Всё, что следует за этим, отрицается и стирается.
Какая-то образовательская мешанина, сплошная лакировочность,
которые не хотят иметь ничего общего с тем, что для нас не терпит
отлагательства... Нам нужна литература, которая полна жизни,
а не кабинет восковых фигур с отработанными курантами и аст-
матическими шарманками».2
Весь критический запал Ланге вызван его впечатлениями
от «мучительного» чтения романа Эмиля Барта (Barth, Emil; 1900-
1958) «Планета» (»Wandelstern«, 1939), и хотя можно предположить,
что его критические высказывания касаются и М. Рашке, однако
каких-либо сведений о знакомстве Ланге с его книгами не удалось
обнаружить, и в этом есть определённая обусловленность. Барта
часто сравнивали с Кароссой, откровенным эпигоном Гёте, и сравне-
ние это основывалось на приверженности обоих писателей автобио-
графической прозе в духе «романа воспитания», далёкой от реальной
действительности независимо от политической погоды в стране.
Приверженность Рашке традициям прошлого обуславливалась
принципиальным игнорированием нацистской действительности,
1 В этом смысле примечательна реакция Ланге на книгу очень популярного
и обласканного нацистами австрийского писателя Франца Тумлера (Turnier, Franz;
1912-1998) «Солдатская присяга» (»Der Soldateneid«, 1939), которую он квалифици-
ровал как «мешанину из еженедельного обозрения, передовиц Ф. Б. [«Фёлькишер
беобахтер»] (австрийское издание), Гофмансталя, Штифтера, Штрайхера (специ-
альный выпуск «Штюрмера» «Евреи Остмарка») и прочих возможных актуальных
ингредиентов... Я... редко испытывал такое отвращение от подобного метода
лебезить ради получения малого» (Цит. по: Судан D. Op. cit. S. 36).
2 Цит. по: CyganD. Op. cit. S. 50-51.
763
и в основе его позиции лежала приверженность народнической иде-
ологии, не имевшей ничего общего с её нацистской интерпретацией.
Несомненно, что Ланге, обсуждавший с Рашке некоторые детали
написания романа «Чёрная Вайда», имел представление о творчестве
писателя. Другое дело, что ландшафтная поэтика Рашке, её народ-
ническая основа не обладала той могучей силой, которая могла бы
подвигнуть его, как это произошло в случае с Ланге, на создание
произведения эпической мощи, или, по крайней мере, приближа-
ющее по своему настрою и размаху к подобного рода эпосу.
Поэтика болот, озёр, лесов, заливных лугов, дождей, туманов,
дикой природы, полной таинственной угрозы, придаёт всему пове-
ствованию меланхолический настрой тревожного ожидания гряду-
щей катастрофы, усугубляемый реальными картинами неспешной
и унылой провинциальной жизни, самой глухоманью этого края
вкупе с описанием медленного умирания родовитой знати,— всё
это воспринимается как своеобразная отходная уходящему миру
наивного силезского единения с природой и её духами. Ланге
настолько вживался в атмосферу этого зачарованного края, что
порой, как вспоминает О. Шэфер, он впадал в состояние транса:
«Однажды вечером он ворвался ко мне в комнату... и в изнеможе-
нии воскликнул: «Согрей меня, согрей, я весь мокрый!» Он словно
вынырнул из главы, в которой описывалась гроза и наводнение,
слился воедино с личностью рассказчика, став соединяющим эле-
ментом между залитыми рыбными прудами, в которых он едва
не потонул».1
В рыбных прудах Ланге не потонул, но силезская тема настоль-
ко захватила писателя, что она продолжала оставаться питательной
средой практически всех его произведений времён Третьего рейха.
В 1939 году выходит сборник рассказов «На восточном берегу»
(»Auf dem östlichen Ufer«), куда вошли два рассказа «Блуждающий
огонёк» (»Irrlicht«) и «Сын вдовы капитана» (»Der Sohn der Haupt-
mannswitwe«), которые прямо или косвенно являются составными
частями романа «Чёрная Вайда», некими вариантами, черновиками,
не вписавшимися в основную фактуру повествования.
«Блуждающий огонёк», как сообщает Ланге в письме Кройдеру,
«является сооружением, склеенным из двух новелл с объедками
из горшков с «Чёрной Вайдой», и хотя сам Ланге назвал его «самым
1 Schäfer О. Auch wenn Du träumst... S. 277-278.
764
откровенным дерьмом»,1 именно он вдохновил Альфреда Кубина
в 1942 году создать великолепные иллюстрации для отдельного
издания рассказа. Здесь, как и в романе, речь идёт о запутанной
любовной истории, о вине, преследующей рассказчика, который
мечется между двух женщин — скромной девушки из деревни
Зельмы и строптивой графини Элоизы, владелицы пришедшего
в упадок поместья, на котором лежит страшное проклятье. В жела-
нии предостеречь рассказчика от опасного воздействия графини
Зельма погибает. Согласно старинной силезской легенде блужда-
ющий огонёк заманивает по ночам путников в болотную трясину.
Убедившись в том, что «объедки из горшка „Чёрной Вайды"»
пришлись читающей публике по вкусу, Ланге вновь обращается
к силезской теме, начав работу над коротким романом «Уланский
патруль». Сюжет этого произведения навеян рассказом Г. фон Гоф-
мансталя «Кавалерийская повесть», отчасти рассказом Р. М. Рильке
«Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке», а также исто-
рией из жизни отца Ланге времён Первой мировой войны, связан-
ной с предсказанием цыганки. Работа шла быстро, и уже в январе
1940 года роман появился на страницах «Франкфуртер цайтунг»,
а в конце этого же года вышел отдельной книгой.
Этот короткий роман, действие которого происходит в Силе-
зии во времена последнего кайзера, не содержит в себе каких-либо
захватывающих моментов. Уланский лейтенант Фридрих Г. при-
нимает со своим отрядом участие в осенних манёврах, во время
которых он оказывается в местах, связанных с далёким прошлым,
с давней любовью, и это событие захватывает его с необыкновенной
силой. Пока его отряд, должный обеспечить защиту одного из флан-
гов уланского корпуса, переходил на новые позиции, лейтенант
вспоминает все обстоятельства той давней встречи. Неожиданно
на его пути оказывается молодая цыганка, которая возвращает его
к действительности и предвещает ему «большое счастье и большое
несчастье».2 Встреча эта, случившаяся ночью, произвела на него
неизгладимое впечатление, и с этого момента он чувствует себя
как бы выброшенным из времени, находящимся одновременно
в состоянии некоей давящей тревоги и манящего блаженства. Конь
его, словно по какому-то внутреннему наитию, примчал лейтенанта
1 Цит. по: KolbeH.S. 92.
2 Lange H. Ulanenpatrouille. Roman. München, 1986. S. 61.
765
к старому барскому поместью Дуброво, где у него когда-то состоя-
лась встреча с будущей хозяйкой этого поместья. Словно в каком-
то забытьи он оставляет бивак своего отряда, забыв о приказе,
о воинском долге, и проводит ночь с этой женщиной. Однако
утром, осознав, что он нарушил свой воинский долг, оставив отряд
на попечении вахмистра, лейтенант мчится в бешеной скачке через
незнакомый лес к штаб-квартире полка, падает с коня, испугав-
шегося взлетевшего фазана, и погибает на месте. Всё это событие
занимает в романе двадцать четыре часа.
Казалось бы, такая достаточно банальная история, и баналь-
ность её вроде бы подчёркивалась публикацией в газете, где про-
изведения высокой художественной значимости появлялись очень
редко, вряд ли могла сравняться с эпической широтой романа «Чёр-
ная Вайда». Однако именно «Уланский патруль» был своеобразной
визитной карточкой Ланге на протяжении многих лет и даже спа-
сительным фактором в различного рода неприятностях, учитывая
драчливый характер писателя.1
Поначалу критика восприняла «Уланский патруль» более чем
благосклонно. Отто Карстен в «Литератур» восхищался «вырази-
тельным техническим совершенством и поэтической проникно-
венностью» романа Ланге,2 Рут Хернеман в правительственном
еженедельнике «Рейх» хотя и посетовала по поводу «болезненной
чувственности» женских образов, тем не менее, ставила в заслу-
гу писателя его способность создавать «чудесные изображения
природы», что позволяет ему «умело соединять настроение при-
роды с душевным состояниям человека».3 Более того, по словам
1 Ода Шэфер вспоминает, как Ланге по дороге на фронт ввязался осенью 1940 г.
в польском городе Сидльце в пьяную драку между лётчиками и пехотой, в ходе
которой он попытался выстрелить из парабеллума, но по счастливой случайности
произошла осечка. Тем не менее, отобрав военный билет, его посадили на гауптвах-
ту. Ланге, взломав ветхие стены барака, где находилась гауптвахта, сбежал отту-
да, сел на поезд и доехал до Орши. Там его снова арестовали. Во время допроса
выяснилось, что один из офицеров читал «Уланский патруль», и это обстоятельство
спасло его от военно-полевого суда и смертной казни. Всё закончилось тремя
сутками строгого ареста и отправкой в штрафной Шпандауэрский сапёрный
батальон, что по степени опасности мало чем отличалось от смертной казни (Schä-
fer О. Horst Lange. Ein Lebensbild... S. 281-282). Впоследствии, как отмечал Ланге
в своих военных дневниках, «Уланский патруль» помогал ему каким-то образом
обустраиваться в непростых условиях военной жизни (Lange H. Tagebücher aus
dem zweiten Weltkrieg... S. 44, 116).
2 Karsten O. Ulanenpatrouille // Die Literatur. 13.7.1940. H. 11. S. 464.
3 Hermemann R. Das Werk eines jungen Schriftstellers // Das Reich, 15.09.1940.
766
Г. Д. Шэфера, «Фёлькишер беобахтер» «пела дифирамбы «Уланскому
патрулю».1 Одновременно, однако, «какой-то усердный партиец,
решив, что речь идёт о польской кампании 1939 года, усмотрел
в романе пораженчество, деструкцию и «осмеивание вермахта»,2
и дело приняло такой оборот, что этой проблемой занялось главное
командование сухопутных войск, и только вмешательство Юргена
Эггебрехта (Eggebrecht, Jürgen; 1898-1982), отвечавшего за снабже-
ние армии художественной литературой, удалось избежать запрета
«Уланского патруля». Хотя Эггебрехт объяснил командованию, что
в романе рассказывается о маневрах 1913 года, тем не менее,
когда первый тираж, 29000 экземпляров, был распродан, попытка
Эггебрехта издать этот роман в серии книг для фронта закончилась
неудачей. Под предлогом отсутствия бумаги роман фактически
был запрещён.
Масла в огонь в этой ситуации подлила статья Эберхарда
Тер-Неддена (Ter-Nedden) «Искажённый облик Силезии. Моральное
падение Хорста Ланге и Аугуста Шолтиса» (»Zerrbild aus Schlesien.
Horst Lange — August Scholtis: der Fall«), появившаяся в 1941 году
в некогда представительном журнале «Вельт-литератур» (»Die Welt-
literatur«),3 ставшего после 1933 года пропагандистским органом
службы СС в оккупированной Европе. Творчество Шолтиса (Scholtis,
August; 1901-1969) — это другая история, об этом речь впереди,
хотя претензии, предъявляемые автором статьи к Ланге, в равной
мере касаются и Шолтиса: «Можно только выразить сожаление
по поводу того, что большое число критиков превозносило именно
язык романов Ланге. Тем самым они превозносили стиль декадан-
са... Книги Ланге... обладают как раз подобной логикой. Но ещё
1 Schäfer H. D. Das gespaltene Bewußtsein... S. 78.— Приходится верить на слово
этому серьёзному учёному, т.к. мне не удалось de visu обнаружить каких-либо
следов упоминания имени X. Ланге в берлинском издании «Фёлькишер беобахтер».
Возможно, рецензия на книгу X. Ланге была опубликована в мюнхенском издании
этой газеты, которым наши библиотеки не располагают.
2 SchaeferO. Auch wenn Du träumst, gehen die Uhren... S. 186.
3 Журнал «Вельтлитератур», довольно рафинированное издание, пытался позициони-
ровать себя в оккупированной Европе в качестве выразителя нового духа, вобравшего
в себя всё ценное, что имелось в культурном наследии человечества. Отсюда
публикации текстов писателей как малых стран (например, Болгарии, Словении,
Хорватии, Румынии, Венгрия), так и немецких писателей, преимущественно
из кругов «внутренней эмиграции». При этом тексты писателей первой группы
подавались как некое откровение, родственное откровению европейцев при встрече
с художественными произведениями негритянских племён в Африке.
767
с большей силой вынуждены мы протестовать против взглядов
Ланге на человека, природу и бога, потому что мы придержива-
емся вполне определённого мнения об отвратительном и пошлом.
Ключевыми словами для понимания сущности человека являются
разложение, разврат, жадность, похотливость. В принципе здесь
речь идёт о преувеличенно гротесковом христианском представ-
лении об абсолютной испорченности человека. Выражение чело-
веческой греховности проявляется прежде всего в извращённой
или безоглядной сексуальности. Мир ещё раз представлен в двой-
ственном соотношении сатаны и бога, вот только бог из этого мира
почти исчез... Это мировоззрение прямо или косвенно проявляется
и в проблематике Достоевского, Бернаноса, Гюисманса, Стринд-
берга, Кафки и многих других авторов, которая так чрезвычайно
занимала интеллектуалов времён парламентских систем... На наши
головы сваливаются убийства, сексуальные влечения, алкоголизм
и отвратительная похоть... Однако литература не находится вне
политической области, она в большей степени является выраже-
нием фёлькише жизненной силы. Недопустимо, чтобы появлялись
и восхвалялись книги, которые пробуждают скорее отвращение
к немецким восточным землям, чем придают воодушевление для
преодоления насущных задач в них».1
Ланге отреагировал на эту статью в своём стиле. Как вспомина-
ет О. Шэфер, «Хорст Ланге отправился в редакцию в потрепанном
мундире обер-сержанта сапёрных войск... Он щёлкнул угрожающе
каблуками сапог, подбитых железными подковами, изображая
бывалого фронтовика, и вёл себя так неимоверно нагло, высказы-
вая свои претензии как обычный солдат, который презрительно
относился к людям в чёрных мундирах, сидевшим за письменными
столами, что, как это бывает в подобных случаях, дух немецкого
подчинённого взял своё и они сникли. Они не знали, кто стоит
за этим не знающим страха посетителем... Унизительное предло-
жение главного редактора о сотрудничестве Ланге грубо отверг,
сославшись на то, что он простой солдат, у которого нет для этого
времени».2
1 Ter-Nedden E. Zerrbild aus Schlesien. Horst Lange — August Scholtis: Ein Fall //
Die Weltliteratur. Berlin, 1941. S. 80-82.— Цит. по: Schäfer H. D. Das gespaltene
Bewußtsein... S. 205.
2 SchaeferO. Op. cit. S. 281.
768
В силу исторических перемен Силезия для немцев всё ещё
оставалась какой-то экзотикой с установившимся топосом, а рома-
ны X. Ланге (А. Шолтис не исключение) разрушали этот топос,
представляя этот край как некое средоточие зла и красоты, что
явно не укладывалось в буколические представления нацистов
о крестьянах, о природе. Поэтому любое произведение, затрагива-
ющее специфику какой-либо немецкой провинции (Силезия здесь
не исключение), автоматически находилось под подозрением, если
в нём эта специфика была представлена не в надлежащем, в тра-
диционном виде. В «Уланском патруле» силезская экзотика служит
лишь фоном для передачи внутреннего облика героя романа, его
душевных качеств, его слияния с природой. Ланге шёл по опасной
линии расхожего любовного романа, но именно растворение про-
тагониста в природе, представление его как человека, живущего
в согласии с потаёнными силами природы силезского края, не даёт
этому произведению скатиться до уровня обыкновенного кича.
Буквально с первых же страниц романа главный герой характе-
ризуется как «офицер по долгу, а не по призванию», отсюда его
естественное слияние со своим конём: «Конь и всадник дополняли
друг друга странным и необычным образом; временами, когда лей-
тенант мимолётно задумывался об этом единении, он вспоминал
о том мифическом кентавре... Примерно так они были связаны друг
с другом и так вросли друг в друга, что вороной сразу же ощущал,
когда лейтенант когда-либо утром более небрежно, чем обычно,
садился в седло. Именно в эти часы животное, казалось, сразу же
воспринимало волю своего хозяина, руководствуясь даром предви-
дения, заложенным в этой древней расе».1 Сама природа, находя-
щаяся в состоянии осеннего умирания, как бы навязывает герою
характер его поведения, отмеченного интуитивно меланхолическим
неприятием игрушечных манёвров в обстановке реальных, чело-
веческих страстей, и этот меланхолический настрой проявляется
в описаниях таинства природы: «Болотистые ландшафты к северу
от реки, казалось, обладали другим климатом — мягкий, забродив-
ший воздух заросших тростником лугов, отмеченный тяжёлыми
испарениями, которые пронизаны были затхлыми запахами засто-
явшейся воды — моховидная растительность, буйно разросшаяся
повсюду, так что едва копыта лошадей успевали сорвать луговую
1 Lange H. Op. cit. S. 6.
769
дернину, как чёрная земля снова покрывалась ростками, зацвета-
ла и засеивалась, словно сочная растительная поросль не терпела,
чтобы плодородная наносная земля оставалась, хотя бы на минуту,
свободной.
Ивы и ольха, разбросанные группами здесь и там, были опута-
ны вьющимися растениями, сети из закрученных спиралью и свя-
занных усиков висели между стволами так крепко и нерасторжимо,
что даже лошадь остановилась бы, попытайся она на полном скаку
прорваться сквозь них. Земля пружинила и качалась под всадника-
ми. Плотно сплетённая масса из ботвы, трав и кореньев лежала над
безмерной глубиной, в которой, казалось, ворочались некие влаж-
ные силы, подобные каким-то неизвестным, оставшимся из древ-
них времён земли амфибиям, которые когда-то царили, а теперь
беспорядочно запутались и переплелись».1 Весь роман представляет
собой некое сплетение реального и ирреального, в котором преобла-
дает мотив верховенства неминуемой смерти, и поэтому протаго-
нист находится в состоянии некоего лесного наваждения, которое
хотя и отпускает его на какое-то время, но всё время напоминает
о своей власти. Даже в преддверии свидания с любимой женщи-
ной он думает не о ней, а о предсказании цыганки, и ощущение
обещанного «счастья» затмевается рассуждениями о «несчастье»:
«Оно было неотвратимым не только потому, что его накликала
гадалка, она была только гласом, озвучившим это предсказание.
Придётся покориться тому, что решили совершить над ним тём-
ные и слепые силы, от этого никак не освободиться, и принять их
решение, даже если оно будет означать смерть.. .»2 Отсюда описание
бурного схождения влюблённых, довольно смелое по тем временам
по своим эротическим проявлениям, и совсем не радостное, даже
холодное прощание Фридриха с возлюбленной, отрешившегося
от всего земного и продолжающего ещё по инерции беспокоиться
о состоянии дел на манёврах. На бессознательном уровне Фридрих
готов был принять вторую часть предсказания цыганки, и поэтому,
падая с коня в «холодную и влажную вечность», «он с удивлением
отметил, что смерть увенчивает его шелестящей листвой ив и ольхи
и нежными усиками жимолости и дикого винограда».3
1 Lange H. Op. cit. S. 43.
2 Ibid. S. 205.
3 Ibid. S. 262.
770
Несколько мелодраматичной картине смерти героя романа,
о причинах которой командование так ничего и не узнало, проти-
вопоставлены горькие строки о лавине смертей, вызванных Пер-
вой мировой войной: «Пыль двенадцати месяцев покрыла папку
с материалами о его смерти, а потом, осенью следующего года,
на ней начали громоздиться новые папки о смертях, в которых
следовавшие друг за другом имена воспринимались как великая,
печальная литургия, которая никогда не кончится...»1
Несомненно, что «Уланский патруль» по своим художественным
достоинствам уступает «Чёрной Вайде», это понимал и сам Ланге,
постоянно борясь со «слишком красивым стилем». Но даже этот
стиль вызывал у властей подозрение в скрытой оппозиционности
намерений писателя. Не случайно в 1941 году в закрытом докладе
цензурной службы при уполномоченном фюрера по надзору за всем
духовным и политическим образованием и воспитанием НСРПГ
X. Ланге был дважды назван как один из наиболее представитель-
ных «авторов межвременья», т.е. принципиально аполитичных
и потому пользующихся большим вниманием читателей.2 В этой
связи не стоит забывать, что система «каллиграфического письма»
возникла не из-за особой любви к изящному языку, а как способ
избежать «политической компрометации или волчьей цензуры»,3
и автору этих слов, писателю и искусствоведу Густаву Рене Хокке
(Hocke Gustav Rene; 1908-1985), работавшему в годы Третьего рейха
корреспондентом «Франкфуртер цайтунг» в Италии, известно это
было не понаслышке.
В известном смысле романом «Уланский патруль» завершался
творческий путь X. Ланге в Третьем рейхе, ибо в июне 1940 года его
призывают в армию. Попытки его издателя Генри Говертса (Goverts
Henry; 1892-1988) отсрочить через «Имперскую палату письменности»
этот призыв под предлогом завершения работы над новым романом
(такая возможность существовала) закончилась провалом, и здесь был
замешан «Уланский патруль». Нацистский писатель и владелец ряда
1 Lange H. Op. cit. S. 265.
2 Цит. по: Kolbe H. Op. cit. S. 114.— Примечательно, что и y современного немецкого
читателя при наличии огромного выбора литературы на любой вкус «Уланский
патруль» пользуется большим успехом, о чём свидетельствует издание этого про-
изведения в 1986 г. массовым тиражом в »Deutsche Taschenbuch Verlag«.
3 Носке G. R. Deutsche Kalligraphie oder Glanz und Elend der modernen Literatur / /
Der Ruf. München, 1946. H.7. S. 9.
771
«ариизированных» издательств Карл Хайнц Бишофф (Bischoff, Karl
Heinz; 1900-1978), успешно переживший после 1945 года процесс
денацификации, написал на прошении Говертса: «Ланге — мастер
своего дела, но его «Уланский патруль» я считаю очень плохим. И это
беда, что он не замечает того, насколько это плохо».1
Поначалу служба в армии складывалась для Ланге достаточно
успешно, хотя в своём письме писателю Г. Гауптману, то ли в шутку,
то ли всерьёз, он сообщает: «Воинственные книги нынче не пишут
безнаказанно, поэтому я рассматриваю то, что меня скоро призовут
в армию, а именно в пехоту, заслуженным возмездием за мои фан-
тазии о манёврах».2 В пехоте Ланге долго не задержался. Благодаря
помощи писателя Ульриха Зандера (Sander, Ulrich; 1914-1977),
с которым Ланге был знаком, его определили в сапёрную школу,
что позволило ему посещать семинары крупнейшей немецкой
киностудии УФА, куда его командировали по просьбе «Имперской
палаты кино». Событие это никак не связано с писательской зна-
чимостью Ланге. В связи с тем, что после 1933 года страну покинул
едва ли не основной состав киносценаристов, нацистская кино-
индустрия испытывала огромный дефицит в профессиональных
кадрах и вынуждена была организовать курсы киносценаристов,
приглашая на эти курсы всех литераторов, независимо от их взгля-
дов. Судя по всему, «гротескное и такое отвратительное производ-
ство фильмов»3 Ланге совсем не привлекало, хотя впоследствии,
в 1944 году, он даже заключил контракт с УФА на экранизацию
своего рассказа «Сигнальные ракеты» (»Die Leuchtkugeln«).4 Главное,
здесь хорошо платили и он даже смог съездить в Силезию, чтобы
навестить отца. Затем последовала командировка в оккупирован-
ную Польшу, а осенью 1941 года, после известной драки в Зидле,
Ланге был отправлен в действующую армию под Москву, где, кроме
сапёрной службы, он «должен был информировать командование
о применении новых приборов, а также о настроениях на фронте,
которые начали обретать опасные тенденции».5
1 Цит. по: KolbeH. Op. cit. S. 119.
2 Цит. по: Sprengel Р. Der Dichter stand auf höher Küste. Gerhart Hauptmann im Dritten
Reich. Berlin, 2009. S. 276.
3 Цит. по: KolbeH. Op. cit. S. 121.
4 Ibid. S. 122.
5 Schäfer О. Horst Lange. Lebensbild. S. 280.
772
О службе Ланге в армии, как и о последующих годах его жиз-
ни в Третьем рейхе, мы узнаём только из его дневников периода
1939-1945 годов, опубликованных Гансом Дитером Шэфером
(Schäfer, Hans Dieter; 1939) в 1979 году. Известно, что небольшой
отрывок из дневников, касающийся пребывания Ланге в России,
появился в 1942 году в модном журнале «Даме» под заголовком
«Начало апокалипсиса» (»Vorspiel zur Apokalypse«).1 Сюда же можно
отнести и публикацию во «Франкфуртер цайтунг» в 1942 году «Пись-
ма с фронта» (»Briefe aus dem Felde«), навеянные дневниковыми
записями.2 Известно также и то, что Ланге собирался опубликовать
свой дневник, вёл по этому поводу переписку со своим издателем
Клаассом и передал ему рукопись будущей книги: «Я представляю
себе книгу примерно в 200 страниц, в которую могли бы войти
наряду с дневниковыми записями отдельные письма и прежде всего
ландшафтные зарисовки, сделанные мною на фронте... Это будет
яркая, гуманная и очень жизненная книга о войне без какой-либо
героизации. Что Вы скажете на это?»3 Судя по всему, это предпри-
ятие не состоялось по причине слишком реалистического отобра-
жения военных действий.
Действительно, дневниковые записи 1939-1941 года Ланге
сильно отличались от пафосных победных реляций с поля боя,
появлявшихся на страницах немецких газет и журналов, в интер-
претации, например, Э. Двингера, сопровождавшего немецкие
войска в захвате Франции и нападении на Советский Союз. В связи
с тем, что изначально в обязанность Ланге входило информирование
командования вермахта о действительном состоянии дел на фрон-
те, его дневниковые записи отмечены сугубо личными оценками
всего происходящего вокруг него, лишены какого-либо героизма
и, что особенно примечательно, нацистской фразеологии, пропа-
гандистского слогана. Повседневная действительность военной
неразберихи в обстановке, далёкой от торжественных проходов
с развёрнутыми знамёнами по дорогам Западной Европы, грязь,
1 Lange H. Vorspiel zur Apokalyses // Die Dame. Berlin, 1942. Nr. 9. S. 28-30; Schä-
fer H. D. Horst Langes Tagebücher 1939-1945 / / Lange H. Tagebücher aus dem zweiten
Weltkrieg / Hrsg. v. H.D. Schäfer. Mainz, 1979. S. 309.
2 Lange H. Briefe aus dem Felde // Ibid. S. 218-222. Эта публикация составлена
О. Шэфер из писем Ланге и не является собственноручным произведением
писателя.
3 Цит. по: Schäfer H. D. Op. cit. S. 309.
773
снег, мороз, забитые постоянно ломающейся техникой непролаз-
ные дороги, отсутствие нормального питания, антисанитария,
вши — вот далеко неполный тематический расклад дневников
Ланге: «Внезапно выступление, которое многократно откладывалось
и теперь перенаправляется совсем в другое место. Мороз немного
ослаб. Вьюга. Затем опять стало холодно. Ночь, стоя в карауле,
разговоры с людьми из других частей, которые воссоздают одну
и ту же картину: проявления усталости, война приняла слишком
большие размеры, русская зима наводит на людей страх, они видят
себя противопоставленными некоей природной силе, которой они
не знают и которой они боятся, безбрежная пустыня действует
на них удручающе, портит настроение, повышает боязнь перед
неизвестностью. Некоторые дивизии имеют только 2000 боеспособ-
ных солдат. Некоторые роты по причине ничтожного количества
людей (вплоть до 20 человек) пришлось распустить. Возникает
некий, отчасти истерический страх перед русскими...» (05.12.41).]
В такой ситуации трудно говорить о высоком моральном дуке
солдат: «Никакого желания воевать. Они говорят об этом открыто,
при ближайшей атаке собираются «дать дёру». Их может удержать
только сила и прочная безопасность» (25.10.41);2 «Вши, наконец,
добрались и до меня, ползают по одежде» (01.11.41).3
Дневник полон описаний продвижения немецких войск
к Москве, но эти продвижения напоминают скорее отступление, чем
наступление: «Дорога — сплошной каток. Лошади и люди постоянно
падают. Все кругом спотыкаются. Вдали видны отблески пожара...
повсюду падают люди. Спотыкаются и падают, лежат какое-то вре-
мя и идут дальше немного и снова ждут. Темнота и холод приводят
к всё возрастающей озлобленности людей. Громкая ругань, почти
на грани драки, но всё же некоторая сдержанность ощущается.
Все думают, что это путь в никуда, голодны и чрезмерно усталы
и еле держатся на ногах».4
Любопытно отношение Ланге к России. В его дневнике отсут-
ствует ощущение какой-либо вражды, ненависти. Это война,
1 Lange H. Tagebücher aus dem zweiten Weltkrieg. S. 101
2 Ibid. S. 78.
3 Ibid. S. 84.
4 Ibid. S. 96-97.
774
и только. Мы и противник. Образы пленных солдат, офицеров
даются подчёркнуто нейтрально — это просто люди, вовлечённые
в войну, и поэтому Ланге может написать «Эти русские хорошие
и мужественные пилоты».1 Разговоры о России переплетаются раз-
говорами о русской литературе — о Пушкине (Ланге читает наизусть
«Пророка»), о Тургеневе, о Лескове.2
Понятно, что подобные свободные рассуждения о войне и о ситу-
ации в войсках могли возникнуть только при условии соблюдения
полнейшей секретности, и случись что, даже ссылка на задание вер-
махта вряд ли помогла бы Ланге уйти от ответственности. Несмотря
на то, что этот дневник так и не был (и не мог быть!) опубликован
в годы нацизма, он в известной степени дополняет облик писателя
Хорста Ланге как человека.
Несомненно, что романы X. Ланге «Чёрная Вайда» и «Уланский
патруль», выпадающие по своему настрою и эстетическим воззрени-
ям из общей массы публикаций, особенно авторов фёлькиш-нацио-
нальной направленности, времён нацистской диктатуры, вкупе с его
резко отрицательным отношением к диктаторскому режиму свиде-
тельствуют о достаточно ясном выражении его протестных настро-
ений, что подтверждается как современниками (В. Бергенгрюн,
С. Хаффнер), так и надзорными органами Третьего рейха, внёсши-
ми X. Ланге в чёрный список неблагонадёжных «авторов межвреме-
нья». В отличие от Г. Кароссы протестный настрой X. Ланге нашёл
своё выражение в приверженности его творчества к конкретной
мировоззренческой системе, формировавшейся под воздействием
современной нацистской действительности, и рассматривался как
своеобразный эстетический вызов тогдашним идеологическим
установлениям. Его жёсткий реализм, освящённый магическими
интенциями, есть порождение этой действительности, в то время
как благочестивый слепок с реализма времён Гёте, определявший
изначально всё творчество Г. Кароссы, не связан с конкретными
политическими и идеологическими изменениями в Германии после
1933 года. Случись так, что Веймарская республика продолжала бы
и дальше здравствовать, эстетические устремления Г. Кароссы
оставались бы неизменными. В своей утешительной функции он
годился для любого времени, чего не скажешь о X. Ланге.
1 Lange H. Tagebücher aus dem zweiten Weltkrieg. S. 108.
2 Ibid. S. 90, 99.
775
В этом смысле особый интерес представляет открытие для
немецкой литературы творчества Фридо Лампе, которого, пожа-
луй, можно назвать самым ярким представителем афашистской
литературы, не затронутым нацистской идеологией. Творчество
Фридо Лампе представляло собой некий синтез едва ли не всех
литературных и культурных явлений конца XIX — начала XX вв.
при сохранении исключительно своеобразного мировосприятия,
нашедшего своё отражение в его немногочисленных произведениях.
Многие судьбы я ощущаю рядом с моею судьбой,
без разбору играет всеми ими жизнь».1
Этими словами Гуго фон Гофмансталя, любимого поэта Ф. Лам-
пе, можно охарактеризовать всё его творчество, состоявшее в отча-
янных попытках показать мир мгновенно в его многочисленных
проявлениях в абсолютно компактной форме, где каждое слово,
при всей кажущейся его простоте, лишено проходной функции,
ибо в нём заключена сама жизнь такой, какой она есть на самом
деле в самом неприглядном, но естественном виде. В определённом
смысле его проза — это кинофильм, сошедший с экрана, кинофильм
незамысловатый, даже где-то банальный, но в интерпретации Лам-
пе, в его словесном оформлении оживающий и превращающийся
в нечто значимое для понимания сущности человека и времени,
в котором он живёт. Не случайно Вольфганг Кёппен, чья творческая
манера отражения действительности берёт свои истоки именно
в прозе Лампе, назвал его произведения «учебником для молодых
писателей».2 Правда, в учебник этот, кроме Кёппена, почти никто
и не заглядывал, потому что книги Лампе во времена фашистской
диктатуры не получили должного признания критики, хотя более
прозорливые из них сулили молодому писателю счастливое будущее,
да и тиражи его книг были чрезвычайно малы, чтобы привлечь
к себе внимание значительной читательской аудитории.
Творческое наследие Ф. Лампе невелико — роман «На краю
ночи» (»Am Rande der Nacht«, 1933), сборник стихов «Тёмная лодка»
(»Das dunkle Boot«, 1936), повесть «Гроза в сентябре» (»September-
gewitter«, 1937) и сборник рассказов «От двери к двери» (»Von Tür
1 Hofmannsthal H. von. Manche Freilich... // Hofmannsthal H. von. Die Gedichte und
kleinen Dramen. Leipzig, 1949. S. 21.
2 Koeppen W. Friedo Lampe und Felix Hartlaub // Koeppen W. Gesammelte Werke. Bd. 6.
Essaysund Rezensionen / Hrsg. v. M. Reich-Ranicki. Frankfurt / Main, 1986. S. 320.
776
zu Tür«, 1944). Сюда же следует добавить повесть «У тёмной реки»
(»Am dunklen Fluß«), которая была опубликована только в 1969 году
на страницах журнала «Акценте».1 Но даже тому немногому, что
вышло из-под пера писателя, была уготована трагическая судь-
ба. Первый его роман «На краю ночи» через четыре недели после
его выхода был запрещён, а не распроданные экземпляры книги
конфискованы и уничтожены. Повесть «Гроза в сентябре», опу-
бликованная перед Рождеством и не попавшая по недосмотру
в предрождественскую продажу, являющуюся самым лучшим
временем для выхода на книжный рынок, прошла незамеченной
ни цензурой, ни читателями, хотя критики проявили к ней особый
интерес. Свёрстанный набор сборника рассказов «От двери к двери»
погиб во время бомбардировки Лейпцига в 1944 году, приведшей
фактически к гибели всей издательской деятельности в Германии.
Но и восстановленный этот сборник увидел свет только в 1946 году,
и прошёл незамеченным.
Трагическая судьба постигла и самого автора этих несчаст-
ливых произведений. По словам поэтессы Оды Шэфер, «Фридо
Лампе боялся быть убитым русскими, он сказал нам это, и мы (её
муж, писатель Хорст Ланге.— Е.З.) попытались его успокоить...
Его страх... производил впечатление какого-то предчувствия».2
И предчувствие это оказалось вещим. 2 мая 1945 года, сразу после
освобождения Берлина, по дороге домой Лампе был остановлен
советским патрулём. Как сообщила впоследствии друзьям Лампе
«одна незнакомая женщина, видевшая из окна, как русские сол-
даты спорили с ним по поводу его военного билета, потому что
фотография не соответствовала изголодавшемуся лицу Лампе. Они
возбуждённо спорили, он что-то говорил им, они его не понимали,
затем он вынужден был отступить в сторону небольшого сада, про-
звучали два выстрела, он упал».3
После 1945 года имя Ф. Лампе для широкой публики, как,
впрочем, и для германистов, оставалось по-прежнему неизвестным.
Даже после выхода в 1955 году однотомника произведений Лам-
пе — кстати тоже подвергшегося цензуре из соображений мораль-
ного свойства, учитывая пуританские нравы западногерманского
1 Lampe F. Am dunklen Fluß // Akzente. 1969. H. 1. S. 170-190.
2 Schäfer O. Auch wenn Du träumst, gehen die Uhren. Lebenserinnerungen. München,
1970. S. 315.
3 Ibid. S. 315.
777
общества 50-х годов — его творчество не вызвало особого интереса,
и только в конце XX века молодое поколение германистов обратило
внимание на забытого писателя, увидев в нём предтечу послевоен-
ной немецкой литературы. Петер Хэртлинг в своём собрании лите-
ратурных эссе «Забытые книги» (»Vergessene Bücher«, 1983) посчитал
Лампе более значимым писателем, чем Вольфганг Борхерт.1 Возмож-
но, это и так, однако вряд ли тревожная атмосфера произведений
Лампе могла захватить немецкого читателя первых послевоенных
лет, занятого лихорадочным обретением новой жизни, да и куми-
ром тогда был Хемингуэй. По крайней мере, попытка издательства
«Клаасен&Говертс» издать в 1946 году сборник рассказов Лампе «От
двери к двери» (»Von Tür zu Tür«) прошла незамеченной. И только
теперь, в XXI столетии, пришло осознание значимости творчества
Ф. Лампе для немецкой литературы
Фридо Лампе (Lampe, Moritz Christian Friedrich; 1899-1945)
родился в Бремене, в семье владельца страховой компании.
По причине обнаружившегося в детстве костного туберкулёза, что
привело к хромоте, он был освобождён от воинской службы, и это
обстоятельство, как и финансовые возможности отца, позволило
Лампе получить хорошее образование. В Гейдельберге, Лейпциге,
Мюнхене и Фрайбурге Лампе изучал литературоведение, историю
искусств и философию, слушал лекции выдающихся немецких учё-
ных К. Ясперса, Ф. Гундольфа, Э.Р. Курциуса. В 1928 году Лампе
защитил диссертацию о творчестве поэта-анакреонтика XVIII века
Фридриха Гёкингса. Первое время Лампе работал волонтёром в бре-
менском журнале «Шёнеманнс монатсхефте» (»Schönemanns Monats-
hefte«), опубликовав в нём ряд статей, привлёкших внимание чита-
телей. После закрытия журнала, вызванного последствиями все-
мирного экономического кризиса 1928 года, Лампе проходит курс
обучения в государственной школе библиотековедения в Штеттине
и с 1932 года работает библиотекарем в муниципальной библиотеке
Гамбурга, где нажил себе много врагов, выступая против фрон-
тального занесения в спецхран литературы американских авторов.
После прихода к власти нацистов Лампе по настоянию отца, ради
спасения его фирмы, вступает в НСРПГ,2 однако на этом поприще
1 Härtling Р. Vergessene Bücher. Hinweise und Beispiele. Karlsruhe, 1983.
2 Hoffmann A. Friede Lampe: Idyllen auf »vulkanischem Grund«. Erzählen im Stil des
Magischen Realismus während des Dritten Reichs. Freiburg, 2002. S. 50
778
ничем себя не проявил, уйдя целиком в творчество, не имевшее
ничего общего с идеологией нацистской партии.
В Гамбурге Лампе был принят по рекомендации его друга
Вольфа Хермана, владельца большого книжного магазина, в салон
психиатра Лотара Люфта, еврея по национальности, и его жены
Мари Рене, в котором собирались писатели Иоахим и Вальдемар
Маас, Вильгельм Эммануэль Зюскинд, Мартин Бехайм-Шварцбах.
Этот салон был своеобразным центром культурной жизни Бреме-
на, где велись не только литературные дискуссии, но и читались
произведения молодых авторов. Вероятно, в этом салоне Лампе
прочитал Вилли Маасу первые главы из своего романа «На краю
ночи». Маас, по словам Лампе, «пришёл в восторг, сказав, что это
«чертовски прекрасное — »hundeschöne« — произведение» и соби-
рался позднее ходайствовать по поводу его у Фишера». * С издатель-
ством С. Фишера, судя по всему, дело не сладилось, но, благодаря
всё тому же В. Херману, Лампе познакомился со своим будущим
издателем и работодателем Эрнстом Ровольтом, владельцем одно-
имённого издательства, отличавшегося широтой взглядов и склон-
ностью к литературе высокого образца. В 1937 году Лампе занял
пост редактора в издательстве «Ровольт», но вскоре, после того как
издательство было экспроприировано нацистами, а сам Ровольт
с семьёй благополучно перебрался в Англию, Лампе уволили, и все
последующие годы он продолжал редакторскую деятельность
в издательствах «Говертс», «Дидерихс» и «Хенссель».
Становление Фридо Лампе как писателя формировалось под
мощным воздействием как классиков немецкой литературы,
начиная от Хёльти и кончая Штифтером, так и немецких авторов
XX века — Гофмансталя, Тракля, Рильке, Кафки, Роберта Вальзе-
ра, а также под воздействием мировой и особенно современной
литературы. В нём уживалось трепетное понимание литературы
рококо и барокко и восторженное упоение французской и амери-
канской литературой 20-30-х годов. Столь основательные штудии
должны были бы привести Лампе в лагерь консерваторов, однако
молодой писатель, как истинный сын своего века, начинает свой
путь в литературу с чистого листа, игнорируя все установления
предшественников, хотя по сути своей, следуя именно их заветам,
заветам первопроходцев, среди которых был и его любимый Гуго
фон Гофмансталь, который «испытывал необъяснимое раздражение
1 Цит. по: Hoffmann AS. 52.
779
от одного произнесения слов «идеал», «душа», «тело», затрёпанных
до невозможности.1
В какой-то мере свои представления о творчестве Фридо Лампе
изложил в незавершённом прозаическом тексте «Кризис. Письма
двух поэтов» (»Krise. Briefe zweier Dichter«),2 написанном прибли-
зительно в 1942/1943 годах, в связи с постоянно возникавшими
в эти годы на страницах журналов «Иннере рейх», «Нойе литератур»
и «Нойе рундшау» дискуссиями о романе и впервые опубликованном
только в 1996 году.3 Текст этот можно рассматривать как некий
авторский комментарий ко всем произведениям Лампе, как своего
рода защитную речь против обвинений во многих грехах, припи-
сываемых ему нацистами.
Обрисовав ситуацию духовного застоя, отрыва творчества
от реальной жизни, один из авторов письма, Эрнст, заявляет:
«Нужно покончить со всякой романтикой, за борт все традиции
и шаблоны, весь этот унаследованный старый хлам, я хочу начать
писать по-новому, начать с меня. Я хочу изображать мою собствен-
ную действительность, даже если она и скромна, безобразна и сом-
нительна, и изображать её я хочу самыми простейшими словами,
не прибегая к стилизации, не возвышая её, описывая её нашим
повседневным языком, я хочу писать так, как я говорю и чувствую,
и если я говорю и чувствую плохо, ну что ж, тогда мне придётся
писать тоже плохим языком». В качестве обоснования такого реши-
тельного отказа от творческого наследия прошлого автор письма
заявляет, что «традиционные формы рассказа и романа больше
не охватывают наше мироощущение, они насилуют и опрощают
его, мы больше не можем изображать какое-либо законченное дей-
ствие, которое начинается здесь, а кончается там, изображать его
прямолинейно, по всем правилам искусства его построения, где
всё связано, таким обозримым и устроенным мир больше для нас
не является. Для нас ничто не начинается и ничто не кончается,
каждое отдельное действие есть только волна в некоем огромном
потоке жизни, который нескончаемо течёт, необозрим и ещё более
1 Гофмансталь Г. фон. Письмо [лорда Чэндоса] // Гофмансталь Г. фон. Избранное.
M., 1995. С. 522.
2 Впервые этот текст был опубликован в журнале «Хорен» в 1996 г. под названием
«Мы, поэты, слишком много придумываем...» (Wir Dichter flunkern zuviel... //
Hören, 1996. Nr. 181. S. 149-151).
3 Hoffmann A. Op. cit. S. 13.
780
непонятен нам».1 И далее Лампе высказывает самое важное из того,
что определяет его творческий метод постижения этой непонятной
действительности: «Форма наших произведений открытая: здесь она
случайно начинается, здесь она случайно заканчивается, но поток
несёт её дальше, и всё единичное является только символом общего,
и только общее, этот огромный ковёр жизни, интересует нас. Мы
больше не хотим рассказывать о полных приключений необычных
судьбах. Почему? Всё то, что происходит на каждом углу, в каждом
доме выглядит намного примечательнее, это устраивает нас, и мы
хотим это описывать таким, каким оно есть, потому что жизнь
в большинстве случаев выглядит совсем иначе, чем в обычных
романах... Мы должны пропускать, вырезать лишние переходные
состояния, выдвигать на первый план существенные моменты.
Наши комбинационные способности, наши возможности воспри-
ятия так повысились и так усовершенствовались, наше чувство
с помощью фильма так научилось воспринимать в быстром сое-
динении и угадывании молниеносно вспыхивающие причинные
связи, что уже достаточно кратких намёков».2
Адресат Эрнста, Альберт, поддерживая его позицию, пред-
лагает усилить её за счёт нахождения точки соприкосновения
«действительности и поэзии» с тем, чтобы возникшее единство
не превратилось «в банальный натурализм, никакого репортажа,
но и не бегство в некую романтику. Поэты не должны больше при-
думывать, а говорить только правду, собственную, единственную,
исторически ими переданную правду, и должно быть одновременно
прекрасным то, что она говорит, без фальши, без преувеличения
и приукрашивания — свято будничной».3
Подобный способ восприятия действительности давал Лампе
надёжный инструментарий представить реальный мир во всём
его многоликом и опасном, но одновременно и притягательном
виде. Именно такой эта действительность в прямом и переносном
смысле предстала в первом романе Лампе «На краю ночи». В пись-
ме своему другу Иоганнесу Пфайферу Лампе так охарактеризовал
своего первенца: «Это небольшая книга. Довольно причудливая
вещь. Несколько часов, примерно, с 8 до 12 в портовом кабачке,
я имею в виду квартал Бремена, где я провёл мои детские годы.
1 Lampe F. »Wir Dichter flunkern zuviel...« // Die Hören. 1996. Nr. 181. S. 149-150.
2 Ibid. S. 150.
3 Ibid. S. 151.
781
Совершенно маленькие, фильмообразно проскальзывающие, пере-
плетающиеся друг с другом сцены, построенные согласно словам
Гофмансталя: «Многие судьбы я ощущаю рядом с моею судьбой, без
разбору играет ими всеми жизнь». Всё полно лёгкости и текучести,
едва связано, живописно, лирично, сильно передаёт атмосферу...
По содержанию эта книга затрагивает некоторые щекотливые
проблемы».1
Действительно, роман «На краю ночи» совсем не отвечает обще-
принятому представлению о романе как таковом. Несмотря на то,
что в нём насчитывается около сорока действующих лиц, все они
появляются лишь эпизодически и не влияют на формирование фабу-
лы романа, которой, собственно, и нет. Главное действующее лицо
романа — это ночь, выступающая не столько как явление природы,
сколько как символическое выражение состояния полумрака души,
того, что таилось в человеке и выплеснулось наружу во всём своём
неприглядном, но естественном по своей сути проявлением внутрен-
него позыва, таившегося до поры и дождавшегося, наконец, сумерек
сознания, когда можно без стеснения заявить о себе. Более того, ночь
является и символом смерти, а с ней и времени. Не случайно, что
основными персонажами этого калейдоскопического, но очень точно
выверенного повествования являются люди, находящиеся на излёте
своей жизни, они как бы доживают отпущенный им судьбою срок,
изживая себя по инерции, не замечая того, что это состояние срод-
ни холостому ходу машины, и, вероятно, поэтому им кажется, что
«слишком медленно тащится время к концу».2
Портовый северогерманский город, вернее, сам порт, живущий
самостоятельной жизнью, является олицетворением безрадостного
существования героев романа Лампе. Вереница свершившихся
судеб, представленная в искусно смонтированной цепочке случай-
ностей, образует одно целое, которое создаёт гнетущую атмосферу
незаметного, неслышного умирания, нарушаемого по инерции неки-
ми конвульсиями, вроде взрыва ярости стареющего борца Хайна
Дикмана при виде атлетически сложённого тела молодого сопер-
ника, ярости, выливающейся в форму эротического наслаждения
от нанесения диких ударов ему, отказавшемуся от предложенной
дружбы, ибо только так теперь этот старый, обрюзгший борец может
удовлетворить свою гомоэротическую страсть, о существовании
1 Graf J. Nachwort // Lampe F. Am Rande der Nacht. Göttingen, 2003. S. 165.
2 Lampe F. Am Rande der Nacht. S. 41.
782
которой он и не подозревал, и которая проявилась как некое интро-
вертное осознание конца его спортивной карьеры; или попытки
Берты каким-то образом разнообразить скуку пустой брачной
жизни, сходясь, походя, то с рулевым прогулочного пароходика,
то с негром; или бесконечные встречи таможенного инспектора
и школьного учителя в беседке перед многоквартирным домом,
в ходе которых они обмениваются почтовыми марками: для учителя
марки являются заменой путешествий в дальние страны, кото-
рые ему не по карману, а для инспектора, вдовца,— возможность
поговорить с кем-то, равным ему по социальному уровню, ибо,
например, с продавцом сосисок, при всём дружеском отношении
к нему, инспектор может только переброситься короткими, незна-
чащими фразами, и даже сосиски, купленные у него, инспектор
предпочитает есть не у стойки киоска, а отдельно, сидя на скамейке
в соседнем парке.
Лампе показывает завораживающую духоту жизни портового
города изнутри во всей её бездуховности, обыденности, бесчеловеч-
ности, и это притом, что самими персонажами романа такая жизнь
воспринимается как должное. Затхлая будничность скрашивается
ночным варьете да прогулками перед стоящим у причала теплохода
«Аделаида», манящего к себе морем огней. Надвигающаяся ночь
с её таинственностью, загадочностью выступает в романе Лампе
как некое замещение жизни современного человека, как некая
форма проявления истинных чувств, скрываемых при резком
свете дня, и поэтому она представлена на страницах романа как
всепоглощающая сила, могущая изменить на какое-то время мир
до неузнаваемости, придать самому захолустному месту завлека-
тельный вид: «День прошёл, и ночь уже заявила о себе, какая-то,
важная-неважная, непроглядная, тёплая сентябрьская ночь, она
предстала во всей своей полноте. Широко и бурно захватывала она
всё вокруг себя. Она заполнила улицы и сады, гнездилась на дере-
вьях и в кустах и будоражила своим тепловатым дыханием листву
и волочила пронизывающие траву и цветы запахи по улицам.
Она опустилась в садах, прудах и рвах, нависла над гаванью, над
рекой и сгустилась под арками моста. С глухим шумом журчала
вода под устоями арки. И город пытался хоть как-то вытеснить
ночь — с помощью фонарей и дуговых ламп, музыки и разговоров,
но ночь была сильнее. Она заполняла всё, она охватывала и дово-
дила всё до предельного состояния темноты. Она была той мягкой,
текучей, полной основой, на которой всё покоилось, в которую всё
783
погружалось, она растворяла члены людей и делала их усталыми
и насыщенными. Многие теперь спали,., но многие только теперь
по-настоящему оживали ночью. Женщины выходили на улицы
гавани и смотрели по сторонам. Они подмигивали и зазывали. Они
стояли под фонарями и около афишных столбов. Большие дуговые
лампы излучали лиловый и белый свет. Заполнялись пивные заведе-
ния, покачивались, когда открывались двери, бумажные фонари,
и оттуда раздавалось тонкое и резкое дребезжание электрического
пианино. На жёстких диванах, покрытых плюшем, сидели парочки,
улыбались и обнимали друг друга. Мужчины и женщины толпились
перед кассой «Астории». Они проходили под аркой ворот в сад.
Там они сидели за столиками, пивные кружки перед собой, сигары
во рту, и ожидали начала представления. Кругом бегали кельнеры,
одетые в красные пиджаки стройные бои с косо надвинутыми
шапочками и с бледными детскими лицами предлагали табачные
изделия и шоколад».1
Своеобразная идиллия стабильного времяпровождения совре-
менного человека соседствует с идиллией времён мещанского
«Гартенлаубе», буквально воспроизводящей картинку с обложки
этого журнала. В беседке, увитой листьями деревьев, при свете
керосиновой лампы, «распространявшей тёплый, жёлтый свет»,
г-н Хеннике, учитель географии, ставший им только потому, что
«любил дальние страны», но так «никогда и не выезжал за пределы
родного города», читал двум своим сыновьям (делал это он каждый
вечер) книги о путешествиях. Прелесть этого вечера, несмотря на то,
что на соседнем этаже умирал старый человек, дополняла музыка
Баха. Сосед с верхнего этажа играл на флейте. Днём же г-н Хен-
нике пропадал на территории порта, ибо мечты о дальних странах
не оставляли его, и, вероятно, на всякий случай он знал расписание
пароходных рейсов. Прервав чтение, он сообщил детям: «Сегодня
в половине двенадцатого отходит „Аделаида"».2
В описании этого вечера ощущается и лёгкая ирония, и печаль,
и констатация того, что прошлое отступает перед напором горо-
да, что исчезает человеческое общение. Не случайно таможенный
инспектор, придя в гости к учителю Хеннике, снимает униформу
и говорит: «Здесь можно почувствовать себя человеком».3 В этих
1 Lampe F. Op. cit. S. 42-43.
2 Ibid. S. 31.
3 Ibid. S. 34
784
и подобного рода пассажах, не говоря уже о тонких описаниях
природы, выражается близость Лампе к народнической идеологии
журнала «Колонне». Недаром среди его друзей были такие авторы
как X. Ланге, О. Шэфер, разделявшие его эстетические взгляды.
Но именно близость, а не полное погружение в глубины народ-
нической идеологии характерна для творчества Лампе, ибо основное
внимание писатель уделяет поэтике города. Не случайно в его про-
изведениях город всегда выступает как некое живое и таинствен-
ное существо, которое обладает магической притягательной силой,
и это, по словам Петера Хэртлинга, известного поэта, «отделяет
Лампе от натурлириков, вроде Лемана, Кролова, Хухеля, потому
что детали у него никогда не бывают только выражением приро-
ды, они зачастую связаны с асфальтом, они очень часто имеют
урбанистский характер... Если бы существовал термин „романтик
города", то Лампе принадлежал бы к их числу».1 Правда, романтика
города у Лампе далека от идиллии как таковой, она всегда полна
опасностей, искушений, соблазнов, и эти свойства города с особой
силой проявляются именно в предночные часы. Оказывается, что
мир человеческий состоит не только из переживаний упоитель-
ных вечеров, из милых пустячков повседневного быта, он полон
и волнующих приключений, порождённых, помимо воли человека,
стремлением обрести чувственное наслаждение, выходящее за рам-
ки общепринятого, которое порой оборачивается для человека
страданием, большими бедами. В этом смысле особенностью романа
«На краю ночи» является достаточно заметное описание проявле-
ний эротического и гомоэротического свойства, что, собственно,
и привело к запрету этого романа нацистами. И дело тут не столько
в личной приверженности самого Лампе гомосексуализму (он под-
вергался шантажу на этой почве, что по тем временам грозило ему
заключением в концлагере), сколько в намерении его продолжить
традиции берлинской городской, если можно так выразиться, лите-
ратуры времён Веймарской республики, традиции Эриха Кестнера
(«Фабиан», 1931), Франца Хесселя («Таинственный Берлин», 1927),
исполненной желанием передать атмосферу необъяснимого вле-
чения к запретному, которое в его интерпретации обретает черты
некоего хождения по мукам, и конца этим мукам несть.
Примечательна история стюарда Фрица Бауэра, бывшего сту-
дента, ставшего жертвой садистских гомоэротических наслаждений
1 Цит. по: Die г king J. Neunundzwanzig Einladungen, Friedo Lampe zu lesen //
Die Hören. 1996. Bd. 1. S. 138.
785
капитана «Аделаиды». Два пассажира корабля, Оскар и Антон,
бывшие сокурсники Бауэра, стали свидетелями того, как капитан
издевался над стюардом, заставляя его петь и танцевать перед
ними: «Бауэр посмотрел на Антона. Его взгляд говорил: пожалуйста,
простите меня, но я иначе не могу. Я вынужден это делать. И я хочу
это делать. Он хочет, и я хочу, это и срам, но и наслаждение. И крот-
ко, и печально, и измученно, и чувственно смотрели его глаза. Он
положил руки на бёдра и начал двигаться в такт музыке. И тут он
ещё раз посмотрел на Антона и Оскара».1 Едва начав танец, Бауэр
со слезами убегает на кухню, и только там его бывшие сокурсники
узнают причину издевательств капитана над ним: «Видите ли, если
кто-то плавает всё время один по морям и не может взять с собой
жену, тогда ему приходиться стать извращенцем».2 Сверкающий
яркими огнями пароход, предмет восхищений и вожделений многих
горожан, на поверку оказывается средоточием страданий и изде-
вательств, а сама гомосексуальная страсть становится неотврати-
мым, хотя и искренне ненавидимым желанием. Несмотря на то, что
Бауэр по совету его бывших сокурсников собрался было покинуть
пароход, но ничего не смог поделать с собой, и в конце романа он
снова оказывается на пароходе.
Уже упоминавшийся борец Хайн Дикман также тяготится
своим неожиданно вспыхнувшим влечением к молодому сопернику
Альваросу, но это влечение, хотя нельзя отрицать и наличие у его
латентной приверженности к гомосексуализму, не есть порожде-
ние его сознательной гомоэротическои ориентации, а результат
осознания конца своей карьеры, осознания прихода старости,
прихода конца жизни, и этим настроем он естественно вписыва-
ется в череду отживающих свой век персонажей романа: «Он так
прекрасен,— сокрушался Хайн,— он так прекрасен и так молод,
а я стар и низок. Этого я не могу вынести. Я не могу с ним тягаться...
Когда я смотрю на него и вижу, что я не такой как он, я хотел бы
влезть в него, влезть в его тело, я хотел бы всё это сам иметь — это
тело, эту кожу, эти волосы. Я настоящее дерьмо. Тьфу, пропасть!»3
Попытка Дикмана заключить с Альваросом дружеский союз
натолкнулась на резкий отказ, и тогда весь ужас надвигающе-
гося конца находит своё выражение на сцене кабаре «Астория»
1 Lampe F. Am Rande der Nacht. S. 67.
2 Ibid. S. 69.
3 Ibid. S. 80-81
786
в прилюдном акте дикого садомазохистскогого приступа. «Сделав
несколько удачных борцовских приёмов, Дикман опрокидывает
Альвароса на спину: „Вот он и лежит подо мной. Что, ты этого
не хочешь? Разве ты теперь, наконец, не мой маленький мальчик?
О, не гляди с такой злостью. Будь поласковей! Ну-ну! Что за нежный
парень попался мне"... Он катался по Альваросу, смеялся, что-то
говорил про себя, быстрыми движениями ощупывал тело Альвароса:
„Ну, собираешься ты стать теперь моим любимым маленьким маль-
чиком?" — спросил он угрожающе, набычившись глядя на него. „Ты,
собака!" — прокричал Альварос.— „Так собираешься ты стать моим
любимым маленьким мальчиком?" — „Нет!" — „Хочешь?" — „Нет!" —
„Ты хочешь, ты хочешь, ты хочешь!" — повторял он в бешенстве.—
„Ты, скот!"... И тут Дикман, с красным лицом и выпученными
глазами, приподнялся на мгновение, держа перед собой Альвароса,
и внезапно принялся колотить своими толстыми кулаками по лежа-
щему перед ним телу, тяжело дыша и с отчаянием: „Ты прекрасный
юноша, ты низкий прекрасный стервец, ты не хочешь? Так полу-
чай же, на, на, на тебе..." Он бил Альвароса по лицу, так что кровь
лилась у него из носа, бил по губам, так что они начали трескаться,
бил по груди, по всему телу. Альварос пытался подняться, но удары
с силой швыряли его на пол.
Затем Дикман навалился на него всем телом, совсем плотно,
приблизив свои губы к окровавленным губам Альвароса: „Мой маль-
чик, мой дорогой мальчик, прекрасный бедный мальчик". После
этого он, потеряв сознание, отвалился в сторону, его глаза закати-
лись, и тогда стоящие вокруг люди смогли, наконец, оттащить его
в сторону и освободить Альвароса. Издавая стоны и хрипы, он лежал
на полу, измазанный кровью и потом, избитый и исцарапанный».1
Эта дикая садомазохистская сцена является своеобразным
зеркальным отражением судьбы Ашенбаха из новеллы Томаса Ман-
на «Смерть в Венеции». В обоих случаях речь идёт о завершении
карьеры, о жизненном конце обоих персонажей, происходящем
в различной духовной плоскости, и конец этот для каждого из них
совершенно неожиданно выражается именно в гомоэротической
плоскости. Если Ашенбах — это воплощение изысканного дека-
данса, а Тадзио — недосягаемая мечта (и это притом, что в основе
новеллы лежит ирония), то Дикман и Альварос суть приземлённые
1 Lampe F. Am Rande der Nacht. 126-128
787
участники несостоявшегося эротического схождения. Пришли дру-
гие времена, другие нравы, и поэтому Дикман предстаёт в своих
проснувшихся эротических желаниях в виде брутально действую-
щего фавна, а Альварос — в виде самовлюблённого красавчика,
занятого во время признания в любви к нему местной девицы
выдавливанием прыща на спине.
Не менее откровенной выступает и сексуально обозначенная
картина вожделения Берты соития с негром: «Его тёмное блестящее
лицо было совсем рядом с Бертой. Он смотрел на неё. Определённо
эта коричнево-голубоватая кожа пахнет, этот запах пронизывает
его туго вьющиеся волосы особенно резко, подумала Берта. Насме-
шливо улыбаясь, негр раскрыл толстые губы — о, какие крепкие
зубы, глаза блестят. Берта уставилась на это лицо, на этот мясистый
рот, в эти плавающие глаза. „Да, такой негр, вероятно, это было бы
то, что надо, да?", — сказал рулевой. Берта посмотрела на него
застывшим взглядом. „Было бы", — выговорила она хрипло».1
На этом фоне только дети остаются естественными персо-
нажами, которые заняты своими детскими делами, и только они
по-настоящему ощущают магическую таинственность окружаю-
щего мира. Именно с ними связаны пассажи романа, касающиеся
их встречи с животным миром, который безраздельно определяет
поэтику детского восприятия действительности,— это и пара
лебедей, живущих в городском рву, игнорируя соседство крыс; это
и сами крысы, воспринимаемые детьми как олицетворение зла; это
и такса, не желающая поддаваться дрессировке, но выполняющая
спонтанно все требуемые от неё кунстштюки, слыша пение своего
хозяина, Адди, сына фокусника, подвергавшего его ради денег
опасным для здоровья ребёнка психологическим опытам. Дети
в романе Лампе естественны в своих природных проявлениях,
и не случайно, что именно они, каждый по-своему, выражают
протест против мерзостей реальной жизни.
Собственно побоищем в «Астории», неудавшимся побегом сына
фокусника, возвращением стюарда на корабль, и романом Берты
с негром заканчивается идиллия ночного города, в которой нет
ничего идиллического, а только проза, грязная проза действитель-
ности. Несомненно, отчасти роман «На краю ночи» является свое-
образной сублимацией гомоэротических фантазий Лампе, но фан-
тазий горьких, не приносящих ни удовлетворения, ни облегчения.
1 Lampe F. Am Rande der Nacht. S. 81.
788
Но ещё в большей степени этот роман представляет собой некую
панораму общественного сознания в преддверии прихода к власти
нацистов, которую можно сравнить по своей резкой контрастности
и откровенности в значительной мере с картинами Георга Гросса.
Обыденное и тривиальное, представленные в необычном ракурсе,
создают атмосферу другой жизни, которая остаётся за пределами
традиционной литературы, а тем более литературы, привечавшейся
нацистами, отвергавшей индивидуальность как таковую во всех её
проявлениях в свете декларируемой ими «национальной общности».
Аксель Эггебрехт, оказывавший в годы нацизма существенную
помощь молодым авторам, вспоминает об одном разговоре с Лампе,
к которому он относился с некоторым предубеждением, считая его
примыкавшим к лагерю правых: «В разговоре с глазу на глаз... он
анализировал в весёлой тональности самого себя. И я увидел в этом
разговоре явно определённые черты, которые я связал с идеалами
фёлькиш-националов, с немецкой верностью сокровенной душев-
ности и тому подобное. Но я заблуждался. Он боролся по-своему
против варварства, выдававшего себя в качестве нового. Он как
раз пытался спасти то, что громыхающие барды уничтожали —
различие, индивидуальность, сломленные характеры, отчаявшихся.
Мне стало немножко стыдно за себя. С тех пор я воспринимал его
серьёзно, хотя и считал его тихую оппозицию неэффективной».1
Конечно, оппозиция такого рода мало значила в борьбе против
нацизма, но даже она вызывала недовольство чиновников от лите-
ратуры, потому что повседневность, таящая в себе огромный запас
жизненного материала, обретает у Лампе некую магическую силу
воздействия, когда каждый предмет, каждая незначительная деталь
начинает жить самостоятельной жизнью, раскрывая внутреннюю,
потаённую картину человека, соприкасающегося с этими предме-
тами. Подобная манера письма явно не вписывалась в парадигму
одномерного человека тоталитарного государства.
При всей многоплановости романа персонажи его сосредото-
чены около четырёх-пяти связующих пунктов: варьете «Астория»,
сосисочный киоск, городской парк, пароход «Аделаида», сад перед
многоквартирным домом. Лампе методично и незаметно сводит
и переплетает пути своих персонажей, ища возможные варианты
установления контактов, как бы примеривая ту или иную ситу-
ацию к каждому персонажу. Такого рода чередования эпизодов
1 Цит. по: Kalka J. Ratten und Schwäne // Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08.01.2000.
789
напоминают движение кинокамеры, глаз которой фиксирует
события, происходящие на одном и том же месте с различными
людьми и различно воспринимаемые ими.1 Этот стилистический
приём рассмотрения действительности в силу его авангардисткой
направленности сам по себе, не говоря уже о необычно свободном
обращении Лампе к сексуальным проблемам, выходил за рамки
общепринятого топоса фёлькиш-национальной литературы с её
дотошной приверженностью литературе прошлого со всеми её
эстетическими и поэтологическими установками и должен был
вызвать критику нацистов.
Другая особенность письма Лампе, вызвавшая, надо полагать,
неудовольствие нацистских цензоров, заключалась в стремлении
писателя мгновенно передать всю полноту того или иного мини-сю-
жета не в развёрнутом описании всего того, что может быть с вязано
с ним, а в фиксации, в монтаже отдельных, наиболее значимых его
проявлений, которые, как это ни странно, лучше передают дина-
мику происходящего в данный момент. Не случайно некоторые
критики тех лет связывали его манеру письма с манерой письма
Джона Дос Пассоса, упоминая его роман «Манхэттен Трансфер»
(1925, немецкое издание — 1927),2 что также не поддерживалось
критикой тех лет.
Столь откровенные и необычные картины повседневной дей-
ствительности, определённая близость прозы Лампе к «литературе
асфальта» вызвали ненависть нацистов. Однако Лампе выступает
в этой истории как мальчик для битья, потому что основной удар
направлен был против издательства «Ровольт»,3 чья деятельность
1 Такой метод рассмотрения действительности проявится впоследствии в первом
послевоенном романе В. Кёппена «Голуби в траве» (»Tauben im Gras«, 1951), где
всё повествование сосредотачивается около трёх-четырёх пунктов: пивной дом,
перекрёсток главной улицы, Американский клуб, гостиница. Кёппен методично
и незаметно сводит и переплетает пути своих персонажей вокруг этих пунктов, ища
возможные варианты установления контактов между ними, как бы примеривая
ту или иную ситуацию к каждому из персонажей. Как опытный кинооператор,
Кёппен находит всевозможные способы сцепления, чтобы осуществить переход
от одного объекта к другому, добиваясь достоверности случайного соединения
персонажей романа, обусловленности ходом развития повествования их появ-
ления в том или ином месте. Все последующие произведения Кёппена написаны
именно в таком духе.
2 GrafJ. Op. cit. S. 176-177.
3 На это указывает Ф. Лампе в своём письме от 06.01.1934 г. Эрвину Акеркнехту
(Hoffmann A. Op. cit. S. 53). Догадка Лампе подтверждается письмом В. Хермана,
790
не вписывалась в общую картину издательской политики наци-
стов, да и сам владелец издательства, Эрнст Ровольт, держался
по отношению к властям довольно независимо, находясь постоянно
в натянутых отношениях с Имперской палатой письменности, что
в конечном итоге привело к исключению его из её рядов.1
Если современную американскую литературу (а Ровольт тяготел
к ней) с её открытостью и бескомпромиссностью в изображении
всех проявлений жизни нацисты ещё терпели из политических
соображений, хотя и обрушивались с критикой на произведе-
ния отдельных авторов (например, на Томаса Вулфа по поводу
«натуралистических изображений отвратительного и гнусного»),2
то нечто подобное (в их представлении) в немецкой литературе было
недопустимо. Хотя в издательском уведомлении, опубликованном
в октябре 1933 года, подчёркивалось, что в романе молодого автора
«происходят вещи, которые случаются повседневно,— уродливые
и трогательные, захватывающие и спокойные», и эта «меланхо-
лическая, прекрасная книга созвучна вневременным (реверанс
в котором он сообщает Лампе о выступлении на открытии книжной ярмарки
представителя протестантского издательства «Брунненферлаг» некоего Бишоффа,
который заявил, что «подобные книги не могут быть терпимы в Третьем рейхе»,
но, как считает автор письма, это «выступление направлено не столько против
автора, сколько против издателя этого романа».
1 Писатель Эрнст фон Заломон, бывший одно время редактором издательства
«Ровольт», рассказывает в своей книге «Анкета» (»Der Fragebogen«, 1951) об отно-
шениях между Ровольтом и Имперской палатой письменности, и рассказ этот
интересен ещё и тем, что он достаточно ярко раскрывает культурный уровень этого
учреждения. Ровольт издал книгу Урбана Рёдля о классике австрийской литера-
туры Адальберте Штифтере. Палата удивилась, почему Штифтер не был членом
Имперской палаты письменности, на что Ровольт популярно объяснил чиновникам,
кто такой Штифтер и почему он не мог быть членом палаты. Тогда они спроси-
ли, почему Рёдль не был членом Палаты письменности, на что Ровольт спокойно
объяснил им, что иностранные писатели — Рёдль был гражданином Чехослова-
кии — не могут быть членами Имперской палаты письменности. После того, как
немецкие войска заняли Судетскую область, выяснилось, что настоящее имя Рёдля
было Бруно Адлер, который был известен как журналист левой направленности,
да к тому же ещё и еврей по национальности. Но окончательно Ровольт доконал
Палату письменности тем, что отказался уволить свою секретаршу Плошицкую,
проработавшую в издательстве восемнадцать лет, на том лишь основании, что
она еврейка. Ровольту это стоило исключения из Имперской палаты письменности
(Salomon E. von. Der Fragebogen. Reinbek bei Hamburg, 1967. S. 282-283).
2 Цит. по: Schäfer H. D. Das gespaltene Bewußtsein. Deutsche Kultur und Lebenswirk-
lichkeit 1933-1945. München, Wien. 1982. S. 17 — Scherg K. [Thomas Wolfe »Von Zeit
und Strom«]. In: Klingsor 14.01.1937. S. 38.
791
в сторону цензуры.— Е.З.) произведениям Гофмансталя, Эдуарда
Кайзерлинга и Германа Банга»,1 в декабре 1933 года, роман Ф. Лам-
пе «На краю ночи» был запрещён.2
Запрет романа Лампе, а также полицейская акция по изъятию
нераспроданных экземпляров книги, привели к тому, что вся пресса,
за редким исключением, замолчала появление первенца писателя.
Известны две небольшие рецензии. Одна статья появилась в лите-
ратурном приложении к «Кёльнише цайтунг» (14.01.1934), автор
которой Вальтер Шмитс восторженно писал: «В этой превосходно
написанной, лишённой каких-либо искусных изысков книге сочета-
ются дар острого, деловитого наблюдателя с сильным, мрачновато
окрашенным лирическим талантом».3 Другая статья, появившаяся
в еженедельнике Пауля Фехтера «Дойче цукунфт» 27.05.1934 года,
правда, анонимная, буквально пела осанну роману Ф. Лампе «На
краю ночи»: «Злые и добрые, громкие и тихие вещи происходят
на краю ночи, которая молчаливо и таинственным образом вби-
рает в себя и скрывает под своим покрывалом. Необычная книга?
Конечно! Но это такая книга, которая обращает на себя внимание
и заставляет с напряжением ждать нового произведения».4
Судя по всему, Лампе придавал очень большое значение роману
«На краю ночи», если после запрета его предпринял необыкновенно
смелые для того времени шаги для того, чтобы добиться отмены
этого запрета, написав письмо на имя Вольфганга Херрмана, веду-
щего чиновника берлинской городской библиотеки по составлению
списков запрещённой литературы. Это было своеобразное пись-
мо-признание, которое, благодаря дружескому отношению к нему
Херрмана, осталось без последствий. В ответном письме он сообщил
Лампе, что его личные проблемы не являются причиной запрета
книги, и что он собирается встретиться с ним в Берлине «не для
разговора об отвратительных зелёных глазах крыс и не о гнойных
прыщах на спине и прочих деликатесах подобного рода», а обсудить
1 Vorankündigung des Rowohltsverlags // Börsenblatt des deutschen Buchhandels.
Nr. 250. 26.10.1933. S. 4924.
2 Liste 1 des schädlichen und unerwünschten Schrifttums, bearbeitet und hrsg. vom
der Reichsschrifttumskammer. Stand Oktober 1935. S. 71.
3 Цит. по: Ein Autor wird wiederentdeckt. Friedo Lampe 1899-1945. Bremen, 1999.
S. 72.
4 »l«. Am Rande der Nacht (Friedo Lampe) // Deutschte Zukunft. Berlin, 27.05.1934.
792
с ним план его будущего романа, который станет «смачной книгой
о штурмовиках».1
Такой книги Ф. Лампе не собирался писать, но, памятуя
печальный опыт его первого романа, постарался в следующем
своём произведении, в повести «Сентябрьская гроза» (1937), свести
к минимуму все интенции, присущие «литературе асфальта», при
сохранении авангардистского начала.2 Лампе пришлось, по совету
своего друга Иоганнеса Пфайфера, изменить даже названия улиц
и зданий, могущих хоть в какой-то степени напоминать о Бремене,
ибо жители этого города, недовольные изображением его как вме-
стилища порока, внесли свой вклад в запрет романа «На краю ночи».
В известной мере новое произведение Лампе является своего
рода уходом во «внутреннюю эмиграцию», уходом из большого
города, уходом в чистую идиллию Германии времён последнего
кайзера, однако прежний тревожный настрой, хотя и несколько
смягчённый, продолжает определять тональность этого неспешного
повествования. Идиллическое описание маленького городка сра-
зу же подвергается сомнению. Когда Тина, восхищённая увиденным
с воздушного шара, говорит: «Как мирно смотрится всё это там,
как идиллически они живут там», то её отец тут же произносит,
казалось бы, обычную фразу, которая задаёт тон всему повество-
ванию: «Так, наверное, выглядит всё только сверху».3
Собственно, и внизу всё выглядит достаточно идиллически,
только эта идиллия обманчива, она лишена жизнеутверждающего
начала, и всё, что потом будет происходить в этом сонном царстве,
потеряет своё внешнее очарование: «Душный полдень бабьего лета,
весь в пышном цвету, безветренный и тяжёлый, и наполненный
в своей основе. По-прежнему, всё плотнее сливались сады, всё
1 Цит. по: Graf J. Op. cit. S. 173.
2 Вообще-то в первом издании романа «Сентябрьская гроза» речь шла о том, что
англичанин Пенкок решил на спор пролететь на воздушном шаре из Оснабрюка
до южных берегов Англии. В полёте его должны были сопровождать дочь Мэри
и некий руководитель полёта. В состав романа входил также рассказ Лампе «На
маяке». Но в 1944 г., когда Германия подвергалась постоянной бомбардировке
англичанами, Лампе, готовя роман к переизданию, заменил англичанина Пенко-
ка на датчанина Гюльденлёве, Мэри переименовал в Тину, а маяк, указывавший
на Дувр, стал теперь указывать путь на Фанё, в Данию. Именно этот вариант
романа и стал основополагающим.
3 Lampe F. Septembergewitter // Lampe Friedo. Das Gesamtwerk. Hamburg, 1955.
S. 121.
793
выше буйно разрасталась трава, всё глуше становился воздух в тём-
ной густоте листвы. Затхлые, занавешенные, мерцающие золотом
гостиные, обставленные мебелью красного плюша, на подоконнике
миски с простоквашей, холодные, покрытые золотистой сметаной,
большие жужжащие мухи над окороками и колбасами в кладовке,
запах яблок, разложенных в подвале на деревянных бортах. Брен-
чание рояля, раздающееся из открытого окна по тихой, мёртвой,
купающейся в солнце улице, и цветы, понуро обвисшие на могилах
кладбища св. Эгидия, и большие бабочки лениво проплывающие
над ними. Лебеди во рву перед крепостным валом, спокойно пла-
вающие по нему и окунающие свои шеи в прохладную коричневую
воду, белый прогулочный пароходик идёт вниз по реке, видно как
сквозь зелень лугов, лежащих на островке, проплывает жёлтая
пароходная труба и слышен шум пароходных колёс. Это такое
время, когда дети запускают змея. Они стоят на острове и дер-
жат в руках верёвку, а змеи спокойно парят в вышине в голубом
воздухе, только бумажные хвосты помахивают в разные стороны.
А на острове занимаются солдаты, над лугом и над рекой раздают-
ся слова команд и даже трескотня выстрелов, а из судовых доков
разносится по реке глухой шум молотков и пронзительные крики
со стороны купальни.
Это то время, когда хорошо в полуденный час посидеть в город-
ском саду перед швейцарским домиком за чашкой кофе и смотреть
на озеро Виктории и на луга и деревья и на поросшие зелёной пати-
ной фигуры наяд и тритонов, стоящие у реки. Военный оркестр
играет лихие марши, вальсы и попурри из оперетт, на музыкантах
голубые мундиры, а на воротниках золотые околыши, и трубы,
сверкающие на солнце. Когда оркестр кончает играть, на мгновение
становится тихо, и тогда можно услышать неторопливые разговоры
людей, сидящих за столиками, над деревьями пролетает и исчезает
в нежной голубизне неба большая чёрная птица, а издалека доно-
сится гудок паровоза».1
Вот, собственно, и всё содержание романа, если не считать кри-
минальной истории, связанной с убийством молодой учительницы,
которая несколько выбивается из хода неспешного повествования
и её раскрытие отнюдь не означает конца романа. Не она движет
повествованием, а именно это застывшее время, заполненное мно-
гочисленными мелкими событиями повседневности, которые ярче
1 Lampe F. Septembergewitter. S. 122-123.
794
всего характеризуют потаённую суть мнимой идиллии. Лампе, оста-
ваясь в пределах избранного им способа восприятия действитель-
ности, убедительно и красочно передаёт одуряюще сонную атмос-
феру настоящего и пронзительную ясность опасности грядущего.
Отсюда меланхолия, пронизывающая весь настрой романа Лампе,
ибо в этом городке, что бы с ним не произошло, всё останется без
изменений, и поэтому не случайно чуть ли не связующим звеном
всего повествования является городское кладбище. Оно определя-
ет тонус жизни не только обыкновенных бюргеров с их нехитрой
философией, но и людей творческих, которые, казалось бы, смо-
трят на жизнь шире, с опережением. Однако для писателя Кри-
стиана Рунге, обладателя такой знаменитой фамилии из синклита
немецких романтиков, «нет ничего прекраснее, чем прогуливаться
по кладбищу, рассматривать надгробия, читать надписи на них
и сочинять жизненные судьбы тех, кто лежит в земле, затоптанных
и забытых».1 Влечение к прошлому заводит Рунге так далеко, что
истинное творческое вдохновение он находит в пересказе, вернее,
в собственной интерпретации известного эпизода из гомеровской
«Одиссеи» — встречи героя поэмы с Навсикаей.2 Конечно, это
обращение к античности можно интерпретировать как некий уход
от бюргерского благополучного рая, но в этой интерпретации есть
и своя доля горечи, ибо вспыхнувшая любовь Навсикаи к Одиссею,
стараниями Афины мгновенно превращенного в юного красав-
ца, обречена на неудачу, потому что Одиссей спешит на родину,
на Итаку, и любовь его, если она и возникнет, обернётся обманом,
и никто в том не виноват, так как люди являются игрушками богов,
читай, судьбы. Поэтому и не надо новых исканий, достаточно того,
что оставили нам предки.
Оцепеняющий покой идиллии и кладбищенская умиротворён-
ность, определяющие состояние между жизнью и смертью не только
этого городка, но и всего времени, побуждают лейтенанта Харизи-
уса, чья невеста стала жертвой одного из жителей этого городка,
уехать отсюда куда угодно, хоть на край света, например в Камерун,
где он надеется найти занятие, достойное мужчины: «Я уезжаю...
Я не могу больше здесь находиться, это решено. Ещё много раньше
я был сыт по горло всем, что здесь происходит, и только она меня
ещё удерживала здесь... Я больше не могу выносить этот город. Ты
1 Lampe F. Septembergewitter. S. 142.
2 Ibid. S. 178-183.
795
только посмотри, что он из себя представляет,— такая давящая
затхлость, такая тупость, ничего не происходит, и всё это как-то
ползёт, куда-то тащится, и ещё эта тишина... Нет, такая жизнь
не для солдата».1
Слова лейтенанта обращены к его другу Яну Гэтьену, предво-
дителю мальчишеской банды, члены которой пытаются хоть как-то
скрасить свою, казалось бы, беззаботную жизнь, занимаясь поис-
ками убийцы невесты лейтенанта и местного хулигана, наводящего
ужас на девчонок, обрезая верёвки, на которых держатся бумажные
змеи. Он тоже хочет бежать вместе с лейтенантом из этого города,
и в его глазах идиллическая картинка этого города мгновенно, осо-
бенно после слов лейтенанта, теряет своё очарование — меняются
краски, размеры, привлекательность, и теперь «река отливает серым
металлическим блеском, город как бы затаил дыхание, толстые
деревья стоят неподвижно, темно-зеленые кипарисы эгидийского
кладбища, стоящие у реки, угрожающе уставились в беловатое
небо, и пароход, невзрачный и чёрный, без пассажиров, окутанный
чёрным дымом, с трудом пробирается по реке...»2 Здесь всё враж-
дебно Яну, и в его желании бежать отсюда проявляется не столько
тяга к приключениям, сколько нежелание повторить судьбу своих
родителей; «Я не хочу быть торговцем... Не хочу вообще быть таким,
какими были они».3
И даже малыш Мартин Хольман, добивающийся чести быть
принятым в банду Яна, для чего совершает первый в своей жизни
подвиг, поймав того самого хулигана, который обрезал у девчонок
верёвки, на которых они держали воздушных змеев, даже он,
получив ранение в борьбе с этим хулиганом и заслужив тем самым
право считаться полноправным членом банды (право это скреплено
его собственной кровью, растворённой в бокале вина), по-своему
стремится порвать если не с городом, то, по крайней мере, с клад-
бищем, куда его мать принуждает каждый день ходить на могилу
отца. Он любит его сильного, весёлого, деятельного, научившего его
плавать, живого, а не тело, погребённое в земле.
Бежит от кладбища и Антонио, сын итальянского скульптора
надгробий, бежит, пожертвовав любовью к внучке кладбищенского
1 Lampe F. Septembergewitter. S. 141.
2 Ibid. S. 141.
3 Ibid. S. 188.
796
смотрителя. Бегут все, кто не желает сродниться со смертью, ожи-
дать смерти, и это определяет настрой всего романа Лампе, кото-
рый, в известной мере, можно назвать, по аналогии с «Рабочим»
Эрнста Юнгера, отходной бюргерскому миру — как миру тихого сча-
стья, так и миру «интимного общения с литературой» (Г. Д. Шэфер).
Не случайно лейтенант Харизиус, услышав приближающиеся раска-
ты грома, предвещает уничтожение этого мира: «Да, гроза должна
здесь разразиться... Молнии должны сверкать и поджигать дома,
эти замшелые старые дома, война должна разразиться, жестокая
и страшная и очищающая, и своей железной метлой она должна
вымести весь этот изъеденный молью хлам для того, чтобы жизнь
снова стала свежей, подвижной и здоровой».1
С учётом того, что действие романа приходится на времена
последнего кайзера, в этих словах нашли своё отражение настрое-
ния многих немцев тех лет, особенно молодёжи, видевшей в войне
очистительную силу вселенского масштаба. Однако их можно было
истолковать и как некий посыл в будущее. Лампе, человек далёкий
от политики, воспринимал и оценивал всё происходящее в Третьем
рейхе поразительно ясно, чуть ли не провидчески. Вскоре после
начала Второй мировой войны он предрёк её бесславный конец для
нацистов, заявив, что «всё это беспросветно», а в начале 1944 года
он высказался более конкретно: «Каким-либо образом мы, рано
или поздно, всё же рухнем во всеобщую катастрофу», а ещё позже:
«С ужасом смотрю я в будущее — что за безумие!»2
Несмотря на то, что роман «Сентябрьская гроза» не пользовался
особой читательской любовью, критика живо откликнулась на его
появление. Вильгельм Э. Зюскинд, знавший Лампе ещё по литера-
турному салону в Бремене, постарался представить новую книгу
своего друга как некое собрание «лирических рассказов», которые
«по языку и бидермайеровско-миниатюрной композиции» отве-
чают этому жанру: «Это исключительно интенсивная, в самом
высоком смысле этого слова чувственная, даже эротическая про-
за». Но, памятуя печальную историю с запретом романа «На краю
ночи», он тут же добавляет: «Естественно, эта проза содержит
в себе момент чувствительности, если не сказать женственности,
1 Lampe F. Septembergewitter. S. 141.
2 Цит. по: Dierking J., König J-G. In großer Zeit ganz klein. Epitaph für Friedo Lampe
(1899-1945) // Die Hören. 4. Jg. Bd. 1. 1996. Nr. 181. S. 145.
797
и иногда могло бы показаться, что Лампе, прежде всего по срав-
нению с его первенцем, представляет себя более наивным, чем это
на самом деле есть, а именно — идиллия и стихотворение в прозе...
В ней проявился глубоким образом многозначительно играюще
талант, редко встречающийся в нашей письменности».1 Ещё даль-
ше в своём восприятии прозы молодого писателя пошёл рецензент
представительного «Ойропэише ревю» Иоахим Гюнтер, который
не только сравнил роман «мальчика» Фридо Лампе со знаменитой
эпопеей Жюля Ромэна «Люди доброй воли», но и посчитал, что он
«логично предвосхищает более высокую ступень на этом пути», соз-
дав «совершенно восхитительное в своём роде чудо композиции,
в которой путём мгновенной, как в кино, смены сцен в каждой
из них то мимоходом, то подчёркнуто передаётся некий мотив,
который в следующей или в другой сцене, не связанной ни коим
образом согласно трём классическим единствам, тем не менее,
в другой тональности, в другом темпе, в другой стилистической
форме по-новому прорывается к основной теме. Это совершенно
ново, и как явление оно представляло бы интерес, даже если бы
оно не обнаруживало сверх того невероятно гибкий, в тончайшем
смысле этого слова эротический язык и талант рассказчика».2
Собственно рассказчиком Фридо Лампе и был, но рассказ-
чиком необыкновенным, у которого реальное спокойно ужива-
лось с нереальным. Хотя Лампе говорил, что он «пишет так, как
говорят все»,3 собственно, поэтому Петер Зуркамп и Оскар Лёрке,
редакторы издательства «Фишер», и отклонили его первый роман,
но беспрестанное нанизывание обычных слов создавало у читателя
некоторое беспокойство, желание рассмотреть то, что скрывалось
за ними, и сам того не желая, читатель попадал в некий странный
мир, в котором обыкновенные вещи начинали обретать иной,
значительный, магический смысл. Достаточно вспомнить, каза-
лось бы, обычное перечисление примет изнывающего от полуден-
ной жары маленького городка, когда каждый названный предмет,
будь то миска с простоквашей или ползающие по куску буженины
1 Süskind W.E. Septembergewitter. Von Friedo Lampe // Die Literatur, Januar 1938.
S. 301.
2 Günther J. Anfänger der Erzählung // Europäische Revue. Oktober 1938. S. 894.
3 Dierking J. Friedo Lampe: Ein magischer Realist // Ein Autor wird wiederentdeckt.
Friedo Lampe 1899-1945. / Hrsg. v. der Friedo-Lampe-Gesellschaft e. V. Bremen,
1999. S. 17.
798
чёрные мухи, и красочная, в деталях, как на картинах старинных
голландцев, описанная идиллия начинает обретать черты какого-то
потустороннего, сказочного мира, в котором может всё произойти,
и происходит, правда, во сне, как это случилось в романе «На краю
ночи» с Луизой, проснувшейся в ужасе оттого, что не могла поме-
шать крысам напасть на лебедей, или в забытьи, как это случилось
в рассказе «Битва Александра», когда описание битвы Александра
Македонского, возникшее в сознании молодого человека, настолько
захватило его, что он совершенно забыл о молодой, некрасивой,
но богатой девушке, сидевшей рядом с ним в театре, чем и разбил
надежды своего отца составить хорошую партию.
Реализм, обретающий магическую силу, становится всегда
наиболее приемлемым способом для молодых литераторов в крити-
ческих ситуациях, когда только так можно выразить своё неприятие
новой действительности, а в нашем случае это действительность
конца Веймарской республики, отмеченная господством «новой
вещности» и полнейшим разладом общественно-политического
топоса, и действительность Третьего рейха. В этом смысле уместно
привести высказывание Ганса Вернера Рихтера, основателя и бес-
сменного руководителя «группы 47», крупнейшего литературного
объединения, возникшего в Германии после крушения нацизма,
в котором он обосновал приверженность молодых авторов «маги-
ческому реализму». Ф. Лампе, а с ним и другие представители афа-
шистской литературы, такие как Э. Ланггэссер, Г. Казак, X. Ланге,
Э. Кройдер, В. Кёппен, оказался, как и молодёжь из «группы 47»,
перед руинами — одни перед духовными руинами, другие — перед
реальными. Но и те, и другие руины олицетворяли собой «крова-
вые события нашего времени и нашей жизни», «сомнительность
нашего духовного существования», «неопределённость нашего
духовного смятения», что и «возвышает этот реализм из простого
восприятия объективного в сферу магического». Отсюда вывод:
«Задача новой реалистической литературы состоит в том, чтобы
при сохранении непосредственного реалистического содержания
показывать за действительным — недействительное, за реаль-
ным — ирреальное, за великим общественным процессом преобра-
зований — изменение человека». Поэтому единственным способом
постижения «новой действительности» Рихтер считает «магический
реализм или объективизм».1
Richter Н. W. Literatur im Interregnum // Der Ruf. München, 1947. Nr. 15. S. 11.
799
Независимо от идеологических и поэтологических особенностей
творчества молодых литераторов афашистской направленности
и молодых литераторов «группы 47» всех их объединяла общая тен-
денция, говоря словами Артюра Рембо, «видеть невидимое и слы-
шать неслышимое».1 В этих словах Рембо и заключается основной
смысл «магического реализма». Другое дело, что каждый из них
добивался свершения этого таинственного акта, исходя из соб-
ственного внутреннего настроя. «Магический реализм», например,
Г. Казака, особенно проявившийся в романе «Город за рекой»
(»Die Stadt hinter dem Strom«, 1947), основная часть которого была
написана в годы фашизма, опосредован духом «даоистской натур-
философии» и «христианской мистики», нашедших своё выражение
в формах кафкианской трансцендентальное™ («действительная
реальность всегда является нереальной»), и воспринимается как
некий призыв автора к «человеку западной цивилизации вновь
обратить в качестве противовеса свои натурмифические силы
против негуманного практического рационализма».2 В свою оче-
редь трансцендентальность «магического реализма» Э. Ланггэссер
основывается на мистике христианства в самой исступлённой
и ортодоксальной форме католицизма, где «бог познаётся не сим-
волически, а в реальности»,3 а Э. Кройдер, наиболее активный
сторонник и пропагандист «магического реализма», рассматривает
этот метод как лучшее средство борьбы против «свинцовых мер-
зостей повседневности», призывая «превращать повседневность
в приключение», где есть место «фантастике», «мечтам» и «чудесам».4
Для Лампе переход из реальной действительности в нечто
ирреальное, магическое происходит незаметно, в этом переходе
не ощущается экспериментальной посылки, а всё, как с изумлением
заметил В. Кёппен, «вытекает из немецкой традиции, простира-
ющейся вплоть до самых старых сказок».5 Эта традиция с особой
1 Рембо А. Стихи. М., 1982. С. 242.
2 Walter I. F., Besch H. Hermann Kasack / / Hauptwerke der deutschen Literatur. Einzeld-
arstellungen und Interpretationen. Bd. 2. Vom Vormärz bid zur Gegenwartsliteratur.
München, 1994. S. 433.
3 Andersch A. Elisabet Langgässer. Unauslöschliche Siegel // Ende und Anfang, 1948.
H.l/2.
4 Kreuder E. Die Gesellschaft vom Dachboden. Erzählungen. Essays. Selbstaussagen.
Berlin, 1990. S. 88.
5 Koeppen W. Friedo Lampe und Felix Hartlaub... S. 320.
800
силой проявляется в сборнике рассказов Лампе «От двери к двери»
(»Von Tür zu Tür«), который автору так и не удалось увидеть издан-
ным, потому что весь набор сборника погиб во время известного
налёта на Лейпциг, приведшего едва ли не к полной остановке всей
издательской деятельности в нацистской Германии. Сборник этот
интересен ещё и тем, что Лампе, кажется, утвердился в невозмож-
ности создавать произведения большой формы, и не потому, что
он неспособен к этому, хотя, несомненно, его стихия — короткий
рассказ, а потому, что время другое. В своём письме к издателю
Клаасену он сообщает о своём видении творчества: «Я лично не очень
высокого мнения о молодых немецких авторах. Возможно, их книги
хорошо продаются, но они все на один манер. Мы, вероятно, в насто-
ящее время не в состоянии писать обширные романы. Большин-
ство из того, что сегодня так называется, является разросшимися
новеллами. Примечательно, что лучшее прозаическое произведе-
ние нашего времени — „Авантюрное сердце" Юнгера, фрагменты,
каприччио, являются первыми шагами по направлению к новому
виду магического рассказа, и в этом направлении, естественно,
совершенно иным способом, хотел бы и я двигаться».1
Однако, если проза Юнгера является собранием кокетливо
натужных рассуждений обо всём и ни о чём, то природа расска-
зов Лампе, при всех авангардных проявлениях, полна печальной
меланхолии в духе «югендстиль» с элементами сказочного стиля
романтиков, окрашенных ощущением близкой смерти. В обста-
новке нацистской действительности сочетание модерна и народ-
нической интонации, окрашенное сюрреалистическими пассажами
и выполненное по законам поэтики кино, создаёт необыкновенно
напряжённую, динамичную в своём рассказовом шаге прозу.
В этом смысле примечателен его рассказ «От двери к двери»,
который в своей гротесковой загадочности не даёт читателю опом-
ниться, как героиня рассказа переходит из одного ирреального
мира в другой, что позволяет Лампе представить всю её жизнь.
Пространство и время слились воедино, и если в начале рассказа
читатель уже приготовился прочесть современный вариант сказки
о Красной шапочке по имени Лотти, принёсшей старой тётушке
Гертруде пикшу, ибо матушка надеялась, что она отпишет её доче-
ри богатое наследство (вот уже новый поворот в старой сказке!),
1 Lampe F. »Ein andauernder hoffnungsloser Kampf mit dem Chaos...« Briefe an und
von Eugen Ciaassen // Die Hören. 41 Jg. Bd. 1. 1996. Nr. 181. S. 167.
801
то последующие события ввергают его в совершенно другую сказку,
когда тётушка одним махом отрезает голову попугаю, раздражав-
шего её своим криком, ложится на диван и умирает, адом наполня-
ется людьми, пришедшими на похороны тётушки, которые вскоре
превращаются в свадебное шествие, ибо прежний, несостоявшийся
по вине тётушки жених решил жениться на Лотти. При этом Лотти
всё ещё воспринимает себя ребёнком и очень удивляется, когда её
мать, готовя подвенечное платье дочери, говорит, что тётушка уже
как пять лет умерла. Но в последний момент Лотти оказывается
в другой комнате, где работает над своей речью Артур, её насто-
ящий муж, и появление Лотти в красивом платье вызывает у него
восхищение: «„Отчего ты выглядишь такой красивой?" — „Ах,— ска-
зала Лотти,— я немного вздремнула после обеда, и мне, наверное,
что-то приснилось"».1 Теперь события разворачивают в реальном
свете, и о необычном прошлом Лотти вспоминает только в рестора-
не, когда её муж заказал пикшу: «„Пикшу? — сказала Лотти, слегка
поёживаясь от влажного дыхания вечера.— Пикша? Что же было
с нею связано? Ах да, тётушке Гертруде она очень нравилась"».2
Весь рассказ движется в необычайно быстром темпе, в темпе
кино, когда один кадр беспрестанно сменяет другой, и необходимо
минимум языковых средств для того, чтобы придать ускорение
процессу рассказывания, убедить читателя в реальности всего
происходящего.
Несомненно, такая манера письма возникла в творчестве
Лампе не сама по себе, в этом собрании фантастических видений
и грёз проявилось его отношение к реальной действительности,
осознание собственного бессилия что-либо изменить в этом мире
и стремление каким-либо образом укрыться от ужасов времени.
Не случайно, что наряду с народническими элементами проза
Лампе пронизана античной символикой. Античные образы как
выражение чистоты и человечности служат своеобразным укором
бюргерскому обществу, а с ним и нацистской действительности.
Лампе обильно уснащает свои романы и рассказы многочислен-
ными атрибутами греческой и римской мифологии, античными
сюжетами, которые должны вызвать не столько элегические вос-
поминания о «золотом веке» человечества, сколько спровоцировать
человека на сомнение, вызвать презрение к современному миру.
1 Lampe F. Von Tür zu Tür // Lampe F. Das Gesamtwerk. S. 210.
2 Ibid. S. 211.
802
Однако и здесь просматривается меланхолическое настроение,
вызванное безысходностью положения художника в Третьем рейхе:
«Мы создаём для себя воображаемый призрачный мир, в который
больше не проникает ни малейшего дуновения нашей действитель-
ной жизни. Да, творить, для большинства это означает — бегство
от действительности, от собственного мира в нечто выдуманное,
будь то сентиментально окрашенное детство, будь то история, будь
то мир греков или мистический мир крестьянства».1
Горестное признание, сделанное Лампе в 1943 году, в самый
разгар Второй мировой войны, обрело ещё большую остроту в послед-
ние месяцы существования Третьего рейха, когда война подступила
уже к Берлину. 28 марта 1945 года, незадолго до своей трагической
кончины, Фридо Лампе в письме к своему другу Иоганнесу Пфай-
феру подвёл своеобразный итог своей жизни: «Что это за время!
Я всё больше пытаюсь понять это время и страшные события как
процесс очищения. Мы должны распроститься со всем, больше
не быть связанными ни с чем земным, должны смотреть на жизнь
так, как если бы мы уже умерли. Мы должны учиться преодолевать
страх жизни и смерти. Надежда на разумную и счастливую жизнь,
вероятно, очень ничтожна. Вся Германия представляет собой ведь
груду развалин. Присоединение к прошлому уничтожено. Всё это
не сразу восстановится. Нет, в этом направлении нам не следует
думать. Мы должны научиться думать о другом, но это очень больно
и тяжело, особенно для думающих людей вроде меня. В самом конце
нас ждёт свобода и веселье, состояние оторванности от всего земного
и понимание непрочности и бренности всего земного, понимание
того, что прежние времена мы переживём только в редчайшие
схожие моменты».2
Сейчас, когда к творчеству Фридо Лампе в Германии, а также
во Франции, Швейцарии, Голландии, возник небывалый интерес,
вновь издаются и переводятся на другие языки его книги, на их
основе создаются радиопьесы, ставятся фильмы, а в Бремене, род-
ном городе писателя, создано общество его имени, многие критики
и писатели провозглашают Лампе провозвестником модернист-
ской литературы в послевоенной Германии. Столь решительные
высказывания вызваны, несомненно, эйфорией, возникшей в свя-
зи с запоздалым открытием большого художника, ибо, несмотря
1 Lampe F. »Wir Dichter flunkern zuviel...« S. 149.
2 Pfeiffer J. Nachwort // Lampe F. Das Gesamtwerk. Hamburg, 1955. S. 329.
803
на неоднократные издания книг Лампе после 1945 года, никто, кро-
ме Вольфганга Кёппена, который проникся его творческими иска-
ниями ещё при жизни писателя, не последовал его заветам. Кёппен
был первым, кто обратился в немецкой послевоенной литературе
к наследию модернизма в интерпретации Фридо Лампе в своей
знаменитой трилогии «Голуби в траве» (1951), «Теплица» (1953)
и «Смерть в Риме» (1954), хотя здесь ощущалось и влияние Джеймса
Джойса, роман которого «Уллис» (немецкий перевод 1924 г.) был
чуть ли не настольной книгой начинающего писателя. Последу-
ющее поколение немецкоязычных писателей просто не заметило
поэтической посылки Лампе, как, впрочем, относясь с пиететом
к Кёппену, продолжило традиции модернизма на свой лад, прояв-
ляя больший интерес к творчеству Франца Кафки и отчасти Томаса
Манна, так и не рассмотрев в Кёппене Лампе. Правда, и сам Кёппен
для многих его современников оказался недосягаемым. Подобное
видение мира времён фашистской диктатуры, как это свойственно
было обоим писателям, невозможно без пребывания в нём, а если
оно и проявлялось в творчестве послевоенной Германии, то лише-
но было того аромата безысходности, потерянности и отчаянных
попыток сохранения среди политических катаклизмов времени
человеческого лица.
Если Фридо Лампе сочетал в своём творчестве приверженность
природе и романтику города, то Вольфганга Кёппена можно назвать
чистым романтиком города, что, однако не означает игнорирования
им природы как таковой. В одном из интервью он сказал: «Город
был для меня дремучим лесом, полным таинственности и обеща-
ний. Но я не был слеп и по отношению к ландшафтам родных мест,
к заливам Грайфсвальда, к Висле у Торуни, к мазурским озёрам.
Ландшафты были для меня переживанием момента, они согрева-
ли душу, давали ощущение утреннего счастья, радости вечера...
В больших городах я испытывал счастье от пребывания в толпе,
как По или Бодлер... Я искал ландшафты, знакомился с ними,
но никогда не хотел жить среди них, какими бы прекрасными они
ни были. Моим родным домом были большие города».1
Подобное мировосприятие жизни проявилось и в творче-
стве Кёппена, ибо ещё с юных лет он находился под огромным
впечатлением от знакомства с экспрессионистской поэзией с её
1 Коерреп W. Einer der schreibt. Gespräche und Interviews / Hrsg. v. H.-U. Treichel.
Frankfurt / Main, 1995. S. 262, 266.
804
урбанистскими тенденциями: «Я восторгался поэтами экспрес-
сионизма. Я покупал чёрные тетради серии «Судный день» изда-
тельства Курта Вольфа. Сначала Кафка, Тракль, Хайм и все имена
из «Сумерек человечества». Восхищение, откровения, воспитание
чувства сопротивления и пацифизма».1 В этих словах заключена,
пожалуй, вся философия жизни и творчества Кёппена, ибо, как бы
ни складывалась последующая судьба писателя, он оставался верен
этим принципам, помогавшим ему постигать мир, людей, общество.
Подобное мировосприятие Кёппена, ставшего после 1945 года
классиком немецкой литературы XX века, не раз подвергалось
нападкам как со стороны правых, так и левых критиков. При этом,
если в годы нацизма творчество Кёппена считалось противным
идеологическим принципам национал-социализма, то после паде-
ния Третьего рейха писателя пытались обвинить как раз в привер-
женности этой самой идеологии. С Кёппеном повторилась та же
самая история, что и с Г. Айхом. В обоих случаях ряд критиков
(Ф. Раддац, К. Прюмм, А. Эггебрехт, К. Цизель) восприняло резкую
антифашистскую направленность творчества этих писателей как
некий род замаливания грехов их юности, что не соответствовало
действительности и вызвано было в основном рецидивами левац-
кой болезни, претензиями личного свойства или просто желанием
на имени значительных личностей поднять свой престиж.
Вольфганг Кёппен (Koeppen, Wolfgang Artur Reinhold)2 родил-
ся 23 июня 1906 г. в Грейфсвальде. Кёппен был внебрачным
ребёнком. Правда, отец Кёппена, приват-доцент глазной клиники
в Грейфсвальде Райнхольд Хальбен (Halben, Reinhold),3 выпла-
чивал какие-то алименты, но семья вела такое полунищенское
существование, что мать Кёппена, Мария Кёппен (Koppen, Maria)
зарабатывавшая на жизнь шитьём, вынуждена была вместе
1 Koeppen W. Ich bin ein Mensch ohne Lebensplan // Koeppen W. Einer der schreibt.
Gespräche und Interviews / Hrsg. v. H.-U. Treichel. Frankfurt / Main, 1995. S. 145.
2 Вообще-то настоящая фамилия В. Кёппена в немецком написании Koppen
(довольно распространённая на севере Германии фамилия), его первые публика-
ции выходят под таким именем, но впоследствии он изменил написание своей
фамилии на старинный лад — Koeppen, что в произношении ничего не меняет,
но придаёт определённую значимость в письменном варианте, отсылая тем самым
носителя этой фамилии к более благородному сословию. В изменении написания
фамилии Кёппена сказались, вероятно, разговоры бабушки и матери о якобы
былом богатстве семьи и принадлежности её к местной знати.
3 Koeppen W. Ich bin ein Mensch ohne Lebensplan. S. 145.
805
с сыном переехать в 1909 году в Торн (сейчас — Торунь), а затем
в Ортельсбург (сейчас — Щитно) к сестре Ольге, домоправительнице
и спутнице жизни архитектора Теодора Вилле (Wille, Theodor), став-
шего для Кёппена названным дядей. В августе 1914 года, в связи
с началом первой мировой войны (Ортельсбург вскоре был занят
русскими войсками) всё семейство перебирается в Грейфсвальд.
Через год семья возвращается в Ортельсбург, а в 1919 году сно-
ва переезжает в Грейфсвальд, где Кёппен поступает как ребёнок
из малообеспеченной семьи в среднюю школу.
И тут начинаются полоса биографических несуразностей,
возникновение которых вызвано исключительно неуёмной фан-
тазией самого Кёппена. Судя по всему, ему доставляло большое
удовольствие водить за нос армию литературоведов, досаждав-
ших ему своими расспросами, хотя в действительности в основе
этих фантазий лежали неосуществлённые надежды и мнимые
предположения социального свойства. Сам Кёппен очень неохот-
но сообщал какие-либо подробности своей биографии.1 В беседе
с Кристианом Линдером Кёппен заявил: «Вы должны читать мои
книги, там написано всё, что я хотел сообщить о себе».2 Действи-
тельно, во всех его произведениях рассыпано множество сведе-
ний автобиографического порядка, но к ним следует относиться
с осторожностью, ибо в основе своей автобиографические эссе
и рассказы Кёппена, по его собственным словам, являются «вооб-
ражаемыми жизнеописаниями».3 В одной из многочисленных бесед
Кёппен заметил: «Я — ловкий лгун. Этого требует профессия».4 Как
ни странно, все соглашаются с этими правилами игры. Крупнейший
немецкий критик Марсель Рейх-Раницкий, много сделавший для
того, чтобы защитить Кёппена от нападок реакционеров разных
1 В ходе моей работы над диссертацией о творчестве В. Кёппена я неоднократно
обращался к нему с просьбами разъяснить некоторые стороны его биографии,
и всякий раз Кёппен уходил от прямых ответов. Когда он узнал, что я собираюсь
приехать в Грейфсвальд для того, чтобы ознакомиться с городом, в котором писа-
тель провёл свои детские и юношеские годы, Кёппен настоятельно советовал мне
отложить поездку: «Вы можете только заблудиться в переулках, оказаться на лож-
ном пути, запутаться в потоках недоразумений... Экспедиция явно нестоящая.
Я действительно не советую Вам этого делать» (Письмо В. Кёппена от 07.03.1977 г.).
2 Linder Chr. Schreiben als Zustand // Koeppen W. Einer der schreibt... S. 65.
3 Erlach D. Wolfgang Koeppen als zeitkritischer Erzähler. Uppsala, 1973. S. 24.
4 Treichel H.-U. Fragment ohne Ende. Eine Studie über Wolfgang Koeppen. Heidelberg,
1984. S. 198.
806
мастей, и высказывания которого всегда отличаются резкостью
несмотря на значимость того или иного писателя, охотно вступает
в эту игру, когда Кёппен, вспоминая о детских годах, замечает
что он «не знает, соответствует это действительности или нет», ибс
«это всё фантазии, мои представления». Даже этот критик, особе
не церемонящийся с любыми проявлениями игрового свойства
в художественном произведении, с восторгом воскликнул: «Поэто-
му мы и говорим ведь о том, что фантазией следует испытывать
реальность. Я заметил, что обо всём, что Вы рассказываете, я верю
каждому Вашему слову, всё это и есть роман».1
Эту особенность своего творчества Кёппен объяснял следу-
ющим образом: «Конечно, существует Кёппен, который когда-то
родился, где-то ходил в школу, однажды был редактором, и всё это
можно было бы установить и определить с помощью криминалисти-
ческой техники. Но существует ещё и сюрреалистический Кёппен,
литературная фигура, в которой всё совсем не так точно, который,
если выразиться гипотетически, на вопрос, когда он родился, то,
вероятно, он захотел бы ответить так: нет особой уверенности в том,
что я когда-либо рождался».2
Действительно, реальный Кёппен в своих материальных про-
явлениях не соответствует сюрреалистическому Кёппену, ибо
последний является неким замещением несбывшегося, отсюда
и всевозможные преувеличения. Постоянные сожаления мате-
ри и бабушки о былом благополучии (предполагалось наличие
земельных угодий, поместья, хотя, как потом выяснилось, дед был
простым пастухом и всё поместье состояло из простенького дома
с небольшим участком),3 безотцовщина зарождали у юного Кёппена
чувство неудовлетворённости, озлобленности, чувство человека,
выброшенного из общества. Отсюда же проистекало и неприятие
Кёппеном окружающей действительности. Филистерско-мещанская
верноподданническая атмосфера провинциального городка вызы-
вала у него крайний протест, выражавшийся по-мальчишески остро
и непосредственно в высмеивании, в издевательстве над всем и вся:
«Я повсюду вёл себя вызывающе... Я нарочно ходил сгорбившись.
1 Цит. по: Häntzschel Н. und G. »Ich wurde eine Romanfigur«. Wolfgang Koeppen.
1906-1996. Frankfurt / Main, 2006. S. 9.
2 Цит. по: Estermann A. Nachwort // Koeppen W. Auf dem Phantasieroß. Prosa aus dem
Nachlaß / Hrsg. v. A. Estermann. Frankfurt / Main, 2000. S. 671-672.
3 Ibid. S. 16.
807
Я желал, чтобы у меня был горб. Хотел быть отверженным... Волосы
до плеч я считал верным доказательством принадлежности к луч-
шему миру. Я снимал ботинки, связывал их вместе, перекидывал
через плечо, и шёл дальше босиком... Летом я ходил с раскрытым
зонтиком... Я пудрился, покрывал лицо рисовой мукой...»1 В гим-
назии Кёппен старался противопоставить себя соученикам и пре-
подавателям: «Революция разделила нас на красных и немецких
социалистов. Так как в гимназии считалось хорошим тоном оста-
ваться монархистом, я представлял республиканские взгляды».2
Анархистско-революционные настроения Кёппена-гимназиста были
навеяны его знакомством с идеями П. Кропоткина,3 а также ходом
революционных событий в Германии после Первой мировой войны,
к которым Кёппен относился с большим сочувствием.
Одиночество обратило Кёппена к книгам: «Уже ребёнком я жил
в мире книг. Моим первым кредитором был торговец книгами».4
Кёппен много и беспорядочно читает. Здесь греческие и римские
классики, немецкие романтики, Флобер, Золя, Достоевский, Толстой,
Кафка, Гофмансталь, Рильке и, конечно, экспрессионисты. Первая
публикация семнадцатилетнего Кёппена — статья «Мода и экспресси-
онизм» (»Mode und Expressionismus«) — появилась 6 ноября 1923 года
на страницах «Грайфсвальдер цайтунг» (»Greifswalder Zeitung«),
и по ней уже можно судить о будущих предпочтениях начинающего
писателя, отстаивающего символическую значимость искусства как
отражение времени, а не моды.5 Под влиянием экспрессионистской
поэзии Кёппен создаёт свой первый и единственный рукописный
сборник стихов «Лопающиеся почки. Ростки в пыли. Крик» (»Knospen.
Staubblüten. Schrei«) и посылает их своему кумиру, издателю экс-
прессионистов Курту Вольфу, но получает вежливый отказ.6 Однако
экспрессионистская интонация, хотя и в несколько изменённой
тональности, возникшей под влиянием «новой деловитости», стала
одной из составляющих прозы Кёппена.
1 Коерреп W. Jugend // Коерреп W. GW. Bd. 3. Erzählende Prosa. S. 88.
2 Коерреп W. Umwege zum Ziel // Коерреп W. GW. Bd. 5. S. 251.
3 «Какой-то русский заговорил со мной по-русски. Я был растроган. Я был поклон-
ником Кропоткина» (Коерреп W. Jugend. S. 89).
4 Linder Chr. Op. cit. S. 63.
5 Цит. по: Häntzschel H. und G. Op. cit. S. 23.
6 Ibid. S. 24-25.
808
Кёппен рано начал увлекаться театром, мечтал попасть к Писка-
тору, мечтал попасть вообще в Берлин. Но до этого он совершит рейс
в Финляндию в качестве судового кока, будет скитаться по городам
Германии, принимать участие в спектаклях сборных трупп, делать
попытки учиться в нескольких университетах. В 1926 году ему
удаётся получить место режиссёра в театре Вюрцбурга, но вскоре
он вынужден оставить его в связи со скандальной статьёй, опубли-
кованной им в «Листках городского театра Вюрцбурга» (»Blatter des
Stadttheaters Würzburg«) по поводу принятого рейхстагом закона
о распространении порнографических изданий,1 под который
обычно подпадает новейшая литература.
В конце 20-х годов Кёппен попадает в Берлин. Его театраль-
ный дебют у Пискатора так и не состоялся, но Берлин захватил его
настолько, что Кёппен согласен терпеть любые лишения, лишь бы
не расставаться с этим городом: «Я любил Берлин, я любил его теп-
ло, холод, я любил красоту его безобразных улиц, я любил людей,
это силовое поле большого города... я чувствовал себя как дома
в библиотеках, театрах, редакциях, в мастерских художников, сре-
ди политических дебатов, я общался с самыми бедными и самыми
богатыми».2
Кёппен становится завсегдатаем знаменитого «Романского
кафе» — места встречи писателей, художников, актёров. Здесь
бывали Г. Бенн, А. Дёблин, Г. Гросс, Э. Э. Киш, Л. Пиранделло,
М. Брод, Ф. Верфель, К. Тухольский, практически весь цвет тог-
дашней немецкой литературной и художественной интеллигенции.
Это были люди беспокойные, думающие, ожесточённо спорящие,
но так и не пришедшие к согласию, и когда фашисты оказались
у власти, вспоминал позднее Кёппен в своём знаменитом эссе
«Романское кафе» (»Romanisches Café», 1972) «посетители кафе
рассеялись по всему свету, или были посажены в тюрьму, или были
убиты, или покончили с собой, или покорились и сидели ещё в кафе,
пробавляясь посредственным чтивом, или сгорали со стыда из-за
терпимой прессы и великого предательства; и если разговаривали
между собой — то шёпотом, и когда они уходили, то каялись, что
и шёпотом-то разговаривали...»3
1 Häntzschel H. und G. Op. cit. S. 39.
2 Koeppen W. Umwege zum Ziel... S. 251.
3 Кёппен В. Романское кафе. Перевод Е. А.Зачевского // Вопросы филологии. Вып. 3.
СПбГТУ. 1997. С. 170-171.
809
«Романское кафе» значило для Кёппена очень много. Атмосфе-
ра богемы, подчёркнутой независимости, ощущение причастности
к оппозиции, дух свободы — всё это привлекало молодого Кёппе-
на, жадно тянувшегося ко всему новому, необычному. «Романское
кафе» было для него, как и для многих представителей творческой
интеллигенции тех лет, едва ли не последним романтическим при-
бежищем, где легко ранимая и чутко чувствующая личность могла
укрыться, вдохнуть глоток живительной свободы, осознать свою
значимость, ощутить дух времени: «...и когда я примкнул к ним,
достигнув благословенной земли с померанских полей, в общем
вагоне, окружённый молочными бидонами, мешками с картофелем,
и отправился со Штеттинского вокзала с планом города в руках,
пешком в рай, то мне казалось, что храм этот излучал сияние в пол-
ном соответствии с моими представлениями о нём; я внимал поэтам
и философам, слушал художников и актёров, встречался с умны-
ми владельцами больших и могущественных газет, с уверенными
депутатами больших и могущественных народных партий, я любил
анархистов и анархических девушек, которые сидели с ними,
я любил мечтателей о вечном мире на земле и фанатиков свободы,
равенства и братства...»1
«Романское кафе», ставшее для Кёппена своего рода вторым
домом, дало ему возможность «более или менее основательно позна-
комиться с Иоганнесом Бехером, Готфридом Бенном, Бертольтом
Брехтом, Арнольтом Бронненом, Альфредом Дёблином и Эрихом
Энгелем, а также с Леонгардом Франком, Эгоном Эрвином Кишем,
Лотте Леньей, Вальтером Мерингом, Артуром Мария Рабенальтом
и Эрнстом Толлером»,2 войти в литературную и театральную среду
Берлина, ощутить свою причастность к миру искусства.
Годы скитаний по стране, полуголодное прозябание в Берлине
способствовали развитию в Кёппене чувства отчуждения. Он ведёт
как бы двойную жизнь: с одной стороны — внешняя открытость,
видимая доступность, ироничность, постоянное пребывание сре-
ди людей; с другой стороны — повышенная чувствительность,
ранимость. Макс Tay, известный журналист, писатель, редактор
знаменитого издательства Бруно Кассирера, знавший Кёппена
1 Kennen В. Указ. соч. С. 170.
2 Estermann A. Nachwort // Wolfgang Koeppen. Auf dem Phantasieross. Prosa aus dem
Nachlaß / Hrsg. v. A. Estermann. Frankfurt / Main, 2000. S. 674.
810
с 1932 года и побудивший его к творчеству, очень верно отметил
двойственность кёппеновской натуры: «Вольфганг Кёппен ввёл
меня в мир внешней иронии, служившей у него прикрытием высо-
кой чувствительности; многое из того, о чём он говорил насмешливо,
было своего рода защитой, не дававшей возможности приблизиться
к нему».1 Карл-Хайнрих Руппель, известный музыкальный критик,
часто встречавший Кёппена в доме Ганса Штробеля, выдающего-
ся немецкого музыканта и певца музыкального авангарда, также
отмечает, что Кёппен производил впечатление «погружённого в себя
человека, который, однако, обладал своеобразным юмором и бывал
горяч в разговоре».2
Ощущение одиночества, замкнутость, болезненная чувстви-
тельность, прикрываемые ироническим отношением к действи-
тельности (отсюда и тяготение к богеме, неприятие буржуазного
уклада жизни),— все эти настроения, определившиеся ещё в годы
пребывания Кёппена в Грейфсвальде, заложили в нём основы
пессимизма, неверия в возможность изменения человеческого
общества в лучшую сторону, неверия в целесообразность вообще
любого действия. Но эти же настроения побудили в нём желание
к творчеству, в котором можно было бы представить себя в ином
качестве с тем, чтобы безболезненно для собственной персоны
выразить своё отношение к окружающей действительности.
Оказавшись в Берлине, практически без средств к существо-
ванию, если не считать редких переводов от названного дяди
из Ортельсбурга, Кёппен пишет небольшие эссе, короткие расска-
зы для ряда мелких дневных и вечерних газет. Из большого числа
этих работ, сохранившихся в архиве писателя, опубликованы были
совсем немногие. В коммунистической газете «Роте фане» (»Die rote
Fahne«) в январе 1928 года напечатан рассказ «Кочегар сошёл с ума»
(»Ein Heizer wird toll«); там же, в сентябре 1928 года, появляется
очерк «Копальщики картофеля» (»Kartoffellbuddler«).3 Хотя в этих
1 Таи М. Das Land, das ich verlassen mußte. Hamburg, o. J. S. 278.
2 Письмо K.-X. Руппеля от 04.05.1977 г. из моей переписки с музыкальным критиком.
3 Позднее Кёппен представит историю возникновения и публикации этого рассказа
в своём излюбленном стиле смешения правды и вымысла: «Во время школьных
каникул я написал на померанских полях репортаж о бедности сельских рабочих.
Это был политический, а совсем не литературный очерк, но в Берлине меня напеча-
тали в «Роте фане», и начальство грозилось исключить автора из школы» (Коерреп W.
Eine schöne Zeit der Not// Коерреп W.G.W. Bd. 5. S. 310). Ко времени напечатания
этого очерка прошло уже восемь лет со дня окончания Кёппеном школы, но он
811
первых прозаических опытах Кёппена явно просматриваются
определённые социальные интенции левой окраски, однако их
наличие является скорее выражением собственного бунтарства,
чем осознанной приверженности коммунистической идеологии.
В марте 1930 года в журнале «Вельтбюне» (»Die Weltbühne«), извест-
ном своими леворадикальными и антимилитаристскими публика-
циями, появляется статья Кёппена «Рихард Айхберг ведёт себя как
Цёргибель» (»Richard Eichberg zörgiebelt«),1 направленная против
низкопробного кино и нетерпимости его создателей к критике.
Последняя публикация Кёппена привлекла внимание Герберта
Иеринга (Ihering, Herbert; 1888-1977), одного из самых выдающихся
театральных критиков Германии тех лет, «герольда экспрессио-
низма»,2 ставшего своеобразным литературным крестным отцом
и в какой-то мере наставником начинающего писателя в годы
фашизма. В 1930 г. при содействии Иеринга Кёппен становится
вольным сотрудником, а потом и редактором литературного отдела
«Берлинер бёрзен-курир» (»Berliner Börsen-Courier«) — газеты, кото-
рая, по более поздней характеристике Кёппена, «в своей полити-
ческой части была демократически либеральной, в экономической
части — чрезвычайно капиталистической, а в фельетоне — куль-
турно-большевистской».3
Характеризуя берлинскую прессу конца 20-х — начала 30-х
годов, известный немецкий драматург Карл Цукмайер вспоминал
(Zuckmayer, Carl; 1896-1966): «Пресса была жестокой, бессердеч-
ной, агрессивной, полной кровавой иронии и всё же не лишав-
шей мужества. Самые резкие порицания, самые издевательские
суждения, как бы разрушительно временами они ни действовали,
оставляли всё же открытой возможность выступить против этого
с новой работой, возможность быть выслушанным, возможность
добиться признания».4
по-прежнему (в данном случае в 1978 г. в своей речи на радио «Прекрасное время
нужды») использует свою биографию как собственно литературный материал.
1 Коерреп W. Richard Eichberg zörgiebelt // Коерреп W. GW. Bd. 5. S. 16.— Глагола
zörgiebeln нет в немецком языке, Кёппен произвёл его из фамилии берлинского
социал-демократического полицай-президента Цёргибеля, по приказанию кото-
рого в 1929 г в Берлине была расстреляна первомайская демонстрация рабочих.
2 Лацис А. Революционный театр Германии. M., 1935. С. 103.
3 Коерреп W. Einer der schreibt... S. 222.
4 Zuckmayer С. Als war's ein Stück von mir. Erinnerungen. Frankfurt / Main, 1969.
S. 265.
812
В этих словах есть доля горечи, потому что сам Цукмайер
изрядно претерпел от берлинской прессы, но есть и признание
определённых качеств, составивших славу немецкой журналистики
времён Веймарской республики. И хотя Иеринг, наставник Кёппена
от журналистики, писал в 1948 году уже с позиций послевоенных
лет, что «в то время сложилась потребительская критика», что ста-
тьи писались «пышно и цветисто», что «это была критика взахлёб,
гастрономическая критика, просто наслаждение для автора и для
читателя»,1 тем не менее, следует признать определённое влияние
журналистской практики на всё последующее творчество писателя.
Разумеется, речь идёт только о критике, существовавшей
до прихода к власти Гитлера. Хотя имена таких известных критиков
как Герберт Иеринг, Эрих Францен, Карл Рупперт, Франц Бишофф
всё ещё продолжали появляться на страницах газет и журналов,
но что это была за критика! От былой напористости, агрессивности,
живости не осталось и следа. А вскоре распоряжением Геббельса
и эта критика была запрещена.
Поначалу «Вольфганг Кёппен,.. смущённый молодой человек»,—
как вспоминал в своих мемуарах писатель Ганс Заль (Sahl, Hans;
1902-?),— «писал отчёты о театральных премьерах второго плана,
на которые Герберт Иеринг не ходил из престижных соображе-
ний»,2 заметки о различного рода литературных вечерах, рецензии
на кинофильмы, программы варьете, а также небольшие очерки
из жизни Берлина и его окрестностей.3 В них ещё чувствовалось
влияние как самого Иеринга, выражавшего своё мнение несколько
резолютивно, с известной долей наигранного пафоса, так и Аль-
фреда Керра, грозы берлинских театров, могущего порой ради
1 Ihering Н. Berliner Dramaturgic Berlin, 1948. S. 25.
2 Sahl H. Memoiren eines Moralisten / Das Exil im Exil. Hamburg, 1990. S. 108.
3 Все свои статьи и заметки Кёппен поначалу подписывал сокращённым именем
(kn, Kn, кр, Крп, кое, Кое, W. Кое), и только потом, когда ему стали доверять
более значительные материалы, его публикации шли под полным именем. Прав-
да, в «сигнальном варианте», т.е. в сокращённом варианте статьи, публикуемом
в утреннем издании газеты, сокращённое написание имени Кёппена оставалось,
но в вечернем выпуске публикация полного текста статьи шла уже при раскрытии
полного имени. Например: 1. кое. Du sollst nicht begehren // Berliner Börsen-Cou-
rier. 01.11.1933. Nr. 511; 2. Koeppen W. Du sollst nicht begehren // Berliner Bör-
sen-Courier. 01.11.1933. Nr. 512.— Выходные данные ряда статей, не вошедших
в собрание сочинений В. Кёппена, даются по непосредственным публикациям
в «Берлинер бёрзен-курир». Остальные статьи сопровождаются параллельными
сносками из собрания сочинений писателя
813
внезапно пришедшей ему в голову оригинальной мысли забыть
вообще о предмете разбирательства, и только где-нибудь в конце
статьи, как бы невзначай, упомянуть о том, ради чего, собственно,
была и написана эта статья.
Первые театральные рецензии, например, посвящены в основ-
ном незначительным спектаклям и концертам. Это, если можно так
выразиться, хроника театральных происшествий: возобновление
оперетты Вальтера Колло в Розе-театер; премьера в театре Штеглица
пустенькой пьесы А. Энгеля «Сильвия покупает себе мужа»; высту-
пления Акселя Эггебрехта, Эрнста Глэзера, Петера Фламма и Эриха
Кестнера с чтением отрывков из своих произведений на вечере,
посвященном теме «Девушка». Видно, что Иеринг сознательно даёт
молодому сотруднику заведомо непригодный материал с тем, чтобы
он оттачивал своё мастерство на таких пустячках. Понятно, что сам
Иеринг наиболее интересный материал оставлял для своих статей.
Наряду с театральными рецензиями Кёппен писал также
критические статьи о кинематографе. Знакомство с миром кино,
не говоря уже об эстетической стороне этого рода искусства, дало
Кёппену чисто практическую возможность пережить тяжёлые
годы фашизма — ему удалось, не без помощи всё того же Иеринга,
устроиться на работу в одной из киностудий в качестве безымян-
ного сценариста.
Кинематограф в 30-х годах обладал ещё притягательной силой,
и премьера каждого фильма служила предметом широкого обсуж-
дения на страницах газет любого толка. Статьи, заметки Кёппена
о кино, особенно в 1932-1933 годах, в какой-то мере выходят
за рамки обычного репортажа, обычной рецензии. Здесь уже можно
говорить об определённых признаках писательского таланта, о той
наблюдательности, о внимании к деталям, о чём впоследствии будут
восхищаться критики. В большом очерке «Маяк и тысячи ламп» (»Ein
Leuchtturm und tausend Lampen«, 1932), посвященном съёмкам
фильма «РП-1 не отвечает» с участием кинозвёзд тогдашних лет
Ганса Альберса, Конрада Фейдта и Шарля Буайе, чисто информа-
тивный материал совершенно растворяется в лирических пейза-
жах близкого Кёппену северного края. Именно этот очерк привлёк
внимание Макса Tay, редактора издательства «Бруно Кассирера»,
и послужил началом писательской карьеры Кёппена.
«Репортаж об одном фильме» (»Reportage über einen Film«,
1933) — огромная статья, занимающая всю газетную страницу,
рассказывает о съёмках знаменитым актёром Грюндгенсом фильма
814
«Финансы великого герцога». Здесь уже явно проявляется стремле-
ние Кёппена к поэтизации обыденных вещей, приданию качеств,
не свойственных их сущности, но, тем не менее, помогающих луч-
ше передать и воссоздать творческую атмосферу съёмок фильма.
Эта особенность придания предметам магической сущности
проявилась уже в ранних журналистских работах Кёппена, когда
он обратился к проблемам городского хозяйства, промышленно-
сти, социального положения людей. Он живо интересуется всем,
чем живёт Берлин, исключая политику, да и эта сторона жизни
столицы (особенно после прихода к власти нацистов) находит своё
закамуфлированное отражение. Уже в этих достаточно непритя-
зательных текстах наметилась особая склонность молодого автора
воспринимать мир в несколько необычной манере, выражавшаяся
в придании казалось бы рядовым предметам, явлениям из мира тех-
ники, событиям повседневности некоей таинственности, которая
разрушала их статичность, одушевляла их. «Магический реализм»,
ставший в конце 20-х годов повсеместной формой отображения
действительности и «выражавшийся в сочетании внешней фан-
тастики при сохранении внешней трезвости»,1 проявляется у Кёп-
пена в подробном описании всего сущего, каким бы расхожим
оно не воспринималось в обычном представлении. Техника, каза-
лось бы, далёкая пониманию простого человека, человека улицы,
как, например, в очерке «В раю холода» (»Im Paradies der Kühle«),
посвященном описанию изготовления льда для повседневных
нужд огромного города Берлина,2 или в очерке «Фарадейвег, № 4»,
рассказывающем о работе научно-исследовательского института
химической физики, поднимается в его глазах до высот чего-то
необычного, таинственного, мистического, и это несмотря на то, что
эта техника здесь, рядом, выполняет функции понятные всякому,
тем более, городскому жителю независимо от его образованности
1 Roh F. Nach-Expressionismus. Magischer Realismus. Probleme der neuesten europä-
ischen Malerei. Leipzig, 1925. S. 46.
2 «Техника делает нас независимыми от погоды и времени года. С её помощью мы
можем летом охлаждать воду и создавать такую температуру, какая нам нужна
или какую мы любим. Лукулл, который приказывал собирать зимой снег в ямах,
заботливо его укрывать для того, чтобы летом он мог бы своим друзьям с помо-
щью снега охлаждать вино, как и все люди древности, рассматривавшие лёд или
прохладный снег как меру высшего комфорта, позеленел бы от зависти» — Кп
(Коерреп W.) Im Paradies der Kühle. Berlin, minus 20 Grad im Juli // Berliner Bör-
sen-Courier, 17.07.1932.
815
и социального статуса: «Посетитель видит, как какой-то человек,
сидящий за столом, время от времени двигает переключатель, и тог-
да раздаётся щелчок, где-то вспыхивает искра, и воздух в комнате
становится более напоённым озоном, чем это было раньше. Посети-
тель охвачен благоговейным страхом; он говорит себе, этот человек
и его гирлянды стеклянных труб, предназначенные для процессов,
полных таинственности, являются зародышем фабрики будущего.
Но когда этот человек заканчивает свою работу, огни гаснут, тогда
посетитель испытывает некоторое разочарование, услышав, что
здесь не получают золота и не находят эликсир жизни, а только
перепроверяют расчёты одной совершенно абстрактной формулы».1
Подобного рода журналистика представляла собой некое
соединение «магического реализма» и «новой вещности», черты
которого обозначились в литературе молодого поколения конца
Веймарской республики. При этом особое внимание уделялось
чрезмерной детализация повседневности, быта, малых радостей
бедных людей, простонародья, что можно было истолковать как
некое хождение в народ. В журналистике Кёппена 30-х годов эта
тенденция проявилась в повышенном интересе к жизни окраин
Берлина. Не парадный Берлин, а «Берлин — два шага в сторону»
(»Berlin — zwei Schritte abseits«), выступает в его многочисленных
статьях, опубликованных в «Берлинер бёрзен-цайтунг» в те годы,
в которых рассказывается о незамысловатых развлечениях про-
стых людей — о пивных барах, мороженицах, жалких киношках,
наивных цирковых представлениях. Герои его статей это молодые
люди, предоставленные самим себе, для которых окраины Берлина,
пользующиеся дурной славой, являются «романтическими кулиса-
ми их вожделений, вызванных половой зрелостью, заповедником
Тома Микса и Гарри Пиля, который они (вопреки всем автори-
тетам) посещают, но не для того, чтобы развлекаться, а для того,
чтобы почувствовать себя смелыми и порочными... Ярмарочная
площадь на углу Потсдамерштрассе и Груневальдштрассе... это
своего рода источник жизни уродливого и сурового существова-
ния этих улиц. Усталые заводские ученики и девушки, рабочие
парни, безработные и донельзя измученные школяры ищут здесь
вечерами спасения от рутины бюргерской обыденности. Пёстрые
1 Кп (Коерреп W.). Faradayweg, Nr. 4. Villa, Fabrik oder Kloster // Berliner Bör-
sen-Courier, 30.10.1932.— Gesammelte Werke in sechs Bänden —Далее: GW / Hrsg.
v. M. Reich-Ranicki. Frankfurt / Main, 1986. S. 43.
816
огни каруселей, полные тоски звуки шарманки, запах топлёного
сала, идущий от выпечки, темнота вокруг занавешенных ларьков,
испарения, идущие из цирковых конюшен, вид гуляющих, кото-
рые вышагивают как кино-герои (овеянные смертельной враждой,
кровной дружбой, невероятными страстями), дают им ощущение
чего-то другого, приближающего их к миру Тома Микса или к иде-
алу Гарри Пиля. Но как только в десять часов парк закрывается
и огромный вышибала, «главный легавый», начинает действовать,
большинство этих послушных детей Шёнеберга отправляется домой
спать».1 Не описание внутреннего состояния героев статей, а фик-
сация происходящего с минимумом определений, что позволяет
мгновенно, как в кино, представить всю картину происходящего.
Все эти проявления реальной жизни окраин Берлина обре-
тают у Кёппена в его зарисовках общечеловеческую значимость.
В какой-то мере они напоминают рисунки Цилле, певца берлинских
трущоб, в которых, при всей неприглядности изображаемого мира
бедноты, отсутствует миссионерская благодать. Более того, анализ
публикаций Кёппена тех лет говорит о том, что как в идейном, так
и в художественном отношении все они отличаются удивительным
единством, представляя собой попытку выразить одну и ту же
мысль в различных одеяниях — мысль об одиночестве человека
среди огромного разнообразия общественных явлений.
Приход к власти фашистов вызвал у Кёппена отрицательную
реакцию. Однако Кёппен, как и многие либерально настроенные
интеллигенты того времени, встал на путь «не физического, а духов-
ного сопротивления» (Г. Э. Носсак), заняв оборонительно-выжида-
тельную позицию, полагая, что фашисты долго не продержатся.
Именно поэтому в тех статьях и репортажах, которые Кёппен смог
опубликовать в 1933 году, он постоянно иронизирует по поводу
новых порядков, насколько это позволяла тогдашняя цензура
и новое руководство «Берлинер бёрзен-курир».
Несмотря на свою осторожность, даже паническую бояз-
ливость, Кёппен старался всеми доступными ему средствами
подчеркнуть своё несогласие с существующим режимом. Когда,
например, в начале 1933 года начались репетиции пьесы Йозефа
Виссалла (Wiessalla, Josef) «Фронт под землёй» (»Front unter Tage«),
носившей антифашистский характер, то нацисты попытались
1 Кп (Коерреп W.). Berlin — zwei Schritte abseits. Sehnsucht nach Kinoromantik führt
eine Jugend zusammen // Berliner Börsen-Courier. 12.06.1932.— GW. S. 22, 24.
817
воспрепятствовать появлению её на сцене. На премьеру, по сви-
детельству Макса Tay, явились «все писатели, которые выступали
против новых властителей: мятежник Аугуст Шолтис, Макс Рене
Хессе, Вольфганг Кёппен, Гюнтер Биркенфельд, Ганс Георг Брен-
нер».1 Конечно, присутствие на премьере подозрительной пьесы,
пускай и на утреннем представлении, т.е. не для широкой публики,
нельзя назвать героическим поступком, хотя по тем временам и это
был достаточно смелый поступок, особенно для такого осторожно-
го человека, как Кёппен, тем более что через несколько дней, как
и ожидалось, пьеса Виссалла была запрещена Геббельсом.2
Кёппен никогда не был сторонником действия, и в решитель-
ных случаях предпочитал отойти в сторону, как «господин из Рима»
в рассказе Томаса Манна «Марио и волшебник», не желая подда-
ваться гипнозу нацизма. Разница была лишь в том, что кёппенов-
ское «нежелание в чём-то участвовать» было достаточно сильным
и обдуманным шагом и значило много больше, чем естественное
желание человека выжить в критической обстановке. Макс Tay,
близко знавший Кёппена, вспоминает: «Его внимательные глаза
видели больше, чем глаза других современников. Он этого не выска-
зывал, но некоторые признаки выдавали мне его страх перед гря-
дущими катастрофами, о которых я даже не осмеливался мечтать.
Кёппен предвидел развитие событий заранее, и с помощью некоей
маскировки, когда он, вооружённый зонтиком, входя в комнату,
представлялся скромным и ссутулившимся, он только демонстри-
ровал, что в этом мире он не сможет выстоять, что он пытается
незаметно блуждать на окраине жизни незаметно, так как теперь
он был только писателем.
Всякий раз, когда я с ним встречался, мне приходила мысль
о Кафке. Вольфганг Кёппен источал страх перед будущим. Он при-
надлежал к изгнанникам, и не было никакого смысла взбадривать
его. Он всегда оставался прежним».3
Но, вероятно, не следует сильно преувеличивать и радикальные
настроения Кёппена. Радикальность его была слишком расплывча-
того свойства, чтобы толкнуть Кёппена на какие-то решительные
действия и чтобы заставить нацистов увидеть в нём опасного врага.
1 Таи М. Das Land das ich verlassen mußte. Hamburg, o. J. S. 275.
2 Ibid. S. 276.
3 Ibid. S. 247.
818
Именно по причине «совершенно пассивной позиции», как харак-
теризовал в 1935 году Курт Керстен позицию Кёппена и других
молодых писателей, оставшихся в Германии после 1933 года, «их
не считали опасными»,1 и именно так расценил сам Кёппен своё тог-
дашнее положение: «Когда национал-социалисты пришли к власти,
я был слишком неизвестен, чтобы подвергаться преследованиям,
но всё же был достаточно известен, чтобы подвергнуться искуше-
нию. Я отклонил предложение занять важный пост в одной газете».2
Особый интерес представляют статьи Кёппена в «Берлинер
бёрзен-курир» после прихода к власти нацистов, привлёкшие уже
в конце 90-х годов XX века внимание литературоведов «новой
волны», пытавшихся по-новому, в разоблачительном духе прочесть
произведения авторов, оставшихся в Германии после 1933 года,
в желании доказать в них, как и в позиции самих авторов, наличие
не только «иллюзорного согласия с властью», но и «однозначного
доверия к ней».3 Ратуя за «точное прочтение, тщательное взвеши-
вание истории жизни (каждого автора.— Е. 3.) и истории каждого
произведения»,4 новоявленные борцы за литературную правду
именно эти постулаты литературоведческого исследования посто-
янно и игнорируют, воспринимая каждый поступок, каждое слово
авторов тех лет в прямом смысле безотносительно заключённого
в них иносказания и обстоятельств, вызвавших их появление.
Кёппен никогда не был активным политическим деятелем,
и по поводу того, что его не устраивало в проявлениях современной
жизни времён нацизма, он мог высказать лишь некое сомнение,
прикрытое лёгкой иронией. Не случайно все его статьи (общим чис-
лом 39), опубликованные после 1933 года, носят иносказательный
характер, написаны в духе серьёзного (может быть, даже слишком
серьёзного) толкования проблем нацистской действительности.
Люди, знавшие Кёппена как противника нацистского режима,
и читатели, уже научившиеся читать между строк, воспринимали
эти статьи как критику новых властителей. Так, в эссе «Кабаре
вчера и сегодня» (»Das Kabarett gestern und heute«) Кёппен, проводя
параллели с программами кабаре начала XX в., ясно даёт понять,
1 Kersten К. Op. cit. S. 385.
2 Коерреп W. Umwege zum Ziel // Welt und Wort. Nr. 16. München, 1961. S. 369.
3 Prümm K. Ambivalenz // Die Zeit, 21.02.1992.
4 Ibid.
819
что сейчас, когда у власти нацисты, кабаре как явление искус-
ства, как сатирический катализатор духа времени потеряло своё
значение: «Последние годы были годами политической борьбы...
После того как борьба завершилась, многие думали, что времена
политико-критического кабаре кончились. В определённом смысле
это так и есть... То, что сатира к этому новому времени относится
по-другому, является само собой разумеющимся. Но это только
дело формы, а ещё точнее — такта. То, что в кабаре и сейчас мож-
но шутить на политическую злобу дня (насколько это требуется),
уже показала весенняя программа театра «Катакомбе», которая...
была наполнена юмором превосходной точности, но которая нигде
не вызвала неудовольствия».1
Материал изложен, казалось бы, в духе времени, но внутренние
акценты расставлены так искусно, несообразность предмета обсуж-
дения — Кёппен, прослеживая историю возникновения кабаре,
подчёркивает демократический характер этого вида искусства —
с его положением в описываемое время настолько чётко обозначена,
что у любого человека, находящегося хоть в какой-то оппозиции
к режиму, не остаётся сомнений в истинном предназначении всего
написанного,— это то же самое кабаре, только расположившееся
на страницах солидной газеты.2
Одним из самых ярких образцов подобной публицистики
можно назвать очерк «Париж этой весной» (»Paris in diesem Früh-
jahr«), вызвавший особый гнев литературоведов «новой волны»
в 90-х годах XX века Кёппену очень хотелось уехать из Германии
в качестве корреспондента «Берлинер бёрзен-курир» во Франции,
где, как ему казалось, он мог бы спокойно переждать революци-
онные события в стране. И в этом желании проявилась особая
манера обращения Кёппена с политическими реалиями времени,
выражавшаяся в сохранении внешне элементов, созвучных офи-
циальным установкам, т.е. выдерживать демонстративно позицию
беспристрастного наблюдателя, фиксирующего всё увиденное,
1 Кп. Das Kabarett gestern und heute // Berliner Börsen-Courier, 04.09.1933.
2 Смелые и полные юмора и сатиры программы «Катакомбе», посмотрев которые,
«можно было подумать, что дни угнетателей сочтены» (Таи М. Das Land, das ich
verlassen mußte. Hamburg, o. J. S. 273), в конце концов вызвали неудовольствие
нацистов. В мае 1935 г. «Катакомбе», а также другое кабаре «Тингельтангель»,
были закрыты, а Вернер Финк, основатель и ведущий актёр «Катакомбе» отправ-
лен в концлагерь Эстервеген (Zuckmayer С. Geheimreport. S. 232). Фашистский
официоз «Фёлькишер беобахтер» посвятил закрытию кабаре большую разносную
статью (12.05.1935).
820
не высказывая напрямую своего мнения об увиденном. Собствен-
но, тот же принцип применялся им и в его берлинских очерках.
Подобная позиция не может быть истолкована как профашистская,
но, при назывании того или иного явления, она позволяет автору
представить в общем ряду явления, явно не соответствующие офи-
циальным установлениям, более того, противные им, что и позво-
ляло Кёппену таким способом выразить своё истинное отношение
к политическим событиям времени. При этом не надо забывать, что
Кёппен выполнял редакционный заказ написать статью о том, как
французы относятся к Германии после прихода к власти Гитлера.
Сложность задачи состояла в том, что незадолго до поездки Кёппена
в Париж «Франкфуртер цайтунг» опубликовала статью Фридриха
Зибурга (Sieburg, Friedrich; 1893-1964) пронацистски настроенного
корреспондента этой газеты, впоследствии одного из известнейших
литературных критиков ФРГ, в которой он с пафосом сокрушался
по поводу отрицательного отношения французов к политическим
событиям в Германии: «Германия сегодня одинока как никогда,
и это правда».1 Задача Кёппена состояла в том, чтобы дать более
благоприятную картину восприятия нацистской Германии во Фран-
ции и не опуститься до положения нацистского борзописца.
Очерк начинается с простого перечисления знаменательных
дат из жизни фашистской Германии: «Тридцатое января; пятое
марта; день открытия сессии рейхстага; майские праздники; речь
Гитлера о мире: в Германии весна тысяча девятьсот тридцать
третьего года стала весной политического значения. События,
быстро сменяющие друг друга, следующие одно за другим и захва-
тывающие дыхание, вынудили даже самых замечтавшихся, самых
далёких от реальности людей высказать своё мнение, преобразовали
и активизировали нацию до последнего человека в далеко идущем
политическом смысле. Определённое большинство приветствовало
развитие событий. Никто не может отрицать, что лицо Германии,
немецкой деревни и немецких городов, изменилось. Послеянвар-
ские улицы не стали шире доянварских. По меньшей мере, следует
констатировать некую сильную взволнованность, определённое
длительное течение, сильное беспокойство вопреки инерции».2
1 Цит. по: Döring J. Ich stelle mich unter, ich mache mich klein. Wolfgang Koeppen.
1933-1948. Frankfurt / Main, 2003. S. 37.
2 Koeppen W. Paris in diesem Frühjahr // Berliner Börsen-Courier, 11.06.1933.— GW.
Bd. 5. S. 72.
821
Кёппен просто перечисляет даты политических событий в Гер-
мании, не раскрывая их значения, полагая, что читатель в курсе
событий, и делает это совершенно бесстрастным тоном инфор-
матора. Правда, он тут же подчёркивает чисто грамматическим
способом, что нацисты на последних выборах в парламент набрали
не абсолютное, а относительное большинство,1 да и то, замечает
Кёппен, опосредованно, благодаря голосам безработных, надеяв-
шихся получить от новой власти работу. Эта мысль чётко выражена
в следующем абзаце, посвященном последствиям экономического
кризиса в мире. Рассказывая о состоянии дел в разных странах,
Кёппен отмечает только Германию, в которой «борются с безрабо-
тицей», из чего можно сделать вывод о причинах успехов нацистов
во время выборов.
На этом «верноподданническая» часть кончается и начинается
своеобразное развенчание послеянварских событий. Кёппен присту-
пает к описанию Парижа с упоминания о штурме Бастилии: «Хотя
Бастилия в Париже и была подвергнута штурму и были провозгла-
шены права нового человеческого самосознания, Париж всё же
остался консервативным городом. Даже если сердце временами
стремится к будущему, в своих привычках здесь привержены старо-
му. Париж — город хранящий заветы, город священных традиций».2
В противопоставлении Парижа Берлину, событий Великой фран-
цузской революции фашистскому перевороту в январе 1933 года
всё время подчёркивается гуманистическое начало, рационализм
латинского духа французской нации. Кёппен использует любой факт
для подкрепления своей мысли — и букинисты со своими лотка-
ми на берегах Сены, и дешевизна книг, и возможность писателей
обращаться к любой тематике и т.д.
Здесь же Кёппен отмечает, что, несмотря на упавшую поку-
пательную способность парижан, вызванную мировым кризисом,
они интересуются «преимущественно книгами о событиях в Герма-
нии. .. Некоторые из этих книг отмечены сознательно отрицательной
критикой, но всё же многие из них, и их большинство, пытаются
по-деловому толковать происходящее в Германии». И тут же, как бы
между прочим, Кёппен замечает: «Крупный издатель Грассе якобы
заявил, что заплатит хорошо за роман немца, который описал бы
1 По-немецки это выражается с помощью неопределённого артикля: eine Mehrheit,
а не die Mehrheit
2 Коерреп W. Op. cit.— GW. Bd. 5. S. 72-73.
822
рейх при Гитлере». Из этого следует, что Кёппен сомневается в том,
что такой немец найдётся, и сомнения его впоследствии подтвер-
дились в полной мере — Третий рейх не породил ни одной книги,
живописующей художественным образом рейх при Гитлере. И далее
следуют примечательные слова, которые хотя и относятся к фран-
цузским писателям, но вполне соотносятся с судьбой немецких
писателей в Германии: «Книги продаются, писатели живут».1
Понятно, что роман, о котором мечтает Грассе, может быть
написан только противником Гитлера, и это прекрасно понимали
как Кёппен, так и читатели «Берлинер бёрзен-курир». Понятен
и намёк на судьбы немецких писателей, вынужденных эмигриро-
вать из Германии, в частности, во Францию.
Говоря о том, что в связи с кризисом в Париже опустели
шикарные гостиницы, кафе, дорогие магазины, Кёппен замечает,
что «американцы ушли, и пришли немцы». Но тут же добавляет,
что «это только отчасти правильно, а, в общем-то, это довольно
деликатное дело», ибо оно связано не с приездом богатых немцев
(вывоз валюты за пределы Германии тогда был очень ограничен,
так что приезд немцев не был адекватной заменой американцев),
а с приездом немецких политических эмигрантов.
Кёппен пишет о первой волне немецких эмигрантов в Париже
довольно завуалированно. Судя по всему, он разделяет бытовавшее
поначалу среди эмигрантов мнение, что фашисты долго у власти
не продержатся и что через несколько месяцев можно будет сно-
ва вернуться в Германию.2 И всё же Кёппен пытается, на всякий
случай, изобразить этих эмигрантов как людей совершенно аполи-
тичных, ведущих скромный образ жизни и откладывающих своё
возвращение в Германию исключительно из соображений личного
свойства: «Во всяком случае, слухи о немецкой эмиграции в Париже
также преувеличены, как и слухи о Германии среди самих эмигран-
тов. Настоящая немецкая эмиграция в духе, например, русской
1 Коерреп W. Op. cit.— GW. Bd. 5. S. 74.
2 Макс Tay, известный литературовед, открывший талант Кёппена, писал в своих
мемуарах о той реакции, с которой было воспринято интеллигенцией сообщение
о приходе к власти Гитлера: «Мы слышали от знакомых в городе различные мнения:
«Это хорошо, что он, наконец, дорвался до власти. В течение трёх месяцев с ним
разделаются»,— говорили одни. Или: «Рейхсвер этого не потерпит, они быстро его
арестуют, только не волноваться». Многие не верили тому, о чём они говорили,
но им очень хотелось этому верить» (Таи М. Das Land das ich verlassen mußte.
Gütersloh, o. J. S. 260-261.
823
в Париже не существует. Те немцы, которые в настоящее время
здесь находятся, почти все намерены возвратиться на родину. В их
разговорах речь идёт не об упрочении их существования во Фран-
ции, а об особой ситуации, сложившейся по различным причинам
для них в Германии, и о возможности возвращения, которому
в большинстве случаев ничто не препятствует, кроме некоторого
замешательства... Большинство этих так называемых эмигрантов
живёт скромно и тихо на Монпарнасе».1
Несомненно, что Кёппен прекрасно знал реальное состоя-
ние дел с немецкой эмиграцией в Париже. В 1992 году в одном
из интервью он сказал: «Естественно, что сейчас подобное о миро-
вой трагедии читается как нечто идиотское. По-видимому, я тогда
попытался умалить значение того невероятного, что происходило.
В «Кафе дю дом» я встретил половину «Романского кафе», ни один
из беглецов не знал, что дальше будет».2 Неслучайно Ганс Зааль
назвал парижскую эмиграцию «залом ожидания третьего класса»,
имея в виду не только финансовое положение немецких эмигран-
тов, но и мысли о возможном возвращении в Германии в случае
каких-то благоприятных изменений. Много позже, в 1992 году,
Кёппен подтвердит эту мысль: «Конечно, они мечтали о том, что
могут вернуться в Германию, не верили в долгое существование
коричневого призрака. Я об этом и сообщил в газете».3
Наверное, подобные суждения Кёппена об эмигрантах, если
смотреть на это с позиций наших дней, можно назвать, как это
сделал в 1992 году Карл Прюмм, проявлением политической двой-
ственности молодого журналиста,4 но, если знать ситуацию тех лет,
учитывая нелицеприятные высказывания Г. Бенна и Ф. Зибурга
о немецкой эмиграции (Кёппен ознакомился с ними ещё до поездки
в Париж), то в его поступке больше благородства, чем политической
двойственности. Напрашивается вопрос, а как иначе ещё мог Кёп-
пен написать в тогдашних условиях о «врагах» нацистского режи-
ма? Он должен был поносить этих «отщепенцев», как это сделали
Г. Бенн и Ф. Зибург, чего он не мог себе позволить, зная его личное
отношение ко многим из них, или промолчать, чего он также не мог
1 Коерреп W. Op. cit.— GW. Bd. 5. S. 75-76.
2 Цит. по: Döring J. Op. cit. S. 39. »Café du Dome« — французский аналог «Романского
кафе», где собирался весь цвет французской творческой интеллигенции.
3 Коерреп W. Widerspruch // Die Zeit. 21.02.1992.
4 Prümm К. Ambivalenz // Die Zeit, 21.02.1992..
824
сделать, ибо эта тема широко обсуждалась после публикаций обо-
их критиков? Оставалось одно — каким-то образом смягчить суть
проблемы, затуманить политическую составляющую этого явления.
Но даже за эти слова Кёппен, по возвращении в Берлин, получил
взбучку от главного редактора газеты, назначенного нацистами:
«Вы что, хотите, чтобы евреи вернулись?»1
Вряд ли политической двойственностью вызвано и довольно
смелое изображение Кёппеном картины немецкого присутствия
в культурной жизни Парижа, отчего складывается впечатление, что
немецкое искусство в столице Франции представлено эмигрантами,
а не гражданами нового рейха. Как бы по незнанию он восхища-
ется кинофильмами, уже запрещёнными в Германии. Среди них,
например, «Завещание доктора Мабузе», который к этому времени
был уже запрещён личным указанием Геббельса, а Фриц Ланг (Lang,
Fritz; 1890-1976), режиссёр этого фильма, сбежал во Францию,
тайно провезя с собой французский вариант киноленты, который
Кёппену и удалось посмотреть в Париже.2 Смелым было и упоми-
нание имени Марлен Дитрих (Dietrich, Marlene; 1901-1992), ибо
к этому времени нацистская пропаганда развернула уже бурную
кампанию против знаменитой актрисы, отказавшейся вернуться
в фашистскую Германию и сделавшей ряд антинацистских заявле-
ний.3 Обо всём этом Кёппен не мог не знать, и здесь можно усмот-
реть преднамеренность поступка молодого журналиста.
1 Коерреп W. Op. cit.
2 Позднее, в 1943 г., в статье, опубликованной в американском журнале «Скрин
Форуорд», Ф. Ланг писал: «Этот фильм был создан как аллегория, чтобы показать
гитлеровский механизм террора. Лозунги и доктрины Третьего рейха были вложены
в уста преступника. Таким способом я хотел разоблачить гитлеровскую теорию,
гласившую, что нужно систематически уничтожать всё, что дорого людям» (Коло-
дяжная В., Трутко И. История зарубежного кино. Т. 2. M., 1970. С. 298.
3 В начале мая 1933 г., прмерно, в то же время, когда появилась и статья Кёп-
пена, немецкий журнал «Лихтбильдбюне» (»Lichtbildbühne«) раздражённо писал
по поводу нового контракта Дитрих с голливудской фирмой «Парамоунт», обвиняя
актрису в том, что она, вместо того, чтобы «отдавать свой талант и свою славу
на пользу своему народу», предпочитает получать большие гонорары, сниматься
в американских фильмах, и не думает возвращаться на родину. «Теперь, когда
в соответствующих инстанциях уже поднят вопрос о целесообразности ввоза
в новую Германию фильмов подобных деятелей искусства, решивших отряхнуть
с ног прах своей родины, очень сомнительно, что в будущем немецкая публика
получит возможность смотреть фильмы с участием Марлен Дитрих» (Marlene
Dietrich. Dokumente / Essays / Filme. Teil I / Zusammengestellt von W. Sudendorf.
München, 1977. S. 7.)
825
«Париж этой весной» — это не столько впечатления парижской
жизни, сколько тоска по Германии до прихода фашистов к власти,
выразившаяся в поэтическом описании старого Парижа, в любо-
вании его улицами, обычаями, людьми, но это и показатель поли-
тической инфантильности Кёппена. Последующая публицистика
Кёппена говорит о том, что он иногда легко поддаётся на некоторые
посылы в области литературы со стороны нацистов, если эти посылы
затрагивают дорогую для него тему, в данном случае, судьбу экс-
прессионизма в нацистской Германии, что позволило уже в наше
время К. Прюмму говорить о Кёппене как о «выразителе... подчёр-
кнутой молодёжности «движения»,1 имея ввиду восторженный пыл
статьи Кёппена «Молодёжь и искусство» (»Die Jugend und die schöne
Kunst«, 1933), в которой говорится о митинге «Национал-социа-
листского немецкого союза студентов», состоявшемся в Берлин-
ском университете под лозунгом «Молодёжь борется за немецкое
искусство», и выражается — правда, с позиций фёлькиш-нацио-
налов — поддержка выступлений в защиту творчества Барлаха,
Кольбе, Шмидт-Ротлуфа и Эмиля Нольде. Для Кёппена — это святые
имена, учитывая его давнюю приверженность экспрессионизму,
и он откровенно радуется тому, что в молодёжной среде, пускай
и национал-социалистов, «так свободно, как давно уже не случа-
лось, метали громы и молнии против мещанских рыцарей культуры,
против невежд и бородачей, которые, сами давно уж позабытые,
употребляют лозунг «культурболыневизм», словно детское пугало,
против каждого произведения искусства, которое превышает их
микроцефальный духовный горизонт».2
Однако за несколько дней до этой статьи Кёппена никто иной
как Альфред Розенберг, идеолог национал-социализма, разразился
на страницах «Фёлькишер беобахтер» гневными словами против
искусства экспрессионистов, назвав искусство Нольде (на тот
момент, между прочим, члена партии) «негроидным», а скуль-
птуры Барлаха «полуидиотски бодро смотрящими смешанными
вариациями неподлежащего дефиниции сорта людей».3 Другой
«идеолог», мнящий себя poëta laureatus всех времён и народов,
Бёррис фон Мюнхгаузен, рассуждая об экспрессионизме, заявил,
1 Prümm К. Op. cit.
2 Коерреп W. GW. Bd. 5. S. 87.
3 Rosenberg A. Revolution in der bildenden Kunst // Völkischer Beobachter. 07.07.1933.
826
что «поколение это представляло в большинстве своём арестанты,
дезертиры и преступники».1 В этой связи высказывания Кёппена
обретают совсем иной смысл. Это открытый вызов официальной
точке зрения на экспрессионизм и вообще на культурную политику
нацистов, но за этим скрывается ещё и слабая надежда на то, что
нацистское движение даст новый импульс в развитии искусства.
Не случайно Кёппен сослался на судьбу итальянского футуризма,
нашедшего поддержку у Муссолини: «Там национальное движение
фашизма и молодое художественное направление футуризм мар-
шировало и продолжает маршировать совместно, и только у нас
некоторые реакционеры старой школы думают, что молодёжь
национального свойства будет выступать в чрезмерной привер-
женности консерватизму против всего, что является современным
в искусстве».2
В своих суждениях об экспрессионизме и футуризме Кёппен
в значительной мере близок позиции Г. Бенна, выраженной им
в его знаменитом письме Б. фон Мюнхгаузену, в которой он откры-
то выступил в защиту экспрессионизма, хотя и считал, в отличие
от Кёппена, его «последним искусством Европы», закончившим
своё существование как художественное явление.3 Подобные
настроения были очень распространены среди значительной части
немецкой либеральной интеллигенции первых лет правления Гит-
лера, и манифестации студентов, выступавших против засилия
«художников «Гартенлаубе» (журнала, издававшегося в 1853 году
и выражавшего идеалы мещанства.— Е. 3.) и литературных рисо-
вальщиков,., реакционеров в искусстве»,4 а также широкая, хотя
и недолгая после выступления Гитлера, дискуссия по этому вопросу,
развернувшаяся в прессе, говорят не столько о приверженности
Кёппена новым властителям, пускай и «иллюзорной», как считает
совершенно напрасно К. Прюмм, сколько вовлечённости его в дис-
куссию о судьбах немецкого искусства после прихода к власти
нацистов, о попытках каким-то образом воздействовать на ход
1 Цит. в изложении Г. Бенна по его статье «Признание в экспрессионизме» //
Бенн Г. Двойная жизнь. Проза. Эссе. Избранные стихи / Составление И. Болычёва,
В. Вебера. Аугсбург, Москва, 2008. С. 313.
2 Коерреп W. Op. cit.— GW. Bd. 5. S. 86-87.
3 Бенн Г. Указ. соч. С. 320.
4 Цит. по: Brenner H. Die Kunstpolitik des Nationalsozialismus. Reinbek bei Hamburg,
1963. S. 67.
827
этой дискуссии. Не следует забывать, что Кёппен публикуется
на страницах газеты, поддерживающей новый режим, и он дол-
жен, чтобы как-то выразить своё отношение к данной проблеме,
играть на поле своих противников, т.е. прибегать, хотя и в смяг-
чённом виде, к риторике тех лет, опираться на любую возможность
(в данном случае, взбунтовавшийся «Национал-социалистский союз
немецких студентов) отстоять собственное видение обсуждаемой
проблемы. Наивно? Конечно, но речь идёт о двадцатисемилетнем
молодом человеке, не слишком искушённом в политической борьбе,
но и не являющимся сторонником нового режима.
В этом можно убедиться, если обратиться к серии статей Кёп-
пена о литературе 1932-1933 годах. При всём кажущемся разно-
образии авторов, к творчеству которых Кёппен обращался в эти
годы (и это разнообразие также рассматривается К. Прюммом
как следствие амбивалентности молодого критика), подавляющее
большинство из них в значительной мере созвучно его восприятию
мира. Кёппен обращает внимание в своих рецензиях, прежде все-
го, на гуманистическую сущность литературы, на её возможности
выявления и воспитания в человеке тех свойств и качеств, кото-
рые помогают ему во всех его делах оставаться человеком в самом
широком, в самом благородном, в самом надёжном смысле этого
слова. Одно это уже можно рассматривать как выражение неприя-
тия нацистского режима. Книга для Кёппена является своеобразной
лакмусовой бумажкой, которая сигнализирует не только о духовном
настрое отдельного человека, но и о духовном состоянии обще-
ства. В небольшой заметке «Ко дню книги» (»Zum Tag des Buches«,
1933), говоря о широком размахе празднования книги (нацисты
придавали этому событию большое значение), Кёппен с грустью
замечает: «Любовь к книге, к сожалению, стала уделом старшего,
но не младшего поколения... Интерес, который проявляют к книге
молодые люди 1933 года, не так уж велик, чтобы внести существен-
ный вклад в дело распространения книги. Возможно, в день книги
уже в школе поймут, что хотя здоровый дух только в здоровом теле
может жить, но что дух, если он вообще может жить, т.е. имеется
в наличии, питается книгами».1
Книги, которыми питался дух Кёппена, и на которые критик
хотел обратить внимание читателей (хотя это не всегда опреде-
лялось его личным желанием), почти всегда являлись знаковыми
1 Кп (Коерреп W.). Zum Tag des Buches // Berliner Börsen-Courier. 22.03.1933.
828
явлениями в немецкой литературе тех лет. Таким был роман Ганса
Хенни Янна (Jahnn, Hans Henny; 1894-1959) «Перрудья» (»Perrudja«,
1929), интерес Кёппена к которому вызван был в первую очередь
его экспрессионисткой манерой письма, а также необычной даже
по меркам тогдашней литературы свободой обращения к сексуаль-
ным проблемам. Одни называли Янна «великим поэтом, творящим
вне времени», другие характеризовали его творчество как «про-
явление безмерно утончённого извращения болезненного мозга».1
Последнее обстоятельство, характерное не только для «Перрудьи»,
но и для всего творчества писателя, вызывало ожесточённые спо-
ры в прессе, хотя интерес Янна к этим проблемам определяется
исключительно постановкой проблемы человека как вида со всеми
его проявлениями в духе Д. Джойса, какими бы отвратительными
и повседневными они ни были. «Человек способен на всё», говорил
Янн, и поэтому он «находится вне добра и зла», отсюда привержен-
ность его к самым ужасным, аномальным эротическим поступкам,2
представляемым писателем как обычное сексуальное влечение.
Руководствуясь словами Янна из его предисловия к своему роману
о том, что «жизненные функции человека также не представляют
никакой важности, как и взмах крыльев комара»,3 Кёппен особо
подчёркивает, что герой писателя не деятель, не конкретное лицо,
а обобщённый образ «человека, не такого, как все, а исключительно
одинокого, остающегося изолированным от времени», «которому
было предсказано, что он взрастёт как лилии в поле, иначе он, сла-
бый и нерешительный, вместо того, чтобы быть для нас примером,
скатился бы в низины болезни и мелочных преступлений».4 Янн
живописует не конкретного человека, ибо «люди вообще-то не име-
ют какого-то образа, они просто существуют»,5 а только набрасывает
его общие контуры, связывает его с прошлым и настоящим, и поэ-
тому «его добротность может быть такой же огромной, как и его
1 Цит. по: Lennartz F. Deutsche Schriftsteller des 20. Jahrhunderts im Spiegel der Kritik.
Bd. 2. Stuttgart, 1984. S. 829.
2 Ibid.
3 Jahnn H.H. Inhaltsangabe // Jahnn H.H. Perrudja. Frankfurt / Main, Hamburg,
1966. S. 6.
4 Koeppen W. Der mehr schwache als starke Mensch. Ein Versuch über Hans Henny
Jahnn und seinen Roman »Perrudja« // Berliner Börsen-Courier, 15.07.1932.— GW.
Bd. 6. S. 15.
5 Jahnn H.H. Op. cit. S. 6.
829
подлость, и по-этому опасно буйствует мысль по полям его влечений
и инстинктов».1 Кёппен особо подчёркивает «нордическую» факту-
ру романа Янна (действие его происходит в Норвегии, среди скал
и лесов), но при этом обращает внимание и на то, что эта фактура
имеет общечеловеческий характер, который «люди, призывающие
всё время к германской поэзии, совершенно не поймут».2
Замечание вполне современное, если учесть, что рецензия писа-
лась в преддверии прихода к власти нацистов, в идеологической
программе которых нордическая составляющая играла огромную
роль. В этом смысле, прибегая к высказыванию Кёппена о том, что
Янн «возможно, был единственным в своём поколении, кто воспри-
нимал... сомнительность существования человека,., не знавшего,
откуда, куда и зачем он на этой земле»,3 было бы неверно, как это
сделал Прюмм, интерпретировать в таком же духе и весь творче-
ский путь самого автора рецензии (можно подумать, что остальные
писатели в этом смысле были более информированы!)
Кёппен знал и видел, что консервативная часть немецкой
литературы, находившаяся в оппозиции к либеральному духу Вей-
марской республики, всячески поддерживала и выражала в своих
произведениях националистические идеи о превосходстве северной
расы по отношению к другим народам, и поэтому естественным
выглядит обращение писателя к этой проблеме в статье «Мёллер
ван ден Брук. От „Итальянской красоты" через „Прусский стиль"
к „Третьему рейху"» (»Moeller van der Brück. Von der Jtalienischen
Schönheit« über den Preußischen Stil< zum >Dritten Reich««, 1933.)
Статья эта также вызвала недовольство К. Прюмма, усмотрев-
шего в ней если не прямую приверженность молодого Кёппена
идеологии нацистов, то, по крайней мере, некий аванс для после-
дующего сотрудничества. Однако статья эта свидетельствует как
раз об обратном, ибо по сути своей это не эссеобразный фельетон,
как это принято в подобного рода рецензиях, а обыкновенный
реферат, в котором Кёппен рассматривает три этапа творчества
Мёллера ван ден Брука.
Прежде всего, Кёппен фиксирует, что Мёллер «считается
одним из важнейших духовных отцов современного национализма
1 Коерреп W. Op. cit.— GW. Bd. 6. S. 17-18.
2 Коерреп W. Op. cit.— GW. Bd. 6. S. 18.
3 Коерреп W. Op. cit.— GW. Bd. 6. S. 13.
830
социального типа»,1 т.е. сообщает общепринятый факт, а не «про-
славляет» его, как это мнится Прюмму.2 Основное внимание Кёп-
пен уделяет духовному развитию Мёллера, его огромному интересу
к творчеству Ф.М.Достоевского, которого он считал «гарантом
идеализма, вечного и мистического в борьбе против материализ-
ма».3 Не случайно Мёллер был первым переводчиком произведений
великого русского писателя. В этой связи понятен интерес Мёллера
не к красочной Италии, не к её картинным галереям, а к итальян-
ской литературе, пишущей «о страданиях и нужде», к «футуристам,
выступающим против прошлого», к «страстным манифестациям»
сторонников Муссолини. Все эти события приводят Кёппена к тому,
что он, по замечанию критика Йозефа Квака (Quack, Josef), «пра-
вильно интерпретирует термин Мёллера «народный» не как биологи-
ческий, а как духовный термин», говоря тем самым, хотя и импли-
цитно, что здесь существует различие между «расой» и «нацией»,4
что, естественно, не вписывается в контуры нацистской идеологии.
Достаточно подробное описание пребывания Мёллера в Италии, его
восхищение политическими событиями, связанными с фашистским
движением в этой стране, в известной мере отражают устойчивое
мнение среди немецкой интеллигенции в годы Третьего рейха
о либеральном отношении фашистских властей Италии к деятелям
литературы и искусства. Действительно, ряд немецких писателей
(М.Л. Кашниц, С. Андрее, Г. Р. Хокке) предпочитали оставаться
и даже публиковаться в Италии времён правления Муссолини,
учитывая более благоприятную политическую атмосферу в стране.
Во второй части статьи, касающейся книги Мёллера «Прусский
стиль», Кёппен впервые высказывает своё мнение, называя это
произведение «самой ясной монографией страны», т.е. Пруссии,
в восхвалении строгой архитектуры которой соединилась поли-
тическая надобность колонизаторского толка, проявился «стиль
образа мыслей и политического сознания»5 Мёллера, что признаётся
1 Коерреп W. Moeller van den Brück. Von der »Italienischen Schönheit« über den »Preu-
ßischen Stil« zum »Dritten Reich« // Berliner Börsen-Courier, 30.04.1933.— GW.
Bd. 6. S. 26.
2 Prümm K. Op. cit.
3 Ibid. S. 27.
4 Quack J. Wolfgang Koeppen in der Diskussion. Zu einigen Problemen der Forschung / /
J.Q. Anfang Bücher zur Literatur... http://www.j-quack.homepage.t-online.de/pub-
lic30.htm S. 6.
5 Koeppen W. Op. cit. S. 31.
831
и современными исследователями, так что в этой похвале философа
нет ничего предосудительного.
В заключительной части этой статьи Кёппен даёт общее пред-
ставление о книге Мёллера «Третий рейх», избегая говорить о сути
его концепции Третьего рейха как таковой, о том, почему она соот-
ветствует принципам идеологии национал-социализма, и в какой
степени она отвечает реальной действительности, сложившейся
после прихода к власти Гитлера, т.е. не высказывает своего мне-
ния о предмете разговора. Вместо этого Кёппен приводит цитату
Мёллера из его предисловия к изданию своей книги, в которой
автор полон «сомнений и пессимизма»,1 имея в виду политическую
ситуацию в Веймарской республике 1922 года, по поводу будущего
воплощения в жизнь идей своего детища, и завершает эту цитату
одной фразой: «Так было».2 Вот и весь его комментарий к фунда-
ментальному труду одного из провозвестников фашизма.
Кёппен не хочет рассуждать о проблемах национал-социалист-
ского партийного строительства. В этой книге его интересовала
только её «культурно-историческая основа», в толковании которой
«автор, к счастью, и был полон жизни».3 Вот, собственно, настоя-
щее суждение Кёппена о книге Мёллера, и в этом заключается его
манера ухода от мира политики в мир искусства, хотя он никогда
не упускает возможности опосредованно высказать своё мнение
и о реальных явлениях современной жизни тех лет.
Свидетельством тому его последующие рецензии на книги
Томаса Манна, Роберта Музиля, Марии Луизы Кашниц, Элизабет
Ланггэссер — авторов совершенно не привечаемых нацистской
прессой, чьи книги ещё выходят в Германии и, несмотря на гроз-
ные окрики официальных нацистских чиновников, продолжают
привлекать внимание читателей и прессы. Статьи Кёппена об этих
авторах — это тоже протестная акция, и если бы он вознамерился
искать покровительства нацистов, как это полагает Прюмм, то дол-
жен был бы, если невозможно замолчать произведения названных
писателей, то, по крайней мере, разразиться громами в их адрес,
потому что книги их никак не вписывались в литературные пред-
почтения нацистов. И поэтому для Кёппена роман Томаса Манна
1 Втек М. van den. Das Dritte Reich. 3. Auflage. Hamburg, Berlin, Leipzig 1932. S. X.
2 Koeppen W. Op. cit. S. 33.
3 Koeppen W. Op. cit. S. 32.
832
«Былое Иакова» (»Die Geschichten Jakobs«, 1933) из его библейского
цикла об Иосифе Прекрасном является «чудесным произведением
немецкой эпики»,1 а для рецензента журнала «Литерарише вельт»,
ставшего под знамёна нацистов,— «профессорской болтовнёй»,
отмеченной «отголосками декадентского времени», «разлагающим
релятивизмом», «сенильной похотливостью... к картинам полового
свойства»;2 роман Роберта Музиля «Человек без свойств» (»Der Mann
ohne Eigenschaften«), второй том которого рецензировал Кёппен,
воспринимается им как «верх художественного совершенства», как
«великий немецкий роман,., достойный сравнения с произведения-
ми Марселя Пруста»,3 в то время как анонимный автор (конечно же,
Г. Лангенбухер) «Бюхеркунде», органа А. Розенберга, презрительного
заявляет, что в этом романе он видит «великое интеллектуальное
расточительство и великую искусность (не искусство!) ,.. так что
нам, сегодняшним немцам, подобное блюдо представляется совсем
несъедобным, более того,— неудобоваримым. Мы не можем никому
рекомендовать эту книгу...»;4 наконец, совсем необычные рецензии
на книги Марии Луизы Кашниц (Kaschnitz, Marie Luise; 1901-1974)
и Элизабет Ланггэссер (Langgässer, Elisabeth; 1899-1950), в которых
Кёппен восхищается не только произведениями этих писательниц,
говоря о «великолепном языке» романа Ланггэссер «Прозерпи-
на», о её искусстве «связывать воедино повседневность и миф»,5
и отмечая в первом романе Кашниц «Любовь начинается» (»Liebe
beginnt«, 1933) «хорошее понимание сущности эпической формы»,6
но и упоминает имя Анны Зегерс, находившейся уже в эмиграции
и лишённой германского подданства.7
1 Кп (Коерреп W). Der Joseph-Roman von Thomas Mann // Berliner Börsen-Courier.—
GW. Bd. 6. S. 53.
2 Wecker J. Thomas Manns Alterswerk. Eine notwendige Ablehnung / / Die literarische
Welt. Neue Folge 1933. 27.10.1933. S. 2.
3 Koeppen W. Roman um Reden. Zum zweiten Band von Musils »Mann ohne Eigenschaf-
ten« // Berliner Börsen-Courier. 10.03.1933.— GW. Bd. 6. S. 20.
4 Anonym. Der Mann ohne Eigenschaften. Roman von Robert Musil, 1. und 2. Teil //
Bücherkunde. 5. Folge. 1935. S. 167.
5 kn (Koeppen W.). »Proserpina« // Berliner Börsen-Courier. 05.10.1933.
6 Koeppen W. Zum Roman »Liebe beginnt« von Marie Luise Kaschnitz / / Berliner Bör-
sen-Courier, 02.11.1933.—GW. Bd. 6. S. 35.
7 Ibid.
833
Литературные пристрастия Кёппена, особенно ярко проя-
вившиеся в последний год его работы в «Берлинер бёрзен-курир»,
свидетельствуют не об амбивалентности молодого журналиста,
а о попытках выжить в изменившейся ситуации, нащупать свой
путь в литературе. Не случайно именно 1933 год отмечен серией
сугубо литературных публикаций Кёппена, которые говорят о его
серьёзных намерениях целиком отдаться литературному творчеству.
Ряд рассказов Кёппена — «Лошадь», «Тысяча лиц Джоан», «Кризис»,
набросок к роману «Голштинские ворота» — представляют собой
отчаянную попытку начинающего писателя обрести свой стиль, свою
тему. Уже первый рассказ «Лошадь» (»Das Pferd«, 1933) сигнализиру-
ет о стремлении Кёппена к созданию новой действительности при
сохранении её прежних контуров. Старый библиотекарь дарит своей
жене по случаю её пятидесятилетия лошадь, хотя поначалу речь
шла об автомобиле. Живя на одной из оживлённых улиц Берлина,
старики не знают, что им дальше делать с лошадью. Наконец они
берут в аренду в одном из пригородов Берлина луг, куда каждое утро
отводят на прогулку Ганса, так они назвали лошадь. Соседи всячески
смеются над ними, а старики от таких прогулок воспрянули духом,
помолодели, радуясь смене обстановки. Местные мальчишки взяли
лошадь под свою опеку, а когда старики умерли, то, согласно их
завещанию, Ганс должен был оставаться на этом лугу до конца своей
жизни: «Так произошло, что прохожие по дороге к Вальдфридхов-
скому кладбищу увидели среди скромных бюргерских похоронных
процессий некое шествие, которое, благодаря медленной поступи
лошади, опустившей свою тонкую шею в знак траура, пробудило
у всех возвышенные мысли о победе и смерти и о кавалерийских
битвах и о счастье этой земли на спине лошади».1
Если в этом небольшом рассказе ещё можно усмотреть некое
присутствие «магического реализма», способствовавшего созданию
новой действительности, то в рассказе «Тысяча лиц Джоан» (»Joans
tausend Gesichter«, 1933) эта же тема подвергается тотальному
пересмотру, ставится под сомнение сама возможность постижения
её в полной мере. Здесь также, как и в «Лошади», происходит собы-
тие, выходящее за рамки повседневности. Владелец фотоателье,
чья «жизнь в размеренности уверенного существования грозила
превратиться в никчёмное существование»,2 внезапно бросает
1 Коерреп W. Das Pferd // Berliner Börsen-Courier, 15.02.1933.— GW. Bd. 5. S. 59.
2 Koeppen W. Joans tausende Gesichter // Berliner Börsen-Courier, 05.04.1933.— GW.
Bd. 3. S. 106.
834
свою работу, семью, и без всяких объяснений исчезает. Через год
он возвращается «совершенно другим человеком»1 и рассказывает
историю своего исчезновения. Однажды утром в фотоателье появил-
ся покупатель, который попросил с помощью множества фотоаппа-
ратов мгновенно сделать снимки его подруги Джоан, объясняя это
тем, что на всех имеющихся у него фотографиях «она выглядит всё
время по-разному. Я не знаю, как мне быть. Ту, с которой я живу,
фотографы никак не могут зафиксировать».2 Однако в ходе прове-
дения столь необычного фотосеанса рассказчик убедился, что, как
только загорелись мощные лампы, «её платье оказалось разрезанным
лучами света, она сама превратилась в нечто расплывчатое, кото-
рое невозможно было сохранить как явление, потому что оно всё
время изменялось, и в фантазии смотрящего пронеслась вереница
ярких представлений».3
Проявленные фотографии не убедили ни заказчика, ни само-
го фотографа в успешности этой фотоакции, и он отправляется
в погоню за исчезающим обликом Джоан, фиксируя, где бы она
ни появлялась, каждый её шаг, всякий раз убеждаясь в безуспеш-
ности своей операции. Точку в этой истории ставит сама жизнь,
когда он увидел её лежащей «на шоссе в штате Канзас, где она была
убита её спутником выстрелом в сердце. Прекрасное, спокойное
лицо мёртвой было последней плёнкой, которая лучше всех осталь-
ных теперь передала отпечаток того явления, которое тот человек,
а позднее и я, узнали как Джоан».4
Фотоаппарат — то же перо писателя, и в этом рассказе отрази-
лось понимание Кёппеном уже в начале своего творческого пути
невозможности постижения действительности во всех её прояв-
лениях, отсюда фрагментарность её изображения, которая станет
основным художественным методом Кёппена в его общении с посто-
янно изменяющейся действительностью XX века. В этом рассказе
уже предрешена перекличка с прозой Фридо Лампе, с которым
Кёппен был знаком и книги которого считал «учебниками для моло-
дых писателей».5 Приверженность Лампе поэтике кино, «симуль-
1 Коерреп W. Joans tausende Gesichter. S. 105.
2 Ibid. S. 106.
3 Ibid. S. 108.
4 Ibid. S. 109.
5 Коерреп W. Friede- Lampe und Felix Hartlaub // Коерреп W. Gesammelte Werke. Bd. 6.
Essays und Rezensionen / Hrsg. v. M. Reich-Ranicki. Frankfurt / Main, 1986. S. 320.
835
танности изображения событий», его «тихий вид авангардизма»,
проявляющийся «не в запутанной и экспериментальной форме»,1
отвечал манере Кёппена восприятия мира. Этот настрой с особой
силой проявился в последней публикации Кёппена в «Берлинер
бёрзен-курир», в рассказе «Голштинские ворота» (»Holstentor«, 1933),
представленном как «набросок к нереальному роману».
Сюжет рассказа основан на реальном факте из детских лет
Кёппена.2 Речь идёт об увлечении Кёппена цирком. Его привлекал
не собственно цирк, а атмосфера подчёркнутой независимости,
свободы, дух бродяжничества. Не в меньшей мере привлекало его
и то обстоятельство, что окружающие всегда относились к артистам
цирка с настороженностью, с известной долей презрения, видя
в них людей низшего сорта, находящихся вне общества. Всё это
соответствовало бунтарским настроениям молодого Кёппена, и он
даже попытался убежать с цирковой труппой из дома. Но холодная
расчётливость, душевная пустота людей цирка заставили роман-
тически настроенного Кёппена отказаться от своего замысла.
Оказалось, что эти бродяги почти ничем не отличались от обычных
бюргеров. Всё то, против чего восставал молодой Кёппен, буйным
цветом произрастало и здесь, среди людей свободного искусства,
сознательно поставивших себя вне общества, а втайне всеми силами
стремившихся походить на членов этого общества. Противоречие
между мечтой и действительностью, сожаление об утрате пер-
возданного мировосприятия, отчаянные попытки как-то вернуть
мечты юности, в любом виде, любым способом — вот основное
содержание рассказа «Голштинские ворота».
Сам рассказ построен на противопоставлении удручающе одно-
образной и тоскливой жизни супружеской пары, доживающей свой
век в деревне в достатке за картами и пересудами о том, что они
сделали бы, если бы у них было то-то и то-то, и описания ярмарки,
олицетворяющей прошлое этих супругов, их мечты, которые так же
быстро потухли, как и огни ярмарки. Красочная картина ярмарки,
задорной, весёлой, шумной, прерывается многочисленными зари-
совками ярмарки ночной, уснувшей. То, что днём сверкало, искри-
лось и манило, ночью выглядело таким жалким, таким обыденным,
таким грубым. В этом описании представлена вся жизнь супругов.
1 Коерреп W. Friedo Lampe und Felix Hartlaub. S. 319.
2 Впоследствии Кёппен упомянет об этом в автобиографическом очерке «Окольными
путями к цели» и в рассказе «В моём городе я был одинок».
836
Но где-то в глубине души им хочется прикоснуться к своим мечтам,
и слуга, словно почувствовав это желание, ночью отправляется
в город, чтобы привезти хоть что-нибудь с ярмарки. Слуга привозит
им маленькую обезьянку, но и она тут же благополучно вживает-
ся, вернее, её вживают в устоявшуюся атмосферу однообразного
благополучия, она становится тем же непременным предметом
обстановки в доме, как и «кот, который мурлычет на печи, как
это и положено коту», и «собака, стонущая во сне от страха перед
волками, которых она никогда не видела».1
Рассказ этот свидетельствует уже о наличии определённой
манеры письма Кёппена, отмеченной умением представить,
не прибегая к пространным описаниям, быстрыми мазками кар-
тину города с его историей, с его жизнью, с его особенностями,
увиденную слугой, словно отражение, в глазах вздыбленной лоша-
ди, испугавшейся проносившегося поезда. Здесь уже определился
излюбленный Кёппеном способ нанизывания с помощью союза «и»
цепочки разнообразных деталей, которые в массе своей создают
образ той или иной ситуации или разворачивающийся в своей
неопределённости внутренний монолог героев его произведений,
самого автора. Кёппен, как и Лампе, шёл к познанию мира, к пони-
манию его многоликости и изменчивости своим путём. Каждый
из них, не сговариваясь, выработал свою манеру общения со своим
временем, и это знаменательно, ибо связано было с желанием как
можно полно и сразу передать моментальное состояние времени.
Если Лампе оставался в пределах города с некоторыми экскурсами
в мир природы (ситуация для более широких, особенно политиче-
ских обзоров была неблагоприятная), то Кёппен, начав с журналист-
кой повседневности, представил в своём послевоенном творчестве
всю гамму политических и общественных проявлений, расширив
тем самым художественные возможности этого метода обозрения
реальной действительности.
Несомненно, что при всей разносторонней журналистской
деятельности Кёппена, работа в газете не отвечала устремлениям
и свойствам его характера. Об этом можно судить по его эссе «О про-
фессии писателя» (»Vom Beruf des Schriftstellers«, 1933), где Кёппен
прямо называет своё занятие журналистикой «выходом из затруд-
нительного положения», способом, дающим «писателю средства для
1 Коерреп W. Holstentor. Skizze zu einem unwirklichen Roman / / Berliner Börsen-Cou-
rier, 28.12.1933.—GW. Bd. 3. S. 117.
837
существования».1 Это эссе можно рассматривать как программное
заявление молодого писателя, как ключ к пониманию всего того,
что будет впоследствии им написано: «Не каждый писатель явля-
ется журналистом... писателю, занимающемуся журналистикой,
грозит опасность появления сноровки, гладкости, бойкости, отшли-
фованности, необходимости много писать, зависимости от собы-
тий дня со всеми его отклонениями. В газете писатель вынужден
разрабатывать свою тему по-другому. Он должен занять какую-то
позицию, иметь мнение, в то время как в книге он выразил бы
только глубочайшее и сдержанное сомнение. Книга долгое время
не выставляет писателя в неприкрытом виде перед читателем так,
как это делает статья. Роман — это область стыдливого. Со статьёй
это очень редко случается».2
Кёппен прекрасно понимает опасность положения писателя,
возникшую после прихода к власти нацистов. В заключительной
части его статьи представлена достаточно нелицеприятная картина
времени, которая отмечена вполне откровенными критическими
нотами: «Гражданская профессия гнетёт, журналистская профессия
скрывает в себе опасность. Добывать хлеб насущный становится всё
труднее. Богемная жизнь больше невозможна. Молодой писатель
(если только он им является!) пребывает в суровом и борющемся
мире, который он постигает в ожесточённой борьбе. Что ему делать,
чтобы не погибнуть, и чтобы он смог описать всё, что он чувствует?
Вопрос этот неразрешим. Он настолько мало поддаётся разреше-
нию, что на него с позиции нашего столетия можно ответить только
так — писатель должен быть своего рода солдатом!»3
Эта фраза взволновала в 90-х годах XX века критиков «новой
волны» своей якобы «героической дефиницией писателя»,4 что соот-
ветствовало пониманию нацистами предназначения художника,
из чего эти критики сделали вывод о полном согласии Кёппена
с идеологическими постулатами национал-социализма. Кёппен,
отвечая на эти абсурдные обвинения, писал: «Это был цинизм
чистой воды, сарказм, плохая шутка. Читатели тех лет понимали
1 Кп (Коерреп W.). Vom Beruf des Schriftstellers // Berliner Börsen-Courier,
19.09.1933.— GW. Bd. 6. S. 48.
2 Ibid. S. 49.
3 Koeppen W. Op. cit.— GW. Bd. 6. S. 49.
4 Prümm K. Op. cit.
838
это».1 Смысл этой фразы заключался в определении сложности поло-
жения художника в нацистской действительности, ибо он должен
теперь вести борьбу за собственное выживание как писателя и как
человека. Для него подобного рода обвинения обидны вдвойне,
потому что он никогда не был солдатом, не служил в армии, и счи-
тал это своей особой заслугой.2
Солдатом Кёппен не стал, но вынужден был, как и многие писа-
тели, не покинувшие Германию, стать, заручившись поддержкой
главного редактора «Берлинер бёрзен-курир» К. Бартца и шефа
литературного отдела этой газеты Г. Иеринга, членом Имперского
союза писателей, вскоре вошедшего в состав Имперской палаты
письменности, что обеспечивало ему возможность существовать
в статусе свободного художника. Этот поступок никак не связан
с подлинным выражением приверженности Кёппена новым власти-
телям, хотя в анкете, заполняемой для вступления в союз писателей,
содержалась такая обязательная фраза «Я... буду всегда выступать
в поддержку немецкой письменности в духе национального пра-
вительства».3 Отказ поставить свою подпись под этим пунктом
анкеты означал бы конец неначавшейся писательской карьеры
с последующими политическими последствиями. Тем не менее, этот
формальный поступок был воспринят рядом критиков «новой волны»
как подтверждение готовности Кёппена сотрудничать с нацистами.
Примечательно, что подобные обвинения почему-то не выдвигают-
ся против таких авторов как С. Андрее, П. Зуркамп, В. Вайраух,
П. Хухель, Г. Казак, К. Кролов (список этот можно продолжить),
которые также, как и многие другие авторы, прошли через это
испытание, и в этой особой «любви» к В. Кёппену, а также к Г. Айху,
видится некое политическое пристрастие левацкого толка.
Как бы то ни было, Кёппен получил формальную возможность
быть свободным художником, тем более что он находился уже
на пути к созданию своего первого романа «История несчастной
любви» (»Eine unglückliche Liebe«, 1934). В основе романа лежит
1 Коерреп W. Widerspruch // Die Zeit. 21.02.1992.
2 В желании как-то усомниться в антифашистской позиции Кёппена Прюмм
не обратил внимание на неопределённый артикль »ein«, стоящий перед словом
«солдат», который говорит о том, что Кёппен не собирался быть солдатом в прямом
смысле этого слова, а вести свою жизнь наподобие солдата, и тогда эта фраза
обретала свой настоящий смысл (Döring J. Op. cit. S. 45-47).
3 Döring J. Op. cit. S. 51.
839
история действительно несчастной, безответной любви Кёппена
к актрисе Сибилле Шлосс (Schloß, Sybille), с которой он познако-
мился ещё в 1927 году, когда пытался поступить в школу знамени-
того тогда режиссёра Макса Рейнхардта. Этот мучительный роман
нашёл уже своё частичное отражение в нескольких фрагментах,
обнаруженных в архиве Кёппена после его смерти, последний
из которых «Дорогая Сибилла!» (»Liebe Sybille!», 1933), являющийся
неким неотосланным письмом, содержит в себе своеобразный анонс
будущего художественного произведения: «Дорогая Сибилла! Стран-
но. У меня не получается. Я хотел бы рассказать о тебе, хотел бы
написать о тебе рассказ так, как я пишу для газеты. Лёгкие темы,
отдельные эпизоды: отъезд, прибытие, прогулка в Фюрстенфельд-
брук, насмешки над Хинкеном, что-то в этом роде. Не получается.
Уже первое предложение взрывает форму, как бы безобидно оно
ни начиналось. „Сибилла кивнула". Не получается».1
Роман действительно не получался. Макс Tay, влиятельный
редактор одного из самых известных в Германии издательств «Бру-
но Кассирер», давно уже убеждал Кёппена приступить к работе над
романом, но все его доводы оставались безуспешными. Дело дошло
до того, что Tay договорился с одним известным неврологом, пользо-
вавшим актёров, поместить Кёппена в его клинику: «Мы не хотели
его держать взаперти, но всё же мягко намеревались слегка побу-
дить его заняться, наконец, делом».2 Правда, Кёппен вспоминает,
что его заключение было не таким уж мягким: «Tay, этот строгий,
добросердечный литературный вахтёр, закрывал за мной дверь,
и уносил с собой ключи».3 Тем не менее, роман не получался. Даже
значительный аванс издательства, позволивший Кёппену уехать
в Италию с тем, чтобы там, на свободе, он мог начать писать, при-
вёл к тому, что он использовал его для следования по маршруту
гастролей Сибиллы, ставшей к этому времени актрисой знаменитого
политического кабаре «Пфеффермюле», созданного Эрикой Манн,
дочерью Томаса Манна. Несмотря на все усилия Кёппена его любов-
ное приключение, судя по всему, закончилось ничем. В известной
мере, любовные перипетии Кёппена, конечно, способствовали
формированию будущего романа, но, как вспоминал позднее сам
1 Коерреп W. Liebe Sybille! // Коерреп W. Auf dem Phantasieross. Prosa aus dem
Nachlaß / Hrsg. v. A. Estermann. Frankfurt / Main, 2000. S. 162.
2 Tau M. Op. cit. S. 248.
3 Коерреп W. Eine schöne Zeit der Not // Коерреп W. GW. Bd. 5. S. 314
840
Кёппен, «я жил в каком-то романе, который трагически закончился,
но обрёл себя на бумаге».1 Осознание любовной неудачи заставило
Кёппена по возвращении в Берлин заняться вплотную работой над
романом. Он находит приют в доме Доры Михаэлис, приятельницы
Гуго фон Гофмансталя, и в течение нескольких недель создаёт своей
первый роман «История несчастной любви».
«История несчастной любви» не является непосредственным
отражением социально-политических событий своего времени.
В романе почти отсутствуют какие-либо признаки, по которым мож-
но определить время и место действия: какое-то время, какая-то
страна, какой-то город. Подобную позицию Кёппена можно объяс-
нить не только желанием избежать нацистской цензуры, хотя при
желании отдельные отсылки к известным реалиям (например,
прозрачный намёк на кабаре «Пфеффермюле», эмиграцию, пускай,
и русскую), могли бы привлечь внимание цензоров, но и влиянием
отдельных мотивов поэтики немецких экспрессионистов, творче-
ство которых сыграло значительную роль в формировании Кёппена
как писателя. Абстрагирование от внешних частностей окружаю-
щего мира, особенно политических частностей, столь характерное
для произведений авторов афашистской литературы, приобрело
в годы нацизма особую значимость, ибо таким образом можно
было заострить внимание на внутренних переживаниях человека,
что по тем временам рассматривалось как неприятие фашистской
идеологии с её героическим началом в литературе.
Действительно, в романе «История несчастной любви» речь
идёт о человеке вообще, хотя он и носит имя Фридрих, о неприятии
человеком современного общества, о существовании в одиночестве,
о склонности к такому существованию. История любви бедного сту-
дента Фридриха к актрисе второразрядного кабаре Сибилле — это
мучительный диалог человека-одиночки, который даже в любви
ощущает себя одиноким, так как между ним и Сибиллой всё время
стоит невидимая стена отчуждения.
Фридрих не столько любит Сибиллу, сколько саму любовь к ней,
и ему доставляет удовольствие доводить себя до предельного состо-
яния влюблённости, чтобы потом найти повод соорудить эту стену
отчуждения, потому что Сибилла представляется ему неким «замеча-
тельным товарищем» времён детства с поцарапанными коленками,
товарищем по любви, ибо они оба играют в любовь по-крупному
1 Коерреп W. Op. cit. S. 315.
841
и постоянно проигрывают, не испытывая при этом большого сожа-
ления: «Он положил свою руку на её плечи, она не противилась.
Он снова был тронут этим согласием, и они оба [каждый по своим
причинам] смутились. Для него её голые колени, всё ещё поцара-
панные, были неким олицетворением честности Сибиллы. Они
облегчали ему его положение. Она ещё мальчишка, подумал он [как
обычно], мальчишка, и я могу относиться к ней как к более молодому
товарищу, который мне нравится. Но в действительности его жела-
нием было назвать Сибиллу своей [она предназначена для меня!],
как раз в этот момент перемещения её обыкновенного девичьего
свойства в некую другую, по-человечески более значительную, и,
как он думал, несексуальную, хотя и эротическую личность, это
желание было особенно сильным, оформившимся, пронизывающим
его острыми иглами с волос на голове и до кончиков пальцев ног...
Его рука охватывала её плечи и заключала всё её существо в его
пространном оберегающем изгибе. И оттого, что этот охватываю-
щий жест ею также был воспринят, «он укутывает меня, несёт, он
согревает меня», она освободилась одним усилием от покоящейся
на её плече его руки, освободилась порывистым высвобождающим
движением её фигуры, горячим подрагиванием губ, и, так как она
видела, какую боль это ему принесло, и так как она знала истину
этой боли, которая ей нравилась, она снова пустилась в крайности,
в разговоры, которые её пугали, если они становились громкими,
исходящими из её уст как звук в воздухе: «Ты как жаба, некая
жаба, ползающая по моей спине, как чешуйчато-склизкая, зелено-
глазая жаба из болота!» И они оба испугались, испытывая отвра-
щение от вызванного заклинанием явления чешуйчато-склизкой,
зеленоглазой жабы из болота. Мир снова ополчился против него.
Мир бессмысленный и неразумный, не подлежащий познанию. Он
не должен его касаться».1
Опорными (ключевыми) словами в романе становятся «грани-
цы» и «переезжать», которые, несомненно, могли вызвать у сторон-
ников, и у противников Кёппена определённые аллюзии с начав-
шейся в Германии эмиграции противников нацистского режима.
«Когда Фридрих в первый раз переезжал через границу в другую
страну, границы не были для него чем-то незнакомым».2 Эти два
слова становятся символами разъединения. Герои романа всё время
1 Коерреп W. Eine unglückliche Liebe // Коерреп W. GW. Bd. 1. S. 58-59.
2 Ibid. S. 9.
842
стараются переступать границы дозволенного, их существование
очень призрачно, неопределённо, они переезжают с места на место,
у них нигде нет родины. Судя по всему, такое существование им
нравится, и поэтому, когда после нескончаемых кружений по горо-
дам Европы они, наконец, встречаются в Венеции, и именно теперь
появляется конкретное место, конкретный город, где ставится
точка в любовных отношениях героев романа, заключительные
строки романа, несмотря на трагичность ситуации, звучат как бы
в мажоре. В них ощущается какое-то удовлетворение неизмен-
ности выбранного ими образа жизни: «Они оба смеялись, и они
знали, что ничего не изменилось и что стена из тончайшего стекла,
прозрачная как воздух, и, вероятно, намного острее передающая
появление этого другого состояния, осталась между ними. Сейчас
это была граница, которую они признавали; и Сибилла осталась
предназначенной для него, и Фридрих был тем самым человеком,
который принадлежал ей. Ничего не изменилось».1
Начало и конец романа в их философской мотивированно-
сти говорят о наличии композиции круга, бесконечной вариации
одного и того же мотива в его предопределённой незавершённости,
в возвращении на исходные позиции, где каждое возвращение
есть подтверждение кругообразности движения жизни, развития
человеческого общества. Подобное рассмотрение мира, сущности
человеческой цивилизации, навеянное, судя по всему, идеями
Ф. Ницше, О. Шпенглера, а также творчеством Дж. Джойса, займёт
в последующем творчестве Кёппена главенствующее положение,
будет усиливаться от романа к роману.
Содержания романа как такового в привычном смысле это-
го слова нет. Весь роман — это беспрерывный поток сознания,
обусловленный неразделённой любовью главного героя, а по сути
дела — самого Кёппена. «Я был фигурой романа». Эти слова Кёппена
подтверждают не только всё творчество писателя, но его огром-
ный архив, состоящий из рассказов, эссе, неоконченных романов,
повестей, набросков, говорящих о том, что Кёппен с ранних лет
фиксировал все проявления собственной жизни в надежде создать
из этого моря фрагментов некий портрет времени, в котором ему
довелось жить, и «История несчастной любви» стоит в начале этого
единственного в своём роде литературного эксперимента. Обилие
автобиографического материала, спорадически всплывающего
1 Коерреп W. Eine unglückliche Liebe. S. 158.
843
по ходу воспоминаний Фридриха о первых встречах с Сибиллой,
подтверждают подобную направленность творчества писателя. Это
и работа Кёппена на заводе в качестве контролёра ламп, и эпизоды
времён Первой мировой войны, и пребывание в Италии, о чём он
довольно подробно информирует Иеринга в своих письмах, да, соб-
ственно, и сама тема кабаре, излюбленная в его журналистских
публикациях, а также действительная история взаимоотношений
Кёппена с актрисой Сибиллой Шлосс,— всё это составляет прочную
основу его первенца.
Появление романа «История несчастной любви» вызвало ожив-
лённые, а порой и восторженные отклики на страницах солидных
газет и журналов как в Германии, так и за рубежом.1 Появление
свыше 15 (!) рецензий на первую книгу никому неизвестного писа-
теля — вещь сама по себе необычная, а то, что они были написаны
не просто дежурными рецензентами, а такими видными представи-
телями тогдашней литературной критики в Германии как Г. Иеринг,
Э. Францен, Ф. Бишов, К.Х. Руппель, К. О. Френцель, О. Карстен,
говорило об определённой значимости этой книги. Примечатель-
но, что большинство этих критиков в скором времени вынуждено
будет оставить свою работу в газетах по причине несоответствия их
взглядов идеологии национал-социализма, а также в связи с пресло-
вутым приказом Геббельса от 27.11.1937 года о запрете критики как
таковой. Благожелательная, может быть, даже слишком благоже-
лательная позиция, занятая критиками по отношению к первенцу
Кёппена, вызвана была как действительными художественными
достоинствами его романа, резко выделявшегося на фоне книжной
продукции тех лет, так и чисто политическими причинами, ибо
антифашистские настроения Кёппена были известны некоторым
из этих критиков, близко знавшим писателя. «Мы были счастливы,—
вспоминает М. Tay,— что такая книга, как история «Несчастной
любви», вообще ещё могла быть издана».2 Издательство «Бруно Кас-
сирер», выпуская в свет первую книгу В. Кёппена, предпослало ей
1 О зарубежных откликах о романе В. Кёппена «История несчастной любви» мож-
но судить только косвенно на основании упоминания об этом на суперобложке
переиздания романа в издательстве «Говертс» в 1960 г., небольшой анонимной
заметки в газете «Прагер прессе» (17.12.1934) и короткой отрицательной заметке
в австрийской прессе (Dr. Doppler. Ohne Titel // Mitteilungen des österreichischen
Borromäusvereins zugleich Fachblatt für katholische Bücherarbeit, 1937. H.l).
2 Tau M. Op. cit. S. 278.
844
такие слова: «В этом романе молодого писателя живут старейшие
человеческие страдания: превратности любви и очарованность
страданием, которое воспринимается как неизменная судьба».1
Если издательская аннотация, подчёркивая всеобщность
проблематики романа Кёппена, имела некоторый охранный под-
текст, учитывая смену идеологических предпочтений в Германии,
то Э. Францен, один из наиболее известных критиков тех лет, усмо-
трел в нём некие скрытые политические интенции: «В причудливо
неразрешимом чувстве, которое связывает героя романа с молодой
актрисой, откровенно проявляется то трагическая, то гротесковая
нереальность всех человеческих отношений».2
Такая асоциальность в изображении действительности, пас-
сивность героев романа, их отчуждённость, некоммуникабель-
ность позволили позднее некоторым критикам в ФРГ (Г. Липпман,
3. Райнхард) сделать довольно смелый вывод о том, что «История
несчастной любви» явилась первой ласточкой из той серии романов,
авторы которых, капитулировав перед жестокостью фашистской
действительности, попытались скрыться в безопасных глубинах вну-
треннего мира человека. Однако, независимо от намерений автора,
подобный настрой романа не вписывался в парадигму нацистской
действительности и это уже само по себе означало наличие кри-
тических интенций, и поэтому современники усмотрели в романе
Кёппена скрытый протест против фашизма.
Особые восторги вызвал у критики великолепный язык романа.
Критики единодушно отмечали, что молодой писатель виртуозно
владеет языком, техникой построения фразы. К.Х. Руппель восхи-
щался тем, что «книга Кёппена написана языком, полным тревож-
ной густоты. Как удивительна, как щедра ассоциативная способ-
ность его фантазии, как барочно распускаются у него метафоры».3
Ф. Бишофф писал: «Страницу за страницей он инструментует, кон-
трапунктирует, строит периоды как мосты... и смелой архитектуре
нигде не препятствует фальшивый звук, дешёвая отделка из пустых
прилагательных».4 Поток этих восторженных отзывов завершает
1 Von neuen Büchern aus dem Verlag Bruno Cassirer. Berlin, 1934. S. 7.
2 Franzen E. Eine erste Erzählung // Frankfurter Zeitung. 10.02.1935.
3 RuppelK.H. Wolfgang Koeppen: Eine unglückliche Liebe // Kölnische Zeitung.
23.12.1934.
4 Bischoff F. Mit ein paar Büchern // Die neue Rundschau. 1935. S. 93.
845
Г. Иеринг: «Прозаическое произведение искусства. Предвещание
поэта. Чудесная книга».1
Было бы неверным расценивать столь похвальные слова совре-
менников только тем, что они хотели поддержать автора, близкого
им по своим эстетическим и политическим воззрениям. И в наши
дни исследователи творчества В. Кёппена отдают должное таланту
писателя. «Это особая книга, необычный стиль»,— пишет П. Кипп-
хоф.2 К. Хорст находит, что в стилистическом отношении «История
несчастной любви», как, впрочем, и всё остальное, написанное
Кёппеном, чем-то напоминает Гоголя, его манеру обрисовывать
предмет с помощью второстепенных деталей, вдаваясь в подроб-
ности, на первый взгляд, совершенно не нужные, но на самом деле
очень чётко характеризующие описываемое».3
Единственная отрицательная рецензия появилась на страни-
цах газеты «Берлинер бёрзен-цайтунг» (»Berliner Börsen-Zeitung«,
1934), той самой газеты, редактором фельетона которой Кёппен
был несколько лет и которая теперь сменила не только название,
но и политический настрой. Г. Г. Гёпферт, один из молодых редак-
торов фельетона этой газеты (27 лет, моложе Кёппена на один год),
будущий исследователь творчества Шиллера и Мёрике, отмеченный
в ФРГ всевозможными премиями, устроил Кёппену, а вместе с ним
и всем тем, кто в какой-либо мере питался либеральными идеями
времён Веймарской республики, настоящий разнос, в котором
определил ясно и чётко место Кёппена в фашистской Германии,
заявив, что за такую книгу он должен быть наказан «трудовой
повинностью».4 Есть смысл привести эту статью полностью, ибо
её можно рассматривать как некий документ, отражающий сугу-
бо официальную точку зрения на литературу времён Веймарской
республики и на эмиграцию в частности, тем более что эта статья
отвечала и настроениям подавляющего числа авторов фёлькиш-на-
ционального направления.
«Что можно сказать о «молодом поэте», одарившем нас своим
первым произведением, которое является полнейшим выражением
духа того самого зловредного образа мыслей, который уже два года
1 Ihering H. Ein junger Prosaist / / Berliner Tageblatt. 11.11.1934.
2 Kipphof P. Die unglückliche Liebe liegt weit hinter ihm // Die Zeit, 1960. Nr. 18.
3 Horst K. Kritischer Führer durch die deutsche Literatur der Gegenwart. München,
1962. S. 144.
4 Göpfert H. G. Eine Abrechnung // Berliner Börsen-Zeitung, 23.12.1934.
846
как выдворен самым немецким образом из Германии. Этого молодо-
го человека зовут Вольфганг Кёппен, его книга называется «История
несчастной любви», а его издательство «Бруно Кассирер» находится
в Берлине. Пересказывать этот роман нет никакой возможности
и желания. Во всяком случае, о любви в нём я ничего не вычитал,
а лишь о том суррогате, который известные литераторы выдают
за любовь. Молодые люди, которые беспорядочно и шокирующим
образом говорят в этой примитивной атмосфере кабаре и борделя
о своих комплексах, являются такого рода болезненными тварями,
что действительно вынуждают однажды задать напрямую вопрос
о содержании — да есть ли такое, и надо ли о таких юношах и сам-
ках непременно что-либо писать? Если бы нечто подобное писал
какой-нибудь старый и эмигрировавший человек, тогда было бы
понятно. Но молодой поэт, сегодня? Здесь можно пожелать только
одного — трудовую повинность!»1
Кёппена обвинили в том, что он не заметил произошедших
в стране изменений, и продолжал писать как и прежде в духе тех
эмигрантов, от которых новая Германия освободилась «немецким
способом», да к тому же допустил, что его книга вышла в издатель-
стве, принадлежащем еврею.
Позднее, в статье «Прекрасное время нужды» Кёппен скажет:
«Будучи в Гааге, я развлекался и радовался по поводу политиче-
ского разноса. Если бы я прочитал о нём в Берлине, то сразу же
побежал бы на вокзал».2
Правда, был ещё один отрицательный отзыв, промелькнувший
в статье К. Керстена «Приспособившиеся», опубликованной в февра-
ле 1935 года в эмигрантском журнале «Замлунг», о существовании
которого Кёппен, по-видимому, не знал, хотя к этому времени он
уже находился в Амстердаме. По крайней мере, никакой реакции
по поводу этой статьи в его произведениях и письмах не обнаруже-
но. Говоря о том, что молодые авторы, оставшиеся в фашистской
Германии, «описывают не их мучительное, угнетённое положение»,
а «гиперличные» переживания героев своих книг, Керстен отмечает,
что Кёппен «в своём любовном романе... придаёт слишком большое
значение «личному счастью», но означает ли это подчёркивание некую
атаку против принципов тоталитарности национал-социализма?»3
1 GöpfertH.G. Eine Abrechnung // Berliner Börsen-Zeitung, 23.12.1934.
2 Koeppen W. GW. Bd. 5. S. 320.
3 Kersten K. Op. cit. S. 385.
847
Керстен требует от Кёппена большей ясности, более чётко выра-
женной политической позиции. Любопытно, что этот же призыв
прозвучал и с другой стороны. Серьёзная критика националистского
толка была также озабочена тем, что значительная часть писателей
«молодого поколения» или, как их называли тогда «промежуточ-
ное поколение» (Zwischenreichautören, т.е. авторы афашистской
направленности), существует как бы сама по себе и не вовлечена
в орбиту нацистского движения. В этой связи в некоторых кри-
тических статьях 1934 года, публикуемых в нацистской прессе,
несколько изменилась тональность обсуждения произведений этих
писателей. Например, Отто Карстен, правоверный сторонник наци-
онал-социализма, рассуждая о первых шагах в литературе таких
авторов как Макс Фриш, Тео Гёрлиц, Георг Бреннер, Клаус Ламбрехт
и Вольфганг Кёппен, представляет теперь их как бы без вины вино-
ватыми по той лишь причине, что «великий сплачивающий призыв
войны для них отзвучал, прежде чем прозвучали новые действенные
лозунги», и поэтому «они не несут никакой ответственности за дух
времени, определявший годы их развития и подвергшийся позднее
осуждению», чем, собственно, и вызвана их «страсть к уединению,
которая вообще-то ни в коем разе не подлежит оспариванию».1
Для того чтобы вывести их из этого уединения на правильный
путь, Карстен пытается убедить этих авторов в том, что они, сами
того не ошущая, уже находятся на правильном пути: «Хотя все они
достигли сверхличных вершин изображения, но всё же их манере
изображения свойственна ещё непосредственная исповедаль-
ность,.. им не хватает жёсткости, потому что суть дела заключает-
ся в степени силы, будет ли безжалостность бытия, понятно, что
священная безжалостность, в созерцании и выражении овладела
равноценными средствами. Здесь, как кажется, в общем и целом
радостно струящаяся полнота чувств юношеского переживания
более закрыта, чем ранена, более закрашена, чем преодолена».2
Карстен призывает молодых авторов быть более откровенными,
более современными, что, несомненно, приведёт их к изображению
реальной, т.е. нацистской действительности. Вместо разноса —
участливое ободрение, но оно прозвучало несколько запоздало,
по крайней мере, для Кёппена.
1 Karsten О. Die ersten Schritte (II). Fünf junge Autoren // Das literarische Echo. H.
3. Dezember 1934. S. 136.
2 Ibid. S. 137.
848
Казалось бы, после столь громкого успеха перед молодым
писателем открывались большие перспективы, хотя он прекрасно
понимал всю сложность своего положения в фашистской Германии.
Об этом времени он вспомнит в конце 70-х годов в неопубликован-
ном фрагменте «Чёрная вода» (»Zwart Water«, 1979), где он представил
свою жизнь в Берлине в начале 1934 г. в семье известного адвоката
Михаэлиса, которая мало чем отличалась от жизни молодого чело-
века из мира богемы до прихода к власти нацистов. Этот фрагмент
интересен тем, что он хорошо передаёт атмосферу времени, некоей
отстранённости от политических событий, которые, кажется, не так
уж и страшны: «Берлин лета и осени 1934 года. Молодой редактор
одной газеты, которая была запрещена в конце 1933 года, вернулся
к Троице из Италии в Берлин. Он видит, люди продолжают жить
по-прежнему. Он наслаждается первым днём начала лета на Кур-
фюрстендамм. Жизнь всё ещё идёт по правилам большого города.
Даже евреи не подвержены отчаянию. Некоторые люди убиты.
Многие мучаются в лагерях, особо подверженные опасности, извест-
ные имена эмигрировали... Встречаются люди, которые внезапно
стали умными. Все как-то успокоились, не должно долго оставаться
плохо, так можно и промышленность разрушить... Берлин был пре-
красен и волнующ как всегда. Теми, кто не вёл нормальный образ
жизни бюргера, были, прежде всего, люди, которые прогуливались
ночами, сидели в барах, искали любви, все они находили, что этот
Берлин ещё долго не станет национал-социалистским. Это был
танец на вулкане. Молодой писатель, к неприятному удивлению
его хозяев, вставал рано, писал до полудня свою книгу, печалился
по поводу своей дорогой любимой, которая играла в Цюрихе в теа-
тре, сидел после обеда где-нибудь на Курфюрстендамм, встречал
своих друзей, актёров, и вечерами отправлялся с ними в «Жокей»,
затем ещё к Фредди».1 Эти иронические строки свидетельствуют
о том, что образ жизни Кёппена, несмотря на политические пере-
мены в стране, оставался неизменным.
Однако это благостное затишье длилось недолго. События
30 июня 1934 года, когда Гитлер решил навести порядок в собствен-
ных рядах и устроил по всей стране кровавую резню, уничтожив
не только верхушку штурмовиков, но и некоторых противников
из рядов вермахта, заставило не только Кёппена, но и многих
1 Коерреп W. Zwart Water // Коерреп W. Auf dem Phantasieross. S. 743-744.
849
сомневающихся в непрочности нацистской власти, действительно
поспешить на вокзал. На следующий же день после этих событий,
не дождавшись выхода в свет романа «История несчастной любви»,
Кёппен вместе с семейством адвоката Михаэлиса выехал в Голлан-
дию. Кёппен не был эмигрантом в обычном понимании этого слова,
хотя бы уже потому, что он оставался формально гражданином
Третьего рейха. Многие молодые писатели афашистской направ-
ленности (М.Л. Кашниц, С. Андрее, О. Г. Винклер, Ф. Хартлауб,
Г. Р. Хокке) после прихода к власти фашистов могли относительно
беспрепятственно выезжать и жить за границей. Они не считали себя
эмигрантами. В этом смысле показательно высказывание С. Андре-
са: «...все знали, где я находился, и в любой день меня можно было
схватить и переправить куда угодно. Я жил не прячась, но замкну-
то».1 Но в данном случае чувство осторожности, страха, неприятия
атмосферы террора и насилия побудили Кёппена выехать из страны,
как бы отойти в сторону, переждать ненастье с тем, чтобы потом,
когда обстановка стабилизируется, возвратиться в Германию. Судя
по тем немногим сведениям об этом периоде его жизни, он держался
замкнуто и обособленно. В Амстердаме находился один из центров
немецкой эмиграции, но тщетно было бы искать в голландских изда-
ниях тех лет упоминаний о Кёппене. В обширной мемуарной литера-
туре также нет никаких сведений о писателе, хотя, по свидетельству
самого Кёппена, он встречался в Голландии с Эрикой Манн,2 которая
не очень лестно отозвалась о романе «История несчастной любви».
Судя по всему, Кёппен не собирался долго задерживаться в Гол-
ландии, но последовавший в конце 1934 года запрет его первенца
несколько охладил его пыл, и он отдался целиком написанию своего
второго романа «Стена качается» (»Die Mauer schwankt«, 1935). Соб-
ственно, самого запрета как такового не было, как это, например,
произошло с романом Ф. Лампе, когда нераспроданный тираж его
первенца был конфискован и уничтожен. Несмотря на положи-
тельные рецензии, опубликованные в «Литератур» и «Дойче ворт»,
отражавшие в своих публикациях официальную точку зрения
по вопросам литературы и искусства, «История несчастной любви»
попала в список «нежелательной литературы», не рекомендованной
1 Andres St. Der Dichter in der Zeit. München, 1974. S. 53.
2 Koeppen W. Schlecht beleumdet unter anständigen Leuten // Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 28.06.1975.
850
для общественных библиотек. Список этот, отражавший мнение
команды А. Розенберга, составлялся журналом «Бюхеркунде»,
и являлся неким предупреждением для книжной торговли, не боль-
ше. По крайней мере, какая-то часть тиража оказалась в Чехосло-
вакии и Австрии и даже достигла берегов Америки. Сибилла Шлосс
вспоминает, что во время эмиграции в США она работала в отделе
немецкой книги в знаменитом тогда в Нью-Йорке книжном мага-
зине «Брентано» на 5-й авеню, и всякий раз, когда покупатель
спрашивал «что-нибудь очень романтическое», она предлагала ему
«Историю несчастной любви»: «Кто знает, наверное, я была именно
тем, кто эту книгу чаще всех продавал...»1
Если «Историю несчастной любви» можно рассматривать как
некий отголосок эпохи Веймарской республики, чем, собствен-
но, и объясняется восторженный приём этого романа критикой,
то «Стена шатается» (»Die Mauer schwankt«, 1935) является про-
изведением несколько традиционного стиля, приближающегося
по своей фактуре к литературе «родного утла», но за этим скрывались
совсем не характерные для такого рода книг рассуждения и аллю-
зии, отмеченные интенциями политического свойства. В извест-
ном смысле нужно согласиться с Й. Дёрингом, назвавшим второй
роман Кёппена «романом эмиграции, написанным для имперского
книжного рынка».2
М. Tay, поддержанный Б. Кассирером, в желании как-то
избежать более серьёзных неприятностей, чем занесение первен-
ца В. Кёппена в список «нежелательной литературы», посоветовал
молодому автору написать роман о маленьком провинциальном
городке на автобиографическом материале времён его детства.
Нечто подобное, но в другом жанре, Кёппен уже писал. В авгу-
сте 1933 года в «Берлинер бёрзен-курир» появилась его статья
«Мазовше, август 1914. Разрушение города Ортельсбурга, бегство
от русских и победа под Танненбергом», которая по сути дела стала
основной романа «Стена шатается». В статье эти события переда-
вались сухим языком очевидца, восьмилетнего Кёппена, в романе
они обрели силу художественного обобщения с определёнными
политическими посылками.
Как и в случае с «Историей несчастной любви», роман «Стена
шатается» насыщен автобиографическим материалом. История
1 Цит. по: Döring J. Op. cit. S. 90.
2 Ibid. S. 121.
851
жизни архитектора фон Зюде — это, по сути дела, портрет назван-
ного дяди Кёппена Теодора Вилле, который после удачного дебюта
в Грейфсвальде и короткого пребывания в Италии, надеялся полу-
чить достойное место для применения своего таланта, а вместо этого
вынужден был довольствоваться местом в захолустном городке
Ортельсбурге, находящемся в Мазовии, на окраине рейха, ослав-
ленной поговоркой «где начинается Мазовия, там кончается куль-
тура». После Первой мировой войны, во время которой Ортельсбург
был практически разрушен, Вилле, как и фон Зюде, с энтузиазмом
работает над планом постройки нового города, но вынужден из-за
консерватизма жителей заняться восстановлением старого облика
Ортельсбурга.
Все прочие персонажи романа, как и бытовые подробности
жизни этого города, Кёппену известны не понаслышке, отчего
роман обретает особую привлекательность своим реалистическим
характером отображения действительности тех лет.
Необычность этого романа заключается в том, что здесь
Кёппен даёт большую свободу своим политическим симпатиям:
«Я был в ужасе от того, что происходило в Германии, и попытал-
ся изобразить в замаскированном виде этот ужас».1 Буквально
с первой страницы романа Кёппен высказывает довольно смелые
мысли: «С архитектором фон Зюде случилось так, что он заранее
пережил то время, которое должно было наступить, и то, которое
было концом старого времени, и, возможно, хотя это ещё очень
трудно определить, днём рождения нового; произошло это в течение
нескольких дней, в другой стране, ярко и неправдоподобно, в виде
бессмысленно, как это ему показалось, сменяющихся картин, что
бывает во сне. Архитектор не был провидцем и не обладал даром
предвидеть будущее... Однако произошло так, что он предвидел
катастрофу, и ему, как каждому предвидящему, в течение одной
секунды, которая всё же была секундой провидения, сделалось
страшно за будущее».2
Однако тогдашняя критика, в чём и заключается весь пара-
докс, усмотрела в этом романе как раз не политические параллели
негативного плана по отношению к нацистскому режиму, а наобо-
рот — восхваление духа пруссачества, долга перед родиной. Карл
1 Krüger Н. Gespräch mit W. Koeppen // Selbstanzeige. Schriftsteller im Gespräcl
Frankfurt / Main, 1971. S. 61.
2 Koeppen W. Die Mauer schwankt // Koeppen W. GW. Bd. 1. S. 167.
852
Циммерманн, например, расхваливает главного героя романа,
архитектора фон Зюде, за его чиновничье-солдатские добродетели,
за его отказ от личной жизни во имя служения отечеству.] Критик
был явно введён в заблуждение философским настроем романа
и принял идею бессмысленности человеческого существования,
«сизифово отношение к миру» как поэтическое воспевание одно-
го из расхожих лозунгов национал-социалистов. Однако цензоры
из нацистского «Ведомства по охране литературы» оказались более
прозорливыми и вскоре поспешили занести и этот роман Кёппена
в разряд «нежелательных».
Роман построен на противопоставлении двух миров, двух эпох.
В первой части романа описывается поездка фон Зюде на Балканы,
где он пытается выяснить причины неожиданной и мистической
смерти мужа своей сестры, погибшего, как потом узнает фон Зюде,
от рук полиции. В облике мифического государства на Балканах
проступают явные черты фашистской Германии. Кёппен прибегает
к иносказаниям, но иносказания эти прозрачны. Героиня романа,
Орлога,2 ведущая активную борьбу против деспотического режи-
ма в стране, говорит фон Зюде: «Ты знаешь, о чём шепчутся здесь
за занавешенными окнами, за плотно закрытыми дверями, когда
обсуждают действия правителей и те бедствия, которые они при-
носят? Среди множества опасностей и угроз страшнейших пыток,
тюрем и смерти молодость страны жертвует собой, чтобы освобо-
дить народ от ига угнетателей. Ни один из них не боится смерти,
они смелы и бесстрашны... Внешне они не выдают себя ни словом,
ни видом... И всё-таки живее, чем их собственная жизнь, ощуща-
ют они привкус крови, когда думают об убитых, расстрелянных
и униженных. Но никто из них не доверяет друг другу. Повсюду
царит предательство».3
Для читателей тех лет подобные слова имели определённый
смысл. Вольфдитрих Раш, современник Кёппена, встречавший
его в годы фашизма в Берлине, писал в 1973 году, что для тех, кто
оставался тогда в Германии и находился в оппозиции к режиму,
эта книга говорила о многом.4
1 Zimmermann К. Ein preußischer Roman // Frankfurter Allgemeine, 24.11.1935.
Орлога (oorlog) в переводе с голландского означает «война».
3 Коерреп W. Op. cit. S. 229-230.
4 Rasch W. Die Mauer schwankt // Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.04.1973.
853
Орлога погибает от рук своих соратников, заподозривших её
в предательстве, хотя предательство это выразилось лишь в страст-
ной любви, вспыхнувшей между ней и фон Зюде. В какой-то мере
этот трагический конец первой части романа Кёппена означает
и осознание фон Зюде собственного бессилия перед лицом жесто-
кости не только деспотического режима, но и жестокости полити-
ческой борьбы как таковой: «Он уехал, и это был конец его юности.
И она одарила этот конец приключением, лишенным какого-либо
приключения. Ему достанется только некий отблеск от него, вспы-
хивавший в нём, когда он вспоминал имя Орлоги».1
Вторая часть романа описывает Германию до Первой мировой
войны и заканчивается Ноябрьской революцией 1918 года. Дей-
ствие происходит в маленьком городке в Мазурах, где Кёппен про-
вёл своё детство. Эта часть романа выделяется особым лиризмом,
взволнованностью. Как вспоминал позднее Кёппен, «тоска по роди-
не, по Ортельсбургу и Мазурам охватила меня, когда я в Гааге,
в Голландии, писал роман «Стена шатается».2 В этой части Кёппен
противопоставляет анархии и террору выдуманного им балканско-
го государства (читай: фашистской Германии) упорядоченность,
покой, относительную стабильность социально-политической
обстановки в Германии начала XX века. Даже в стилистическом
отношении эти две части заметно отличаются друг от друга. Если
первая часть романа написана несколько усложнённо (и в ком-
позиционном, и в стилистическом отношении), то вторая часть
представляет собой довольно пространное описание повседневной
жизни небольшого провинциального городка со всеми его местны-
ми особенностями. События эти излагаются простым языком, без
каких-либо стилистических ухищрений, с заметным ироническим
подтекстом, как бы оттеняющим известную пафосность рассужде-
ний главного героя в первой части романа. На это особое внима-
ние обратил Г. Иеринг в своей рецензии, поняв скрытую посылку,
заключённую в этой бросающейся в глаза простоте изложения.
Фон Зюде продолжает линию Фридриха из «Истории несчастной
любви»: где бы он ни был, на Балканах или в своём родном городе,
всюду он ощущает себя чужеродным элементом. Обстоятельства
принуждают его заниматься не тем, к чему у него лежит душа;
сам он, в силу слабости, нетвёрдости своего характера, не может
1 Коерреп W. Op. cit. S. 233.
2 Коерреп W. Nach der Heimat gefragt // Die neue Barke. O. J. S. 29.
854
противопоставить неумолимому потоку жизни какую-либо альтер-
нативу, и поэтому фон Зюде находит убежище в неукоснительном
выполнении своего долга перед отечеством, перед сестрами, перед
племянником. Он придумывает себе спасительные оправдания,
за которыми не стоит ничего, кроме бессилия, безысходности и бес-
цельности его существования, и тут же сомневается в их действен-
ности. Это состояние неопределённости находит своё выражение
в гипотетическом разговоре фон Зюде с отцом у его могилы. На все
уверения отца в непременной приверженности долгу сын отвеча-
ет сомнением: «Отец, вам легко было оставаться невозмутимыми,
а нам с каждым разом становится всё сложнее принять решение,
потому что правильный путь вскоре становится распутьем!»1
Состояние нахождения на распутье определяет тональность
всей второй части романа. Если в первой части романа фон Зюде
полон решимости совершать смелые поступки, и эта решимость
в значительной мере определяется его любовью к Орлоге и её
борьбой против диктаторского режима в некоей балканской стра-
не, то у себя на родине, после гибели Орлоги, его решительность
лишена животворящей поддержки. Любые его попытки каким-то
образом самоутвердиться натыкаются на чиновничьи, сословные,
традиционные установления. После успешной постройки здания
больницы в своём родном городе, построенном вопреки мнению
специалистов, фон Зюде надеялся воплотить в жизнь свои новые
замыслы в каком-нибудь большом городе. Однако его отправляют
в захолустный городок на окраине империи в должности архитек-
тора, хотя официальное название этой должности, «строительный
мастер» (Baumeister), далеко от высокого понятия зодчества. В этом
он убедился, когда его планы построить новый город на месте раз-
валин, оставшихся после Первой мировой войны, были отвергнуты,
и он вынужден был заниматься восстановлением старых построек,
исполняя обязанности именно строительного мастера, следившего
по долгу службы за ходом работ.
Тем не менее, несмотря ни на что он продолжает следовать
заветам отца: «Он исполнял свой долг. Он знал это. Чем меньше он
смог создавать то, что ему представлялось, тем строже исполнял он
1 Коерреп W. Die Mauer schwankt. S. 331.— Обращение за советом к прошлому
является излюбленным приёмом авторов афашистской литературы (ср. Ф. Лампе),
неким укрытием, своего рода благословением, оправдывающим всю последующую
жизнь героя романа.
855
свой долг. Порядок и прилежание и точный расчёт, они не каза-
лись архитектору в действительности высшим проявлением благ
жизни, исполнением человеческих возможностей. Но, если ему
не оставалось ничего другого, ничего лучшего, никакой возмож-
ности довольствоваться ничем другим, как порядок, прилежание
и точный расчёт, если он, вероятно, упустил свой час и теперь дол-
жен принять покаяние, тогда он хотел этот, по возможности, только
подчинённый, хотя и возложенный на него высшим начальством
долг исполнять аккуратно, добросовестно и точнейше самым мыс-
лимым образом в высшей степени... Он знал, что нового он не мог
создать, потому что великий прорыв ещё не завершился. В мире
шли бои. Бои должны породить новые ценности, а с ценностями,
наверное, и достойную жизнь».1
Как художник, как творец фон Зюде никому не нужен, он
ощущает себя чужим в этом городе, именно поэтому он ведёт
замкнутый образ жизни, предпочитая светскому обществу города
поездки по деревням, общаясь с простыми людьми. В этом можно
усмотреть некое приобщение к чистому и естественному в мире
в преддверии надвигающейся катастрофы: «Архитектору виделся
поток. Он видел, как он увеличивался, и он воспринимался им
в виде одной невероятно огромной волны, которая всё сравнивала
с землёй, уносила пашни и хлеб, и дома, и скот и людей — страна
превращалась в пустыню».2 Предчувствие надвигающейся войны
мало кого беспокоило, и когда война началась, то «жители этой
восточной провинции восприняли её как огонь, упавший в самый
разгар мира с неба, который надо терпеть».3 Хотя фон Зюде, как
человек долга, сразу же подал прошение о приёме его на служ-
бу в армию и его комиссовали по причине слабого здоровья, его
отношение к начавшейся войне, вызвавшей небывалую эйфорию
не только в этом городке, но и во всей Германии, отмечено горь-
кой иронией: «Войну люди воспринимали только в том смысле, что
она должна состояться. Услышали о ней только тогда, когда она
началась. И с восторгом вступили в ряды всеобщей борьбы всех
против старого и за будущее. Наступило время празднеств и про-
щаний. Празднично украшенные как рыцари-крестоносцы перед
1 Коерреп W. Die Mauer schwankt. S. 346-347.
2 Ibid. S. 295.
3 Ibid. S. 321.
856
выступлением в поход, отправились они на фронт. Буря восторгов
поднялась в груди молодёжи, словно призывный клич она пробудила
их и дремавшие в них силы. В порыве некоего древнего и до этих
пор всё же не исчезнувшего, уже почти забытого упоения устреми-
лись они один за другим в светящийся круг некоего чудовищного
солнца, которое, как они думали, взойдёт, и величина которого
превзойдёт всякое человеческое понимание».1
Фон Зюде понимает, что старый мир рушится, но контуры
нового мира для него остаются неясными. Будущее представляется
ему в виде катастроф вселенского масштаба, и одним из вариантов
последствий этих катастроф может быть деспотический режим,
с которым он столкнулся в некоем балканском государстве, или
какое-то другое политическое устройство. Главное для него сейчас
«подрастающее поколение», его племянник Герт, друзья Герта. «Он
думал о будущем мальчиков. Мир был широк. Для них его нужно
сохранить».2 Но как, этого он не знает.
Именно поэтому в романе Кёппена «Стена шатается» сильно
прозвучала нотка холодного отчаяния, вызванная бессилием что-ли-
бо изменить, и дело тут не в личной позиции писателя, не желающе-
го быть связанным какими-либо политическими обязательствами,
а в значительной мере в политической ситуации, сложившейся
в Германии ко времени написания романа. Усилившийся террор
в стране, гибель десятков тысяч людей, гибель вековой культуры,
гибель непрочного здания буржуазной демократии, укрепление
позиций фашистского государства на международной арене — всё
это не могло не повлиять на формирование творческой позиции
Кёппена. Однако было бы неверным воспринимать образ фон Зюде
зеркальным отражением гражданской позиции самого Кёппена.
Фон Зюде — это собирательный портрет немецкой интеллигенции,
столкнувшейся с новым миром, чьи идеалы ей чужды, и поэтому
она лихорадочно пытается найти какой-то приемлемый и достой-
ный способ обретения себя в сложившейся ситуации. Роман «Сте-
на шатается» не имеет конца, здесь всё открыто, всё находится
в состоянии становления.
Второй роман Кёппена свидетельствует о возросшем мастер-
стве писателя. Г. Иеринг писал, что Кёппену «удалось в романе
«Стена шатается» счастливо соединить юношескую способность
1 Коерреп W. Die Mauer schwankt. S. 321.
2 Ibid. S. 419.
857
к удивлению со зрелостью мастера».1 Г. Гессе, представляя швед-
ским читателям новые немецкие книги, вышедшие в 1935 году,
настоятельно рекомендовал роман «Стена шатается», называя его
«серьёзной, достойной внимания книгой».2
Сам Кёппен относился к своему роману с меньшим почтением,
это видно из его письма Иерингу (1935), в котором он сообщал, что
«придерживается невысокого мнения об этой книге», но, желая
всё же получить хороший отзыв в «Берлинер тагеблатт», он «был бы
очень рад, если вы найдёте её мало-мальски сносной».3 Если в дан-
ном случае Кёппен слегка кокетничал, выпрашивая у Иеринга бла-
гоприятный отзыв, то после 1945 года он и слышать о нём не хотел.
Более того, когда издательство «Зуркамп» решило всё же опублико-
вать этот роман, Кёппен собрался было написать его заново, тем
более что у него имелись некоторые заготовки для новой версии
романа, и только благодаря настойчивости Зигфрида Унзельда
(Unseld, Siegfried; 1924-2002), главы издательства «Зуркамп», эта
книга в 1983 году вновь увидела свет в своём первозданном виде.4
Вообще-то роман «Стена шатается» пережил ещё одно изда-
ние, но только в 1939 году, в другом издательстве и под другим
названием. В 1938 году Бруно Кассирер эмигрировал в Англию,
его издательство было ликвидировано, а остатки тиража романа
«Стена шатается» перешли в издательство «Универзитас», где при
содействии М. Tay, изгнанного из всех редакций из-за своего «неа-
рийского происхождения», но тайно продолжавшего оставаться
редактором вновь созданного издательства, и при поддержке Ганса
Георга Бреннера (Brenner, Hans Georg; 1903-1961) официального
редактора, книга Кёппена вышла без его ведома под изменённым
названием «Долг» (»Die Pflicht«). Г. Г. Бреннер, знавший Кёппена ещё
по издательству Бруно Кассирера, в котором вышла и его первая
книга «Поездка по озеру» (»Fahrt über den See«, 1934), зная, что
Кёппен должен был вскоре вернуться из Голландии, полагал, как
вспоминал Кёппен, «что это издание может стать некоей поддерж-
кой для меня, если это возвращение не состоится».5
1 Ihering H. Wolfgang Koeppen: Die Mauer schwankt / / Berliner Tageblatt. 10.11.193 n.
2 Hesse H. Neue Deutsche Bücher. Marbach, 1965. S. 84.
3 Цит. по: Döring J. Op. cit. S. 130.
4 Ibid. S. 131.
5 PrümmK., Schütz E. Die Situation war schisophren. Schreibheft-Gespräch mit
858
О каких-либо откликах, не считая редакторского уведомления
Г. Г. Бреннера, на издание (а, в общем-то, переиздание) второ-
го романа не обнаружено, хотя Кёппен утверждает, что именно
из-за изменённого названия роман «вызвал несколько рецензий
на страницах некоторых провинциальных газет пронацистской
окраски, что мне, конечно, не понравилось».1 Зато переиздание его
в 1983 году с предварительной публикацией на страницах газеты
«Франкфуртер алльгемайне цайтунг» вызвало довольно необычную
дискуссию, суть которой определялась стремлением усомниться
в политической благонадёжности и порядочности Кёппена с позиций
нашего времени, а вернее сказать, с позиций левацкого авангарда.
Карл Прюмм, а вслед за ним и Фриц Раддац, который ещё
в 1979 году печально прославился на этой ниве грубыми и лишён-
ными напрочь домыслами по поводу приверженности большинства
авторов афашистской литературы и искусства нацистской идео-
логии, разразились статьями, в которых попытались (как это было
в случае с Г. Айхом) представить Кёппена в качестве амбивалентно-
го сторонника нацистского режима, а его роман «Стена шатается»
как образец приспособленческой литературы в духе идей «консер-
вативной революции», сдобренных нацистскими или, по крайней
мере, нацистскообразными лозунгами. Прюмм серьёзно полагает,
что известное эссе Кёппена о Мёллере ван ден Бруке является «рабо-
чим планом романа „Стена шатается"» и что читатели 1935 года
могли усмотреть в этом романе «восхваления в адрес» будущего
«народного движения» (читай, национал-социалистского).2 Любой
аспект романа «Стена шатается» воспринимается Прюммом (Рад-
дац здесь выступает на подхвате, повторяя лишь за Прюммом его
высказывания) как выражение его опасной близости к идеологии
нацистов, будь то постоянные разговоры о долге как гражданской
позиции, будь то озабоченность фон Зюде судьбой молодёжи или
отрицательное (хотя, в общем-то, никакое) отношение к Веймар-
ской республике. Самое примечательное в этих статьях, что речь
в них идёт только о второй части романа, а первая часть, отмечен-
ная достаточно ясными аллюзиями применительно к нацистской
Wolfgang Koeppen über seinen Roman »Die Mauer schwankt« // Wolfgang Koeppen.
Einer der schreibt. Gespräche und Interviews / Hrsg. v. H.-U. Treichel. Frankfurt /
Main, 1995. S. 165.
1 Ibid.
2 Prümm K. Op. cit.
859
действительности, исключается из дискуссии. Не мог же автор
раздвоиться в одном и том же произведении на противника и сто-
ронника нацистов. В любом случае, если согласиться на мгновение
с мнением обоих критиков, такая позиция не принесла бы ему
успеха, соберись он и вправду переметнуться в лагерь нацистов.
Если Кёппен так уж близок был идеалам нацизма, то почему же он
отказался занять должность шефа фельетона в бульварной газе-
те «Берлинер цайтунг ам миттаг» (»Berliner Zeitung am Mittag«)?
Казалось бы, если следовать логике Прюмма, лучшего способа для
Кёппена проявить свою приверженность идеологии новых власти-
телей Германии трудно было бы сыскать, тем более что газета эта
по всем параметрам отвечала надобностям нацистов. Но Кёппен
почему-то отказался от этой должности. Суть проблемы для него
заключалась не в переходе на сторону нацистов, а в возможности
выжить в этом непростом времени.
Тем не менее, Прюмм стоит на своём: «„Стена шатается" сви-
детельствует о том, что даже такой автор как Кёппен находился
в опасности поддаться очарованию фашизма... Нельзя не обратить
внимание на то, что Кёппен позволил себе ввести в роман пошлую
национал-социалистскую фразеологию».1 И поэтому, в чём и заклю-
чался смысл этой дискуссии, следует пересмотреть всё творчество
Кёппена, ибо в нём можно усмотреть наличие следов привержен-
ности Кёппена национал-социализму: «Даже антифашистская
ангажированность Кёппена до и после 1945 года требует срочной
корректуры. Все обстоятельства выглядят более комплексно и более
связно, чем это предполагалось. Непреклонность, с которой Кёппен
по сей день борется с отрицанием и преуменьшением нацистского
прошлого, решительным образом, конечно, отмечена болезненным
признанием того, как близки были его собственные идеалы соблаз-
нительным сторонам национал-социализма».2
Столь резолютивные выводы покоятся, однако, на шаткой
платформе. Почему-то Прюмму никак не приходит в голову простая
1 Цит. по: Raddatz F. J. Neuer Blick auf Koeppen. Zu seinem frühen Roman »Die Mauer
schwankt« // Die Zeit, 11.03.1983.— Правда, в этом же году состоялась встреча
К. Прюмма и Э. Шютца, редактора журнала «Шрайбхефт» (»Schreibheft«), где была
опубликована статья К. Прюмма. В ходе встречи выяснилось, что по недосмотру
вместо слова «националистский» было напечатано «национал-социалистский», что
в принципе ничуть не изменило обвинительный настрой этой статьи (Prümm К.,
Schütz Е. Die Situation war schisophren... S. 155).
2 Цит. по: Raddatz F.J. Op. cit.
860
мысль о том, фон Зюде и Кёппен не суть идентичные фигуры. Мно-
гое из того, в чём Прюмм обвиняет Кёппена, следует понимать как
критику автором своего протагониста. Фактически вторая часть
романа является развенчанием молодого фон Зюде, и хотя этот
образ дорог Кёппену, он, тем не менее, методично разрушает его,
доводя до абсурда его истовую, лишённую смысла приверженность
долгу. В этом смысле примечательна в конце романа фигура уми-
рающего директора почты Шмидта, такого же одинокого и рев-
ностного служаки, как и фон Зюде, который получив по телеграфу
сообщение о капитуляции немецкой армии, надевает фрак, ставит
пластинку с музыкой Вагнера, и, сообщив фон Зюде это трагическое
известие, падает замертво. Фон Зюде закрывает ему глаза, и этот
жест означает духовный конец и самого фон Зюде.
Нужно очень постараться, чтобы найти в этом романе какие-то
интенции околонацистского свойства, а судя по всему, это была
основная задача Прюмма. Подобного рода критика, если это вообще
можно назвать критикой, свидетельствует о плохом знании эпохи,
ментальности времени, самой литературы разных направлений
конца Веймарской республики и первых лет господства нацистов,
не говоря уже о том, что вообще нельзя подходить к любому произ-
ведению давних лет, будь то книга, картина, кинофильм, с точки
зрения другого времени, другой эстетики, другого мировосприятия,
даже другого языка. К сожалению, именно такой стиль является
фирменным знаком литературоведов «новой волны», вкусивших
безбрежный радикализм времён молодёжного бунта 1967 года
и продолжающих, как и прежде, крушить (а может быть, мстить,
но только за что?) классиков послевоенной немецкой литературы,
начинавших свой творческий путь во времена, когда этих «суро-
вых» критиков и в помине не было. Интересно, как они вели бы
себя, окажись в ситуации, сходной с той, в которой находились их
литературные жертвы?
Но вернёмся к Кёппену. Пребывание его в Голландии начало
принимать форму действительной эмиграции. Живя на содержании
у четы Михаэлисов, Кёппен был предельно ограничен в средствах,
да и само его нахождение в их доме, несмотря на традиционное
меценатство хозяев, стало вызывать сдержанное недовольство.
В переписке с Г. Иерингом Кёппен постоянно жалуется на «огромное
одиночество»,1 безденежье, и тот, чтобы как-то поддержать своё
1 Цит. по: DöhringJ. Op. cit. S. 135.
861
протеже, публикует в «Берлинер тагеблат» 22 декабря 1935 года
рассказ Кёппена «В гавани Роттердама» (»Im Hafen von Rotterdam«).
Однако с января 1936 года вступает в силу закон о запрете пере-
вода заграницу денег, и Кёппен лишается возможности получать
гонорар за дальнейшие публикации в Германии, а также отчисления
от продажи его книг.
Финансовые трудности усугубляются продолжающимся рома-
ном с Сибиллой Шлосс, который вскоре завершается трагикоми-
ческим образом. Сибилла ушла из кабаре и, приехав в Амстердам,
встретилась с сыном Михаэлисов Томасом, старым другом Кёппена,
влюбилась в него, и Кёппену оставалось только наблюдать за тем,
как на его глазах в доме Михаэлисов развивался этот роман, завер-
шившийся отъездом влюблённых в Америку. Для Кёппена это был
удар тем более тяжёлым, ибо получалось, что Сибилла предпочла
ему Томаса, который считался гомосексуалом.1 «После меня он снова
стал голубым», вспоминала позднее Сибилла Шлосс.2
В сложившейся ситуации Кёппен, если судить по многочислен-
ным фрагментам, обнаруженным в его архиве, целиком отдаётся
работе, и в этом можно усмотреть начавшийся исподволь процесс
подготовки к отъезду в Германию, тем более что его друзья в своих
письмах из Берлина сообщают обнадёживающие вести. Об этом же
можно прочитать в заметках к «Чёрной воде»: «В письмах и во вре-
мя визитов друзей и коллег из Германии они описывают мне, как
они приспособились и как прекрасен Берлин во время Олимпиады.
Конечно, они не пишут для «Фёлькишер беобахтер», а пишут все-
возможные безобидные вещи, биографии забытых немцев и как-то
устраиваются».3 Словно расшифровывая эти общие слова, Кёппен
делает пометки на полях одной рукописи: «Письма из Берлина. Они
устроились. Ганс Георг пишет, Вилфрид играет, Эрих инсценирует.
Ночи Олимпиады».4
1 Берлинская богема считала особым шиком посещать злачные заведения в районе
Шарлоттенбурга, где собиралась публика разной сексуальной ориентации. В. Кёп-
пен, Т. Михаелис, Ф. Лампе и многие другие представители литературы и искусства
были частыми гостями подобного рода кафе (Döhring J. Op. cit. S. 137).
2 Ibid. S. 137.
3 Ibid. S. 139-140.
4 Ibid. S. 140. В данном случае речь идёт уже о действительных лицах, о друзьях
Кёппена. Ганс Георг Бреннер, с которым Кёппен знаком по издательству Бруно
Кассирера; Вилфрид Зайферт (Seyfert, Wilfried), известный киноактёр, занятый
862
Правда, Кёппен также пытался каким-то образом вести богем-
ный образ жизни в Голландии, бывая в знаменитом бильярдном
кафе, где познакомился с некоторыми представителями «золотой
молодёжи», состоящей не только из голландцев, но и выходцев
из Явы и Суматры, тогдашних голландских колоний, и это навело
его на мысль написать роман «Яванское общество» (»Jahwang-Gesell-
schaft«). Судьба этого романа окутана тайнами. По словам Кёппена,
роман был написан, но рукопись его при возвращении писателя
в Германию затерялась. Впоследствии в архиве Кёппена обнаружи-
лись несколько разрозненных глав с авторскими правками общим
числом в 122 страницы, но судить в целом об этом произведении
очень трудно. По большому счёту, этот конволют вкупе с отдельны-
ми фрагментами представляет интерес только для стилистических
исследований прозы Кёппена с учётом того, что в этом неокон-
ченном романе ещё больше, чем в «Истории несчастной любви»,
наметилась приверженность писателя поэтике кино.
Трудности с написанием романа «Яванское общество» обуслов-
лены были не только отсутствием у Кёппена какого-либо представ-
ления о Яве и Суматре, куда он в последнем отрывке направил
своего героя барона Карела, но и заключительным актом своего
любовного романа. Летом 1937 года Сибилла и Томас вернулись
из Америки, осенью этого же года они поженились в Лондоне,
а свадьбу отпраздновали в Амстердаме, в доме родителей Томаса.
Кёппен был приглашён на свадьбу, и понятно, что это событие
не вызвало у него никакого энтузиазма. Вторичный отъезд молодой
пары в США весной 1938 года стал для Кёппена заключительным
актом этой мучительной любви.
Хотя Кёппен болезненно воспринял потерю Сибиллы, это
не отразилось на его намерении вернуться в Германию. Един-
ственной надеждой для него найти какую-либо творческую работу
в Третьем рейхе оставался Герберт Иеринг. Но в июне 1936 году
он лишился не только должности театрального критика в «Берли-
нер тагеблат», но и получил запрет на публикацию статей и книг
по всей стране. Ситуацию спас известный актёр Эмиль Яннингс
( J armings, Emil), которому удалось заполучить для него место шефа
актёрского бюро в одной из самых представительных киностудий
во многих кинофильмах времён Третьего рейха; режиссёр Эрих Энгель, близкий
друг Бертольта Брехта в годы Веймарской республики, а теперь снимавший
развлекательные фильмы.
863
«Тобис», в задачу которого входил подбор соответствующих ролей
для актёров этой киностудии, а если сценарий был уже готов,
то проводить, как теперь говорят, кастинг.
Кёппен, узнав о переменах в судьбе Иеринга, тут же забросал
его письмами, в которых просил его помочь ему каким-либо образом
внедриться в мир кино: «Я склонен утверждать, что экспозиция
фильма — это абсолютное ничто. Киносценарий — это уже нечто,
а режиссёр — это всё. Я знаю, средствами фильма можно создавать
поэтическое произведение, которое определяется не советом дирек-
торов кинокомпании и их ошибочными интересами... Кино меня
привлекает невероятно. Но есть ли там хоть какая-нибудь возмож-
ность для меня? Я хотел бы изучить профессию режиссёра. Изучить.
Овладеть технической аппаратурой и понимать её так, чтобы потом
иметь возможность с ней работать. Есть ли какая-то возможность
быть ассистентом режиссёра или, если возникнут какие-то идеи,
писать экспозицию для фильма, создавать совместно с режиссёром
киносценарий и присутствовать при этом на съёмках???»1
Вспыхнувший внезапно интерес Кёппена к кино не так уж вне-
запен. Уже в начале своего творческого пути Кёппен проявил себя
страстным поклонником кино, снимался в качестве статиста в ряде
кинокартин, а фильм С. Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин»,
который он смотрел много раз, стал для него образцом кинемато-
графического искусства. Работая в «Берлинер бёрзен-курир», Кёп-
пен писал рецензии о кинопремьерах; более того, его литературное
признание пришло именно после того, как он опубликовал очерк
«Маяк и тысячи ламп» (»Ein Leuchtturm und tausend Lampen«, 1932),
о съёмках фильма «ФП-I не отвечает». Поэтому мысли, высказанные
Кёппеном в письме Иерингу от 01.10.1936 года, говорят о его пони-
мании природы кино, и только много позже едва ли не слово в слово
они будут озвучены в манифестах ведущих авторов послевоенного
французского «нового кино», а также в статьях Альфреда Андерша
и особенно Александра Клюге, одного из «бунтарей Оберхаузена»
(1962), выступивших за обновление немецкого послевоенного кино.
Для реализации своих кинопланов Кёппен привлёк также
своих друзей — актёров В. Зайферта и А. Вэшера, кинорежиссёра
П. Верхёвена, режиссёра Э. Энгеля. Однако все усилия оказались
напрасными, и Кёппен понял, что надо возвращаться в Берлин
1 Цит. по: DöhringJ. Op. cit. S. 159.
864
и на месте решать проблему своего дальнейшего существования.
Но здесь опять возникли финансовые проблемы, и снова его друзья
пришли ему на помощь. Бреннер купил Кёппену билет на само-
лёт, резонно посчитав, что поездка на поезде чревата различного
рода неприятностями, т.к. полиция очень придирчиво относится
к немцам, возвращающимся в Германию после долгого отсутствия,
в то время как пассажиры, пользующиеся таким дорогим видом
транспорта как самолёт, меньше всего подвергаются полицейским
формальностям, да и встречали Кёппена в Берлине лица достаточ-
но известные, которые в случае каких-либо неприятностей могли
оказать ему помощь и поддержку.
14 ноября 1938 года Кёппен прилетает в Берлин, и сразу же
едет в Райнфельд к своему названному дяде, строительному совет-
нику Вилле с тем, чтобы там смыть своё эмигрантское пятно, т.е.
отметиться в местной полиции, после чего возвращается в Берлин
и вновь отмечается как уже прибывший из Райнфельда. Начина-
ется новый этап в жизни Кёппена, который имеет мало что общего
с творчеством. В этом он убедился уже в начале января 1939 года,
когда благодаря поддержке кинорежиссёра Верхёвена получает
заказ от киностудии Тобис-Саша в Вене написать экспозе к одному
фильму,1 сюжет которого явно не отвечал его творческим устремле-
ниям. Постепенно к нему приходит осознание того, что его работа
в кино означает лишь обеспечение комфортабельной жизни: «Это
занятие давало мне возможность хорошо жить. Я не мог эти деньги
полностью истратить».2 Кроме финансовой независимости Кёппен
обрёл в кино и некое убежище от политических невзгод, рассма-
тривая кино как «особую форму внутренней эмиграции»,3 которая
спасёт его от призыва в армию, т.к. киноотрасль считалась исклю-
чительно важной в пропагандистской машине нацистов, и все,
кто в ней работал, обладали своеобразной неприкосновенностью.
Примерно в таком же духе воспринимали свою работу в кино
и многие писатели: Пауль Альвердес, Арнольт Броннен, Аксель
Эггебрехт, Ганс Фаллада, Эрнст Глэзер, Петер Хухель, Хорст Ланге,
Эрих Кестнер, Мартин Рашке, Эрнст фон Заломон, Франк Тисе,
Гюнтер Вайзенборн.
1 DöhringJ. Op. cit. S. 165.
2 Ibid. S. 172.
3 Ibid. S. 179.
865
Все они не придавали своей работе особого значения, однако
кроме финансовой стороны их привлекала свободная атмосфера
на киностудии. Э. фон Заломон писал: «Сказочная страна кино
была нейтральной заграницей. Действительно, всякий раз, когда
я проходил через ворота Бабельсберга, а позднее Гайзельгаштайга
(главные киностудии Третьего рейха — Е. 3.), меня охватывало такое
чувство, словно я переходил границу. Внезапно всё становилось
совсем другим, внезапно совсем неправдоподобным. Внезапно всё
становилось таким, как народы во время войны представляют себе
нейтральную страну. Здесь было всё! Хотя сюда доходили времена-
ми печальные сведения о сумасшедших делах, разыгрывавшихся
«там», но здесь это никого не интересовало».1
Несомненно, что Кёппен надеялся попробовать свои силы в соз-
дании киносценариев, тем более, что перспективы в этом жанре
складывались достаточно благоприятные. Немецкая киноиндустрия
в эти годы испытывала огромный дефицит творческих кадров
по причине массовой эмиграции многих известных сценаристов
и режиссёров, хотя, как горько шутили на киностудиях, стонущих
под градом любительских сценариев, «каждый, кто в Германии мог
написать свою фамилию, считал, что может написать сценарий-
».2 Проблема отсутствия творческих кадров в кино обсуждалась
в тогдашней печати совершенно открыто, и главной причиной
посредственности нацистских фильмов заключалась в отсутствии
настоящих киносценаристов. Дело дошло до того, что, в 1942 году
министерство пропаганды организовало специальную школу, куда
были приглашены молодые писатели и журналисты для того, что-
бы научить их искусству создания киносценария. Ситуация была
настолько критической, что слушатели отбирались, как вспоминал
позднее писатель Август Шолтис, «независимо от их политических
взглядов», и поэтому там можно было встретить Хорста Ланге,
Арнольта Броннена, Вольфганга Гётце и ряд других авторов,
известных по своим первым публикациям ещё в годы Веймарской
республики.3
Период работы Кёппена в кино в годы Третьего рейха почти
невозможно реконструировать по причине отсутствия сведений
1 Salomon E. von. Op. cit. S. 350.
2 DôhringJ. Op. cit. S. 174.
3 Ibid. S. 175
866
о каком-либо личном творческом участии писателя в создании кон-
кретного фильма. Разыскания Йорга Дёринга, автора самой, пожа-
луй, основательной монографии о начальном периоде творчества
В. Кёппена, показывают, что имя писателя, если оно и появляется
на рукописи сценария, что редко случалось, то всегда в компании
с двумя-тремя другими соавторами, как это видно на обложке сце-
нария, написанном по мотивам новеллы Готфрида Келлера «Сель-
ские Ромео и Юлия», где, кроме фамилии Кёппена, стоят фамилии
Гарольда Братта и Ганса Кизера с пометкой «переработано Паулем
Верховеном».1 По сути дела, это коллективное творчество, ибо над
каждым сценарием параллельно всегда работало 5-6 сценаристов,
труд которых оплачивался независимо от того, будет принят какой-
то один сценарий, а остальные пойдут в корзину или, в лучшем
случае, станут составной частью принятого, т.е. эти сценаристы
получали регулярно зарплату. Такая система вызвана была к жизни,
прежде всего, наличием жёсткой цензуры, а также постоянным
вмешательством режиссёра, компоновавшего из представленных
сценариев своё видение будущего фильма, так что о каком-либо
индивидуальном почерке сценариста, в нашем случае Кёппена,
можно судить лишь по некоторым первоначальным эскпозе, сохра-
нившимся в архиве писателя, поиски следов которого занятие, как
показал опыт И. Дёринга, малопродуктивное.
Большинство сохранившихся в архиве Кёппена материалов,
написанных для кино, представляют собой заготовки для простень-
ких комедий или переработки уже опубликованных произведений
известных авторов прошлого (Г. Келлер, Э. фон Вольцоген, Г. Зудер-
ман). Естественно, что эти материалы заказные, и поэтому предъ-
являть к ним какие-то особые требования политического свойства
было бы некорректно хотя бы потому, что они были отвергнуты
работодателями. Поэтому некоторые попытки того же И. Дёринга,
который, ссылаясь на известные слова Кёппена о том, что в эти
годы он создавал «совершенно аполитичные, глупые фильмы»,2
трактует, например, эскпозе к комедии «Жизнь принадлежит нам»
(»Das Leben gehört uns«), основанной на материале из быта лесору-
бов в альпийских горах, где выходец из севера Германии находит
своё счастье с австрийской девушкой, как некую предпосылку
1 Döhring J. Op. cit. S. 220.
2 Cazzola M. K. Die entlegenen Orte der Erinnerung. Gespräch mit Wolfgang Koeppen / /
Wolfgang Koeppen. Einer der schreibt. Gespräche und Interviws. S. 225.
867
к «народной общности», когда «от моря до гор узы любви создают
единую империю».1 Однако именно этой «опасной» предпосылки,
свидетельствующей якобы о приверженности Кёппена нацистской
идеологии, руководство киностудии почему-то не узрело и отвергло
этот сценарий, хотя по всем выкладкам Дёринга, должно было бы
ухватиться за него обеими руками.
Единственный сценарий «Долг и страсть» (»Pflicht und Leiden-
schaft«), написанный Кёппеном в 1941 году, но также отвергнутый
руководством студии, можно рассматривать как произведение
с определённой политической тенденцией. Действие предполагаемо-
го фильма происходит в Ревеле (сейчас Таллин), занятом в 1919 году
войсками большевиков. Жители города готовят восстание, но оно
терпит поражение из-за предательства женщины. В центре мелод-
рамы любовь Наташи, русской танцовщицы, жены графа Веезена,
и эстонского борца сопротивления Георга. Ради спасения Георга
от мести графа Наташа выдаёт большевистскому комиссару сиг-
нал, по которому на помощь восставшим в город должны войти
войска немецкого добровольческого корпуса. Вместо колокольного
исполнения лютеровского псалма «Господь наш прочная опора»,
означавшему начало восстания, звучит поминальный колокол.
Наташа погибает от пули мужа, Георг смертельно ранен, а коман-
дование добровольческого корпуса, совершив обходной манёвр,
всё же входит в город с неожиданной стороны, и Ревель свободен.
Конечно, этот сценарий нельзя назвать «совершенно аполи-
тичным», как утверждал Кёппен, но и назвать его пронацистским
также трудно в силу его исторической достоверности и отсутствия
каких-либо высказываний в нацистском духе. По крайней мере,
руководство киностудии подобный мелодраматический вариант
с политическим привкусом отвергло. К тому же никто, в том чис-
ле и Дёринг, имевший доступ к архиву Кёппена, не знает, был ли
этот сценарий заказной работой или плодом собственной фантазии
писателя.
В эти же годы Кёппен публикует в «Кёльнише цайтунг» два рас-
сказа: «Помолвка в старом салоне» (»Die Verlobung im alten Salon«,
1941) и «Ранним утром» (»Am frühen Morgen«, 1941), две рецензии
в иллюстрированном журнале «Boxe» (»Die Woche«, 1941, 1943)
и рецензию на книгу «Великое освобождение. К введению в дзен-буд-
дизм» (»Die große Befreiung. Zu einer Einführung in den Zen-Buddhis-
mus«).
1 DöhringJ. Op. cit. S. 02.
868
Рецензии эти сами по себе не представляют особого интереса,
хотя Дёринг пытается приписать Кёппену оппортунистские интен-
ции на том лишь основании, что в одной из них, посвященной книге
о сексуальном воспитании молодёжи, он порицает гомосексуализм
и отмечает важность семьи для государства, а в другой, опубли-
кованной в официальном нацистском журнале «Рейх» (в этом, соб-
ственно, и заключается его оппортунизм) и посвященной дзен-буд-
дизму, писатель столь свободно говорит о «великом освобождении»
в «мыслях о повседневности»,1 что трактуется Дёрингом как некий
провокационный ход, свидетельствующий о действительной сво-
боде мнений в стране. Тем не менее, именно эта статья вызвала
гневное письмо одного читателя, обвинившего Кёппена в том, что
он «в своих рассуждениях иронизирует над «исконно германским
духом».2
Особый интерес вызывают его рассказы, которые, кроме понят-
ной вневременности содержания, представляют собой поэтические
зарисовки, выполненные в духе ассоциативной прозы, свойствен-
ной авторам афашистской направленности в стремлении избе-
жать каких-либо политических или социальных аллюзий. Кёппен
уже понял, что о каком-либо откровенном разговоре со временем
и о времени в обстановке нацистского террора, милитаристского
угара после быстрых побед на западном и на восточном фронтах
не может быть и речи. Отсюда, как, например, в рассказе «Ранним
утром», дотошное, не лишённое элегантности, в духе «каллигра-
фического письма» описание прихода на работу в банк господина
Вальтера, судя по всему, довольного всем и вся, отчего каждая
деталь — ручка двери, сама дверь, ливрея вахтёра, деловые бумаги
на столе — обретают черты каких-то чудодейственных, необычных
предметов, без которых жизнь любого человека немыслима. Проза
Кёппена источает буквально упоение от нанизывания слов, созда-
ющих химеру прочности в этом опасном мире, живущем в посто-
янном состоянии войны.
В несколько ином духе написан рассказ «Помолвка в старом
салоне», где протагонист пребывает в нерешительности перед
выбором будущей спутницы жизни, потому что фотография и её
живое воплощение вызывают у него столь разноречивые чувства,
1 Коерреп W. Die große Befreiung. Zu einer Einführung in den Zen-Buddhismus //
Das Reich, 09.03.1941. Nr. 10. S. 23.
2 HielscherM. Wolfgang Koeppen. München, 1988. S. 72.
869
что весь ход повествования определён поисками выхода из непри-
ятного положения, вызванного необходимостью определиться
в своём выборе. Сама сюжетная ситуация предельно мала, но эта
конкретная малость заполнена вереницей ассоциативных связей
беспокойного свойства, которая должна свить какую-то точку
опоры. Всё неопределённо, всё в потоке, в движении, и поэтому
состояние неопределённости находит своё выражение в музыке,
в этой спасительной и безграничной в своих интерпретациях
области человеческого сознания, но и здесь герой рассказа терпит
поражение, потому что он не в состоянии высказать мысль о ней,
ибо это та граница, которая пролегла между ним и его наречённой.
Оба рассказа можно рассматривать как своеобразные пред-
посылки будущей прозы Кёппена, хотя она ещё полна прустовских
интенций, лишена динамики пунктуализма знаменитых послево-
енных романов писателя.
Говорить на основании этих двух рассказов о каком-то измене-
нии метода и стиля кёппеновского письма бесполезно, потому что
эти рассказы свидетельствуют только о сохранении обретённого
в процессе создания двух предыдущих романов, хотя определённый
элемент утончённости отличает эту прозу от них, но вызвана эта
утончённость не столько художественными, сколько охранительны-
ми надобностями. Этот период в жизни Кёппена посвящен кино,
пускай не бог весть какого сорта, но сама поэтика кино писателя
захватила, в чём можно убедиться, обратившись к его послевоен-
ному творчеству.
Киноэпопея Кёппена длилась недолго. В 1943 году Кёппен, как,
впрочем, и многие работники кино, из-за участившихся бомбар-
дировок Берлина перебрался в Мюнхен на киностудию «Бавария»
и поселился недалеко от Мюнхена на берегу Штарнбергского озера
в Фельдафинге в отеле, где он и находился до прихода американ-
ских войск.
Несмотря на то, что Кёппен во всём, что касается его личной
жизни, довольно плохой свидетель, тем не менее, его слова из авто-
биографического очерка «Окольными путями к цели» (»Umwege zum
Ziel«, 1961) достаточно объективно передают его духовное состояние
в годы фашизма: «Ужас обрушился на мир. Я спрятался, я сделался
маленьким, я шёл путём Уленшпигеля, я пережил смешное и злове-
щее, дружбу и предательство, я был ягнёнком среди волков и вол-
ком среди ягнят, я хотел увидеть конец трагедии, и, когда занавес
упал, я был на исходе сил... Однажды ко мне пришёл Генри Говертс,
870
издатель. Он спросил меня: «Почему Вы больше ничего не пишете?».
Тогда и я спросил себя, чего я ждал все эти годы и ради чего я был
свидетелем и остался жить».1
И он начал писать, но это были книги не о прошлом, а о насто-
ящем. Присутствие прошлого в послевоенных романах Кёппена
«Голуби в траве» (»Tauben im Gras«, 1951), «Теплица» (»Das Treibhaus«,
1953) и «Смерть в Риме» (»Der Tod in Rom«, 1954) ощущается посто-
янно, но это прошлое воспринимается как отголосок тех лет, как
отправная точка для постижения реальности ФРГ 50-х гг., которая
порой очень напоминала опасное прошлое.
И всё же мысль о том, что он должен написать роман о време-
нах Третьего рейха не оставляла его никогда, об этом свидетель-
ствуют как ряд публикаций, основанных на автобиографическом
материале, так и имеющиеся в архиве писателя обширные фраг-
менты. В одном интервью Кёппен заявил: «Я нахожусь в поиске
некоей фигуры романа, которой являюсь я сам».2
Начиная с конца 90-х гг. XX века всё чаще начинает подни-
маться вопрос о том, почему В. Кёппен после 1945 года полностью
посвятил своё творчество актуальным политическим проблемам
послевоенной Германии и оставил почти без внимания годы, про-
ведённые им в нацистской Германии? Но почему именно Кёппен
должен был написать роман о Третьем рейхе? Если разобраться,
то никто из немецких авторов, переживших годы нацизма, не напи-
сал какого-либо романа или повести о временах нацизма, и поэ-
тому настойчивое обращение к Кёппену чуть ли не с требованием
написать роман о Третьем рейхе выглядит несколько странным.
В такой постановке вопроса явно проглядывается некий подтекст,
предполагающий наличие каких-то поступков, которые Кёппену
якобы не дают возможности, даже в беллетризованной форме,
представить его пребывание в годы фашизма в более пристойном
виде. Отсюда появление ряда публикаций чуть ли не расследова-
тельского свойства, где каждый шаг писателя в те годы рассма-
тривается сквозь призму недоверия, и когда какие-то реальные
события (например, его многочисленные романы или перипетии его
женитьбы с Марион Ульрих), оказываются на самом деле не такими,
1 Коерреп W. Umwege zum Ziel. Eine autobiographische Skizze // Koeppen W. GW.
Bd. 5. S. 252.
2 Koeppen W. Ich bin ein Mensch ohne Lebensplan // Wolfgang Koeppen. Einer
der schreibt... S. 151.
871
как это рассказывает Кёппен, то сразу же делается решительный
вывод о каких-то моральных или политических изъянах писателя.
Эти горе-исследователи никак не могут взять в голову простейшую
истину, что все кёппеновские нестыковки с реальными событиями
и есть тот самый неосуществлённый роман, которому писатель так
и не смог придать достойную форму.
Данная книга не является завершением работ по изучению
немецкой литературы времён Третьего рейха. Эта работа только
начинается, предстоит ещё много поисков нужных материалов
и, прежде всего, литературных текстов для того, чтобы составить
какое-то представление о культурной жизни Германии или её ими-
тации на протяжении двенадцати лет господства нацистов.
Указатель имён
А
Аверинцев, Сергей Сергеевич 6
Аденауэр, Конрад 9, 268, 478, 510,
593
Адлер, Бруно 791
Адмони, Владимир Григорьевич 57,
63
Адорно, Теодор (Adorno, Theodor)
457, 479
Айнзидель, Вольфганг фон 44
Айх, Гюнтер (Eich, Günter) 14, 421,
428, 447, 651-652, 657-658, 662,
665, 668-669, 675-677, 680, 682,
691-692, 702-725, 734, 737-738,
743, 746, 805, 839, 859
Айхберг, Рихард (Eichberg, Richard)
812
Акеркнехт, Эрвин Хайнц (Acker-
knecht, Erwin Heinz) 134, 790
Александр Македонский 799
Алексис, Виллибальд (Alexis, Willi-
bald) 639
Альберс, Ганс, кинозвезда 814
Альвердес, Пауль (Alverdes Paul) 46,
131, 139, 163, 187, 267, 421,
429-431, 442, 447, 702, 865
Альтдорфер, Альбрехт, живописец
508
Альтен, Юрген фон, режиссёр 347
Аманн, Макс (Amann, Мах), рейхс-
ляйтер по делам печати 664
Аменда, Альфред (см. Карраш, Альф-
ред) 360
Анакер, Генрих 37, 42, 47, 278, 351,
372, 387, 446, 692-693
Андерс, Гюнтер 727
Андерш, Альфред (Andersen, Alfred)
14,275,413-414,651,705, 800,864
Андреев, Леонид Григорьевич 22
Андрее, Стефан (Andres, Stefan) 6,
43, 400, 412, 414, 511, 520, 568-
570, 593-621, 638, 649, 661, 831,
839, 850
Апкинг, Карл (Apking, Karl) 407-408
Аппель, Пауль (Appel, Paul) 436-437
Апт, Соломон Константинович 3,
221,401,411,423, 467
Аретин, Эрвайн барон фон (Aretin,
Erwein Freiherr von) 526-527
Арндт, Эрнст Мориц 53, 55, 374
Арним, Ахим фон 623, 716
Архипов, Юрий Иванович 6
Асмус, Валентин Фердинандович
756
Ауэрбах, Бертольд 61
Ахматова, Анна Андреевна 381
Б
Баб, Юлиус 654
Байер, Пауль (Beyer, Paul) 315
Байтц, Адольф (Beitz, Adolf) 444
Бакунин, Михаил Александрович 571
Банг, Герман 792
Барбиан, Ян Питер (Barbian, Jan Pie-
ter) 30-31, 35, 41-42, 45-46, 131,
469-472, 509, 589, 601, 635
873
Барбюс, Анри 727
Барклай де Толли, Михаил Богдано-
вич 621
Барлах, Эрнст, художник 28, 400,
434, 444, 453, 758, 826
Барт, Эмиль (Barth, Emil) 447, 763
Бартель, Людвиг Фридрих (Barthel,
Ludwig Friedrich) 28, 184, 418,
427
Бартель, Макс (Barthel, Max) 42, 276
Бартельс, Адольф (Bartels, Adolf) 35,
59-63, 67-69, 90, 103, 143, 146,
152, 202, 227, 279, 306, 344, 360,
389, 393, 395, 508
Бартц, Карл 839
Бассерман, Альберт 315
Бауман, Ганс (Baumann, Hans) 42,
372, 376-382, 446
Бауэр, Вальтер 414
Бауэр, Генрих (Bauer, Heinrich) 362
Бауэр, Карл Хайнц 9
Бах, Иоганн Себастьян, композитор
94, 114, 434, 696, 784
Бахмайстер, Эрнст 427
Бахман, Ингеборг (Bachmann, Inge-
borg) 381
Белая, Галина Андреевна 14, 576,
590, 647, 736
Бёлль, Генрих (Böll, Heinrich) 17
Бём, Франц (Böhm, Franz) 576
Бёме, Герберт 372, 396
Бёме, Якоб, средневековый мистик
115, 198, 203
Бензе, Макс, философ 664
Бенн, Готфрид (Benn, Gottfried) 6,
17, 24, 26,31, 84, 229, 280, 320,
326-328, 405, 418, 421, 494, 673,
675, 682, 711, 716, 734, 748, 757,
809-810, 824, 827
Беннет, Арнольд 163
Бенрат, Георг 629
Бергенгрюн, Вернер (Bergengrün,
Werner) 43, 201, 210, 412, 427-
428, 511, 520, 567-568, 621-624,
626-639, 641-648, 661-662, 737,
746, 757, 775
Бердяев, Николай Александрович,
философ 64
Берендзон, Вальтер Артур (Berend-
sohn, Walter Artur) 370, 398
Беренс-Тотеноль, Йозефа (Berens-To-
tenohl, Josefa) 78, 155, 361-368
Бернадот, Фольке, граф, вице-пре-
зидент шведского Красного Крес-
та 43-44
Бернанос, Жорж 768
Бернгард, Георг 34
Берне, Людвиг 64, 66
Берто, Феликс (Bertaux, Félix) 450
Бертрам, Эрнст (Bertram, Ernst) 33,
453, 478
Берше, Александр 427
Бест, Otto (Best, Otto) 19
Бестужев, Игорь 7
Бёттихер, Карл фон 314
Бетховен, Людвиг ван, композитор
114, 360, 411, 434
Бехайм-Шварцбах, Мартин 779
Бехер, Иоганнес Роберт (Becher,
Johannes Robert) 221, 711, 731,
810
Биндинг, Рудольф Георг (Binding,
Rudolf Georg) 28-29, 46, 84, 88,
91-92,94, 161-163, 183-197,207,
220, 259, 269-270, 384, 418, 421,
427, 430-431, 482-483
Биркенфельд, Гюнтер 818
Бисмарк, Отто фон, канцлер 56,
103, 545
Бишоф, Фридрих 28, 46, 163, 629
Бишофф, Карл Хайнц (Bischoff, Karl
Heinz) 772, 791
Бишофф, Франц (Bischoff, Franz)
813, ф845
Блеем, Вальтер Юлиус 163
Блёккер, Гюнтер (Blöcker, Günther)
17-18
Блох (Пиотрковская), Карола 727,
731
Блох, Эрнст, философ 727
Блунк, Ганс Фридрих (Blunk, Hans
Friedrich) 4, 26, 28, 36-38, 42,
79, 84, 90, 123, 197, 209-217,
219-221, 228-229, 278, 401, 414,
421, 427-428, 432-436, 457, 568,
627, 724, 735
874
Бобровский, Иоганнес (Bobrowski,
Johannes) 267, 443-444, 728
Бовери, Маргрет (Boveri, Margret)
645, 693-694
Богнер, Ганс (Bogner, Hans) 208, 496
Бодлер, Шарль 804
Боймельбург, Вернер 26, 90, 163
Бойтлер, Эрнст (Beutler, Ernst) 461
Бокельсон, Ян (Bockelson, Jan) 510-
511, 515, 517-523, 525-527
Болычев, Игорь 328
Бонзель, Вальдемар 661
Боннар, Абель 471
Бонхёффер, Дитрих 32
Борман, Мартин, рейхсляйтер 238,
509, 590-591
Борхерт, Вольфганг 14, 422, 778
Боулер, Филипп (Bouhler, Philipp),
рейхсляйтер 40
Бразийяк, Робер 471
Братт, Гарольд 867
Браун, Ева, актриса 217
Брёгер, Карл 28
Бредель, Вилли 32
Брейгель, Питер Старший, худож-
ник 507, 645
Брем, Бруно фон 7, 42, 163, 427
Бреннер, Ганс Георг (Brenner, Hans
Georg) 611, 653, 818, 848, 858-
859, 862, 865
Брентано, Беттина 716
Брентано, Клеменс 461
Брехт, Бертольт 44, 296, 299, 563,
567, 810, 863
Бриттинг, Георг (Britting, Georg) 428,
436-437, 612, 657, 660, 739
Бровко, Людмила Николаевна 261,
264, 267, 566
Брод, Макс 809
Брокмайер, Вольфрам 692
Броннен, Арнольт44, 486, 502, 810,
865-866
Брох, Герман 534, 567
Брук, Эльза, актриса кабаре 51, 73,
101, 116-117, 512, 721, 830
Брукман, Хуго 35
Брунграбер, Рудольф (Brunngraber,
Rudolf) 720
Бруно, Джорджано, средневековый
философ 163, 198, 427, 791, 810,
814, 840, 844, 847, 858, 862
Буайе, Шарль, кинозвезда 814
Бубер, Мартин, философ 128
Бурте, Герман (Burte, Hermann) 42,
78, 90, 144-151, 278, 427
Буш, Эрнст, коммунист 731
В
Ваггерль, Карл Генрих 42, 78
Вагнер, Винфрид, приятельница
Гитлера 35
Вагнер, Рихард, композитор 35, 70,
440, 861
Вайзенборн, Гюнтер 6, 653, 865
Вайнерт, Эрих 731
Вайнхебер, Йозеф (Weinheber, Josef)
4, 7, 278, 445
Вайраух, Вольфганг (Weyrauch, Wolf-
gang) 576, 651, 662-664, 839
Вайс, Альберт 314, 522-523, 575,
586
Вайсмантель, Лео 328
Валъдек, Франц фон, князь-епископ
516
Вальзер, Мартин 14
Вальзер, Роберт 779
Вальцель, Оскар 297
Варнке, Пауль 314
Вассерман, Якоб 26, 35, 663
Вебер, Альфред, социолог 188
Вебер, Вальдемар 328, 703, 709,
722,748,827
Ведекинг, Фолькер 18, 297
Вейнингер, Отто 202
Венер, Йозеф Магнус 87, 90, 428
Верфель, Франц 25-26, 809
Верхёвен, Пауль, кинорежиссёр 864-
865
Вессель, Хорст (Wessel, Horst), на-
цистский герой 77, 273-274, 319,
373,395
Вессельс, Вернер (Wessels Werner)
723, 724
Вестэкер, Вильгельм 257
Вигенер, Эберхард 444
Вигман, Мэри 702
875
Визе, Бенно фон (Wiese, Benno von)
613, 664
Вийон, Франсуа (Villon, François)
710-711, 721
Виламовитц-Мёллендорф, Фани, гра-
финя 323
Вилле, Теодор (Wille, Theodor) НО,
239,249-250, 578, 806, 852, 865
Вилльрих, Вольфганг 327
Вилперт, Геро фон (Wilpert, Gero
von) 276
Вильгельм I, кайзер 576, 578
Вильденбрух, Эрнст фон 207
Винклер, Ойген Готлиб 414, 850
Винниг, Аугуст 160, 163
Винтер, Георг (Winter, Georg) см.
Айх, Гюнтер 711-712
Вирбт, Рудольф 428
Вирц, Otto (Wirz, Otto) 88, 91
Висман, Хайнц, заместитель прези-
дента Имперской палаты пись-
менности 190
Виссалла, Йозеф (Wiessalla, Josef)
817-818
Вихерт, Эрнст (Wiehert, Ernst) 17,
46, 78, 87, 181, 260, 412, 414,
422-423, 428, 430, 463, 530-550,
552-557, 559-562, 645-646, 670,
755
Вольтер, философ 217-219, 525
Вольф, Курт, издатель 805, 808
Вольф, Карл, группенфюрер СС 301
Вольфскель, Карл 450, 453
Вольцоген, Эрнст фон 867
Вулф, Томас (Wolfe, Thomas) 416,
791
Вульф, Йозеф (Wulf, Joseph) 27, 34,
36, 38, 47, 53, 67, 69, 92, 94, 109,
160, 227, 232, 265, 394, 417, 495,
571-572, 635, 638
Вэшер, Арнольд, актёр 864
Г
Габетти, Джузеппе 163
Гайер, Флориан (Geyer, Florian), сред-
невековый повстанец 362
Гайзер, Герд (Gaiser, Gerd) 18, 446,
725
Гален, Клеменс Август, граф фон
402
Галкин, Александр Абрамович 512
Гамсун, Кнут 347, 470, 747
Ганнибал 381
Гарибальди, Джузеппе, герой Ита-
лии 574
Гаузенштейн, Вильгельм (Hausen-
stein, Wilhelm) 412-413, 460
Гауптман, Герхард 116, 122, 126,
238, 381, 397, 414, 421, 593, 702,
757, 772
Гвардини, Романо 566
Гвоздев, Алексей Александрович 5
Геббель, Кпистиан Фридрих 227
Геббельс, Иозеф (Goebbels Joseph),
рейхсминистр пропаганды 23,
25, 28, 31, 34, 37-39, 41, 43-46,
48-49, 75, 91, 110-111, 132,
150-151, 160-161, 164, 168,
177-179, 182, 187, 194, 206,
210, 218, 229, 247-248, 269-270,
272-273, 283-288, 320, 322-323,
327, 344, 347, 354, 358, 371-372,
376, 383-384, 389, 394, 407, 411,
422, 424, 442, 446, 454, 462-464,
467-468, 470-473, 477, 483-484,
493, 502, 504-505, 508-509, 518,
524, 552-553, 559, 569, 574, 578,
601, 611, 631, 634-636, 660, 662,
664, 677, 680, 694, 696, 723, 748,
813, 818, 825, 844
Гебель, Иоганн Петер 126, 149
Гейзе, Георг 356
Гейзерих, король вандалов 209,
215-217, 219, 627
Гейм, Георг 444, 650, 748-749, 762
Гейне, Генрих (Heine, Heinrich) 33,
64, 68
Гёкингс, Фридрих 778
Гёльдерлин, Фридрих 114, 206, 387,
696, 710
Гендель, Георг Фридрих, компози-
тор 94
Генрих IV, император Священной
Римской империи 198, 207
Генрих VIII, английский король 208,
580
876
Генрих XLV, принц фон Ройс (Hein-
rich XLV, Erbprinz Reuß) 87-88,
228
Георге, Стефан 450, 453, 458, 629
Гёпферт, Герберт Георг (Göpfert H. G.)
846-847
Гераклит Эфесский 756
Гердер, Иоганн Готфрид 114, 584
Геринг, Карин (Göring, Karin), первая
жена Германа Геринга 323-324
Геринг, Герман, рейхсмаршал 41,
49, 92, 310, 320-323, 327-328,
407,417,446, 501, 697
Гёрлиц, Тео 848
Герстнер, Герман (Gerstner, Her-
mann) 334, 343, 372, 380
Гесс, Вольф 182
Гесс, Рудольф, рейсминистр без
портфеля, заместитель фюрера
по партии 40-41, 160, 182, 264,
442, 462, 468
Гессе, Герман (Hesse, Hermann) 36,
79, 83, 104, 117, 129, 134, 139,
474, 494, 550, 743, 758-759, 858
Гессе, Макс Рене 629
Гессе, Отто Эрнст 661
Гёте, Иоганн Вольфганг (Goethe,
Johann Wolfgang von) 28, 54, 70,
100, 112, 114, 121, 126, 151, 188,
198, 206, 211, 238, 250, 289, 296,
303, 434, 449, 451, 453, 459-462,
476-477, 485, 494, 545, 555, 592,
669, 696, 710, 763, 775
Гётт, Эмиль 129
Гётце, Вольфганг 866
Гиммлер, Генрих, рейхсфюрер СС
35, 43, 104, 152, 187, 312, 320,
322-323, 327-332, 342, 362,411,
442, 446, 478, 549, 697
Гинденбург, Пауль фон, рейхспрези-
дент Веймарской республики 23,
29, 245, 546
Гинзбург, Лев Владимирович 139
Гитлер, Адольф (Hitler Adolf), фюрер
Германии 10, 14, 23, 28-29, 35,
37, 39, 44-45, 48-49, 53, 69, 71,
91, 94, 96, 123-127, 130-131,
134, 143, 149-152, 154, 158,
160-161, 168, 177, 179-185, 188,
201, 208, 215-217, 219, 229, 232,
235, 237-238, 246-247, 251-252,
257, 263-266, 270, 273-274, 279,
281-284, 286, 288, 294-295,
303-304, 307, 310, 314-315, 320,
324-325, 328, 334, 338, 342-344,
349, 355, 367, 373-375, 383-385,
389, 395, 404-406, 410-411, 415,
418, 423, 431-432, 445, 449, 455,
460-461, 464-466, 468, 479,482-
483, 494-495, 497, 501, 503, 505,
509, 511-513, 516-518, 525-528,
544, 562, 567, 574-575, 589, 592,
627-628, 632-633, 636, 638, 649,
654, 659, 664, 679, 713, 737, 761,
813,821, 823,827, 832,849
Глас, Симон (см. Зайдель, Георг) 266
Глёкнер, Эрих 453
Глок, Иоганнес (Glock, Johannes)
644-645
Глэзер, Эрнст 33, 654, 814, 865
Гобино, Жозеф Артюр, граф де
(Joseph Arthur comte de Gobineau)
64, 67, 127
Говертс, Генри (Goverts, Henry), изда-
тель 771-772, 778-779, 844, 870
Гоголь, Николай Васильевич 846
Голланг, Хайнц 654
Голль, Иван 727
Голль, Клер 7J27
Гольдшмит-Йентер, Рудольф Карл
(Goldschmit-Jenter, Rudolf Karl)
477-478
Гольц, Иоахим фон дер (Golz, Joa-
chim von der) 163, 427-438
Гомер 165
Гомрингер, Ойген 14
Готгельф, Иеремия 58
Готтлиб, Эльфриде (Gottlieb, Elfriede)
52-54, 574
Готше, Otto 32
Гофман фон Фаллерслебен, Август
Генрих (Hoffmann von Fallersle-
ben, August Heinrich) 55, 778-780,
790
877
Гофман, Эрнст Теодор Амадеус 622
Гофмансталь, Гуго фон 104, 116,
227, 450, 453, 654, 763, 765, 776,
779-780, 782, 792, 808, 841
Граббе, Кристиан Дитрих 298
Грайнер, Ульрих (Greiner, Ulrich) 724
Грасс, Гюнтер 14
Грассе, Бернар, издатель 822-823
Григорий VII, папа Римский 198,
207
Гризе, Фридрих 26, 78
Грильпарцер, Франц 126, 206
Гримм, Ганс (Grimm, Hans) 4, 26-29,
36, 46, 87, 90, 149, 159-172,
174-183, 197, 207, 214, 217, 220,
227-228, 239, 259, 334, 384, 396,
414, 421, 423-424, 427, 438, 442,
444, 459, 464-465, 482-484, 529
Гримм, Рейнхольд (Grimm, Reinhold)
400, 423, 498, 532
Гримм, Якоб Людвиг Карл (Grimm,
Jacob Ludwig Karl) 57, 303
Гроггер, Паула 427, 436-437
Гронеман, Сэмми (Gronemann, Sam-
my) 226
Гропиус, Вальтер (Gropius, Walter),
архитектор 743
Гросс, Георг, художник 416, 789,
809
Грот, Карл 58
Гроте, Хайнц (Grothe, Heinz) 609
Грэвениц, Фриц фон 427
Грюндгенс, Густав (Gründgens Gus-
tav), актёр 321-323, 814
Грюневальд, Альфред 32
Гундольф, Фридрих 227, 778
Гуревич, Арон Яковлевич 9
Густлофф, Вильгельм, нацистский
партийный лидер 150
Гшттетнер, Ганс (Gstettner, Hans)
462-463, 542
Гюисманс, Шарль Жорж Мари 768
Гюнтер, Ганс (Günther Hans), нацист-
ский антрополог и евгенист 324
Гюнтер, Иоахим (Günther, Joachim)
798
Гюнтер, Иоганн Кристиан (Günther,
Johann Christian) 749, 759
Гюнтер, Эрих см. Айх, Гюнтер 708
Гюртнер, Франц (Gürtner, Franz),
министр юстиции 576
Д
Даговер, Лил, кинозвезда 731
Дан, Феликс 216
Данн, Отто 54-56
Дарвин, Чарльз, натуралист 141
Дарре, Рихард Вальтер Оскар, рейхс-
министр продовольствия 169,
327, 360, 680
Двингер, Эдвин Эрих (Dwinger, Erd-
win Erich) 37, 42, 90, 427-428,
512, 693, 773
Дёблин, Альфред (Döblin, Alfred) 15,
24-26, 35, 82, 84-85, 88, 572,
809-810
Дегрель, Леон, лидер Рексистской
(нацистской) партии Бельгии 183
Деккер, Вилл (Decker, Will) 375
Демель, Рихард 97, 112, 126, 144,
450, 453
Дёниц, Карл, гросс-адмирал, главно-
командующий вооружёнными
силами Германии в 1945 году 183
Денклер, Хорст (Denkler, Horst) 10,
446
Дёринг, Йорг (Döring, Jörg) 821, 824,
839, 851, 858,867-869
Дёрфлер, Петер (Dörfler, Peter) 26,
94-95
Джойс, Джеймс 665, 762, 804, 829,
843
Джонсон, Пол 33, 156
Дибольд, Бернхард (Diebold, Bern-
hard) 710
Дизель, Ойген 453
Дике, Отто, художник 416
Динтер, Артур (Dinter, Arthur) 200,
278, 288-295, 340
Диснер, Ганс-Иоахим 216
Дитрих, Марлен (Dietrich, Marlene),
актриса 32, 285, 373, 416, 825
Дойбель, Вернер 257
Дойблер, Теодор 86, 444
Доктор Овлгласс (Dr. Owlglass, наст.
имя Hans Erich Blaich) 436
878
Дос Пассос, Джон 790
Достоевский, Фёдор Михайлович
381, 621, 768, 808, 831
Дрёсте-Хюльсхоф, Аннете 230
Дройзен, Иоганн Густав, историк
270
Дурцак, Манфред 18
Дымшиц, Александр Львович 443
Дюринг, Ойген 127
Дюстерберг, Рольф (Düsterberg,
Rolf) 4, 27, 29, 31, 35, 96, 102,
144, 278, 289, 296-310, 312-315,
320, 325-330, 332-333, 344, 347,
361,478
E
Евгений Савойский (Eugenio von Sa-
voy), полководец 404
Екатерина II, императрица Всерос-
сийская 622
Елёссер, Артур (Eloesser, Arthur) 58
Ерохина, Ольга Викторовна 330
Ж
Жан-Поль (Jean Paul, наст, имя
Johann Paul Friedrich Richter)
114
Жуандо (Прованс), Марсель 471
3
Зааль (Заломон), Ганс (Sahl, Hans)
731, 813, 824
Заальфельд, Марта 657, 670
Зайдель, Генрих Вольфганг (Sei-
del, Heinrich Wolfgang) 253, 532,
534-536
Зайдель, Георг (Seidel, Georg) 253,
265-266
Зайдель, Ина (Seidel, Ina) 29, 42, 78,
84, 163, 227, 238, 251-268, 428,
443, 534, 612
Зайферт, Вилфрид (Seyfert, Wilfried),
актёр 862, 864
Зайффарт, Урзула (Seyffart, Ursula)
391-392, 864
Закс, Ганс 114
Закс, Нелли 43
Заломон, Эрнст фон (Salomon, Ernst
von) 46, 163-164, 497, 637, 731,
791,865-866
Замхабер, Эрнст (Samhaber, Ernst)
515, 525, 581
Зандер, Ульрих (Sander, Ulrich) 78,
772
Зачевский, Евгений Александрович
2, 11, 15, 602, 809
Зегерс, Анна 655, 833
Зибург, Фридрих 821, 824
Зойфер, Юра 32
Золя, Эмиль 65, 68, 808
Зонненман, Эмми, актриса 315,
321
Зонрай, Генрих 77, 354
Зудерман, Герман 867
Зуркамп, Петер (Suhrkamp, Peter),
издатель 449, 475, 575, 694, 706,
723, 798, 839, 858
Зэнгер, Отто 314
Зюскинд, Вильгельм Эммануэль
(Süskind, Wilhelm Emmanuell)
476, 505-507, 629-631, 664, 779,
797-798
И
Иван III, великий князь московский
218, 220
Иеринг, Герберт (Ihering, Herbert)
296-297, 654, 812-814, 839, 844,
846, 854, 857-858, 861, 863-864,
Иннокентий III, папа Римский 573
Иоахим Бранденбургский, кур-
фюрст 639
Иоахим, Ганс Арно 727, 734, 737
Й
Йелузих, Мирко 7
Йене, Вальтер (Jens, Walter) 280
Йесс, Вольфганг (Jess, Wolfgang),
издатель 668, 674
Йост, Ганс (Johst, Hanns) 4, 25-29,
31, 35, 37-38, 41-42, 87, 122, 206,
210, 228-229, 238, 273-274, 278,
295-333, 345, 389, 393, 423, 428,
446,464, 478, 502, 671
879
к
Кабальеро, Эрнесто Хименес, кино-
режиссёр 471
Казак, Герман (Kasack, Hermann) 18,
657, 670, 676, 702, 799-800, 839
Кайзер, Георг 26
Кайзерлинг, Герман, философ 69
Кайзерлинг, Эдуард 792
Кальвин, Жан, богослов, реформа-
тор церкви 519
Кальтенбруннер, Эрих (Kaltenbrun-
ner, Erich), начальник Главного
управления имперской безопас-
ности СС 475
Кальтхоф, Вернер 587
Камоэнс, Луис de (Camöes Luis Vaz
de), португальский поэт 577
Камю, Альбер 561
Кант, Иммануил, философ 70, 114
Канторович, Альфред (Kantorowicz,
Alfred) 727, 731-732, 737
Капп, Вольфганг, политик 726
Кардорф, Урсула фон (Kardorff,
Ursula von), журналистка 700, 702
Карельский, Альберт Викторович 22
Карл V (Karl V, Kaiser), испанский
король 582, 584-586, 588
Карл Смелый (Karl der Kühne), герцог
Бургундии 622
Карлейль, Томас, философ 70
Каросса, Ганс (Carossa, Hans) 26,
46, 163, 165, 201, 203, 238, 414,
421-422, 427, 448-480, 530, 565,
589, 702, 725, 730-731, 763, 775
Карраш, Альфред (Karrasch, Alfred)
40, 278, 346-356, 358-361
Карстен, Otto (Karsten, Otto) 153,
766, 844, 848
Карузо, Энрико (Caruso, Enrico), во-
калист 677,713
Кассирер, Бруно, издатель 44, 810,
814, 840, 844, 847, 810, 814, 858,
862
Касснер, Рудольф (Kassner, Rudolf)
475
Каутский, Карл, экономист и фило-
соф 33
Кауфман, Лия Соломоновна 57, 536,
541-542, 554, 556
Кафка, Франц 416, 665, 758, 768,
779, 804-805, 808, 818
Кашниц, Мария Луиза (Kaschnitz,
Marie Luise) 651, 664, 739, 831-
833,^850
Квак, Йозеф (Quack, Josef) 831
Кёлер, Теодор Хайнц 414
Келлер, Готфрид Келлер
Келлер, Зепп (Keller, Sepp) 460
Келлерман, Бернхард 25-26
Кёппен, Вольфганг (Koeppen, Wolf-
gang) 14-15, 347, 415, 421, 646,
651, 653, 655-656, 664-665, 776,
790, 799-800, 804-834, 836-872
Кёппен, Мария (Koppen, Marie) 805
Кёппен, Эдлев, владелец радиостан-
ции 676
Кернер, Теодор 374
Керр, Альфред 30, 34, 442, 813
Керстен, Курт (Kersten, Kurt) 399,
653-655, 819, 847-848
Кестен, Герман (Keşten, Hermann)
449
Кёстлер, Артур 731
Кестнер, Эрих 33, 44, 669, 785,
814,865
Кетельсен, Уве-Карстен (Ketelsen,
Uwe-Karsten) 3, 21, 49, 73, 77,
159-160, 208, 274-275, 277, 730
Кизель, Ганс (Kiesel, Hans) 497, 500
Кизер, Ганс 867
Киндерман, Хайнц (Kindermann,
Heinz) 274
Киплинг, Редьярд 69, 166
Киппенберг, Антон, издатель 452,
457
Киппхоф, Петра (Kipphof, Petra) 846
Киршвенг, Иоханнес 567
Киш, Эгон Эрвин 32, 809-810
Клаасен, Ойген (Ciaassen, Eugen),
издатель 778, 801
Клаудиус, Герман 30, 42, 163, 427,
436
Клейст, Генрих фон 114, 144, 146,
319
880
Клеппер, Йохен (Klepper, Jochen)
32, 43, 262, 400, 440, 567, 583,
585-587, 593
Клипштайн, Эдита 629
Клюге, Александр, режиссёр 864
Когон, Ойген (Kogon, Eugen), исто-
рик 16
Кожинов, Вадим Валерианович 14
Колло, Вальтер, композитор 814
Колодяжная, Валентина Сергеевна
825
Кольб, Рихард (Kolb, Richard) 575
Кольбе, Георг, скульптор 184, 826
Кольбенхайер, Эрвин Гвидо (Kolben-
heyer, Erwin Guido) 26-29, 35-36,
42, 82-83, 85, 87-88, 90-91,
93-94, 117, 131, 182, 197-210,
228, 238, 259, 280, 309, 342, 405,
414, 428, 436, 464, 467, 568
Кольвиц, Кэте, художница 25, 259
Кольмар, Гертруд 32, 658
Корде, Шарлотта (Corde, Charlotte)
511, 527, 529
Корн, Карл (Korn, Karl) 382, 664,
675, 757
Корнфельд, Пауль 32
Котцде-Коттенродт, Вильгельм 242
Кох, Эрих, гауляйтер Восточной
Пруссии 179, 360
Кохановский, Эрих 31
Крамер, Теодор 358, 657, 670
Крамп, Вилли (Kramp, Willy) 757
Крёгер, Тимм (Kroger, Timm) 58-
61
Крёлль, Фридхельм (Kröll, Friedhelm)
18
Крист, Лена 79, 148
Кройдер, Эрнст (Kreuder, Ernst) 15,
17, 746, 760, 762, 764, 799-800
Кройцер, Хельмут (Kreuzer, Helmut)
10, 18
Кролов, Карл 651, 785, 839
Кропоткин, Пётр Алексеевич, фило-
соф 808
Крылов, Иван Андреевич 381
Крюгер, Герман Андерс (Krüger, Her-
mann Anders) 94-95, 852
Кубе, Хорст фон 664
Кубин, Альфред (Kubin, Alfred) 444,
450, 453, 460,749-750, 758-759,
763, 765
Кукхоф, Адам 32
Куллэ, Роберт Фредерикович 5
Кунерт, Артур (Kuhnert, Arthur) 657,
660, 668, 712, 715, 717, 719, 722
Куприянов, Вячеслав Глебович 703,
709
Курц, Изольда 30
Курц, Карл Фридрих 661
Курциус, Эрнст Роберт (Curtius,
Ernst Robert), учёный-филолог
778
Кутцбах, Карл Ф. (Kutzbach, Karl F.)
595
Куцлеб, Якоб 201
Кьеркегор, Серен, философ 577
Кэстнер, Эсхард 659, 692
Кюршнер, Йозеф 668
Л
Ла Рошель, Пьер Дриё де 471
Лаатс, Эрвин (Laats, Erwin) 586
Лагард, Пауль де (Lagarde, Paul de)
64
Лагерлёф, Сельма 43
Лампе, Фридо (Lampe, Friedo) 262,
421, 510, 645, 650, 652, 664, 742,
776-804, 835-837, 850, 855, 862
Ланг, Фриц (Lang, Fritz) 416, 825
Лангбен, Юлиус (Langbehn, Julius)
64-67, 90
Ланггэссер, Элизабет (Langgässer,
Elisabeth) 6, 18, 421, 423, 657,
662, 670, 673-674, 682, 736-737,
746, 799-800, 832-833
Ланге, Виганд (Lange, Wigand) 19
Ланге, Хорст (Lange, Horst) 15, 17,
262, 414, 421, 428, 444, 602, 639,
645-646, 650, 655, 657-662, 668,
670, 674, 682, 697, 702, 712, 734,
736-737, 742-775, 777, 785, 799,
865-866
Лангевише, Марианне (Langewies-
che, Marianne) 567
Ланген, Карл Фридрих фон, издатель
41, 315, 425-426, 442, 529, 532
881
Лангенбухер, Хельмут (Langenbu-
cher, Helmut) 39-40, 45, 57, 75,
80, 90, 94-95, 105-106, 112-113,
126-127, 130-131, 134, 143-144,
148, 158, 177, 190-191, 193,
201-203, 220, 232,257-258, 263,
279, 288, 344, 349, 351-355, 360,
368, 372, 384, 386, 404-405, 508,
532, 539, 560, 568, 690, 833
Лангнер, Ильзе 702
Лангхоф, Вольфганг 32
Лас Касас, Бартоломео (Las Casas,
Fray Bartolomé de) 582-588
Ласк, Берта 32
Лассель, Дора 727
Лаутензак, Герхард 450, 453
Лацис, Лея (Анна Эрнестовна) 812
Ле Форт, Гертруд фон 28, 414, 427-
428, 511, 567
Лёви, Эрнст (Loewy, Ernst) 27,
109-110, 143-144, 179, 197, 265,
378, 406, 466
Левин, Юлиус, художник 663
Легаль, Эрнст, руководитель театра
313
Леере, Иоганн фон (Leers, Johann
von) 186
Лей, Роберт, рейхсляйтер 41, 425
Леман, Вильгельм 421, 447, 664
Леман, Юлиус, издатель 35
Ленард, Филипп, физик 35
Ленин, Владимир Ильич 220, 373,
563, 667
Леннартц, Франц (Lennartz, Franz)
129, 131, 165, 167, 194, 275,
361-362, 430, 829
Лёне, Герман (Löns, Hermann) 77, 90,
153-158, 166
Ленц, Герман (Lenz, Hermann) 17,
651
Леонхард, Вольфганг 731
Лёрке, Оскар (Loerke, Oskar) 27, 83,
94, 104, 116, 189, 297, 320, 421,
668,798
Лермонтов, Михаил Юрьевич 562
Лерш, Генрих 30, 79, 278, 356
Лесков, Николай Семёнович 775
Лессинг, Готхольд Эфраим 114,
399
Лёш, Рональд (Loesch, Ronald) 271,
645
Либерман, Макс, художник 35, 663
Лилиен, Эфраим Мозес (Lilien,
Ephraim Moses), художник 226
Линдер, Кристиан (Linder, Christian)
806, 808
Линке, Иоганнес (Linke, Johannes)
94-95, 271
Линхард, Фридрих (Lienhard, Fried-
rich) 61-62, 143, 398
Липпман, Ганс 845
Лисицкий, Лазарь (Эль) Мордухович,
художник 656
Аопес, Франсиско Солано (Lopez,
Francisco Solano), президент Пара-
гвая 525
Лорбер, Ганс 32
Аотарь фон Супплинбург (Lothar
von Supplinburg), император Свя-
щенной Римской империи 581
Лотте, Ленья (Lotte, Lenya; наст, имя
Karoline Wilhelmine Charlotte Bla-
mauer), актриса 810
Лоуренс, Дэвид Герберт 450
Лоуэнталь, Джон, историк 9
Лукас Э.Х. (см. Хапусведель Э.) 587
Лукач, Георг 536, 731
Лукашевич, Михаил 224
Лукин, Евгений Валентинович 226
Луначарский, Анатолий Васильевич
295-296
Людвиг, Паула 670
Людвиг, Эмиль 34-35
Лютер, Мартин (Luther, Martin),
богослов, реформатор церкви 80,
141, 146, 204, 215, 303, 307, 342,
404,529
Люфт, Лотар, психиатр 779
Люфт, Мари Рене 779
Ляйен, Фридрих фон дер (Leyen,
Friedrich von der) 594-595, 598,
610-611
Ляйп, Ганс 414, 661
Ляйфхельм, Ганс 428, 436-437, 670
882
M
Маас, Вальдемар 779
Маас, Иоахим 779
Майднер, Людвиг, художник 727
Майер, Ганс (Mayer Hans) 14-15,
405, 480, 690
Майер, Ганс Георг (Maier, Hans
Georg) 449-450, 479-480, 687
Майнеке, Фридрих (Meinecke, Fried-
rich) 16
Майринк, Густав (Meyrink, Gustav)
227
Манн, Генрих (Mann, Heinrich) 26,
33, 84, 86, 259, 399, 485, 567, 572
Манн, Клаус (Mann, Klaus) 328-329,
400, 418, 505, 667-668, 682, 708,
717, 682
Манн, Томас (Mann, Thomas) ) 3,
26, 35, 83-84, 86-87, 117, 122,
129, 173-174, 180-181, 188-190,
221, 266, 280, 305, 308-309,
328-329, 399-405, 409-412, 414,
416, 418, 421, 523, 543, 467,
478, 494, 499, 555, 567, 570-571,
583-584, 664-665, 787, 804,818,
832-833, 840
Манн, Эрика 188, 221, 840, 850
Марат, Жан Поль, французский
революционер 527-528
Мария Стюарт 69, 515
Маркович Е.И. 128
Маркс, Карл 13-14, 33
Мартене, Карл 757
Мартини, Фриц 275, 412
Мархольц, Вернер (Mahrholz, Wer-
ner) 79-80, 105, 112-113, 177,
184, 203-204, 535
Маяковский, Владимир Владими-
рович 656
Медем, Эрих фон 314
Мейерхольд, Всеволод Эмильевич
656
Меккель, Кристоф (Meckel, Chris-
toph) 658-659, 716
Меккель, Эберхард 657-660, 662,
670, 675, 702, 712, 716, 731, 737
Мёллер ван ден Брук, Артур (Moeller
van den Brück, Arthur) 51, 72-73,
101, 116-117, 227, 512, 830-832
859
Мёллер, Эберхард Вольфганг (Möller,
Eberhard Wolfgang) 37, 42, 96
102, 278, 372, 428
Мелль, Макс (Meli, Max) 84, 428,
438, 453
Мендельсон-Бартольди, Фанни, певи-
ца 634
Менцель, Хериберт (Menzel, Heribert)
42, 250, 278, 446
Мёрике, Эдуард 710, 712, 846
Меринг, Вальтер 731, 810
Мехов, Карл Бенно фон (Mechow,
Karl Benno von) 46, 78, 87, 163,
187,429-431
Мигель, Агнес (Miegel, Agnes) 4, 7,
26, 35, 42, 84, 206, 221, 237-253,
278, 428, 536
Микс, Том, киноактёр 816-817
Микушевич, Владимир Борисович
486,491, 493
Минетти, Бернхард, актёр 315
Миттерер, Эрика (Mitterer, Erika)
264, 267, 436-437, 451, 657, 660,
670
Митчелл, Маргарет 257, 756
Михайловский, Александр Владис-
лавович 491
Михаэлис, Дора 841
Михаэлис, Томас, адвокат 849-850,
861-862
Моло, Вальтер фон (Molo, Walter
von) 3, 400-401, 403-405, 409,
414-415, 421, 467, 702
Молцан, Ильзе (Molzahn, Ilse) 261-
262, 663, 743, 757
Момберт, Альфред (Mombert, Alfred)
26, 185, 453, 468-469, 473, 478
Мон, Герман (Mohn, Hermann) 14
Мотылёва T. 5, 356-357
Мохой-Надь, Ласло, художник 656
Моцарт, Вольфганг Амадей, компо-
зитор 555
Музиль, Роберт (Musil, Robert) 40,
116, 129, 410, 416, 832-833
Мулот, Арно (Mulot, Arno) 75, 1 İS-
İM, 122-123, 136-138, 177-178,
883
191-192, 215, 217, 220, 263,
304-305, 334, 344, 360, 365, 508,
539, 560
Муссолини, Бенито, диктатор Ита-
лии 656, 827,831
Мюзам, Эрих 32, 655, 731, 744
Мюллер, Георг (Müller, Georg), изда-
тель 131, 591
Мюллер, Карл Александер фон (Mül-
ler, Karl Alexander) 407, 428, 437
Мюнхгаузен, Бёррис барон фон
(Münchhausen, Börries Freiherr
von) 26, 36, 44, 84, 87, 90, 149,
221-229, 250, 253, 257, 748,
826-827
Мюнценберг, Вилли, деятель Комин-
терна 744
Мютель, Лотар, актёр 315
H
Надлер, Йозеф 697
Наполеон Бонапарт 51-55, 171,
182, 230, 256, 563
Науман, Ганс (Naumann, Hans) 33,
370
Неллиус, Георг, художник 362
Нибелынютц, Вольф фон 702
Никиш, Эрнст 486, 496
Нимёллер, Мартин, священник 259,
261, 552
Нинъо де Гевара Фернандо 604, 608
Ницше, Фридрих, философ 53, 100,
127, 494, 550, 577, 843
Нобель, Альфред Бернхард 360
Новалис (Novalis, наст, имя Georg
Friedrich Philipp Freiherr von Har-
denberg) 434,461, 696
Нойман, Хуберт, издатель 185
Нольде, Эмиль, художник 434, 444,
826
Носсак, Ганс Эрих 817
Нудельман, Рафаил Ильич 237, 729,
733
О
Одоакр, варвар, король Италии 622
Ойрингер, Рихард (Euringer, Richard)
37, 42, 366, 372
Олдингтон, Ричард 315
Освальт, Карл, издатель 185
Оссецкий, Карл фон (Ossietzky, Carl
von) 32, 34, 552
Оттен, Карл 731
Ошиловский, Гюнтер 735
П
Павлова, Нина Сергеевна 6
Паке, Альфонс 26, 28, 84
Панвиц, Рудольф 26, 84
Папен, Франц фон, рейхсканцлер
228
Парацельс (Филипп Ауреол Тео-
фраст Бомбаст фон Гогенгейм)
90, 198, 201, 203-206, 342
Парин, Алексей Васильевич 648
Пауст, Otto (Paust, Otto) 360
Пейн, Томас (Paine, Thomas), борец
за независимость Соединённых
Штатов 302-304
Пенцольд, Гюнтер (Penzoldt, Günter)
425
Пехель, Рудольф (Pechel, Rudolf) 263,
525, 563-565, 623
Пехштайн, Макс, художник 663
Пецольд, Густав (Pezold, Gustav),
издатель 315, 426, 440, 442
Пий XII, папа Римский 593
Пикард, Макс 550
Пиль, Гарри (Хуберт Август), кино-
актёр 816-817
Пиндер, Вильгельм 428
Пинтус, Курт 326, 328, 444
Пиоррек, Анни (Piorreck, Anni) 4,
240, 247
Пиотрковская, Карола (см. Блох
Карола) 727
Пиранделло, Луиджи 809
Писистрат, афинский тиран 563
Пискатор, Эрвин, режиссёр 656, 809
Плард, Анри (Plard, Henrie) 486
Пленков, Олег Юрьевич 7, 156-157
Плеттенберг, Вольтер фон, ма-
гистр Аивонского ордена 218-219,
627
Пляйер, Вильгельм 182, 396
Понгс, Герман (Pongs, Hermann) 386
884
Понтен, Йозеф 36, 44, 79
Попиц, Эдуард Иоганнес, участник
заговора 20 июля против А. Гит-
лера 263
Прерадович, Паула фон (Preradovic,
Paula von) 267
Претцель Р. (см. Хаффнер Себа-
стьян) 746
Пруст, Марсель 665, 833
Прюмм, Карл (Prümm, Karl) 3, 5,
10, 168, 195, 375, 400, 432, 445,
494-495, 498, 652, 665, 805, 819,
824, 826-828, 830-832, 838-839,
858-861
Пуанкаре, Раймон, премьер-ми-
нистр Франции 314
Пушкин, Александр Сергеевич 562,
699, 775
Пфайфер, Иоганнес (Pfeiffer, Johan-
nes) 781, 793, 803
Пфемпферт, Франц 296
Пфеннинг, Петер 314
Пфитцнер, Ганс (Pfitzner, Hans), ком-
позитор 428, 440
Пфордтен, Теодор фон дер (Pford-
ten, Theodor von der), нацистский
герой 437
Пшивара, Эрих (Przywara, Erich)
588
Р
Раабе, Вильгельм 47, 58-59, 61, 268,
535, 574
Рабенальт, Артур Мария (Rabenalt,
Arthur Maria), кинорежиссёр 529,
810
Раддац, Фриц (Raddatz, Fritz J.) 10,
665, 707, 805, 859-860
Райнхардт, Хильдеберт (Reinhardt,
Hildebert) 392
Ранке, Леопольд фон, историк 522
Расси, Кристиан (Rassy, Christian)
404
Ратгауз, Грейнем Израилевич 443
Ратенау, Вальтер 117, 124, 128,
145-146, 293
Раух, Карл (Rauch Karl) 347-348, 350,
354-355, 429, 475, 532, 660,
685-686
Рахель (Фарнгаген фон Энзе, Рахель
(Varnhagen von Ense, Rahel)) 66
Рахшмир, Павел Юхимович 512
Раш, Вольфдитрих (Rasch, Wolfdie-
trich) 853
Рашке, Мартин (Raschke, Martin)
262, 414, 421, 428, 446-447,
650, 652, 655-658, 662-664,
666-705, 707, 709-710, 713-717,
734, 738-739, 743-744, 746-747,
762-764, 865
Реберг, Ганс 722
Реглер, Густав 567, 731
Рёдль, Урбан (см. Адлер, Бруно) 791
Рейнхардт, Макс, режиссёр 128,
297, 840
Реймонт, Станислав 747
Рейтер, Фриц 58, 61
Рейх-Раницкий, Марсель (Reich-Ra-
nicki, Marcel) 15, 322, 613, 620,
742, 776, 806, 816, 835
Рейх, Вильгельм, немецкий комму-
нист 2, 50, 111, 115, 132, 144,
150, 161, 163, 182, 187, 202, 208,
272, 317, 322, 407-408, 423-425,
457, 477, 506-507, 568-569, 603,
611-613, 619-620, 637, 644,
662-664, 694, 696-697, 731, 742,
766, 806, 869
Рек-Маллецевен, Фридрих Перси-
фаль (Reck-Malleczewen, Friedrich
Percyval) 32, 484, 510-520, 524,
527-530, 649
Рём, Эрнст Юлиус, руководитель
штурмовиков CA 124, 161, 328,
334, 385, 388, 421, 482, 517
Ремарк, Эрих Мария 34-35, 188,
309, 315, 335, 337
Рембо, Артюр 800
Рембрандт, Харменс ван Рейн 64,
90, 202
Ренн, Людвиг 32
Риббентроп, Иоахим, немецкий дип-
ломат 442
Рильке, Райнер Мария (Rilke, Reiner
Maria) 104, 148, 387, 450, 453,
654, 765, 779, 808
885
Рингельнац, Иоахим 731
Рихтер, Ганс Вернер (Richter, Hans
Werner) 165, 611, 721, 799
Рихтхофен, Манфред фон, немец-
кий лётчик 193
Ровольт, Эрнст, издатель 533, 637,
779, 790-791
Розеггер, Петер 59
Розенберг, Альфред (Rosenberg,
Alfred), нацистский функционер
и идеолог 25, 35, 39, 41, 45,
48, 69, 104, 152, 160, 206, 233,
272-274, 294, 310-311, 322,
324-325, 327, 350, 352, 354, 372,
404, 406, 444, 446, 462, 496, 514,
528, 547-548, 573, 579, 595, 603,
610, 623, 631, 634, 636, 638, 660,
662, 684, 826, 833,851
Роллан, Ромэн (Rolland, Romain) 88,
91-93, 108, 162, 185, 187-188
Ромэн, Жюль 798
Роте, Карл (Rohte, Carl) 474, 811
Ротермунд, Эрвин (Rotermund, Erwin)
452, 457, 462, 464, 466, 472,
515, 520, 522-523, 525-526, 529,
564-565, 570, 579, 581, 585-589,
591, 601-604, 609-610, 623, 629,
634-636, 638-639, 661
Рудницкий, Михаил Львович 6
Руппель, Карл-Хайнрих (Ruppel, Karl-
Heinrich), музыкальный критик
811, 844-845
Рупперт, Карл 813
руст, Бернхард, министр культуры
Пруссии 23, 25-26, 29, 39, 229,
461-462
Рюмкорф, Петер (Rühmkorf, Peter)
381-382
С
Савельева, Ирина Максимовна 270
Сад, Донасьен Альфонс Франсуа,
маркиз де 493
Самарин, Роман Михайлович 57,
63,128
Самсонов, Александр Васильевич,
русский военачальник 245
Саркисянц, Мануэль 69-71, 295
Симкин, Сэм 7, 251
Скотт, Вальтер 505
Солоневич, Иван Лукьянович 563-
564
Солонин, Юрий Никифорович 486,
491, 494, 509
София Доротея Ганноверская, коро-
лева Пруссии 514
Софокл 101
Спиноза, Бенедикт 66, 202-203
Сталин, Иосиф Виссарионович,
генеральный секретарь ЦК ВКП
(б) 501, 563
Степун, Фёдор Августович, философ
702
Стравинский, Игорь Фёдорович,
композитор 416
Стрёвелс, Стейн 470
Стриндберг, Юхан Август 768
Суровцев, Юрий Иванович 11
Сучков, Борис Леонтьевич 5, 156
T
Тадден, Адольф фон, депутат Бунде-
стага ФРГ 182
Тайхман, Ганс (Teichmann, Hans)
151
Талвио, Майла 470
Танк, Карл 17-18
Tay, Макс (Tau, Мах) 44, 79, 121,
810-811, 814, 818, 820, 823, 840,
844, 851, 858
Таубе, Отто фон (Taube, Otto von)
428, 436, 539
Тацит 331
Тер-Недден, Эберхард (Ter-Nedden,
Eberhard) 476, 767-768
Тиллих, Пауль 78, 399, 566
Тиль, Рудольф (Thiel, Rudolf) 439-442
Тиммерманис, Феликс 470
Тисе, Франк (Thiss, Frank) 400,
405-409, 414-415, 420-421, 567,
724-725, 865
Тодт, Фриц (Todt, Fritz), рейхсми-
нистр вооружения и боеприпасов
325
886
Толлер, Эрнст 810
Толстой, Лев Николаевич 381, 621,
646, 808
Тома, Людвиг (Thoma, Ludwig) 79,
128, 529, 816-817
Тракль, Георг (Trakl, Georg) 444,
758-759, 779, 805
Трейчке, Генрих фон (Treitschke,
Heinrich von) 63-64
Триниус, Бернхард (Trinius, Bern-
hard) 633
Троммлер, Франк (Trommler, Frank)
18-19
Тротта, Тило фон (Trotta Tilo von) 496
Троцкая/Тронская, Мария Лаза-
ревна 5
Трутко, Инна Иосифовна 825
Тумлер, Франц (Turnier, Franz) 7,
248, 460, 763
Тун-Гогенштейн, Пауль, граф (Thun-
Hohenstein, Paul, Graf) 635
Тураев, Сергей Васильевич 5-6, 24,
628
Тургенев, Иван Сергеевич 621, 775
Тухольский, Курт 20, 34-35, 148,
430, 442, 533, 667, 809
Тюгель, Людвиг 428
У
Ульрих, Марион 78, 363-364, 724,
772,871
Унамуно, Мигель де, философ 577,
591
Унзельд, Зигфрид (Unseld, Siegfried),
издатель 858
Унру, Фриц фон 25-26
Ф
Фаллада, Ганс (Fallada, Hans) 45-46,
532-536, 542, 544, 645, 663, 865
Фаринелли, Артур 463
Фезе, Вилли (Fehse, Willi) 708, 717
Фейдт, Конрад, кинозвезда 814
Фейхтвангер, Лион 35, 399, 567
Фербер, Кристиан см. Зайдель, Георг
119-120, 266
Фёрстер, Фридрих Вильгельм, фило-
соф 34
Феспер, Вилл 26, 42, 45, 78, 94,
96-97, 182, 271, 349, 496, 506,
581,636,675,747
Фест, Иоахим Клеменс (Fest, Joachim
Clemens) 281-282, 284, 307, 342,
344, 526, 633
Фехнер, Вернер 124
Фехтер, Пауль (Fechter, Paul) 24,
81-82, 163, 165, 189-190, 258-
259, 262-263, 275, 524, 661,
663-664, 687, 792
Филипп II, испанский король (Phi-
lipp II) 604, 606-607
Финк, Вернер 659, 820
Фирэгг, Аксель (Vieregg, Axel) 691,
706-707, 710, 713, 715-718,
720-724, 726
Фихте, Иоганн Готлиб (Fichte, Johann
Gottlieb) 52-54, 65, 98, 114, 171,
303,532, 579
Фишер, Людвиг (Fischer, Ludwig) 18
Фишер, Самуэль (Fischer, Samuel),
издатель 127, 131, 453, 663, 779
Флаке, Otto (Flake, Otto) 94, 412
Фламм, Петер 814
Флёрен, Элизабет (Floren, Elisabeth)
447
Флобер, Гюстав 808
Фонтане, Теодор 47, 58, 738
Фрадкин, Илья Моисеевич 5-6, 24,
63, 128, 209, 491, 562, 628
Фрай, Норберт 23, 31, 282, 351
Фрайслер, Роланд, президент «Народ-
ной судебной палаты» 509
Франк, Герберт 44
Франк, Леонгард 26, 86, 810
Францен, Эрих (Franzen, Erich) 813,
844-845
Фрейд, Зигмунд, психолог 34
Фрейтаг, Густав 212
Френссен, Густав (Frenssen, Gustav)
30, 77, 90, 139-143
Френцель, Кристиан Отто 275, 844
Фридлянд, Софья Львовна 598
Фридрих II Великий (Friedrich II
der Große) 63, 394, 439, 404-405,
431, 439-441, 487, 514-515, 578,
580
887
Фрик, Вильгельм, рейхсминистр
внутренних дел 188, 190, 482
Фринг, Георг фон дер (Vring, Georg
von der) 657, 660, 662-663, 670,
702, 712, 714
Фриш, Макс 848
Фукс-Шаманская, Людмила Петров-
на 9
Фульда, Людвиг 24-26, 32
Фуссенеггер, Гертруд 702
X
Хаас, Вилли (Haas, Willy), издатель
659, 668, 734,736-737
Хавенштайн, Мартин (Havenstein,
Martin) 174
Хагельштанге, Рудольф 18
Хазенклевер, Вальтер 731
Хайдеггер, Мартин, философ 33, 314
Хайзе, Пауль 609
Хайзелер, Берт фон (Heiseler, Bert
von) 425-426, 623
Хайман, Мориц 127
Хайнес, Эдмунд, обергруппенфюрер
CA 124
Хайнике, Курт 731
Хайссенбюттель, Хельмут (Heißen-
büttel, Helmut) 14, 762
Халлер, Иоханнес 427
Хальбе, Макс 126
Хальбен, Райнхольд (Halben, Rein-
hold), приват-доцент глазной
клиники, отец В. Кёппена 805
Ханфштэнгль, Эрвин Седгвик 314
Харлан, Файт, актёр 194, 315
Харпрехт, Клаус (Harprecht, Klaus)
478
Хартлауб, Густав 18
Хартлауб, Феликс (Hartlaub, Felix)
776, 800, 835-836, 850
Хартман, Ганс 654
Хартунг, Гюнтер (Härtung, Günter)
49, 97-99, 195, 267, 372-373,
443, 488
Хаупт, Гюнтер (Haupt, Günter) 270-
271, 278, 386, 747
Хаусведель, Эрнст 587
Хаусман, Манфред (Hausmann, Man-
fred) 328, 414, 421, 553, 702
Хаусхофер, Альбрехт 32, 414
Хаффнер, Себастьян (Haffner, Sebas-
tian), историк 321, 737, 746, 757,
775
Хегеман, Вернер 34
Хедерих, Карл (Hederich, Karl Heinz),
нацистский партийный функцио-
нер 41-42, 48, 370-372, 384
Хейс, Теодор, президент ФРГ 151,
179
Хёльти, Людвиг Кристоф Хайнрих
779
Хемингуэй, Эрнест 315, 778
Хензель, Шарлотта 634
Херман, Вольф 30, 779, 790
Хернеман, Рут (Hernemann, Ruth)
766
Херрман, Вольфганг, цензор 792
Хессе, Макс Рене 818
Хессель, Франц 785
Хиллер, Курт 32, 667
Хильдебранд, Герхард 173-175
Хильшер, Фридрих 731
Хинкель, Ганс (Hinkel, Hans) 30, 38,
41-42, 186, 210, 406,408
Хлебников, Борис 722
Ходдис, Якоб ван 32
Хокке, Густав Рене (Hocke, Gustav
Rene) 428, 612, 665, 771, 831, 850
Холландер, Вальтер фон 654
Холлэндер, Феликс, режиссёр 128
Хольбаум, Рихард 7, 42
Хольц, Арно 97, 129
Хорст, Карл Аугуст (Horst, Karl August)
10, 15, 17, 77, 273-274, 319, 373,
395, 398, 421, 444, 602, 646, 655,
657, 659, 661, 668, 670, 674, 697,
712, 734,736,742-744, 750, 757-
758, 761-762, 766-768, 772-773,
775, 777, 846, 865-866
Хорти, Миклош, регент Венгрии 656
Хофер, Андреас, борец за независи-
мость Тироля 182
Хофманн, Вильгельм, работник бер-
линского радио 737
Хоффман, Дитер (Hoffmann, Dieter)
694
Хохлов, Александр Викторович 9
Хохоф, Курт (Hohoff, Curt) 425
888
Хуземан, Вальтер, коммунист, участ-
ник «Красной Капеллы» 556
Хуссонг, Фридрих 32
Хух, Рикарда (Huch, Ricarda) 26, 30,
62-63, 258, 414, 511, 570-576
Хух, Рудольф 428
Хух, Фридрих 128
Хухель, Петер (Huchel, Peter) 421,
428, 436-437, 447, 649, 651, 653,
657-658, 660, 662, 669-670, 675,
712, 716, 722, 725-740, 743, 746,
785, 839, 865
Хэртлинг, Петер (Härtung, Peter) 778,
785
Хэфс, Вильгельм (Haefs, Wilhelm)
3, 20-21, 30, 567, 656, 667-669,
673-675, 677, 682, 685-686, 688,
690, 692-694, 696-697, 701-702,
707, 710, 713, 715, 739, 747
Ц
Цвейг, Стефан 450-452, 567
Цёберляйн, Ганс (Zöberlein, Hans)
42, 90, 158, 277, 333-345, 378,
393, 446
Цёргибель, Карл Фридрих (Zörgiebel,
Karl Friedrich), полицай-прези-
дент Берлина 812
Церкаулен, Генрих (Zerkaulen Hein-
rich) 586
Цернатто, Гвидо (Zernatto, Guido)
670, 711
Церцер, Юлиус 428, 436
Цех, Пауль 32, 670
Циглер, Леопольд 428
Цизель, Курт 278, 361, 805
Цилле, Генрих, художник 817
Циллих, Хайнрих 163, 182
Циммерман, Ганс Дитер (Zimmer-
mann, Hans Dieter) 420, 580
Циммерман, Карл (Zimmermann
Karl) 853
Циммерман, Петер (Zimmermann
Peter) 168
Циннер, Гедда 731
Цукмайер, Карл (Zuckmayer, Carl)
252, 321, 535, 549, 663, 812-813,
820
Цухард, Карл 702
Ч
Чемберлен (фон Бюлов), Ева 35
Чемберлен, Хьюстон Стюарт (Cham-
berlain, Houston Stewart) 35, 69,
70, 71, 289-291, 295
Ш
Шагал, Марк, художник 416
Шамиссо, Адельберт 139, 141
Шапер, Эдзард (Schaper, Edzard)
441, 661, 629
Шардонн, Жак (Chardonne, Jacques)
471, 475
Шаувекер, Франц 90, 278
Шварц, Генрих 44, 187, 190, 327,
440
Шварцшильд, Леопольд 525
Шверте, Хайнц 10
Шенаев, Владимир Никитич 13
Шёпс, Карл-Хайнц Иоахим (Schoeps,
Karl-Heinz Joachim) 3-4, 20, 37-38,
43-44, 48, 268, 273, 319, 582, 628,
631,633
Шикеле, Рене 26, 86
Шиллер, Франц Петрович 5, 57, 67,
101-103,450
Шиллер, Фридрих 39, 54, 70, 114,
303, 404, 591, 739, 846
Шиллинге, Макс фон (Schillings Мах
von), президент Прусской акаде-
мии искусств 25, 571
Ширах, Бальдур фон (Schirach, Bal-
dur von), рейхеюгендфюрер 123,
187-188, 190, 249, 301, 372, 381,
446, 475
Широкауэр, Арно 475
Шлагетер, Альберт Aeo (Schlageter
Albert Leo), нацистский герой 273,
313-320, 325, 393, 502
Шлаф, Иоганнес 129
Шлёссер, Райнер 31
Шлосс, Сибилла (Schloß, Sybille) 440,
840, 844, 851, 862
Шмидбонн, Вильгельм 44
Шмидт-Паули, Эдгар фон 31
Шмидт-Ротлуф, Карл (Schmidt-Rott-
luff, Karl) 826
Шмитт, Карл (Schmitt, Carl) 486,
520
889
Шмитс, Вальтер (Schmitz, Walter) 145,
578, 592, 656, 667, 677, 682, 694,
707, 710, 713, 715, 739, 747, 792
Шмоллер, Густав фон (Schmoller,
Gustav von) 290
Шнабель, Эрнст 651, 664
Шнайдер, Райнхольд (Schneider,
Reinhold) 317-319, 440, 511, 520,
567, 575-593, 622, 646
Шнак, Фридрих 42
Шнелль, Ральф (Schnell, Ralf) 276-
277, 281-282, 563-564, 567-568,
644, 692
Шолль, Ганс и Софи 77, 576, 647
Шолтис, Аугуст (Scholtis, August)
661, 767-769,818, 866
Шольц, Вильгельм фон (Scholz, Wil-
helm von) 36, 88, 91, 93, 103-112,
348-349
Шонауэр, Франц (Schonauer, Franz)
64, 66-68, 275-276, 398, 433
Шопенгауэр, Артур, философ 494,
577
Шоу, Бернард 722, 738
Шпее, Фридрих фон, поэт и священ-
ник XVII века 580
Шпейдель, Ганс, начальник штаба
оккупационных войск во Фран-
ции 758
Шпенглер, Освальд 72-73, 843
Шпет, Карл 757
Шпрангер, Эдуард 428, 664
Шредер, Рудольф Александер 46,
163, 165, 189, 414, 421, 464
Штайн, Генрих 53, 138
Шталь, Герман 702
Штамлер, Георг 372
Штапель, Вильгельм (Stapel, Wilhelm)
80-81, 85,440, 512
Штегувайт, Хайнц (Steguweit, Heinz)
94-95
Штер, Герман (Stehr, Hermann)
27, 36, 44, 76-77, 79-80, 87, 90,
115-125, 145, 155, 428
Штерн, Гюнтер (см. Андерс Гюнтер)
727
Штернберг, Фриц 731
Штифтер, Адальберт 198, 630, 637,
763, 779, 791
Штомпс, Otto (Stomps, Otto), изда-
тель 658, 667, 746
Шторм, Теодор 58, 61
Шторц, Герхард (Storz, Gerhard) 613,
618-620
Штоффреген, Гётц Отто 30
Штрайхер, Юлиус, гауляйтер Фран-
конии 312, 763
Штрассер, Грегор 35, 284
Штраус-унд-Торней, Аулу (Strauß
und Torney Lulu von) 77, 221,
229-230, 232-237, 253
Штраус, Рихард, композитор 38
Штраус, Эмиль (Strauß Emil) 26-27,
36, 42, 79-80, 83, 85, 87, 104, 117,
125-136, 138-139, 145, 195, 198,
228, 339, 414, 421, 428, 436, 755
Штробель, Ганс, музыкант 811
Штэбе, Густав (Staebe, Gustav), руко-
водитель отдела печати в гитле-
рюгенд 351-352
Шульте-Штратхауз, Эрнст (Schul-
te-Strathaus Ernst) 264, 468
Шульце-Наумбург, Пауль 35
Шуман, Герхард (Schumann, Ger-
hard) 37, 42, 47, 182, 278-281,
372, 374, 382-396, 428, 591, 692,
698
Шуман, Роберт, композитор 296, 440
Шушнинг, Курт фон, канцлер Авст-
рии 711
Шэфер-Аст, Альберт, художник 743
Шэфер, Вильгельм (Schäfer, Wilhelm)
26-27, 36, 42, 44, 77, 79, 83-85,
87-90, 112-115, 131, 198, 228,
414, 428, 604, 622
Шэфер, Ганс Дитер (Schäfer, Hans
Dieter) 10-20, 416, 422, 639, 651-
652, 662, 676, 715, 747, 756-759,
761-762, 767-768, 773, 791, 797
Шэфер, Ода (Schaefer, Oda) 422, 602,
651, 655, 657-660, 662-663, 676,
697, 700, 702, 712, 721, 726, 734,
736-737, 743-744, 746, 757-758,
764, 766-768, 772-773, 777, 785
890
Шюддекопф, Юрген (Schüddekopf,
Jürgen) 163
Шютт, Бодо (Schutt, Bodo) 447, 739
Шютц, Генрих, композитор 94
Шютц, Эдуард 860
Э
Эбелинг, Ганс 550
Эверланн, Арнульф (Overland,
Arnulf) 475
Эверс, Ганс Хайнц (Ewers, Hans
Heinz) 30, 272-274
Эггебрехт, Аксель (Eggebrecht, Axel)
665, 731, 789, 805, 814, 865
Эггебрехт, Юрген (Eggebrecht, Jür-
gen) 262-664, 702, 722, 767
Эггерс, Карл 42
Эйзенштейн, Сергей Михайлович,
кинорежиссёр 864
Эйнштейн, Альберт, физик 35, 186
Эйхендорф, Йозеф фон 114
Эйхман, Адольф, немецкий офицер,
отвечающий за массовое уничто-
жение евреев 647
Эккарт, Дитрих (Eckart, Dietrich)
285, 343, 351, 372-374, 376
Эль Греко (Доменикос Теотокопу-
лос), художник 594, 603-611, 613
Эльхерот, Пьер (Elcheroth, Pier) 604
Эммерих, Вольфганг (Emmerich,
Wolfgang) 633
Энгель, Эрих, режиссёр 731, 810,
814, 863-864
Энгельс, Фридрих, философ 13-14,
97
Эндрес, Элизабет (Endres, Elisabeth)
11
Энценсбергер, Ганс Магнус 14
Эпп, Риттер фон 169, 334, 373
Эренбург, Илья Григорьевич 375,
656
Эрке-Ротермунд, Хайдрун (Ehrke-Ro-
termund, Heidrun) 452, 457, 462,
464, 466, 472, 515, 520, 522-523,
526, 529, 564-565, 570, 579, 581,
585-589, 601, 603-604, 609-610,
623, 629, 634-636, 638-639, 661
Эркерт, Фридрих фон, офицер кай-
зеровской армии в Африке 172
Эрлер, Ганс Хайнрих 427
Эрнст, Пауль (Ernst, Paul) 4, 6, 17,
26, 30, 33, 36, 55, 78, 83-84, 87,
94, 96-103, 105, 163, 207, 260,
264, 354, 359, 374, 385, 400, 417,
421-423, 427-428, 458, 461, 463,
467-468, 478, 483-487, 489, 494,
496-510, 512, 525, 530-531, 536,
539, 541-542, 546-548, 550, 553-
554, 595, 634, 637, 645, 654, 661,
670, 727, 731, 746, 758, 779-781,
791,797, 810, 814, 865
Эрпенбек, Фриц 731
Ю
Юнг, Эдгар Юлиус (Jung, Edgar
Julius), адвокат и идеолог консер-
вативной революции 511-512
Юнгер, Фридрих Георг (Jünger,
Friedrich Georg) 500
Юнгер, Эрнст (Jünger, Ernst) 4, 6,
30, 163, 192, 200, 220, 264, 392,
421, 483-510, 520, 530, 634, 740,
758, 762, 797, 801
Юргенсен, Юрген 166
Юрьева, Лидия Михайловна 6
Я
Яйке, Карл (Jeicke, Karl) 17
Якобе, Вольфганг (Jacobs, Wolfgang)
17-18
Яковенко, Борис Валентинович 53
Янн, Ганс Хенни (Jahnn, Hans Hen-
ny) 829-830
Яннингс, Эмиль (Jannings, Emil) 863
Янсен, Вернер 242
Ясперс, Карл, философ 778
А
Adam, Franz 407
Arnold, Heinz Ludwig 18, 486
В
Badenhausen, Rolf 322
Baur J. 404
891
Baur, Uwe 141
Bautz, Simone 385-386, 389-390,
394
Beck, Friedrich Alfred 202
Berger, Albert 4
Besch, Heribert 800
Bieber, Hugo 128-129
Bleuel, Hans Peter 257
Bormann, Alexander von 375
Born, Nicolas 17, 762
Bracher, Karl Dietrich 51, 294, 549
Brandt, Sabine 728
Breckle, Wolfgang 638
Brenner, Hildegard 34, 48-49, 504,
611, 827, 858
Bürger, Paul 365, 368
С
Cadars, Pierre 337, 529
Cazzola, Margit Knapp 867
Courtade, Francis 195, 337, 529
Cramer, Ernst Friedrich 169
Cygan, Dorota 760-761, 763
D
Dahm, Volker 16, 38, 210
Darge, Elisabeth 115-116, 122
Delabar, Walter 463, 760
Demant, Ebbo 612
Denkler, Horst 3, 5, 16, 33, 168, 195,
375, 400, 432, 439, 445-446, 463,
652, 760
Deppert, Hans 197
Dick, Antonin 737
Dierking, Jürgen 785, 797-798
Dingleiter, Senta 169
Doering-Manteuffel H.-R. 349
Dür, Esther 257, 264, 266-267
E
Ebermayer, Ernst 761
Eloesser, Arthur 58, 101, 198, 203,
230
Erckmann, Rudolf 146, 279, 392,
472
Erlach, Dieter 806
Erschens, Hans 597
Estermann, Alfred 807, 810, 840
F
Faber, Richard 162-163
Fabre-Luce, Robert 88, 91
Fleckenstein, Adolf 609
Forst, Willy 619
Franke, Manfred 87, 161, 177, 181-
183, 482
Fricke, Gerhard 591
Fröhlich, Elke 270, 383
Frühwald, Wolfgang 459, 580
G
Gebhard, Anneliese 159
Goldschmidt, Georges-Arthur 485
Görtz, Franz Josef 715
Graeb-Könneker, Sebastian 37, 201,
271, 397, 418
Graf, Johannes 635, 782, 790, 793
Grosser, Alfred 13
Grosser, Johannes Franz Gottlieb
403,408, 412
Gründgens-Gorski, Paula 322
H
Haas, Olaf 79, 121, 659-660
Hackelsberger, Nino Luise 210, 636
Haegert, Wilhelm 379
Haidar, Ute 347, 350, 361
Hall, Murray G. 407
Hamm, Peter 578, 585, 590
Häntzschel, Günter 807-809
Häntzschel, Hiltrud 807-809
Hapkemayer, Andreas 381
Haß, Ulrike 78, 84-85
Heidekamp K. 578
Heine, Gert 68, 83
Hellerbach, A. 576
Hellwig, Joachim 514
Hermand, Jost 19, 498
Herz, Dieter 198, 222, 487, 491, 499,
669
Heuschele, Otto 588-589
Hey, B. 567
Heym, Georg 444, 748
Hielscher, Martin 869
Hirschauer, Uwe 289, 292-295
Hochhut, Marianne 237
Hoerle, W. Scott 4, 38
892
Hoffmann, Annette 666, 669, 694,
697-698, 778-780, 790
Hofmannsthal, Hugo von 776
Holst, Christine 162-163
Holzner, Johann 407
Hugelmann, Hans 98, 103, 469
J
James, Dorothy 533-534
Jasper, Martin 268
Jens, Inge 24, 26, 28-29, 85, 131-
132, 159, 184, 188, 221, 259, 280,
402, 571
Joachim-Dege M. 258
Jungrichter, Carl 384
К
Kaempfer, Adolf 169
Kaiser, Helmut 489, 581, 635-636
Kalka, Joachim 789
Kampan-Carossa, Eva 203
Karst, Karl 719-720
Kersting, Curt 522
Kicherer, Wilhelm 522
Kiedaisch, Peter 656, 671
Kipp E. 554, 560
Klee, Ernst 201, 228
Knes, Ulrike 407-408
Koch, Franz 591
Koch, Gerd 162-163, 177
Koebner, Thomas 19
Kohflnk, Mark-Wilhelm 96, 102
Kolbe, Hannelore 674, 743-744, 746,
749, 757, 759,762, 765, 771-772
Kriener A. 45
Kroll, Frank-Lothar 210, 399, 420,
469, 574, 580, 591, 601, 636,
647
Kubitschek, Götz 750
Kühn, Volker 485
Kunisch, Hermann 580, 621
L
Lämmert, Eberhard 16, 33
Langsdorff, Werner von 169
Lattmann, Dieter 180, 402
Lionel, Richard 317, 320
Lobe, Stefan 76, 116-118, 120, 122-
125
Lugowski, Klemens (Clemens) 591
Lüth, Paul Egon Heinrich 634
M
Machate, Max 458
Manthey, Jürgen 17, 762
Meyer, Conrad 612
Meyer, Hans Georg 690
Meyer, Richard Moritz 129, 203, 450
Moser, Dietz-Rüdiger 708
Mosse, George Lachmann 33
Müller-Hanpft, Susanne 708
Müller-Waldeck, Gunnar 45
Müller, Karl 45, 407, 437, 523, 591,
708
N
Neunzig, Hans Adolf 721
Nevin, Thomas 499
Nickel, Günther 252, 321, 535, 549,
663
Niedermayer, Max 17
Nijssen, Hub 707, 734, 739, 747
Nolte J. 381
О
Oley, Hans 514
Paalhort L. 111
Paucker, Henri Roger 91
Paulsen, Wolfgang 19
Pech H. 579
Peschken, Bernd 195
Peters K. 144-146, 149, 151
Plenzat, Karl 239
Pleßke, Hans-Martin 550, 552-553,
561
Pörzgen N. 355
R
Roh, Franz 815
Roselius, Ludwig 53-54
Rost, Dietmar 369
Röttger, Klara 190
Rühle, Günther 315
Rüther, Günther 707
893
s
Sarkowicz, Hans 210, 221
Sauer, Wolfgang 51, 294
Savigny, Hans von 404
SchefflerH. 133, 539
Scheller W. 623
SchergK. 791
Senior, Joachim 226
Schlüter, Marguerite 17
Schmitz-Berning, Cornelia 145
Schober, Peter 656
Scholdt, Günter 574
Schommer, Paul 83
Schöne, Albrecht 305, 386
Schostack, Renate 128, 130
Schott, Georg 70-71
Schramm, Sonja 367, 369
Schrön, Johanna 252, 321, 535, 549,
663
Schücking, Beate E. 226
Schücking, Levin Ludwig 226
Schultze J. 217
Schulz, Gerhard 51, 294
Schütz, Erhard 463, 760, 858, 860
Schwob, Dieter 576
Schworm, Karl 153, 334, 343, 380
Sciacca, Maria Teresa 463
Seiler, Lutz 727
Siebert W. 476-477
Siemens, Christian 666
Sloterdijk, Peter. 406
Soergel, Albert 425
Sontheimer, Karl 15, 72
Spießer, Fritz 169
Sprengel, Paul 772
Stammermann, Hendrik 367, 369
Stammler, Wolfgang 450
Stenner, Traude 190
Stöwe G. 288
Strothmann, Dietrich 37, 48, 358,
449, 539
Sudendorf, Werner 825
T
Tank, Kurt Lothar 18
Taschka, Sylvia 210
Treichel, Hans-Ulrich 804-806, 859
U
Ueding, G. ert 725
Uhde, Werner 588
V
Velmede, August.Friedrich. 179, 236
Vesper, Will 271, 581
Volke, Werner 311, 426, 438, 440-442
Vondung, Klaus 4, 33, 88, 184
Voss, Rüdiger von 399, 420, 469, 574,
580, 591, 601
W
Wagner, Hans-Ulrich 677, 679-681
Walter J.F. 398,403-404,739,743,800
Walther, Peter 727, 739
Wecker, Joachim 833
Weil, Marianne 154, 158
Wellmann, Martin 28, 161, 164
Westenfelder, Frank 152
Westhoff, Adelheid 427
Weyergraf, Bernhard 406
Wickert, Erwin 265-266
Wiebel, Robert 429
Z
Zimmermann, Peter
Zmegac, Viktor 141
Оглавление
Периодизация истории литературы Третьего рейха 10
Приход к власти нацистов и судьбы немецкой литературы 23
Истоки литературы третьего Рейха 50
Литература Третьего рейха 74
Национал-социалистская литература 269
Национал-социалистская поэзия 370
Литература «внутренней эмиграции» 397
Противостояние духа и власти 481
Афашистская литература 651
Указатель имён 873
895
Монография
Зачевский Евгений Александрович
ИСТОРИЯ НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
времён Третьего рейха (1933-1945)
Редактор Михаил Луньковский
Художник Дмитрий Дервенёв
Дизайнер обложки и вклейки Екатерина Рогова
Корректор Игорь Василенко
Издательство «Крига».
195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова 11.
Тел. 7(812)449 6879.
www.kriga-spb.ru
E-mail: kriga.book@gmail.com
Подписано в печать 20.09.2014. Формат 70 * 100 '/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Bookman Old Style.
Усл. печ. л. 73,53. Тираж 500 экз.
Отпечатано в типографии PNB Print
www.pnbprint.eu
ISBN 978-5-901805-50-3
>
©a*
3mtere3Wd)
3cftfcHi fût ÎMtbtung, «unfl unD DeutfcH fcben
£«auegcb« : Paul ЭДрсг&сe
©tomber 1941. Slue bcm Snbalt:
tSBoIf oon fticbelfdws, ©utte pr ßmugeburf
#ans Naumann, £Me 23ctt>âbrungcn Des £>(фгего
(Ясое beim £>еи!(фсп 2^гфtertrfffen ta Штах 1941)
Martin З^аГфГс, 3m бфайеп Der front
Лоафип Don Der ©ol&, fünf ®еШф1с
frig €nDeü, flûgeltoefcn <деа аф! шаьипасп)
®еЫф!е роп Malier бафо ипо £ermann 2t. ЭДе be с
Uluttu
»erlag albert fangen /©eorg 9ШШег Шпфеп
Dalagepoftanftalt leipjig
1. Титульный лист журнала Das Innere Reich
за декабрь 1941 г.
2. Артур Динтер, 1934 J
Gerrits Srbr. pCn iîuiiu^baufcu ». 'ЛГшпЫигиСсп {un
3. Бёррис фон Мюнхгаузен,
не позднее 1942
<Я^^-э «-%~. .
Щтз iHicgel
3t>0 УчиЬг. ï\onig?tcrg Pr.
4. Агнес Мигель,1941
5. Вернер Бергенгрюн
6. Вильгельм Шэфер, не позднее 1942
J?tto Hurt Vogelfang, fctrlin
7. Ганс Гримм, не позднее 1942
«HlktuJm^
iVilbcIm Don вфоЬ
Zcttc Kdentv, Rottftanj
/Vlß.V'/flfrz.
v>emn;tm flirte
§. »aumgartitcr, !7ïu30t ob Otbm
8. Вильгельм фон Шольц,
не позднее 1942
9. Герман Бурте, не позднее 1942
10. Вольфганг Кёппен, 1934
Ганс Каросса, не позднее 1942
$0M .SucMıd> IMıııut PMe Ublu* («ОД
13. Ганс Фридрих Блунк, 1936
12. Ганс Йост , около 1936-1938
14. Гюнтер Айх
фегшаяя -^tebr
hcrbcıt beim.ntıı, vPörliı
tlfit v5encbmigun<T Î4** paul -Cilt DcrlOfCt, İcıpjı.
yj-cb**^*
<&
^t^t^t^y
15. Герман Штер, не позднее 1942
16. Готтфрид Бенн, середина 1920-х
Ina Seidely 1944у Photo D LA
17. Ина Зайдель, 1944
Paul Zi\1 Verlag, £eip3ig
tttartin Kafdrtc
18. Мартин Рашке, не позднее 1942
dktbatb Schumann
ßcxjftr^n
öteıner, wutta^rt
19. Герхард Шуман,1936
20. Пауль Эрнст, не позднее 1942
:"îorb<rl i!.
S/t&Ol^'
t von Staml unb ïEerncv
Centrai« T «reffen, Sertin
21. Пулу фон Штраус-унд-Торней,
не позднее 1942
(0ttft<u> Şttttffen
!С. îîîüUcr-ч^Г'
\l-ı /^ \^лл^
^^
22. Густав Френссен,
не позднее 1942
T.
23. Петер Хухель, 1931
24. Рейнхольд Шнайдер
■ч.
-'
25. Фридрих Персифаль Рек-Маллецевен
26. Хорст Ланге
27. Рудольф Георг Биндинг,
не позднее 1942
28. РикордоХух, 1914
A^cL„
>>
29. Эрвин Гвидо Кольбенхейер,
не позднее 1942
30. Фридо Лампе, 1940
У/Ш"
г. Р£>,
£*~*fi.
РпгдСдиНь-.Ьтс
31. Эмиль Штраус,
не позднее 1942
32. Стефан Андрее
33. Эрнст Юнгер, 1930-е
р
34. Эрнст Вихерт, 1948